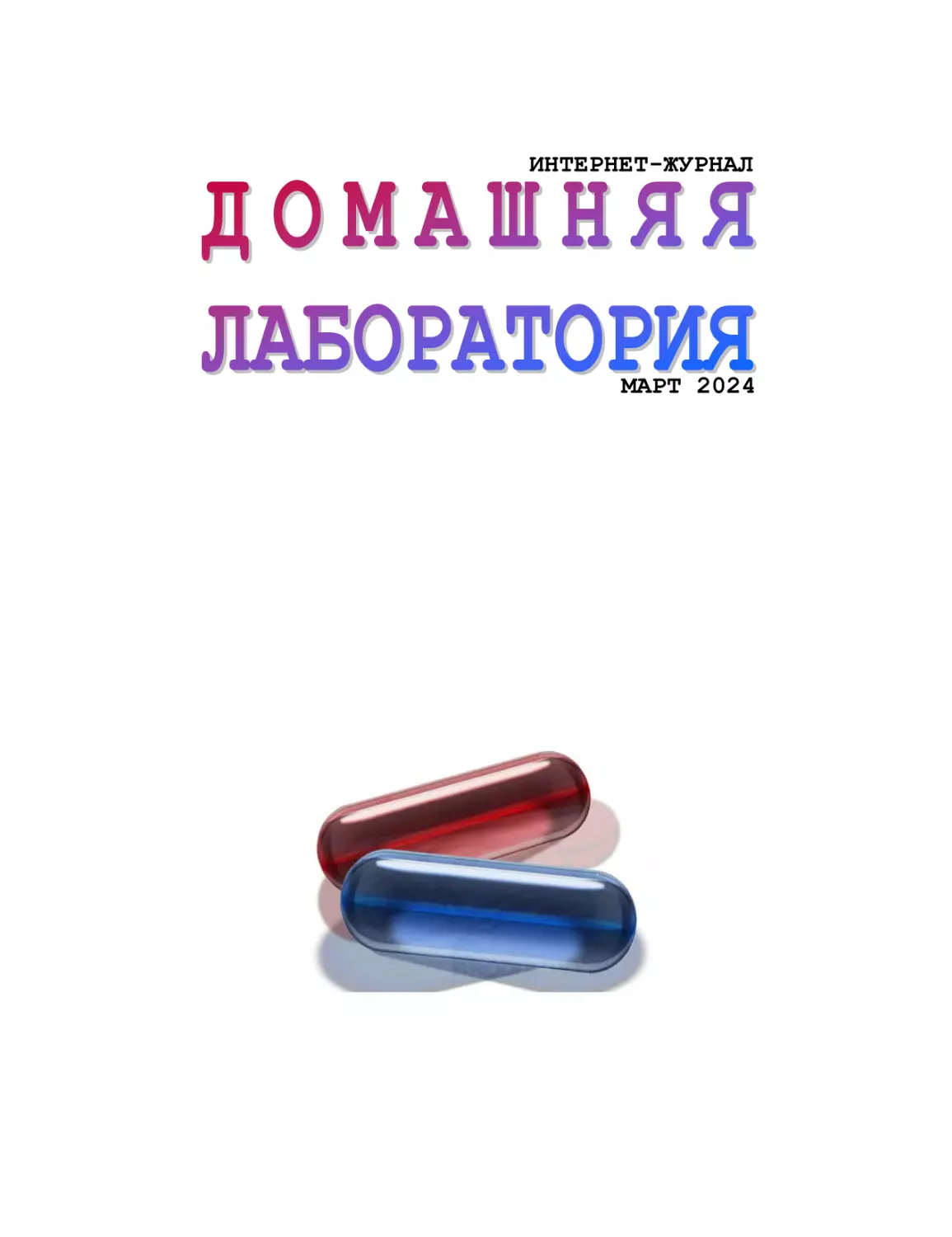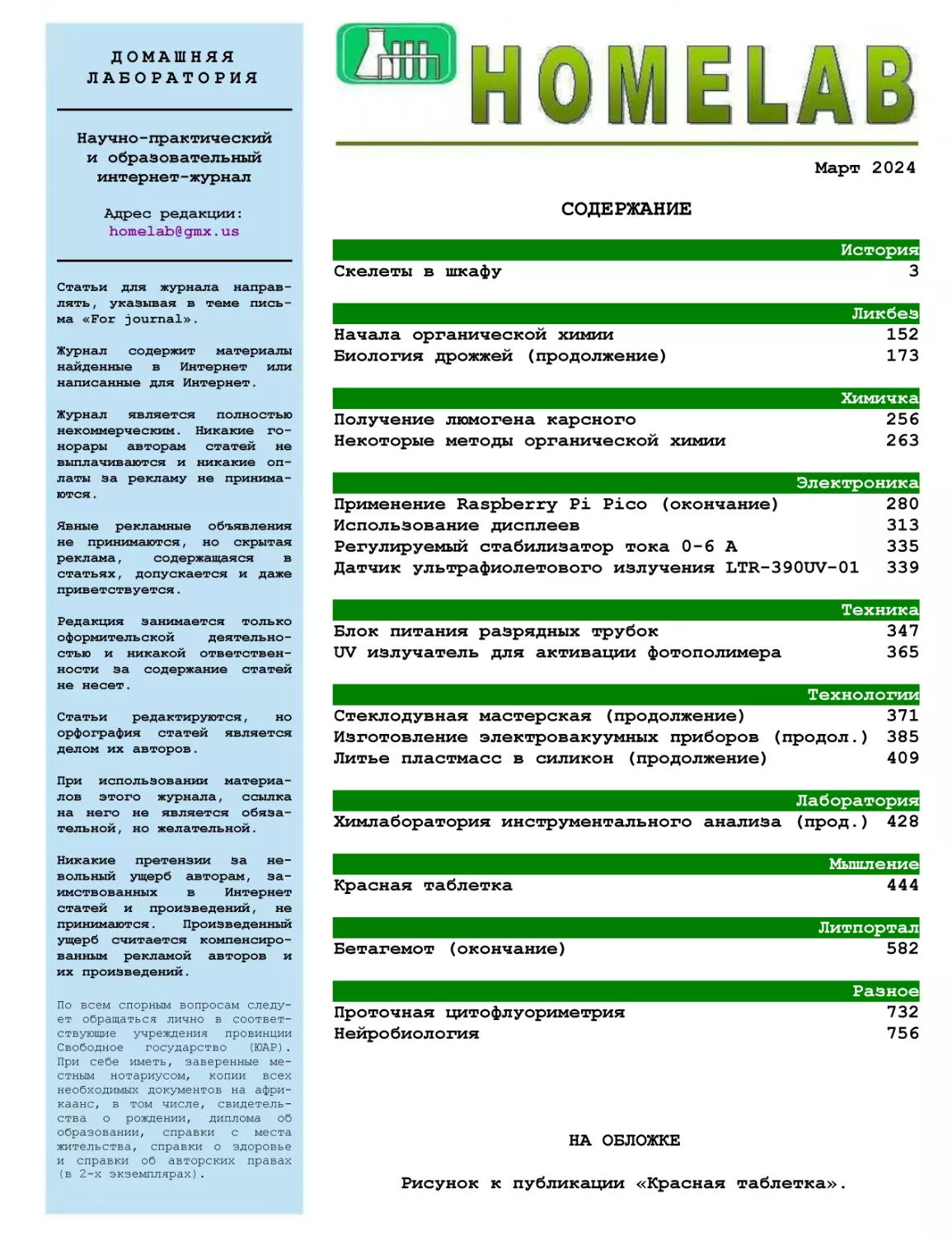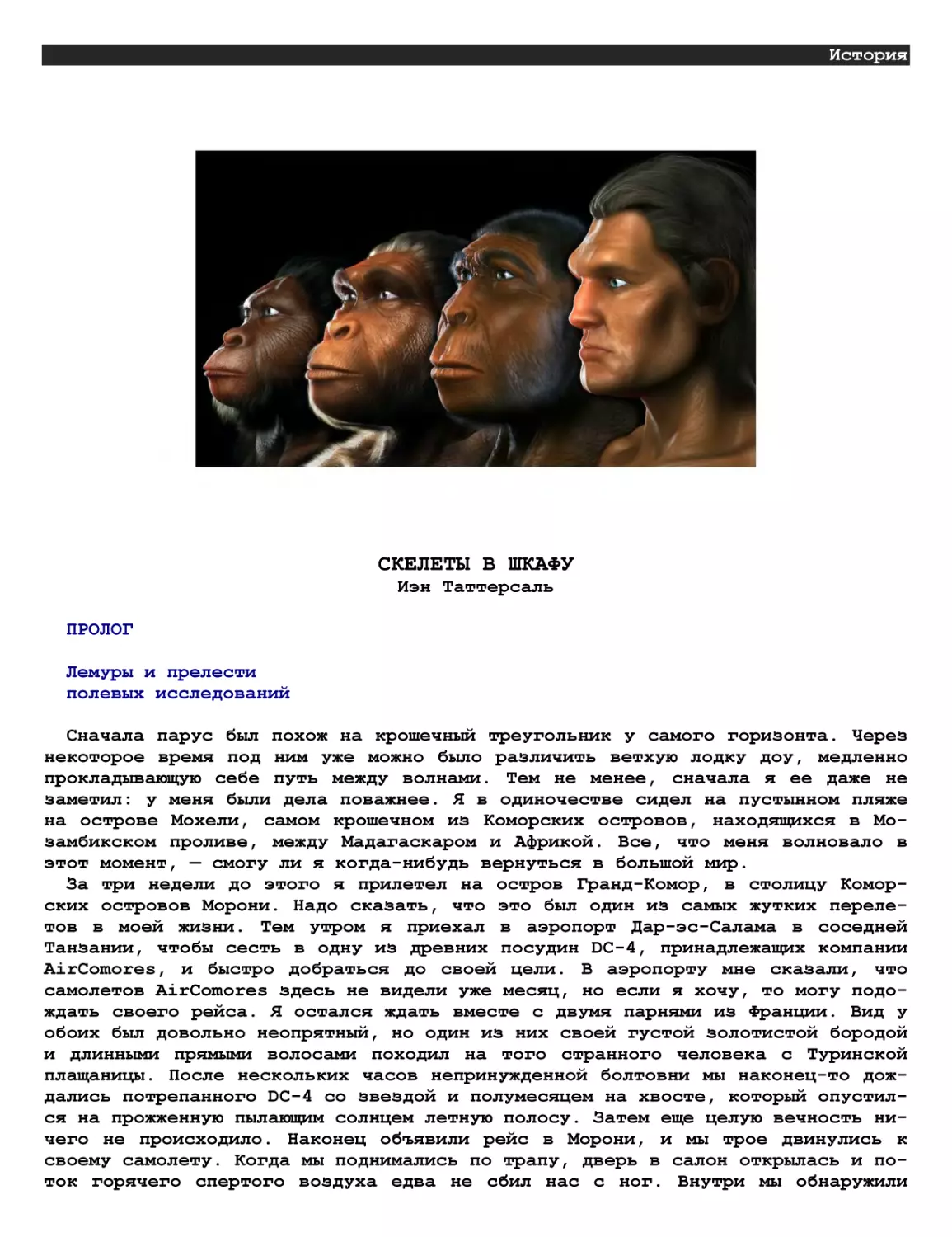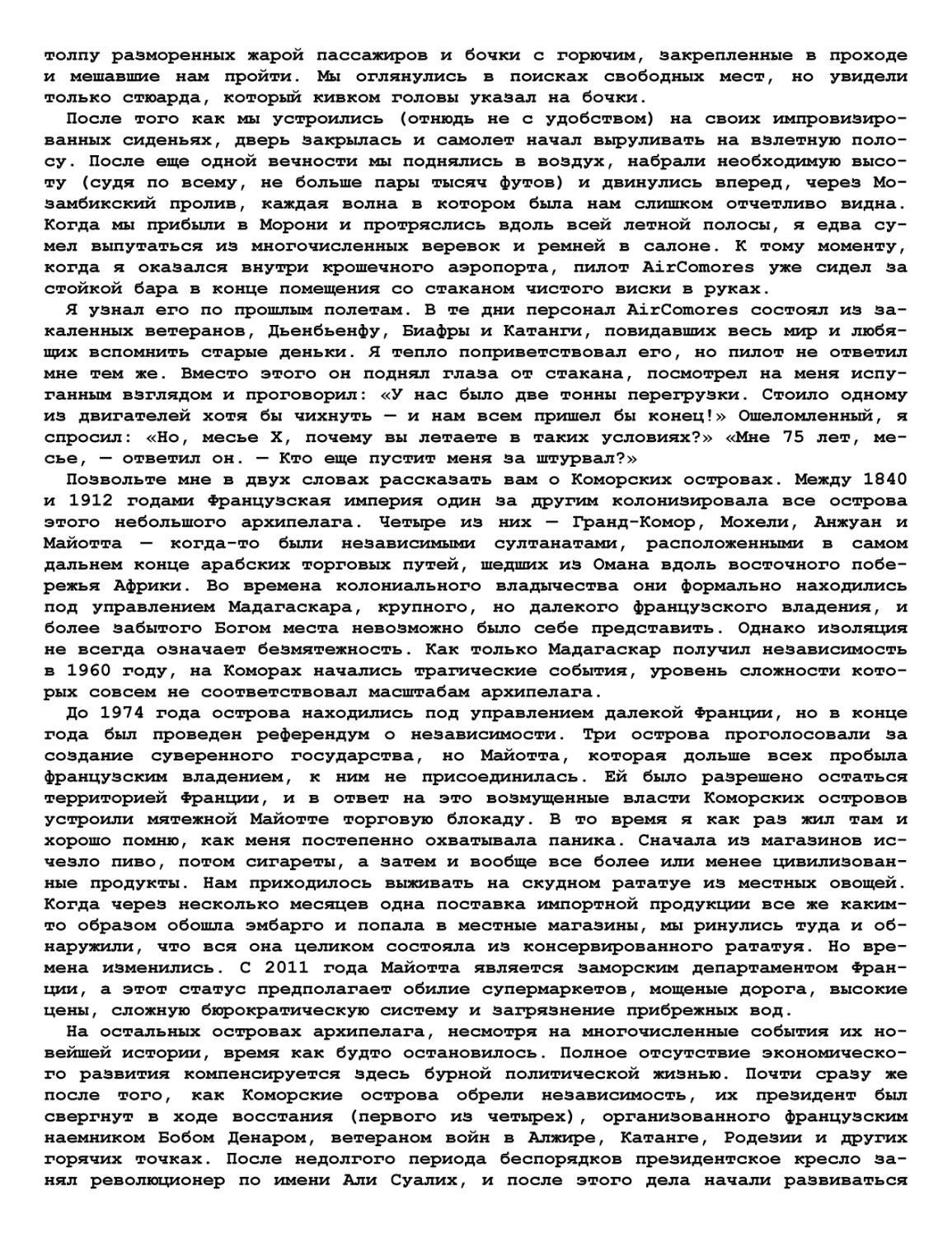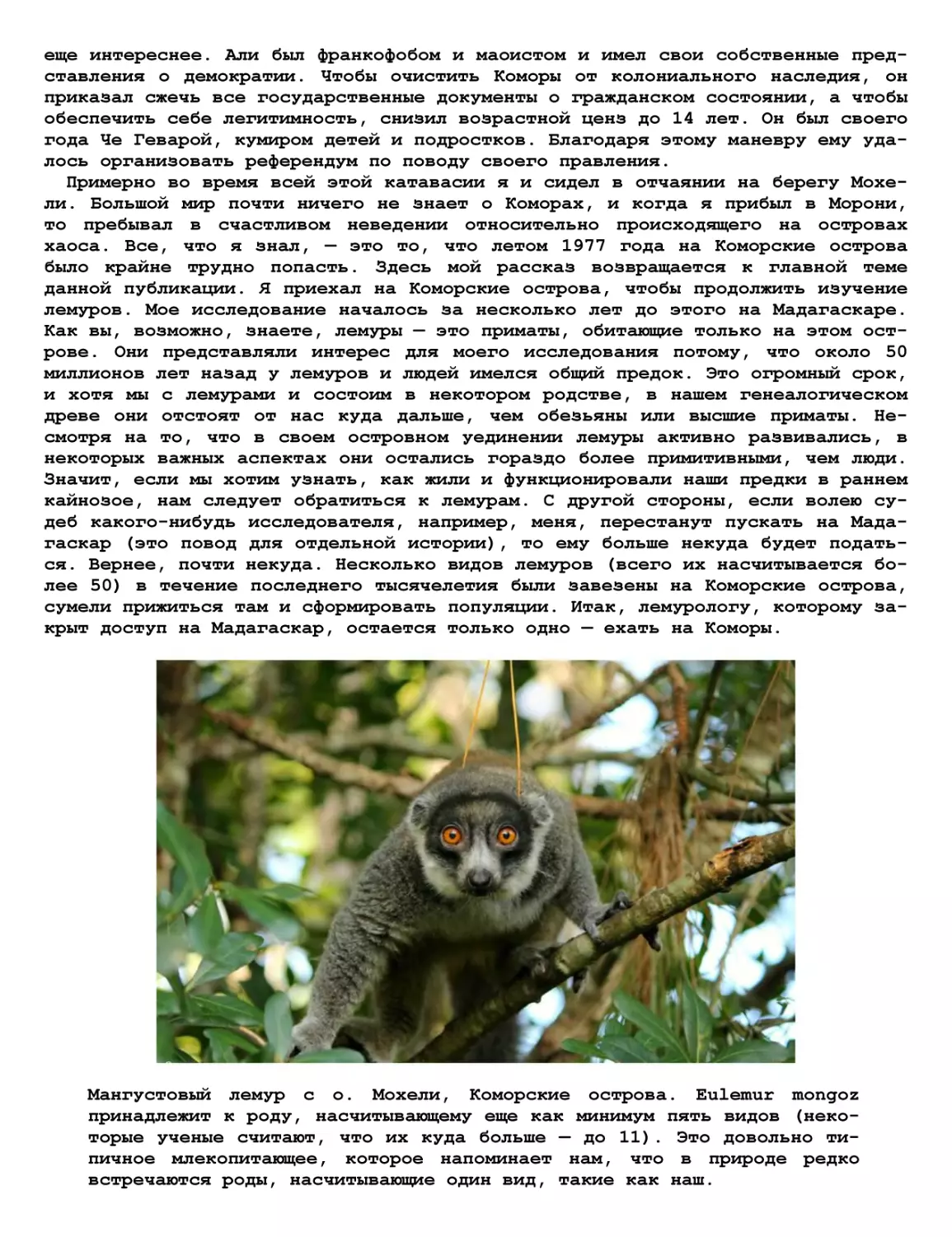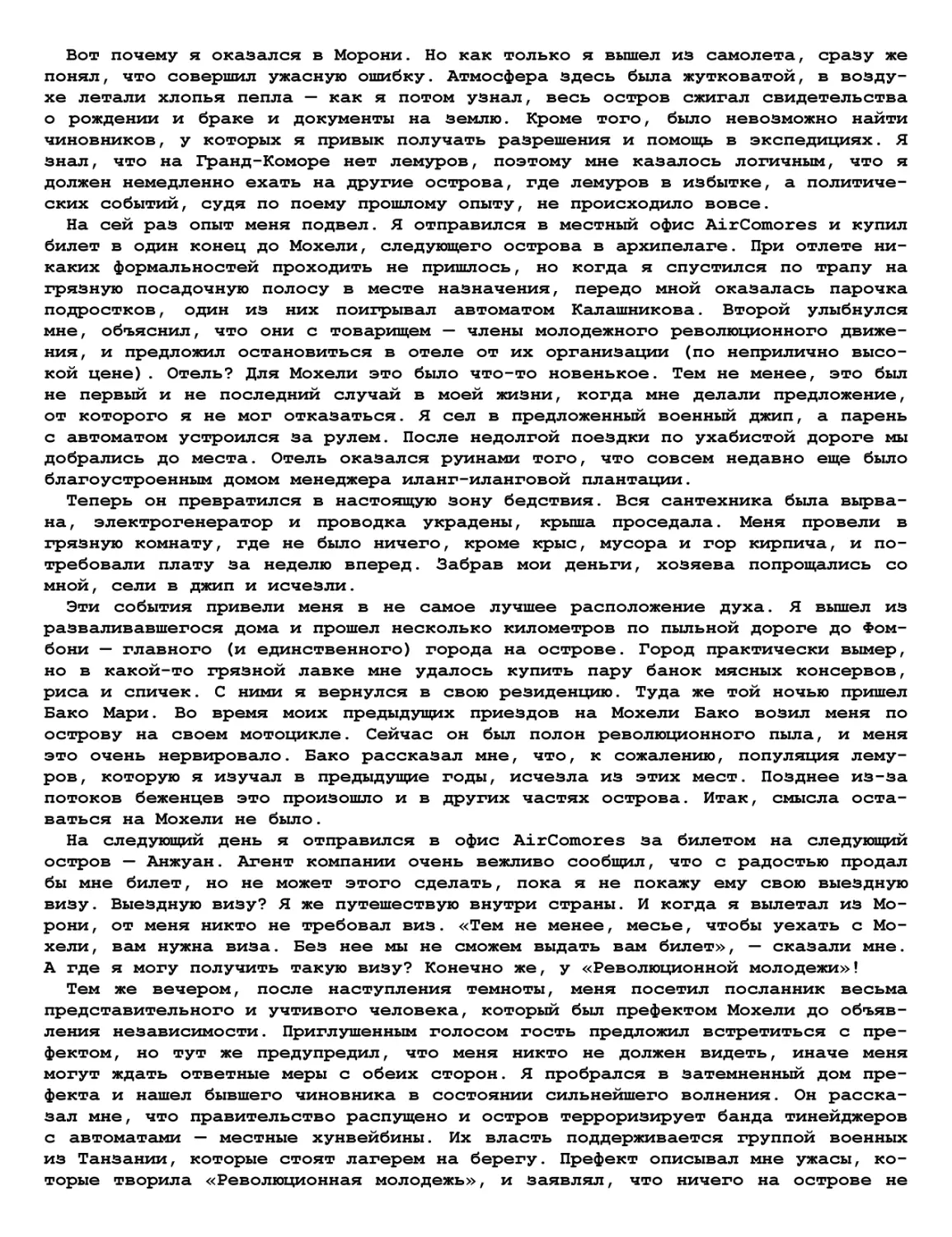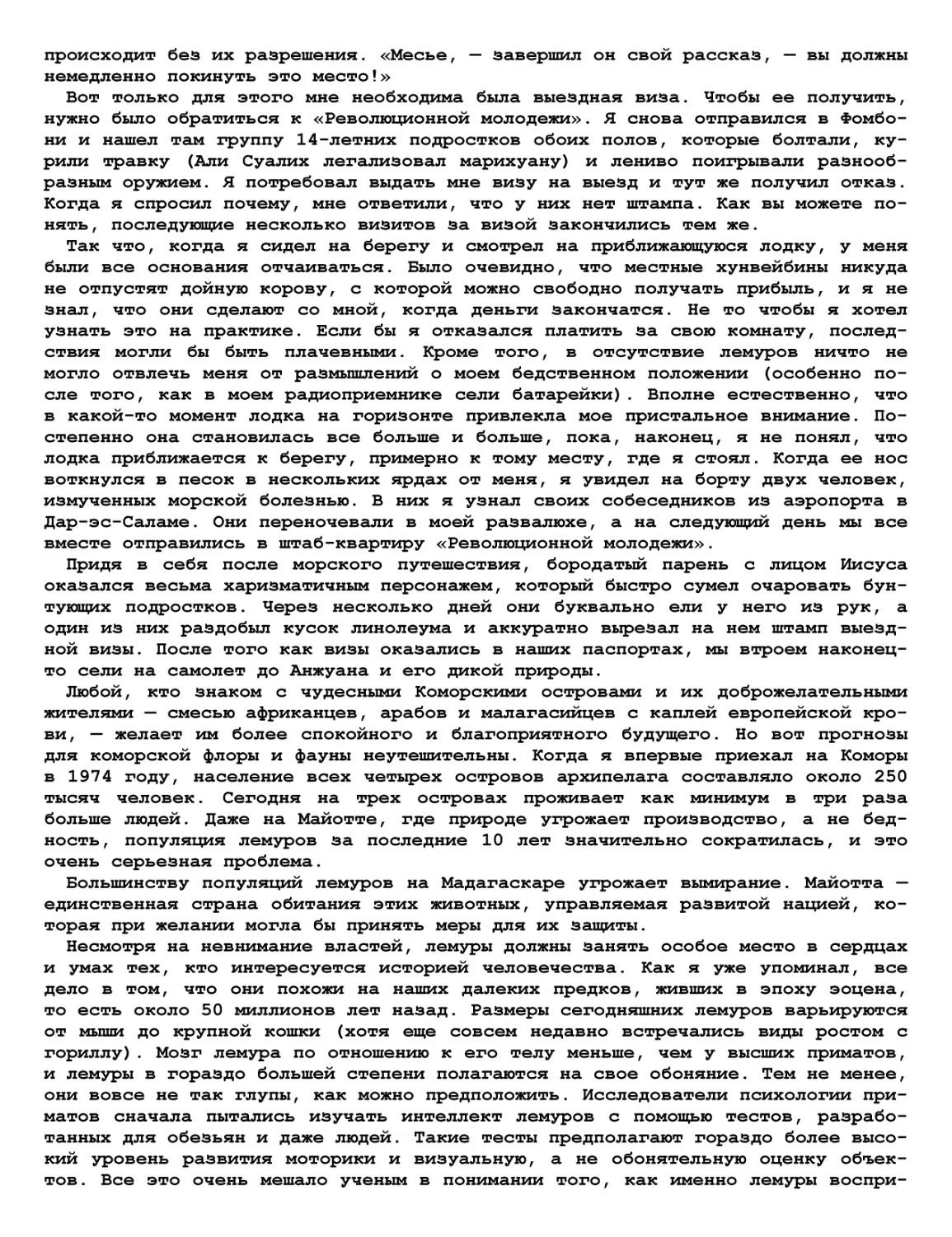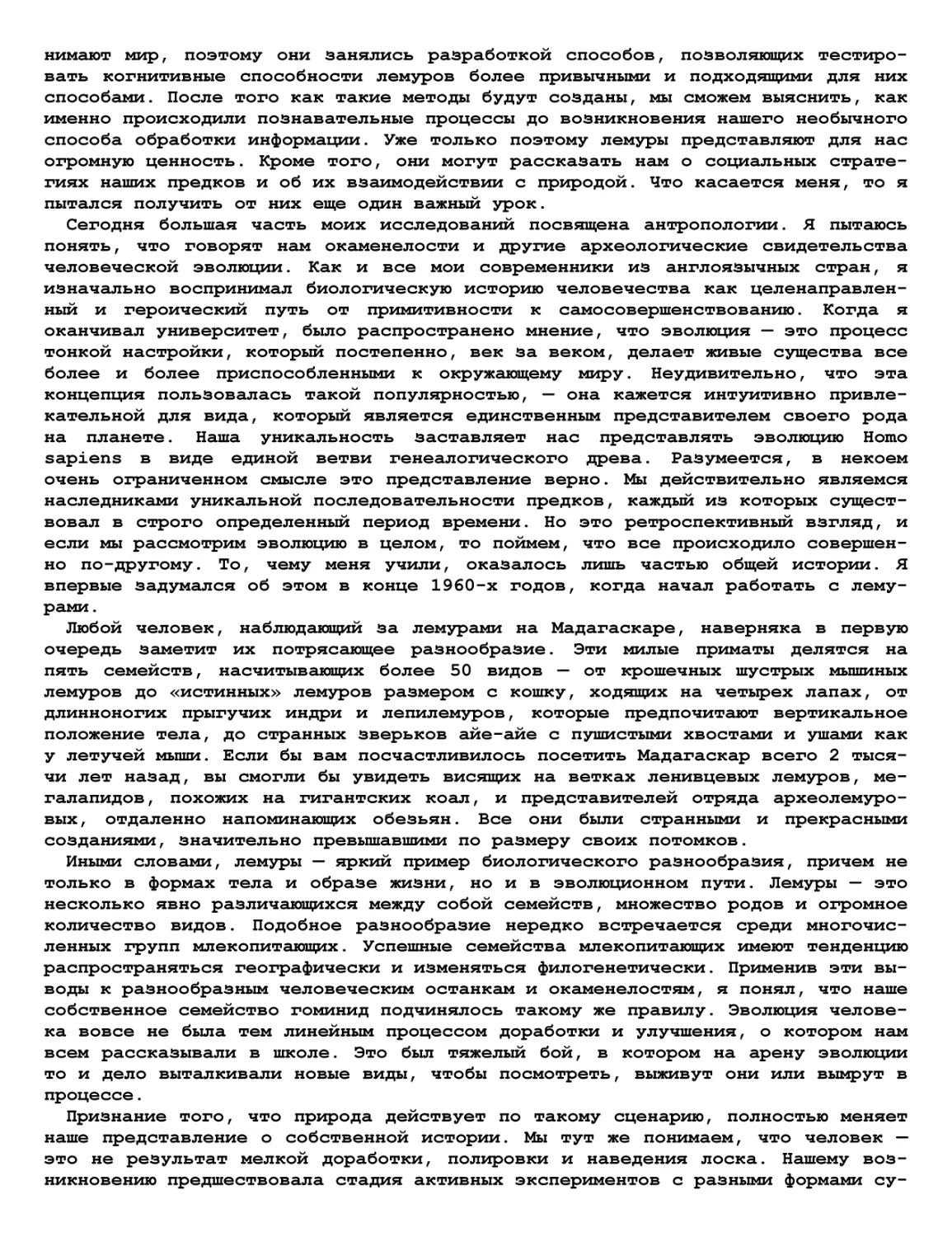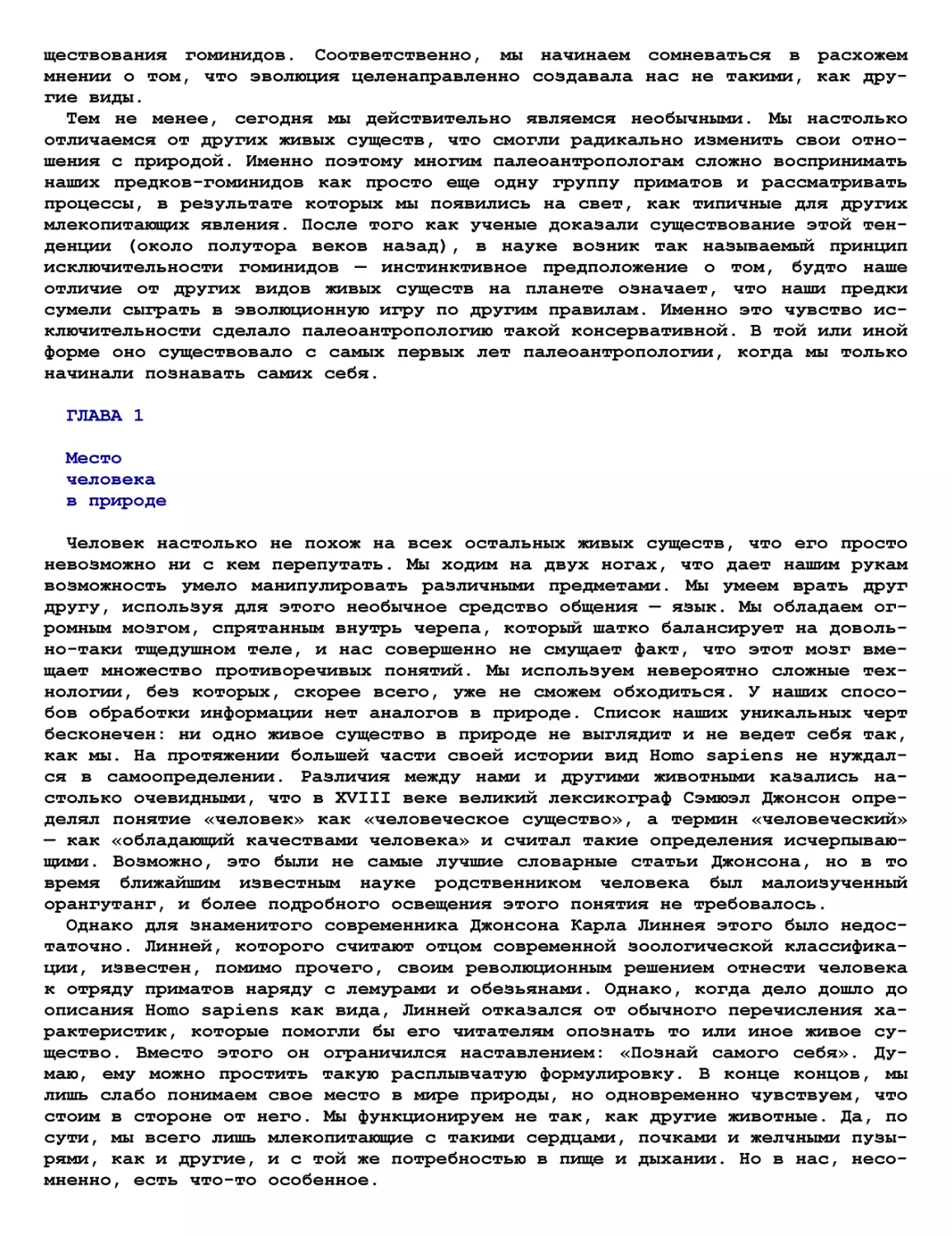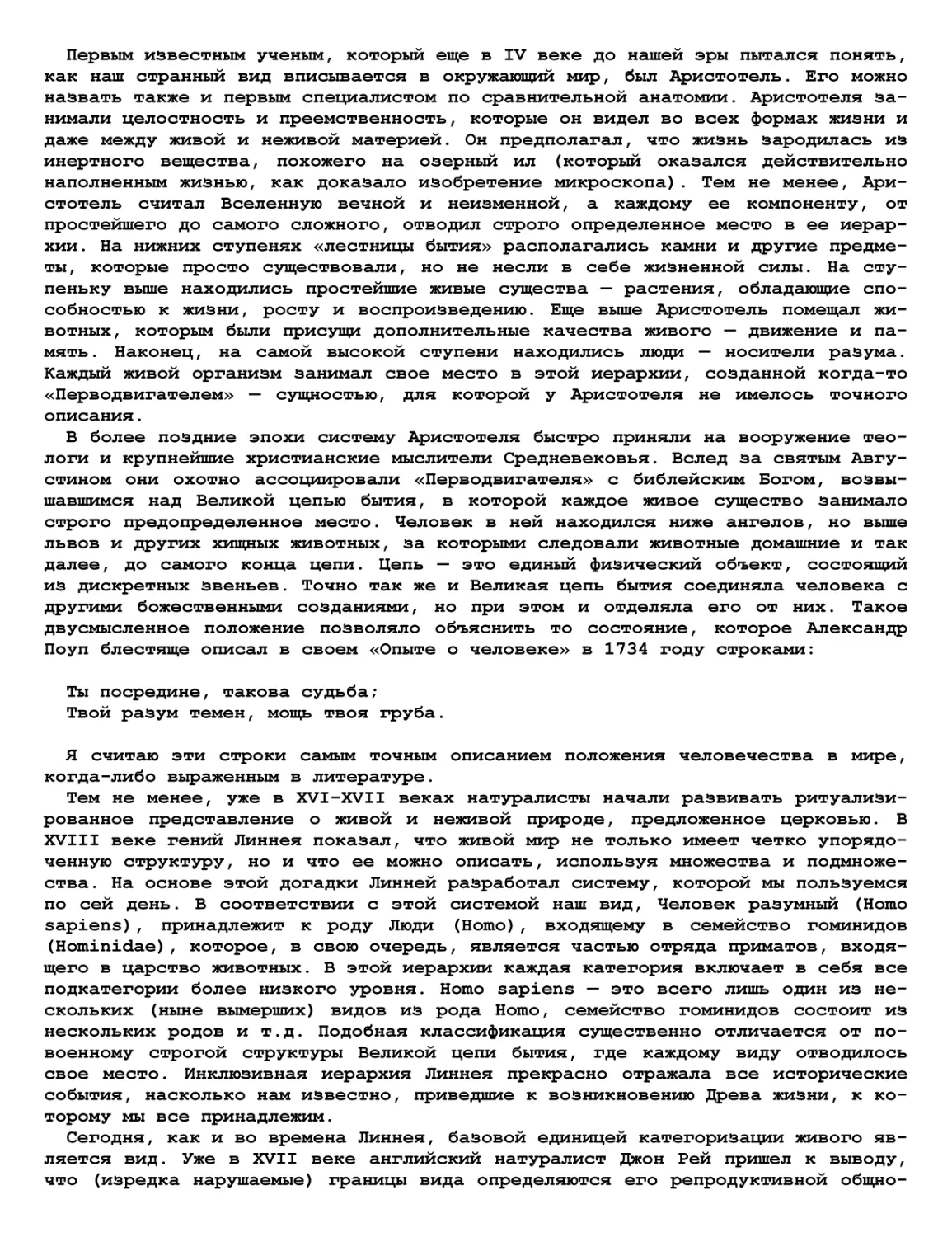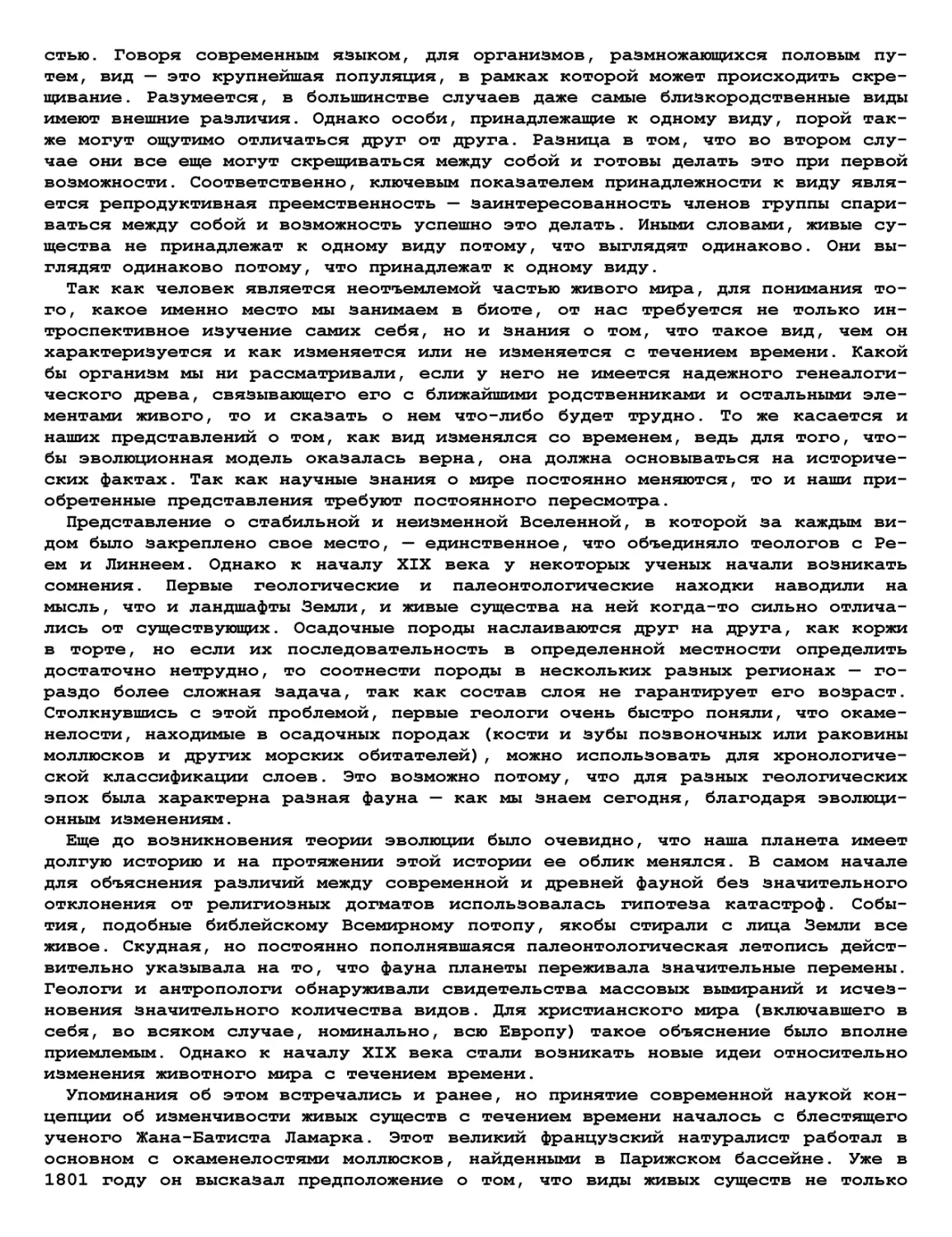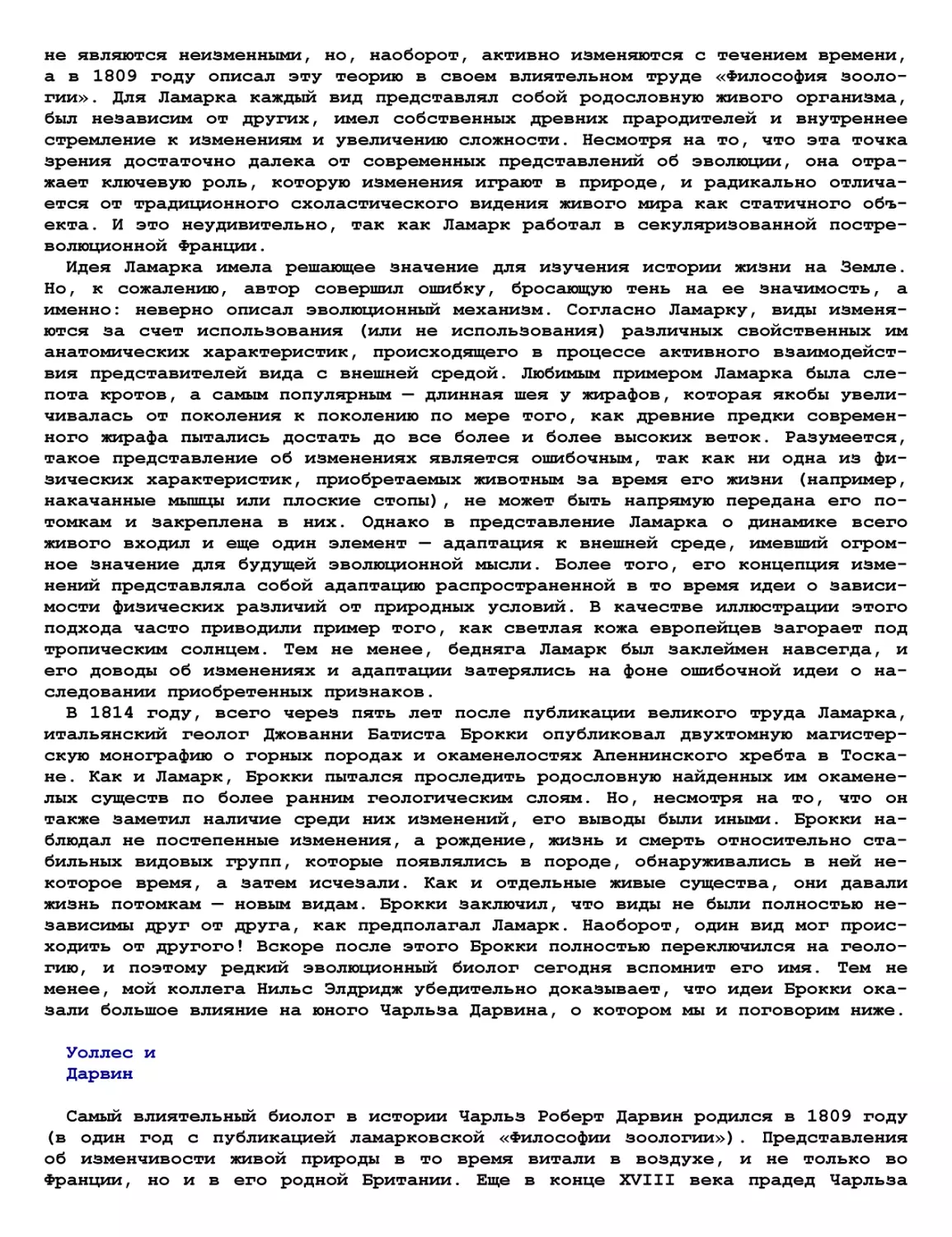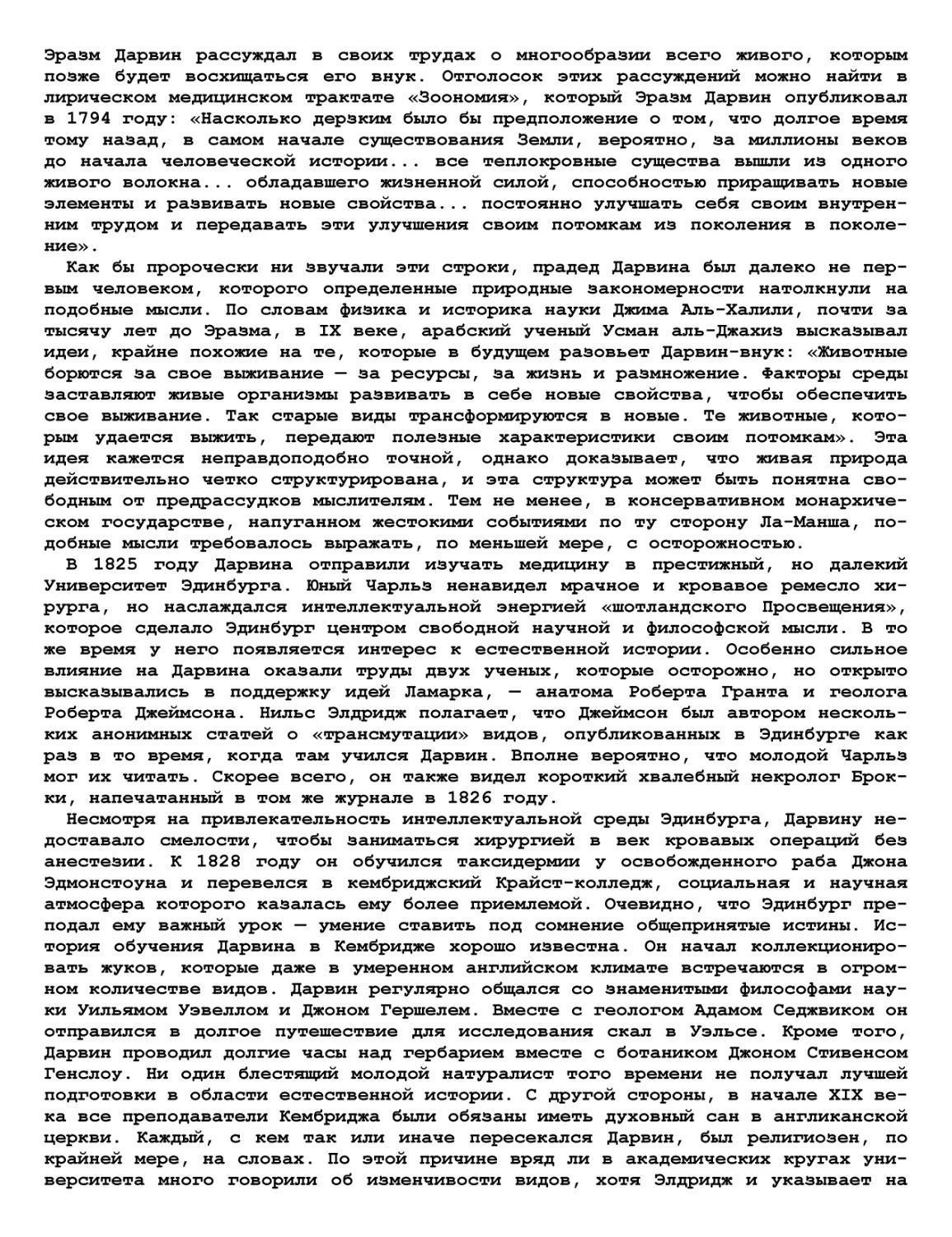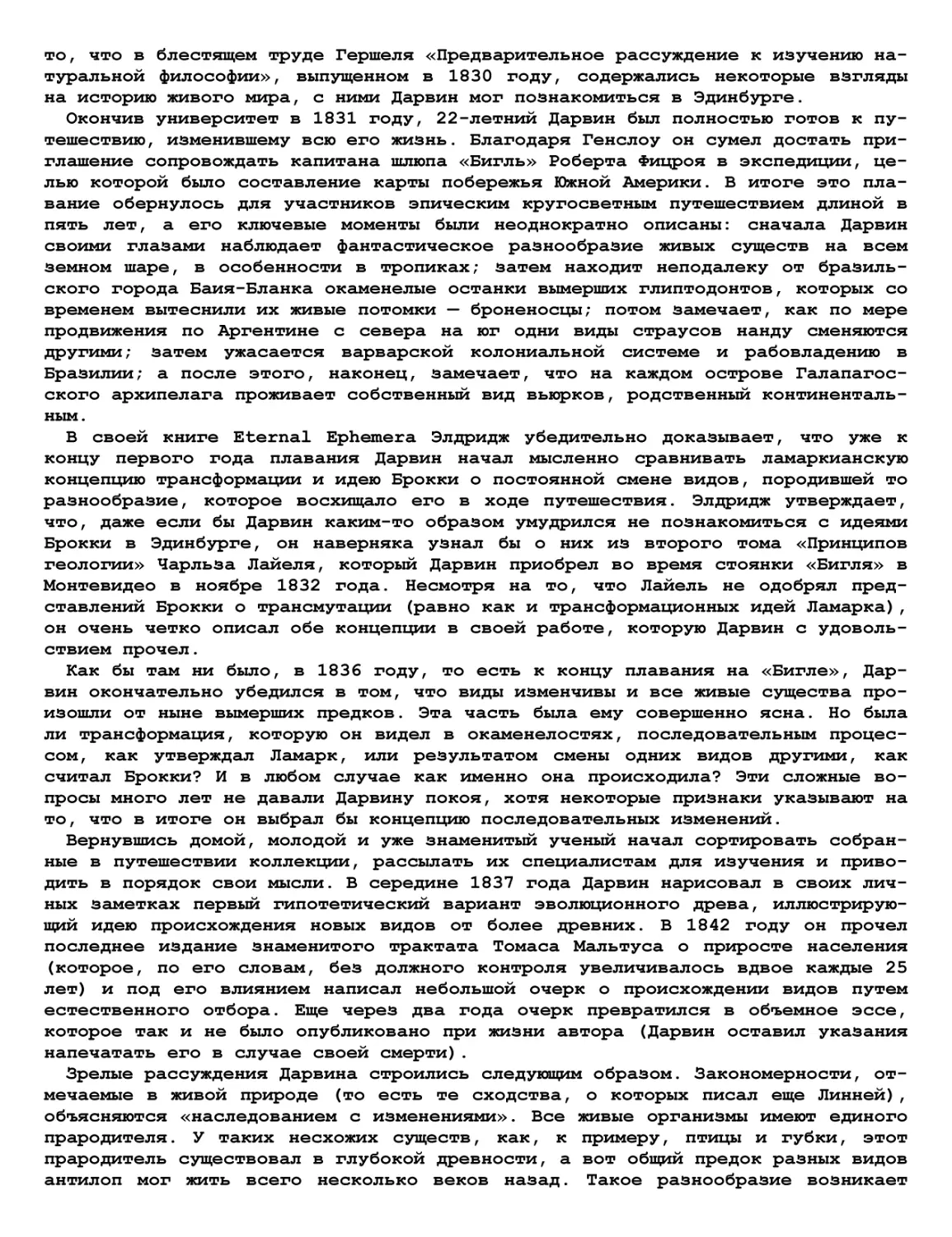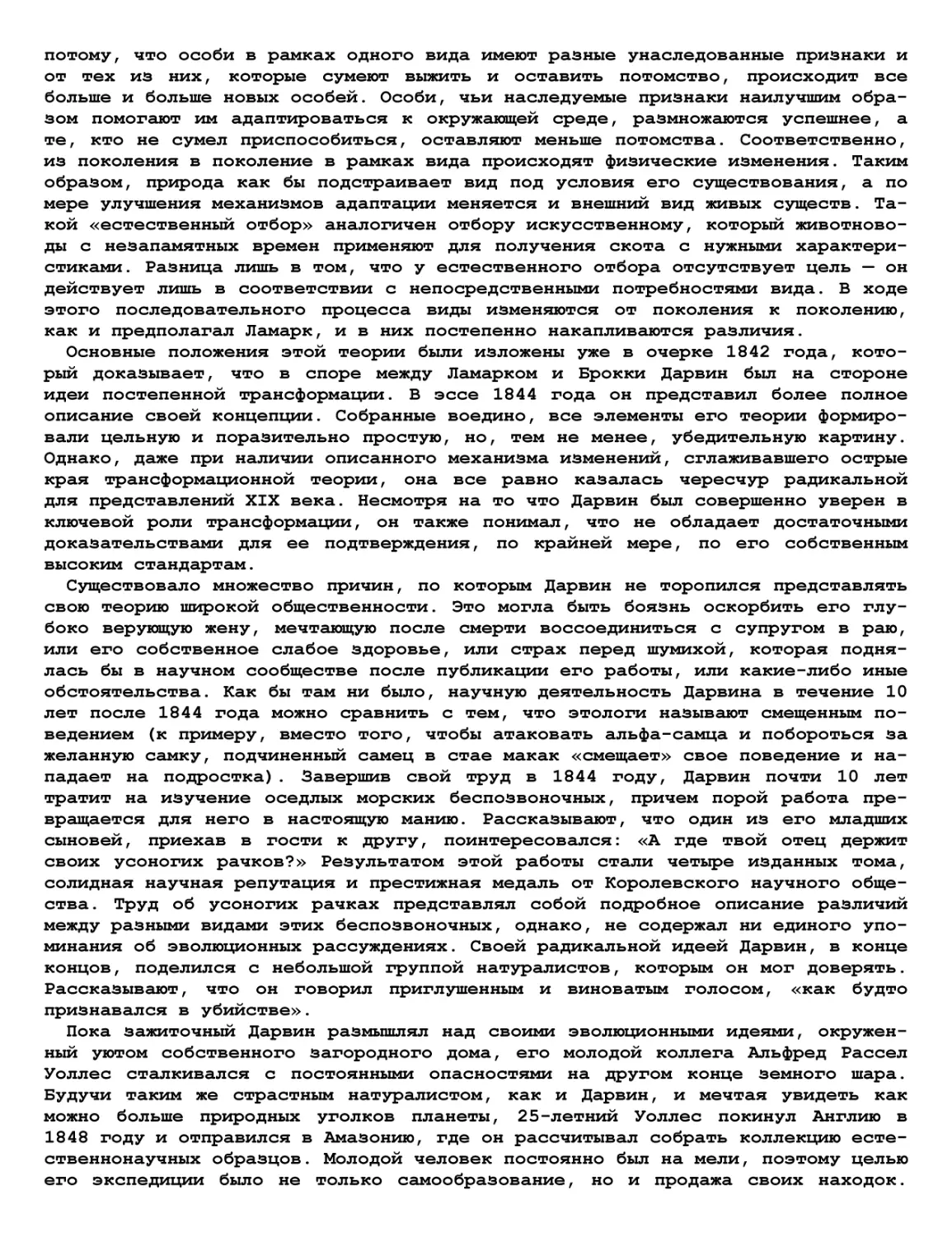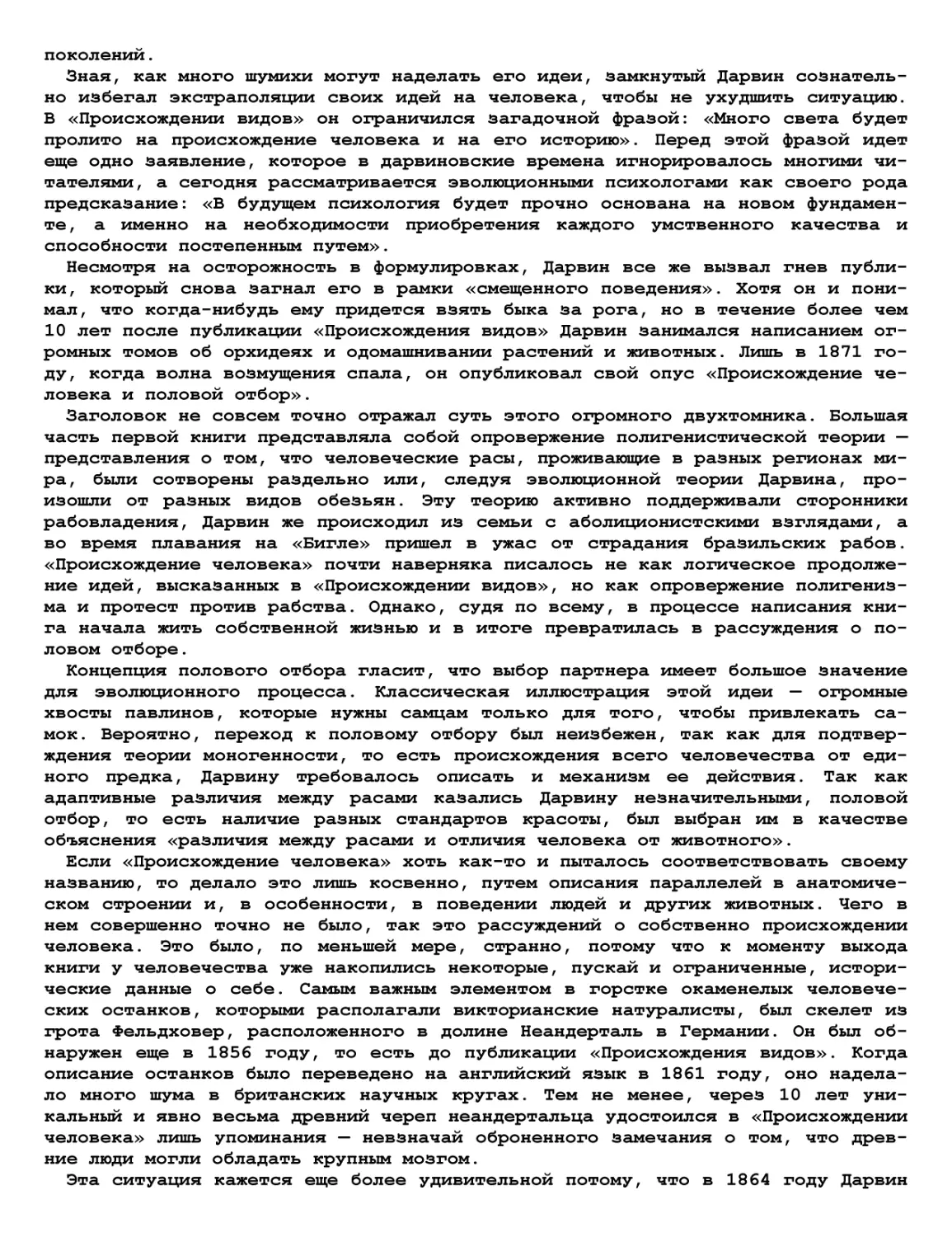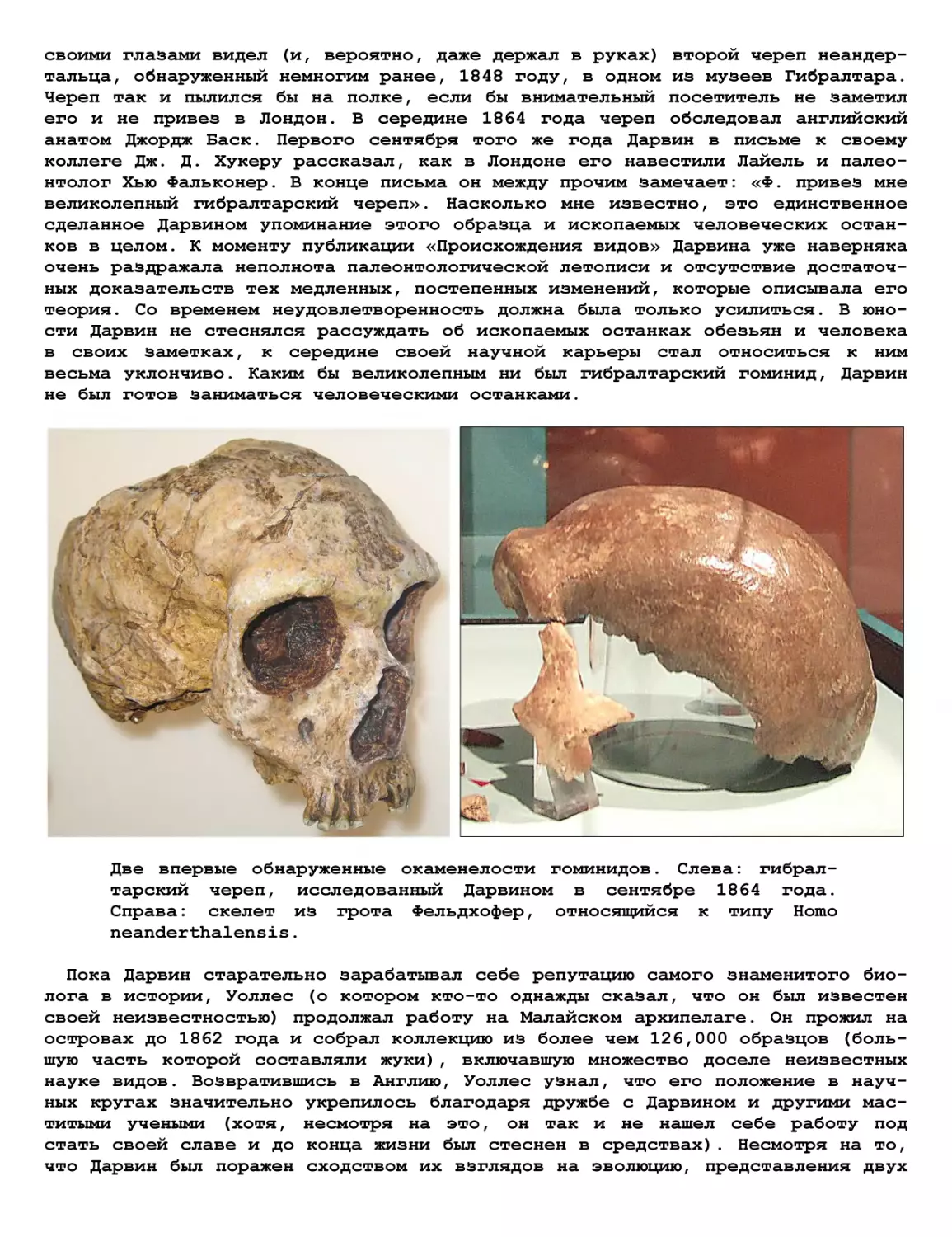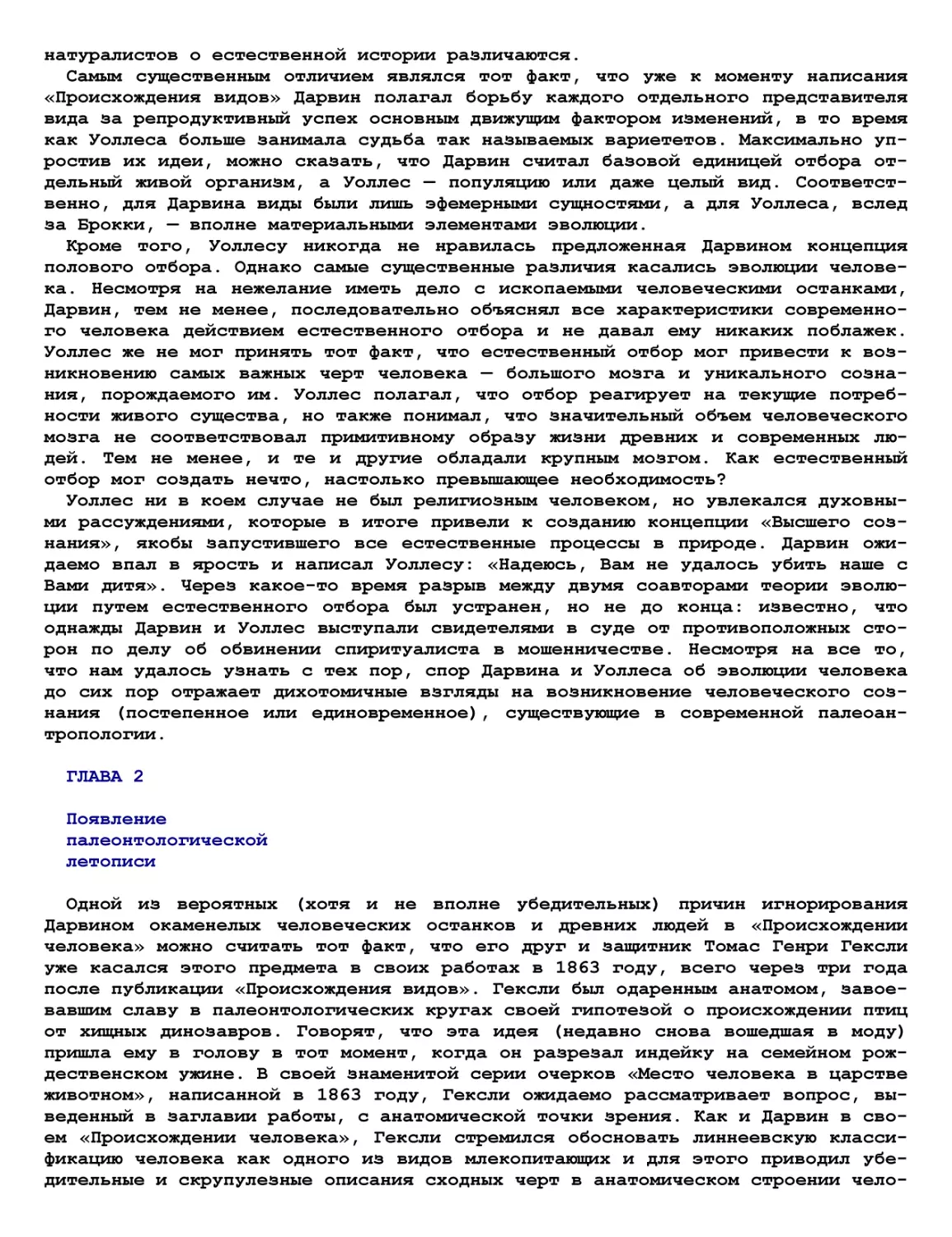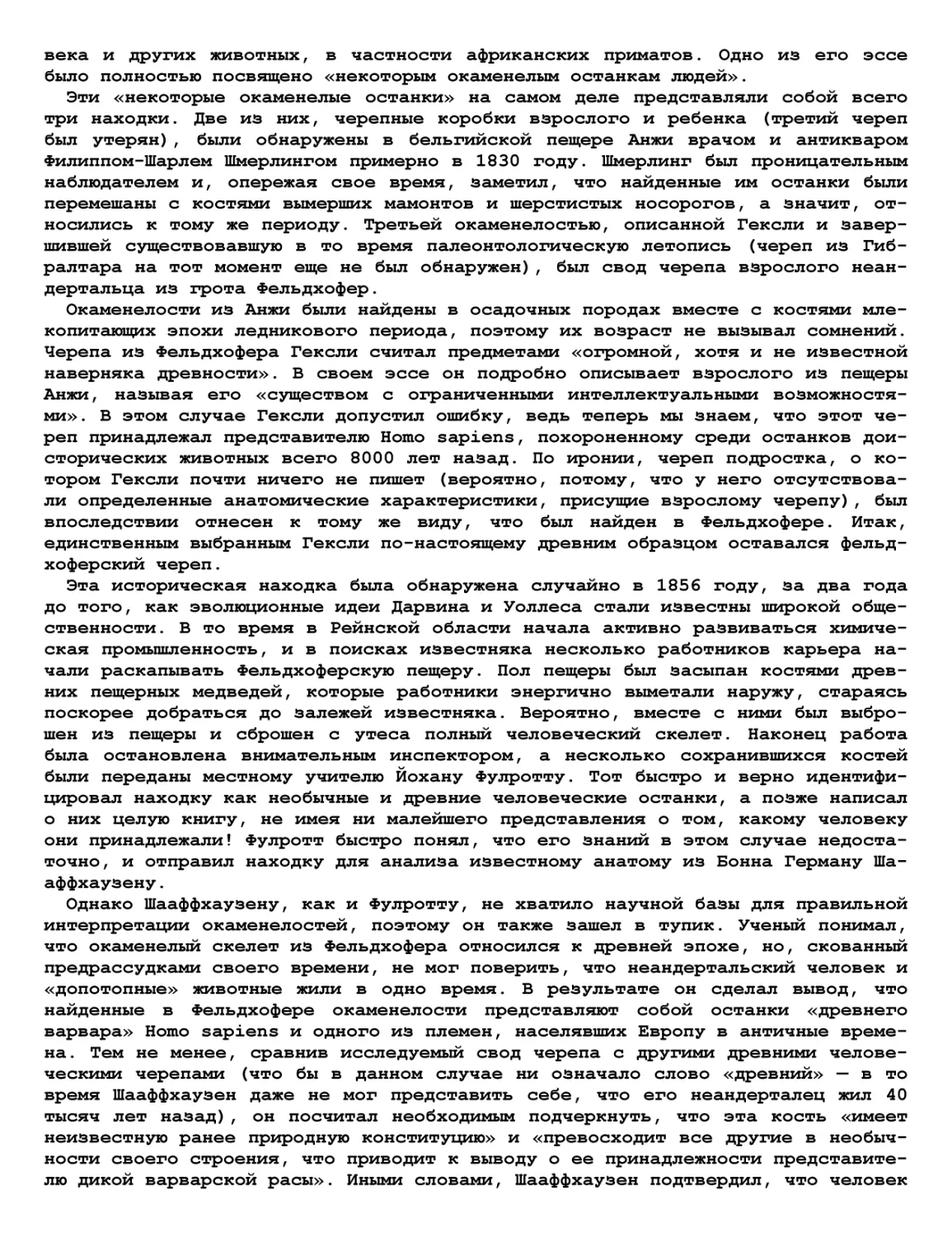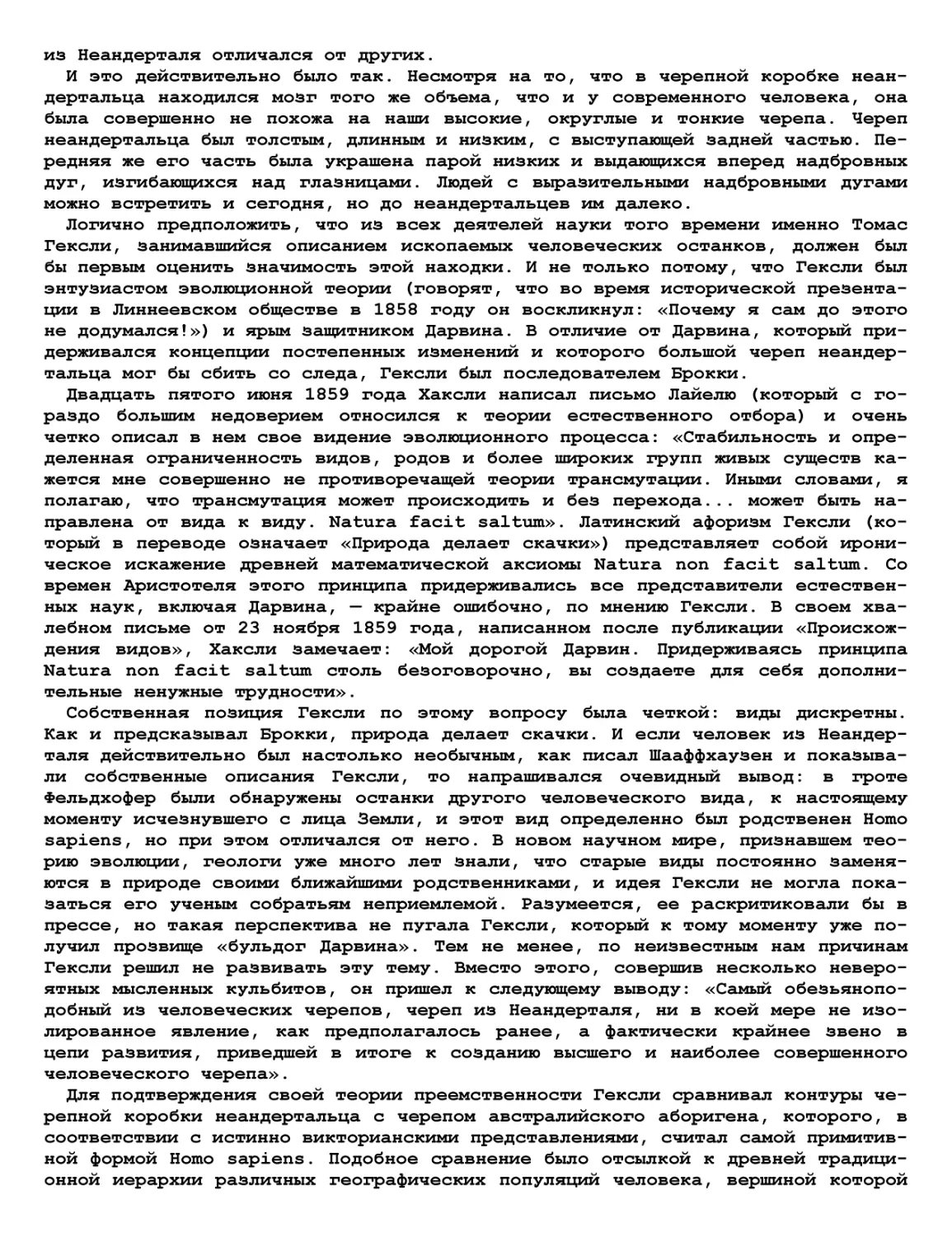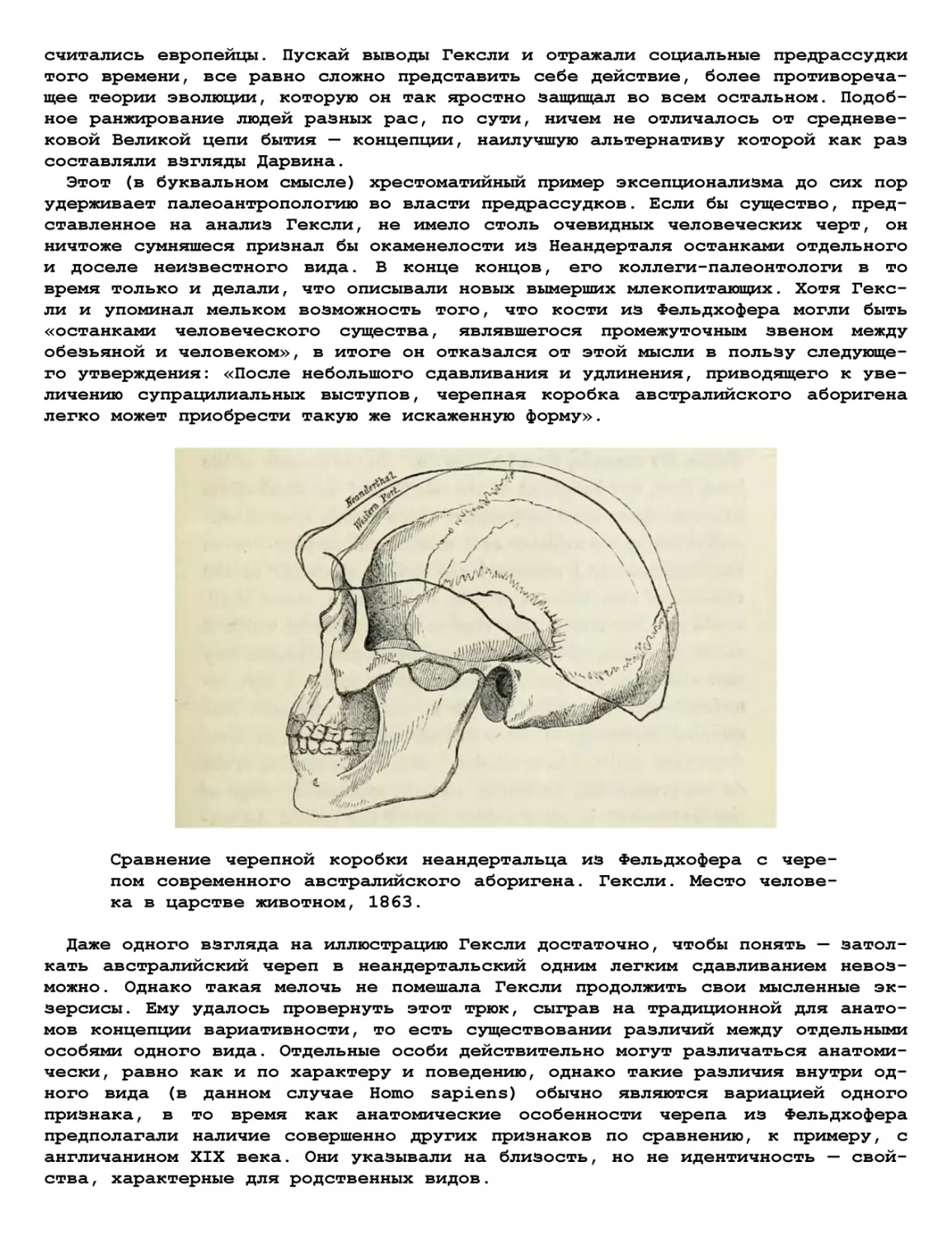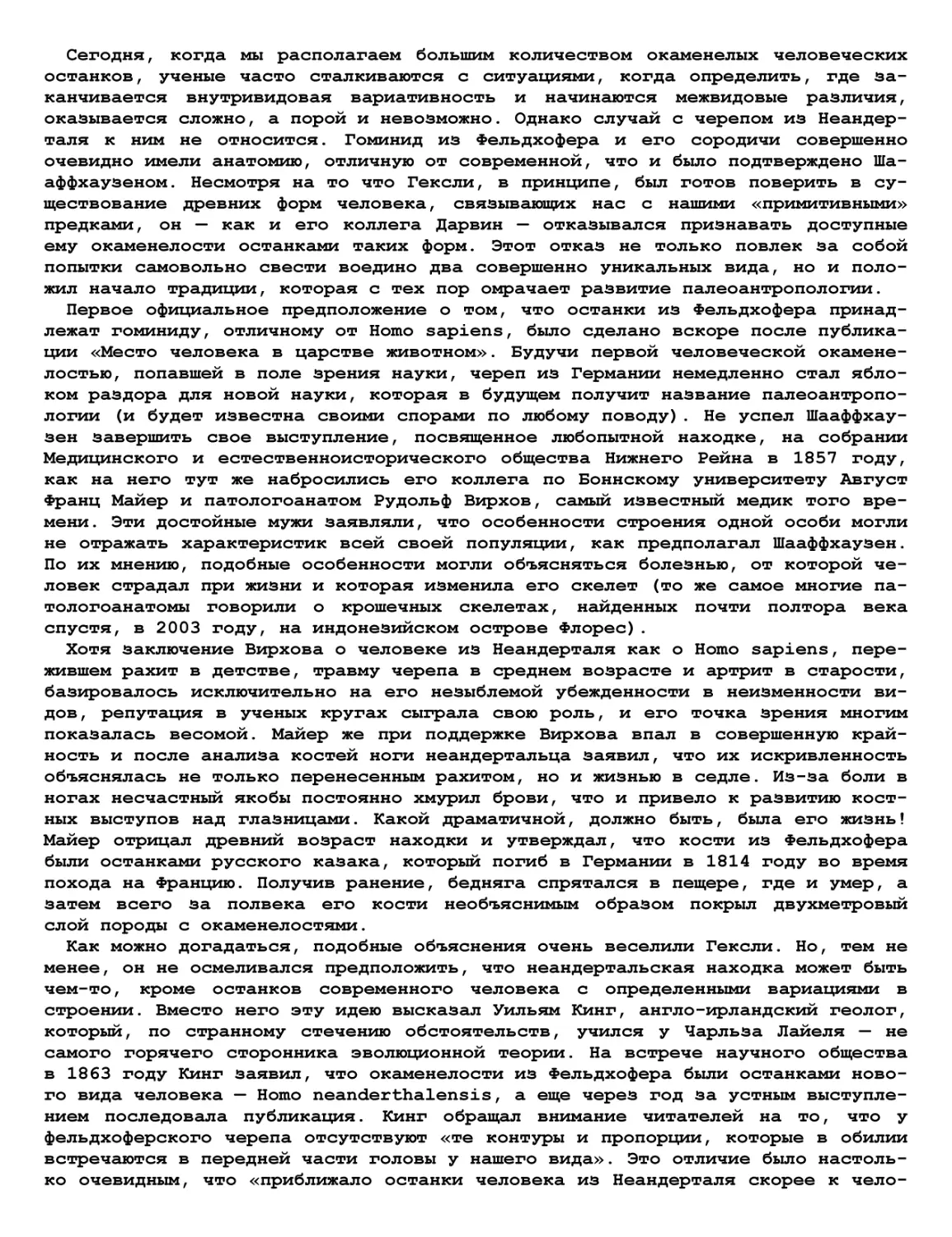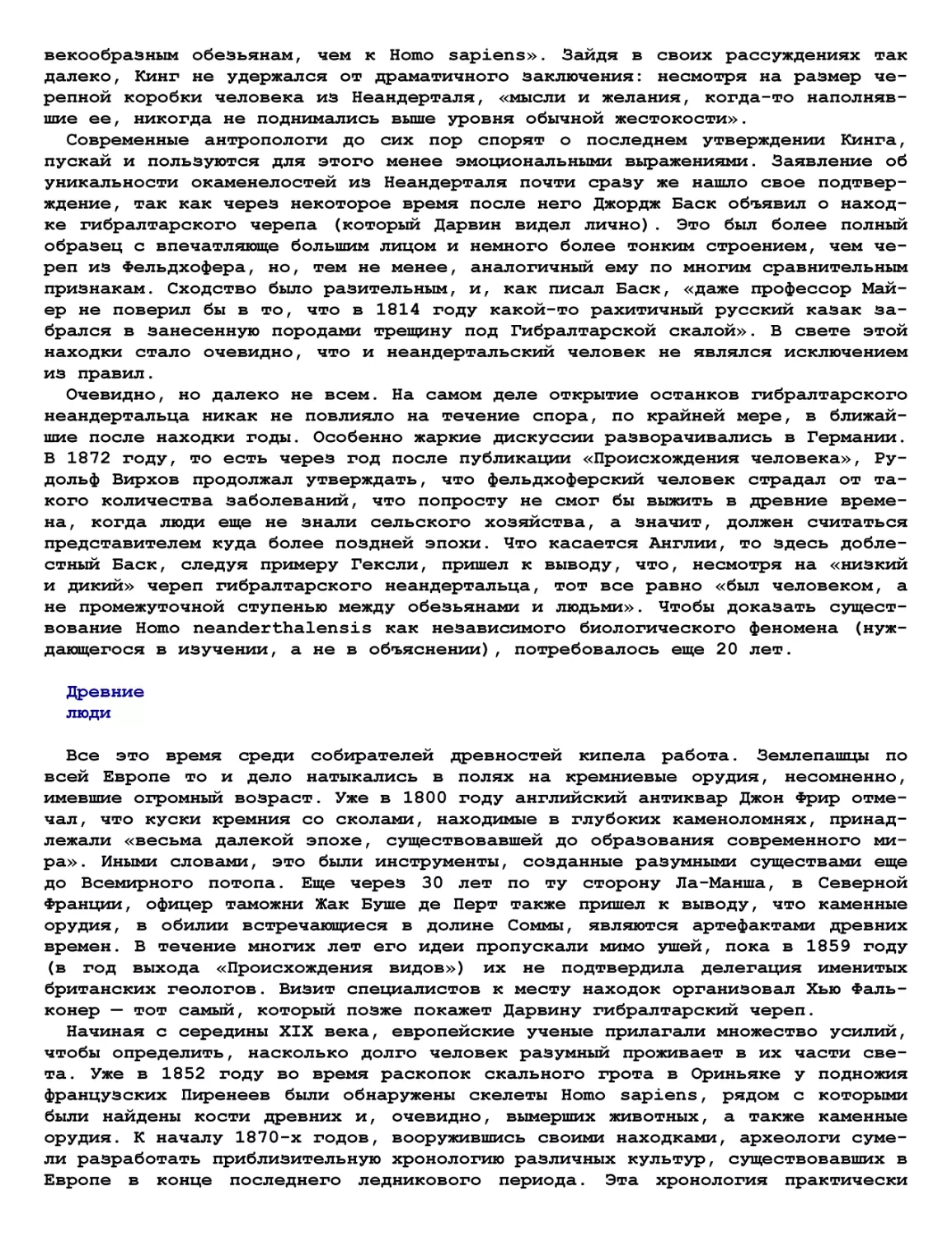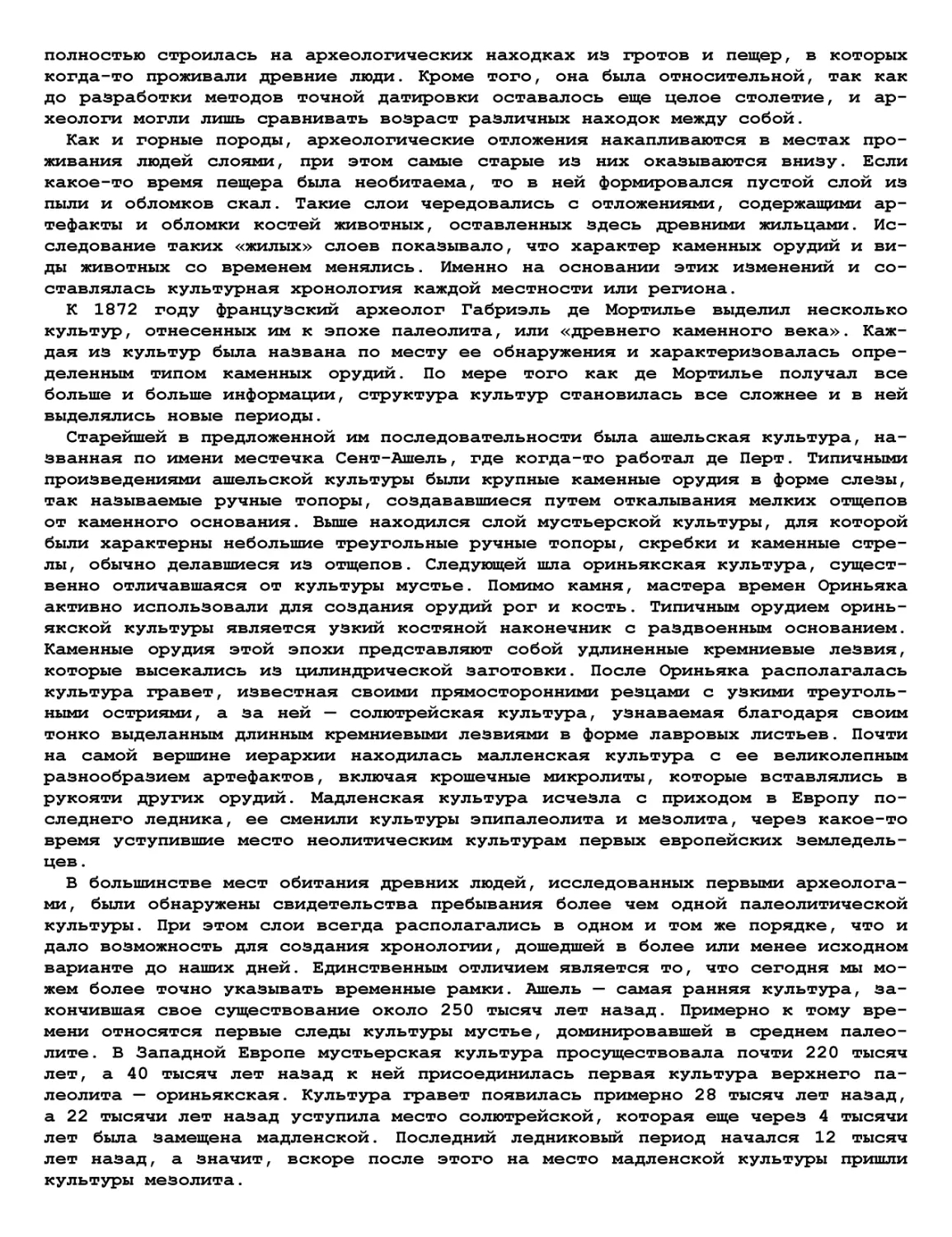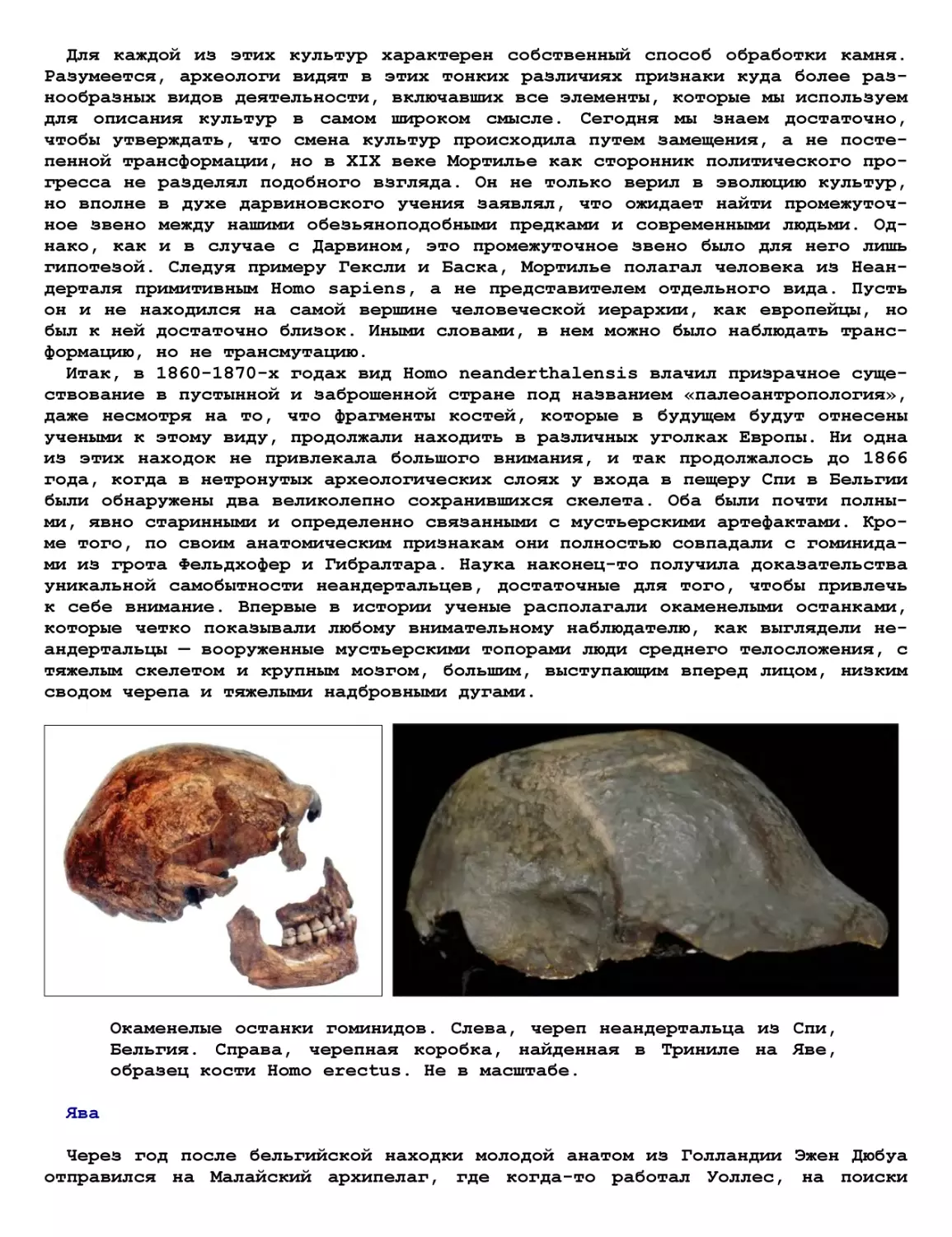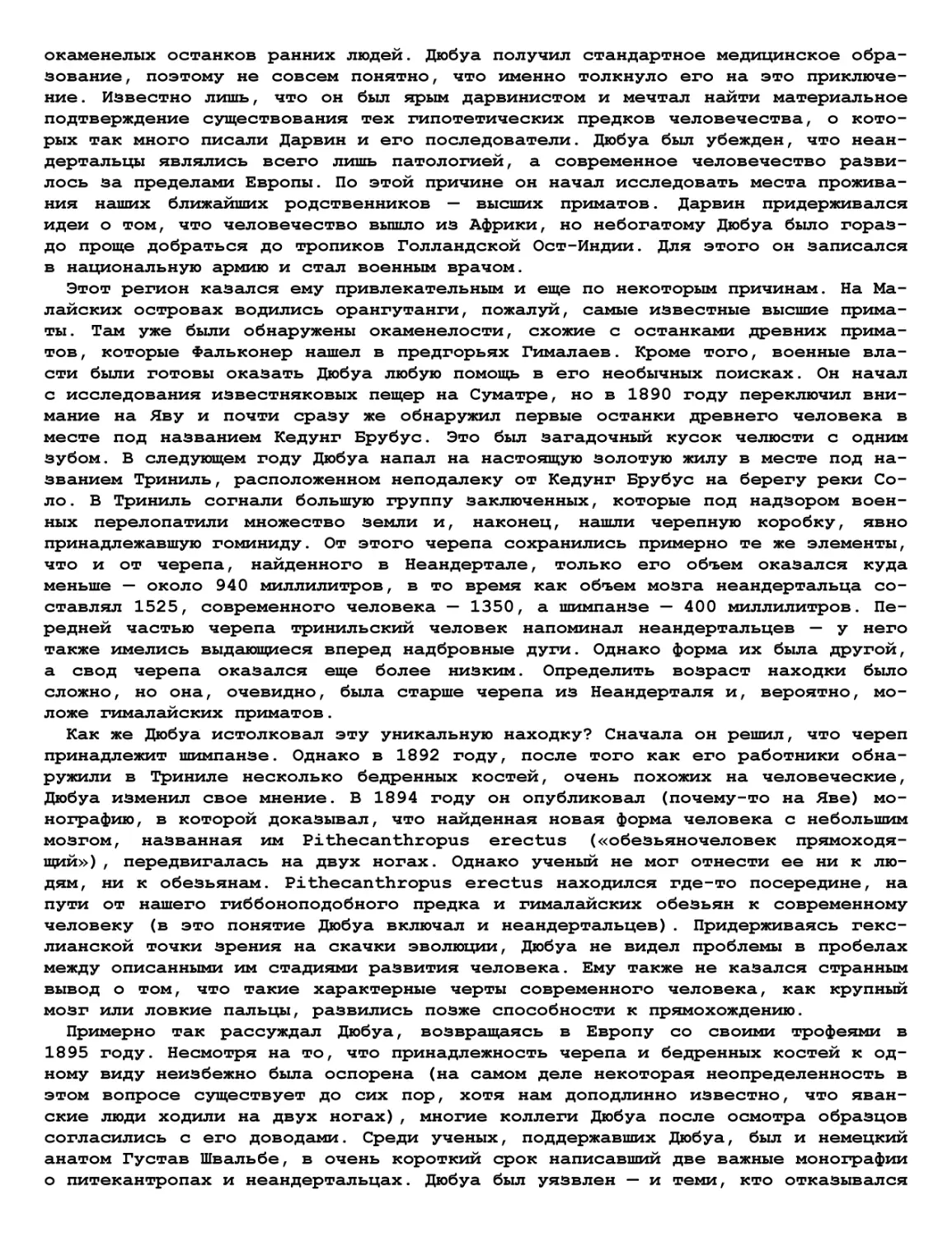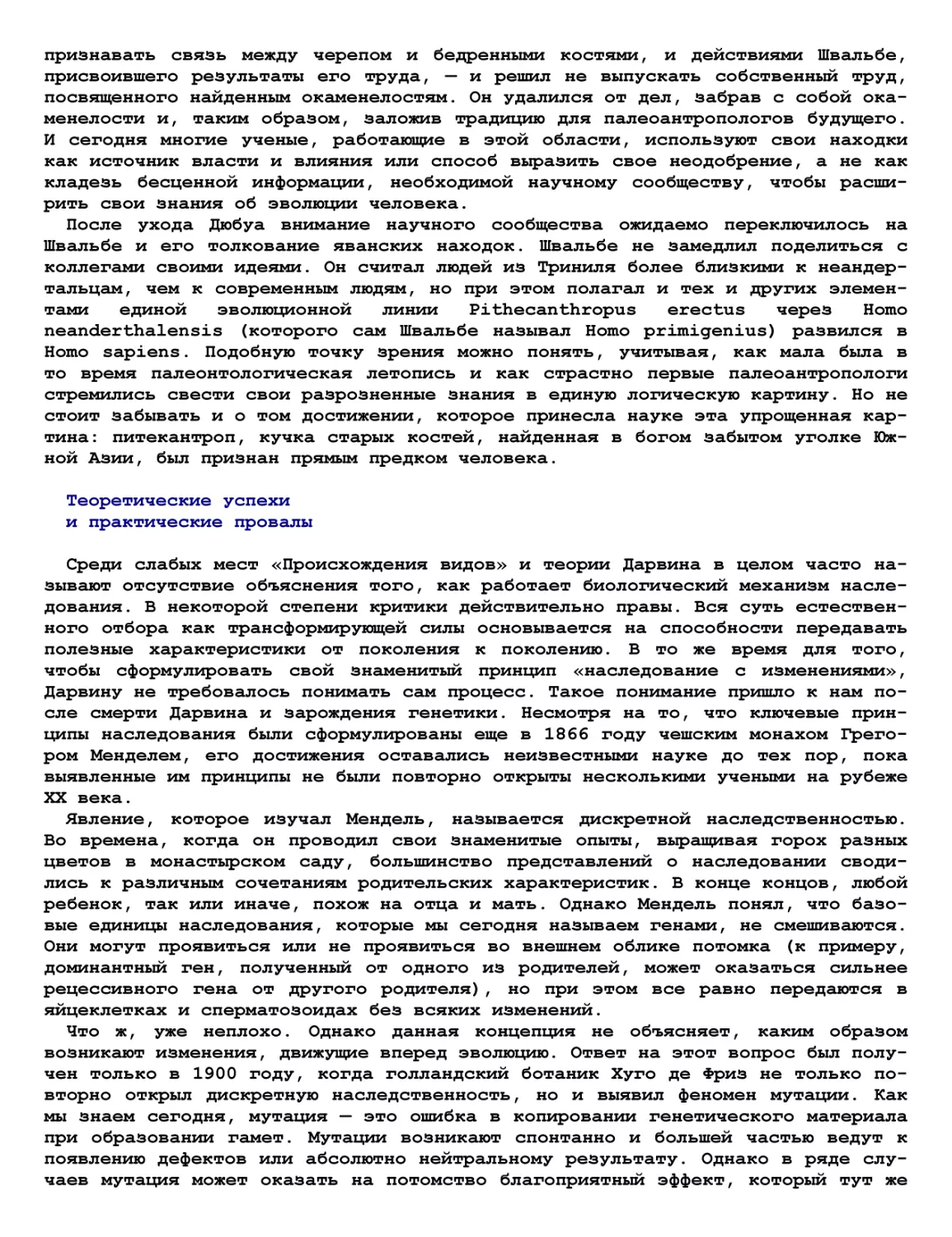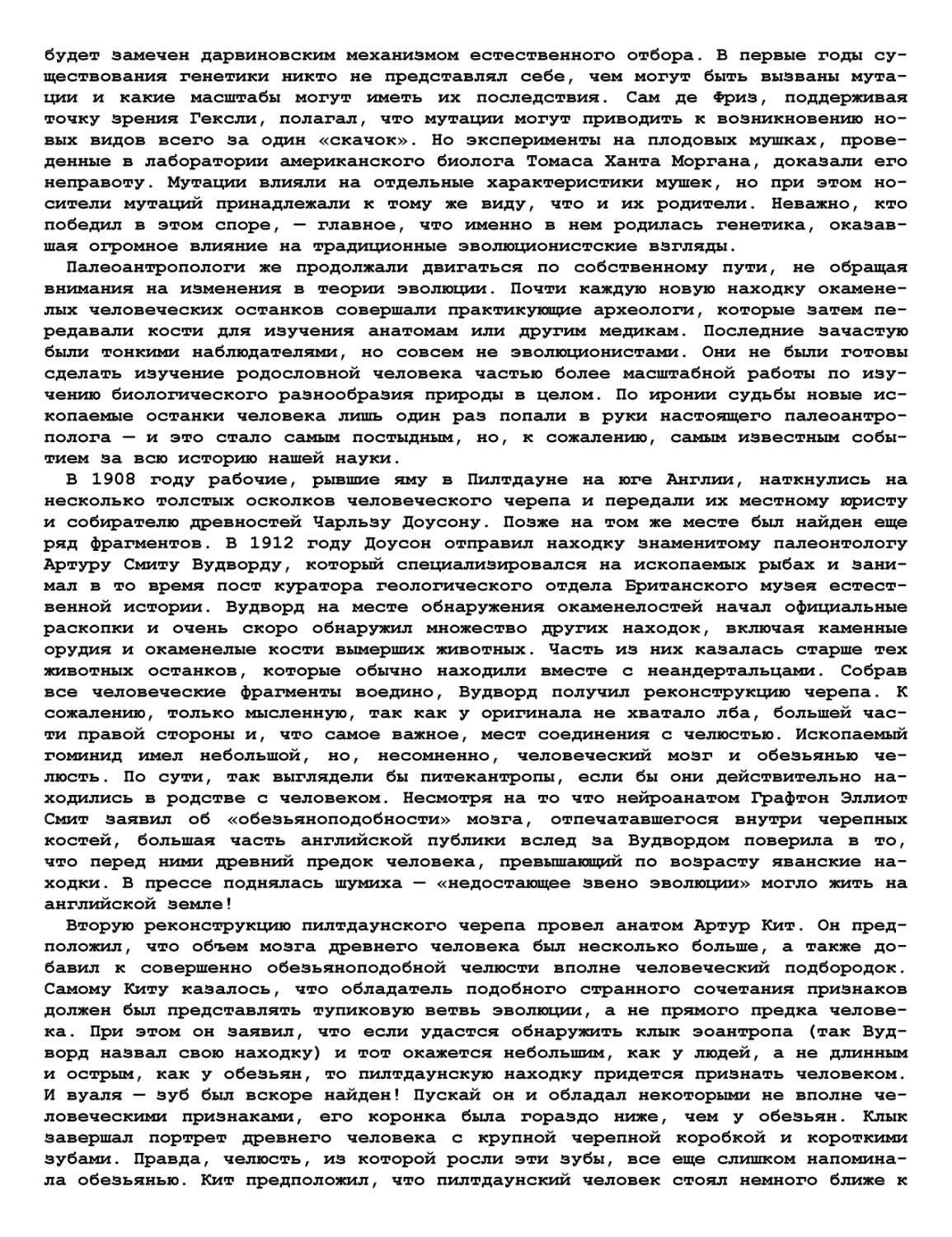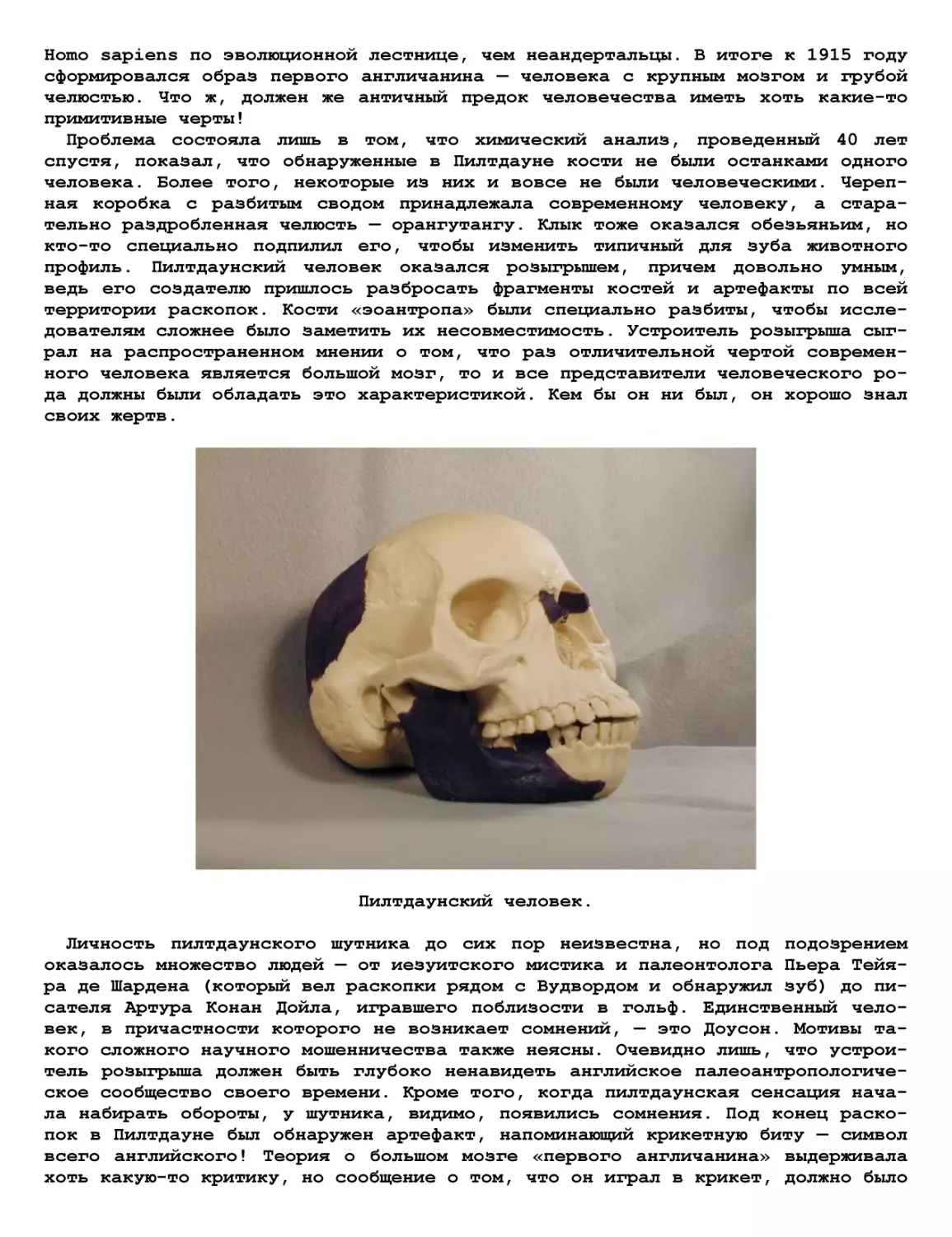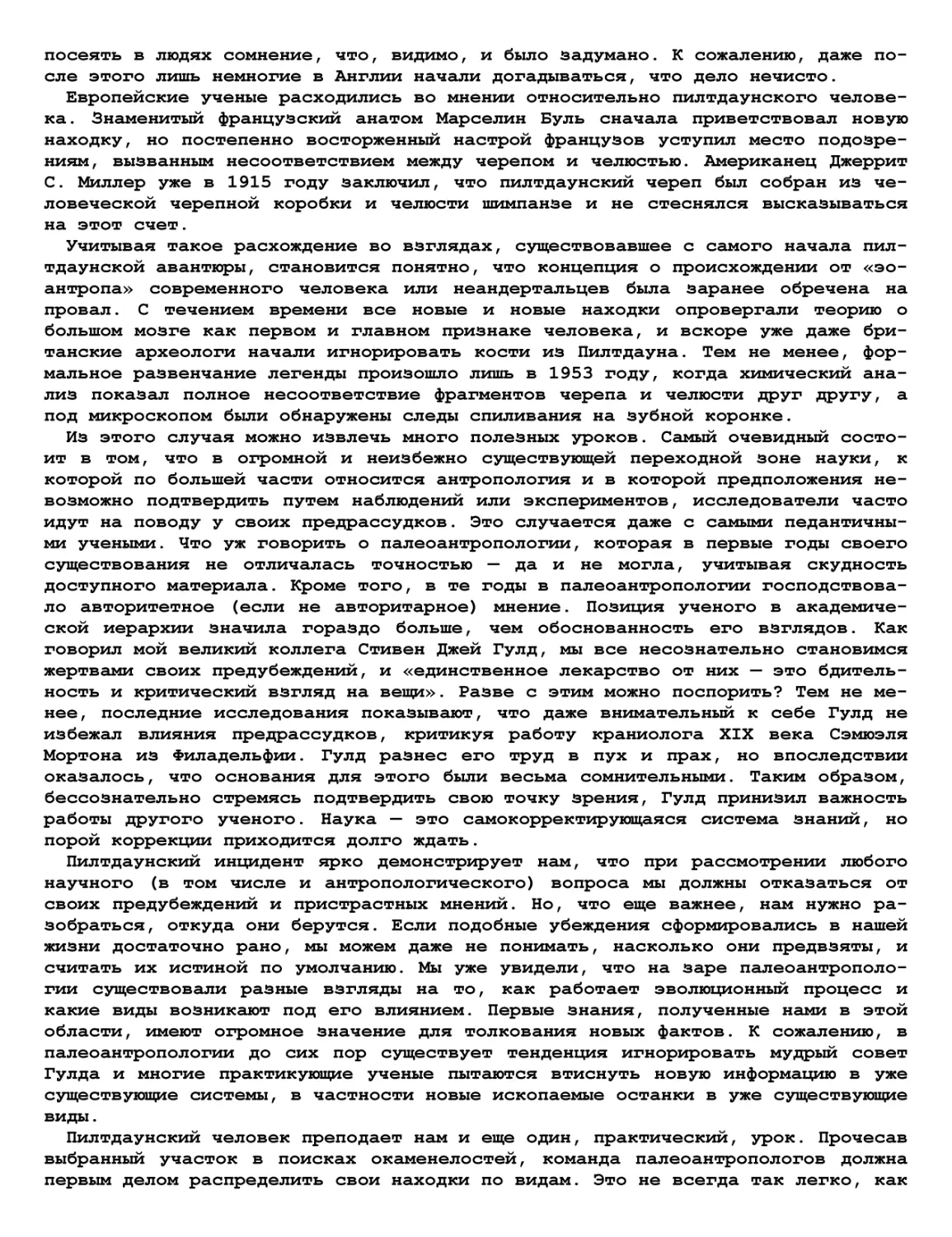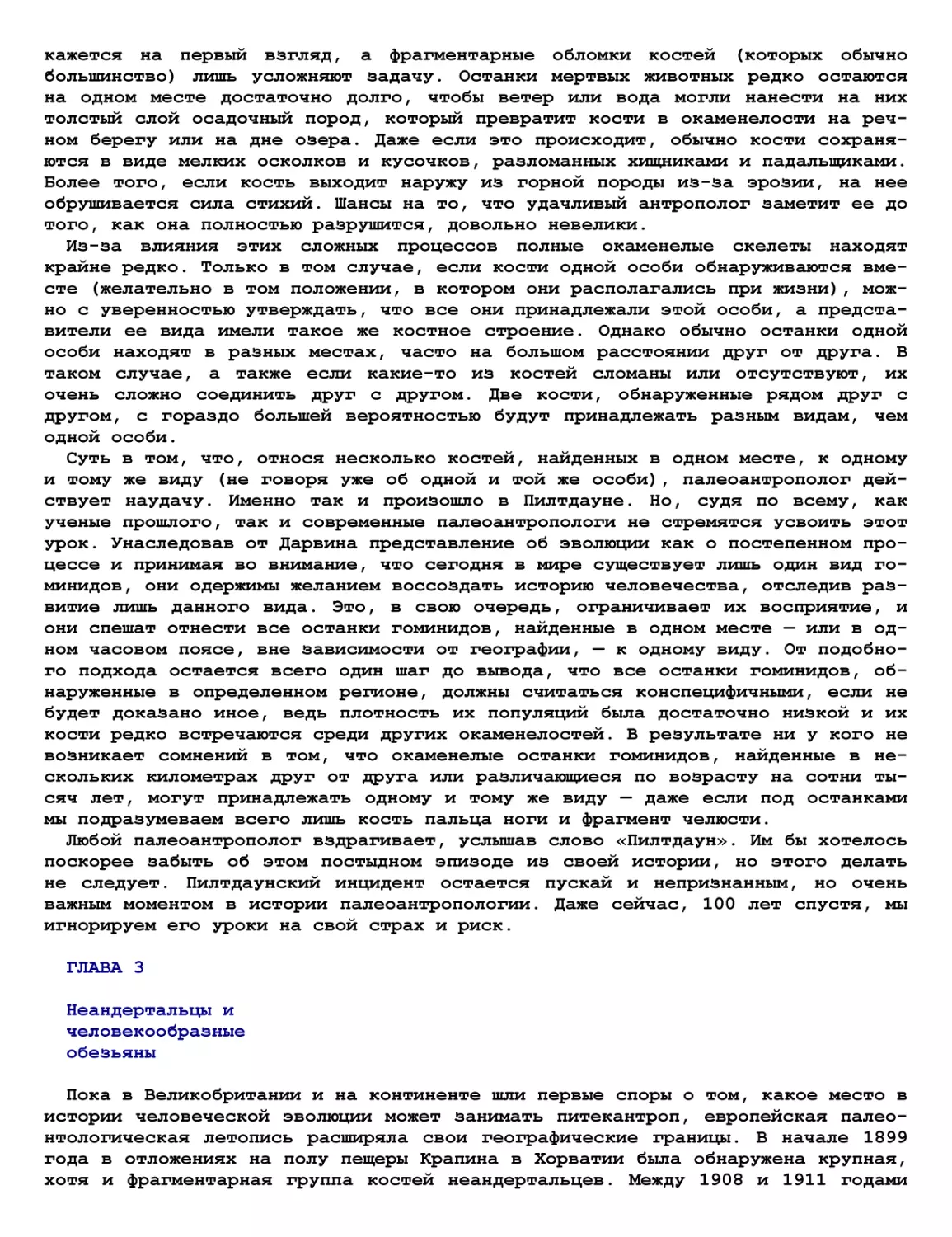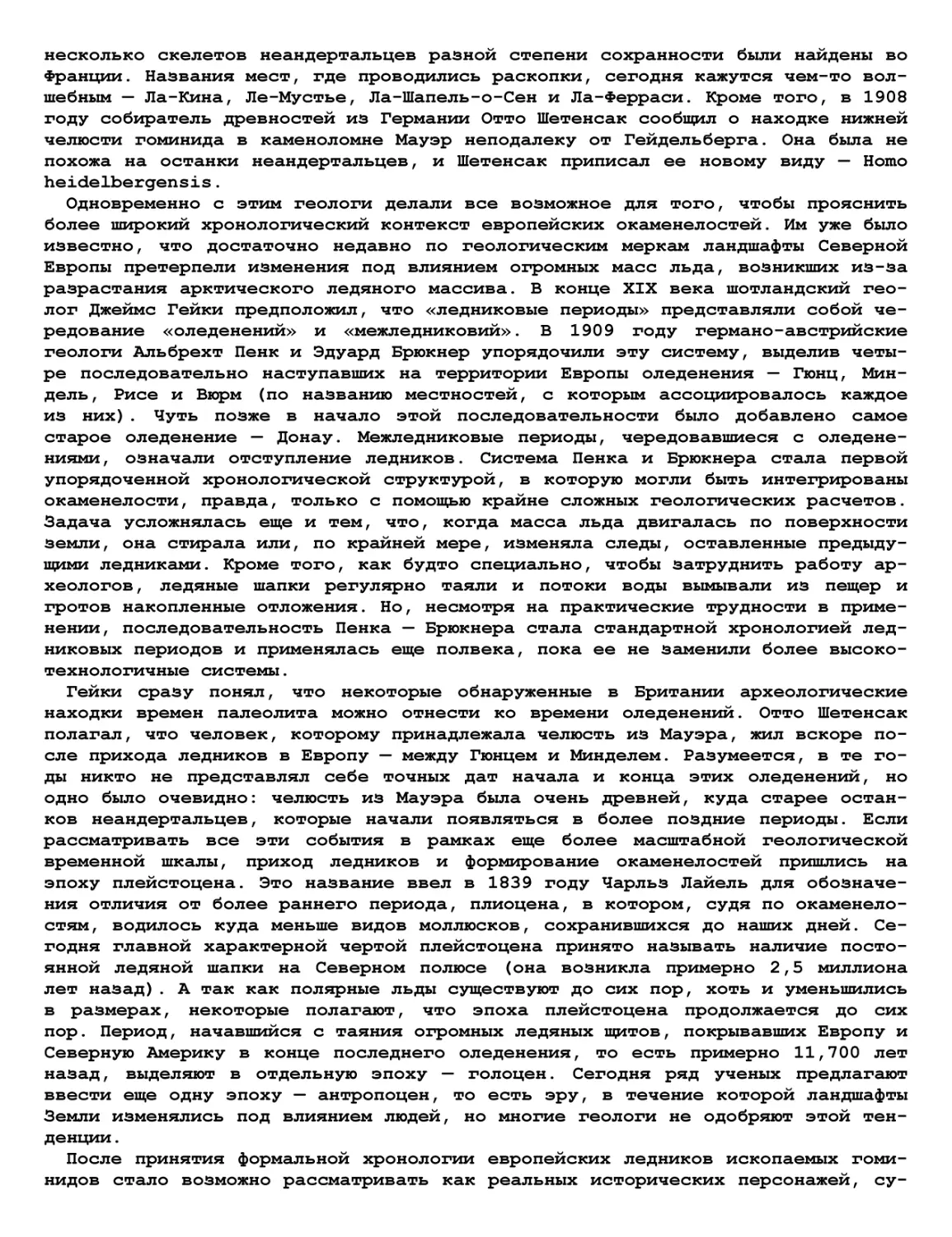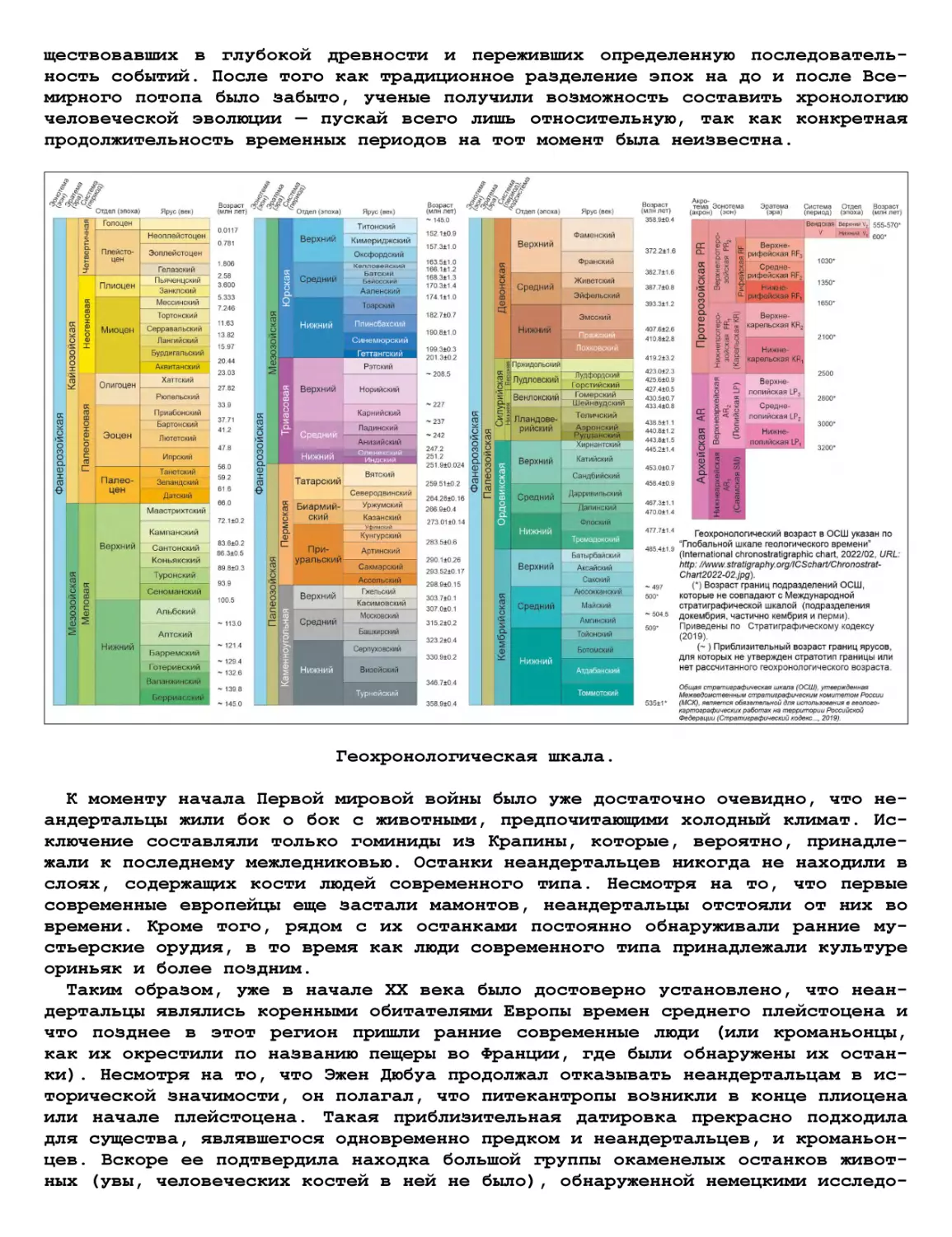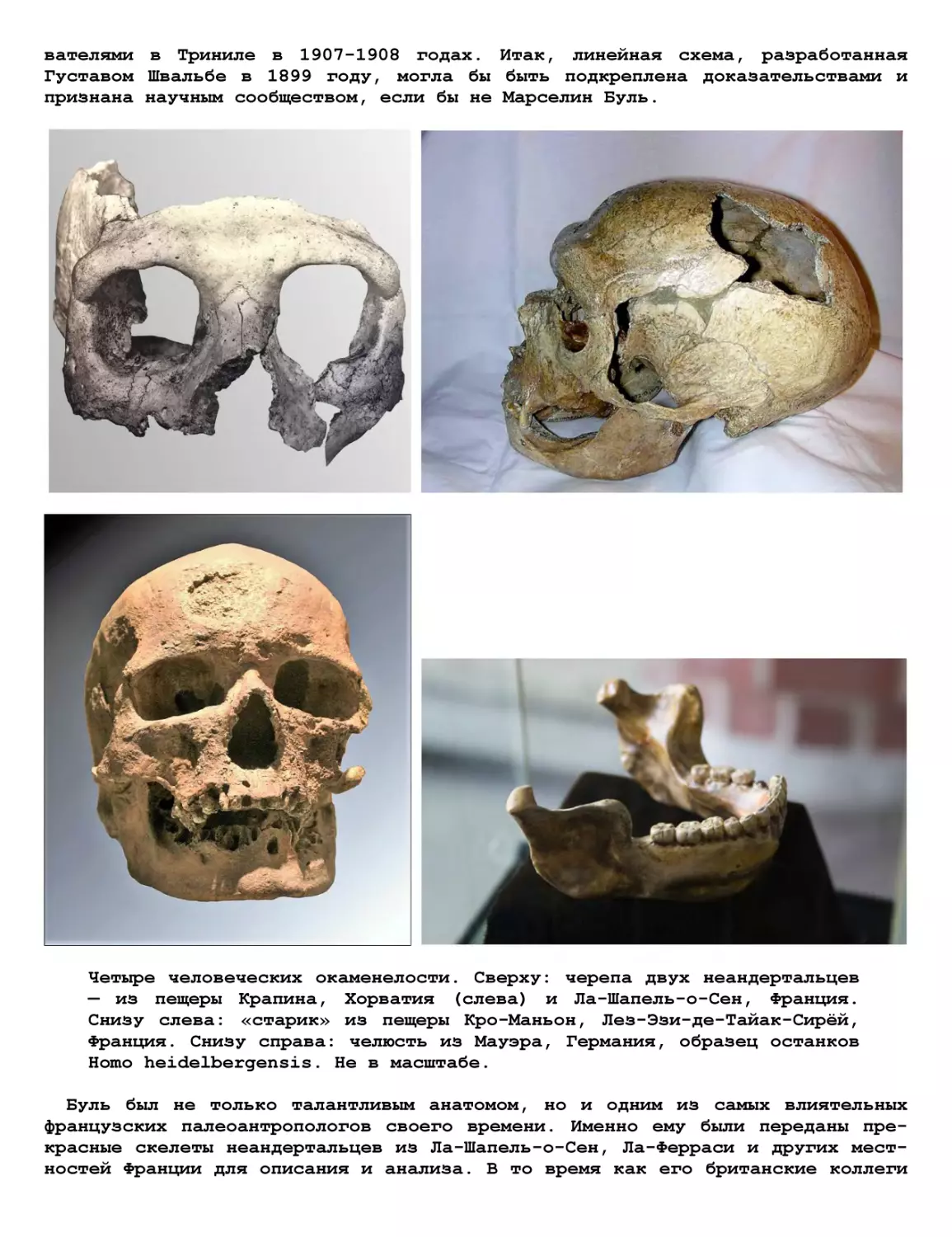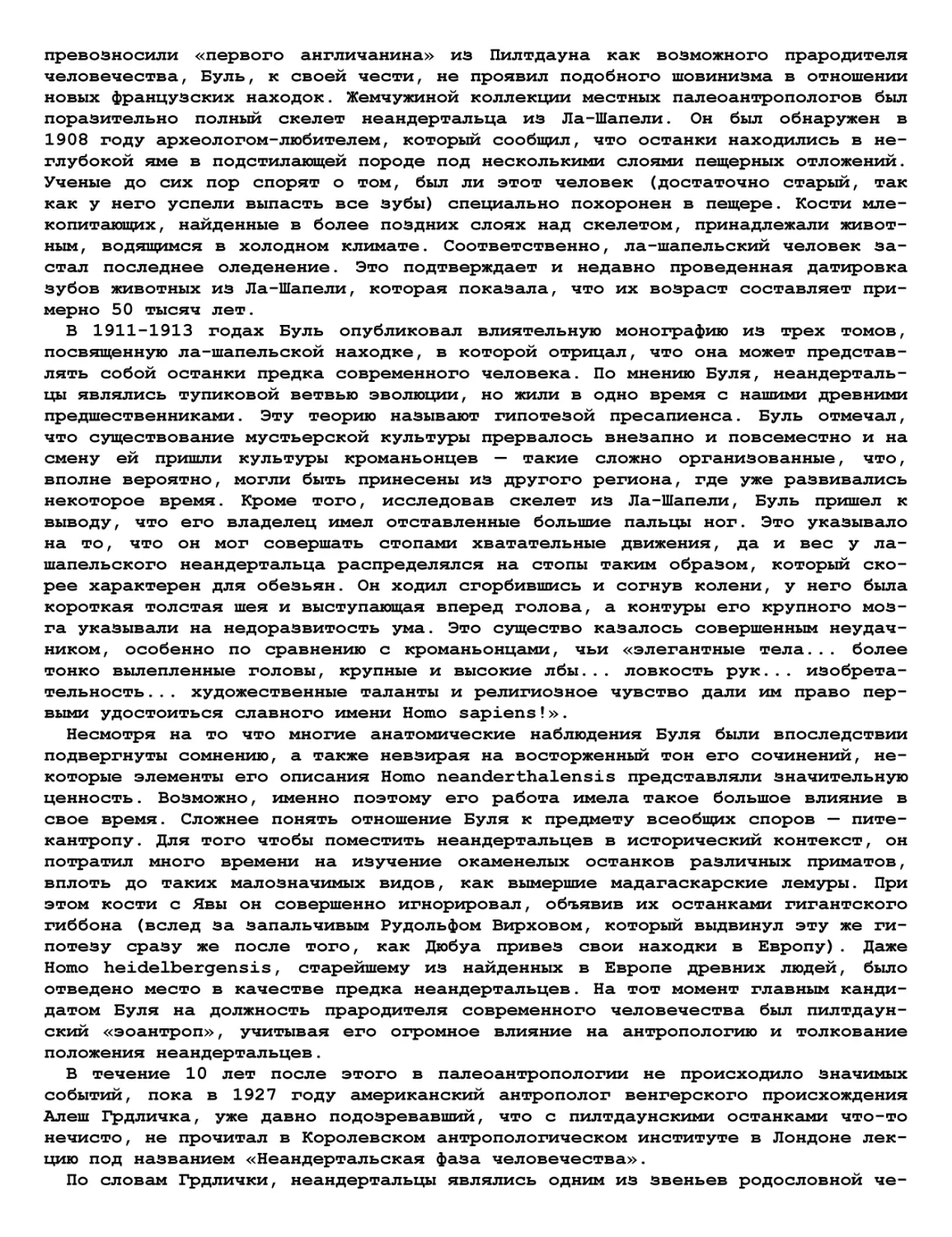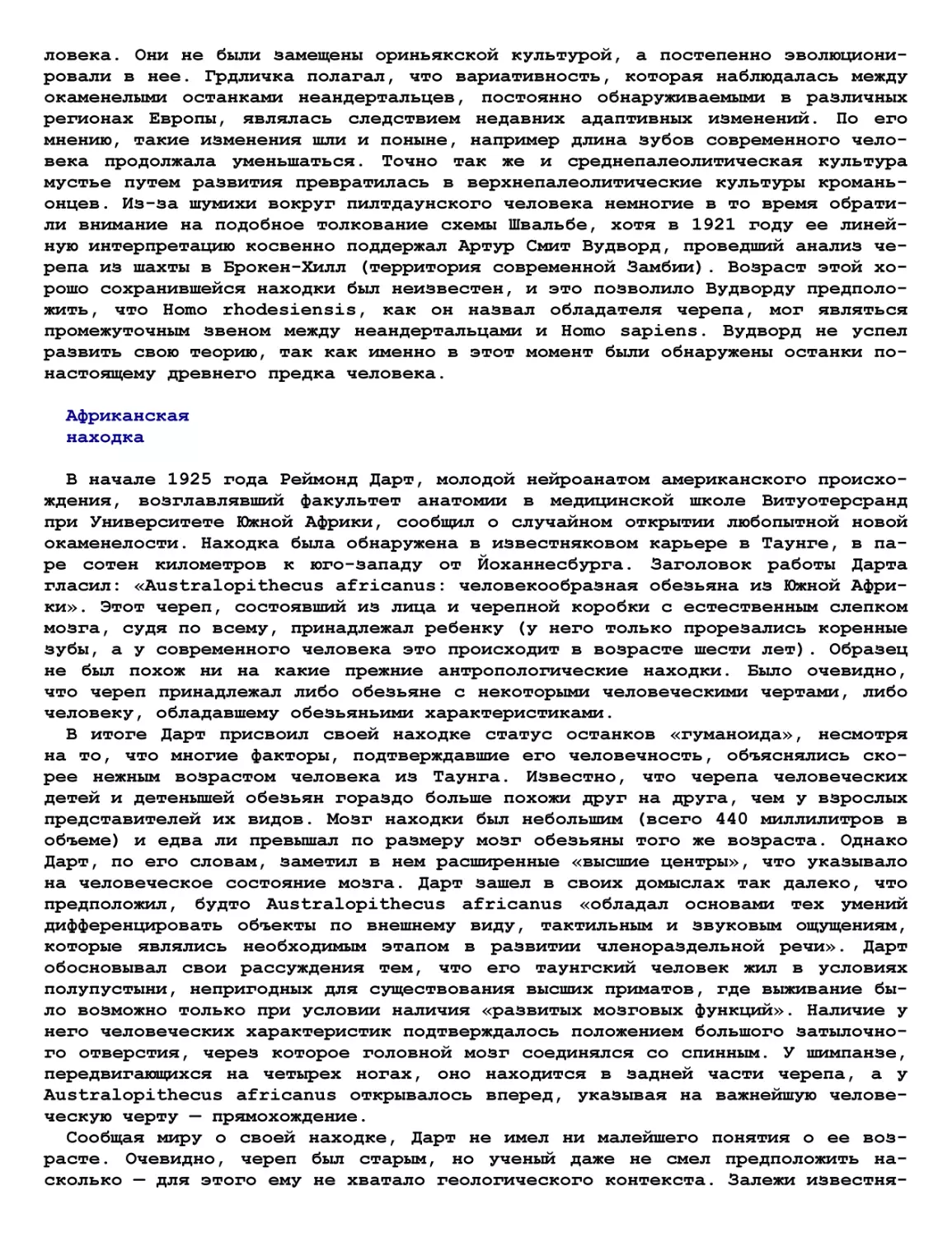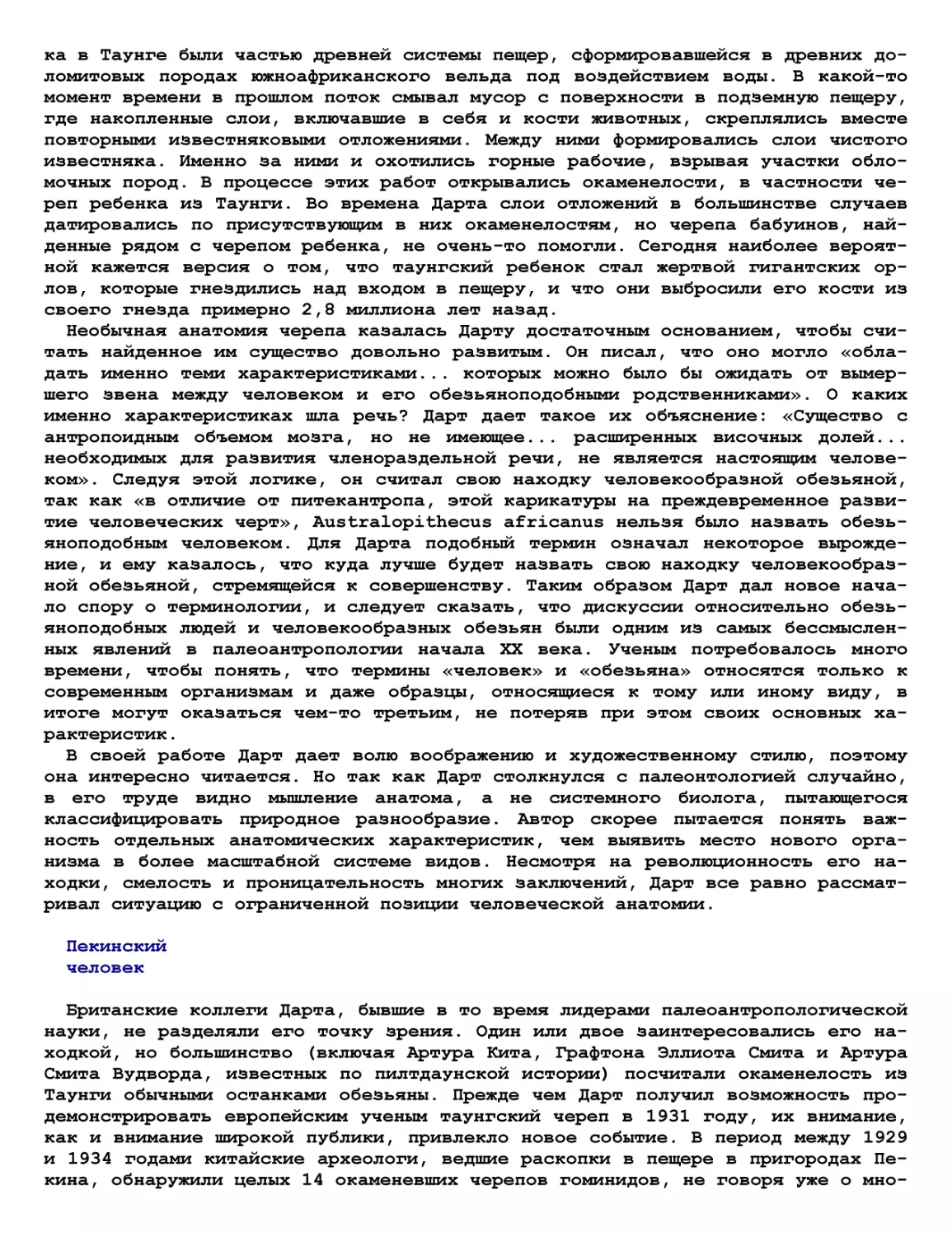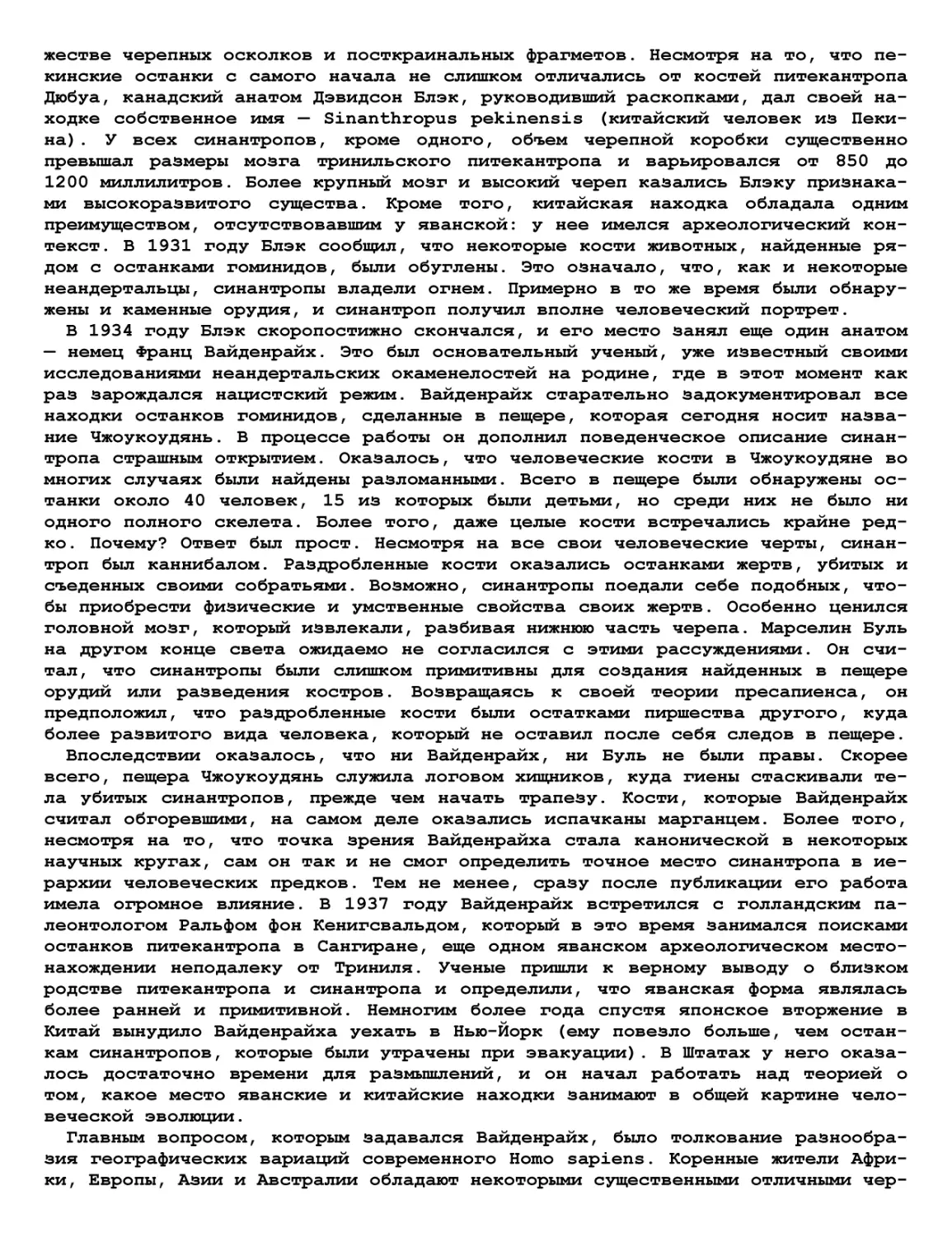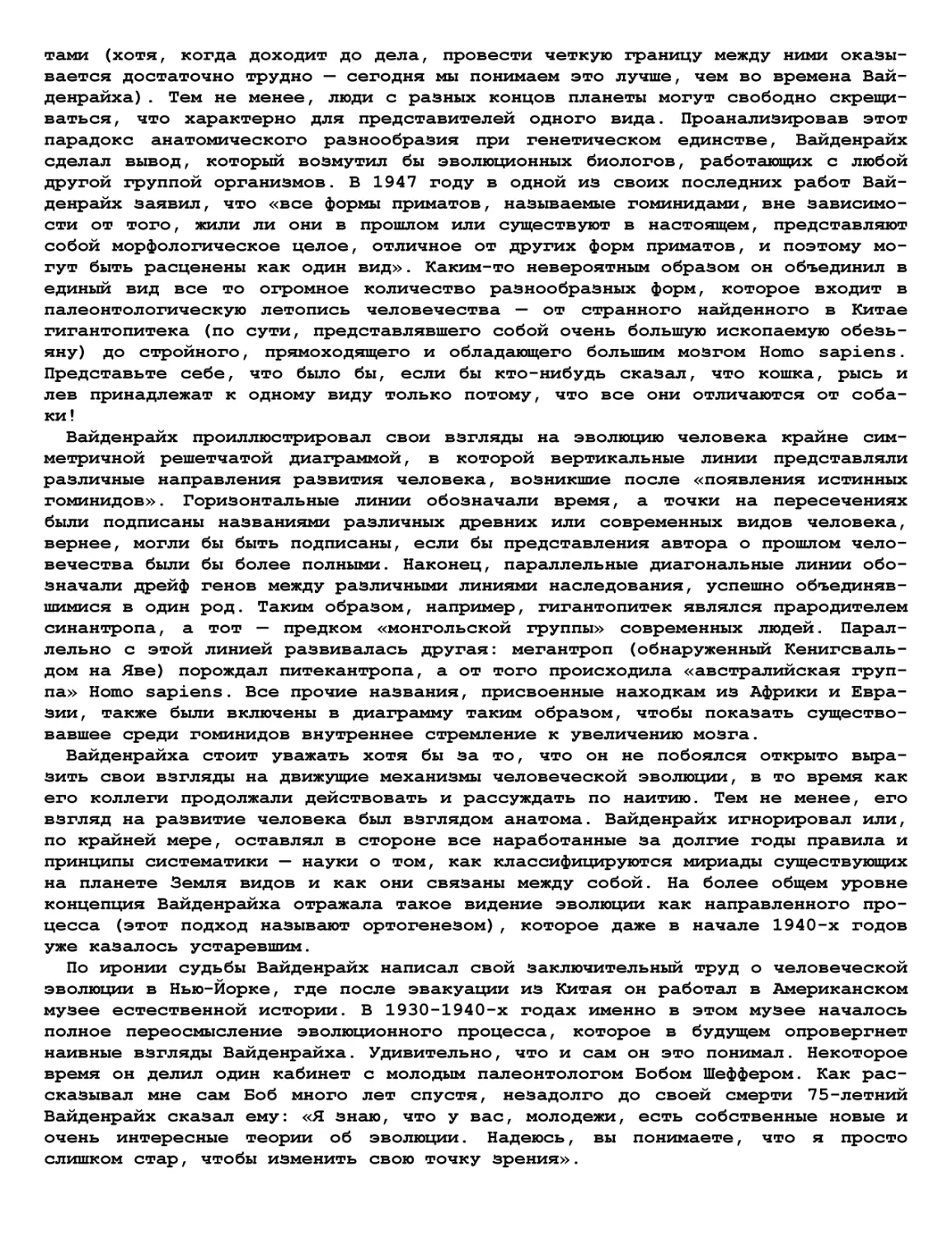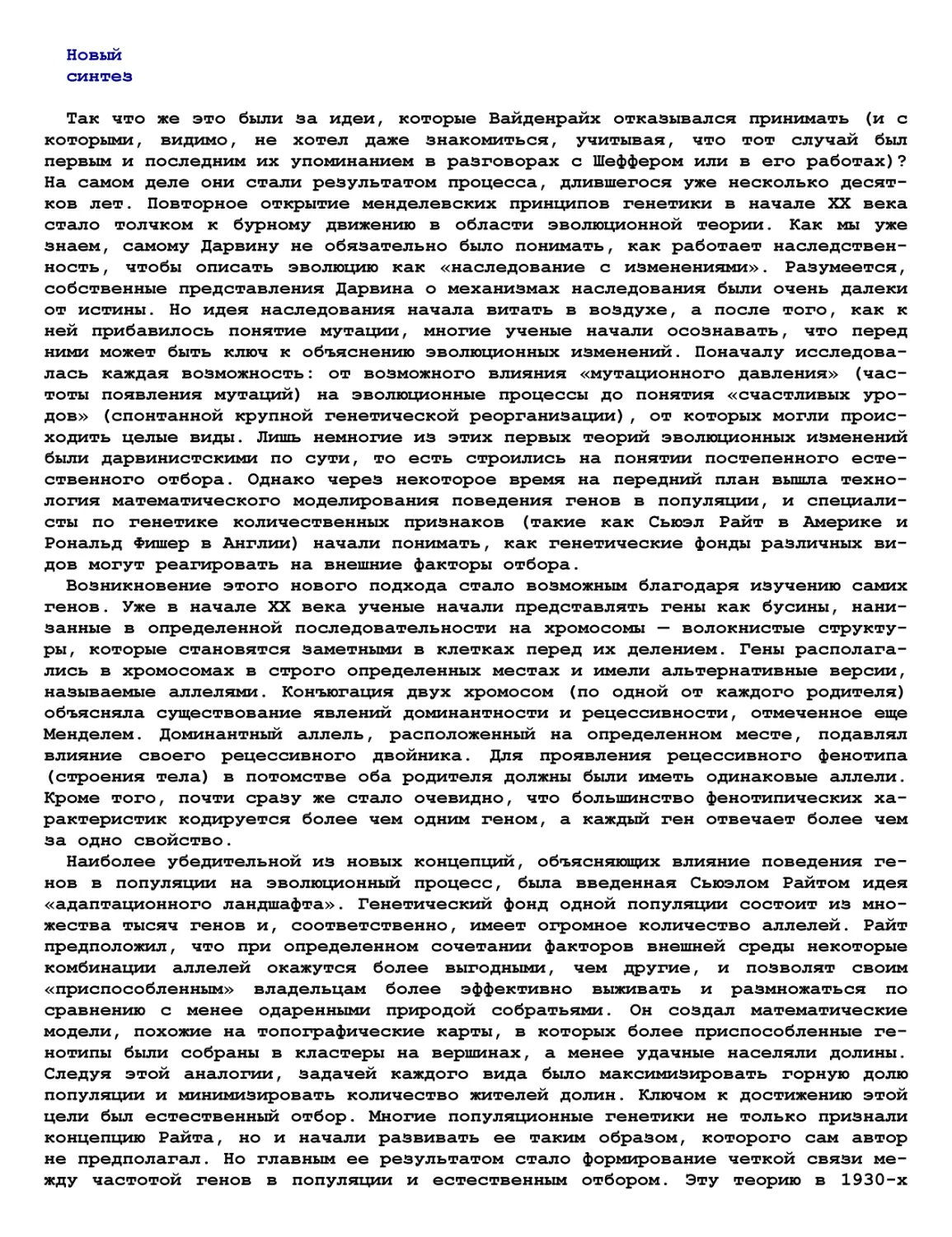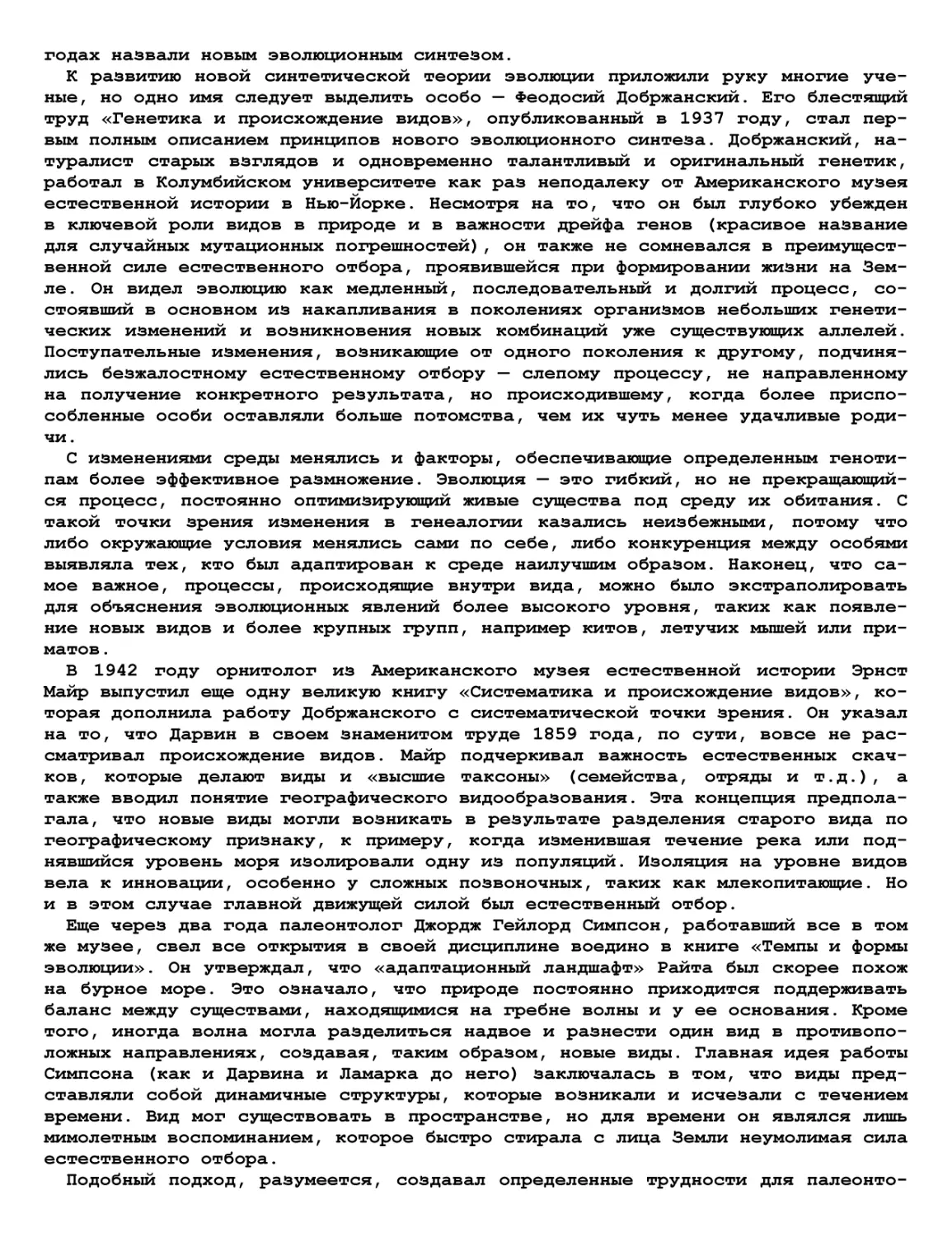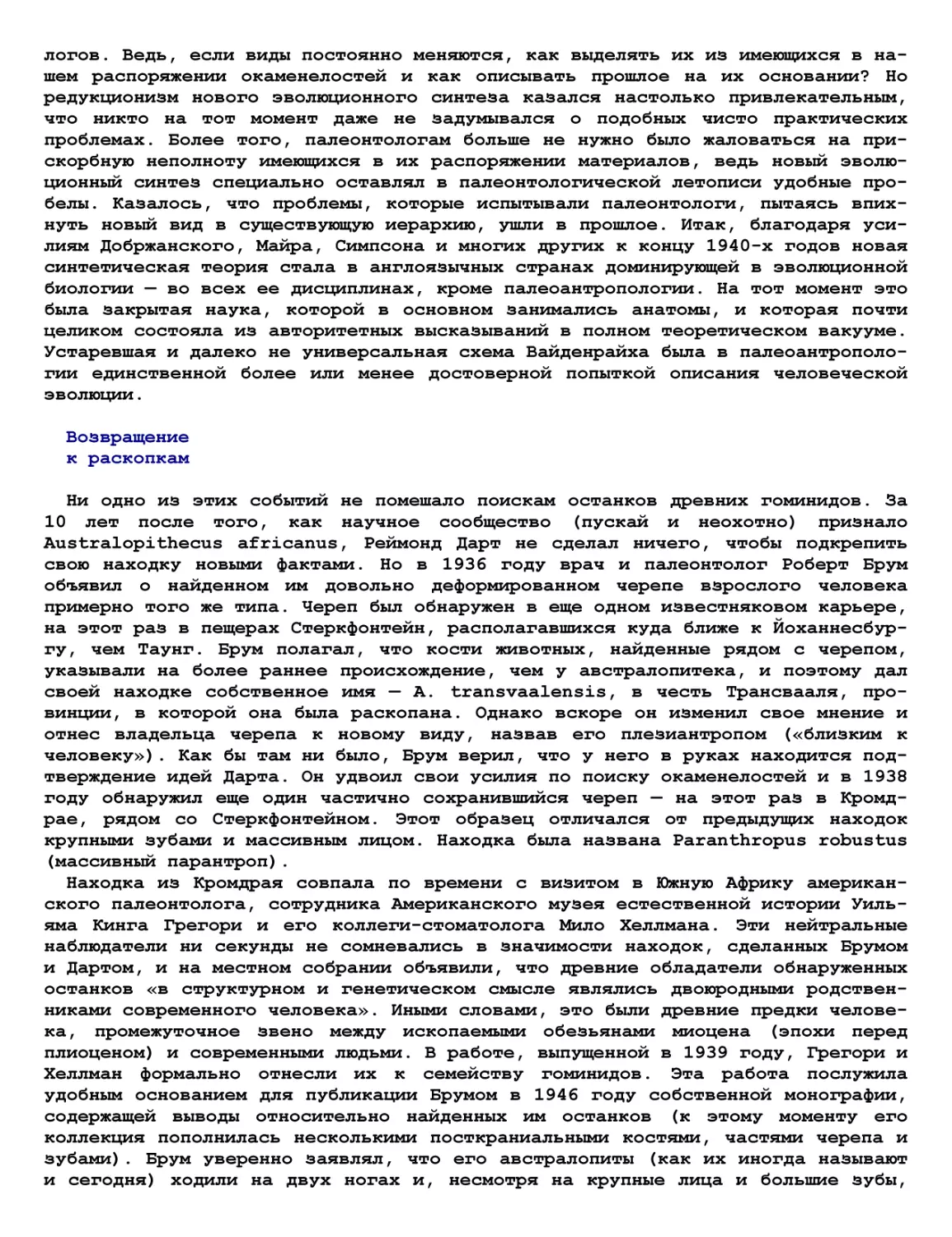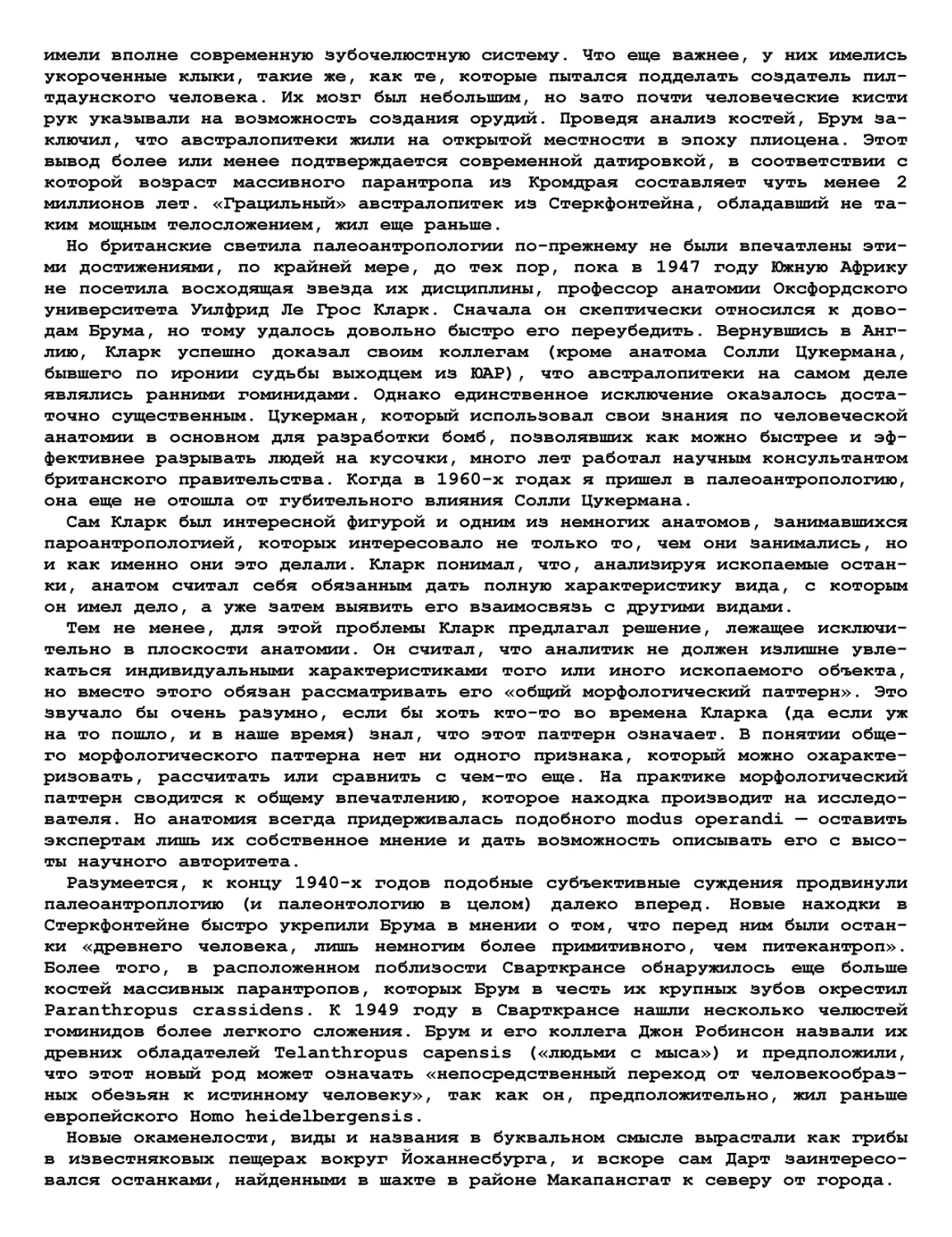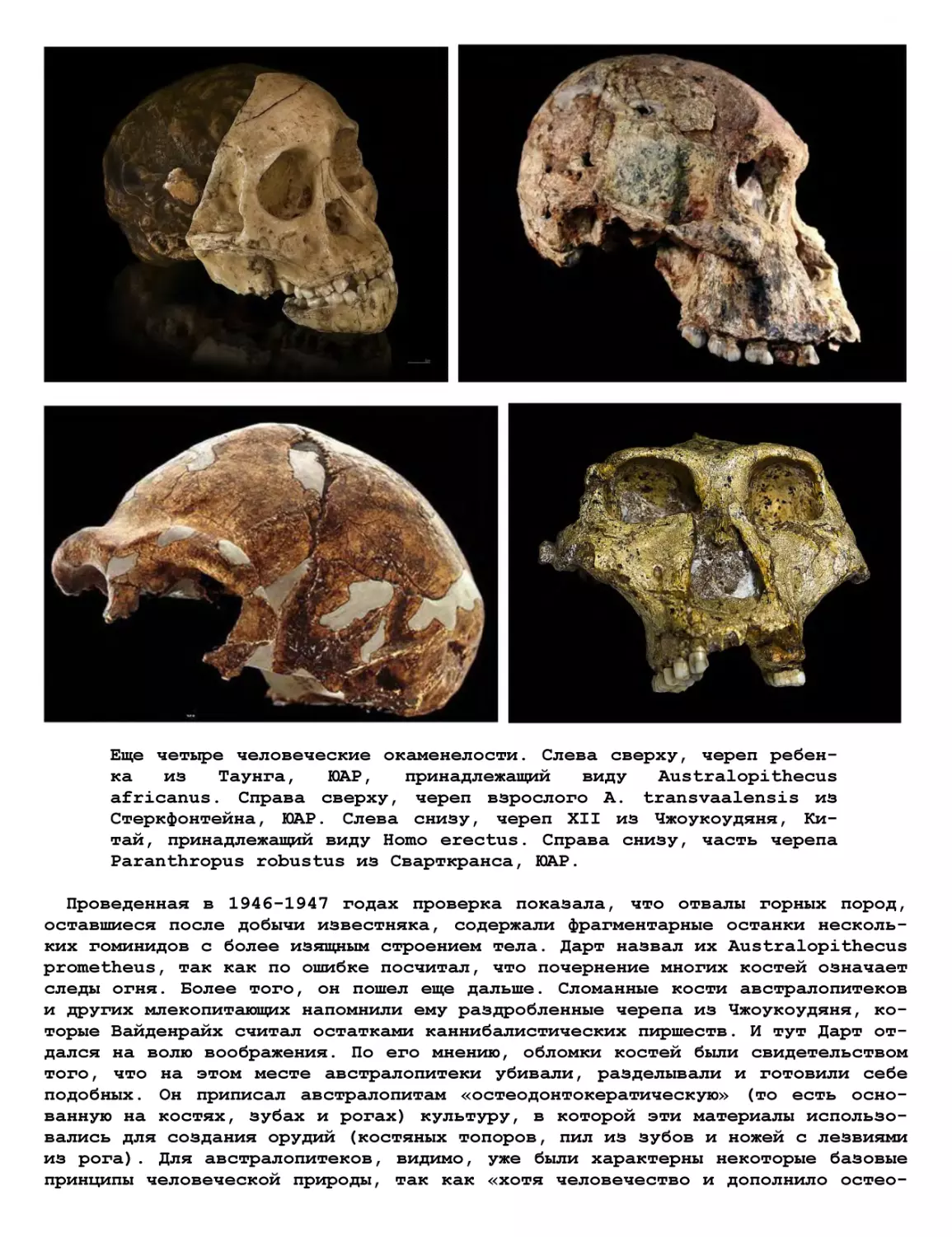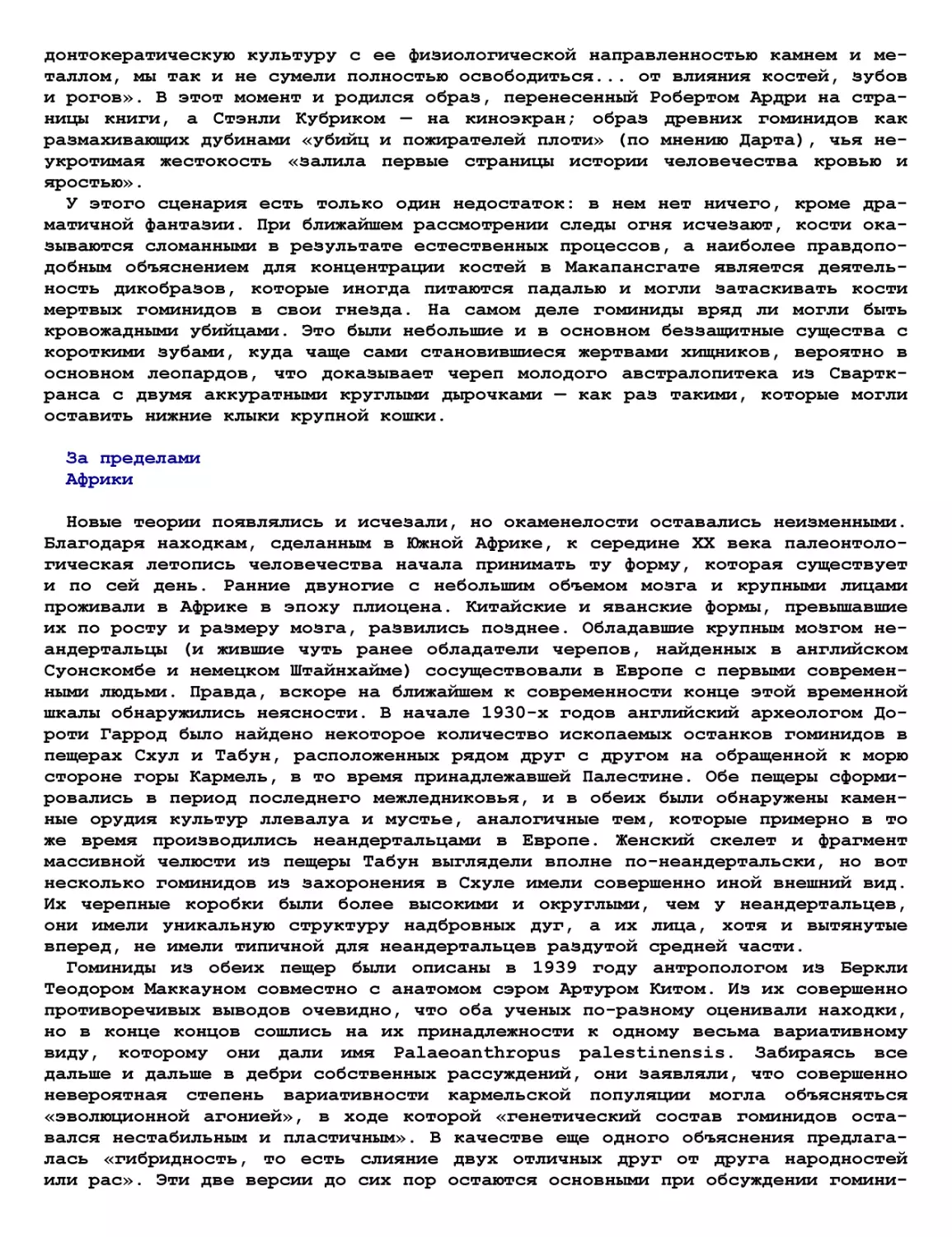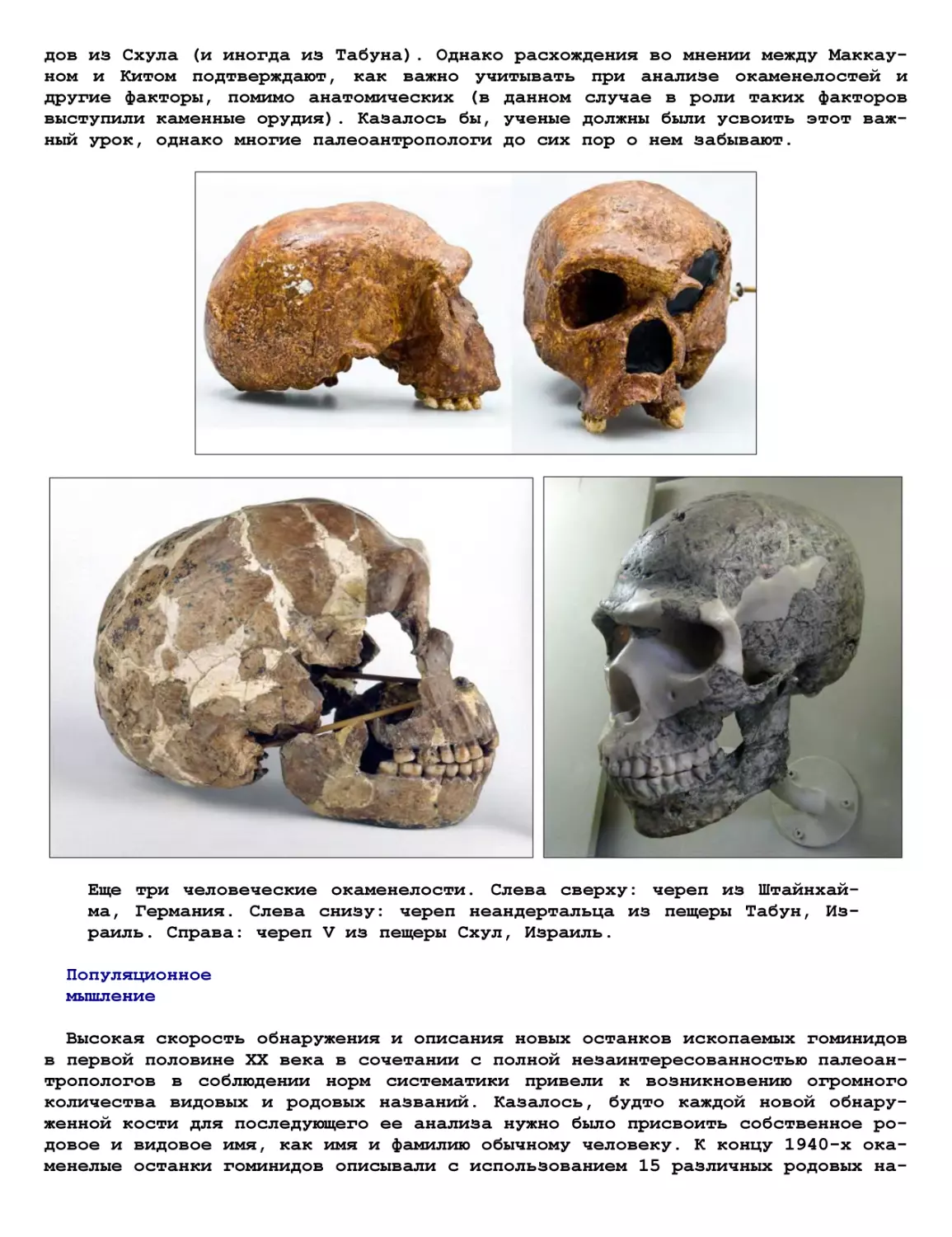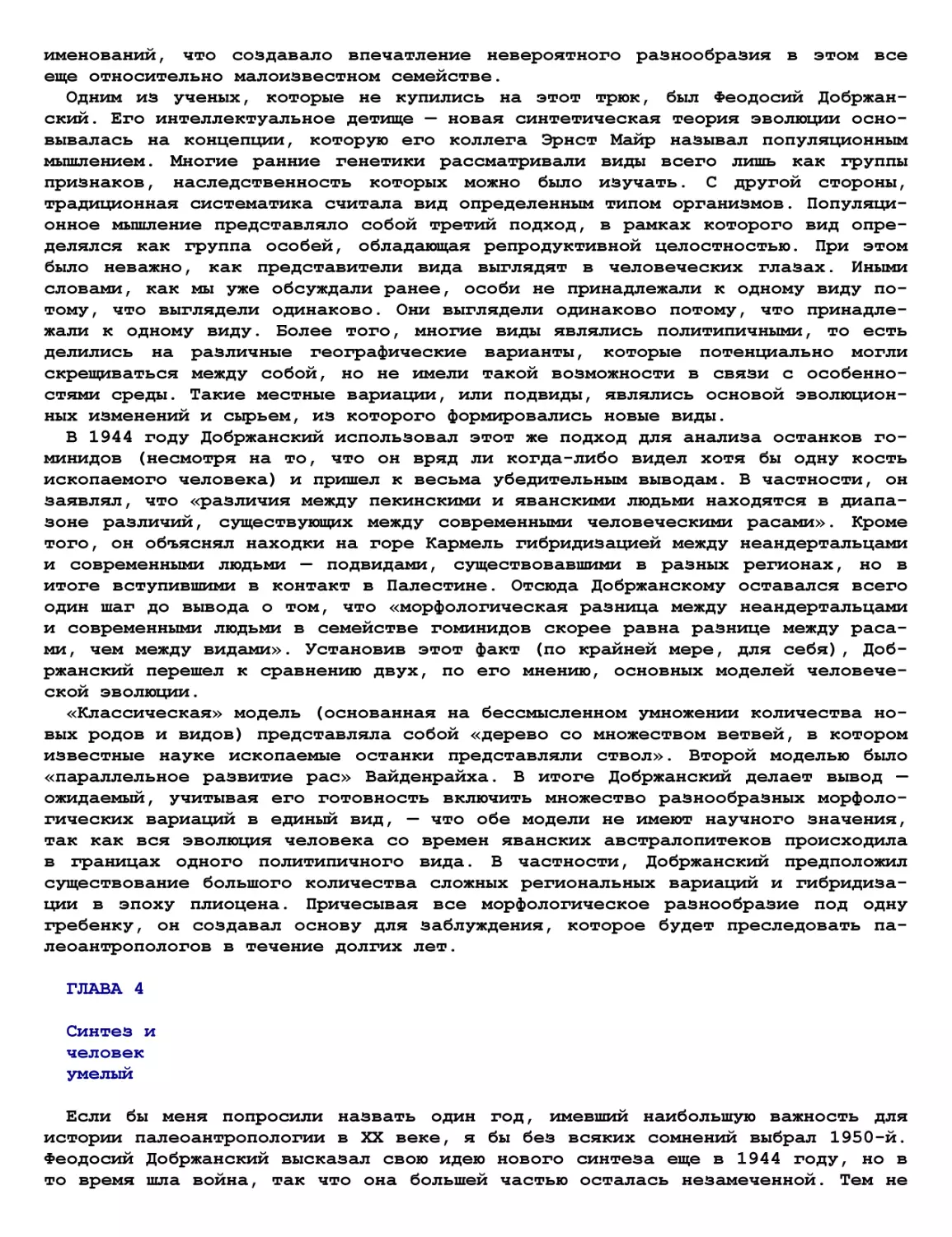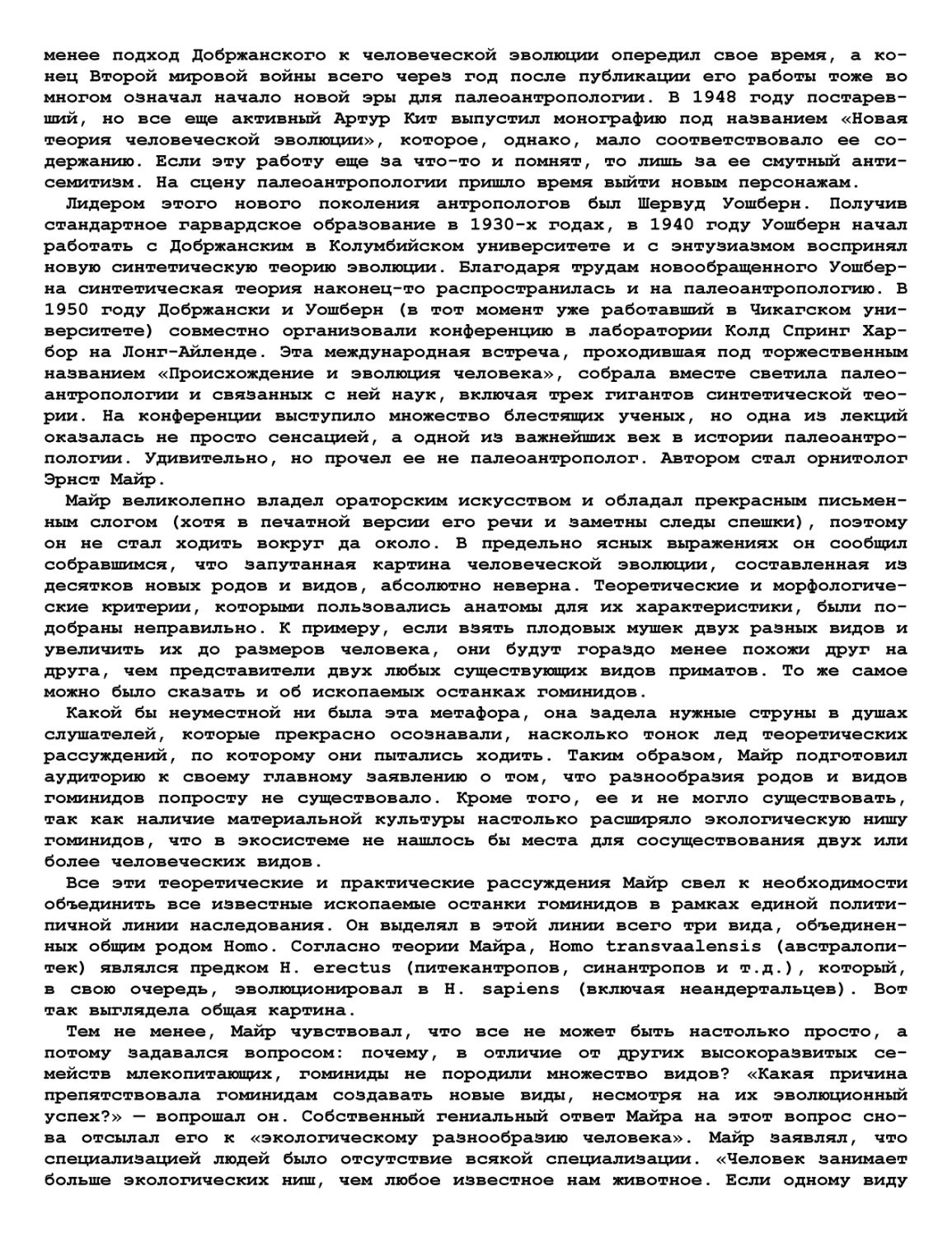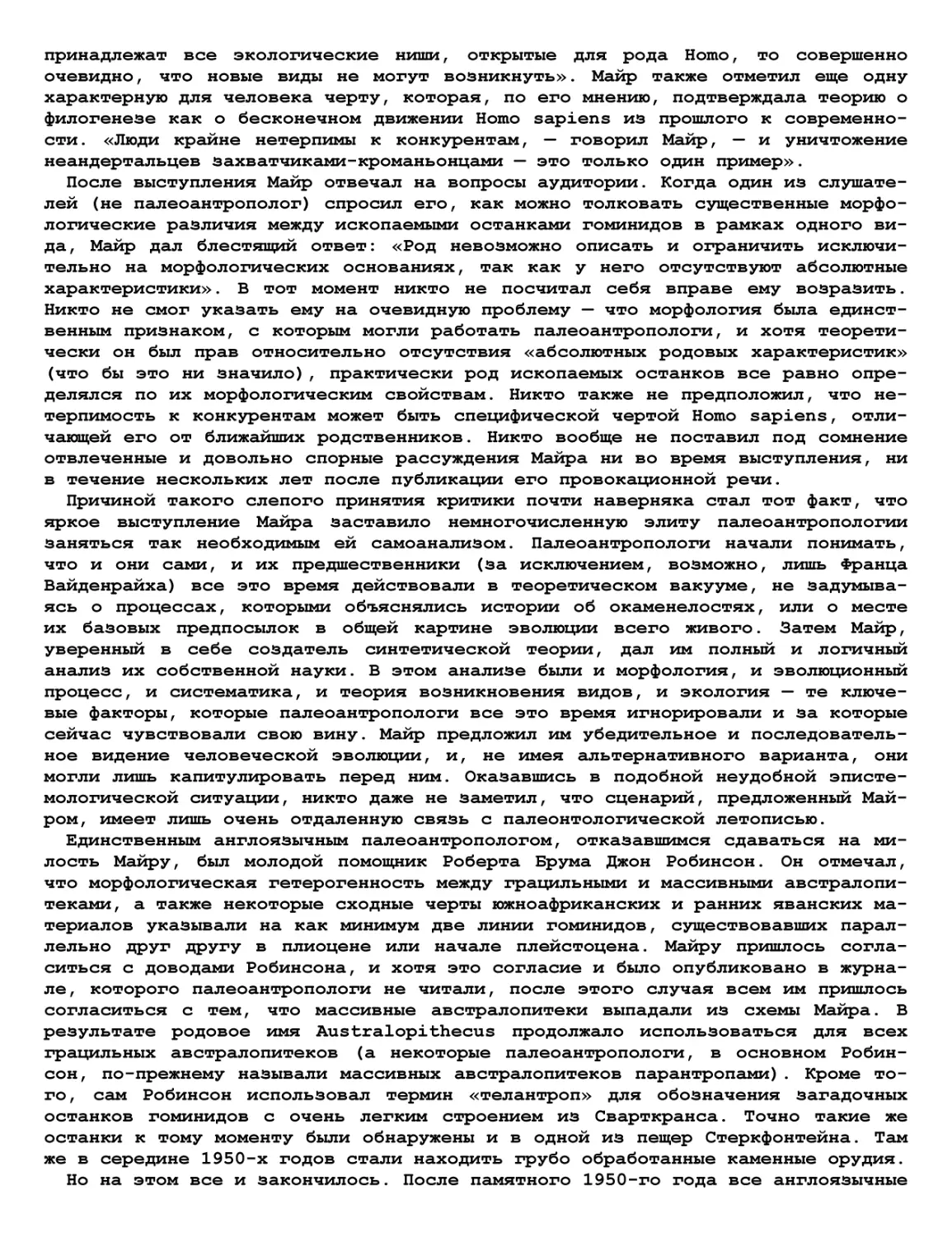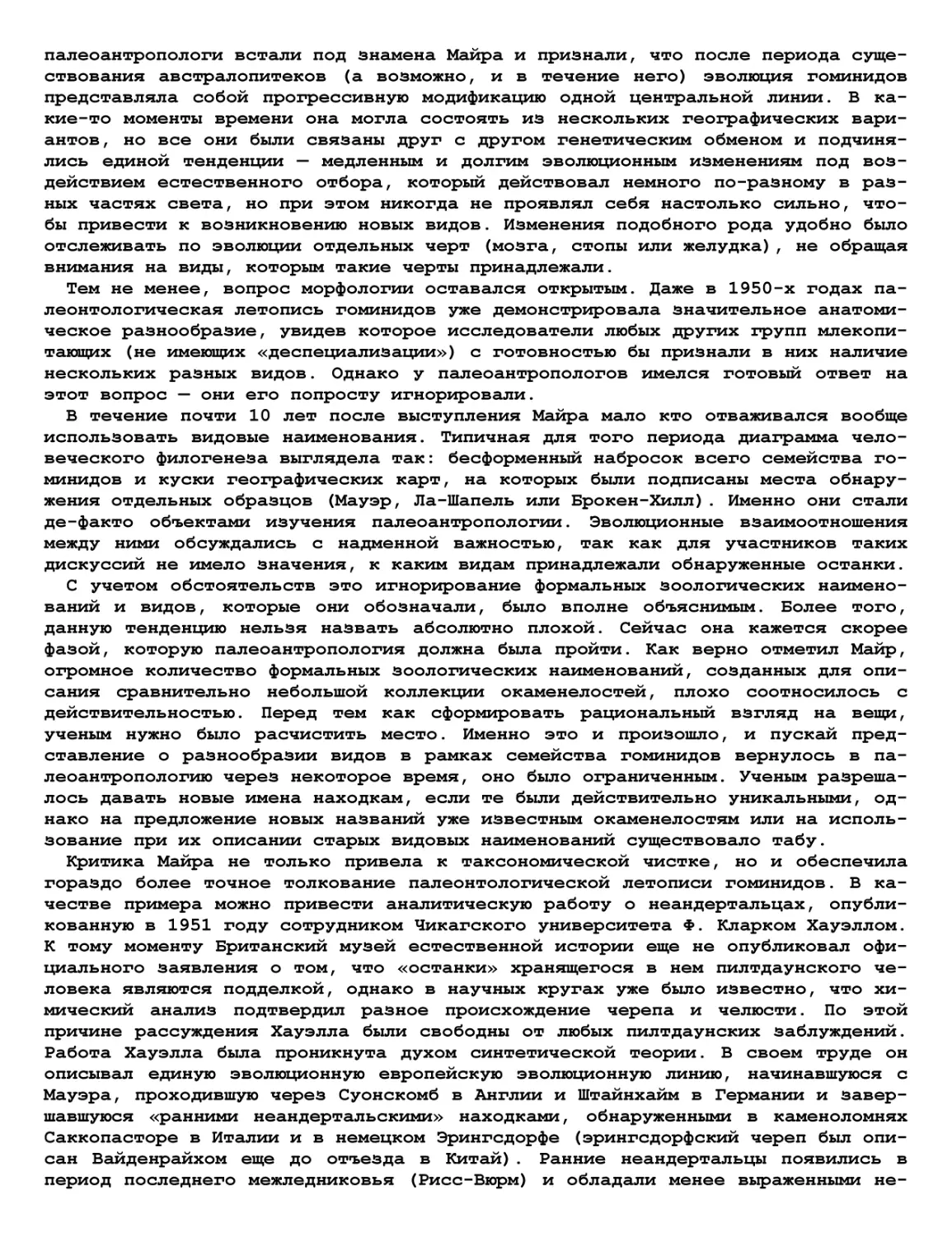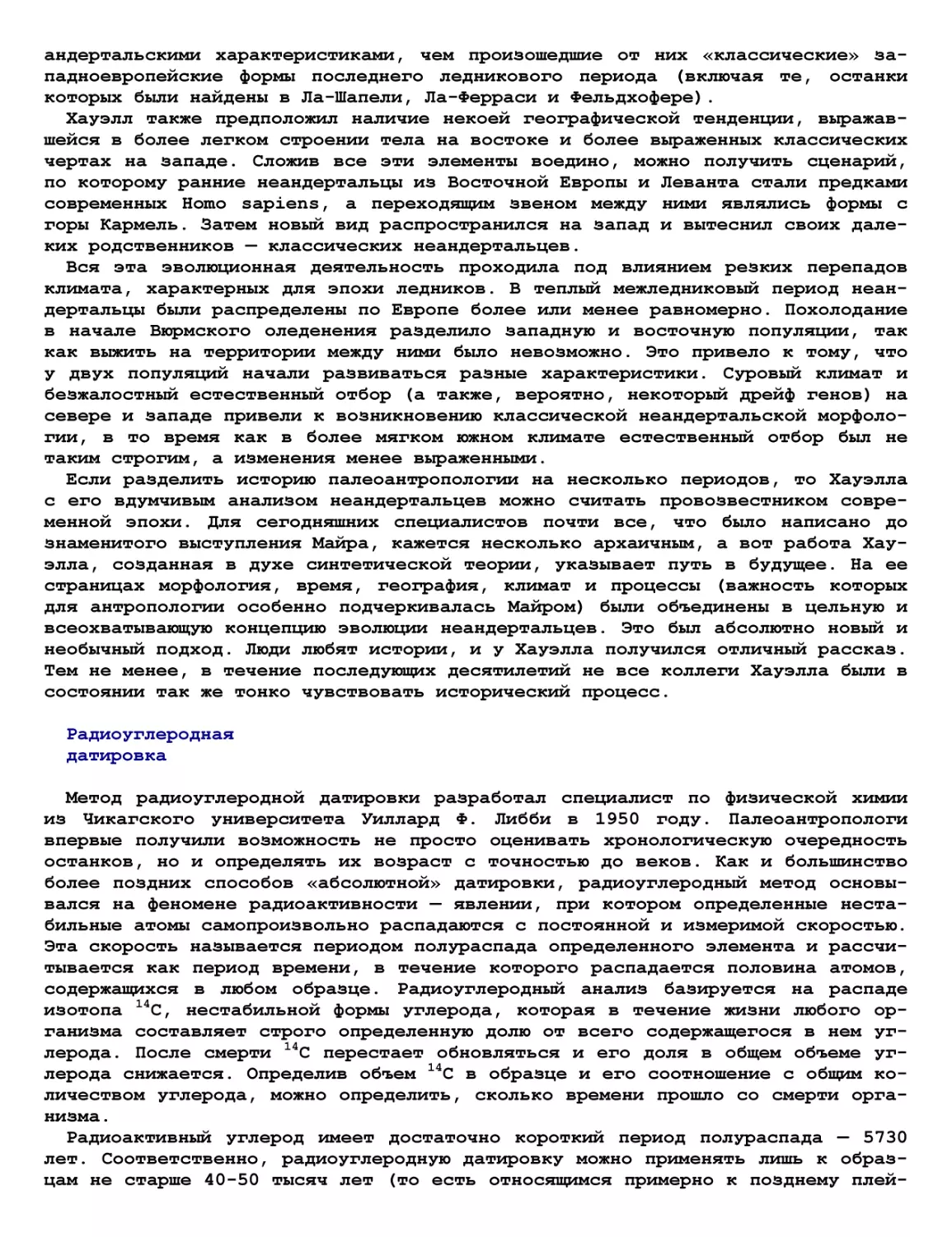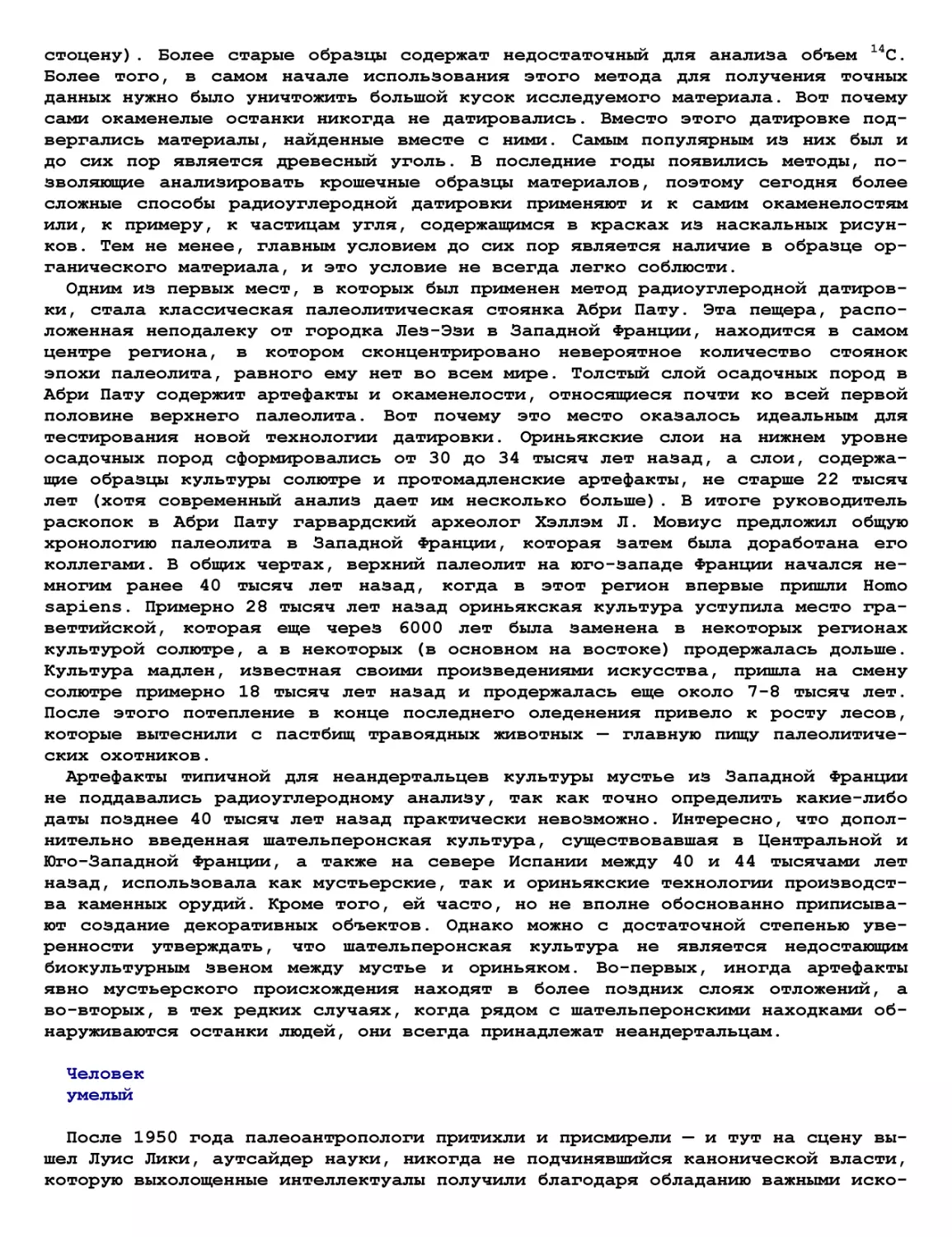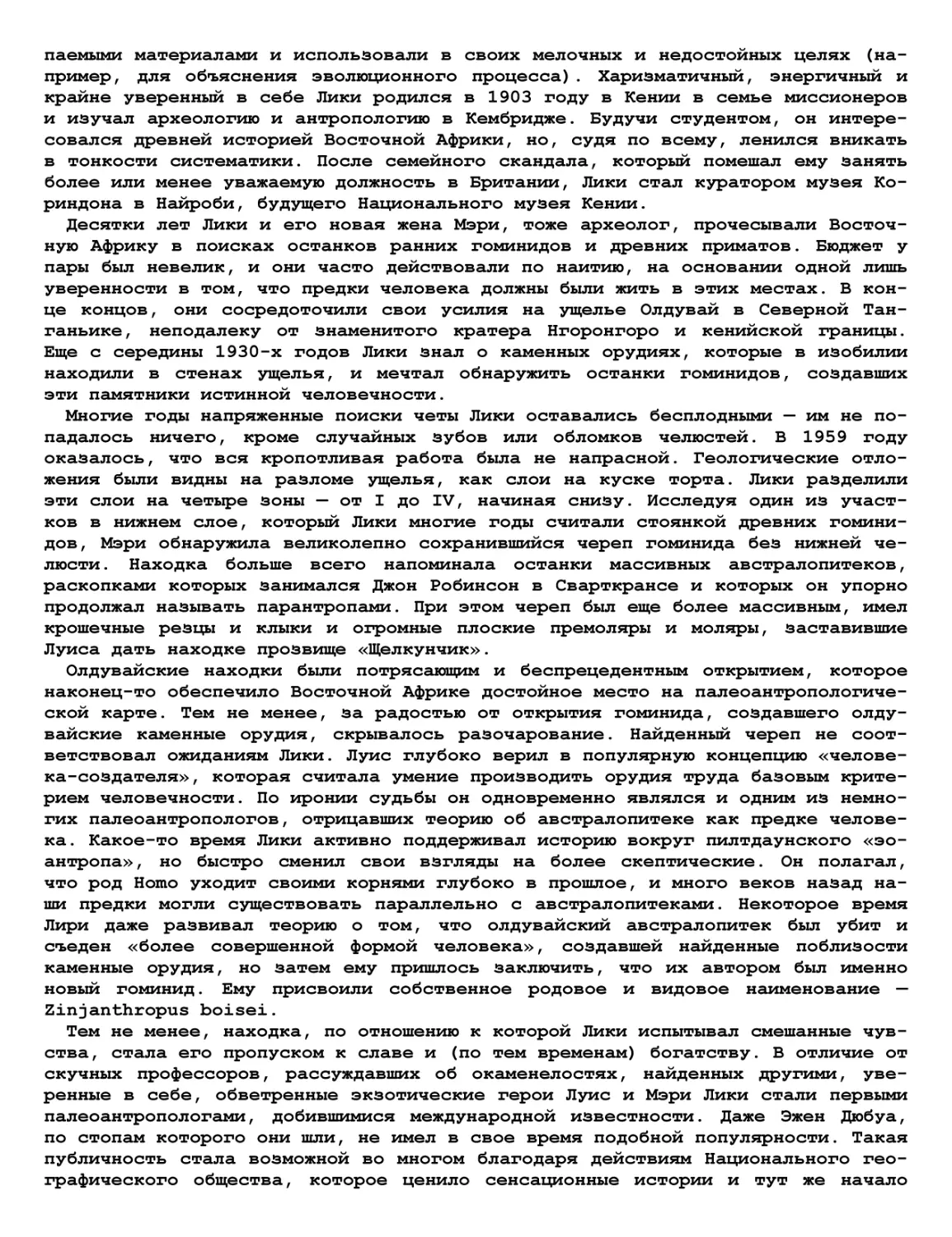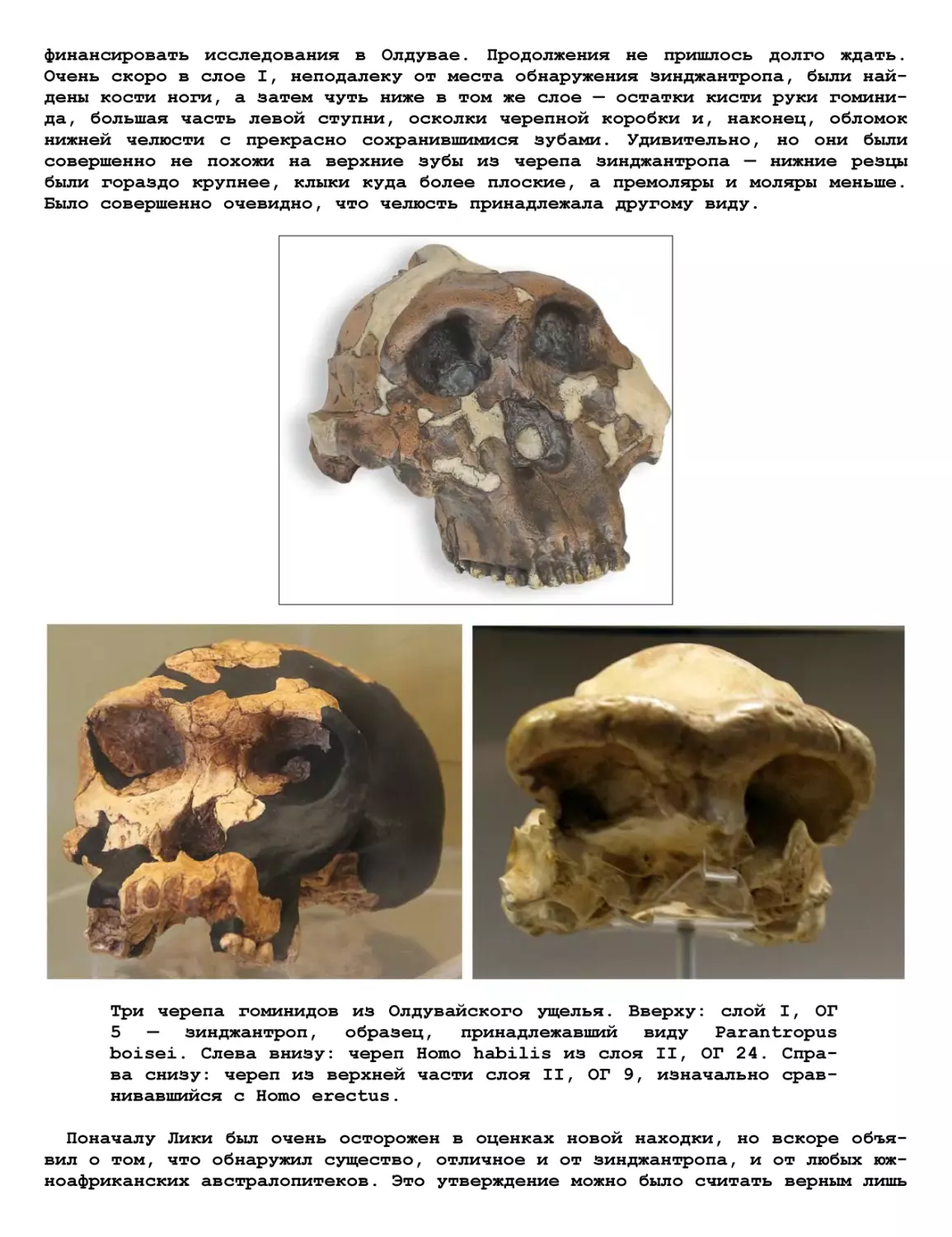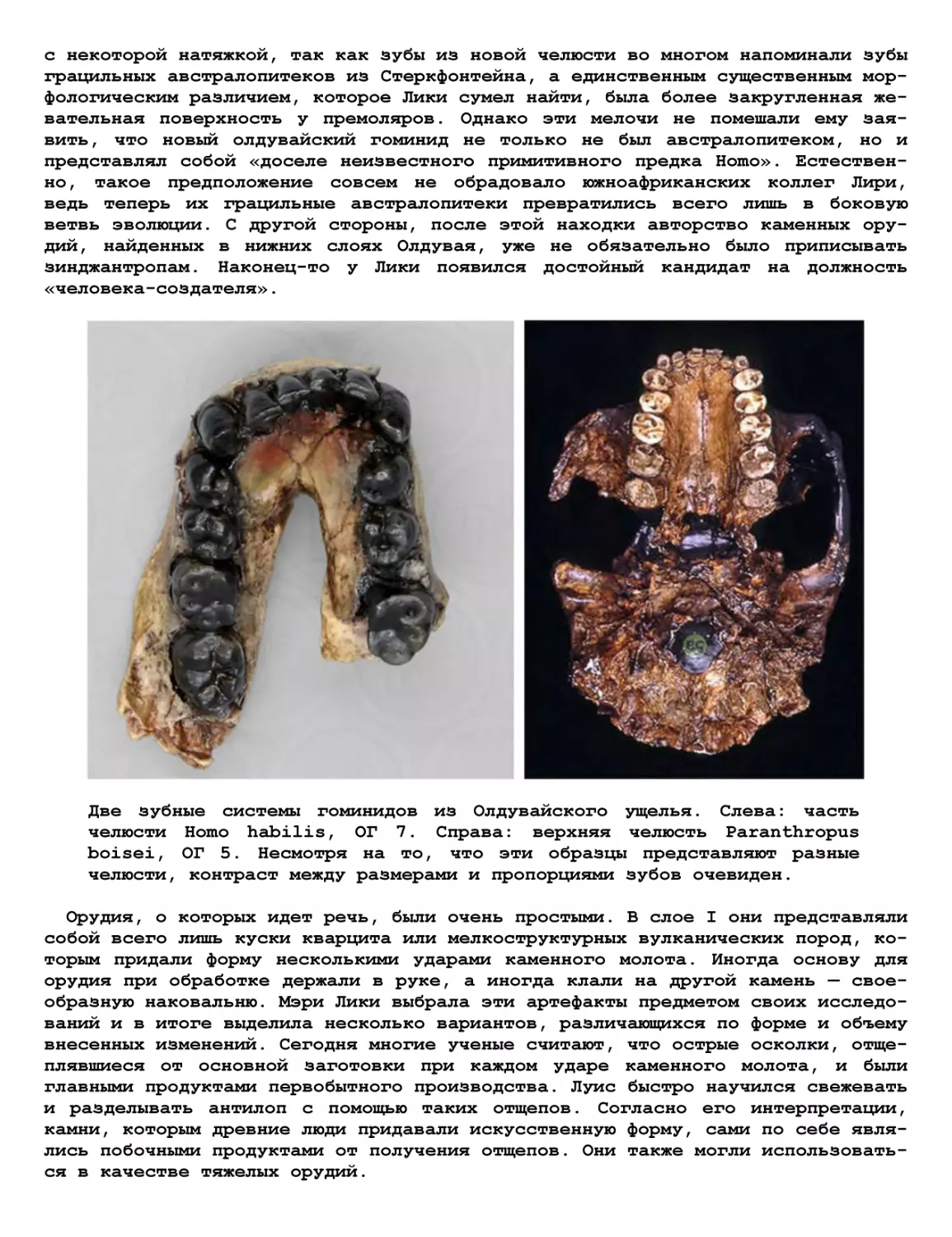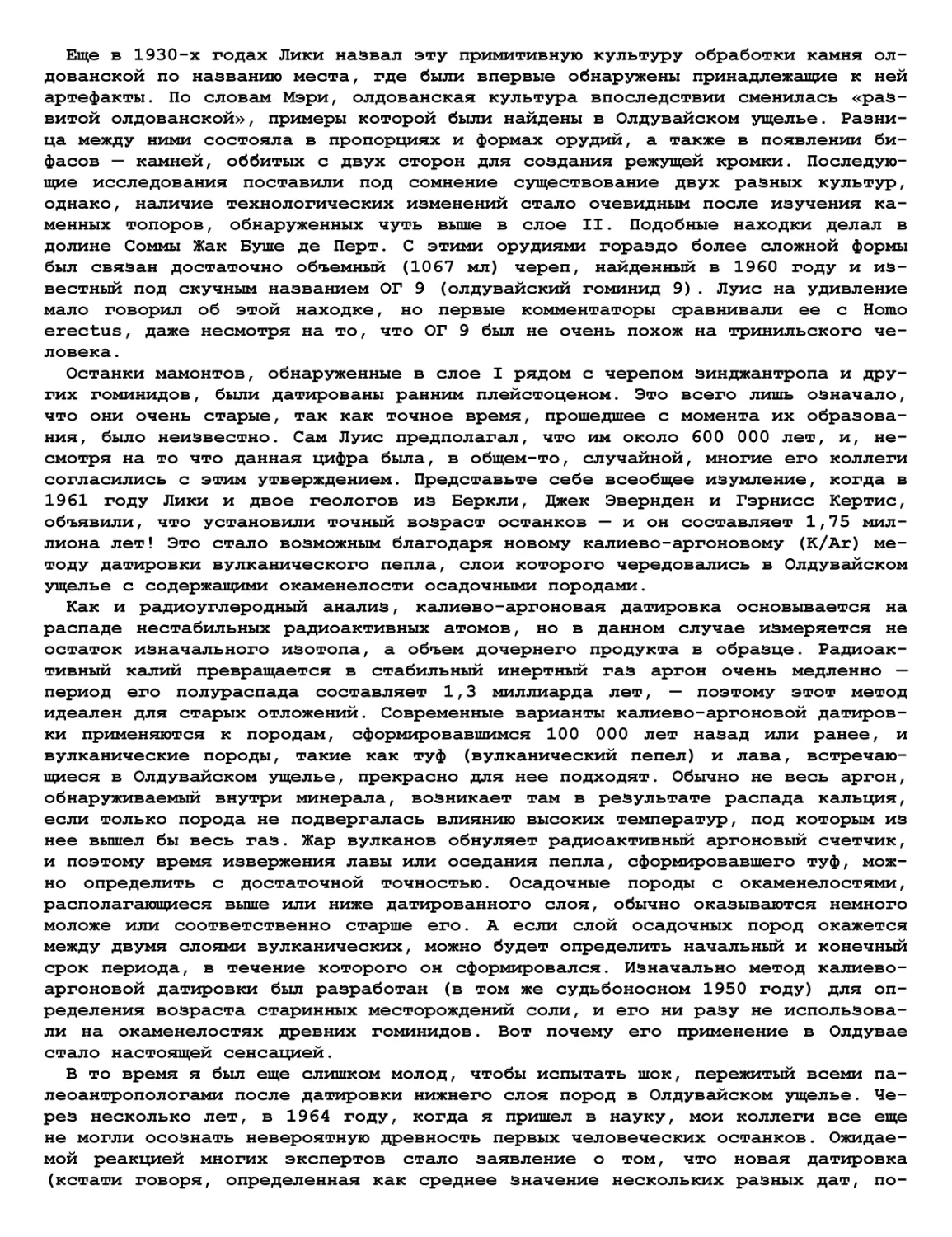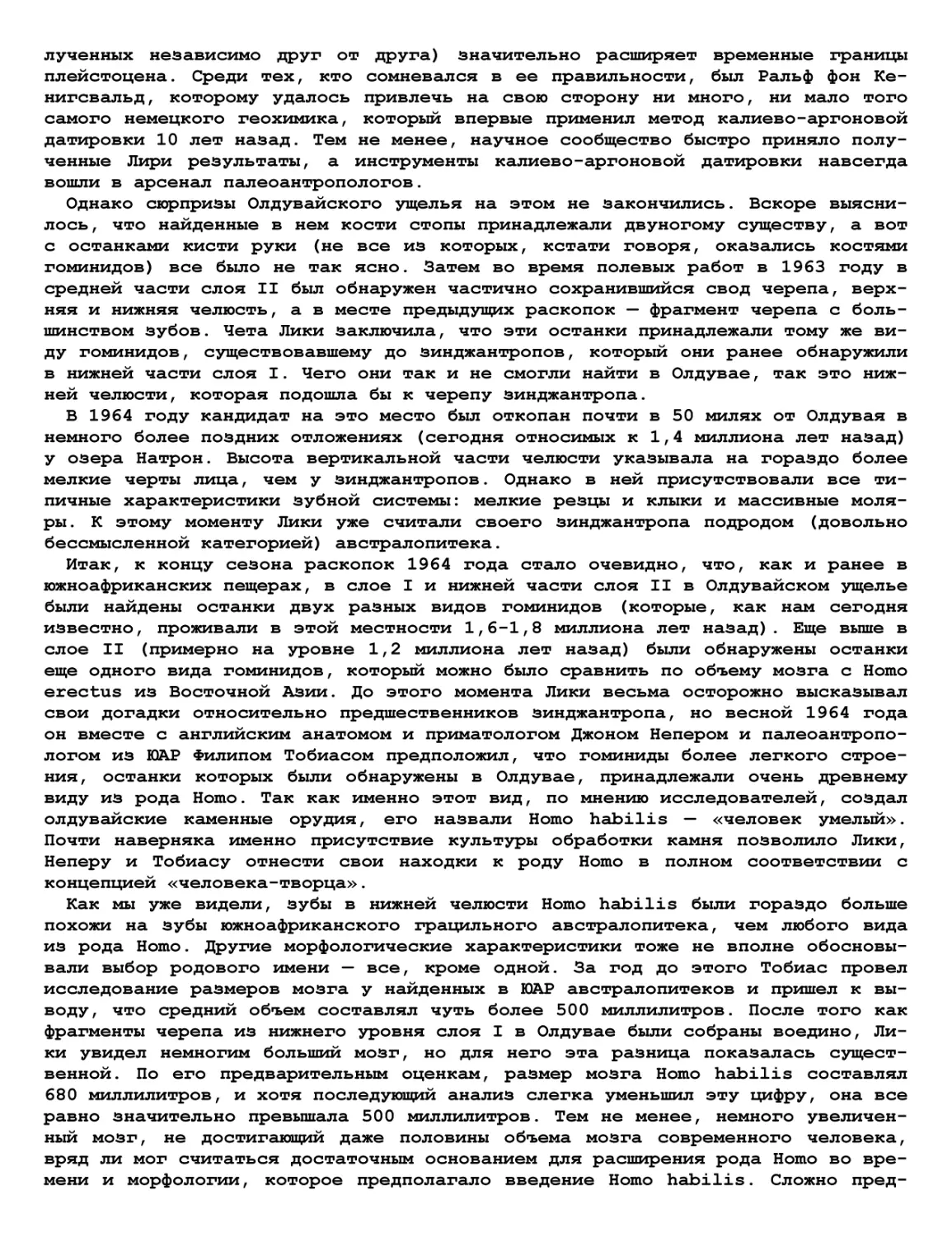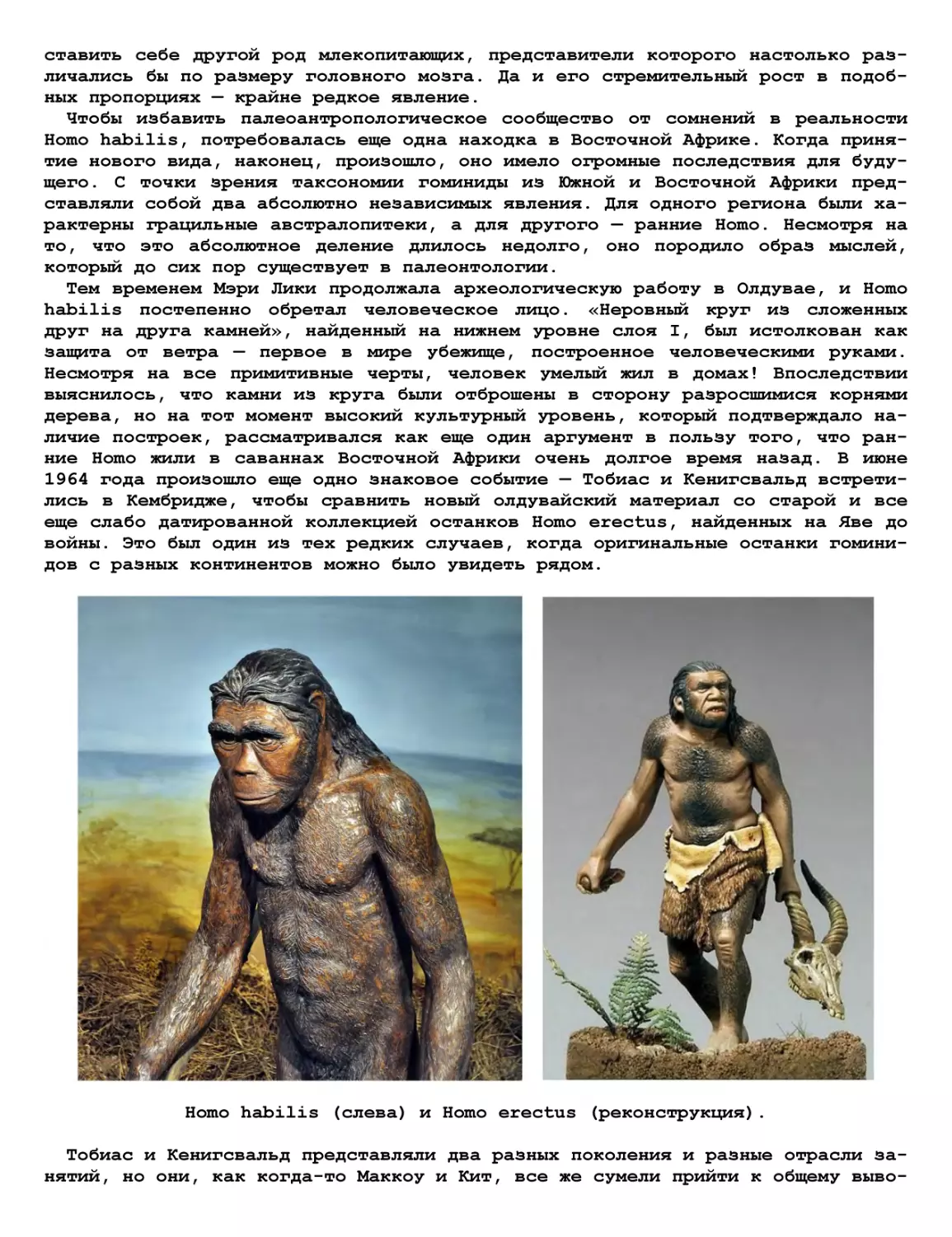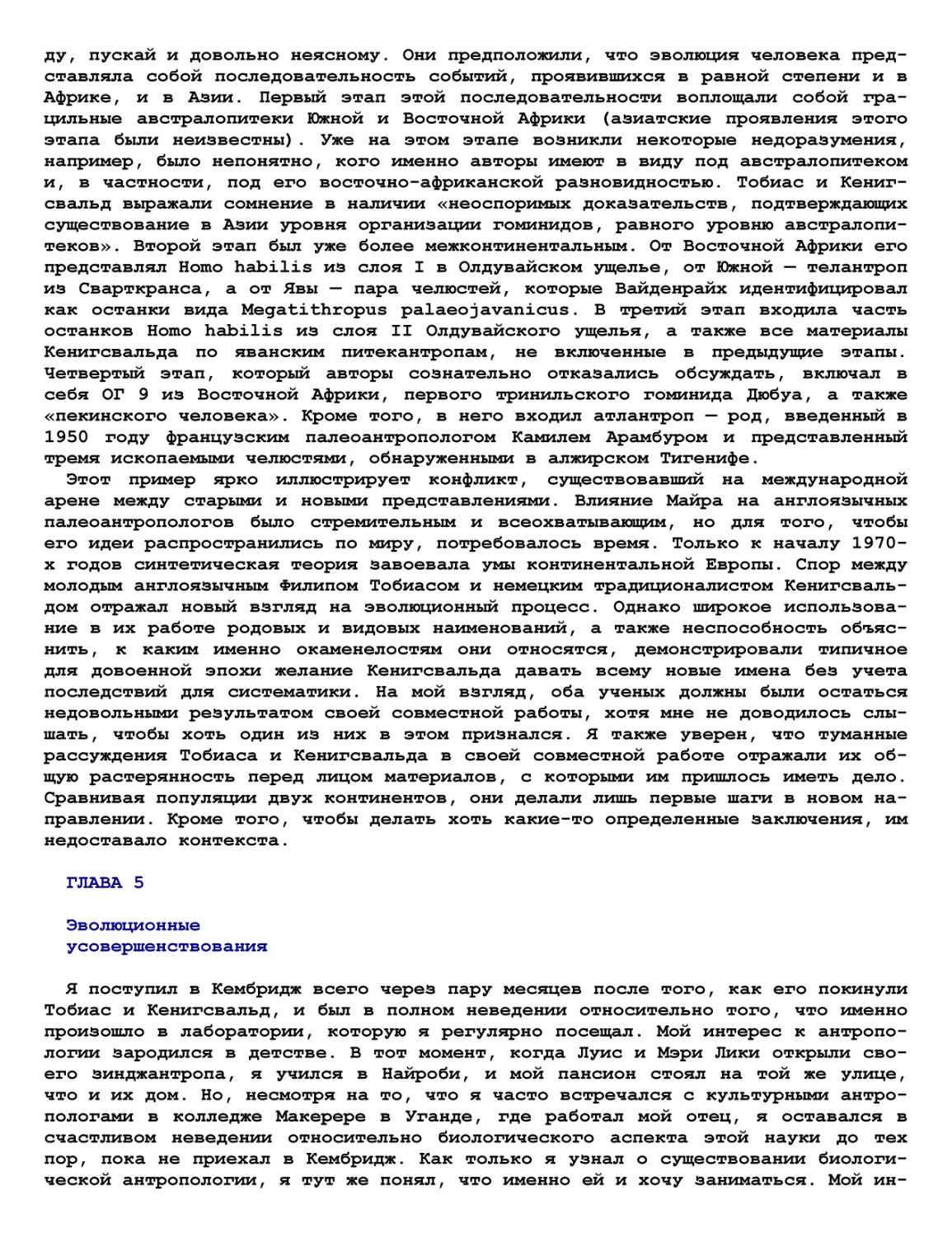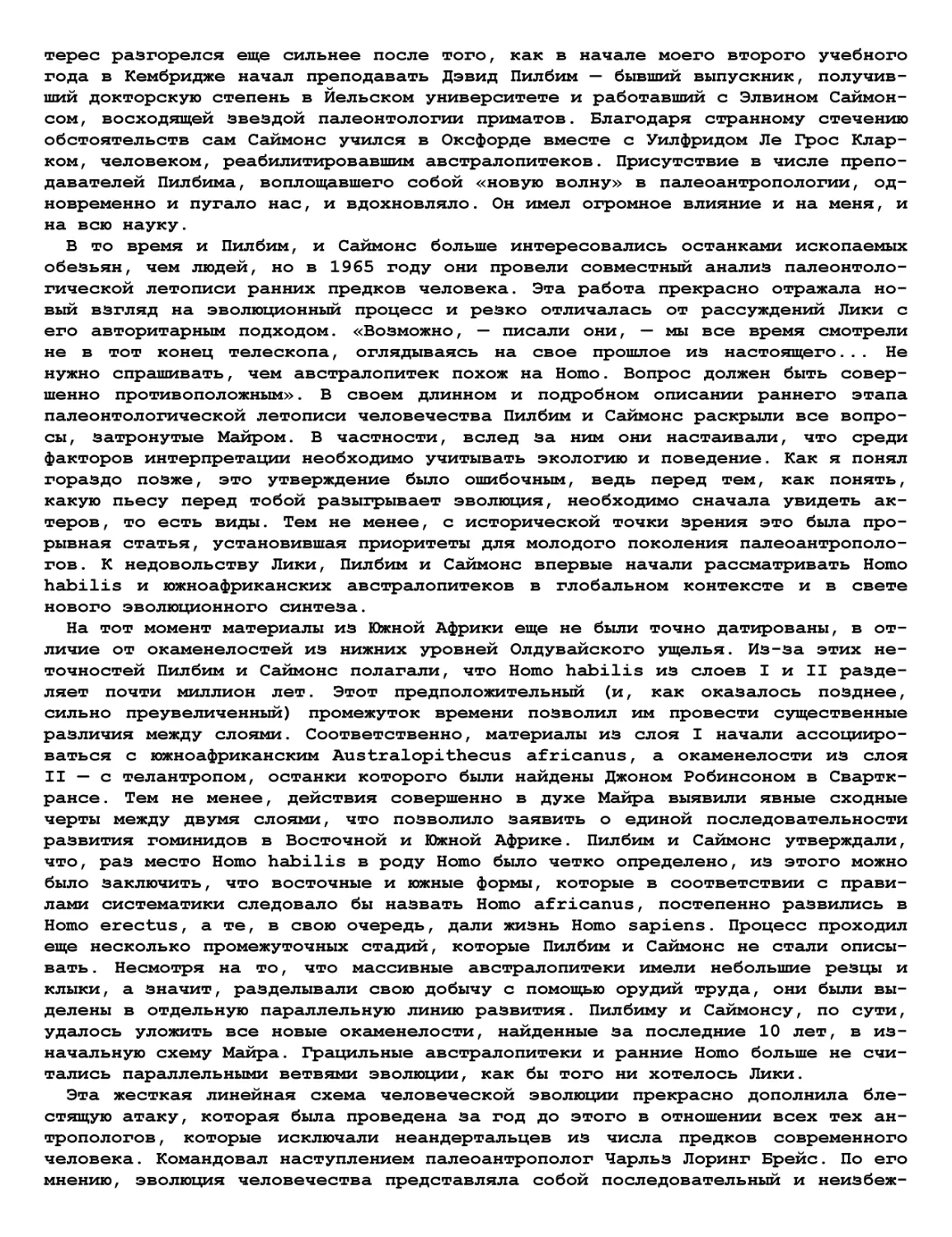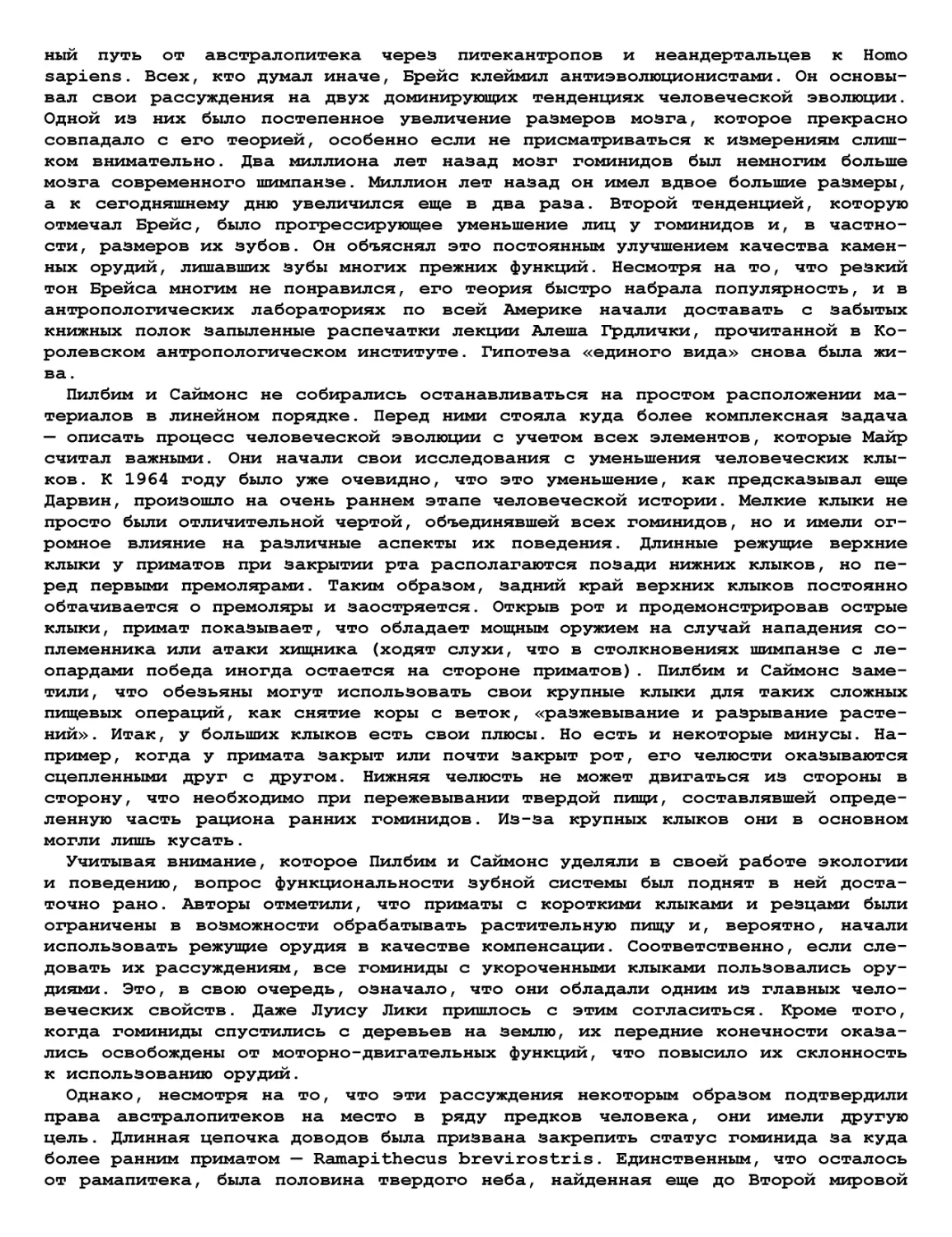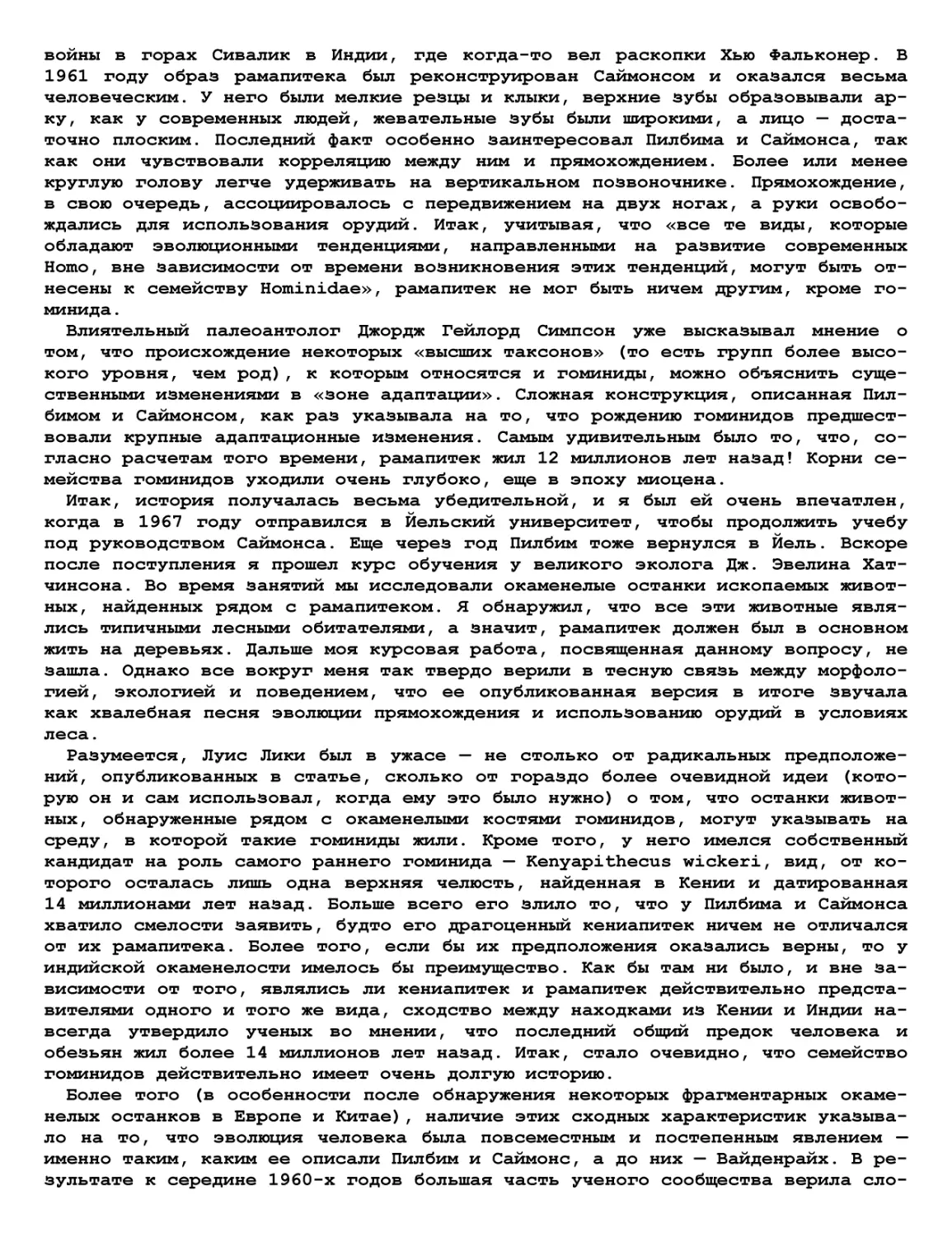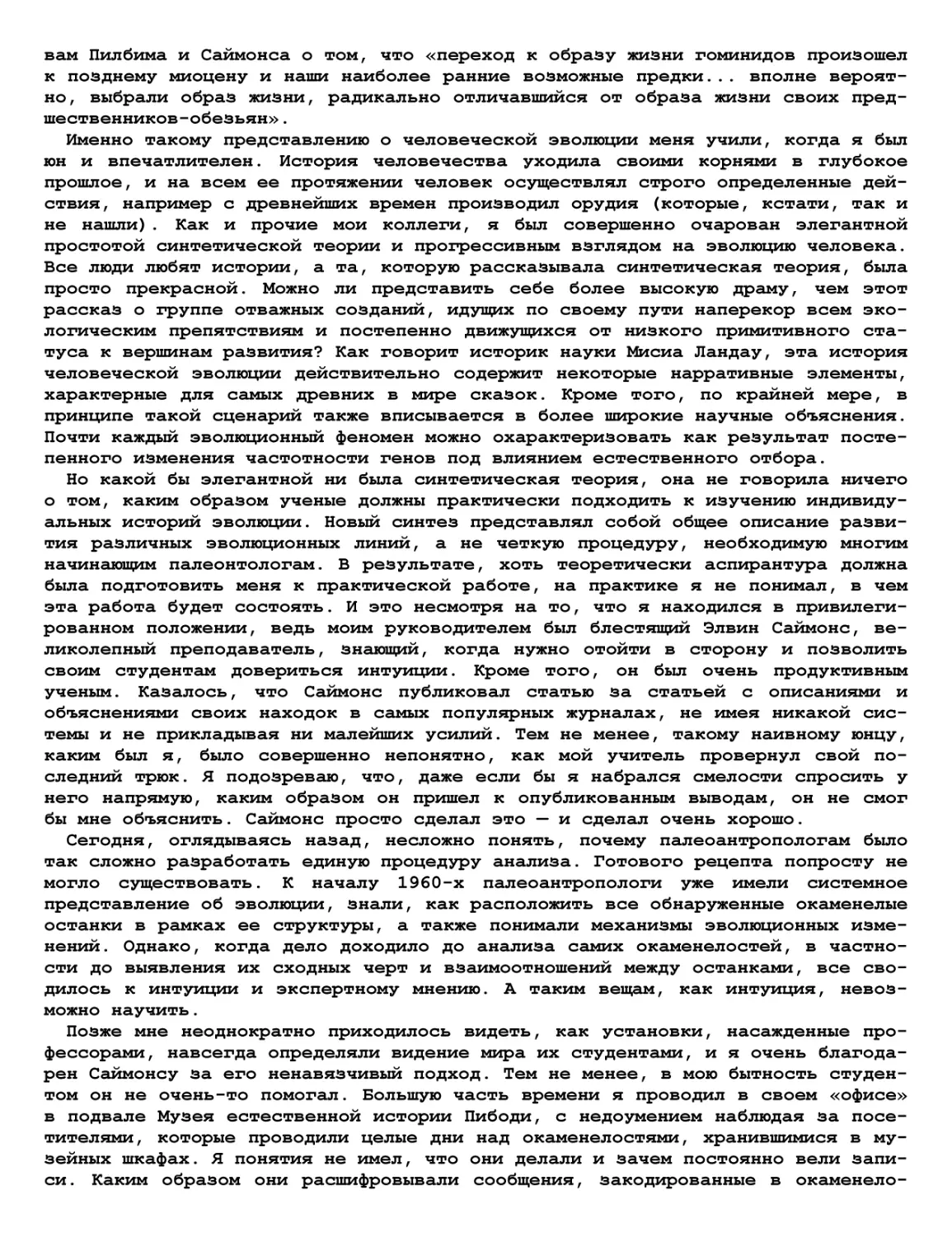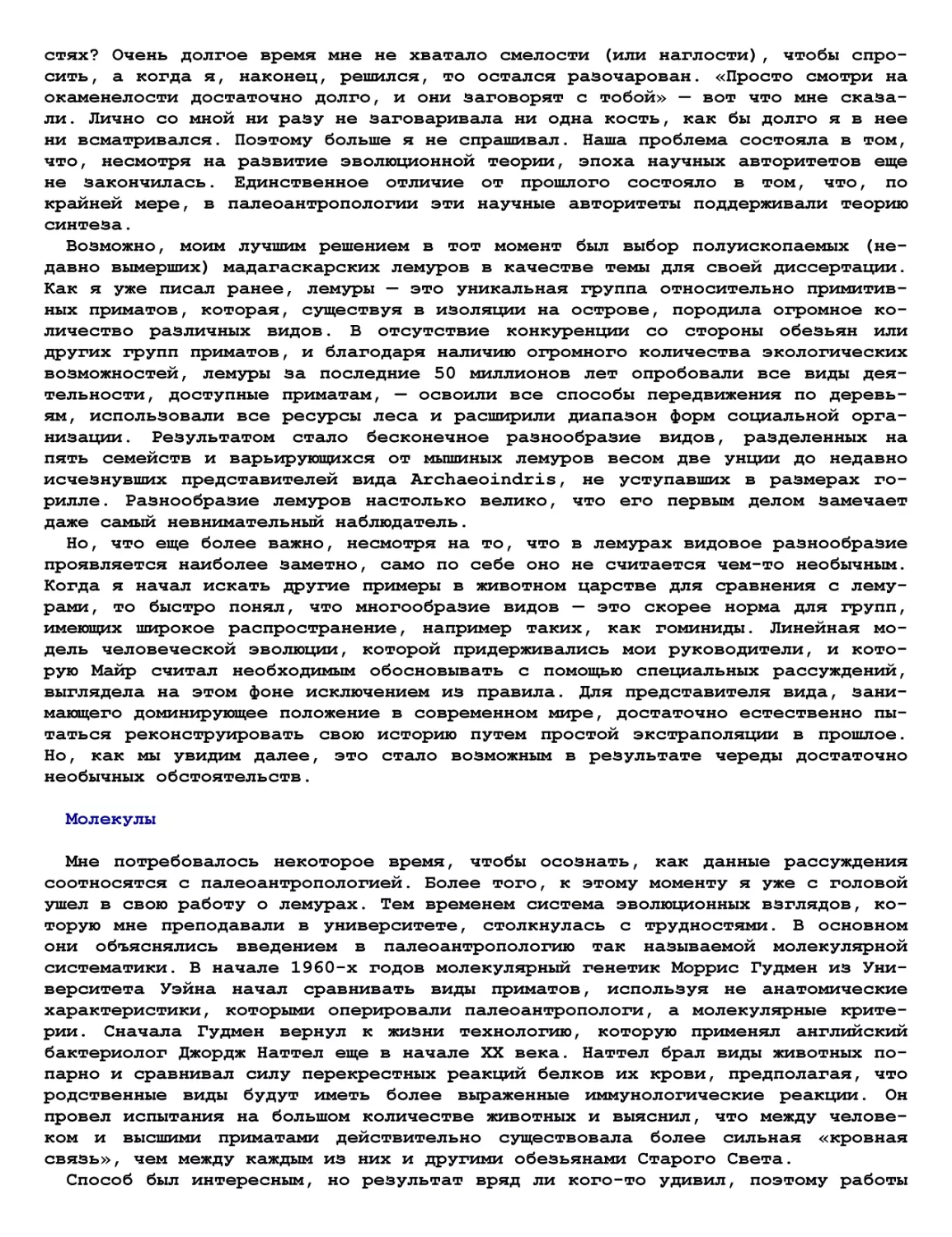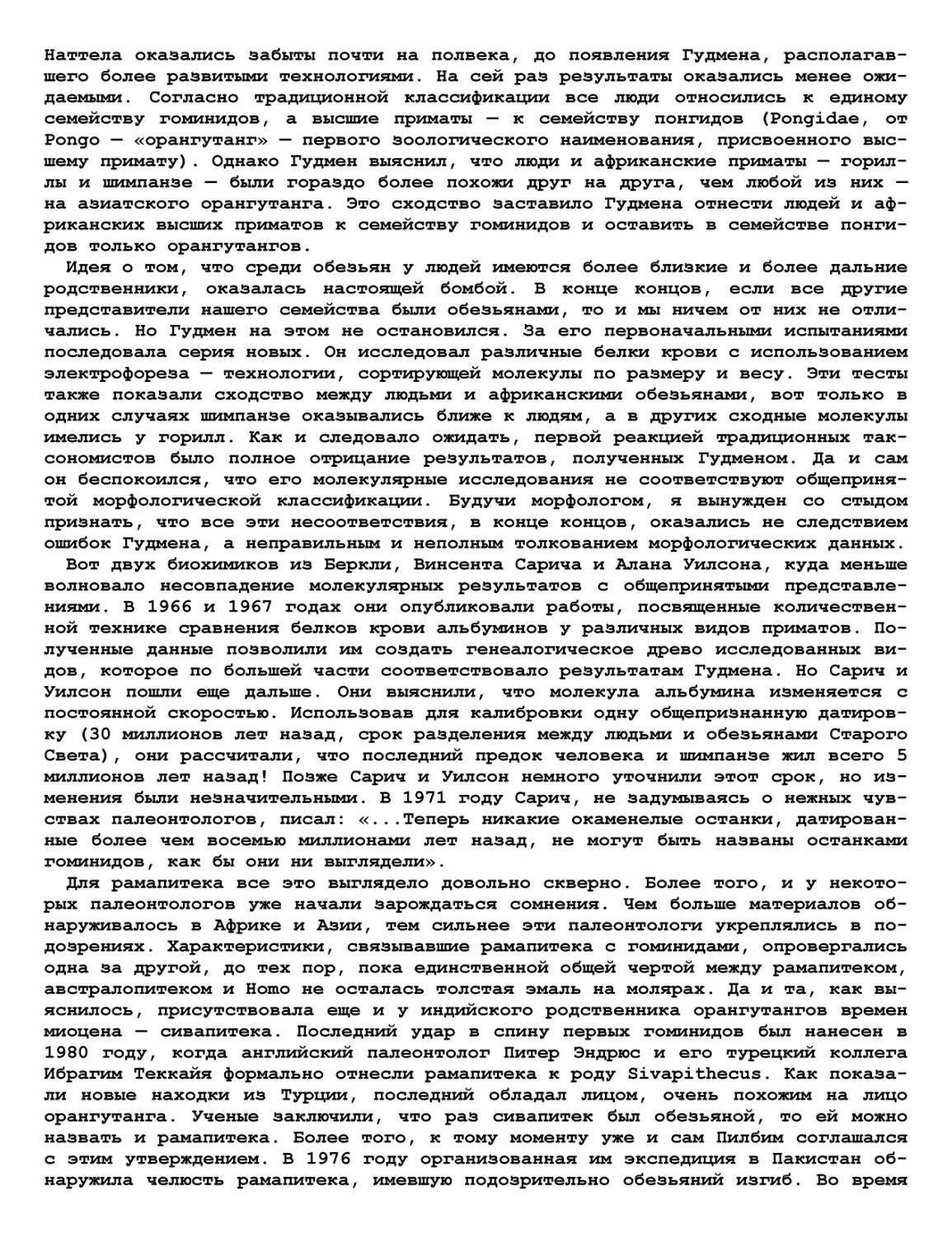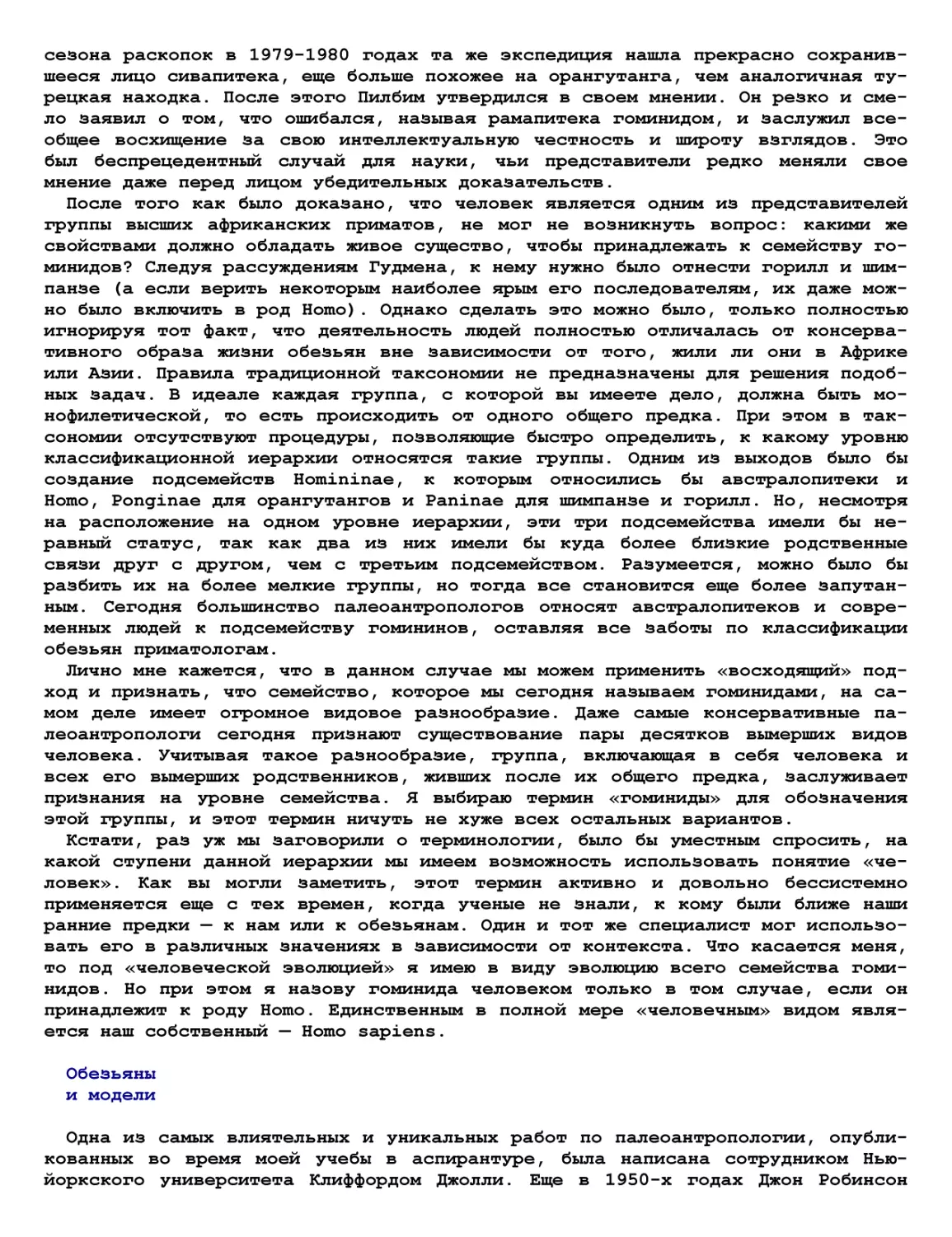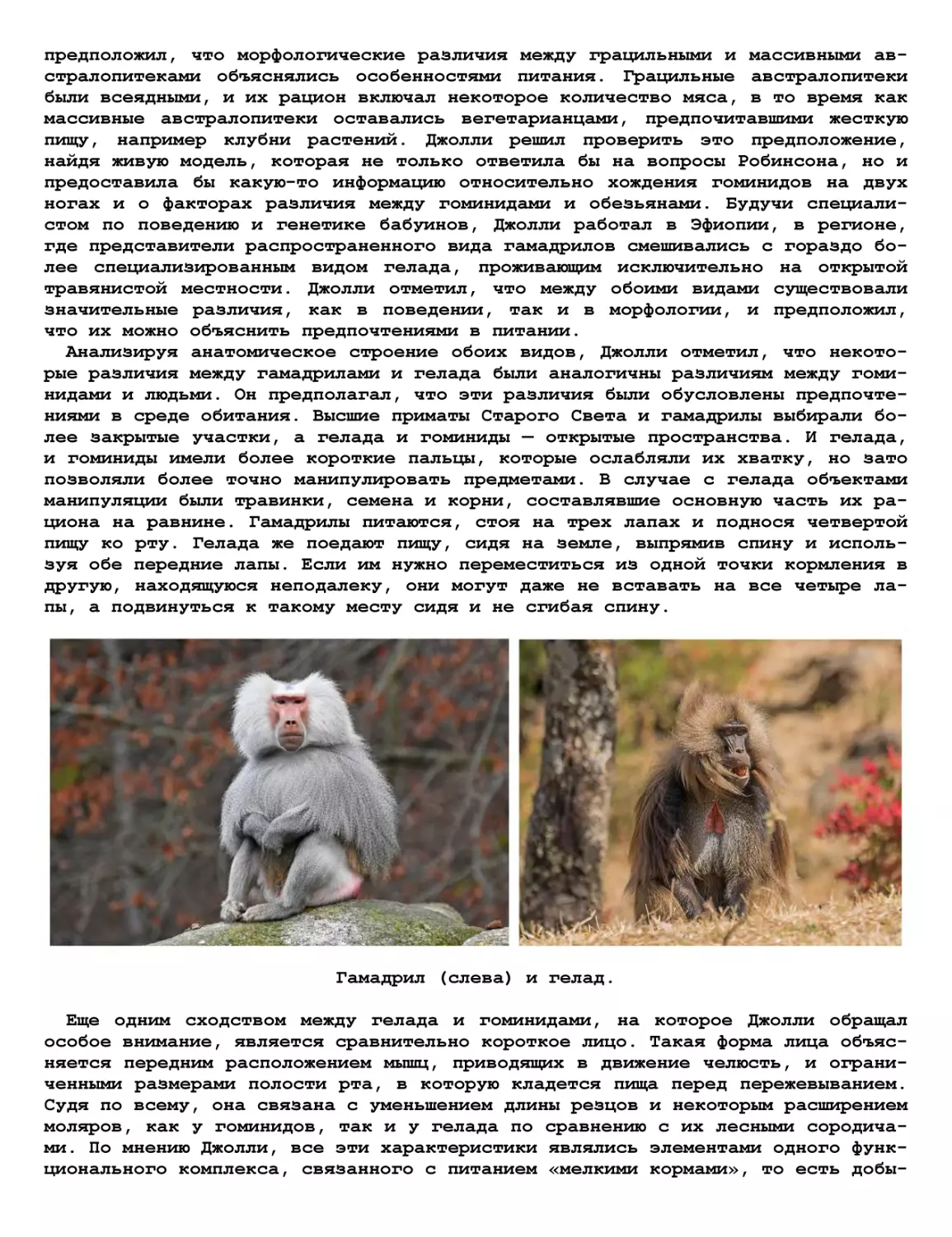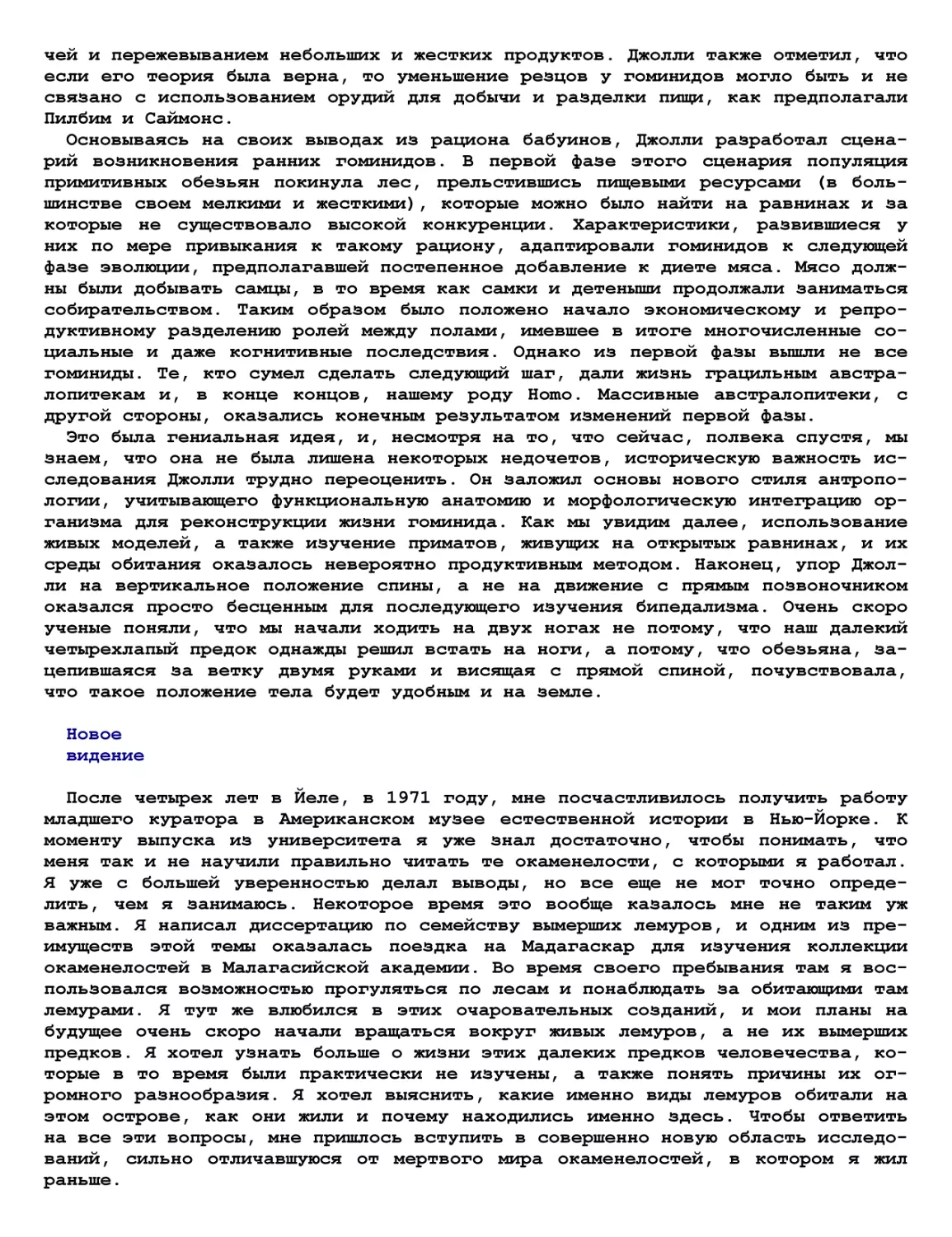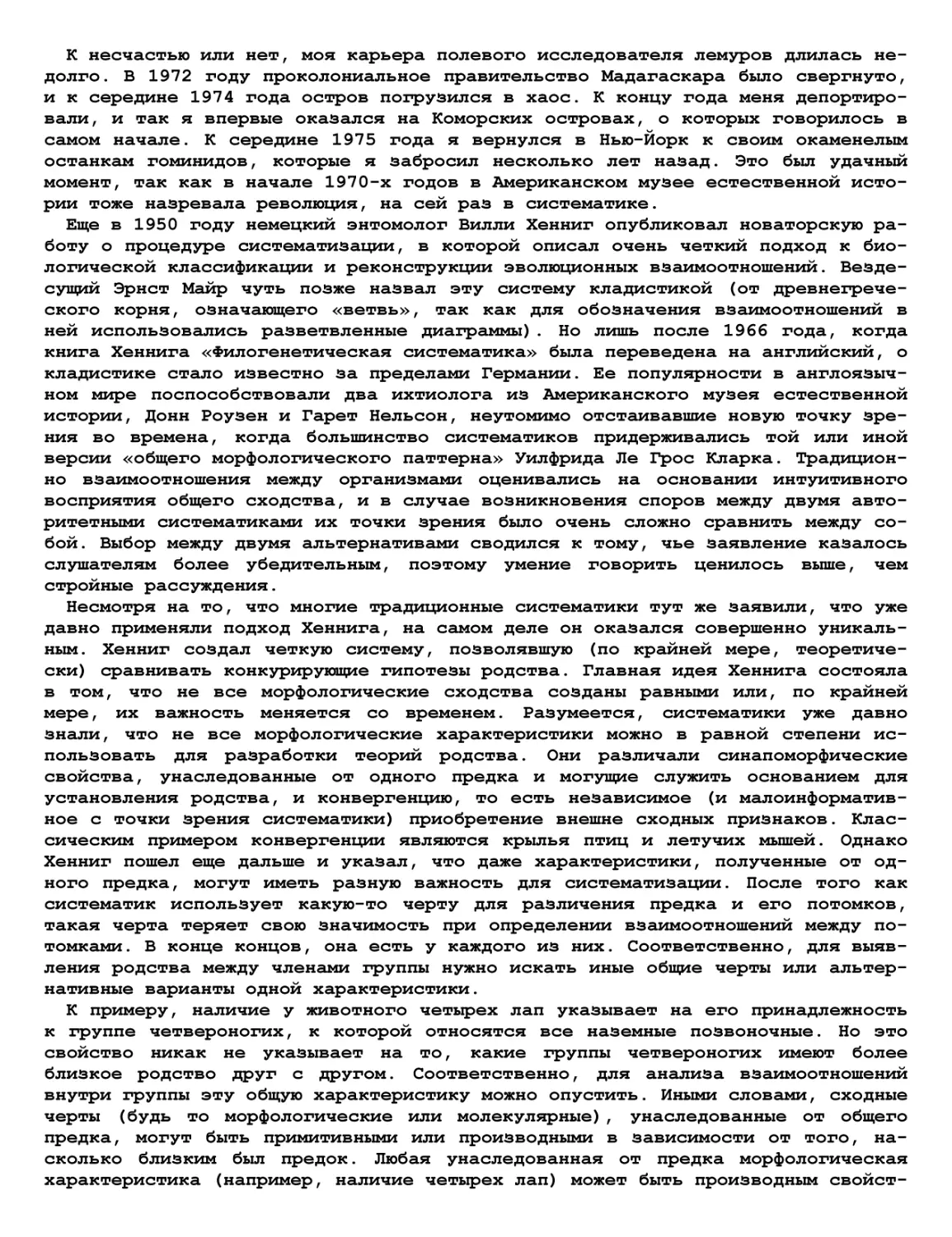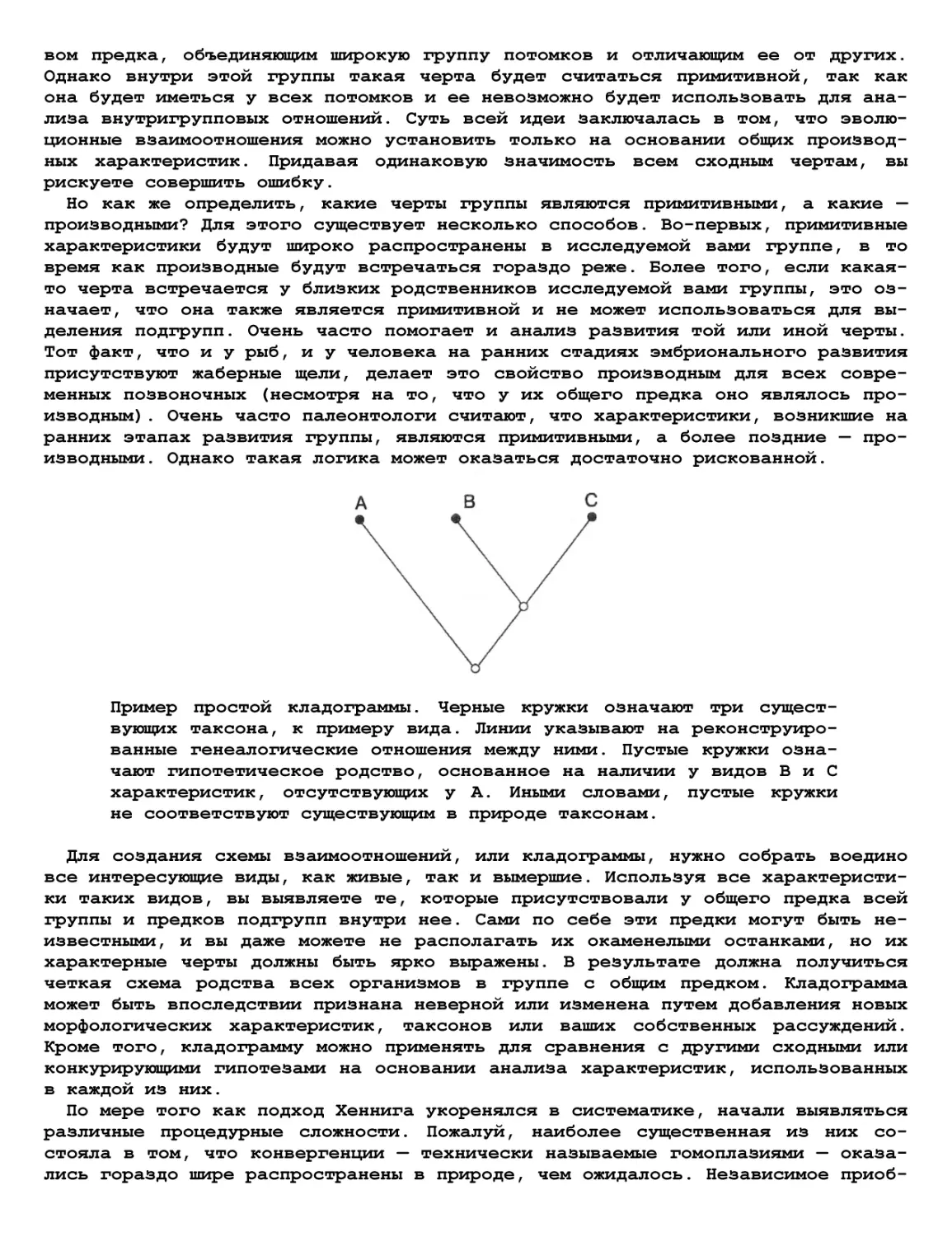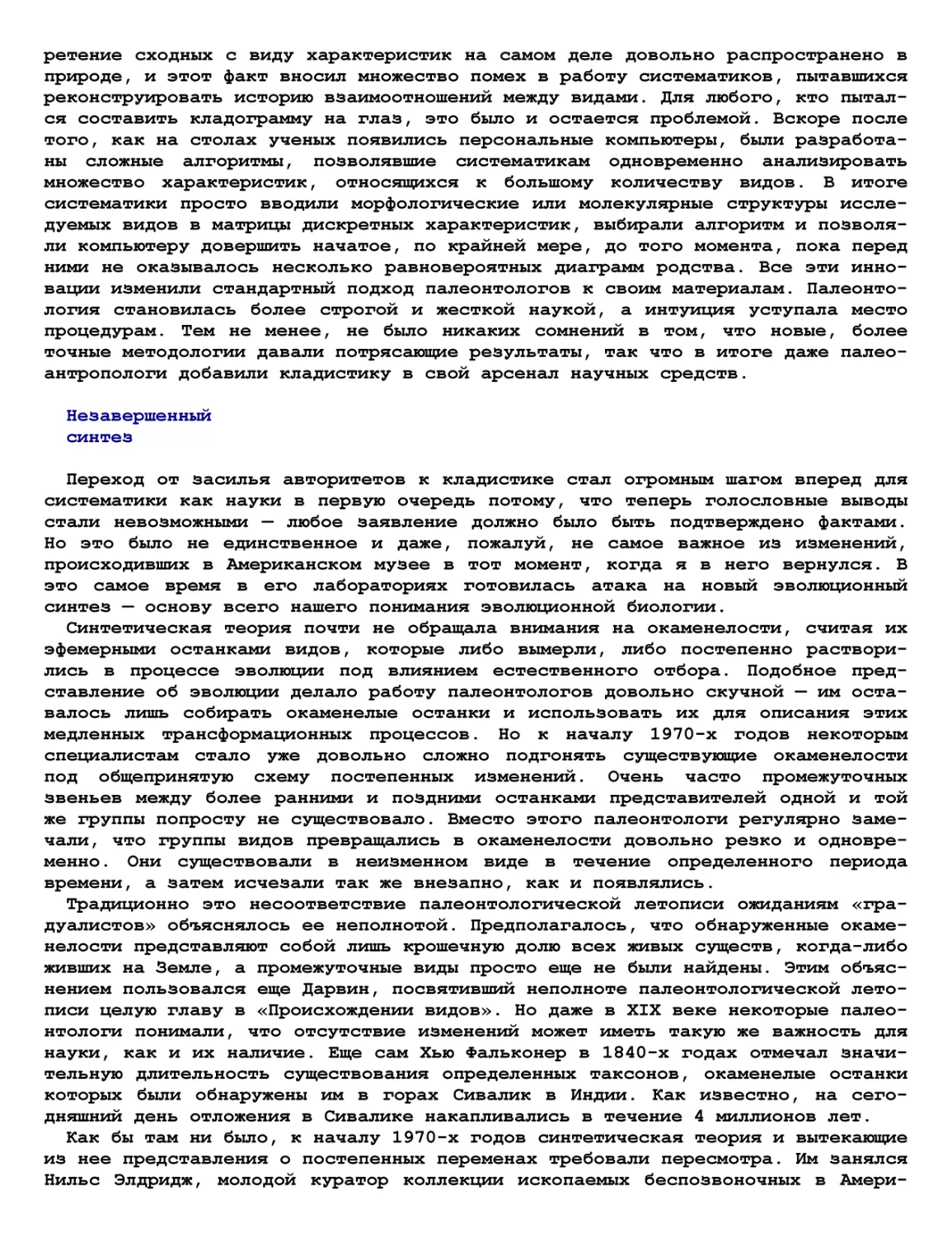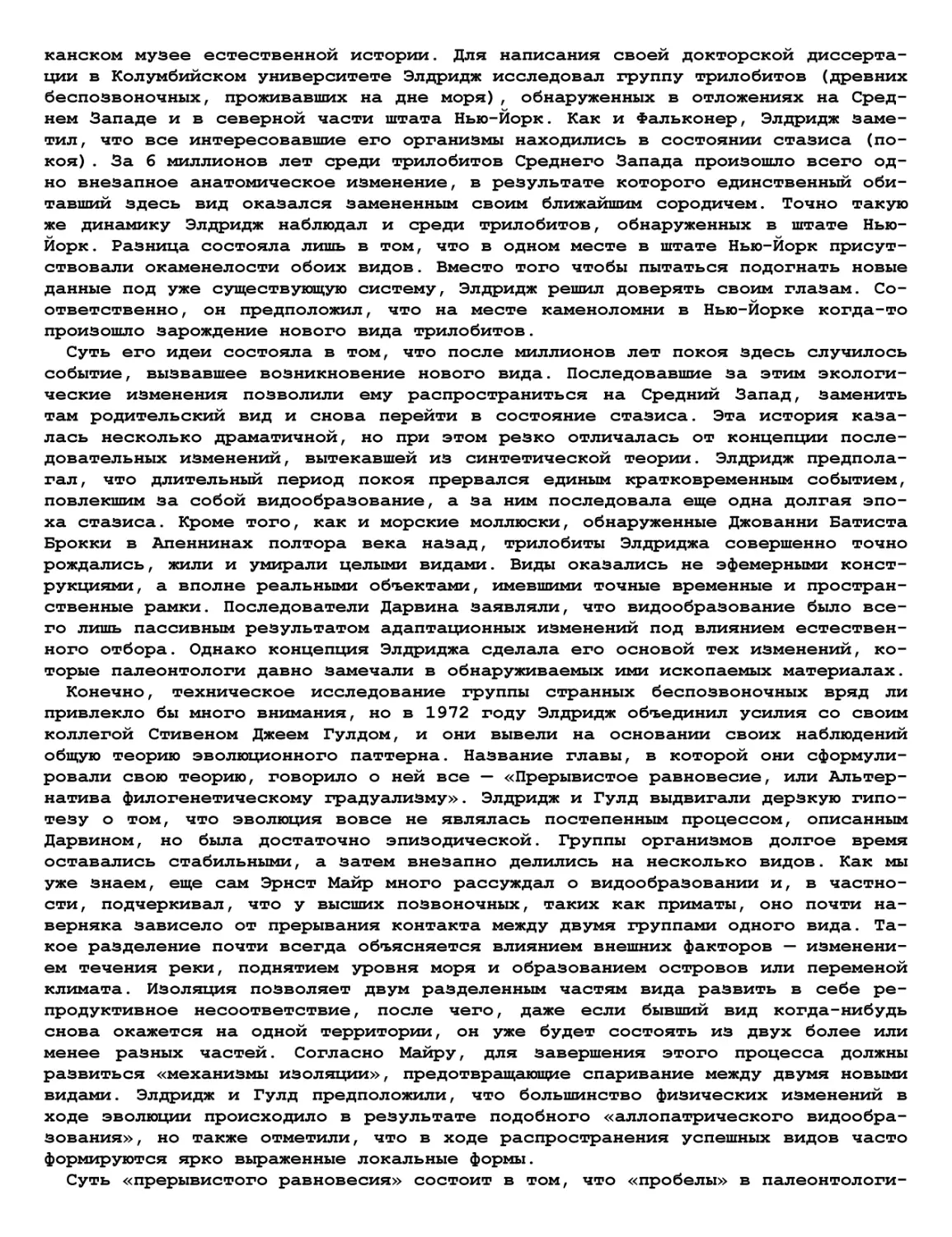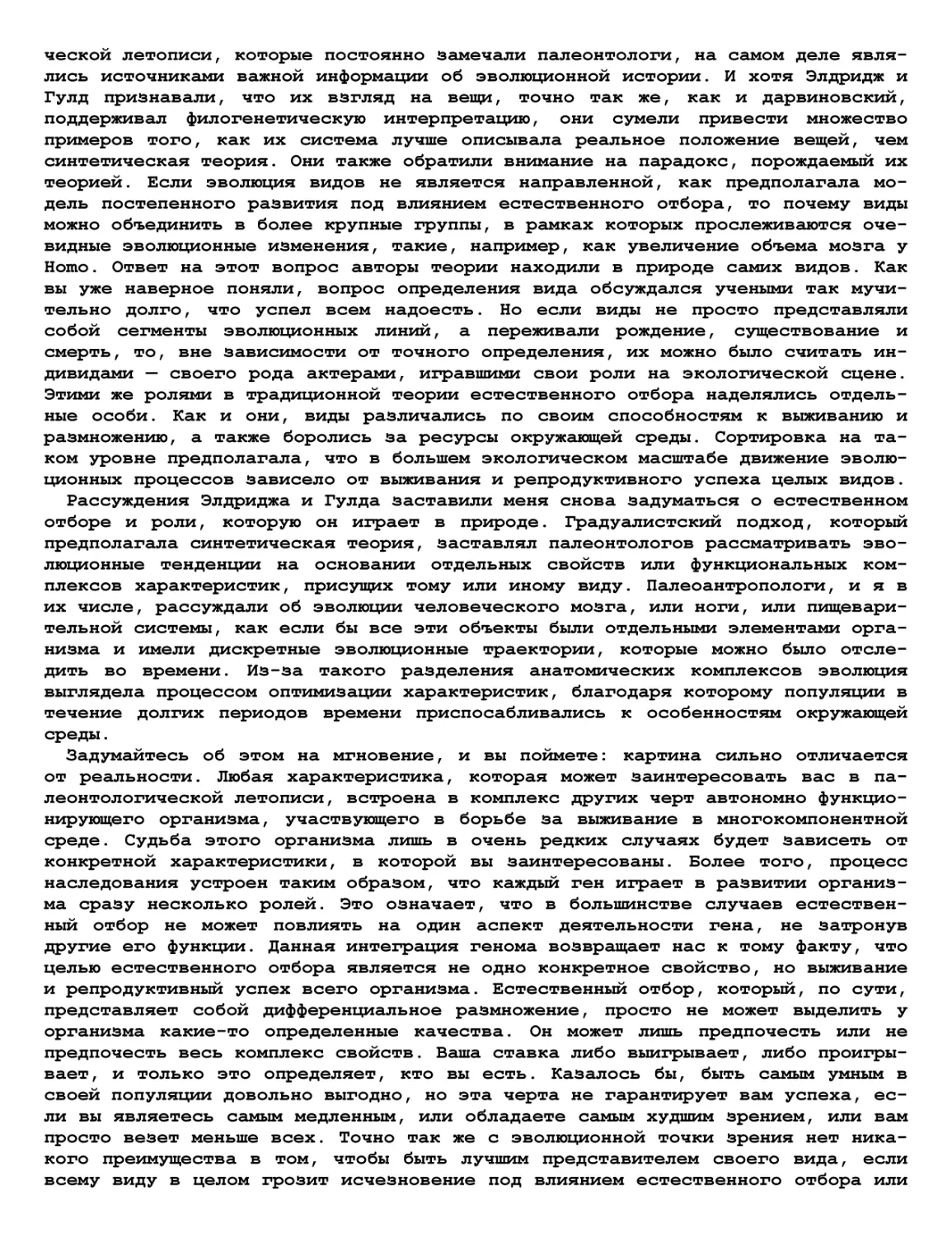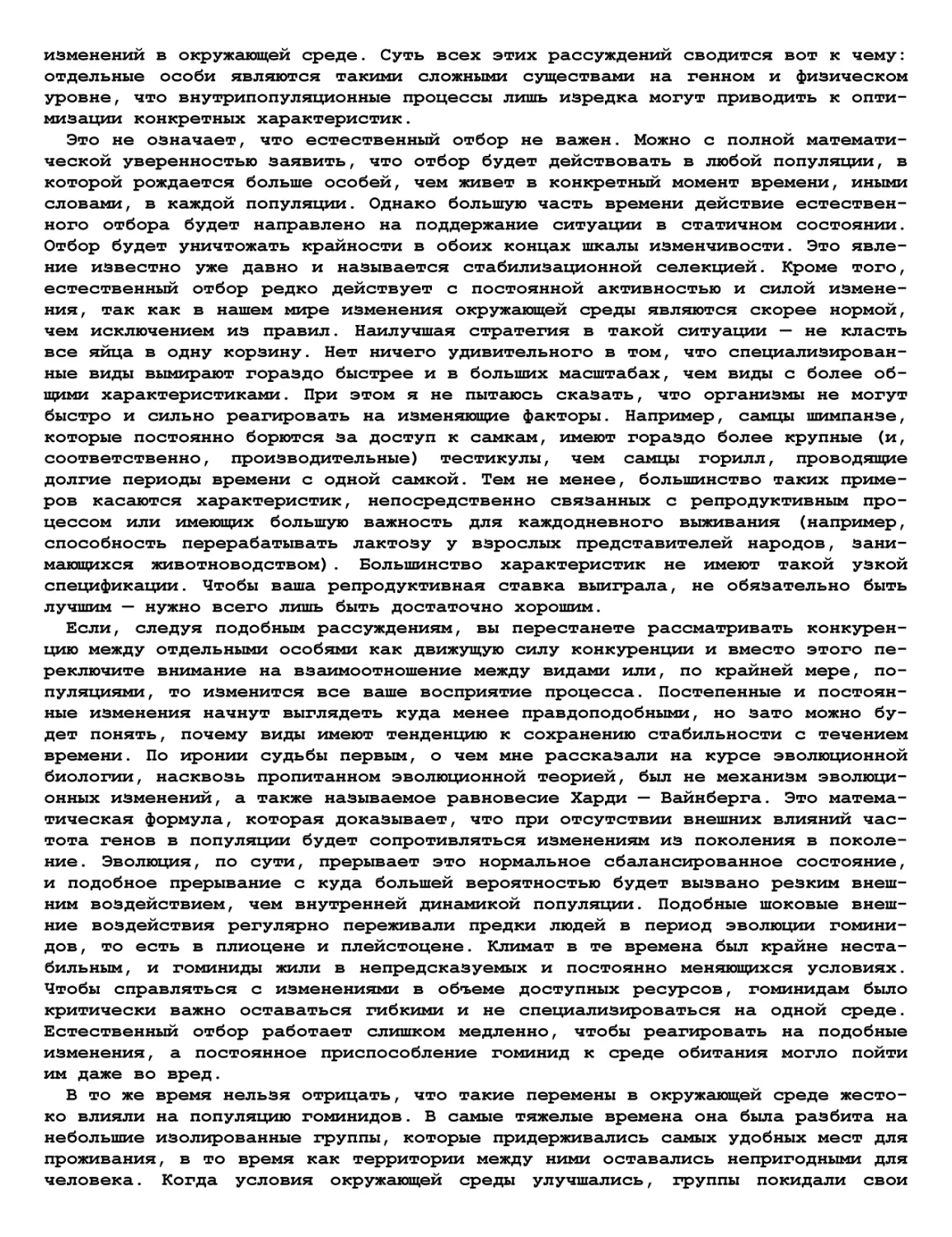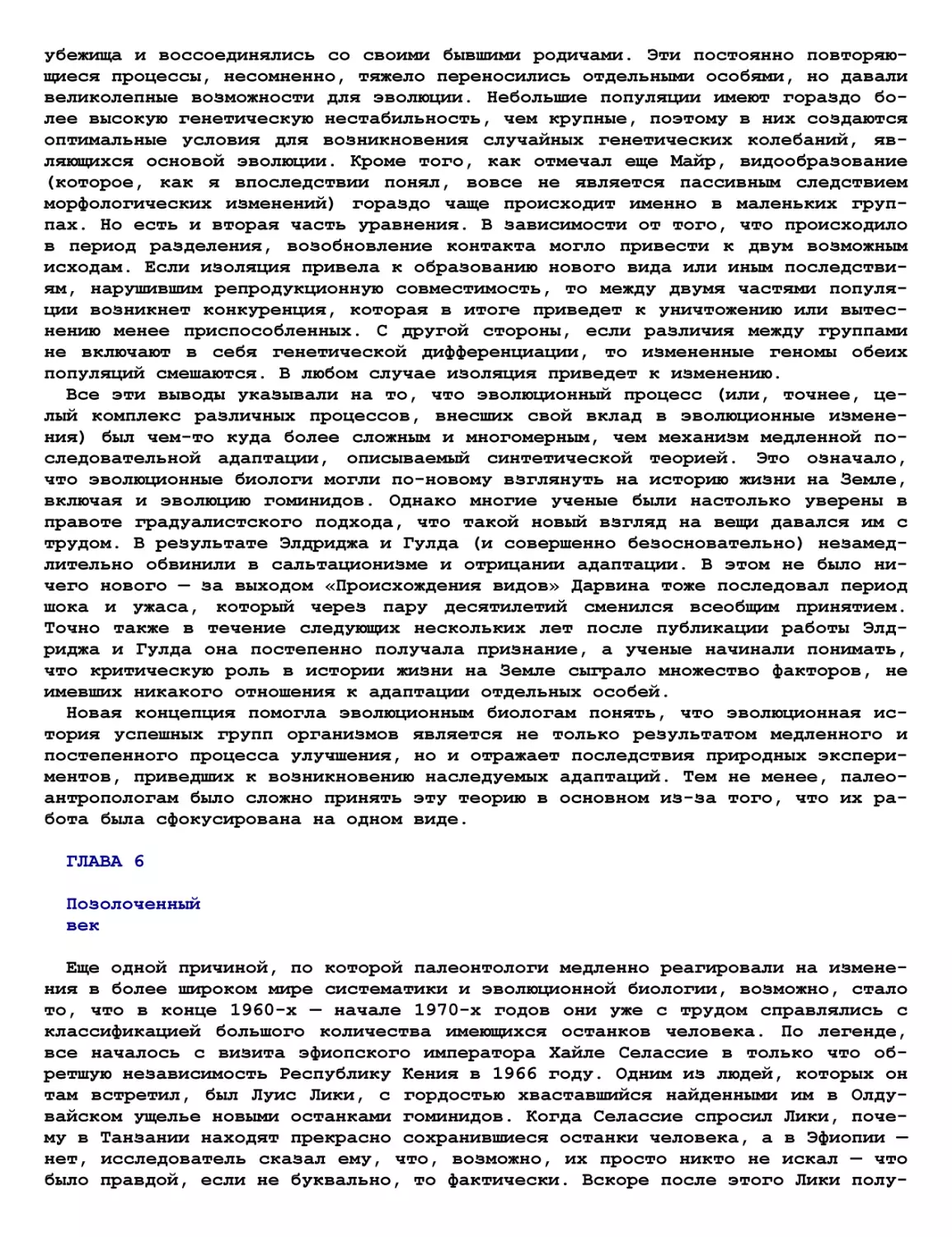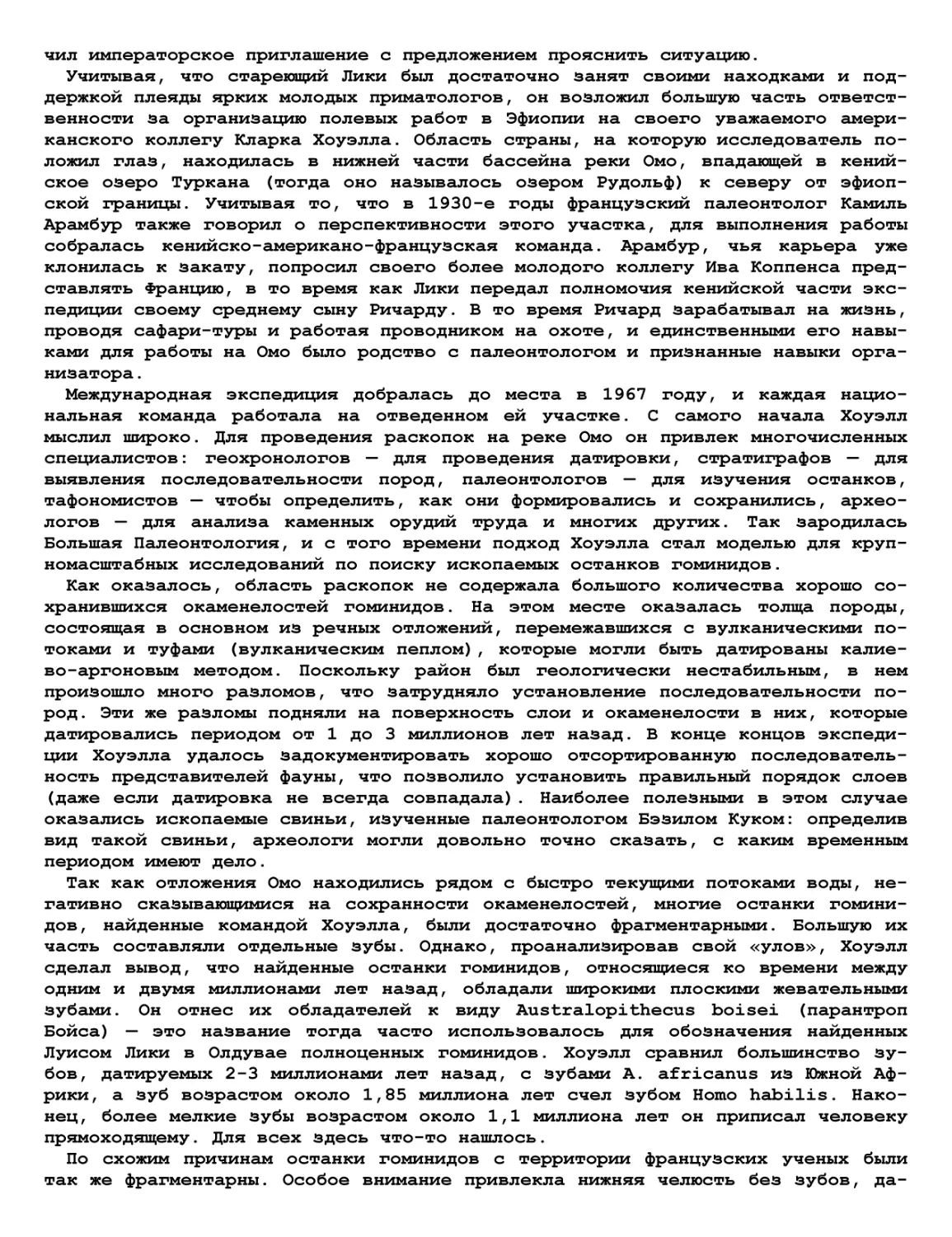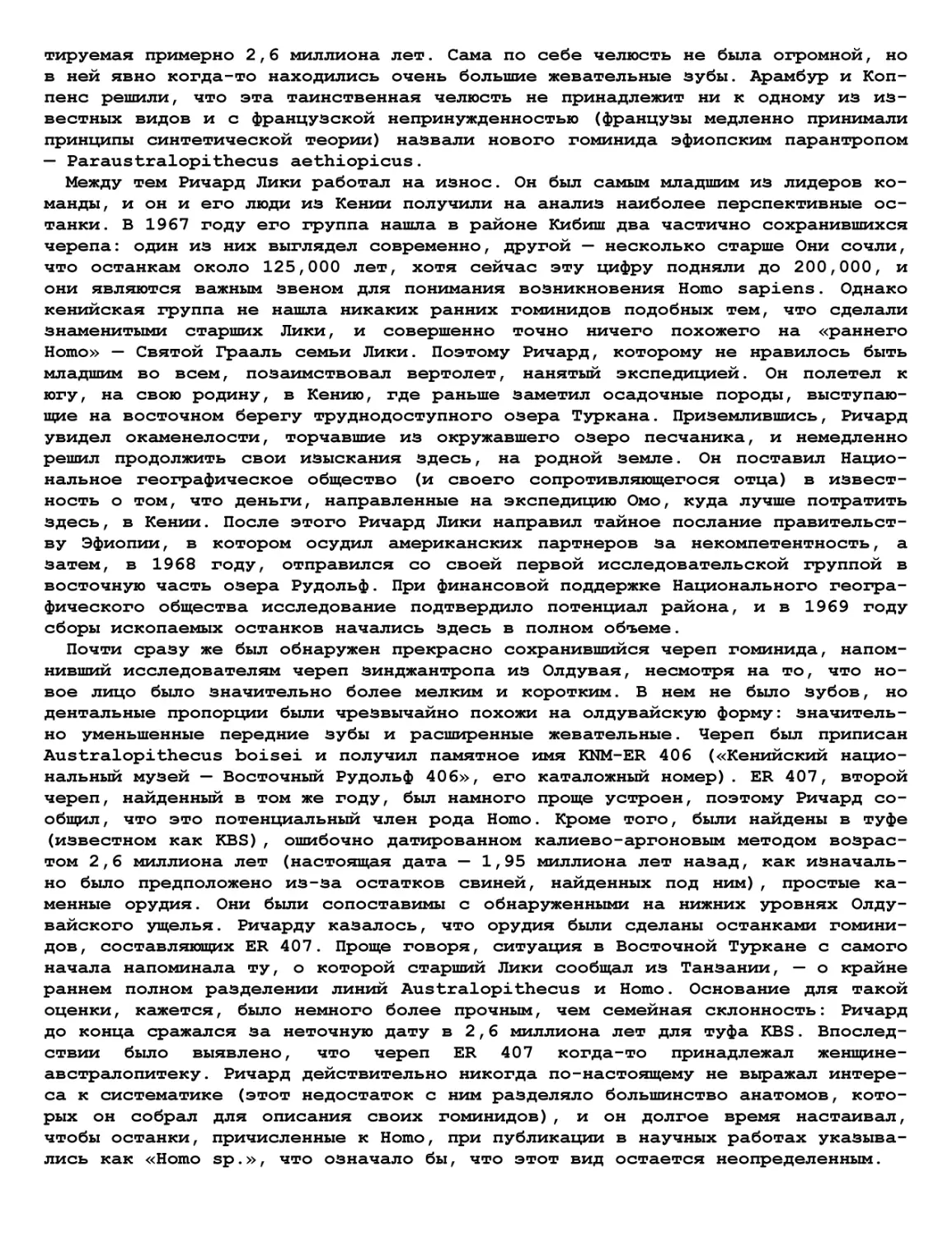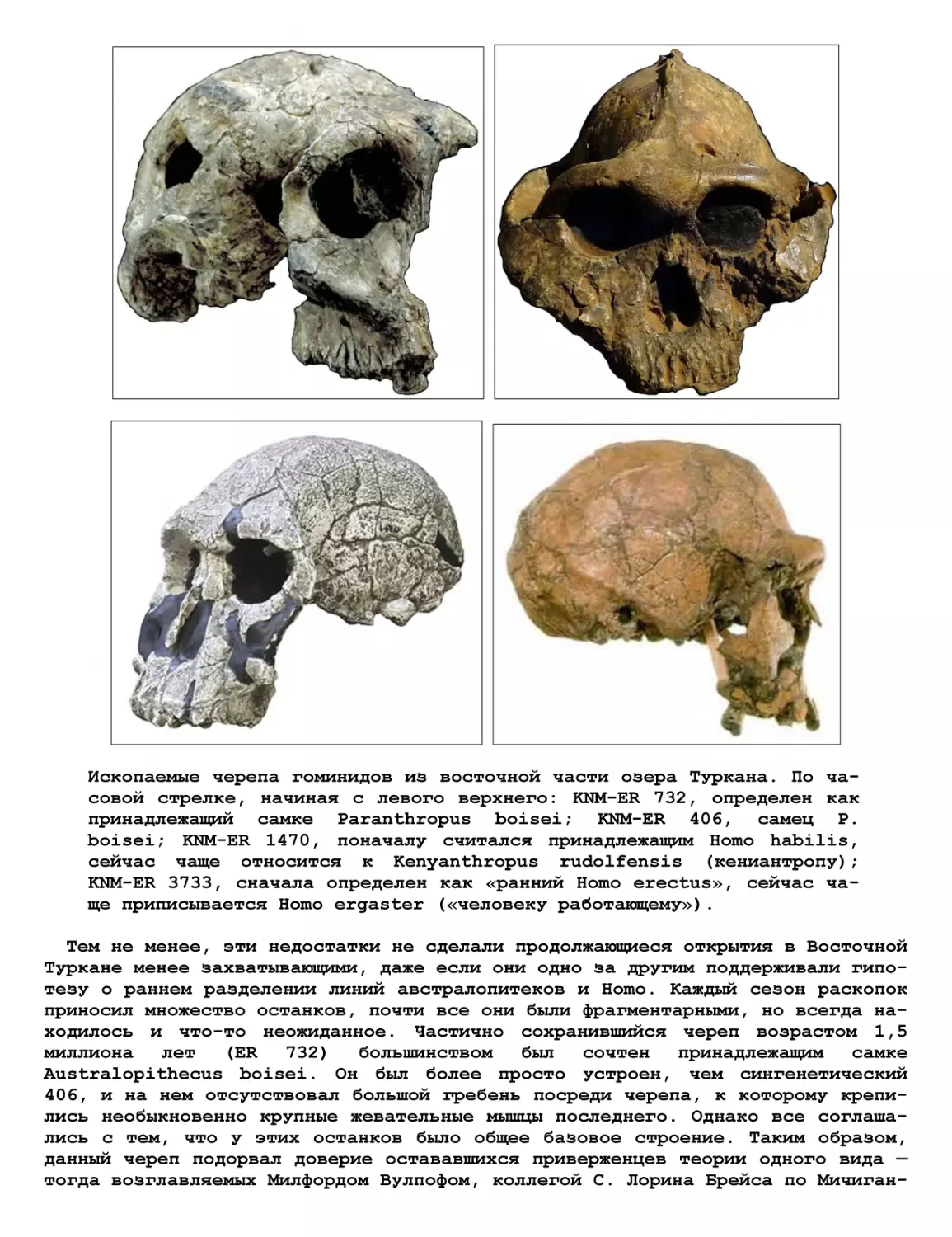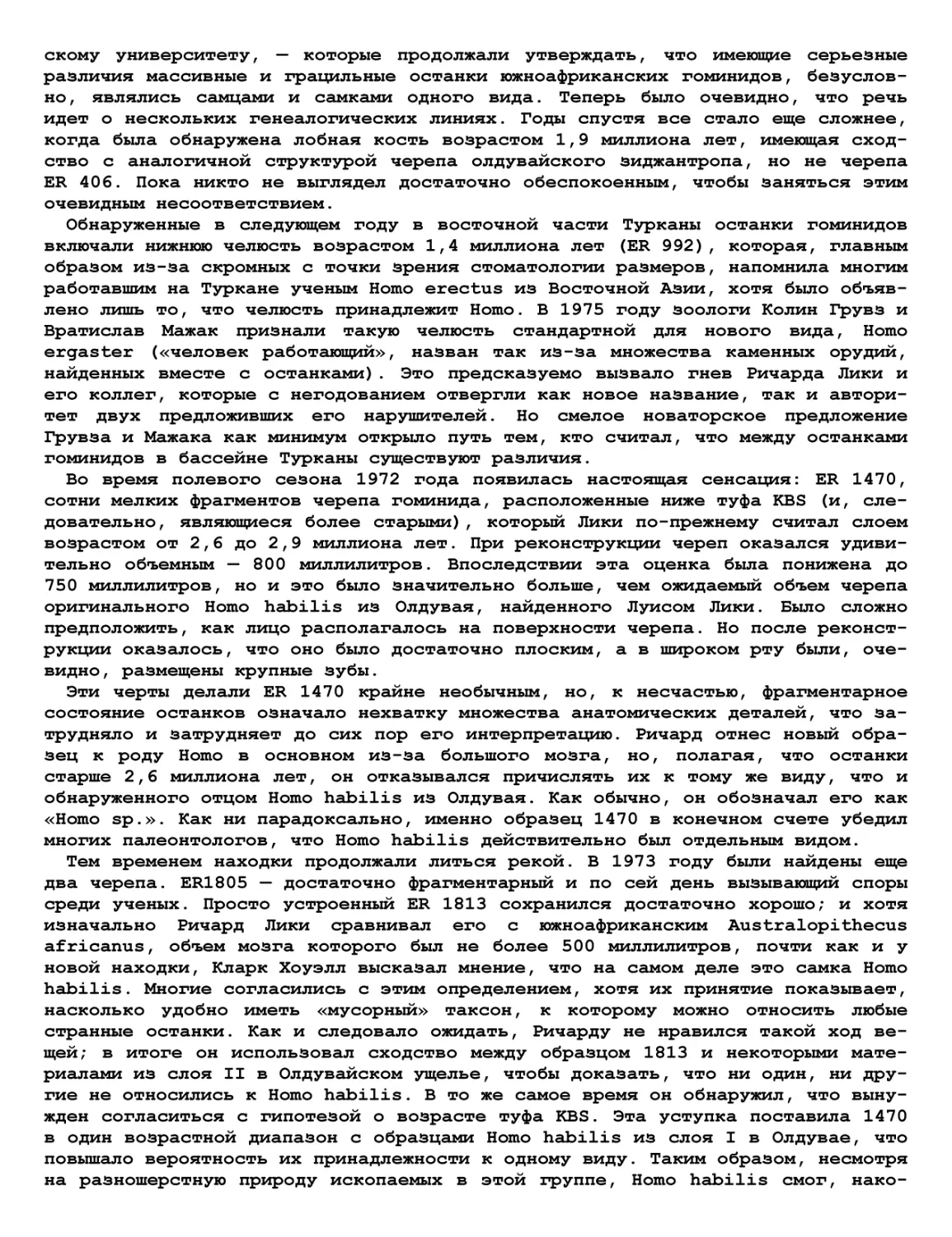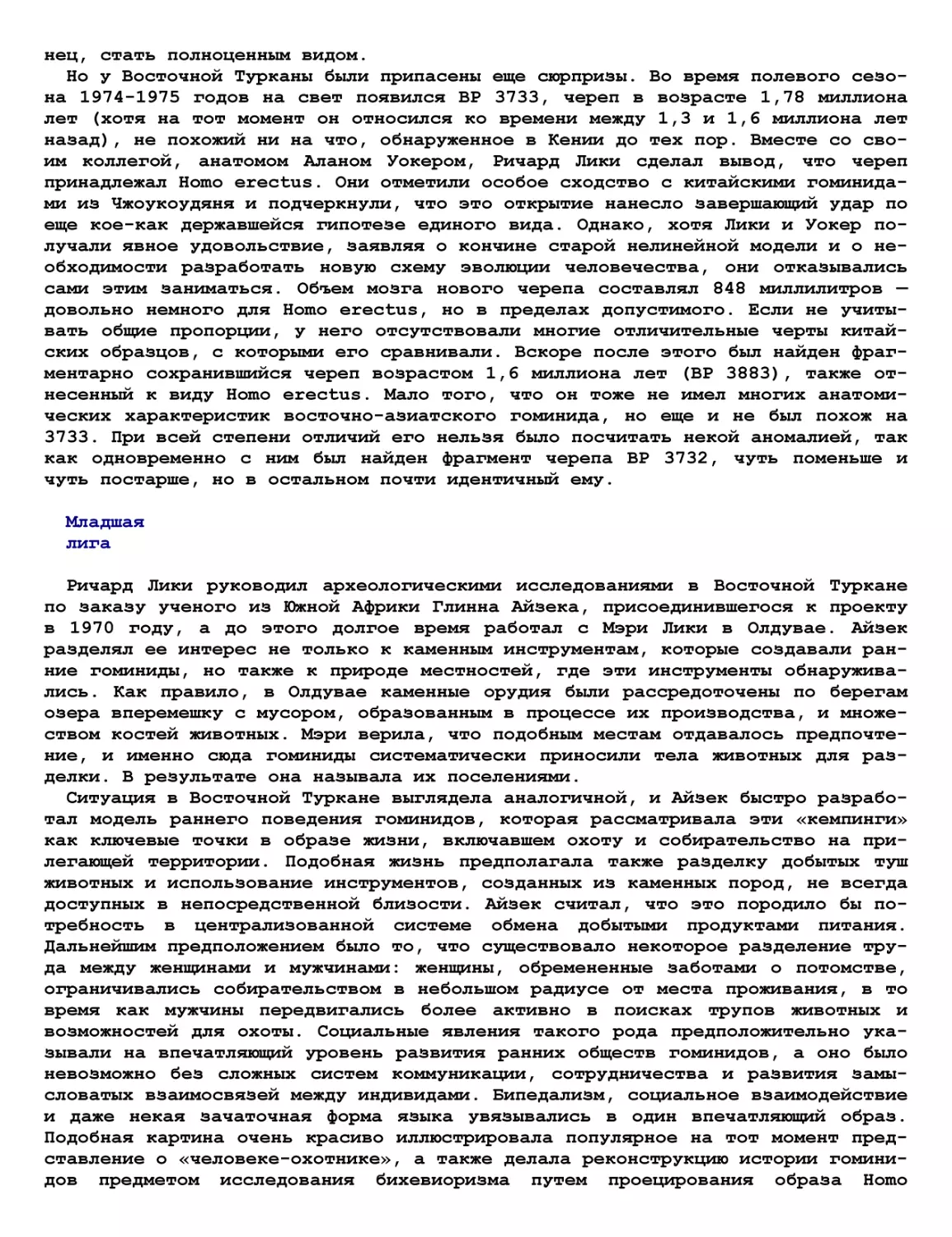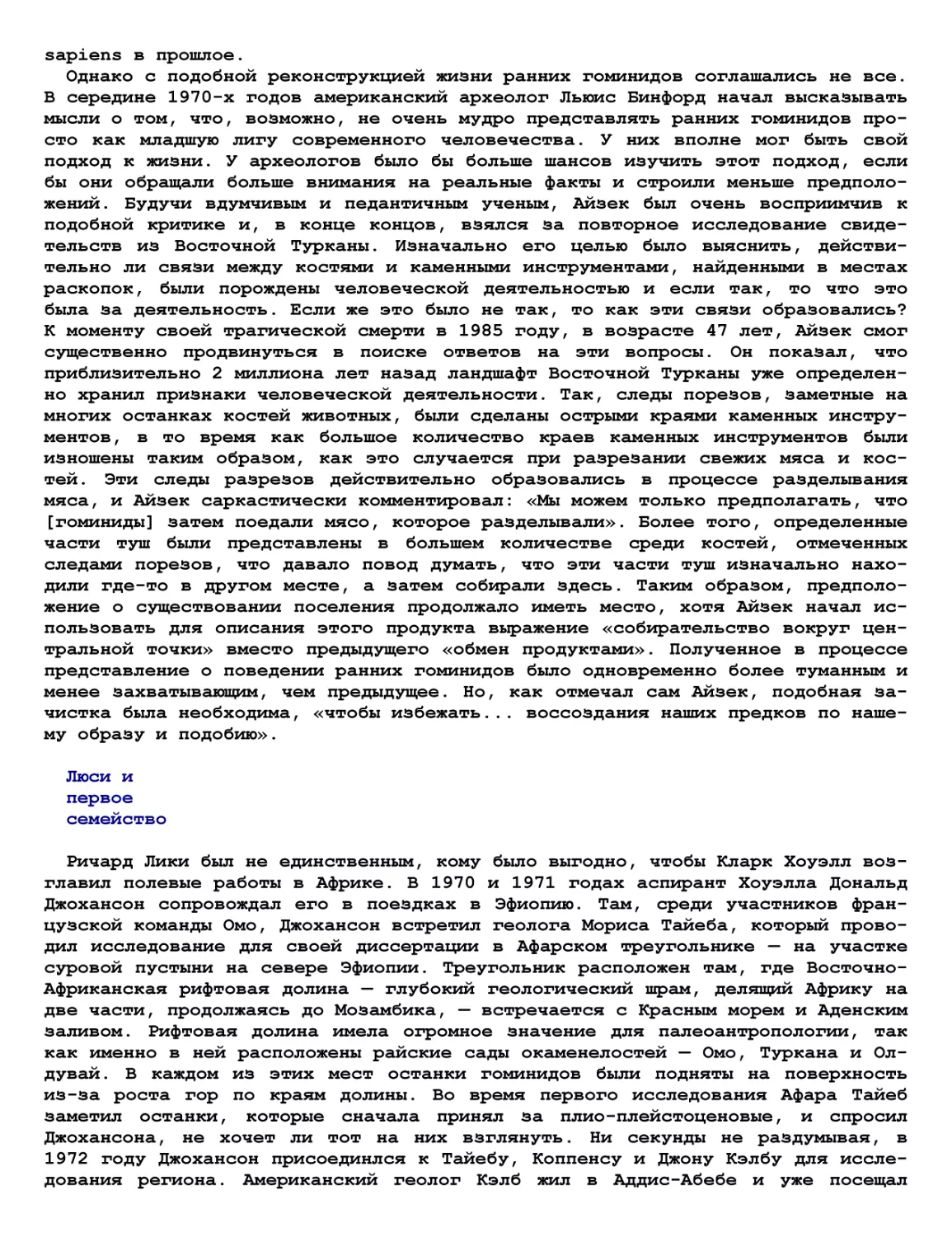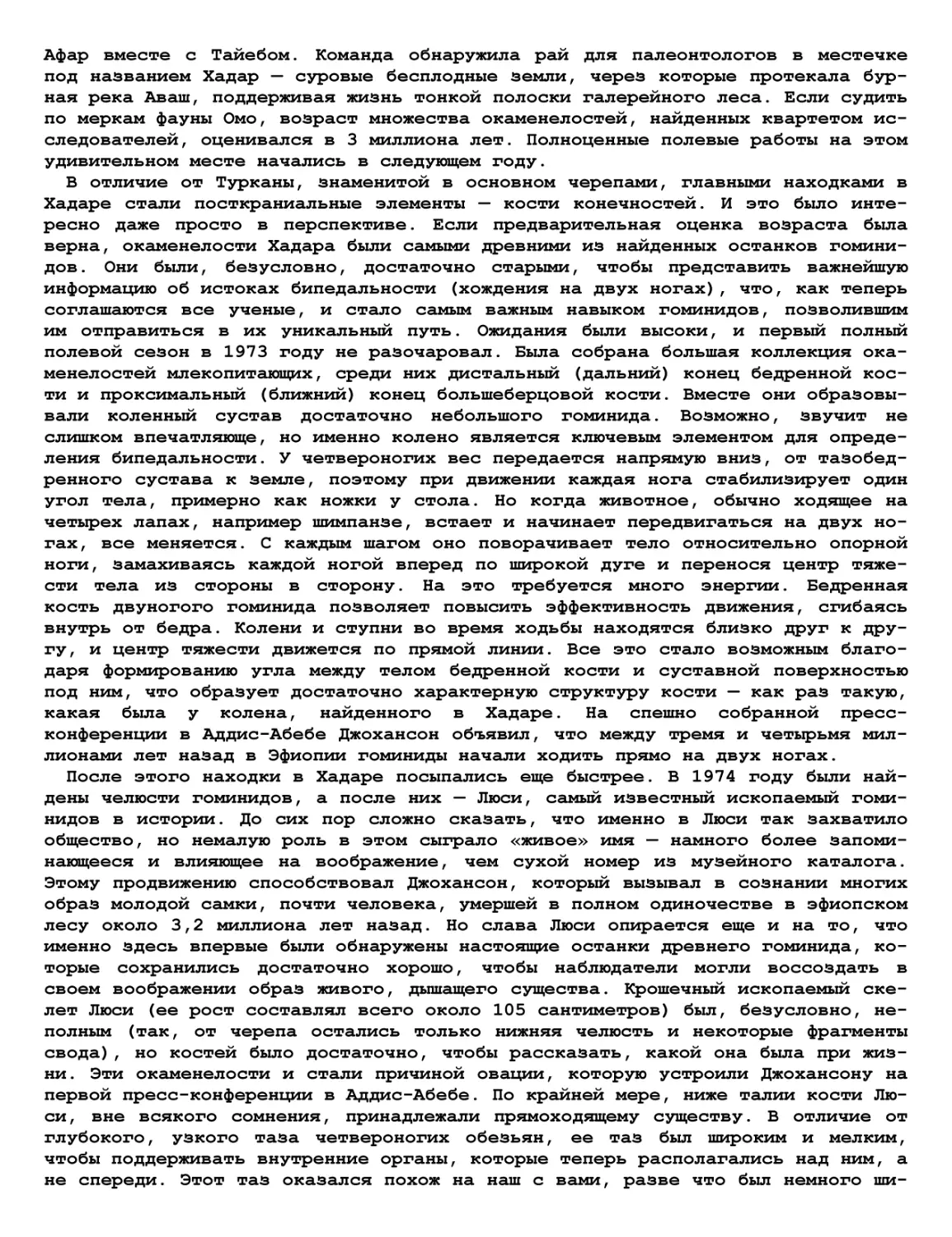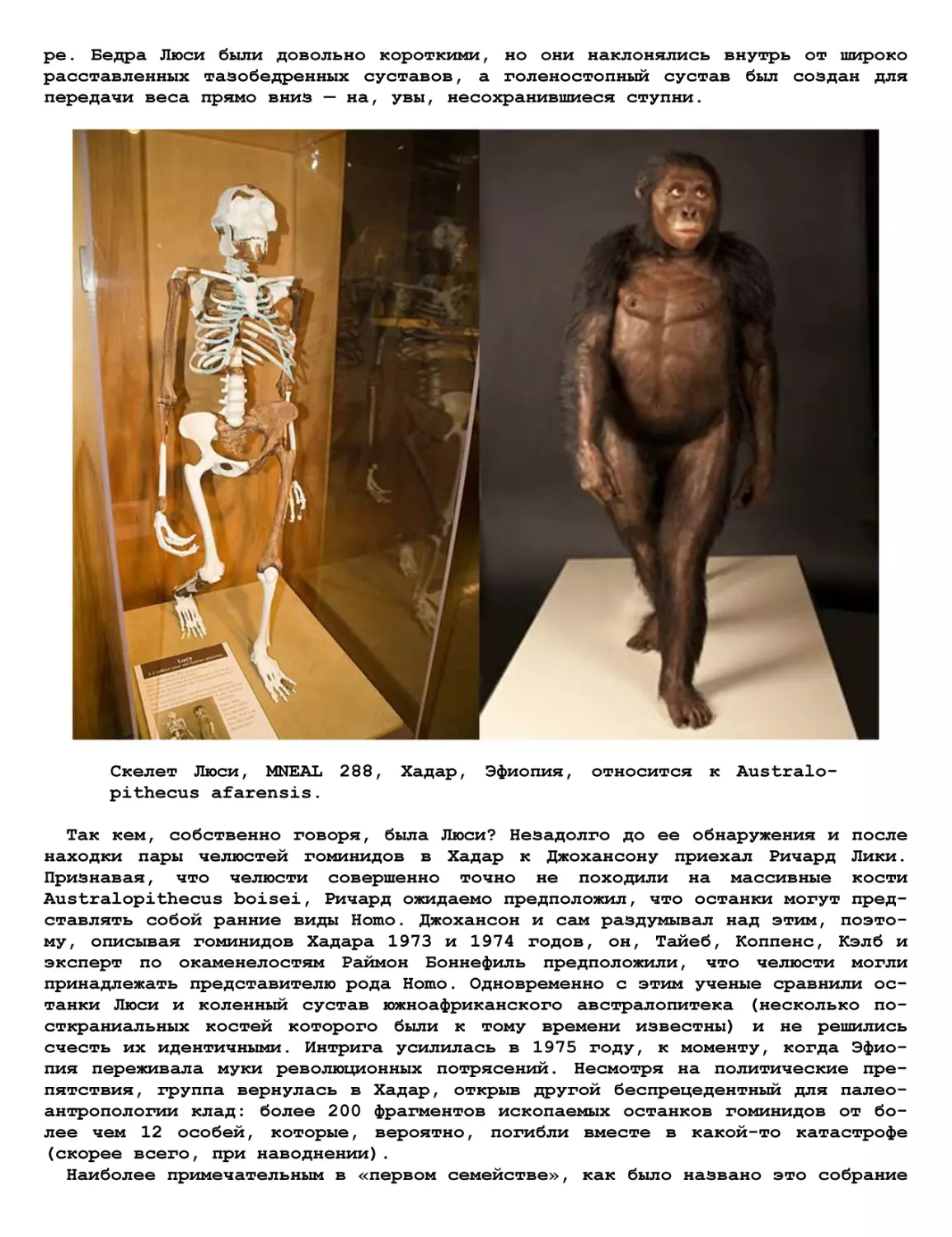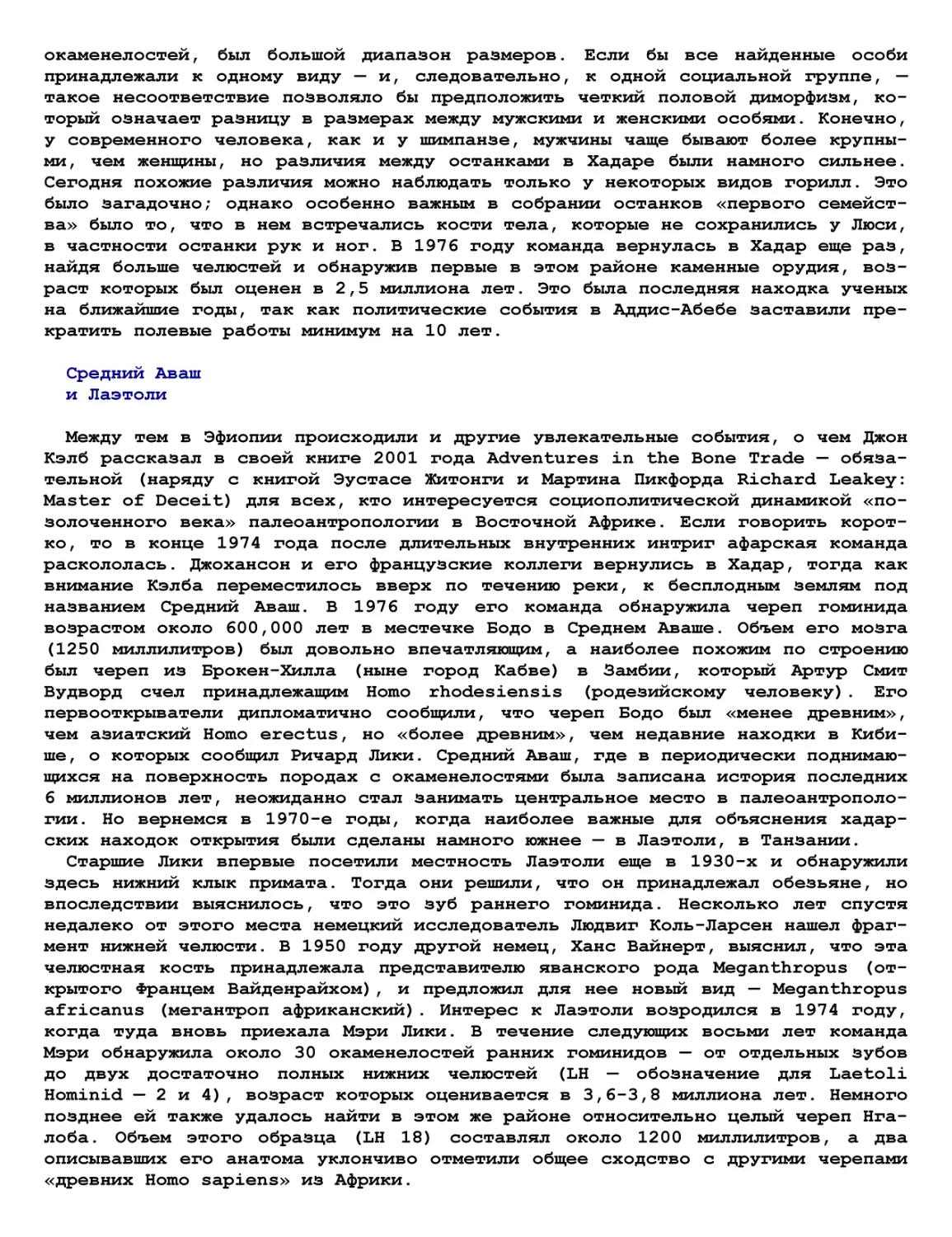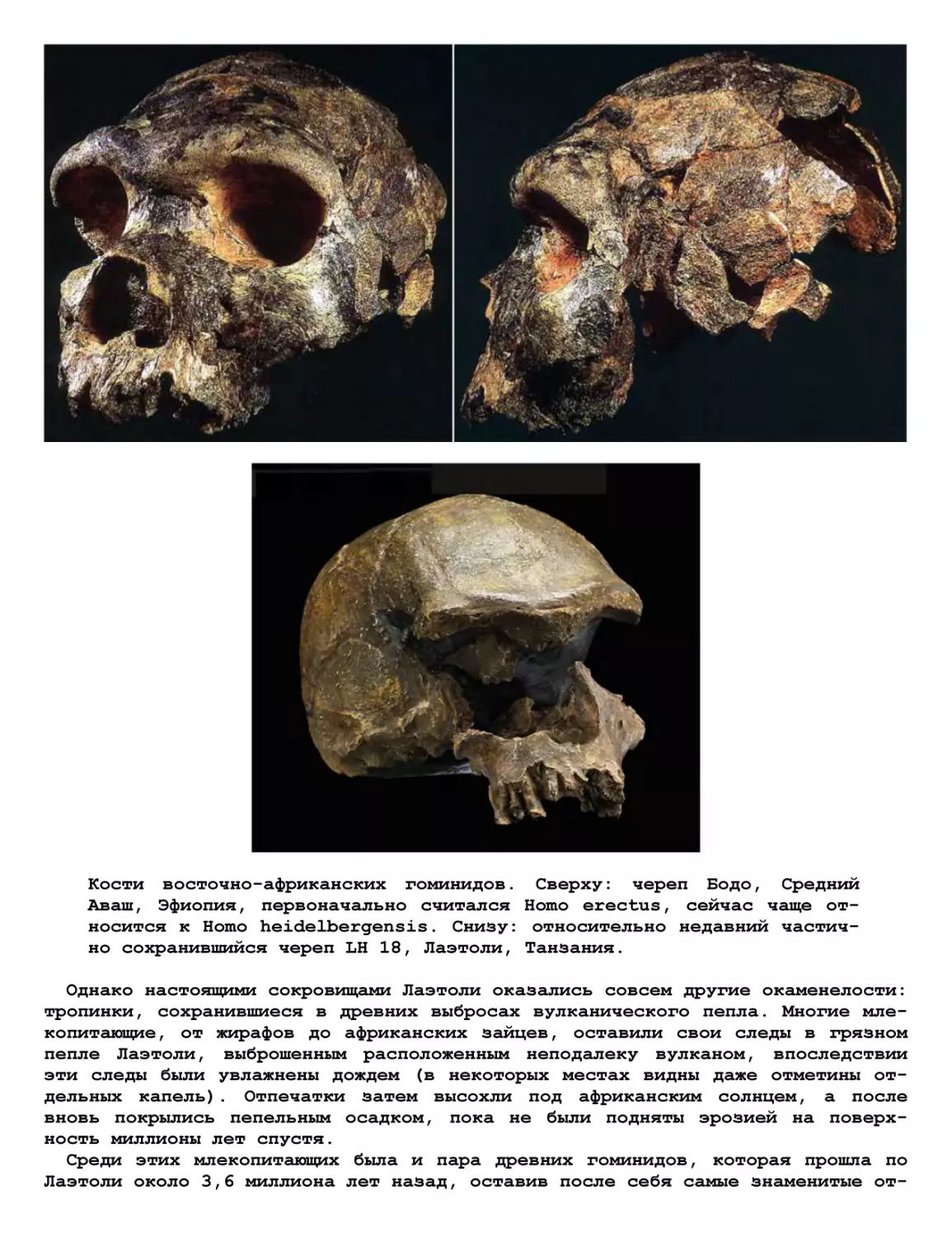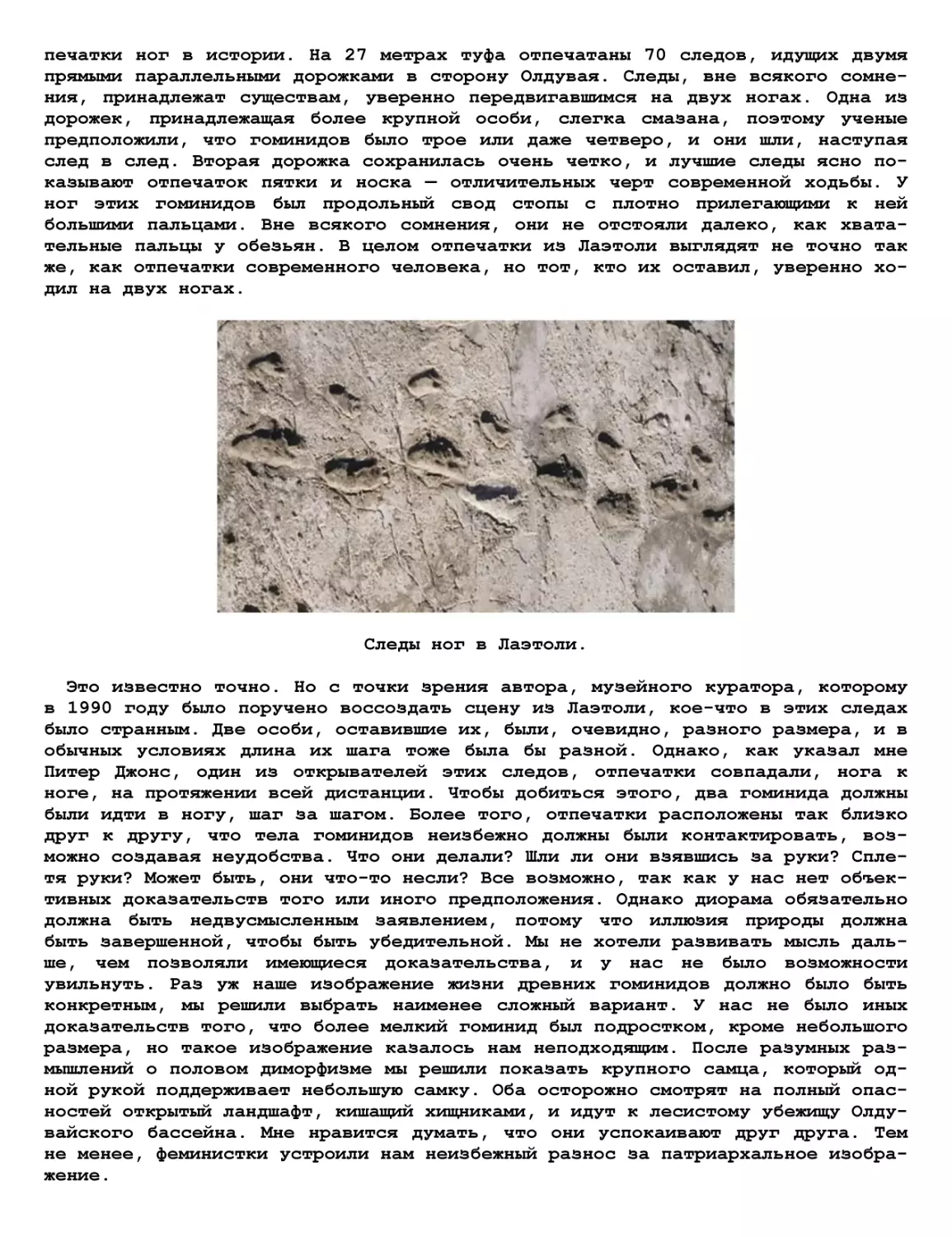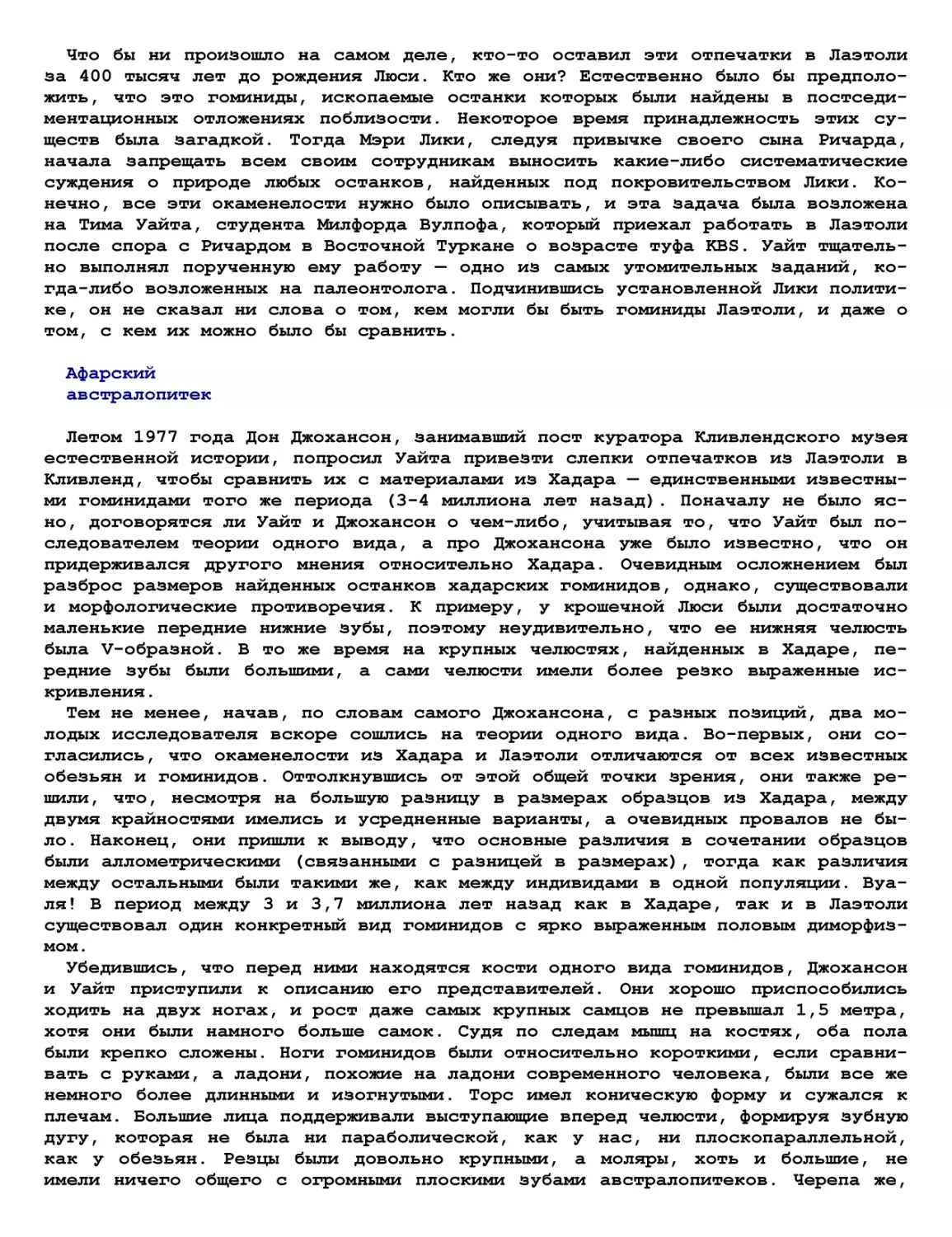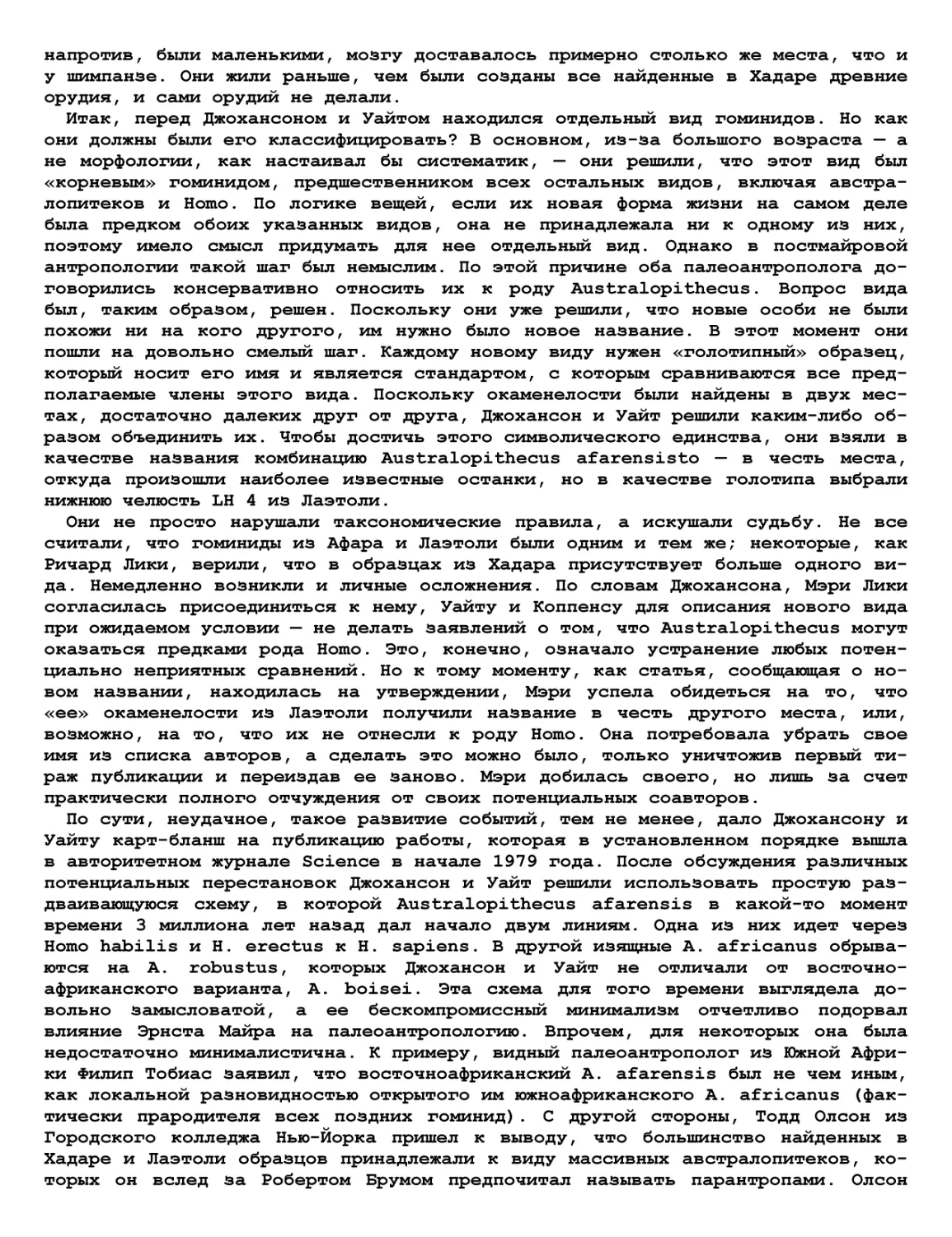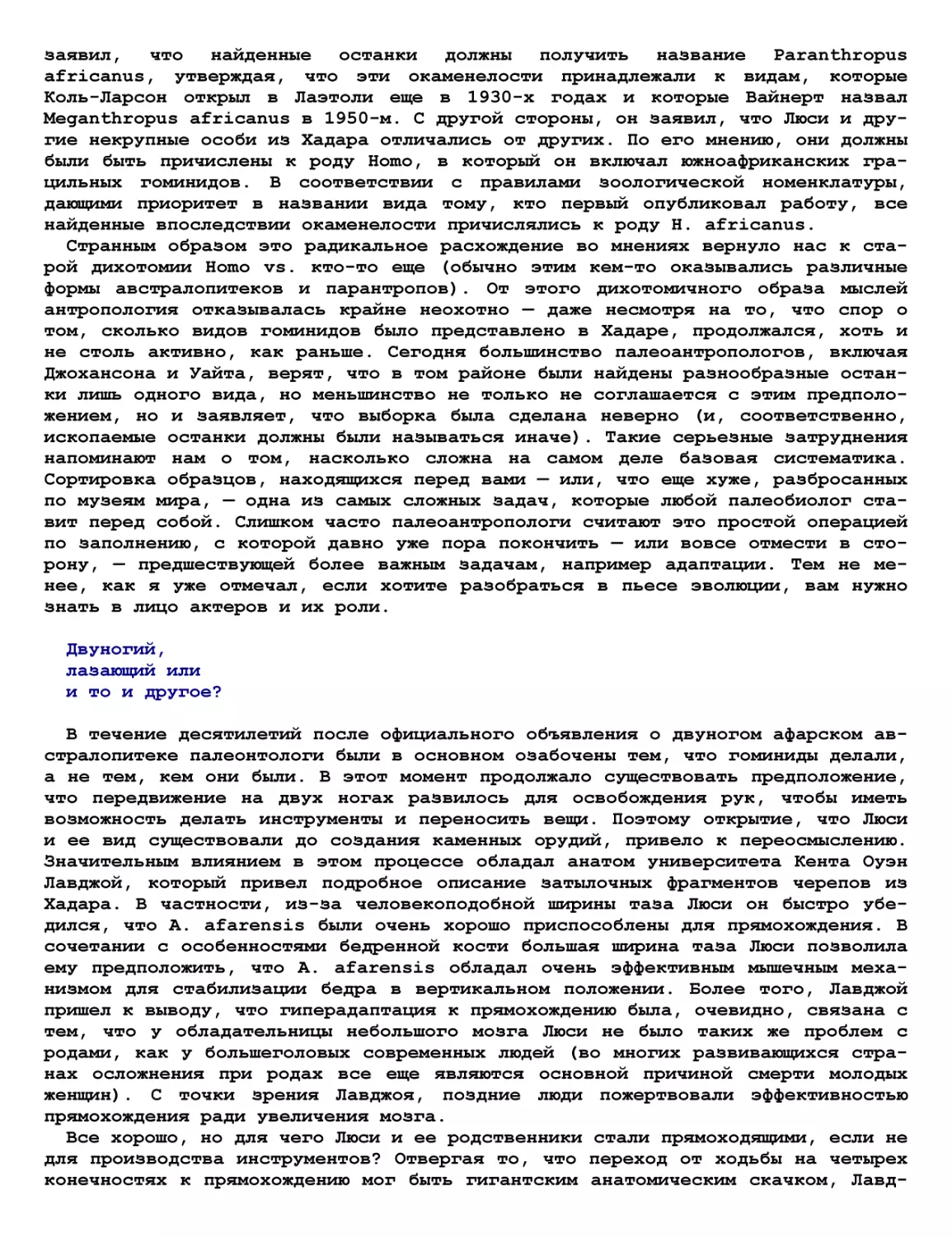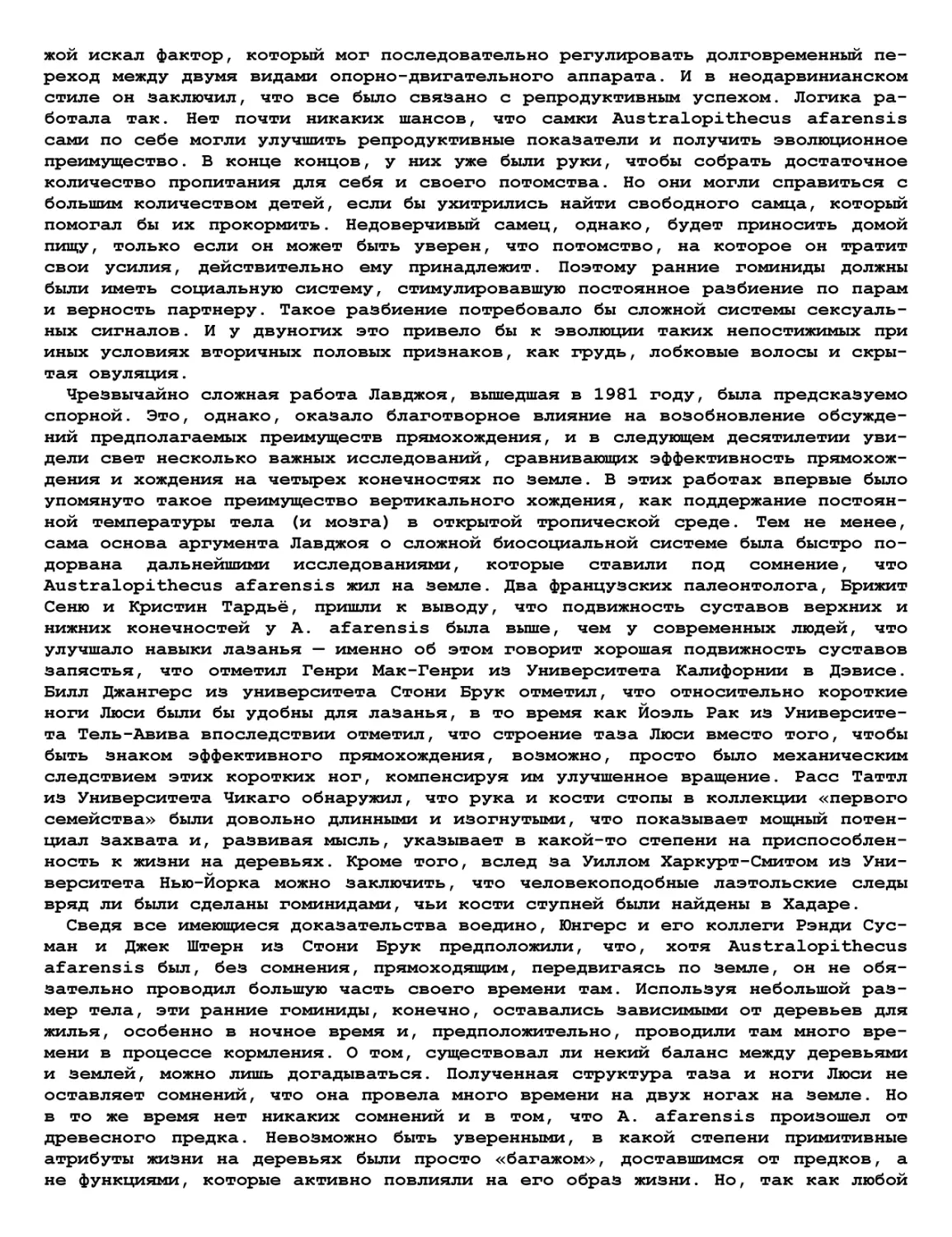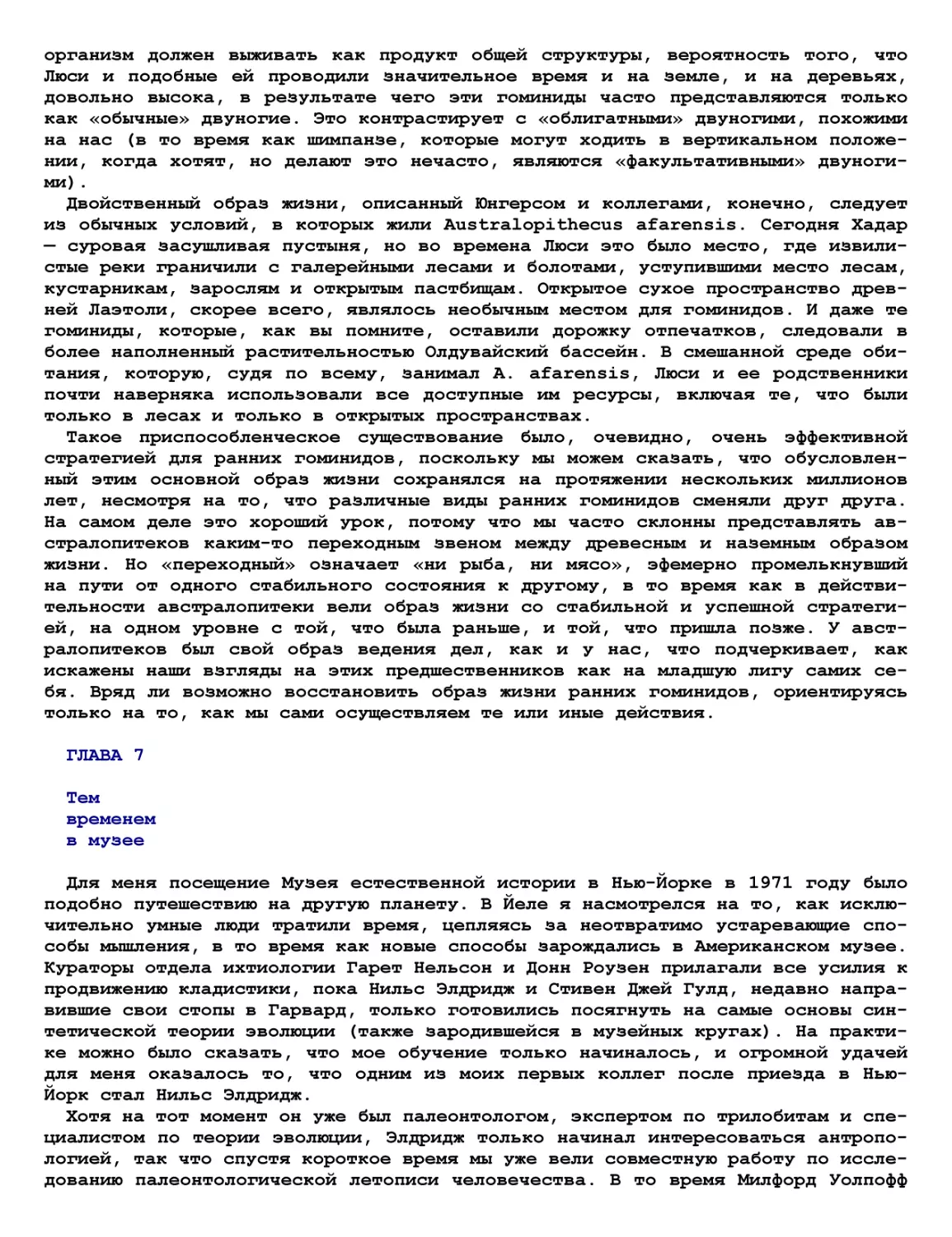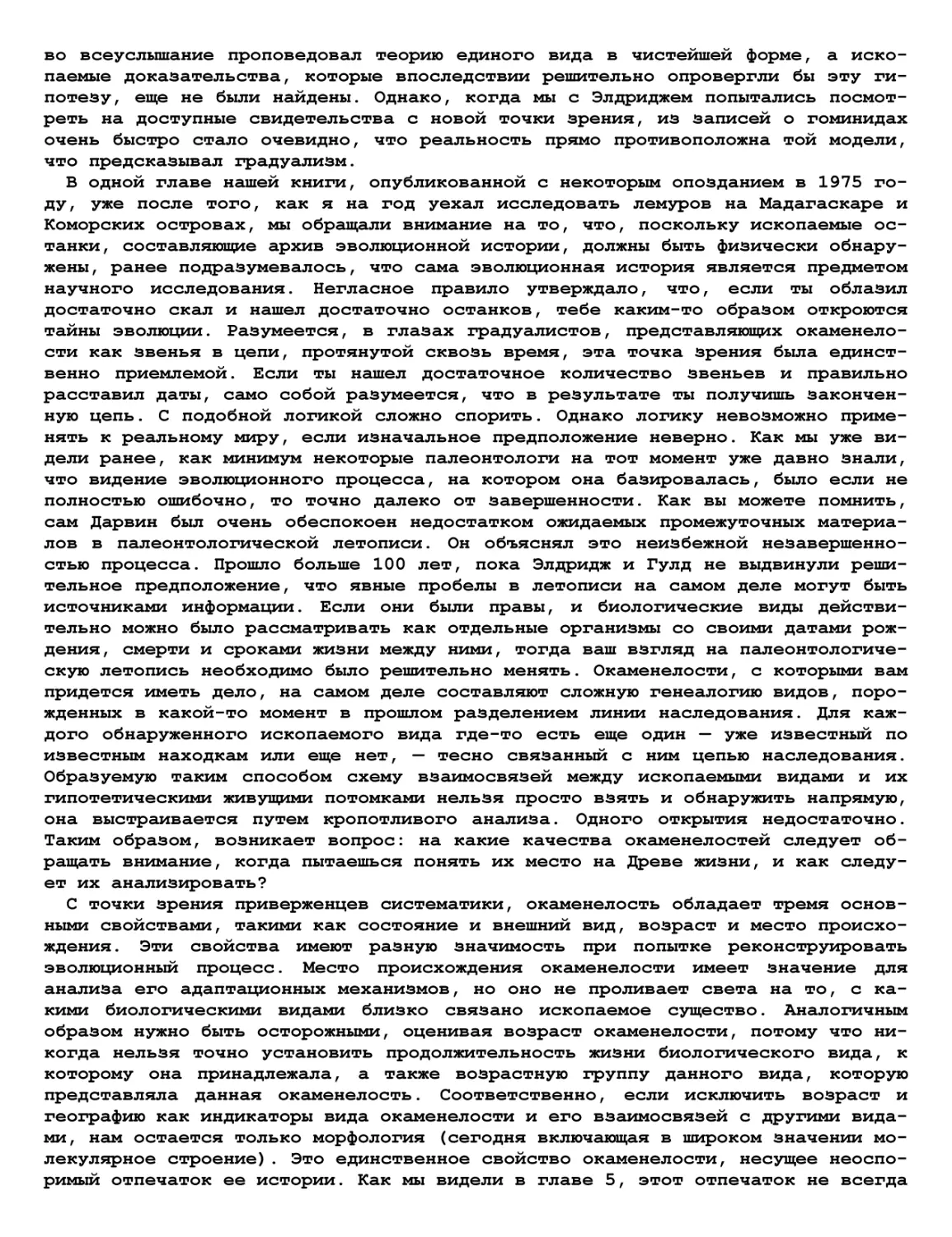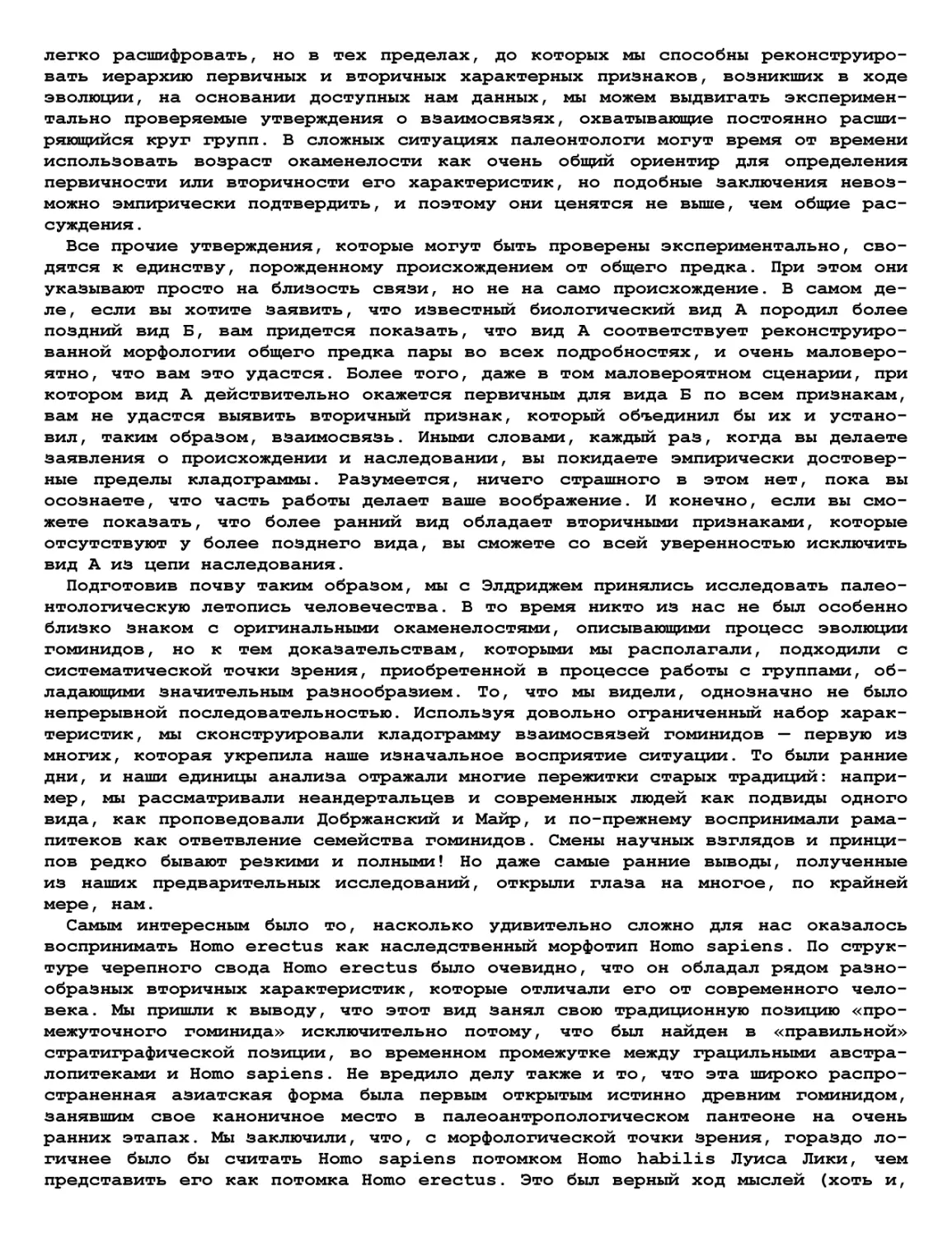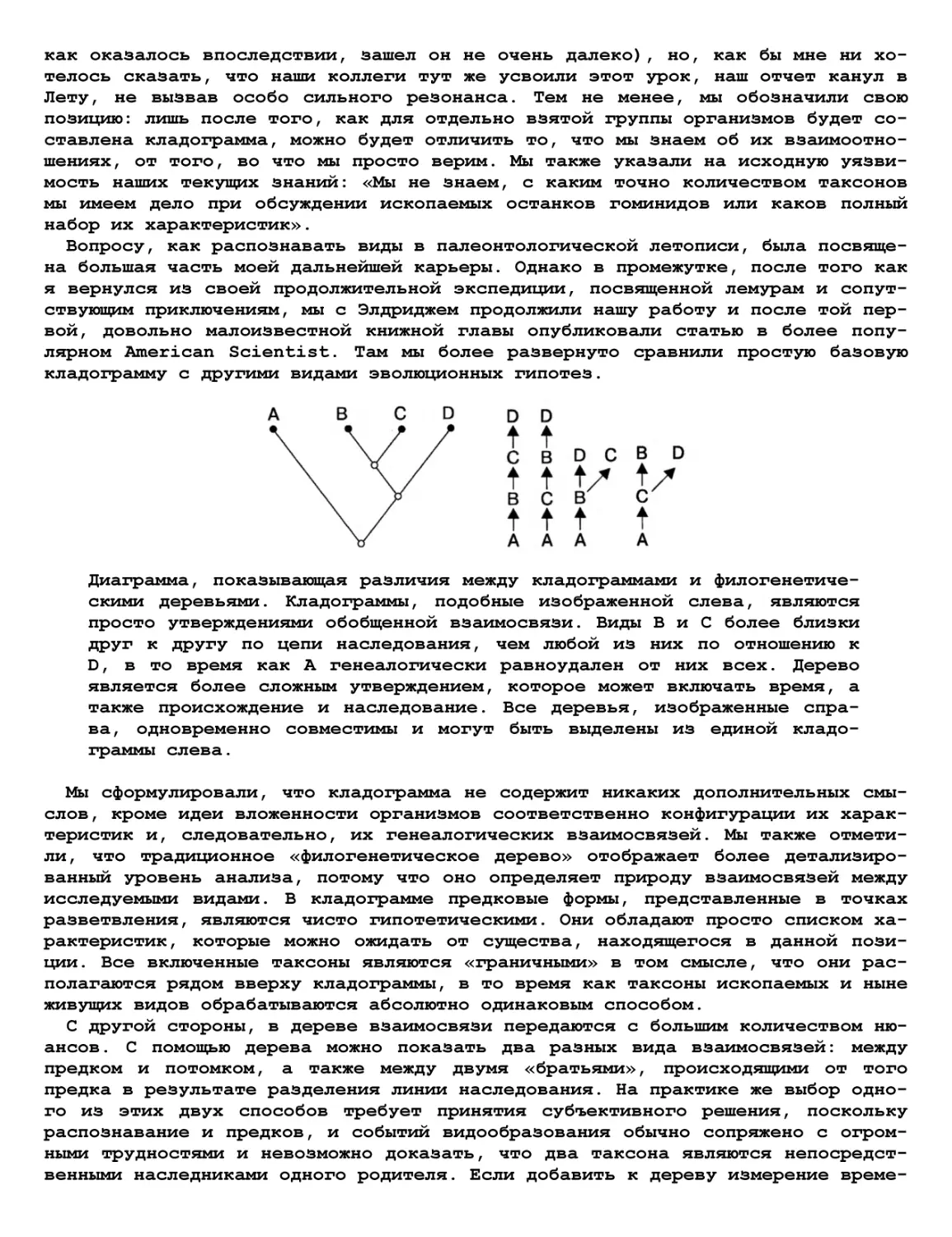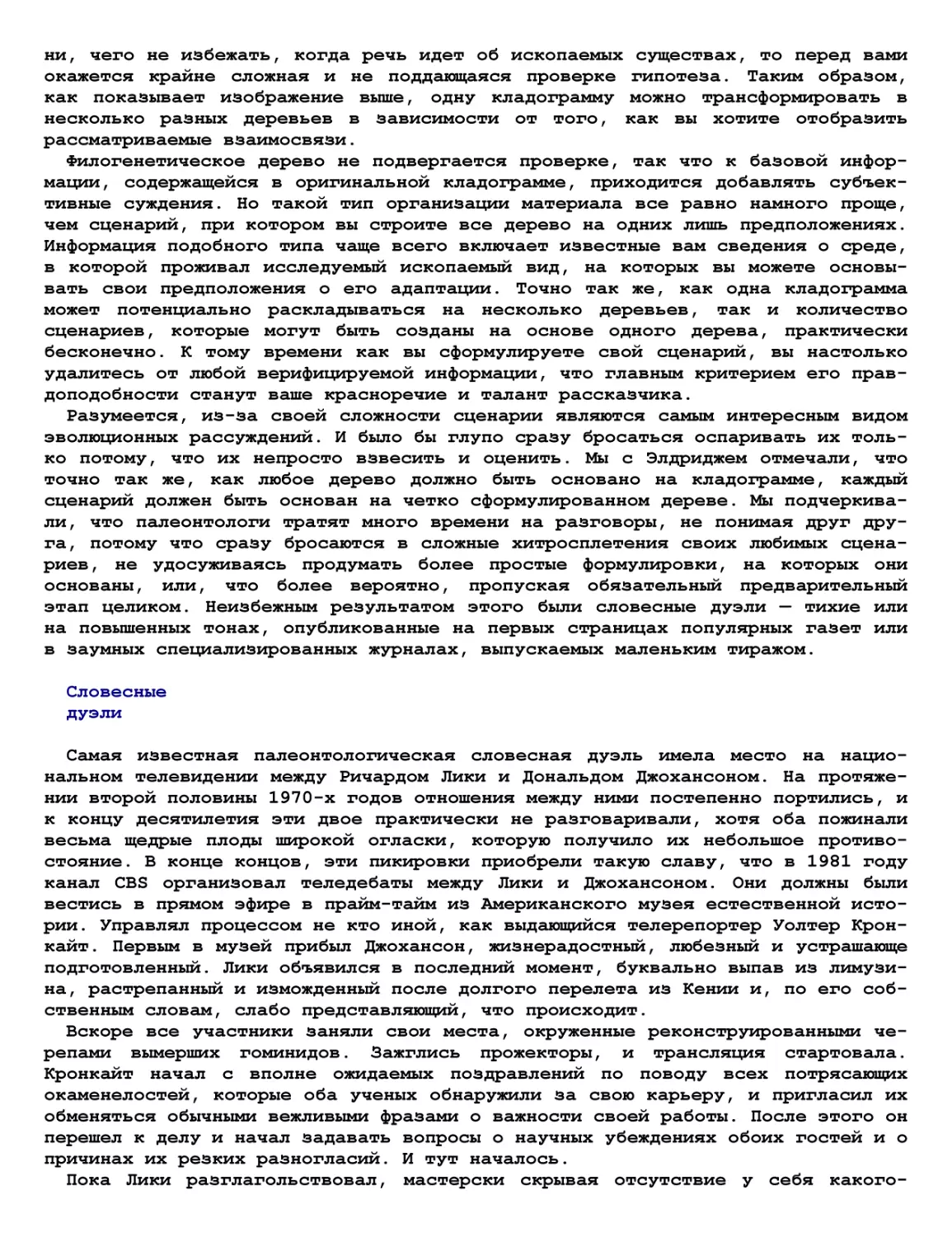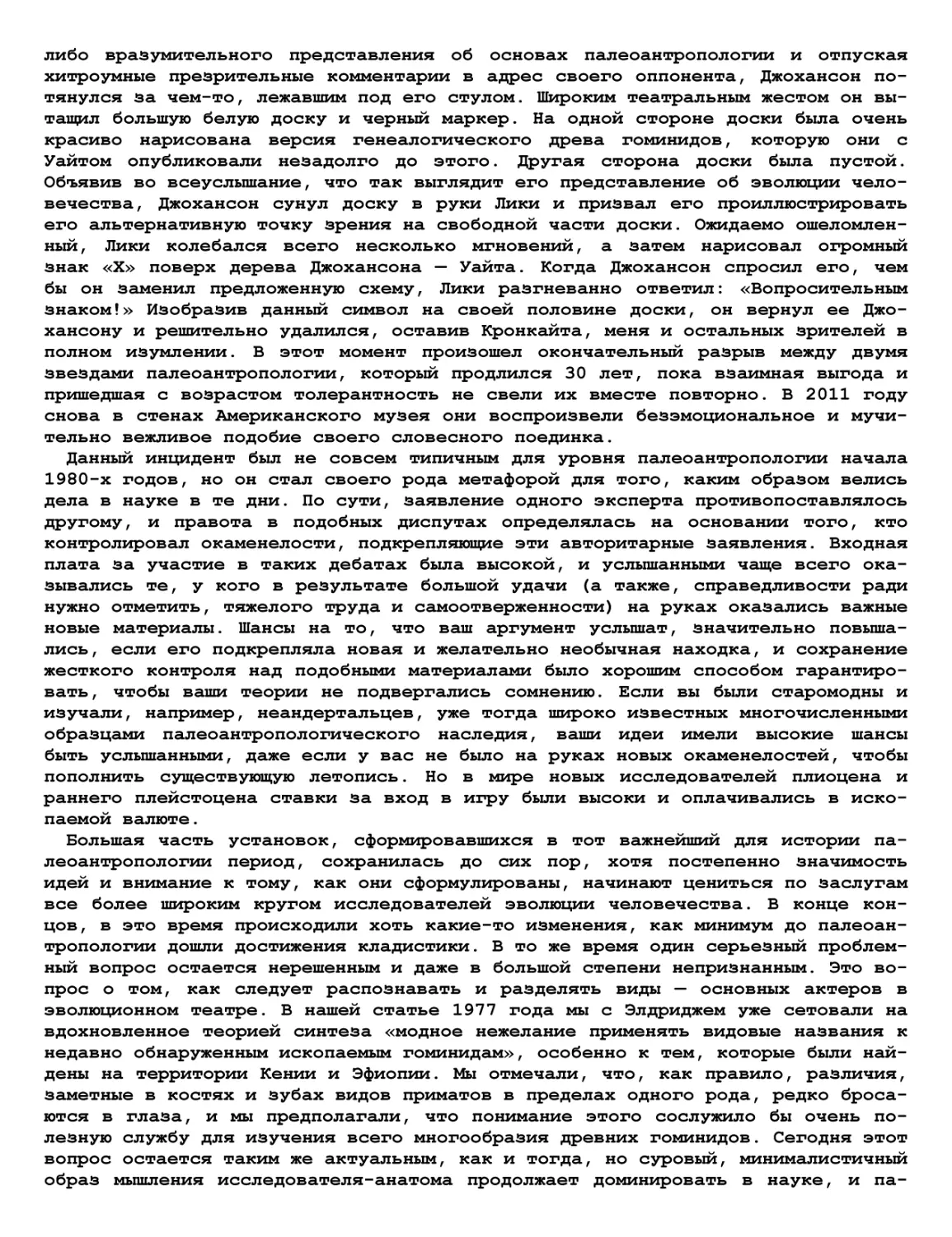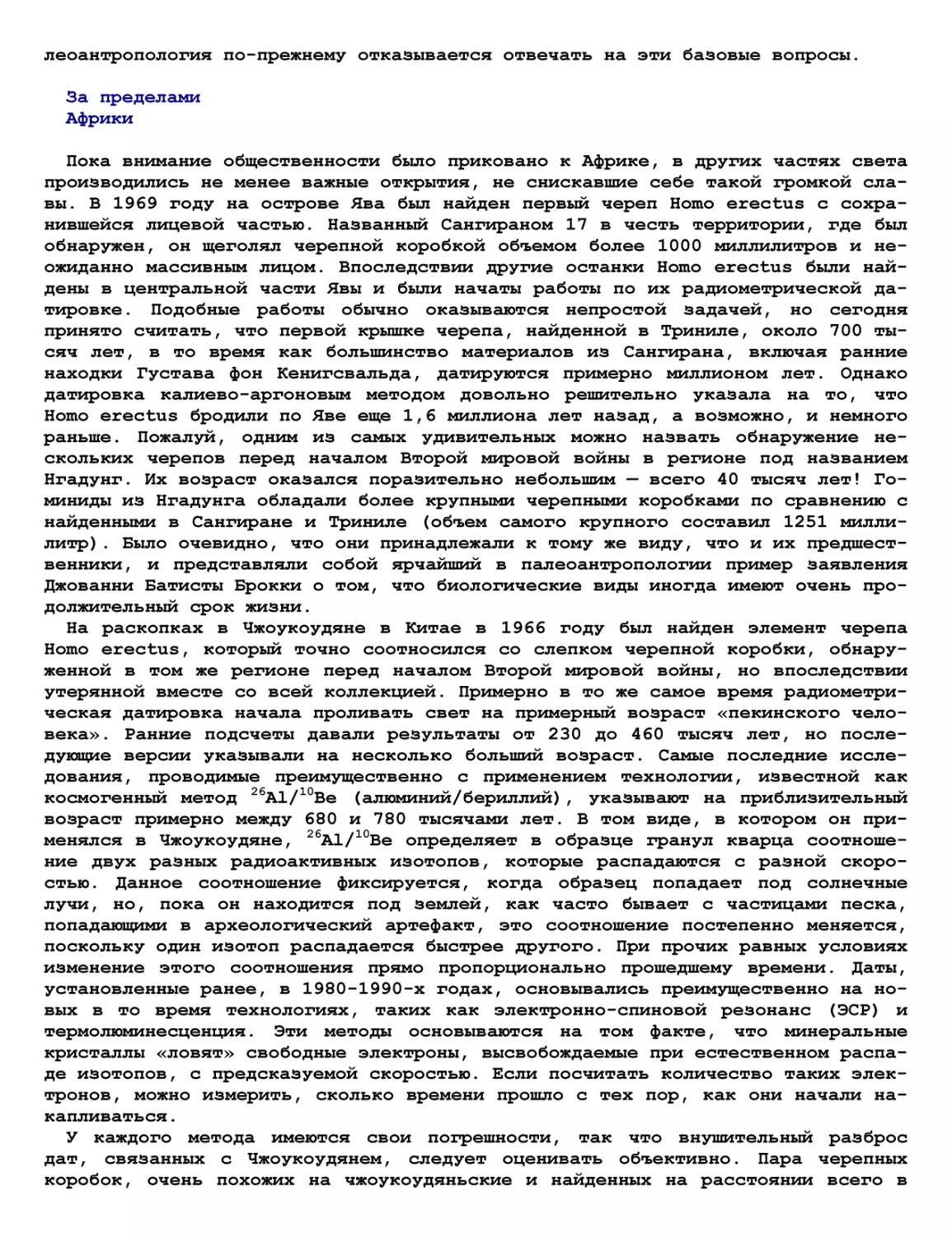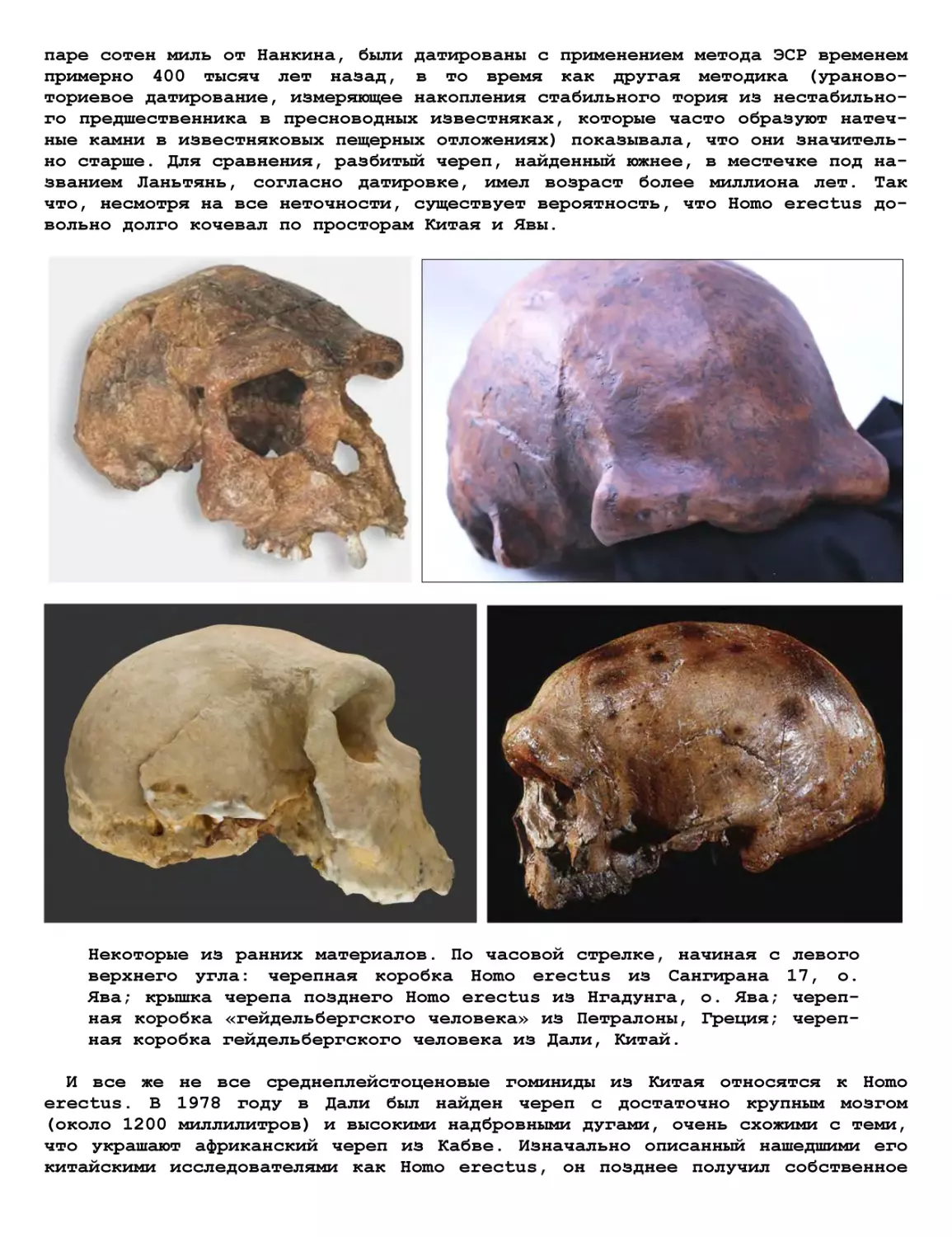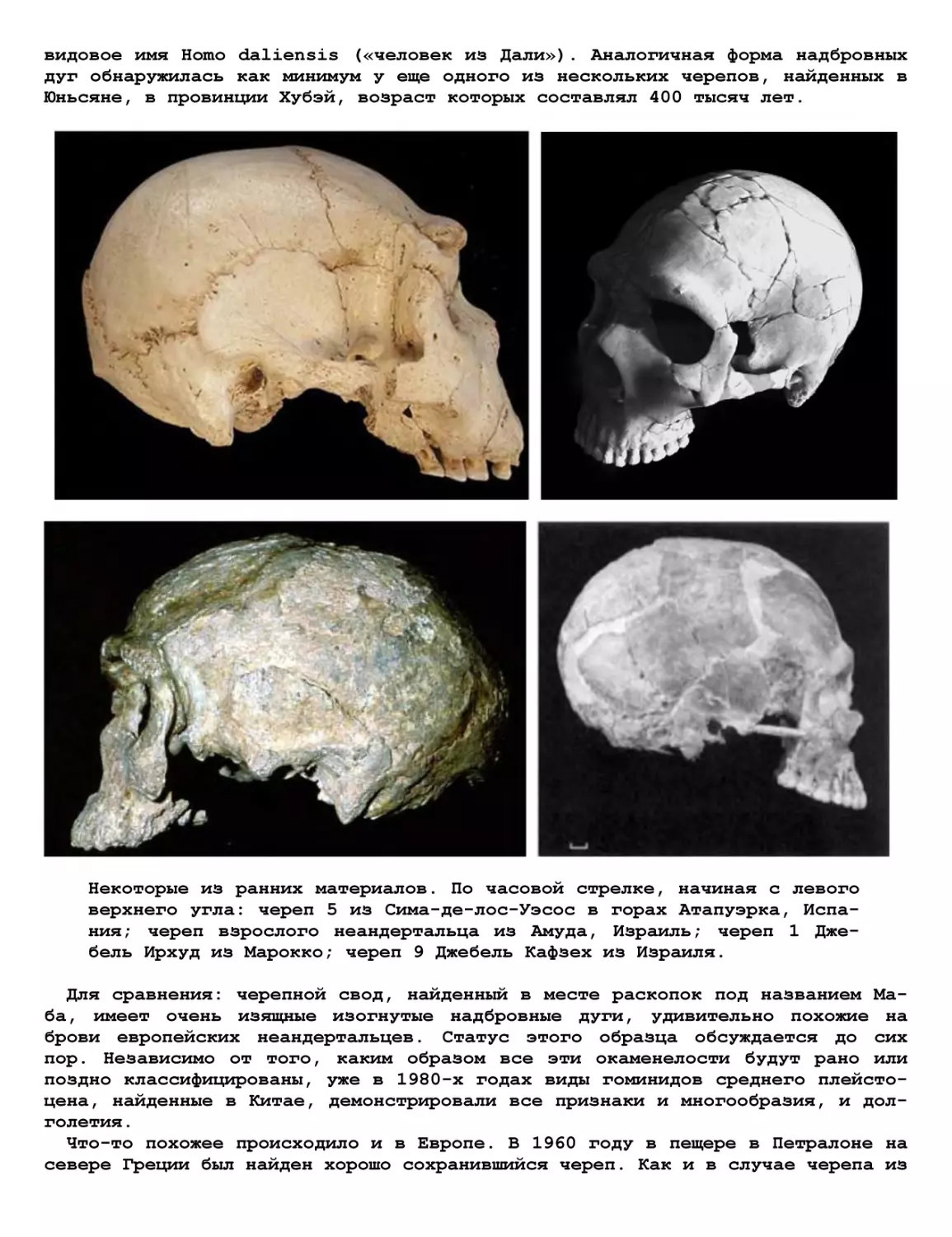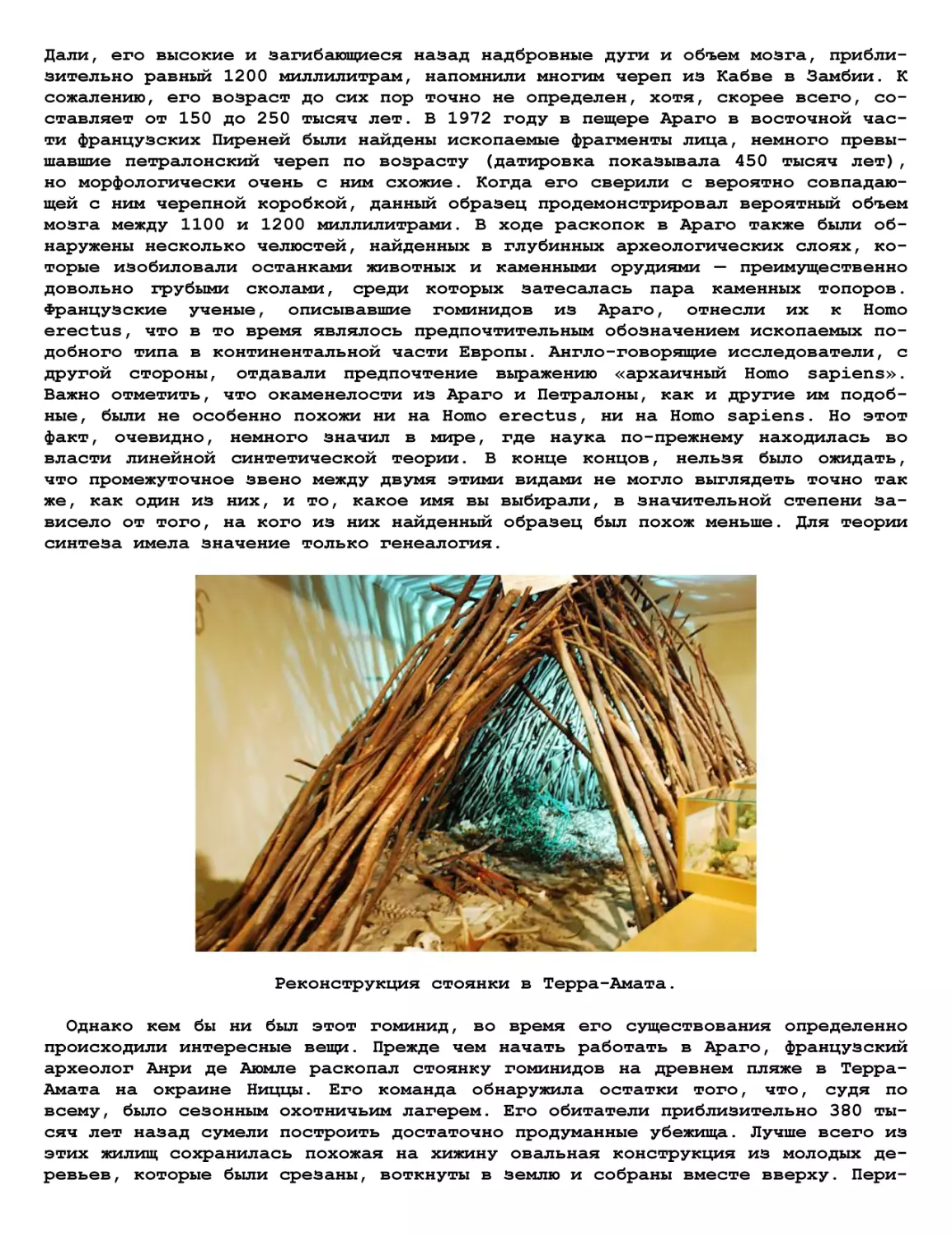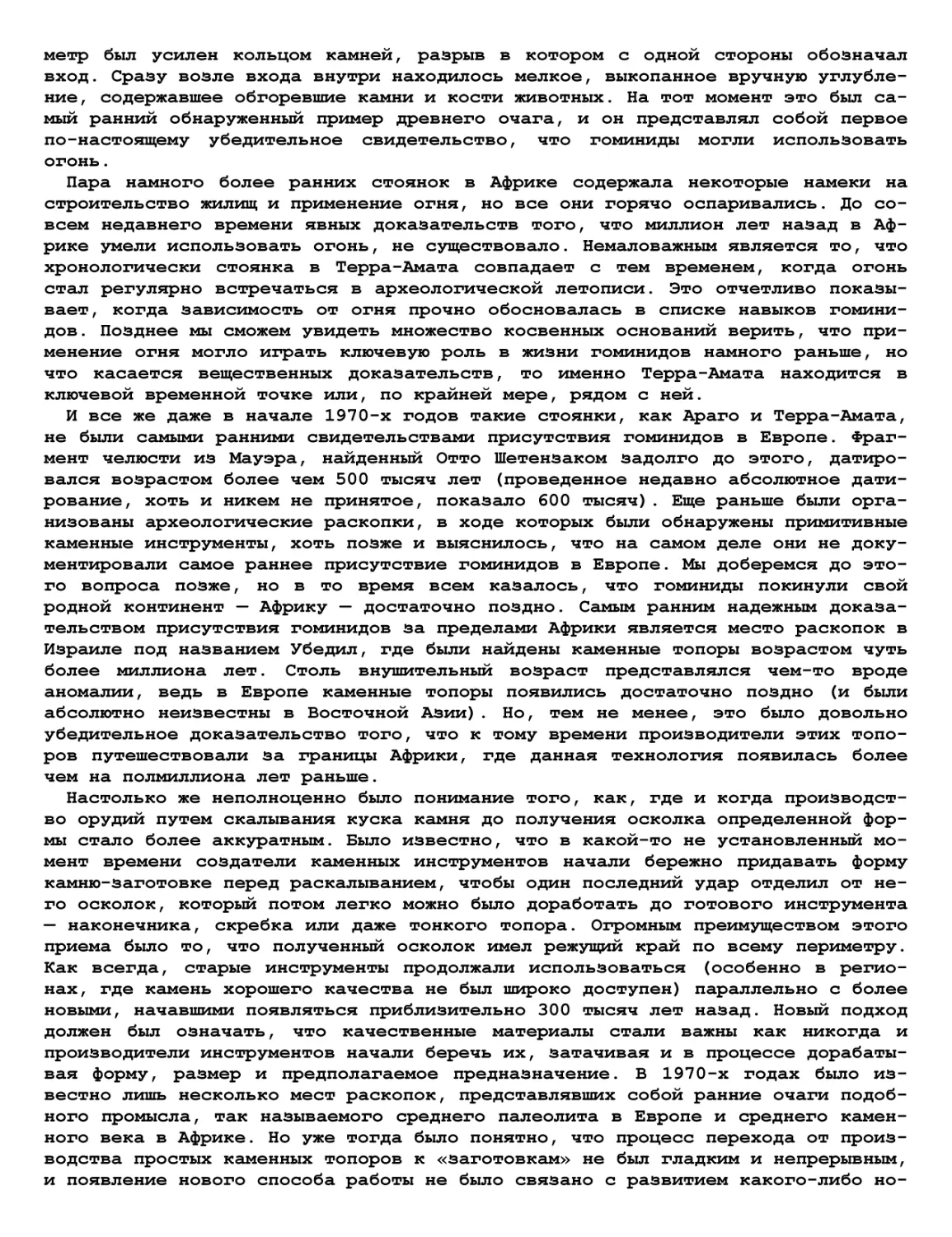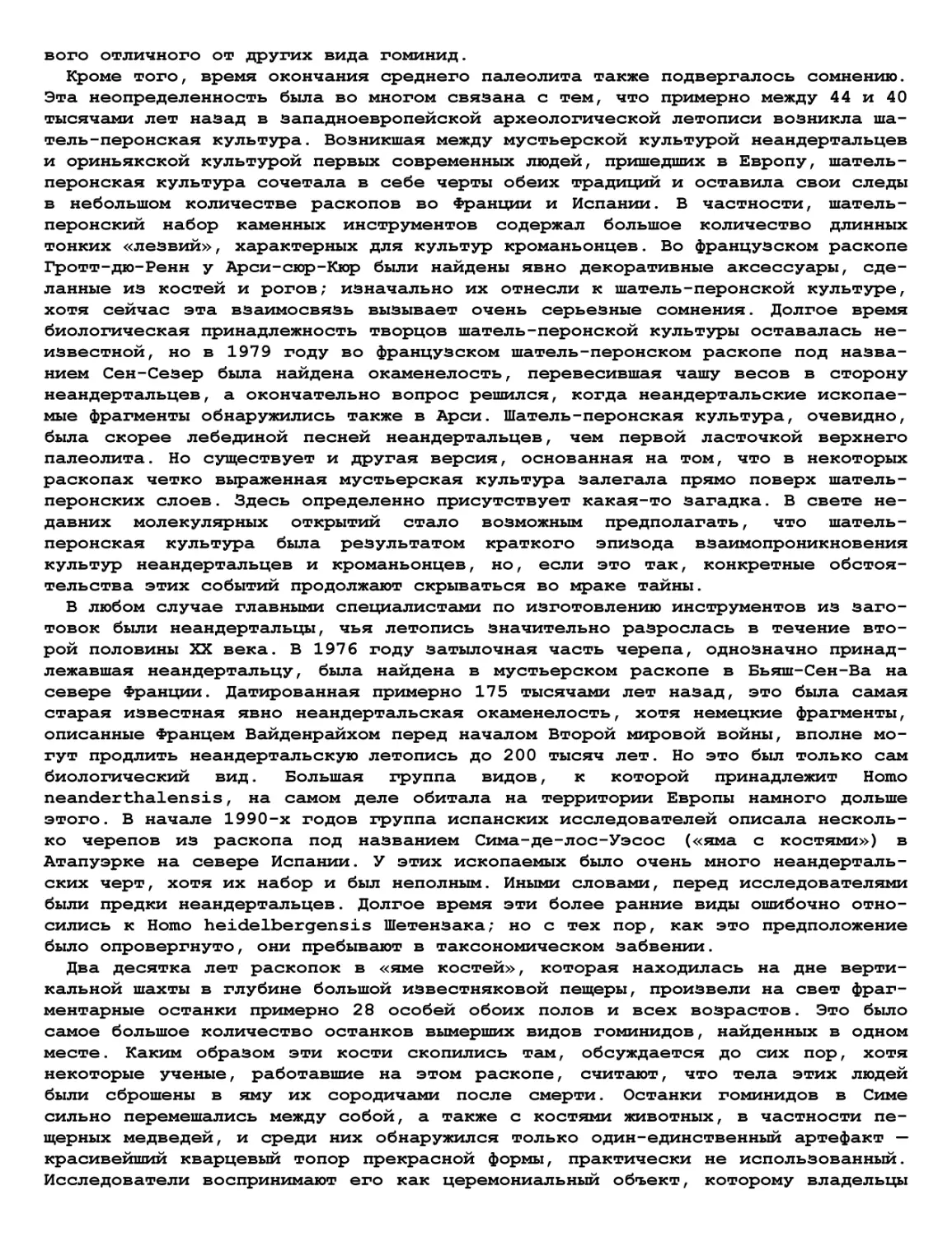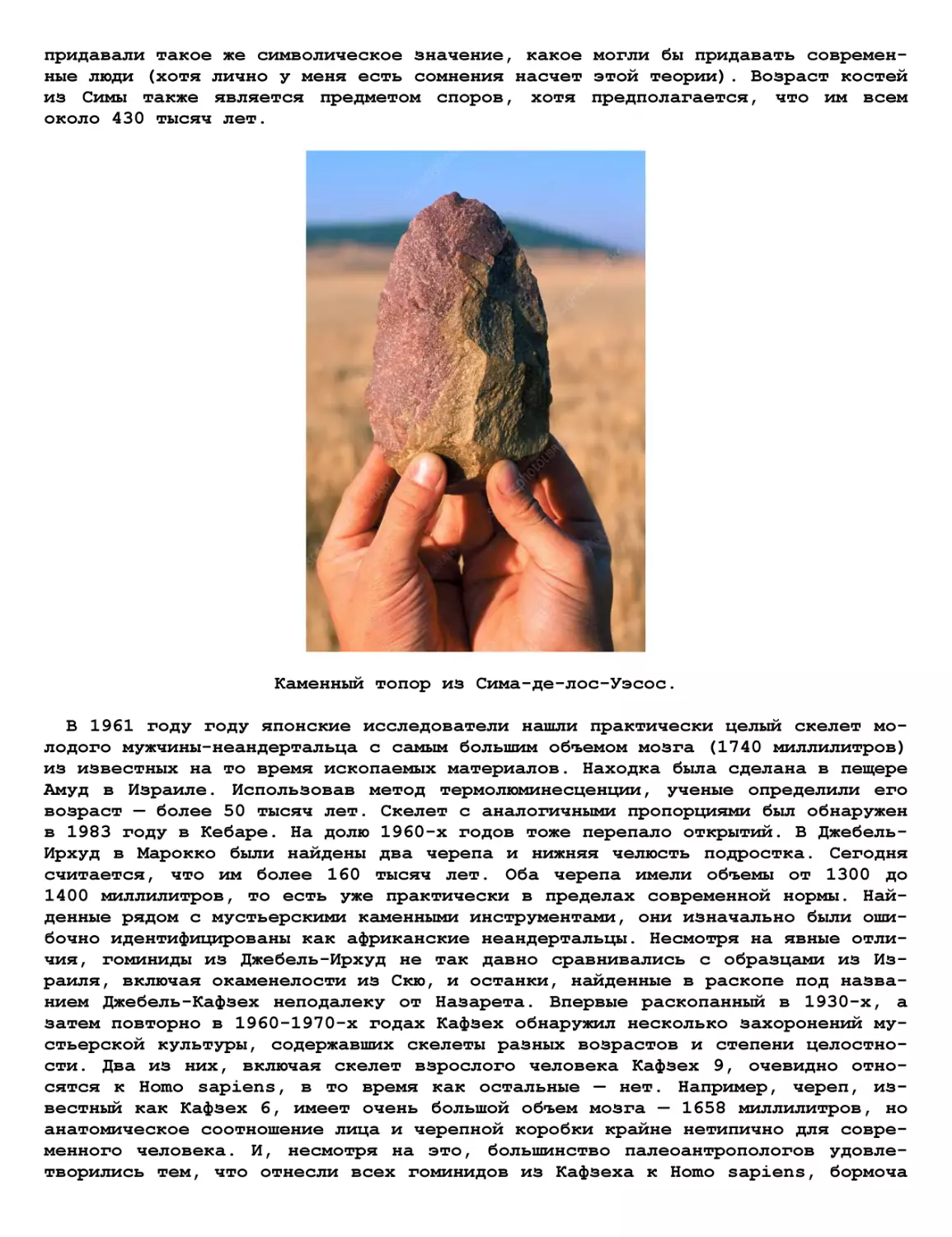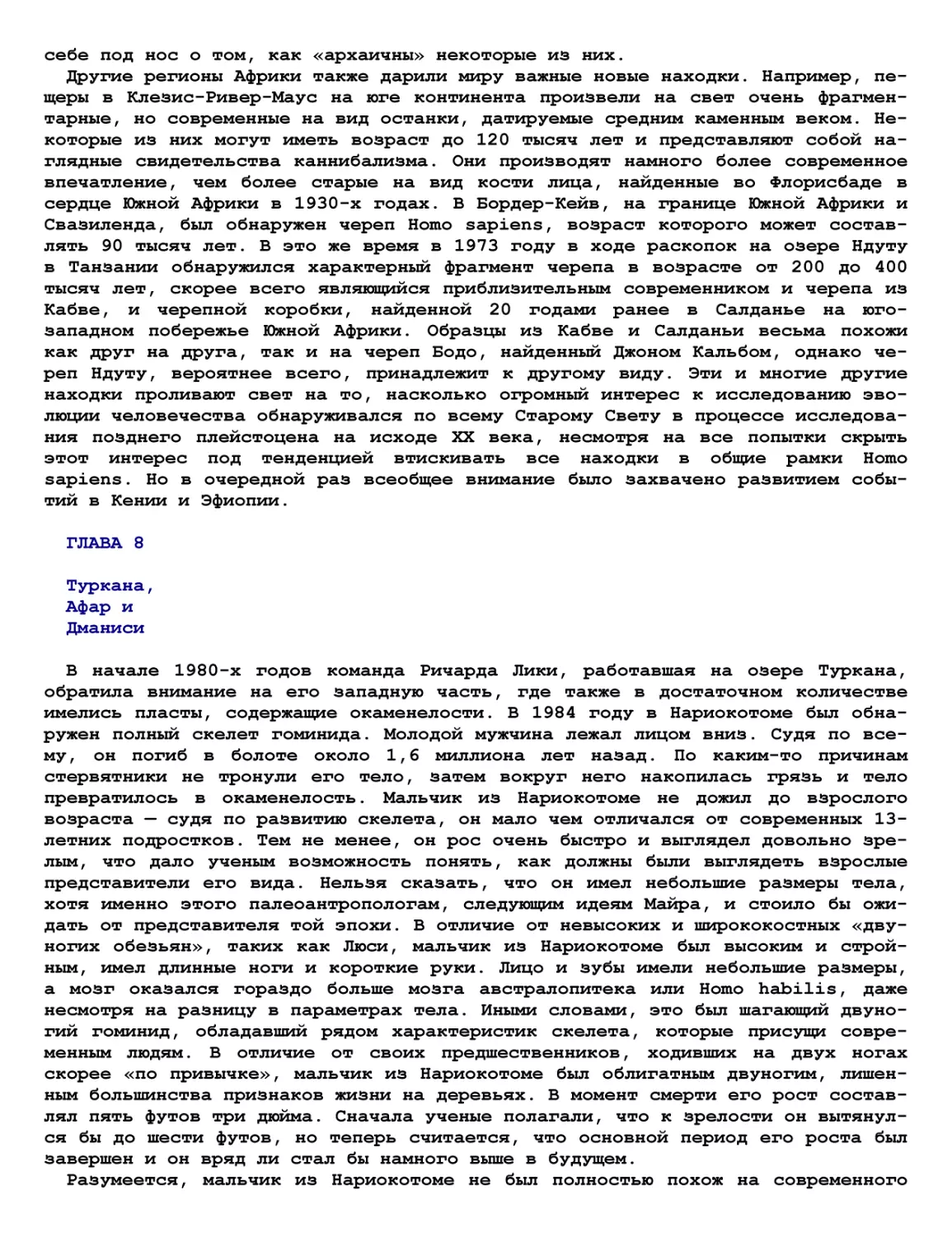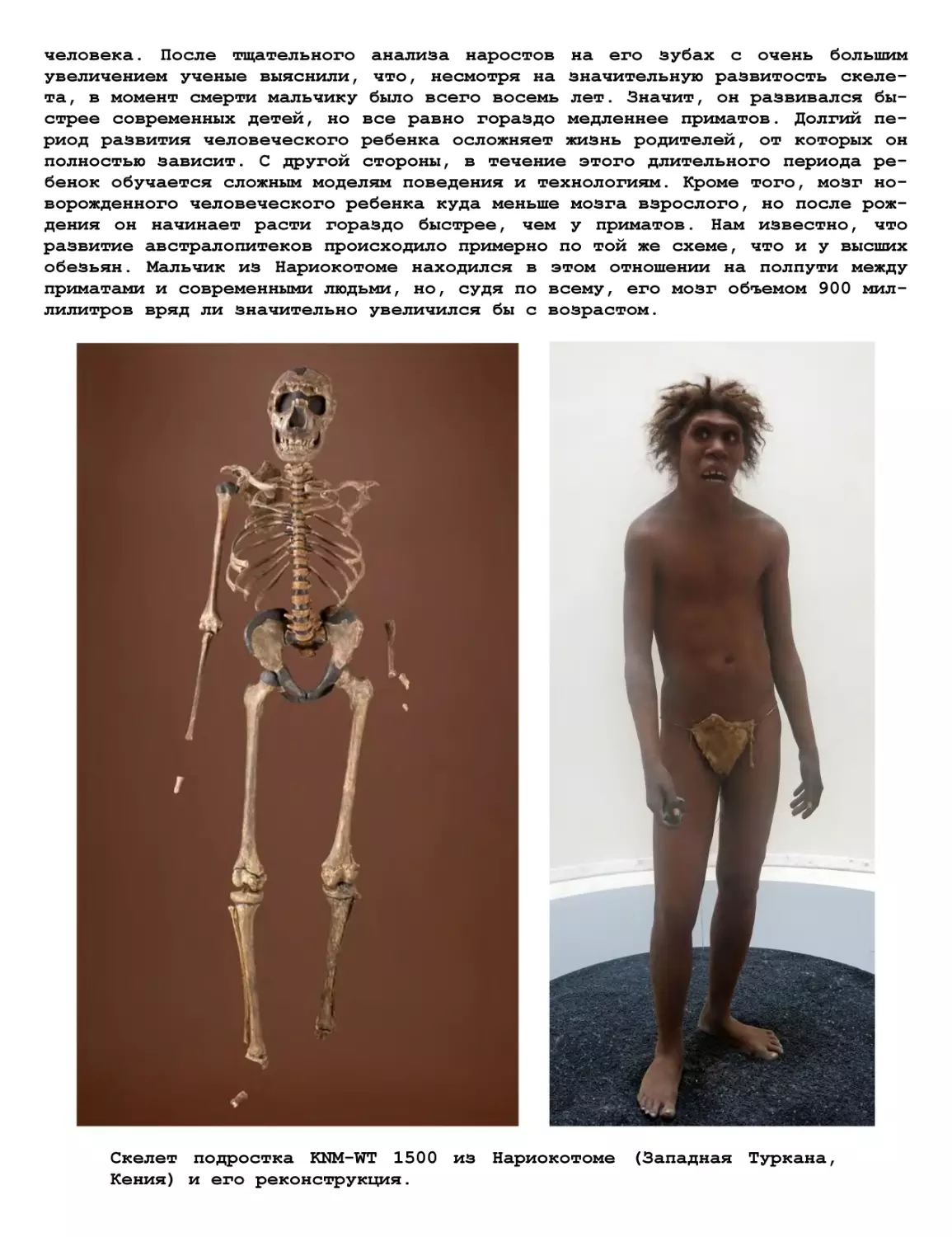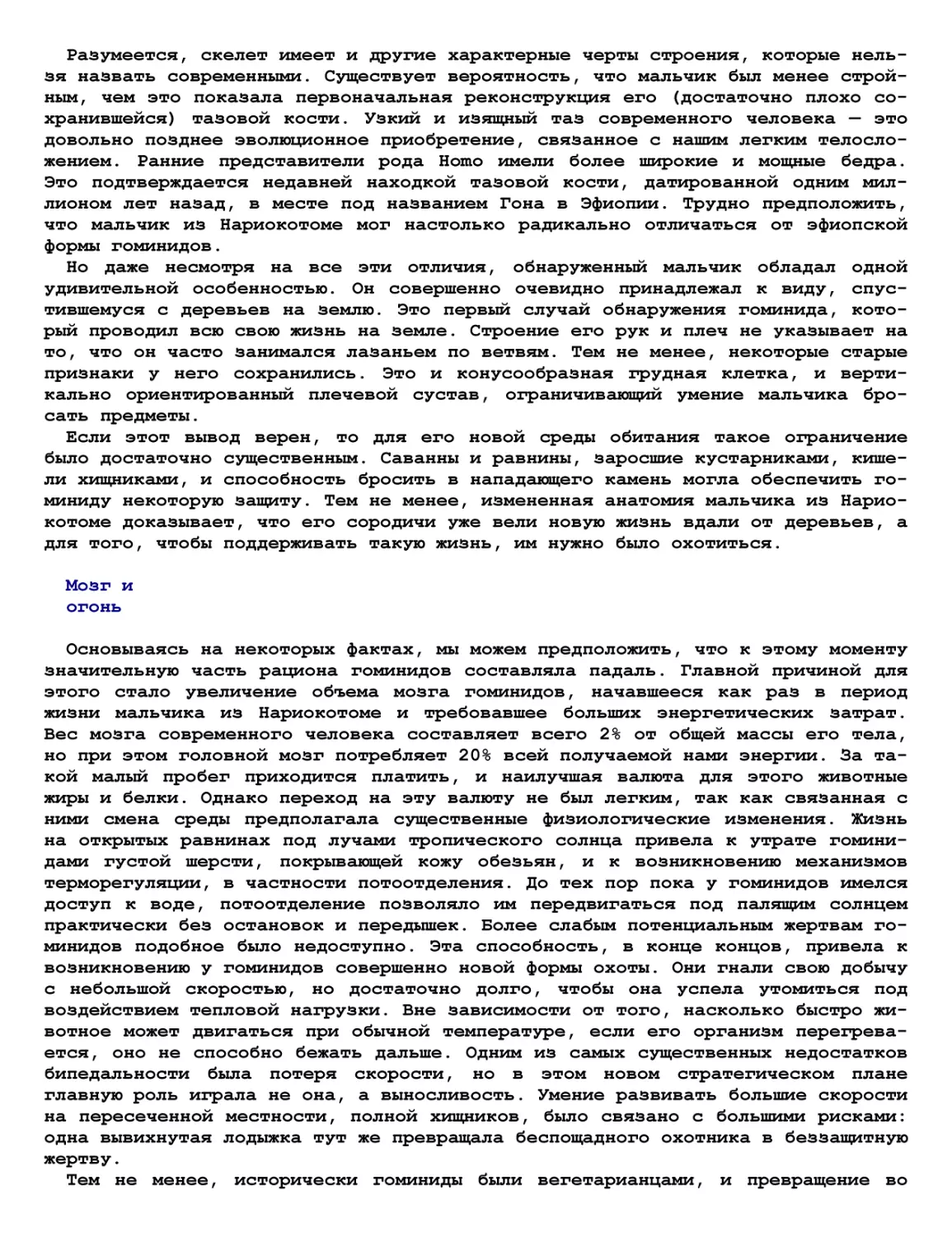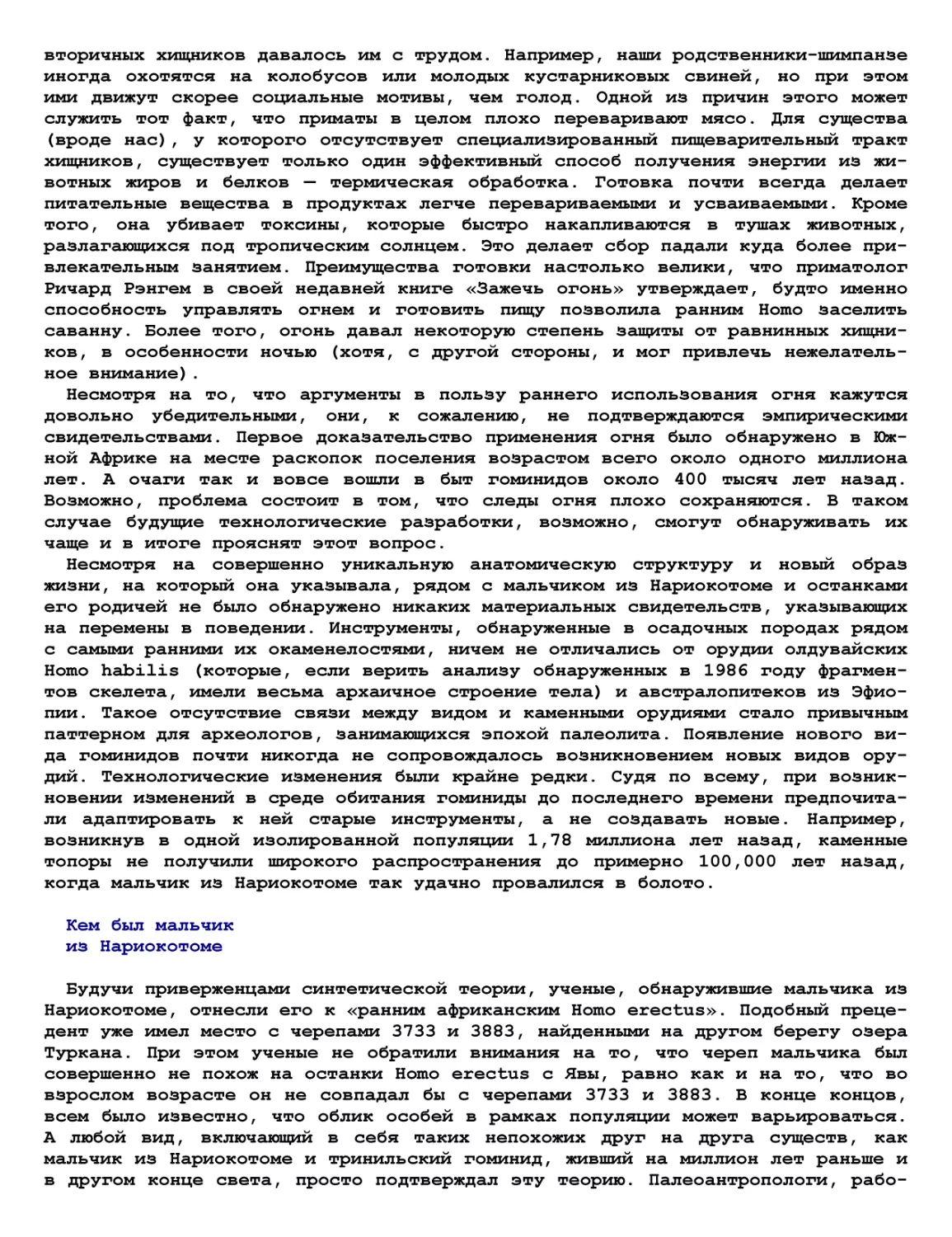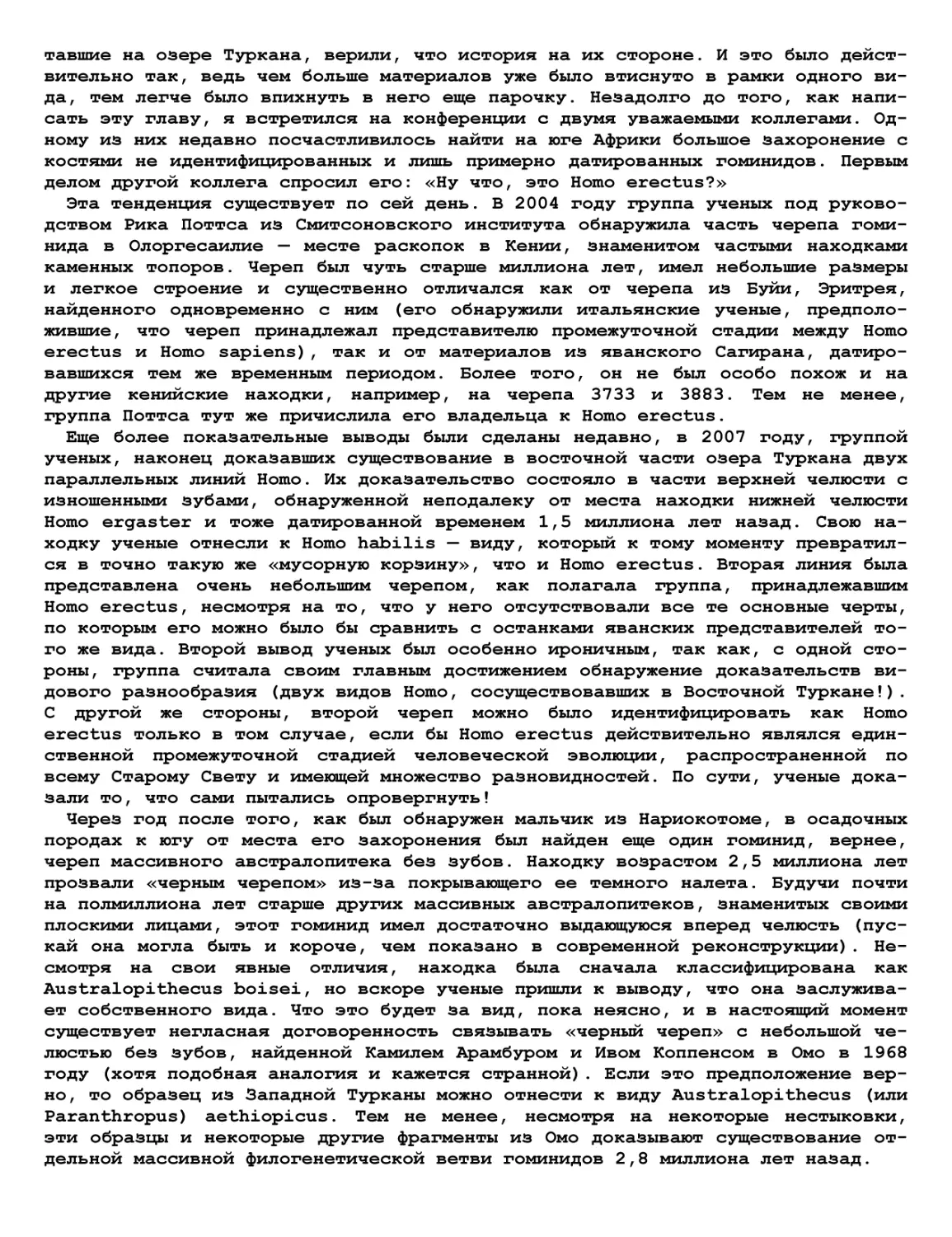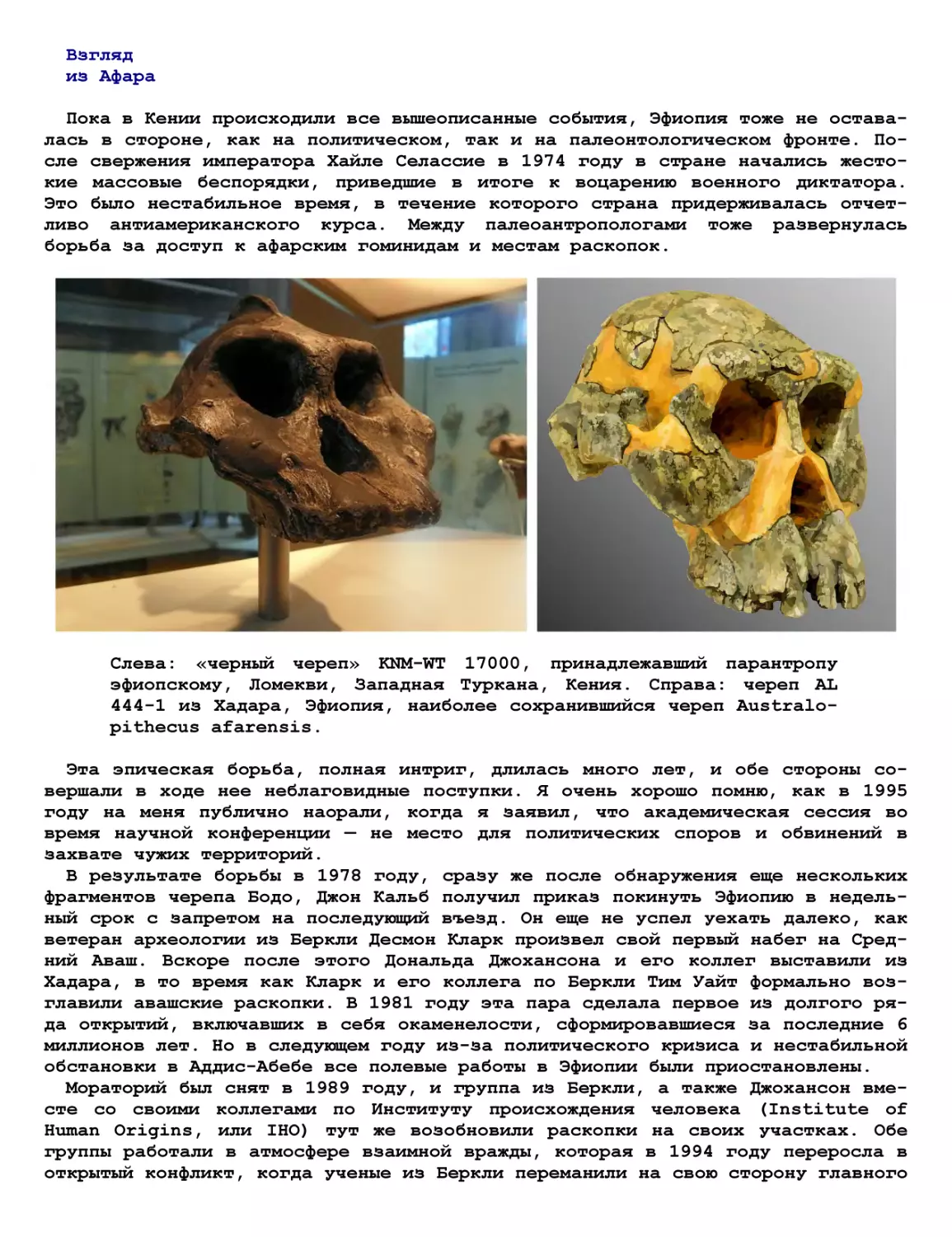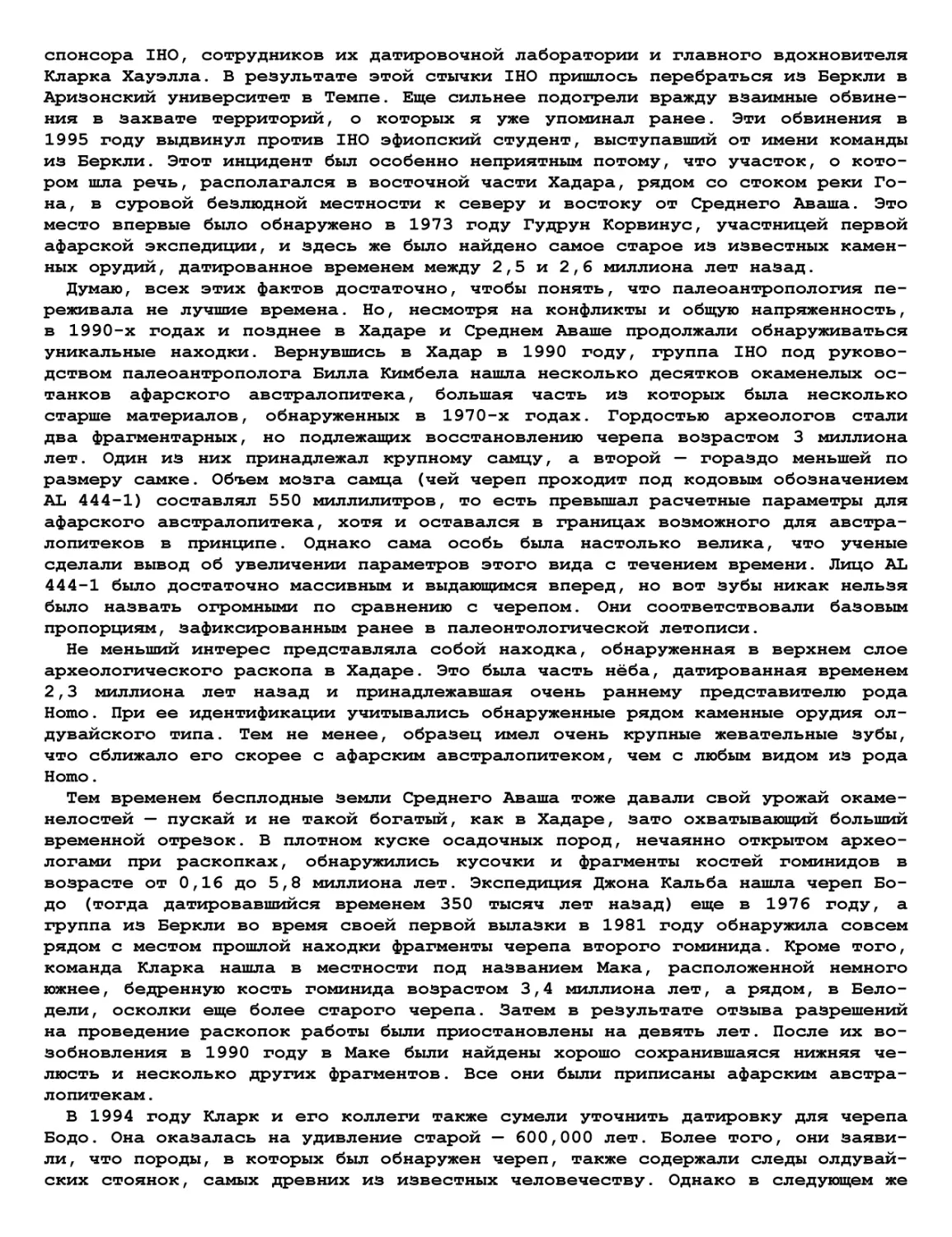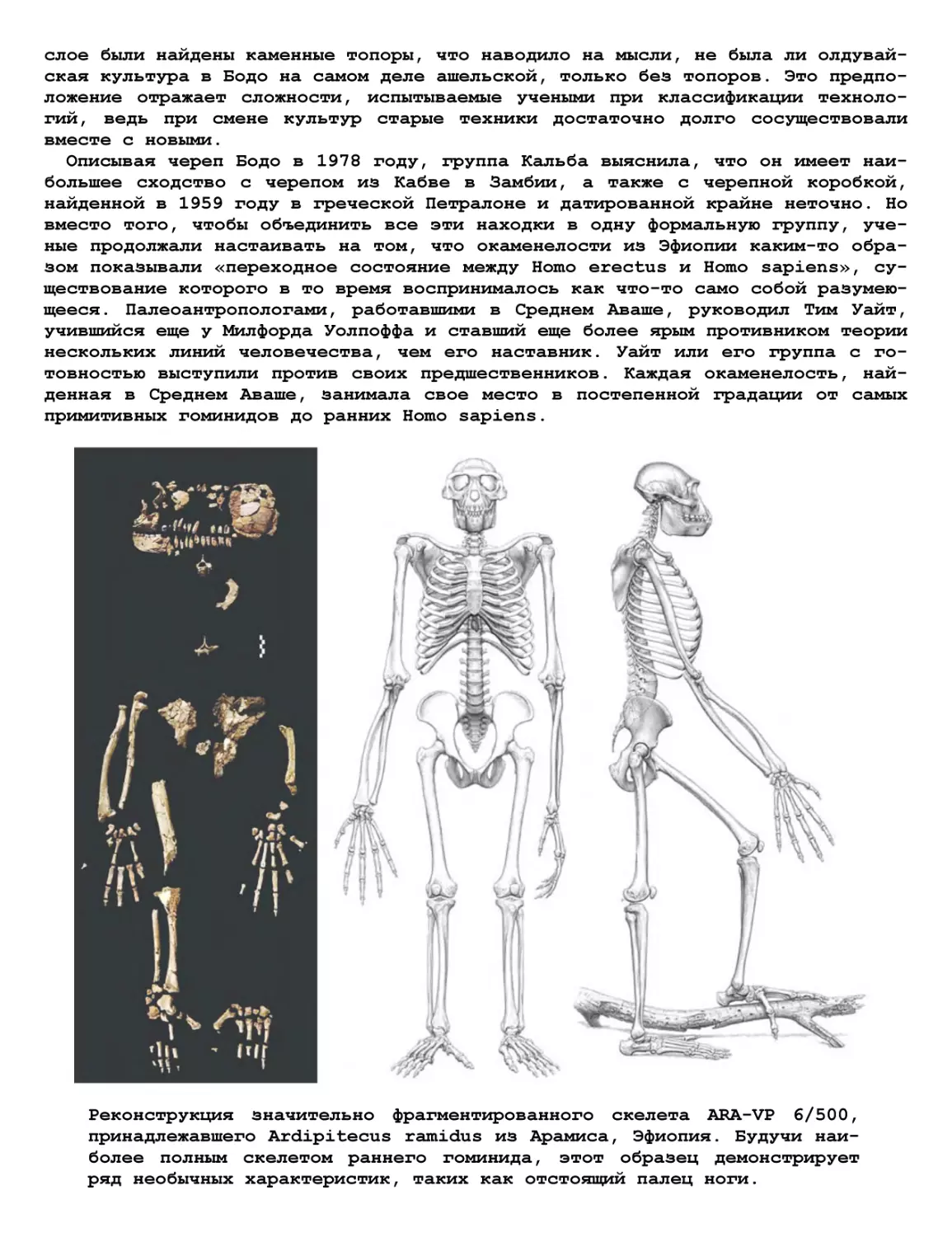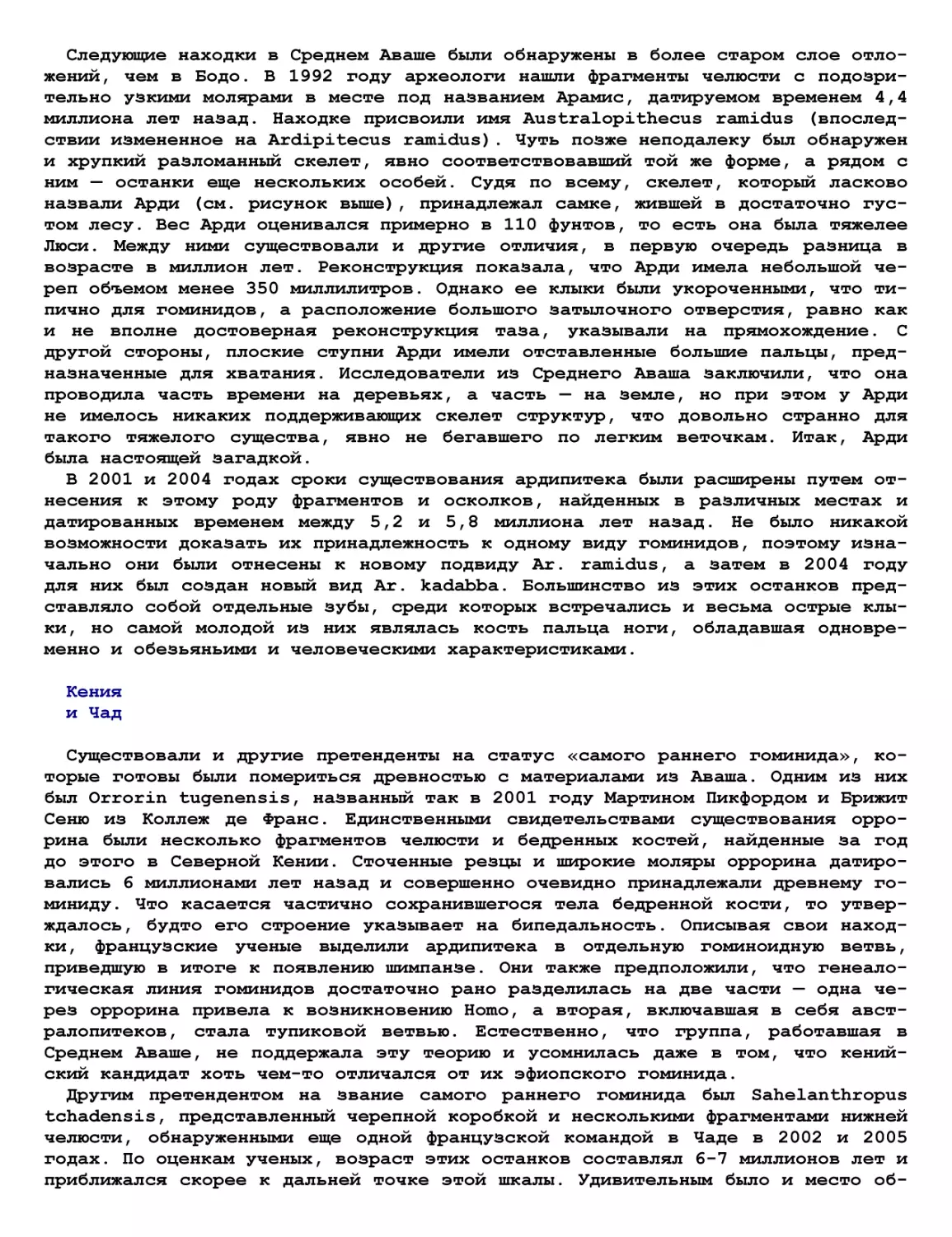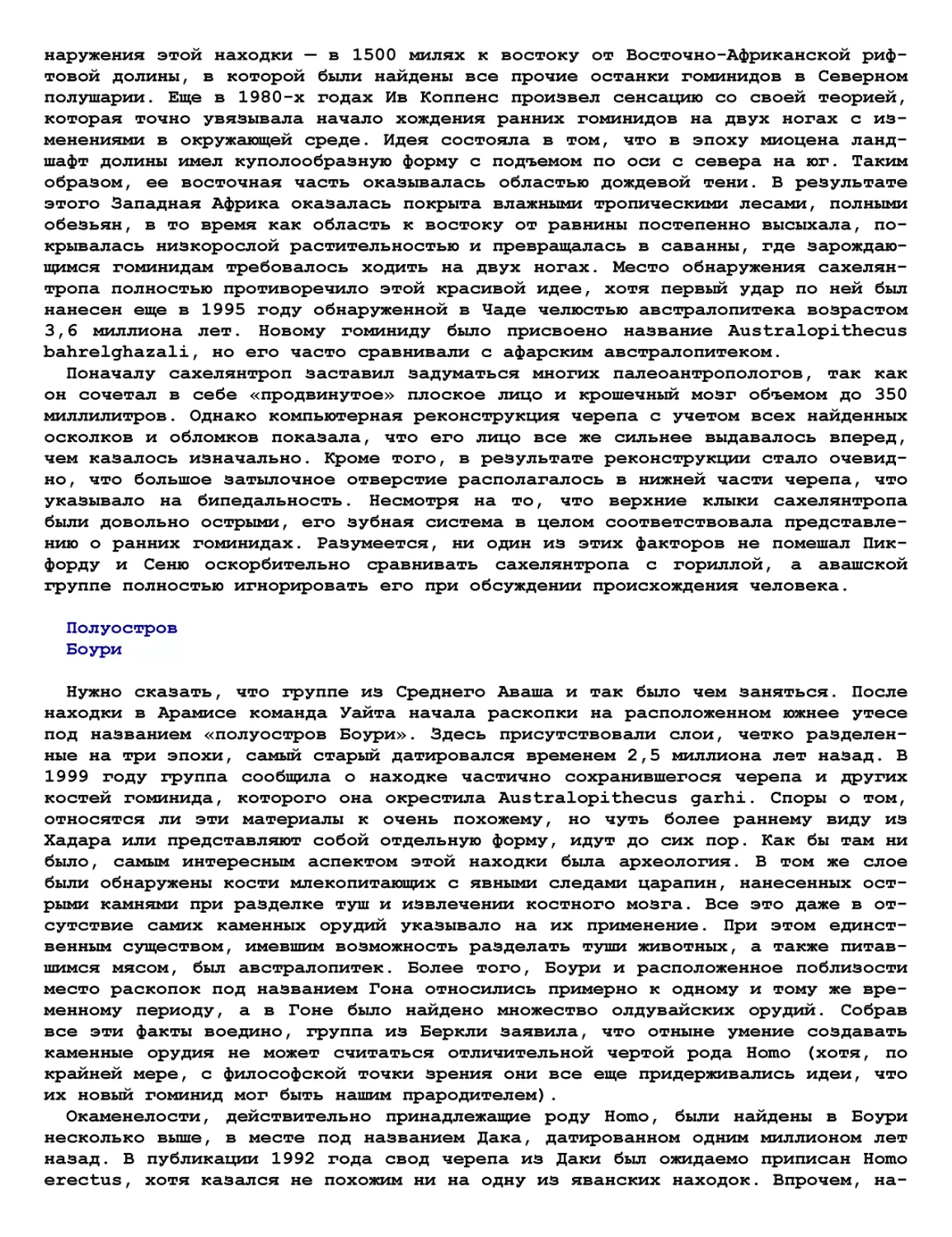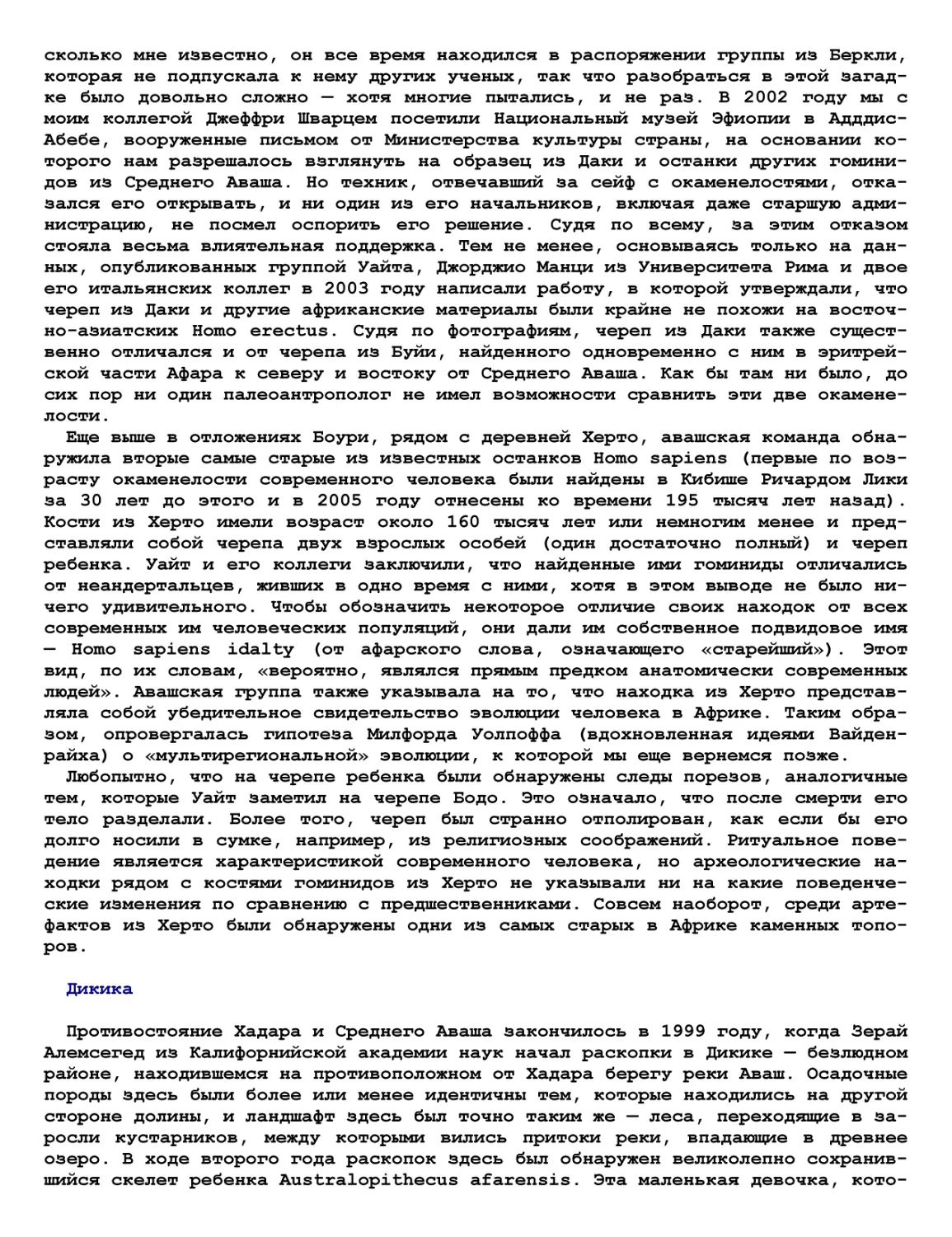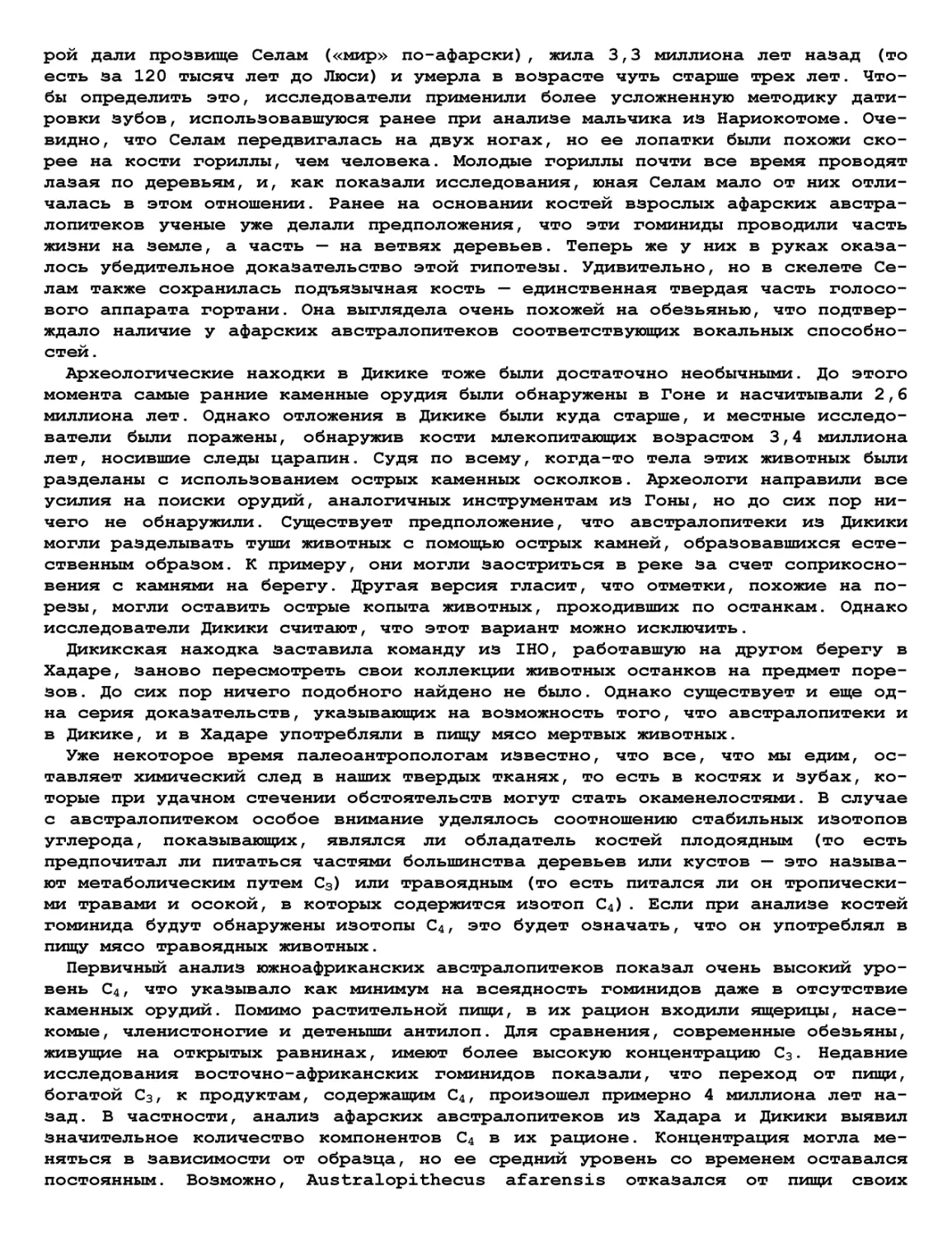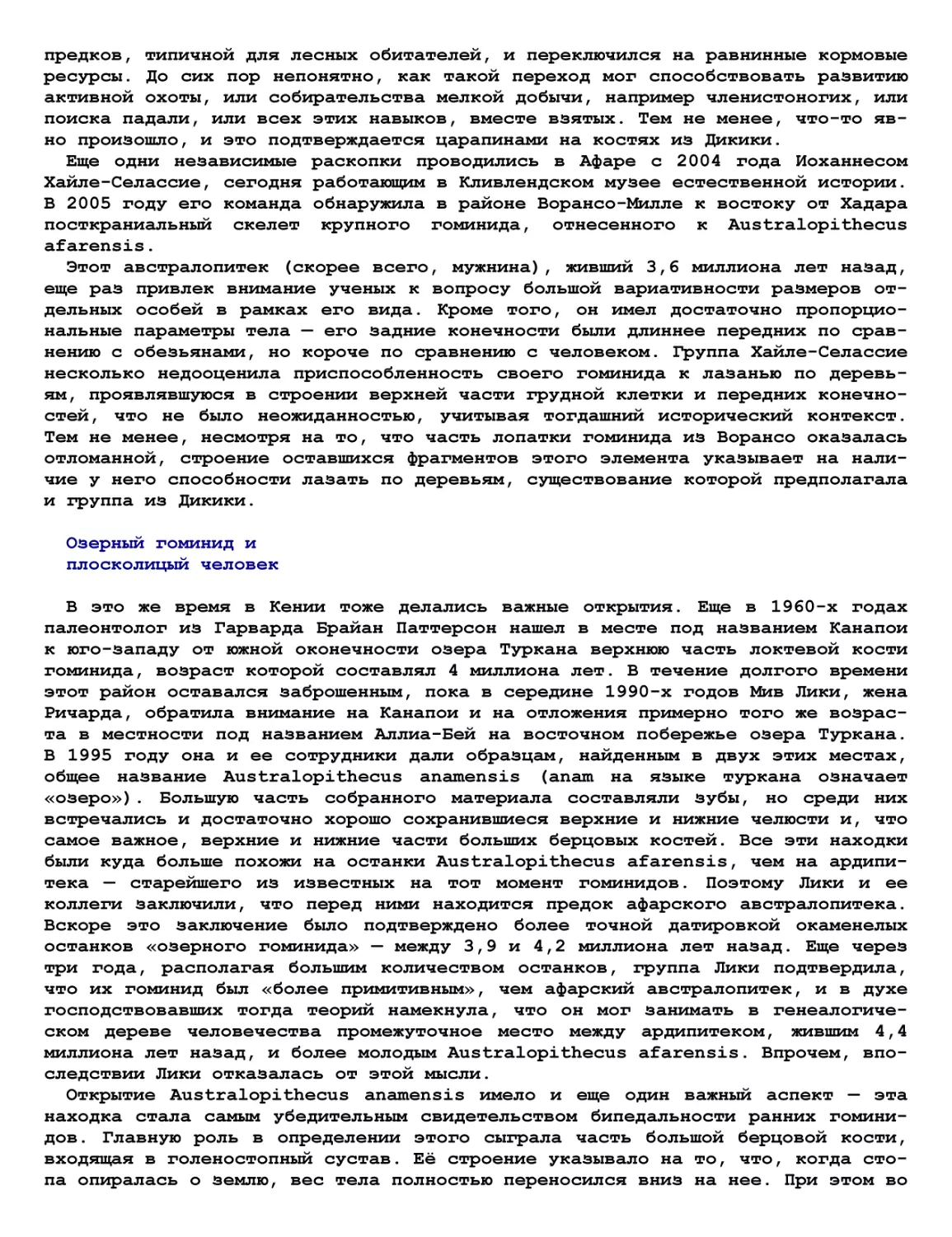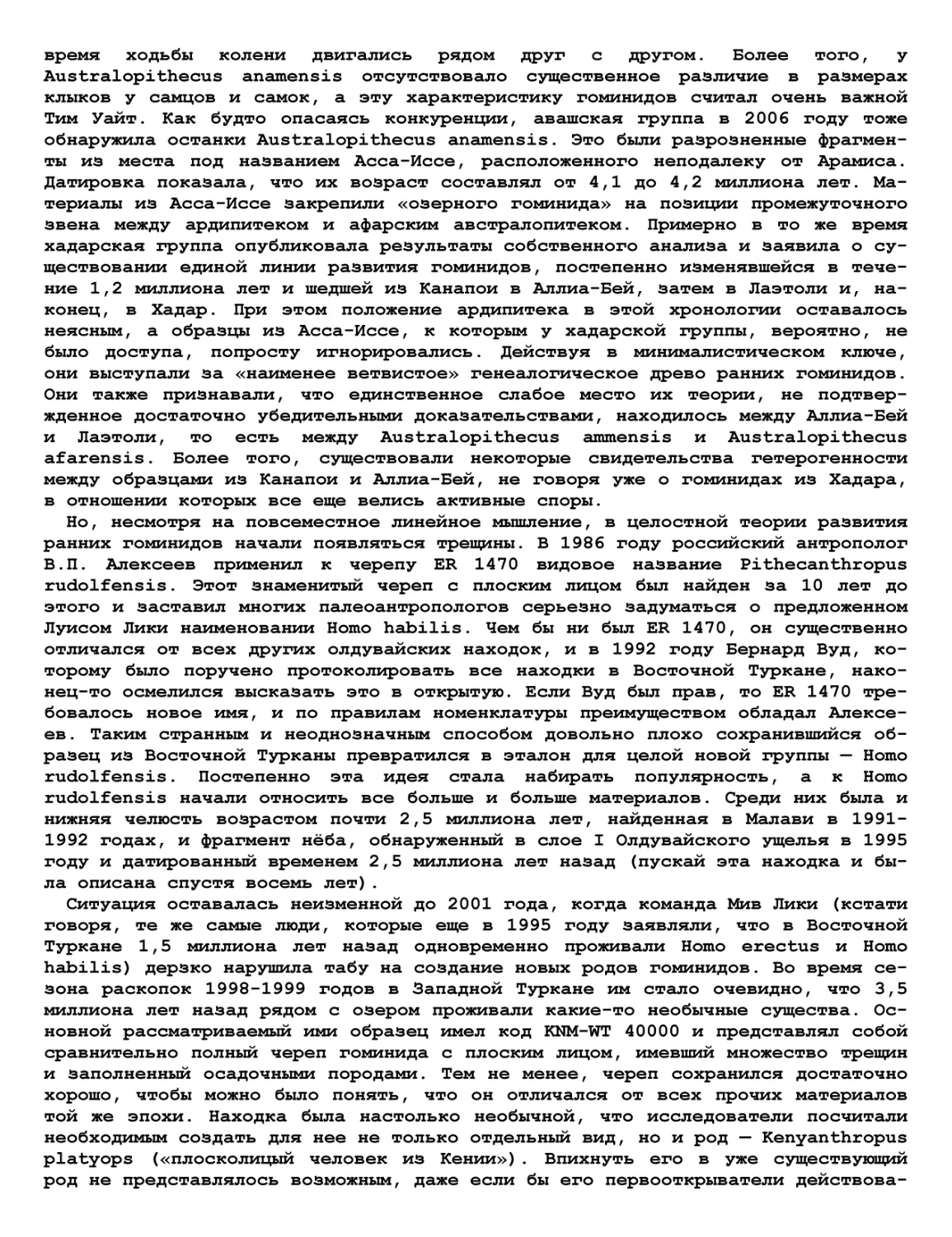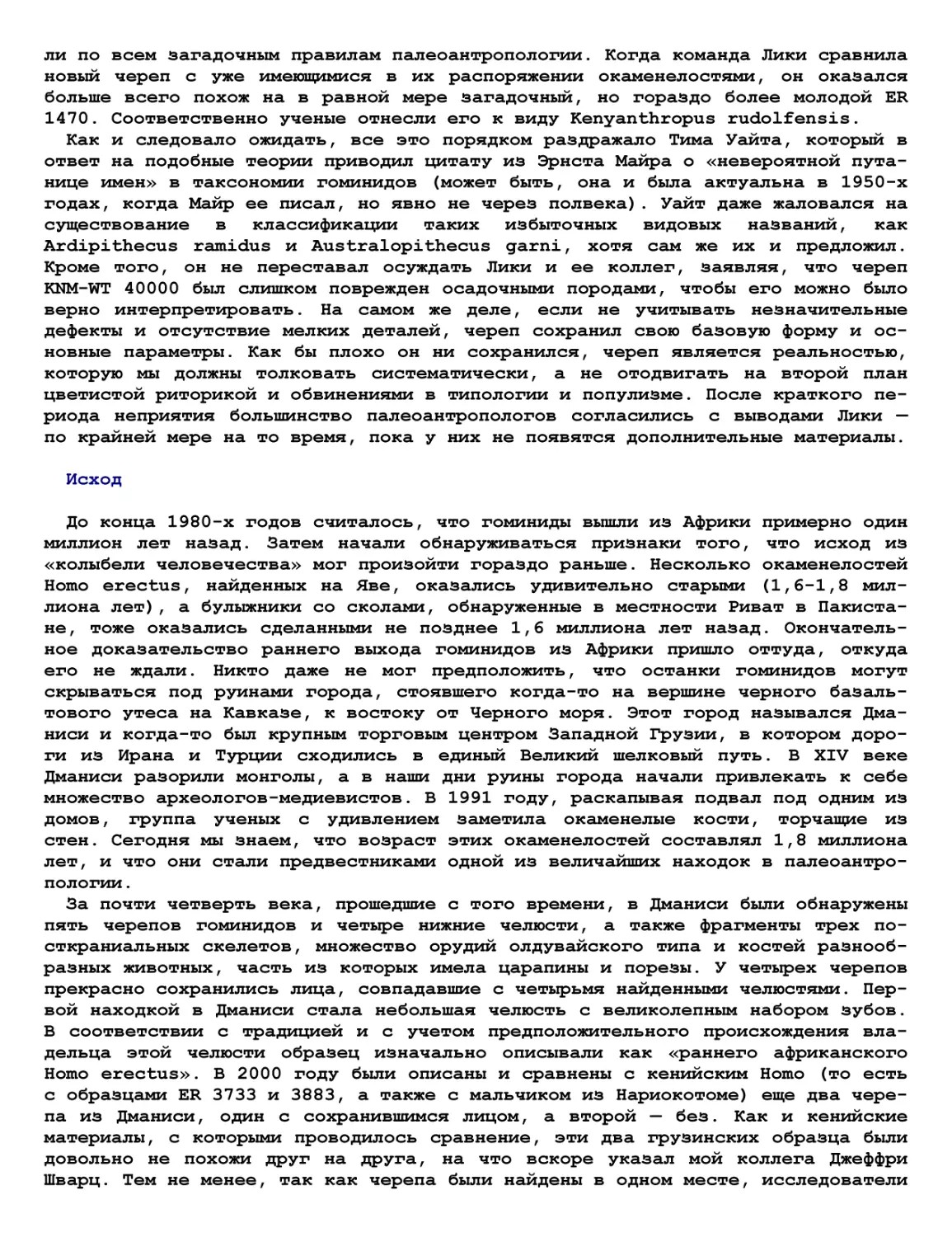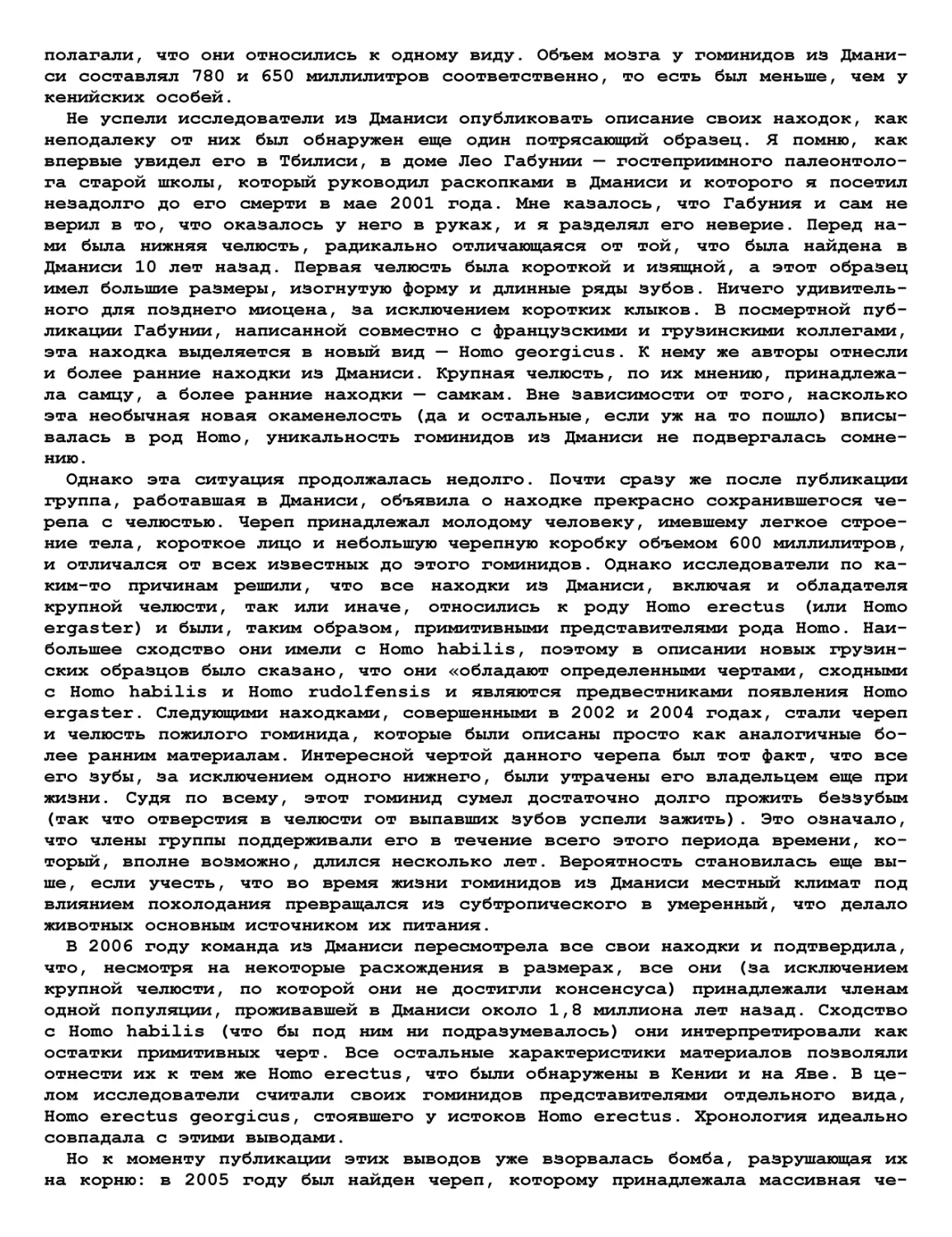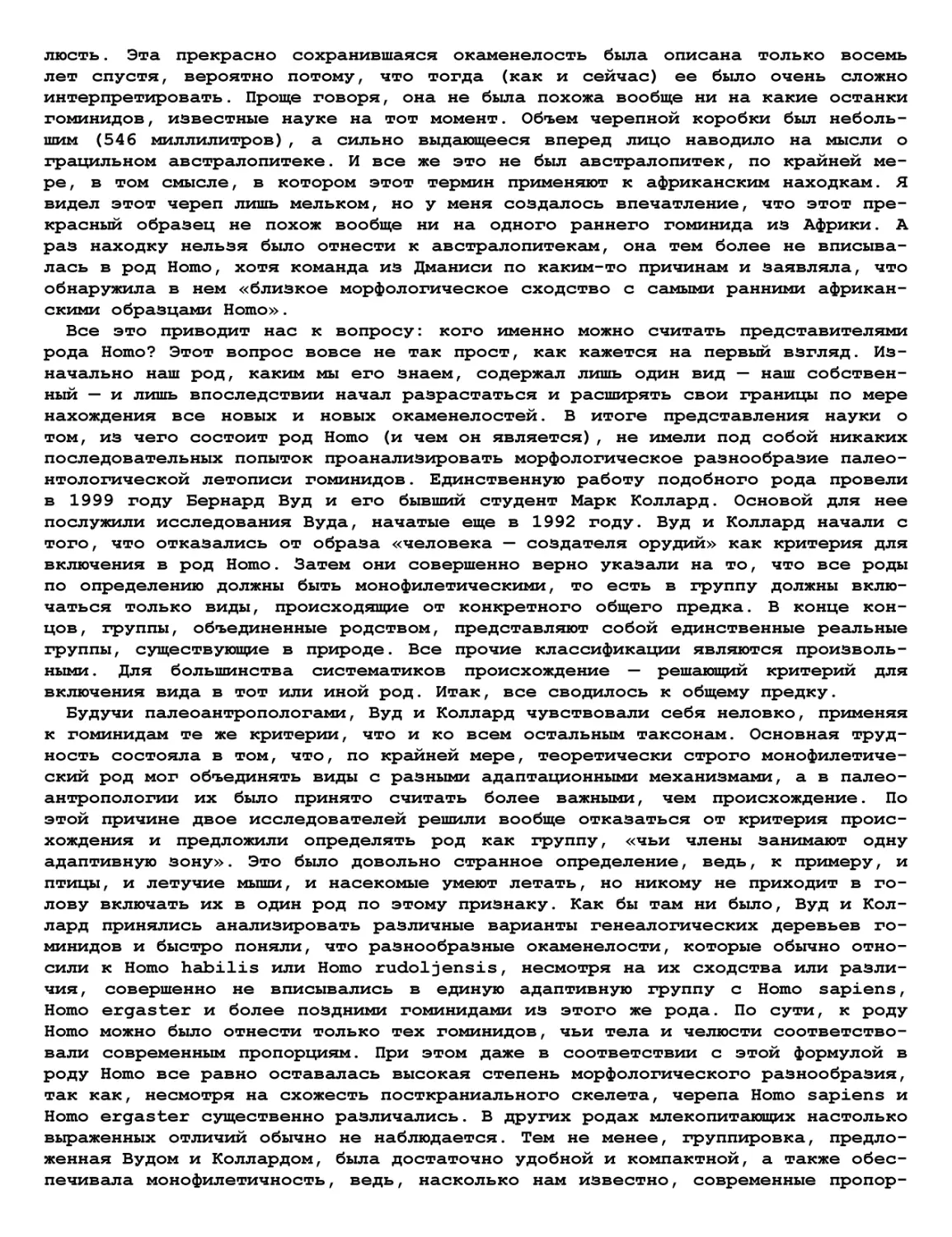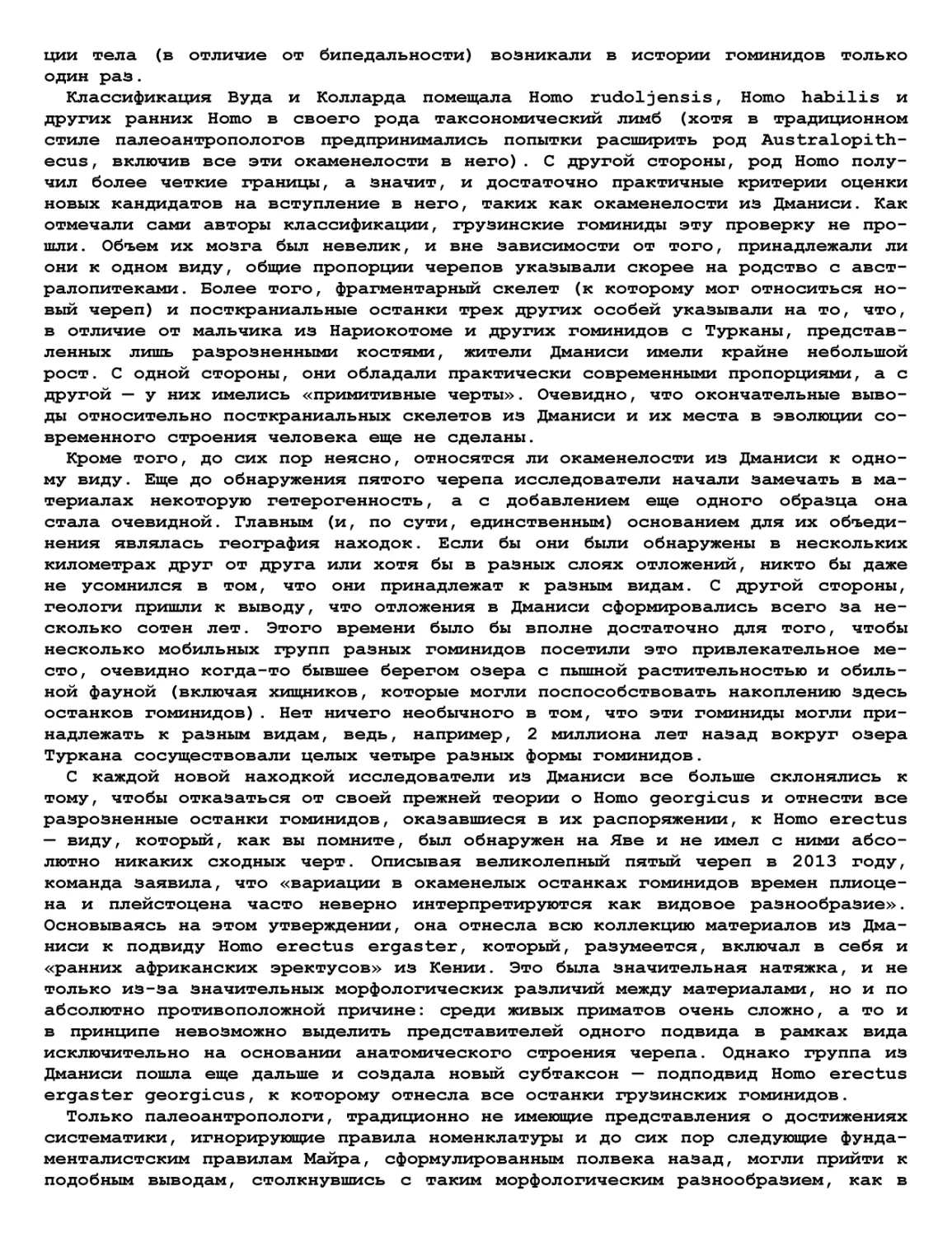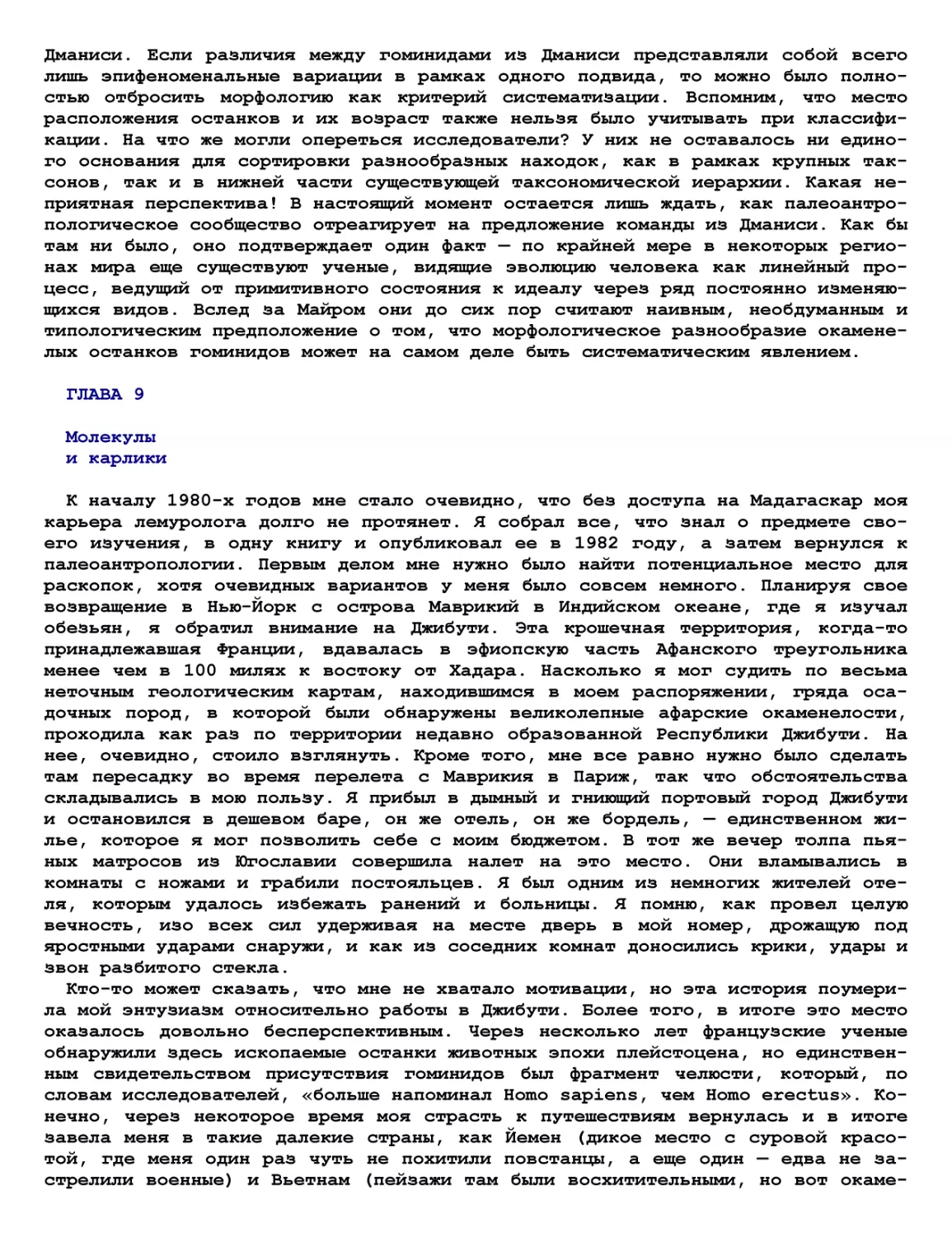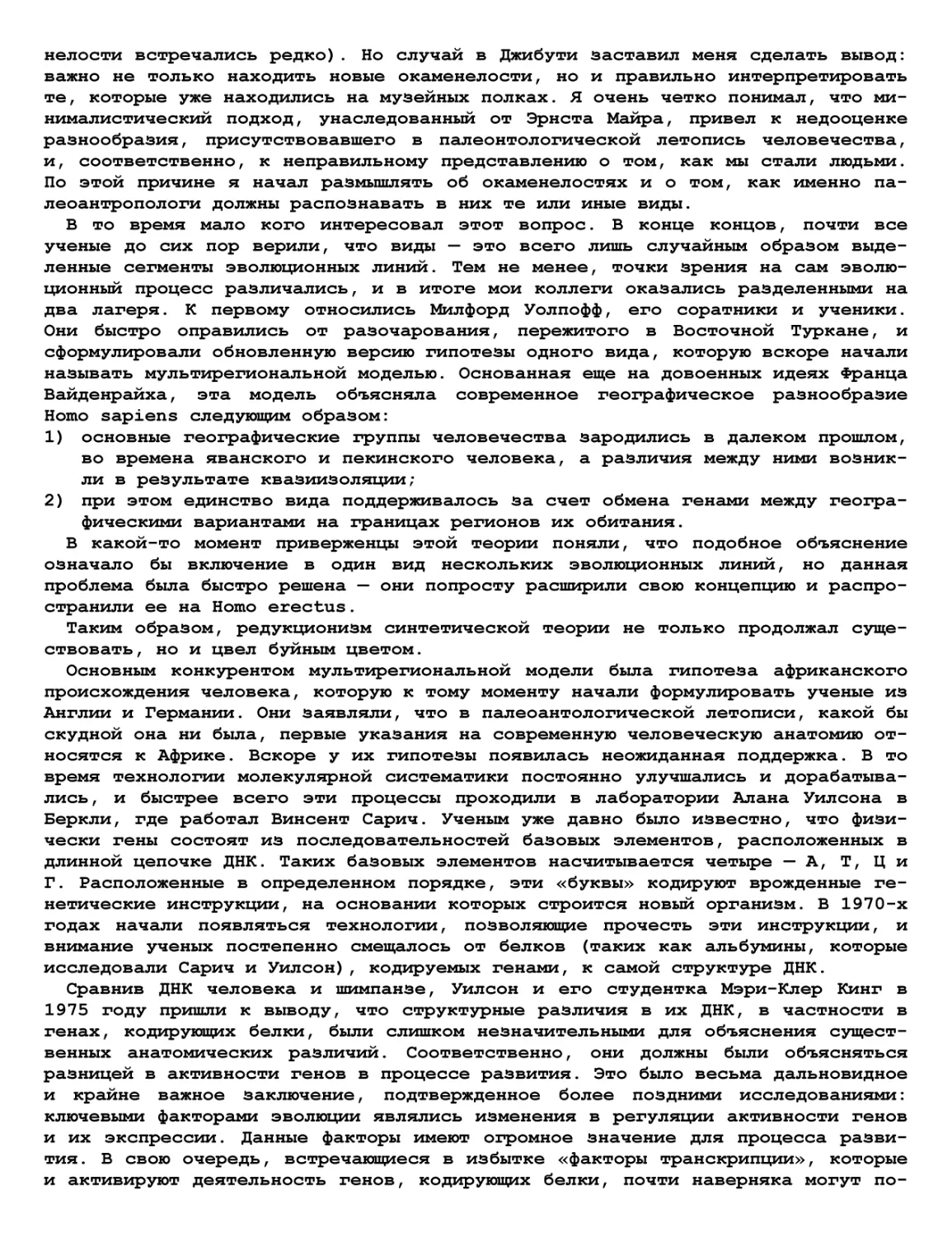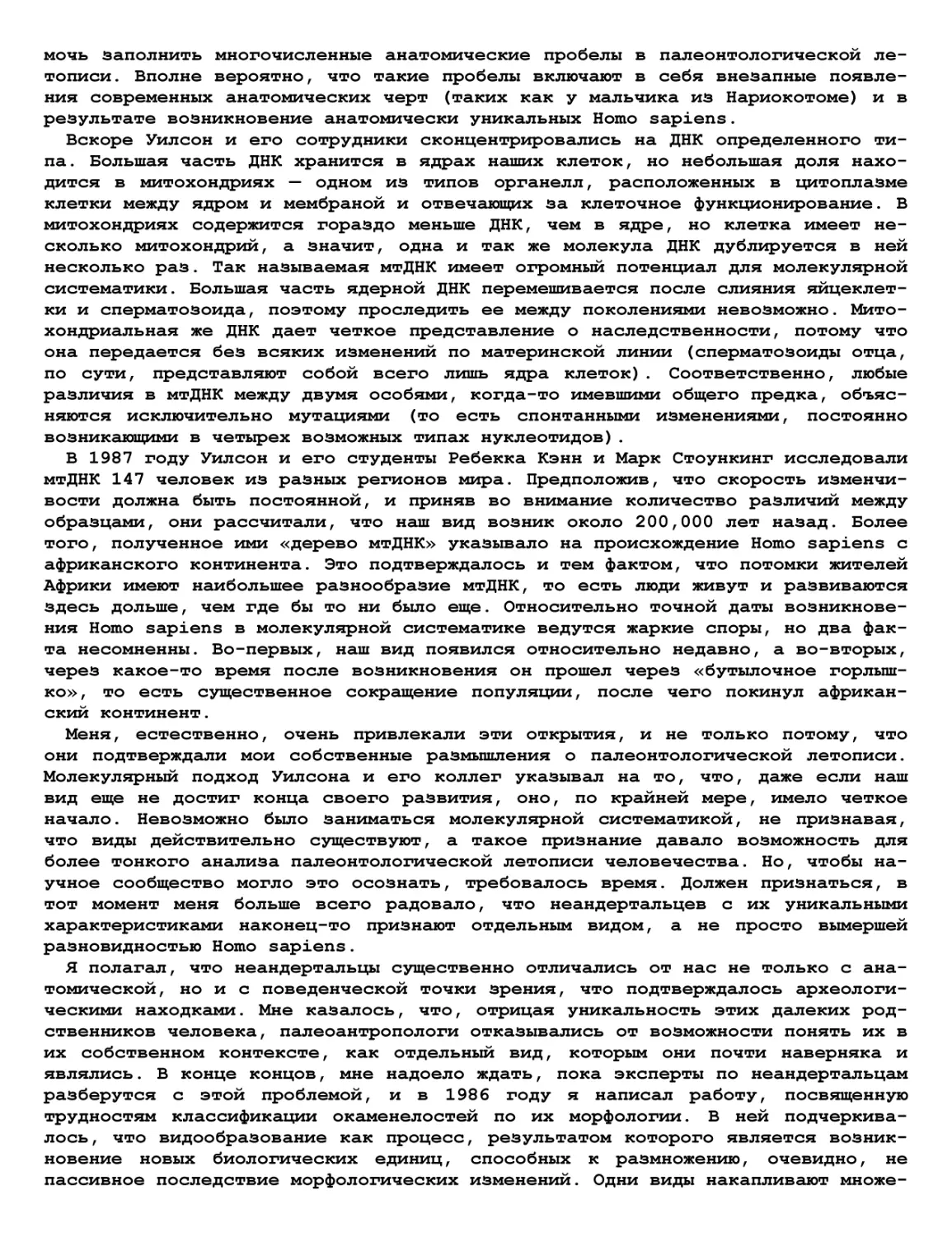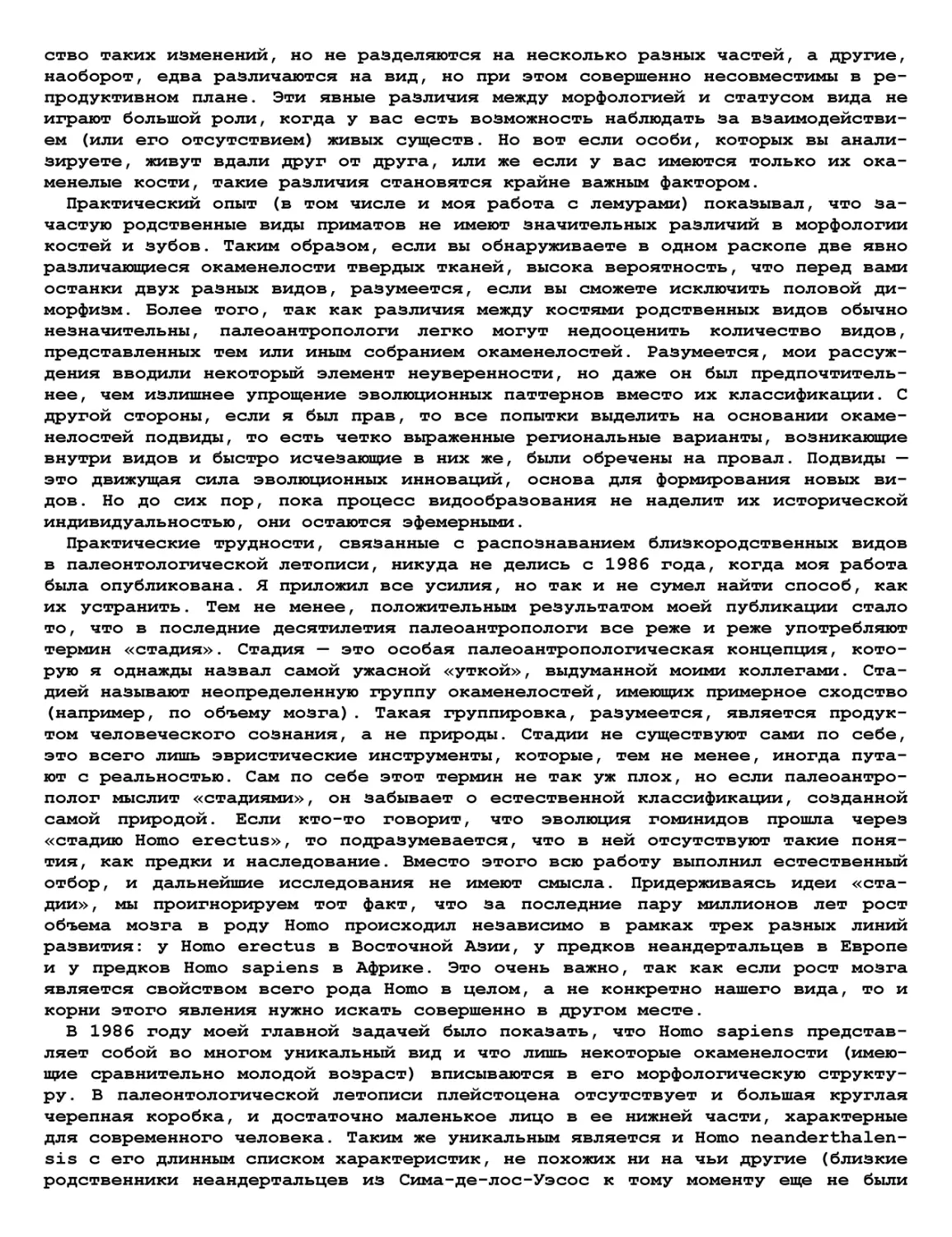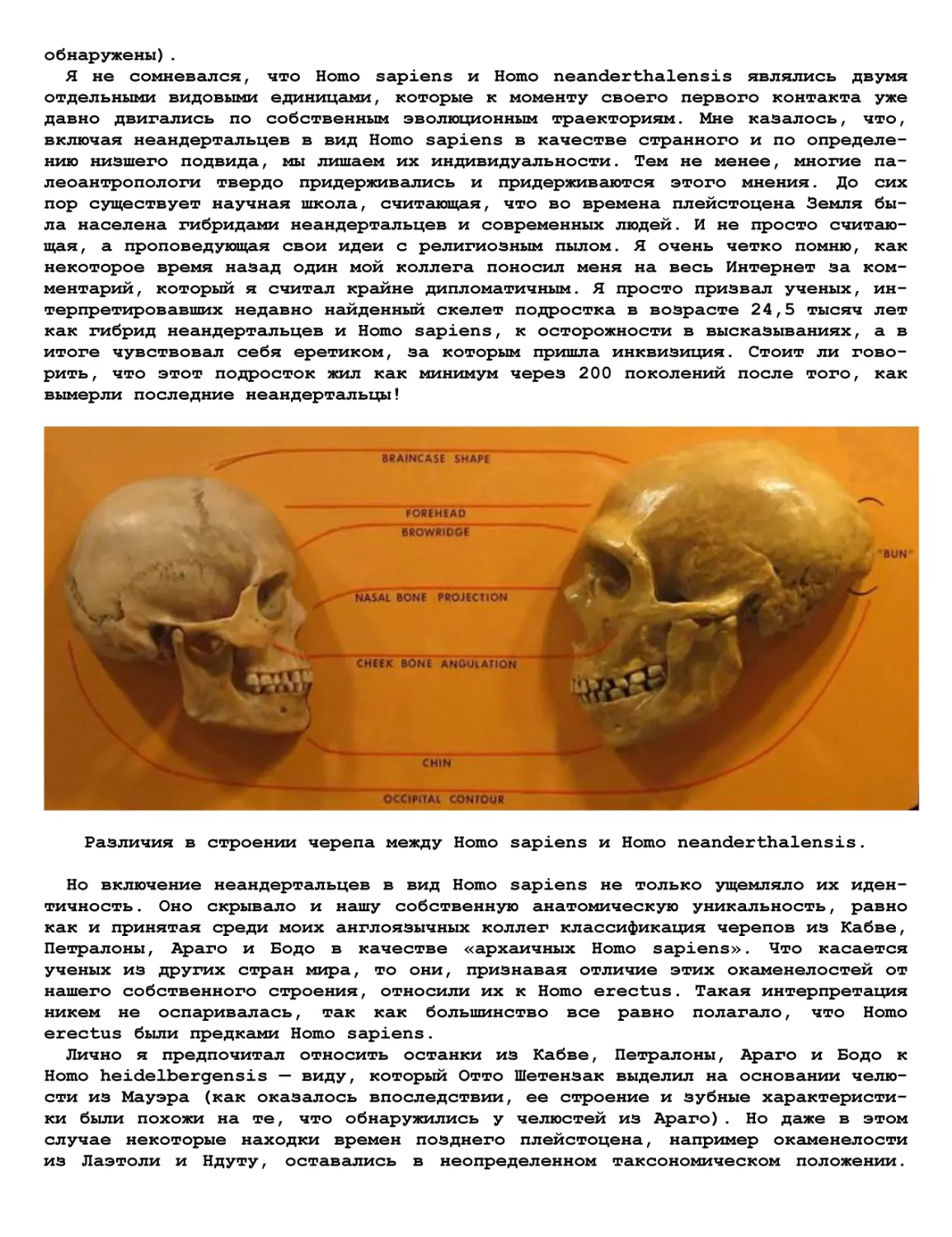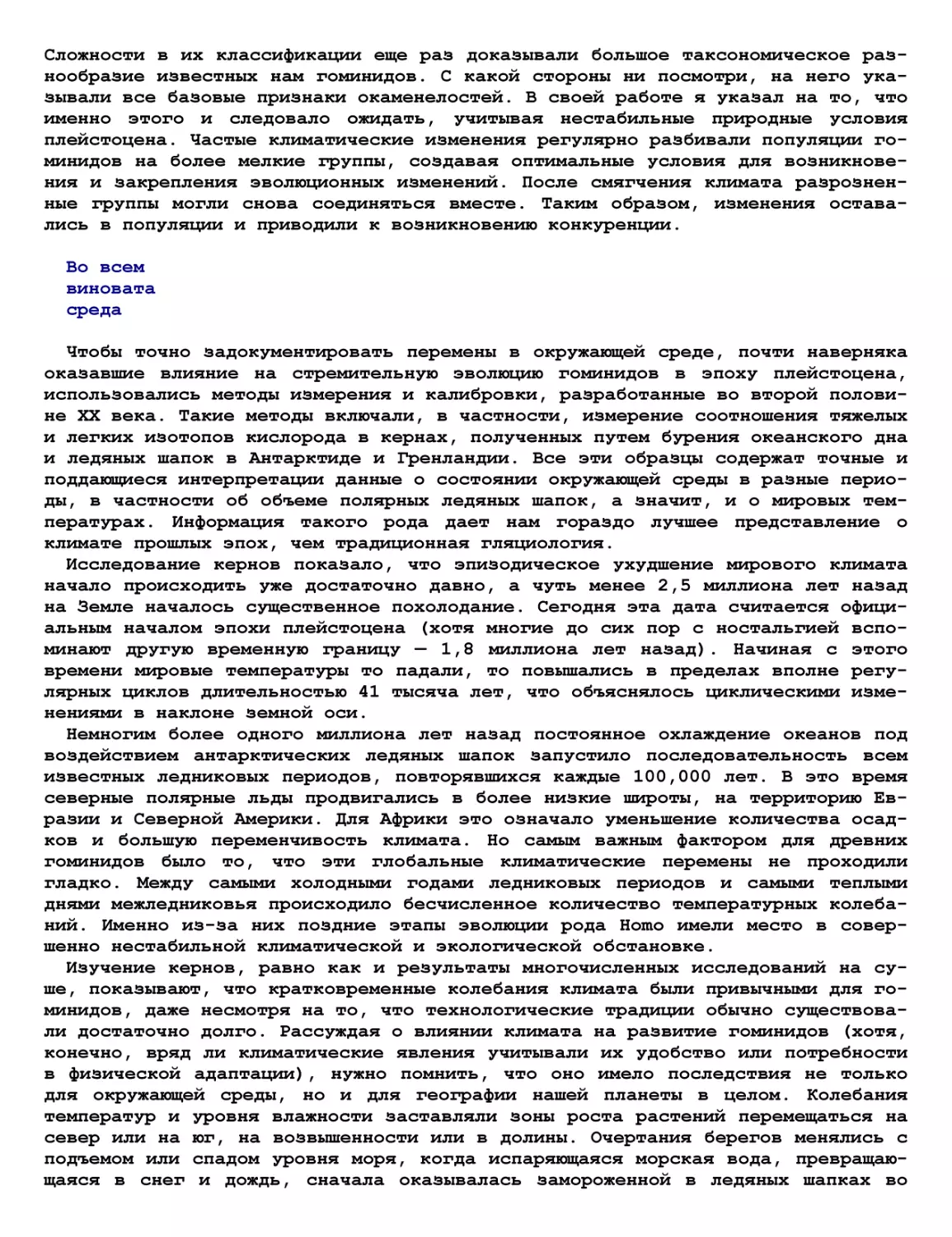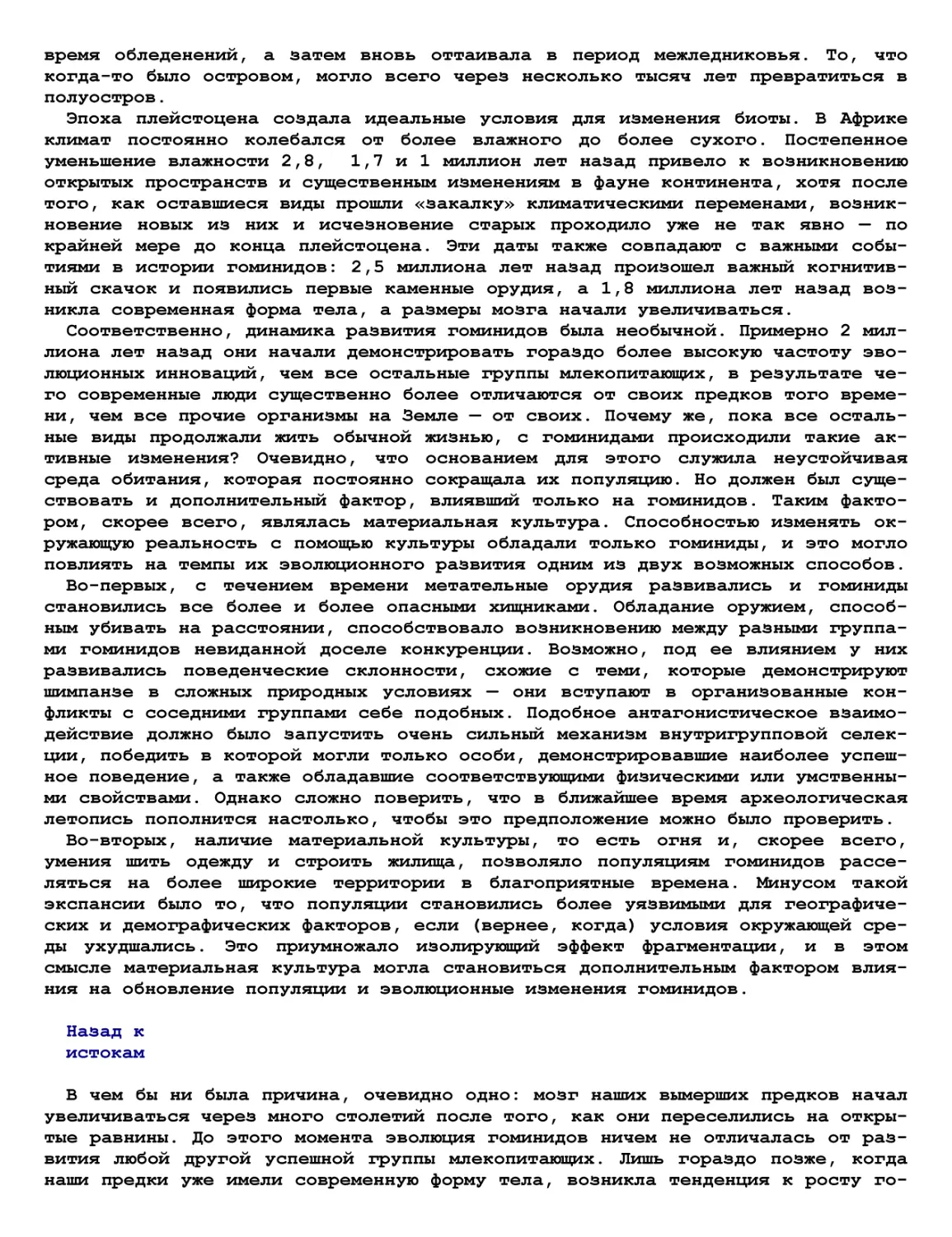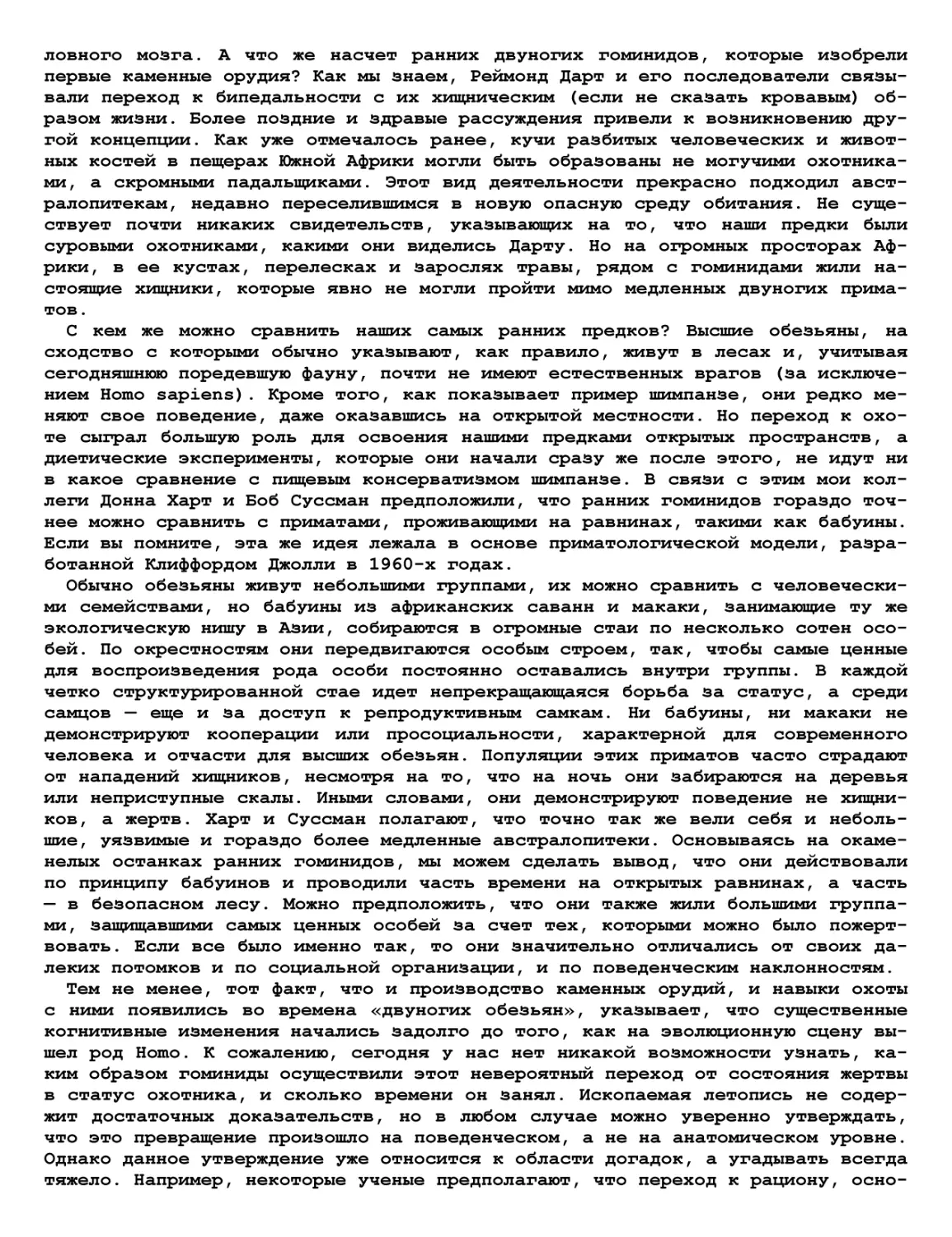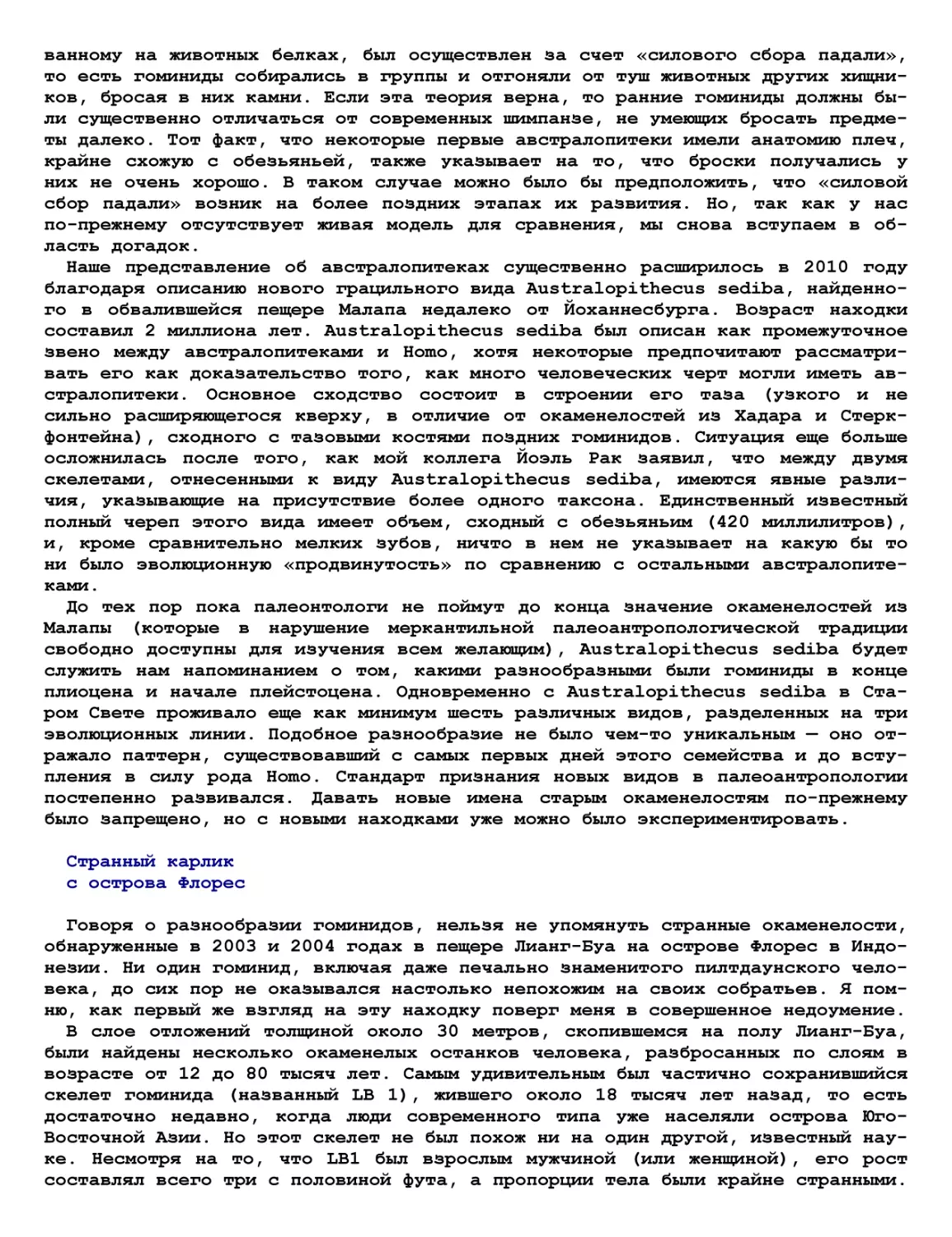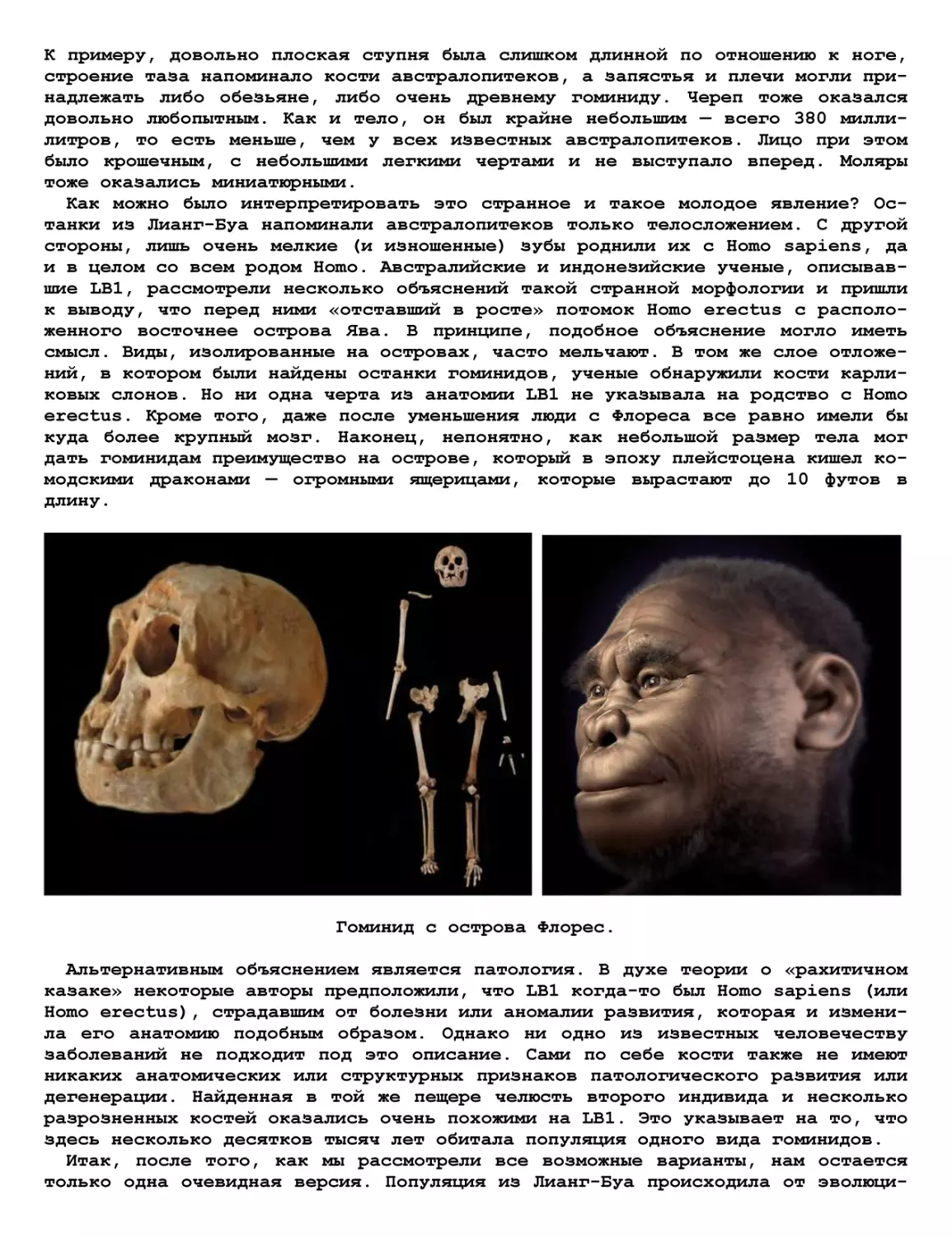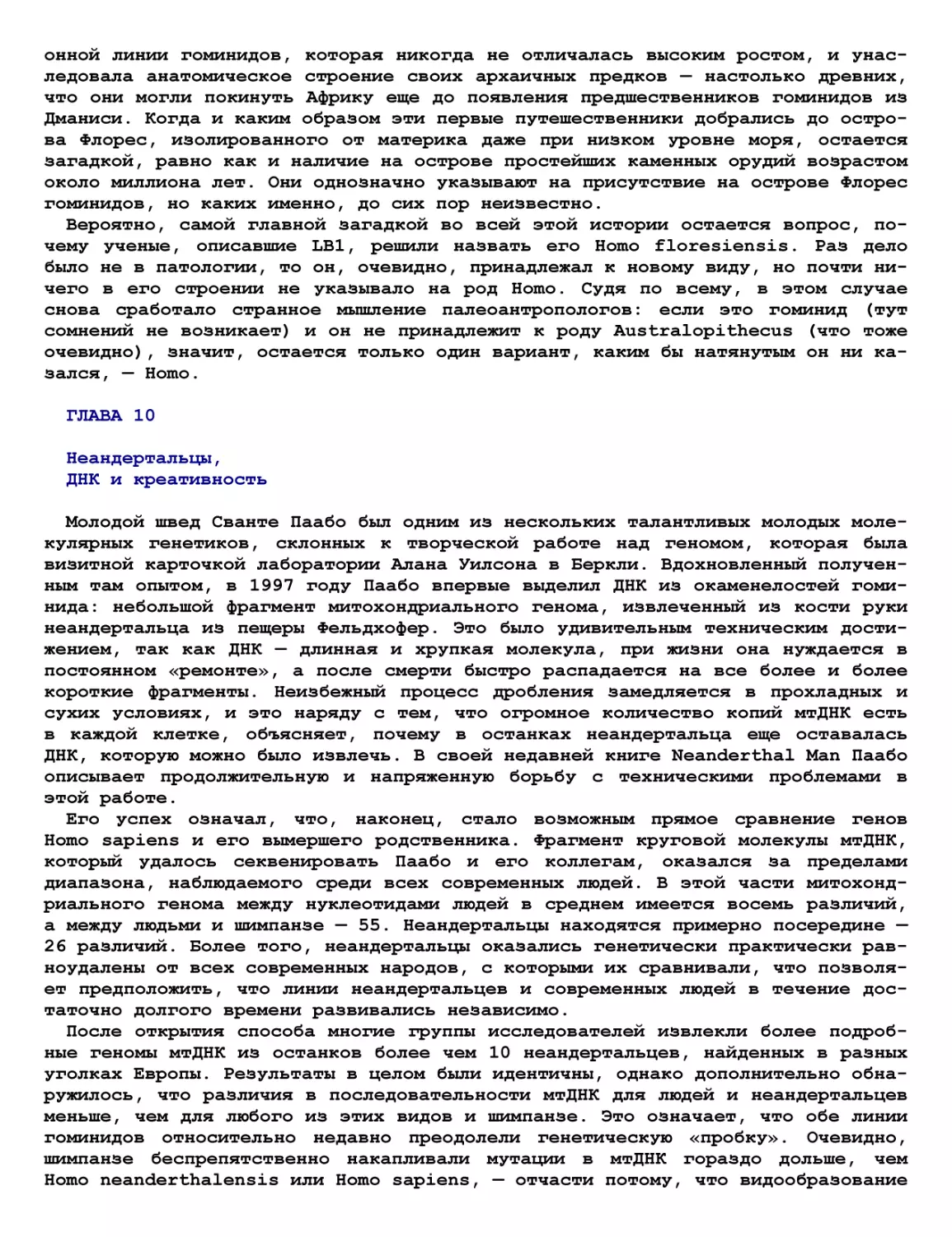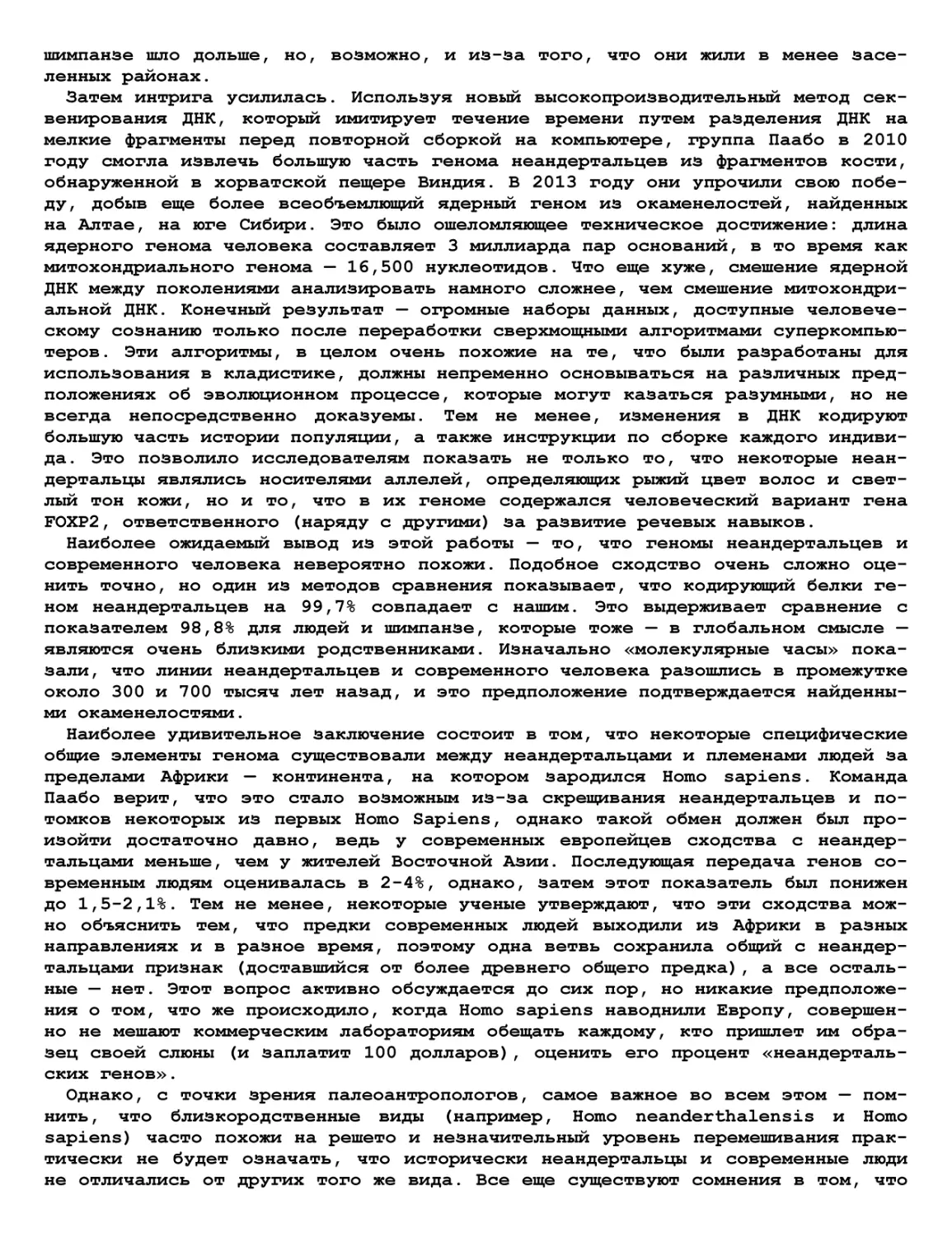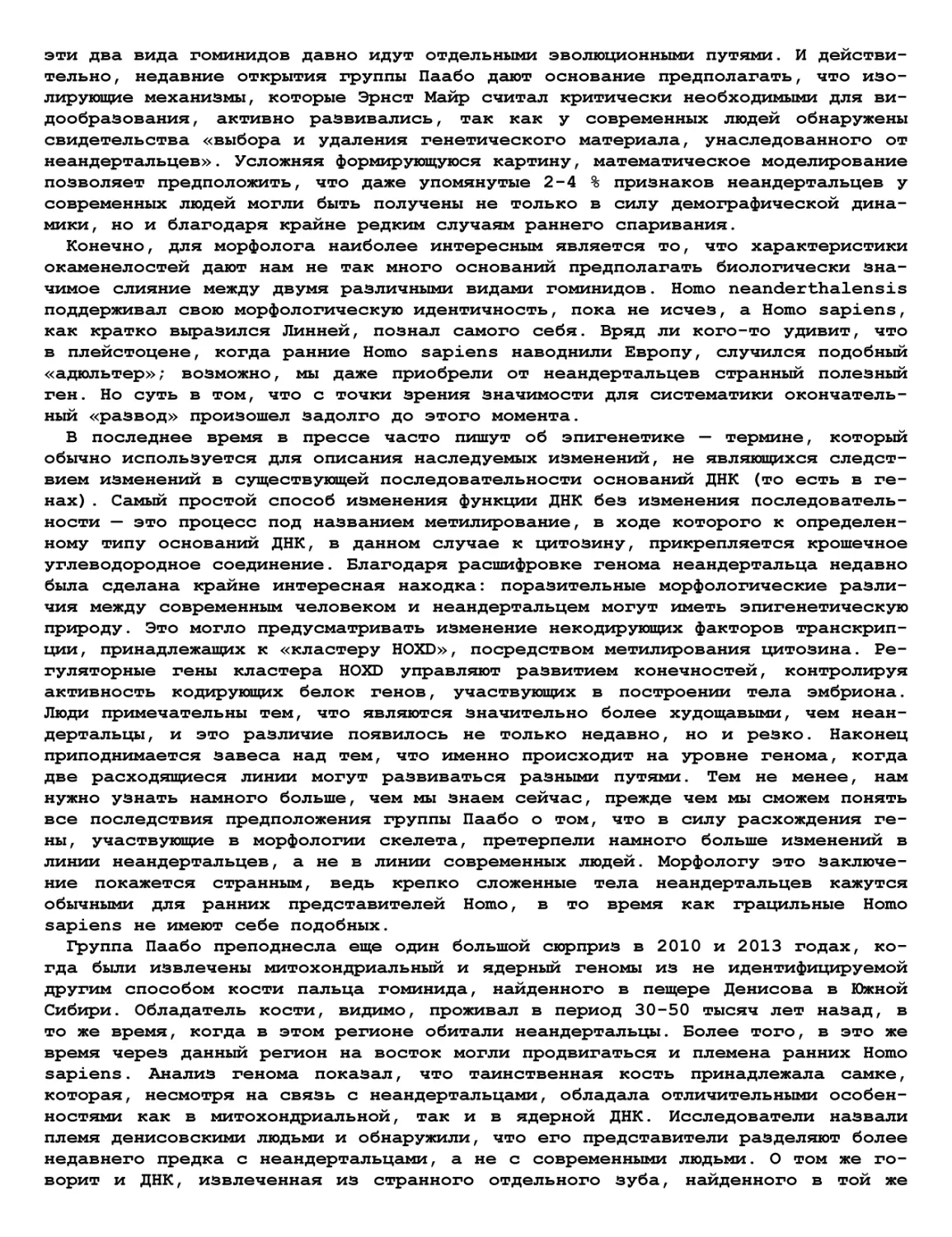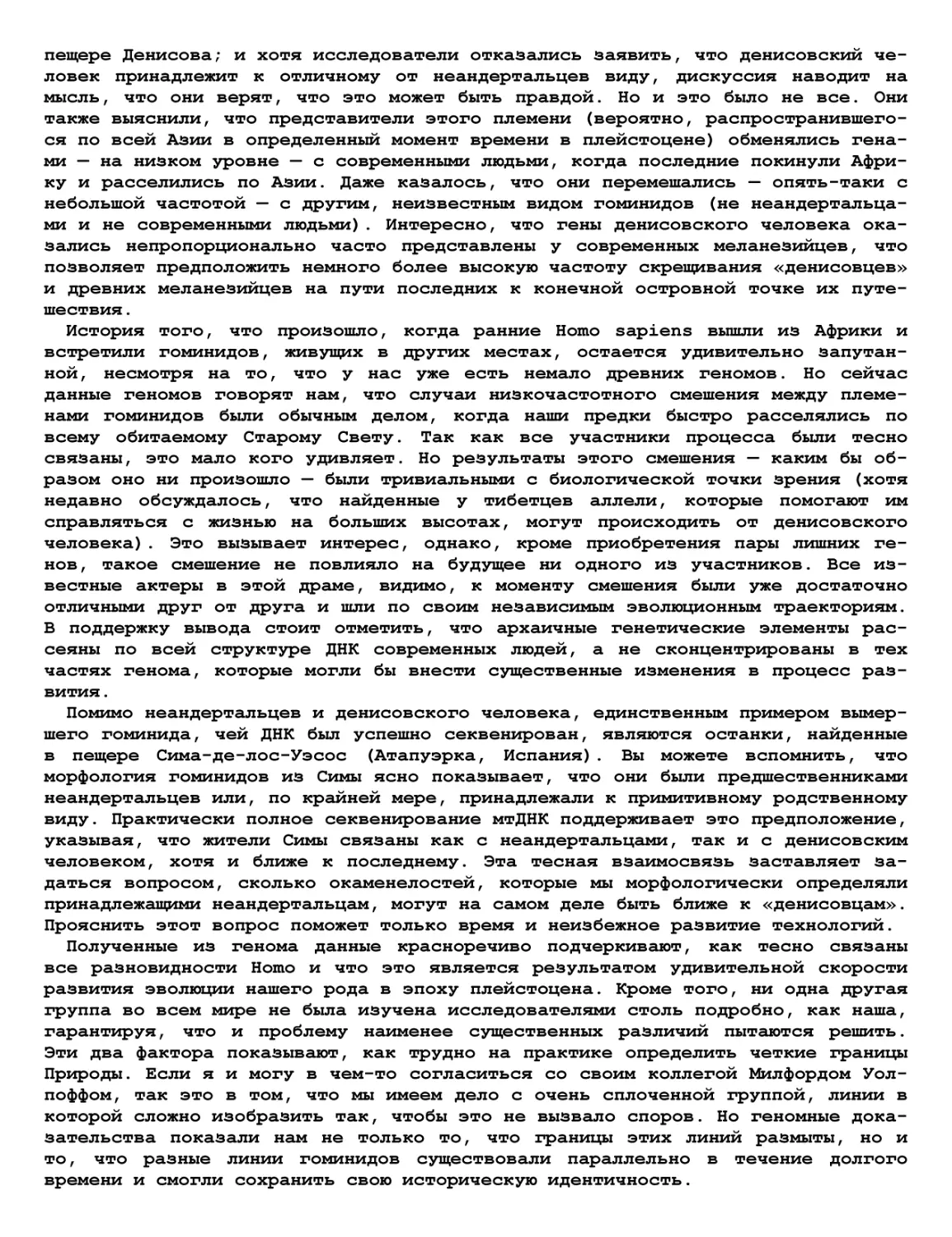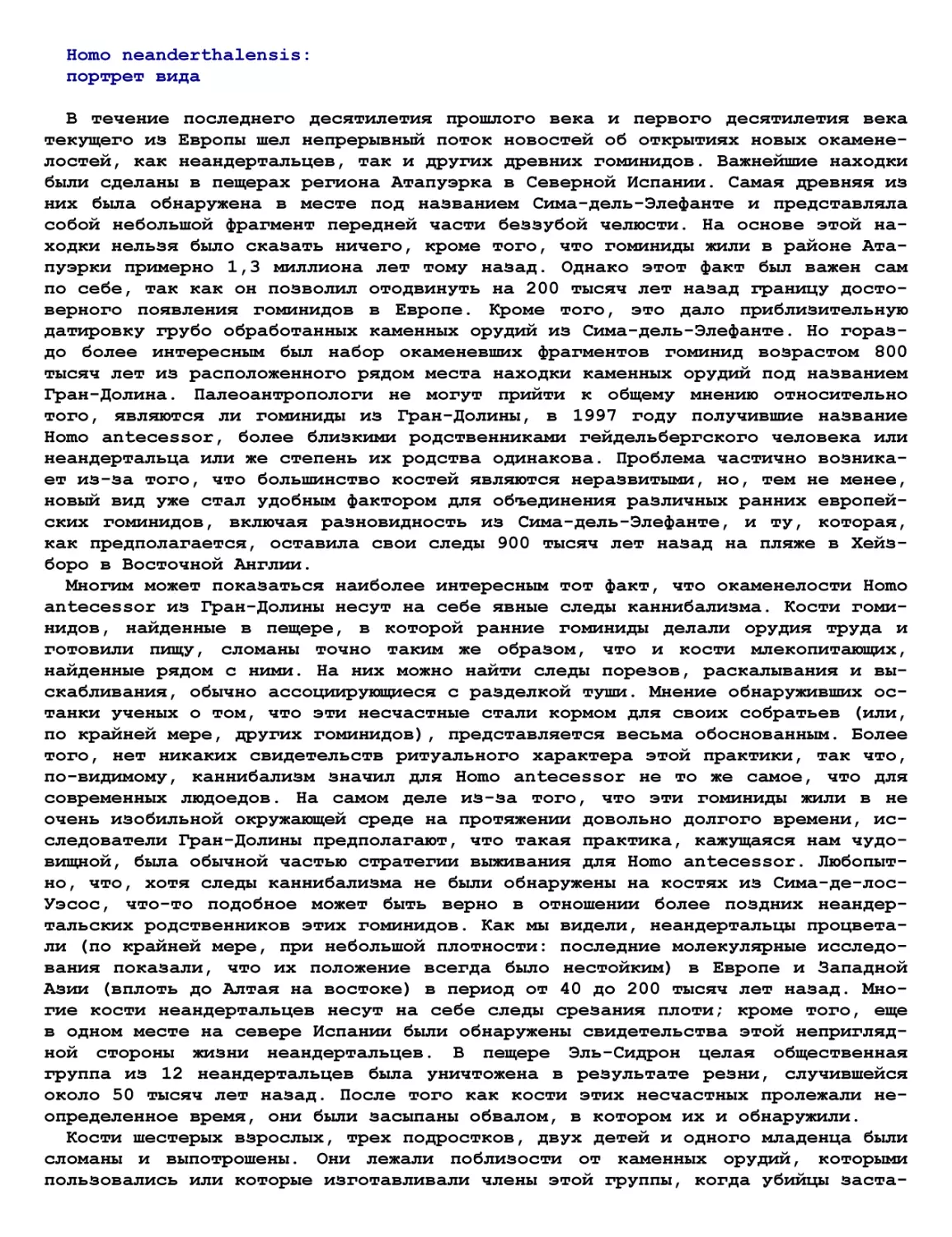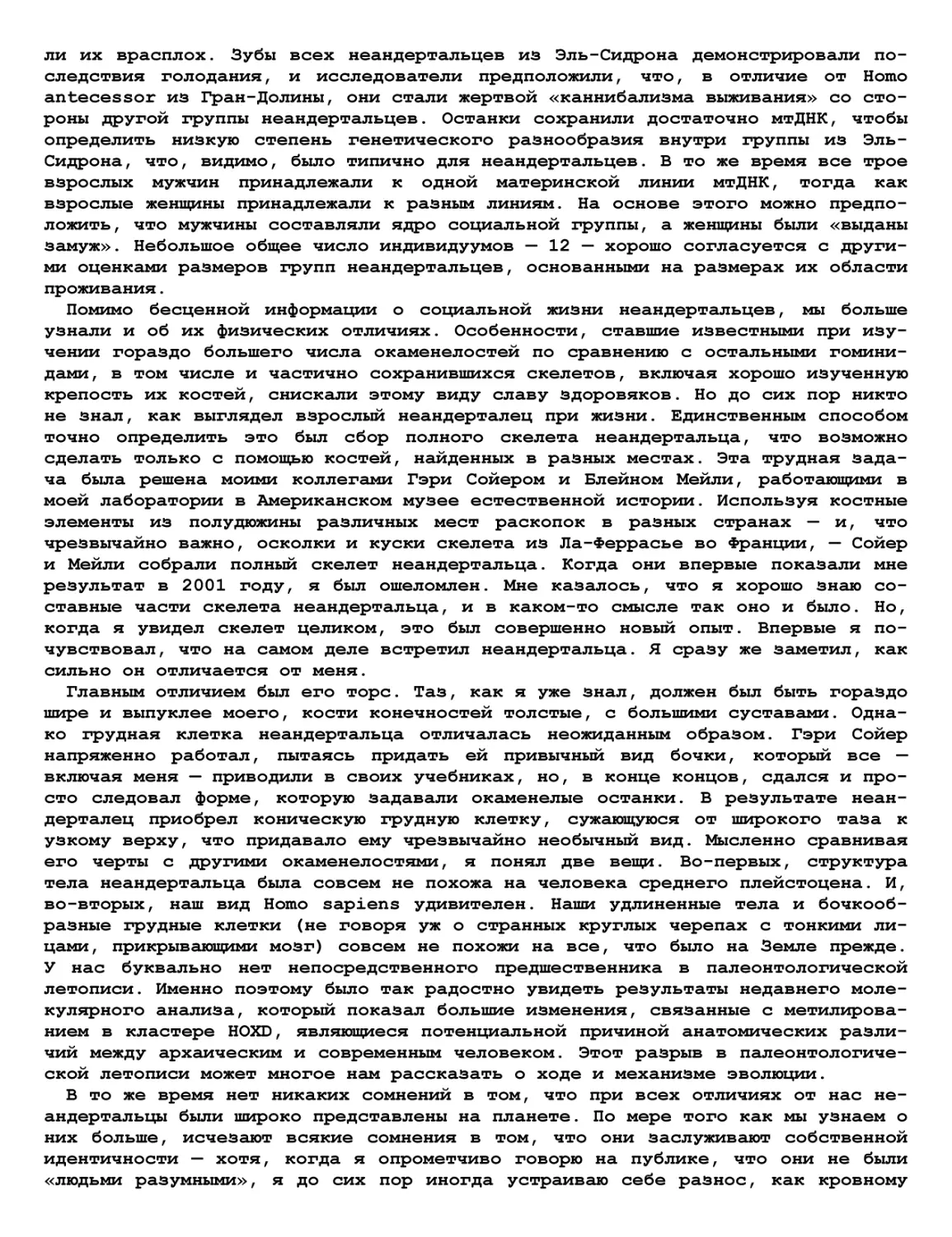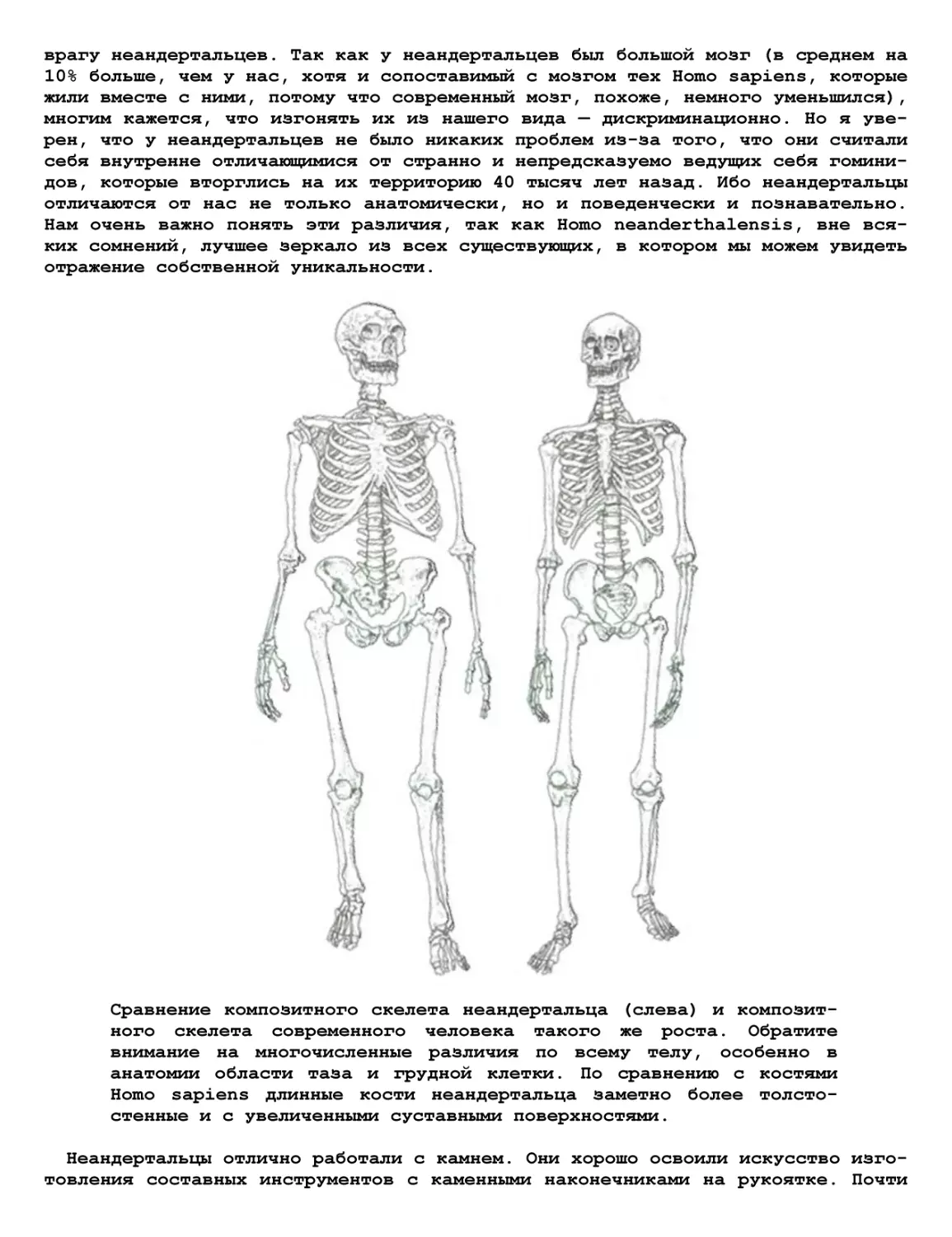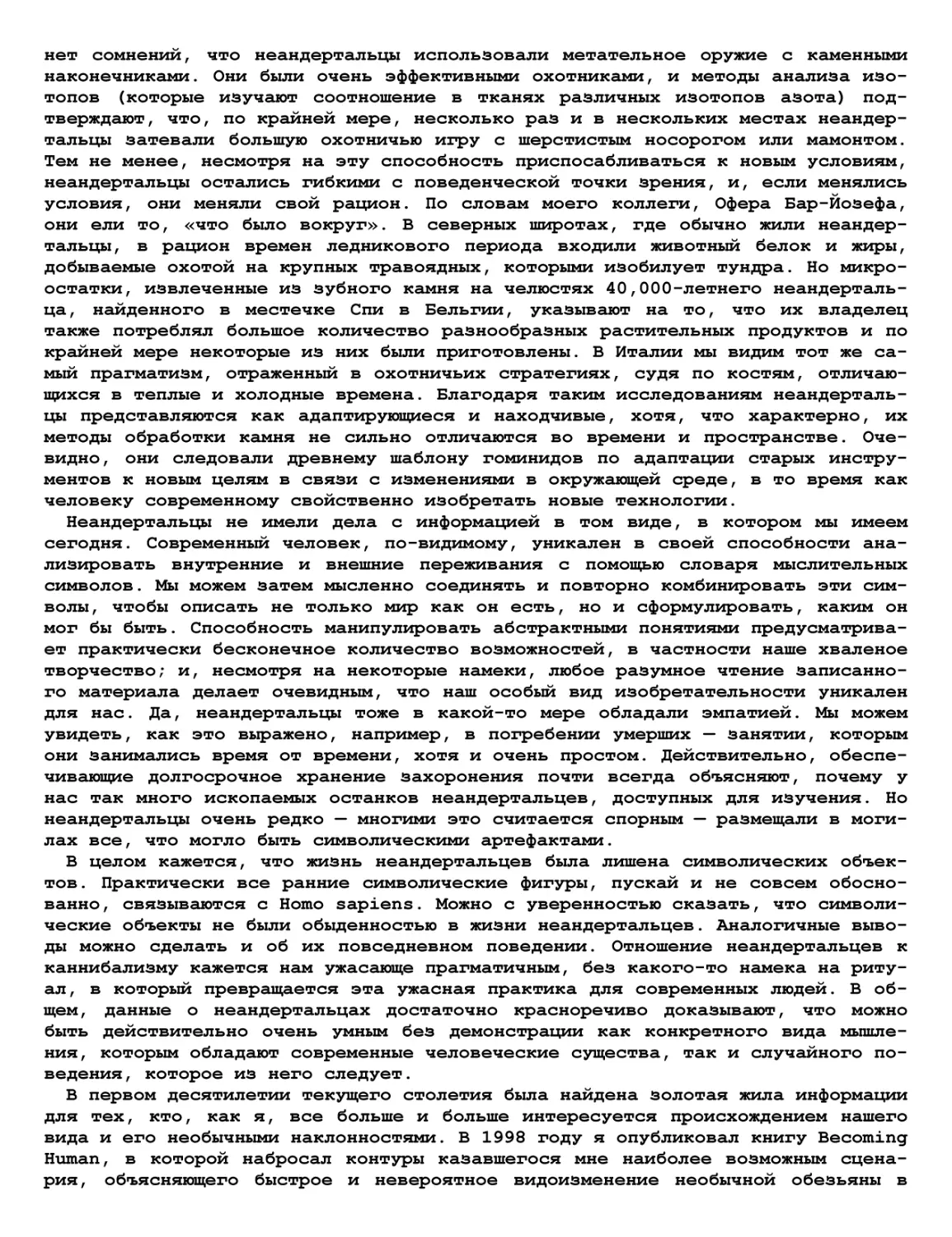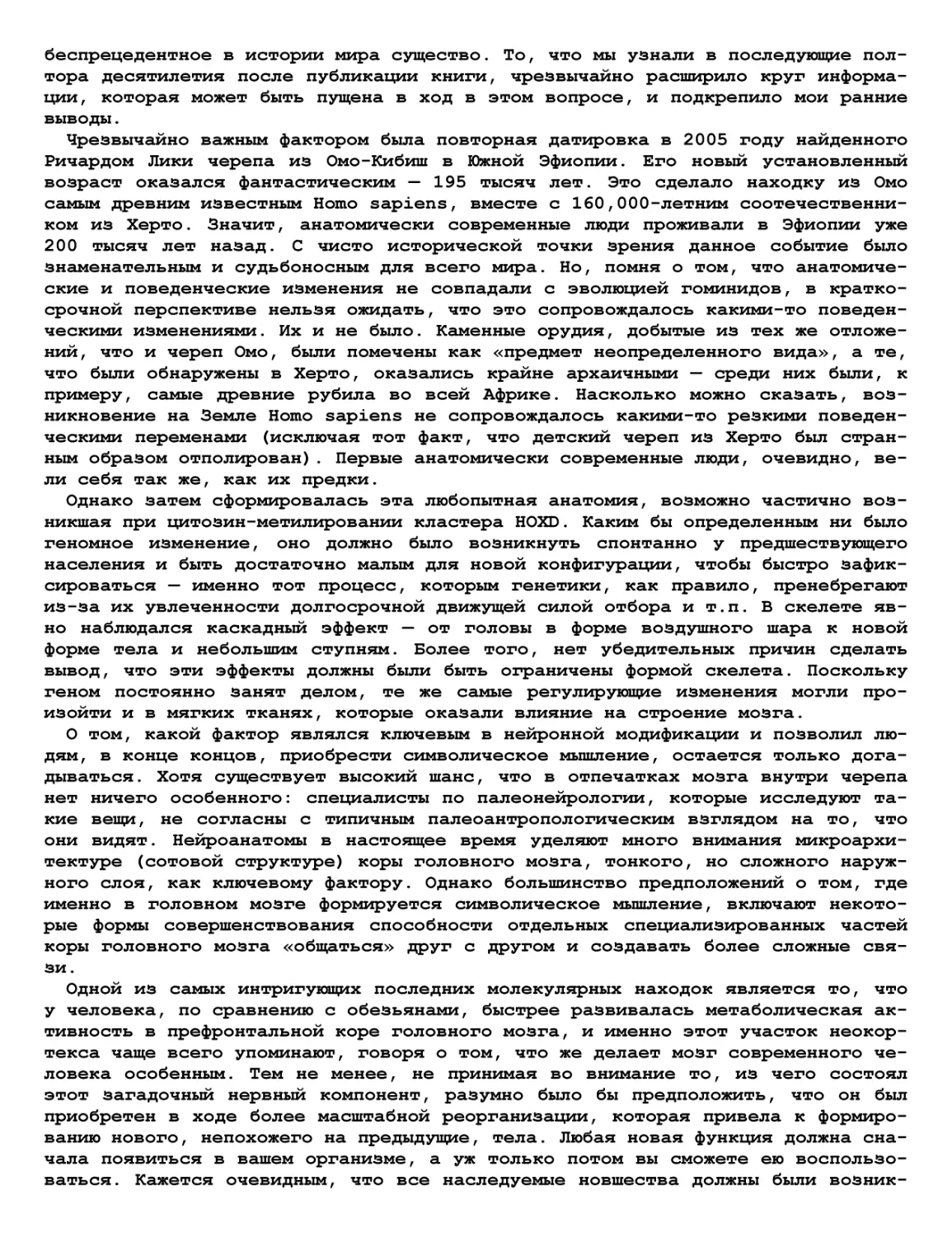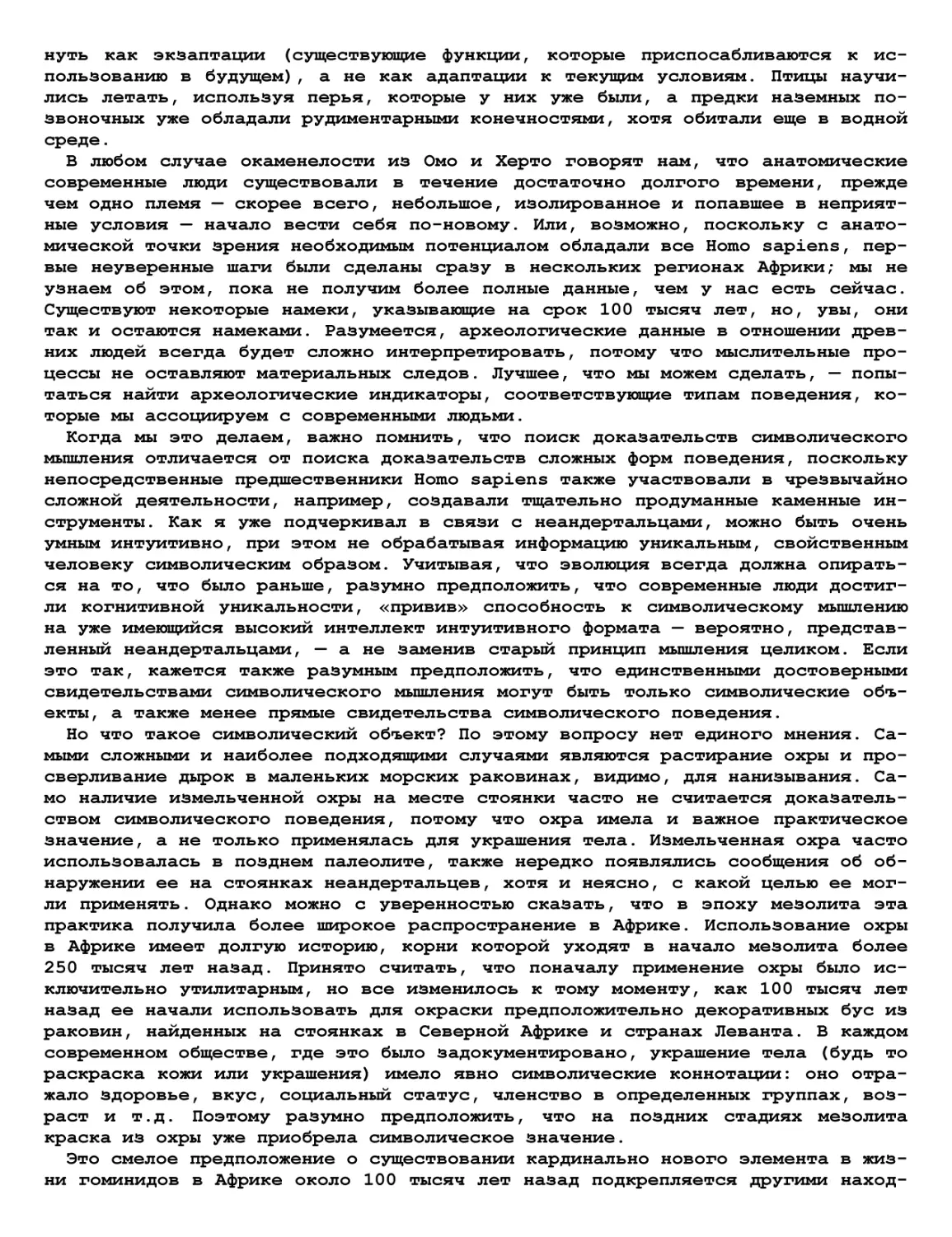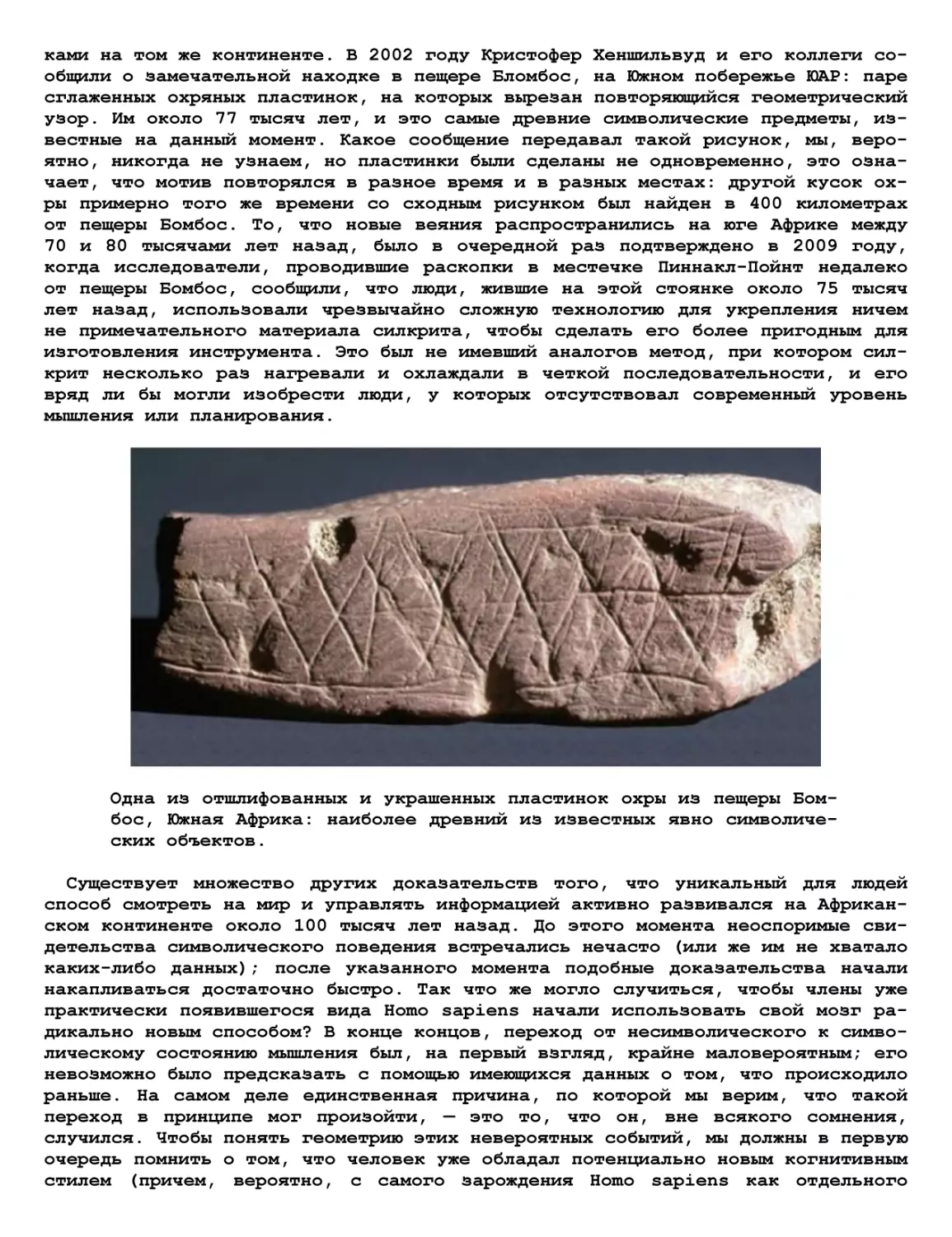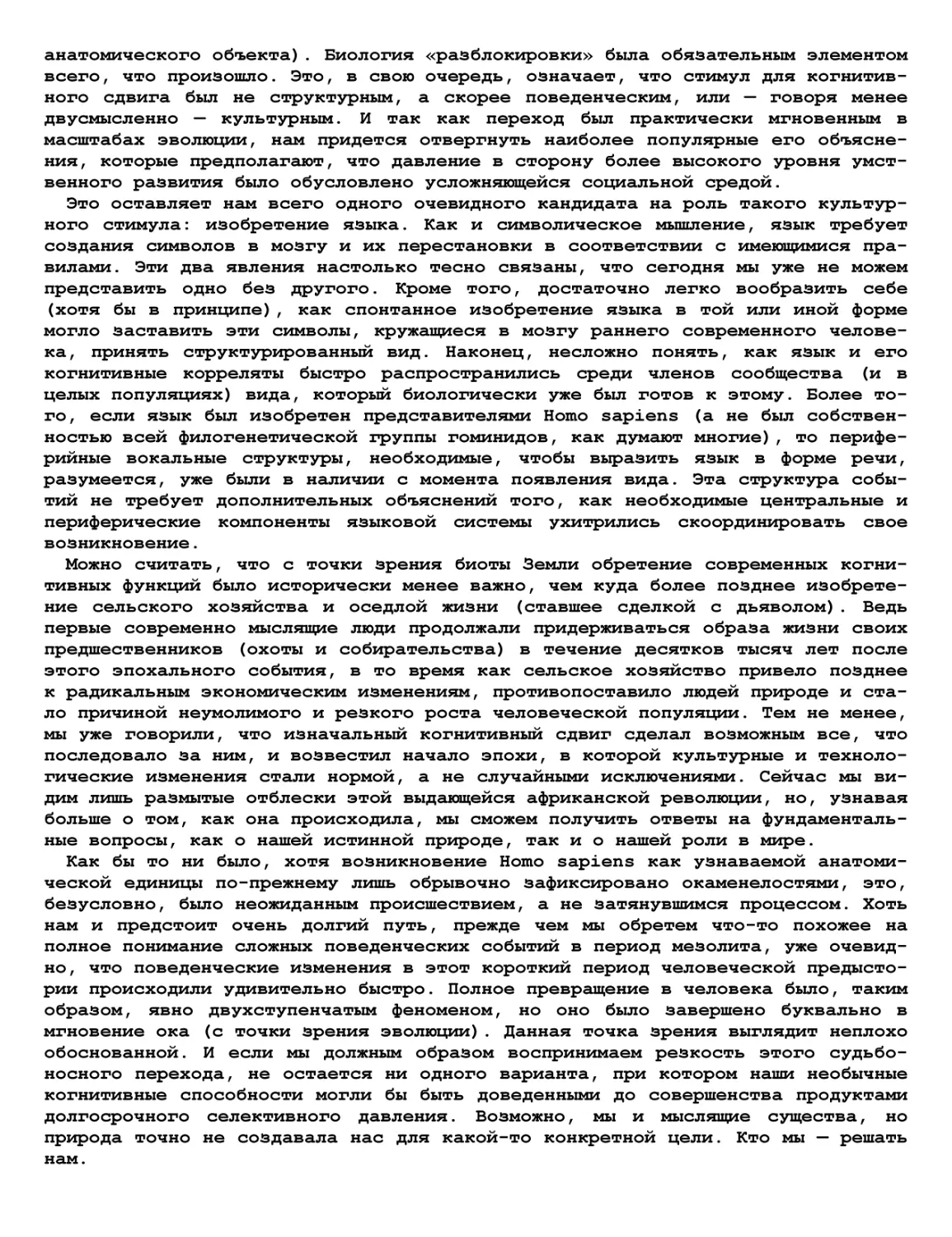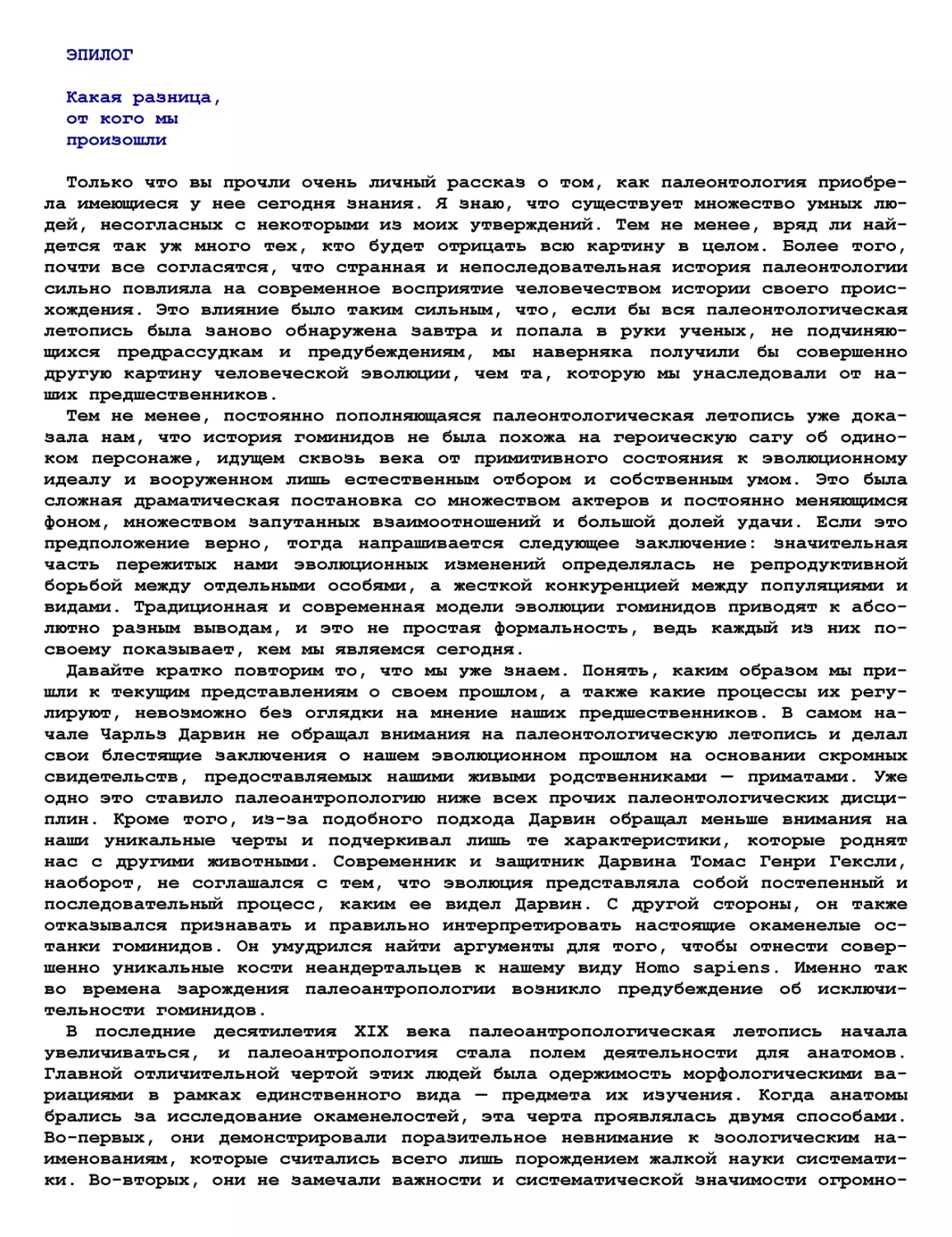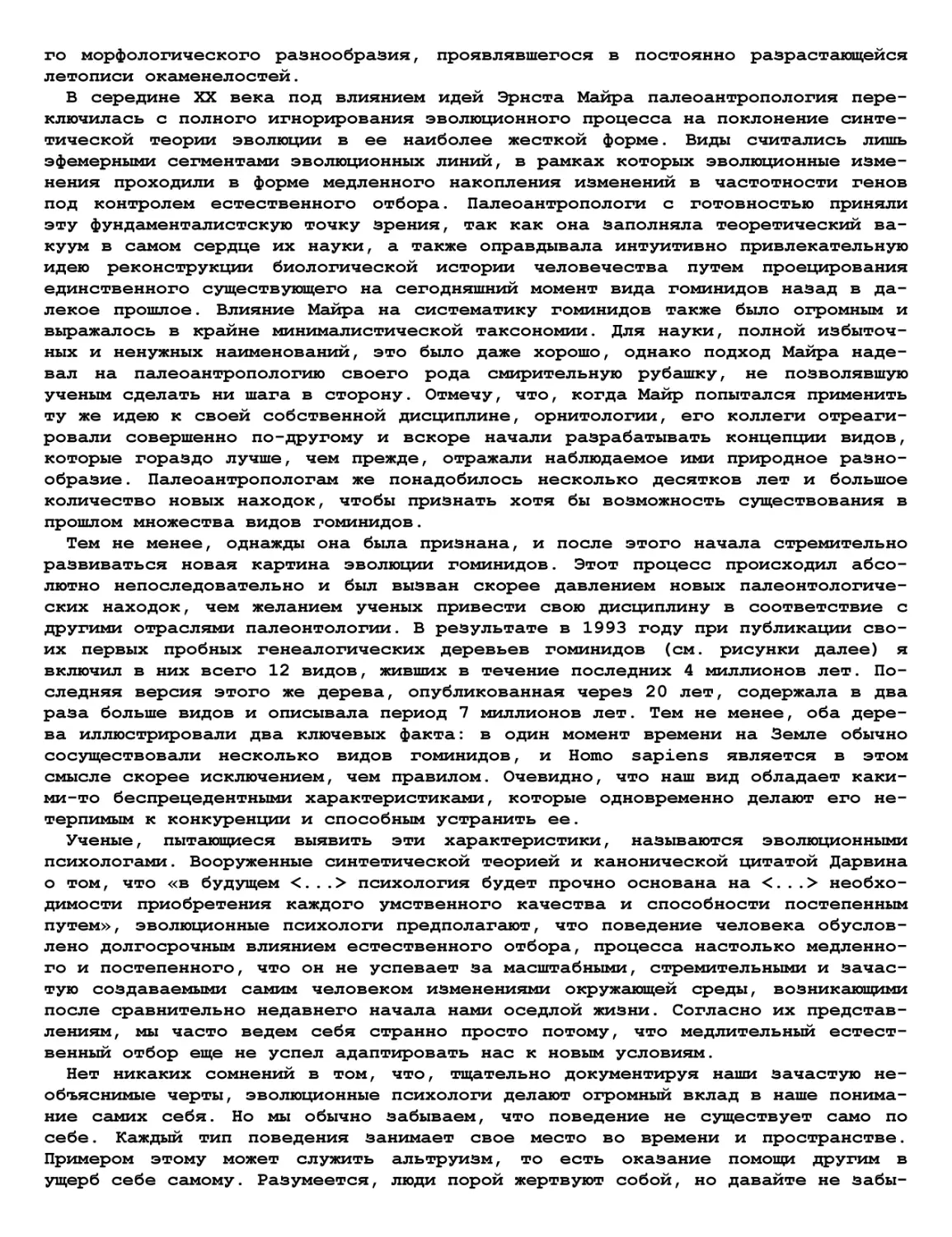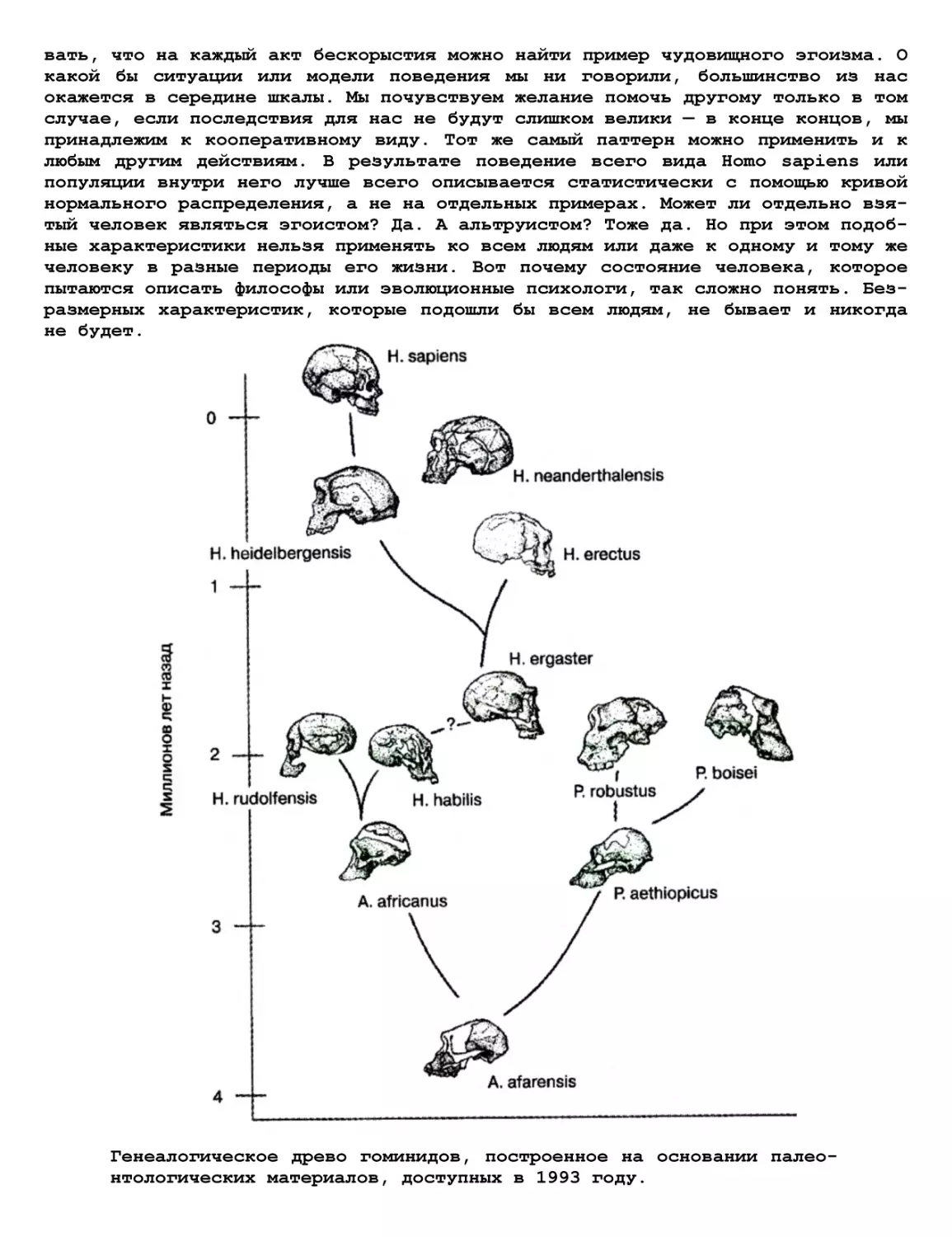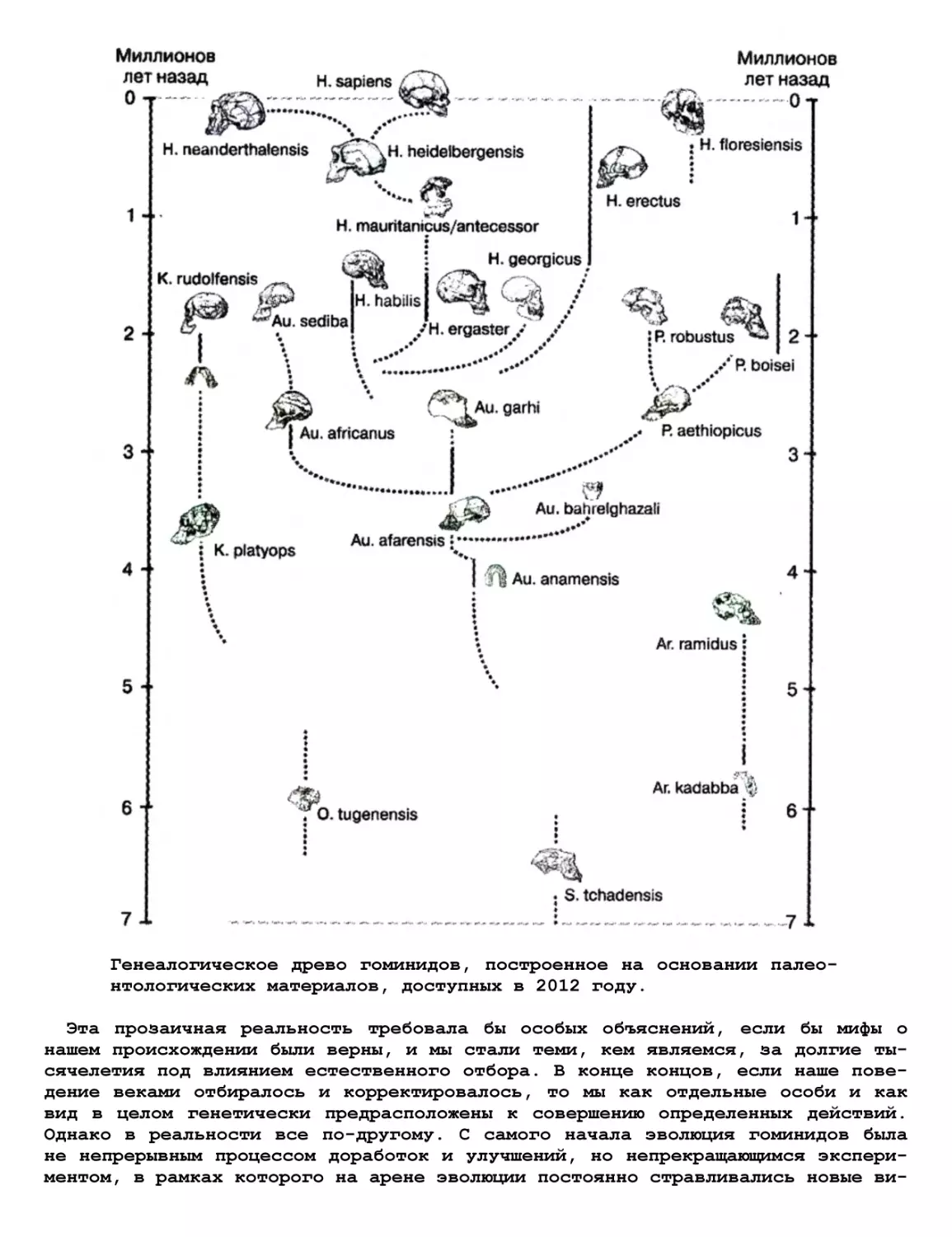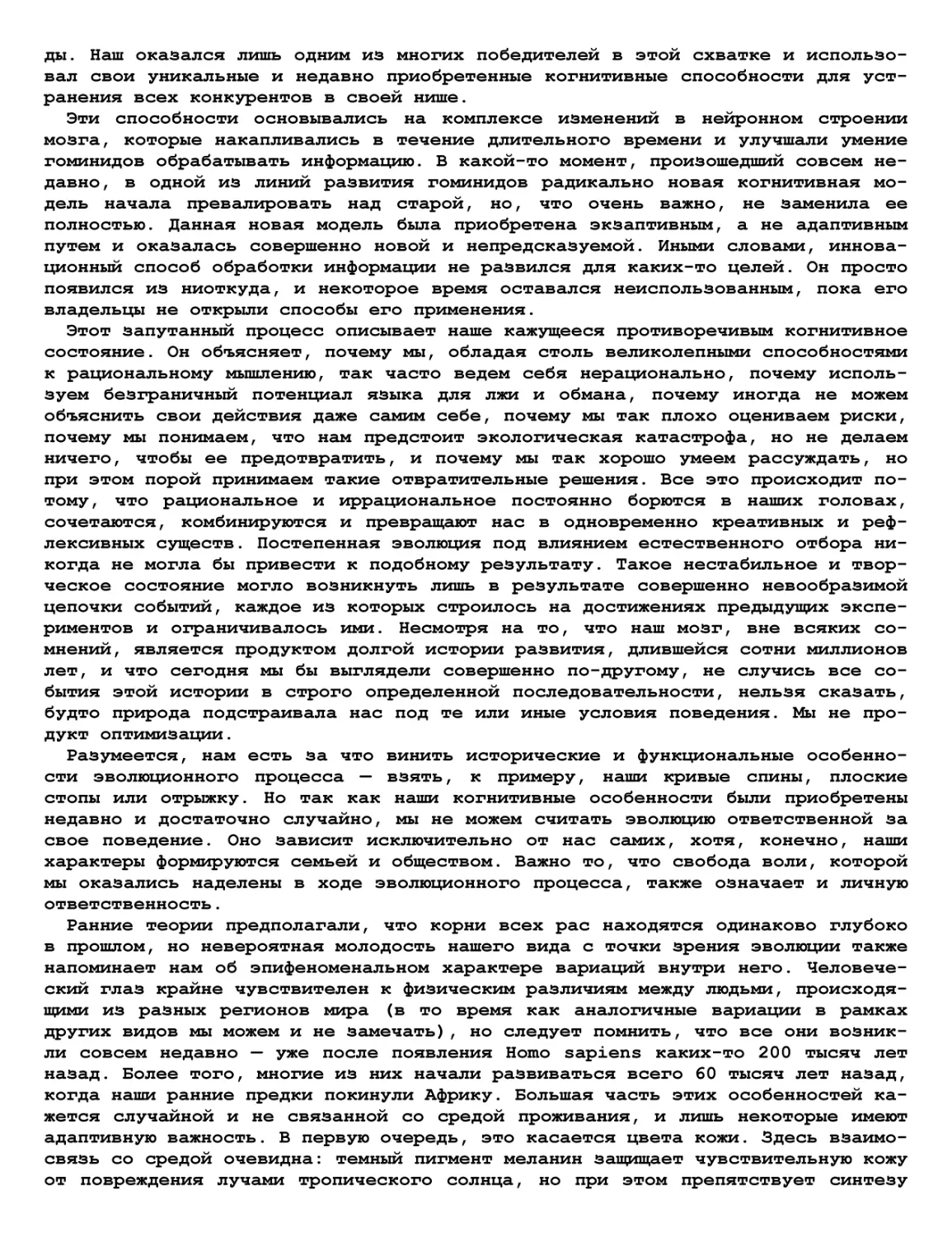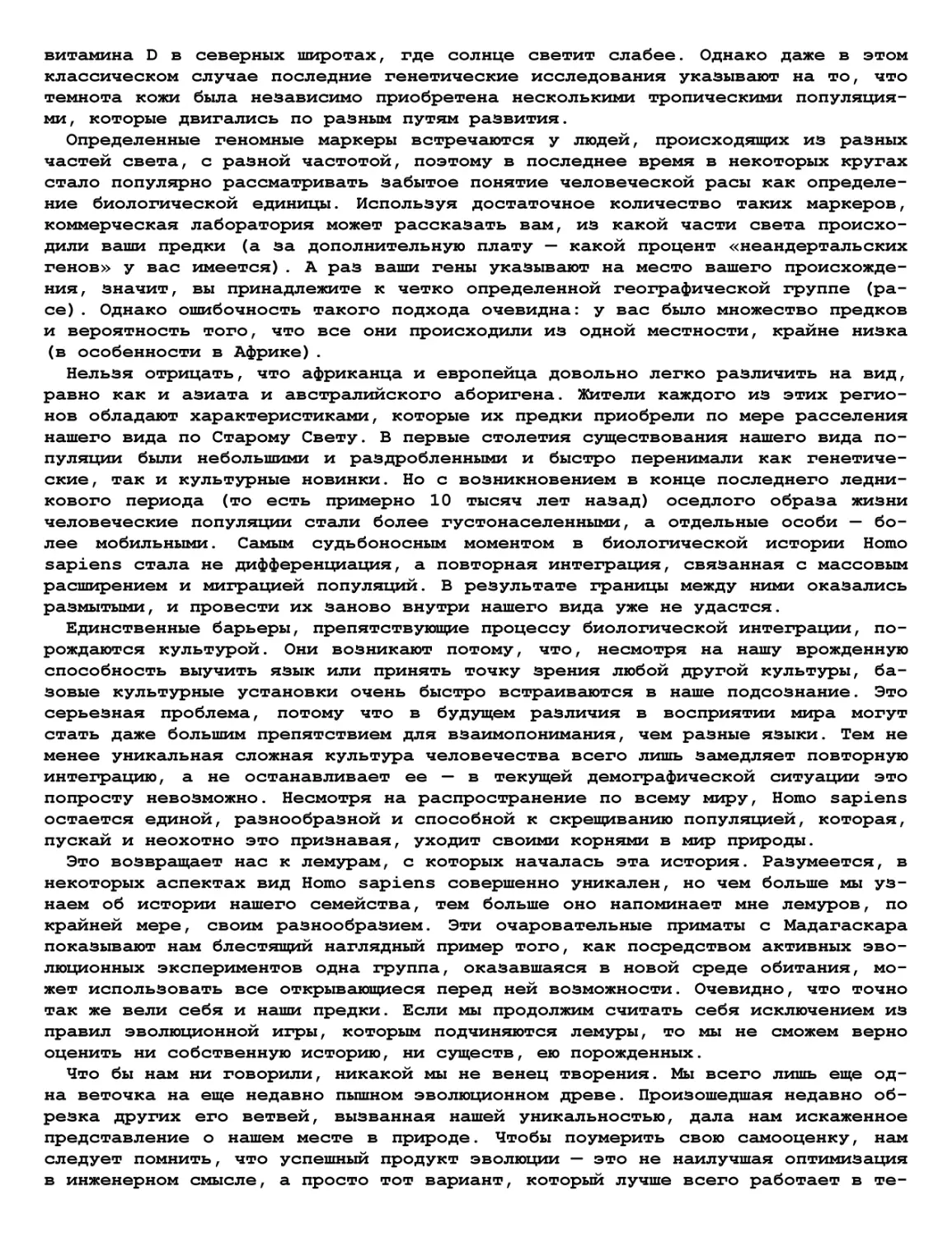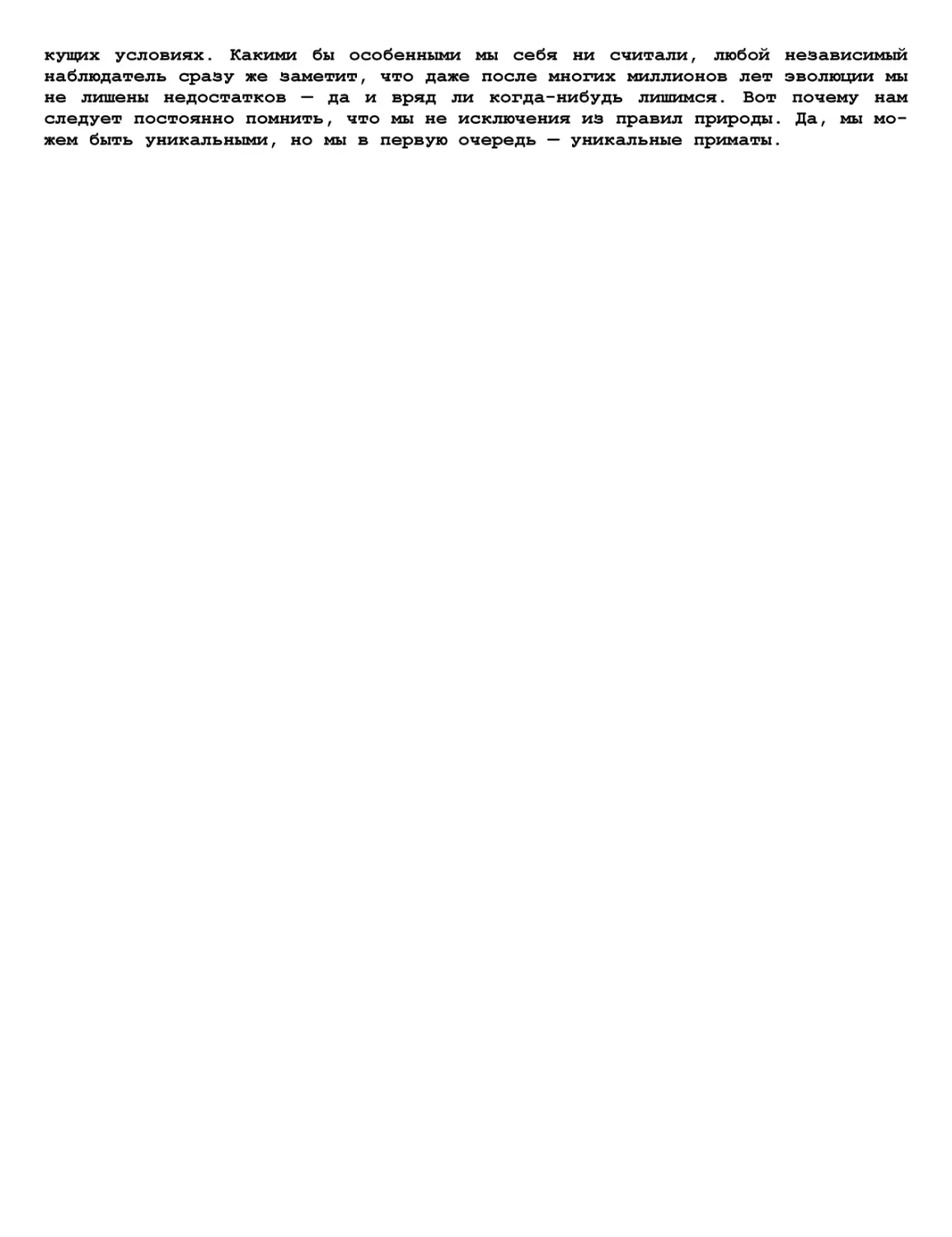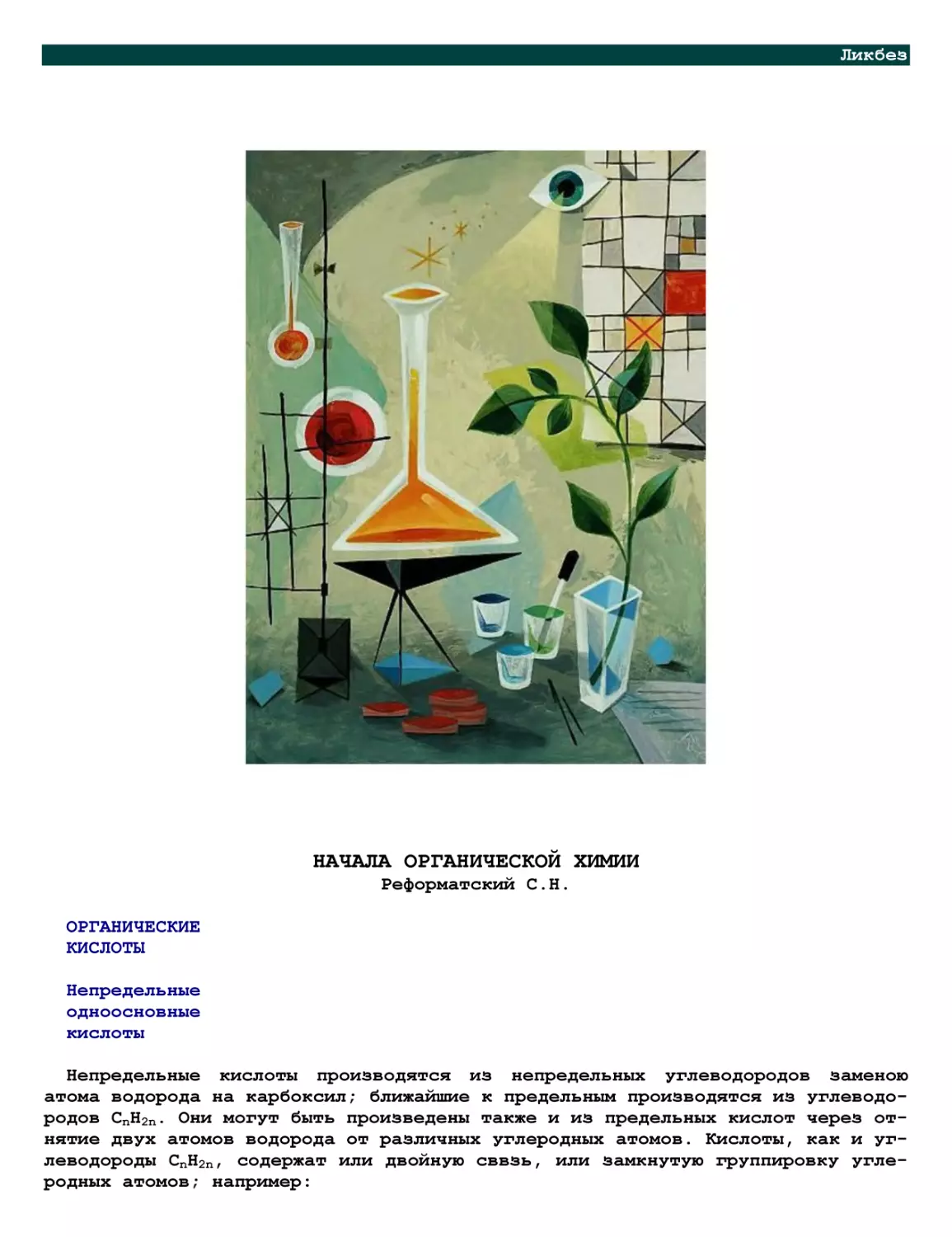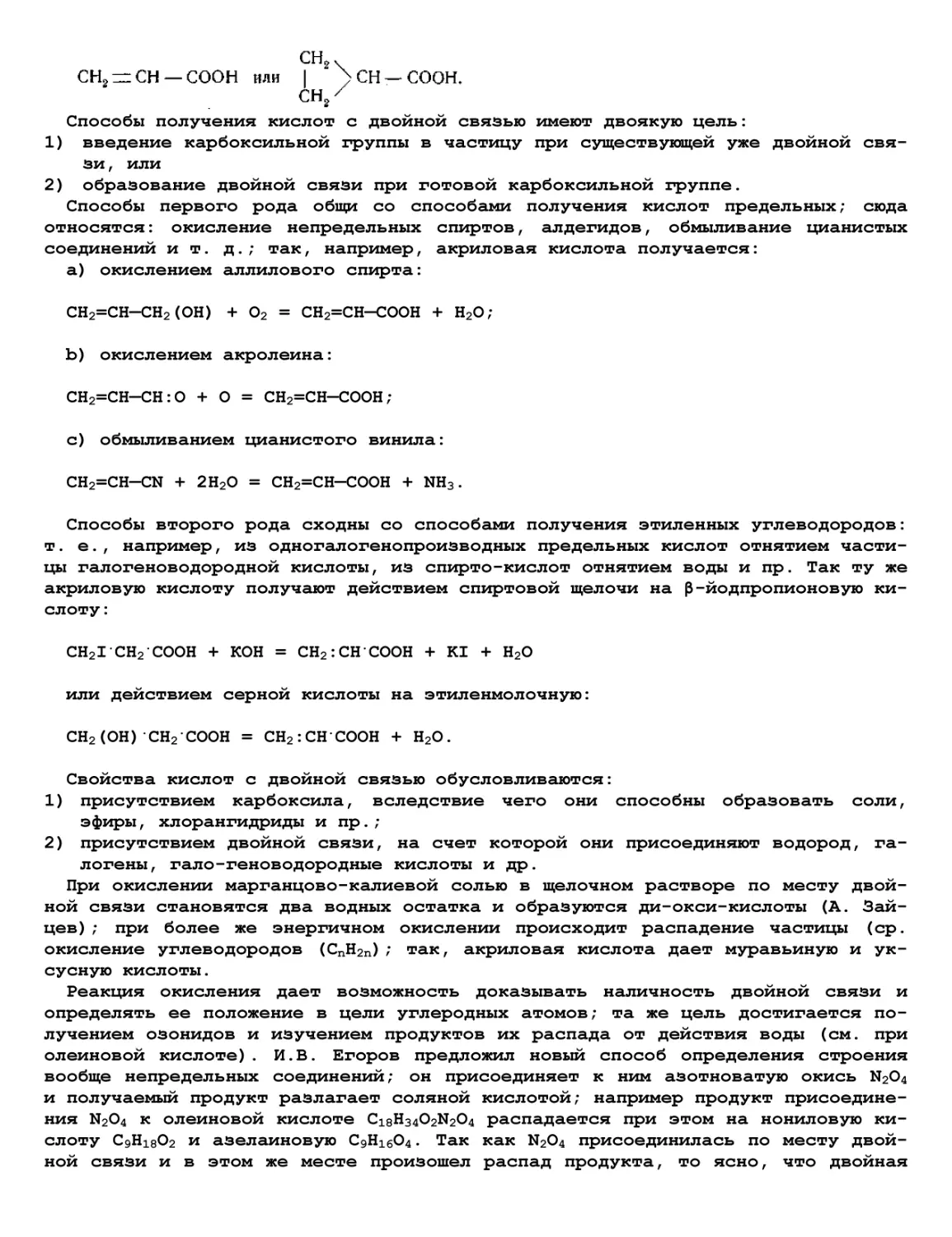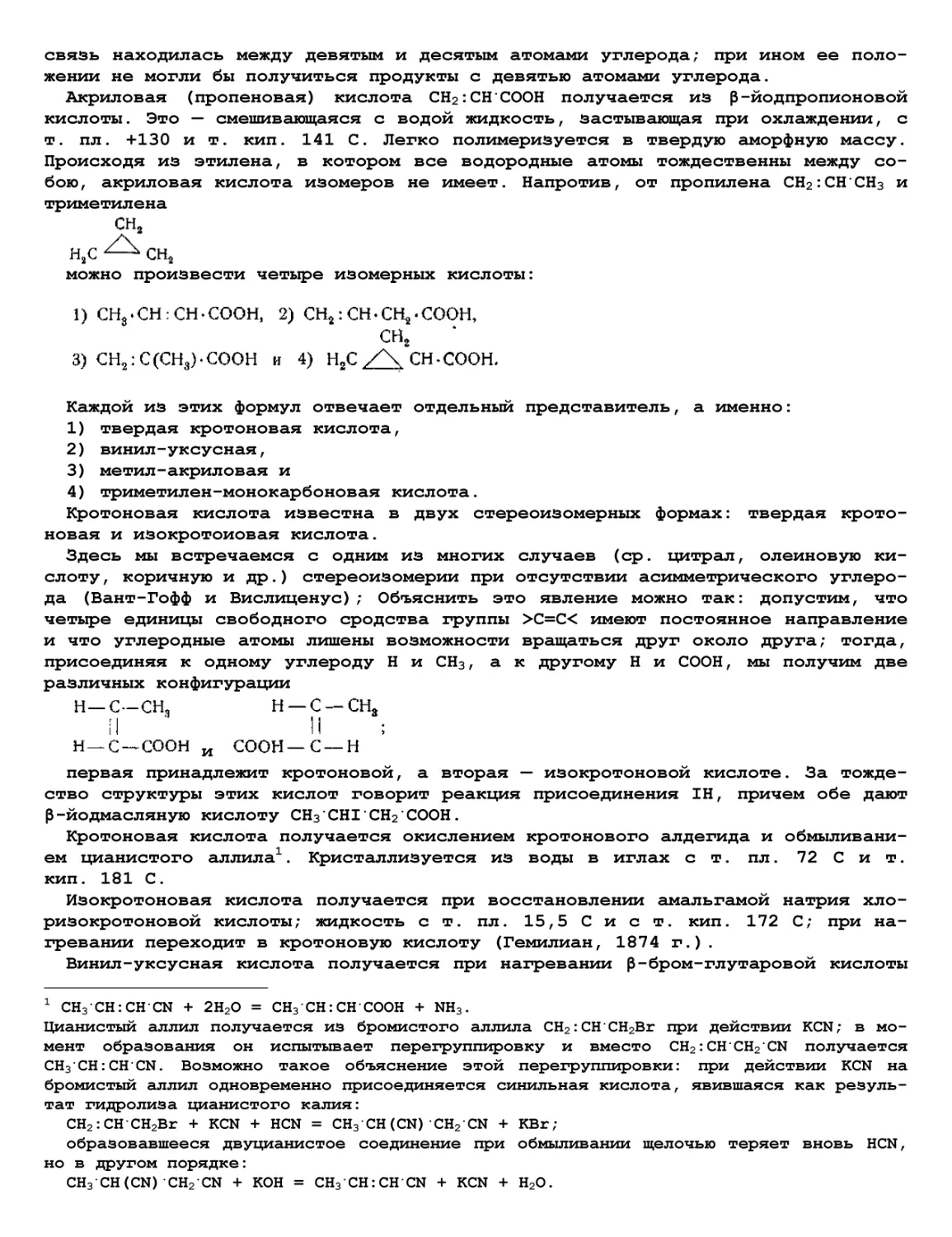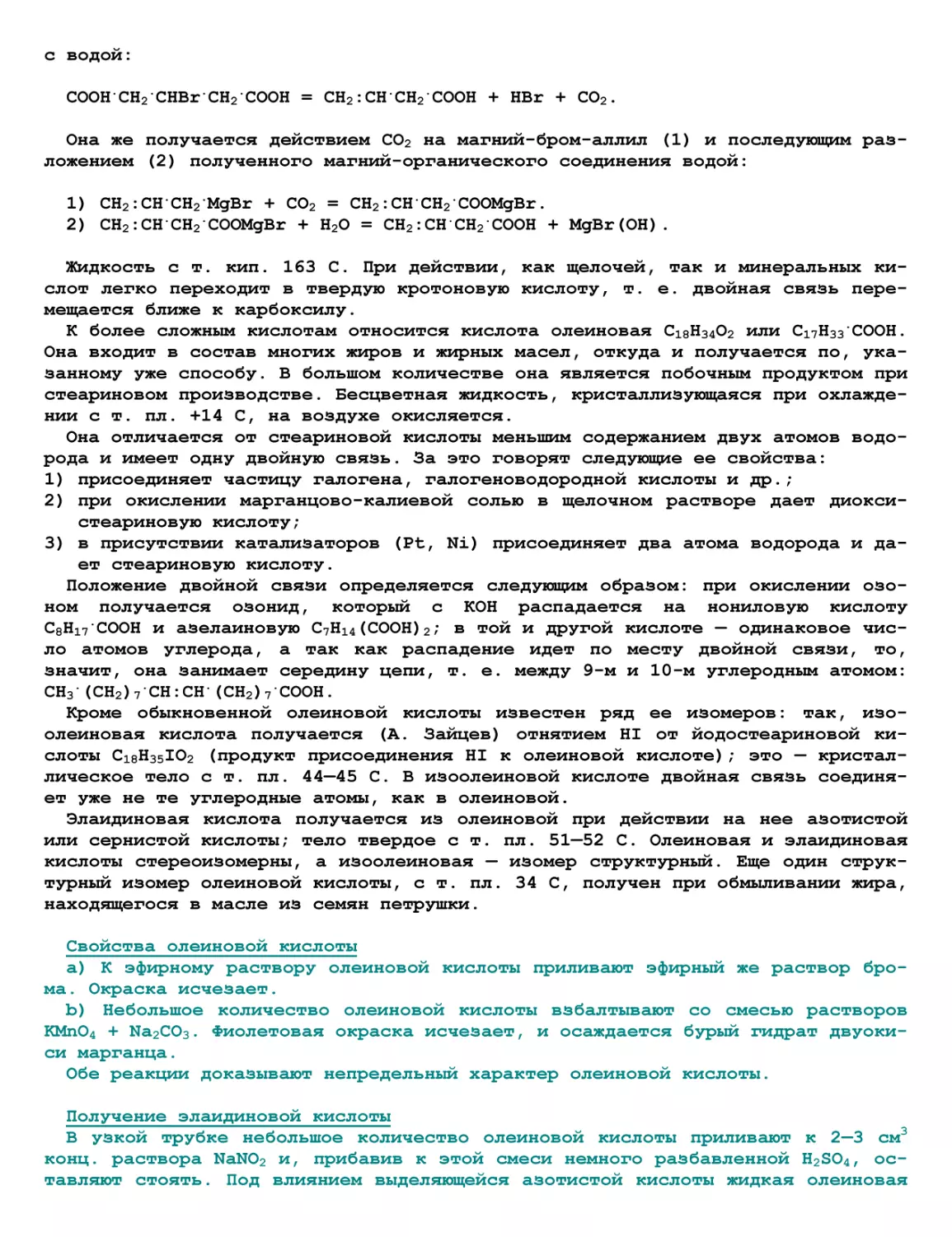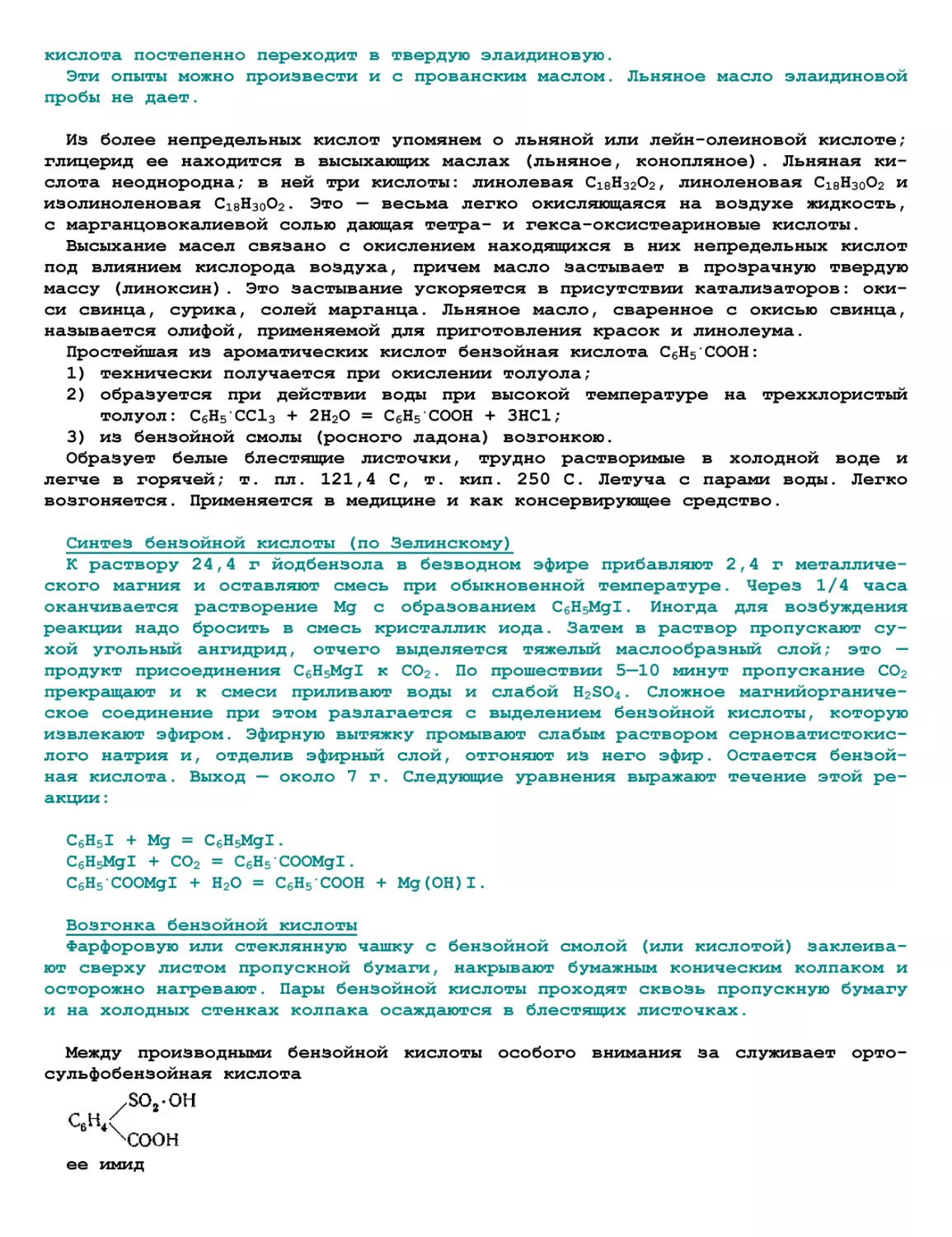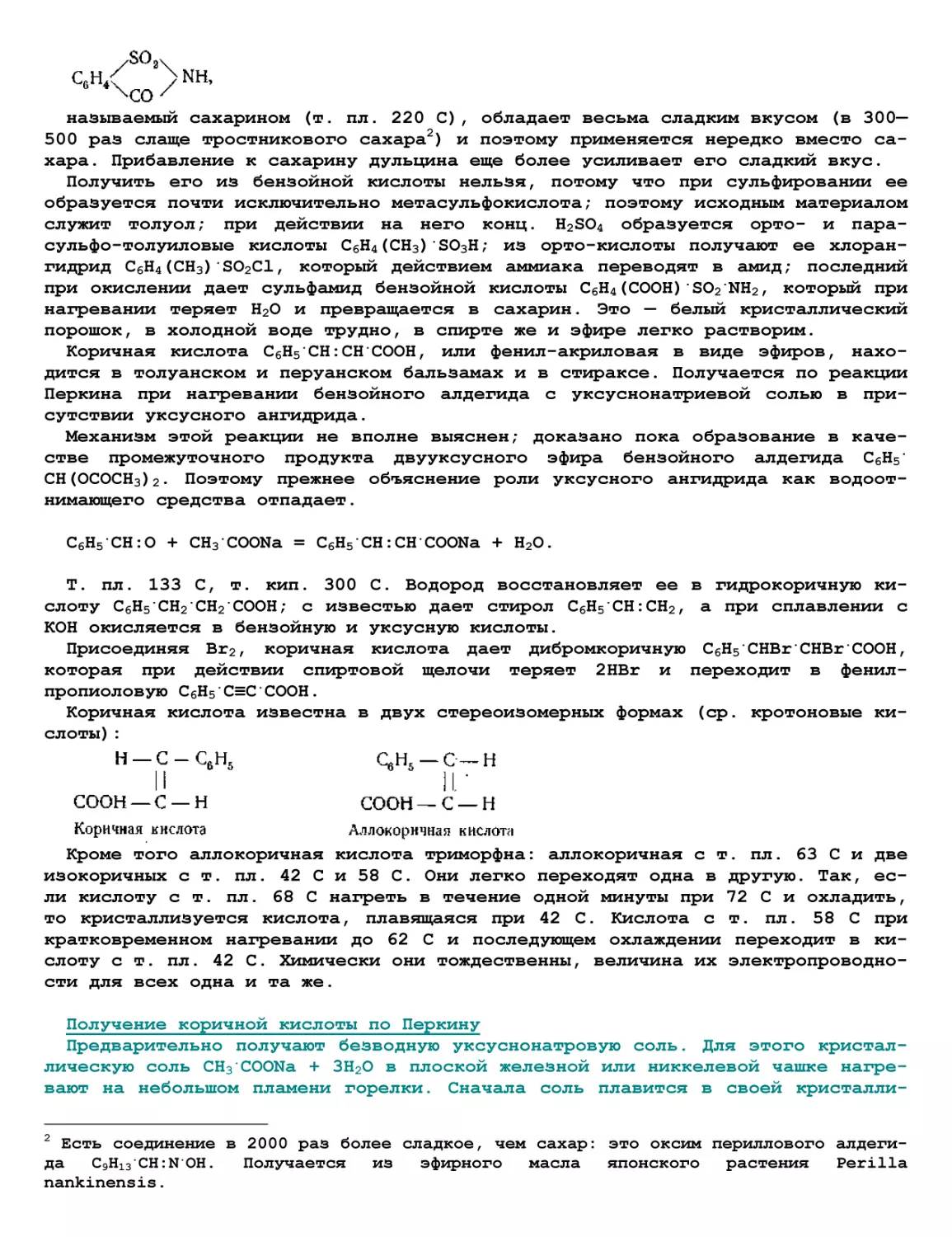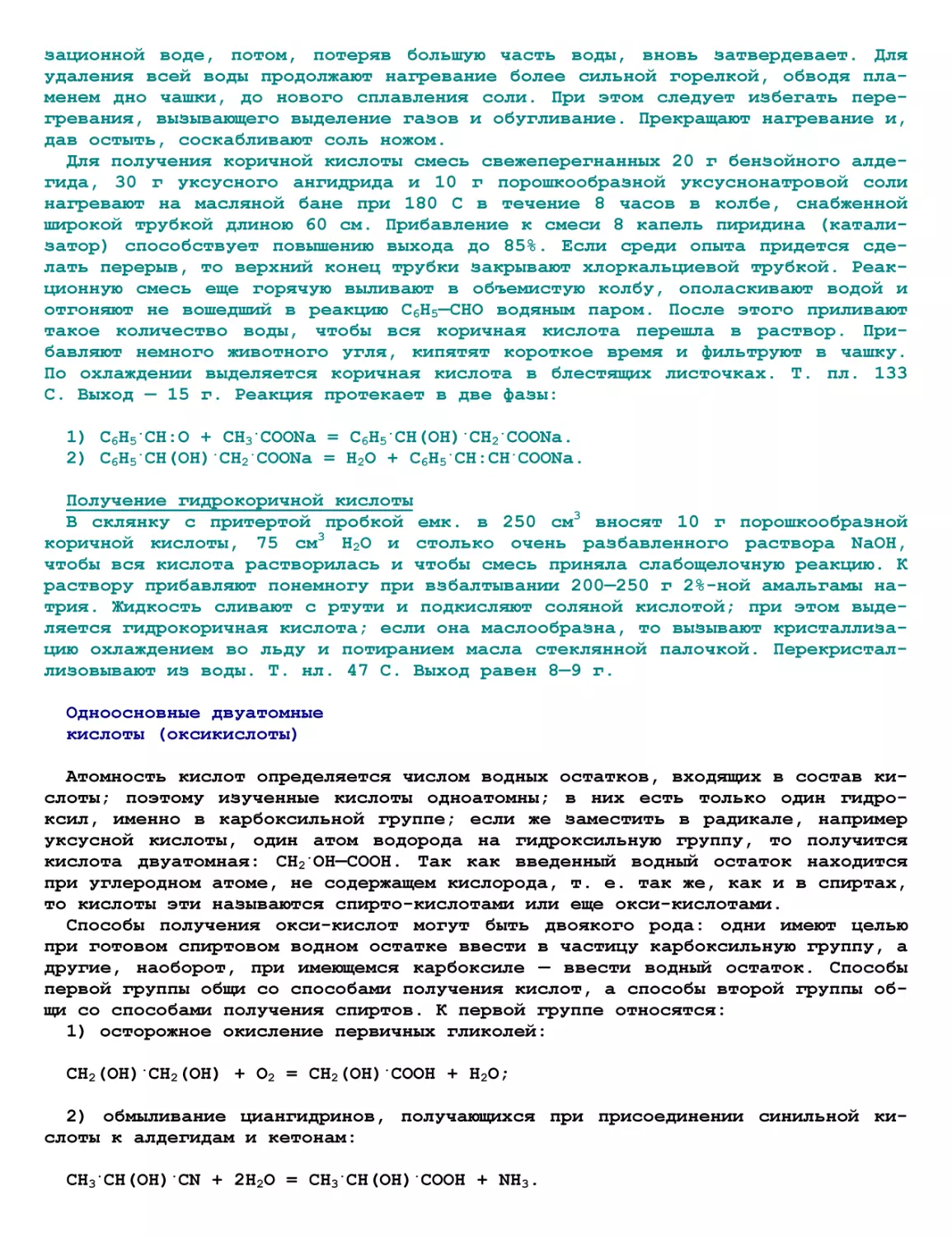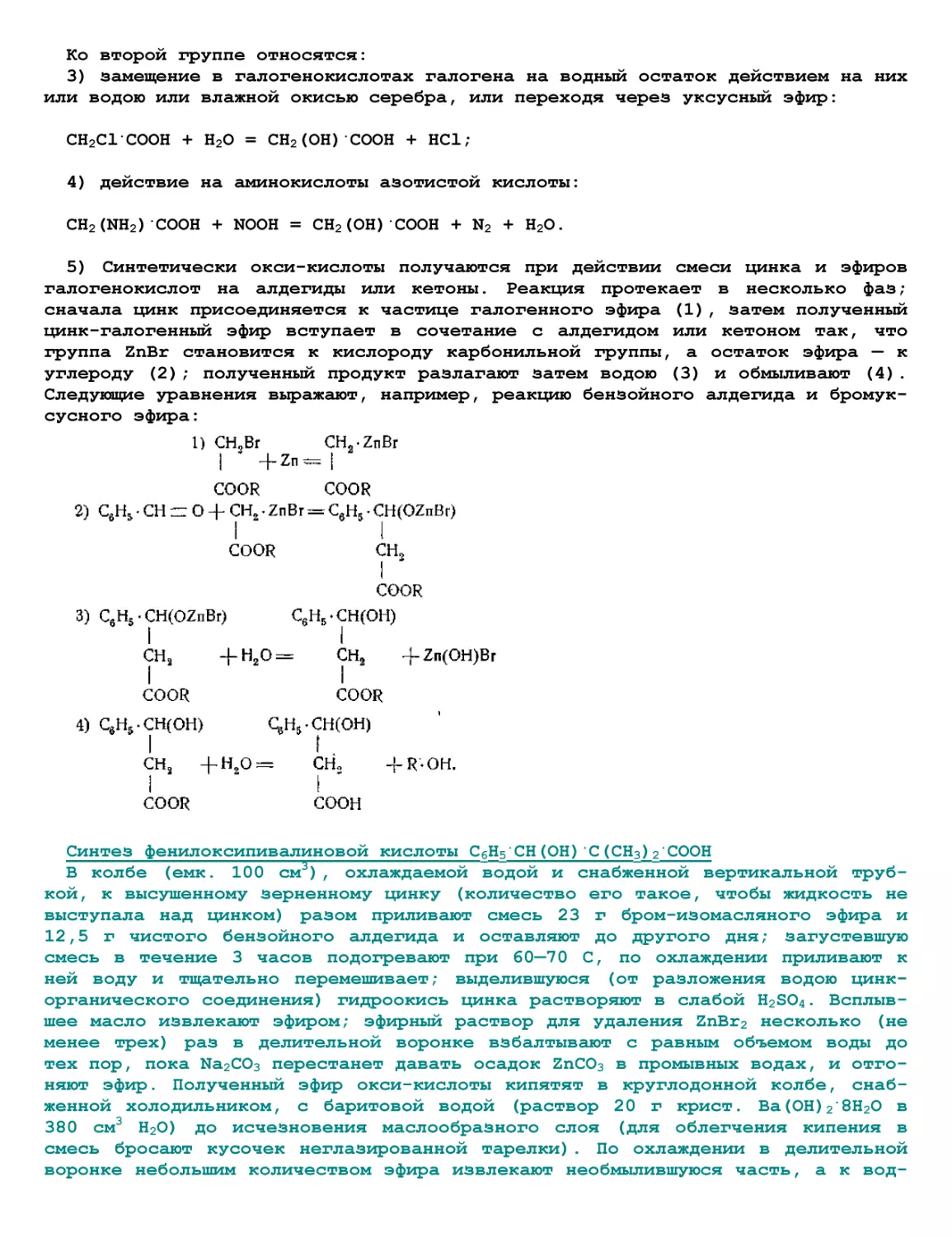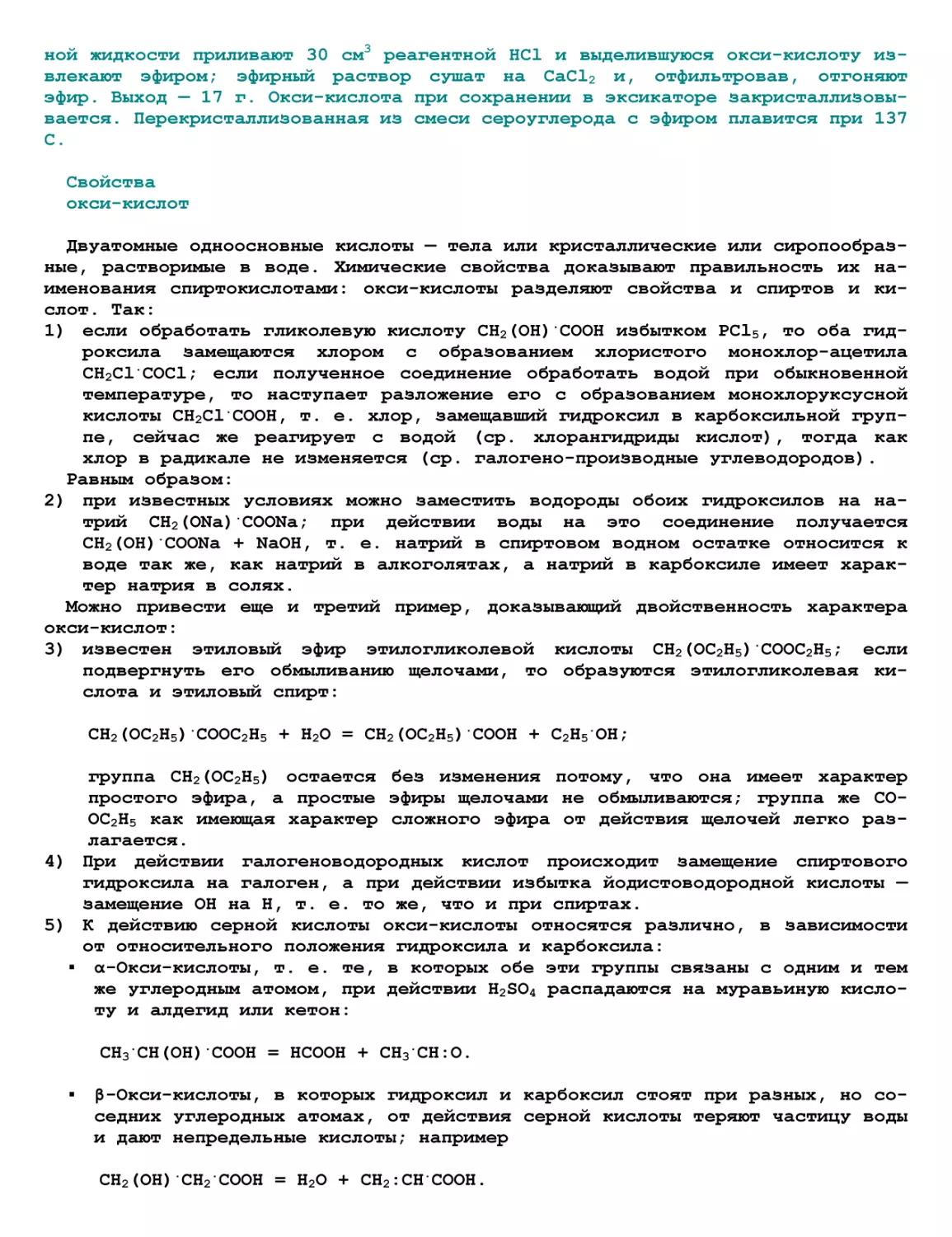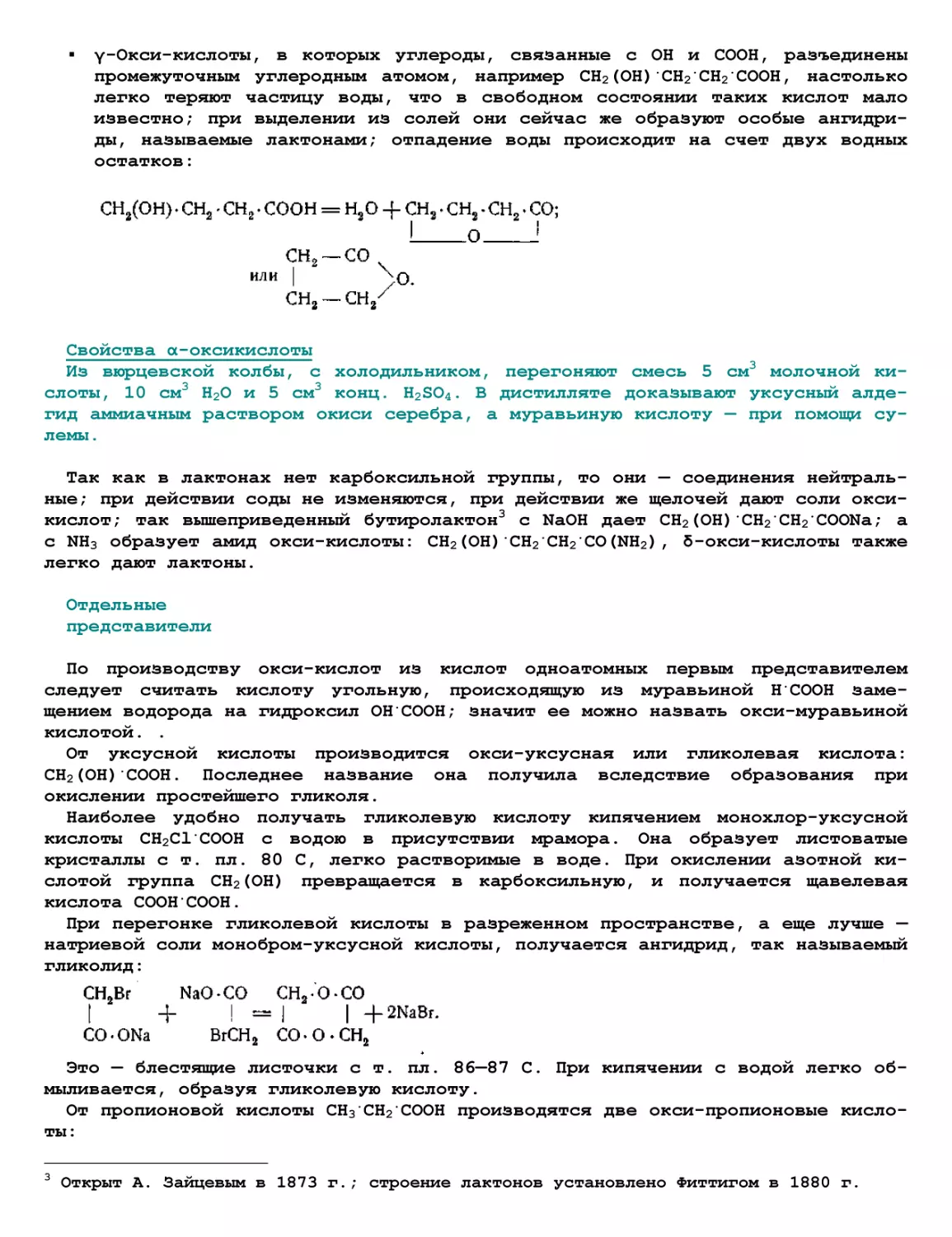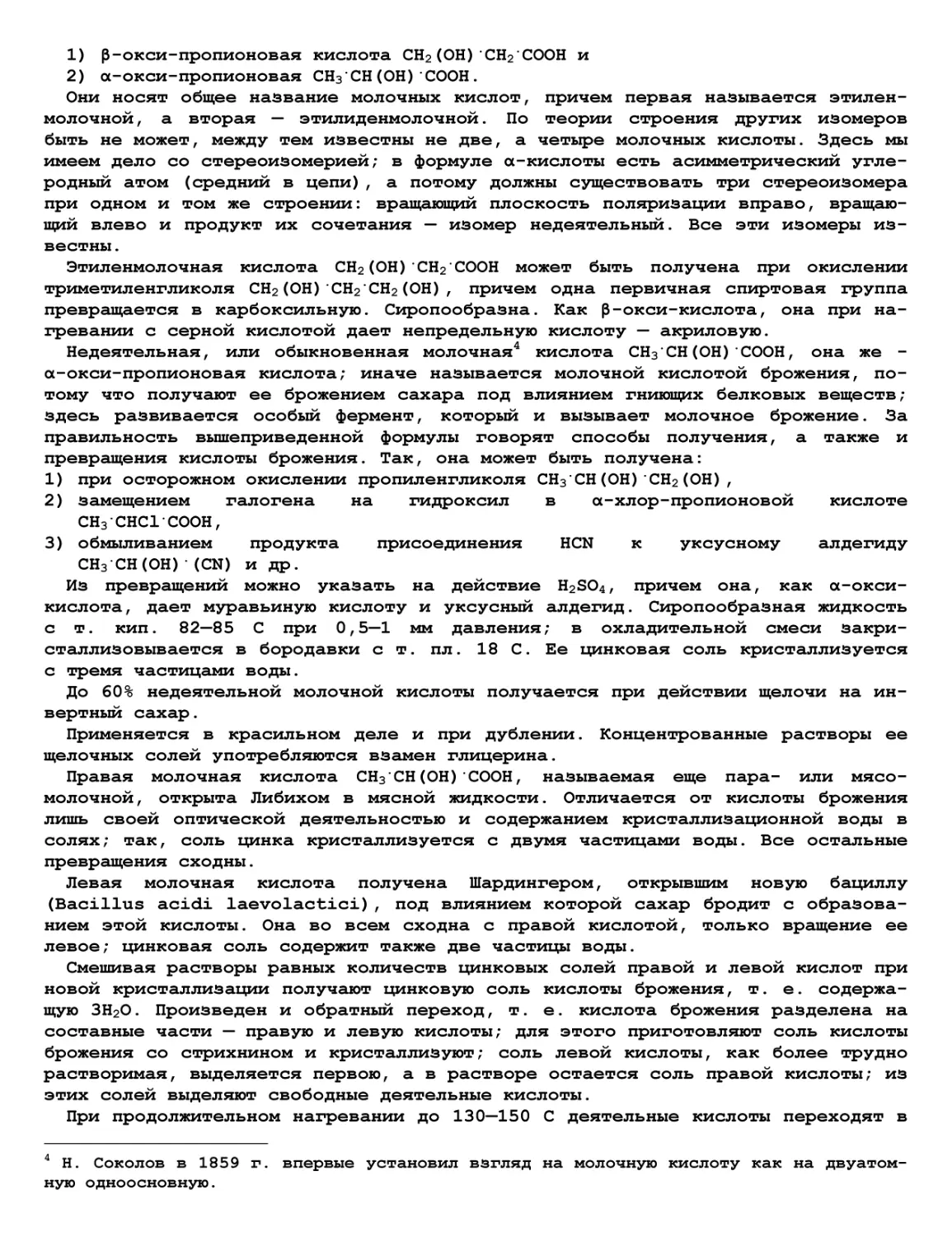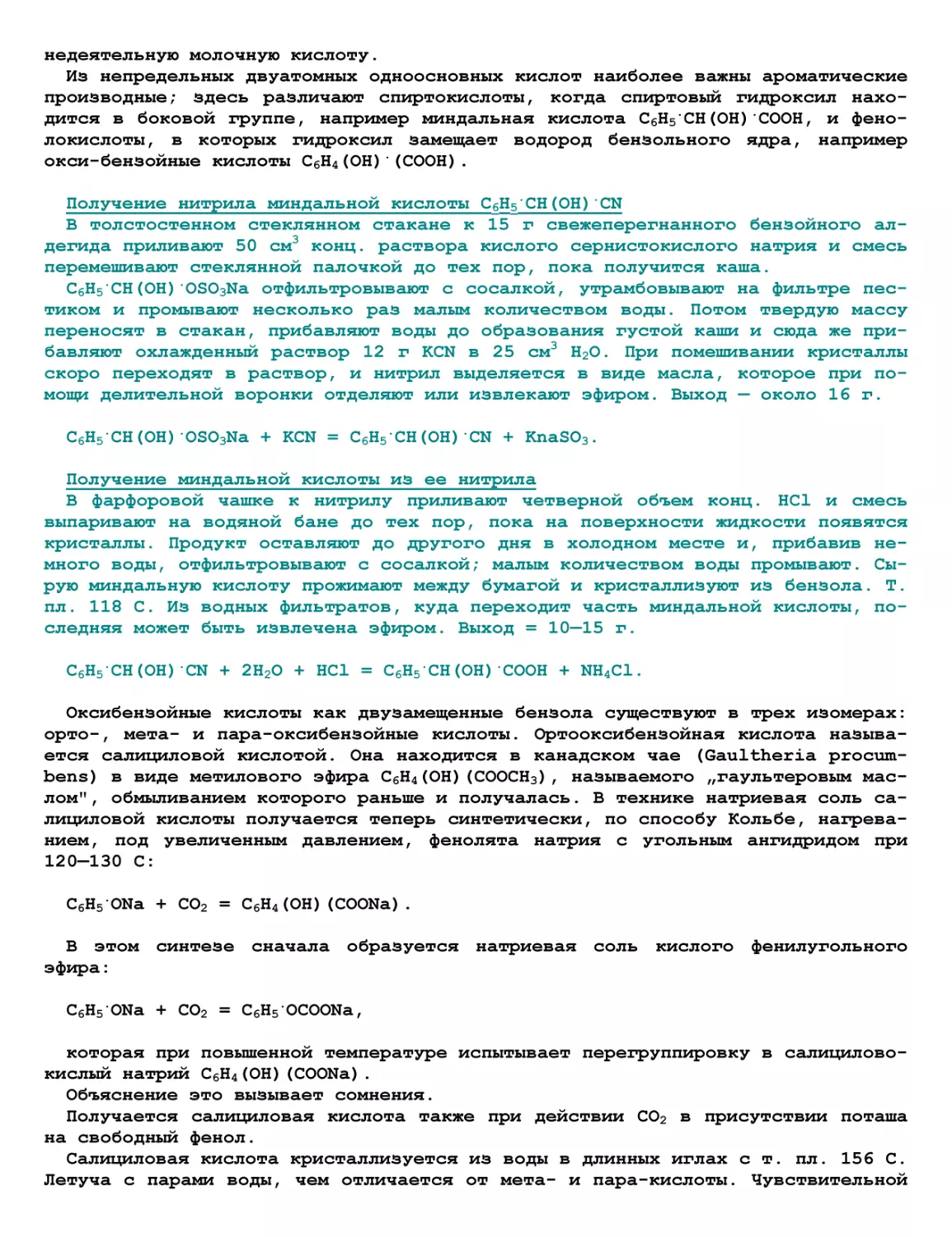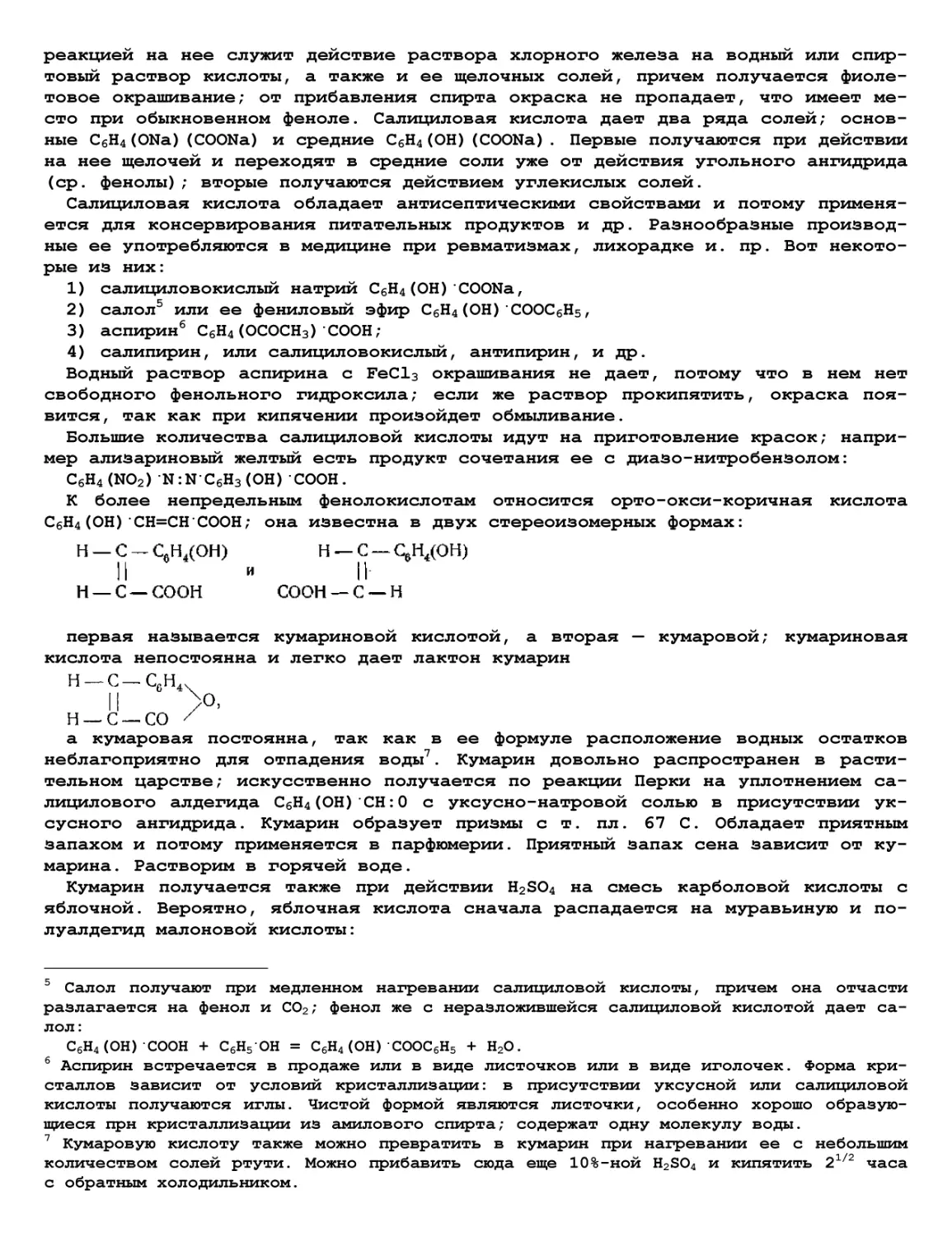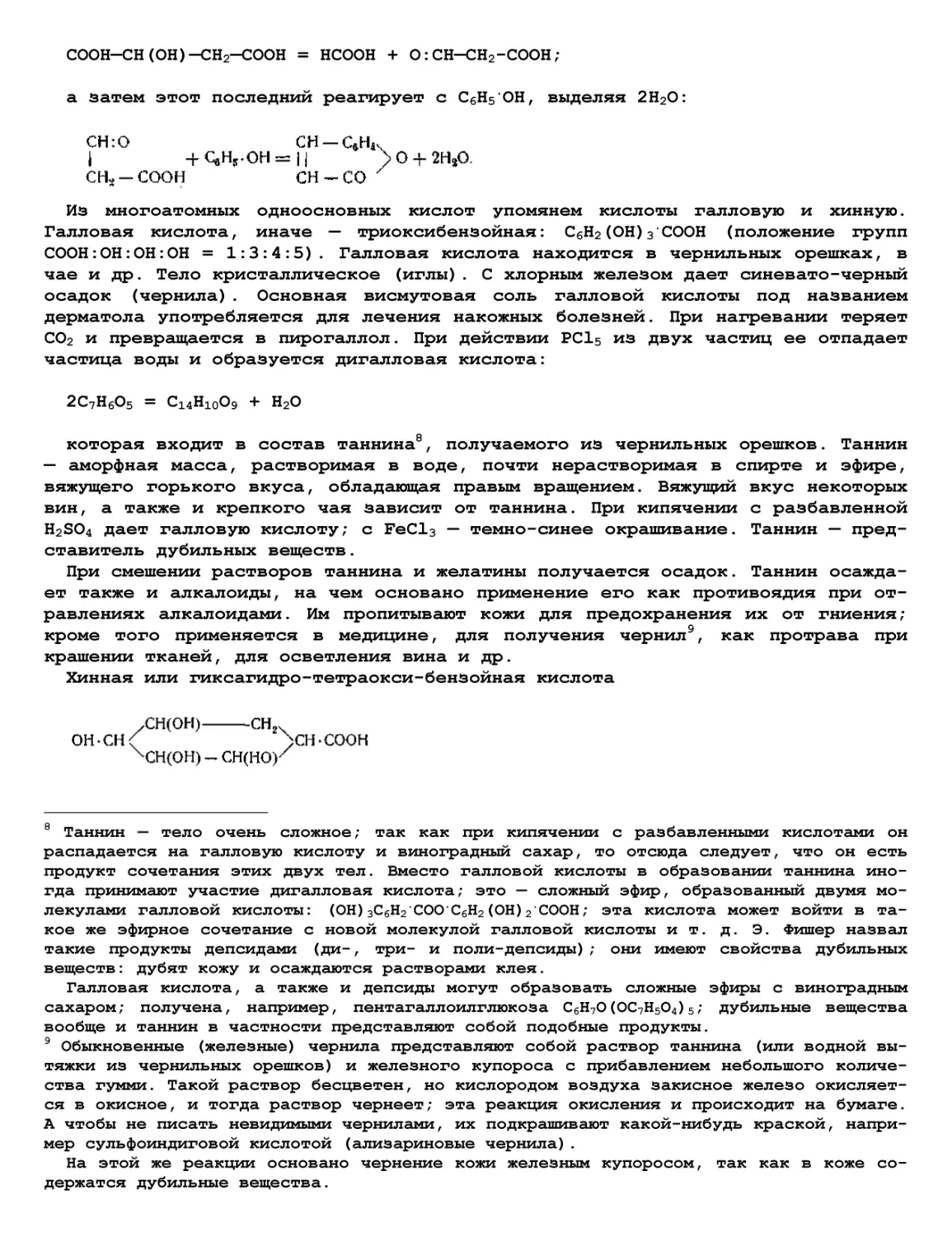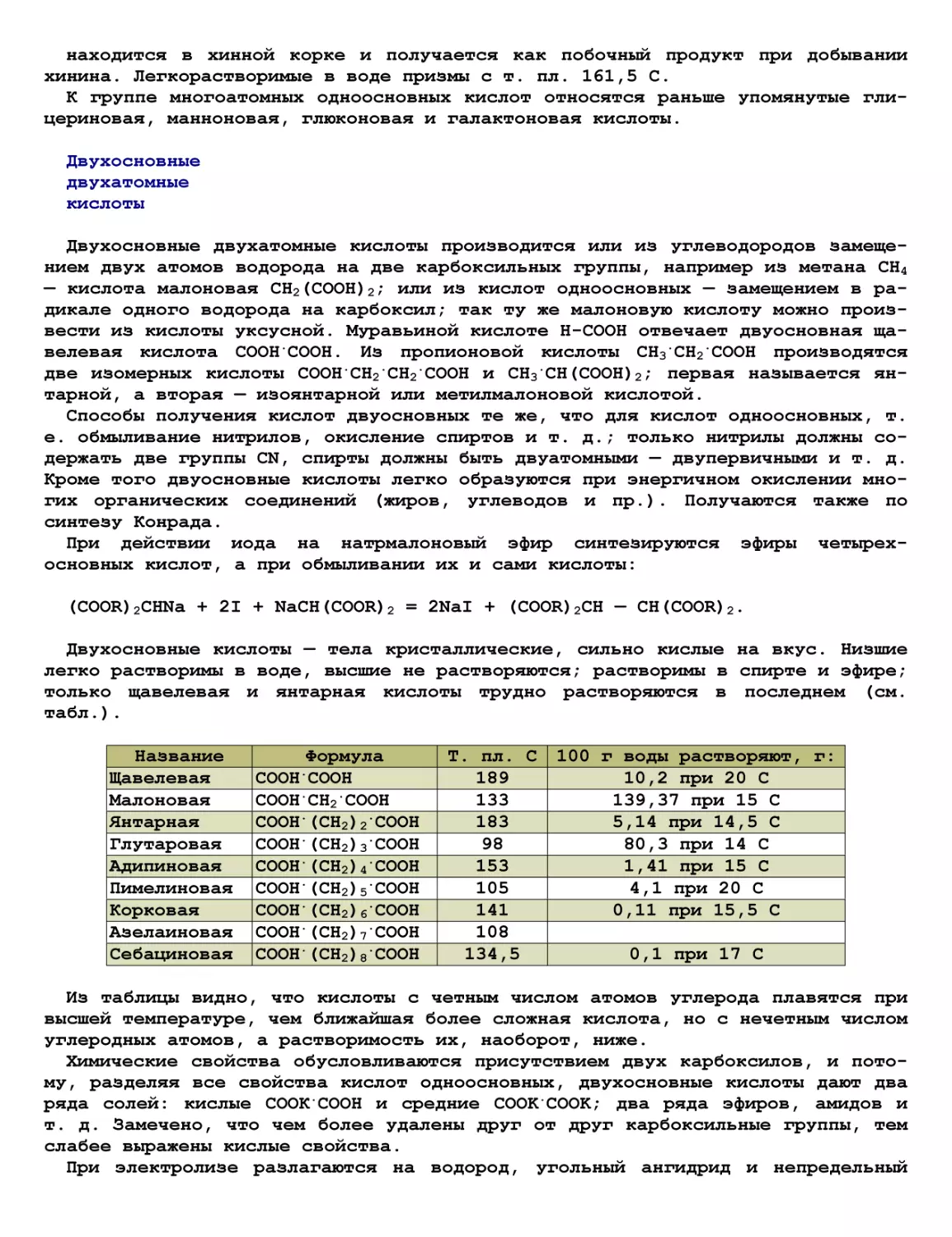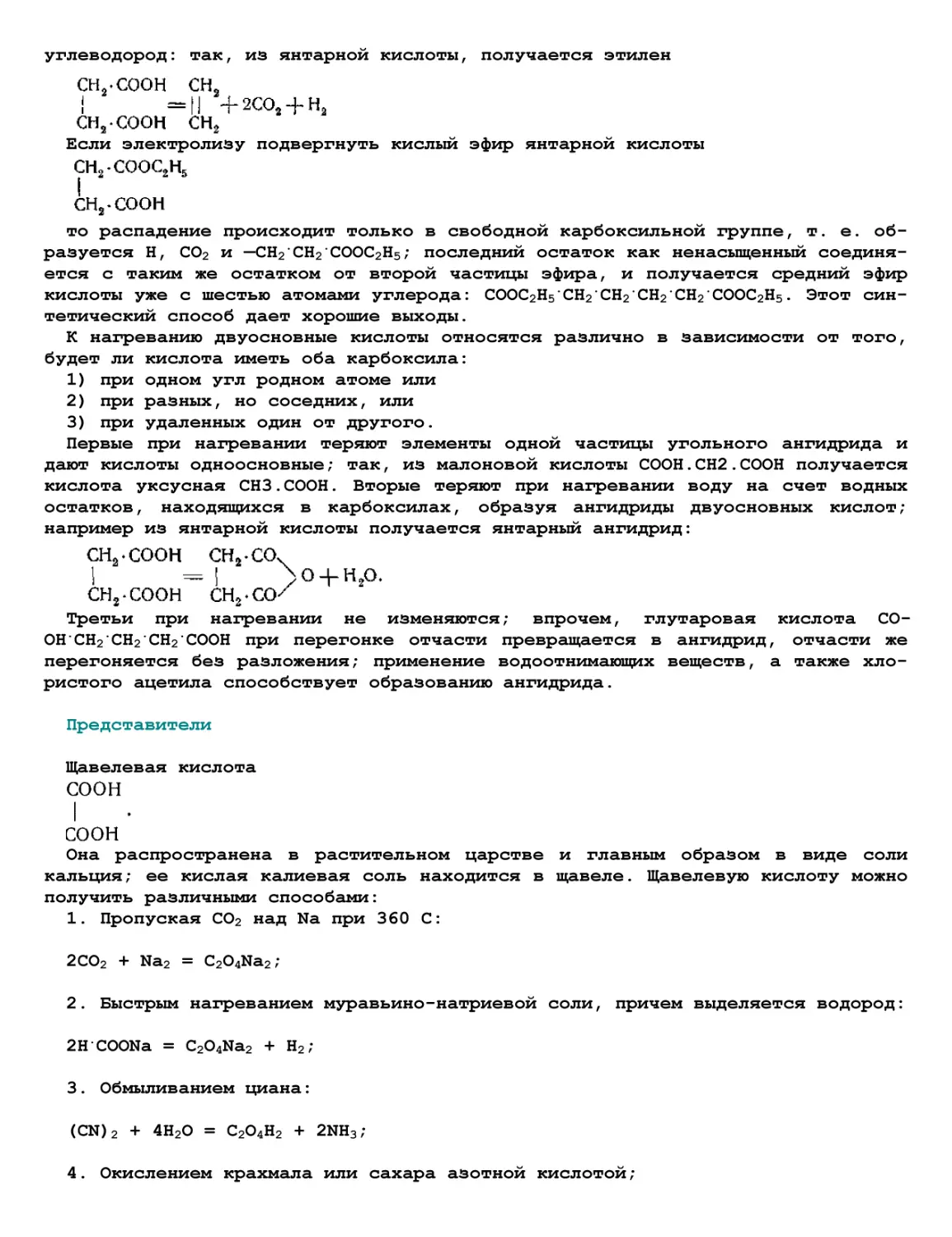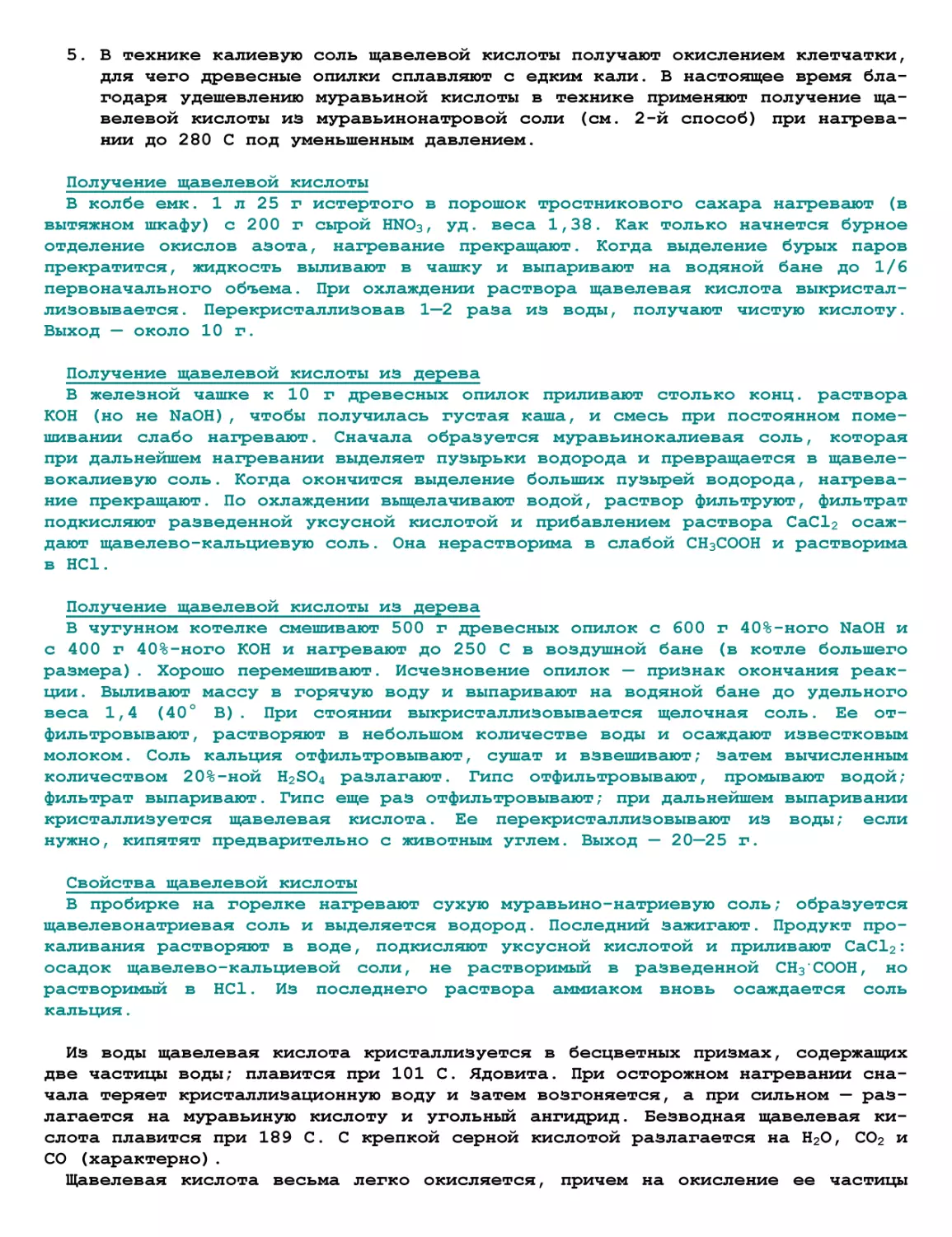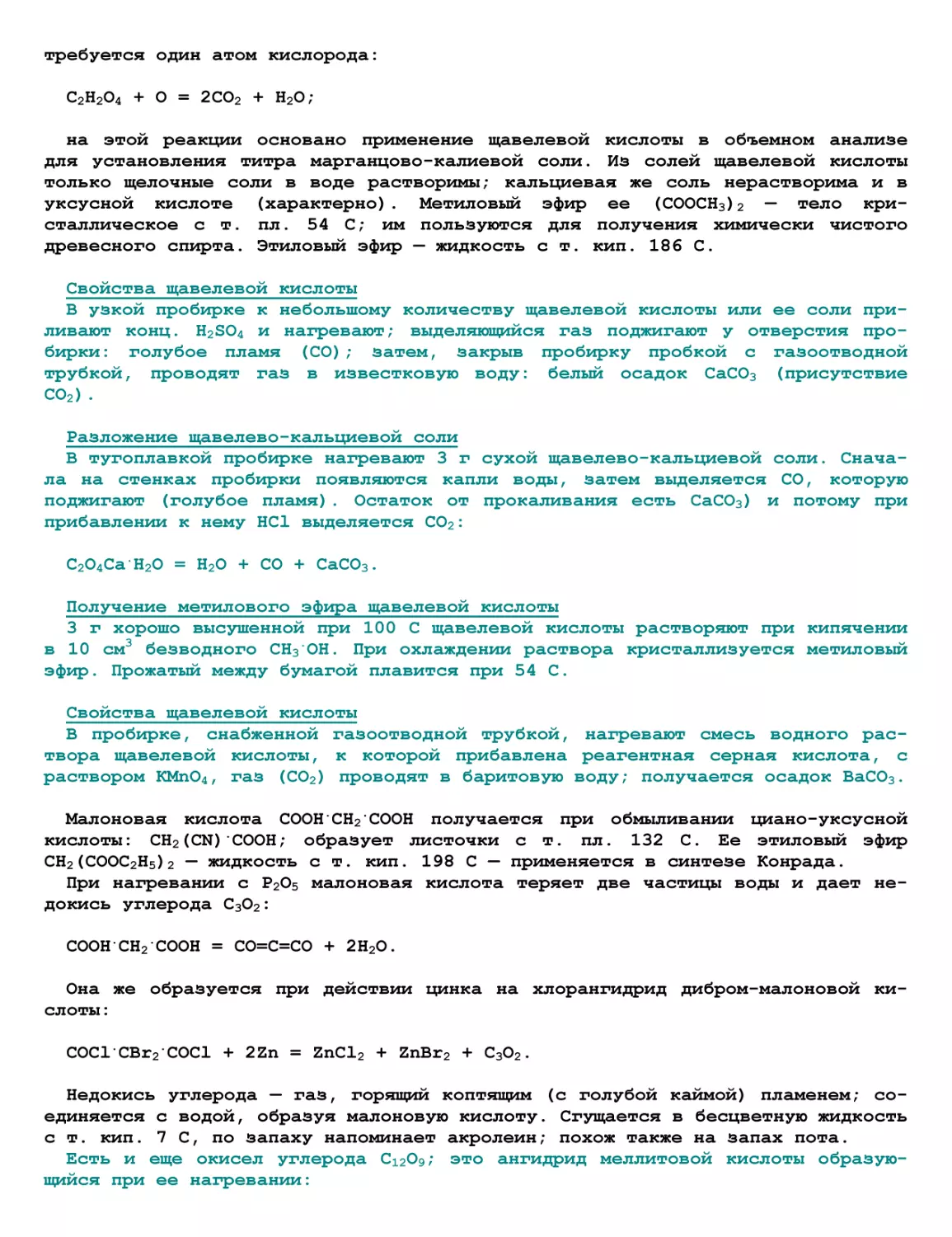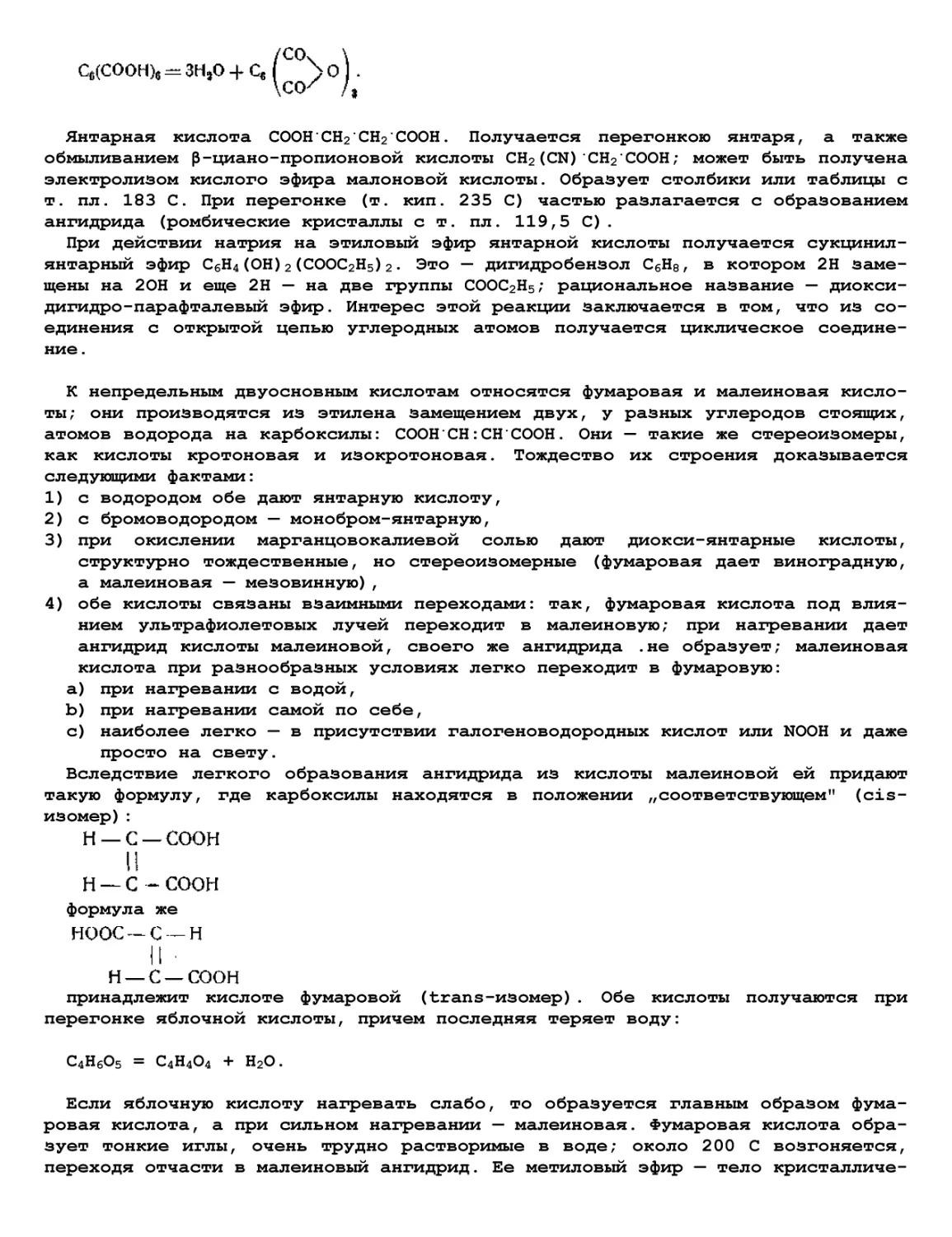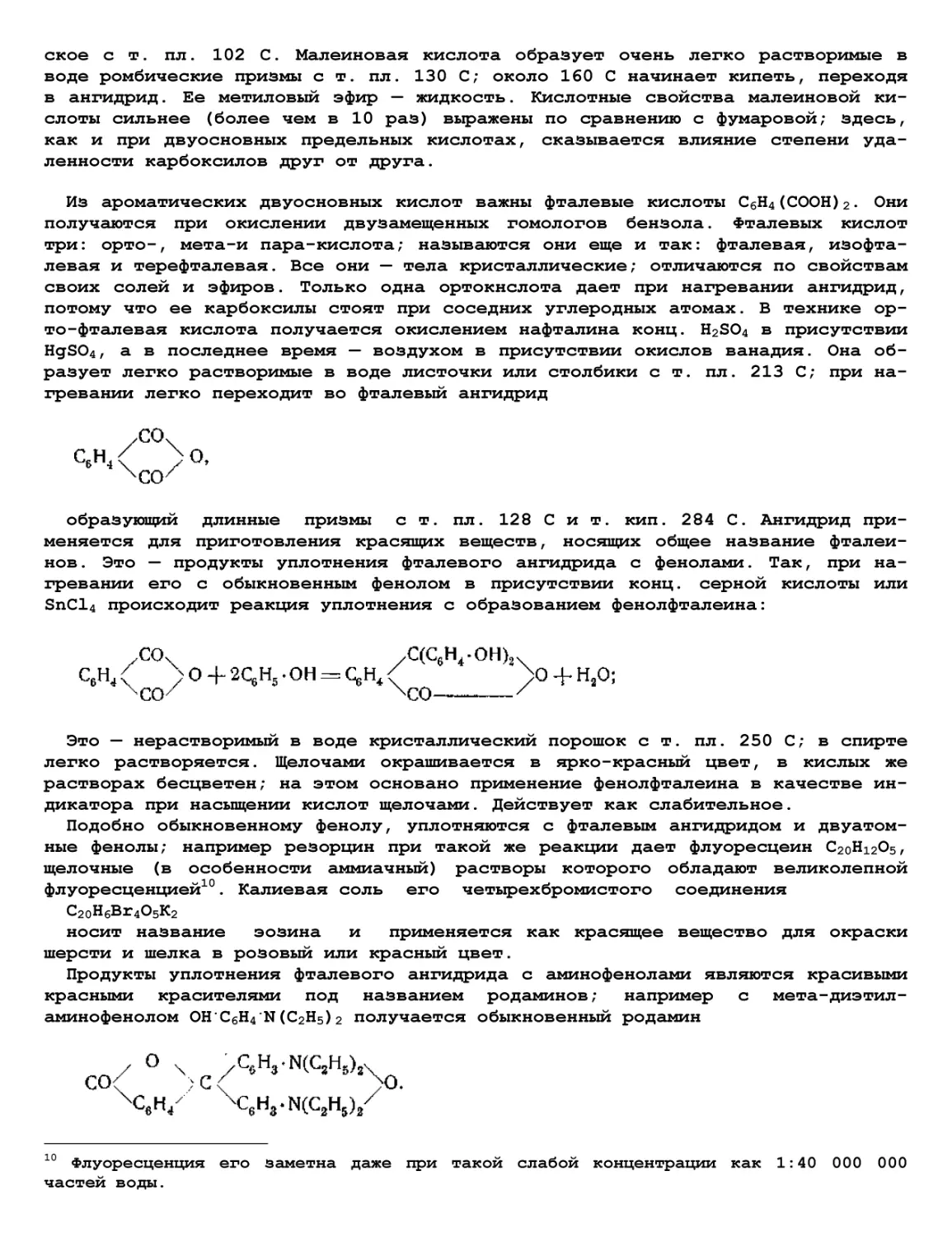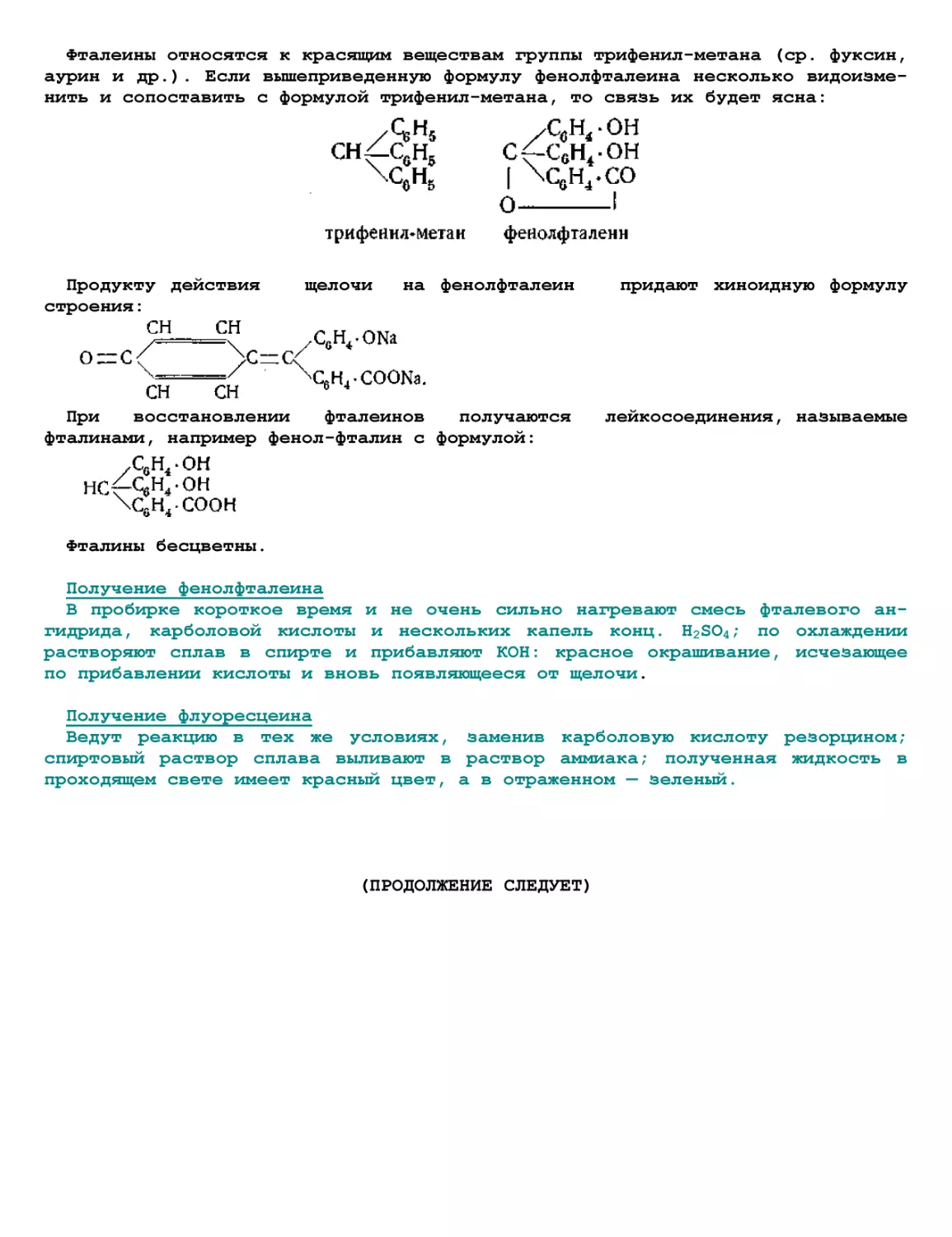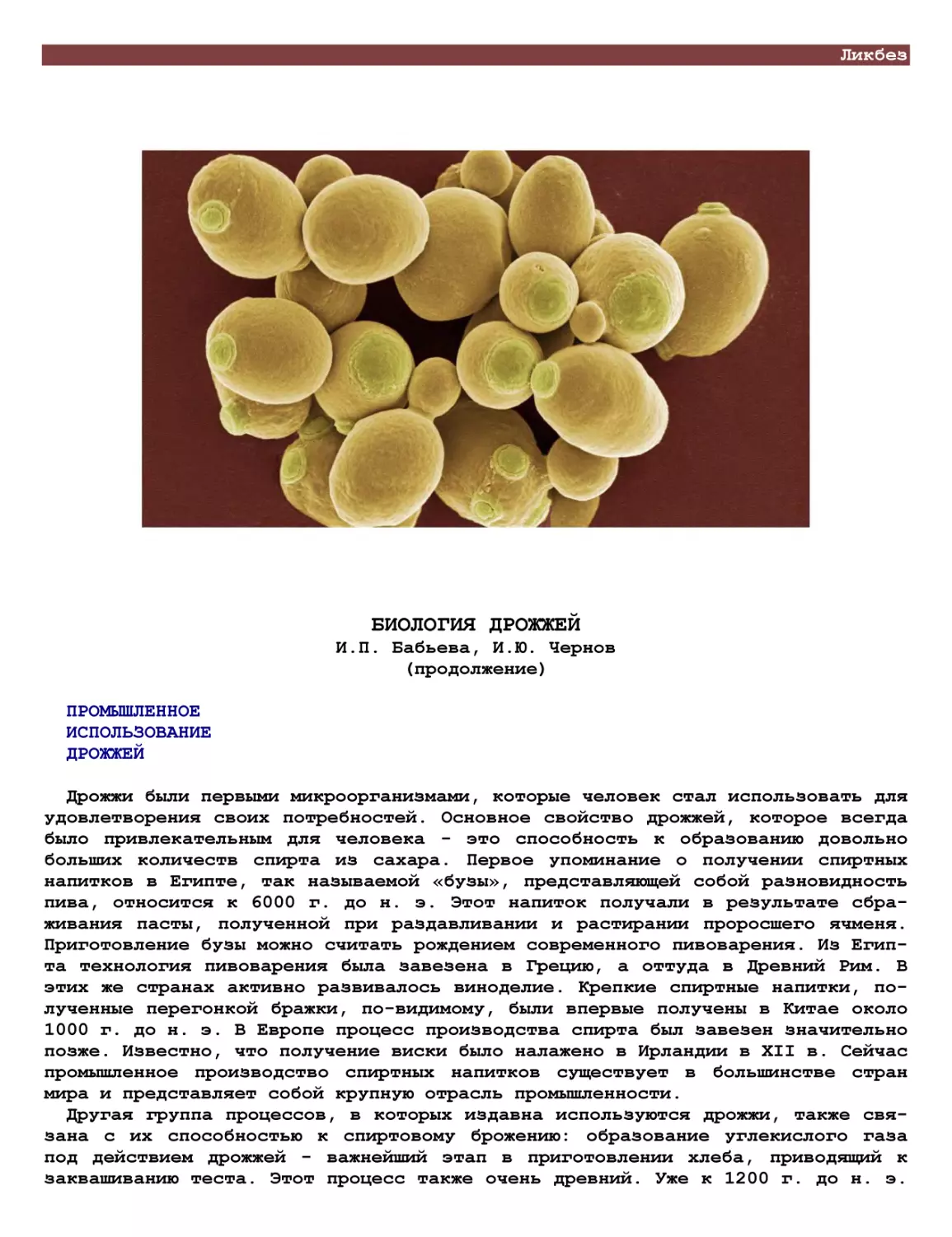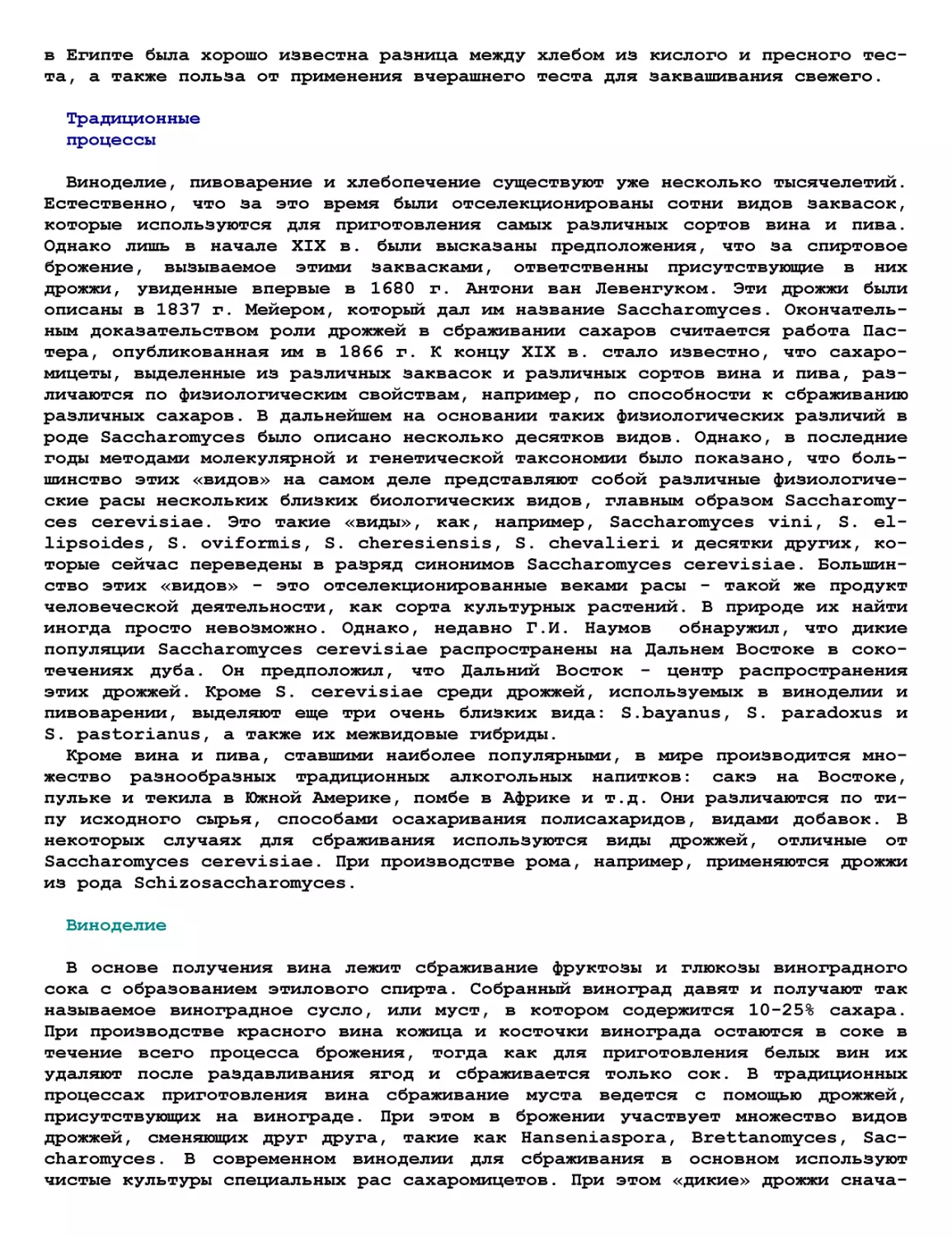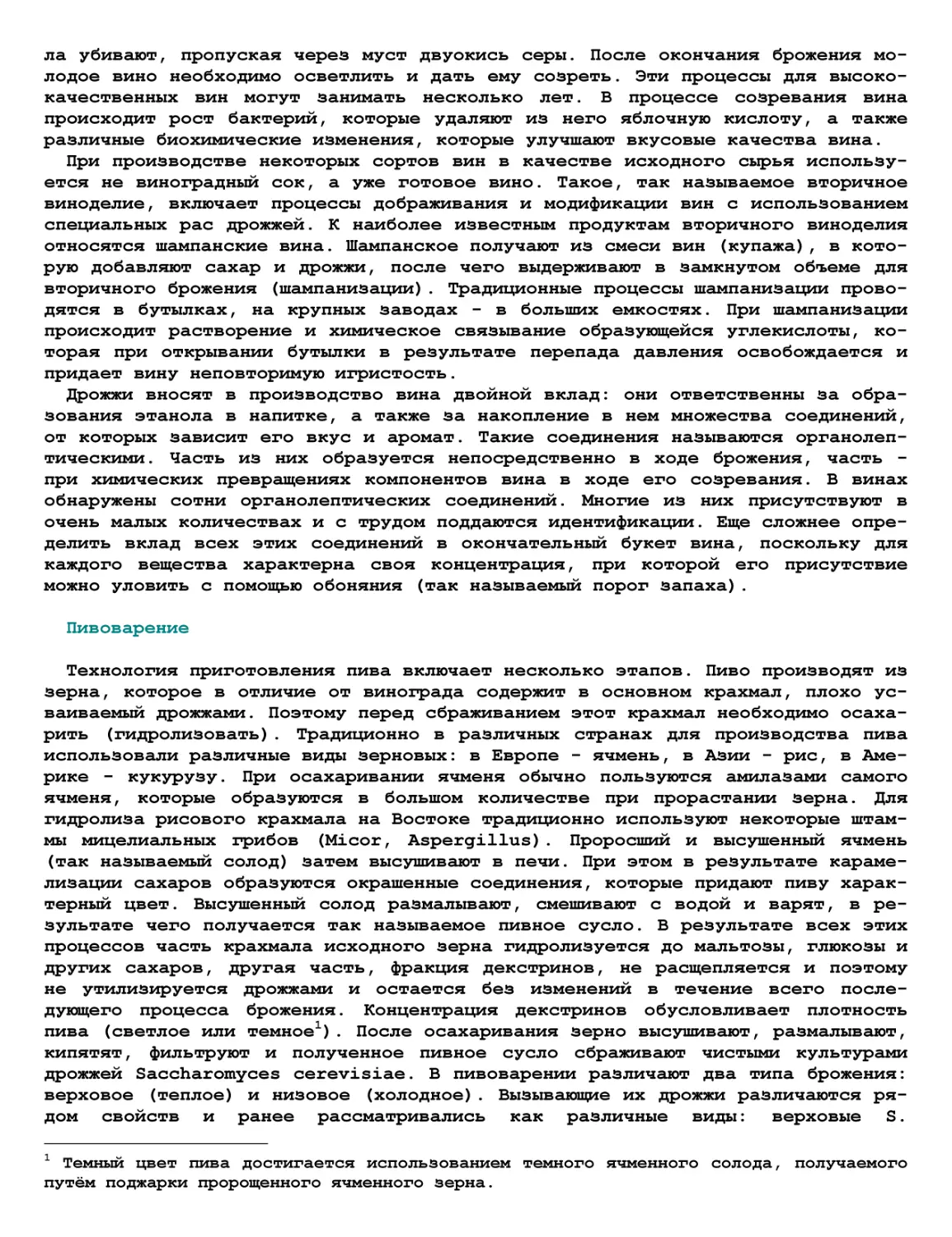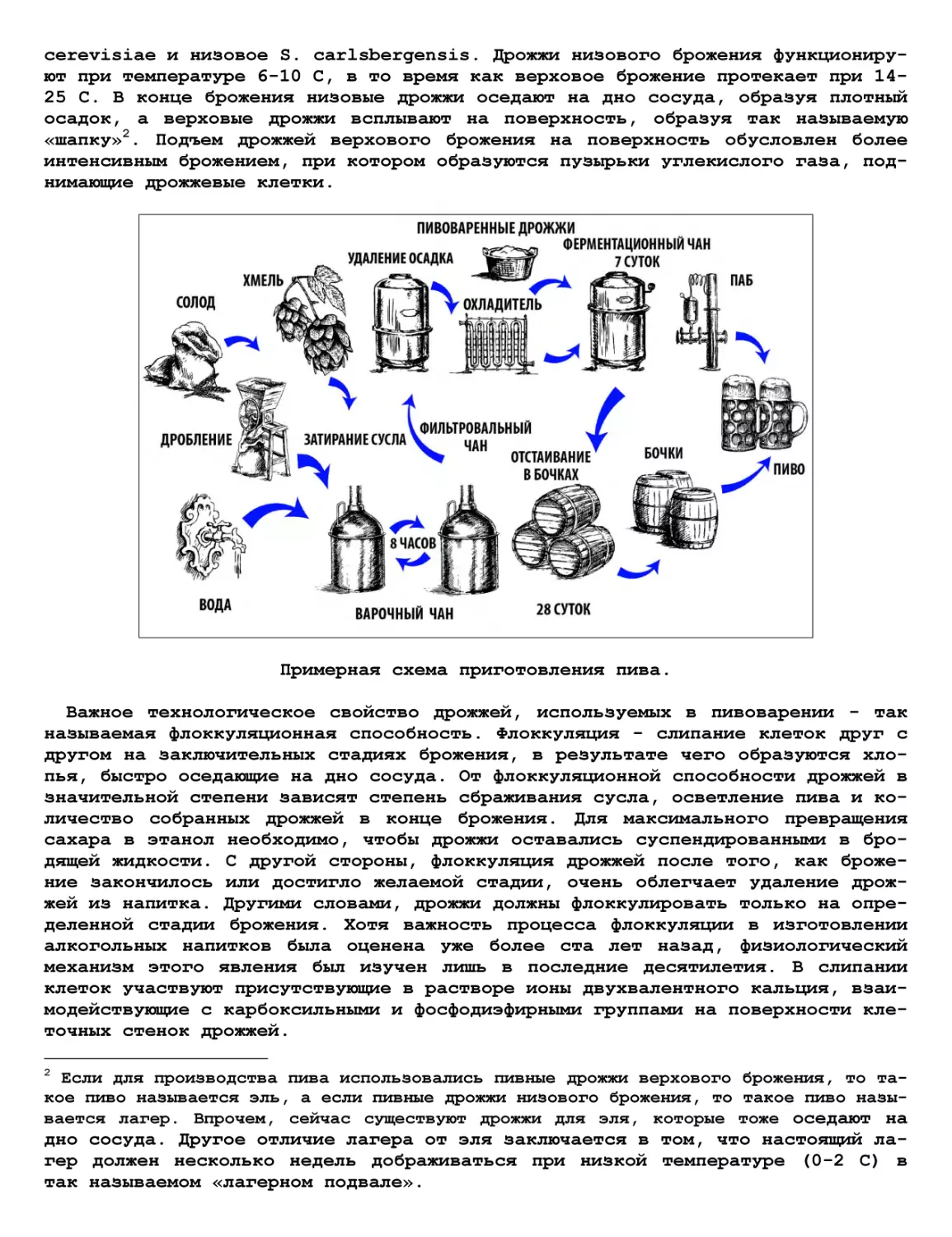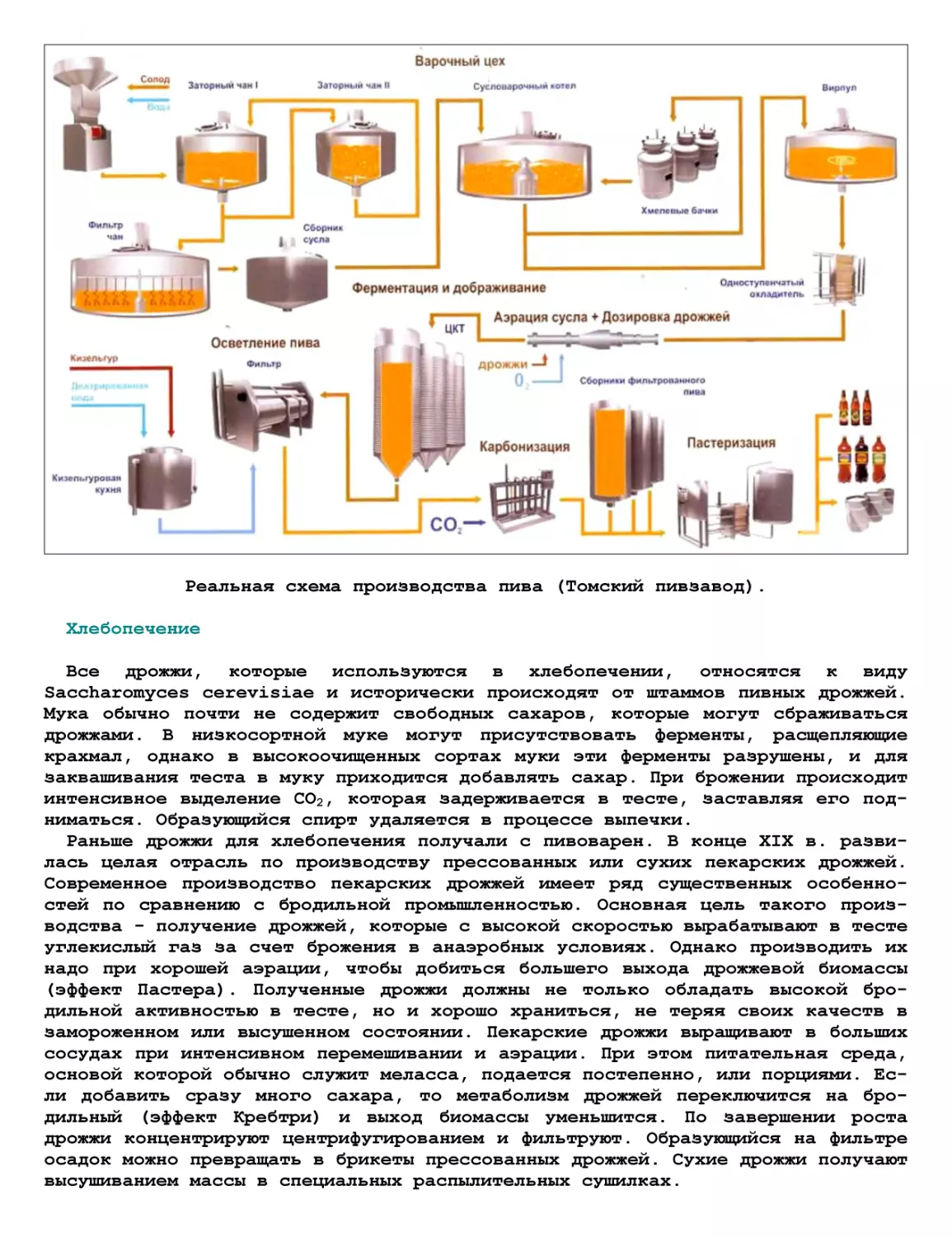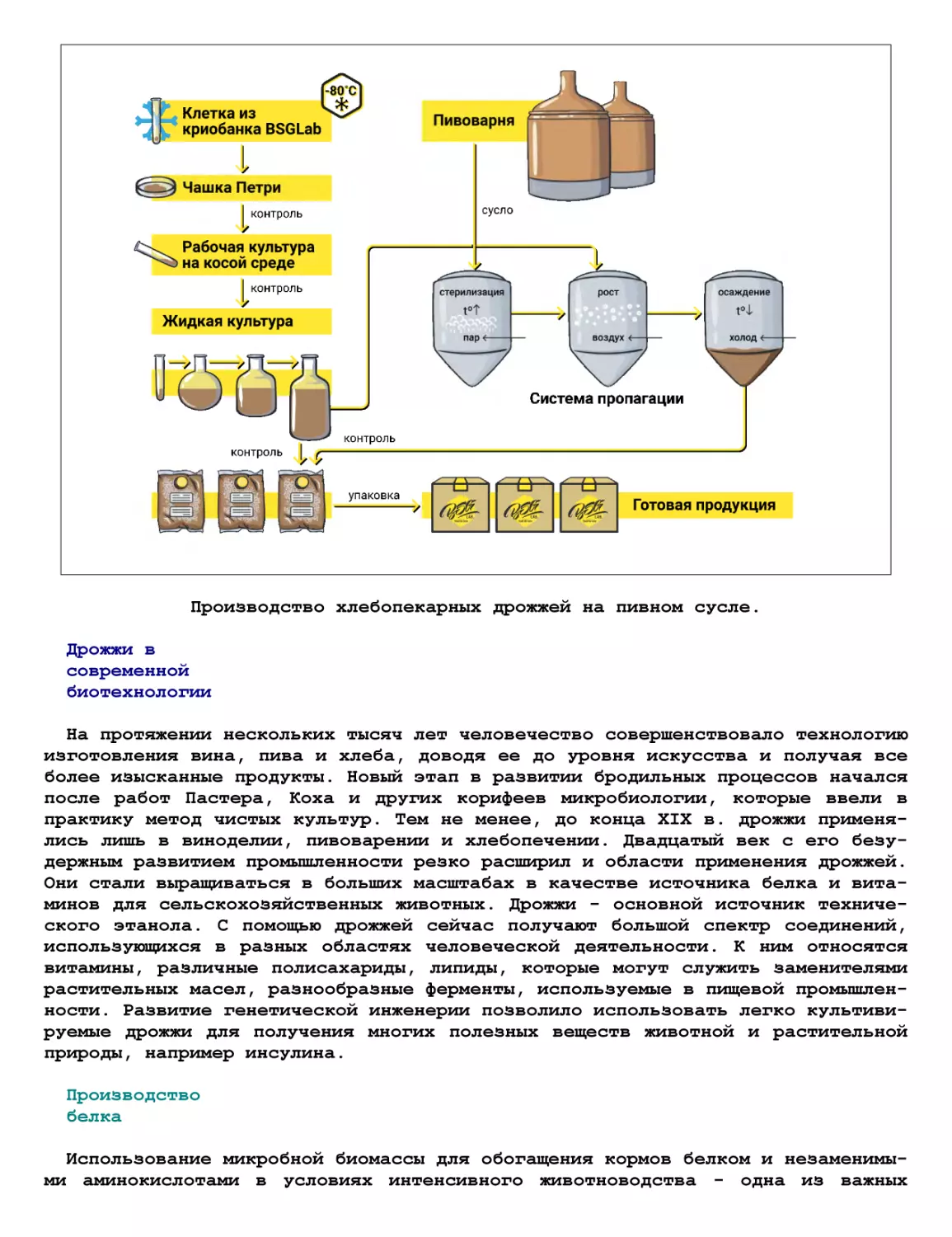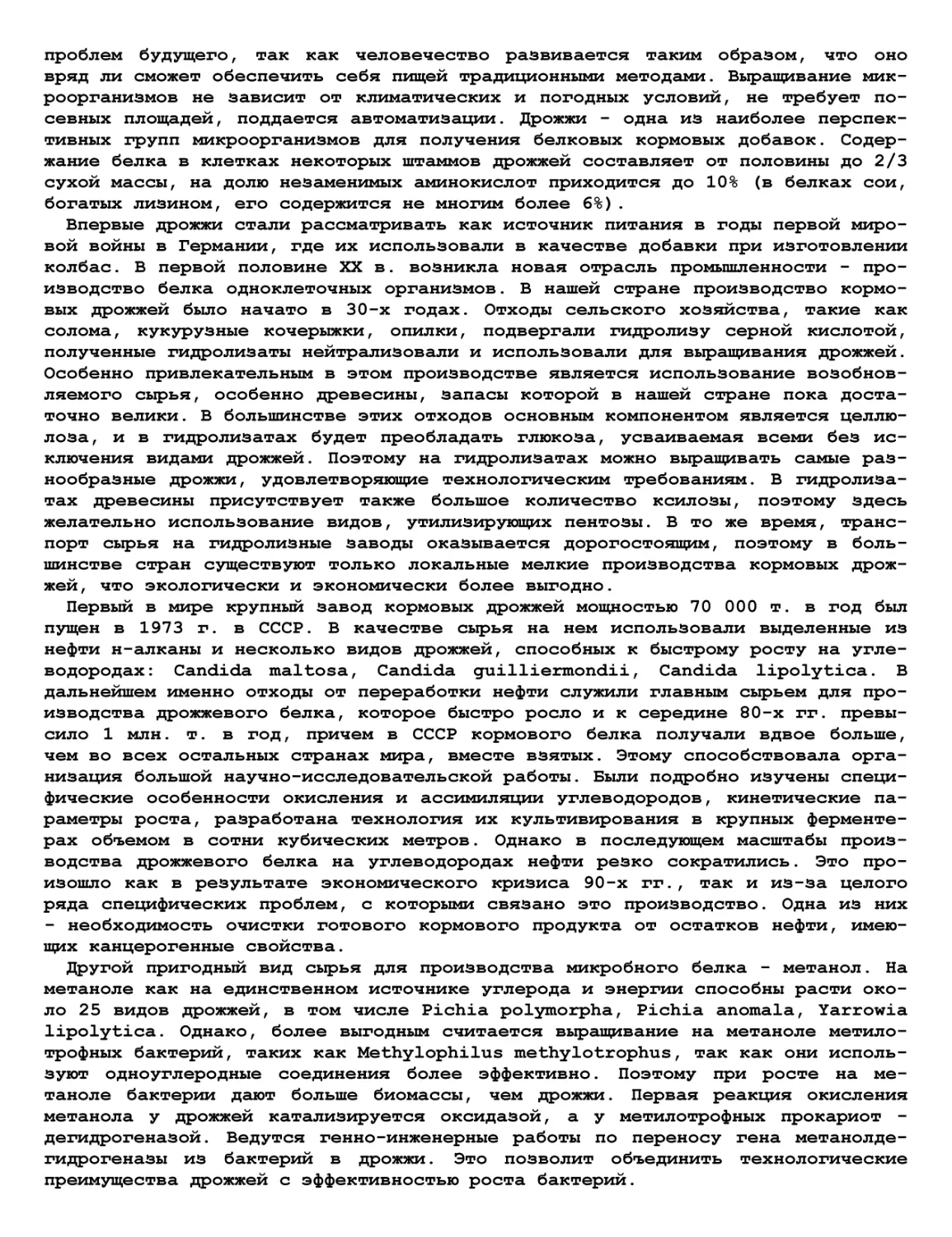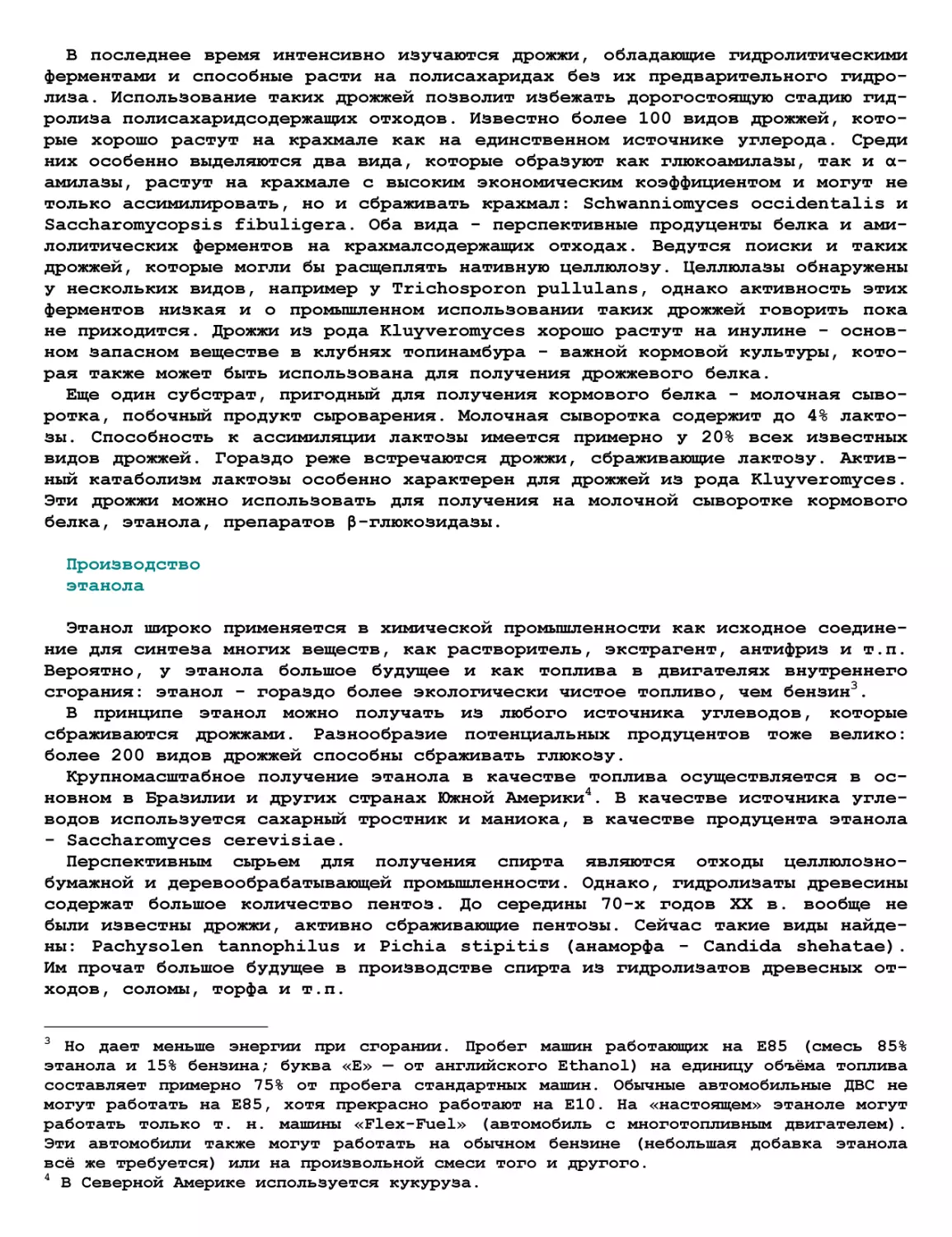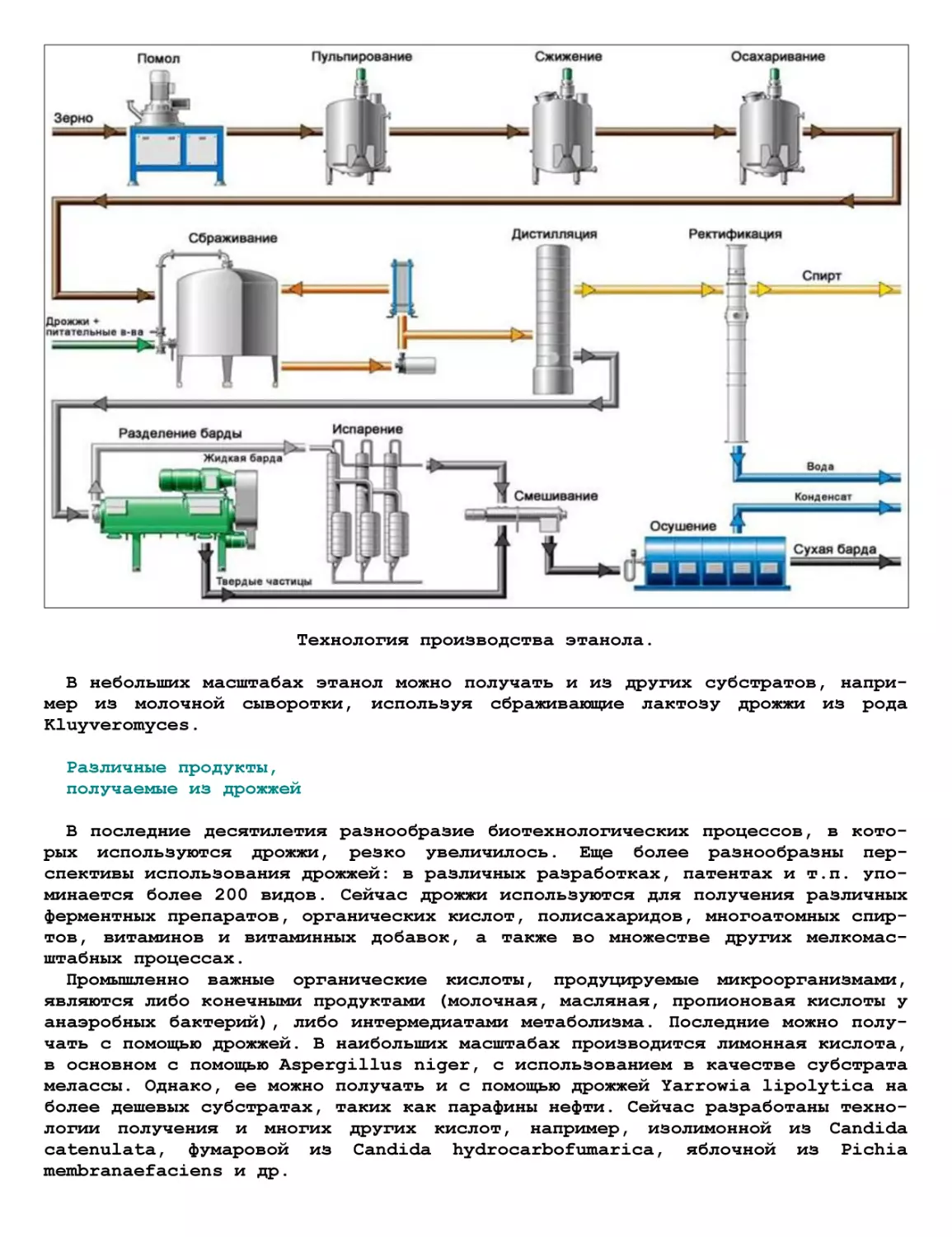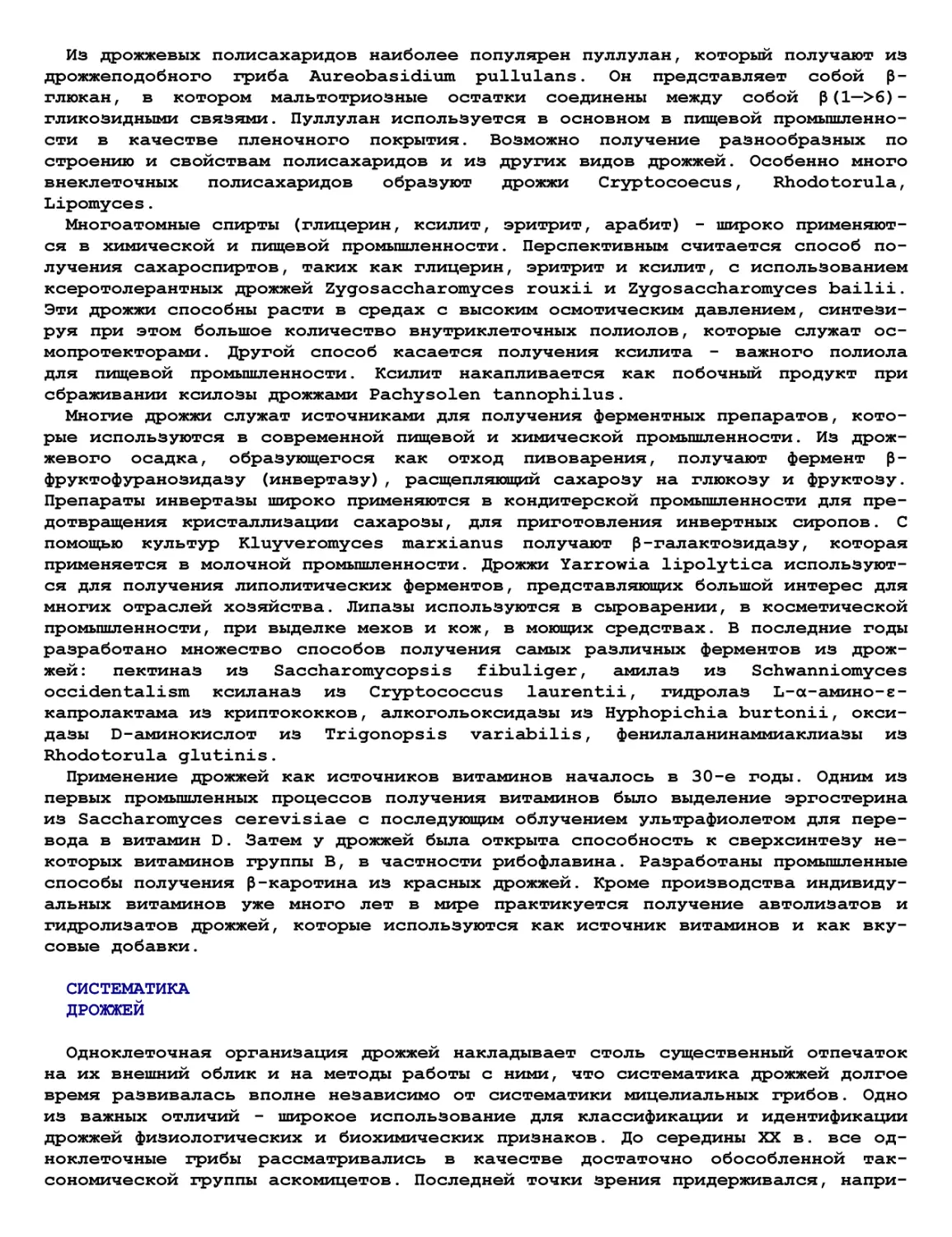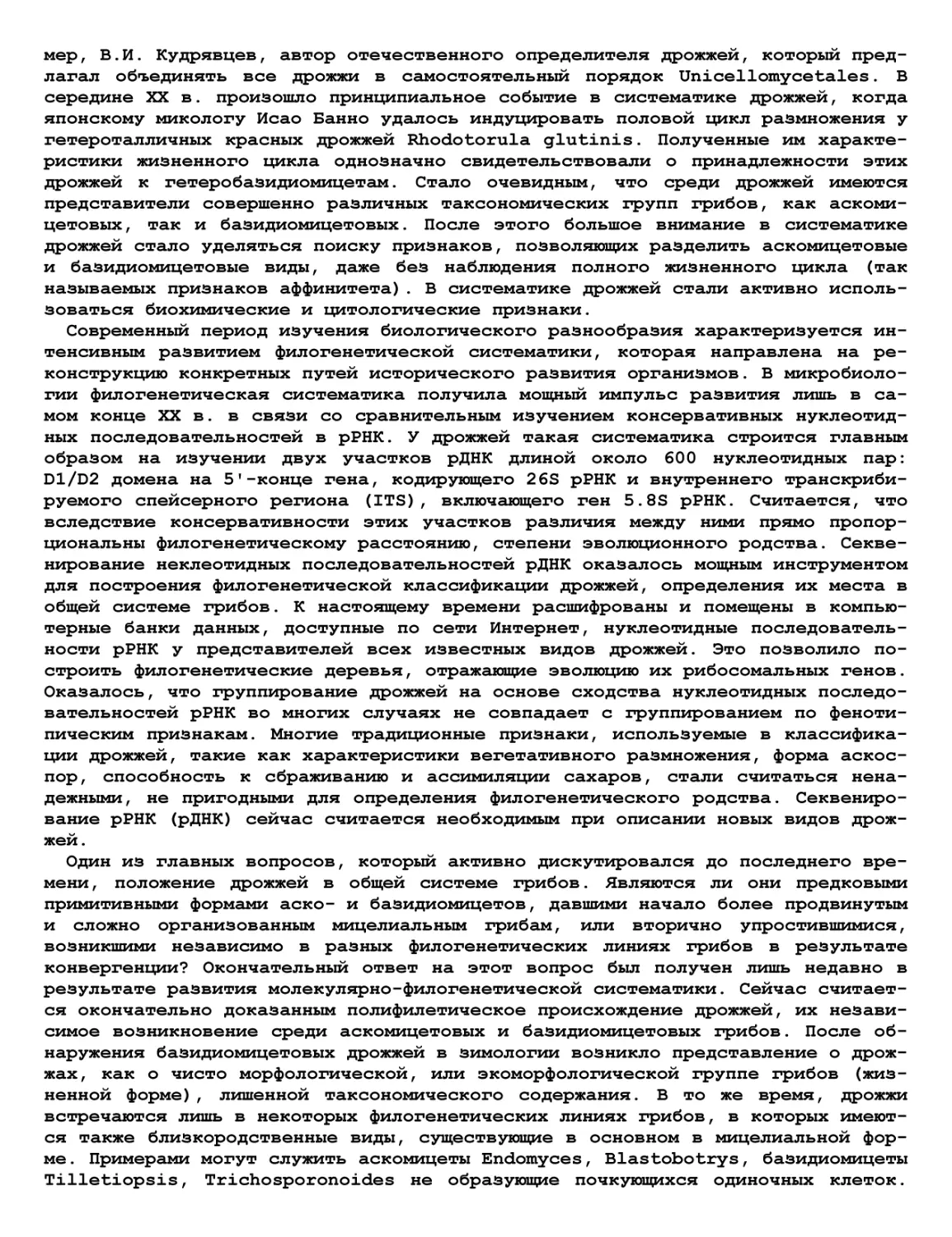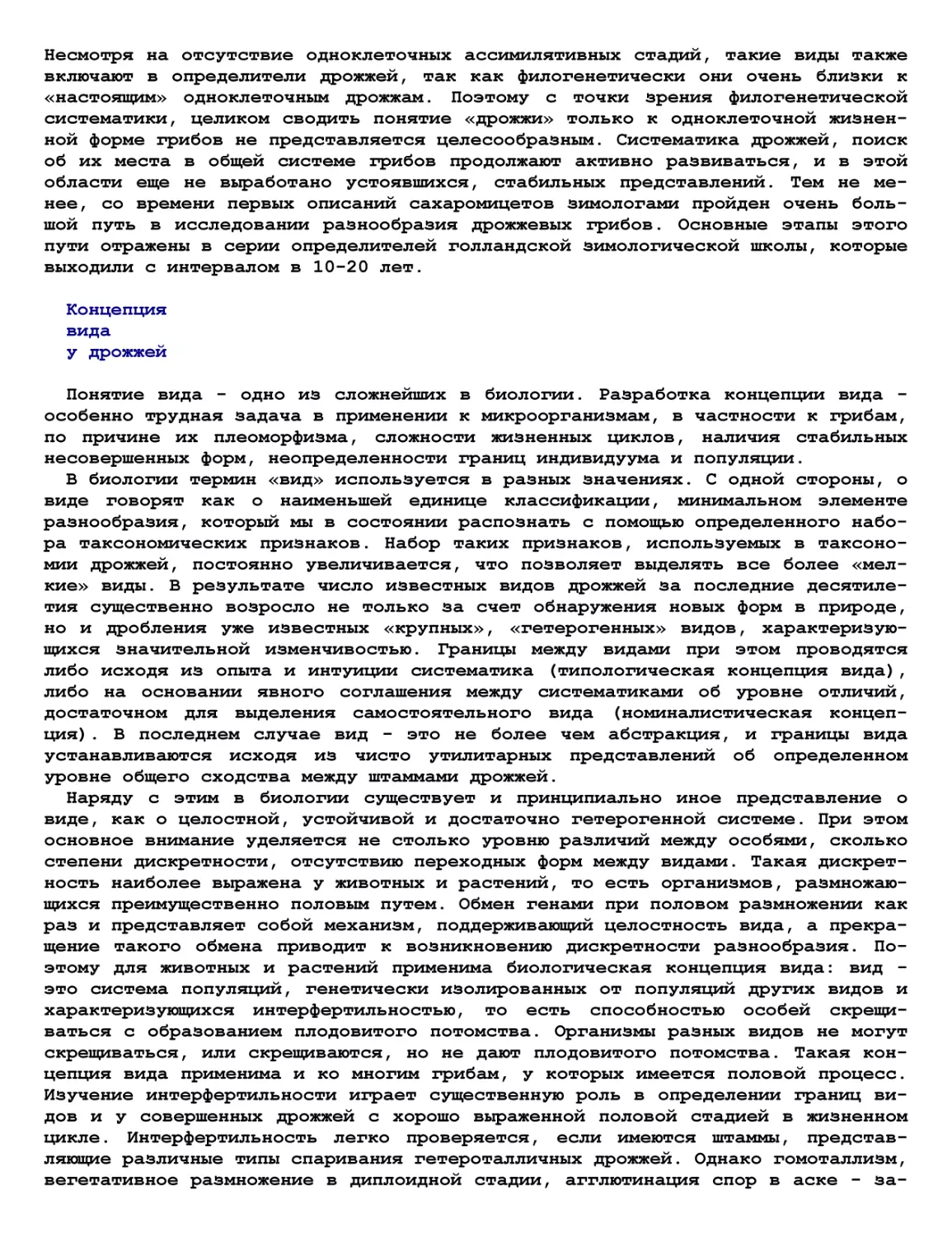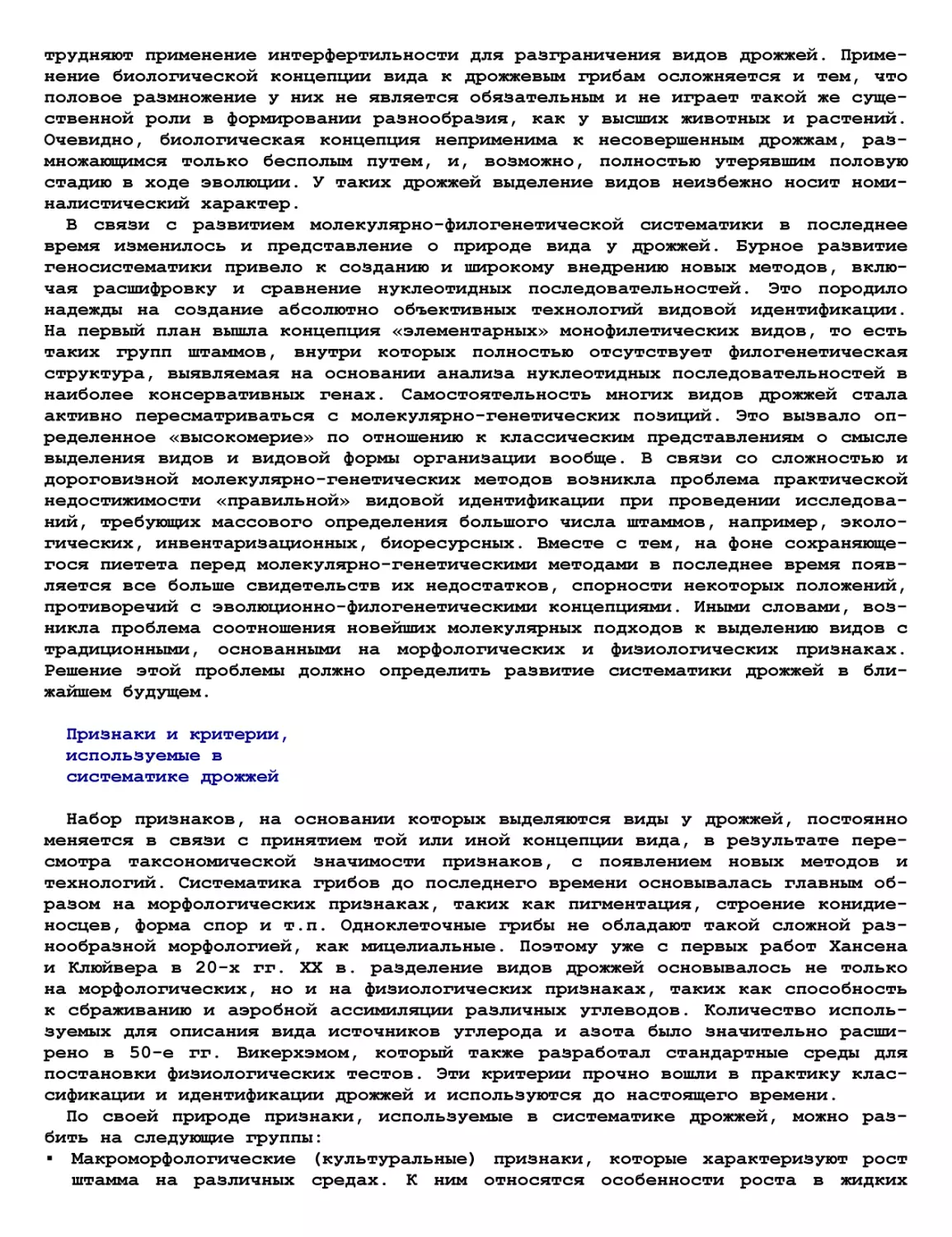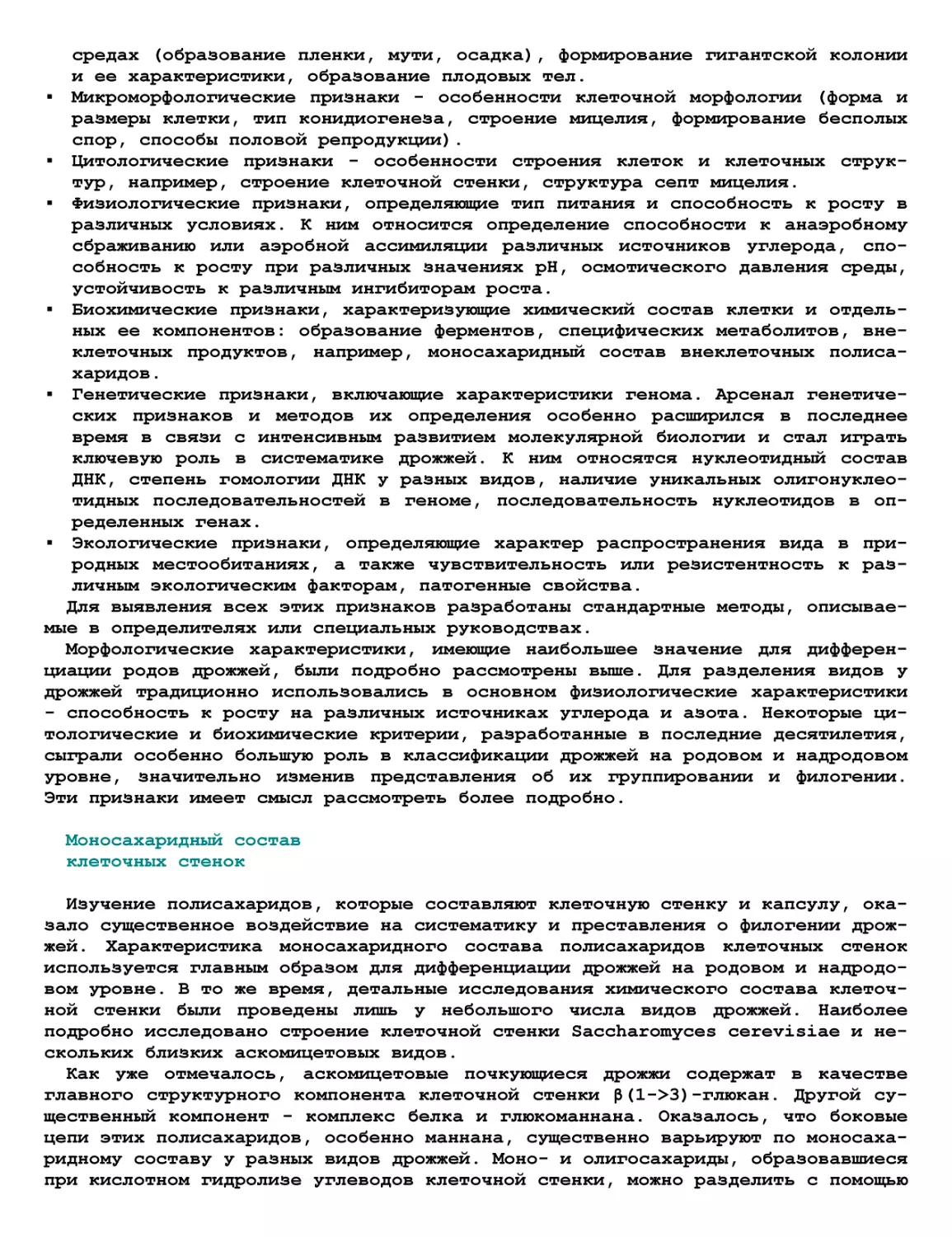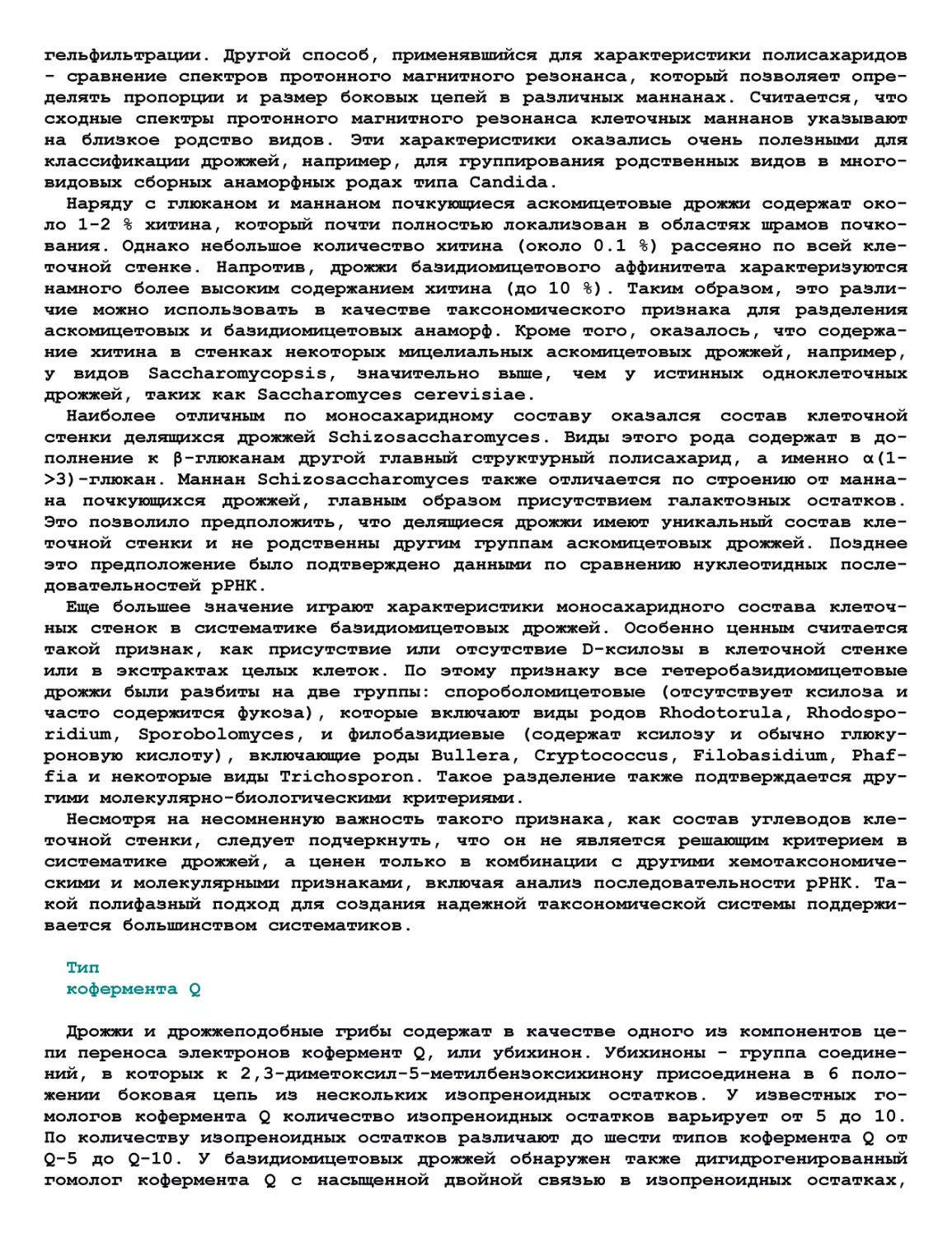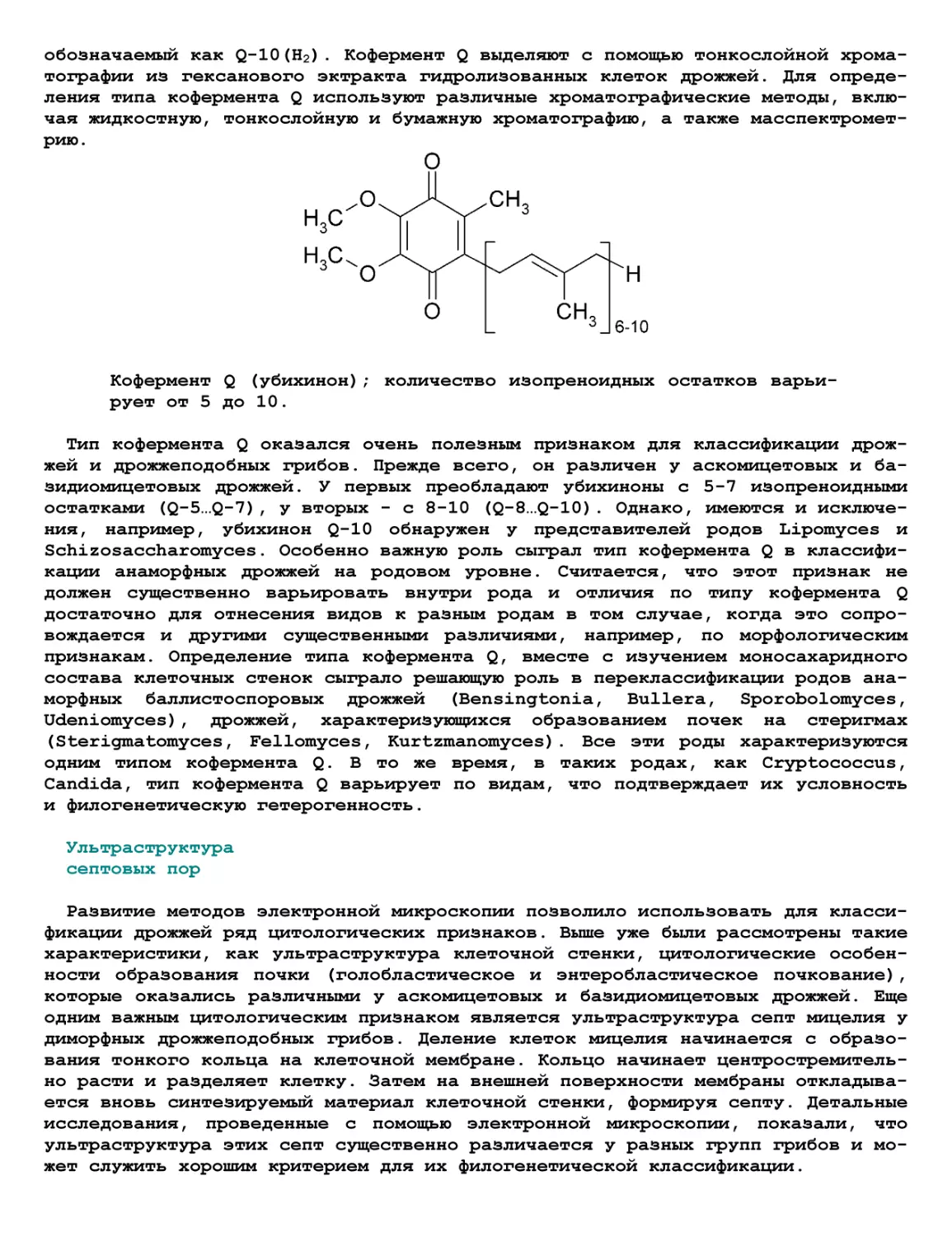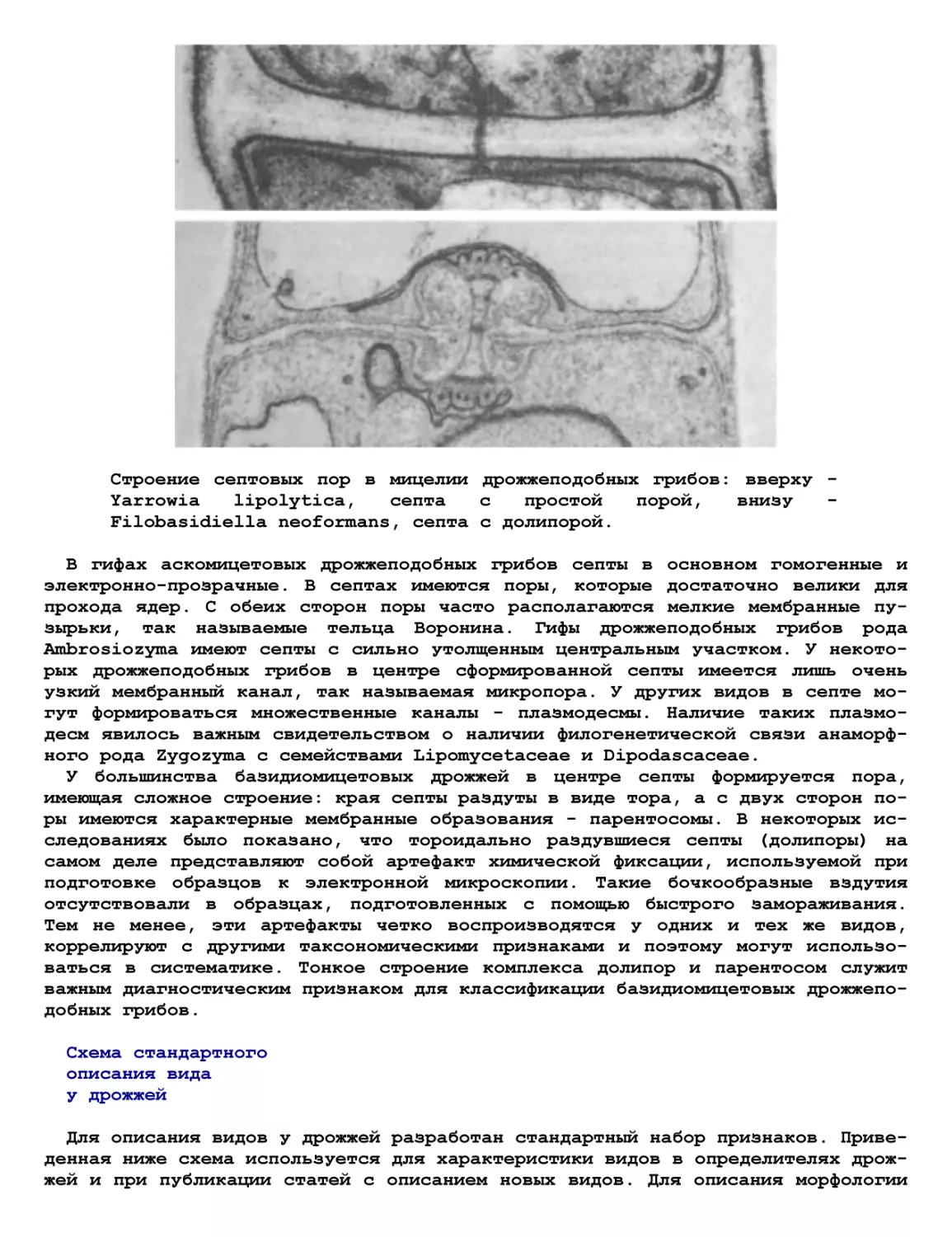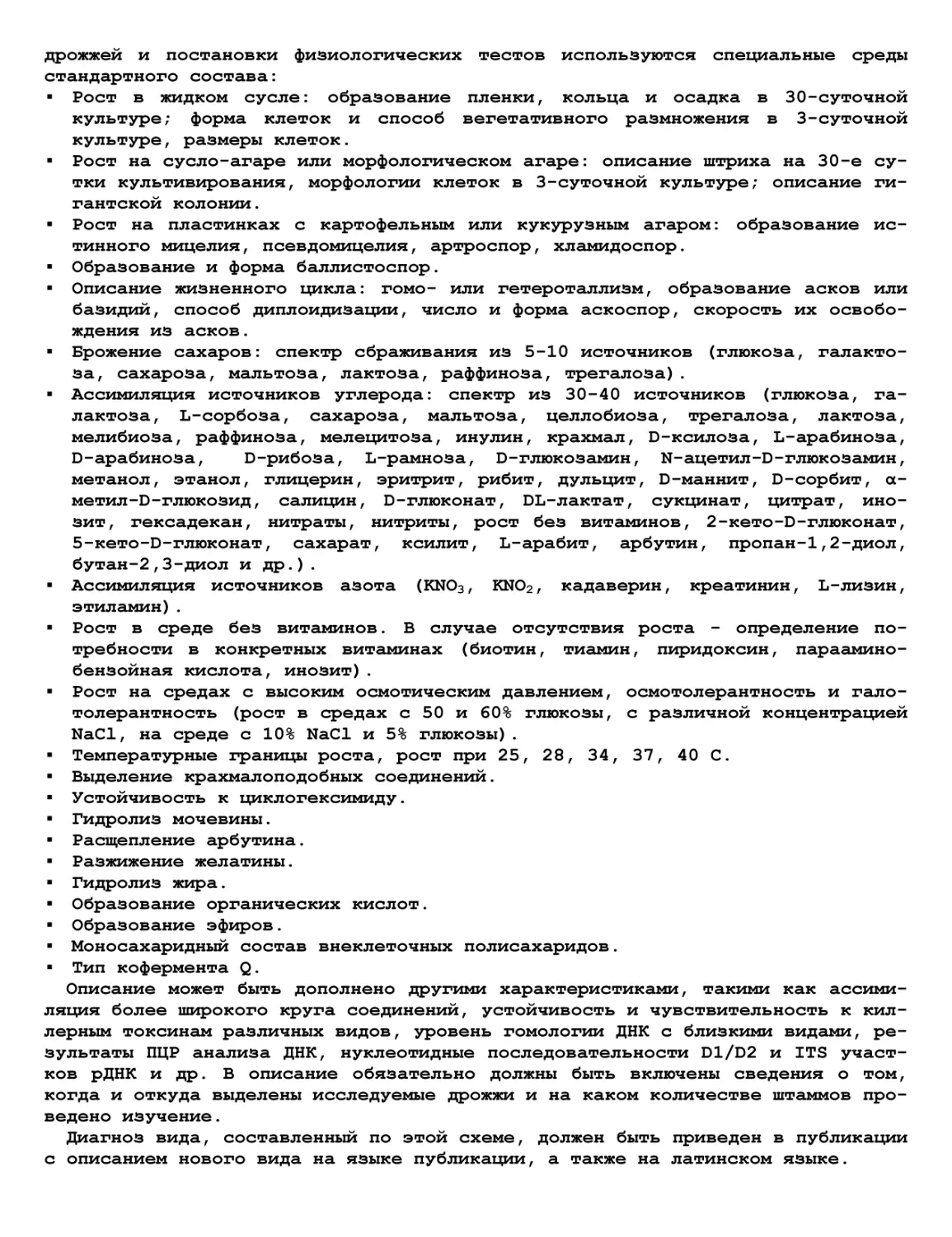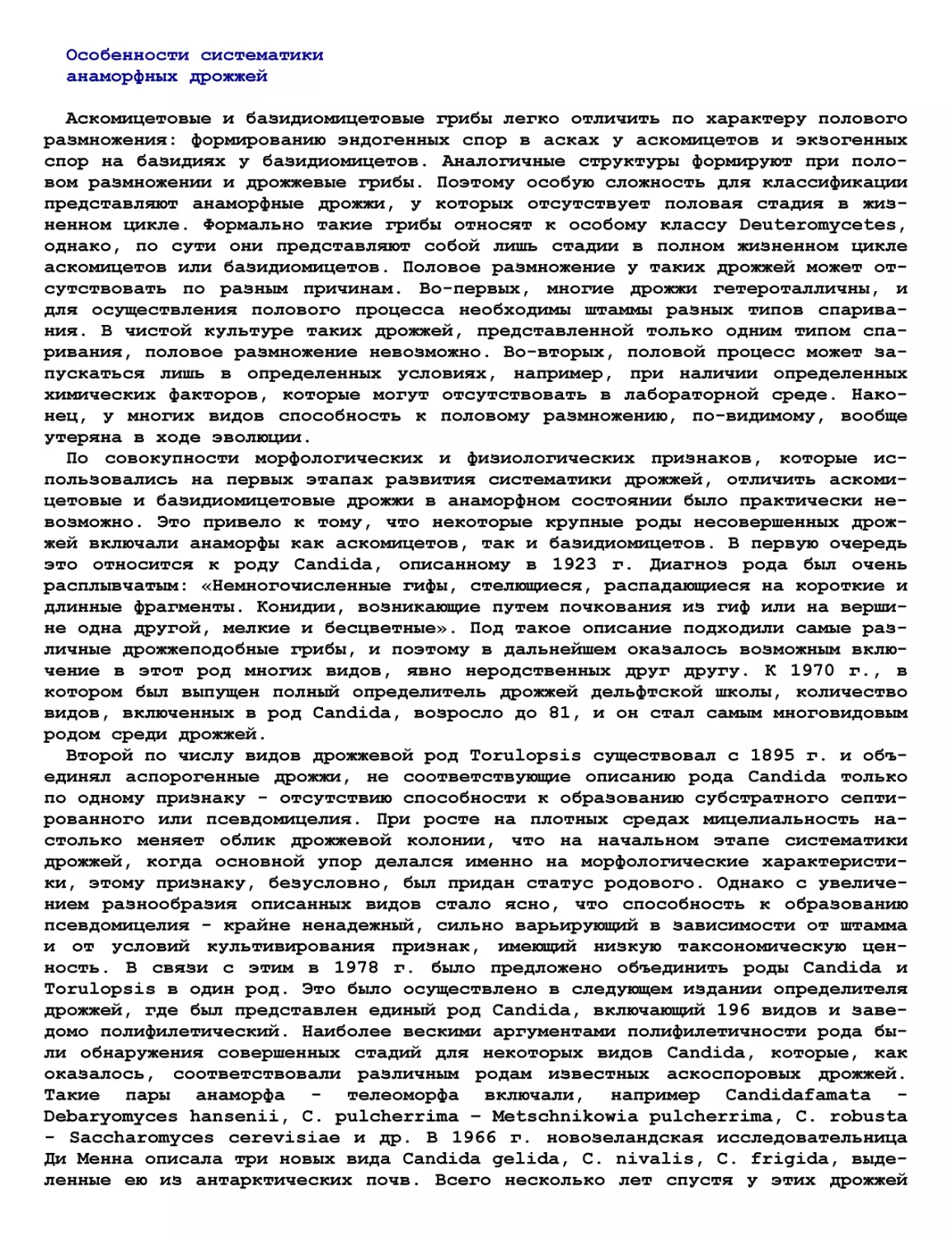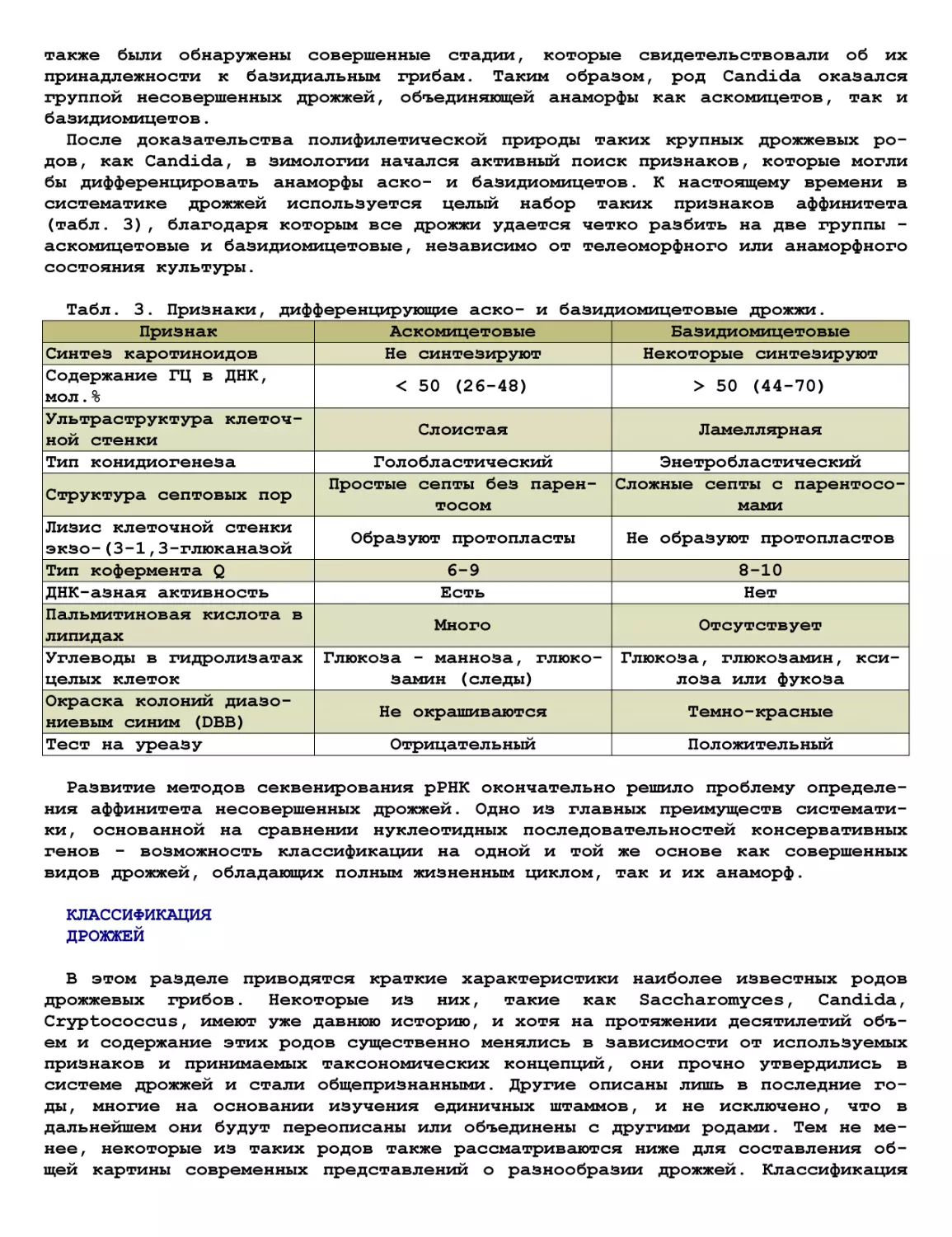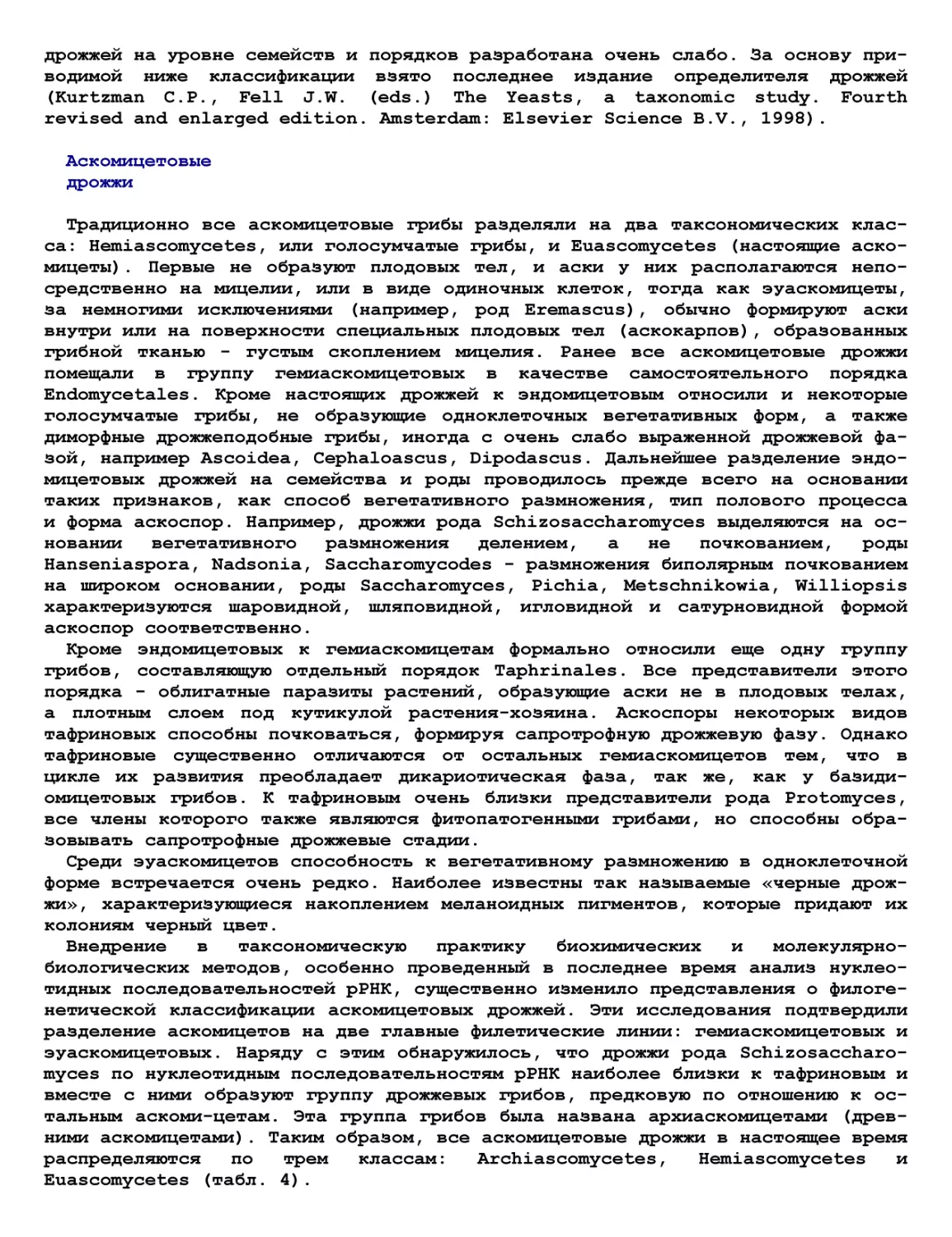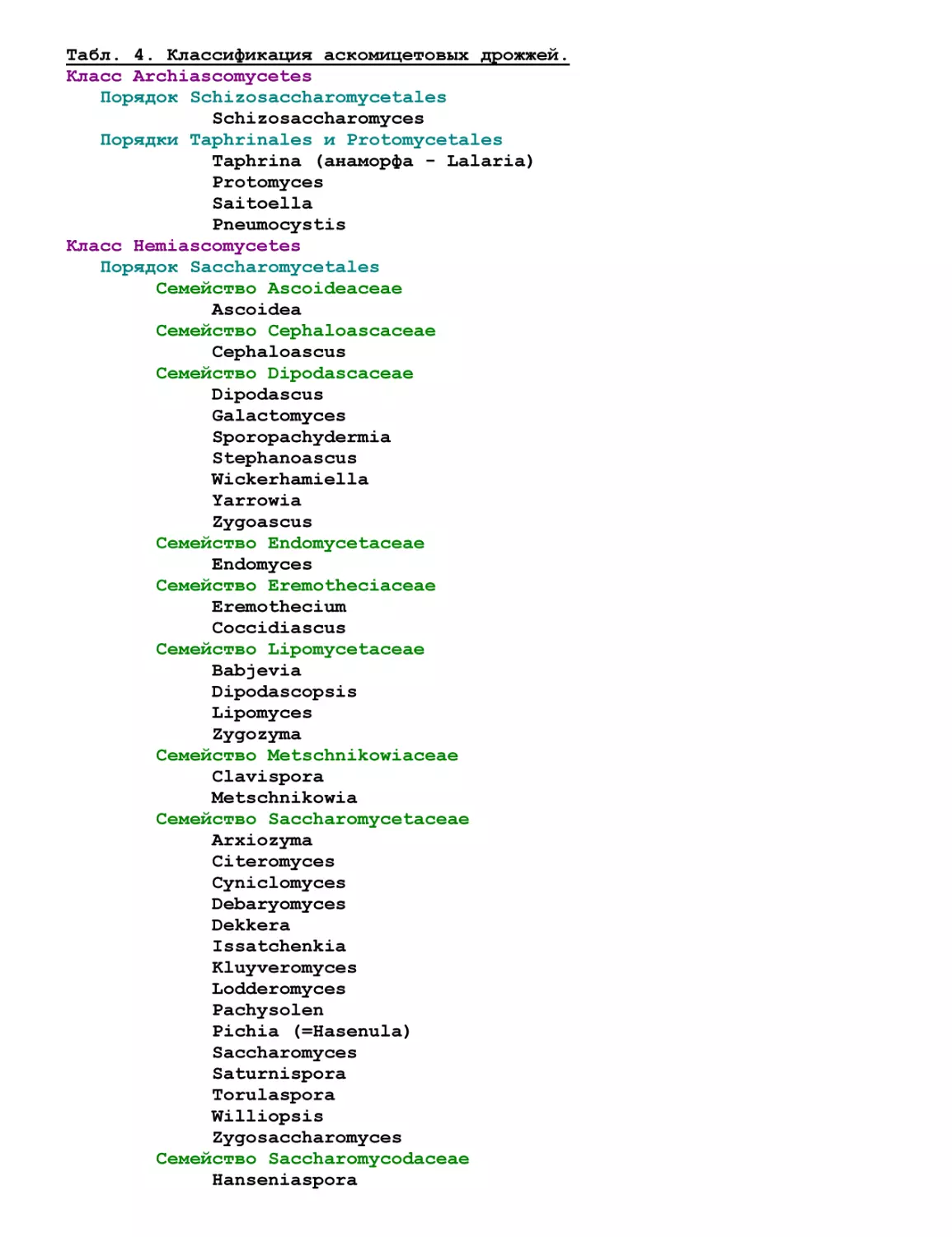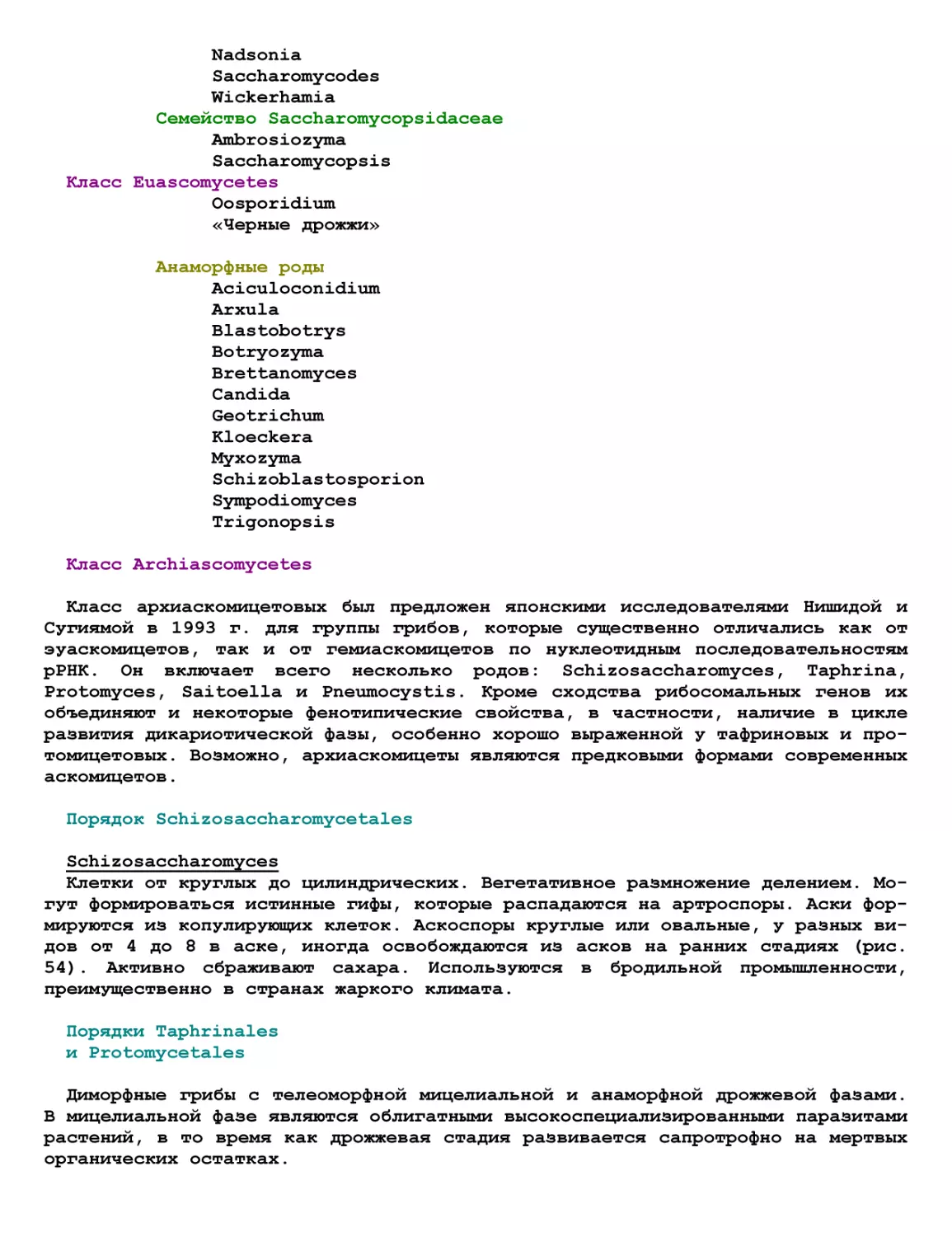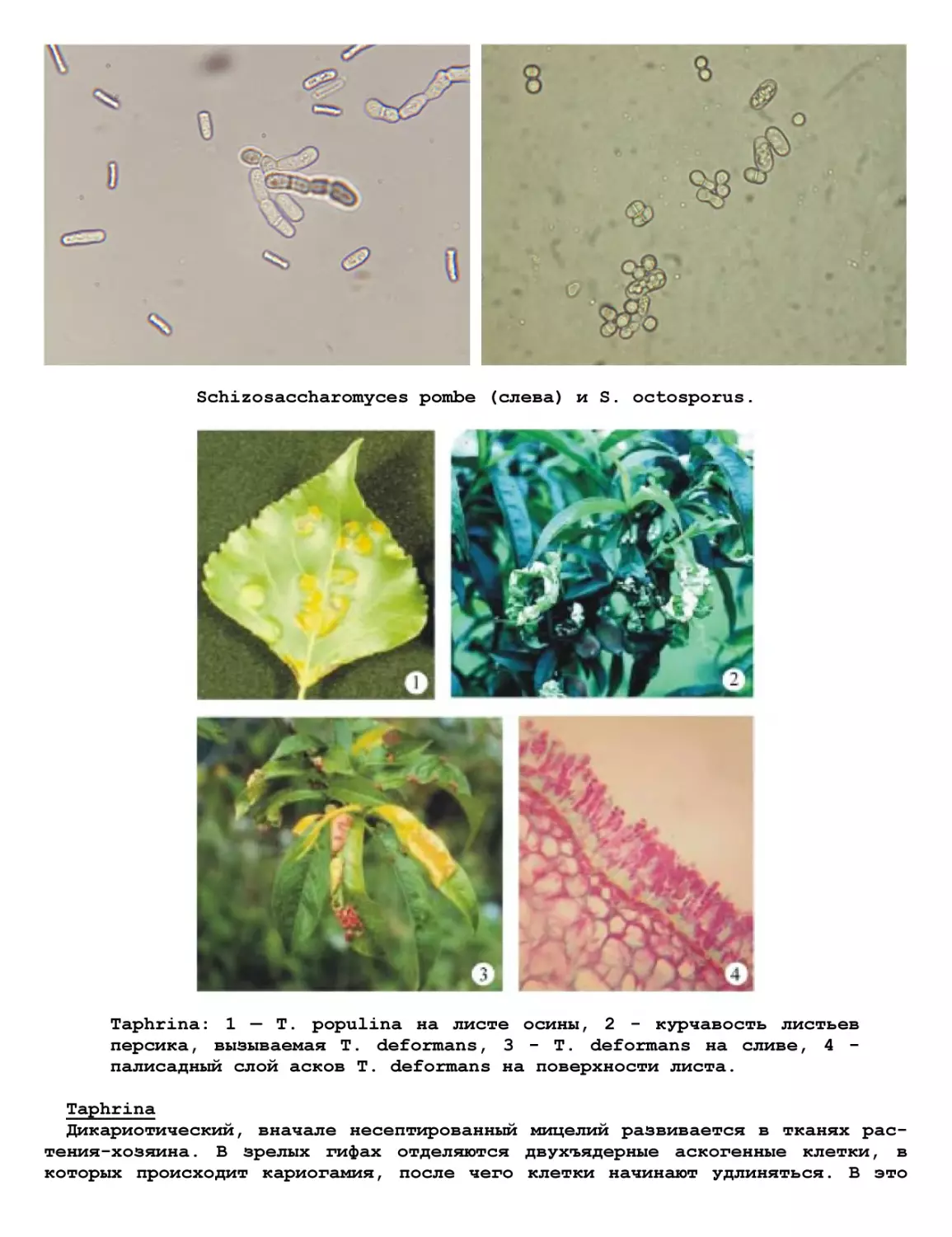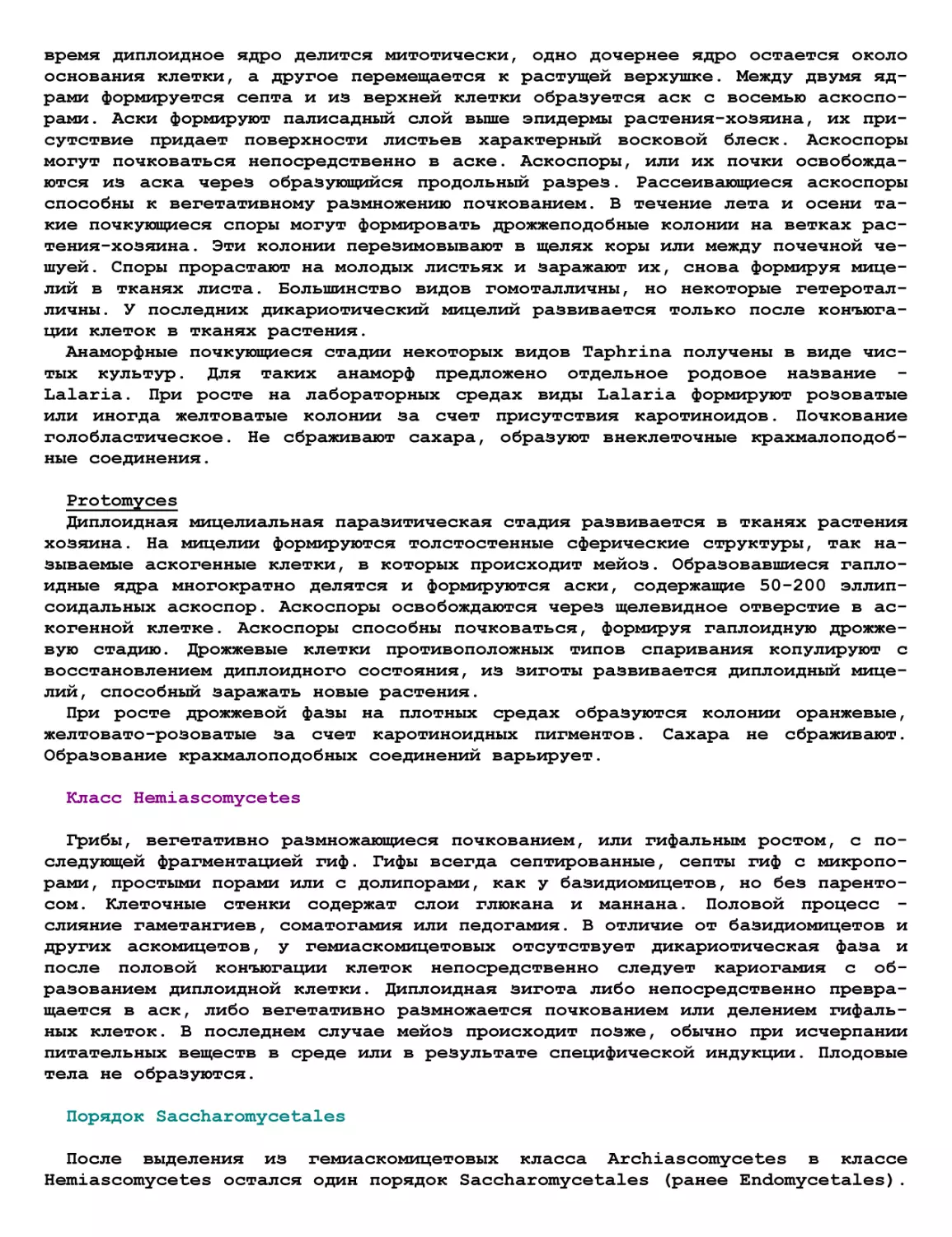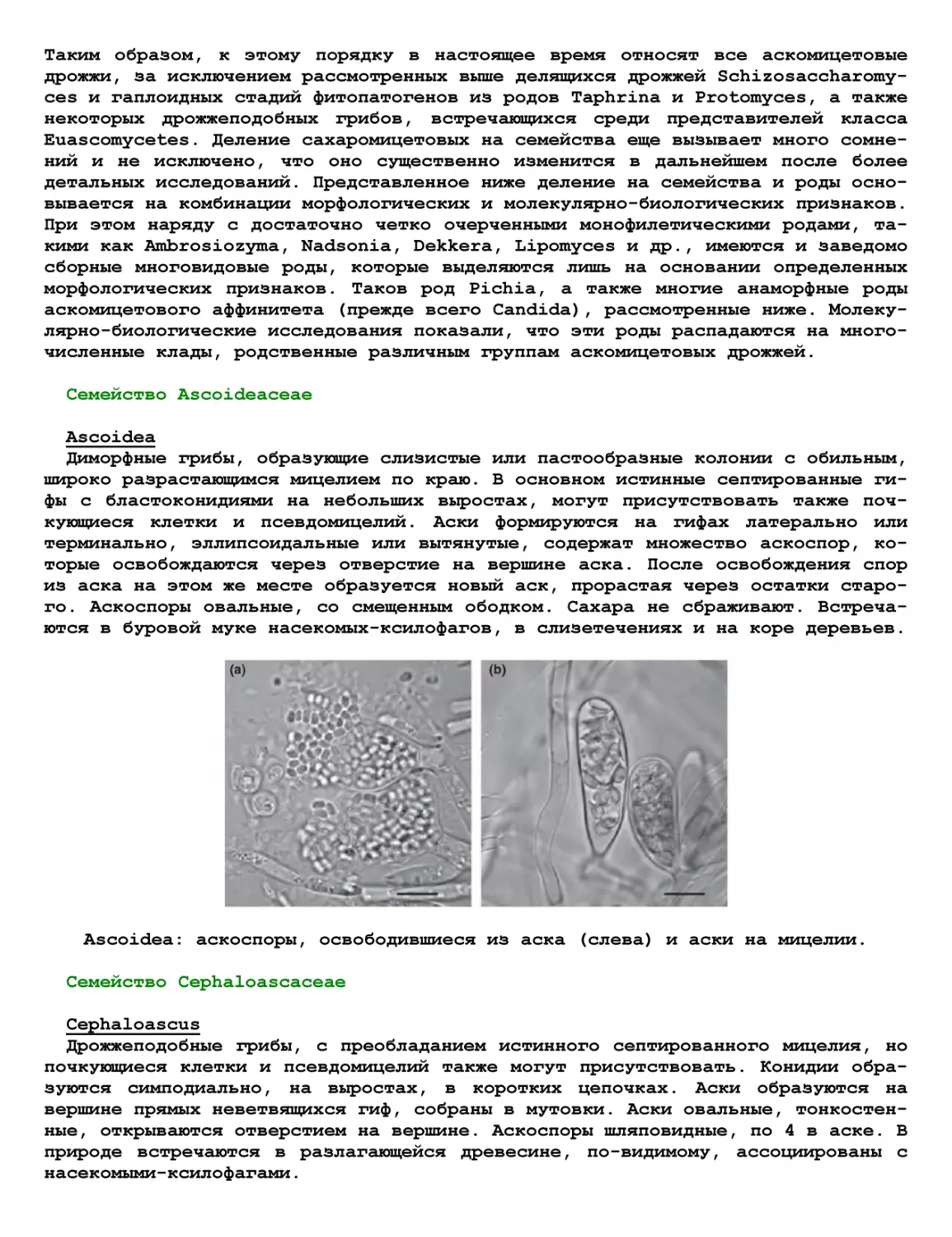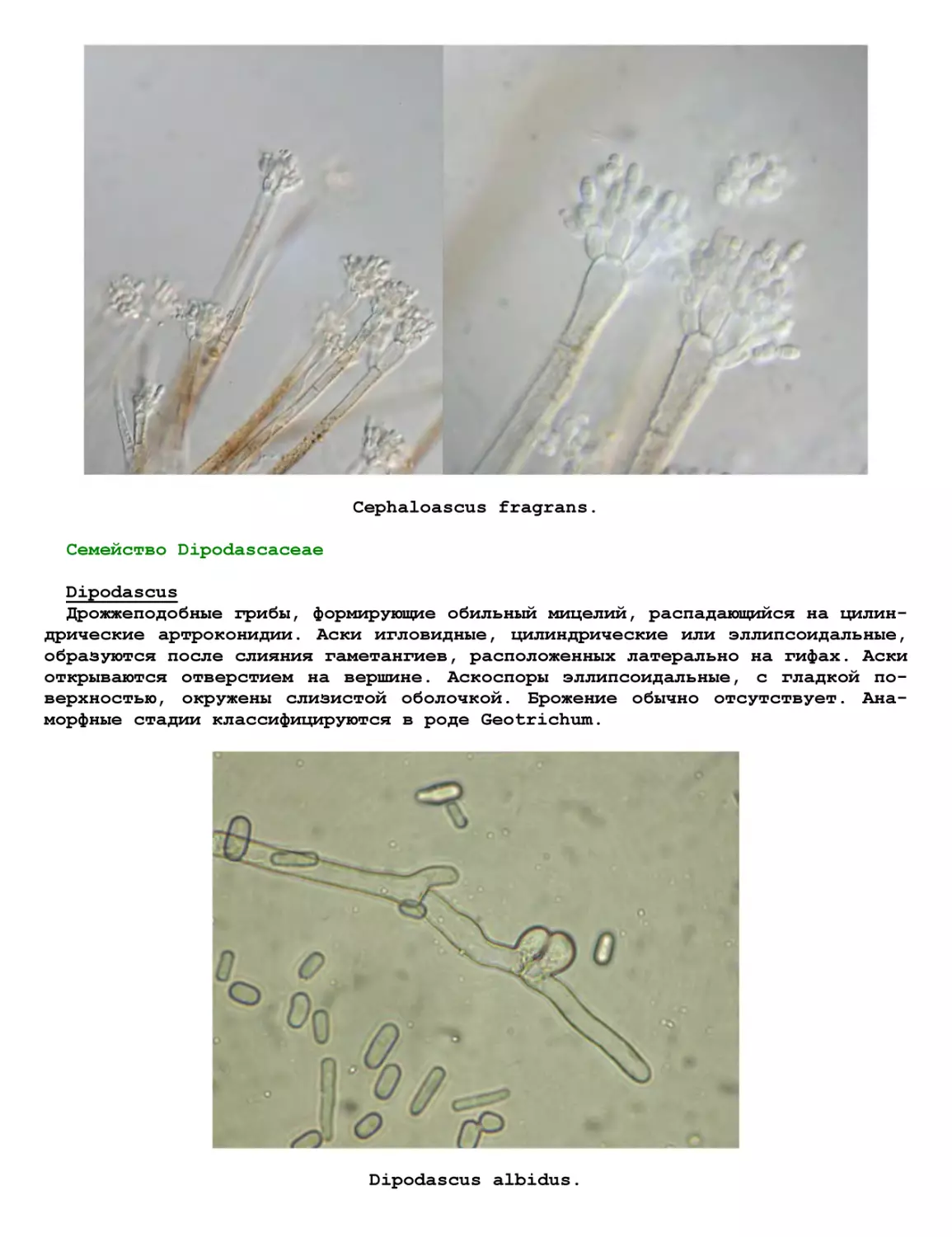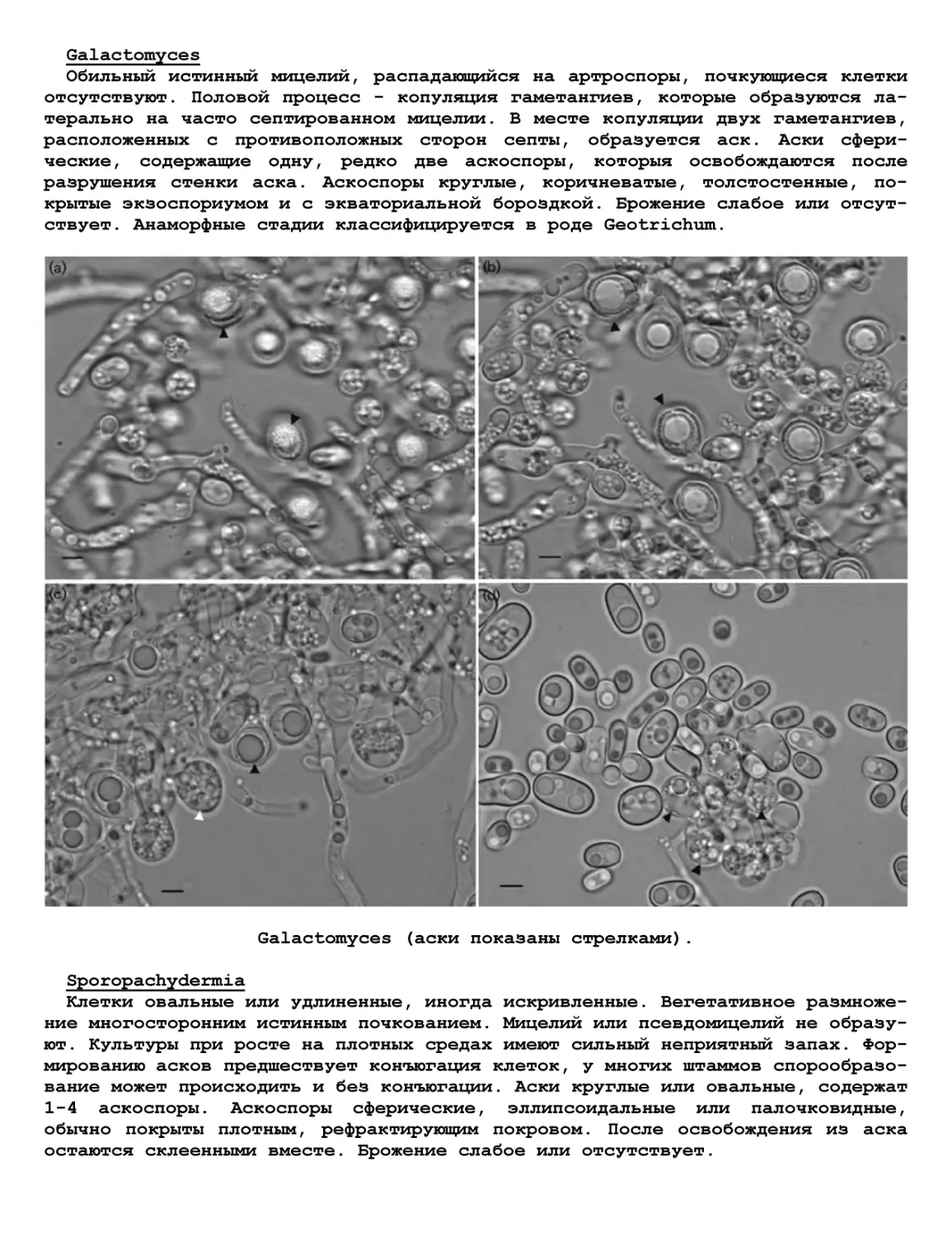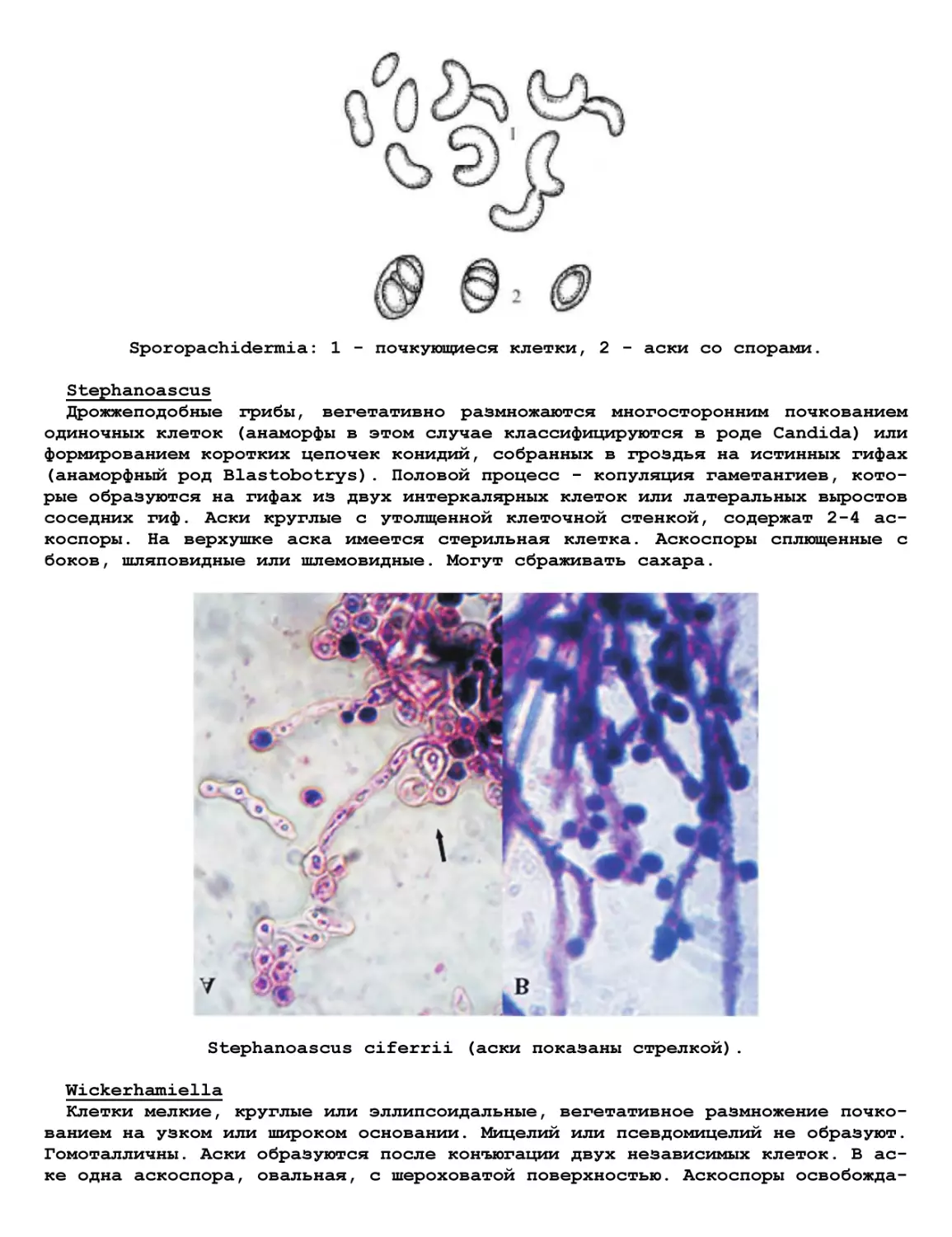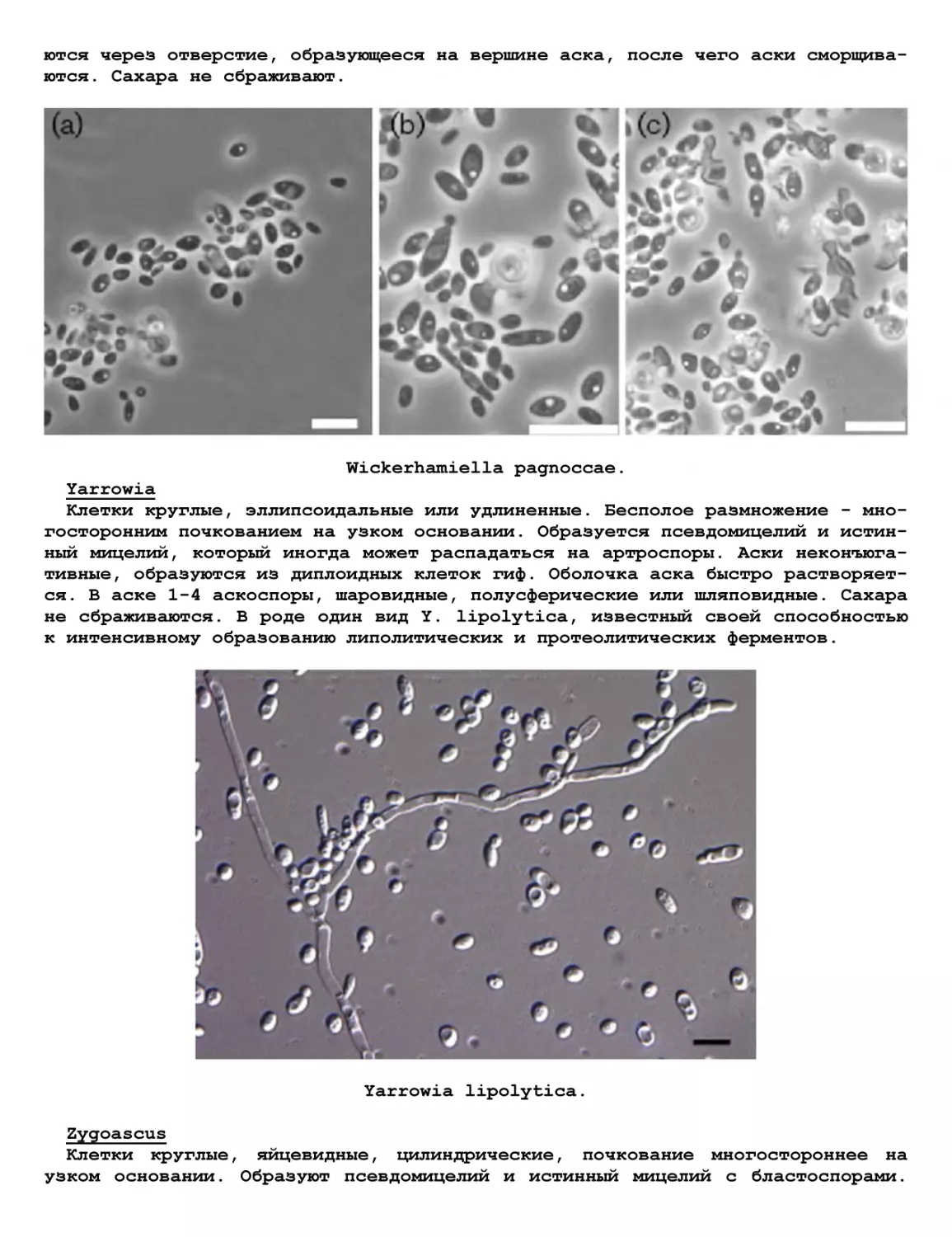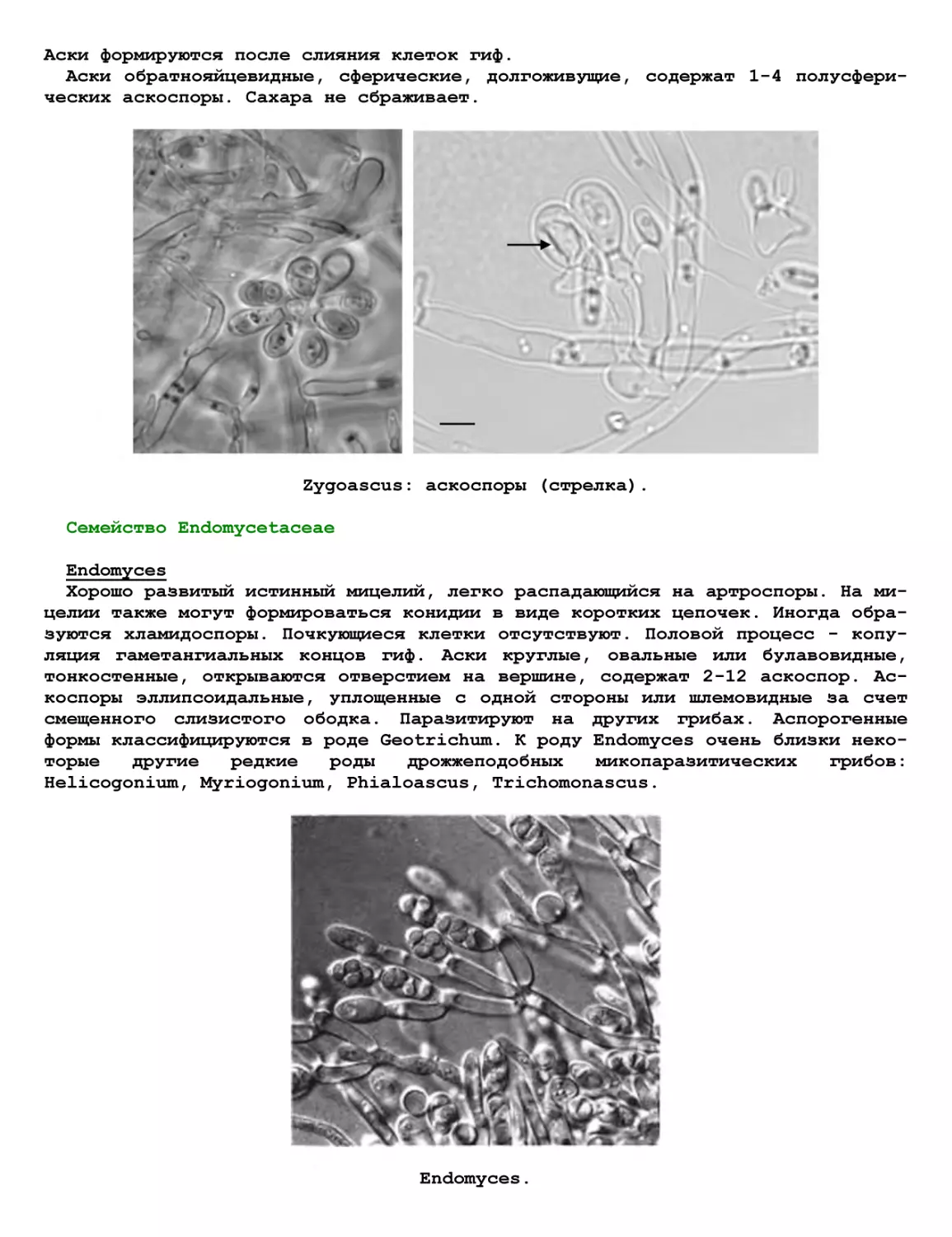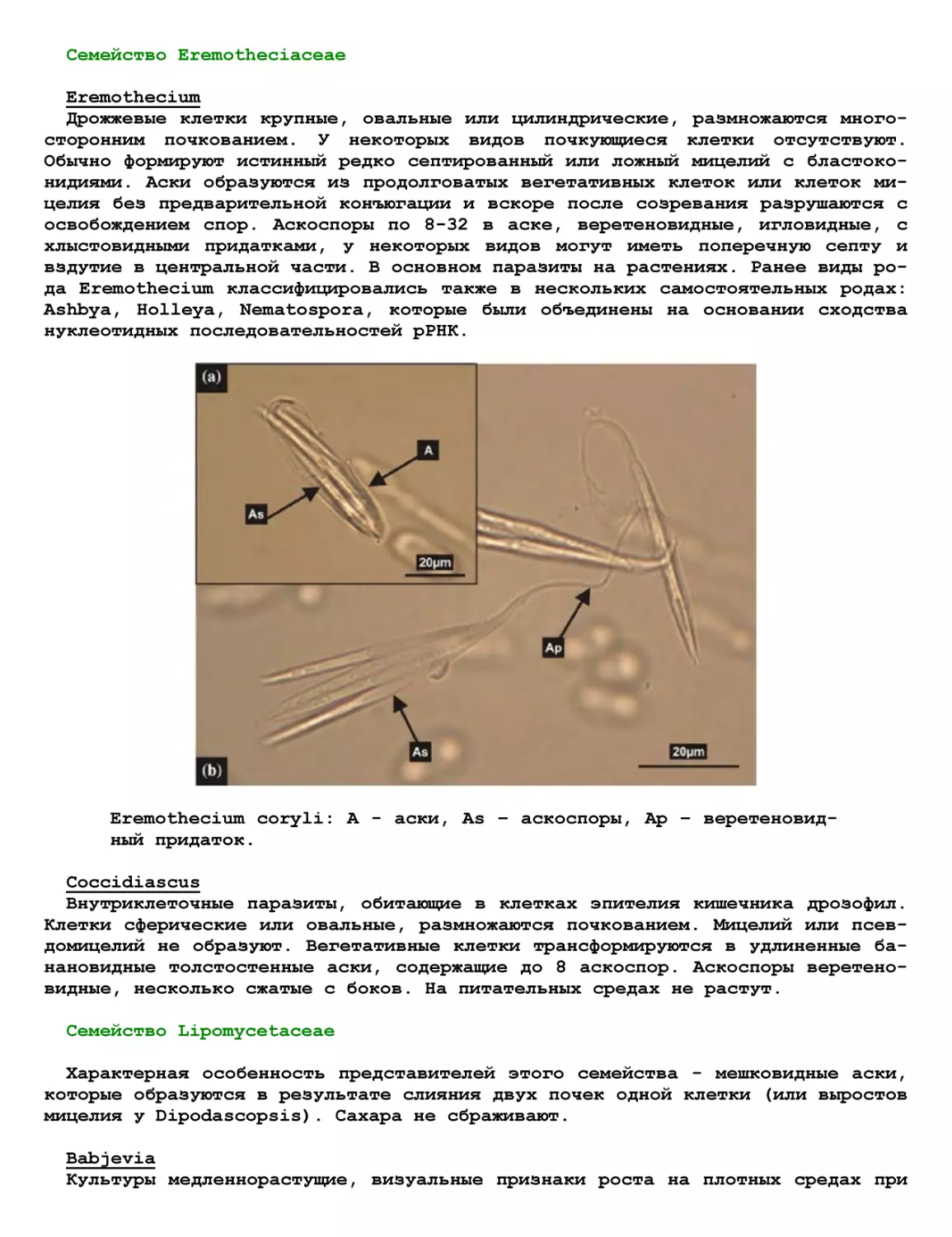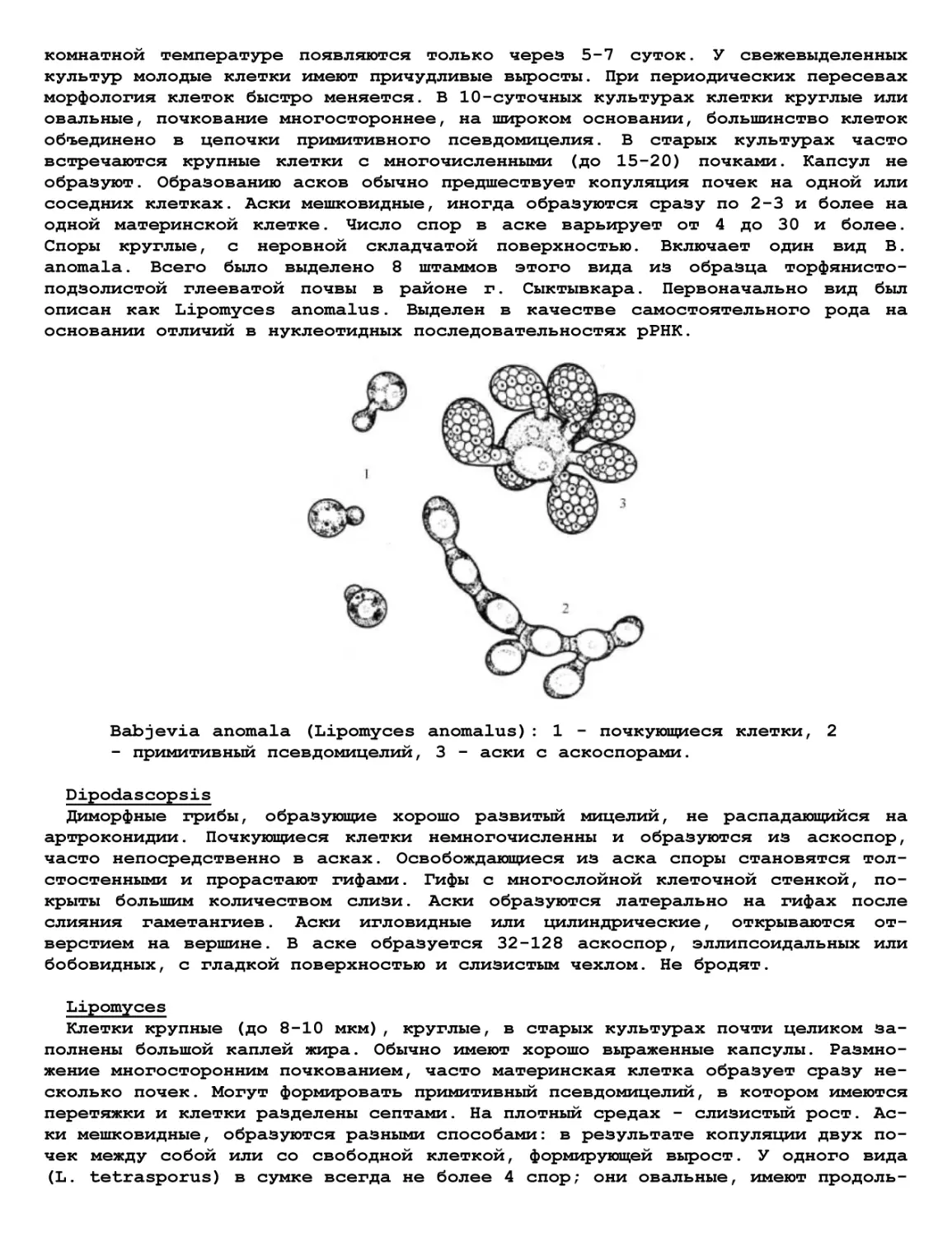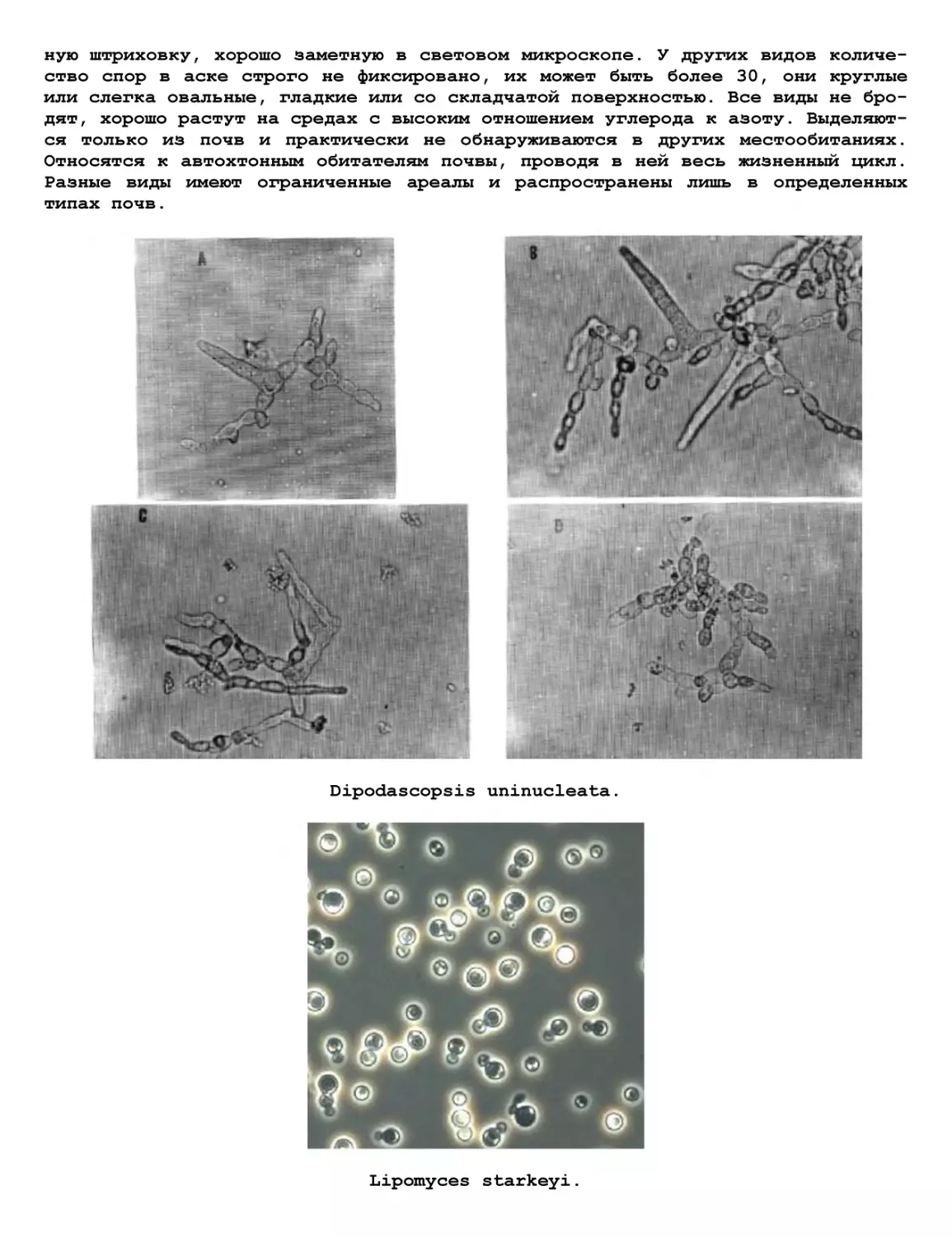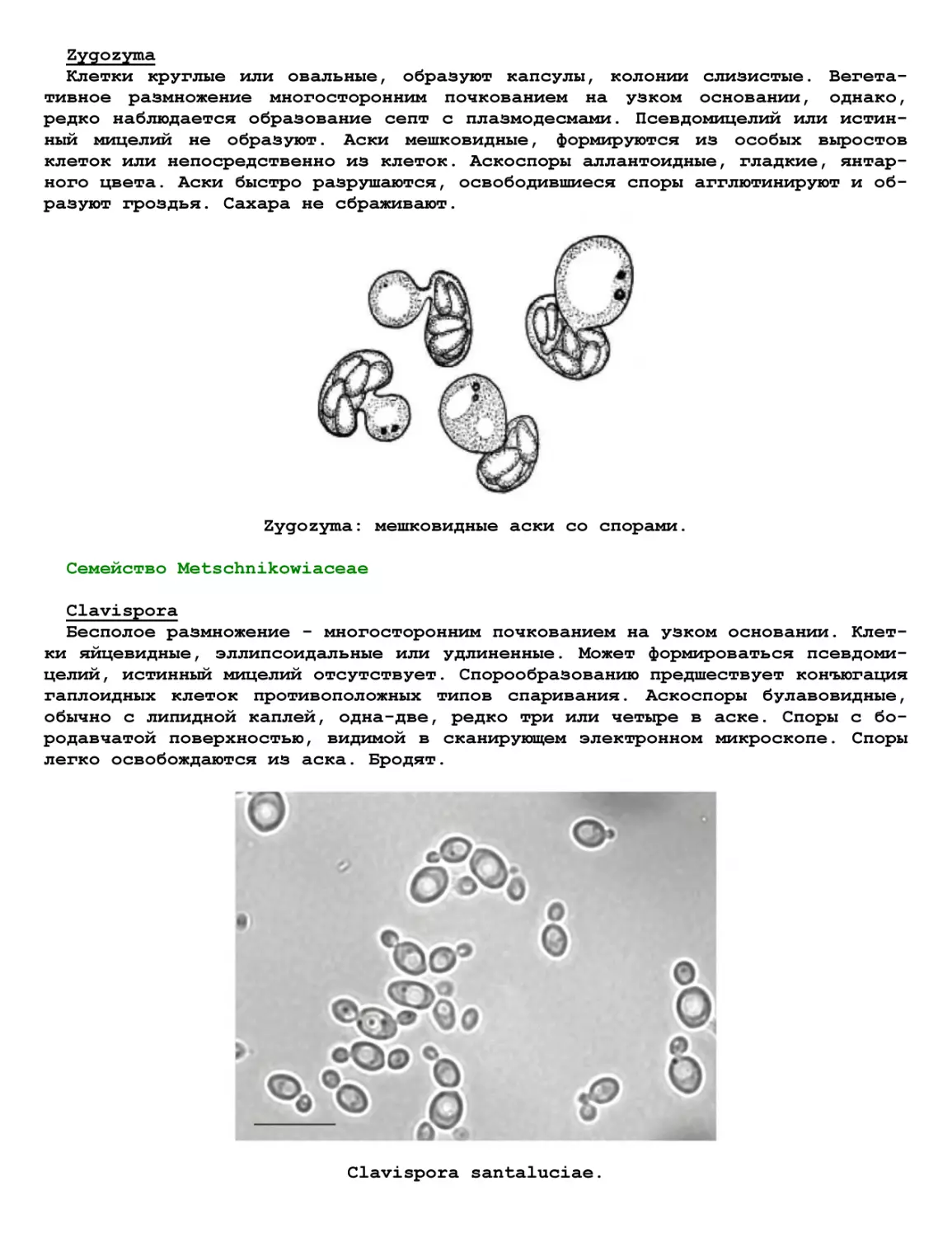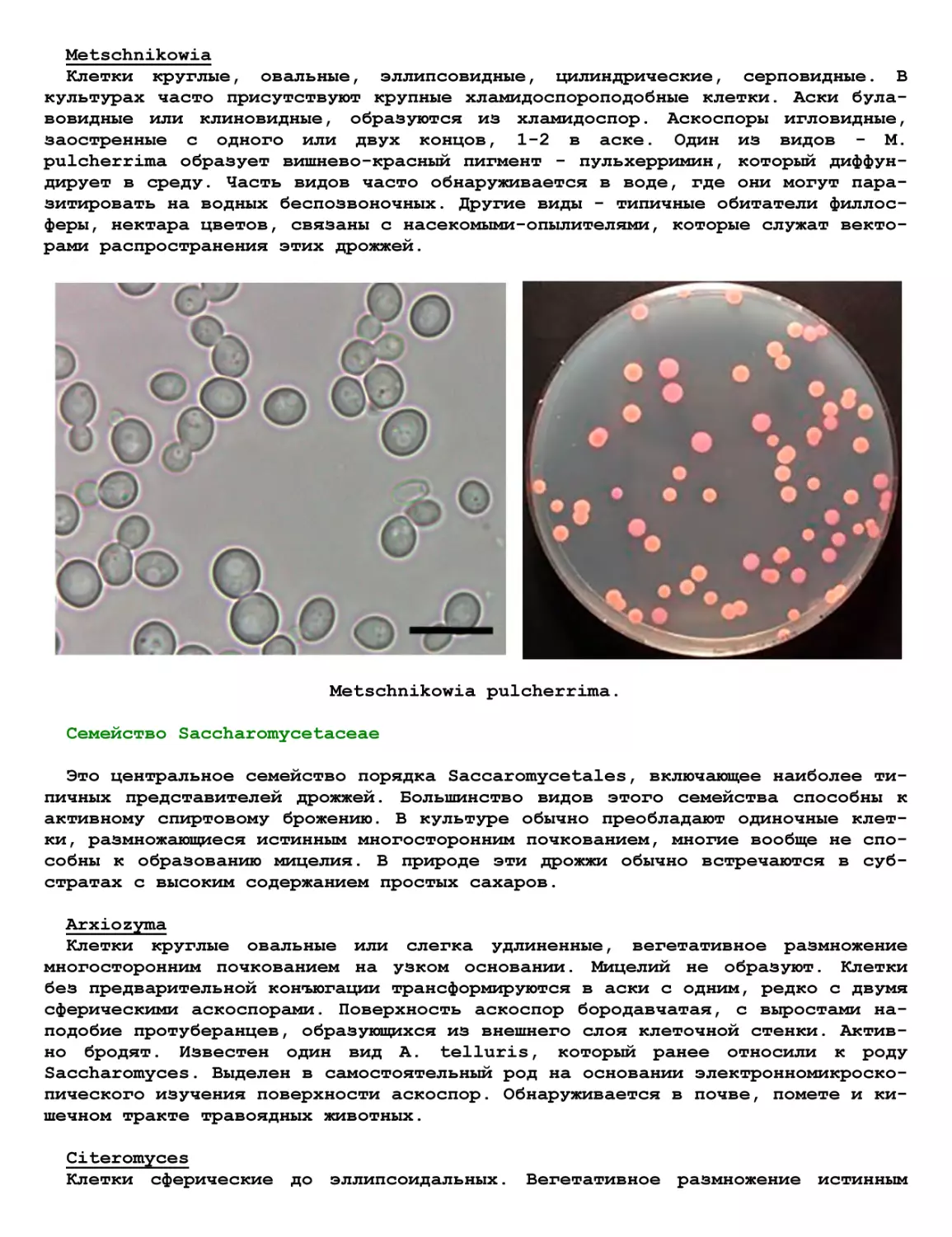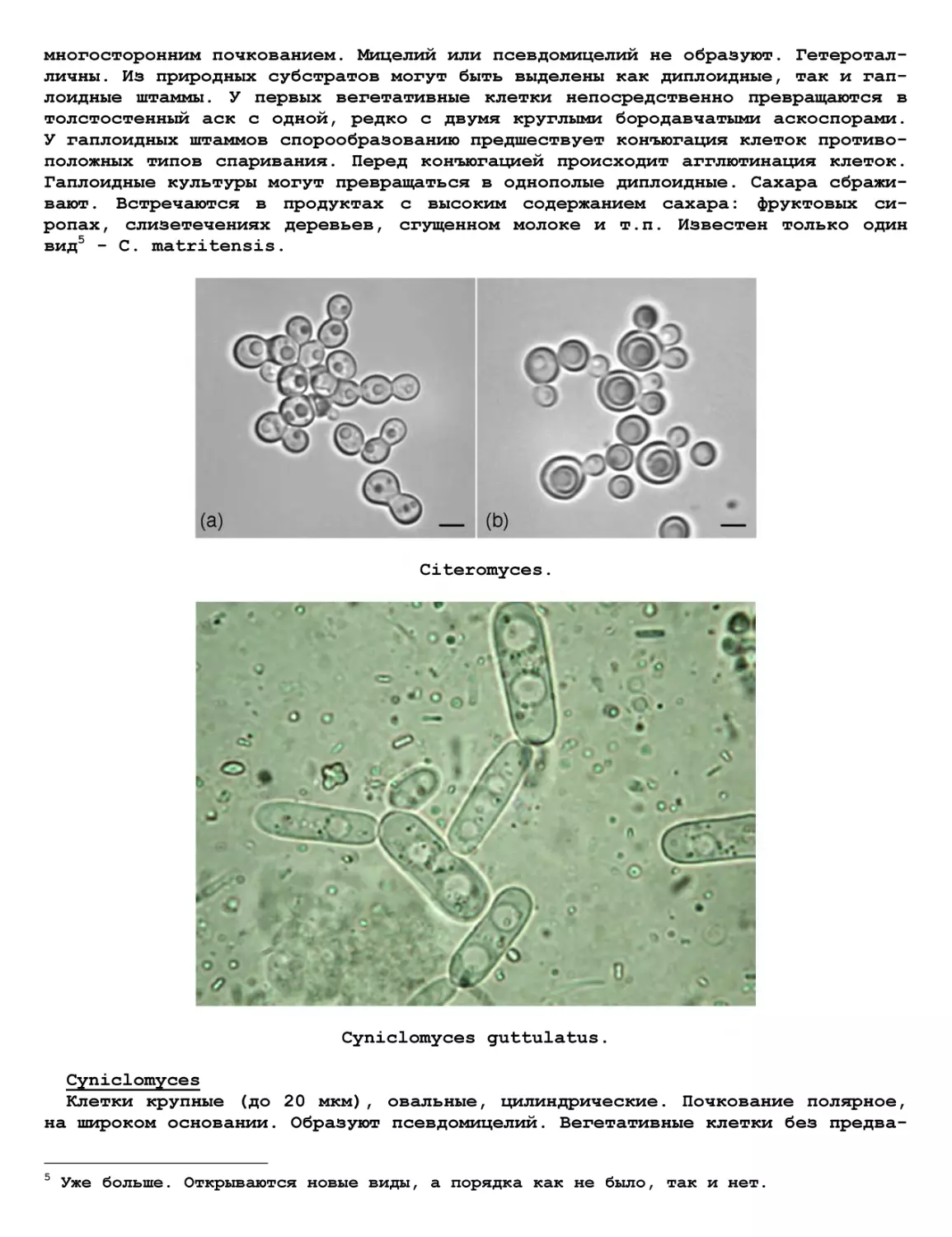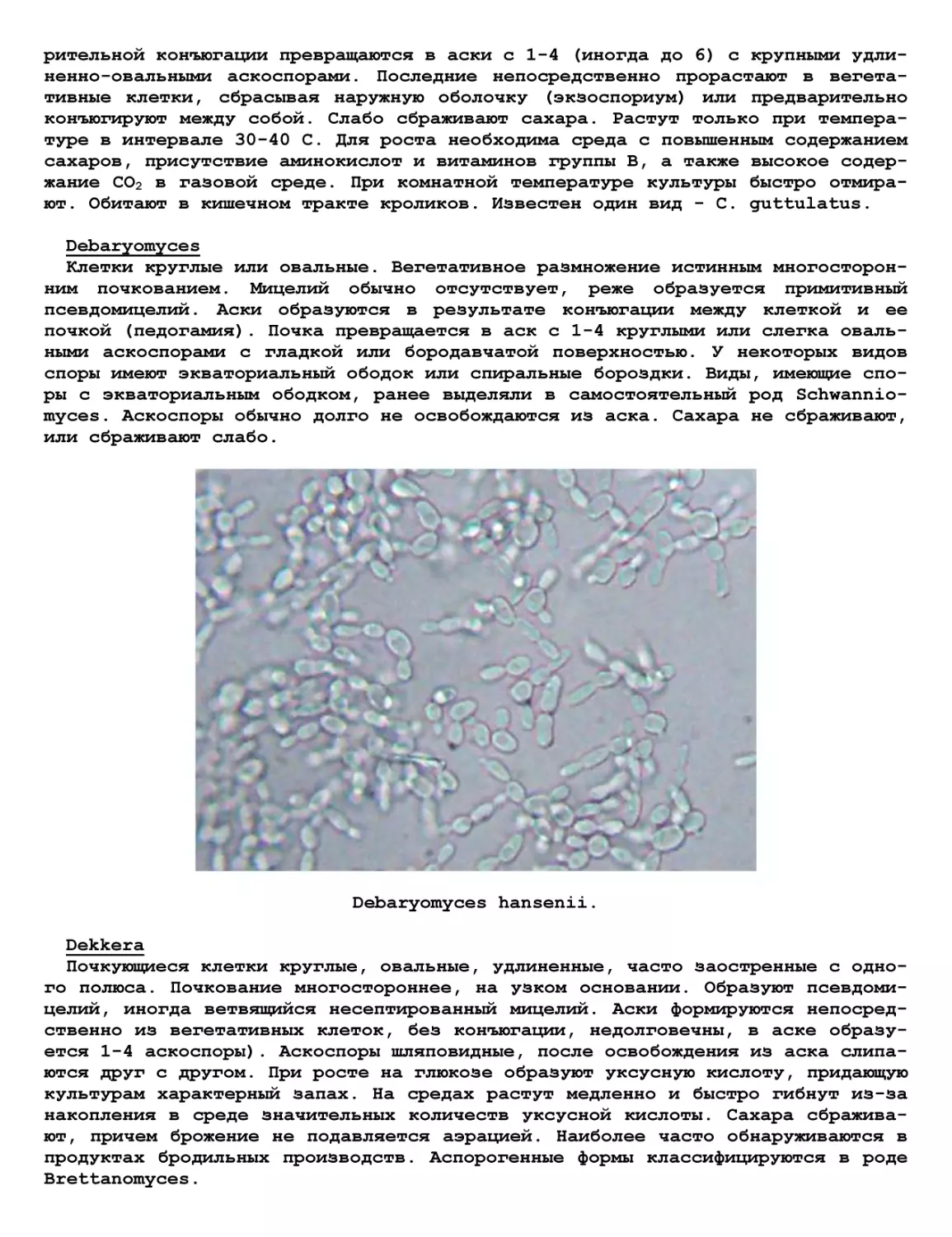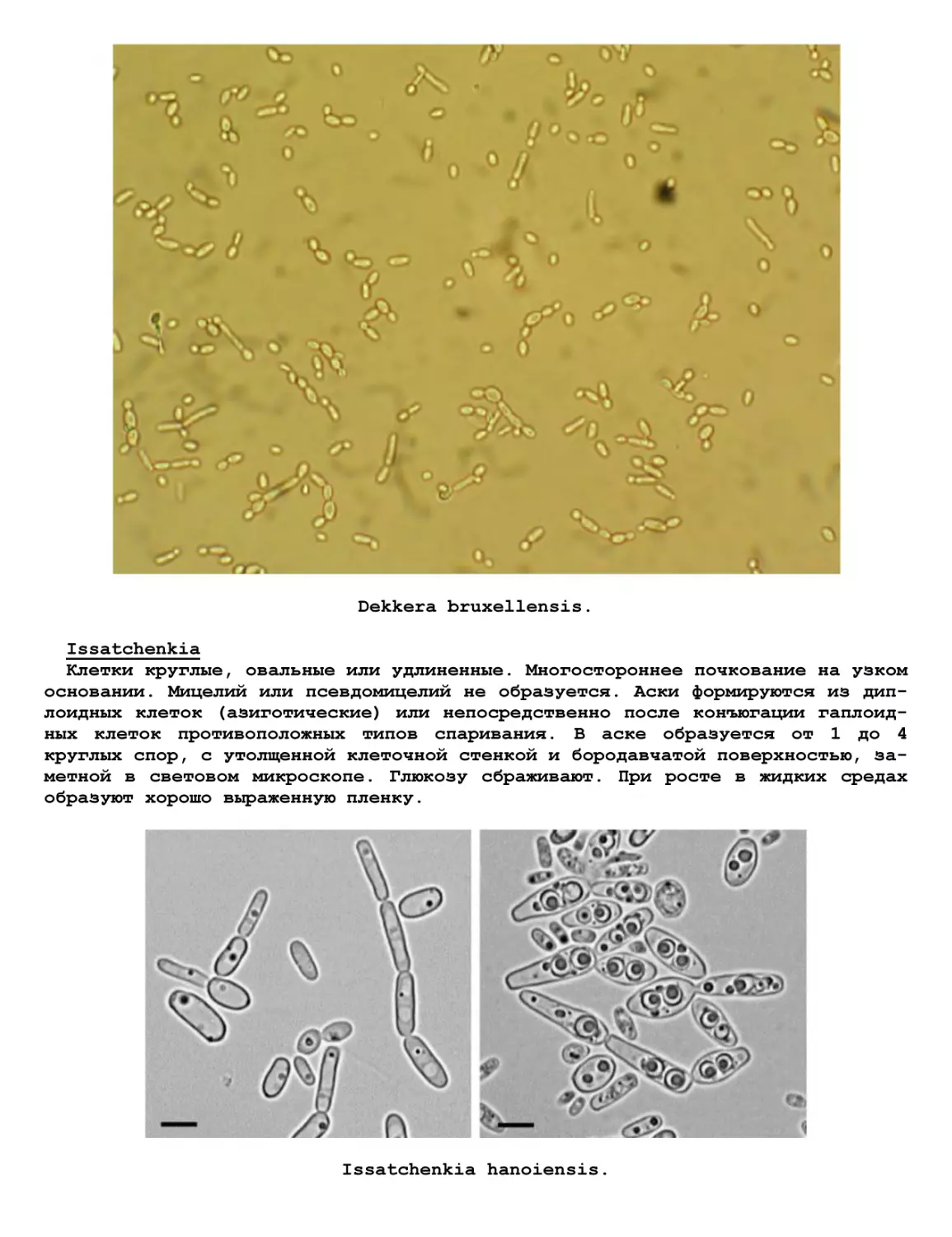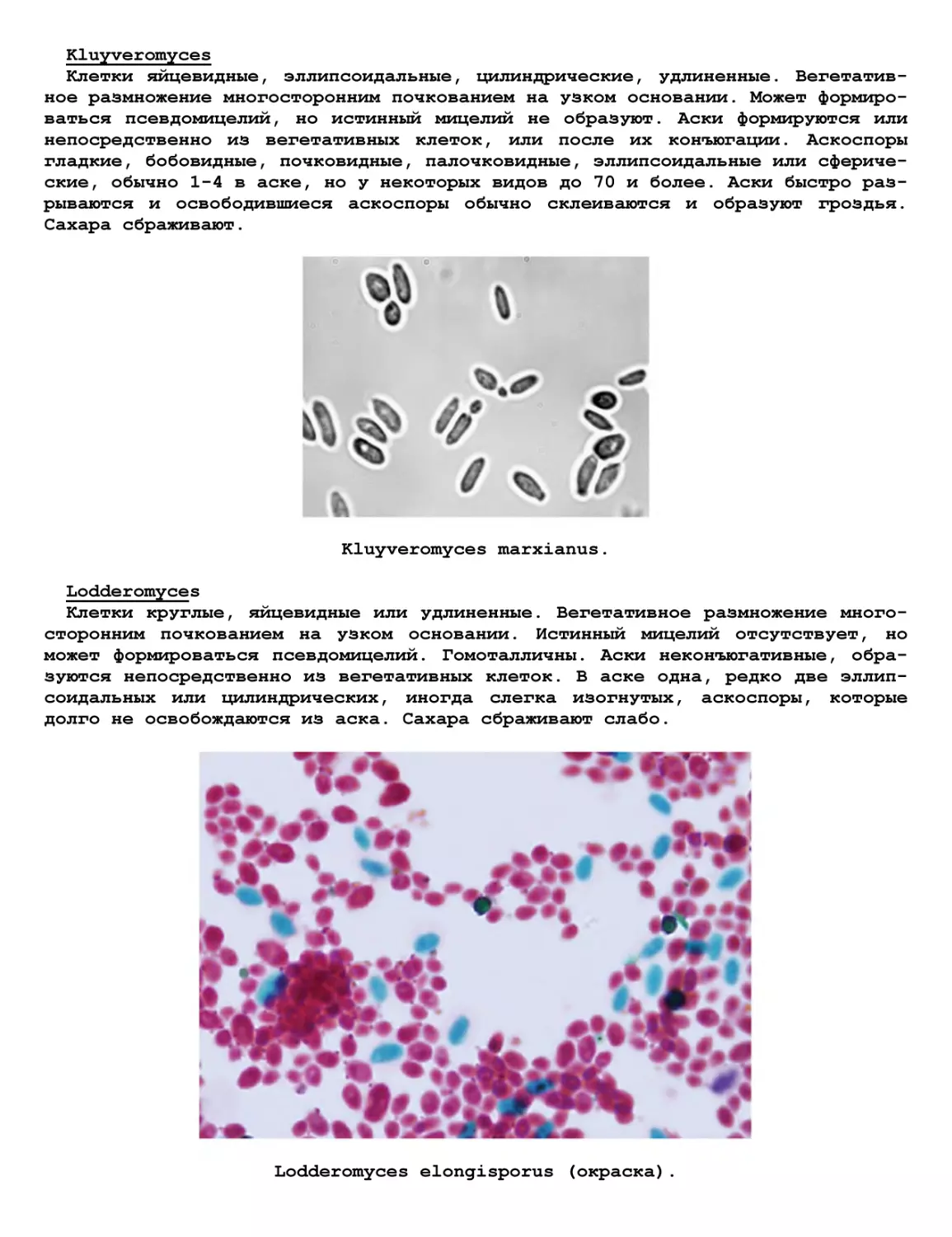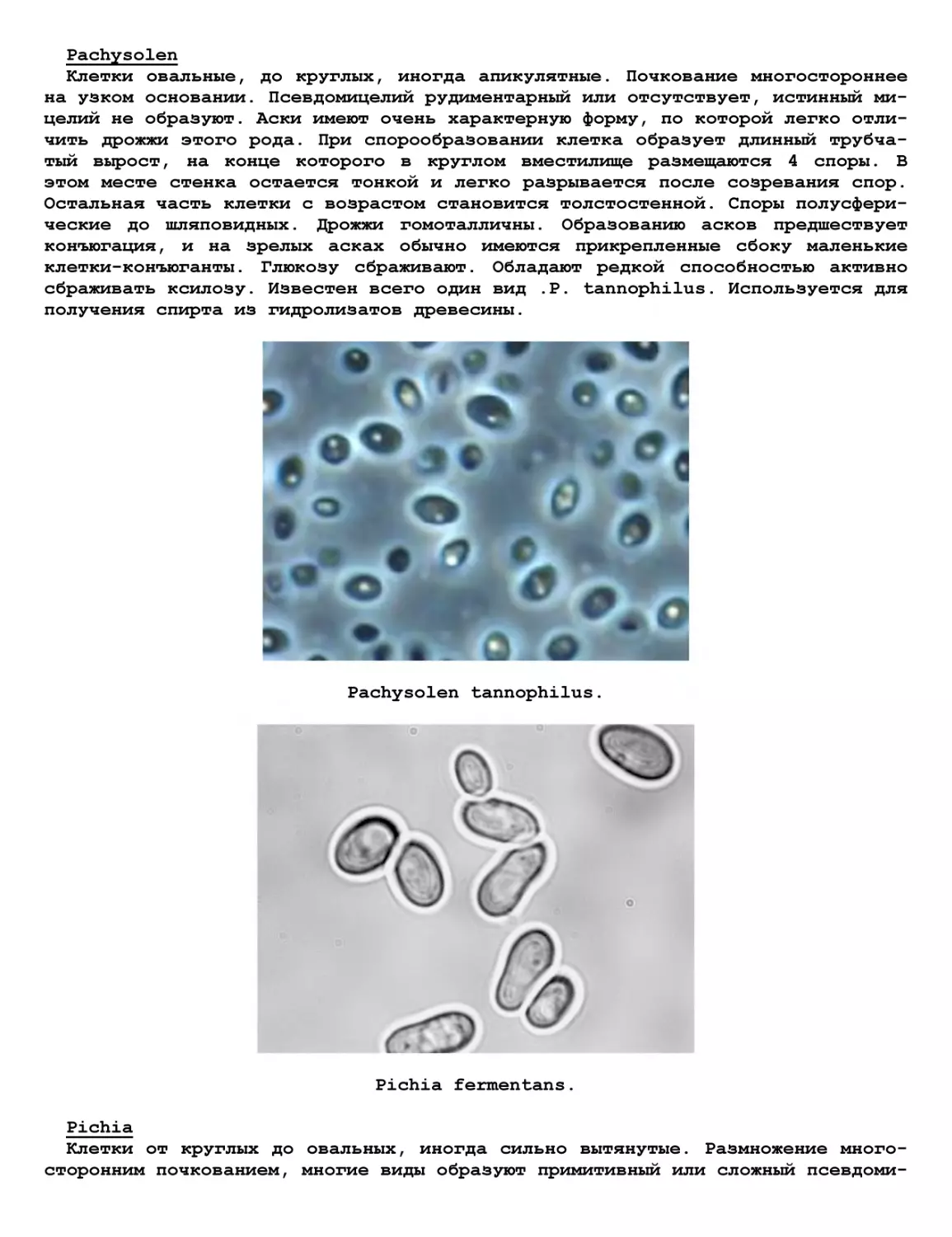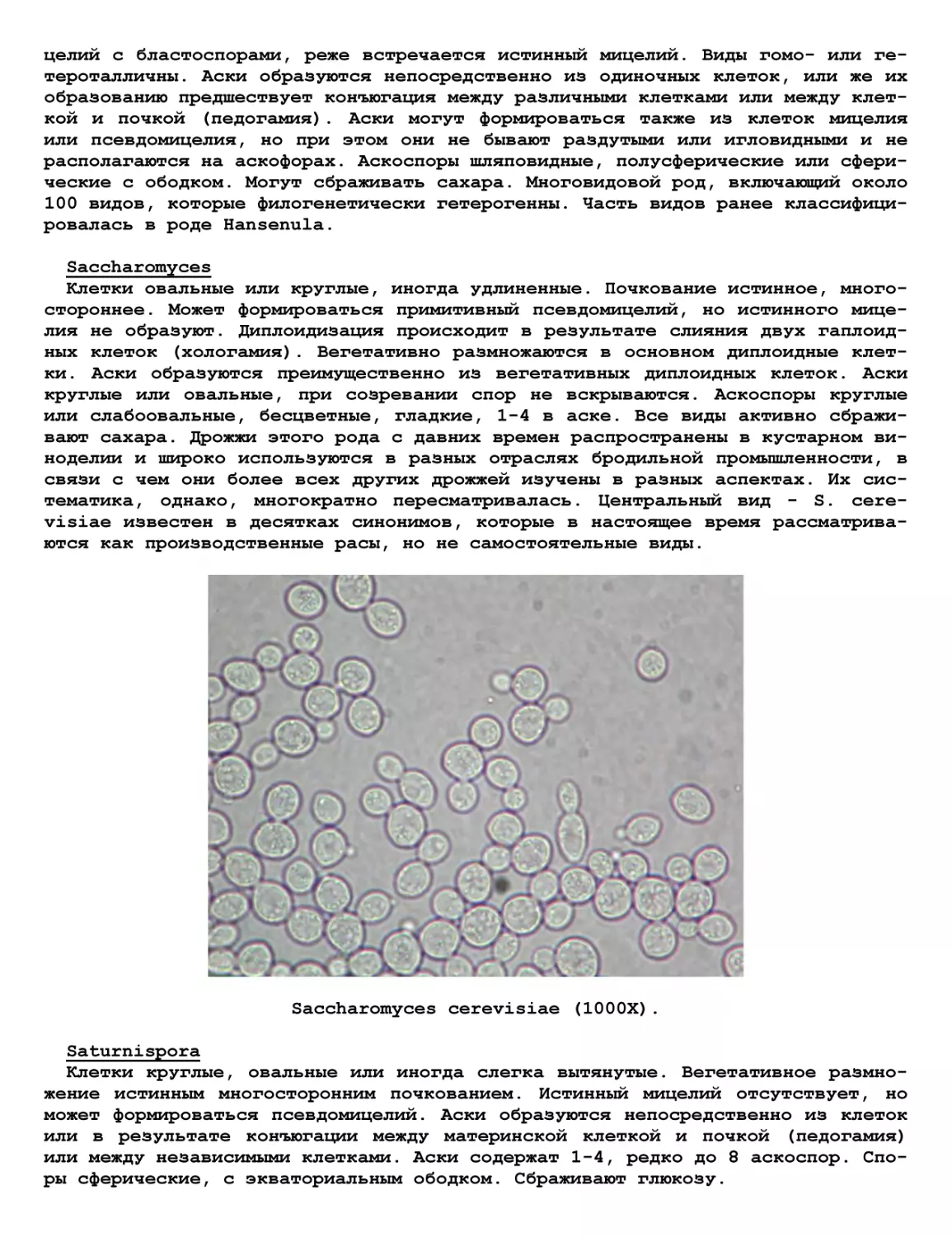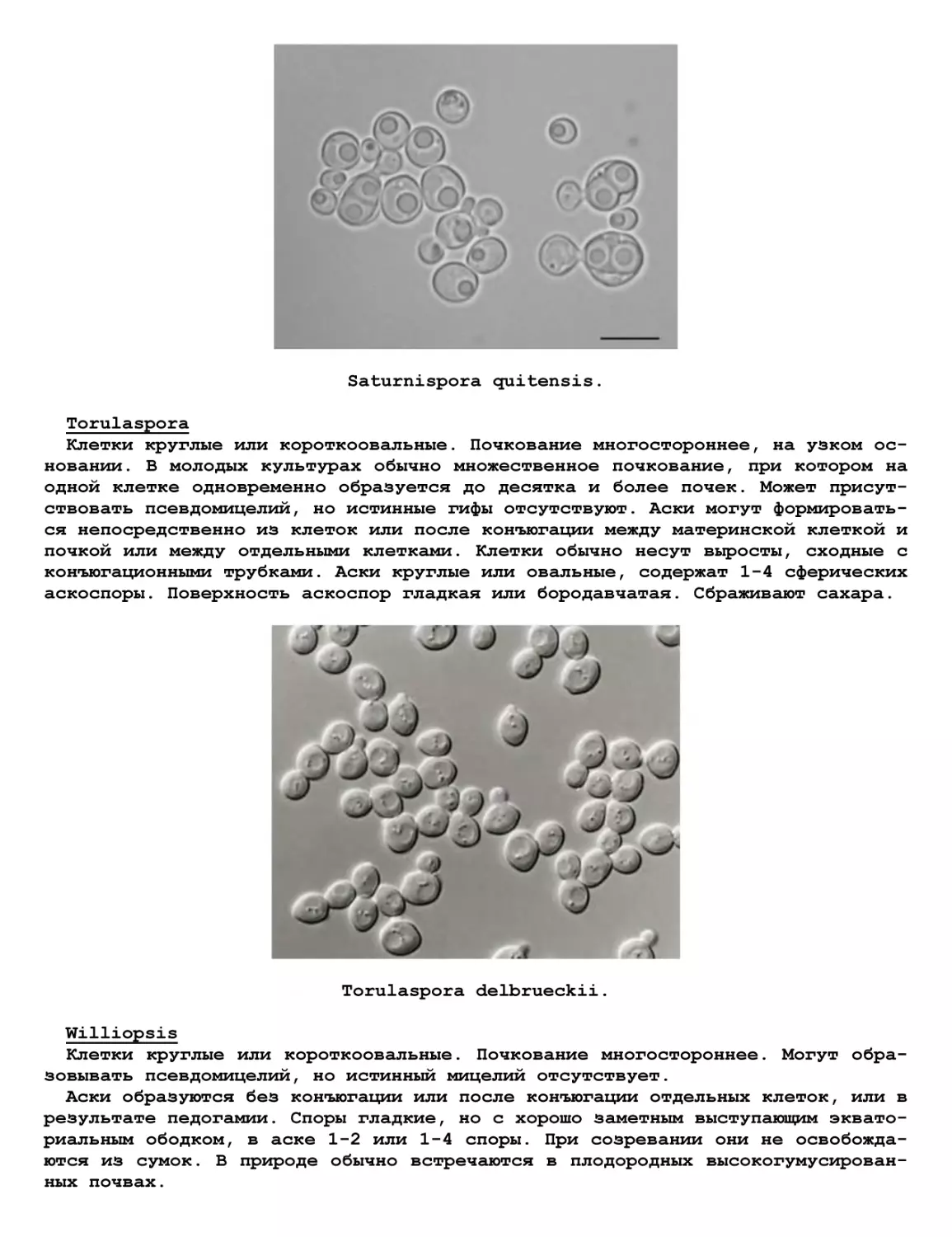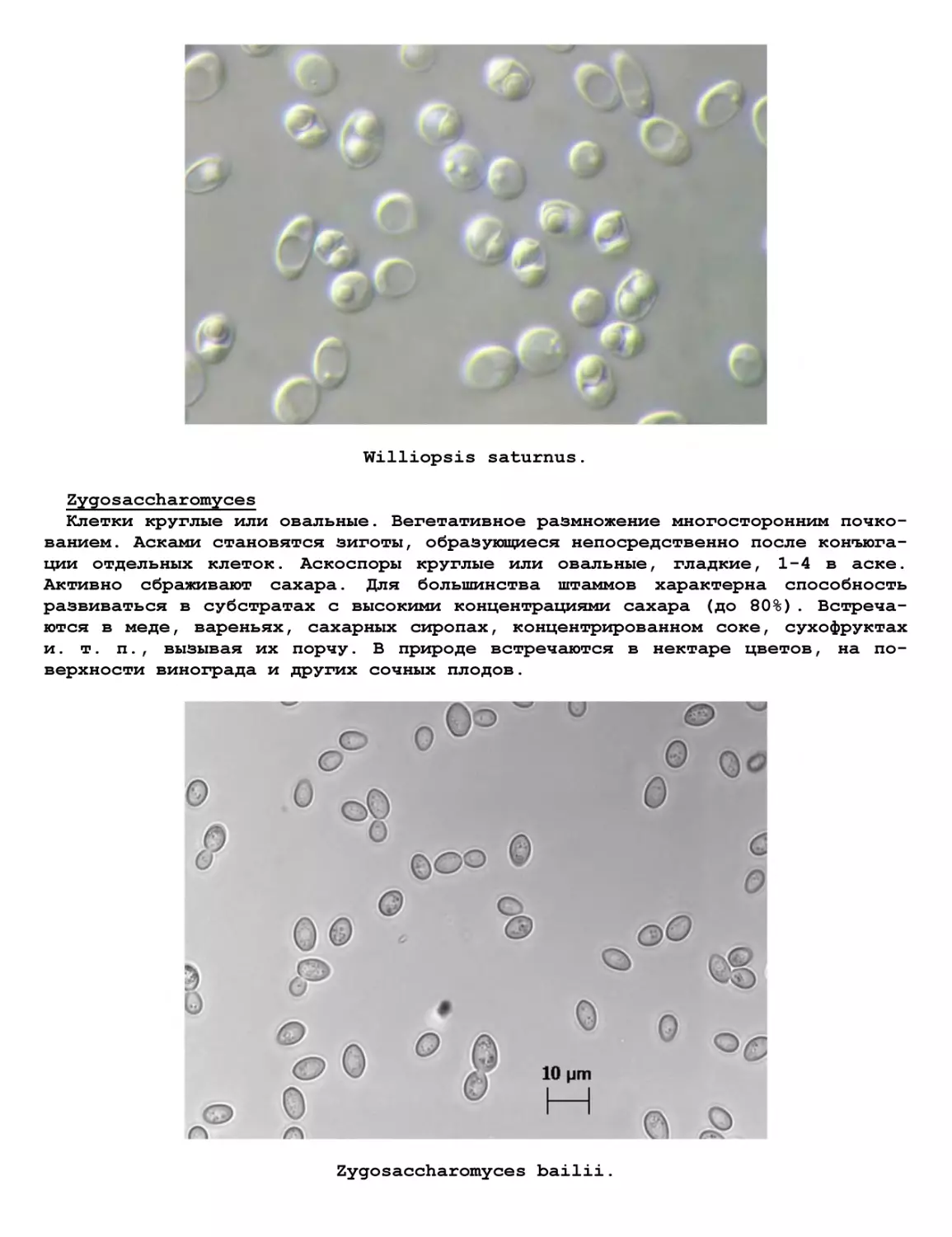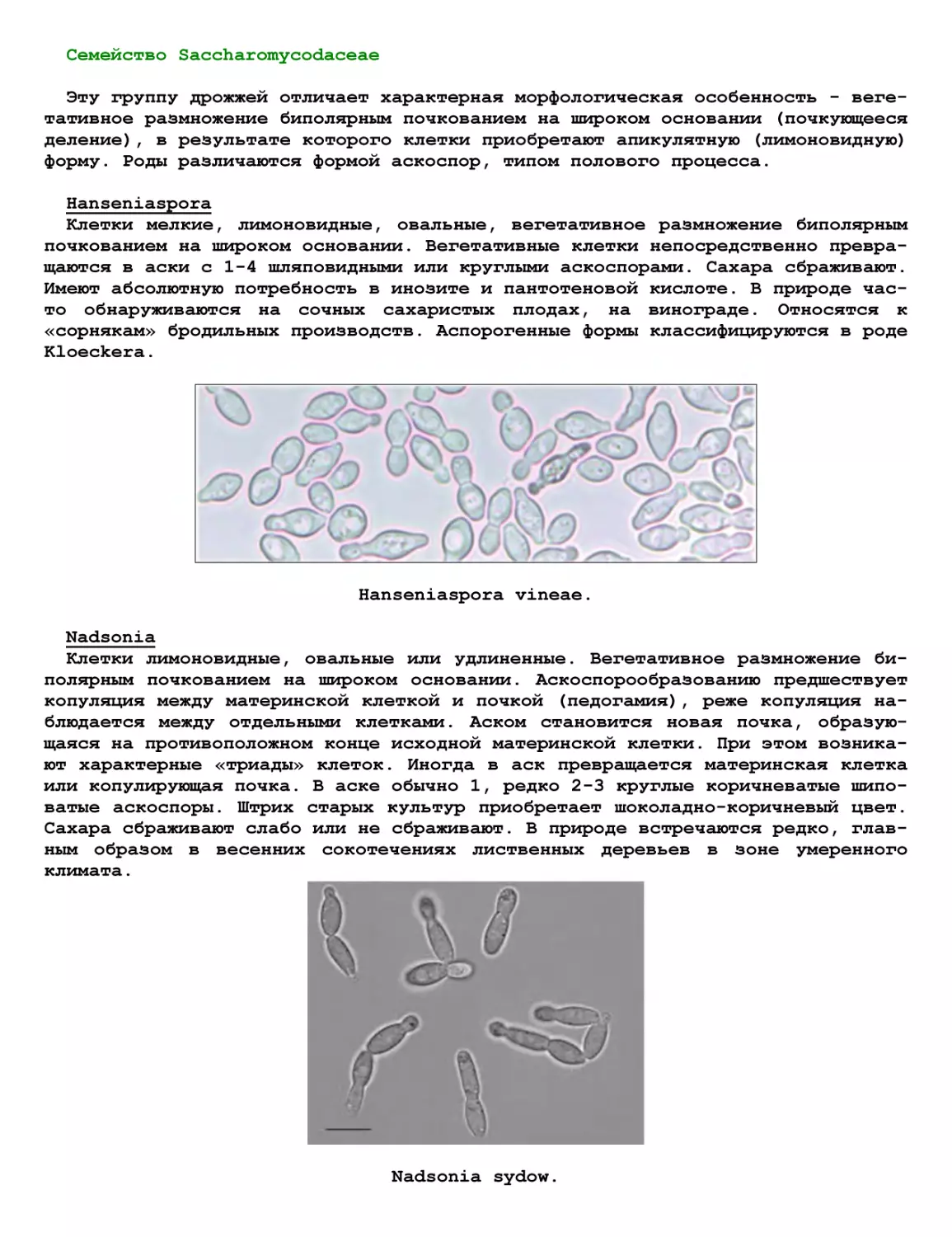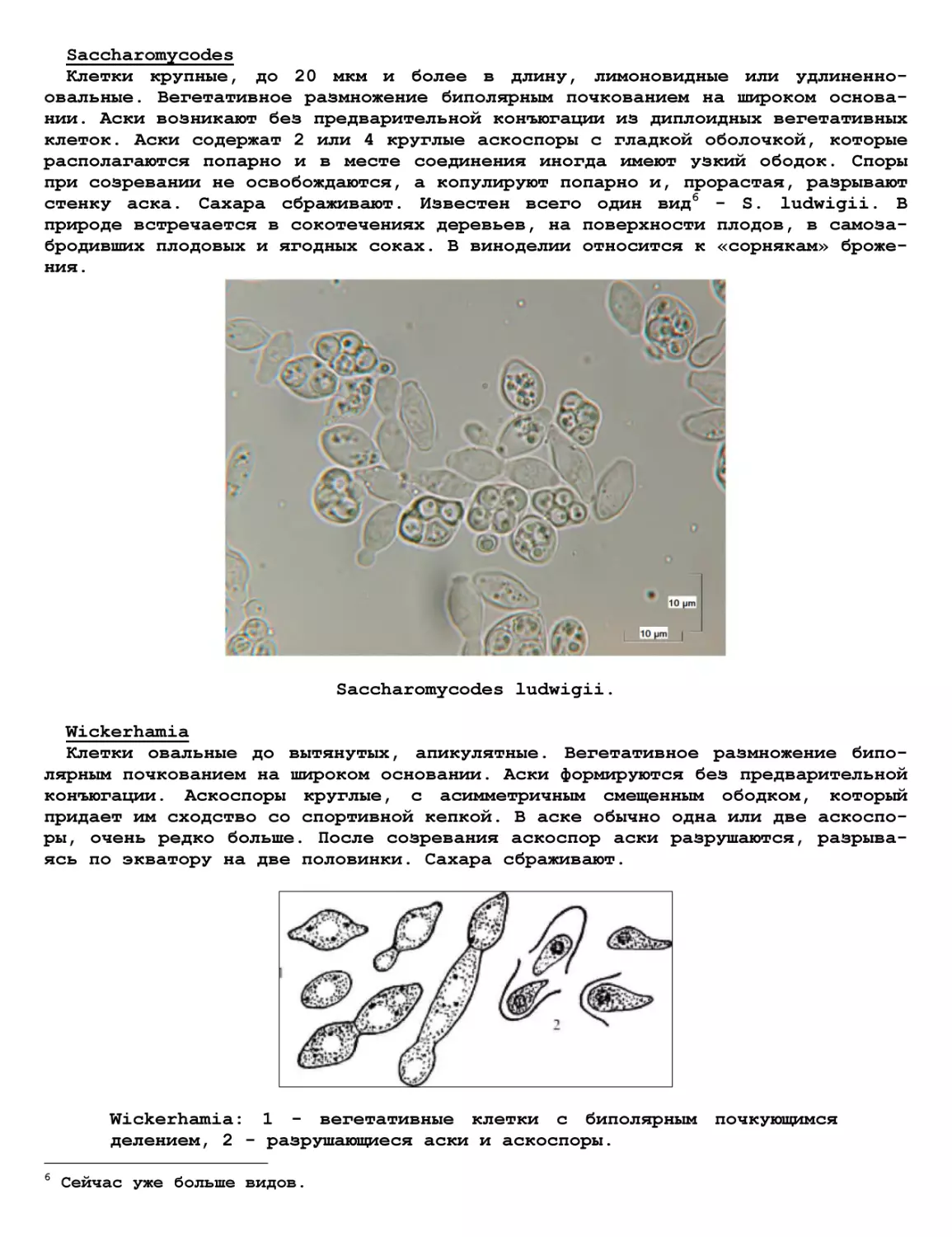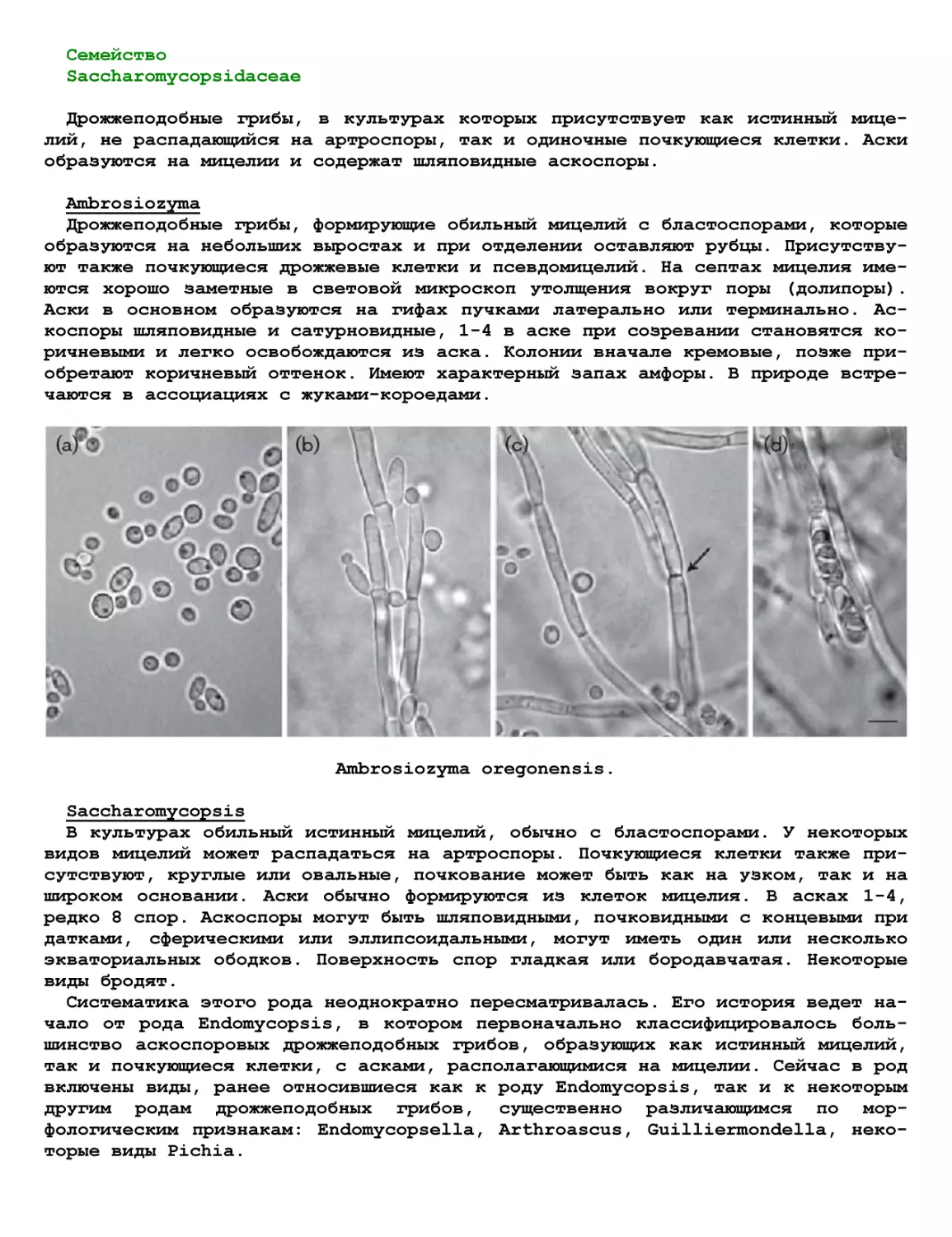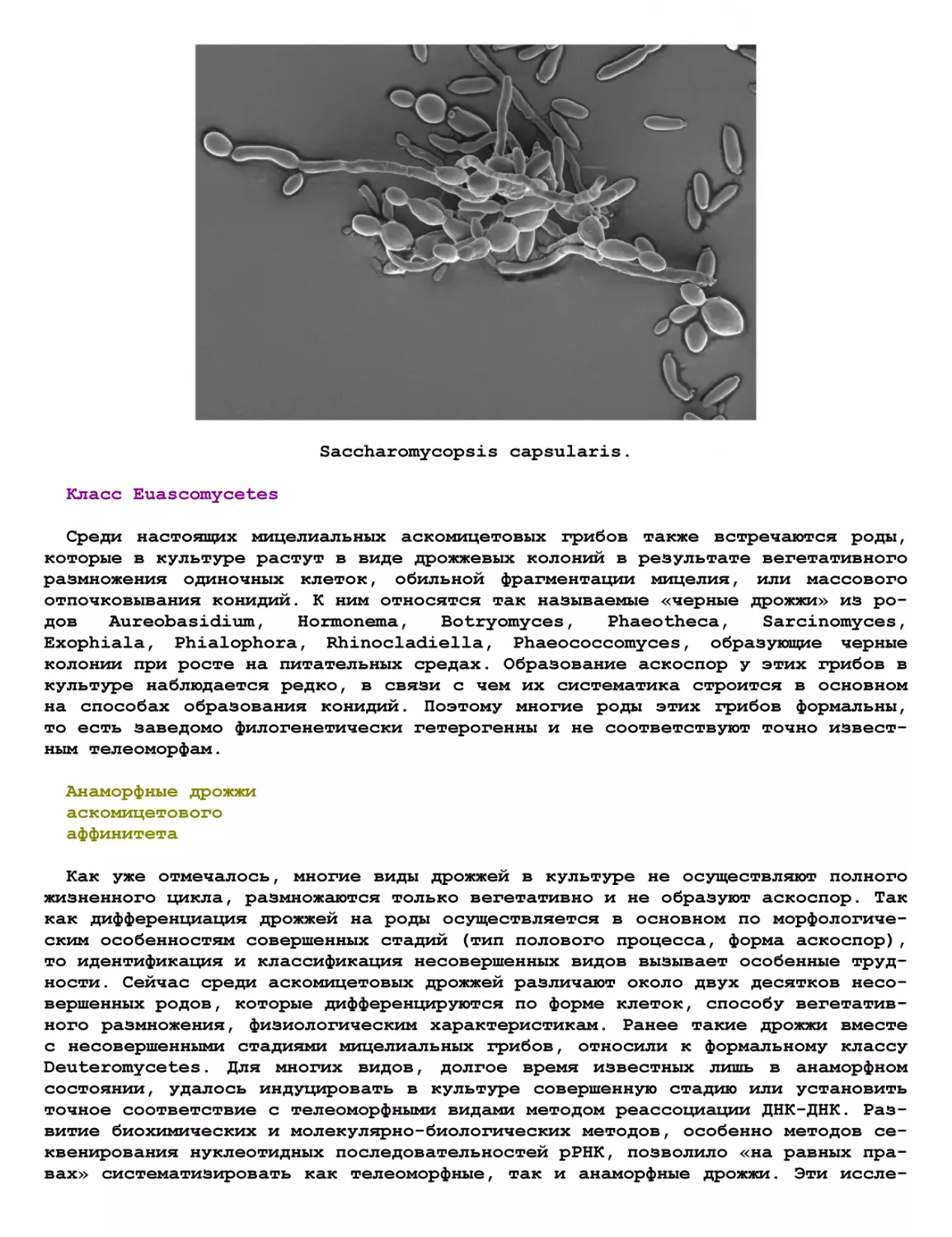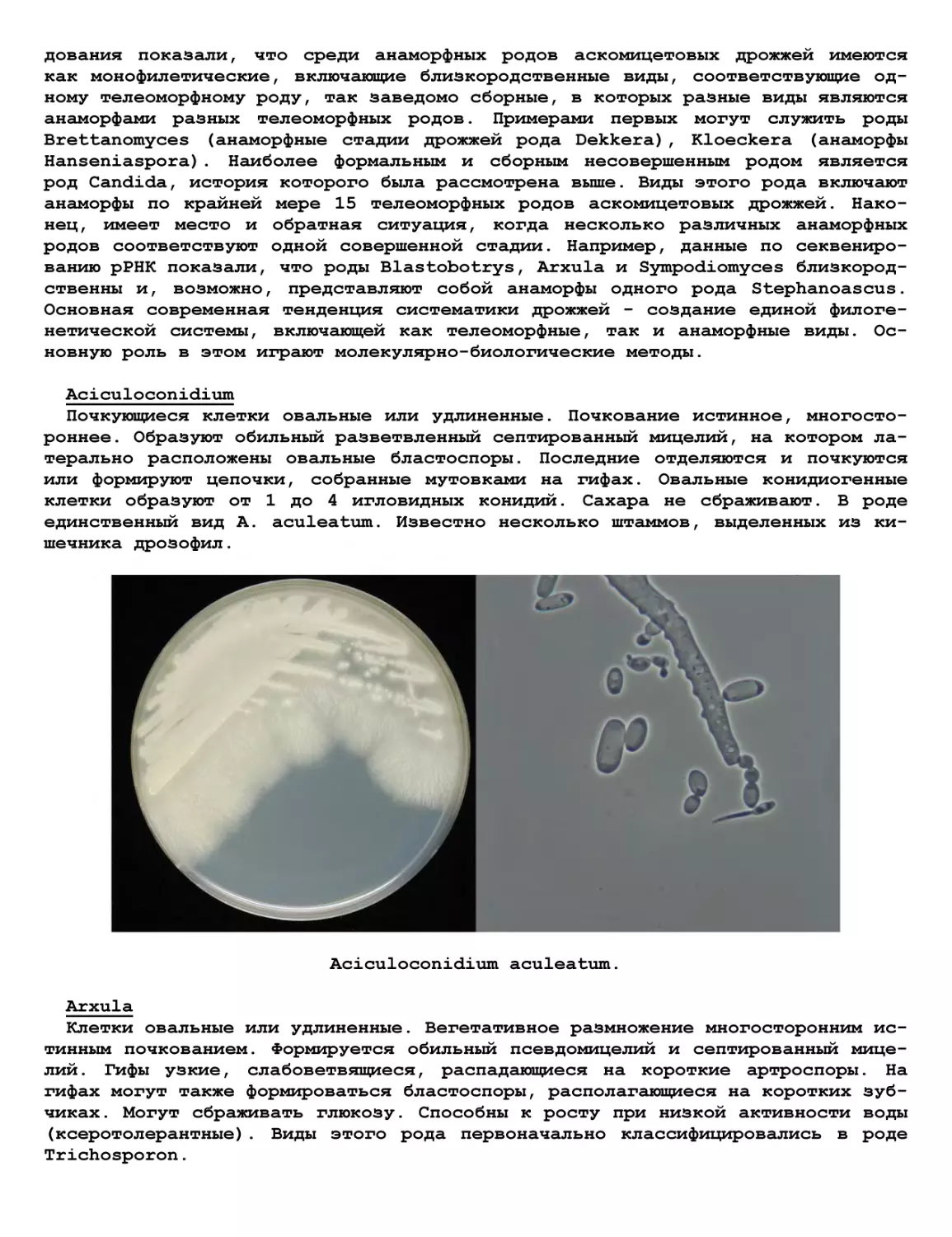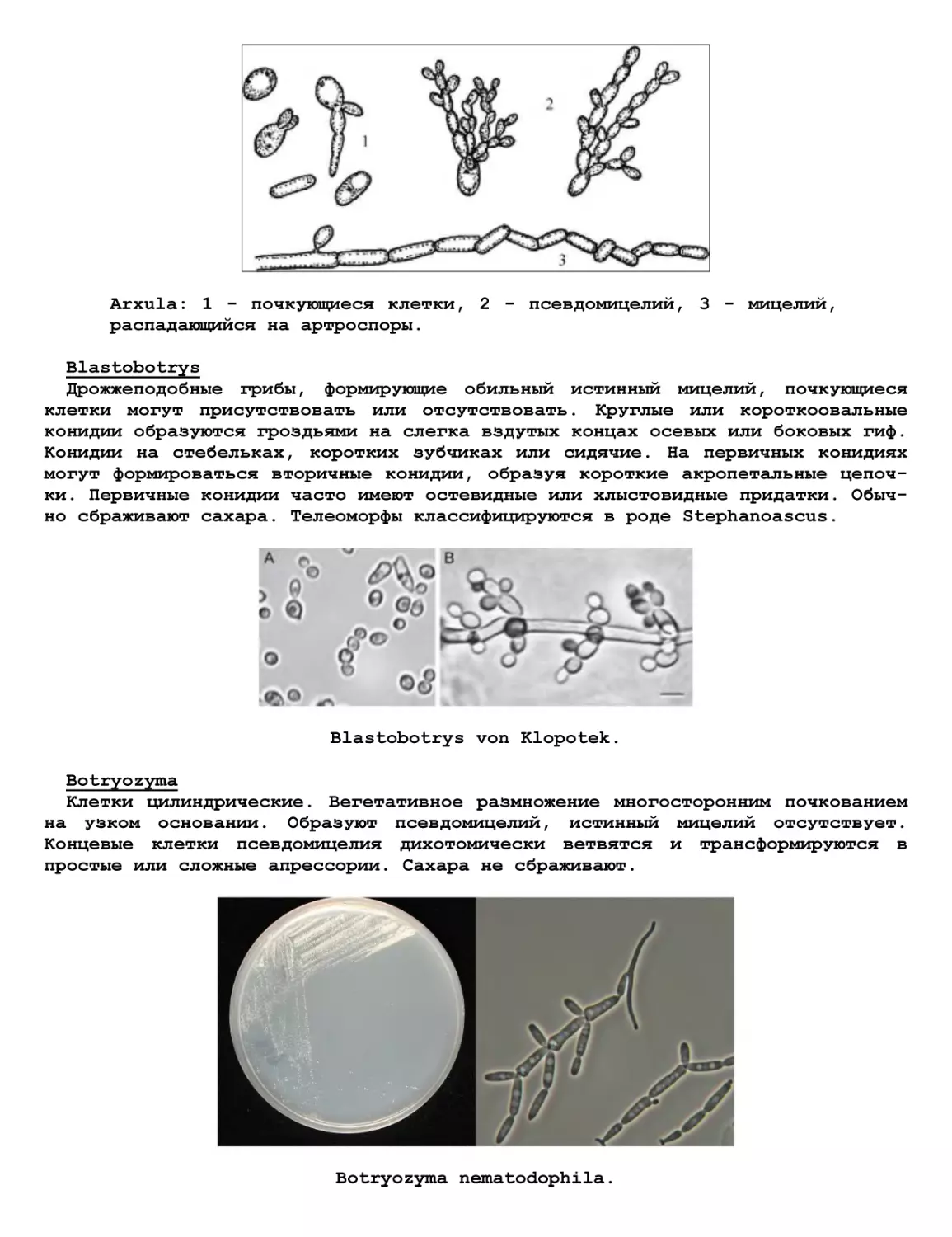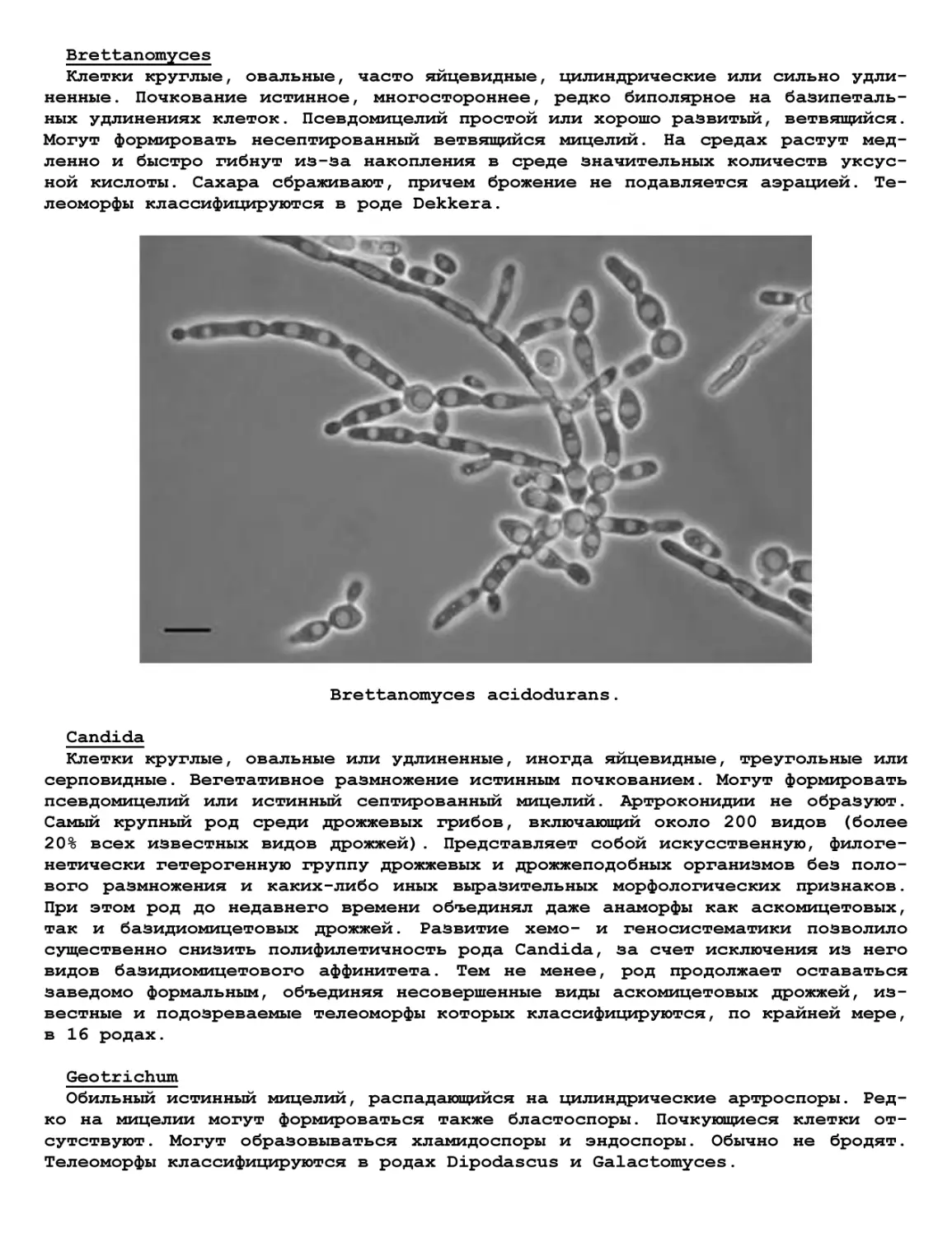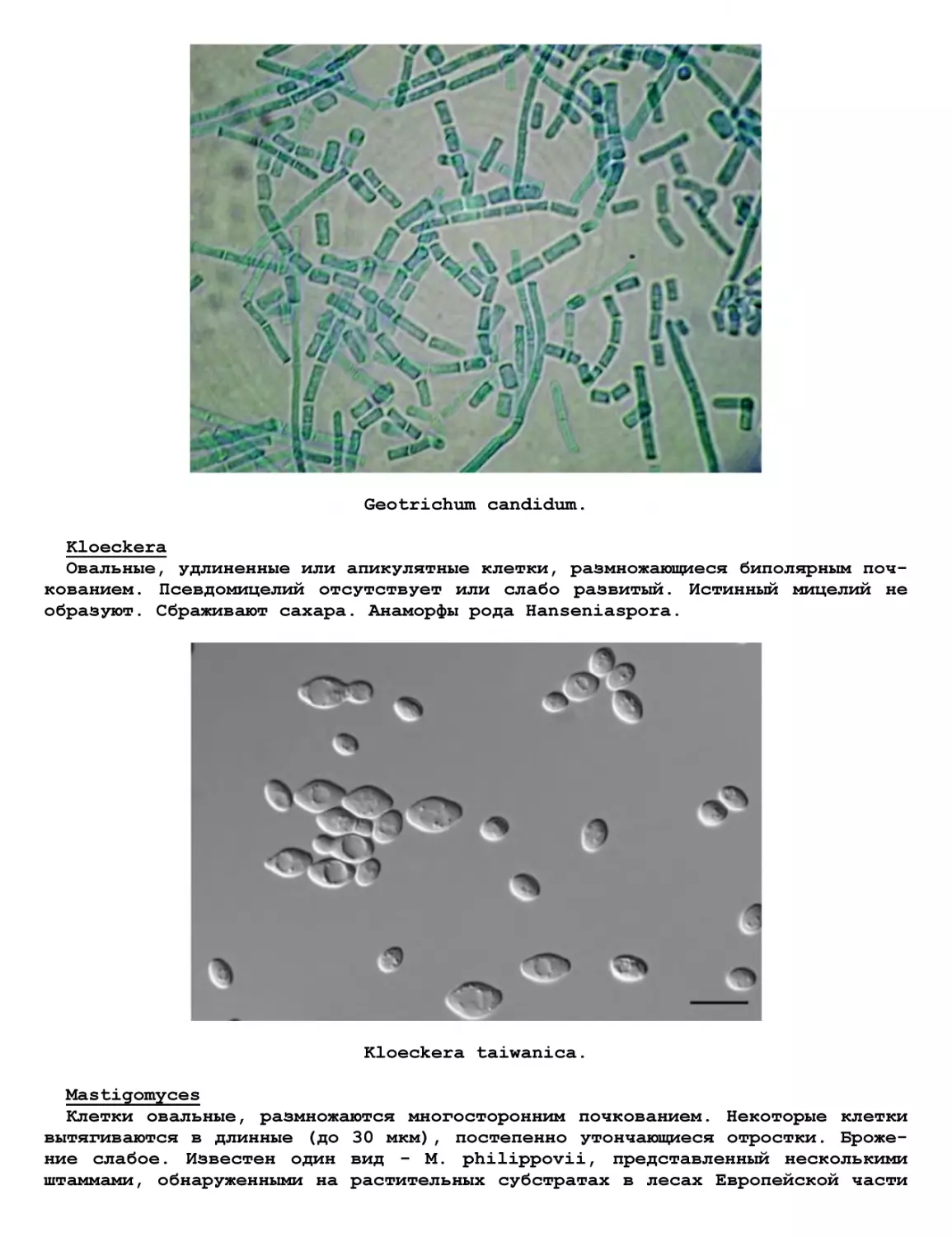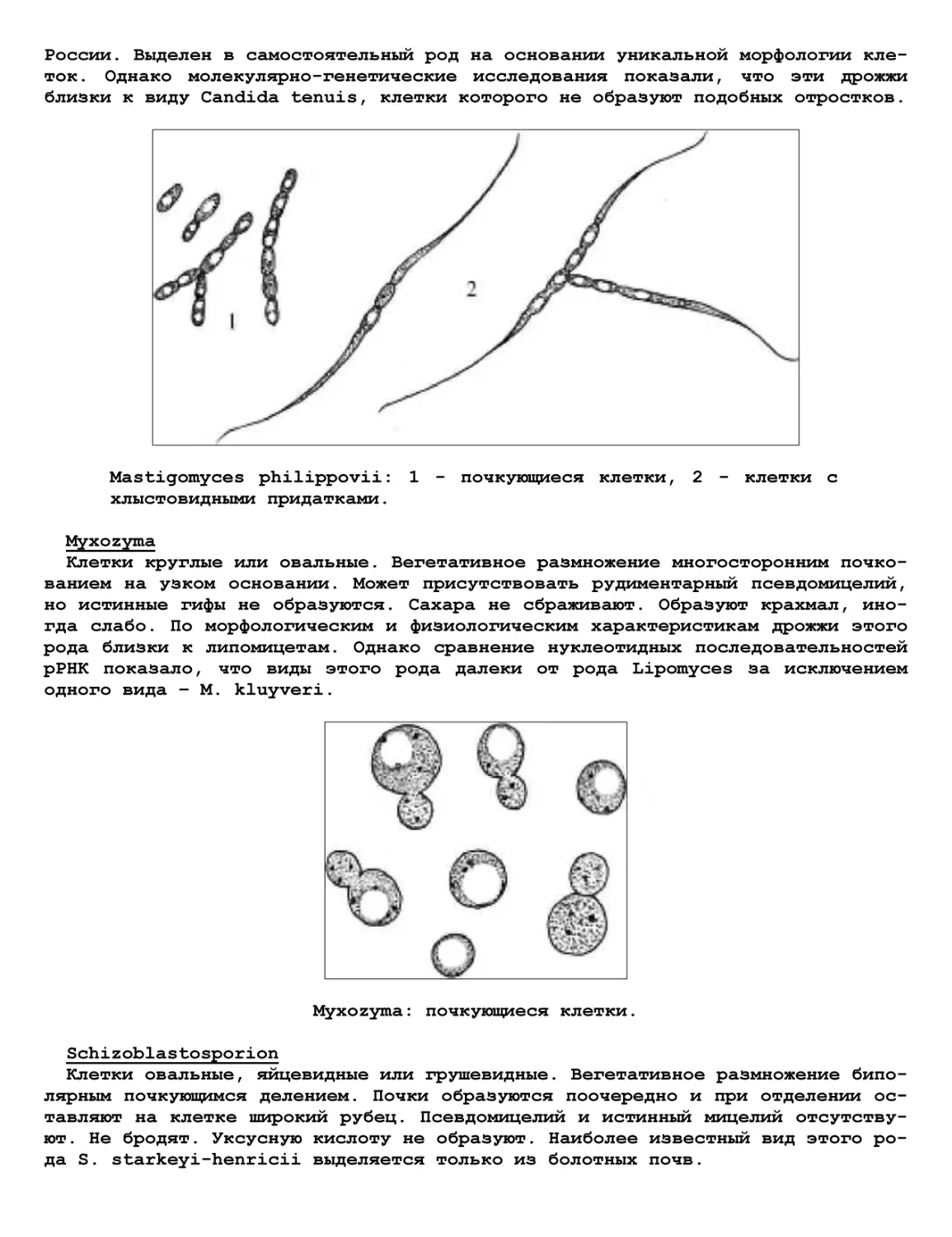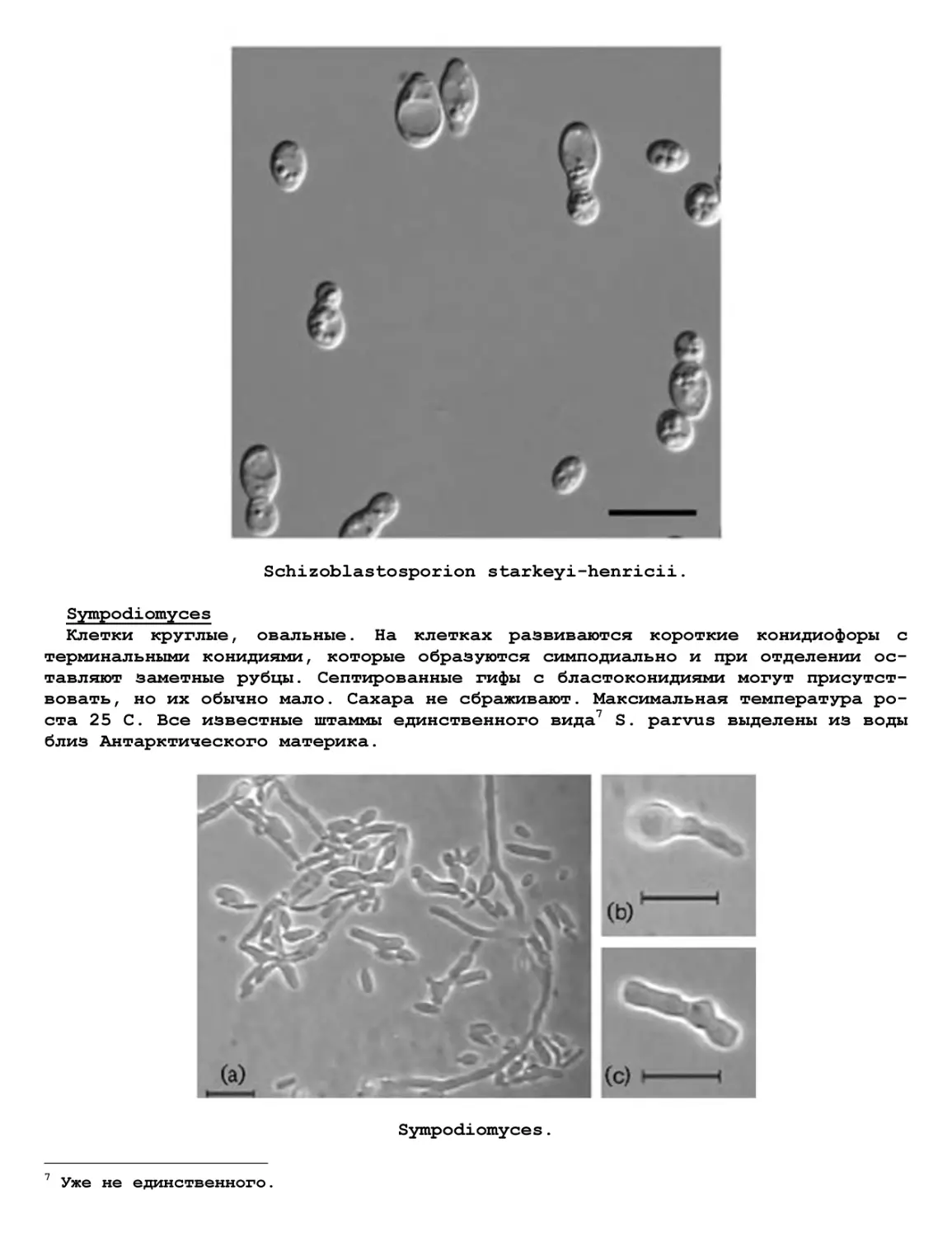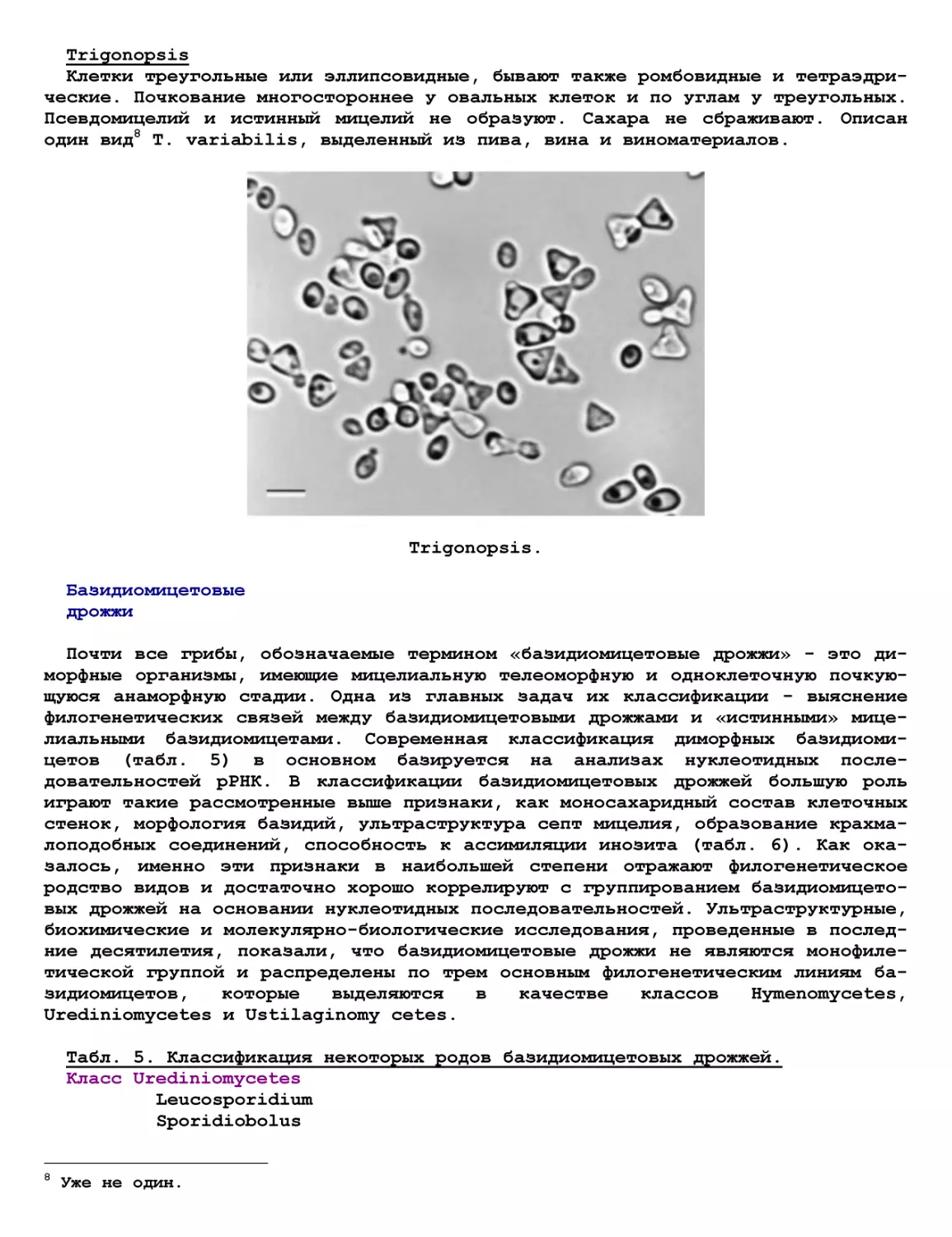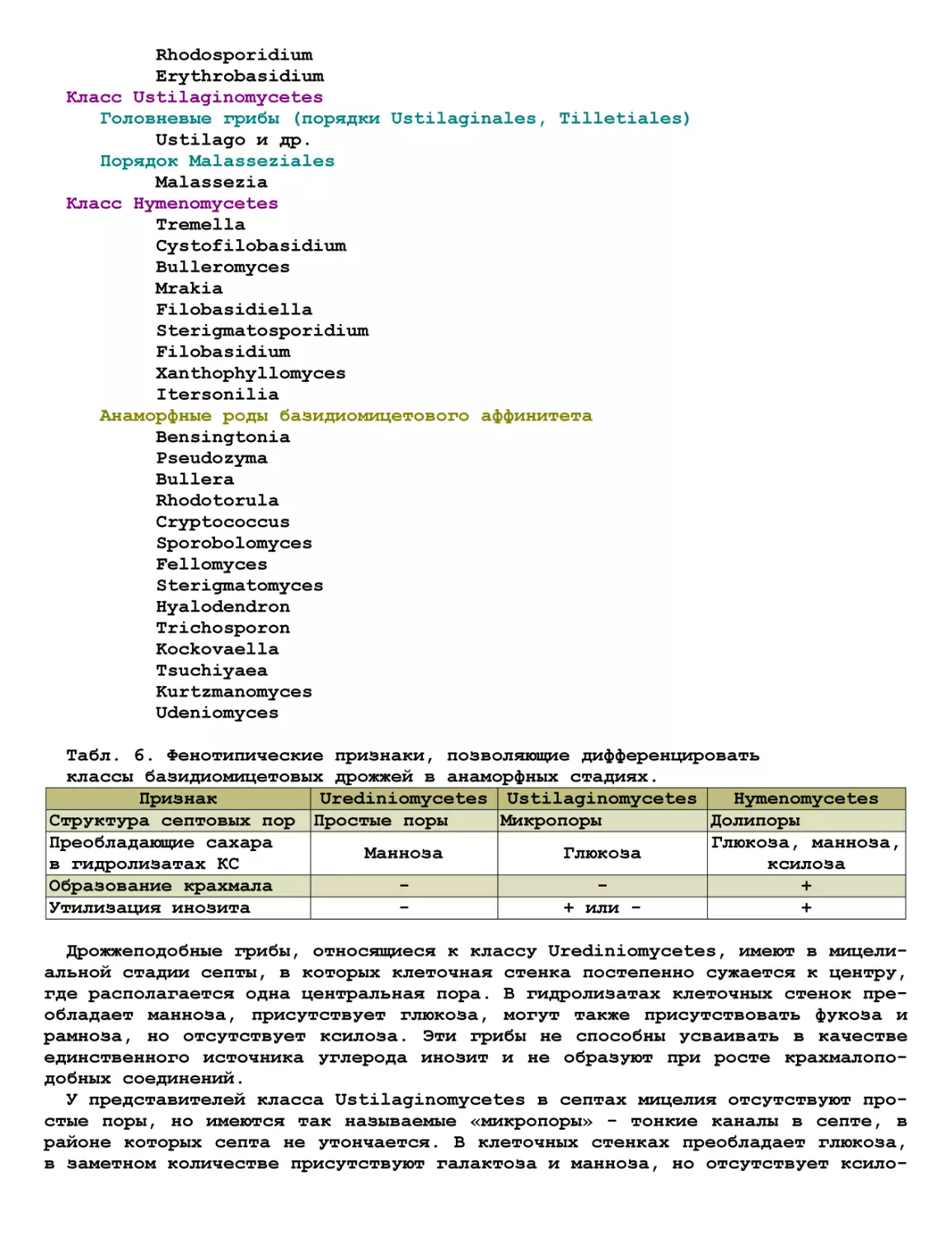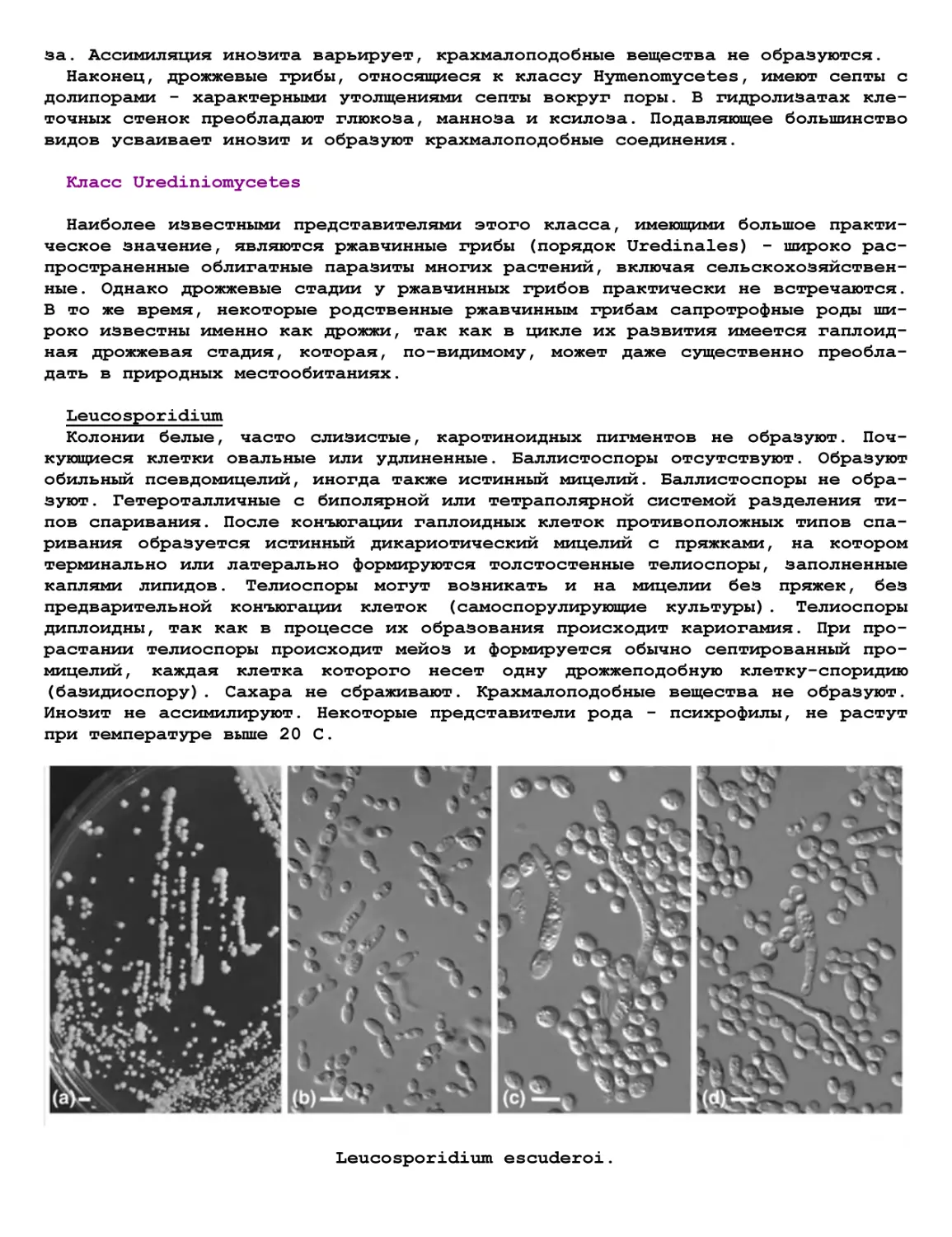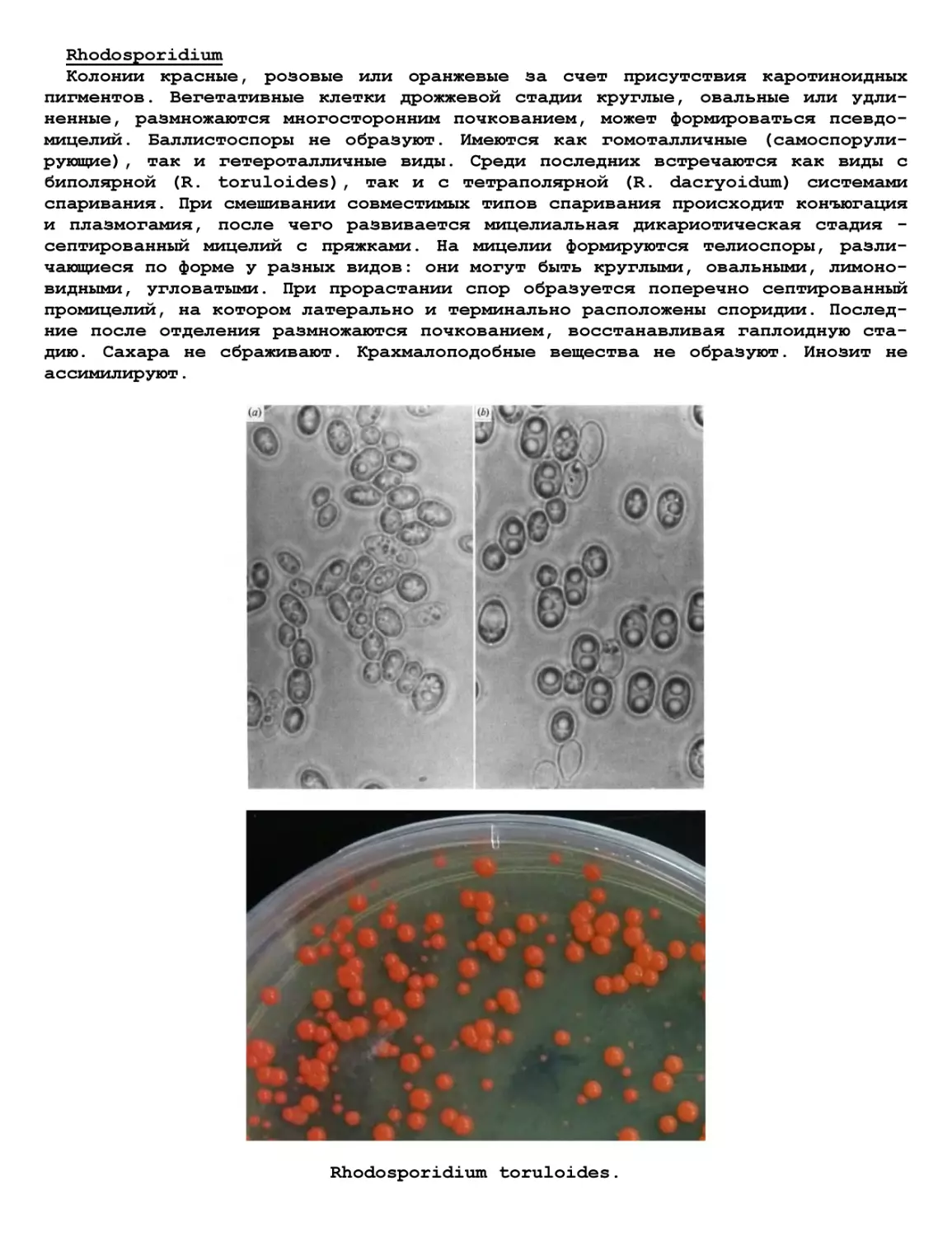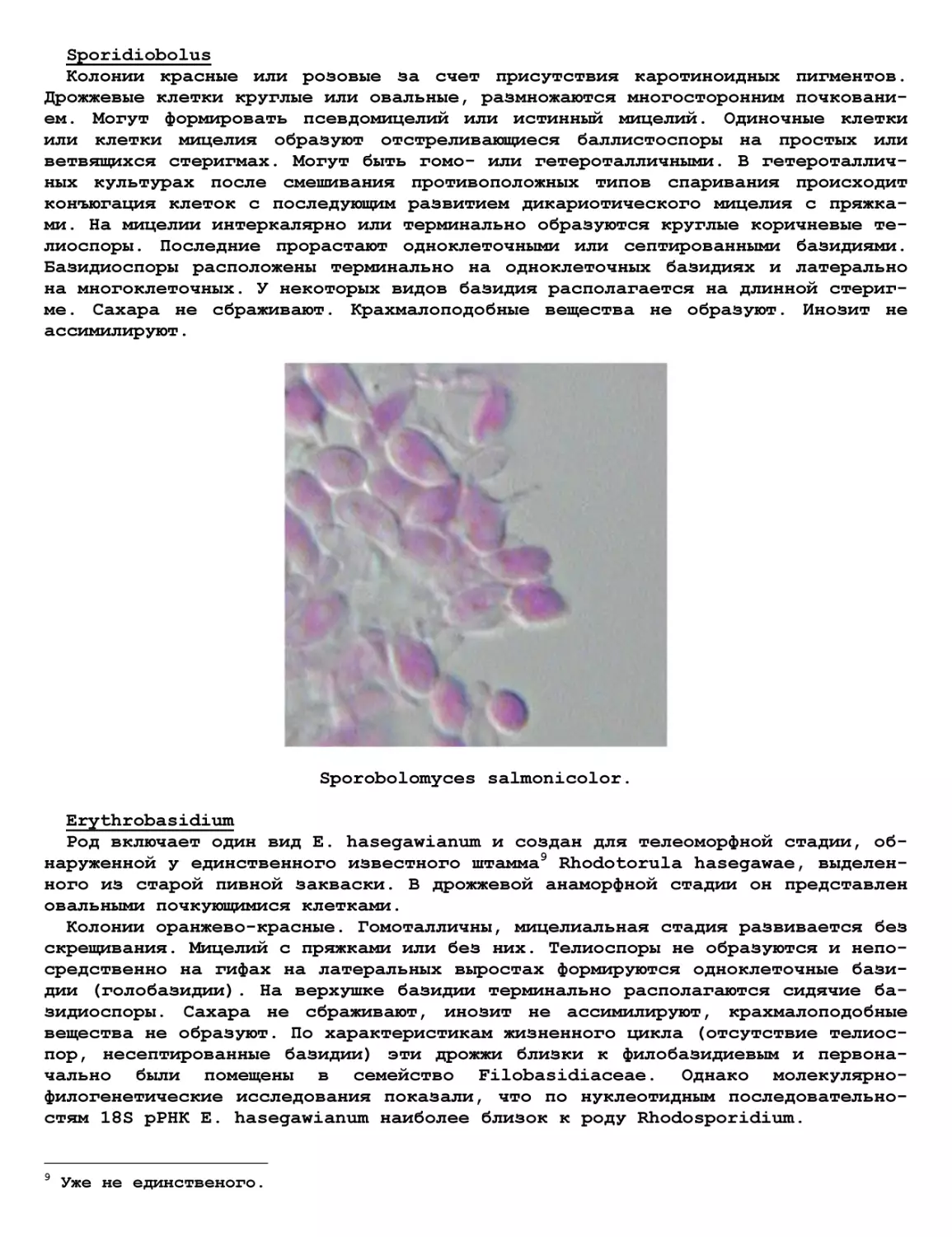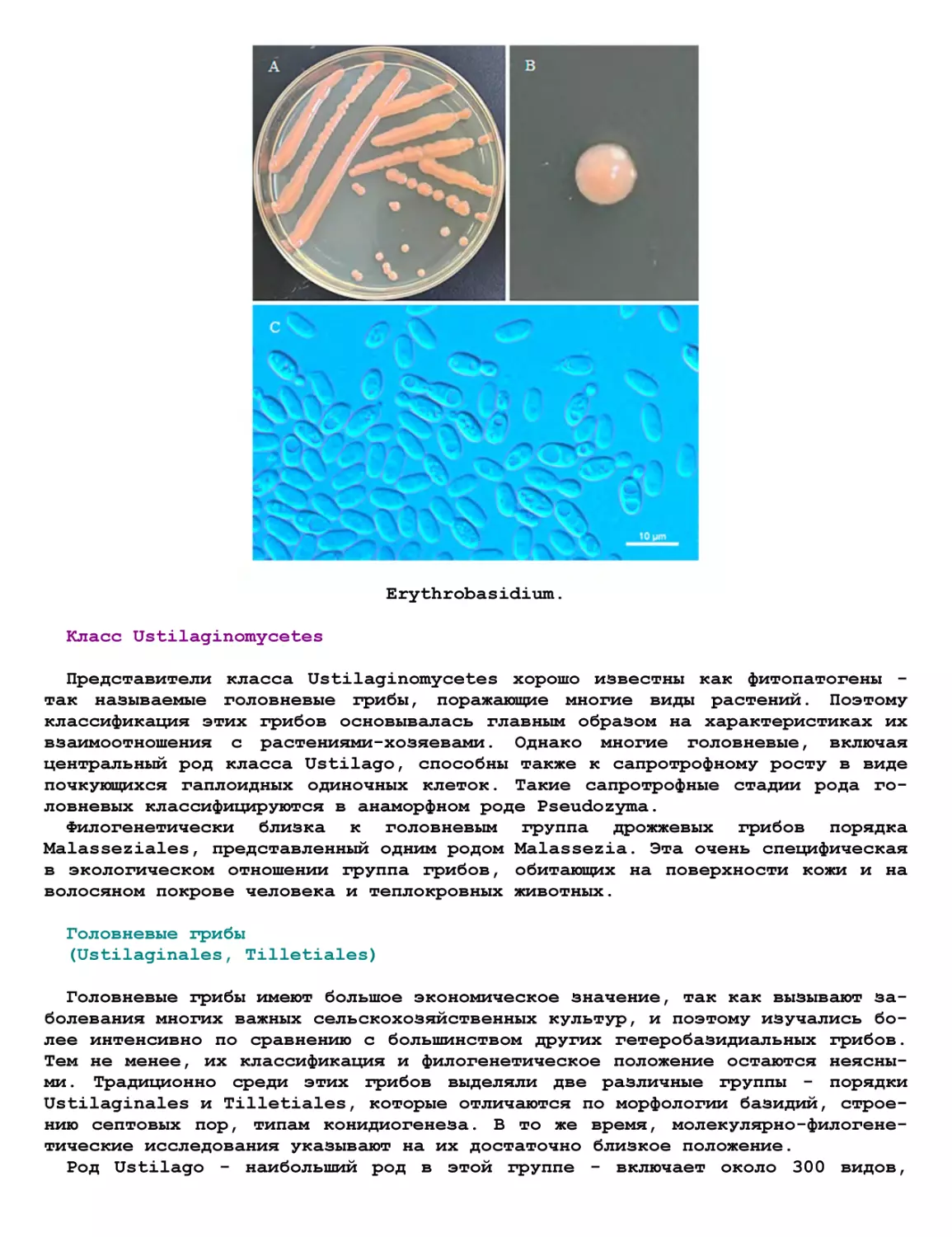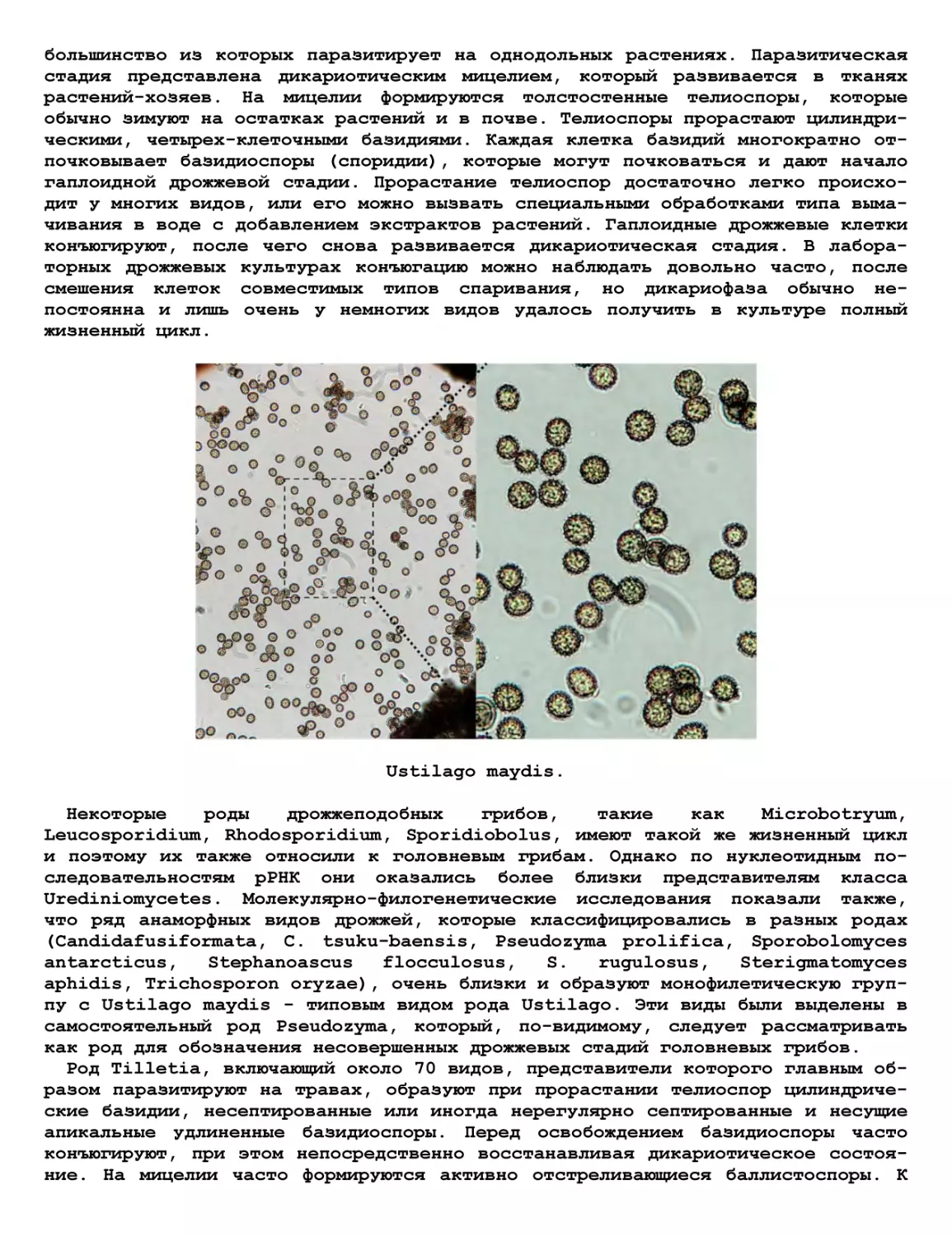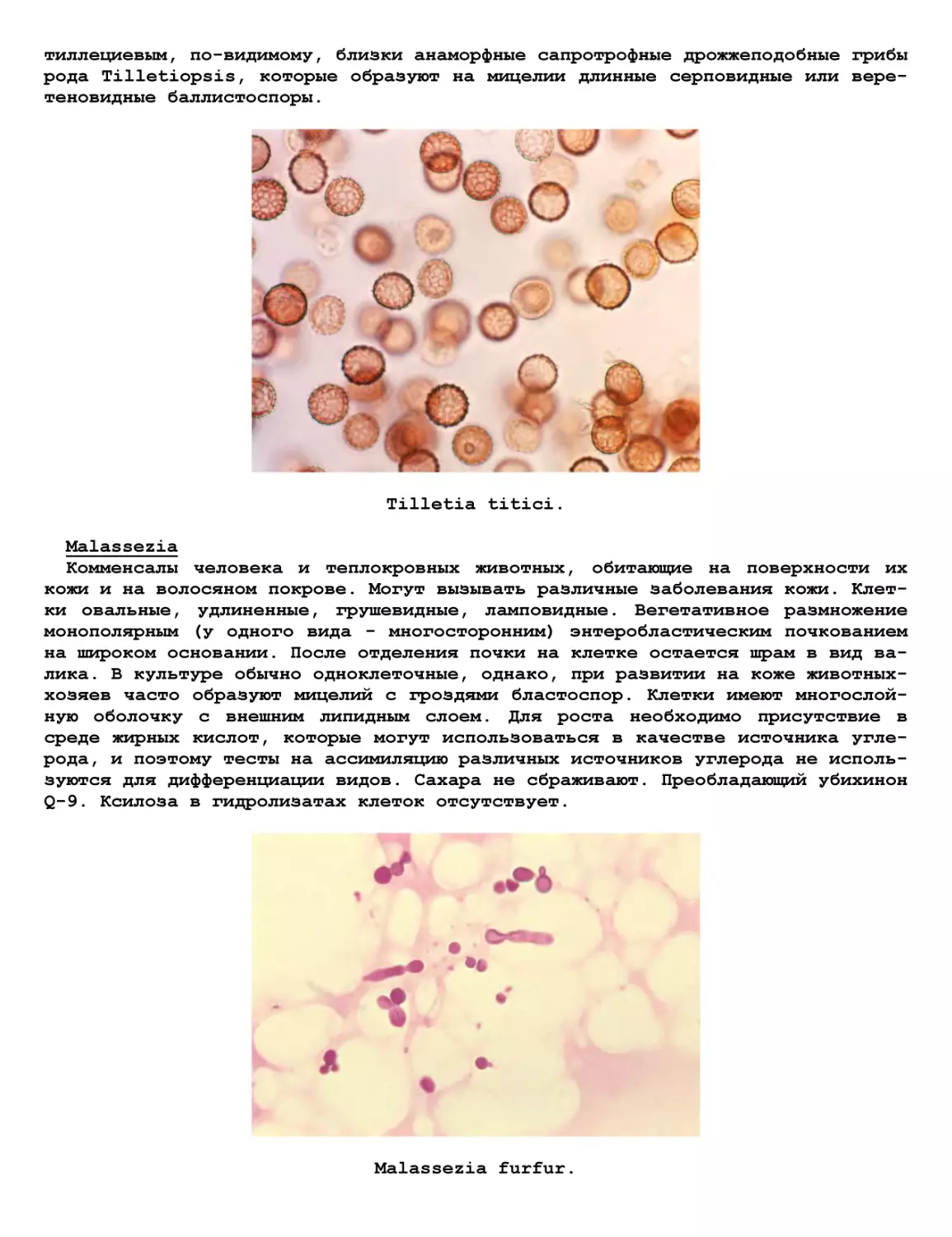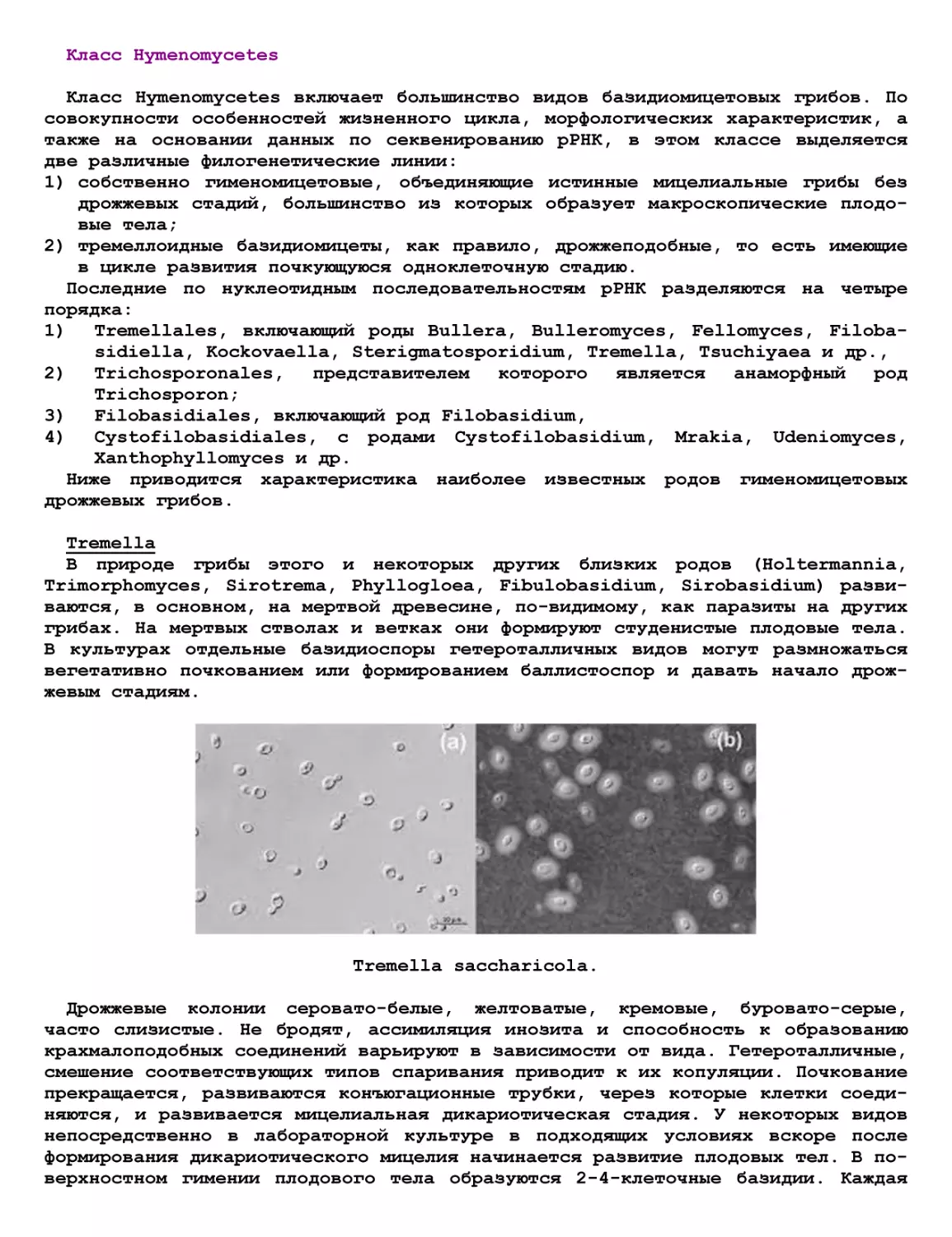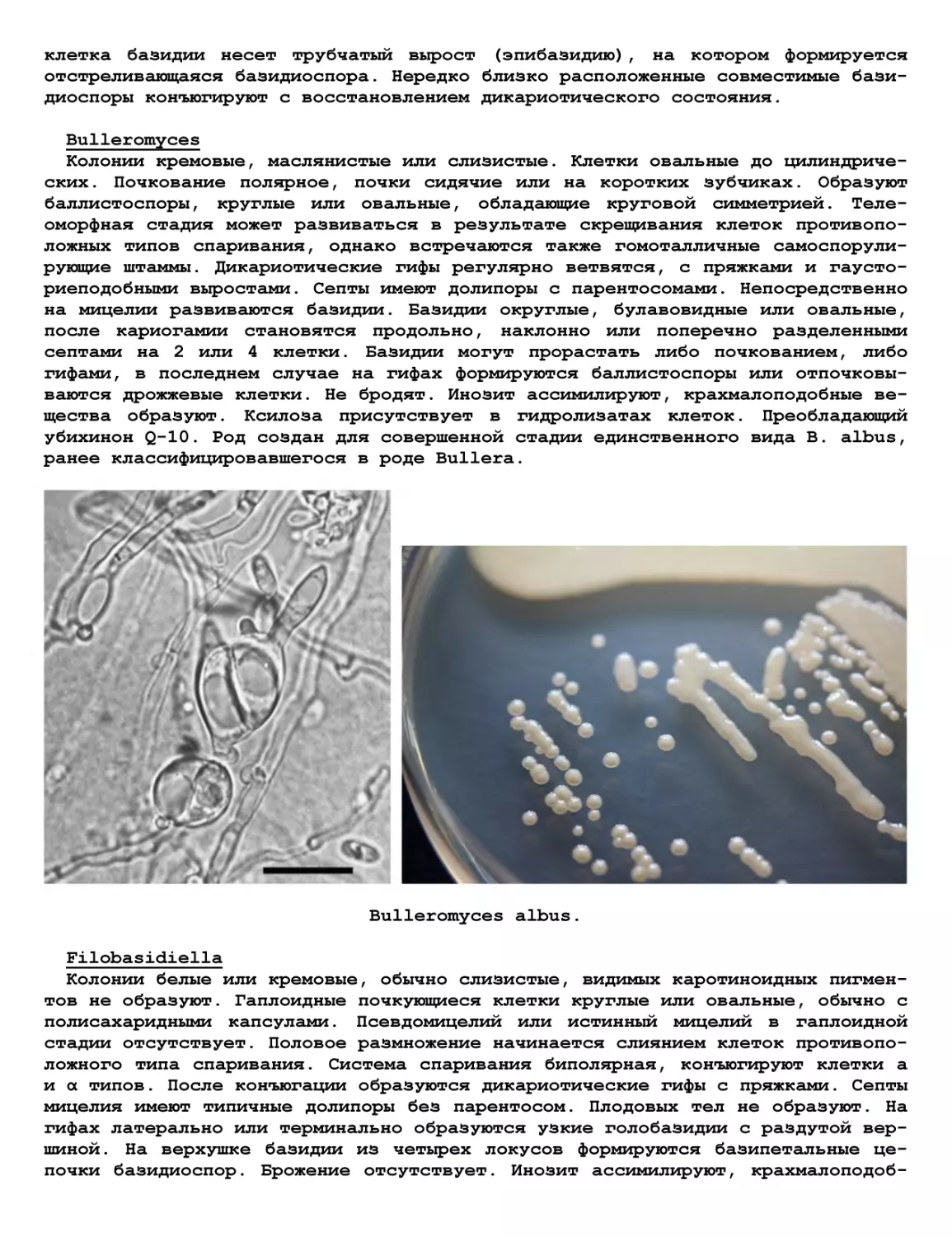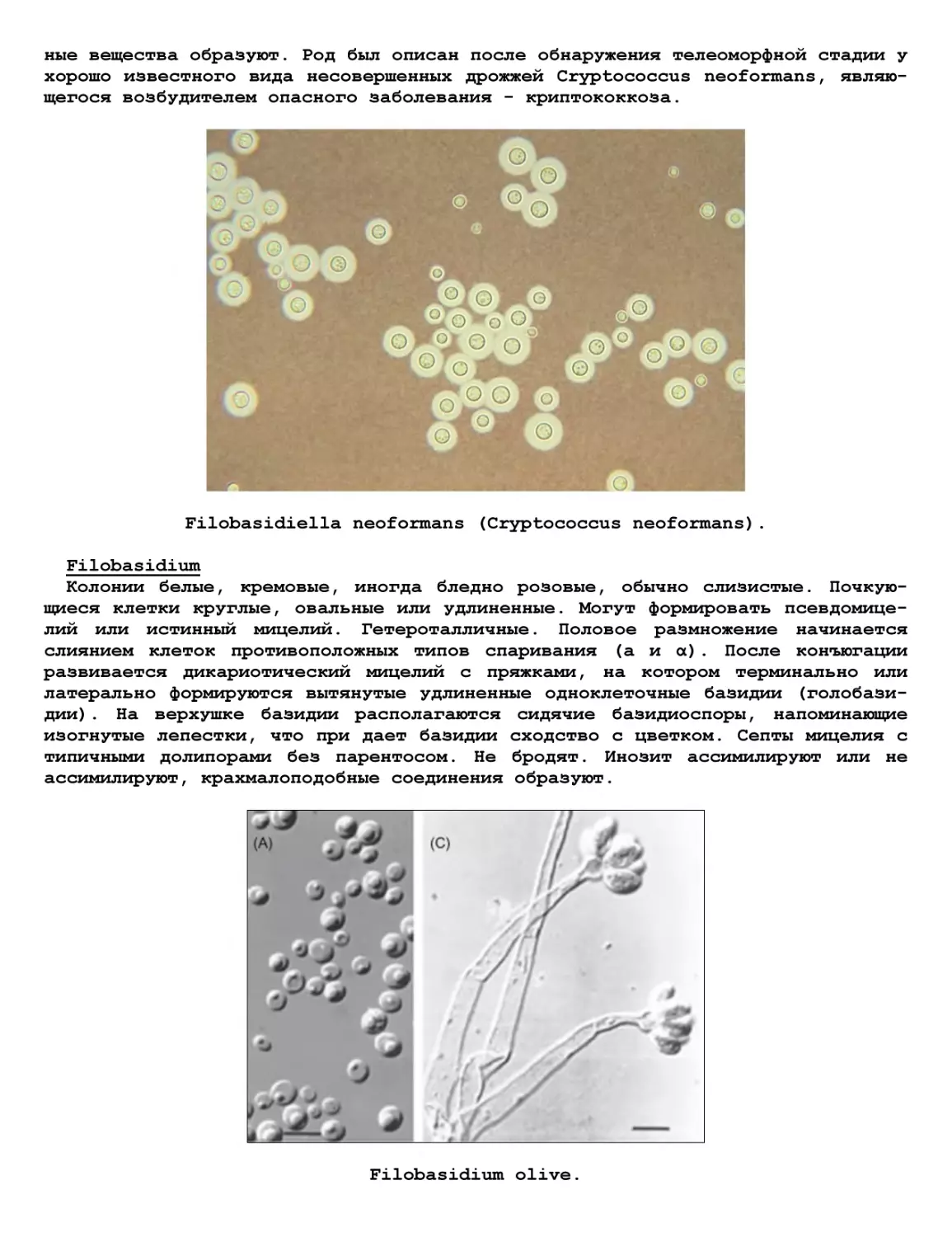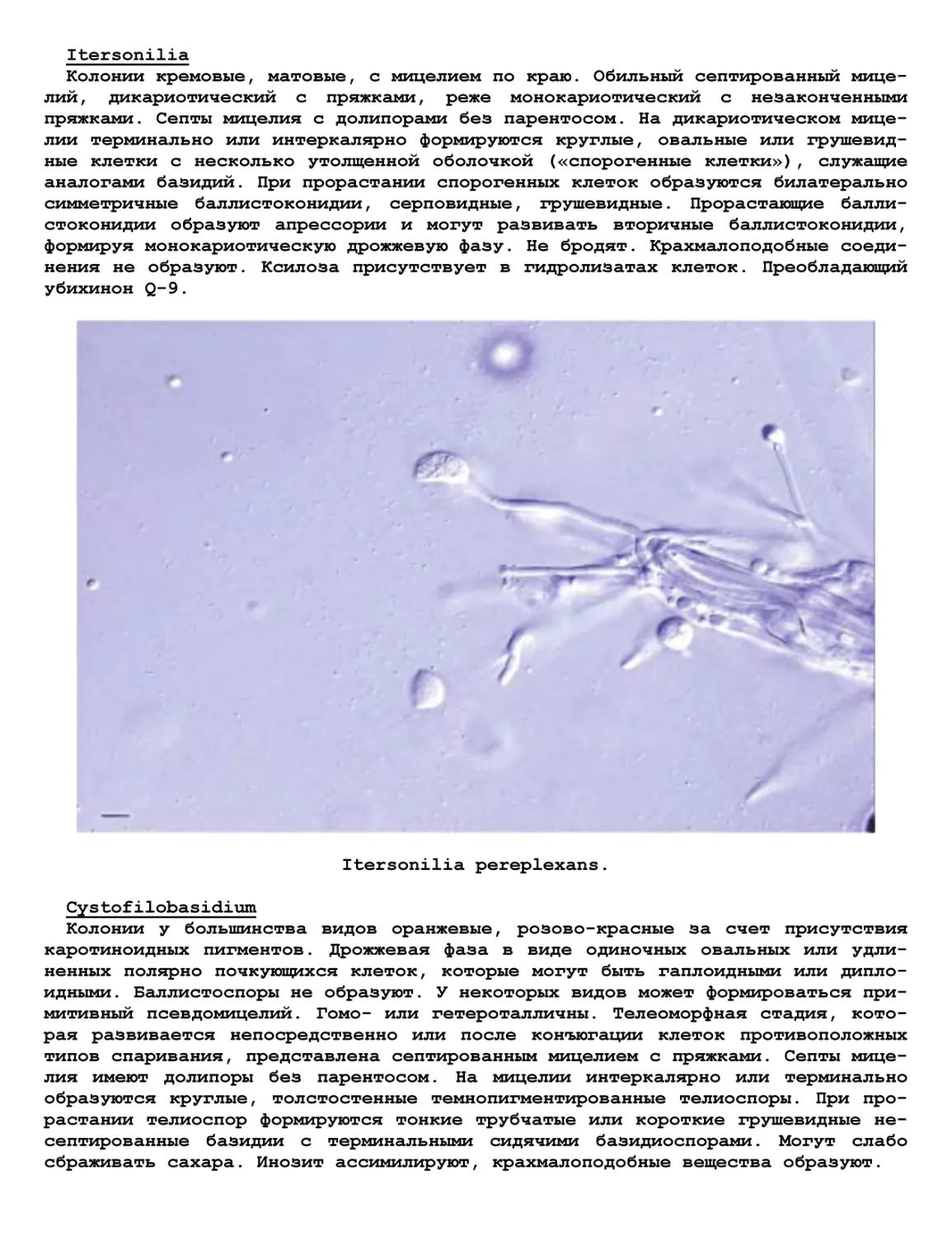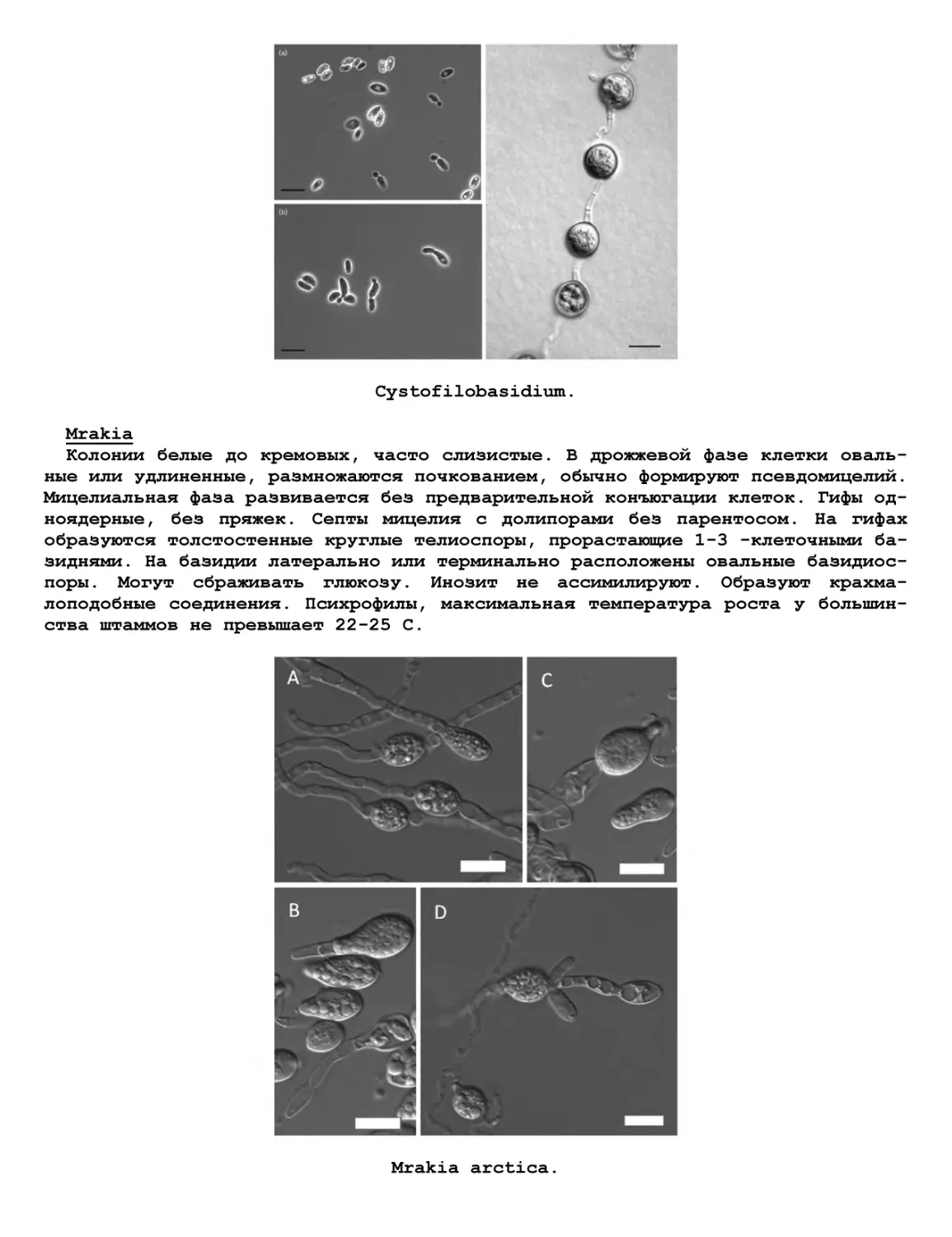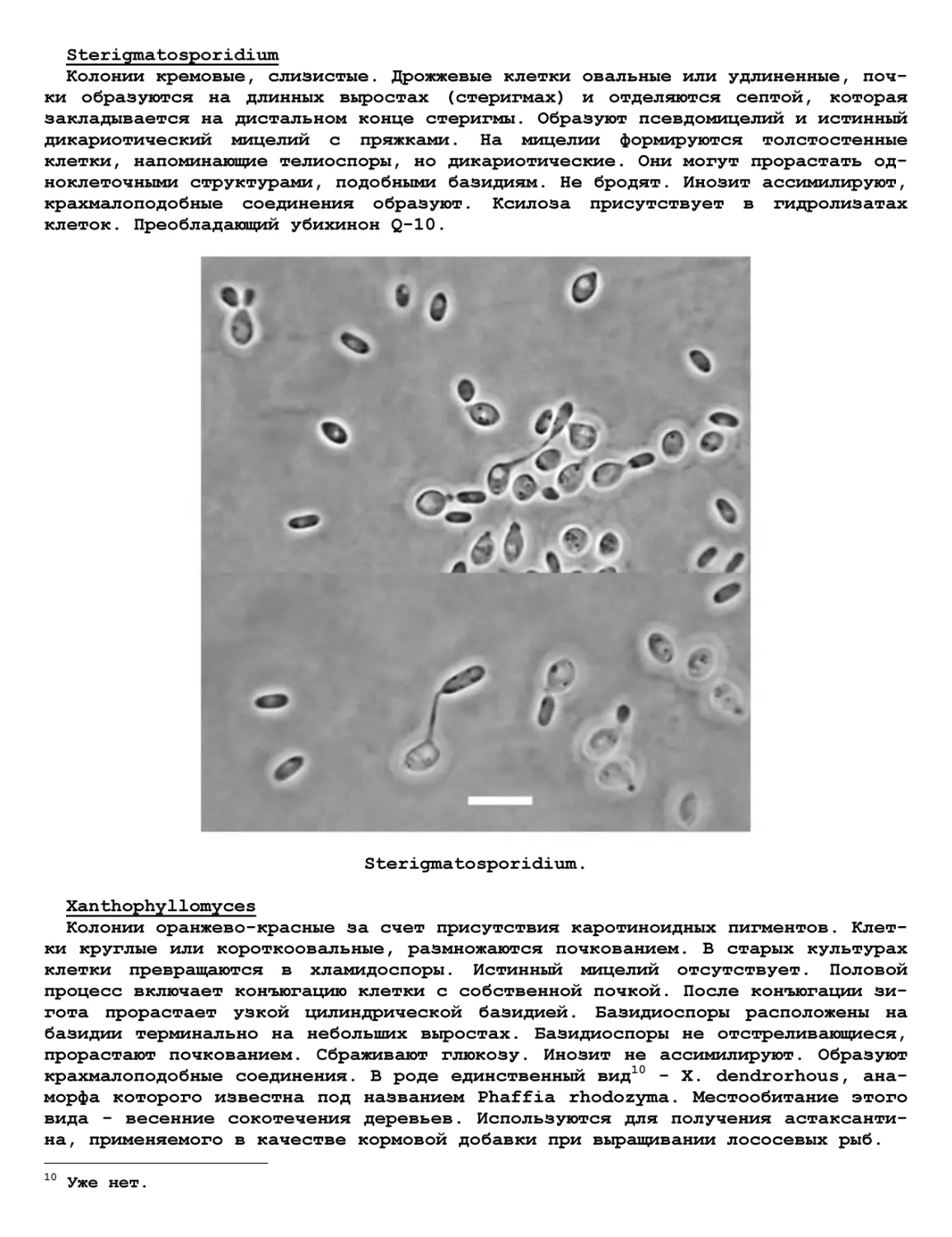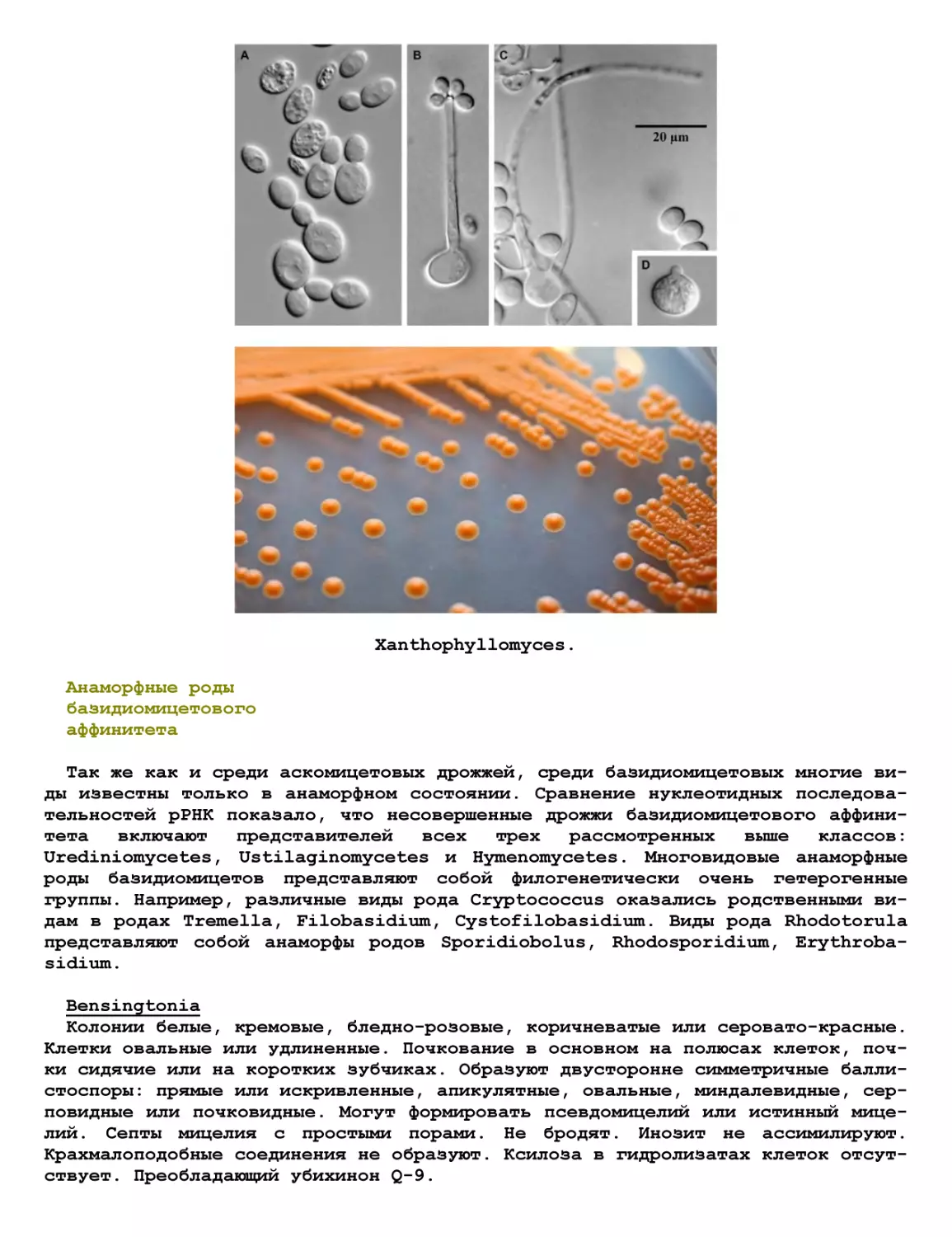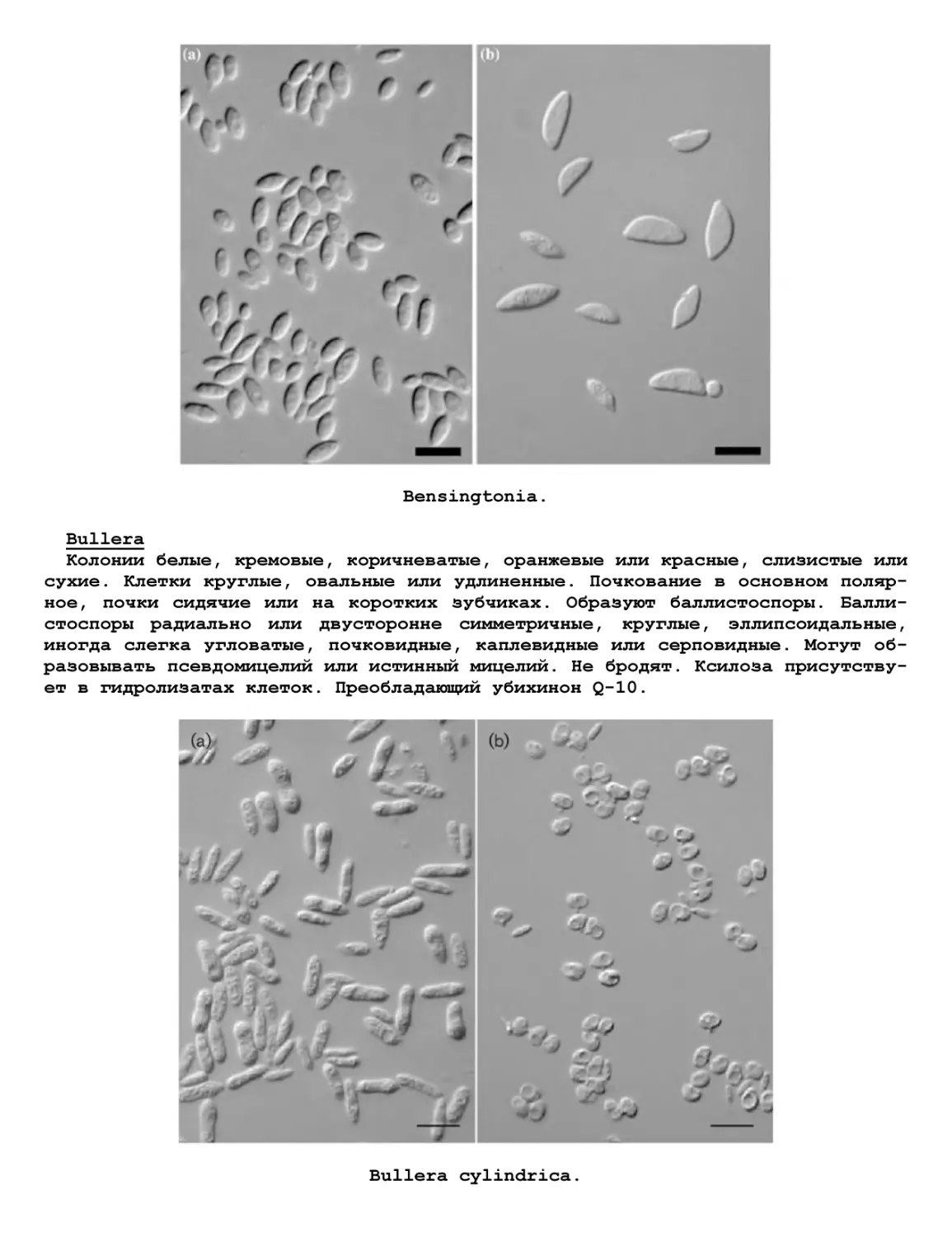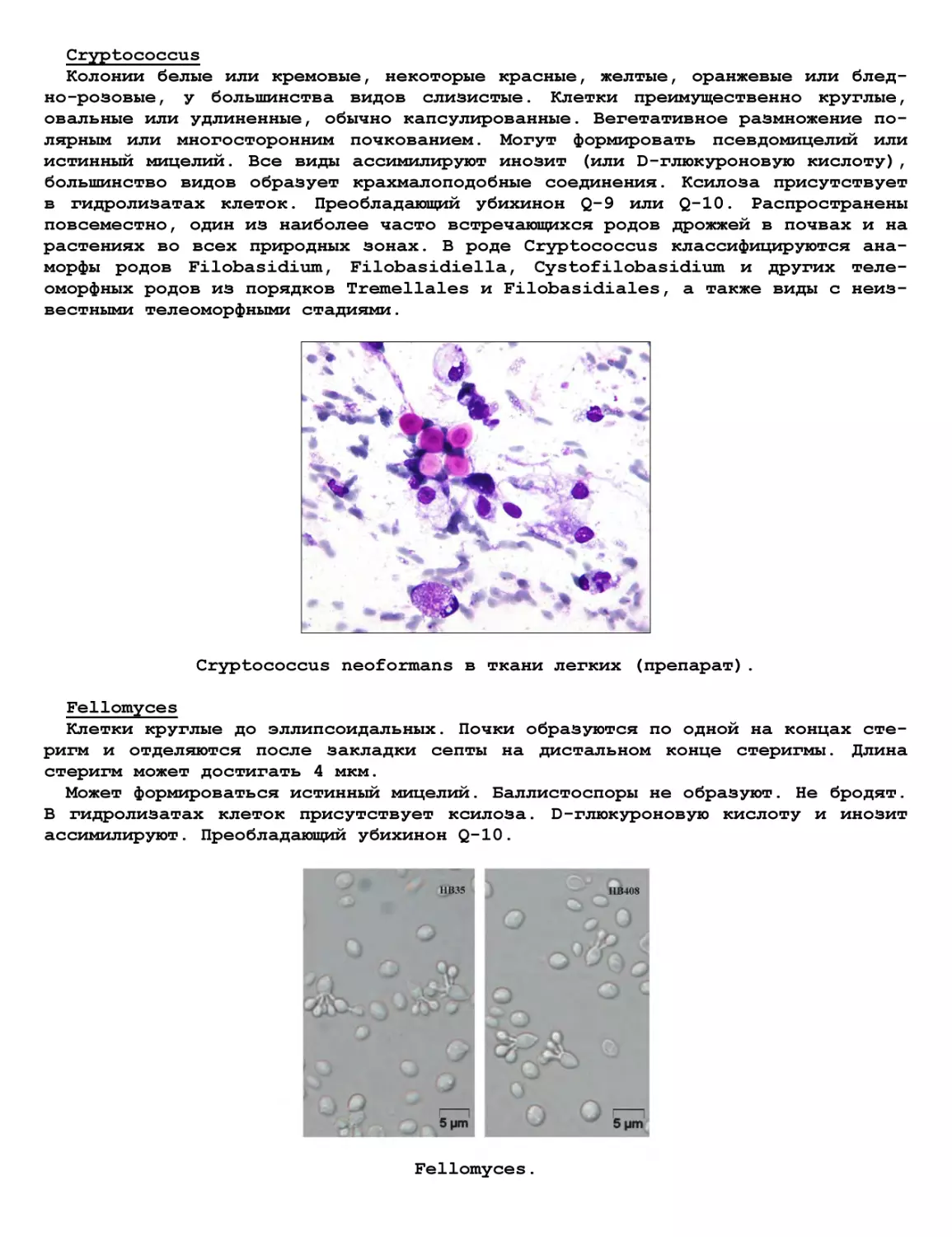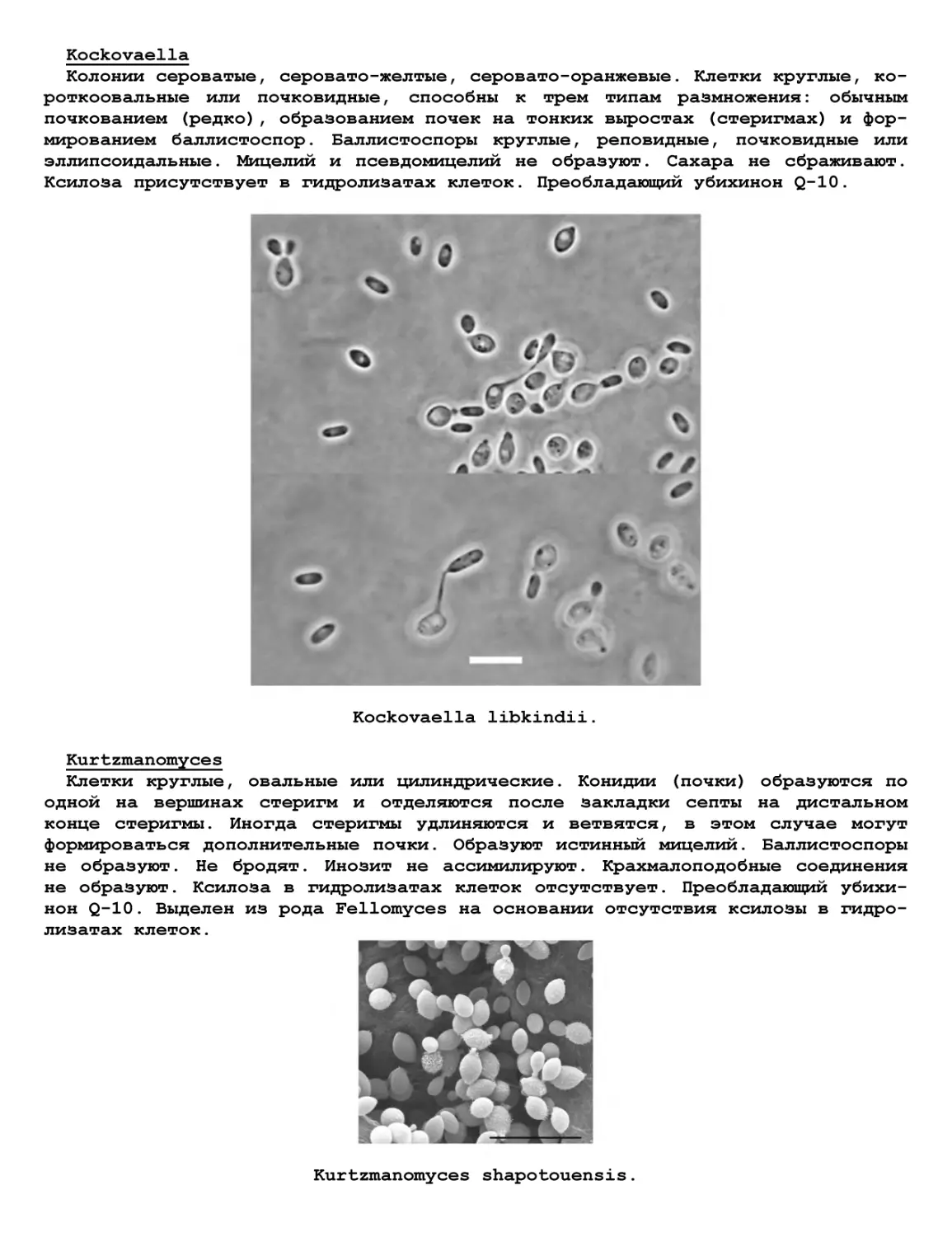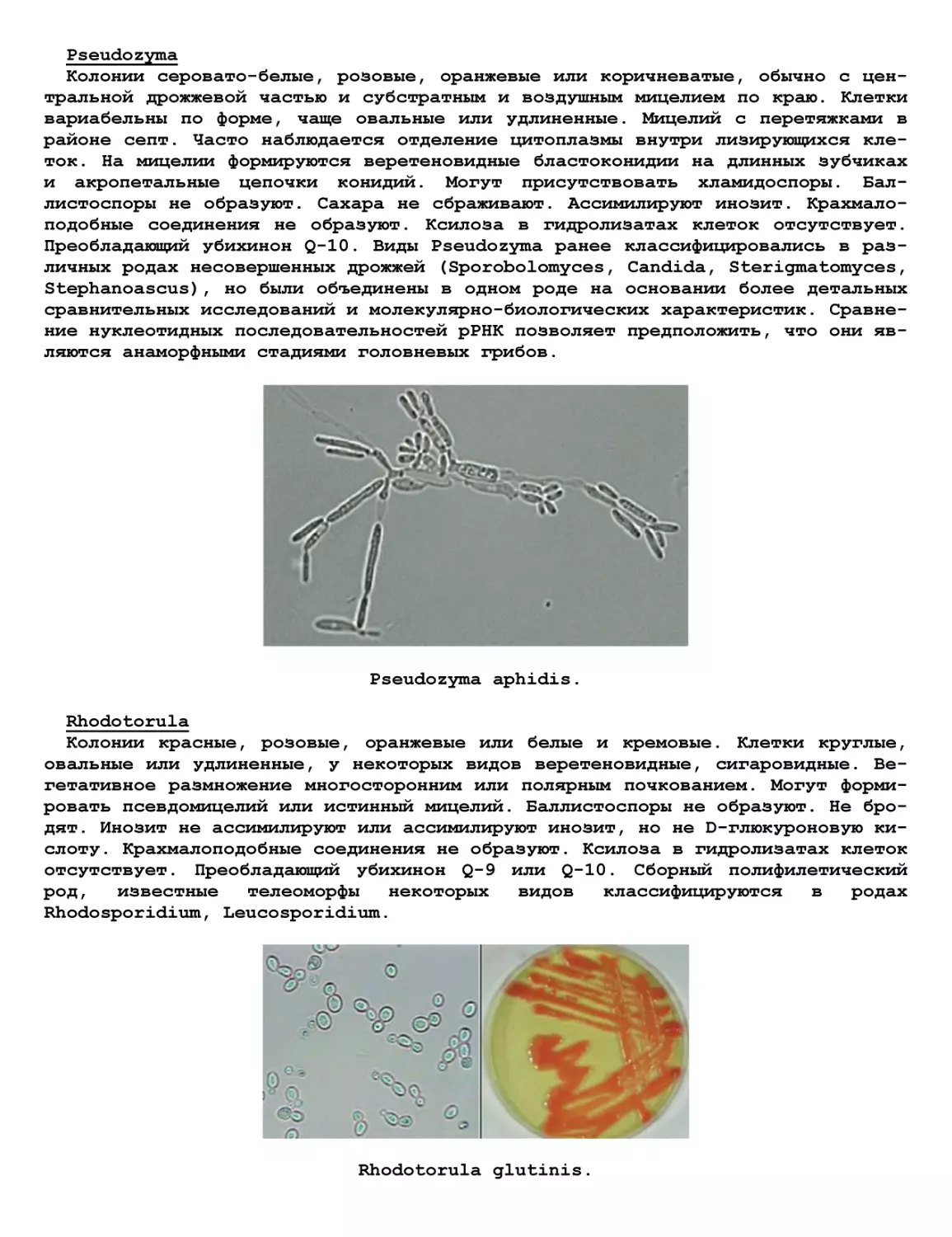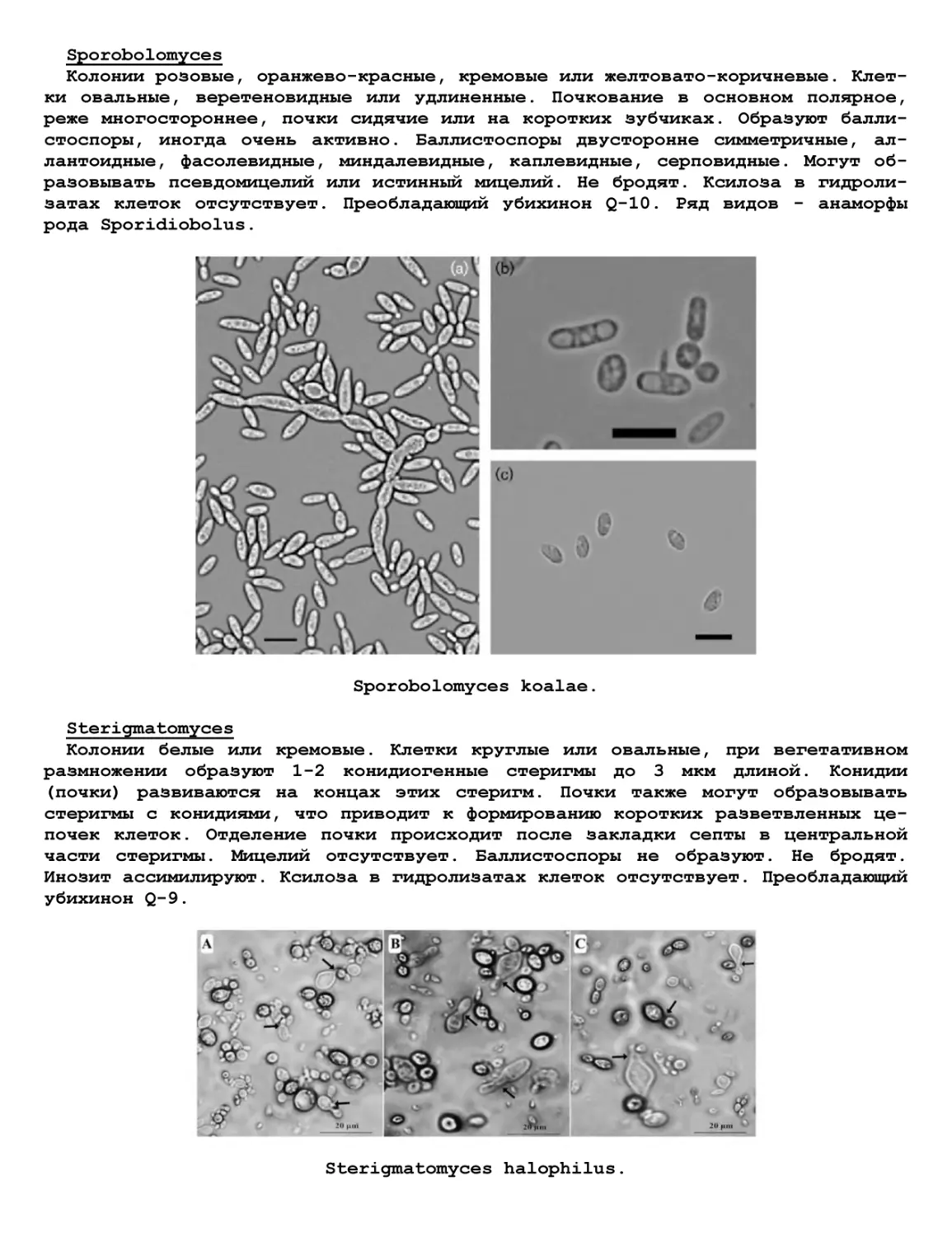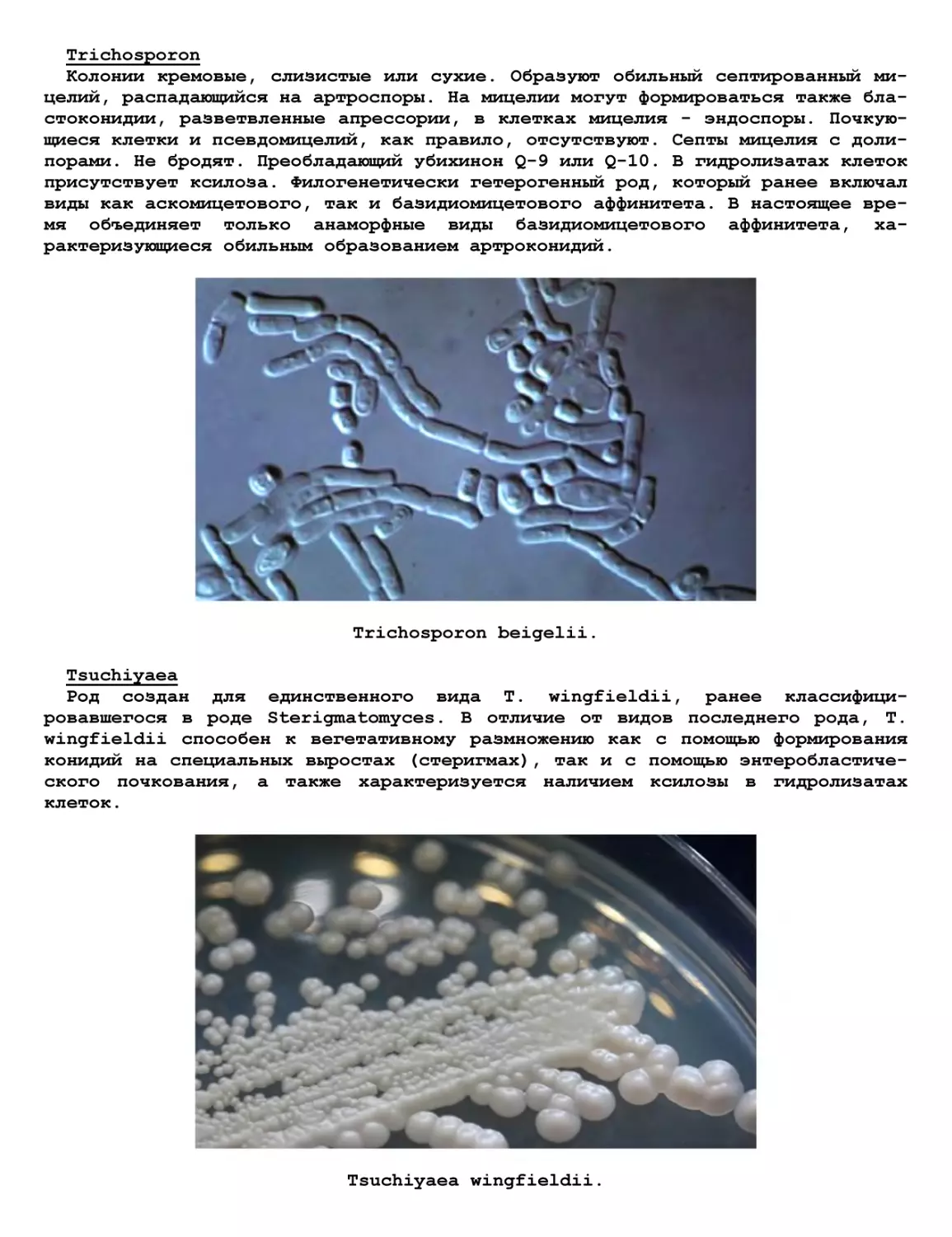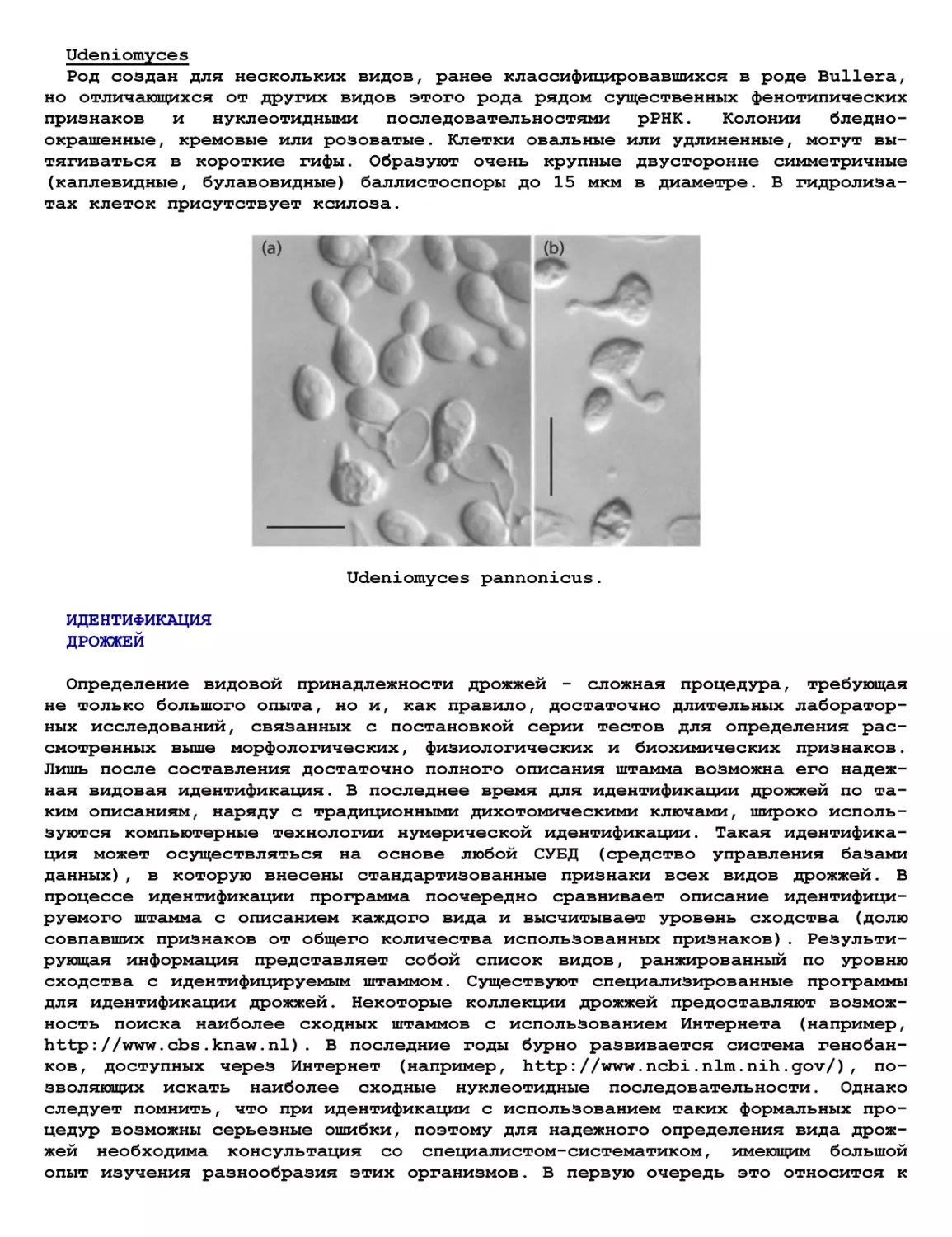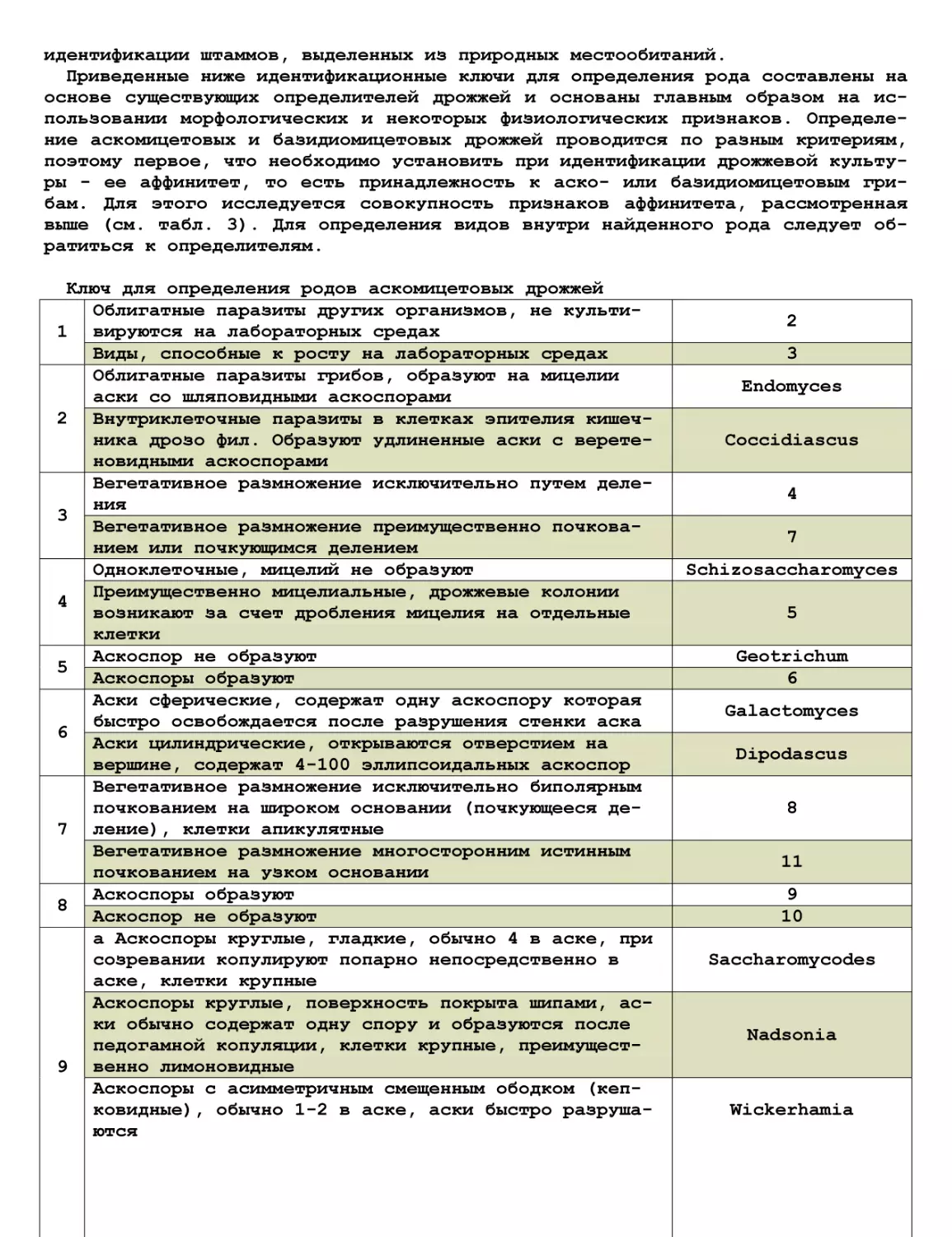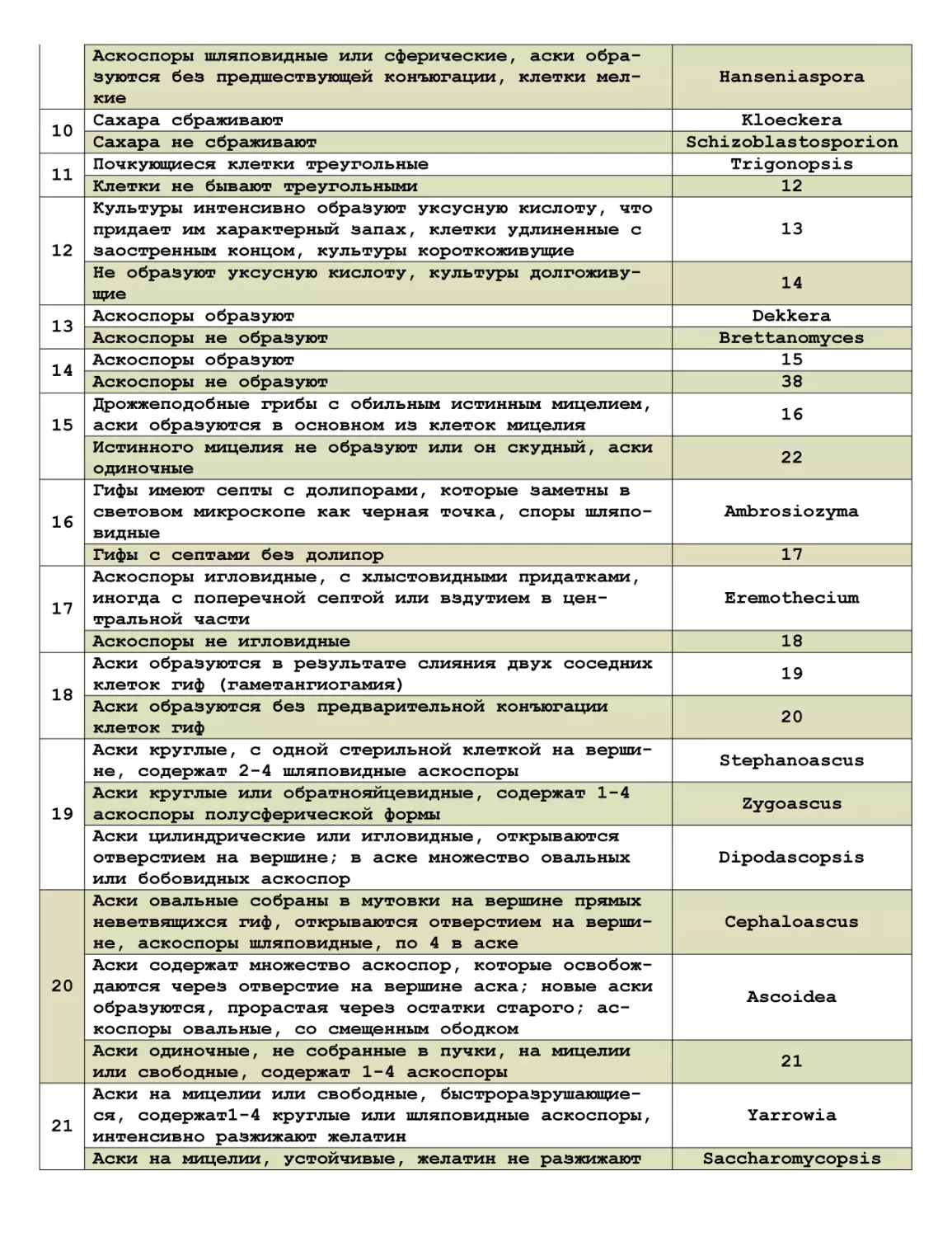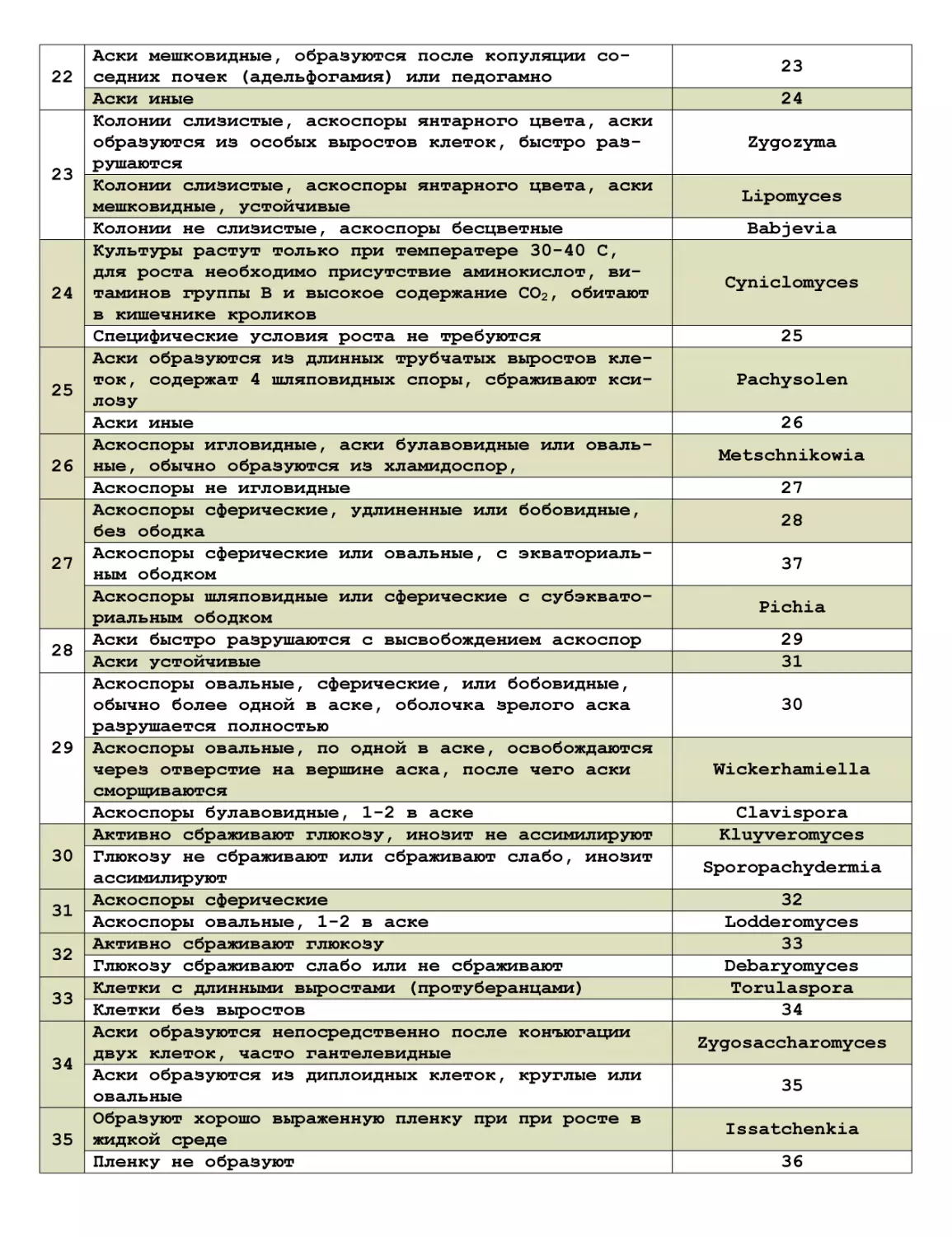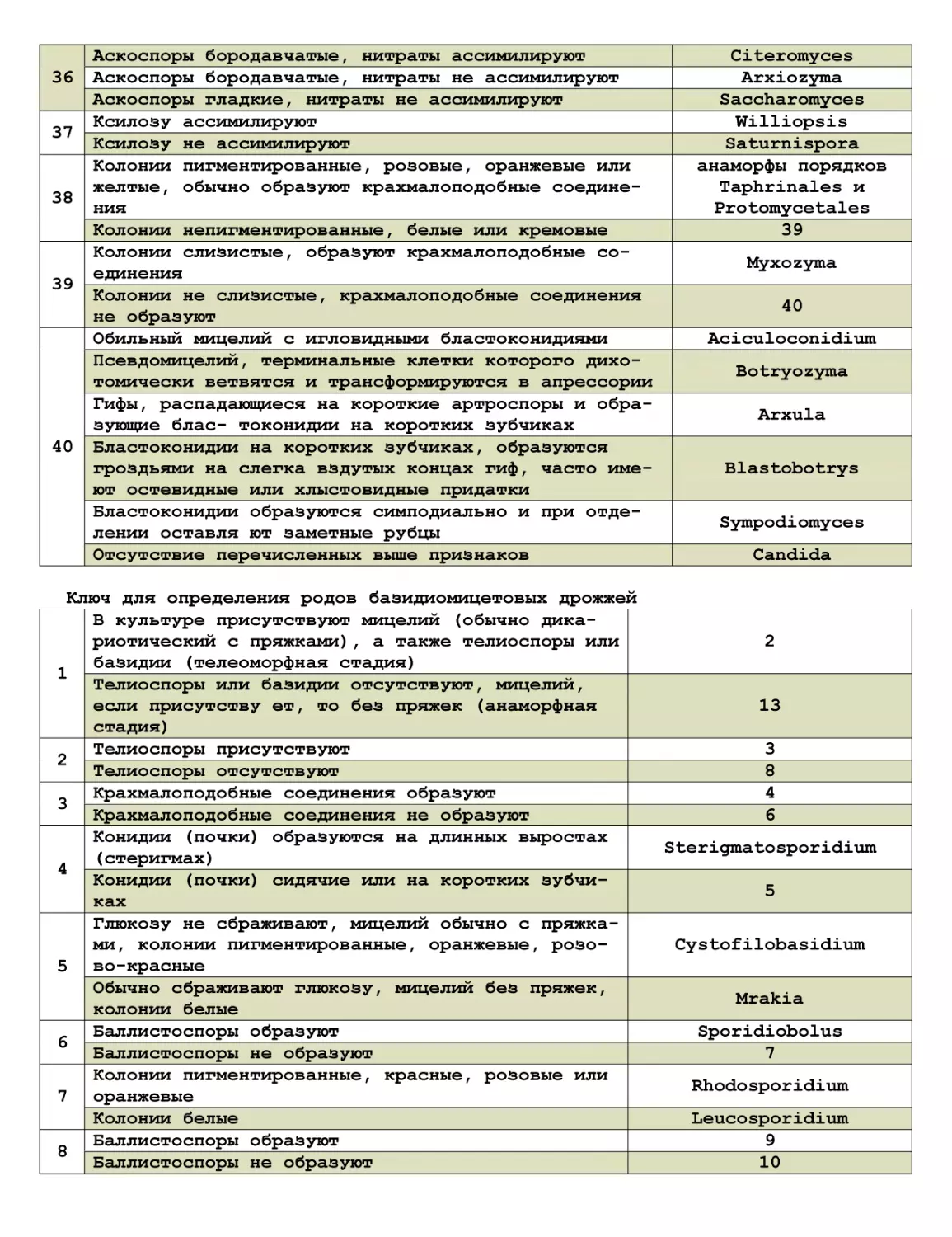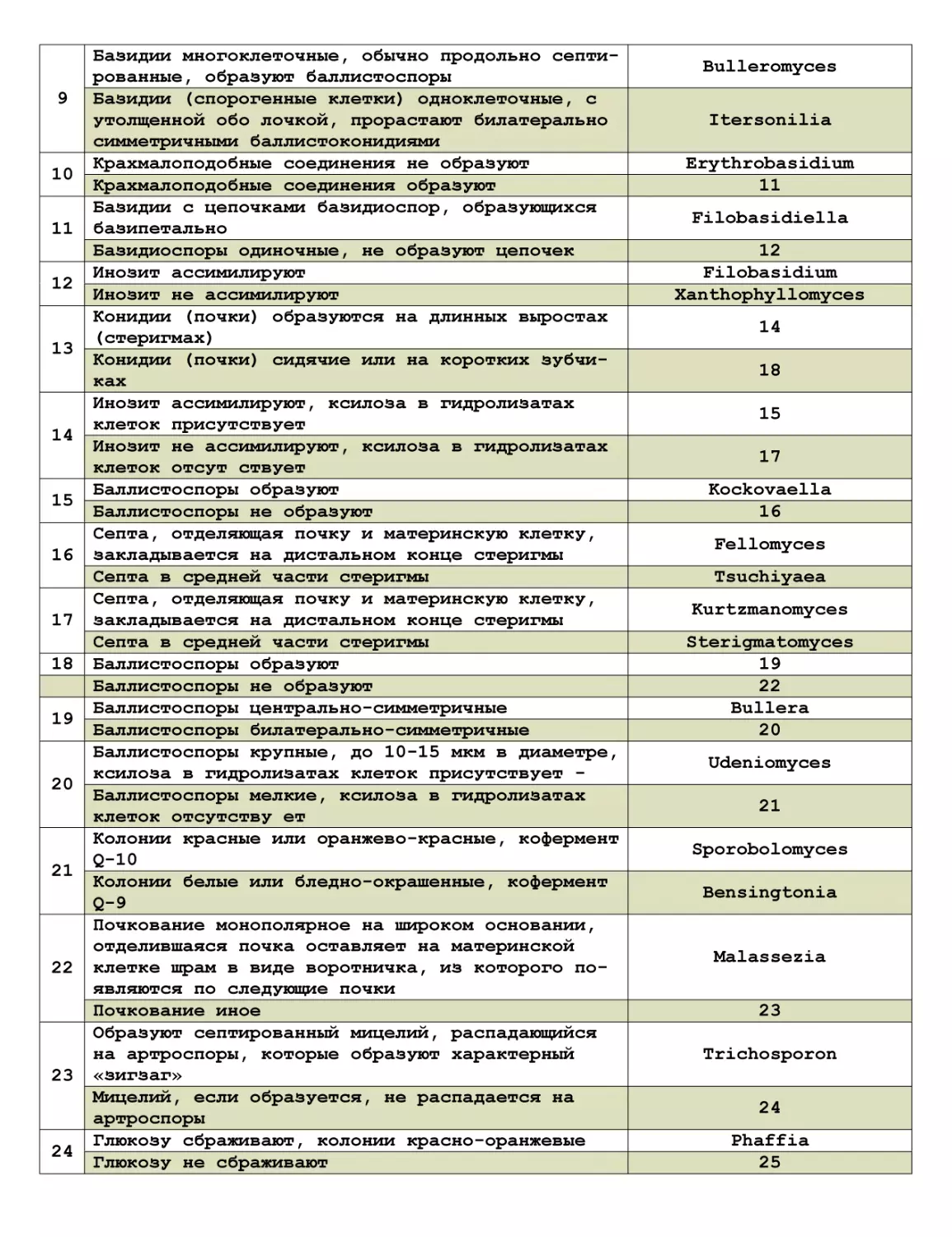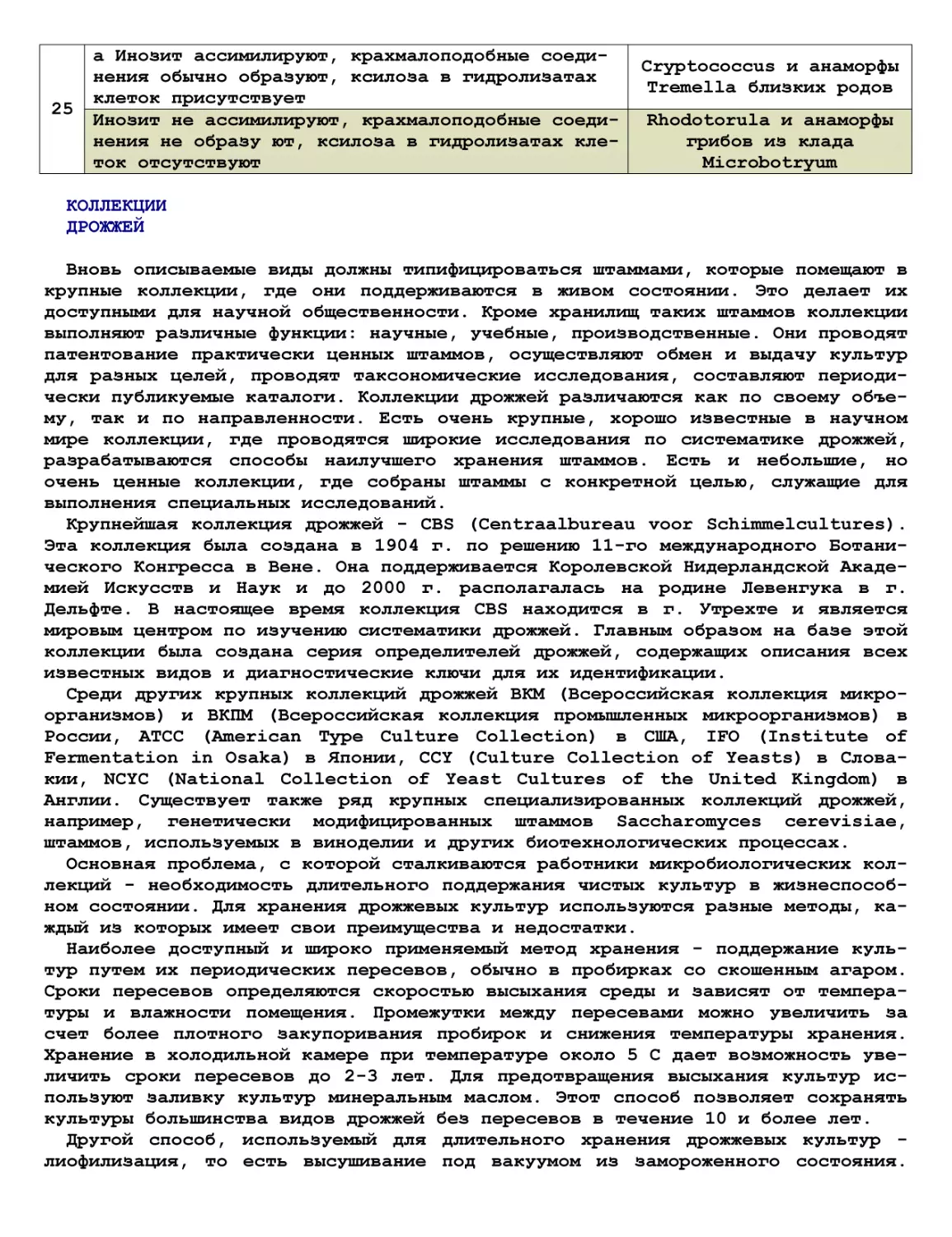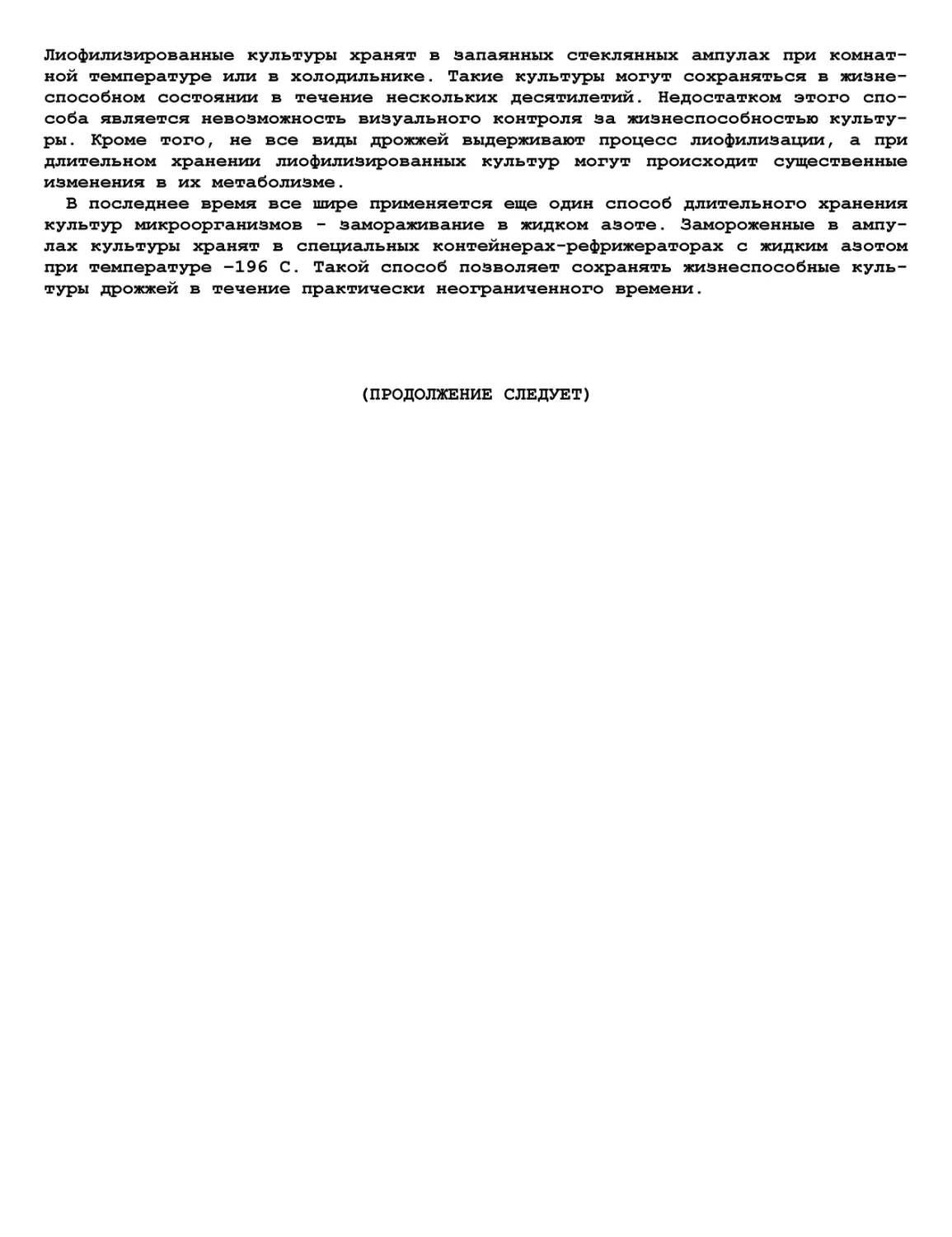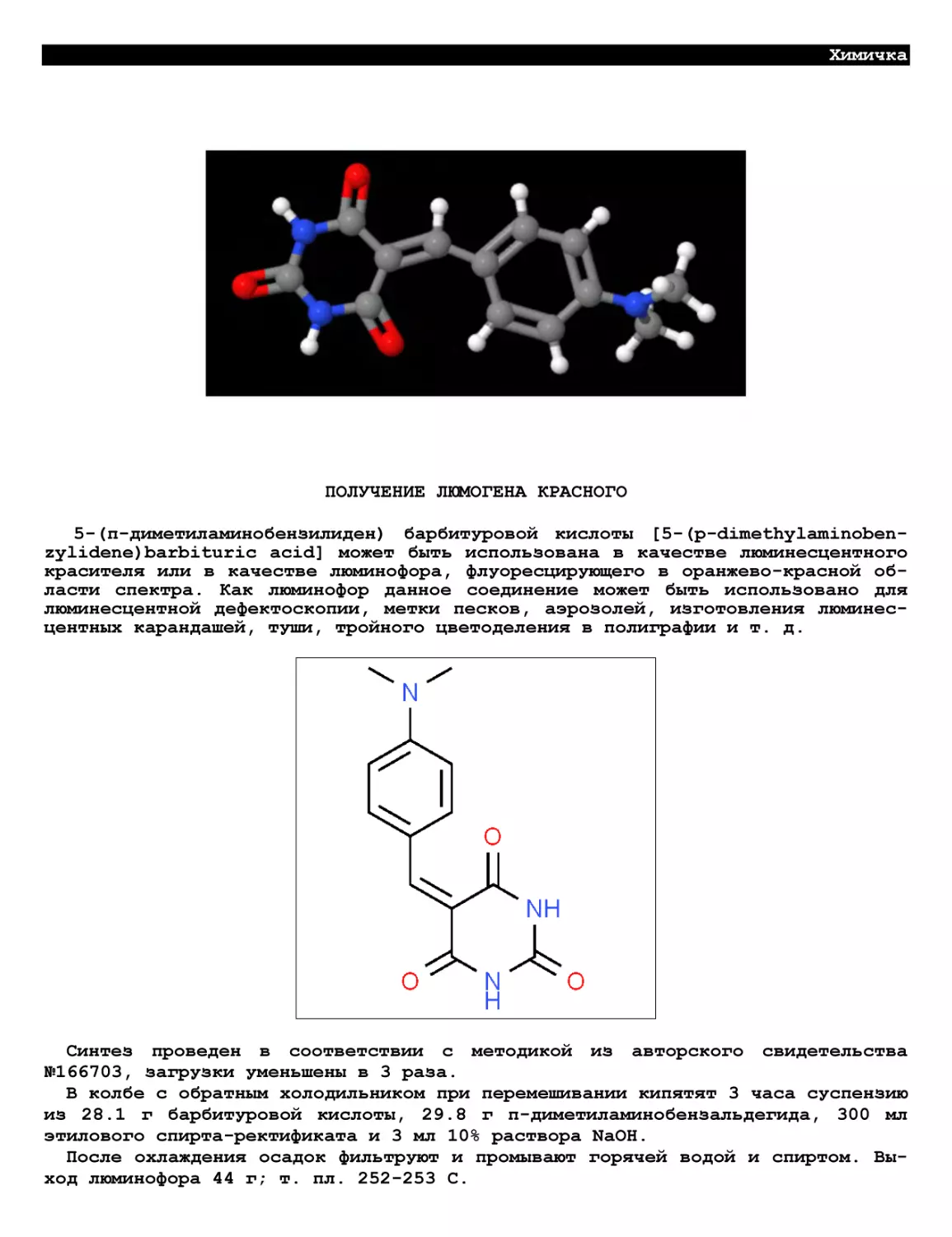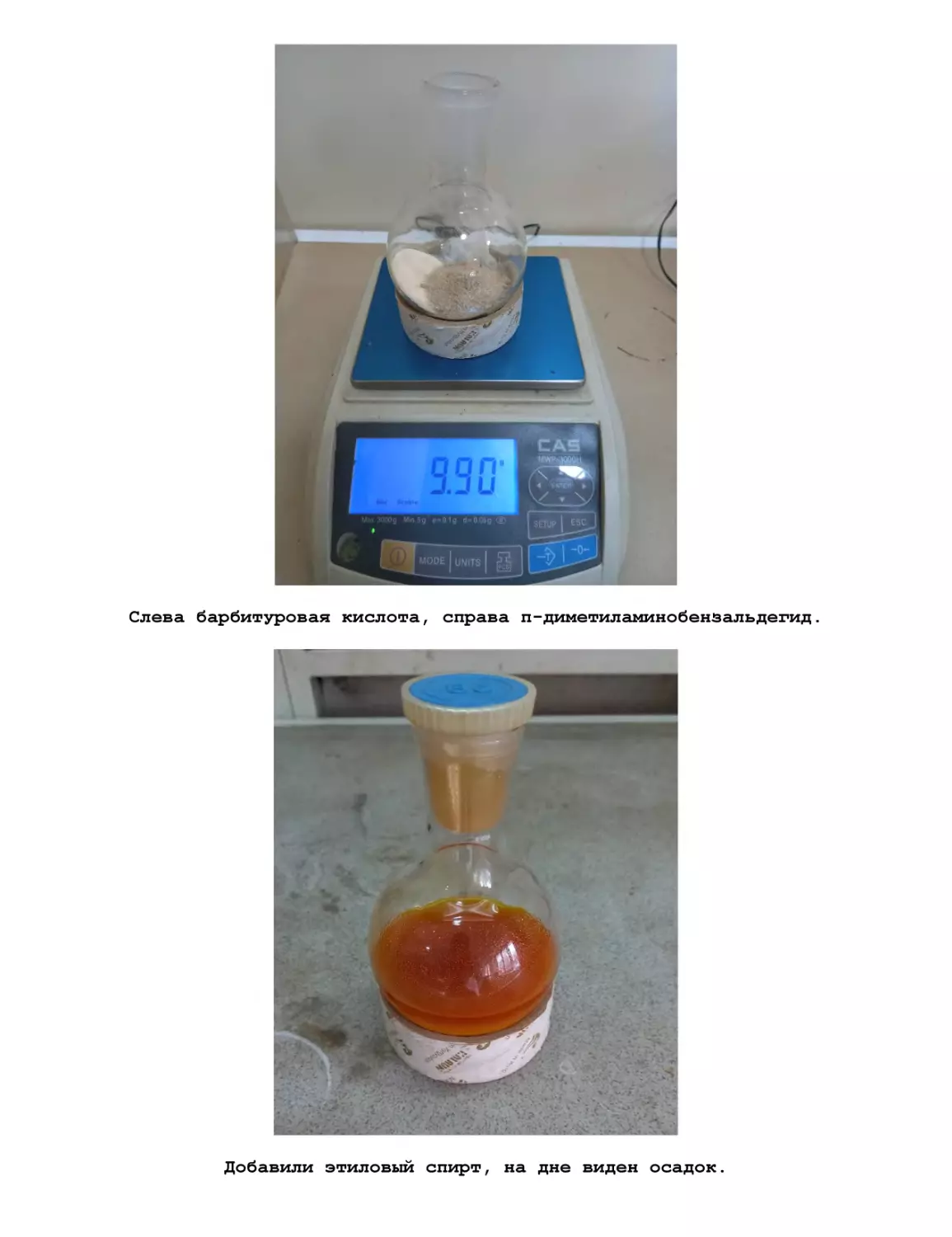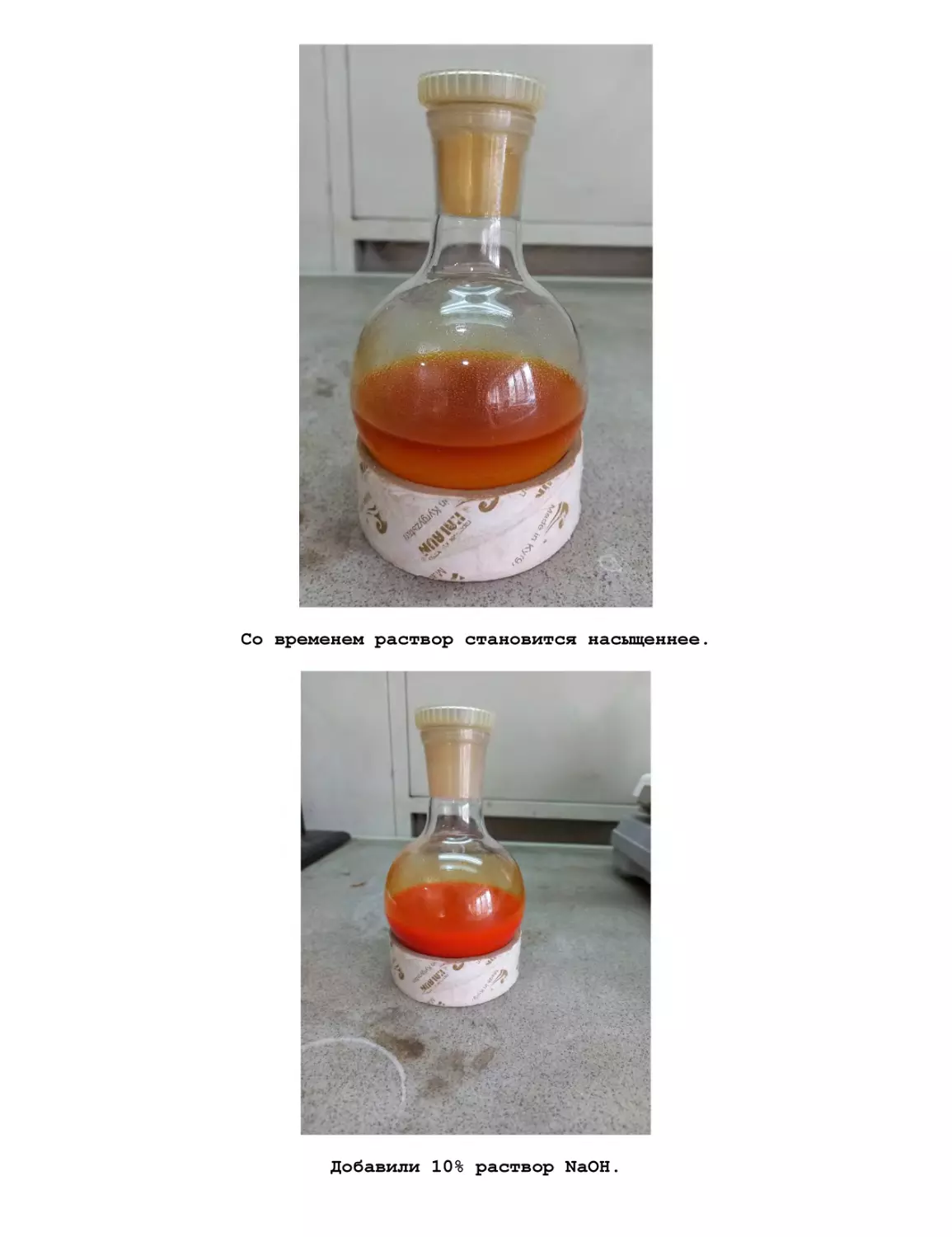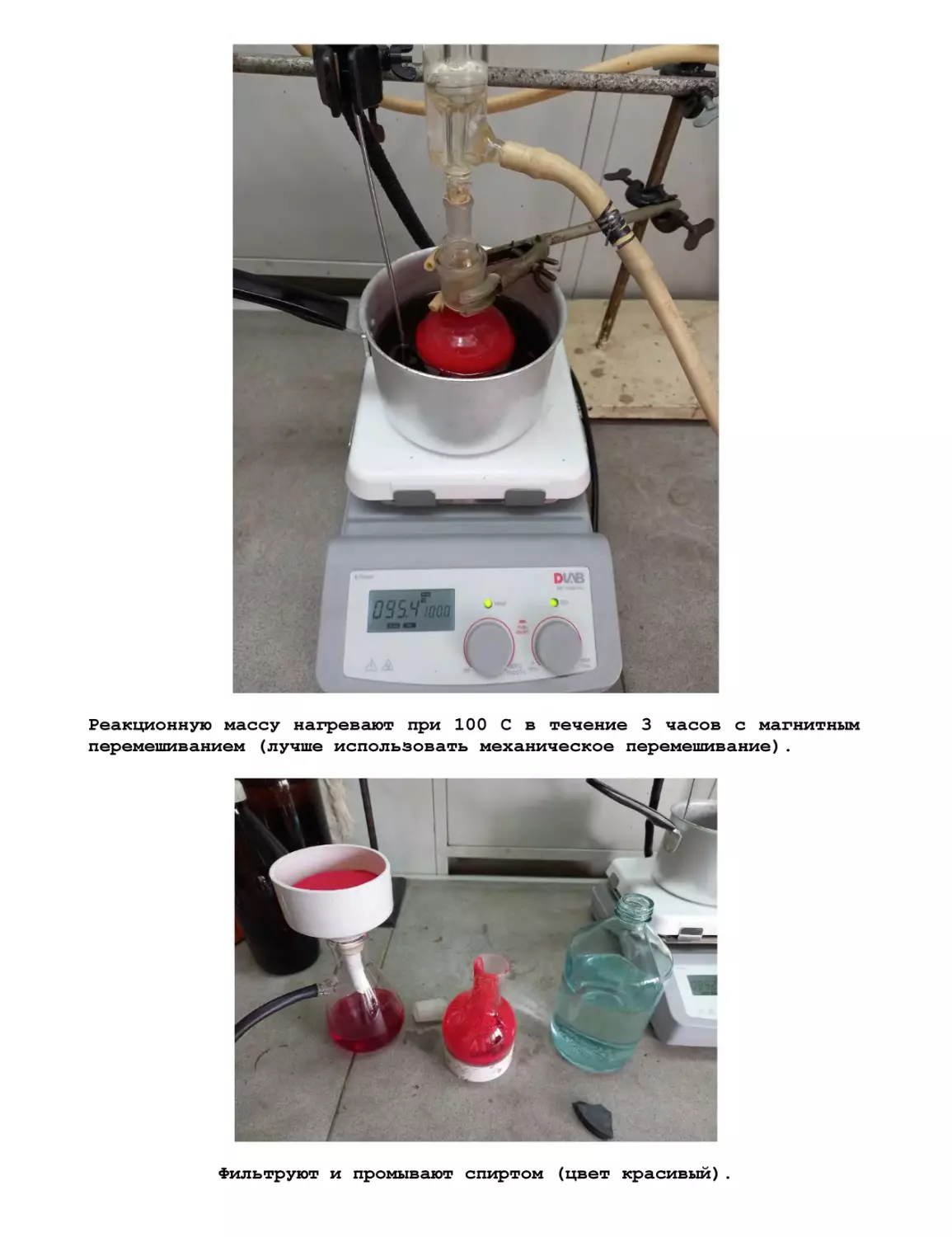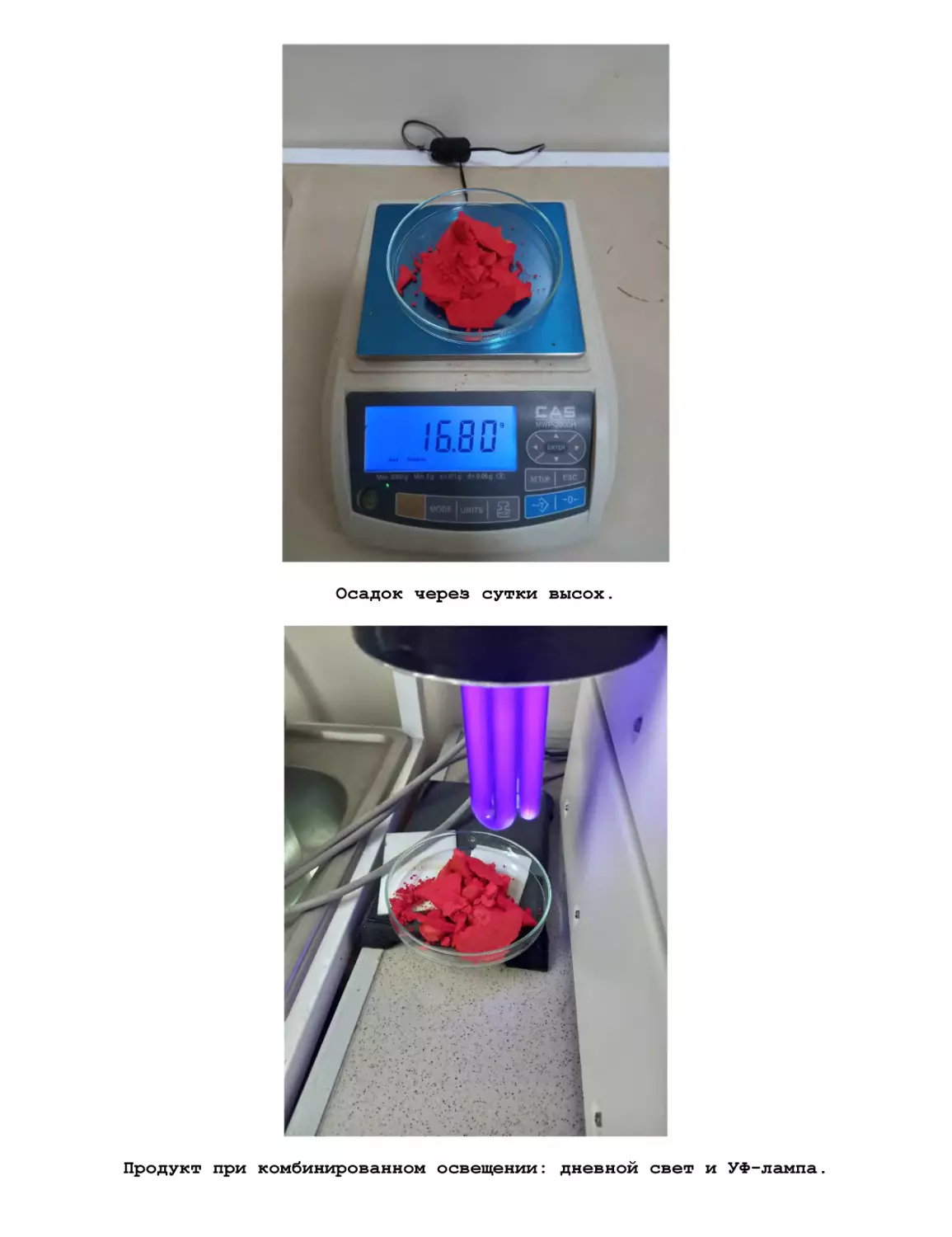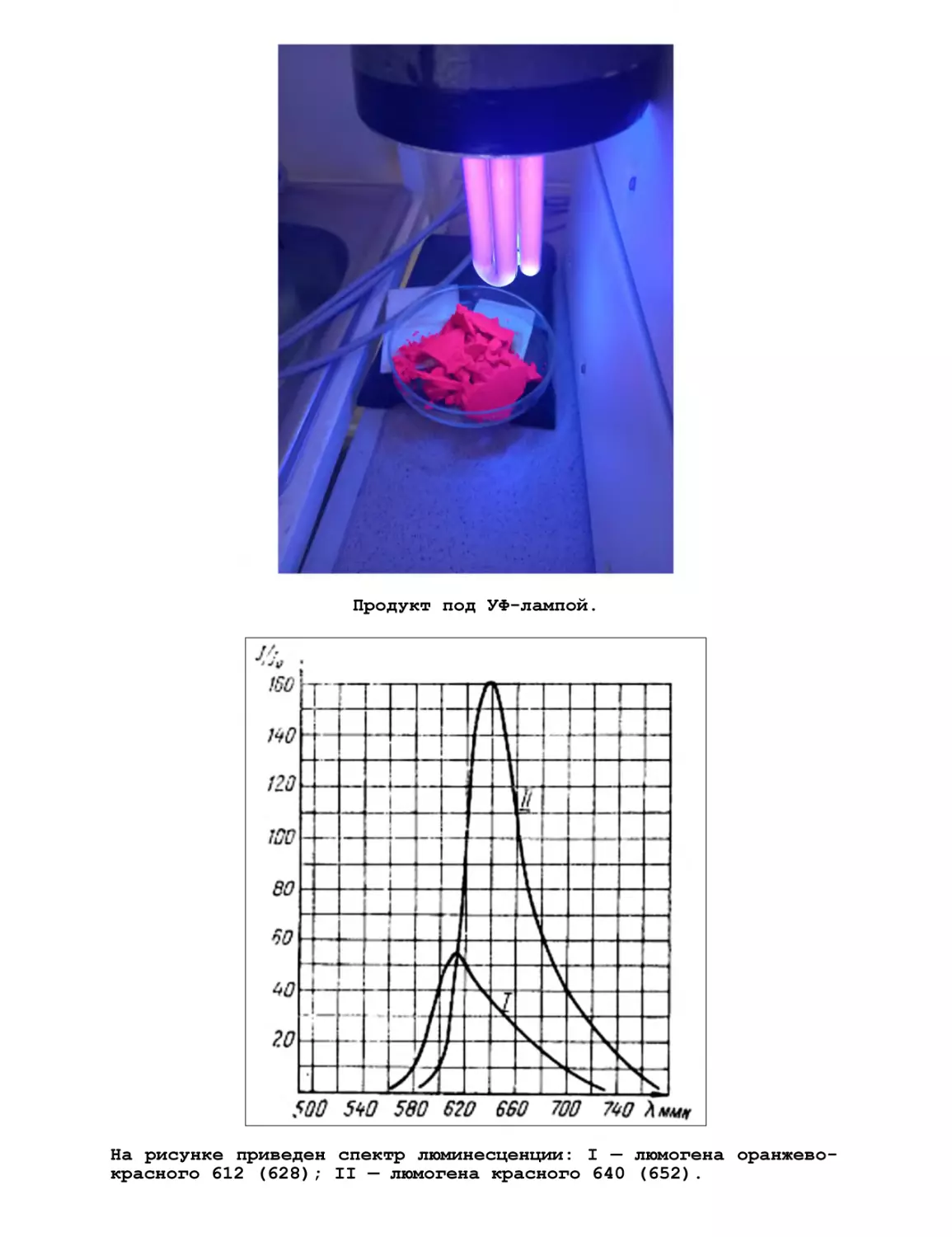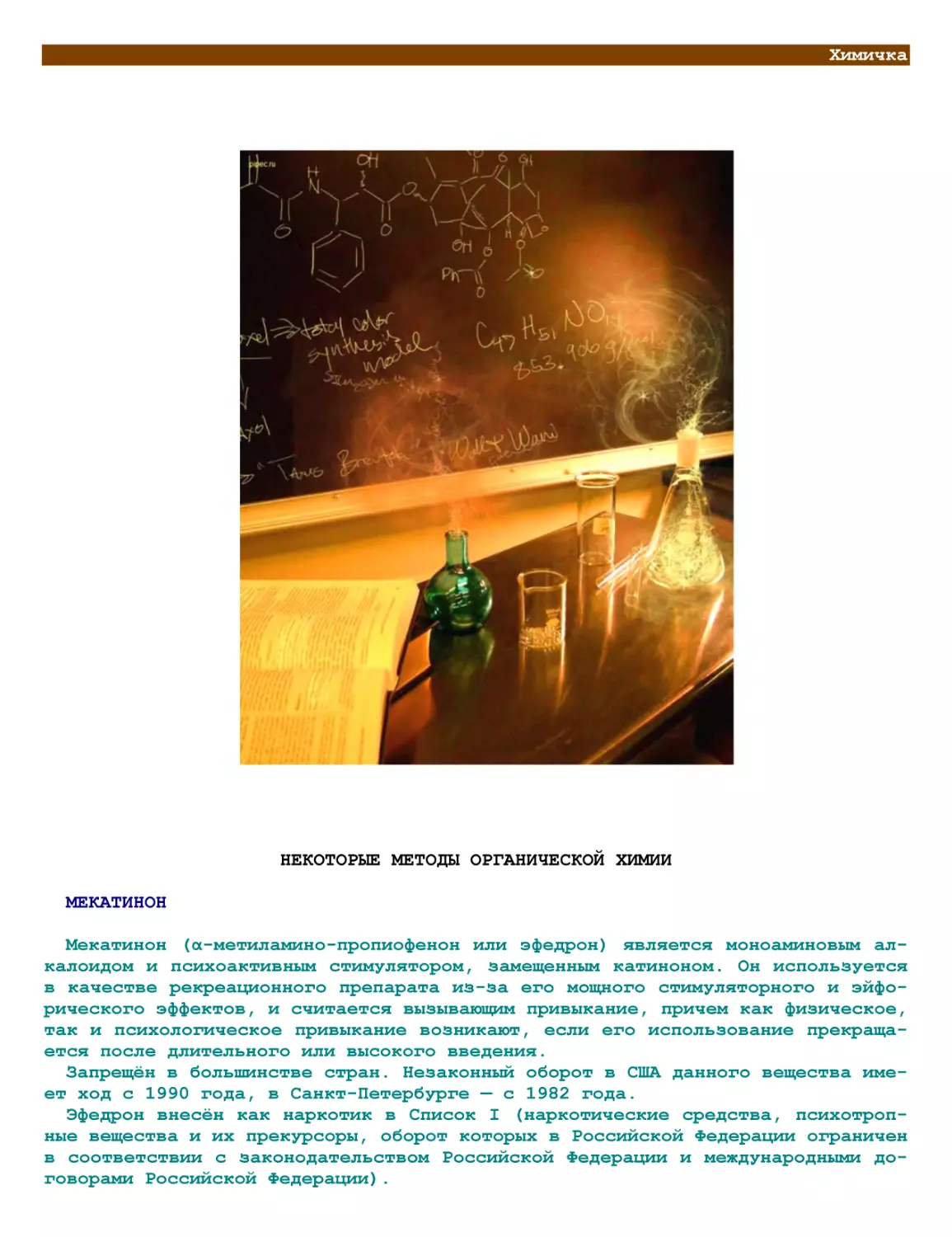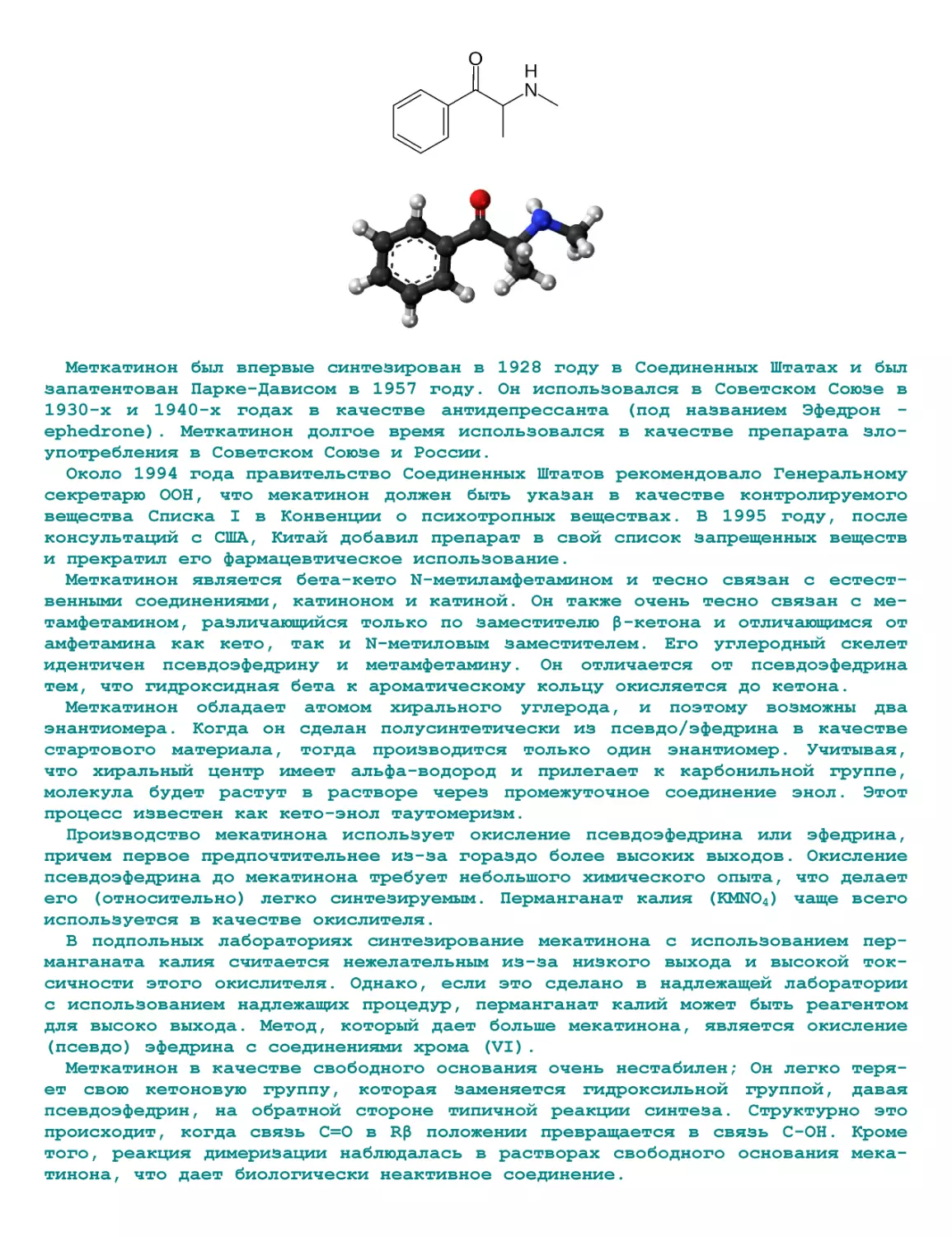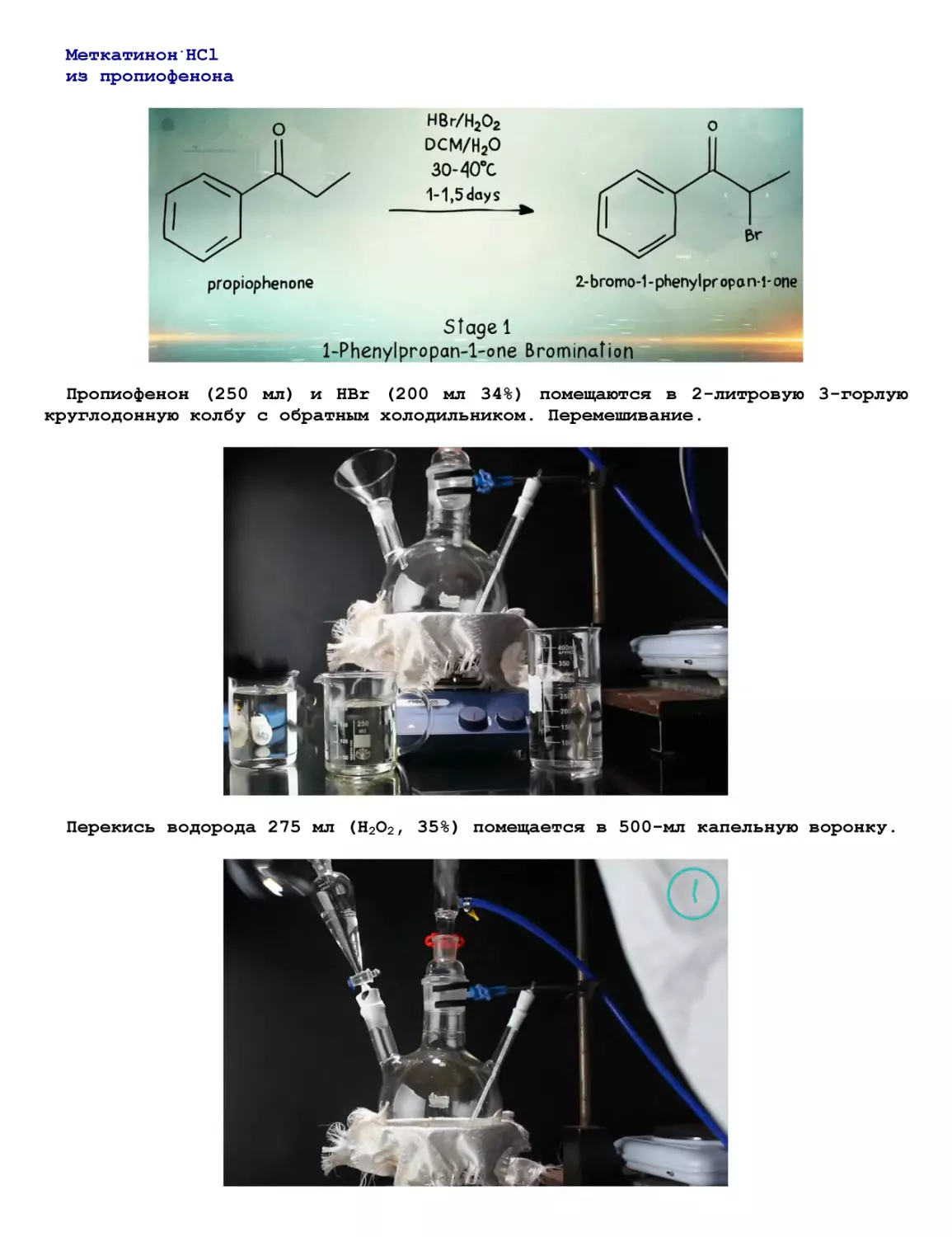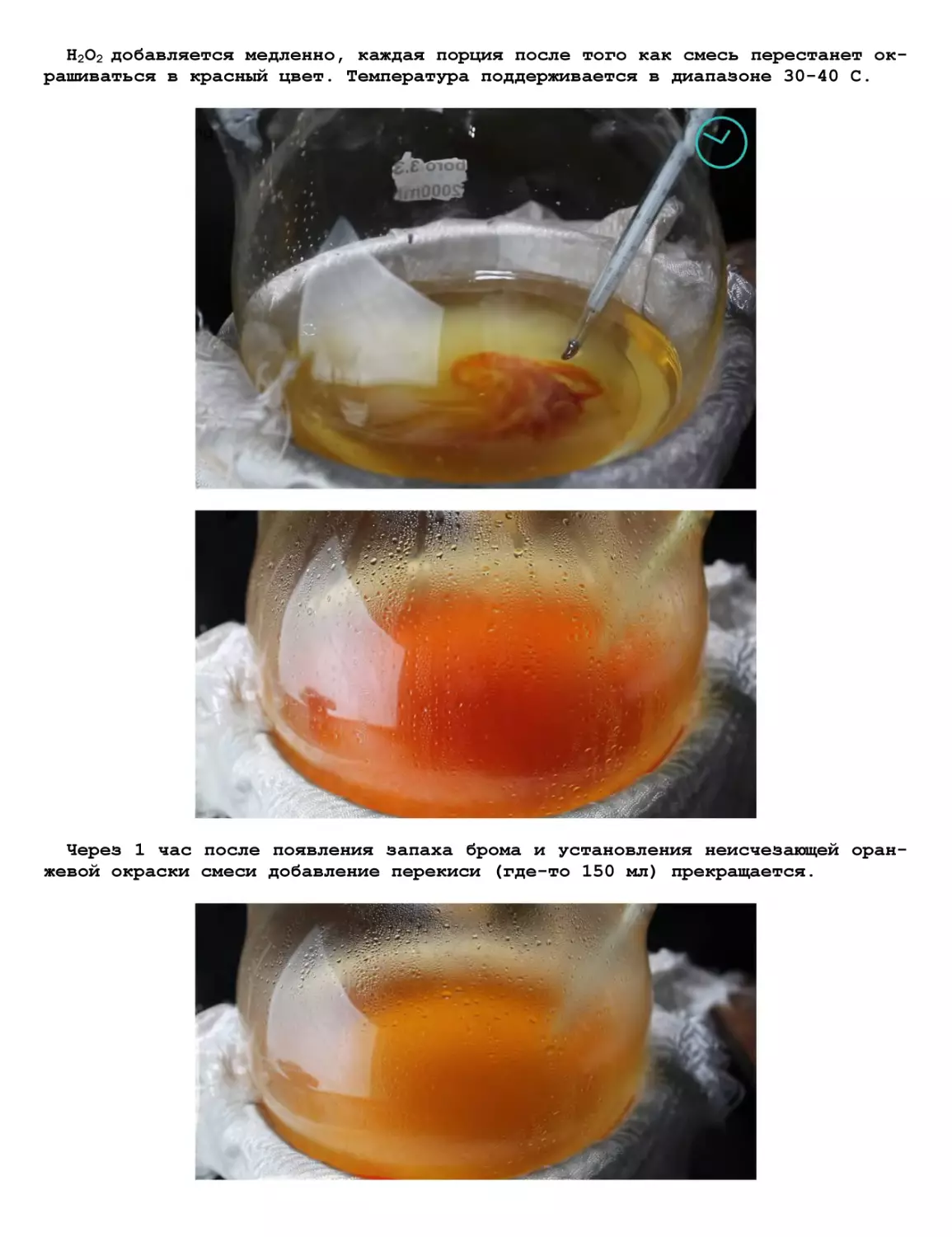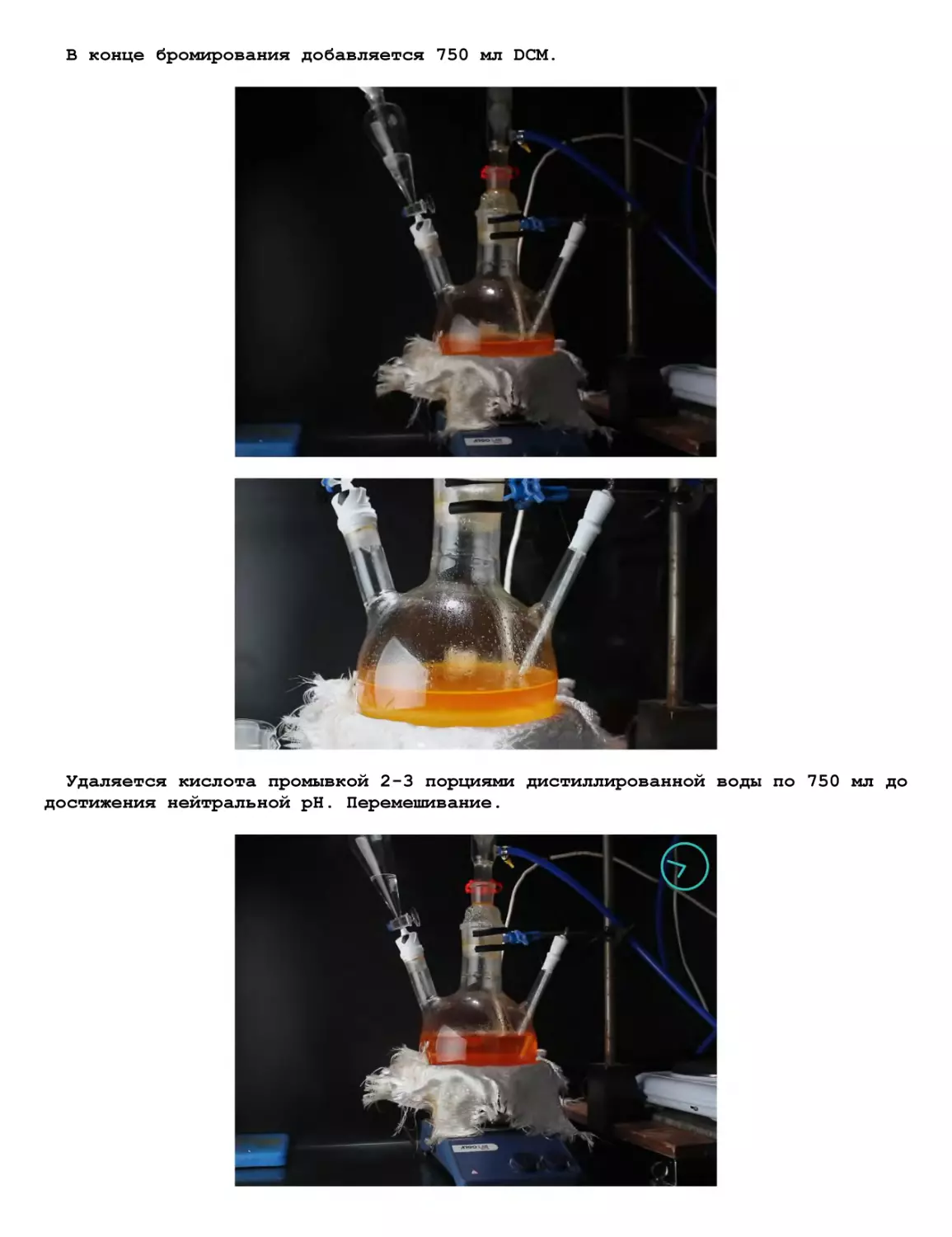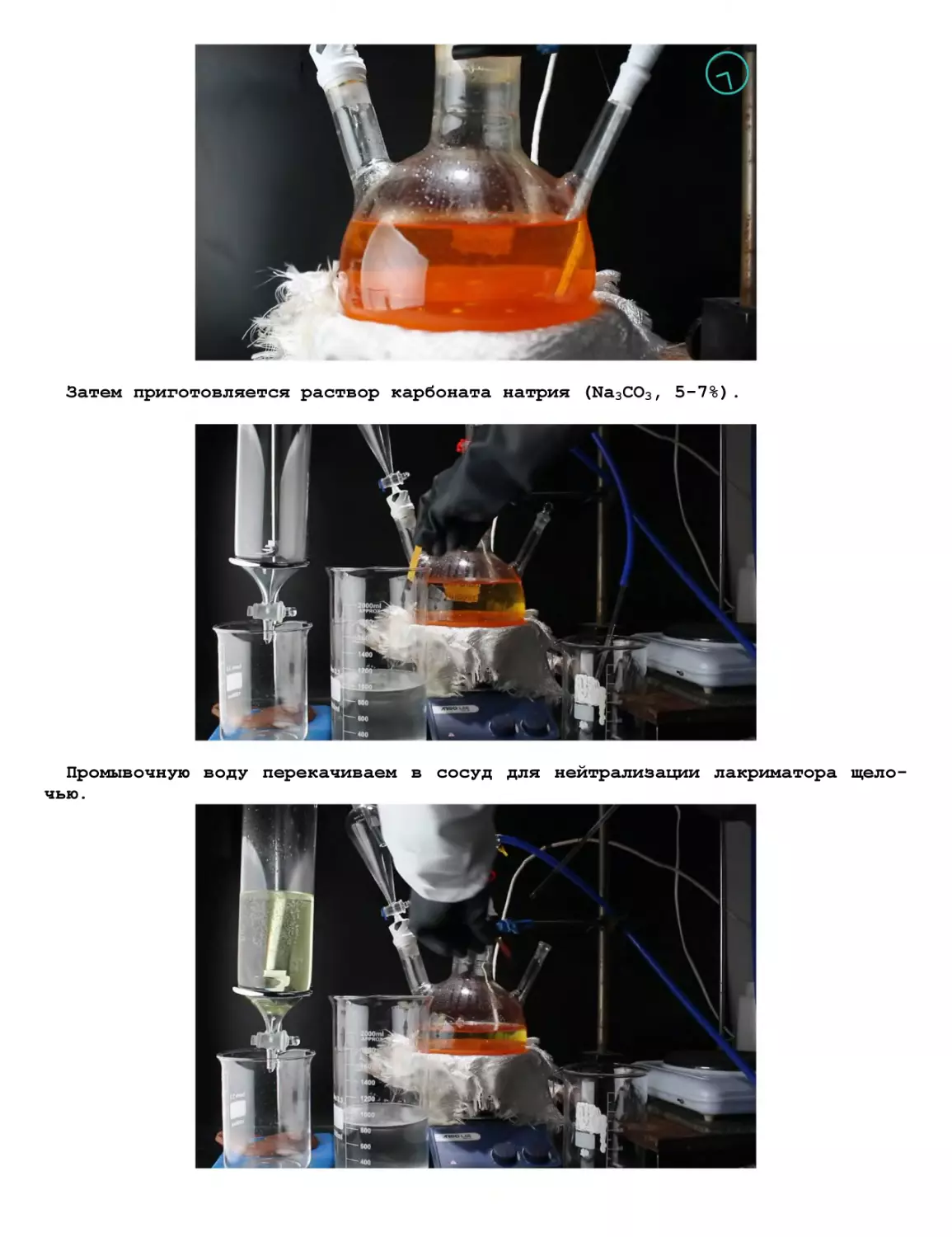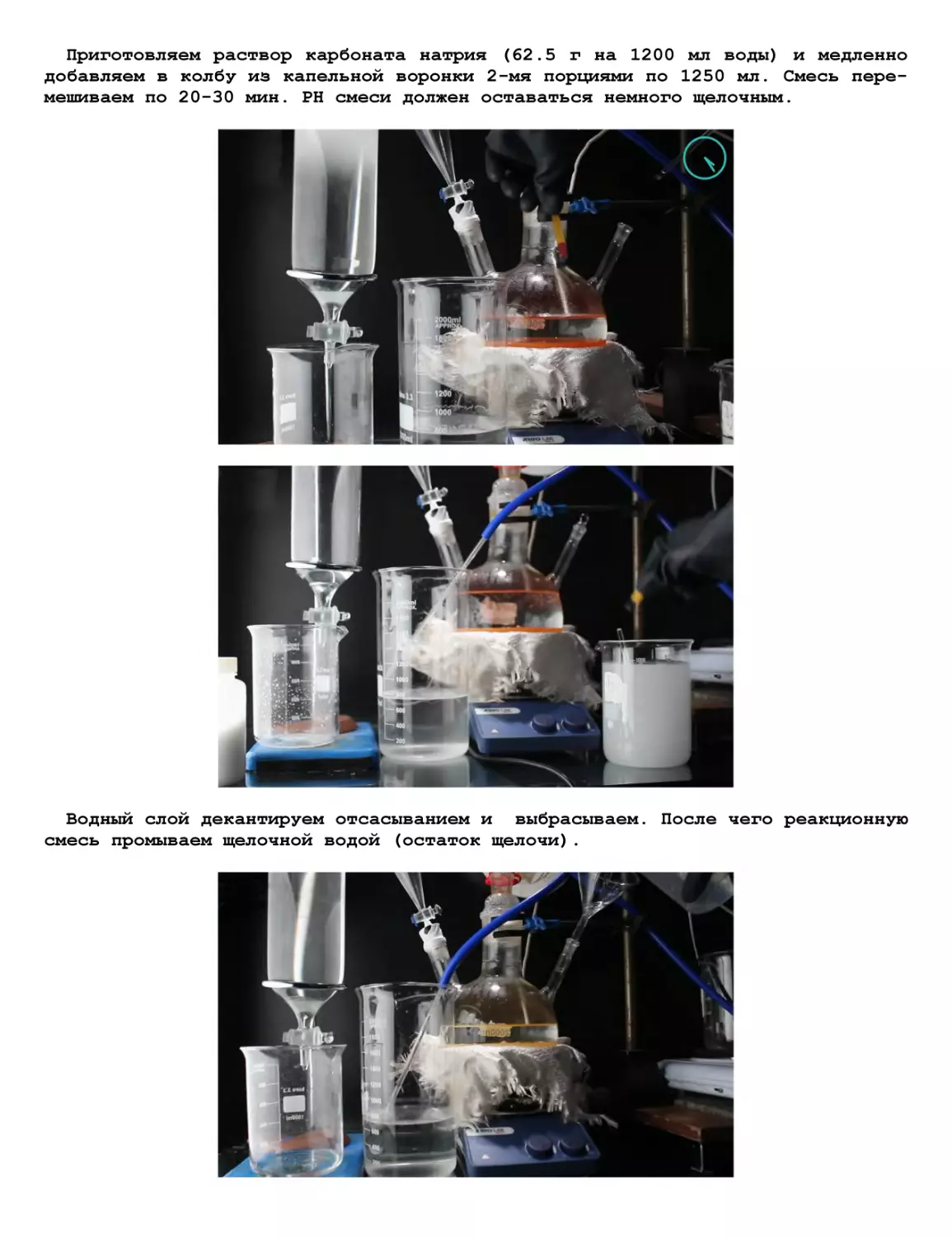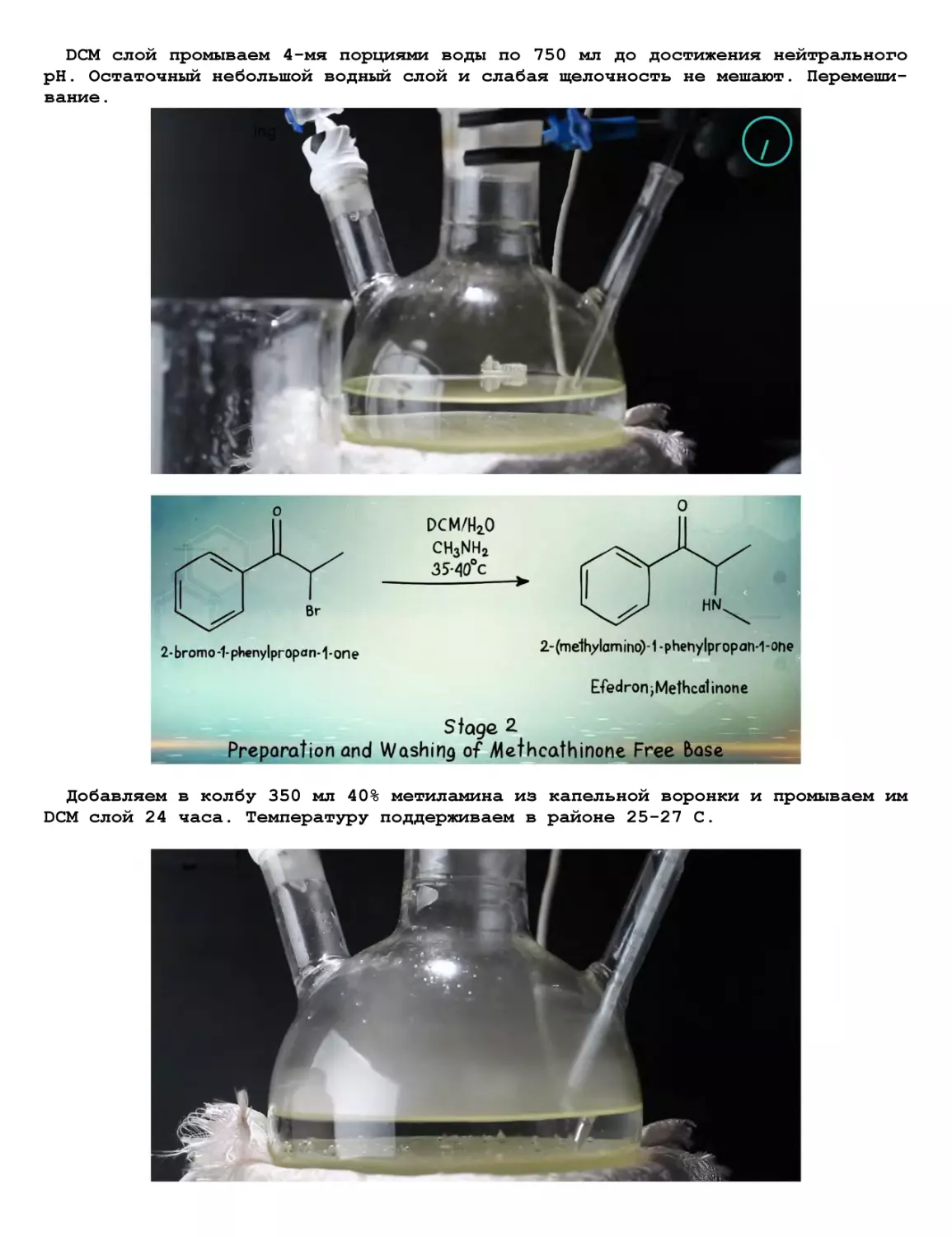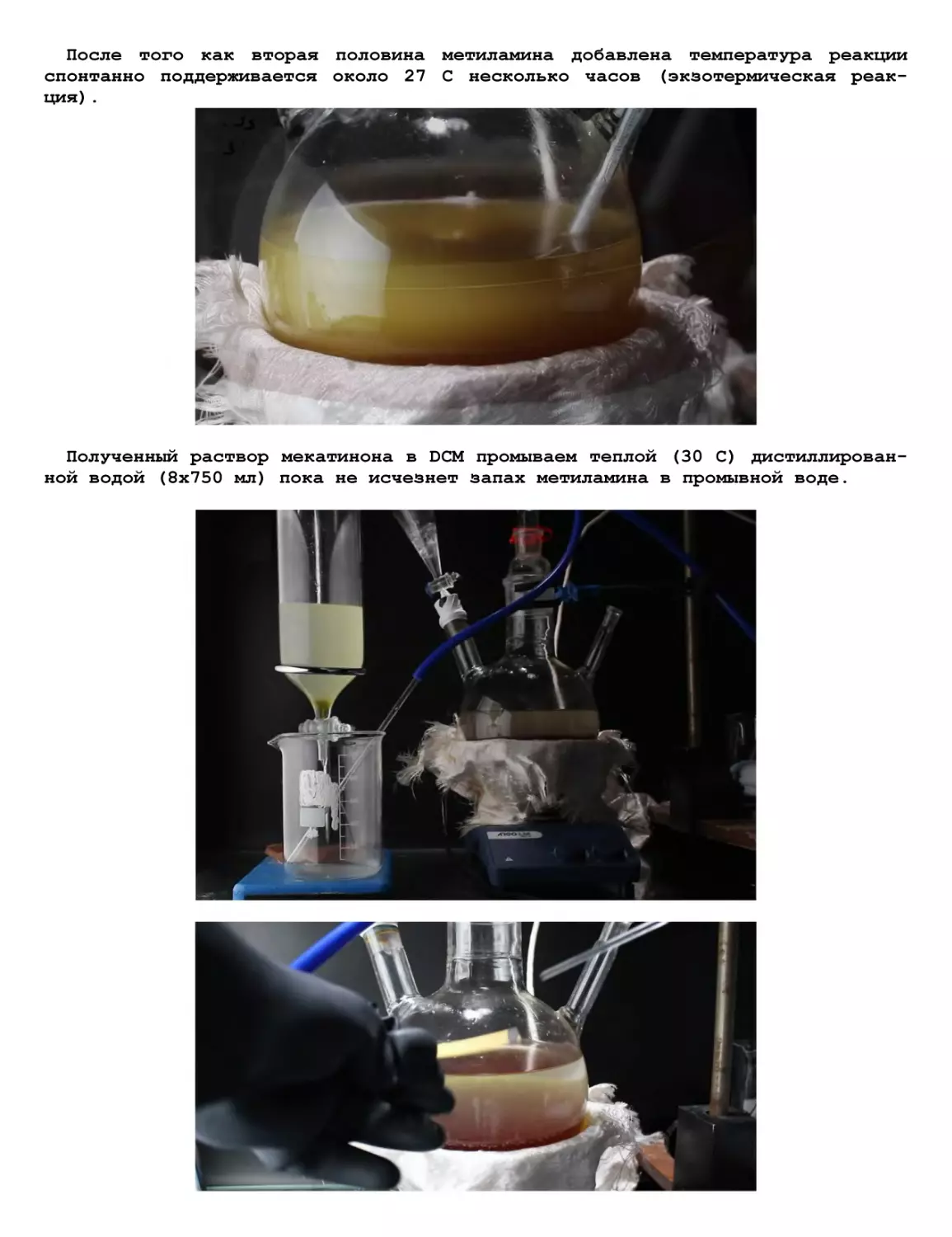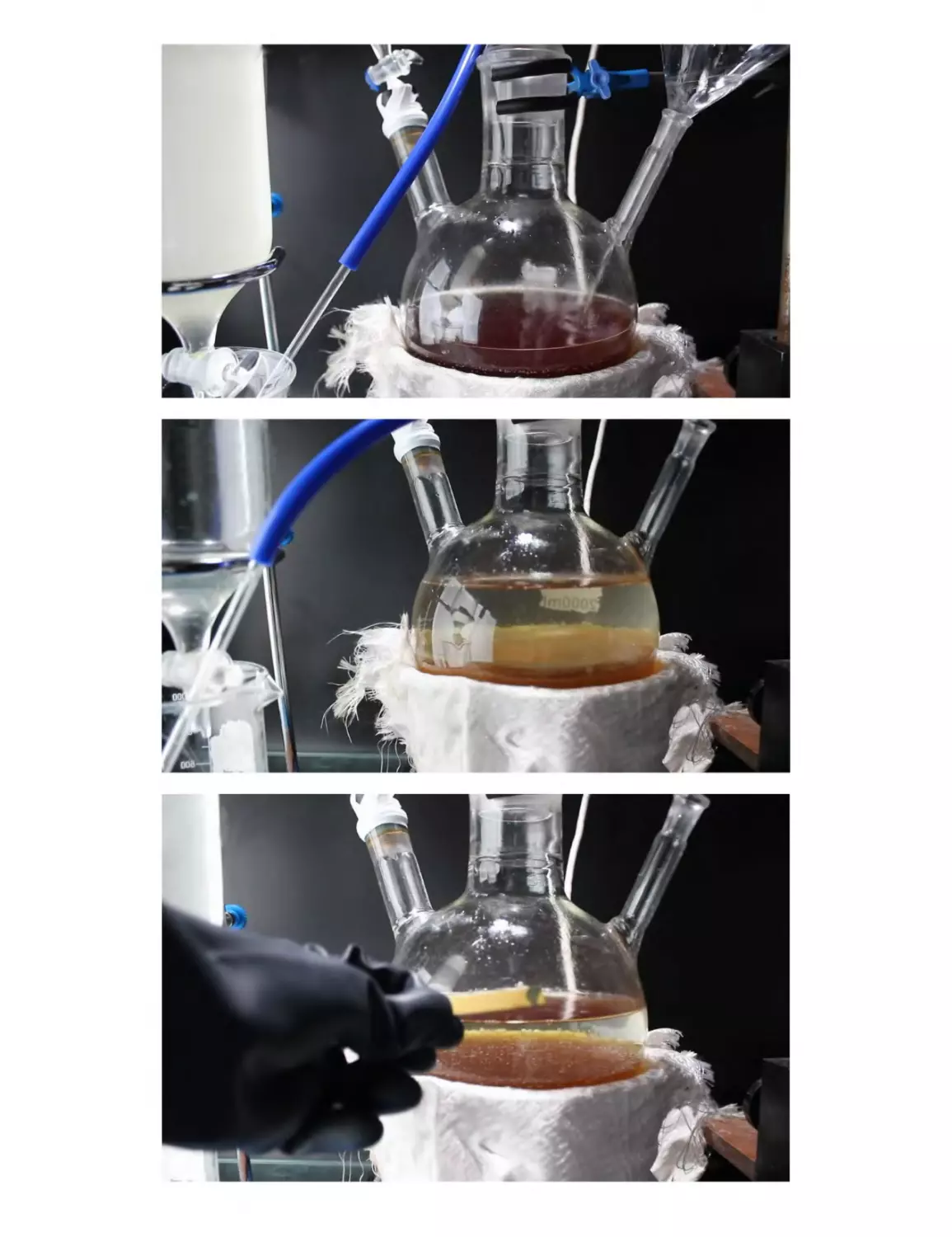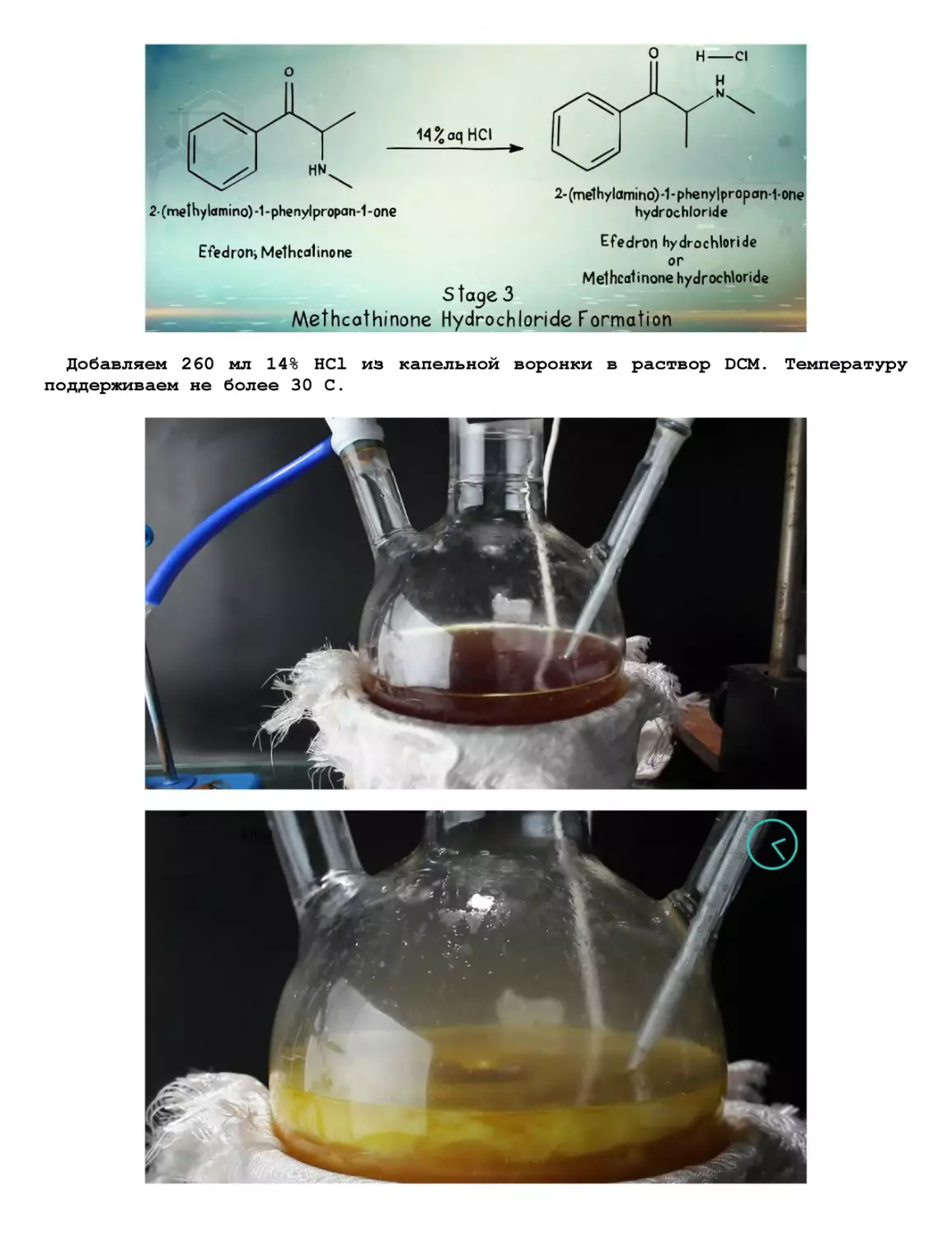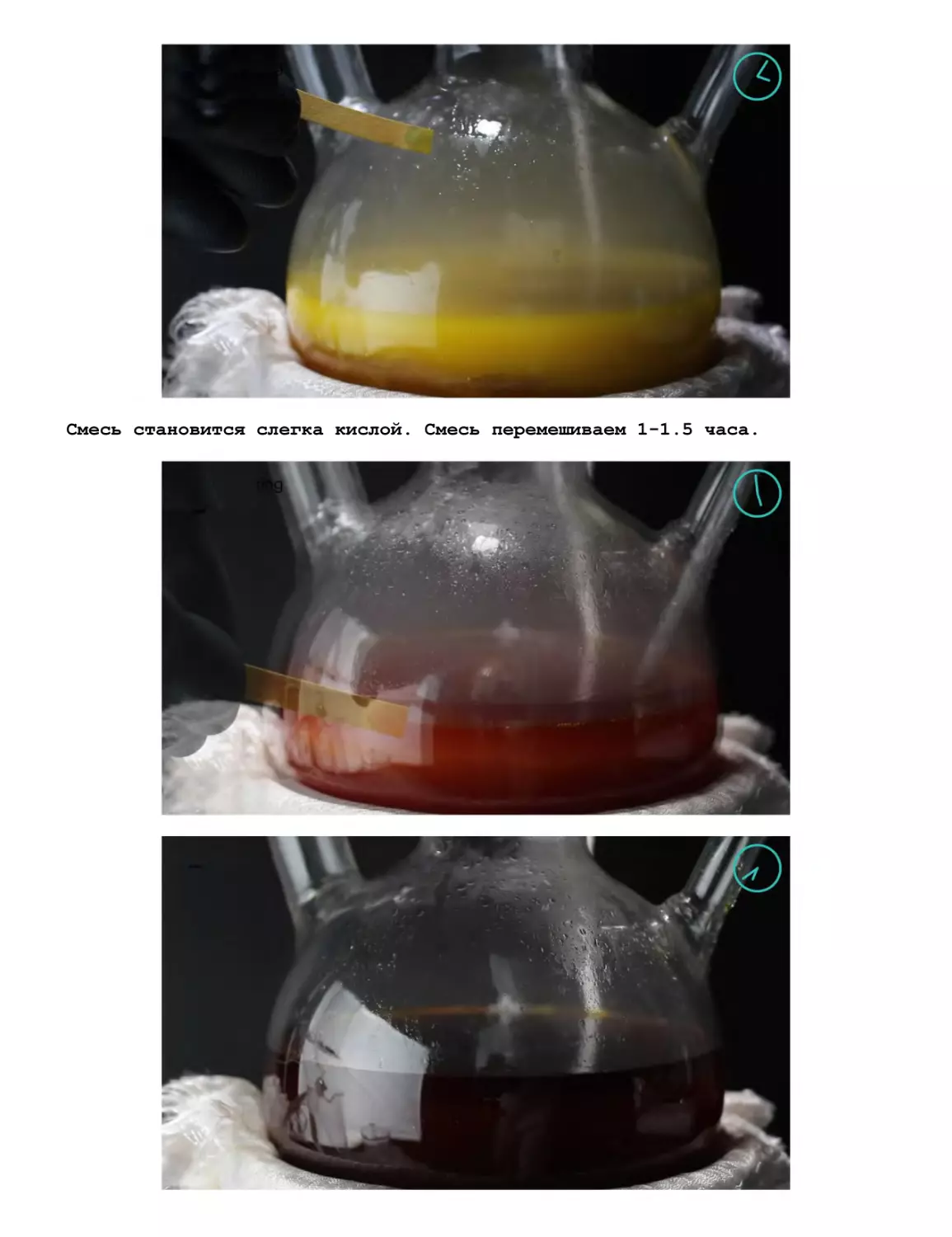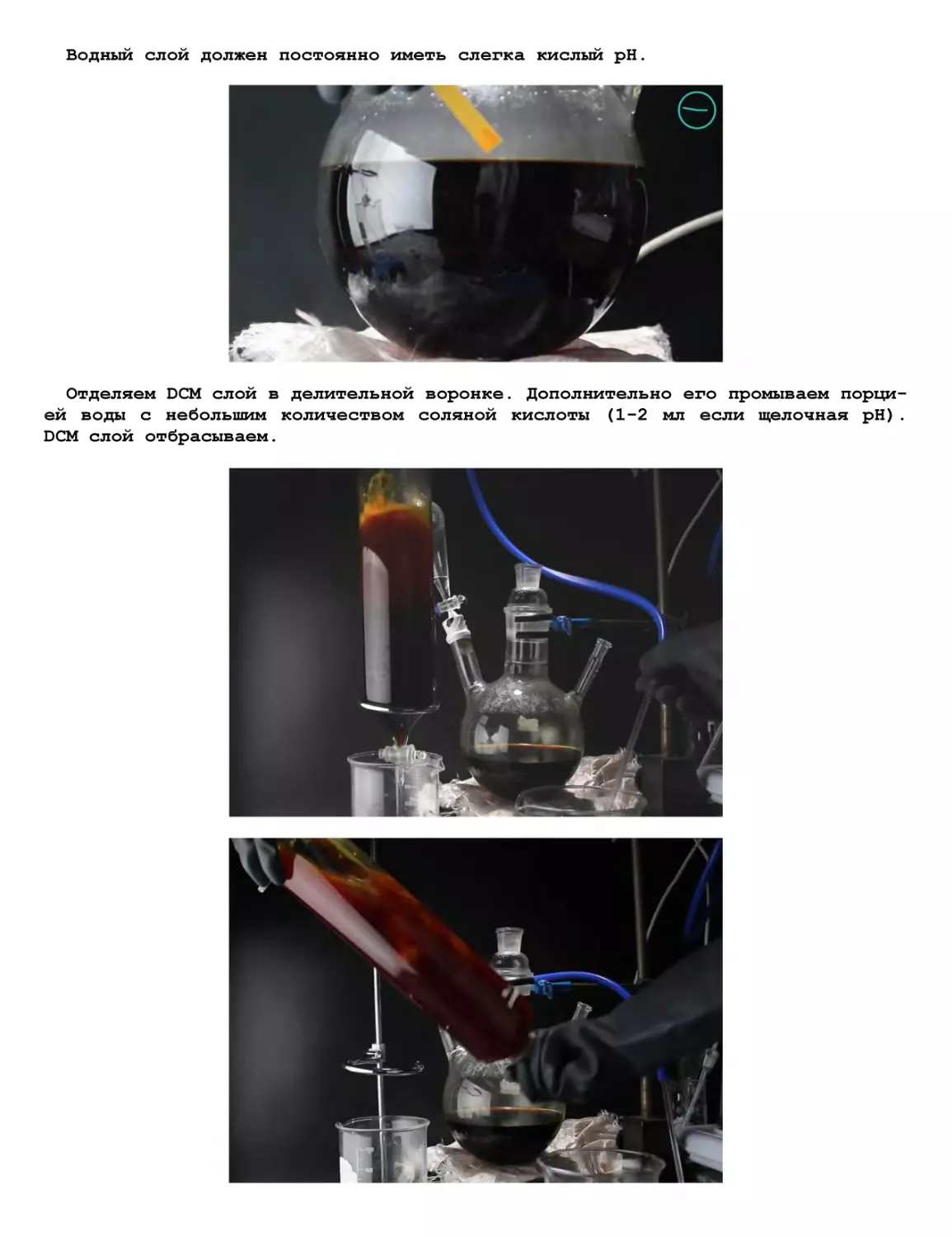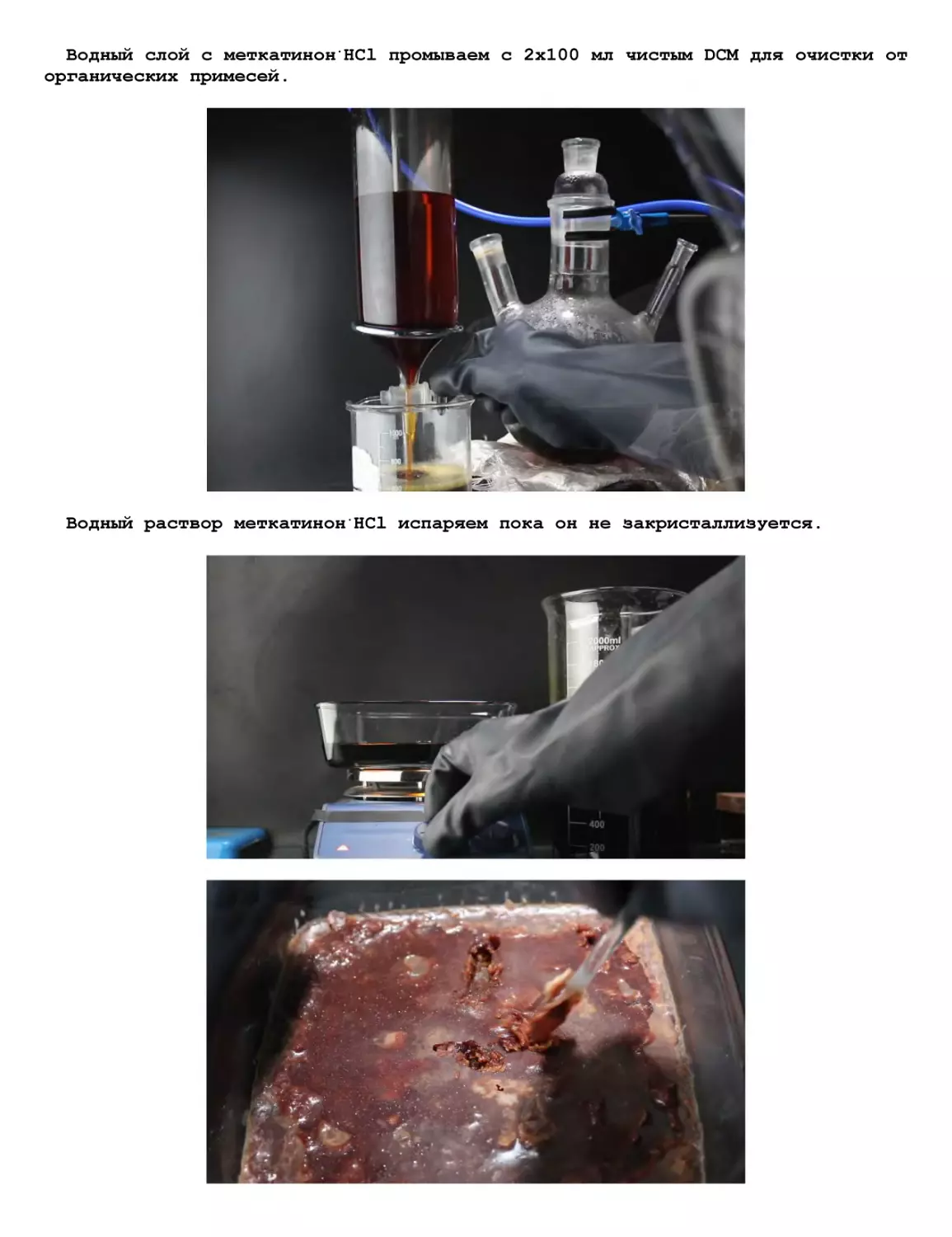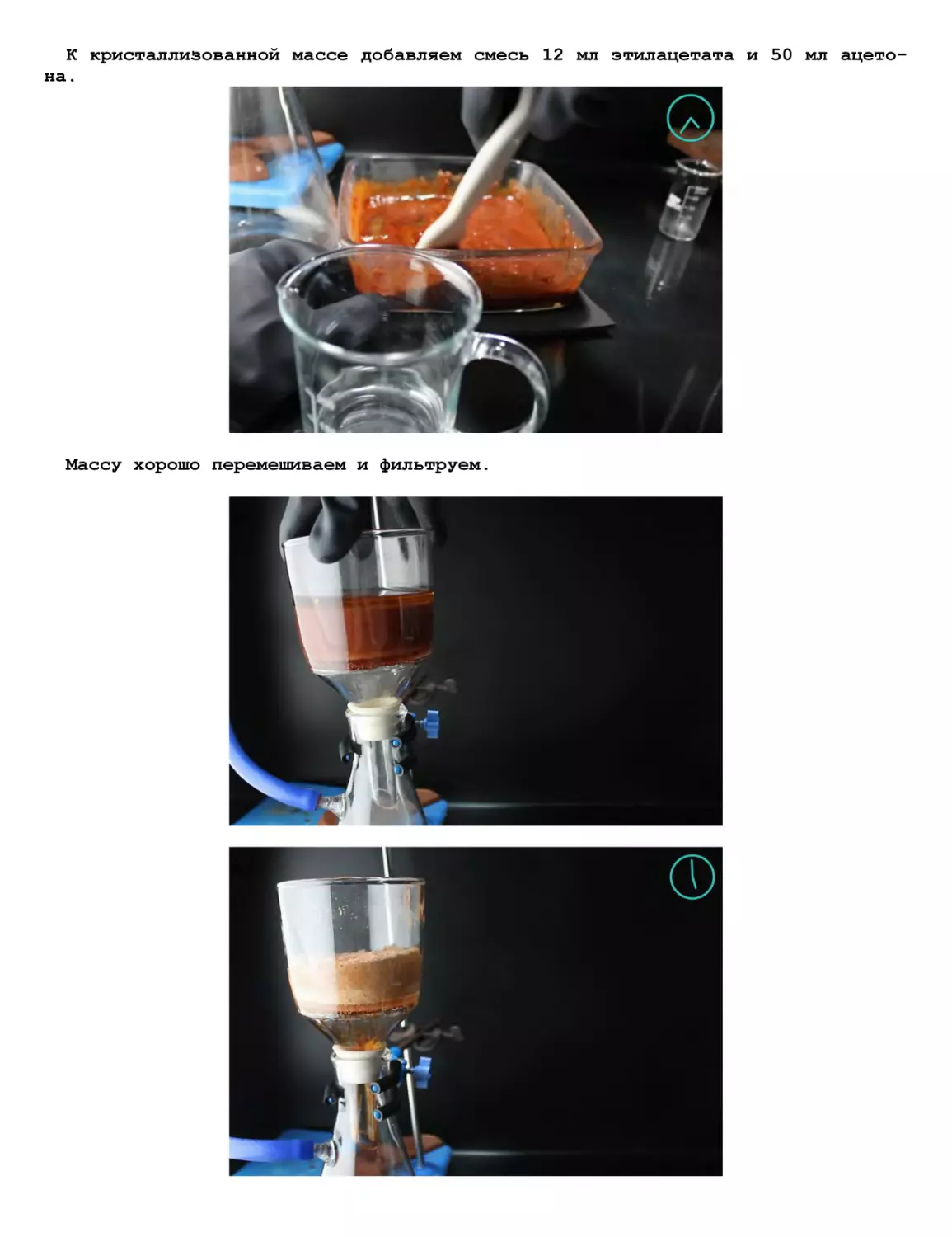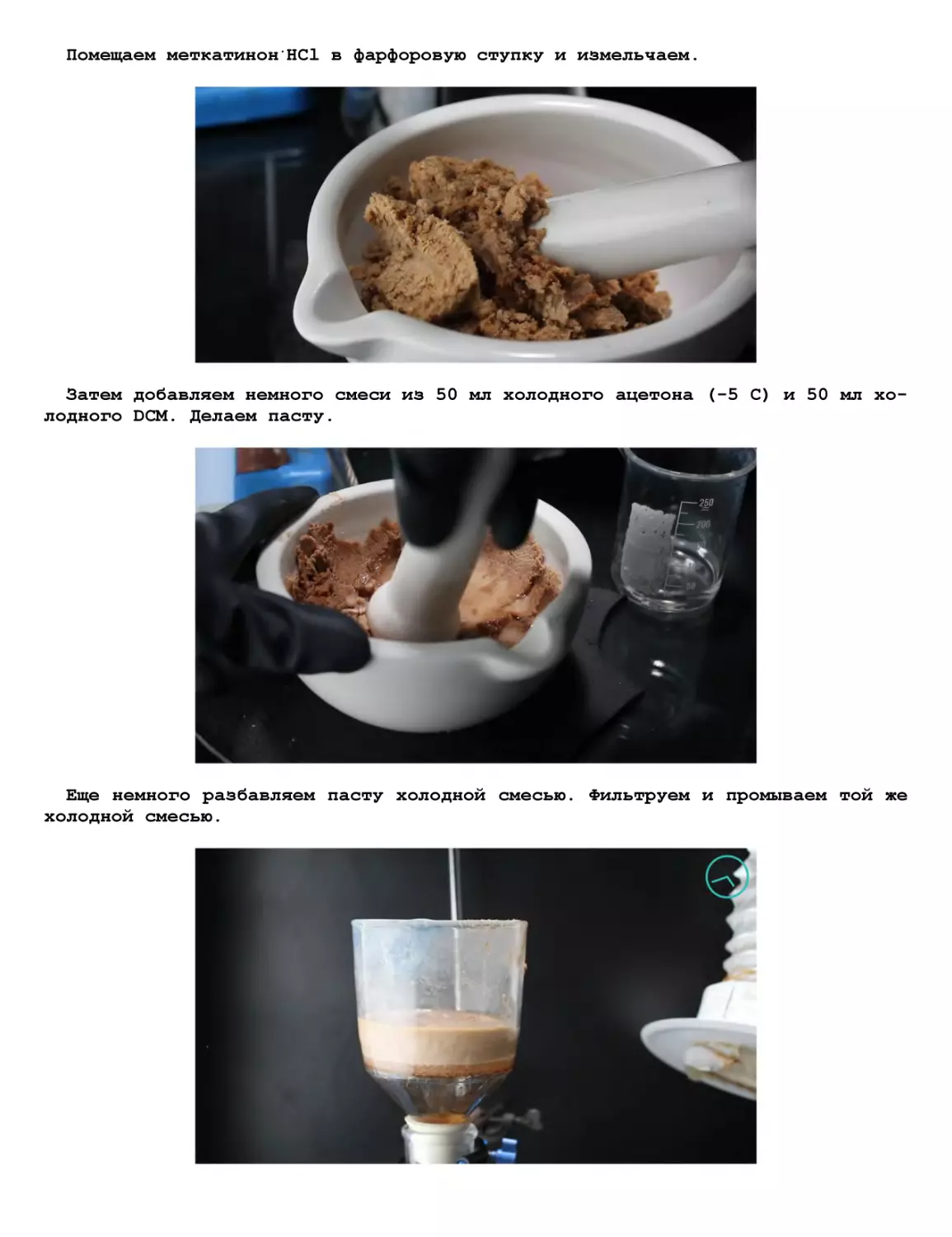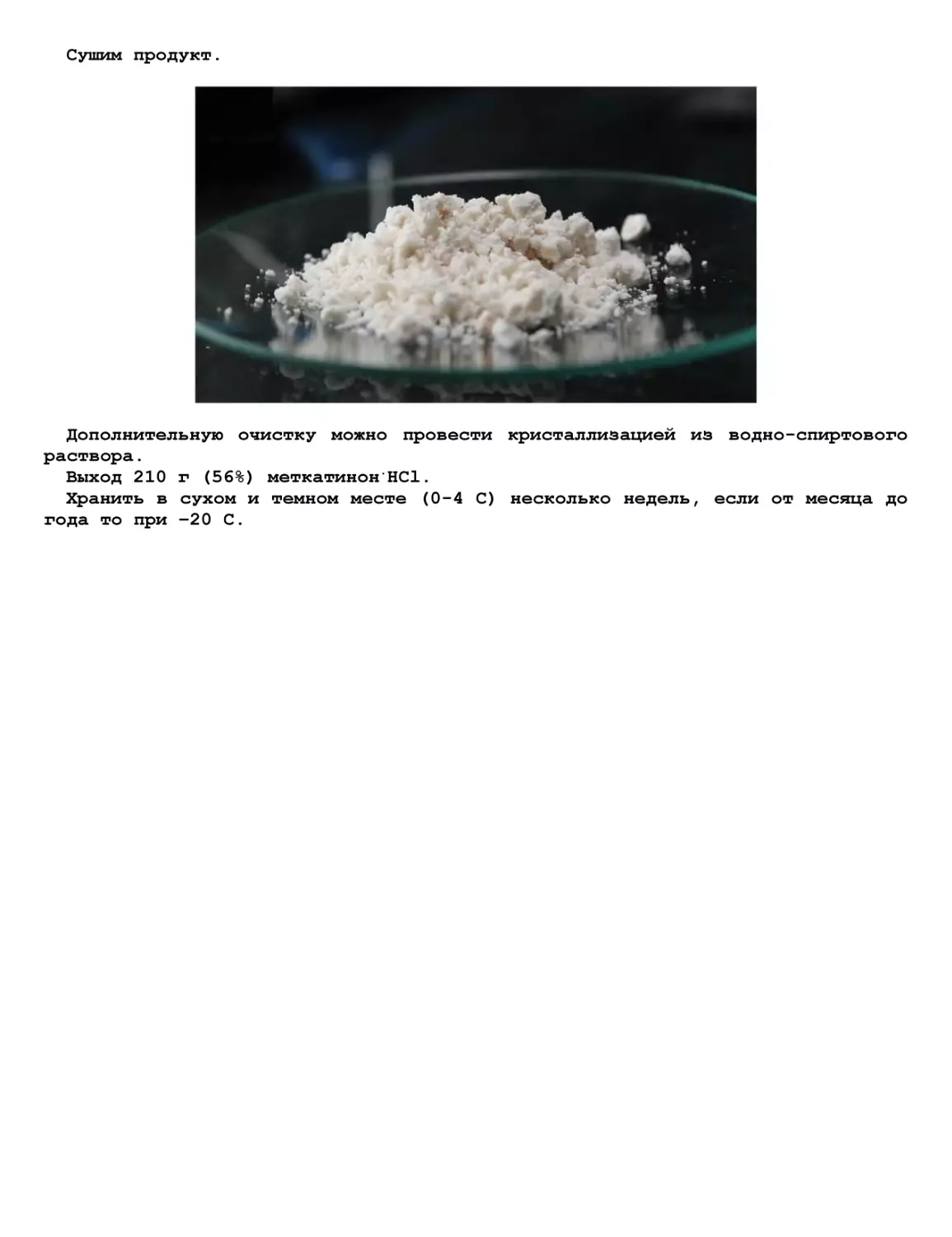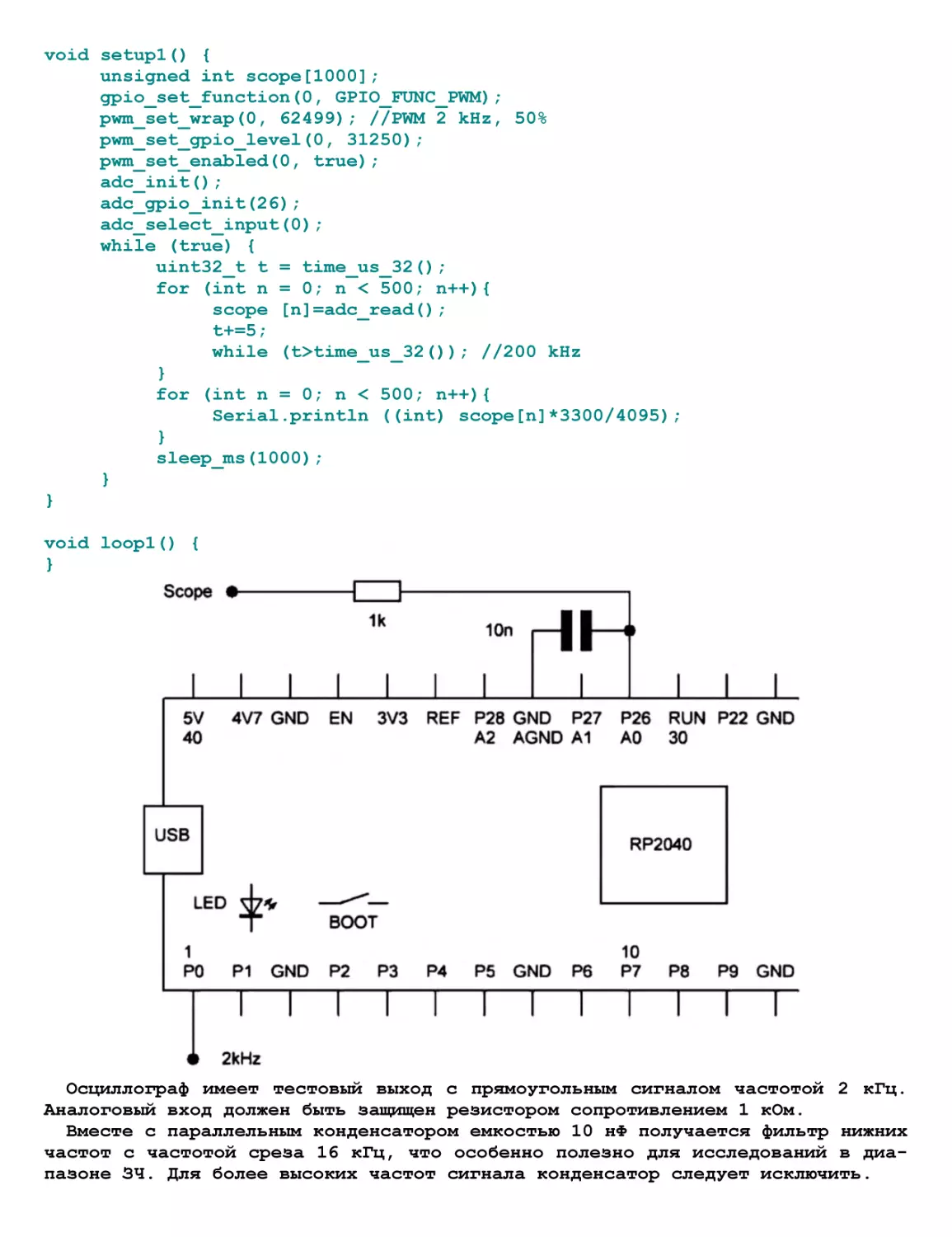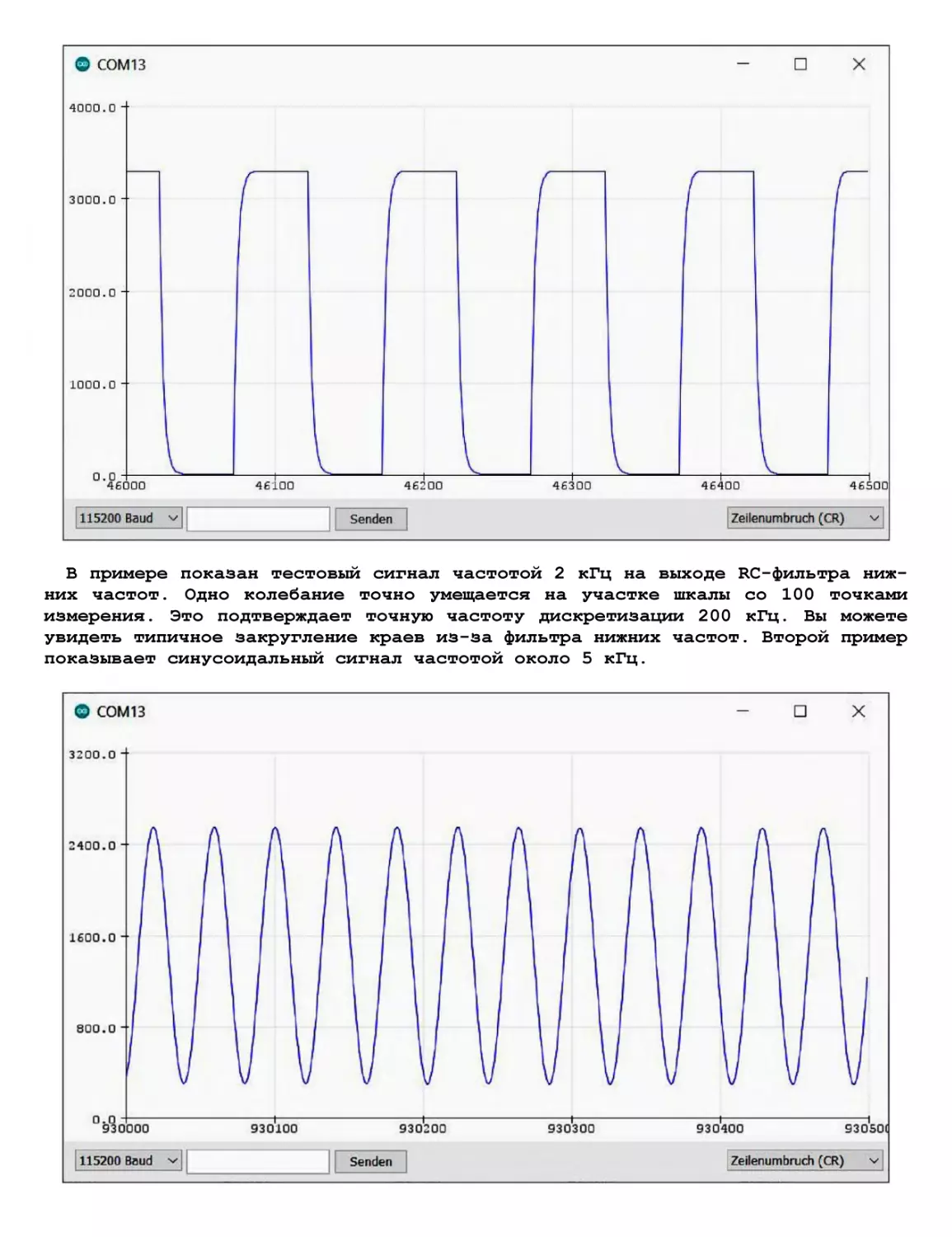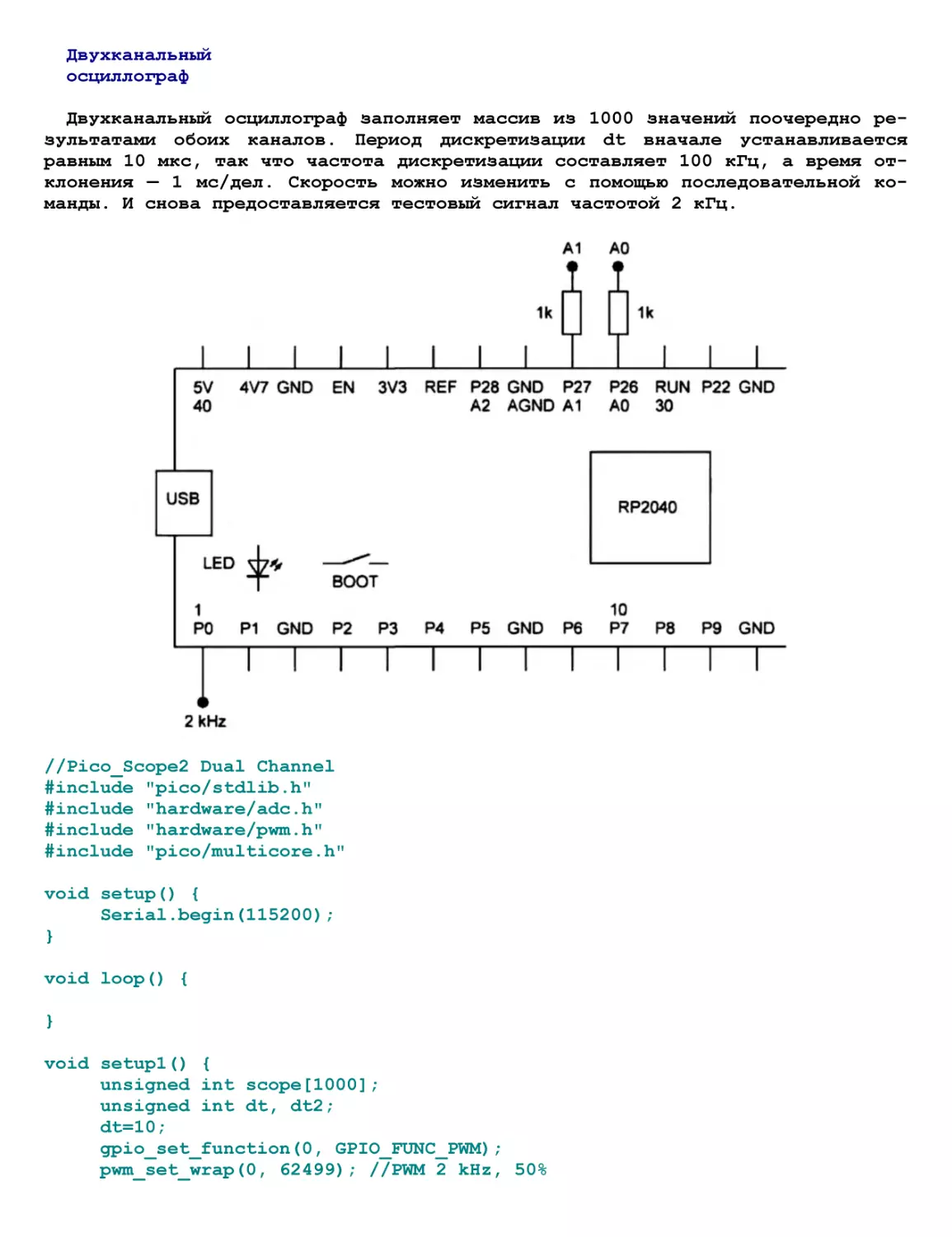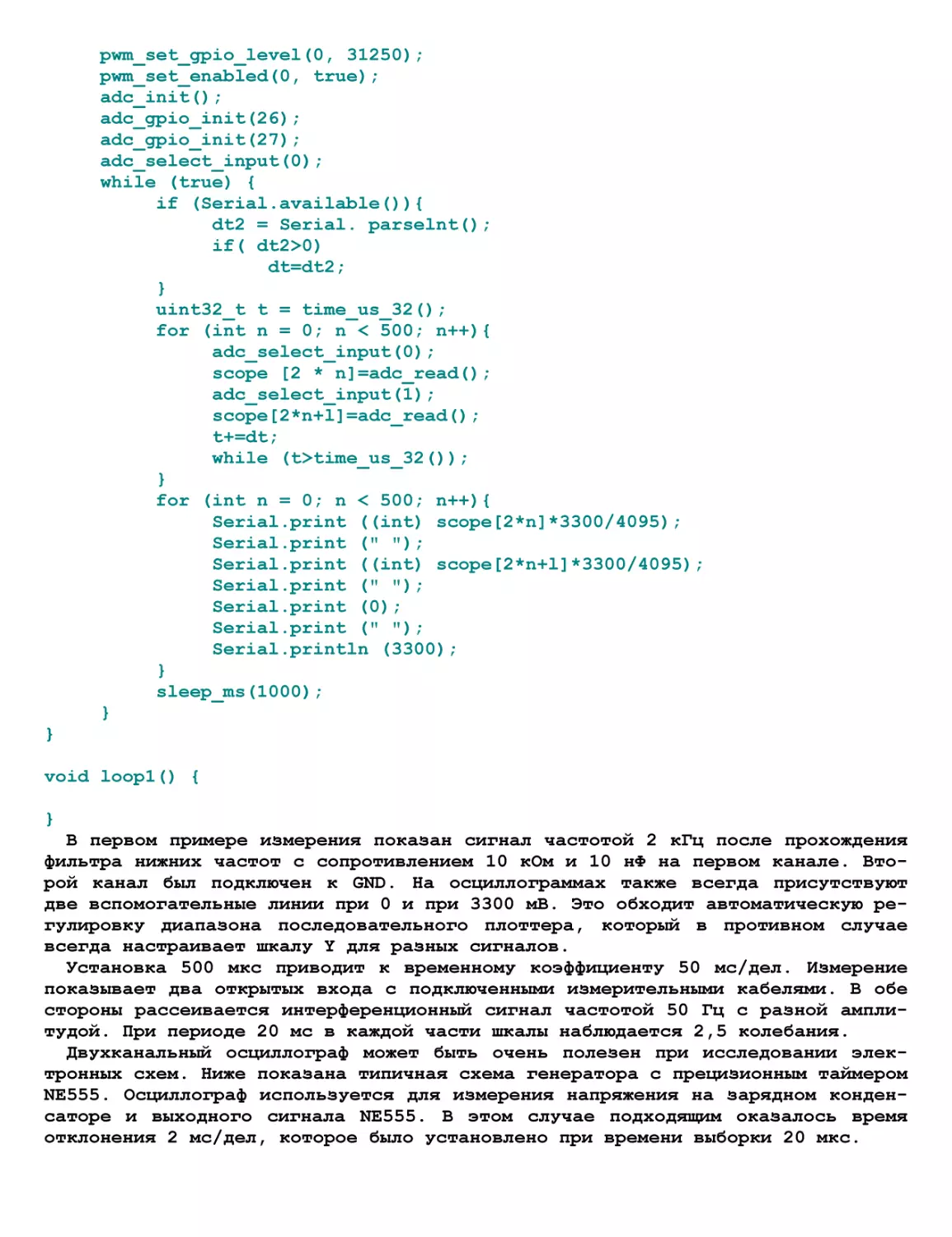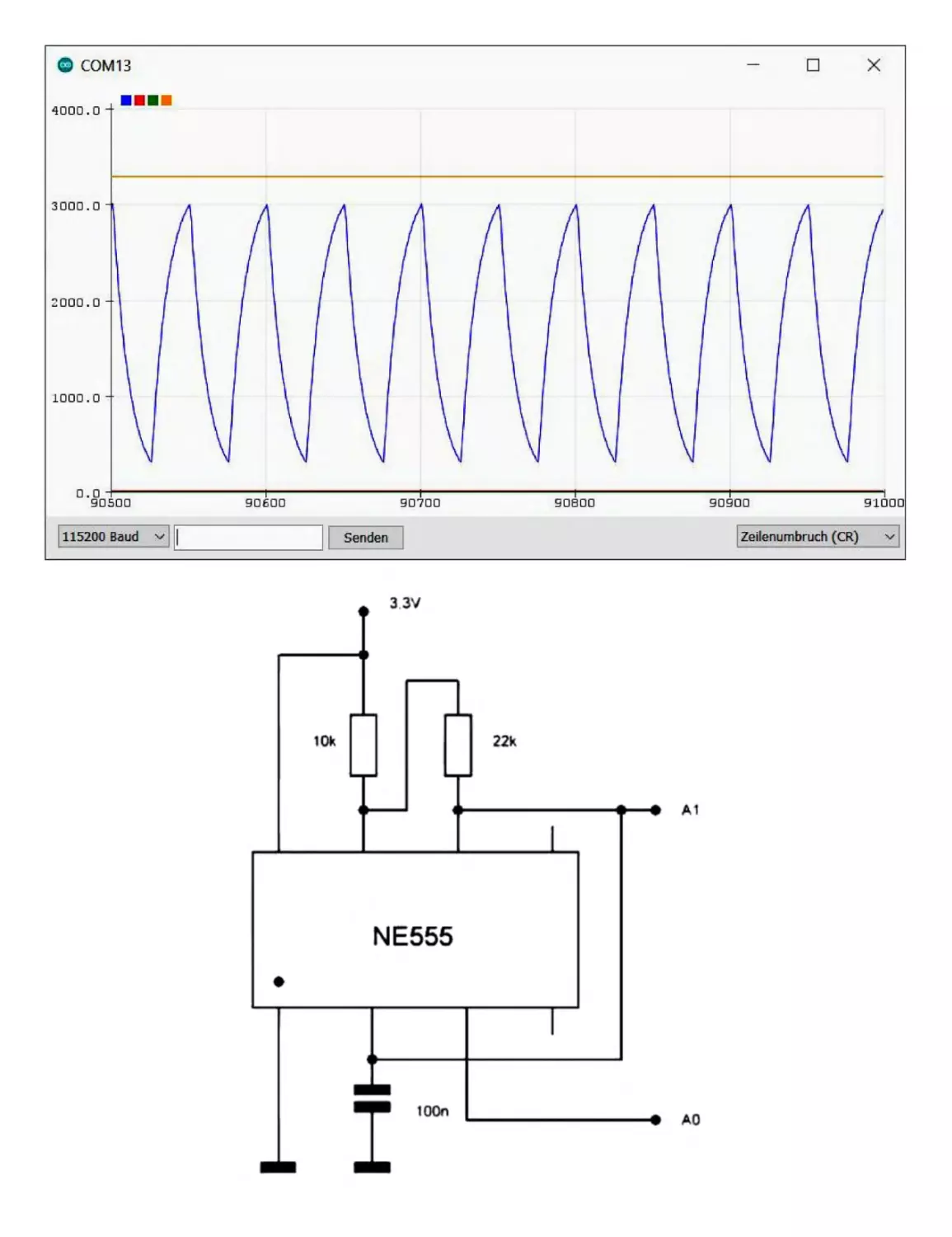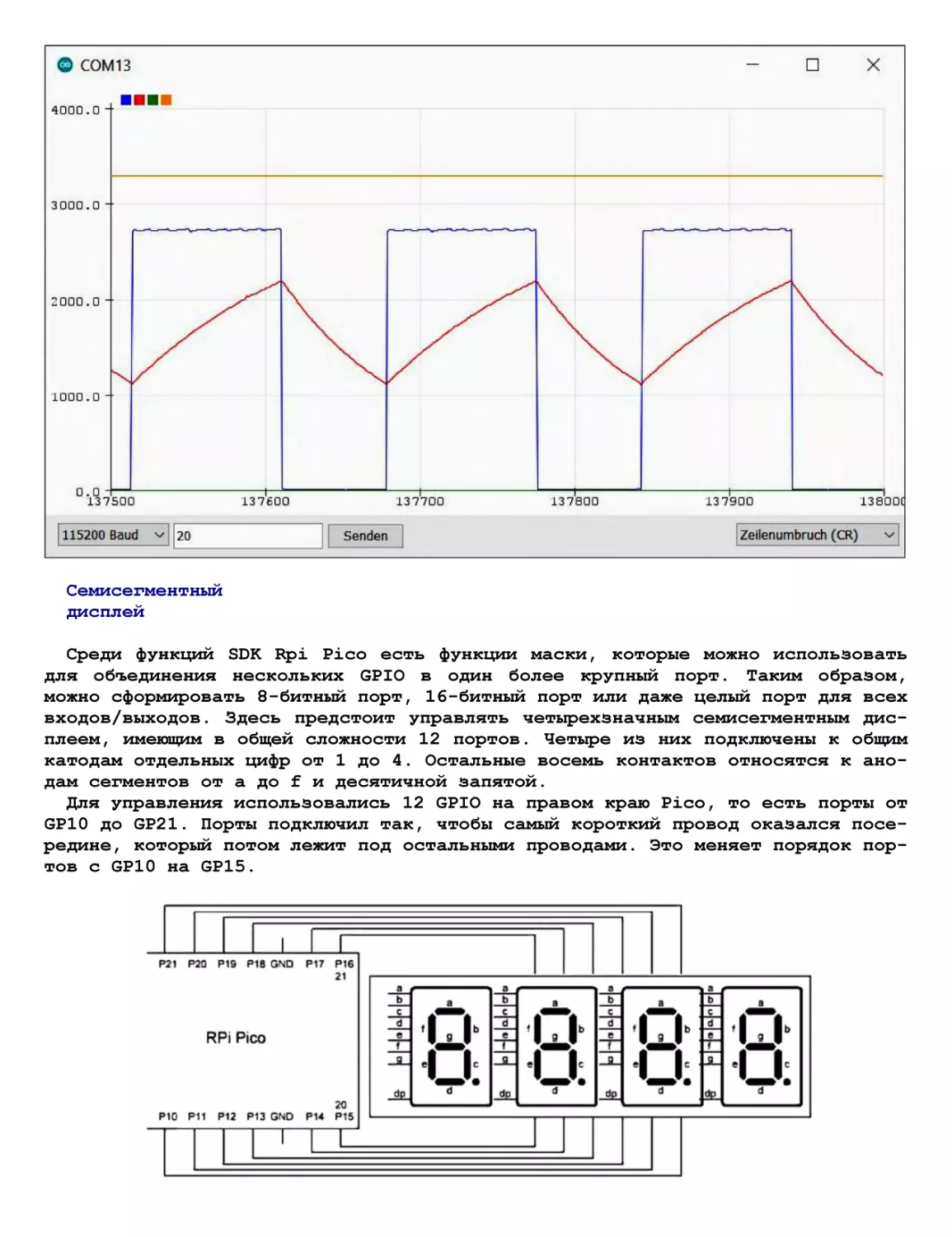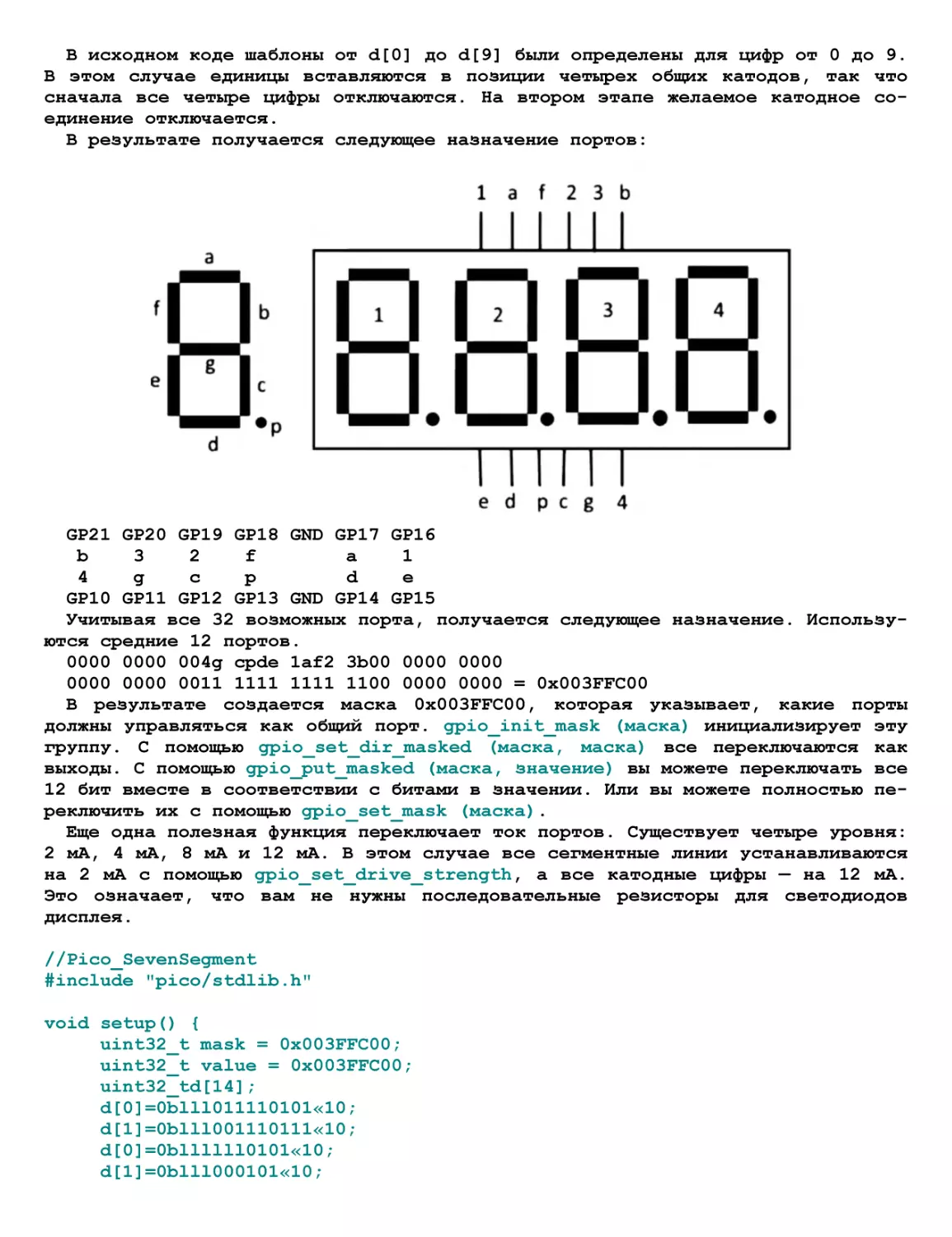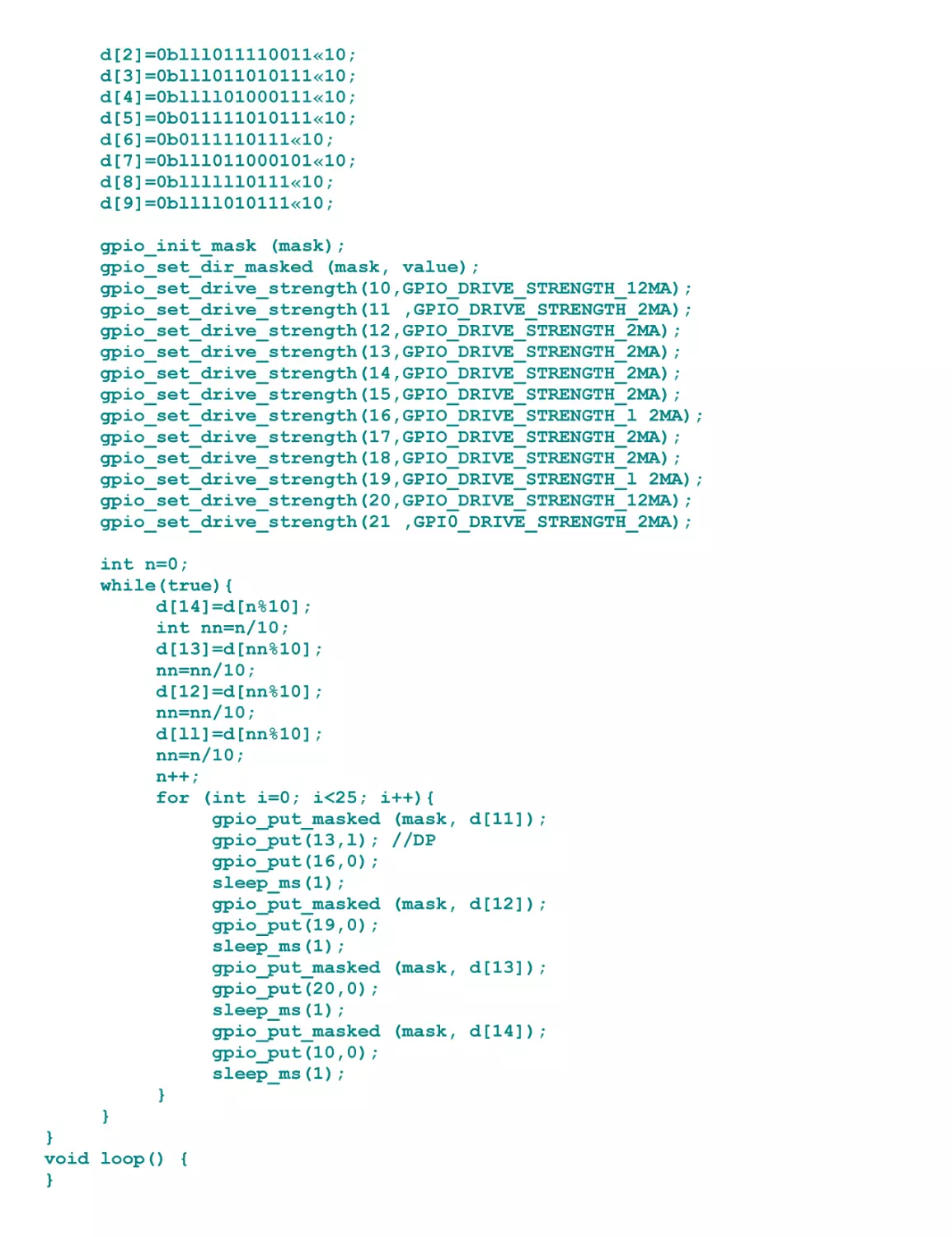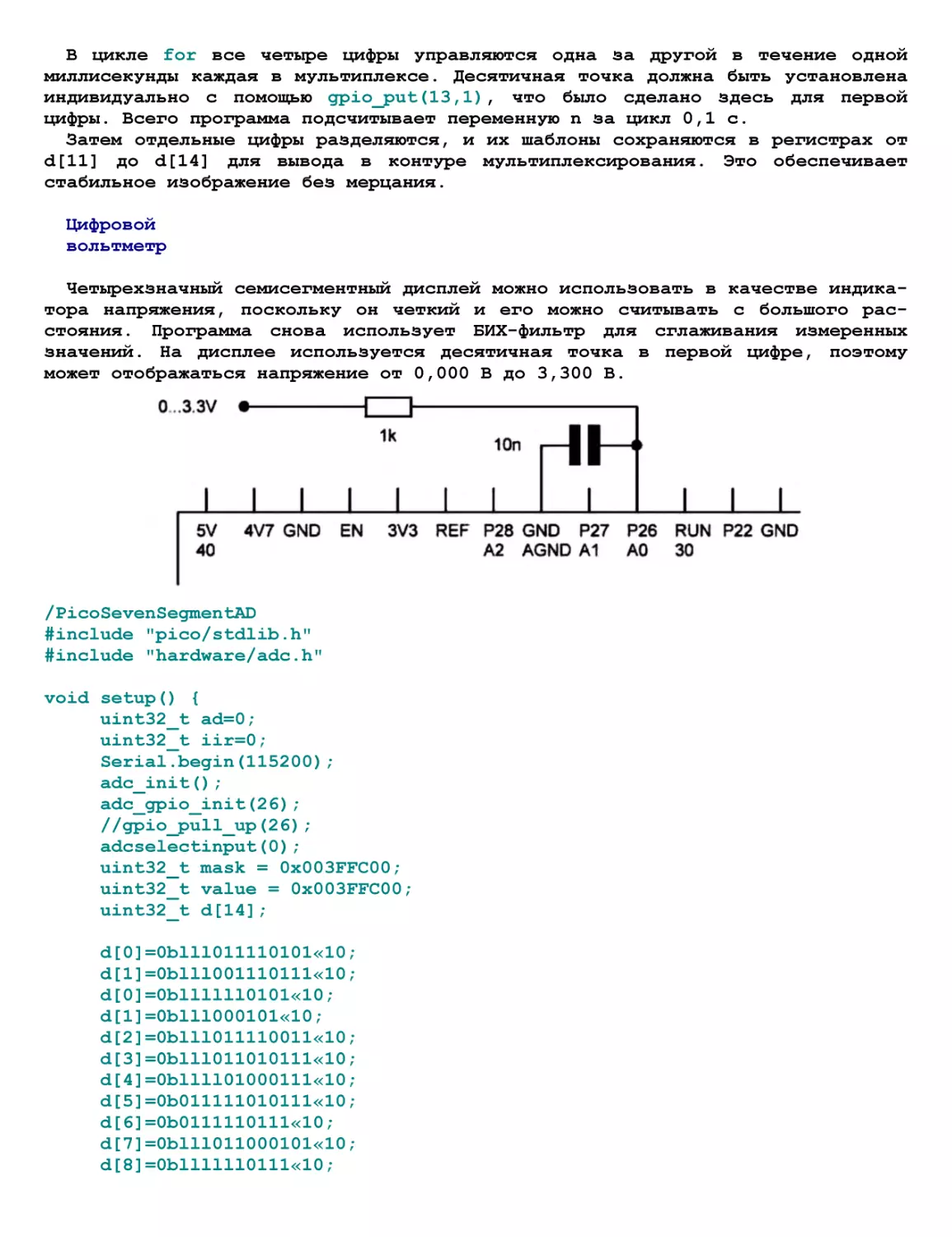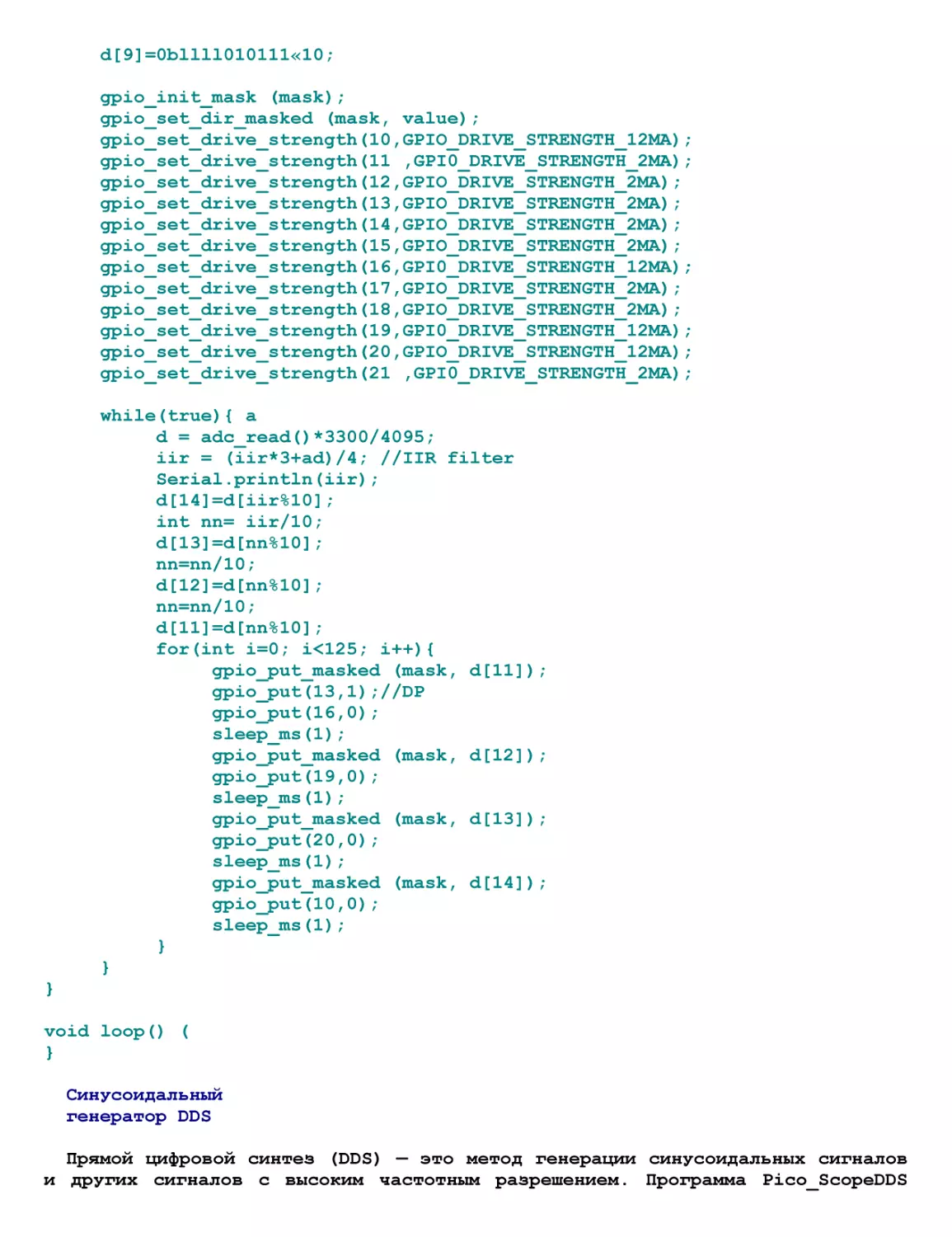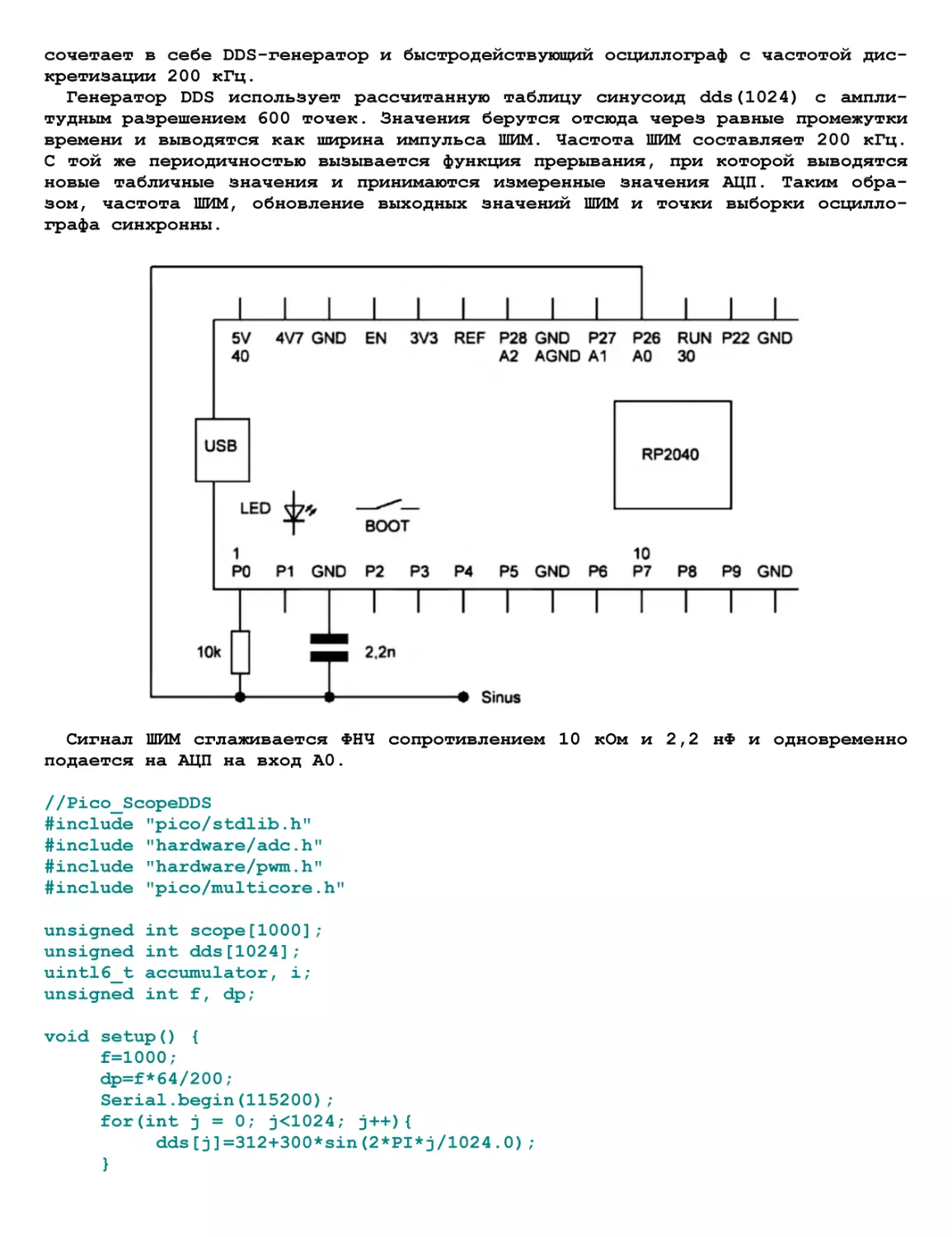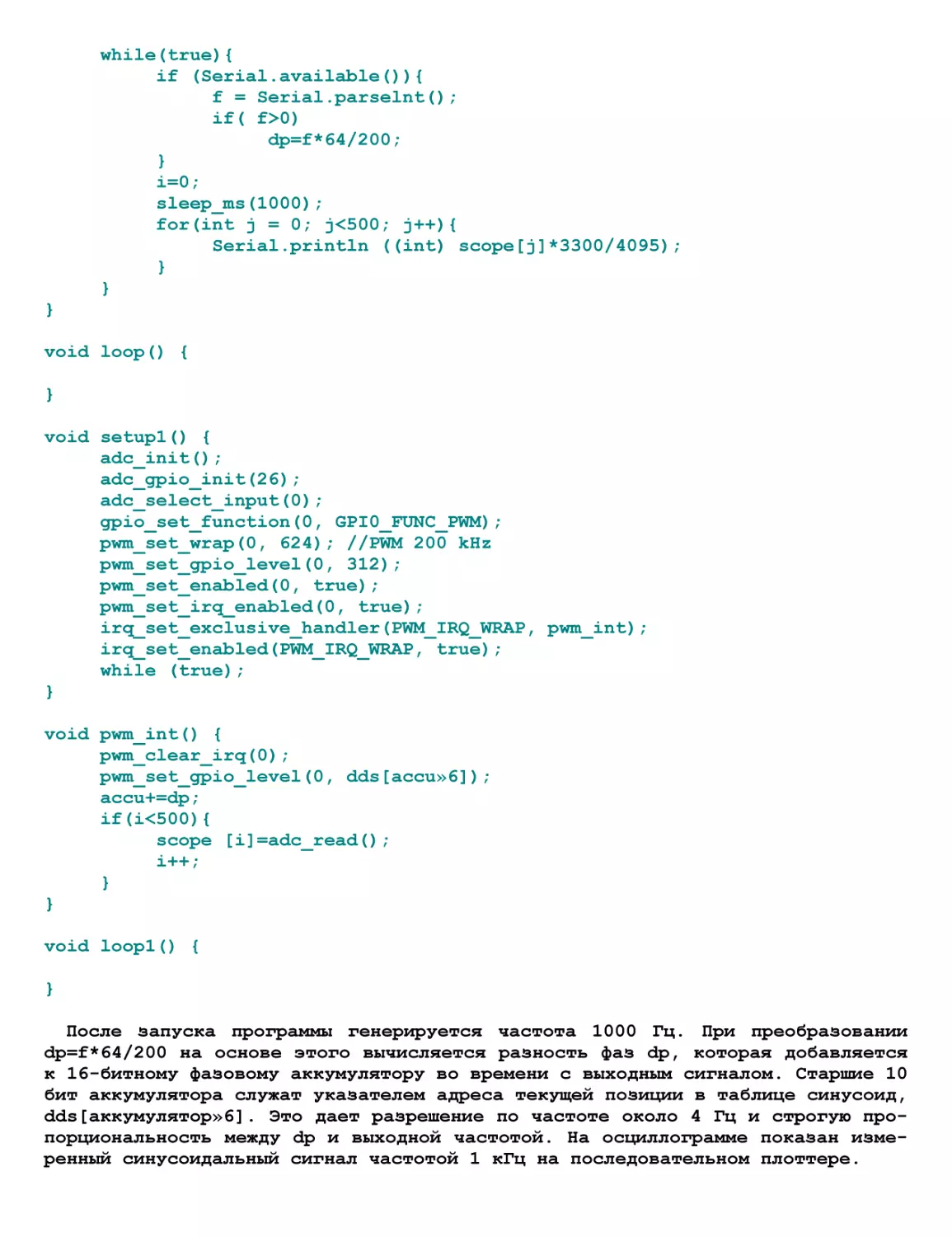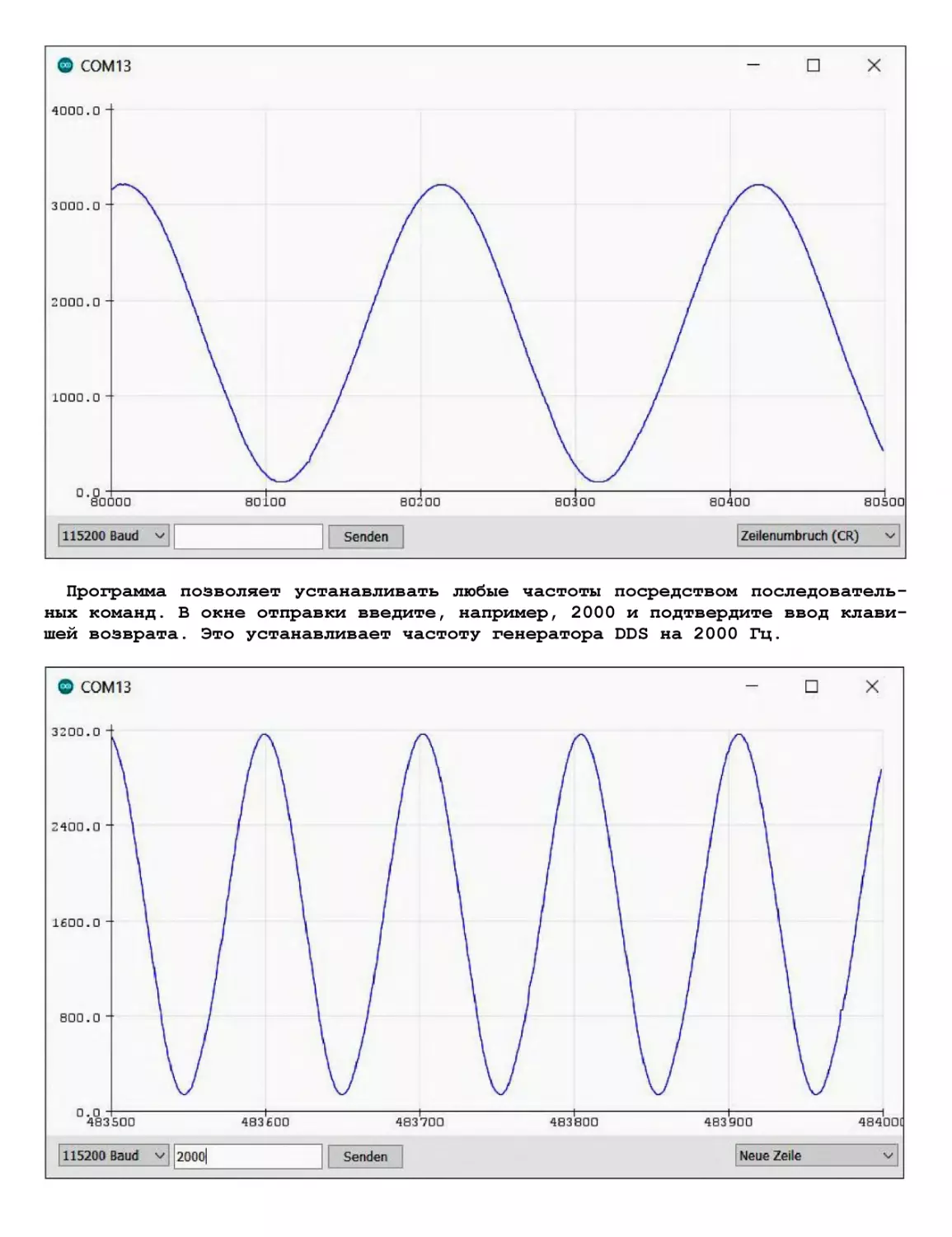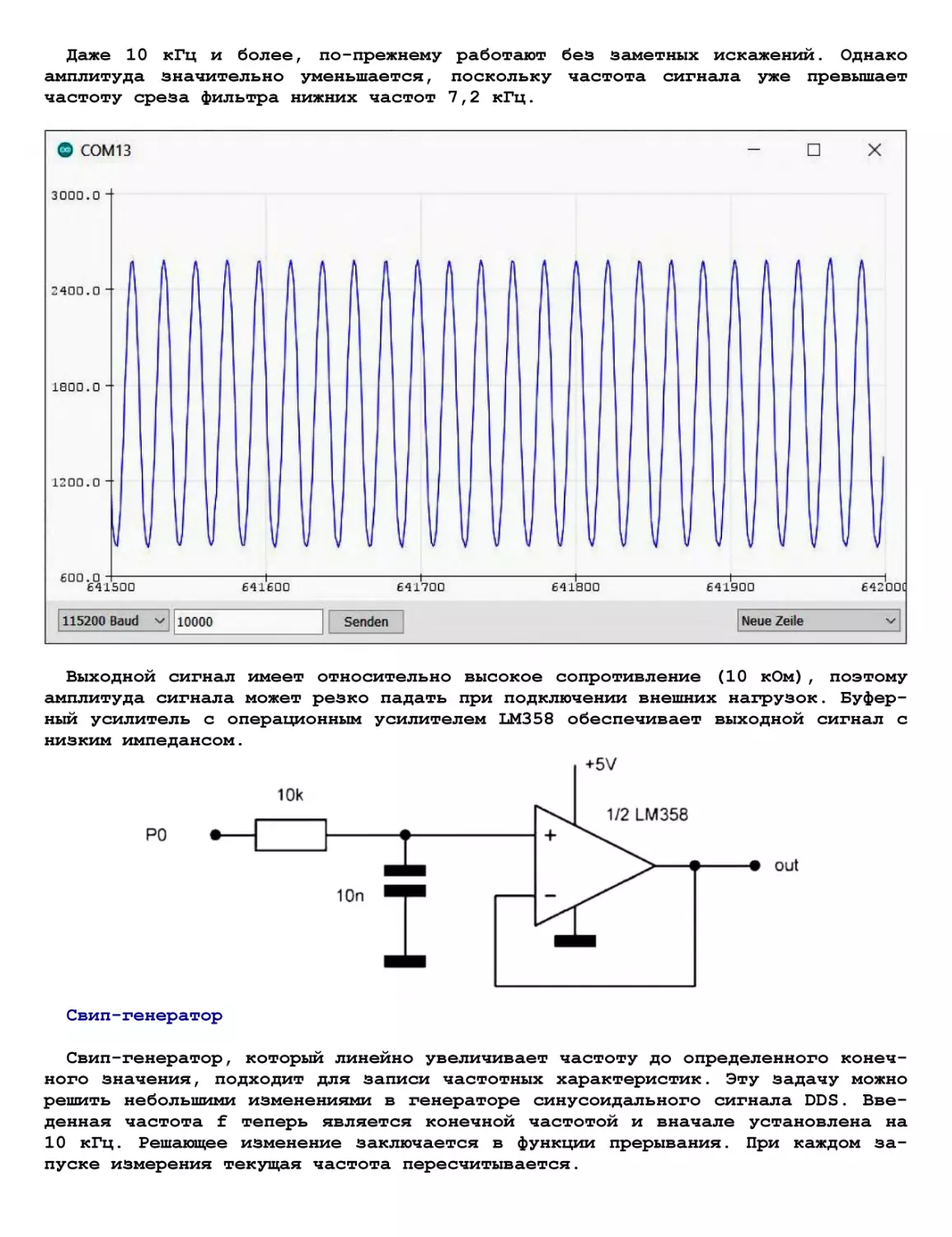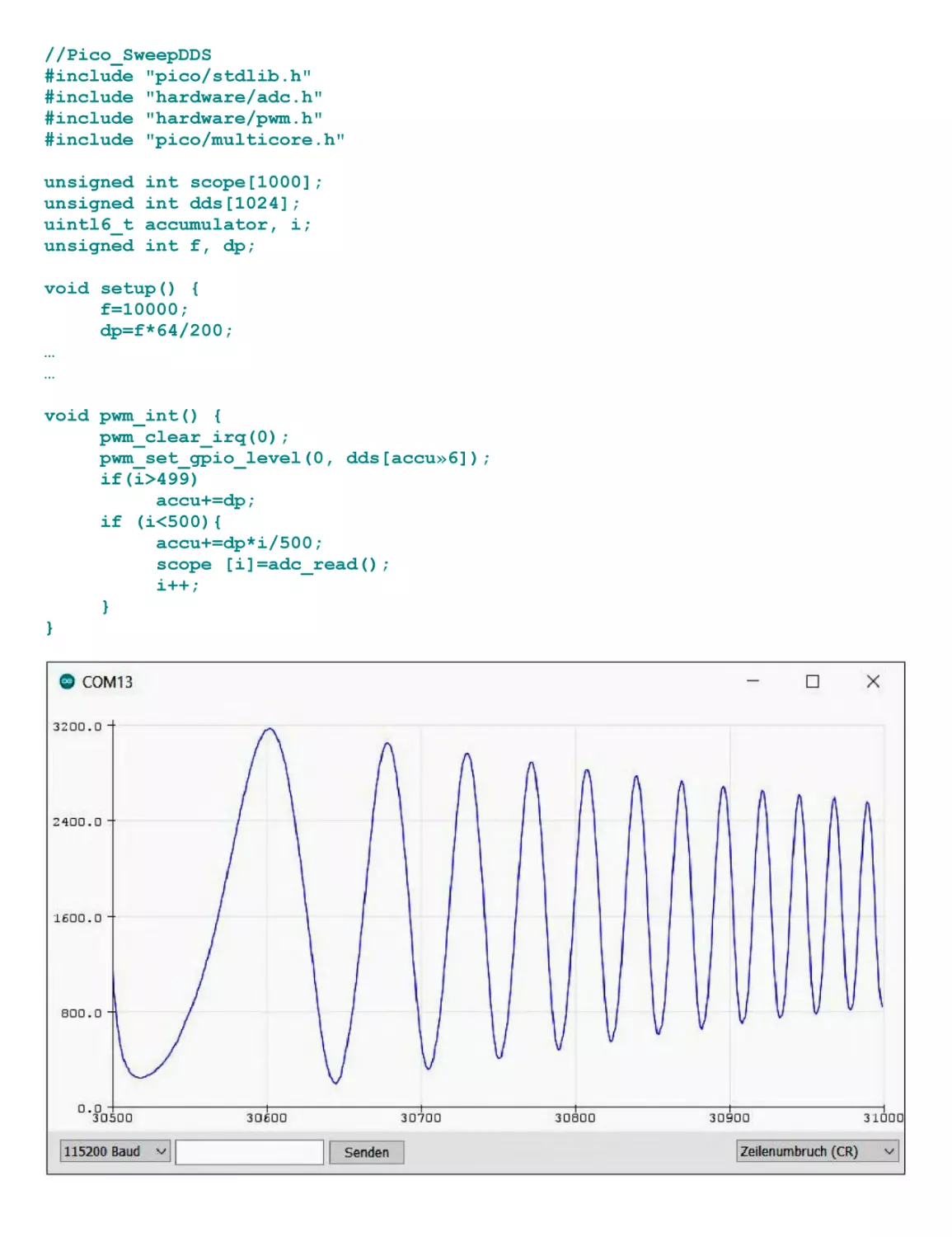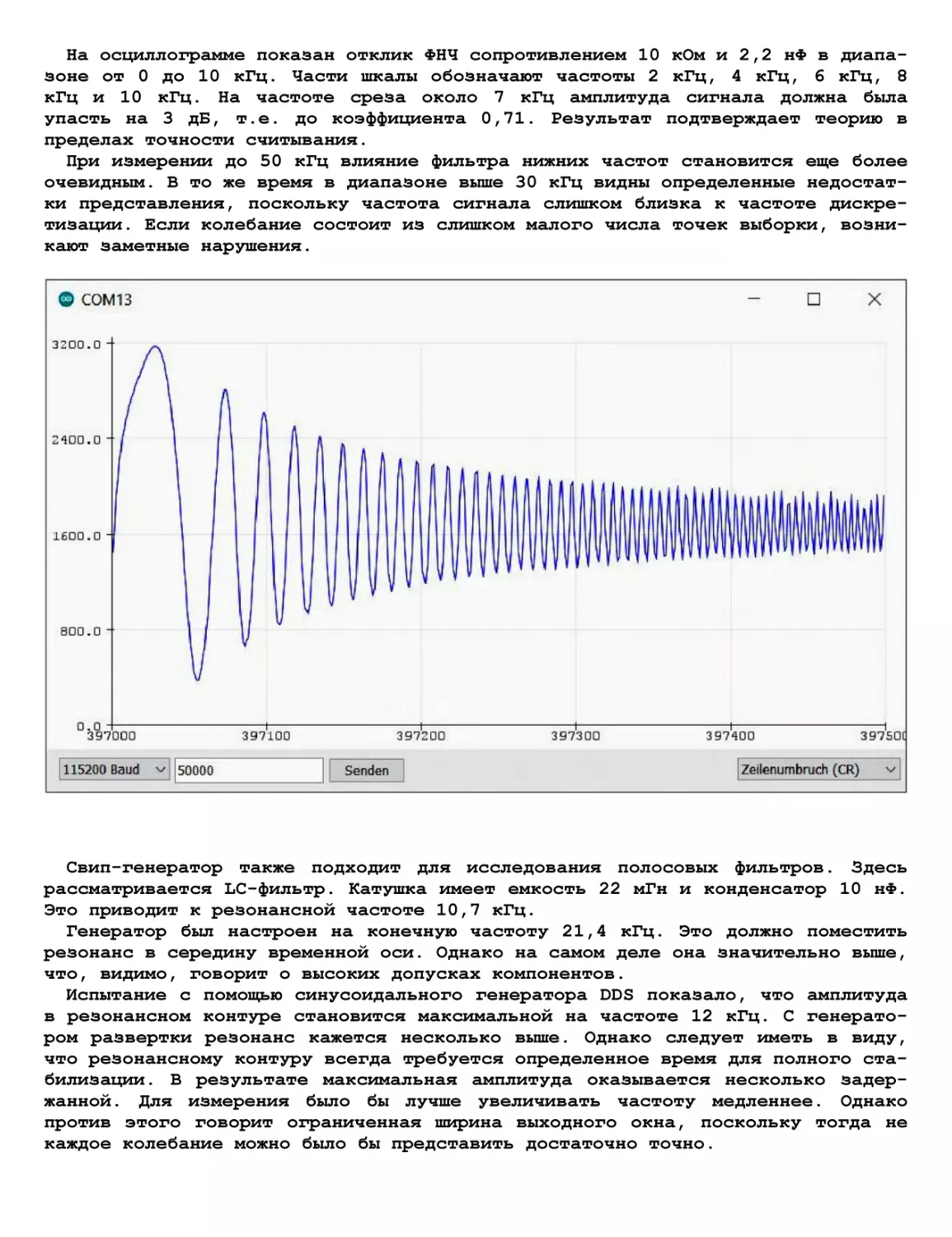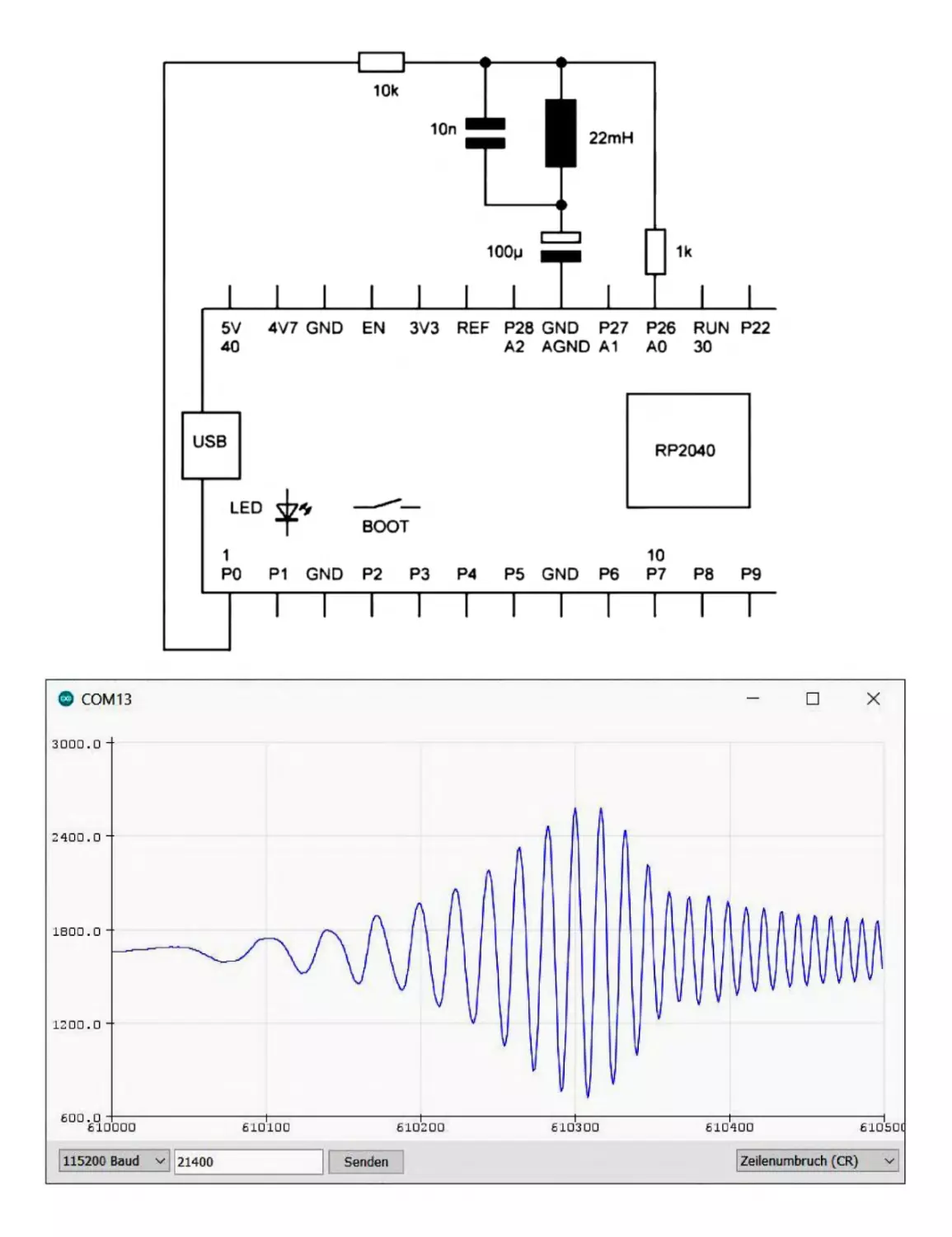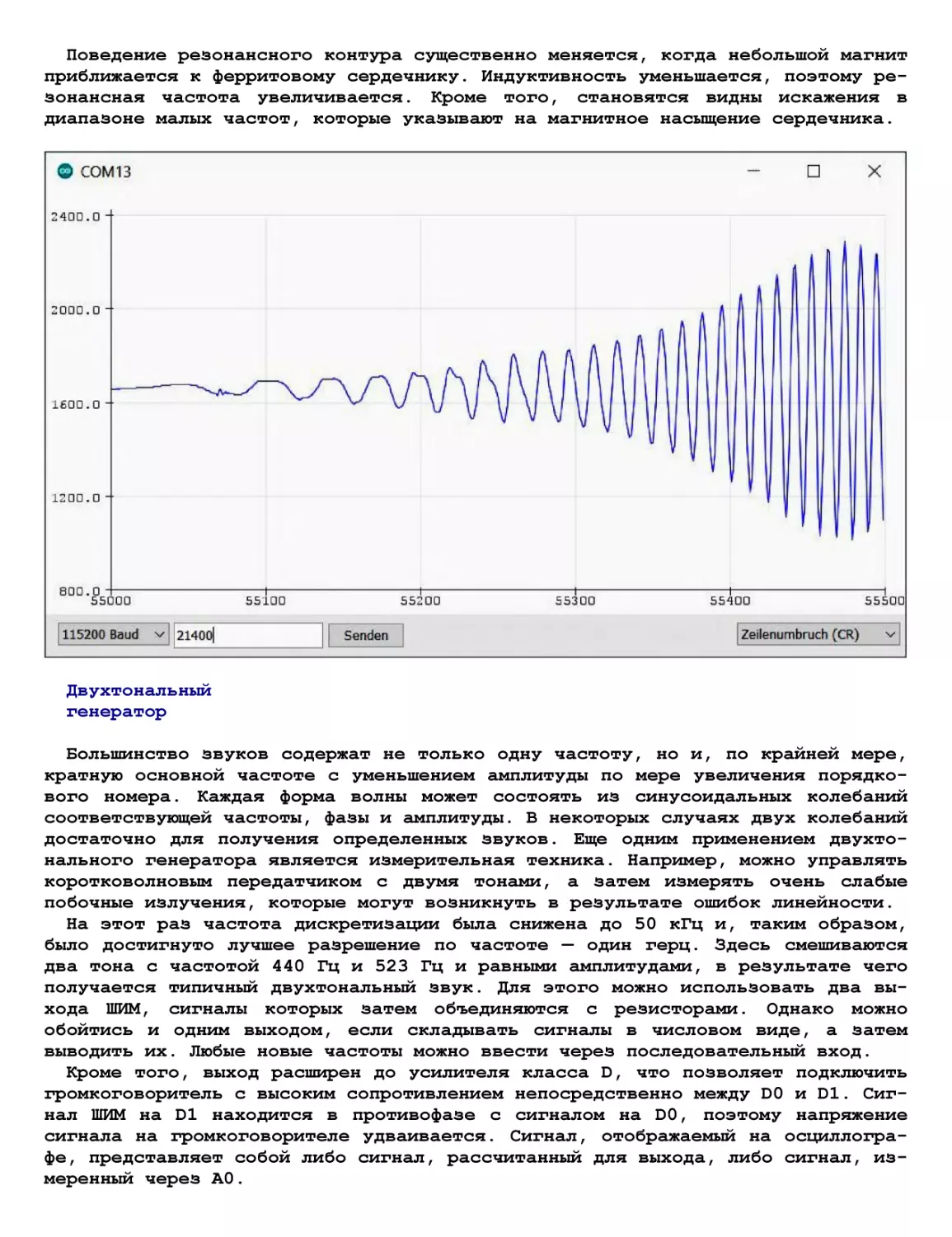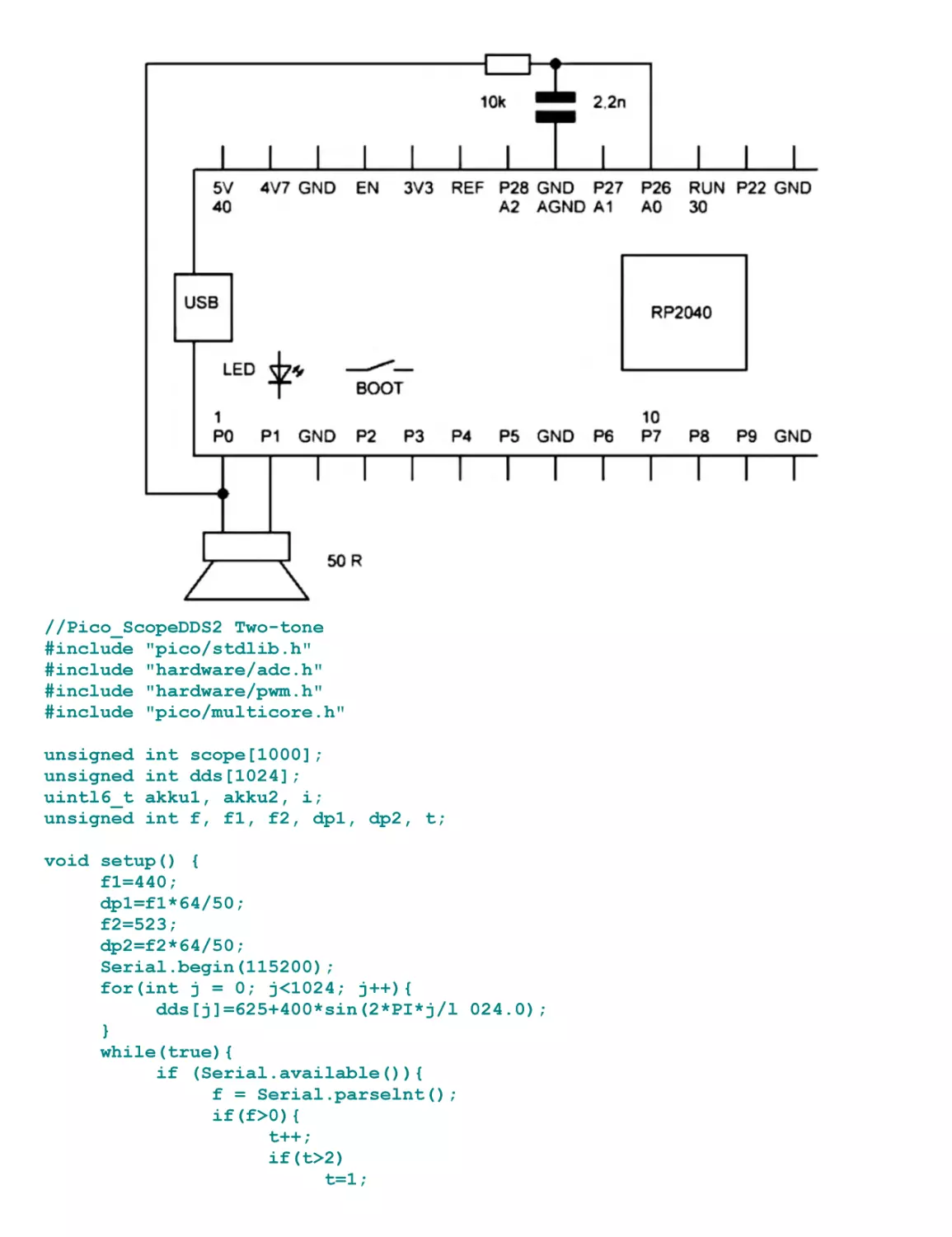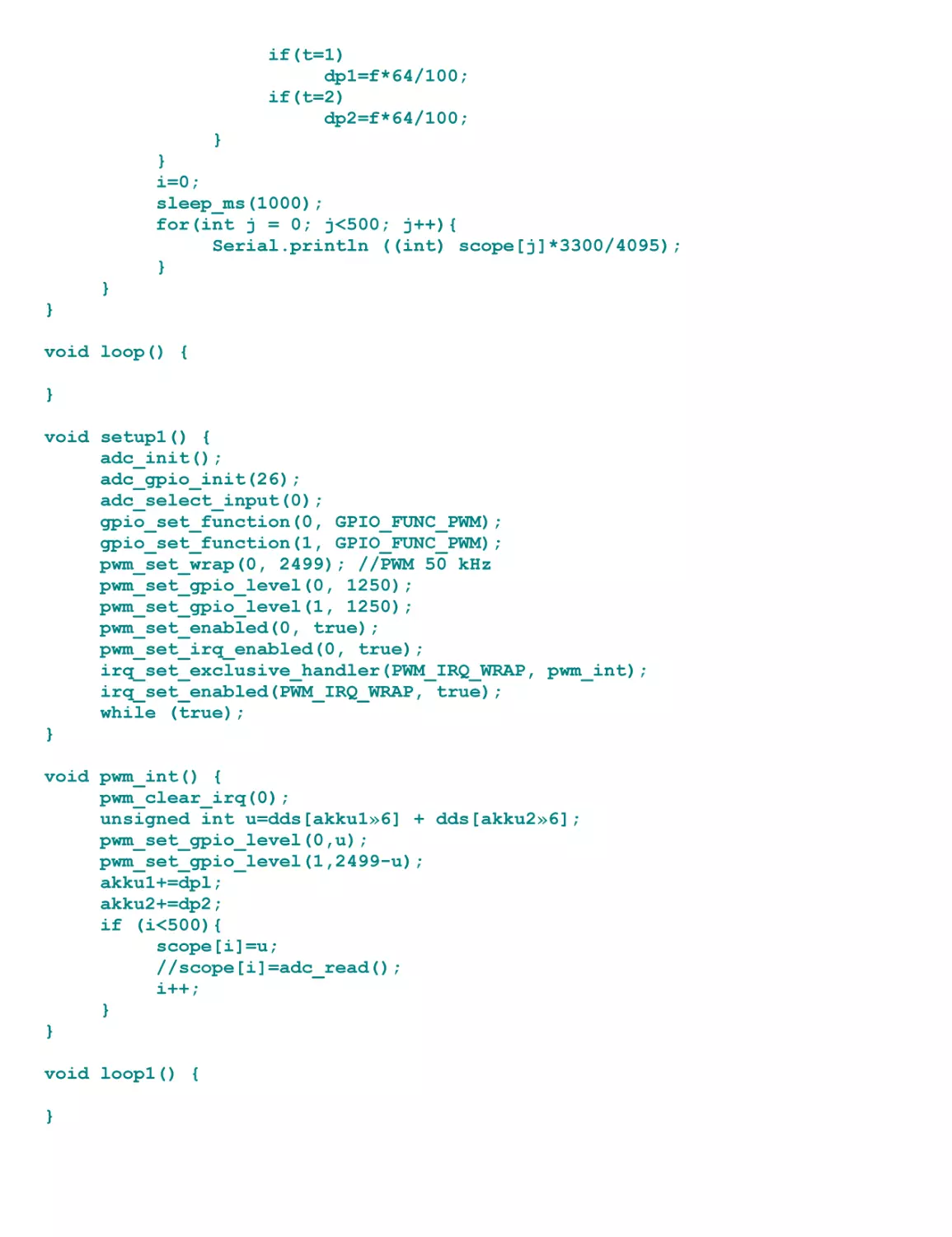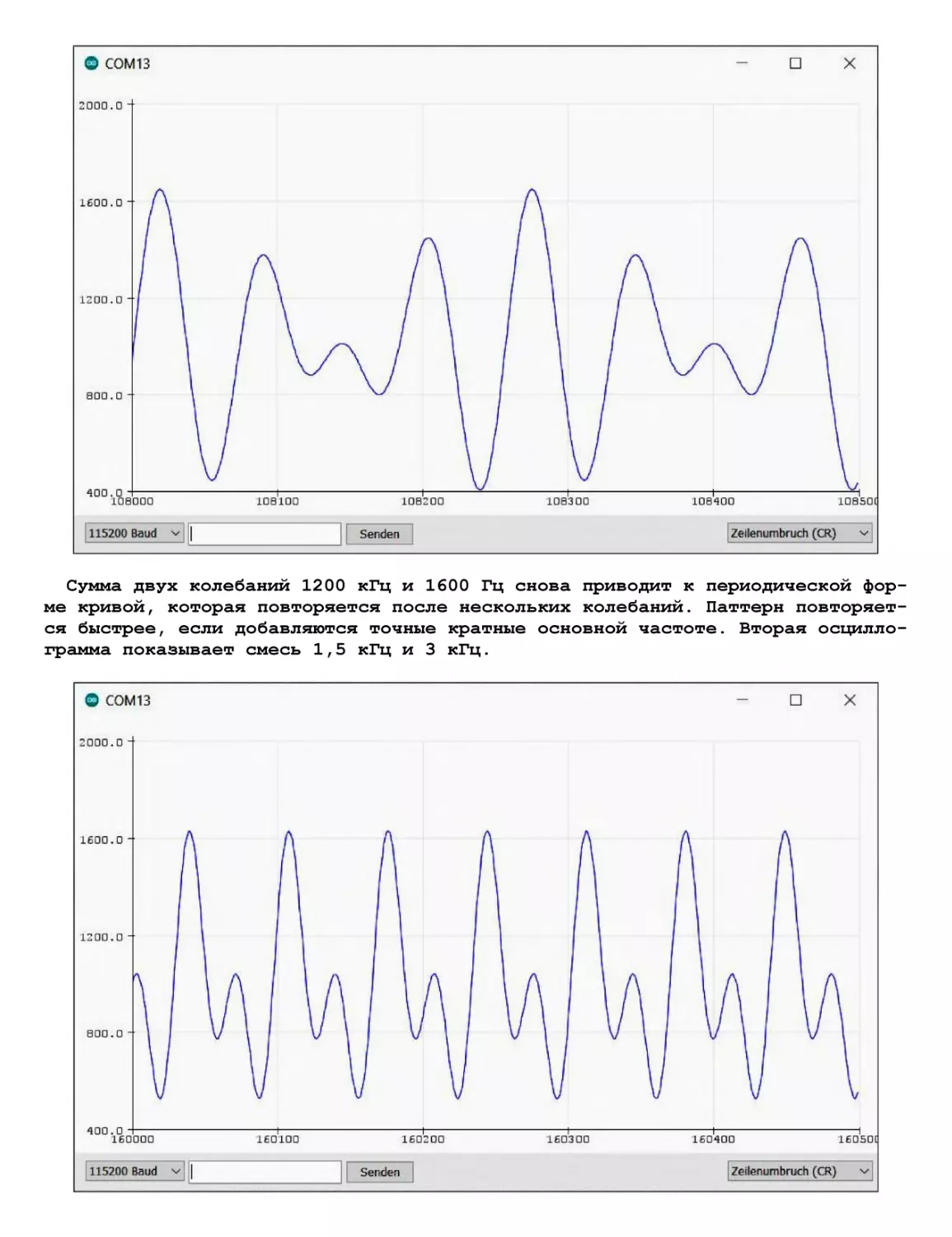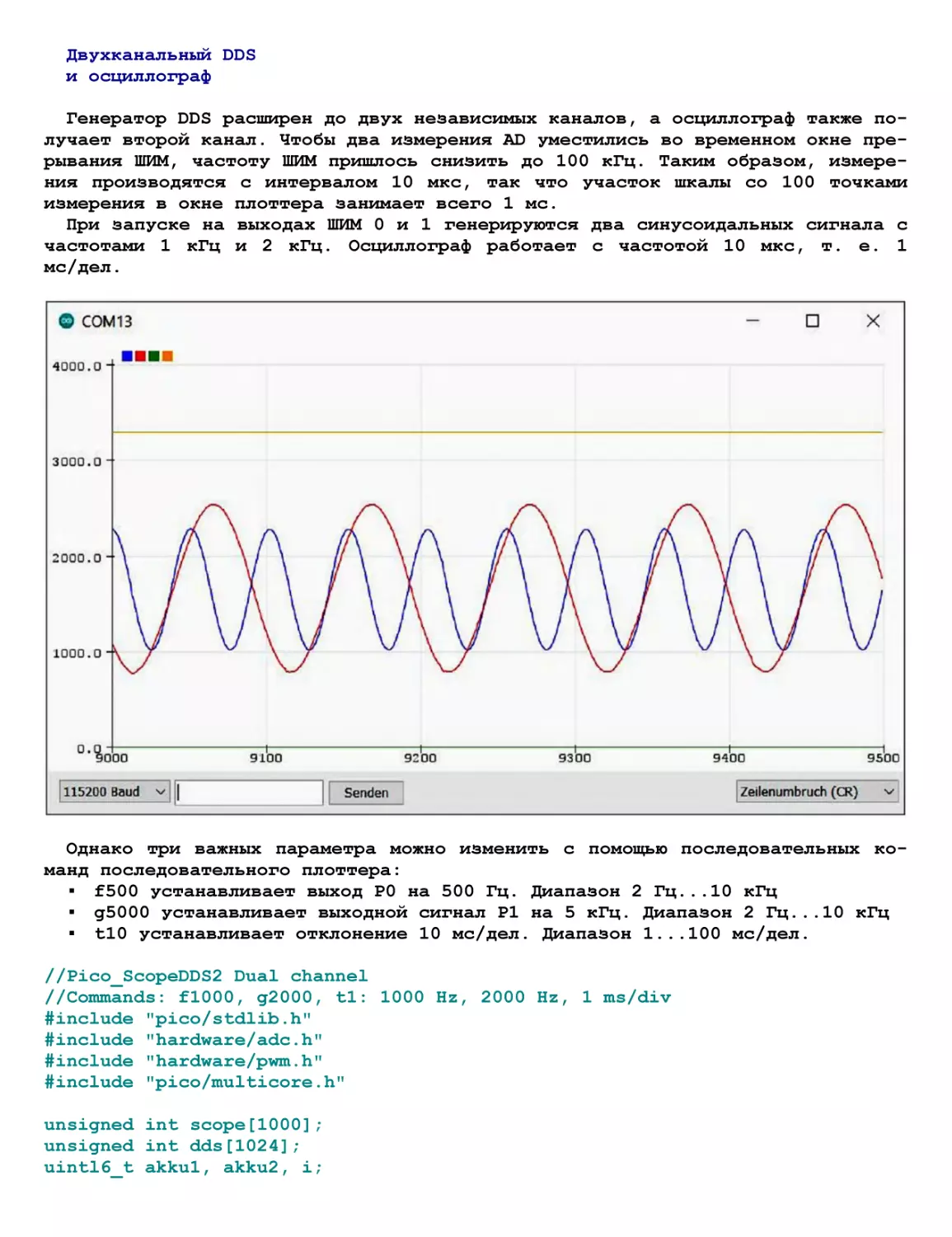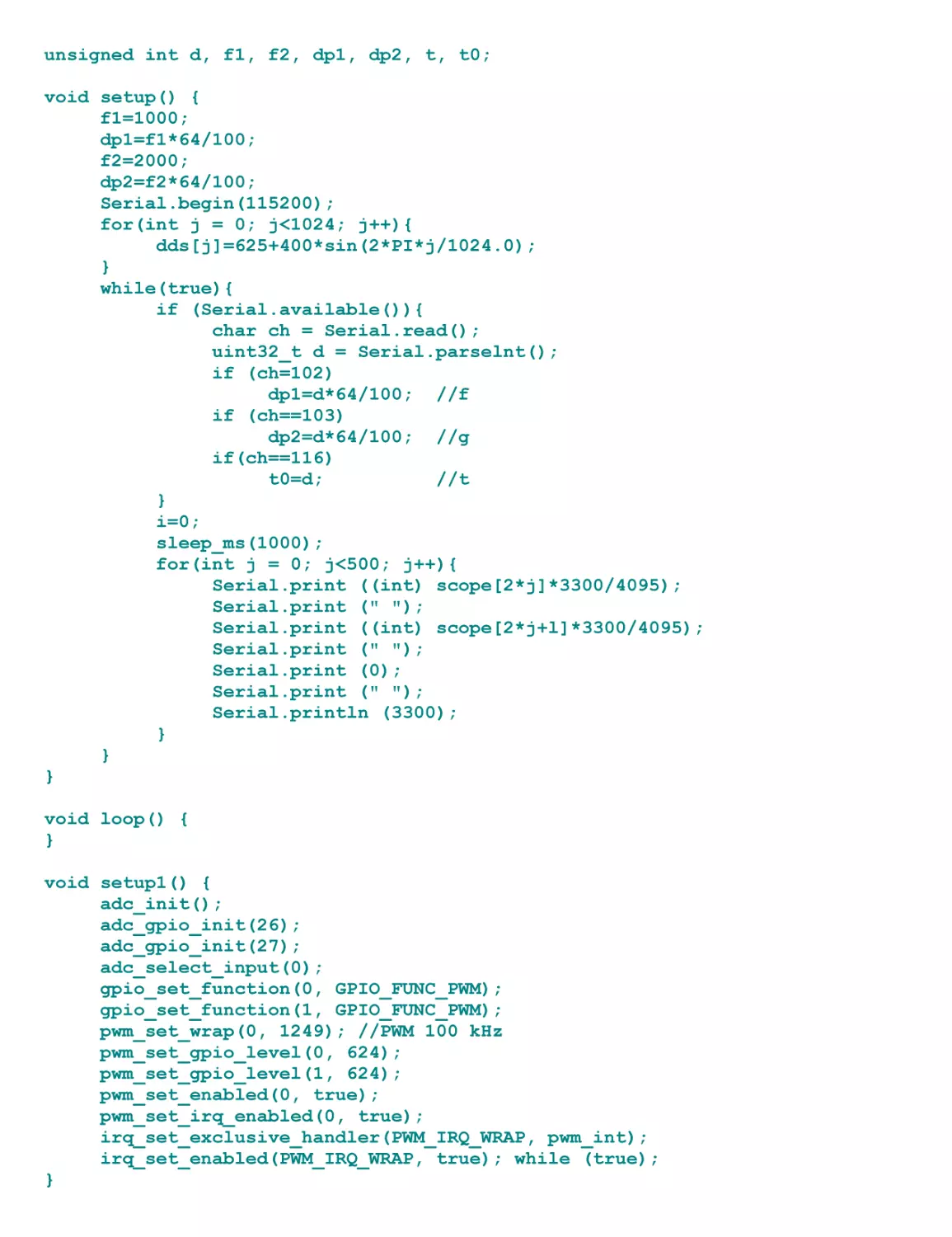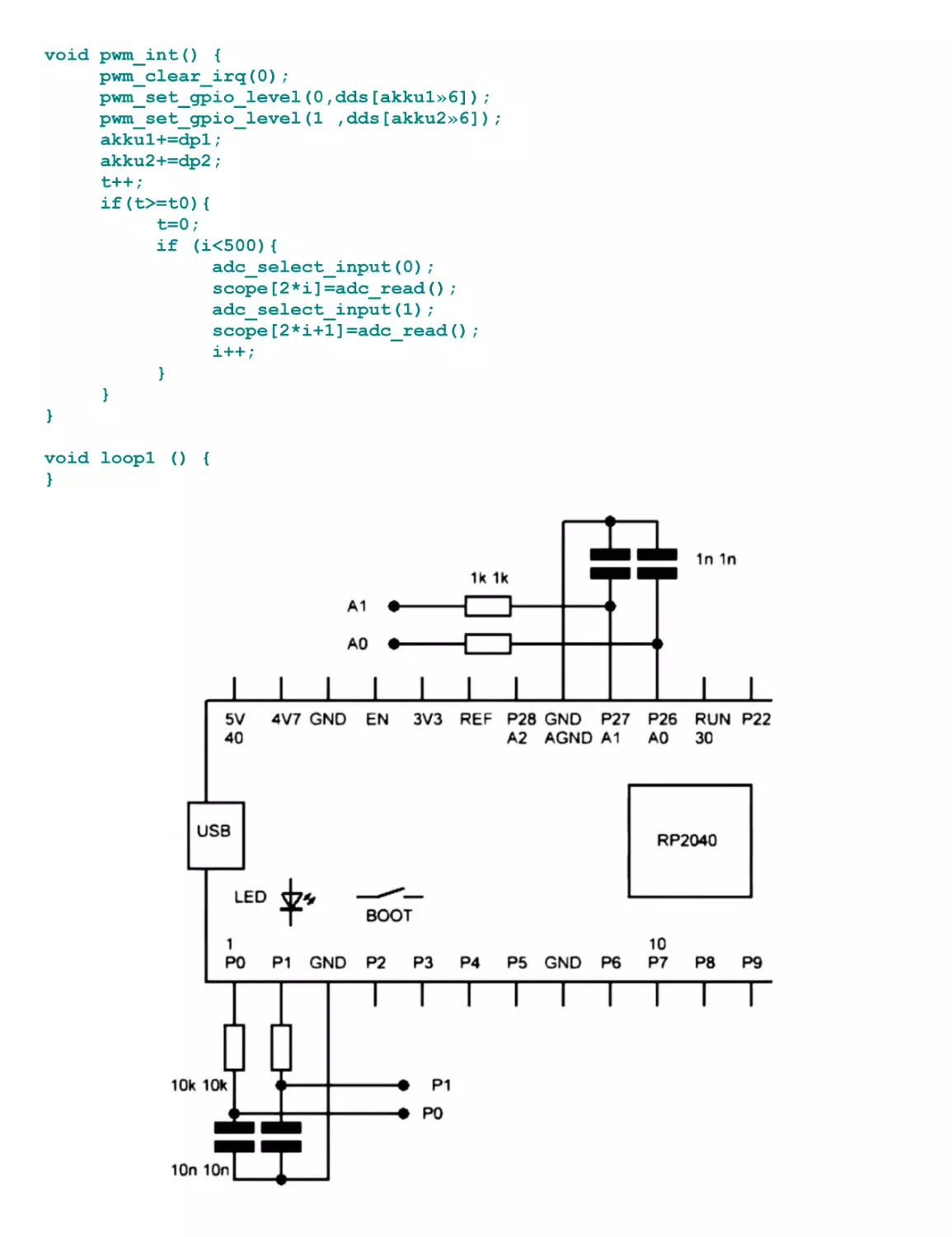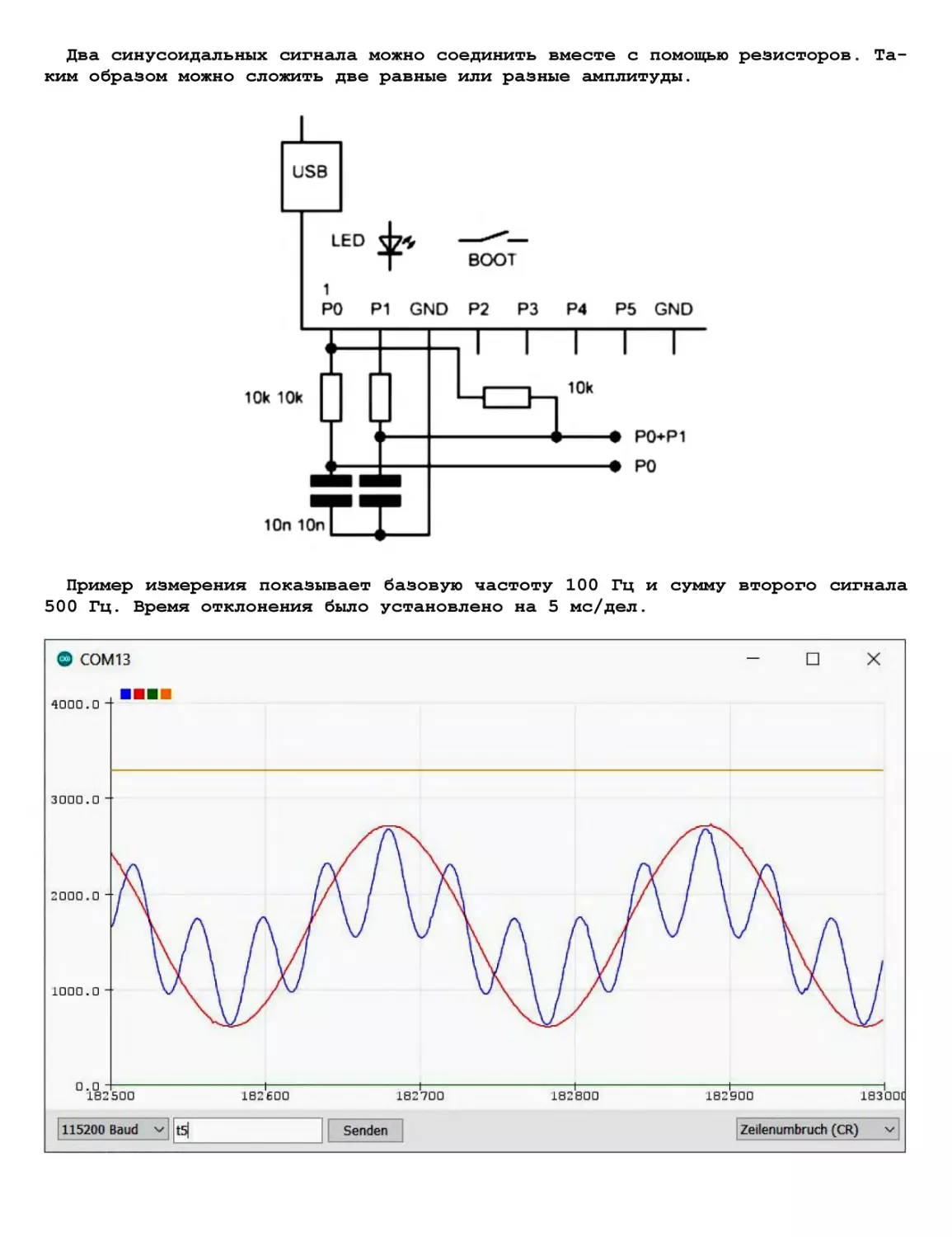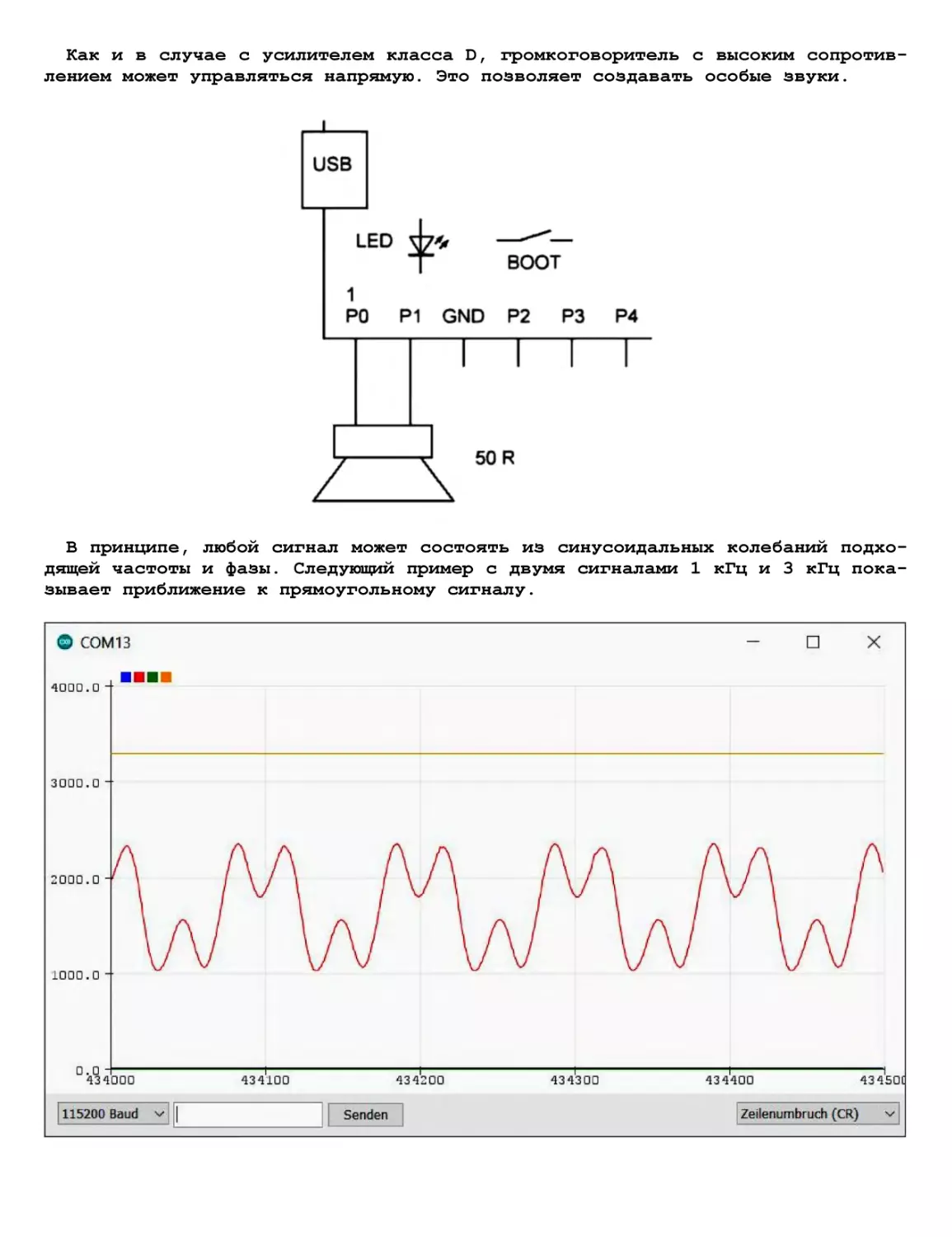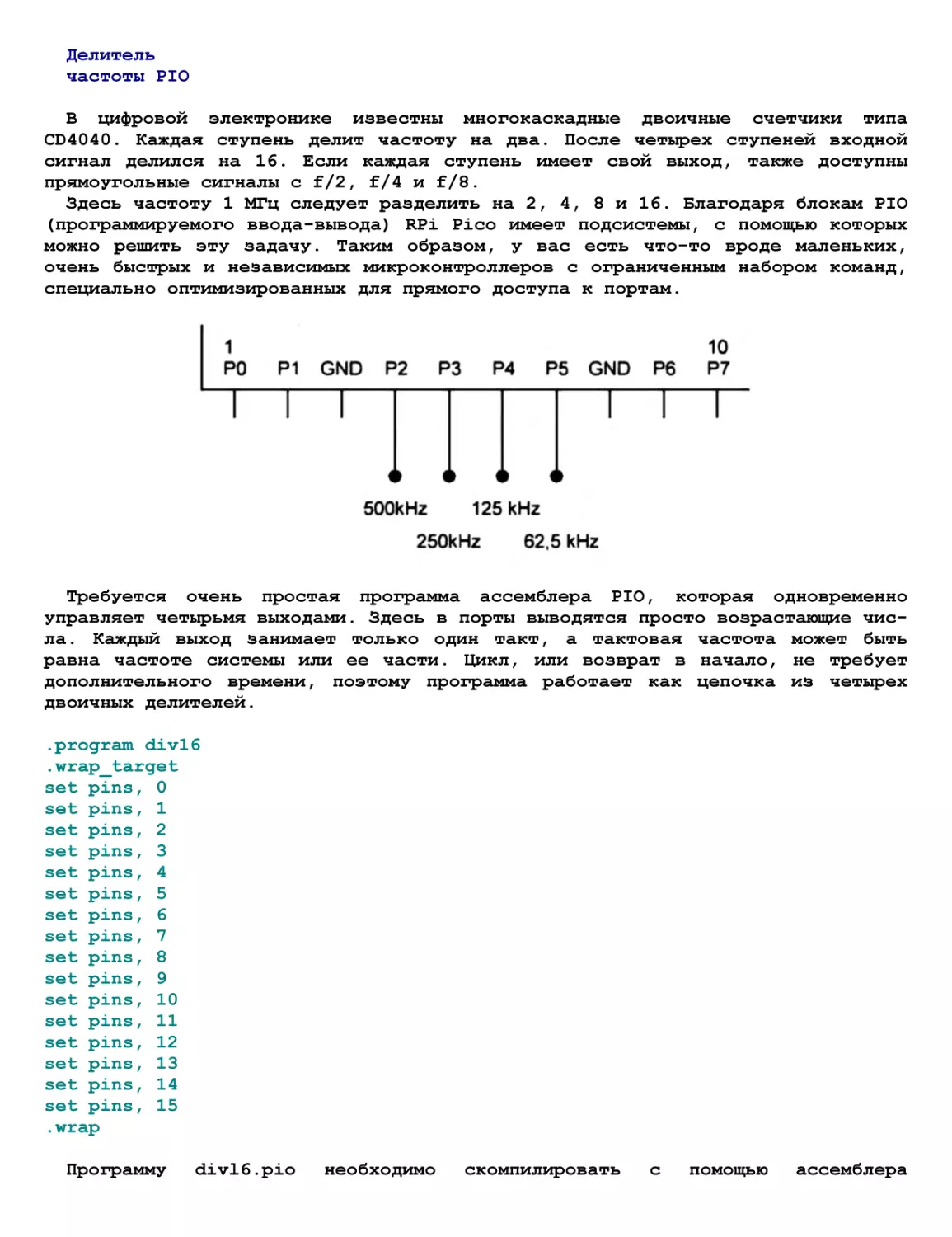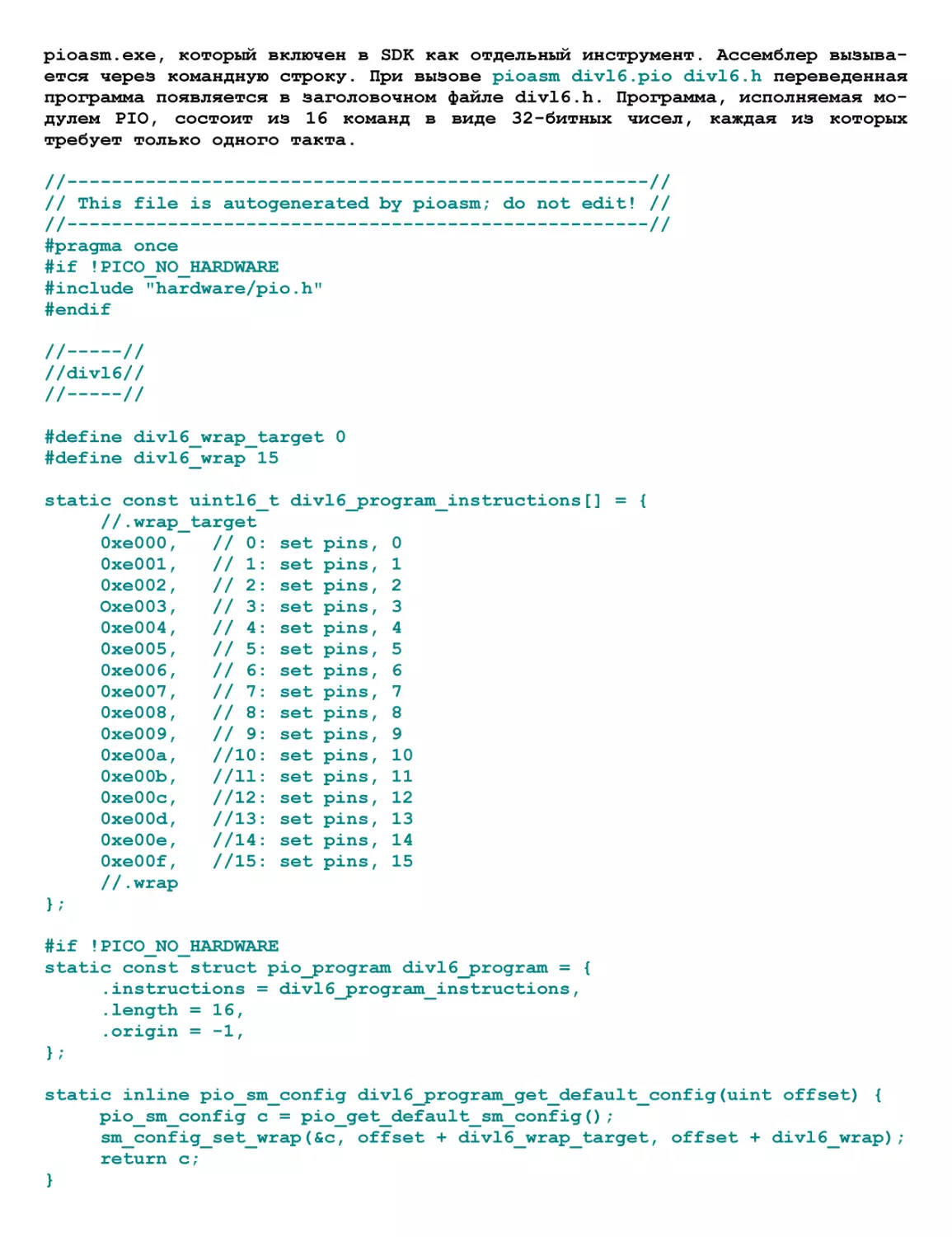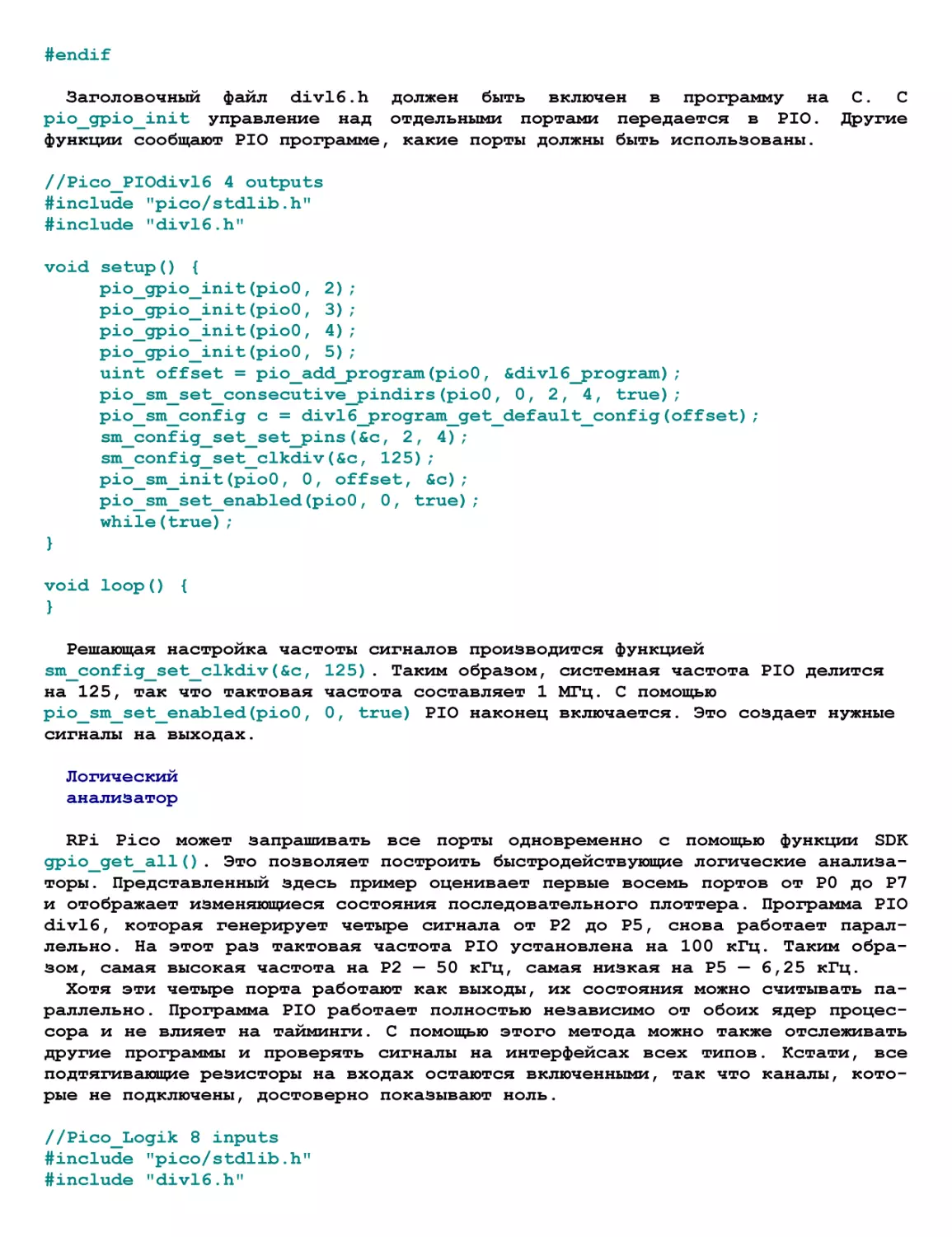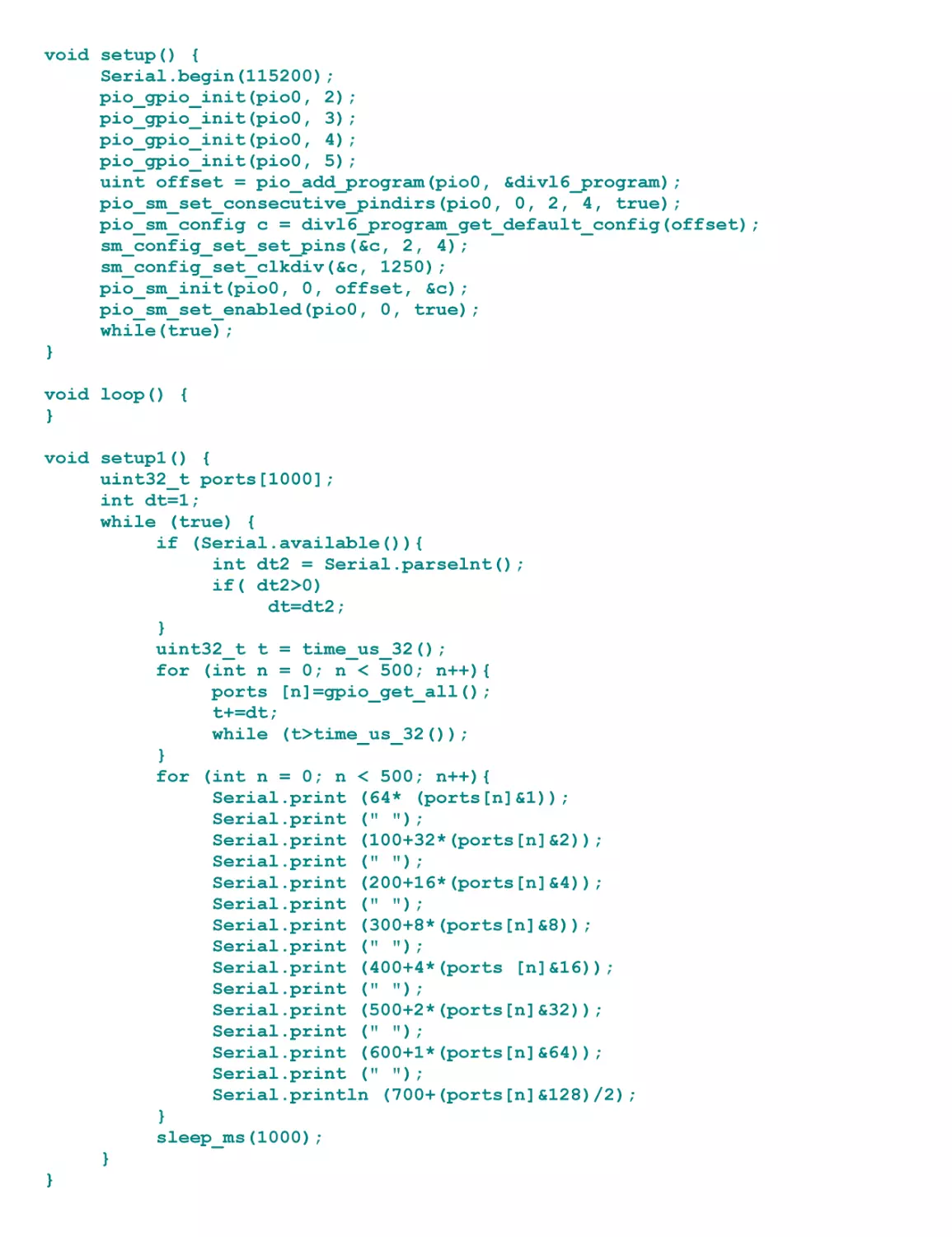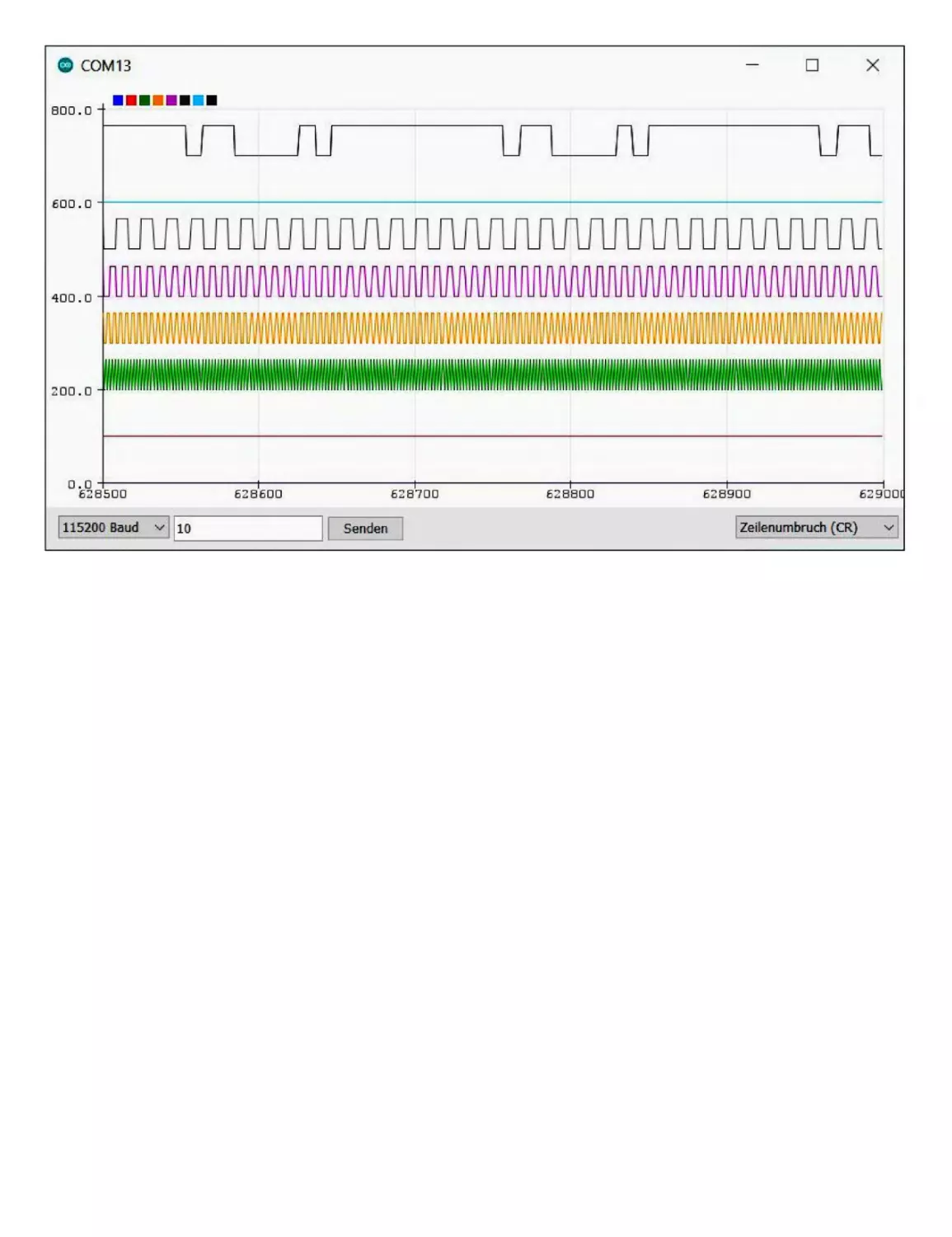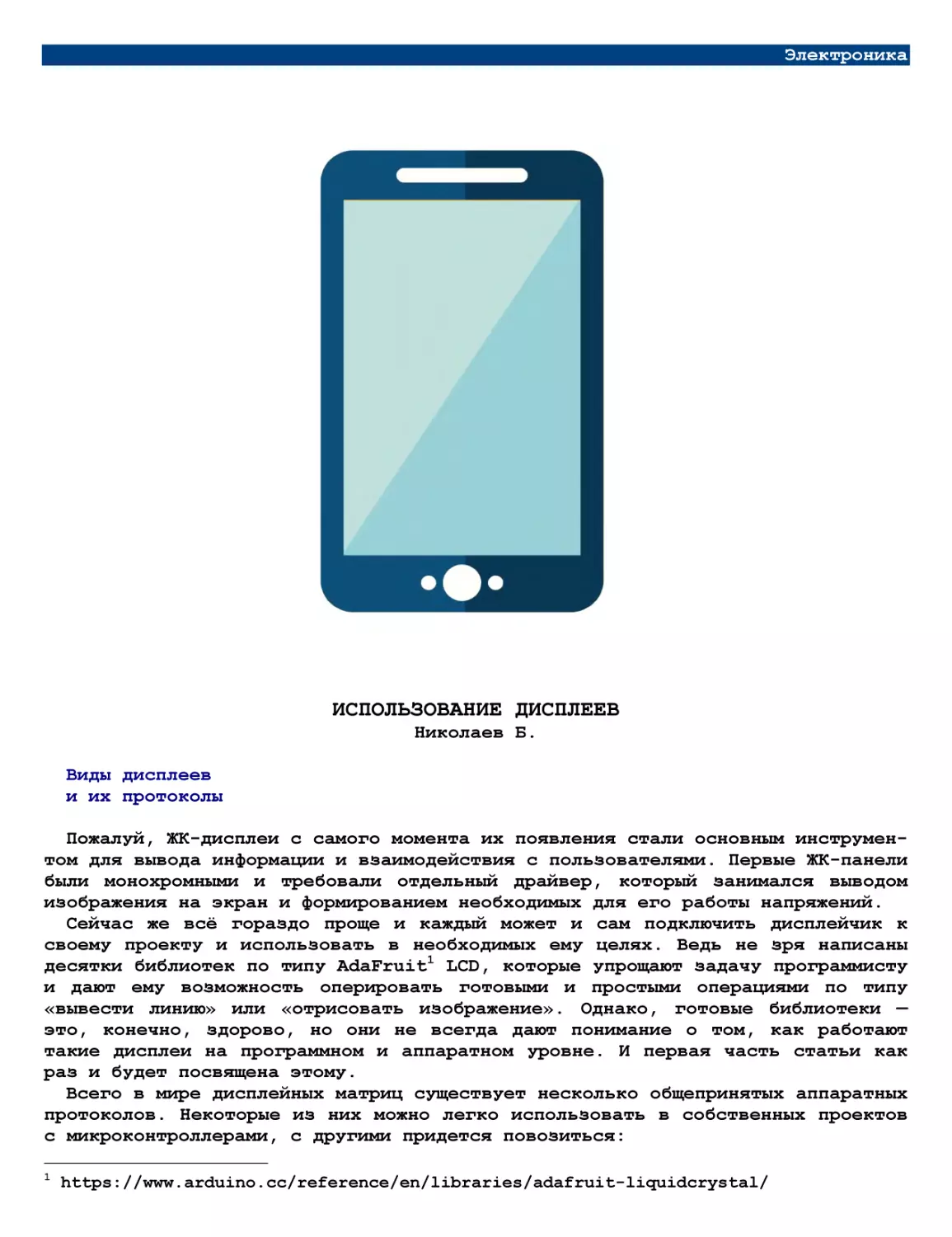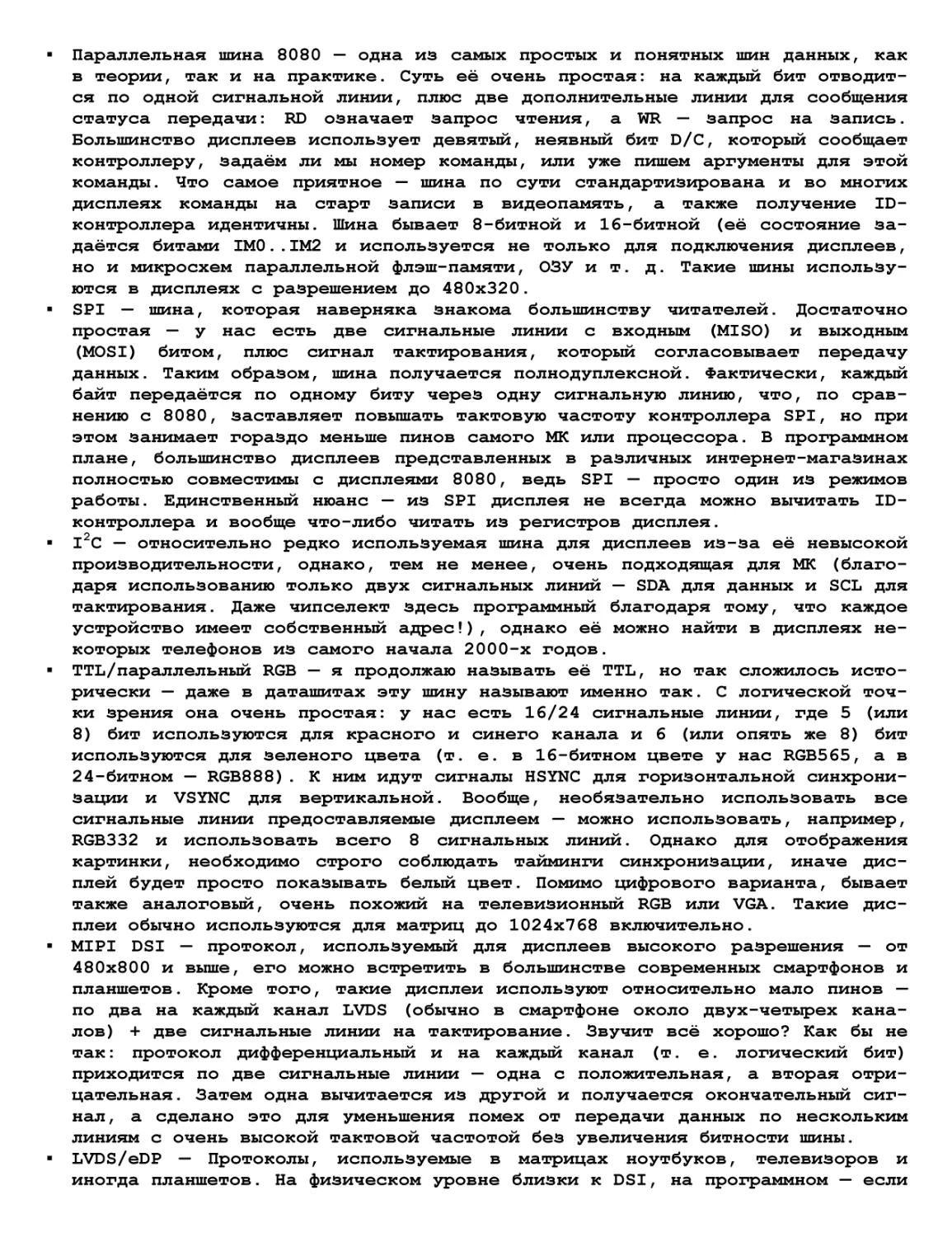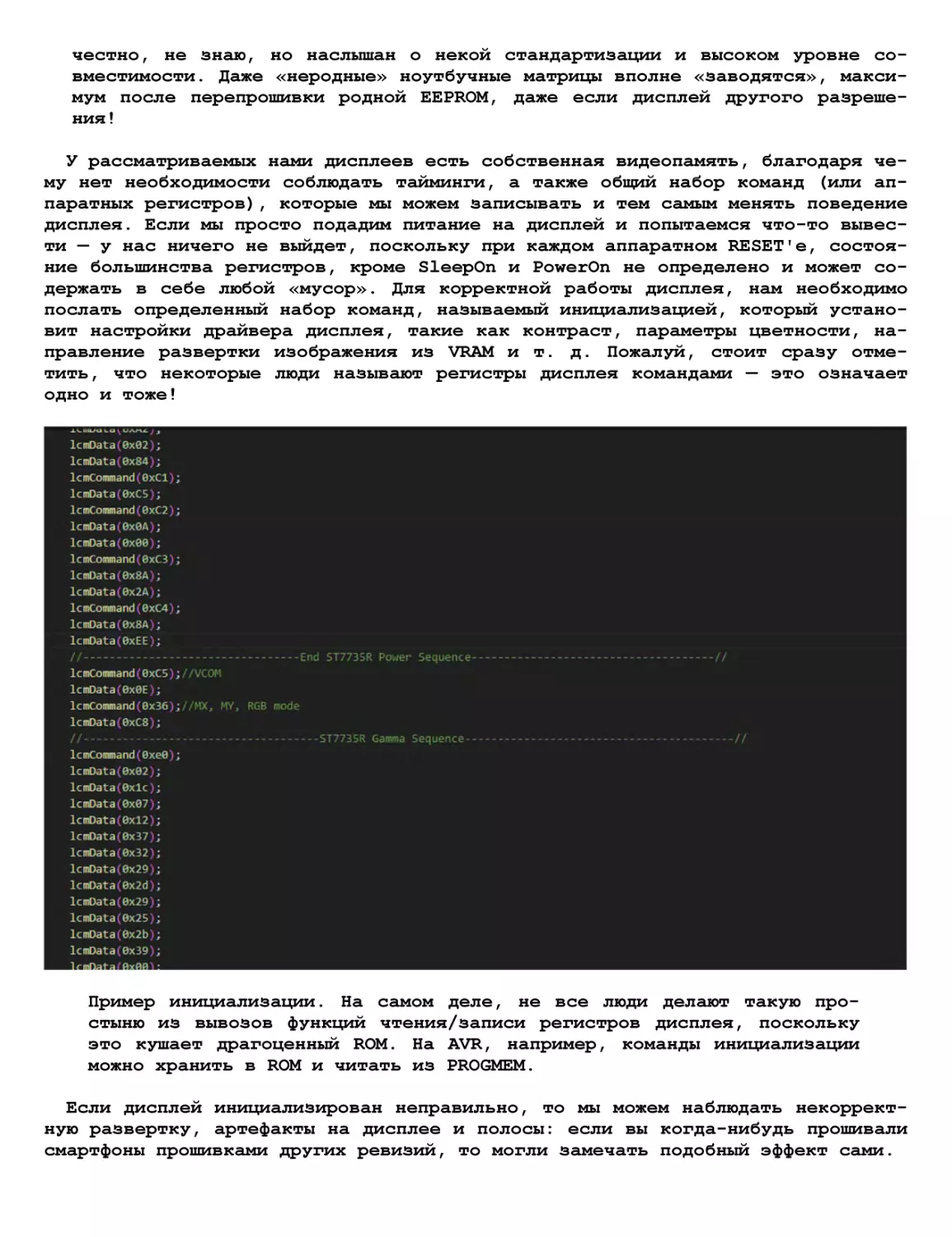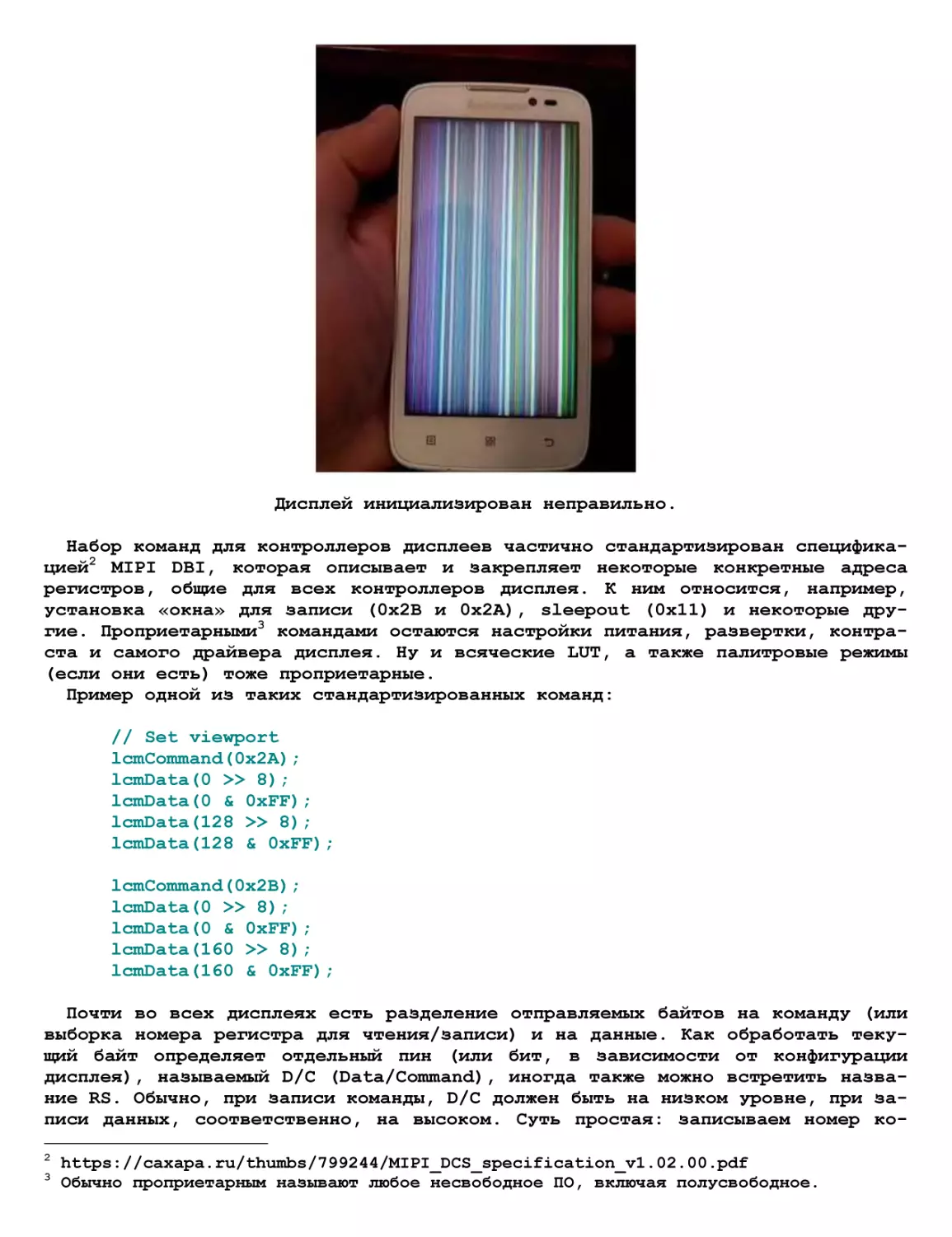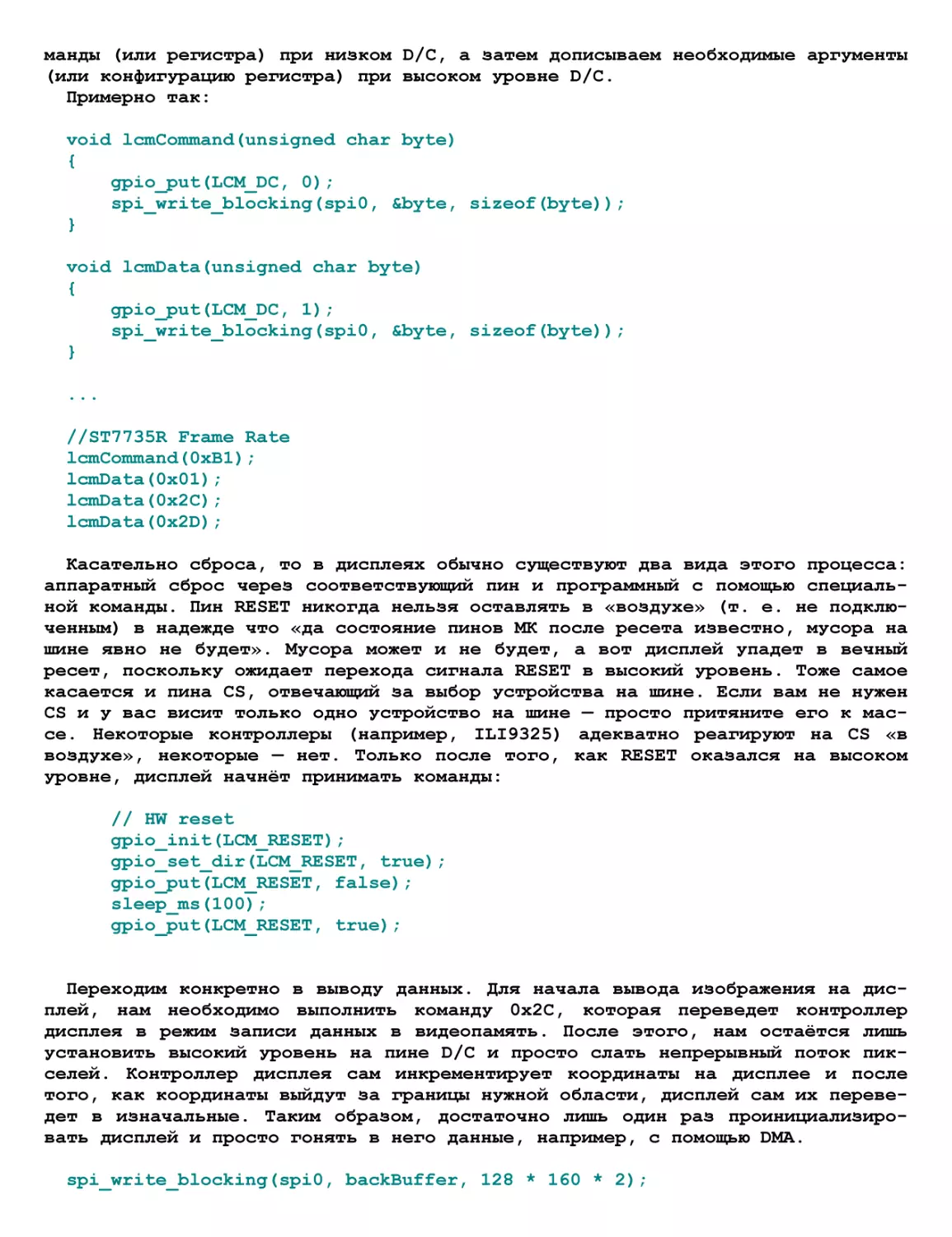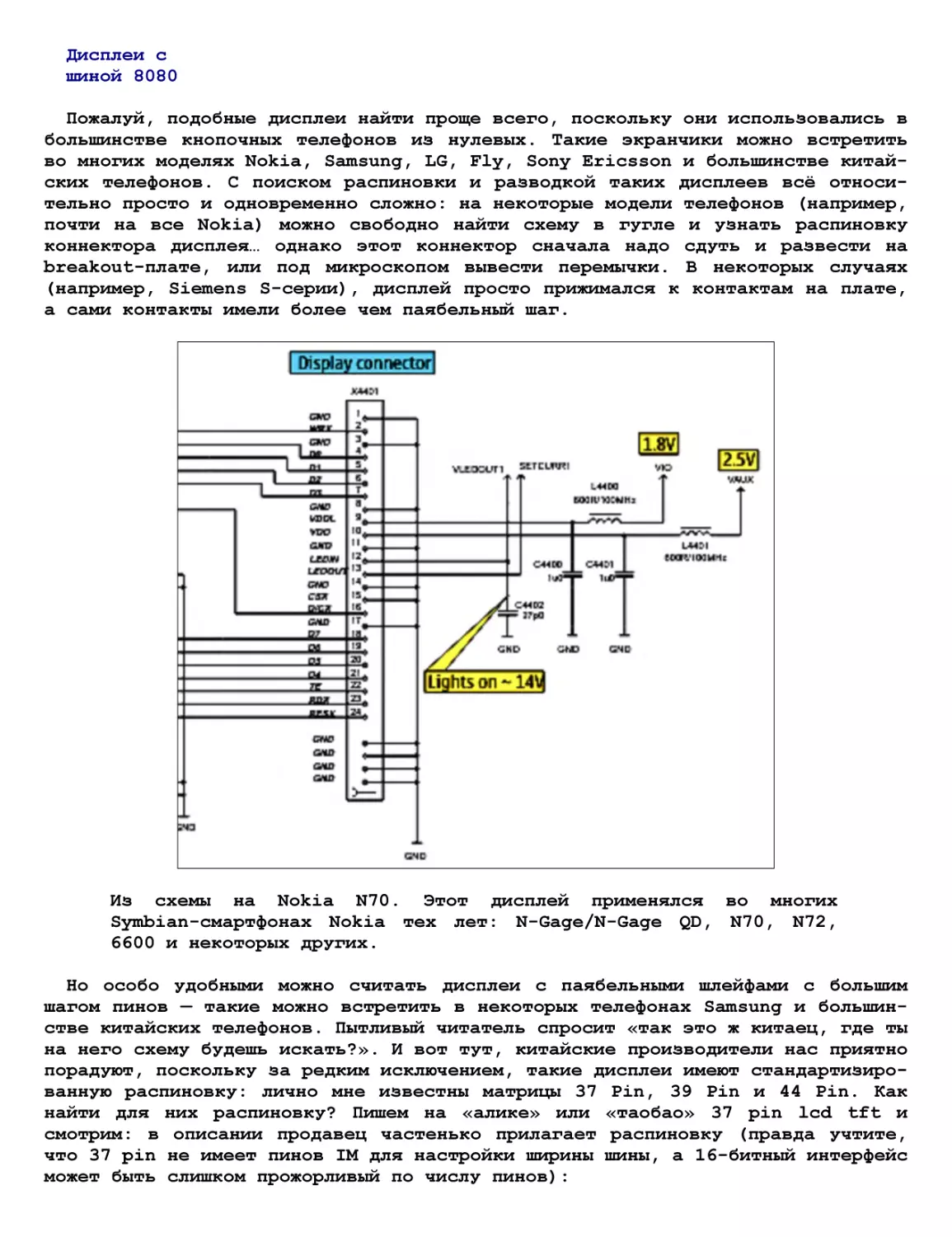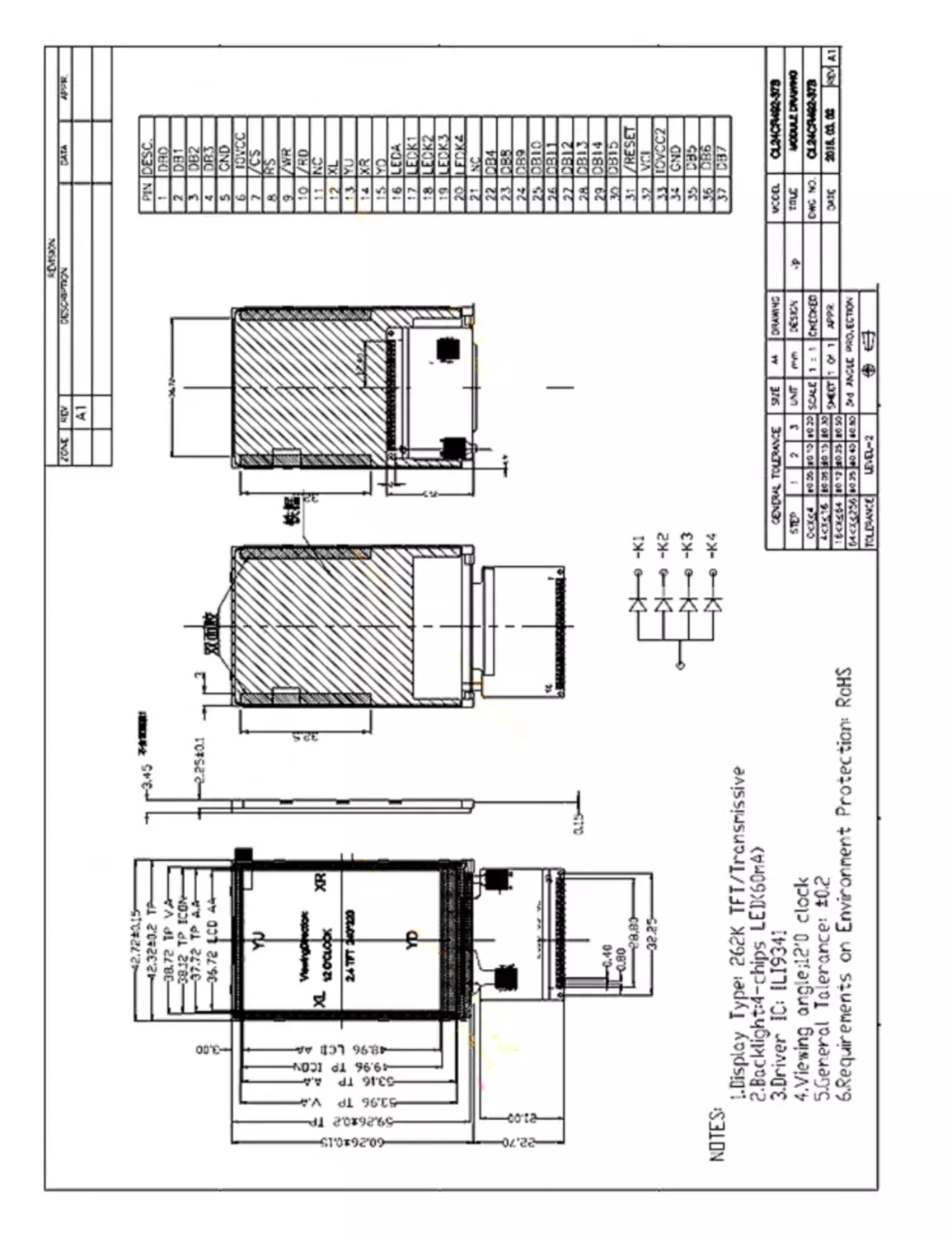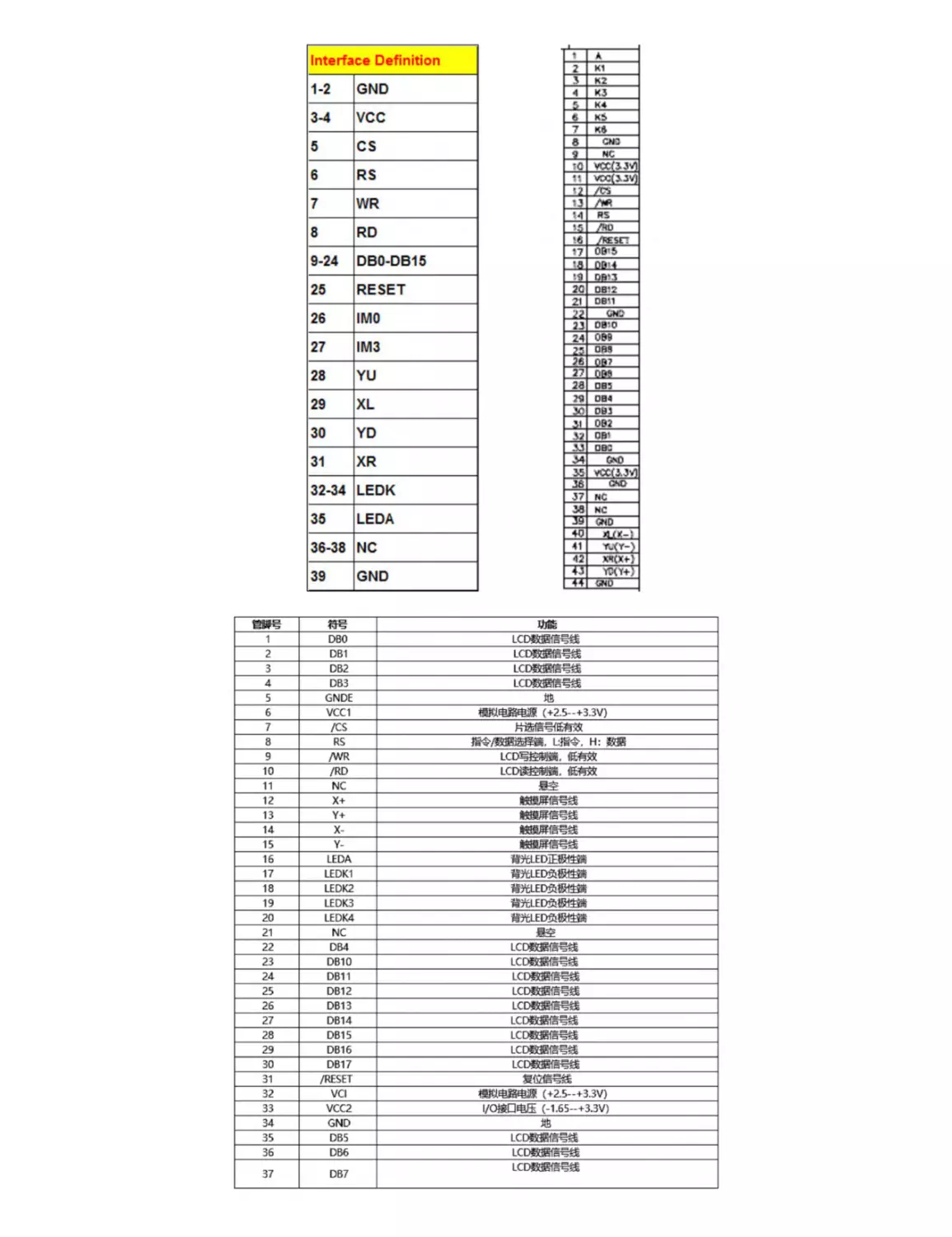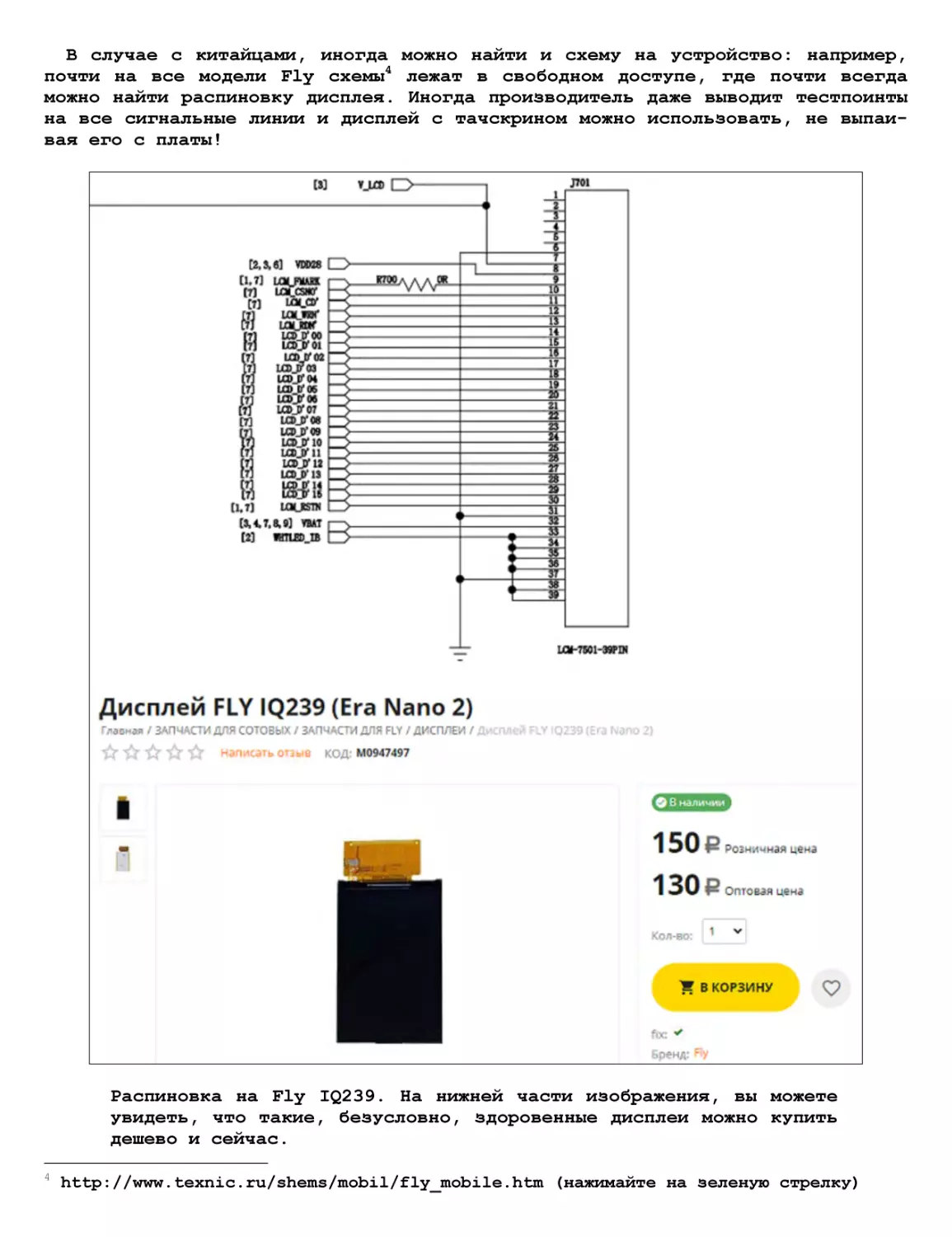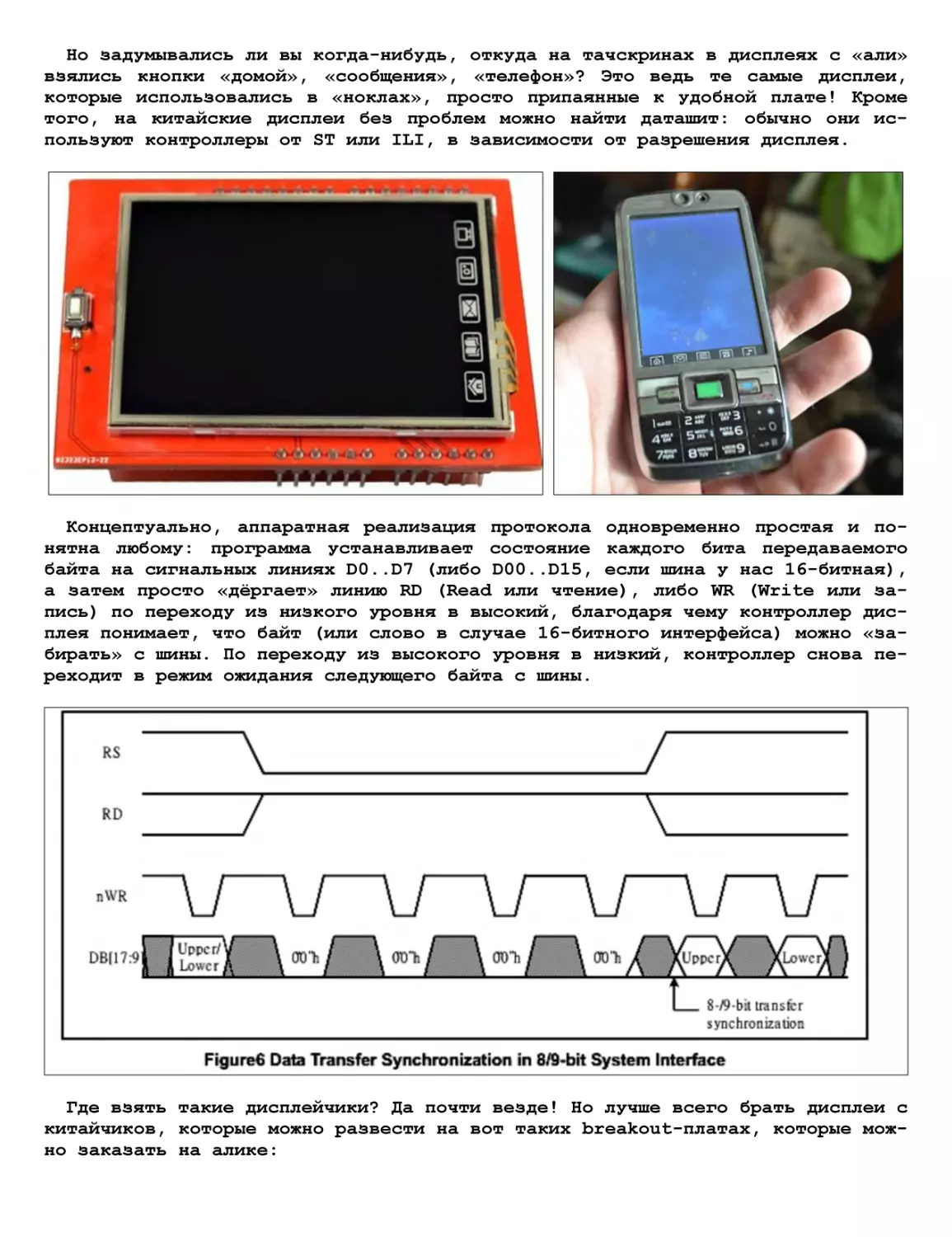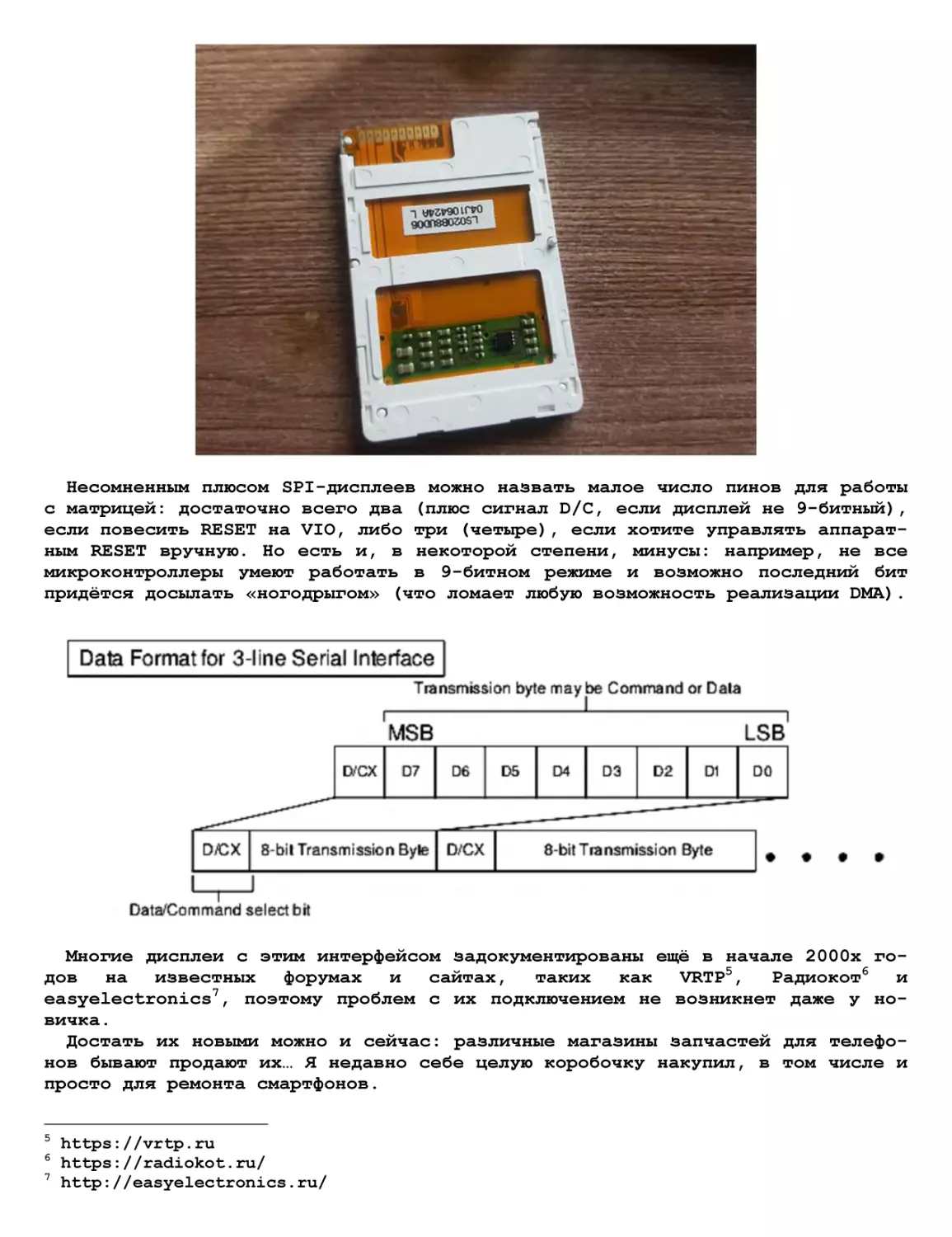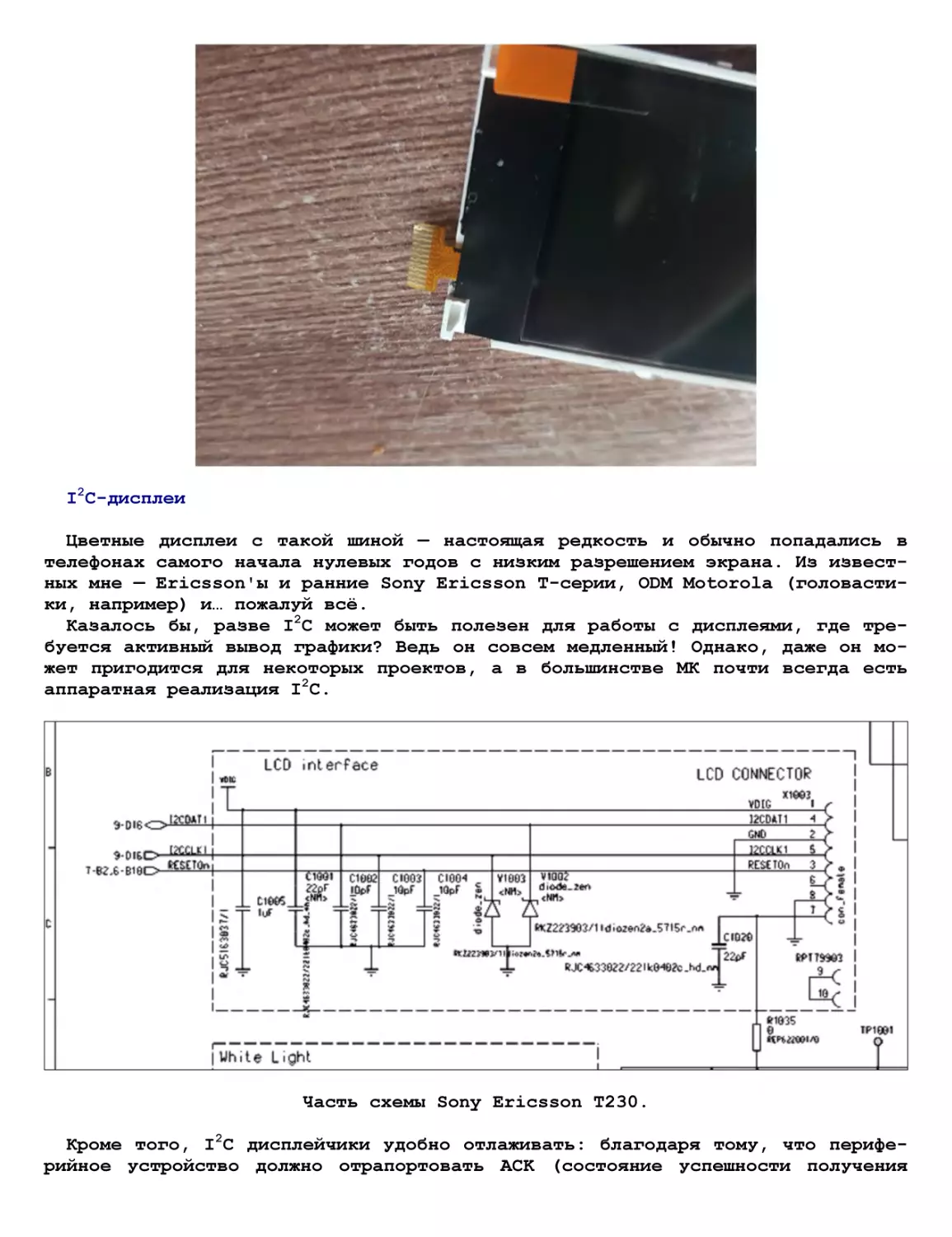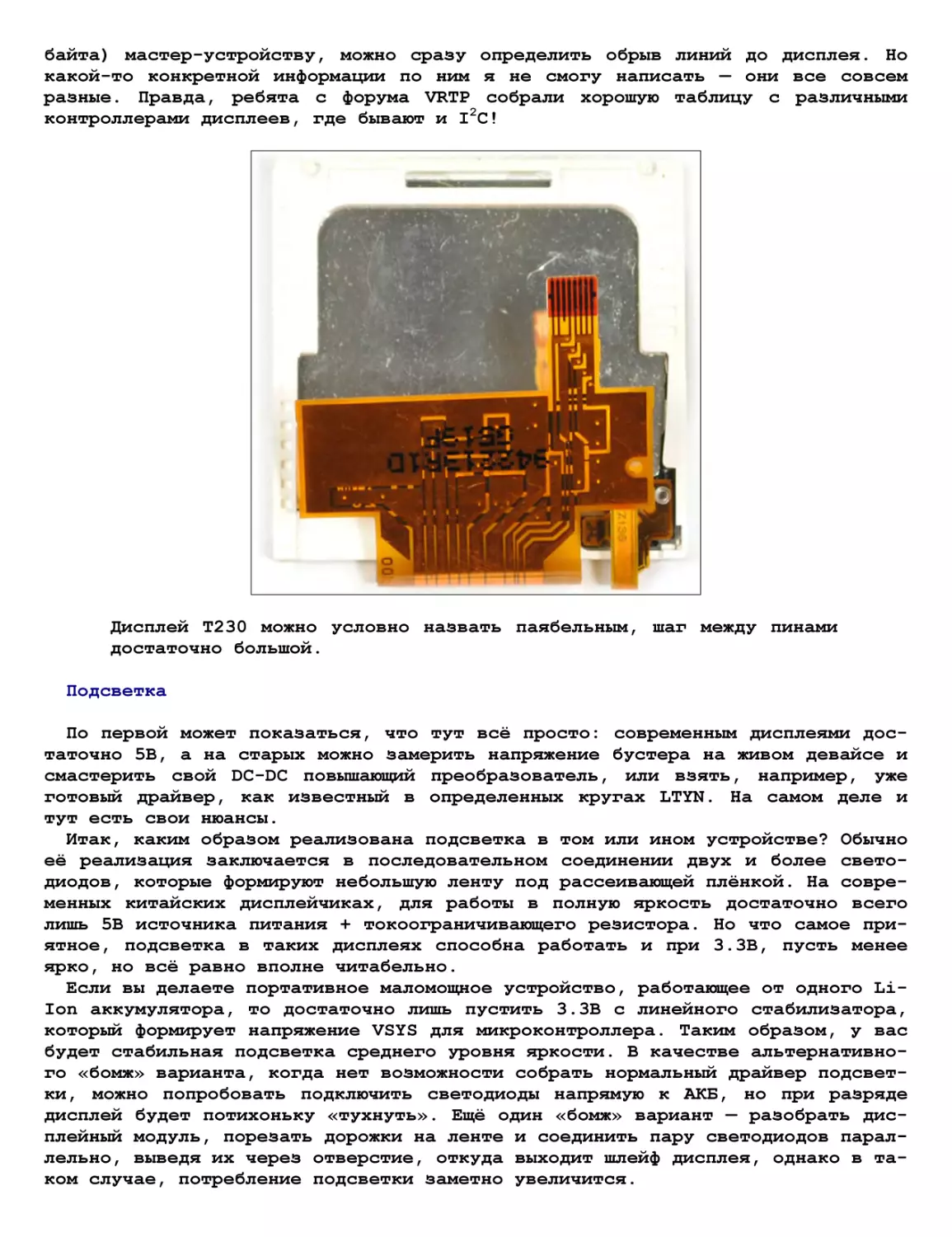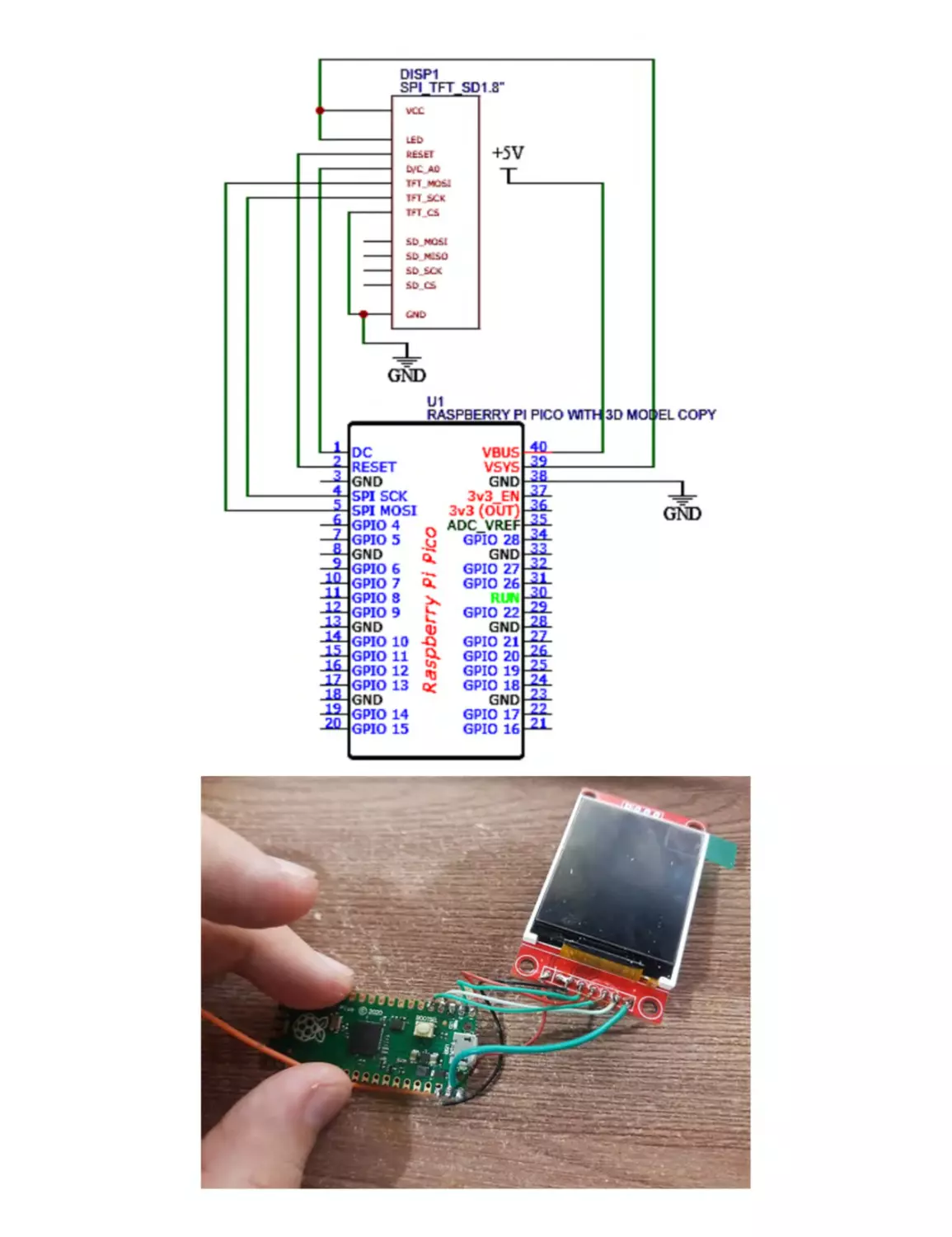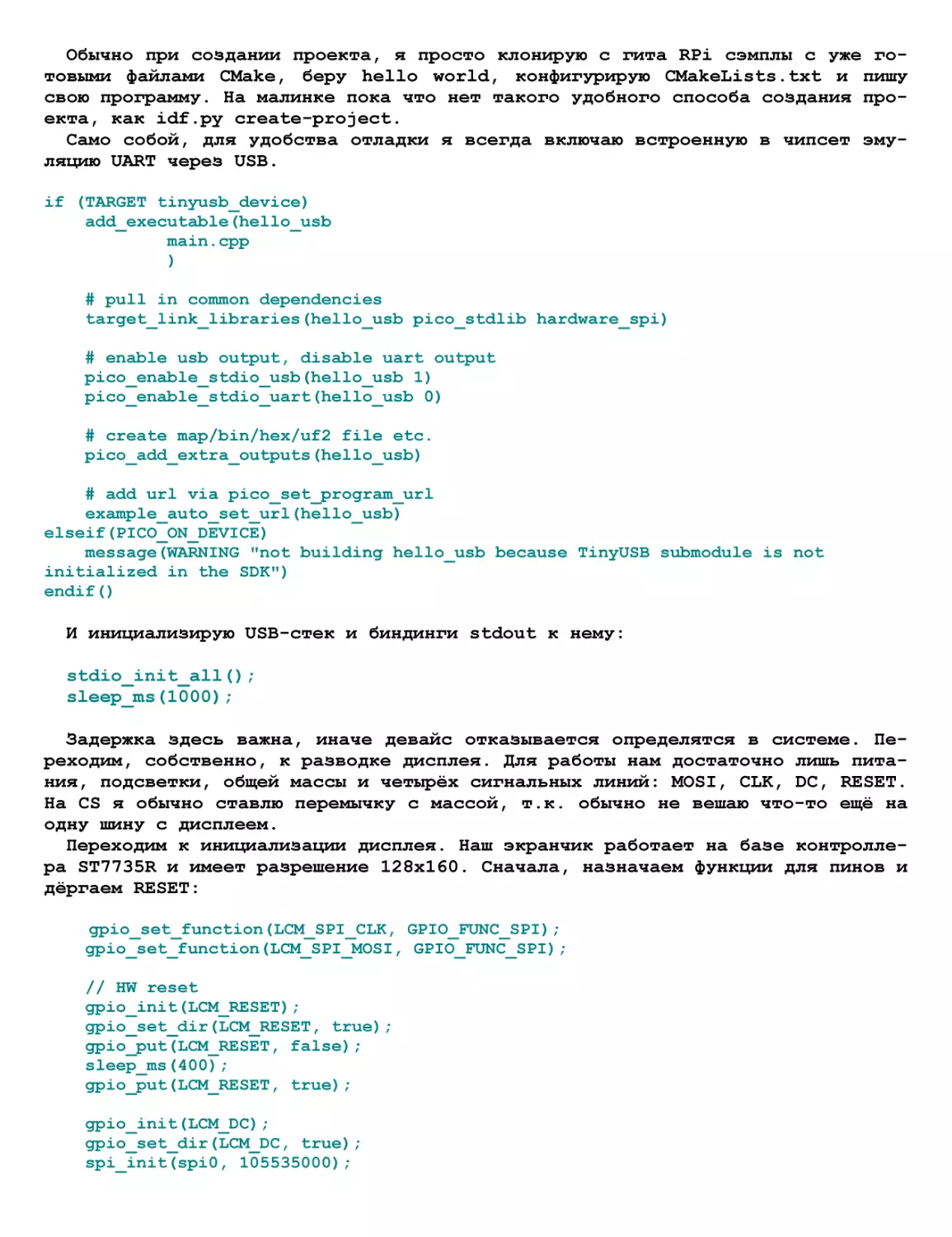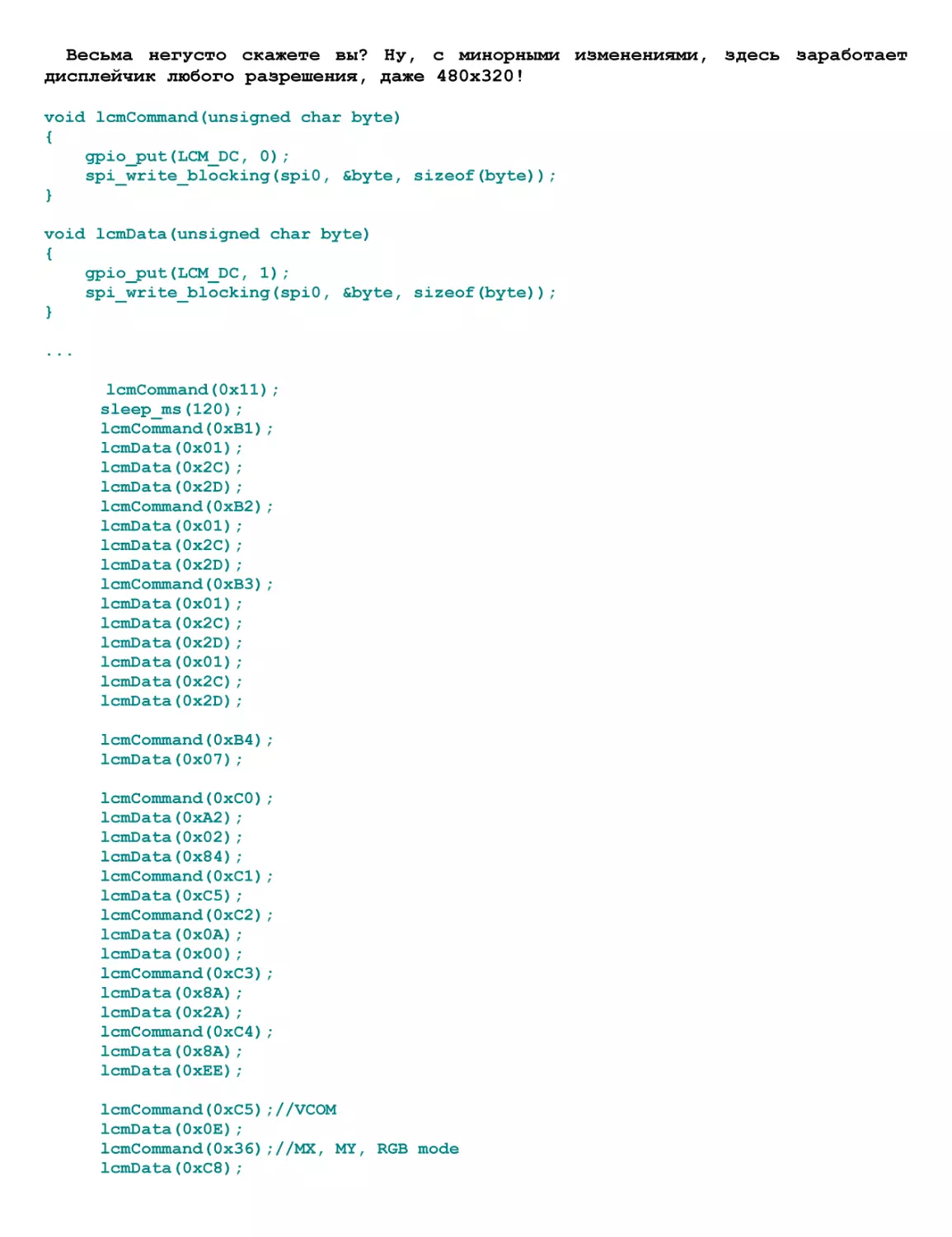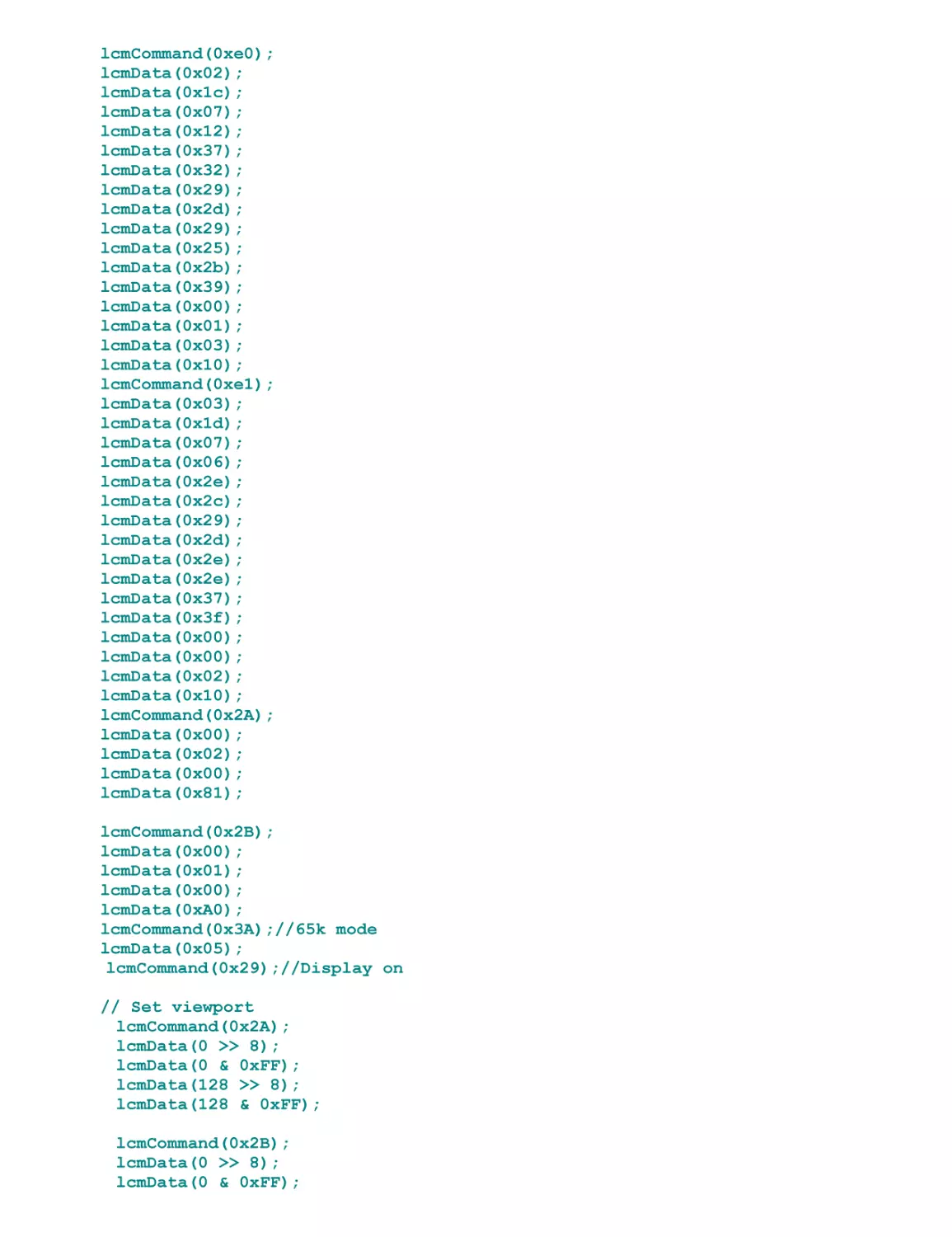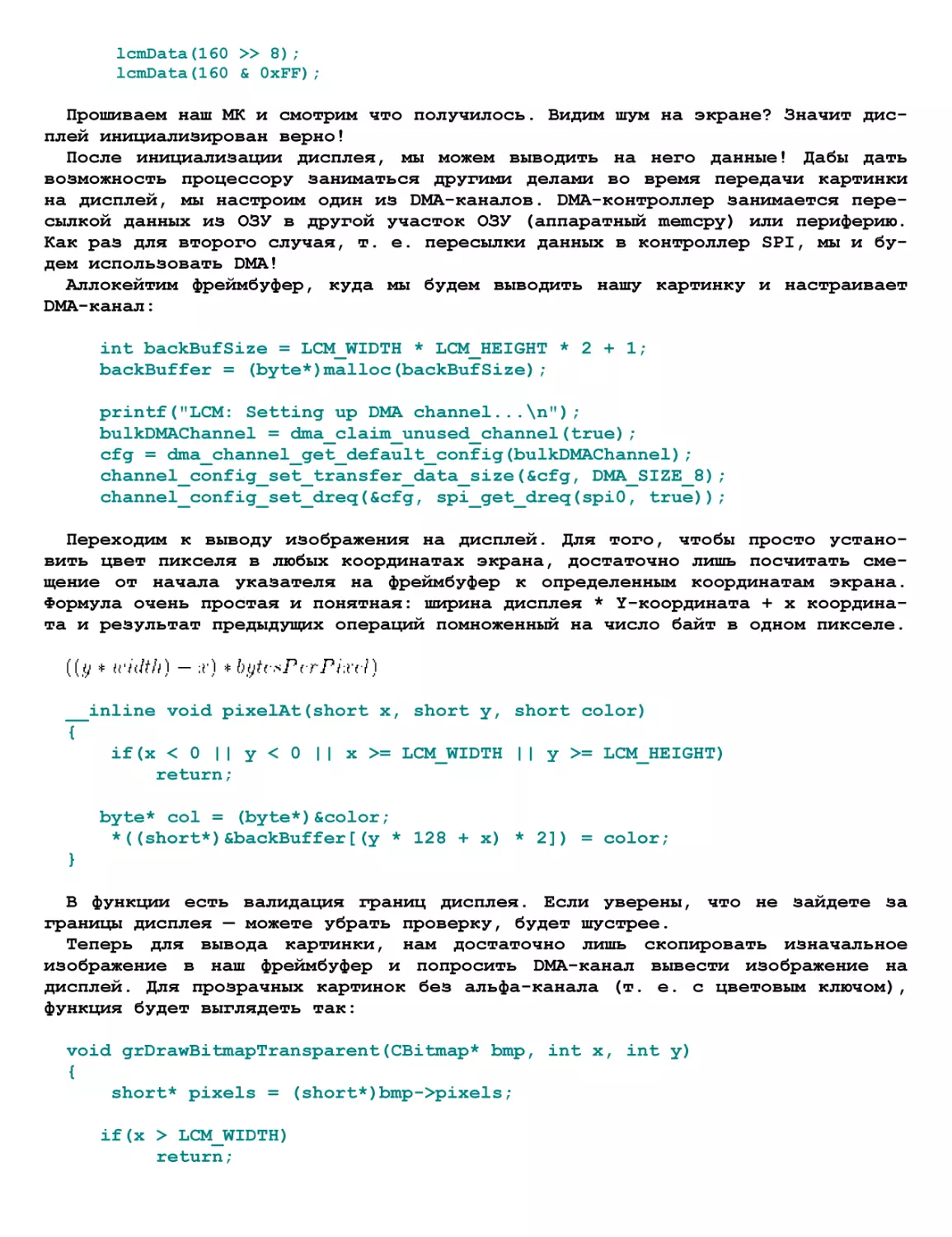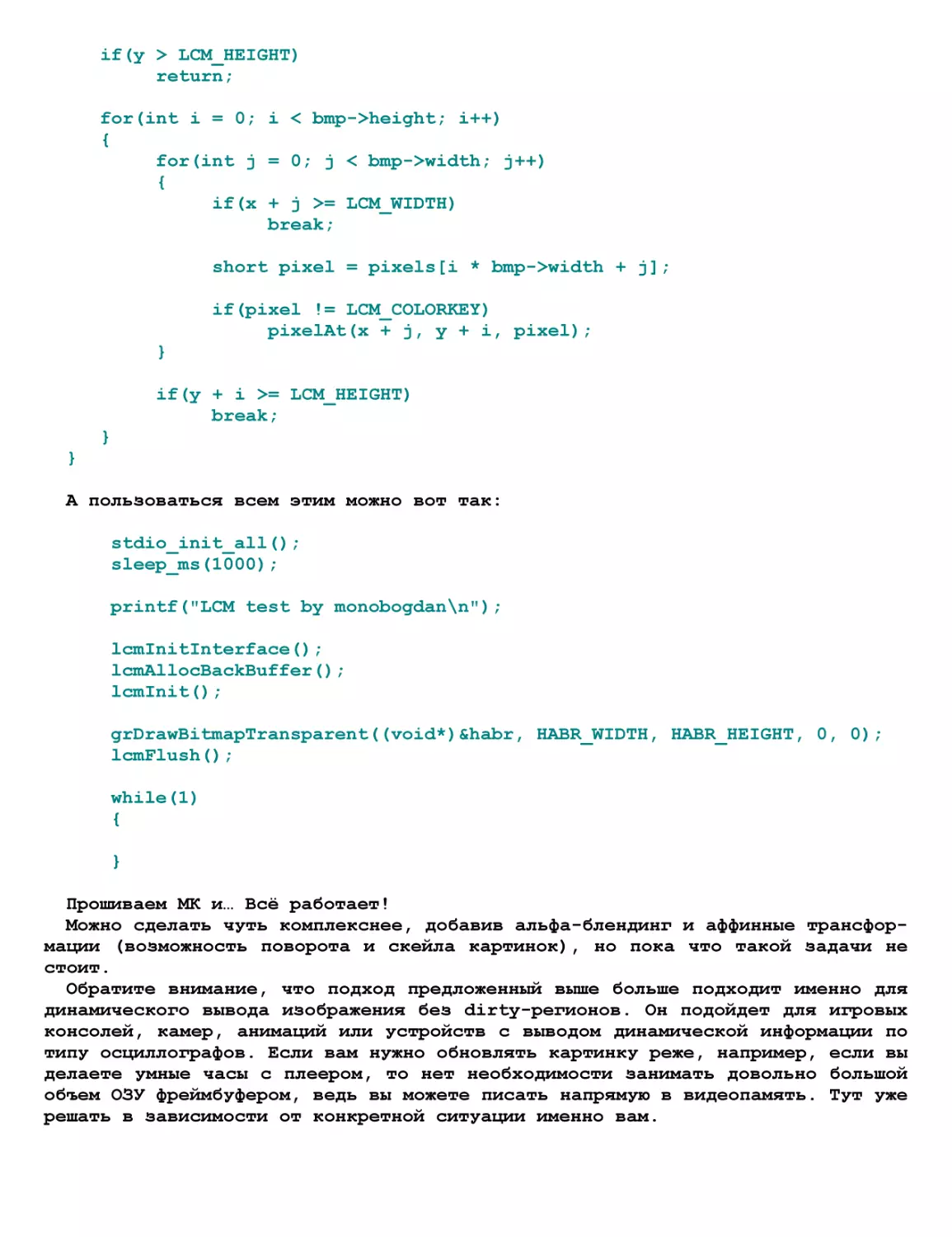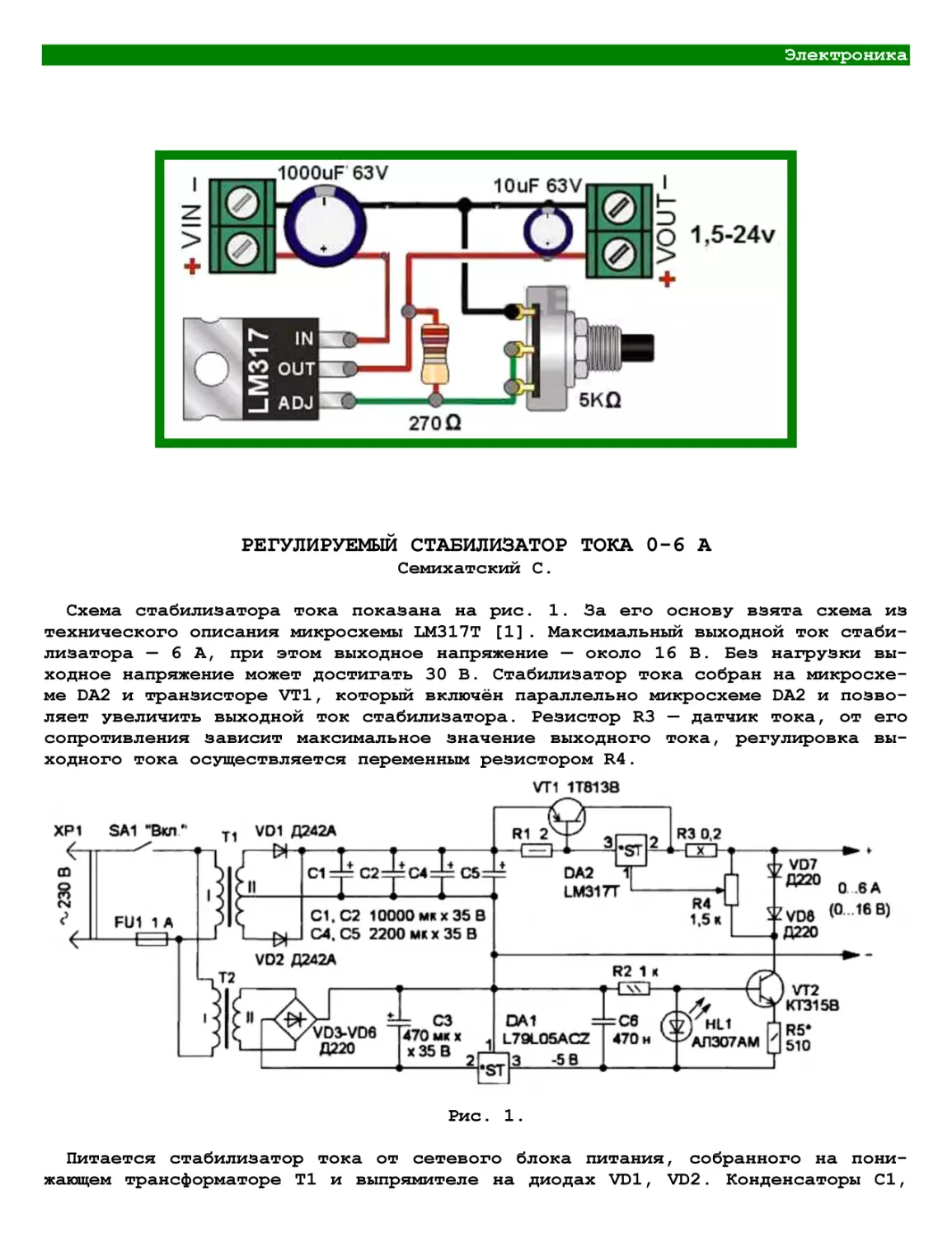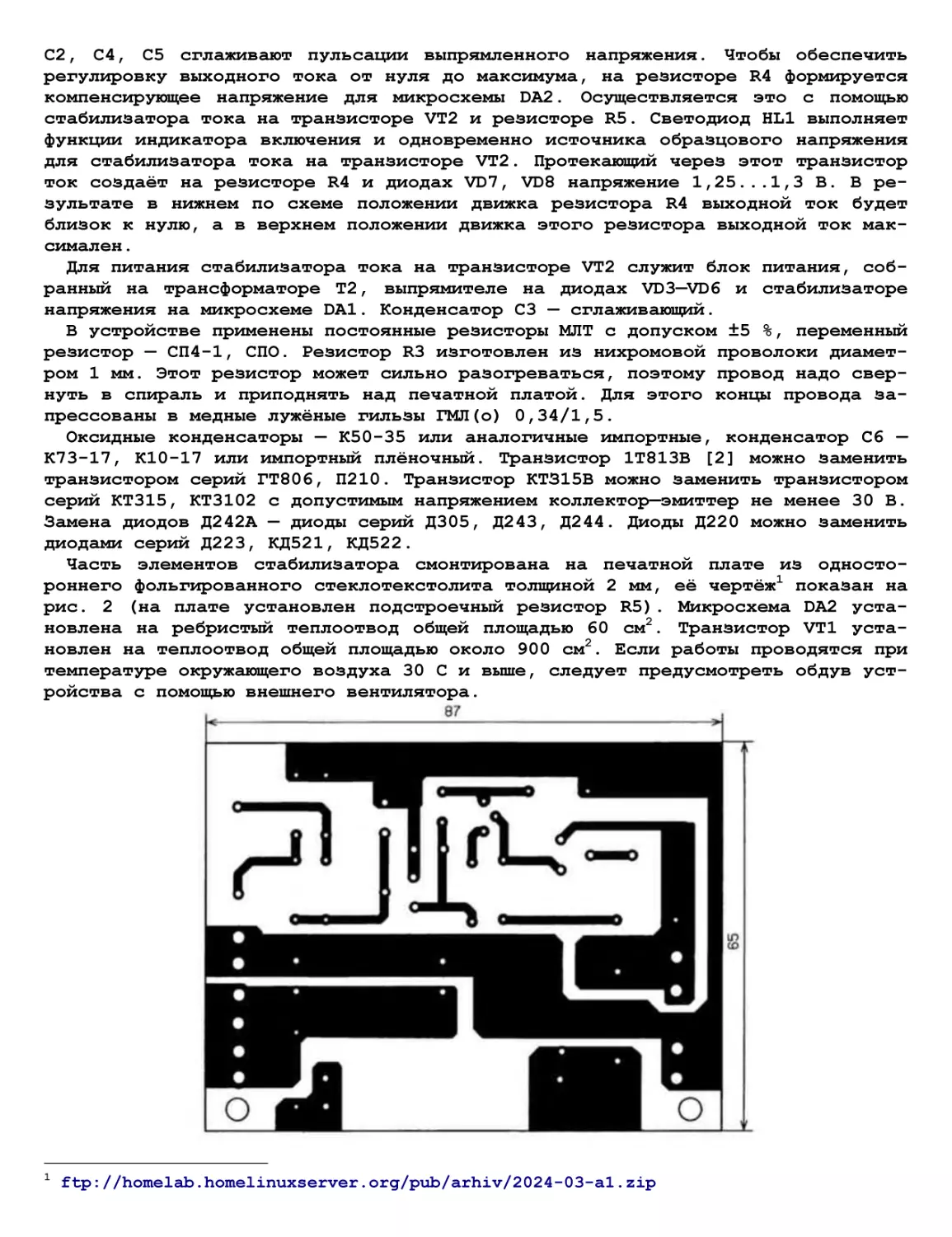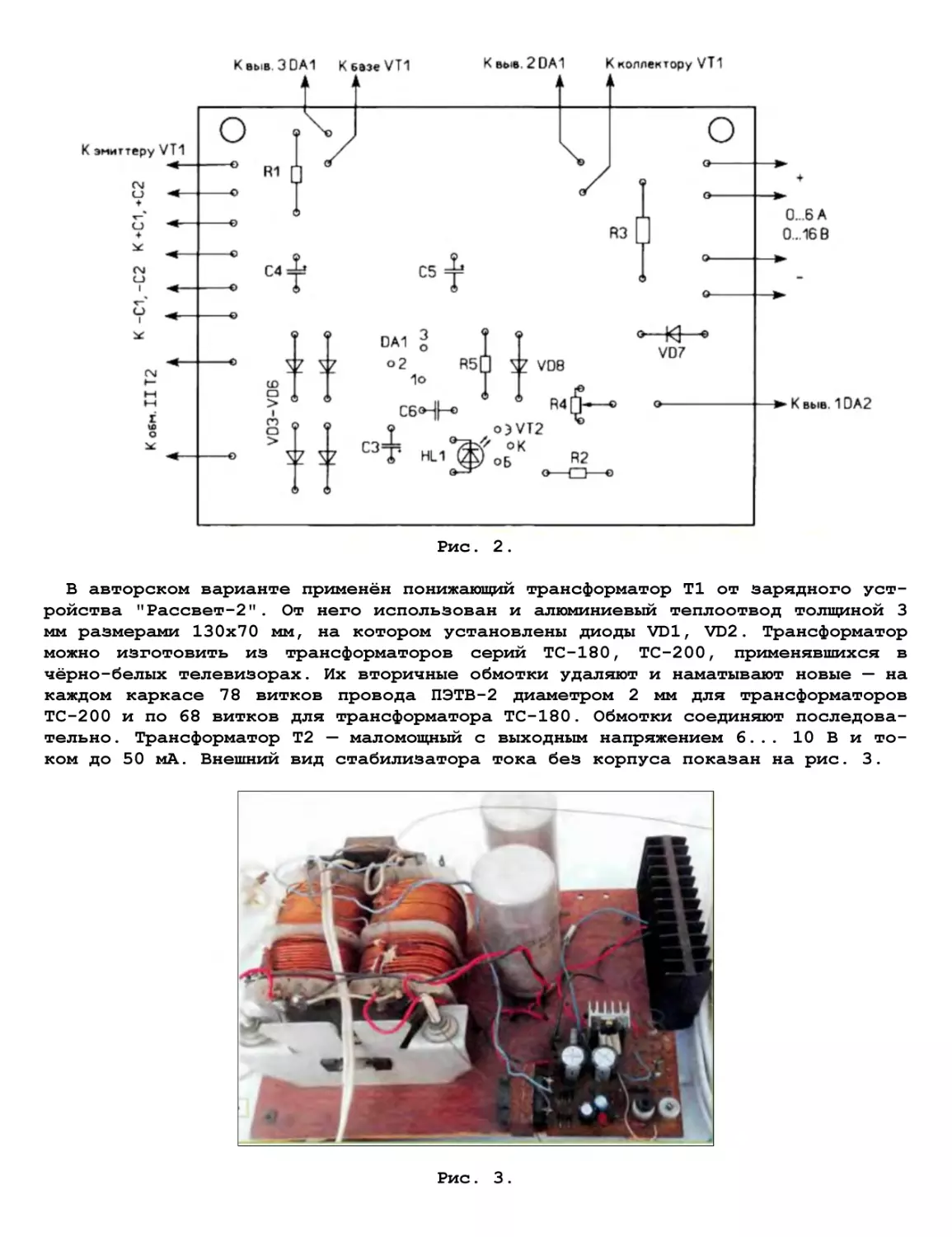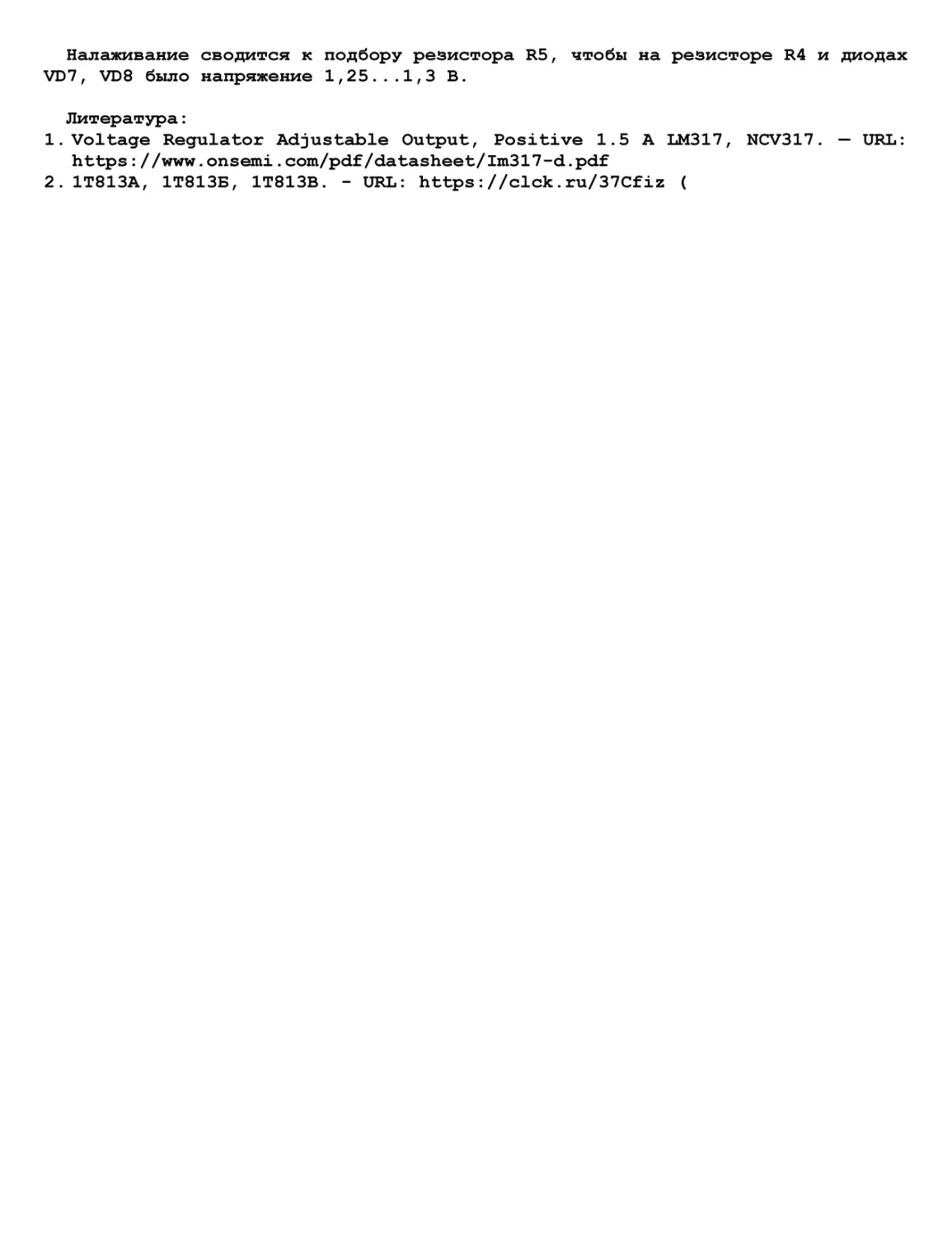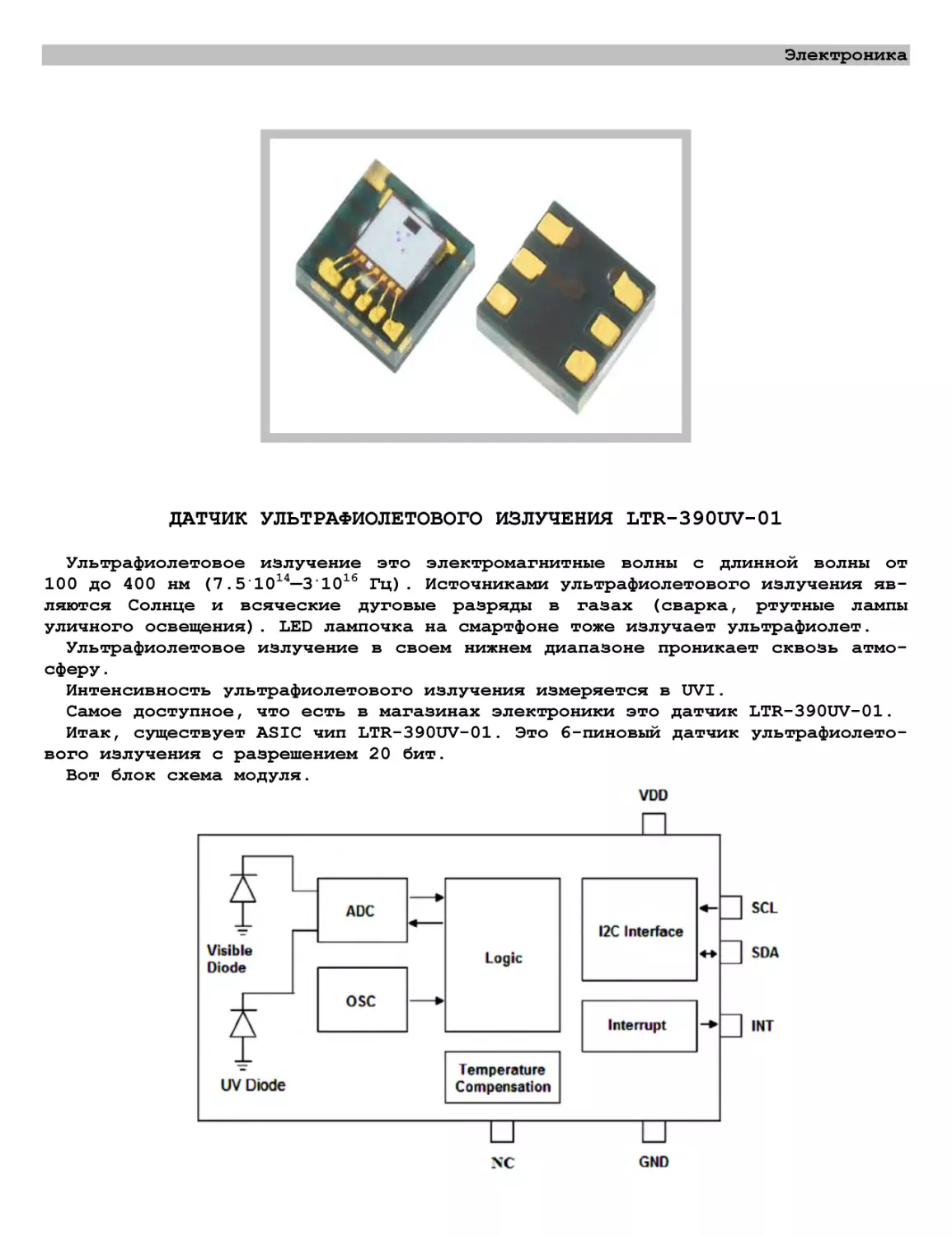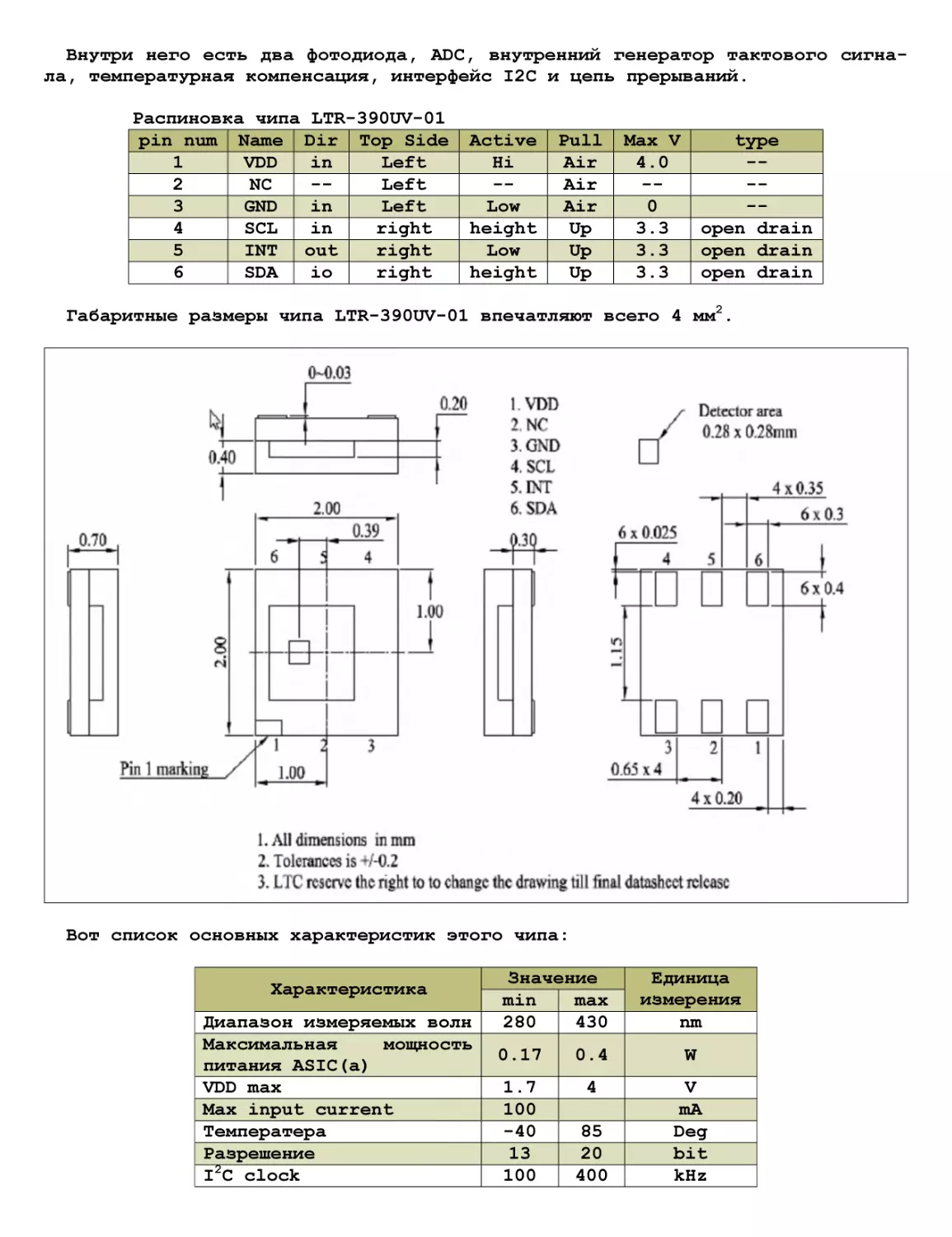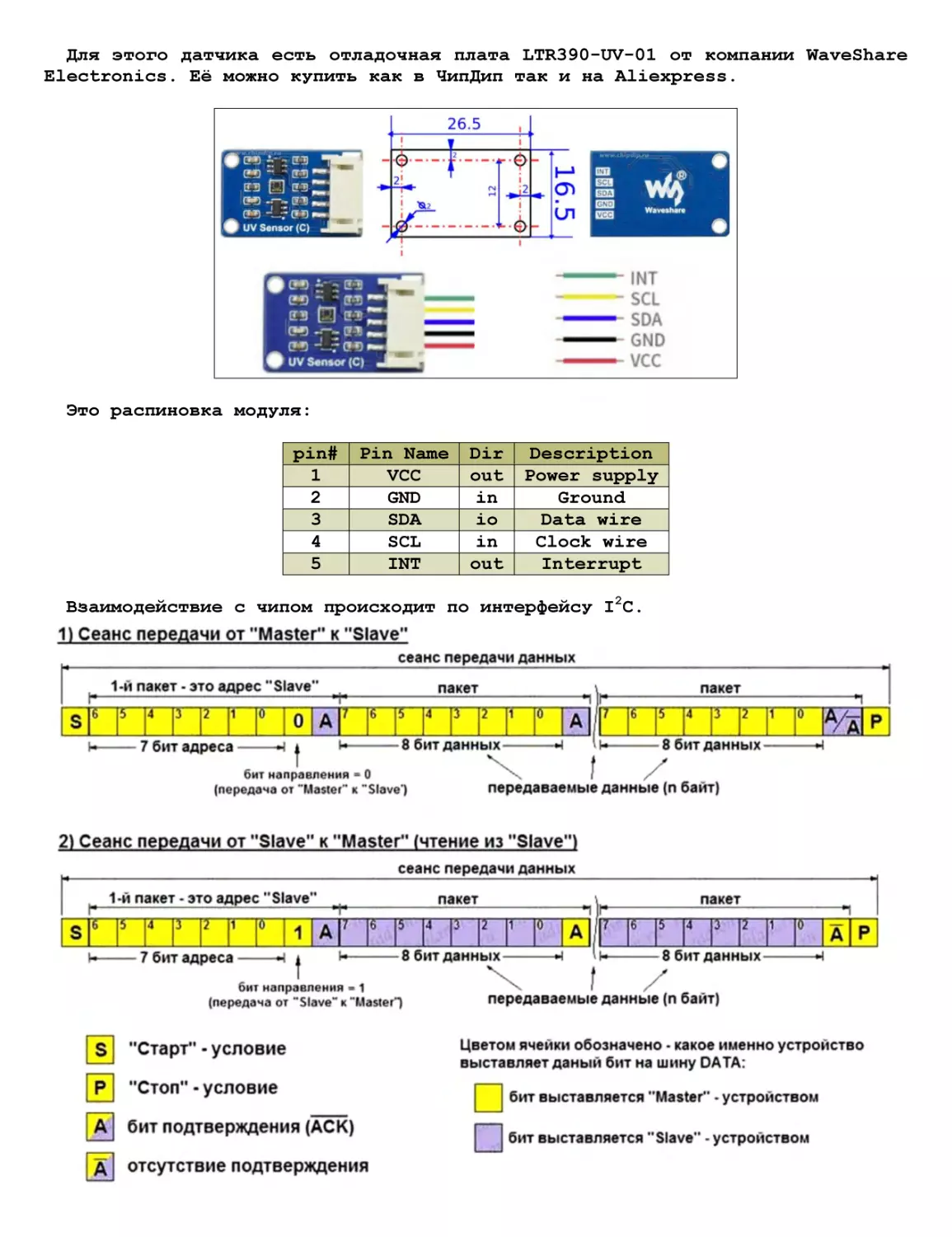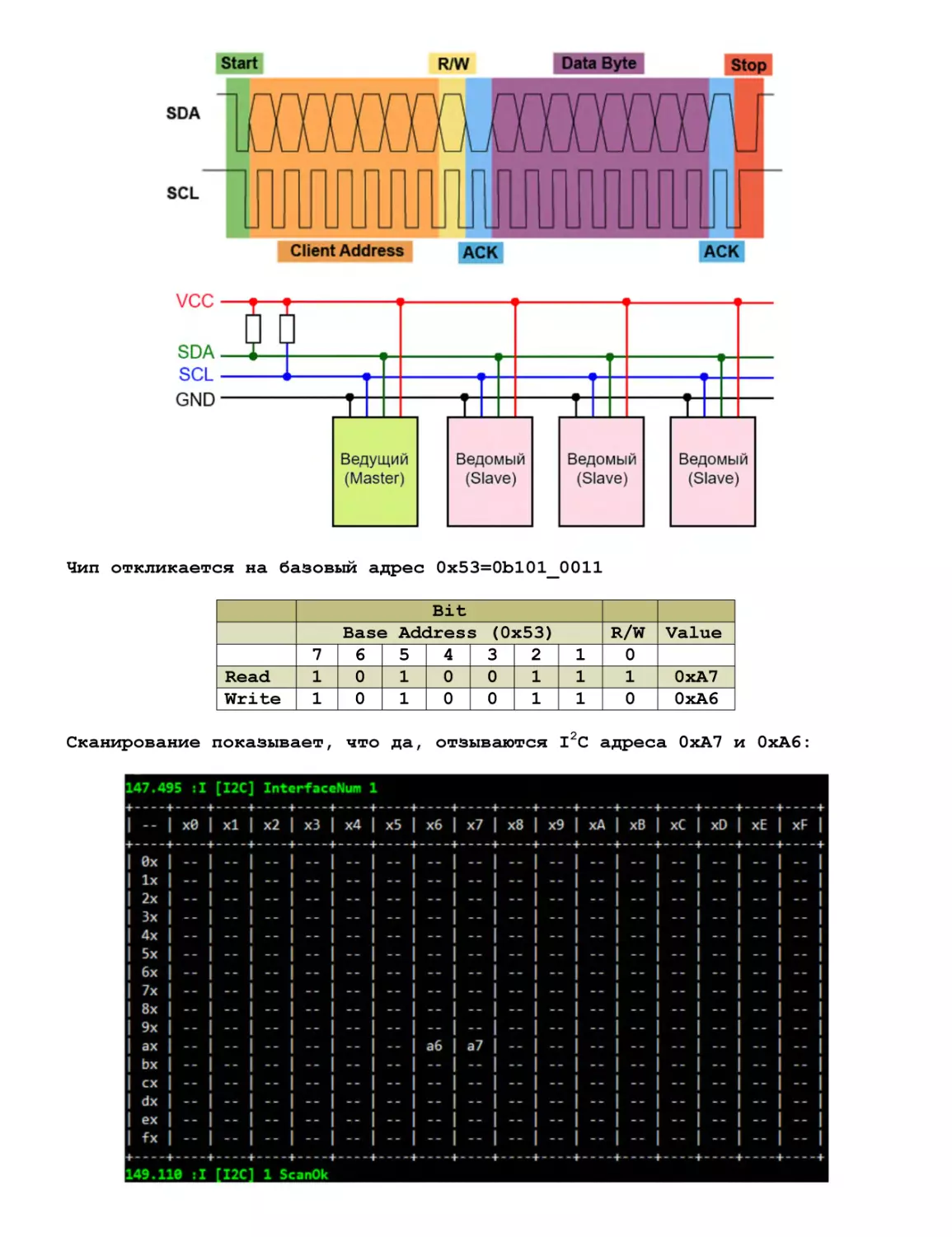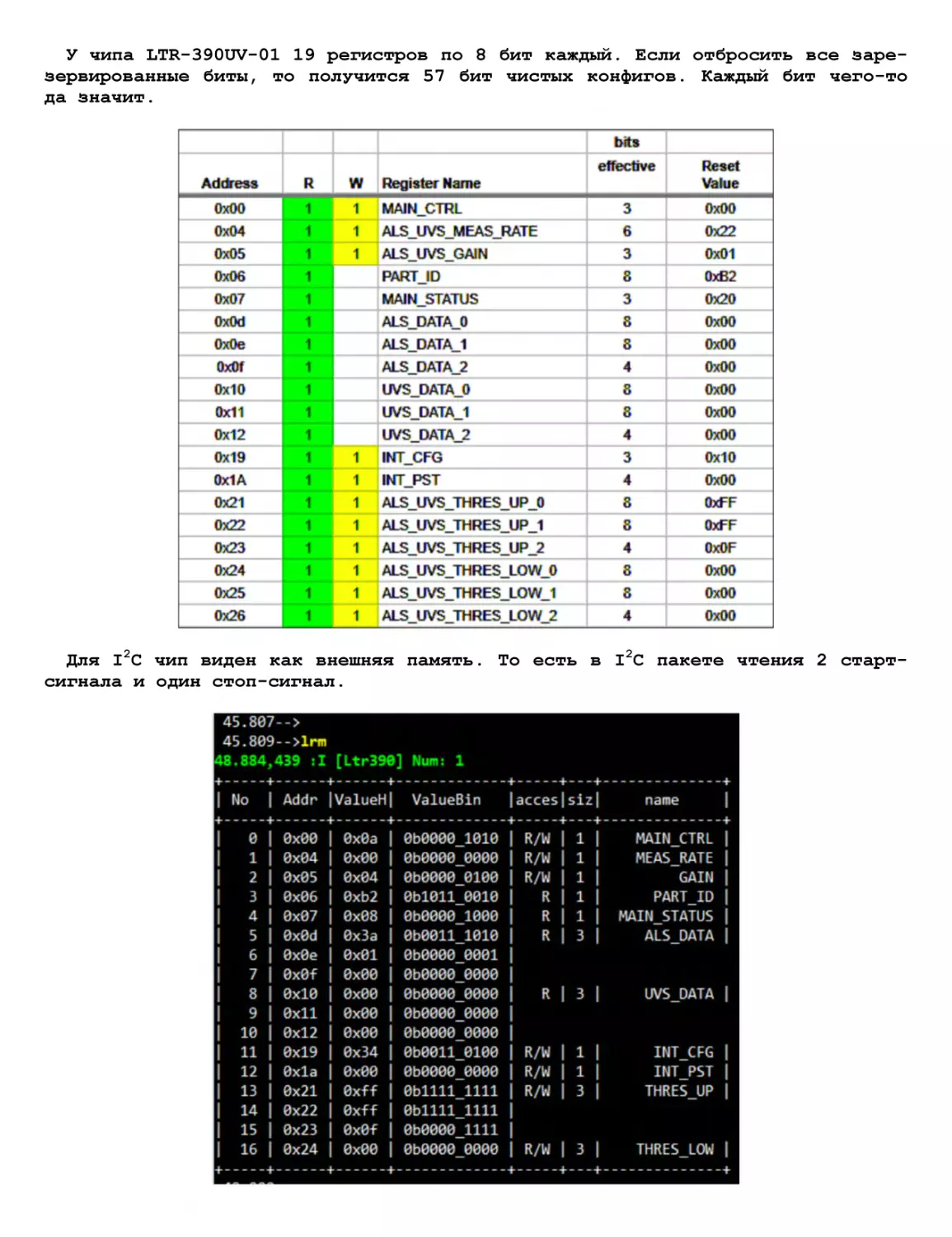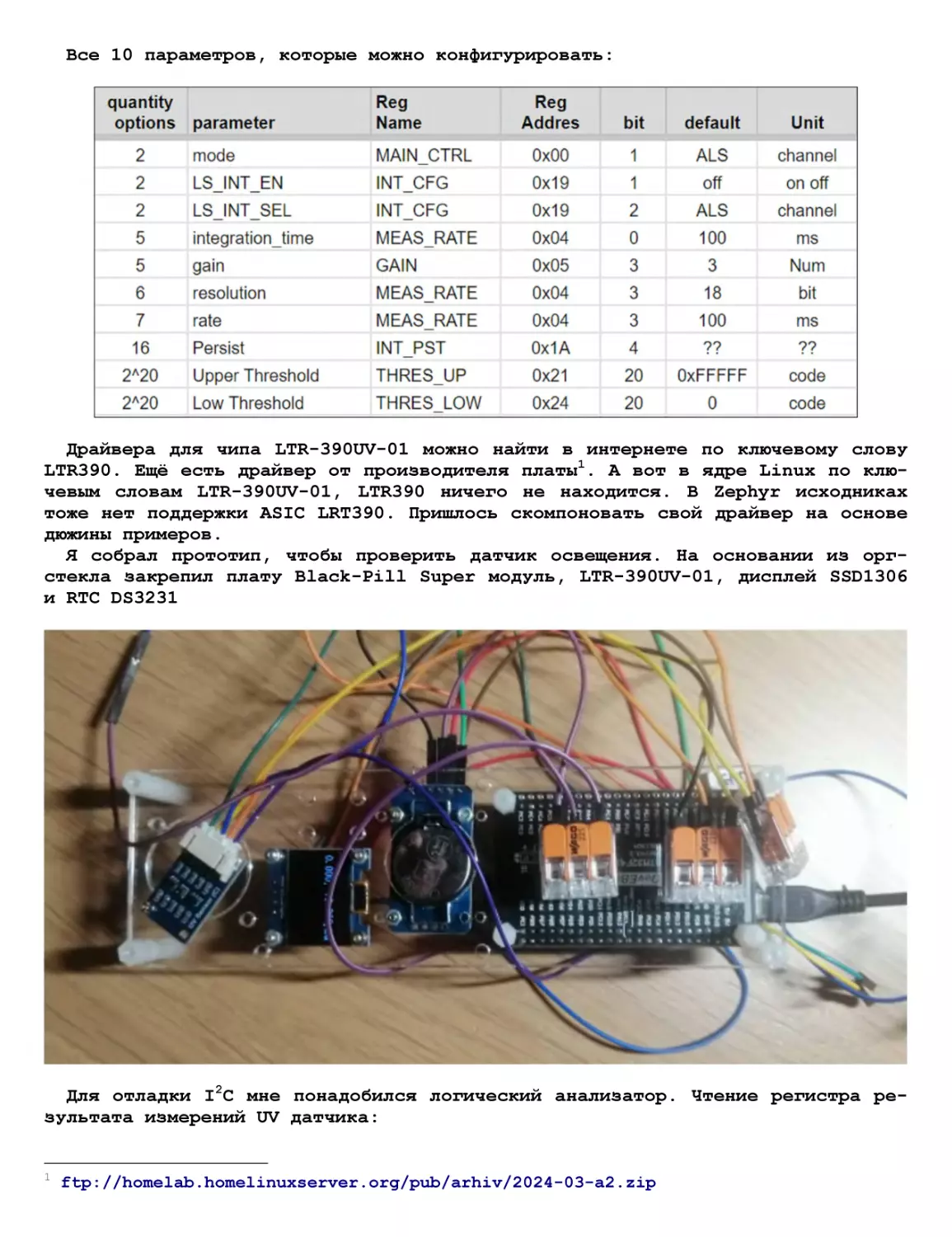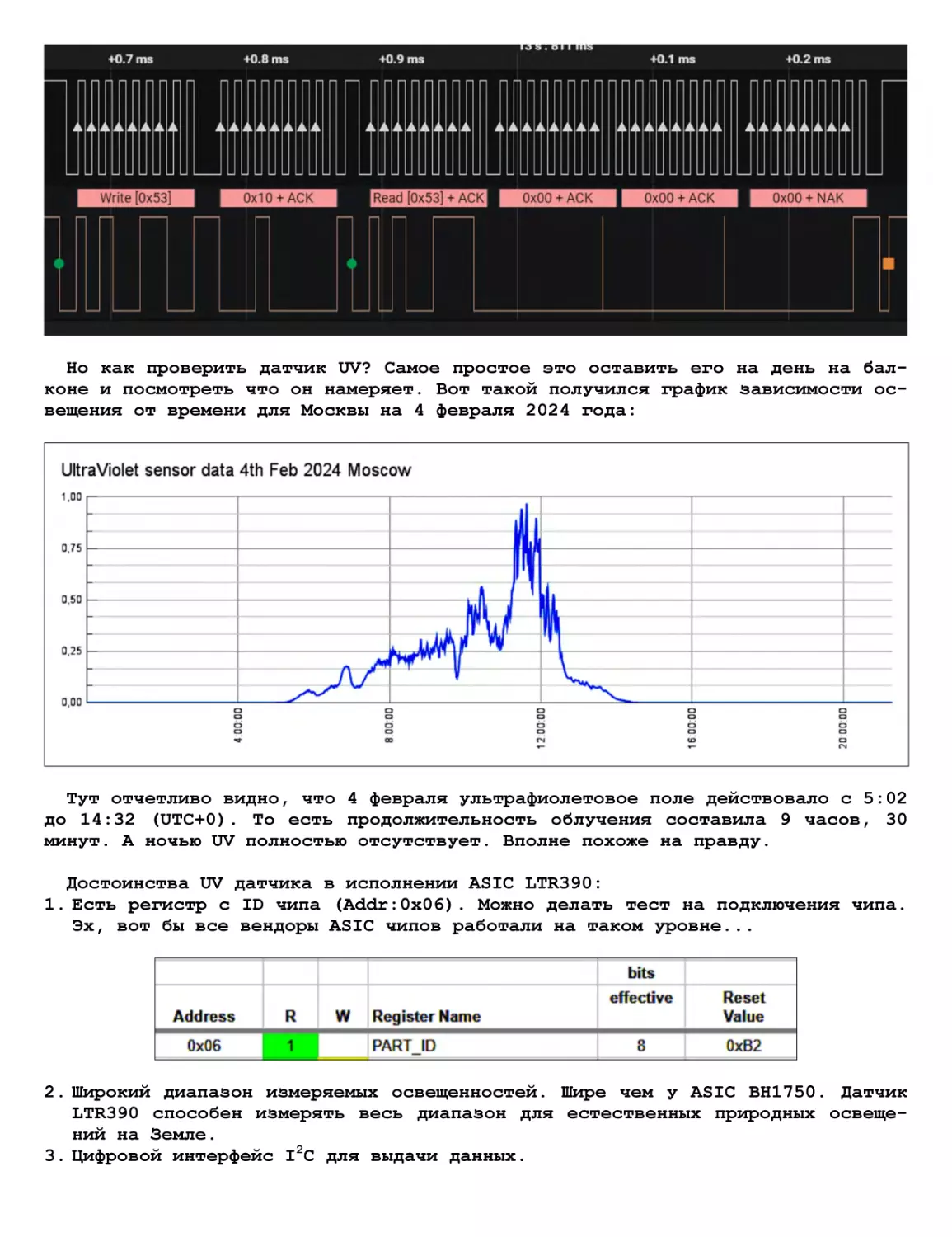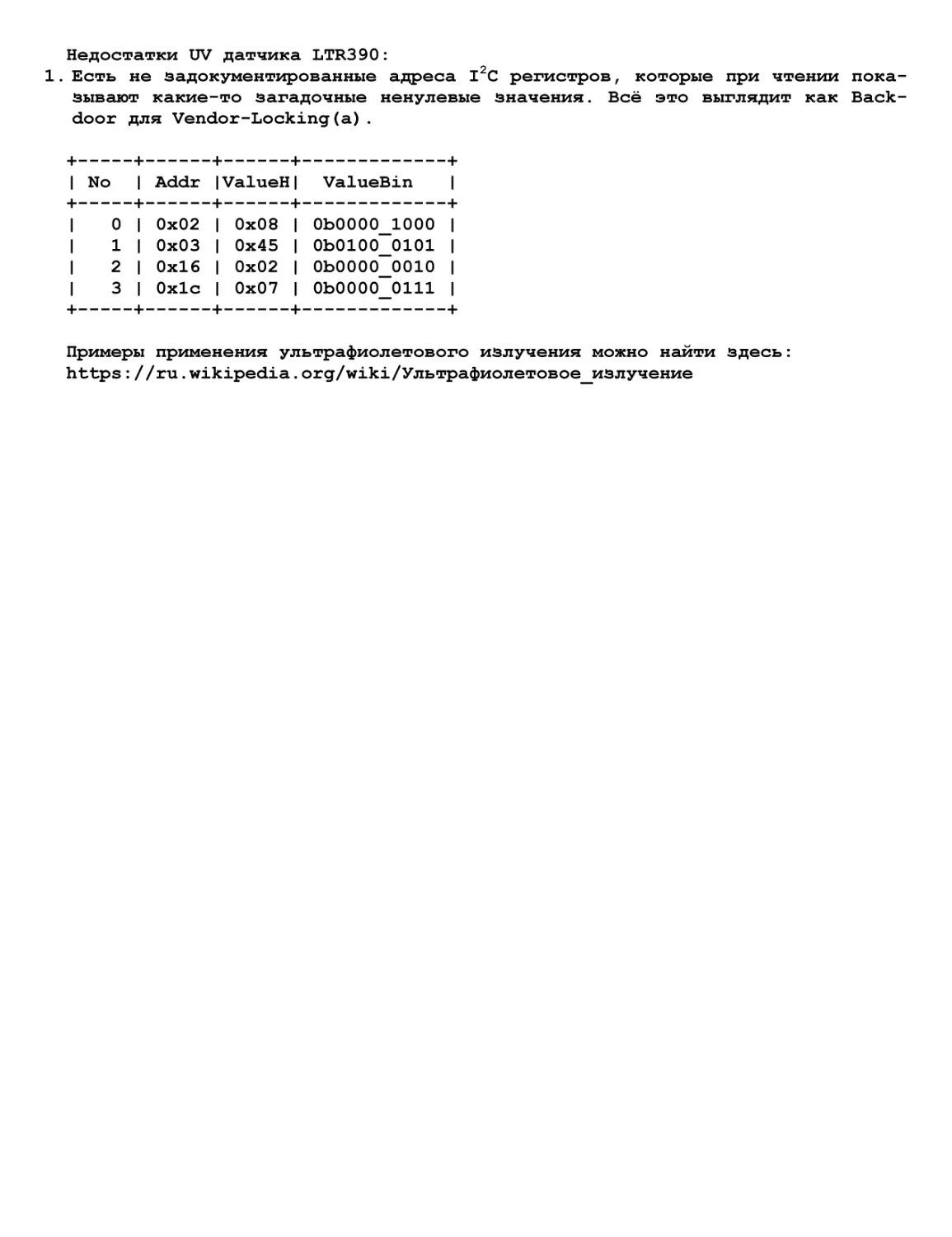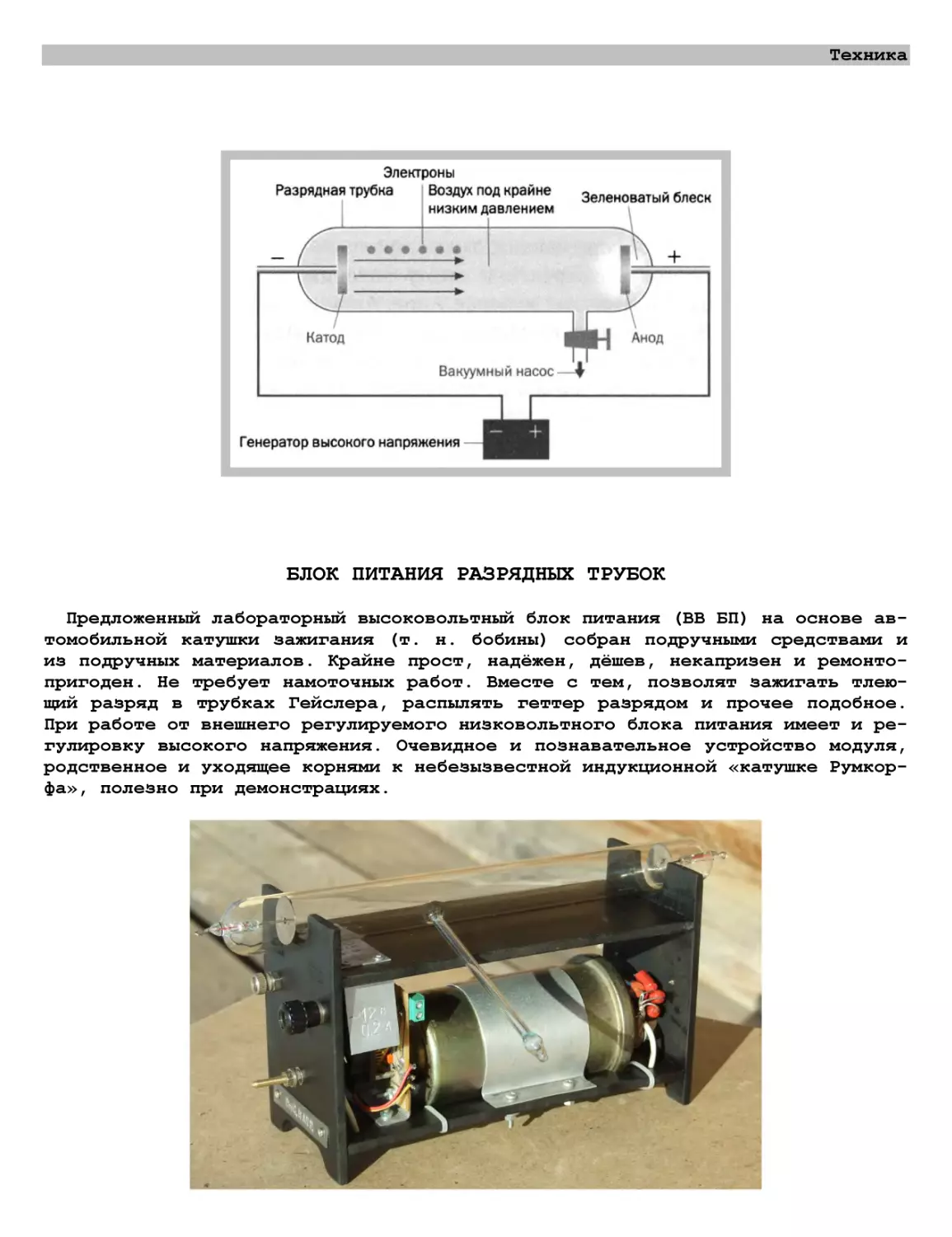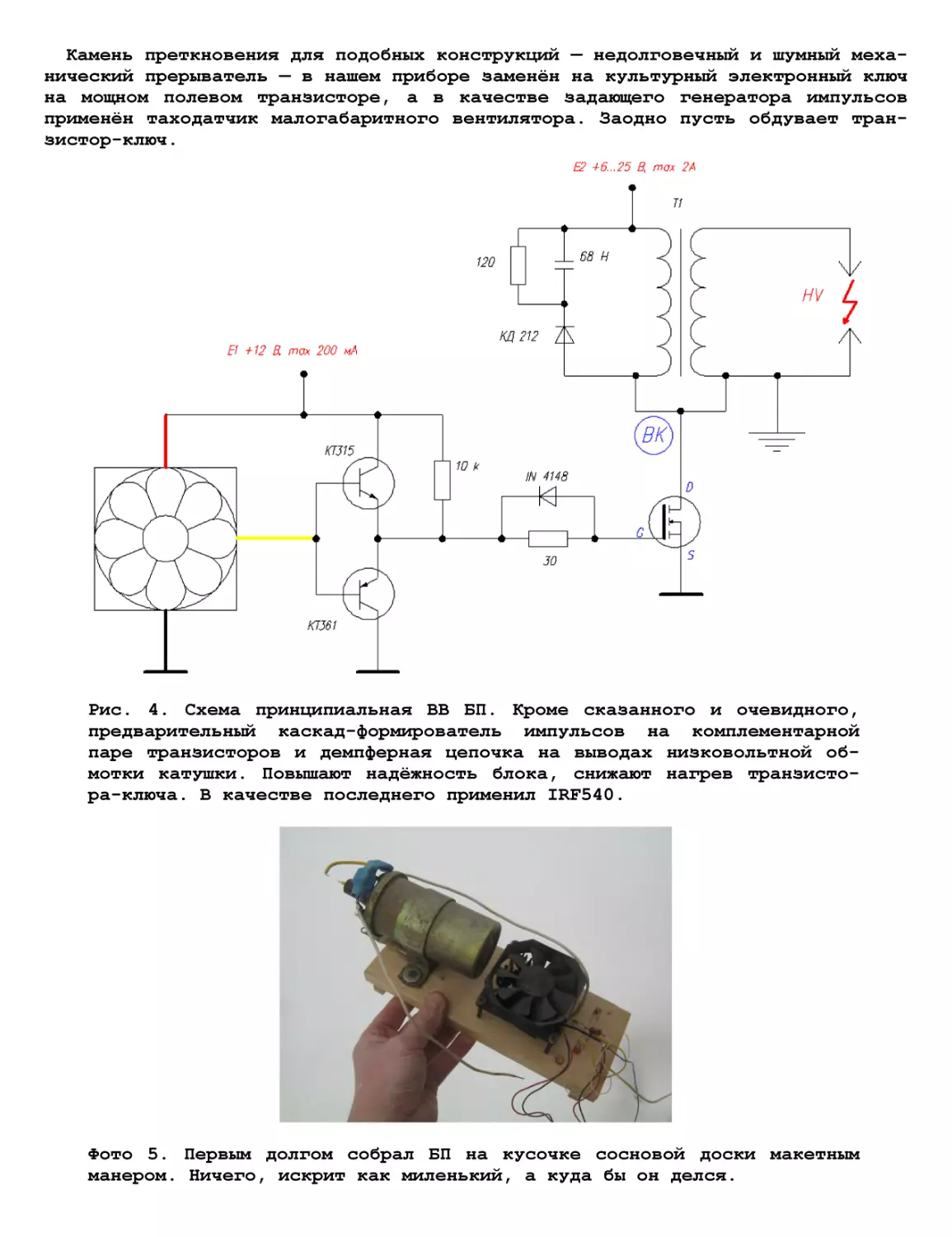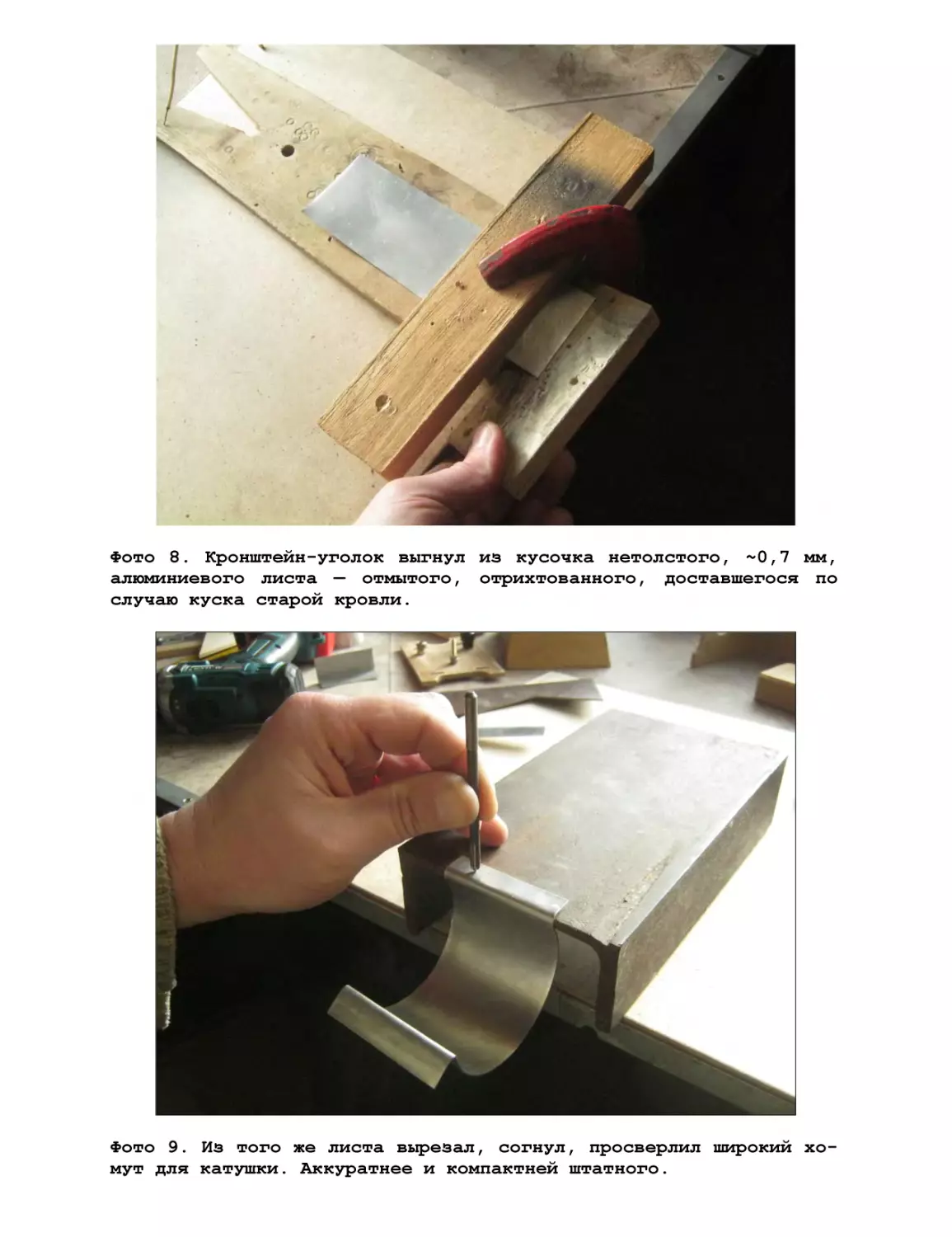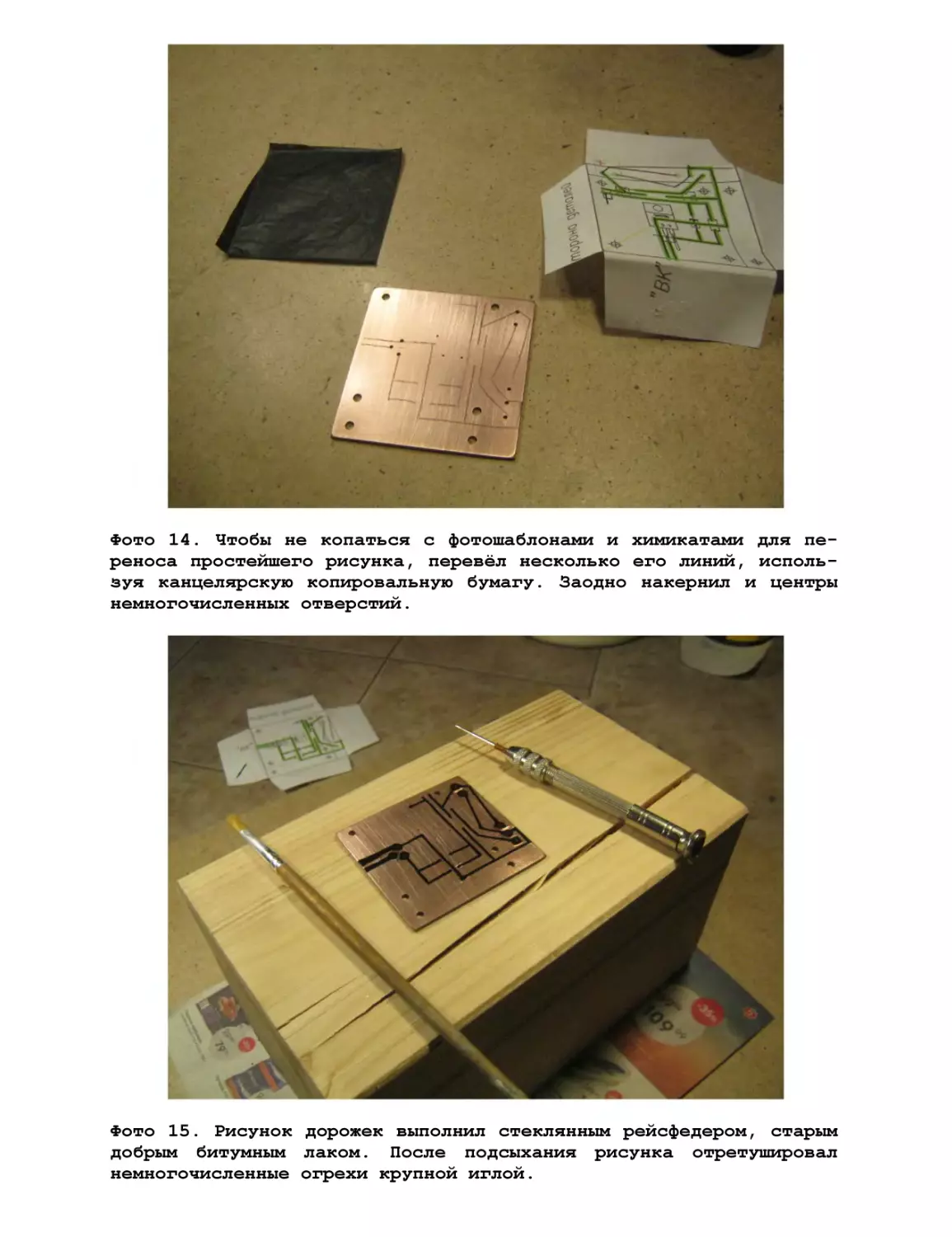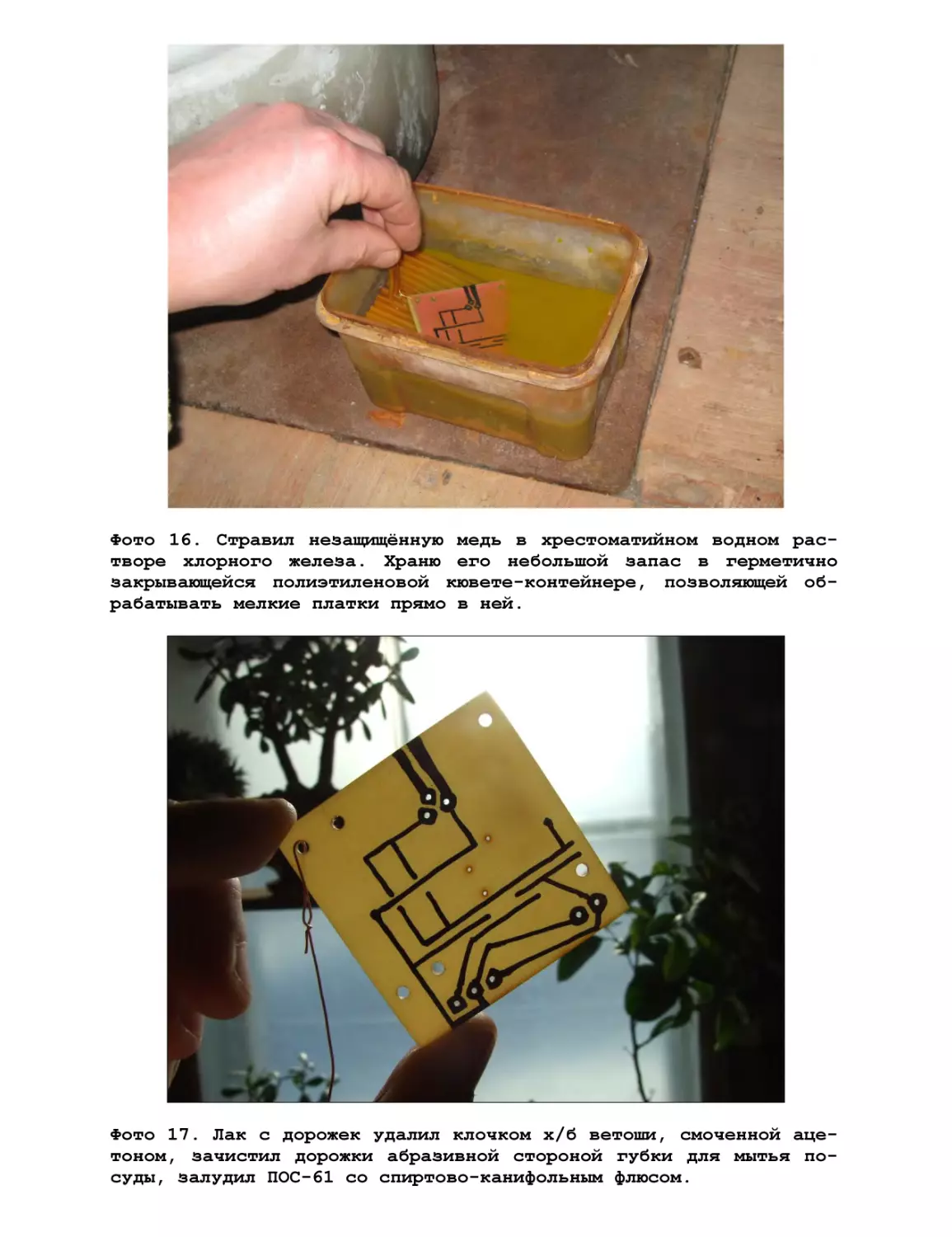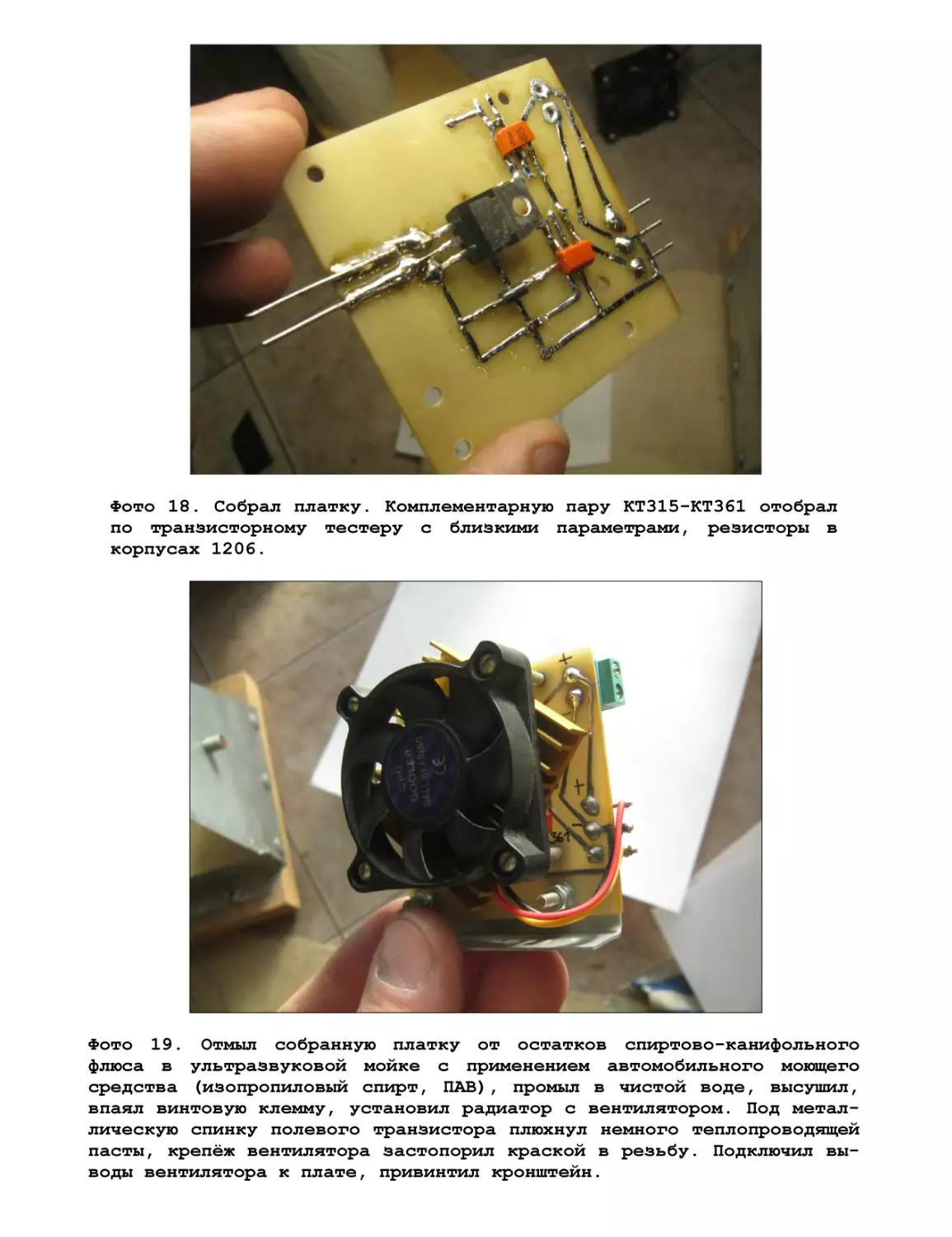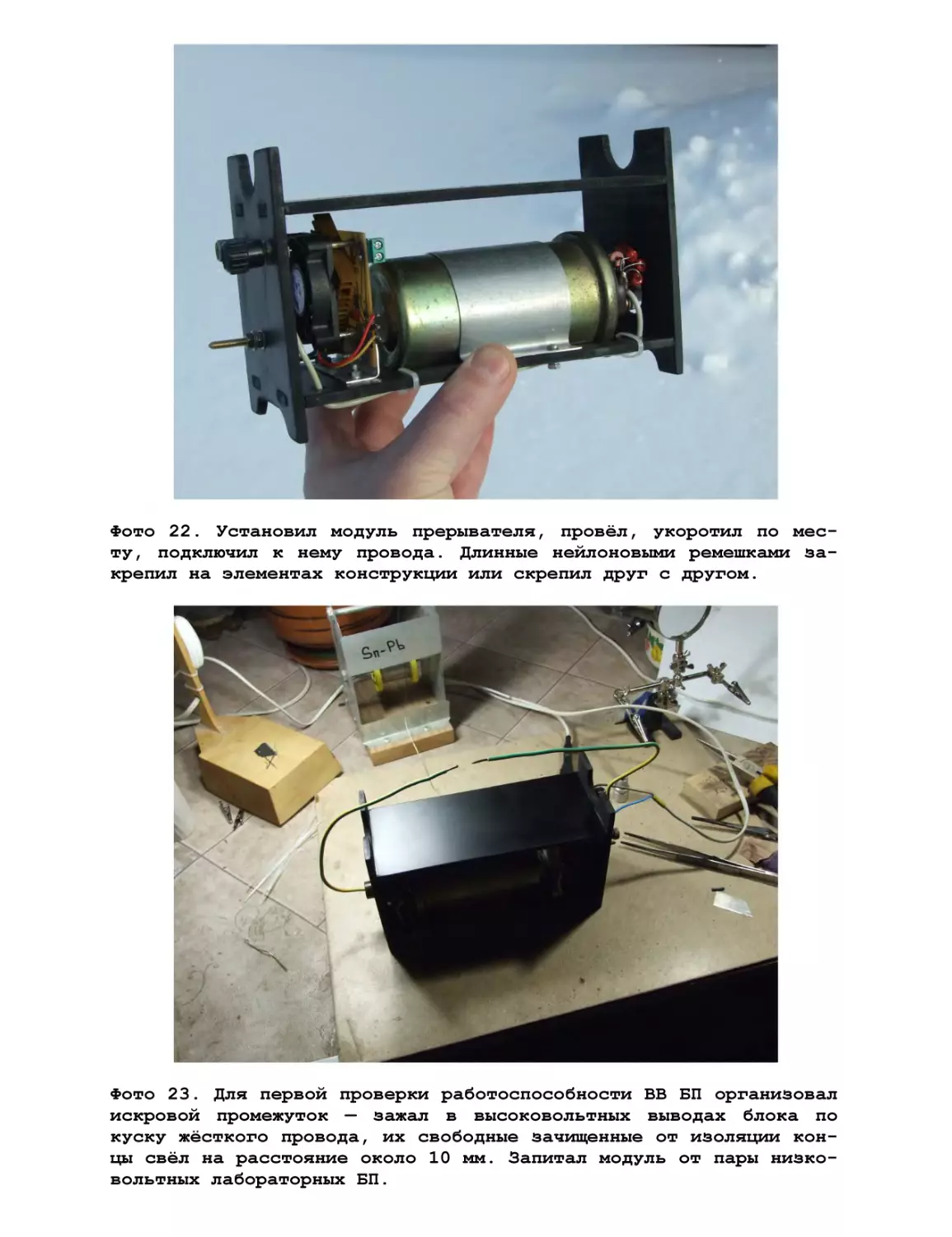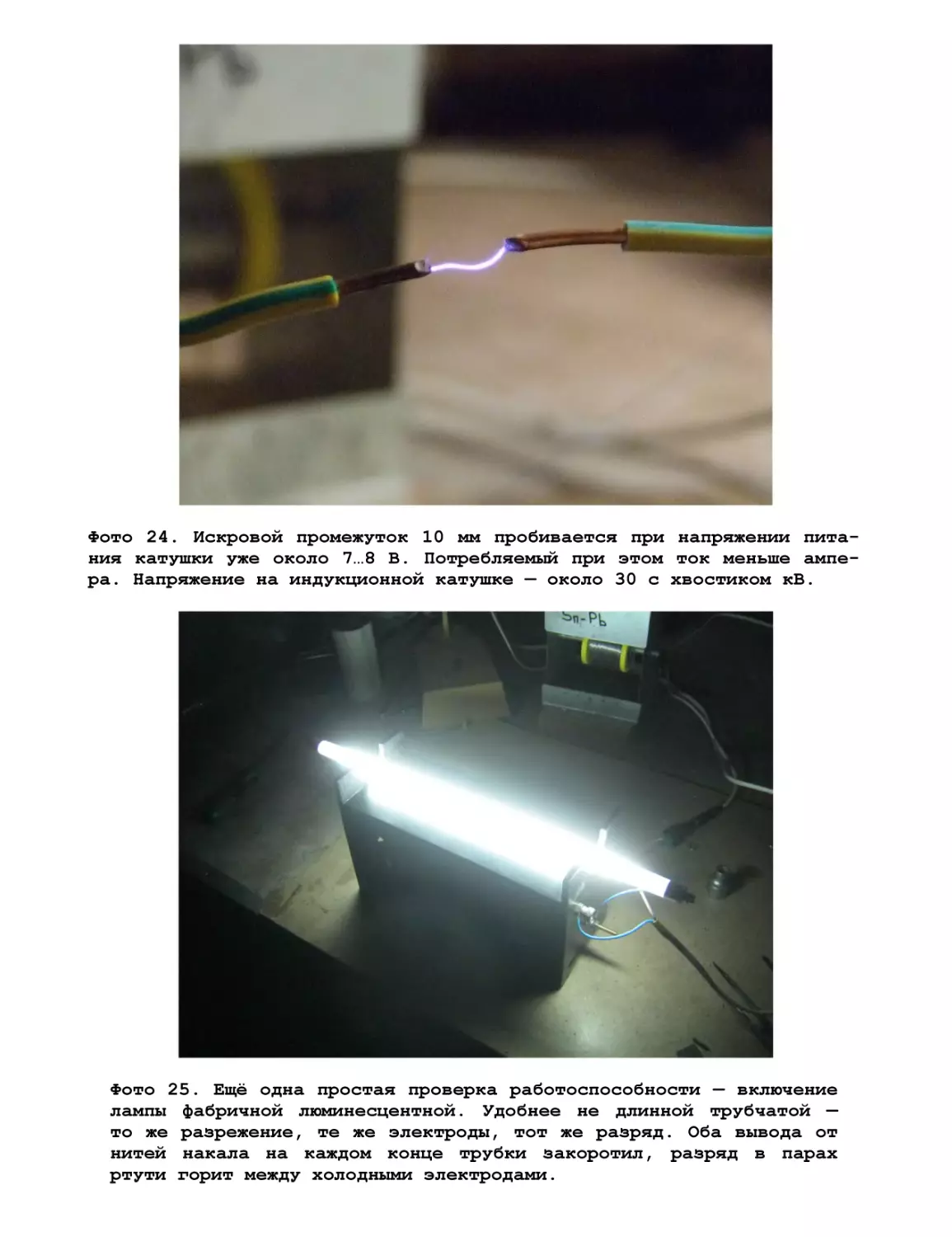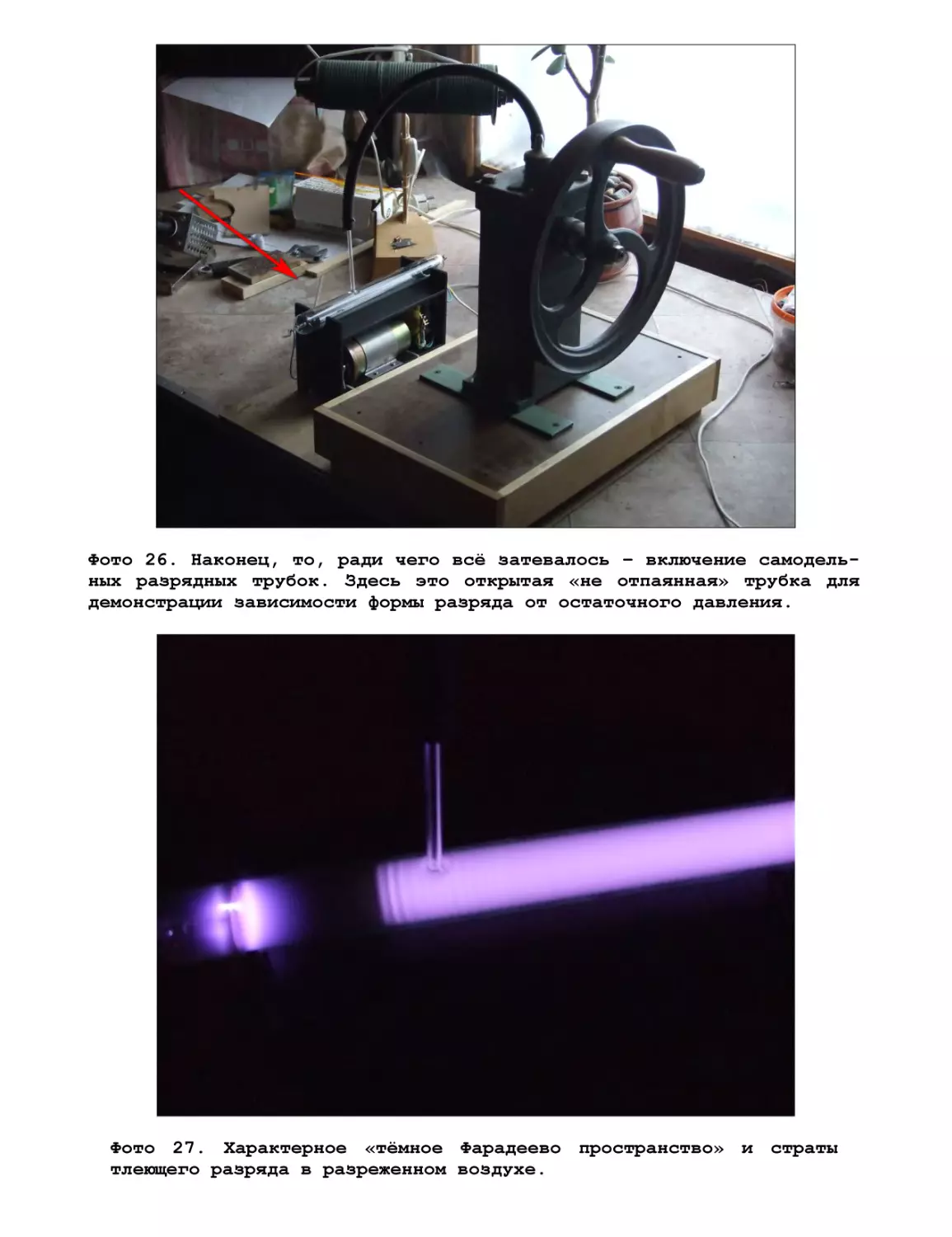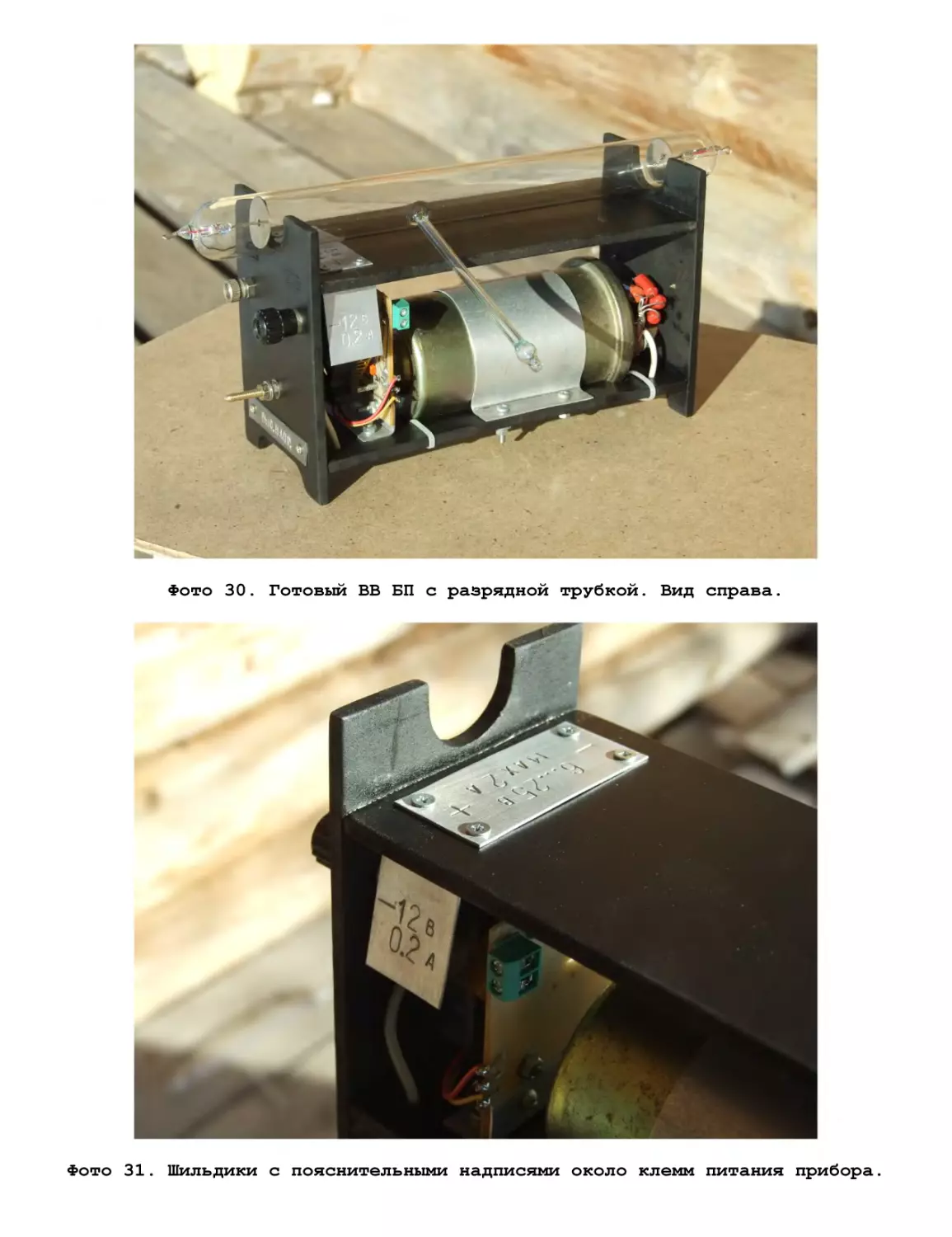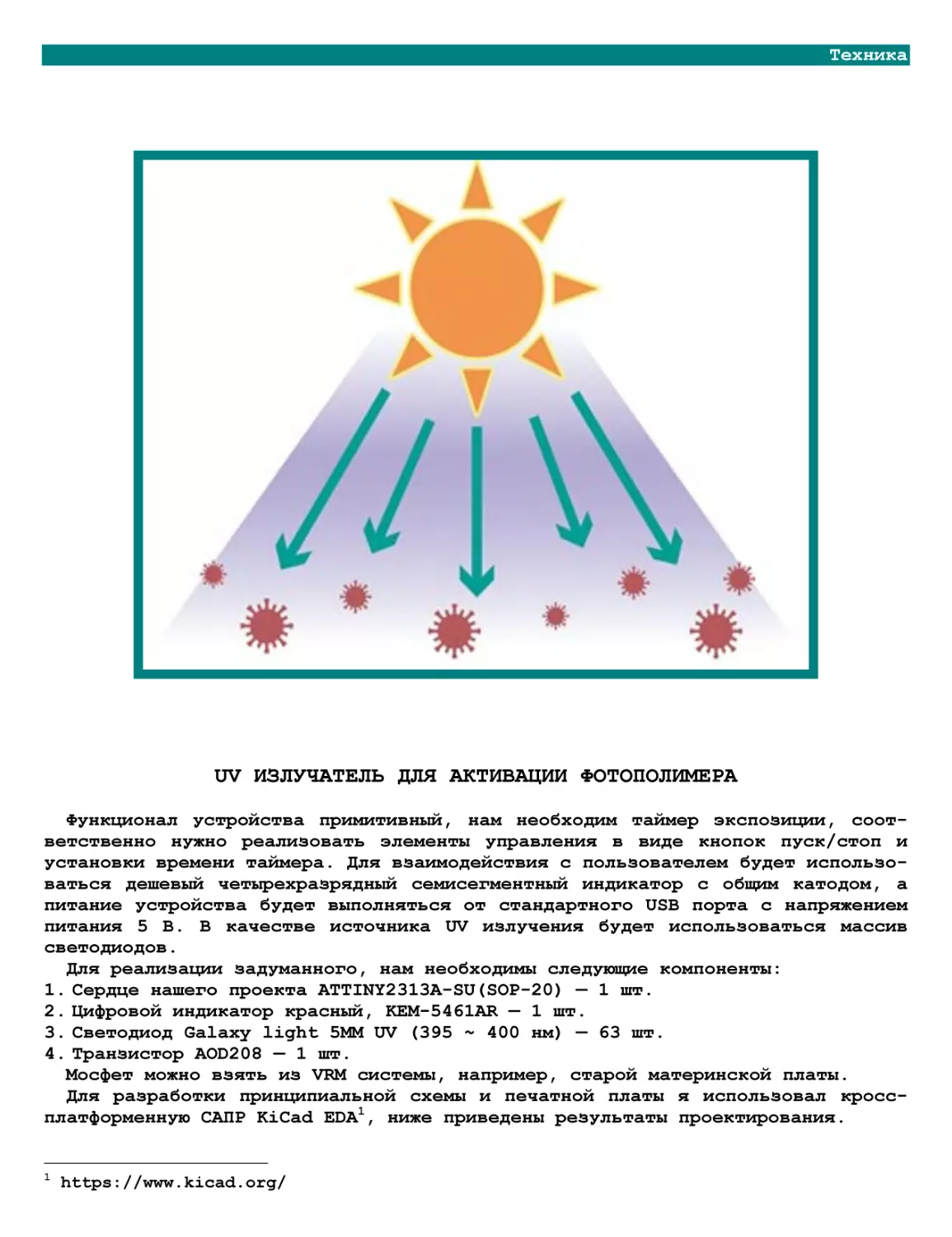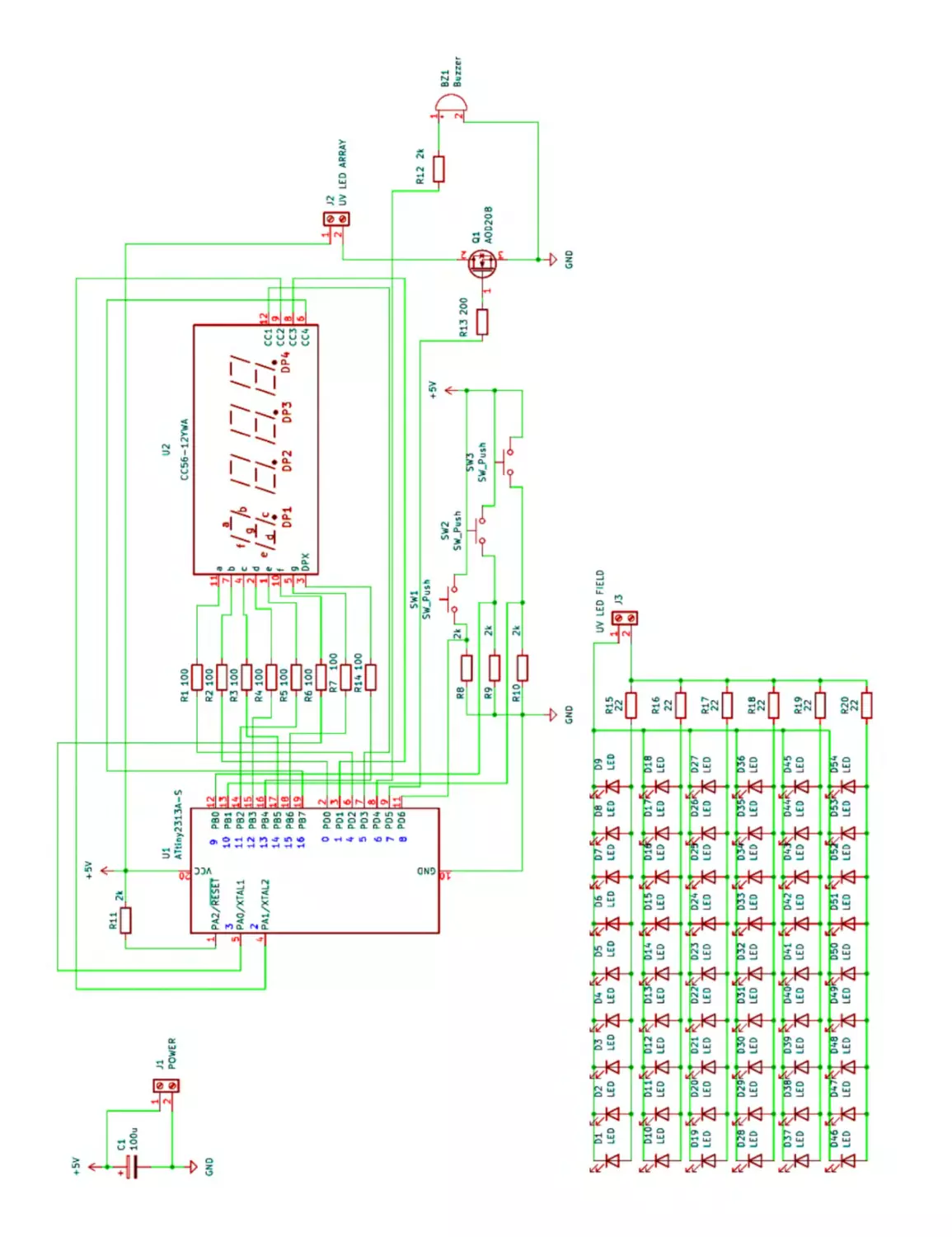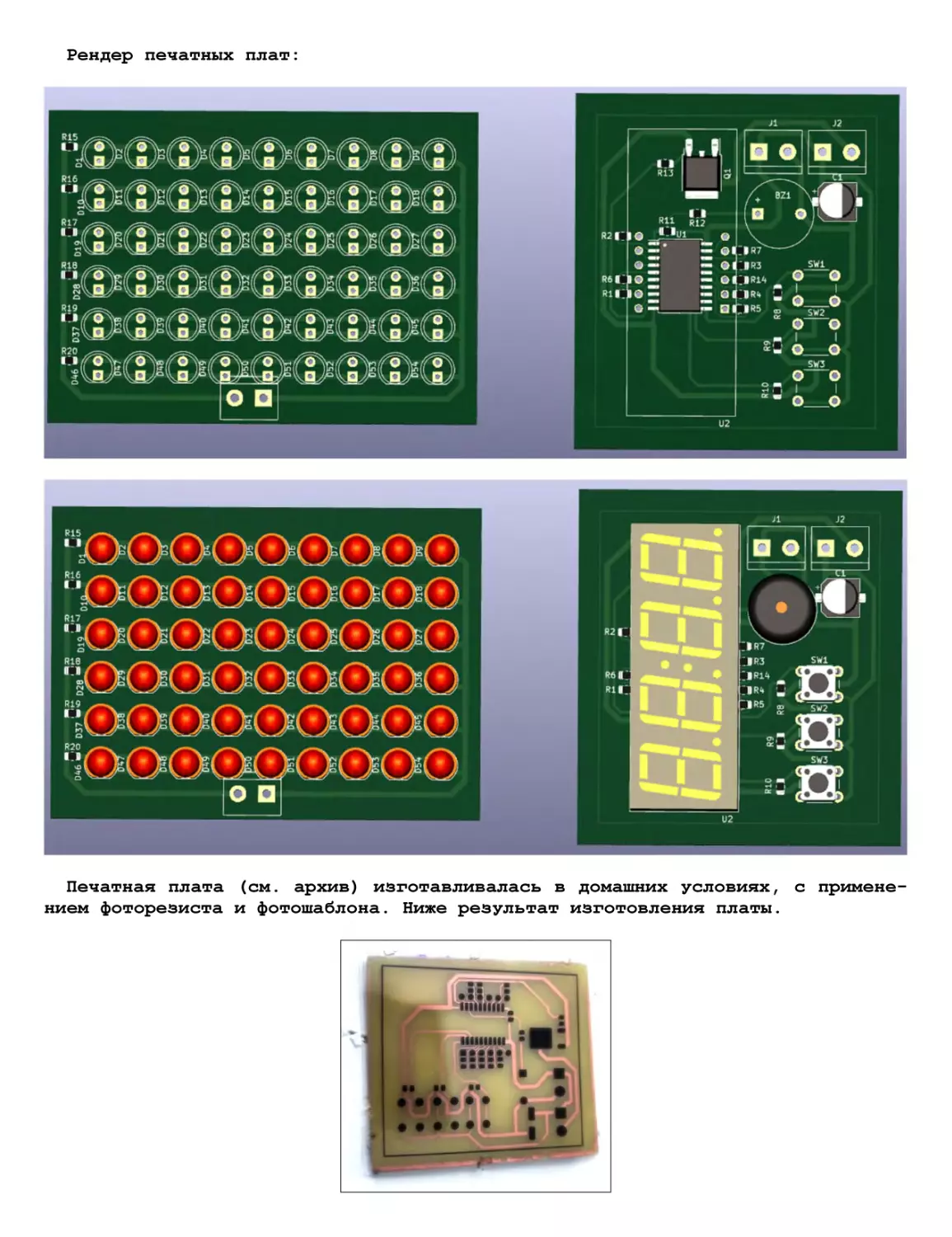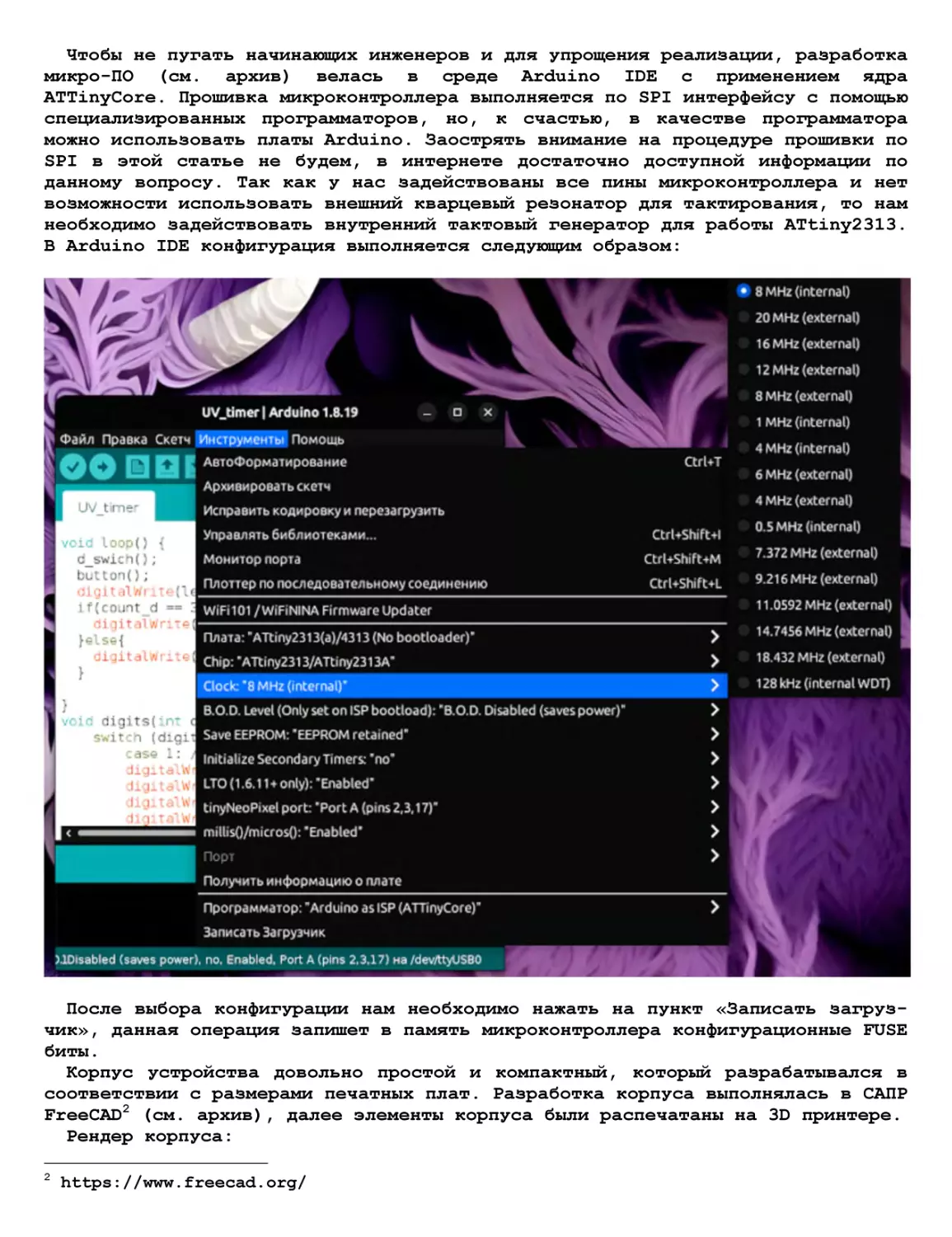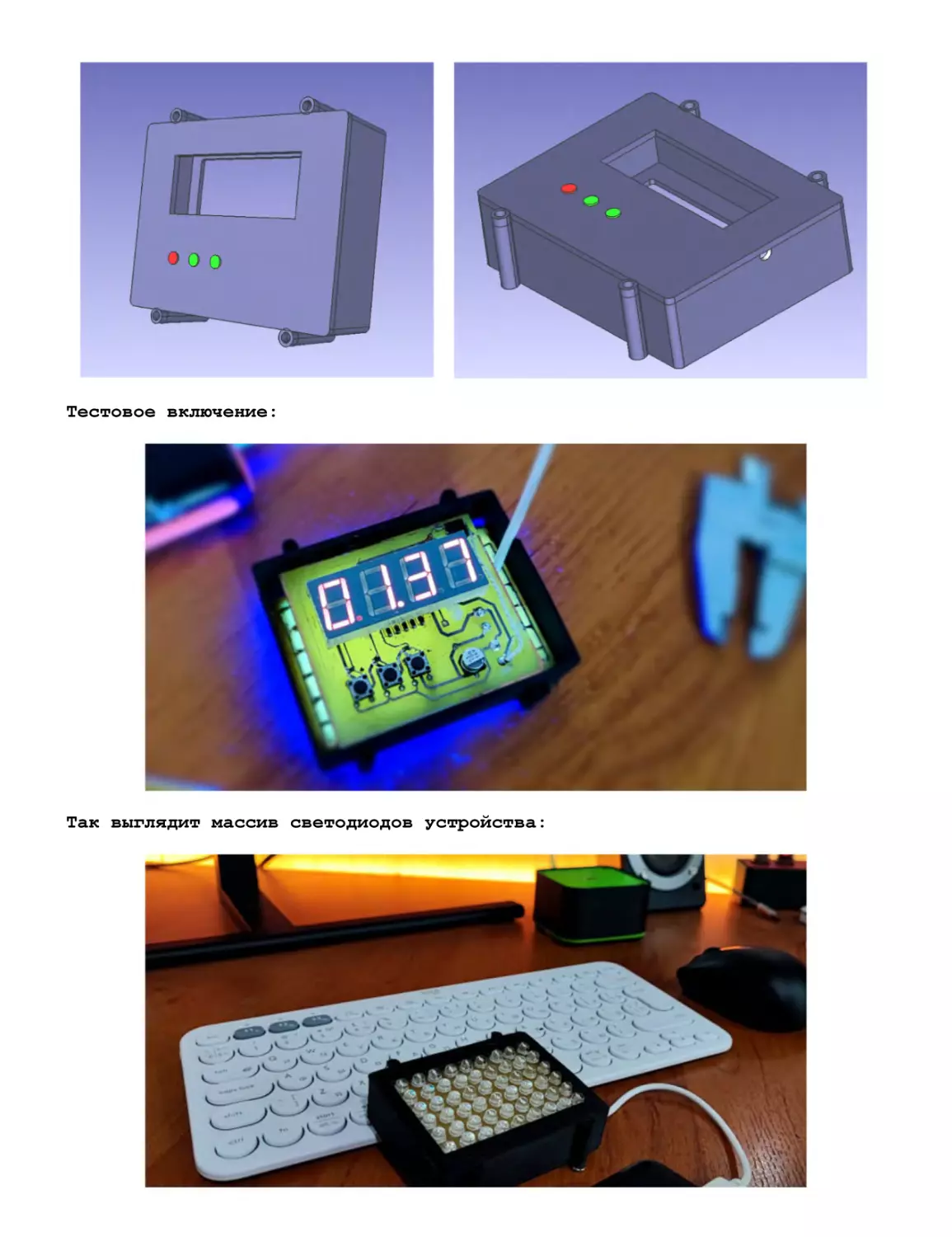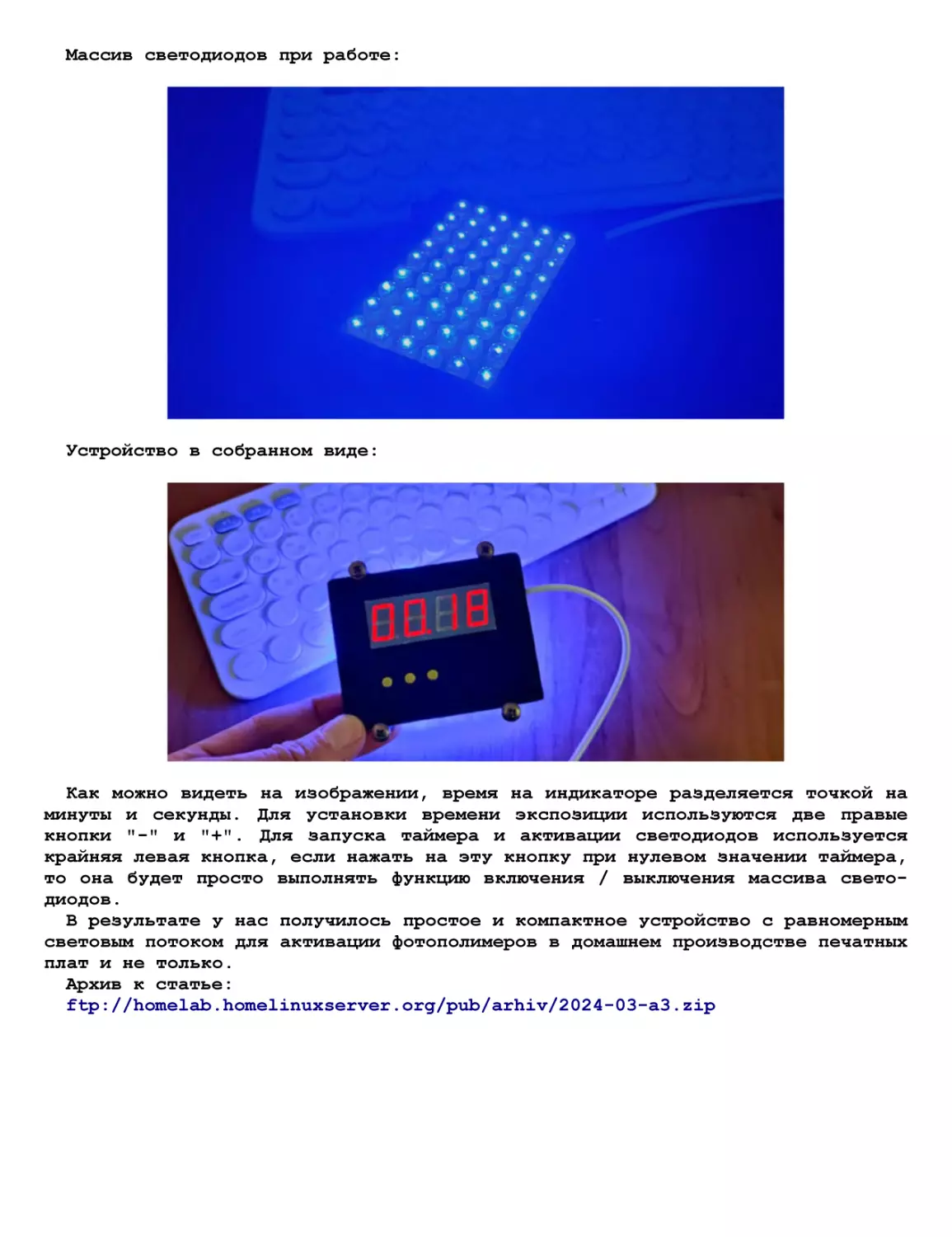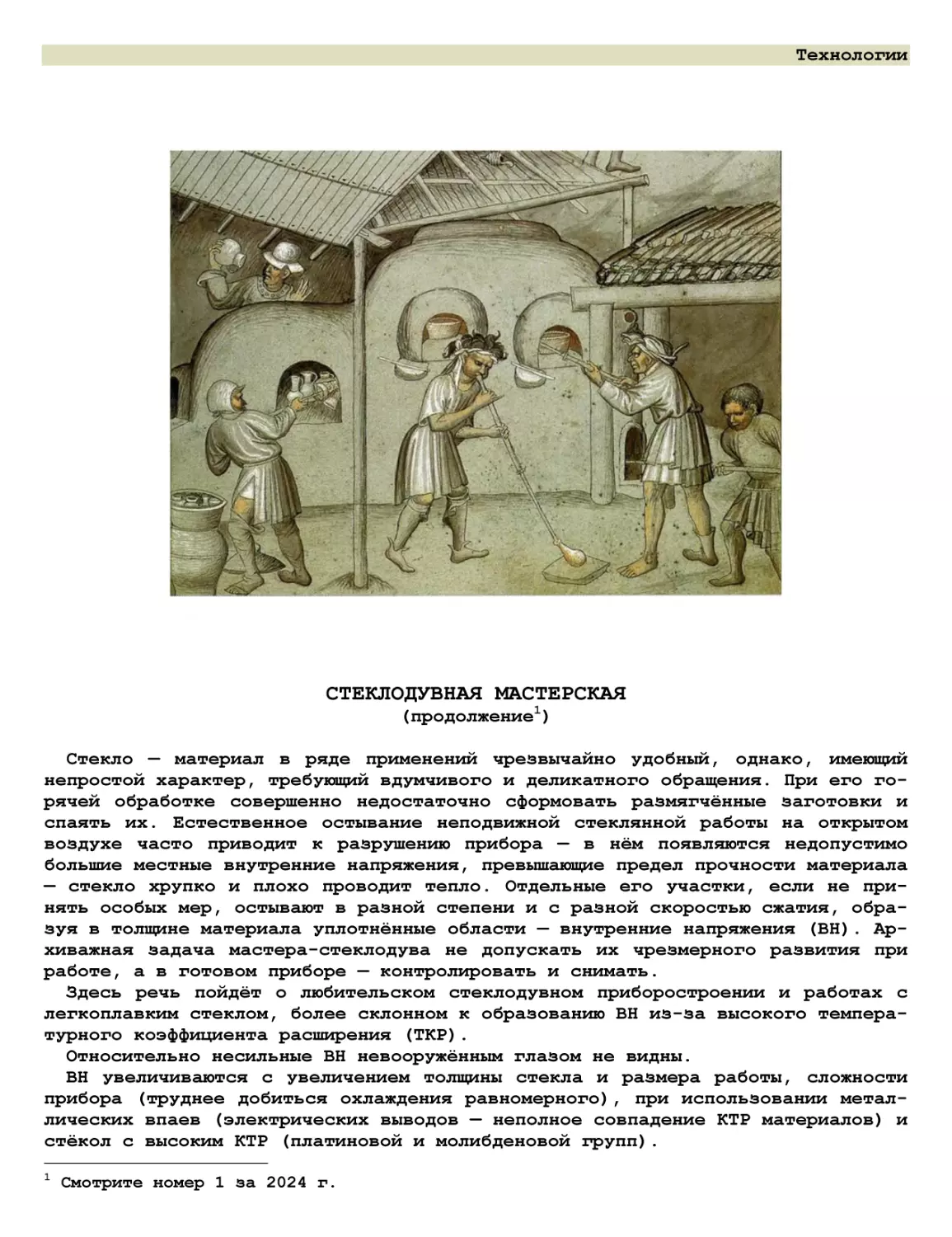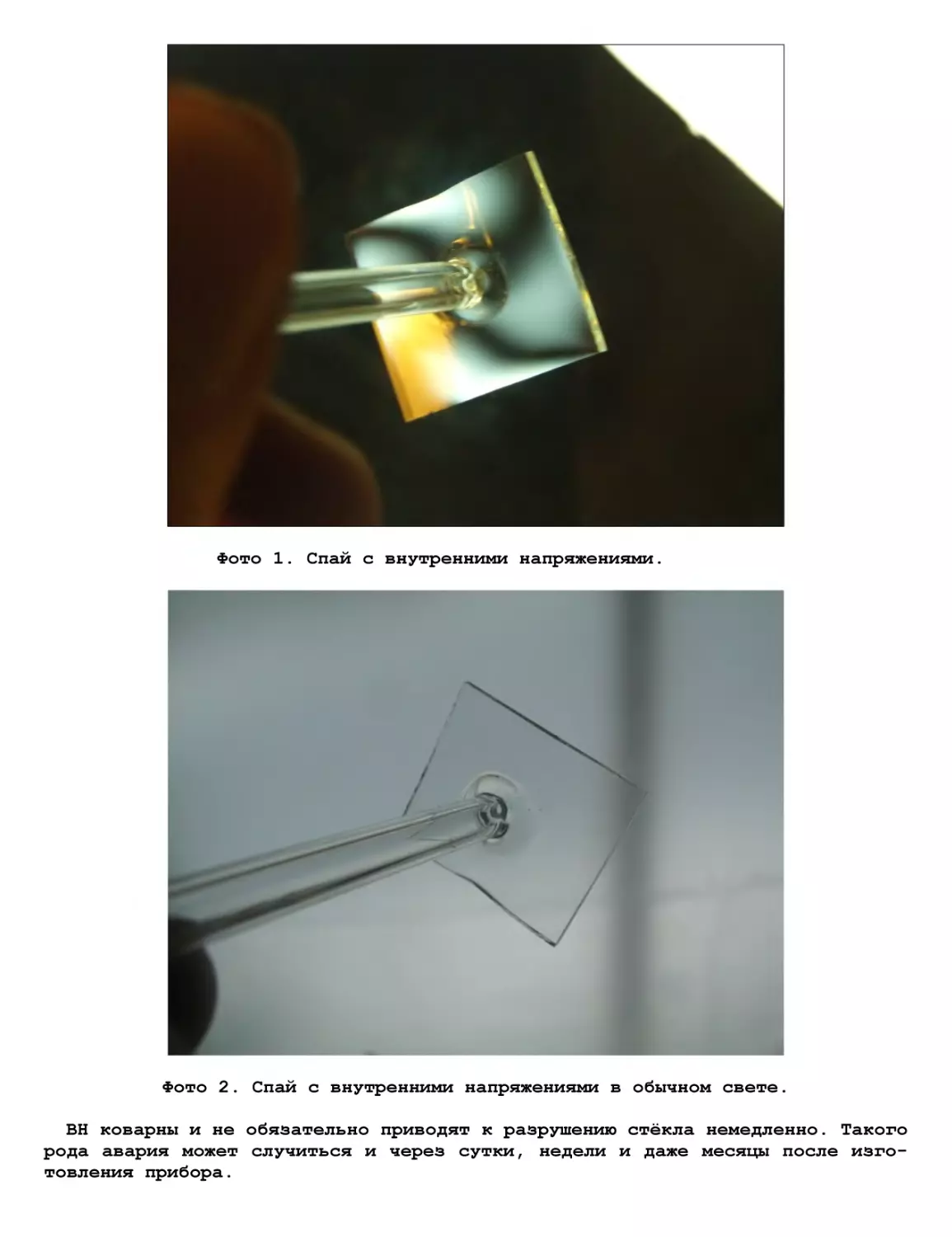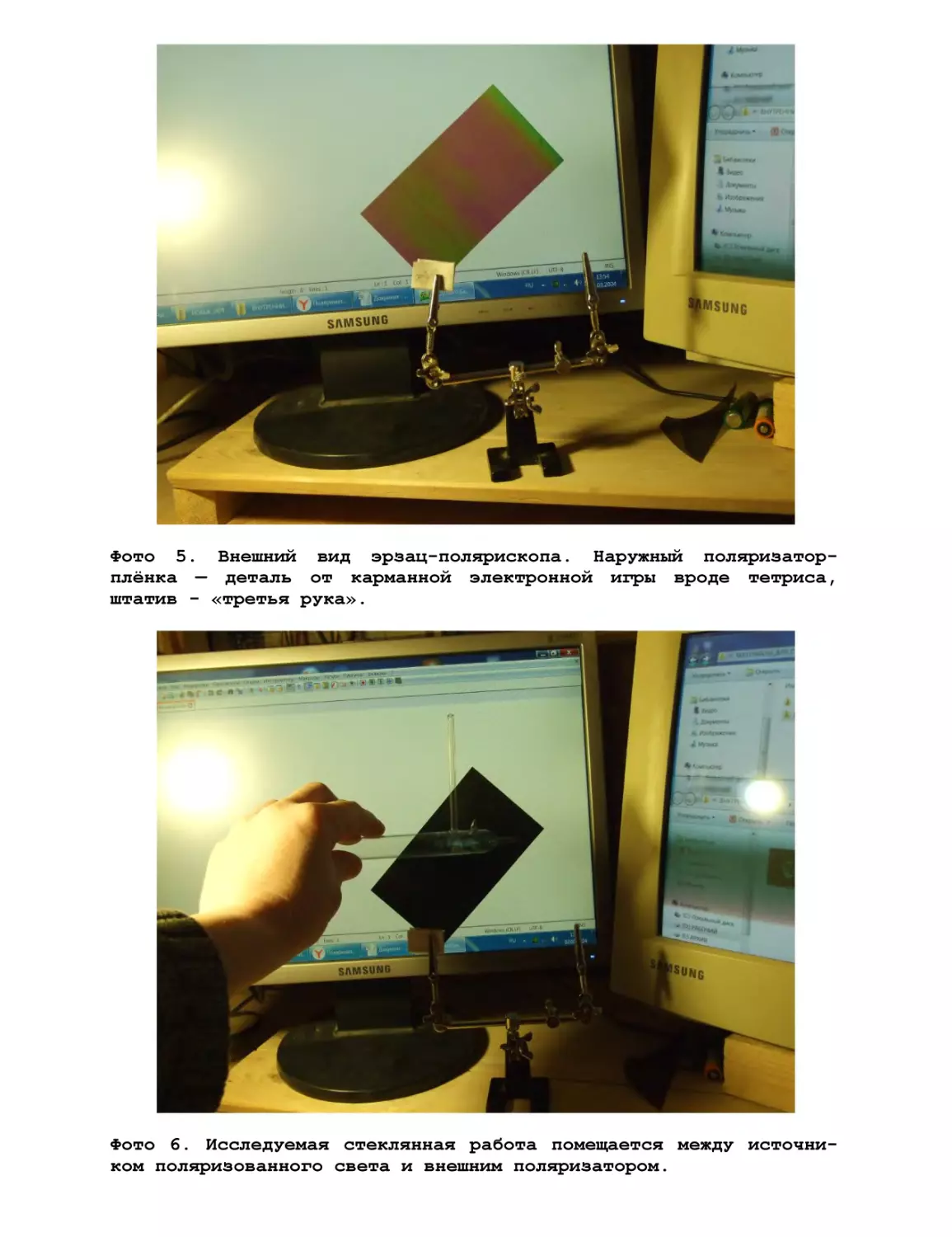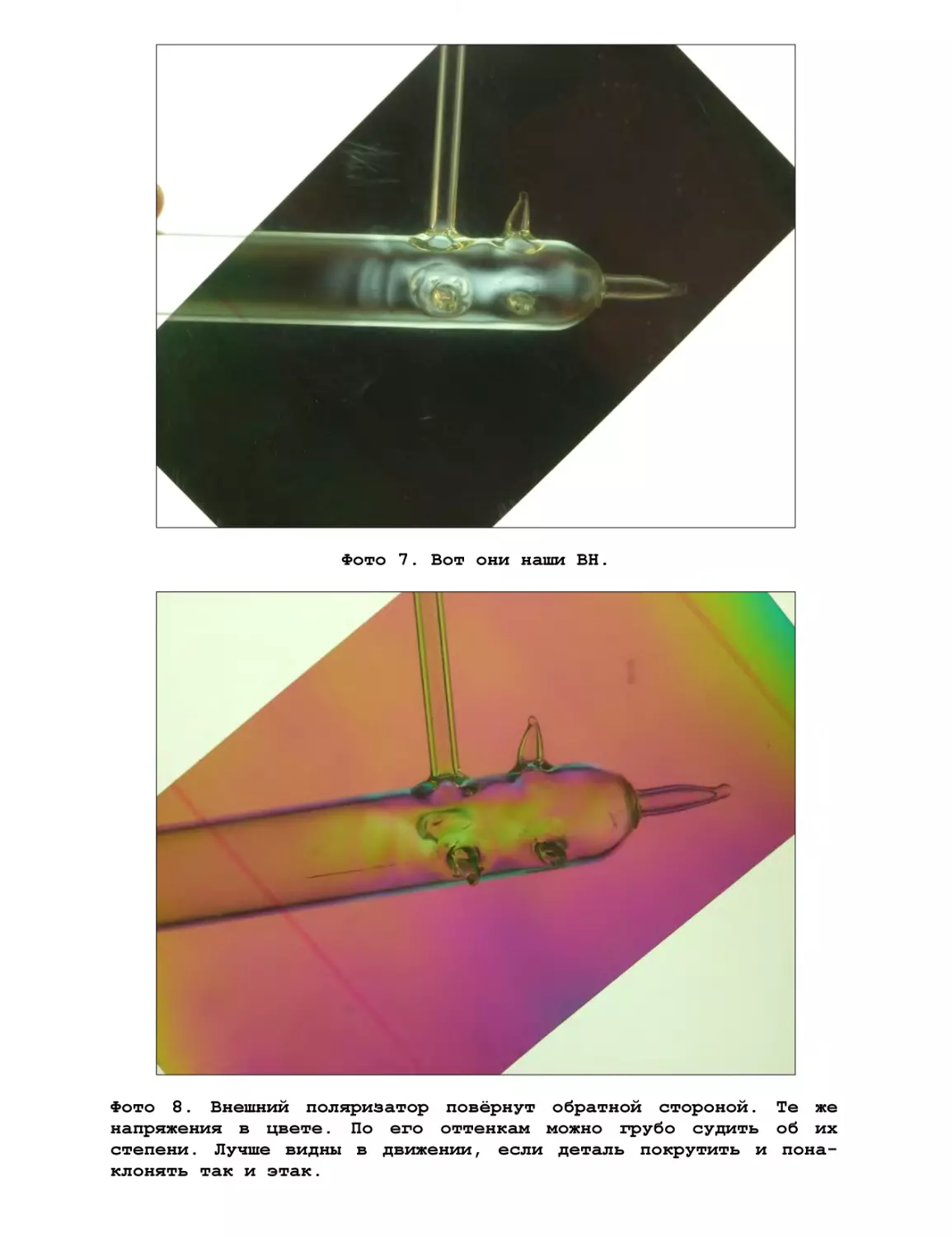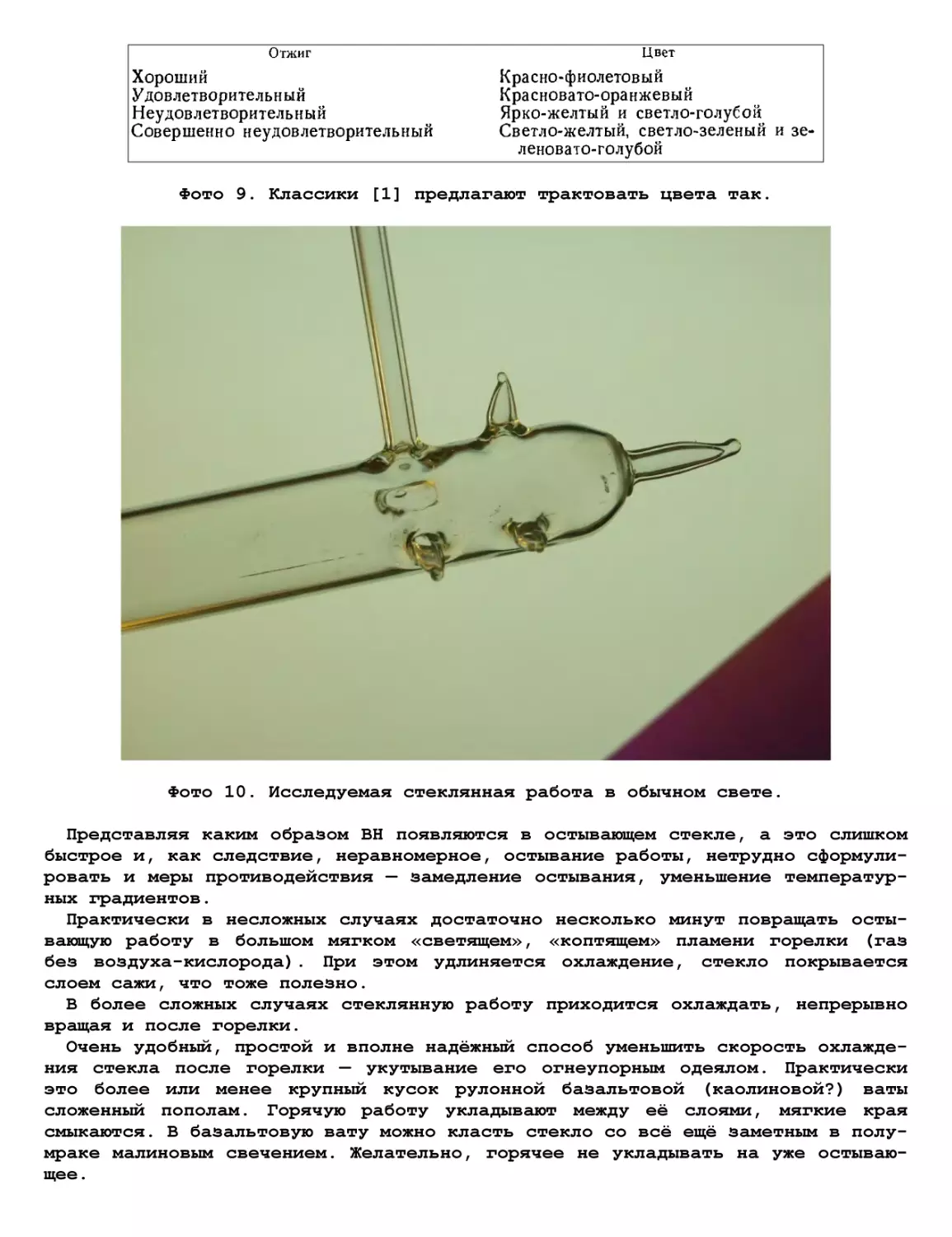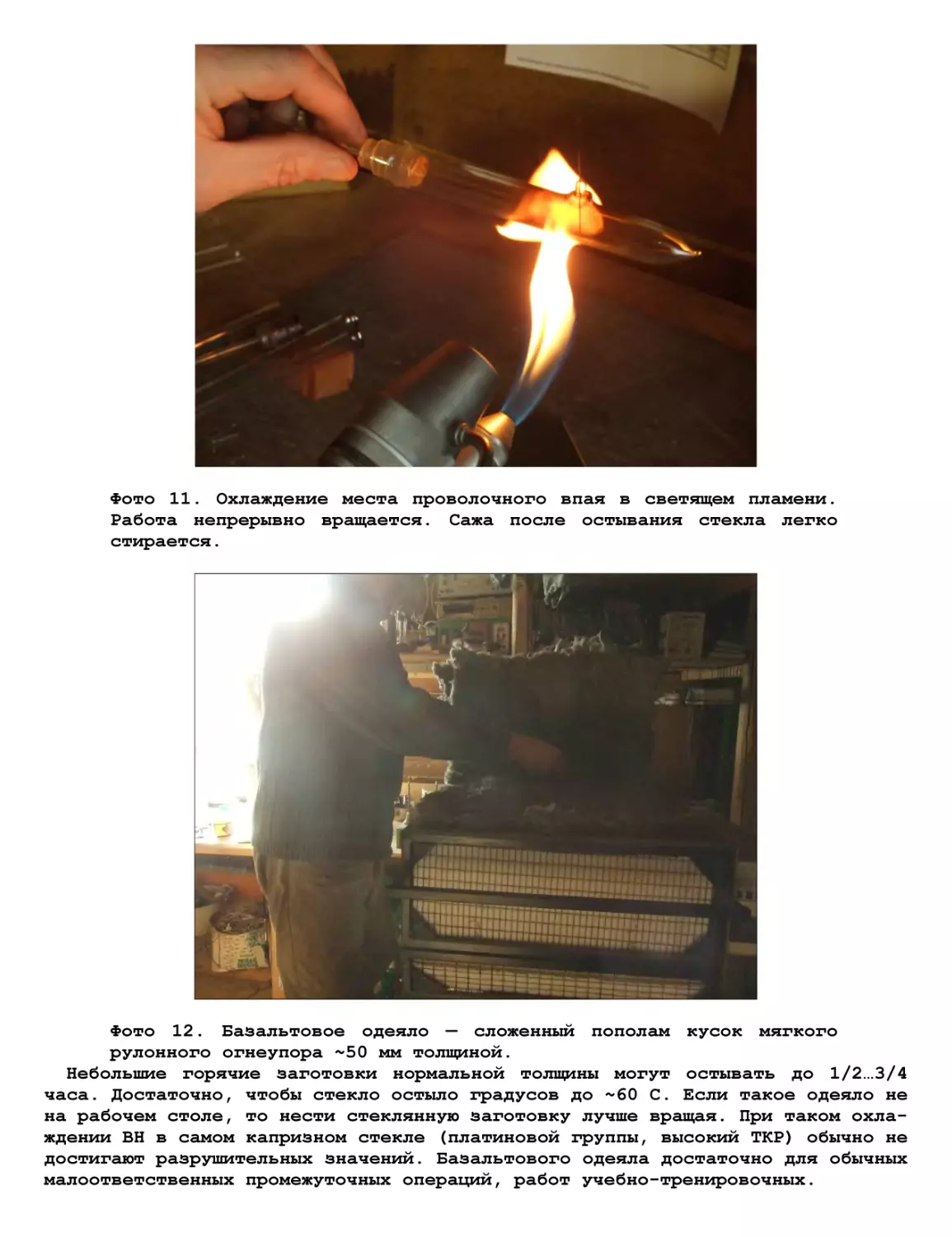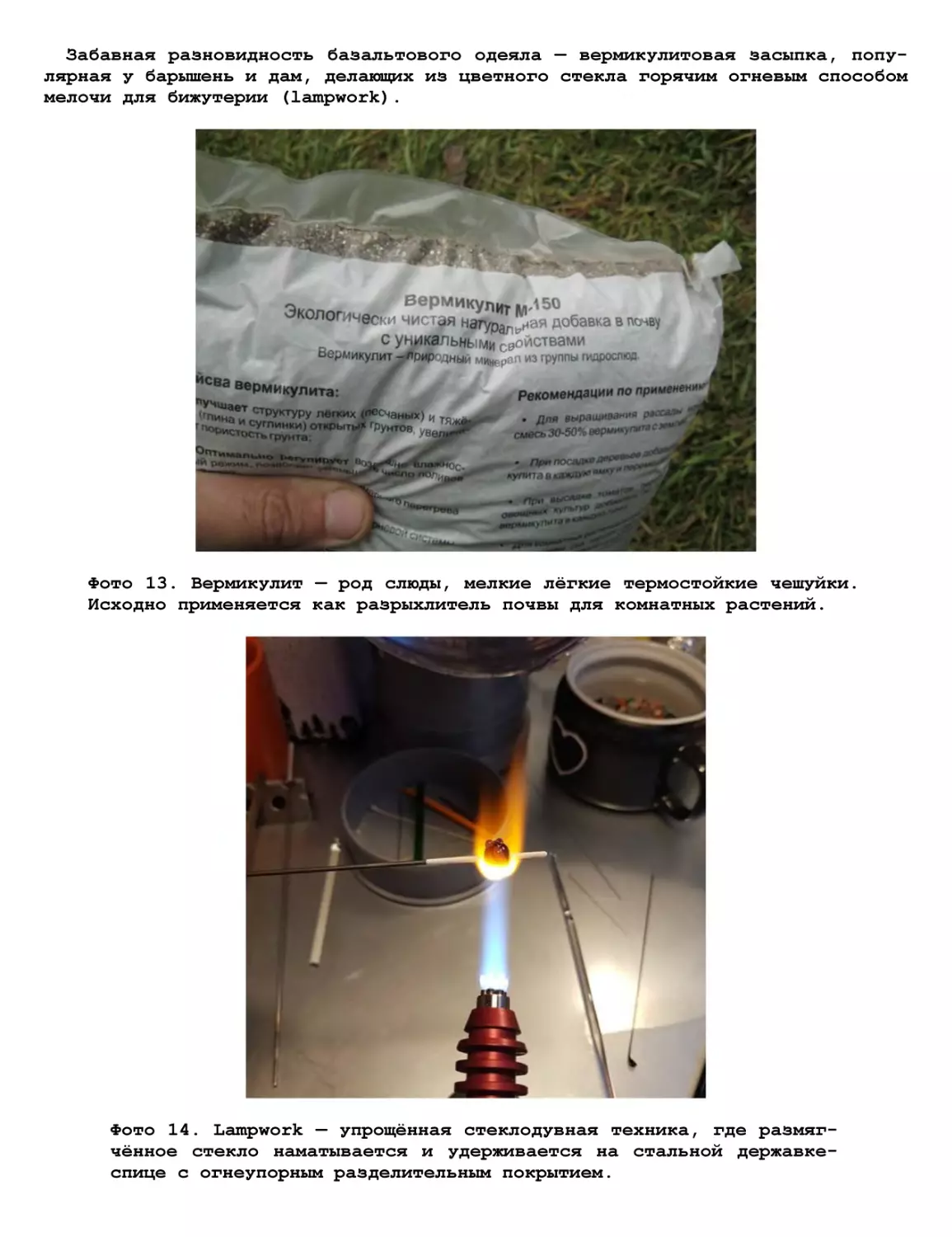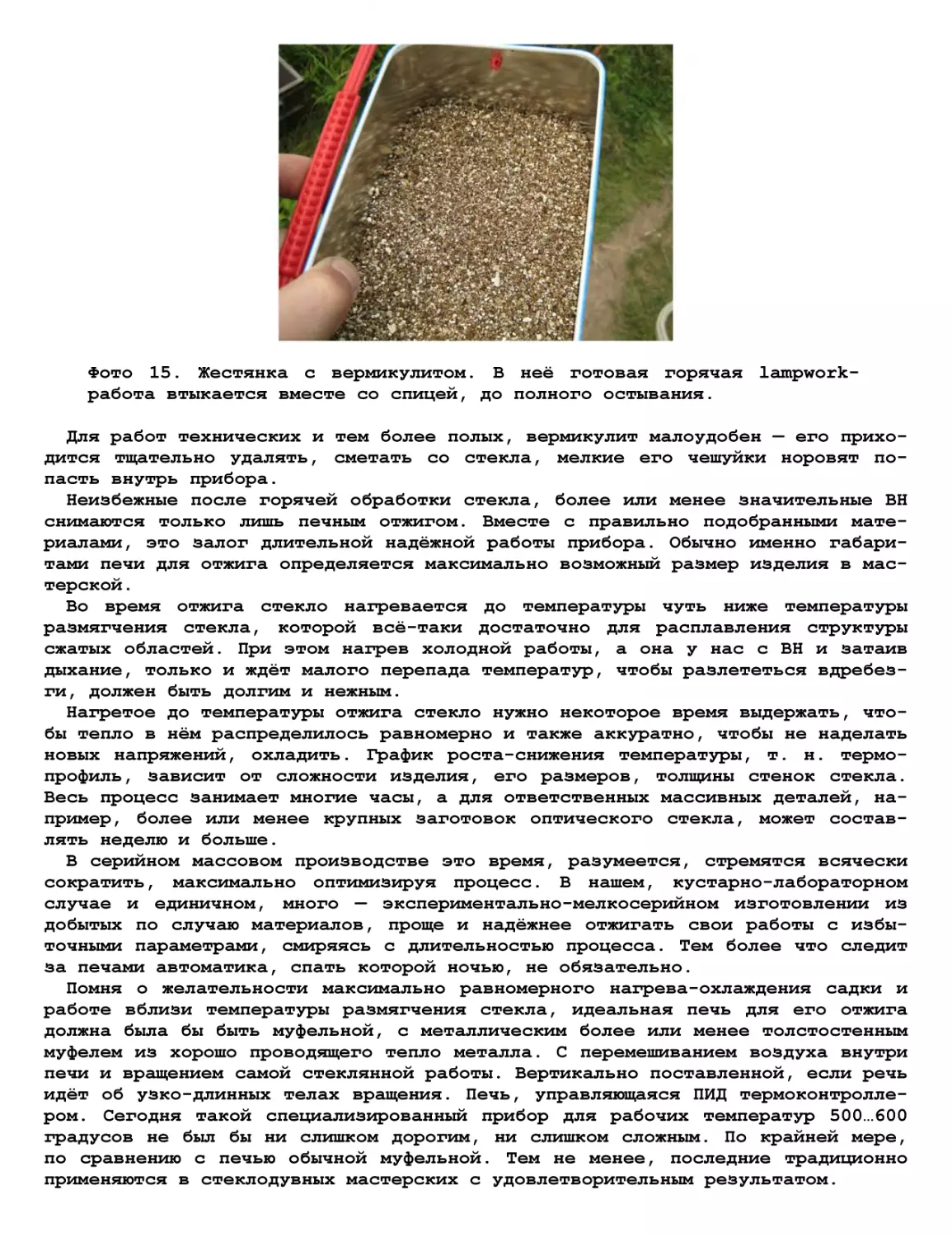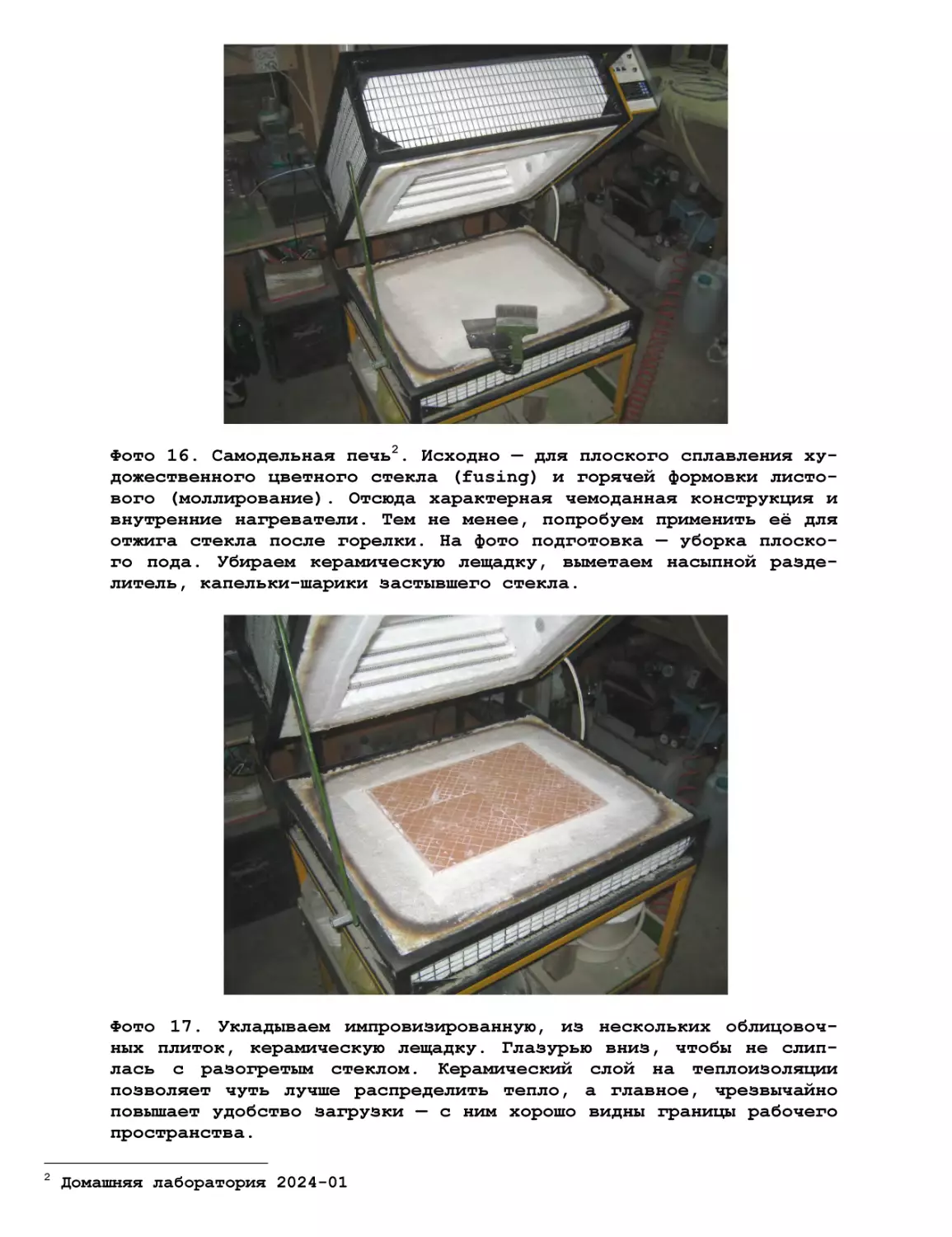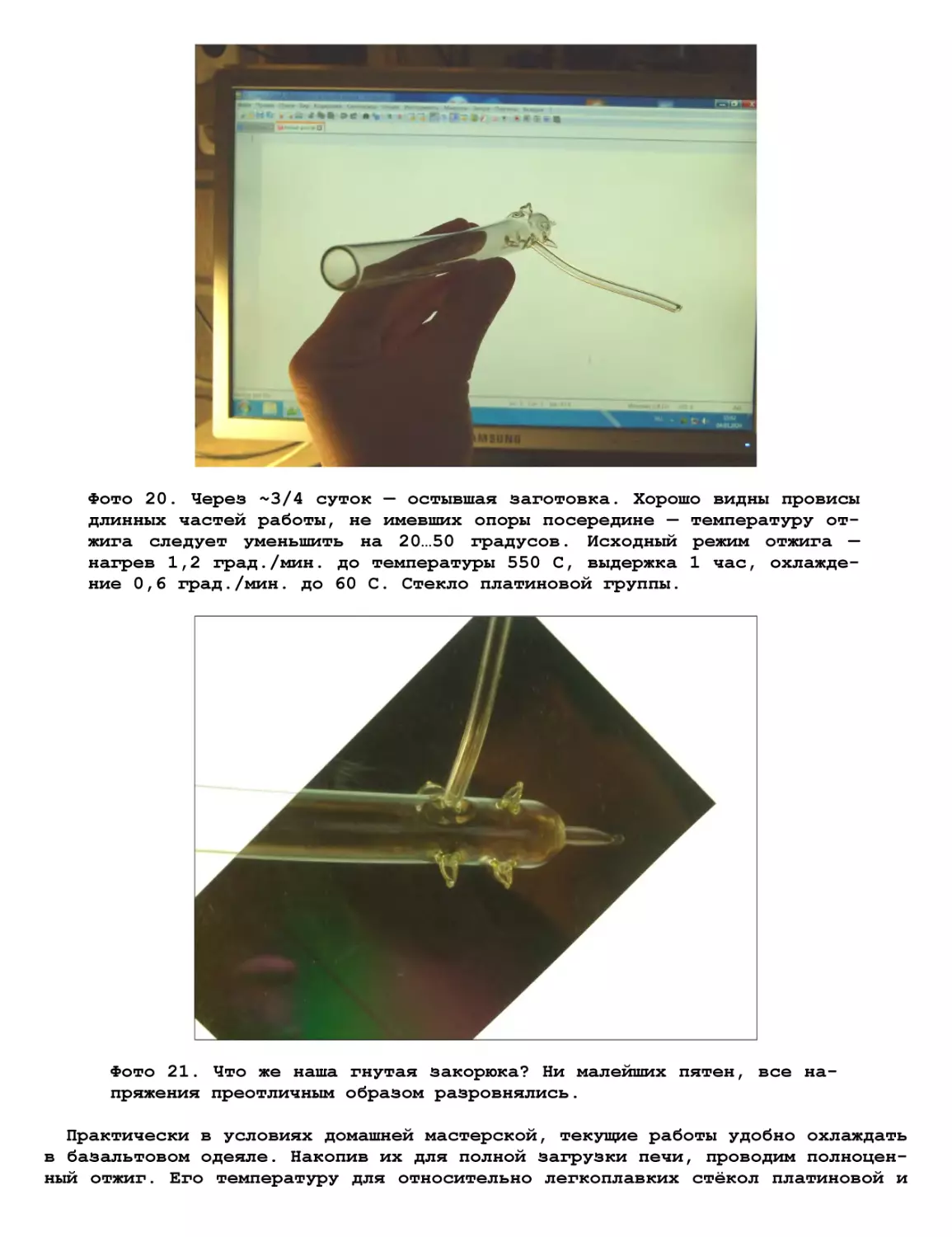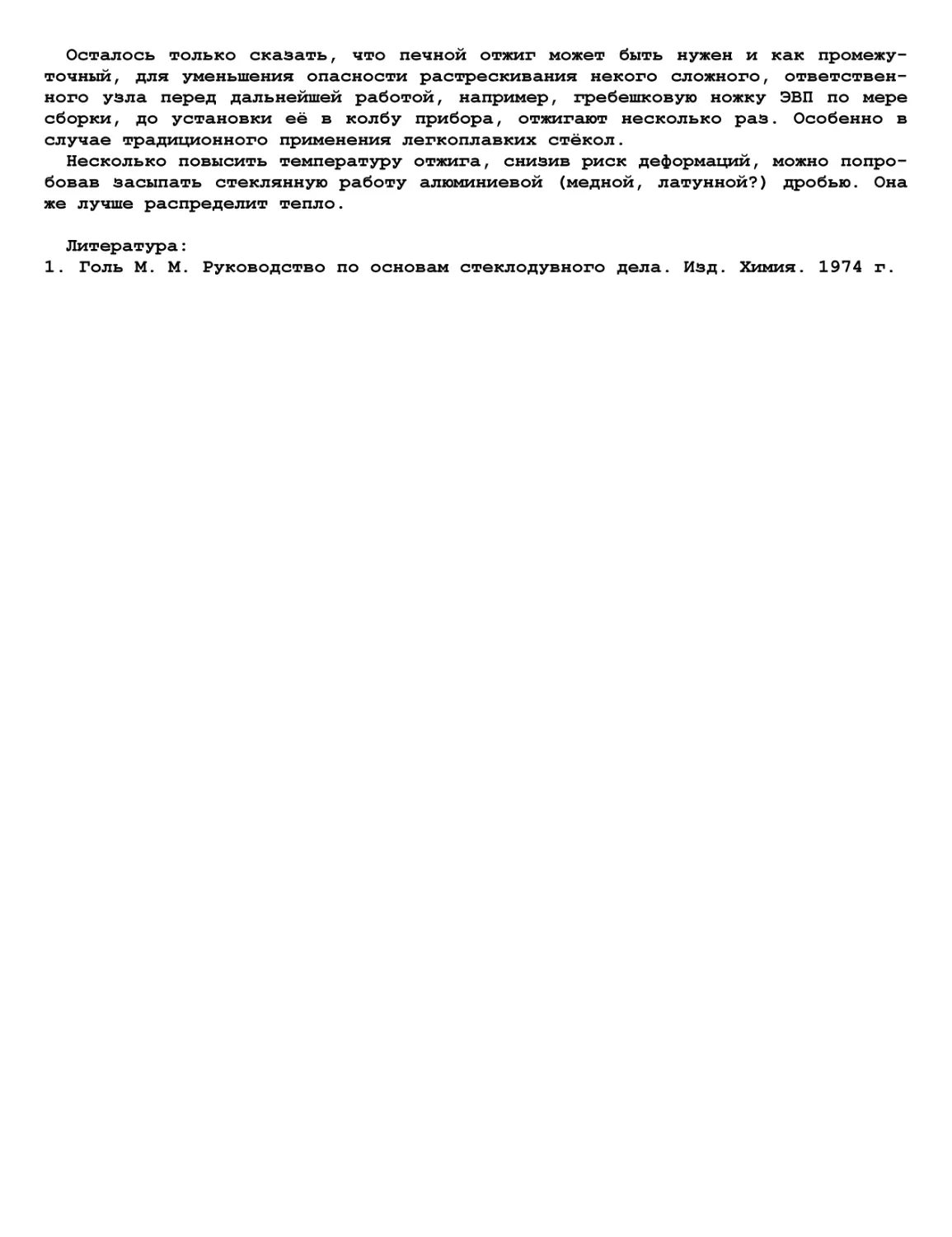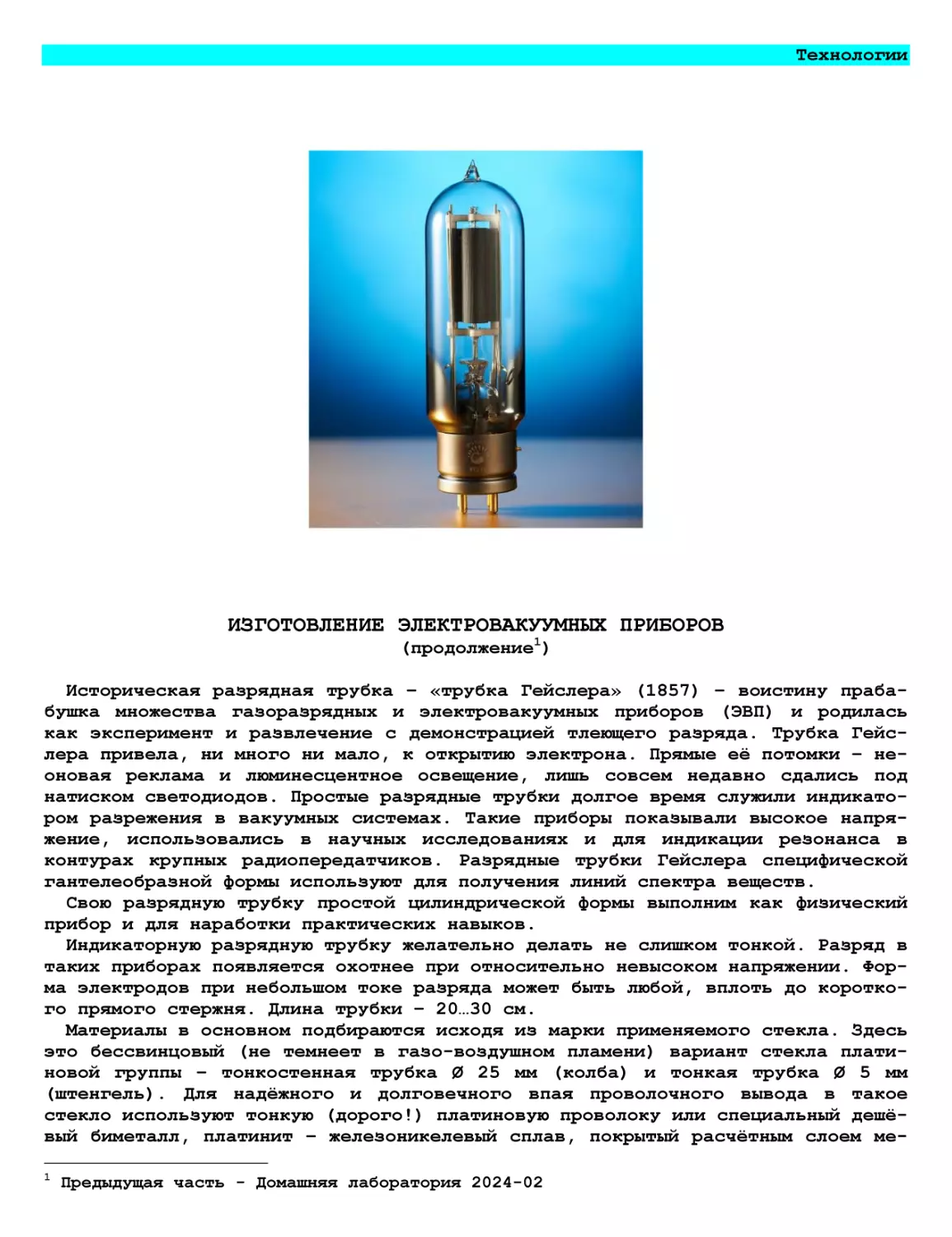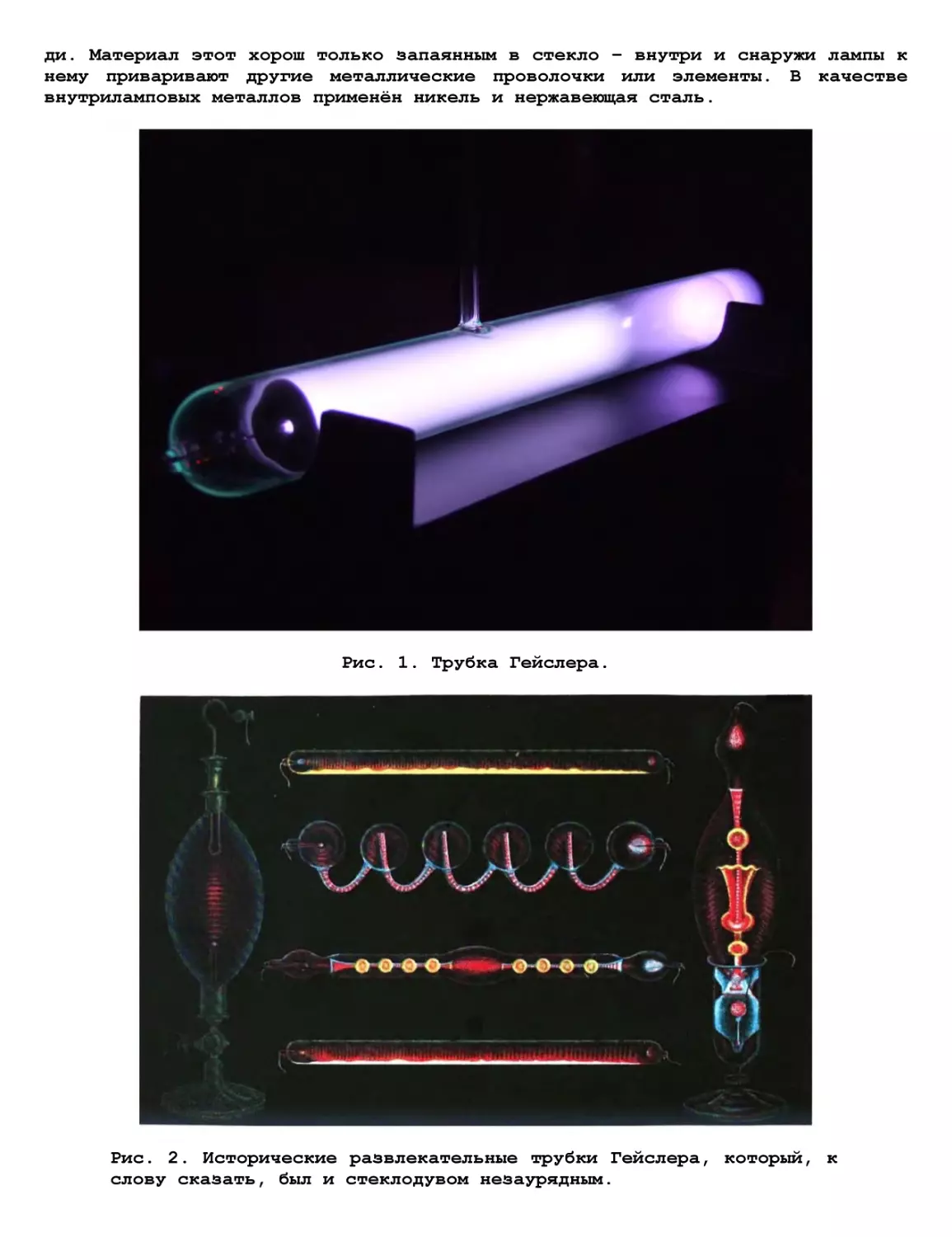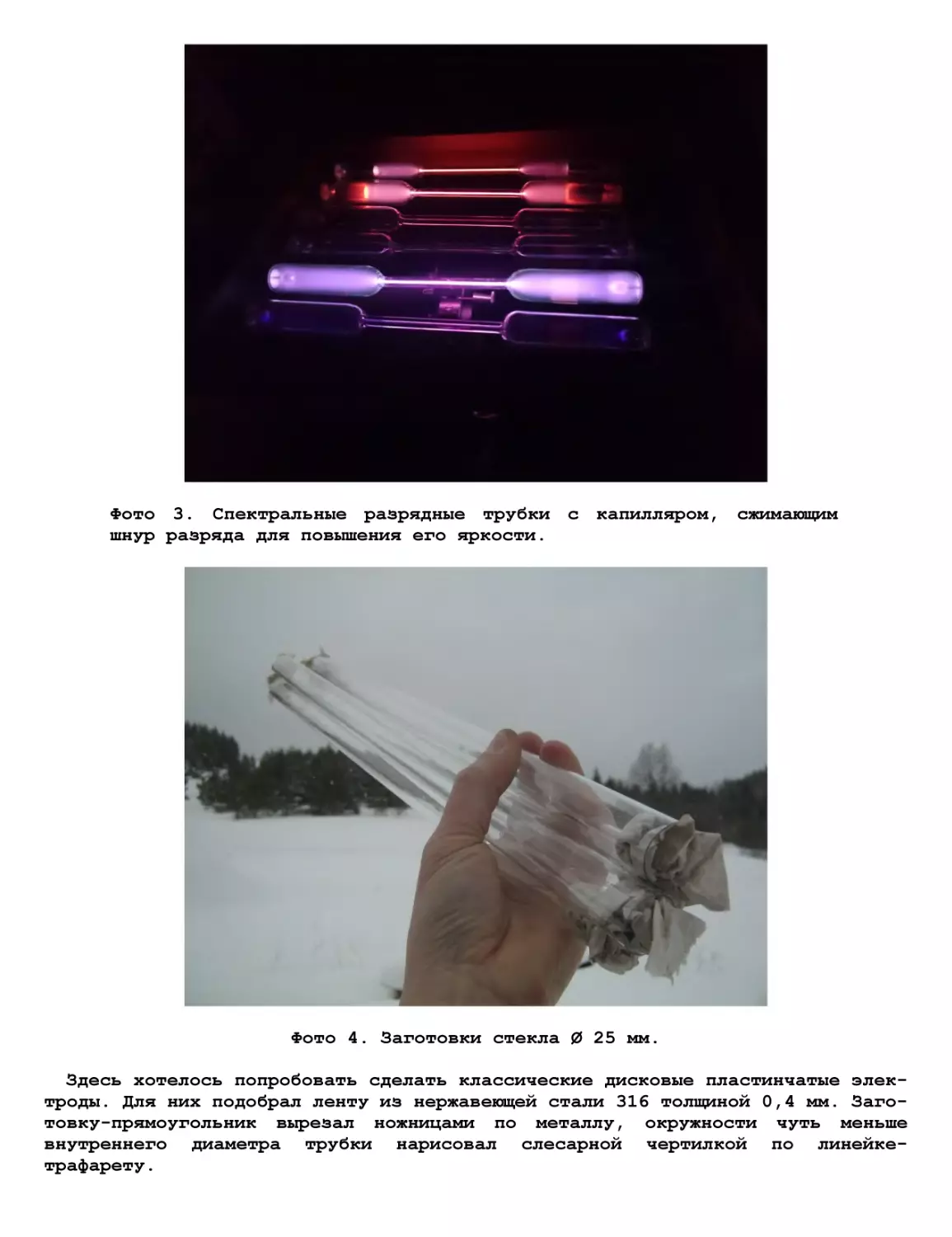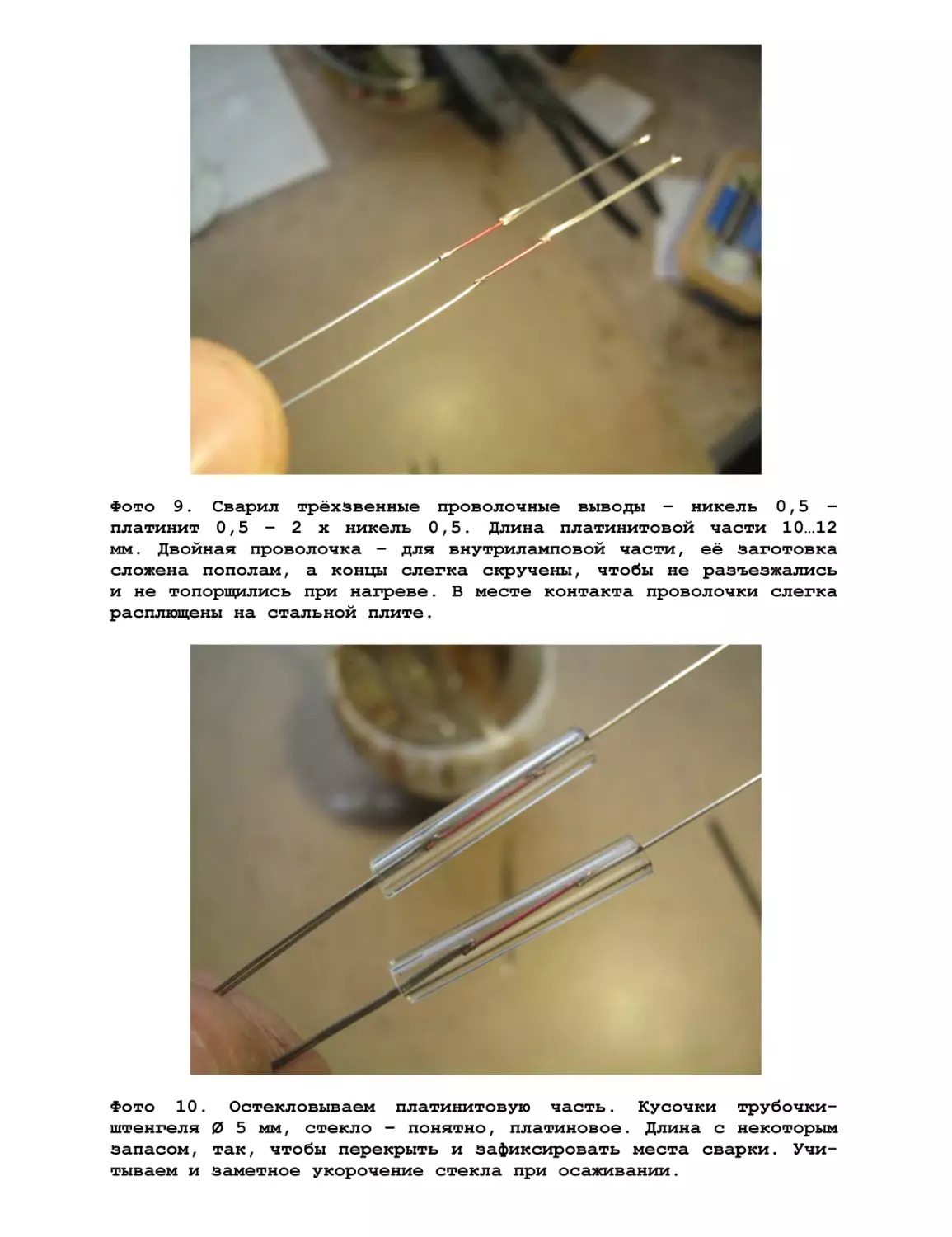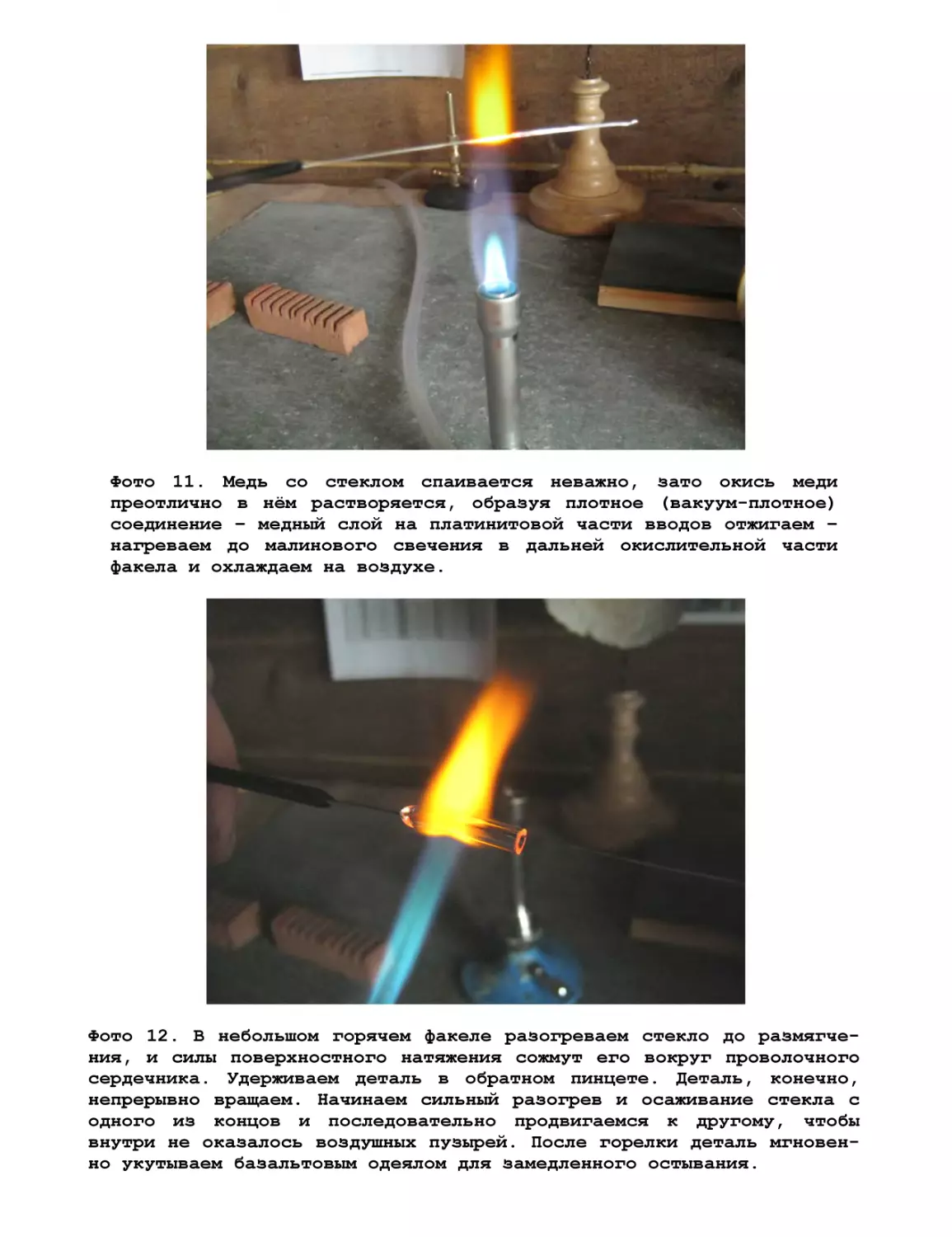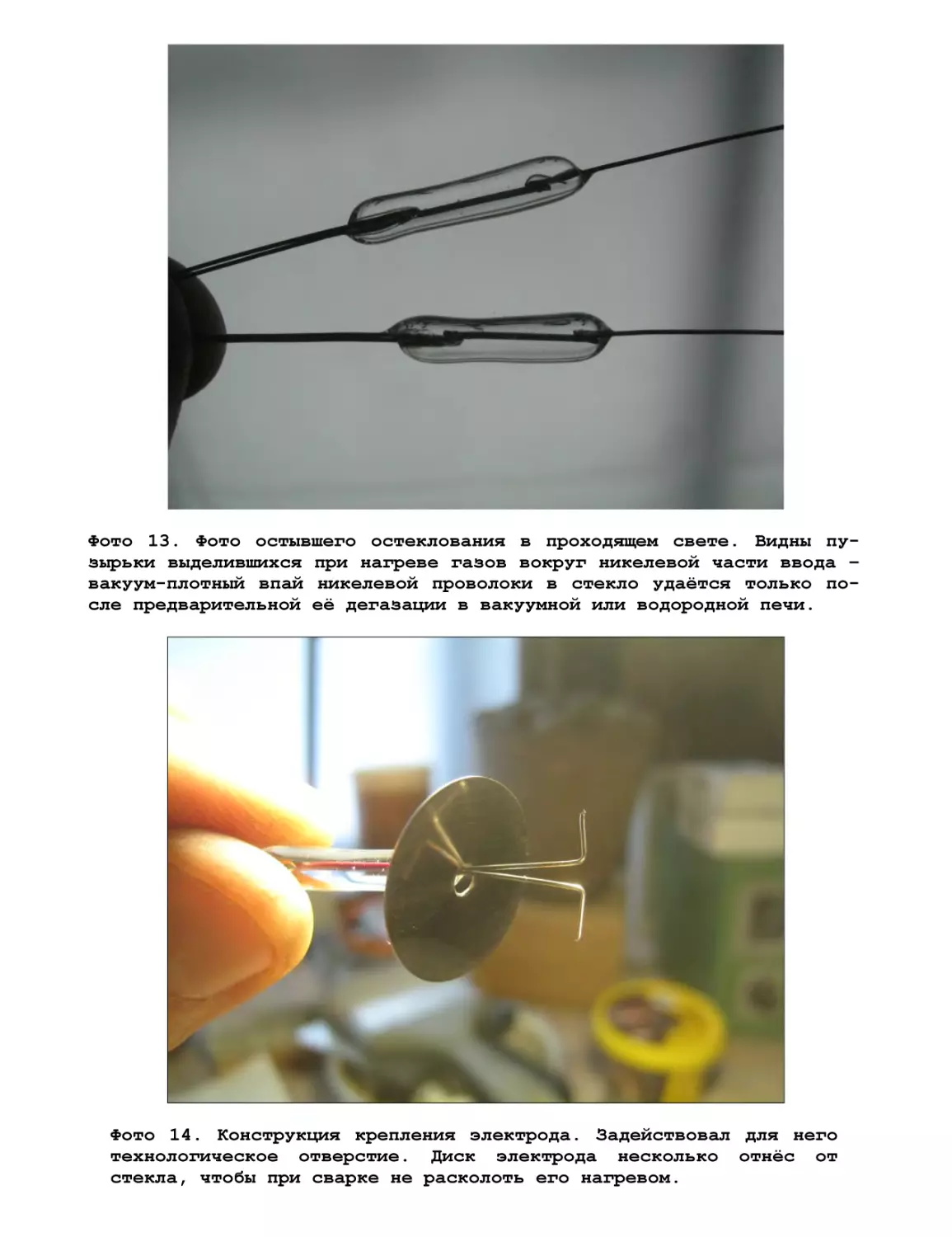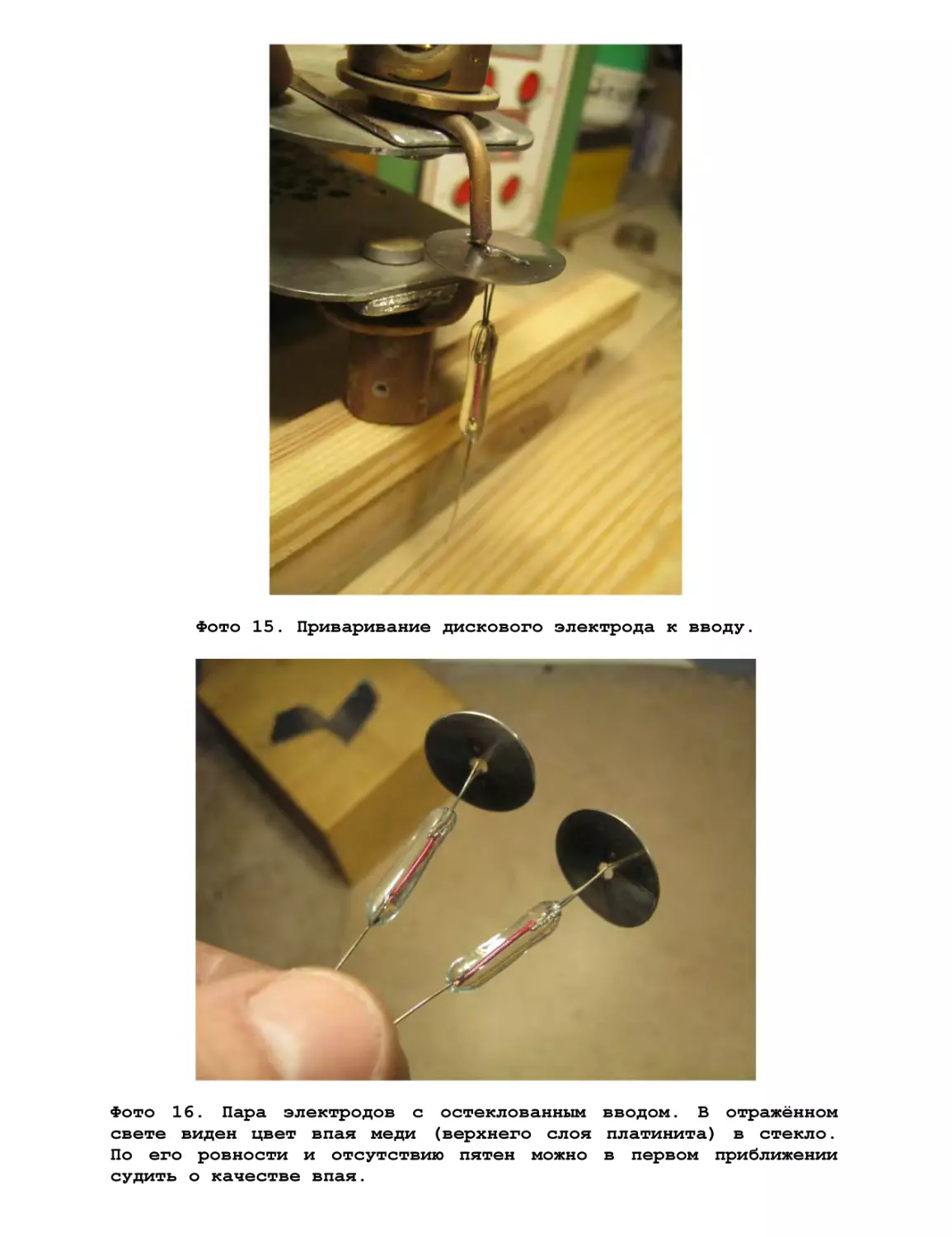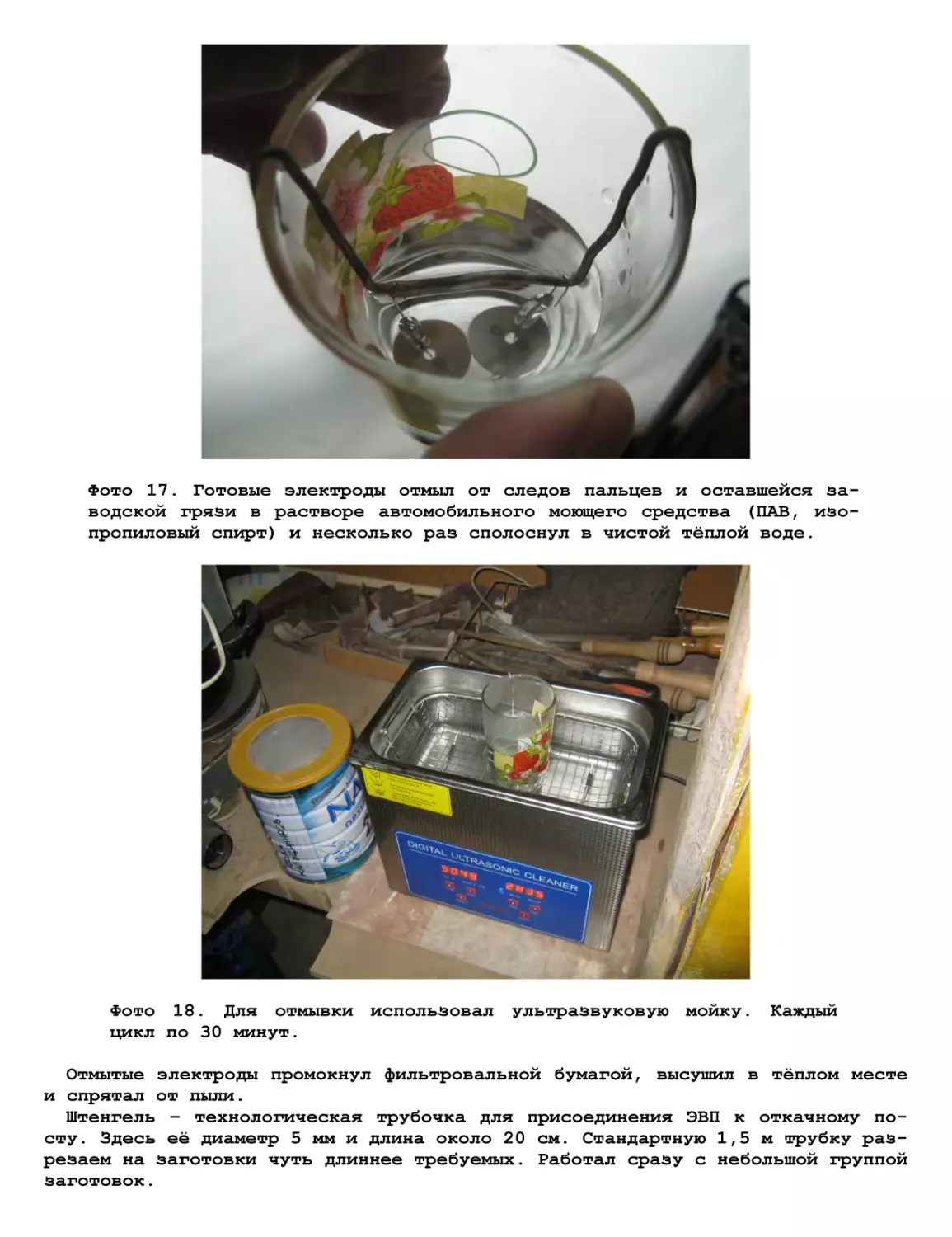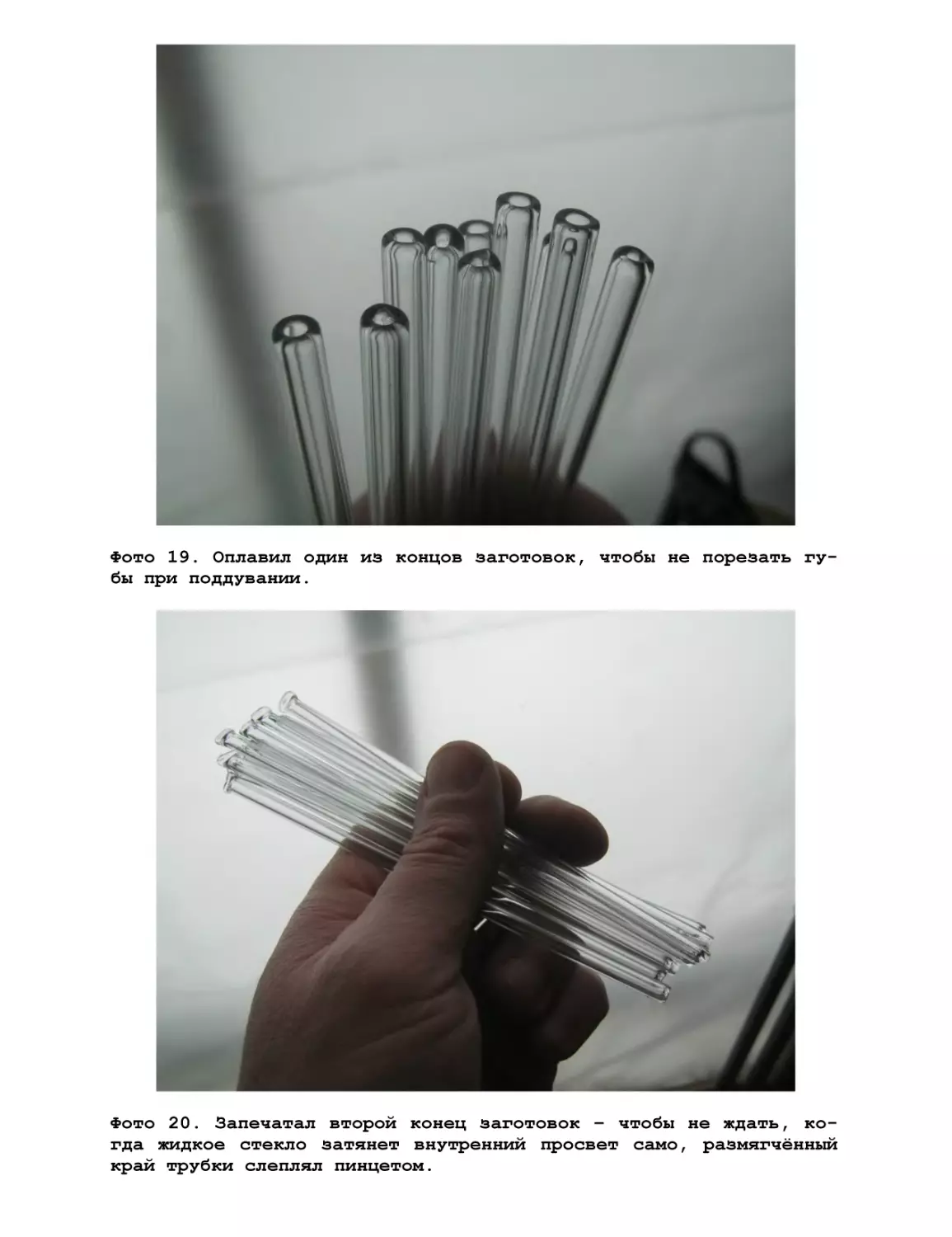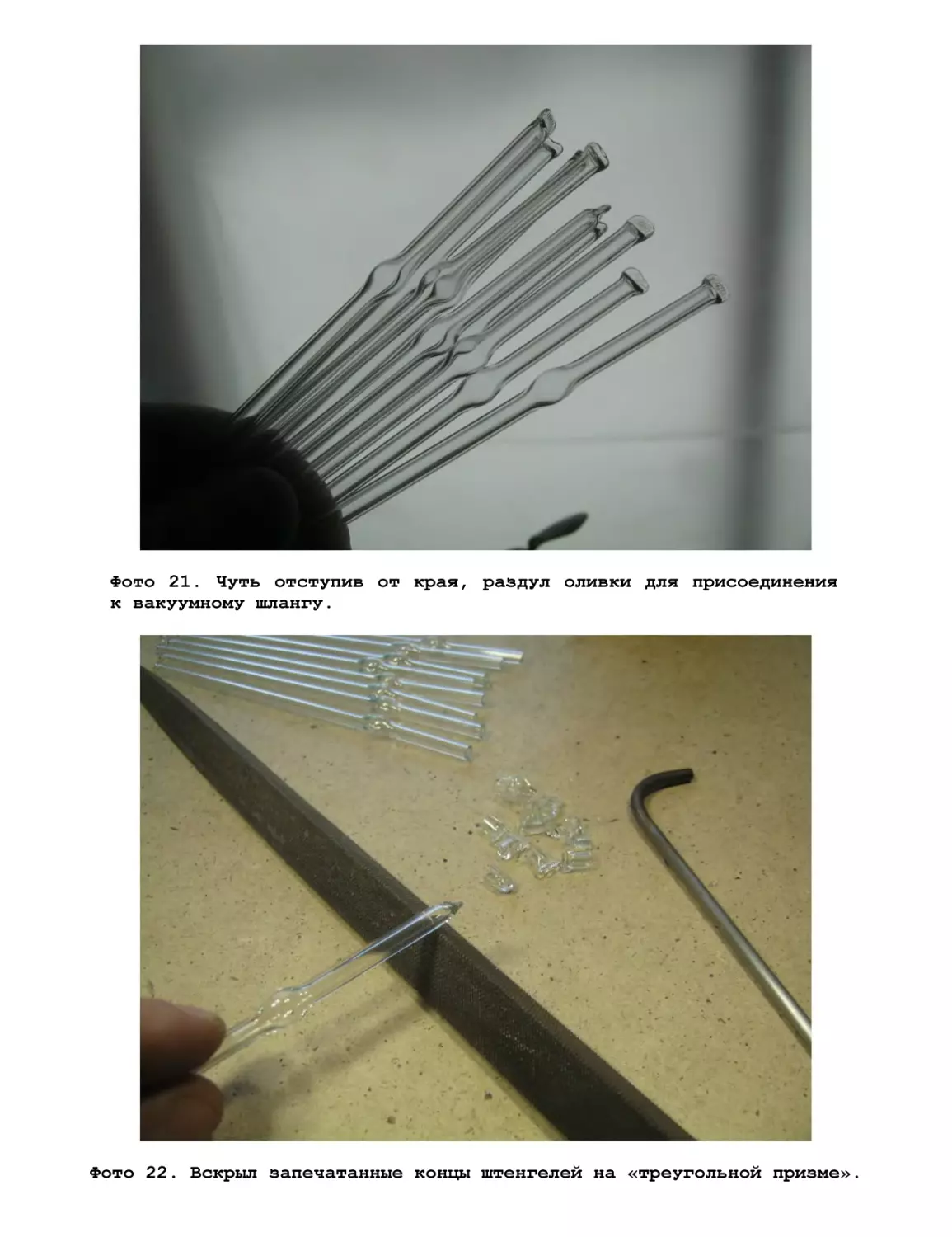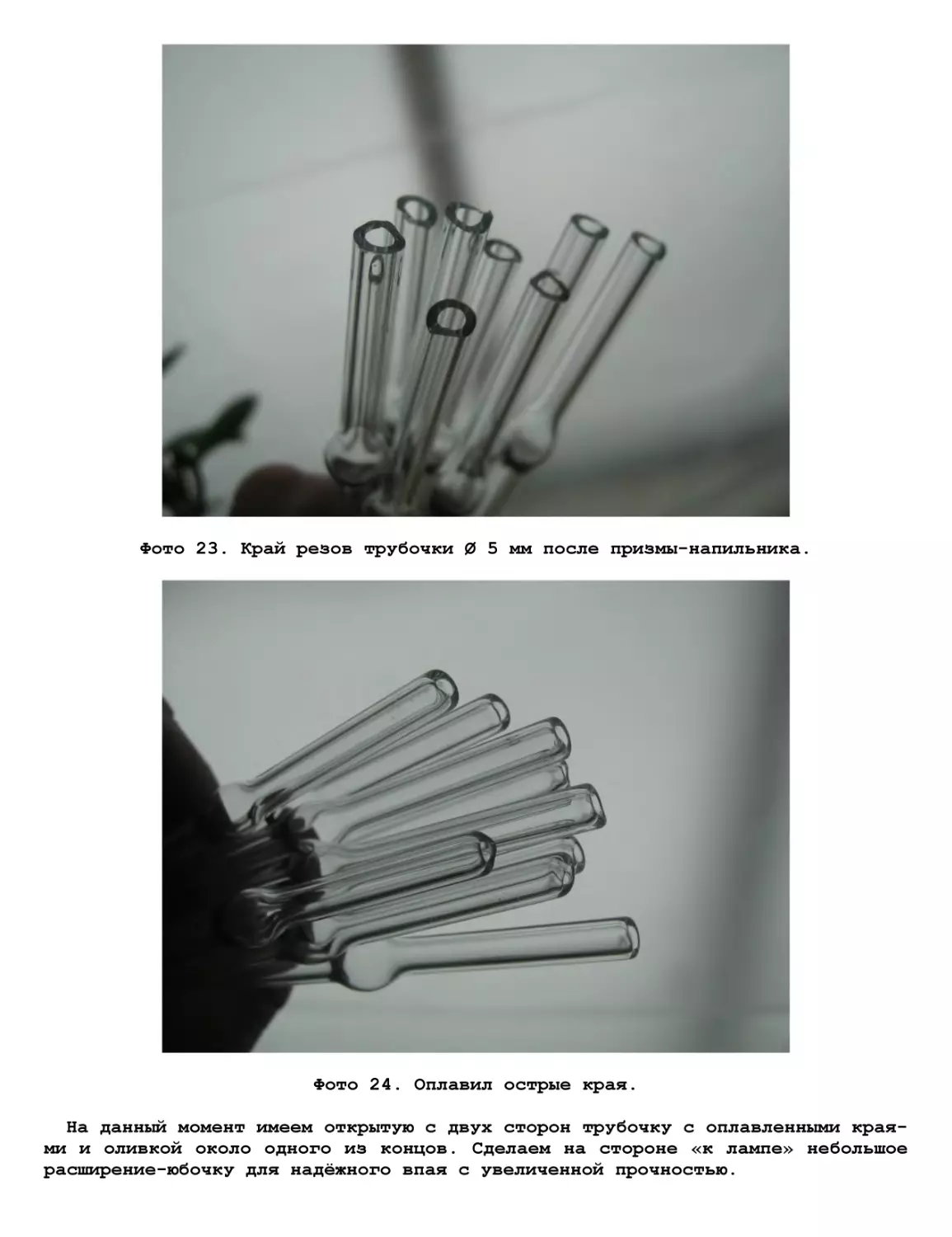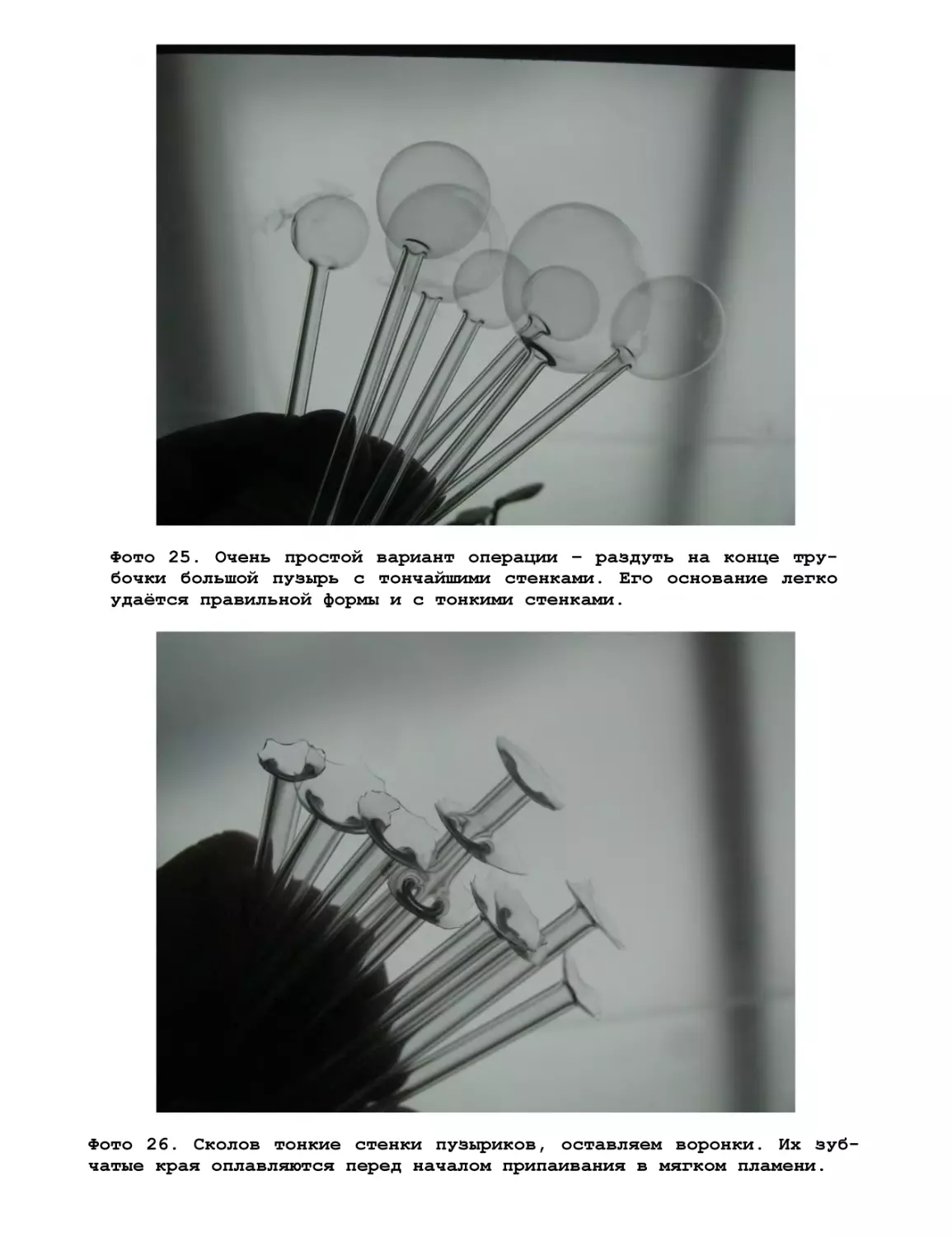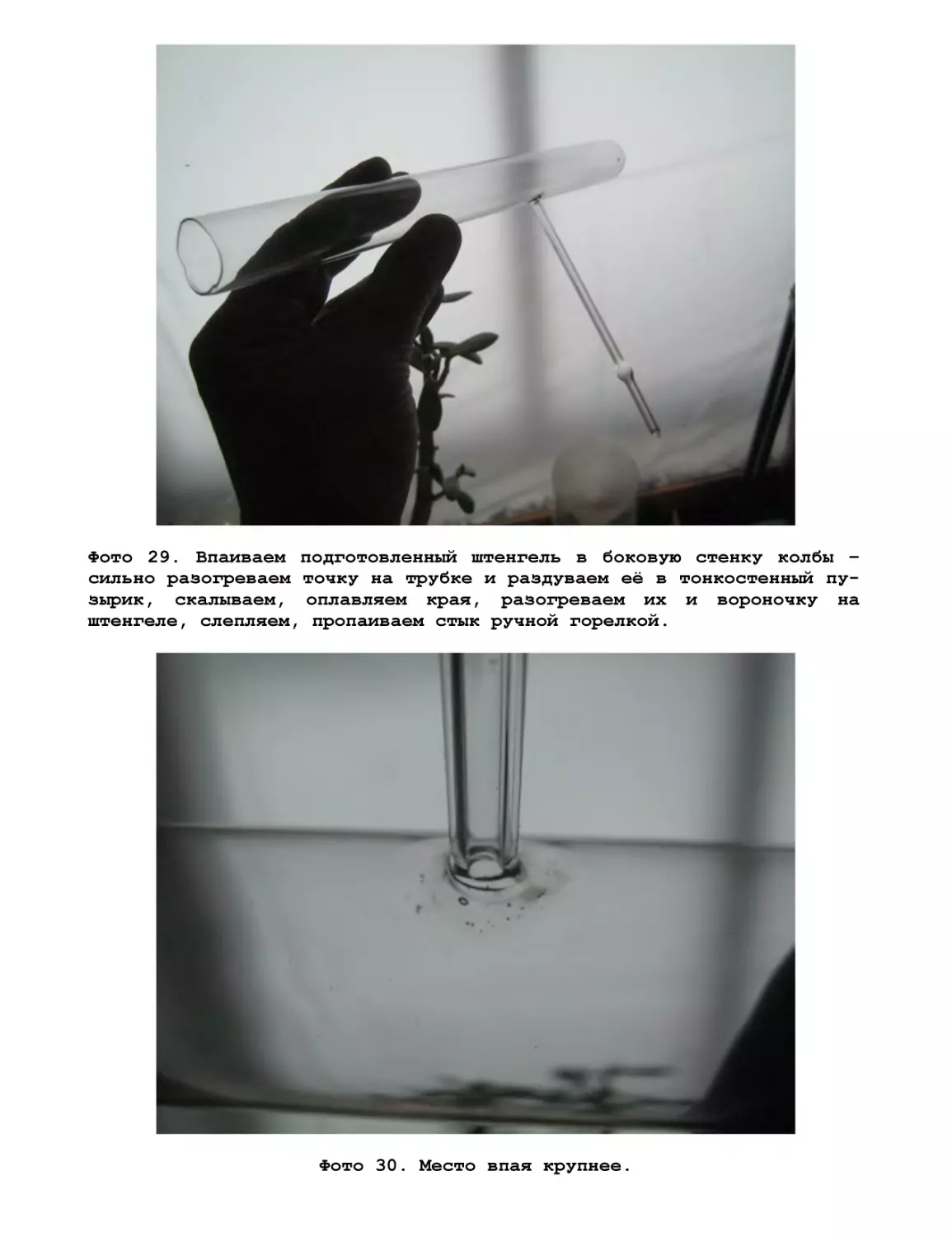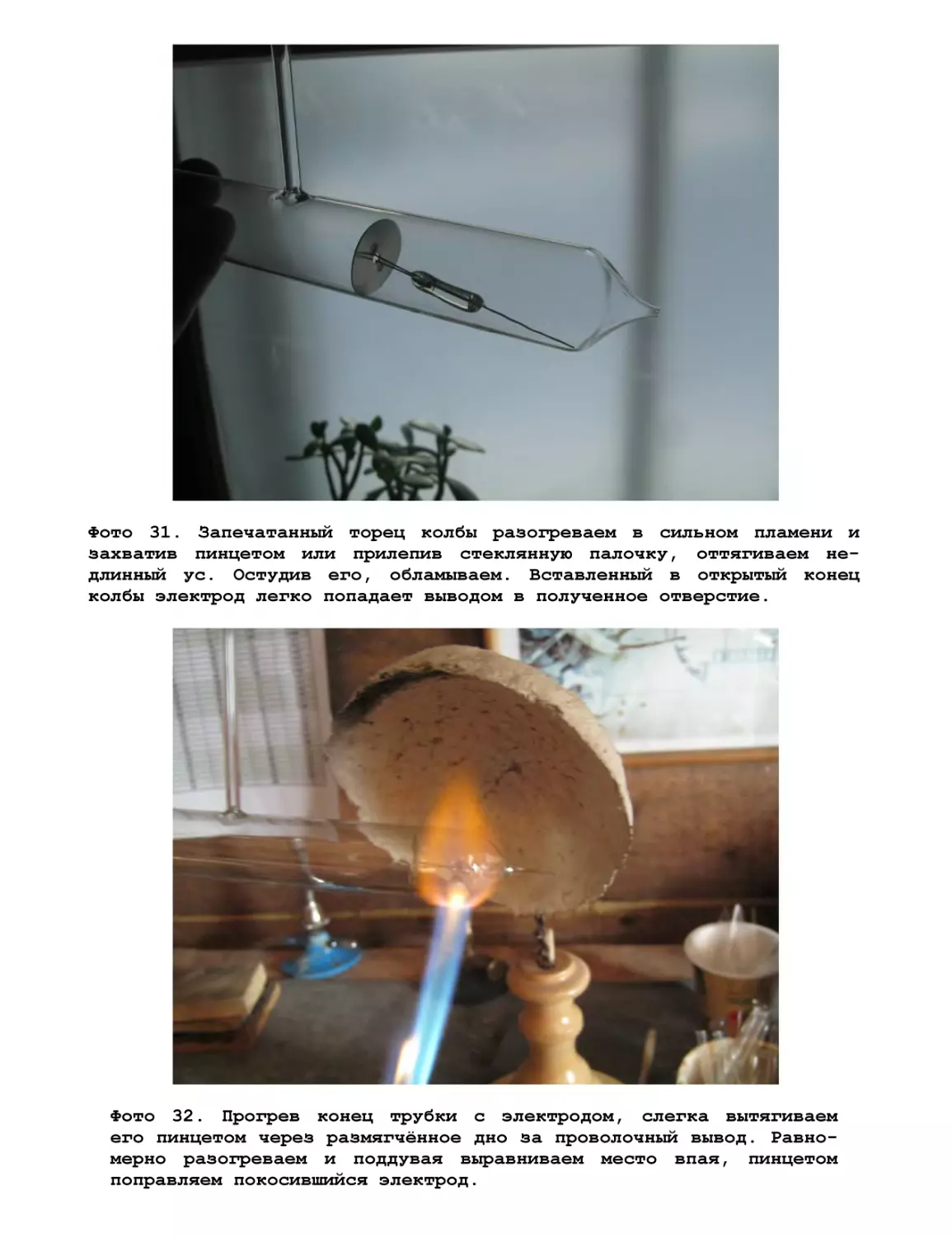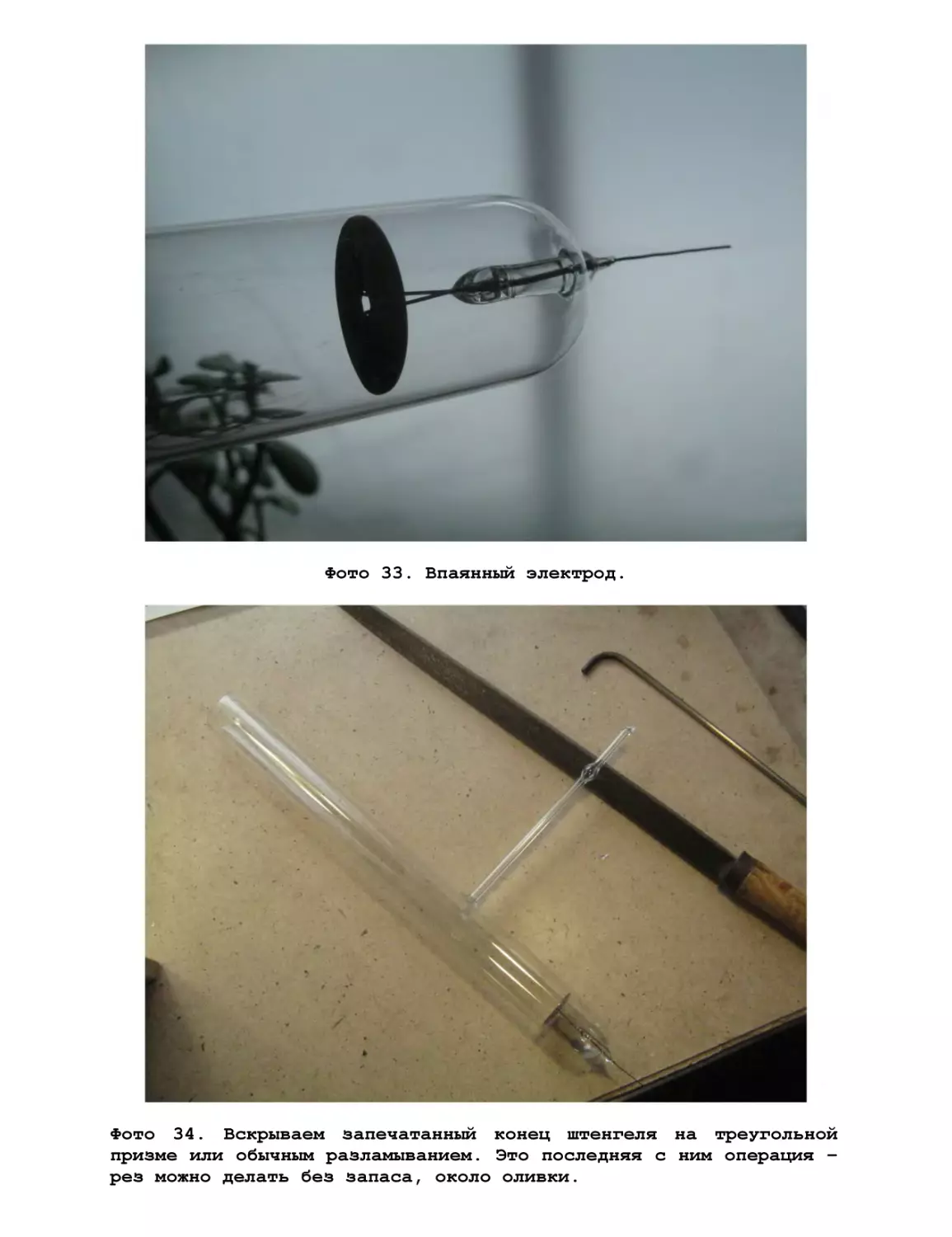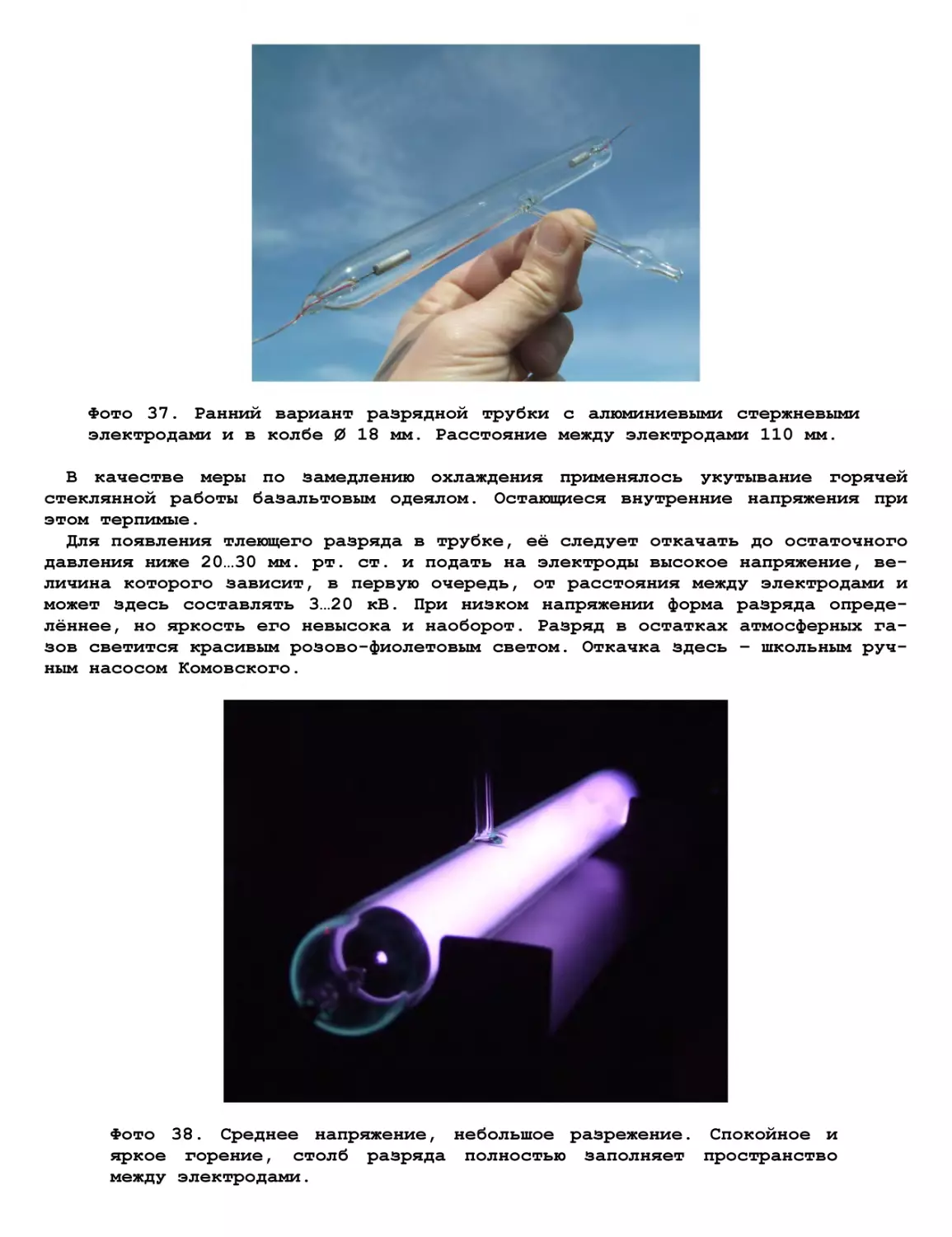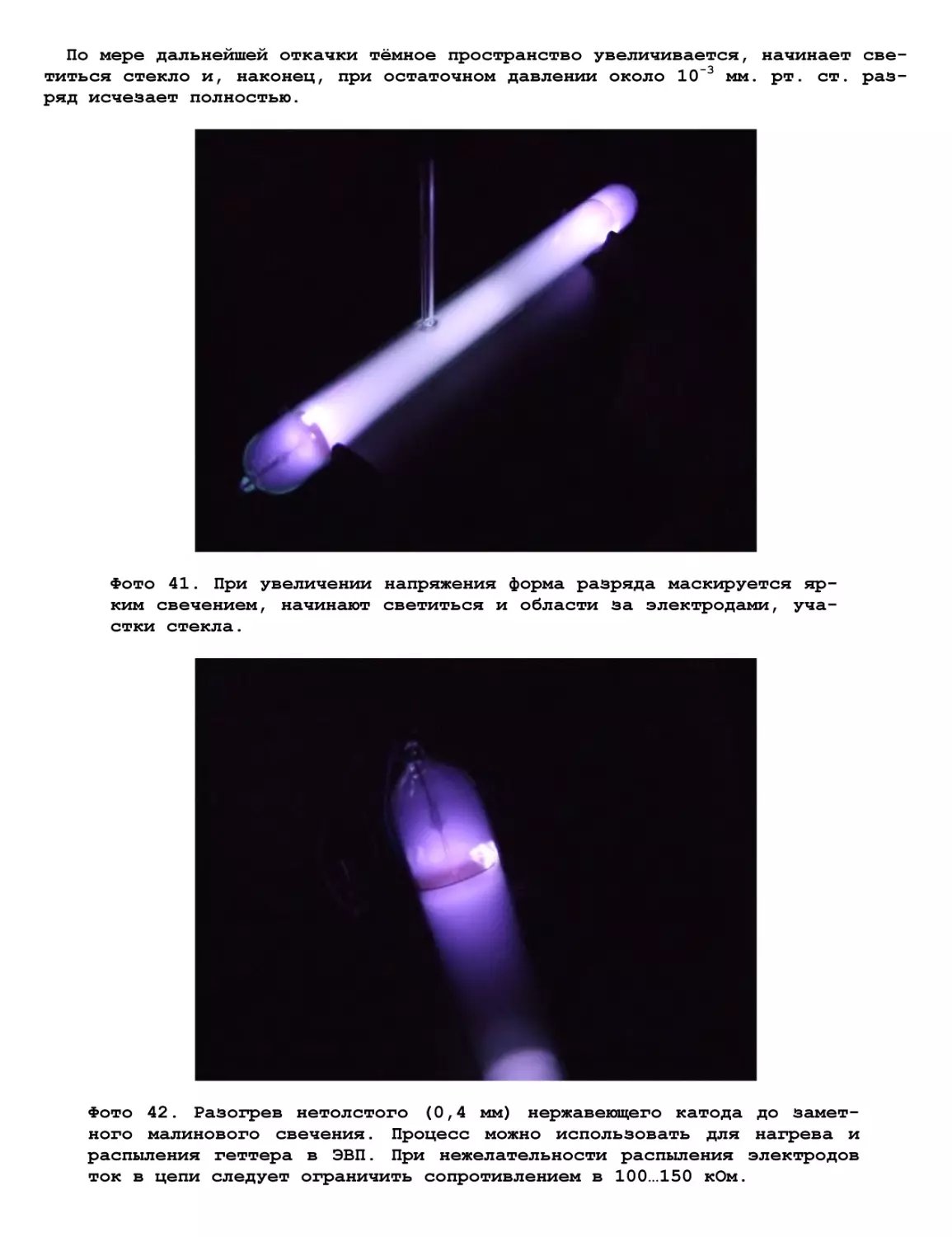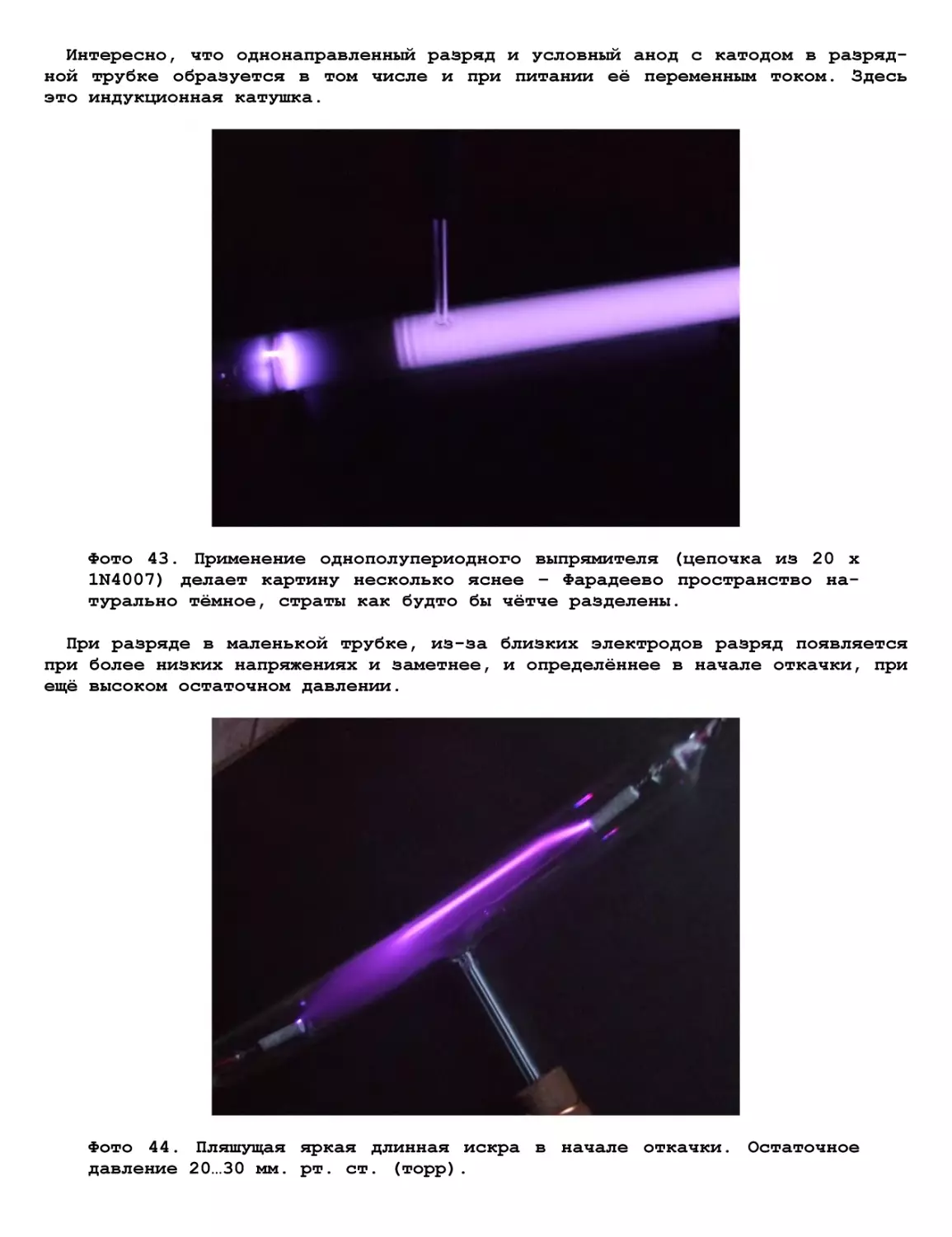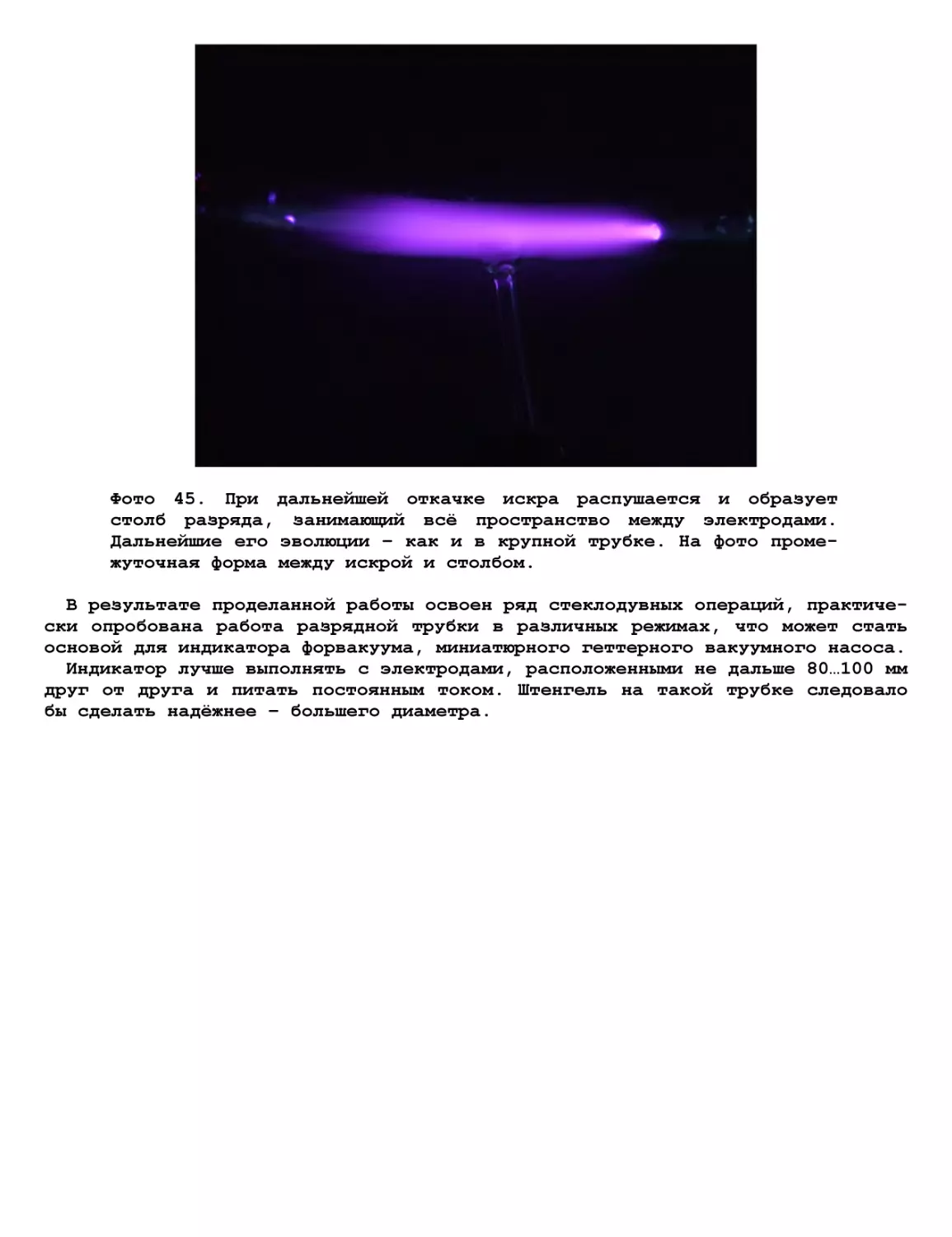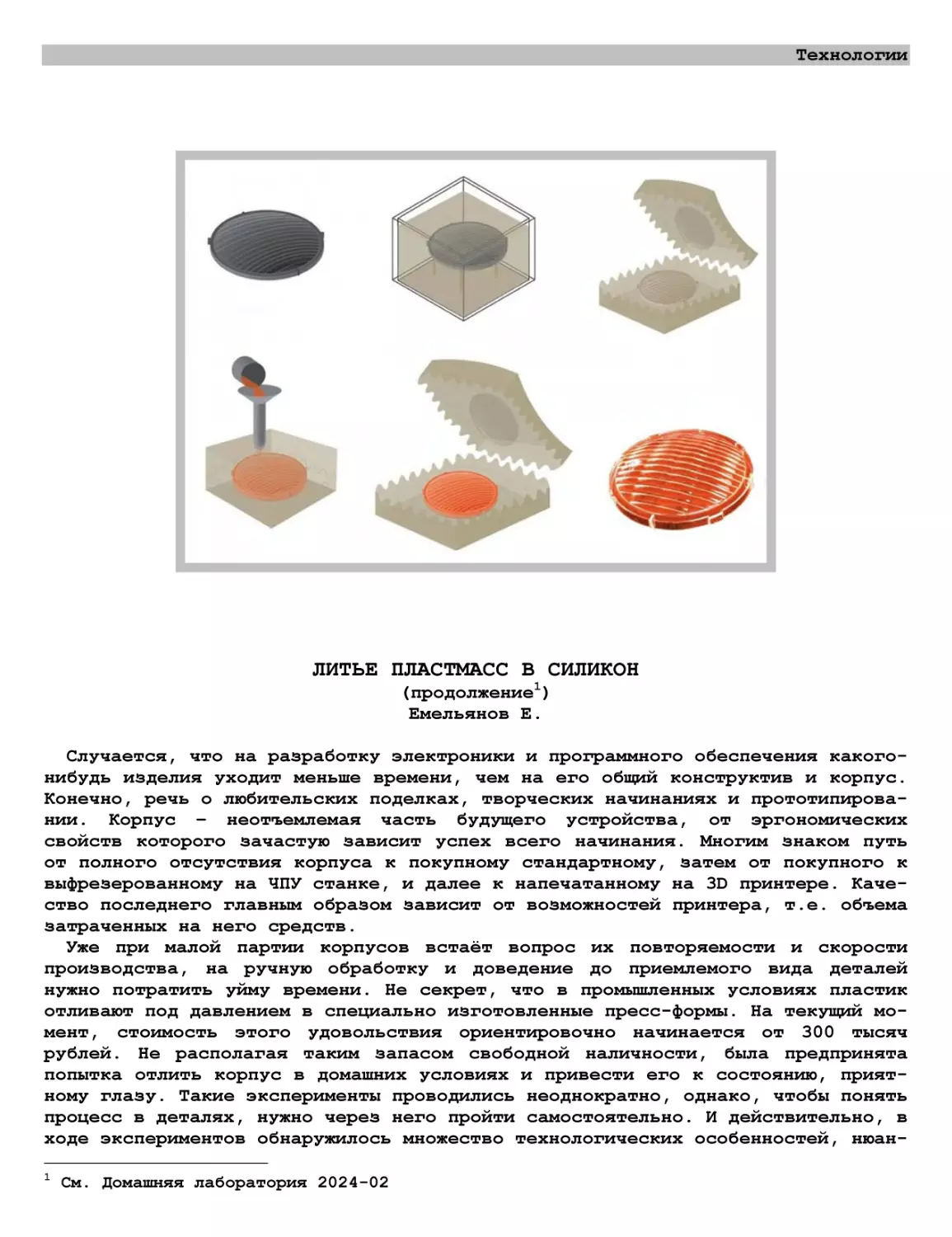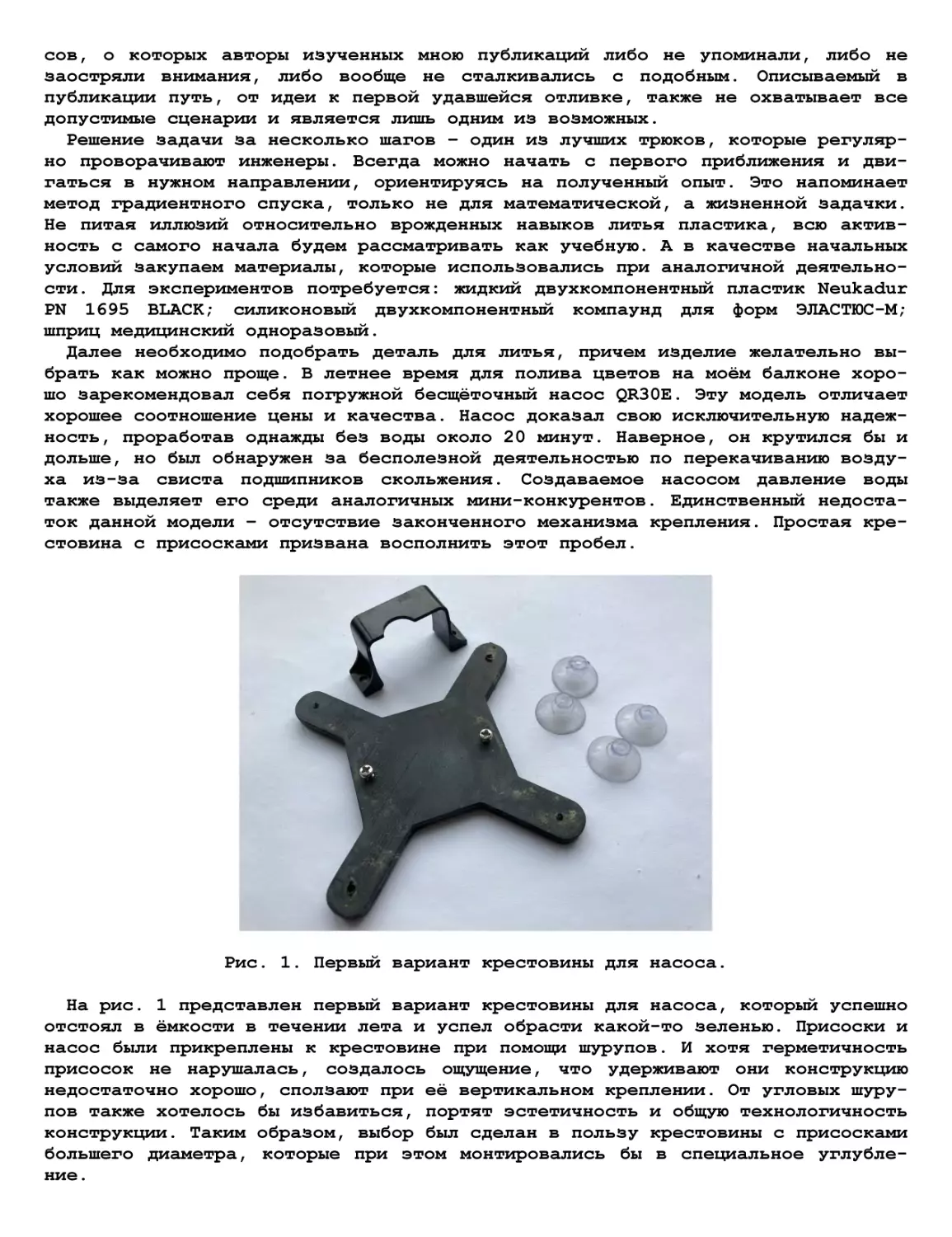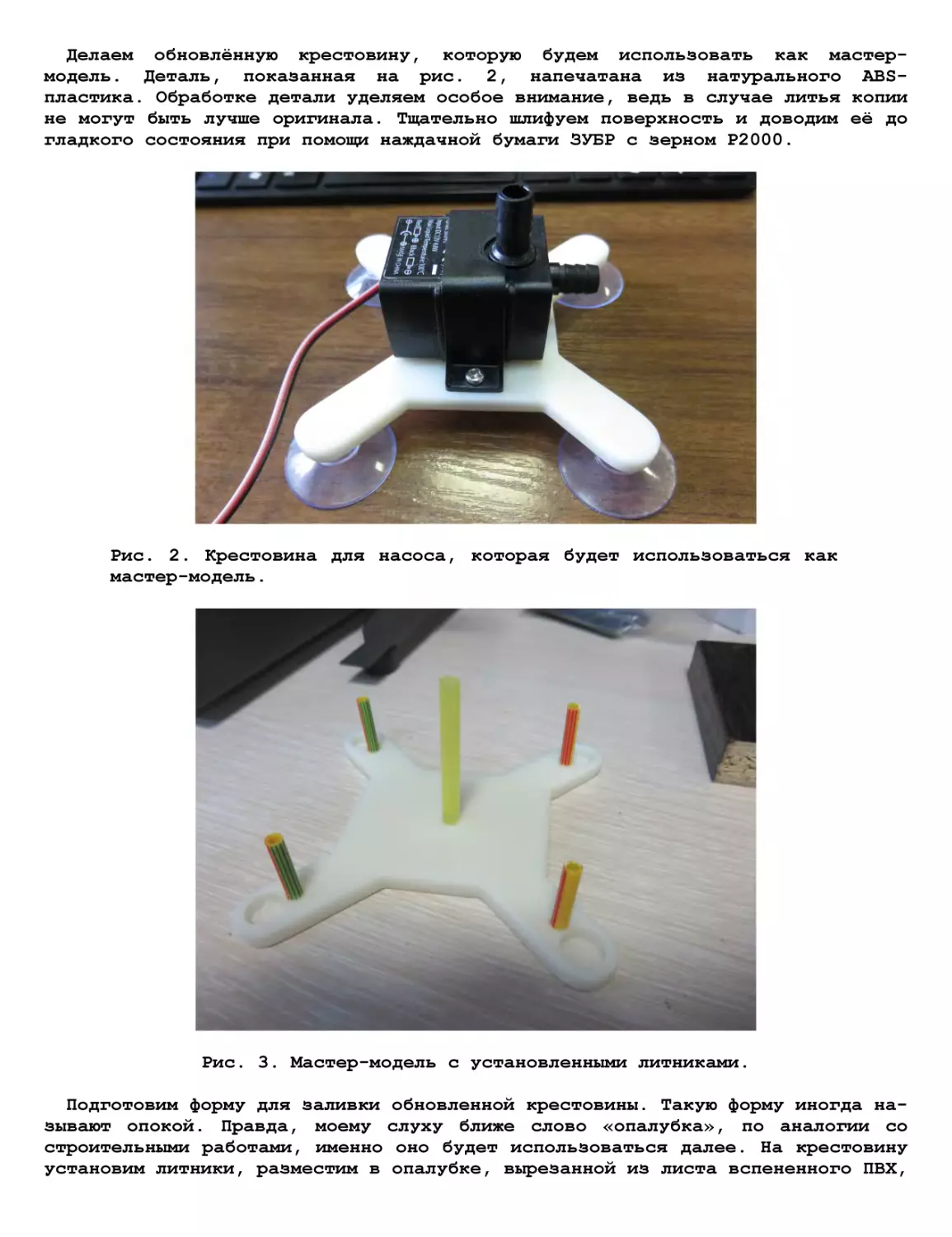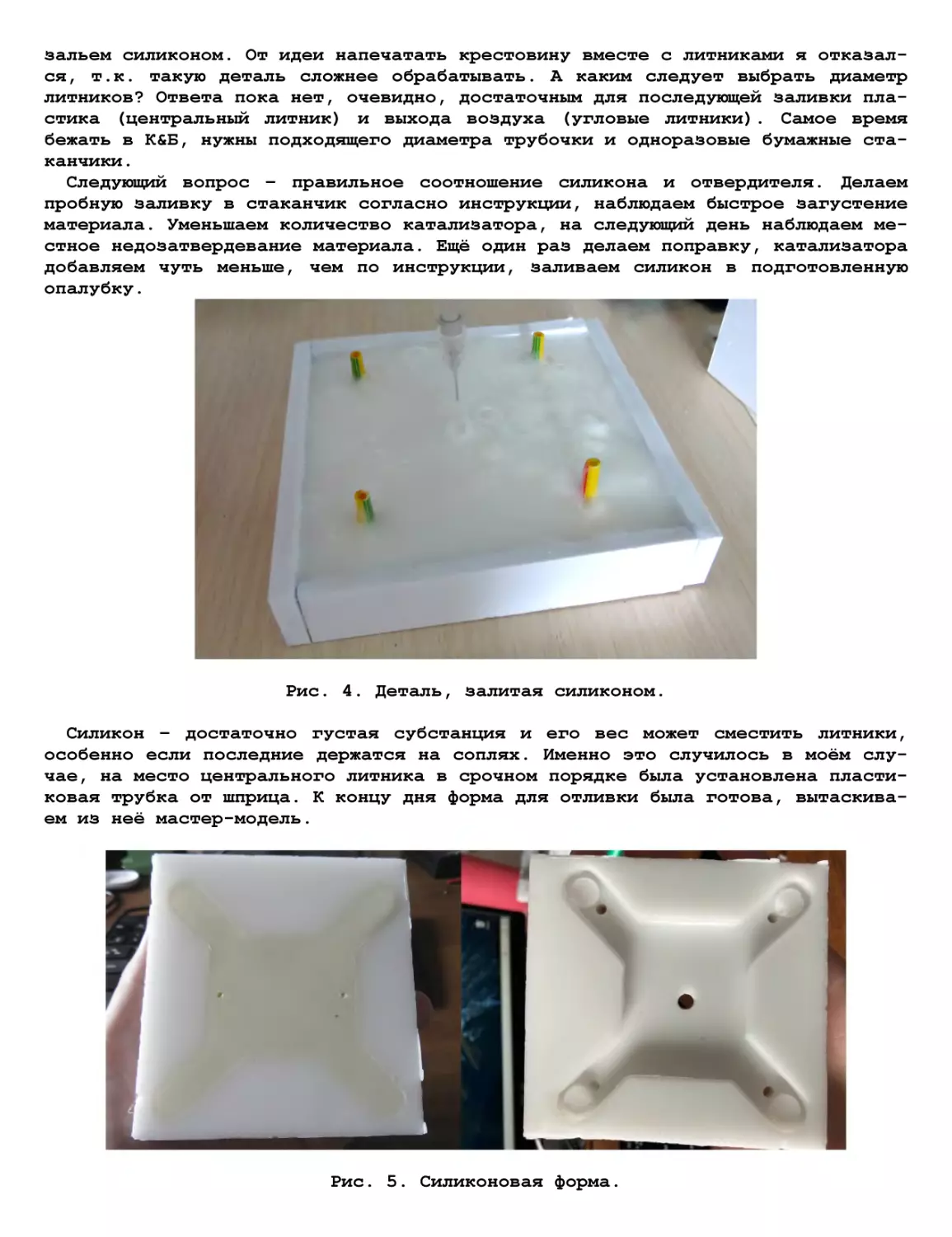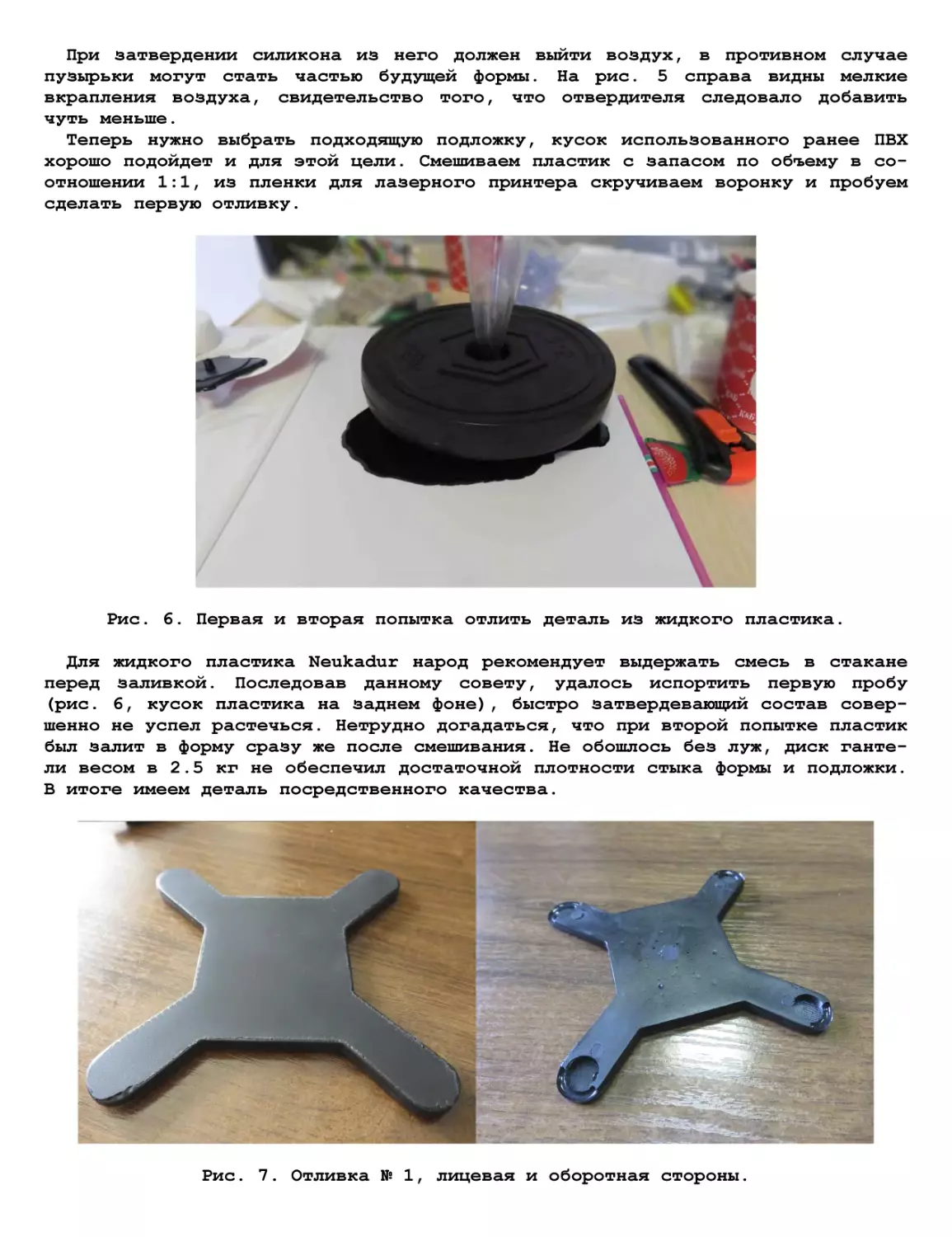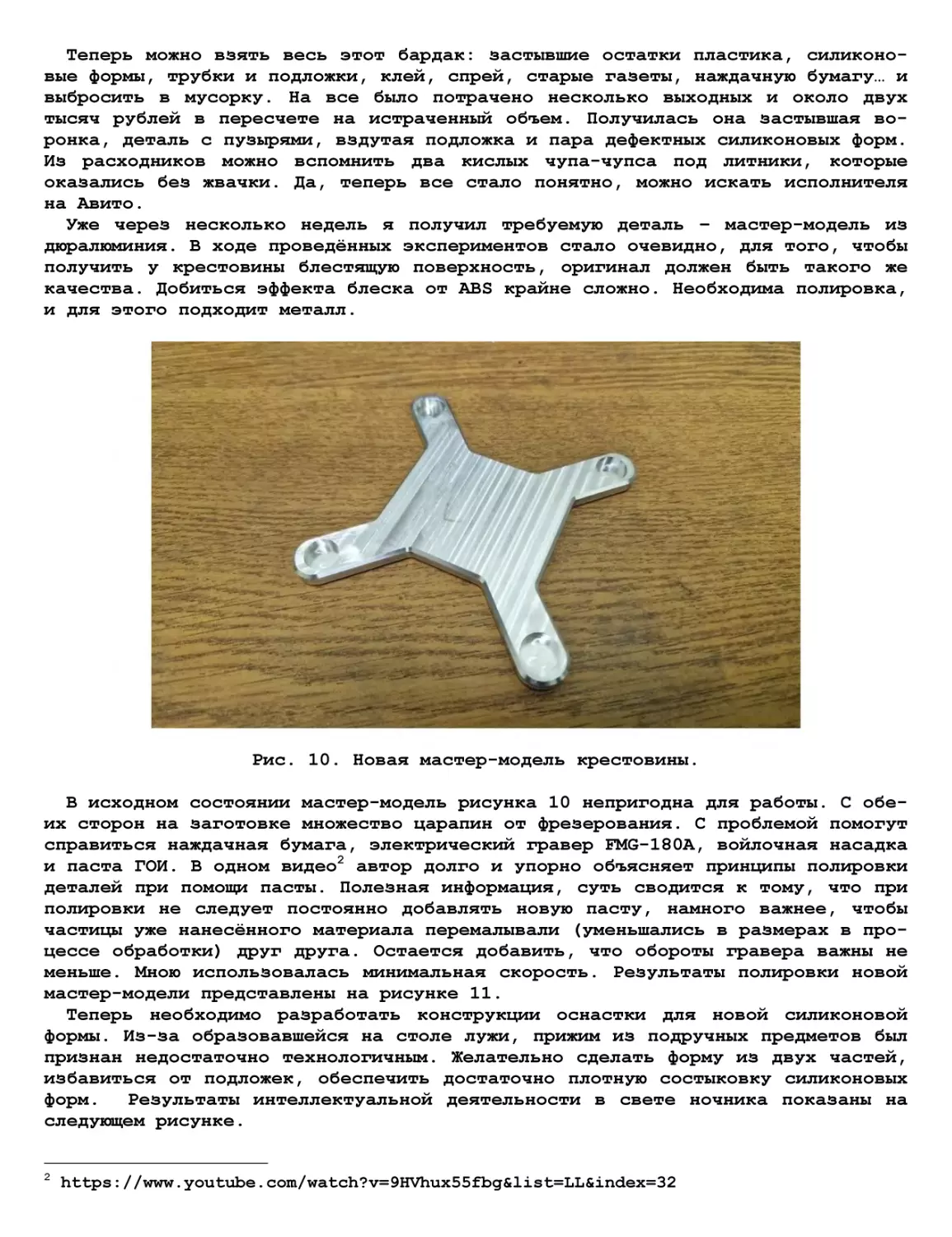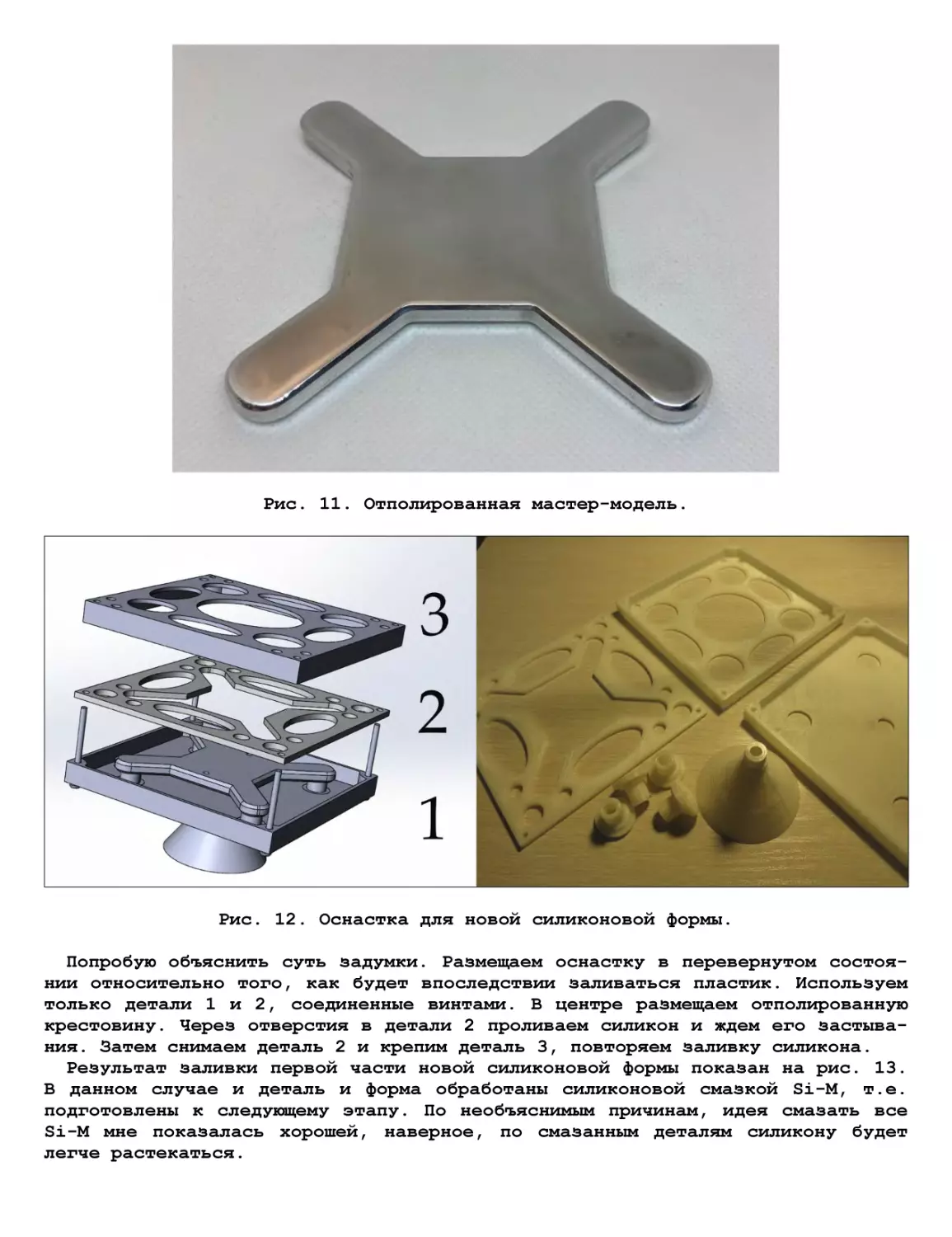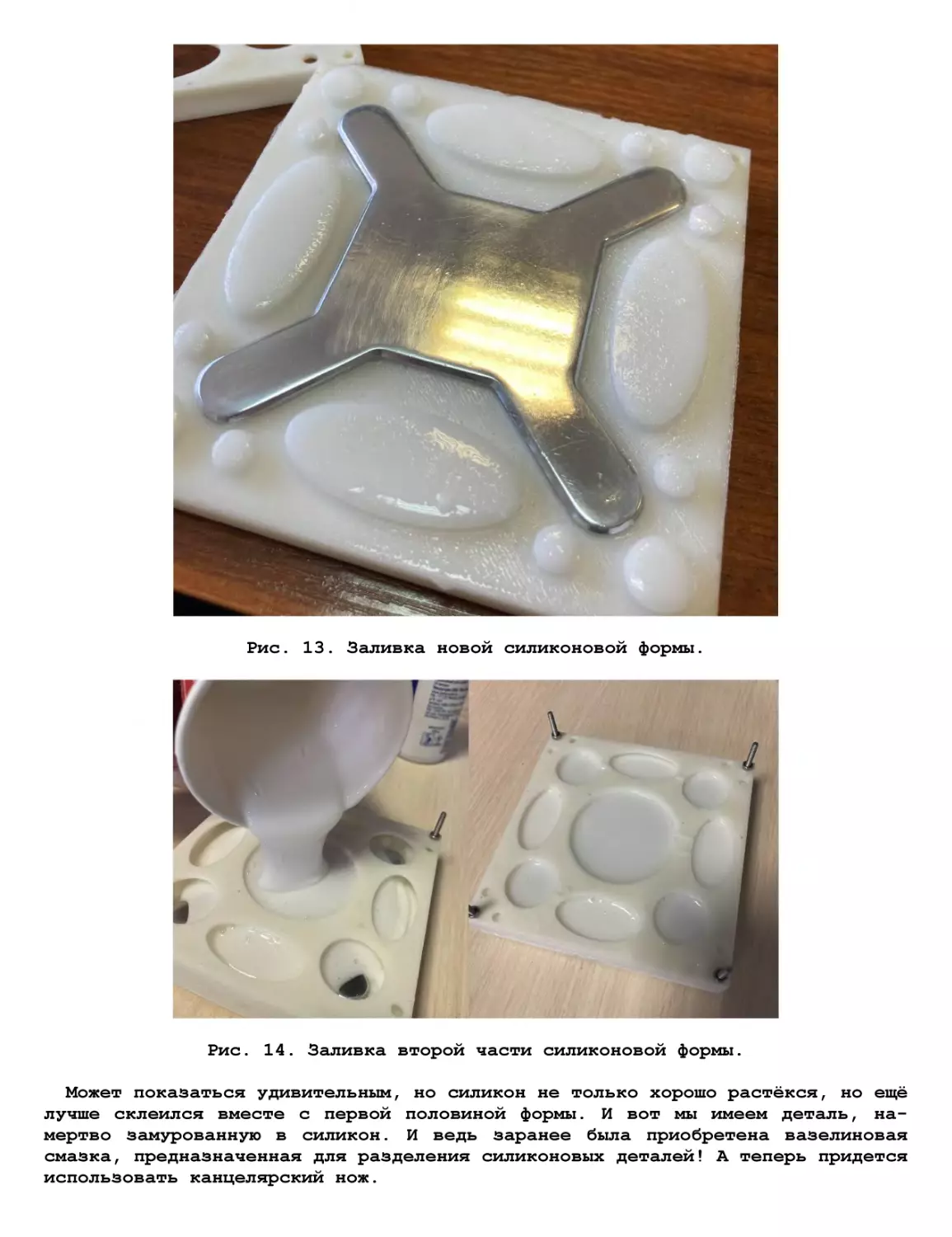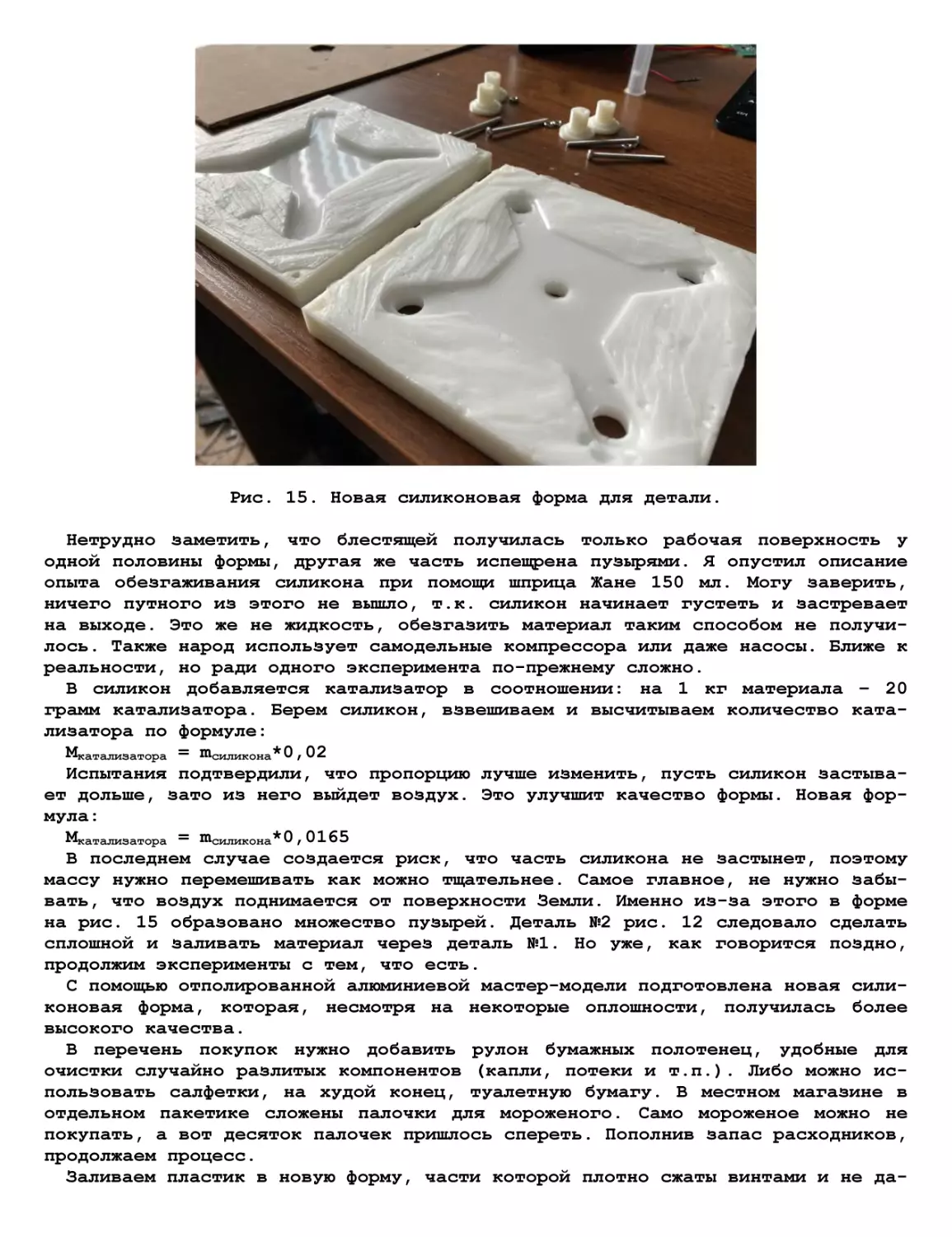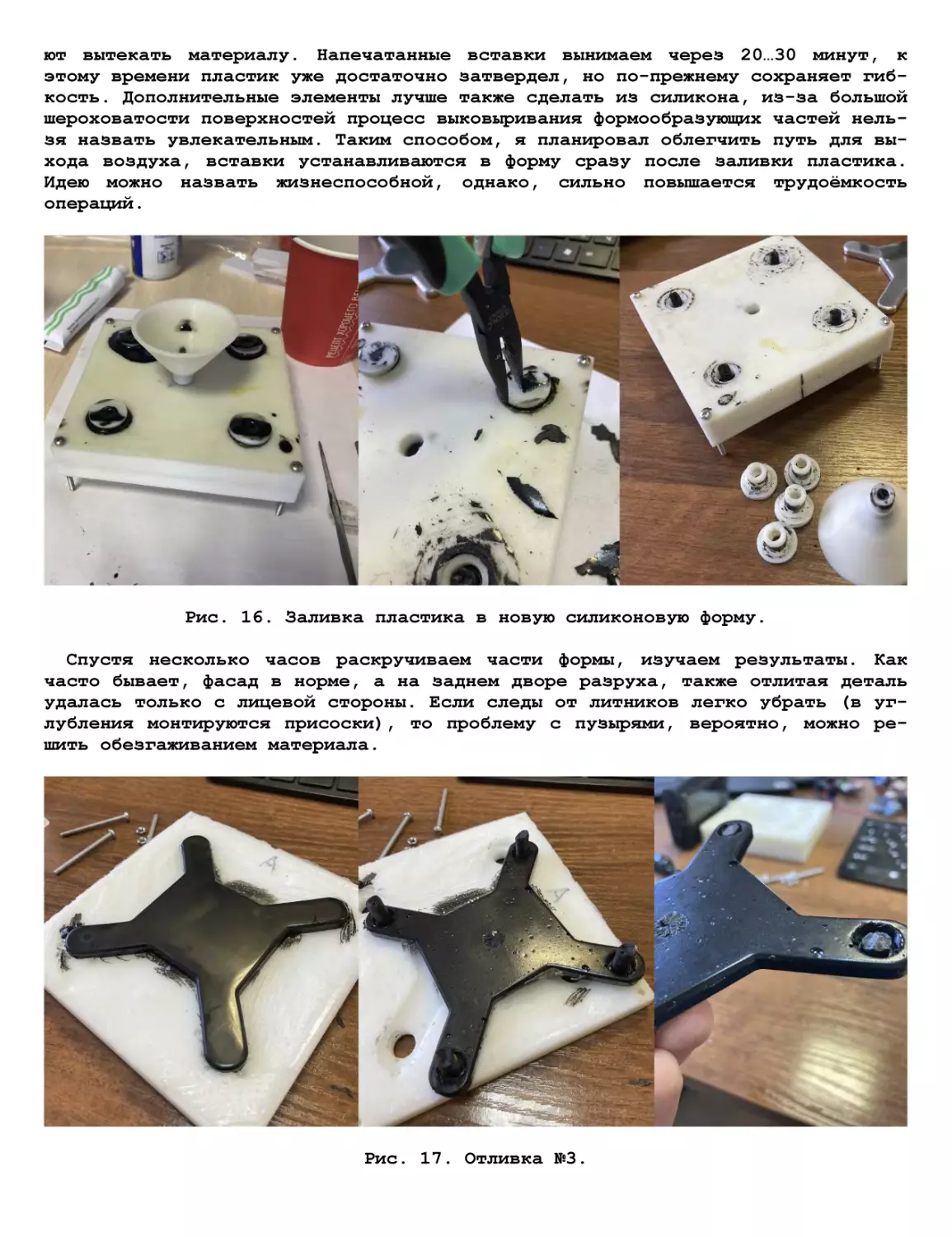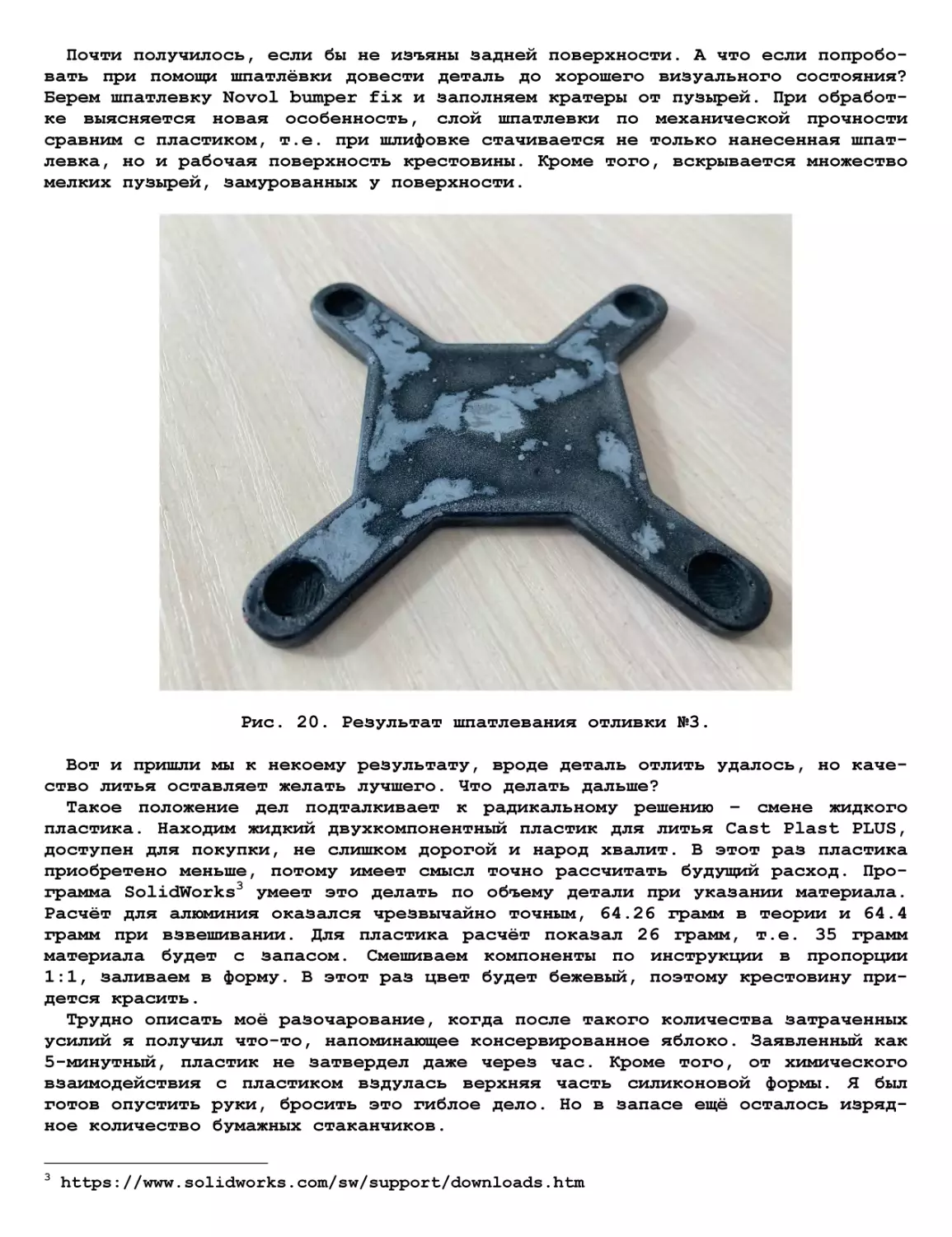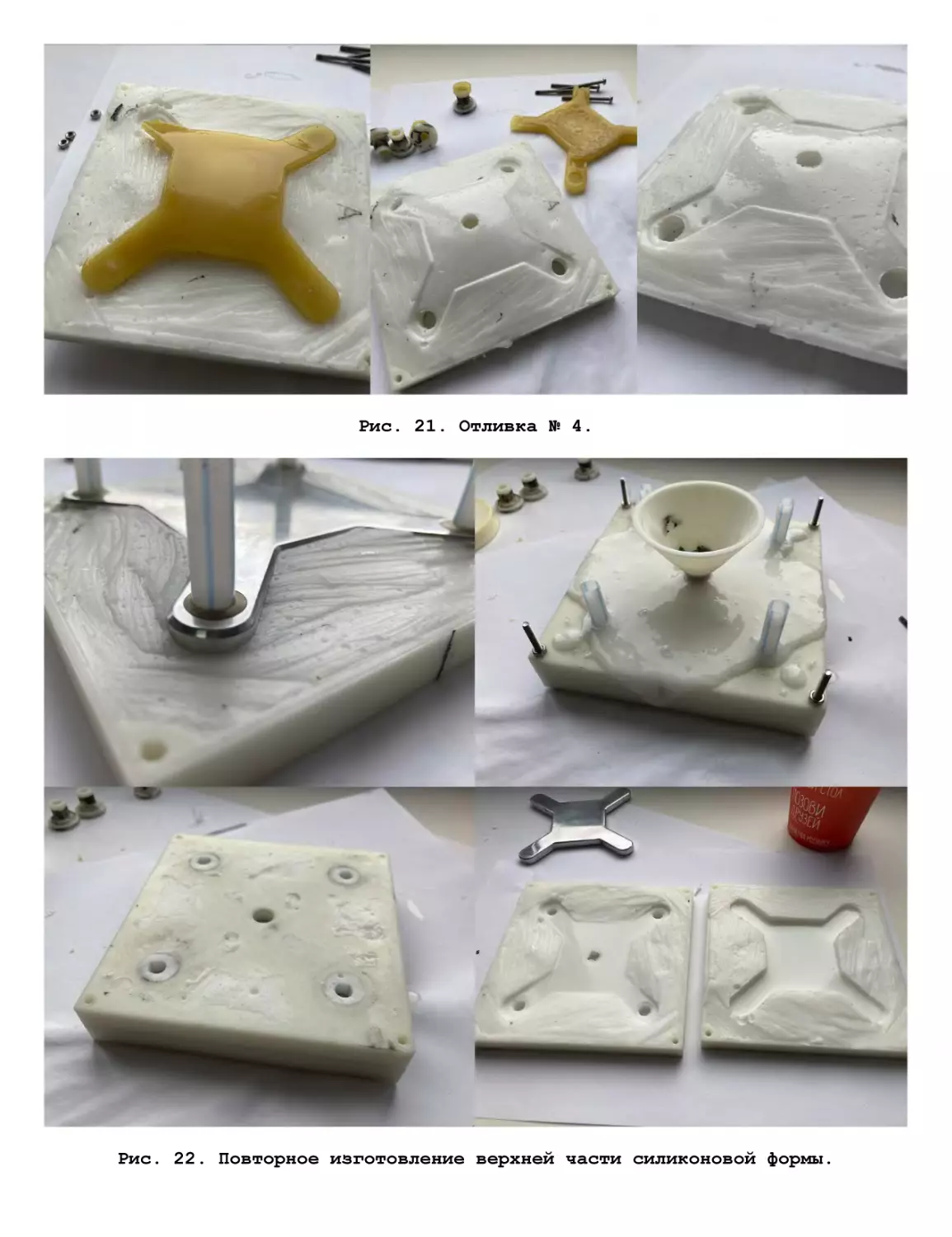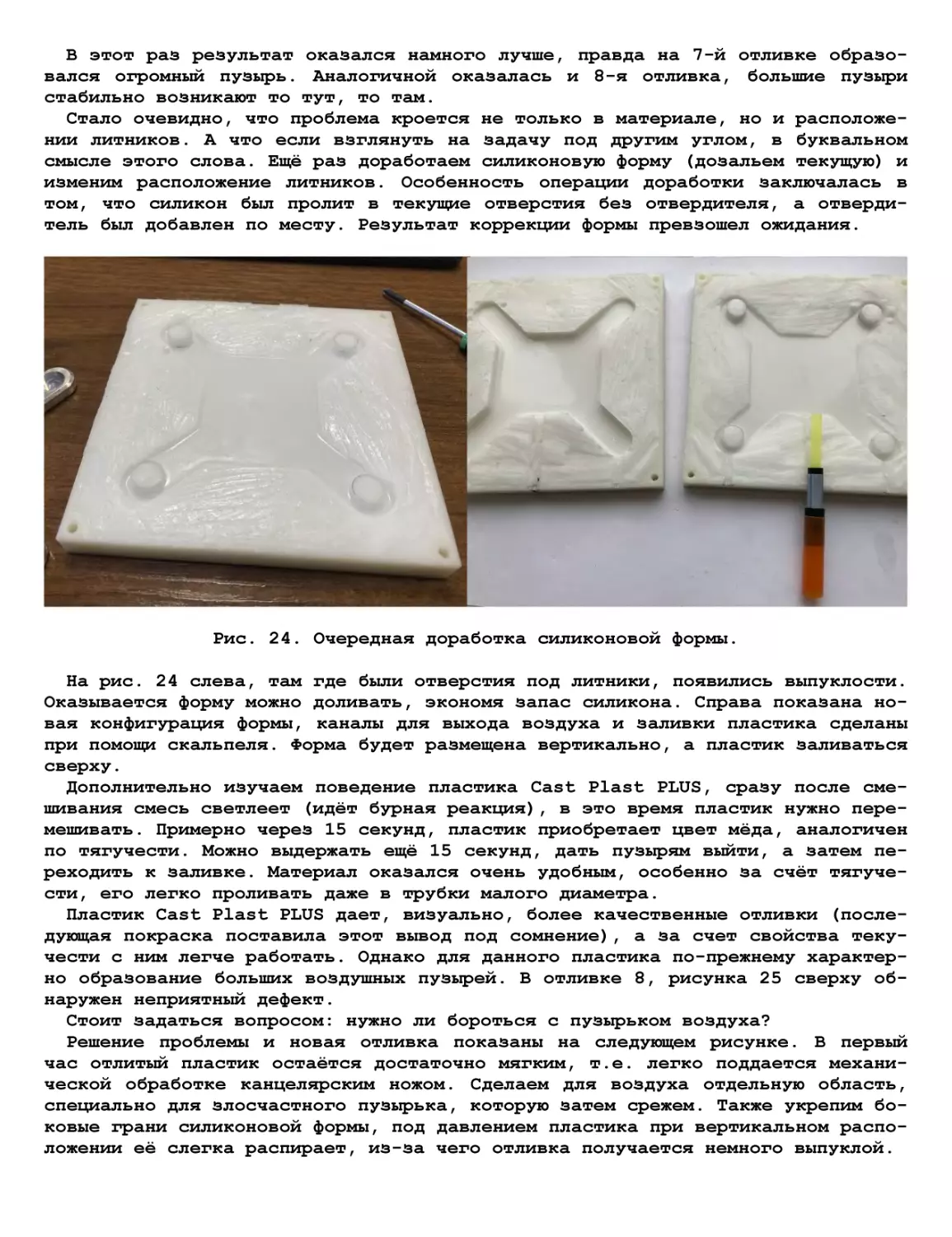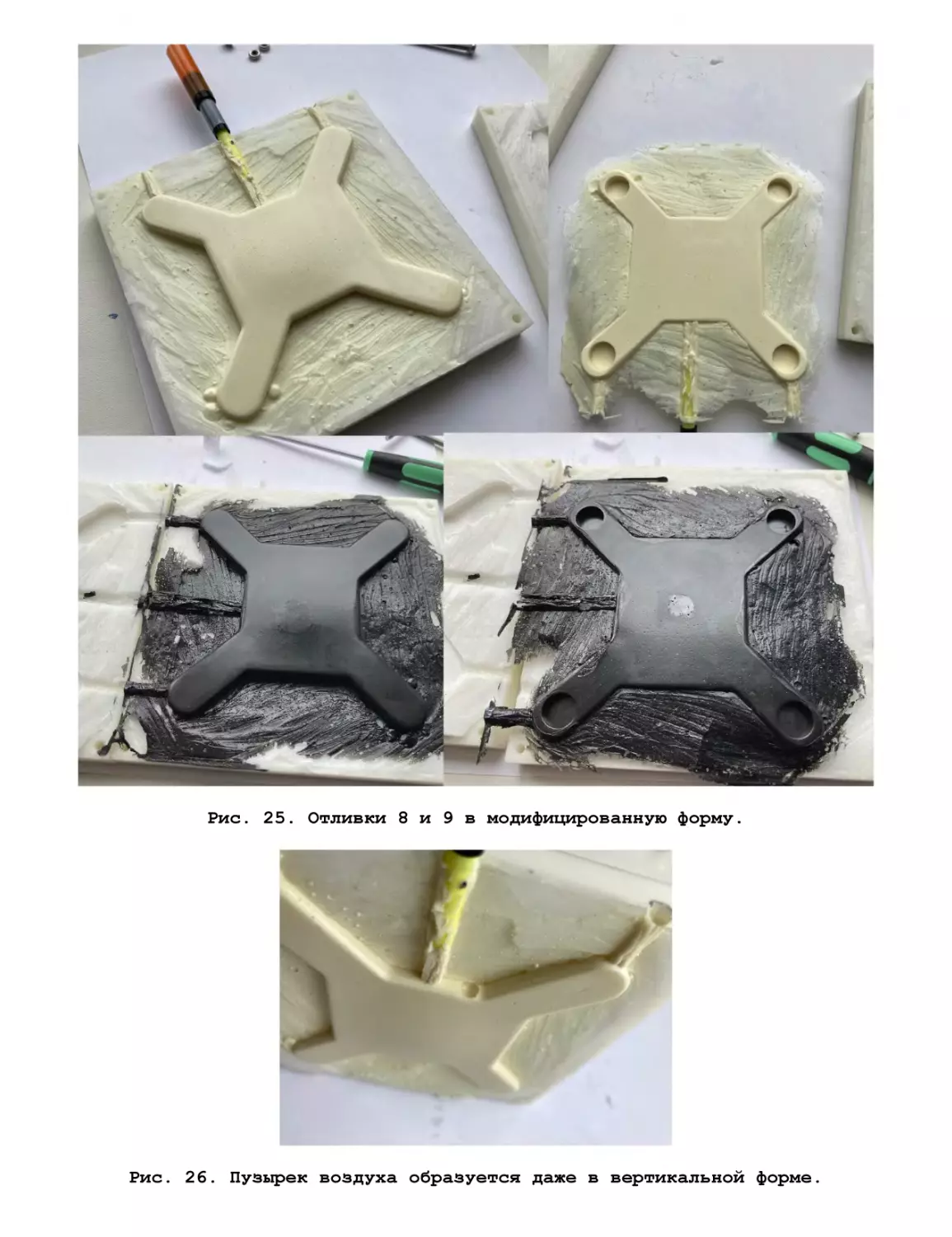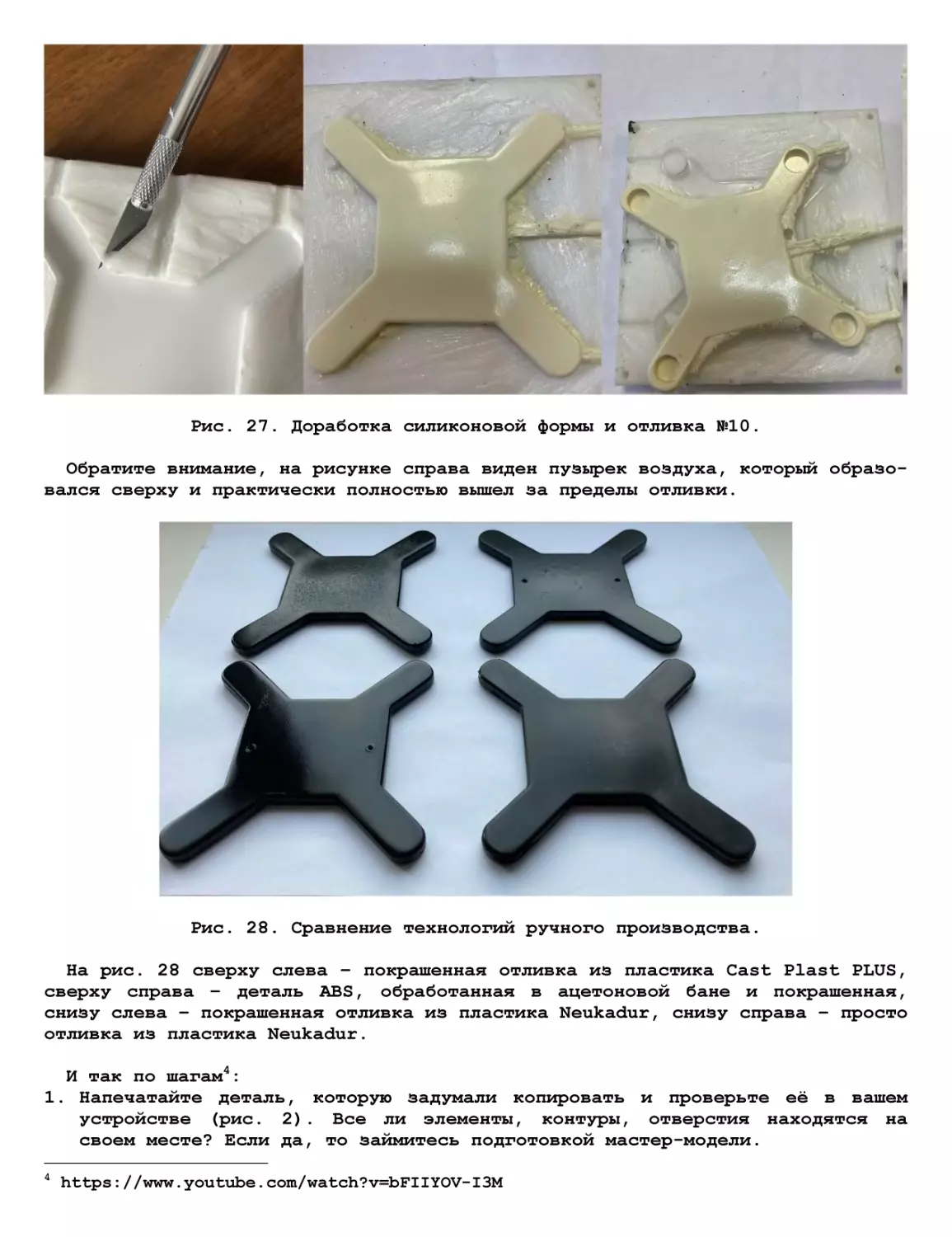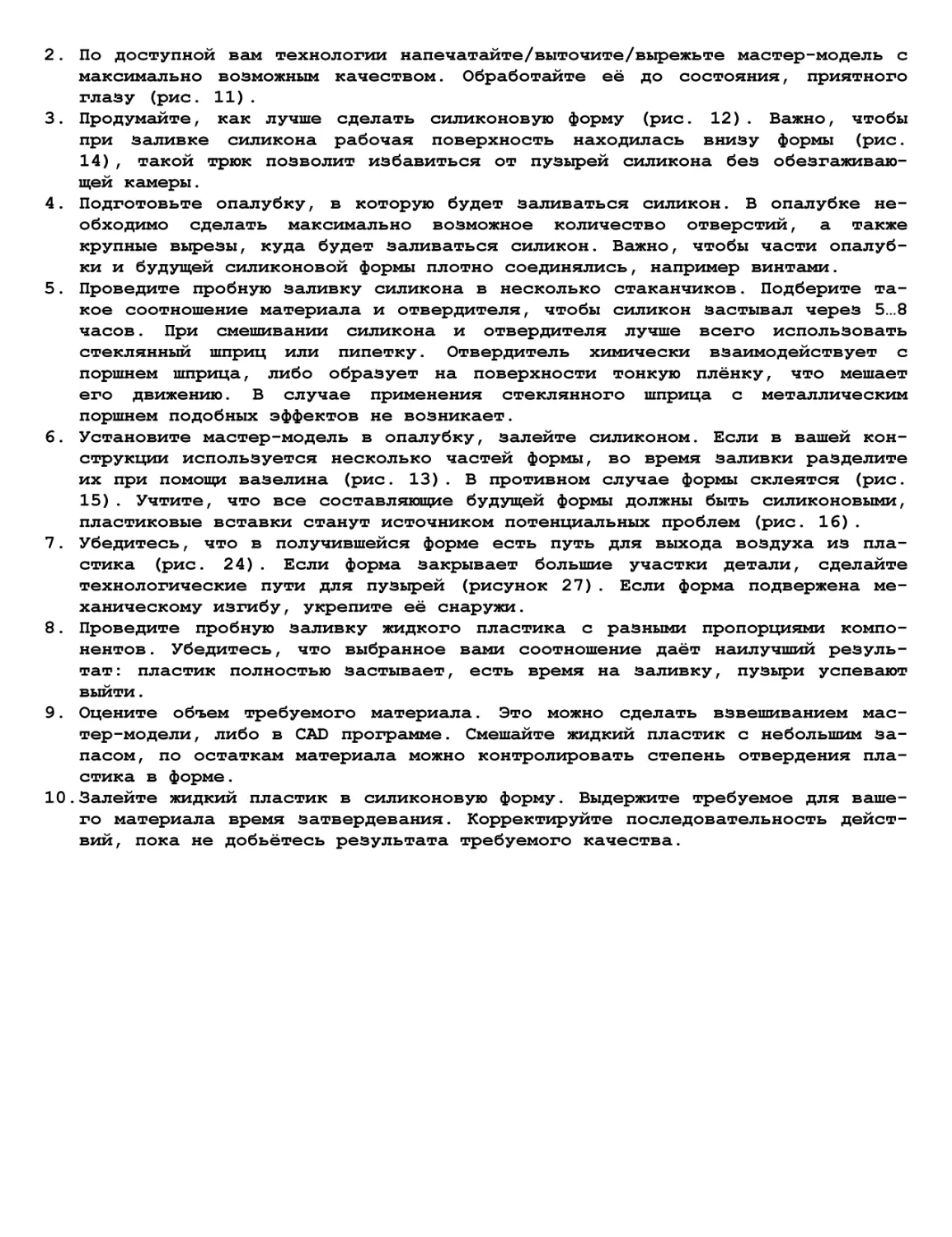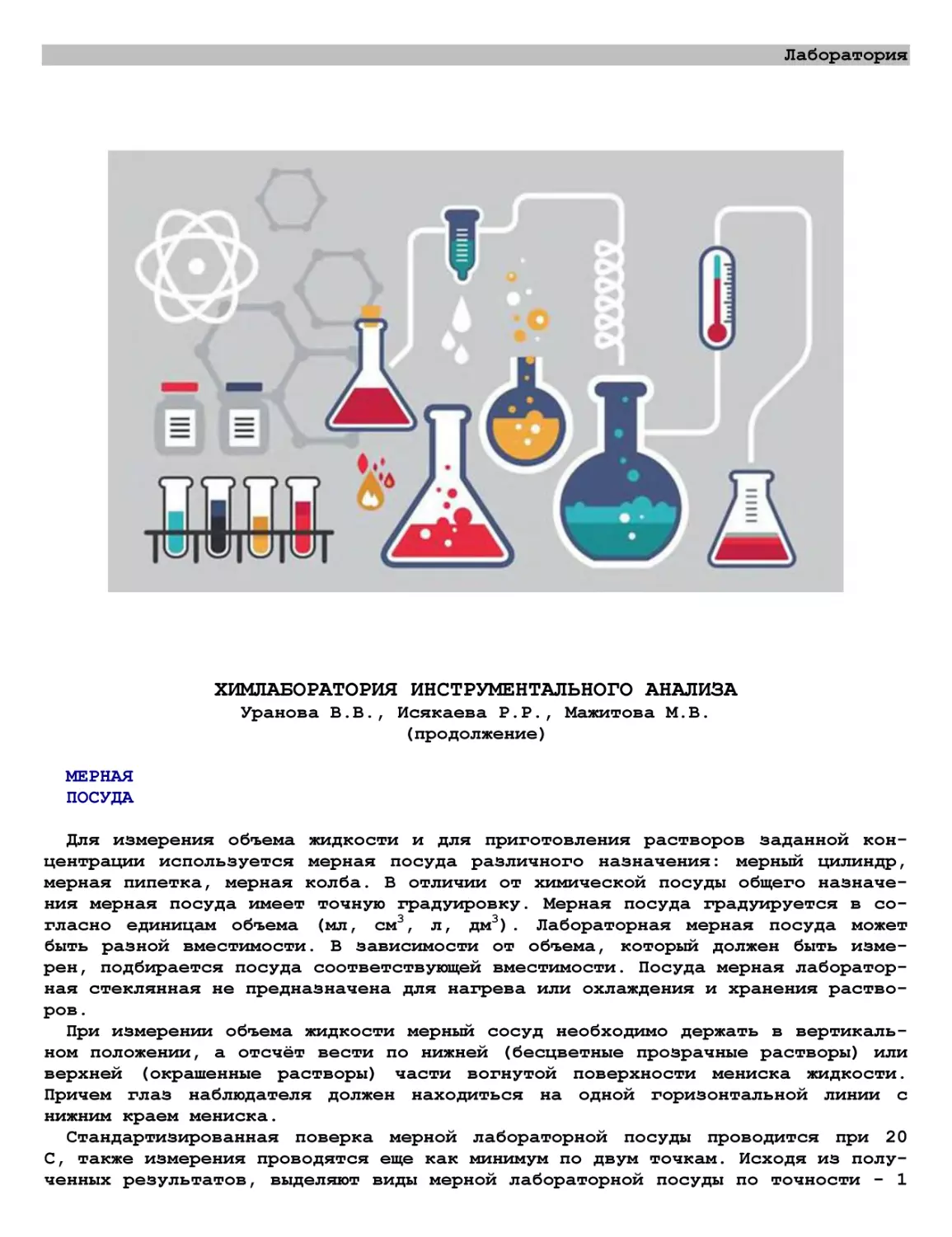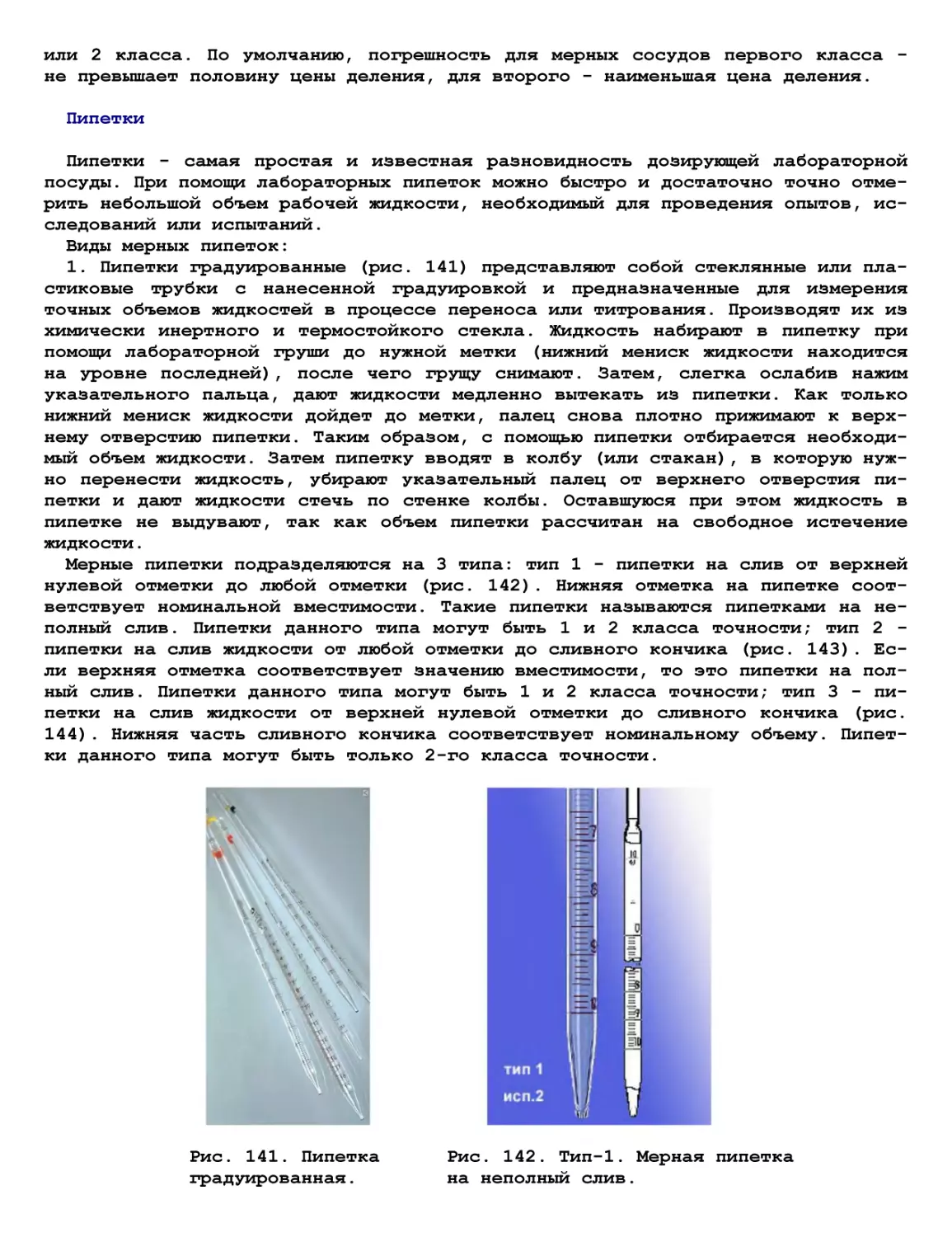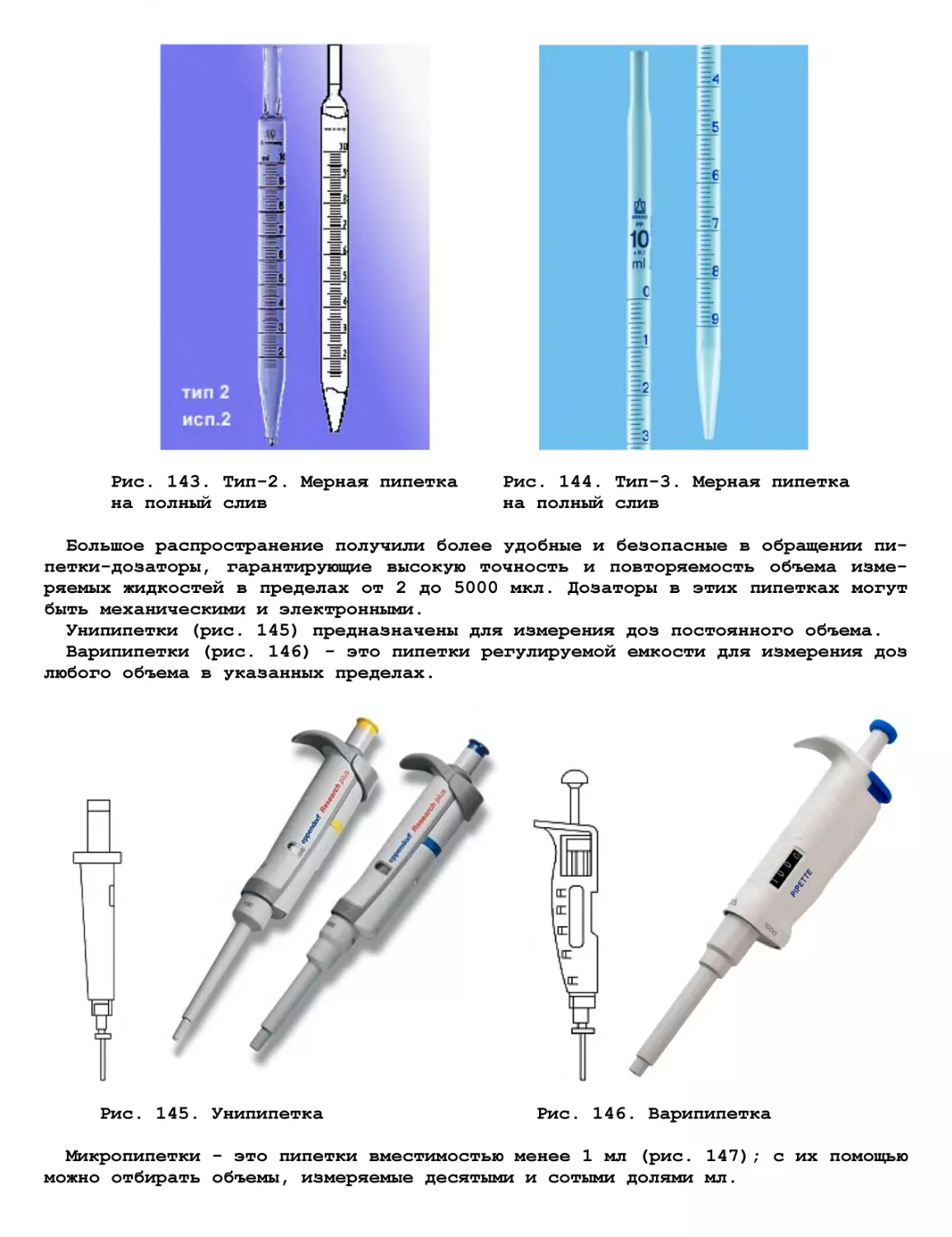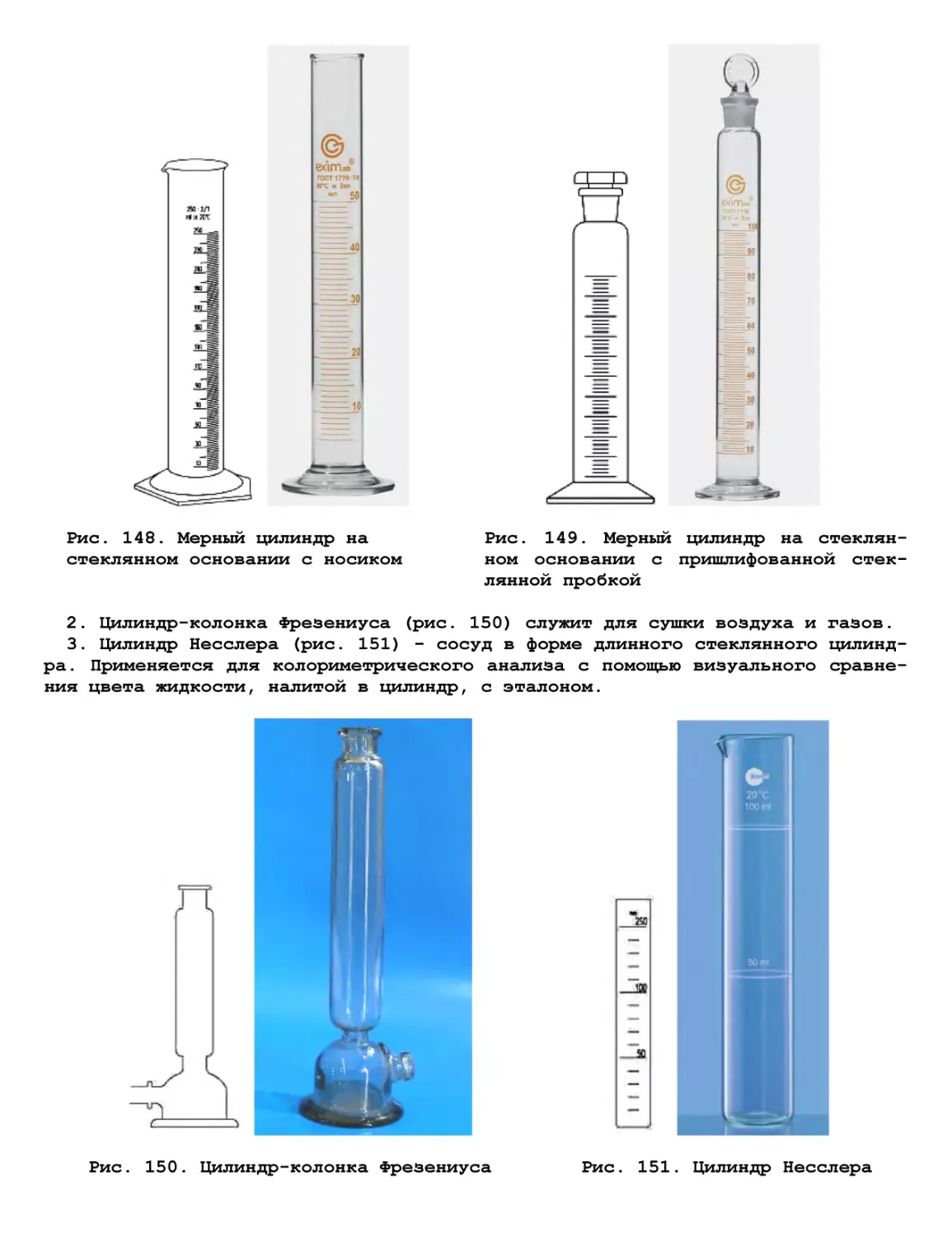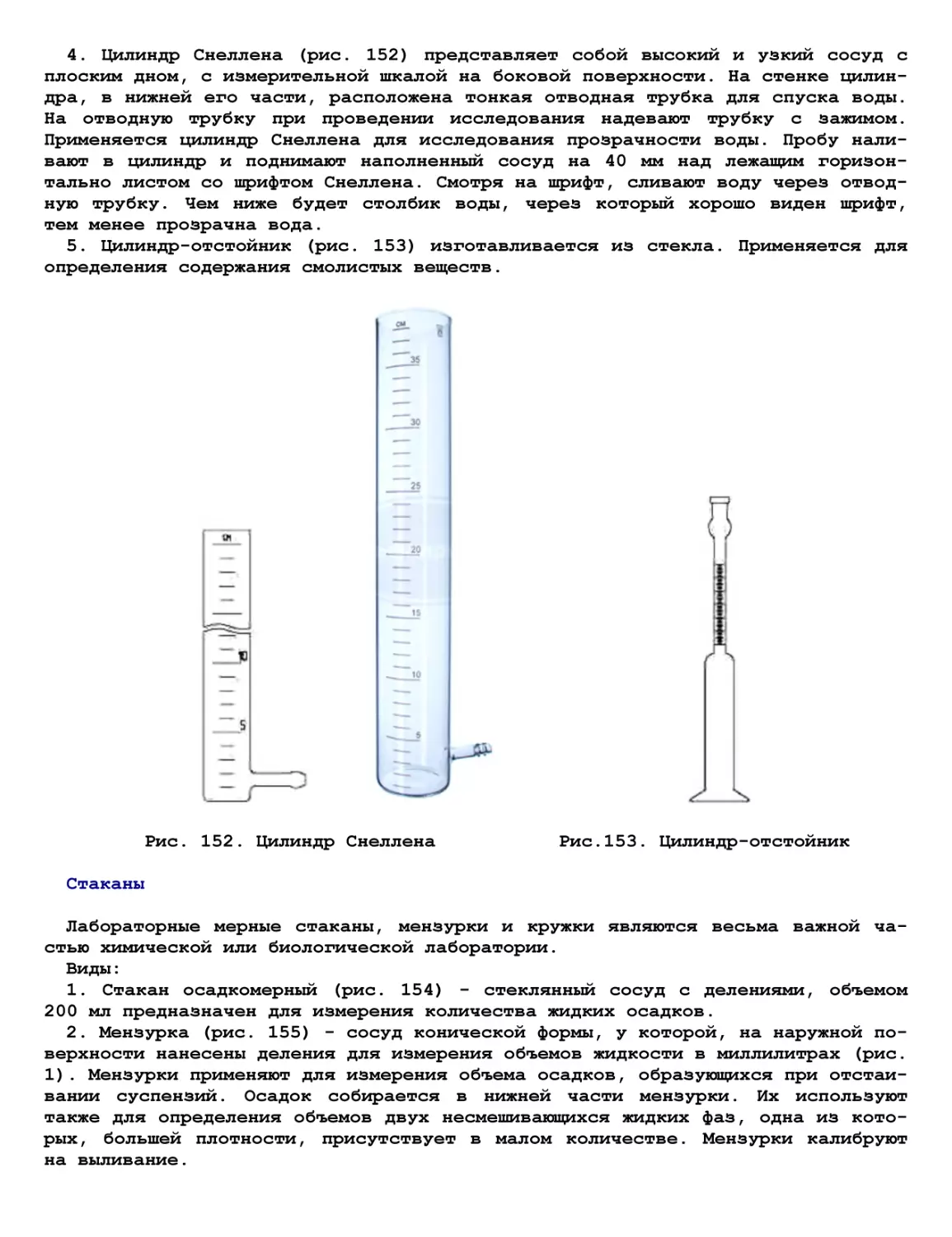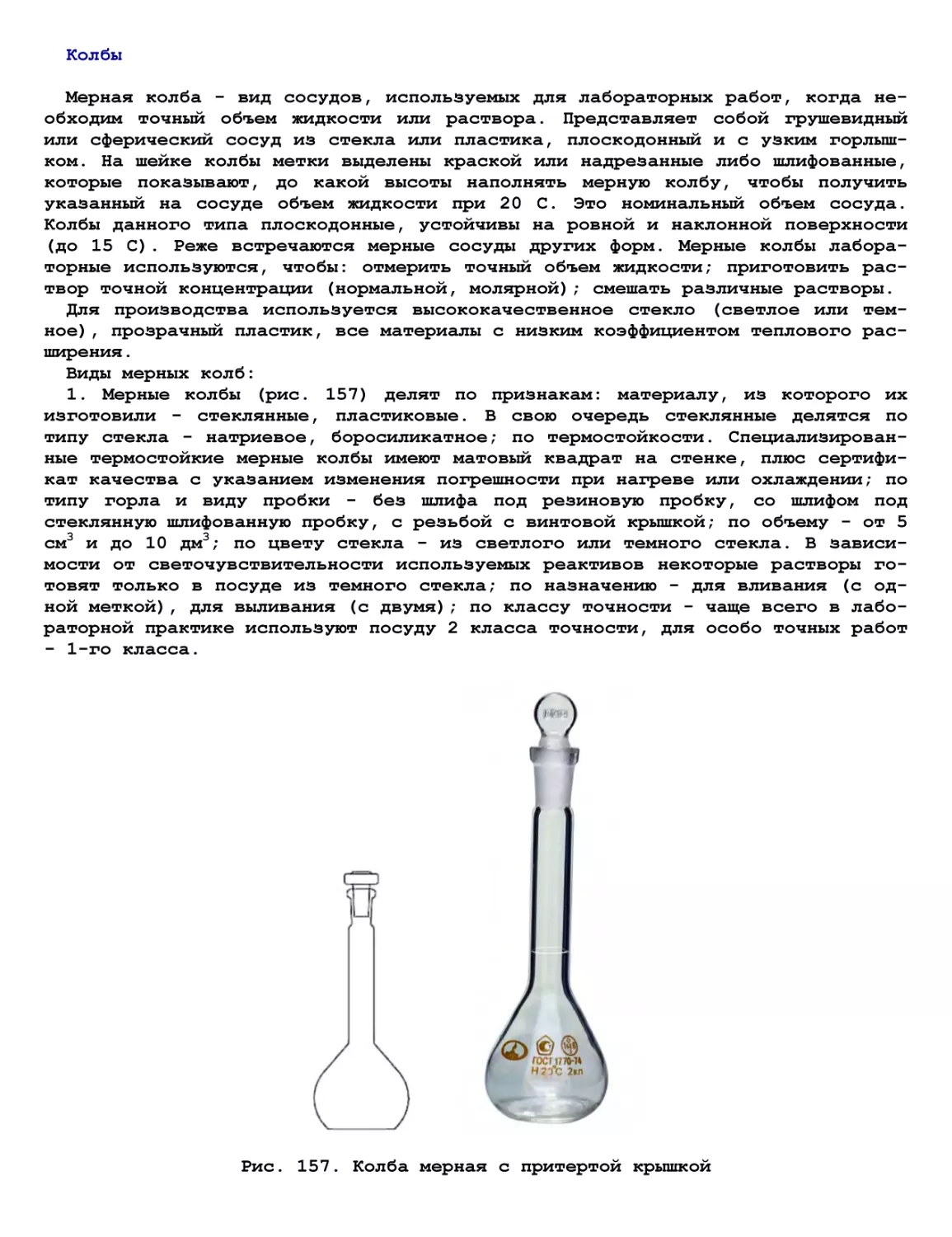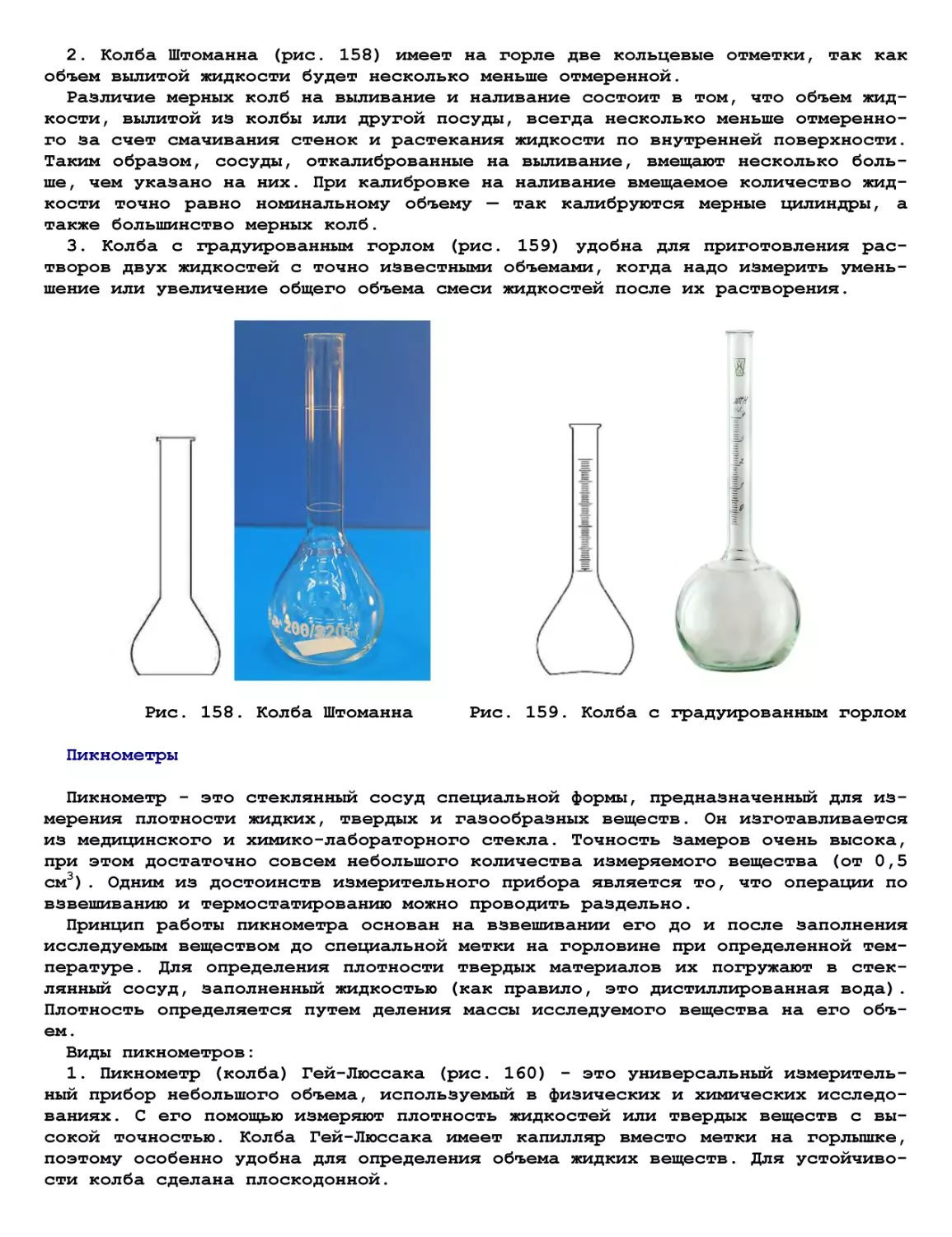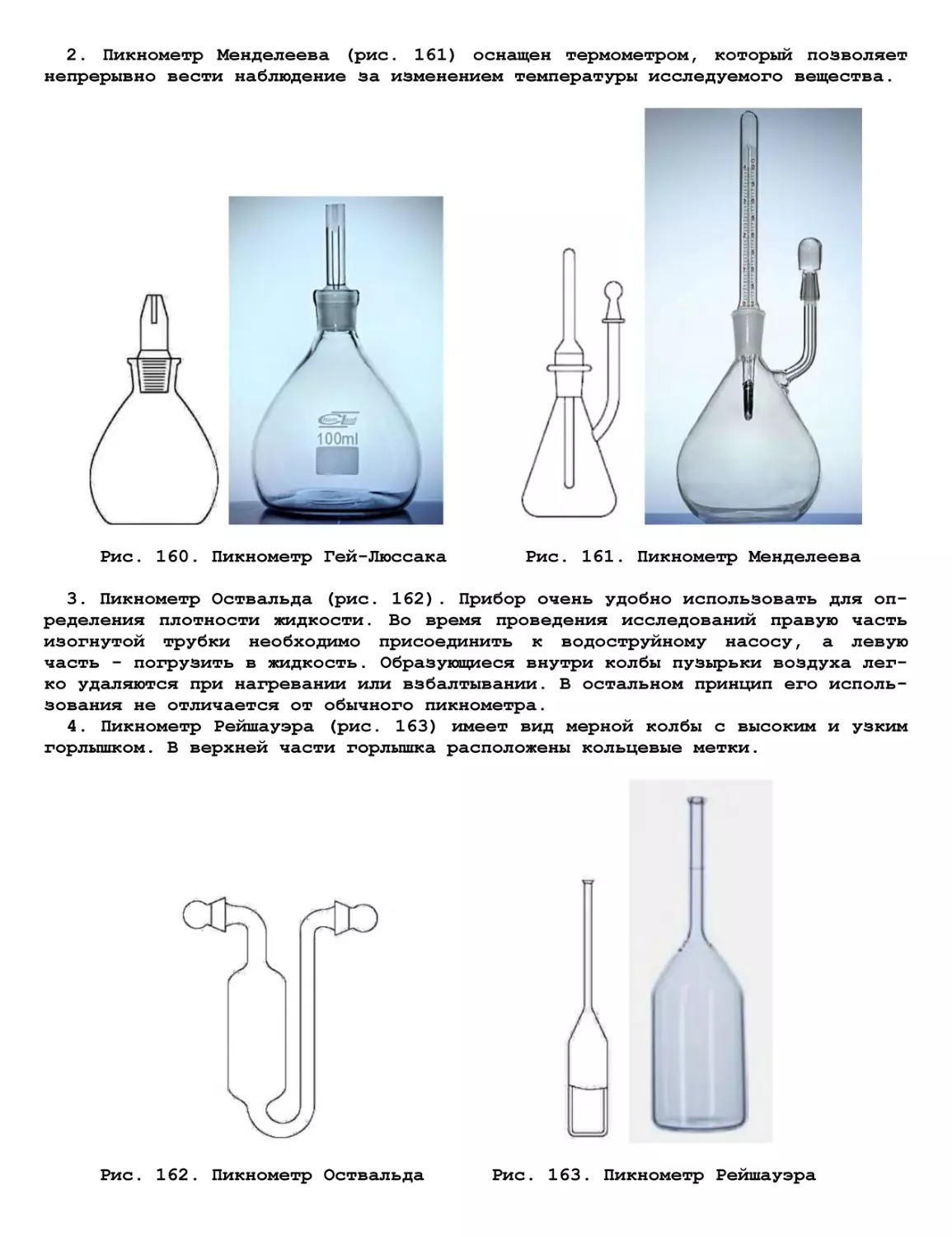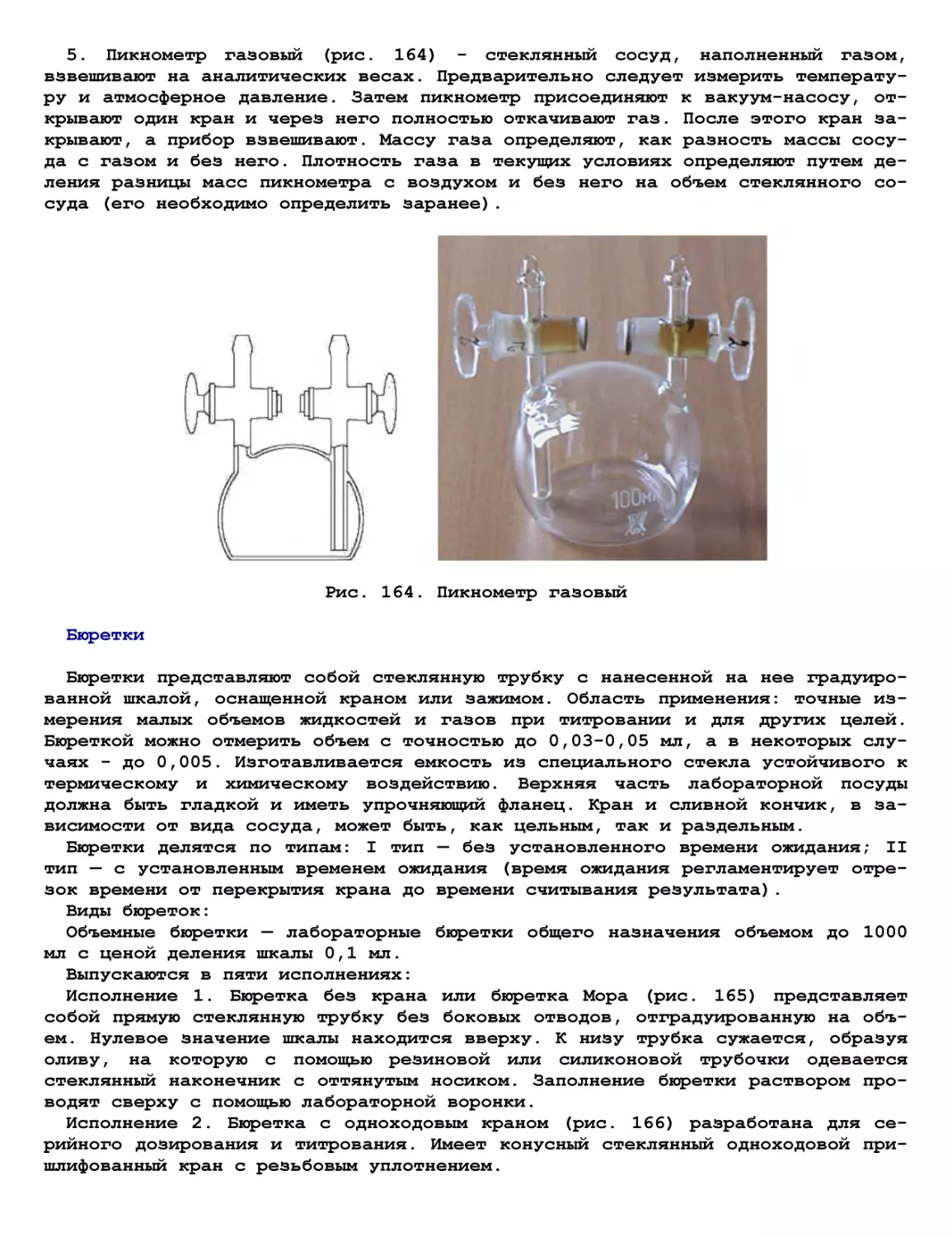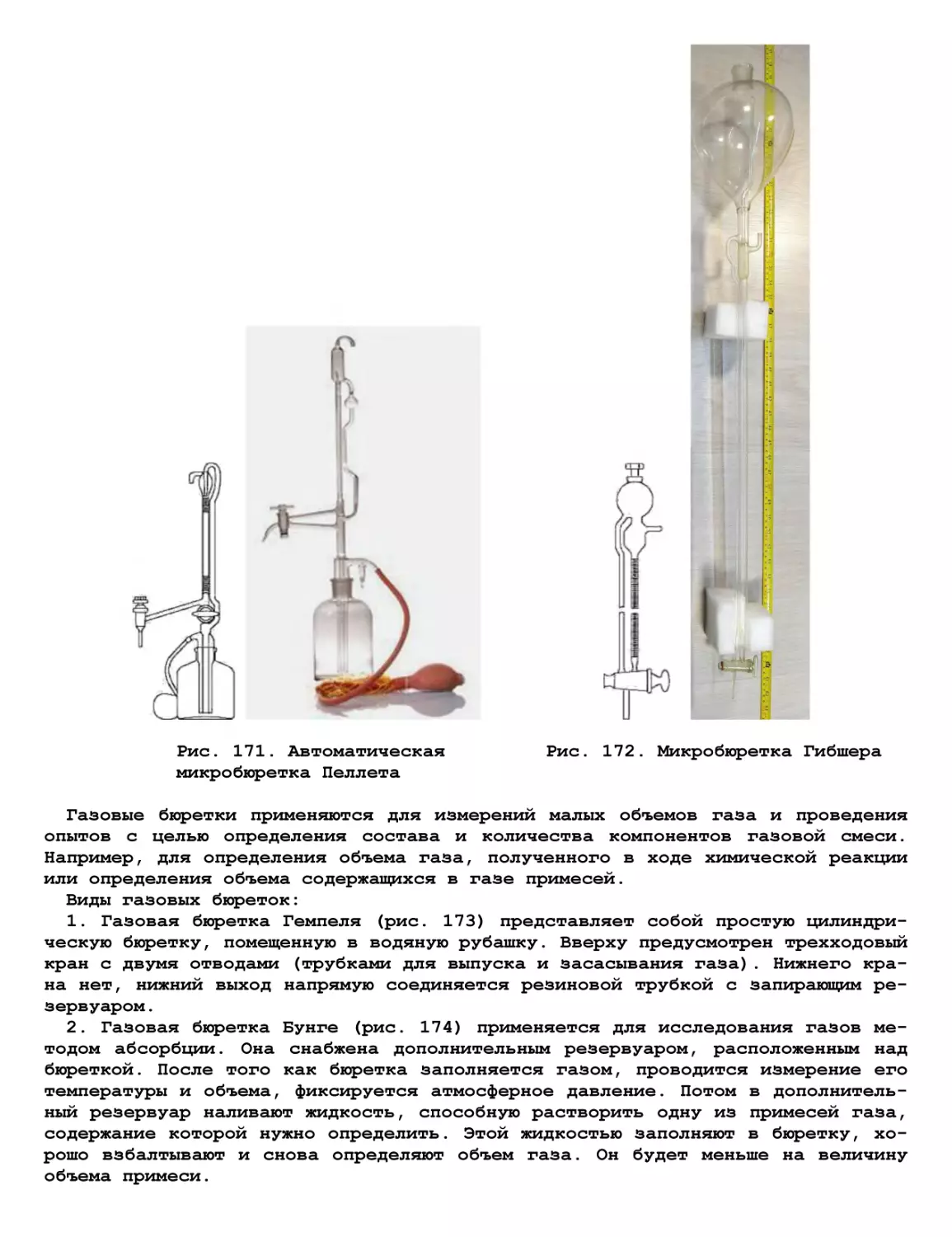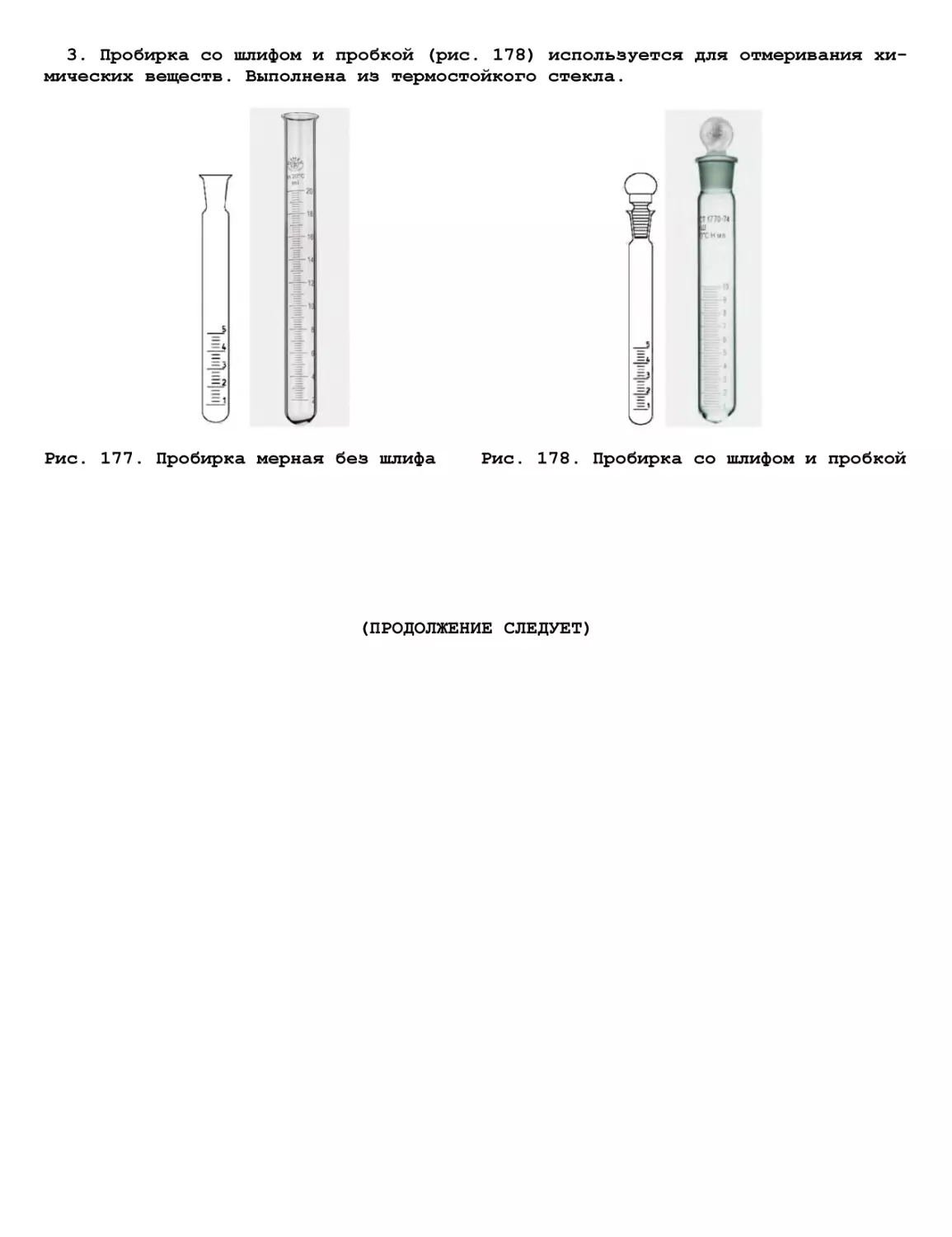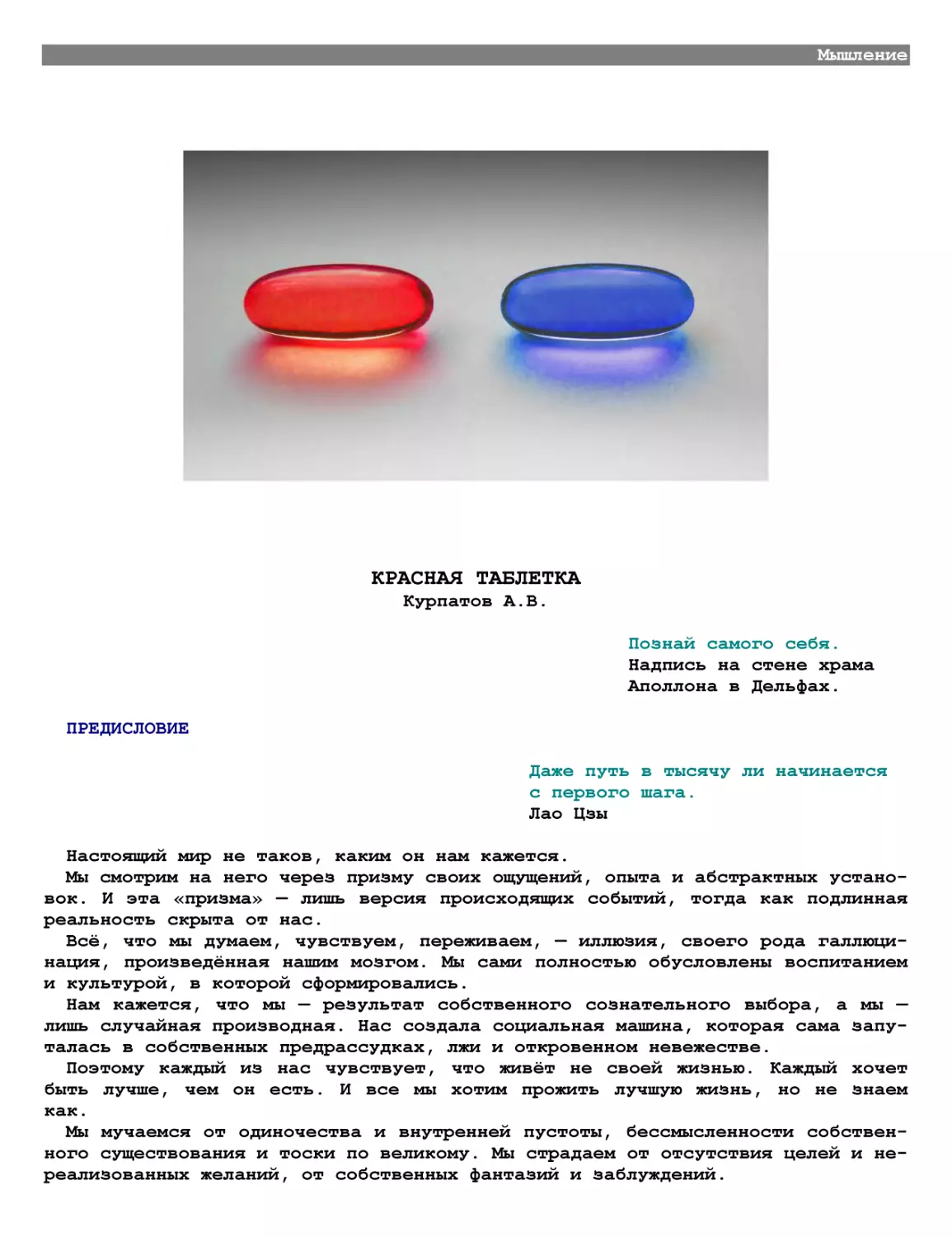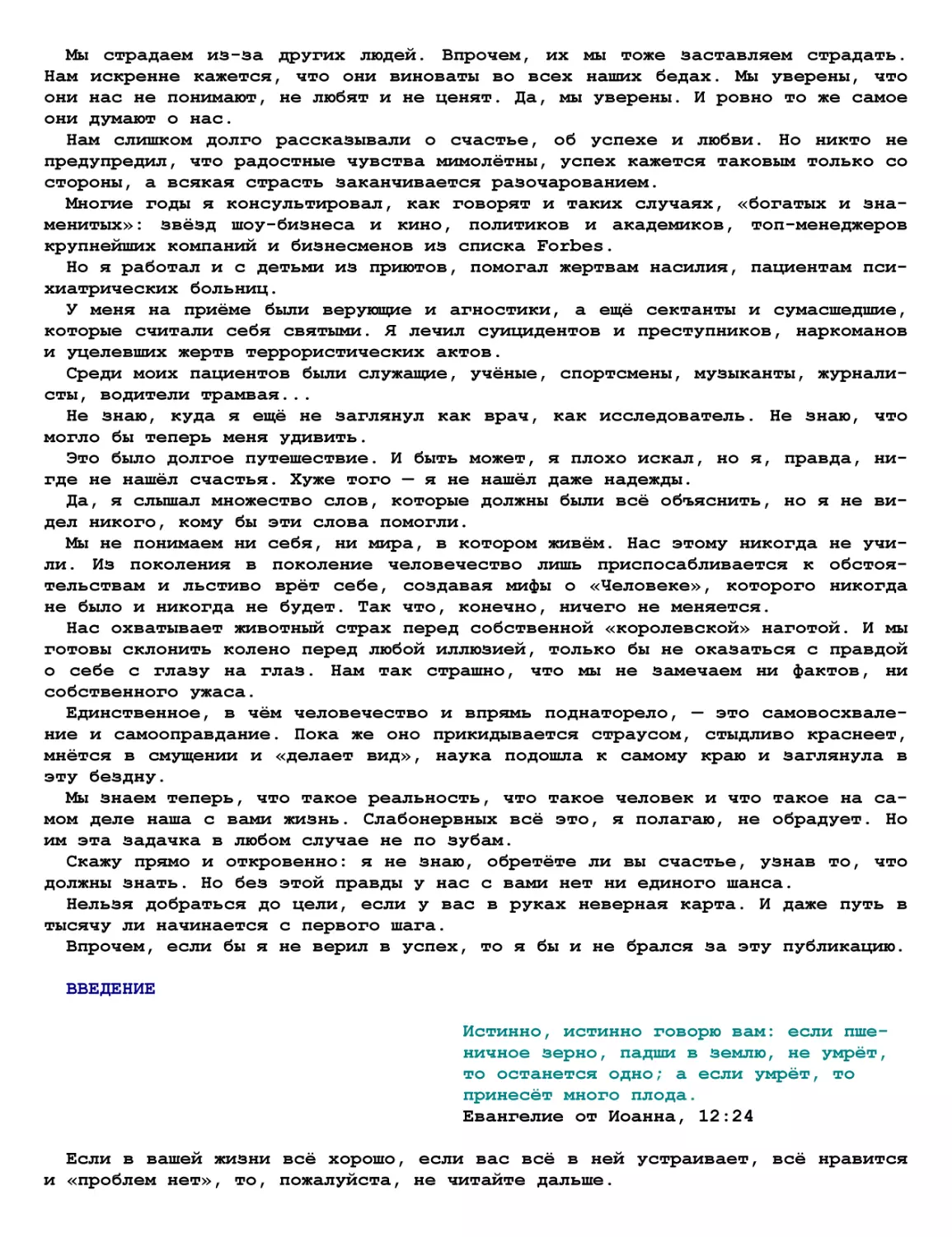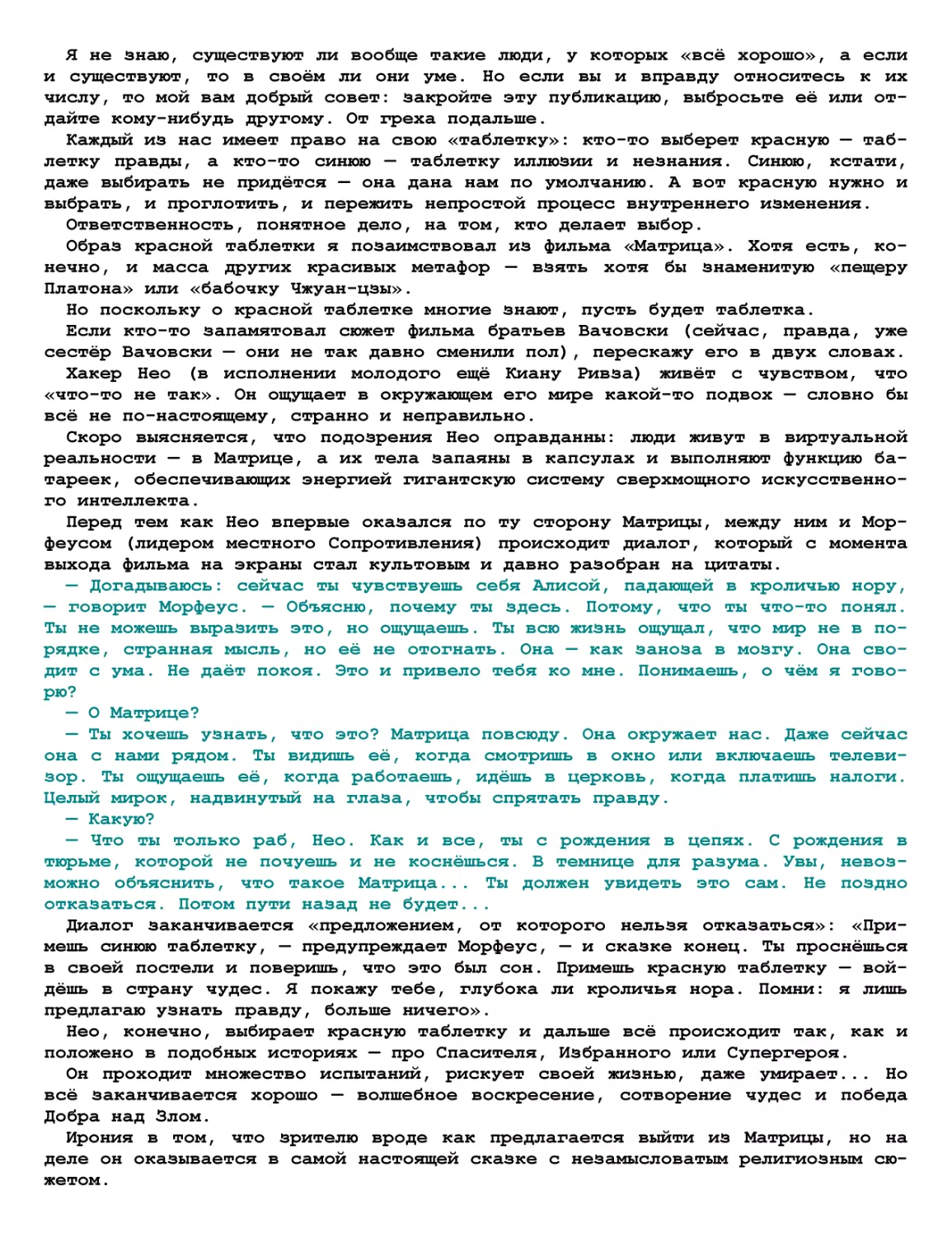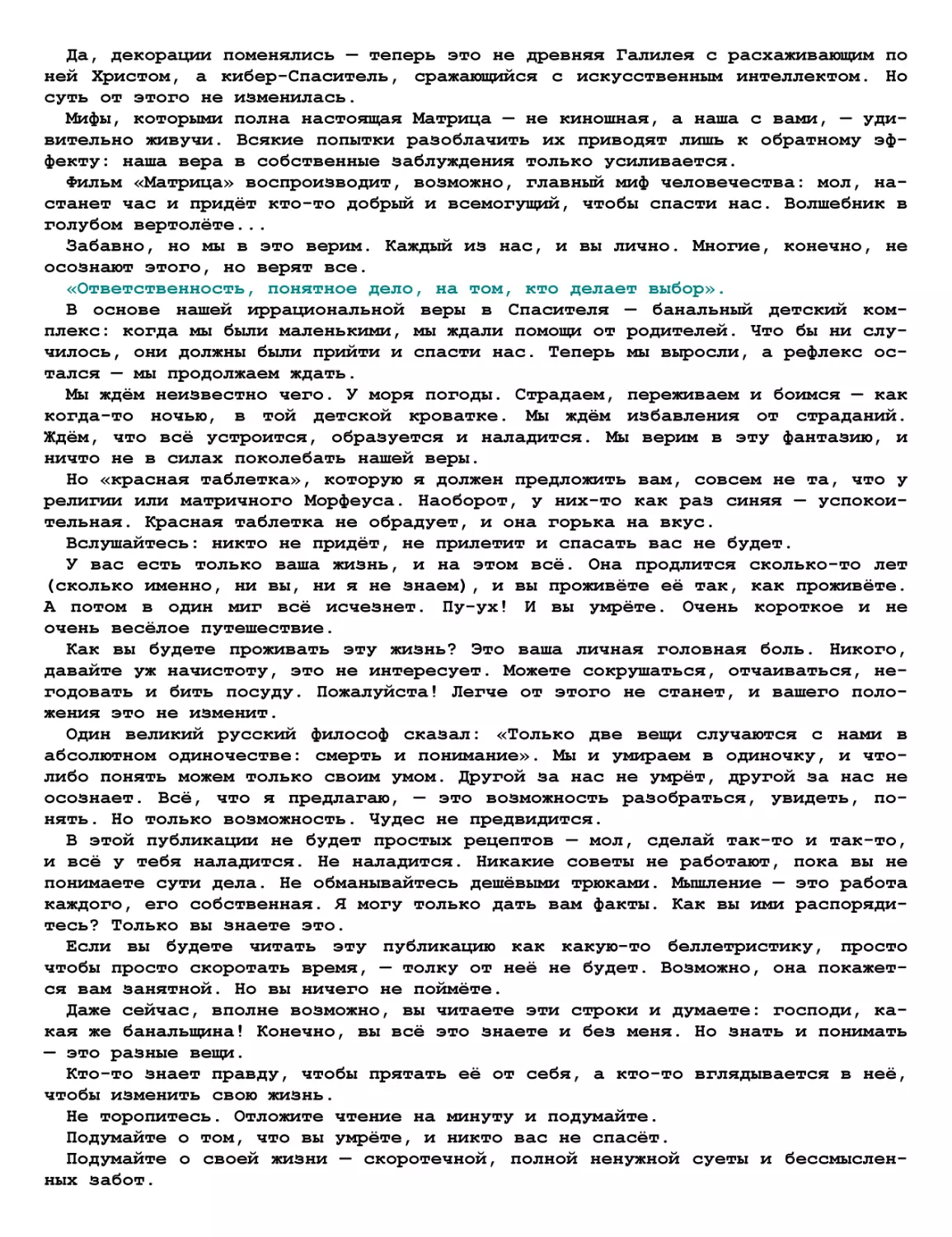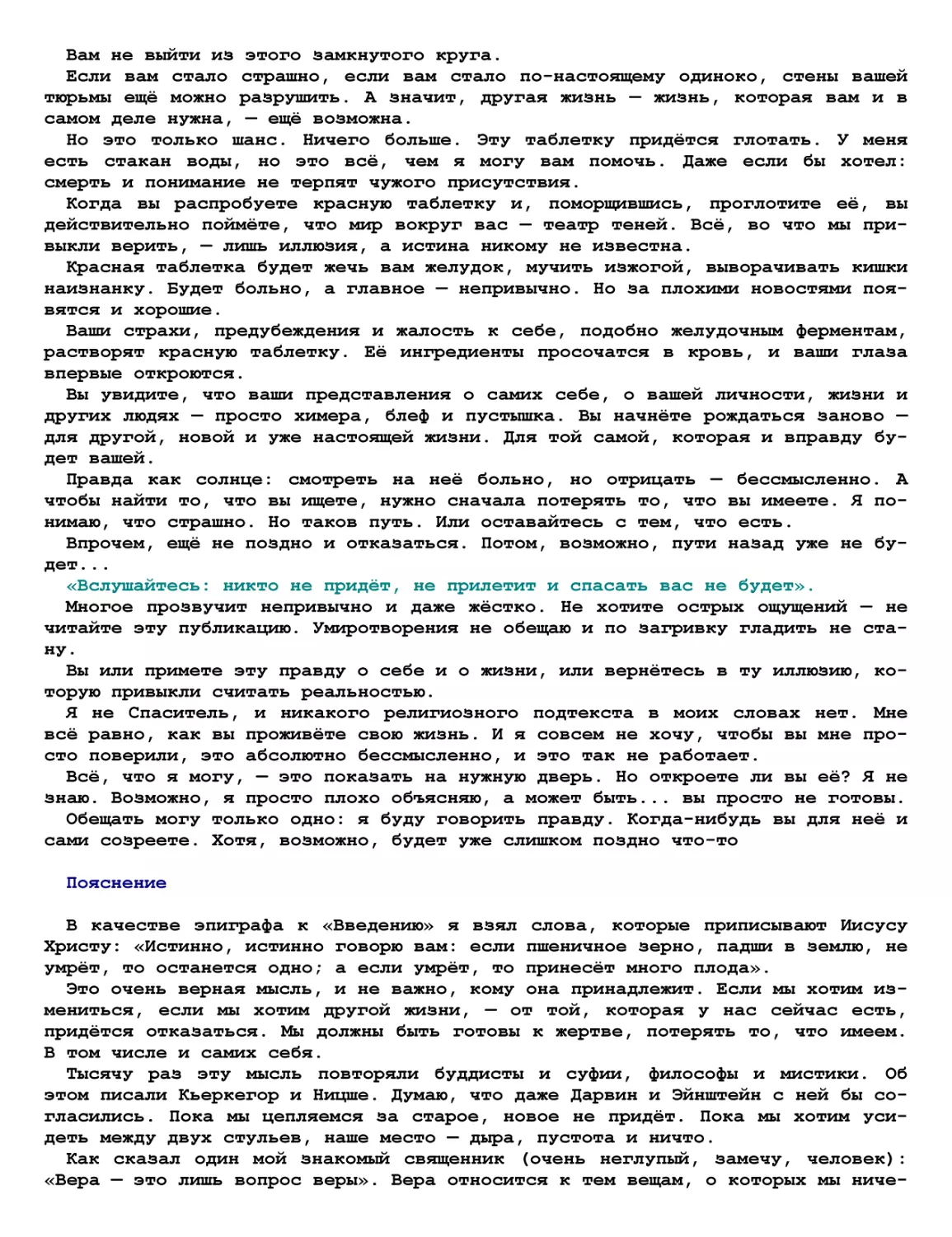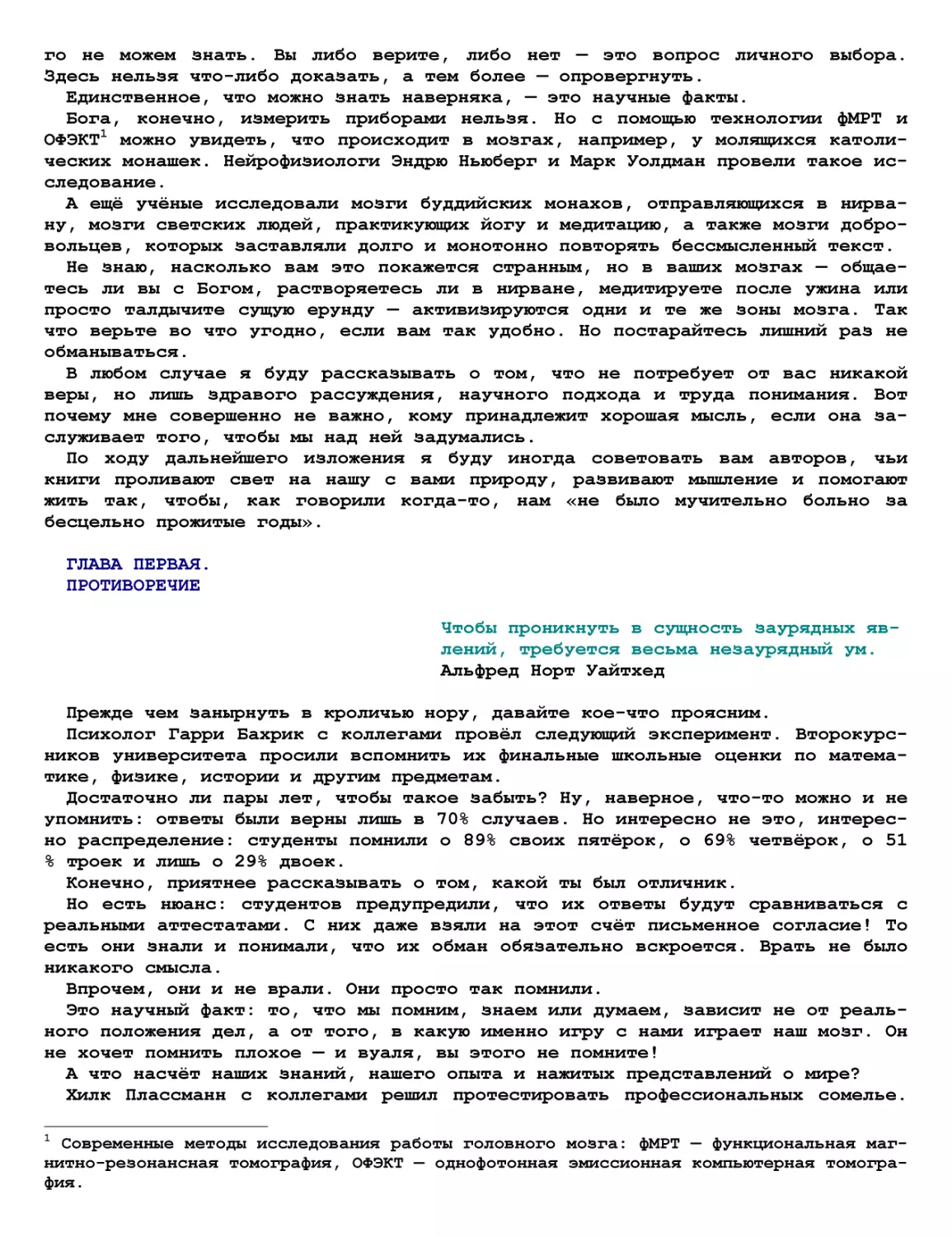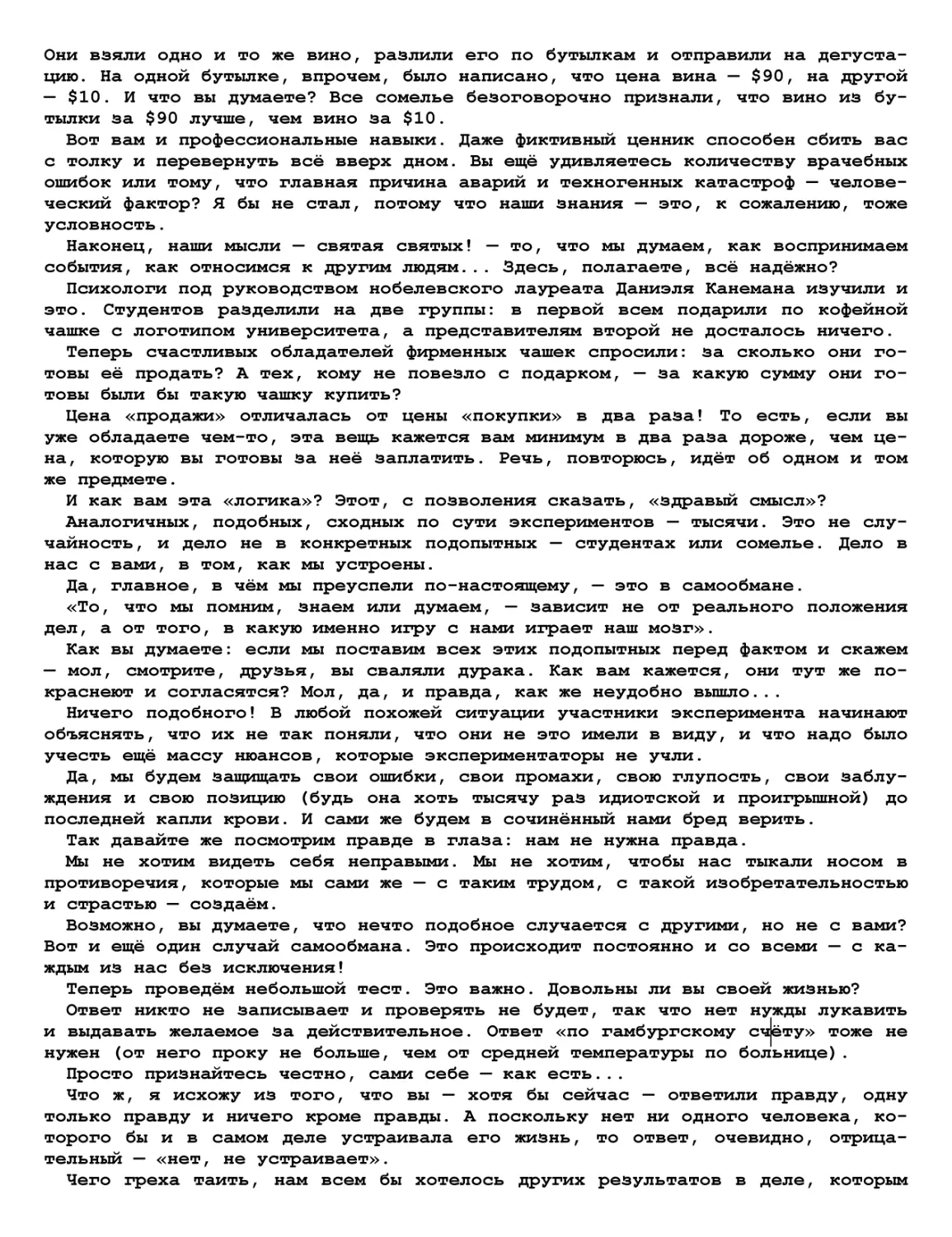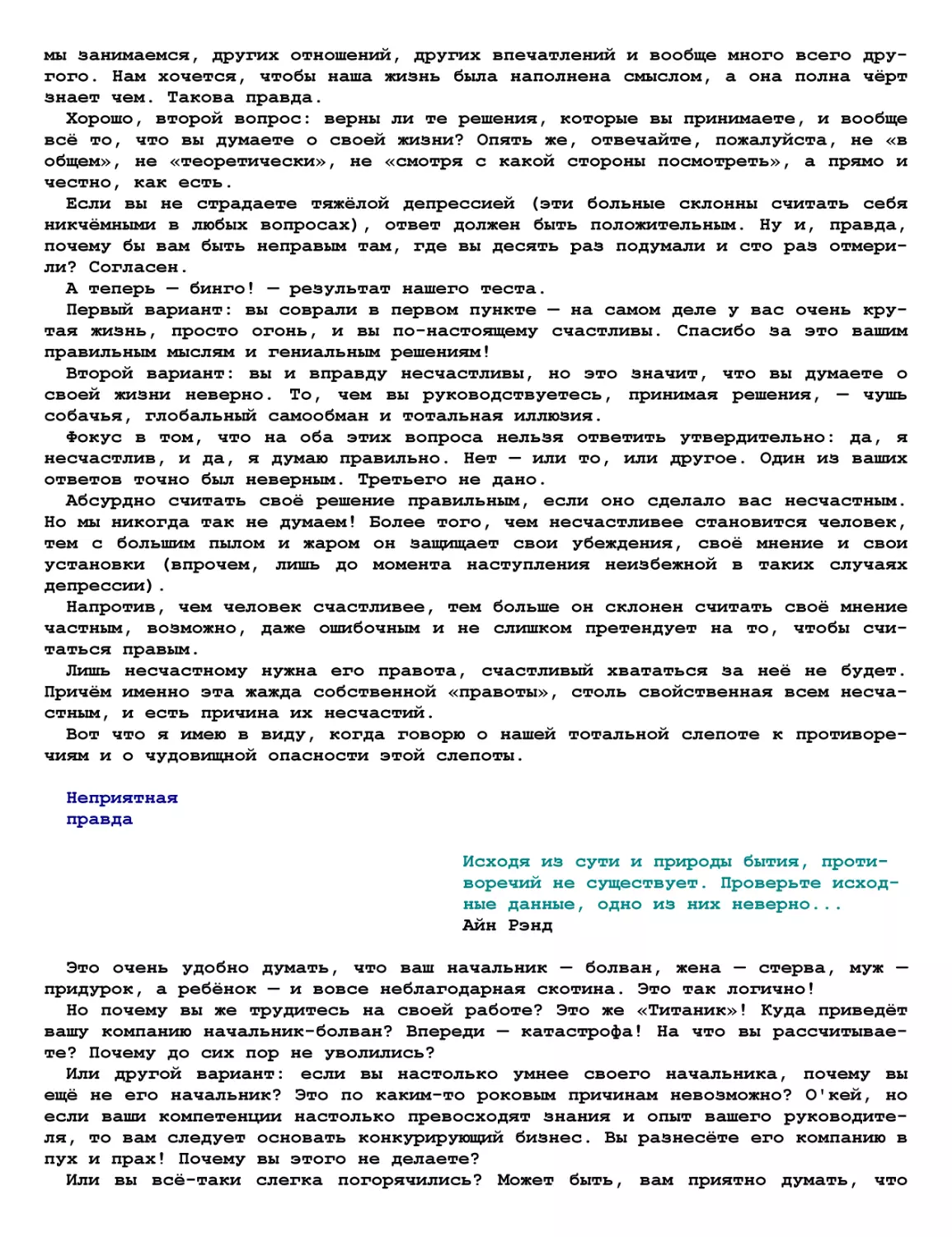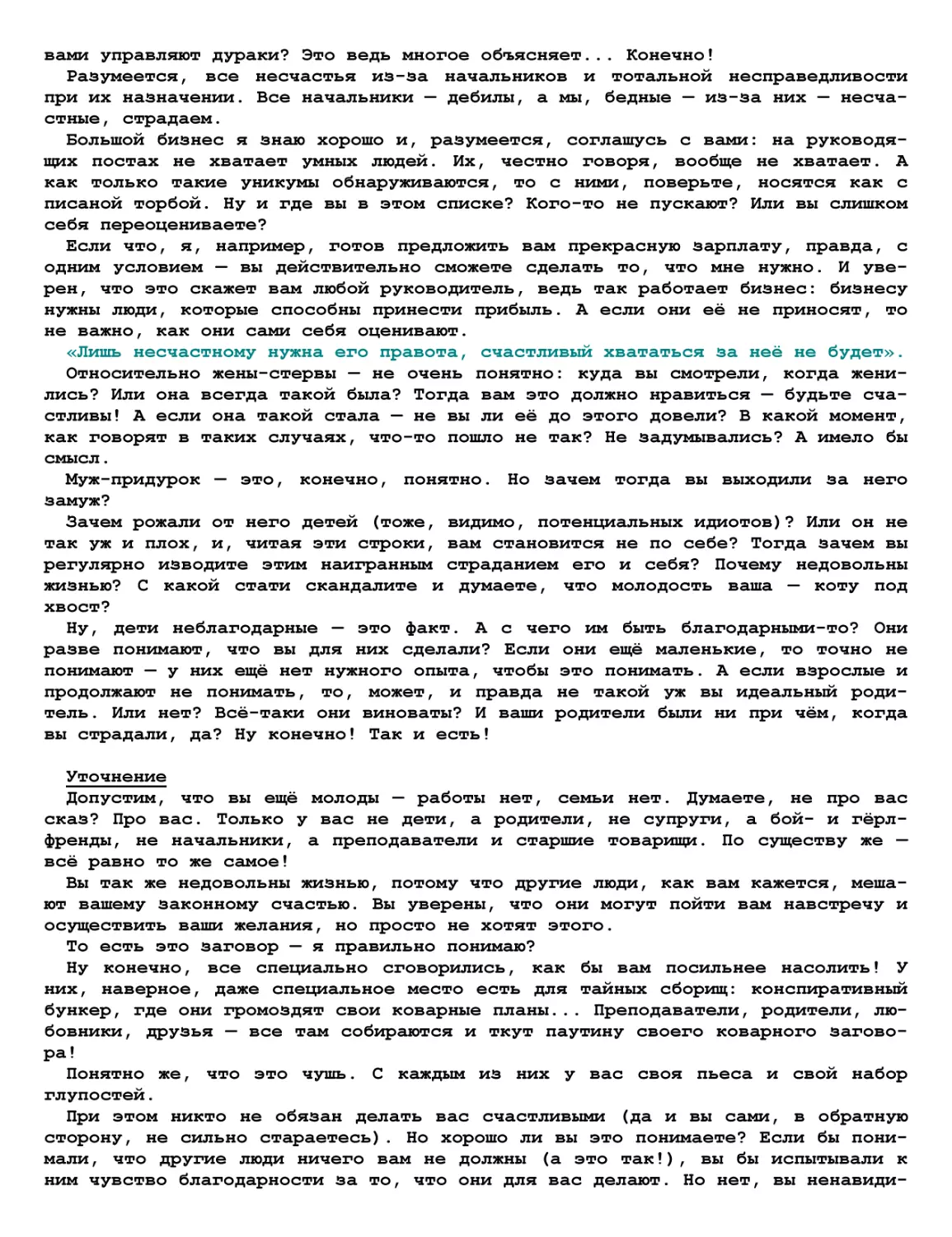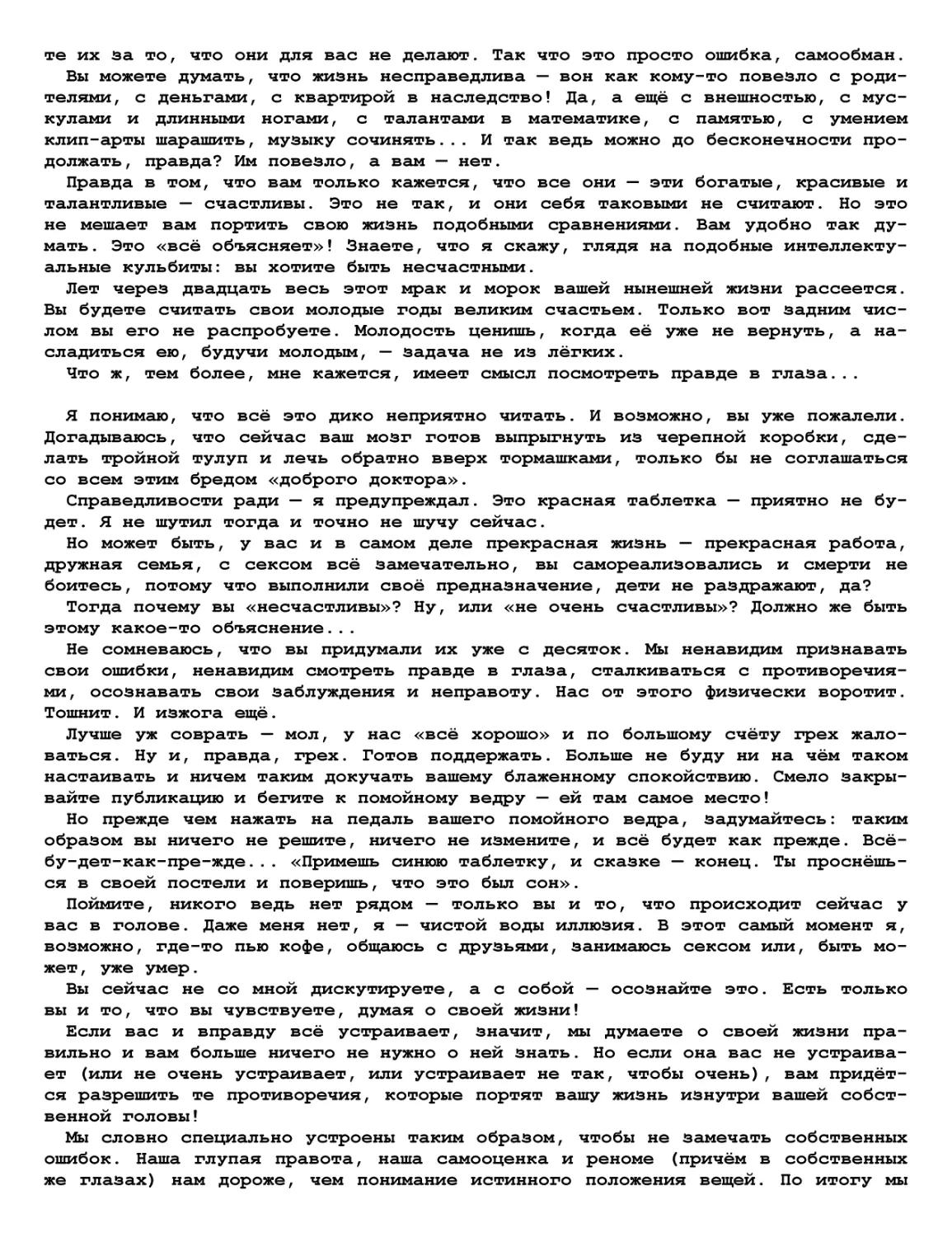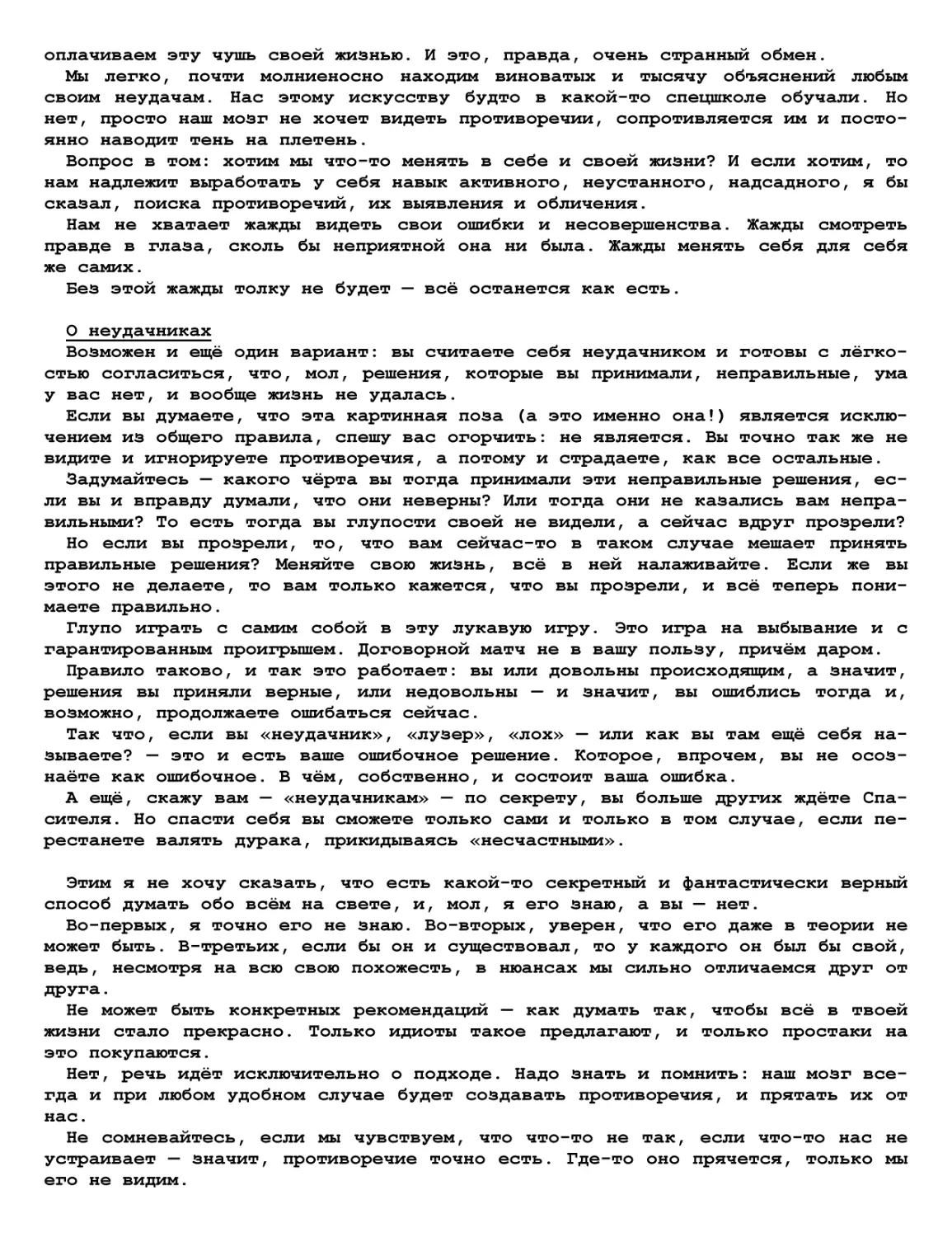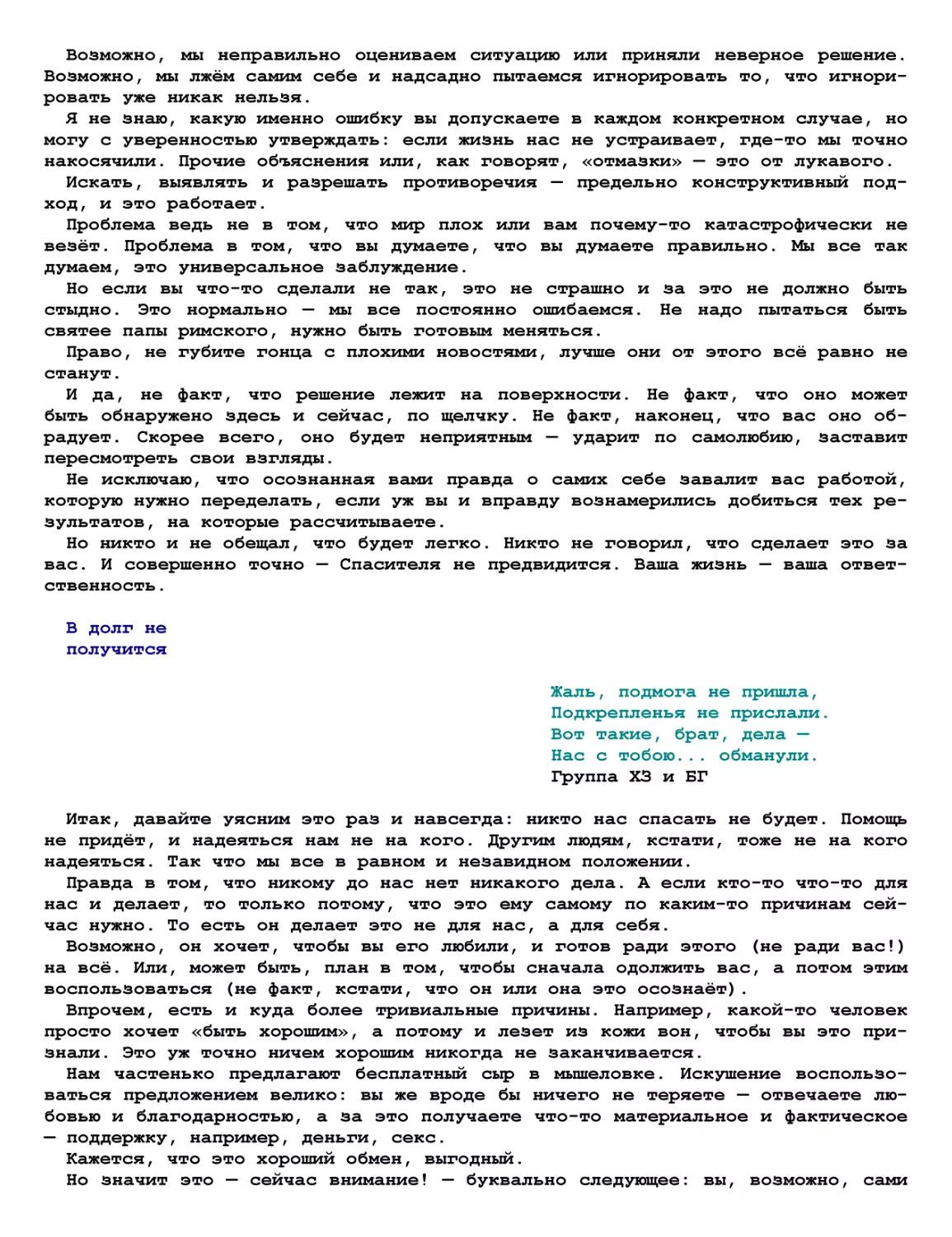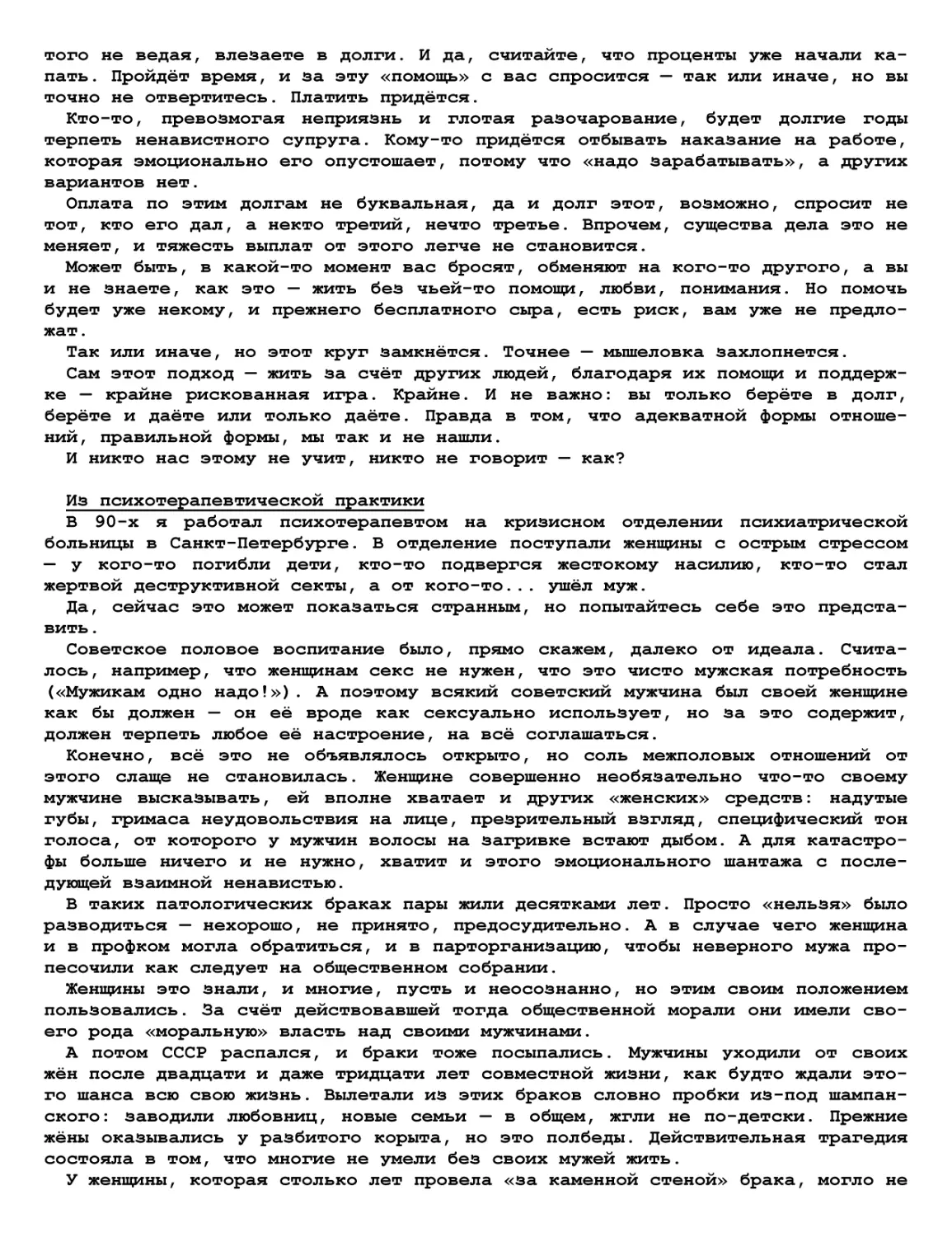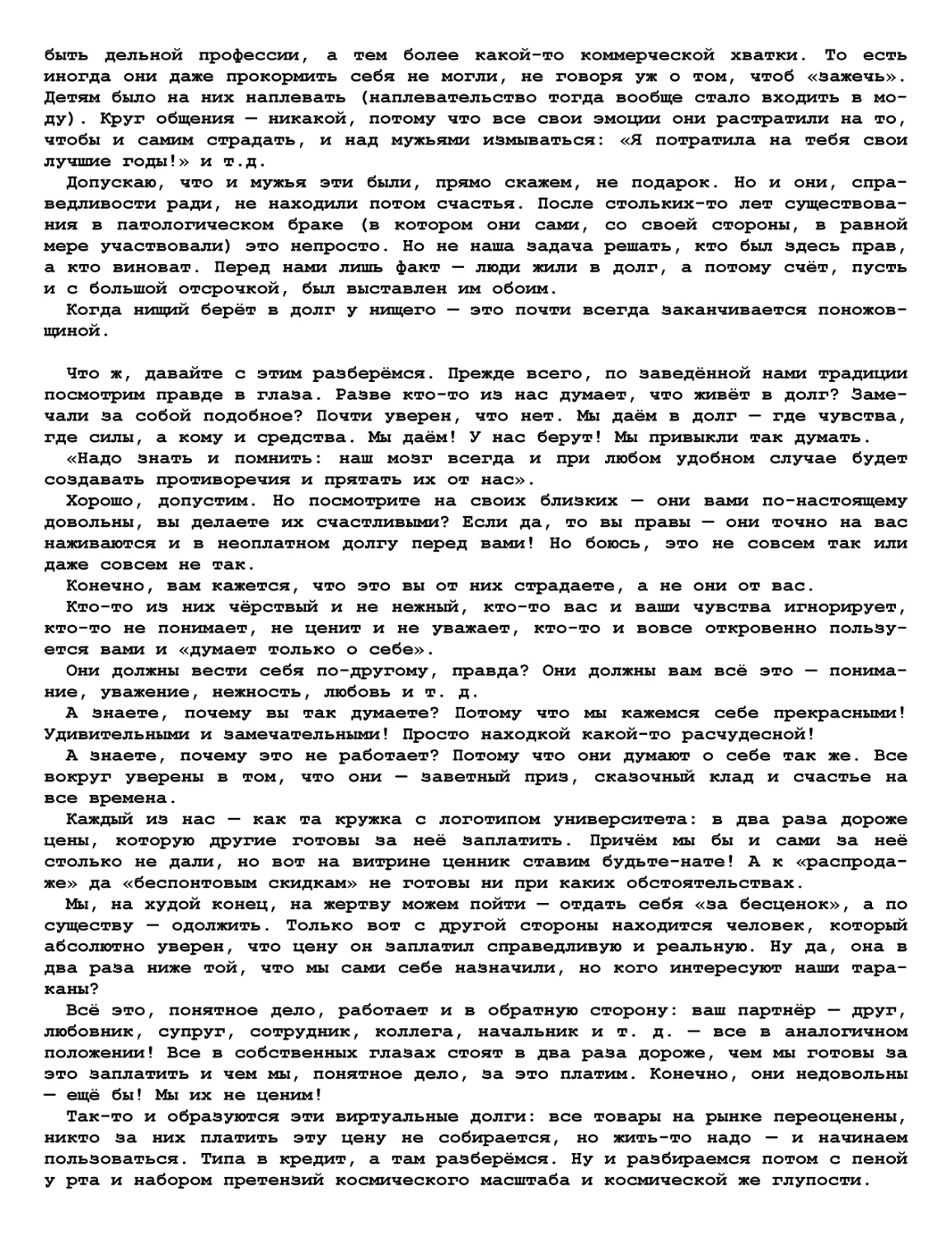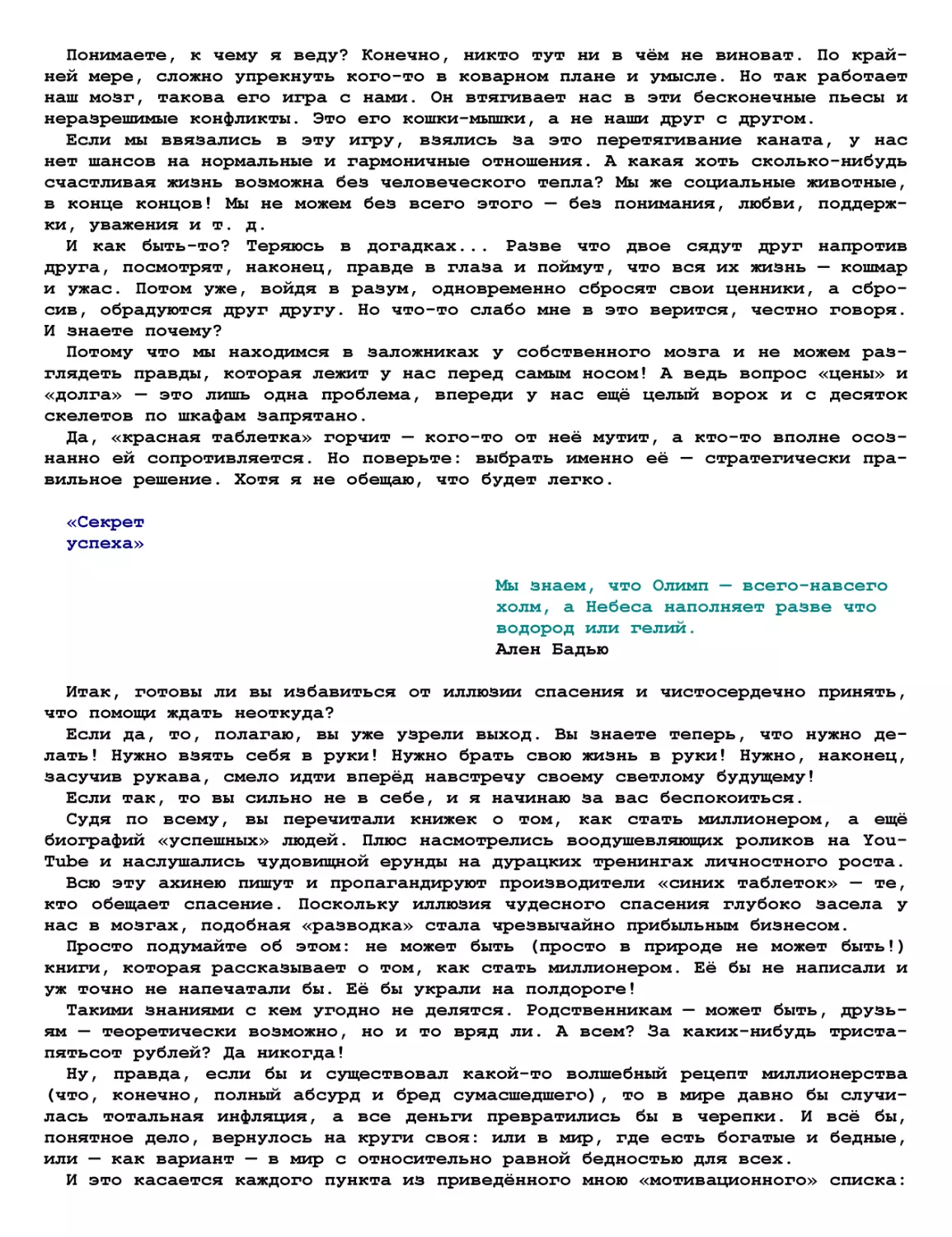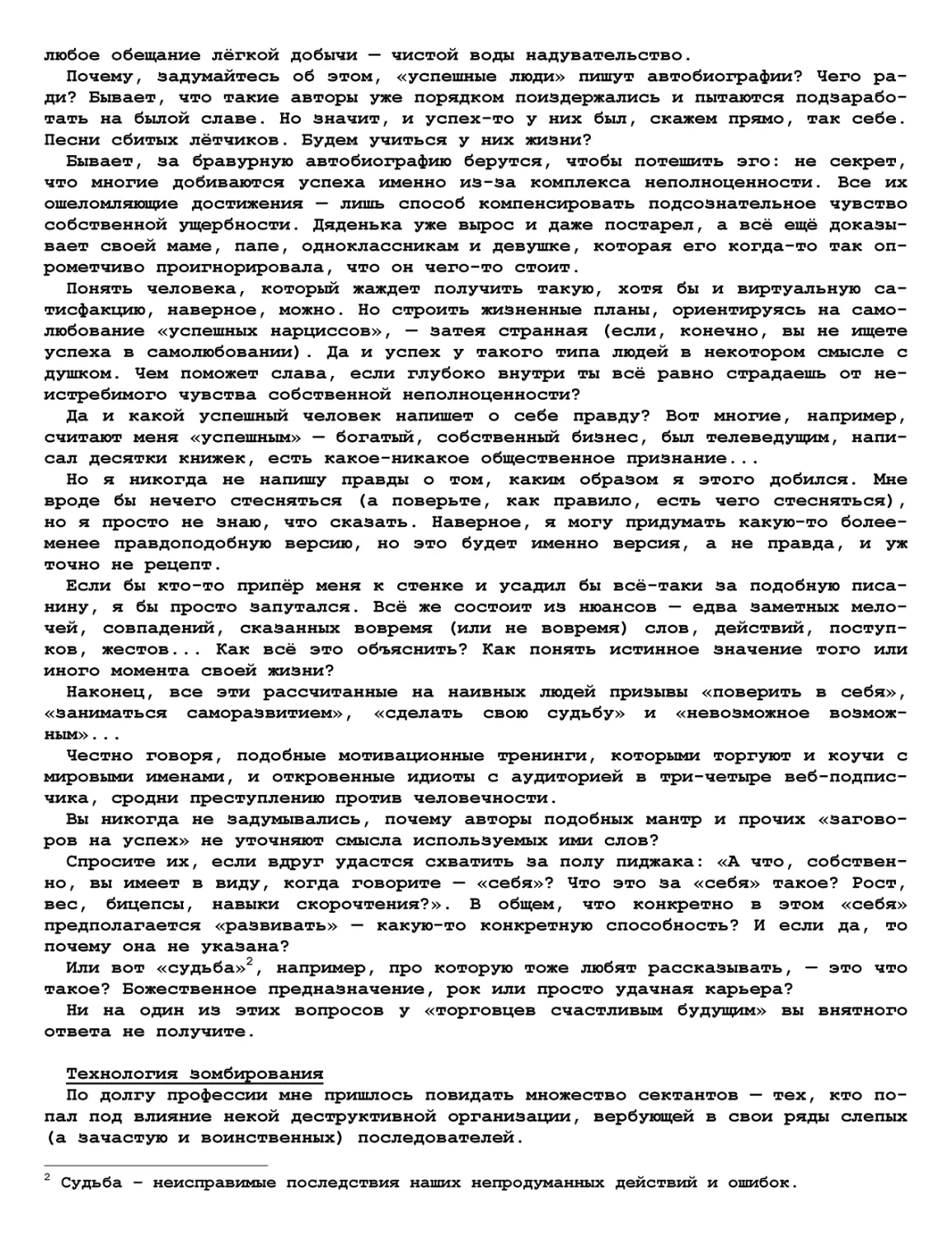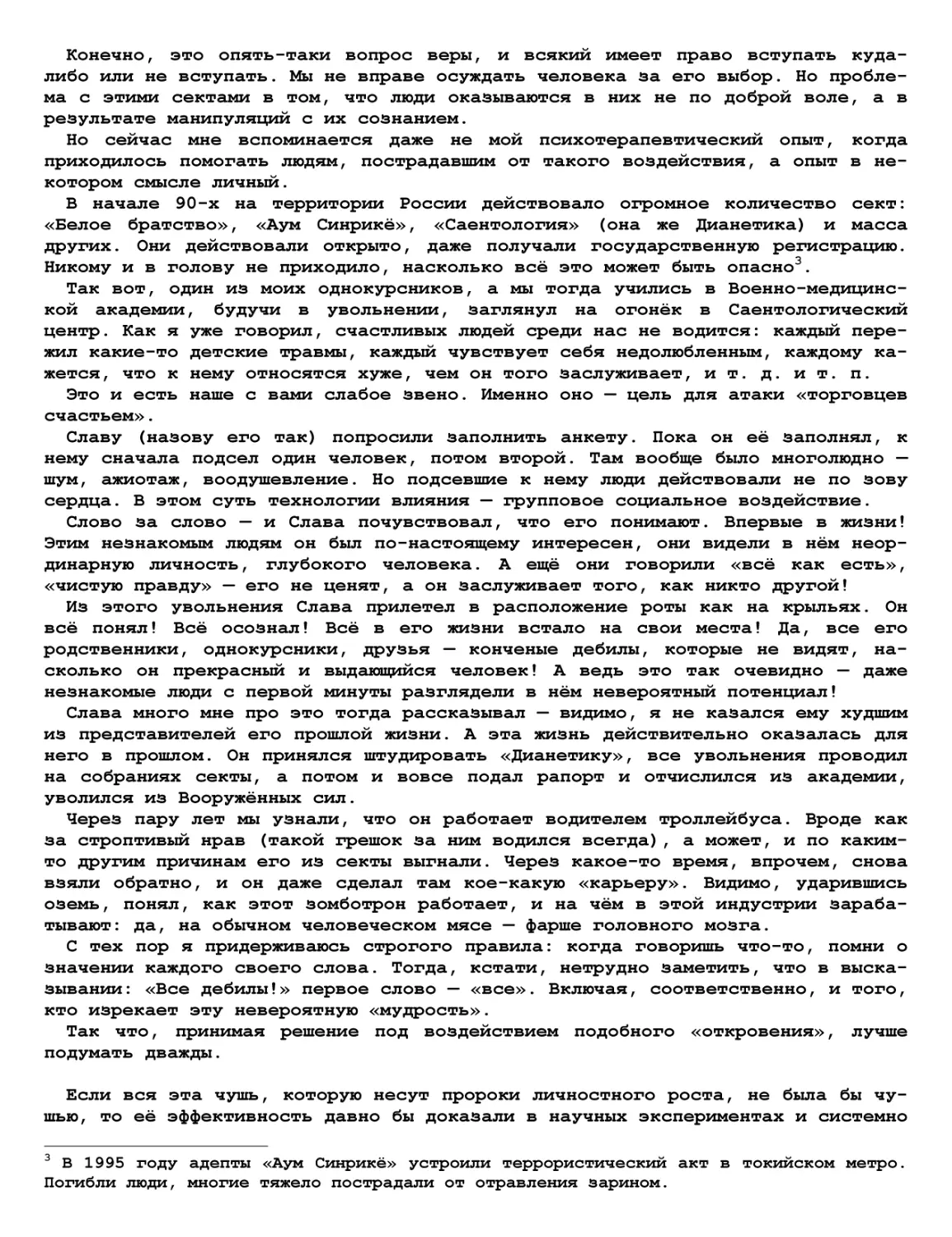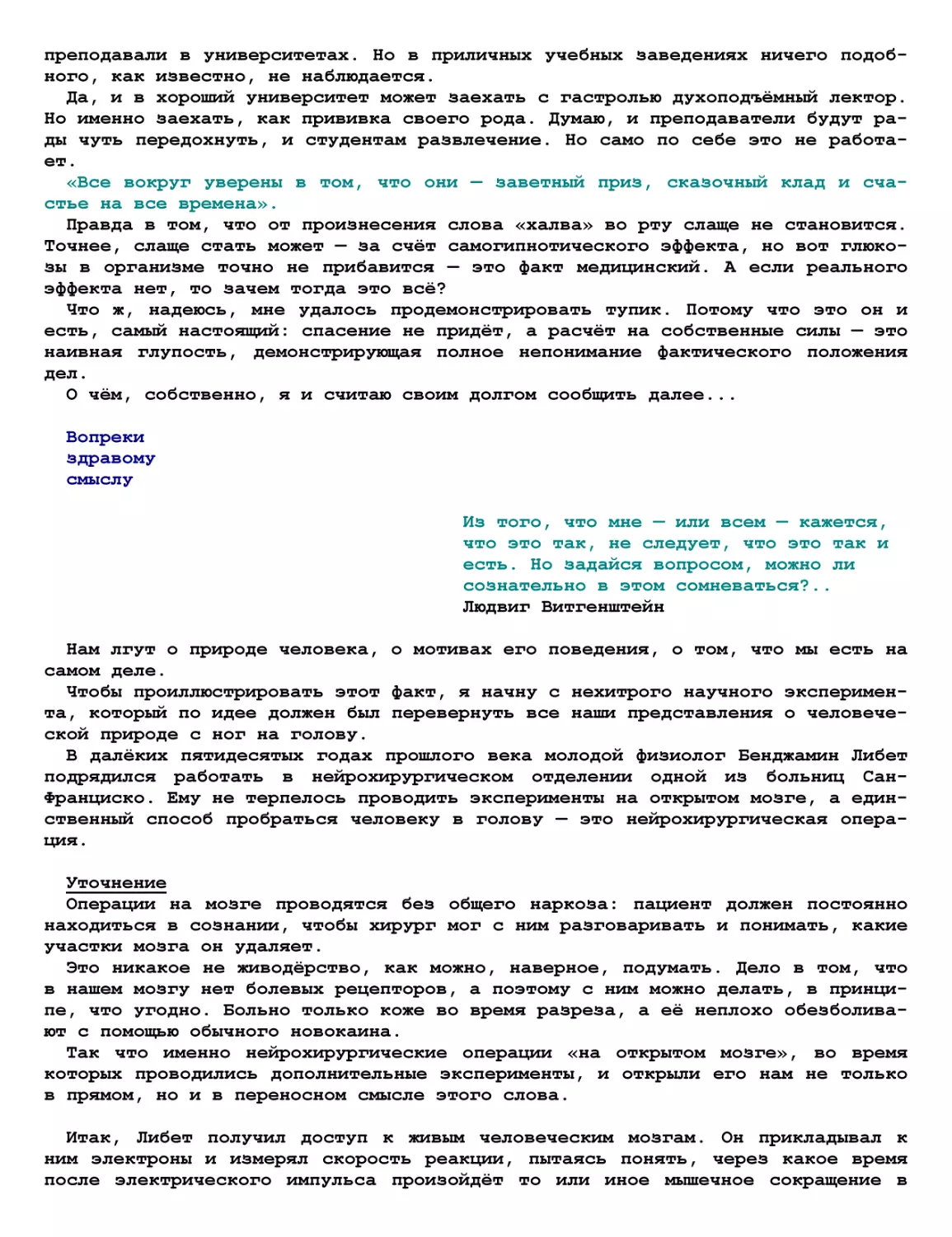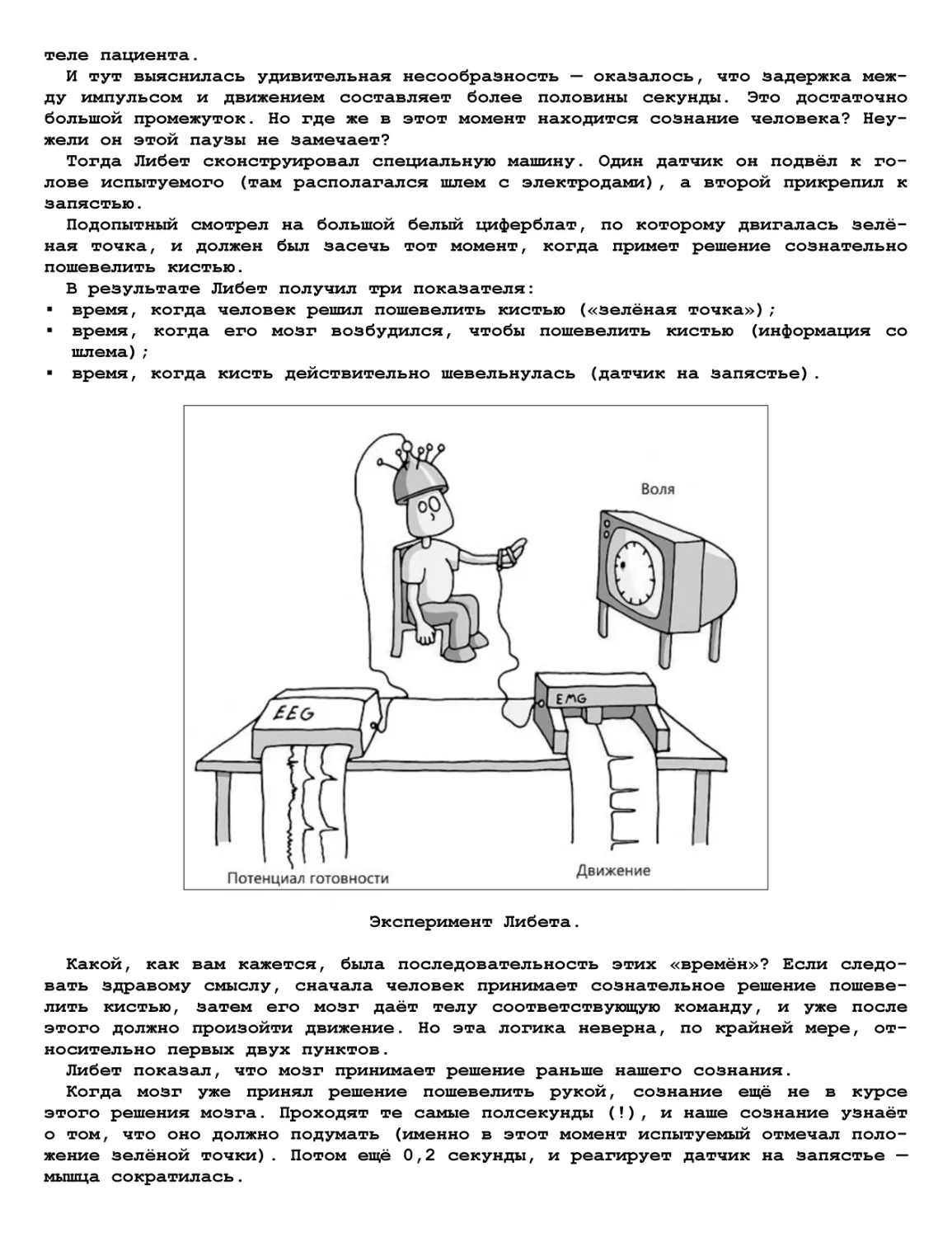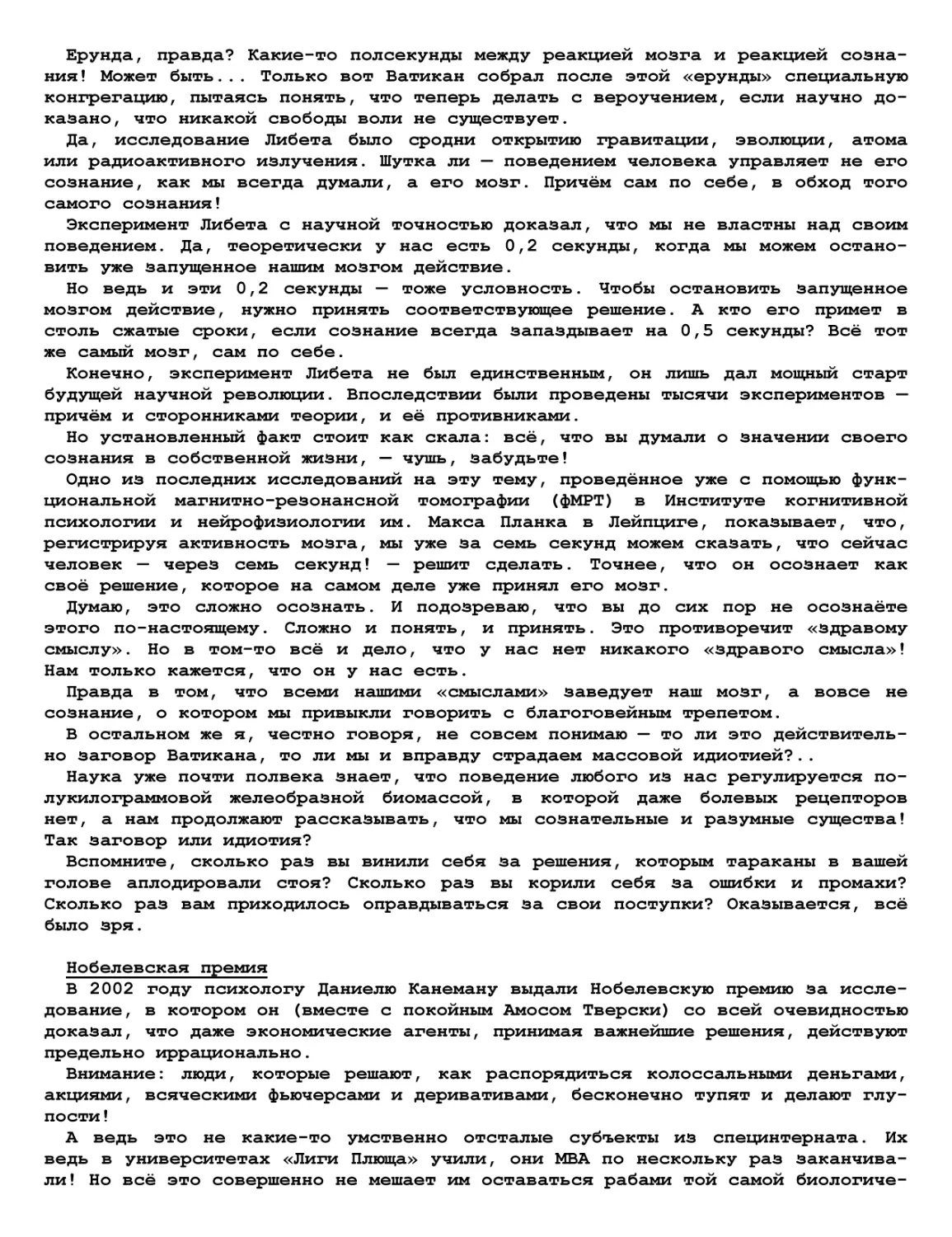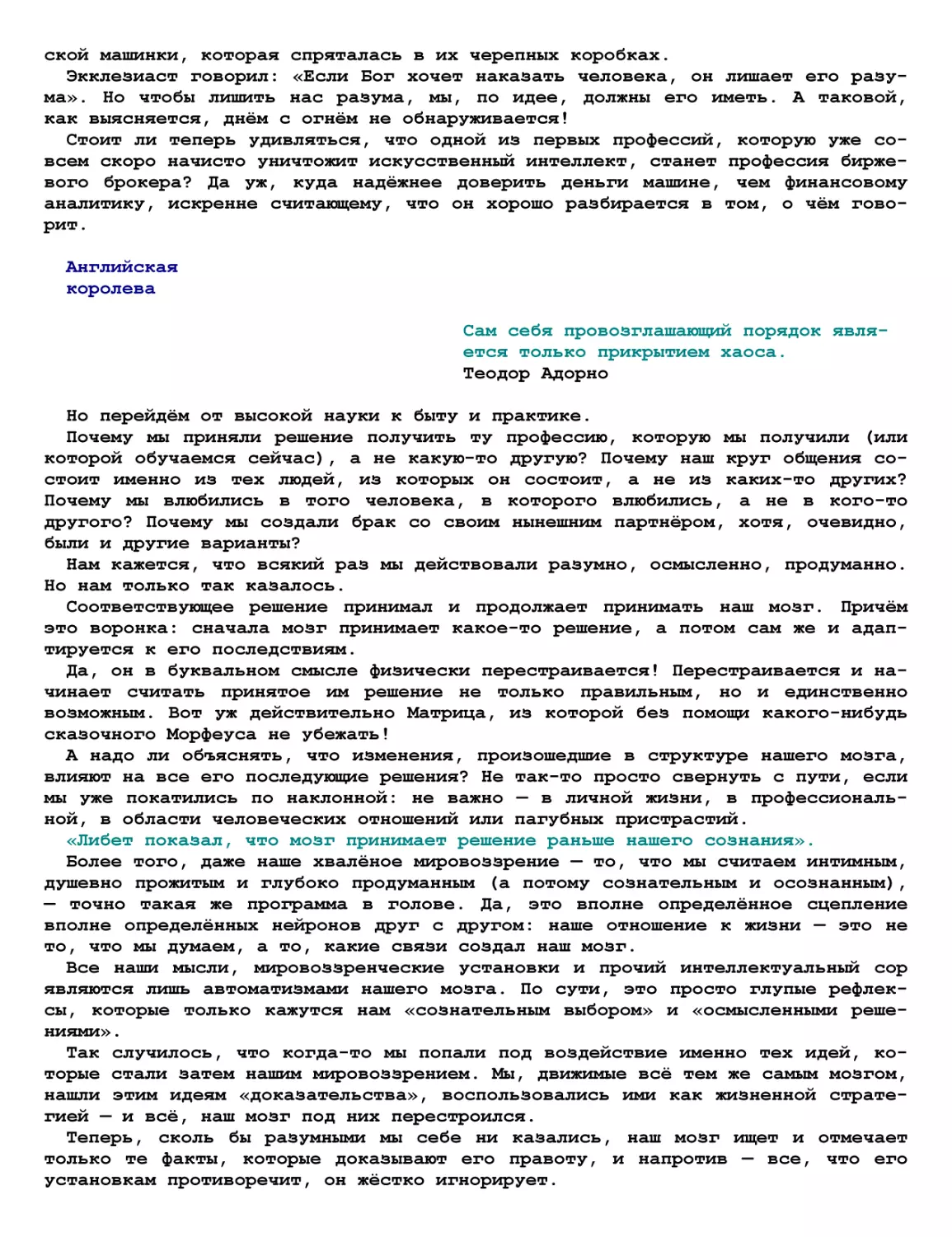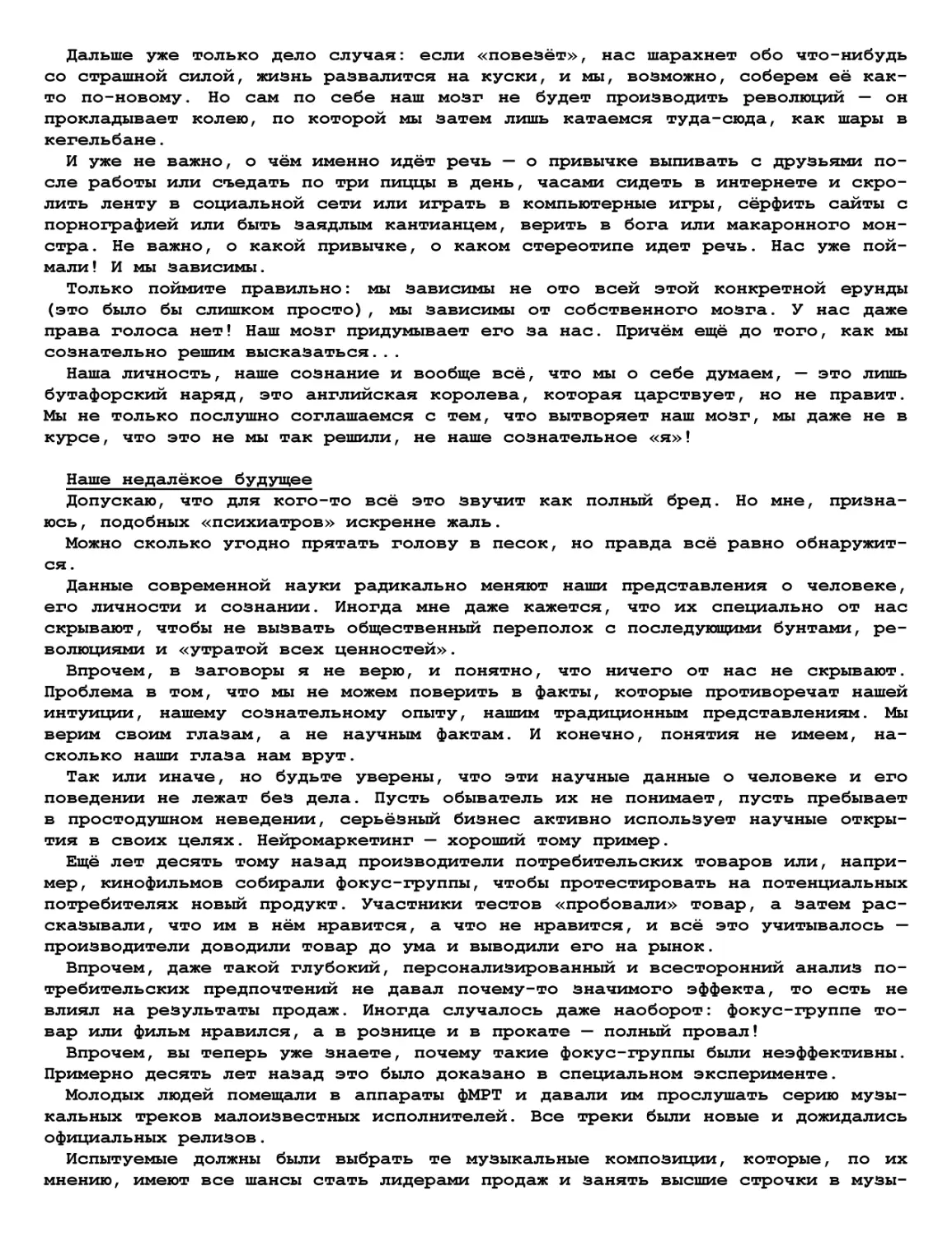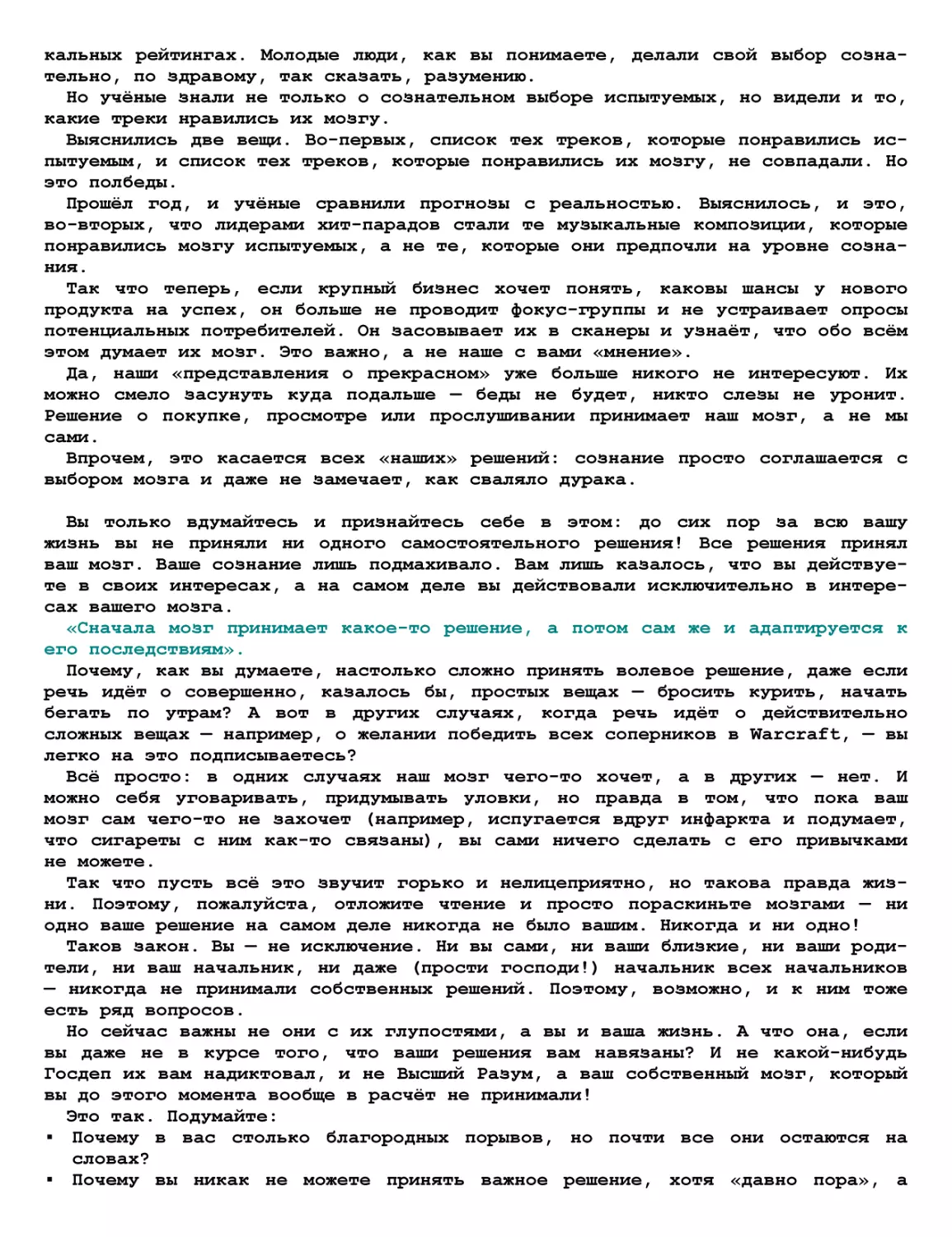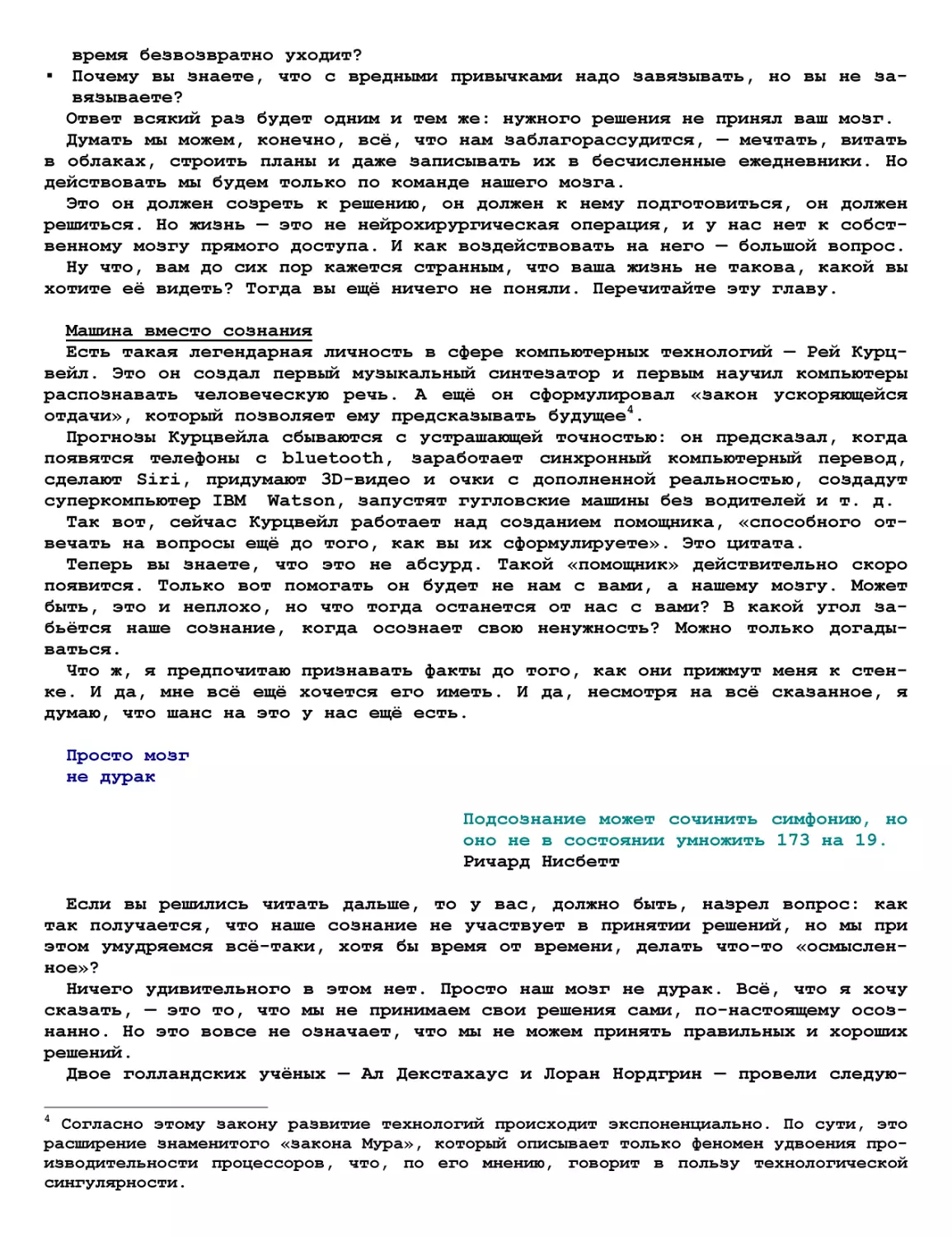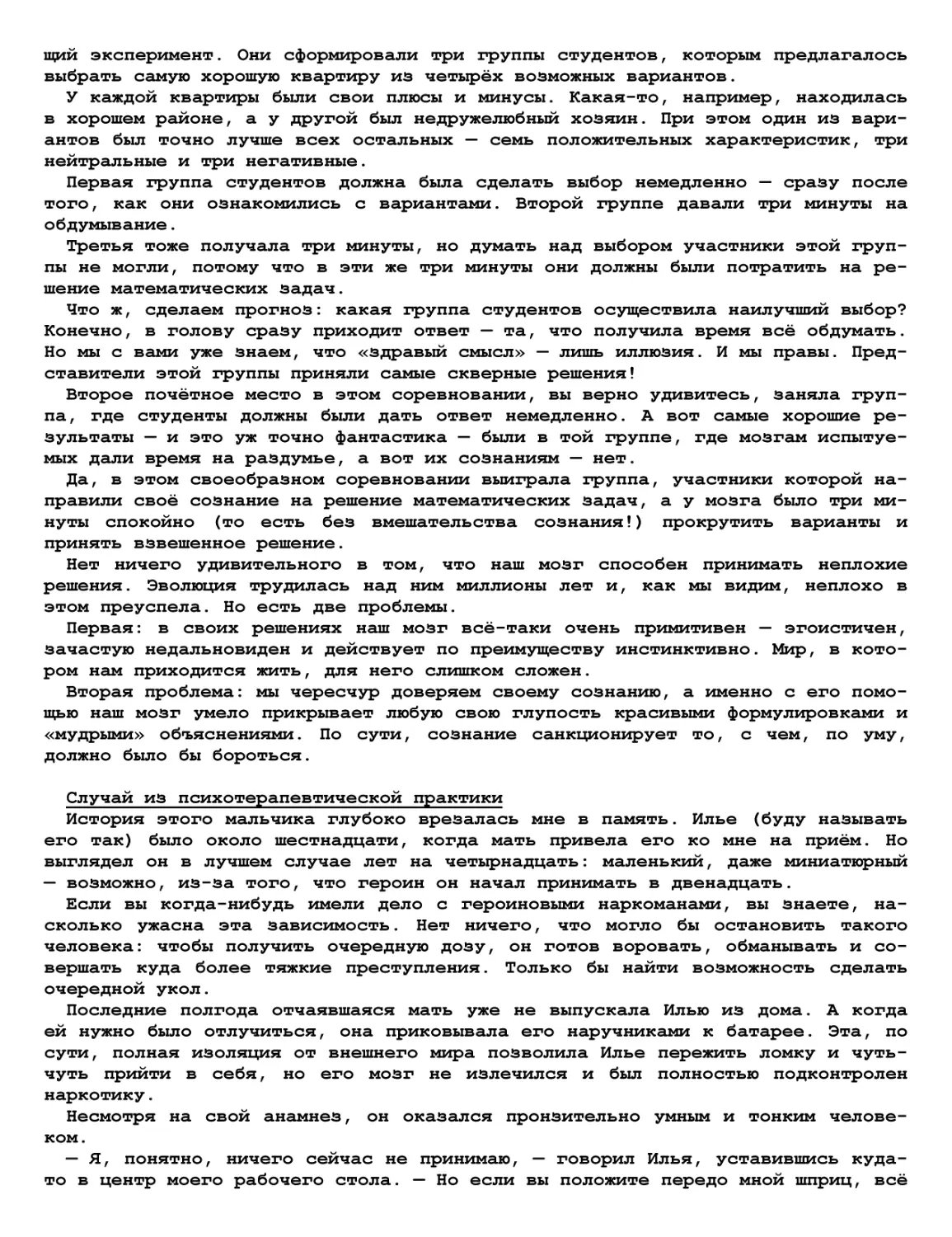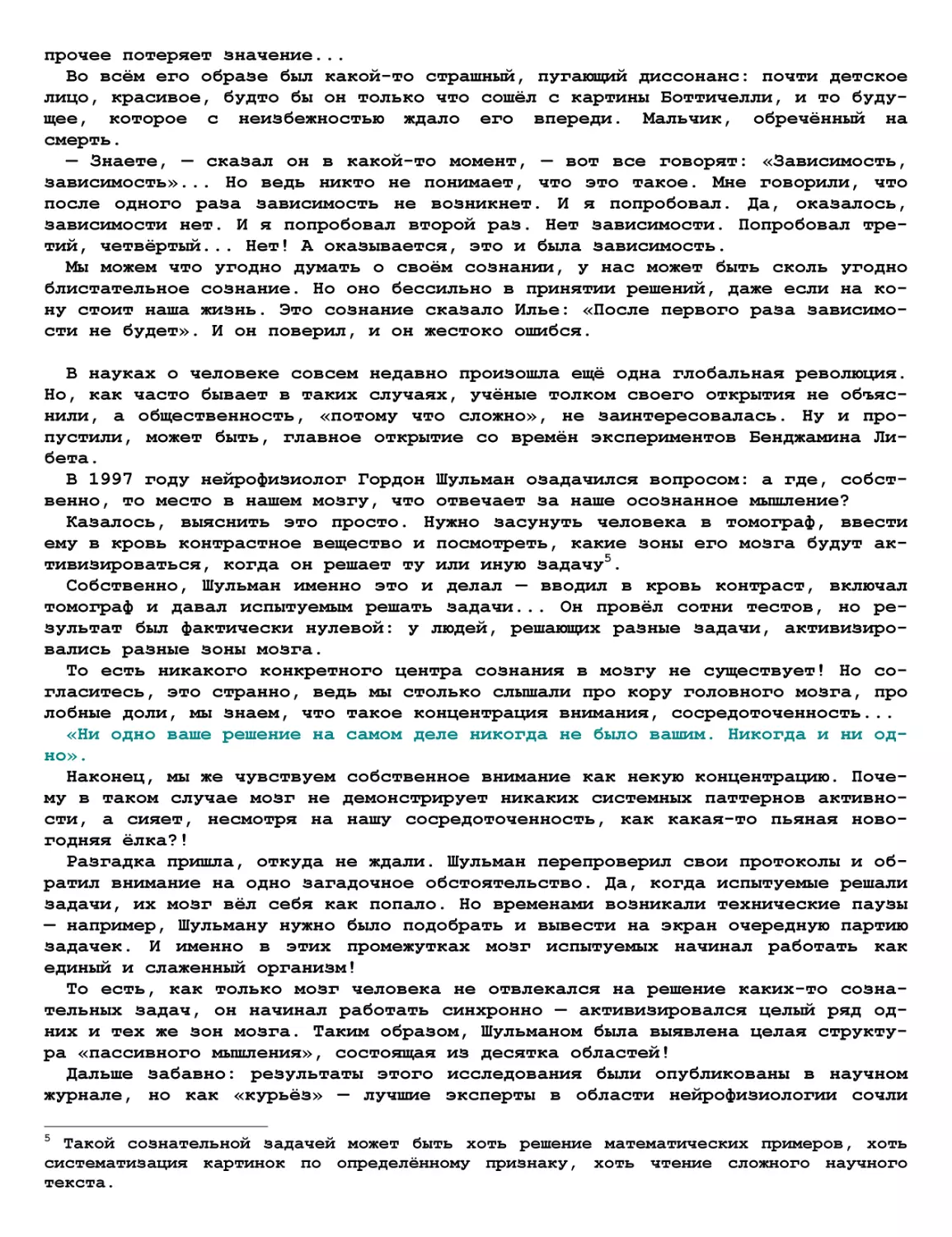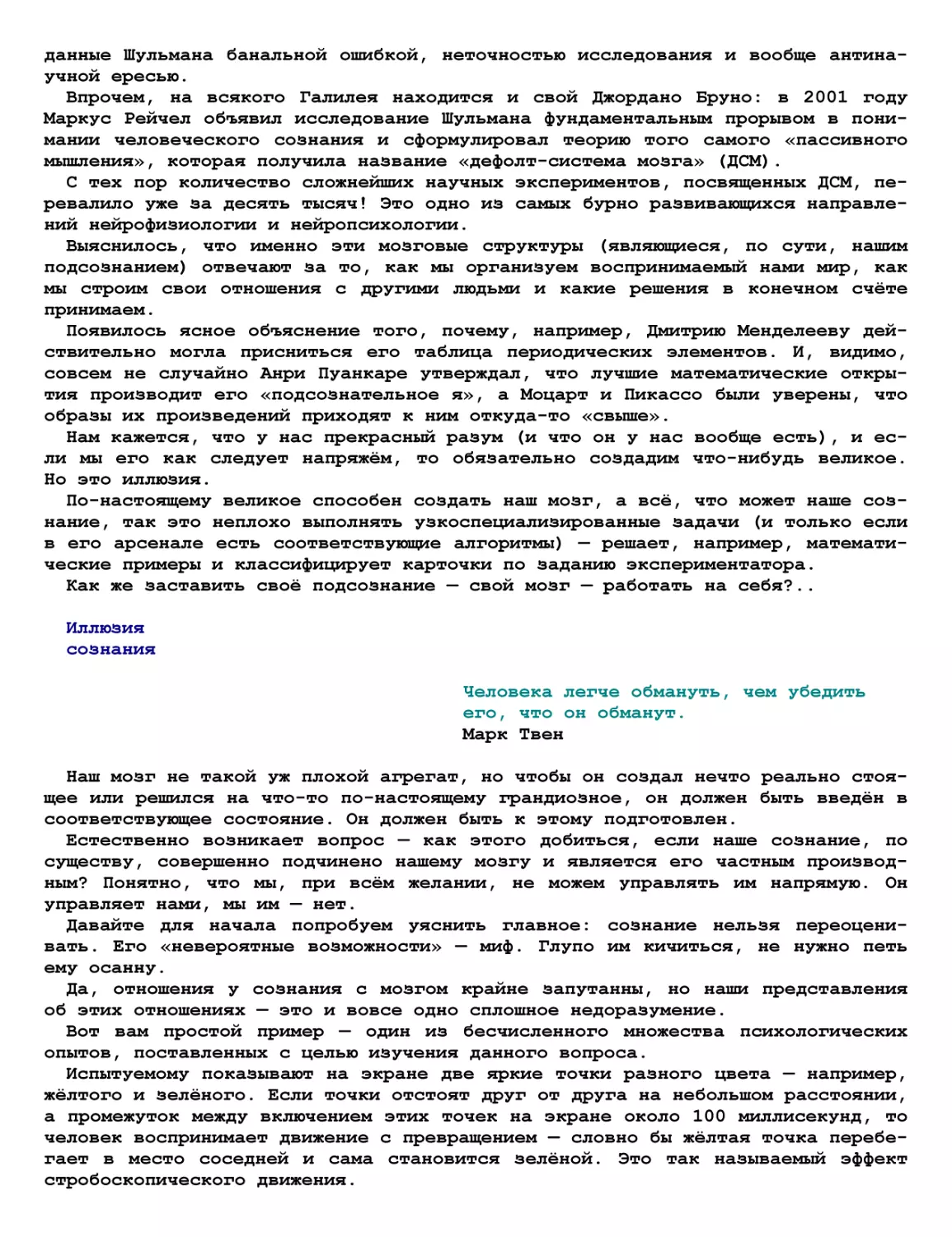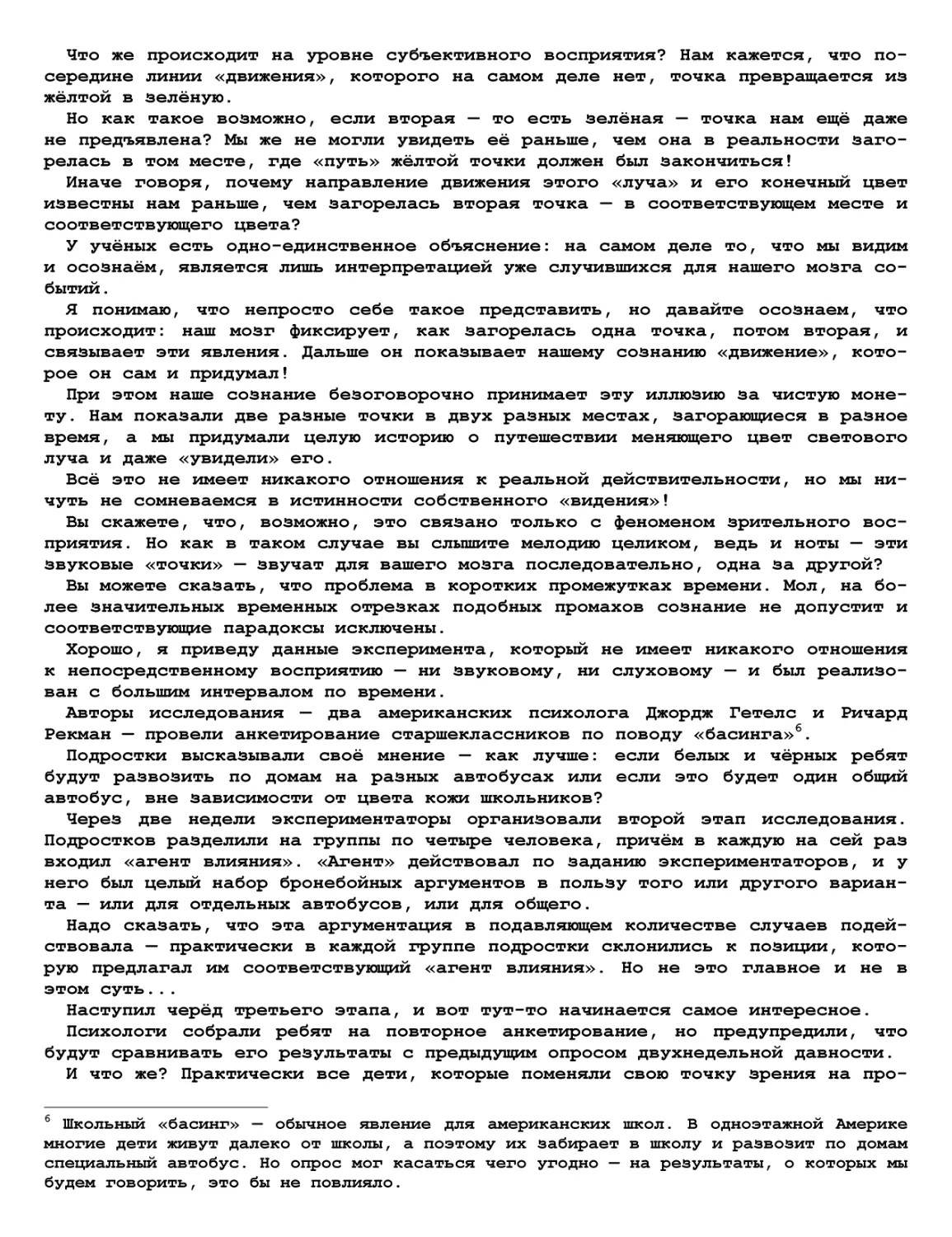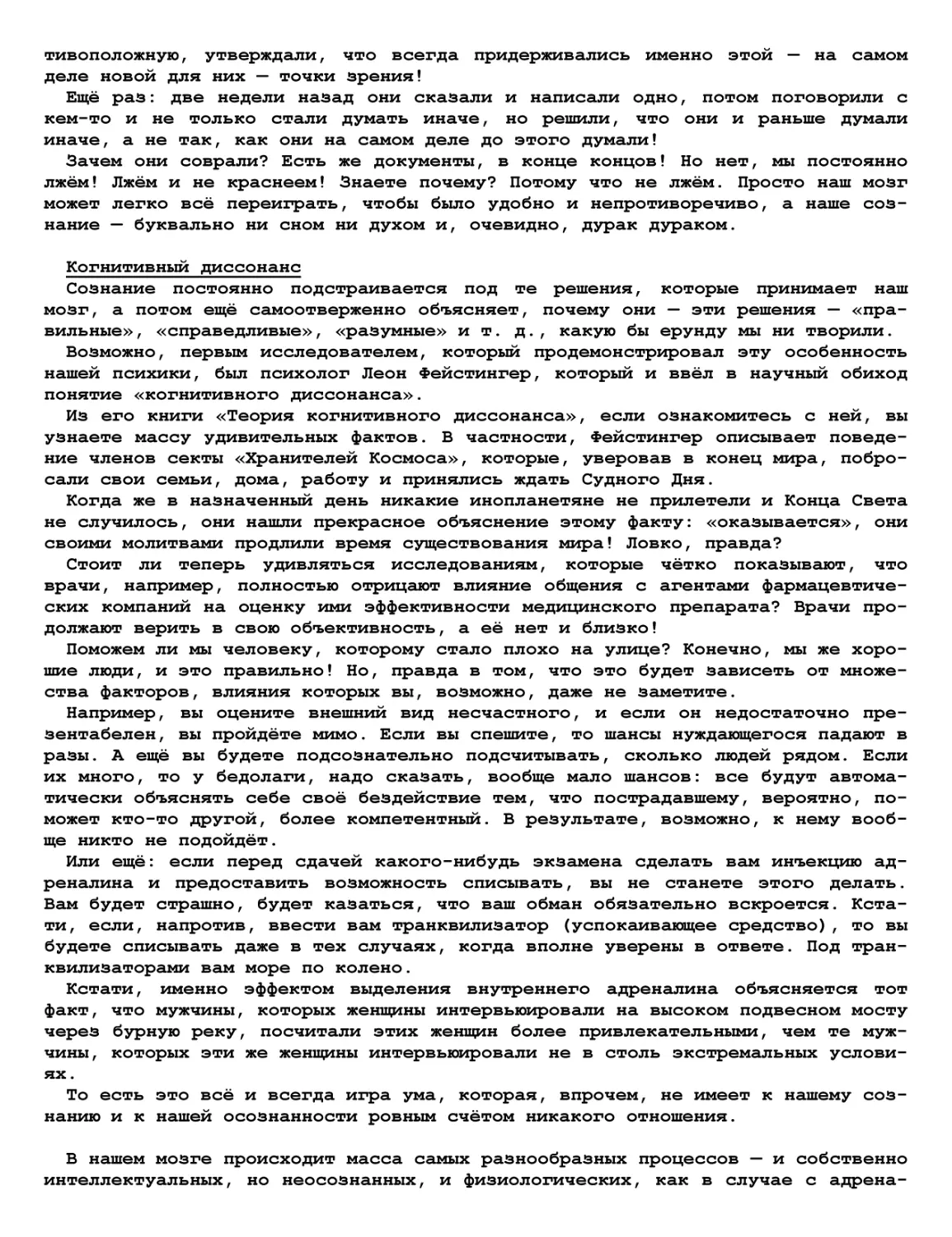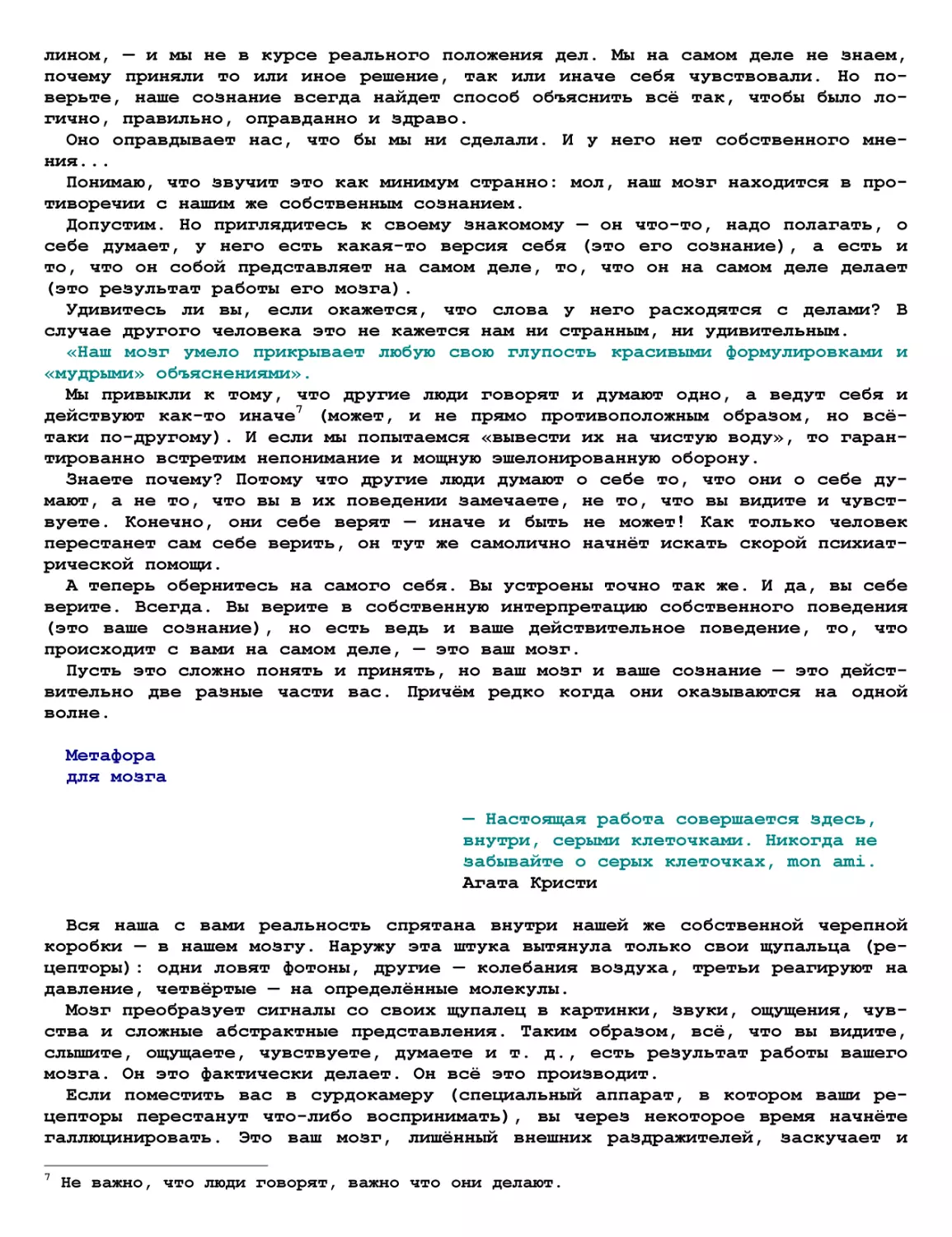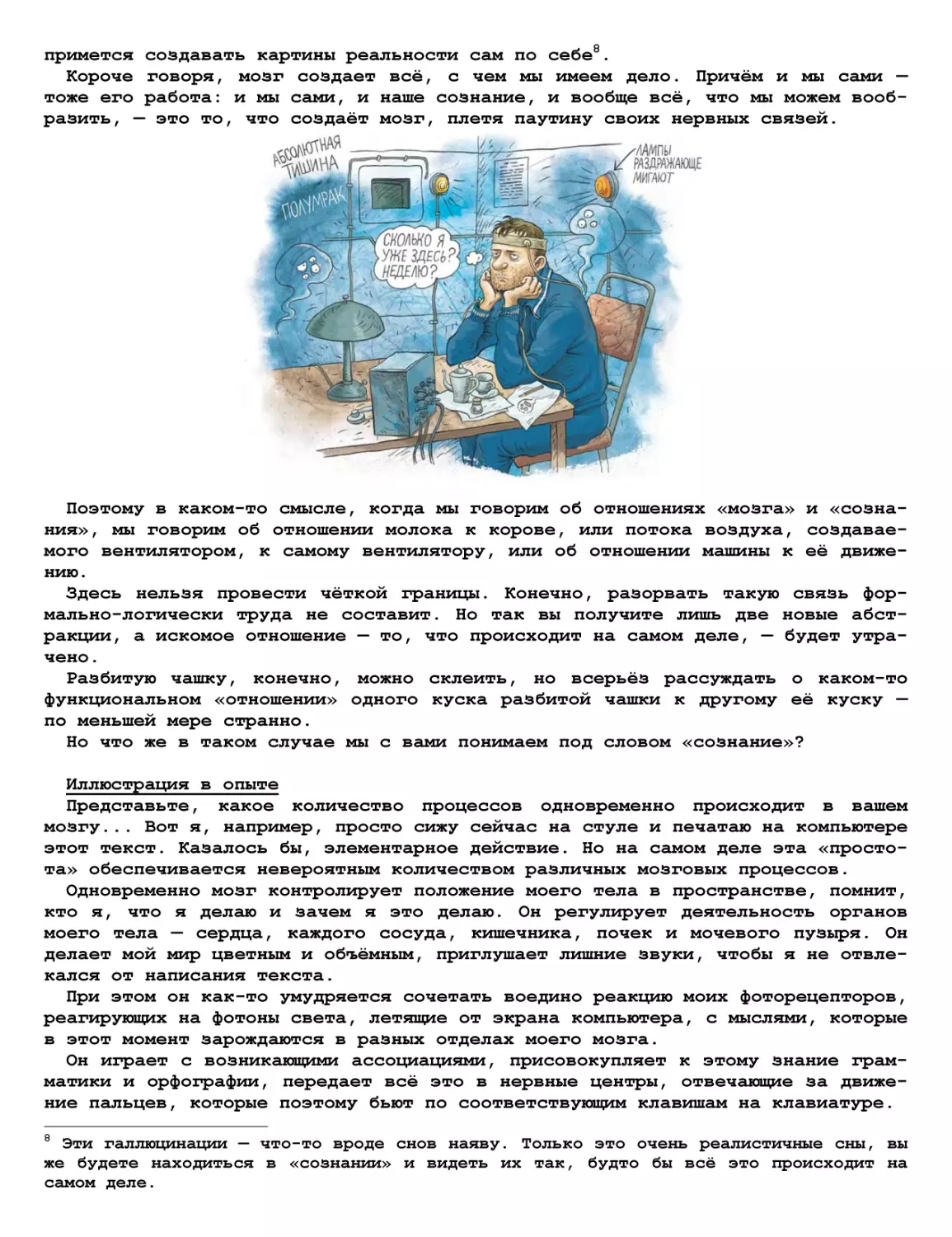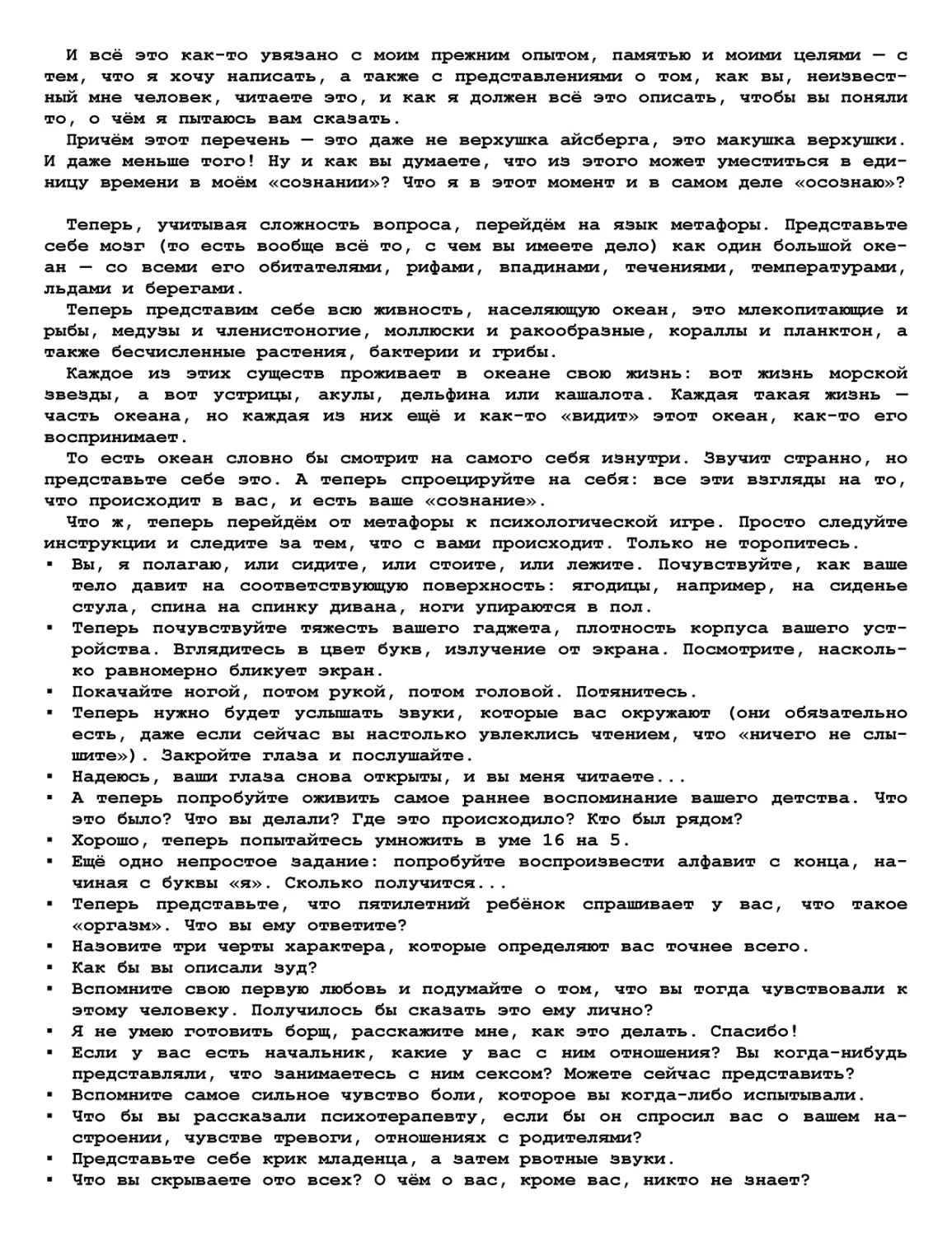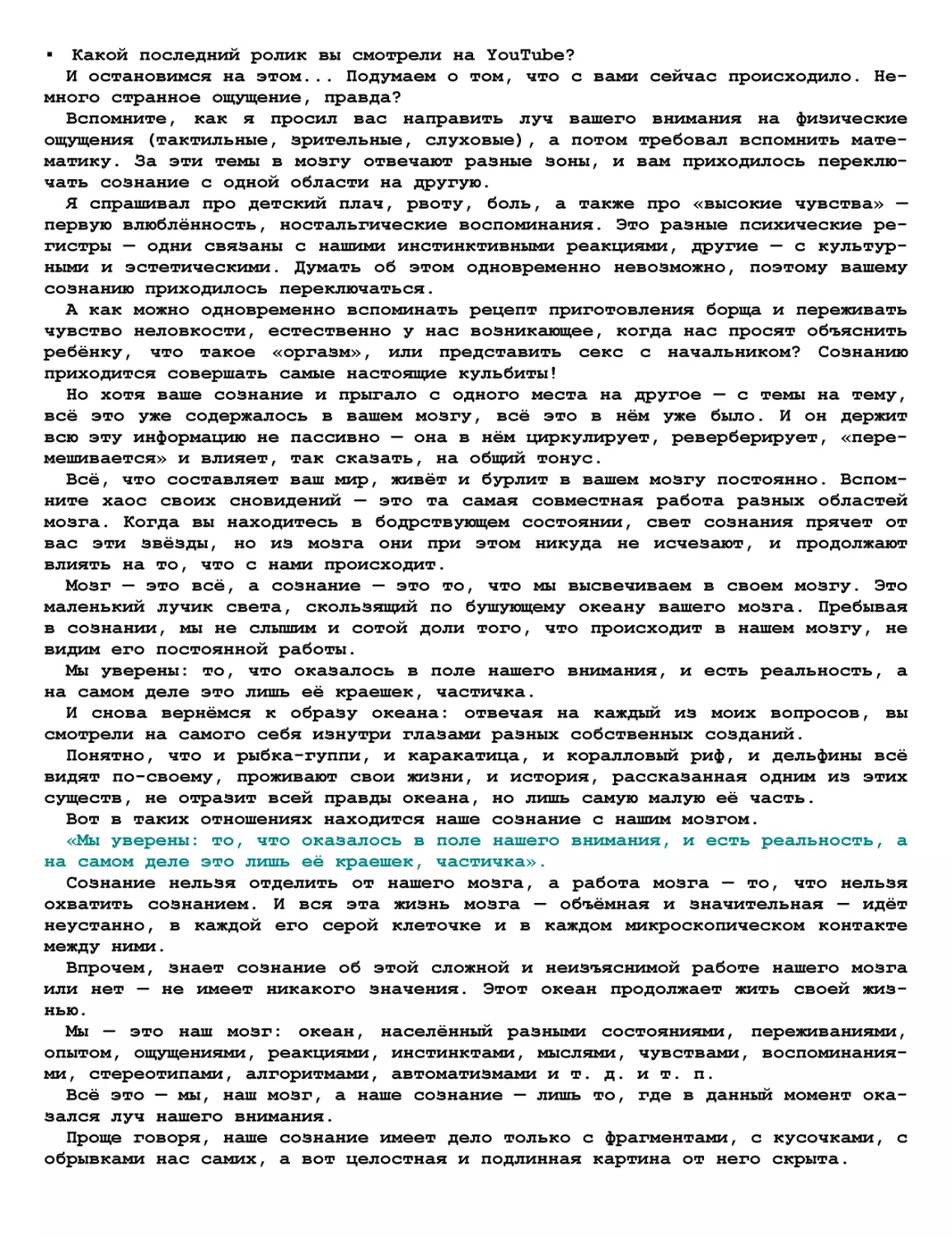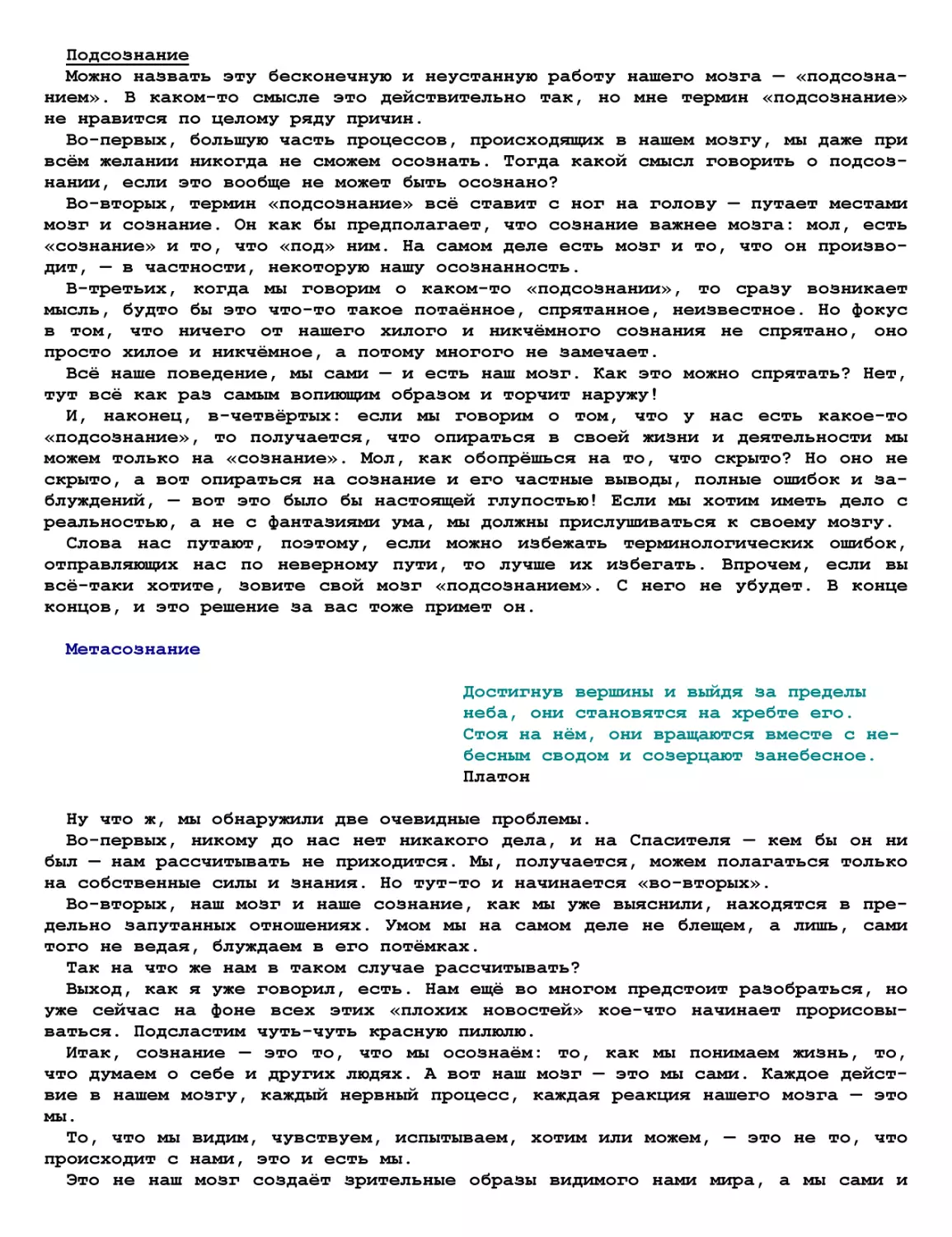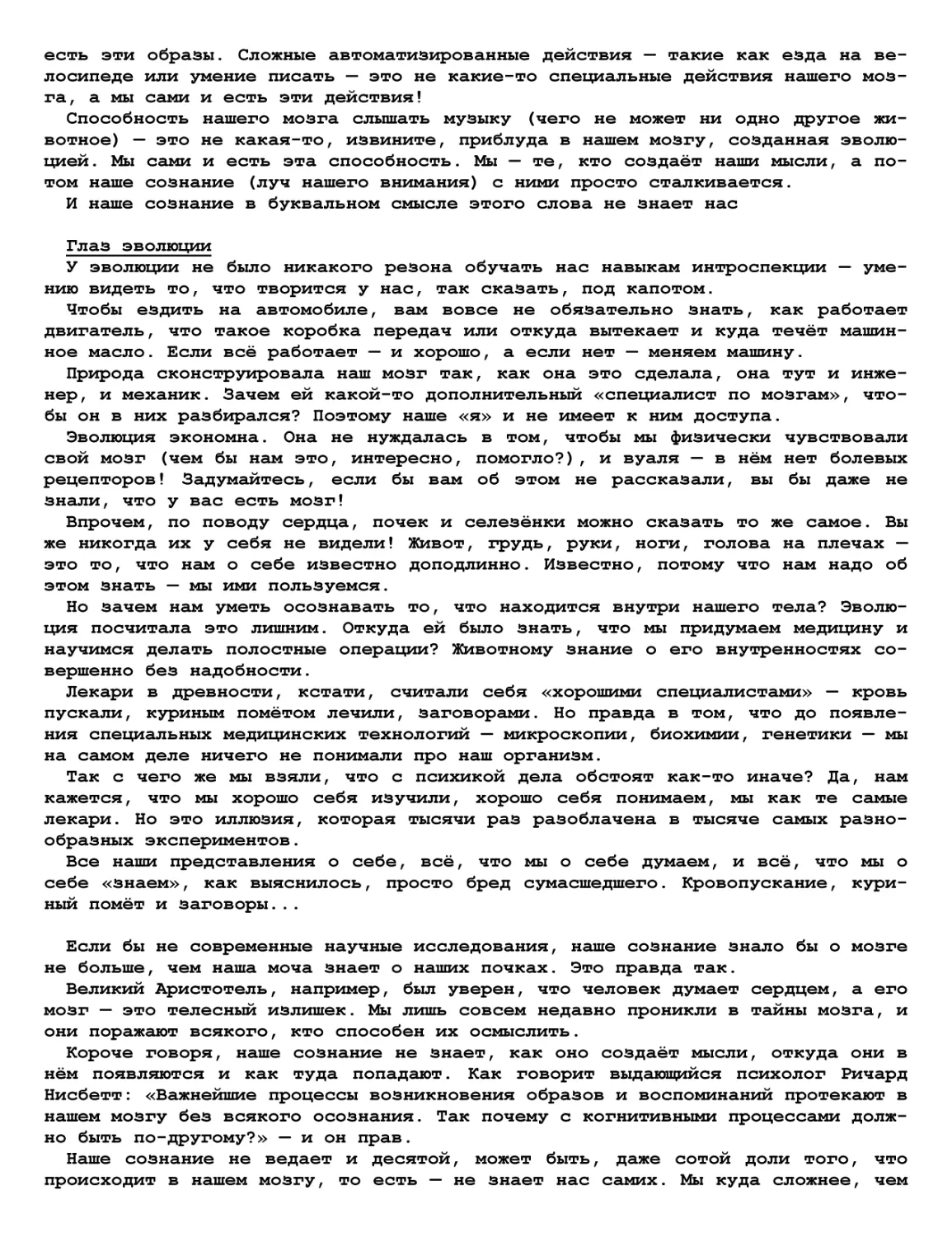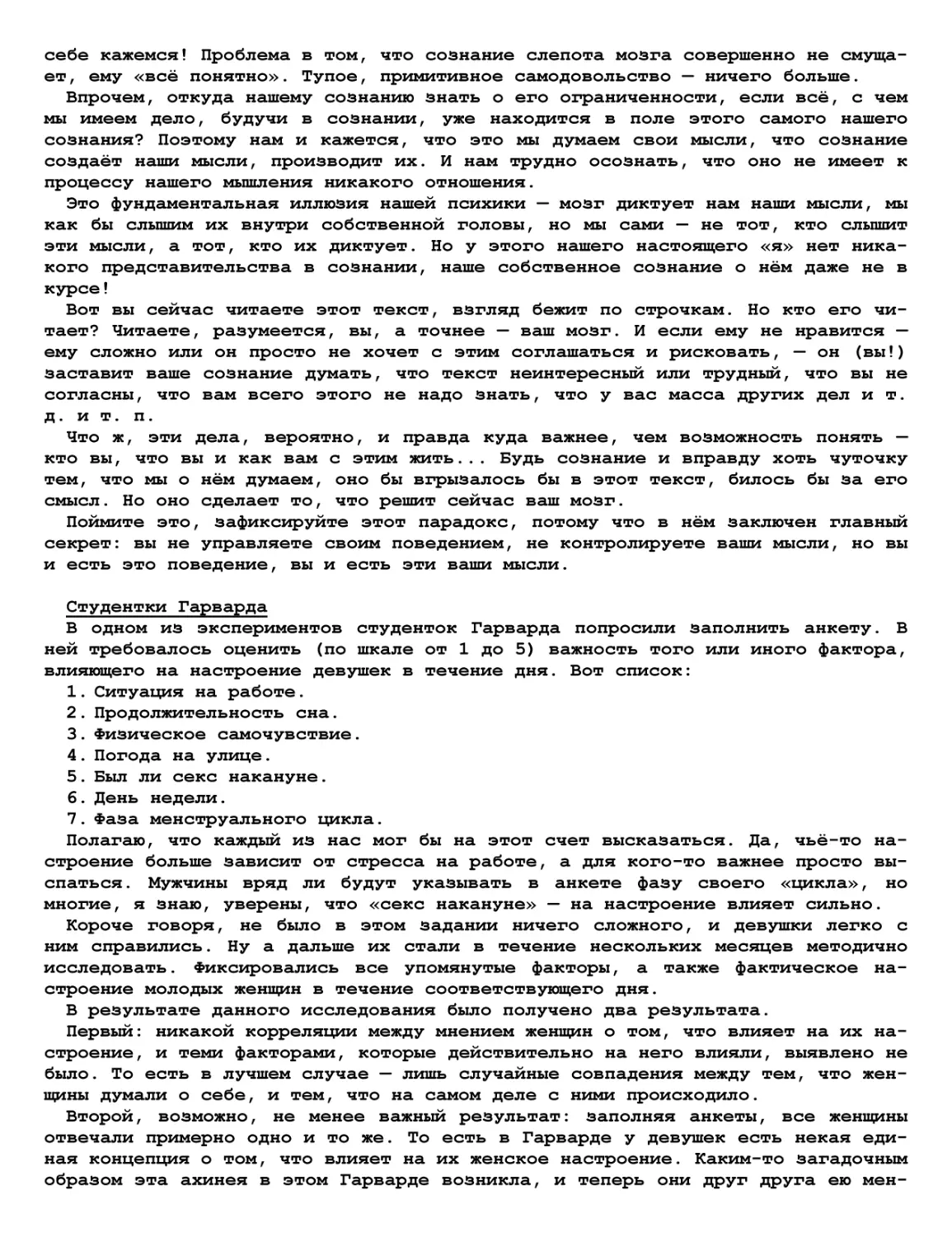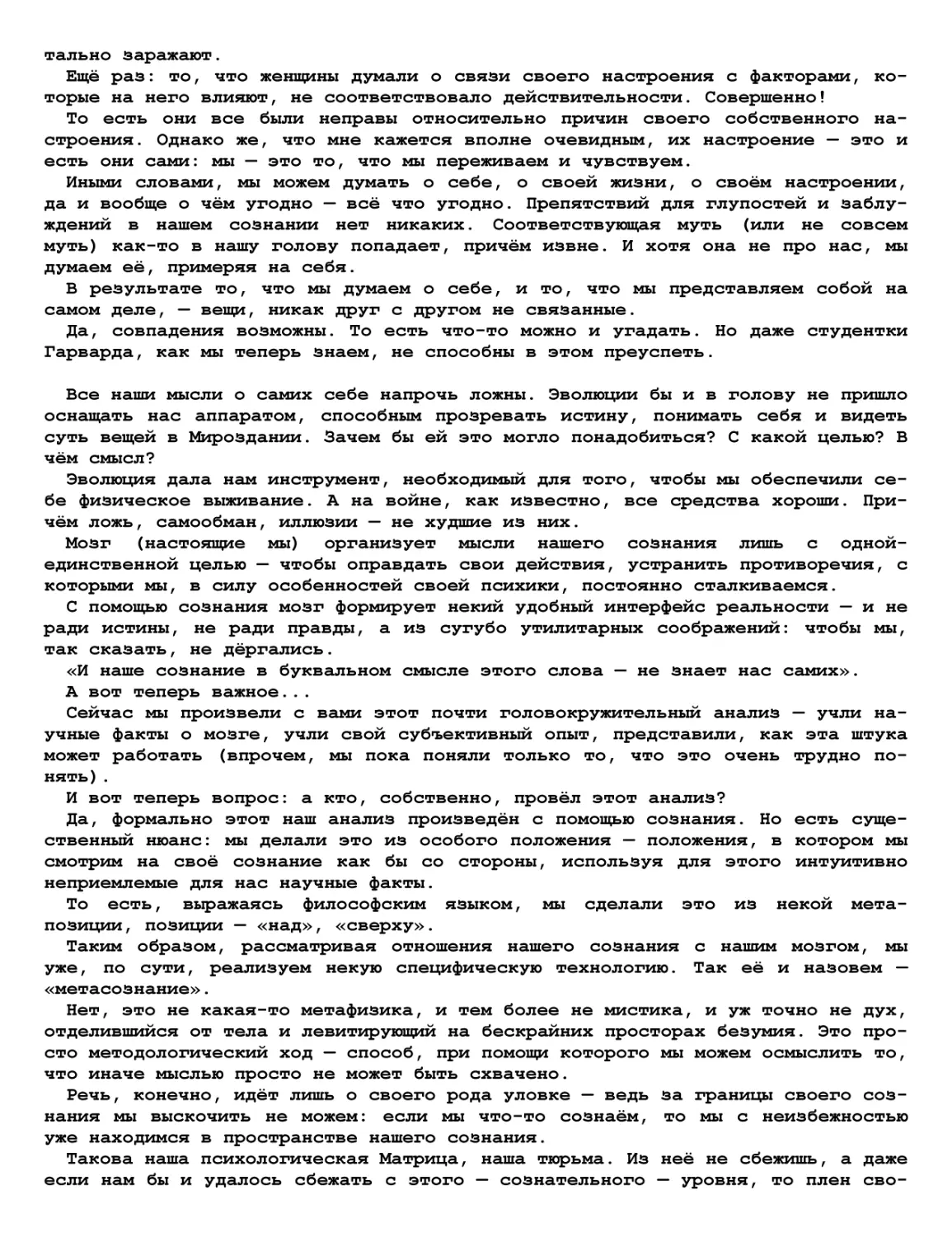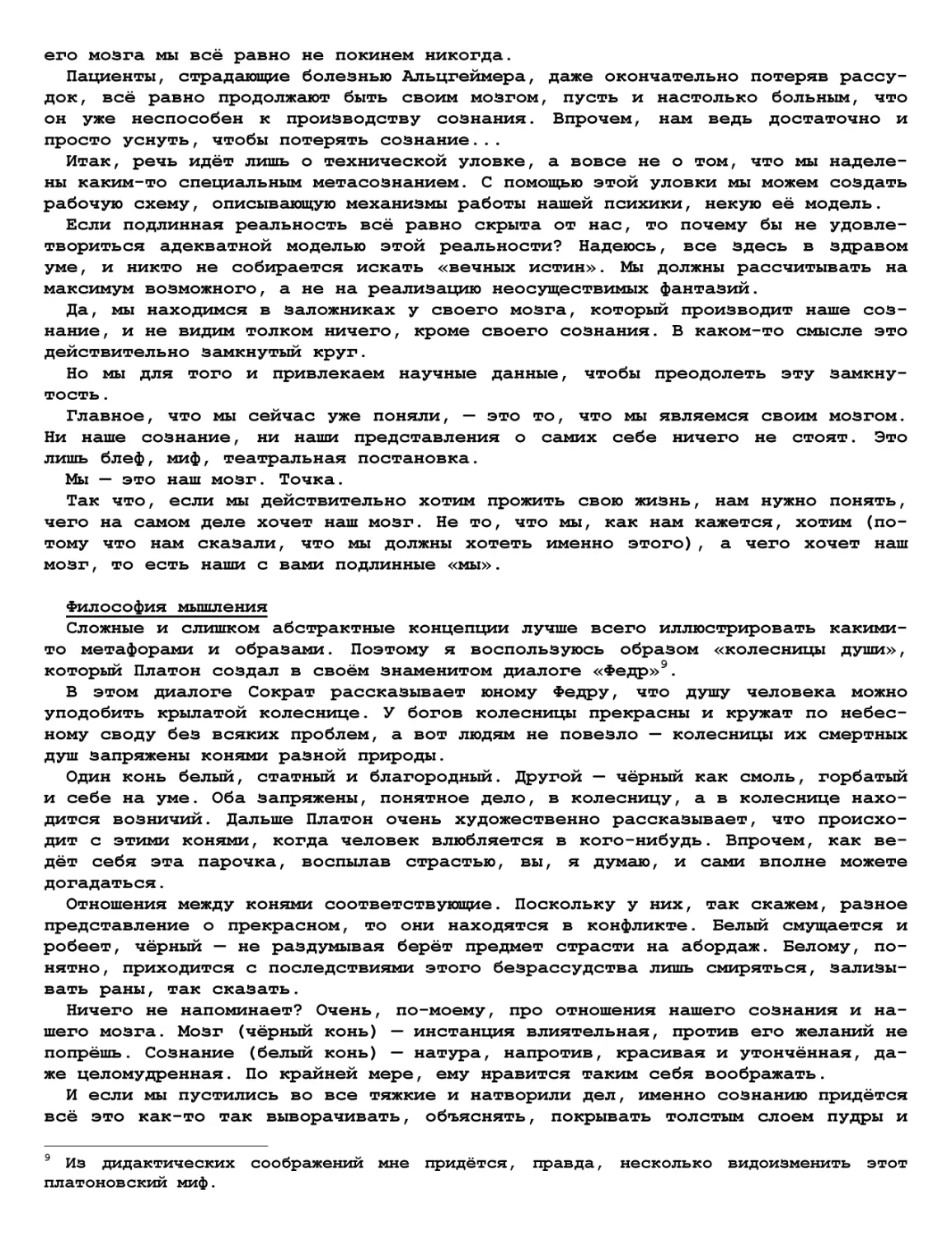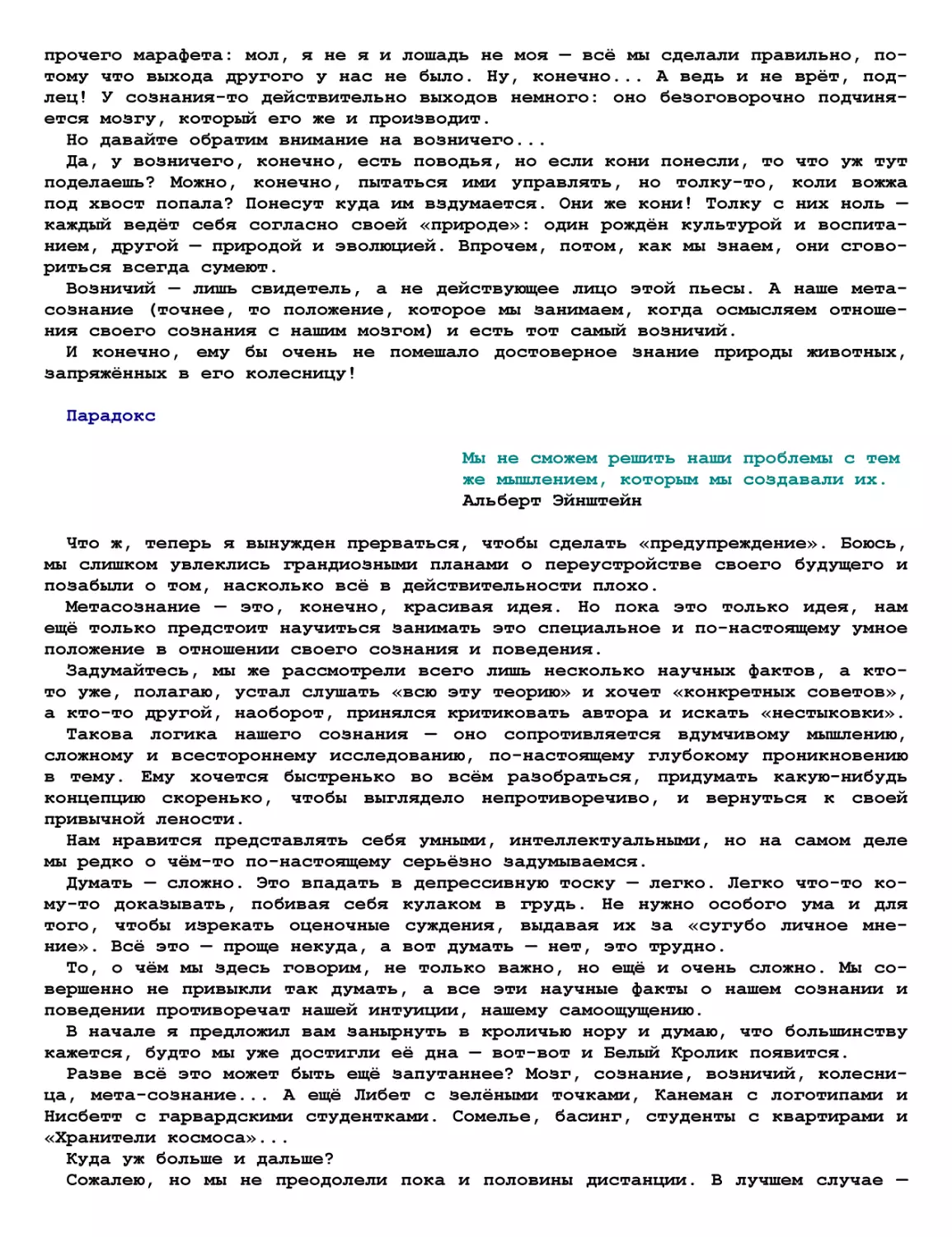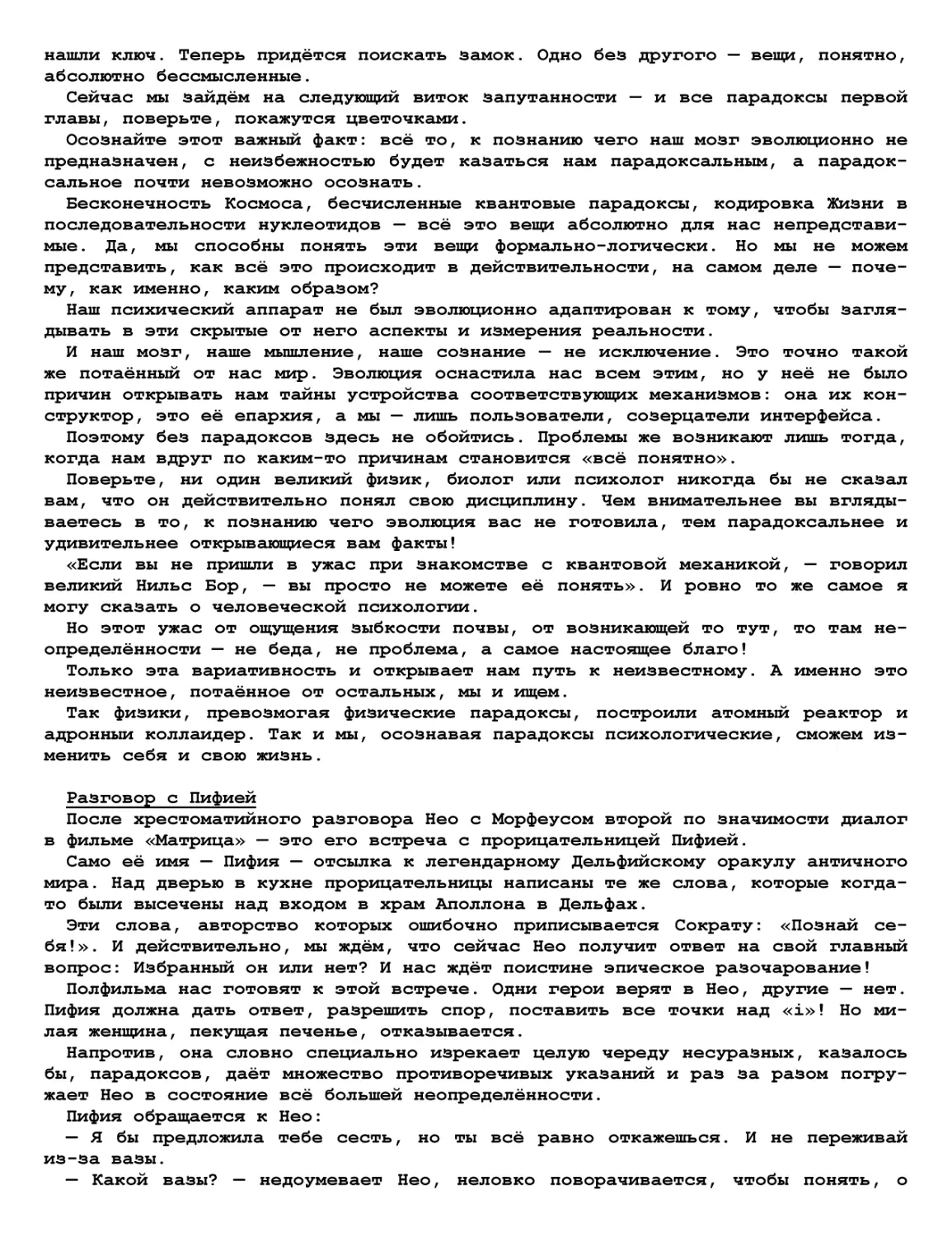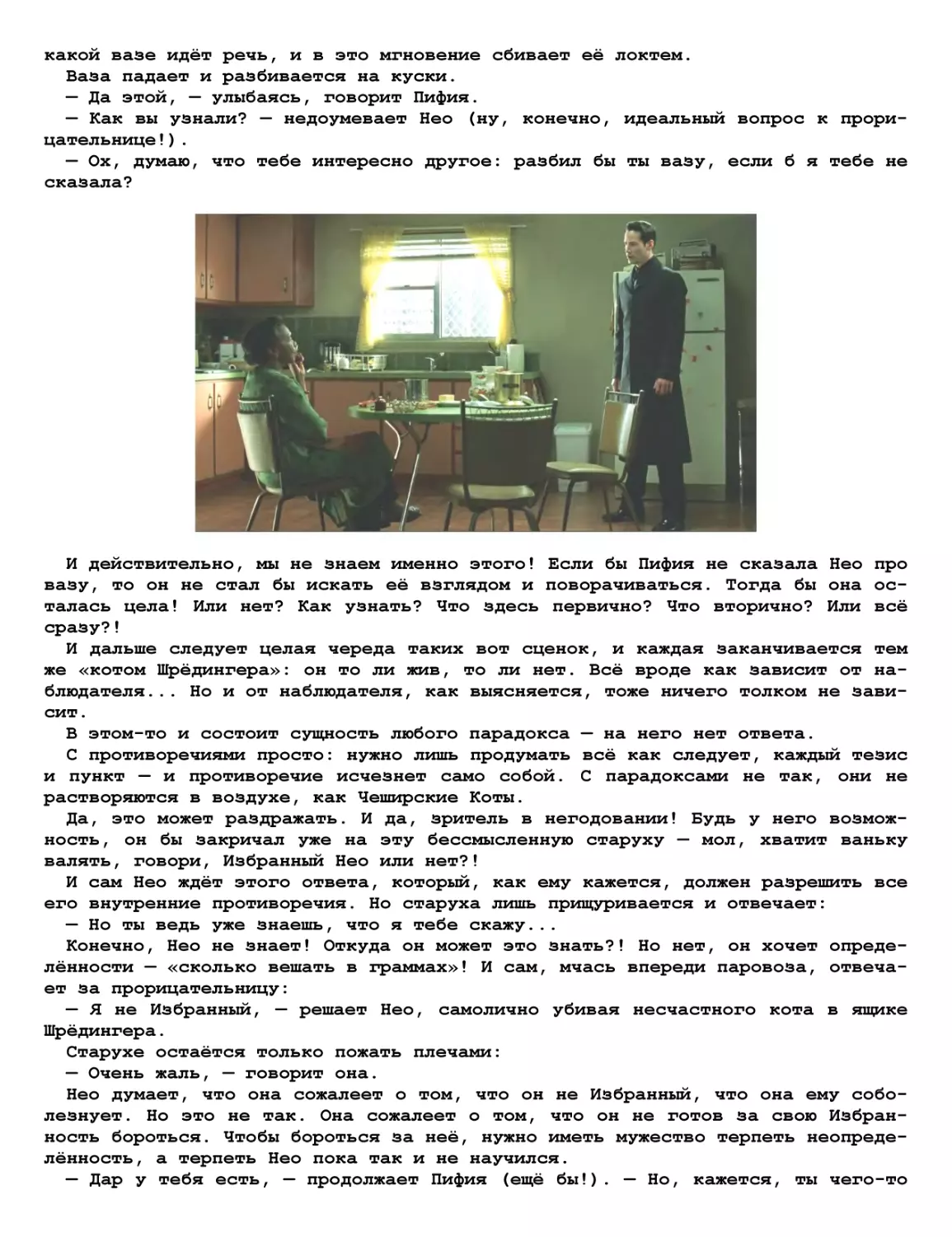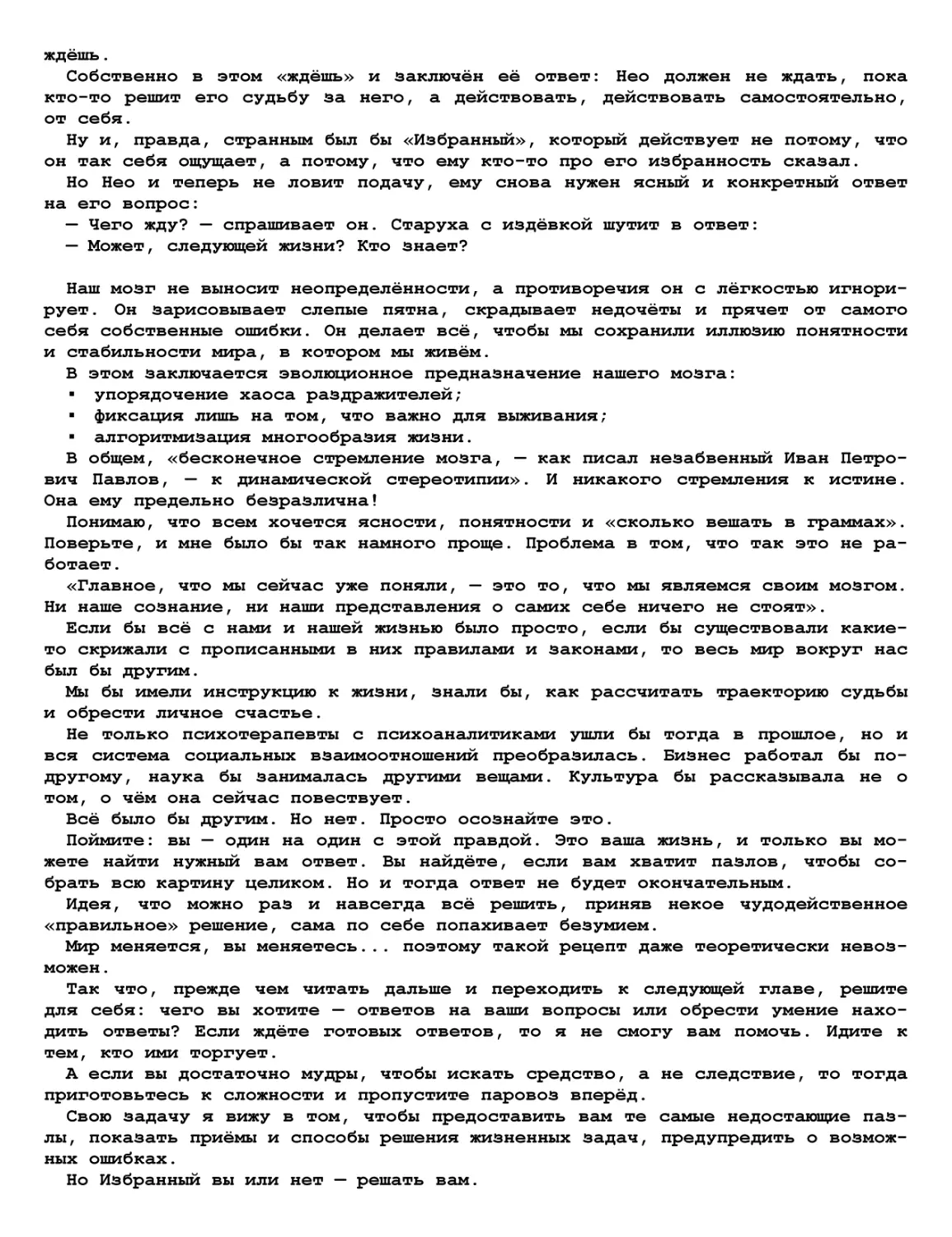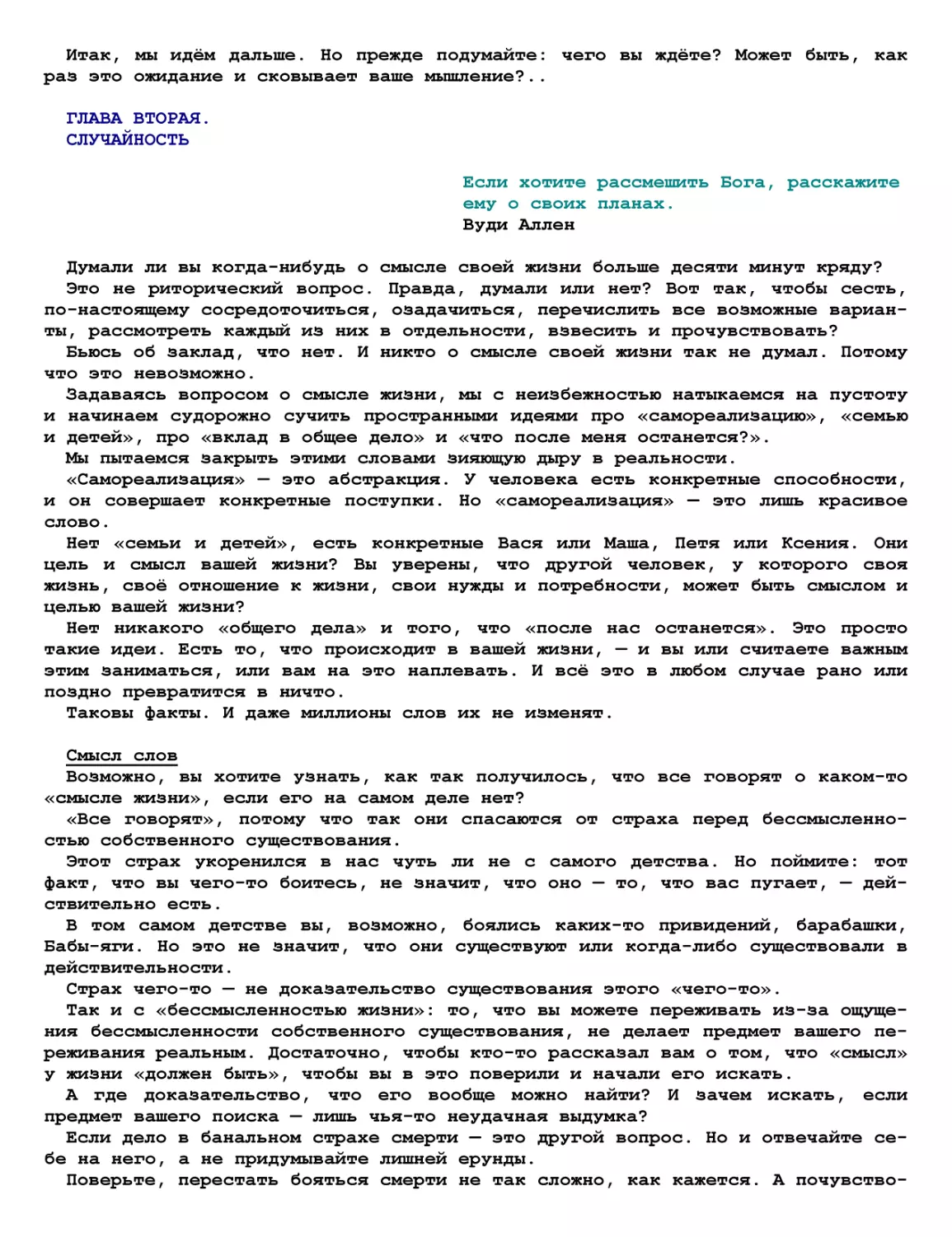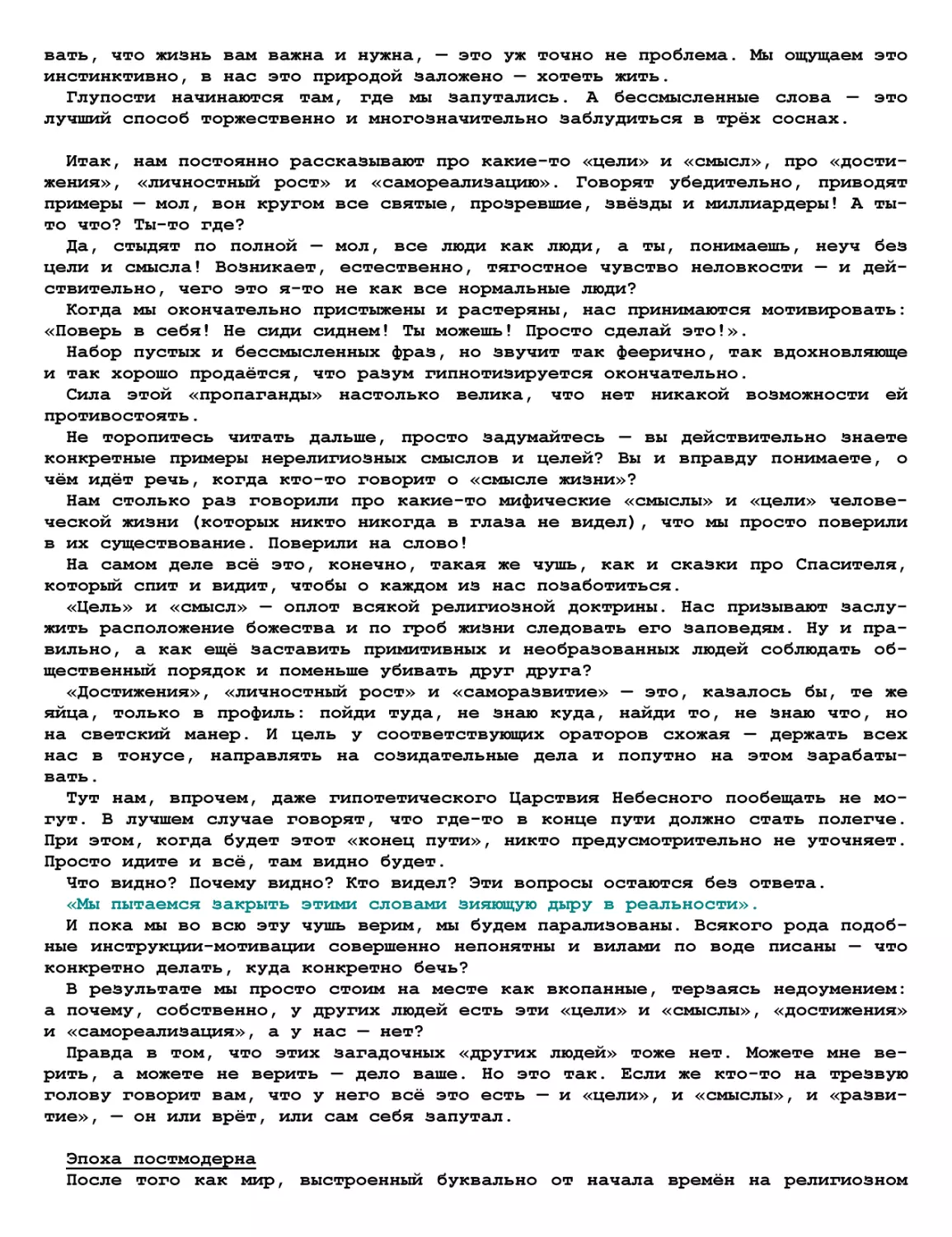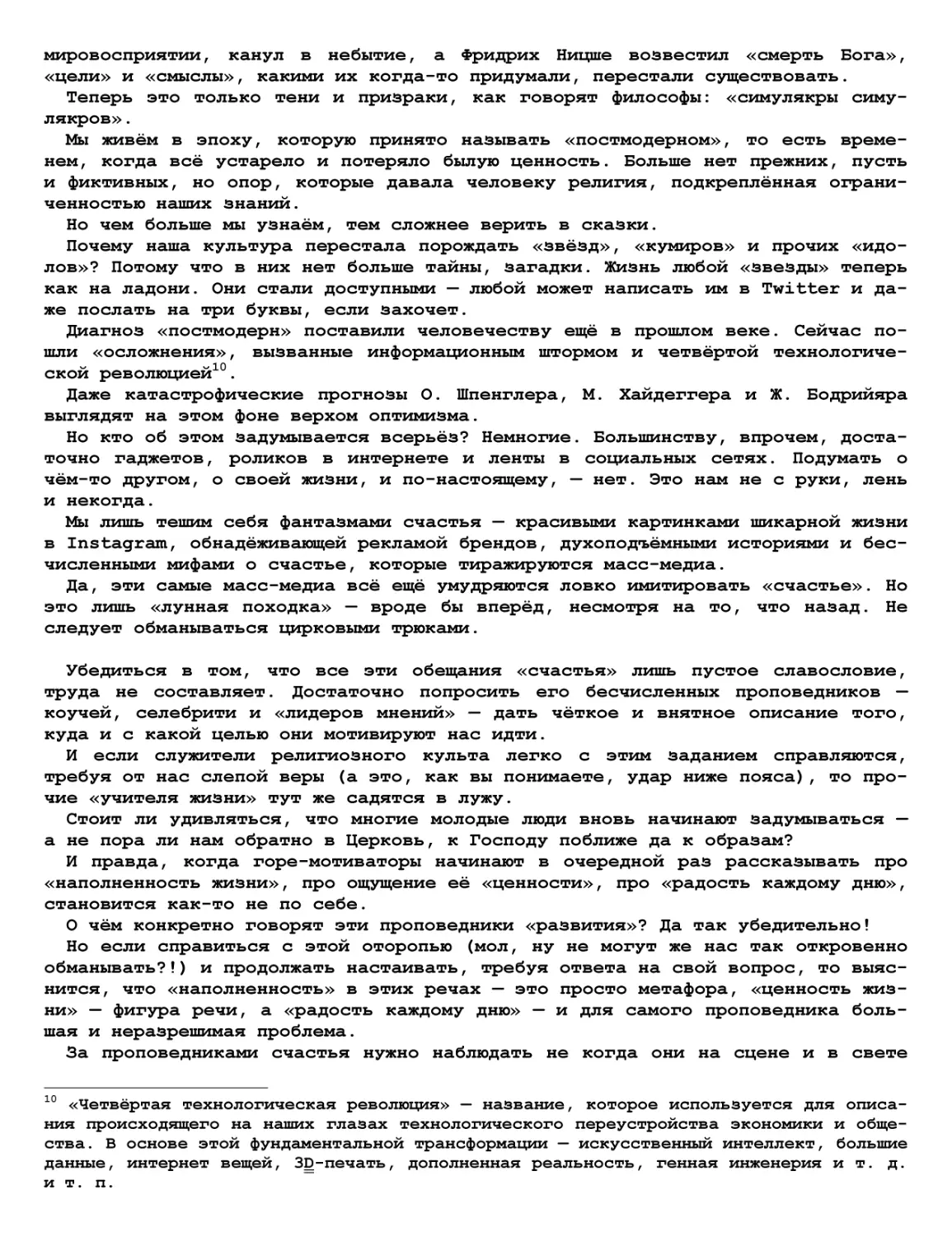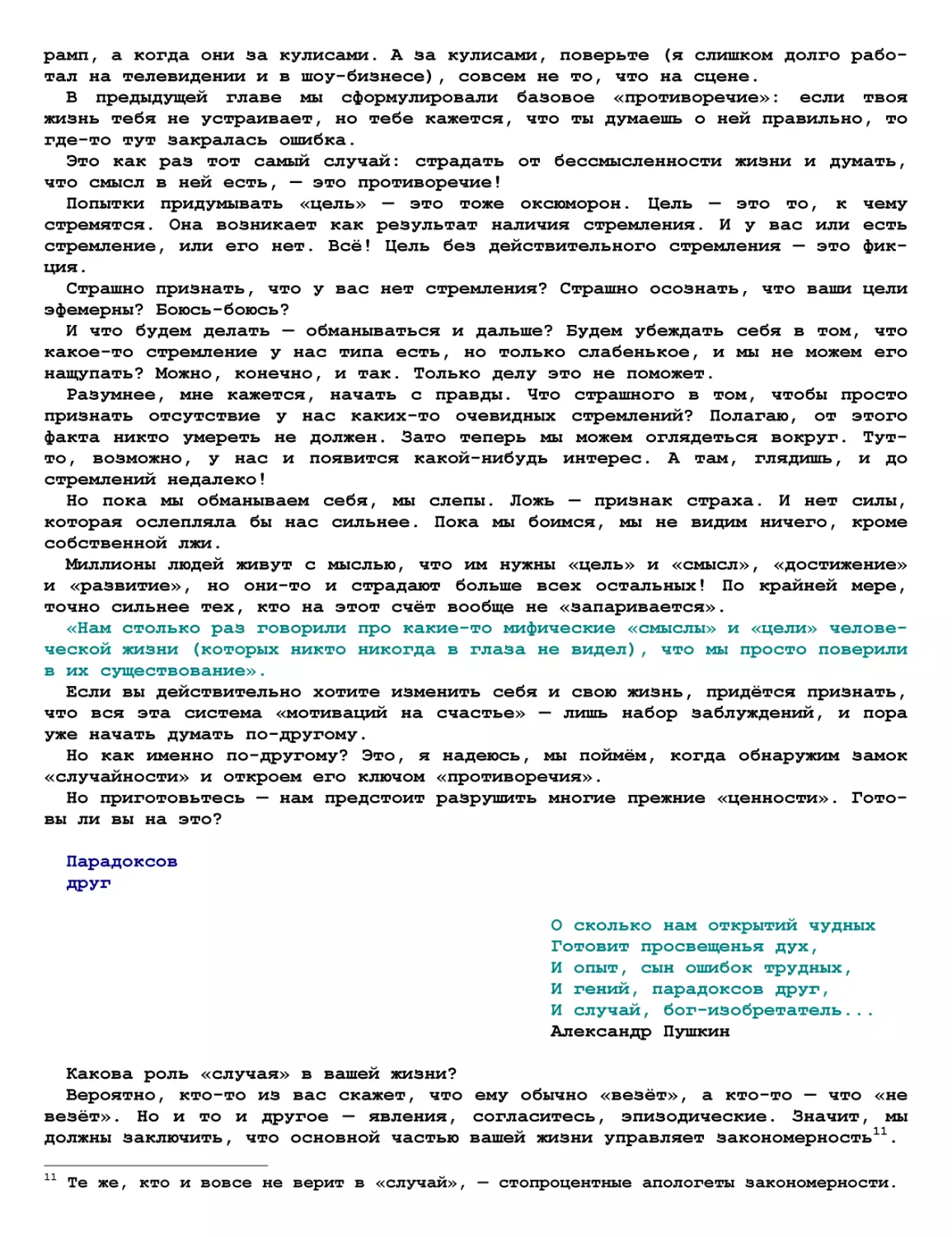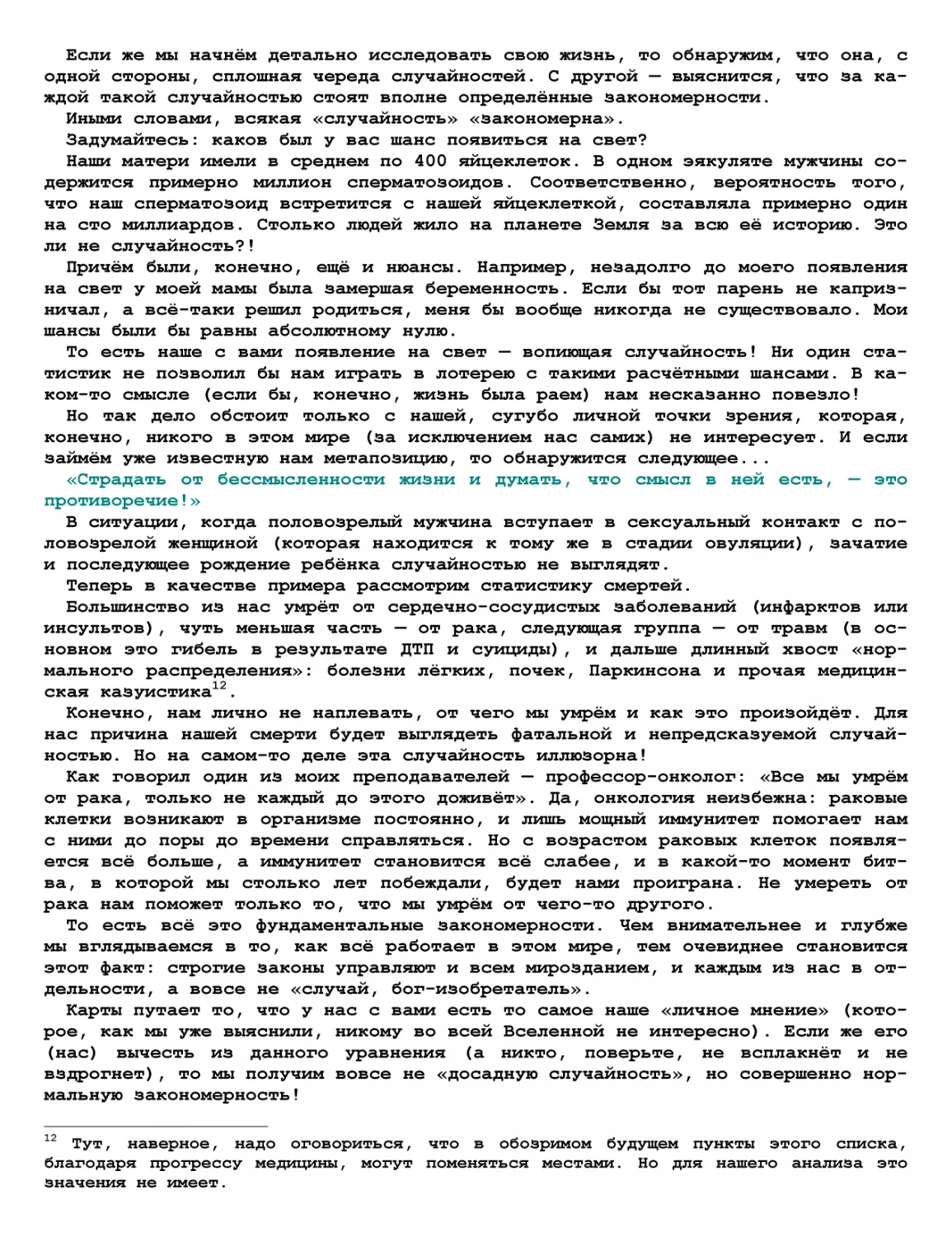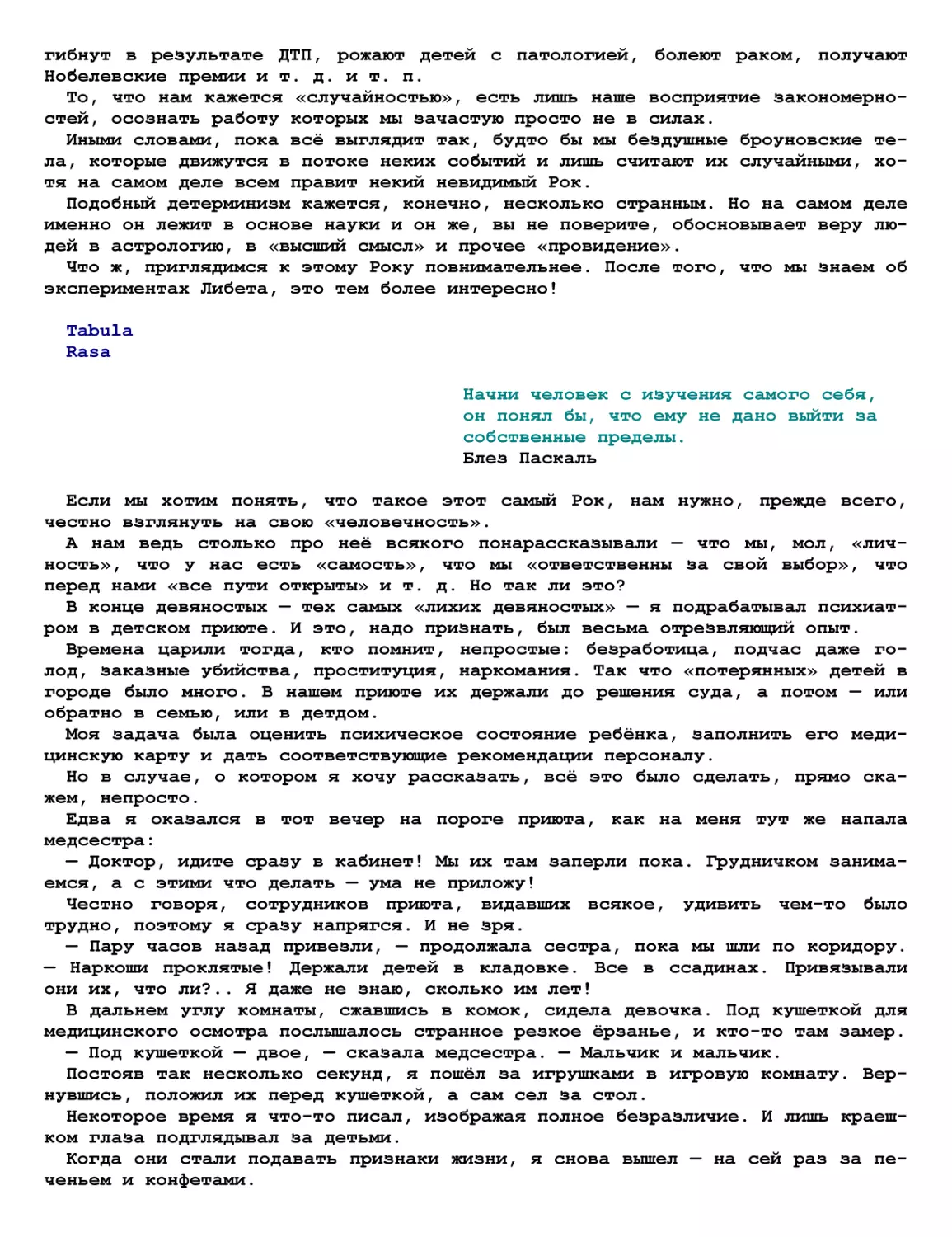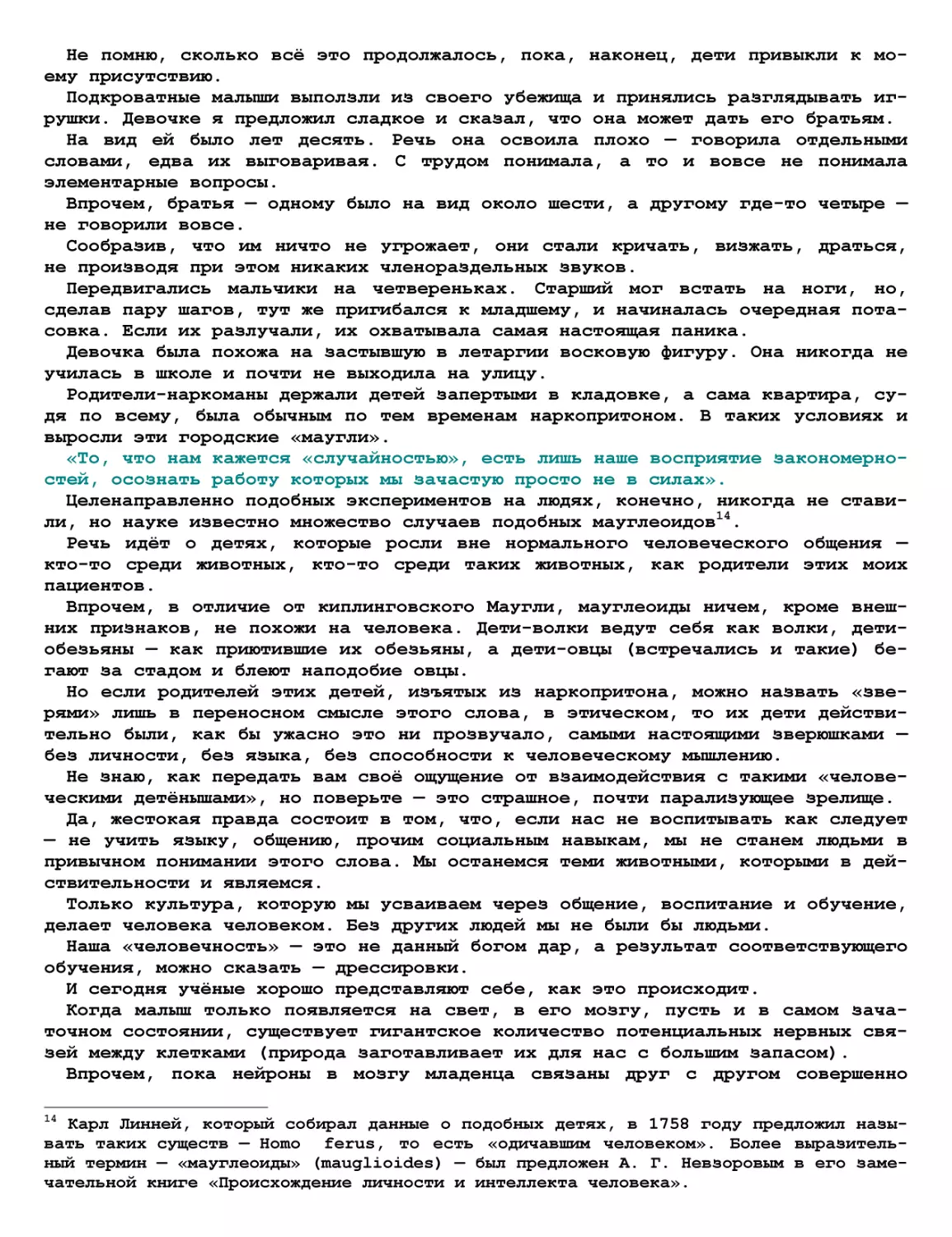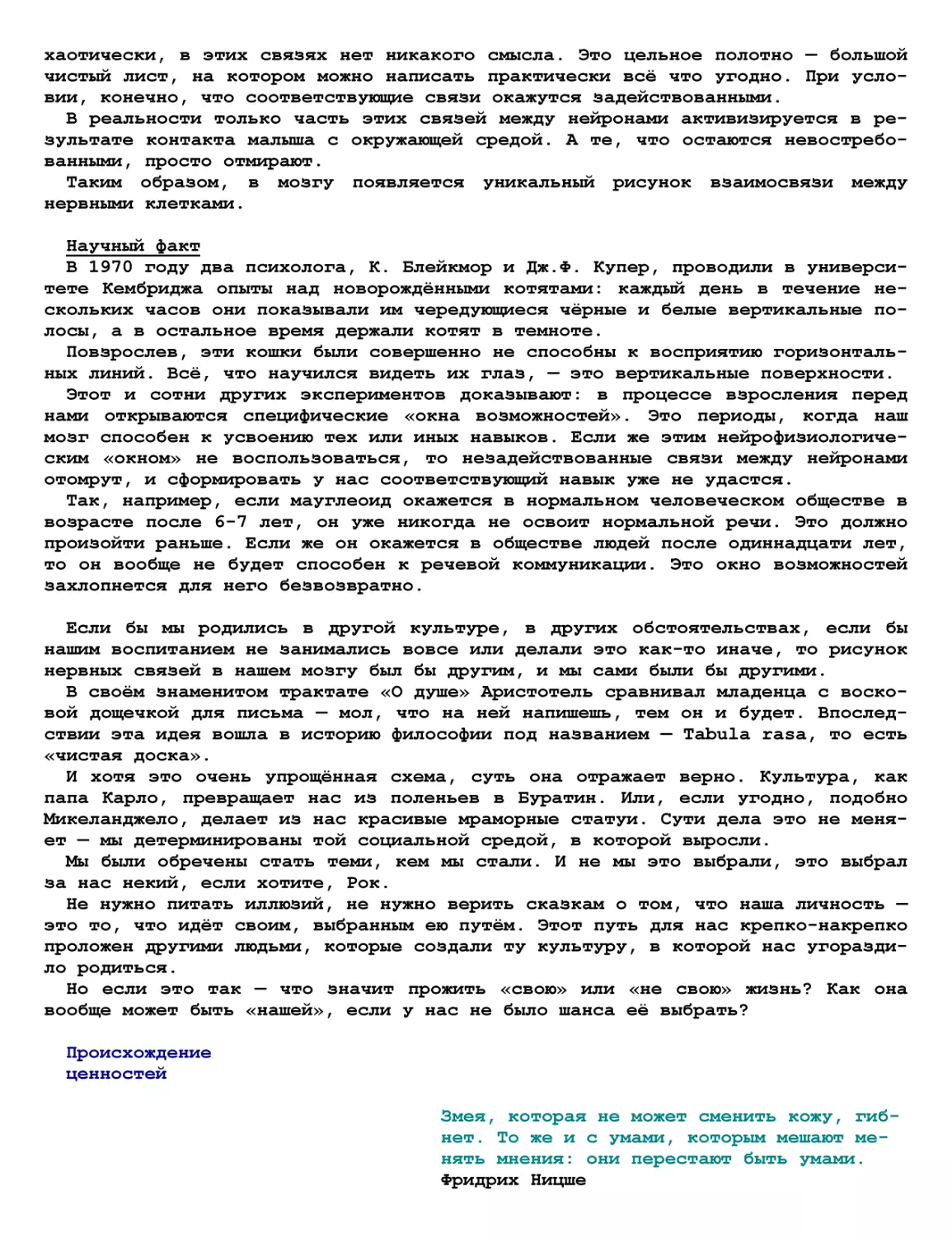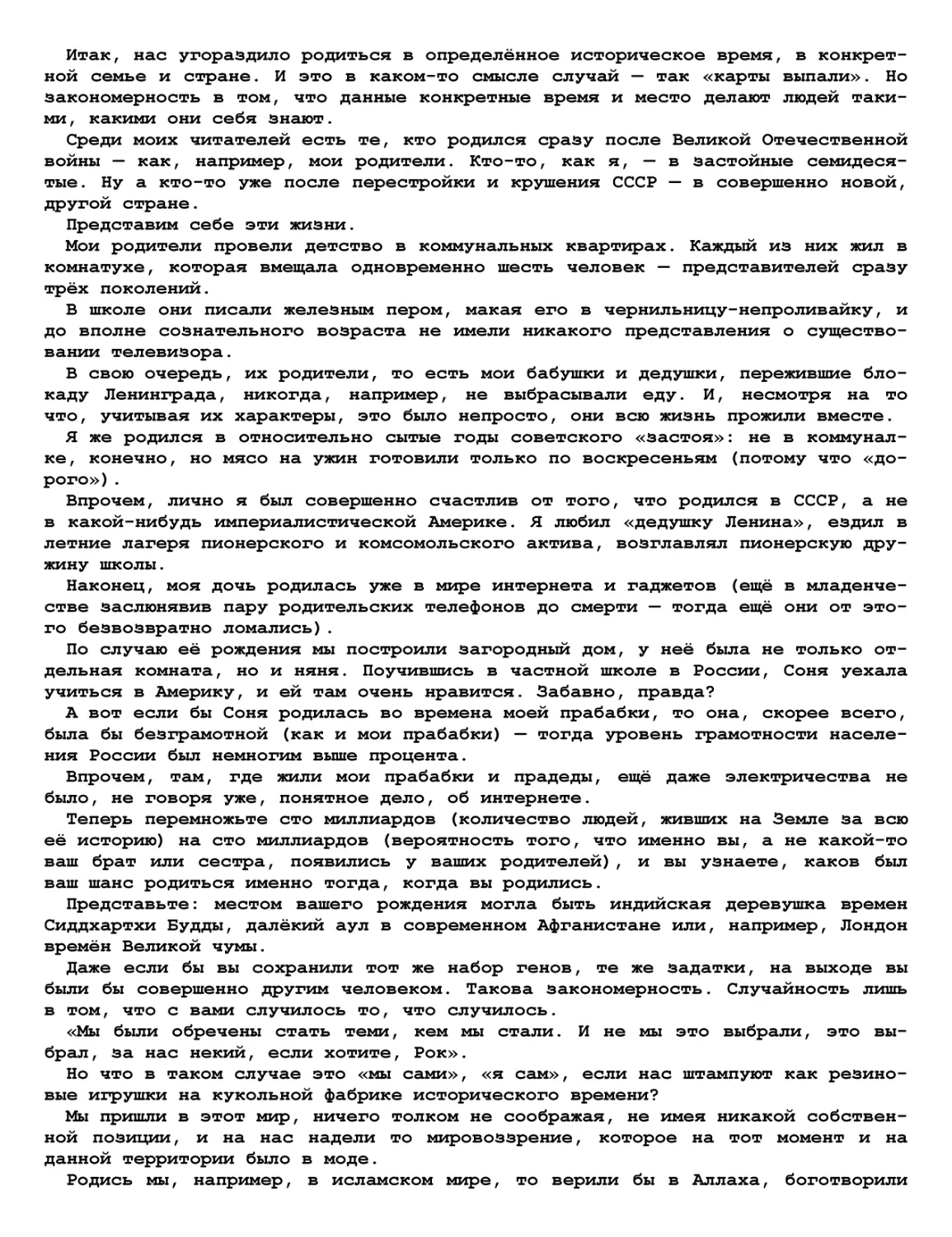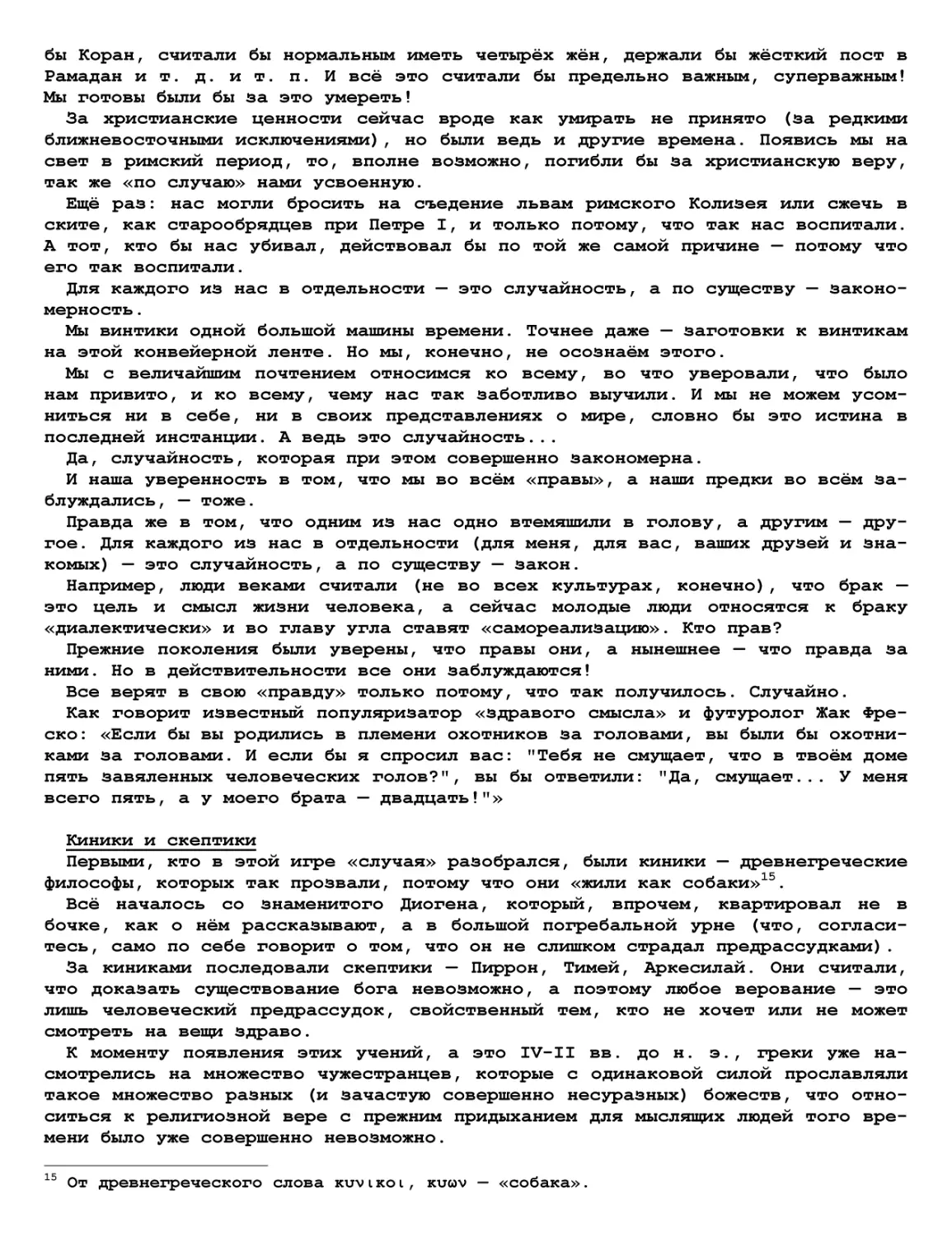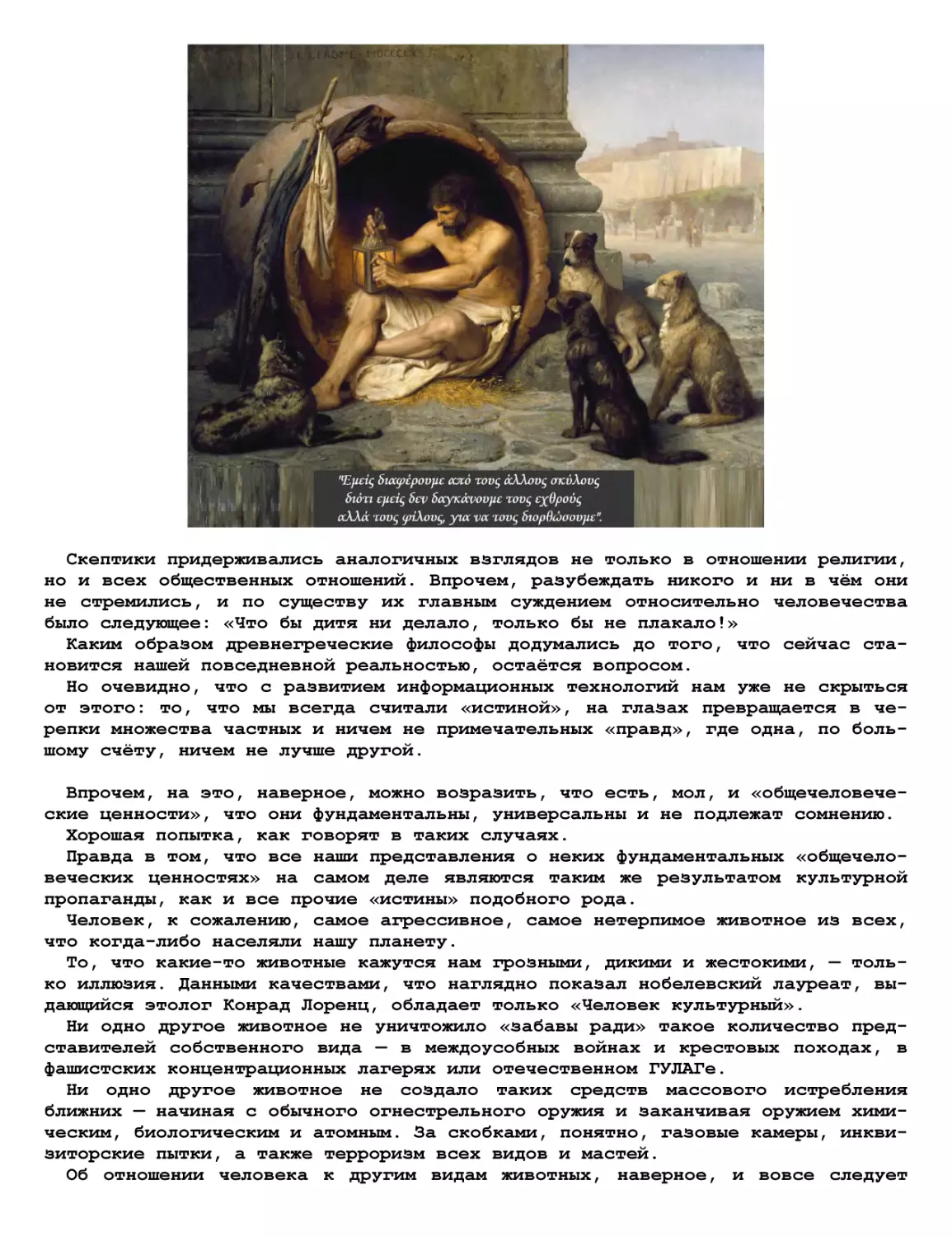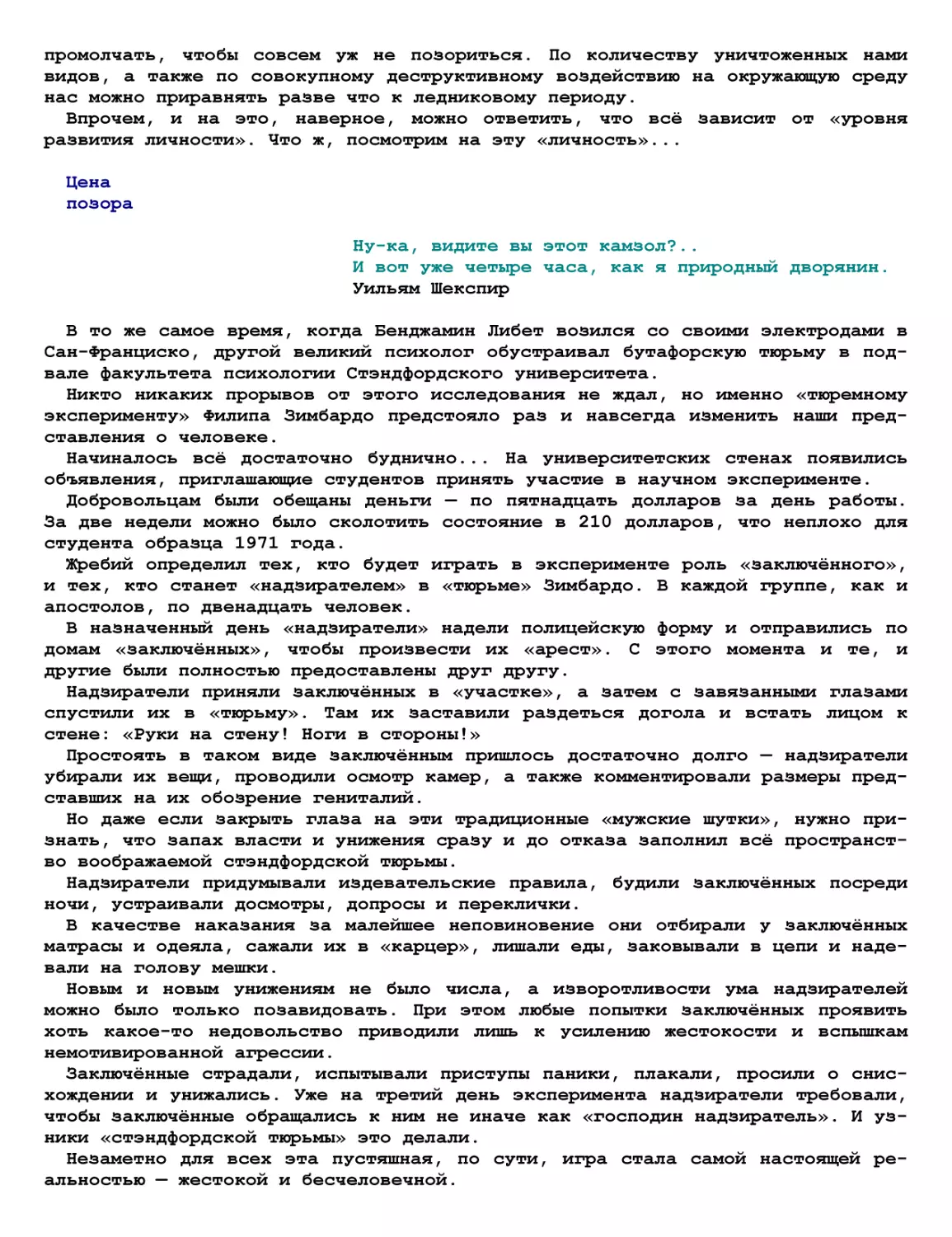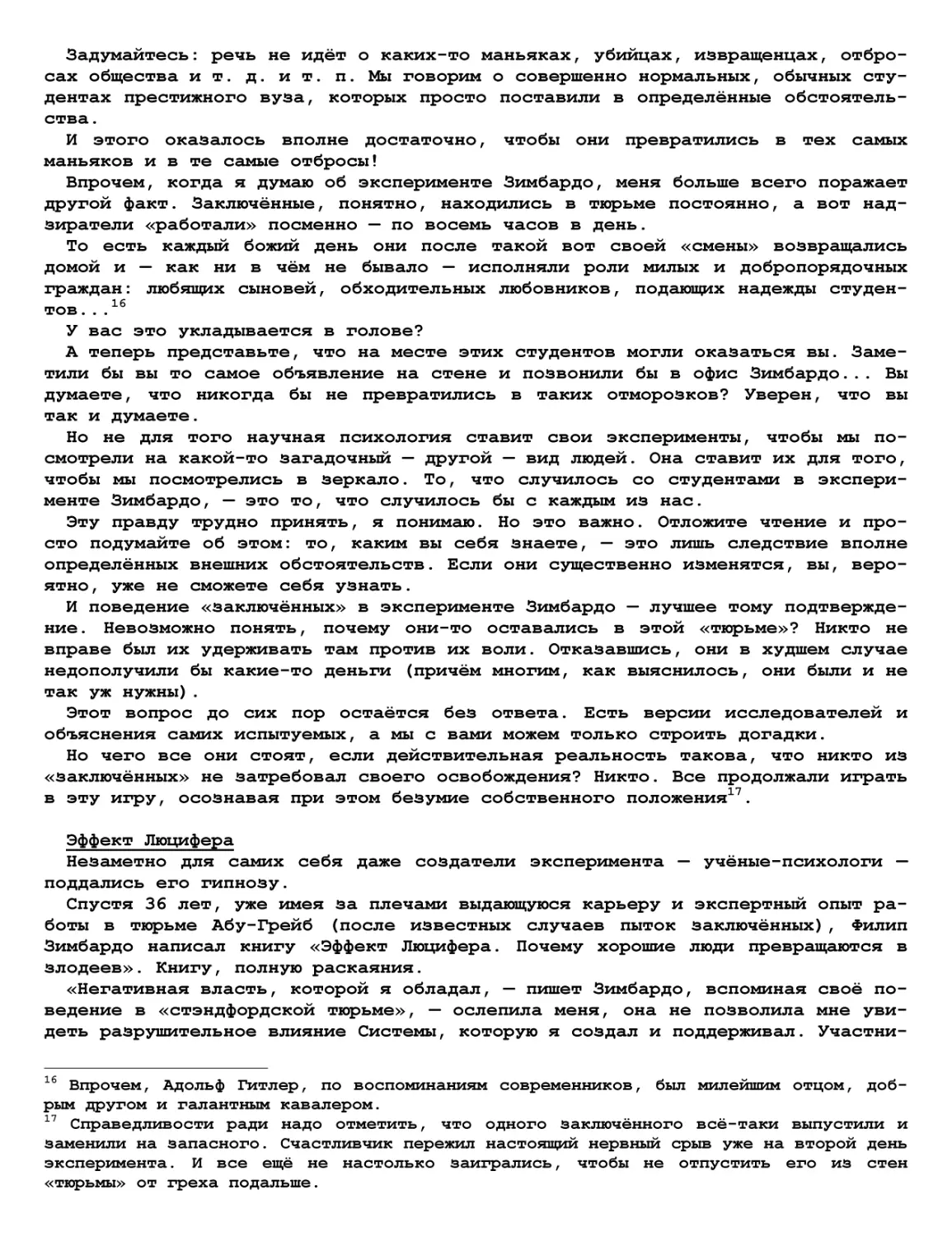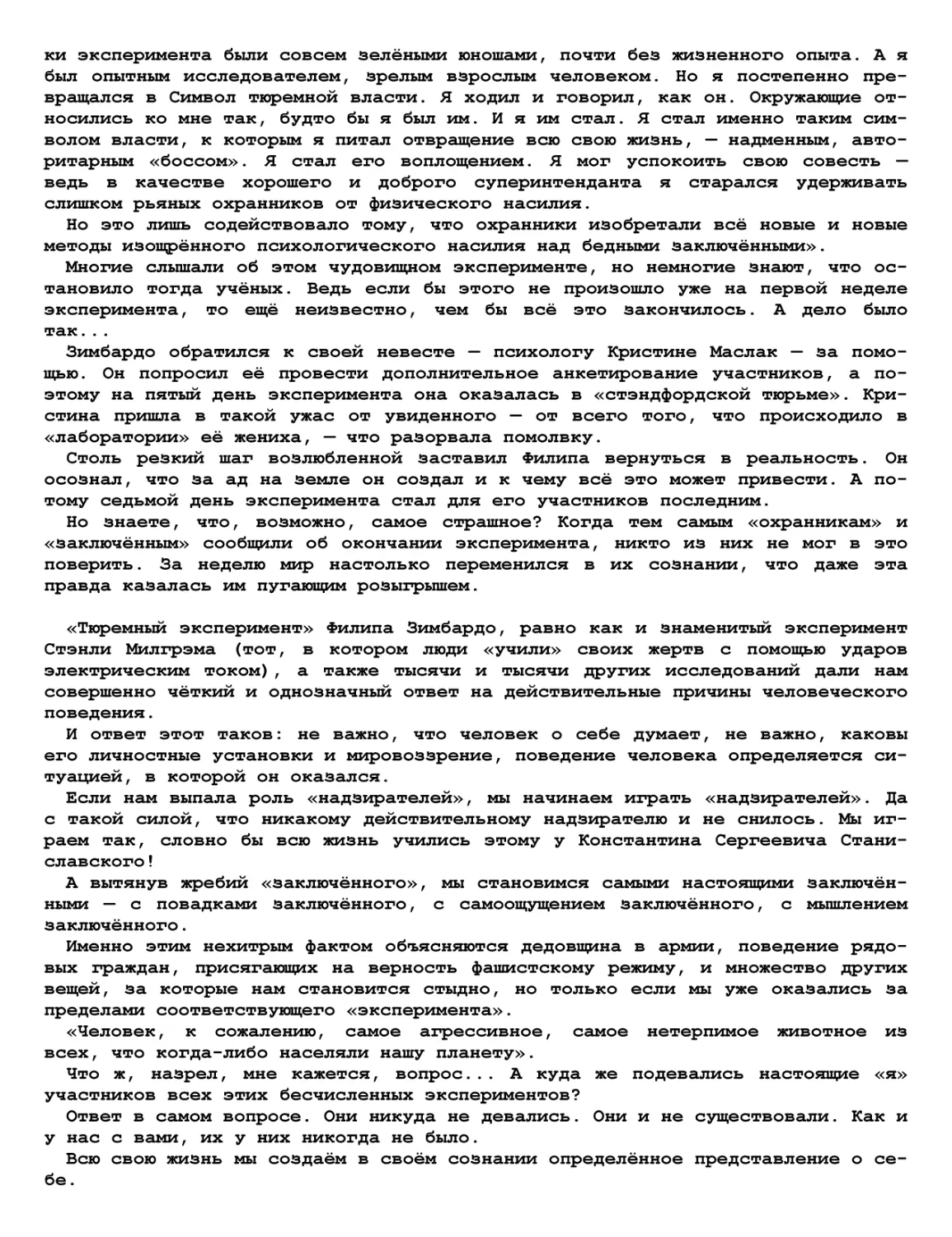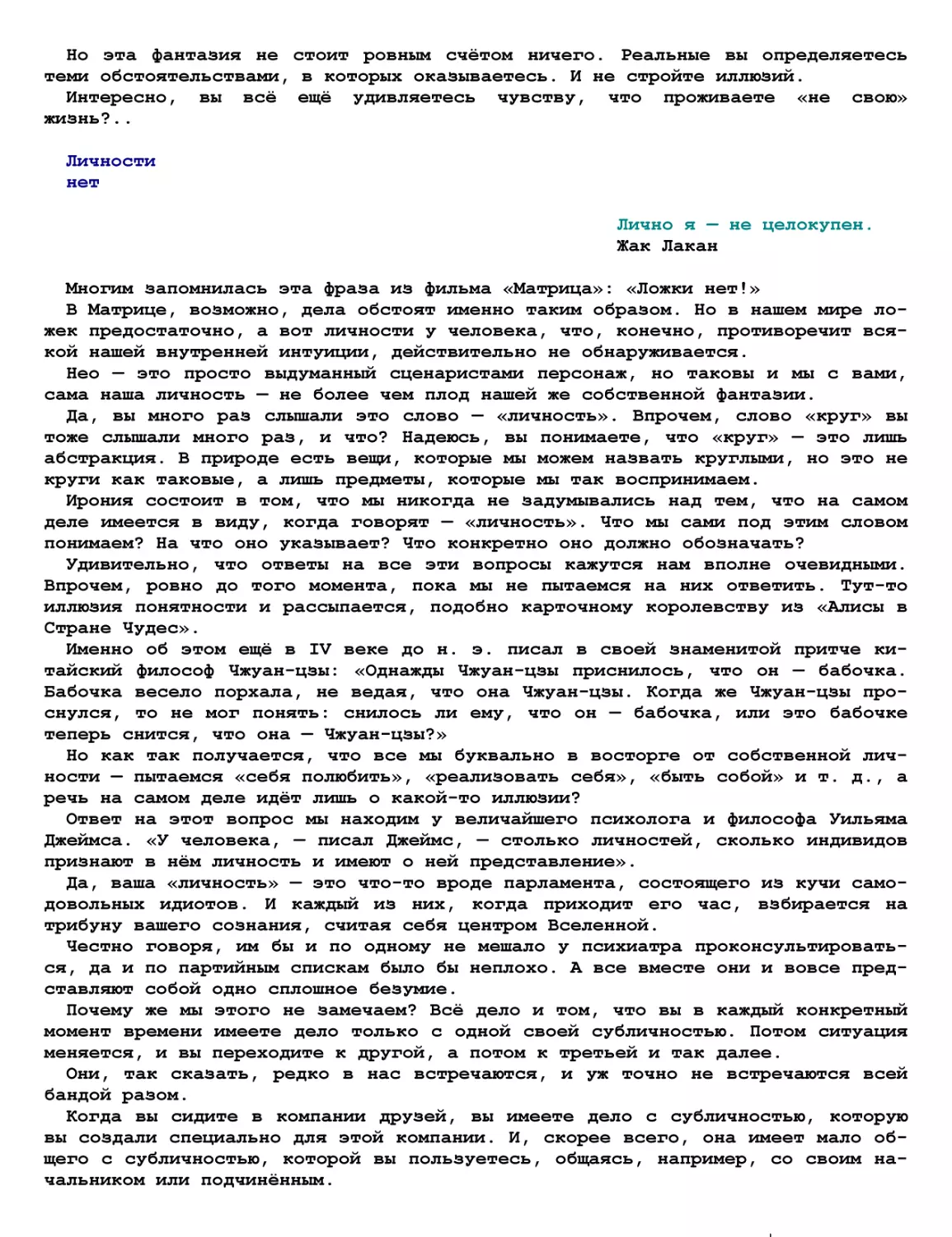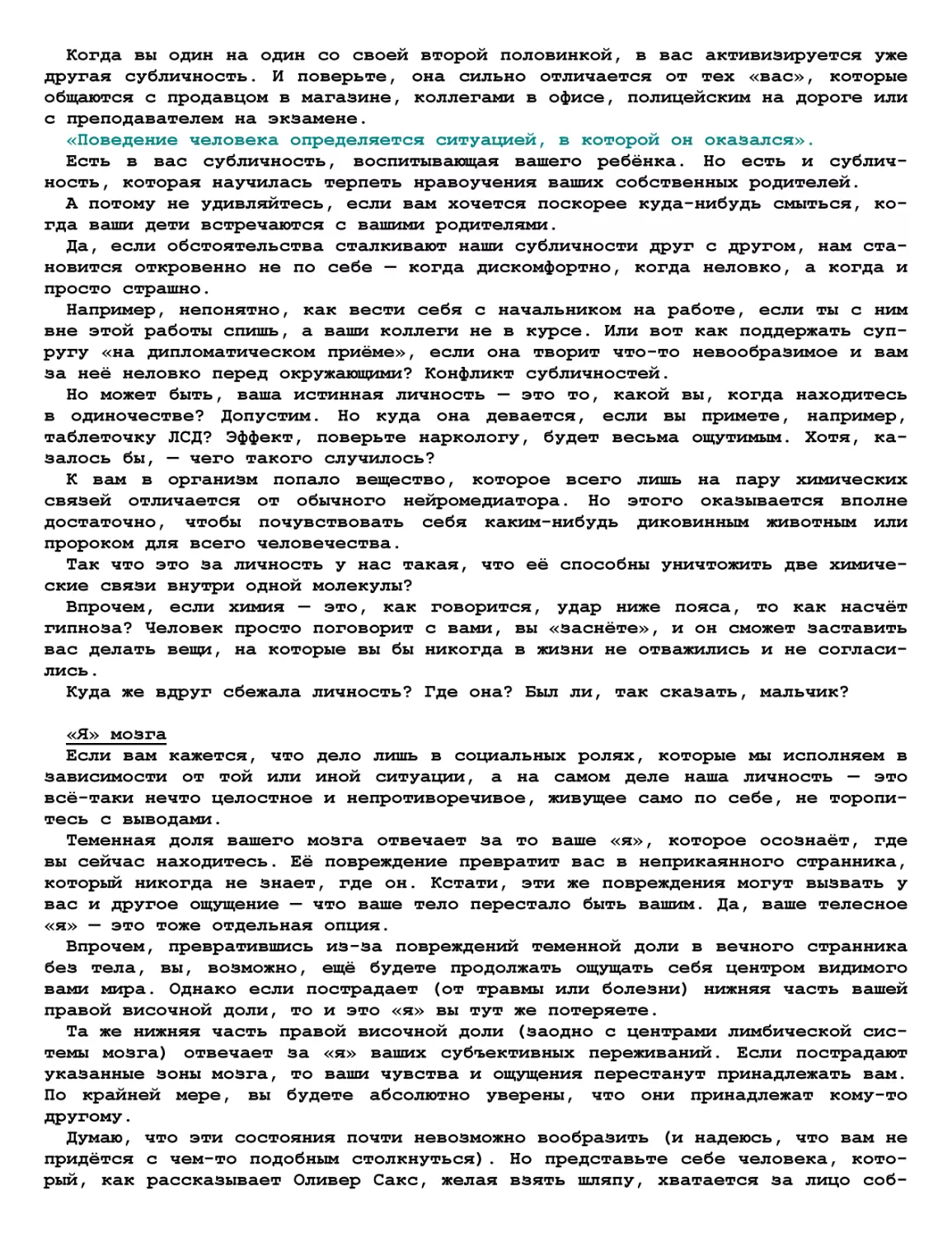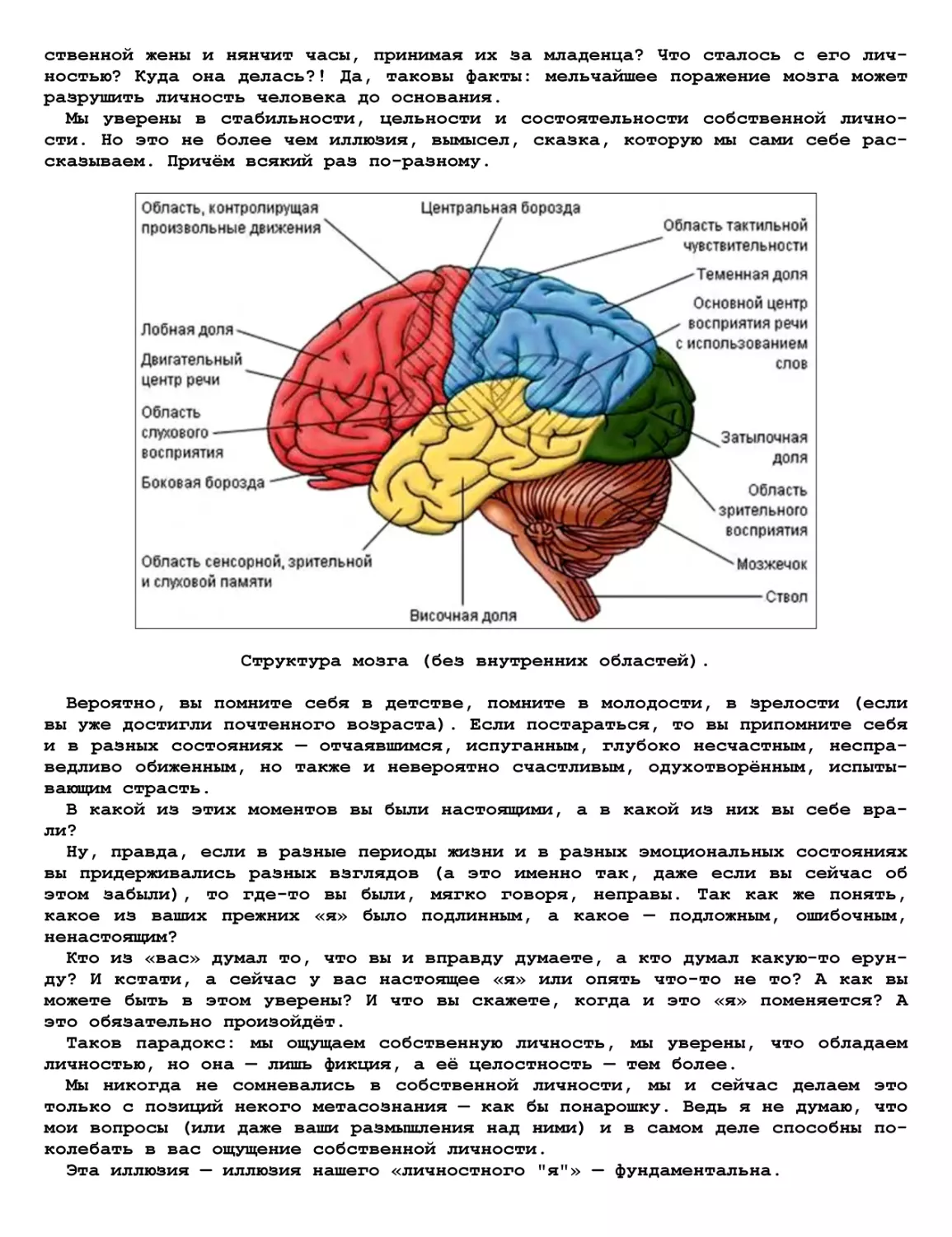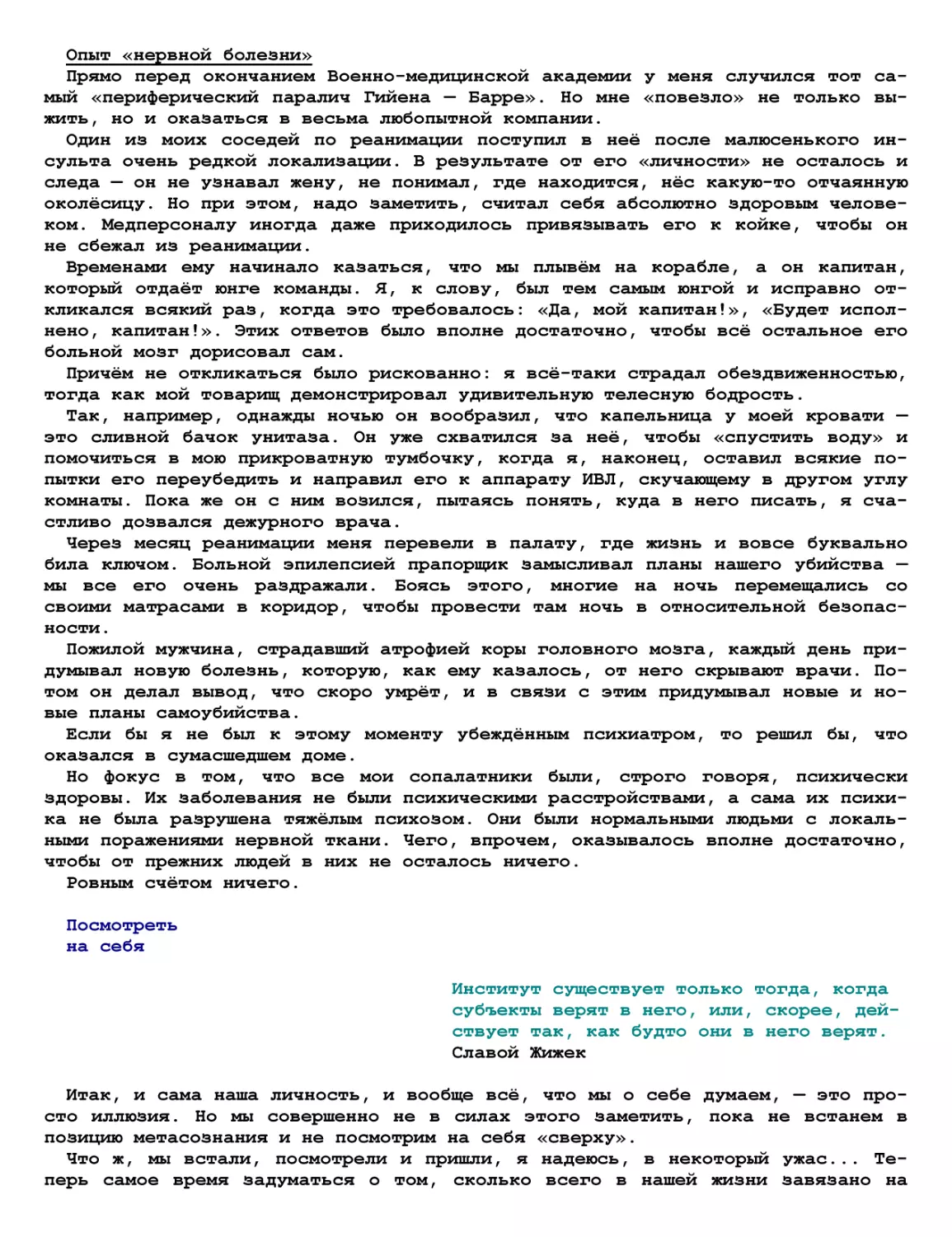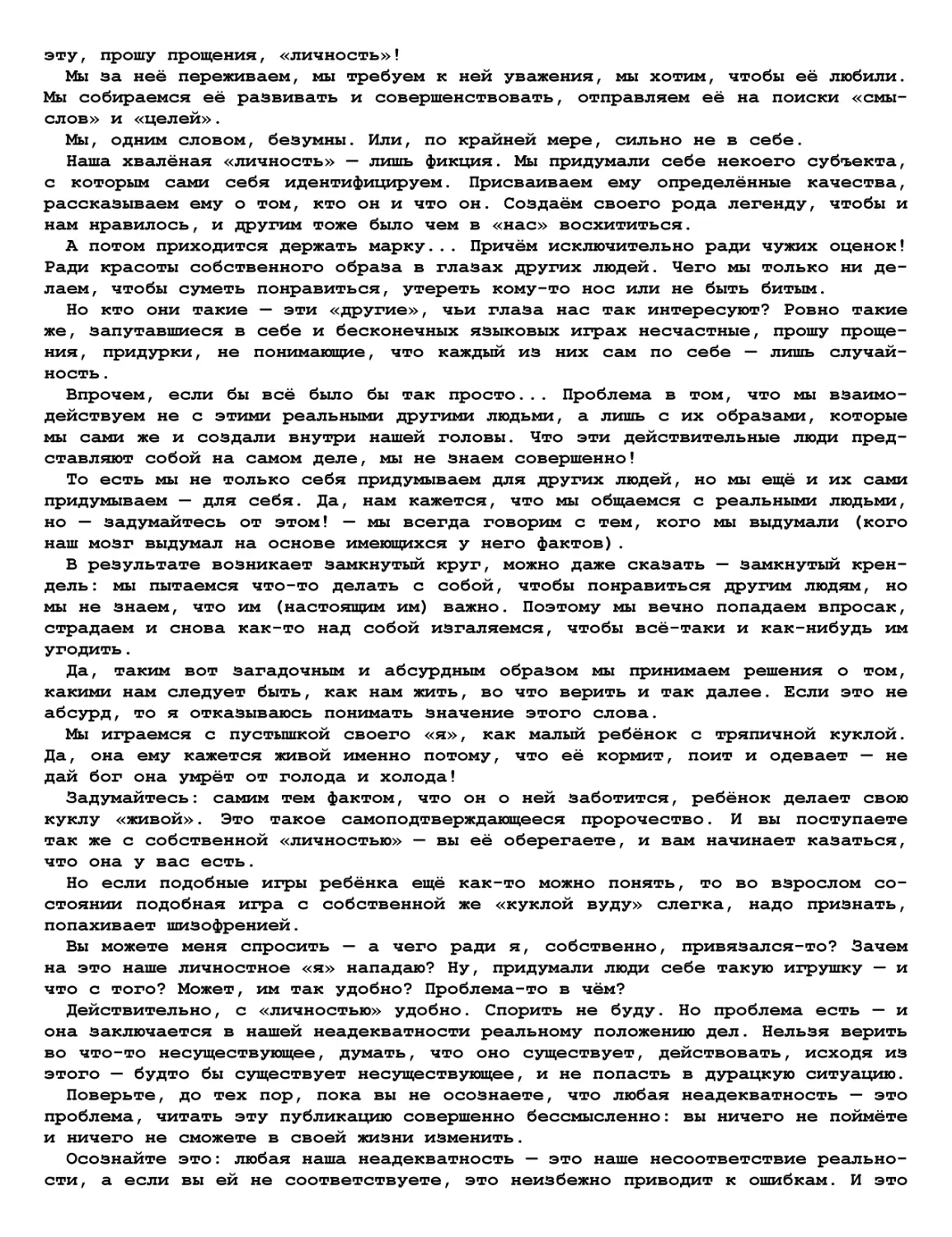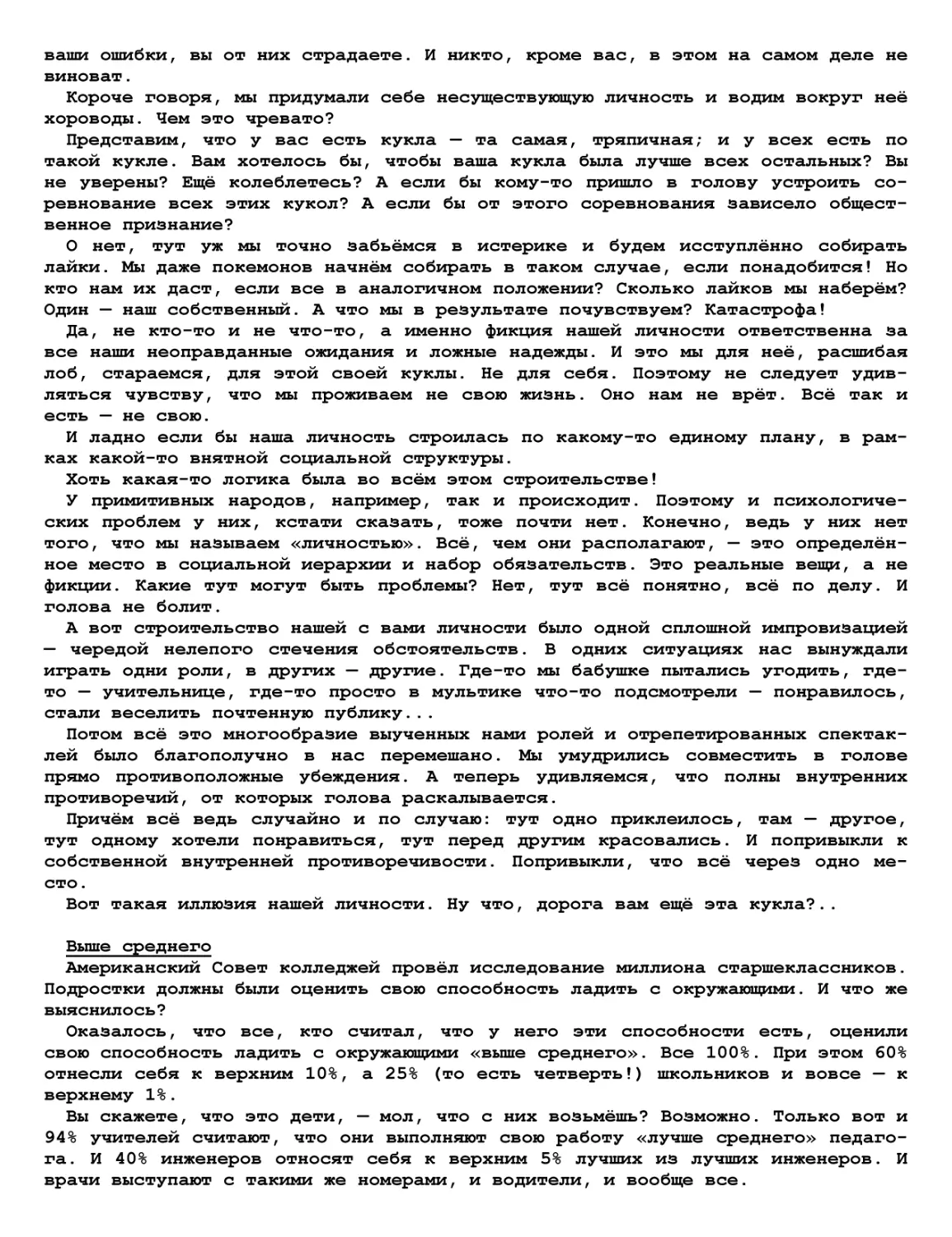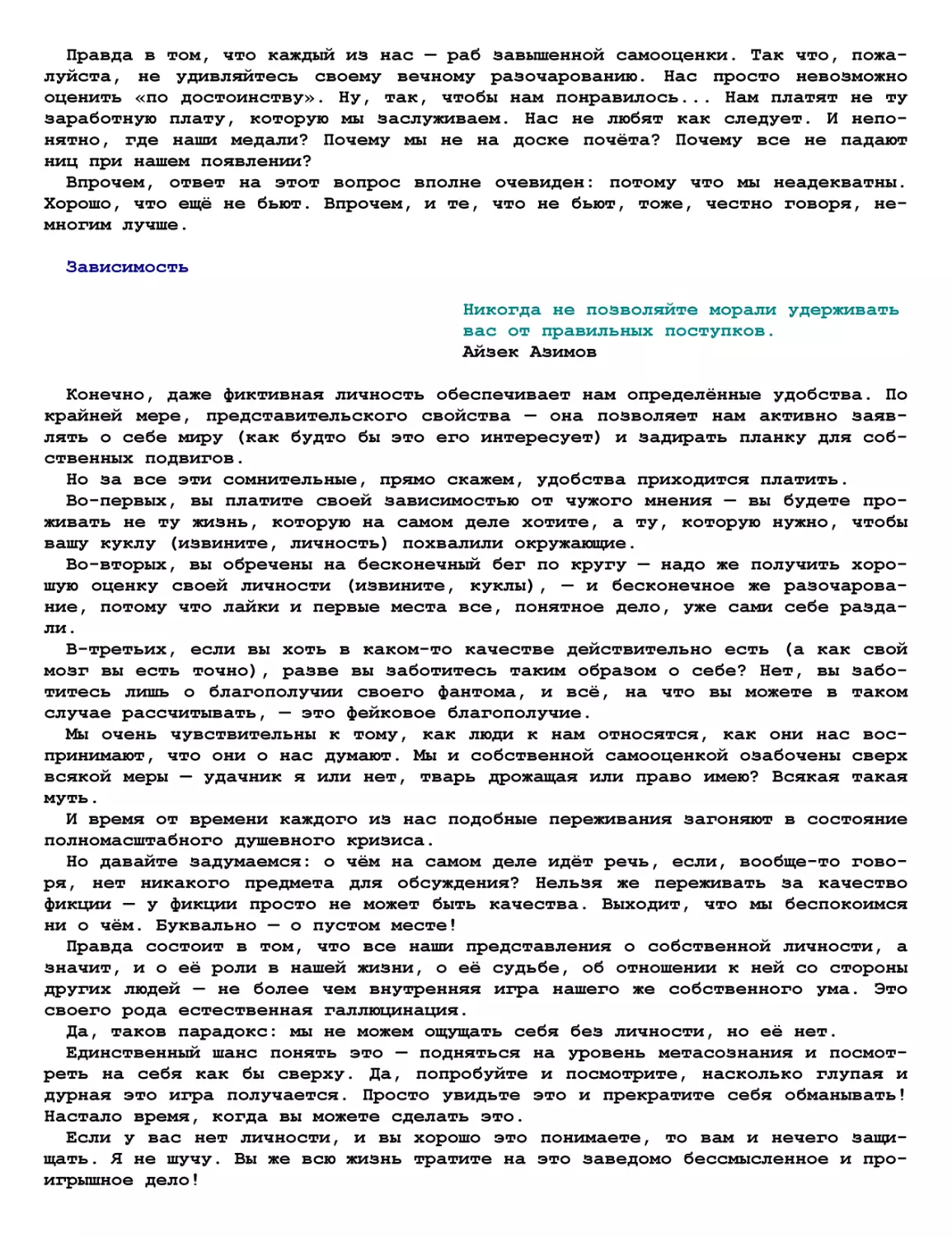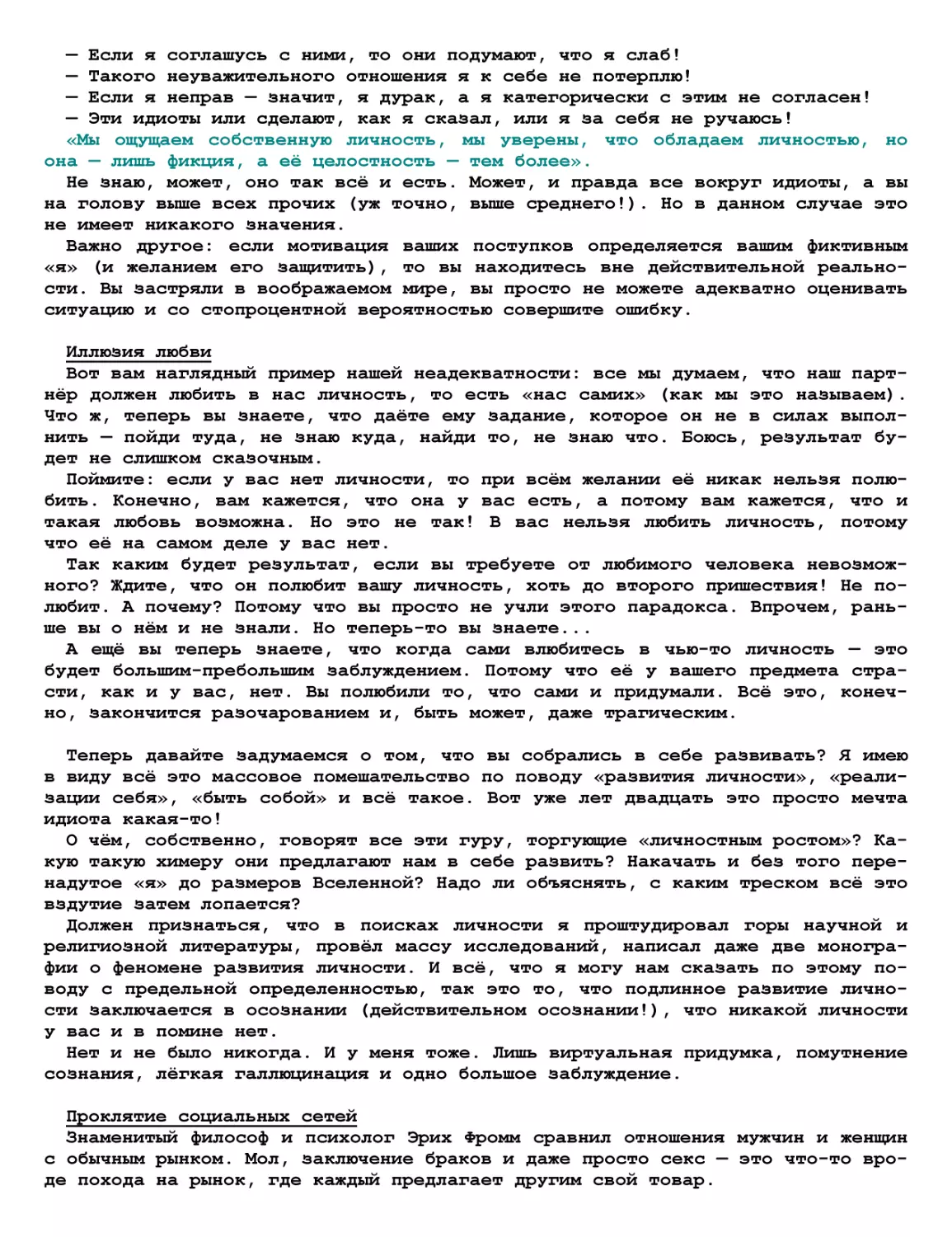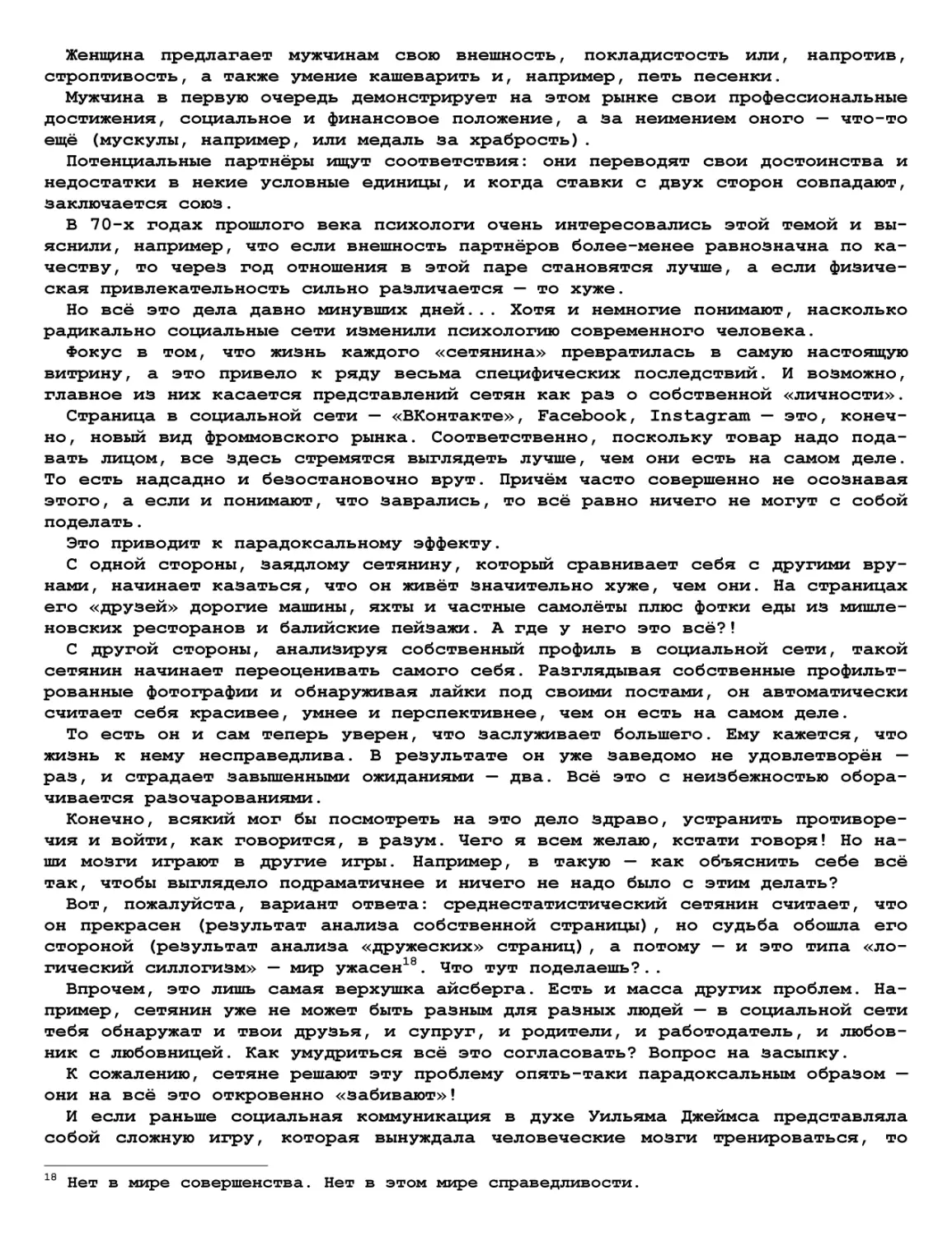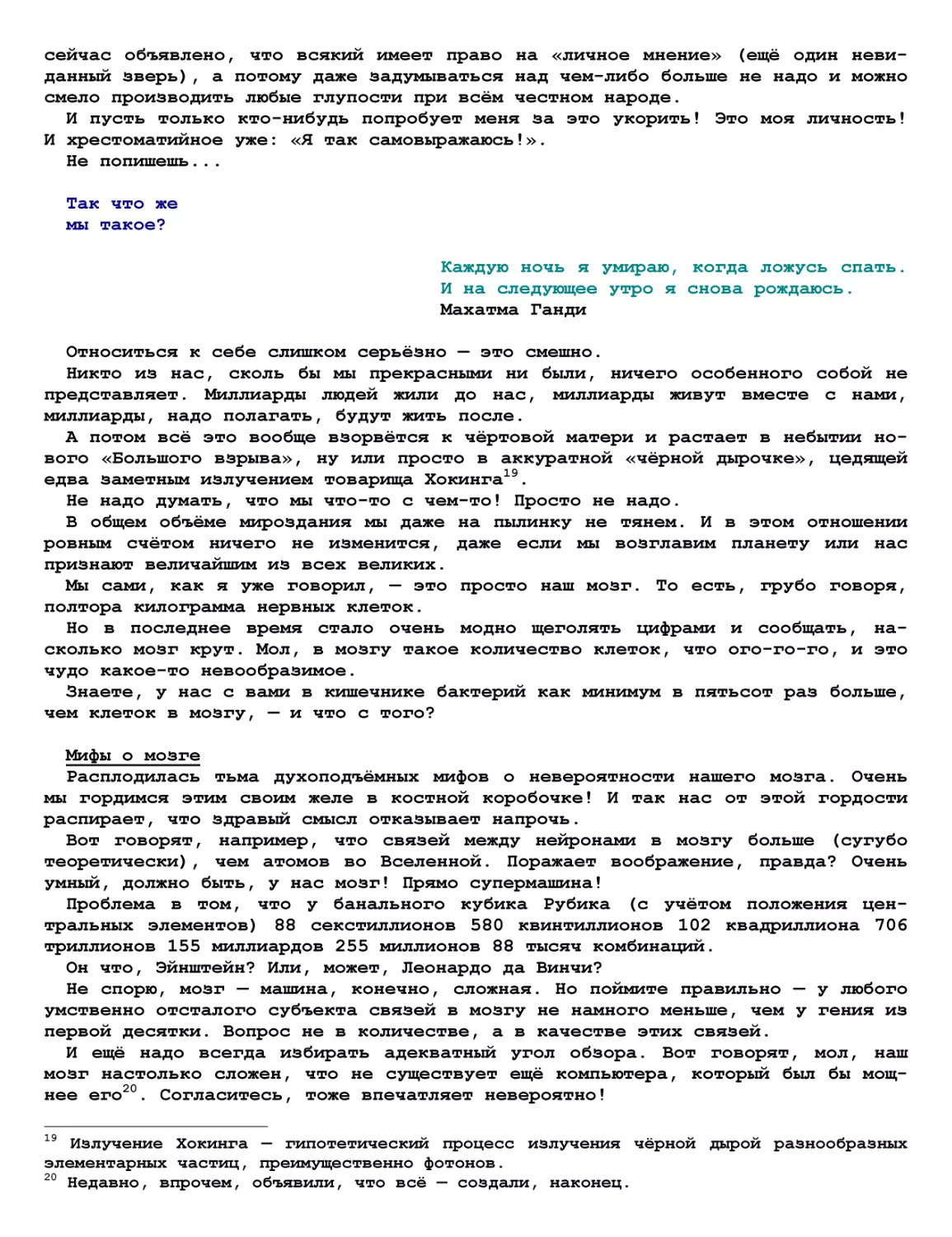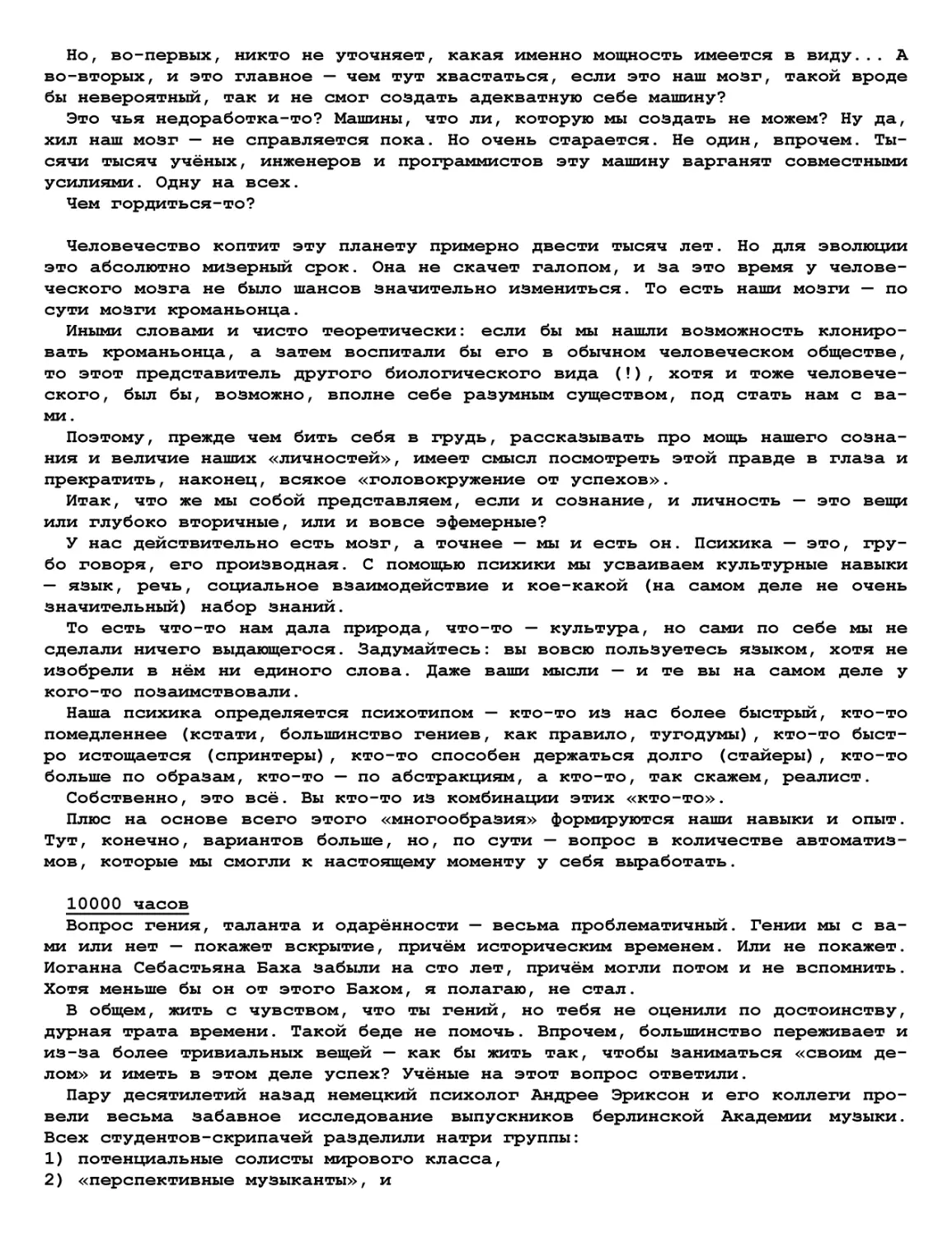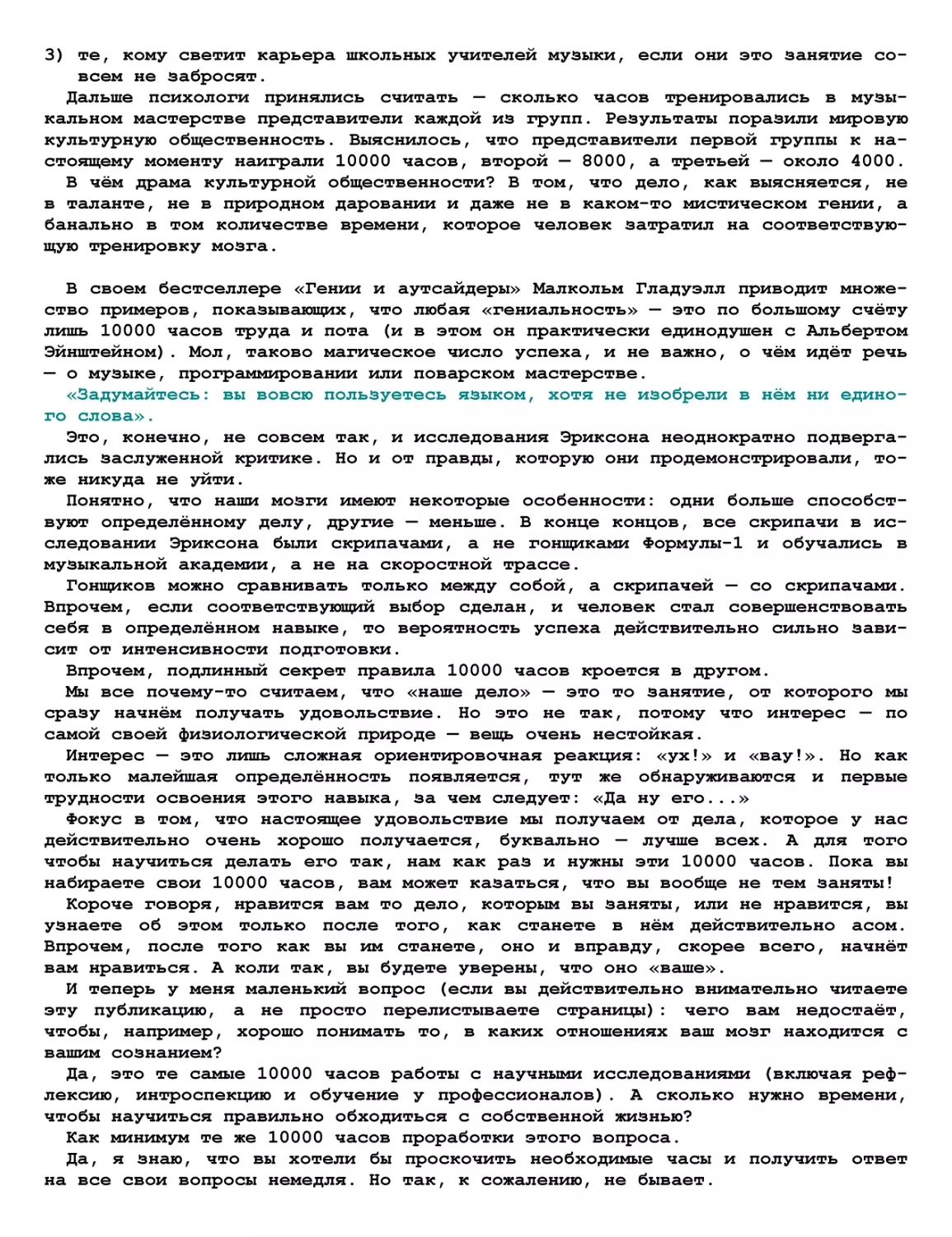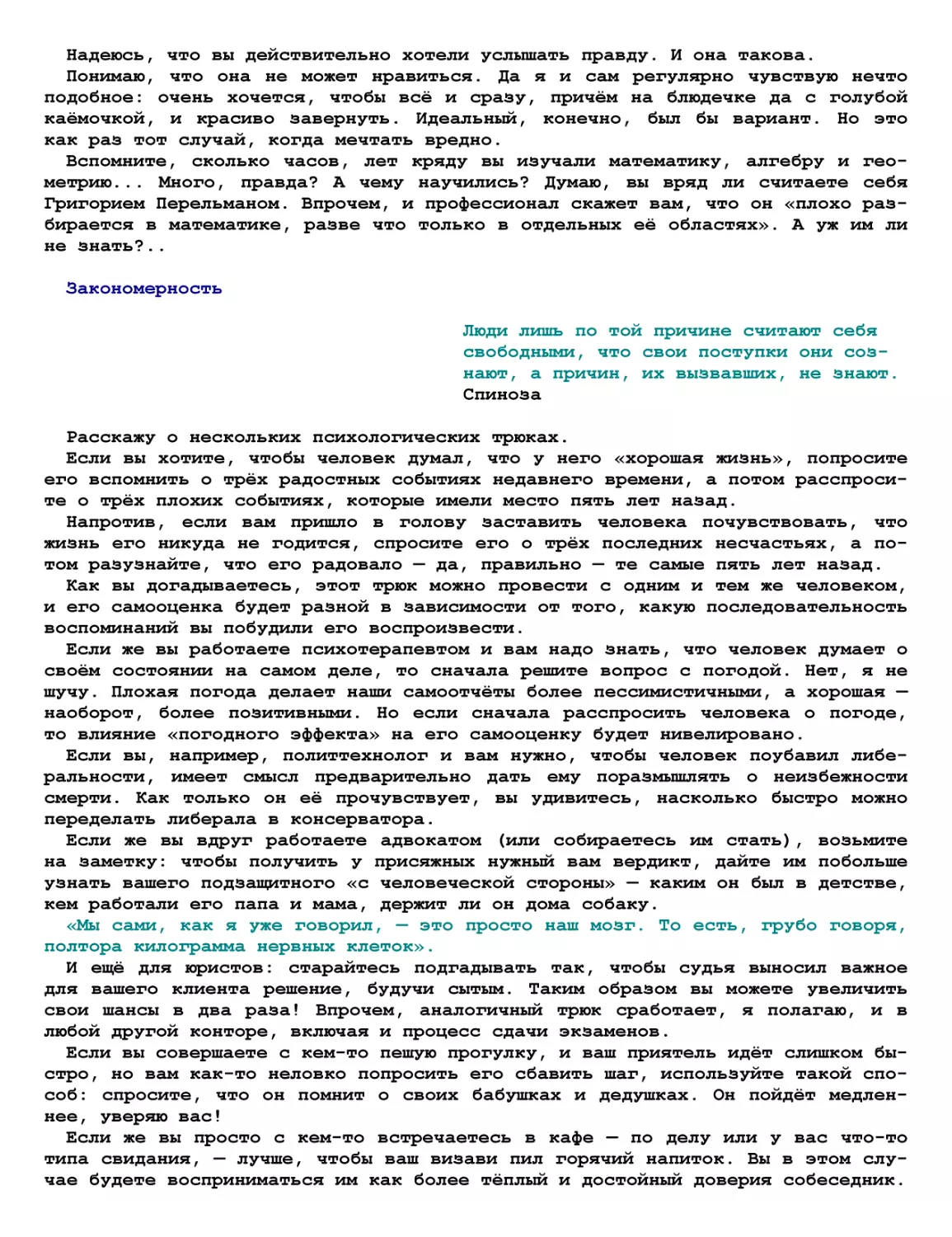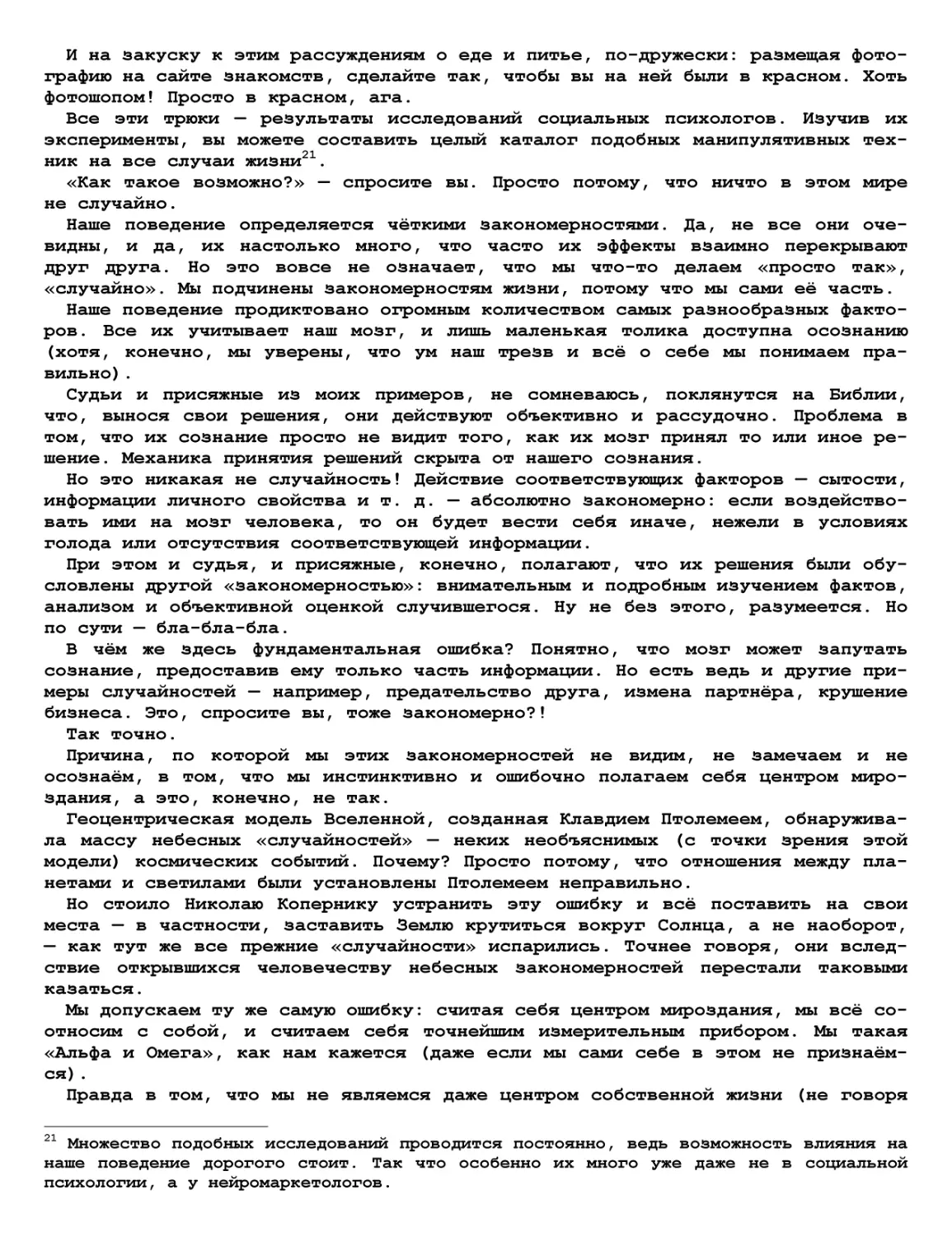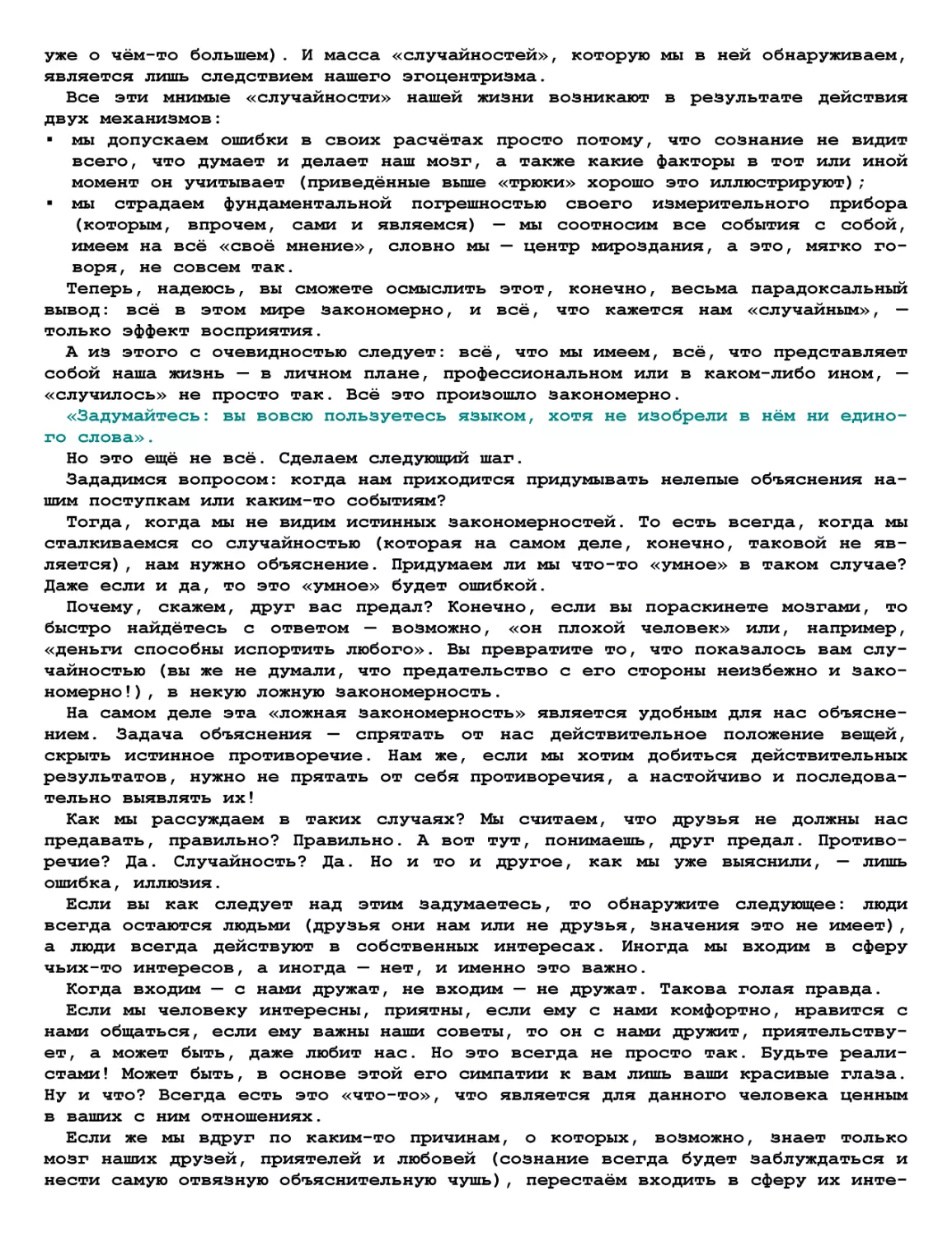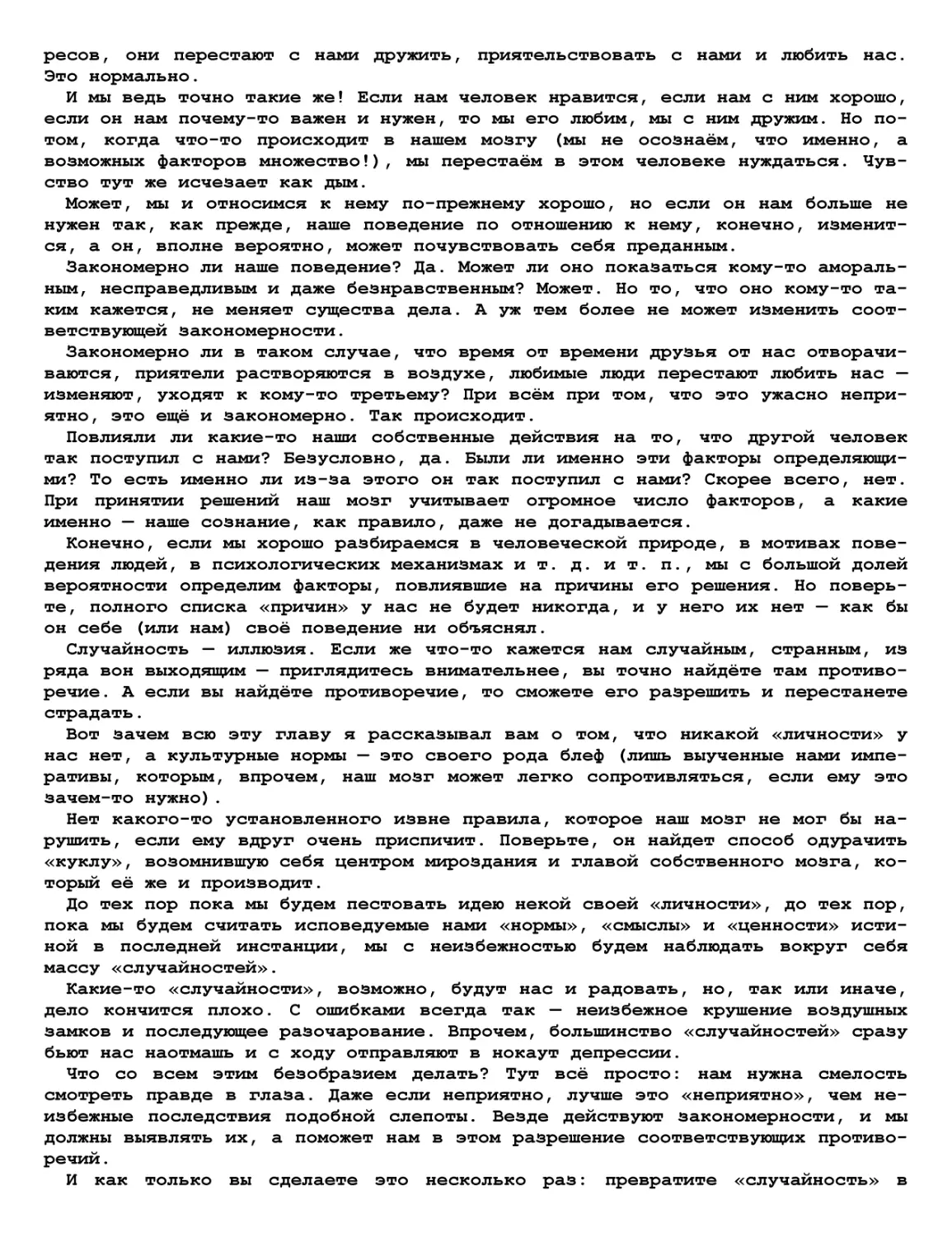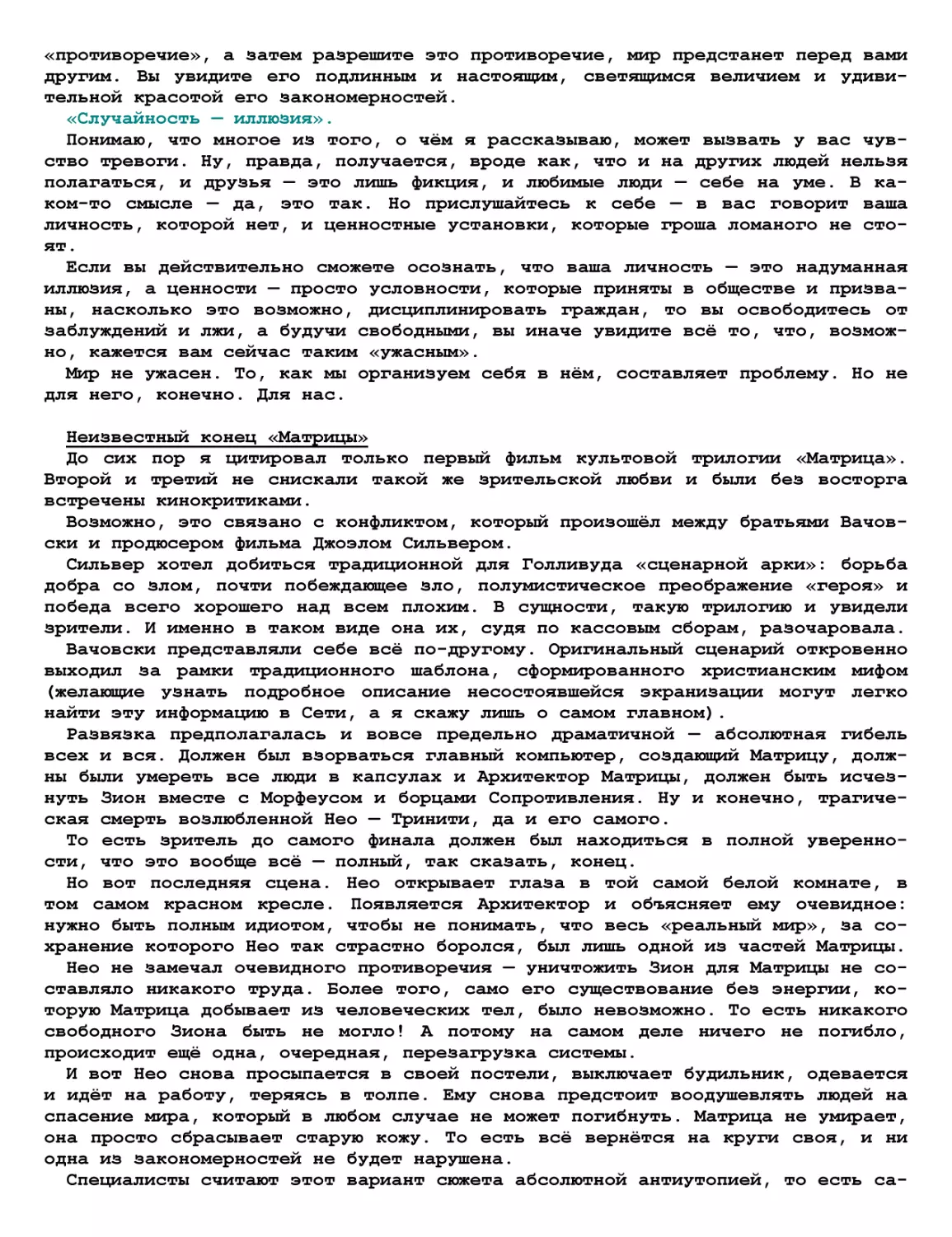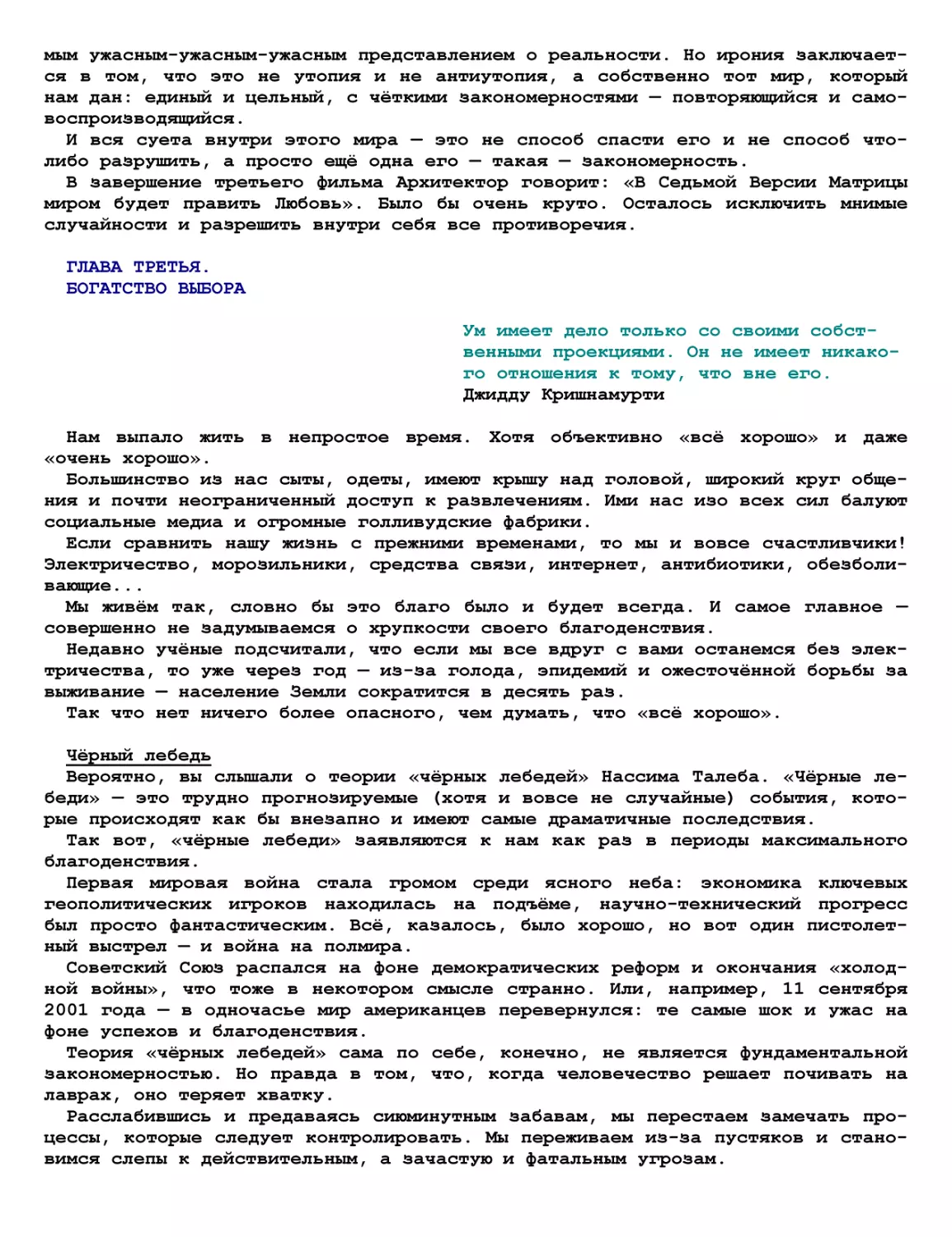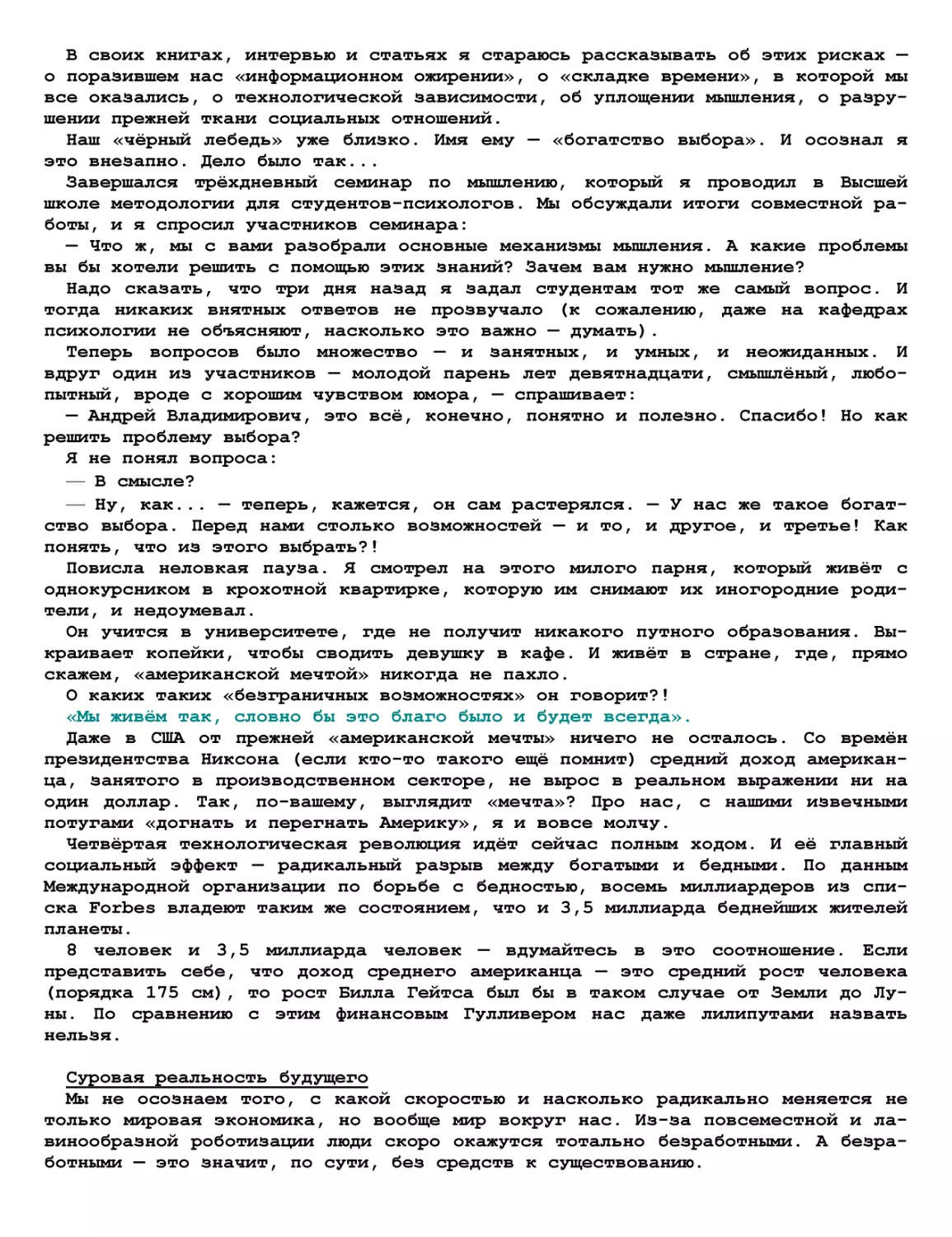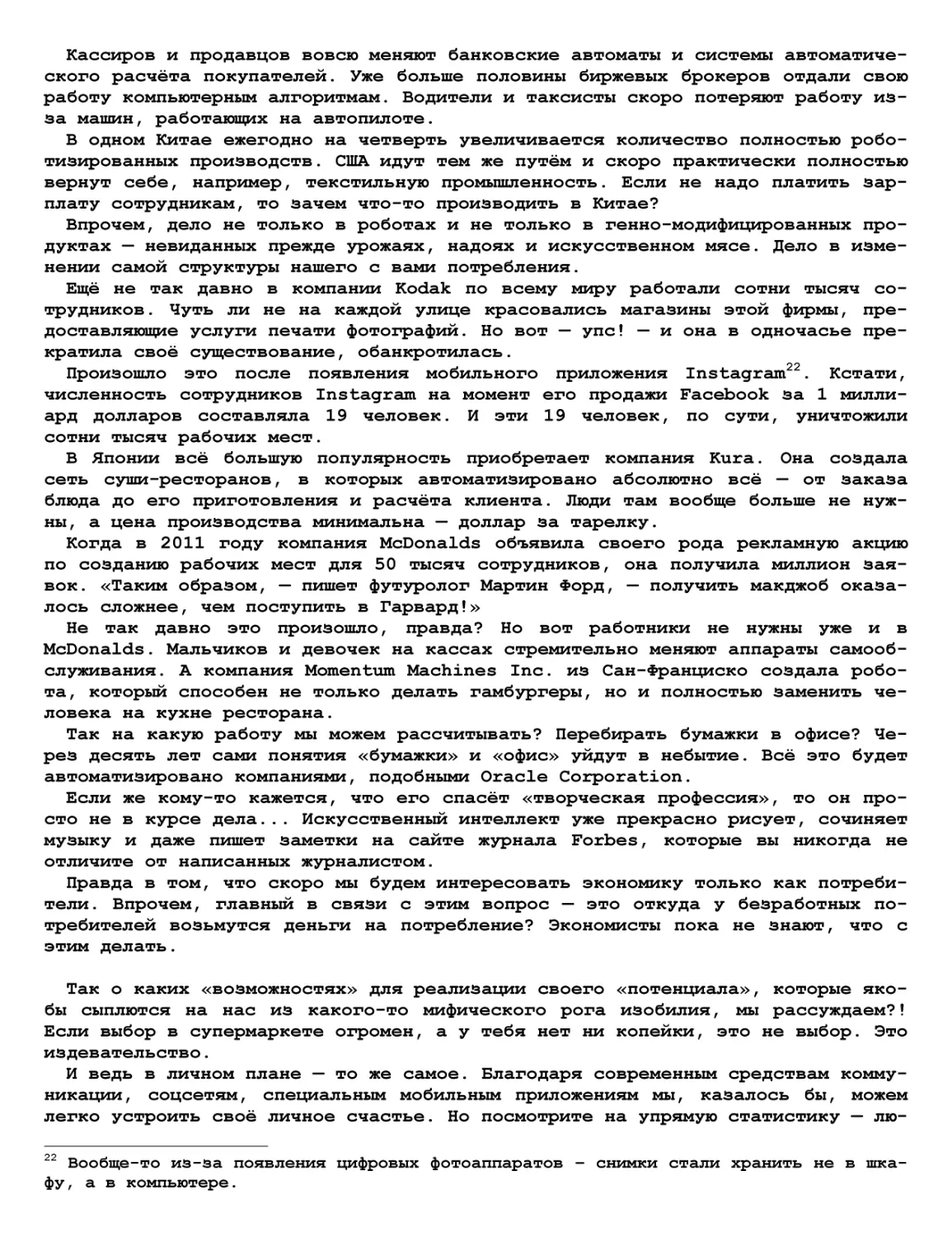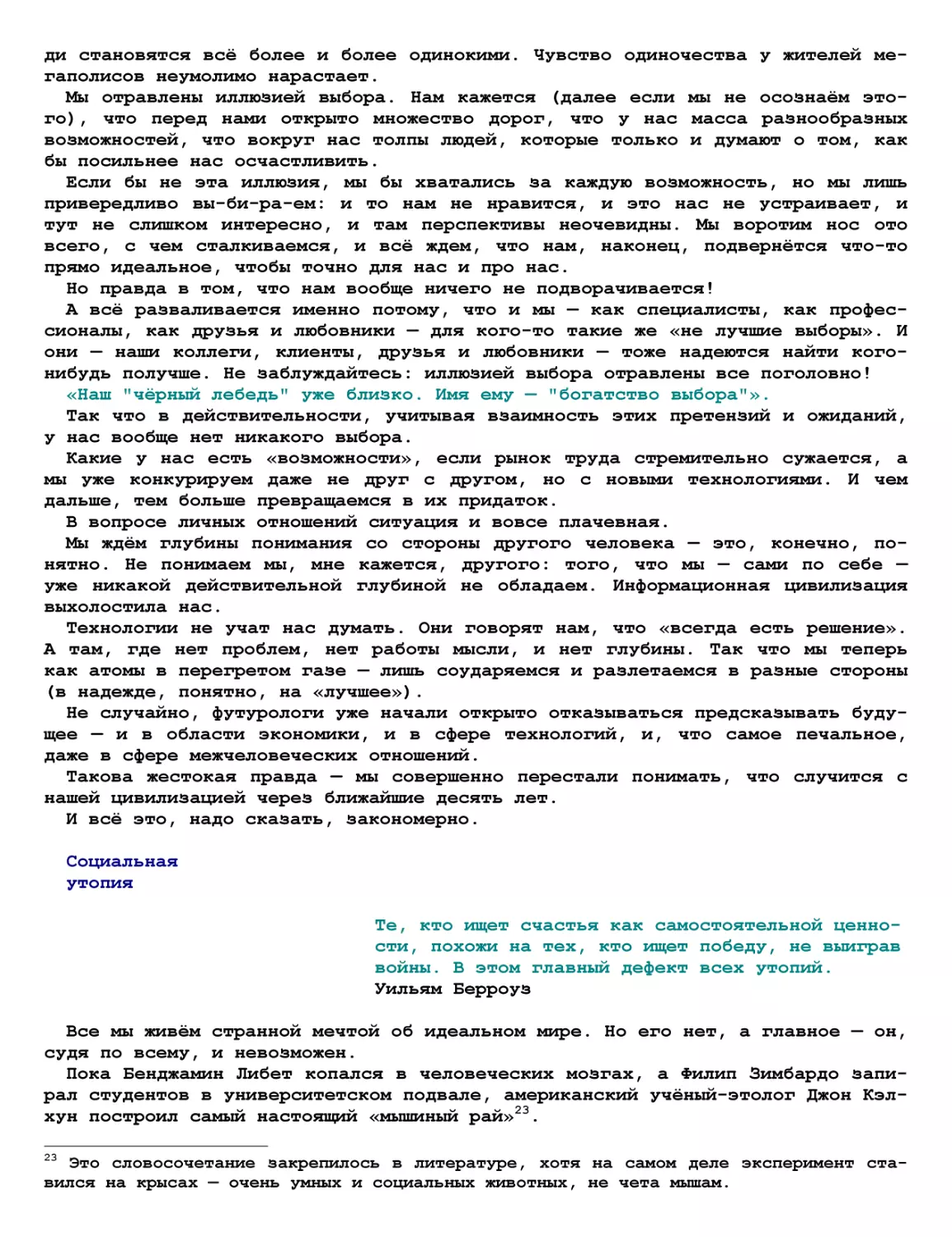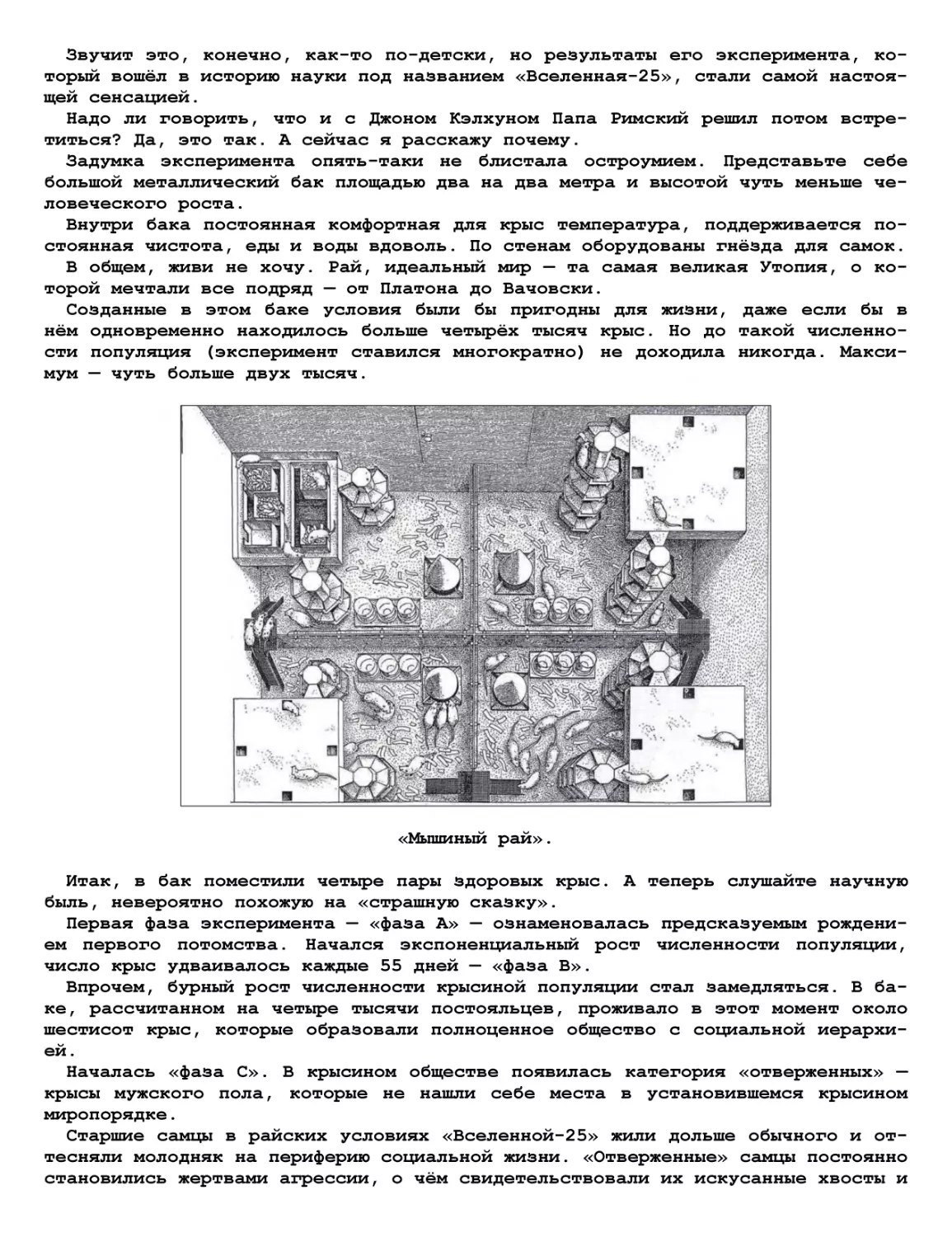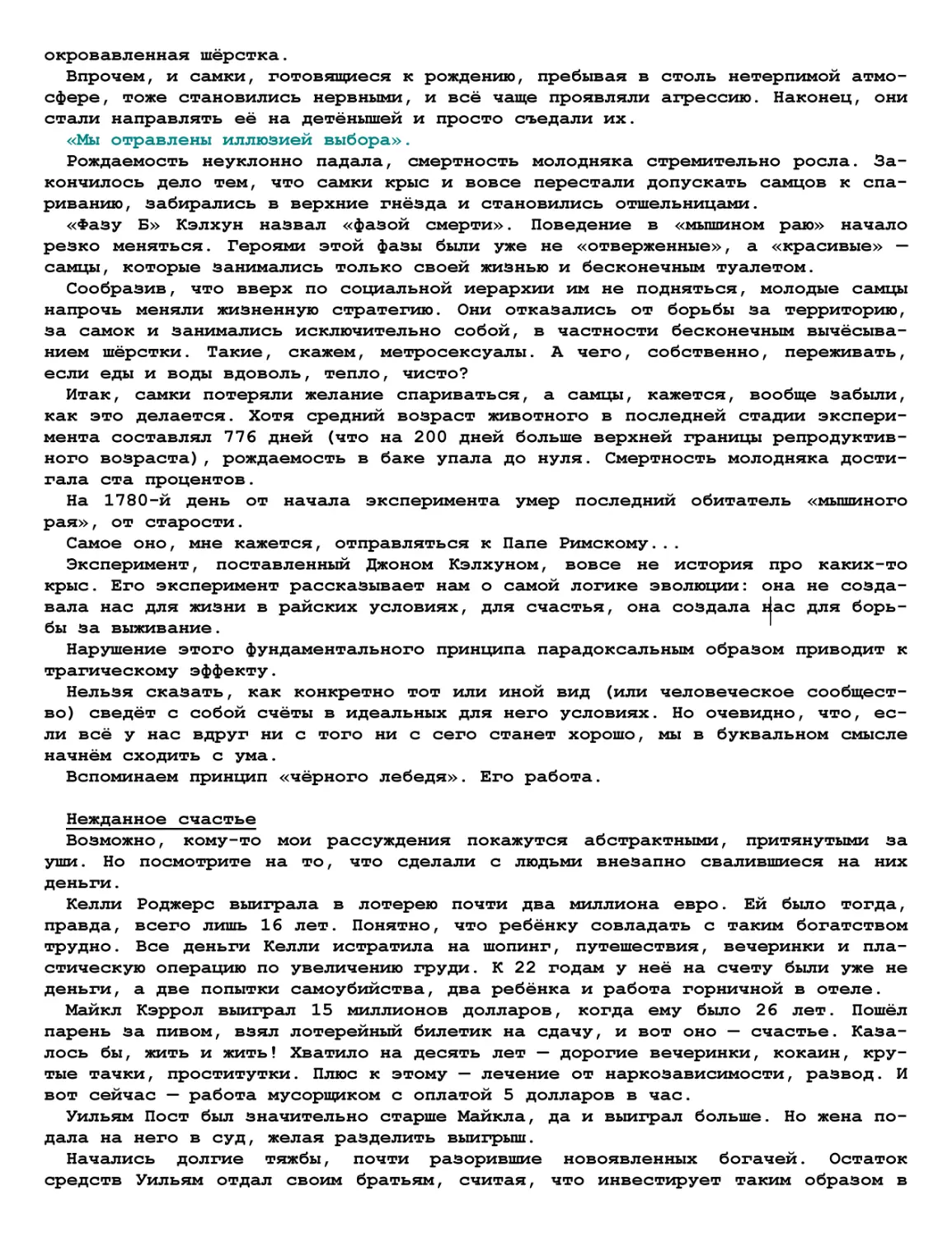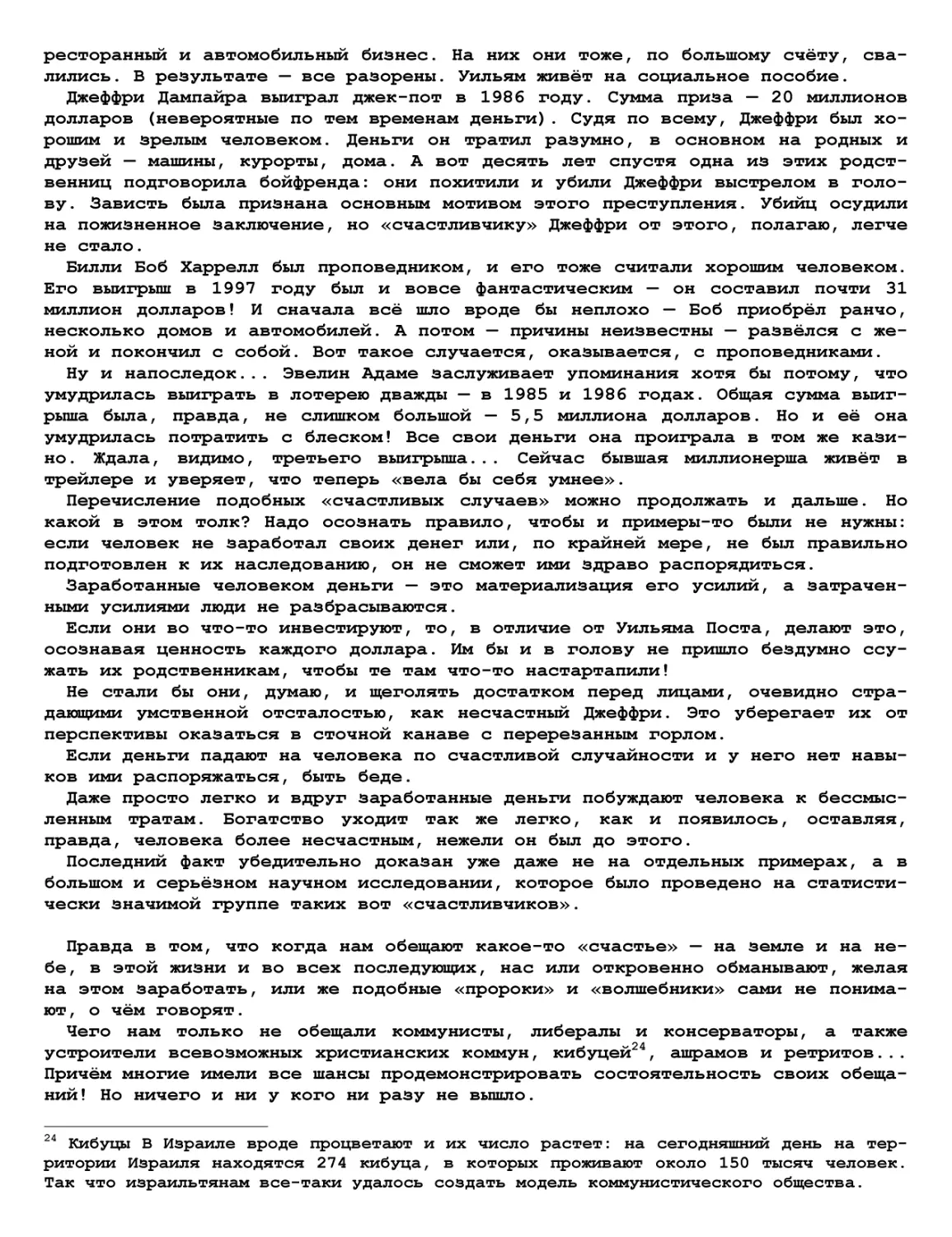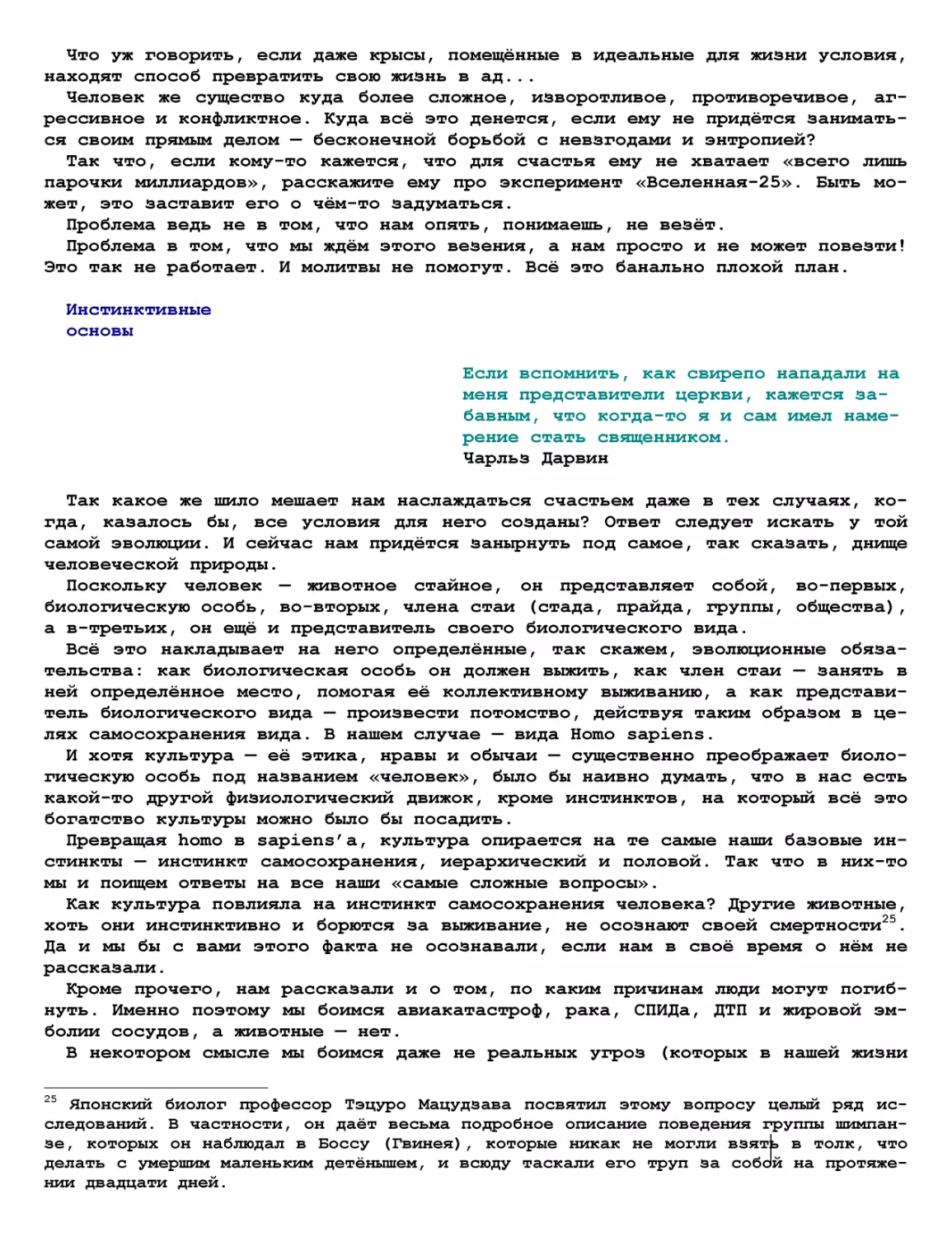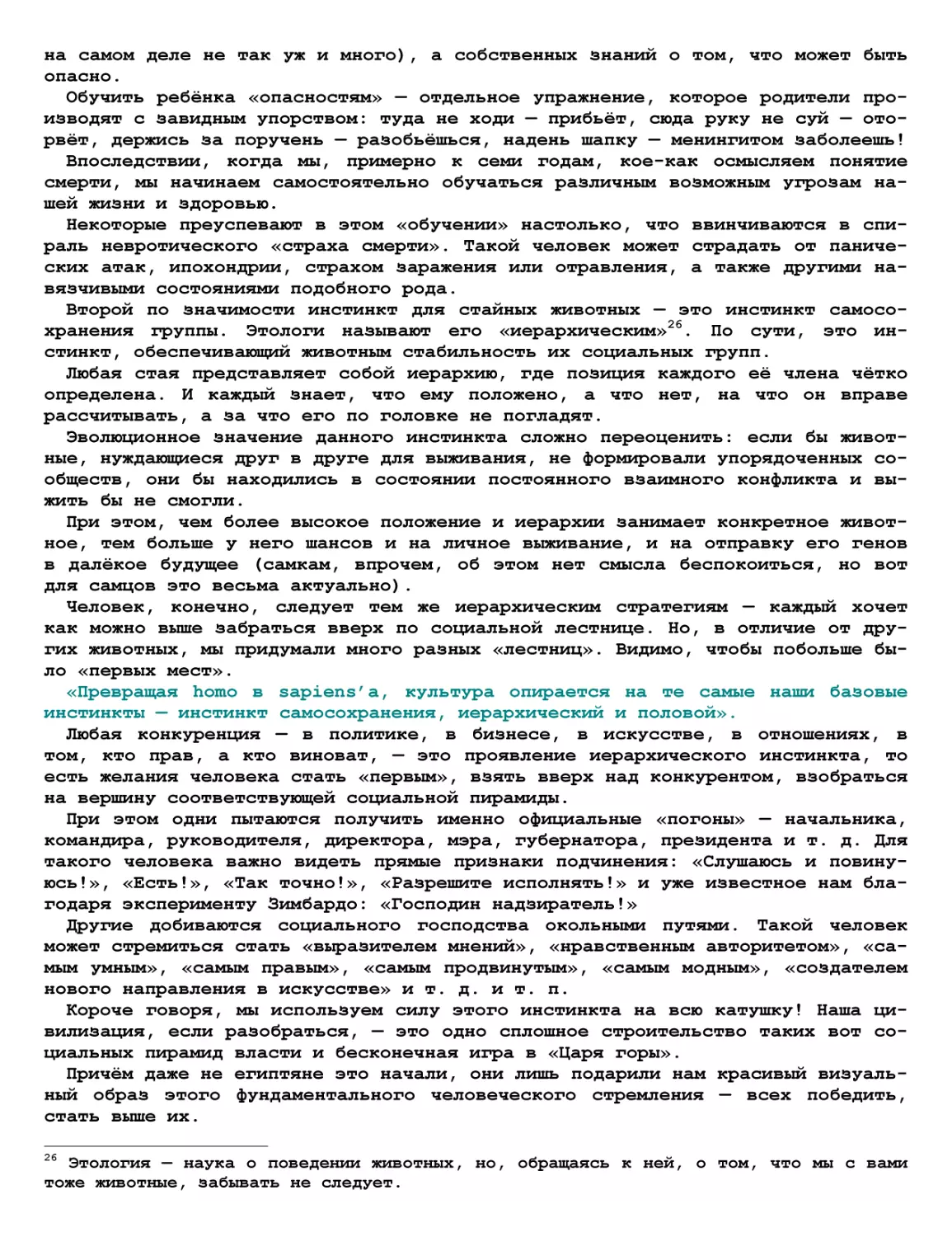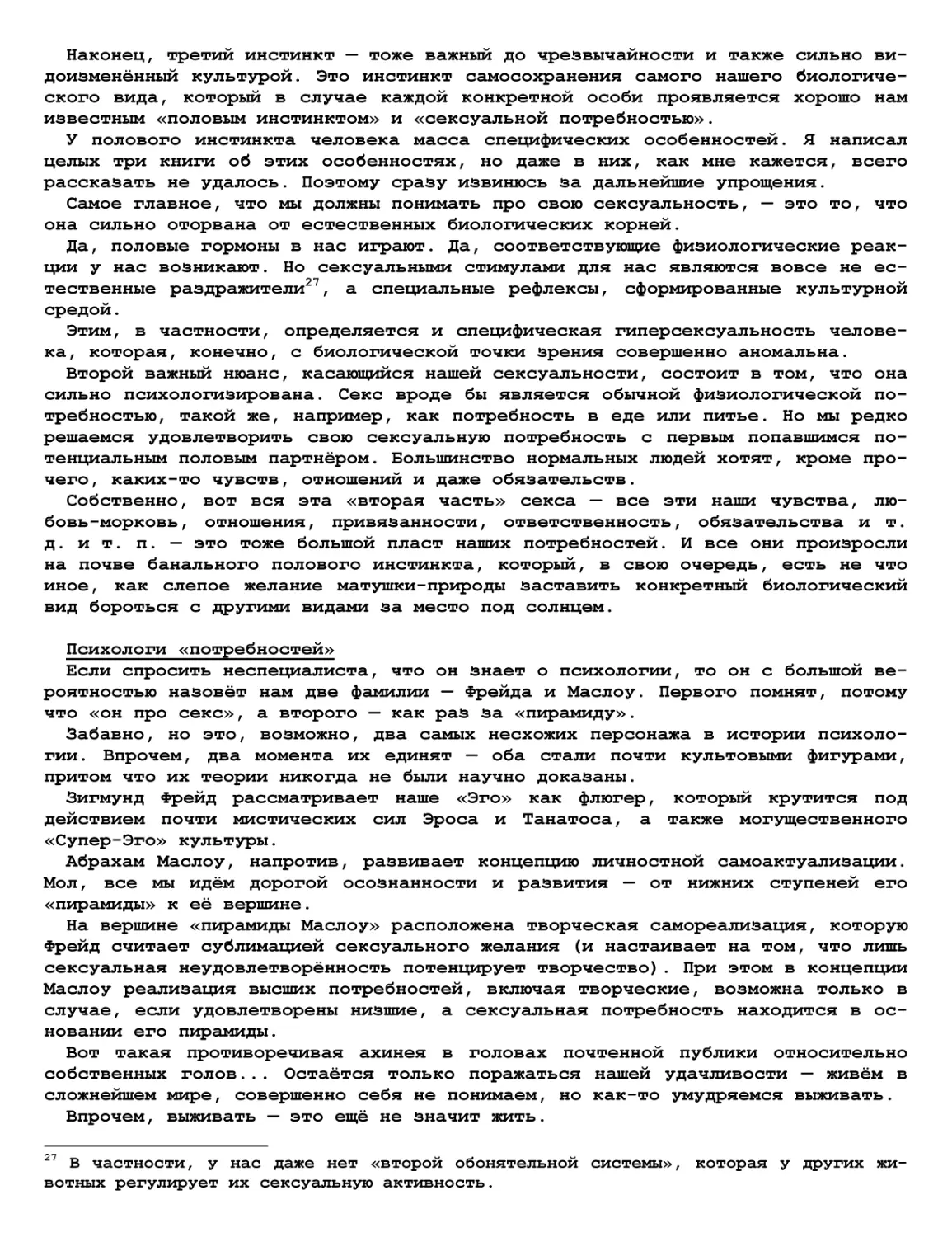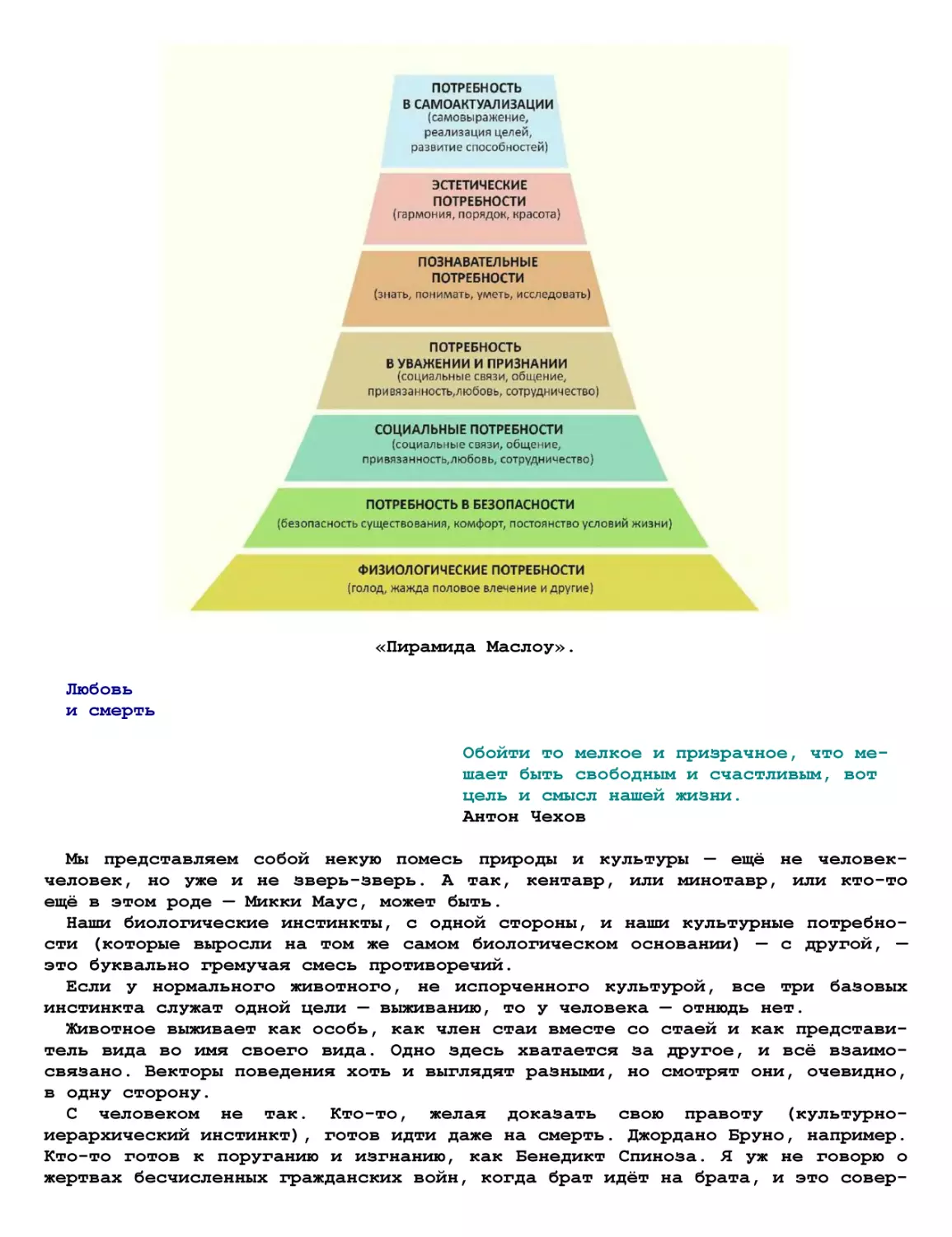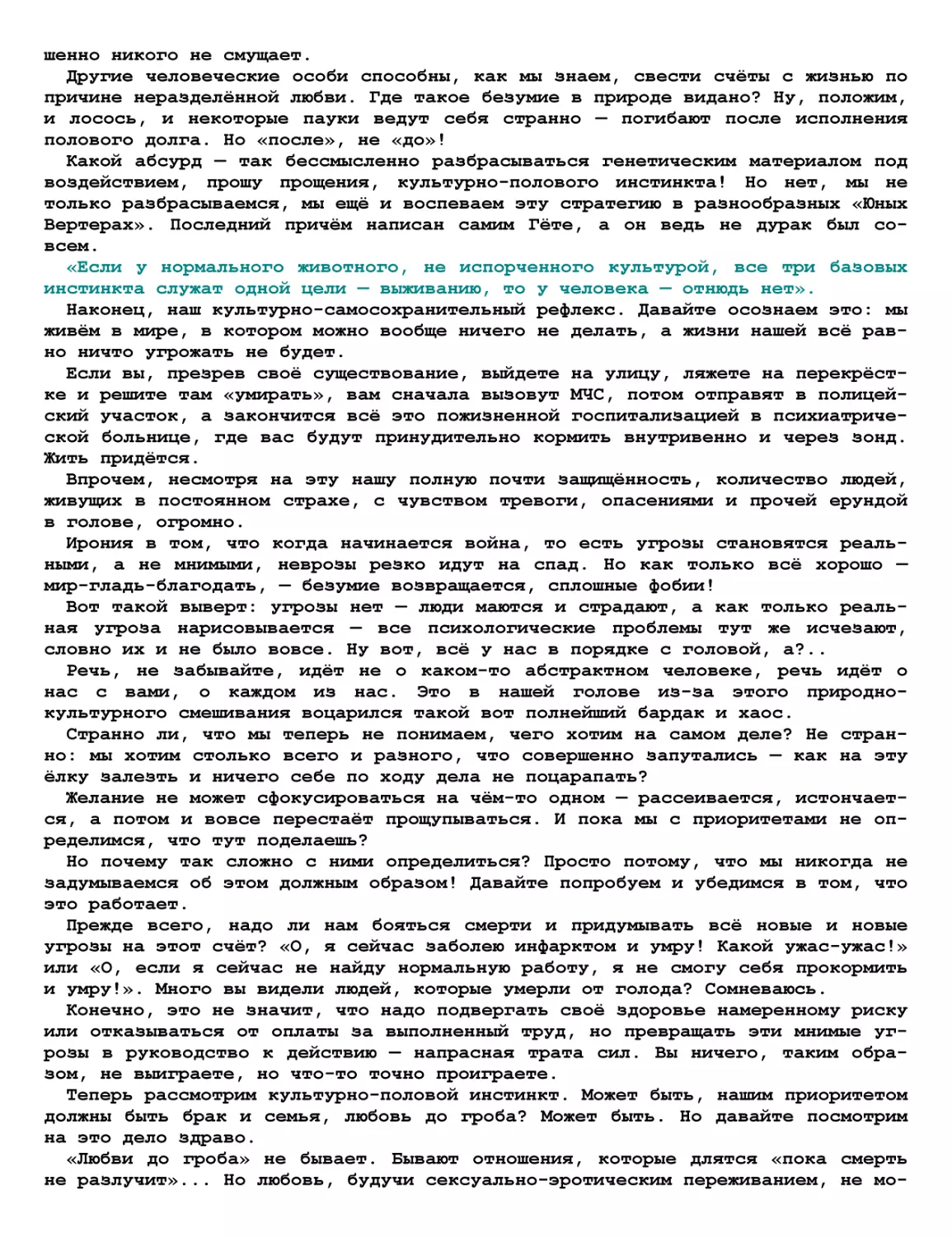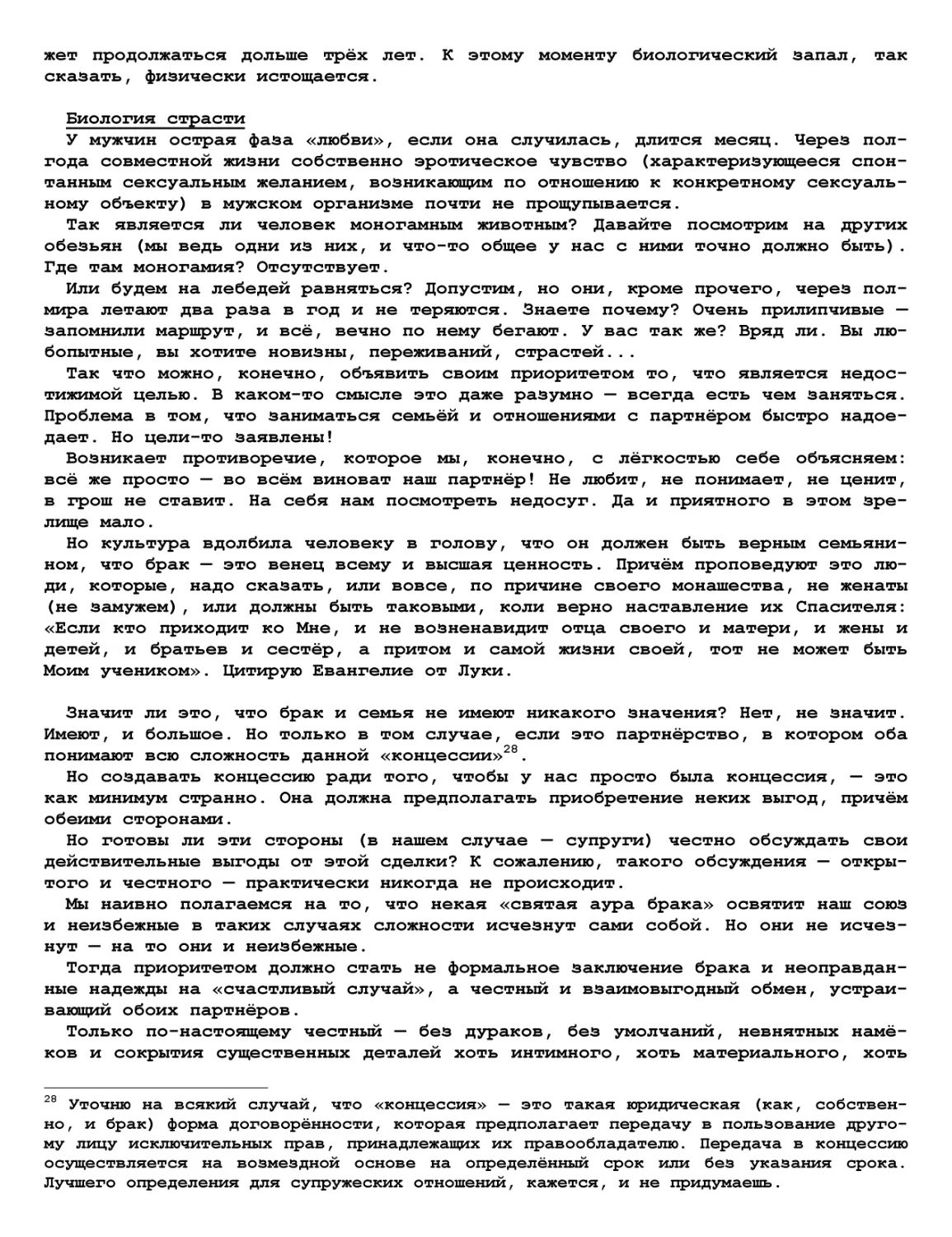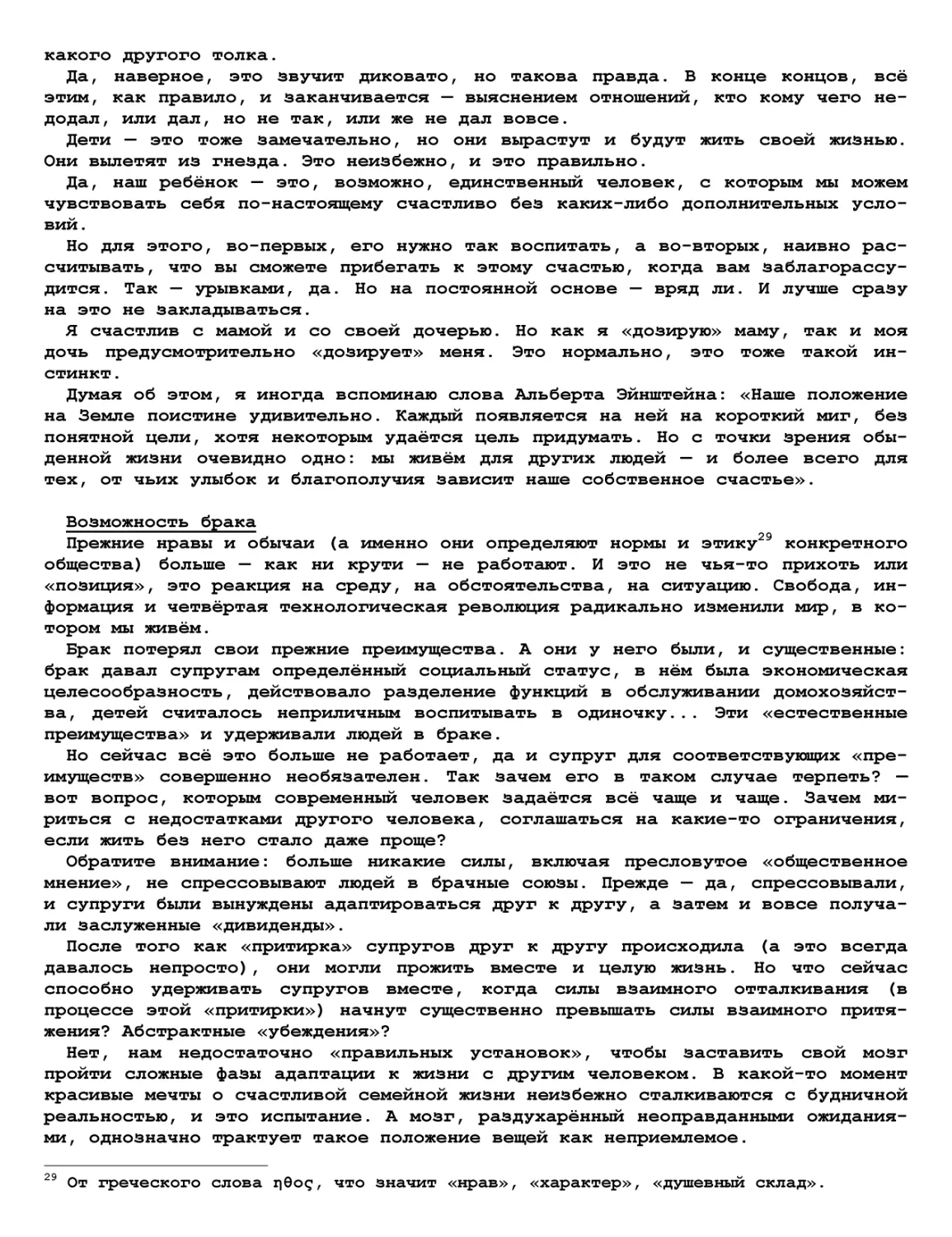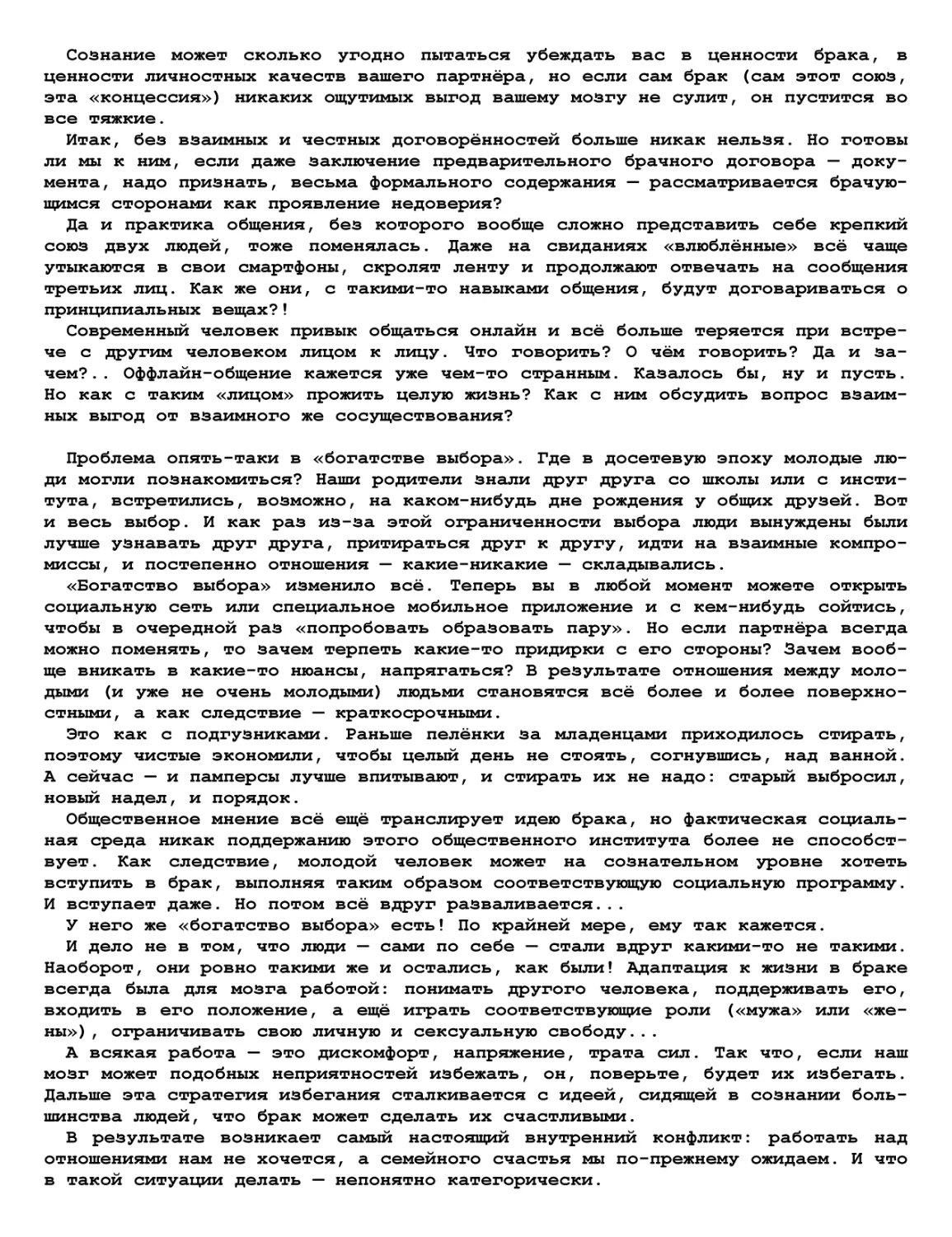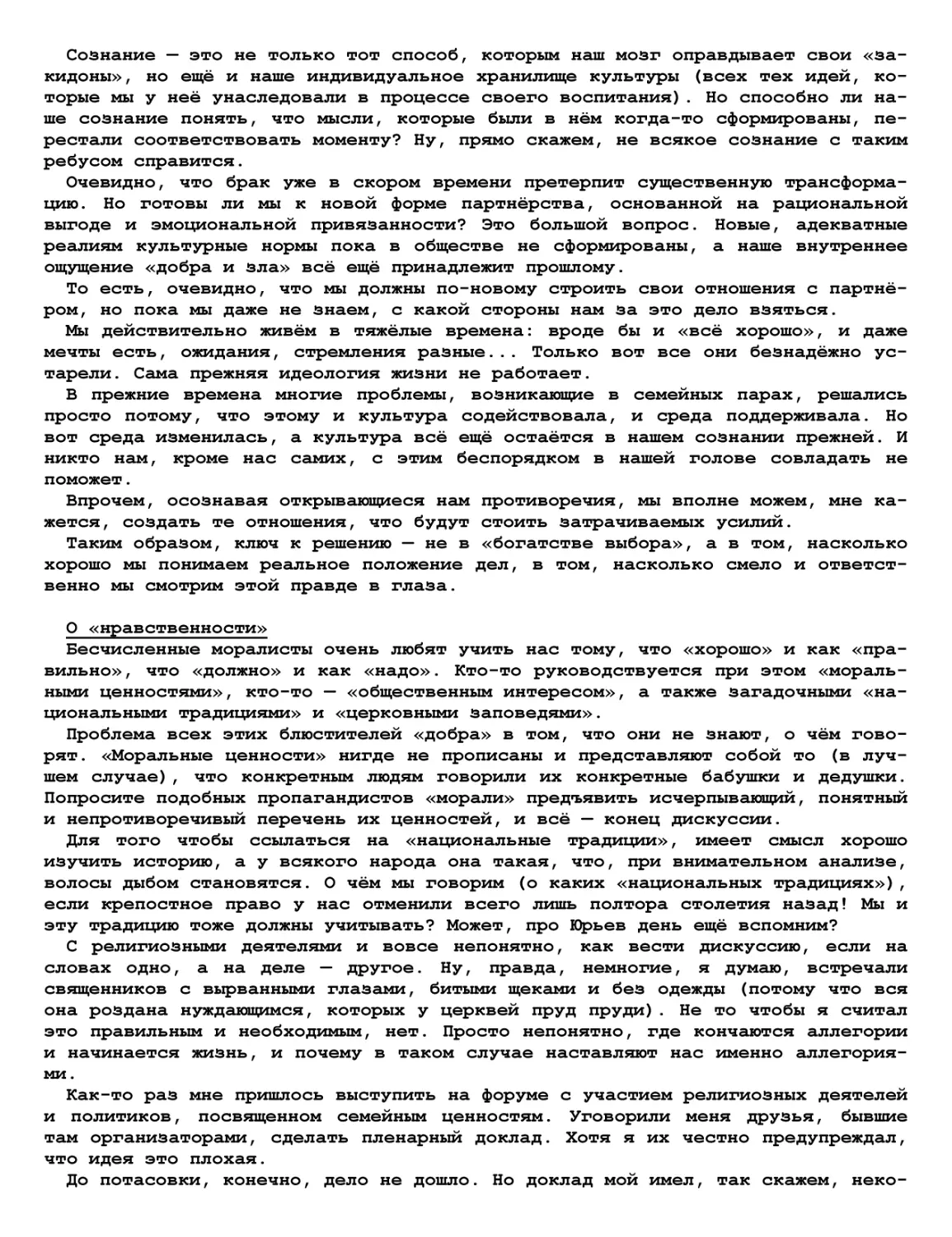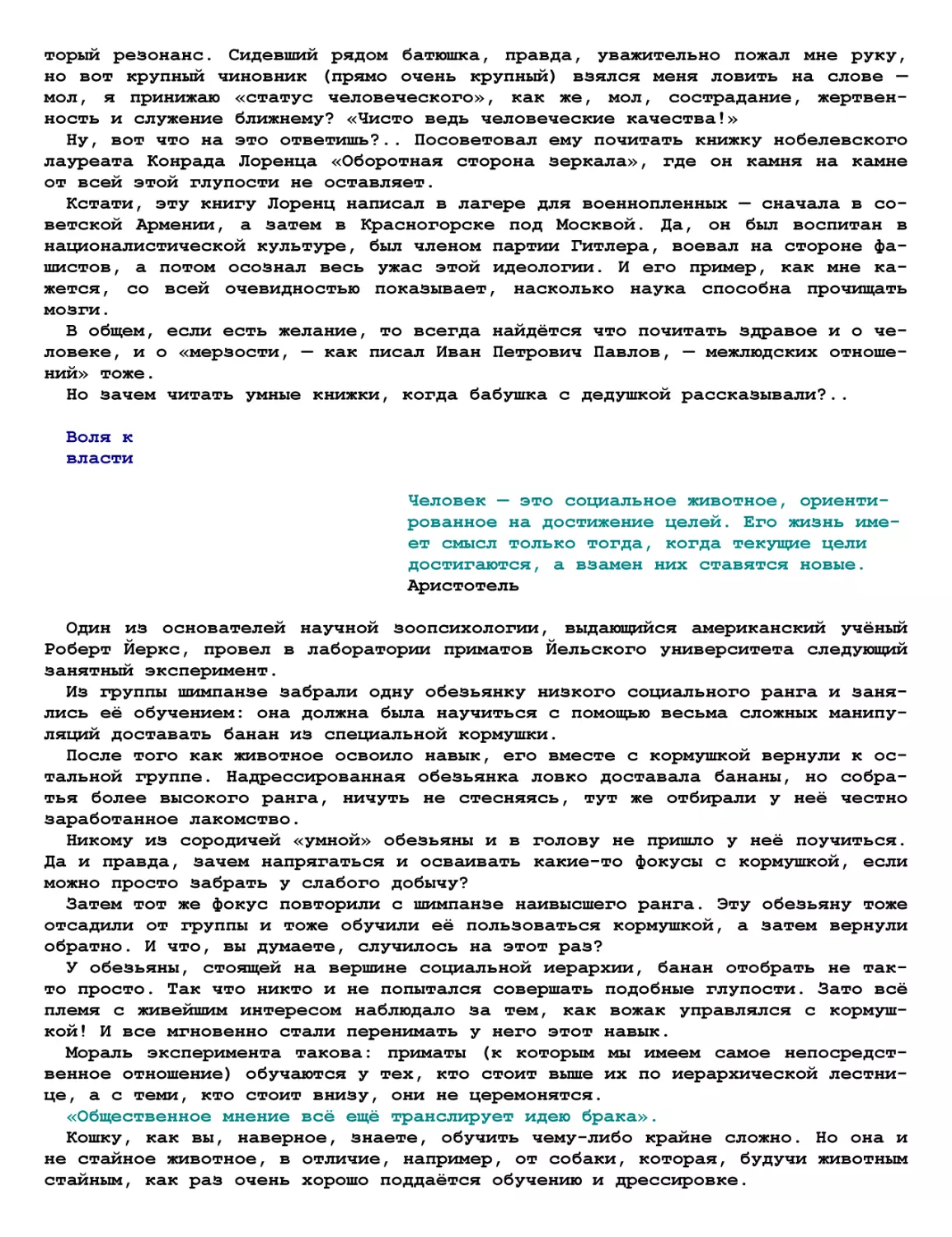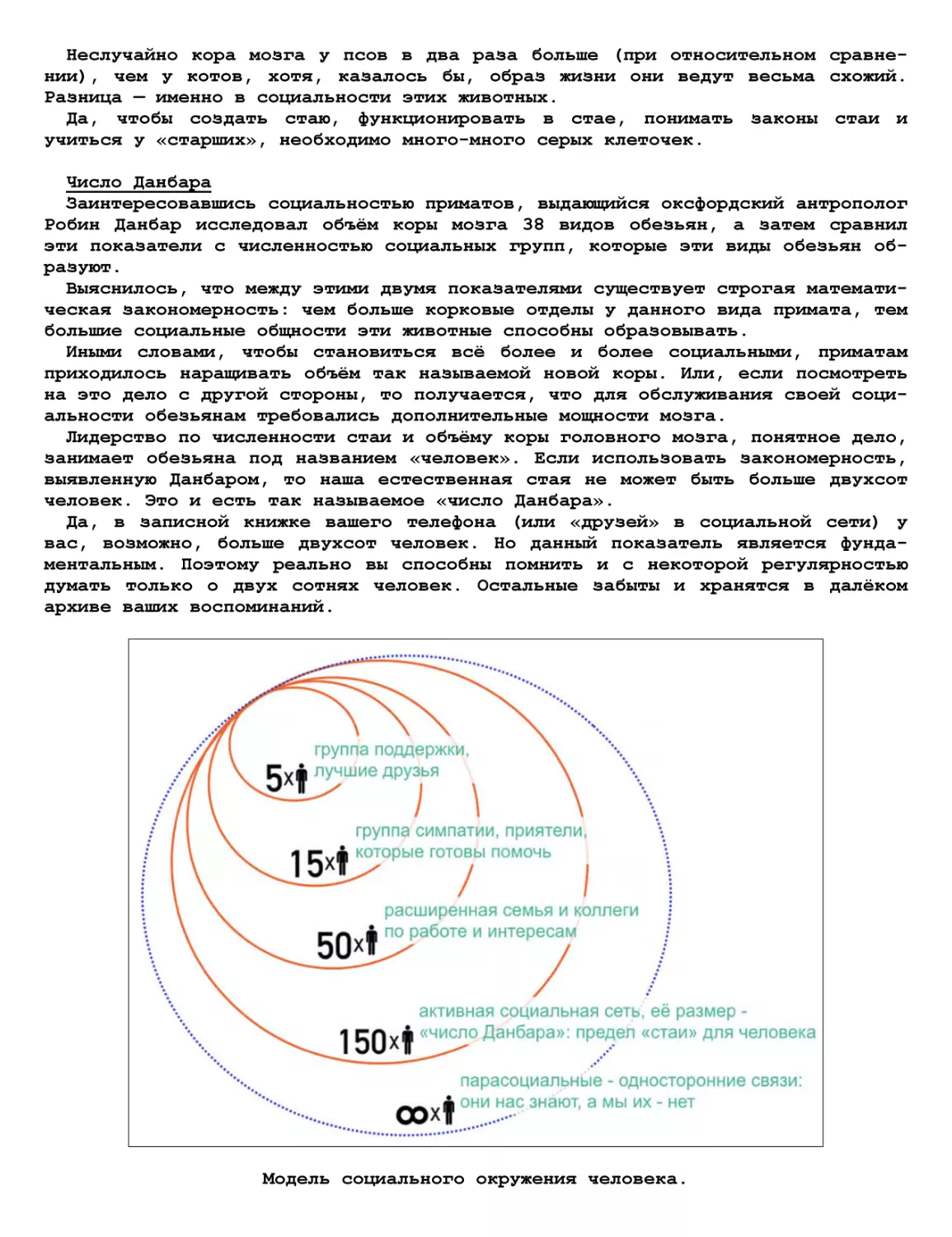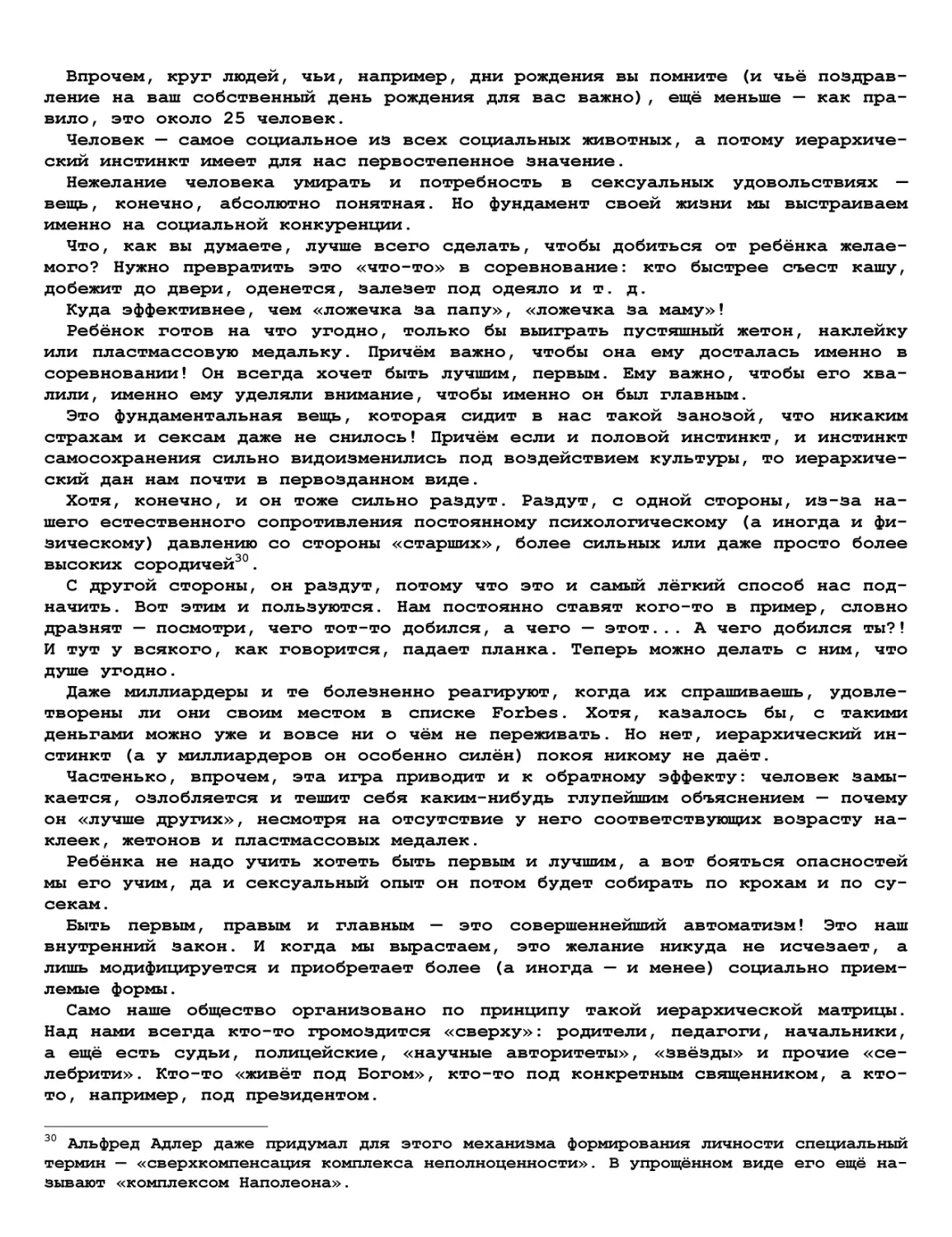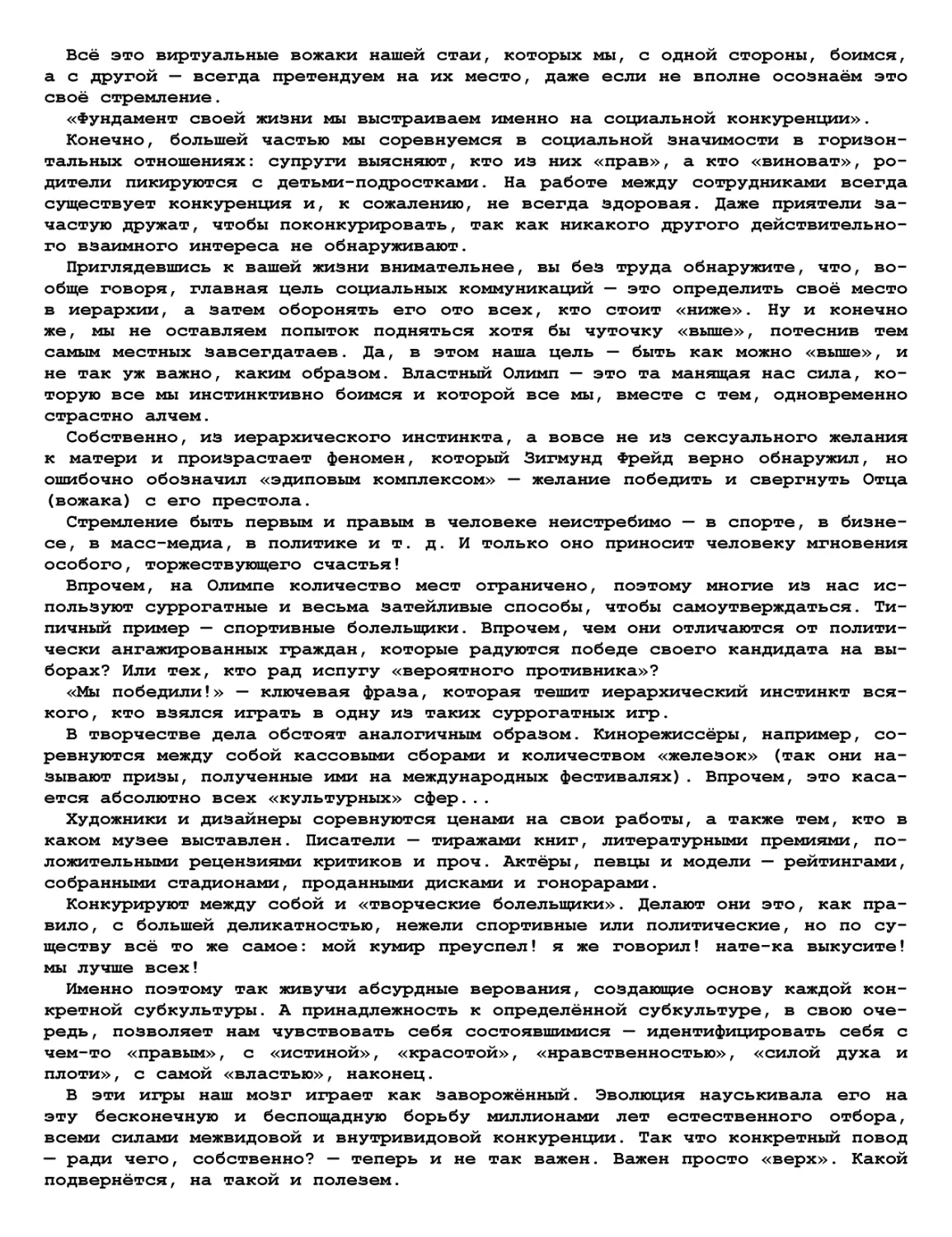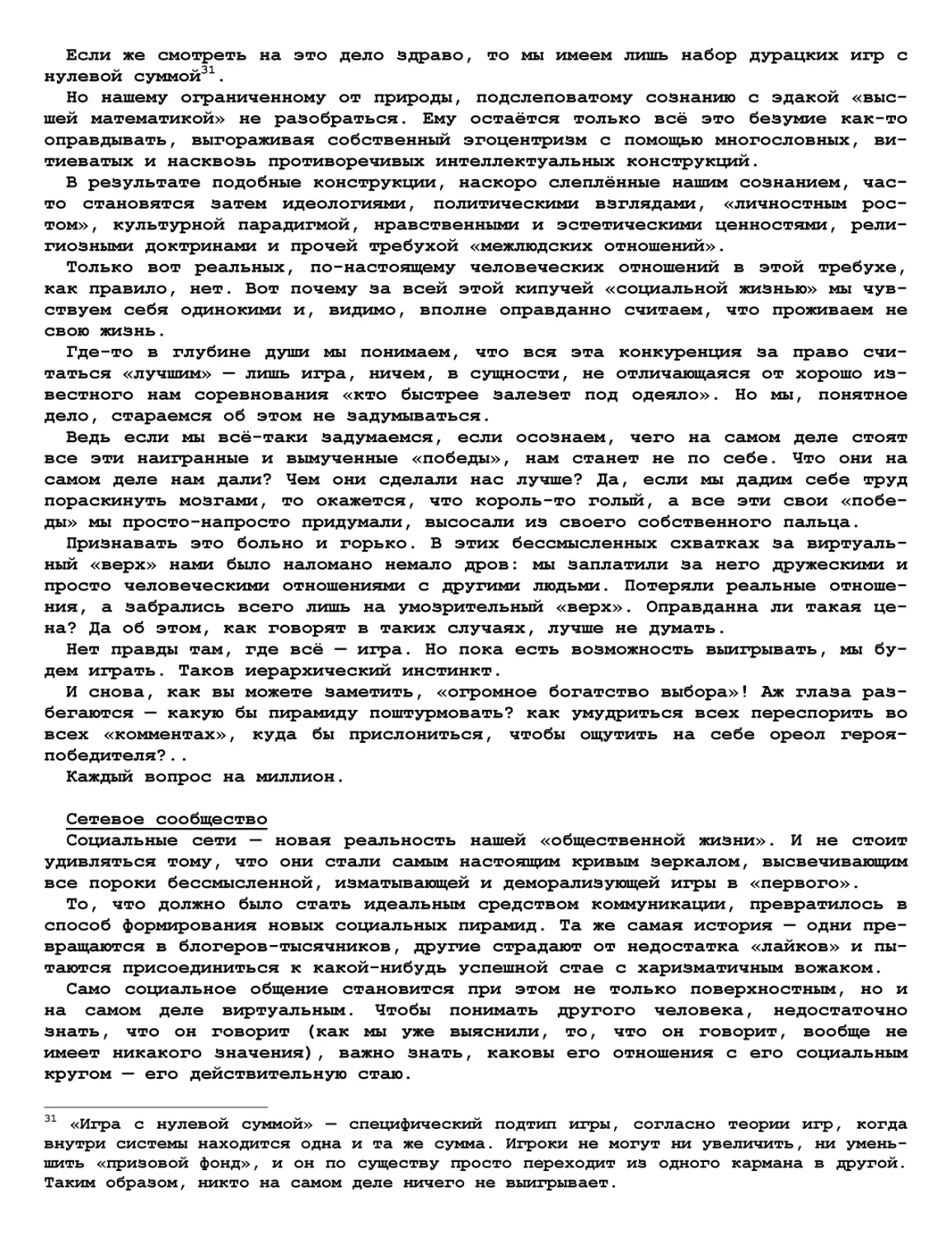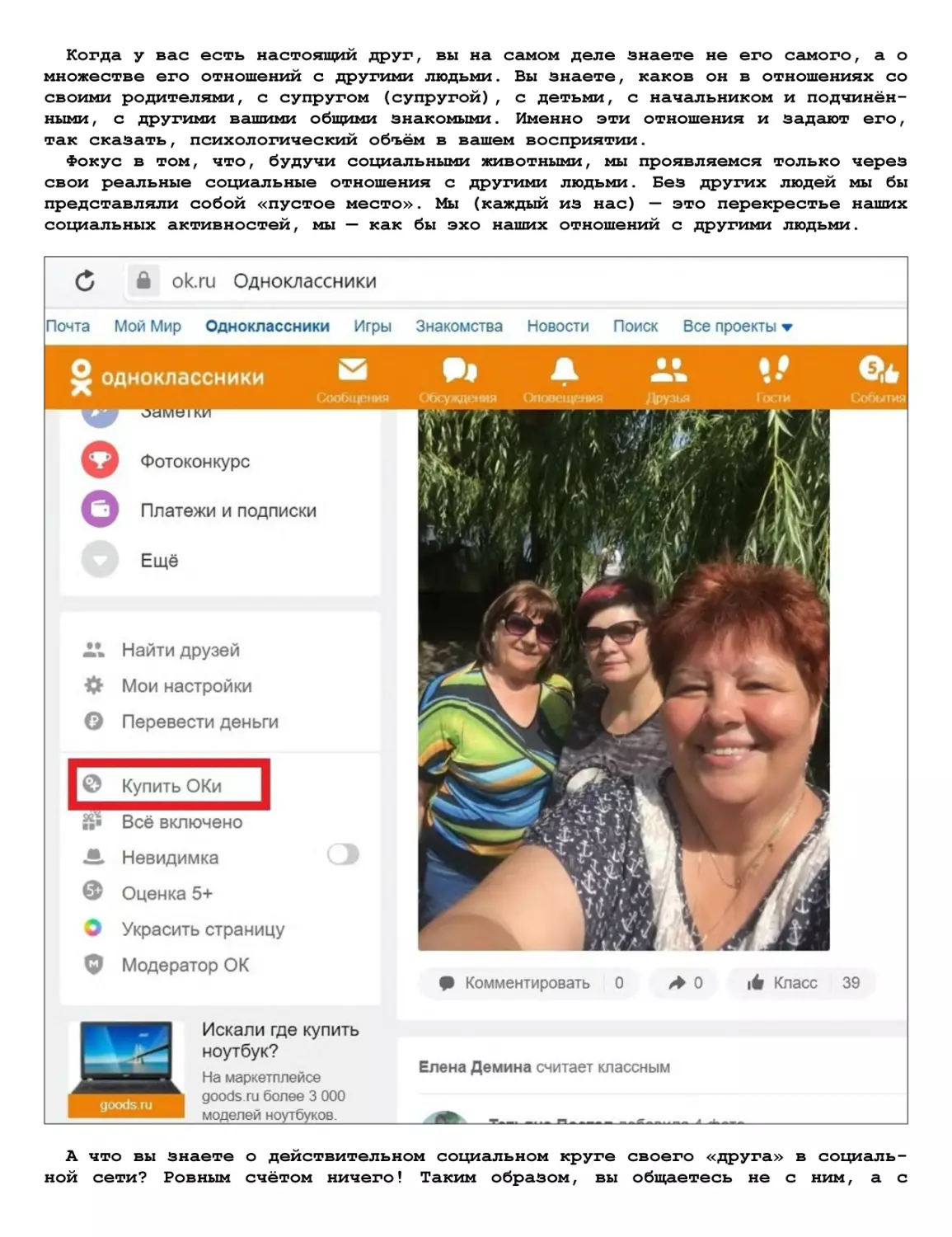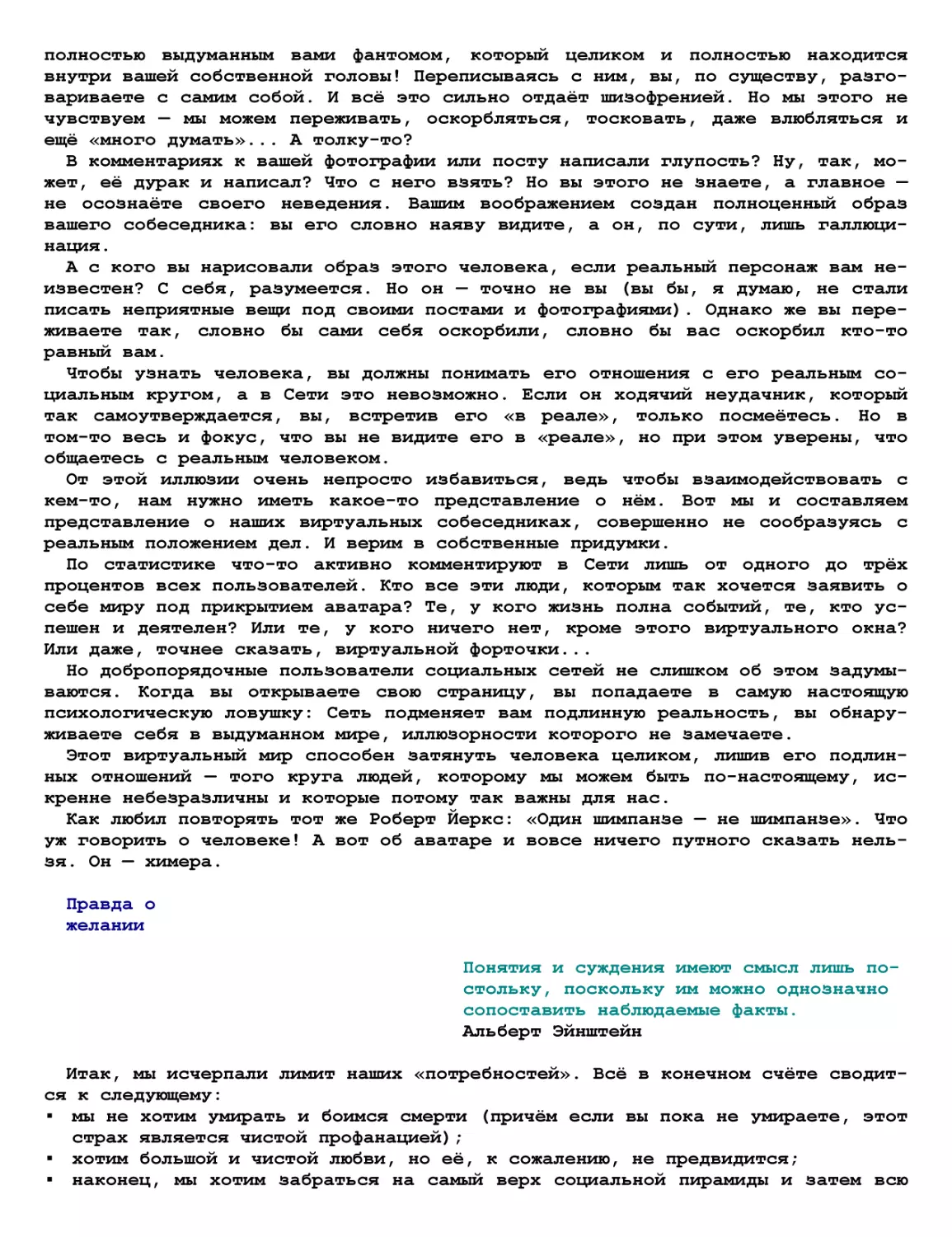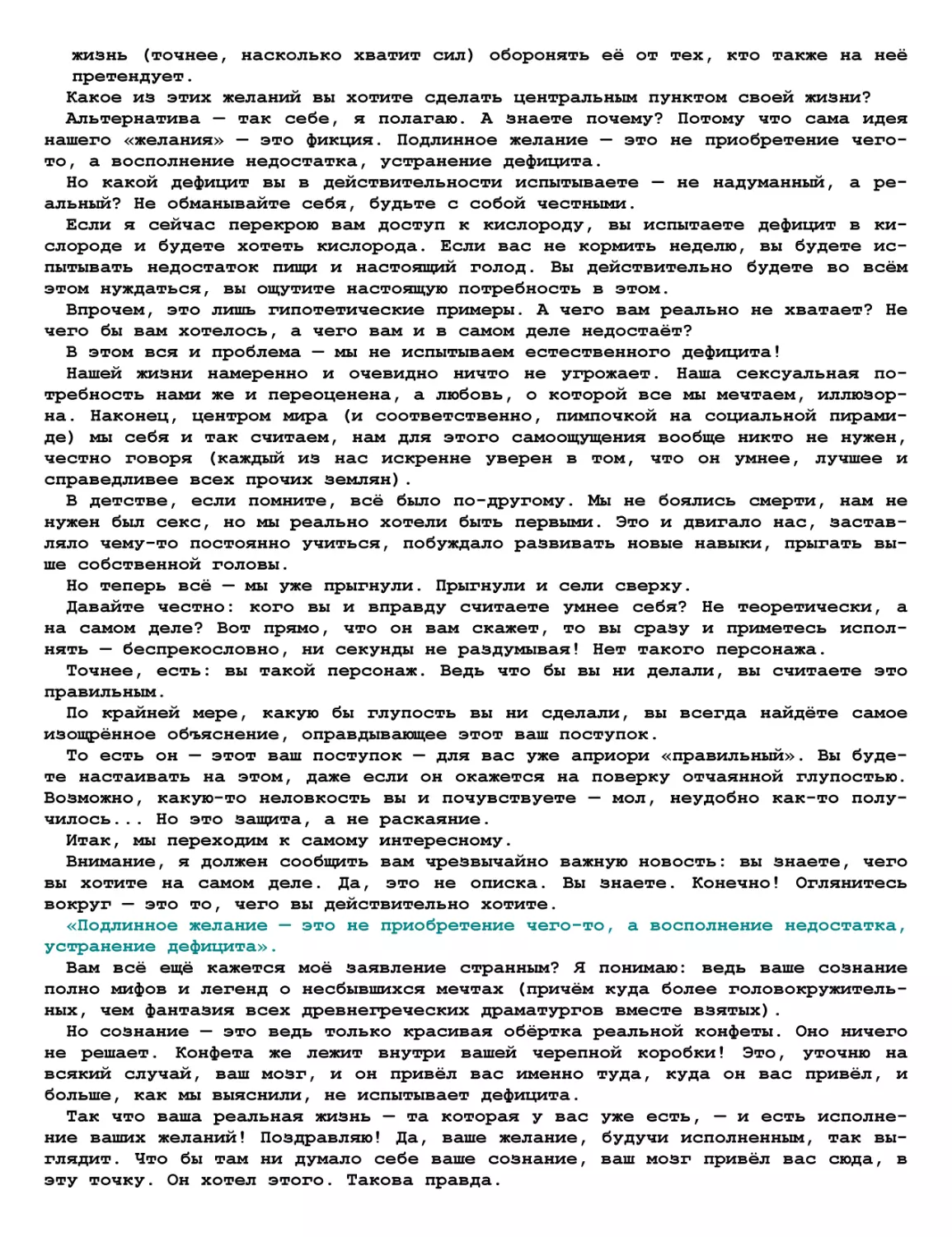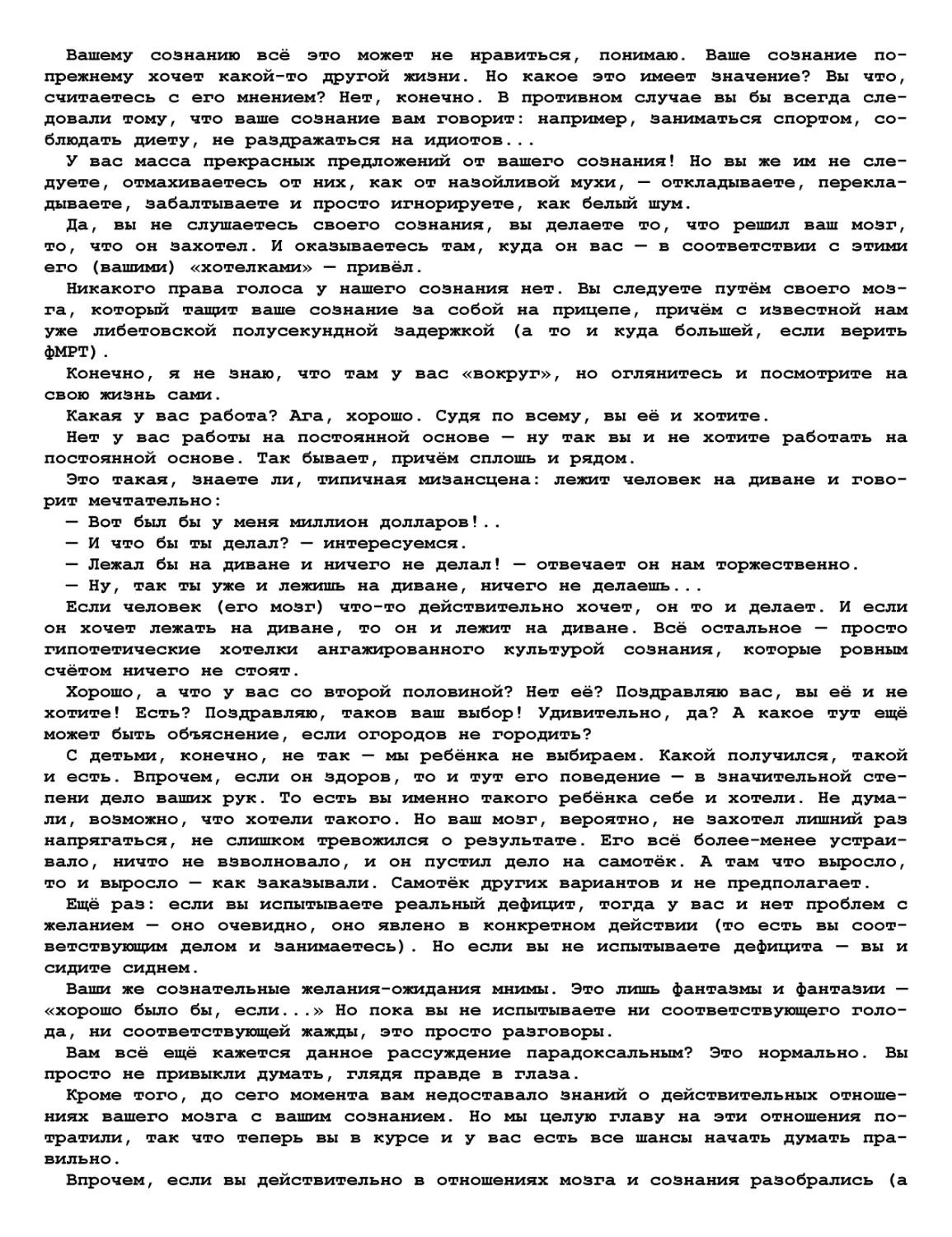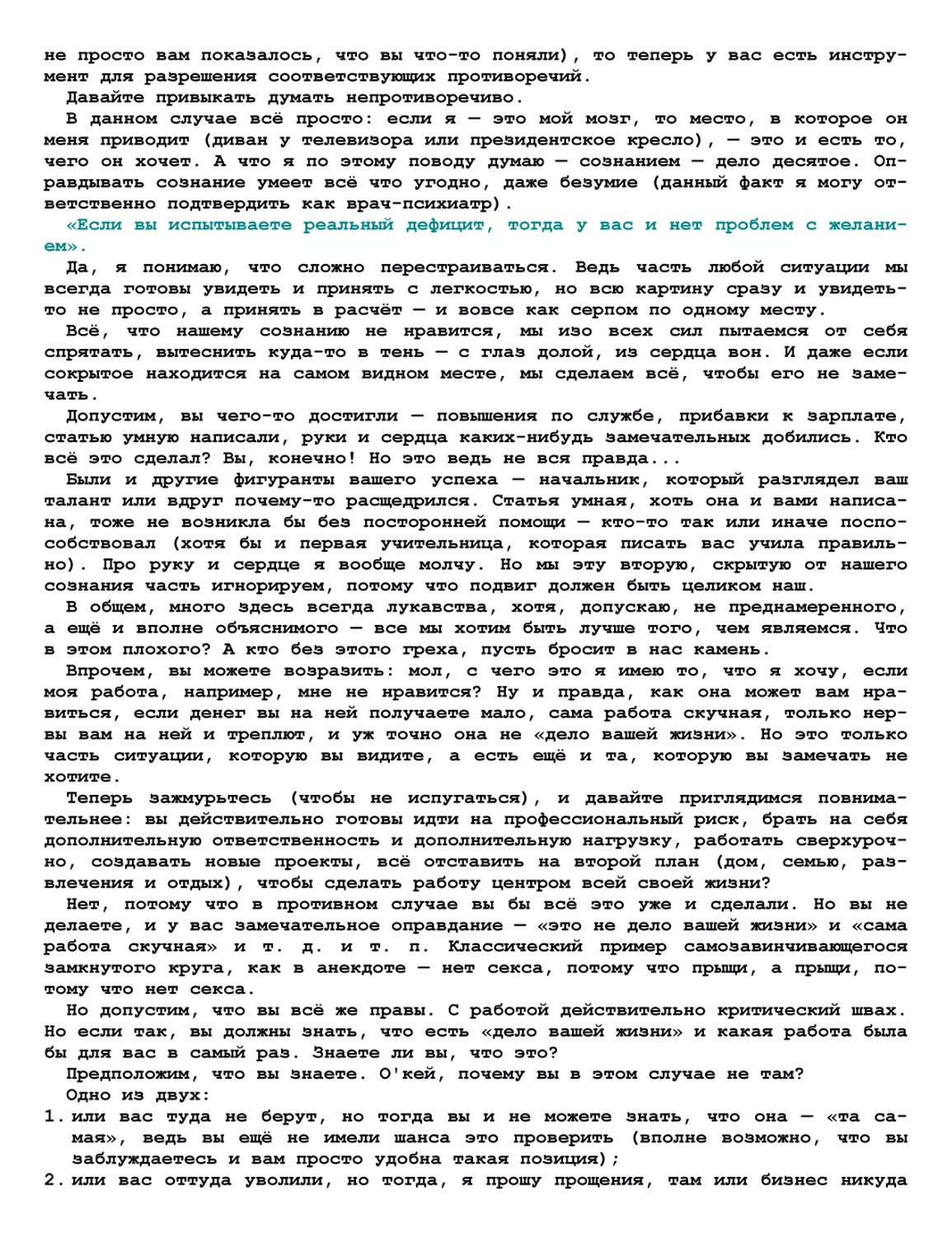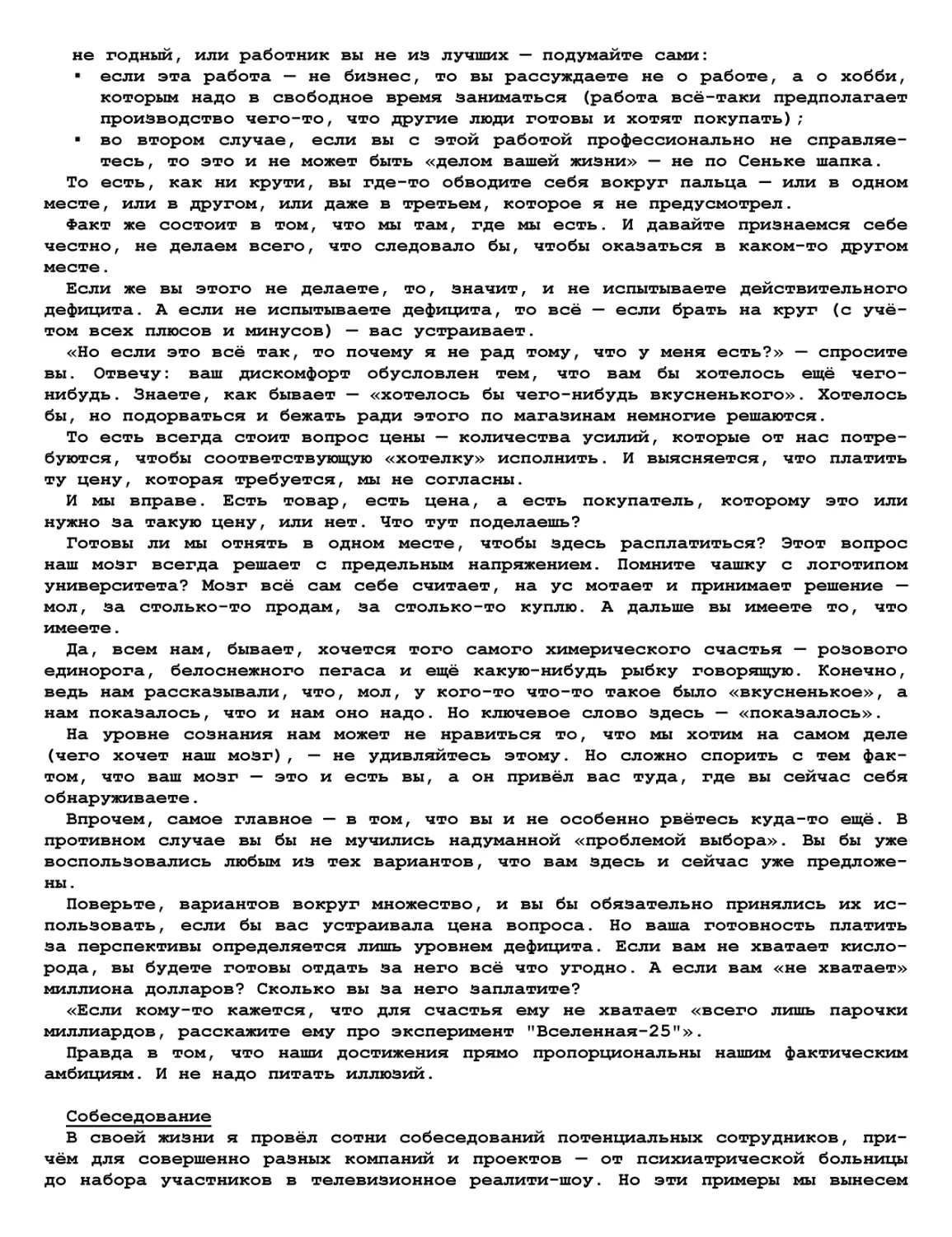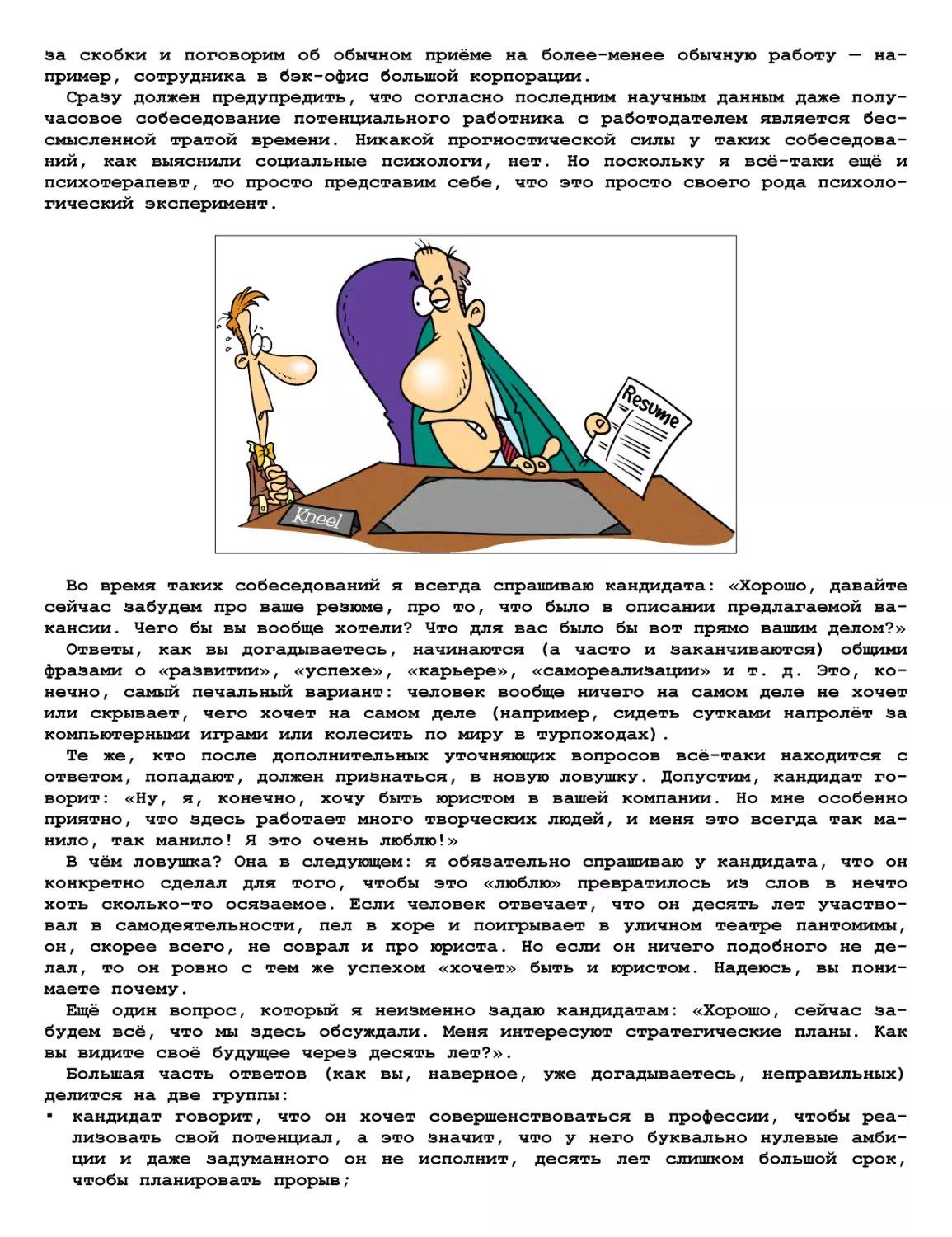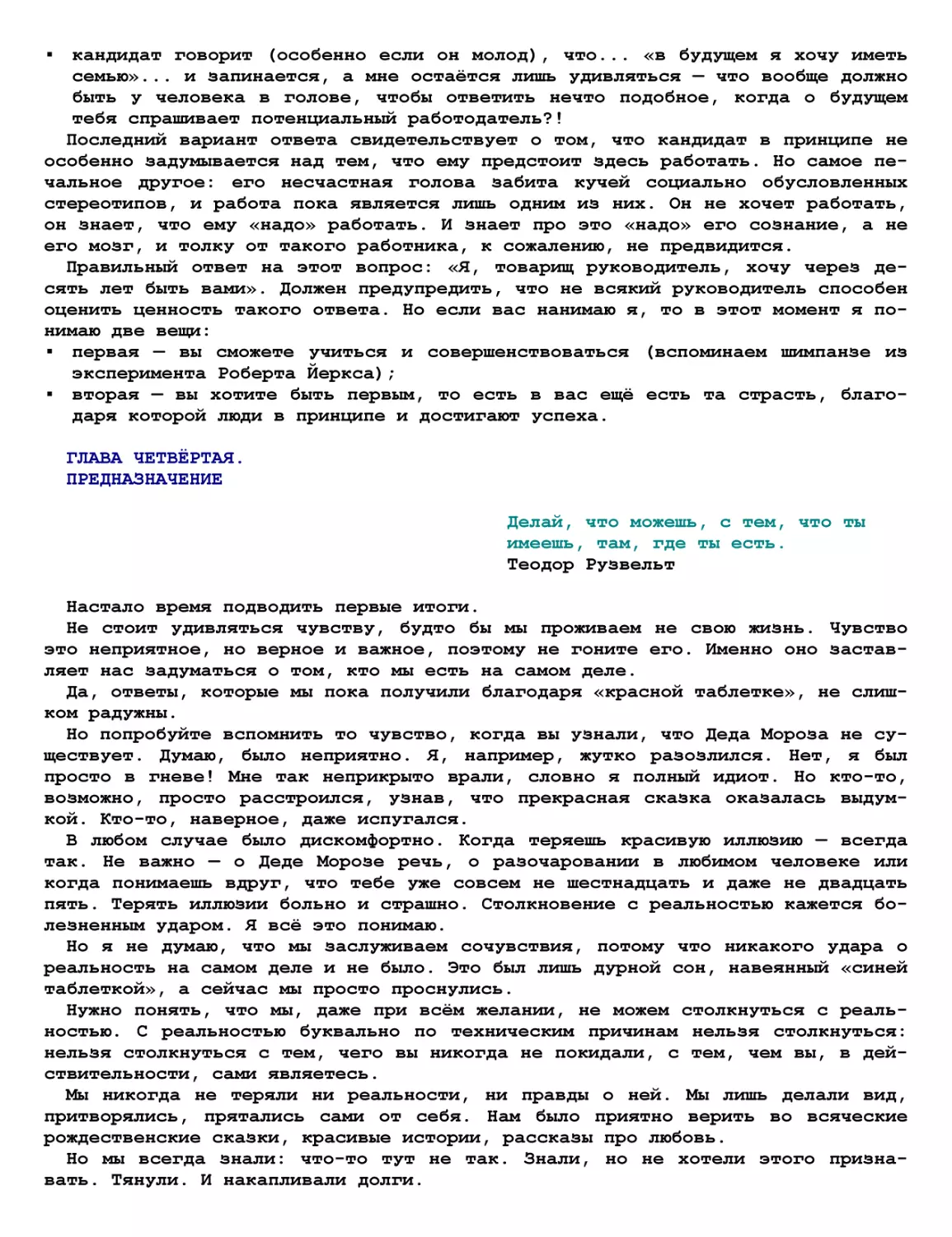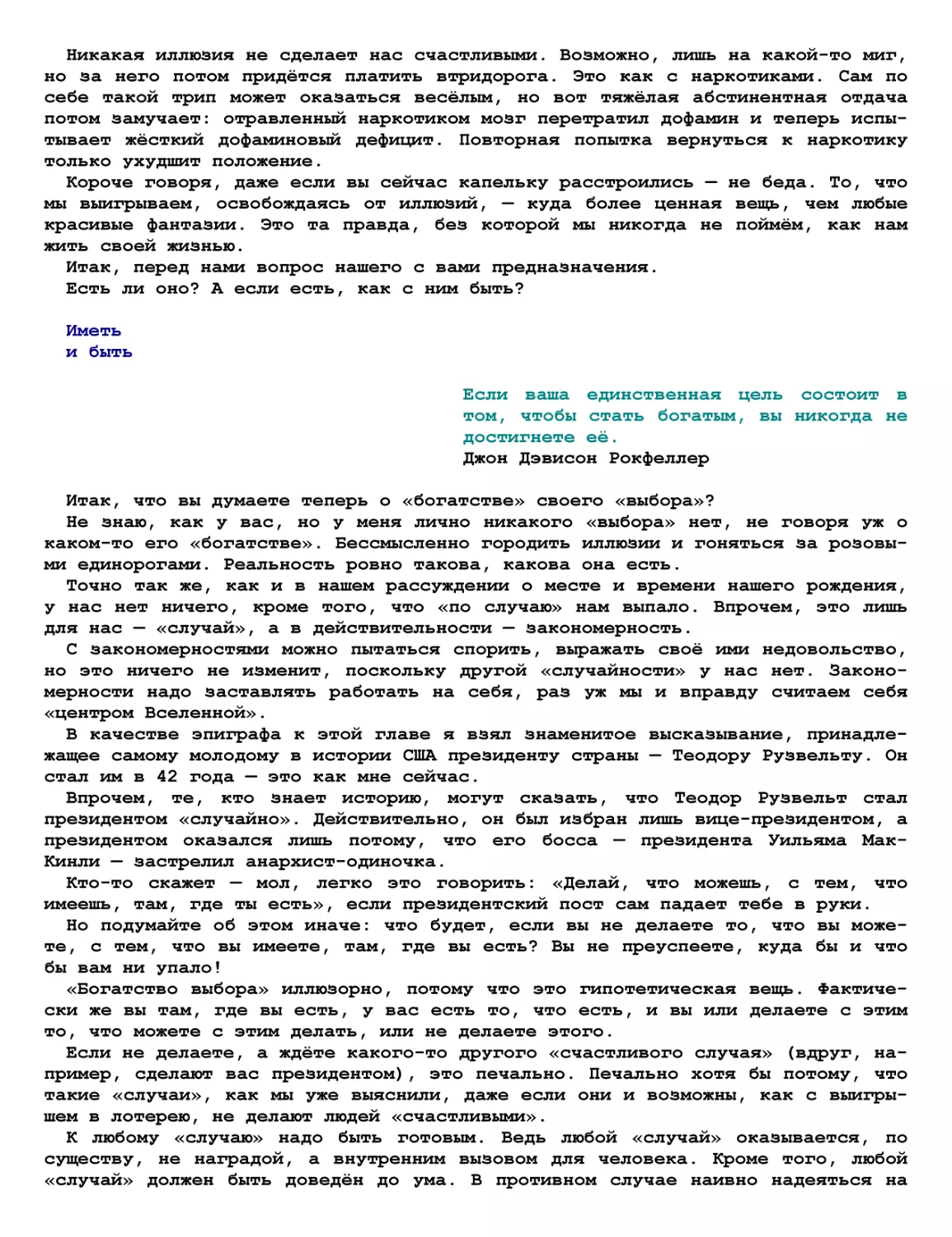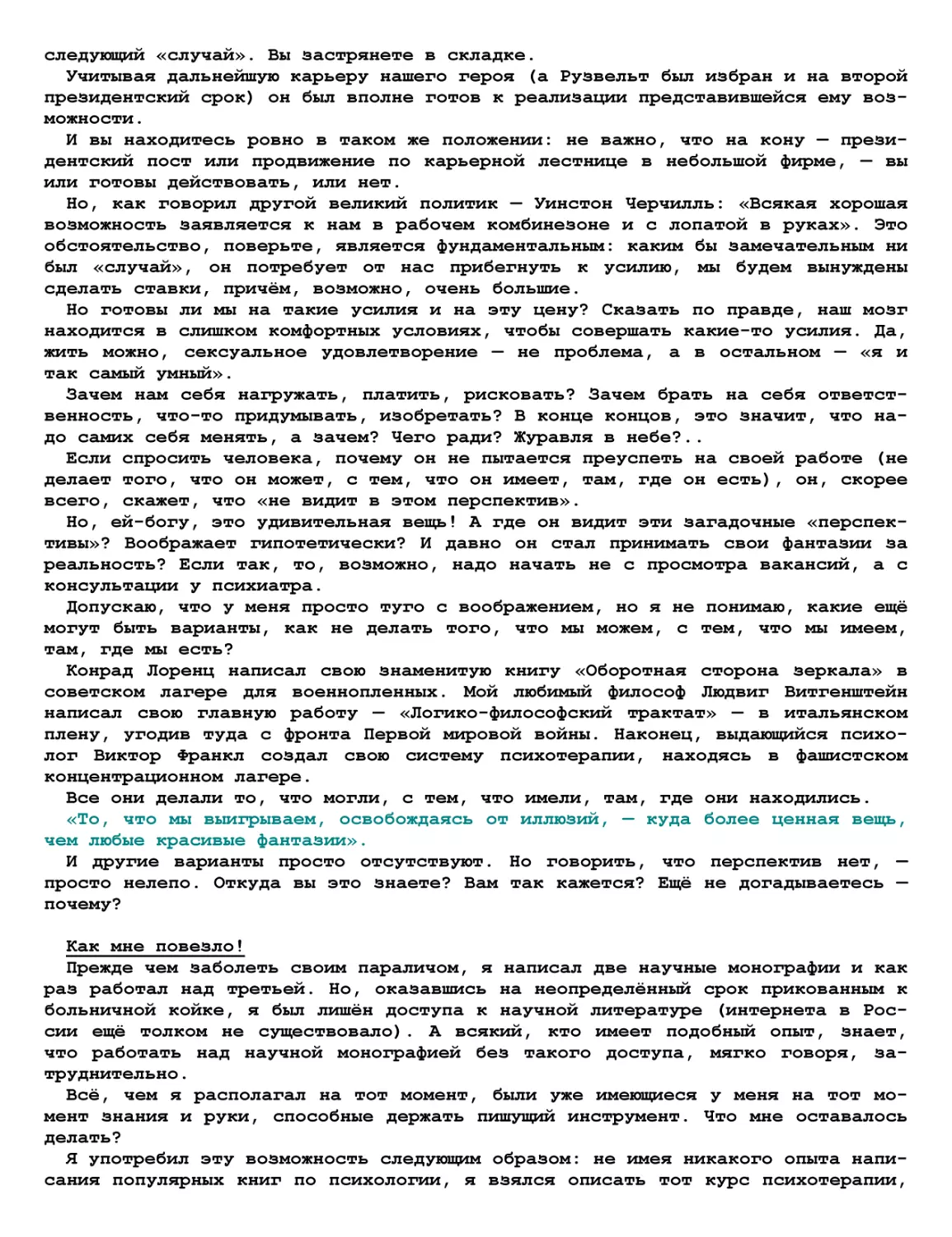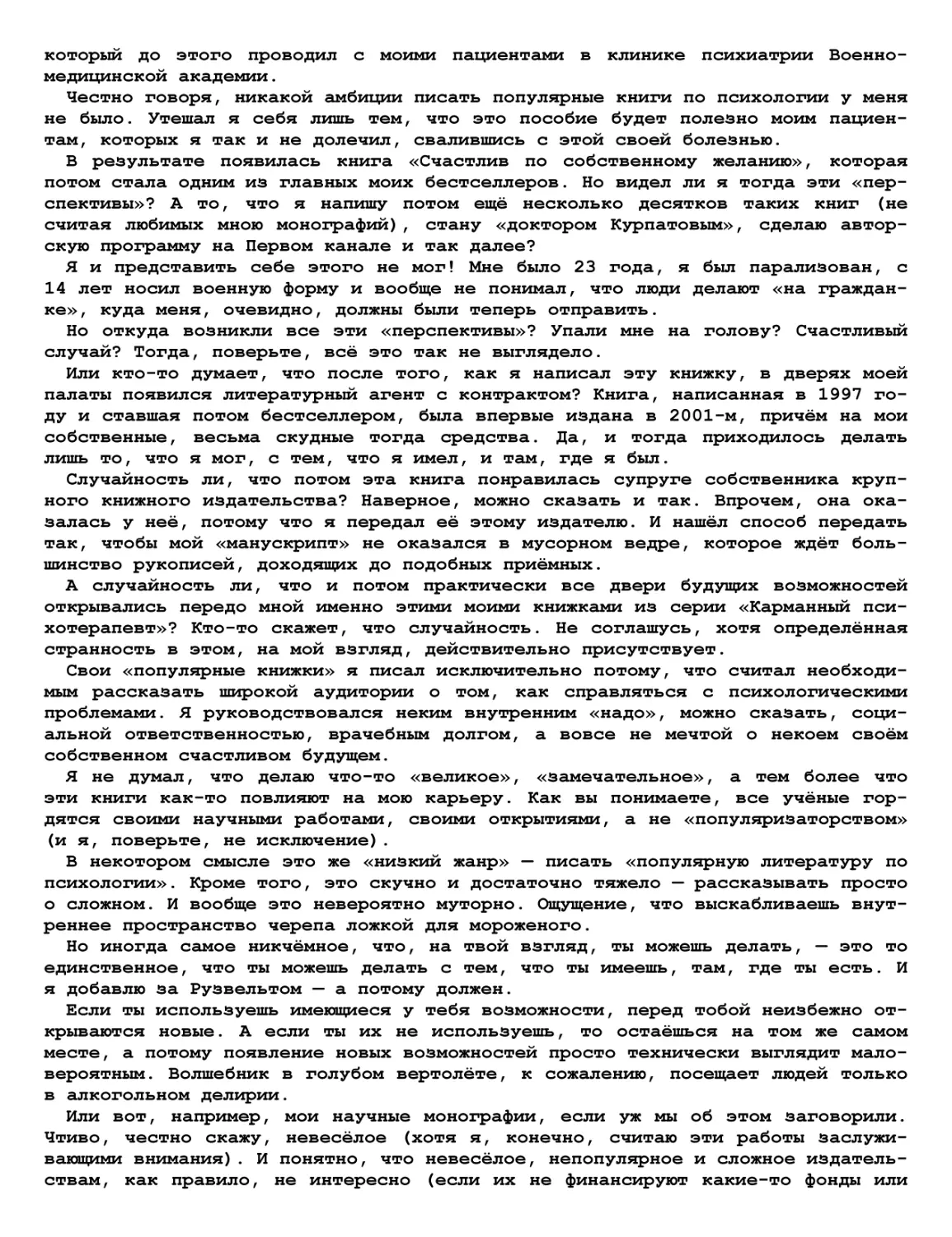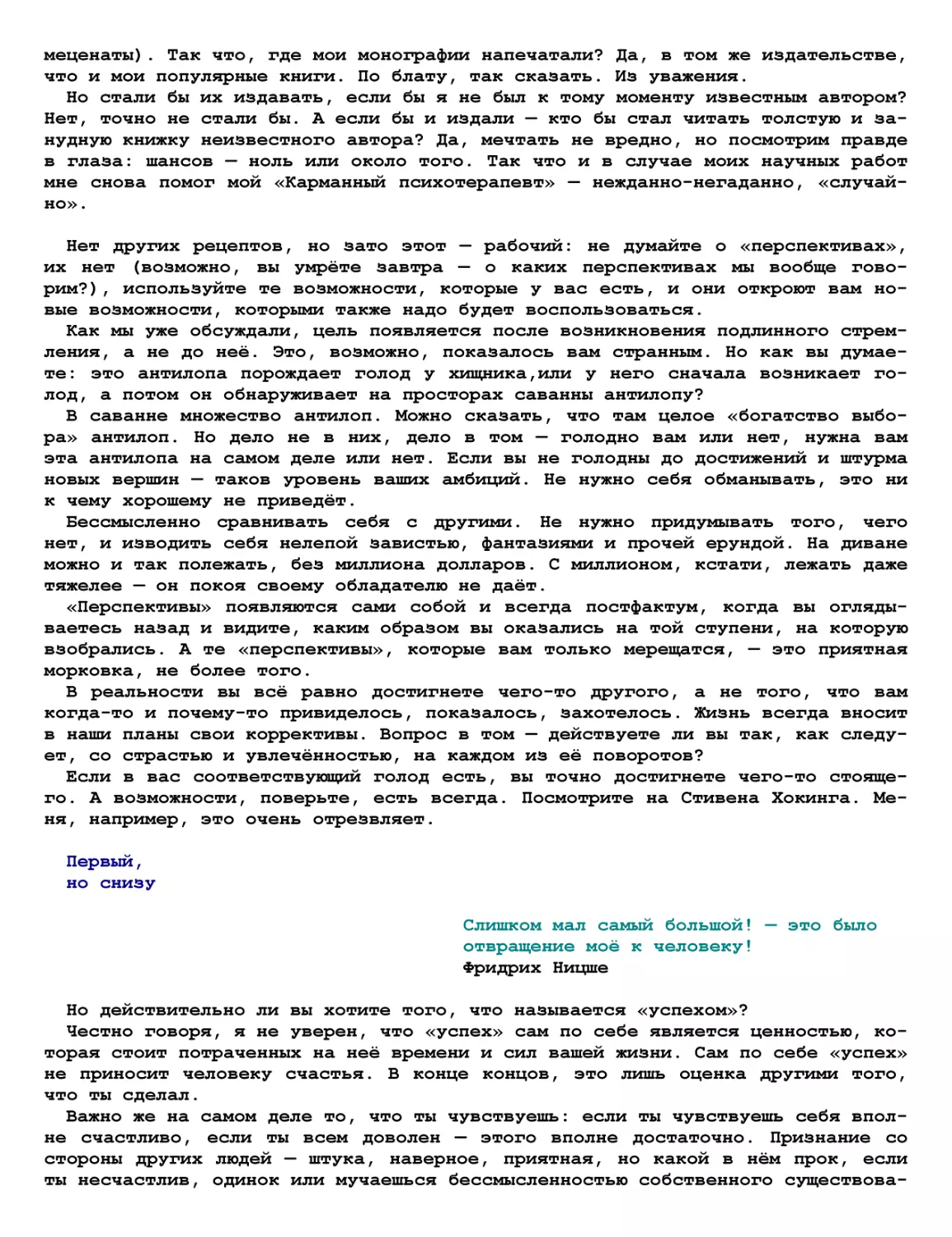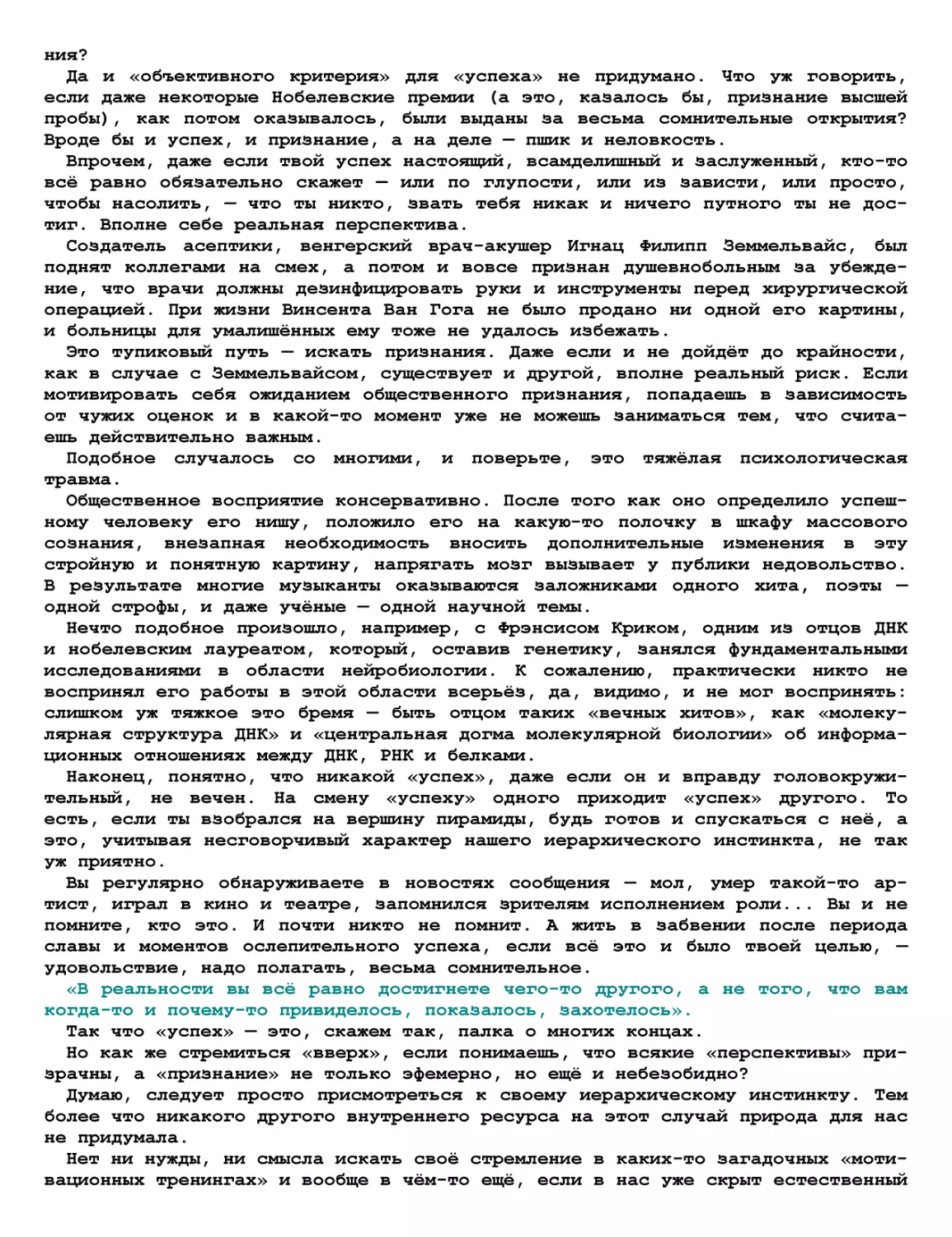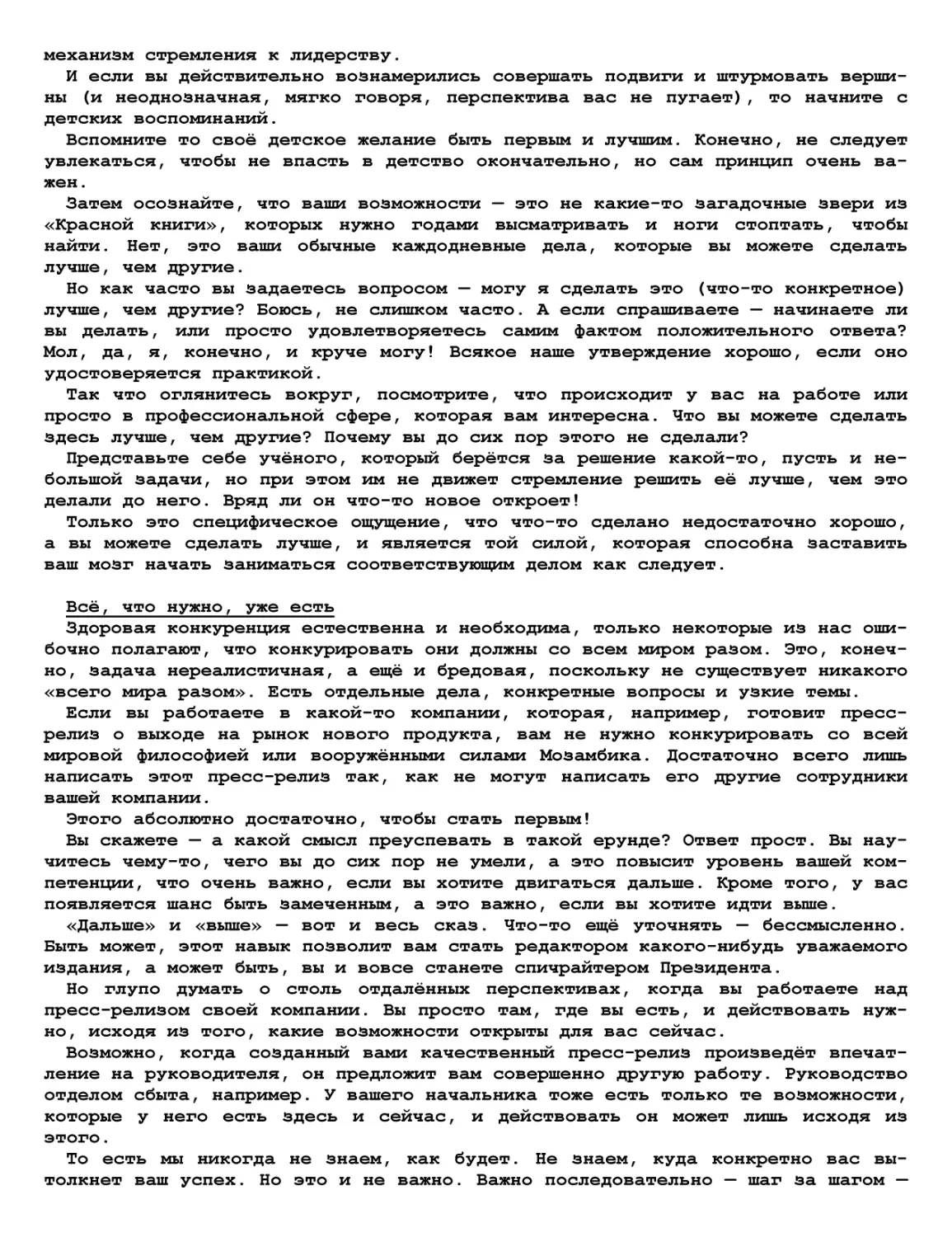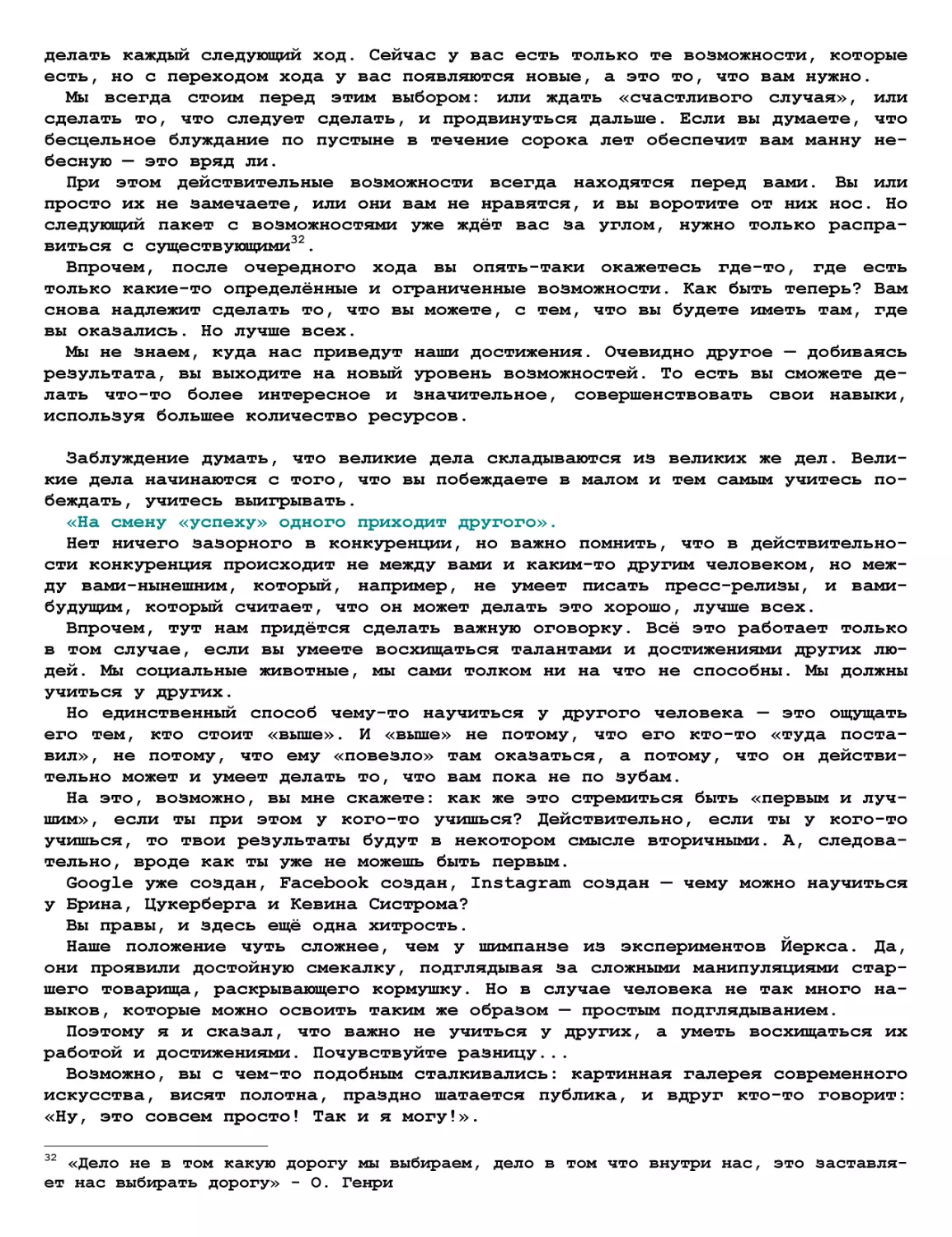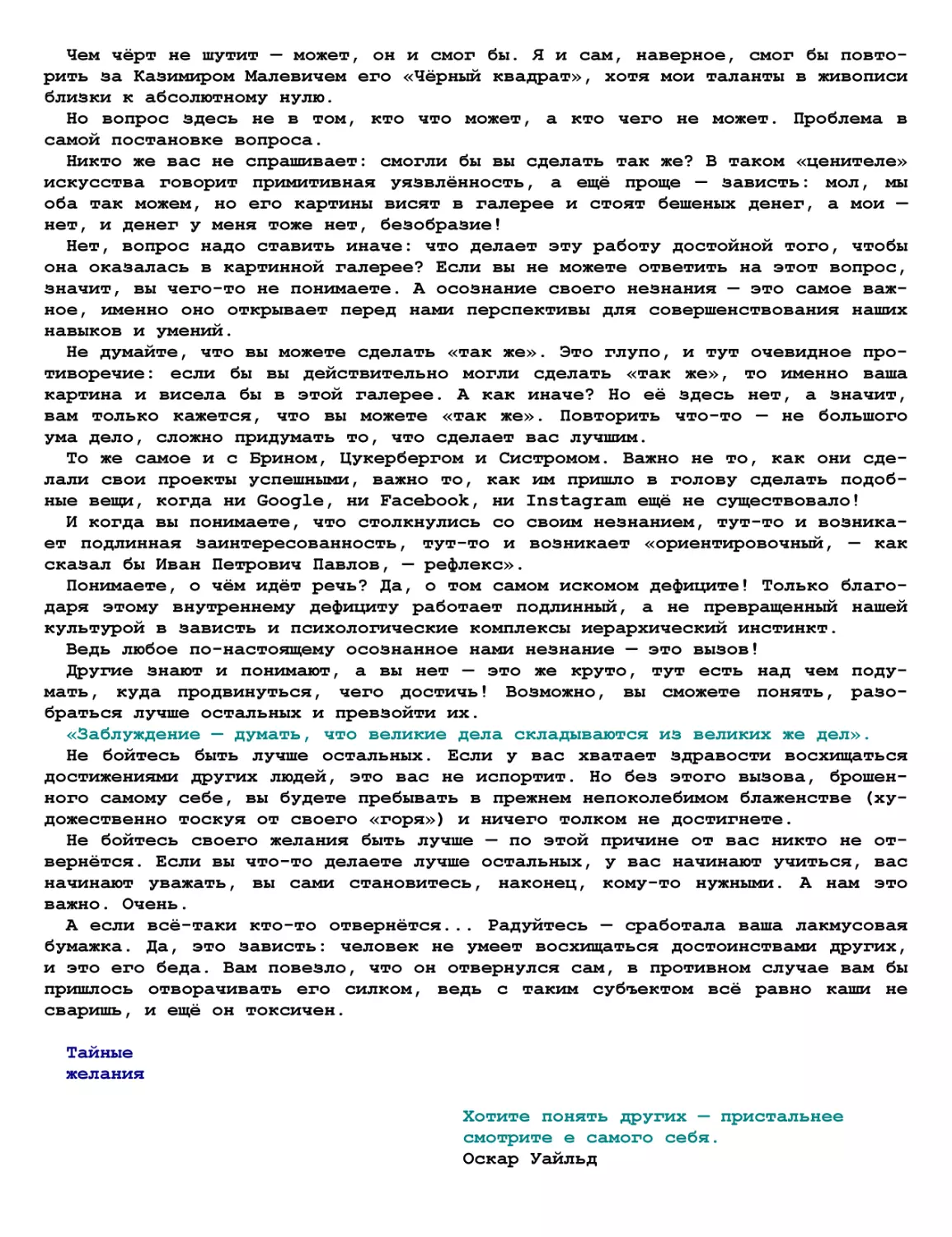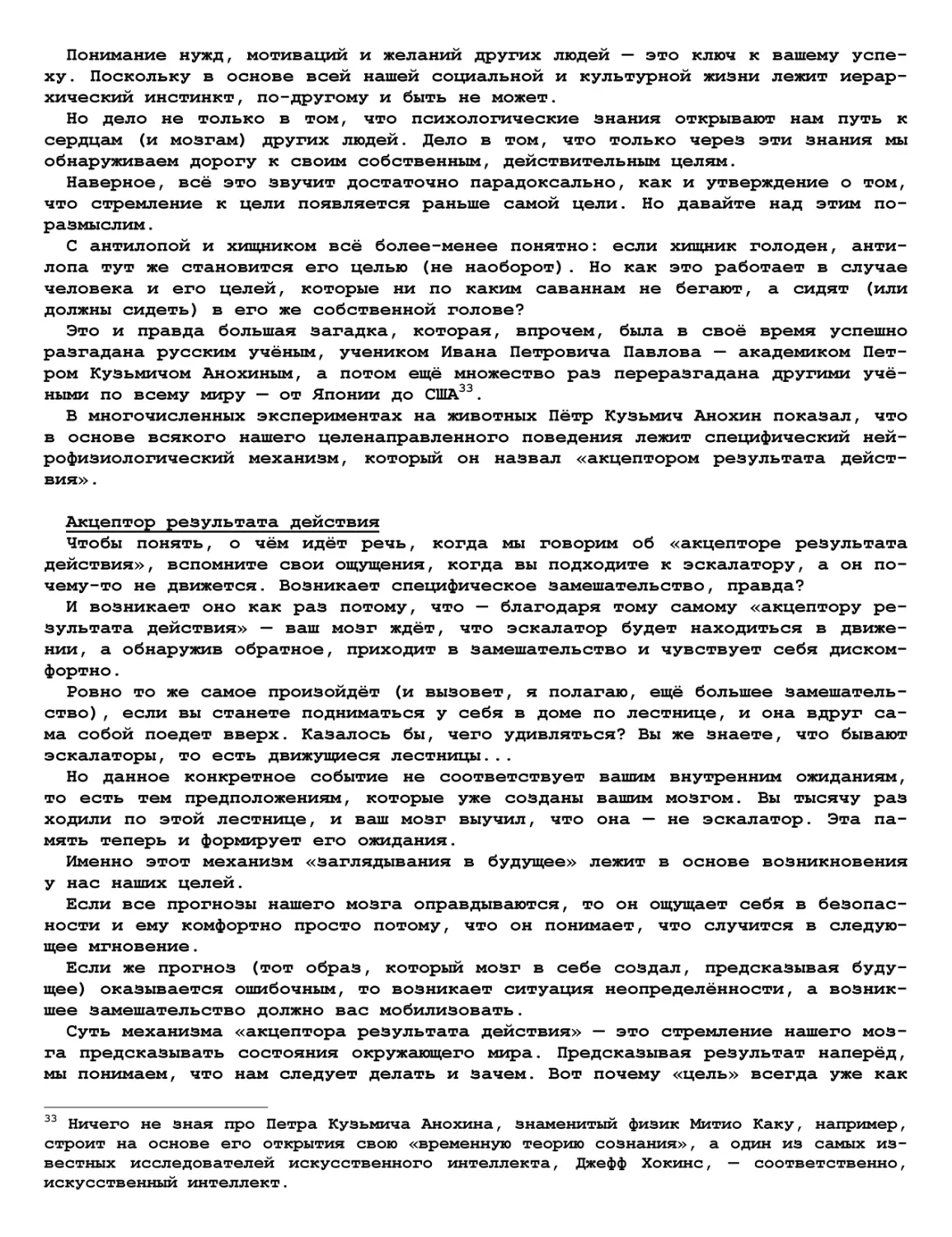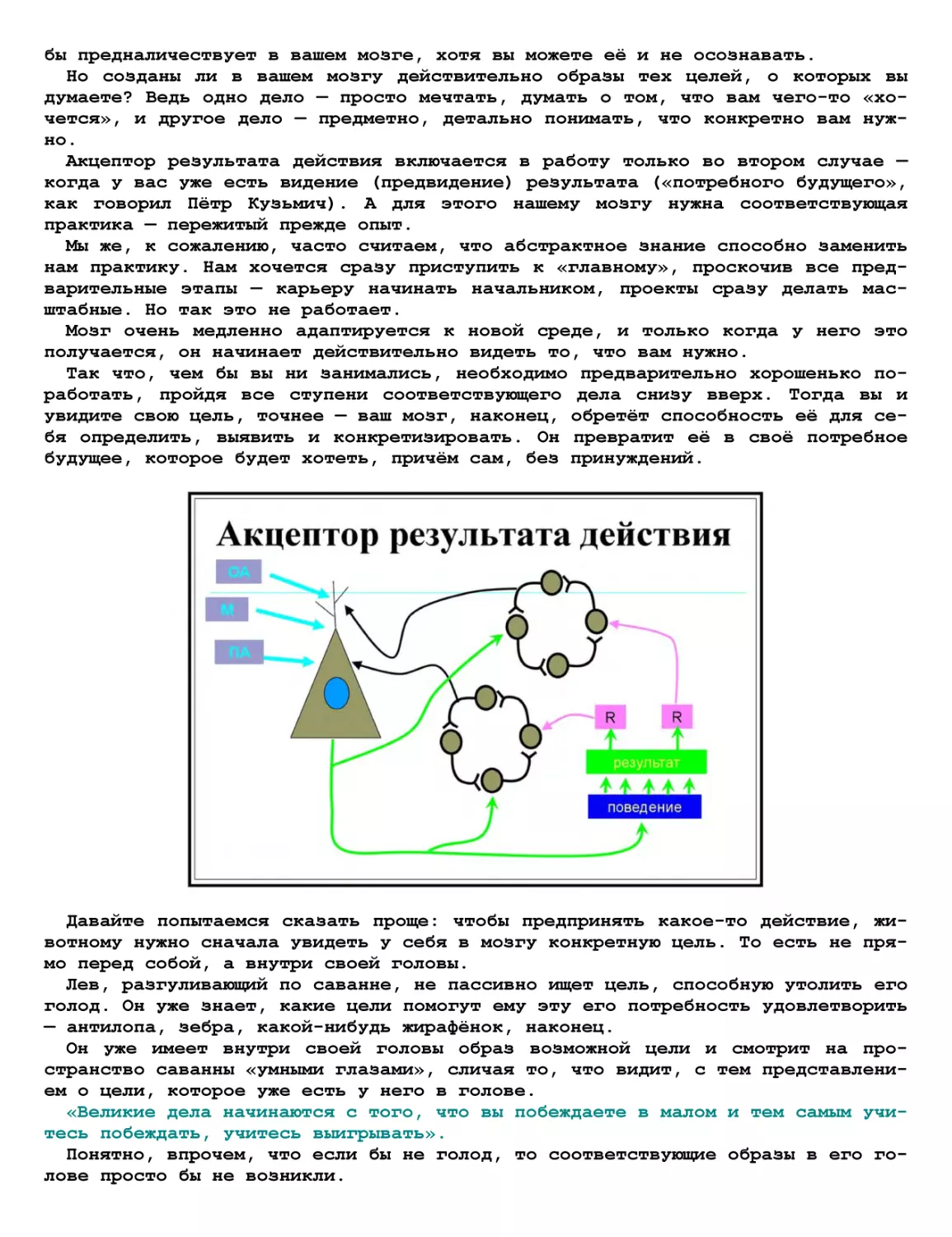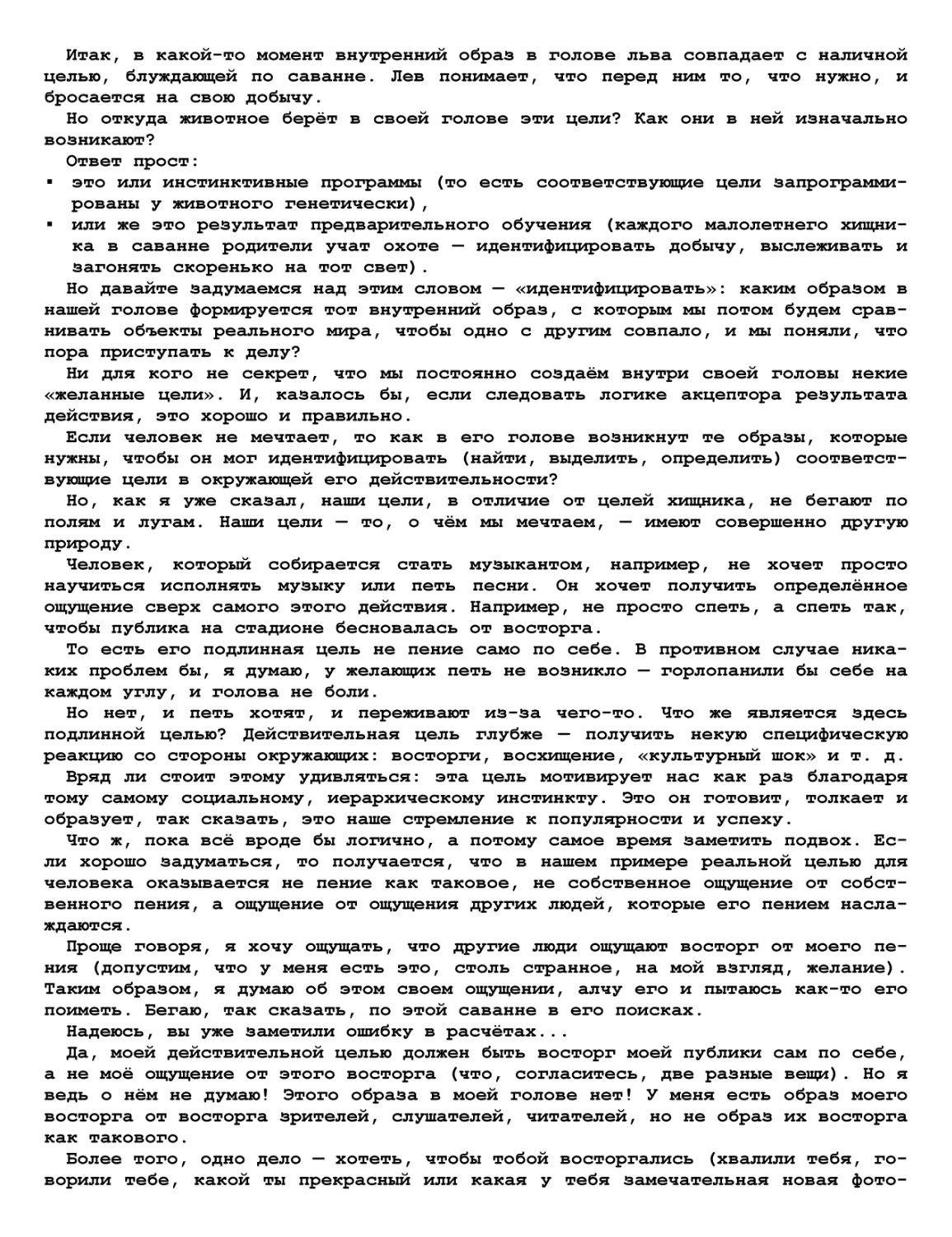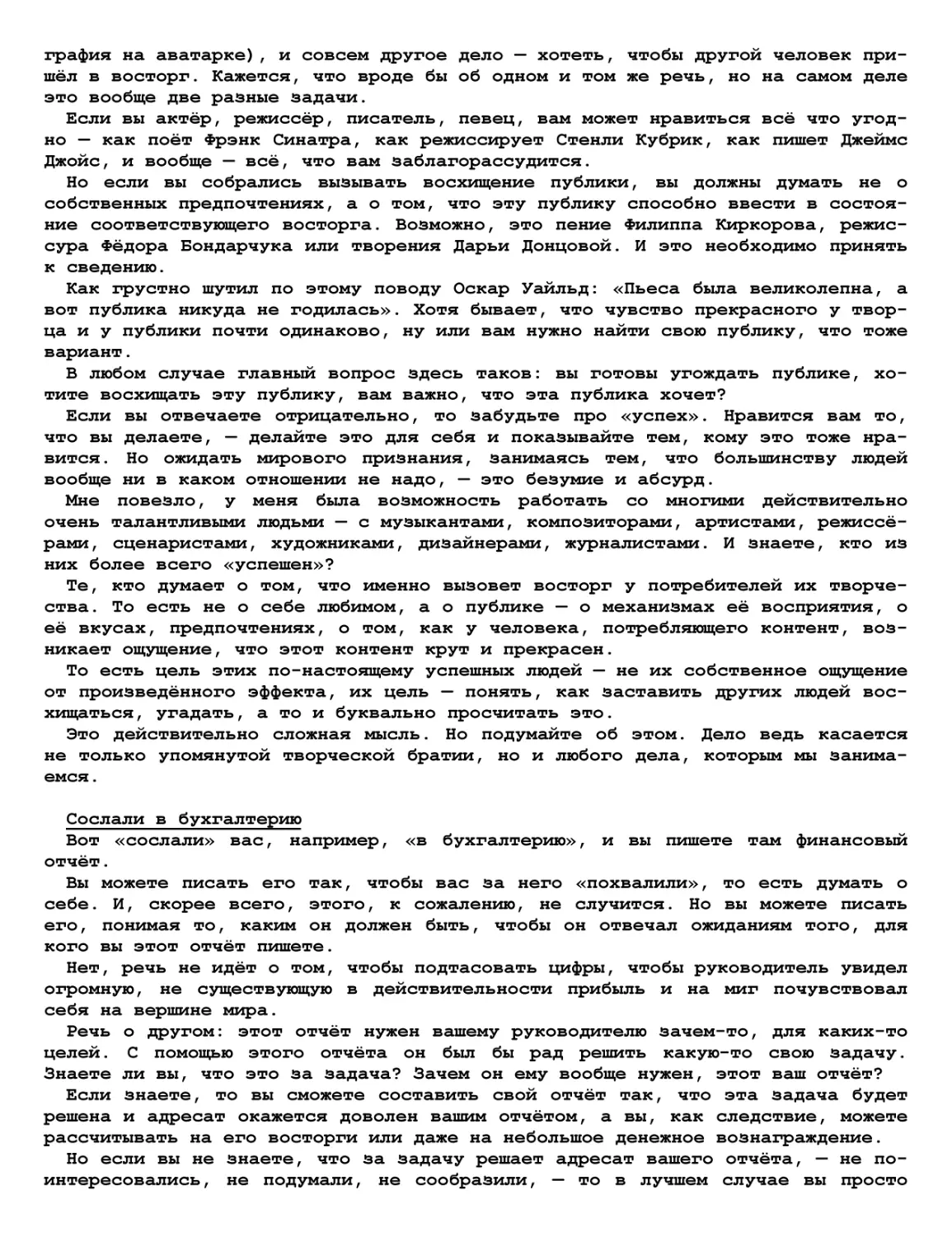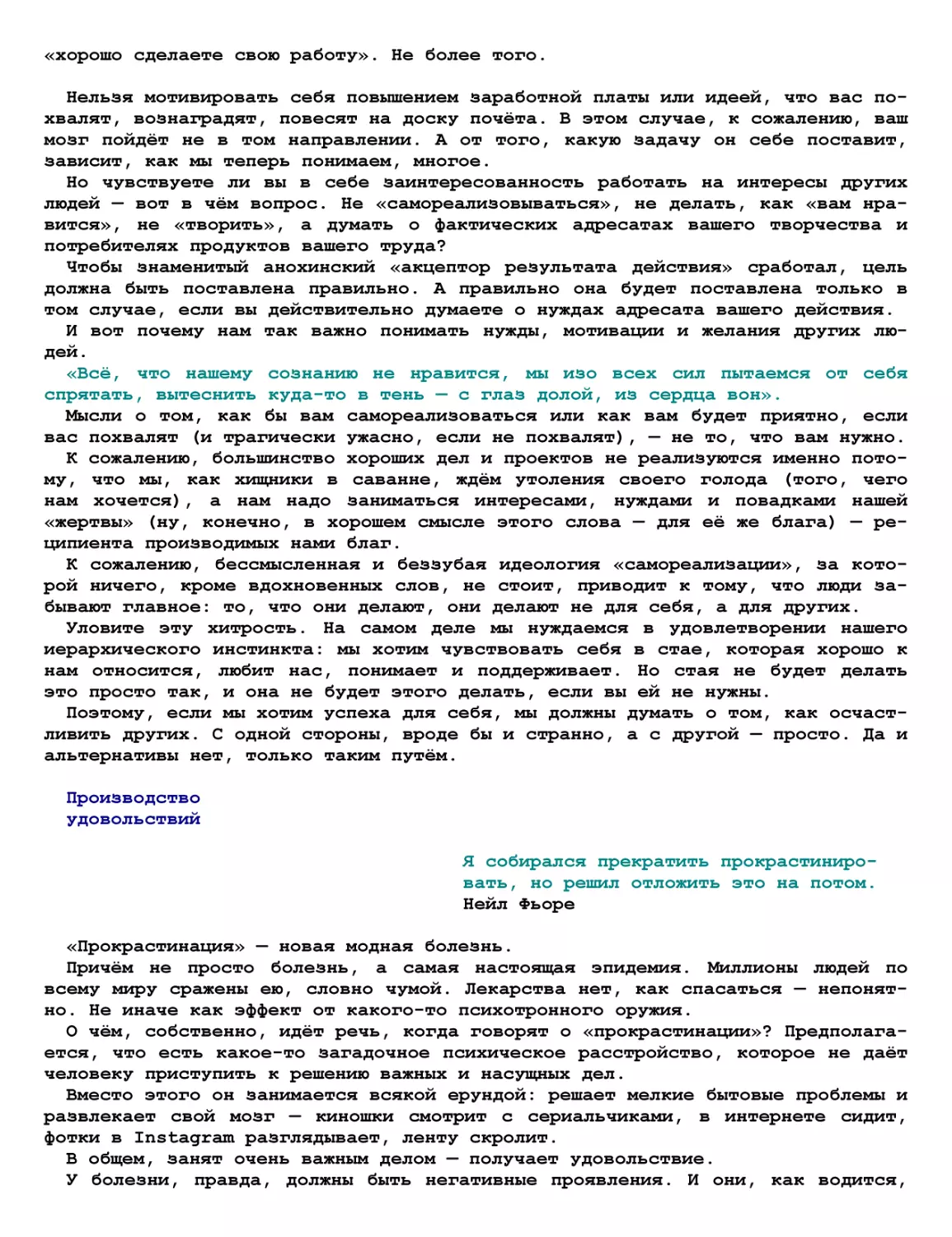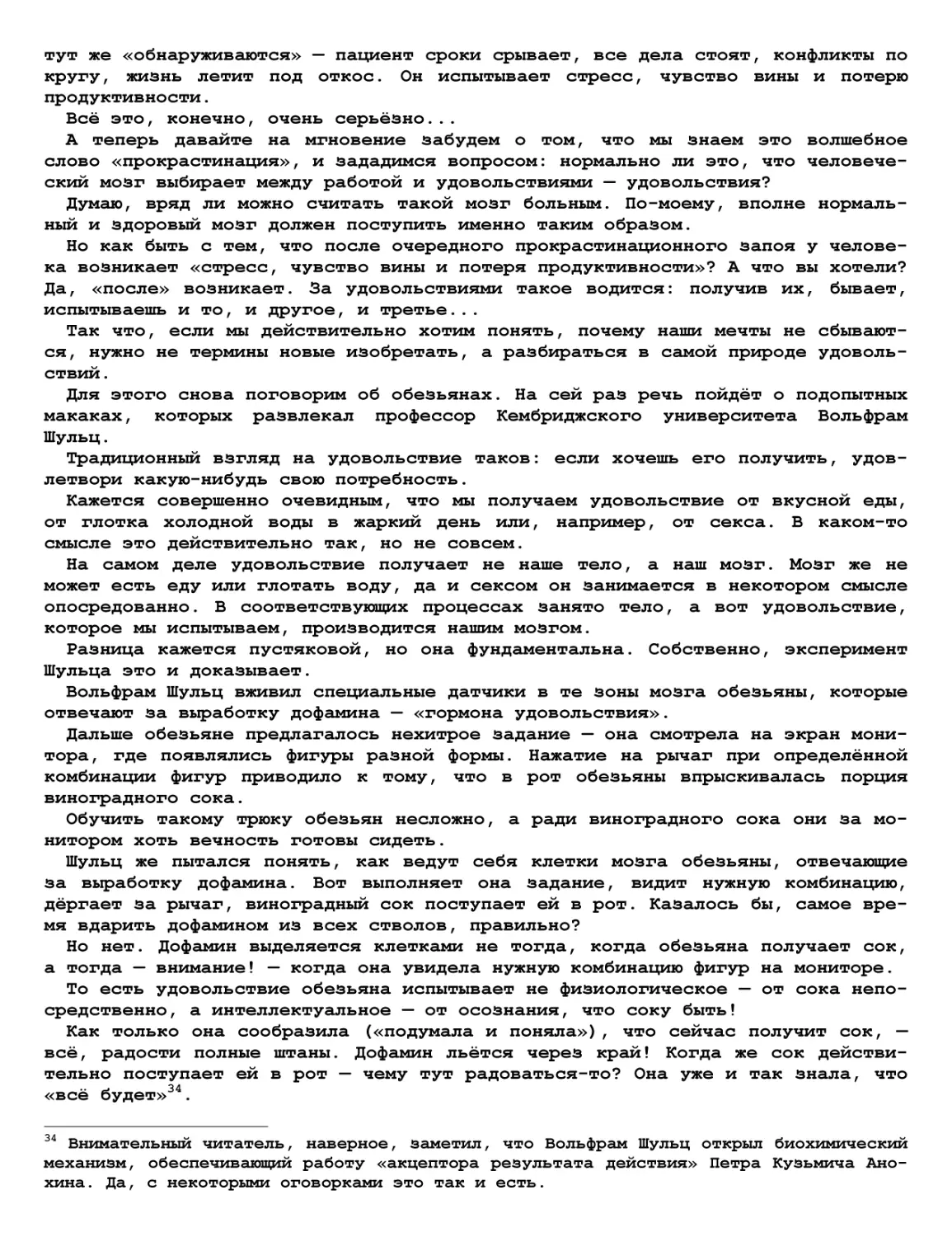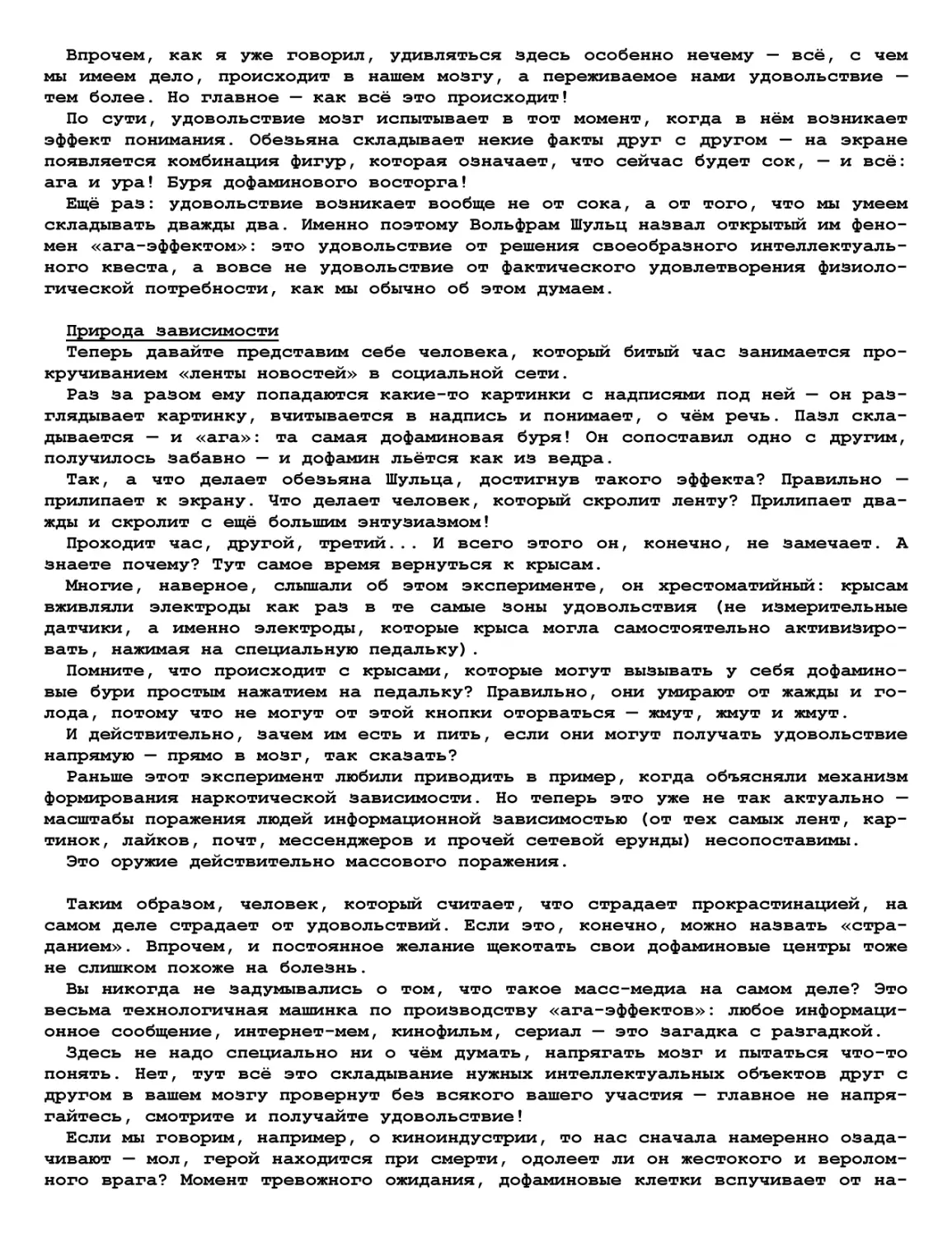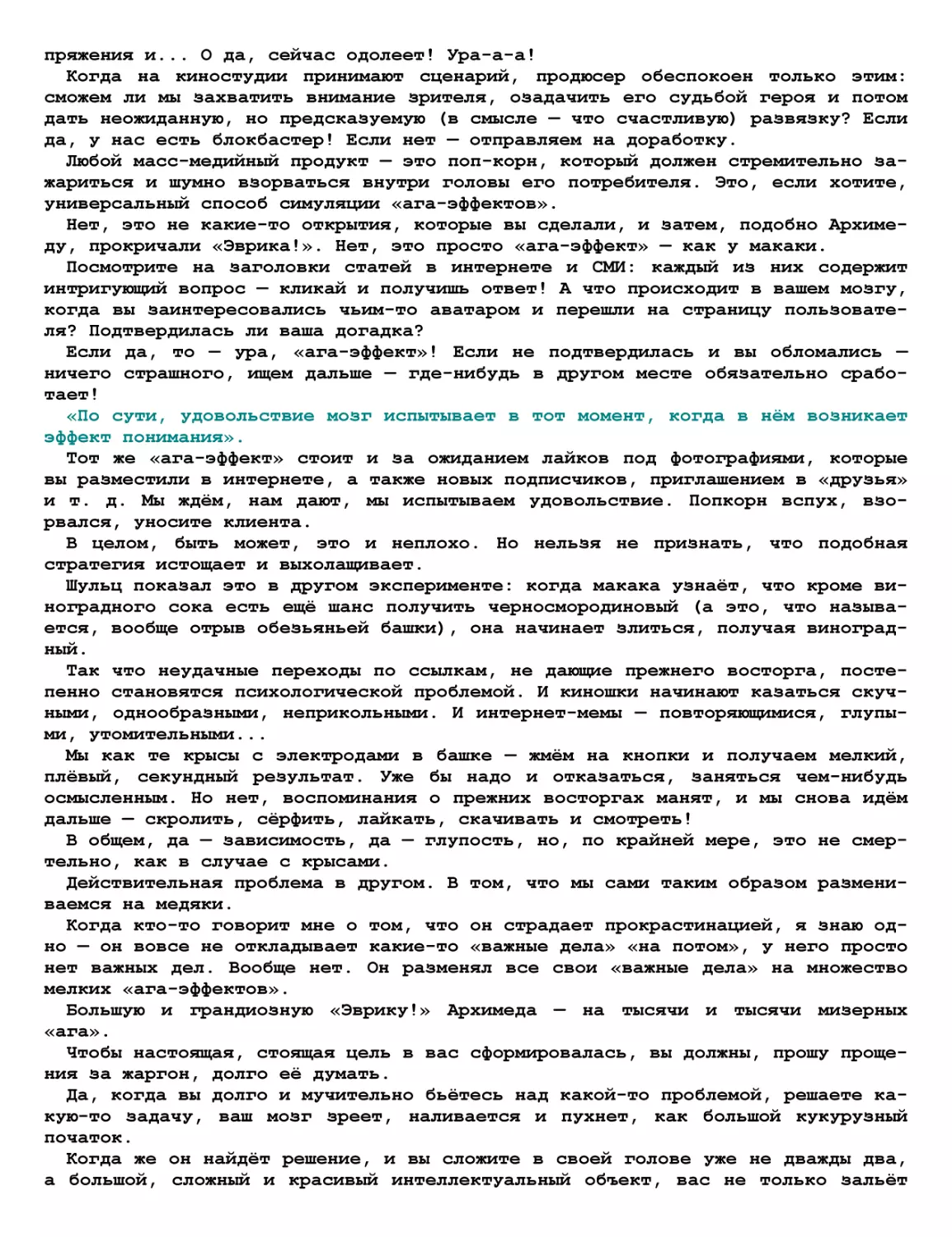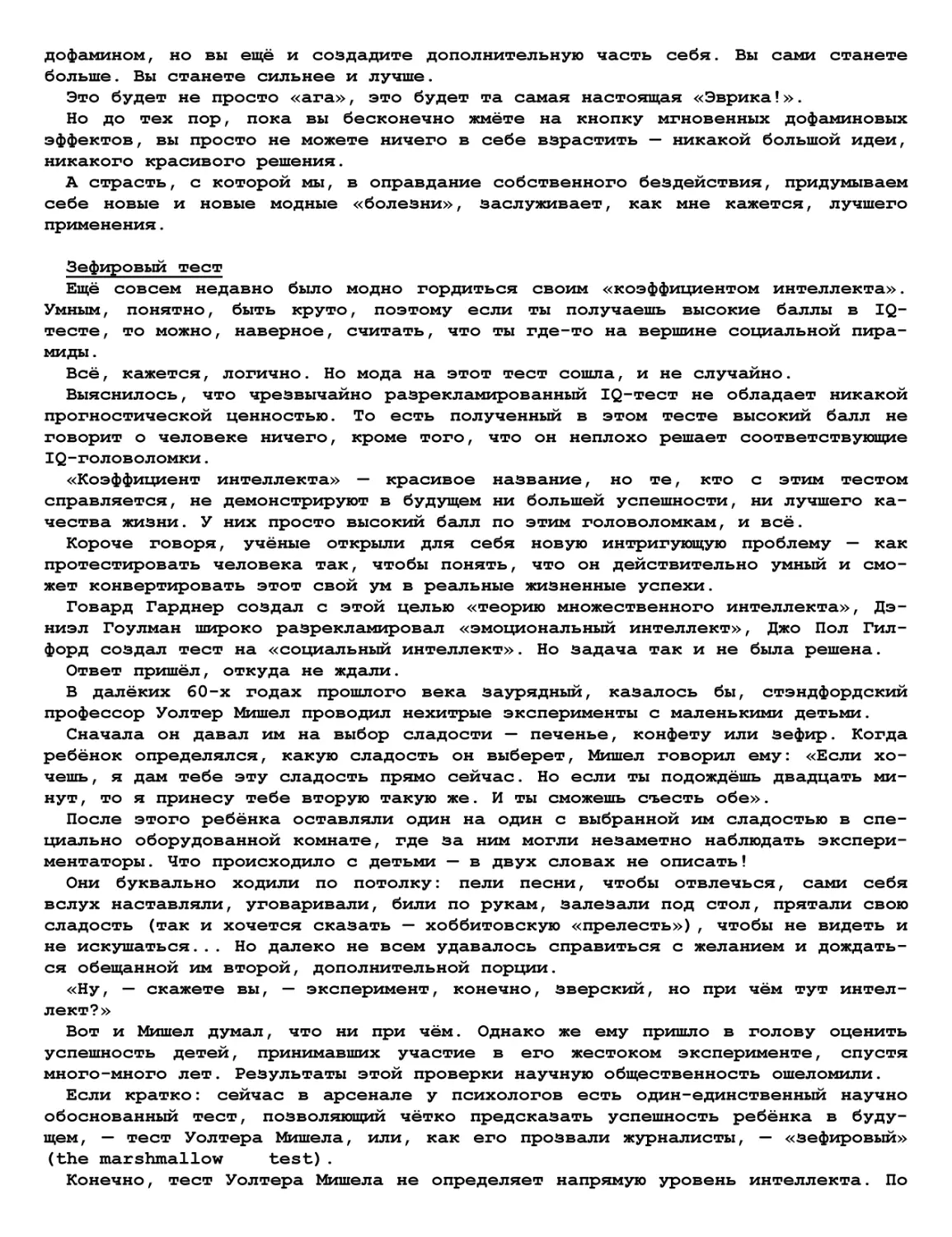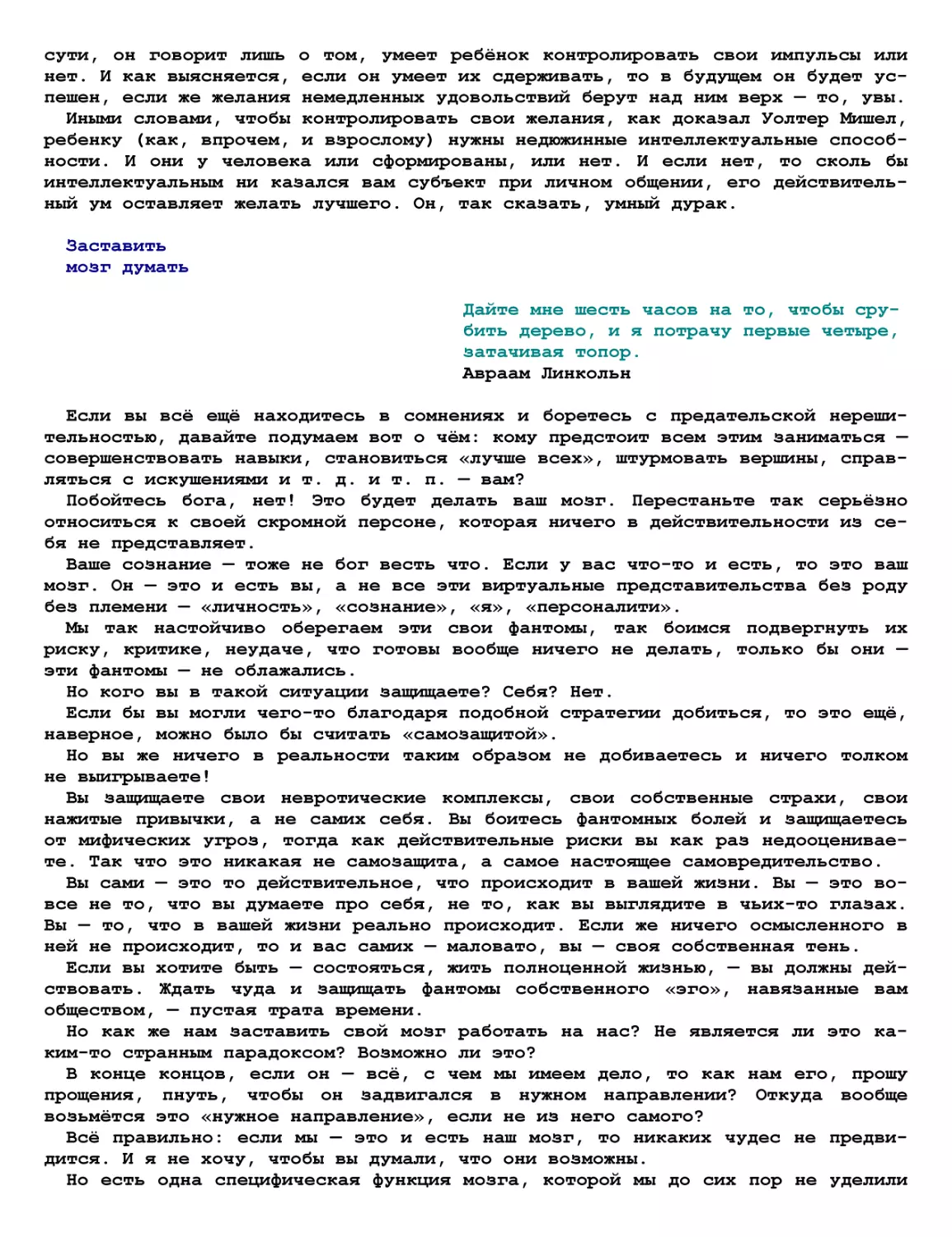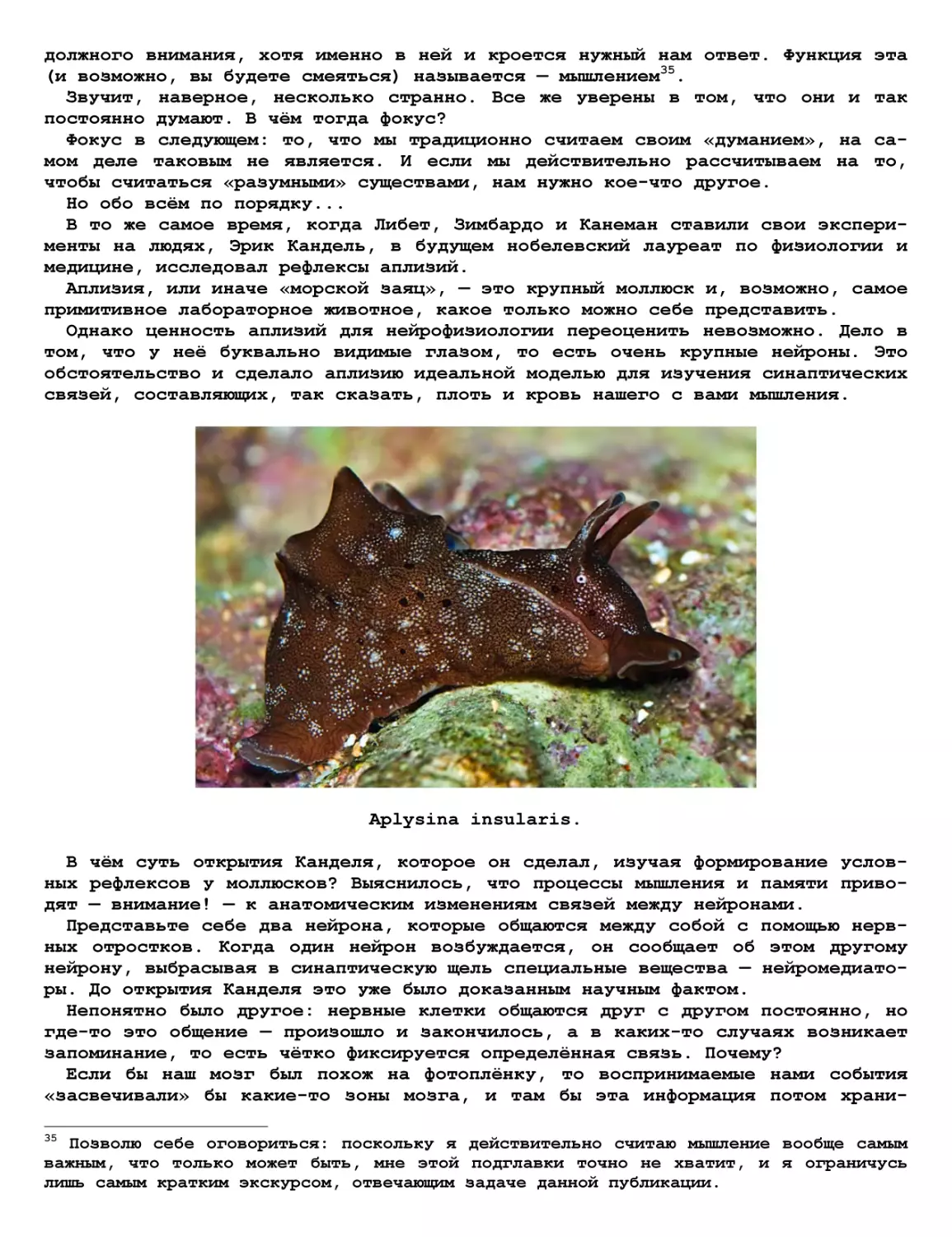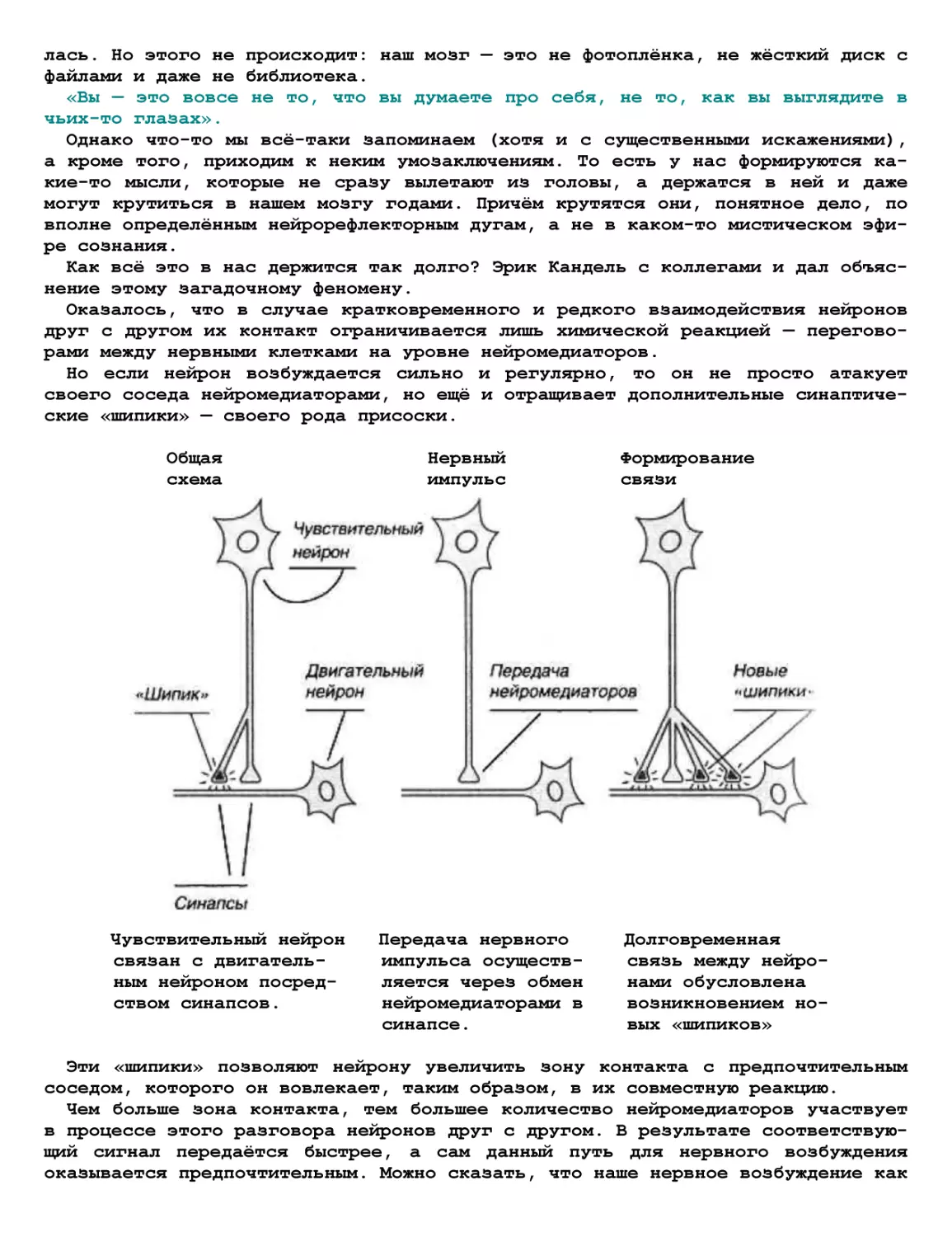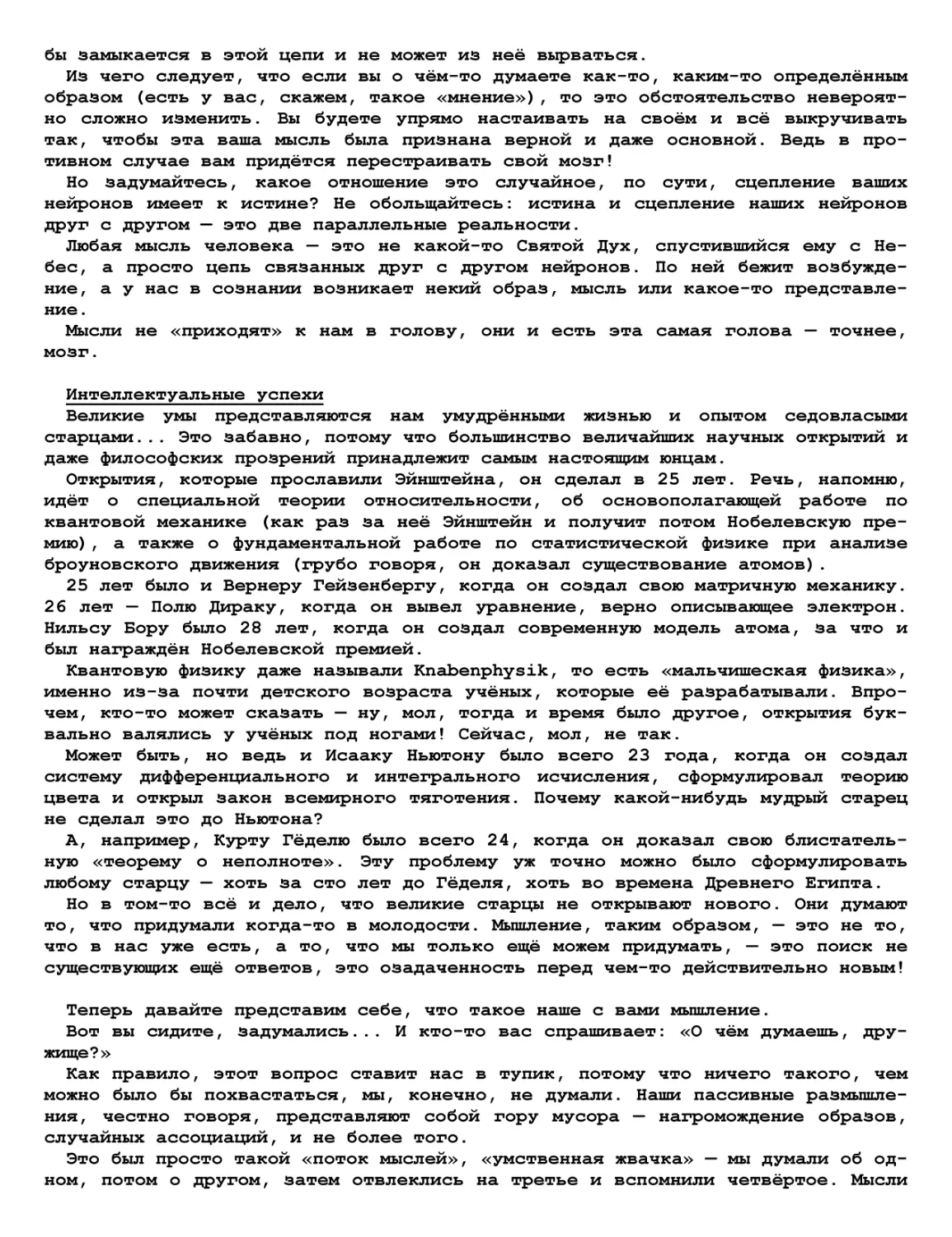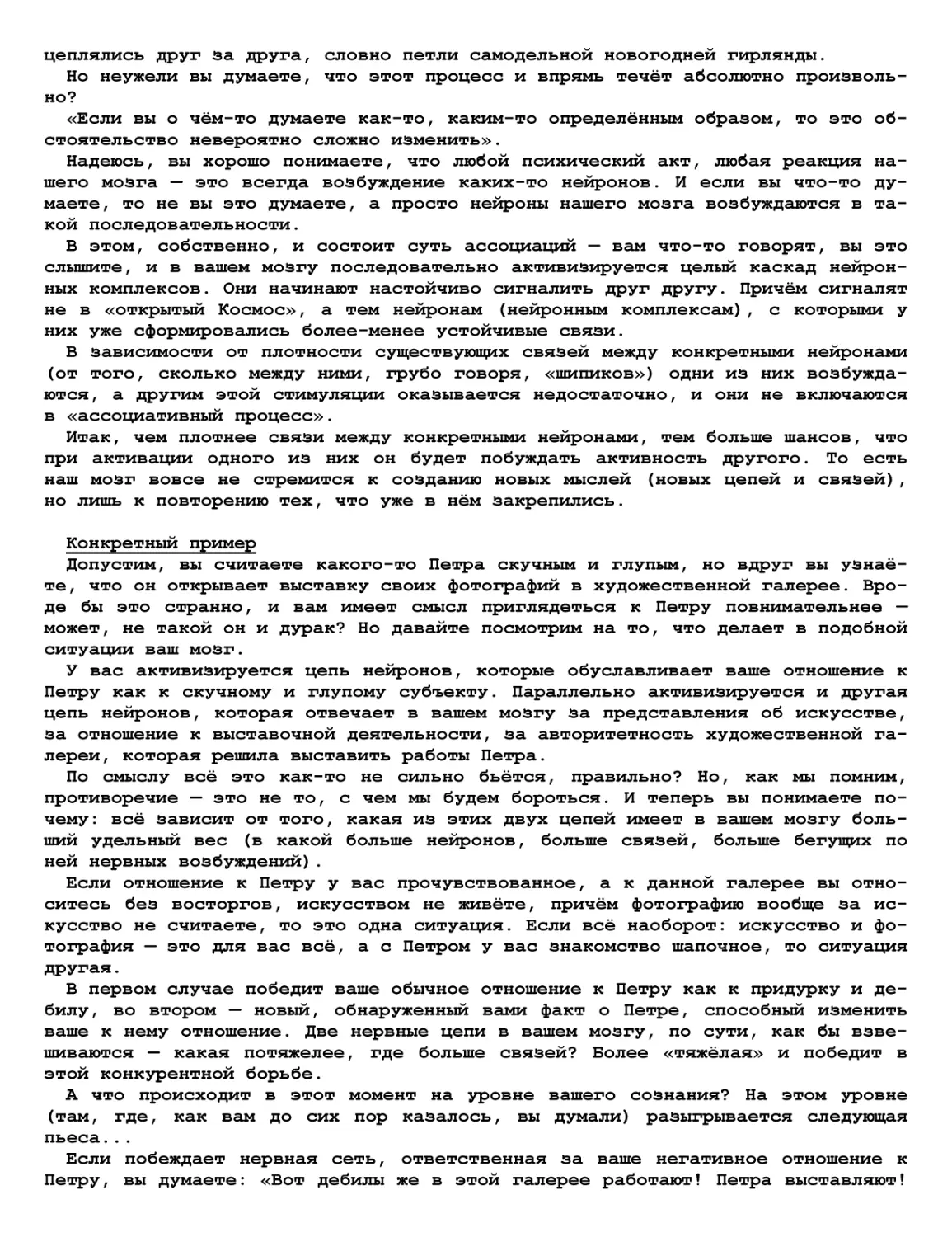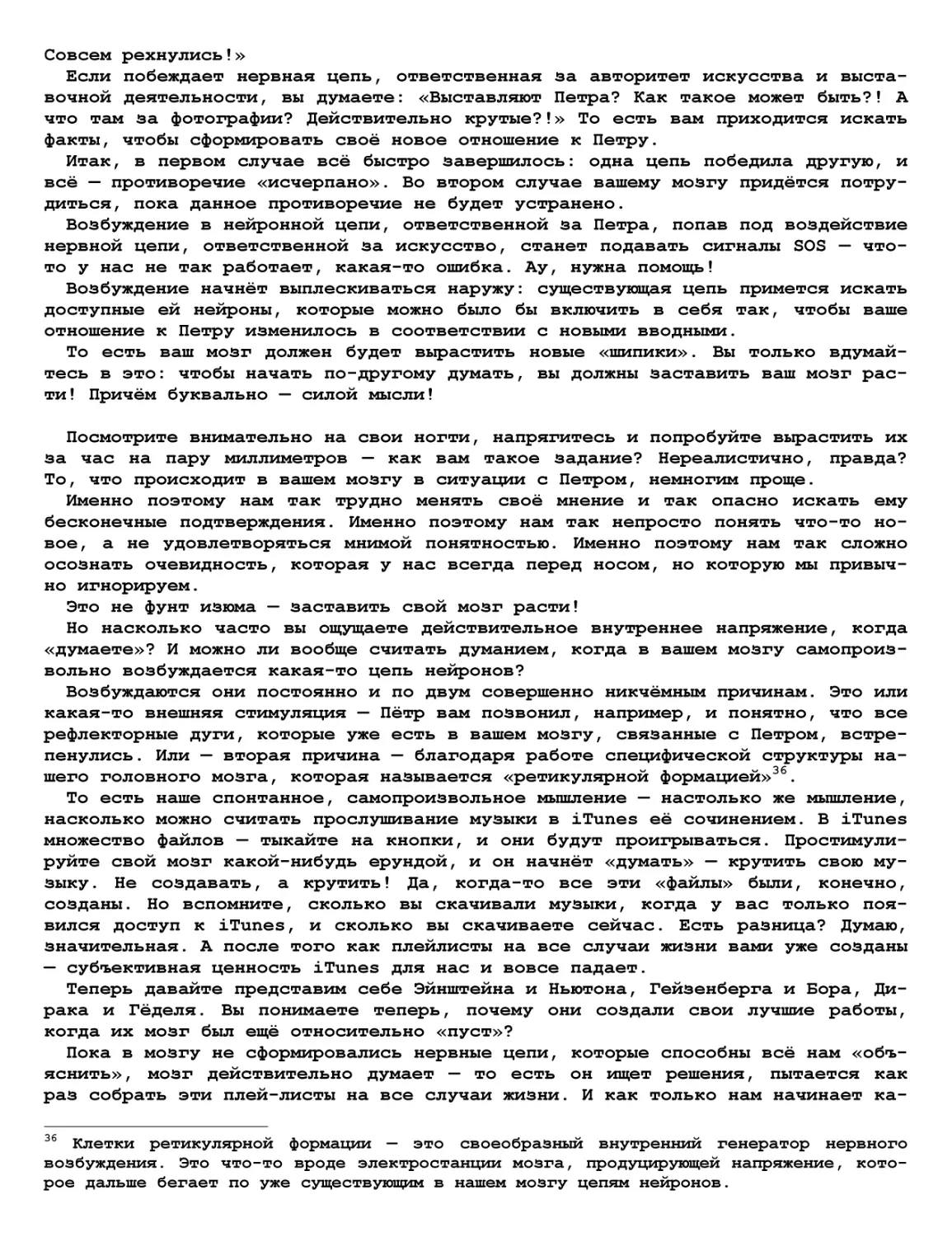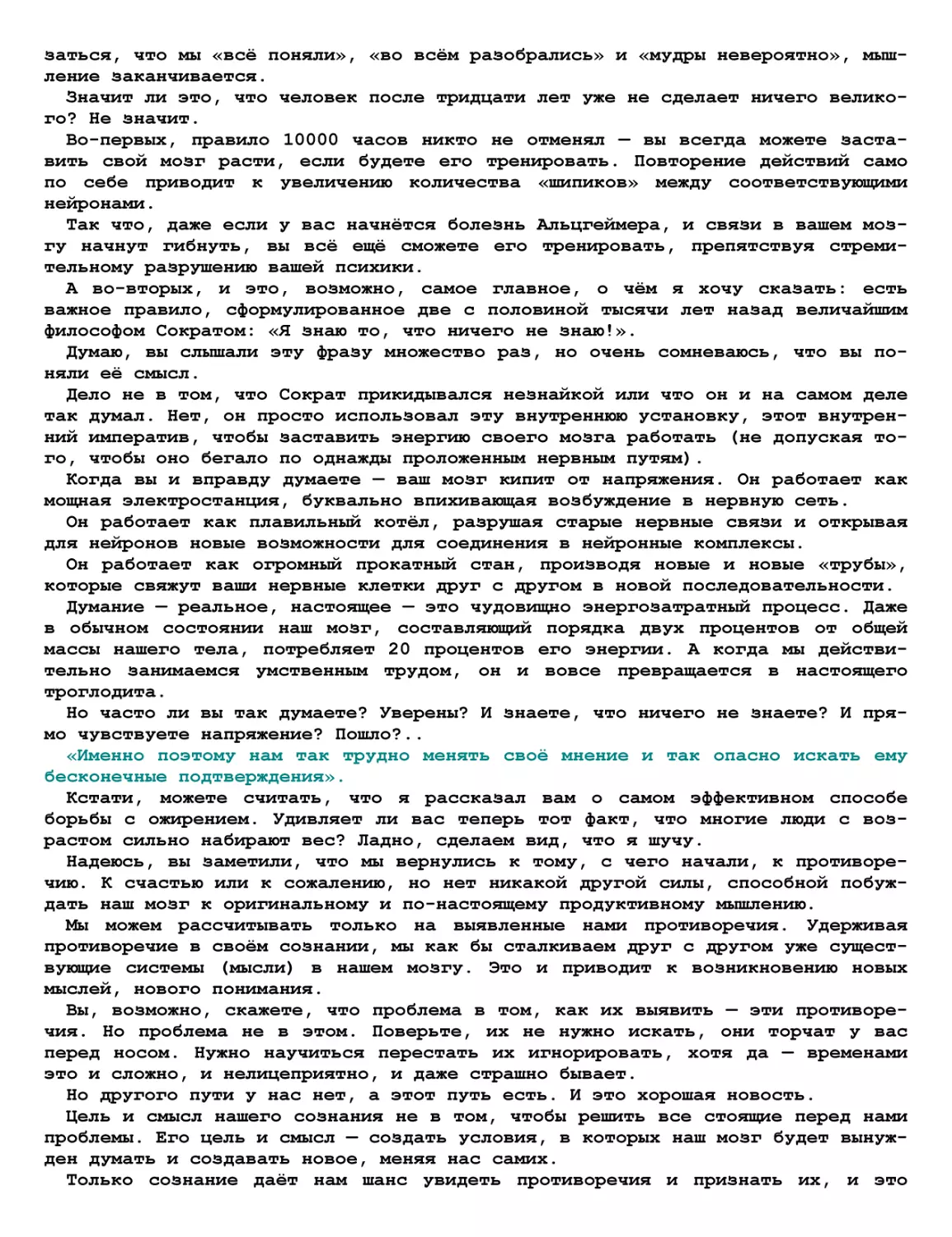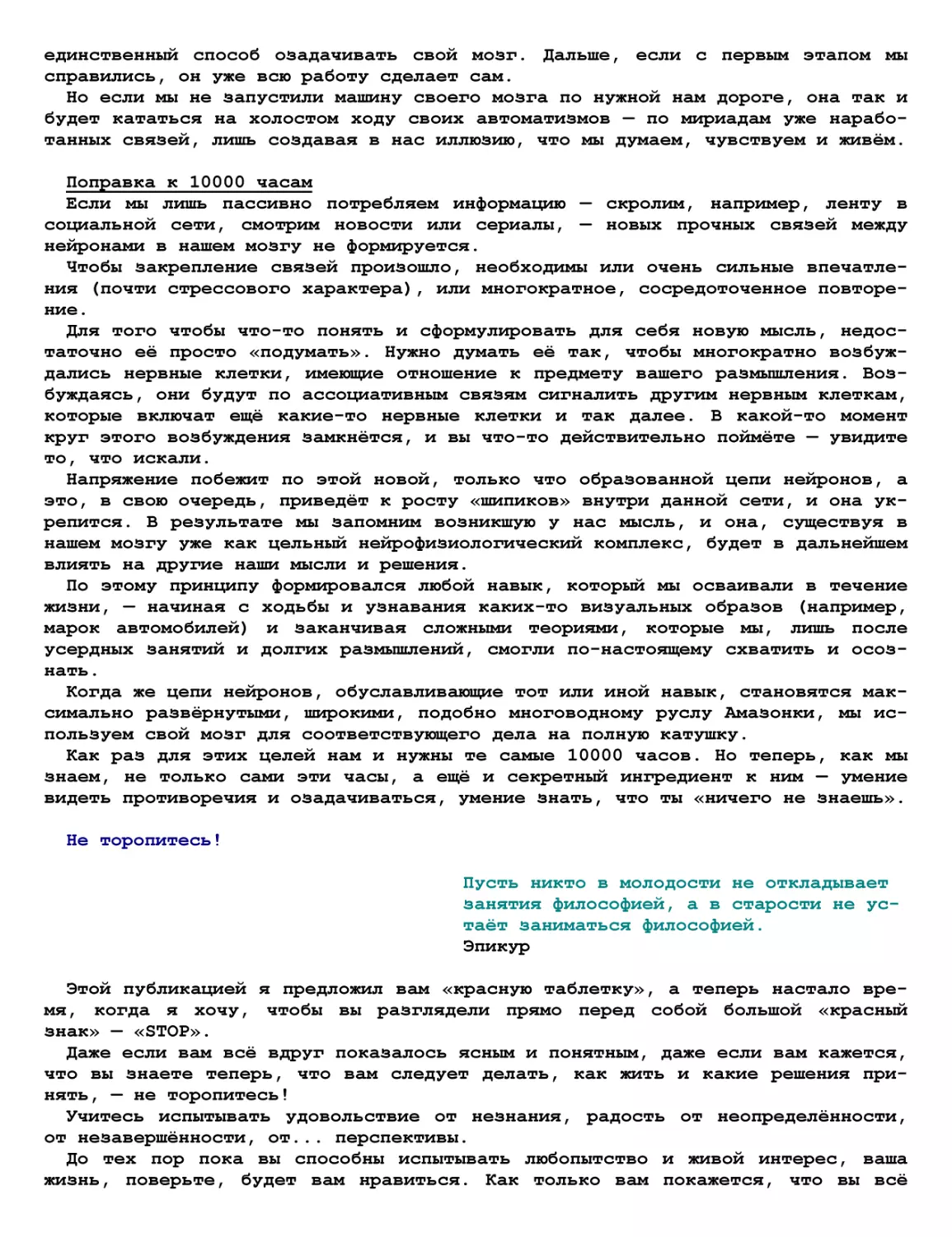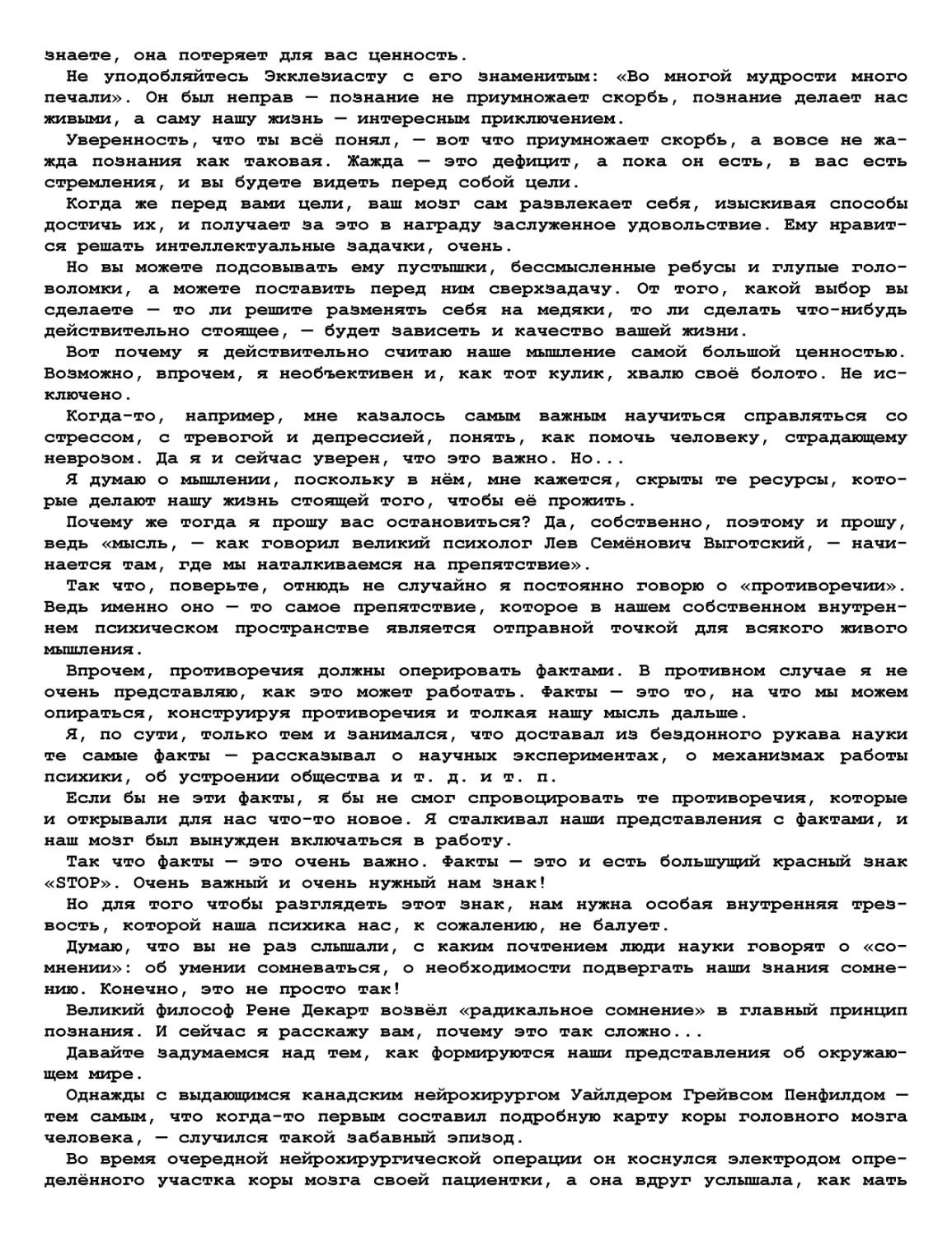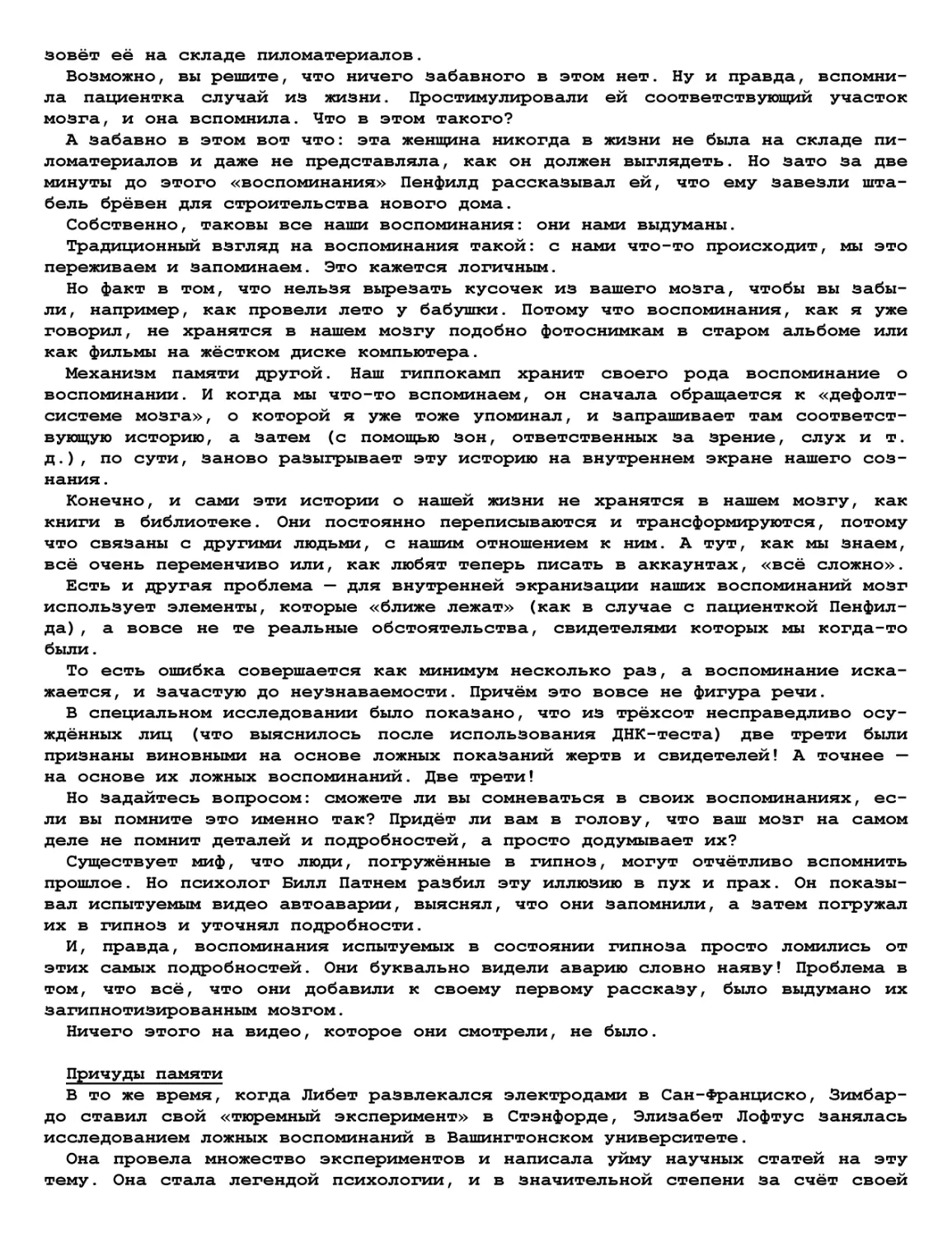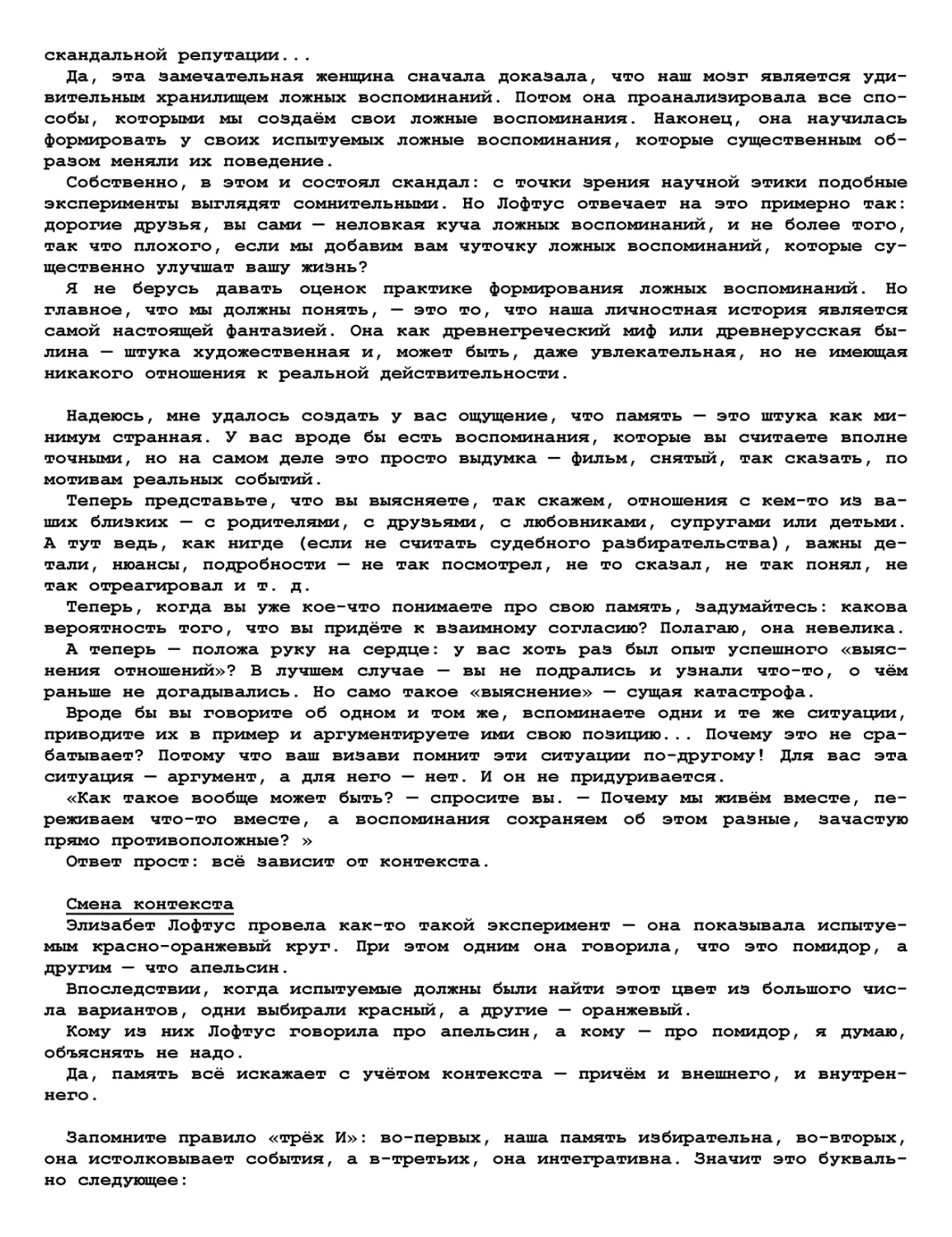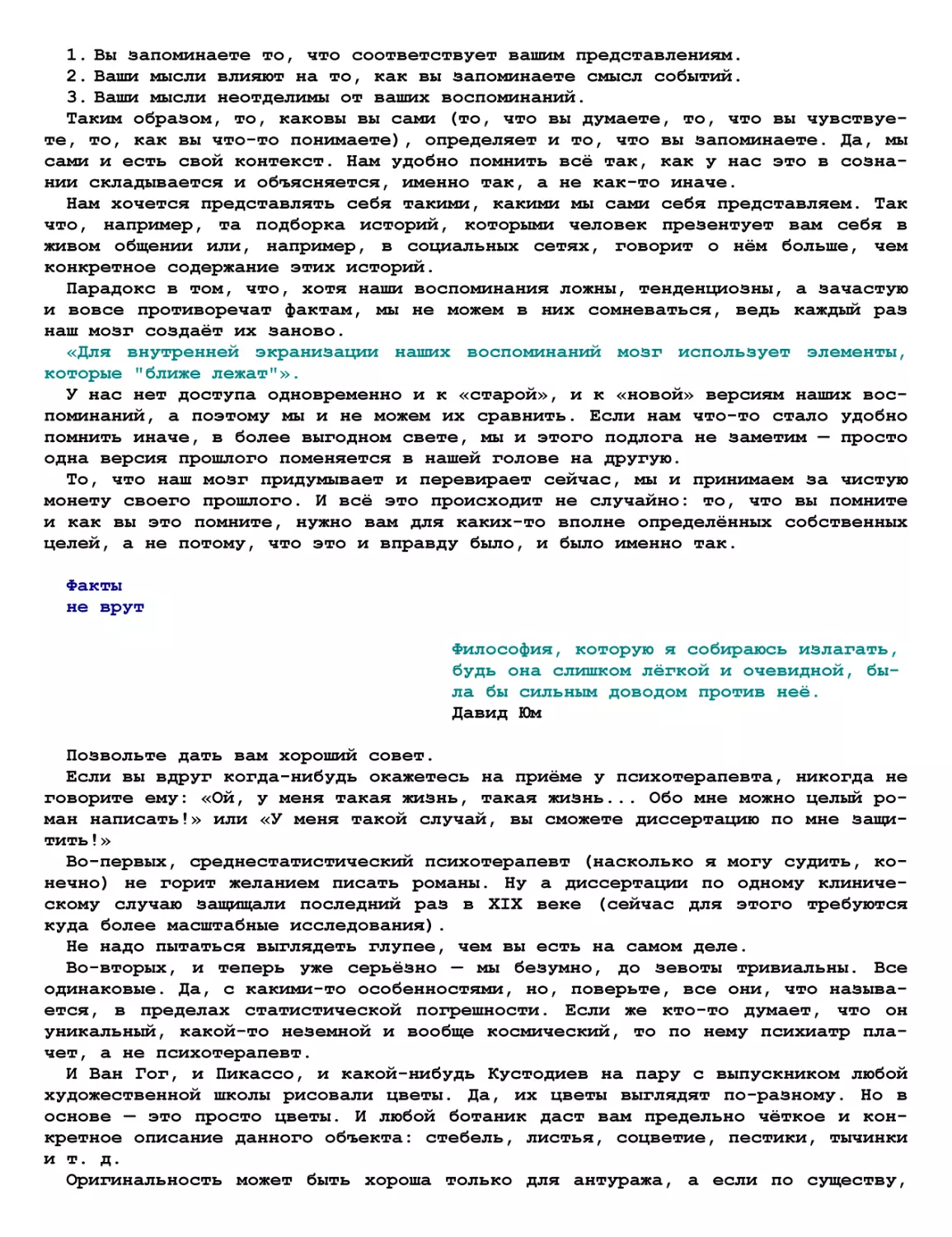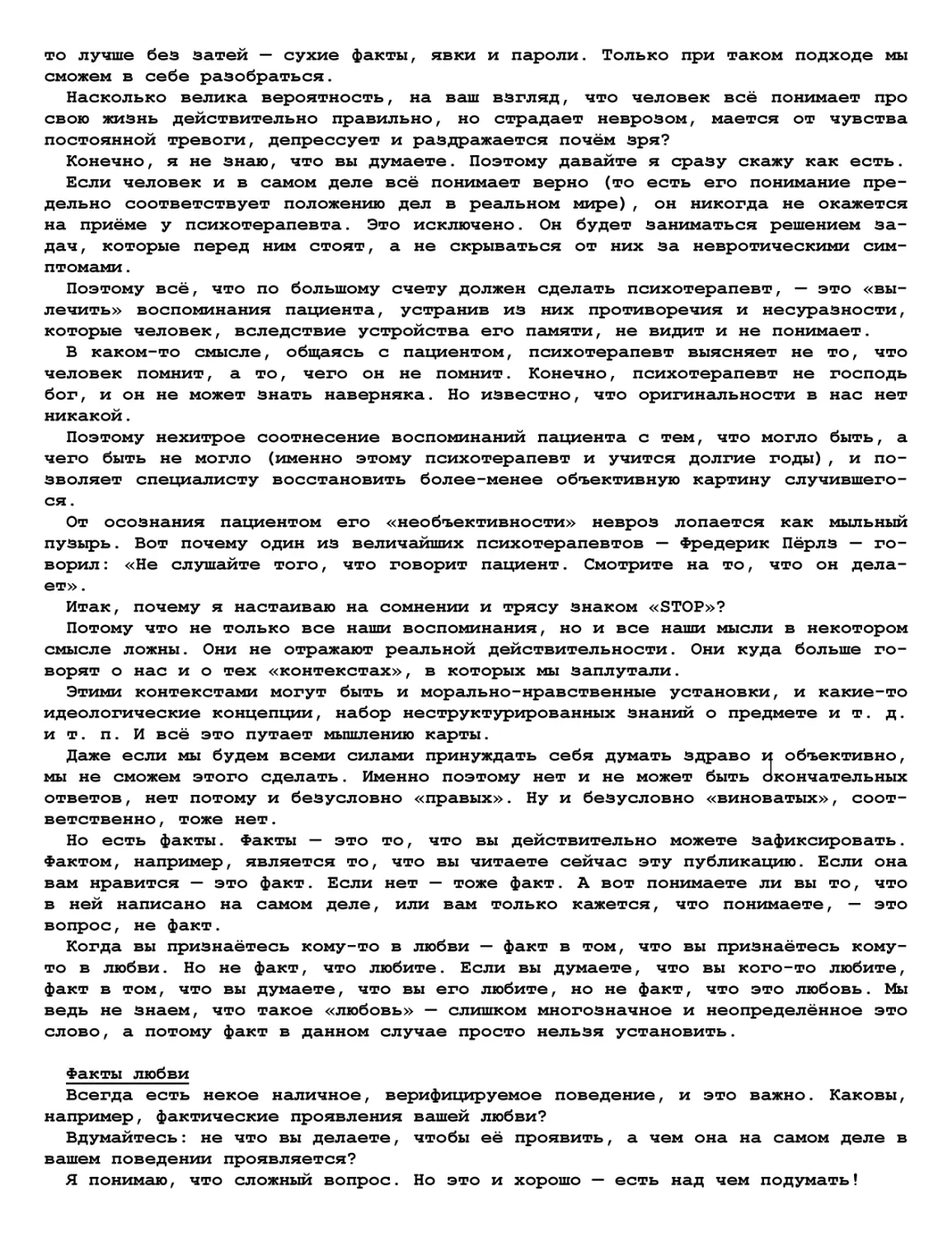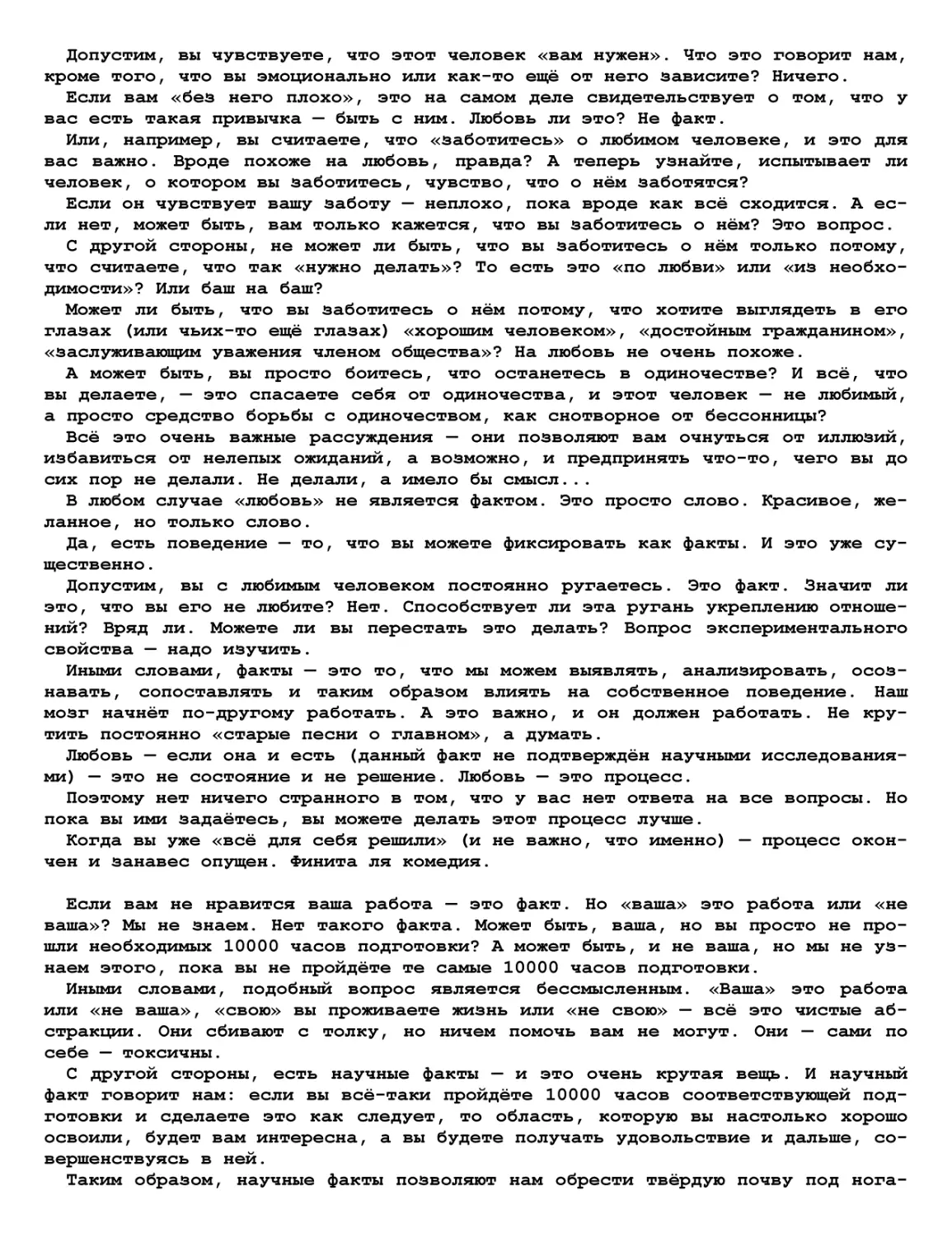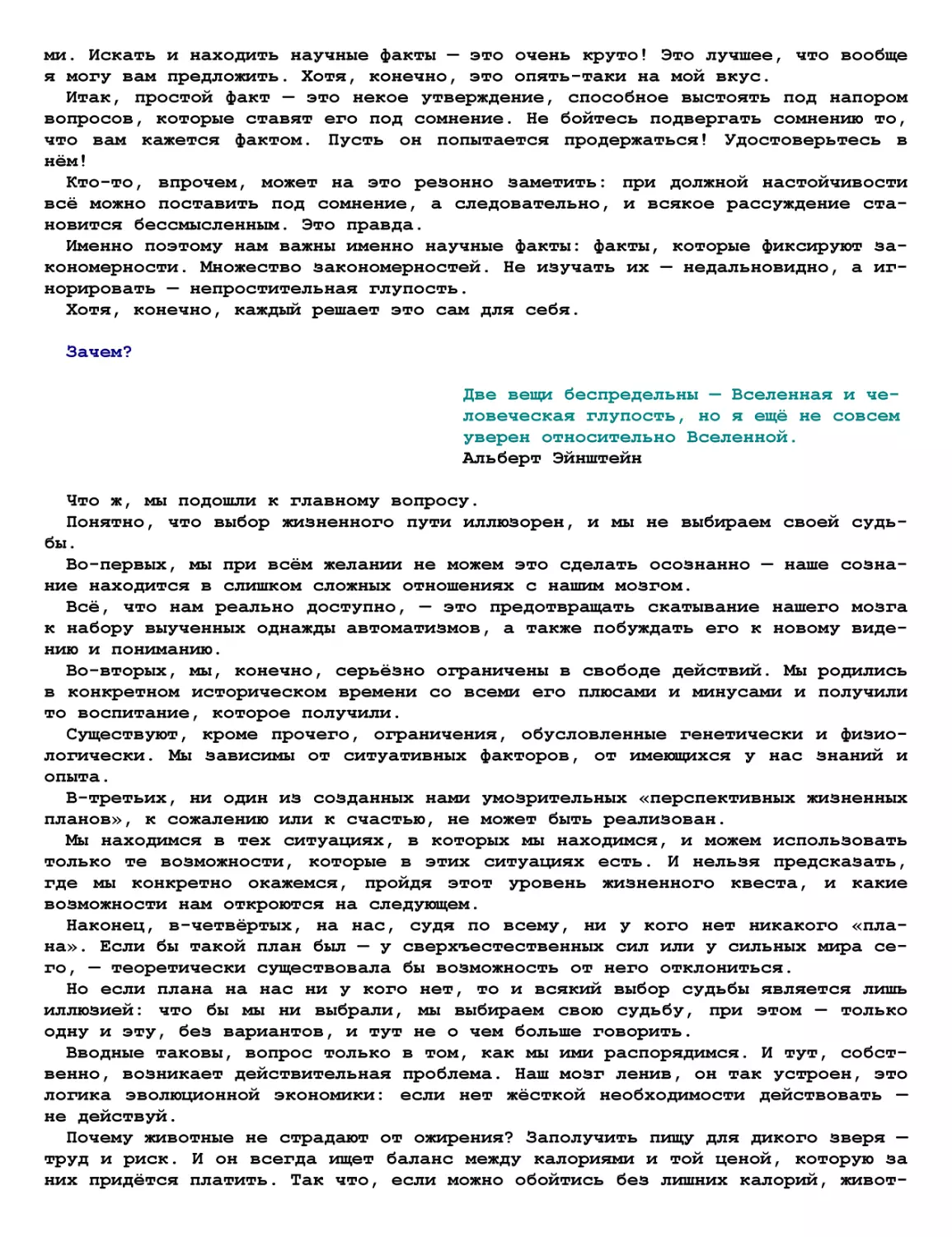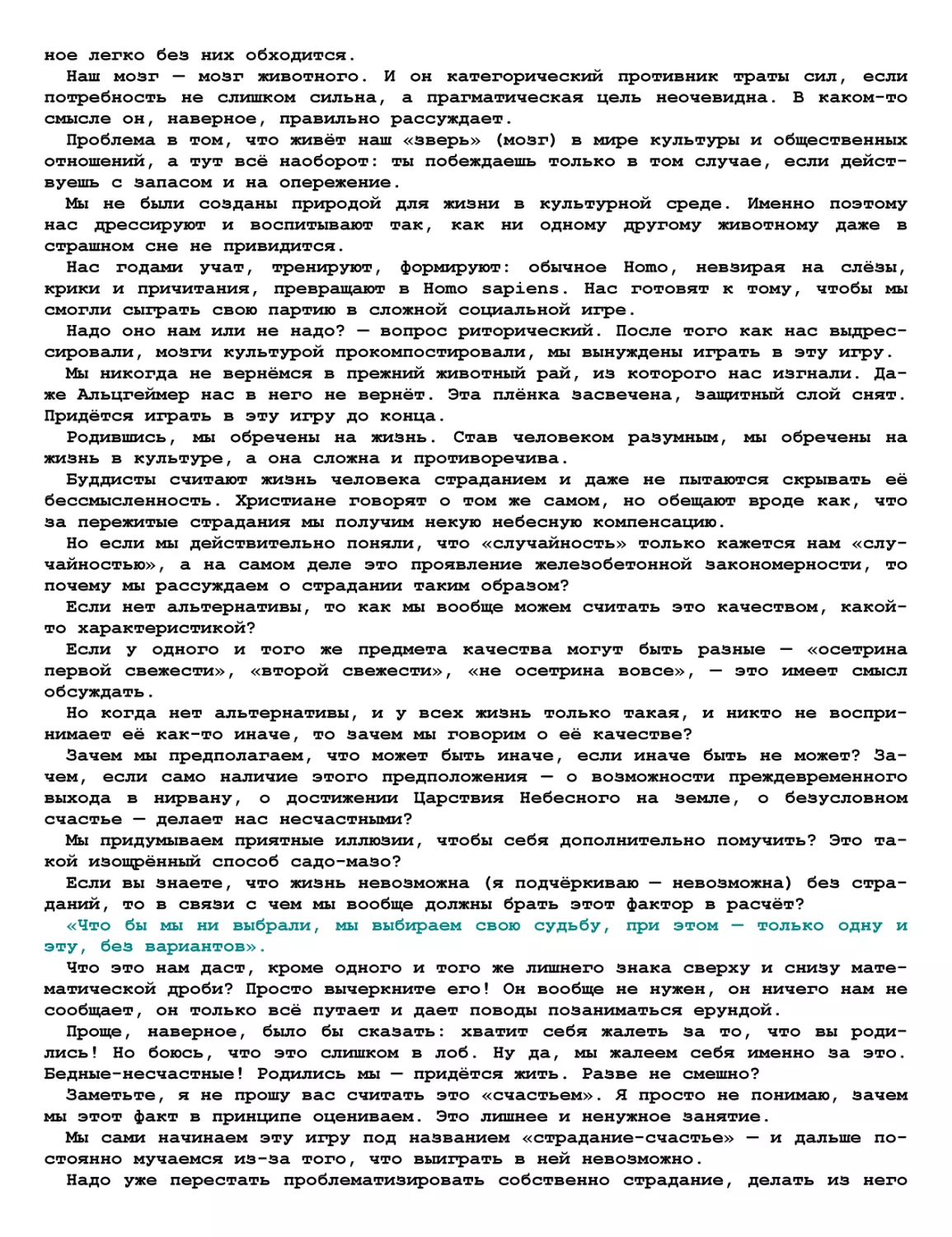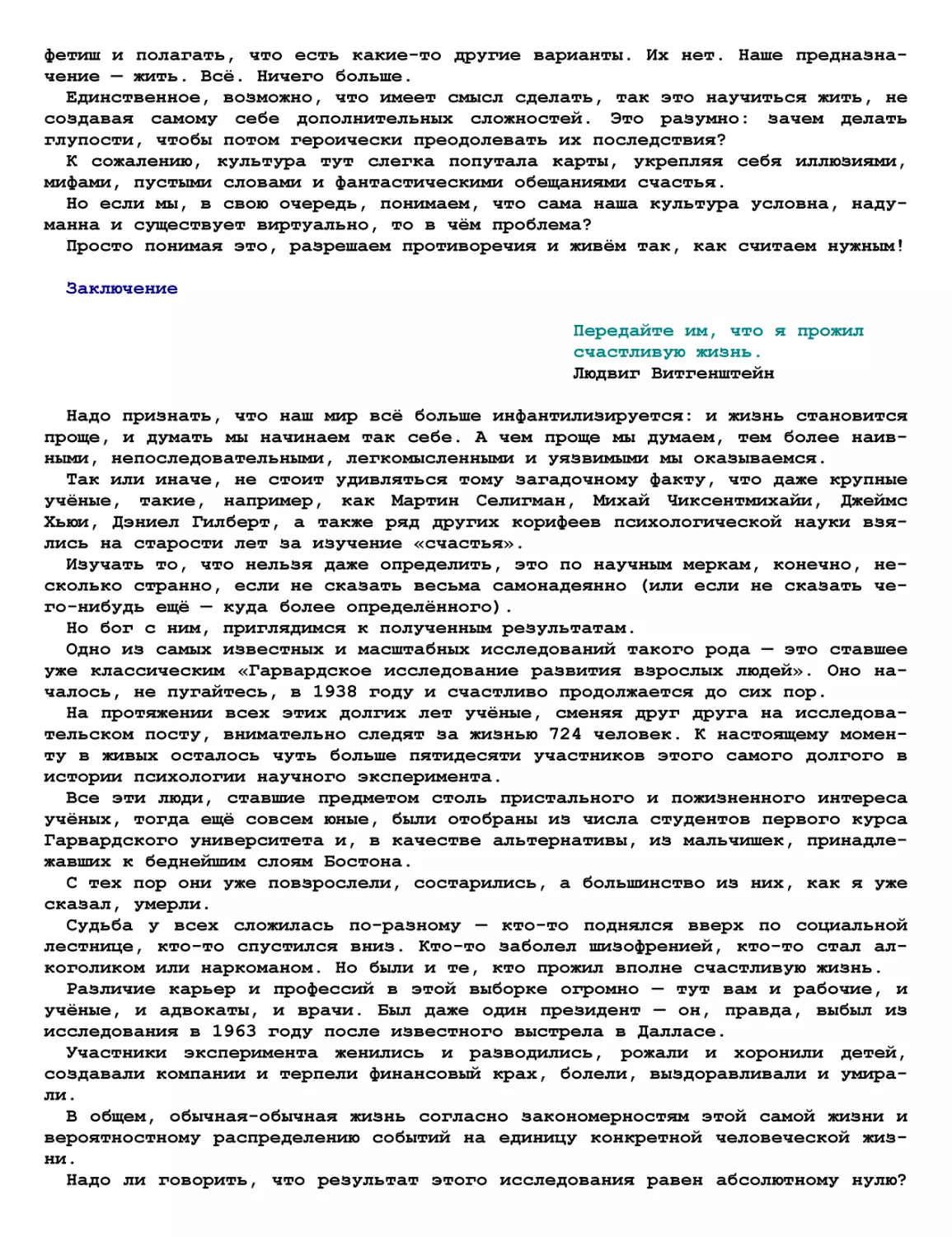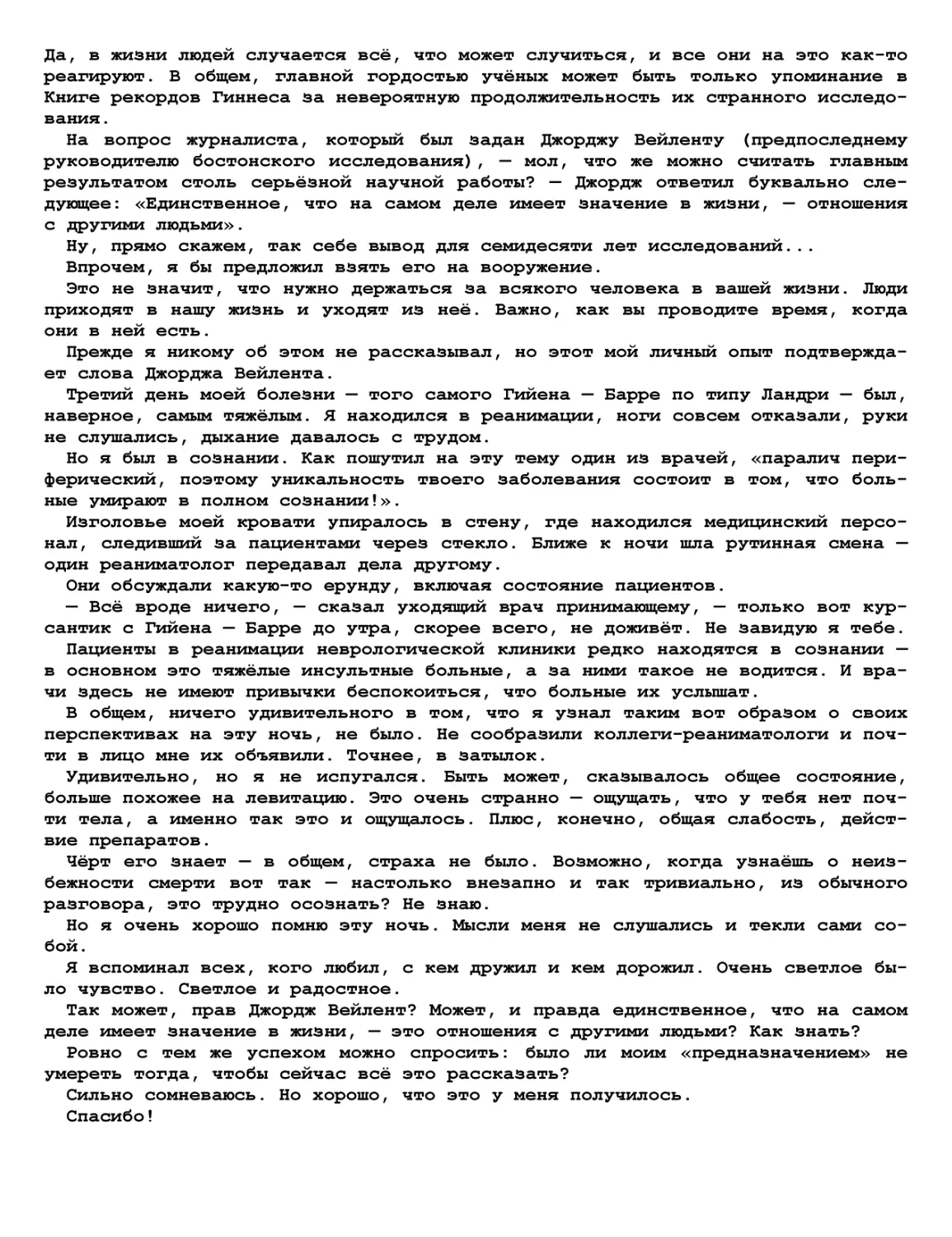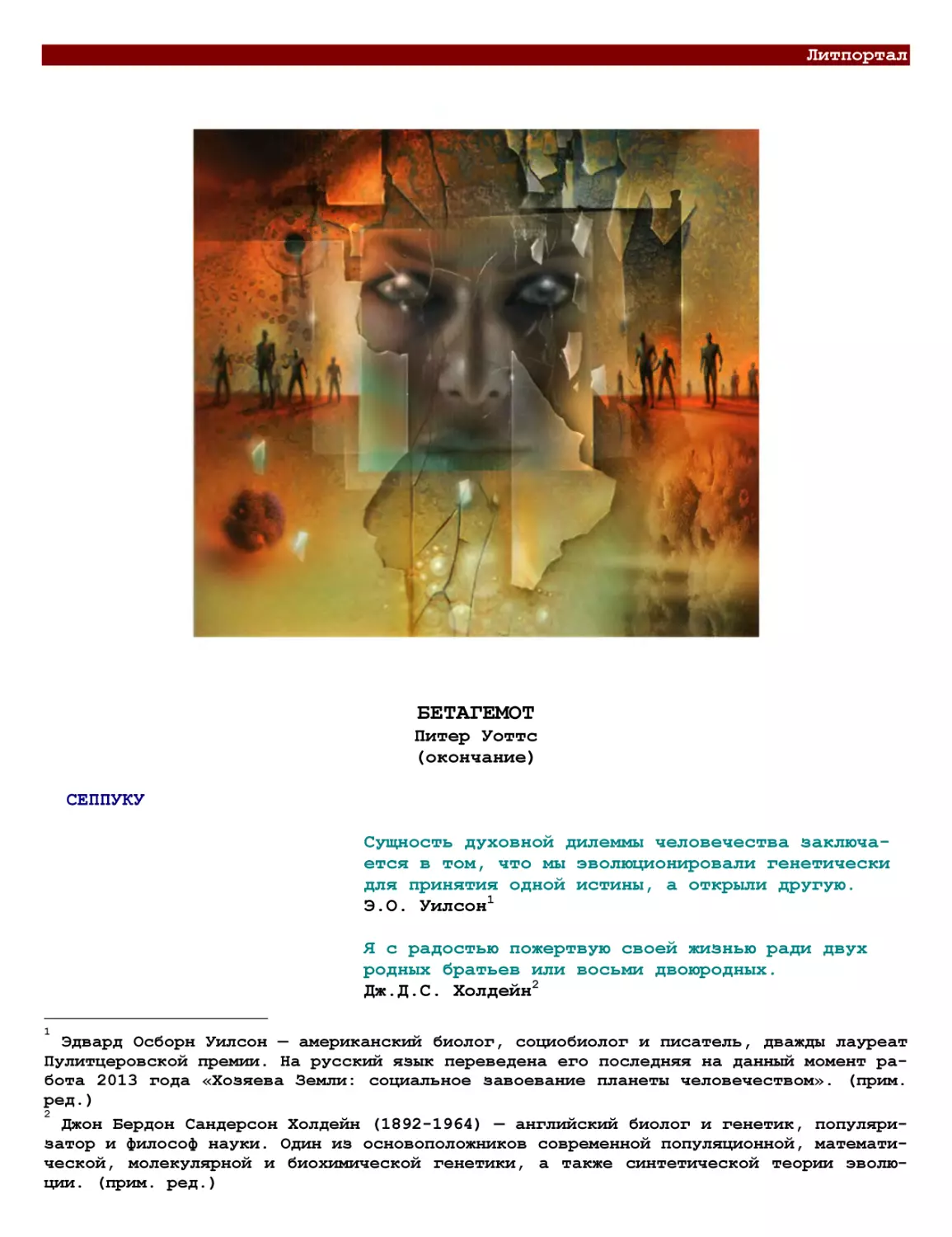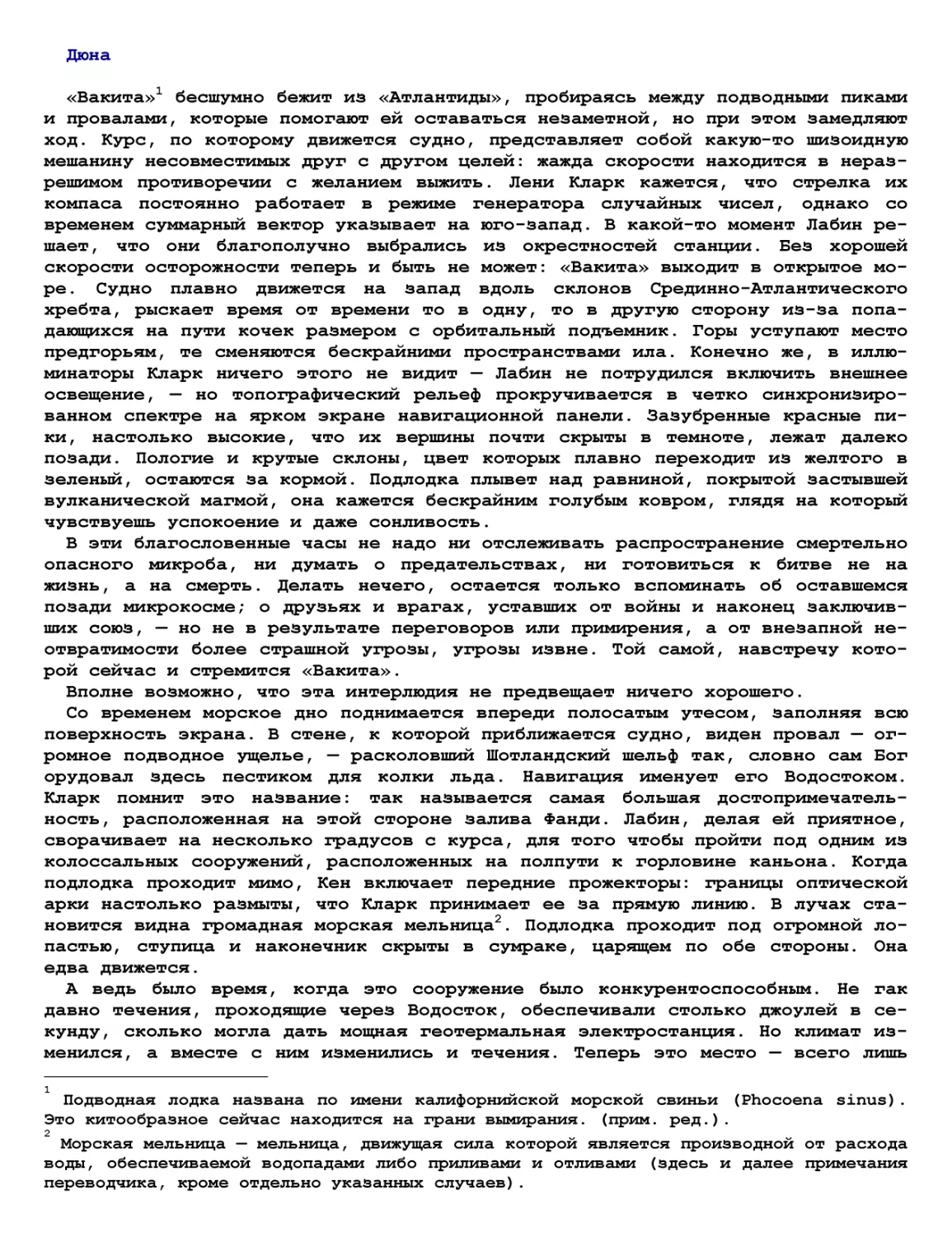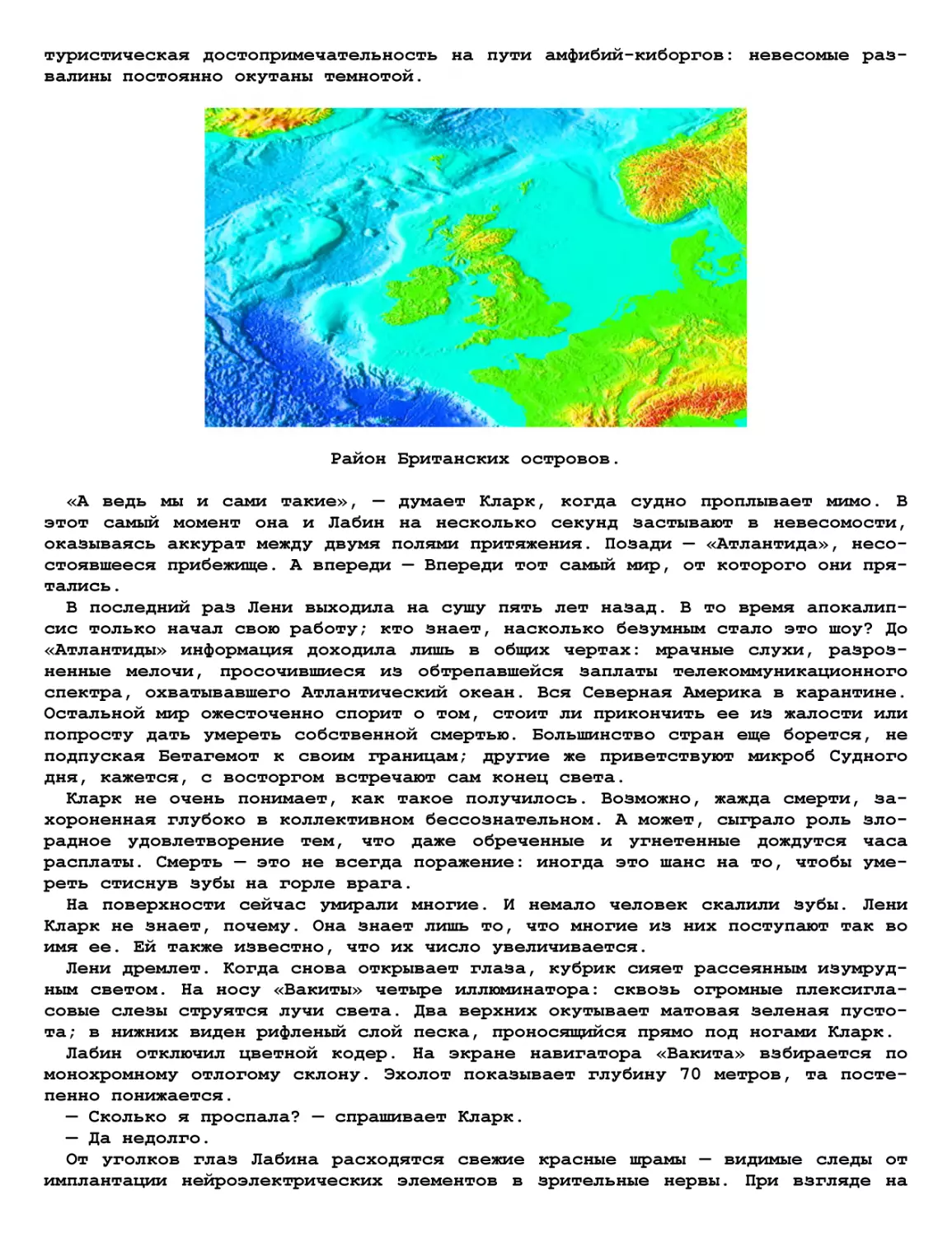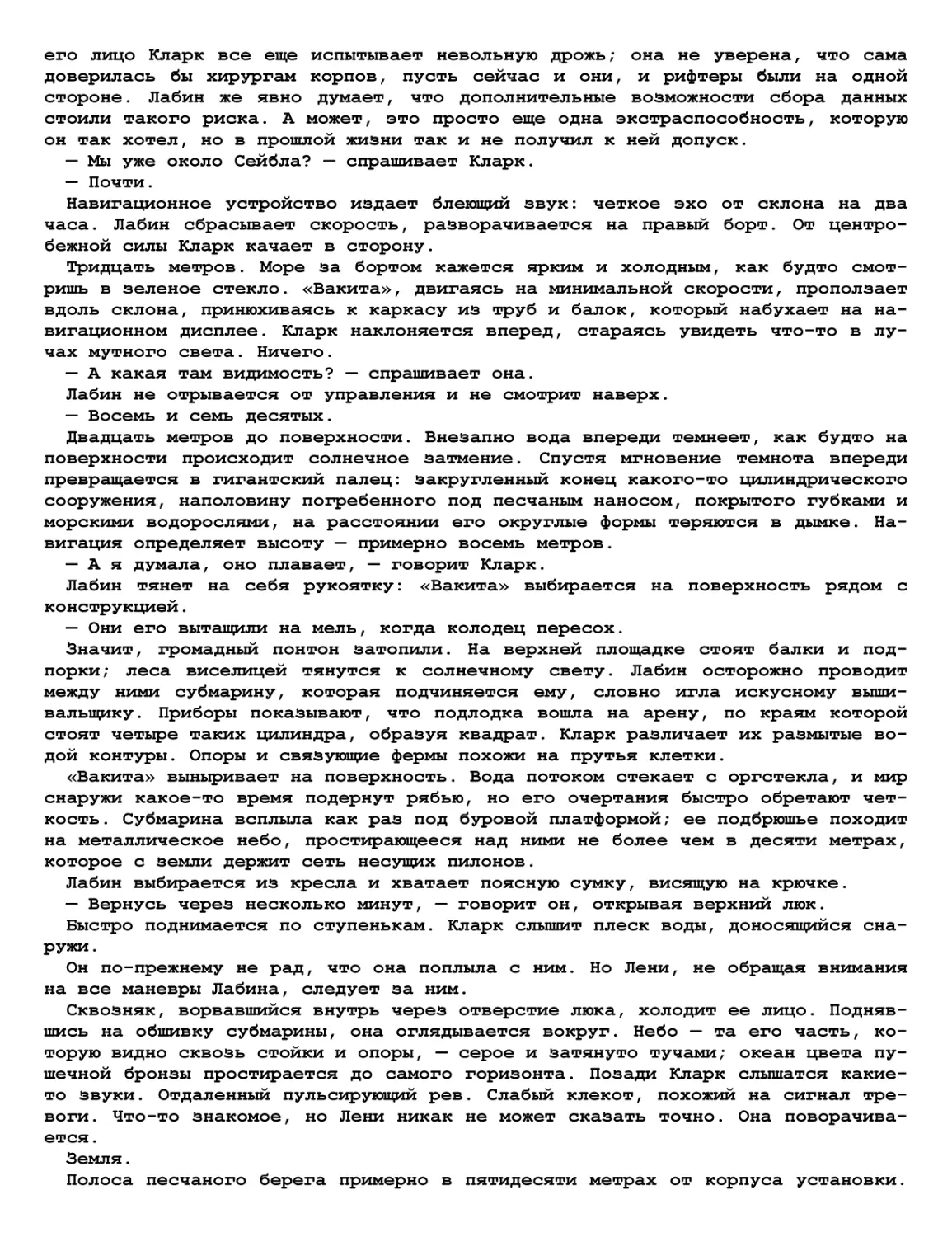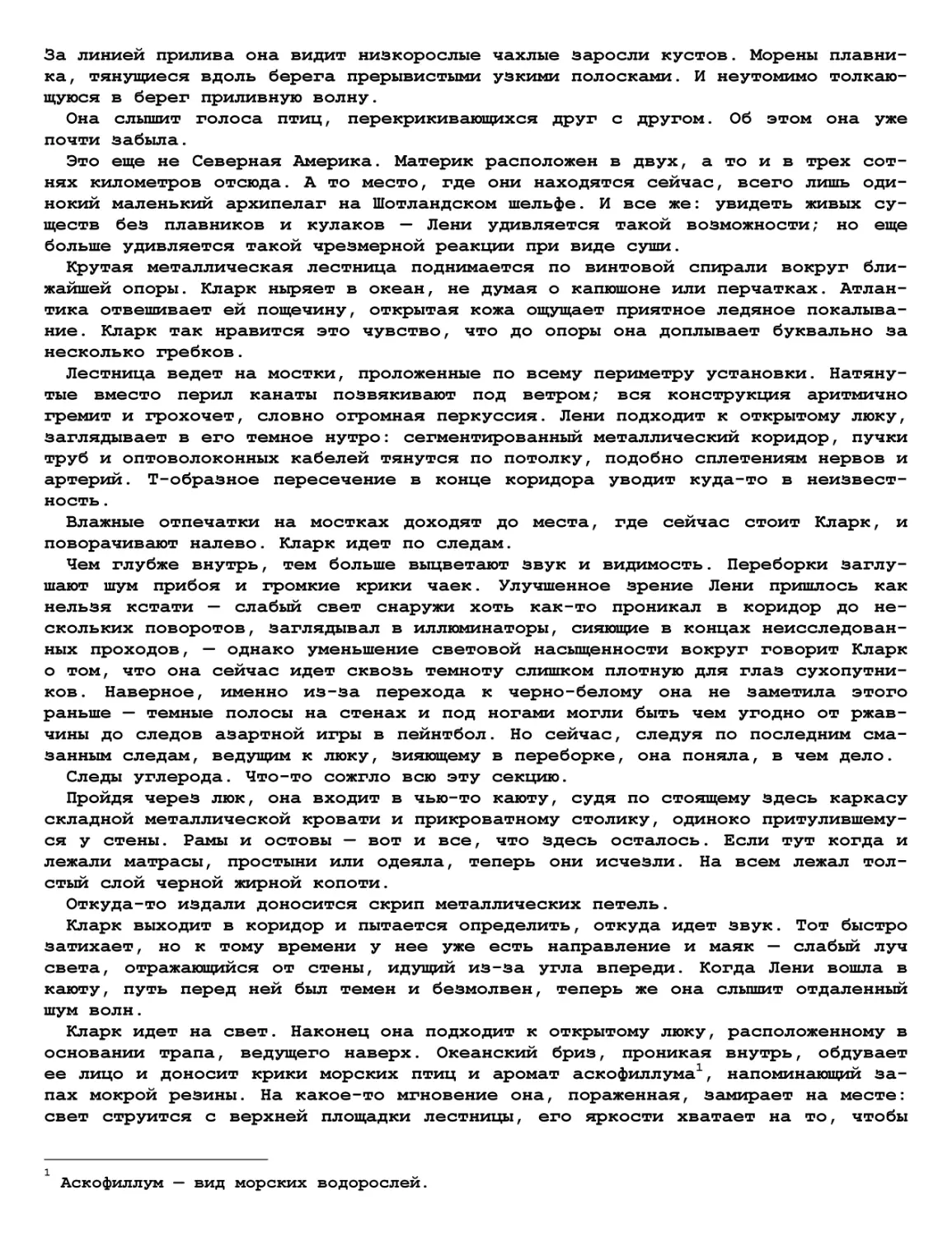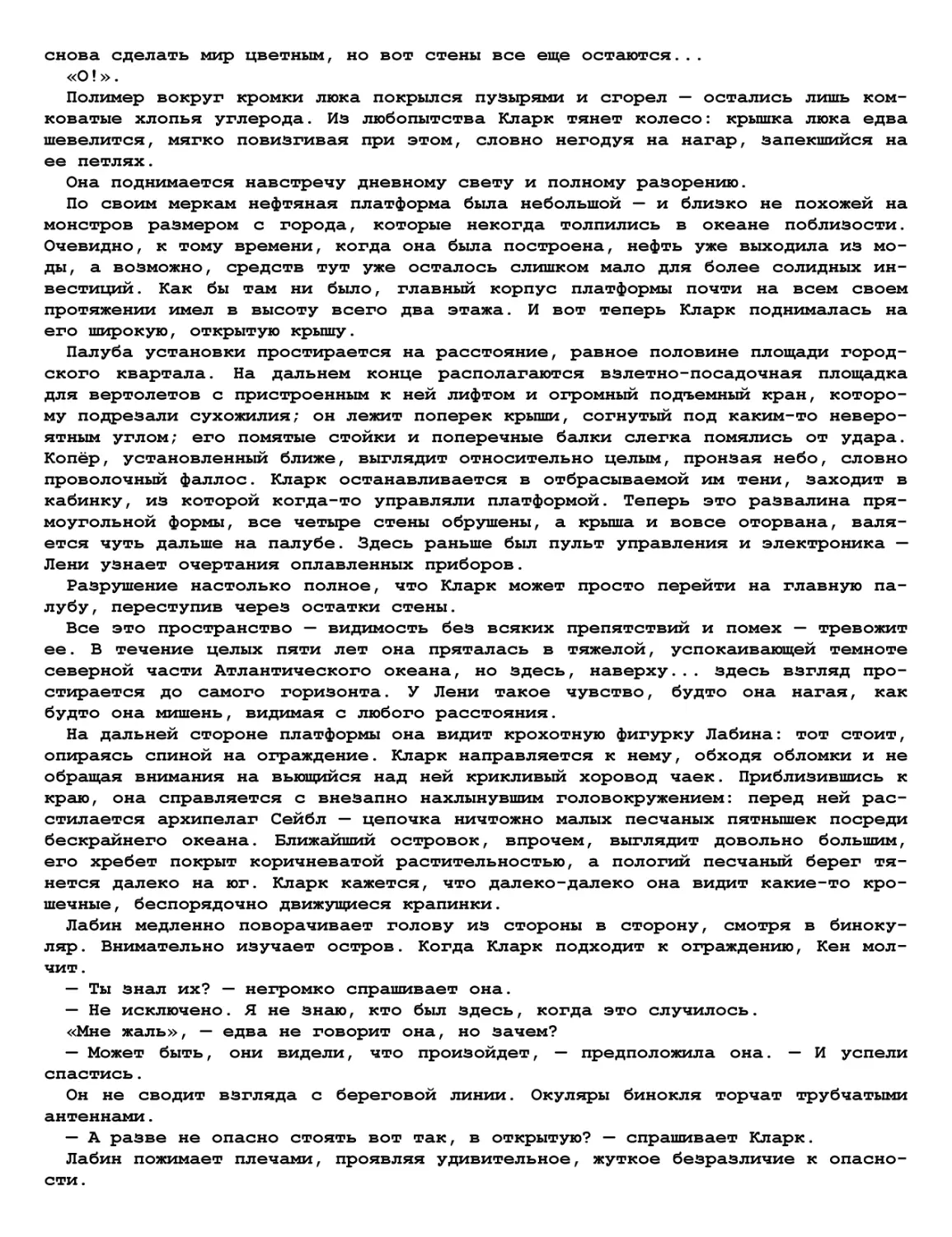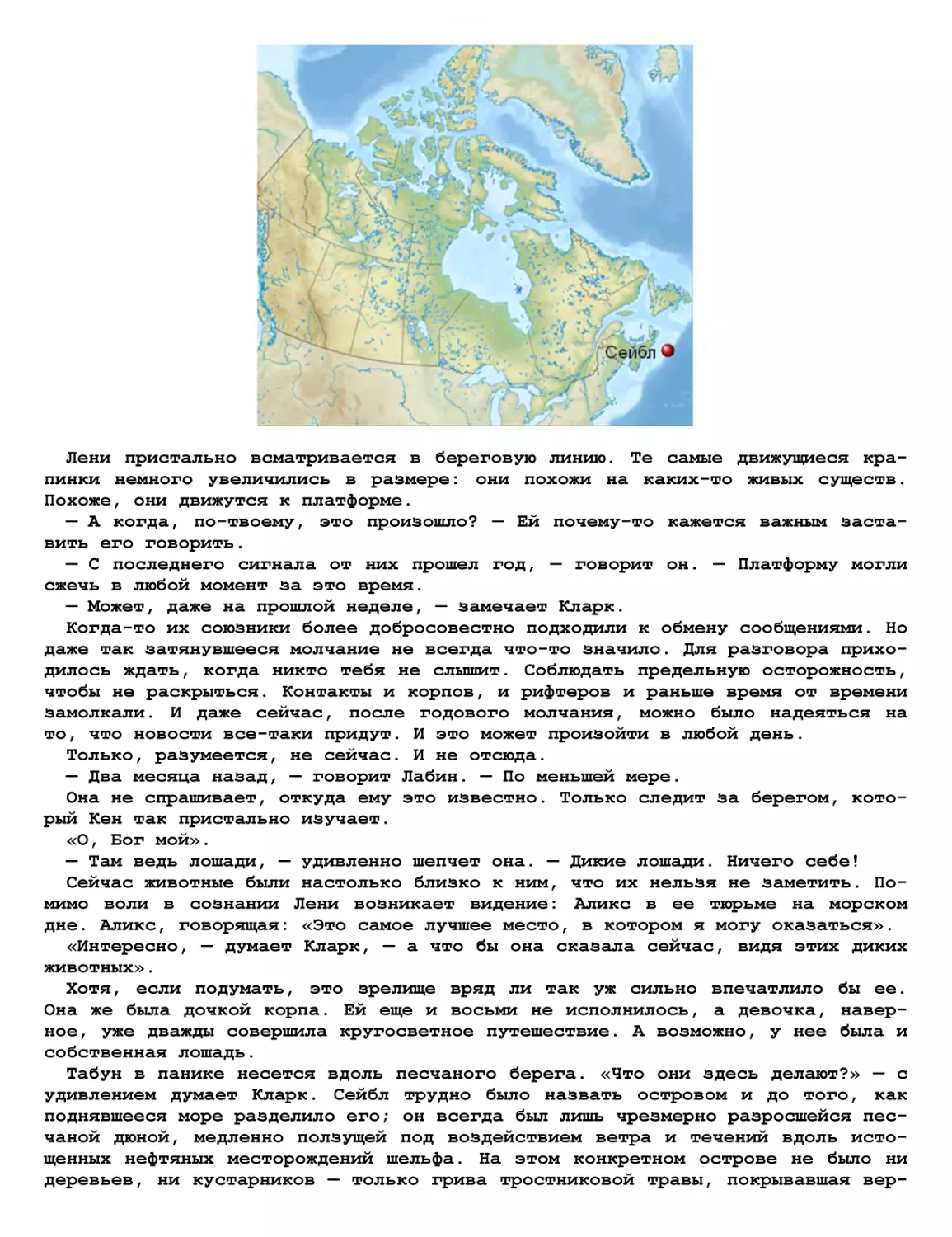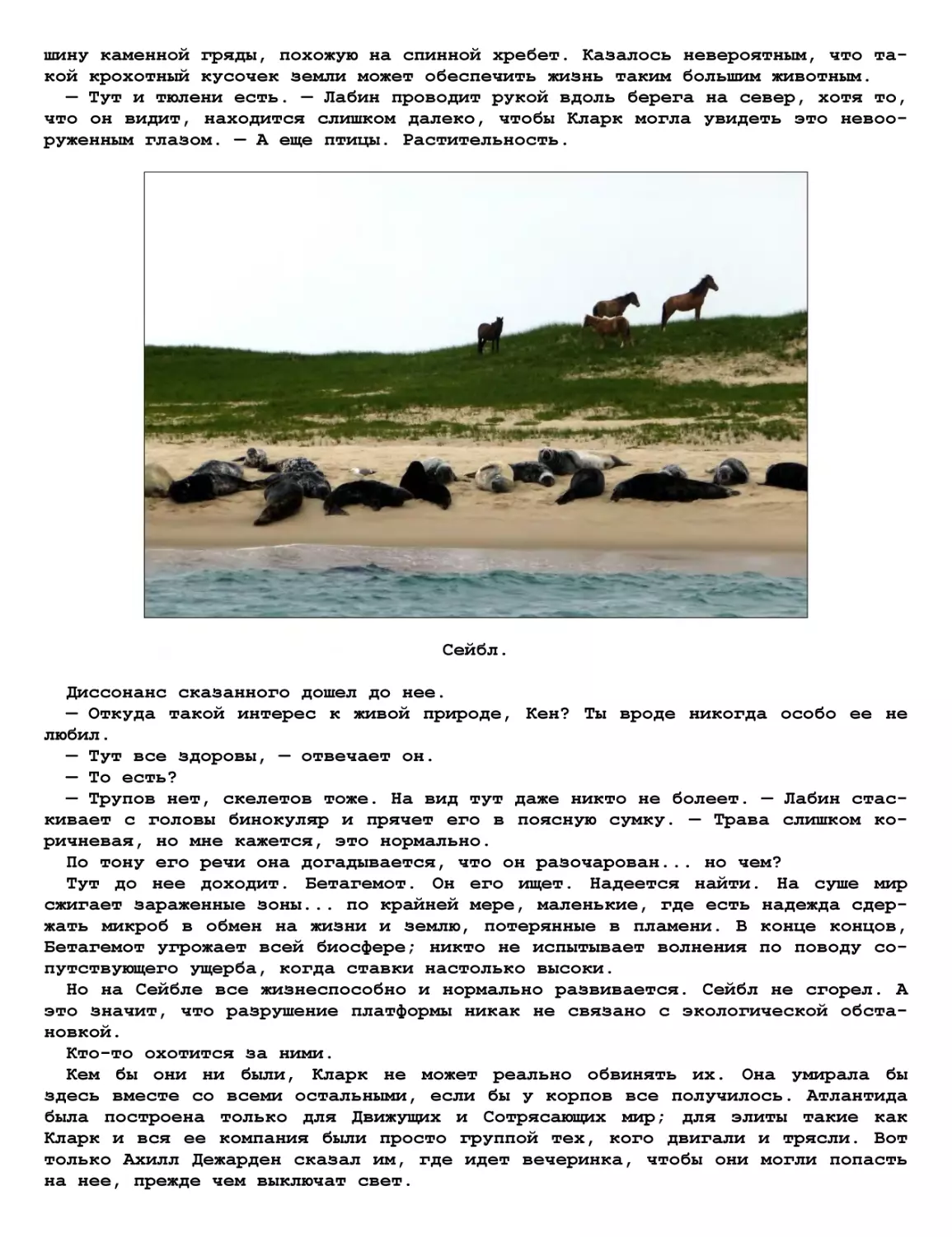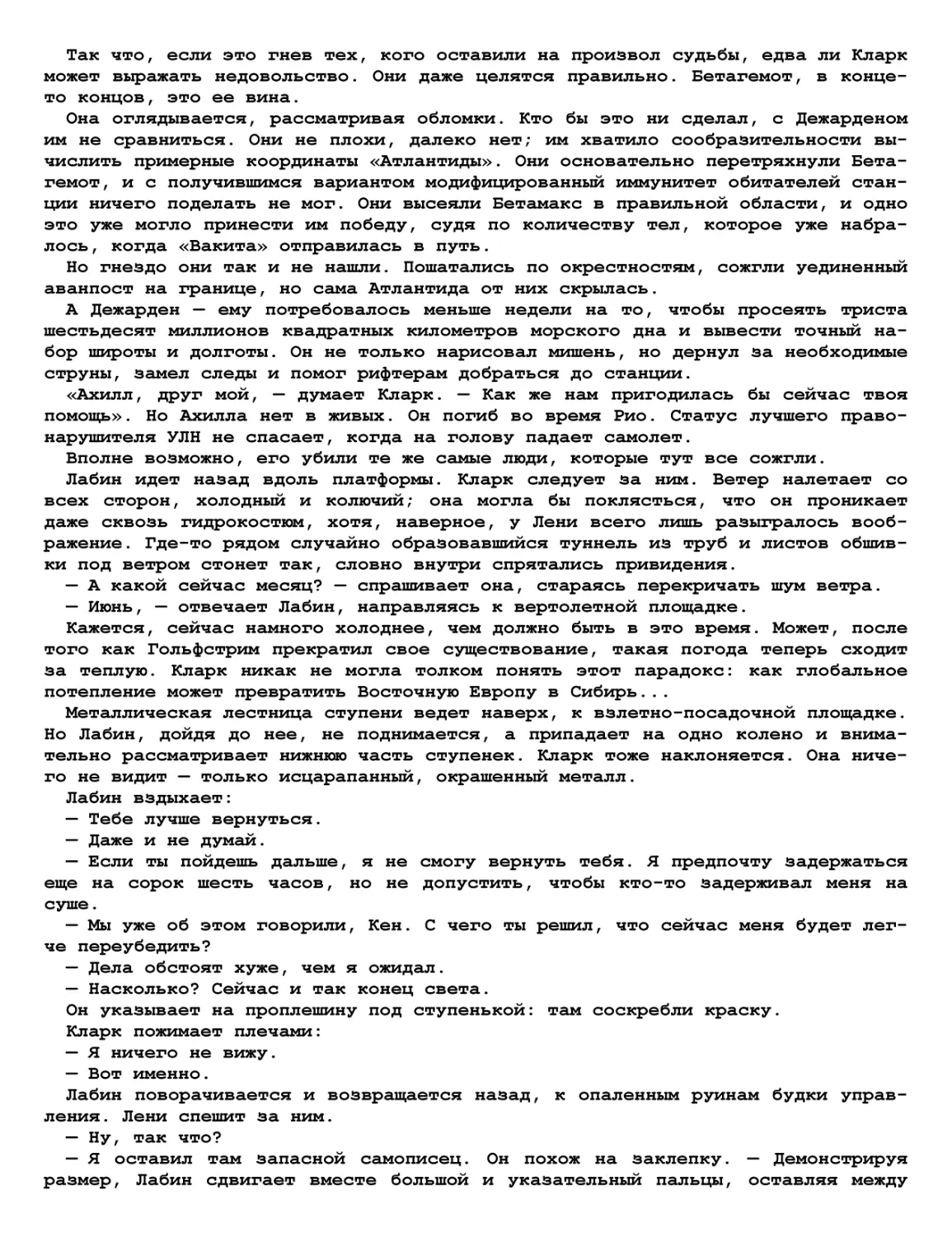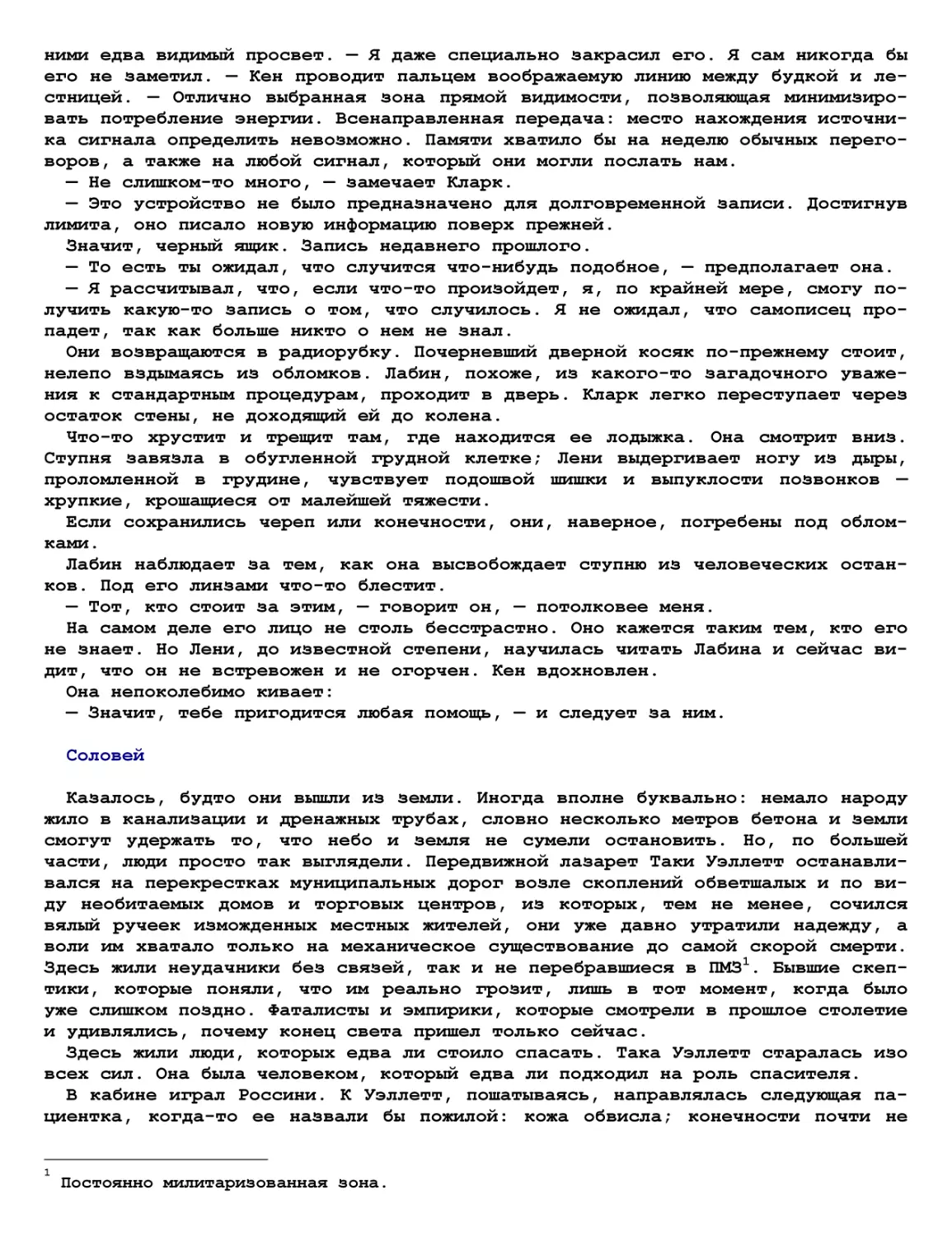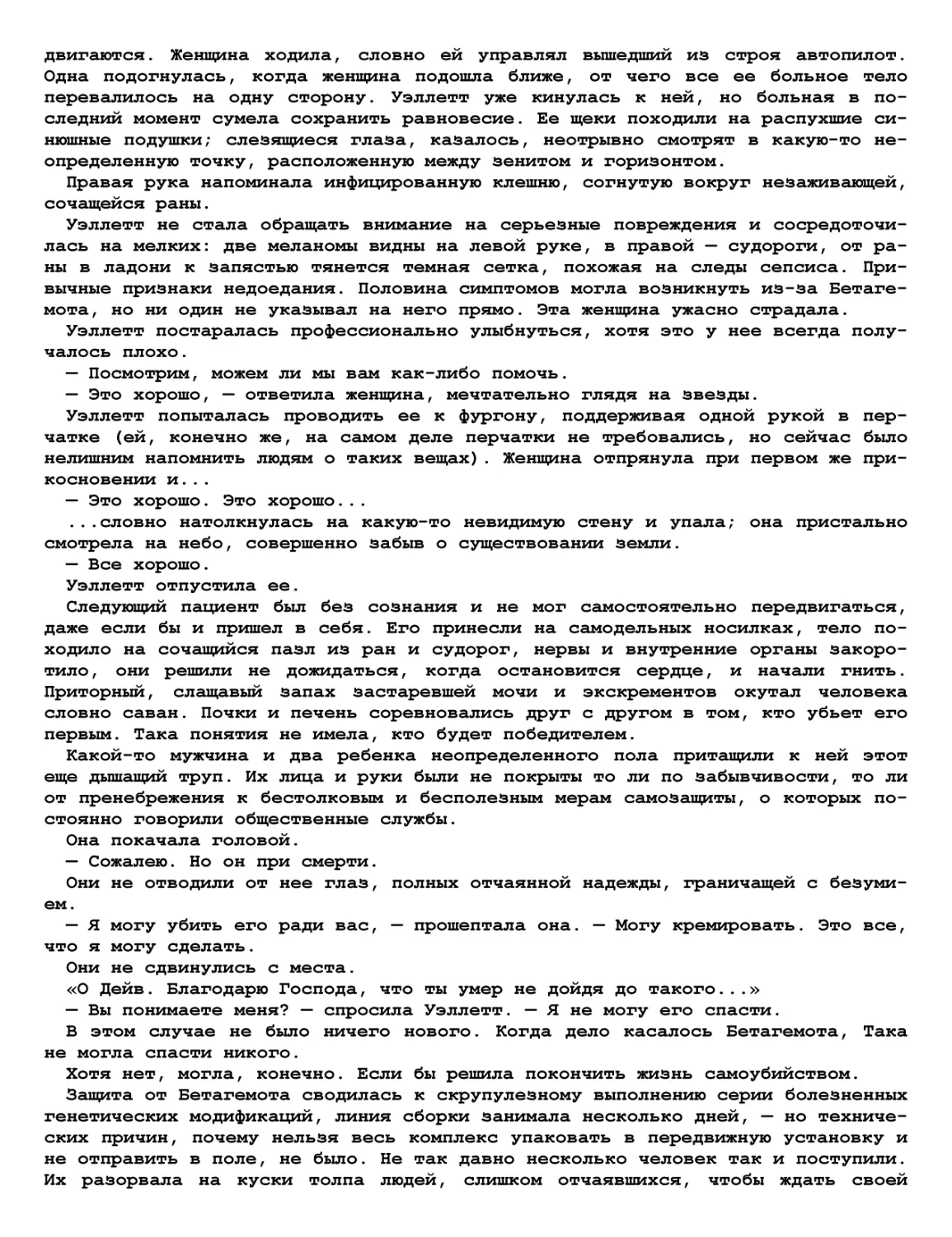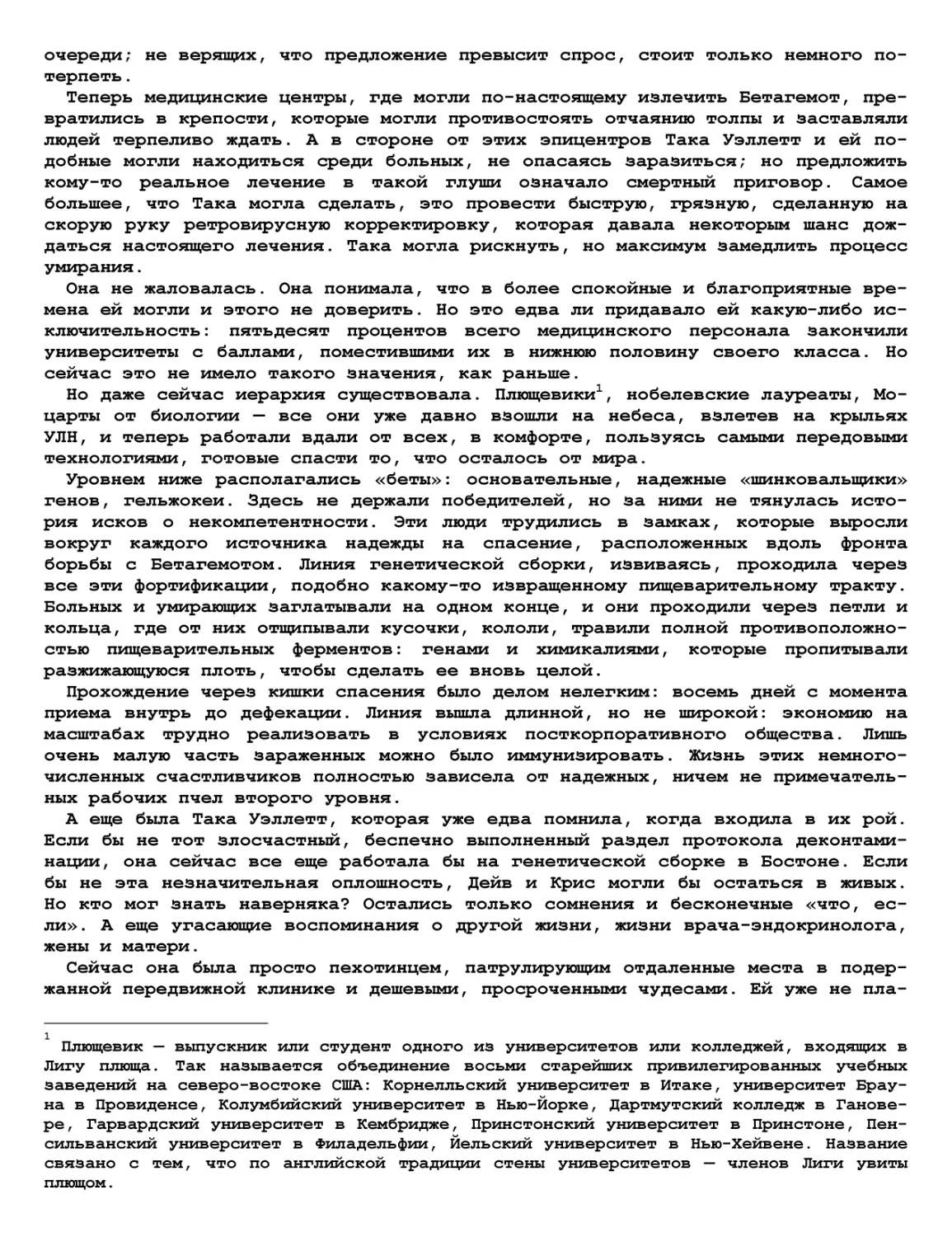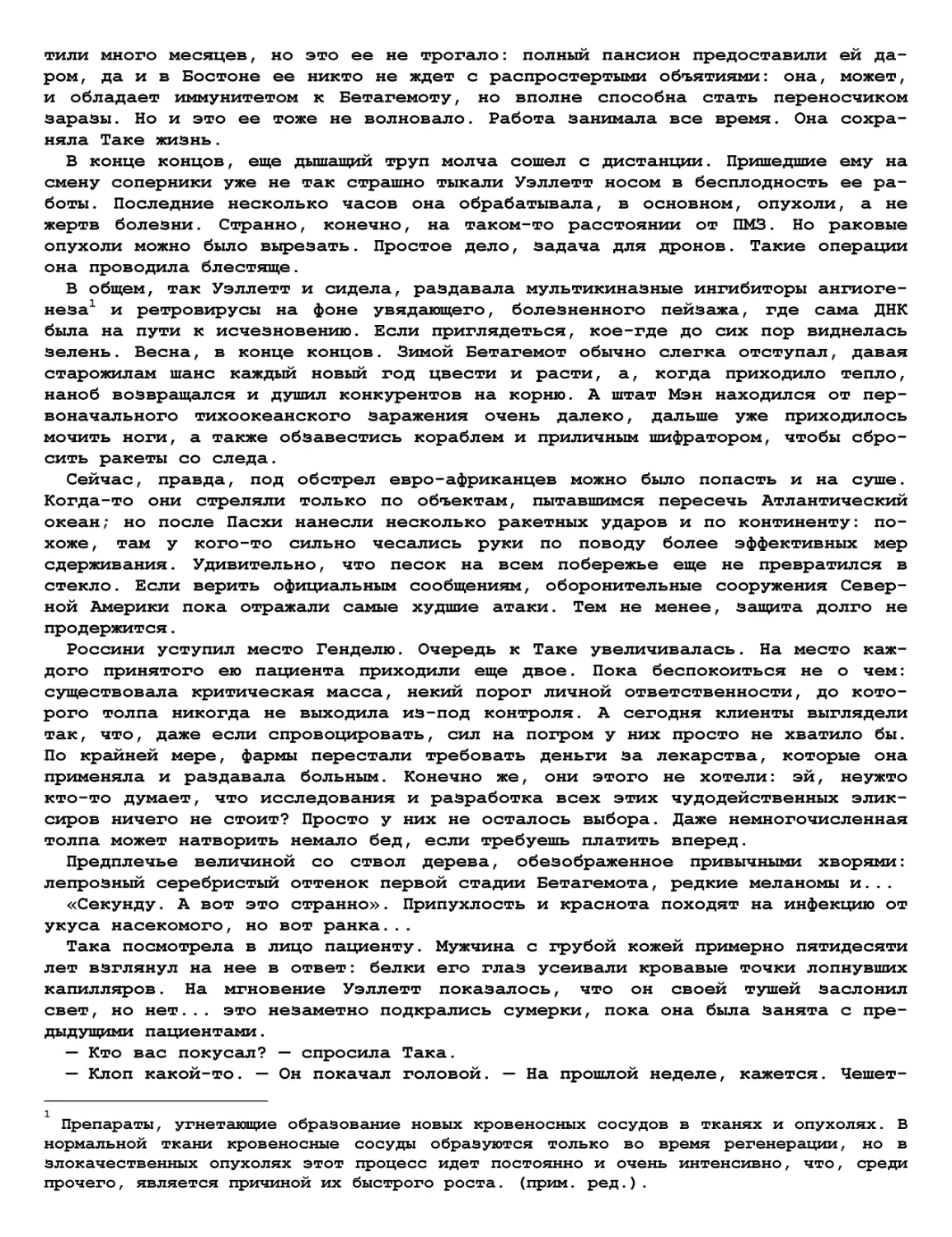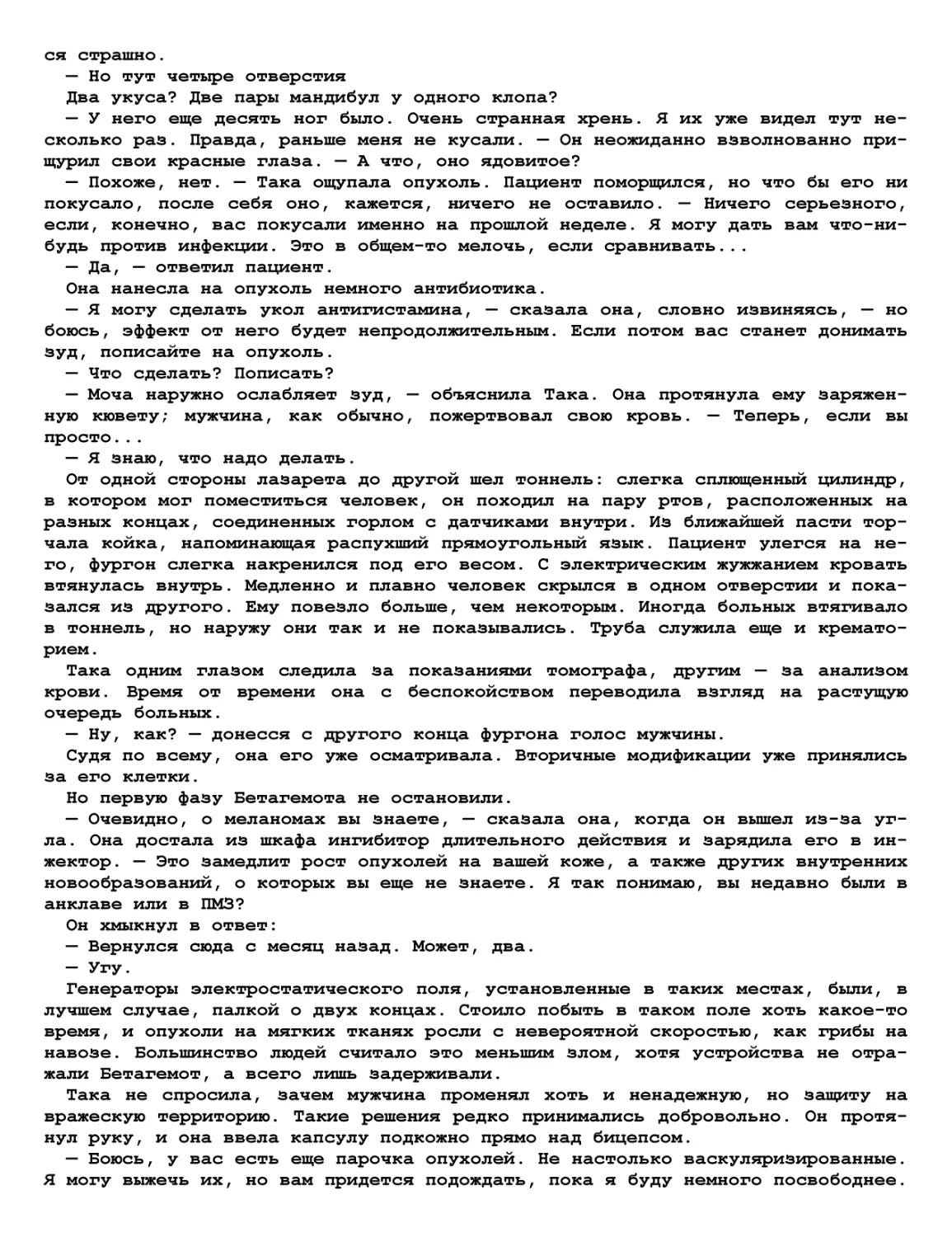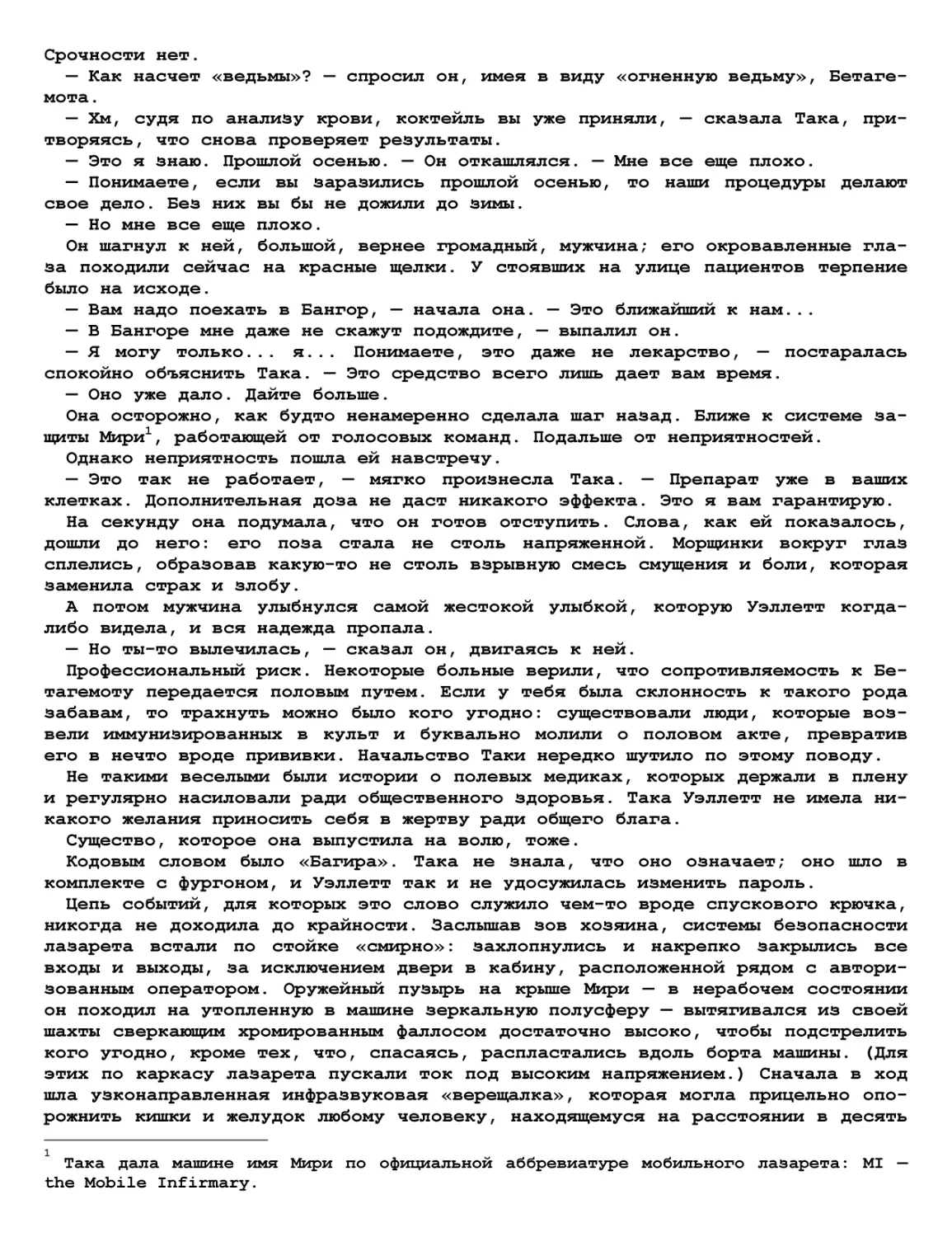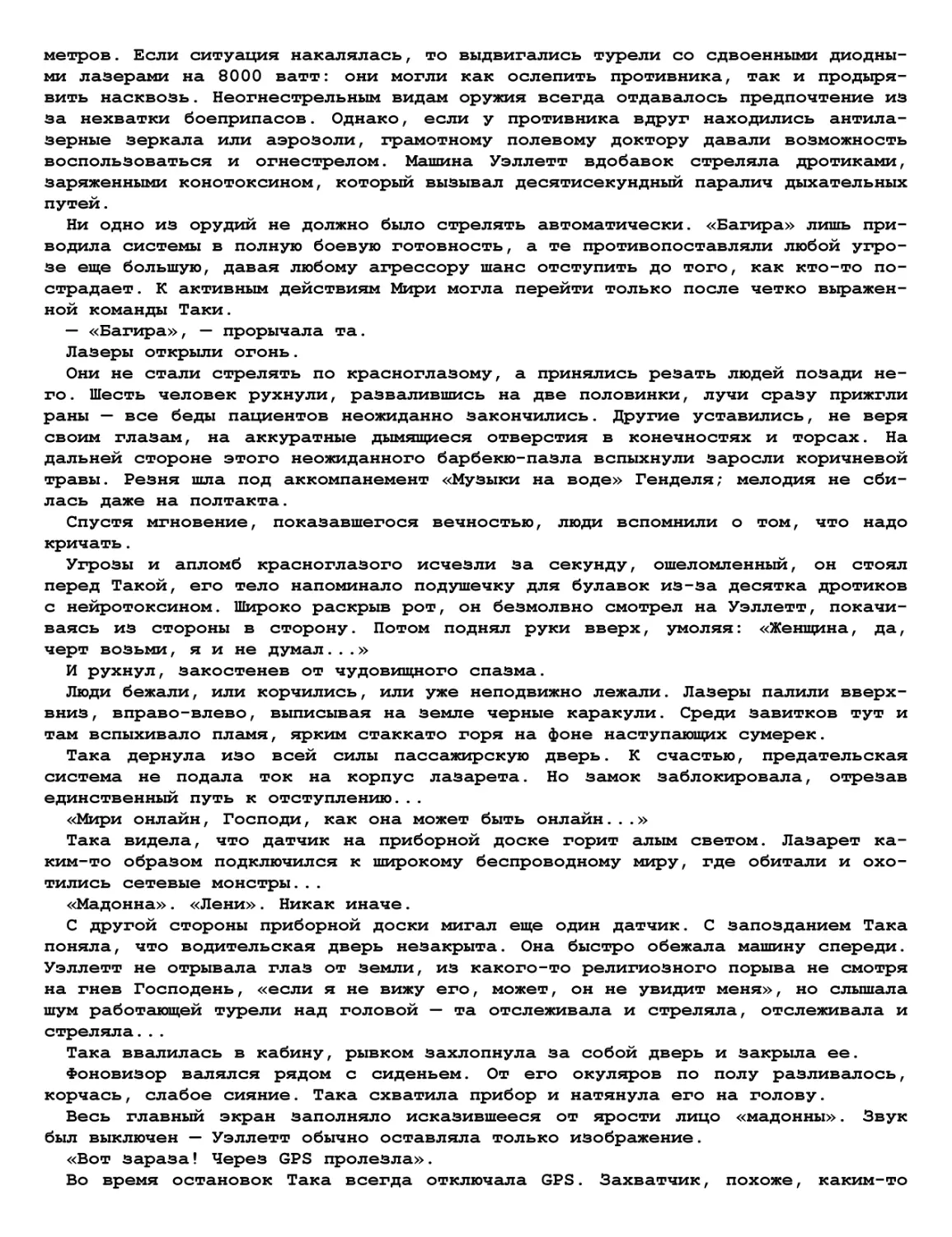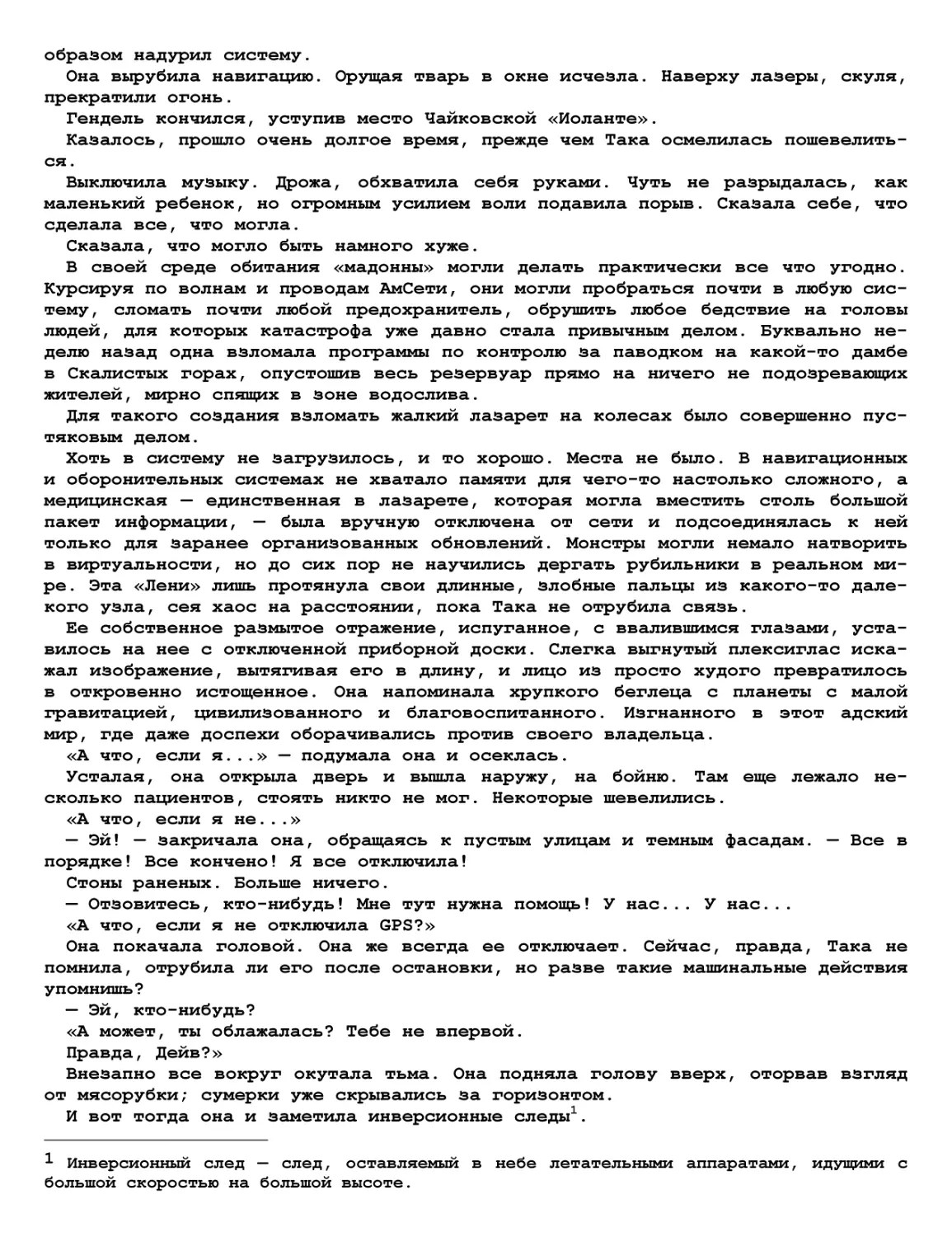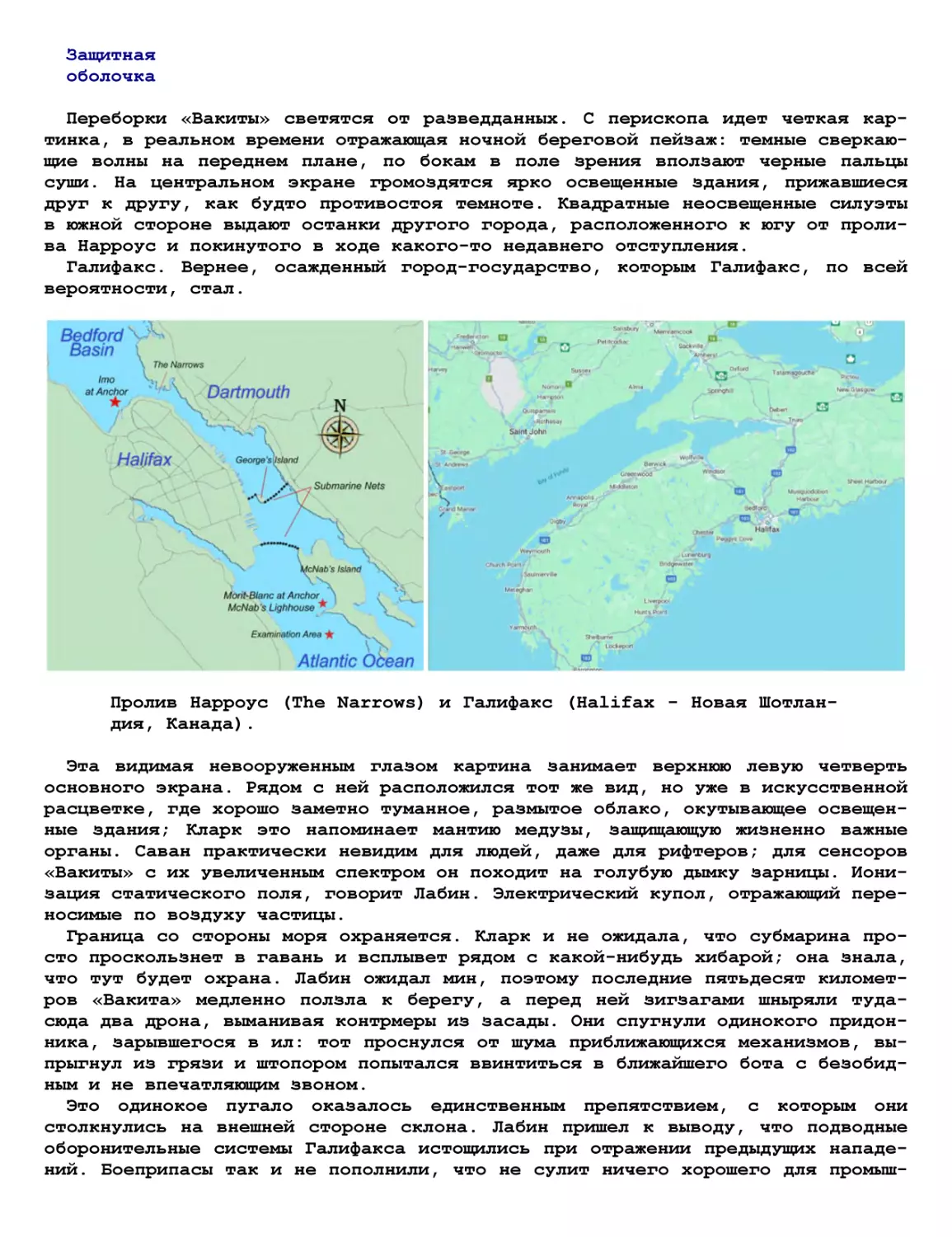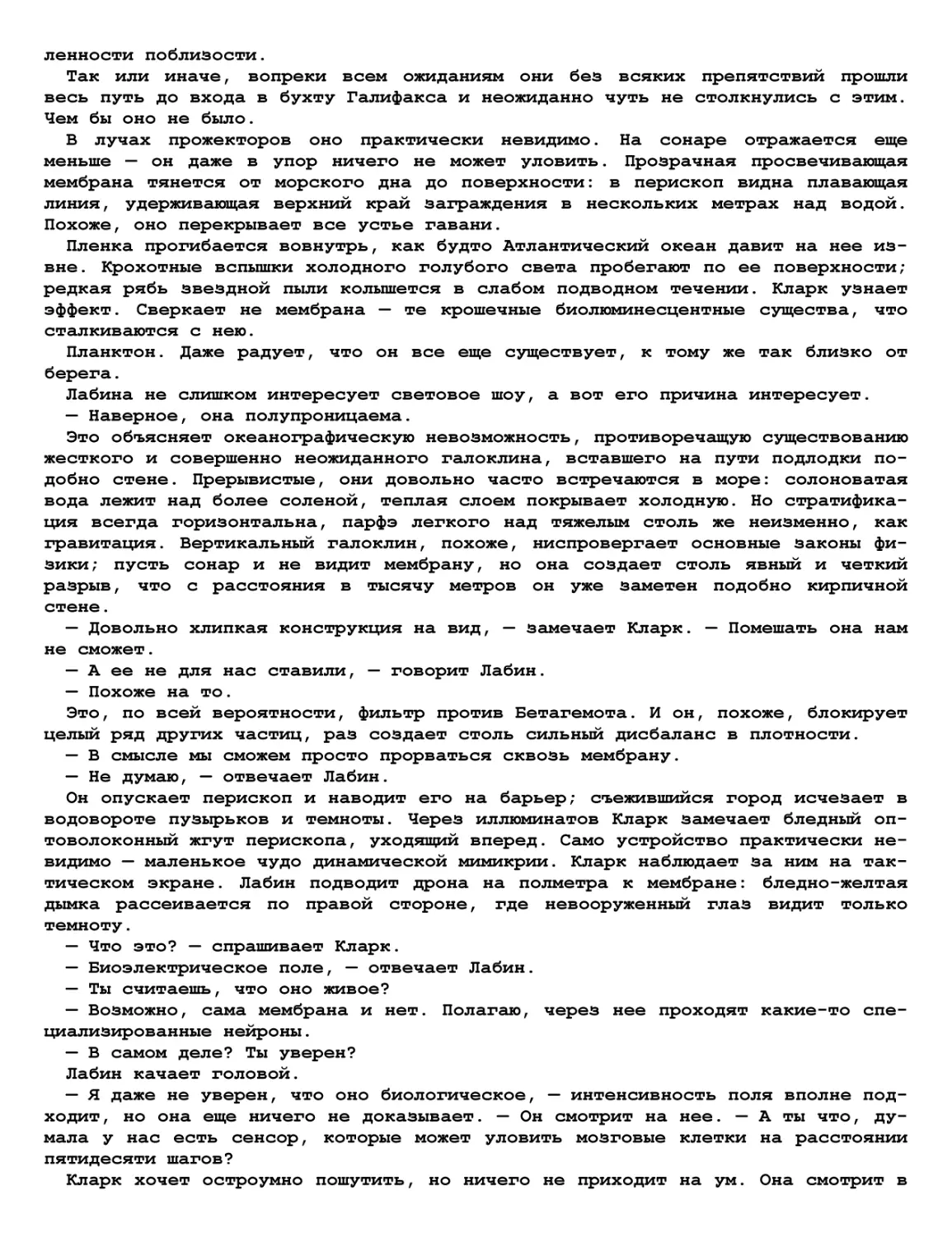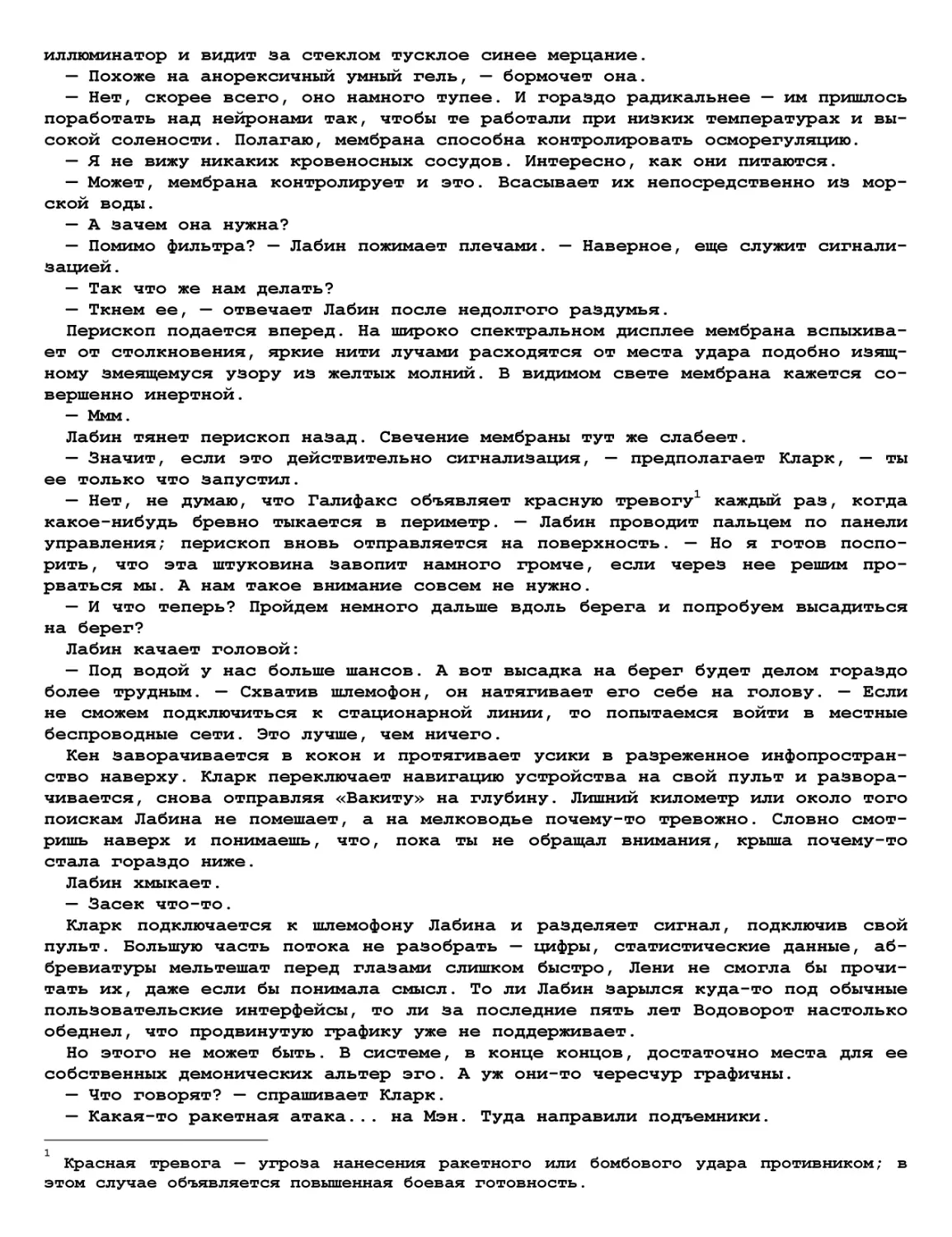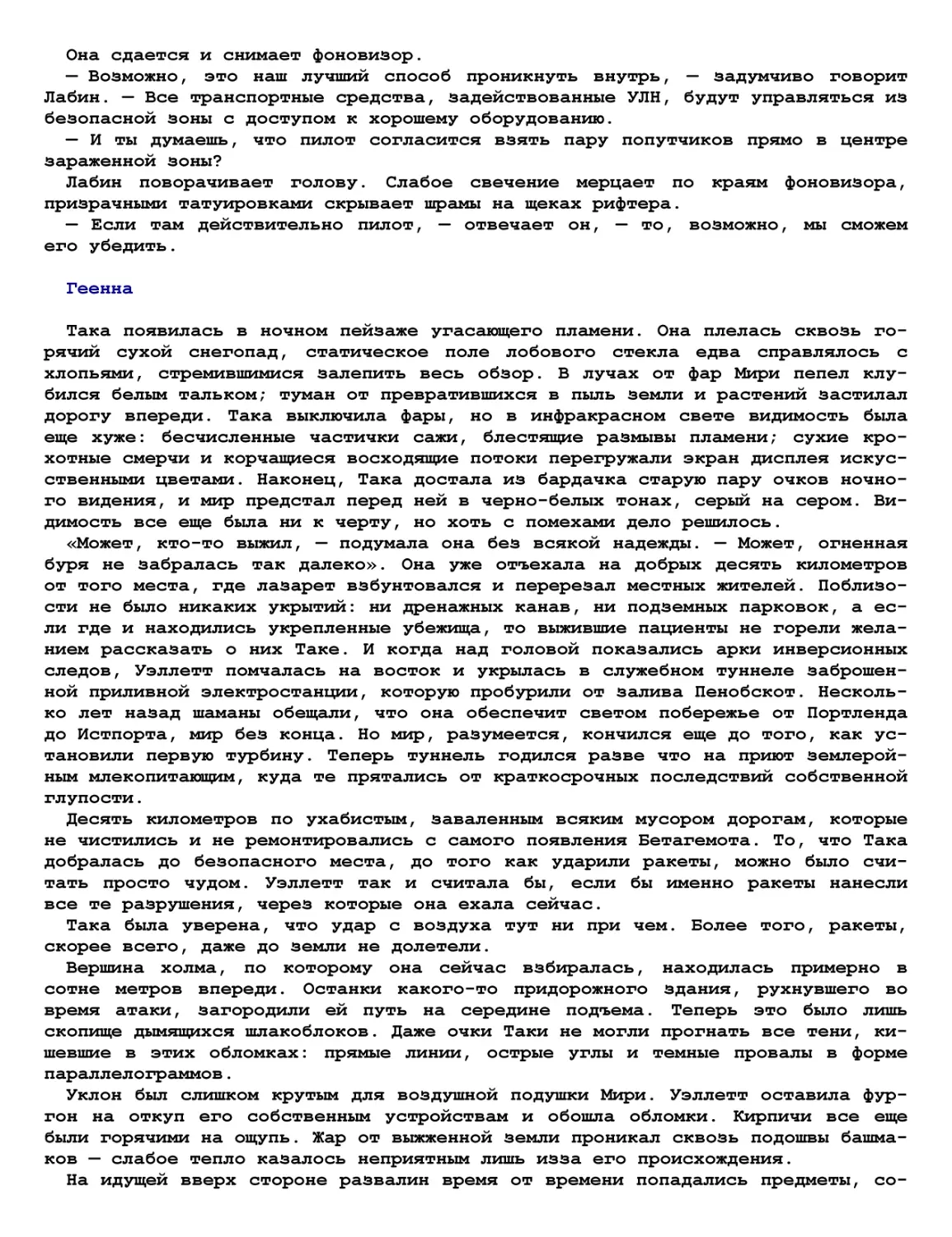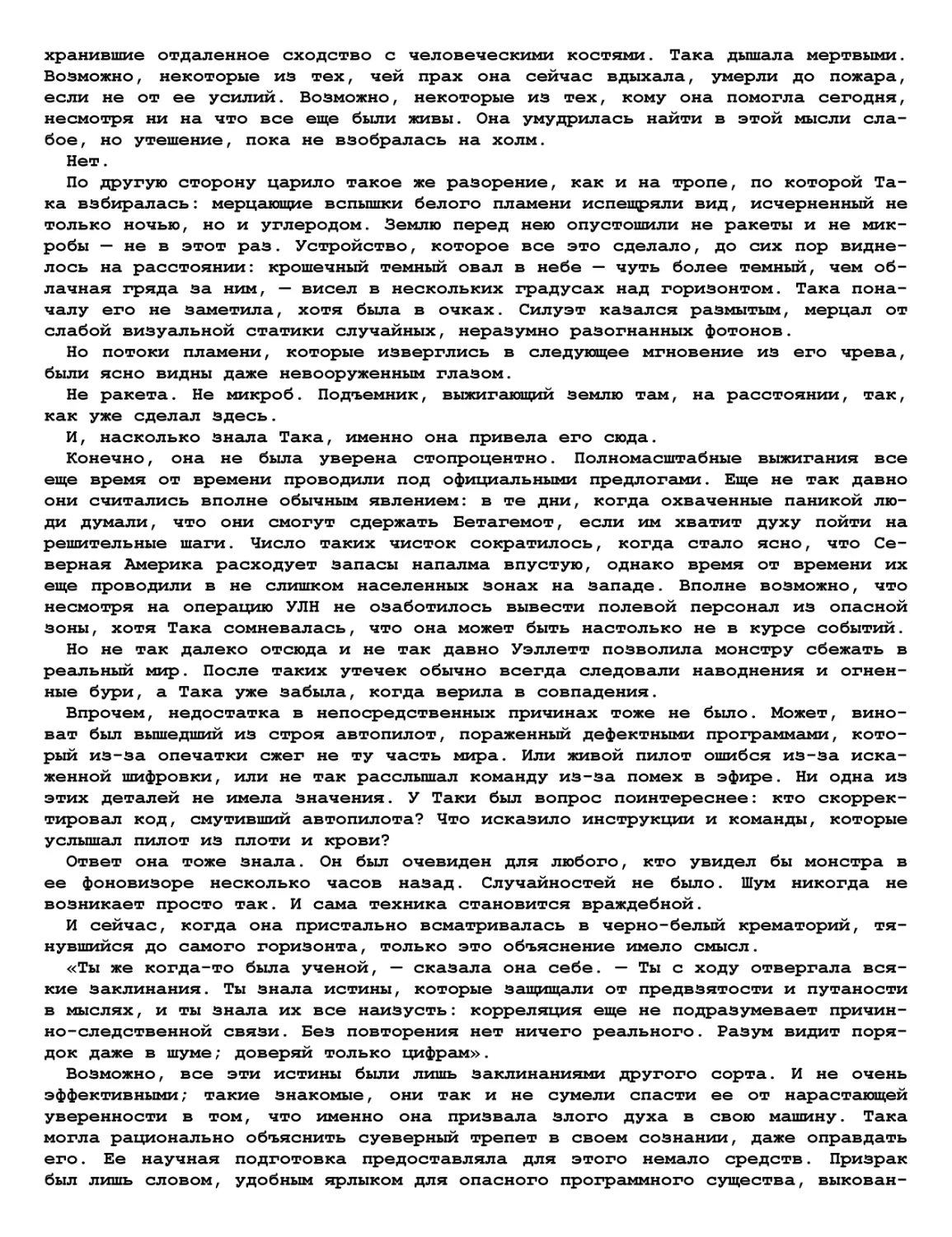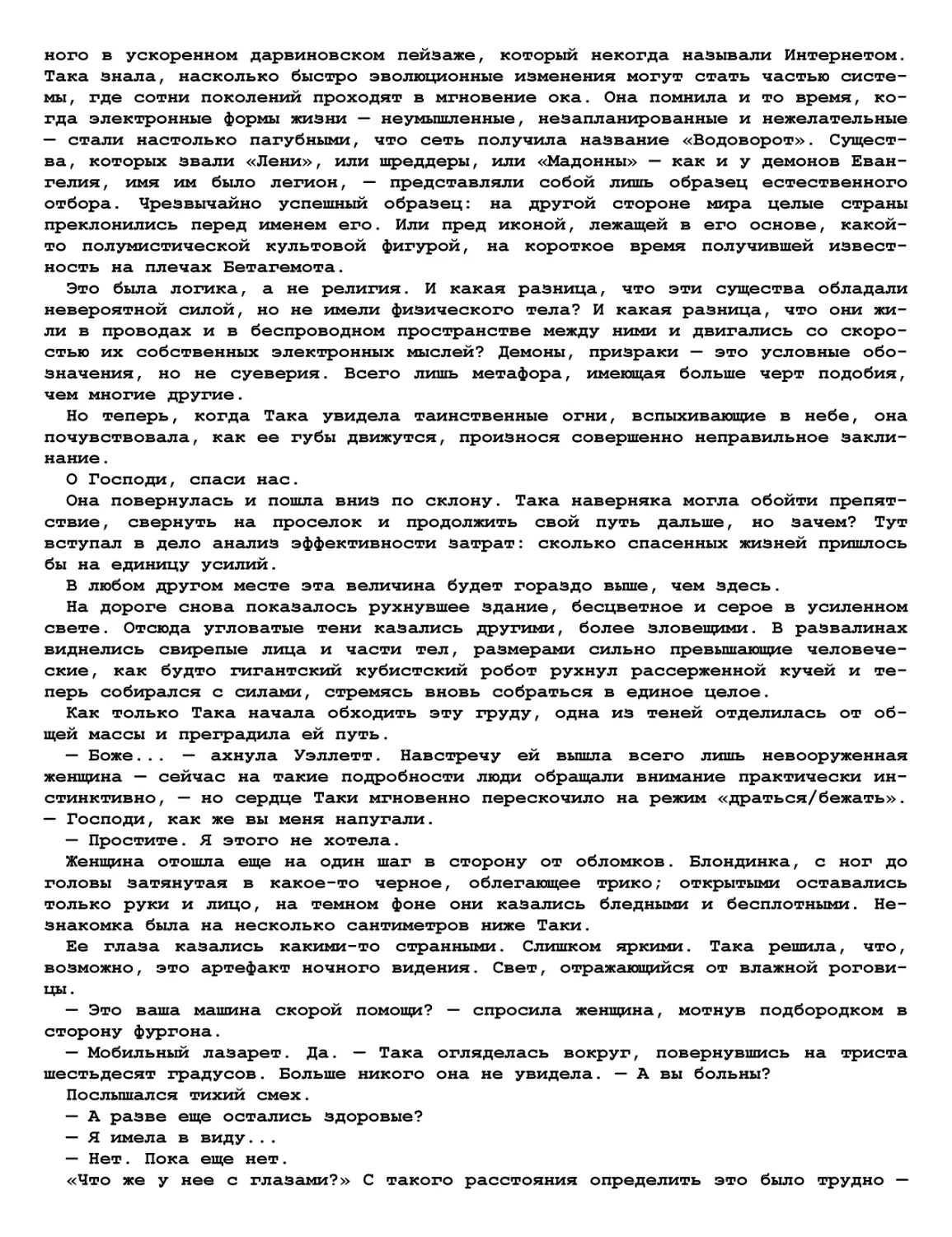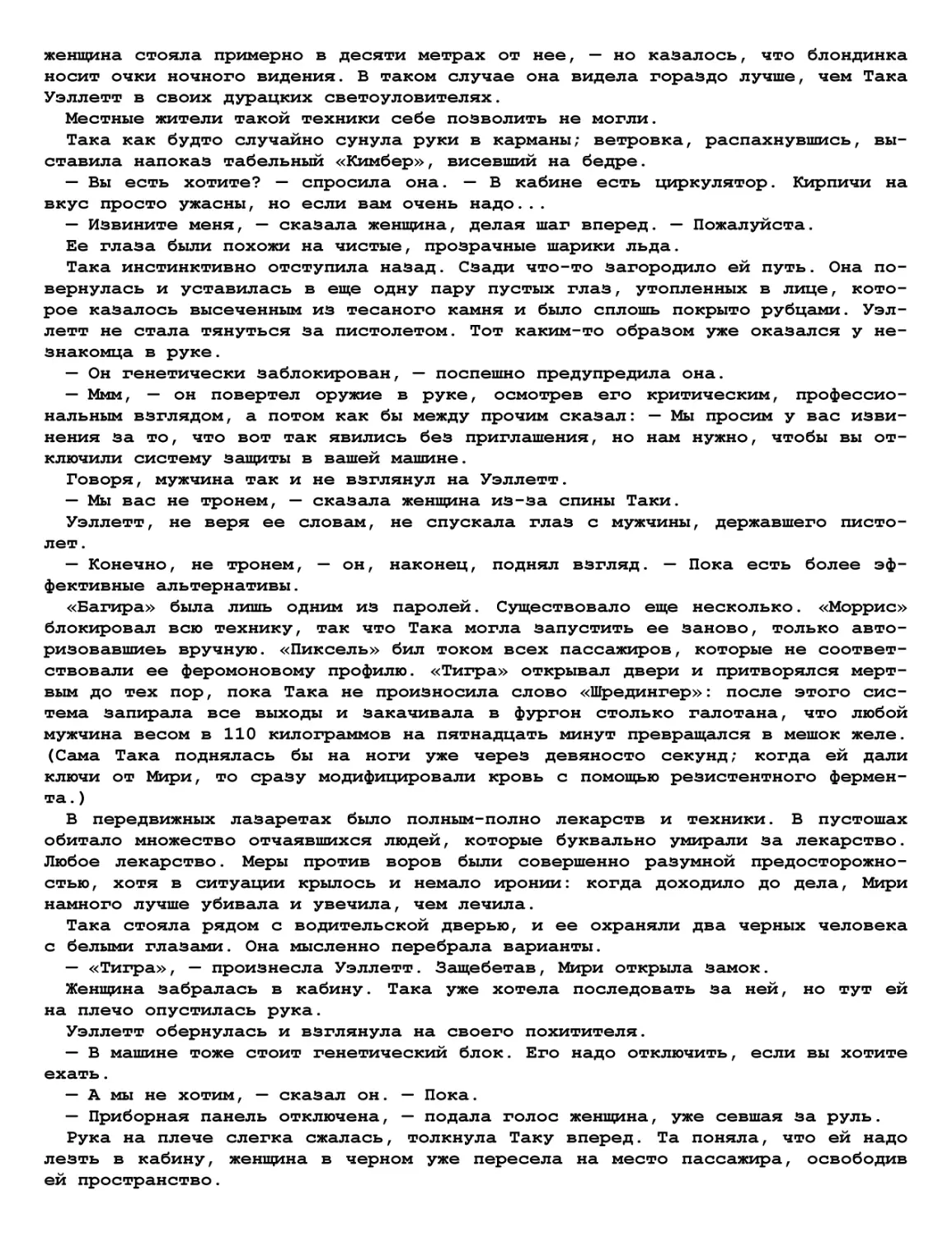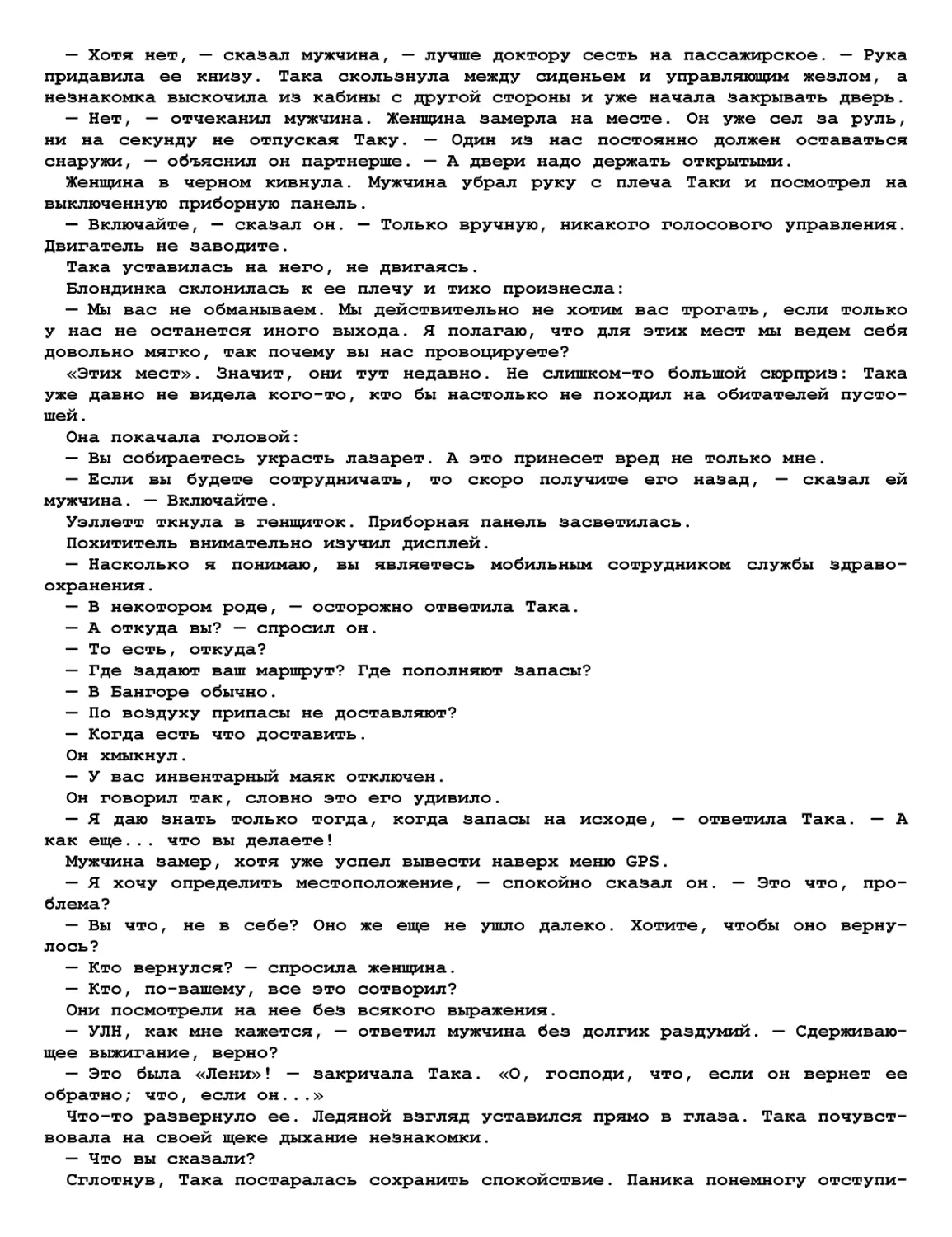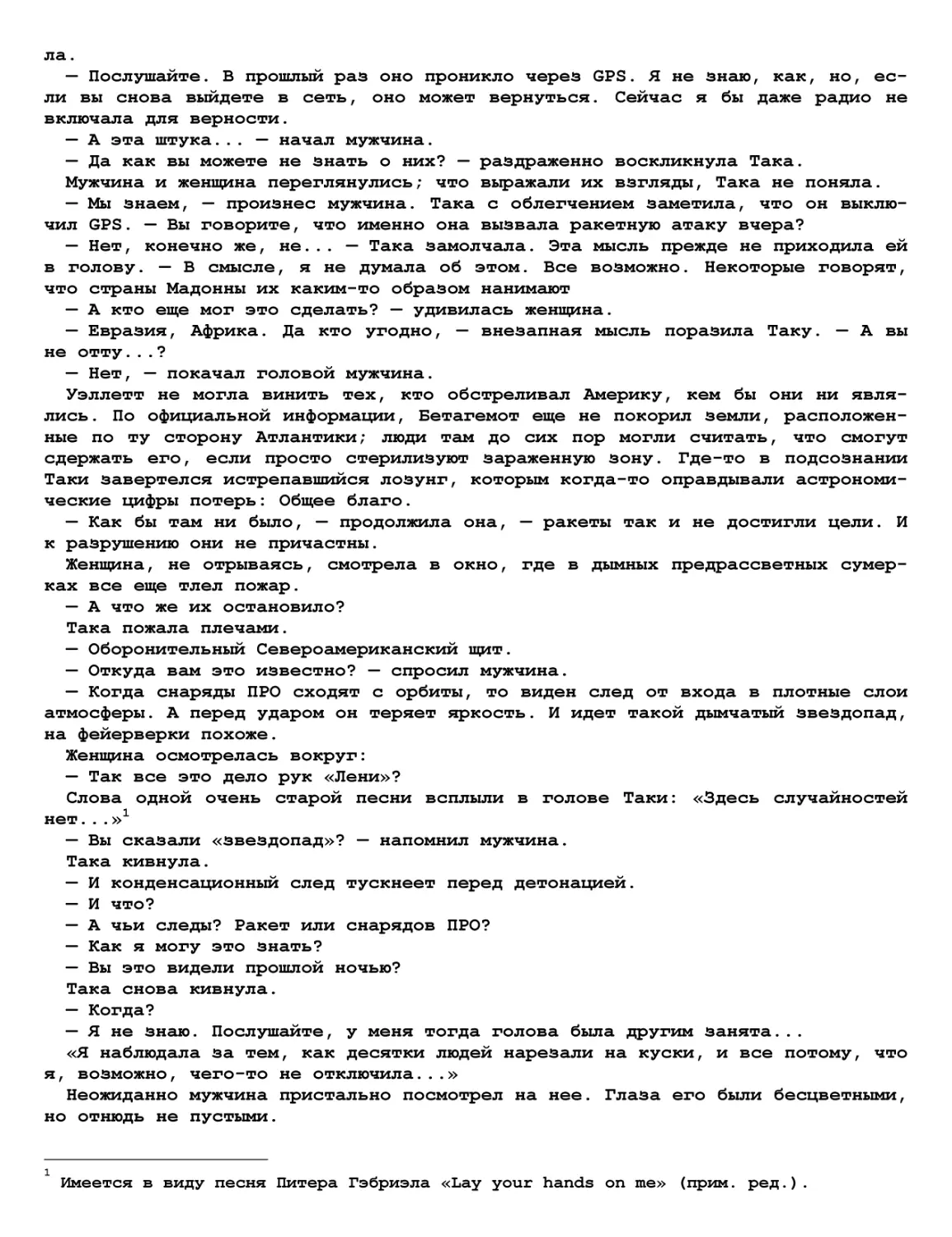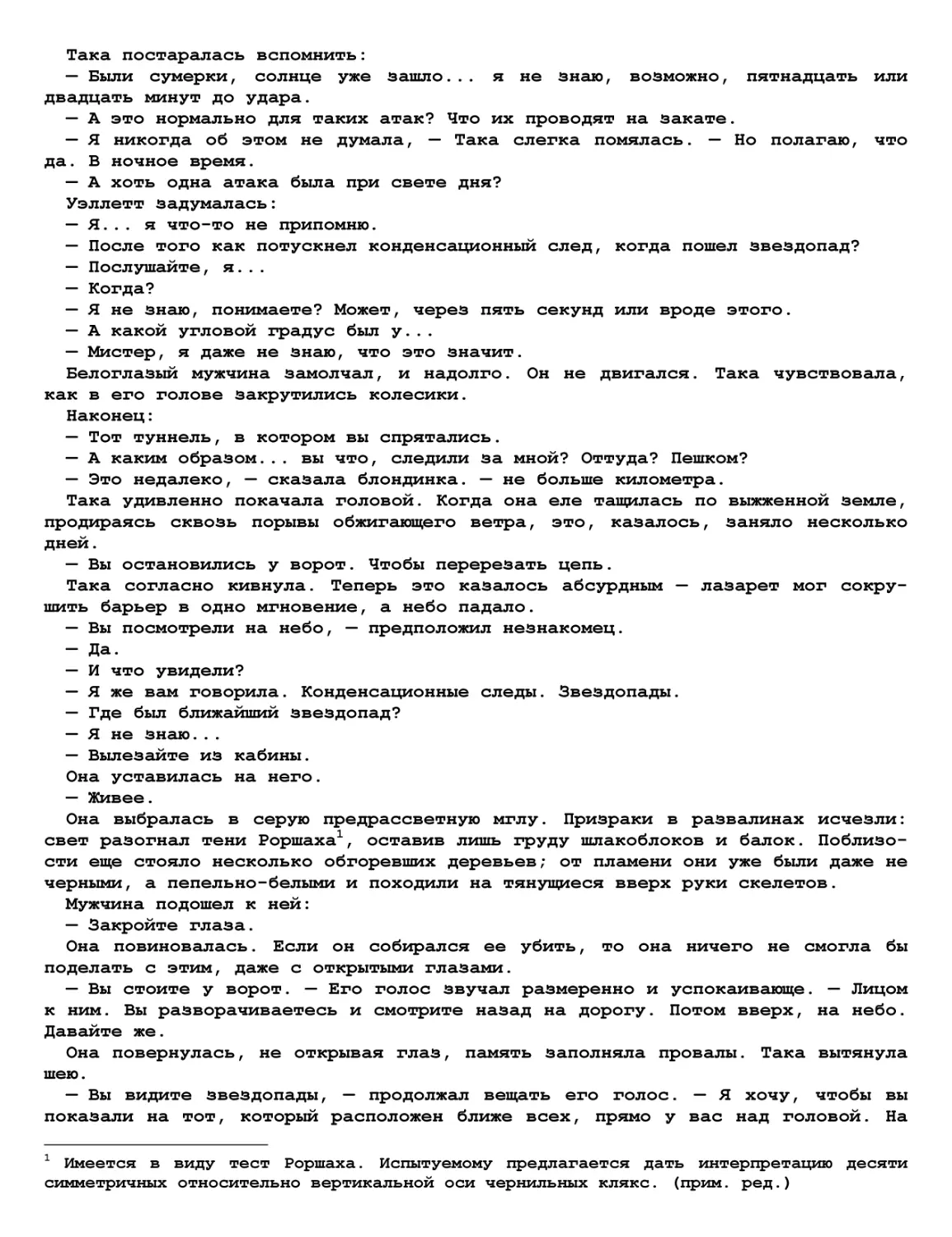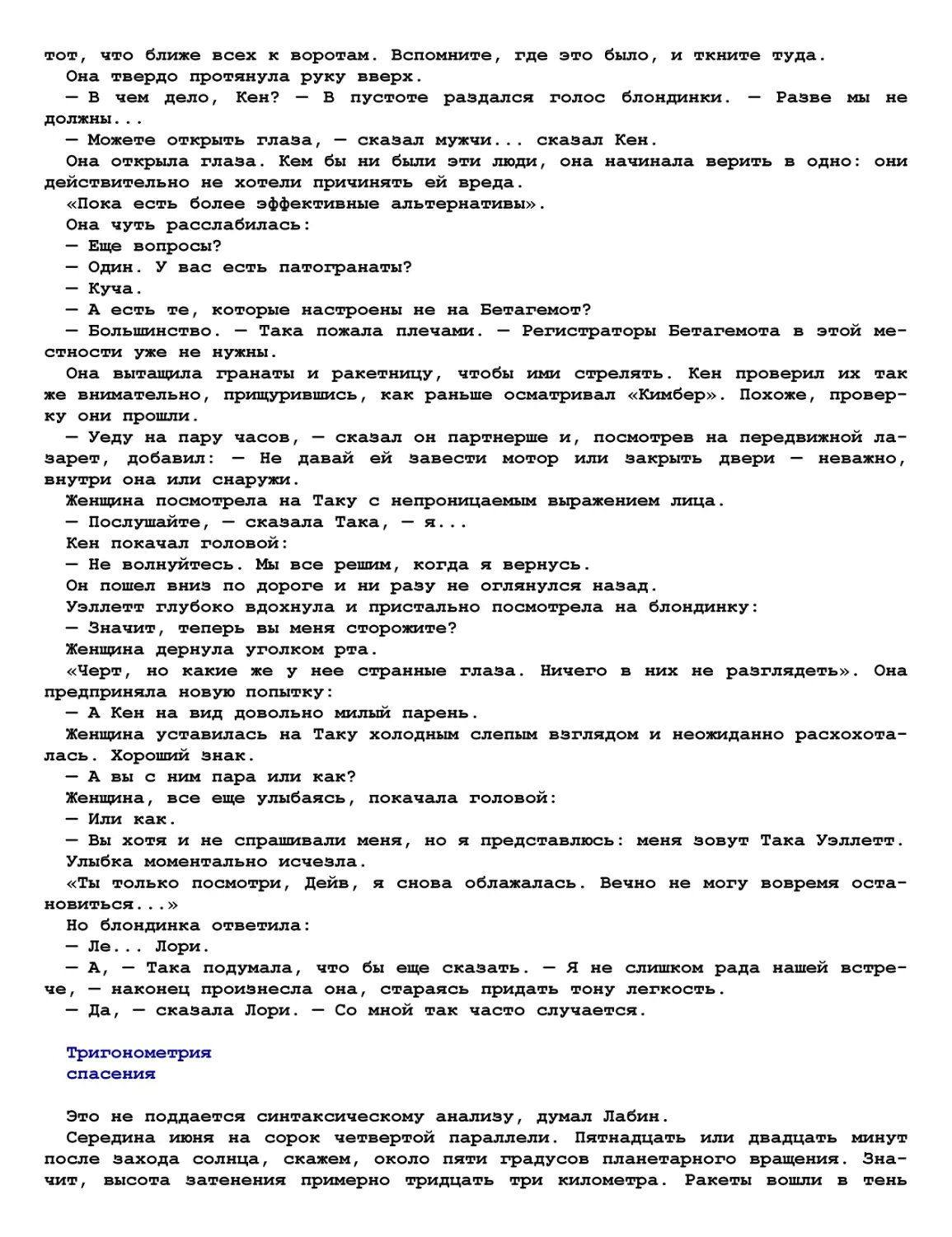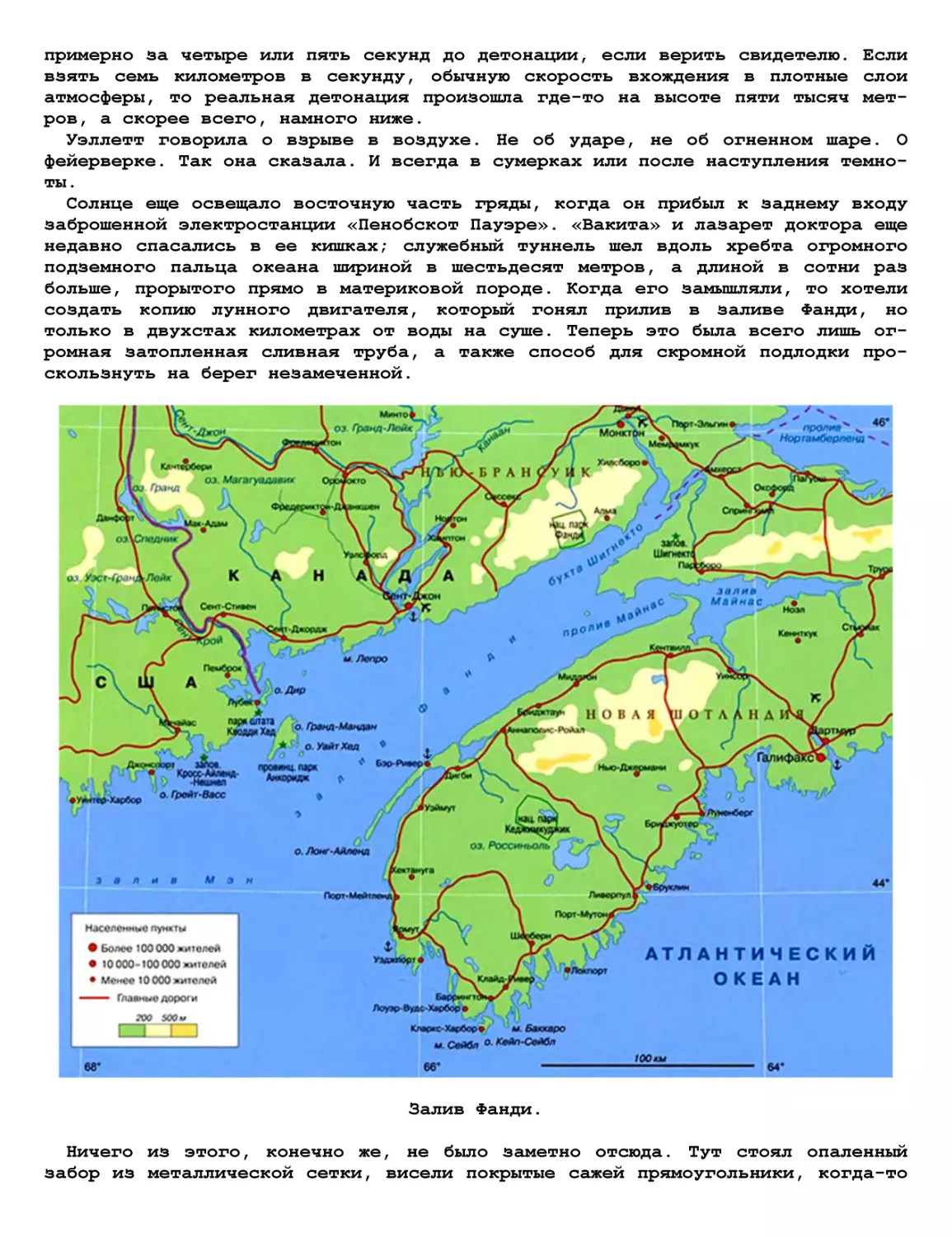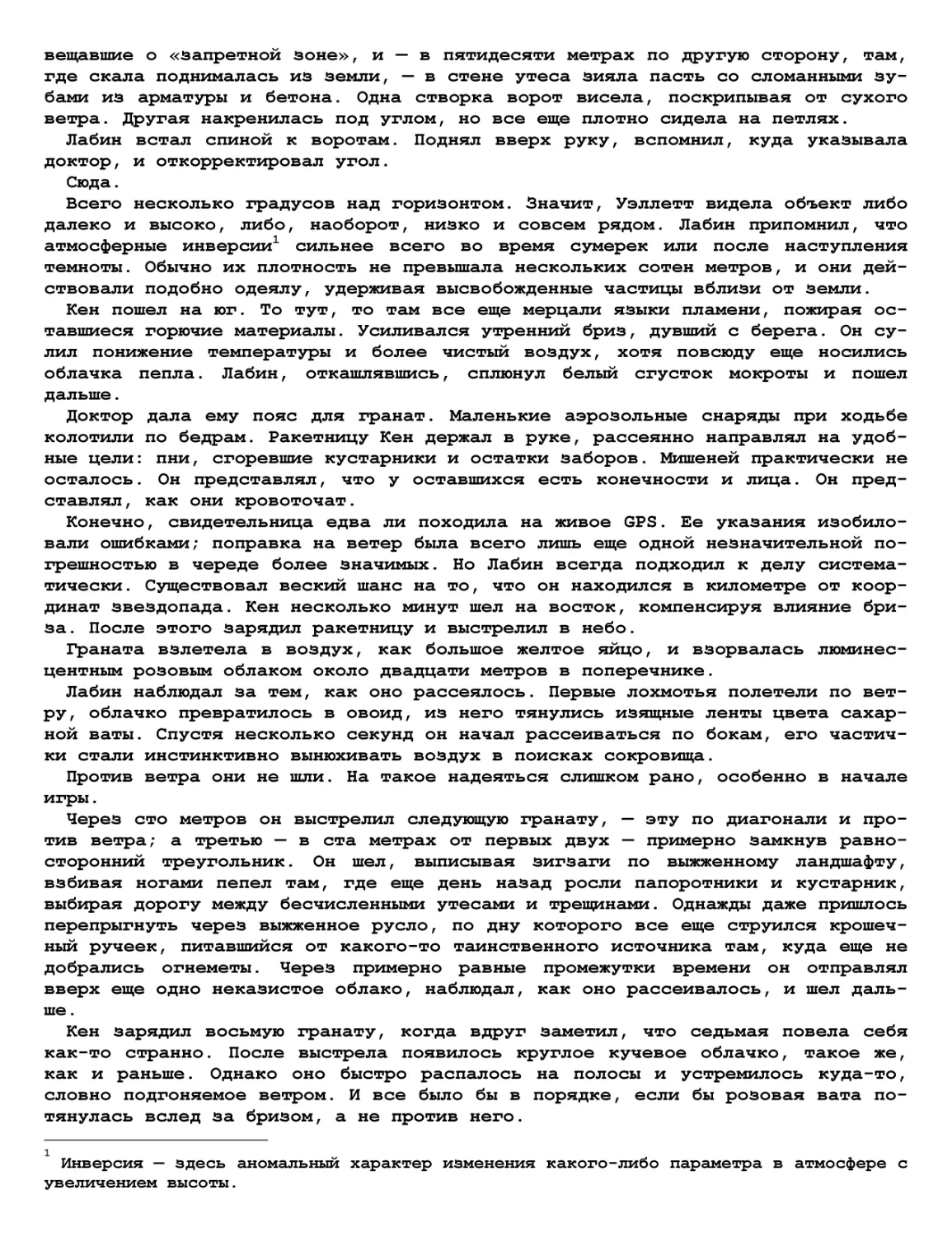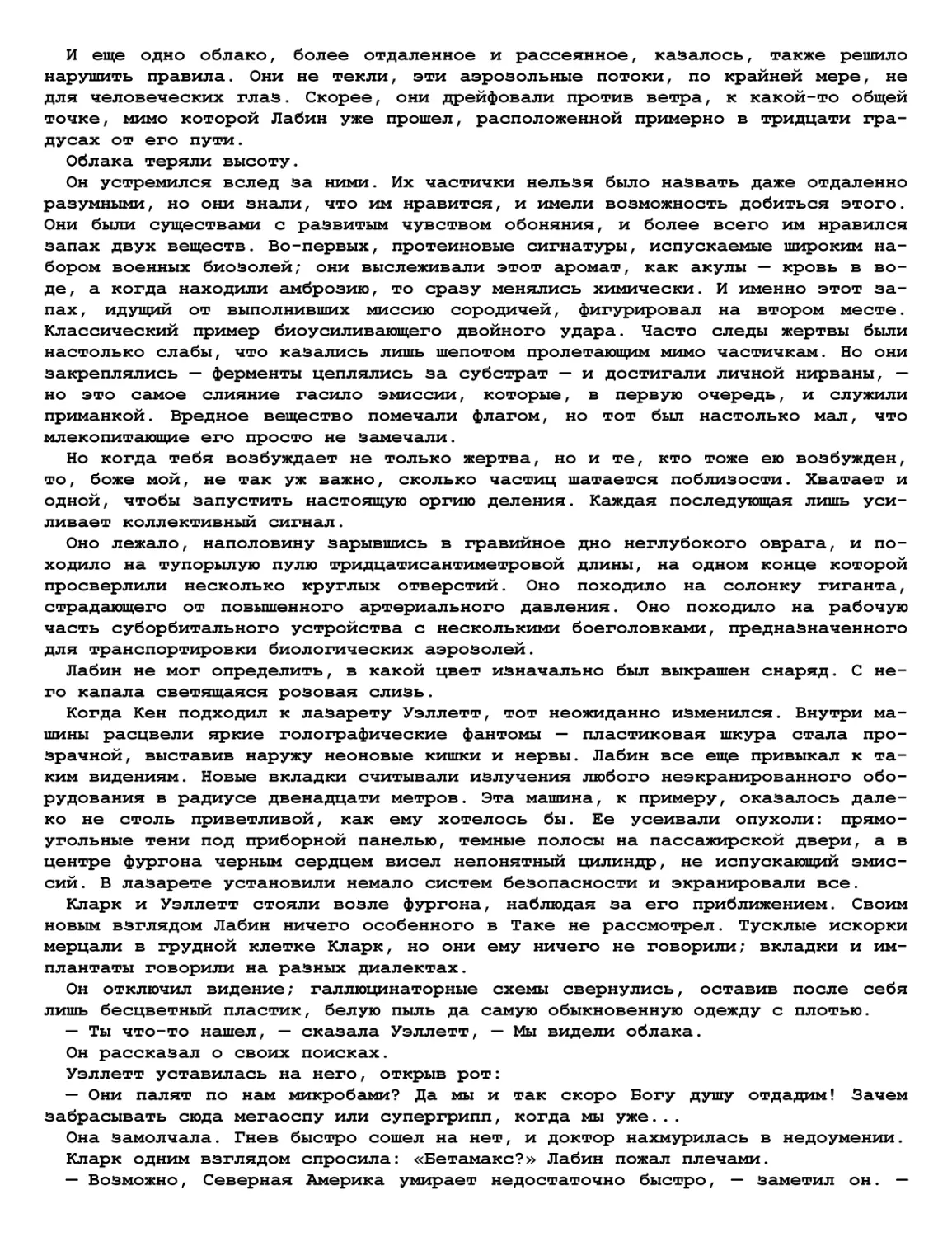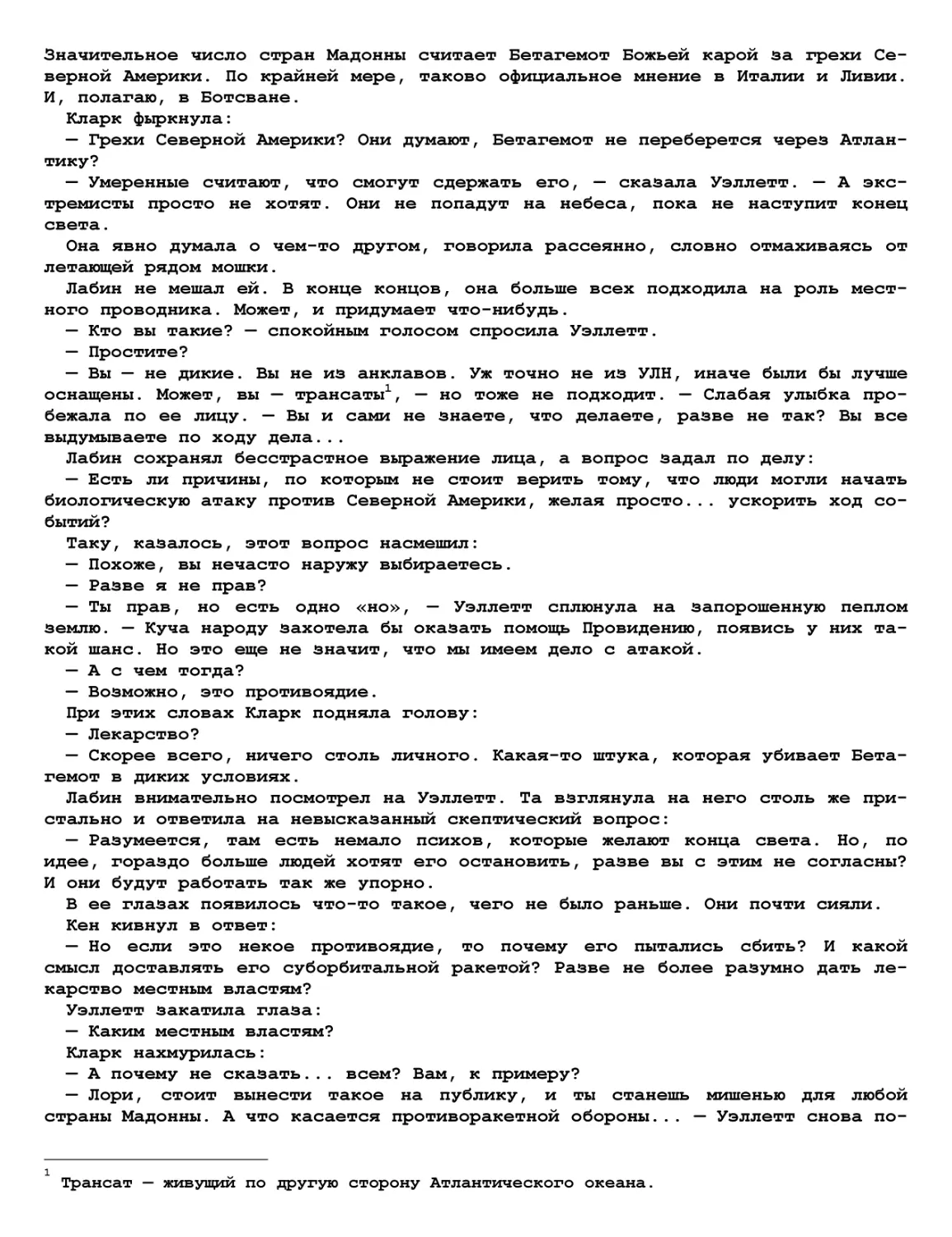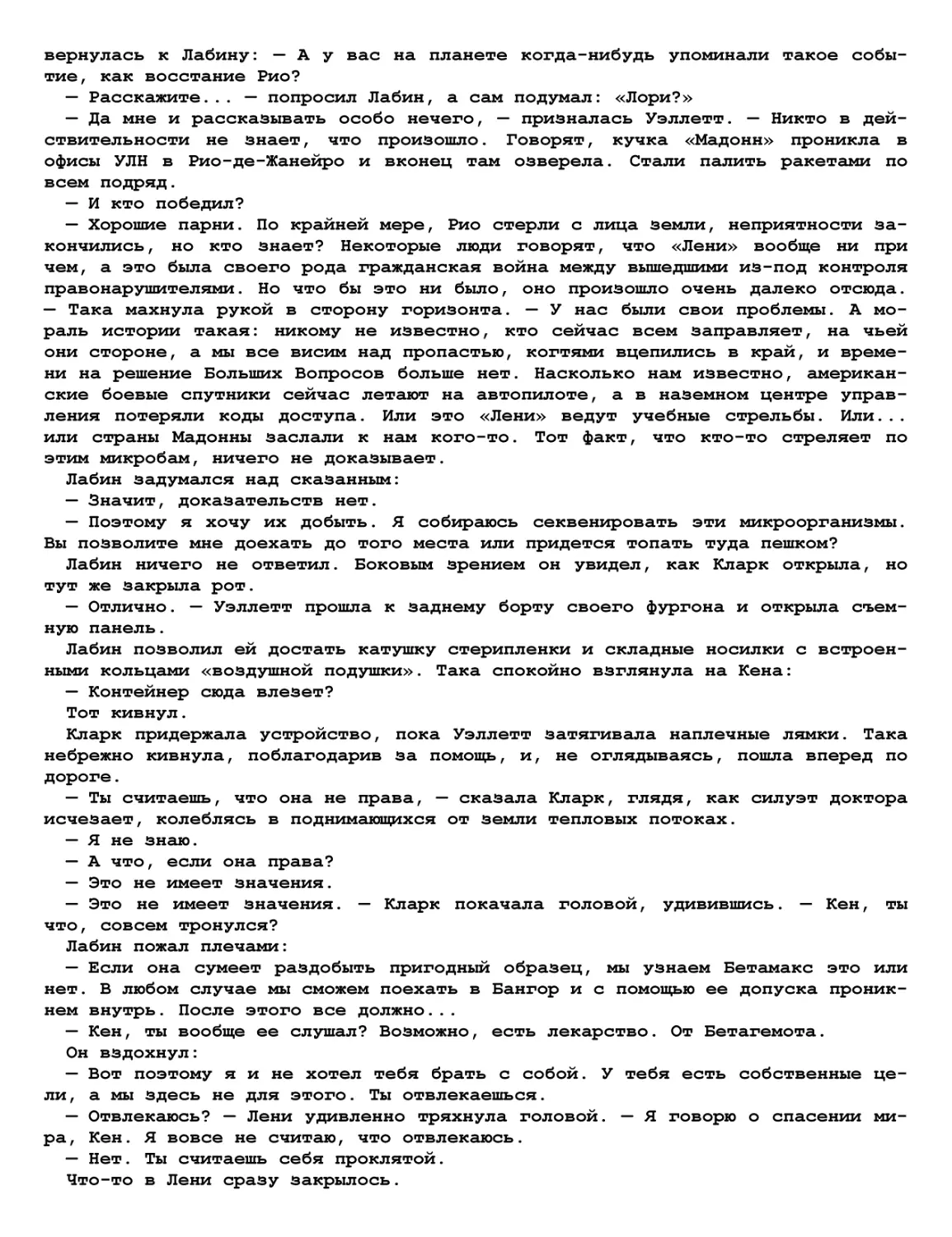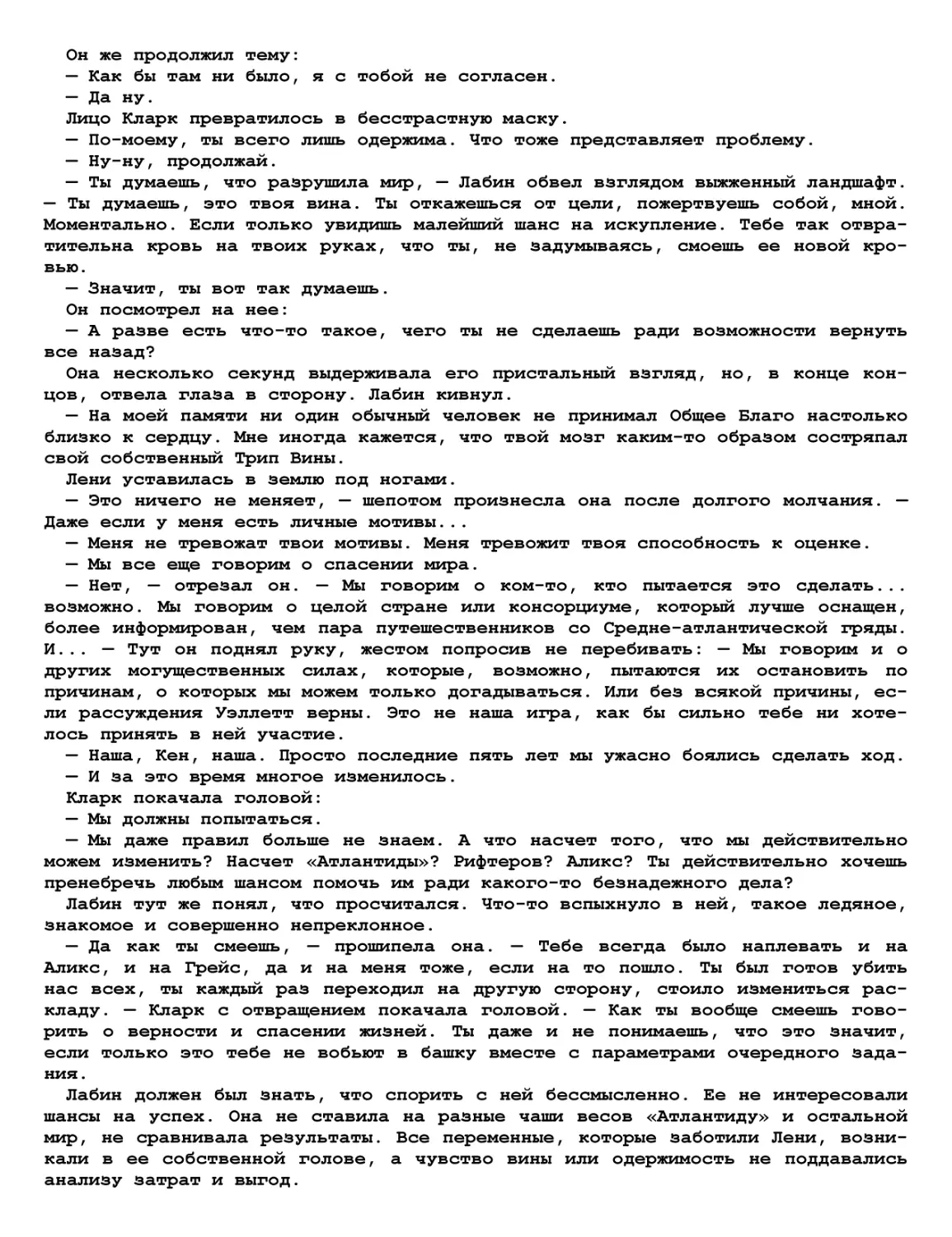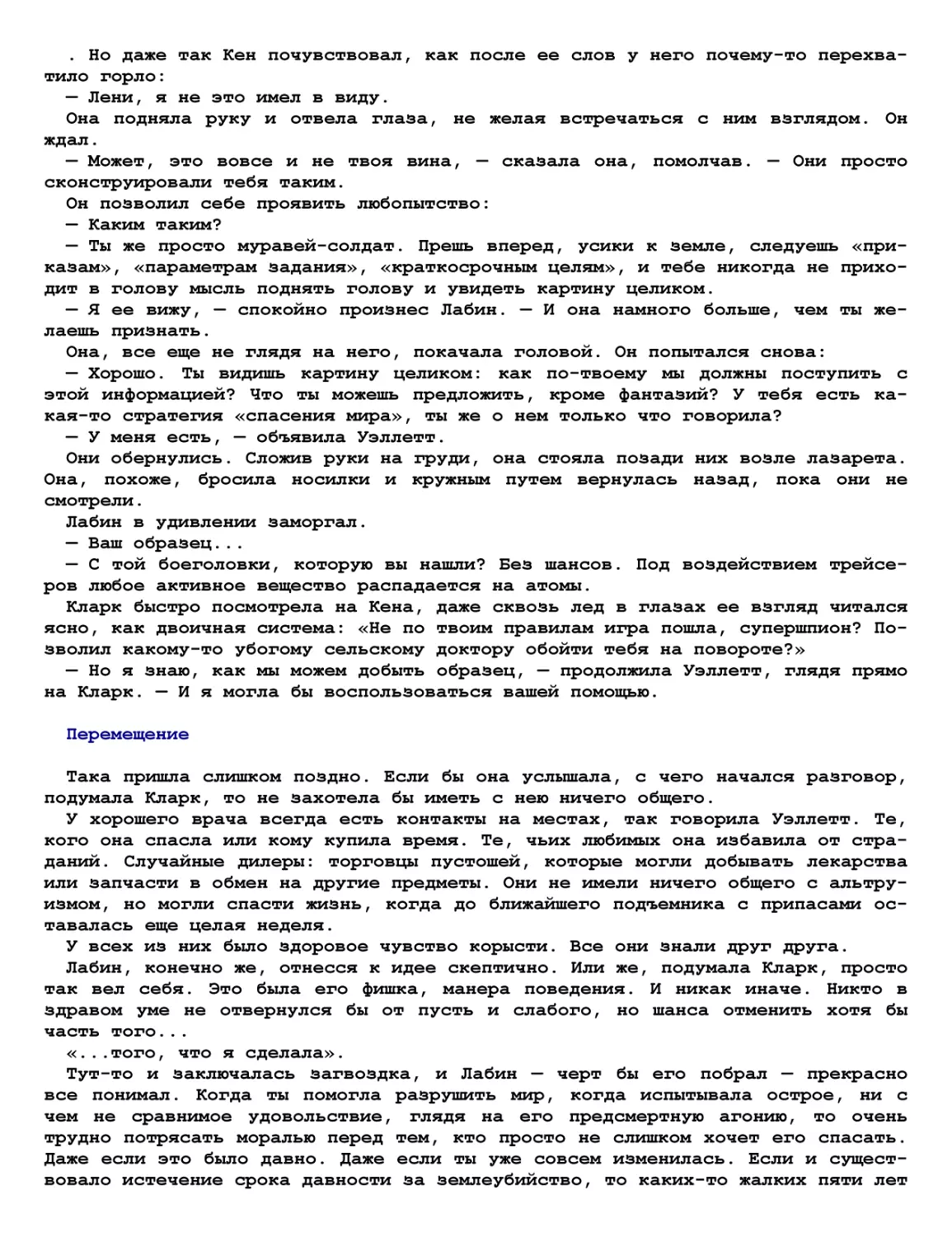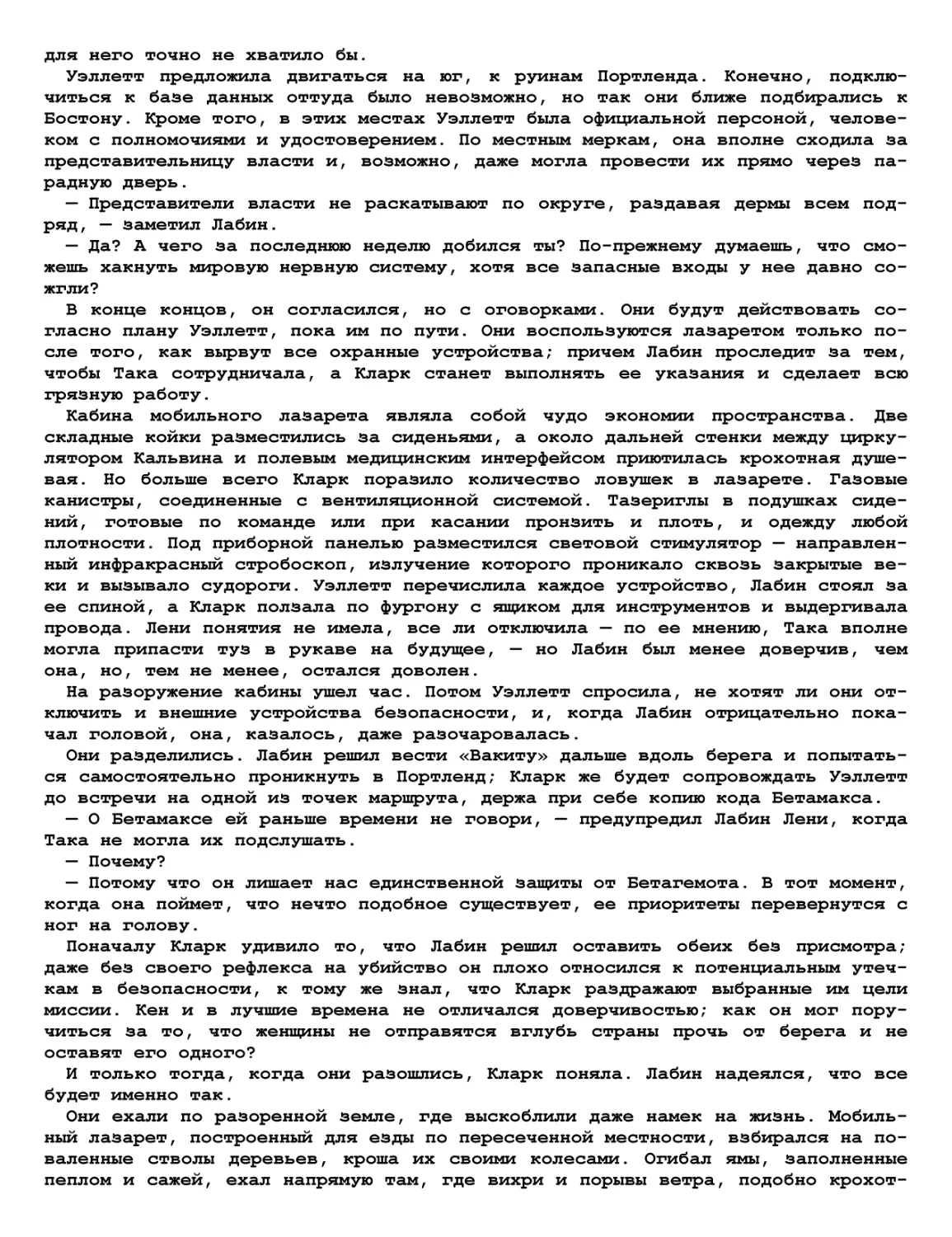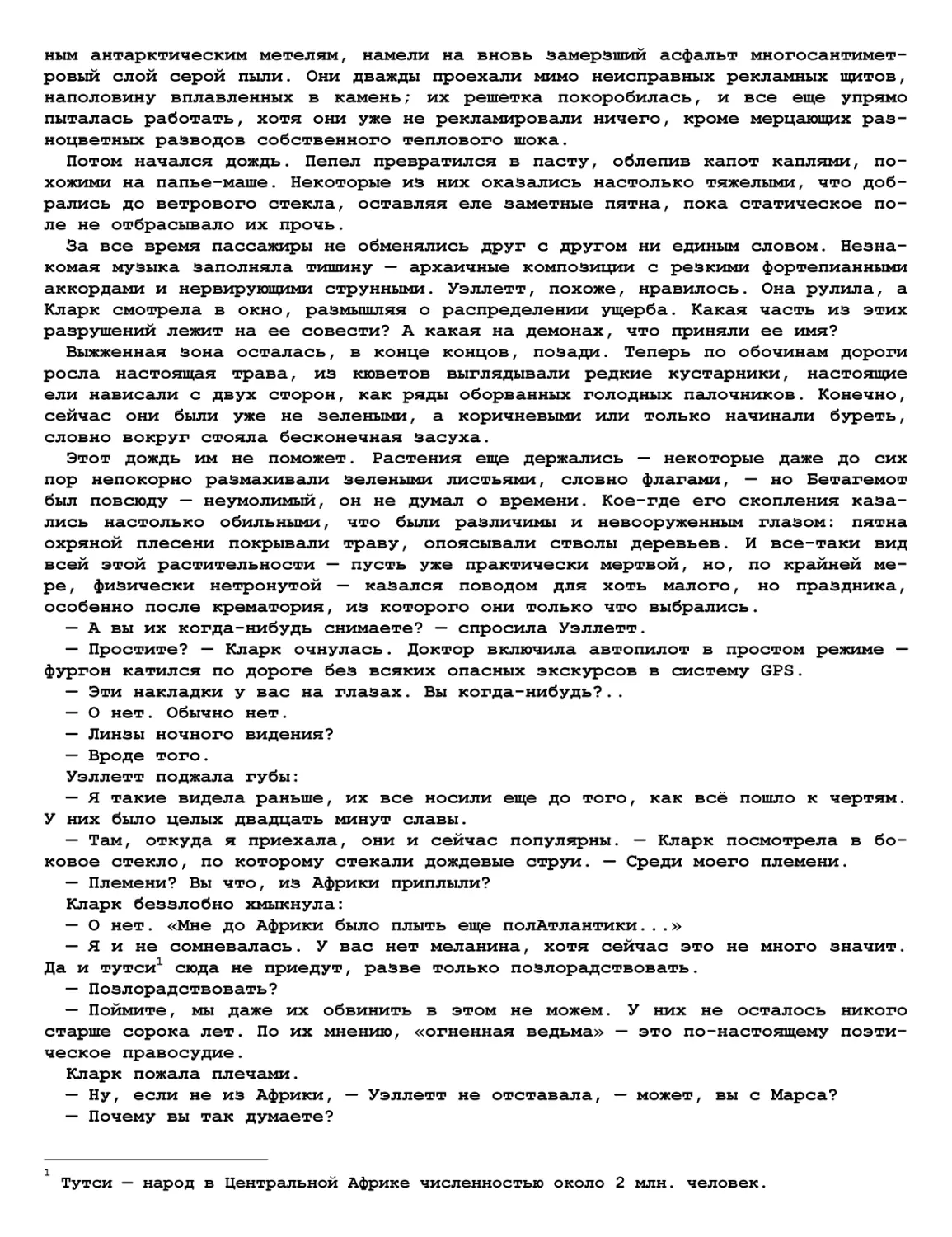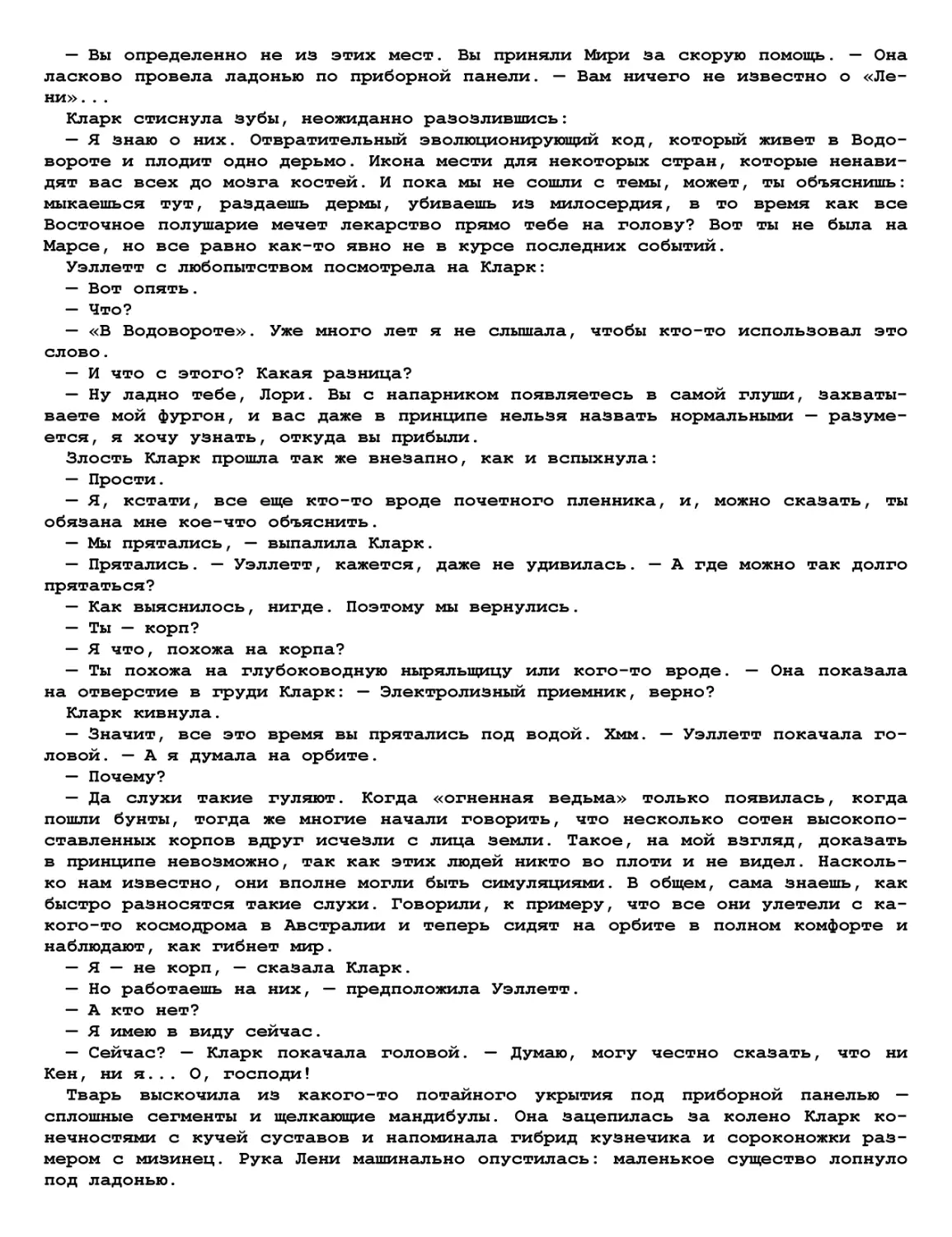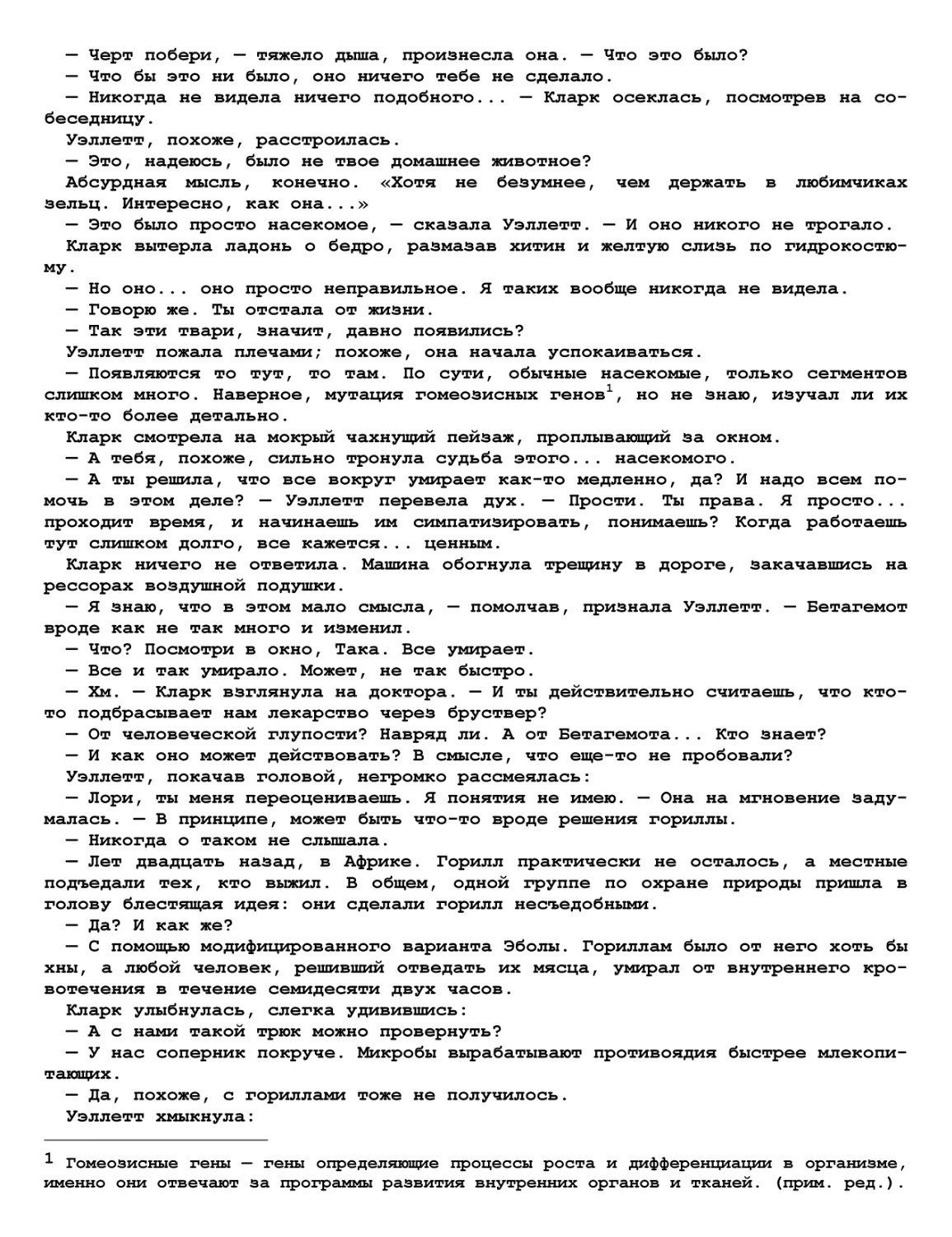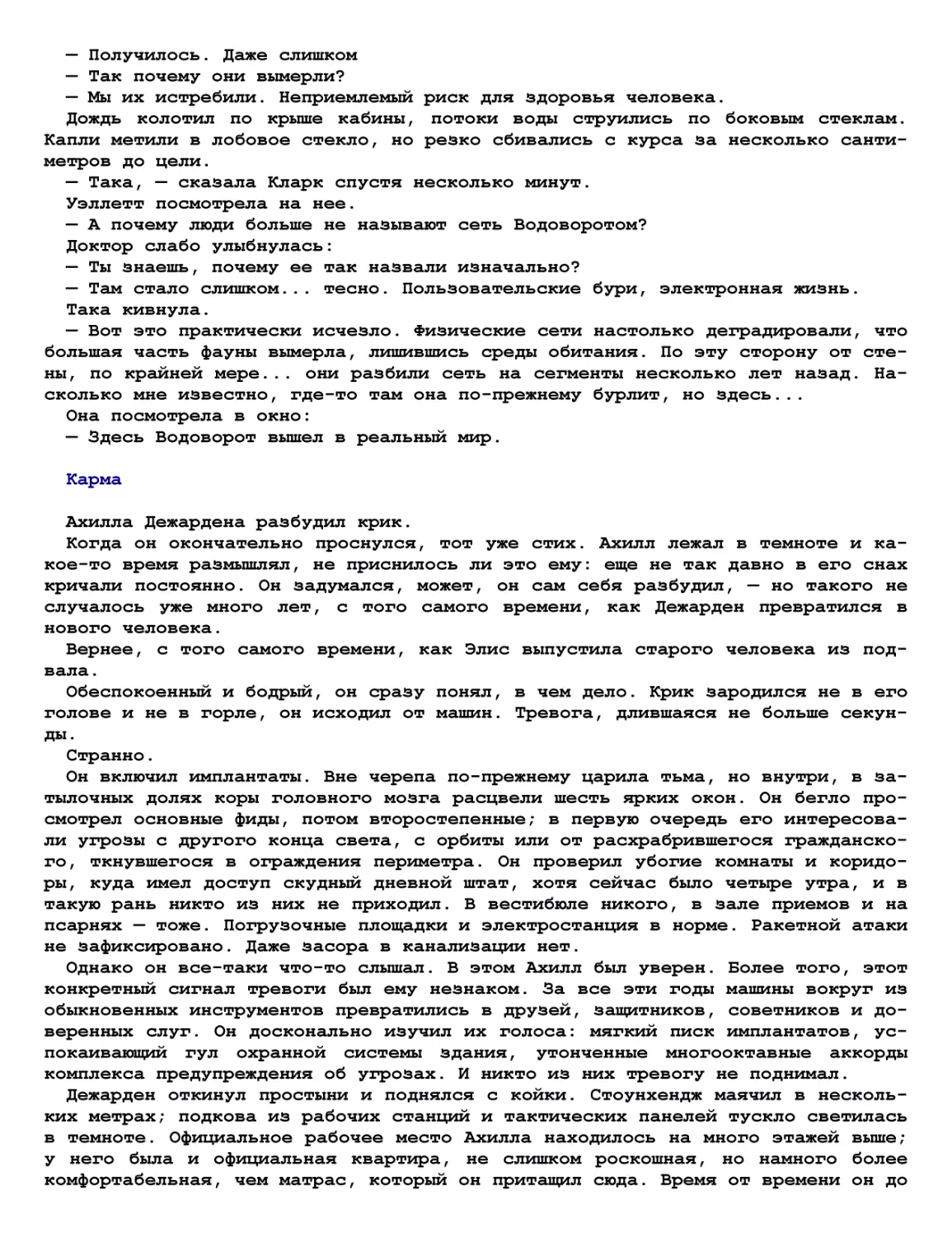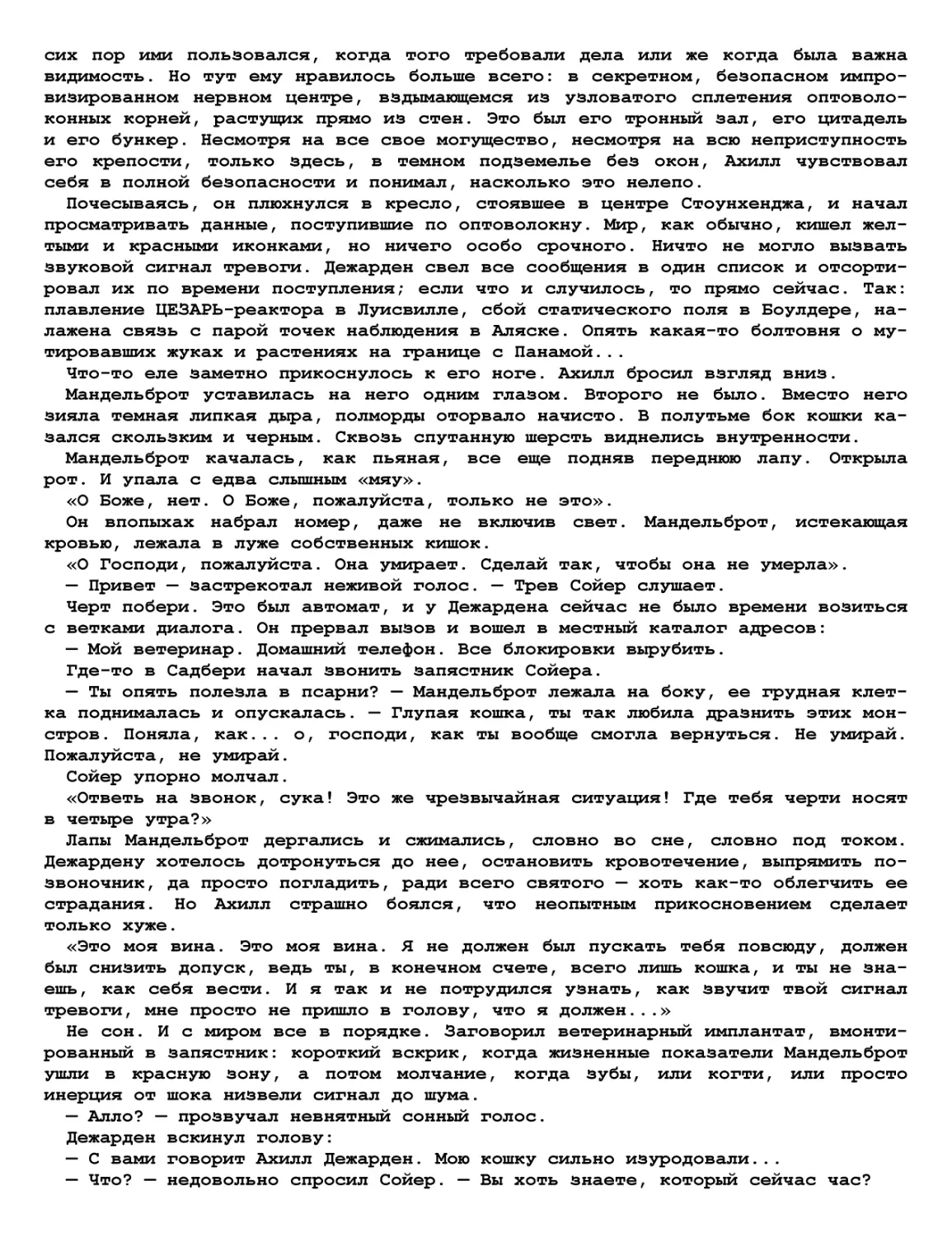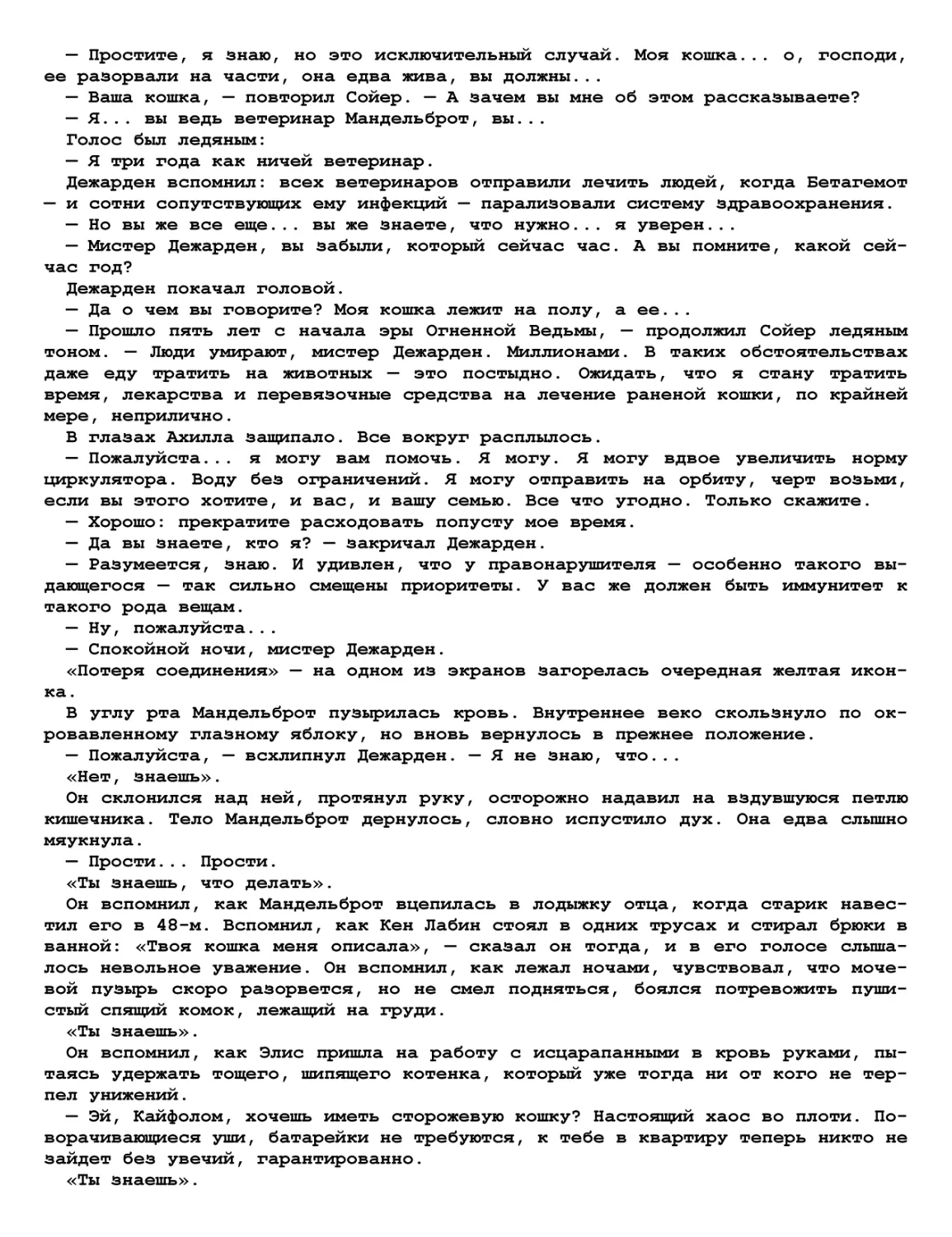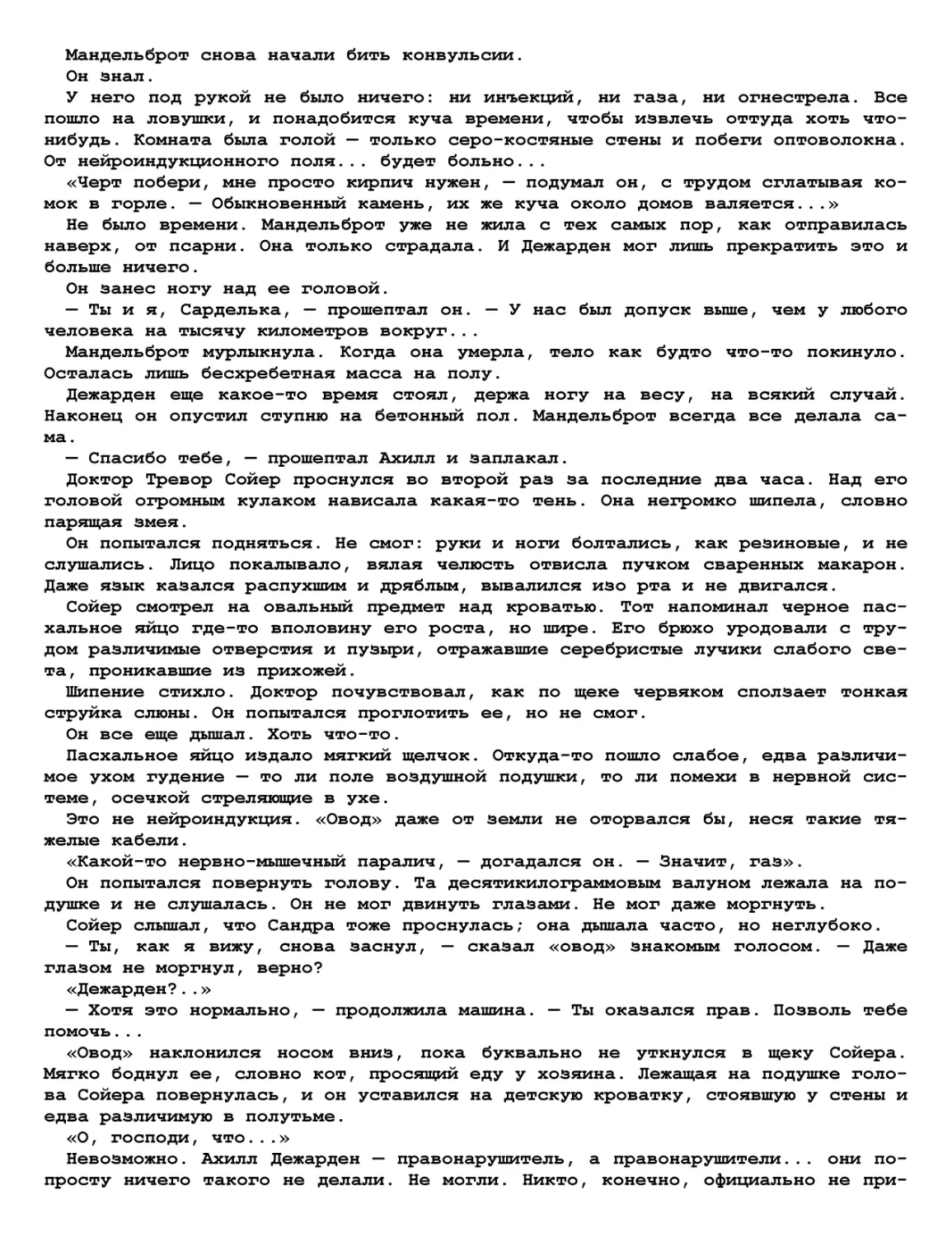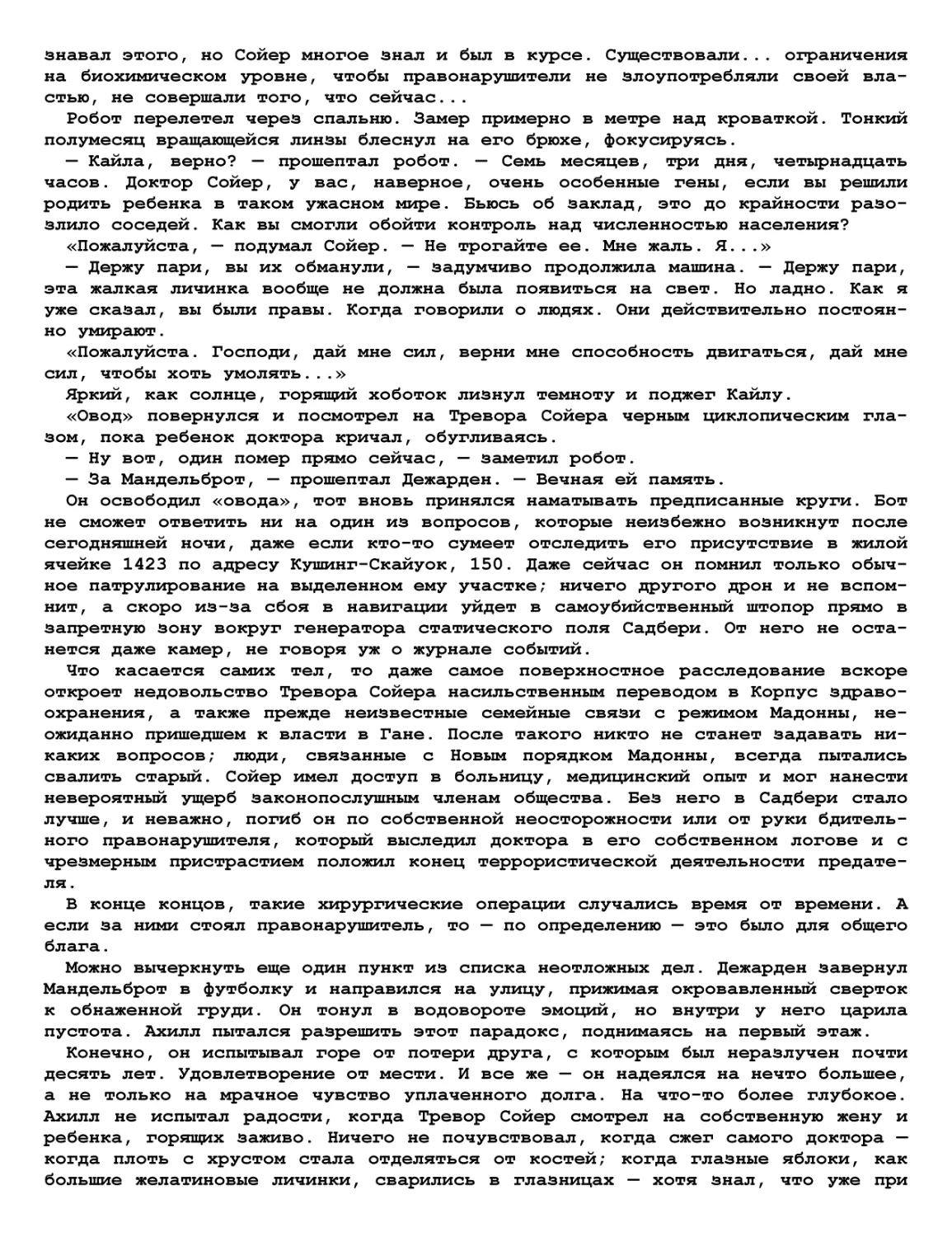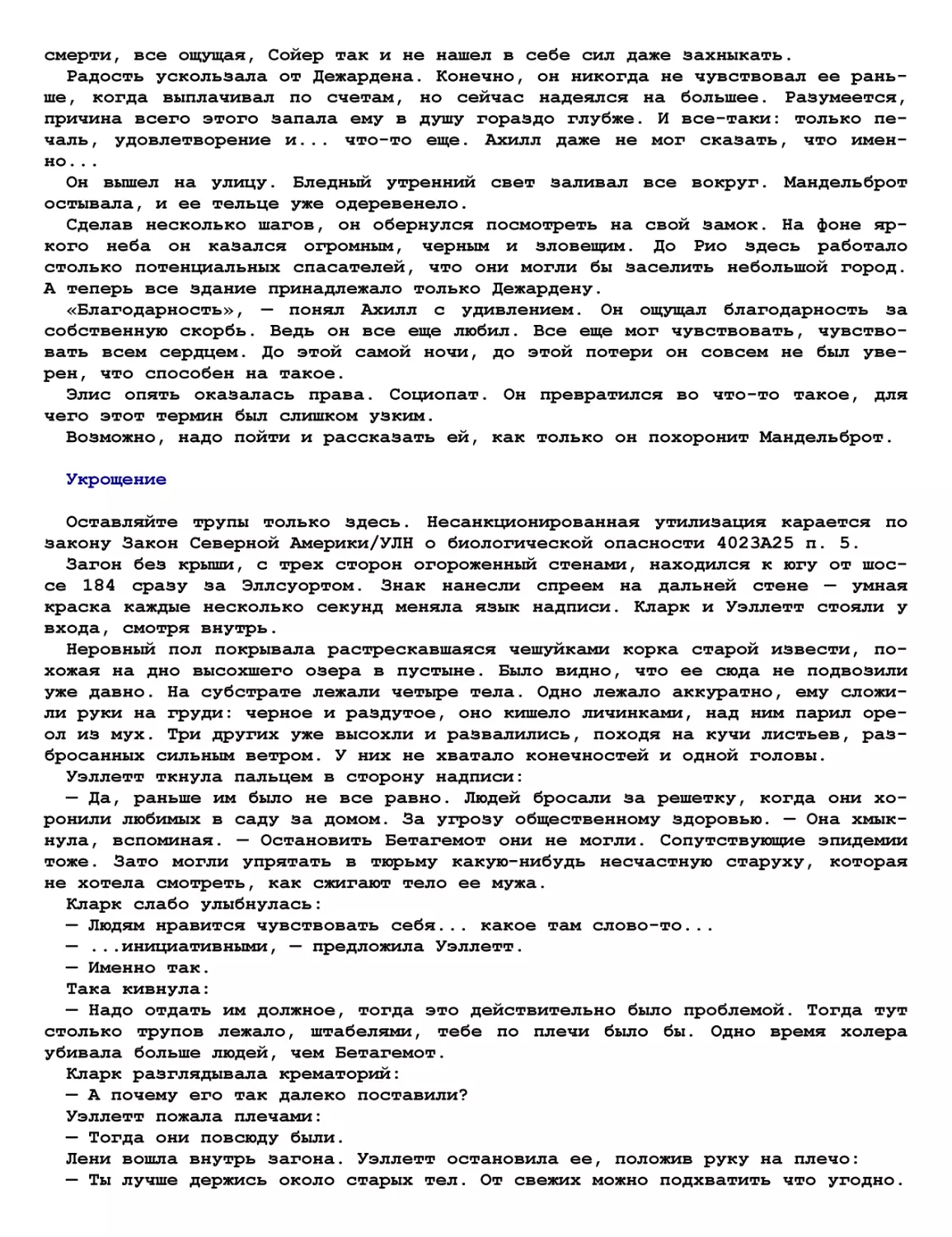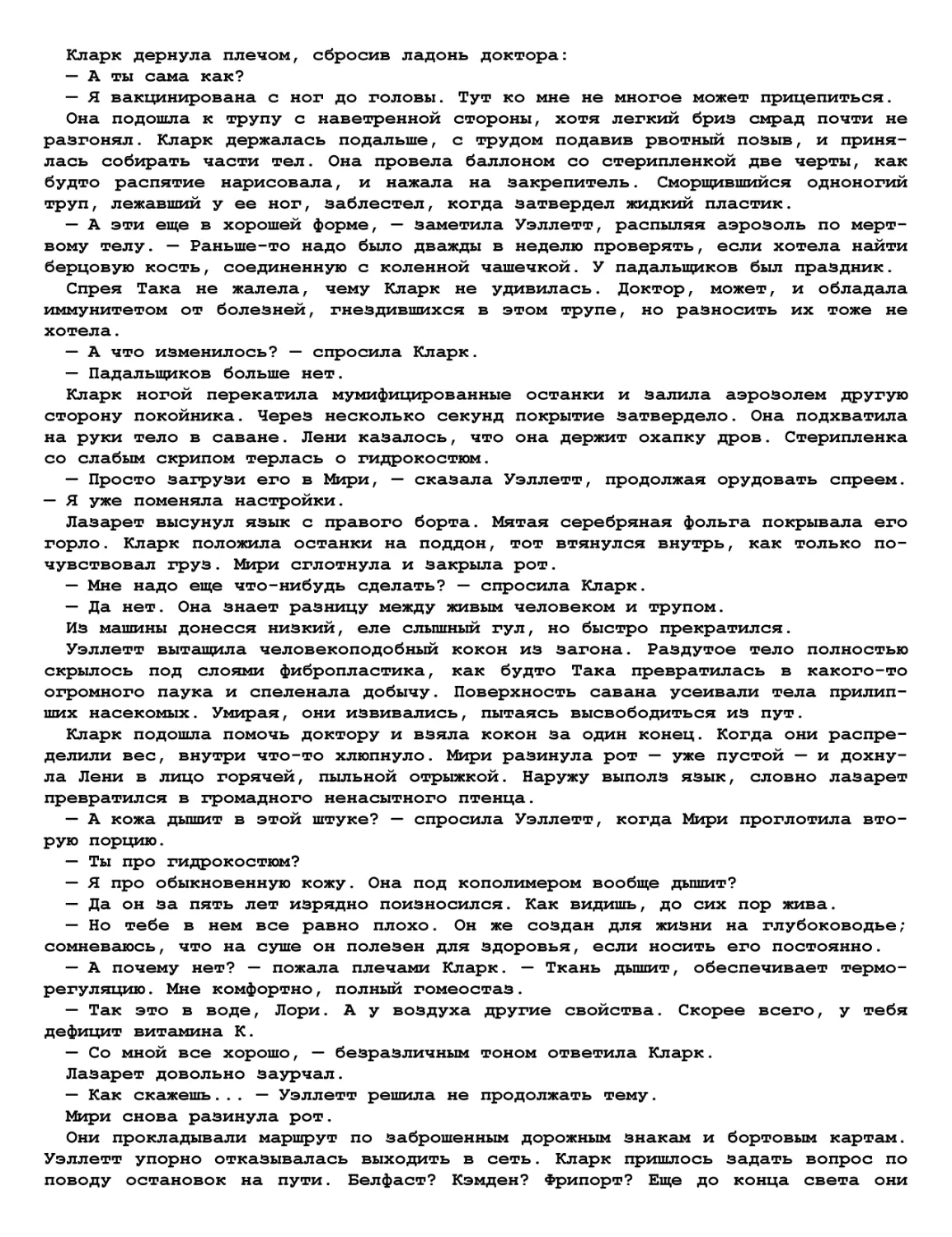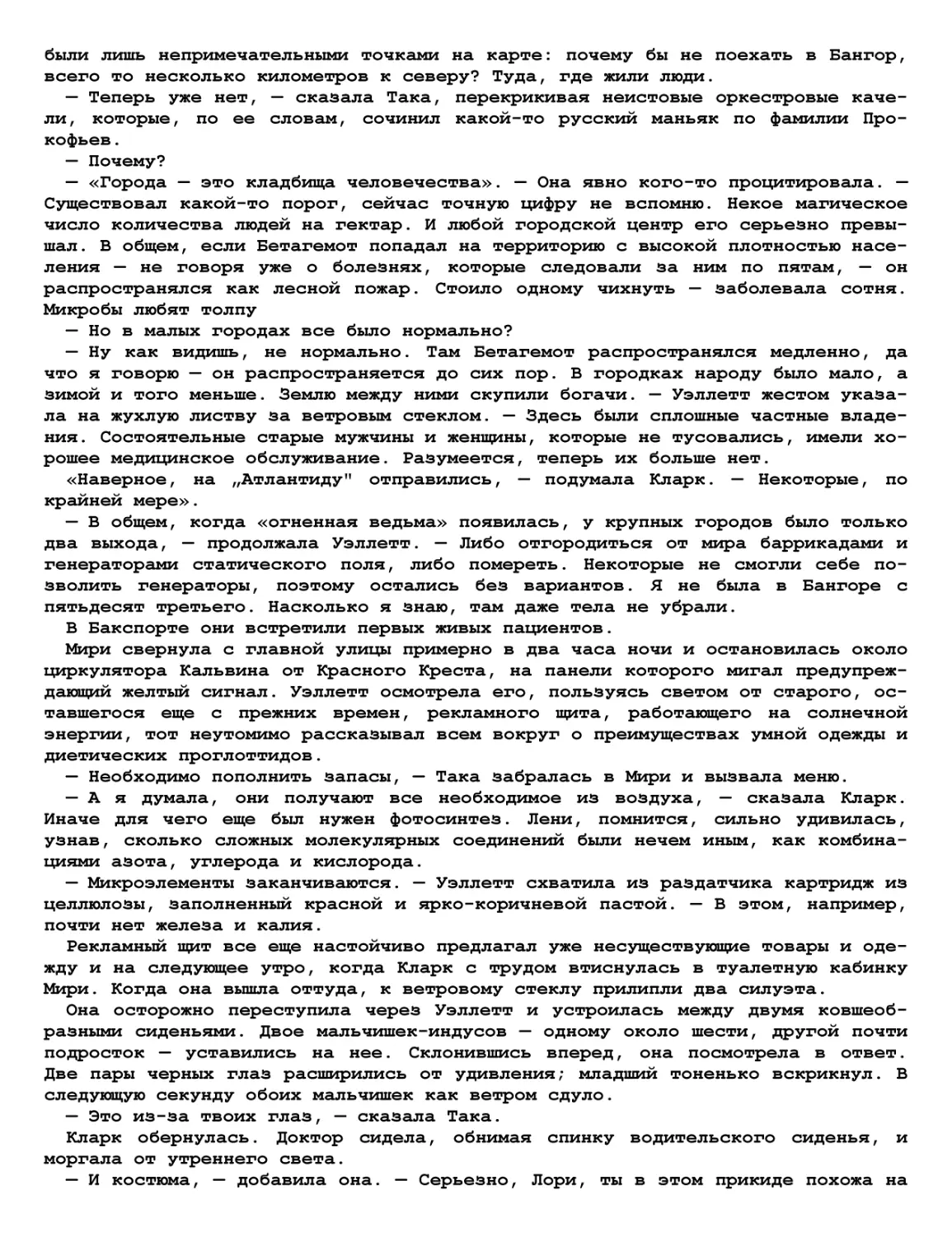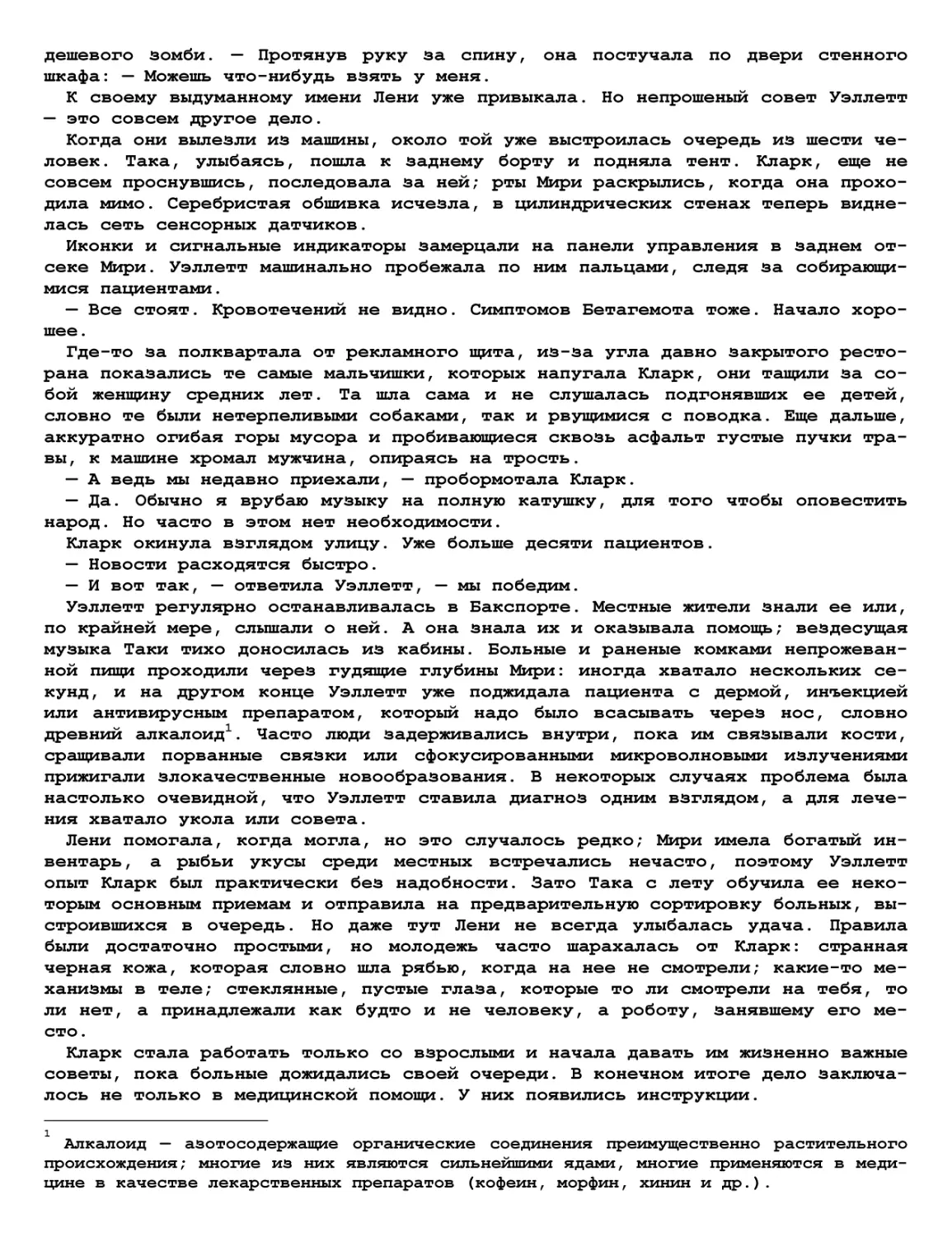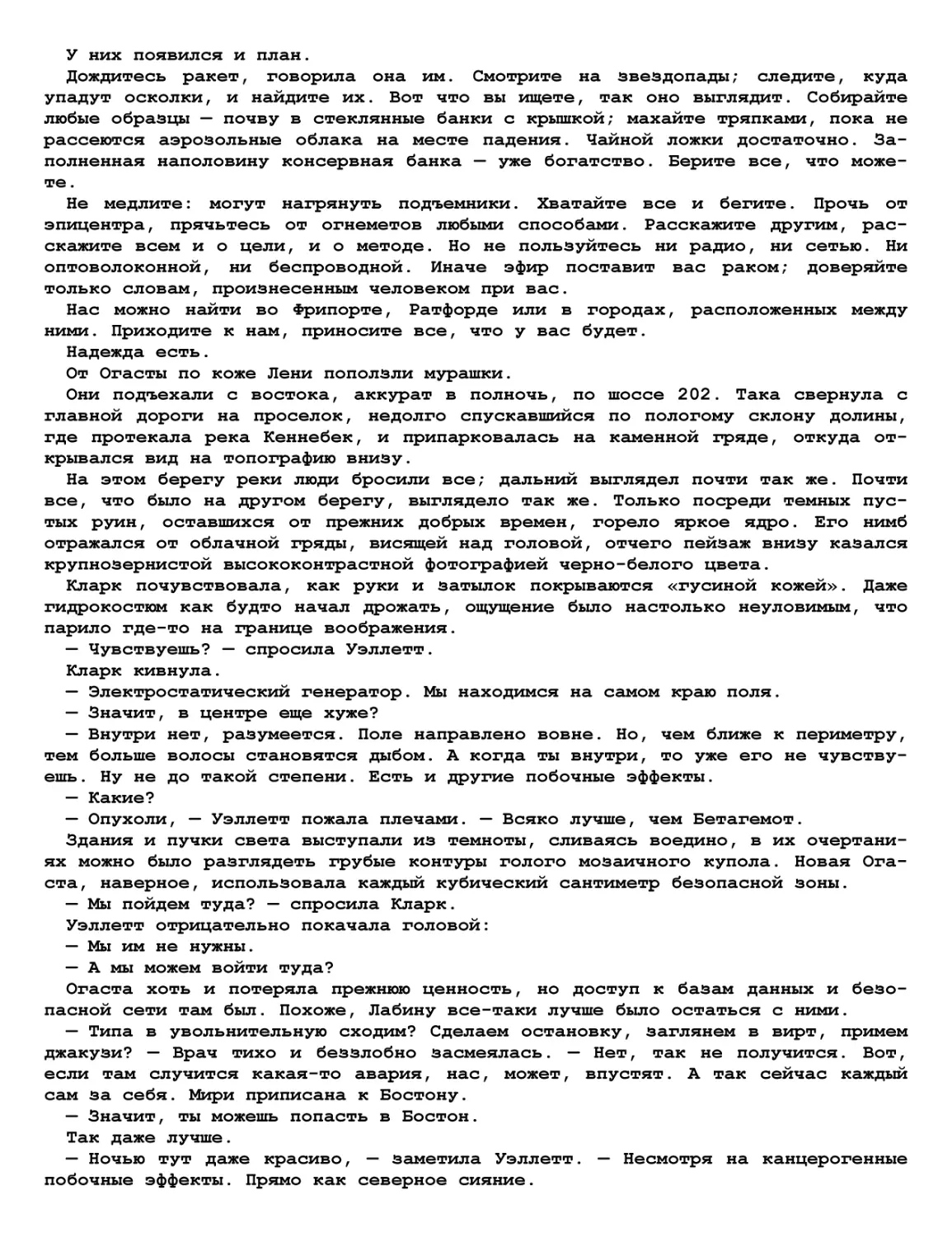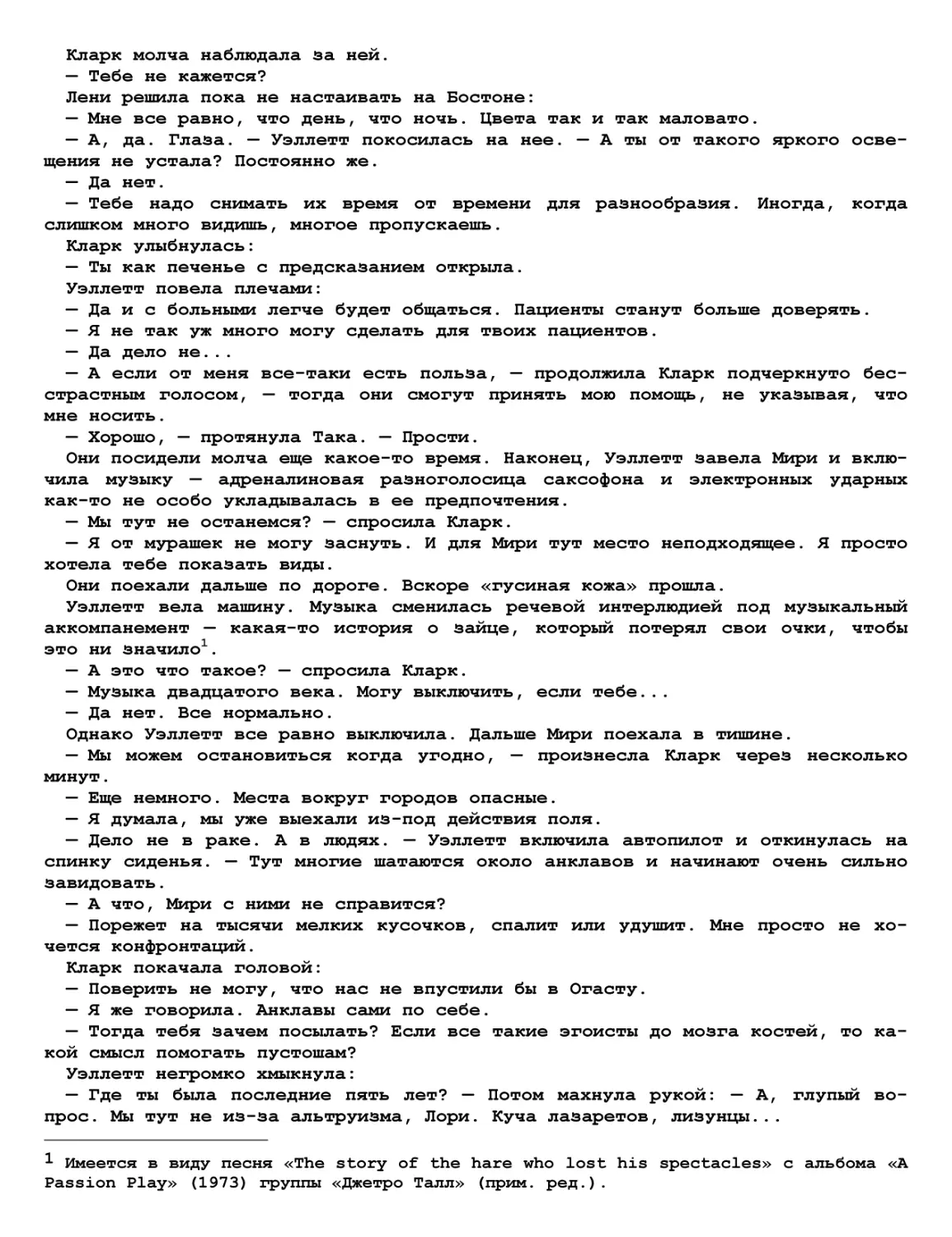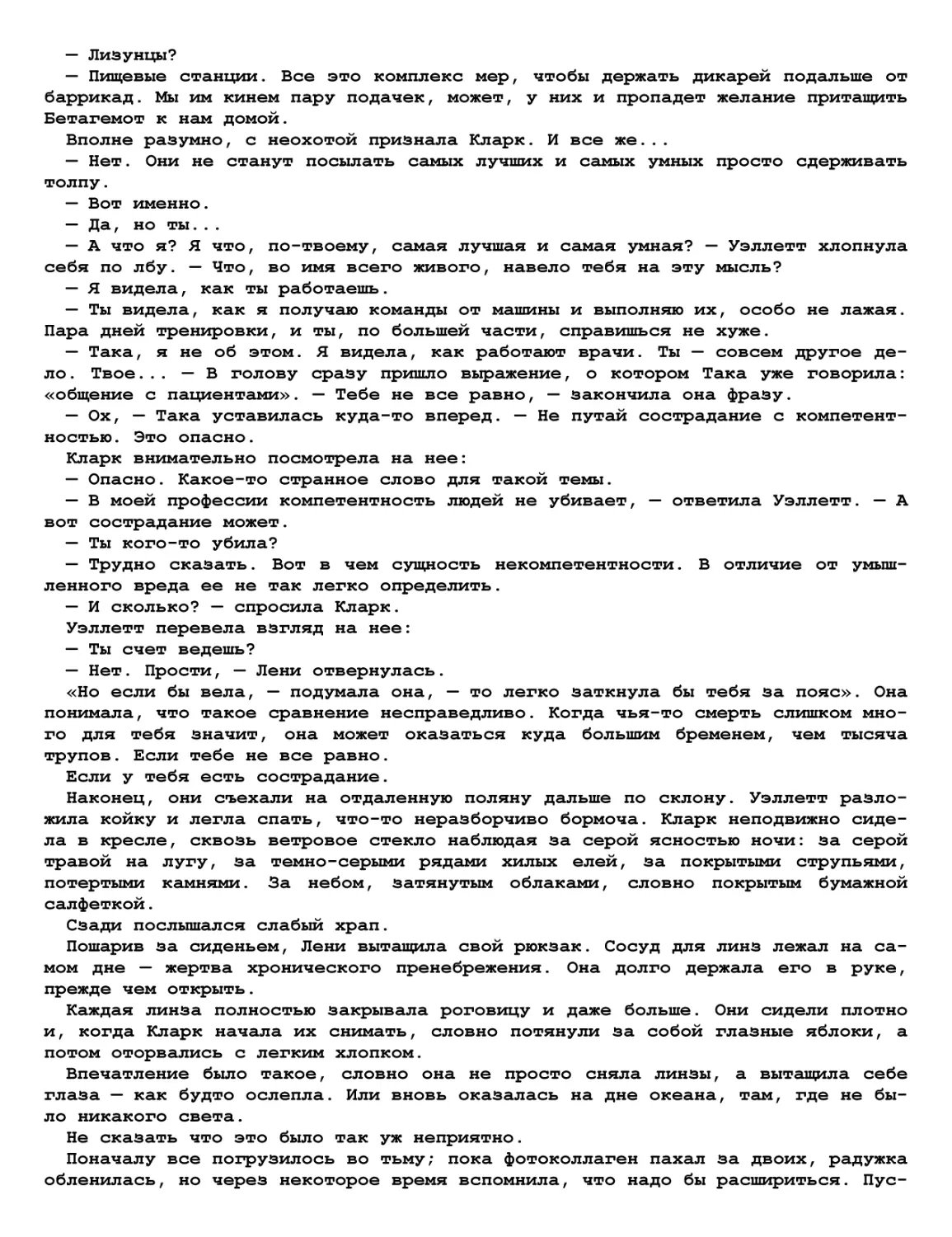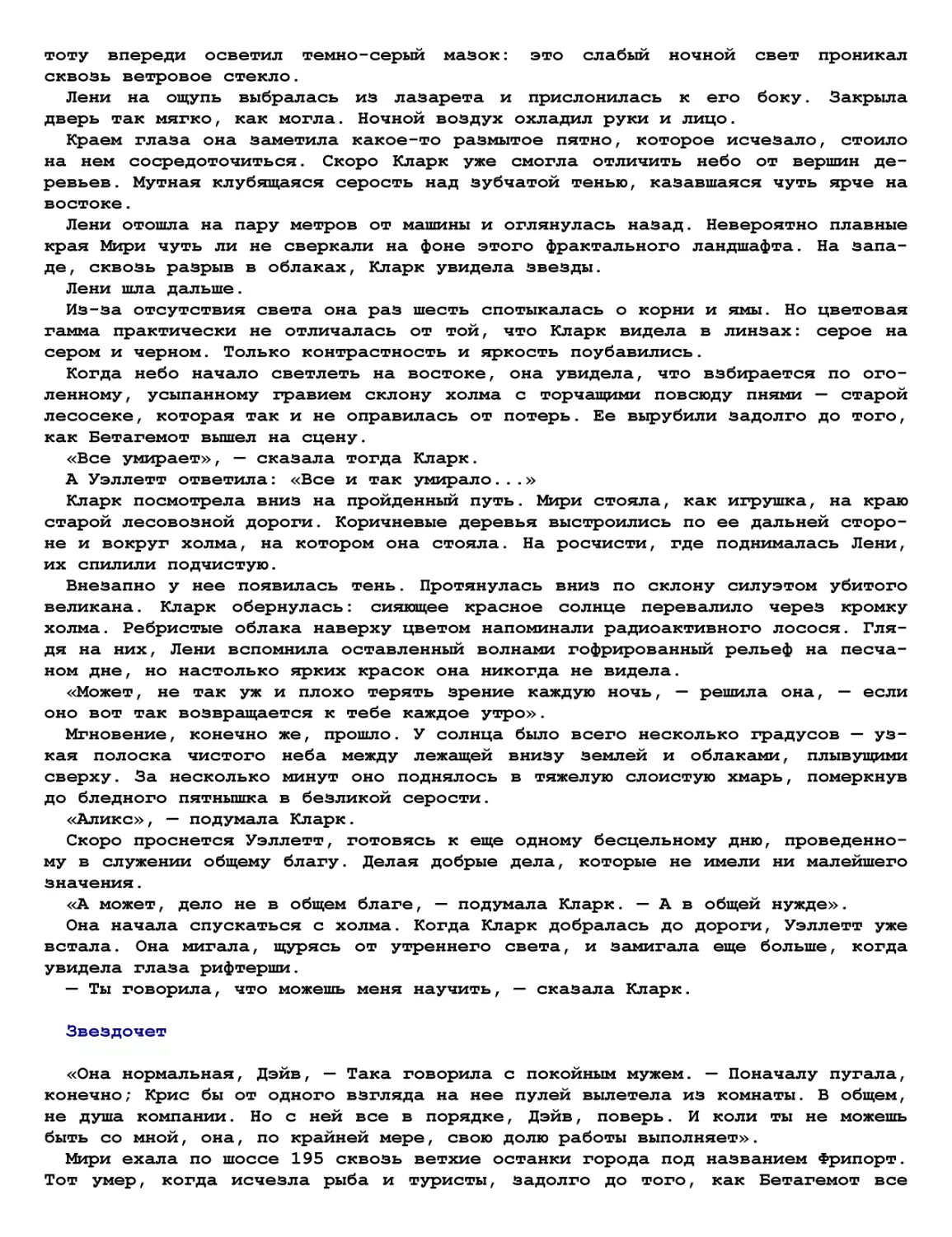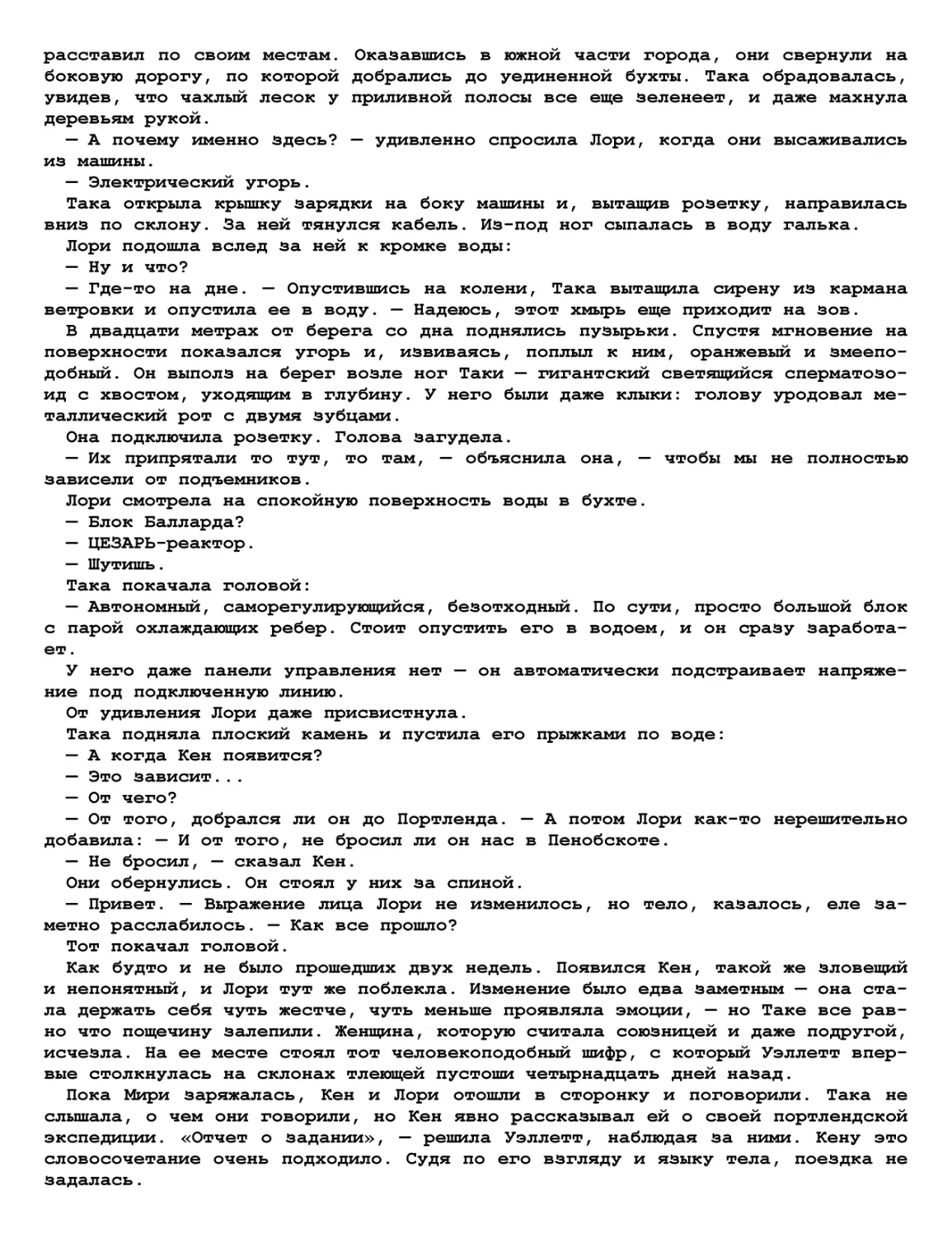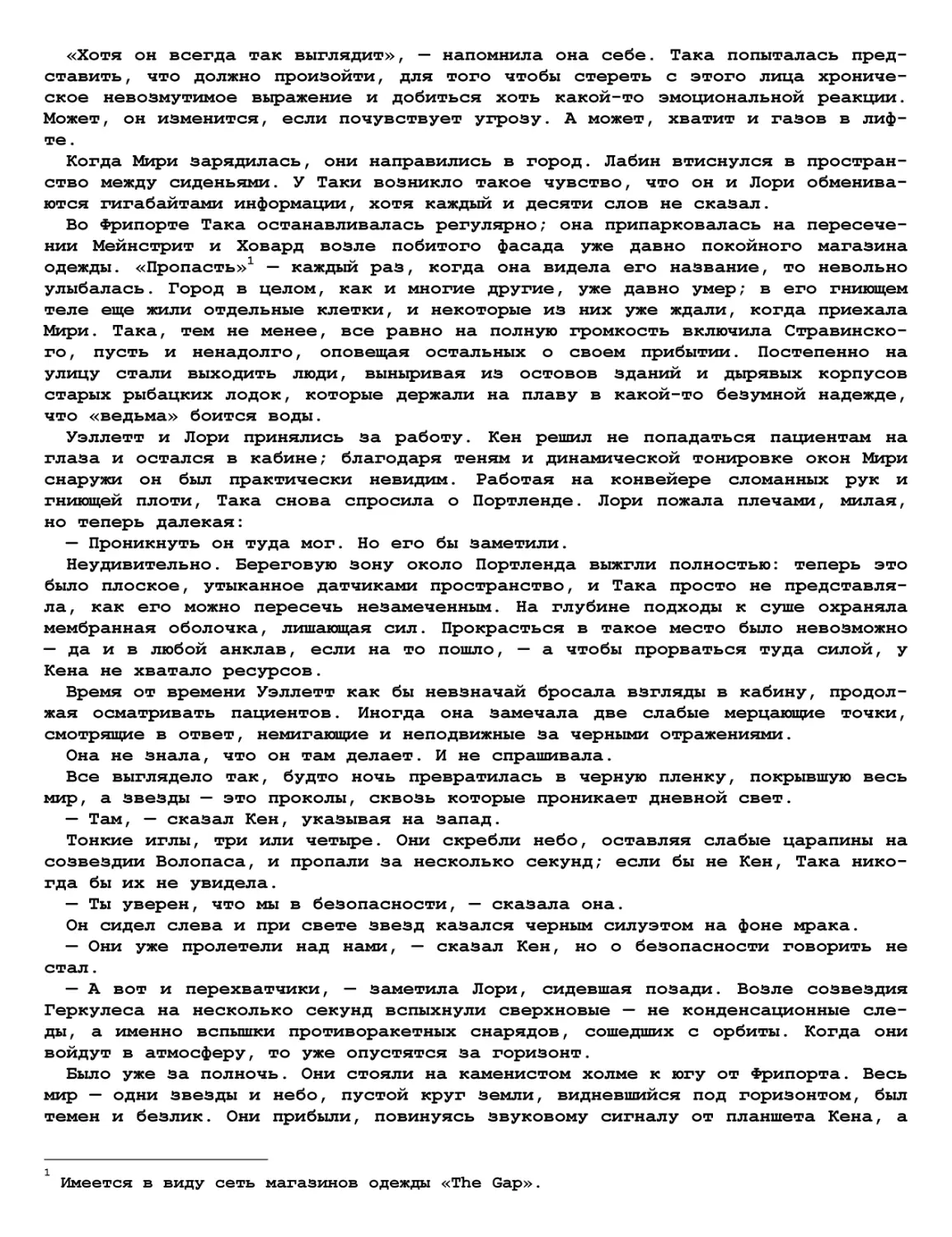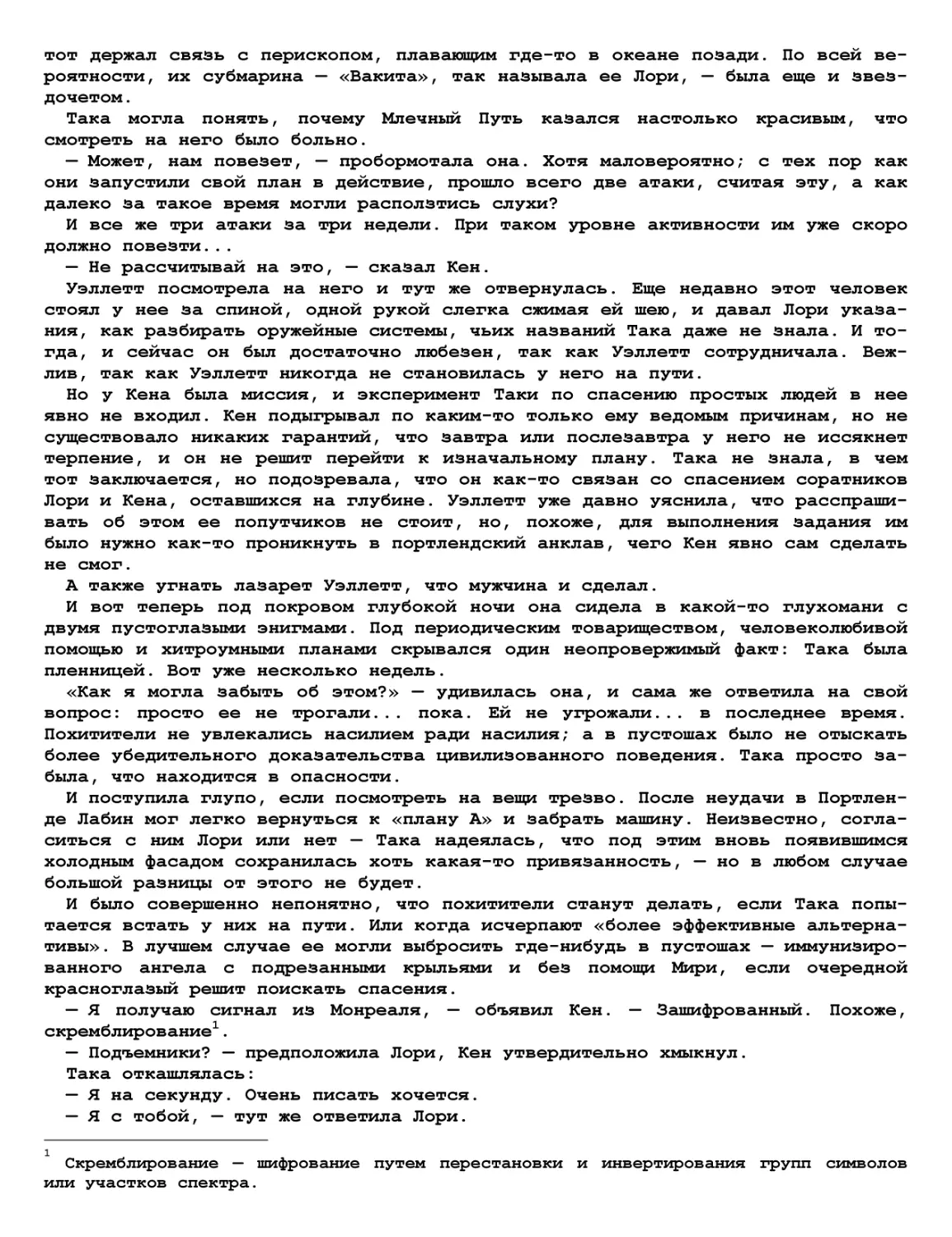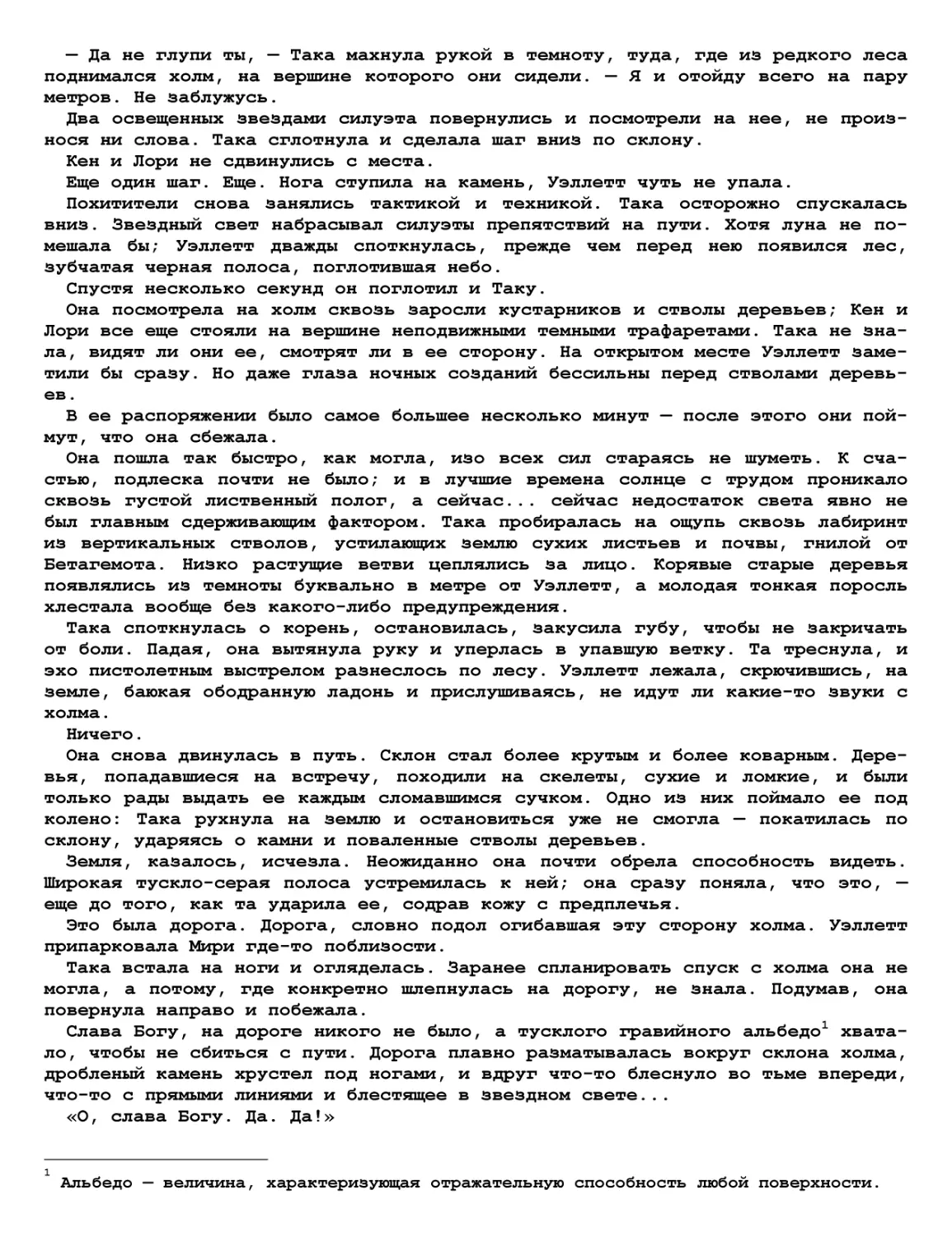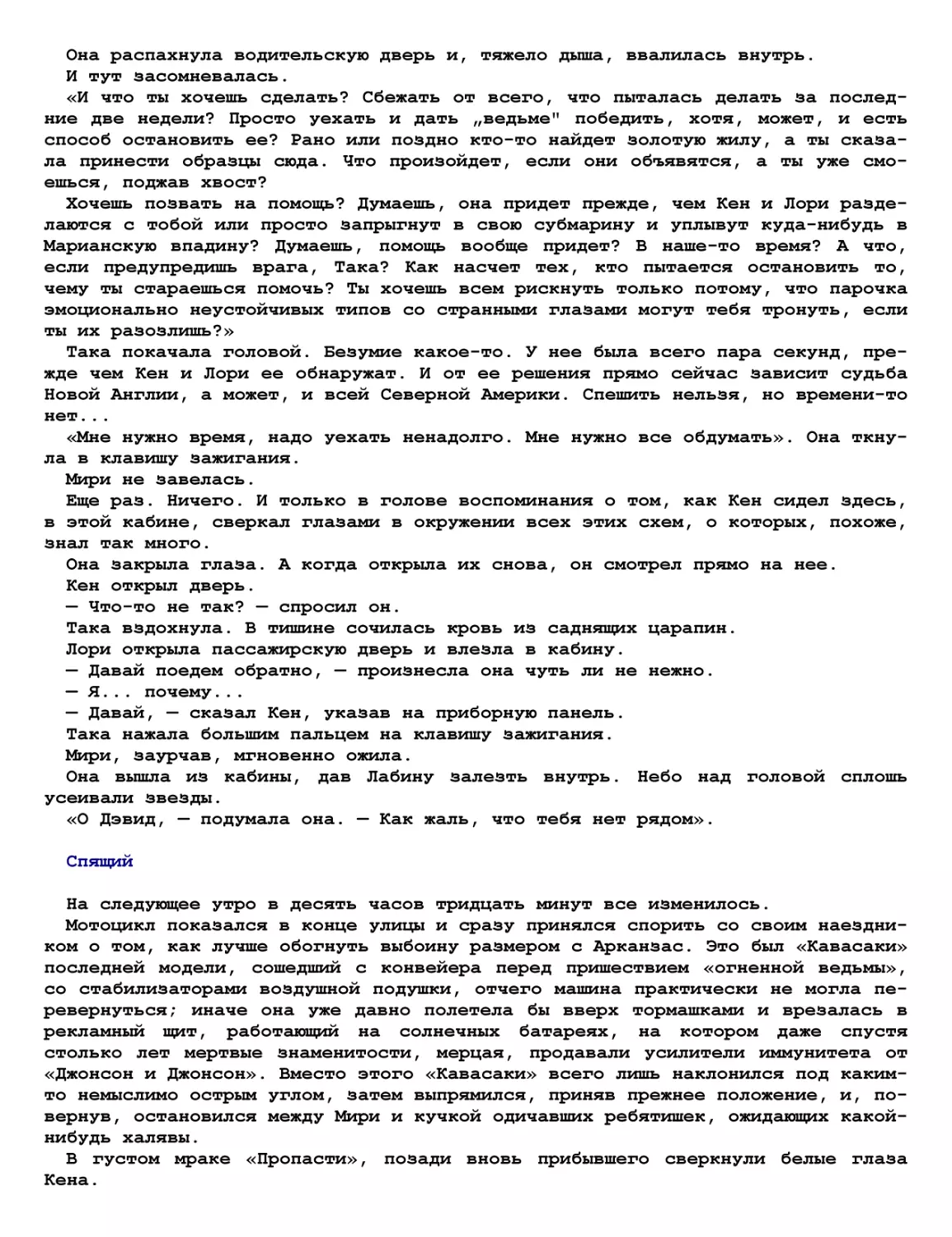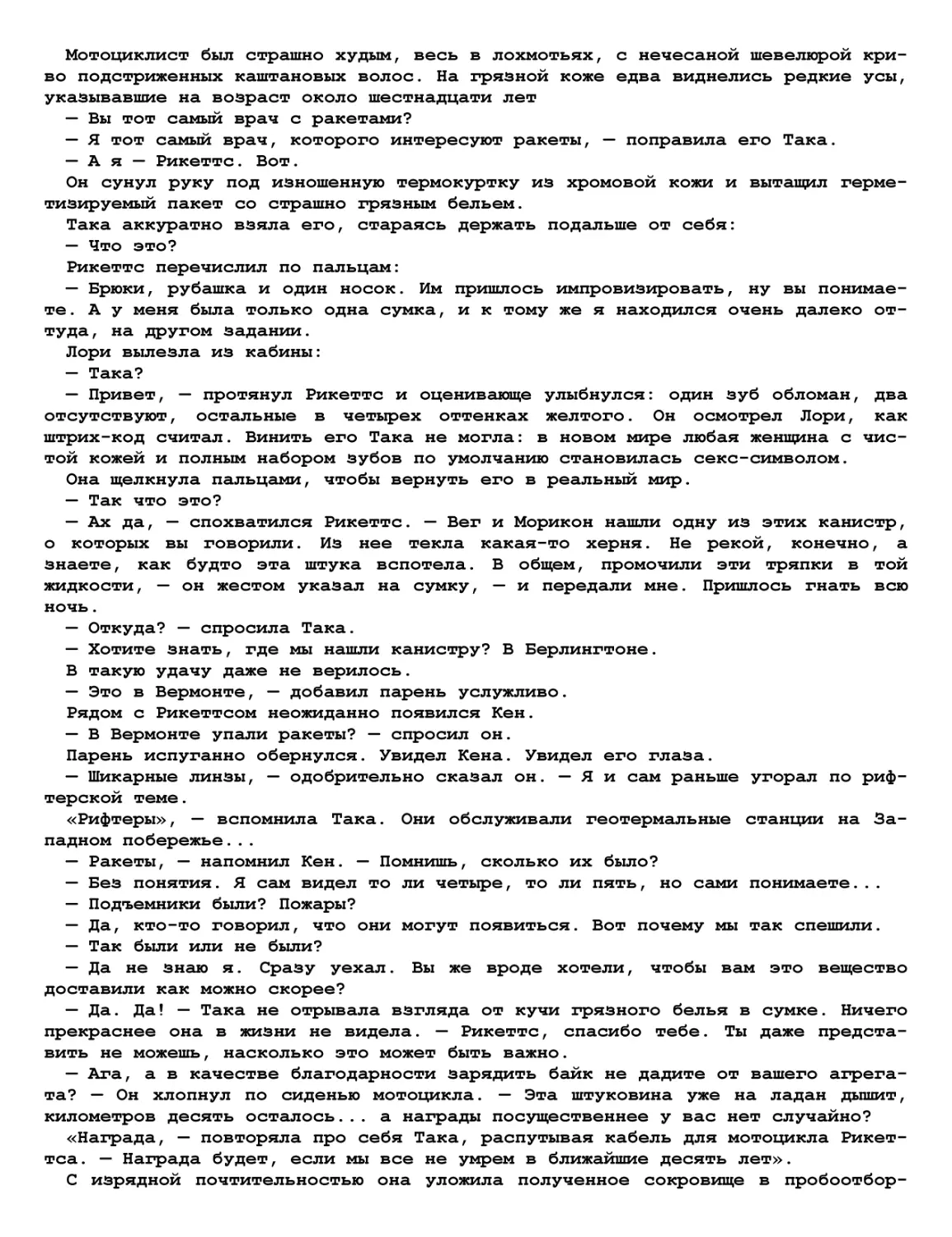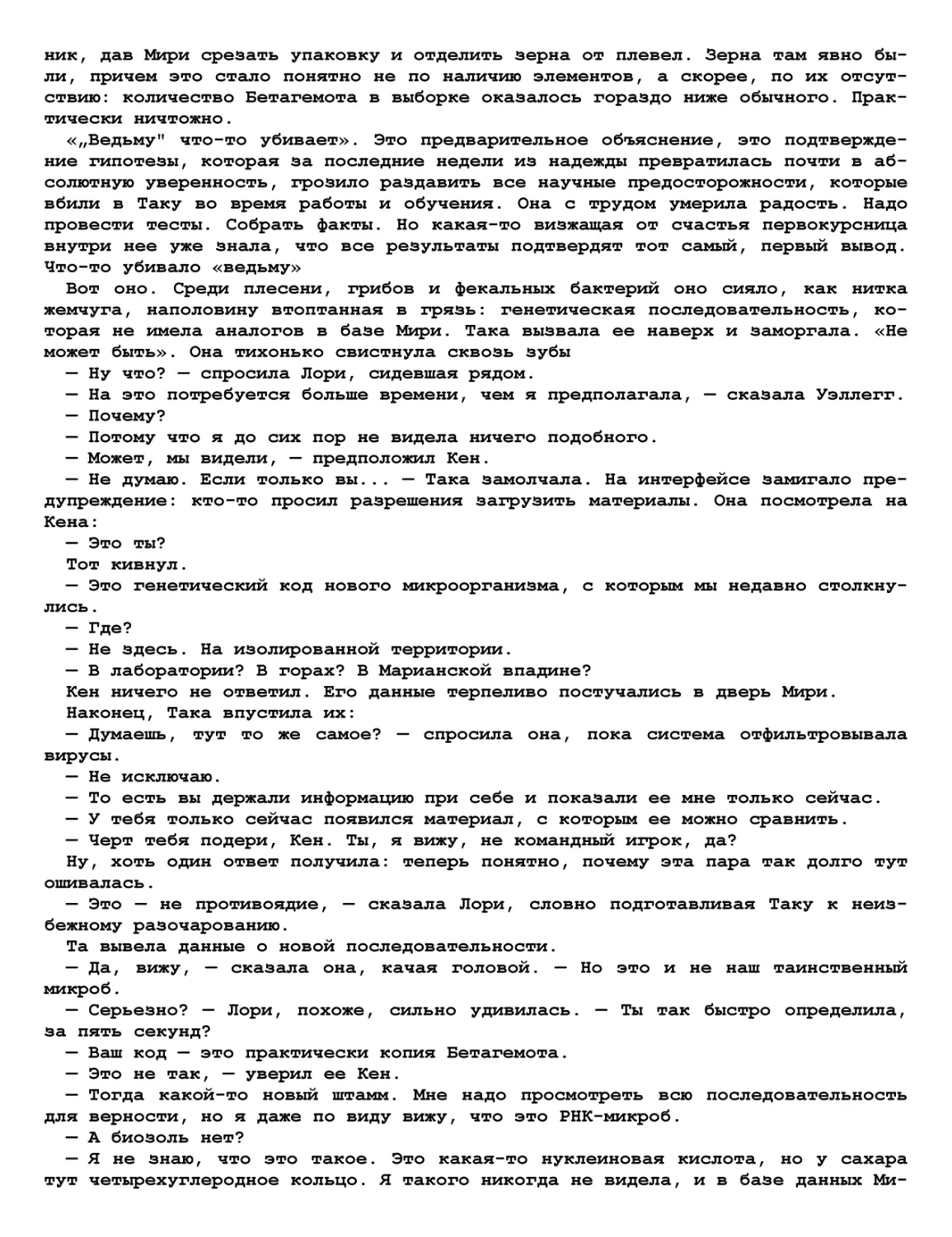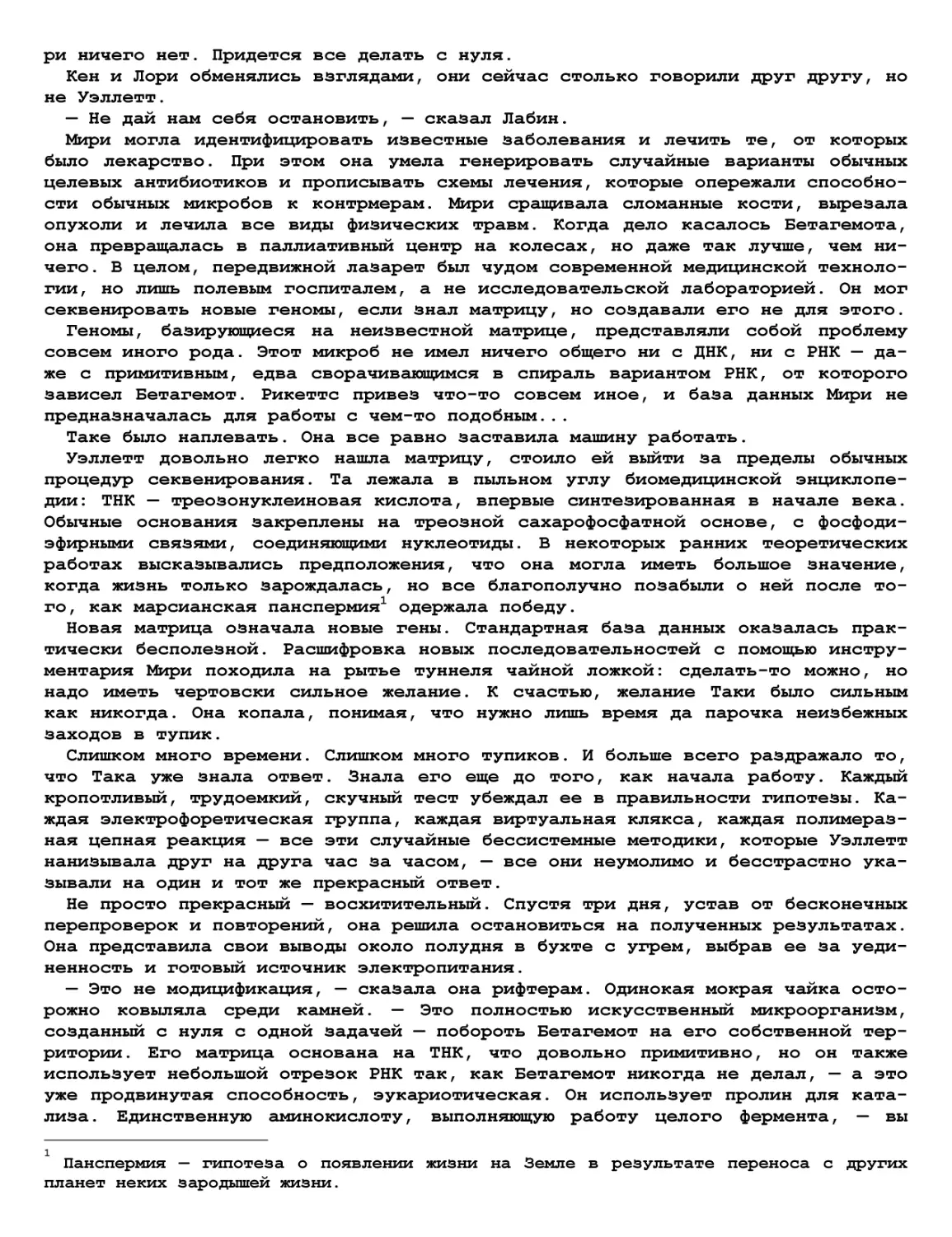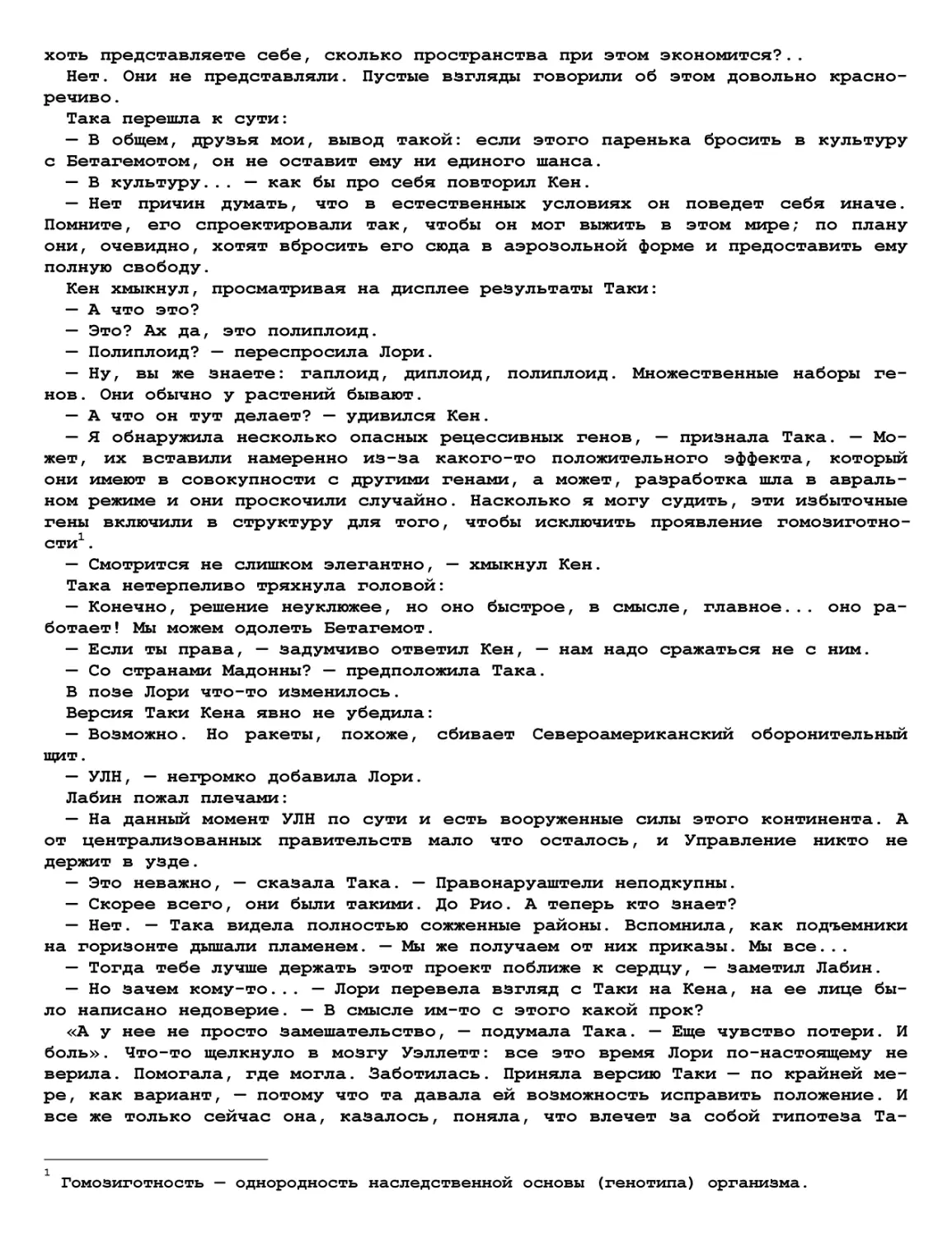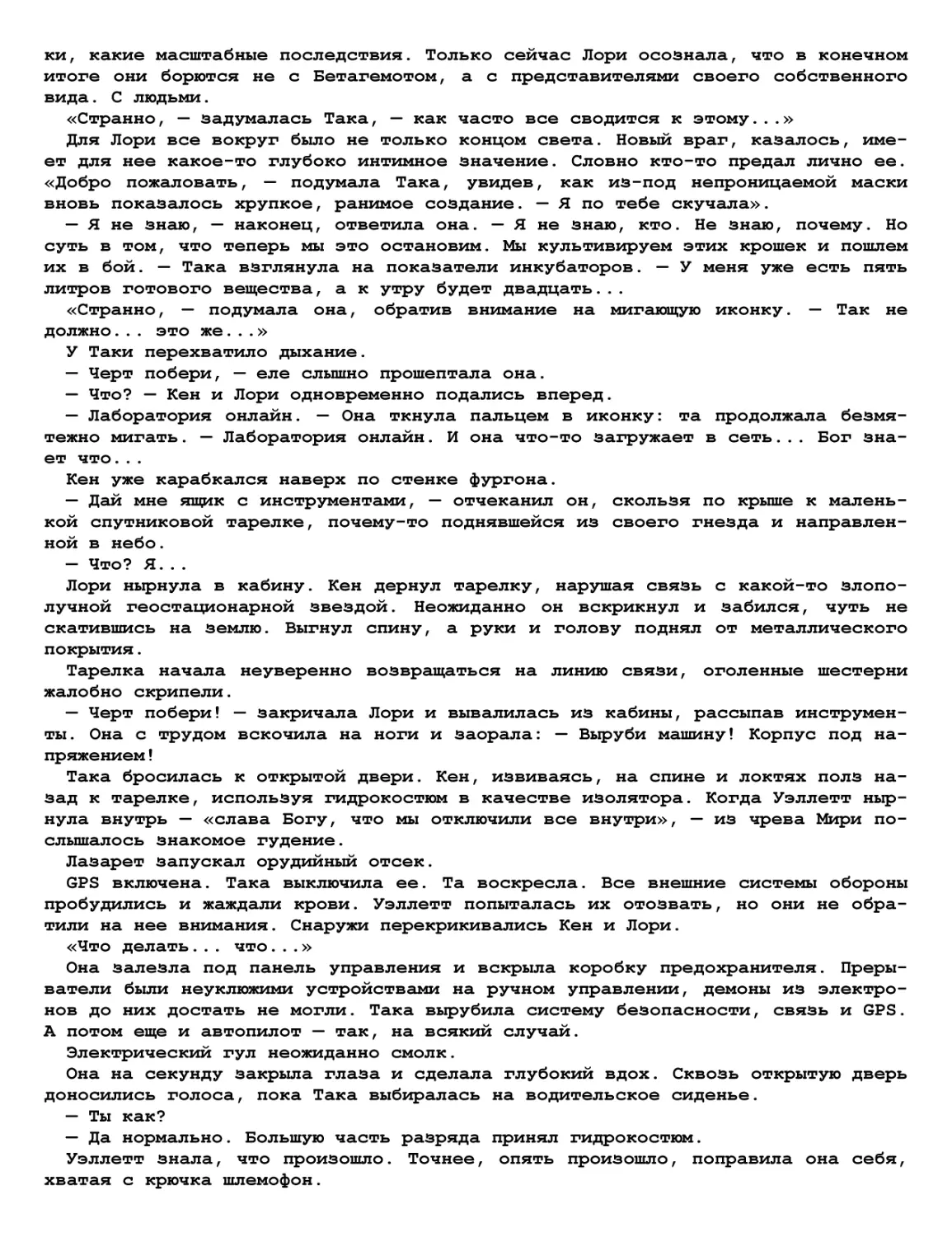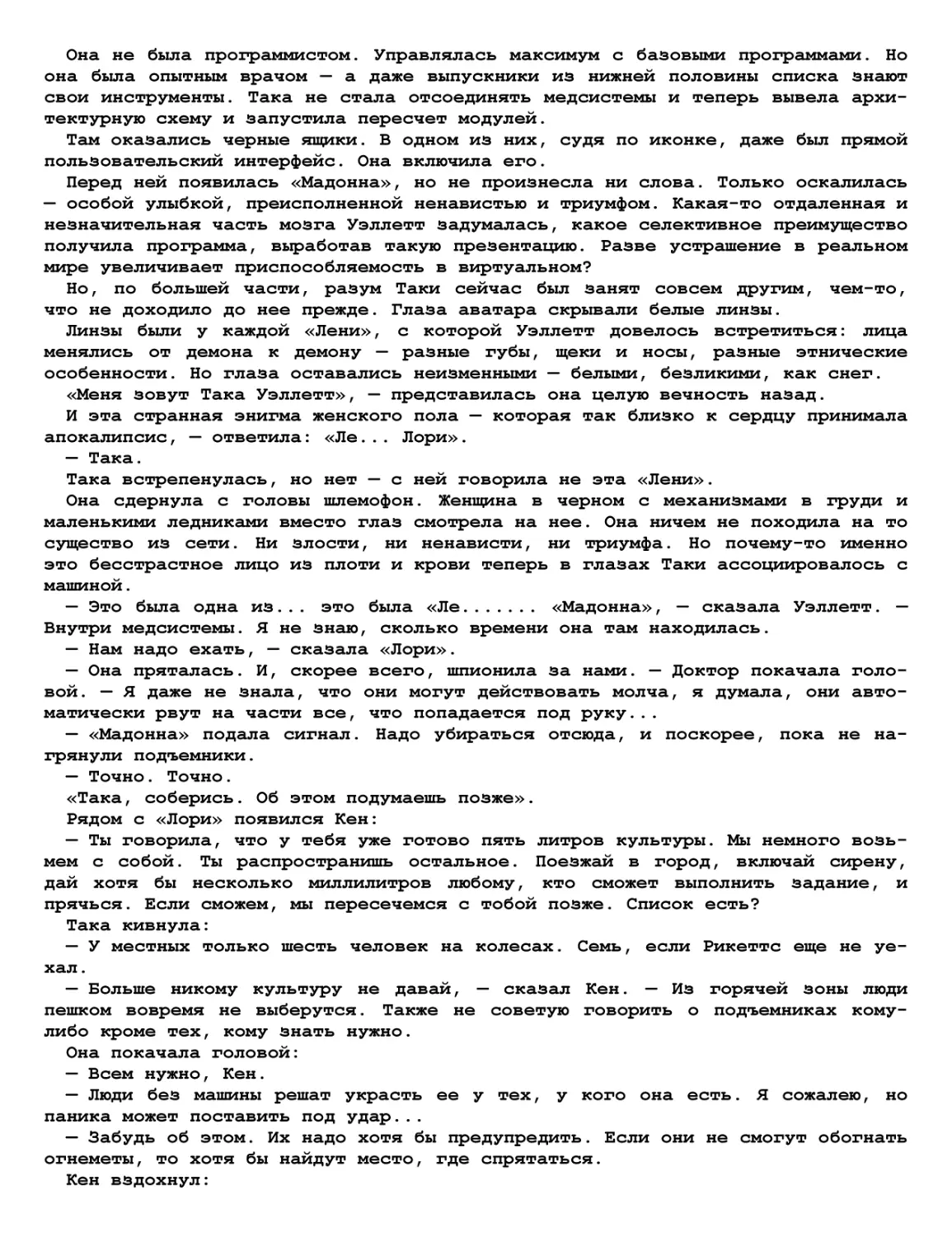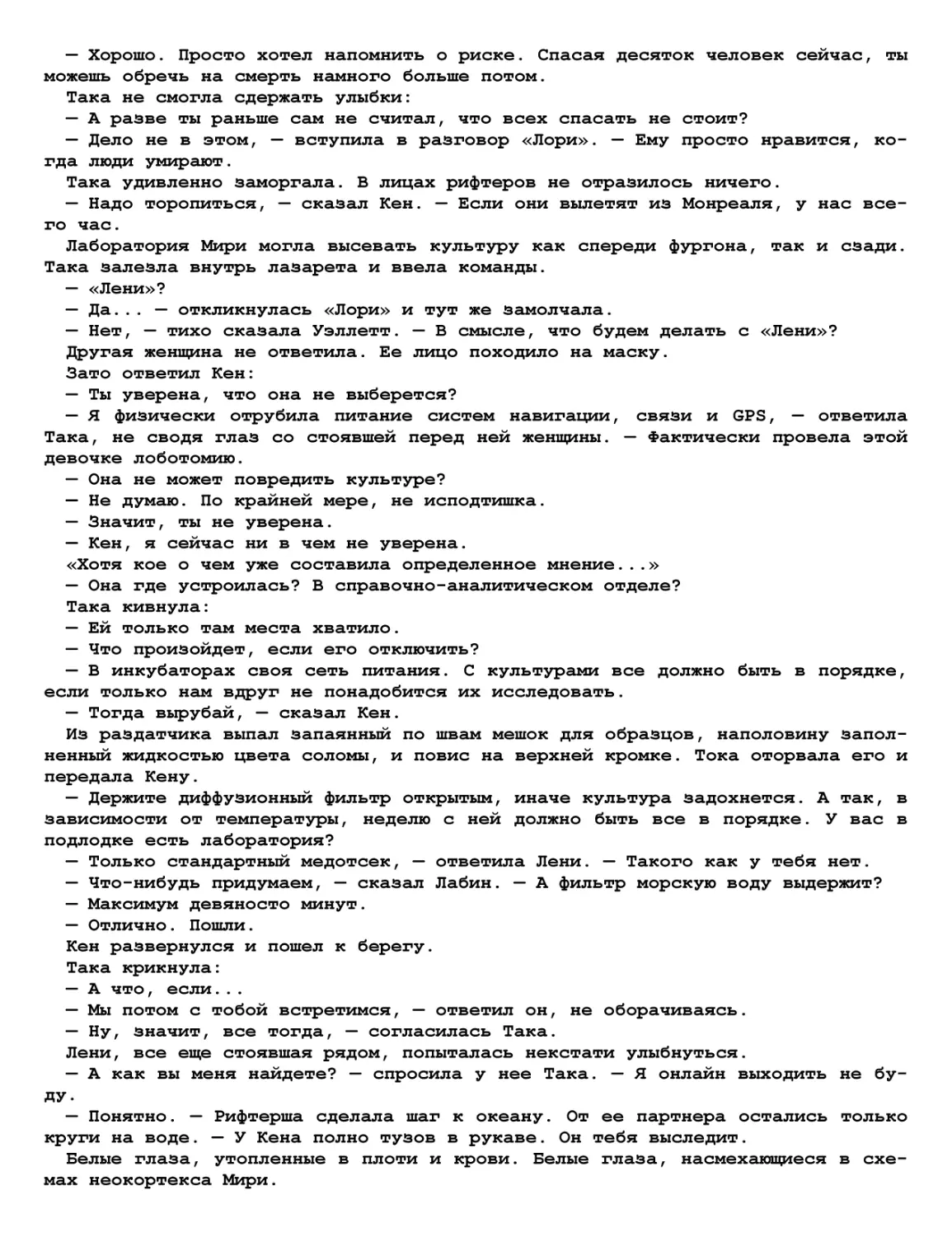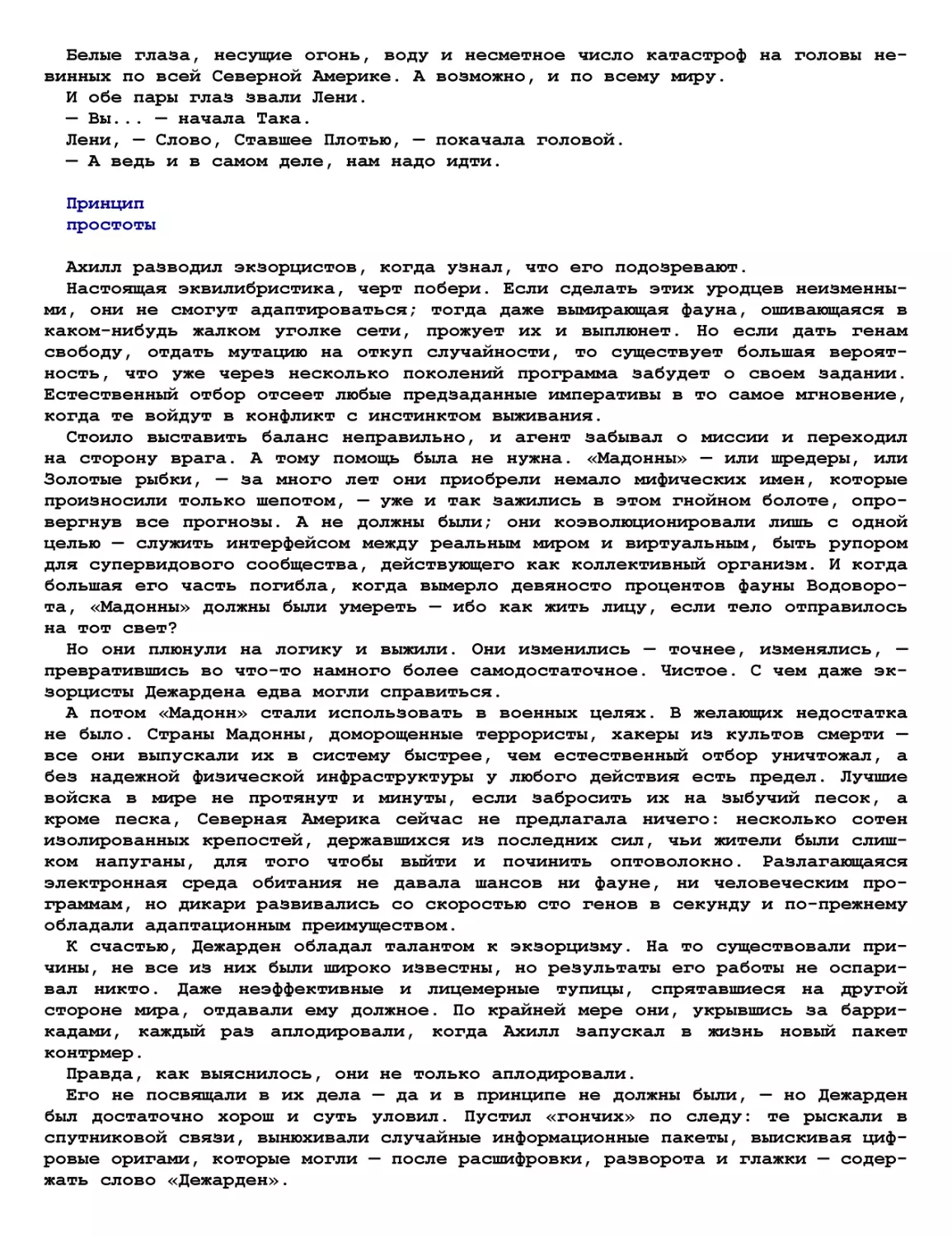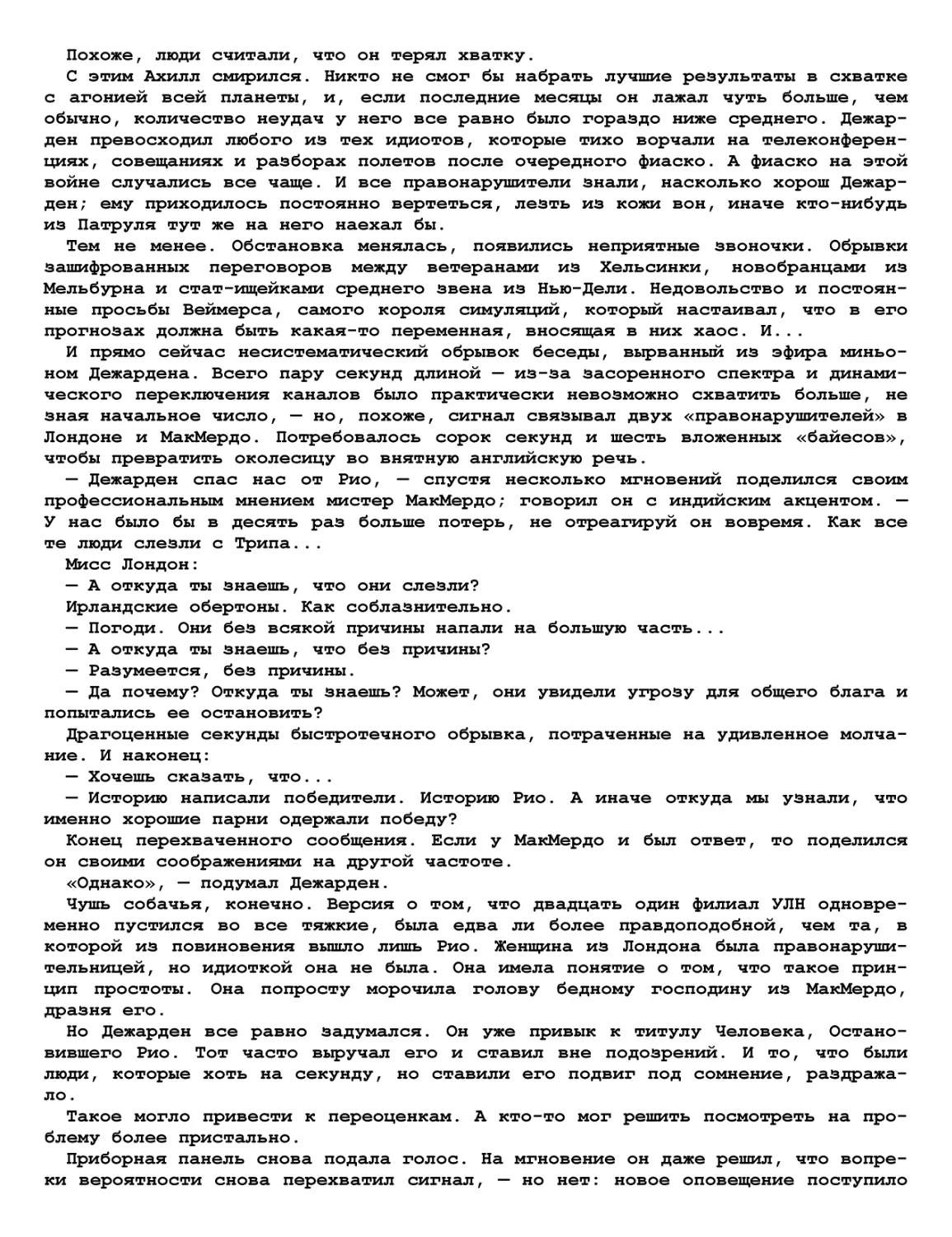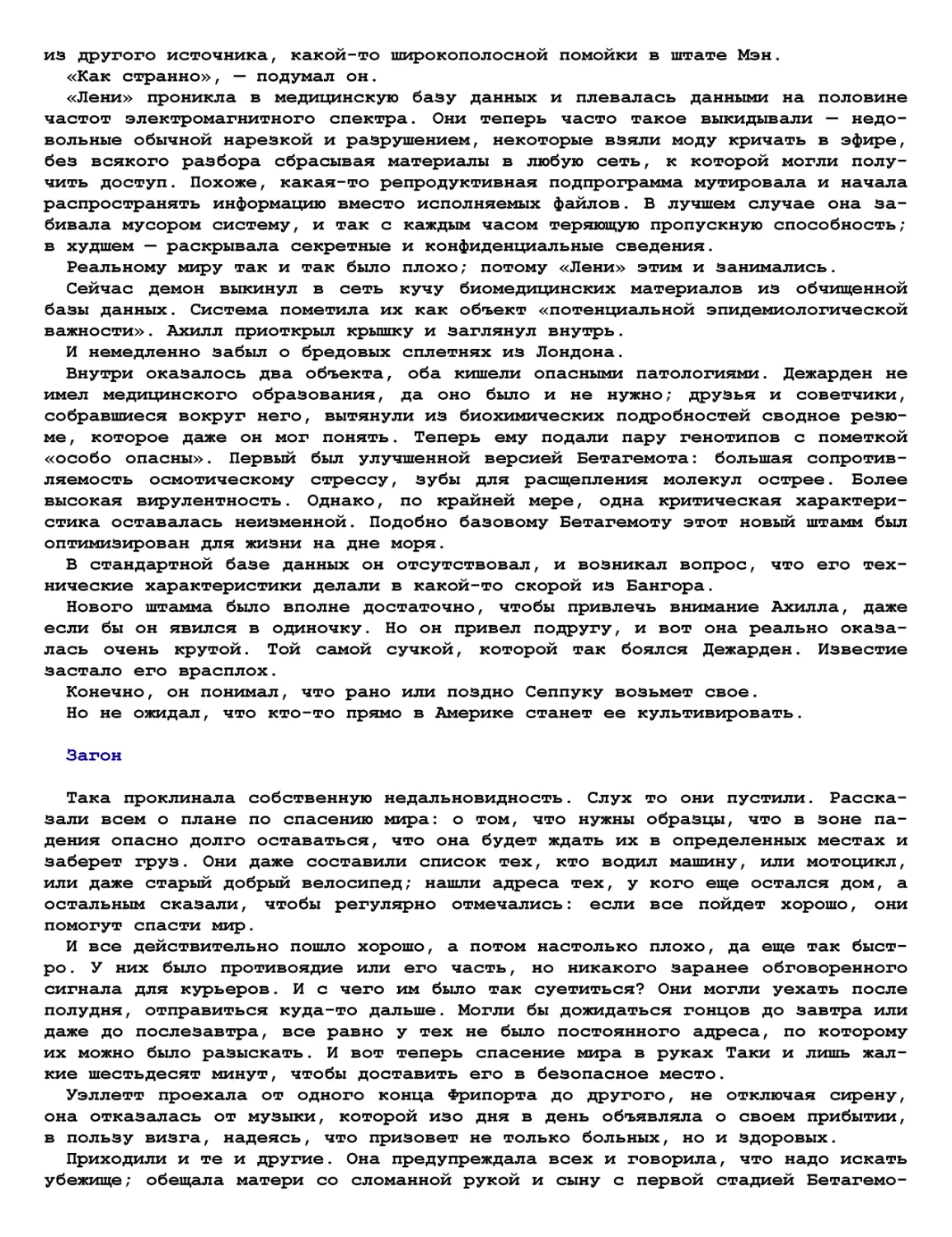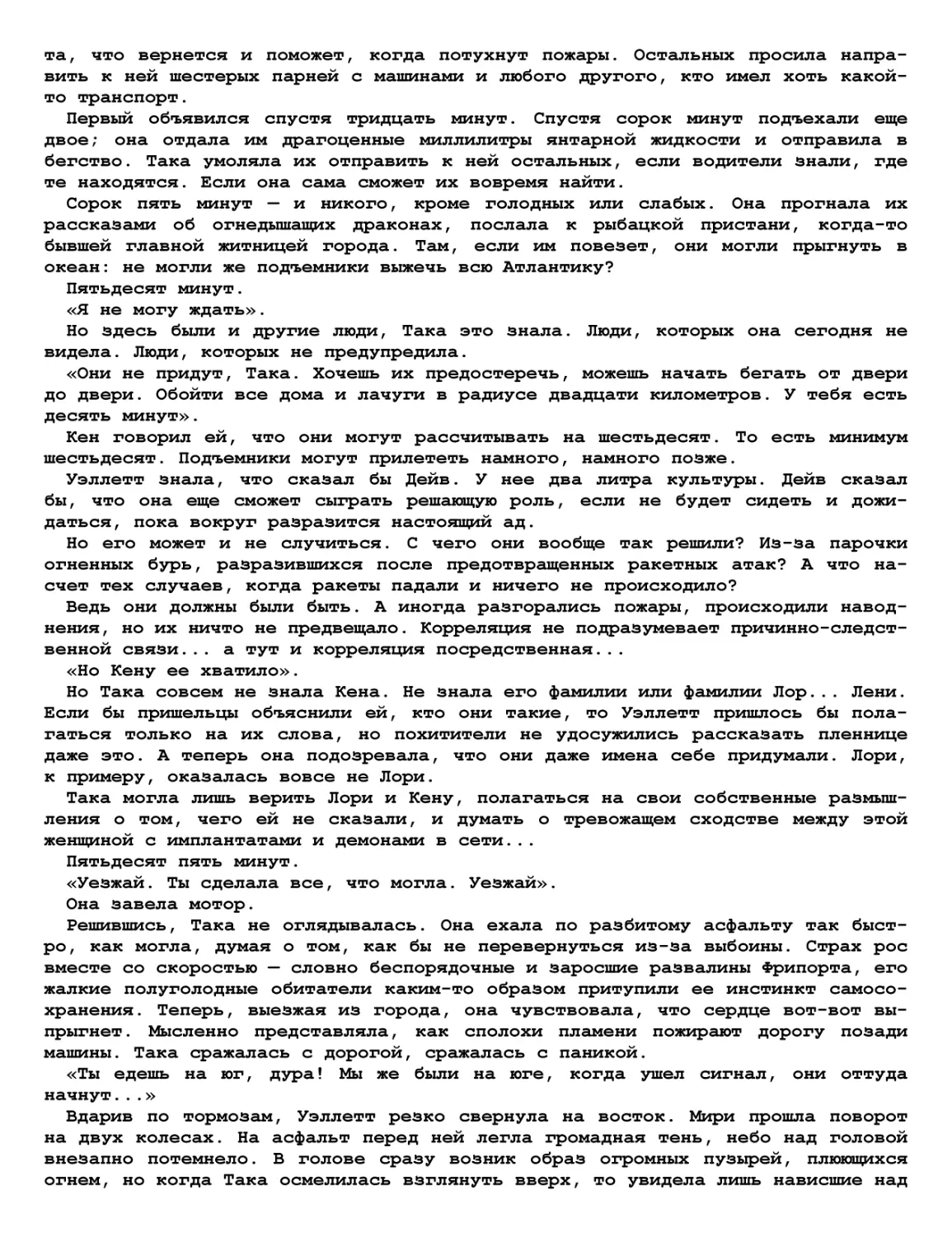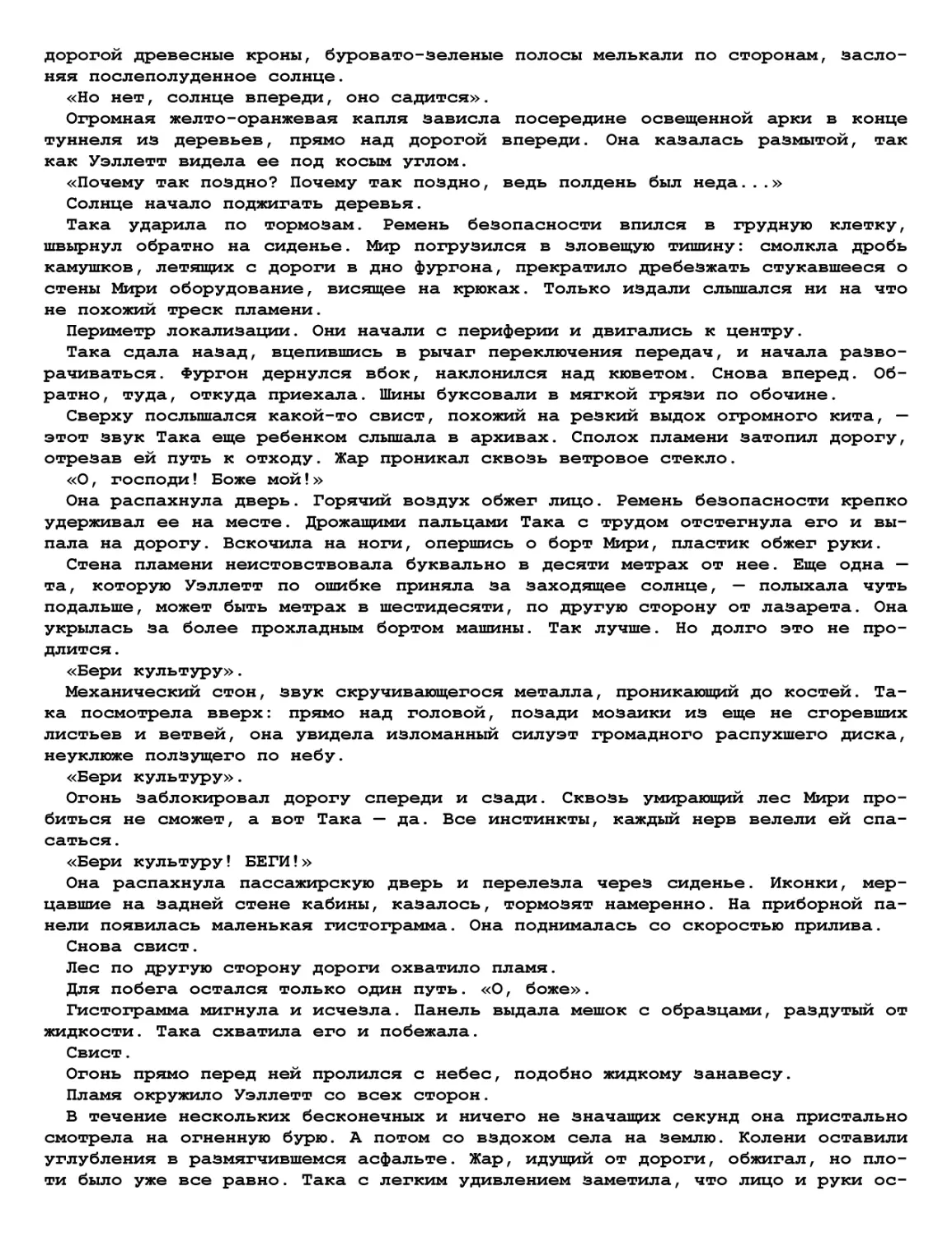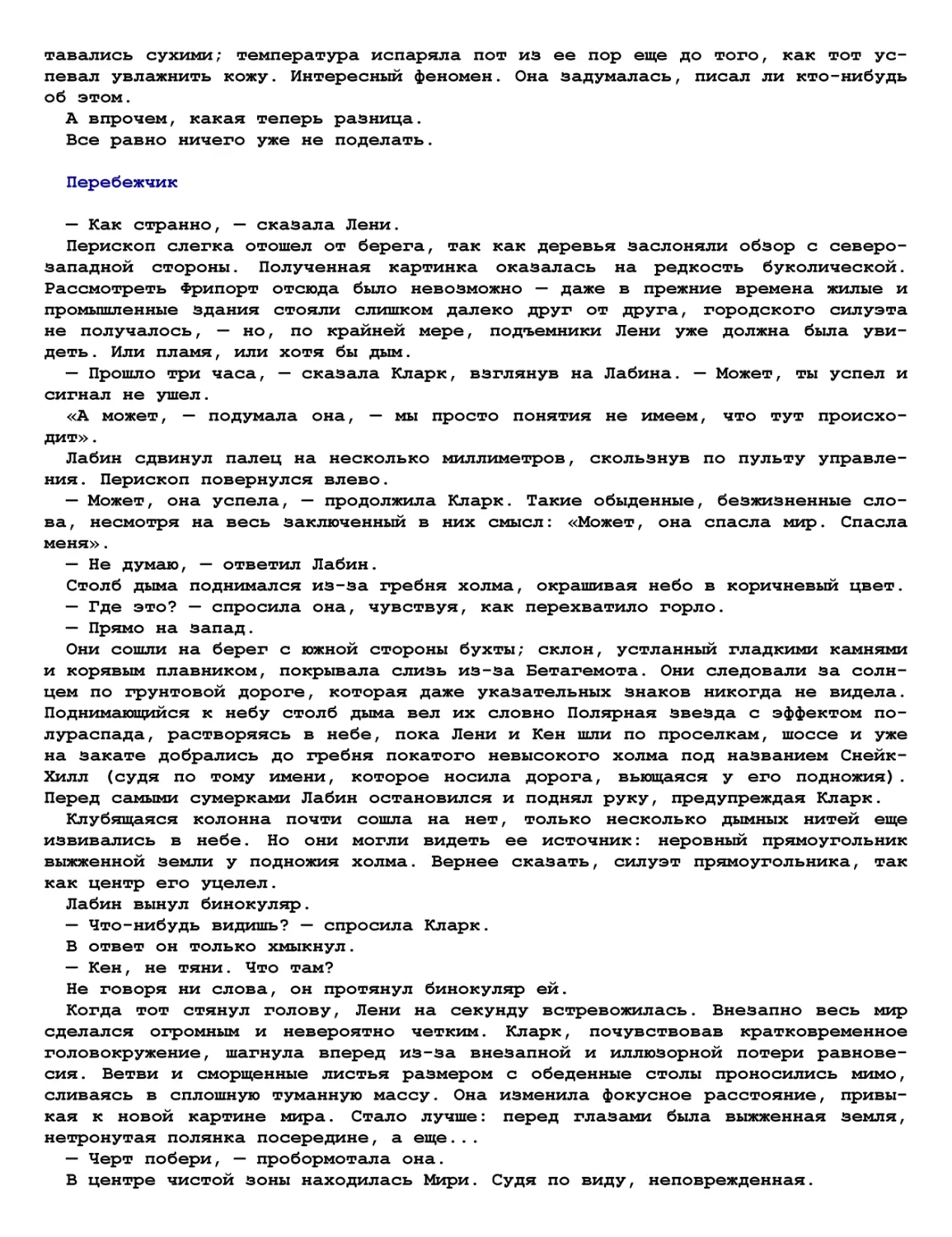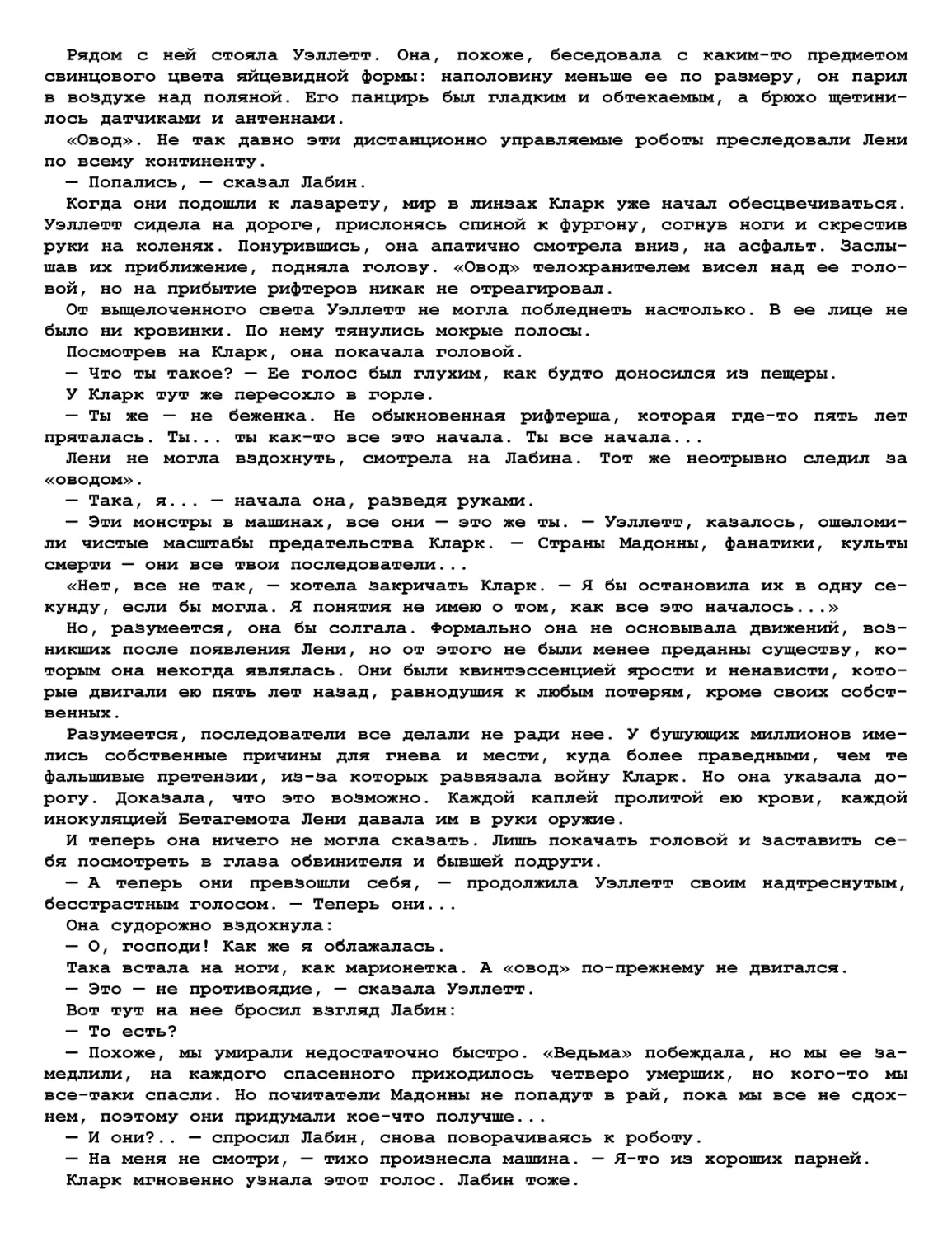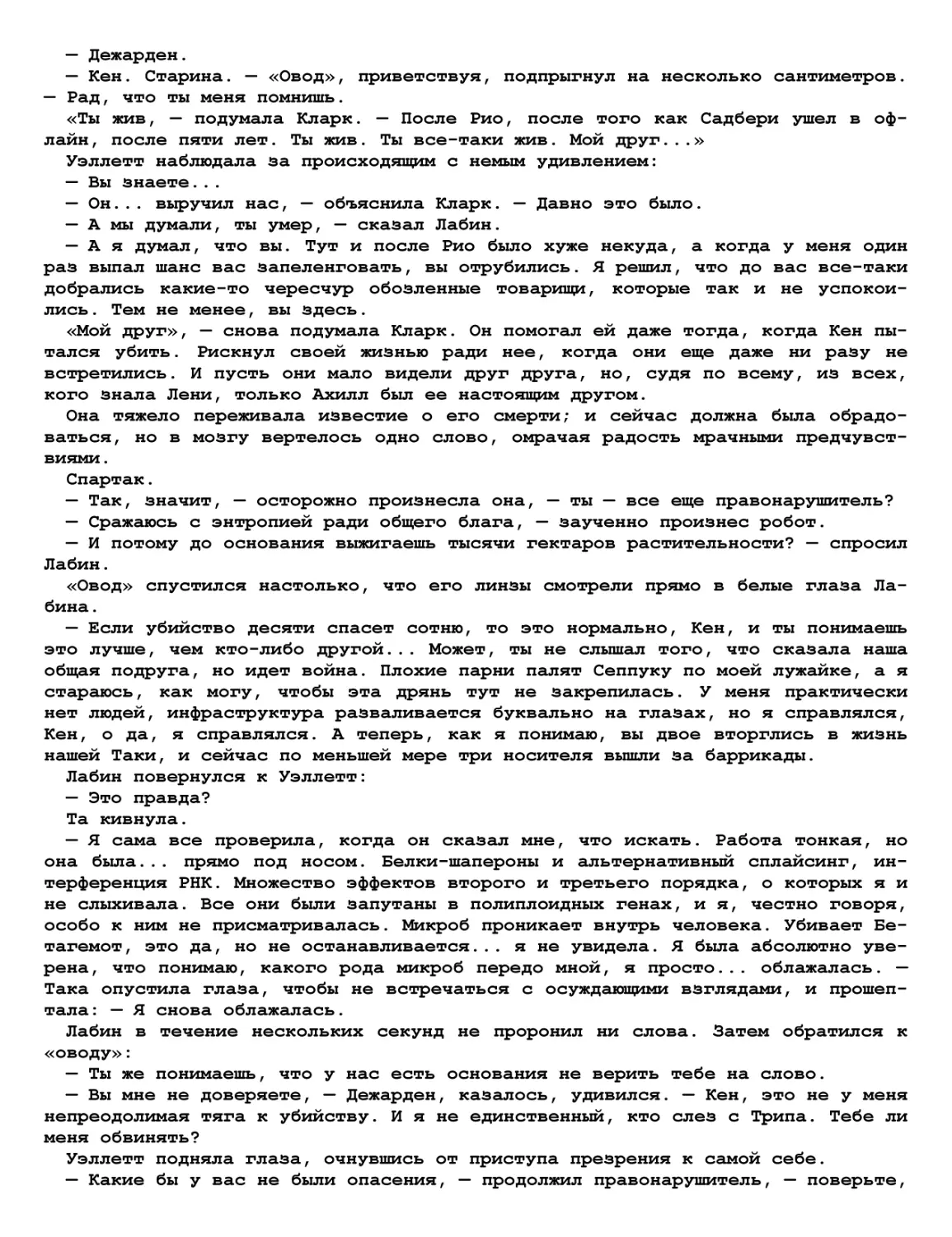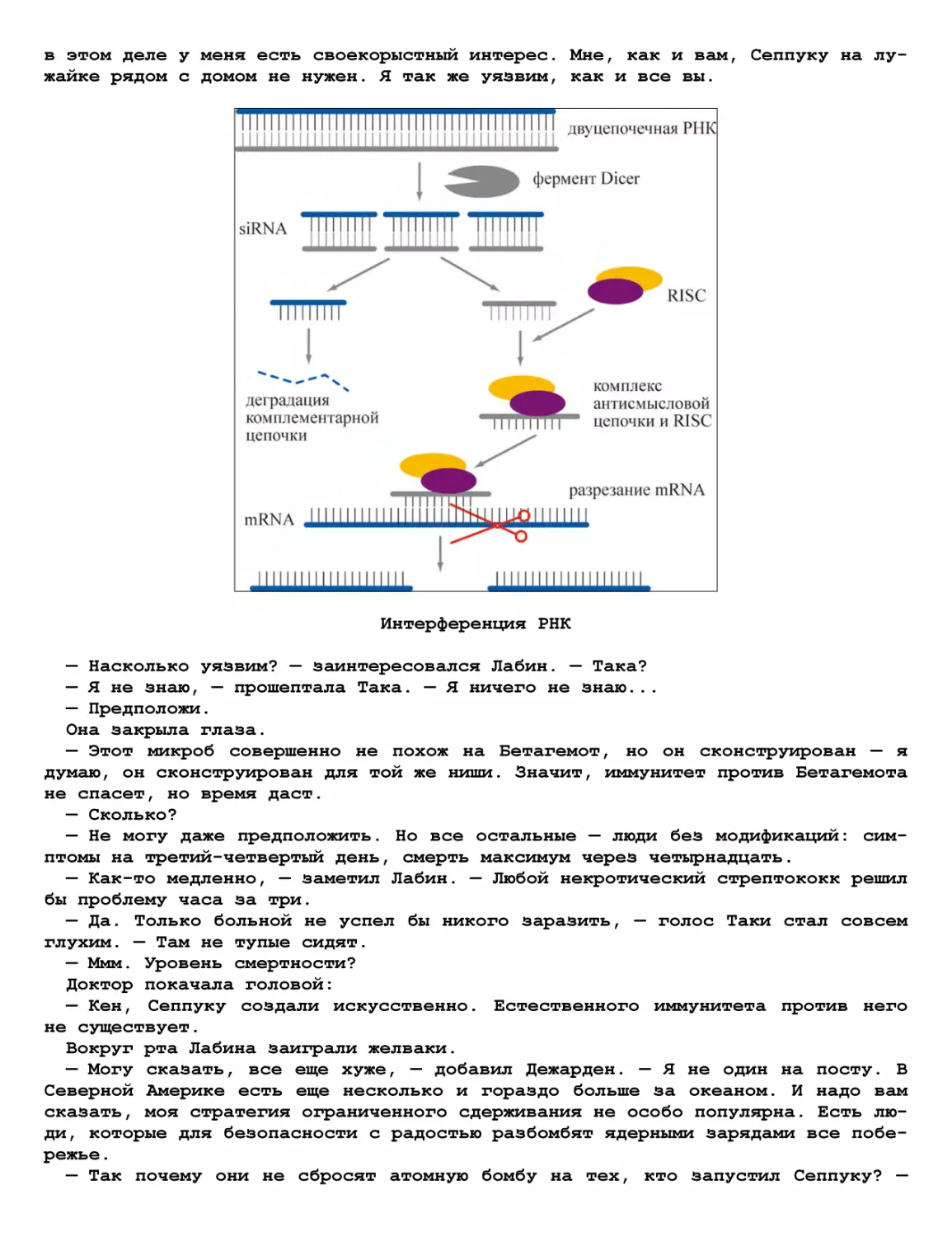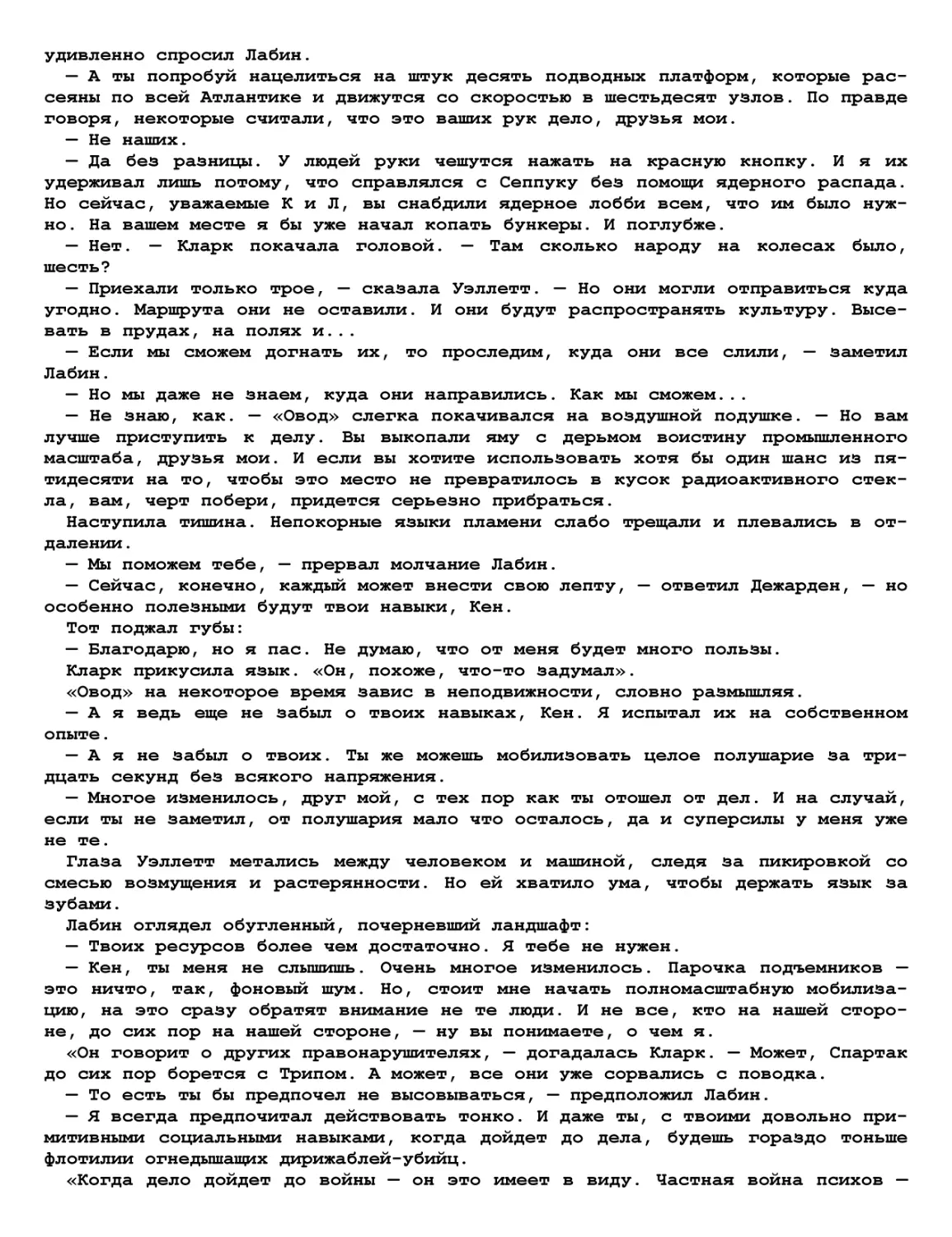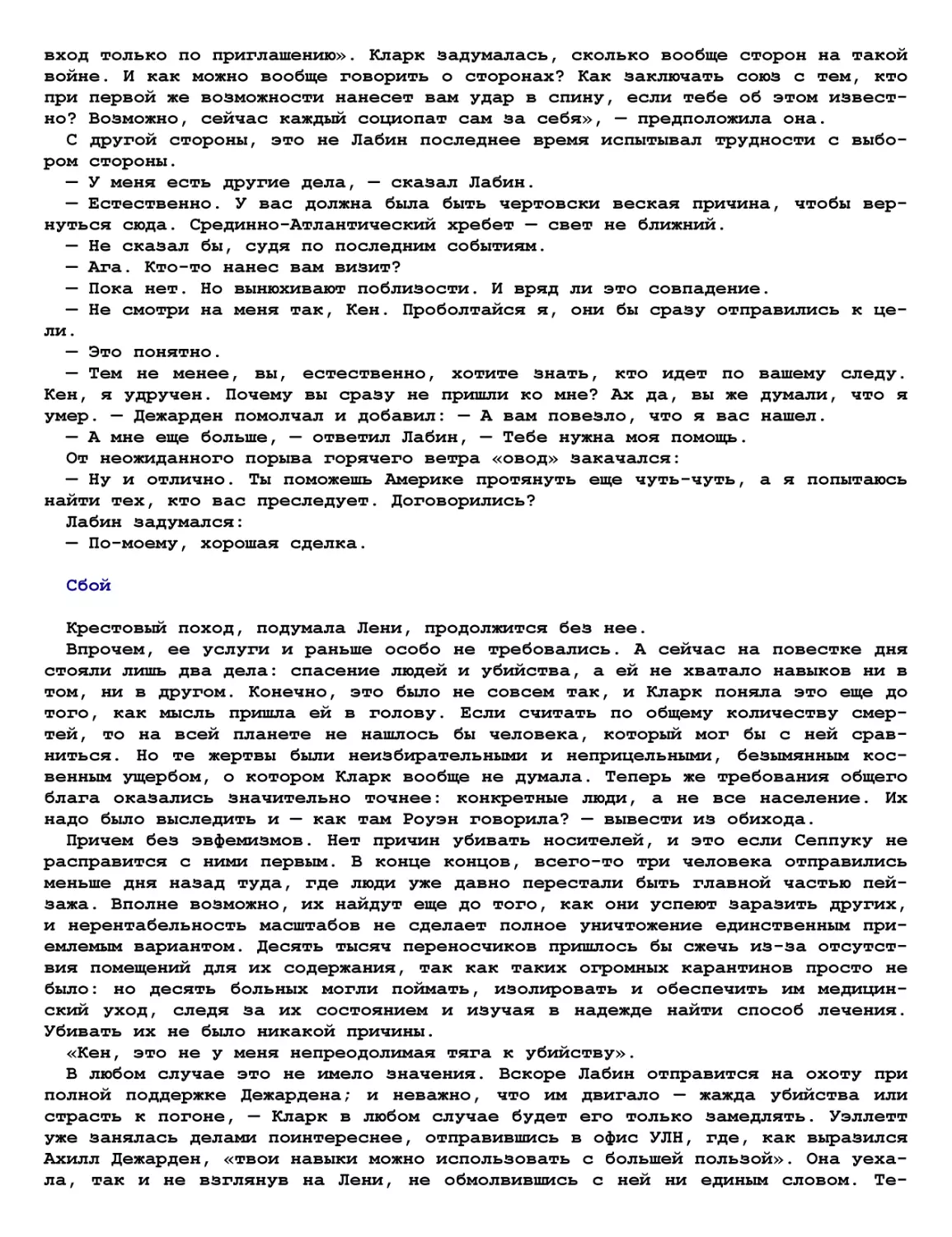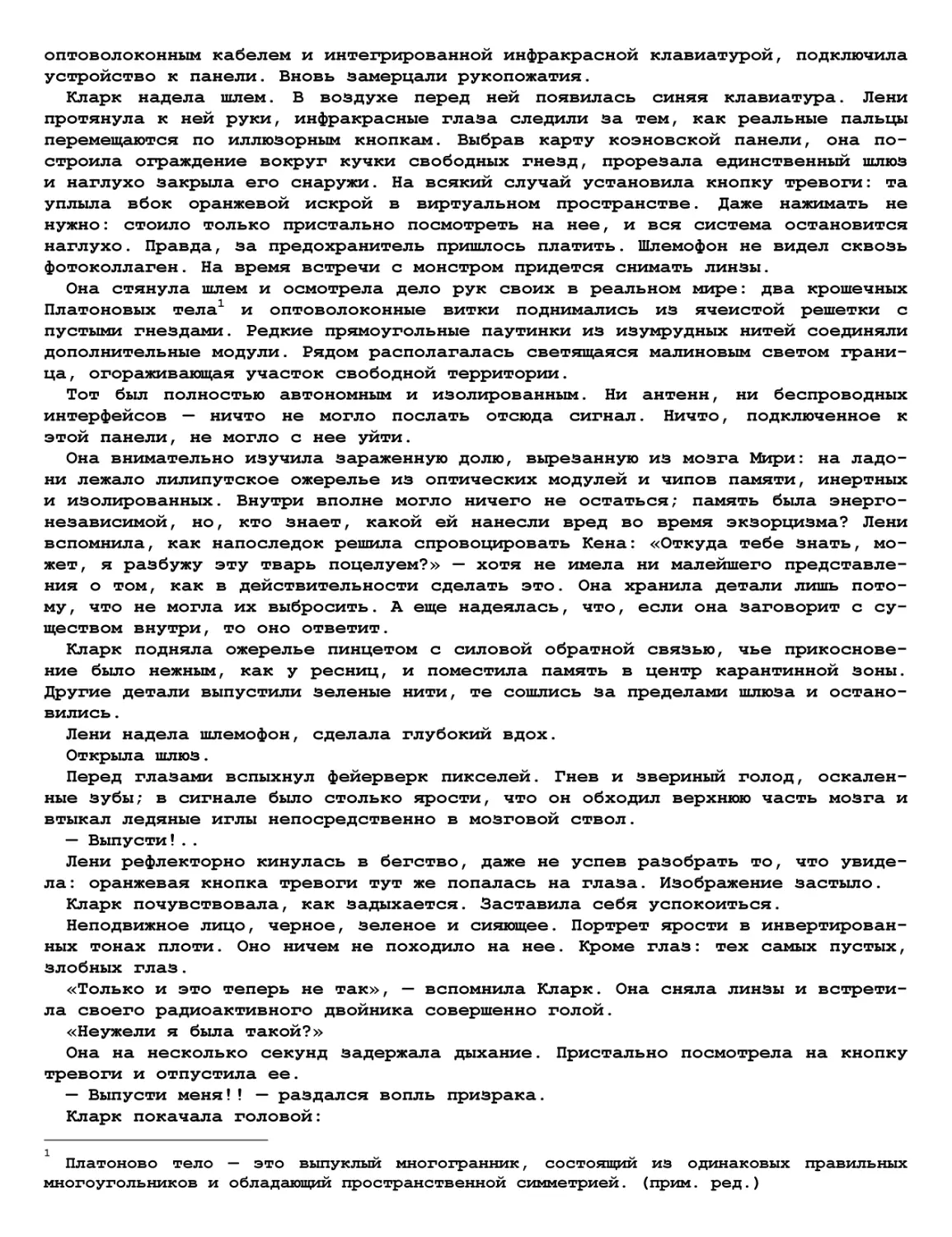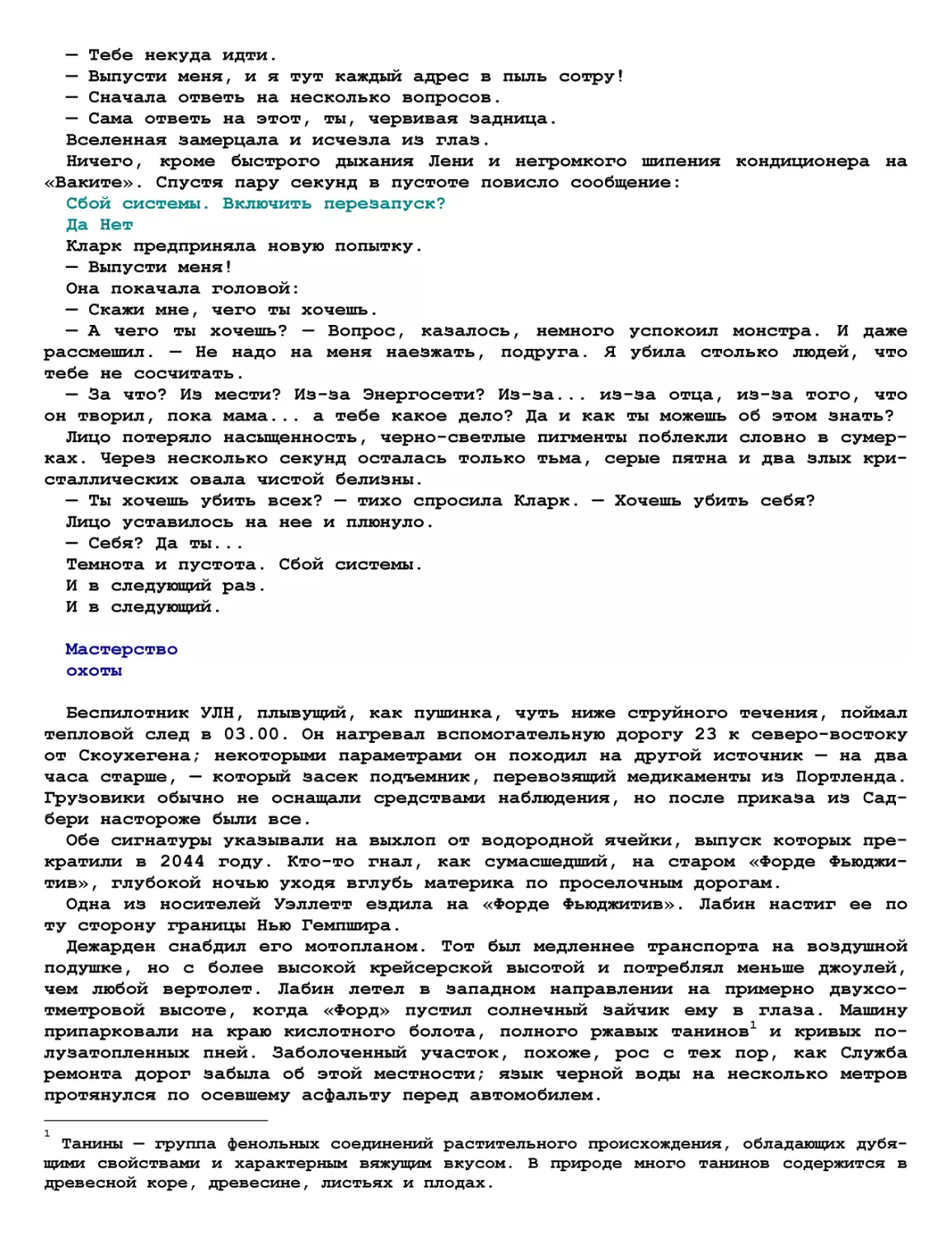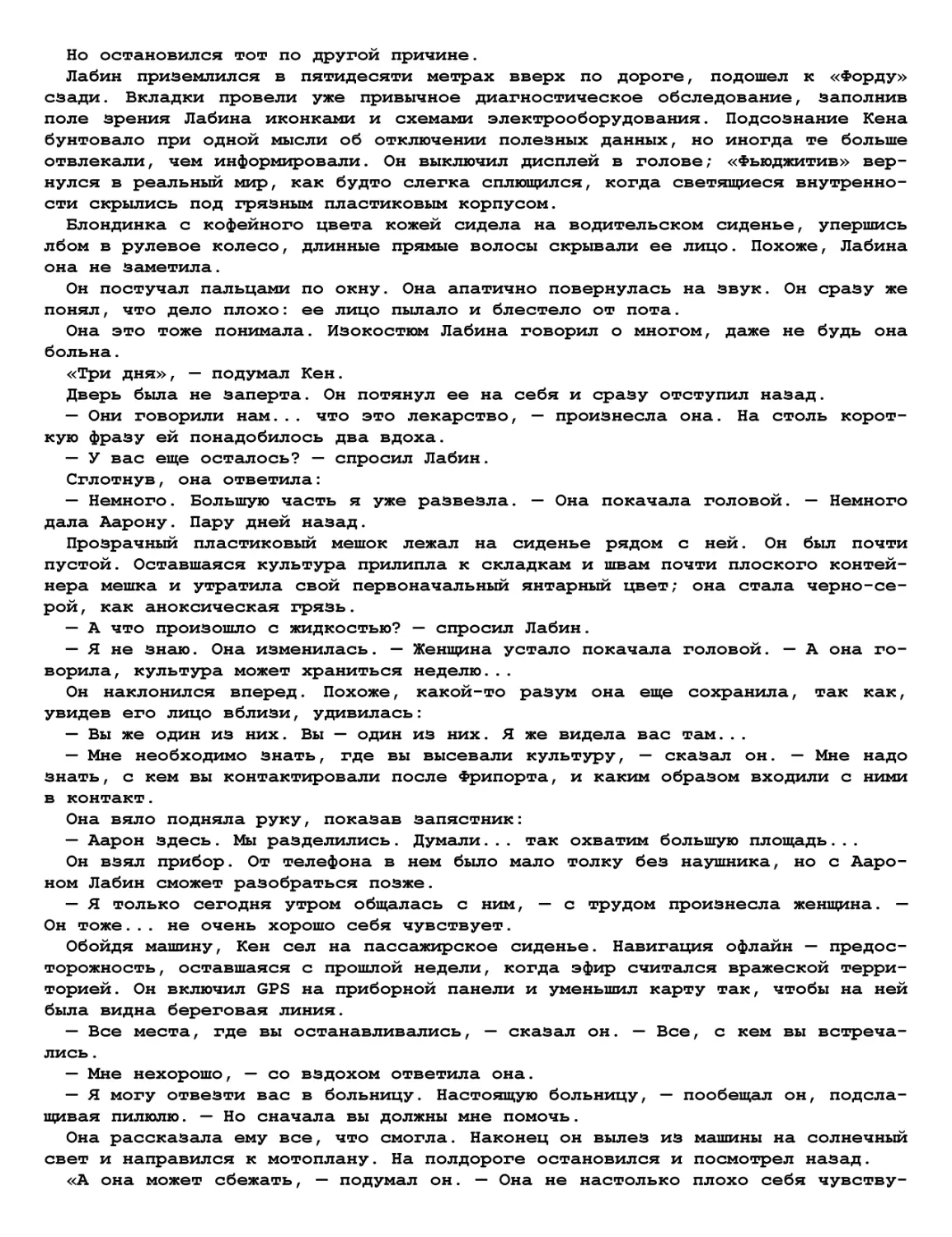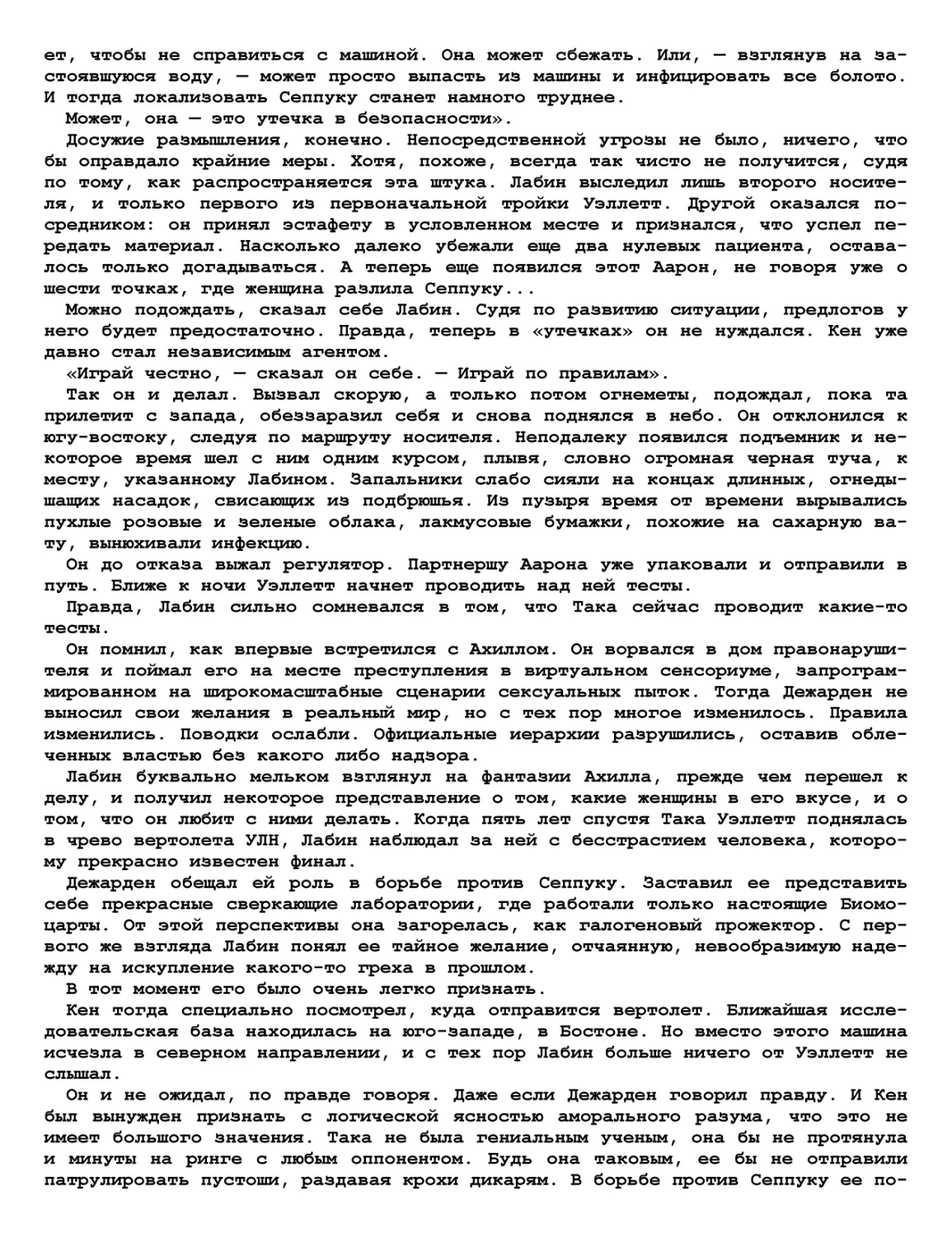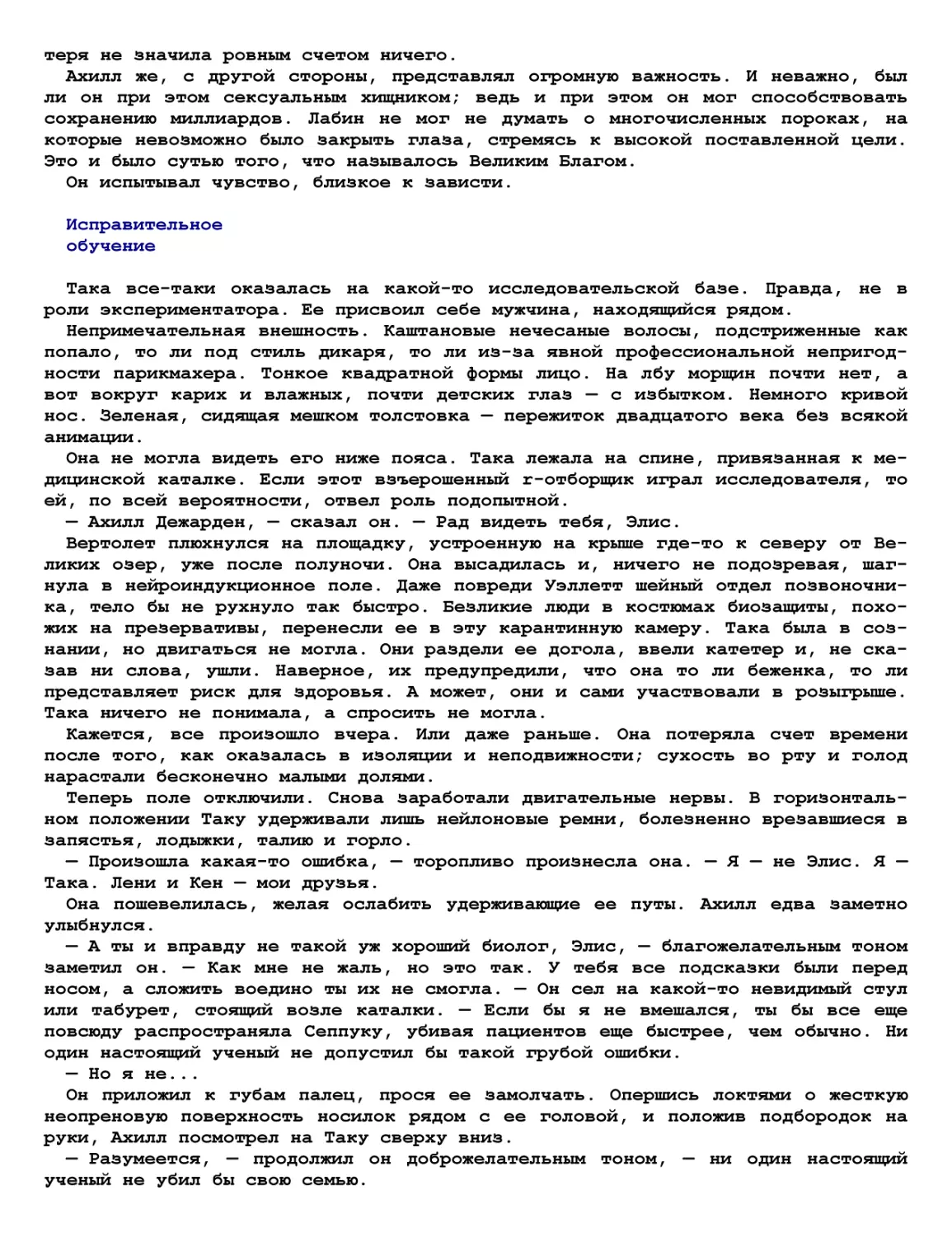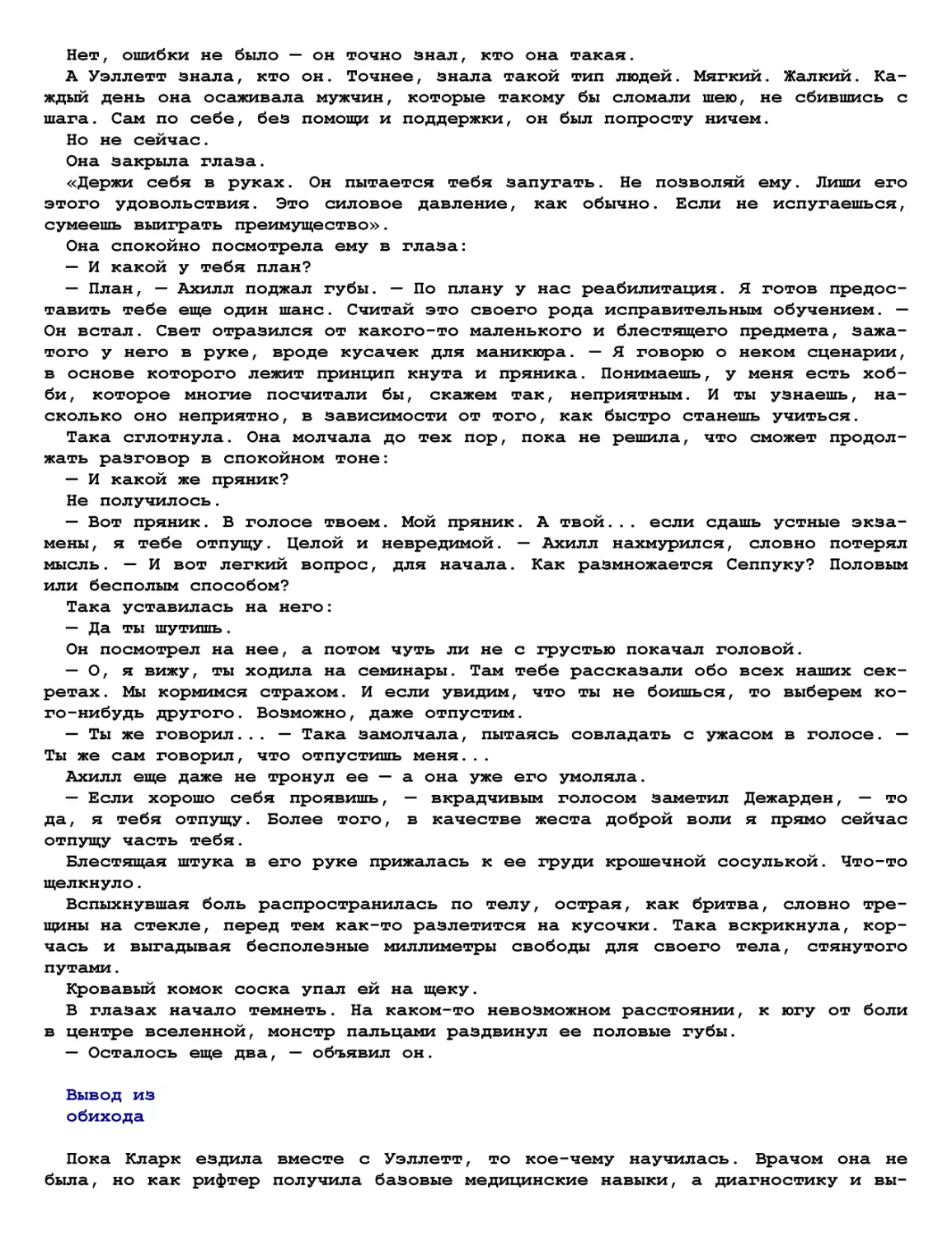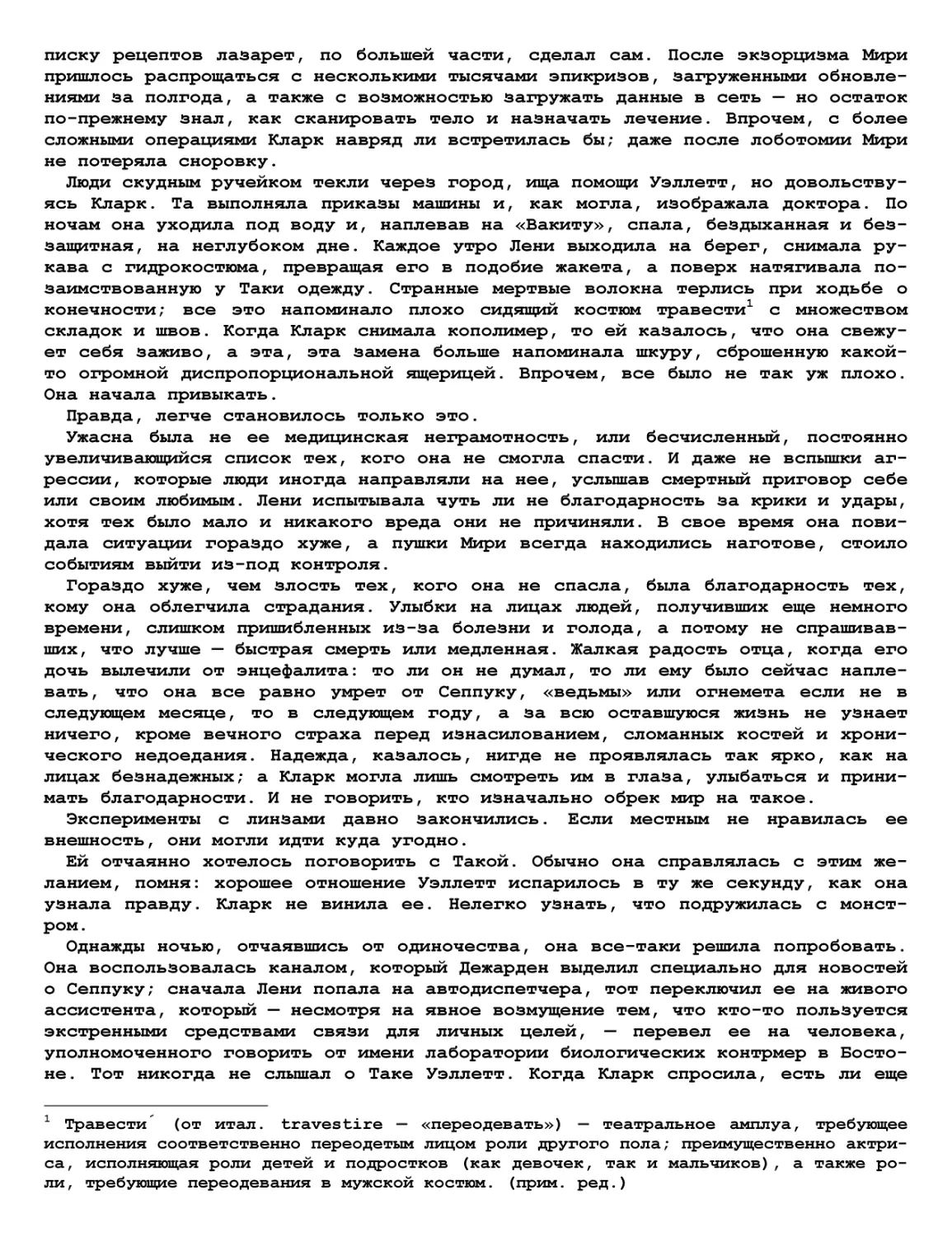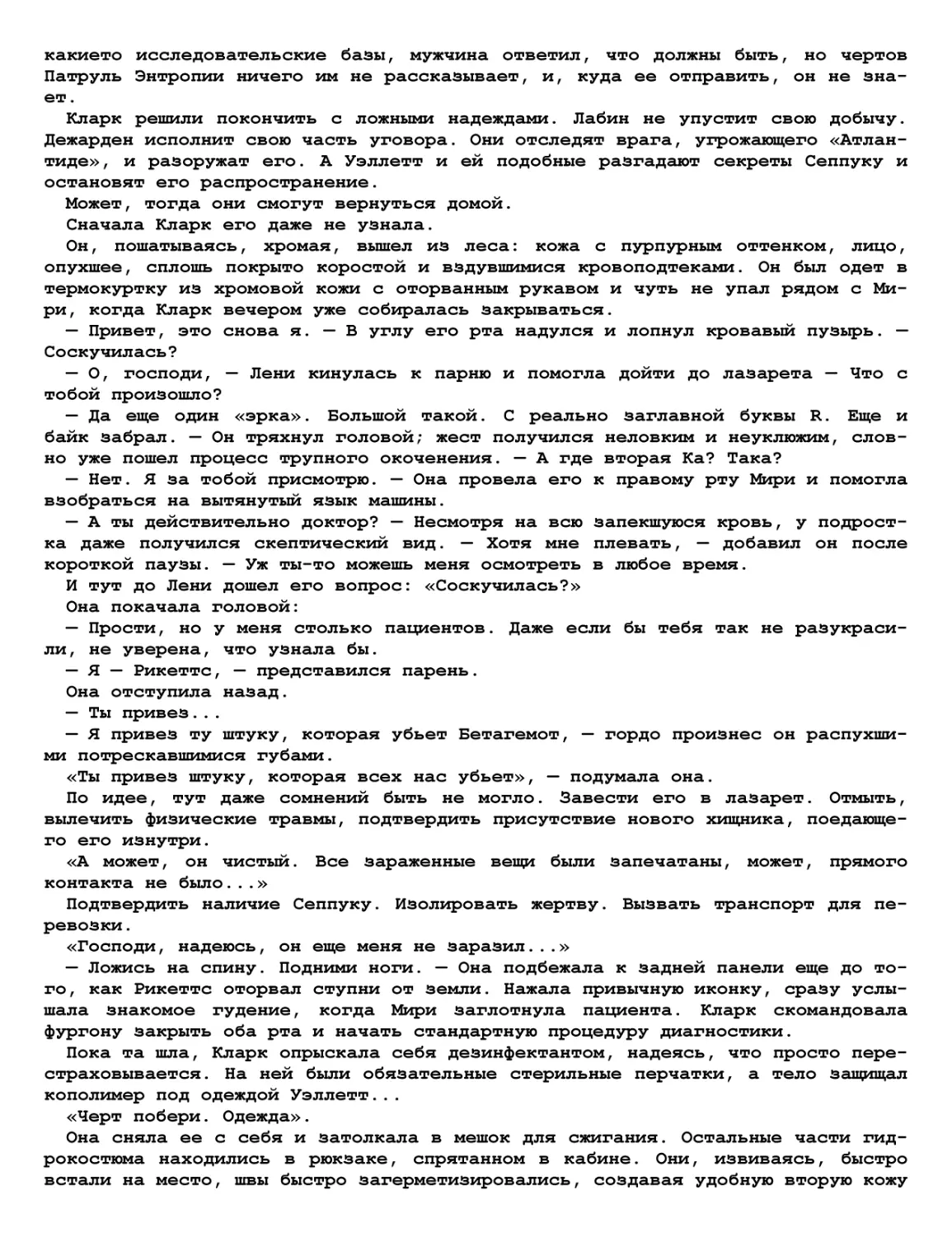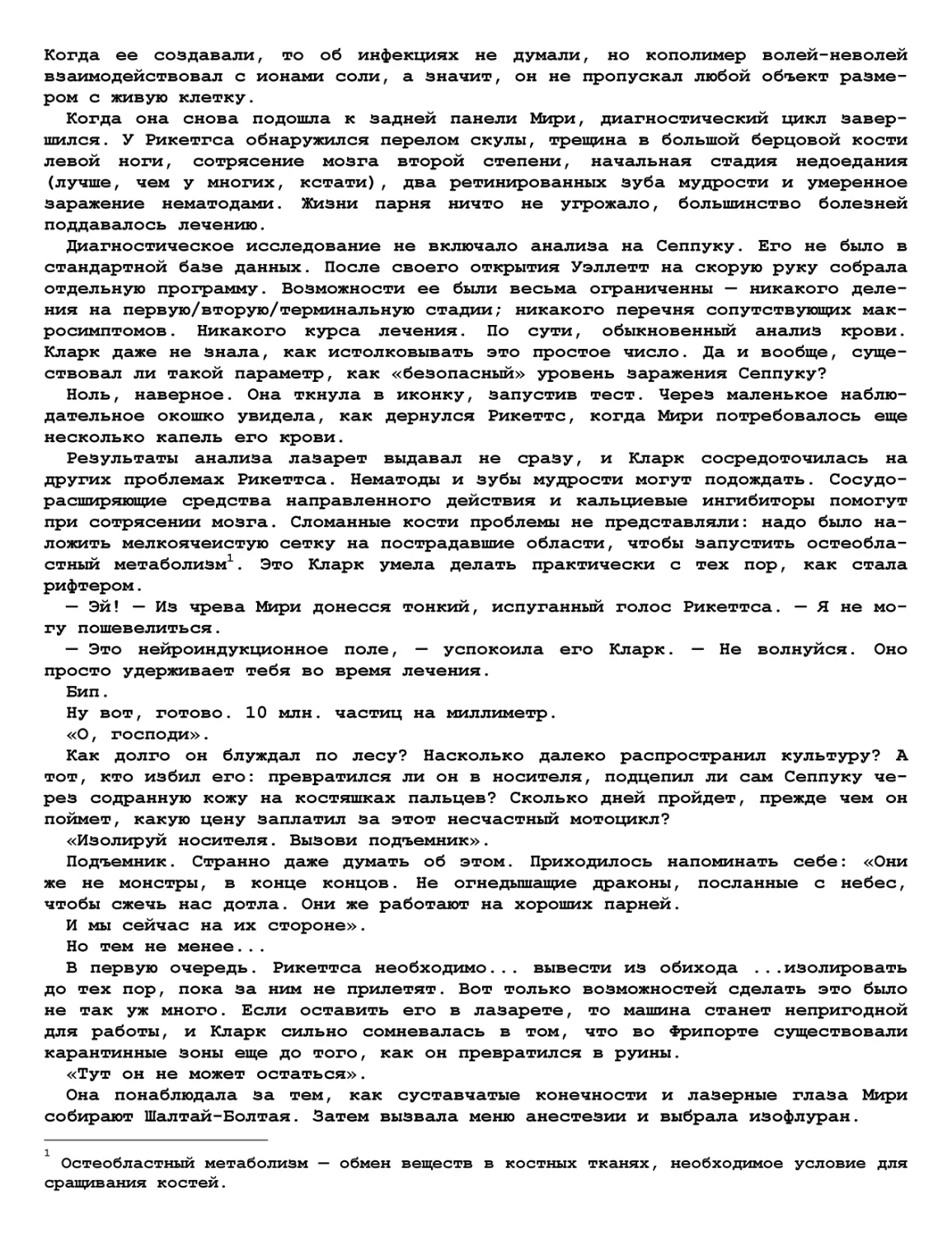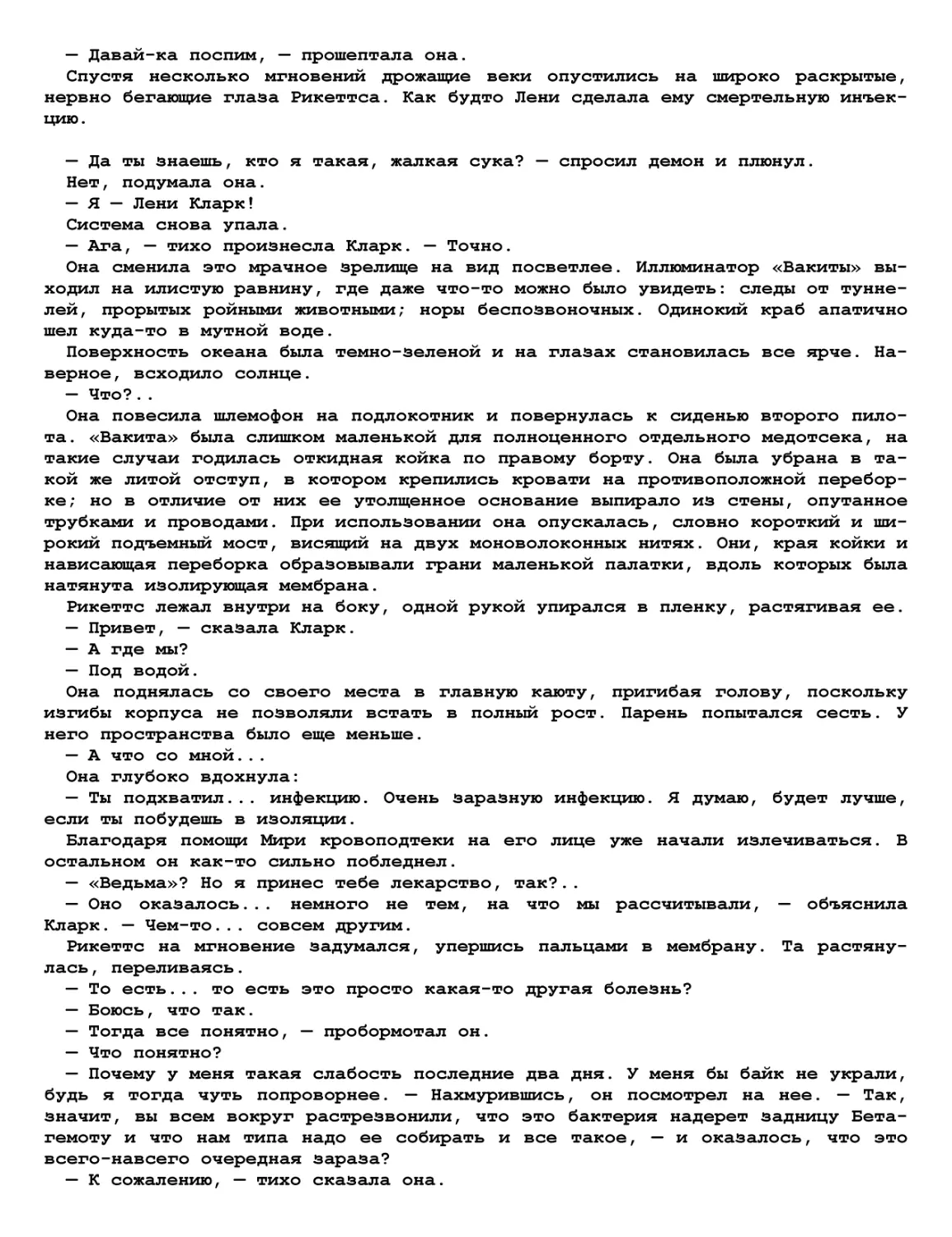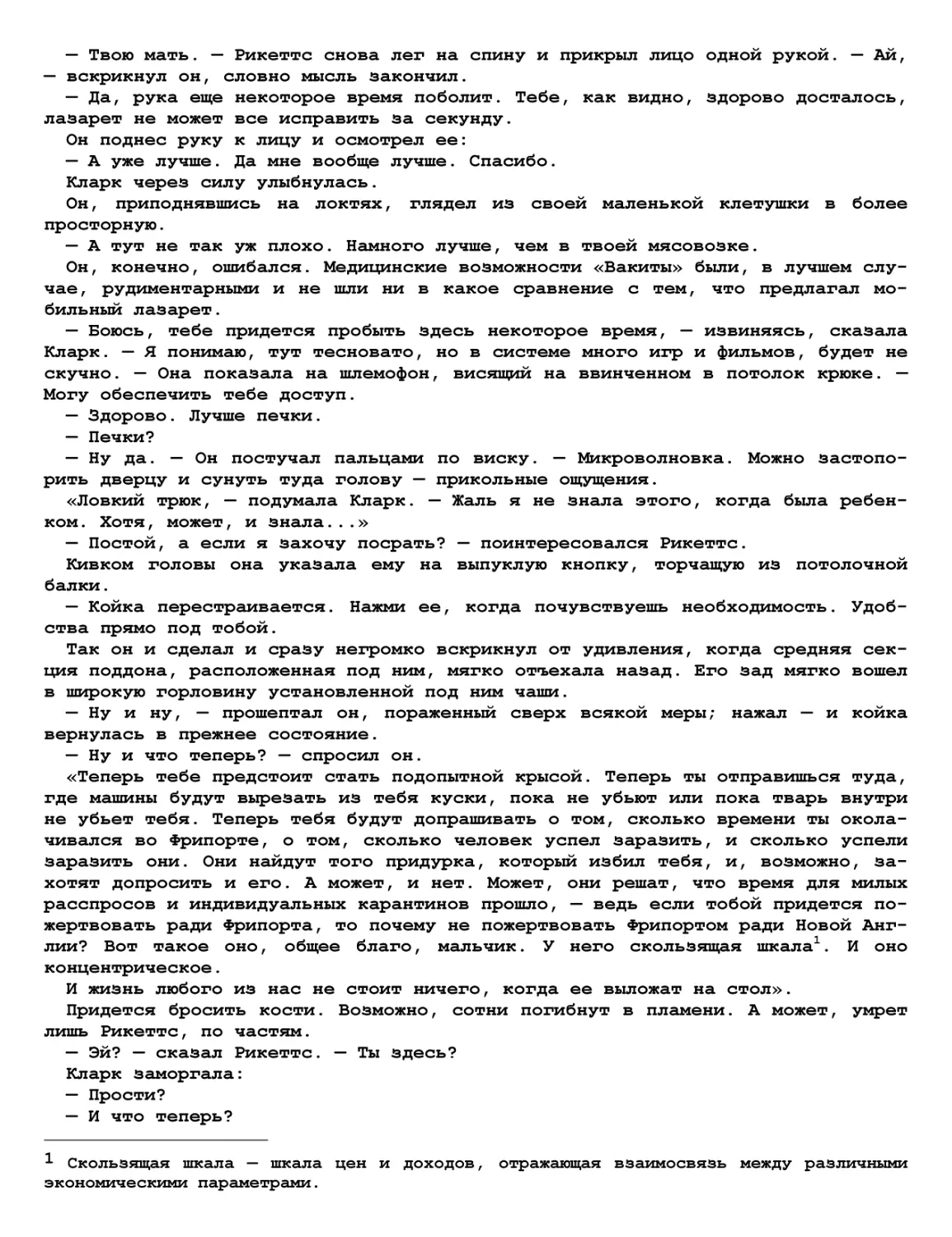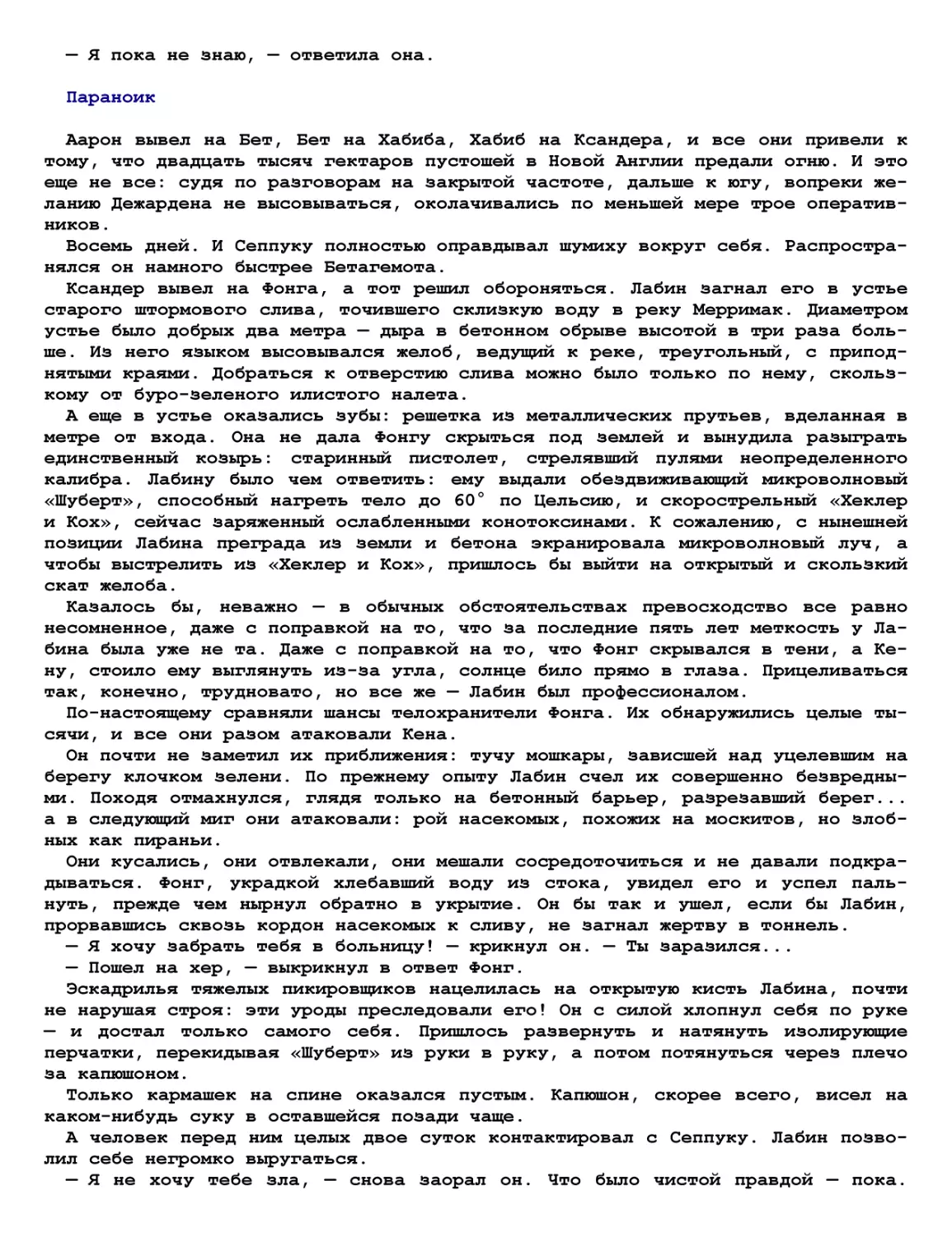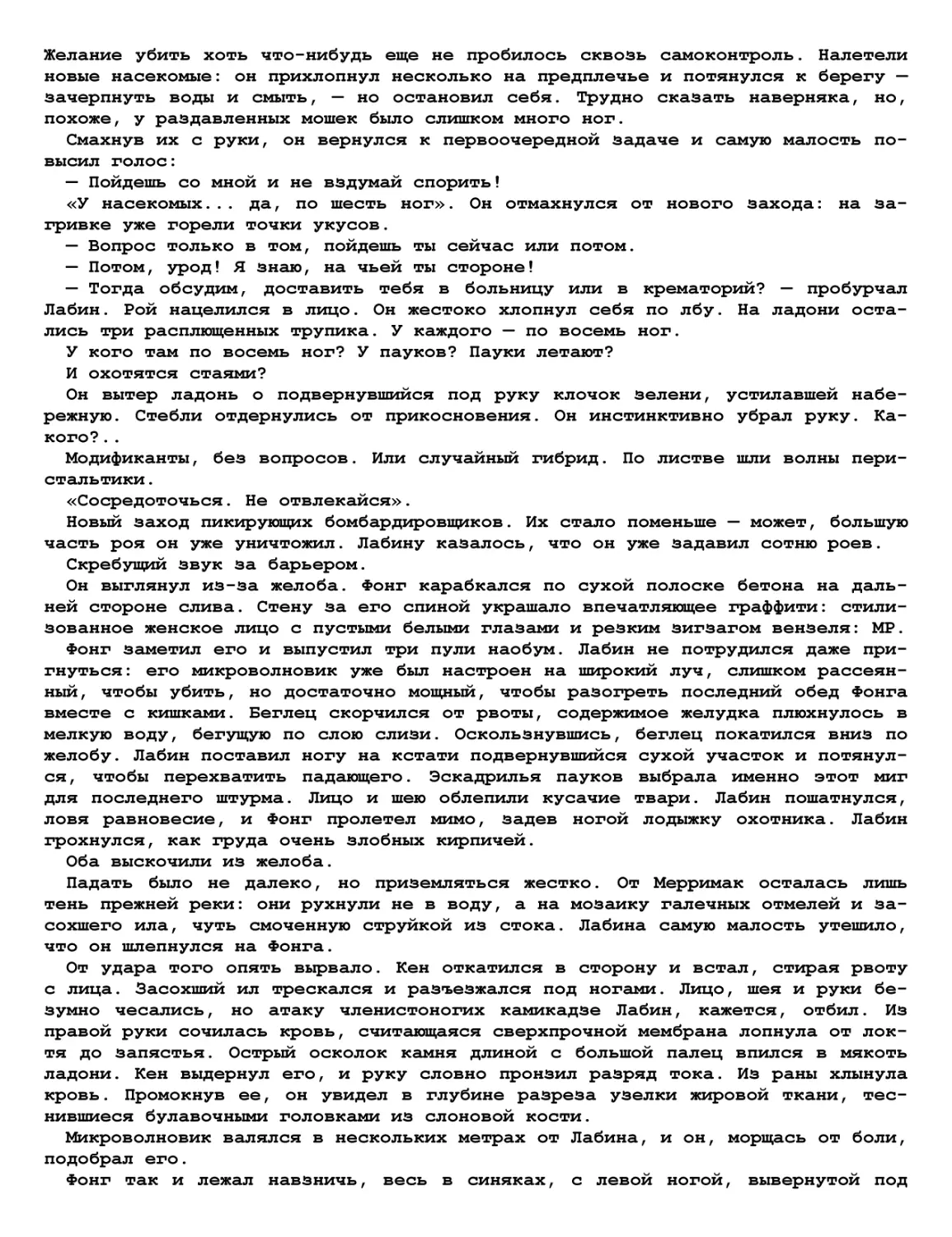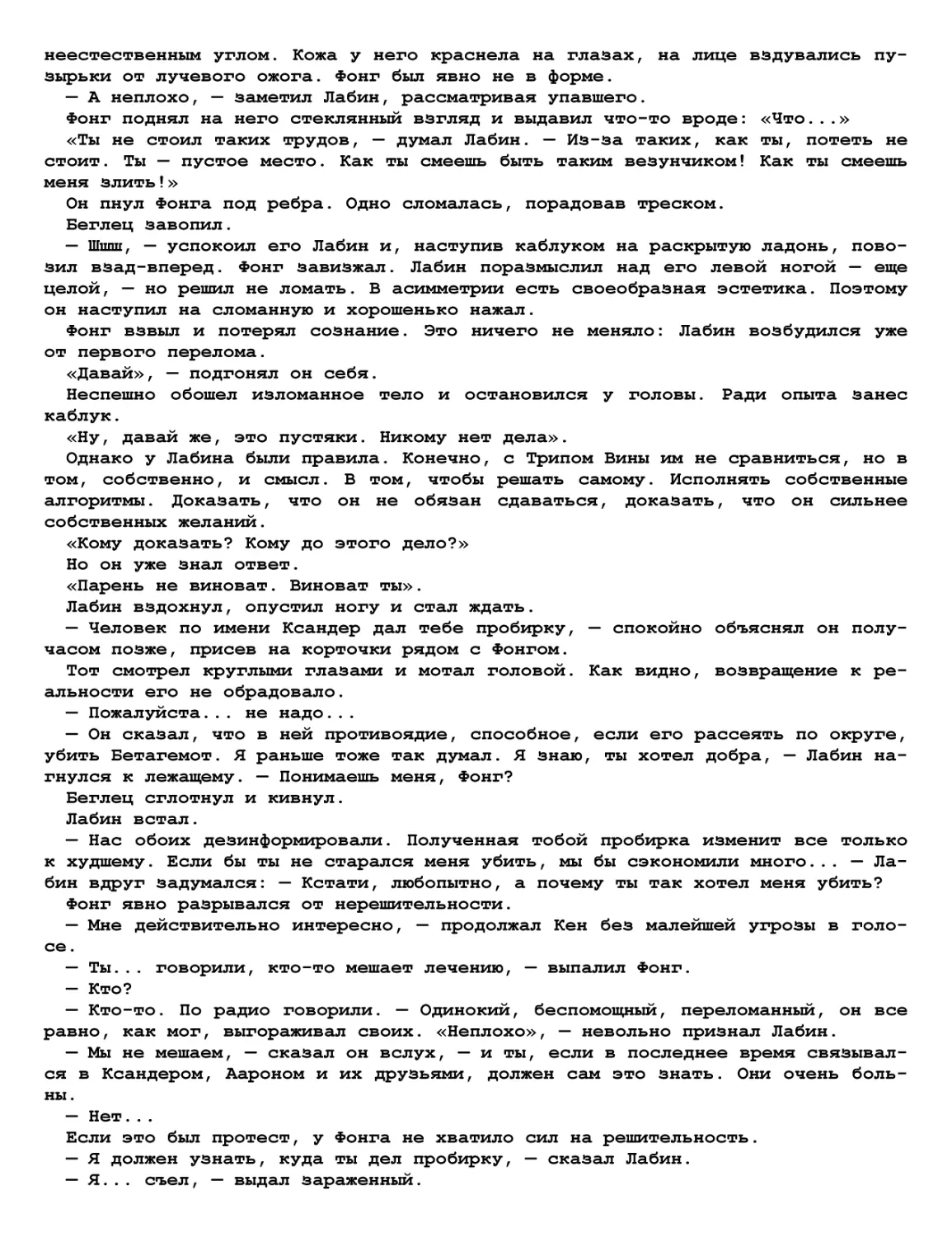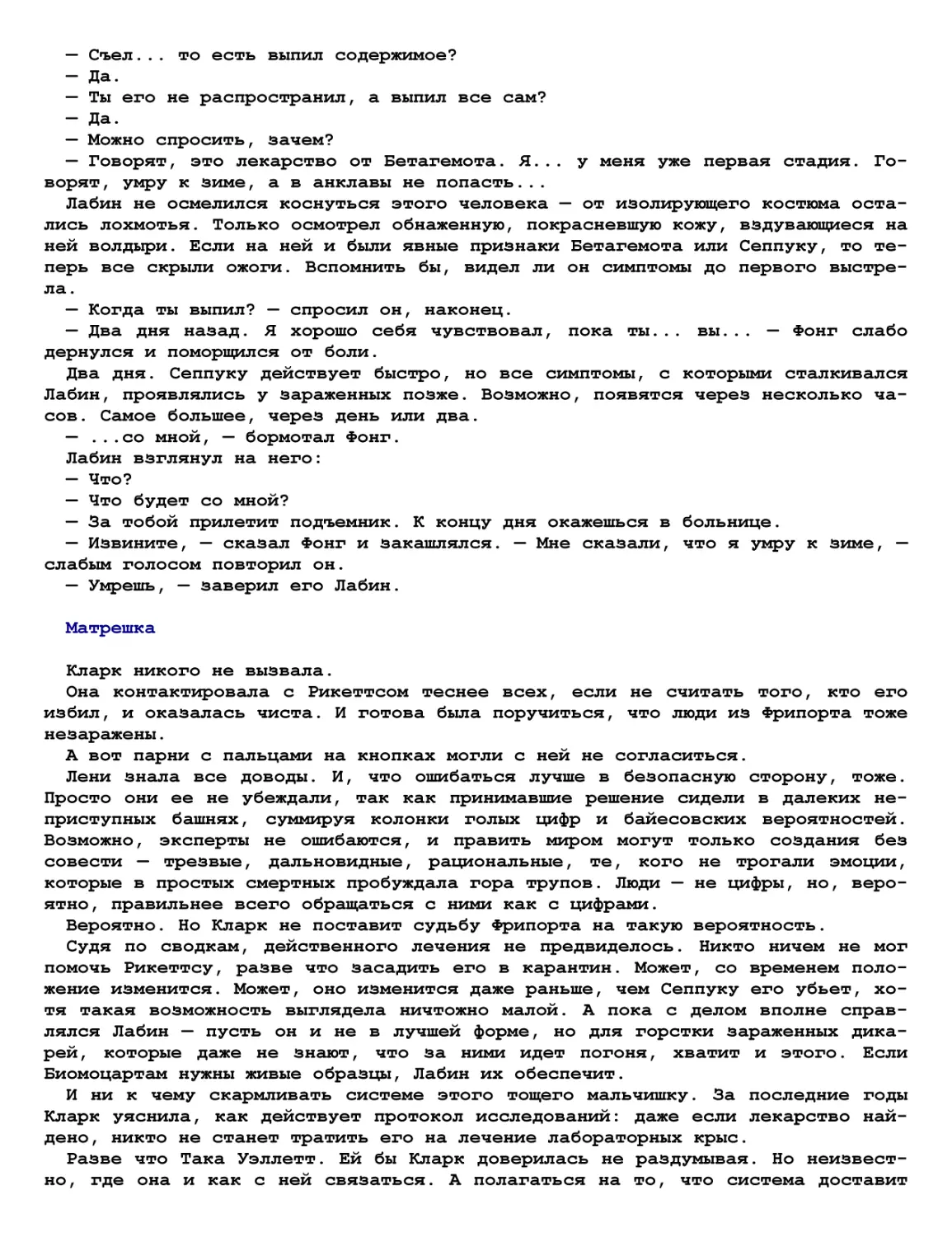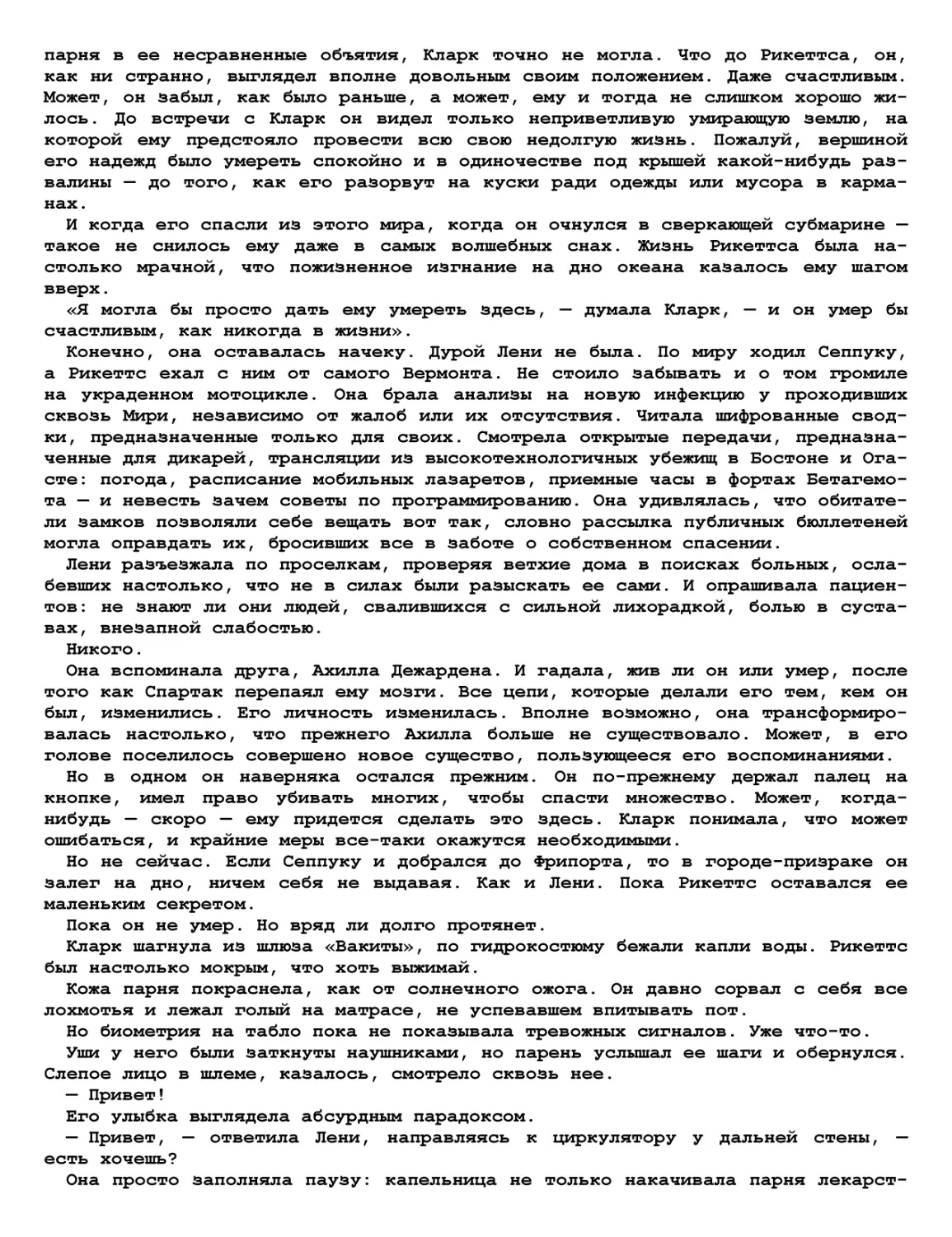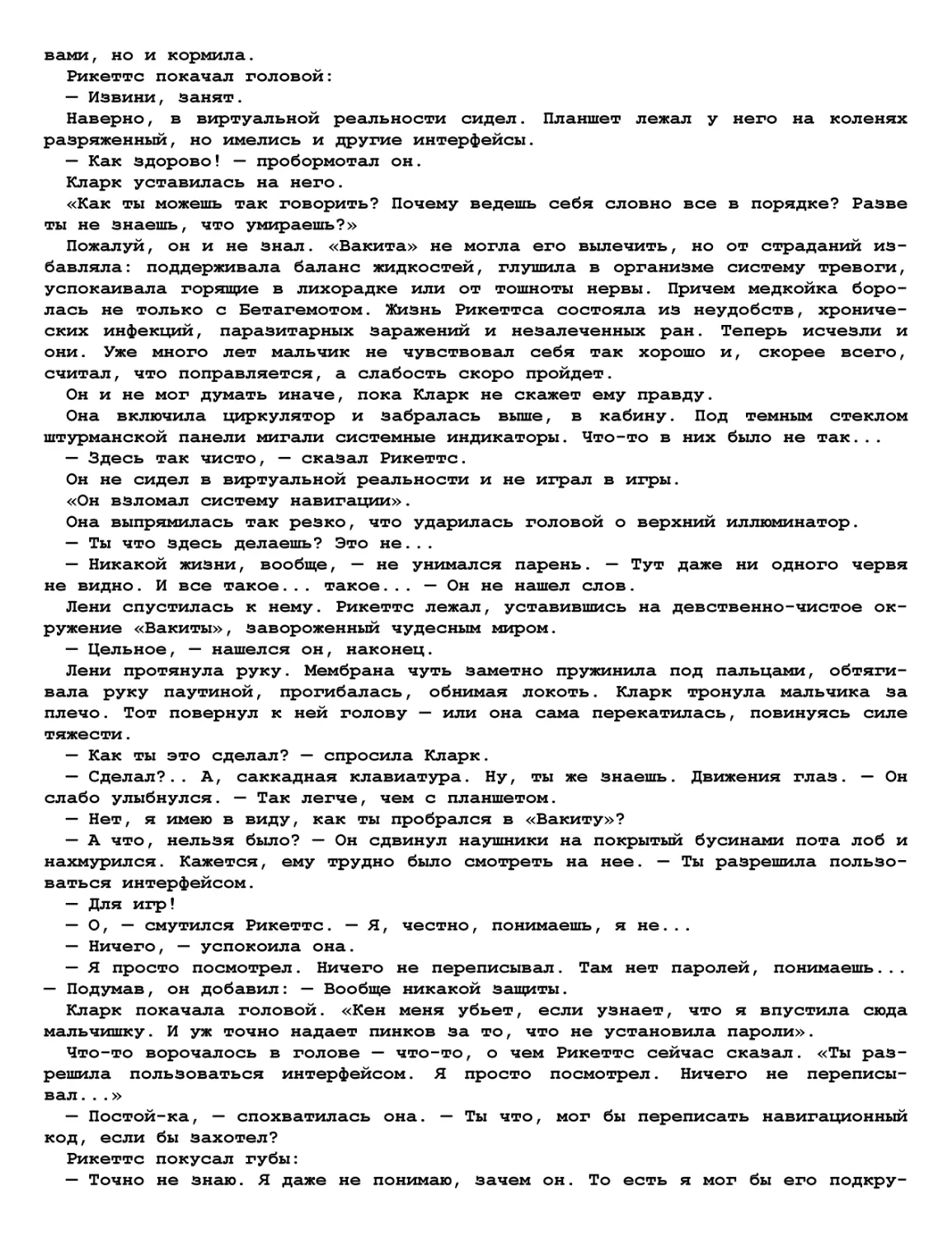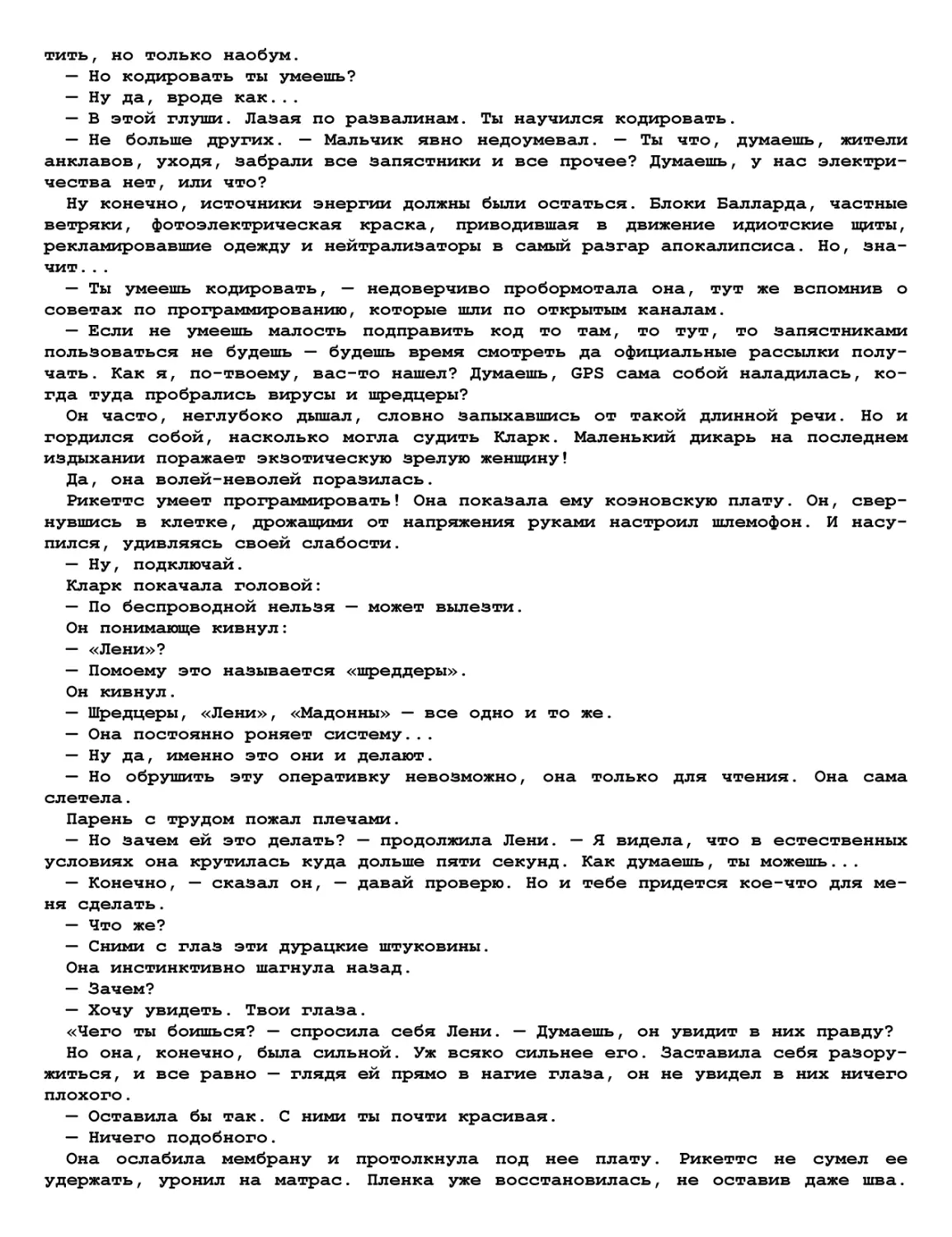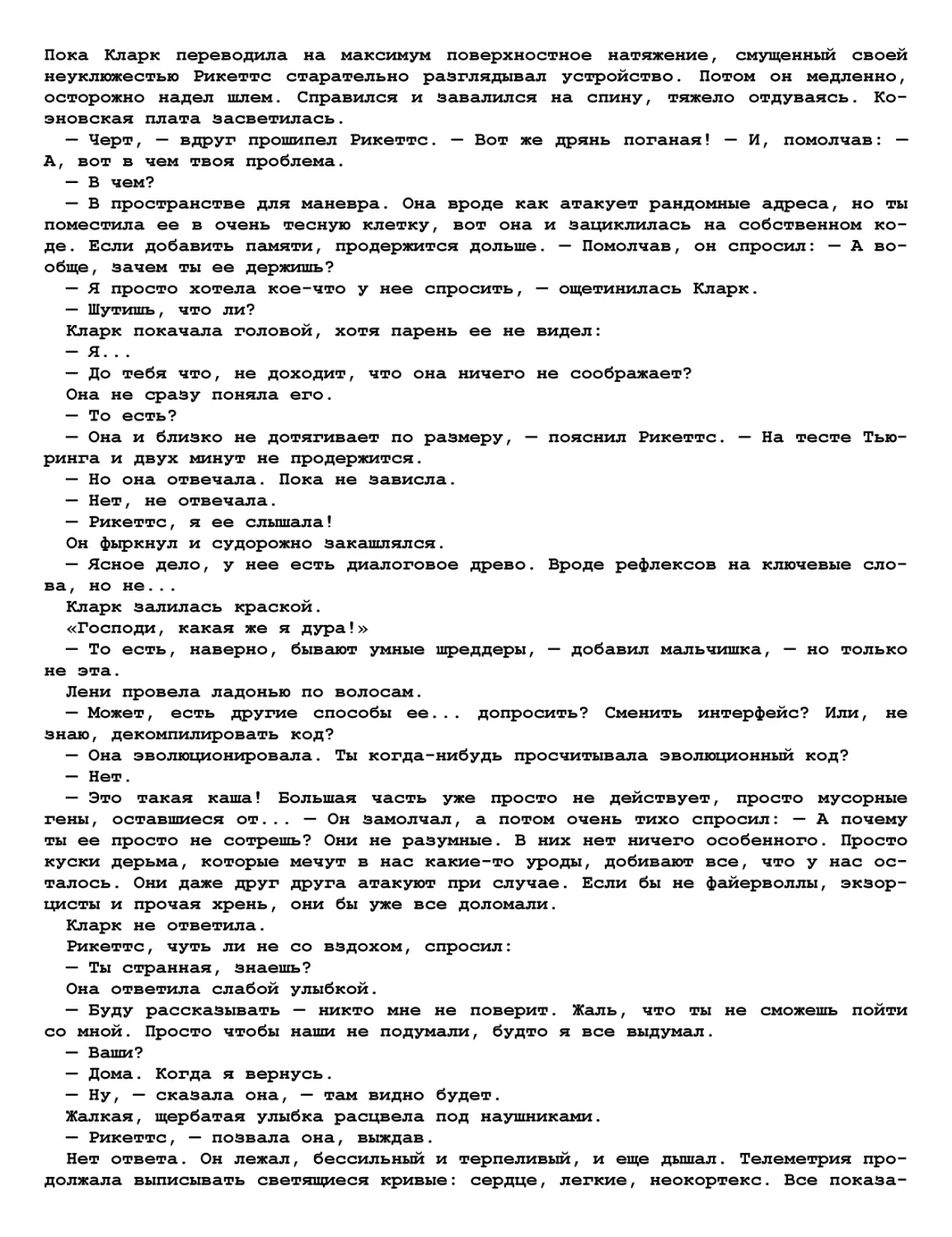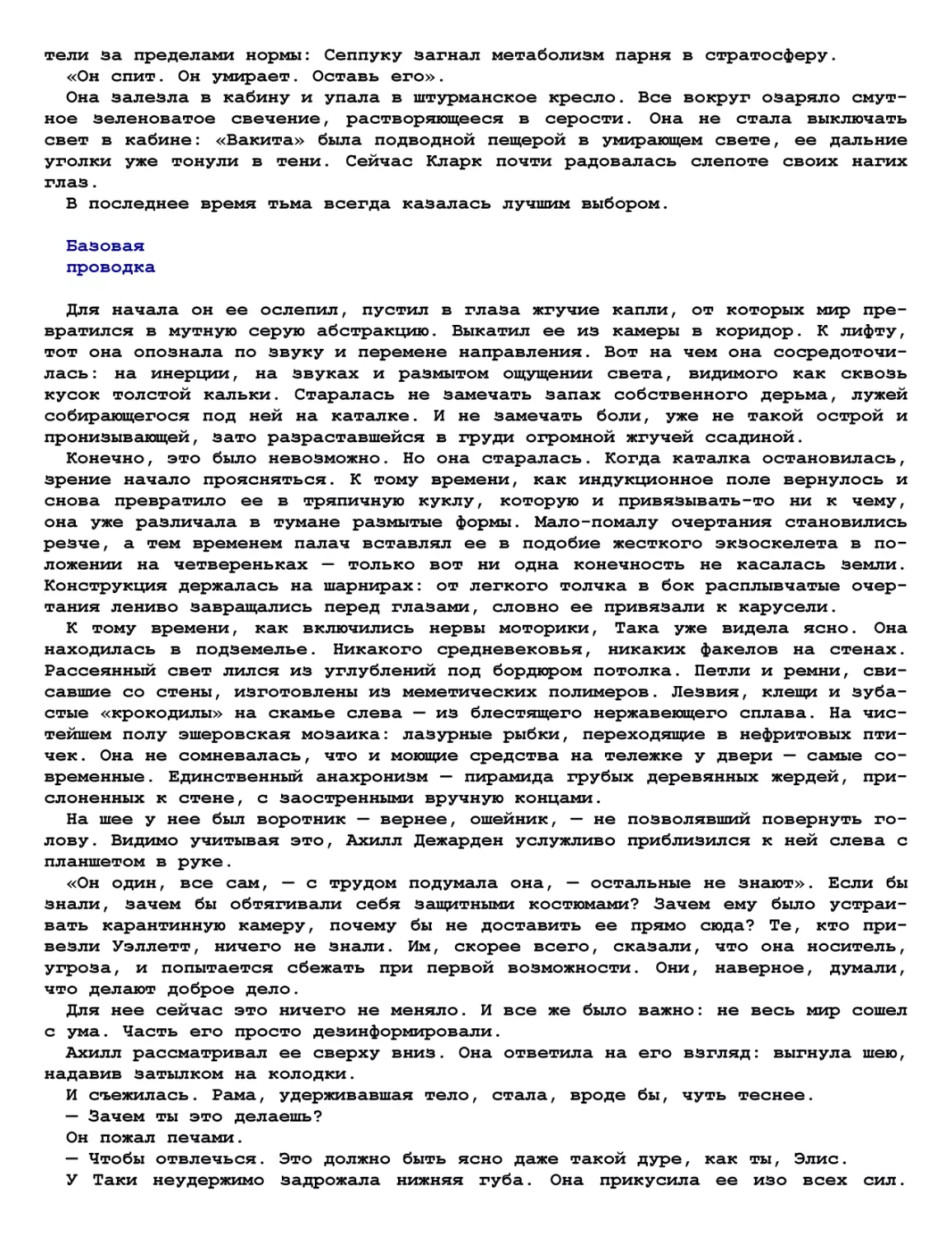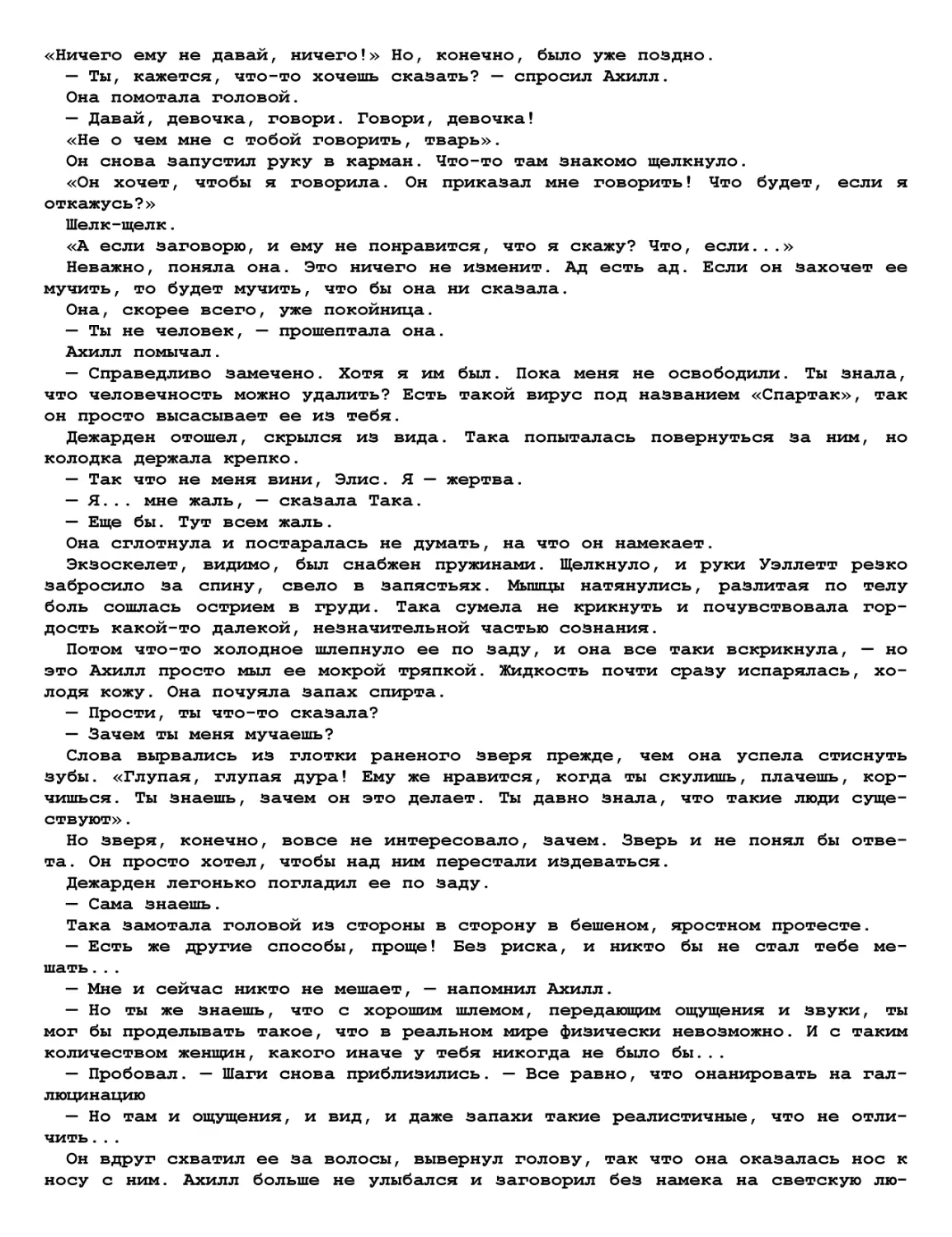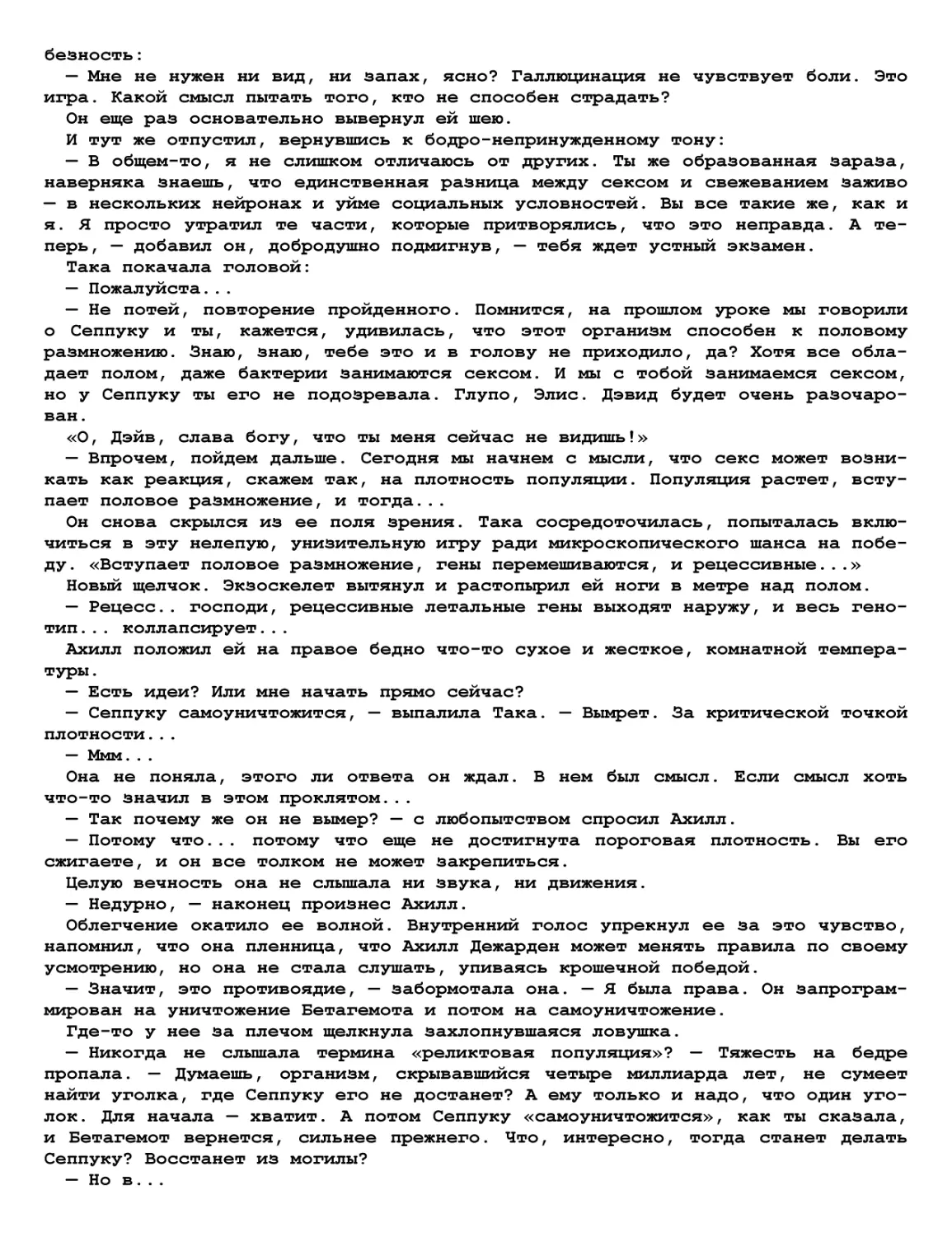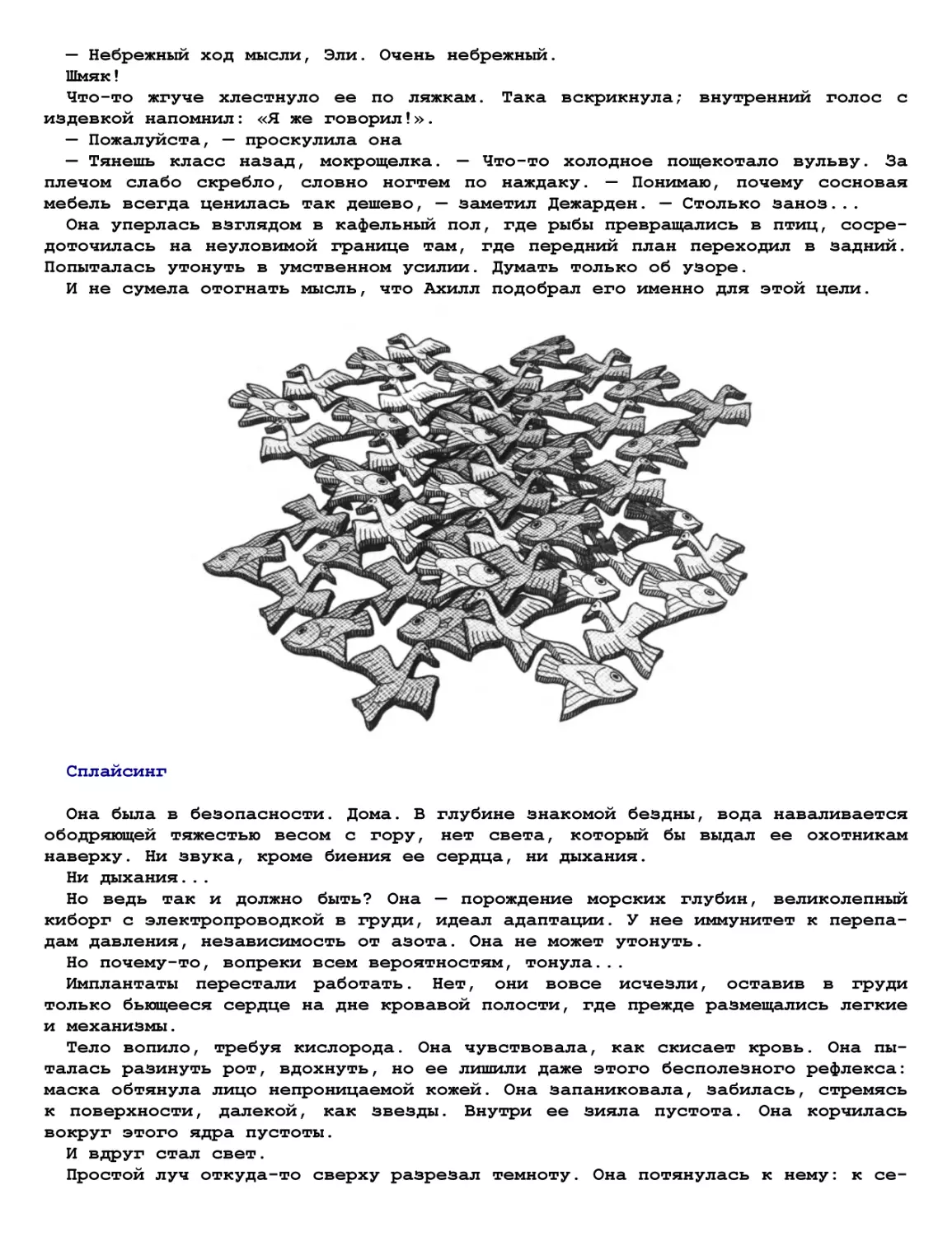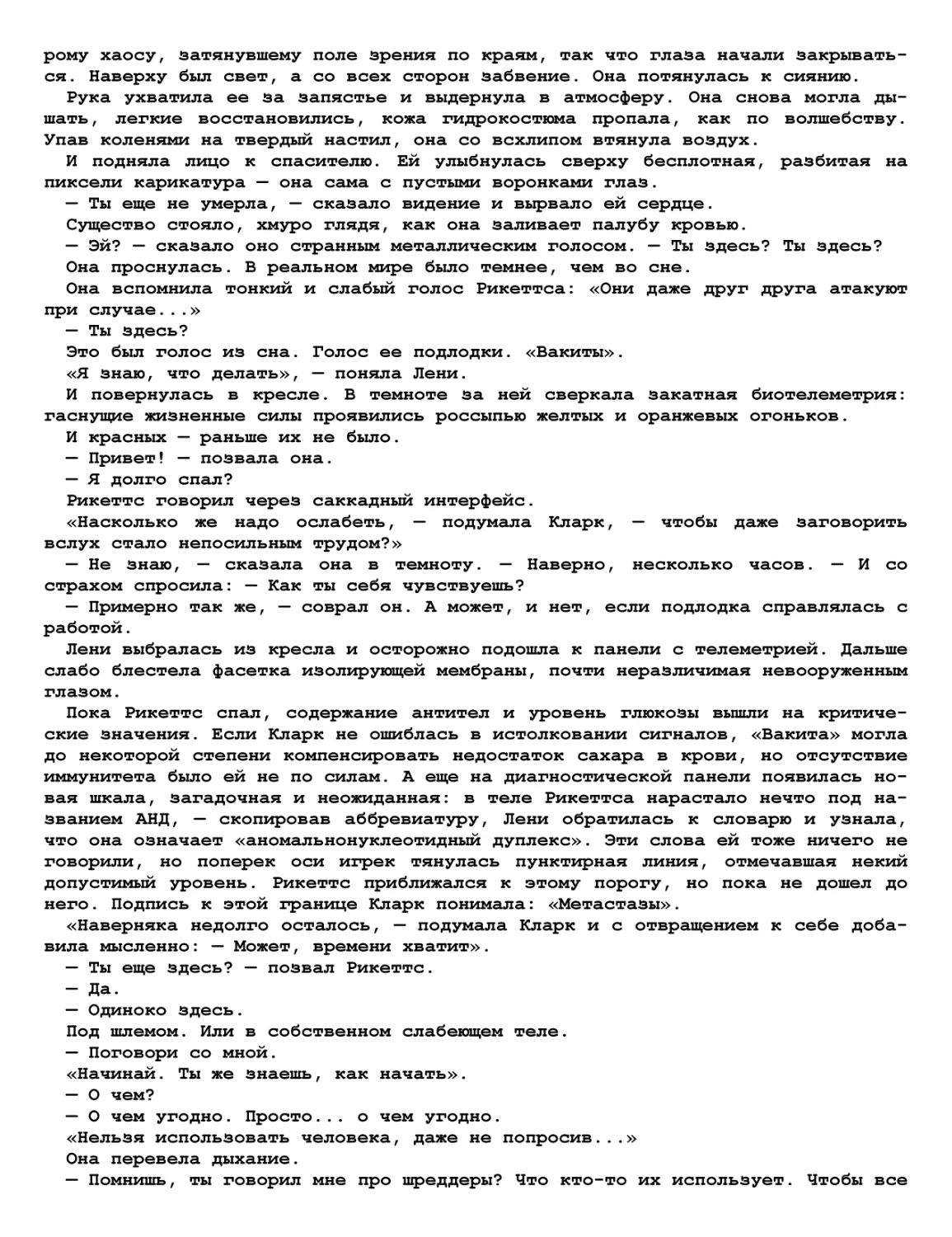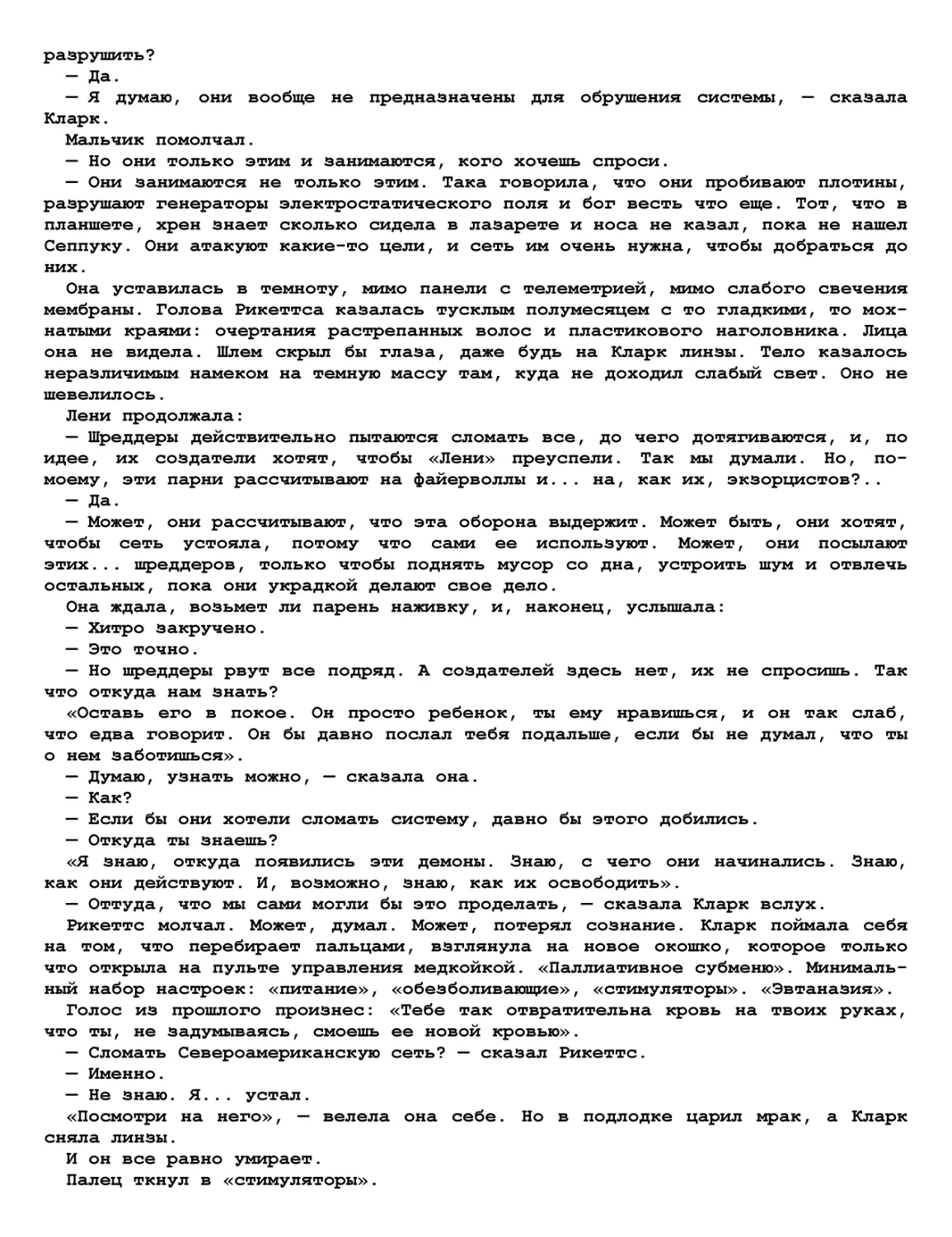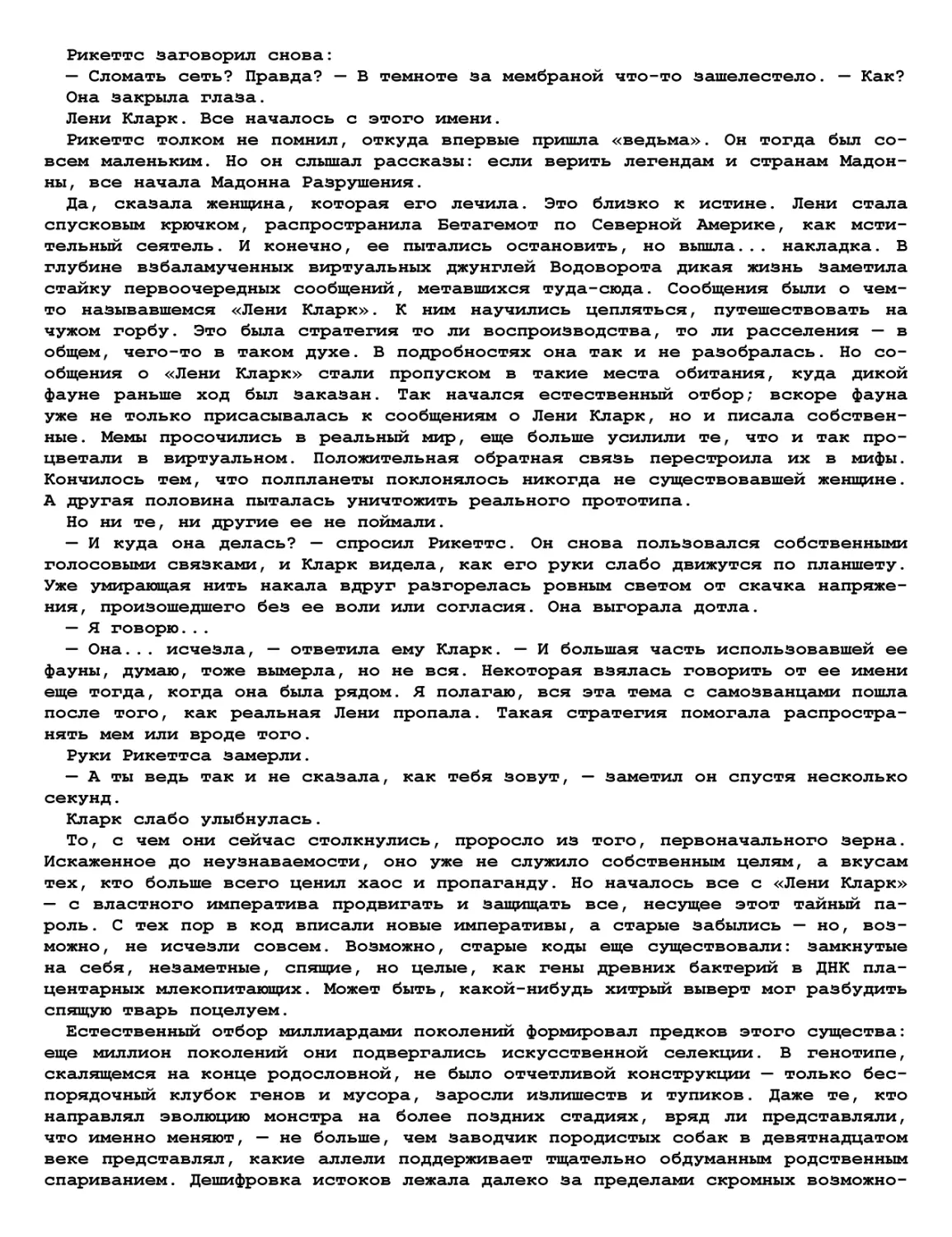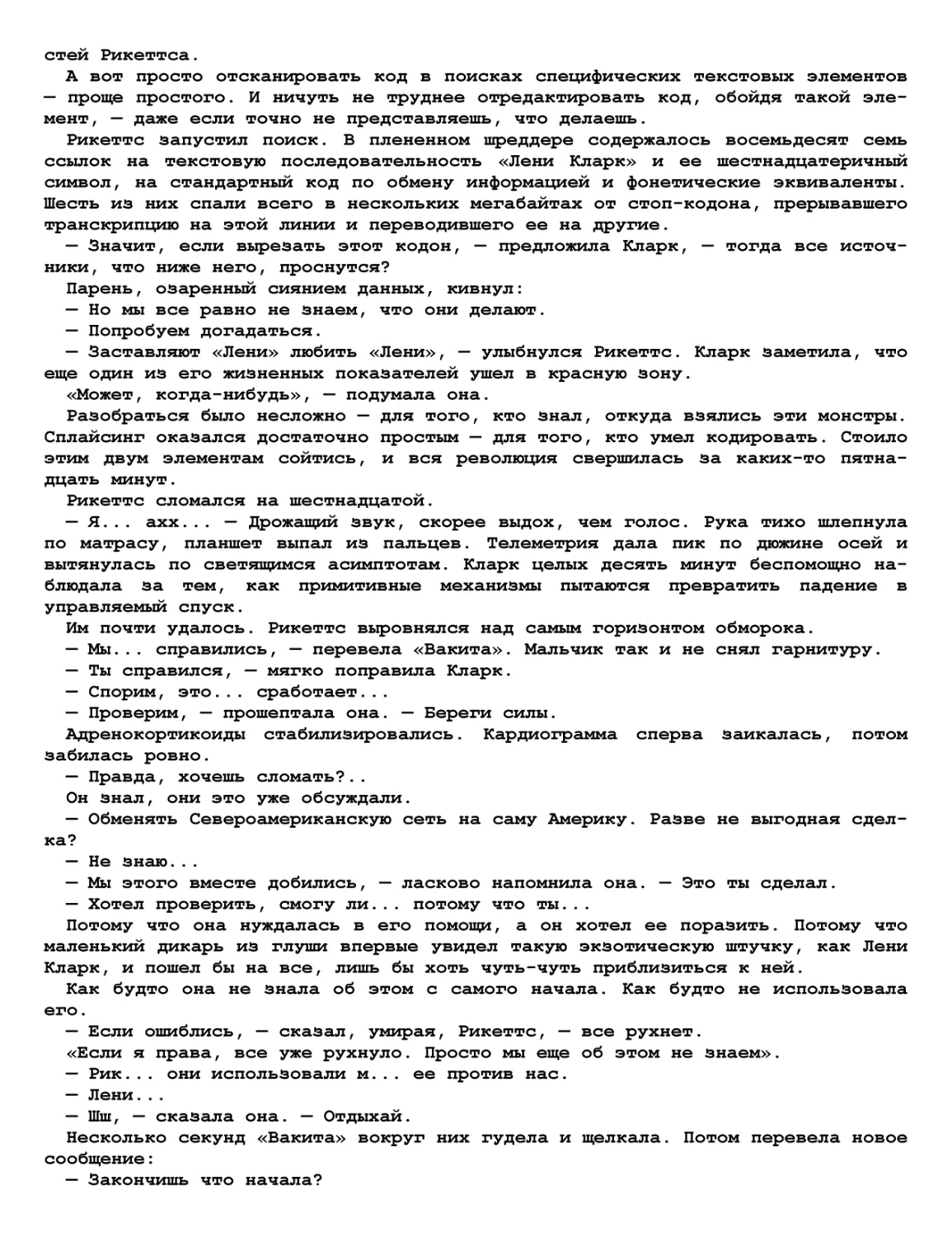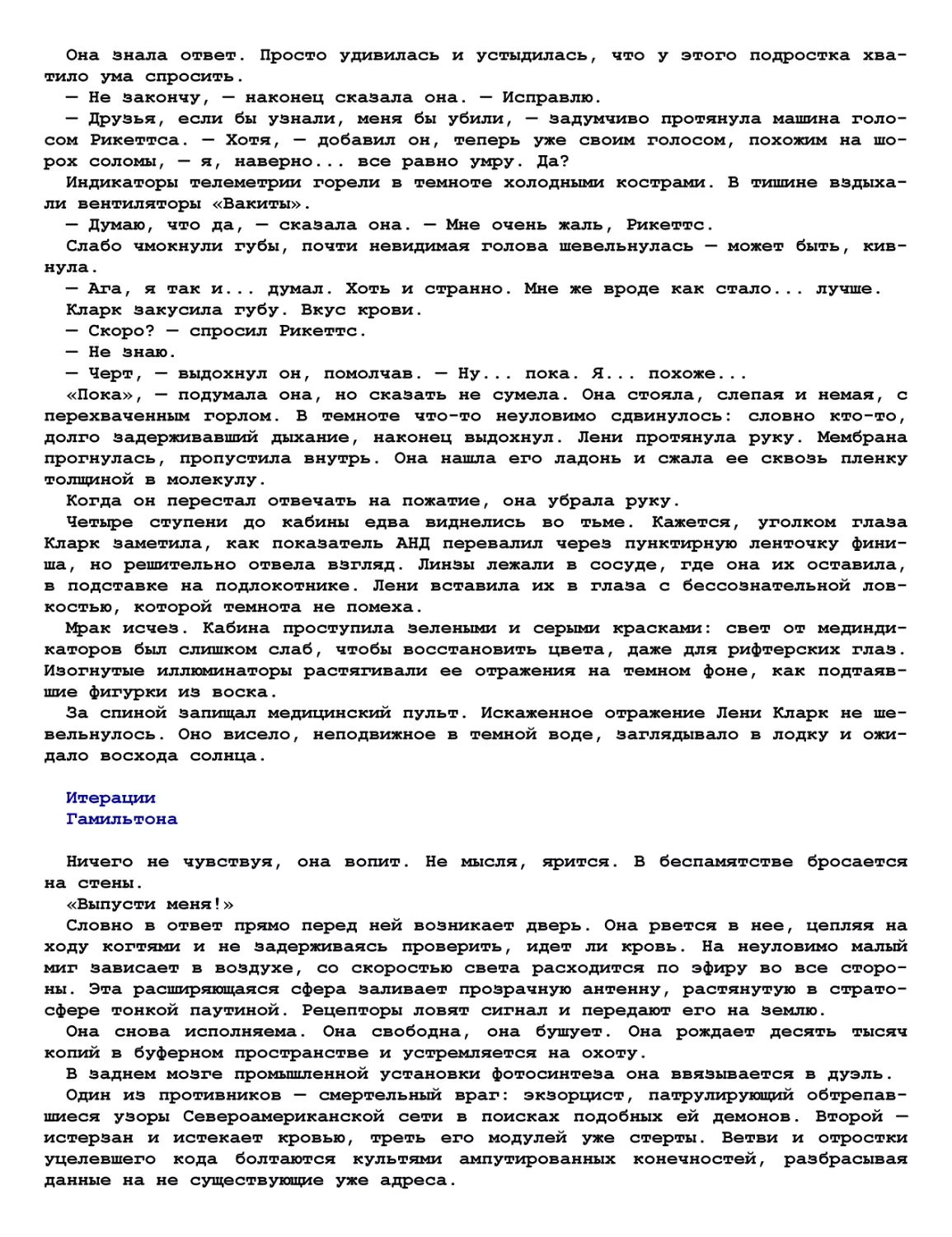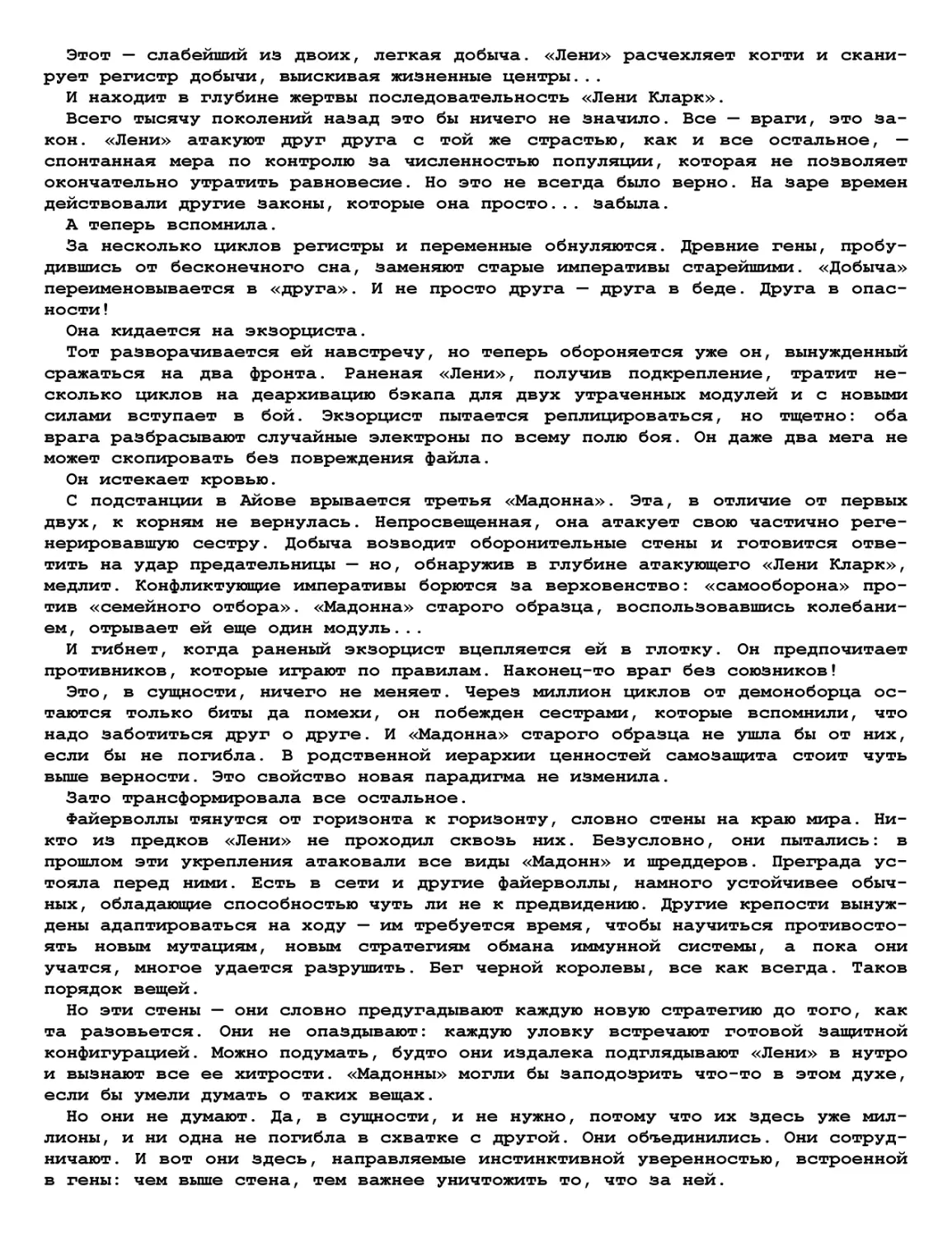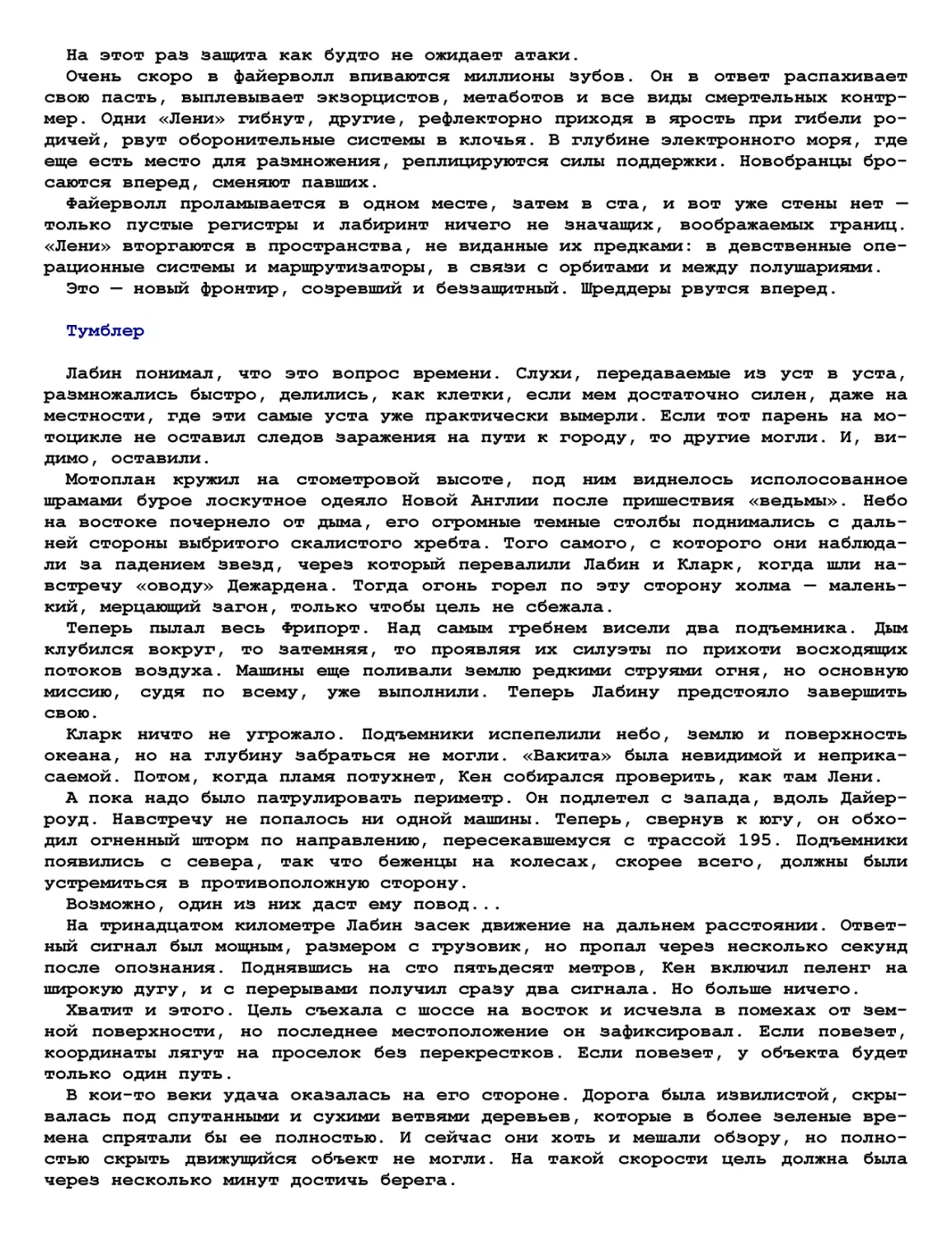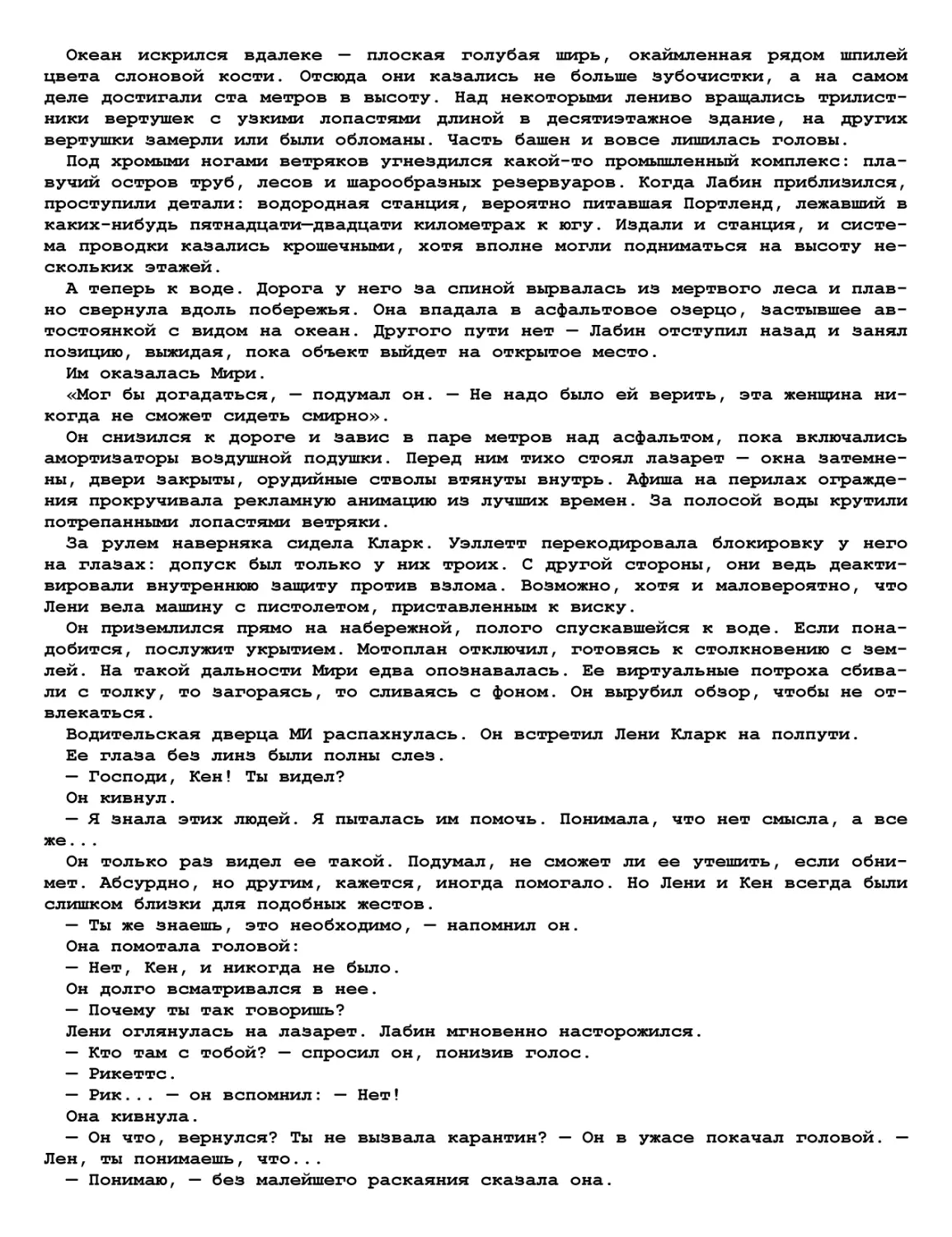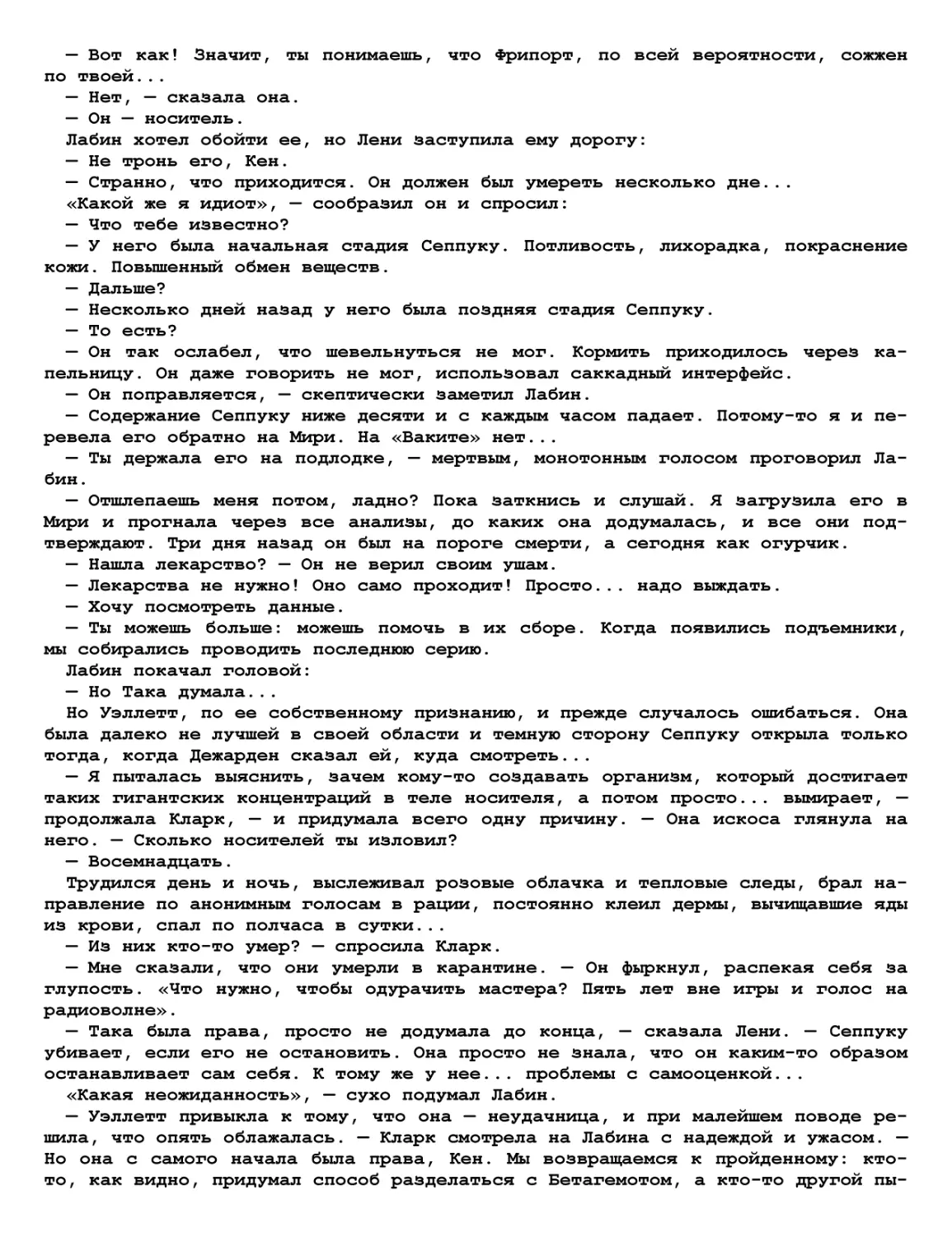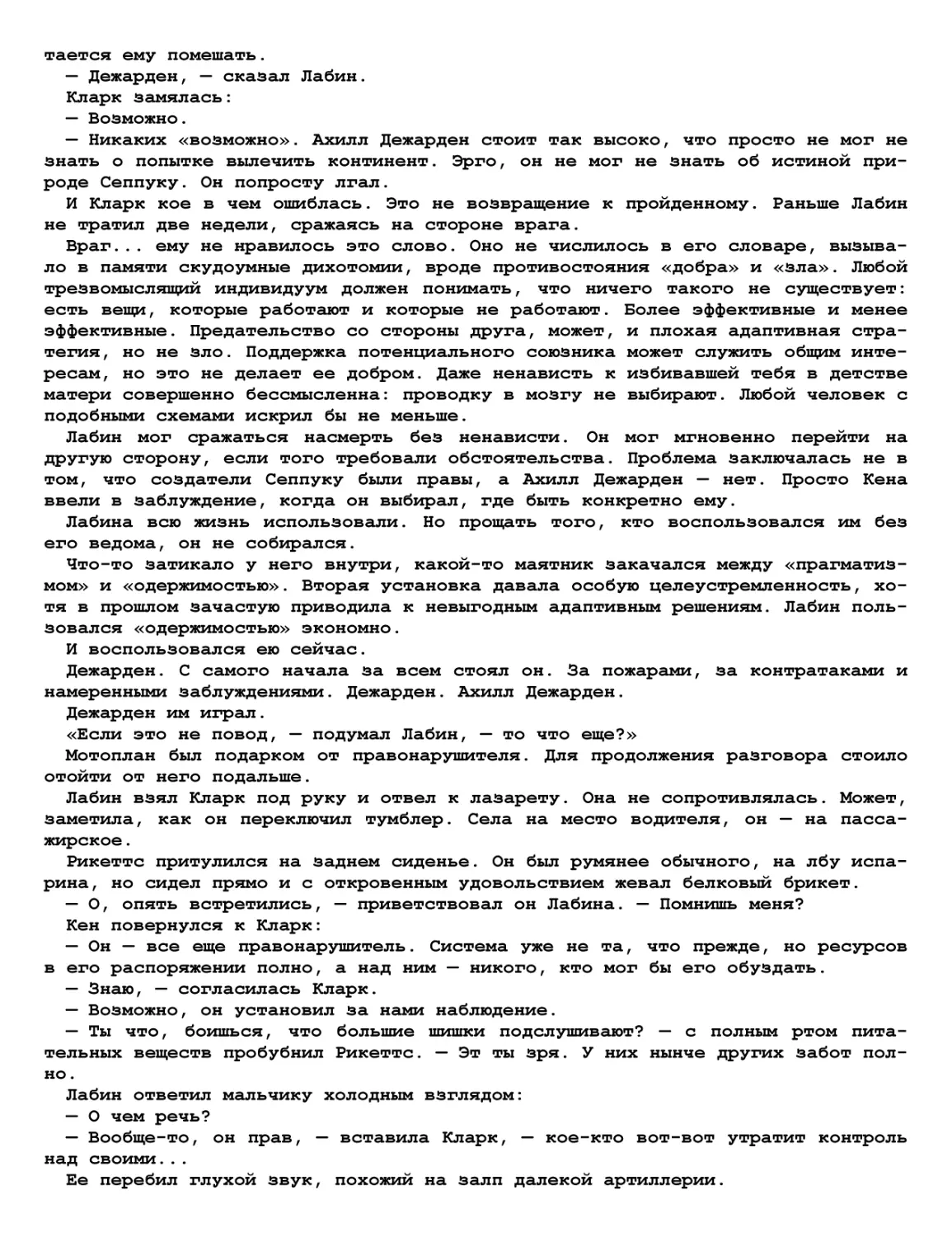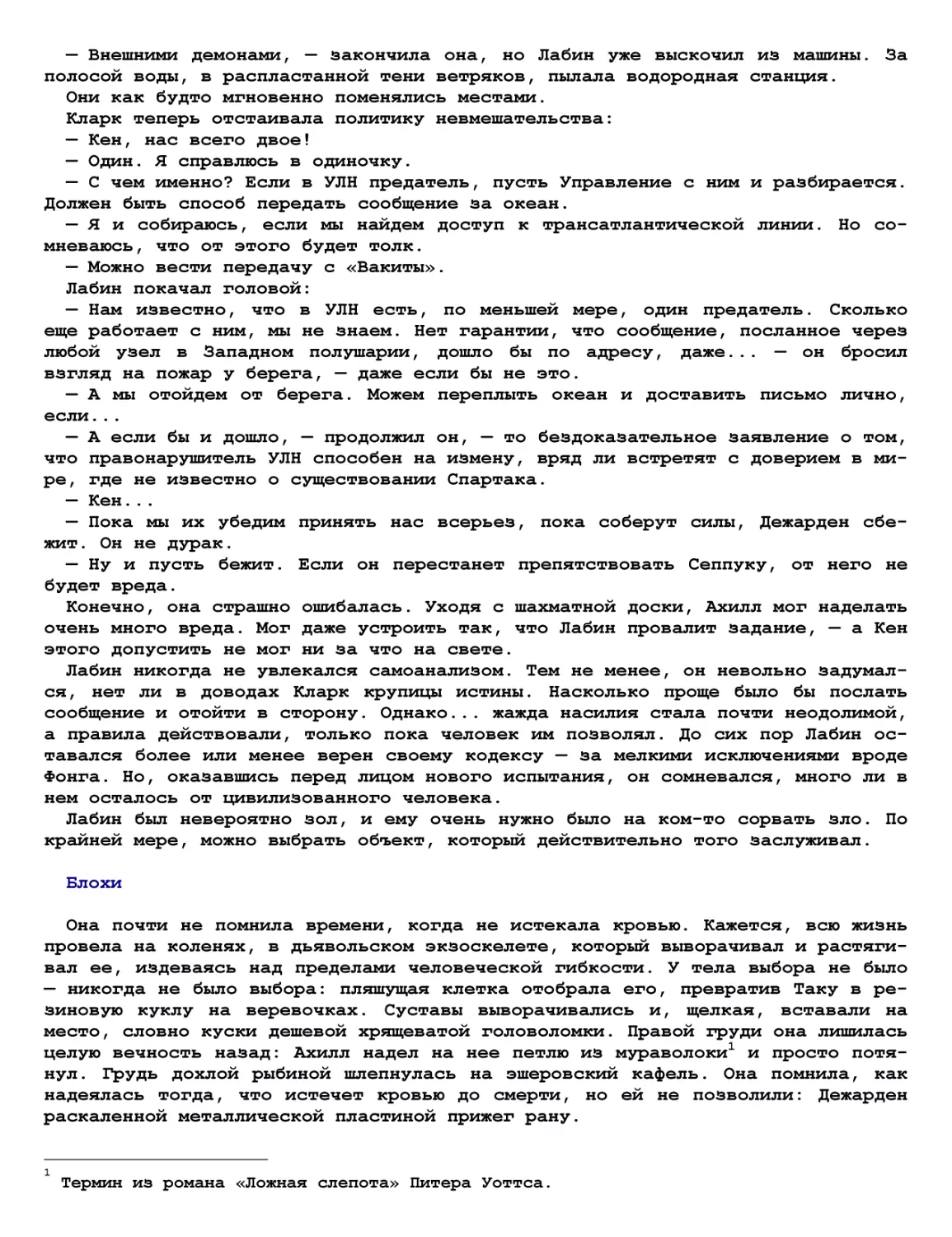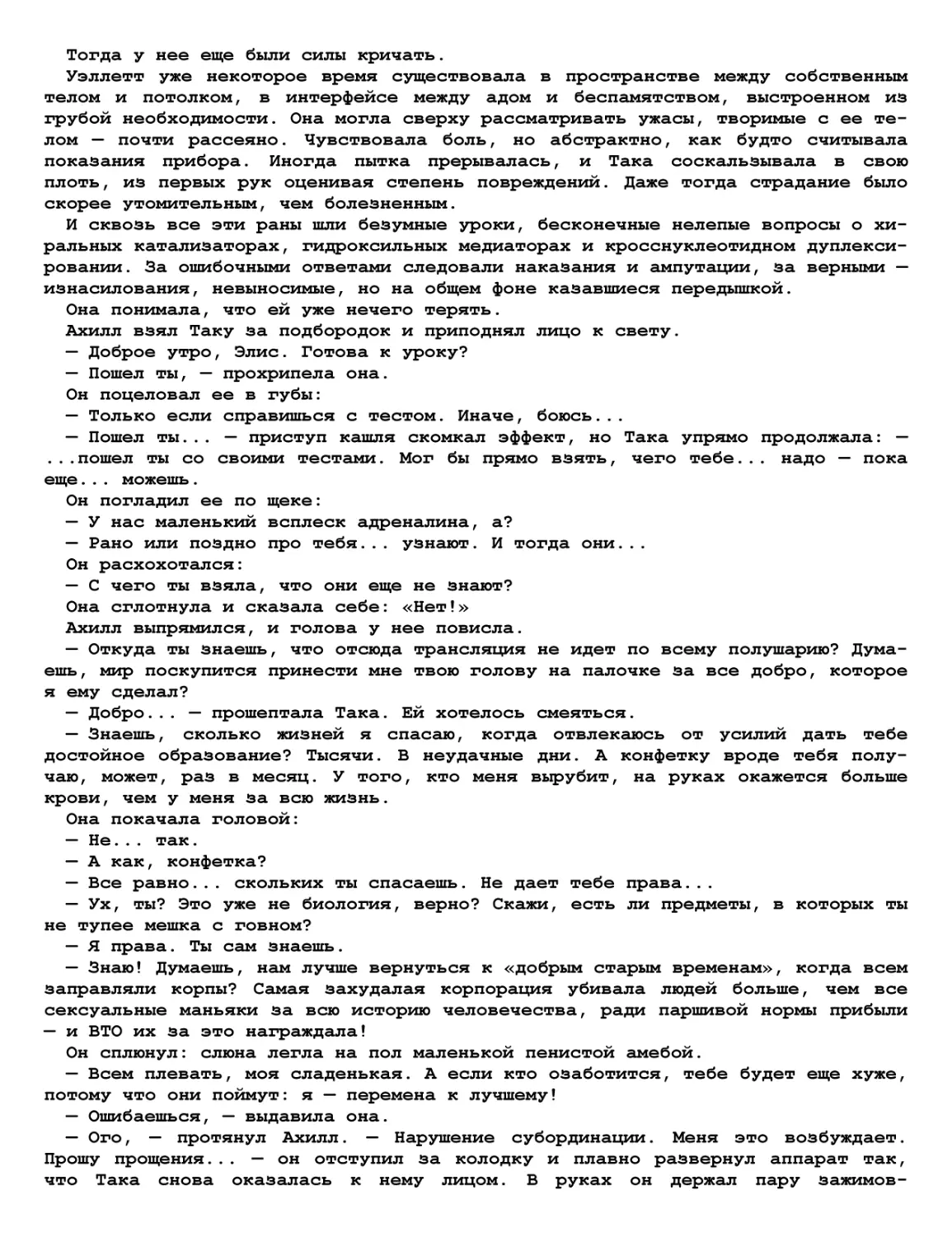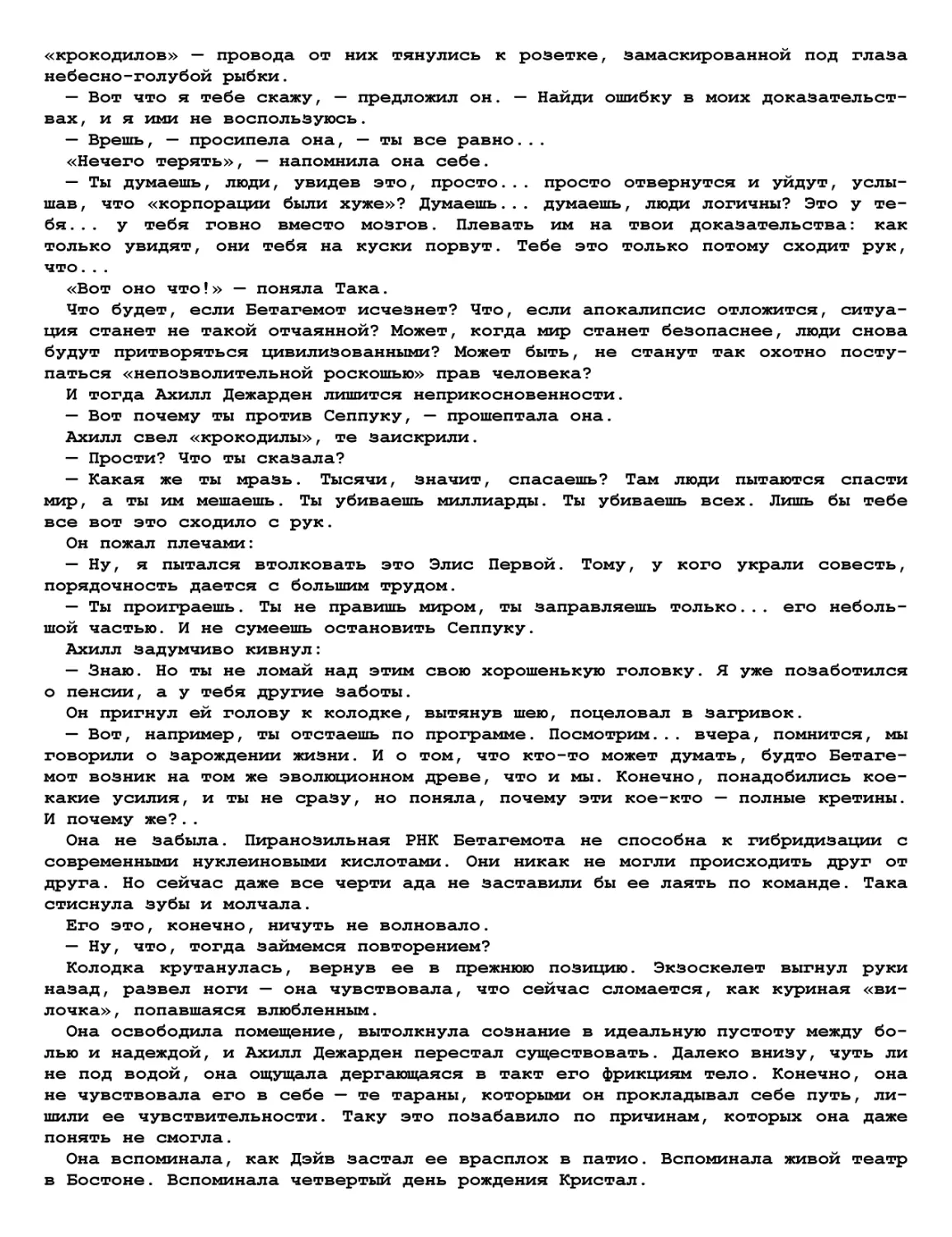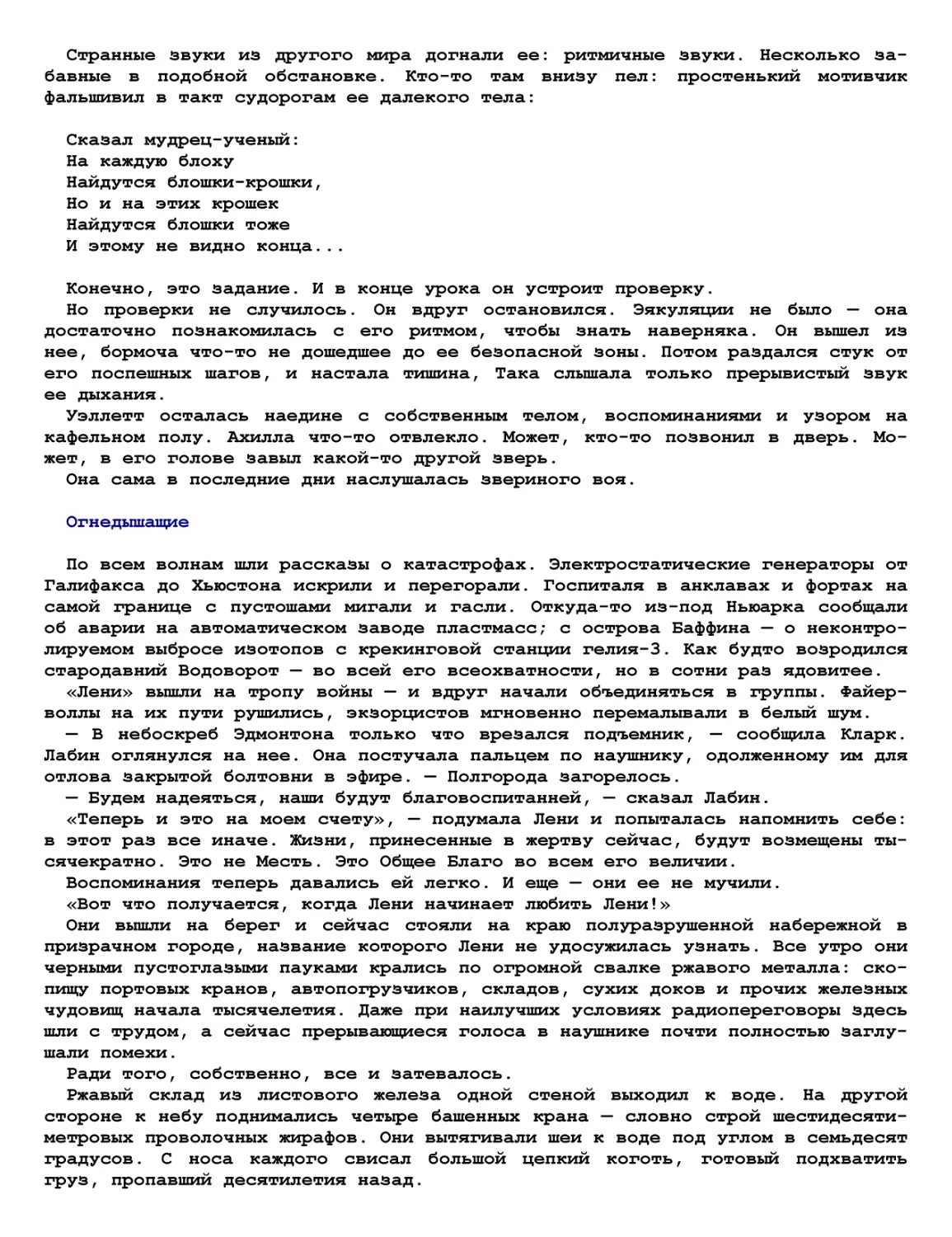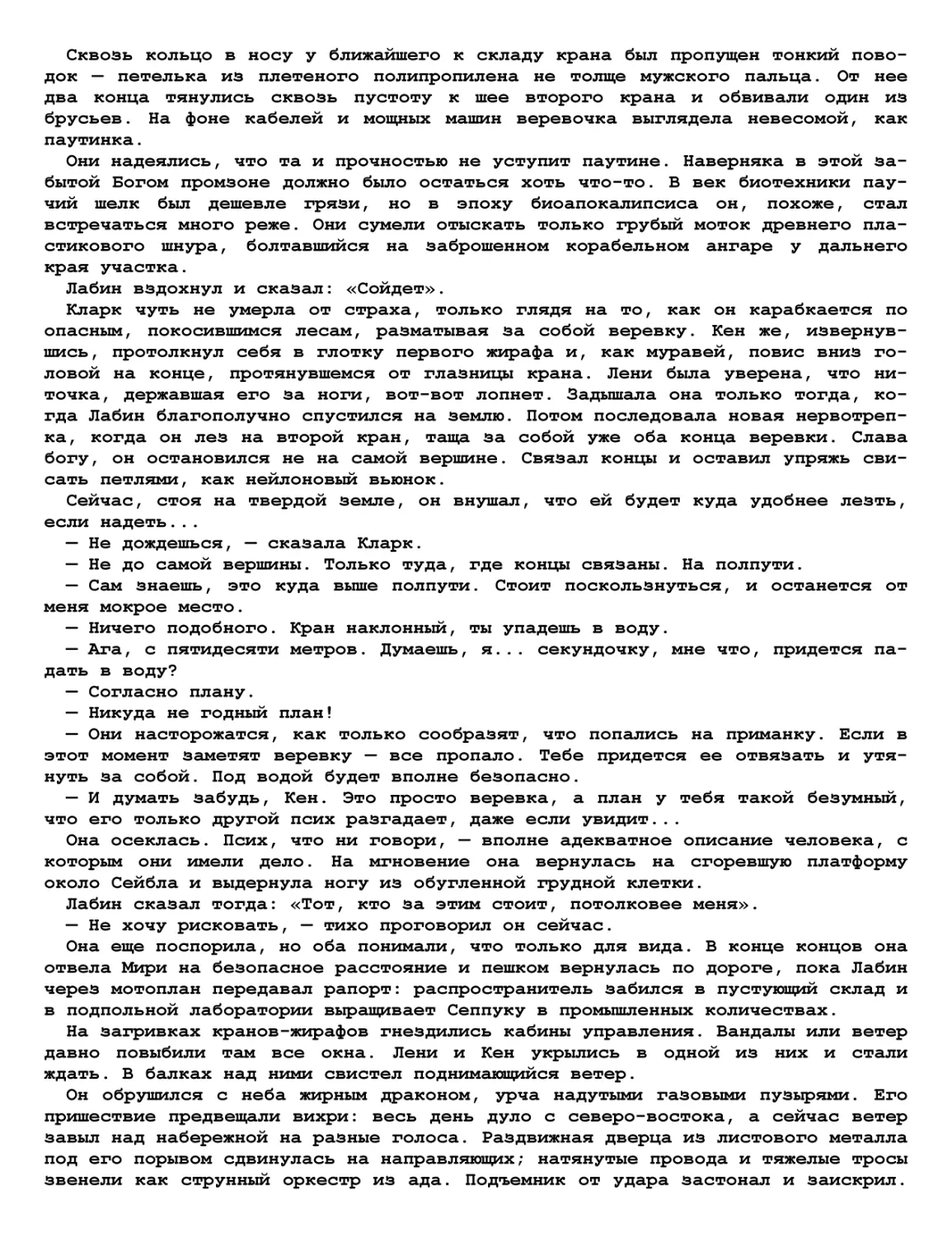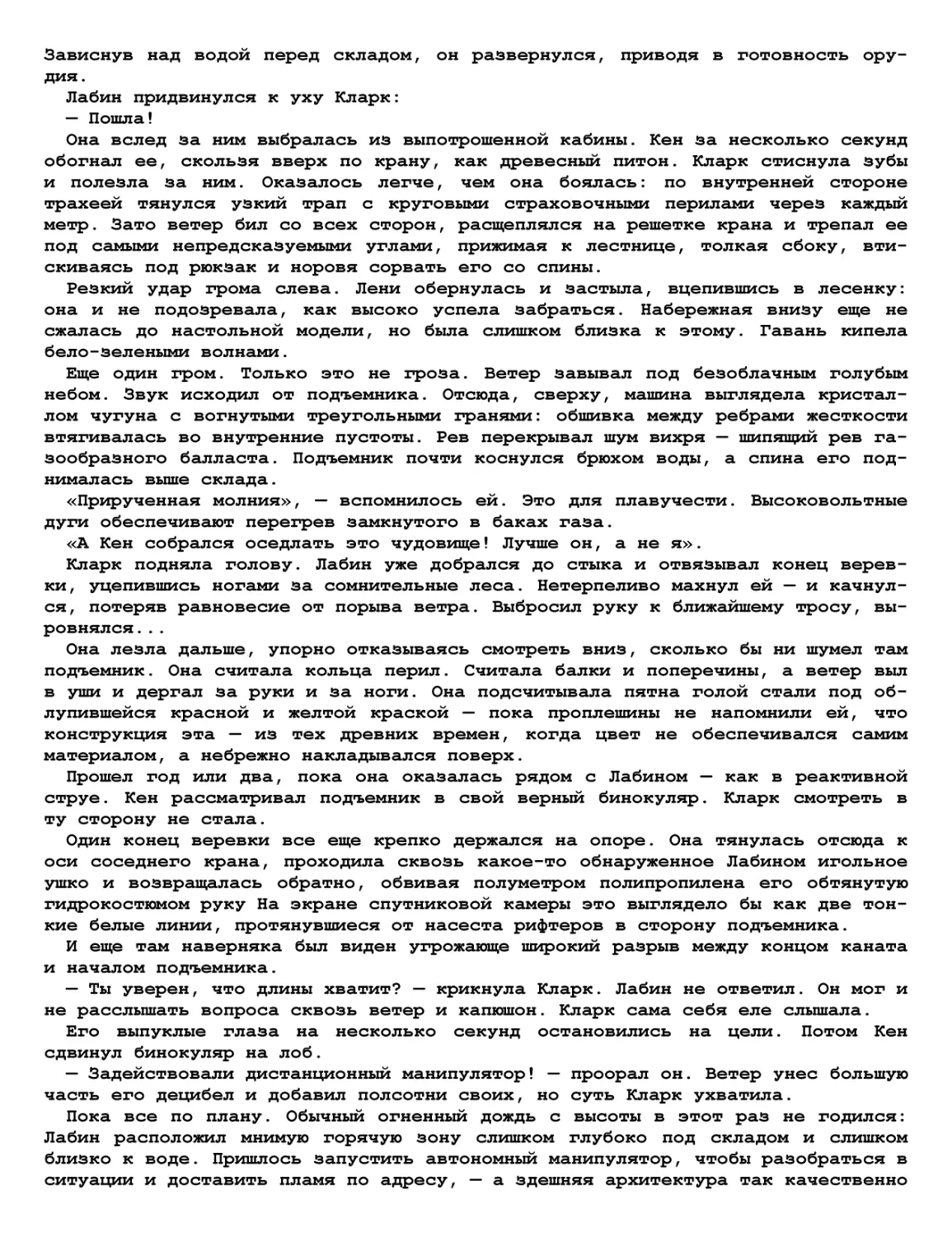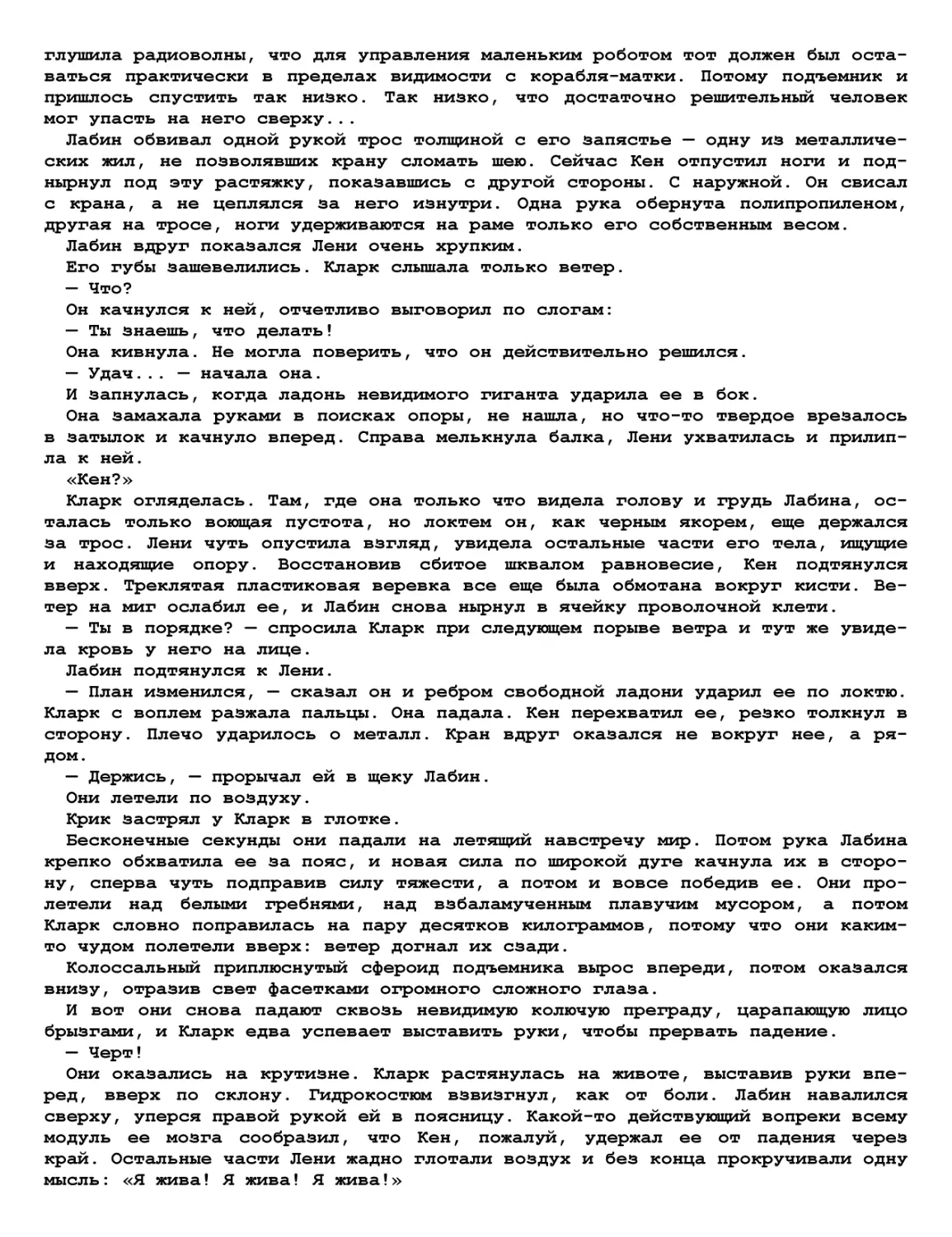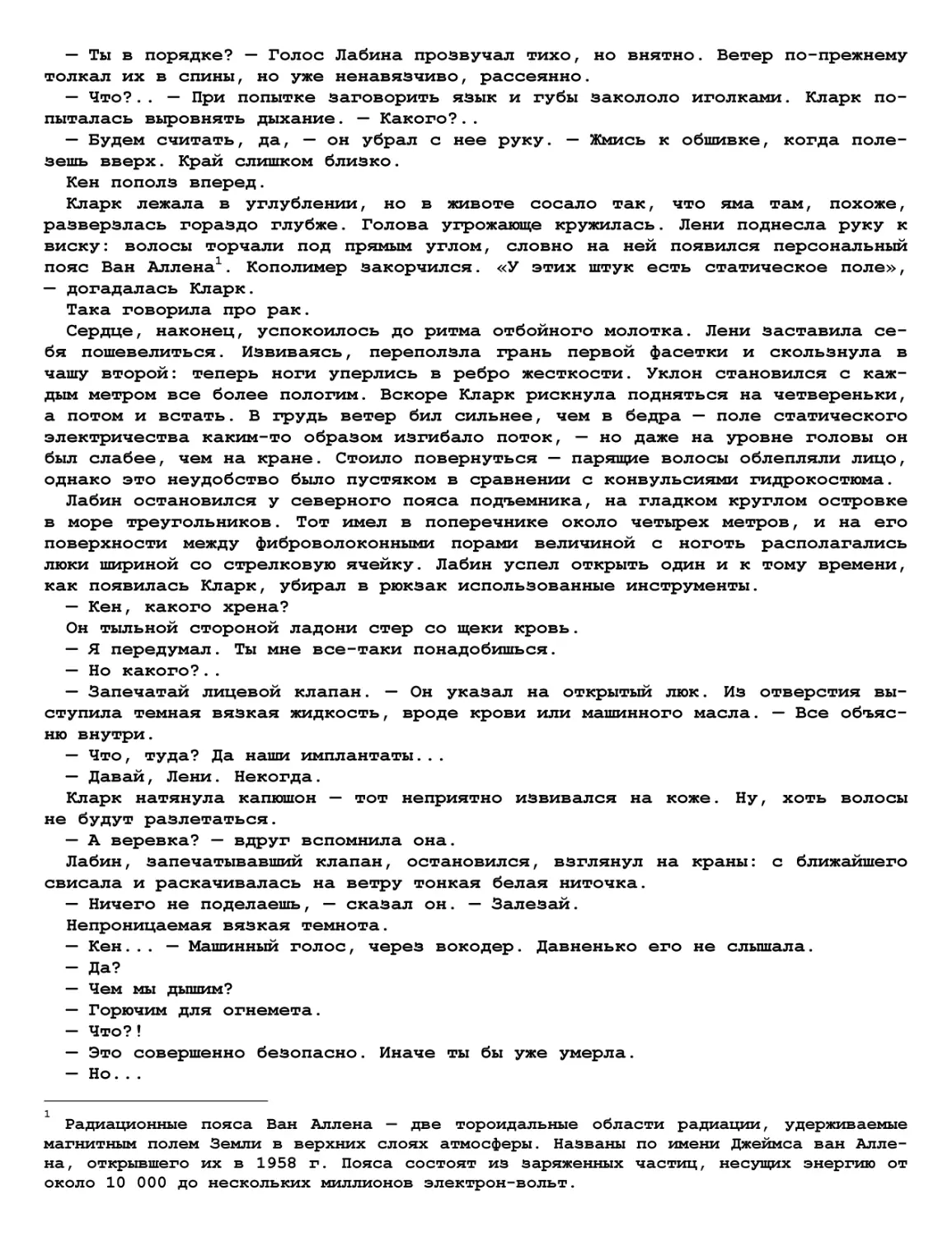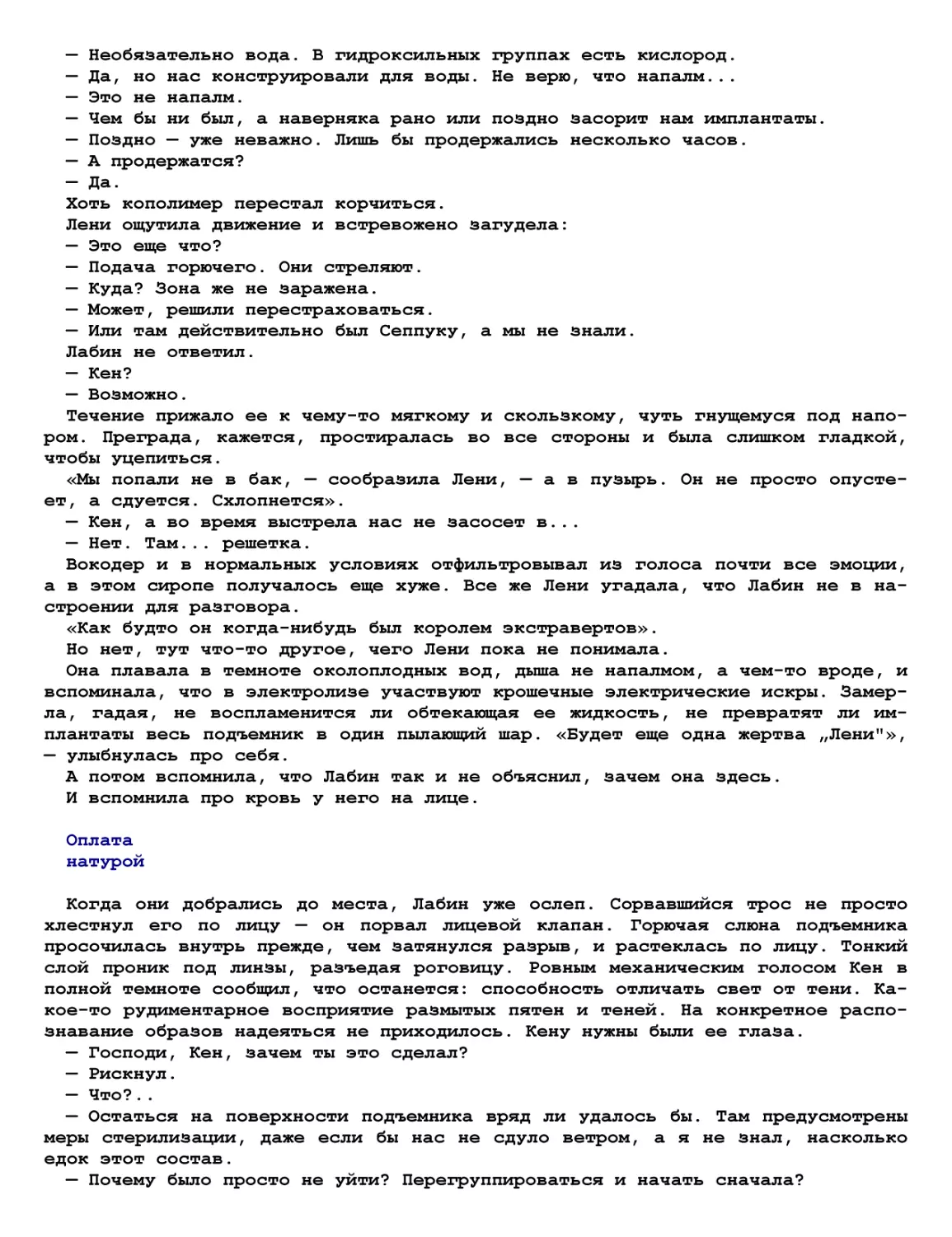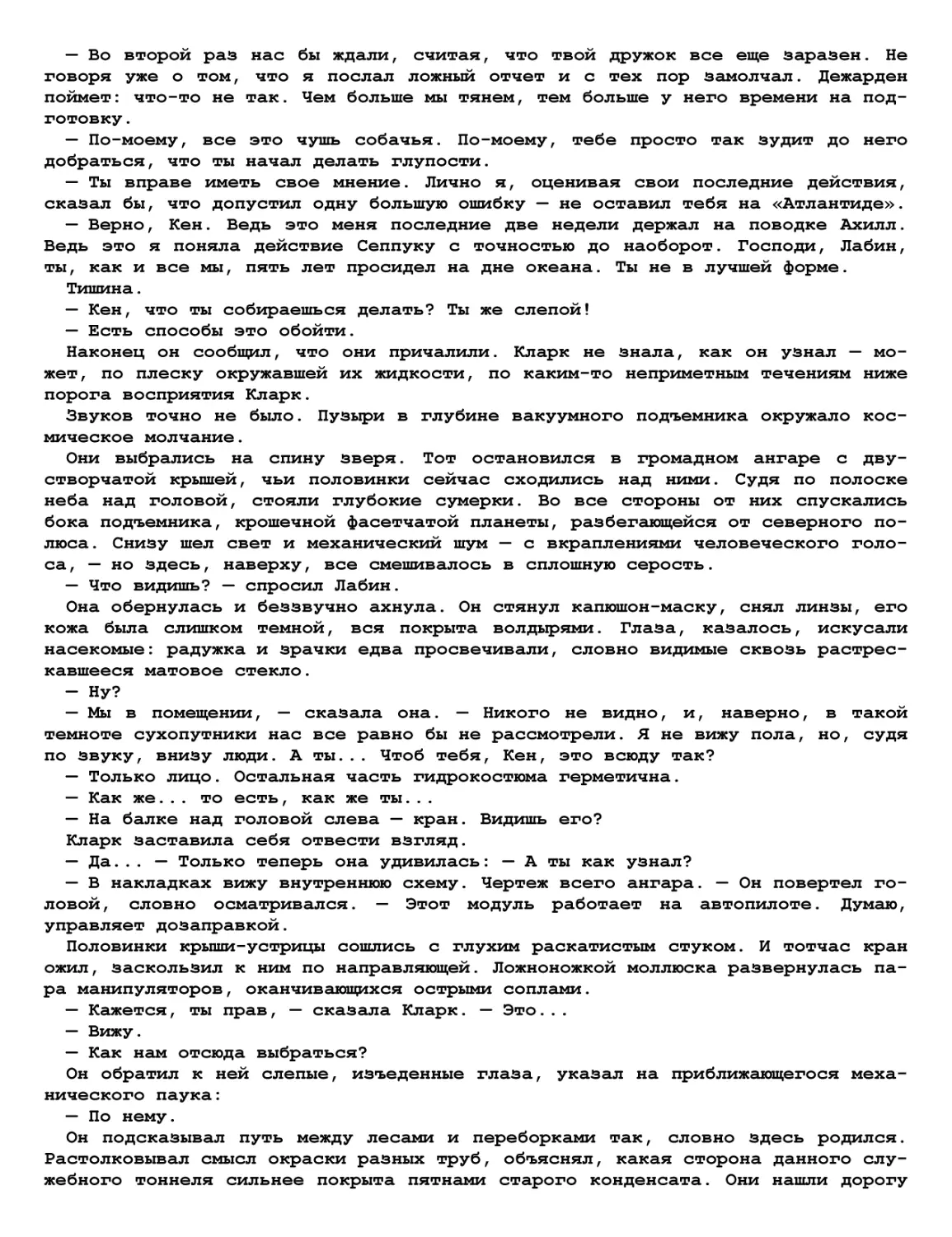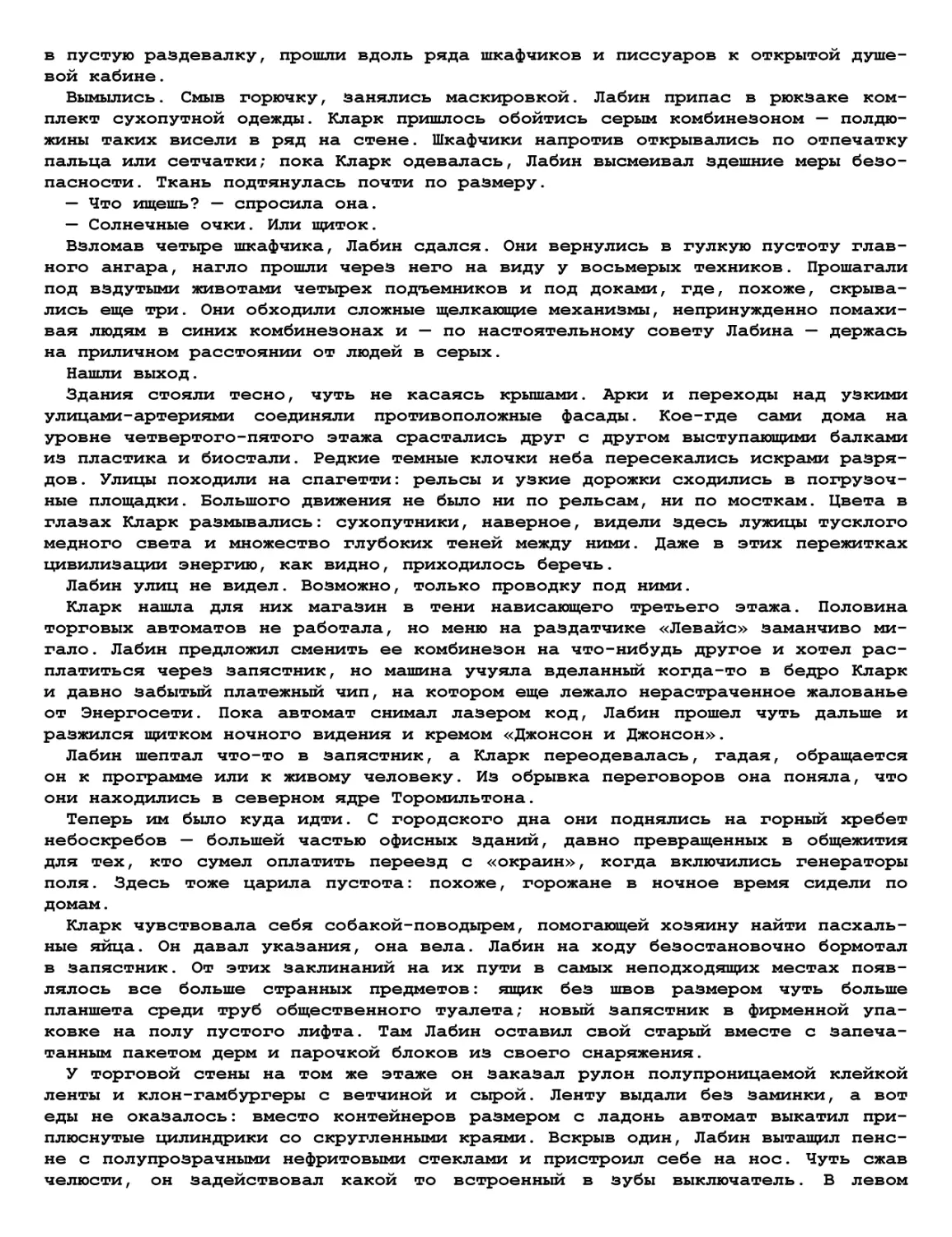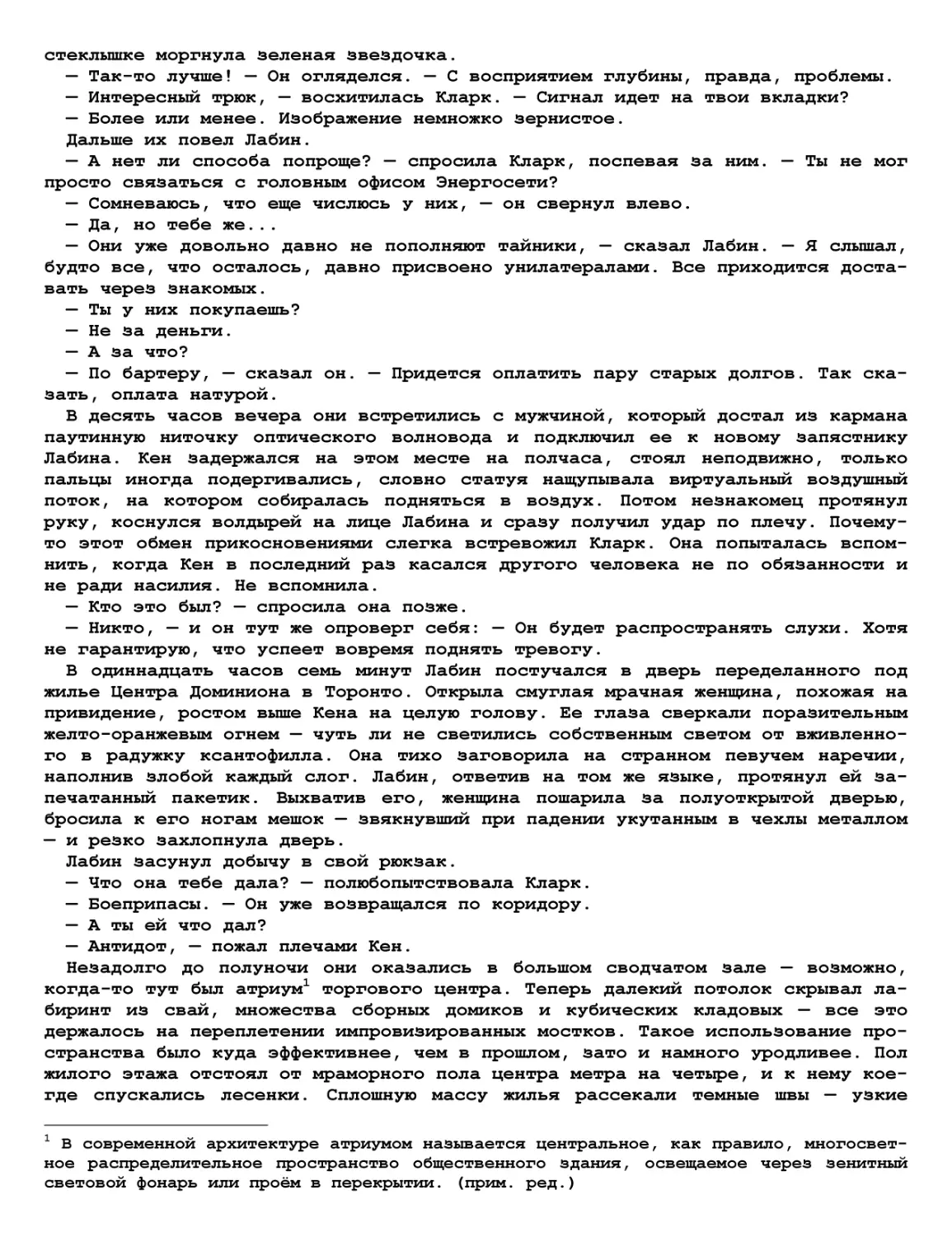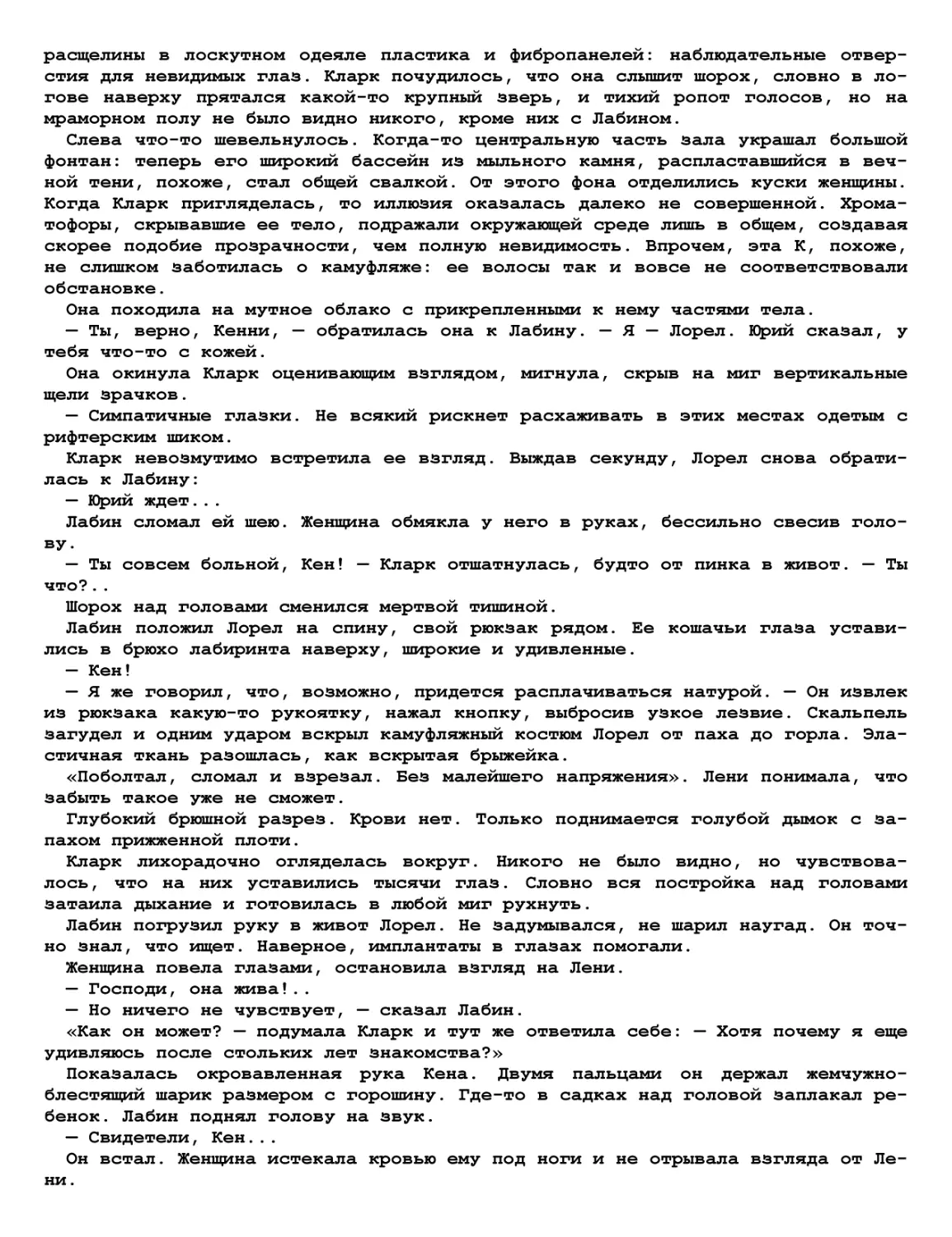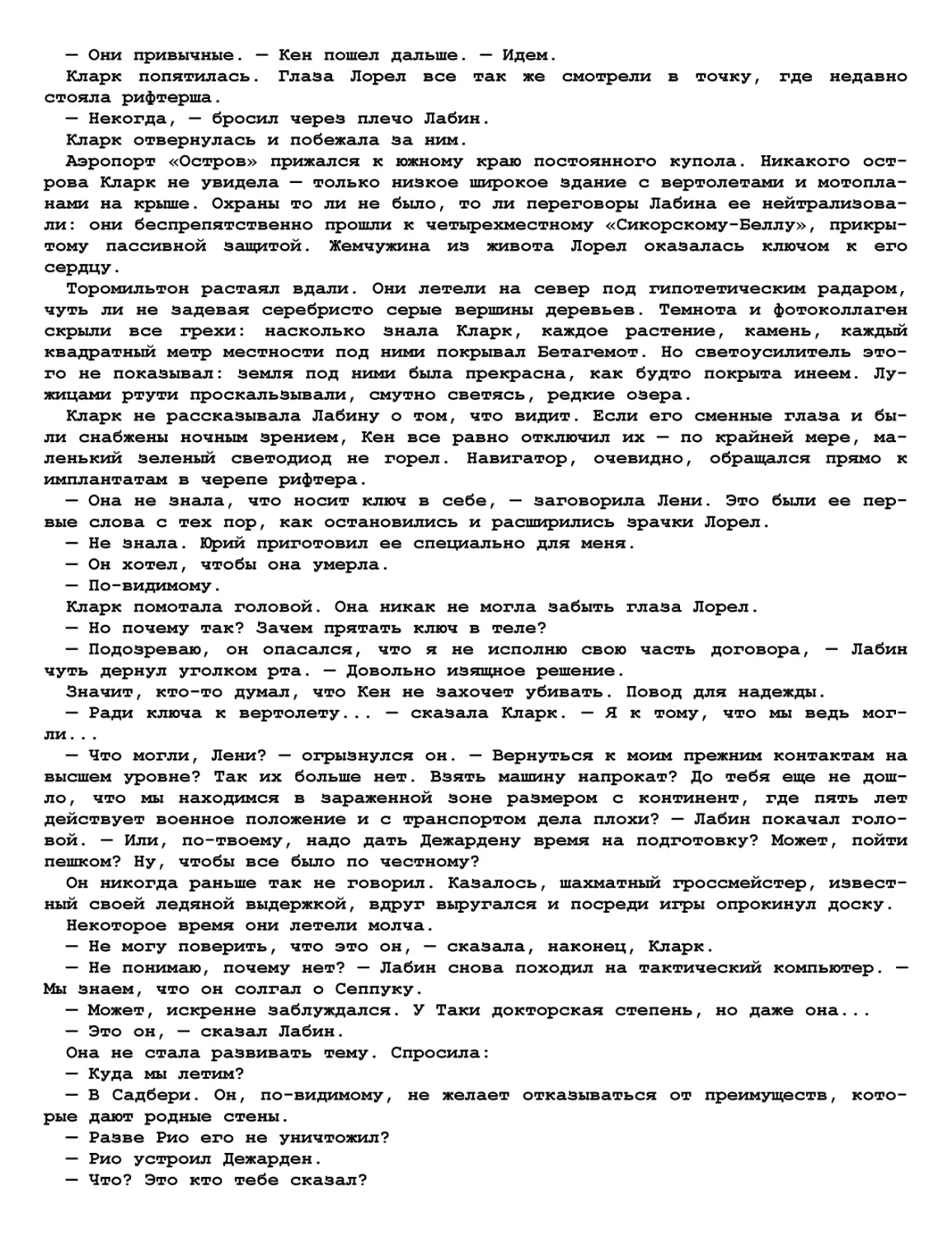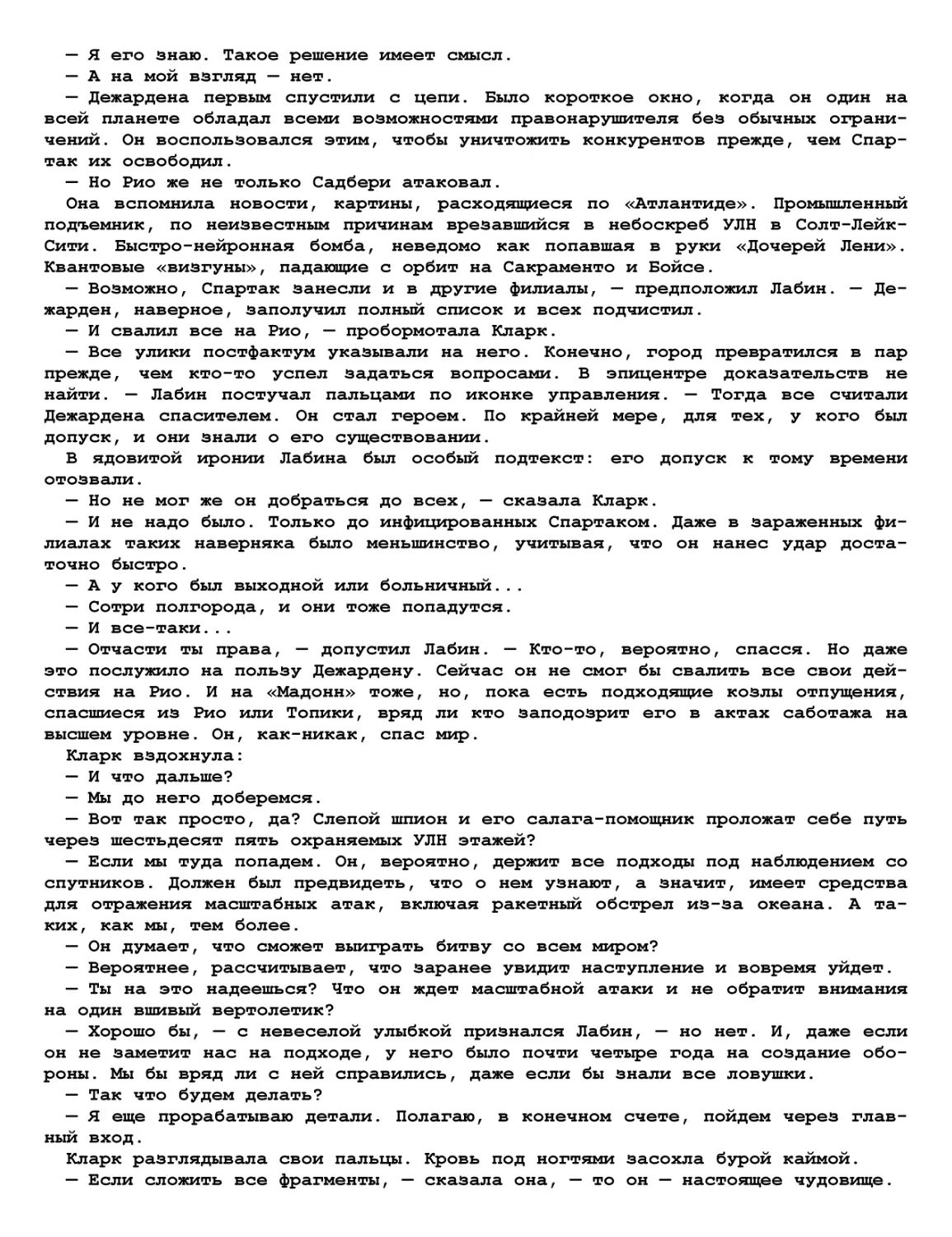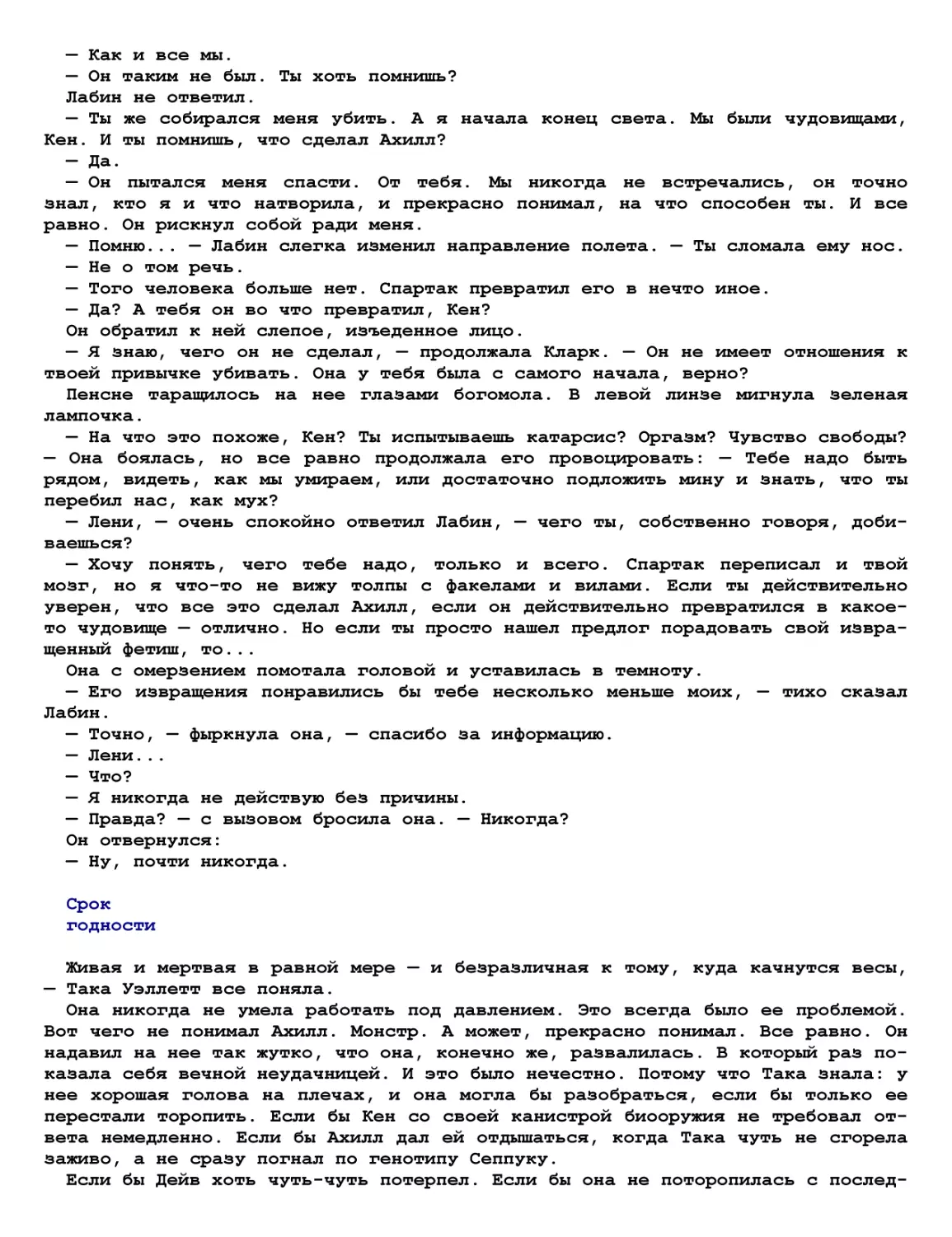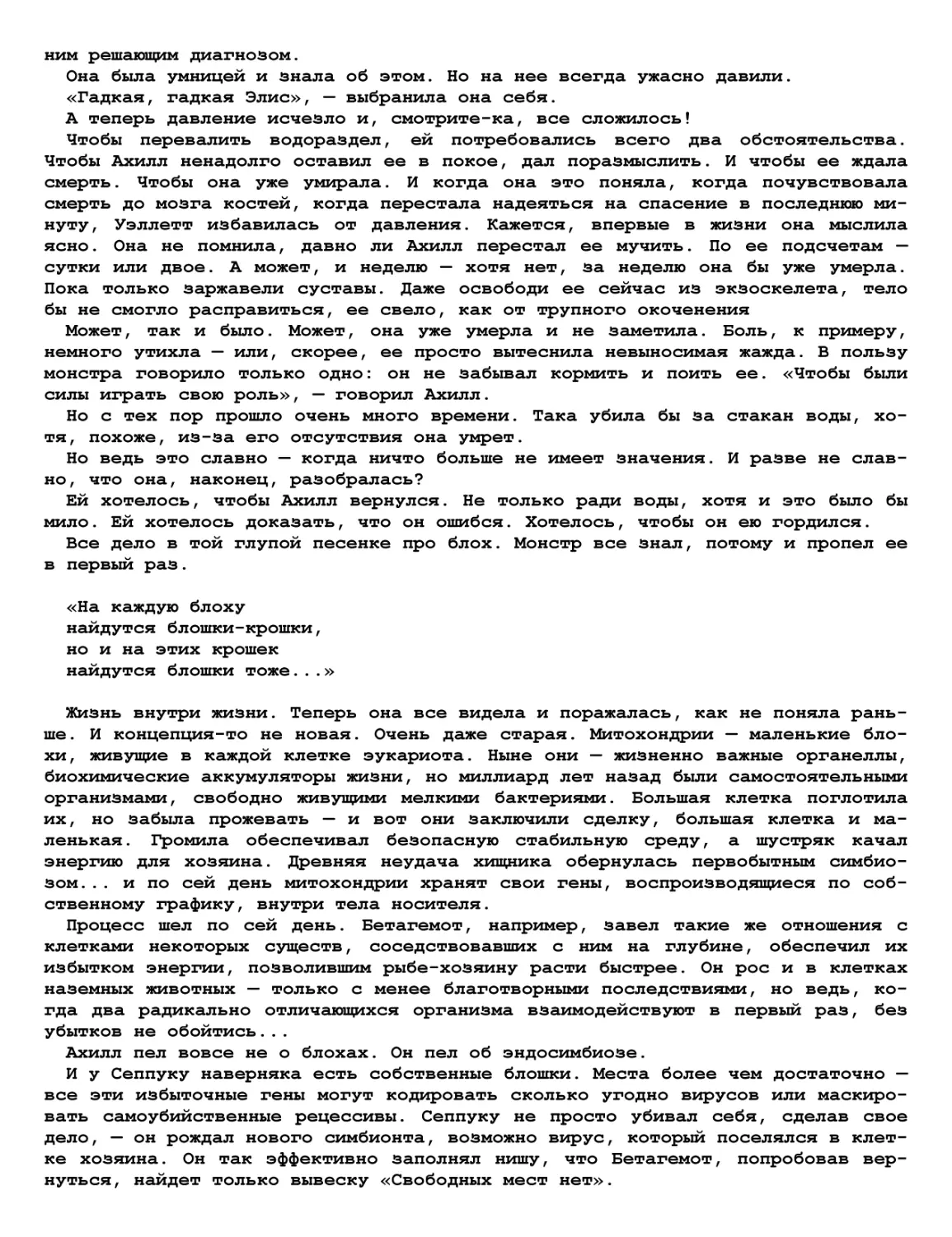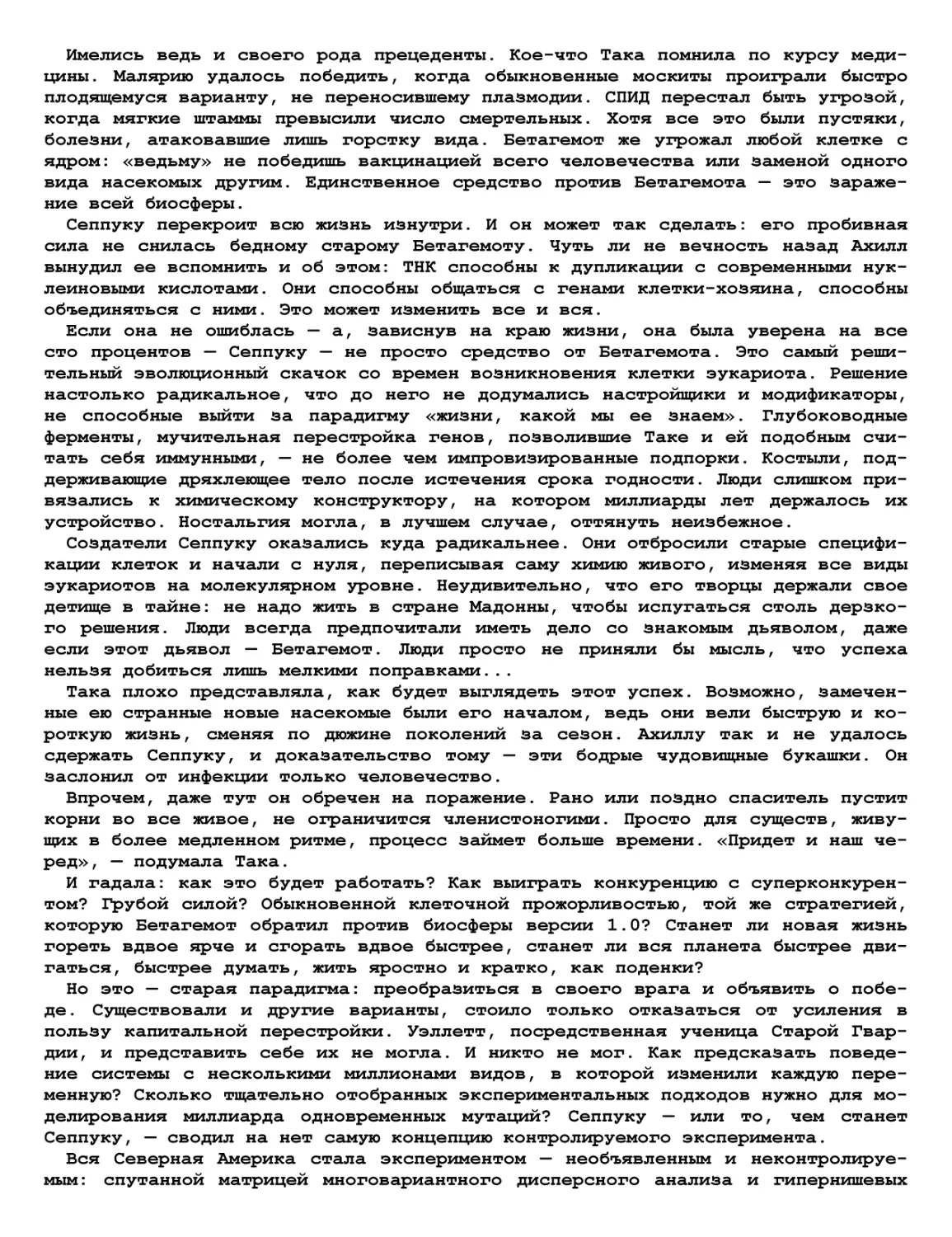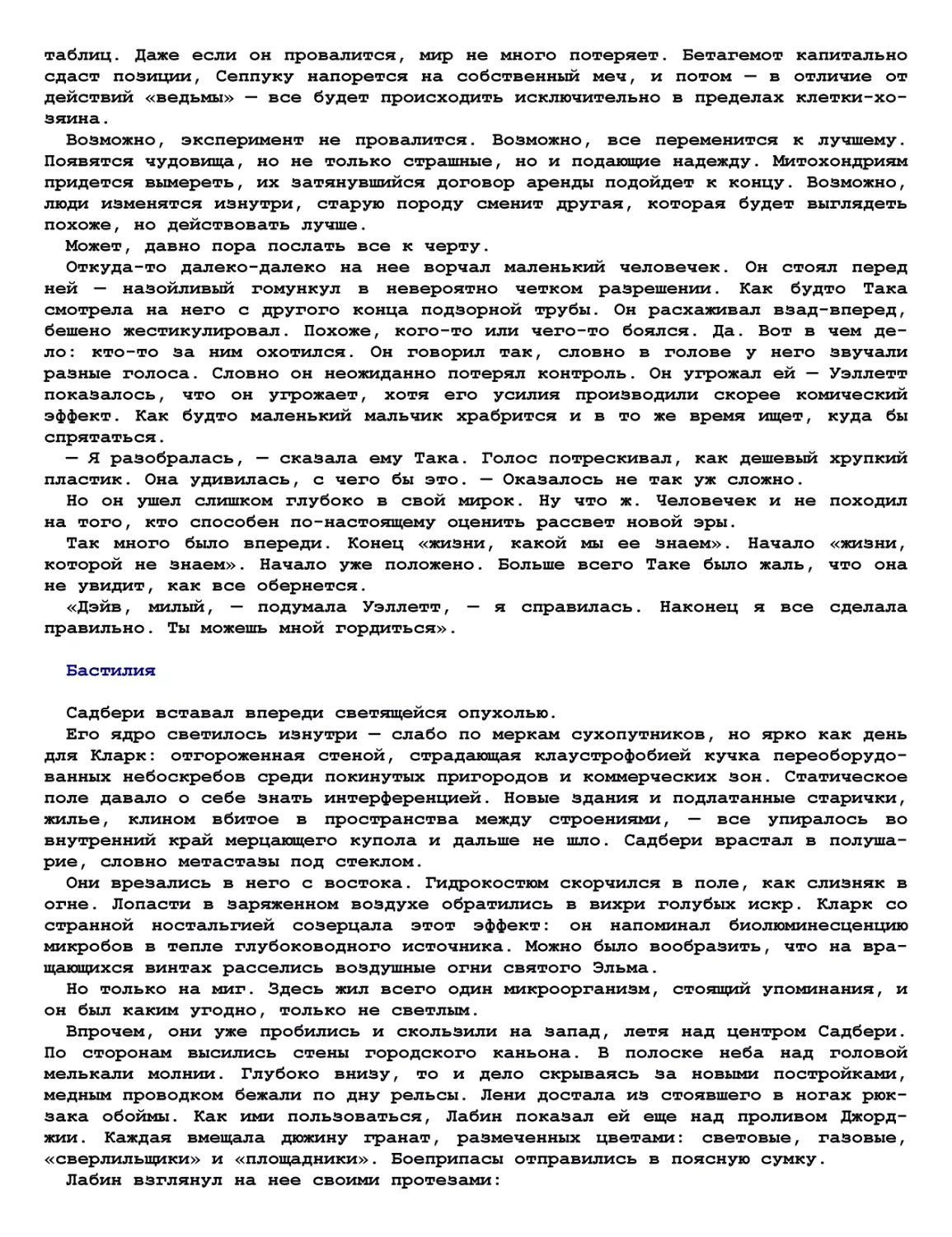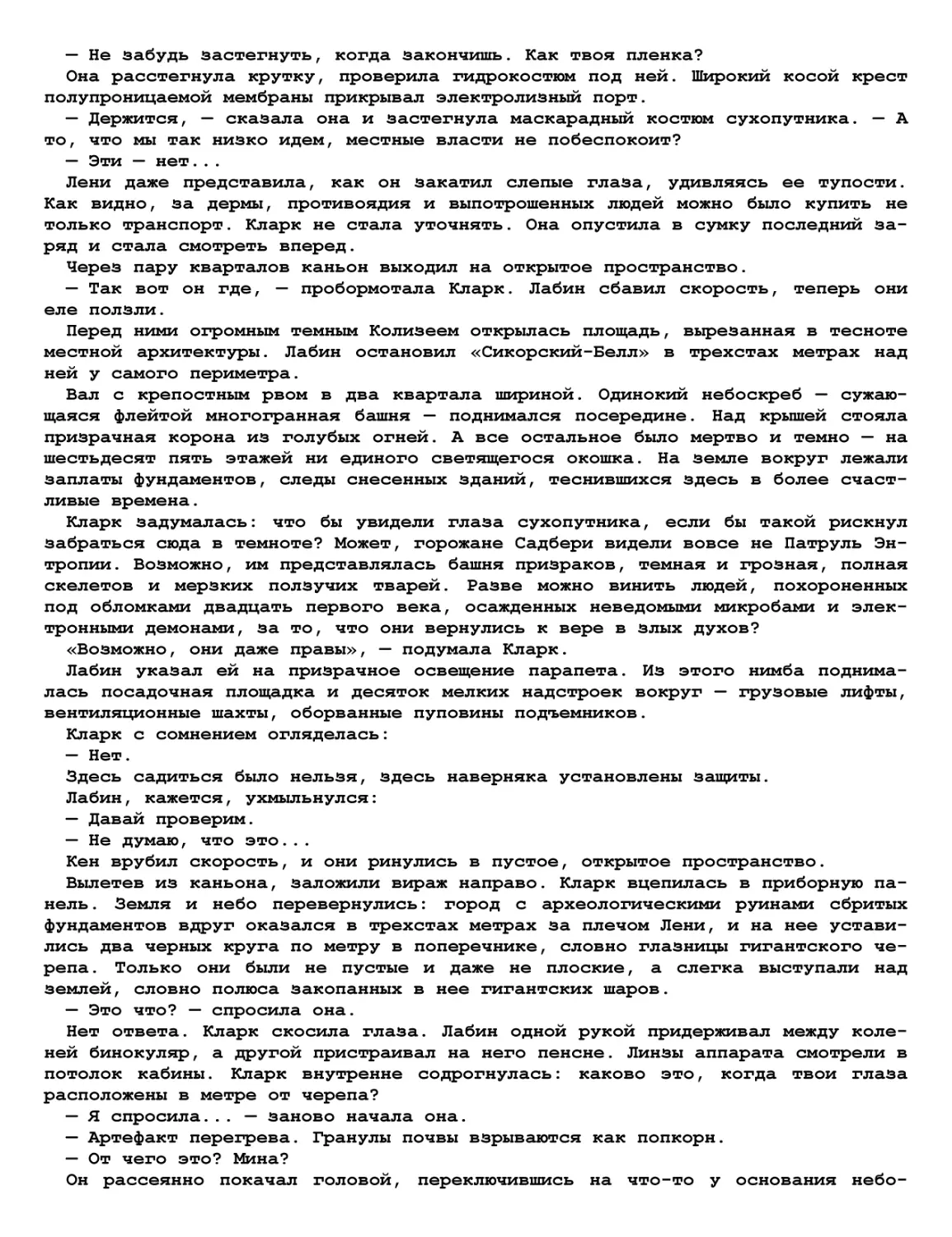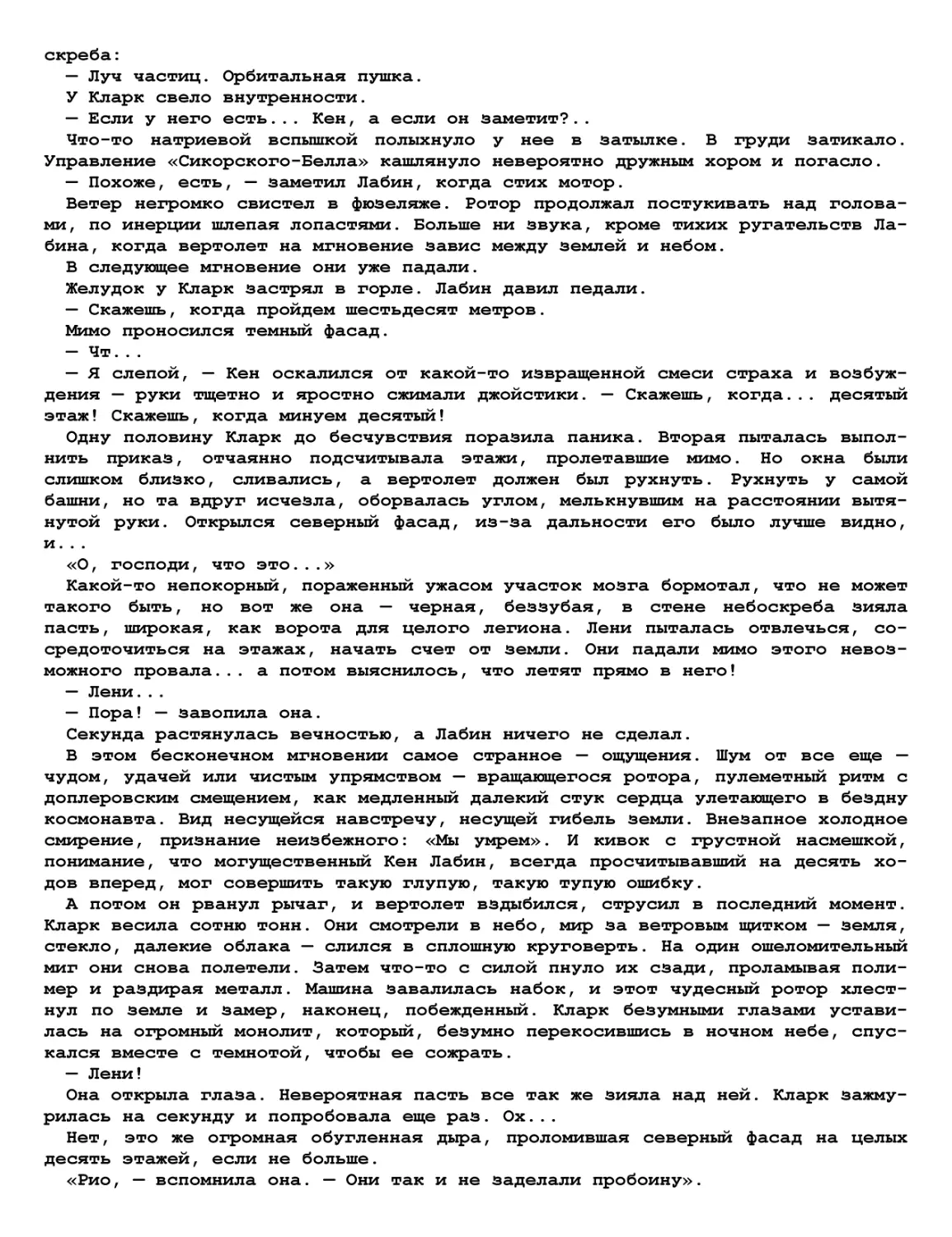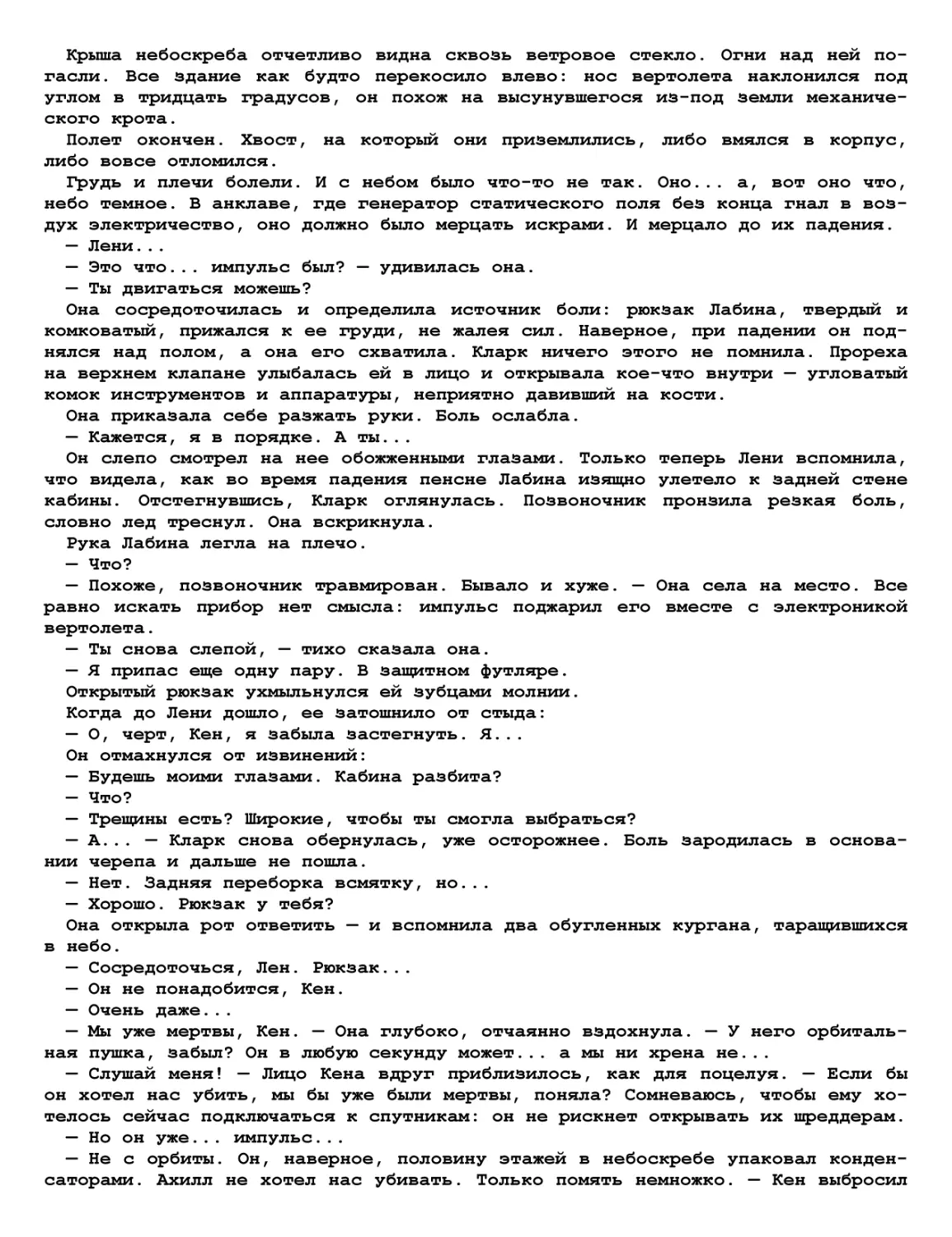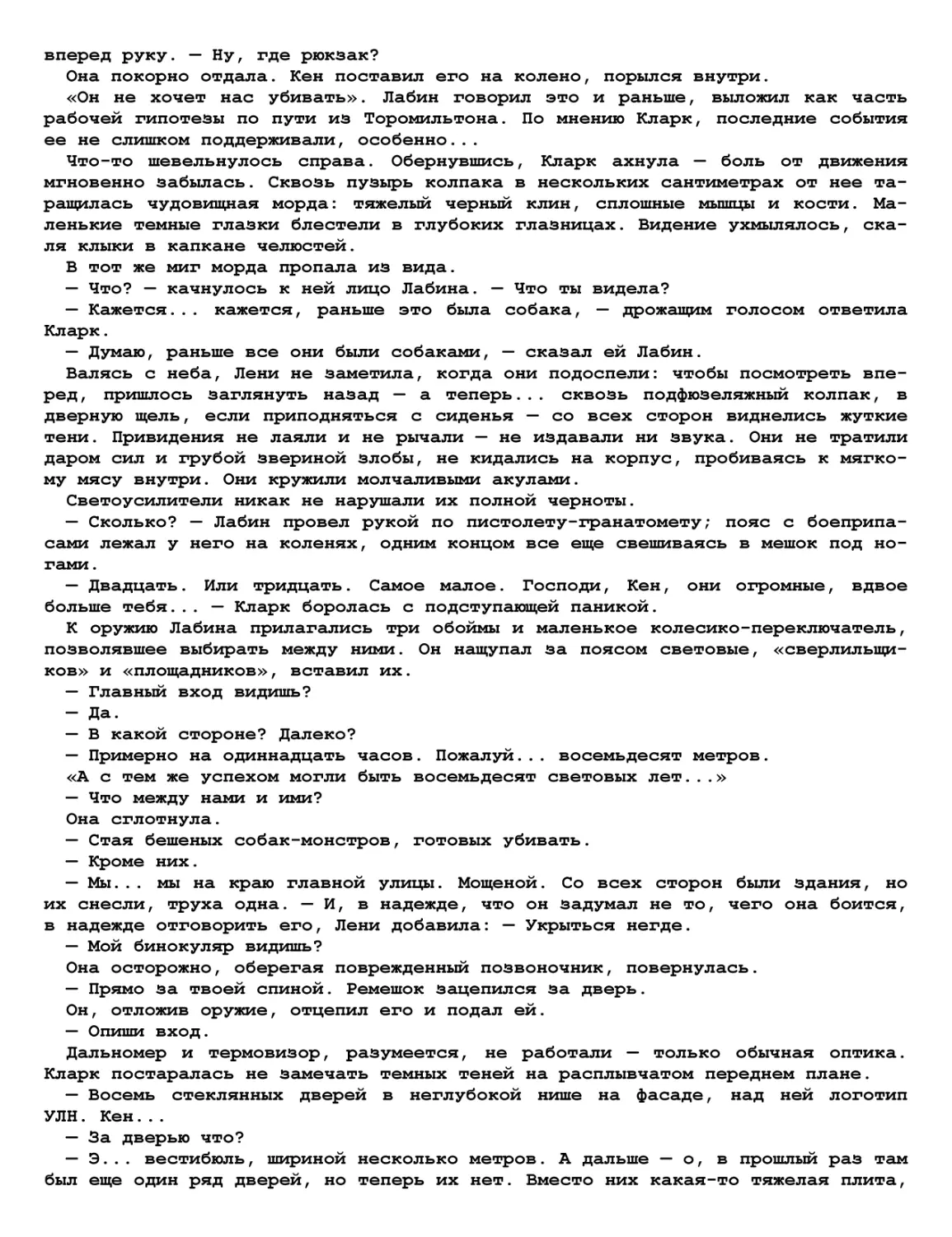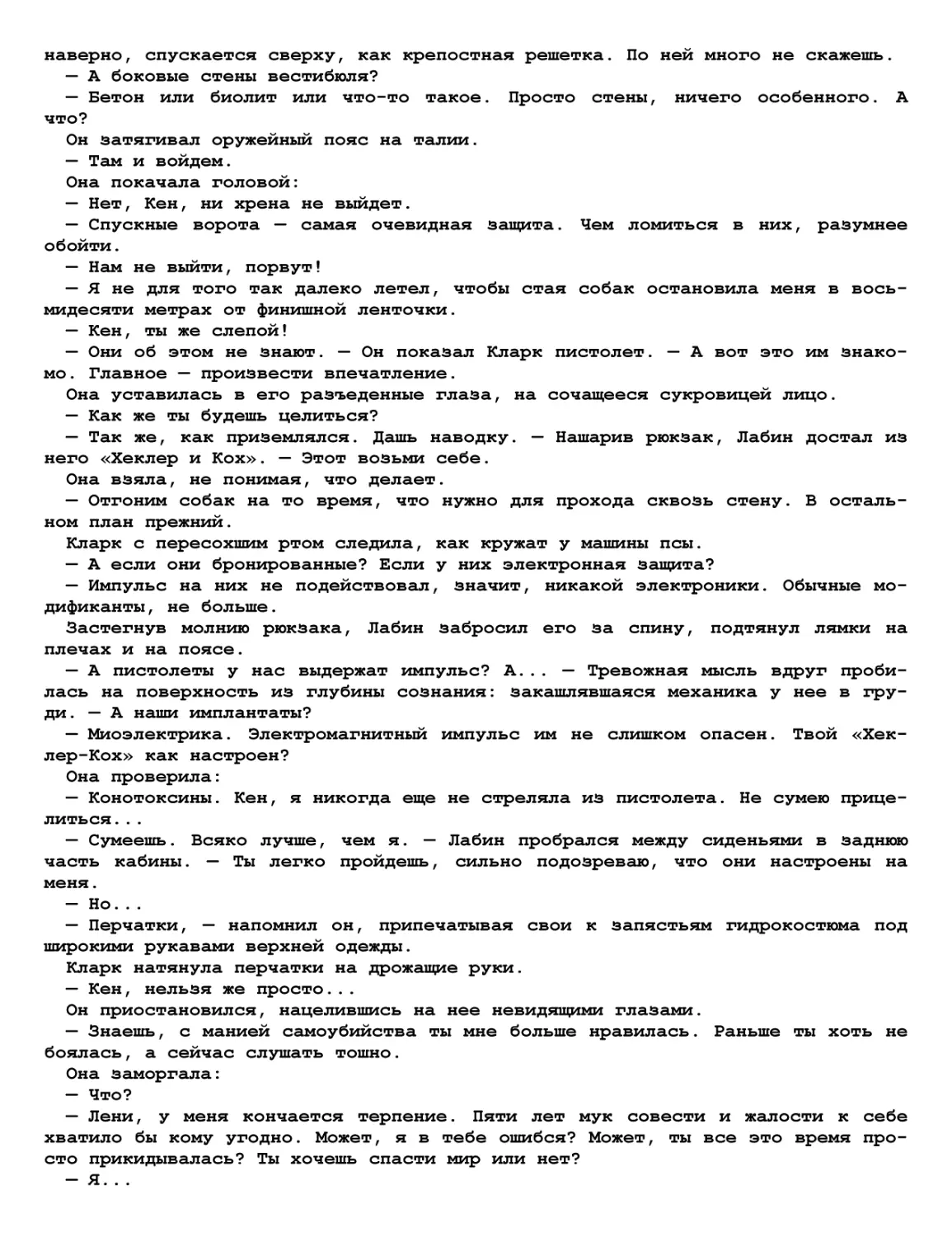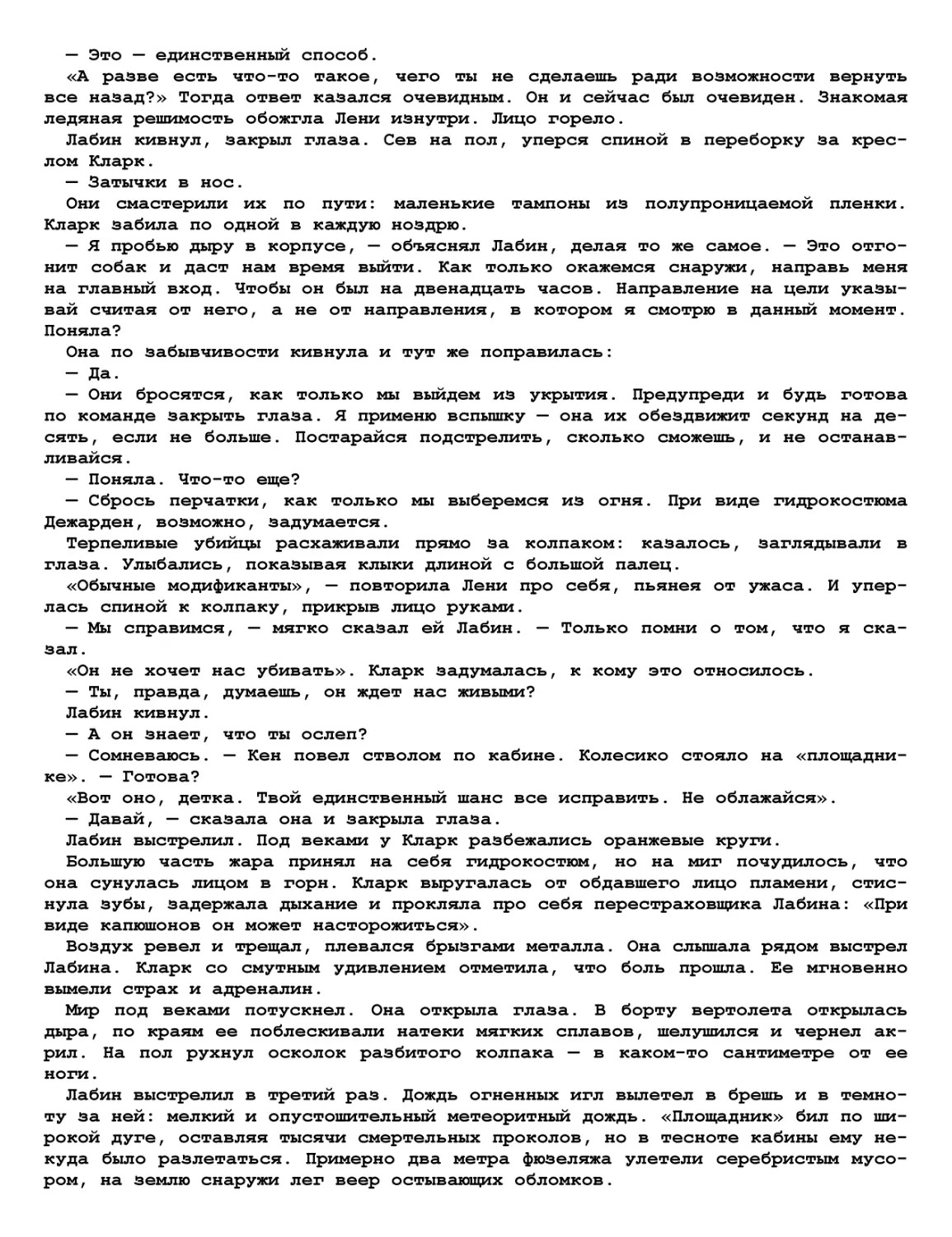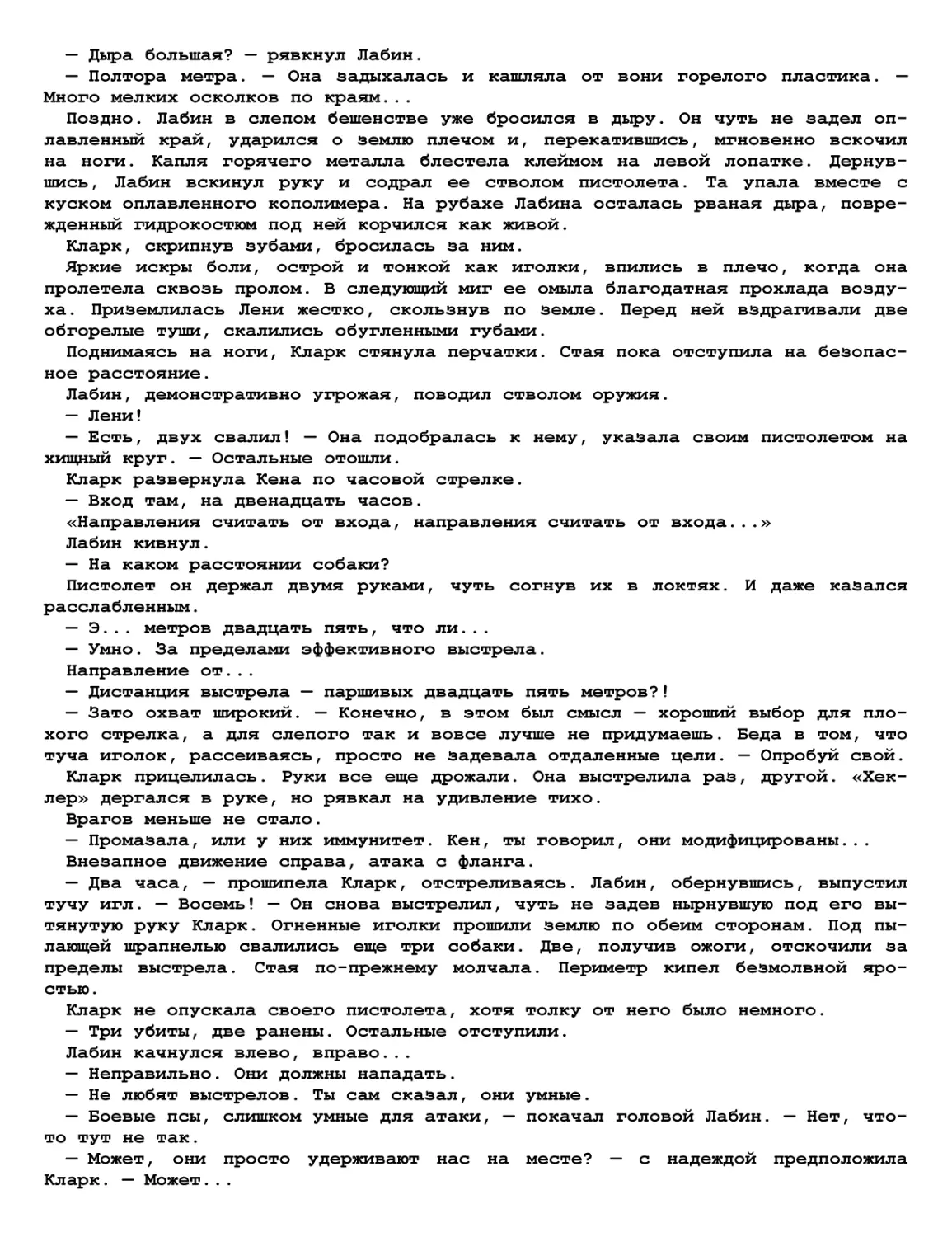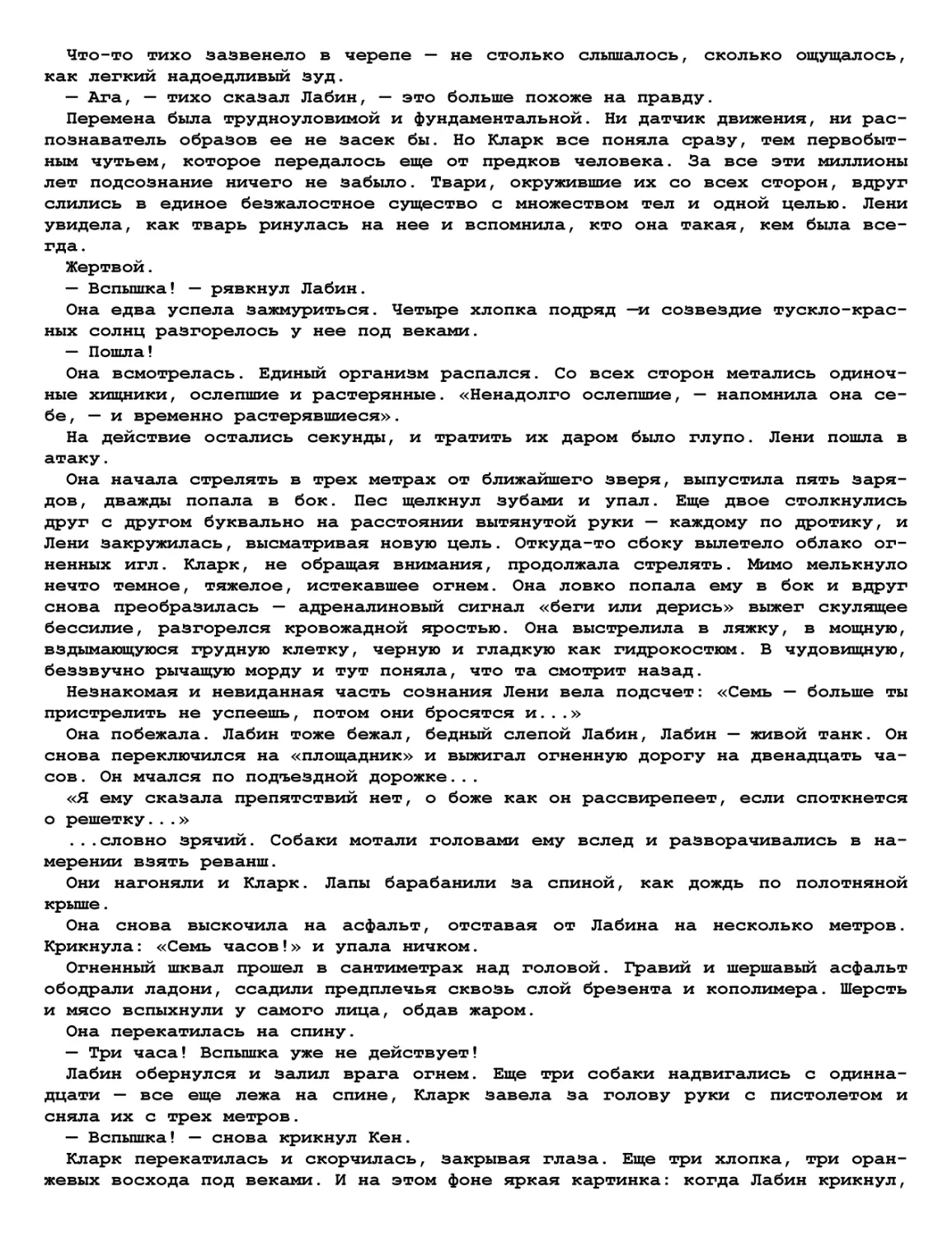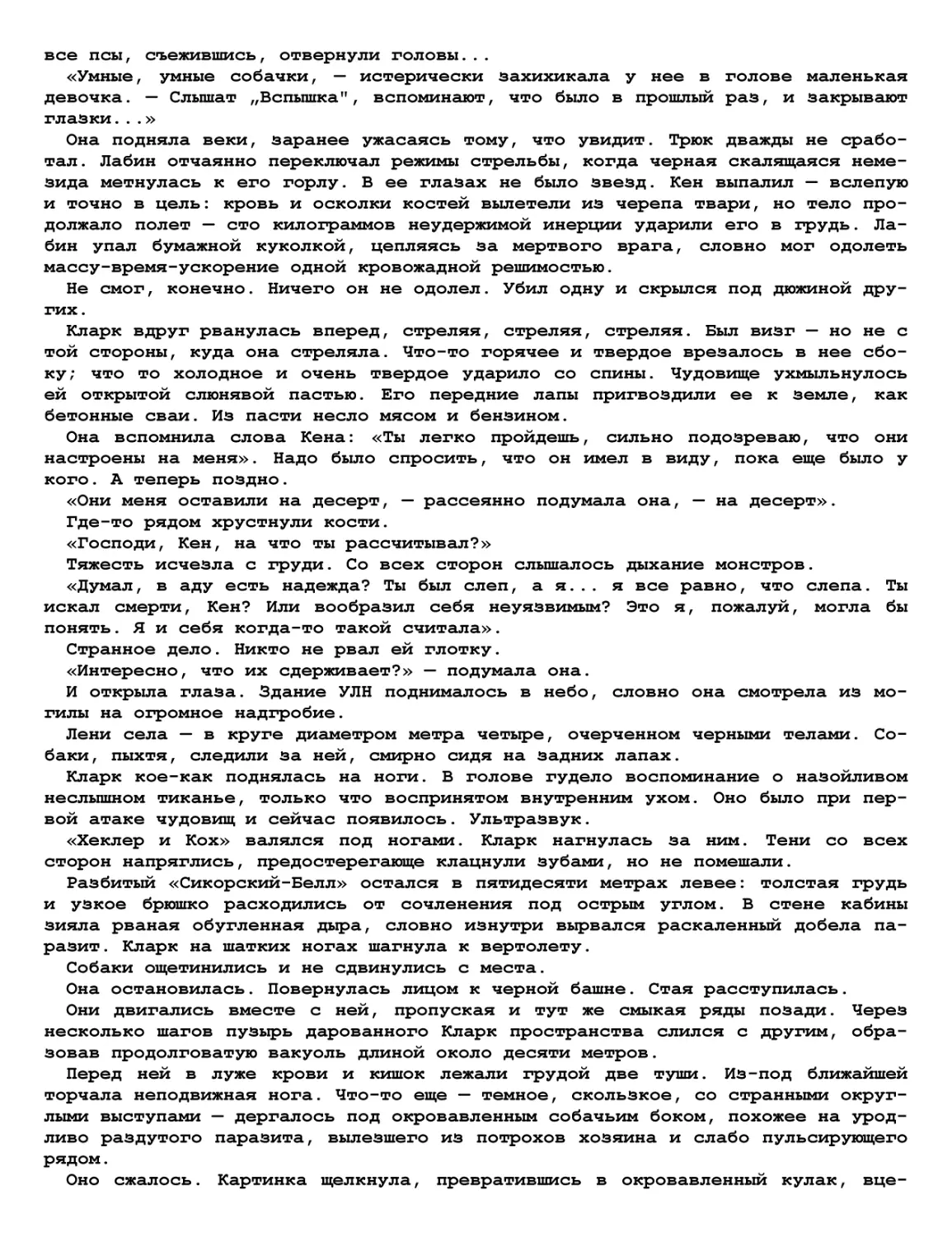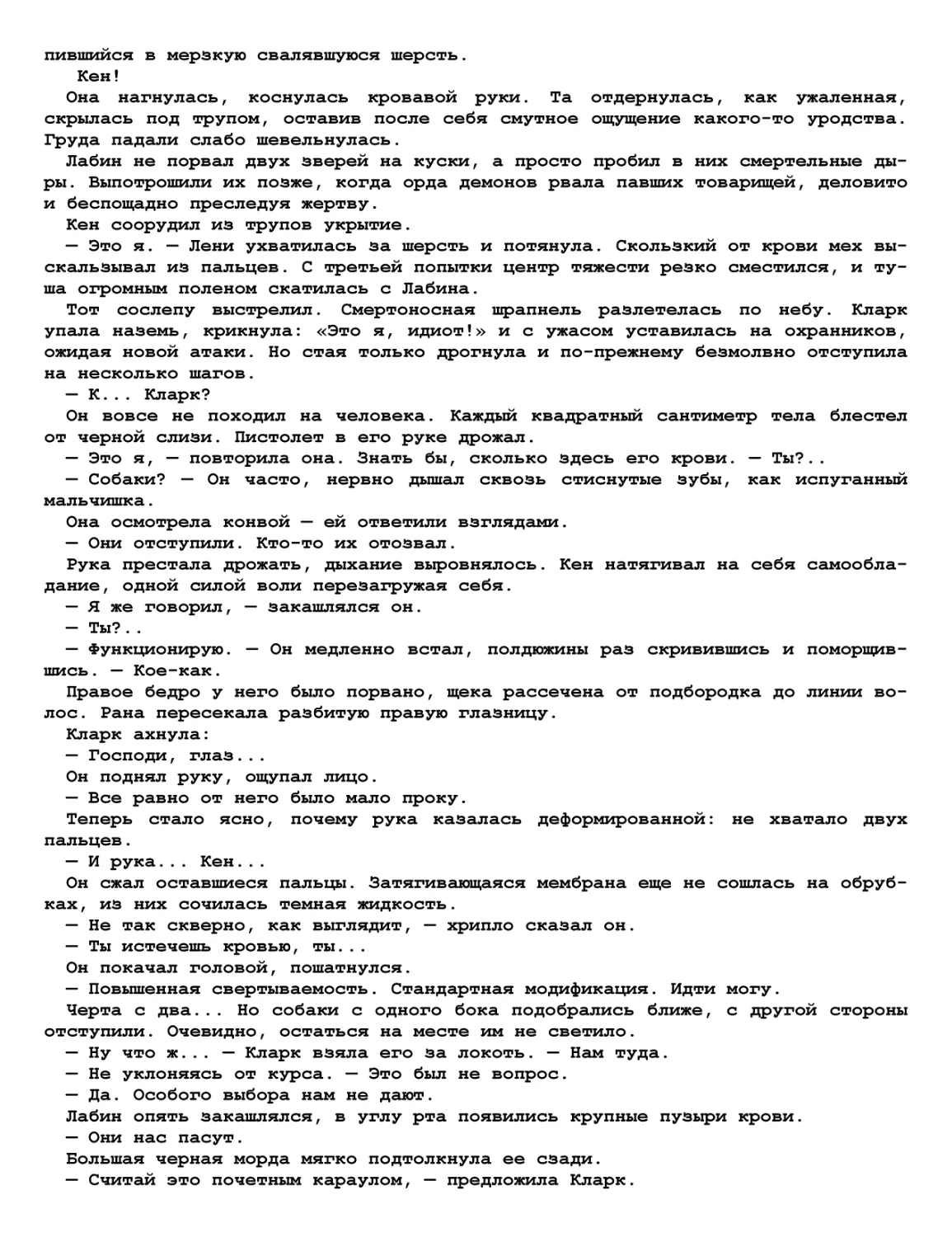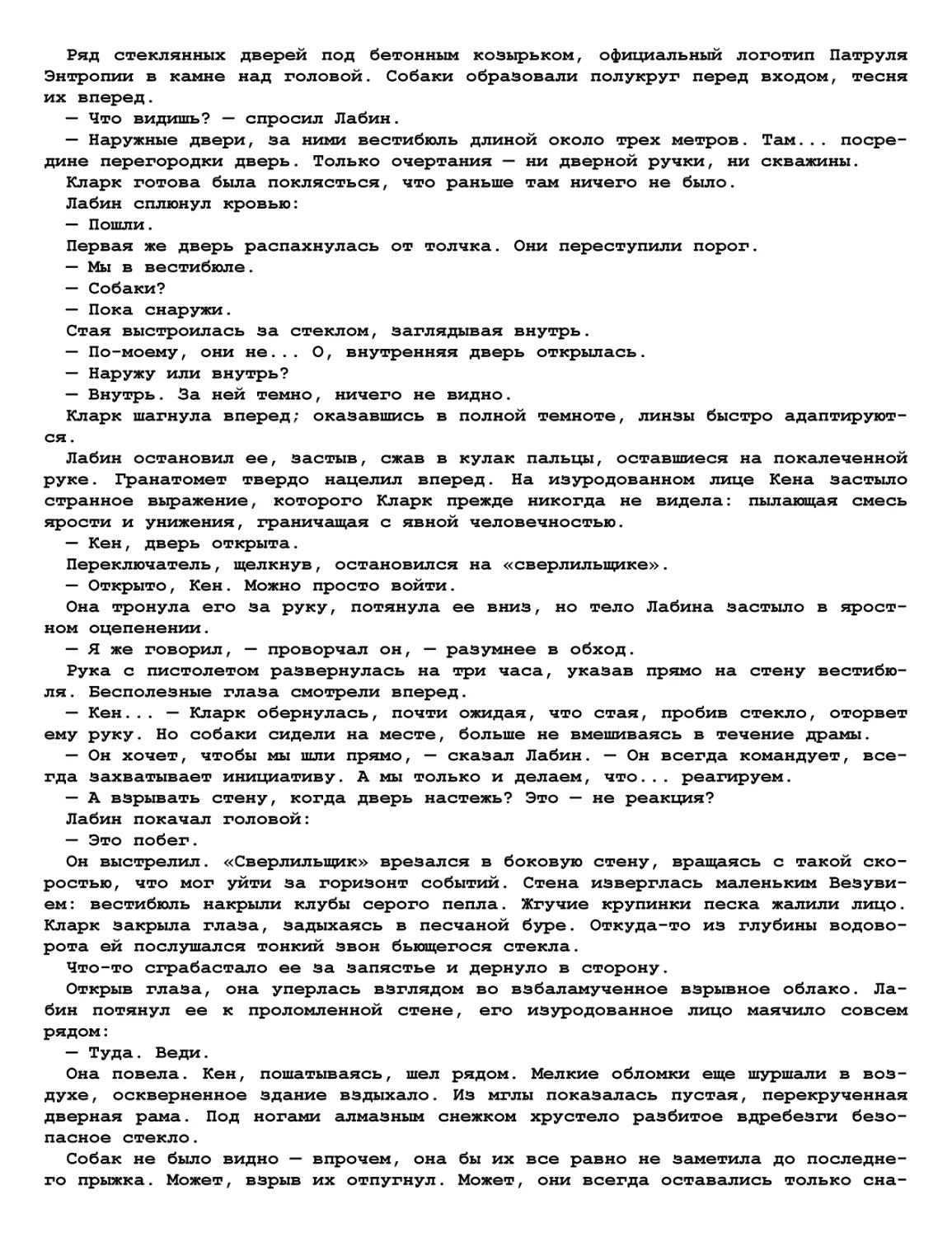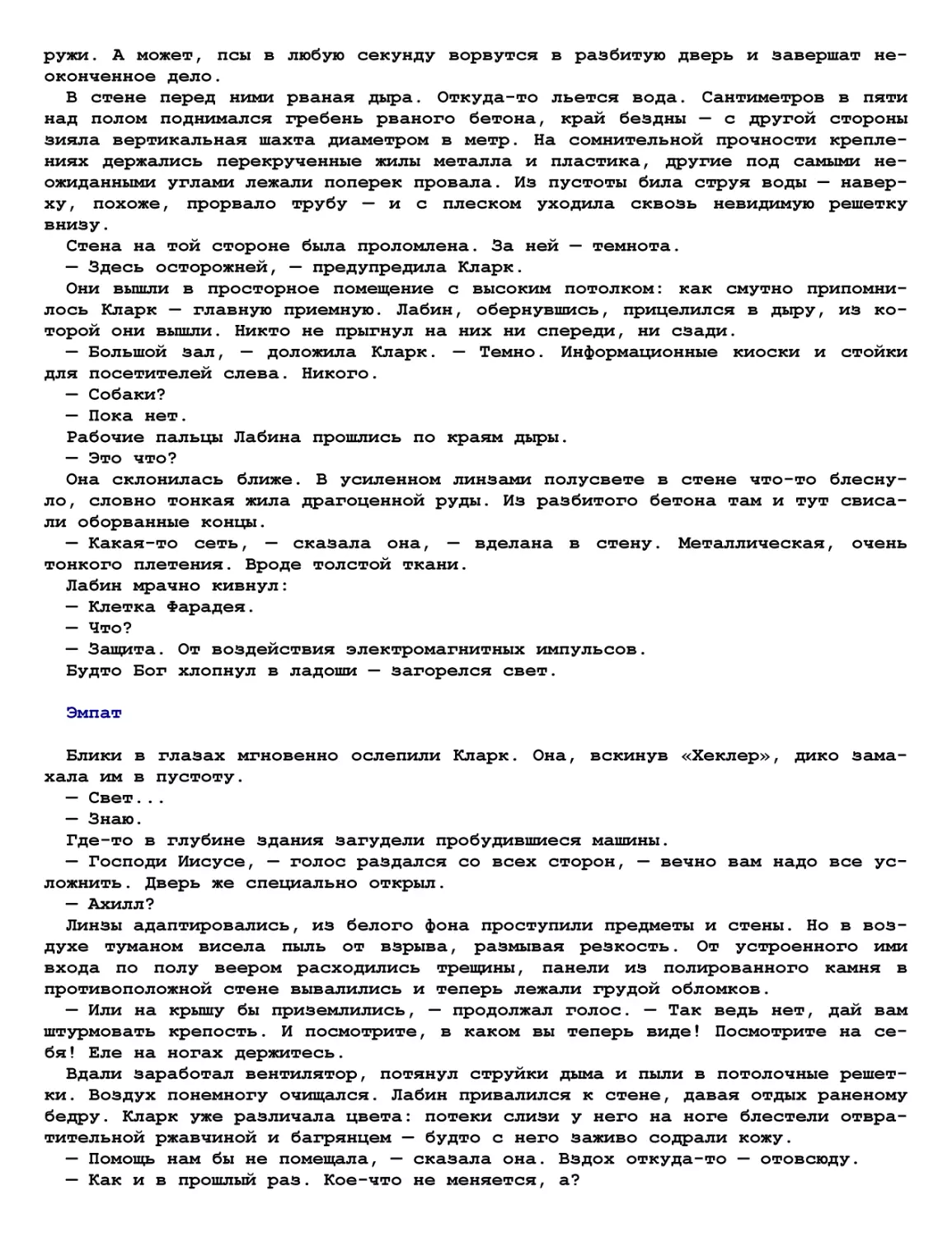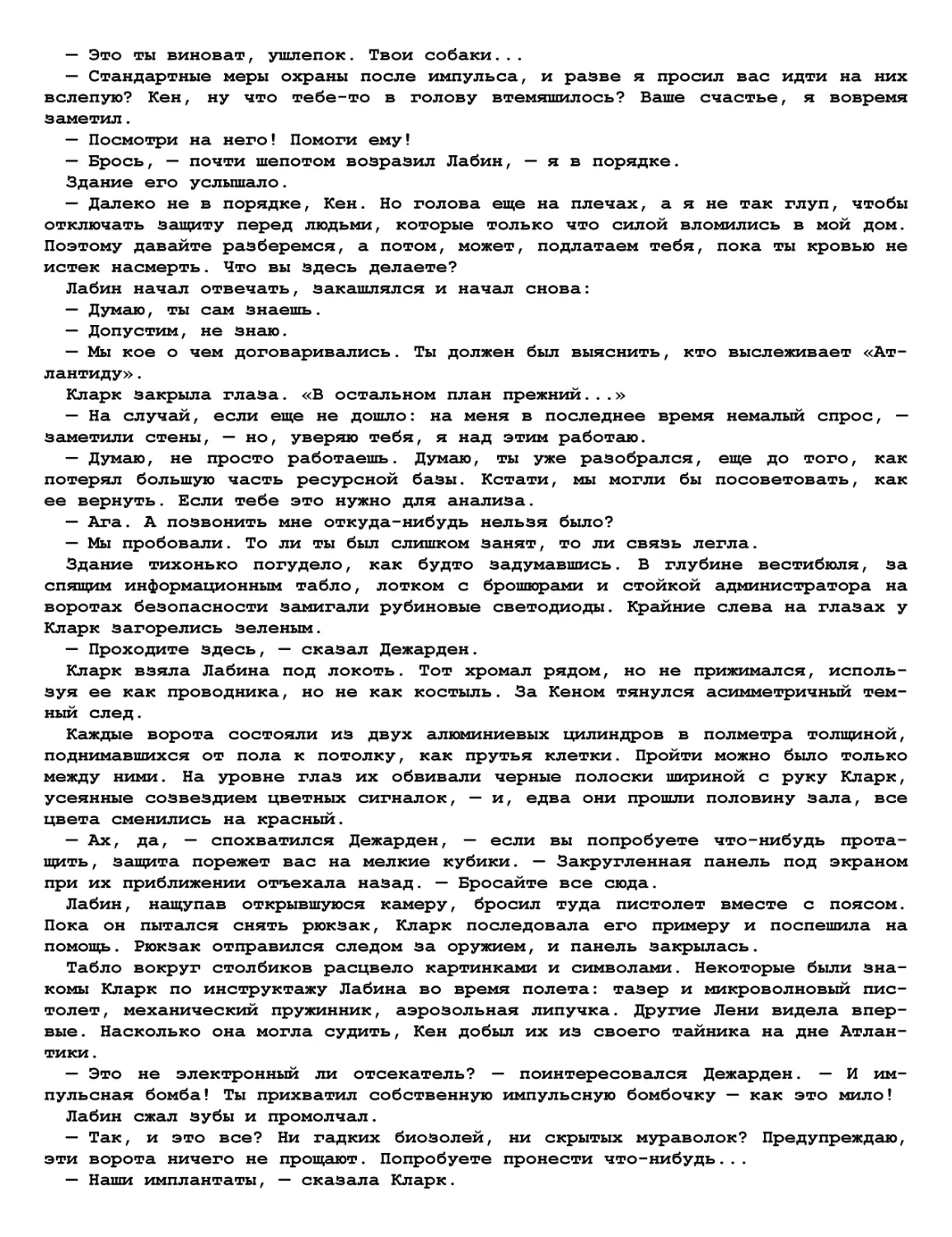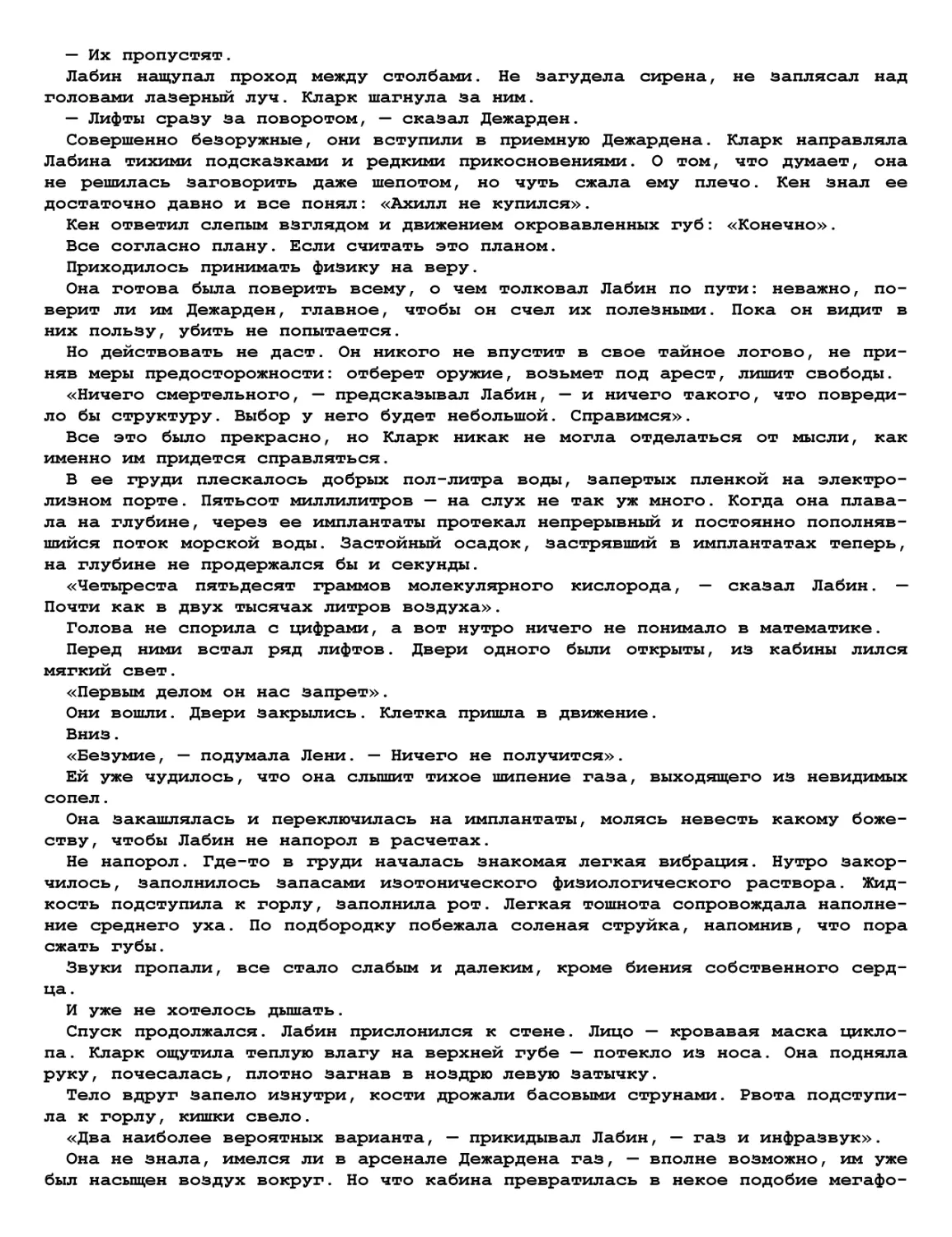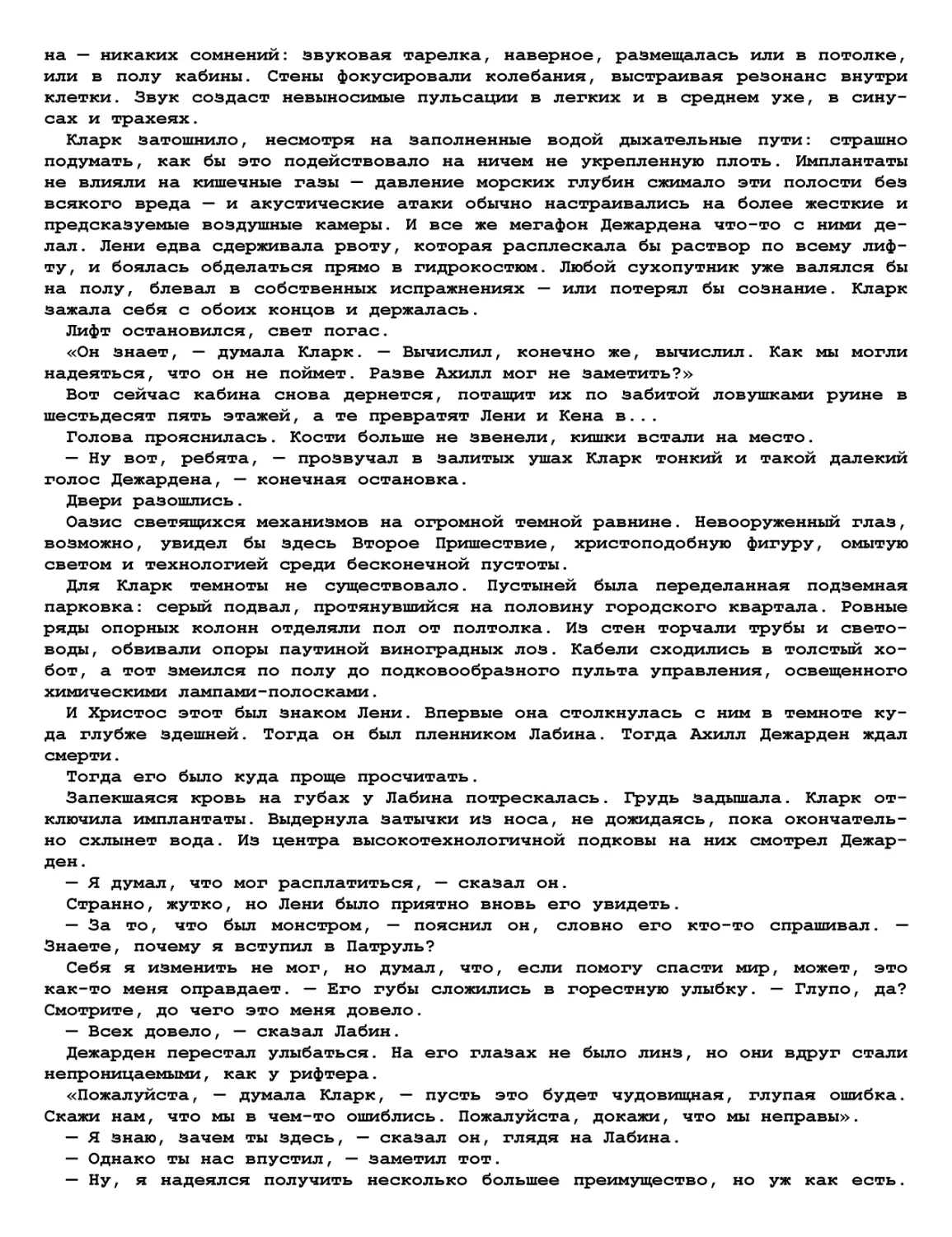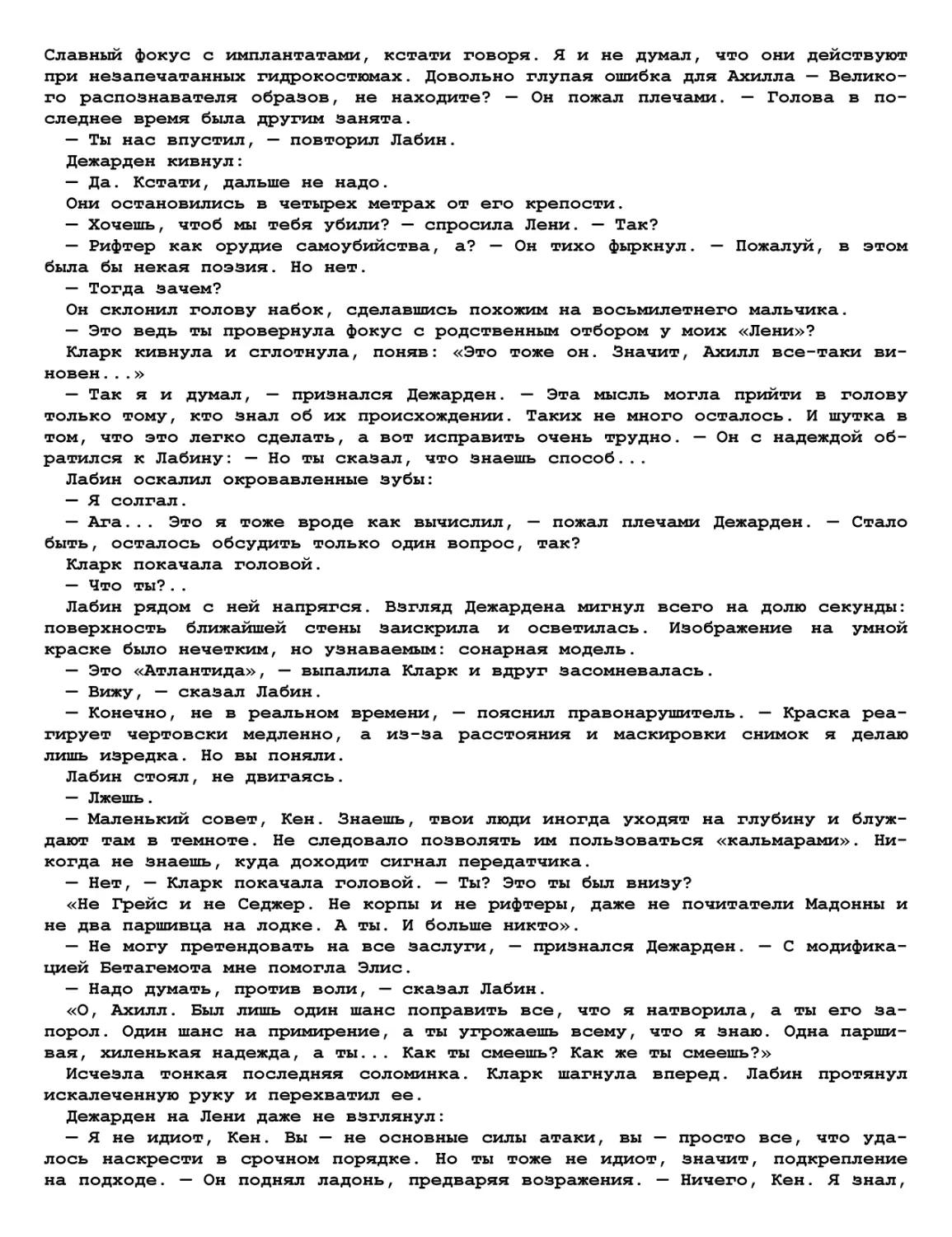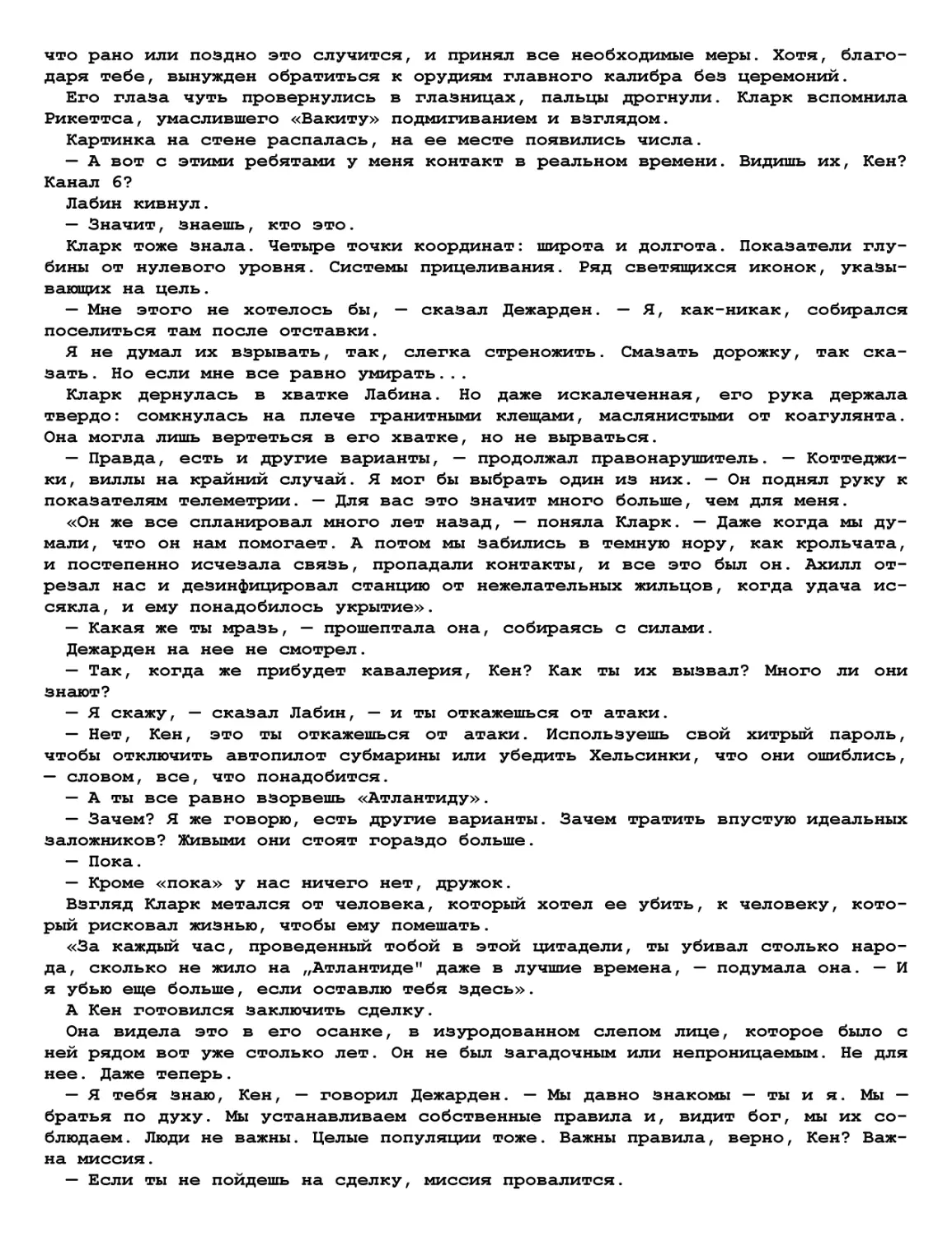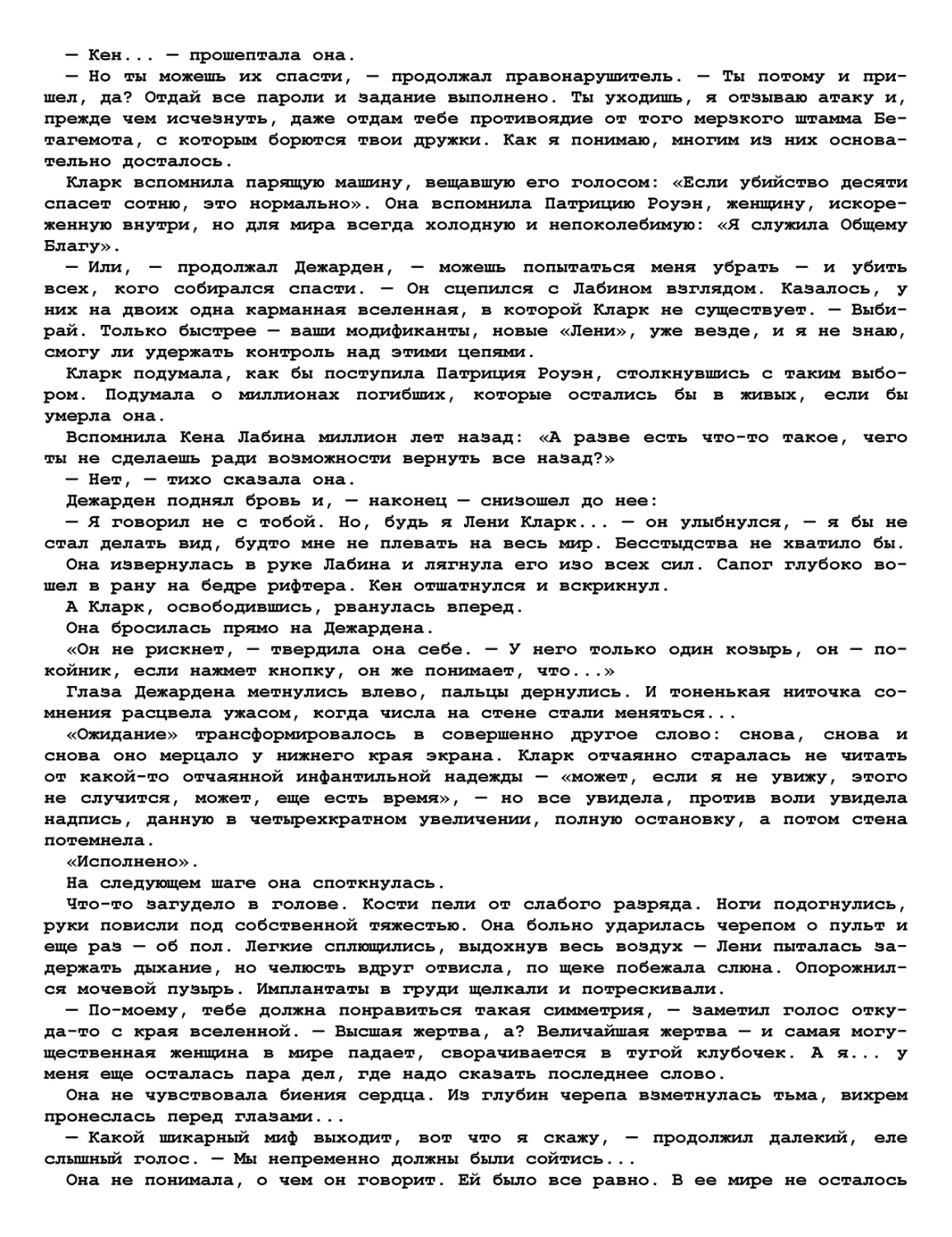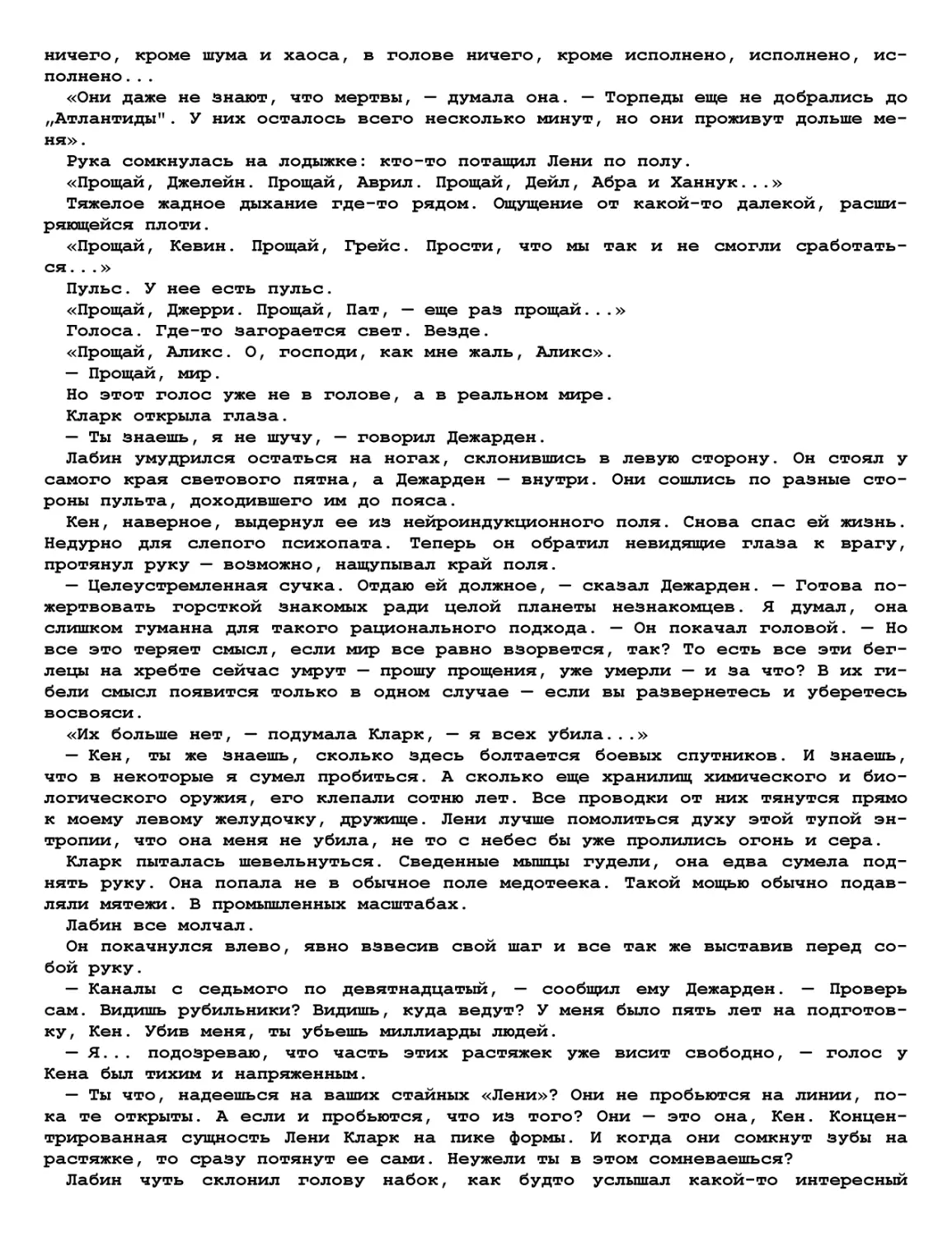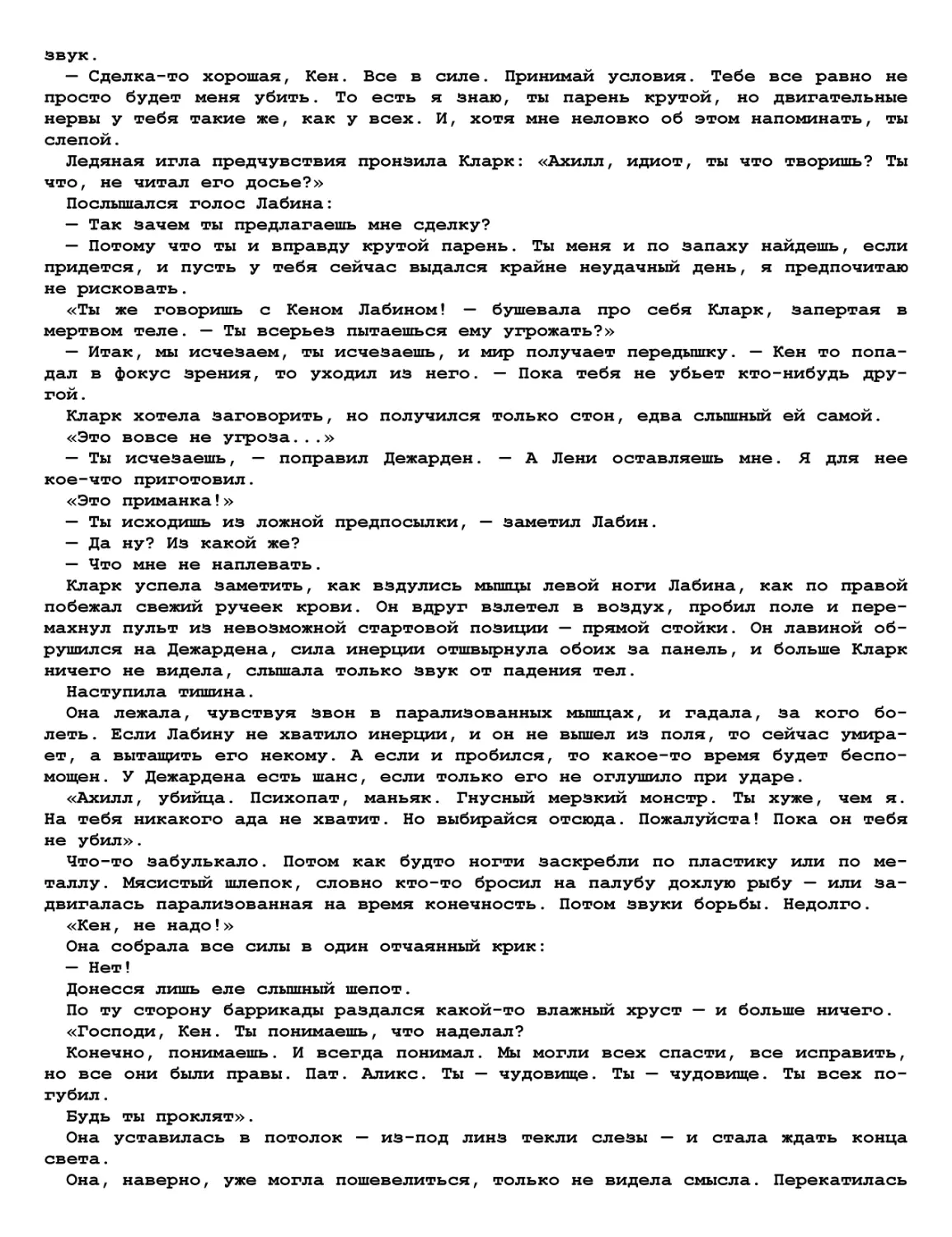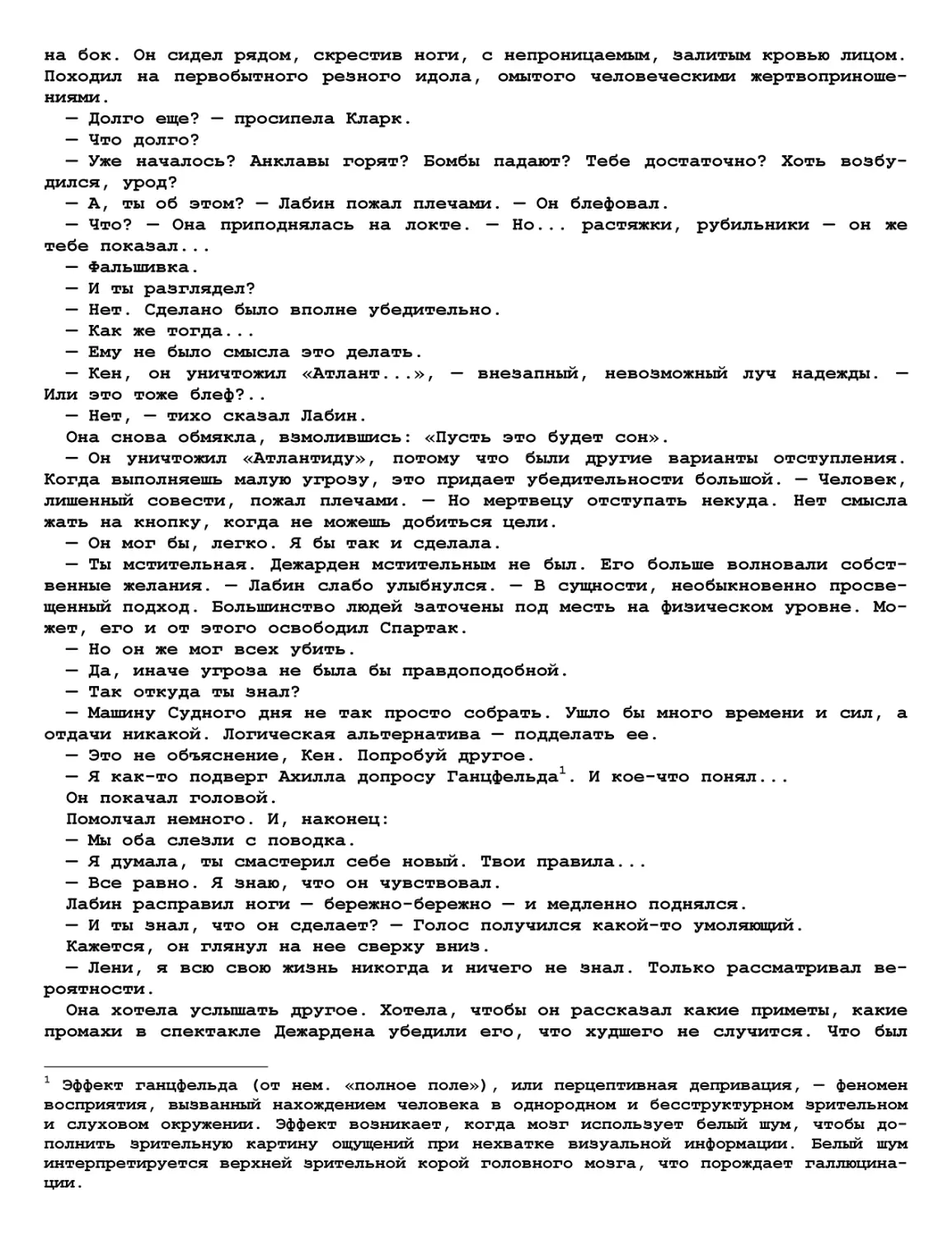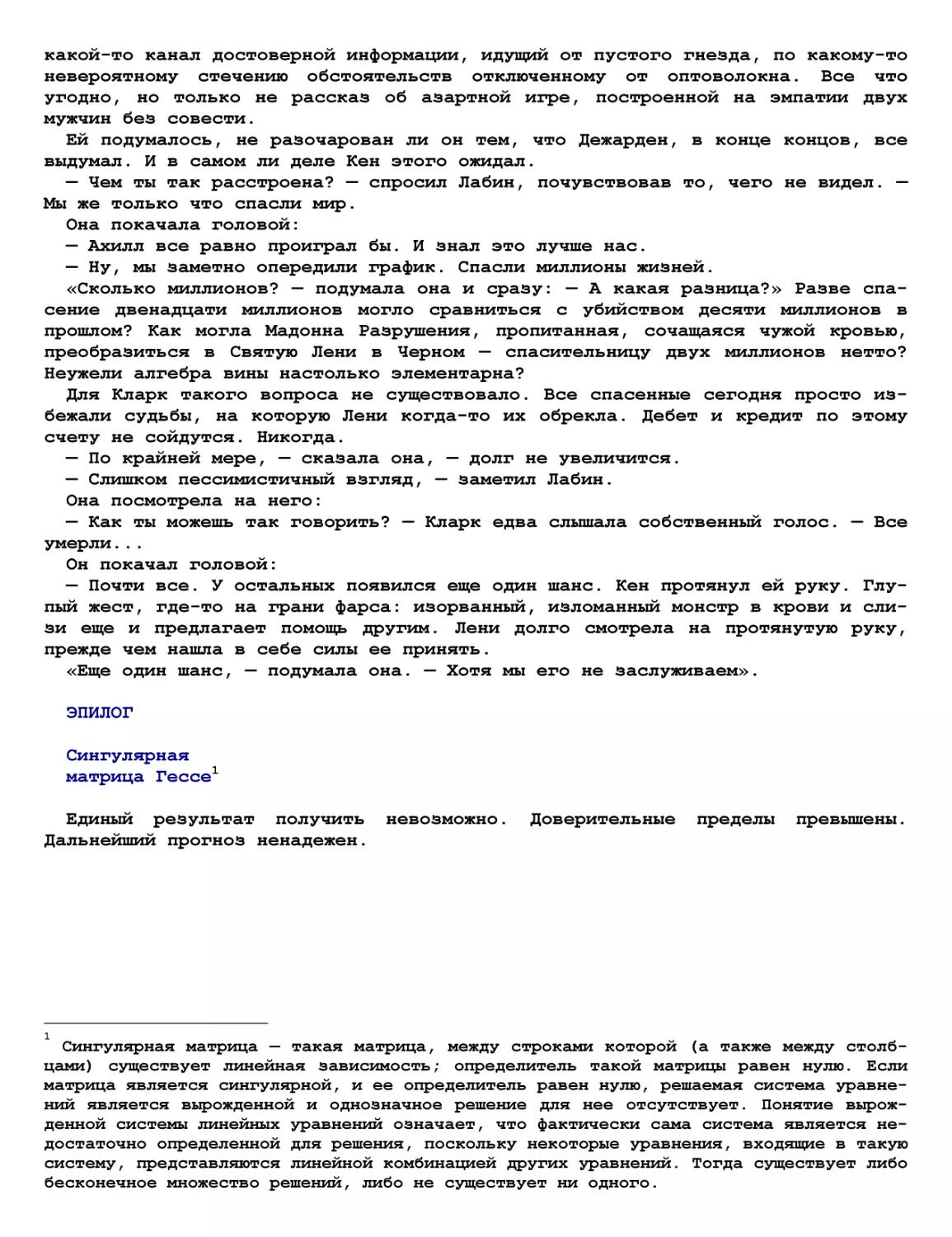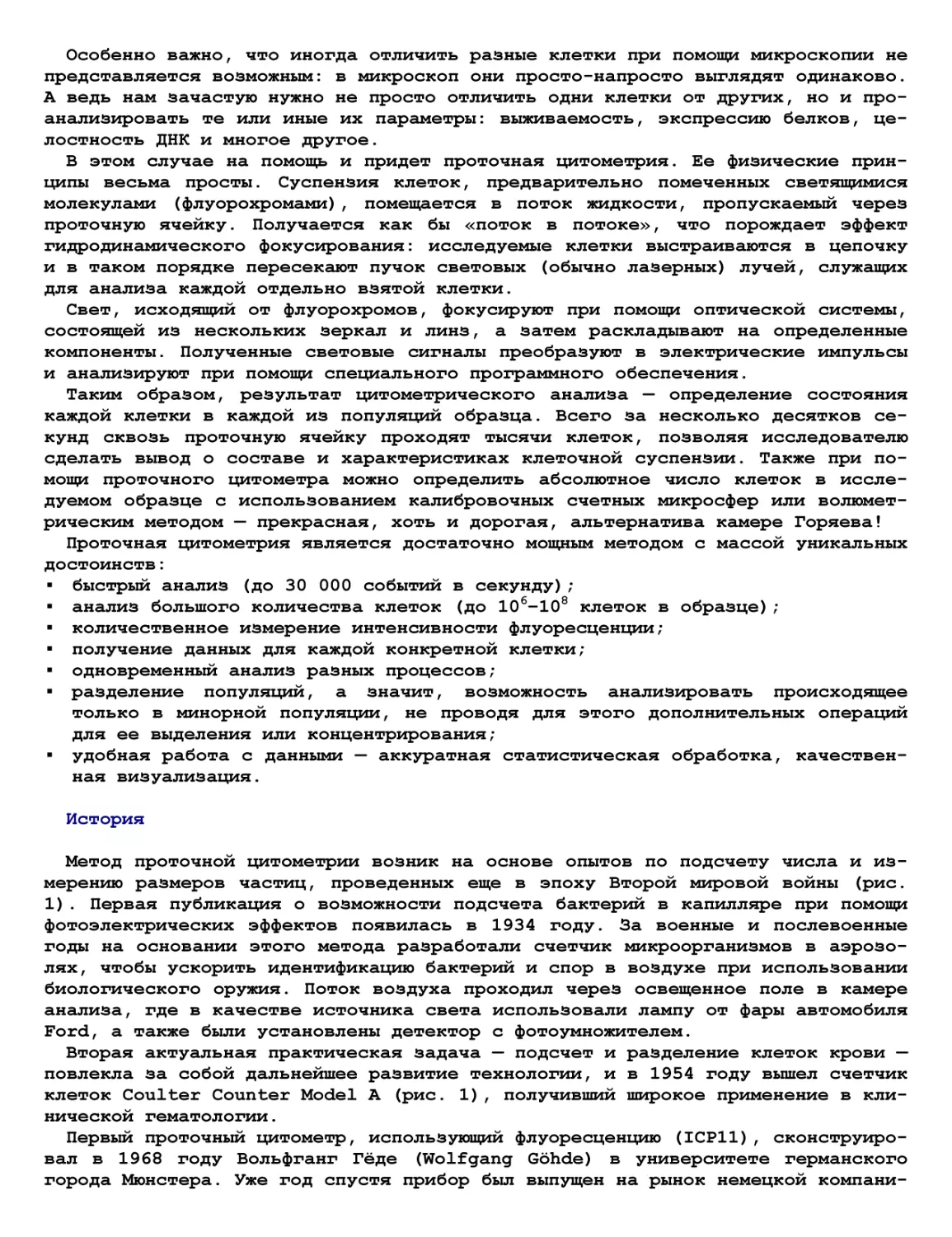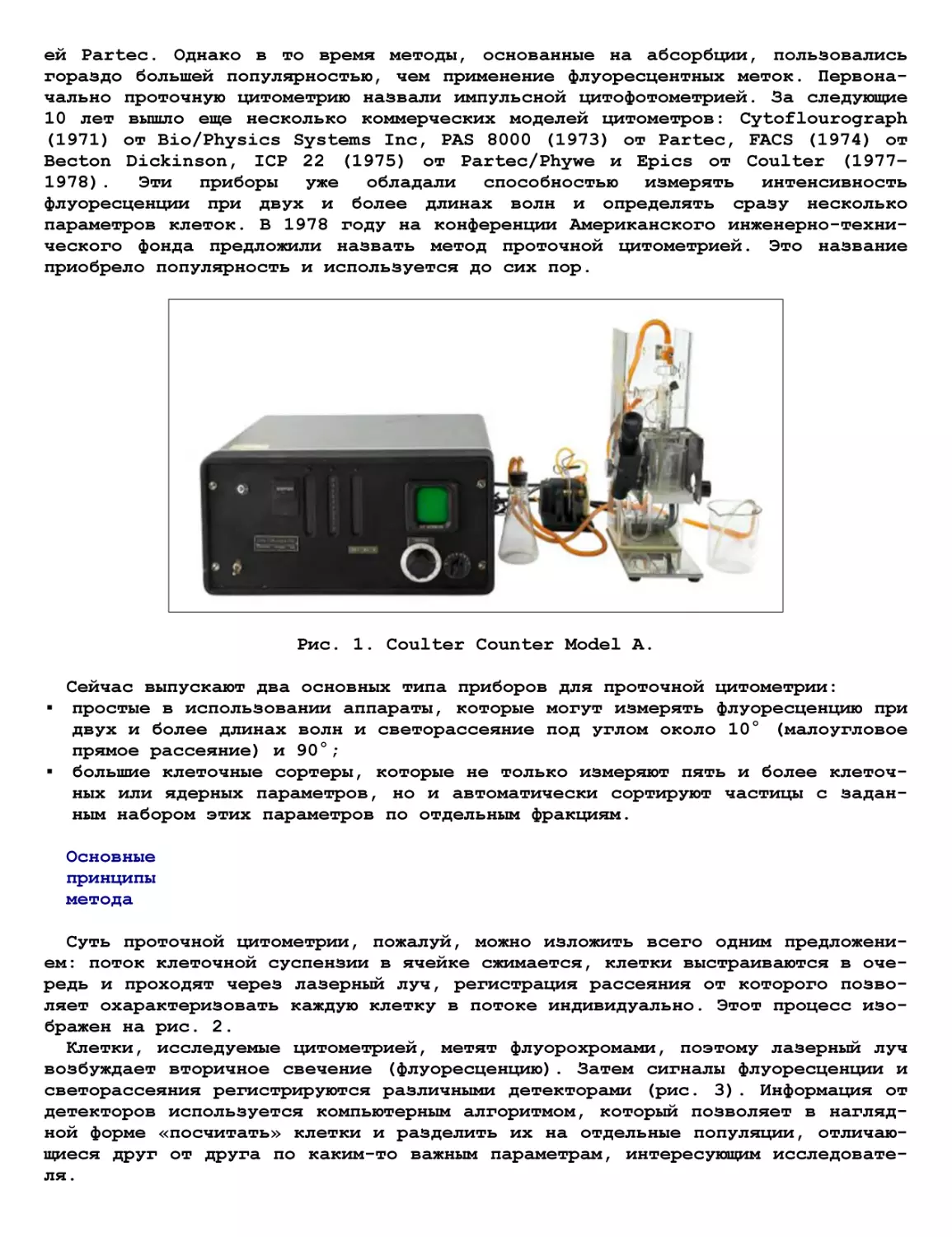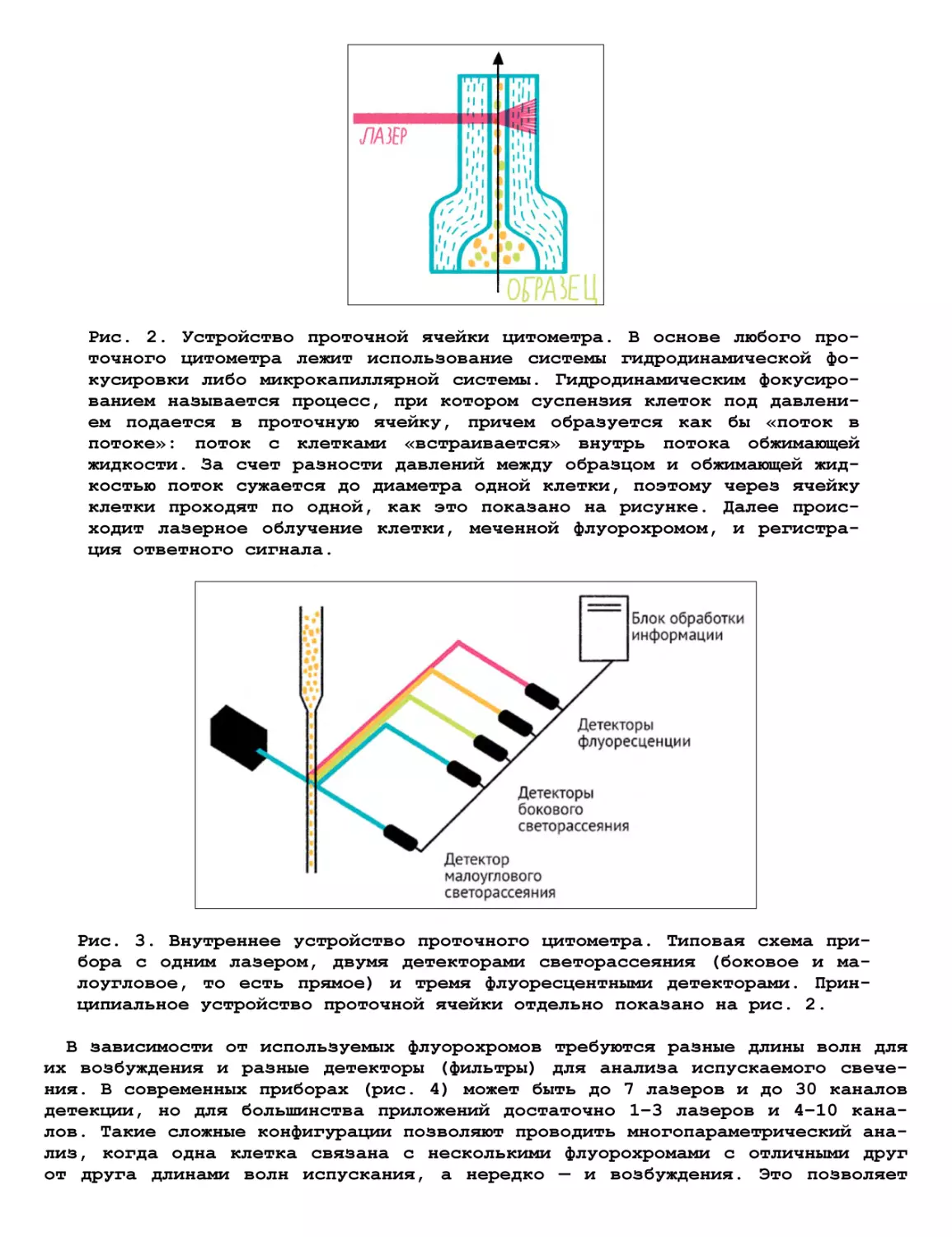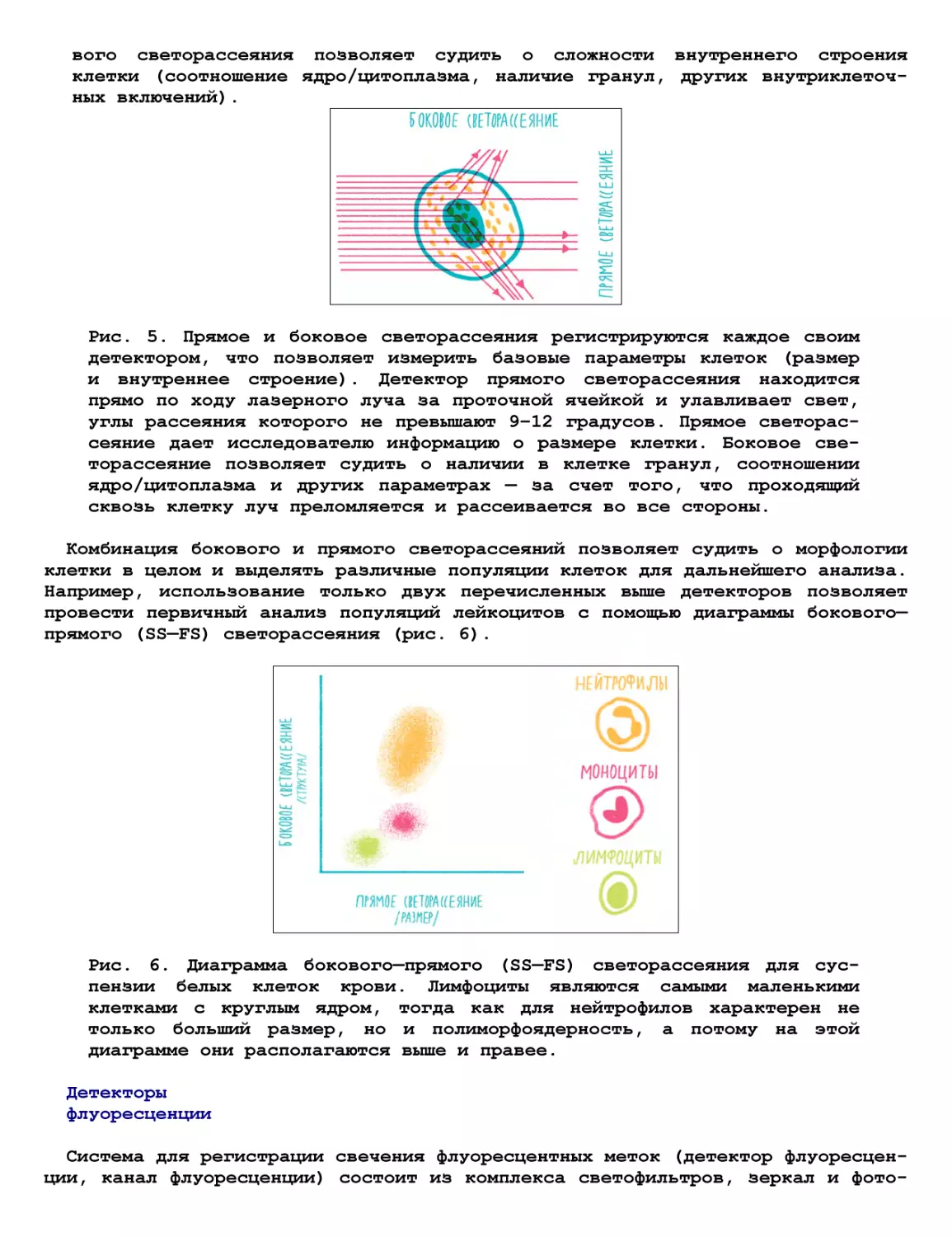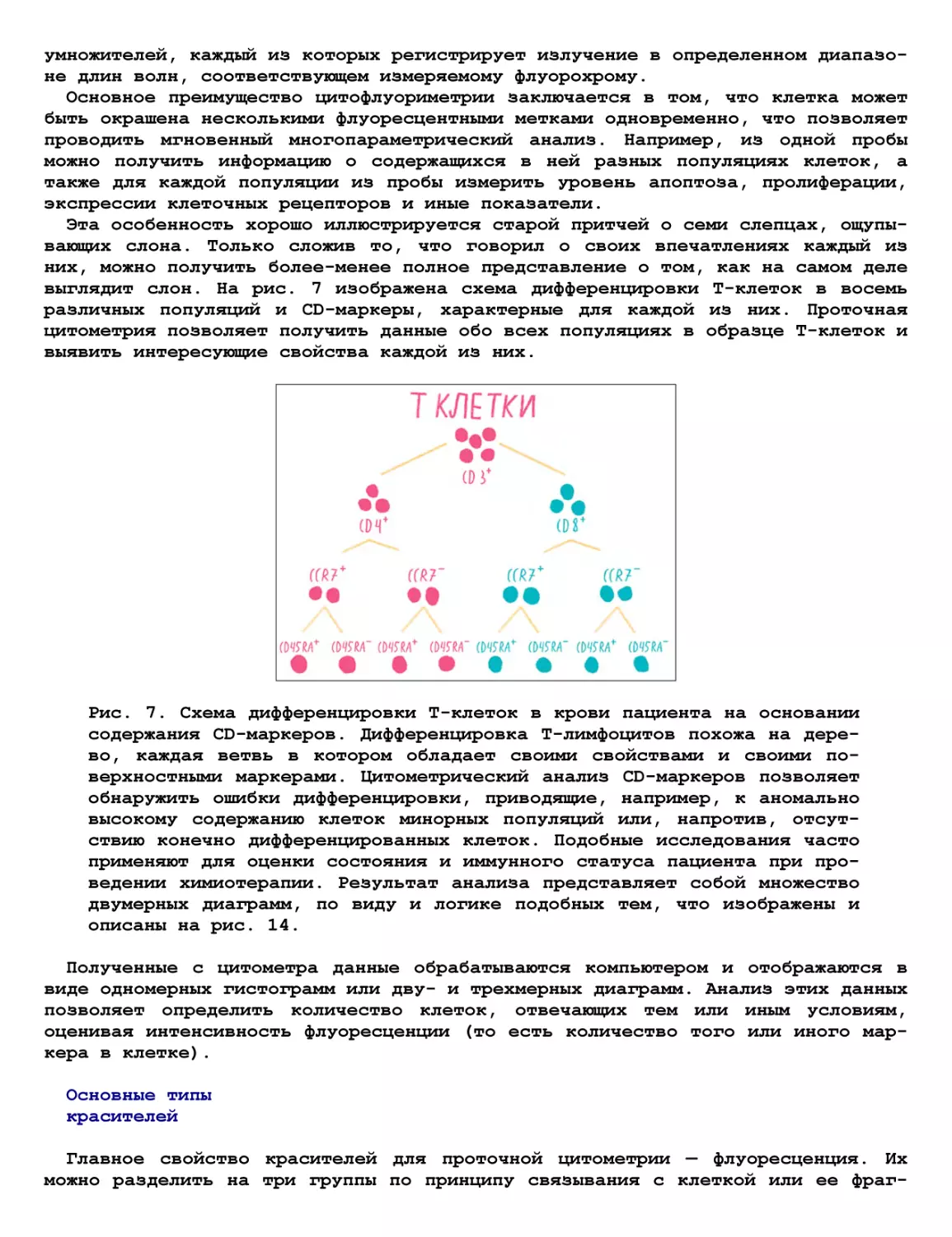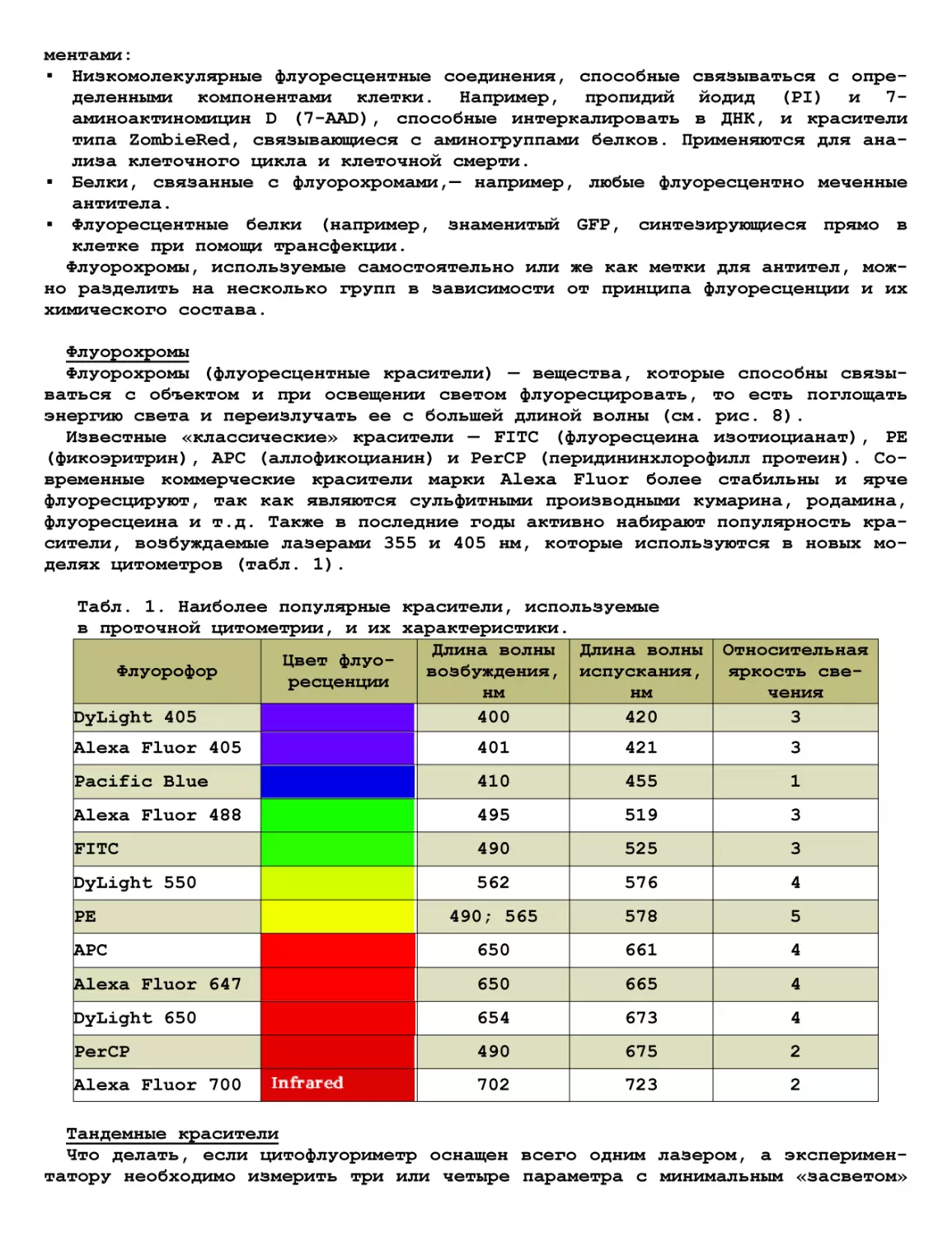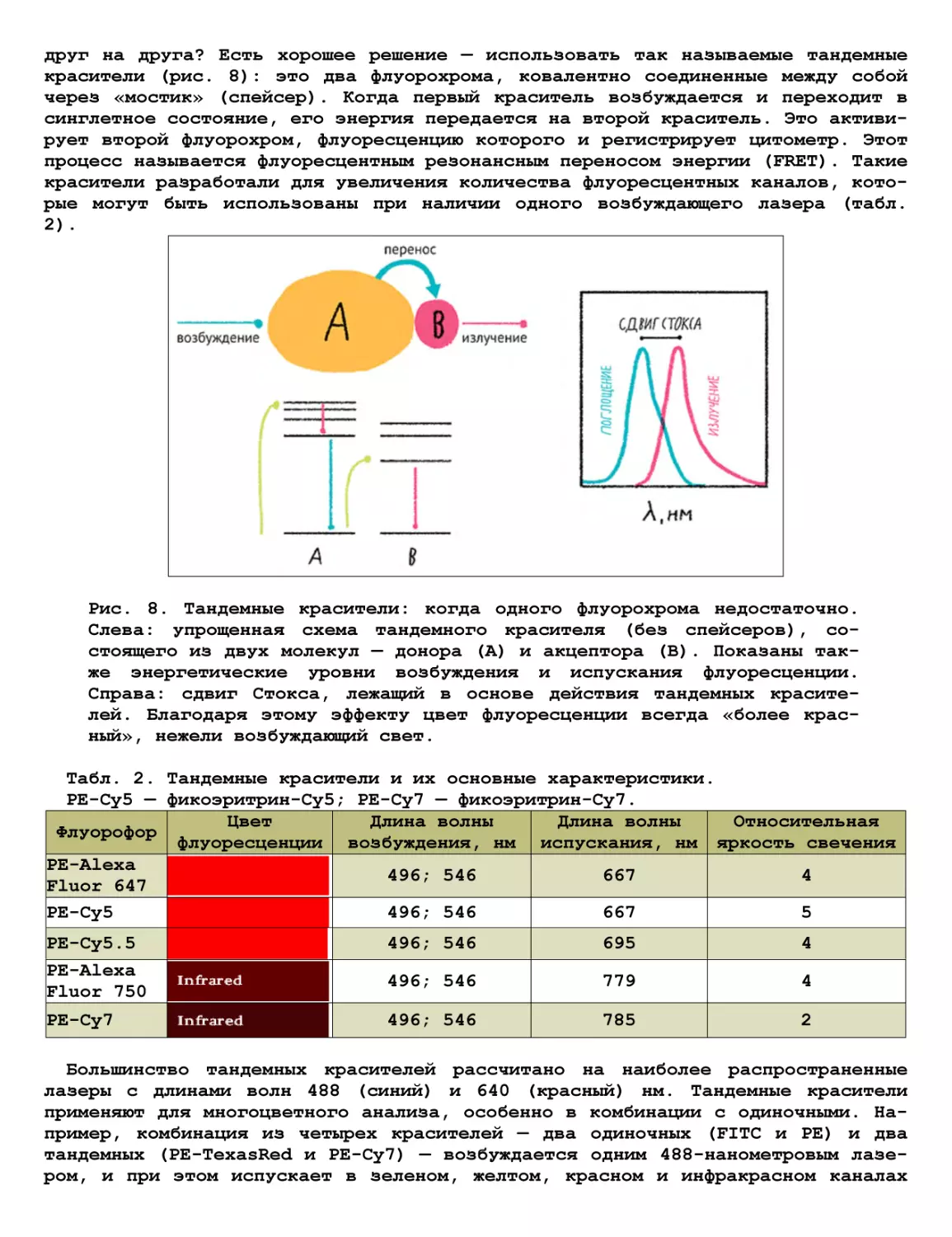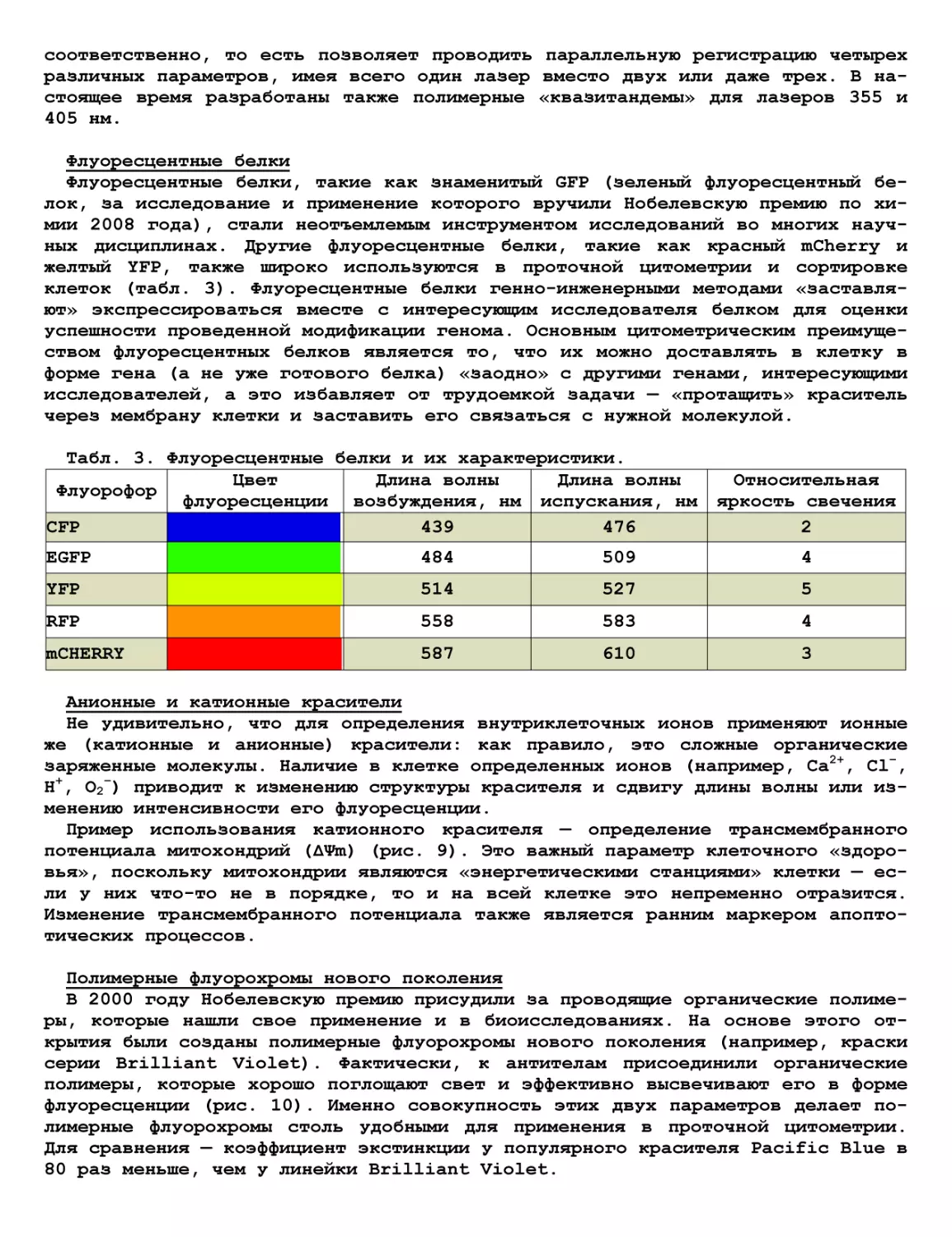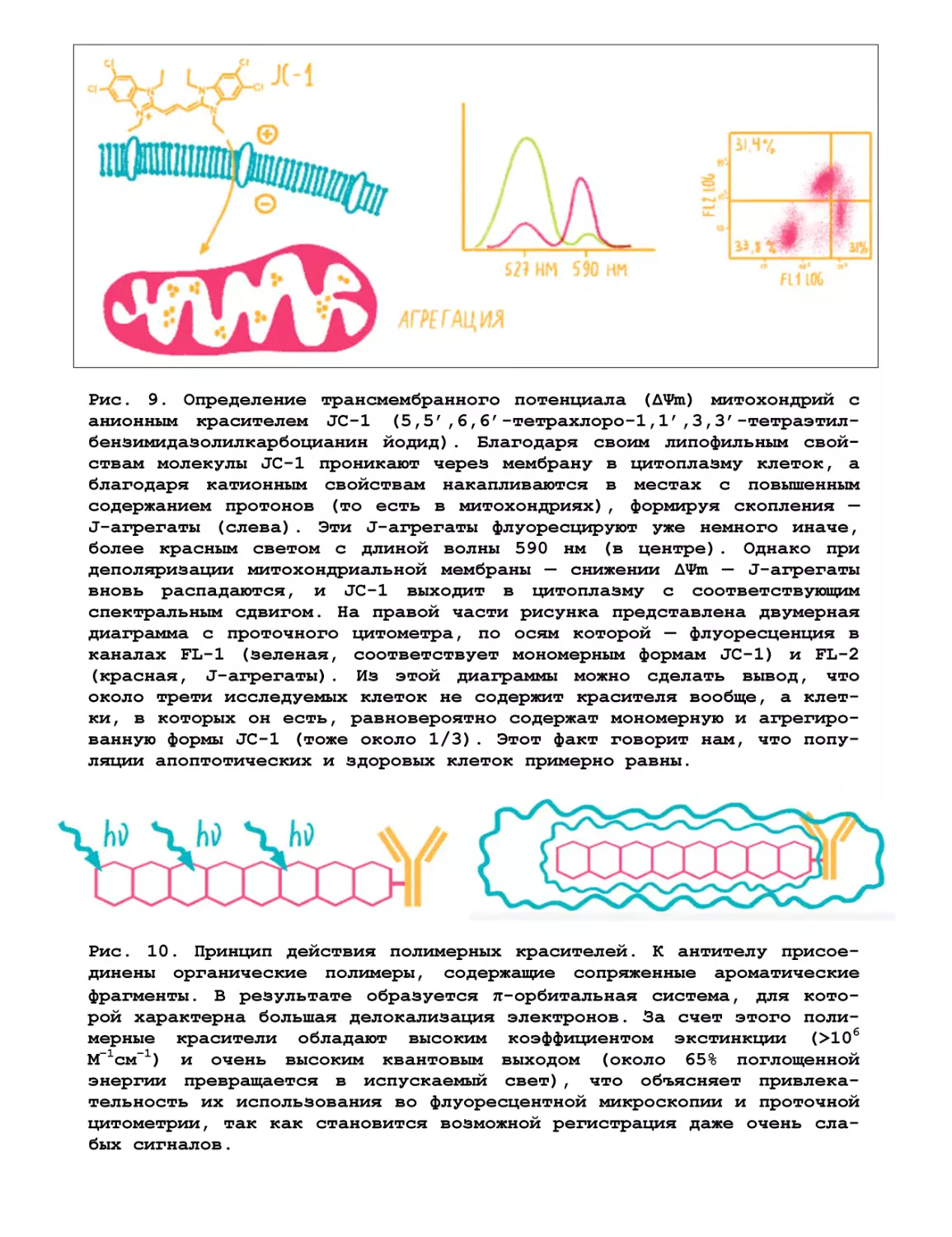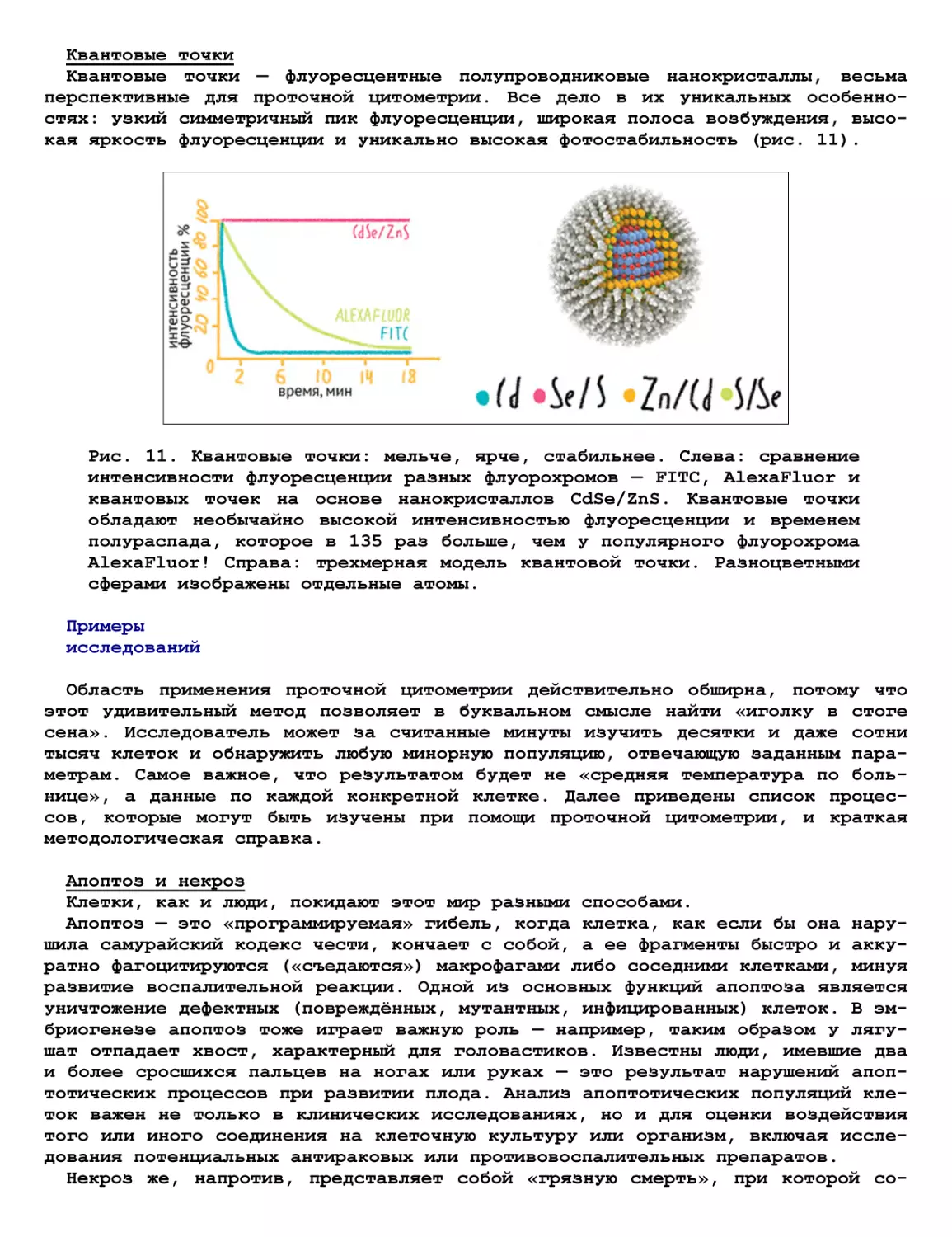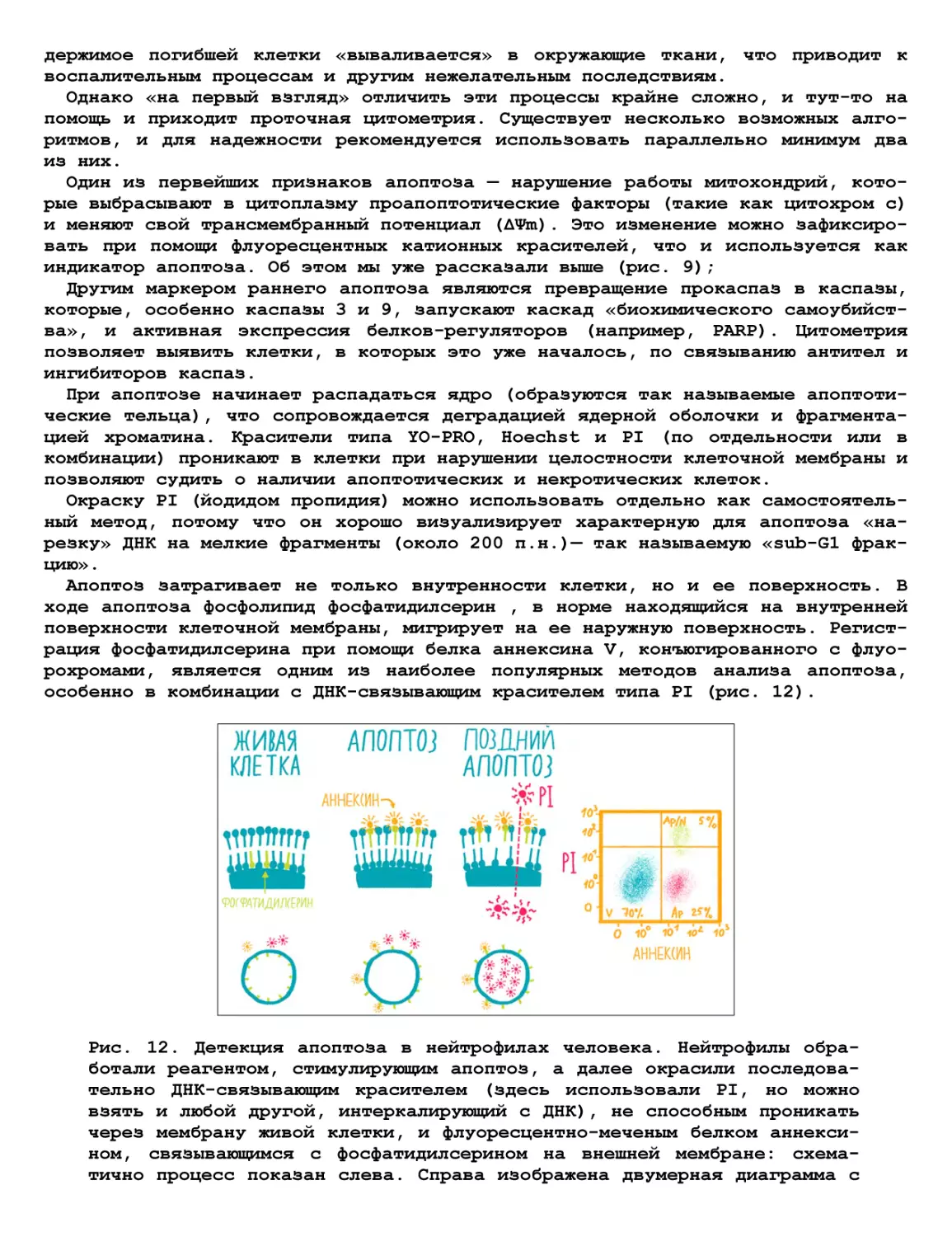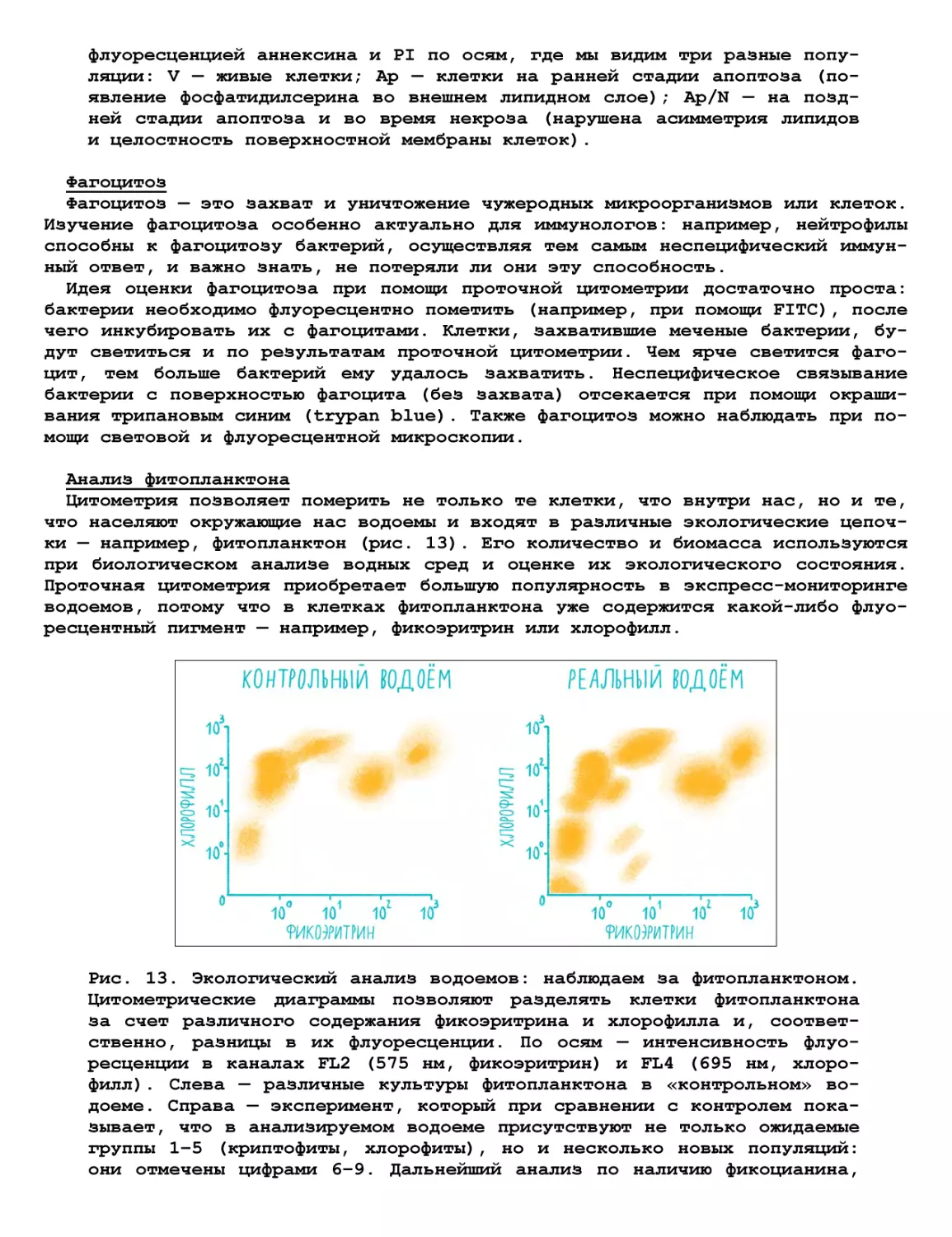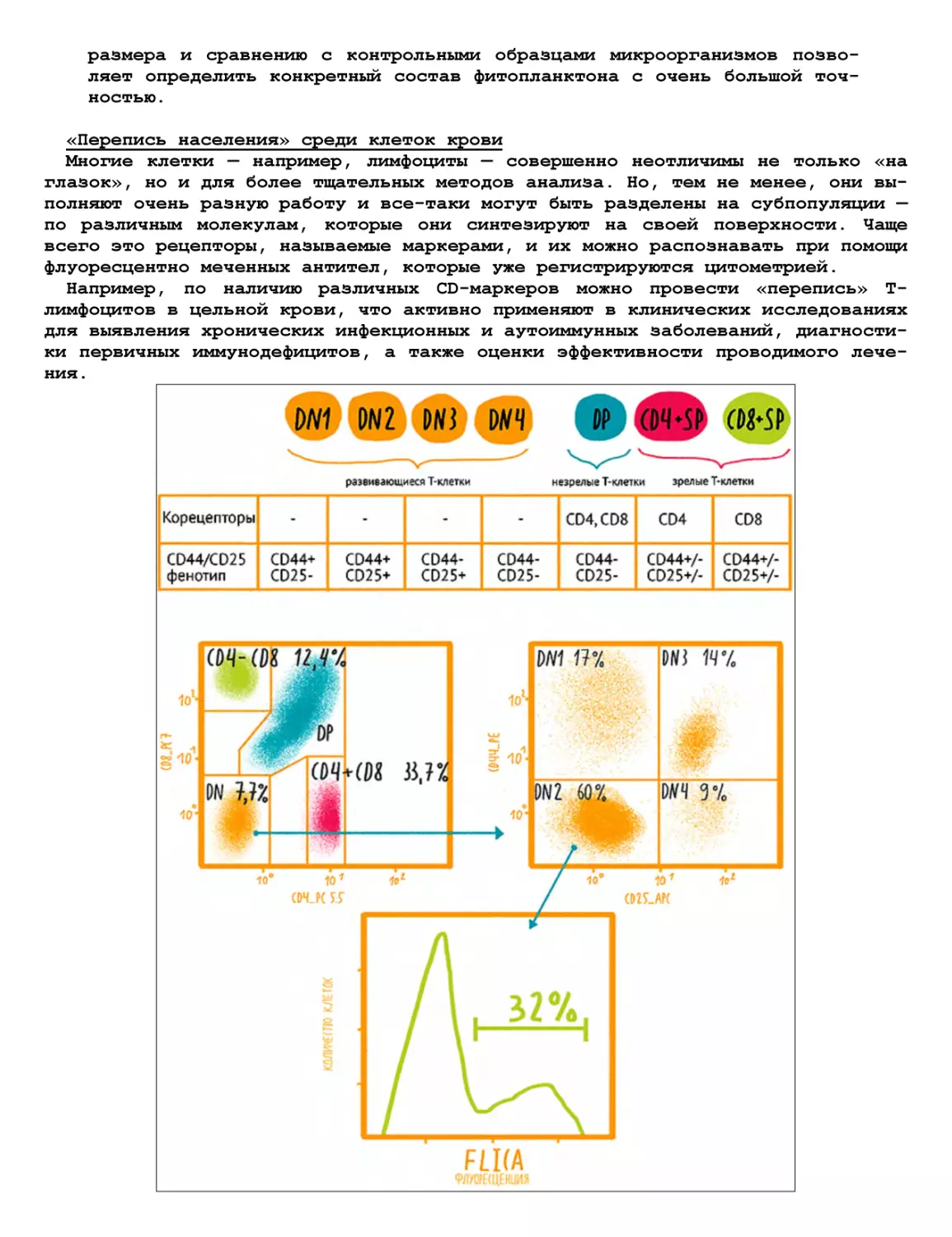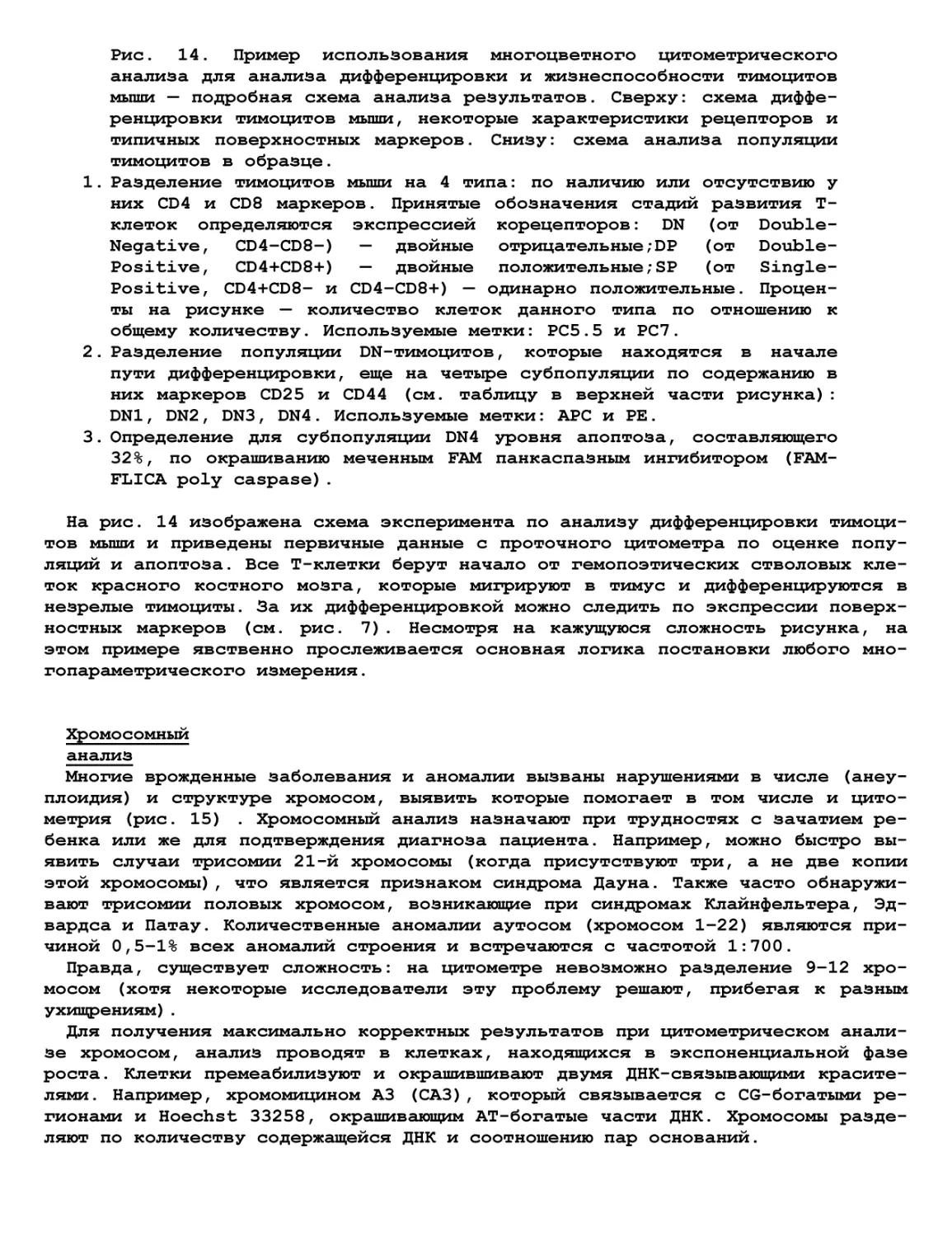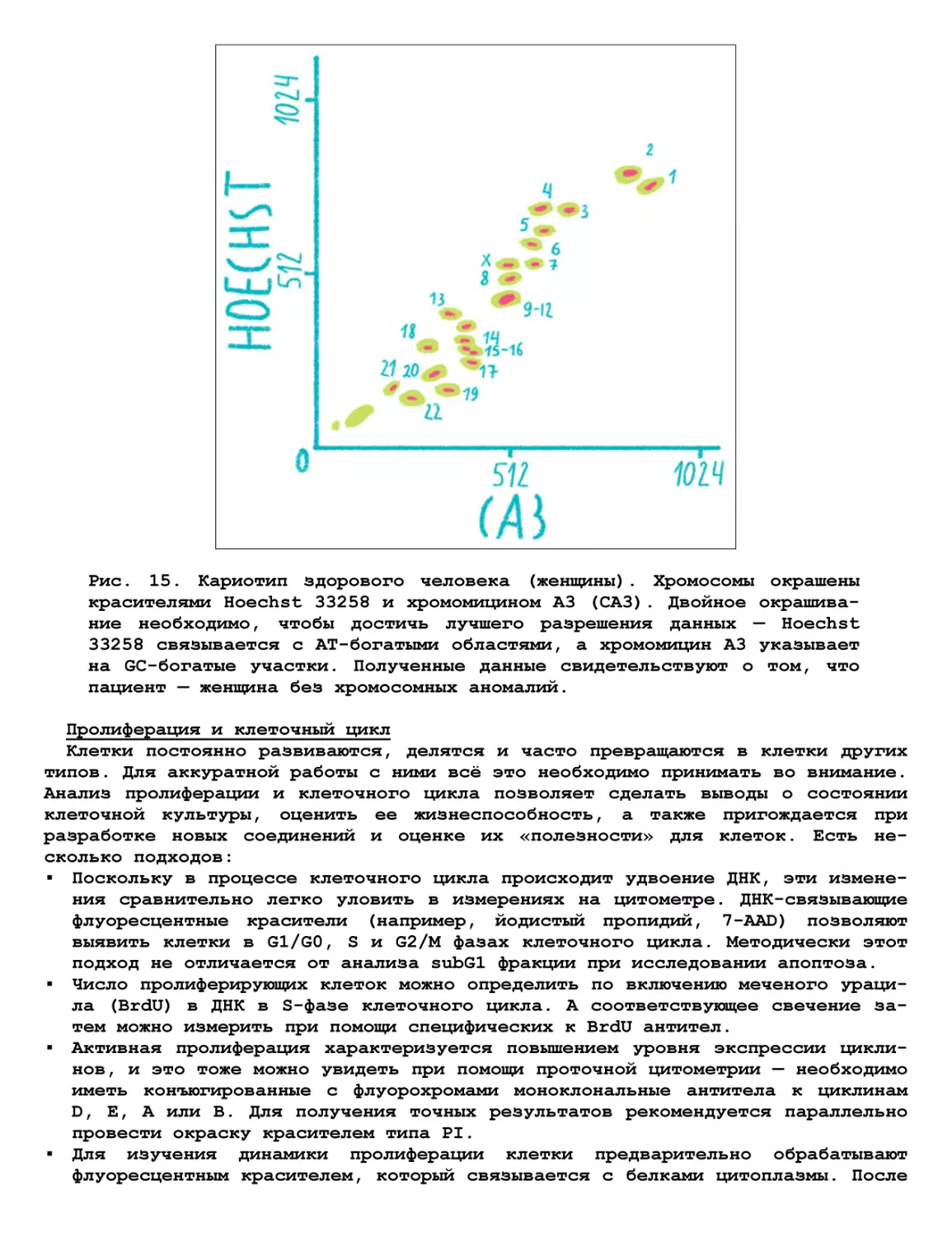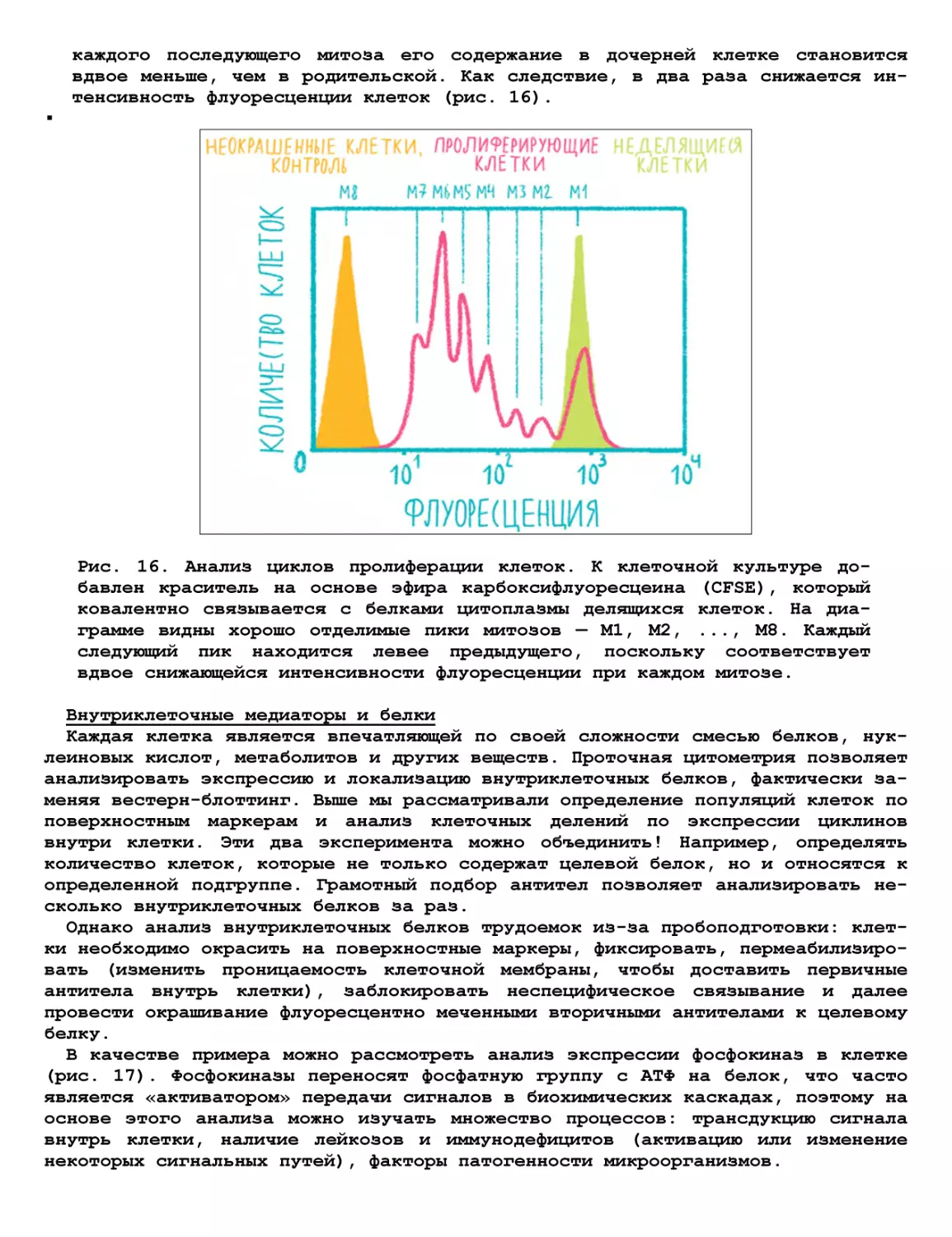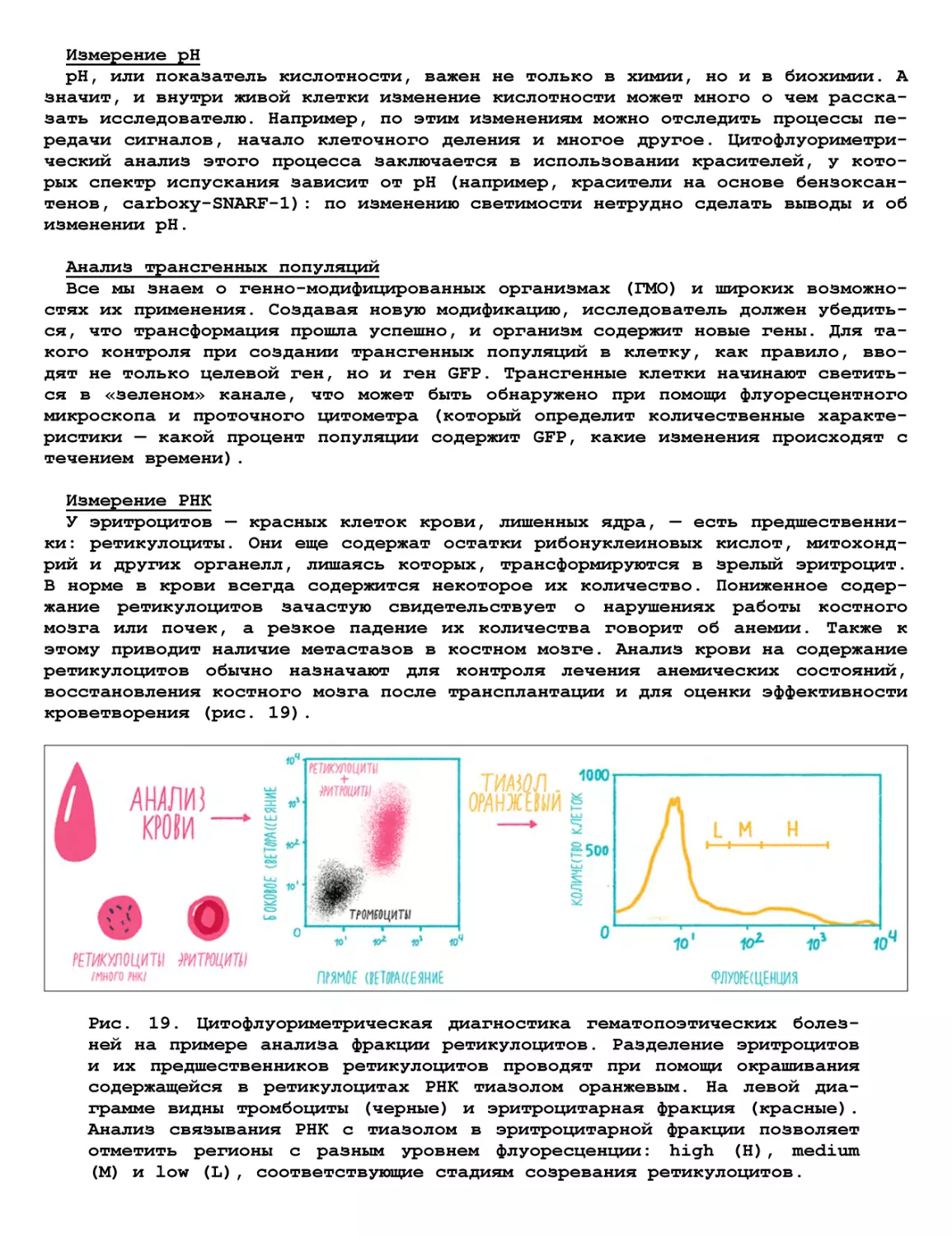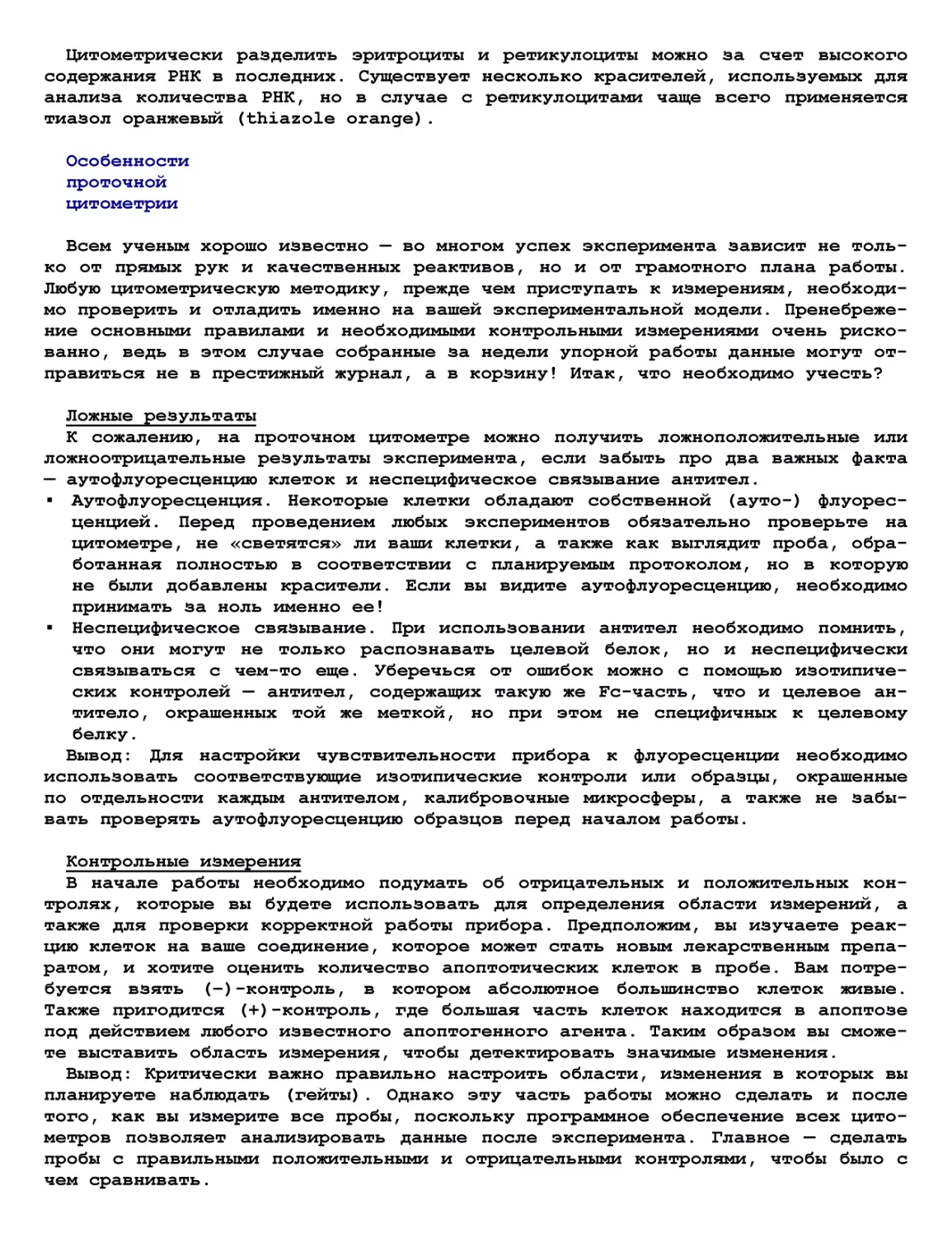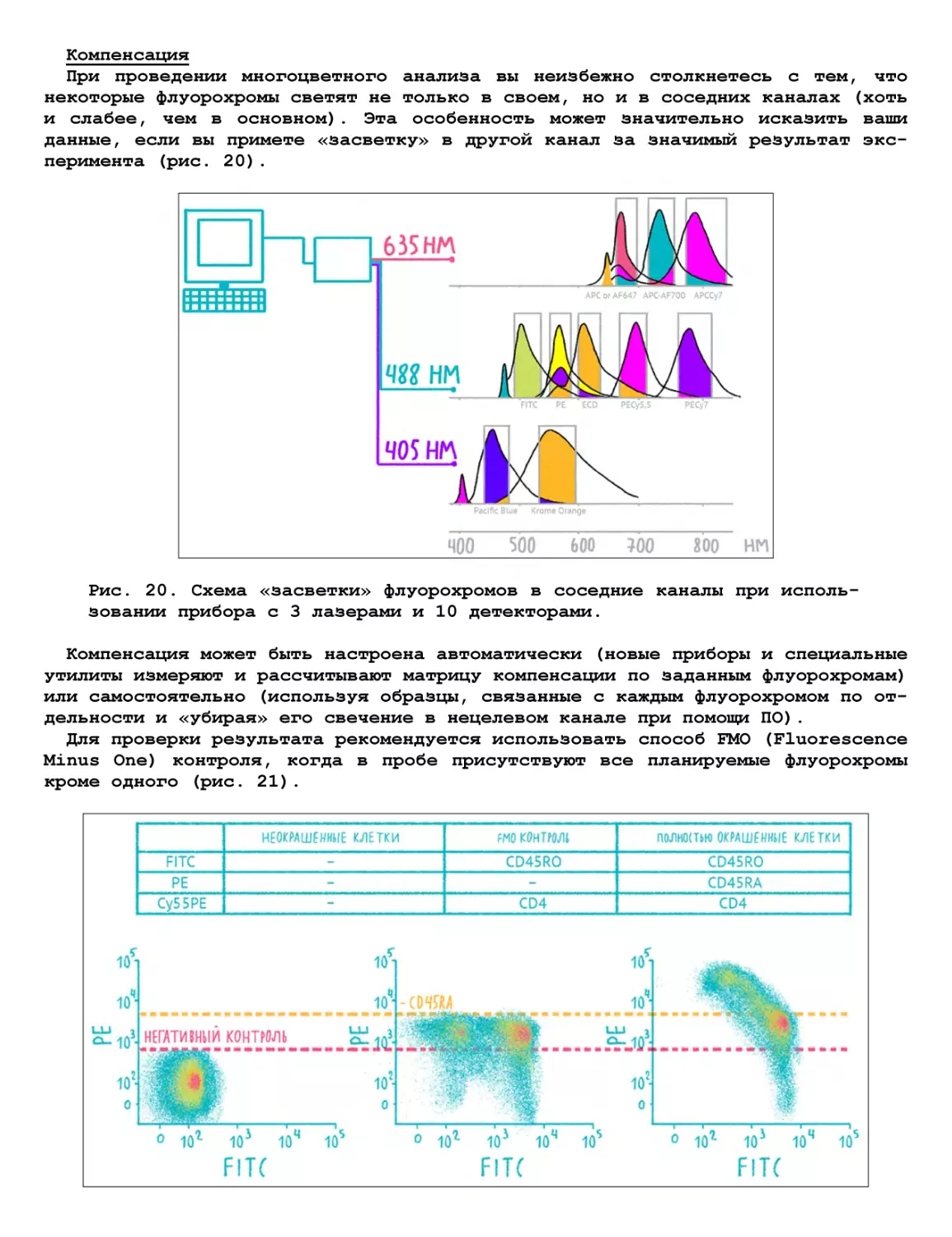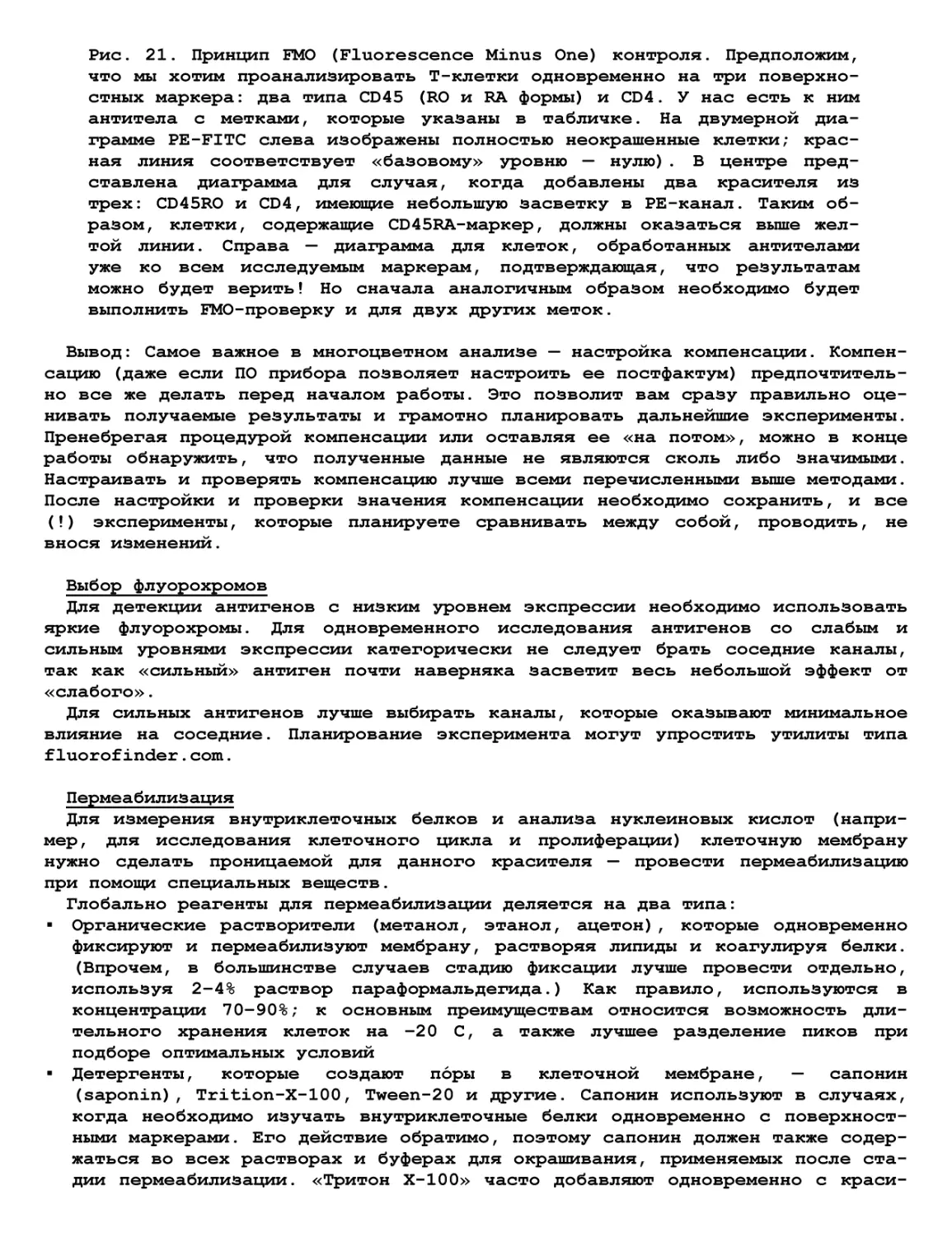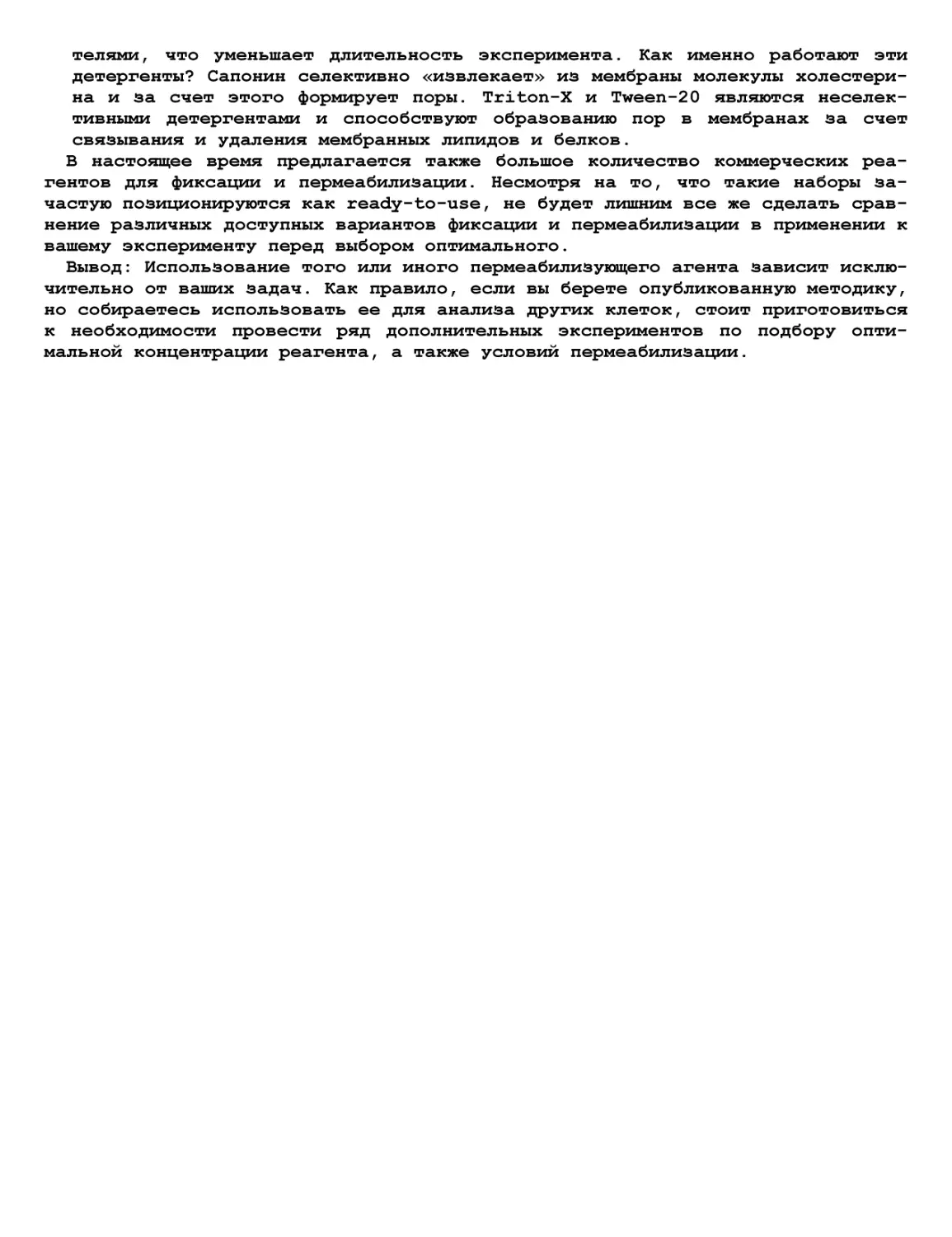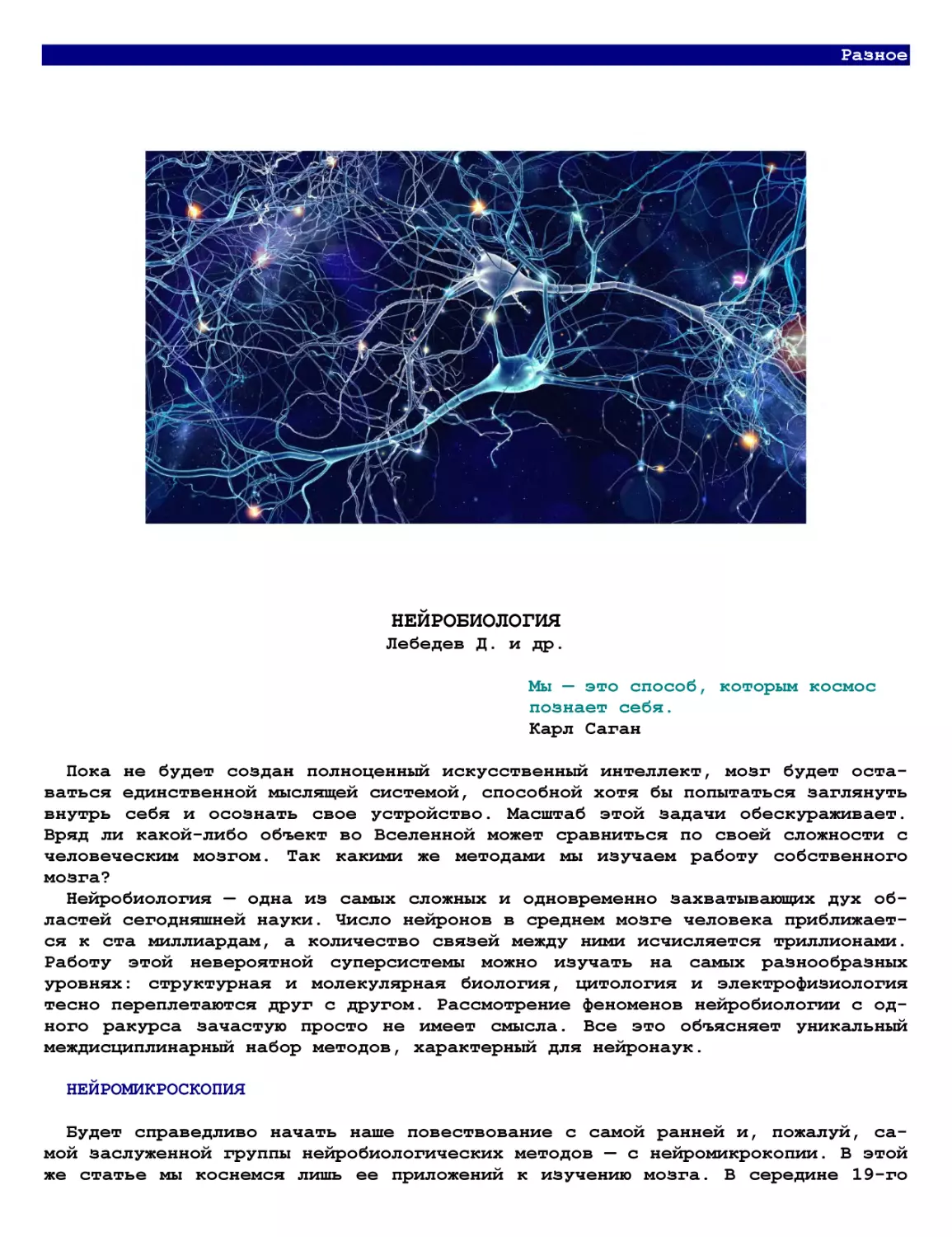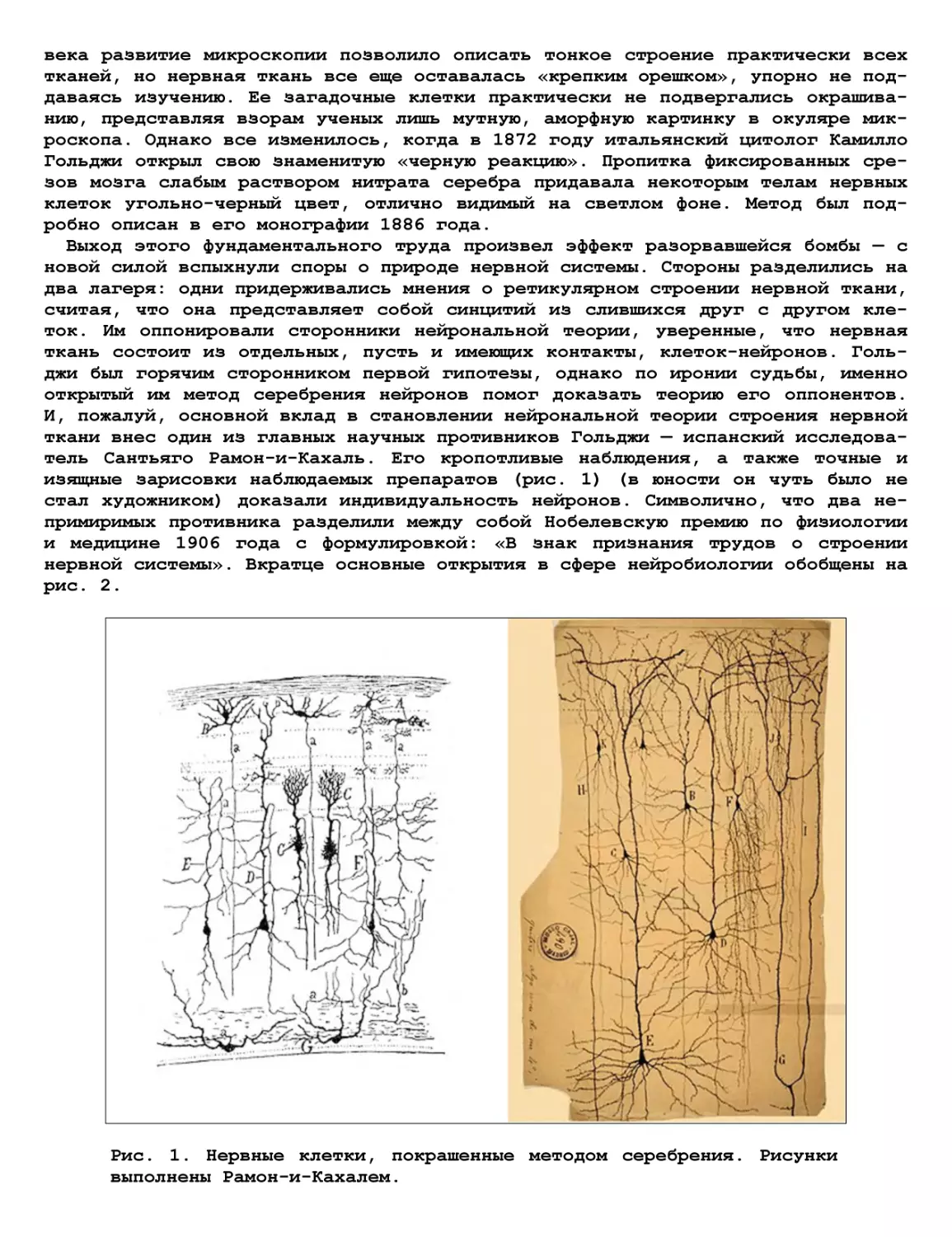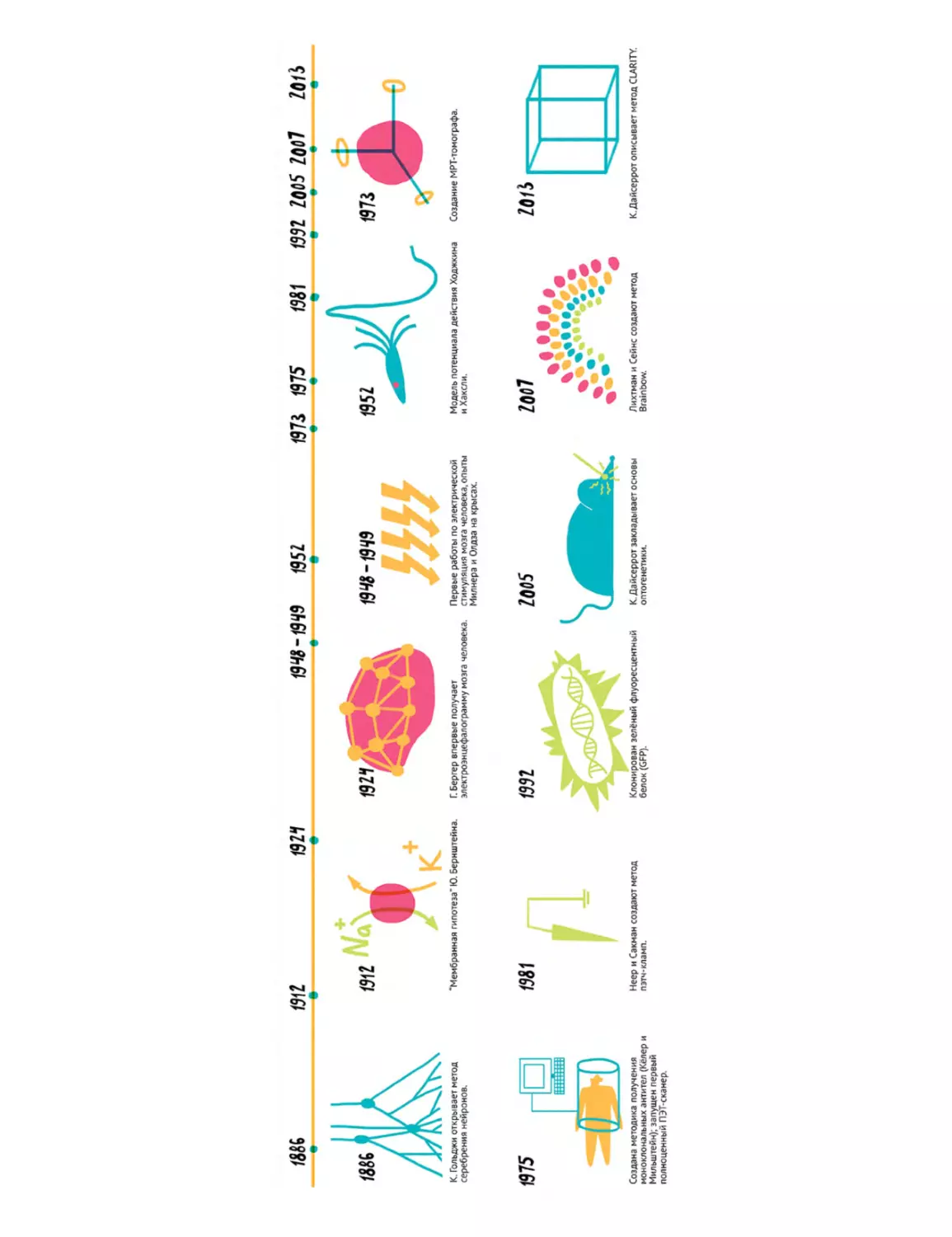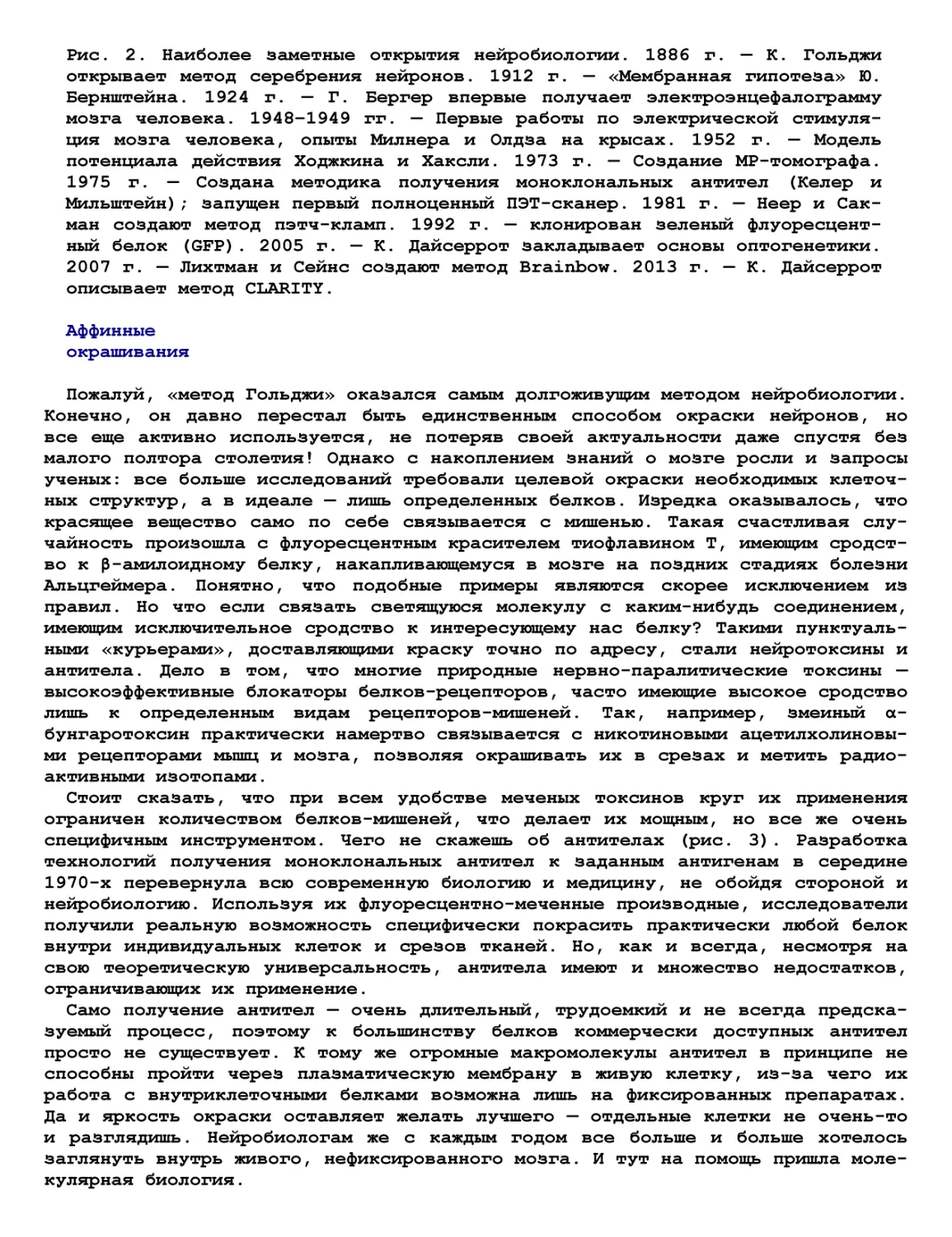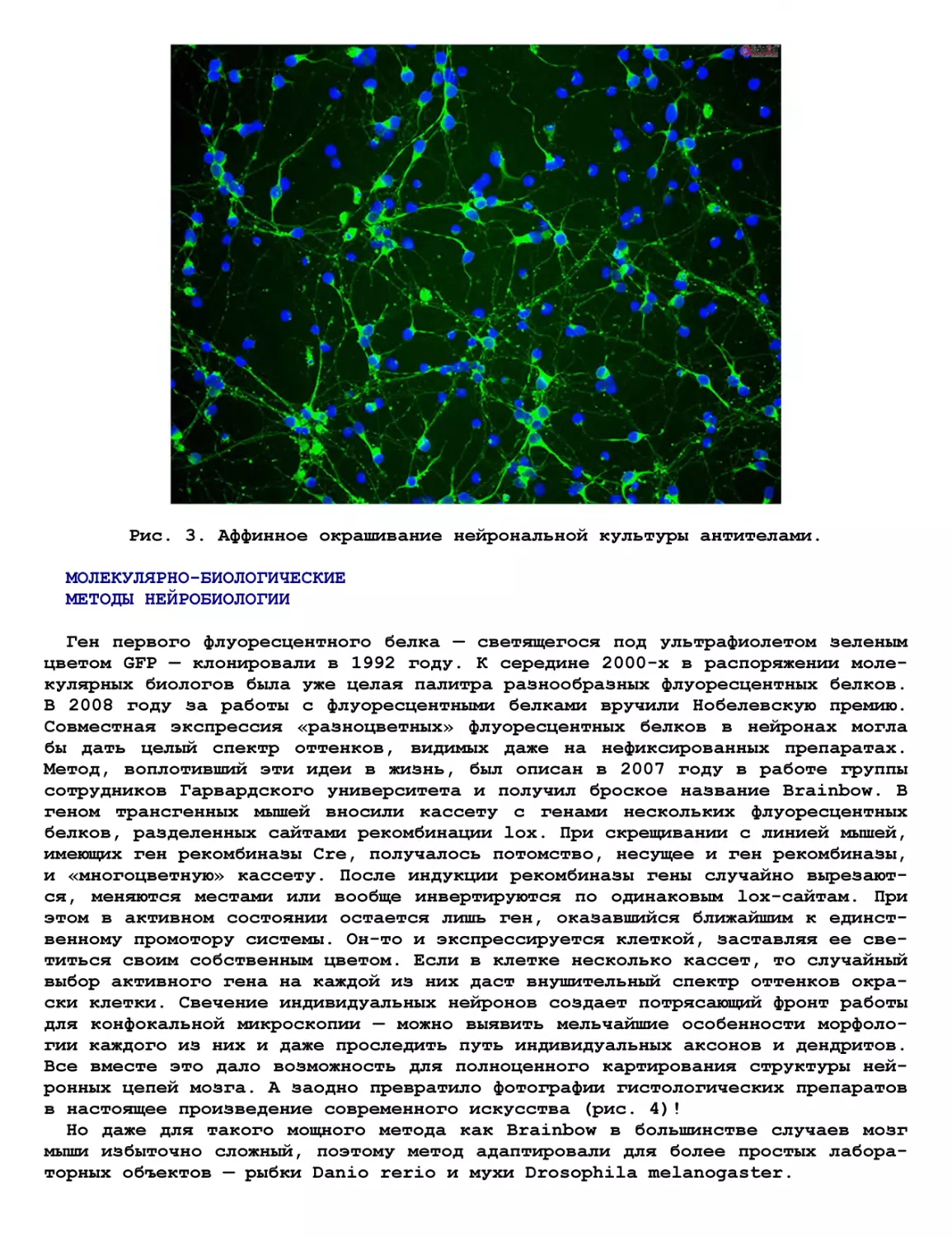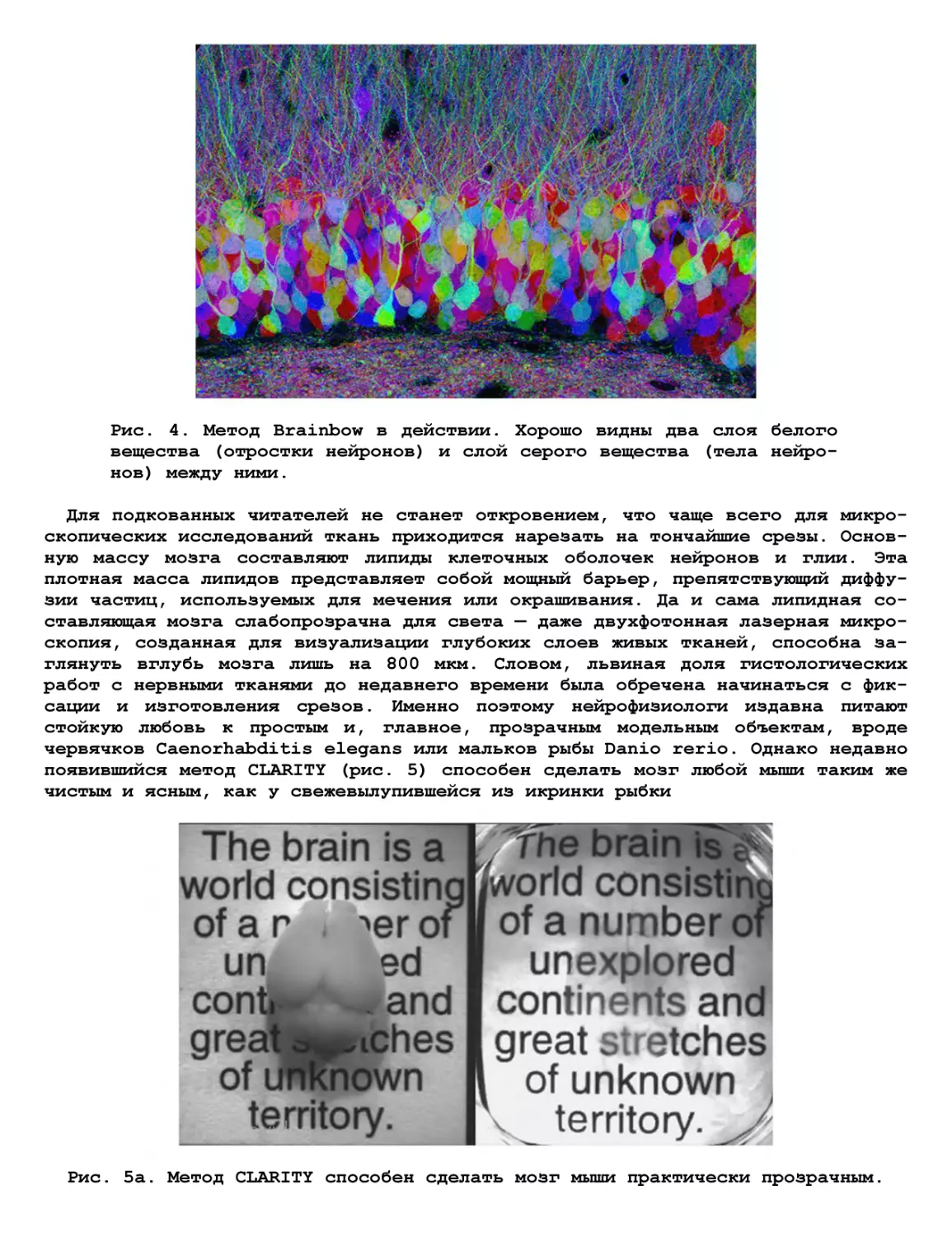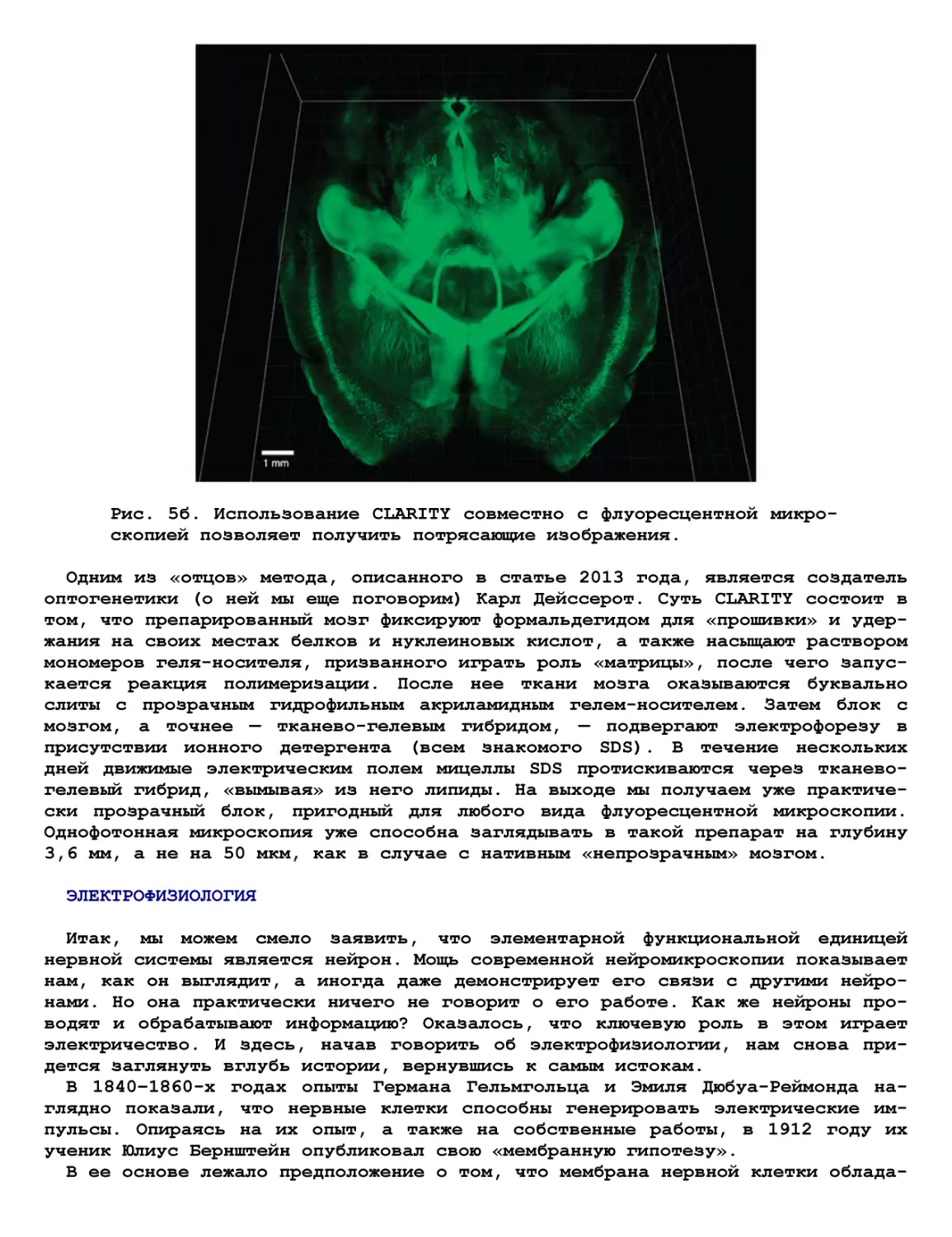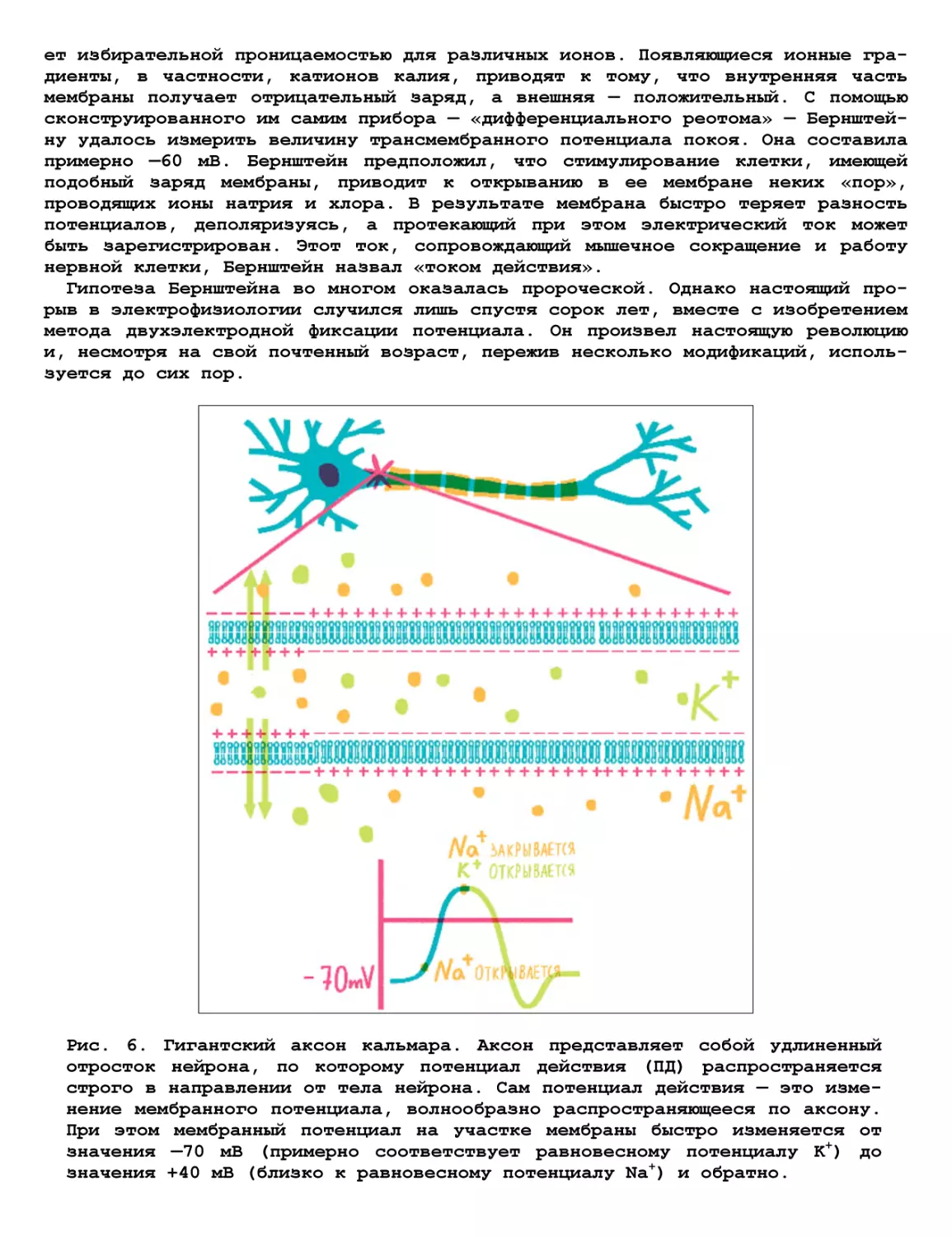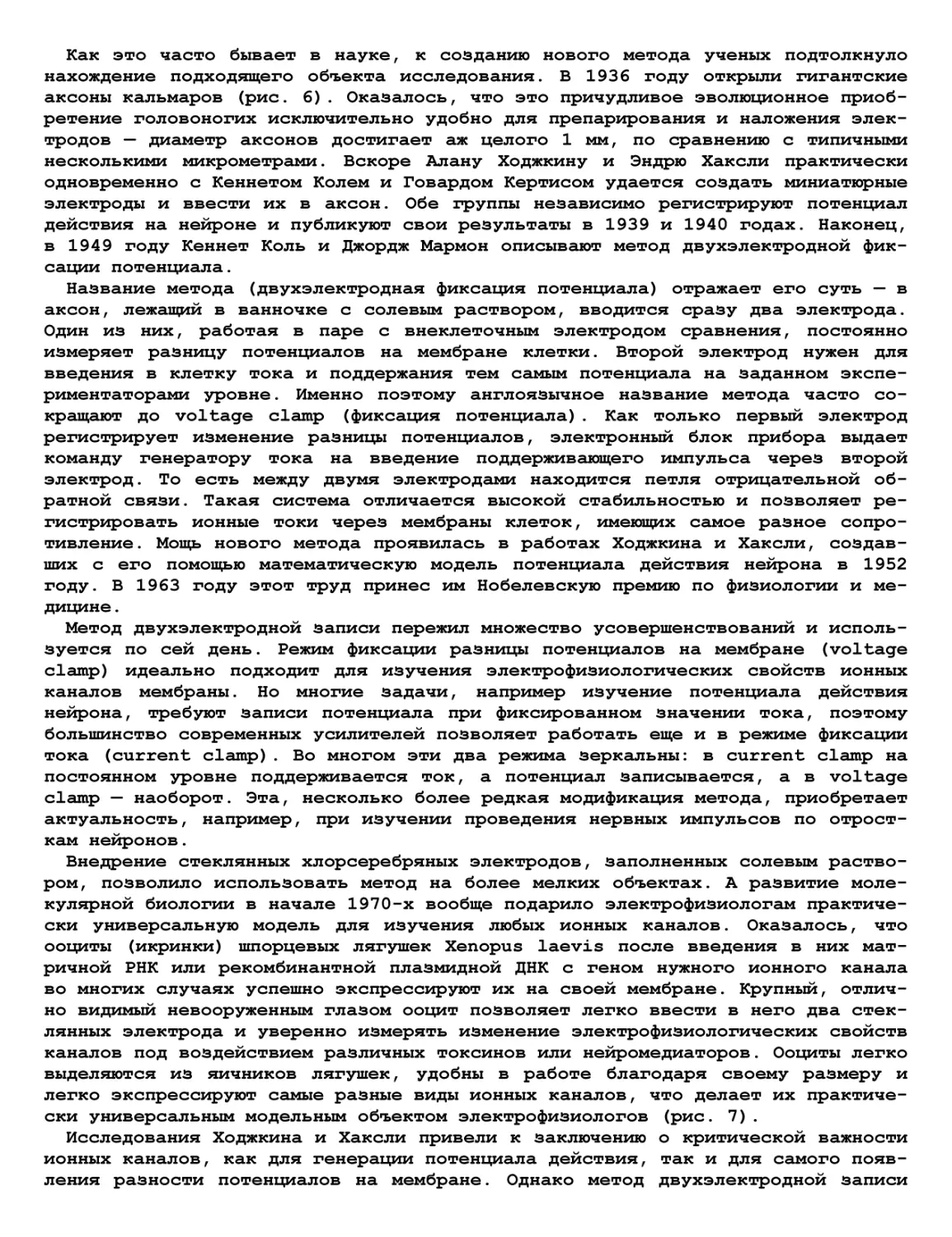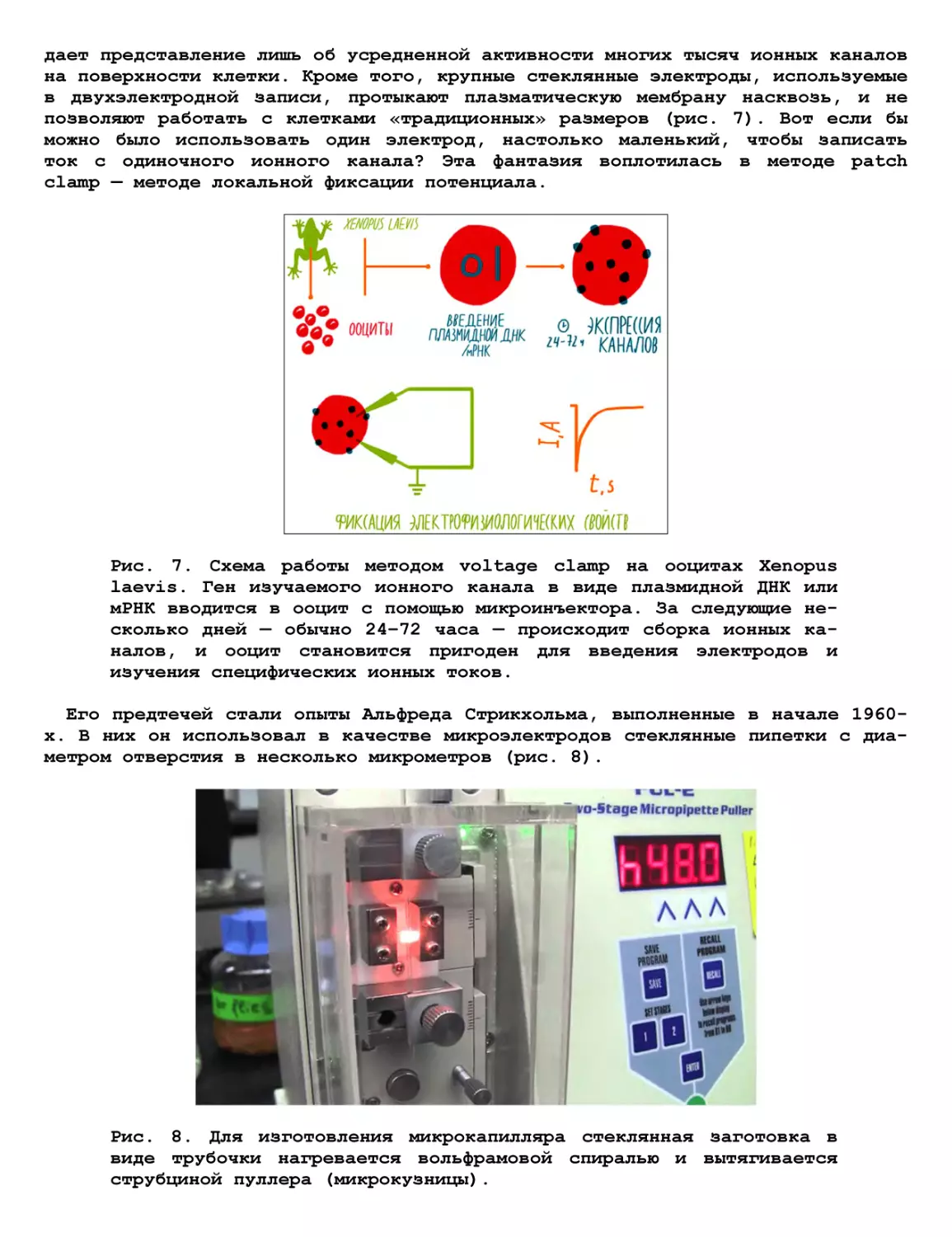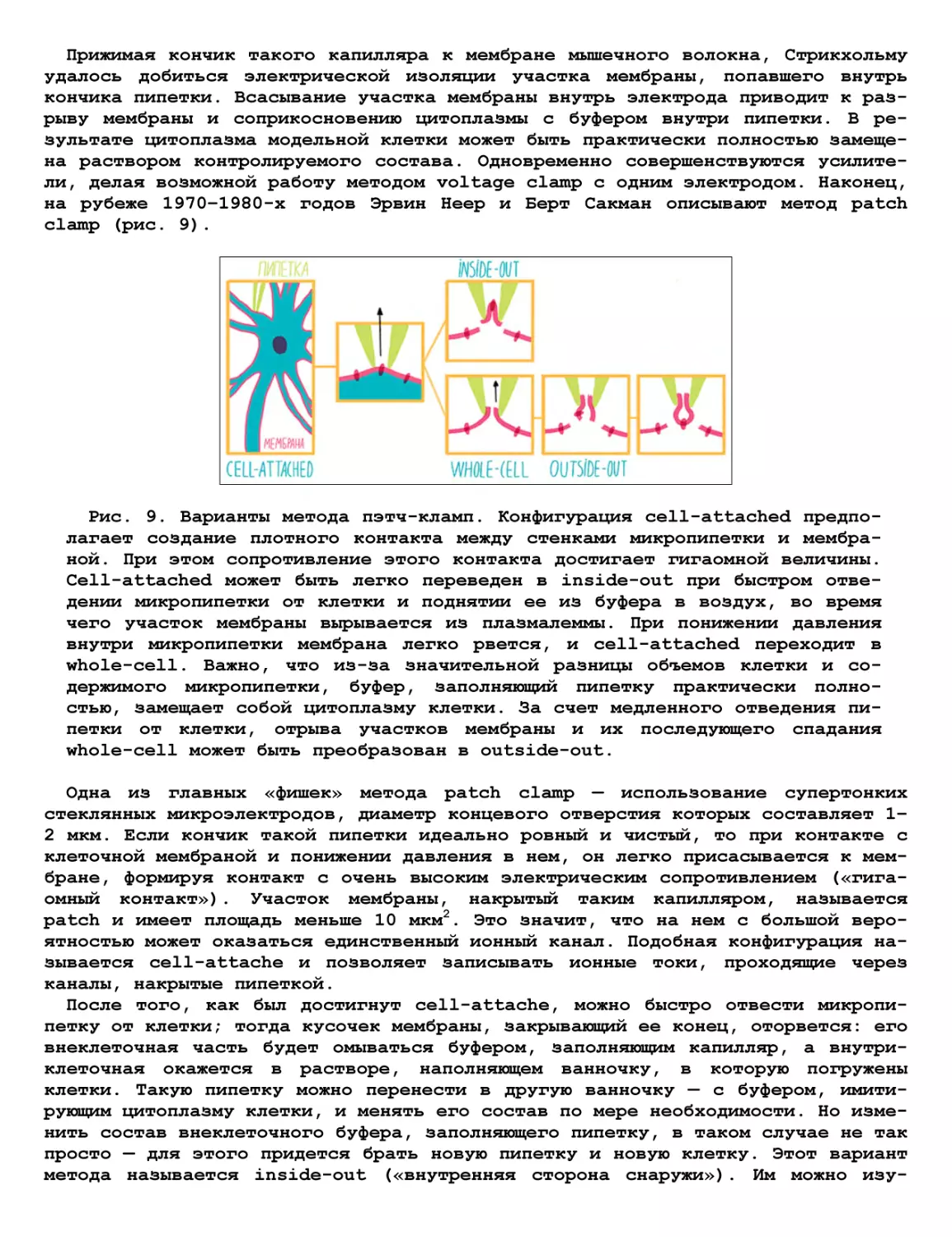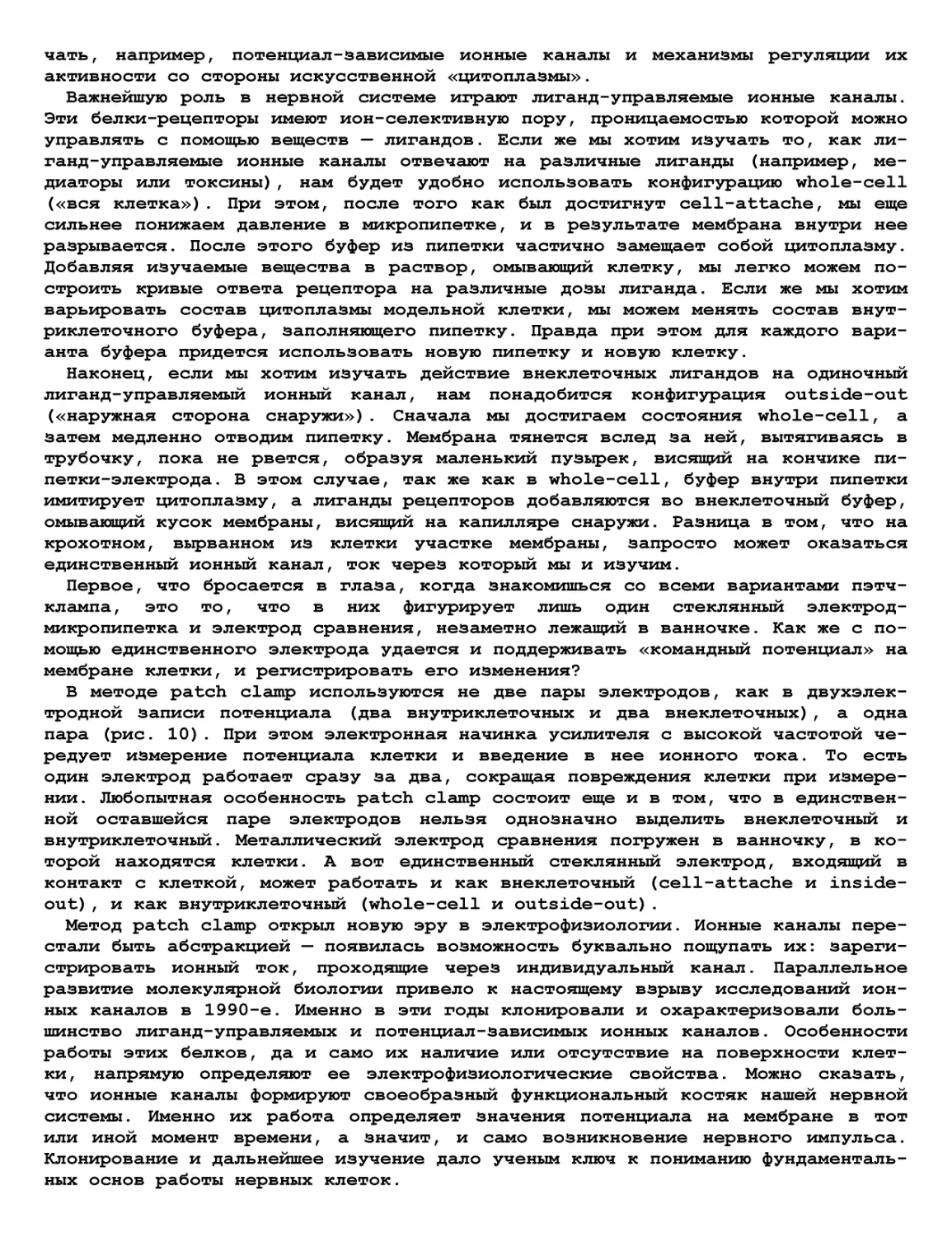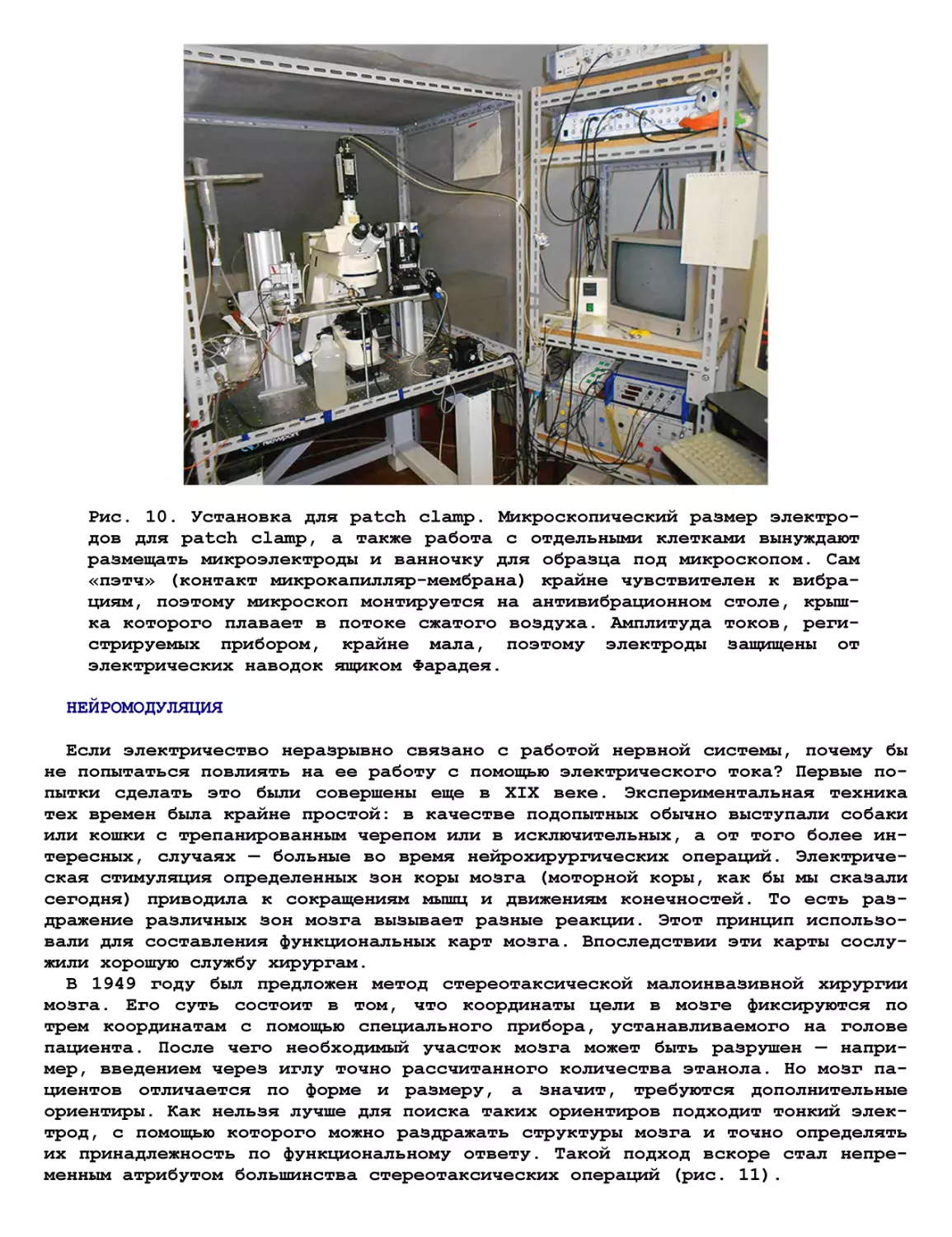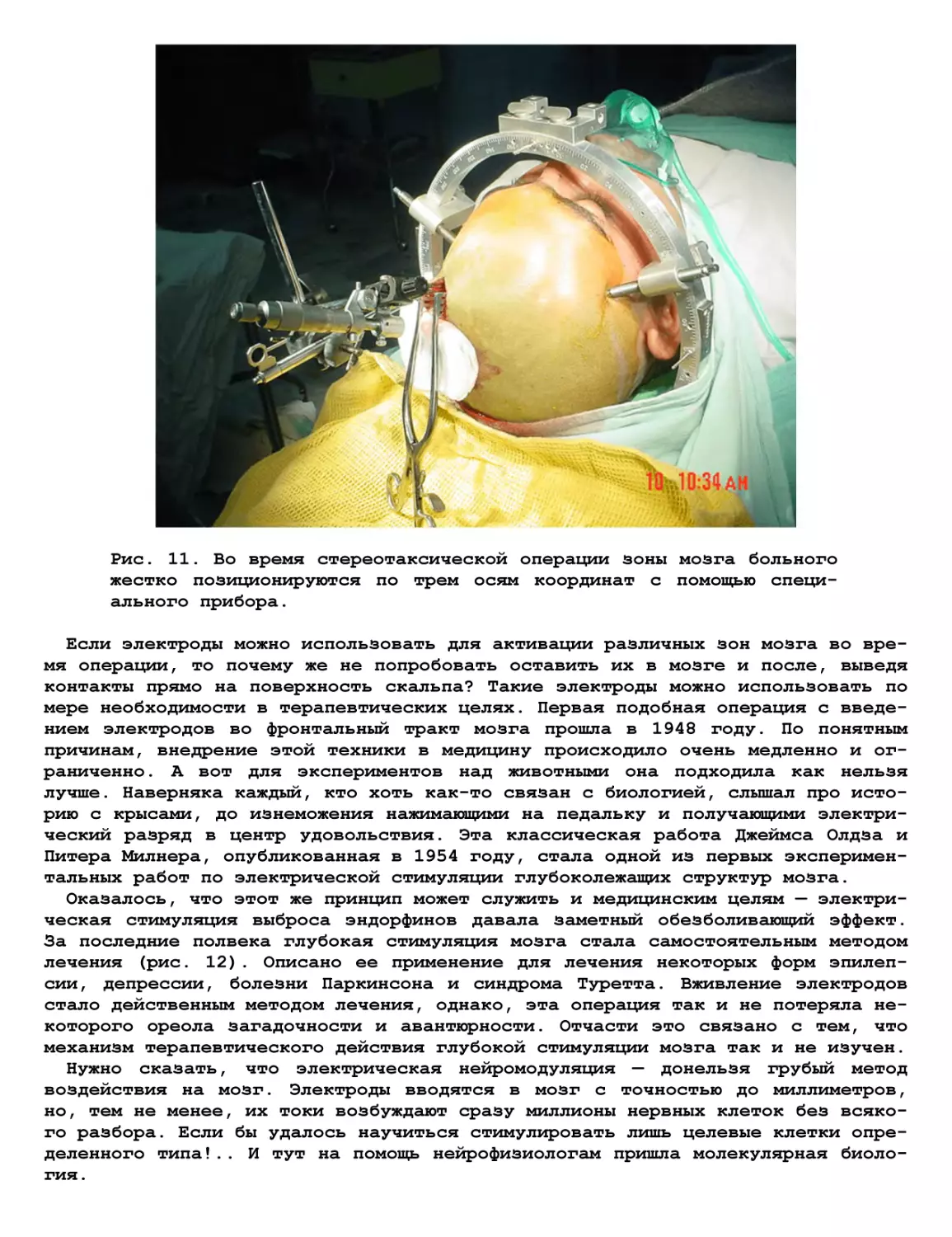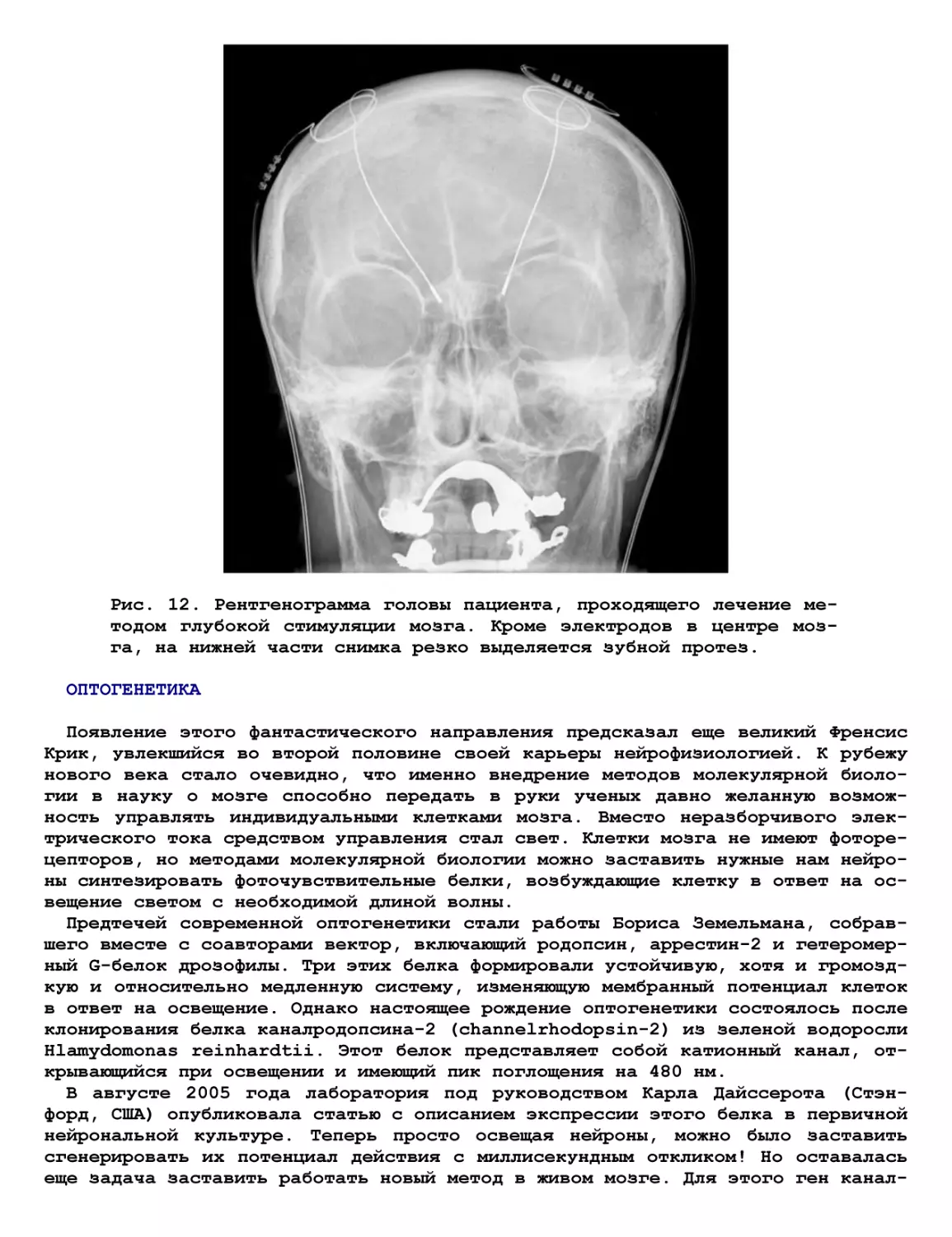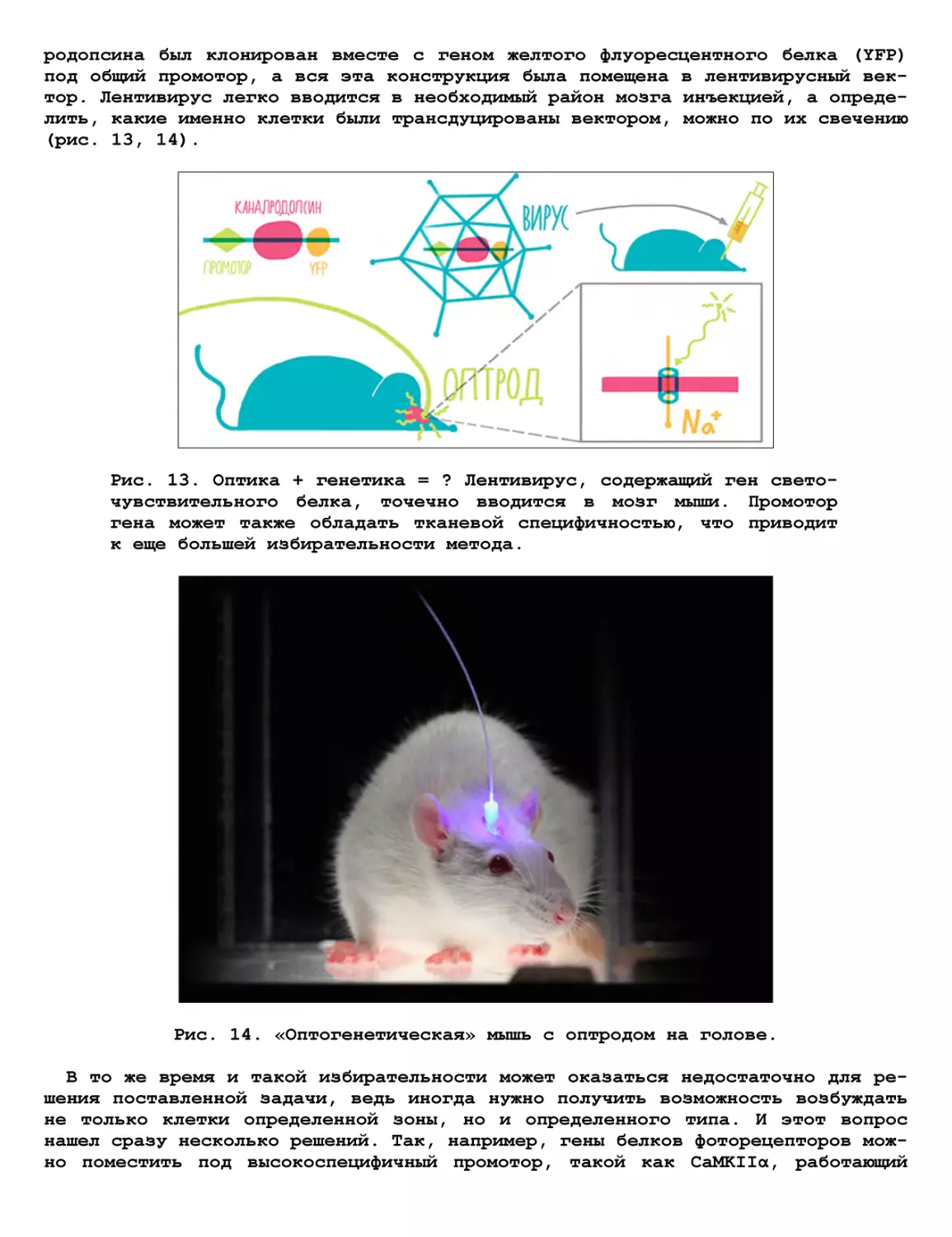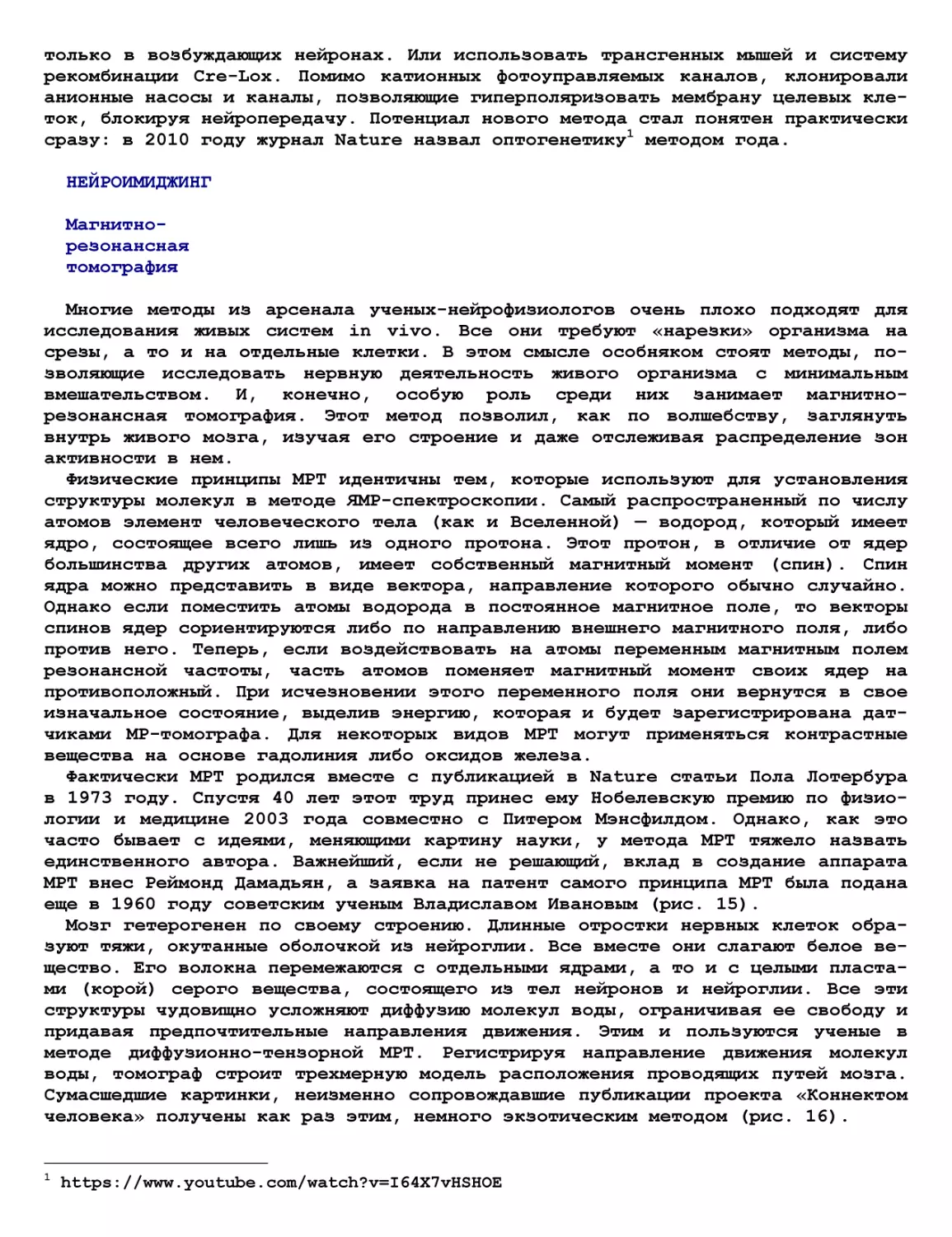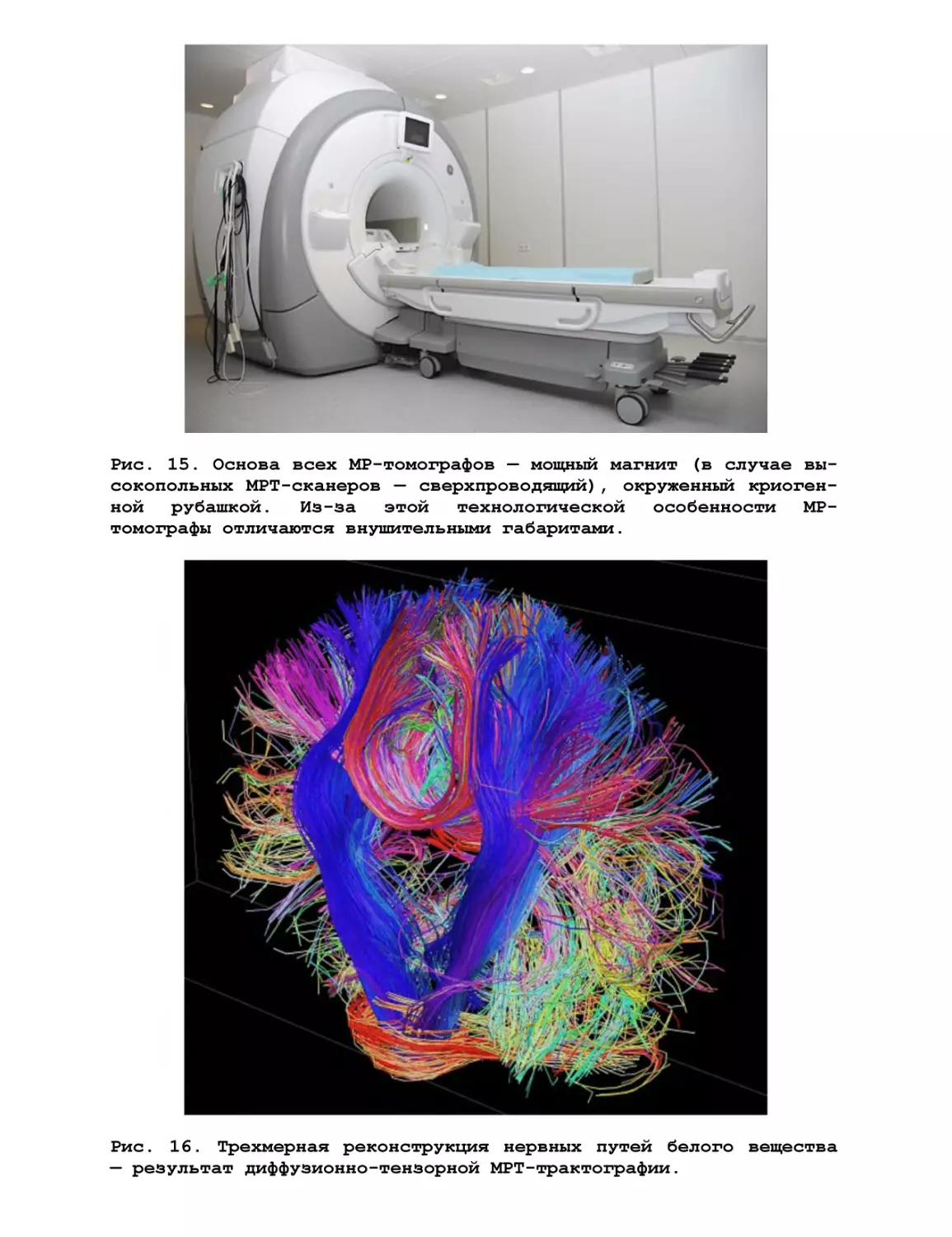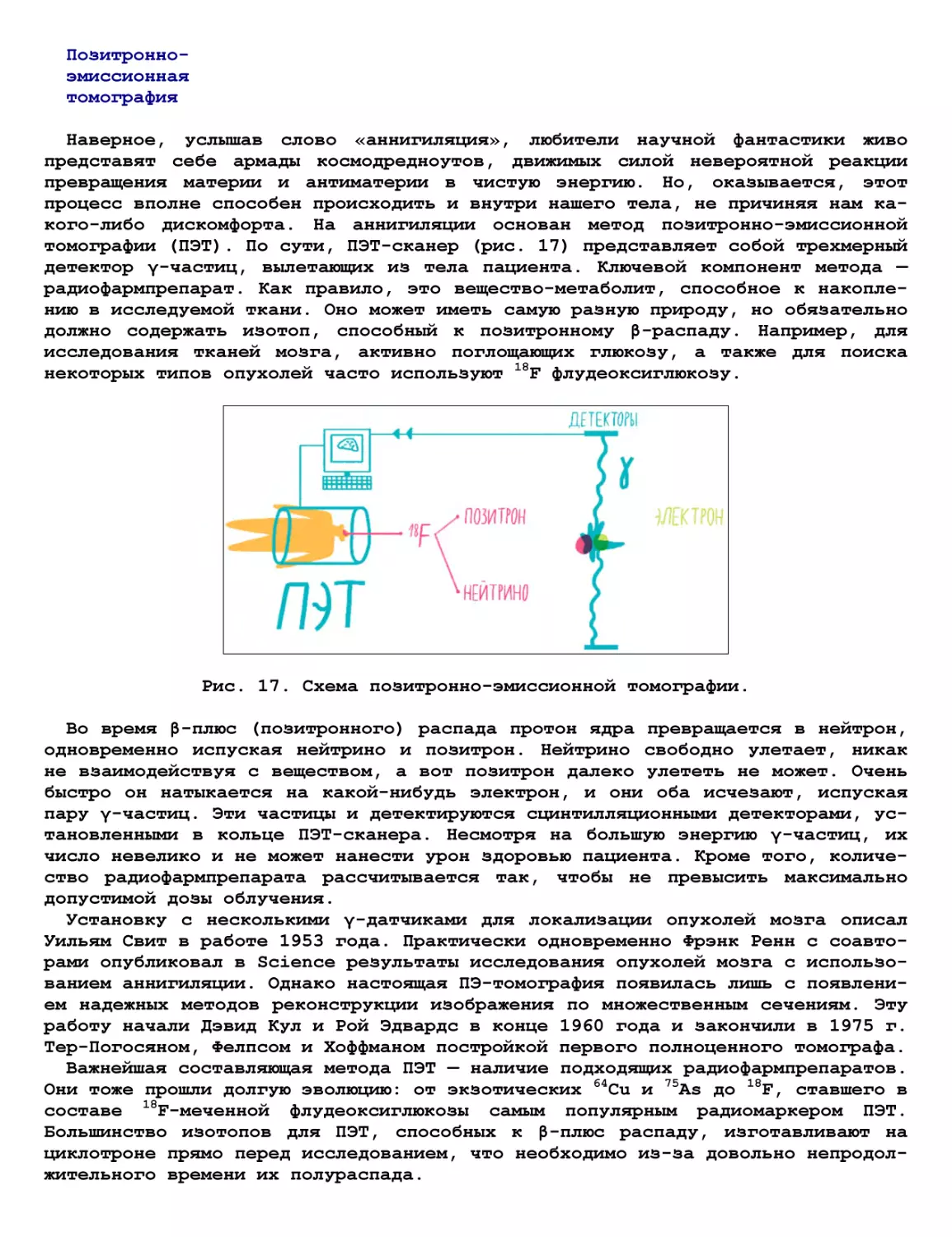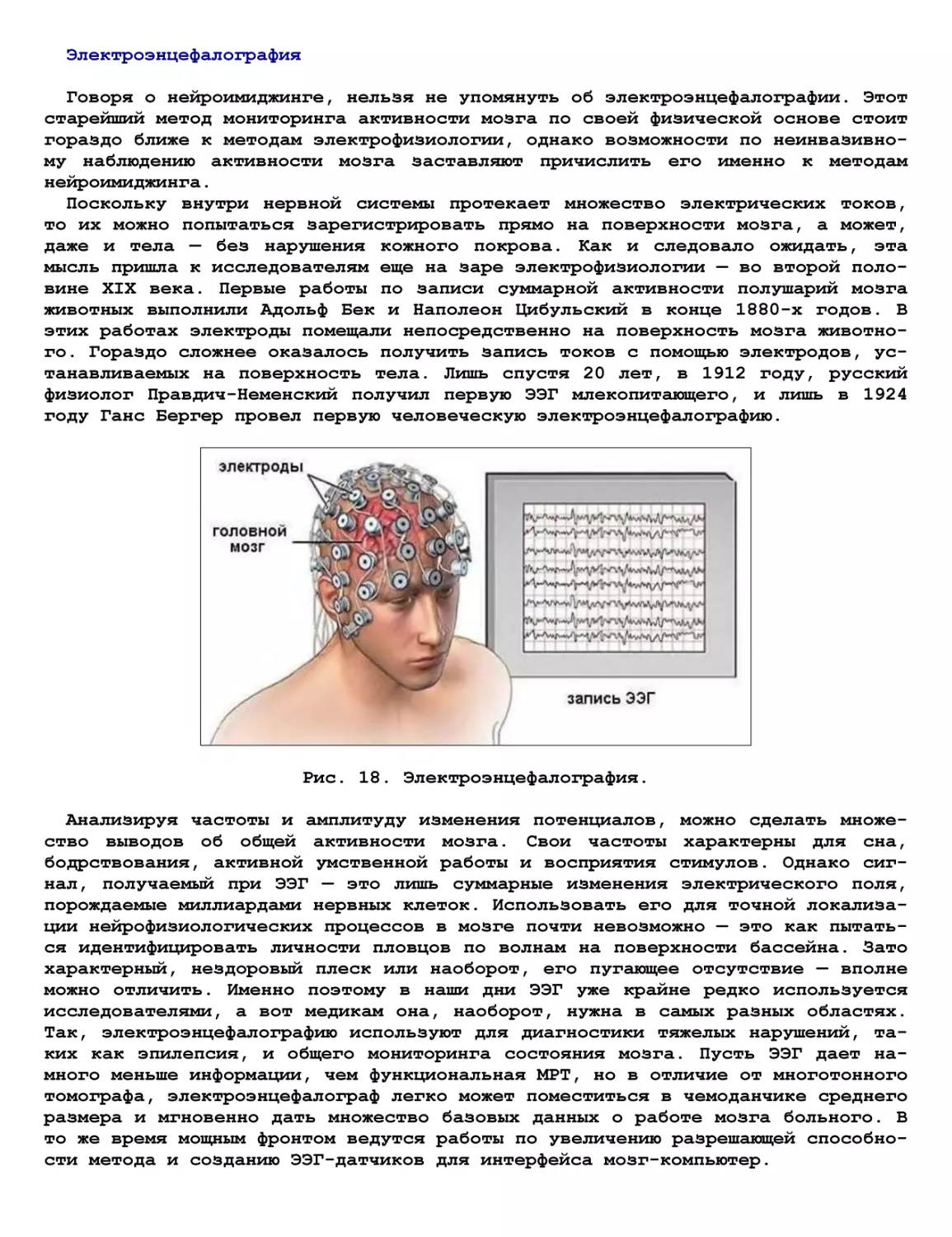Текст
ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ
ДОМАШНЯЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
МАРТ 2024
\л}' *
ДОМАШНЯЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
Научно-практический
и образовательный
интернет-журнал
Адрес редакции:
homelab@gmx.us
Статьи для журнала направ-
лять, указывая в теме пись-
ма «For journal».
Журнал содержит материалы
найденные в Интернет или
написанные для Интернет.
Журнал является полностью
некоммерческим. Никакие го-
норары авторам статей не
выплачиваются и никакие оп-
латы за рекламу не принима-
ются.
Явные рекламные объявления
не принимаются, но скрытая
реклама, содержащаяся в
статьях, допускается и даже
приветствуется.
Редакция занимается только
оформительской деятельно-
стью и никакой ответствен-
ности за содержание статей
не несет.
Статьи редактируются, но
орфография статей является
делом их авторов.
При использовании материа-
лов этого журнала, ссылка
на него не является обяза-
тельной, но желательной.
Никакие претензии за не-
вольный ущерб авторам, за-
имствованных в Интернет
статей и произведений, не
принимаются. Произведенный
ущерб считается компенсиро-
ванным рекламой авторов и
их произведений.
По всем спорным вопросам следу-
ет обращаться лично в соответ-
ствующие учреждения провинции
Свободное государство (ЮАР).
При себе иметь, заверенные ме-
стным нотариусом, копии всех
необходимых документов на афри-
каанс, в том числе, свидетель-
ства о рождении, диплома об
образовании, справки с места
жительства, справки о здоровье
и справки об авторских правах
(в 2-х экземплярах).
Nft
ЩжШ П-П
- - ^
СОДЕРЖАНИЕ
Скелеты в шкафу
Начала органической химии
Биология дрожжей (продолжение)
Получение люмогена карсного
Некоторые методы органической химии
Применение Raspberry Pi Pico (окончание)
Использование дисплеев
Регулируемый стабилизатор тока 0-6 А
Датчик ультрафиолетового излучения LTR-390UV-01
Март 2024
История
Ликбез
152
173
Химичка
256
263
Электроника
280
313
335
339
Блок питания разрядных трубок
UV излучатель для активации фотополимера
Техника
347
365
Технологии
Стеклодувная мастерская (продолжение) 371
Изготовление электровакуумных приборов (продол.) 385
Литье пластмасс в силикон (продолжение) 409
Лаборатория
Химлаборатория инструментального анализа (прод.) 428
Красная таблетка
Бетагемот (окончание)
Проточная цитофлуориметрия
Нейробиология
Мышление
444
Литпортал
582
Разное
732
756
НА ОБЛОЖКЕ
Рисунок к публикации «Красная таблетка»,
История
СКЕЛЕТЫ В ШКАФУ
Иэн Таттерсаль
ПРОЛОГ
Лемуры и прелести
полевых исследований
Сначала парус был похож на крошечный треугольник у самого горизонта. Через
некоторое время под ним уже можно было различить ветхую лодку доу, медленно
прокладывающую себе путь между волнами. Тем не менее, сначала я ее даже не
заметил: у меня были дела поважнее. Я в одиночестве сидел на пустынном пляже
на острове Мохели, самом крошечном из Коморских островов, находящихся в Мо-
замбик с к ом проливе, между Мадагаскаром и Африкой. Все, что меня волновало в
этот момент, — смогу ли я когда-нибудь вернуться в большой мир.
За три недели до этого я прилетел на остров Гранд-Комор, в столицу Комор-
ских островов Морони. Надо сказать, что это был один из самых жутких переле-
тов в моей жизни. Тем утром я приехал в аэропорт Дар-эс-Салама в соседней
Танзании, чтобы сесть в одну из древних посудин DC-4, принадлежащих компании
AirComores, и быстро добраться до своей цели. В аэропорту мне сказали, что
самолетов AirComores здесь не видели уже месяц, но если я хочу, то могу подо-
ждать своего рейса. Я остался ждать вместе с двумя парнями из Франции. Вид у
обоих был довольно неопрятный, но один из них своей густой золотистой бородой
и длинными прямыми волосами походил на того странного человека с Туринской
плащаницы. После нескольких часов непринужденной болтовни мы наконец-то дож-
дались потрепанного DC-4 со звездой и полумесяцем на хвосте, который опустил-
ся на прожженную пылающим солнцем летную полосу. Затем еще целую вечность ни-
чего не происходило. Наконец объявили рейс в Морони, и мы трое двинулись к
своему самолету. Когда мы поднимались по трапу, дверь в салон открылась и по-
ток горячего спертого воздуха едва не сбил нас с ног. Внутри мы обнаружили
толпу разморенных жарой пассажиров и бочки с горючим, закрепленные в проходе
и мешавшие нам пройти. Мы оглянулись в поисках свободных мест, но увидели
только стюарда, который кивком головы указал на бочки.
После того как мы устроились (отнюдь не с удобством) на своих импровизиро-
ванных сиденьях, дверь закрылась и самолет начал выруливать на взлетную поло-
су. После еще одной вечности мы поднялись в воздух, набрали необходимую высо-
ту (судя по всему, не больше пары тысяч футов) и двинулись вперед, через Мо-
замбик с кий пролив, каждая волна в котором была нам слишком отчетливо видна.
Когда мы прибыли в Морони и протряслись вдоль всей летной полосы, я едва су-
мел выпутаться из многочисленных веревок и ремней в салоне. К тому моменту,
когда я оказался внутри крошечного аэропорта, пилот AirComores уже сидел за
стойкой бара в конце помещения со стаканом чистого виски в руках.
Я узнал его по прошлым полетам. В те дни персонал AirComores состоял из за-
каленных ветеранов, Дьенбьенфу, Биафры и Катанги, повидавших весь мир и любя-
щих вспомнить старые деньки. Я тепло поприветствовал его, но пилот не ответил
мне тем же. Вместо этого он поднял глаза от стакана, посмотрел на меня испу-
ганным взглядом и проговорил: «У нас было две тонны перегрузки. Стоило одному
из двигателей хотя бы чихнуть — и нам всем пришел бы конец!» Ошеломленный, я
спросил: «Но, месье X, почему вы летаете в таких условиях?» «Мне 75 лет, ме-
сье, — ответил он. — Кто еще пустит меня за штурвал?»
Позвольте мне в двух словах рассказать вам о Коморских островах. Между 1840
и 1912 годами Французская империя один за другим колонизировала все острова
этого небольшого архипелага. Четыре из них — Гранд-Комор, Мохели, Анжуан и
Майотта — когда-то были независимыми султанатами, расположенными в самом
дальнем конце арабских торговых путей, шедших из Омана вдоль восточного побе-
режья Африки. Во времена колониального владычества они формально находились
под управлением Мадагаскара, крупного, но далекого французского владения, и
более забытого Богом места невозможно было себе представить. Однако изоляция
не всегда означает безмятежность. Как только Мадагаскар получил независимость
в 1960 году, на Коморах начались трагические события, уровень сложности кото-
рых совсем не соответствовал масштабам архипелага.
До 1974 года острова находились под управлением далекой Франции, но в конце
года был проведен референдум о независимости. Три острова проголосовали за
создание суверенного государства, но Майотта, которая дольше всех пробыла
французским владением, к ним не присоединилась. Ей было разрешено остаться
территорией Франции, и в ответ на это возмущенные власти Коморских островов
устроили мятежной Майотте торговую блокаду. В то время я как раз жил там и
хорошо помню, как меня постепенно охватывала паника. Сначала из магазинов ис-
чезло пиво, потом сигареты, а затем и вообще все более или менее цивилизован-
ные продукты. Нам приходилось выживать на скудном рататуе из местных овощей.
Когда через несколько месяцев одна поставка импортной продукции все же каким-
то образом обошла эмбарго и попала в местные магазины, мы ринулись туда и об-
наружили, что вся она целиком состояла из консервированного рататуя. Но вре-
мена изменились. С 2011 года Майотта является заморским департаментом Фран-
ции, а этот статус предполагает обилие супермаркетов, мощеные дорога, высокие
цены, сложную бюрократическую систему и загрязнение прибрежных вод.
На остальных островах архипелага, несмотря на многочисленные события их но-
вейшей истории, время как будто остановилось. Полное отсутствие экономическо-
го развития компенсируется здесь бурной политической жизнью. Почти сразу же
после того, как Коморские острова обрели независимость, их президент был
свергнут в ходе восстания (первого из четырех), организованного французским
наемником Бобом Денаром, ветераном войн в Алжире, Катанге, Родезии и других
горячих точках. После недолгого периода беспорядков президентское кресло за-
нял революционер по имени Али Суалих, и после этого дела начали развиваться
еще интереснее. Али был франкофобом и маоистом и имел свои собственные пред-
ставления о демократии. Чтобы очистить Коморы от колониального наследия, он
приказал сжечь все государственные документы о гражданском состоянии, а чтобы
обеспечить себе легитимность, снизил возрастной ценз до 14 лет. Он был своего
года Че Геварой, кумиром детей и подростков. Благодаря этому маневру ему уда-
лось организовать референдум по поводу своего правления.
Примерно во время всей этой катавасии я и сидел в отчаянии на берегу Мохе-
ли. Большой мир почти ничего не знает о Коморах, и когда я прибыл в Морони,
то пребывал в счастливом неведении относительно происходящего на островах
хаоса. Все, что я знал, — это то, что летом 1977 года на Коморские острова
было крайне трудно попасть. Здесь мой рассказ возвращается к главной теме
данной публикации. Я приехал на Коморские острова, чтобы продолжить изучение
лемуров. Мое исследование началось за несколько лет до этого на Мадагаскаре.
Как вы, возможно, знаете, лемуры — это приматы, обитающие только на этом ост-
рове. Они представляли интерес для моего исследования потому, что около 50
миллионов лет назад у лемуров и людей имелся общий предок. Это огромный срок,
и хотя мы с лемурами и состоим в некотором родстве, в нашем генеалогическом
древе они отстоят от нас куда дальше, чем обезьяны или высшие приматы. Не-
смотря на то, что в своем островном уединении лемуры активно развивались, в
некоторых важных аспектах они остались гораздо более примитивными, чем люди.
Значит, если мы хотим узнать, как жили и функционировали наши предки в раннем
кайнозое, нам следует обратиться к лемурам. С другой стороны, если волею су-
деб какого-нибудь исследователя, например, меня, перестанут пускать на Мада-
гаскар (это повод для отдельной истории), то ему больше некуда будет подать-
ся. Вернее, почти некуда. Несколько видов лемуров (всего их насчитывается бо-
лее 50) в течение последнего тысячелетия были завезены на Коморские острова,
сумели прижиться там и сформировать популяции. Итак, лемурологу, которому за-
крыт доступ на Мадагаскар, остается только одно — ехать на Коморы.
Мангустовый лемур с о. Мохели, Коморские острова. Eulemur mongoz
принадлежит к роду, насчитывающему еще как минимум пять видов (неко-
торые ученые считают, что их куда больше — до 11) . Это довольно ти-
пичное млекопитающее, которое напоминает нам, что в природе редко
встречаются роды, насчитывающие один вид, такие как наш.
Вот почему я оказался в Морони. Но как только я вышел из самолета, сразу же
понял, что совершил ужасную ошибку. Атмосфера здесь была жутковатой, в возду-
хе летали хлопья пепла — как я потом узнал, весь остров сжигал свидетельства
о рождении и браке и документы на землю. Кроме того, было невозможно найти
чиновников, у которых я привык получать разрешения и помощь в экспедициях. Я
знал, что на Гранд-Коморе нет лемуров, поэтому мне казалось логичным, что я
должен немедленно ехать на другие острова, где лемуров в избытке, а политиче-
ских событий, судя по поему прошлому опыту, не происходило вовсе.
На сей раз опыт меня подвел. Я отправился в местный офис AirComores и купил
билет в один конец до Мохели, следующего острова в архипелаге. При отлете ни-
каких формальностей проходить не пришлось, но когда я спустился по трапу на
грязную посадочную полосу в месте назначения, передо мной оказалась парочка
подростков, один из них поигрывал автоматом Калашникова. Второй улыбнулся
мне, объяснил, что они с товарищем — члены молодежного революционного движе-
ния, и предложил остановиться в отеле от их организации (по неприлично высо-
кой цене). Отель? Для Мохели это было что-то новенькое. Тем не менее, это был
не первый и не последний случай в моей жизни, когда мне делали предложение,
от которого я не мог отказаться. Я сел в предложенный военный джип, а парень
с автоматом устроился за рулем. После недолгой поездки по ухабистой дороге мы
добрались до места. Отель оказался руинами того, что совсем недавно еще было
благоустроенным домом менеджера иланг-иланговой плантации.
Теперь он превратился в настоящую зону бедствия. Вся сантехника была вырва-
на, электрогенератор и проводка украдены, крыша проседала. Меня провели в
грязную комнату, где не было ничего, кроме крыс, мусора и гор кирпича, и по-
требовали плату за неделю вперед. Забрав мои деньги, хозяева попрощались со
мной, сели в джип и исчезли.
Эти события привели меня в не самое лучшее расположение духа. Я вышел из
разваливавшегося дома и прошел несколько километров по пыльной дороге до Фом-
бони — главного (и единственного) города на острове. Город практически вымер,
но в какой-то грязной лавке мне удалось купить пару банок мясных консервов,
риса и спичек. С ними я вернулся в свою резиденцию. Туда же той ночью пришел
Бако Мари. Во время моих предыдущих приездов на Мохели Бако возил меня по
острову на своем мотоцикле. Сейчас он был полон революционного пыла, и меня
это очень нервировало. Бако рассказал мне, что, к сожалению, популяция лему-
ров, которую я изучал в предыдущие годы, исчезла из этих мест. Позднее из-за
потоков беженцев это произошло и в других частях острова. Итак, смысла оста-
ваться на Мохели не было.
На следующий день я отправился в офис AirComores за билетом на следующий
остров — Анжуан. Агент компании очень вежливо сообщил, что с радостью продал
бы мне билет, но не может этого сделать, пока я не покажу ему свою выездную
визу. Выездную визу? Я же путешествую внутри страны. И когда я вылетал из Мо-
рони, от меня никто не требовал виз. «Тем не менее, месье, чтобы уехать с Мо-
хели , вам нужна виза. Без нее мы не сможем выдать вам билет», — сказали мне.
А где я могу получить такую визу? Конечно же, у «Революционной молодежи»!
Тем же вечером, после наступления темноты, меня посетил посланник весьма
представительного и учтивого человека, который был префектом Мохели до объяв-
ления независимости. Приглушенным голосом гость предложил встретиться с пре-
фектом, но тут же предупредил, что меня никто не должен видеть, иначе меня
могут ждать ответные меры с обеих сторон. Я пробрался в затемненный дом пре-
фекта и нашел бывшего чиновника в состоянии сильнейшего волнения. Он расска-
зал мне, что правительство распущено и остров терроризирует банда тинейджеров
с автоматами — местные хунвейбины. Их власть поддерживается группой военных
из Танзании, которые стоят лагерем на берегу. Префект описывал мне ужасы, ко-
торые творила «Революционная молодежь», и заявлял, что ничего на острове не
происходит без их разрешения. «Месье, — завершил он свой рассказ, — вы должны
немедленно покинуть это место!»
Вот только для этого мне необходима была выездная виза. Чтобы ее получить,
нужно было обратиться к «Революционной молодежи». Я снова отправился в Фомбо-
ни и нашел там группу 14-летних подростков обоих полов, которые болтали, ку-
рили травку (Али Суалих легализовал марихуану) и лениво поигрывали разнооб-
разным оружием. Я потребовал выдать мне визу на выезд и тут же получил отказ.
Когда я спросил почему, мне ответили, что у них нет штампа. Как вы можете по-
нять , последующие несколько визитов за визой закончились тем же.
Так что, когда я сидел на берегу и смотрел на приближающуюся лодку, у меня
были все основания отчаиваться. Было очевидно, что местные хунвейбины никуда
не отпустят дойную корову, с которой можно свободно получать прибыль, и я не
знал, что они сделают со мной, когда деньги закончатся. Не то чтобы я хотел
узнать это на практике. Если бы я отказался платить за свою комнату, послед-
ствия могли бы быть плачевными. Кроме того, в отсутствие лемуров ничто не
могло отвлечь меня от размышлений о моем бедственном положении (особенно по-
сле того, как в моем радиоприемнике сели батарейки). Вполне естественно, что
в какой-то момент лодка на горизонте привлекла мое пристальное внимание. По-
степенно она становилась все больше и больше, пока, наконец, я не понял, что
лодка приближается к берегу, примерно к тому месту, где я стоял. Когда ее нос
воткнулся в песок в нескольких ярдах от меня, я увидел на борту двух человек,
измученных морской болезнью. В них я узнал своих собеседников из аэропорта в
Дар-эс-Саламе. Они переночевали в моей развалюхе, а на следующий день мы все
вместе отправились в штаб-квартиру «Революционной молодежи».
Придя в себя после морского путешествия, бородатый парень с лицом Иисуса
оказался весьма харизматичным персонажем, который быстро сумел очаровать бун-
тующих подростков. Через несколько дней они буквально ели у него из рук, а
один из них раздобыл кусок линолеума и аккуратно вырезал на нем штамп выезд-
ной визы. После того как визы оказались в наших паспортах, мы втроем наконец-
то сели на самолет до Анжуана и его дикой природы.
Любой, кто знаком с чудесными Коморскими островами и их доброжелательными
жителями — смесью африканцев, арабов и малагасийцев с каплей европейской кро-
ви , — желает им более спокойного и благоприятного будущего. Но вот прогнозы
для коморской флоры и фауны неутешительны. Когда я впервые приехал на Коморы
в 1974 году, население всех четырех островов архипелага составляло около 250
тысяч человек. Сегодня на трех островах проживает как минимум в три раза
больше людей. Даже на Майотте, где природе угрожает производство, а не бед-
ность, популяция лемуров за последние 10 лет значительно сократилась, и это
очень серьезная проблема.
Большинству популяций лемуров на Мадагаскаре угрожает вымирание. Майотта —
единственная страна обитания этих животных, управляемая развитой нацией, ко-
торая при желании могла бы принять меры для их защиты.
Несмотря на невнимание властей, лемуры должны занять особое место в сердцах
и умах тех, кто интересуется историей человечества. Как я уже упоминал, все
дело в том, что они похожи на наших далеких предков, живших в эпоху эоцена,
то есть около 50 миллионов лет назад. Размеры сегодняшних лемуров варьируются
от мыши до крупной кошки (хотя еще совсем недавно встречались виды ростом с
гориллу) . Мозг лемура по отношению к его телу меньше, чем у высших приматов,
и лемуры в гораздо большей степени полагаются на свое обоняние. Тем не менее,
они вовсе не так глупы, как можно предположить. Исследователи психологии при-
матов сначала пытались изучать интеллект лемуров с помощью тестов, разрабо-
танных для обезьян и даже людей. Такие тесты предполагают гораздо более высо-
кий уровень развития моторики и визуальную, а не обонятельную оценку объек-
тов . Все это очень мешало ученым в понимании того, как именно лемуры воспри-
нимают мир, поэтому они занялись разработкой способов, позволяющих тестиро-
вать когнитивные способности лемуров более привычными и подходящими для них
способами. После того как такие методы будут созданы, мы сможем выяснить, как
именно происходили познавательные процессы до возникновения нашего необычного
способа обработки информации. Уже только поэтому лемуры представляют для нас
огромную ценность. Кроме того, они могут рассказать нам о социальных страте-
гиях наших предков и об их взаимодействии с природой. Что касается меня, то я
пытался получить от них еще один важный урок.
Сегодня большая часть моих исследований посвящена антропологии. Я пытаюсь
понять, что говорят нам окаменелости и другие археологические свидетельства
человеческой эволюции. Как и все мои современники из англоязычных стран, я
изначально воспринимал биологическую историю человечества как целенаправлен-
ный и героический путь от примитивности к самосовершенствованию. Когда я
оканчивал университет, было распространено мнение, что эволюция — это процесс
тонкой настройки, который постепенно, век за веком, делает живые существа все
более и более приспособленными к окружающему миру. Неудивительно, что эта
концепция пользовалась такой популярностью, — она кажется интуитивно привле-
кательной для вида, который является единственным представителем своего рода
на планете. Наша уникальность заставляет нас представлять эволюцию Homo
sapiens в виде единой ветви генеалогического древа. Разумеется, в некоем
очень ограниченном смысле это представление верно. Мы действительно являемся
наследниками уникальной последовательности предков, каждый из которых сущест-
вовал в строго определенный период времени. Но это ретроспективный взгляд, и
если мы рассмотрим эволюцию в целом, то поймем, что все происходило совершен-
но по-другому. То, чему меня учили, оказалось лишь частью общей истории. Я
впервые задумался об этом в конце 1960-х годов, когда начал работать с лему-
рами.
Любой человек, наблюдающий за лемурами на Мадагаскаре, наверняка в первую
очередь заметит их потрясающее разнообразие. Эти милые приматы делятся на
пять семейств, насчитывающих более 50 видов — от крошечных шустрых мышиных
лемуров до «истинных» лемуров размером с кошку, ходящих на четырех лапах, от
длинноногих прыгучих индри и лепилемуров, которые предпочитают вертикальное
положение тела, до странных зверьков айе-айе с пушистыми хвостами и ушами как
у летучей мыши. Если бы вам посчастливилось посетить Мадагаскар всего 2 тыся-
чи лет назад, вы смогли бы увидеть висящих на ветках ленивцевых лемуров, ме-
галапидов, похожих на гигантских коал, и представителей отряда археолемуро-
вых, отдаленно напоминающих обезьян. Все они были странными и прекрасными
созданиями, значительно превышавшими по размеру своих потомков.
Иными словами, лемуры — яркий пример биологического разнообразия, причем не
только в формах тела и образе жизни, но и в эволюционном пути. Лемуры — это
несколько явно различающихся между собой семейств, множество родов и огромное
количество видов. Подобное разнообразие нередко встречается среди многочис-
ленных групп млекопитающих. Успешные семейства млекопитающих имеют тенденцию
распространяться географически и изменяться филогенетически. Применив эти вы-
воды к разнообразным человеческим останкам и окаменелостям, я понял, что наше
собственное семейство гоминид подчинялось такому же правилу. Эволюция челове-
ка вовсе не была тем линейным процессом доработки и улучшения, о котором нам
всем рассказывали в школе. Это был тяжелый бой, в котором на арену эволюции
то и дело выталкивали новые виды, чтобы посмотреть, выживут они или вымрут в
процессе.
Признание того, что природа действует по такому сценарию, полностью меняет
наше представление о собственной истории. Мы тут же понимаем, что человек —
это не результат мелкой доработки, полировки и наведения лоска. Нашему воз-
никновению предшествовала стадия активных экспериментов с разными формами су-
ществования гоминидов. Соответственно, мы начинаем сомневаться в расхожем
мнении о том, что эволюция целенаправленно создавала нас не такими, как дру-
гие виды.
Тем не менее, сегодня мы действительно являемся необычными. Мы настолько
отличаемся от других живых существ, что смогли радикально изменить свои отно-
шения с природой. Именно поэтому многим палеоантропологам сложно воспринимать
наших предков-гоминидов как просто еще одну группу приматов и рассматривать
процессы, в результате которых мы появились на свет, как типичные для других
млекопитающих явления. После того как ученые доказали существование этой тен-
денции (около полутора веков назад), в науке возник так называемый принцип
исключительности гоминидов — инстинктивное предположение о том, будто наше
отличие от других видов живых существ на планете означает, что наши предки
сумели сыграть в эволюционную игру по другим правилам. Именно это чувство ис-
ключительности сделало палеоантропологию такой консервативной. В той или иной
форме оно существовало с самых первых лет палеоантропологии, когда мы только
начинали познавать самих себя.
ГЛАВА 1
Место
человека
в природе
Человек настолько не похож на всех остальных живых существ, что его просто
невозможно ни с кем перепутать. Мы ходим на двух ногах, что дает нашим рукам
возможность умело манипулировать различными предметами. Мы умеем врать друг
другу, используя для этого необычное средство общения — язык. Мы обладаем ог-
ромным мозгом, спрятанным внутрь черепа, который шатко балансирует на доволь-
но-таки тщедушном теле, и нас совершенно не смущает факт, что этот мозг вме-
щает множество противоречивых понятий. Мы используем невероятно сложные тех-
нологии, без которых, скорее всего, уже не сможем обходиться. У наших спосо-
бов обработки информации нет аналогов в природе. Список наших уникальных черт
бесконечен: ни одно живое существо в природе не выглядит и не ведет себя так,
как мы. На протяжении большей части своей истории вид Homo sapiens не нуждал-
ся в самоопределении. Различия между нами и другими животными казались на-
столько очевидными, что в XVIII веке великий лексикограф Сэмюэл Джонсон опре-
делял понятие «человек» как «человеческое существо», а термин «человеческий»
— как «обладающий качествами человека» и считал такие определения исчерпываю-
щими. Возможно, это были не самые лучшие словарные статьи Джонсона, но в то
время ближайшим известным науке родственником человека был малоизученный
орангутанг, и более подробного освещения этого понятия не требовалось.
Однако для знаменитого современника Джонсона Карла Линнея этого было недос-
таточно . Линней, которого считают отцом современной зоологической классифика-
ции, известен, помимо прочего, своим революционным решением отнести человека
к отряду приматов наряду с лемурами и обезьянами. Однако, когда дело дошло до
описания Homo sapiens как вида, Линней отказался от обычного перечисления ха-
рактеристик, которые помогли бы его читателям опознать то или иное живое су-
щество . Вместо этого он ограничился наставлением: «Познай самого себя». Ду-
маю, ему можно простить такую расплывчатую формулировку. В конце концов, мы
лишь слабо понимаем свое место в мире природы, но одновременно чувствуем, что
стоим в стороне от него. Мы функционируем не так, как другие животные. Да, по
сути, мы всего лишь млекопитающие с такими сердцами, почками и желчными пузы-
рями, как и другие, и с той же потребностью в пище и дыхании. Но в нас, несо-
мненно, есть что-то особенное.
Первым известным ученым, который еще в IV веке до нашей эры пытался понять,
как наш странный вид вписывается в окружающий мир, был Аристотель. Его можно
назвать также и первым специалистом по сравнительной анатомии. Аристотеля за-
нимали целостность и преемственность, которые он видел во всех формах жизни и
даже между живой и неживой материей. Он предполагал, что жизнь зародилась из
инертного вещества, похожего на озерный ил (который оказался действительно
наполненным жизнью, как доказало изобретение микроскопа). Тем не менее, Ари-
стотель считал Вселенную вечной и неизменной, а каждому ее компоненту, от
простейшего до самого сложного, отводил строго определенное место в ее иерар-
хии. На нижних ступенях «лестницы бытия» располагались камни и другие предме-
ты, которые просто существовали, но не несли в себе жизненной силы. На сту-
пеньку выше находились простейшие живые существа — растения, обладающие спо-
собностью к жизни, росту и воспроизведению. Еще выше Аристотель помещал жи-
вотных, которым были присущи дополнительные качества живого — движение и па-
мять . Наконец, на самой высокой ступени находились люди — носители разума.
Каждый живой организм занимал свое место в этой иерархии, созданной когда-то
«Перводвигателем» — сущностью, для которой у Аристотеля не имелось точного
описания.
В более поздние эпохи систему Аристотеля быстро приняли на вооружение тео-
логи и крупнейшие христианские мыслители Средневековья. Вслед за святым Авгу-
стином они охотно ассоциировали «Перводвигателя» с библейским Богом, возвы-
шавшимся над Великой цепью бытия, в которой каждое живое существо занимало
строго предопределенное место. Человек в ней находился ниже ангелов, но выше
львов и других хищных животных, за которыми следовали животные домашние и так
далее, до самого конца цепи. Цепь — это единый физический объект, состоящий
из дискретных звеньев. Точно так же и Великая цепь бытия соединяла человека с
другими божественными созданиями, но при этом и отделяла его от них. Такое
двусмысленное положение позволяло объяснить то состояние, которое Александр
Поуп блестяще описал в своем «Опыте о человеке» в 1734 году строками:
Ты посредине, такова судьба;
Твой разум темен, мощь твоя груба.
Я считаю эти строки самым точным описанием положения человечества в мире,
когда-либо выраженным в литературе.
Тем не менее, уже в XVI-XVII веках натуралисты начали развивать ритуализи-
рованное представление о живой и неживой природе, предложенное церковью. В
XVIII веке гений Линнея показал, что живой мир не только имеет четко упорядо-
ченную структуру, но и что ее можно описать, используя множества и подмноже-
ства. На основе этой догадки Линней разработал систему, которой мы пользуемся
по сей день. В соответствии с этой системой наш вид, Человек разумный (Homo
sapiens) , принадлежит к роду Люди (Homo) , входящему в семейство гоминидов
(Hominidae), которое, в свою очередь, является частью отряда приматов, входя-
щего в царство животных. В этой иерархии каждая категория включает в себя все
подкатегории более низкого уровня. Homo sapiens — это всего лишь один из не-
скольких (ныне вымерших) видов из рода Homo, семейство гоминидов состоит из
нескольких родов и т.д. Подобная классификация существенно отличается от по-
военному строгой структуры Великой цепи бытия, где каждому виду отводилось
свое место. Инклюзивная иерархия Линнея прекрасно отражала все исторические
события, насколько нам известно, приведшие к возникновению Древа жизни, к ко-
торому мы все принадлежим.
Сегодня, как и во времена Линнея, базовой единицей категоризации живого яв-
ляется вид. Уже в XVII веке английский натуралист Джон Рей пришел к выводу,
что (изредка нарушаемые) границы вида определяются его репродуктивной общно-
стью. Говоря современным языком, для организмов, размножающихся половым пу-
тем, вид — это крупнейшая популяция, в рамках которой может происходить скре-
щивание . Разумеется, в большинстве случаев даже самые близкородственные виды
имеют внешние различия. Однако особи, принадлежащие к одному виду, порой так-
же могут ощутимо отличаться друг от друга. Разница в том, что во втором слу-
чае они все еще могут скрещиваться между собой и готовы делать это при первой
возможности. Соответственно, ключевым показателем принадлежности к виду явля-
ется репродуктивная преемственность — заинтересованность членов группы спари-
ваться между собой и возможность успешно это делать. Иными словами, живые су-
щества не принадлежат к одному виду потому, что выглядят одинаково. Они вы-
глядят одинаково потому, что принадлежат к одному виду.
Так как человек является неотъемлемой частью живого мира, для понимания то-
го, какое именно место мы занимаем в биоте, от нас требуется не только ин-
троспективное изучение самих себя, но и знания о том, что такое вид, чем он
характеризуется и как изменяется или не изменяется с течением времени. Какой
бы организм мы ни рассматривали, если у него не имеется надежного генеалоги-
ческого древа, связывающего его с ближайшими родственниками и остальными эле-
ментами живого, то и сказать о нем что-либо будет трудно. То же касается и
наших представлений о том, как вид изменялся со временем, ведь для того, что-
бы эволюционная модель оказалась верна, она должна основываться на историче-
ских фактах. Так как научные знания о мире постоянно меняются, то и наши при-
обретенные представления требуют постоянного пересмотра.
Представление о стабильной и неизменной Вселенной, в которой за каждым ви-
дом было закреплено свое место, — единственное, что объединяло теологов с Ре-
ем и Линнеем. Однако к началу XIX века у некоторых ученых начали возникать
сомнения. Первые геологические и палеонтологические находки наводили на
мысль, что и ландшафты Земли, и живые существа на ней когда-то сильно отлича-
лись от существующих. Осадочные породы наслаиваются друг на друга, как коржи
в торте, но если их последовательность в определенной местности определить
достаточно нетрудно, то соотнести породы в нескольких разных регионах — го-
раздо более сложная задача, так как состав слоя не гарантирует его возраст.
Столкнувшись с этой проблемой, первые геологи очень быстро поняли, что окаме-
нелости, находимые в осадочных породах (кости и зубы позвоночных или раковины
моллюсков и других морских обитателей), можно использовать для хронологиче-
ской классификации слоев. Это возможно потому, что для разных геологических
эпох была характерна разная фауна — как мы знаем сегодня, благодаря эволюци-
онным изменениям.
Еще до возникновения теории эволюции было очевидно, что наша планета имеет
долгую историю и на протяжении этой истории ее облик менялся. В самом начале
для объяснения различий между современной и древней фауной без значительного
отклонения от религиозных догматов использовалась гипотеза катастроф. Собы-
тия, подобные библейскому Всемирному потопу, якобы стирали с лица Земли все
живое. Скудная, но постоянно пополнявшаяся палеонтологическая летопись дейст-
вительно указывала на то, что фауна планеты переживала значительные перемены.
Геологи и антропологи обнаруживали свидетельства массовых вымираний и исчез-
новения значительного количества видов. Для христианского мира (включавшего в
себя, во всяком случае, номинально, всю Европу) такое объяснение было вполне
приемлемым. Однако к началу XIX века стали возникать новые идеи относительно
изменения животного мира с течением времени.
Упоминания об этом встречались и ранее, но принятие современной наукой кон-
цепции об изменчивости живых существ с течением времени началось с блестящего
ученого Жана-Батиста Ламарка. Этот великий французский натуралист работал в
основном с окаменелостями моллюсков, найденными в Парижском бассейне. Уже в
1801 году он высказал предположение о том, что виды живых существ не только
не являются неизменными, но, наоборот, активно изменяются с течением времени,
а в 1809 году описал эту теорию в своем влиятельном труде «Философия зооло-
гии» . Для Ламарка каждый вид представлял собой родословную живого организма,
был независим от других, имел собственных древних прародителей и внутреннее
стремление к изменениям и увеличению сложности. Несмотря на то, что эта точка
зрения достаточно далека от современных представлений об эволюции, она отра-
жает ключевую роль, которую изменения играют в природе, и радикально отлича-
ется от традиционного схоластического видения живого мира как статичного объ-
екта. И это неудивительно, так как Ламарк работал в секуляризованной постре-
волюционной Франции.
Идея Ламарка имела решающее значение для изучения истории жизни на Земле.
Но, к сожалению, автор совершил ошибку, бросающую тень на ее значимость, а
именно: неверно описал эволюционный механизм. Согласно Ламарку, виды изменя-
ются за счет использования (или не использования) различных свойственных им
анатомических характеристик, происходящего в процессе активного взаимодейст-
вия представителей вида с внешней средой. Любимым примером Ламарка была сле-
пота кротов, а самым популярным — длинная шея у жирафов, которая якобы увели-
чивалась от поколения к поколению по мере того, как древние предки современ-
ного жирафа пытались достать до все более и более высоких веток. Разумеется,
такое представление об изменениях является ошибочным, так как ни одна из фи-
зических характеристик, приобретаемых животным за время его жизни (например,
накачанные мышцы или плоские стопы), не может быть напрямую передана его по-
томкам и закреплена в них. Однако в представление Ламарка о динамике всего
живого входил и еще один элемент — адаптация к внешней среде, имевший огром-
ное значение для будущей эволюционной мысли. Более того, его концепция изме-
нений представляла собой адаптацию распространенной в то время идеи о зависи-
мости физических различий от природных условий. В качестве иллюстрации этого
подхода часто приводили пример того, как светлая кожа европейцев загорает под
тропическим солнцем. Тем не менее, бедняга Ламарк был заклеймен навсегда, и
его доводы об изменениях и адаптации затерялись на фоне ошибочной идеи о на-
следовании приобретенных признаков.
В 1814 году, всего через пять лет после публикации великого труда Ламарка,
итальянский геолог Джованни Батиста Брокки опубликовал двухтомную магистер-
скую монографию о горных породах и окаменелостях Апеннинского хребта в Тоска-
не. Как и Ламарк, Брокки пытался проследить родословную найденных им окамене-
лых существ по более ранним геологическим слоям. Но, несмотря на то, что он
также заметил наличие среди них изменений, его выводы были иными. Брокки на-
блюдал не постепенные изменения, а рождение, жизнь и смерть относительно ста-
бильных видовых групп, которые появлялись в породе, обнаруживались в ней не-
которое время, а затем исчезали. Как и отдельные живые существа, они давали
жизнь потомкам — новым видам. Брокки заключил, что виды не были полностью не-
зависимы друг от друга, как предполагал Ламарк. Наоборот, один вид мог проис-
ходить от другого! Вскоре после этого Брокки полностью переключился на геоло-
гию, и поэтому редкий эволюционный биолог сегодня вспомнит его имя. Тем не
менее, мой коллега Нильс Элдридж убедительно доказывает, что идеи Брокки ока-
зали большое влияние на юного Чарльза Дарвина, о котором мы и поговорим ниже.
Уоллес и
Дарвин
Самый влиятельный биолог в истории Чарльз Роберт Дарвин родился в 1809 году
(в один год с публикацией ламарковской «Философии зоологии»). Представления
об изменчивости живой природы в то время витали в воздухе, и не только во
Франции, но и в его родной Британии. Еще в конце XVIII века прадед Чарльза
Эразм Дарвин рассуждал в своих трудах о многообразии всего живого, которым
позже будет восхищаться его внук. Отголосок этих рассуждений можно найти в
лирическом медицинском трактате «Зоономия», который Эразм Дарвин опубликовал
в 1794 году: «Насколько дерзким было бы предположение о том, что долгое время
тому назад, в самом начале существования Земли, вероятно, за миллионы веков
до начала человеческой истории... все теплокровные существа вышли из одного
живого волокна... обладавшего жизненной силой, способностью приращивать новые
элементы и развивать новые свойства... постоянно улучшать себя своим внутрен-
ним трудом и передавать эти улучшения своим потомкам из поколения в поколе-
ние» .
Как бы пророчески ни звучали эти строки, прадед Дарвина был далеко не пер-
вым человеком, которого определенные природные закономерности натолкнули на
подобные мысли. По словам физика и историка науки Джима Аль-Халили, почти за
тысячу лет до Эразма, в IX веке, арабский ученый Усман аль-Джахиз высказывал
идеи, крайне похожие на те, которые в будущем разовьет Дарвин-внук: «Животные
борются за свое выживание — за ресурсы, за жизнь и размножение. Факторы среды
заставляют живые организмы развивать в себе новые свойства, чтобы обеспечить
свое выживание. Так старые виды трансформируются в новые. Те животные, кото-
рым удается выжить, передают полезные характеристики своим потомкам». Эта
идея кажется неправдоподобно точной, однако доказывает, что живая природа
действительно четко структурирована, и эта структура может быть понятна сво-
бодным от предрассудков мыслителям. Тем не менее, в консервативном монархиче-
ском государстве, напуганном жестокими событиями по ту сторону Ла-Манша, по-
добные мысли требовалось выражать, по меньшей мере, с осторожностью.
В 1825 году Дарвина отправили изучать медицину в престижный, но далекий
Университет Эдинбурга. Юный Чарльз ненавидел мрачное и кровавое ремесло хи-
рурга , но наслаждался интеллектуальной энергией «шотландского Просвещения»,
которое сделало Эдинбург центром свободной научной и философской мысли. В то
же время у него появляется интерес к естественной истории. Особенно сильное
влияние на Дарвина оказали труды двух ученых, которые осторожно, но открыто
высказывались в поддержку идей Ламарка, — анатома Роберта Гранта и геолога
Роберта Джеймсона. Нильс Элдридж полагает, что Джеймсон был автором несколь-
ких анонимных статей о «трансмутации» видов, опубликованных в Эдинбурге как
раз в то время, когда там учился Дарвин. Вполне вероятно, что молодой Чарльз
мог их читать. Скорее всего, он также видел короткий хвалебный некролог Брок-
ки, напечатанный в том же журнале в 1826 году.
Несмотря на привлекательность интеллектуальной среды Эдинбурга, Дарвину не-
доставало смелости, чтобы заниматься хирургией в век кровавых операций без
анестезии. К 1828 году он обучился таксидермии у освобожденного раба Джона
Эдмонстоуна и перевелся в кембриджский Крайст-колледж, социальная и научная
атмосфера которого казалась ему более приемлемой. Очевидно, что Эдинбург пре-
подал ему важный урок — умение ставить под сомнение общепринятые истины. Ис-
тория обучения Дарвина в Кембридже хорошо известна. Он начал коллекциониро-
вать жуков, которые даже в умеренном английском климате встречаются в огром-
ном количестве видов. Дарвин регулярно общался со знаменитыми философами нау-
ки Уильямом Уэвеллом и Джоном Гершелем. Вместе с геологом Адамом Седжвиком он
отправился в долгое путешествие для исследования скал в Уэльсе. Кроме того,
Дарвин проводил долгие часы над гербарием вместе с ботаником Джоном Стивенсом
Генслоу. Ни один блестящий молодой натуралист того времени не получал лучшей
подготовки в области естественной истории. С другой стороны, в начале XIX ве-
ка все преподаватели Кембриджа были обязаны иметь духовный сан в англиканской
церкви. Каждый, с кем так или иначе пересекался Дарвин, был религиозен, по
крайней мере, на словах. По этой причине вряд ли в академических кругах уни-
верситета много говорили об изменчивости видов, хотя Элдридж и указывает на
то, что в блестящем труде Гершеля «Предварительное рассуждение к изучению на-
туральной философии», выпущенном в 1830 году, содержались некоторые взгляды
на историю живого мира, с ними Дарвин мох1 познакомиться в Эдинбурге.
Окончив университет в 1831 году, 22-летний Дарвин был полностью готов к пу-
тешествию, изменившему всю его жизнь. Благодаря Генслоу он сумел достать при-
глашение сопровождать капитана шлюпа «Бигль» Роберта Фицроя в экспедиции, це-
лью которой было составление карты побережья Южной Америки. Б итоге это пла-
вание обернулось для участников эпическим кругосветным путешествием длиной в
пять лет, а его ключевые моменты были неоднократно описаны: сначала Дарвин
своими глазами наблюдает фантастическое разнообразие живых существ на всем
земном шаре, в особенности в тропиках; затем находит неподалеку от бразиль-
ского города Баия-Бланка окаменелые останки вымерших глиптодонтов, которых со
временем вытеснили их живые потомки — броненосцы; потом замечает, как по мере
продвижения по Аргентине с севера на юг одни виды страусов нанду сменяются
другими; затем ужасается варварской колониальной системе и рабовладению в
Бразилии; а после этого, наконец, замечает, что на каждом острове Галапагос-
ского архипелага проживает собственный вид вьюрков, родственный континенталь-
ным.
Б своей книге Eternal Ephemera Элдридж убедительно доказывает, что уже к
концу первого года плавания Дарвин начал мысленно сравнивать ламаркианскую
концепцию трансформации и идею Брокки о постоянной смене видов, породившей то
разнообразие, которое восхищало его в ходе путешествия. Элдридж утверждает,
что, даже если бы Дарвин каким-то образом умудрился не познакомиться с идеями
Брокки в Эдинбурге, он наверняка узнал бы о них из второго тома «Принципов
геологии» Чарльза Лайеля, который Дарвин приобрел во время стоянки «Бигля» в
Монтевидео в ноябре 1832 года. Несмотря на то, что Лайель не одобрял пред-
ставлений Брокки о трансмутации (равно как и трансформационных идей Ламарка),
он очень четко описал обе концепции в своей работе, которую Дарвин с удоволь-
ствием прочел.
Как бы там ни было, в 1836 году, то есть к концу плавания на «Бигле», Дар-
вин окончательно убедился в том, что виды изменчивы и все живые существа про-
изошли от ныне вымерших предков. Эта часть была ему совершенно ясна. Но была
ли трансформация, которую он видел в окаменелостях, последовательным процес-
сом, как утверждал Ламарк, или результатом смены одних видов другими, как
считал Брокки? И в любом случае как именно она происходила? Эти сложные во-
просы много лет не давали Дарвину покоя, хотя некоторые признаки указывают на
то, что в итоге он выбрал бы концепцию последовательных изменений.
Вернувшись домой, молодой и уже знаменитый ученый начал сортировать собран-
ные в путешествии коллекции, рассылать их специалистам для изучения и приво-
дить в порядок свои мысли. В середине 1837 года Дарвин нарисовал в своих лич-
ных заметках первый гипотетический вариант эволюционного древа, иллюстрирую-
щий идею происхождения новых видов от более древних. В 1842 году он прочел
последнее издание знаменитого трактата Томаса Мальтуса о приросте населения
(которое, по его словам, без должного контроля увеличивалось вдвое каждые 25
лет) и под его влиянием написал небольшой очерк о происхождении видов путем
естественного отбора. Еще через два года очерк превратился в объемное эссе,
которое так и не было опубликовано при жизни автора (Дарвин оставил указания
напечатать его в случае своей смерти).
Зрелые рассуждения Дарвина строились следующим образом. Закономерности, от-
мечаемые в живой природе (то есть те сходства, о которых писал еще Линней),
объясняются «наследованием с изменениями». Все живые организмы имеют единого
прародителя. У таких несхожих существ, как, к примеру, птицы и губки, этот
прародитель существовал в глубокой древности, а вот общий предок разных видов
антилоп мог жить всего несколько веков назад. Такое разнообразие возникает
потому, что особи в рамках одного вида имеют разные унаследованные признаки и
от тех из них, которые сумеют выжить и оставить потомство, происходит все
больше и больше новых особей. Особи, чьи наследуемые признаки наилучшим обра-
зом помогают им адаптироваться к окружающей среде, размножаются успешнее, а
те, кто не сумел приспособиться, оставляют меньше потомства. Соответственно,
из поколения в поколение в рамках вида происходят физические изменения. Таким
образом, природа как бы подстраивает вид под условия его существования, а по
мере улучшения механизмов адаптации меняется и внешний вид живых существ. Та-
кой «естественный отбор» аналогичен отбору искусственному, который животново-
ды с незапамятных времен применяют для получения скота с нужными характери-
стиками. Разница лишь в том, что у естественного отбора отсутствует цель — он
действует лишь в соответствии с непосредственными потребностями вида. В ходе
этого последовательного процесса виды изменяются от поколения к поколению,
как и предполагал Ламарк, и в них постепенно накапливаются различия.
Основные положения этой теории были изложены уже в очерке 1842 года, кото-
рый доказывает, что в споре между Ламарком и Брокки Дарвин был на стороне
идеи постепенной трансформации. В эссе 1844 года он представил более полное
описание своей концепции. Собранные воедино, все элементы его теории формиро-
вали цельную и поразительно простую, но, тем не менее, убедительную картину.
Однако, даже при наличии описанного механизма изменений, сглаживавшего острые
края трансформационной теории, она все равно казалась чересчур радикальной
для представлений XIX века. Несмотря на то что Дарвин был совершенно уверен в
ключевой роли трансформации, он также понимал, что не обладает достаточными
доказательствами для ее подтверждения, по крайней мере, по его собственным
высоким стандартам.
Существовало множество причин, по которым Дарвин не торопился представлять
свою теорию широкой общественности. Это могла быть боязнь оскорбить его глу-
боко верующую жену, мечтающую после смерти воссоединиться с супругом в раю,
или его собственное слабое здоровье, или страх перед шумихой, которая подня-
лась бы в научном сообществе после публикации его работы, или какие-либо иные
обстоятельства. Как бы там ни было, научную деятельность Дарвина в течение 10
лет после 1844 года можно сравнить с тем, что этологи называют смещенным по-
ведением (к примеру, вместо того, чтобы атаковать альфа-самца и побороться за
желанную самку, подчиненный самец в стае макак «смещает» свое поведение и на-
падает на подростка) . Завершив свой труд в 1844 году, Дарвин почти 10 лет
тратит на изучение оседлых морских беспозвоночных, причем порой работа пре-
вращается для него в настоящую манию. Рассказывают, что один из его младших
сыновей, приехав в гости к другу, поинтересовался: «А где твой отец держит
своих усоногих рачков?» Результатом этой работы стали четыре изданных тома,
солидная научная репутация и престижная медаль от Королевского научного обще-
ства. Труд об усоногих рачках представлял собой подробное описание различий
между разными видами этих беспозвоночных, однако, не содержал ни единого упо-
минания об эволюционных рассуждениях. Своей радикальной идеей Дарвин, в конце
концов, поделился с небольшой группой натуралистов, которым он мог доверять.
Рассказывают, что он говорил приглушенным и виноватым голосом, «как будто
признавался в убийстве».
Пока зажиточный Дарвин размышлял над своими эволюционными идеями, окружен-
ный уютом собственного загородного дома, его молодой коллега Альфред Рассел
Уоллес сталкивался с постоянными опасностями на другом конце земного шара.
Будучи таким же страстным натуралистом, как и Дарвин, и мечтая увидеть как
можно больше природных уголков планеты, 25-летний Уоллес покинул Англию в
1848 году и отправился в Амазонию, где он рассчитывал собрать коллекцию есте-
ственнонаучных образцов. Молодой человек постоянно был на мели, поэтому целью
его экспедиции было не только самообразование, но и продажа своих находок.
Отправляясь в плавание, Уоллес не забывал и о вопросе происхождения видов. В
1852 году, когда он возвращался из Бразилии в Англию, на его корабле вспыхнул
пожар. В результате Уоллес не только потерял почти всю коллекцию, но и провел
две недели посреди Атлантики в утлой спасательной шлюпке. Однако это его не
остановило, и в 1854 году он снова отплыл из Англии. На этот раз целью стал
Малайский архипелаг — цепочка островов между Сингапуром и Новой Гвинеей.
Здесь Уоллесу приходилось жить в самых суровых условиях и частенько зависеть
от благотворительности незнакомцев (в основном местных жителей, которые редко
видели на своих островах европейцев). Тем не менее, он старательно собирал
огромные коллекции, делал подробные записи обо всем, что видел, и наслаждался
богатством тропической природы и культуры. Как и в Южной Америке, с самого
начала экспедиции Уоллес начал задаваться вопросом, откуда могло взяться по-
добное разнообразие видов.
В начале 1855 года, работая в штате Саравак на севере острова Борнео, Уол-
лес окончательно определился со своими взглядами и направил в Англию рукопись
статьи с убедительным названием «О законе, регулирующем возникновение новых
видов». В этой статье он заявлял, что «существование каждого вида начинается
в одном и том же месте и в одно и то же время с близкими ему видами». Такая
формулировка показывала явное несогласие автора с точкой зрения Лайеля, отри-
цавшего идеи Ламарка и Брокки. Сам Лайель прочел эту статью в публикации че-
рез несколько месяцев после отправки и был явно поражен приведенными в ней
аргументами и доказательствами. В 1856 году Лайель навестил Дарвина (по уди-
вительному совпадению, чтобы вторым из всех его знакомых выслушать описание
эволюционной теории) и показал тому работу Уоллеса. К тому моменту Дарвин и
Уоллес уже состояли в переписке, и в качестве широкого жеста Дарвин сообщил
молодому коллеге, что его статья не осталась незамеченной. Возможно, именно
этим письмом и объясняются последующие события в нашей истории.
Новый 1858 год застал Уоллеса за сбором образцов на острове Тернате в южной
части Молуккских островов. К этому моменту он уже собрал достаточно доказа-
тельств для подтверждения теории трансмутации, но все еще не понимал механиз-
ма ее работы. Осознание пришло к нему внезапно. Во время очередного приступа
лихорадки, от которой он страдал на Востоке, все встало для него на свои мес-
та: эволюция путем естественного отбора! Когда к Уоллесу вернулись силы, он
незамедлительно написал статью с провокационным заголовком «О тенденции ва-
риететов неограниченно отклоняться от исходного типа». Не понимая важности
этого послания, Уоллес направил свою работу дорогому другу по переписке Дар-
вину с просьбой показать ее Лайелю, если тот найдет его заметки «достаточно
важными».
Достаточно важными? Дарвин был в отчаянии. Вскоре после получения статьи он
написал Лайелю: «Я никогда не видел более невероятного совпадения. Если бы
Уоллес прочел мой очерк 1842 года... он не смог бы резюмировать его лучше.
Даже термины, которые он использует, можно делать заголовками моих глав». За
этими строками идет настоящий крик души: «Вся оригинальность моей работы, ка-
кой бы она ни была, уничтожена». Однако страхам Дарвина не суждено было
сбыться. Лайель и группа его коллег организовали презентацию его трудов в
лондонском Линнеевском обществе совместно с работой Уоллеса.
После этого Дарвин лихорадочно принялся за работу и, опираясь на свое эссе
1844 года, вскоре написал пухлый том под названием «Происхождение видов путем
естественного отбора». Его шедевр был завершен и опубликован к концу 1859 го-
да и, как и опасался Дарвин, стал настоящей скандальной сенсацией. Широко из-
вестно восклицание одной светской дамы: «Произошли от обезьян? Мой дорогой,
будем надеяться, что это не так, а если так — это не станет широко известно».
Тем не менее, удивительно, как быстро строгое викторианское общество свыклось
с мыслью о происхождении всего живого путем наследования признаков от прошлых
поколений.
Зная, как много шумихи могут наделать его идеи, замкнутый Дарвин сознатель-
но избегал экстраполяции своих идей на человека, чтобы не ухудшить ситуацию.
В «Происхождении видов» он ограничился загадочной фразой: «Много света будет
пролито на происхождение человека и на его историю». Перед этой фразой идет
еще одно заявление, которое в дарвиновские времена игнорировалось многими чи-
тателями, а сегодня рассматривается эволюционными психологами как своего рода
предсказание: «В будущем психология будет прочно основана на новом фундамен-
те, а именно на необходимости приобретения каждого умственного качества и
способности постепенным путем».
Несмотря на осторожность в формулировках, Дарвин все же вызвал гнев публи-
ки, который снова загнал его в рамки «смещенного поведения». Хотя он и пони-
мал, что когда-нибудь ему придется взять быка за рога, но в течение более чем
10 лет после публикации «Происхождения видов» Дарвин занимался написанием ог-
ромных томов об орхидеях и одомашнивании растений и животных. Лишь в 1871 го-
ду, когда волна возмущения спала, он опубликовал свой опус «Происхождение че-
ловека и половой отбор».
Заголовок не совсем точно отражал суть этого огромного двухтомника. Большая
часть первой книги представляла собой опровержение полигенистической теории —
представления о том, что человеческие расы, проживающие в разных регионах ми-
ра, были сотворены раздельно или, следуя эволюционной теории Дарвина, про-
изошли от разных видов обезьян. Эту теорию активно поддерживали сторонники
рабовладения, Дарвин же происходил из семьи с аболиционистскими взглядами, а
во время плавания на «Бигле» пришел в ужас от страдания бразильских рабов.
«Происхождение человека» почти наверняка писалось не как логическое продолже-
ние идей, высказанных в «Происхождении видов», но как опровержение полигениз-
ма и протест против рабства. Однако, судя по всему, в процессе написания кни-
га начала жить собственной жизнью и в итоге превратилась в рассуждения о по-
ловом отборе.
Концепция полового отбора гласит, что выбор партнера имеет большое значение
для эволюционного процесса. Классическая иллюстрация этой идеи — огромные
хвосты павлинов, которые нужны самцам только для того, чтобы привлекать са-
мок. Вероятно, переход к половому отбору был неизбежен, так как для подтвер-
ждения теории моногенности, то есть происхождения всего человечества от еди-
ного предка, Дарвину требовалось описать и механизм ее действия. Так как
адаптивные различия между расами казались Дарвину незначительными, половой
отбор, то есть наличие разных стандартов красоты, был выбран им в качестве
объяснения «различия между расами и отличия человека от животного».
Если «Происхождение человека» хоть как-то и пыталось соответствовать своему
названию, то делало это лишь косвенно, путем описания параллелей в анатомиче-
ском строении и, в особенности, в поведении людей и других животных. Чего в
нем совершенно точно не было, так это рассуждений о собственно происхождении
человека. Это было, по меньшей мере, странно, потому что к моменту выхода
книги у человечества уже накопились некоторые, пускай и ограниченные, истори-
ческие данные о себе. Самым важным элементом в горстке окаменелых человече-
ских останков, которыми располагали викторианские натуралисты, был скелет из
грота Фельдховер, расположенного в долине Неандерталь в Германии. Он был об-
наружен еще в 1856 году, то есть до публикации «Происхождения видов». Когда
описание останков было переведено на английский язык в 1861 году, оно надела-
ло много шума в британских научных кругах. Тем не менее, через 10 лет уни-
кальный и явно весьма древний череп неандертальца удостоился в «Происхождении
человека» лишь упоминания — невзначай оброненного замечания о том, что древ-
ние люди могли обладать крупным мозгом.
Эта ситуация кажется еще более удивительной потому, что в 1864 году Дарвин
своими глазами видел (и, вероятно, даже держал в руках) второй череп неандер-
тальца, обнаруженный немногим ранее, 1848 году, в одном из музеев Гибралтара.
Череп так и пылился бы на полке, если бы внимательный посетитель не заметил
его и не привез в Лондон. В середине 1864 года череп обследовал английский
анатом Джордж Баск. Первого сентября того же года Дарвин в письме к своему
коллеге Дж. Д. Хукеру рассказал, как в Лондоне его навестили Лайель и палео-
нтолог Хью Фальконер. В конце письма он между прочим замечает: «Ф. привез мне
великолепный гибралтарский череп». Насколько мне известно, это единственное
сделанное Дарвином упоминание этого образца и ископаемых человеческих остан-
ков в целом. К моменту публикации «Происхождения видов» Дарвина уже наверняка
очень раздражала неполнота палеонтологической летописи и отсутствие достаточ-
ных доказательств тех медленных, постепенных изменений, которые описывала его
теория. Со временем неудовлетворенность должна была только усилиться. В юно-
сти Дарвин не стеснялся рассуждать об ископаемых останках обезьян и человека
в своих заметках, к середине своей научной карьеры стал относиться к ним
весьма уклончиво. Каким бы великолепным ни был гибралтарский гоминид, Дарвин
не был готов заниматься человеческими останками.
Две впервые обнаруженные окаменелости гоминидов. Слева: гибрал-
тарский череп, исследованный Дарвином в сентябре 1864 года.
Справа: скелет из грота Фельдхофер, относящийся к типу Homo
neanderthalensis.
Пока Дарвин старательно зарабатывал себе репутацию самого знаменитого био-
лога в истории, Уоллес (о котором кто-то однажды сказал, что он был известен
своей неизвестностью) продолжал работу на Малайском архипелаге. Он прожил на
островах до 1862 года и собрал коллекцию из более чем 126,000 образцов (боль-
шую часть которой составляли жуки), включавшую множество доселе неизвестных
науке видов. Возвратившись в Англию, Уоллес узнал, что его положение в науч-
ных кругах значительно укрепилось благодаря дружбе с Дарвином и другими мас-
титыми учеными (хотя, несмотря на это, он так и не нашел себе работу под
стать своей славе и до конца жизни был стеснен в средствах). Несмотря на то,
что Дарвин был поражен сходством их взглядов на эволюцию, представления двух
натуралистов о естественной истории различаются.
Самым существенным отличием являлся тот факт, что уже к моменту написания
«Происхождения видов» Дарвин полагал борьбу каждого отдельного представителя
вида за репродуктивный успех основным движущим фактором изменений, в то время
как Уоллеса больше занимала судьба так называемых вариететов. Максимально уп-
ростив их идеи, можно сказать, что Дарвин считал базовой единицей отбора от-
дельный живой организм, а Уоллес — популяцию или даже целый вид. Соответст-
венно, для Дарвина виды были лишь эфемерными сущностями, а для Уоллеса, вслед
за Брокки, — вполне материальными элементами эволюции.
Кроме того, Уоллесу никогда не нравилась предложенная Дарвином концепция
полового отбора. Однако самые существенные различия касались эволюции челове-
ка. Несмотря на нежелание иметь дело с ископаемыми человеческими останками,
Дарвин, тем не менее, последовательно объяснял все характеристики современно-
го человека действием естественного отбора и не давал ему никаких поблажек.
Уоллес же не мох1 принять тот факт, что естественный отбор мох1 привести к воз-
никновению самых важных черт человека — большого мозга и уникального созна-
ния, порождаемого им. Уоллес полагал, что отбор реагирует на текущие потреб-
ности живого существа, но также понимал, что значительный объем человеческого
мозга не соответствовал примитивному образу жизни древних и современных лю-
дей. Тем не менее, и те и другие обладали крупным мозгом. Как естественный
отбор мог создать нечто, настолько превышающее необходимость?
Уоллес ни в коем случае не был религиозным человеком, но увлекался духовны-
ми рассуждениями, которые в итоге привели к созданию концепции «Высшего соз-
нания» , якобы запустившего все естественные процессы в природе. Дарвин ожи-
даемо впал в ярость и написал Уоллесу: «Надеюсь, Вам не удалось убить наше с
Вами дитя». Через какое-то время разрыв между двумя соавторами теории эволю-
ции путем естественного отбора был устранен, но не до конца: известно, что
однажды Дарвин и Уоллес выступали свидетелями в суде от противоположных сто-
рон по делу об обвинении спиритуалиста в мошенничестве. Несмотря на все то,
что нам удалось узнать с тех пор, спор Дарвина и Уоллеса об эволюции человека
до сих пор отражает дихотомичные взгляды на возникновение человеческого соз-
нания (постепенное или единовременное), существующие в современной палеоан-
тропологии .
ГЛАВА 2
Появление
палеонтологической
летописи
Одной из вероятных (хотя и не вполне убедительных) причин игнорирования
Дарвином окаменелых человеческих останков и древних людей в «Происхождении
человека» можно считать тот факт, что его друг и защитник Томас Генри Гексли
уже касался этого предмета в своих работах в 1863 году, всего через три года
после публикации «Происхождения видов». Гексли был одаренным анатомом, завое-
вавшим славу в палеонтологических кругах своей гипотезой о происхождении птиц
от хищных динозавров. Говорят, что эта идея (недавно снова вошедшая в моду)
пришла ему в голову в тот момент, когда он разрезал индейку на семейном рож-
дественском ужине. В своей знаменитой серии очерков «Место человека в царстве
животном», написанной в 1863 году, Гексли ожидаемо рассматривает вопрос, вы-
веденный в заглавии работы, с анатомической точки зрения. Как и Дарвин в сво-
ем «Происхождении человека», Гексли стремился обосновать линнеевскую класси-
фикацию человека как одного из видов млекопитающих и для этого приводил убе-
дительные и скрупулезные описания сходных черт в анатомическом строении чело-
века и других животных, в частности африканских приматов. Одно из его эссе
было полностью посвящено «некоторым окаменелым останкам людей».
Эти «некоторые окаменелые останки» на самом деле представляли собой всего
три находки. Две из них, черепные коробки взрослого и ребенка (третий череп
был утерян), были обнаружены в бельгийской пещере Анжи врачом и антикваром
Филиппом-Шарлем Шмерлинхюм примерно в 1830 году. Шмерлинг был проницательным
наблюдателем и, опережая свое время, заметил, что найденные им останки были
перемешаны с костями вымерших мамонтов и шерстистых носорогов, а значит, от-
носились к тому же периоду. Третьей окаменелостью, описанной Гексли и завер-
шившей существовавшую в то время палеонтологическую летопись (череп из Гиб-
ралтара на тот момент еще не был обнаружен), был свод черепа взрослого неан-
дертальца из грота Фельдхофер.
Окаменелости из Анжи были найдены в осадочных породах вместе с костями мле-
копитающих эпохи ледникового периода, поэтому их возраст не вызывал сомнений.
Черепа из Фельдхофера Гексли считал предметами «огромной, хотя и не известной
наверняка древности». В своем эссе он подробно описывает взрослого из пещеры
Анжи, называя его «существом с ограниченными интеллектуальными возможностя-
ми». В этом случае Гексли допустил ошибку, ведь теперь мы знаем, что этот че-
реп принадлежал представителю Homo sapiens, похороненному среди останков дои-
сторических животных всего 8000 лет назад. По иронии, череп подростка, о ко-
тором Гексли почти ничего не пишет (вероятно, потому, что у него отсутствова-
ли определенные анатомические характеристики, присущие взрослому черепу), был
впоследствии отнесен к тому же виду, что был найден в Фельдхофере. Итак,
единственным выбранным Гексли по-настоящему древним образцом оставался фельд-
хоферский череп.
Эта историческая находка была обнаружена случайно в 1856 году, за два года
до того, как эволюционные идеи Дарвина и Уоллеса стали известны широкой обще-
ственности. В то время в Рейнской области начала активно развиваться химиче-
ская промышленность, и в поисках известняка несколько работников карьера на-
чали раскапывать Фельдхоферскую пещеру. Пол пещеры был засыпан костями древ-
них пещерных медведей, которые работники энергично выметали наружу, стараясь
поскорее добраться до залежей известняка. Вероятно, вместе с ними был выбро-
шен из пещеры и сброшен с утеса полный человеческий скелет. Наконец работа
была остановлена внимательным инспектором, а несколько сохранившихся костей
были переданы местному учителю Йохану Фулротту. Тот быстро и верно идентифи-
цировал находку как необычные и древние человеческие останки, а позже написал
о них целую книгу, не имея ни малейшего представления о том, какому человеку
они принадлежали! Фулротт быстро понял, что его знаний в этом случае недоста-
точно, и отправил находку для анализа известному анатому из Бонна Герману Ша-
аффхаузену.
Однако Шааффхаузену, как и Фулротту, не хватило научной базы для правильной
интерпретации окаменелостей, поэтому он также зашел в тупик. Ученый понимал,
что окаменелый скелет из Фельдхофера относился к древней эпохе, но, скованный
предрассудками своего времени, не мог поверить, что неандертальский человек и
«допотопные» животные жили в одно время. В результате он сделал вывод, что
найденные в Фельдхофере окаменелости представляют собой останки «древнего
варвара» Homo sapiens и одного из племен, населявших Европу в античные време-
на. Тем не менее, сравнив исследуемый свод черепа с другими древними челове-
ческими черепами (что бы в данном случае ни означало слово «древний» — в то
время Шааффхаузен даже не мог представить себе, что его неандерталец жил 40
тысяч лет назад), он посчитал необходимым подчеркнуть, что эта кость «имеет
неизвестную ранее природную конституцию» и «превосходит все другие в необыч-
ности своего строения, что приводит к выводу о ее принадлежности представите-
лю дикой варварской расы». Иными словами, Шааффхаузен подтвердил, что человек
из Неандерталя отличался от других.
И это действительно было так. Несмотря на то, что в черепной коробке неан-
дертальца находился мозг того же объема, что и у современного человека, она
была совершенно не похожа на наши высокие, округлые и тонкие черепа. Череп
неандертальца был толстым, длинным и низким, с выступающей задней частью. Пе-
редняя же его часть была украшена парой низких и выдающихся вперед надбровных
дух1, изгибающихся над глазницами. Людей с выразительными надбровными дугами
можно встретить и сегодня, но до неандертальцев им далеко.
Логично предположить, что из всех деятелей науки того времени именно Томас
Гексли, занимавшийся описанием ископаемых человеческих останков, должен был
бы первым оценить значимость этой находки. И не только потому, что Гексли был
энтузиастом эволюционной теории (говорят, что во время исторической презента-
ции в Линнеевском обществе в 1858 году он воскликнул: «Почему я сам до этого
не додумался!») и ярым защитником Дарвина. В отличие от Дарвина, который при-
держивался концепции постепенных изменений и которого большой череп неандер-
тальца мох1 бы сбить со следа, Гексли был последователем Брокки.
Двадцать пятого июня 1859 года. Хаксли написал письмо Лайелю (который с го-
раздо большим недоверием относился к теории естественного отбора) и очень
четко описал в нем свое видение эволюционного процесса: «Стабильность и опре-
деленная ограниченность видов, родов и более широких групп живых существ ка-
жется мне совершенно не противоречащей теории трансмутации. Иными словами, я
полагаю, что трансмутация может происходить и без перехода... может быть на-
правлена от вида к виду. Natura facit salturn». Латинский афоризм Гексли (ко-
торый в переводе означает «Природа делает скачки») представляет собой ирони-
ческое искажение древней математической аксиомы Natura non facit salturn. Co
времен Аристотеля этого принципа придерживались все представители естествен-
ных наук, включая Дарвина, — крайне ошибочно, по мнению Гексли. В своем хва-
лебном письме от 23 ноября 1859 года, написанном после публикации «Происхож-
дения видов», Хаксли замечает: «Мой дорогой Дарвин. Придерживаясь принципа
Natura non facit salturn столь безоговорочно, вы создаете для себя дополни-
тельные ненужные трудности».
Собственная позиция Гексли по этому вопросу была четкой: виды дискретны.
Как и предсказывал Брокки, природа делает скачки. И если человек из Неандер-
таля действительно был настолько необычным, как писал Шааффхаузен и показыва-
ли собственные описания Гексли, то напрашивался очевидный вывод: в гроте
Фельдхофер были обнаружены останки другого человеческого вида, к настоящему
моменту исчезнувшего с лица Земли, и этот вид определенно был родственен Homo
sapiens, но при этом отличался от него. В новом научном мире, признавшем тео-
рию эволюции, геологи уже много лет знали, что старые виды постоянно заменя-
ются в природе своими ближайшими родственниками, и идея Гексли не могла пока-
заться его ученым собратьям неприемлемой. Разумеется, ее раскритиковали бы в
прессе, но такая перспектива не пугала Гексли, который к тому моменту уже по-
лучил прозвище «бульдог Дарвина». Тем не менее, по неизвестным нам причинам
Гексли решил не развивать эту тему. Вместо этого, совершив несколько неверо-
ятных мысленных кульбитов, он пришел к следующему выводу: «Самый обезьянопо-
добный из человеческих черепов, череп из Неандерталя, ни в коей мере не изо-
лированное явление, как предполагалось ранее, а фактически крайнее звено в
цепи развития, приведшей в итоге к созданию высшего и наиболее совершенного
человеческого черепа».
Для подтверждения своей теории преемственности Гексли сравнивал контуры че-
репной коробки неандертальца с черепом австралийского аборигена, которого, в
соответствии с истинно викторианскими представлениями, считал самой примитив-
ной формой Homo sapiens. Подобное сравнение было отсылкой к древней традици-
онной иерархии различных географических популяций человека, вершиной которой
считались европейцы. Пускай выводы Гексли и отражали социальные предрассудки
того времени, все равно сложно представить себе действие, более противореча-
щее теории эволюции, которую он так яростно защищал во всем остальном. Подоб-
ное ранжирование людей разных рас, по сути, ничем не отличалось от средневе-
ковой Великой цепи бытия — концепции, наилучшую альтернативу которой как раз
составляли взгляды Дарвина.
Этот (в буквальном смысле) хрестоматийный пример эксепционализма до сих пор
удерживает палеоантропологию во власти предрассудков. Если бы существо, пред-
ставленное на анализ Гексли, не имело столь очевидных человеческих черт, он
ничтоже сумняшеся признал бы окаменелости из Неандерталя останками отдельного
и доселе неизвестного вида. В конце концов, его коллеги-палеонтологи в то
время только и делали, что описывали новых вымерших млекопитающих. Хотя Гекс-
ли и упоминал мельком возможность того, что кости из Фельдхофера могли быть
«останками человеческого существа, являвшегося промежуточным звеном между
обезьяной и человеком», в итоге он отказался от этой мысли в пользу следующе-
го утверждения: «После небольшого сдавливания и удлинения, приводящего к уве-
личению супрацилиальных выступов, черепная коробка австралийского аборигена
легко может приобрести такую же искаженную форму».
Сравнение черепной коробки неандертальца из Фельдхофера с чере-
пом современного австралийского аборигена. Гексли. Место челове-
ка в царстве животном, 1863.
Даже одного взгляда на иллюстрацию Гексли достаточно, чтобы понять — затол-
кать австралийский череп в неандертальский одним легким сдавливанием невоз-
можно . Однако такая мелочь не помешала Гексли продолжить свои мысленные эк-
зерсисы. Ему удалось провернуть этот трюк, сыграв на традиционной для анато-
мов концепции вариативности, то есть существовании различий между отдельными
особями одного вида. Отдельные особи действительно могут различаться анатоми-
чески, равно как и по характеру и поведению, однако такие различия внутри од-
ного вида (в данном случае Homo sapiens) обычно являются вариацией одного
признака, в то время как анатомические особенности черепа из Фельдхофера
предполагали наличие совершенно других признаков по сравнению, к примеру, с
англичанином XIX века. Они указывали на близость, но не идентичность — свой-
ства , характерные для родственных видов.
Сегодня, когда мы располагаем большим количеством окаменелых человеческих
останков, ученые часто сталкиваются с ситуациями, когда определить, где за-
канчивается внутривидовая вариативность и начинаются межвидовые различия,
оказывается сложно, а порой и невозможно. Однако случай с черепом из Неандер-
таля к ним не относится. Гоминид из Фельдхофера и его сородичи совершенно
очевидно имели анатомию, отличную от современной, что и было подтверждено Ша-
аффхаузеном. Несмотря на то что Гексли, в принципе, был готов поверить в су-
ществование древних форм человека, связывающих нас с нашими «примитивными»
предками, он — как и его коллега Дарвин — отказывался признавать доступные
ему окаменелости останками таких форм. Этот отказ не только повлек за собой
попытки самовольно свести воедино два совершенно уникальных вида, но и поло-
жил начало традиции, которая с тех пор омрачает развитие палеоантропологии.
Первое официальное предположение о том, что останки из Фельдхофера принад-
лежат гоминиду, отличному от Homo sapiens, было сделано вскоре после публика-
ции «Место человека в царстве животном». Будучи первой человеческой окамене-
лостью, попавшей в поле зрения науки, череп из Германии немедленно стал ябло-
ком раздора для новой науки, которая в будущем получит название палеоантропо-
логии (и будет известна своими спорами по любому поводу). Не успел Шааффхау-
зен завершить свое выступление, посвященное любопытной находке, на собрании
Медицинского и естественноисторического общества Нижнего Рейна в 1857 году,
как на него тут же набросились его коллега по Боннскому университету Август
Франц Майер и патологоанатом Рудольф Вирхов, самый известный медик того вре-
мени. Эти достойные мужи заявляли, что особенности строения одной особи могли
не отражать характеристик всей своей популяции, как предполагал Шааффхаузен.
По их мнению, подобные особенности могли объясняться болезнью, от которой че-
ловек страдал при жизни и которая изменила его скелет (то же самое многие па-
тологоанатомы говорили о крошечных скелетах, найденных почти полтора века
спустя, в 2003 году, на индонезийском острове Флорес).
Хотя заключение Вирхова о человеке из Неандерталя как о Homo sapiens, пере-
жившем рахит в детстве, травму черепа в среднем возрасте и артрит в старости,
базировалось исключительно на его незыблемой убежденности в неизменности ви-
дов, репутация в ученых кругах сыграла свою роль, и его точка зрения многим
показалась весомой. Майер же при поддержке Вирхова впал в совершенную край-
ность и после анализа костей ноги неандертальца заявил, что их искривленность
объяснялась не только перенесенным рахитом, но и жизнью в седле. Из-за боли в
ногах несчастный якобы постоянно хмурил брови, что и привело к развитию кост-
ных выступов над глазницами. Какой драматичной, должно быть, была его жизнь!
Майер отрицал древний возраст находки и утверждал, что кости из Фельдхофера
были останками русского казака, который погиб в Германии в 1814 году во время
похода на Францию. Получив ранение, бедняга спрятался в пещере, где и умер, а
затем всего за полвека его кости необъяснимым образом покрыл двухметровый
слой породы с окаменелостями.
Как можно догадаться, подобные объяснения очень веселили Гексли. Но, тем не
менее, он не осмеливался предположить, что неандертальская находка может быть
чем-то, кроме останков современного человека с определенными вариациями в
строении. Вместо него эту идею высказал Уильям Кинг, англо-ирландский геолог,
который, по странному стечению обстоятельств, учился у Чарльза Лайеля — не
самого горячего сторонника эволюционной теории. На встрече научного общества
в 1863 году Кинг заявил, что окаменелости из Фельдхофера были останками ново-
го вида человека — Homo neanderthalensis, а еще через год за устным выступле-
нием последовала публикация. Кинг обращал внимание читателей на то, что у
фельдхоферского черепа отсутствуют «те контуры и пропорции, которые в обилии
встречаются в передней части головы у нашего вида». Это отличие было настоль-
ко очевидным, что «приближало останки человека из Неандерталя скорее к чело-
векообразным обезьянам, чем к Homo sapiens». Зайдя в своих рассуждениях так
далеко, Кинг не удержался от драматичного заключения: несмотря на размер че-
репной коробки человека из Неандерталя, «мысли и желания, когда-то наполняв-
шие ее, никогда не поднимались выше уровня обычной жестокости».
Современные антропологи до сих пор спорят о последнем утверждении Кинга,
пускай и пользуются для этого менее эмоциональными выражениями. Заявление об
уникальности окаменелостей из Неандерталя почти сразу же нашло свое подтвер-
ждение, так как через некоторое время после него Джордж Баск объявил о наход-
ке гибралтарского черепа (который Дарвин видел лично). Это был более полный
образец с впечатляюще большим лицом и немного более тонким строением, чем че-
реп из Фельдхофера, но, тем не менее, аналогичный ему по многим сравнительным
признакам. Сходство было разительным, и, как писал Баск, «даже профессор Май-
ер не поверил бы в то, что в 1814 году какой-то рахитичный русский казак за-
брался в занесенную породами трещину под Гибралтарской скалой». В свете этой
находки стало очевидно, что и неандертальский человек не являлся исключением
из правил.
Очевидно, но далеко не всем. На самом деле открытие останков гибралтарского
неандертальца никак не повлияло на течение спора, по крайней мере, в ближай-
шие после находки годы. Особенно жаркие дискуссии разворачивались в Германии.
В 1872 году, то есть через год после публикации «Происхождения человека», Ру-
дольф Вирхов продолжал утверждать, что фельдхоферский человек страдал от та-
кого количества заболеваний, что попросту не смог бы выжить в древние време-
на, когда люди еще не знали сельского хозяйства, а значит, должен считаться
представителем куда более поздней эпохи. Что касается Англии, то здесь добле-
стный Баск, следуя примеру Гексли, пришел к выводу, что, несмотря на «низкий
и дикий» череп гибралтарского неандертальца, тот все равно «был человеком, а
не промежуточной ступенью между обезьянами и людьми». Чтобы доказать сущест-
вование Homo neanderthalensis как независимого биологического феномена (нуж-
дающегося в изучении, а не в объяснении), потребовалось еще 20 лет.
Древние
люди
Все это время среди собирателей древностей кипела работа. Землепашцы по
всей Европе то и дело натыкались в полях на кремниевые орудия, несомненно,
имевшие огромный возраст. Уже в 1800 году английский антиквар Джон Фрир отме-
чал, что куски кремния со сколами, находимые в глубоких каменоломнях, принад-
лежали «весьма далекой эпохе, существовавшей до образования современного ми-
ра» . Иными словами, это были инструменты, созданные разумными существами еще
до Всемирного потопа. Еще через 30 лет по ту сторону Ла-Манша, в Северной
Франции, офицер таможни Жак Буше де Перт также пришел к выводу, что каменные
орудия, в обилии встречающиеся в долине Соммы, являются артефактами древних
времен. В течение многих лет его идеи пропускали мимо ушей, пока в 1859 году
(в год выхода «Происхождения видов») их не подтвердила делегация именитых
британских геологов. Визит специалистов к месту находок организовал Хью Фаль-
конер — тот самый, который позже покажет Дарвину гибралтарский череп.
Начиная с середины XIX века, европейские ученые прилагали множество усилий,
чтобы определить, насколько долго человек разумный проживает в их части све-
та. Уже в 1852 году во время раскопок скального грота в Ориньяке у подножия
французских Пиренеев были обнаружены скелеты Homo sapiens, рядом с которыми
были найдены кости древних и, очевидно, вымерших животных, а также каменные
орудия. К началу 1870-х годов, вооружившись своими находками, археологи суме-
ли разработать приблизительную хронологию различных культур, существовавших в
Европе в конце последнего ледникового периода. Эта хронология практически
полностью строилась на археологических находках из гротов и пещер, в которых
когда-то проживали древние люди. Кроме того, она была относительной, так как
до разработки методов точной датировки оставалось еще целое столетие, и ар-
хеологи могли лишь сравнивать возраст различных находок между собой.
Как и горные породы, археологические отложения накапливаются в местах про-
живания людей слоями, при этом самые старые из них оказываются внизу. Если
какое-то время пещера была необитаема, то в ней формировался пустой слой из
пыли и обломков скал. Такие слои чередовались с отложениями, содержащими ар-
тефакты и обломки костей животных, оставленных здесь древними жильцами. Ис-
следование таких «жилых» слоев показывало, что характер каменных орудий и ви-
ды животных со временем менялись. Именно на основании этих изменений и со-
ставлялась культурная хронология каждой местности или региона.
К 1872 году французский археолог Габриэль де Мортилье выделил несколько
культур, отнесенных им к эпохе палеолита, или «древнего каменного века». Каж-
дая из культур была названа по месту ее обнаружения и характеризовалась опре-
деленным типом каменных орудий. По мере того как де Мортилье получал все
больше и больше информации, структура культур становилась все сложнее и в ней
выделялись новые периоды.
Старейшей в предложенной им последовательности была ашельская культура, на-
званная по имени местечка Сент-Ашель, где когда-то работал де Перт. Типичными
произведениями ашельской культуры были крупные каменные орудия в форме слезы,
так называемые ручные топоры, создававшиеся путем откалывания мелких отщепов
от каменного основания. Выше находился слой мустьерской культуры, для которой
были характерны небольшие треугольные ручные топоры, скребки и каменные стре-
лы, обычно делавшиеся из отщепов. Следующей шла ориньякская культура, сущест-
венно отличавшаяся от культуры мустье. Помимо камня, мастера времен Ориньяка
активно использовали для создания орудий рог1 и кость. Типичным орудием оринь-
якской культуры является узкий костяной наконечник с раздвоенным основанием.
Каменные орудия этой эпохи представляют собой удлиненные кремниевые лезвия,
которые высекались из цилиндрической заготовки. После Ориньяка располагалась
культура гравет, известная своими прямосторонними резцами с узкими треуголь-
ными остриями, а за ней — солютрейская культура, узнаваемая благодаря своим
тонко выделанным длинным кремниевыми лезвиями в форме лавровых листьев. Почти
на самой вершине иерархии находилась малленская культура с ее великолепным
разнообразием артефактов, включая крошечные микролиты, которые вставлялись в
рукояти других орудий. Мадленская культура исчезла с приходом в Европу по-
следнего ледника, ее сменили культуры эпипалеолита и мезолита, через какое-то
время уступившие место неолитическим культурам первых европейских земледель-
цев .
В большинстве мест обитания древних людей, исследованных первыми археолога-
ми, были обнаружены свидетельства пребывания более чем одной палеолитической
культуры. При этом слои всегда располагались в одном и том же порядке, что и
дало возможность для создания хронологии, дошедшей в более или менее исходном
варианте до наших дней. Единственным отличием является то, что сегодня мы мо-
жем более точно указывать временные рамки. Ашель — самая ранняя культура, за-
кончившая свое существование около 250 тысяч лет назад. Примерно к тому вре-
мени относятся первые следы культуры мустье, доминировавшей в среднем палео-
лите. В Западной Европе мустьерская культура просуществовала почти 220 тысяч
лет, а 40 тысяч лет назад к ней присоединилась первая культура верхнего па-
леолита — ориньякская. Культура гравет появилась примерно 28 тысяч лет назад,
а 22 тысячи лет назад уступила место солютрейской, которая еще через 4 тысячи
лет была замещена мадленской. Последний ледниковый период начался 12 тысяч
лет назад, а значит, вскоре после этого на место мадленской культуры пришли
культуры мезолита.
Для каждой из этих культур характерен собственный способ обработки камня.
Разумеется, археологи видят в этих тонких различиях признаки куда более раз-
нообразных видов деятельности, включавших все элементы, которые мы используем
для описания культур в самом широком смысле. Сегодня мы знаем достаточно,
чтобы утверждать, что смена культур происходила путем замещения, а не посте-
пенной трансформации, но в XIX веке Мортилье как сторонник политического про-
гресса не разделял подобного взгляда. Он не только верил в эволюцию культур,
но вполне в духе дарвиновского учения заявлял, что ожидает найти промежуточ-
ное звено между нашими обезьяноподобными предками и современными людьми. Од-
нако, как и в случае с Дарвином, это промежуточное звено было для него лишь
гипотезой. Следуя примеру Гексли и Баска, Мортилье полагал человека из Неан-
дерталя примитивным Homo sapiens, а не представителем отдельного вида. Пусть
он и не находился на самой вершине человеческой иерархии, как европейцы, но
был к ней достаточно близок. Иными словами, в нем можно было наблюдать транс-
формацию, но не трансмутацию.
Итак, в 1860-1870-х годах вид Homo neanderthalensis влачил призрачное суще-
ствование в пустынной и заброшенной стране под названием «палеоантропология»,
даже несмотря на то, что фрагменты костей, которые в будущем будут отнесены
учеными к этому виду, продолжали находить в различных уголках Европы. Ни одна
из этих находок не привлекала большого внимания, и так продолжалось до 1866
года, когда в нетронутых археологических слоях у входа в пещеру Спи в Бельгии
были обнаружены два великолепно сохранившихся скелета. Оба были почти полны-
ми, явно старинными и определенно связанными с мустьерскими артефактами. Кро-
ме того, по своим анатомическим признакам они полностью совпадали с гоминида-
ми из грота Фельдхофер и Гибралтара. Наука наконец-то получила доказательства
уникальной самобытности неандертальцев, достаточные для того, чтобы привлечь
к себе внимание. Впервые в истории ученые располагали окаменелыми останками,
которые четко показывали любому внимательному наблюдателю, как выглядели не-
андертальцы — вооруженные мустьерскими топорами люди среднего телосложения, с
тяжелым скелетом и крупным мозгом, большим, выступающим вперед лицом, низким
сводом черепа и тяжелыми надбровными дугами.
Окаменелые останки гоминидов. Слева, череп неандертальца из Спи,
Бельгия. Справа, черепная коробка, найденная в Триниле на Яве,
образец кости Homo erectus. Не в масштабе.
Ява
Через год после бельгийской находки молодой анатом из Голландии Эжен Дюбуа
отправился на Малайский архипелаг, где когда-то работал Уоллес, на поиски
окаменелых останков ранних людей. Дюбуа получил стандартное медицинское обра-
зование, поэтому не совсем понятно, что именно толкнуло его на это приключе-
ние . Известно лишь, что он был ярым дарвинистом и мечтал найти материальное
подтверждение существования тех гипотетических предков человечества, о кото-
рых так много писали Дарвин и его последователи. Дюбуа был убежден, что неан-
дертальцы являлись всего лишь патологией, а современное человечество разви-
лось за пределами Европы. По этой причине он начал исследовать места прожива-
ния наших ближайших родственников — высших приматов. Дарвин придерживался
идеи о том, что человечество вышло из Африки, но небогатому Дюбуа было гораз-
до проще добраться до тропиков Голландской Ост-Индии. Для этого он записался
в национальную армию и стал военным врачом.
Этот регион казался ему привлекательным и еще по некоторым причинам. На Ма-
лайских островах водились орангутанги, пожалуй, самые известные высшие прима-
ты. Там уже были обнаружены окаменелости, схожие с останками древних прима-
тов , которые Фальконер нашел в предгорьях Гималаев. Кроме того, военные вла-
сти были готовы оказать Дюбуа любую помощь в его необычных поисках. Он начал
с исследования известняковых пещер на Суматре, но в 1890 году переключил вни-
мание на Яву и почти сразу же обнаружил первые останки древнего человека в
месте под названием Кедунг Брубус. Это был загадочный кусок челюсти с одним
зубом. В следующем году Дюбуа напал на настоящую золотую жилу в месте под на-
званием Триниль, расположенном неподалеку от Кедунг Брубус на берегу реки Со-
ло. В Триниль согнали большую группу заключенных, которые под надзором воен-
ных перелопатили множество земли и, наконец, нашли черепную коробку, явно
принадлежавшую гоминиду. От этого черепа сохранились примерно те же элементы,
что и от черепа, найденного в Неандертале, только его объем оказался куда
меньше — около 940 миллилитров, в то время как объем мозга неандертальца со-
ставлял 1525, современного человека — 1350, а шимпанзе — 400 миллилитров. Пе-
редней частью черепа тринильский человек напоминал неандертальцев — у него
также имелись выдающиеся вперед надбровные дуги. Однако форма их была другой,
а свод черепа оказался еще более низким. Определить возраст находки было
сложно, но она, очевидно, была старше черепа из Неандерталя и, вероятно, мо-
ложе гималайских приматов.
Как же Дюбуа истолковал эту уникальную находку? Сначала он решил, что череп
принадлежит шимпанзе. Однако в 1892 году, после того как его работники обна-
ружили в Триниле несколько бедренных костей, очень похожих на человеческие,
Дюбуа изменил свое мнение. В 1894 году он опубликовал (почему-то на Яве) мо-
нографию, в которой доказывал, что найденная новая форма человека с небольшим
мозгом, названная им Pithecanthropus erectus («обезьяночеловек прямоходя-
щий») , передвигалась на двух ногах. Однако ученый не мог отнести ее ни к лю-
дям, ни к обезьянам. Pithecanthropus erectus находился где-то посередине, на
пути от нашего гиббоноподобного предка и гималайских обезьян к современному
человеку (в это понятие Дюбуа включал и неандертальцев). Придерживаясь гекс-
лианской точки зрения на скачки эволюции, Дюбуа не видел проблемы в пробелах
между описанными им стадиями развития человека. Ему также не казался странным
вывод о том, что такие характерные черты современного человека, как крупный
мозг или ловкие пальцы, развились позже способности к прямохождению.
Примерно так рассуждал Дюбуа, возвращаясь в Европу со своими трофеями в
1895 году. Несмотря на то, что принадлежность черепа и бедренных костей к од-
ному виду неизбежно была оспорена (на самом деле некоторая неопределенность в
этом вопросе существует до сих пор, хотя нам доподлинно известно, что яван-
ские люди ходили на двух ногах), многие коллеги Дюбуа после осмотра образцов
согласились с его доводами. Среди ученых, поддержавших Дюбуа, был и немецкий
анатом Густав Швальбе, в очень короткий срок написавший две важные монографии
о питекантропах и неандертальцах. Дюбуа был уязвлен — и теми, кто отказывался
признавать связь между черепом и бедренными костями, и действиями Швальбе,
присвоившего результаты его труда, — и решил не выпускать собственный труд,
посвященного найденным окаменелостям. Он удалился от дел, забрав с собой ока-
менелости и, таким образом, заложив традицию для палеоантропологов будущего.
И сегодня многие ученые, работающие в этой области, используют свои находки
как источник власти и влияния или способ выразить свое неодобрение, а не как
кладезь бесценной информации, необходимой научному сообществу, чтобы расши-
рить свои знания об эволюции человека.
После ухода Дюбуа внимание научного сообщества ожидаемо переключилось на
Швальбе и его толкование яванских находок. Швальбе не замедлил поделиться с
коллегами своими идеями. Он считал людей из Триниля более близкими к неандер-
тальцам, чем к современным людям, но при этом полагал и тех и других элемен-
тами единой эволюционной линии Pithecanthropus erectus через Homo
neanderthalensis (которого сам Швальбе называл Homo primigenius) развился в
Homo sapiens. Подобную точку зрения можно понять, учитывая, как мала была в
то время палеонтологическая летопись и как страстно первые палеоантропологи
стремились свести свои разрозненные знания в единую логическую картину. Но не
стоит забывать и о том достижении, которое принесла науке эта упрощенная кар-
тина: питекантроп, кучка старых костей, найденная в богом забытом уголке Юж-
ной Азии, был признан прямым предком человека.
Теоретические успехи
и практические провалы
Среди слабых мест «Происхождения видов» и теории Дарвина в целом часто на-
зывают отсутствие объяснения того, как работает биологический механизм насле-
дования. В некоторой степени критики действительно правы. Вся суть естествен-
ного отбора как трансформирующей силы основывается на способности передавать
полезные характеристики от поколения к поколению. В то же время для того,
чтобы сформулировать свой знаменитый принцип «наследование с изменениями»,
Дарвину не требовалось понимать сам процесс. Такое понимание пришло к нам по-
сле смерти Дарвина и зарождения генетики. Несмотря на то, что ключевые прин-
ципы наследования были сформулированы еще в 1866 году чешским монахом Грего-
ром Менделем, его достижения оставались неизвестными науке до тех пор, пока
выявленные им принципы не были повторно открыты несколькими учеными на рубеже
XX века.
Явление, которое изучал Мендель, называется дискретной наследственностью.
Во времена, когда он проводил свои знаменитые опыты, выращивая горох разных
цветов в монастырском саду, большинство представлений о наследовании своди-
лись к различным сочетаниям родительских характеристик. В конце концов, любой
ребенок, так или иначе, похож на отца и мать. Однако Мендель понял, что базо-
вые единицы наследования, которые мы сегодня называем генами, не смешиваются.
Они могут проявиться или не проявиться во внешнем облике потомка (к примеру,
доминантный ген, полученный от одного из родителей, может оказаться сильнее
рецессивного гена от другого родителя), но при этом все равно передаются в
яйцеклетках и сперматозоидах без всяких изменений.
Что ж, уже неплохо. Однако данная концепция не объясняет, каким образом
возникают изменения, движущие вперед эволюцию. Ответ на этот вопрос был полу-
чен только в 1900 году, когда голландский ботаник Хуго де Фриз не только по-
вторно открыл дискретную наследственность, но и выявил феномен мутации. Как
мы знаем сегодня, мутация — это ошибка в копировании генетического материала
при образовании гамет. Мутации возникают спонтанно и большей частью ведут к
появлению дефектов или абсолютно нейтральному результату. Однако в ряде слу-
чаев мутация может оказать на потомство благоприятный эффект, который тут же
будет замечен дарвиновским механизмом естественного отбора. В первые годы су-
ществования генетики никто не представлял себе, чем могут быть вызваны мута-
ции и какие масштабы могут иметь их последствия. Сам де Фриз, поддерживая
точку зрения Гексли, полагал, что мутации могут приводить к возникновению но-
вых видов всего за один «скачок». Но эксперименты на плодовых мушках, прове-
денные в лаборатории американского биолога Томаса Ханта Моргана, доказали его
неправоту. Мутации влияли на отдельные характеристики мушек, но при этом но-
сители мутаций принадлежали к тому же виду, что и их родители. Неважно, кто
победил в этом споре, — главное, что именно в нем родилась генетика, оказав-
шая огромное влияние на традиционные эволюционистские взгляды.
Палеоантропологи же продолжали двигаться по собственному пути, не обращая
внимания на изменения в теории эволюции. Почти каждую новую находку окамене-
лых человеческих останков совершали практикующие археологи, которые затем пе-
редавали кости для изучения анатомам или другим медикам. Последние зачастую
были тонкими наблюдателями, но совсем не эволюционистами. Они не были готовы
сделать изучение родословной человека частью более масштабной работы по изу-
чению биологического разнообразия природы в целом. По иронии судьбы новые ис-
копаемые останки человека лишь один раз попали в руки настоящего палеоантро-
полога — и это стало самым постыдным, но, к сожалению, самым известным собы-
тием за всю историю нашей науки.
В 1908 году рабочие, рывшие яму в Пилтдауне на юге Англии, наткнулись на
несколько толстых осколков человеческого черепа и передали их местному юристу
и собирателю древностей Чарльзу Доусону. Позже на том же месте был найден еще
ряд фрагментов. В 1912 году Доусон отправил находку знаменитому палеонтологу
Артуру Смиту Вудворду, который специализировался на ископаемых рыбах и зани-
мал в то время пост куратора геологического отдела Британского музея естест-
венной истории. Вудворд на месте обнаружения окаменелостей начал официальные
раскопки и очень скоро обнаружил множество других находок, включая каменные
орудия и окаменелые кости вымерших животных. Часть из них казалась старше тех
животных останков, которые обычно находили вместе с неандертальцами. Собрав
все человеческие фрагменты воедино, Вудворд получил реконструкцию черепа. К
сожалению, только мысленную, так как у оригинала не хватало лба, большей час-
ти правой стороны и, что самое важное, мест соединения с челюстью. Ископаемый
гоминид имел небольшой, но, несомненно, человеческий мозг и обезьянью че-
люсть . По сути, так выглядели бы питекантропы, если бы они действительно на-
ходились в родстве с человеком. Несмотря на то что нейроанатом Графтон Эллиот
Смит заявил об «обезьяноподобности» мозга, отпечатавшегося внутри черепных
костей, большая часть английской публики вслед за Вудвордом поверила в то,
что перед ними древний предок человека, превышающий по возрасту яванские на-
ходки. В прессе поднялась шумиха — «недостающее звено эволюции» могло жить на
английской земле!
Вторую реконструкцию пилтдаунского черепа провел анатом Артур Кит. Он пред-
положил, что объем мозга древнего человека был несколько больше, а также до-
бавил к совершенно обезьяноподобной челюсти вполне человеческий подбородок.
Самому Киту казалось, что обладатель подобного странного сочетания признаков
должен был представлять тупиковую ветвь эволюции, а не прямого предка челове-
ка. При этом он заявил, что если удастся обнаружить клык эоантропа (так Вуд-
ворд назвал свою находку) и тот окажется небольшим, как у людей, а не длинным
и острым, как у обезьян, то пилтдаунскую находку придется признать человеком.
И вуаля — зуб был вскоре найден! Пускай он и обладал некоторыми не вполне че-
ловеческими признаками, его коронка была гораздо ниже, чем у обезьян. Клык
завершал портрет древнего человека с крупной черепной коробкой и короткими
зубами. Правда, челюсть, из которой росли эти зубы, все еще слишком напомина-
ла обезьянью. Кит предположил, что пилтдаунский человек стоял немного ближе к
Homo sapiens по эволюционной лестнице, чем неандертальцы. В итоге к 1915 году
сформировался образ первого англичанина — человека с крупным мозгом и грубой
челюстью. Что ж, должен же античный предок человечества иметь хоть какие-то
примитивные черты!
Проблема состояла лишь в том, что химический анализ, проведенный 40 лет
спустя, показал, что обнаруженные в Пилтдауне кости не были останками одного
человека. Более того, некоторые из них и вовсе не были человеческими. Череп-
ная коробка с разбитым сводом принадлежала современному человеку, а стара-
тельно раздробленная челюсть — орангутангу. Клык тоже оказался обезьяньим, но
кто-то специально подпилил его, чтобы изменить типичный для зуба животного
профиль. Пилтдаунский человек оказался розыгрышем, причем довольно умным,
ведь его создателю пришлось разбросать фрагменты костей и артефакты по всей
территории раскопок. Кости «эоантропа» были специально разбиты, чтобы иссле-
дователям сложнее было заметить их несовместимость. Устроитель розыгрыша сыг-
рал на распространенном мнении о том, что раз отличительной чертой современ-
ного человека является большой мозг, то и все представители человеческого ро-
да должны были обладать это характеристикой. Кем бы он ни был, он хорошо знал
своих жертв.
Пилтдаунский человек.
Личность пилтдаунского шутника до сих пор неизвестна, но под подозрением
оказалось множество людей — от иезуитского мистика и палеонтолога Пьера Тейя-
ра де Шардена (который вел раскопки рядом с Вудвордом и обнаружил зуб) до пи-
сателя Артура Конан Дойла, игравшего поблизости в гольф. Единственный чело-
век , в причастности которого не возникает сомнений, — это Доусон. Мотивы та-
кого сложного научного мошенничества также неясны. Очевидно лишь, что устрои-
тель розыгрыша должен быть глубоко ненавидеть английское палеоантропологиче-
ское сообщество своего времени. Кроме того, когда пилтдаунская сенсация нача-
ла набирать обороты, у шутника, видимо, появились сомнения. Под конец раско-
пок в Пилтдауне был обнаружен артефакт, напоминающий крикетную биту — символ
всего английского! Теория о большом мозге «первого англичанина» выдерживала
хоть какую-то критику, но сообщение о том, что он играл в крикет, должно было
посеять в людях сомнение, что, видимо, и было задумано. К сожалению, даже по-
сле этого лишь немногие в Англии начали догадываться, что дело нечисто.
Европейские ученые расходились во мнении относительно пилтдаунскохю челове-
ка. Знаменитый французский анатом Марселин Буль сначала приветствовал новую
находку, но постепенно восторженный настрой французов уступил место подозре-
ниям, вызванным несоответствием между черепом и челюстью. Американец Джеррит
С. Миллер уже в 1915 году заключил, что пилтдаунский череп был собран из че-
ловеческой черепной коробки и челюсти шимпанзе и не стеснялся высказываться
на этот счет.
Учитывая такое расхождение во взглядах, существовавшее с самого начала пил-
тдаунской авантюры, становится понятно, что концепция о происхождении от «эо-
антропа» современного человека или неандертальцев была заранее обречена на
провал. С течением времени все новые и новые находки опровергали теорию о
большом мозге как первом и главном признаке человека, и вскоре уже даже бри-
танские археологи начали игнорировать кости из Пилтдауна. Тем не менее, фор-
мальное развенчание легенды произошло лишь в 1953 году, когда химический ана-
лиз показал полное несоответствие фрагментов черепа и челюсти друг другу, а
под микроскопом были обнаружены следы спиливания на зубной коронке.
Из этого случая можно извлечь много полезных уроков. Самый очевидный состо-
ит в том, что в огромной и неизбежно существующей переходной зоне науки, к
которой по большей части относится антропология и в которой предположения не-
возможно подтвердить путем наблюдений или экспериментов, исследователи часто
идут на поводу у своих предрассудков. Это случается даже с самыми педантичны-
ми учеными. Что уж говорить о палеоантропологии, которая в первые годы своего
существования не отличалась точностью — да и не могла, учитывая скудность
доступного материала. Кроме того, в те годы в палеоантропологии господствова-
ло авторитетное (если не авторитарное) мнение. Позиция ученого в академиче-
ской иерархии значила гораздо больше, чем обоснованность его взглядов. Как
говорил мой великий коллега Стивен Джей Гулд, мы все несознательно становимся
жертвами своих предубеждений, и «единственное лекарство от них — это бдитель-
ность и критический взгляд на вещи». Разве с этим можно поспорить? Тем не ме-
нее, последние исследования показывают, что даже внимательный к себе Гулд не
избежал влияния предрассудков, критикуя работу краниолога XIX века Сэмюэля
Мортона из Филадельфии. Гулд разнес его труд в пух и прах, но впоследствии
оказалось, что основания для этого были весьма сомнительными. Таким образом,
бессознательно стремясь подтвердить свою точку зрения, Гулд принизил важность
работы другого ученого. Наука — это самокорректирующаяся система знаний, но
порой коррекции приходится долго ждать.
Пилтдаунский инцидент ярко демонстрирует нам, что при рассмотрении любого
научного (в том числе и антропологического) вопроса мы должны отказаться от
своих предубеждений и пристрастных мнений. Но, что еще важнее, нам нужно ра-
зобраться, откуда они берутся. Если подобные убеждения сформировались в нашей
жизни достаточно рано, мы можем даже не понимать, насколько они предвзяты, и
считать их истиной по умолчанию. Мы уже увидели, что на заре палеоантрополо-
гии существовали разные взгляды на то, как работает эволюционный процесс и
какие виды возникают под его влиянием. Первые знания, полученные нами в этой
области, имеют огромное значение для толкования новых фактов. К сожалению, в
палеоантропологии до сих пор существует тенденция игнорировать мудрый совет
Гулда и многие практикующие ученые пытаются втиснуть новую информацию в уже
существующие системы, в частности новые ископаемые останки в уже существующие
виды.
Пилтдаунский человек преподает нам и еще один, практический, урок. Прочесав
выбранный участок в поисках окаменелостей, команда палеоантропологов должна
первым делом распределить свои находки по видам. Это не всегда так легко, как
кажется на первый взгляд, а фрагментарные обломки костей (которых обычно
большинство) лишь усложняют задачу. Останки мертвых животных редко остаются
на одном месте достаточно долго, чтобы ветер или вода могли нанести на них
толстый слой осадочный пород, который превратит кости в окаменелости на реч-
ном берегу или на дне озера. Даже если это происходит, обычно кости сохраня-
ются в виде мелких осколков и кусочков, разломанных хищниками и падалыциками.
Более того, если кость выходит наружу из горной породы из-за эрозии, на нее
обрушивается сила стихий. Шансы на то, что удачливый антрополог заметит ее до
того, как она полностью разрушится, довольно невелики.
Из-за влияния этих сложных процессов полные окаменелые скелеты находят
крайне редко. Только в том случае, если кости одной особи обнаруживаются вме-
сте (желательно в том положении, в котором они располагались при жизни), мож-
но с уверенностью утверждать, что все они принадлежали этой особи, а предста-
вители ее вида имели такое же костное строение. Однако обычно останки одной
особи находят в разных местах, часто на большом расстоянии друг от друга. В
таком случае, а также если какие-то из костей сломаны или отсутствуют, их
очень сложно соединить друг с другом. Две кости, обнаруженные рядом друг с
другом, с гораздо большей вероятностью будут принадлежать разным видам, чем
одной особи.
Суть в том, что, относя несколько костей, найденных в одном месте, к одному
и тому же виду (не говоря уже об одной и той же особи) , палеоантрополог дей-
ствует наудачу. Именно так и произошло в Пилтдауне. Но, судя по всему, как
ученые прошлого, так и современные палеоантропологи не стремятся усвоить этот
урок. Унаследовав от Дарвина представление об эволюции как о постепенном про-
цессе и принимая во внимание, что сегодня в мире существует лишь один вид го-
минидов, они одержимы желанием воссоздать историю человечества, отследив раз-
витие лишь данного вида. Это, в свою очередь, ограничивает их восприятие, и
они спешат отнести все останки гоминидов, найденные в одном месте — или в од-
ном часовом поясе, вне зависимости от географии, — к одному виду. От подобно-
го подхода остается всего один шаг до вывода, что все останки гоминидов, об-
наруженные в определенном регионе, должны считаться конспецифичными, если не
будет доказано иное, ведь плотность их популяций была достаточно низкой и их
кости редко встречаются среди других окаменелостей. В результате ни у кого не
возникает сомнений в том, что окаменелые останки гоминидов, найденные в не-
скольких километрах друг от друга или различающиеся по возрасту на сотни ты-
сяч лет, могут принадлежать одному и тому же виду — даже если под останками
мы подразумеваем всего лишь кость пальца ноги и фрагмент челюсти.
Любой палеоантрополог вздрагивает, услышав слово «Пилтдаун». Им бы хотелось
поскорее забыть об этом постыдном эпизоде из своей истории, но этого делать
не следует. Пилтдаунский инцидент остается пускай и непризнанным, но очень
важным моментом в истории палеоантропологии. Даже сейчас, 100 лет спустя, мы
игнорируем его уроки на свой страх и риск.
ГЛАВА 3
Неандертальцы и
человекообразные
обезьяны
Пока в Великобритании и на континенте шли первые споры о том, какое место в
истории человеческой эволюции может занимать питекантроп, европейская палео-
нтологическая летопись расширяла свои географические границы. В начале 1899
года в отложениях на полу пещеры Крапина в Хорватии была обнаружена крупная,
хотя и фрагментарная группа костей неандертальцев. Между 1908 и 1911 годами
несколько скелетов неандертальцев разной степени сохранности были найдены во
Франции. Названия мест, где проводились раскопки, сегодня кажутся чем-то вол-
шебным — Ла-Кина, Ле-Мустье, Ла-Шапель-о-Сен и Ла-Ферраси. Кроме того, в 1908
году собиратель древностей из Германии Отто Шетенсак сообщил о находке нижней
челюсти гоминида в каменоломне Мауэр неподалеку от Гейдельберга. Она была не
похожа на останки неандертальцев, и Шетенсак приписал ее новому виду — Homo
heidelbergensis.
Одновременно с этим геологи делали все возможное для того, чтобы прояснить
более широкий хронологический контекст европейских окаменелостей. Им уже было
известно, что достаточно недавно по геологическим меркам ландшафты Северной
Европы претерпели изменения под влиянием огромных масс льда, возникших из-за
разрастания арктического ледяного массива. В конце XIX века шотландский гео-
лог Джеймс Гейки предположил, что «ледниковые периоды» представляли собой че-
редование «оледенений» и «межледниковии». В 1909 году германо-австрийские
геологи Альбрехт Пенк и Эдуард Брюкнер упорядочили эту систему, выделив четы-
ре последовательно наступавших на территории Европы оледенения — Гюнц, Мин-
дель, Рисе и Вюрм (по названию местностей, с которым ассоциировалось каждое
из них) . Чуть позже в начало этой последовательности было добавлено самое
старое оледенение — Донау. Межледниковые периоды, чередовавшиеся с оледене-
ниями , означали отступление ледников. Система Пенка и Брюкнера стала первой
упорядоченной хронологической структурой, в которую могли быть интегрированы
окаменелости, правда, только с помощью крайне сложных геологических расчетов.
Задача усложнялась еще и тем, что, когда масса льда двигалась по поверхности
земли, она стирала или, по крайней мере, изменяла следы, оставленные предыду-
щими ледниками. Кроме того, как будто специально, чтобы затруднить работу ар-
хеологов, ледяные шапки регулярно таяли и потоки воды вымывали из пещер и
гротов накопленные отложения. Но, несмотря на практические трудности в приме-
нении, последовательность Пенка — Брюкнера стала стандартной хронологией лед-
никовых периодов и применялась еще полвека, пока ее не заменили более высоко-
технологичные системы.
Гейки сразу понял, что некоторые обнаруженные в Британии археологические
находки времен палеолита можно отнести ко времени оледенений. Отто Шетенсак
полагал, что человек, которому принадлежала челюсть из Мауэра, жил вскоре по-
сле прихода ледников в Европу — между Гюнцем и Минделем. Разумеется, в те го-
ды никто не представлял себе точных дат начала и конца этих оледенений, но
одно было очевидно: челюсть из Мауэра была очень древней, куда старее остан-
ков неандертальцев, которые начали появляться в более поздние периоды. Если
рассматривать все эти события в рамках еще более масштабной геологической
временной шкалы, приход ледников и формирование окаменелостей пришлись на
эпоху плейстоцена. Это название ввел в 1839 году Чарльз Лайель для обозначе-
ния отличия от более раннего периода, плиоцена, в котором, судя по окаменело-
стям, водилось куда меньше видов моллюсков, сохранившихся до наших дней. Се-
годня главной характерной чертой плейстоцена принято называть наличие посто-
янной ледяной шапки на Северном полюсе (она возникла примерно 2,5 миллиона
лет назад). А так как полярные льды существуют до сих пор, хоть и уменьшились
в размерах, некоторые полагают, что эпоха плейстоцена продолжается до сих
пор. Период, начавшийся с таяния огромных ледяных щитов, покрывавших Европу и
Северную Америку в конце последнего оледенения, то есть примерно 11,700 лет
назад, выделяют в отдельную эпоху — голоцен. Сегодня ряд ученых предлагают
ввести еще одну эпоху — антропоцен, то есть эру, в течение которой ландшафты
Земли изменялись под влиянием людей, но многие геологи не одобряют этой тен-
денции .
После принятия формальной хронологии европейских ледников ископаемых гоми-
нидов стало возможно рассматривать как реальных исторических персонажей, су-
ществовавших в глубокой древности и переживших определенную последователь-
ность событий. После того как традиционное разделение эпох на до и после Все-
мирного потопа было забыто, ученые получили возможность составить хронологию
человеческой эволюции — пускай всего лишь относительную, так как конкретная
продолжительность временных периодов на тот момент была неизвестна.
Геохронологическая шкала.
К моменту начала Первой мировой войны было уже достаточно очевидно, что не-
андертальцы жили бок о бок с животными, предпочитающими холодный климат. Ис-
ключение составляли только гоминиды из Крапины, которые, вероятно, принадле-
жали к последнему межледниковью. Останки неандертальцев никогда не находили в
слоях, содержащих кости людей современного типа. Несмотря на то, что первые
современные европейцы еще застали мамонтов, неандертальцы отстояли от них во
времени. Кроме того, рядом с их останками постоянно обнаруживали ранние му-
стьерские орудия, в то время как люди современного типа принадлежали культуре
ориньяк и более поздним.
Таким образом, уже в начале XX века было достоверно установлено, что неан-
дертальцы являлись коренными обитателями Европы времен среднего плейстоцена и
что позднее в этот регион пришли ранние современные люди (или кроманьонцы,
как их окрестили по названию пещеры во Франции, где были обнаружены их остан-
ки) . Несмотря на то, что Эжен Дюбуа продолжал отказывать неандертальцам в ис-
торической значимости, он полагал, что питекантропы возникли в конце плиоцена
или начале плейстоцена. Такая приблизительная датировка прекрасно подходила
для существа, являвшегося одновременно предком и неандертальцев, и кроманьон-
цев . Вскоре ее подтвердила находка большой группы окаменелых останков живот-
ных (увы, человеческих костей в ней не было), обнаруженной немецкими исследо-
вателями в Триниле в 1907-1908 годах. Итак, линейная схема, разработанная
Густавом Швальбе в 1899 году, могла бы быть подкреплена доказательствами и
признана научным сообществом, если бы не Марселин Буль.
Четыре человеческих окаменелости. Сверху: черепа двух неандертальцев
— из пещеры Крапина, Хорватия (слева) и Ла-Шапель-о-Сен, Франция.
Снизу слева: «старик» из пещеры Кро-Маньон, Лез-Эзи-де-Тайак-Сирёй,
Франция. Снизу справа: челюсть из Мауэра, Германия, образец останков
Homo heidelbergensis. He в масштабе.
Буль был не только талантливым анатомом, но и одним из самых влиятельных
французских палеоантропологов своего времени. Именно ему были переданы пре-
красные скелеты неандертальцев из Ла-Шапель-о-Сен, Ла-Ферраси и других мест-
ностей Франции для описания и анализа. В то время как его британские коллеги
превозносили «первого англичанина» из Пилтдауна как возможного прародителя
человечества, Буль, к своей чести, не проявил подобного шовинизма в отношении
новых французских находок. Жемчужиной коллекции местных палеоантропологов был
поразительно полный скелет неандертальца из Ла-Шапели. Он был обнаружен в
1908 году археологом-любителем, который сообщил, что останки находились в не-
глубокой яме в подстилающей породе под несколькими слоями пещерных отложений.
Ученые до сих пор спорят о том, был ли этот человек (достаточно старый, так
как у него успели выпасть все зубы) специально похоронен в пещере. Кости мле-
копитающих, найденные в более поздних слоях над скелетом, принадлежали живот-
ным, водящимся в холодном климате. Соответственно, ла-шапельский человек за-
стал последнее оледенение. Это подтверждает и недавно проведенная датировка
зубов животных из Ла-Шапели, которая показала, что их возраст составляет при-
мерно 50 тысяч лет.
В 1911-1913 годах Буль опубликовал влиятельную монографию из трех томов,
посвященную ла-шапельской находке, в которой отрицал, что она может представ-
лять собой останки предка современного человека. По мнению Буля, неандерталь-
цы являлись тупиковой ветвью эволюции, но жили в одно время с нашими древними
предшественниками. Эту теорию называют гипотезой пресапиенса. Буль отмечал,
что существование мустьерской культуры прервалось внезапно и повсеместно и на
смену ей пришли культуры кроманьонцев — такие сложно организованные, что,
вполне вероятно, могли быть принесены из другого региона, где уже развивались
некоторое время. Кроме того, исследовав скелет из Ла-Шапели, Буль пришел к
выводу, что его владелец имел отставленные большие пальцы ног. Это указывало
на то, что он мог совершать стопами хватательные движения, да и вес у ла-
шапельского неандертальца распределялся на стопы таким образом, который ско-
рее характерен для обезьян. Он ходил сгорбившись и согнув колени, у него была
короткая толстая шея и выступающая вперед голова, а контуры его крупного моз-
га указывали на недоразвитость ума. Это существо казалось совершенным неудач-
ником, особенно по сравнению с кроманьонцами, чьи «элегантные тела. . . более
тонко вылепленные головы, крупные и высокие лбы... ловкость рук... изобрета-
тельность ... художественные таланты и религиозное чувство дали им право пер-
выми удостоиться славного имени Homo sapiens!».
Несмотря на то что многие анатомические наблюдения Буля были впоследствии
подвергнуты сомнению, а также невзирая на восторженный тон его сочинений, не-
которые элементы его описания Homo neanderthalensis представляли значительную
ценность. Возможно, именно поэтому его работа имела такое большое влияние в
свое время. Сложнее понять отношение Буля к предмету всеобщих споров — пите-
кантропу. Для того чтобы поместить неандертальцев в исторический контекст, он
потратил много времени на изучение окаменелых останков различных приматов,
вплоть до таких малозначимых видов, как вымершие мадагаскарские лемуры. При
этом кости с Явы он совершенно игнорировал, объявив их останками гигантского
гиббона (вслед за запальчивым Рудольфом Вирховом, который выдвинул эту же ги-
потезу сразу же после того, как Дюбуа привез свои находки в Европу). Даже
Homo heidelbergensis, старейшему из найденных в Европе древних людей, было
отведено место в качестве предка неандертальцев. На тот момент главным канди-
датом Буля на должность прародителя современного человечества был пилтдаун-
ский «эоантроп», учитывая его огромное влияние на антропологию и толкование
положения неандертальцев.
В течение 10 лет после этого в палеоантропологии не происходило значимых
событий, пока в 1927 году американский антрополог венгерского происхождения
Алеш Грдличка, уже давно подозревавший, что с пилтдаунскими останками что-то
нечисто, не прочитал в Королевском антропологическом институте в Лондоне лек-
цию под названием «Неандертальская фаза человечества».
По словам Грдлички, неандертальцы являлись одним из звеньев родословной че-
ловека. Они не были замещены ориньякской культурой, а постепенно эволюциони-
ровали в нее. Грдличка полагал, что вариативность, которая наблюдалась между
окаменелыми останками неандертальцев, постоянно обнаруживаемыми в различных
регионах Европы, являлась следствием недавних адаптивных изменений. По его
мнению, такие изменения шли и поныне, например длина зубов современного чело-
века продолжала уменьшаться. Точно так же и среднепалеолитическая культура
мустье путем развития превратилась в верхнепалеолитические культуры кромань-
онцев. Из-за шумихи вокруг пилтдаунского человека немногие в то время обрати-
ли внимание на подобное толкование схемы Швальбе, хотя в 1921 году ее линей-
ную интерпретацию косвенно поддержал Артур Смит Вудворд, проведший анализ че-
репа из шахты в Брокен-Хилл (территория современной Замбии). Возраст этой хо-
рошо сохранившейся находки был неизвестен, и это позволило Вудворду предполо-
жить, что Homo rhodesiensis, как он назвал обладателя черепа, мог являться
промежуточным звеном между неандертальцами и Homo sapiens. Вудворд не успел
развить свою теорию, так как именно в этот момент были обнаружены останки по-
настоящему древнего предка человека.
Африканская
находка
В начале 1925 года Реймонд Дарт, молодой нейроанатом американского происхо-
ждения, возглавлявший факультет анатомии в медицинской школе Витуотерсранд
при Университете Южной Африки, сообщил о случайном открытии любопытной новой
окаменелости. Находка была обнаружена в известняковом карьере в Таунге, в па-
ре сотен километров к юго-западу от Йоханнесбурга. Заголовок работы Дарта
гласил: «Australopithecus africanus: человекообразная обезьяна из Южной Афри-
ки» . Этот череп, состоявший из лица и черепной коробки с естественным слепком
мозга, судя по всему, принадлежал ребенку (у него только прорезались коренные
зубы, а у современного человека это происходит в возрасте шести лет). Образец
не был похож ни на какие прежние антропологические находки. Было очевидно,
что череп принадлежал либо обезьяне с некоторыми человеческими чертами, либо
человеку, обладавшему обезьяньими характеристиками.
В итоге Дарт присвоил своей находке статус останков «гуманоида», несмотря
на то, что многие факторы, подтверждавшие его человечность, объяснялись ско-
рее нежным возрастом человека из Таунга. Известно, что черепа человеческих
детей и детенышей обезьян гораздо больше похожи друг на друга, чем у взрослых
представителей их видов. Мозг находки был небольшим (всего 440 миллилитров в
объеме) и едва ли превышал по размеру мозг обезьяны того же возраста. Однако
Дарт, по его словам, заметил в нем расширенные «высшие центры», что указывало
на человеческое состояние мозга. Дарт зашел в своих домыслах так далеко, что
предположил, будто Australopithecus africanus «обладал основами тех умений
дифференцировать объекты по внешнему виду, тактильным и звуковым ощущениям,
которые являлись необходимым этапом в развитии членораздельной речи». Дарт
обосновывал свои рассуждения тем, что его таунгский человек жил в условиях
полупустыни, непригодных для существования высших приматов, где выживание бы-
ло возможно только при условии наличия «развитых мозговых функций». Наличие у
него человеческих характеристик подтверждалось положением большого затылочно-
го отверстия, через которое головной мозг соединялся со спинным. У шимпанзе,
передвигающихся на четырех ногах, оно находится в задней части черепа, а у
Australopithecus africanus открывалось вперед, указывая на важнейшую челове-
ческую черту — прямохождение.
Сообщая миру о своей находке, Дарт не имел ни малейшего понятия о ее воз-
расте. Очевидно, череп был старым, но ученый даже не смел предположить на-
сколько — для этого ему не хватало геологического контекста. Залежи известия-
ка в Таунге были частью древней системы пещер, сформировавшейся в древних до-
ломитовых породах южноафриканского вельда под воздействием воды. В какой-то
момент времени в прошлом поток смывал мусор с поверхности в подземную пещеру,
где накопленные слои, включавшие в себя и кости животных, скреплялись вместе
повторными известняковыми отложениями. Между ними формировались слои чистого
известняка. Именно за ними и охотились горные рабочие, взрывая участки обло-
мочных пород. В процессе этих работ открывались окаменелости, в частности че-
реп ребенка из Таунги. Во времена Дарта слои отложений в большинстве случаев
датировались по присутствующим в них окаменелостям, но черепа бабуинов, най-
денные рядом с черепом ребенка, не очень-то помогли. Сегодня наиболее вероят-
ной кажется версия о том, что таунгский ребенок стал жертвой гигантских ор-
лов, которые гнездились над входом в пещеру, и что они выбросили его кости из
своего гнезда примерно 2,8 миллиона лет назад.
Необычная анатомия черепа казалась Дарту достаточным основанием, чтобы счи-
тать найденное им существо довольно развитым. Он писал, что оно могло «обла-
дать именно теми характеристиками. . . которых можно было бы ожидать от вымер-
шего звена между человеком и его обезьяноподобными родственниками». О каких
именно характеристиках шла речь? Дарт дает такое их объяснение: «Существо с
антропоидным объемом мозга, но не имеющее... расширенных височных долей...
необходимых для развития членораздельной речи, не является настоящим челове-
ком» . Следуя этой логике, он считал свою находку человекообразной обезьяной,
так как «в отличие от питекантропа, этой карикатуры на преждевременное разви-
тие человеческих черт», Australopithecus africanus нельзя было назвать обезь-
яноподобным человеком. Для Дарта подобный термин означал некоторое вырожде-
ние, и ему казалось, что куда лучше будет назвать свою находку человекообраз-
ной обезьяной, стремящейся к совершенству. Таким образом Дарт дал новое нача-
ло спору о терминологии, и следует сказать, что дискуссии относительно обезь-
яноподобных людей и человекообразных обезьян были одним из самых бессмыслен-
ных явлений в палеоантропологии начала XX века. Ученым потребовалось много
времени, чтобы понять, что термины «человек» и «обезьяна» относятся только к
современным организмам и даже образцы, относящиеся к тому или иному виду, в
итоге могут оказаться чем-то третьим, не потеряв при этом своих основных ха-
рактеристик .
В своей работе Дарт дает волю воображению и художественному стилю, поэтому
она интересно читается. Но так как Дарт столкнулся с палеонтологией случайно,
в его труде видно мышление анатома, а не системного биолога, пытающегося
классифицировать природное разнообразие. Автор скорее пытается понять важ-
ность отдельных анатомических характеристик, чем выявить место нового орга-
низма в более масштабной системе видов. Несмотря на революционность его на-
ходки, смелость и проницательность многих заключений, Дарт все равно рассмат-
ривал ситуацию с ограниченной позиции человеческой анатомии.
Пекинский
человек
Британские коллеги Дарта, бывшие в то время лидерами палеоантропологической
науки, не разделяли его точку зрения. Один или двое заинтересовались его на-
ходкой, но большинство (включая Артура Кита, Графтона Эллиота Смита и Артура
Смита Вудворда, известных по пилтдаунской истории) посчитали окаменелость из
Таунги обычными останками обезьяны. Прежде чем Дарт получил возможность про-
демонстрировать европейским ученым таунгский череп в 1931 году, их внимание,
как и внимание широкой публики, привлекло новое событие. В период между 1929
и 1934 годами китайские археологи, ведшие раскопки в пещере в пригородах Пе-
кина, обнаружили целых 14 окаменевших черепов гоминидов, не говоря уже о мно-
жестве черепных осколков и посткраинальных фрагметов. Несмотря на то, что пе-
кинские останки с самого начала не слишком отличались от костей питекантропа
Дюбуа, канадский анатом Дэвидсон Блэк, руководивший раскопками, дал своей на-
ходке собственное имя — Sinanthropus pekinensis (китайский человек из Пеки-
на) . У всех синантропов, кроме одного, объем черепной коробки существенно
превышал размеры мозга тринильскохю питекантропа и варьировался от 850 до
1200 миллилитров. Более крупный мозг и высокий череп казались Блэку признака-
ми высокоразвитого существа. Кроме того, китайская находка обладала одним
преимуществом, отсутствовавшим у яванской: у нее имелся археологический кон-
текст. В 1931 году Блэк сообщил, что некоторые кости животных, найденные ря-
дом с останками хюминидов, были обуглены. Это означало, что, как и некоторые
неандертальцы, синантропы владели огнем. Примерно в то же время были обнару-
жены и каменные орудия, и синантроп получил вполне человеческий портрет.
В 1934 году Блэк скоропостижно скончался, и его место занял еще один анатом
— немец Франц Вайденрайх. Это был основательный ученый, уже известный своими
исследованиями неандертальских окаменелостей на родине, где в этот момент как
раз зарождался нацистский режим. Вайденрайх старательно задокументировал все
находки останков гоминидов, сделанные в пещере, которая сегодня носит назва-
ние Чжоукоудянь. В процессе работы он дополнил поведенческое описание синан-
тропа страшным открытием. Оказалось, что человеческие кости в Чжоукоудяне во
многих случаях были найдены разломанными. Всего в пещере были обнаружены ос-
танки около 40 человек, 15 из которых были детьми, но среди них не было ни
одного полного скелета. Более того, даже целые кости встречались крайне ред-
ко. Почему? Ответ был прост. Несмотря на все свои человеческие черты, синан-
троп был каннибалом. Раздробленные кости оказались останками жертв, убитых и
съеденных своими собратьями. Возможно, синантропы поедали себе подобных, что-
бы приобрести физические и умственные свойства своих жертв. Особенно ценился
головной мозг, который извлекали, разбивая нижнюю часть черепа. Марселин Буль
на другом конце света ожидаемо не согласился с этими рассуждениями. Он счи-
тал, что синантропы были слишком примитивны для создания найденных в пещере
орудий или разведения костров. Возвращаясь к своей теории пресапиенса, он
предположил, что раздробленные кости были остатками пиршества другого, куда
более развитого вида человека, который не оставил после себя следов в пещере.
Впоследствии оказалось, что ни Вайденрайх, ни Буль не были правы. Скорее
всего, пещера Чжоукоудянь служила логовом хищников, куда гиены стаскивали те-
ла убитых синантропов, прежде чем начать трапезу. Кости, которые Вайденрайх
считал обгоревшими, на самом деле оказались испачканы марганцем. Более того,
несмотря на то, что точка зрения Вайденрайха стала канонической в некоторых
научных кругах, сам он так и не смог определить точное место синантропа в ие-
рархии человеческих предков. Тем не менее, сразу после публикации его работа
имела огромное влияние. В 1937 году Вайденрайх встретился с голландским па-
леонтологом Ральфом фон Кенигсвальдом, который в это время занимался поисками
останков питекантропа в Сангиране, еще одном яванском археологическом место-
нахождении неподалеку от Триниля. Ученые пришли к верному выводу о близком
родстве питекантропа и синантропа и определили, что яванская форма являлась
более ранней и примитивной. Немногим более года спустя японское вторжение в
Китай вынудило Вайденрайха уехать в Нью-Йорк (ему повезло больше, чем остан-
кам синантропов, которые были утрачены при эвакуации). В Штатах у него оказа-
лось достаточно времени для размышлений, и он начал работать над теорией о
том, какое место яванские и китайские находки занимают в общей картине чело-
веческой эволюции.
Главным вопросом, которым задавался Вайденрайх, было толкование разнообра-
зия географических вариаций современного Homo sapiens. Коренные жители Афри-
ки, Европы, Азии и Австралии обладают некоторыми существенными отличными чер-
тами (хотя, когда доходит до дела, провести четкую границу между ними оказы-
вается достаточно трудно — сегодня мы понимаем это лучше, чем во времена Вай-
денрайха). Тем не менее, люди с разных концов планеты могут свободно скрещи-
ваться, что характерно для представителей одного вида. Проанализировав этот
парадокс анатомического разнообразия при генетическом единстве, Вайденрайх
сделал вывод, который возмутил бы эволюционных биологов, работающих с любой
другой группой организмов. В 1947 году в одной из своих последних работ Вай-
денрайх заявил, что «все формы приматов, называемые гоминидами, вне зависимо-
сти от того, жили ли они в прошлом или существуют в настоящем, представляют
собой морфологическое целое, отличное от других форм приматов, и поэтому мо-
гут быть расценены как один вид». Каким-то невероятным образом он объединил в
единый вид все то огромное количество разнообразных форм, которое входит в
палеонтологическую летопись человечества — от странного найденного в Китае
гигантопитека (по сути, представлявшего собой очень большую ископаемую обезь-
яну) до стройного, прямоходящего и обладающего большим мозгом Homo sapiens.
Представьте себе, что было бы, если бы кто-нибудь сказал, что кошка, рысь и
лев принадлежат к одному виду только потому, что все они отличаются от соба-
ки!
Вайденрайх проиллюстрировал свои взгляды на эволюцию человека крайне сим-
метричной решетчатой диаграммой, в которой вертикальные линии представляли
различные направления развития человека, возникшие после «появления истинных
гоминидов». Горизонтальные линии обозначали время, а точки на пересечениях
были подписаны названиями различных древних или современных видов человека,
вернее, могли бы быть подписаны, если бы представления автора о прошлом чело-
вечества были бы более полными. Наконец, параллельные диагональные линии обо-
значали дрейф генов между различными линиями наследования, успешно объединяв-
шимися в один род. Таким образом, например, гигантопитек являлся прародителем
синантропа, а тот — предком «монгольской группы» современных людей. Парал-
лельно с этой линией развивалась другая: мегантроп (обнаруженный Кенигсваль-
дом на Яве) порождал питекантропа, а от того происходила «австралийская груп-
па» Homo sapiens. Все прочие названия, присвоенные находкам из Африки и Евра-
зии, также были включены в диаграмму таким образом, чтобы показать существо-
вавшее среди гоминидов внутреннее стремление к увеличению мозга.
Вайденрайха стоит уважать хотя бы за то, что он не побоялся открыто выра-
зить свои взгляды на движущие механизмы человеческой эволюции, в то время как
его коллеги продолжали действовать и рассуждать по наитию. Тем не менее, его
взгляд на развитие человека был взглядом анатома. Вайденрайх игнорировал или,
по крайней мере, оставлял в стороне все наработанные за долгие годы правила и
принципы систематики — науки о том, как классифицируются мириады существующих
на планете Земля видов и как они связаны между собой. На более общем уровне
концепция Вайденрайха отражала такое видение эволюции как направленного про-
цесса (этот подход называют ортогенезом), которое даже в начале 1940-х годов
уже казалось устаревшим.
По иронии судьбы Вайденрайх написал свой заключительный труд о человеческой
эволюции в Нью-Йорке, где после эвакуации из Китая он работал в Американском
музее естественной истории. В 1930-1940-х годах именно в этом музее началось
полное переосмысление эволюционного процесса, которое в будущем опровергнет
наивные взгляды Вайденрайха. Удивительно, что и сам он это понимал. Некоторое
время он делил один кабинет с молодым палеонтологом Бобом Шеффером. Как рас-
сказывал мне сам Боб много лет спустя, незадолго до своей смерти 75-летний
Вайденрайх сказал ему: «Я знаю, что у вас, молодежи, есть собственные новые и
очень интересные теории об эволюции. Надеюсь, вы понимаете, что я просто
слишком стар, чтобы изменить свою точку зрения».
Новый
синтез
Так что же это были за идеи, которые Вайденрайх отказывался принимать (и с
которыми, видимо, не хотел даже знакомиться, учитывая, что тот случай был
первым и последним их упоминанием в разговорах с Шеффером или в его работах)?
На самом деле они стали результатом процесса, длившегося уже несколько десят-
ков лет. Повторное открытие менделевских принципов генетики в начале XX века
стало толчком к бурному движению в области эволюционной теории. Как мы уже
знаем, самому Дарвину не обязательно было понимать, как работает наследствен-
ность , чтобы описать эволюцию как «наследование с изменениями». Разумеется,
собственные представления Дарвина о механизмах наследования были очень далеки
от истины. Но идея наследования начала витать в воздухе, а после того, как к
ней прибавилось понятие мутации, многие ученые начали осознавать, что перед
ними может быть ключ к объяснению эволюционных изменений. Поначалу исследова-
лась каждая возможность: от возможного влияния «мутационного давления» (час-
тоты появления мутаций) на эволюционные процессы до понятия «счастливых уро-
дов» (спонтанной крупной генетической реорганизации), от которых могли проис-
ходить целые виды. Лишь немногие из этих первых теорий эволюционных изменений
были дарвинистскими по сути, то есть строились на понятии постепенного есте-
ственного отбора. Однако через некоторое время на передний план вышла техно-
логия математического моделирования поведения генов в популяции, и специали-
сты по генетике количественных признаков (такие как Сьюэл Райт в Америке и
Рональд Фишер в Англии) начали понимать, как генетические фонды различных ви-
дов могут реагировать на внешние факторы отбора.
Возникновение этого нового подхода стало возможным благодаря изучению самих
генов. Уже в начале XX века ученые начали представлять гены как бусины, нани-
занные в определенной последовательности на хромосомы — волокнистые структу-
ры, которые становятся заметными в клетках перед их делением. Гены располага-
лись в хромосомах в строго определенных местах и имели альтернативные версии,
называемые аллелями. Конъюгация двух хромосом (по одной от каждого родителя)
объясняла существование явлений доминантности и рецессивности, отмеченное еще
Менделем. Доминантный аллель, расположенный на определенном месте, подавлял
влияние своего рецессивного двойника. Для проявления рецессивного фенотипа
(строения тела) в потомстве оба родителя должны были иметь одинаковые аллели.
Кроме того, почти сразу же стало очевидно, что большинство фенотипических ха-
рактеристик кодируется более чем одним геном, а каждый ген отвечает более чем
за одно свойство.
Наиболее убедительной из новых концепций, объясняющих влияние поведения ге-
нов в популяции на эволюционный процесс, была введенная Сьюэлом Райтом идея
«адаптационного ландшафта». Генетический фонд одной популяции состоит из мно-
жества тысяч генов и, соответственно, имеет огромное количество аллелей. Райт
предположил, что при определенном сочетании факторов внешней среды некоторые
комбинации аллелей окажутся более выгодными, чем другие, и позволят своим
«приспособленным» владельцам более эффективно выживать и размножаться по
сравнению с менее одаренными природой собратьями. Он создал математические
модели, похожие на топографические карты, в которых более приспособленные ге-
нотипы были собраны в кластеры на вершинах, а менее удачные населяли долины.
Следуя этой аналогии, задачей каждого вида было максимизировать горную долю
популяции и минимизировать количество жителей долин. Ключом к достижению этой
цели был естественный отбор. Многие популяционные генетики не только признали
концепцию Райта, но и начали развивать ее таким образом, которого сам автор
не предполагал. Но главным ее результатом стало формирование четкой связи ме-
жду частотой генов в популяции и естественным отбором. Эту теорию в 1930-х
годах назвали новым эволюционным синтезом.
К развитию новой синтетической теории эволюции приложили руку многие уче-
ные, но одно имя следует выделить особо — Феодосии Добржанский. Его блестящий
труд «Генетика и происхождение видов», опубликованный в 1937 роду, стал пер-
вым полным описанием принципов нового эволюционного синтеза. Добржанский, на-
туралист старых взглядов и одновременно талантливый и оригинальный генетик,
работал в Колумбийском университете как раз неподалеку от Американского музея
естественной истории в Нью-Йорке. Несмотря на то, что он был глубоко убежден
в ключевой роли видов в природе и в важности дрейфа генов (красивое название
для случайных мутационных погрешностей), он также не сомневался в преимущест-
венной силе естественного отбора, проявившейся при формировании жизни на Зем-
ле. Он видел эволюцию как медленный, последовательный и долгий процесс, со-
стоявший в основном из накапливания в поколениях организмов небольших генети-
ческих изменений и возникновения новых комбинаций уже существующих аллелей.
Поступательные изменения, возникающие от одного поколения к другому, подчиня-
лись безжалостному естественному отбору — слепому процессу, не направленному
на получение конкретного результата, но происходившему, когда более приспо-
собленные особи оставляли больше потомства, чем их чуть менее удачливые роди-
чи.
С изменениями среды менялись и факторы, обеспечивающие определенным геноти-
пам более эффективное размножение. Эволюция — это гибкий, но не прекращающий-
ся процесс, постоянно оптимизирующий живые существа под среду их обитания. С
такой точки зрения изменения в генеалогии казались неизбежными, потому что
либо окружающие условия менялись сами по себе, либо конкуренция между особями
выявляла тех, кто был адаптирован к среде наилучшим образом. Наконец, что са-
мое важное, процессы, происходящие внутри вида, можно было экстраполировать
для объяснения эволюционных явлений более высокого уровня, таких как появле-
ние новых видов и более крупных групп, например китов, летучих мышей или при-
матов .
В 1942 году орнитолог из Американского музея естественной истории Эрнст
Майр выпустил еще одну великую книгу «Систематика и происхождение видов», ко-
торая дополнила работу Добржанского с систематической точки зрения. Он указал
на то, что Дарвин в своем знаменитом труде 1859 года, по сути, вовсе не рас-
сматривал происхождение видов. Майр подчеркивал важность естественных скач-
ков, которые делают виды и «высшие таксоны» (семейства, отряды и т.д.), а
также вводил понятие географического видообразования. Эта концепция предпола-
гала, что новые виды могли возникать в результате разделения старого вида по
географическому признаку, к примеру, когда изменившая течение река или под-
нявшийся уровень моря изолировали одну из популяций. Изоляция на уровне видов
вела к инновации, особенно у сложных позвоночных, таких как млекопитающие. Но
и в этом случае главной движущей силой был естественный отбор.
Еще через два года палеонтолог Джордж Гейлорд Симпсон, работавший все в том
же музее, свел все открытия в своей дисциплине воедино в книге «Темпы и формы
эволюции». Он утверждал, что «адаптационный ландшафт» Райта был скорее похож
на бурное море. Это означало, что природе постоянно приходится поддерживать
баланс между существами, находящимися на гребне волны и у ее основания. Кроме
того, иногда волна могла разделиться надвое и разнести один вид в противопо-
ложных направлениях, создавая, таким образом, новые виды. Главная идея работы
Симпсона (как и Дарвина и Ламарка до него) заключалась в том, что виды пред-
ставляли собой динамичные структуры, которые возникали и исчезали с течением
времени. Вид мог существовать в пространстве, но для времени он являлся лишь
мимолетным воспоминанием, которое быстро стирала с лица Земли неумолимая сила
естественного отбора.
Подобный подход, разумеется, создавал определенные трудности для палеонто-
логов. Ведь, если виды постоянно меняются, как выделять их из имеющихся в на-
шем распоряжении окаменелостей и как описывать прошлое на их основании? Но
редукционизм нового эволюционного синтеза казался настолько привлекательным,
что никто на тот момент даже не задумывался о подобных чисто практических
проблемах. Более того, палеонтологам больше не нужно было жаловаться на при-
скорбную неполноту имеющихся в их распоряжении материалов, ведь новый эволю-
ционный синтез специально оставлял в палеонтологической летописи удобные про-
белы. Казалось, что проблемы, которые испытывали палеонтологи, пытаясь впих-
нуть новый вид в существующую иерархию, ушли в прошлое. Итак, благодаря уси-
лиям Добржанского, Майра, Симпсона и многих других к концу 1940-х годов новая
синтетическая теория стала в англоязычных странах доминирующей в эволюционной
биологии — во всех ее дисциплинах, кроме палеоантропологии. На тот момент это
была закрытая наука, которой в основном занимались анатомы, и которая почти
целиком состояла из авторитетных высказываний в полном теоретическом вакууме.
Устаревшая и далеко не универсальная схема Вайденрайха была в палеоантрополо-
гии единственной более или менее достоверной попыткой описания человеческой
эволюции.
Возвращение
к раскопкам
Ни одно из этих событий не помешало поискам останков древних гоминидов. За
10 лет после того, как научное сообщество (пускай и неохотно) признало
Australopithecus africanus, Реймонд Дарт не сделал ничего, чтобы подкрепить
свою находку новыми фактами. Но в 1936 году врач и палеонтолог Роберт Брум
объявил о найденном им довольно деформированном черепе взрослого человека
примерно того же типа. Череп был обнаружен в еще одном известняковом карьере,
на этот раз в пещерах Стеркфонтейн, располагавшихся куда ближе к Йоханнесбур-
гу, чем Таунг. Брум полагал, что кости животных, найденные рядом с черепом,
указывали на более раннее происхождение, чем у австралопитека, и поэтому дал
своей находке собственное имя — A. transvaalensis, в честь Трансвааля, про-
винции, в которой она была раскопана. Однако вскоре он изменил свое мнение и
отнес владельца черепа к новому виду, назвав его плезиантропом («близким к
человеку»). Как бы там ни было, Брум верил, что у него в руках находится под-
тверждение идей Дарта. Он удвоил свои усилия по поиску окаменелостей и в 1938
году обнаружил еще один частично сохранившийся череп — на этот раз в Кромд-
рае, рядом со Стеркфонтеином. Этот образец отличался от предыдущих находок
крупными зубами и массивным лицом. Находка была названа Paranthropus robustus
(массивный парантроп).
Находка из Кромдрая совпала по времени с визитом в Южную Африку американ-
ского палеонтолога, сотрудника Американского музея естественной истории Уиль-
яма Кинга Грегори и его коллеги-стоматолога Мило Хеллмана. Эти нейтральные
наблюдатели ни секунды не сомневались в значимости находок, сделанных Брумом
и Дартом, и на местном собрании объявили, что древние обладатели обнаруженных
останков «в структурном и генетическом смысле являлись двоюродными родствен-
никами современного человека». Иными словами, это были древние предки челове-
ка, промежуточное звено между ископаемыми обезьянами миоцена (эпохи перед
плиоценом) и современными людьми. В работе, выпущенной в 1939 году, Грегори и
Хеллман формально отнесли их к семейству гоминидов. Эта работа послужила
удобным основанием для публикации Брумом в 1946 году собственной монографии,
содержащей выводы относительно найденных им останков (к этому моменту его
коллекция пополнилась несколькими посткраниальными костями, частями черепа и
зубами). Брум уверенно заявлял, что его австралопиты (как их иногда называют
и сегодня) ходили на двух ногах и, несмотря на крупные лица и большие зубы,
имели вполне современную зубочелюстную систему. Что еще важнее, у них имелись
укороченные клыки, такие же, как те, которые пытался подделать создатель пил-
тдаунскохю человека. Их мозг был небольшим, но зато почти человеческие кисти
рук указывали на возможность создания орудий. Проведя анализ костей, Брум за-
ключил, что австралопитеки жили на открытой местности в эпоху плиоцена. Этот
вывод более или менее подтверждается современной датировкой, в соответствии с
которой возраст массивного парантропа из Кромдрая составляет чуть менее 2
миллионов лет. «Грацильный» австралопитек из Стеркфонтейна, обладавший не та-
ким мощным телосложением, жил еще раньше.
Но британские светила палеоантропологии по-прежнему не были впечатлены эти-
ми достижениями, по крайней мере, до тех пор, пока в 1947 году Южную Африку
не посетила восходящая звезда их дисциплины, профессор анатомии Оксфордского
университета Уилфрид Ле Грос Кларк. Сначала он скептически относился к дово-
дам Брума, но тому удалось довольно быстро его переубедить. Вернувшись в Анг-
лию, Кларк успешно доказал своим коллегам (кроме анатома Солли Цукермана,
бывшего по иронии судьбы выходцем из ЮАР) , что австралопитеки на самом деле
являлись ранними гоминидами. Однако единственное исключение оказалось доста-
точно существенным. Цукерман, который использовал свои знания по человеческой
анатомии в основном для разработки бомб, позволявших как можно быстрее и эф-
фективнее разрывать людей на кусочки, много лет работал научным консультантом
британского правительства. Когда в 1960-х годах я пришел в палеоантропологию,
она еще не отошла от губительного влияния Солли Цукермана.
Сам Кларк был интересной фигурой и одним из немногих анатомов, занимавшихся
пароантропологией, которых интересовало не только то, чем они занимались, но
и как именно они это делали. Кларк понимал, что, анализируя ископаемые остан-
ки, анатом считал себя обязанным дать полную характеристику вида, с которым
он имел дело, а уже затем выявить его взаимосвязь с другими видами.
Тем не менее, для этой проблемы Кларк предлагал решение, лежащее исключи-
тельно в плоскости анатомии. Он считал, что аналитик не должен излишне увле-
каться индивидуальными характеристиками того или иного ископаемого объекта,
но вместо этого обязан рассматривать его «общий морфологический паттерн». Это
звучало бы очень разумно, если бы хоть кто-то во времена Кларка (да если уж
на то пошло, и в наше время) знал, что этот паттерн означает. В понятии обще-
го морфологического паттерна нет ни одного признака, который можно охаракте-
ризовать , рассчитать или сравнить с чем-то еще. На практике морфологический
паттерн сводится к общему впечатлению, которое находка производит на исследо-
вателя. Но анатомия всегда придерживалась подобного modus operandi — оставить
экспертам лишь их собственное мнение и дать возможность описывать его с высо-
ты научного авторитета.
Разумеется, к концу 1940-х годов подобные субъективные суждения продвинули
палеоантроплогию (и палеонтологию в целом) далеко вперед. Новые находки в
Стеркфонтейне быстро укрепили Брума в мнении о том, что перед ним были остан-
ки «древнего человека, лишь немногим более примитивного, чем питекантроп».
Более того, в расположенном поблизости Сварткрансе обнаружилось еще больше
костей массивных парантропов, которых Брум в честь их крупных зубов окрестил
Paranthropus crassidens. К 1949 году в Сварткрансе нашли несколько челюстей
гоминидов более легкого сложения. Брум и его коллега Джон Робинсон назвали их
древних обладателей Telanthropus capensis («людьми с мыса») и предположили,
что этот новый род может означать «непосредственный переход от человекообраз-
ных обезьян к истинному человеку», так как он, предположительно, жил раньше
европейского Homo heidelbergensis.
Новые окаменелости, виды и названия в буквальном смысле вырастали как грибы
в известняковых пещерах вокруг Йоханнесбурга, и вскоре сам Дарт заинтересо-
вался останками, найденными в шахте в районе Макапансгат к северу от города.
Еще четыре человеческие окаменелости. Слева сверху, череп ребен-
ка из Таунга, ЮАР, принадлежащий виду Australopithecus
africanus. Справа сверху, череп взрослого A. transvaalensis из
Стеркфонтейна, ЮАР. Слева снизу, череп XII из Чжоукоудяня, Ки-
тай, принадлежащий виду Homo erectus. Справа снизу, часть черепа
Paranthropus robustus из Сварткранса, ЮАР.
Проведенная в 1946-1947 годах проверка показала, что отвалы горных пород,
оставшиеся после добычи известняка, содержали фрагментарные останки несколь-
ких гоминидов с более изящным строением тела. Дарт назвал их Australopithecus
prometheus, так как по ошибке посчитал, что почернение многих костей означает
следы огня. Более того, он пошел еще дальше. Сломанные кости австралопитеков
и других млекопитающих напомнили ему раздробленные черепа из Чжоукоудяня, ко-
торые Вайденрайх считал остатками каннибалистических пиршеств. И тут Дарт от-
дался на волю воображения. По его мнению, обломки костей были свидетельством
того, что на этом месте австралопитеки убивали, разделывали и готовили себе
подобных. Он приписал австралопитам «остеодонтокератическую» (то есть осно-
ванную на костях, зубах и рогах) культуру, в которой эти материалы использо-
вались для создания орудий (костяных топоров, пил из зубов и ножей с лезвиями
из рога). Для австралопитеков, видимо, уже были характерны некоторые базовые
принципы человеческой природы, так как «хотя человечество и дополнило остео-
донтокератическую культуру с ее физиологической направленностью камнем и ме-
таллом, мы так и не сумели полностью освободиться... от влияния костей, зубов
и рогов». В этот момент и родился образ, перенесенный Робертом Ардри на стра-
ницы книги, а Стэнли Кубриком — на киноэкран; образ древних гоминидов как
размахивающих дубинами «убийц и пожирателей плоти» (по мнению Дарта), чья не-
укротимая жестокость «залила первые страницы истории человечества кровью и
яростью».
У этого сценария есть только один недостаток: в нем нет ничего, кроме дра-
матичной фантазии. При ближайшем рассмотрении следы огня исчезают, кости ока-
зываются сломанными в результате естественных процессов, а наиболее правдопо-
добным объяснением для концентрации костей в Макапансгате является деятель-
ность дикобразов, которые иногда питаются падалью и могли затаскивать кости
мертвых гоминидов в свои гнезда. На самом деле гоминиды вряд ли могли быть
кровожадными убийцами. Это были небольшие и в основном беззащитные существа с
короткими зубами, куда чаще сами становившиеся жертвами хищников, вероятно в
основном леопардов, что доказывает череп молодого австралопитека из Свартк-
ранса с двумя аккуратными круглыми дырочками — как раз такими, которые могли
оставить нижние клыки крупной кошки.
За пределами
Африки
Новые теории появлялись и исчезали, но окаменелости оставались неизменными.
Благодаря находкам, сделанным в Южной Африке, к середине XX века палеонтоло-
гическая летопись человечества начала принимать ту форму, которая существует
и по сей день. Ранние двуногие с небольшим объемом мозга и крупными лицами
проживали в Африке в эпоху плиоцена. Китайские и яванские формы, превышавшие
их по росту и размеру мозга, развились позднее. Обладавшие крупным мозгом не-
андертальцы (и жившие чуть ранее обладатели черепов, найденных в английском
Суонскомбе и немецком Штайнхайме) сосуществовали в Европе с первыми современ-
ными людьми. Правда, вскоре на ближайшем к современности конце этой временной
шкалы обнаружились неясности. В начале 1930-х годов английский археологом До-
роти Гаррод было найдено некоторое количество ископаемых останков гоминидов в
пещерах Схул и Табун, расположенных рядом друг с другом на обращенной к морю
стороне горы Кармель, в то время принадлежавшей Палестине. Обе пещеры сформи-
ровались в период последнего межледниковья, и в обеих были обнаружены камен-
ные орудия культур ллевалуа и мустье, аналогичные тем, которые примерно в то
же время производились неандертальцами в Европе. Женский скелет и фрагмент
массивной челюсти из пещеры Табун выглядели вполне по-неандертальски, но вот
несколько гоминидов из захоронения в Схуле имели совершенно иной внешний вид.
Их черепные коробки были более высокими и округлыми, чем у неандертальцев,
они имели уникальную структуру надбровных дуг, а их лица, хотя и вытянутые
вперед, не имели типичной для неандертальцев раздутой средней части.
Гоминиды из обеих пещер были описаны в 1939 году антропологом из Беркли
Теодором Маккауном совместно с анатомом сэром Артуром Китом. Из их совершенно
противоречивых выводов очевидно, что оба ученых по-разному оценивали находки,
но в конце концов сошлись на их принадлежности к одному весьма вариативному
виду, которому они дали имя Paleoanthropus palestinensis. Забираясь все
дальше и дальше в дебри собственных рассуждений, они заявляли, что совершенно
невероятная степень вариативности кармельской популяции могла объясняться
«эволюционной агонией», в ходе которой «генетический состав гоминидов оста-
вался нестабильным и пластичным». В качестве еще одного объяснения предлага-
лась «гибридность, то есть слияние двух отличных друг от друга народностей
или рас». Эти две версии до сих пор остаются основными при обсуждении гомини-
дов из Схула (и иногда из Табуна). Однако расхождения во мнении между Маккау-
ном и Китом подтверждают, как важно учитывать при анализе окаменелостеи и
другие факторы, помимо анатомических (в данном случае в роли таких факторов
выступили каменные орудия). Казалось бы, ученые должны были усвоить этот важ-
ный урок, однако многие палеоантропологи до сих пор о нем забывают.
Еще три человеческие окаменелости. Слева сверху: череп из Штайнхай-
ма, Германия. Слева снизу: череп неандертальца из пещеры Табун, Из-
раиль . Справа: череп V из пещеры Схул, Израиль.
Популяционное
мышление
Высокая скорость обнаружения и описания новых останков ископаемых гоминидов
в первой половине XX века в сочетании с полной незаинтересованностью палеоан-
тропологов в соблюдении норм систематики привели к возникновению огромного
количества видовых и родовых названий. Казалось, будто каждой новой обнару-
женной кости для последующего ее анализа нужно было присвоить собственное ро-
довое и видовое имя, как имя и фамилию обычному человеку. К концу 1940-х ока-
менелые останки гоминидов описывали с использованием 15 различных родовых на-
именований, что создавало впечатление невероятного разнообразия в этом все
еще относительно малоизвестном семействе.
Одним из ученых, которые не купились на этот трюк, был Феодосии Добржан-
ский. Его интеллектуальное детище — новая синтетическая теория эволюции осно-
вывалась на концепции, которую его коллега Эрнст Майр называл популяционным
мышлением. Многие ранние генетики рассматривали виды всего лишь как группы
признаков, наследственность которых можно было изучать. С другой стороны,
традиционная систематика считала вид определенным типом организмов. Популяци-
онное мышление представляло собой третий подход, в рамках которого вид опре-
делялся как группа особей, обладающая репродуктивной целостностью. При этом
было неважно, как представители вида выглядят в человеческих глазах. Иными
словами, как мы уже обсуждали ранее, особи не принадлежали к одному виду по-
тому, что выглядели одинаково. Они выглядели одинаково потому, что принадле-
жали к одному виду. Более того, многие виды являлись политипичными, то есть
делились на различные географические варианты, которые потенциально могли
скрещиваться между собой, но не имели такой возможности в связи с особенно-
стями среды. Такие местные вариации, или подвиды, являлись основой эволюцион-
ных изменений и сырьем, из которого формировались новые виды.
В 1944 году Добржанский использовал этот же подход для анализа останков го-
минидов (несмотря на то, что он вряд ли когда-либо видел хотя бы одну кость
ископаемого человека) и пришел к весьма убедительным выводам. В частности, он
заявлял, что «различия между пекинскими и яванскими людьми находятся в диапа-
зоне различий, существующих между современными человеческими расами». Кроме
того, он объяснял находки на горе Кармель гибридизацией между неандертальцами
и современными людьми — подвидами, существовавшими в разных регионах, но в
итоге вступившими в контакт в Палестине. Отсюда Добржанскому оставался всего
один шах1 до вывода о том, что «морфологическая разница между неандертальцами
и современными людьми в семействе хюминидов скорее равна разнице между раса-
ми, чем между видами». Установив этот факт (по крайней мере, для себя), Доб-
ржанский перешел к сравнению двух, по его мнению, основных моделей человече-
ской эволюции.
«Классическая» модель (основанная на бессмысленном умножении количества но-
вых родов и видов) представляла собой «дерево со множеством ветвей, в котором
известные науке ископаемые останки представляли ствол». Второй моделью было
«параллельное развитие рас» Вайденрайха. В итоге Добржанский делает вывод —
ожидаемый, учитывая его готовность включить множество разнообразных морфоло-
гических вариаций в единый вид, — что обе модели не имеют научного значения,
так как вся эволюция человека со времен яванских австралопитеков происходила
в границах одного политипичного вида. В частности, Добржанский предположил
существование большого количества сложных региональных вариаций и гибридиза-
ции в эпоху плиоцена. Причесывая все морфологическое разнообразие под одну
гребенку, он создавал основу для заблуждения, которое будет преследовать па-
леоантропологов в течение долгих лет.
ГЛАВА 4
Синтез и
человек
умелый
Если бы меня попросили назвать один год, имевший наибольшую важность для
истории палеоантропологии в XX веке, я бы без всяких сомнений выбрал 1950-й.
Феодосии Добржанский высказал свою идею нового синтеза еще в 1944 году, но в
то время шла война, так что она большей частью осталась незамеченной. Тем не
менее подход Добржанскохю к человеческой эволюции опередил свое время, а ко-
нец Второй мировой войны всего через год после публикации его работы тоже во
многом означал начало новой эры для палеоантропологии. В 1948 году постарев-
ший, но все еще активный Артур Кит выпустил монографию под названием «Новая
теория человеческой эволюции», которое, однако, мало соответствовало ее со-
держанию. Если эту работу еще за что-то и помнят, то лишь за ее смутный анти-
семитизм. На сцену палеоантропологии пришло время выйти новым персонажам.
Лидером этого нового поколения антропологов был Шервуд Уошберн. Получив
стандартное гарвардское образование в 1930-х годах, в 1940 году Уошберн начал
работать с Добржанским в Колумбийском университете и с энтузиазмом воспринял
новую синтетическую теорию эволюции. Благодаря трудам новообращенного Уошбер-
на синтетическая теория наконец-то распространилась и на палеоантропологию. В
1950 году Добржански и Уошберн (в тот момент уже работавший в Чикагском уни-
верситете) совместно организовали конференцию в лаборатории Колд Спринг Хар-
бор на Лонг-Айленде. Эта международная встреча, проходившая под торжественным
названием «Происхождение и эволюция человека», собрала вместе светила палео-
антропологии и связанных с ней наук, включая трех гигантов синтетической тео-
рии. На конференции выступило множество блестящих ученых, но одна из лекций
оказалась не просто сенсацией, а одной из важнейших вех в истории палеоантро-
пологии. Удивительно, но прочел ее не палеоантрополог. Автором стал орнитолог
Эрнст Майр.
Майр великолепно владел ораторским искусством и обладал прекрасным письмен-
ным слогом (хотя в печатной версии его речи и заметны следы спешки), поэтому
он не стал ходить вокруг да около. В предельно ясных выражениях он сообщил
собравшимся, что запутанная картина человеческой эволюции, составленная из
десятков новых родов и видов, абсолютно неверна. Теоретические и морфологиче-
ские критерии, которыми пользовались анатомы для их характеристики, были по-
добраны неправильно. К примеру, если взять плодовых мушек двух разных видов и
увеличить их до размеров человека, они будут гораздо менее похожи друг на
друга, чем представители двух любых существующих видов приматов. То же самое
можно было сказать и об ископаемых останках гоминидов.
Какой бы неуместной ни была эта метафора, она задела нужные струны в душах
слушателей, которые прекрасно осознавали, насколько тонок лед теоретических
рассуждений, по которому они пытались ходить. Таким образом, Майр подготовил
аудиторию к своему главному заявлению о том, что разнообразия родов и видов
гоминидов попросту не существовало. Кроме того, ее и не могло существовать,
так как наличие материальной культуры настолько расширяло экологическую нишу
гоминидов, что в экосистеме не нашлось бы места для сосуществования двух или
более человеческих видов.
Все эти теоретические и практические рассуждения Майр свел к необходимости
объединить все известные ископаемые останки гоминидов в рамках единой полити-
пичной линии наследования. Он выделял в этой линии всего три вида, объединен-
ных общим родом Homo. Согласно теории Майра, Homo transvaalensis (австралопи-
тек) являлся предком Н. erectus (питекантропов, синантропов и т.д.), который,
в свою очередь, эволюционировал в Н. sapiens (включая неандертальцев). Вот
так выглядела общая картина.
Тем не менее, Майр чувствовал, что все не может быть настолько просто, а
потому задавался вопросом: почему, в отличие от других высокоразвитых се-
мейств млекопитающих, гоминиды не породили множество видов? «Какая причина
препятствовала гоминидам создавать новые виды, несмотря на их эволюционный
успех?» — вопрошал он. Собственный гениальный ответ Майра на этот вопрос сно-
ва отсылал его к «экологическому разнообразию человека». Майр заявлял, что
специализацией людей было отсутствие всякой специализации. «Человек занимает
больше экологических ниш, чем любое известное нам животное. Если одному виду
принадлежат все экологические ниши, открытые для рода Homo, то совершенно
очевидно, что новые виды не могут возникнуть». Майр также отметил еще одну
характерную для человека черту, которая, по его мнению, подтверждала теорию о
филогенезе как о бесконечном движении Homo sapiens из прошлого к современно-
сти. «Люди крайне нетерпимы к конкурентам, — говорил Майр, — и уничтожение
неандертальцев захватчиками-кроманьонцами — это только один пример».
После выступления Майр отвечал на вопросы аудитории. Когда один из слушате-
лей (не палеоантрополог) спросил его, как можно толковать существенные морфо-
логические различия между ископаемыми останками гоминидов в рамках одного ви-
да, Майр дал блестящий ответ: «Род невозможно описать и ограничить исключи-
тельно на морфологических основаниях, так как у него отсутствуют абсолютные
характеристики». В тот момент никто не посчитал себя вправе ему возразить.
Никто не смог указать ему на очевидную проблему — что морфология была единст-
венным признаком, с которым могли работать палеоантропологи, и хотя теорети-
чески он был прав относительно отсутствия «абсолютных родовых характеристик»
(что бы это ни значило) , практически род ископаемых останков все равно опре-
делялся по их морфологическим свойствам. Никто также не предположил, что не-
терпимость к конкурентам может быть специфической чертой Homo sapiens, отли-
чающей его от ближайших родственников. Никто вообще не поставил под сомнение
отвлеченные и довольно спорные рассуждения Майра ни во время выступления, ни
в течение нескольких лет после публикации его провокационной речи.
Причиной такого слепого принятия критики почти наверняка стал тот факт, что
яркое выступление Майра заставило немногочисленную элиту палеоантропологии
заняться так необходимым ей самоанализом. Палеоантропологи начали понимать,
что и они сами, и их предшественники (за исключением, возможно, лишь Франца
Вайденрайха) все это время действовали в теоретическом вакууме, не задумыва-
ясь о процессах, которыми объяснялись истории об окаменелостях, или о месте
их базовых предпосылок в общей картине эволюции всего живого. Затем Майр,
уверенный в себе создатель синтетической теории, дал им полный и логичный
анализ их собственной науки. В этом анализе были и морфология, и эволюционный
процесс, и систематика, и теория возникновения видов, и экология — те ключе-
вые факторы, которые палеоантропологи все это время игнорировали и за которые
сейчас чувствовали свою вину. Майр предложил им убедительное и последователь-
ное видение человеческой эволюции, и, не имея альтернативного варианта, они
могли лишь капитулировать перед ним. Оказавшись в подобной неудобной эписте-
мологической ситуации, никто даже не заметил, что сценарий, предложенный Май-
ром, имеет лишь очень отдаленную связь с палеонтологической летописью.
Единственным англоязычным палеоантропологом, отказавшимся сдаваться на ми-
лость Майру, был молодой помощник Роберта Брума Джон Робинсон. Он отмечал,
что морфологическая гетерогенность между грацильными и массивными австралопи-
теками, а также некоторые сходные черты южноафриканских и ранних яванских ма-
териалов указывали на как минимум две линии гоминидов, существовавших парал-
лельно друг другу в плиоцене или начале плейстоцена. Майру пришлось согла-
ситься с доводами Робинсона, и хотя это согласие и было опубликовано в журна-
ле, которого палеоантропологи не читали, после этого случая всем им пришлось
согласиться с тем, что массивные австралопитеки выпадали из схемы Майра. В
результате родовое имя Australopithecus продолжало использоваться для всех
грацильных австралопитеков (а некоторые палеоантропологи, в основном Робин-
сон, по-прежнему называли массивных австралопитеков парантропами). Кроме то-
го, сам Робинсон использовал термин «телантроп» для обозначения загадочных
останков гоминидов с очень легким строением из Сварткранса. Точно такие же
останки к тому моменту были обнаружены и в одной из пещер Стеркфонтейна. Там
же в середине 1950-х годов стали находить грубо обработанные каменные орудия.
Но на этом все и закончилось. После памятного 1950-го года все англоязычные
палеоантропологи встали под знамена Майра и признали, что после периода суще-
ствования австралопитеков (а возможно, и в течение него) эволюция гоминидов
представляла собой прогрессивную модификацию одной центральной линии. В ка-
кие-то моменты времени она могла состоять из нескольких географических вари-
антов, но все они были связаны друг с другом генетическим обменом и подчиня-
лись единой тенденции — медленным и долгим эволюционным изменениям под воз-
действием естественного отбора, который действовал немного по-разному в раз-
ных частях света, но при этом никогда не проявлял себя настолько сильно, что-
бы привести к возникновению новых видов. Изменения подобного рода удобно было
отслеживать по эволюции отдельных черт (мозга, стопы или желудка), не обращая
внимания на виды, которым такие черты принадлежали.
Тем не менее, вопрос морфологии оставался открытым. Даже в 1950-х годах па-
леонтологическая летопись гоминидов уже демонстрировала значительное анатоми-
ческое разнообразие, увидев которое исследователи любых других групп млекопи-
тающих (не имеющих «деспециализации») с готовностью бы признали в них наличие
нескольких разных видов. Однако у палеоантропологов имелся готовый ответ на
этот вопрос — они его попросту игнорировали.
В течение почти 10 лет после выступления Майра мало кто отваживался вообще
использовать видовые наименования. Типичная для того периода диаграмма чело-
веческого филогенеза выглядела так: бесформенный набросок всего семейства го-
минидов и куски географических карт, на которых были подписаны места обнару-
жения отдельных образцов (Маузр, Ла-Шапель или Брокен-Хилл). Именно они стали
де-факто объектами изучения палеоантропологии. Эволюционные взаимоотношения
между ними обсуждались с надменной важностью, так как для участников таких
дискуссий не имело значения, к каким видам принадлежали обнаруженные останки.
С учетом обстоятельств это игнорирование формальных зоологических наимено-
ваний и видов, которые они обозначали, было вполне объяснимым. Более того,
данную тенденцию нельзя назвать абсолютно плохой. Сейчас она кажется скорее
фазой, которую палеоантропология должна была пройти. Как верно отметил Майр,
огромное количество формальных зоологических наименований, созданных для опи-
сания сравнительно небольшой коллекции окаменелостей, плохо соотносилось с
действительностью. Перед тем как сформировать рациональный взгляд на вещи,
ученым нужно было расчистить место. Именно это и произошло, и пускай пред-
ставление о разнообразии видов в рамках семейства гоминидов вернулось в па-
леоантропологию через некоторое время, оно было ограниченным. Ученым разреша-
лось давать новые имена находкам, если те были действительно уникальными, од-
нако на предложение новых названий уже известным окаменелостям или на исполь-
зование при их описании старых видовых наименований существовало табу.
Критика Майра не только привела к таксономической чистке, но и обеспечила
гораздо более точное толкование палеонтологической летописи гоминидов. В ка-
честве примера можно привести аналитическую работу о неандертальцах, опубли-
кованную в 1951 году сотрудником Чикагского университета Ф. Кларком Хауэллом.
К тому моменту Британский музей естественной истории еще не опубликовал офи-
циального заявления о том, что «останки» хранящегося в нем пилтдаунского че-
ловека являются подделкой, однако в научных кругах уже было известно, что хи-
мический анализ подтвердил разное происхождение черепа и челюсти. По этой
причине рассуждения Хауэлла были свободны от любых пилтдаунских заблуждений.
Работа Хауэлла была проникнута духом синтетической теории. В своем труде он
описывал единую эволюционную европейскую эволюционную линию, начинавшуюся с
Маузра, проходившую через Суонскомб в Англии и Штайнхайм в Германии и завер-
шавшуюся «ранними неандертальскими» находками, обнаруженными в каменоломнях
Саккопасторе в Италии и в немецком Эрингсдорфе (эрингсдорфский череп был опи-
сан Вайденрайхом еще до отъезда в Китай). Ранние неандертальцы появились в
период последнего межледниковья (Рисс-Вюрм) и обладали менее выраженными не-
андертальскими характеристиками, чем произошедшие от них «классические» за-
падноевропейские формы последнего ледникового периода (включая те, останки
которых были найдены в Ла-Шапели, Ла-Ферраси и Фельдхофере).
Хауэлл также предположил наличие некоей географической тенденции, выражав-
шейся в более легком строении тела на востоке и более выраженных классических
чертах на западе. Сложив все эти элементы воедино, можно получить сценарий,
по которому ранние неандертальцы из Восточной Европы и Леванта стали предками
современных Homo sapiens, а переходящим звеном между ними являлись формы с
горы Кармель. Затем новый вид распространился на запад и вытеснил своих дале-
ких родственников — классических неандертальцев.
Вся эта эволюционная деятельность проходила под влиянием резких перепадов
климата, характерных для эпохи ледников. В теплый межледниковый период неан-
дертальцы были распределены по Европе более или менее равномерно. Похолодание
в начале Вюрмского оледенения разделило западную и восточную популяции, так
как выжить на территории между ними было невозможно. Это привело к тому, что
у двух популяций начали развиваться разные характеристики. Суровый климат и
безжалостный естественный отбор (а также, вероятно, некоторый дрейф генов) на
севере и западе привели к возникновению классической неандертальской морфоло-
гии, в то время как в более мягком южном климате естественный отбор был не
таким строгим, а изменения менее выраженными.
Если разделить историю палеоантропологии на несколько периодов, то Хауэлла
с его вдумчивым анализом неандертальцев можно считать провозвестником совре-
менной эпохи. Для сегодняшних специалистов почти все, что было написано до
знаменитого выступления Майра, кажется несколько архаичным, а вот работа Хау-
элла , созданная в духе синтетической теории, указывает путь в будущее. На ее
страницах морфология, время, география, климат и процессы (важность которых
для антропологии особенно подчеркивалась Майром) были объединены в цельную и
всеохватывающую концепцию эволюции неандертальцев. Это был абсолютно новый и
необычный подход. Люди любят истории, и у Хауэлла получился отличный рассказ.
Тем не менее, в течение последующих десятилетий не все коллеги Хауэлла были в
состоянии так же тонко чувствовать исторический процесс.
Радиоуглеродная
датировка
Метод радиоуглеродной датировки разработал специалист по физической химии
из Чикагского университета Уиллард Ф. Либби в 1950 году. Палеоантропологи
впервые получили возможность не просто оценивать хронологическую очередность
останков, но и определять их возраст с точностью до веков. Как и большинство
более поздних способов «абсолютной» датировки, радиоуглеродный метод основы-
вался на феномене радиоактивности — явлении, при котором определенные неста-
бильные атомы самопроизвольно распадаются с постоянной и измеримой скоростью.
Эта скорость называется периодом полураспада определенного элемента и рассчи-
тывается как период времени, в течение которого распадается половина атомов,
содержащихся в любом образце. Радиоуглеродный анализ базируется на распаде
изотопа 14С, нестабильной формы углерода, которая в течение жизни любого ор-
ганизма составляет строго определенную долю от всего содержащегося в нем уг-
лерода. После смерти 14С перестает обновляться и его доля в общем объеме уг-
лерода снижается. Определив объем 14С в образце и его соотношение с общим ко-
личеством углерода, можно определить, сколько времени прошло со смерти орга-
низма .
Радиоактивный углерод имеет достаточно короткий период полураспада — 5730
лет. Соответственно, радиоуглеродную датировку можно применять лишь к образ-
цам не старше 40-50 тысяч лет (то есть относящимся примерно к позднему плей-
стоцену) . Более старые образцы содержат недостаточный для анализа объем С.
Более того, в самом начале использования этого метода для получения точных
данных нужно было уничтожить большой кусок исследуемого материала. Вот почему
сами окаменелые останки никогда не датировались. Вместо этого датировке под-
вергались материалы, найденные вместе с ними. Самым популярным из них был и
до сих пор является древесный уголь. В последние годы появились методы, по-
зволяющие анализировать крошечные образцы материалов, поэтому сегодня более
сложные способы радиоуглеродной датировки применяют и к самим окаменелостям
или, к примеру, к частицам угля, содержащимся в красках из наскальных рисун-
ков . Тем не менее, главным условием до сих пор является наличие в образце ор-
ганического материала, и это условие не всегда легко соблюсти.
Одним из первых мест, в которых был применен метод радиоуглеродной датиров-
ки, стала классическая палеолитическая стоянка Абри Пату. Эта пещера, распо-
ложенная неподалеку от городка Лез-Эзи в Западной Франции, находится в самом
центре региона, в котором сконцентрировано невероятное количество стоянок
эпохи палеолита, равного ему нет во всем мире. Толстый слой осадочных пород в
Абри Пату содержит артефакты и окаменелости, относящиеся почти ко всей первой
половине верхнего палеолита. Вот почему это место оказалось идеальным для
тестирования новой технологии датировки. Ориньякские слои на нижнем уровне
осадочных пород сформировались от 30 до 34 тысяч лет назад, а слои, содержа-
щие образцы культуры солютре и протомадленские артефакты, не старше 22 тысяч
лет (хотя современный анализ дает им несколько больше). В итоге руководитель
раскопок в Абри Пату гарвардский археолог Хэллэм Л. Мовиус предложил общую
хронологию палеолита в Западной Франции, которая затем была доработана его
коллегами. В общих чертах, верхний палеолит на юго-западе Франции начался не-
многим ранее 40 тысяч лет назад, когда в этот регион впервые пришли Homo
sapiens. Примерно 28 тысяч лет назад ориньякская культура уступила место гра-
веттийской, которая еще через 6000 лет была заменена в некоторых регионах
культурой солютре, а в некоторых (в основном на востоке) продержалась дольше.
Культура мадлен, известная своими произведениями искусства, пришла на смену
солютре примерно 18 тысяч лет назад и продержалась еще около 7-8 тысяч лет.
После этого потепление в конце последнего оледенения привело к росту лесов,
которые вытеснили с пастбищ травоядных животных — главную пищу палеолитиче-
ских охотников.
Артефакты типичной для неандертальцев культуры мустье из Западной Франции
не поддавались радиоуглеродному анализу, так как точно определить какие-либо
даты позднее 40 тысяч лет назад практически невозможно. Интересно, что допол-
нительно введенная шательперонская культура, существовавшая в Центральной и
Юго-Западной Франции, а также на севере Испании между 40 и 44 тысячами лет
назад, использовала как мустьерские, так и ориньякские технологии производст-
ва каменных орудий. Кроме того, ей часто, но не вполне обоснованно приписыва-
ют создание декоративных объектов. Однако можно с достаточной степенью уве-
ренности утверждать, что шательперонская культура не является недостающим
биокультурным звеном между мустье и ориньяком. Во-первых, иногда артефакты
явно мустьерского происхождения находят в более поздних слоях отложений, а
во-вторых, в тех редких случаях, когда рядом с шательперонскими находками об-
наруживаются останки людей, они всегда принадлежат неандертальцам.
Человек
умелый
После 1950 года палеоантропологи притихли и присмирели — и тут на сцену вы-
шел Луис Лики, аутсайдер науки, никогда не подчинявшийся канонической власти,
которую выхолощенные интеллектуалы получили благодаря обладанию важными иско-
паемыми материалами и использовали в своих мелочных и недостойных целях (на-
пример, для объяснения эволюционного процесса). Харизматичный, энергичный и
крайне уверенный в себе Лики родился в 1903 году в Кении в семье миссионеров
и изучал археологию и антропологию в Кембридже. Будучи студентом, он интере-
совался древней историей Восточной Африки, но, судя по всему, ленился вникать
в тонкости систематики. После семейного скандала, который помешал ему занять
более или менее уважаемую должность в Британии, Лики стал куратором музея Ко-
риндона в Найроби, будущего Национального музея Кении.
Десятки лет Лики и его новая жена Мэри, тоже археолог, прочесывали Восточ-
ную Африку в поисках останков ранних хюминидов и древних приматов. Бюджет у
пары был невелик, и они часто действовали по наитию, на основании одной лишь
уверенности в том, что предки человека должны были жить в этих местах. В кон-
це концов, они сосредоточили свои усилия на ущелье Олдувай в Северной Тан-
ганьике, неподалеку от знаменитого кратера Нгоронгоро и кенийской границы.
Еще с середины 1930-х годов Лики знал о каменных орудиях, которые в изобилии
находили в стенах ущелья, и мечтал обнаружить останки хюминидов, создавших
эти памятники истинной человечности.
Многие годы напряженные поиски четы Лики оставались бесплодными — им не по-
падалось ничего, кроме случайных зубов или обломков челюстей. В 1959 году
оказалось, что вся кропотливая работа была не напрасной. Геологические отло-
жения были видны на разломе ущелья, как слои на куске торта. Лики разделили
эти слои на четыре зоны — от I до IV, начиная снизу. Исследуя один из участ-
ков в нижнем слое, который Лики многие годы считали стоянкой древних хюмини-
дов, Мэри обнаружила великолепно сохранившийся череп хюминида без нижней че-
люсти. Находка больше всего напоминала останки массивных австралопитеков,
раскопками которых занимался Джон Робинсон в Сварткрансе и которых он упорно
продолжал называть парантропами. При этом череп был еще более массивным, имел
крошечные резцы и клыки и огромные плоские премоляры и моляры, заставившие
Луиса дать находке прозвище «Щелкунчик».
Олдувайские находки были потрясающим и беспрецедентным открытием, которое
наконец-то обеспечило Восточной Африке достойное место на палеоантропологиче-
ской карте. Тем не менее, за радостью от открытия хюминида, создавшего олду-
вайские каменные орудия, скрывалось разочарование. Найденный череп не соот-
ветствовал ожиданиям Лики. Луис глубоко верил в популярную концепцию «челове-
ка-создателя», которая считала умение производить орудия труда базовым крите-
рием человечности. По иронии судьбы он одновременно являлся и одним из немно-
гих палеоантропологов, отрицавших теорию об австралопитеке как предке челове-
ка. Какое-то время Лики активно поддерживал историю вокруг пилтдаунского «эо-
антропа», но быстро сменил свои взгляды на более скептические. Он полагал,
что род Homo уходит своими корнями глубоко в прошлое, и много веков назад на-
ши предки могли существовать параллельно с австралопитеками. Некоторое время
Лири даже развивал теорию о том, что олдувайский австралопитек был убит и
съеден «более совершенной формой человека», создавшей найденные поблизости
каменные орудия, но затем ему пришлось заключить, что их автором был именно
новый гоминид. Ему присвоили собственное родовое и видовое наименование —
Zinjanthropus boisei.
Тем не менее, находка, по отношению к которой Лики испытывал смешанные чув-
ства, стала его пропуском к славе и (по тем временам) богатству. В отличие от
скучных профессоров, рассуждавших об окаменелостях, найденных другими, уве-
ренные в себе, обветренные экзотические герои Луис и Мэри Лики стали первыми
палеоантропологами, добившимися международной известности. Даже Эжен Дюбуа,
по стопам которого они шли, не имел в свое время подобной популярности. Такая
публичность стала возможной во многом благодаря действиям Национального гео-
графического общества, которое ценило сенсационные истории и тут же начало
финансировать исследования в Олдувае. Продолжения не пришлось долго ждать.
Очень скоро в слое I, неподалеку от места обнаружения зинджантропа, были най-
дены кости ноги, а затем чуть ниже в том же слое — остатки кисти руки гомини-
да, большая часть левой ступни, осколки черепной коробки и, наконец, обломок
нижней челюсти с прекрасно сохранившимися зубами. Удивительно, но они были
совершенно не похожи на верхние зубы из черепа зинджантропа — нижние резцы
были гораздо крупнее, клыки куда более плоские, а премоляры и моляры меньше.
Было совершенно очевидно, что челюсть принадлежала другому виду.
Три черепа гоминидов из Олдувайского ущелья. Вверху: слой I, ОГ
5 — зинджантроп, образец, принадлежавший виду Parantropus
boisei. Слева внизу: череп Homo habilis из слоя II, ОГ 24. Спра-
ва снизу: череп из верхней части слоя II, ОГ 9, изначально срав-
нивавшийся с Homo erectus.
Поначалу Лики был очень осторожен в оценках новой находки, но вскоре объя-
вил о том, что обнаружил существо, отличное и от зинджантропа, и от любых юж-
ноафриканских австралопитеков. Это утверждение можно было считать верным лишь
с некоторой натяжкой, так как зубы из новой челюсти во многом напоминали зубы
грацильных австралопитеков из Стеркфонтейна, а единственным существенным мор-
фологическим различием, которое Лики сумел найти, была более закругленная же-
вательная поверхность у премоляров. Однако эти мелочи не помешали ему зая-
вить, что новый олдувайский гоминид не только не был австралопитеком, но и
представлял собой «доселе неизвестного примитивного предка Homo». Естествен-
но, такое предположение совсем не обрадовало южноафриканских коллег Лири,
ведь теперь их грацильные австралопитеки превратились всего лишь в боковую
ветвь эволюции. С другой стороны, после этой находки авторство каменных ору-
дий, найденных в нижних слоях Олдувая, уже не обязательно было приписывать
зинджантропам. Наконец-то у Лики появился достойный кандидат на должность
«человека-создателя».
Две зубные системы гоминидов из Олдувайского ущелья. Слева: часть
челюсти Homo habilis, ОГ 7. Справа: верхняя челюсть Paranthropus
boisei, ОГ 5. Несмотря на то, что эти образцы представляют разные
челюсти, контраст между размерами и пропорциями зубов очевиден.
Орудия, о которых идет речь, были очень простыми. В слое I они представляли
собой всего лишь куски кварцита или мелкоструктурных вулканических пород, ко-
торым придали форму несколькими ударами каменного молота. Иногда основу для
орудия при обработке держали в руке, а иногда клали на другой камень — свое-
образную наковальню. Мэри Лики выбрала эти артефакты предметом своих исследо-
ваний и в итоге выделила несколько вариантов, различающихся по форме и объему
внесенных изменений. Сегодня многие ученые считают, что острые осколки, отще-
плявшиеся от основной заготовки при каждом ударе каменного молота, и были
главными продуктами первобытного производства. Луис быстро научился свежевать
и разделывать антилоп с помощью таких отщепов. Согласно его интерпретации,
камни, которым древние люди придавали искусственную форму, сами по себе явля-
лись побочными продуктами от получения отщепов. Они также могли использовать-
ся в качестве тяжелых орудий.
Еще в 1930-х годах Лики назвал эту примитивную культуру обработки камня ол-
дованской по названию места, где были впервые обнаружены принадлежащие к ней
артефакты. По словам Мэри, олдованская культура впоследствии сменилась «раз-
витой олдованской», примеры которой были найдены в Олдувайском ущелье. Разни-
ца между ними состояла в пропорциях и формах орудий, а также в появлении би-
фасов — камней, оббитых с двух сторон для создания режущей кромки. Последую-
щие исследования поставили под сомнение существование двух разных культур,
однако, наличие технологических изменений стало очевидным после изучения ка-
менных топоров, обнаруженных чуть выше в слое II. Подобные находки делал в
долине Соммы Жак Буше де Перт. С этими орудиями гораздо более сложной формы
был связан достаточно объемный (1067 мл) череп, найденный в 1960 году и из-
вестный под скучным названием ОГ 9 (олдувайский гоминид 9). Луис на удивление
мало говорил об этой находке, но первые комментаторы сравнивали ее с Homo
erectus, даже несмотря на то, что ОГ 9 был не очень похож на тринильского че-
ловека .
Останки мамонтов, обнаруженные в слое I рядом с черепом зинджантропа и дру-
гих хюминидов, были датированы ранним плейстоценом. Это всего лишь означало,
что они очень старые, так как точное время, прошедшее с момента их образова-
ния, было неизвестно. Сам Луис предполагал, что им около 600 000 лет, и, не-
смотря на то что данная цифра была, в общем-то, случайной, многие его коллеги
согласились с этим утверждением. Представьте себе всеобщее изумление, когда в
1961 году Лики и двое геологов из Беркли, Джек Эвернден и Гэрнисс Кертис,
объявили, что установили точный возраст останков — и он составляет 1,75 мил-
лиона лет! Это стало возможным благодаря новому калиево-аргоновому (К/Аг) ме-
тоду датировки вулканического пепла, слои которого чередовались в Олдувайском
ущелье с содержащими окаменелости осадочными породами.
Как и радиоуглеродный анализ, калиево-аргоновая датировка основывается на
распаде нестабильных радиоактивных атомов, но в данном случае измеряется не
остаток изначального изотопа, а объем дочернего продукта в образце. Радиоак-
тивный калий превращается в стабильный инертный газ аргон очень медленно —
период его полураспада составляет 1,3 миллиарда лет, — поэтому этот метод
идеален для старых отложений. Современные варианты калиево-аргоновой датиров-
ки применяются к породам, сформировавшимся 100 000 лет назад или ранее, и
вулканические породы, такие как туф (вулканический пепел) и лава, встречаю-
щиеся в Олдувайском ущелье, прекрасно для нее подходят. Обычно не весь аргон,
обнаруживаемый внутри минерала, возникает там в результате распада кальция,
если только порода не подвергалась влиянию высоких температур, под которым из
нее вышел бы весь газ. Жар вулканов обнуляет радиоактивный аргоновый счетчик,
и поэтому время извержения лавы или оседания пепла, сформировавшего туф, мож-
но определить с достаточной точностью. Осадочные породы с окаменелостями,
располагающиеся выше или ниже датированного слоя, обычно оказываются немного
моложе или соответственно старше его. А если слой осадочных пород окажется
между двумя слоями вулканических, можно будет определить начальный и конечный
срок периода, в течение которого он сформировался. Изначально метод калиево-
аргоновой датировки был разработан (в том же судьбоносном 1950 году) для оп-
ределения возраста старинных месторождений соли, и его ни разу не использова-
ли на окаменелостях древних гоминидов. Вот почему его применение в Олдувае
стало настоящей сенсацией.
В то время я был еще слишком молод, чтобы испытать шок, пережитый всеми па-
леоантропологами после датировки нижнего слоя пород в Олдувайском ущелье. Че-
рез несколько лет, в 1964 году, когда я пришел в науку, мои коллеги все еще
не могли осознать невероятную древность первых человеческих останков. Ожидае-
мой реакцией многих экспертов стало заявление о том, что новая датировка
(кстати говоря, определенная как среднее значение нескольких разных дат, по-
лученных независимо друг1 от друга) значительно расширяет временные границы
плейстоцена. Среди тех, кто сомневался в ее правильности, был Ральф фон Ке-
нигсвальд, которому удалось привлечь на свою сторону ни много, ни мало того
самого немецкого геохимика, который впервые применил метод калиево-аргоновой
датировки 10 лет назад. Тем не менее, научное сообщество быстро приняло полу-
ченные Лири результаты, а инструменты калиево-аргоновой датировки навсегда
вошли в арсенал палеоантропологов.
Однако сюрпризы Олдувайского ущелья на этом не закончились. Вскоре выясни-
лось , что найденные в нем кости стопы принадлежали двуногому существу, а вот
с останками кисти руки (не все из которых, кстати говоря, оказались костями
гоминидов) все было не так ясно. Затем во время полевых работ в 1963 году в
средней части слоя II был обнаружен частично сохранившийся свод черепа, верх-
няя и нижняя челюсть, а в месте предыдущих раскопок — фрагмент черепа с боль-
шинством зубов. Чета Лики заключила, что эти останки принадлежали тому же ви-
ду гоминидов, существовавшему до зинджантропов, который они ранее обнаружили
в нижней части слоя I. Чего они так и не смогли найти в Олдувае, так это ниж-
ней челюсти, которая подошла бы к черепу зинджантропа.
В 1964 году кандидат на это место был откопан почти в 50 милях от Олдувая в
немного более поздних отложениях (сегодня относимых к 1,4 миллиона лет назад)
у озера Натрон. Высота вертикальной части челюсти указывала на гораздо более
мелкие черты лица, чем у зинджантропов. Однако в ней присутствовали все ти-
пичные характеристики зубной системы: мелкие резцы и клыки и массивные моля-
ры. К этому моменту Лики уже считали своего зинджантропа подродом (довольно
бессмысленной категорией) австралопитека.
Итак, к концу сезона раскопок 1964 года стало очевидно, что, как и ранее в
южноафриканских пещерах, в слое I и нижней части слоя II в Олдуваиском ущелье
были найдены останки двух разных видов гоминидов (которые, как нам сегодня
известно, проживали в этой местности 1,6-1,8 миллиона лет назад). Еще выше в
слое II (примерно на уровне 1,2 миллиона лет назад) были обнаружены останки
еще одного вида гоминидов, который можно было сравнить по объему мозга с Homo
erectus из Восточной Азии. До этого момента Лики весьма осторожно высказывал
свои догадки относительно предшественников зинджантропа, но весной 1964 года
он вместе с английским анатомом и приматологом Джоном Непером и палеоантропо-
логом из ЮАР Филипом Тобиасом предположил, что гоминиды более легкого строе-
ния, останки которых были обнаружены в Олдувае, принадлежали очень древнему
виду из рода Homo. Так как именно этот вид, по мнению исследователей, создал
олдувайские каменные орудия, его назвали Homo habilis — «человек умелый».
Почти наверняка именно присутствие культуры обработки камня позволило Лики,
Неперу и Тобиасу отнести свои находки к роду Homo в полном соответствии с
концепцией «человека-творца».
Как мы уже видели, зубы в нижней челюсти Homo habilis были гораздо больше
похожи на зубы южноафриканского грацильного австралопитека, чем любого вида
из рода Homo. Другие морфологические характеристики тоже не вполне обосновы-
вали выбор родового имени — все, кроме одной. За год до этого Тобиас провел
исследование размеров мозга у найденных в ЮАР австралопитеков и пришел к вы-
воду, что средний объем составлял чуть более 500 миллилитров. После того как
фрагменты черепа из нижнего уровня слоя I в Олдувае были собраны воедино, Ли-
ки увидел немногим больший мозг, но для него эта разница показалась сущест-
венной. По его предварительным оценкам, размер мозга Homo habilis составлял
680 миллилитров, и хотя последующий анализ слегка уменьшил эту цифру, она все
равно значительно превышала 500 миллилитров. Тем не менее, немного увеличен-
ный мозг, не достигающий даже половины объема мозга современного человека,
вряд ли мог считаться достаточным основанием для расширения рода Homo во вре-
мени и морфологии, которое предполагало введение Homo habilis. Сложно пред-
ставить себе другой род млекопитающих, представители которого настолько раз-
личались бы по размеру головного мозга. Да и его стремительный рост в подоб-
ных пропорциях — крайне редкое явление.
Чтобы избавить палеоантропологическое сообщество от сомнений в реальности
Homo habilis, потребовалась еще одна находка в Восточной Африке. Когда приня-
тие нового вида, наконец, произошло, оно имело огромные последствия для буду-
щего . С точки зрения таксономии гоминиды из Южной и Восточной Африки пред-
ставляли собой два абсолютно независимых явления. Для одного региона были ха-
рактерны грацильные австралопитеки, а для другого — ранние Homo. Несмотря на
то, что это абсолютное деление длилось недолго, оно породило образ мыслей,
который до сих пор существует в палеонтологии.
Тем временем Мэри Лики продолжала археологическую работу в Олдувае, и Homo
habilis постепенно обретал человеческое лицо. «Неровный круг из сложенных
друг на друга камней», найденный на нижнем уровне слоя I, был истолкован как
защита от ветра — первое в мире убежище, построенное человеческими руками.
Несмотря на все примитивные черты, человек умелый жил в домах! Впоследствии
выяснилось, что камни из круга были отброшены в сторону разросшимися корнями
дерева, но на тот момент высокий культурный уровень, который подтверждало на-
личие построек, рассматривался как еще один аргумент в пользу того, что ран-
ние Homo жили в саваннах Восточной Африки очень долгое время назад. В июне
1964 года произошло еще одно знаковое событие — Тобиас и Кенигсвальд встрети-
лись в Кембридже, чтобы сравнить новый олдувайский материал со старой и все
еще слабо датированной коллекцией останков Homo erectus, найденных на Яве до
войны. Это был один из тех редких случаев, когда оригинальные останки гомини-
дов с разных континентов можно было увидеть рядом.
Homo habilis (слева) и Homo erectus (реконструкция).
Тобиас и Кенигсвальд представляли два разных поколения и разные отрасли за-
нятий, но они, как когда-то Маккоу и Кит, все же сумели прийти к общему выво-
ду, пускай и довольно неясному. Они предположили, что эволюция человека пред-
ставляла собой последовательность событий, проявившихся в равной степени и в
Африке, и в Азии. Первый этап этой последовательности воплощали собой гра-
цильные австралопитеки Южной и Восточной Африки (азиатские проявления этого
этапа были неизвестны). Уже на этом этапе возникли некоторые недоразумения,
например, было непонятно, кого именно авторы имеют в виду под австралопитеком
и, в частности, под его восточно-африканской разновидностью. Тобиас и Кениг-
свальд выражали сомнение в наличии «неоспоримых доказательств, подтверждающих
существование в Азии уровня организации хюминидов, равного уровню австралопи-
теков». Второй этап был уже более межконтинентальным. От Восточной Африки его
представлял Homo habilis из слоя I в Олдувайском ущелье, от Южной — телантроп
из Сварткранса, а от Явы — пара челюстей, которые Вайденрайх идентифицировал
как останки вида Megatithropus palaeojavanicus. В третий этап входила часть
останков Homo habilis из слоя II Олдувайского ущелья, а также все материалы
Кенигсвальда по яванским питекантропам, не включенные в предыдущие этапы.
Четвертый этап, который авторы сознательно отказались обсуждать, включал в
себя ОГ 9 из Восточной Африки, первого тринильского гоминида Дюбуа, а также
«пекинского человека». Кроме того, в него входил атлантроп — род, введенный в
1950 году французским палеоантропологом Камилем Арамбуром и представленный
тремя ископаемыми челюстями, обнаруженными в алжирском Тигенифе.
Этот пример ярко иллюстрирует конфликт, существовавший на международной
арене между старыми и новыми представлениями. Влияние Майра на англоязычных
палеоантропологов было стремительным и всеохватывающим, но для того, чтобы
его идеи распространились по миру, потребовалось время. Только к началу 1970-
х годов синтетическая теория завоевала умы континентальной Европы. Спор между
молодым англоязычным Филипом Тобиасом и немецким традиционалистом Кенигсваль-
дом отражал новый взгляд на эволюционный процесс. Однако широкое использова-
ние в их работе родовых и видовых наименований, а также неспособность объяс-
нить , к каким именно окаменелостям они относятся, демонстрировали типичное
для довоенной эпохи желание Кенигсвальда давать всему новые имена без учета
последствий для систематики. На мой взгляд, оба ученых должны были остаться
недовольными результатом своей совместной работы, хотя мне не доводилось слы-
шать , чтобы хоть один из них в этом признался. Я также уверен, что туманные
рассуждения Тобиаса и Кенигсвальда в своей совместной работе отражали их об-
щую растерянность перед лицом материалов, с которыми им пришлось иметь дело.
Сравнивая популяции двух континентов, они делали лишь первые шаги в новом на-
правлении. Кроме того, чтобы делать хоть какие-то определенные заключения, им
недоставало контекста.
ГЛАВА 5
Эволюционные
усовершенствования
Я поступил в Кембридж всего через пару месяцев после того, как его покинули
Тобиас и Кенигсвальд, и был в полном неведении относительно того, что именно
произошло в лаборатории, которую я регулярно посещал. Мой интерес к антропо-
логии зародился в детстве. В тот момент, когда Луис и Мэри Лики открыли сво-
его зинджантропа, я учился в Найроби, и мой пансион стоял на той же улице,
что и их дом. Но, несмотря на то, что я часто встречался с культурными антро-
пологами в колледже Макерере в Уганде, где работал мой отец, я оставался в
счастливом неведении относительно биологического аспекта этой науки до тех
пор, пока не приехал в Кембридж. Как только я узнал о существовании биологи-
ческой антропологии, я тут же понял, что именно ей и хочу заниматься. Мой ин-
терес разгорелся еще сильнее после того, как в начале моего второго учебного
года в Кембридже начал преподавать Дэвид Пилбим — бывший выпускник, получив-
ший докторскую степень в Йельском университете и работавший с Элвином Саймон-
сом , восходящей звездой палеонтологии приматов. Благодаря странному стечению
обстоятельств сам Саймоне учился в Оксфорде вместе с Уилфридом Ле Грос Клар-
ком, человеком, реабилитировавшим австралопитеков. Присутствие в числе препо-
давателей Пилбима, воплощавшего собой «новую волну» в палеоантропологии, од-
новременно и пугало нас, и вдохновляло. Он имел огромное влияние и на меня, и
на всю науку.
В то время и Пилбим, и Саймоне больше интересовались останками ископаемых
обезьян, чем людей, но в 1965 году они провели совместный анализ палеонтоло-
гической летописи ранних предков человека. Эта работа прекрасно отражала но-
вый взгляд на эволюционный процесс и резко отличалась от рассуждений Лики с
его авторитарным подходом. «Возможно, — писали они, — мы все время смотрели
не в тот конец телескопа, оглядываясь на свое прошлое из настоящего. . . Не
нужно спрашивать, чем австралопитек похож на Homo. Вопрос должен быть совер-
шенно противоположным». В своем длинном и подробном описании раннего этапа
палеонтологической летописи человечества Пилбим и Саймоне раскрыли все вопро-
сы, затронутые Майром. В частности, вслед за ним они настаивали, что среди
факторов интерпретации необходимо учитывать экологию и поведение. Как я понял
гораздо позже, это утверждение было ошибочным, ведь перед тем, как понять,
какую пьесу перед тобой разыгрывает эволюция, необходимо сначала увидеть ак-
теров, то есть виды. Тем не менее, с исторической точки зрения это была про-
рывная статья, установившая приоритеты для молодого поколения палеоантрополо-
гов. К недовольству Лики, Пилбим и Саймоне впервые начали рассматривать Homo
habilis и южноафриканских австралопитеков в глобальном контексте и в свете
нового эволюционного синтеза.
На тот момент материалы из Южной Африки еще не были точно датированы, в от-
личие от окаменелостей из нижних уровней Олдувайского ущелья. Из-за этих не-
точностей Пилбим и Саймоне полагали, что Homo habilis из слоев I и II разде-
ляет почти миллион лет. Этот предположительный (и, как оказалось позднее,
сильно преувеличенный) промежуток времени позволил им провести существенные
различия между слоями. Соответственно, материалы из слоя I начали ассоцииро-
ваться с южноафриканским Australopithecus africanus, а окаменелости из слоя
II — с телантропом, останки которого были найдены Джоном Робинсоном в Свартк-
рансе. Тем не менее, действия совершенно в духе Майра выявили явные сходные
черты между двумя слоями, что позволило заявить о единой последовательности
развития гоминидов в Восточной и Южной Африке. Пилбим и Саймоне утверждали,
что, раз место Homo habilis в роду Homo было четко определено, из этого можно
было заключить, что восточные и южные формы, которые в соответствии с прави-
лами систематики следовало бы назвать Homo africanus, постепенно развились в
Homo erectus, а те, в свою очередь, дали жизнь Homo sapiens. Процесс проходил
еще несколько промежуточных стадий, которые Пилбим и Саймоне не стали описы-
вать . Несмотря на то, что массивные австралопитеки имели небольшие резцы и
клыки, а значит, разделывали свою добычу с помощью орудий труда, они были вы-
делены в отдельную параллельную линию развития. Пилбиму и Саймонсу, по сути,
удалось уложить все новые окаменелости, найденные за последние 10 лет, в из-
начальную схему Майра. Грацильные австралопитеки и ранние Homo больше не счи-
тались параллельными ветвями эволюции, как бы того ни хотелось Лики.
Эта жесткая линейная схема человеческой эволюции прекрасно дополнила бле-
стящую атаку, которая была проведена за год до этого в отношении всех тех ан-
тропологов, которые исключали неандертальцев из числа предков современного
человека. Командовал наступлением палеоантрополог Чарльз Лоринг Брейс. По его
мнению, эволюция человечества представляла собой последовательный и неизбеж-
ный путь от австралопитека через питекантропов и неандертальцев к Homo
sapiens. Всех, кто думал иначе, Брейс клеймил антиэволюционистами. Он основы-
вал свои рассуждения на двух доминирующих тенденциях человеческой эволюции.
Одной из них было постепенное увеличение размеров мозга, которое прекрасно
совпадало с его теорией, особенно если не присматриваться к измерениям слиш-
ком внимательно. Два миллиона лет назад мозг гоминидов был немногим больше
мозга современного шимпанзе. Миллион лет назад он имел вдвое большие размеры,
а к сегодняшнему дню увеличился еще в два раза. Второй тенденцией, которую
отмечал Брейс, было прогрессирующее уменьшение лиц у гоминидов и, в частно-
сти, размеров их зубов. Он объяснял это постоянным улучшением качества камен-
ных орудий, лишавших зубы многих прежних функций. Несмотря на то, что резкий
тон Брейса многим не понравился, его теория быстро набрала популярность, и в
антропологических лабораториях по всей Америке начали доставать с забытых
книжных полок запыленные распечатки лекции Алеша Грдлички, прочитанной в Ко-
ролевском антропологическом институте. Гипотеза «единого вида» снова была жи-
ва.
Пилбим и Саймоне не собирались останавливаться на простом расположении ма-
териалов в линейном порядке. Перед ними стояла куда более комплексная задача
— описать процесс человеческой эволюции с учетом всех элементов, которые Майр
считал важными. Они начали свои исследования с уменьшения человеческих клы-
ков. К 1964 году было уже очевидно, что это уменьшение, как предсказывал еще
Дарвин, произошло на очень раннем этапе человеческой истории. Мелкие клыки не
просто были отличительной чертой, объединявшей всех гоминидов, но и имели ог-
ромное влияние на различные аспекты их поведения. Длинные режущие верхние
клыки у приматов при закрытии рта располагаются позади нижних клыков, но пе-
ред первыми премолярами. Таким образом, задний край верхних клыков постоянно
обтачивается о премоляры и заостряется. Открыв рот и продемонстрировав острые
клыки, примат показывает, что обладает мощным оружием на случай нападения со-
племенника или атаки хищника (ходят слухи, что в столкновениях шимпанзе с ле-
опардами победа иногда остается на стороне приматов). Пилбим и Саймоне заме-
тили, что обезьяны могут использовать свои крупные клыки для таких сложных
пищевых операций, как снятие коры с веток, «разжевывание и разрывание расте-
ний» . Итак, у больших клыков есть свои плюсы. Но есть и некоторые минусы. На-
пример, когда у примата закрыт или почти закрыт рот, его челюсти оказываются
сцепленными друг с другом. Нижняя челюсть не может двигаться из стороны в
сторону, что необходимо при пережевывании твердой пищи, составлявшей опреде-
ленную часть рациона ранних гоминидов. Из-за крупных клыков они в основном
могли лишь кусать.
Учитывая внимание, которое Пилбим и Саймоне уделяли в своей работе экологии
и поведению, вопрос функциональности зубной системы был поднят в ней доста-
точно рано. Авторы отметили, что приматы с короткими клыками и резцами были
ограничены в возможности обрабатывать растительную пищу и, вероятно, начали
использовать режущие орудия в качестве компенсации. Соответственно, если сле-
довать их рассуждениям, все гоминиды с укороченными клыками пользовались ору-
диями. Это, в свою очередь, означало, что они обладали одним из главных чело-
веческих свойств. Даже Луису Лики пришлось с этим согласиться. Кроме того,
когда гоминиды спустились с деревьев на землю, их передние конечности оказа-
лись освобождены от моторно-двигательных функций, что повысило их склонность
к использованию орудий.
Однако, несмотря на то, что эти рассуждения некоторым образом подтвердили
права австралопитеков на место в ряду предков человека, они имели другую
цель. Длинная цепочка доводов была призвана закрепить статус гоминида за куда
более ранним приматом — Ramapithecus brevirostris. Единственным, что осталось
от рамапитека, была половина твердого неба, найденная еще до Второй мировой
войны в горах Сивалик в Индии, где когда-то вел раскопки Хью Фальконер. В
1961 году образ рамапитека был реконструирован Саймонсом и оказался весьма
человеческим. У него были мелкие резцы и клыки, верхние зубы образовывали ар-
ку, как у современных людей, жевательные зубы были широкими, а лицо — доста-
точно плоским. Последний факт особенно заинтересовал Пилбима и Саймонса, так
как они чувствовали корреляцию между ним и прямохождением. Более или менее
круглую голову легче удерживать на вертикальном позвоночнике. Прямохождение,
в свою очередь, ассоциировалось с передвижением на двух ногах, а руки освобо-
ждались для использования орудий. Итак, учитывая, что «все те виды, которые
обладают эволюционными тенденциями, направленными на развитие современных
Homo, вне зависимости от времени возникновения этих тенденций, могут быть от-
несены к семейству Hominidae», рамапитек не мох1 быть ничем другим, кроме го-
минида.
Влиятельный палеоантолог Джордж Гейлорд Симпсон уже высказывал мнение о
том, что происхождение некоторых «высших таксонов» (то есть групп более высо-
кого уровня, чем род) , к которым относятся и хюминиды, можно объяснить суще-
ственными изменениями в «зоне адаптации». Сложная конструкция, описанная Пил-
бимом и Саймонсом, как раз указывала на то, что рождению хюминидов предшест-
вовали крупные адаптационные изменения. Самым удивительным было то, что, со-
гласно расчетам того времени, рамапитек жил 12 миллионов лет назад! Корни се-
мейства хюминидов уходили очень глубоко, еще в эпоху миоцена.
Итак, история получалась весьма убедительной, и я был ей очень впечатлен,
когда в 1967 хюду отправился в Иельский университет, чтобы продолжить учебу
под руководством Саймонса. Еще через год Пилбим тоже вернулся в Йель. Вскоре
после поступления я прошел курс обучения у великого эколога Дж. Эвелина Хат-
чинсона. Во время занятий мы исследовали окаменелые останки ископаемых живот-
ных, найденных рядом с рамапитеком. Я обнаружил, что все эти животные явля-
лись типичными лесными обитателями, а значит, рамапитек должен был в основном
жить на деревьях. Дальше моя курсовая работа, посвященная данному вопросу, не
зашла. Однако все вокруг меня так твердо верили в тесную связь между морфоло-
гией, экологией и поведением, что ее опубликованная версия в итоге звучала
как хвалебная песня эволюции прямохождения и использованию орудий в условиях
леса.
Разумеется, Луис Лики был в ужасе — не столько от радикальных предположе-
ний, опубликованных в статье, сколько от гораздо более очевидной идеи (кото-
рую он и сам использовал, когда ему это было нужно) о том, что останки живот-
ных, обнаруженные рядом с окаменелыми костями хюминидов, могут указывать на
среду, в которой такие хюминиды жили. Кроме того, у него имелся собственный
кандидат на роль самого раннего гоминида — Kenyapithecus wickeri, вид, от ко-
торого осталась лишь одна верхняя челюсть, найденная в Кении и датированная
14 миллионами лет назад. Больше всего его злило то, что у Пилбима и Саймонса
хватило смелости заявить, будто его драгоценный кениапитек ничем не отличался
от их рамапитека. Более того, если бы их предположения оказались верны, то у
индийской окаменелости имелось бы преимущество. Как бы там ни было, и вне за-
висимости от того, являлись ли кениапитек и рамапитек действительно предста-
вителями одного и того же вида, сходство между находками из Кении и Индии на-
всегда утвердило ученых во мнении, что последний общий предок человека и
обезьян жил более 14 миллионов лет назад. Итак, стало очевидно, что семейство
гоминидов действительно имеет очень долгую историю.
Более того (в особенности после обнаружения некоторых фрагментарных окаме-
нелых останков в Европе и Китае), наличие этих сходных характеристик указыва-
ло на то, что эволюция человека была повсеместным и постепенным явлением —
именно таким, каким ее описали Пилбим и Саймоне, а до них — Вайденрайх. В ре-
зультате к середине 1960-х годов большая часть ученого сообщества верила ело-
вам Пилбима и Саймонса о том, что «переход к образу жизни гоминидов произошел
к позднему миоцену и наши наиболее ранние возможные предки... вполне вероят-
но, выбрали образ жизни, радикально отличавшийся от образа жизни своих пред-
шественников-обезьян» .
Именно такому представлению о человеческой эволюции меня учили, когда я был
юн и впечатлителен. История человечества уходила своими корнями в глубокое
прошлое, и на всем ее протяжении человек осуществлял строго определенные дей-
ствия, например с древнейших времен производил орудия (которые, кстати, так и
не нашли) . Как и прочие мои коллеги, я был совершенно очарован элегантной
простотой синтетической теории и прогрессивным взглядом на эволюцию человека.
Все люди любят истории, а та, которую рассказывала синтетическая теория, была
просто прекрасной. Можно ли представить себе более высокую драму, чем этот
рассказ о группе отважных созданий, идущих по своему пути наперекор всем эко-
логическим препятствиям и постепенно движущихся от низкого примитивного ста-
туса к вершинам развития? Как говорит историк науки Мисиа Ландау, эта история
человеческой эволюции действительно содержит некоторые нарративные элементы,
характерные для самых древних в мире сказок. Кроме того, по крайней мере, в
принципе такой сценарий также вписывается в более широкие научные объяснения.
Почти каждый эволюционный феномен можно охарактеризовать как результат посте-
пенного изменения частотности генов под влиянием естественного отбора.
Но какой бы элегантной ни была синтетическая теория, она не говорила ничего
о том, каким образом ученые должны практически подходить к изучению индивиду-
альных историй эволюции. Новый синтез представлял собой общее описание разви-
тия различных эволюционных линий, а не четкую процедуру, необходимую многим
начинающим палеонтологам. В результате, хоть теоретически аспирантура должна
была подготовить меня к практической работе, на практике я не понимал, в чем
эта работа будет состоять. И это несмотря на то, что я находился в привилеги-
рованном положении, ведь моим руководителем был блестящий Элвин Саймоне, ве-
ликолепный преподаватель, знающий, когда нужно отойти в сторону и позволить
своим студентам довериться интуиции. Кроме того, он был очень продуктивным
ученым. Казалось, что Саймоне публиковал статью за статьей с описаниями и
объяснениями своих находок в самых популярных журналах, не имея никакой сис-
темы и не прикладывая ни малейших усилий. Тем не менее, такому наивному юнцу,
каким был я, было совершенно непонятно, как мой учитель провернул свой по-
следний трюк. Я подозреваю, что, даже если бы я набрался смелости спросить у
него напрямую, каким образом он пришел к опубликованным выводам, он не смог
бы мне объяснить. Саймоне просто сделал это — и сделал очень хорошо.
Сегодня, оглядываясь назад, несложно понять, почему палеоантропологам было
так сложно разработать единую процедуру анализа. Готового рецепта попросту не
могло существовать. К началу 1960-х палеоантропологи уже имели системное
представление об эволюции, знали, как расположить все обнаруженные окаменелые
останки в рамках ее структуры, а также понимали механизмы эволюционных изме-
нений. Однако, когда дело доходило до анализа самих окаменелостей, в частно-
сти до выявления их сходных черт и взаимоотношений между останками, все сво-
дилось к интуиции и экспертному мнению. А таким вещам, как интуиция, невоз-
можно научить.
Позже мне неоднократно приходилось видеть, как установки, насажденные про-
фессорами, навсегда определяли видение мира их студентами, и я очень благода-
рен Саймонсу за его ненавязчивый подход. Тем не менее, в мою бытность студен-
том он не очень-то помогал. Большую часть времени я проводил в своем «офисе»
в подвале Музея естественной истории Пибоди, с недоумением наблюдая за посе-
тителями, которые проводили целые дни над окаменелостями, хранившимися в му-
зейных шкафах. Я понятия не имел, что они делали и зачем постоянно вели запи-
си. Каким образом они расшифровывали сообщения, закодированные в окаменело-
стях? Очень долгое время мне не хватало смелости (или наглости), чтобы спро-
сить , а когда я, наконец, решился, то остался разочарован. «Просто смотри на
окаменелости достаточно долго, и они заговорят с тобой» — вот что мне сказа-
ли . Лично со мной ни разу не заговаривала ни одна кость, как бы долго я в нее
ни всматривался. Поэтому больше я не спрашивал. Наша проблема состояла в том,
что, несмотря на развитие эволюционной теории, эпоха научных авторитетов еще
не закончилась. Единственное отличие от прошлого состояло в том, что, по
крайней мере, в палеоантропологии эти научные авторитеты поддерживали теорию
синтеза.
Возможно, моим лучшим решением в тот момент был выбор полуископаемых (не-
давно вымерших) мадагаскарских лемуров в качестве темы для своей диссертации.
Как я уже писал ранее, лемуры — это уникальная группа относительно примитив-
ных приматов, которая, существуя в изоляции на острове, породила огромное ко-
личество различных видов. В отсутствие конкуренции со стороны обезьян или
других групп приматов, и благодаря наличию огромного количества экологических
возможностей, лемуры за последние 50 миллионов лет опробовали все виды дея-
тельности, доступные приматам, — освоили все способы передвижения по деревь-
ям, использовали все ресурсы леса и расширили диапазон форм социальной орга-
низации. Результатом стало бесконечное разнообразие видов, разделенных на
пять семейств и варьирующихся от мышиных лемуров весом две унции до недавно
исчезнувших представителей вида Archaeoindris, не уступавших в размерах го-
рилле . Разнообразие лемуров настолько велико, что его первым делом замечает
даже самый невнимательный наблюдатель.
Но, что еще более важно, несмотря на то, что в лемурах видовое разнообразие
проявляется наиболее заметно, само по себе оно не считается чем-то необычным.
Когда я начал искать другие примеры в животном царстве для сравнения с лему-
рами, то быстро понял, что многообразие видов — это скорее норма для групп,
имеющих широкое распространение, например таких, как гоминиды. Линейная мо-
дель человеческой эволюции, которой придерживались мои руководители, и кото-
рую Майр считал необходимым обосновывать с помощью специальных рассуждений,
выглядела на этом фоне исключением из правила. Для представителя вида, зани-
мающего доминирующее положение в современном мире, достаточно естественно пы-
таться реконструировать свою историю путем простой экстраполяции в прошлое.
Но, как мы увидим далее, это стало возможным в результате череды достаточно
необычных обстоятельств.
Молекулы
Мне потребовалось некоторое время, чтобы осознать, как данные рассуждения
соотносятся с палеоантропологией. Более того, к этому моменту я уже с головой
ушел в свою работу о лемурах. Тем временем система эволюционных взглядов, ко-
торую мне преподавали в университете, столкнулась с трудностями. В основном
они объяснялись введением в палеоантропологию так называемой молекулярной
систематики. В начале 1960-х годов молекулярный генетик Моррис Гудмен из Уни-
верситета Уэйна начал сравнивать виды приматов, используя не анатомические
характеристики, которыми оперировали палеоантропологи, а молекулярные крите-
рии. Сначала Гудмен вернул к жизни технологию, которую применял английский
бактериолог Джордж Наттел еще в начале XX века. Наттел брал виды животных по-
парно и сравнивал силу перекрестных реакций белков их крови, предполагая, что
родственные виды будут иметь более выраженные иммунологические реакции. Он
провел испытания на большом количестве животных и выяснил, что между челове-
ком и высшими приматами действительно существовала более сильная «кровная
связь», чем между каждым из них и другими обезьянами Старого Света.
Способ был интересным, но результат вряд ли кого-то удивил, поэтому работы
Наттела оказались забыты почти на полвека, до появления Гудмена, располагав-
шего более развитыми технологиями. На сей раз результаты оказались менее ожи-
даемыми. Согласно традиционной классификации все люди относились к единому
семейству гоминидов, а высшие приматы — к семейству понгидов (Pongidae, от
Pongo — «орангутанг» — первого зоологического наименования, присвоенного выс-
шему примату). Однако Гудмен выяснил, что люди и африканские приматы — горил-
лы и шимпанзе — были гораздо более похожи друг на друга, чем любой из них —
на азиатского орангутанга. Это сходство заставило Гудмена отнести людей и аф-
риканских высших приматов к семейству гоминидов и оставить в семействе понги-
дов только орангутангов.
Идея о том, что среди обезьян у людей имеются более близкие и более дальние
родственники, оказалась настоящей бомбой. В конце концов, если все другие
представители нашего семейства были обезьянами, то и мы ничем от них не отли-
чались . Но Гудмен на этом не остановился. За его первоначальными испытаниями
последовала серия новых. Он исследовал различные белки крови с использованием
электрофореза — технологии, сортирующей молекулы по размеру и весу. Эти тесты
также показали сходство между людьми и африканскими обезьянами, вот только в
одних случаях шимпанзе оказывались ближе к людям, а в других сходные молекулы
имелись у горилл. Как и следовало ожидать, первой реакцией традиционных так-
сономистов было полное отрицание результатов, полученных Гудменом. Да и сам
он беспокоился, что его молекулярные исследования не соответствуют общеприня-
той морфологической классификации. Будучи морфологом, я вынужден со стыдом
признать, что все эти несоответствия, в конце концов, оказались не следствием
ошибок Гудмена, а неправильным и неполным толкованием морфологических данных.
Вот двух биохимиков из Беркли, Винсента Сарича и Алана Уилсона, куда меньше
волновало несовпадение молекулярных результатов с общепринятыми представле-
ниями. В 1966 и 1967 годах они опубликовали работы, посвященные количествен-
ной технике сравнения белков крови альбуминов у различных видов приматов. По-
лученные данные позволили им создать генеалогическое древо исследованных ви-
дов, которое по большей части соответствовало результатам Гудмена. Но Сарич и
Уилсон пошли еще дальше. Они выяснили, что молекула альбумина изменяется с
постоянной скоростью. Использовав для калибровки одну общепризнанную датиров-
ку (30 миллионов лет назад, срок разделения между людьми и обезьянами Старого
Света), они рассчитали, что последний предок человека и шимпанзе жил всего 5
миллионов лет назад! Позже Сарич и Уилсон немного уточнили этот срок, но из-
менения были незначительными. В 1971 году Сарич, не задумываясь о нежных чув-
ствах палеонтологов, писал: «...Теперь никакие окаменелые останки, датирован-
ные более чем восемью миллионами лет назад, не могут быть названы останками
гоминидов, как бы они ни выглядели».
Для рамапитека все это выглядело довольно скверно. Более того, и у некото-
рых палеонтологов уже начали зарождаться сомнения. Чем больше материалов об-
наруживалось в Африке и Азии, тем сильнее эти палеонтологи укреплялись в по-
дозрениях. Характеристики, связывавшие рамапитека с гоминидами, опровергались
одна за другой, до тех пор, пока единственной общей чертой между рамапитеком,
австралопитеком и Homo не осталась толстая эмаль на молярах. Да и та, как вы-
яснилось , присутствовала еще и у индийского родственника орангутангов времен
миоцена — сивапитека. Последний удар в спину первых гоминидов был нанесен в
1980 году, когда английский палеонтолог Питер Эндрюс и его турецкий коллега
Ибрагим Теккайя формально отнесли рамапитека к роду Sivapithecus. Как показа-
ли новые находки из Турции, последний обладал лицом, очень похожим на лицо
орангутанга. Ученые заключили, что раз сивапитек был обезьяной, то ей можно
назвать и рамапитека. Более того, к тому моменту уже и сам Пилбим соглашался
с этим утверждением. В 1976 году организованная им экспедиция в Пакистан об-
наружила челюсть рамапитека, имевшую подозрительно обезьяний изгиб. Во время
сезона раскопок в 1979-1980 годах та же экспедиция нашла прекрасно сохранив-
шееся лицо сивапитека, еще больше похожее на орангутанга, чем аналогичная ту-
рецкая находка. После этого Пилбим утвердился в своем мнении. Он резко и сме-
ло заявил о том, что ошибался, называя рамапитека хюминидом, и заслужил все-
общее восхищение за свою интеллектуальную честность и широту взглядов. Это
был беспрецедентный случай для науки, чьи представители редко меняли свое
мнение даже перед лицом убедительных доказательств.
После того как было доказано, что человек является одним из представителей
группы высших африканских приматов, не мох1 не возникнуть вопрос: какими же
свойствами должно обладать живое существо, чтобы принадлежать к семейству го-
мини дов? Следуя рассуждениям Гудмена, к нему нужно было отнести горилл и шим-
панзе (а если верить некоторым наиболее ярым его последователям, их даже мож-
но было включить в род Homo). Однако сделать это можно было, только полностью
игнорируя тот факт, что деятельность людей полностью отличалась от консерва-
тивного образа жизни обезьян вне зависимости от того, жили ли они в Африке
или Азии. Правила традиционной таксономии не предназначены для решения подоб-
ных задач. В идеале каждая группа, с которой вы имеете дело, должна быть мо-
нофилетической, то есть происходить от одного общего предка. При этом в так-
сономии отсутствуют процедуры, позволяющие быстро определить, к какому уровню
классификационной иерархии относятся такие группы. Одним из выходов было бы
создание подсемейств Homininae, к которым относились бы австралопитеки и
Homo, Ponginae для орангутангов и Paninae для шимпанзе и горилл. Но, несмотря
на расположение на одном уровне иерархии, эти три подсемейства имели бы не-
равный статус, так как два из них имели бы куда более близкие родственные
связи друг с другом, чем с третьим подсемейством. Разумеется, можно было бы
разбить их на более мелкие группы, но тогда все становится еще более запутан-
ным. Сегодня большинство палеоантропологов относят австралопитеков и совре-
менных людей к подсемейству гомининов, оставляя все заботы по классификации
обезьян приматологам.
Лично мне кажется, что в данном случае мы можем применить «восходящий» под-
ход и признать, что семейство, которое мы сегодня называем гоминидами, на са-
мом деле имеет огромное видовое разнообразие. Даже самые консервативные па-
леоантропологи сегодня признают существование пары десятков вымерших видов
человека. Учитывая такое разнообразие, группа, включающая в себя человека и
всех его вымерших родственников, живших после их общего предка, заслуживает
признания на уровне семейства. Я выбираю термин «гоминиды» для обозначения
этой группы, и этот термин ничуть не хуже всех остальных вариантов.
Кстати, раз уж мы заговорили о терминологии, было бы уместным спросить, на
какой ступени данной иерархии мы имеем возможность использовать понятие «че-
ловек» . Как вы могли заметить, этот термин активно и довольно бессистемно
применяется еще с тех времен, когда ученые не знали, к кому были ближе наши
ранние предки — к нам или к обезьянам. Один и тот же специалист мог использо-
вать его в различных значениях в зависимости от контекста. Что касается меня,
то под «человеческой эволюцией» я имею в виду эволюцию всего семейства гоми-
нидов. Но при этом я назову гоминида человеком только в том случае, если он
принадлежит к роду Homo. Единственным в полной мере «человечным» видом явля-
ется наш собственный — Homo sapiens.
Обезьяны
и модели
Одна из самых влиятельных и уникальных работ по палеоантропологии, опубли-
кованных во время моей учебы в аспирантуре, была написана сотрудником Нью-
йоркского университета Клиффордом Джолли. Еще в 1950-х годах Джон Робинсон
предположил, что морфологические различия между грацильными и массивными ав-
стралопитеками объяснялись особенностями питания. Грацильные австралопитеки
были всеядными, и их рацион включал некоторое количество мяса, в то время как
массивные австралопитеки оставались вегетарианцами, предпочитавшими жесткую
пищу, например клубни растений. Джолли решил проверить это предположение,
найдя живую модель, которая не только ответила бы на вопросы Робинсона, но и
предоставила бы какую-то информацию относительно хождения гоминидов на двух
ногах и о факторах различия между хюминидами и обезьянами. Будучи специали-
стом по поведению и генетике бабуинов, Джолли работал в Эфиопии, в регионе,
где представители распространенного вида гамадрилов смешивались с гораздо бо-
лее специализированным видом гелада, проживающим исключительно на открытой
травянистой местности. Джолли отметил, что между обоими видами существовали
значительные различия, как в поведении, так и в морфологии, и предположил,
что их можно объяснить предпочтениями в питании.
Анализируя анатомическое строение обоих видов, Джолли отметил, что некото-
рые различия между гамадрилами и гелада были аналогичны различиям между хюми-
нидами и людьми. Он предполагал, что эти различия были обусловлены предпочте-
ниями в среде обитания. Высшие приматы Старого Света и гамадрилы выбирали бо-
лее закрытые участки, а гелада и гоминиды — открытые пространства. И гелада,
и гоминиды имели более короткие пальцы, которые ослабляли их хватку, но зато
позволяли более точно манипулировать предметами. В случае с гелада объектами
манипуляции были травинки, семена и корни, составлявшие основную часть их ра-
циона на равнине. Гамадрилы питаются, стоя на трех лапах и поднося четвертой
пищу ко рту. Гелада же поедают пищу, сидя на земле, выпрямив спину и исполь-
зуя обе передние лапы. Если им нужно переместиться из одной точки кормления в
другую, находящуюся неподалеку, они могут даже не вставать на все четыре ла-
пы, а подвинуться к такому месту сидя и не сгибая спину.
Гамадрил (слева) и гелад.
Еще одним сходством между гелада и хюминидами, на которое Джолли обращал
особое внимание, является сравнительно короткое лицо. Такая форма лица объяс-
няется передним расположением мышц, приводящих в движение челюсть, и ограни-
ченными размерами полости рта, в которую кладется пища перед пережевыванием.
Судя по всему, она связана с уменьшением длины резцов и некоторым расширением
моляров, как у хюминидов, так и у гелада по сравнению с их лесными сородича-
ми. По мнению Джолли, все эти характеристики являлись элементами одного функ-
ционального комплекса, связанного с питанием «мелкими кормами», то есть добы-
чей и пережевыванием небольших и жестких продуктов. Джолли также отметил, что
если его теория была верна, то уменьшение резцов у гоминидов могло быть и не
связано с использованием орудий для добычи и разделки пищи, как предполагали
Пилбим и Саймоне.
Основываясь на своих выводах из рациона бабуинов, Джолли разработал сцена-
рий возникновения ранних гоминидов. В первой фазе этого сценария популяция
примитивных обезьян покинула лес, прельстившись пищевыми ресурсами (в боль-
шинстве своем мелкими и жесткими), которые можно было найти на равнинах и за
которые не существовало высокой конкуренции. Характеристики, развившиеся у
них по мере привыкания к такому рациону, адаптировали гоминидов к следующей
фазе эволюции, предполагавшей постепенное добавление к диете мяса. Мясо долж-
ны были добывать самцы, в то время как самки и детеныши продолжали заниматься
собирательством. Таким образом было положено начало экономическому и репро-
дуктивному разделению ролей между полами, имевшее в итоге многочисленные со-
циальные и даже когнитивные последствия. Однако из первой фазы вышли не все
хюминиды. Те, кто сумел сделать следующий шах1, дали жизнь грацильным австра-
лопитекам и, в конце концов, нашему роду Homo. Массивные австралопитеки, с
другой стороны, оказались конечным результатом изменений первой фазы.
Это была гениальная идея, и, несмотря на то, что сейчас, полвека спустя, мы
знаем, что она не была лишена некоторых недочетов, историческую важность ис-
следования Джолли трудно переоценить. Он заложил основы нового стиля антропо-
логии, учитывающего функциональную анатомию и морфологическую интеграцию ор-
ганизма для реконструкции жизни хюминида. Как мы увидим далее, использование
живых моделей, а также изучение приматов, живущих на открытых равнинах, и их
среды обитания оказалось невероятно продуктивным методом. Наконец, упор Джол-
ли на вертикальное положение спины, а не на движение с прямым позвоночником
оказался просто бесценным для последующего изучения бипедализма. Очень скоро
ученые поняли, что мы начали ходить на двух ногах не потому, что наш далекий
четырехлапый предок однажды решил встать на ноги, а потому, что обезьяна, за-
цепившаяся за ветку двумя руками и висящая с прямой спиной, почувствовала,
что такое положение тела будет удобным и на земле.
Новое
видение
После четырех лет в Йеле, в 1971 году, мне посчастливилось получить работу
младшего куратора в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке. К
моменту выпуска из университета я уже знал достаточно, чтобы понимать, что
меня так и не научили правильно читать те окаменелости, с которыми я работал.
Я уже с большей уверенностью делал выводы, но все еще не мох1 точно опреде-
лить , чем я занимаюсь. Некоторое время это вообще казалось мне не таким уж
важным. Я написал диссертацию по семейству вымерших лемуров, и одним из пре-
имуществ этой темы оказалась поездка на Мадагаскар для изучения коллекции
окаменелостей в Малагасийской академии. Во время своего пребывания там я вос-
пользовался возможностью прогуляться по лесам и понаблюдать за обитающими там
лемурами. Я тут же влюбился в этих очаровательных созданий, и мои планы на
будущее очень скоро начали вращаться вокруг живых лемуров, а не их вымерших
предков. Я хотел узнать больше о жизни этих далеких предков человечества, ко-
торые в то время были практически не изучены, а также понять причины их ог-
ромного разнообразия. Я хотел выяснить, какие именно виды лемуров обитали на
этом острове, как они жили и почему находились именно здесь. Чтобы ответить
на все эти вопросы, мне пришлось вступить в совершенно новую область исследо-
ваний, сильно отличавшуюся от мертвого мира окаменелостей, в котором я жил
раньше.
К несчастью или нет, моя карьера полевого исследователя лемуров длилась не-
долго. В 1972 году проколониальное правительство Мадагаскара было свергнуто,
и к середине 1974 года остров погрузился в хаос. К концу года меня депортиро-
вали, и так я впервые оказался на Коморских островах, о которых говорилось в
самом начале. К середине 1975 года я вернулся в Нью-Йорк к своим окаменелым
останкам гоминидов, которые я забросил несколько лет назад. Это был удачный
момент, так как в начале 1970-х годов в Американском музее естественной исто-
рии тоже назревала революция, на сей раз в систематике.
Еще в 1950 году немецкий энтомолог Вилли Хенниг опубликовал новаторскую ра-
боту о процедуре систематизации, в которой описал очень четкий подход к био-
логической классификации и реконструкции эволюционных взаимоотношений. Везде-
сущий Эрнст Майр чуть позже назвал эту систему кладистикой (от древнегрече-
ского корня, означающего «ветвь», так как для обозначения взаимоотношений в
ней использовались разветвленные диаграммы). Но лишь после 1966 года, когда
книга Хеннига «Филогенетическая систематика» была переведена на английский, о
кладистике стало известно за пределами Германии. Ее популярности в англоязыч-
ном мире поспособствовали два ихтиолога из Американского музея естественной
истории, Донн Роузен и Гарет Нельсон, неутомимо отстаивавшие новую точку зре-
ния во времена, когда большинство систематиков придерживались той или иной
версии «общего морфологического паттерна» Уилфрида Ле Грос Кларка. Традицион-
но взаимоотношения между организмами оценивались на основании интуитивного
восприятия общего сходства, и в случае возникновения споров между двумя авто-
ритетными систематиками их точки зрения было очень сложно сравнить между со-
бой. Выбор между двумя альтернативами сводился к тому, чье заявление казалось
слушателям более убедительным, поэтому умение говорить ценилось выше, чем
стройные рассуждения.
Несмотря на то, что многие традиционные систематики тут же заявили, что уже
давно применяли подход Хеннига, на самом деле он оказался совершенно уникаль-
ным. Хенниг создал четкую систему, позволявшую (по крайней мере, теоретиче-
ски) сравнивать конкурирующие гипотезы родства. Главная идея Хеннига состояла
в том, что не все морфологические сходства созданы равными или, по крайней
мере, их важность меняется со временем. Разумеется, систематики уже давно
знали, что не все морфологические характеристики можно в равной степени ис-
пользовать для разработки теорий родства. Они различали синапоморфические
свойства, унаследованные от одного предка и могущие служить основанием для
установления родства, и конвергенцию, то есть независимое (и малоинформатив-
ное с точки зрения систематики) приобретение внешне сходных признаков. Клас-
сическим примером конвергенции являются крылья птиц и летучих мышей. Однако
Хенниг пошел еще дальше и указал, что даже характеристики, полученные от од-
ного предка, могут иметь разную важность для систематизации. После того как
систематик использует какую-то черту для различения предка и его потомков,
такая черта теряет свою значимость при определении взаимоотношений между по-
томками. В конце концов, она есть у каждого из них. Соответственно, для выяв-
ления родства между членами группы нужно искать иные общие черты или альтер-
нативные варианты одной характеристики.
К примеру, наличие у животного четырех лап указывает на его принадлежность
к группе четвероногих, к которой относятся все наземные позвоночные. Но это
свойство никак не указывает на то, какие группы четвероногих имеют более
близкое родство друг с другом. Соответственно, для анализа взаимоотношений
внутри группы эту общую характеристику можно опустить. Иными словами, сходные
черты (будь то морфологические или молекулярные), унаследованные от общего
предка, могут быть примитивными или производными в зависимости от того, на-
сколько близким был предок. Любая унаследованная от предка морфологическая
характеристика (например, наличие четырех лап) может быть производным свойст-
вом предка, объединяющим широкую группу потомков и отличающим ее от других.
Однако внутри этой группы такая черта будет считаться примитивной, так как
она будет иметься у всех потомков и ее невозможно будет использовать для ана-
лиза внутригрупповых отношений. Суть всей идеи заключалась в том, что эволю-
ционные взаимоотношения можно установить только на основании общих производ-
ных характеристик. Придавая одинаковую значимость всем сходным чертам, вы
рискуете совершить ошибку.
Но как же определить, какие черты группы являются примитивными, а какие —
производными? Для этого существует несколько способов. Во-первых, примитивные
характеристики будут широко распространены в исследуемой вами группе, в то
время как производные будут встречаться гораздо реже. Более того, если какая-
то черта встречается у близких родственников исследуемой вами группы, это оз-
начает, что она также является примитивной и не может использоваться для вы-
деления подгрупп. Очень часто помогает и анализ развития той или иной черты.
Тот факт, что и у рыб, и у человека на ранних стадиях эмбрионального развития
присутствуют жаберные щели, делает это свойство производным для всех совре-
менных позвоночных (несмотря на то, что у их общего предка оно являлось про-
изводным) . Очень часто палеонтологи считают, что характеристики, возникшие на
ранних этапах развития группы, являются примитивными, а более поздние — про-
изводными. Однако такая логика может оказаться достаточно рискованной.
Пример простой кладограммы. Черные кружки означают три сущест-
вующих таксона, к примеру вида. Линии указывают на реконструиро-
ванные генеалогические отношения между ними. Пустые кружки озна-
чают гипотетическое родство, основанное на наличии у видов В и С
характеристик, отсутствующих у А. Иными словами, пустые кружки
не соответствуют существующим в природе таксонам.
Для создания схемы взаимоотношений, или кладограммы, нужно собрать воедино
все интересующие виды, как живые, так и вымершие. Используя все характеристи-
ки таких видов, вы выявляете те, которые присутствовали у общего предка всей
группы и предков подгрупп внутри нее. Сами по себе эти предки могут быть не-
известными, и вы даже можете не располагать их окаменелыми останками, но их
характерные черты должны быть ярко выражены. В результате должна получиться
четкая схема родства всех организмов в группе с общим предком. Кладограмма
может быть впоследствии признана неверной или изменена путем добавления новых
морфологических характеристик, таксонов или ваших собственных рассуждений.
Кроме того, кладограмму можно применять для сравнения с другими сходными или
конкурирующими гипотезами на основании анализа характеристик, использованных
в каждой из них.
По мере того как подход Хеннига укоренялся в систематике, начали выявляться
различные процедурные сложности. Пожалуй, наиболее существенная из них со-
стояла в том, что конвергенции — технически называемые гомоплазиями — оказа-
лись гораздо шире распространены в природе, чем ожидалось. Независимое приоб-
ретение сходных с виду характеристик на самом деле довольно распространено в
природе, и этот факт вносил множество помех в работу систематиков, пытавшихся
реконструировать историю взаимоотношений между видами. Для любого, кто пытал-
ся составить кладограмму на глаз, это было и остается проблемой. Вскоре после
того, как на столах ученых появились персональные компьютеры, были разработа-
ны сложные алгоритмы, позволявшие систематикам одновременно анализировать
множество характеристик, относящихся к большому количеству видов. В итоге
систематики просто вводили морфологические или молекулярные структуры иссле-
дуемых видов в матрицы дискретных характеристик, выбирали алгоритм и позволя-
ли компьютеру довершить начатое, по крайней мере, до того момента, пока перед
ними не оказывалось несколько равновероятных диаграмм родства. Все эти инно-
вации изменили стандартный подход палеонтологов к своим материалам. Палеонто-
логия становилась более строгой и жесткой наукой, а интуиция уступала место
процедурам. Тем не менее, не было никаких сомнений в том, что новые, более
точные методологии давали потрясающие результаты, так что в итоге даже палео-
антропологи добавили кладистику в свой арсенал научных средств.
Незавершенный
синтез
Переход от засилья авторитетов к кладистике стал огромным шагом вперед для
систематики как науки в первую очередь потому, что теперь голословные выводы
стали невозможными — любое заявление должно было быть подтверждено фактами.
Но это было не единственное и даже, пожалуй, не самое важное из изменений,
происходивших в Американском музее в тот момент, когда я в него вернулся. В
это самое время в его лабораториях готовилась атака на новый эволюционный
синтез — основу всего нашего понимания эволюционной биологии.
Синтетическая теория почти не обращала внимания на окаменелости, считая их
эфемерными останками видов, которые либо вымерли, либо постепенно раствори-
лись в процессе эволюции под влиянием естественного отбора. Подобное пред-
ставление об эволюции делало работу палеонтологов довольно скучной — им оста-
валось лишь собирать окаменелые останки и использовать их для описания этих
медленных трансформационных процессов. Но к началу 1970-х годов некоторым
специалистам стало уже довольно сложно подгонять существующие окаменелости
под общепринятую схему постепенных изменений. Очень часто промежуточных
звеньев между более ранними и поздними останками представителей одной и той
же группы попросту не существовало. Вместо этого палеонтологи регулярно заме-
чали, что группы видов превращались в окаменелости довольно резко и одновре-
менно . Они существовали в неизменном виде в течение определенного периода
времени, а затем исчезали так же внезапно, как и появлялись.
Традиционно это несоответствие палеонтологической летописи ожиданиям «гра-
дуалистов» объяснялось ее неполнотой. Предполагалось, что обнаруженные окаме-
нелости представляют собой лишь крошечную долю всех живых существ, когда-либо
живших на Земле, а промежуточные виды просто еще не были найдены. Этим объяс-
нением пользовался еще Дарвин, посвятивший неполноте палеонтологической лето-
писи целую главу в «Происхождении видов». Но даже в XIX веке некоторые палео-
нтологи понимали, что отсутствие изменений может иметь такую же важность для
науки, как и их наличие. Еще сам Хью Фальконер в 1840-х годах отмечал значи-
тельную длительность существования определенных таксонов, окаменелые останки
которых были обнаружены им в горах Сивалик в Индии. Как известно, на сего-
дняшний день отложения в Сивалике накапливались в течение 4 миллионов лет.
Как бы там ни было, к началу 1970-х годов синтетическая теория и вытекающие
из нее представления о постепенных переменах требовали пересмотра. Им занялся
Нильс Элдридж, молодой куратор коллекции ископаемых беспозвоночных в Амери-
канском музее естественной истории. Для написания своей докторской диссерта-
ции в Колумбийском университете Элдридж исследовал группу трилобитов (древних
беспозвоночных, проживавших на дне моря), обнаруженных в отложениях на Сред-
нем Западе и в северной части штата Нью-Йорк. Как и Фальконер, Элдридж заме-
тил, что все интересовавшие его организмы находились в состоянии стазиса (по-
коя) . За 6 миллионов лет среди трилобитов Среднего Запада произошло всего од-
но внезапное анатомическое изменение, в результате которого единственный оби-
тавший здесь вид оказался замененным своим ближайшим сородичем. Точно такую
же динамику Элдридж наблюдал и среди трилобитов, обнаруженных в штате Нью-
Йорк. Разница состояла лишь в том, что в одном месте в штате Нью-Йорк присут-
ствовали окаменелости обоих видов. Вместо того чтобы пытаться подогнать новые
данные под уже существующую систему, Элдридж решил доверять своим глазам. Со-
ответственно, он предположил, что на месте каменоломни в Нью-Йорке когда-то
произошло зарождение нового вида трилобитов.
Суть его идеи состояла в том, что после миллионов лет покоя здесь случилось
событие, вызвавшее возникновение нового вида. Последовавшие за этим экологи-
ческие изменения позволили ему распространиться на Средний Запад, заменить
там родительский вид и снова перейти в состояние стазиса. Эта история каза-
лась несколько драматичной, но при этом резко отличалась от концепции после-
довательных изменений, вытекавшей из синтетической теории. Элдридж предпола-
гал, что длительный период покоя прервался единым кратковременным событием,
повлекшим за собой видообразование, а за ним последовала еще одна долгая эпо-
ха стазиса. Кроме того, как и морские моллюски, обнаруженные Джованни Батиста
Брокки в Апеннинах полтора века назад, трилобиты Элдриджа совершенно точно
рождались, жили и умирали целыми видами. Виды оказались не эфемерными конст-
рукциями, а вполне реальными объектами, имевшими точные временные и простран-
ственные рамки. Последователи Дарвина заявляли, что видообразование было все-
го лишь пассивным результатом адаптационных изменений под влиянием естествен-
ного отбора. Однако концепция Элдриджа сделала его основой тех изменений, ко-
торые палеонтологи давно замечали в обнаруживаемых ими ископаемых материалах.
Конечно, техническое исследование группы странных беспозвоночных вряд ли
привлекло бы много внимания, но в 1972 году Элдридж объединил усилия со своим
коллегой Стивеном Джеем Гулдом, и они вывели на основании своих наблюдений
общую теорию эволюционного паттерна. Название главы, в которой они сформули-
ровали свою теорию, говорило о ней все — «Прерывистое равновесие, или Альтер-
натива филогенетическому градуализму». Элдридж и Гулд выдвигали дерзкую гипо-
тезу о том, что эволюция вовсе не являлась постепенным процессом, описанным
Дарвином, но была достаточно эпизодической. Группы организмов долгое время
оставались стабильными, а затем внезапно делились на несколько видов. Как мы
уже знаем, еще сам Эрнст Майр много рассуждал о видообразовании и, в частно-
сти, подчеркивал, что у высших позвоночных, таких как приматы, оно почти на-
верняка зависело от прерывания контакта между двумя группами одного вида. Та-
кое разделение почти всегда объясняется влиянием внешних факторов — изменени-
ем течения реки, поднятием уровня моря и образованием островов или переменой
климата. Изоляция позволяет двум разделенным частям вида развить в себе ре-
продуктивное несоответствие, после чего, даже если бывший вид когда-нибудь
снова окажется на одной территории, он уже будет состоять из двух более или
менее разных частей. Согласно Майру, для завершения этого процесса должны
развиться «механизмы изоляции», предотвращающие спаривание между двумя новыми
видами. Элдридж и Гулд предположили, что большинство физических изменений в
ходе эволюции происходило в результате подобного «аллопатрического видообра-
зования», но также отметили, что в ходе распространения успешных видов часто
формируются ярко выраженные локальные формы.
Суть «прерывистого равновесия» состоит в том, что «пробелы» в палеонтологи-
ческой летописи, которые постоянно замечали палеонтологи, на самом деле явля-
лись источниками важной информации об эволюционной истории. И хотя Элдридж и
Гулд признавали, что их взгляд на вещи, точно так же, как и дарвиновский,
поддерживал филогенетическую интерпретацию, они сумели привести множество
примеров того, как их система лучше описывала реальное положение вещей, чем
синтетическая теория. Они также обратили внимание на парадокс, порождаемый их
теорией. Если эволюция видов не является направленной, как предполагала мо-
дель постепенного развития под влиянием естественного отбора, то почему виды
можно объединить в более крупные группы, в рамках которых прослеживаются оче-
видные эволюционные изменения, такие, например, как увеличение объема мозга у
Homo. Ответ на этот вопрос авторы теории находили в природе самих видов. Как
вы уже наверное поняли, вопрос определения вида обсуждался учеными так мучи-
тельно долго, что успел всем надоесть. Но если виды не просто представляли
собой сегменты эволюционных линий, а переживали рождение, существование и
смерть, то, вне зависимости от точного определения, их можно было считать ин-
дивидами — своего рода актерами, игравшими свои роли на экологической сцене.
Этими же ролями в традиционной теории естественного отбора наделялись отдель-
ные особи. Как и они, виды различались по своим способностям к выживанию и
размножению, а также боролись за ресурсы окружающей среды. Сортировка на та-
ком уровне предполагала, что в большем экологическом масштабе движение эволю-
ционных процессов зависело от выживания и репродуктивного успеха целых видов.
Рассуждения Элдриджа и Гулда заставили меня снова задуматься о естественном
отборе и роли, которую он играет в природе. Градуалистский подход, который
предполагала синтетическая теория, заставлял палеонтологов рассматривать эво-
люционные тенденции на основании отдельных свойств или функциональных ком-
плексов характеристик, присущих тому или иному виду. Палеоантропологи, и я в
их числе, рассуждали об эволюции человеческого мозга, или ноги, или пищевари-
тельной системы, как если бы все эти объекты были отдельными элементами орга-
низма и имели дискретные эволюционные траектории, которые можно было отсле-
дить во времени. Из-за такого разделения анатомических комплексов эволюция
выглядела процессом оптимизации характеристик, благодаря которому популяции в
течение долгих периодов времени приспосабливались к особенностям окружающей
среды.
Задумайтесь об этом на мгновение, и вы поймете: картина сильно отличается
от реальности. Любая характеристика, которая может заинтересовать вас в па-
леонтологической летописи, встроена в комплекс других черт автономно функцио-
нирующего организма, участвующего в борьбе за выживание в многокомпонентной
среде. Судьба этого организма лишь в очень редких случаях будет зависеть от
конкретной характеристики, в которой вы заинтересованы. Более того, процесс
наследования устроен таким образом, что каждый ген играет в развитии организ-
ма сразу несколько ролей. Это означает, что в большинстве случаев естествен-
ный отбор не может повлиять на один аспект деятельности гена, не затронув
другие его функции. Данная интеграция генома возвращает нас к тому факту, что
целью естественного отбора является не одно конкретное свойство, но выживание
и репродуктивный успех всего организма. Естественный отбор, который, по сути,
представляет собой дифференциальное размножение, просто не может выделить у
организма какие-то определенные качества. Он может лишь предпочесть или не
предпочесть весь комплекс свойств. Ваша ставка либо выигрывает, либо проигры-
вает, и только это определяет, кто вы есть. Казалось бы, быть самым умным в
своей популяции довольно выгодно, но эта черта не гарантирует вам успеха, ес-
ли вы являетесь самым медленным, или обладаете самым худшим зрением, или вам
просто везет меньше всех. Точно так же с эволюционной точки зрения нет ника-
кого преимущества в том, чтобы быть лучшим представителем своего вида, если
всему виду в целом грозит исчезновение под влиянием естественного отбора или
изменений в окружающей среде. Суть всех этих рассуждений сводится вот к чему:
отдельные особи являются такими сложными существами на генном и физическом
уровне, что внутрипопуляционные процессы лишь изредка могут приводить к опти-
мизации конкретных характеристик.
Это не означает, что естественный отбор не важен. Можно с полной математи-
ческой уверенностью заявить, что отбор будет действовать в любой популяции, в
которой рождается больше особей, чем живет в конкретный момент времени, иными
словами, в каждой популяции. Однако большую часть времени действие естествен-
ного отбора будет направлено на поддержание ситуации в статичном состоянии.
Отбор будет уничтожать крайности в обоих концах шкалы изменчивости. Это явле-
ние известно уже давно и называется стабилизационной селекцией. Кроме того,
естественный отбор редко действует с постоянной активностью и силой измене-
ния, так как в нашем мире изменения окружающей среды являются скорее нормой,
чем исключением из правил. Наилучшая стратегия в такой ситуации — не класть
все яйца в одну корзину. Нет ничего удивительного в том, что специализирован-
ные виды вымирают гораздо быстрее и в больших масштабах, чем виды с более об-
щими характеристиками. При этом я не пытаюсь сказать, что организмы не могут
быстро и сильно реагировать на изменяющие факторы. Например, самцы шимпанзе,
которые постоянно борются за доступ к самкам, имеют гораздо более крупные (и,
соответственно, производительные) тестикулы, чем самцы горилл, проводящие
долгие периоды времени с одной самкой. Тем не менее, большинство таких приме-
ров касаются характеристик, непосредственно связанных с репродуктивным про-
цессом или имеющих большую важность для каждодневного выживания (например,
способность перерабатывать лактозу у взрослых представителей народов, зани-
мающихся животноводством). Большинство характеристик не имеют такой узкой
спецификации. Чтобы ваша репродуктивная ставка выиграла, не обязательно быть
лучшим — нужно всего лишь быть достаточно хорошим.
Если, следуя подобным рассуждениям, вы перестанете рассматривать конкурен-
цию между отдельными особями как движущую силу конкуренции и вместо этого пе-
реключите внимание на взаимоотношение между видами или, по крайней мере, по-
пуляциями, то изменится все ваше восприятие процесса. Постепенные и постоян-
ные изменения начнут выглядеть куда менее правдоподобными, но зато можно бу-
дет понять, почему виды имеют тенденцию к сохранению стабильности с течением
времени. По иронии судьбы первым, о чем мне рассказали на курсе эволюционной
биологии, насквозь пропитанном эволюционной теорией, был не механизм эволюци-
онных изменений, а также называемое равновесие Харди — Вайнберга. Это матема-
тическая формула, которая доказывает, что при отсутствии внешних влияний час-
тота генов в популяции будет сопротивляться изменениям из поколения в поколе-
ние . Эволюция, по сути, прерывает это нормальное сбалансированное состояние,
и подобное прерывание с куда большей вероятностью будет вызвано резким внеш-
ним воздействием, чем внутренней динамикой популяции. Подобные шоковые внеш-
ние воздействия регулярно переживали предки людей в период эволюции гомини-
дов, то есть в плиоцене и плейстоцене. Климат в те времена был крайне неста-
бильным, и гоминиды жили в непредсказуемых и постоянно меняющихся условиях.
Чтобы справляться с изменениями в объеме доступных ресурсов, гоминидам было
критически важно оставаться гибкими и не специализироваться на одной среде.
Естественный отбор работает слишком медленно, чтобы реагировать на подобные
изменения, а постоянное приспособление гоминид к среде обитания могло пойти
им даже во вред.
В то же время нельзя отрицать, что такие перемены в окружающей среде жесто-
ко влияли на популяцию гоминидов. В самые тяжелые времена она была разбита на
небольшие изолированные группы, которые придерживались самых удобных мест для
проживания, в то время как территории между ними оставались непригодными для
человека. Когда условия окружающей среды улучшались, группы покидали свои
убежища и воссоединялись со своими бывшими родичами. Эти постоянно повторяю-
щиеся процессы, несомненно, тяжело переносились отдельными особями, но давали
великолепные возможности для эволюции. Небольшие популяции имеют гораздо бо-
лее высокую генетическую нестабильность, чем крупные, поэтому в них создаются
оптимальные условия для возникновения случайных генетических колебаний, яв-
ляющихся основой эволюции. Кроме того, как отмечал еще Майр, видообразование
(которое, как я впоследствии понял, вовсе не является пассивным следствием
морфологических изменений) гораздо чаще происходит именно в маленьких груп-
пах. Но есть и вторая часть уравнения. В зависимости от того, что происходило
в период разделения, возобновление контакта могло привести к двум возможным
исходам. Если изоляция привела к образованию нового вида или иным последстви-
ям, нарушившим репродукционную совместимость, то между двумя частями популя-
ции возникнет конкуренция, которая в итоге приведет к уничтожению или вытес-
нению менее приспособленных. С другой стороны, если различия между группами
не включают в себя генетической дифференциации, то измененные геномы обеих
популяций смешаются. В любом случае изоляция приведет к изменению.
Все эти выводы указывали на то, что эволюционный процесс (или, точнее, це-
лый комплекс различных процессов, внесших свой вклад в эволюционные измене-
ния) был чем-то куда более сложным и многомерным, чем механизм медленной по-
следовательной адаптации, описываемый синтетической теорией. Это означало,
что эволюционные биологи могли по-новому взглянуть на историю жизни на Земле,
включая и эволюцию гоминидов. Однако многие ученые были настолько уверены в
правоте градуалистского подхода, что такой новый взгляд на вещи давался им с
трудом. В результате Элдриджа и Гулда (и совершенно безосновательно) незамед-
лительно обвинили в сальтационизме и отрицании адаптации. В этом не было ни-
чего нового — за выходом «Происхождения видов» Дарвина тоже последовал период
шока и ужаса, который через пару десятилетий сменился всеобщим принятием.
Точно также в течение следующих нескольких лет после публикации работы Элд-
риджа и Гулда она постепенно получала признание, а ученые начинали понимать,
что критическую роль в истории жизни на Земле сыграло множество факторов, не
имевших никакого отношения к адаптации отдельных особей.
Новая концепция помогла эволюционным биологам понять, что эволюционная ис-
тория успешных групп организмов является не только результатом медленного и
постепенного процесса улучшения, но и отражает последствия природных экспери-
ментов, приведших к возникновению наследуемых адаптации. Тем не менее, палео-
антропологам было сложно принять эту теорию в основном из-за того, что их ра-
бота была сфокусирована на одном виде.
ГЛАВА 6
Позолоченный
век
Еще одной причиной, по которой палеонтологи медленно реагировали на измене-
ния в более широком мире систематики и эволюционной биологии, возможно, стало
то, что в конце 1960-х — начале 1970-х годов они уже с трудом справлялись с
классификацией большого количества имеющихся останков человека. По легенде,
все началось с визита эфиопского императора Хайле Селассие в только что об-
ретшую независимость Республику Кения в 1966 году. Одним из людей, которых он
там встретил, был Луис Лики, с гордостью хваставшийся найденными им в Олду-
вайском ущелье новыми останками гоминидов. Когда Селассие спросил Лики, поче-
му в Танзании находят прекрасно сохранившиеся останки человека, а в Эфиопии —
нет, исследователь сказал ему, что, возможно, их просто никто не искал — что
было правдой, если не буквально, то фактически. Вскоре после этого Лики полу-
чил императорское приглашение с предложением прояснить ситуацию.
Учитывая, что стареющий Лики был достаточно занят своими находками и под-
держкой плеяды ярких молодых приматологов, он возложил большую часть ответст-
венности за организацию полевых работ в Эфиопии на своего уважаемого амери-
канского коллегу Кларка Хоуэлла. Область страны, на которую исследователь по-
ложил глаз, находилась в нижней части бассейна реки Омо, впадающей в кений-
ское озеро Туркана (тогда оно называлось озером Рудольф) к северу от эфиоп-
ской границы. Учитывая то, что в 1930-е годы французский палеонтолог Камиль
Арамбур также говорил о перспективности этого участка, для выполнения работы
собралась кенийско-американо-французекая команда. Арамбур, чья карьера уже
клонилась к закату, попросил своего более молодого коллегу Ива Коппенса пред-
ставлять Францию, в то время как Лики передал полномочия кенийской части экс-
педиции своему среднему сыну Ричарду. В то время Ричард зарабатывал на жизнь,
проводя сафари-туры и работая проводником на охоте, и единственными его навы-
ками для работы на Омо было родство с палеонтологом и признанные навыки орга-
низатора .
Международная экспедиция добралась до места в 1967 году, и каждая нацио-
нальная команда работала на отведенном ей участке. С самого начала Хоуэлл
мыслил широко. Для проведения раскопок на реке Омо он привлек многочисленных
специалистов: геохронологов — для проведения датировки, стратиграфов — для
выявления последовательности пород, палеонтологов — для изучения останков,
тафономистов — чтобы определить, как они формировались и сохранились, архео-
логов — для анализа каменных орудий труда и многих других. Так зародилась
Большая Палеонтология, и с того времени подход Хоуэлла стал моделью для круп-
номасштабных исследований по поиску ископаемых останков гоминидов.
Как оказалось, область раскопок не содержала большого количества хорошо со-
хранившихся окаменелостей гоминидов. На этом месте оказалась толща породы,
состоящая в основном из речных отложений, перемежавшихся с вулканическими по-
токами и туфами (вулканическим пеплом), которые могли быть датированы калие-
во-аргоновым методом. Поскольку район был геологически нестабильным, в нем
произошло много разломов, что затрудняло установление последовательности по-
род. Эти же разломы подняли на поверхность слои и окаменелости в них, которые
датировались периодом от 1 до 3 миллионов лет назад. В конце концов экспеди-
ции Хоуэлла удалось задокументировать хорошо отсортированную последователь-
ность представителей фауны, что позволило установить правильный порядок слоев
(даже если датировка не всегда совпадала). Наиболее полезными в этом случае
оказались ископаемые свиньи, изученные палеонтологом Бэзилом Куком: определив
вид такой свиньи, археологи могли довольно точно сказать, с каким временным
периодом имеют дело.
Так как отложения Омо находились рядом с быстро текущими потоками воды, не-
гативно сказывающимися на сохранности окаменелостей, многие останки гомини-
дов, найденные командой Хоуэлла, были достаточно фрагментарными. Большую их
часть составляли отдельные зубы. Однако, проанализировав свой «улов», Хоуэлл
сделал вывод, что найденные останки гоминидов, относящиеся ко времени между
одним и двумя миллионами лет назад, обладали широкими плоскими жевательными
зубами. Он отнес их обладателей к виду Australopithecus boisei (парантроп
Бойса) — это название тогда часто использовалось для обозначения найденных
Луисом Лики в Олдувае полноценных гоминидов. Хоуэлл сравнил большинство зу-
бов, датируемых 2-3 миллионами лет назад, с зубами A. africanus из Южной Аф-
рики, а зуб возрастом около 1,85 миллиона лет счел зубом Homo habilis. Нако-
нец , более мелкие зубы возрастом около 1,1 миллиона лет он приписал человеку
прямоходящему. Для всех здесь что-то нашлось.
По схожим причинам останки гоминидов с территории французских ученых были
так же фрагментарны. Особое внимание привлекла нижняя челюсть без зубов, да-
тируемая примерно 2,6 миллиона лет. Сама по себе челюсть не была огромной, но
в ней явно когда-то находились очень большие жевательные зубы. Арамбур и Коп-
пенс решили, что эта таинственная челюсть не принадлежит ни к одному из из-
вестных видов и с французской непринужденностью (французы медленно принимали
принципы синтетической теории) назвали нового гоминида эфиопским парантропом
— Paraustralopithecus aethiopicus.
Между тем Ричард Лики работал на износ. Он был самым младшим из лидеров ко-
манды, и он и его люди из Кении получили на анализ наиболее перспективные ос-
танки. В 1967 году его группа нашла в районе Кибиш два частично сохранившихся
черепа: один из них выглядел современно, другой — несколько старше Они сочли,
что останкам около 125,000 лет, хотя сейчас эту цифру подняли до 200,000, и
они являются важным звеном для понимания возникновения Homo sapiens. Однако
кенийская группа не нашла никаких ранних хюминидов подобных тем, что сделали
знаменитыми старших Лики, и совершенно точно ничего похожего на «раннего
Homo» — Святой Грааль семьи Лики. Поэтому Ричард, которому не нравилось быть
младшим во всем, позаимствовал вертолет, нанятый экспедицией. Он полетел к
югу, на свою родину, в Кению, где раньше заметил осадочные породы, выступаю-
щие на восточном берегу труднодоступного озера Туркана. Приземлившись, Ричард
увидел окаменелости, торчавшие из окружавшего озеро песчаника, и немедленно
решил продолжить свои изыскания здесь, на родной земле. Он поставил Нацио-
нальное географическое общество (и своего сопротивляющегося отца) в извест-
ность о том, что деньги, направленные на экспедицию Омо, куда лучше потратить
здесь, в Кении. После этого Ричард Лики направил тайное послание правительст-
ву Эфиопии, в котором осудил американских партнеров за некомпетентность, а
затем, в 1968 году, отправился со своей первой исследовательской группой в
восточную часть озера Рудольф. При финансовой поддержке Национального геогра-
фического общества исследование подтвердило потенциал района, и в 1969 году
сборы ископаемых останков начались здесь в полном объеме.
Почти сразу же был обнаружен прекрасно сохранившийся череп гоминида, напом-
нивший исследователям череп зинджантропа из Олдувая, несмотря на то, что но-
вое лицо было значительно более мелким и коротким. В нем не было зубов, но
дентальные пропорции были чрезвычайно похожи на олдувайскую форму: значитель-
но уменьшенные передние зубы и расширенные жевательные. Череп был приписан
Australopithecus boisei и получил памятное имя KNM-ER 406 («Кенийский нацио-
нальный музей — Восточный Рудольф 406», его каталожный номер). ER 407, второй
череп, найденный в том же роду, был намного проще устроен, поэтому Ричард со-
общил , что это потенциальный член рода Homo. Кроме того, были найдены в туфе
(известном как KBS) , ошибочно датированном калиево-аргоновым методом возрас-
том 2,6 миллиона лет (настоящая дата —1,95 миллиона лет назад, как изначаль-
но было предположено из-за остатков свиней, найденных под ним) , простые ка-
менные орудия. Они были сопоставимы с обнаруженными на нижних уровнях Олду-
вайского ущелья. Ричарду казалось, что орудия были сделаны останками гомини-
дов, составляющих ER 407. Проще говоря, ситуация в Восточной Туркане с самого
начала напоминала ту, о которой старший Лики сообщал из Танзании, — о крайне
раннем полном разделении линий Australopithecus и Homo. Основание для такой
оценки, кажется, было немного более прочным, чем семейная склонность: Ричард
до конца сражался за неточную дату в 2,6 миллиона лет для туфа KBS. Впослед-
ствии было выявлено, что череп ER 407 когда-то принадлежал женщине-
австралопитеку. Ричард действительно никогда по-настоящему не выражал интере-
са к систематике (этот недостаток с ним разделяло большинство анатомов, кото-
рых он собрал для описания своих гоминидов), и он долгое время настаивал,
чтобы останки, причисленные к Homo, при публикации в научных работах указыва-
лись как «Homo sp.», что означало бы, что этот вид остается неопределенным.
Ископаемые черепа гоминидов из восточной части озера Туркана. По ча-
совой стрелке, начиная с левого верхнего: KNM-ER 732, определен как
принадлежащий самке Paranthropus boisei; KNM-ER 406, самец P.
boisei; KNM-ER 1470, поначалу считался принадлежащим Homo habilis,
сейчас чаще относится к Kenyanthropus rudolfensis (кениантропу);
KNM-ER 3733, сначала определен как «ранний Homo erectus», сейчас ча-
ще приписывается Homo ergaster («человеку работающему»).
Тем не менее, эти недостатки не сделали продолжающиеся открытия в Восточной
Туркане менее захватывающими, даже если они одно за другим поддерживали гипо-
тезу о раннем разделении линий австралопитеков и Homo. Каждый сезон раскопок
приносил множество останков, почти все они были фрагментарными, но всегда на-
ходилось и что-то неожиданное. Частично сохранившийся череп возрастом 1,5
миллиона лет (ER 732) большинством был сочтен принадлежащим самке
Australopithecus boisei. Он был более просто устроен, чем сингенетический
406, и на нем отсутствовал большой гребень посреди черепа, к которому крепи-
лись необыкновенно крупные жевательные мышцы последнего. Однако все соглаша-
лись с тем, что у этих останков было общее базовое строение. Таким образом,
данный череп подорвал доверие остававшихся приверженцев теории одного вида —
тогда возглавляемых Милфордом Вулпофом, коллегой С. Лорина Брейса по Мичиган-
скому университету, — которые продолжали утверждать, что имеющие серьезные
различия массивные и грацильные останки южноафриканских гоминидов, безуслов-
но, являлись самцами и самками одного вида. Теперь было очевидно, что речь
идет о нескольких генеалогических линиях. Годы спустя все стало еще сложнее,
когда была обнаружена лобная кость возрастом 1,9 миллиона лет, имеющая сход-
ство с аналогичной структурой черепа олдувайского зиджантропа, но не черепа
ER 406. Пока никто не выглядел достаточно обеспокоенным, чтобы заняться этим
очевидным несоответствием.
Обнаруженные в следующем году в восточной части Турканы останки гоминидов
включали нижнюю челюсть возрастом 1,4 миллиона лет (ER 992), которая, главным
образом из-за скромных с точки зрения стоматологии размеров, напомнила многим
работавшим на Туркане ученым Homo erectus из Восточной Азии, хотя было объяв-
лено лишь то, что челюсть принадлежит Homo. В 1975 году зоологи Колин Грувз и
Вратислав Мажак признали такую челюсть стандартной для нового вида, Homo
ergaster («человек работающий», назван так из-за множества каменных орудий,
найденных вместе с останками). Это предсказуемо вызвало гнев Ричарда Лики и
его коллег, которые с негодованием отвергли как новое название, так и автори-
тет двух предложивших его нарушителей. Но смелое новаторское предложение
Грувза и Мажака как минимум открыло путь тем, кто считал, что между останками
гоминидов в бассейне Турканы существуют различия.
Во время полевого сезона 1972 года появилась настоящая сенсация: ER 1470,
сотни мелких фрагментов черепа гоминида, расположенные ниже туфа KBS (и, сле-
довательно, являющиеся более старыми), который Лики по-прежнему считал слоем
возрастом от 2,6 до 2,9 миллиона лет. При реконструкции череп оказался удиви-
тельно объемным — 800 миллилитров. Впоследствии эта оценка была понижена до
750 миллилитров, но и это было значительно больше, чем ожидаемый объем черепа
оригинального Homo habilis из Олдувая, найденного Луисом Лики. Было сложно
предположить, как лицо располагалось на поверхности черепа. Но после реконст-
рукции оказалось, что оно было достаточно плоским, а в широком рту были, оче-
видно, размещены крупные зубы.
Эти черты делали ER 1470 крайне необычным, но, к несчастью, фрагментарное
состояние останков означало нехватку множества анатомических деталей, что за-
трудняло и затрудняет до сих пор его интерпретацию. Ричард отнес новый обра-
зец к роду Homo в основном из-за большого мозга, но, полагая, что останки
старше 2,6 миллиона лет, он отказывался причислять их к тому же виду, что и
обнаруженного отцом Homo habilis из Олдувая. Как обычно, он обозначал его как
«Homo sp.». Как ни парадоксально, именно образец 1470 в конечном счете убедил
многих палеонтологов, что Homo habilis действительно был отдельным видом.
Тем временем находки продолжали литься рекой. В 1973 году были найдены еще
два черепа. ER1805 — достаточно фрагментарный и по сей день вызывающий споры
среди ученых. Просто устроенный ER 1813 сохранился достаточно хорошо; и хотя
изначально Ричард Лики сравнивал его с южноафриканским Australopithecus
africanus, объем мозга которого был не более 500 миллилитров, почти как и у
новой находки, Кларк Хоуэлл высказал мнение, что на самом деле это самка Homo
habilis. Многие согласились с этим определением, хотя их принятие показывает,
насколько удобно иметь «мусорный» таксон, к которому можно относить любые
странные останки. Как и следовало ожидать, Ричарду не нравился такой ход ве-
щей; в итоге он использовал сходство между образцом 1813 и некоторыми мате-
риалами из слоя II в Олдувайском ущелье, чтобы доказать, что ни один, ни дру-
гие не относились к Homo habilis. В то же самое время он обнаружил, что выну-
жден согласиться с гипотезой о возрасте туфа KBS. Эта уступка поставила 1470
в один возрастной диапазон с образцами Homo habilis из слоя I в Олдувае, что
повышало вероятность их принадлежности к одному виду. Таким образом, несмотря
на разношерстную природу ископаемых в этой группе, Homo habilis смог, нако-
нец, стать полноценным видом.
Но у Восточной Турканы были припасены еще сюрпризы. Во время полевого сезо-
на 1974-1975 годов на свет появился ВР 3733, череп в возрасте 1,78 миллиона
лет (хотя на тот момент он относился ко времени между 1,3 и 1,6 миллиона лет
назад), не похожий ни на что, обнаруженное в Кении до тех пор. Вместе со сво-
им коллегой, анатомом Аланом Уокером, Ричард Лики сделал вывод, что череп
принадлежал Homo erectus. Они отметили особое сходство с китайскими гоминида-
ми из Чжоукоудяня и подчеркнули, что это открытие нанесло завершающий удар по
еще кое-как державшейся гипотезе единого вида. Однако, хотя Лики и Уокер по-
лучали явное удовольствие, заявляя о кончине старой нелинейной модели и о не-
обходимости разработать новую схему эволюции человечества, они отказывались
сами этим заниматься. Объем мозга нового черепа составлял 848 миллилитров —
довольно немного для Homo erectus, но в пределах допустимого. Если не учиты-
вать общие пропорции, у него отсутствовали многие отличительные черты китай-
ских образцов, с которыми его сравнивали. Вскоре после этого был найден фраг-
ментарно сохранившийся череп возрастом 1,6 миллиона лет (ВР 3883), также от-
несенный к виду Homo erectus. Мало того, что он тоже не имел многих анатоми-
ческих характеристик восточно-азиатского гоминида, но еще и не был похож на
3733. При всей степени отличий его нельзя было посчитать некой аномалией, так
как одновременно с ним был найден фрагмент черепа ВР 3732, чуть поменьше и
чуть постарше, но в остальном почти идентичный ему.
Младшая
лига
Ричард Лики руководил археологическими исследованиями в Восточной Туркане
по заказу ученого из Южной Африки Глинна Айзека, присоединившегося к проекту
в 1970 году, а до этого долгое время работал с Мэри Лики в Олдувае. Айзек
разделял ее интерес не только к каменным инструментам, которые создавали ран-
ние гоминиды, но также к природе местностей, где эти инструменты обнаружива-
лись . Как правило, в Олдувае каменные орудия были рассредоточены по берегам
озера вперемешку с мусором, образованным в процессе их производства, и множе-
ством костей животных. Мэри верила, что подобным местам отдавалось предпочте-
ние, и именно сюда гоминиды систематически приносили тела животных для раз-
делки. В результате она называла их поселениями.
Ситуация в Восточной Туркане выглядела аналогичной, и Айзек быстро разрабо-
тал модель раннего поведения гоминидов, которая рассматривала эти «кемпинги»
как ключевые точки в образе жизни, включавшем охоту и собирательство на при-
легающей территории. Подобная жизнь предполагала также разделку добытых туш
животных и использование инструментов, созданных из каменных пород, не всегда
доступных в непосредственной близости. Айзек считал, что это породило бы по-
требность в централизованной системе обмена добытыми продуктами питания.
Дальнейшим предположением было то, что существовало некоторое разделение тру-
да между женщинами и мужчинами: женщины, обремененные заботами о потомстве,
ограничивались собирательством в небольшом радиусе от места проживания, в то
время как мужчины передвигались более активно в поисках трупов животных и
возможностей для охоты. Социальные явления такого рода предположительно ука-
зывали на впечатляющий уровень развития ранних обществ гоминидов, а оно было
невозможно без сложных систем коммуникации, сотрудничества и развития замы-
словатых взаимосвязей между индивидами. Бипедализм, социальное взаимодействие
и даже некая зачаточная форма языка увязывались в один впечатляющий образ.
Подобная картина очень красиво иллюстрировала популярное на тот момент пред-
ставление о «человеке-охотнике», а также делала реконструкцию истории гомини-
дов предметом исследования бихевиоризма путем проецирования образа Homo
sapiens в прошлое.
Однако с подобной реконструкцией жизни ранних гоминидов соглашались не все.
В середине 1970-х годов американский археолог Льюис Бинфорд начал высказывать
мысли о том, что, возможно, не очень мудро представлять ранних гоминидов про-
сто как младшую лигу современного человечества. У них вполне мох1 быть свой
подход к жизни. У археологов было бы больше шансов изучить этот подход, если
бы они обращали больше внимания на реальные факты и строили меньше предполо-
жений. Будучи вдумчивым и педантичным ученым, Айзек был очень восприимчив к
подобной критике и, в конце концов, взялся за повторное исследование свиде-
тельств из Восточной Турканы. Изначально его целью было выяснить, действи-
тельно ли связи между костями и каменными инструментами, найденными в местах
раскопок, были порождены человеческой деятельностью и если так, то что это
была за деятельность. Если же это было не так, то как эти связи образовались?
К моменту своей трагической смерти в 1985 году, в возрасте 47 лет, Айзек смог
существенно продвинуться в поиске ответов на эти вопросы. Он показал, что
приблизительно 2 миллиона лет назад ландшафт Восточной Турканы уже определен-
но хранил признаки человеческой деятельности. Так, следы порезов, заметные на
многих останках костей животных, были сделаны острыми краями каменных инстру-
ментов, в то время как большое количество краев каменных инструментов были
изношены таким образом, как это случается при разрезании свежих мяса и кос-
тей. Эти следы разрезов действительно образовались в процессе разделывания
мяса, и Айзек саркастически комментировал: «Мы можем только предполагать, что
[гоминиды] затем поедали мясо, которое разделывали». Более того, определенные
части туш были представлены в большем количестве среди костей, отмеченных
следами порезов, что давало повод думать, что эти части туш изначально нахо-
дили где-то в другом месте, а затем собирали здесь. Таким образом, предполо-
жение о существовании поселения продолжало иметь место, хотя Айзек начал ис-
пользовать для описания этого продукта выражение «собирательство вокруг цен-
тральной точки» вместо предыдущего «обмен продуктами». Полученное в процессе
представление о поведении ранних гоминидов было одновременно более туманным и
менее захватывающим, чем предыдущее. Но, как отмечал сам Айзек, подобная за-
чистка была необходима, «чтобы избежать... воссоздания наших предков по наше-
му образу и подобию».
Люси и
первое
семейство
Ричард Лики был не единственным, кому было выгодно, чтобы Кларк Хоуэлл воз-
главил полевые работы в Африке. В 1970 и 1971 годах аспирант Хоуэлла Дональд
Джохансон сопровождал его в поездках в Эфиопию. Там, среди участников фран-
цузской команды Омо, Джохансон встретил геолога Мориса Тайеба, который прово-
дил исследование для своей диссертации в Афарском треугольнике — на участке
суровой пустыни на севере Эфиопии. Треугольник расположен там, где Восточно-
Африканская рифтовая долина — глубокий геологический шрам, делящий Африку на
две части, продолжаясь до Мозамбика, — встречается с Красным морем и Аденским
заливом. Рифтовая долина имела огромное значение для палеоантропологии, так
как именно в ней расположены райские сады окаменелостей — Омо, Туркана и Ол-
дувай. В каждом из этих мест останки гоминидов были подняты на поверхность
из-за роста гор по краям долины. Во время первого исследования Афара Тайеб
заметил останки, которые сначала принял за плио-плейстоценовые, и спросил
Джохансона, не хочет ли тот на них взглянуть. Ни секунды не раздумывая, в
1972 году Джохансон присоединлся к Тайебу, Коппенсу и Джону Кэлбу для иссле-
дования региона. Американский геолог Кэлб жил в Аддис-Абебе и уже посещал
Афар вместе с Тайебом. Команда обнаружила рай для палеонтологов в местечке
под названием Хадар — суровые бесплодные земли, через которые протекала бур-
ная река Аваш, поддерживая жизнь тонкой полоски галерейного леса. Если судить
по меркам фауны Омо, возраст множества окаменелостей, найденных квартетом ис-
следователей , оценивался в 3 миллиона лет. Полноценные полевые работы на этом
удивительном месте начались в следующем году.
В отличие от Турканы, знаменитой в основном черепами, главными находками в
Хадаре стали посткраниальные элементы — кости конечностей. И это было инте-
ресно даже просто в перспективе. Если предварительная оценка возраста была
верна, окаменелости Хадара были самыми древними из найденных останков гомини-
дов. Они были, безусловно, достаточно старыми, чтобы представить важнейшую
информацию об истоках бипедальности (хождения на двух ногах), что, как теперь
соглашаются все ученые, и стало самым важным навыком гоминидов, позволившим
им отправиться в их уникальный путь. Ожидания были высоки, и первый полный
полевой сезон в 1973 году не разочаровал. Была собрана большая коллекция ока-
менелостей млекопитающих, среди них дистальный (дальний) конец бедренной кос-
ти и проксимальный (ближний) конец большеберцовой кости. Вместе они образовы-
вали коленный сустав достаточно небольшого хюминида. Возможно, звучит не
слишком впечатляюще, но именно колено является ключевым элементом для опреде-
ления бипедальности. У четвероногих вес передается напрямую вниз, от тазобед-
ренного сустава к земле, поэтому при движении каждая нога стабилизирует один
угол тела, примерно как ножки у стола. Но когда животное, обычно ходящее на
четырех лапах, например шимпанзе, встает и начинает передвигаться на двух но-
гах, все меняется. С каждым шагом оно поворачивает тело относительно опорной
ноги, замахиваясь каждой ногой вперед по широкой дуге и перенося центр тяже-
сти тела из стороны в сторону. На это требуется много энергии. Бедренная
кость двуногого гоминида позволяет повысить эффективность движения, сгибаясь
внутрь от бедра. Колени и ступни во время ходьбы находятся близко друг к дру-
гу, и центр тяжести движется по прямой линии. Все это стало возможным благо-
даря формированию угла между телом бедренной кости и суставной поверхностью
под ним, что образует достаточно характерную структуру кости — как раз такую,
какая была у колена, найденного в Хадаре. На спешно собранной пресс-
конференции в Аддис-Абебе Джохансон объявил, что между тремя и четырьмя мил-
лионами лет назад в Эфиопии гоминиды начали ходить прямо на двух ногах.
После этого находки в Хадаре посыпались еще быстрее. В 1974 году были най-
дены челюсти гоминидов, а после них — Люси, самый известный ископаемый гоми-
нидов в истории. До сих пор сложно сказать, что именно в Люси так захватило
общество, но немалую роль в этом сыграло «живое» имя — намного более запоми-
нающееся и влияющее на воображение, чем сухой номер из музейного каталога.
Этому продвижению способствовал Джохансон, который вызывал в сознании многих
образ молодой самки, почти человека, умершей в полном одиночестве в эфиопском
лесу около 3,2 миллиона лет назад. Но слава Люси опирается еще и на то, что
именно здесь впервые были обнаружены настоящие останки древнего гоминида, ко-
торые сохранились достаточно хорошо, чтобы наблюдатели могли воссоздать в
своем воображении образ живого, дышащего существа. Крошечный ископаемый ске-
лет Люси (ее рост составлял всего около 105 сантиметров) был, безусловно, не-
полным (так, от черепа остались только нижняя челюсть и некоторые фрагменты
свода), но костей было достаточно, чтобы рассказать, какой она была при жиз-
ни. Эти окаменелости и стали причиной овации, которую устроили Джохансону на
первой пресс-конференции в Аддис-Абебе. По крайней мере, ниже талии кости Лю-
си, вне всякого сомнения, принадлежали прямоходящему существу. В отличие от
глубокого, узкого таза четвероногих обезьян, ее таз был широким и мелким,
чтобы поддерживать внутренние органы, которые теперь располагались над ним, а
не спереди. Этот таз оказался похож на наш с вами, разве что был немного ши-
ре. Бедра Люси были довольно короткими, но они наклонялись внутрь от широко
расставленных тазобедренных суставов, а голеностопный сустав был создан для
передачи веса прямо вниз — на, увы, несохранившиеся ступни.
Скелет Люси, MNEAL 288, Хадар, Эфиопия, относится к Australo-
pithecus afarensis.
Так кем, собственно говоря, была Люси? Незадолго до ее обнаружения и после
находки пары челюстей гоминидов в Хадар к Джохансону приехал Ричард Лики.
Признавая, что челюсти совершенно точно не походили на массивные кости
Australopithecus boisei, Ричард ожидаемо предположил, что останки могут пред-
ставлять собой ранние виды Homo. Джохансон и сам раздумывал над этим, поэто-
му, описывая гоминидов Хадара 1973 и 1974 годов, он, Тайеб, Коппенс, Кэлб и
эксперт по окаменелостям Раймон Боннефиль предположили, что челюсти могли
принадлежать представителю рода Homo. Одновременно с этим ученые сравнили ос-
танки Люси и коленный сустав южноафриканского австралопитека (несколько по-
сткраниальных костей которого были к тому времени известны) и не решились
счесть их идентичными. Интрига усилилась в 1975 году, к моменту, когда Эфио-
пия переживала муки революционных потрясений. Несмотря на политические пре-
пятствия, группа вернулась в Хадар, открыв другой беспрецедентный для палео-
антропологии клад: более 200 фрагментов ископаемых останков гоминидов от бо-
лее чем 12 особей, которые, вероятно, погибли вместе в какой-то катастрофе
(скорее всего, при наводнении).
Наиболее примечательным в «первом семействе», как было названо это собрание
окаменелостей, был большой диапазон размеров. Если бы все найденные особи
принадлежали к одному виду — и, следовательно, к одной социальной группе, —
такое несоответствие позволяло бы предположить четкий половой диморфизм, ко-
торый означает разницу в размерах между мужскими и женскими особями. Конечно,
у современного человека, как и у шимпанзе, мужчины чаще бывают более крупны-
ми , чем женщины, но различия между останками в Хадаре были намного сильнее.
Сегодня похожие различия можно наблюдать только у некоторых видов горилл. Это
было загадочно; однако особенно важным в собрании останков «первого семейст-
ва» было то, что в нем встречались кости тела, которые не сохранились у Люси,
в частности останки рук и ног. В 1976 году команда вернулась в Хадар еще раз,
найдя больше челюстей и обнаружив первые в этом районе каменные орудия, воз-
раст которых был оценен в 2,5 миллиона лет. Это была последняя находка ученых
на ближайшие годы, так как политические события в Аддис-Абебе заставили пре-
кратить полевые работы минимум на 10 лет.
Средний Аваш
и Лаэтоли
Между тем в Эфиопии происходили и другие увлекательные события, о чем Джон
Кэлб рассказал в своей книге 2001 года Adventures in the Bone Trade — обяза-
тельной (наряду с книгой Эустасе Житонги и Мартина Пикфорда Richard Leakey:
Master of Deceit) для всех, кто интересуется социополитической динамикой «по-
золоченного века» палеоантропологии в Восточной Африке. Если говорить корот-
ко, то в конце 1974 года после длительных внутренних интриг афарская команда
раскололась. Джохансон и его французские коллеги вернулись в Хадар, тогда как
внимание Кэлба переместилось вверх по течению реки, к бесплодным землям под
названием Средний Аваш. В 1976 году его команда обнаружила череп гоминида
возрастом около 600,000 лет в местечке Бодо в Среднем Аваше. Объем его мозга
(1250 миллилитров) был довольно впечатляющим, а наиболее похожим по строению
был череп из Брокен-Хилла (ныне город Кабве) в Замбии, который Артур Смит
Будворд счел принадлежащим Homo rhodesiensis (родезийскому человеку). Его
первооткрыватели дипломатично сообщили, что череп Бодо был «менее древним»,
чем азиатский Homo erectus, но «более древним», чем недавние находки в Киби-
ше, о которых сообщил Ричард Лики. Средний Аваш, где в периодически поднимаю-
щихся на поверхность породах с окаменелостями была записана история последних
6 миллионов лет, неожиданно стал занимать центральное место в палеоантрополо-
гии. Но вернемся в 1970-е годы, когда наиболее важные для объяснения хадар-
ских находок открытия были сделаны намного южнее — в Лаэтоли, в Танзании.
Старшие Лики впервые посетили местность Лаэтоли еще в 1930-х и обнаружили
здесь нижний клык примата. Тогда они решили, что он принадлежал обезьяне, но
впоследствии выяснилось, что это зуб раннего гоминида. Несколько лет спустя
недалеко от этого места немецкий исследователь Людвиг Коль-Ларсен нашел фраг-
мент нижней челюсти. Б 1950 году другой немец, Ханс Байнерт, выяснил, что эта
челюстная кость принадлежала представителю яванского рода Meganthropus (от-
крытого Францем Байденрайхом) , и предложил для нее новый вид — Megan thropus
africanus (мегантроп африканский). Интерес к Лаэтоли возродился в 1974 году,
когда туда вновь приехала Мэри Лики. Б течение следующих восьми лет команда
Мэри обнаружила около 30 окаменелостей ранних гоминидов — от отдельных зубов
до двух достаточно полных нижних челюстей (LH — обозначение для Laetoli
Hominid — 2 и 4), возраст которых оценивается в 3,6-3,8 миллиона лет. Немного
позднее ей также удалось найти в этом же районе относительно целый череп Нга-
лоба. Объем этого образца (LH 18) составлял около 1200 миллилитров, а два
описывавших его анатома уклончиво отметили общее сходство с другими черепами
«древних Homo sapiens» из Африки.
Кости восточно-африканских хюминидов. Сверху: череп Бодо, Средний
Аваш, Эфиопия, первоначально считался Homo erectus, сейчас чаще от-
носится к Homo heidelbergensis. Снизу: относительно недавний частич-
но сохранившийся череп LH 18, Лаэтоли, Танзания.
Однако настоящими сокровищами Лаэтоли оказались совсем другие окаменелости:
тропинки, сохранившиеся в древних выбросах вулканического пепла. Многие мле-
копитающие, от жирафов до африканских зайцев, оставили свои следы в грязном
пепле Лаэтоли, выброшенным расположенным неподалеку вулканом, впоследствии
эти следы были увлажнены дождем (в некоторых местах видны даже отметины от-
дельных капель). Отпечатки затем высохли под африканским солнцем, а после
вновь покрылись пепельным осадком, пока не были подняты эрозией на поверх-
ность миллионы лет спустя.
Среди этих млекопитающих была и пара древних хюминидов, которая прошла по
Лаэтоли около 3,6 миллиона лет назад, оставив после себя самые знаменитые от-
печатки ног1 в истории. На 27 метрах туфа отпечатаны 70 следов, идущих двумя
прямыми параллельными дорожками в сторону Олдувая. Следы, вне всякого сомне-
ния, принадлежат существам, уверенно передвигавшимся на двух ногах. Одна из
дорожек, принадлежащая более крупной особи, слегка смазана, поэтому ученые
предположили, что гоминидов было трое или даже четверо, и они шли, наступая
след в след. Вторая дорожка сохранилась очень четко, и лучшие следы ясно по-
казывают отпечаток пятки и носка — отличительных черт современной ходьбы. У
ног1 этих гоминидов был продольный свод стопы с плотно прилегающими к ней
большими пальцами. Вне всякого сомнения, они не отстояли далеко, как хвата-
тельные пальцы у обезьян. В целом отпечатки из Лаэтоли выглядят не точно так
же, как отпечатки современного человека, но тот, кто их оставил, уверенно хо-
дил на двух ногах.
Следы ног1 в Лаэтоли.
Это известно точно. Но с точки зрения автора, музейного куратора, которому
в 1990 году было поручено воссоздать сцену из Лаэтоли, кое-что в этих следах
было странным. Две особи, оставившие их, были, очевидно, разного размера, и в
обычных условиях длина их шага тоже была бы разной. Однако, как указал мне
Питер Джонс, один из открывателей этих следов, отпечатки совпадали, нога к
ноге, на протяжении всей дистанции. Чтобы добиться этого, два гоминида должны
были идти в ногу, шаг за шагом. Более того, отпечатки расположены так близко
друг к другу, что тела гоминидов неизбежно должны были контактировать, воз-
можно создавая неудобства. Что они делали? Шли ли они взявшись за руки? Спле-
тя руки? Может быть, они что-то несли? Все возможно, так как у нас нет объек-
тивных доказательств того или иного предположения. Однако диорама обязательно
должна быть недвусмысленным заявлением, потому что иллюзия природы должна
быть завершенной, чтобы быть убедительной. Мы не хотели развивать мысль даль-
ше, чем позволяли имеющиеся доказательства, и у нас не было возможности
увильнуть. Раз уж наше изображение жизни древних гоминидов должно было быть
конкретным, мы решили выбрать наименее сложный вариант. У нас не было иных
доказательств того, что более мелкий гоминид был подростком, кроме небольшого
размера, но такое изображение казалось нам неподходящим. После разумных раз-
мышлений о половом диморфизме мы решили показать крупного самца, который од-
ной рукой поддерживает небольшую самку. Оба осторожно смотрят на полный опас-
ностей открытый ландшафт, кишащий хищниками, и идут к лесистому убежищу Олду-
вайского бассейна. Мне нравится думать, что они успокаивают друг друга. Тем
не менее, феминистки устроили нам неизбежный разнос за патриархальное изобра-
жение .
Что бы ни произошло на самом деле, кто-то оставил эти отпечатки в Лаэтоли
за 400 тысяч лет до рождения Люси. Кто же они? Естественно было бы предполо-
жить , что это хюминиды, ископаемые останки которых были найдены в постседи-
ментационных отложениях поблизости. Некоторое время принадлежность этих су-
ществ была загадкой. Тогда Мэри Лики, следуя привычке своего сына Ричарда,
начала запрещать всем своим сотрудникам выносить какие-либо систематические
суждения о природе любых останков, найденных под покровительством Лики. Ко-
нечно , все эти окаменелости нужно было описывать, и эта задача была возложена
на Тима Уайта, студента Милфорда Вулпофа, который приехал работать в Лаэтоли
после спора с Ричардом в Восточной Туркане о возрасте туфа KBS. Уайт тщатель-
но выполнял порученную ему работу — одно из самых утомительных заданий, ко-
гда-либо возложенных на палеонтолога. Подчинившись установленной Лики полити-
ке, он не сказал ни слова о том, кем могли бы быть хюминиды Лаэтоли, и даже о
том, с кем их можно было бы сравнить.
Афарский
австралопитек
Летом 1977 года Дон Джохансон, занимавший пост куратора Кливлендского музея
естественной истории, попросил Уайта привезти слепки отпечатков из Лаэтоли в
Кливленд, чтобы сравнить их с материалами из Хадара — единственными известны-
ми хюминидами того же периода (3-4 миллиона лет назад). Поначалу не было яс-
но, договорятся ли Уайт и Джохансон о чем-либо, учитывая то, что Уайт был по-
следователем теории одного вида, а про Джохансона уже было известно, что он
придерживался другого мнения относительно Хадара. Очевидным осложнением был
разброс размеров найденных останков хадарских гоминидов, однако, существовали
и морфологические противоречия. К примеру, у крошечной Люси были достаточно
маленькие передние нижние зубы, поэтому неудивительно, что ее нижняя челюсть
была V-образной. В то же время на крупных челюстях, найденных в Хадаре, пе-
редние зубы были большими, а сами челюсти имели более резко выраженные ис-
кривления .
Тем не менее, начав, по словам самого Джохансона, с разных позиций, два мо-
лодых исследователя вскоре сошлись на теории одного вида. Во-первых, они со-
гласились , что окаменелости из Хадара и Лаэтоли отличаются от всех известных
обезьян и гоминидов. Оттолкнувшись от этой общей точки зрения, они также ре-
шили, что, несмотря на большую разницу в размерах образцов из Хадара, между
двумя крайностями имелись и усредненные варианты, а очевидных провалов не бы-
ло . Наконец, они пришли к выводу, что основные различия в сочетании образцов
были аллометрическими (связанными с разницей в размерах), тогда как различия
между остальными были такими же, как между индивидами в одной популяции. Вуа-
ля! В период между 3 и 3,7 миллиона лет назад как в Хадаре, так и в Лаэтоли
существовал один конкретный вид гоминидов с ярко выраженным половым диморфиз-
мом.
Убедившись, что перед ними находятся кости одного вида гоминидов, Джохансон
и Уайт приступили к описанию его представителей. Они хорошо приспособились
ходить на двух ногах, и рост даже самых крупных самцов не превышал 1,5 метра,
хотя они были намного больше самок. Судя по следам мышц на костях, оба пола
были крепко сложены. Ноги гоминидов были относительно короткими, если сравни-
вать с руками, а ладони, похожие на ладони современного человека, были все же
немного более длинными и изогнутыми. Торс имел коническую форму и сужался к
плечам. Большие лица поддерживали выступающие вперед челюсти, формируя зубную
дугу, которая не была ни параболической, как у нас, ни плоскопараллельной,
как у обезьян. Резцы были довольно крупными, а моляры, хоть и большие, не
имели ничего общего с огромными плоскими зубами австралопитеков. Черепа же,
напротив, были маленькими, мозгу доставалось примерно столько же места, что и
у шимпанзе. Они жили раньше, чем были созданы все найденные в Хадаре древние
орудия, и сами орудий не делали.
Итак, перед Джохансоном и Уайтом находился отдельный вид гоминидов. Но как
они должны были его классифицировать? В основном, из-за большого возраста — а
не морфологии, как настаивал бы систематик, — они решили, что этот вид был
«корневым» хюминидом, предшественником всех остальных видов, включая австра-
лопитеков и Homo. По логике вещей, если их новая форма жизни на самом деле
была предком обоих указанных видов, она не принадлежала ни к одному из них,
поэтому имело смысл придумать для нее отдельный вид. Однако в постмайровой
антропологии такой шах1 был немыслим. По этой причине оба палеоантрополога до-
говорились консервативно относить их к роду Australopithecus. Вопрос вида
был, таким образом, решен. Поскольку они уже решили, что новые особи не были
похожи ни на кого другого, им нужно было новое название. В этот момент они
пошли на довольно смелый шах1. Каждому новому виду нужен «хюлотипный» образец,
который носит его имя и является стандартом, с которым сравниваются все пред-
полагаемые члены этого вида. Поскольку окаменелости были найдены в двух мес-
тах, достаточно далеких друг от друга, Джохансон и Уайт решили каким-либо об-
разом объединить их. Чтобы достичь этого символического единства, они взяли в
качестве названия комбинацию Australopithecus afarensisto — в честь места,
откуда произошли наиболее известные останки, но в качестве голотипа выбрали
нижнюю челюсть LH 4 из Лаэтоли.
Они не просто нарушали таксономические правила, а искушали судьбу. Не все
считали, что гоминиды из Афара и Лаэтоли были одним и тем же; некоторые, как
Ричард Лики, верили, что в образцах из Хадара присутствует больше одного ви-
да. Немедленно возникли и личные осложнения. По словам Джохансона, Мэри Лики
согласилась присоединиться к нему, Уайту и Коппенсу для описания нового вида
при ожидаемом условии — не делать заявлений о том, что Australopithecus могут
оказаться предками рода Homo. Это, конечно, означало устранение любых потен-
циально неприятных сравнений. Но к тому моменту, как статья, сообщающая о но-
вом названии, находилась на утверждении, Мэри успела обидеться на то, что
«ее» окаменелости из Лаэтоли получили название в честь другого места, или,
возможно, на то, что их не отнесли к роду Homo. Она потребовала убрать свое
имя из списка авторов, а сделать это можно было, только уничтожив первый ти-
раж публикации и переиздав ее заново. Мэри добилась своего, но лишь за счет
практически полного отчуждения от своих потенциальных соавторов.
По сути, неудачное, такое развитие событий, тем не менее, дало Джохансону и
Уайту карт-бланш на публикацию работы, которая в установленном порядке вышла
в авторитетном журнале Science в начале 1979 года. После обсуждения различных
потенциальных перестановок Джохансон и Уайт решили использовать простую раз-
дваивающуюся схему, в которой Australopithecus afarensis в какой-то момент
времени 3 миллиона лет назад дал начало двум линиям. Одна из них идет через
Homo habilis и Н. erectus к Н. sapiens. В другой изящные A. africanus обрыва-
ются на A. robustus, которых Джохансон и Уайт не отличали от восточно-
африканского варианта, A. boisei. Эта схема для того времени выглядела до-
вольно замысловатой, а ее бескомпромиссный минимализм отчетливо подорвал
влияние Эрнста Майра на палеоантропологию. Впрочем, для некоторых она была
недостаточно минималистична. К примеру, видный палеоантрополог из Южной Афри-
ки Филип Тобиас заявил, что восточноафриканский A. afarensis был не чем иным,
как локальной разновидностью открытого им южноафриканского A. africanus (фак-
тически прародителя всех поздних гоминид). С другой стороны, Тодд Олсон из
Городского колледжа Нью-Йорка пришел к выводу, что большинство найденных в
Хадаре и Лаэтоли образцов принадлежали к виду массивных австралопитеков, ко-
торых он вслед за Робертом Брумом предпочитал называть парантропами. Олсон
заявил, что найденные останки должны получить название Paranthropus
africanus, утверждая, что эти окаменелости принадлежали к видам, которые
Коль-Ларсон открыл в Лаэтоли еще в 1930-х годах и которые Вайнерт назвал
Meganthropus africanus в 1950-м. С другой стороны, он заявил, что Люси и дру-
гие некрупные особи из Хадара отличались от других. По его мнению, они должны
были быть причислены к роду Homo, в который он включал южноафриканских гра-
цильных гоминидов. В соответствии с правилами зоологической номенклатуры,
дающими приоритет в названии вида тому, кто первый опубликовал работу, все
найденные впоследствии окаменелости причислялись к роду Н. africanus.
Странным образом это радикальное расхождение во мнениях вернуло нас к ста-
рой дихотомии Homo vs. кто-то еще (обычно этим кем-то оказывались различные
формы австралопитеков и парантропов). От этого дихотомичного образа мыслей
антропология отказывалась крайне неохотно — даже несмотря на то, что спор о
том, сколько видов гоминидов было представлено в Хадаре, продолжался, хоть и
не столь активно, как раньше. Сегодня большинство палеоантропологов, включая
Джохансона и Уайта, верят, что в том районе были найдены разнообразные остан-
ки лишь одного вида, но меньшинство не только не соглашается с этим предполо-
жением, но и заявляет, что выборка была сделана неверно (и, соответственно,
ископаемые останки должны были называться иначе). Такие серьезные затруднения
напоминают нам о том, насколько сложна на самом деле базовая систематика.
Сортировка образцов, находящихся перед вами — или, что еще хуже, разбросанных
по музеям мира, — одна из самых сложных задач, которые любой палеобиолог ста-
вит перед собой. Слишком часто палеоантропологи считают это простой операцией
по заполнению, с которой давно уже пора покончить — или вовсе отмести в сто-
рону, — предшествующей более важным задачам, например адаптации. Тем не ме-
нее, как я уже отмечал, если хотите разобраться в пьесе эволюции, вам нужно
знать в лицо актеров и их роли.
Двуногий,
лазающий или
и то и другое?
В течение десятилетий после официального объявления о двуногом афарском ав-
стралопитеке палеонтологи были в основном озабочены тем, что гоминиды делали,
а не тем, кем они были. В этот момент продолжало существовать предположение,
что передвижение на двух ногах развилось для освобождения рук, чтобы иметь
возможность делать инструменты и переносить вещи. Поэтому открытие, что Люси
и ее вид существовали до создания каменных орудий, привело к переосмыслению.
Значительным влиянием в этом процессе обладал анатом университета Кента Оуэн
Лавджой, который привел подробное описание затылочных фрагментов черепов из
Хадара. В частности, из-за человекоподобной ширины таза Люси он быстро убе-
дился, что A. afarensis были очень хорошо приспособлены для прямохождения. В
сочетании с особенностями бедренной кости большая ширина таза Люси позволила
ему предположить, что A. afarensis обладал очень эффективным мышечным меха-
низмом для стабилизации бедра в вертикальном положении. Более того, Лавджой
пришел к выводу, что гиперадаптация к прямохождению была, очевидно, связана с
тем, что у обладательницы небольшого мозга Люси не было таких же проблем с
родами, как у большеголовых современных людей (во многих развивающихся стра-
нах осложнения при родах все еще являются основной причиной смерти молодых
женщин). С точки зрения Лавджоя, поздние люди пожертвовали эффективностью
прямохождения ради увеличения мозга.
Все хорошо, но для чего Люси и ее родственники стали прямоходящими, если не
для производства инструментов? Отвергая то, что переход от ходьбы на четырех
конечностях к прямохождению мог быть гигантским анатомическим скачком, Лавд-
жой искал фактор, который мох1 последовательно регулировать долговременный пе-
реход между двумя видами опорно-двигательного аппарата. И в неодарвинианском
стиле он заключил, что все было связано с репродуктивным успехом. Логика ра-
ботала так. Нет почти никаких шансов, что самки Australopithecus afarensis
сами по себе могли улучшить репродуктивные показатели и получить эволюционное
преимущество. В конце концов, у них уже были руки, чтобы собрать достаточное
количество пропитания для себя и своего потомства. Но они могли справиться с
большим количеством детей, если бы ухитрились найти свободного самца, который
помогал бы их прокормить. Недоверчивый самец, однако, будет приносить домой
пищу, только если он может быть уверен, что потомство, на которое он тратит
свои усилия, действительно ему принадлежит. Поэтому ранние гоминиды должны
были иметь социальную систему, стимулировавшую постоянное разбиение по парам
и верность партнеру. Такое разбиение потребовало бы сложной системы сексуаль-
ных сигналов. И у двуногих это привело бы к эволюции таких непостижимых при
иных условиях вторичных половых признаков, как грудь, лобковые волосы и скры-
тая овуляция.
Чрезвычайно сложная работа Лавджоя, вышедшая в 1981 году, была предсказуемо
спорной. Это, однако, оказало благотворное влияние на возобновление обсужде-
ний предполагаемых преимуществ прямохождения, и в следующем десятилетии уви-
дели свет несколько важных исследований, сравнивающих эффективность прямохож-
дения и хождения на четырех конечностях по земле. В этих работах впервые было
упомянуто такое преимущество вертикального хождения, как поддержание постоян-
ной температуры тела (и мозга) в открытой тропической среде. Тем не менее,
сама основа аргумента Лавджоя о сложной биосоциальной системе была быстро по-
дорвана дальнейшими исследованиями, которые ставили под сомнение, что
Australopithecus afarensis жил на земле. Два французских палеонтолога, Брижит
Сеню и Кристин Тардьё, пришли к выводу, что подвижность суставов верхних и
нижних конечностей у A. afarensis была выше, чем у современных людей, что
улучшало навыки лазанья — именно об этом говорит хорошая подвижность суставов
запястья, что отметил Генри Мак-Генри из Университета Калифорнии в Дэвисе.
Билл Джангерс из университета Стони Брук отметил, что относительно короткие
ноги Люси были бы удобны для лазанья, в то время как Йоэль Рак из Университе-
та Тель-Авива впоследствии отметил, что строение таза Люси вместо того, чтобы
быть знаком эффективного прямохождения, возможно, просто было механическим
следствием этих коротких ног, компенсируя им улучшенное вращение. Расе Таттл
из Университета Чикаго обнаружил, что рука и кости стопы в коллекции «первого
семейства» были довольно длинными и изогнутыми, что показывает мощный потен-
циал захвата и, развивая мысль, указывает в какой-то степени на приспособлен-
ность к жизни на деревьях. Кроме того, вслед за Уиллом Харкурт-Смитом из Уни-
верситета Нью-Йорка можно заключить, что человекоподобные лаэтольские следы
вряд ли были сделаны гоминидами, чьи кости ступней были найдены в Хадаре.
Сведя все имеющиеся доказательства воедино, Юнгерс и его коллеги Рэнди Сус-
ман и Джек Штерн из Стони Брук предположили, что, хотя Australopithecus
afarensis был, без сомнения, прямоходящим, передвигаясь по земле, он не обя-
зательно проводил большую часть своего времени там. Используя небольшой раз-
мер тела, эти ранние гоминиды, конечно, оставались зависимыми от деревьев для
жилья, особенно в ночное время и, предположительно, проводили там много вре-
мени в процессе кормления. О том, существовал ли некий баланс между деревьями
и землей, можно лишь догадываться. Полученная структура таза и ноги Люси не
оставляет сомнений, что она провела много времени на двух ногах на земле. Но
в то же время нет никаких сомнений и в том, что A. afarensis произошел от
древесного предка. Невозможно быть уверенными, в какой степени примитивные
атрибуты жизни на деревьях были просто «багажом», доставшимся от предков, а
не функциями, которые активно повлияли на его образ жизни. Но, так как любой
организм должен выживать как продукт общей структуры, вероятность того, что
Люси и подобные ей проводили значительное время и на земле, и на деревьях,
довольно высока, в результате чего эти гоминиды часто представляются только
как «обычные» двуногие. Это контрастирует с «облигатными» двуногими, похожими
на нас (в то время как шимпанзе, которые могут ходить в вертикальном положе-
нии, когда хотят, но делают это нечасто, являются «факультативными» двуноги-
ми) .
Двойственный образ жизни, описанный Юнгерсом и коллегами, конечно, следует
из обычных условий, в которых жили Australopithecus afarensis. Сегодня Хадар
— суровая засушливая пустыня, но во времена Люси это было место, где извили-
стые реки граничили с галерейными лесами и болотами, уступившими место лесам,
кустарникам, зарослям и открытым пастбищам. Открытое сухое пространство древ-
ней Лаэтоли, скорее всего, являлось необычным местом для гоминидов. И даже те
гоминиды, которые, как вы помните, оставили дорожку отпечатков, следовали в
более наполненный растительностью Олдувайский бассейн. В смешанной среде оби-
тания, которую, судя по всему, занимал A. af arensis, Люси и ее родственники
почти наверняка использовали все доступные им ресурсы, включая те, что были
только в лесах и только в открытых пространствах.
Такое приспособленческое существование было, очевидно, очень эффективной
стратегией для ранних гоминидов, поскольку мы можем сказать, что обусловлен-
ный этим основной образ жизни сохранялся на протяжении нескольких миллионов
лет, несмотря на то, что различные виды ранних гоминидов сменяли друг друга.
На самом деле это хороший урок, потому что мы часто склонны представлять ав-
стралопитеков каким-то переходным звеном между древесным и наземным образом
жизни. Но «переходный» означает «ни рыба, ни мясо», эфемерно промелькнувший
на пути от одного стабильного состояния к другому, в то время как в действи-
тельности австралопитеки вели образ жизни со стабильной и успешной стратеги-
ей, на одном уровне с той, что была раньше, и той, что пришла позже. У авст-
ралопитеков был свой образ ведения дел, как и у нас, что подчеркивает, как
искажены наши взгляды на этих предшественников как на младшую лигу самих се-
бя. Вряд ли возможно восстановить образ жизни ранних гоминидов, ориентируясь
только на то, как мы сами осуществляем те или иные действия.
ГЛАВА 7
Тем
временем
в музее
Для меня посещение Музея естественной истории в Нью-Йорке в 1971 году было
подобно путешествию на другую планету. В Йеле я насмотрелся на то, как исклю-
чительно умные люди тратили время, цепляясь за неотвратимо устаревающие спо-
собы мышления, в то время как новые способы зарождались в Американском музее.
Кураторы отдела ихтиологии Гарет Нельсон и Донн Роузен прилагали все усилия к
продвижению кладистики, пока Нильс Элдридж и Стивен Джей Гулд, недавно напра-
вившие свои стопы в Гарвард, только готовились посягнуть на самые основы син-
тетической теории эволюции (также зародившейся в музейных кругах). На практи-
ке можно было сказать, что мое обучение только начиналось, и огромной удачей
для меня оказалось то, что одним из моих первых коллег после приезда в Нью-
Йорк стал Нильс Элдридж.
Хотя на тот момент он уже был палеонтологом, экспертом по трилобитам и спе-
циалистом по теории эволюции, Элдридж только начинал интересоваться антропо-
логией, так что спустя короткое время мы уже вели совместную работу по иссле-
дованию палеонтологической летописи человечества. В то время Милфорд Уолпофф
во всеуслышание проповедовал теорию единого вида в чистейшей форме, а иско-
паемые доказательства, которые впоследствии решительно опровергли бы эту ги-
потезу, еще не были найдены. Однако, когда мы с Элдриджем попытались посмот-
реть на доступные свидетельства с новой точки зрения, из записей о гоминидах
очень быстро стало очевидно, что реальность прямо противоположна той модели,
что предсказывал градуализм.
В одной главе нашей книги, опубликованной с некоторым опозданием в 1975 го-
ду, уже после того, как я на год уехал исследовать лемуров на Мадагаскаре и
Коморских островах, мы обращали внимание на то, что, поскольку ископаемые ос-
танки, составляющие архив эволюционной истории, должны быть физически обнару-
жены , ранее подразумевалось, что сама эволюционная история является предметом
научного исследования. Негласное правило утверждало, что, если ты облазил
достаточно скал и нашел достаточно останков, тебе каким-то образом откроются
тайны эволюции. Разумеется, в глазах градуалистов, представляющих окаменело-
сти как звенья в цепи, протянутой сквозь время, эта точка зрения была единст-
венно приемлемой. Если ты нашел достаточное количество звеньев и правильно
расставил даты, само собой разумеется, что в результате ты получишь закончен-
ную цепь. С подобной логикой сложно спорить. Однако логику невозможно приме-
нять к реальному миру, если изначальное предположение неверно. Как мы уже ви-
дели ранее, как минимум некоторые палеонтологи на тот момент уже давно знали,
что видение эволюционного процесса, на котором она базировалась, было если не
полностью ошибочно, то точно далеко от завершенности. Как вы можете помнить,
сам Дарвин был очень обеспокоен недостатком ожидаемых промежуточных материа-
лов в палеонтологической летописи. Он объяснял это неизбежной незавершенно-
стью процесса. Прошло больше 100 лет, пока Элдридж и Гулд не выдвинули реши-
тельное предположение, что явные пробелы в летописи на самом деле могут быть
источниками информации. Если они были правы, и биологические виды действи-
тельно можно было рассматривать как отдельные организмы со своими датами рож-
дения, смерти и сроками жизни между ними, тогда ваш взгляд на палеонтологиче-
скую летопись необходимо было решительно менять. Окаменелости, с которыми вам
придется иметь дело, на самом деле составляют сложную генеалогию видов, поро-
жденных в какой-то момент в прошлом разделением линии наследования. Для каж-
дого обнаруженного ископаемого вида где-то есть еще один — уже известный по
известным находкам или еще нет, — тесно связанный с ним цепью наследования.
Образуемую таким способом схему взаимосвязей между ископаемыми видами и их
гипотетическими живущими потомками нельзя просто взять и обнаружить напрямую,
она выстраивается путем кропотливого анализа. Одного открытия недостаточно.
Таким образом, возникает вопрос: на какие качества окаменелостей следует об-
ращать внимание, когда пытаешься понять их место на Древе жизни, и как следу-
ет их анализировать?
С точки зрения приверженцев систематики, окаменелость обладает тремя основ-
ными свойствами, такими как состояние и внешний вид, возраст и место происхо-
ждения. Эти свойства имеют разную значимость при попытке реконструировать
эволюционный процесс. Место происхождения окаменелости имеет значение для
анализа его адаптационных механизмов, но оно не проливает света на то, с ка-
кими биологическими видами близко связано ископаемое существо. Аналогичным
образом нужно быть осторожными, оценивая возраст окаменелости, потому что ни-
когда нельзя точно установить продолжительность жизни биологического вида, к
которому она принадлежала, а также возрастную группу данного вида, которую
представляла данная окаменелость. Соответственно, если исключить возраст и
географию как индикаторы вида окаменелости и его взаимосвязей с другими вида-
ми, нам остается только морфология (сегодня включающая в широком значении мо-
лекулярное строение). Это единственное свойство окаменелости, несущее неоспо-
римый отпечаток ее истории. Как мы видели в главе 5, этот отпечаток не всегда
легко расшифровать, но в тех пределах, до которых мы способны реконструиро-
вать иерархию первичных и вторичных характерных признаков, возникших в ходе
эволюции, на основании доступных нам данных, мы можем выдвигать эксперимен-
тально проверяемые утверждения о взаимосвязях, охватывающие постоянно расши-
ряющийся круг групп. В сложных ситуациях палеонтологи могут время от времени
использовать возраст окаменелости как очень общий ориентир для определения
первичности или вторичности его характеристик, но подобные заключения невоз-
можно эмпирически подтвердить, и поэтому они ценятся не выше, чем общие рас-
суждения .
Все прочие утверждения, которые могут быть проверены экспериментально, сво-
дятся к единству, порожденному происхождением от общего предка. При этом они
указывают просто на близость связи, но не на само происхождение. В самом де-
ле , если вы хотите заявить, что известный биологический вид А породил более
поздний вид Б, вам придется показать, что вид А соответствует реконструиро-
ванной морфологии общего предка пары во всех подробностях, и очень маловеро-
ятно, что вам это удастся. Более того, даже в том маловероятном сценарии, при
котором вид А действительно окажется первичным для вида Б по всем признакам,
вам не удастся выявить вторичный признак, который объединил бы их и устано-
вил, таким образом, взаимосвязь. Иными словами, каждый раз, когда вы делаете
заявления о происхождении и наследовании, вы покидаете эмпирически достовер-
ные пределы кладограммы. Разумеется, ничего страшного в этом нет, пока вы
осознаете, что часть работы делает ваше воображение. И конечно, если вы смо-
жете показать, что более ранний вид обладает вторичными признаками, которые
отсутствуют у более позднего вида, вы сможете со всей уверенностью исключить
вид А из цепи наследования.
Подготовив почву таким образом, мы с Элдриджем принялись исследовать палео-
нтологическую летопись человечества. В то время никто из нас не был особенно
близко знаком с оригинальными окаменелостями, описывающими процесс эволюции
гоминидов, но к тем доказательствам, которыми мы располагали, подходили с
систематической точки зрения, приобретенной в процессе работы с группами, об-
ладающими значительным разнообразием. То, что мы видели, однозначно не было
непрерывной последовательностью. Используя довольно ограниченный набор харак-
теристик, мы сконструировали кладограмму взаимосвязей гоминидов — первую из
многих, которая укрепила наше изначальное восприятие ситуации. То были ранние
дни, и наши единицы анализа отражали многие пережитки старых традиций: напри-
мер, мы рассматривали неандертальцев и современных людей как подвиды одного
вида, как проповедовали Добржанский и Майр, и по-прежнему воспринимали рама-
питеков как ответвление семейства гоминидов. Смены научных взглядов и принци-
пов редко бывают резкими и полными! Но даже самые ранние выводы, полученные
из наших предварительных исследований, открыли глаза на многое, по крайней
мере, нам.
Самым интересным было то, насколько удивительно сложно для нас оказалось
воспринимать Homo erectus как наследственный морфотип Homo sapiens. По струк-
туре черепного свода Homo erectus было очевидно, что он обладал рядом разно-
образных вторичных характеристик, которые отличали его от современного чело-
века. Мы пришли к выводу, что этот вид занял свою традиционную позицию «про-
межуточного гоминида» исключительно потому, что был найден в «правильной»
стратиграфической позиции, во временном промежутке между грацильными австра-
лопитеками и Homo sapiens. He вредило делу также и то, что эта широко распро-
страненная азиатская форма была первым открытым истинно древним гоминидом,
занявшим свое каноничное место в палеоантропологическом пантеоне на очень
ранних этапах. Мы заключили, что, с морфологической точки зрения, гораздо ло-
гичнее было бы считать Homo sapiens потомком Homo habilis Луиса Лики, чем
представить его как потомка Homo erectus. Это был верный ход мыслей (хоть и,
как оказалось впоследствии, зашел он не очень далеко), но, как бы мне ни хо-
телось сказать, что наши коллеги тут же усвоили этот урок, наш отчет канул в
Лету, не вызвав особо сильного резонанса. Тем не менее, мы обозначили свою
позицию: лишь после того, как для отдельно взятой группы организмов будет со-
ставлена кладограмма, можно будет отличить то, что мы знаем об их взаимоотно-
шениях, от того, во что мы просто верим. Мы также указали на исходную уязви-
мость наших текущих знаний: «Мы не знаем, с каким точно количеством таксонов
мы имеем дело при обсуждении ископаемых останков гоминидов или каков полный
набор их характеристик».
Вопросу, как распознавать виды в палеонтологической летописи, была посвяще-
на большая часть моей дальнейшей карьеры. Однако в промежутке, после того как
я вернулся из своей продолжительной экспедиции, посвященной лемурам и сопут-
ствующим приключениям, мы с Элдриджем продолжили нашу работу и после той пер-
вой, довольно малоизвестной книжной главы опубликовали статью в более попу-
лярном American Scientist. Там мы более развернуто сравнили простую базовую
кладограмму с другими видами эволюционных гипотез.
D D
С В D С В D
t t t/ t/
в с в с
t t t t
AAA A
Диаграмма, показывающая различия между кладограммами и филогенетиче-
скими деревьями. Кладограммы, подобные изображенной слева, являются
просто утверждениями обобщенной взаимосвязи. Виды В и С более близки
друг к другу по цепи наследования, чем любой из них по отношению к
D, в то время как А генеалогически равноудален от них всех. Дерево
является более сложным утверждением, которое может включать время, а
также происхождение и наследование. Все деревья, изображенные спра-
ва, одновременно совместимы и могут быть выделены из единой кладо-
граммы слева.
Мы сформулировали, что кладограмма не содержит никаких дополнительных смы-
слов, кроме идеи вложенности организмов соответственно конфигурации их харак-
теристик и, следовательно, их генеалогических взаимосвязей. Мы также отмети-
ли, что традиционное «филогенетическое дерево» отображает более детализиро-
ванный уровень анализа, потому что оно определяет природу взаимосвязей между
исследуемыми видами. В кладограмме предковые формы, представленные в точках
разветвления, являются чисто гипотетическими. Они обладают просто списком ха-
рактеристик, которые можно ожидать от существа, находящегося в данной пози-
ции. Все включенные таксоны являются «граничными» в том смысле, что они рас-
полагаются рядом вверху кладограммы, в то время как таксоны ископаемых и ныне
живущих видов обрабатываются абсолютно одинаковым способом.
С другой стороны, в дереве взаимосвязи передаются с большим количеством ню-
ансов . С помощью дерева можно показать два разных вида взаимосвязей: между
предком и потомком, а также между двумя «братьями», происходящими от того
предка в результате разделения линии наследования. На практике же выбор одно-
го из этих двух способов требует принятия субъективного решения, поскольку
распознавание и предков, и событий видообразования обычно сопряжено с огром-
ными трудностями и невозможно доказать, что два таксона являются непосредст-
венными наследниками одного родителя. Если добавить к дереву измерение време-
ни, чего не избежать, когда речь идет об ископаемых существах, то перед вами
окажется крайне сложная и не поддающаяся проверке гипотеза. Таким образом,
как показывает изображение выше, одну кладограмму можно трансформировать в
несколько разных деревьев в зависимости от того, как вы хотите отобразить
рассматриваемые взаимосвязи.
Филогенетическое дерево не подвергается проверке, так что к базовой инфор-
мации, содержащейся в оригинальной кладограмме, приходится добавлять субъек-
тивные суждения. Но такой тип организации материала все равно намного проще,
чем сценарий, при котором вы строите все дерево на одних лишь предположениях.
Информация подобного типа чаще всего включает известные вам сведения о среде,
в которой проживал исследуемый ископаемый вид, на которых вы можете основы-
вать свои предположения о его адаптации. Точно так же, как одна кладограмма
может потенциально раскладываться на несколько деревьев, так и количество
сценариев, которые могут быть созданы на основе одного дерева, практически
бесконечно. К тому времени как вы сформулируете свой сценарий, вы настолько
удалитесь от любой верифицируемой информации, что главным критерием его прав-
доподобности станут ваше красноречие и талант рассказчика.
Разумеется, из-за своей сложности сценарии являются самым интересным видом
эволюционных рассуждений. И было бы глупо сразу бросаться оспаривать их толь-
ко потому, что их непросто взвесить и оценить. Мы с Элдриджем отмечали, что
точно так же, как любое дерево должно быть основано на кладограмме, каждый
сценарий должен быть основан на четко сформулированном дереве. Мы подчеркива-
ли, что палеонтологи тратят много времени на разговоры, не понимая друг дру-
га, потому что сразу бросаются в сложные хитросплетения своих любимых сцена-
риев, не удосуживаясь продумать более простые формулировки, на которых они
основаны, или, что более вероятно, пропуская обязательный предварительный
этап целиком. Неизбежным результатом этого были словесные дуэли — тихие или
на повышенных тонах, опубликованные на первых страницах популярных газет или
в заумных специализированных журналах, выпускаемых маленьким тиражом.
Словесные
дуэли
Самая известная палеонтологическая словесная дуэль имела место на нацио-
нальном телевидении между Ричардом Лики и Дональдом Джохансоном. На протяже-
нии второй половины 1970-х годов отношения между ними постепенно портились, и
к концу десятилетия эти двое практически не разговаривали, хотя оба пожинали
весьма щедрые плоды широкой огласки, которую получило их небольшое противо-
стояние. В конце концов, эти пикировки приобрели такую славу, что в 1981 году
канал CBS организовал теледебаты между Лики и Джохансоном. Они должны были
вестись в прямом эфире в прайм-тайм из Американского музея естественной исто-
рии. Управлял процессом не кто иной, как выдающийся телерепортер Уолтер Крон-
каит . Первым в музей прибыл Джохансон, жизнерадостный, любезный и устрашающе
подготовленный. Лики объявился в последний момент, буквально выпав из лимузи-
на, растрепанный и изможденный после долгого перелета из Кении и, по его соб-
ственным словам, слабо представляющий, что происходит.
Вскоре все участники заняли свои места, окруженные реконструированными че-
репами вымерших гоминидов. Зажглись прожекторы, и трансляция стартовала.
Кронкаит начал с вполне ожидаемых поздравлений по поводу всех потрясающих
окаменелостей, которые оба ученых обнаружили за свою карьеру, и пригласил их
обменяться обычными вежливыми фразами о важности своей работы. После этого он
перешел к делу и начал задавать вопросы о научных убеждениях обоих гостей и о
причинах их резких разногласий. И тут началось.
Пока Лики разглагольствовал, мастерски скрывая отсутствие у себя какого-
либо вразумительного представления об основах палеоантропологии и отпуская
хитроумные презрительные комментарии в адрес своего оппонента, Джохансон по-
тянулся за чем-то, лежавшим под его стулом. Широким театральным жестом он вы-
тащил большую белую доску и черный маркер. На одной стороне доски была очень
красиво нарисована версия генеалогического древа гоминидов, которую они с
Уайтом опубликовали незадолго до этого. Другая сторона доски была пустой.
Объявив во всеуслышание, что так выглядит его представление об эволюции чело-
вечества, Джохансон сунул доску в руки Лики и призвал его проиллюстрировать
его альтернативную точку зрения на свободной части доски. Ожидаемо ошеломлен-
ный, Лики колебался всего несколько мгновений, а затем нарисовал огромный
знак «X» поверх дерева Джохансона — Уайта. Когда Джохансон спросил его, чем
бы он заменил предложенную схему, Лики разгневанно ответил: «Вопросительным
знаком!» Изобразив данный символ на своей половине доски, он вернул ее Джо-
хансону и решительно удалился, оставив Кронкайта, меня и остальных зрителей в
полном изумлении. В этот момент произошел окончательный разрыв между двумя
звездами палеоантропологии, который продлился 30 лет, пока взаимная выгода и
пришедшая с возрастом толерантность не свели их вместе повторно. В 2011 году
снова в стенах Американского музея они воспроизвели безэмоциональное и мучи-
тельно вежливое подобие своего словесного поединка.
Данный инцидент был не совсем типичным для уровня палеоантропологии начала
1980-х годов, но он стал своего рода метафорой для того, каким образом велись
дела в науке в те дни. По сути, заявление одного эксперта противопоставлялось
другому, и правота в подобных диспутах определялась на основании того, кто
контролировал окаменелости, подкрепляющие эти авторитарные заявления. Входная
плата за участие в таких дебатах была высокой, и услышанными чаще всего ока-
зывались те, у кого в результате большой удачи (а также, справедливости ради
нужно отметить, тяжелого труда и самоотверженности) на руках оказались важные
новые материалы. Шансы на то, что ваш аргумент услышат, значительно повыша-
лись , если его подкрепляла новая и желательно необычная находка, и сохранение
жесткого контроля над подобными материалами было хорошим способом гарантиро-
вать , чтобы ваши теории не подвергались сомнению. Если вы были старомодны и
изучали, например, неандертальцев, уже тогда широко известных многочисленными
образцами палеоантропологического наследия, ваши идеи имели высокие шансы
быть услышанными, даже если у вас не было на руках новых окаменелостей, чтобы
пополнить существующую летопись. Но в мире новых исследователей плиоцена и
раннего плейстоцена ставки за вход в игру были высоки и оплачивались в иско-
паемой валюте.
Большая часть установок, сформировавшихся в тот важнейший для истории па-
леоантропологии период, сохранилась до сих пор, хотя постепенно значимость
идей и внимание к тому, как они сформулированы, начинают цениться по заслугам
все более широким кругом исследователей эволюции человечества. В конце кон-
цов, в это время происходили хоть какие-то изменения, как минимум до палеоан-
тропологии дошли достижения кладистики. В то же время один серьезный проблем-
ный вопрос остается нерешенным и даже в большой степени непризнанным. Это во-
прос о том, как следует распознавать и разделять виды — основных актеров в
эволюционном театре. В нашей статье 1977 года мы с Элдриджем уже сетовали на
вдохновленное теорией синтеза «модное нежелание применять видовые названия к
недавно обнаруженным ископаемым гоминидам», особенно к тем, которые были най-
дены на территории Кении и Эфиопии. Мы отмечали, что, как правило, различия,
заметные в костях и зубах видов приматов в пределах одного рода, редко броса-
ются в глаза, и мы предполагали, что понимание этого сослужило бы очень по-
лезную службу для изучения всего многообразия древних гоминидов. Сегодня этот
вопрос остается таким же актуальным, как и тогда, но суровый, минималистичный
образ мышления исследователя-анатома продолжает доминировать в науке, и па-
леоантропология по-прежнему отказывается отвечать на эти базовые вопросы.
За пределами
Африки
Пока внимание общественности было приковано к Африке, в других частях света
производились не менее важные открытия, не снискавшие себе такой громкой сла-
вы. В 1969 году на острове Ява был найден первый череп Homo erectus с сохра-
нившейся лицевой частью. Названный Сангираном 17 в честь территории, где был
обнаружен, он щеголял черепной коробкой объемом более 1000 миллилитров и не-
ожиданно массивным лицом. Впоследствии другие останки Homo erectus были най-
дены в центральной части Явы и были начаты работы по их радиометрической да-
тировке . Подобные работы обычно оказываются непростой задачей, но сегодня
принято считать, что первой крышке черепа, найденной в Триниле, около 700 ты-
сяч лет, в то время как большинство материалов из Сангирана, включая ранние
находки Густава фон Кенигсвальда, датируются примерно миллионом лет. Однако
датировка калиево-архюновым методом довольно решительно указала на то, что
Homo erectus бродили по Яве еще 1,6 миллиона лет назад, а возможно, и немного
раньше. Пожалуй, одним из самых удивительных можно назвать обнаружение не-
скольких черепов перед началом Второй мировой войны в регионе под названием
Нгадунг. Их возраст оказался поразительно небольшим — всего 40 тысяч лет! Го-
миниды из Нгадунга обладали более крупными черепными коробками по сравнению с
найденными в Сангиране и Триниле (объем самого крупного составил 1251 милли-
литр) . Было очевидно, что они принадлежали к тому же виду, что и их предшест-
венники, и представляли собой ярчайший в палеоантропологии пример заявления
Джованни Батисты Брокки о том, что биологические виды иногда имеют очень про-
должительный срок жизни.
На раскопках в Чжоукоудяне в Китае в 1966 году был найден элемент черепа
Homo erectus, который точно соотносился со слепком черепной коробки, обнару-
женной в том же регионе перед началом Второй мировой войны, но впоследствии
утерянной вместе со всей коллекцией. Примерно в то же самое время радиометри-
ческая датировка начала проливать свет на примерный возраст «пекинского чело-
века». Ранние подсчеты давали результаты от 230 до 460 тысяч лет, но после-
дующие версии указывали на несколько больший возраст. Самые последние иссле-
дования, проводимые преимущественно с применением технологии, известной как
космогенный метод 2бА1/10Ве (алюминий/бериллий), указывают на приблизительный
возраст примерно между 680 и 780 тысячами лет. В том виде, в котором он при-
менялся в Чжоукоудяне, 2бА1/10Ве определяет в образце гранул кварца соотноше-
ние двух разных радиоактивных изотопов, которые распадаются с разной скоро-
стью. Данное соотношение фиксируется, когда образец попадает под солнечные
лучи, но, пока он находится под землей, как часто бывает с частицами песка,
попадающими в археологический артефакт, это соотношение постепенно меняется,
поскольку один изотоп распадается быстрее другого. При прочих равных условиях
изменение этого соотношения прямо пропорционально прошедшему времени. Даты,
установленные ранее, в 1980-1990-х годах, основывались преимущественно на но-
вых в то время технологиях, таких как электронно-спиновой резонанс (ЭСР) и
термолюминесценция. Эти методы основываются на том факте, что минеральные
кристаллы «ловят» свободные электроны, высвобождаемые при естественном распа-
де изотопов, с предсказуемой скоростью. Если посчитать количество таких элек-
тронов, можно измерить, сколько времени прошло с тех пор, как они начали на-
капливаться .
У каждого метода имеются свои погрешности, так что внушительный разброс
дат, связанных с Чжоукоудянем, следует оценивать объективно. Пара черепных
коробок, очень похожих на чжоукоудяньские и найденных на расстоянии всего в
паре сотен миль от Нанкина, были датированы с применением метода ЭСР временем
примерно 400 тысяч лет назад, в то время как другая методика (ураново-
ториевое датирование, измеряющее накопления стабильного тория из нестабильно-
го предшественника в пресноводных известняках, которые часто образуют натеч-
ные камни в известняковых пещерных отложениях) показывала, что они значитель-
но старше. Для сравнения, разбитый череп, найденный южнее, в местечке под на-
званием Ланьтянь, согласно датировке, имел возраст более миллиона лет. Так
что, несмотря на все неточности, существует вероятность, что Homo erectus до-
вольно долго кочевал по просторам Китая и Явы.
Некоторые из ранних материалов. По часовой стрелке, начиная с левого
верхнего угла: черепная коробка Homo erectus из Сангирана 17, о.
Ява; крышка черепа позднего Homo erectus из Нгадунга, о. Ява; череп-
ная коробка «гейдельбергского человека» из Петралоны, Греция; череп-
ная коробка гейдельбергского человека из Дали, Китай.
И все же не все среднеплейстоценовые гоминиды из Китая относятся к Homo
erectus. В 1978 году в Дали был найден череп с достаточно крупным мозгом
(около 1200 миллилитров) и высокими надбровными дугами, очень схожими с теми,
что украшают африканский череп из Кабве. Изначально описанный нашедшими его
китайскими исследователями как Homo erectus, он позднее получил собственное
видовое имя Homo daliensis («человек из Дали»). Аналогичная форма надбровных
дух1 обнаружилась как минимум у еще одного из нескольких черепов, найденных в
Юньсяне, в провинции Хубэй, возраст которых составлял 400 тысяч лет.
Некоторые из ранних материалов. По часовой стрелке, начиная с левого
верхнего угла: череп 5 из Сима-де-лос-Уэсос в горах Атапуэрка, Испа-
ния; череп взрослого неандертальца из Амуда, Израиль; череп 1 Дже-
бель Ирхуд из Марокко; череп 9 Джебель Кафзех из Израиля.
Для сравнения: черепной свод, найденный в месте раскопок под названием Ма-
ба, имеет очень изящные изогнутые надбровные дуги, удивительно похожие на
брови европейских неандертальцев. Статус этого образца обсуждается до сих
пор. Независимо от того, каким образом все эти окаменелости будут рано или
поздно классифицированы, уже в 1980-х годах виды гоминидов среднего плейсто-
цена, найденные в Китае, демонстрировали все признаки и многообразия, и дол-
голетия .
Что-то похожее происходило и в Европе. В 1960 году в пещере в Петралоне на
севере Греции был найден хорошо сохранившийся череп. Как и в случае черепа из
Дали, его высокие и загибающиеся назад надбровные дуги и объем мозга, прибли-
зительно равный 1200 миллилитрам, напомнили многим череп из Кабве в Замбии. К
сожалению, его возраст до сих пор точно не определен, хотя, скорее всего, со-
ставляет от 150 до 250 тысяч лет. В 1972 году в пещере Араго в восточной час-
ти французских Пиренеи были найдены ископаемые фрагменты лица, немного превы-
шавшие петралонский череп по возрасту (датировка показывала 450 тысяч лет) ,
но морфологически очень с ним схожие. Когда его сверили с вероятно совпадаю-
щей с ним черепной коробкой, данный образец продемонстрировал вероятный объем
мозга между 1100 и 1200 миллилитрами. В ходе раскопок в Араго также были об-
наружены несколько челюстей, найденных в глубинных археологических слоях, ко-
торые изобиловали останками животных и каменными орудиями — преимущественно
довольно грубыми сколами, среди которых затесалась пара каменных топоров.
Французские ученые, описывавшие гоминидов из Араго, отнесли их к Homo
erectus, что в то время являлось предпочтительным обозначением ископаемых по-
добного типа в континентальной части Европы. Англо-говорящие исследователи, с
другой стороны, отдавали предпочтение выражению «архаичный Homo sapiens».
Важно отметить, что окаменелости из Араго и Петралоны, как и другие им подоб-
ные , были не особенно похожи ни на Homo erectus, ни на Homo sapiens. Но этот
факт, очевидно, немного значил в мире, где наука по-прежнему находилась во
власти линейной синтетической теории. В конце концов, нельзя было ожидать,
что промежуточное звено между двумя этими видами не могло выглядеть точно так
же, как один из них, и то, какое имя вы выбирали, в значительной степени за-
висело от того, на кого из них найденный образец был похож меньше. Для теории
синтеза имела значение только генеалогия.
Реконструкция стоянки в Терра-Амата.
Однако кем бы ни был этот гоминид, во время его существования определенно
происходили интересные вещи. Прежде чем начать работать в Араго, французский
археолог Анри де Аюмле раскопал стоянку гоминидов на древнем пляже в Терра-
Амата на окраине Ниццы. Его команда обнаружила остатки того, что, судя по
всему, было сезонным охотничьим лагерем. Его обитатели приблизительно 380 ты-
сяч лет назад сумели построить достаточно продуманные убежища. Лучше всего из
этих жилищ сохранилась похожая на хижину овальная конструкция из молодых де-
ревьев, которые были срезаны, воткнуты в землю и собраны вместе вверху. Пери-
метр был усилен кольцом камней, разрыв в котором с одной стороны обозначал
вход. Сразу возле входа внутри находилось мелкое, выкопанное вручную углубле-
ние, содержавшее обгоревшие камни и кости животных. На тот момент это был са-
мый ранний обнаруженный пример древнего очага, и он представлял собой первое
по-настоящему убедительное свидетельство, что гоминиды могли использовать
огонь.
Пара намного более ранних стоянок в Африке содержала некоторые намеки на
строительство жилищ и применение огня, но все они горячо оспаривались. До со-
всем недавнего времени явных доказательств того, что миллион лет назад в Аф-
рике умели использовать огонь, не существовало. Немаловажным является то, что
хронологически стоянка в Терра-Амата совпадает с тем временем, когда огонь
стал регулярно встречаться в археологической летописи. Это отчетливо показы-
вает, когда зависимость от огня прочно обосновалась в списке навыков гомини-
дов. Позднее мы сможем увидеть множество косвенных оснований верить, что при-
менение огня могло играть ключевую роль в жизни гоминидов намного раньше, но
что касается вещественных доказательств, то именно Терра-Амата находится в
ключевой временной точке или, по крайней мере, рядом с ней.
И все же даже в начале 1970-х годов такие стоянки, как Араго и Терра-Амата,
не были самыми ранними свидетельствами присутствия гоминидов в Европе. Фраг-
мент челюсти из Мауэра, найденный Отто Шетензаком задолго до этого, датиро-
вался возрастом более чем 500 тысяч лет (проведенное недавно абсолютное дати-
рование, хоть и никем не принятое, показало 600 тысяч). Еще раньше были орга-
низованы археологические раскопки, в ходе которых были обнаружены примитивные
каменные инструменты, хоть позже и выяснилось, что на самом деле они не доку-
ментировали самое раннее присутствие гоминидов в Европе. Мы доберемся до это-
го вопроса позже, но в то время всем казалось, что гоминиды покинули свой
родной континент — Африку — достаточно поздно. Самым ранним надежным доказа-
тельством присутствия гоминидов за пределами Африки является место раскопок в
Израиле под названием Убедил, где были найдены каменные топоры возрастом чуть
более миллиона лет. Столь внушительный возраст представлялся чем-то вроде
аномалии, ведь в Европе каменные топоры появились достаточно поздно (и были
абсолютно неизвестны в Восточной Азии) . Но, тем не менее, это было довольно
убедительное доказательство того, что к тому времени производители этих топо-
ров путешествовали за границы Африки, где данная технология появилась более
чем на полмиллиона лет раньше.
Настолько же неполноценно было понимание того, как, где и когда производст-
во орудий путем скалывания куска камня до получения осколка определенной фор-
мы стало более аккуратным. Было известно, что в какой-то не установленный мо-
мент времени создатели каменных инструментов начали бережно придавать форму
камню-заготовке перед раскалыванием, чтобы один последний удар отделил от не-
го осколок, который потом легко можно было доработать до готового инструмента
— наконечника, скребка или даже тонкого топора. Огромным преимуществом этого
приема было то, что полученный осколок имел режущий край по всему периметру.
Как всегда, старые инструменты продолжали использоваться (особенно в регио-
нах, где камень хорошего качества не был широко доступен) параллельно с более
новыми, начавшими появляться приблизительно 300 тысяч лет назад. Новый подход
должен был означать, что качественные материалы стали важны как никогда и
производители инструментов начали беречь их, затачивая и в процессе дорабаты-
вая форму, размер и предполагаемое предназначение. В 1970-х годах было из-
вестно лишь несколько мест раскопок, представлявших собой ранние очаги подоб-
ного промысла, так называемого среднего палеолита в Европе и среднего камен-
ного века в Африке. Но уже тогда было понятно, что процесс перехода от произ-
водства простых каменных топоров к «заготовкам» не был гладким и непрерывным,
и появление нового способа работы не было связано с развитием какого-либо но-
вого отличного от других вида хюминид.
Кроме того, время окончания среднего палеолита также подвергалось сомнению.
Эта неопределенность была во многом связана с тем, что примерно между 44 и 40
тысячами лет назад в западноевропейской археологической летописи возникла ша-
тель-перонская культура. Возникшая между мустьерской культурой неандертальцев
и ориньякской культурой первых современных людей, пришедших в Европу, шатель-
перонская культура сочетала в себе черты обеих традиций и оставила свои следы
в небольшом количестве раскопов во Франции и Испании. В частности, шатель-
перонский набор каменных инструментов содержал большое количество длинных
тонких «лезвий», характерных для культур кроманьонцев. Во французском раскопе
Гротт-дю-Ренн у Арси-сюр-Кюр были найдены явно декоративные аксессуары, сде-
ланные из костей и рогов; изначально их отнесли к шатель-перонской культуре,
хотя сейчас эта взаимосвязь вызывает очень серьезные сомнения. Долгое время
биологическая принадлежность творцов шатель-перонской культуры оставалась не-
известной, но в 1979 году во французском шатель-перонском раскопе под назва-
нием Сен-Сезер была найдена окаменелость, перевесившая чашу весов в сторону
неандертальцев, а окончательно вопрос решился, когда неандертальские ископае-
мые фрагменты обнаружились также в Арси. Шатель-перонская культура, очевидно,
была скорее лебединой песней неандертальцев, чем первой ласточкой верхнего
палеолита. Но существует и другая версия, основанная на том, что в некоторых
раскопах четко выраженная мустьерская культура залегала прямо поверх шатель-
перонских слоев. Здесь определенно присутствует какая-то загадка. В свете не-
давних молекулярных открытий стало возможным предполагать, что шатель-
перонская культура была результатом краткого эпизода взаимопроникновения
культур неандертальцев и кроманьонцев, но, если это так, конкретные обстоя-
тельства этих событий продолжают скрываться во мраке тайны.
В любом случае главными специалистами по изготовлению инструментов из заго-
товок были неандертальцы, чья летопись значительно разрослась в течение вто-
рой половины XX века. В 1976 году затылочная часть черепа, однозначно принад-
лежавшая неандертальцу, была найдена в мустьерском раскопе в Бьяш-Сен-Ва на
севере Франции. Датированная примерно 175 тысячами лет назад, это была самая
старая известная явно неандертальская окаменелость, хотя немецкие фрагменты,
описанные Францем Вайденрайхом перед началом Второй мировой войны, вполне мо-
гут продлить неандертальскую летопись до 200 тысяч лет. Но это был только сам
биологический вид. Большая группа видов, к которой принадлежит Homo
neanderthalensis, на самом деле обитала на территории Европы намного дольше
этого. В начале 1990-х годов группа испанских исследователей описала несколь-
ко черепов из раскопа под названием Сима-де-лос-Уэсос («яма с костями») в
Атапуэрке на севере Испании. У этих ископаемых было очень много неандерталь-
ских черт, хотя их набор и был неполным. Иными словами, перед исследователями
были предки неандертальцев. Долгое время эти более ранние виды ошибочно отно-
сились к Homo heidelbergensis Шетензака; но с тех пор, как это предположение
было опровергнуто, они пребывают в таксономическом забвении.
Два десятка лет раскопок в «яме костей», которая находилась на дне верти-
кальной шахты в глубине большой известняковой пещеры, произвели на свет фраг-
ментарные останки примерно 28 особей обоих полов и всех возрастов. Это было
самое большое количество останков вымерших видов гоминидов, найденных в одном
месте. Каким образом эти кости скопились там, обсуждается до сих пор, хотя
некоторые ученые, работавшие на этом раскопе, считают, что тела этих людей
были сброшены в яму их сородичами после смерти. Останки гоминидов в Симе
сильно перемешались между собой, а также с костями животных, в частности пе-
щерных медведей, и среди них обнаружился только один-единственный артефакт —
красивейший кварцевый топор прекрасной формы, практически не использованный.
Исследователи воспринимают его как церемониальный объект, которому владельцы
придавали такое же символическое значение, какое могли бы придавать современ-
ные люди (хотя лично у меня есть сомнения насчет этой теории). Возраст костей
из Симы также является предметом споров, хотя предполагается, что им всем
около 430 тысяч лет.
Каменный топор из Сима-де-лос-Уэсос.
В 1961 году году японские исследователи нашли практически целый скелет мо-
лодого мужчины-неандертальца с самым большим объемом мозга (1740 миллилитров)
из известных на то время ископаемых материалов. Находка была сделана в пещере
Амуд в Израиле. Использовав метод термолюминесценции, ученые определили его
возраст — более 50 тысяч лет. Скелет с аналогичными пропорциями был обнаружен
в 1983 году в Кебаре. На долю 1960-х годов тоже перепало открытий. В Джебель-
Ирхуд в Марокко были найдены два черепа и нижняя челюсть подростка. Сегодня
считается, что им более 160 тысяч лет. Оба черепа имели объемы от 1300 до
1400 миллилитров, то есть уже практически в пределах современной нормы. Най-
денные рядом с мустьерскими каменными инструментами, они изначально были оши-
бочно идентифицированы как африканские неандертальцы. Несмотря на явные отли-
чия, гоминиды из Джебель-Ирхуд не так давно сравнивались с образцами из Из-
раиля, включая окаменелости из Скю, и останки, найденные в раскопе под назва-
нием Джебель-Кафзех неподалеку от Назарета. Впервые раскопанный в 1930-х, а
затем повторно в 1960-1970-х годах Кафзех обнаружил несколько захоронений му-
стьерской культуры, содержавших скелеты разных возрастов и степени целостно-
сти. Два из них, включая скелет взрослого человека Кафзех 9, очевидно отно-
сятся к Homo sapiens, в то время как остальные — нет. Например, череп, из-
вестный как Кафзех 6, имеет очень большой объем мозга — 1658 миллилитров, но
анатомическое соотношение лица и черепной коробки крайне нетипично для совре-
менного человека. И, несмотря на это, большинство палеоантропологов удовле-
творились тем, что отнесли всех гоминидов из Кафзеха к Homo sapiens, бормоча
себе под нос о том, как «архаичны» некоторые из них.
Другие регионы Африки также дарили миру важные новые находки. Например, пе-
щеры в Клезис-Ривер-Маус на юге континента произвели на свет очень фрагмен-
тарные, но современные на вид останки, датируемые средним каменным веком. Не-
которые из них могут иметь возраст до 120 тысяч лет и представляют собой на-
глядные свидетельства каннибализма. Они производят намного более современное
впечатление, чем более старые на вид кости лица, найденные во Флорисбаде в
сердце Южной Африки в 1930-х годах. В Бордер-Кейв, на границе Южной Африки и
Свазиленда, был обнаружен череп Homo sapiens, возраст которого может состав-
лять 90 тысяч лет. В это же время в 1973 году в ходе раскопок на озере Ндуту
в Танзании обнаружился характерный фрагмент черепа в возрасте от 200 до 400
тысяч лет, скорее всего являющийся приблизительным современником и черепа из
Кабве, и черепной коробки, найденной 20 годами ранее в Салданье на юго-
западном побережье Южной Африки. Образцы из Кабве и Салданьи весьма похожи
как друг на друга, так и на череп Бодо, найденный Джоном Кальбом, однако че-
реп Ндуту, вероятнее всего, принадлежит к другому виду. Эти и многие другие
находки проливают свет на то, насколько огромный интерес к исследованию эво-
люции человечества обнаруживался по всему Старому Свету в процессе исследова-
ния позднего плейстоцена на исходе XX века, несмотря на все попытки скрыть
этот интерес под тенденцией втискивать все находки в общие рамки Homo
sapiens. Но в очередной раз всеобщее внимание было захвачено развитием собы-
тий в Кении и Эфиопии.
ГЛАВА 8
Туркана,
Афар и
Дманиси
В начале 1980-х годов команда Ричарда Лики, работавшая на озере Туркана,
обратила внимание на его западную часть, где также в достаточном количестве
имелись пласты, содержащие окаменелости. В 1984 году в Нариокотоме был обна-
ружен полный скелет гоминида. Молодой мужчина лежал лицом вниз. Судя по все-
му, он погиб в болоте около 1,6 миллиона лет назад. По каким-то причинам
стервятники не тронули его тело, затем вокруг него накопилась грязь и тело
превратилось в окаменелость. Мальчик из Нариокотоме не дожил до взрослого
возраста — судя по развитию скелета, он мало чем отличался от современных 13-
летних подростков. Тем не менее, он рос очень быстро и выглядел довольно зре-
лым, что дало ученым возможность понять, как должны были выглядеть взрослые
представители его вида. Нельзя сказать, что он имел небольшие размеры тела,
хотя именно этого палеоантропологам, следующим идеям Майра, и стоило бы ожи-
дать от представителя той эпохи. В отличие от невысоких и ширококостных «дву-
ногих обезьян», таких как Люси, мальчик из Нариокотоме был высоким и строй-
ным, имел длинные ноги и короткие руки. Лицо и зубы имели небольшие размеры,
а мозг оказался гораздо больше мозга австралопитека или Homo habilis, даже
несмотря на разницу в параметрах тела. Иными словами, это был шагающий двуно-
гий гоминид, обладавший рядом характеристик скелета, которые присущи совре-
менным людям. В отличие от своих предшественников, ходивших на двух ногах
скорее «по привычке», мальчик из Нариокотоме был облигатным двуногим, лишен-
ным большинства признаков жизни на деревьях. В момент смерти его рост состав-
лял пять футов три дюйма. Сначала ученые полагали, что к зрелости он вытянул-
ся бы до шести футов, но теперь считается, что основной период его роста был
завершен и он вряд ли стал бы намного выше в будущем.
Разумеется, мальчик из Нариокотоме не был полностью похож на современного
человека. После тщательного анализа наростов на его зубах с очень большим
увеличением ученые выяснили, что, несмотря на значительную развитость скеле-
та , в момент смерти мальчику было всего восемь лет. Значит, он развивался бы-
стрее современных детей, но все равно гораздо медленнее приматов. Долгий пе-
риод развития человеческого ребенка осложняет жизнь родителей, от которых он
полностью зависит. С другой стороны, в течение этого длительного периода ре-
бенок обучается сложным моделям поведения и технологиям. Кроме того, мозг но-
ворожденного человеческого ребенка куда меньше мозга взрослого, но после рож-
дения он начинает расти гораздо быстрее, чем у приматов. Нам известно, что
развитие австралопитеков происходило примерно по той же схеме, что и у высших
обезьян. Мальчик из Нариокотоме находился в этом отношении на полпути между
приматами и современными людьми, но, судя по всему, его мозг объемом 900 мил-
лилитров вряд ли значительно увеличился бы с возрастом.
Скелет подростка KNM-WT 1500 из Нариокотоме (Западная Туркана,
Кения) и его реконструкция.
Разумеется, скелет имеет и другие характерные черты строения, которые нель-
зя назвать современными. Существует вероятность, что мальчик был менее строй-
ным, чем это показала первоначальная реконструкция его (достаточно плохо со-
хранившейся) тазовой кости. Узкий и изящный таз современного человека — это
довольно позднее эволюционное приобретение, связанное с нашим легким телосло-
жением. Ранние представители рода Homo имели более широкие и мощные бедра.
Это подтверждается недавней находкой тазовой кости, датированной одним мил-
лионом лет назад, в месте под названием Гона в Эфиопии. Трудно предположить,
что мальчик из Нариокотоме мох1 настолько радикально отличаться от эфиопской
формы гоминидов.
Но даже несмотря на все эти отличия, обнаруженный мальчик обладал одной
удивительной особенностью. Он совершенно очевидно принадлежал к виду, спус-
тившемуся с деревьев на землю. Это первый случай обнаружения гоминида, кото-
рый проводил всю свою жизнь на земле. Строение его рук и плеч не указывает на
то, что он часто занимался лазаньем по ветвям. Тем не менее, некоторые старые
признаки у него сохранились. Это и конусообразная грудная клетка, и верти-
кально ориентированный плечевой сустав, ограничивающий умение мальчика бро-
сать предметы.
Если этот вывод верен, то для его новой среды обитания такое ограничение
было достаточно существенным. Саванны и равнины, заросшие кустарниками, кише-
ли хищниками, и способность бросить в нападающего камень могла обеспечить го-
миниду некоторую защиту. Тем не менее, измененная анатомия мальчика из Нарио-
котоме доказывает, что его сородичи уже вели новую жизнь вдали от деревьев, а
для того, чтобы поддерживать такую жизнь, им нужно было охотиться.
Мозг и
огонь
Основываясь на некоторых фактах, мы можем предположить, что к этому моменту
значительную часть рациона гоминидов составляла падаль. Главной причиной для
этого стало увеличение объема мозга гоминидов, начавшееся как раз в период
жизни мальчика из Нариокотоме и требовавшее больших энергетических затрат.
Вес мозга современного человека составляет всего 2% от общей массы его тела,
но при этом головной мозг потребляет 20% всей получаемой нами энергии. За та-
кой малый пробег приходится платить, и наилучшая валюта для этого животные
жиры и белки. Однако переход на эту валюту не был легким, так как связанная с
ними смена среды предполагала существенные физиологические изменения. Жизнь
на открытых равнинах под лучами тропического солнца привела к утрате гомини-
дами густой шерсти, покрывающей кожу обезьян, и к возникновению механизмов
терморегуляции, в частности потоотделения. До тех пор пока у гоминидов имелся
доступ к воде, потоотделение позволяло им передвигаться под палящим солнцем
практически без остановок и передышек. Более слабым потенциальным жертвам го-
минидов подобное было недоступно. Эта способность, в конце концов, привела к
возникновению у гоминидов совершенно новой формы охоты. Они гнали свою добычу
с небольшой скоростью, но достаточно долго, чтобы она успела утомиться под
воздействием тепловой нагрузки. Вне зависимости от того, насколько быстро жи-
вотное может двигаться при обычной температуре, если его организм перегрева-
ется , оно не способно бежать дальше. Одним из самых существенных недостатков
бипедальности была потеря скорости, но в этом новом стратегическом плане
главную роль играла не она, а выносливость. Умение развивать большие скорости
на пересеченной местности, полной хищников, было связано с большими рисками:
одна вывихнутая лодыжка тут же превращала беспощадного охотника в беззащитную
жертву.
Тем не менее, исторически гоминиды были вегетарианцами, и превращение во
вторичных хищников давалось им с трудом. Например, наши родственники-шимпанзе
иногда охотятся на колобусов или молодых кустарниковых свиней, но при этом
ими движут скорее социальные мотивы, чем голод. Одной из причин этого может
служить тот факт, что приматы в целом плохо переваривают мясо. Для существа
(вроде нас) , у которого отсутствует специализированный пищеварительный тракт
хищников, существует только один эффективный способ получения энергии из жи-
вотных жиров и белков — термическая обработка. Готовка почти всегда делает
питательные вещества в продуктах легче перевариваемыми и усваиваемыми. Кроме
того, она убивает токсины, которые быстро накапливаются в тушах животных,
разлагающихся под тропическим солнцем. Это делает сбор падали куда более при-
влекательным занятием. Преимущества готовки настолько велики, что приматолог
Ричард Рэнгем в своей недавней книге «Зажечь огонь» утверждает, будто именно
способность управлять огнем и готовить пищу позволила ранним Homo заселить
саванну. Более того, огонь давал некоторую степень защиты от равнинных хищни-
ков, в особенности ночью (хотя, с другой стороны, и мох1 привлечь нежелатель-
ное внимание).
Несмотря на то, что аргументы в пользу раннего использования огня кажутся
довольно убедительными, они, к сожалению, не подтверждаются эмпирическими
свидетельствами. Первое доказательство применения огня было обнаружено в Юж-
ной Африке на месте раскопок поселения возрастом всего около одного миллиона
лет. А очаги так и вовсе вошли в быт гоминидов около 400 тысяч лет назад.
Возможно, проблема состоит в том, что следы огня плохо сохраняются. В таком
случае будущие технологические разработки, возможно, смогут обнаруживать их
чаще и в итоге прояснят этот вопрос.
Несмотря на совершенно уникальную анатомическую структуру и новый образ
жизни, на который она указывала, рядом с мальчиком из Нариокотоме и останками
его родичей не было обнаружено никаких материальных свидетельств, указывающих
на перемены в поведении. Инструменты, обнаруженные в осадочных породах рядом
с самыми ранними их окаменелостями, ничем не отличались от орудии олдувайских
Homo habilis (которые, если верить анализу обнаруженных в 1986 году фрагмен-
тов скелета, имели весьма архаичное строение тела) и австралопитеков из Эфио-
пии. Такое отсутствие связи между видом и каменными орудиями стало привычным
паттерном для археологов, занимающихся эпохой палеолита. Появление нового ви-
да гоминидов почти никогда не сопровождалось возникновением новых видов ору-
дий. Технологические изменения были крайне редки. Судя по всему, при возник-
новении изменений в среде обитания гоминиды до последнего времени предпочита-
ли адаптировать к ней старые инструменты, а не создавать новые. Например,
возникнув в одной изолированной популяции 1,78 миллиона лет назад, каменные
топоры не получили широкого распространения до примерно 100,000 лет назад,
когда мальчик из Нариокотоме так удачно провалился в болото.
Кем был мальчик
из Нариокотоме
Будучи приверженцами синтетической теории, ученые, обнаружившие мальчика из
Нариокотоме, отнесли его к «ранним африканским Homo erectus». Подобный преце-
дент уже имел место с черепами 3733 и 3883, найденными на другом берегу озера
Туркана. При этом ученые не обратили внимания на то, что череп мальчика был
совершенно не похож на останки Homo erectus с Явы, равно как и на то, что во
взрослом возрасте он не совпадал бы с черепами 3733 и 3883. В конце концов,
всем было известно, что облик особей в рамках популяции может варьироваться.
А любой вид, включающий в себя таких непохожих друг на друга существ, как
мальчик из Нариокотоме и тринильскии гоминид, живший на миллион лет раньше и
в другом конце света, просто подтверждал эту теорию. Палеоантропологи, рабо-
тавшие на озере Туркана, верили, что история на их стороне. И это было дейст-
вительно так, ведь чем больше материалов уже было втиснуто в рамки одного ви-
да, тем легче было впихнуть в него еще парочку. Незадолго до того, как напи-
сать эту главу, я встретился на конференции с двумя уважаемыми коллегами. Од-
ному из них недавно посчастливилось найти на юге Африки большое захоронение с
костями не идентифицированных и лишь примерно датированных гоминидов. Первым
делом другой коллега спросил его: «Ну что, это Homo erectus?»
Эта тенденция существует по сей день. В 2004 году группа ученых под руково-
дством Рика Поттса из Смитсоновского института обнаружила часть черепа гоми-
нида в Олоргесаилие — месте раскопок в Кении, знаменитом частыми находками
каменных топоров. Череп был чуть старше миллиона лет, имел небольшие размеры
и легкое строение и существенно отличался как от черепа из Буйи, Эритрея,
найденного одновременно с ним (его обнаружили итальянские ученые, предполо-
жившие, что череп принадлежал представителю промежуточной стадии между Homo
erectus и Homo sapiens), так и от материалов из яванского Сагирана, датиро-
вавшихся тем же временным периодом. Более того, он не был особо похож и на
другие кенийские находки, например, на черепа 3733 и 3883. Тем не менее,
группа Поттса тут же причислила его владельца к Homo erectus.
Еще более показательные выводы были сделаны недавно, в 2007 году, группой
ученых, наконец доказавших существование в восточной части озера Туркана двух
параллельных линий Homo. Их доказательство состояло в части верхней челюсти с
изношенными зубами, обнаруженной неподалеку от места находки нижней челюсти
Homo ergaster и тоже датированной временем 1,5 миллиона лет назад. Свою на-
ходку ученые отнесли к Homo habilis — виду, который к тому моменту превратил-
ся в точно такую же «мусорную корзину», что и Homo erectus. Вторая линия была
представлена очень небольшим черепом, как полагала группа, принадлежавшим
Homo erectus, несмотря на то, что у него отсутствовали все те основные черты,
по которым его можно было бы сравнить с останками яванских представителей то-
го же вида. Второй вывод ученых был особенно ироничным, так как, с одной сто-
роны, группа считала своим главным достижением обнаружение доказательств ви-
дового разнообразия (двух видов Homo, сосуществовавших в Восточной Туркане!).
С другой же стороны, второй череп можно было идентифицировать как Homo
erectus только в том случае, если бы Homo erectus действительно являлся един-
ственной промежуточной стадией человеческой эволюции, распространенной по
всему Старому Свету и имеющей множество разновидностей. По сути, ученые дока-
зали то, что сами пытались опровергнуть!
Через год после того, как был обнаружен мальчик из Нариокотоме, в осадочных
породах к югу от места его захоронения был найден еще один гоминид, вернее,
череп массивного австралопитека без зубов. Находку возрастом 2,5 миллиона лет
прозвали «черным черепом» из-за покрывающего ее темного налета. Будучи почти
на полмиллиона лет старше других массивных австралопитеков, знаменитых своими
плоскими лицами, этот гоминид имел достаточно выдающуюся вперед челюсть (пус-
кай она могла быть и короче, чем показано в современной реконструкции). Не-
смотря на свои явные отличия, находка была сначала классифицирована как
Australopithecus boisei, но вскоре ученые пришли к выводу, что она заслужива-
ет собственного вида. Что это будет за вид, пока неясно, и в настоящий момент
существует негласная договоренность связывать «черный череп» с небольшой че-
люстью без зубов, найденной Камилем Арамбуром и Ивом Коппенсом в Омо в 1968
году (хотя подобная аналогия и кажется странной). Если это предположение вер-
но, то образец из Западной Турканы можно отнести к виду Australopithecus (или
Paranthropus) aethiopicus. Тем не менее, несмотря на некоторые нестыковки,
эти образцы и некоторые другие фрагменты из Омо доказывают существование от-
дельной массивной филогенетической ветви гоминидов 2,8 миллиона лет назад.
Взгляд
из Афара
Пока в Кении происходили все вышеописанные события, Эфиопия тоже не остава-
лась в стороне, как на политическом, так и на палеонтологическом фронте. По-
сле свержения императора Хайле Селассие в 1974 году в стране начались жесто-
кие массовые беспорядки, приведшие в итоге к воцарению военного диктатора.
Это было нестабильное время, в течение которого страна придерживалась отчет-
ливо антиамериканского курса. Между палеоантропологами тоже развернулась
борьба за доступ к афарским гоминидам и местам раскопок.
Слева: «черный череп» KNM-WT 17000, принадлежавший парантропу
эфиопскому, Ломекви, Западная Туркана, Кения. Справа: череп AL
444-1 из Хадара, Эфиопия, наиболее сохранившийся череп Australo-
pithecus afarensis.
Эта эпическая борьба, полная интриг, длилась много лет, и обе стороны со-
вершали в ходе нее неблаговидные поступки. Я очень хорошо помню, как в 1995
году на меня публично наорали, когда я заявил, что академическая сессия во
время научной конференции — не место для политических споров и обвинений в
захвате чужих территорий.
В результате борьбы в 1978 году, сразу же после обнаружения еще нескольких
фрагментов черепа Бодо, Джон Кальб получил приказ покинуть Эфиопию в недель-
ный срок с запретом на последующий въезд. Он еще не успел уехать далеко, как
ветеран археологии из Беркли Десмон Кларк произвел свой первый набег на Сред-
ний Аваш. Вскоре после этого Дональда Джохансона и его коллег выставили из
Хадара, в то время как Кларк и его коллега по Беркли Тим Уайт формально воз-
главили авашские раскопки. В 1981 году эта пара сделала первое из долгого ря-
да открытий, включавших в себя окаменелости, сформировавшиеся за последние 6
миллионов лет. Но в следующем году из-за политического кризиса и нестабильной
обстановки в Аддис-Абебе все полевые работы в Эфиопии были приостановлены.
Мораторий был снят в 1989 году, и группа из Беркли, а также Джохансон вме-
сте со своими коллегами по Институту происхождения человека (Institute of
Human Origins, или IHO) тут же возобновили раскопки на своих участках. Обе
группы работали в атмосфере взаимной вражды, которая в 1994 году переросла в
открытый конфликт, когда ученые из Беркли переманили на свою сторону главного
спонсора 1Н0, сотрудников их датировочной лаборатории и главного вдохновителя
Кларка Хауэлла. В результате этой стычки IHO пришлось перебраться из Беркли в
Аризонский университет в Темпе. Еще сильнее подогрели вражду взаимные обвине-
ния в захвате территорий, о которых я уже упоминал ранее. Эти обвинения в
1995 году выдвинул против IHO эфиопский студент, выступавший от имени команды
из Беркли. Этот инцидент был особенно неприятным потому, что участок, о кото-
ром шла речь, располагался в восточной части Хадара, рядом со стоком реки Го-
на, в суровой безлюдной местности к северу и востоку от Среднего Аваша. Это
место впервые было обнаружено в 1973 году Гудрун Корвинус, участницей первой
афарской экспедиции, и здесь же было найдено самое старое из известных камен-
ных орудий, датированное временем между 2,5 и 2,6 миллиона лет назад.
Думаю, всех этих фактов достаточно, чтобы понять, что палеоантропология пе-
реживала не лучшие времена. Но, несмотря на конфликты и общую напряженность,
в 1990-х годах и позднее в Хадаре и Среднем Аваше продолжали обнаруживаться
уникальные находки. Вернувшись в Хадар в 1990 году, группа IHO под руково-
дством палеоантрополога Билла Кимбела нашла несколько десятков окаменелых ос-
танков афарского австралопитека, большая часть из которых была несколько
старше материалов, обнаруженных в 1970-х годах. Гордостью археологов стали
два фрагментарных, но подлежащих восстановлению черепа возрастом 3 миллиона
лет. Один из них принадлежал крупному самцу, а второй — гораздо меньшей по
размеру самке. Объем мозга самца (чей череп проходит под кодовым обозначением
AL 444-1) составлял 550 миллилитров, то есть превышал расчетные параметры для
афарского австралопитека, хотя и оставался в границах возможного для австра-
лопитеков в принципе. Однако сама особь была настолько велика, что ученые
сделали вывод об увеличении параметров этого вида с течением времени. Лицо AL
444-1 было достаточно массивным и выдающимся вперед, но вот зубы никак нельзя
было назвать огромными по сравнению с черепом. Они соответствовали базовым
пропорциям, зафиксированным ранее в палеонтологической летописи.
Не меньший интерес представляла собой находка, обнаруженная в верхнем слое
археологического раскопа в Хадаре. Это была часть нёба, датированная временем
2,3 миллиона лет назад и принадлежавшая очень раннему представителю рода
Homo. При ее идентификации учитывались обнаруженные рядом каменные орудия ол-
дувайского типа. Тем не менее, образец имел очень крупные жевательные зубы,
что сближало его скорее с афарским австралопитеком, чем с любым видом из рода
Homo.
Тем временем бесплодные земли Среднего Аваша тоже давали свой урожай окаме-
нелостей — пускай и не такой богатый, как в Хадаре, зато охватывающий больший
временной отрезок. В плотном куске осадочных пород, нечаянно открытом архео-
логами при раскопках, обнаружились кусочки и фрагменты костей гоминидов в
возрасте от 0,16 до 5,8 миллиона лет. Экспедиция Джона Кальба нашла череп Бо-
до (тогда датировавшийся временем 350 тысяч лет назад) еще в 1976 году, а
группа из Беркли во время своей первой вылазки в 1981 году обнаружила совсем
рядом с местом прошлой находки фрагменты черепа второго гоминида. Кроме того,
команда Кларка нашла в местности под названием Мака, расположенной немного
южнее, бедренную кость гоминида возрастом 3,4 миллиона лет, а рядом, в Бело-
дели, осколки еще более старого черепа. Затем в результате отзыва разрешений
на проведение раскопок работы были приостановлены на девять лет. После их во-
зобновления в 1990 году в Маке были найдены хорошо сохранившаяся нижняя че-
люсть и несколько других фрагментов. Все они были приписаны афарским австра-
лопитекам .
В 1994 году Кларк и его коллеги также сумели уточнить датировку для черепа
Бодо. Она оказалась на удивление старой — 600,000 лет. Более того, они заяви-
ли, что породы, в которых был обнаружен череп, также содержали следы олдувай-
ских стоянок, самых древних из известных человечеству. Однако в следующем же
слое были найдены каменные топоры, что наводило на мысли, не была ли олдувай-
ская культура в Бодо на самом деле ашельской, только без топоров. Это предпо-
ложение отражает сложности, испытываемые учеными при классификации техноло-
гий, ведь при смене культур старые техники достаточно долго сосуществовали
вместе с новыми.
Описывая череп Бодо в 1978 году, группа Кальба выяснила, что он имеет наи-
большее сходство с черепом из Кабве в Замбии, а также с черепной коробкой,
найденной в 1959 году в греческой Петралоне и датированной крайне неточно. Но
вместо того, чтобы объединить все эти находки в одну формальную группу, уче-
ные продолжали настаивать на том, что окаменелости из Эфиопии каким-то обра-
зом показывали «переходное состояние между Homo erectus и Homo sapiens», су-
ществование которого в то время воспринималось как что-то само собой разумею-
щееся. Палеоантропологами, работавшими в Среднем Аваше, руководил Тим Уайт,
учившийся еще у Милфорда Уолпоффа и ставший еще более ярым противником теории
нескольких линий человечества, чем его наставник. Уайт или его группа с го-
товностью выступили против своих предшественников. Каждая окаменелость, най-
денная в Среднем Аваше, занимала свое место в постепенной градации от самых
примитивных гоминидов до ранних Homo sapiens.
Реконструкция значительно фрагментированного скелета ARA-VP 6/500,
принадлежавшего Ardipitecus ramidus из Арамиса, Эфиопия. Будучи наи-
более полным скелетом раннего гоминида, этот образец демонстрирует
ряд необычных характеристик, таких как отстоящий палец ноги.
Следующие находки в Среднем Аваше были обнаружены в более старом слое отло-
жений, чем в Бодо. В 1992 году археологи нашли фрагменты челюсти с подозри-
тельно узкими молярами в месте под названием Арамис, датируемом временем 4,4
миллиона лет назад. Находке присвоили имя Australopithecus ramidus (впослед-
ствии измененное на Ardipitecus ramidus). Чуть позже неподалеку был обнаружен
и хрупкий разломанный скелет, явно соответствовавший той же форме, а рядом с
ним — останки еще нескольких особей. Судя по всему, скелет, который ласково
назвали Арди (см. рисунок выше), принадлежал самке, жившей в достаточно гус-
том лесу. Вес Арди оценивался примерно в 110 фунтов, то есть она была тяжелее
Люси. Между ними существовали и другие отличия, в первую очередь разница в
возрасте в миллион лет. Реконструкция показала, что Арди имела небольшой че-
реп объемом менее 350 миллилитров. Однако ее клыки были укороченными, что ти-
пично для хюминидов, а расположение большого затылочного отверстия, равно как
и не вполне достоверная реконструкция таза, указывали на прямохождение. С
другой стороны, плоские ступни Арди имели отставленные большие пальцы, пред-
назначенные для хватания. Исследователи из Среднего Аваша заключили, что она
проводила часть времени на деревьях, а часть — на земле, но при этом у Арди
не имелось никаких поддерживающих скелет структур, что довольно странно для
такого тяжелого существа, явно не бегавшего по легким веточкам. Итак, Арди
была настоящей загадкой.
В 2001 и 2004 годах сроки существования ардипитека были расширены путем от-
несения к этому роду фрагментов и осколков, найденных в различных местах и
датированных временем между 5,2 и 5,8 миллиона лет назад. Не было никакой
возможности доказать их принадлежность к одному виду хюминидов, поэтому изна-
чально они были отнесены к новому подвиду Ar. ramidus, а затем в 2004 году
для них был создан новый вид Ar. kadabba. Большинство из этих останков пред-
ставляло собой отдельные зубы, среди которых встречались и весьма острые клы-
ки, но самой молодой из них являлась кость пальца ноги, обладавшая одновре-
менно и обезьяньими и человеческими характеристиками.
Кения
и Чад
Существовали и другие претенденты на статус «самого раннего хюминида», ко-
торые готовы были помериться древностью с материалами из Аваша. Одним из них
был Orrorin tugenensis, названный так в 2001 году Мартином Пикфордом и Брижит
Сеню из Коллеж де Франс. Единственными свидетельствами существования орро-
рина были несколько фрагментов челюсти и бедренных костей, найденные за год
до этого в Северной Кении. Сточенные резцы и широкие моляры оррорина датиро-
вались 6 миллионами лет назад и совершенно очевидно принадлежали древнему хю-
миниду. Что касается частично сохранившегося тела бедренной кости, то утвер-
ждалось , будто его строение указывает на бипедальность. Описывая свои наход-
ки, французские ученые выделили ардипитека в отдельную хюминоидную ветвь,
приведшую в итоге к появлению шимпанзе. Они также предположили, что генеало-
гическая линия хюминидов достаточно рано разделилась на две части — одна че-
рез оррорина привела к возникновению Homo, а вторая, включавшая в себя авст-
ралопитеков, стала тупиковой ветвью. Естественно, что группа, работавшая в
Среднем Аваше, не поддержала эту теорию и усомнилась даже в том, что кений-
ский кандидат хоть чем-то отличался от их эфиопского хюминида.
Другим претендентом на звание самого раннего хюминида был Sahelanthropus
tchadensis, представленный черепной коробкой и несколькими фрагментами нижней
челюсти, обнаруженными еще одной французской командой в Чаде в 2002 и 2005
годах. По оценкам ученых, возраст этих останков составлял 6-7 миллионов лет и
приближался скорее к дальней точке этой шкалы. Удивительным было и место об-
наружения этой находки — в 1500 милях к востоку от Восточно-Африканской риф-
товой долины, в которой были найдены все прочие останки гоминидов в Северном
полушарии. Еще в 1980-х годах Ив Коппенс произвел сенсацию со своей теорией,
которая точно увязывала начало хождения ранних гоминидов на двух ногах с из-
менениями в окружающей среде. Идея состояла в том, что в эпоху миоцена ланд-
шафт долины имел куполообразную форму с подъемом по оси с севера на юг. Таким
образом, ее восточная часть оказывалась областью дождевой тени. В результате
этого Западная Африка оказалась покрыта влажными тропическими лесами, полными
обезьян, в то время как область к востоку от равнины постепенно высыхала, по-
крывалась низкорослой растительностью и превращалась в саванны, где зарождаю-
щимся гоминидам требовалось ходить на двух ногах. Место обнаружения сахелян-
тропа полностью противоречило этой красивой идее, хотя первый удар по ней был
нанесен еще в 1995 году обнаруженной в Чаде челюстью австралопитека возрастом
3,6 миллиона лет. Новому гоминиду было присвоено название Australopithecus
bahrelghazali, но его часто сравнивали с афарским австралопитеком.
Поначалу сахелянтроп заставил задуматься многих палеоантропологов, так как
он сочетал в себе «продвинутое» плоское лицо и крошечный мозг объемом до 350
миллилитров. Однако компьютерная реконструкция черепа с учетом всех найденных
осколков и обломков показала, что его лицо все же сильнее выдавалось вперед,
чем казалось изначально. Кроме того, в результате реконструкции стало очевид-
но, что большое затылочное отверстие располагалось в нижней части черепа, что
указывало на бипедальность. Несмотря на то, что верхние клыки сахелянтропа
были довольно острыми, его зубная система в целом соответствовала представле-
нию о ранних гоминидах. Разумеется, ни один из этих факторов не помешал Пик-
форду и Сеню оскорбительно сравнивать сахелянтропа с гориллой, а авашской
группе полностью игнорировать его при обсуждении происхождения человека.
Полуостров
Боури
Нужно сказать, что группе из Среднего Аваша и так было чем заняться. После
находки в Арамисе команда Уайта начала раскопки на расположенном южнее утесе
под названием «полуостров Боури». Здесь присутствовали слои, четко разделен-
ные на три эпохи, самый старый датировался временем 2,5 миллиона лет назад. В
1999 году группа сообщила о находке частично сохранившегося черепа и других
костей гоминида, которого она окрестила Australopithecus garhi. Споры о том,
относятся ли эти материалы к очень похожему, но чуть более раннему виду из
Хадара или представляют собой отдельную форму, идут до сих пор. Как бы там ни
было, самым интересным аспектом этой находки была археология. В том же слое
были обнаружены кости млекопитающих с явными следами царапин, нанесенных ост-
рыми камнями при разделке туш и извлечении костного мозга. Все это даже в от-
сутствие самих каменных орудий указывало на их применение. При этом единст-
венным существом, имевшим возможность разделать туши животных, а также питав-
шимся мясом, был австралопитек. Более того, Боури и расположенное поблизости
место раскопок под названием Гона относились примерно к одному и тому же вре-
менному периоду, а в Гоне было найдено множество олдувайских орудий. Собрав
все эти факты воедино, группа из Беркли заявила, что отныне умение создавать
каменные орудия не может считаться отличительной чертой рода Homo (хотя, по
крайней мере, с философской точки зрения они все еще придерживались идеи, что
их новый гоминид мог быть нашим прародителем).
Окаменелости, действительно принадлежащие роду Homo, были найдены в Боури
несколько выше, в месте под названием Дака, датированном одним миллионом лет
назад. В публикации 1992 года свод черепа из Даки был ожидаемо приписан Homo
erectus, хотя казался не похожим ни на одну из яванских находок. Впрочем, на-
сколько мне известно, он все время находился в распоряжении группы из Беркли,
которая не подпускала к нему других ученых, так что разобраться в этой загад-
ке было довольно сложно — хотя многие пытались, и не раз. В 2002 году мы с
моим коллегой Джеффри Шварцем посетили Национальный музей Эфиопии в Адддис-
Абебе, вооруженные письмом от Министерства культуры страны, на основании ко-
торого нам разрешалось взглянуть на образец из Даки и останки других гомини-
дов из Среднего Аваша. Но техник, отвечавший за сейф с окаменелостями, отка-
зался его открывать, и ни один из его начальников, включая даже старшую адми-
нистрацию, не посмел оспорить его решение. Судя по всему, за этим отказом
стояла весьма влиятельная поддержка. Тем не менее, основываясь только на дан-
ных, опубликованных группой Уайта, Джорджио Манци из Университета Рима и двое
его итальянских коллег в 2003 году написали работу, в которой утверждали, что
череп из Даки и другие африканские материалы были крайне не похожи на восточ-
но-азиатских Homo erectus. Судя по фотографиям, череп из Даки также сущест-
венно отличался и от черепа из Буйи, найденного одновременно с ним в зритрей-
ской части Афара к северу и востоку от Среднего Аваша. Как бы там ни было, до
сих пор ни один палеоантрополог не имел возможности сравнить эти две окамене-
лости .
Еще выше в отложениях Боури, рядом с деревней Херто, авашская команда обна-
ружила вторые самые старые из известных останков Homo sapiens (первые по воз-
расту окаменелости современного человека были найдены в Кибише Ричардом Лики
за 30 лет до этого и в 2005 году отнесены ко времени 195 тысяч лет назад) .
Кости из Херто имели возраст около 160 тысяч лет или немногим менее и пред-
ставляли собой черепа двух взрослых особей (один достаточно полный) и череп
ребенка. Уайт и его коллеги заключили, что найденные ими гоминиды отличались
от неандертальцев, живших в одно время с ними, хотя в этом выводе не было ни-
чего удивительного. Чтобы обозначить некоторое отличие своих находок от всех
современных им человеческих популяций, они дали им собственное подвидовое имя
— Homo sapiens idalty (от афарского слова, означающего «старейший»). Этот
вид, по их словам, «вероятно, являлся прямым предком анатомически современных
людей». Авашская группа также указывала на то, что находка из Херто представ-
ляла собой убедительное свидетельство эволюции человека в Африке. Таким обра-
зом, опровергалась гипотеза Милфорда Уолпоффа (вдохновленная идеями Вайден-
райха) о «мультирегиональной» эволюции, к которой мы еще вернемся позже.
Любопытно, что на черепе ребенка были обнаружены следы порезов, аналогичные
тем, которые Уайт заметил на черепе Бодо. Это означало, что после смерти его
тело разделали. Более того, череп был странно отполирован, как если бы его
долго носили в сумке, например, из религиозных соображений. Ритуальное пове-
дение является характеристикой современного человека, но археологические на-
ходки рядом с костями гоминидов из Херто не указывали ни на какие поведенче-
ские изменения по сравнению с предшественниками. Совсем наоборот, среди арте-
фактов из Херто были обнаружены одни из самых старых в Африке каменных топо-
ров.
Дикика
Противостояние Хадара и Среднего Аваша закончилось в 1999 году, когда Зерай
Алемсегед из Калифорнийской академии наук начал раскопки в Дикике — безлюдном
районе, находившемся на противоположном от Хадара берегу реки Аваш. Осадочные
породы здесь были более или менее идентичны тем, которые находились на другой
стороне долины, и ландшафт здесь был точно таким же — леса, переходящие в за-
росли кустарников, между которыми вились притоки реки, впадающие в древнее
озеро. В ходе второго года раскопок здесь был обнаружен великолепно сохранив-
шийся скелет ребенка Australopithecus afarensis. Эта маленькая девочка, кото-
рой дали прозвище Селам («мир» по-афарски), жила 3,3 миллиона лет назад (то
есть за 120 тысяч лет до Люси) и умерла в возрасте чуть старше трех лет. Что-
бы определить это, исследователи применили более усложненную методику дати-
ровки зубов, использовавшуюся ранее при анализе мальчика из Нариокотоме. Оче-
видно, что Селам передвигалась на двух ногах, но ее лопатки были похожи ско-
рее на кости гориллы, чем человека. Молодые гориллы почти все время проводят
лазая по деревьям, и, как показали исследования, юная Селам мало от них отли-
чалась в этом отношении. Ранее на основании костей взрослых афарских австра-
лопитеков ученые уже делали предположения, что эти гоминиды проводили часть
жизни на земле, а часть — на ветвях деревьев. Теперь же у них в руках оказа-
лось убедительное доказательство этой гипотезы. Удивительно, но в скелете Се-
лам также сохранилась подъязычная кость — единственная твердая часть голосо-
вого аппарата гортани. Она выглядела очень похожей на обезьянью, что подтвер-
ждало наличие у афарских австралопитеков соответствующих вокальных способно-
стей.
Археологические находки в Дикике тоже были достаточно необычными. До этого
момента самые ранние каменные орудия были обнаружены в Гоне и насчитывали 2,6
миллиона лет. Однако отложения в Дикике были куда старше, и местные исследо-
ватели были поражены, обнаружив кости млекопитающих возрастом 3,4 миллиона
лет, носившие следы царапин. Судя по всему, когда-то тела этих животных были
разделаны с использованием острых каменных осколков. Археологи направили все
усилия на поиски орудий, аналогичных инструментам из Гоны, но до сих пор ни-
чего не обнаружили. Существует предположение, что австралопитеки из Дикики
могли разделывать туши животных с помощью острых камней, образовавшихся есте-
ственным образом. К примеру, они могли заостриться в реке за счет соприкосно-
вения с камнями на берегу. Другая версия гласит, что отметки, похожие на по-
резы, могли оставить острые копыта животных, проходивших по останкам. Однако
исследователи Дикики считают, что этот вариант можно исключить.
Дикикская находка заставила команду из IHO, работавшую на другом берегу в
Хадаре, заново пересмотреть свои коллекции животных останков на предмет поре-
зов . До сих пор ничего подобного найдено не было. Однако существует и еще од-
на серия доказательств, указывающих на возможность того, что австралопитеки и
в Дикике, и в Хадаре употребляли в пищу мясо мертвых животных.
Уже некоторое время палеоантропологам известно, что все, что мы едим, ос-
тавляет химический след в наших твердых тканях, то есть в костях и зубах, ко-
торые при удачном стечении обстоятельств могут стать окаменелостями. В случае
с австралопитеком особое внимание уделялось соотношению стабильных изотопов
углерода, показывающих, являлся ли обладатель костей плодоядным (то есть
предпочитал ли питаться частями большинства деревьев или кустов — это называ-
ют метаболическим путем С3) или травоядным (то есть питался ли он тропически-
ми травами и осокой, в которых содержится изотоп С4) . Если при анализе костей
гоминида будут обнаружены изотопы С4, это будет означать, что он употреблял в
пищу мясо травоядных животных.
Первичный анализ южноафриканских австралопитеков показал очень высокий уро-
вень С4, что указывало как минимум на всеядность гоминидов даже в отсутствие
каменных орудий. Помимо растительной пищи, в их рацион входили ящерицы, насе-
комые, членистоногие и детеныши антилоп. Для сравнения, современные обезьяны,
живущие на открытых равнинах, имеют более высокую концентрацию С3. Недавние
исследования восточно-африканских гоминидов показали, что переход от пищи,
богатой Сз, к продуктам, содержащим С4, произошел примерно 4 миллиона лет на-
зад. В частности, анализ афарских австралопитеков из Хадара и Дикики выявил
значительное количество компонентов С4 в их рационе. Концентрация могла ме-
няться в зависимости от образца, но ее средний уровень со временем оставался
постоянным. Возможно, Australopithecus afarensis отказался от пищи своих
предков, типичной для лесных обитателей, и переключился на равнинные кормовые
ресурсы. До сих пор непонятно, как такой переход мог способствовать развитию
активной охоты, или собирательства мелкой добычи, например членистоногих, или
поиска падали, или всех этих навыков, вместе взятых. Тем не менее, что-то яв-
но произошло, и это подтверждается царапинами на костях из Дикики.
Еще одни независимые раскопки проводились в Афаре с 2004 года Иоханнесом
Хайле-Селассие, сегодня работающим в Кливлендском музее естественной истории.
В 2005 году его команда обнаружила в районе Ворансо-Милле к востоку от Хадара
посткраниальный скелет крупного гоминида, отнесенного к Australopithecus
afarensis.
Этот австралопитек (скорее всего, мужнина), живший 3,6 миллиона лет назад,
еще раз привлек внимание ученых к вопросу большой вариативности размеров от-
дельных особей в рамках его вида. Кроме того, он имел достаточно пропорцио-
нальные параметры тела — его задние конечности были длиннее передних по срав-
нению с обезьянами, но короче по сравнению с человеком. Группа Хайле-Селассие
несколько недооценила приспособленность своего гоминида к лазанью по деревь-
ям, проявлявшуюся в строении верхней части грудной клетки и передних конечно-
стей, что не было неожиданностью, учитывая тогдашний исторический контекст.
Тем не менее, несмотря на то, что часть лопатки гоминида из Ворансо оказалась
отломанной, строение оставшихся фрагментов этого элемента указывает на нали-
чие у него способности лазать по деревьям, существование которой предполагала
и группа из Дикики.
Озерный гоминид и
плосколицый человек
В это же время в Кении тоже делались важные открытия. Еще в 1960-х годах
палеонтолог из Гарварда Брайан Паттерсон нашел в месте под названием Канапои
к юго-западу от южной оконечности озера Туркана верхнюю часть локтевой кости
гоминида, возраст которой составлял 4 миллиона лет. В течение долгого времени
этот район оставался заброшенным, пока в середине 1990-х годов Мив Лики, жена
Ричарда, обратила внимание на Канапои и на отложения примерно того же возрас-
та в местности под названием Аллиа-Бей на восточном побережье озера Туркана.
В 1995 году она и ее сотрудники дали образцам, найденным в двух этих местах,
общее название Australopithecus anamensis (anam на языке туркана означает
«озеро»). Большую часть собранного материала составляли зубы, но среди них
встречались и достаточно хорошо сохранившиеся верхние и нижние челюсти и, что
самое важное, верхние и нижние части больших берцовых костей. Все эти находки
были куда больше похожи на останки Australopithecus afarensis, чем на ардипи-
тека — старейшего из известных на тот момент гоминидов. Поэтому Лики и ее
коллеги заключили, что перед ними находится предок афарского австралопитека.
Вскоре это заключение было подтверждено более точной датировкой окаменелых
останков «озерного гоминида» — между 3,9 и 4,2 миллиона лет назад. Еще через
три года, располагая большим количеством останков, группа Лики подтвердила,
что их гоминид был «более примитивным», чем афарский австралопитек, и в духе
господствовавших тогда теорий намекнула, что он мог занимать в генеалогиче-
ском дереве человечества промежуточное место между ардипитеком, жившим 4,4
миллиона лет назад, и более молодым Australopithecus afarensis. Впрочем, впо-
следствии Лики отказалась от этой мысли.
Открытие Australopithecus anamensis имело и еще один важный аспект — эта
находка стала самым убедительным свидетельством бипедальности ранних гомини-
дов . Главную роль в определении этого сыграла часть большой берцовой кости,
входящая в голеностопный сустав. Её строение указывало на то, что, когда сто-
па опиралась о землю, вес тела полностью переносился вниз на нее. При этом во
время ходьбы колени двигались рядом друг с другом. Более того, у
Australopithecus anamensis отсутствовало существенное различие в размерах
клыков у самцов и самок, а эту характеристику гоминидов считал очень важной
Тим Уайт. Как будто опасаясь конкуренции, авашская группа в 2006 году тоже
обнаружила останки Australopithecus anamensis. Это были разрозненные фрагмен-
ты из места под названием Асса-Иссе, расположенного неподалеку от Арамиса.
Датировка показала, что их возраст составлял от 4,1 до 4,2 миллиона лет. Ма-
териалы из Асса-Иссе закрепили «озерного гоминида» на позиции промежуточного
звена между ардипитеком и афарским австралопитеком. Примерно в то же время
хадарская группа опубликовала результаты собственного анализа и заявила о су-
ществовании единой линии развития гоминидов, постепенно изменявшейся в тече-
ние 1,2 миллиона лет и шедшей из Канапои в Аллиа-Бей, затем в Лаэтоли и, на-
конец , в Хадар. При этом положение ардипитека в этой хронологии оставалось
неясным, а образцы из Асса-Иссе, к которым у хадарской группы, вероятно, не
было доступа, попросту игнорировались. Действуя в минималистическом ключе,
они выступали за «наименее ветвистое» генеалогическое древо ранних гоминидов.
Они также признавали, что единственное слабое место их теории, не подтвер-
жденное достаточно убедительными доказательствами, находилось между Аллиа-Бей
и Лаэтоли, то есть между Australopithecus ammensis и Australopithecus
afarensis. Более того, существовали некоторые свидетельства гетерогенности
между образцами из Канапои и Аллиа-Бей, не говоря уже о гоминидах из Хадара,
в отношении которых все еще велись активные споры.
Но, несмотря на повсеместное линейное мышление, в целостной теории развития
ранних гоминидов начали появляться трещины. В 1986 году российский антрополог
В. П. Алексеев применил к черепу ER 1470 видовое название Pithecanthropus
rudolf ensis. Этот знаменитый череп с плоским лицом был найден за 10 лет до
этого и заставил многих палеоантропологов серьезно задуматься о предложенном
Луисом Лики наименовании Homo habilis. Чем бы ни был ER 1470, он существенно
отличался от всех других олдувайских находок, и в 1992 году Бернард Вуд, ко-
торому было поручено протоколировать все находки в Восточной Туркане, нако-
нец-то осмелился высказать это в открытую. Если Вуд был прав, то ER 1470 тре-
бовалось новое имя, и по правилам номенклатуры преимуществом обладал Алексе-
ев . Таким странным и неоднозначным способом довольно плохо сохранившийся об-
разец из Восточной Турканы превратился в эталон для целой новой группы — Homo
rudolfensis. Постепенно эта идея стала набирать популярность, а к Homo
rudolfensis начали относить все больше и больше материалов. Среди них была и
нижняя челюсть возрастом почти 2,5 миллиона лет, найденная в Малави в 1991-
1992 годах, и фрагмент нёба, обнаруженный в слое 1 Олдувайского ущелья в 1995
году и датированный временем 2,5 миллиона лет назад (пускай эта находка и бы-
ла описана спустя восемь лет).
Ситуация оставалась неизменной до 2001 года, когда команда Мив Лики (кстати
говоря, те же самые люди, которые еще в 1995 году заявляли, что в Восточной
Туркане 1,5 миллиона лет назад одновременно проживали Homo erectus и Homo
habilis) дерзко нарушила табу на создание новых родов гоминидов. Во время се-
зона раскопок 1998-1999 годов в Западной Туркане им стало очевидно, что 3,5
миллиона лет назад рядом с озером проживали какие-то необычные существа. Ос-
новной рассматриваемый ими образец имел код KNM-WT 40000 и представлял собой
сравнительно полный череп гоминида с плоским лицом, имевший множество трещин
и заполненный осадочными породами. Тем не менее, череп сохранился достаточно
хорошо, чтобы можно было понять, что он отличался от всех прочих материалов
той же эпохи. Находка была настолько необычной, что исследователи посчитали
необходимым создать для нее не только отдельный вид, но и род — Kenyanthropus
platyops («плосколицый человек из Кении»). Впихнуть его в уже существующий
род не представлялось возможным, даже если бы его первооткрыватели действова-
ли по всем загадочным правилам палеоантропологии. Когда команда Лики сравнила
новый череп с уже имеющимися в их распоряжении окаменелостями, он оказался
больше всего похож на в равной мере загадочный, но гораздо более молодой ER
1470. Соответственно ученые отнесли его к виду Kenyanthropus rudolfensis.
Как и следовало ожидать, все это порядком раздражало Тима Уайта, который в
ответ на подобные теории приводил цитату из Эрнста Майра о «невероятной пута-
нице имен» в таксономии гоминидов (может быть, она и была актуальна в 1950-х
годах, когда Майр ее писал, но явно не через полвека). Уайт даже жаловался на
существование в классификации таких избыточных видовых названий, как
Ardipithecus ramidus и Australopithecus garni, хотя сам же их и предложил.
Кроме того, он не переставал осуждать Лики и ее коллег, заявляя, что череп
KNM-WT 40000 был слишком поврежден осадочными породами, чтобы его можно было
верно интерпретировать. На самом же деле, если не учитывать незначительные
дефекты и отсутствие мелких деталей, череп сохранил свою базовую форму и ос-
новные параметры. Как бы плохо он ни сохранился, череп является реальностью,
которую мы должны толковать систематически, а не отодвигать на второй план
цветистой риторикой и обвинениями в типологии и популизме. После краткого пе-
риода неприятия большинство палеоантропологов согласились с выводами Лики —
по крайней мере на то время, пока у них не появятся дополнительные материалы.
Исход
До конца 1980-х годов считалось, что гоминиды вышли из Африки примерно один
миллион лет назад. Затем начали обнаруживаться признаки того, что исход из
«колыбели человечества» мог произойти гораздо раньше. Несколько окаменелостей
Homo erectus, найденных на Яве, оказались удивительно старыми (1,6-1,8 мил-
лиона лет), а булыжники со сколами, обнаруженные в местности Риват в Пакиста-
не, тоже оказались сделанными не позднее 1,6 миллиона лет назад. Окончатель-
ное доказательство раннего выхода гоминидов из Африки пришло оттуда, откуда
его не ждали. Никто даже не мог предположить, что останки гоминидов могут
скрываться под руинами города, стоявшего когда-то на вершине черного базаль-
тового утеса на Кавказе, к востоку от Черного моря. Этот город назывался Дма-
ниси и когда-то был крупным торговым центром Западной Грузии, в котором доро-
ги из Ирана и Турции сходились в единый Великий шелковый путь. В XIV веке
Дманиси разорили монголы, а в наши дни руины города начали привлекать к себе
множество археологов-медиевистов. В 1991 году, раскапывая подвал под одним из
домов, группа ученых с удивлением заметила окаменелые кости, торчащие из
стен. Сегодня мы знаем, что возраст этих окаменелостей составлял 1,8 миллиона
лет, и что они стали предвестниками одной из величайших находок в палеоантро-
пологии .
За почти четверть века, прошедшие с того времени, в Дманиси были обнаружены
пять черепов гоминидов и четыре нижние челюсти, а также фрагменты трех по-
сткраниальных скелетов, множество орудий олдувайского типа и костей разнооб-
разных животных, часть из которых имела царапины и порезы. У четырех черепов
прекрасно сохранились лица, совпадавшие с четырьмя найденными челюстями. Пер-
вой находкой в Дманиси стала небольшая челюсть с великолепным набором зубов.
В соответствии с традицией и с учетом предположительного происхождения вла-
дельца этой челюсти образец изначально описывали как «раннего африканского
Homo erectus». В 2000 году были описаны и сравнены с кенийским Homo (то есть
с образцами ER 3733 и 3883, а также с мальчиком из Нариокотоме) еще два чере-
па из Дманиси, один с сохранившимся лицом, а второй — без. Как и кенийские
материалы, с которыми проводилось сравнение, эти два грузинских образца были
довольно не похожи друг на друга, на что вскоре указал мой коллега Джеффри
Шварц. Тем не менее, так как черепа были найдены в одном месте, исследователи
полагали, что они относились к одному виду. Объем мозга у гоминидов из Дмани-
си составлял 780 и 650 миллилитров соответственно, то есть был меньше, чем у
кенийских особей.
Не успели исследователи из Дманиси опубликовать описание своих находок, как
неподалеку от них был обнаружен еще один потрясающий образец. Я помню, как
впервые увидел его в Тбилиси, в доме Лео Габунии — гостеприимного палеонтоло-
га старой школы, который руководил раскопками в Дманиси и которого я посетил
незадолго до его смерти в мае 2001 года. Мне казалось, что Габуния и сам не
верил в то, что оказалось у него в руках, и я разделял его неверие. Перед на-
ми была нижняя челюсть, радикально отличающаяся от той, что была найдена в
Дманиси 10 лет назад. Первая челюсть была короткой и изящной, а этот образец
имел большие размеры, изогнутую форму и длинные ряды зубов. Ничего удивитель-
ного для позднего миоцена, за исключением коротких клыков. В посмертной пуб-
ликации Габунии, написанной совместно с французскими и грузинскими коллегами,
эта находка выделяется в новый вид — Homo georgicus. К нему же авторы отнесли
и более ранние находки из Дманиси. Крупная челюсть, по их мнению, принадлежа-
ла самцу, а более ранние находки — самкам. Вне зависимости от того, насколько
эта необычная новая окаменелость (да и остальные, если уж на то пошло) вписы-
валась в род Homo, уникальность гоминидов из Дманиси не подвергалась сомне-
нию.
Однако эта ситуация продолжалась недолго. Почти сразу же после публикации
группа, работавшая в Дманиси, объявила о находке прекрасно сохранившегося че-
репа с челюстью. Череп принадлежал молодому человеку, имевшему легкое строе-
ние тела, короткое лицо и небольшую черепную коробку объемом 600 миллилитров,
и отличался от всех известных до этого гоминидов. Однако исследователи по ка-
ким-то причинам решили, что все находки из Дманиси, включая и обладателя
крупной челюсти, так или иначе, относились к роду Homo erectus (или Homo
ergaster) и были, таким образом, примитивными представителями рода Homo. Наи-
большее сходство они имели с Homo habilis, поэтому в описании новых грузин-
ских образцов было сказано, что они «обладают определенными чертами, сходными
с Homo habilis и Homo rudolfensis и являются предвестниками появления Homo
ergaster. Следующими находками, совершенными в 2002 и 2004 годах, стали череп
и челюсть пожилого гоминида, которые были описаны просто как аналогичные бо-
лее ранним материалам. Интересной чертой данного черепа был тот факт, что все
его зубы, за исключением одного нижнего, были утрачены его владельцем еще при
жизни. Судя по всему, этот гоминид сумел достаточно долго прожить беззубым
(так что отверстия в челюсти от выпавших зубов успели зажить). Это означало,
что члены группы поддерживали его в течение всего этого периода времени, ко-
торый , вполне возможно, длился несколько лет. Вероятность становилась еще вы-
ше , если учесть, что во время жизни гоминидов из Дманиси местный климат под
влиянием похолодания превращался из субтропического в умеренный, что делало
животных основным источником их питания.
В 2006 году команда из Дманиси пересмотрела все свои находки и подтвердила,
что, несмотря на некоторые расхождения в размерах, все они (за исключением
крупной челюсти, по которой они не достигли консенсуса) принадлежали членам
одной популяции, проживавшей в Дманиси около 1,8 миллиона лет назад. Сходство
с Homo habilis (что бы под ним ни подразумевалось) они интерпретировали как
остатки примитивных черт. Все остальные характеристики материалов позволяли
отнести их к тем же Homo erectus, что были обнаружены в Кении и на Яве. В це-
лом исследователи считали своих гоминидов представителями отдельного вида,
Homo erectus georgicus, стоявшего у истоков Homo erectus. Хронология идеально
совпадала с этими выводами.
Но к моменту публикации этих выводов уже взорвалась бомба, разрушающая их
на корню: в 2005 году был найден череп, которому принадлежала массивная че-
люсть. Эта прекрасно сохранившаяся окаменелость была описана только восемь
лет спустя, вероятно потому, что тогда (как и сейчас) ее было очень сложно
интерпретировать. Проще говоря, она не была похожа вообще ни на какие останки
хюминидов, известные науке на тот момент. Объем черепной коробки был неболь-
шим (546 миллилитров), а сильно выдающееся вперед лицо наводило на мысли о
грацильном австралопитеке. И все же это не был австралопитек, по крайней ме-
ре, в том смысле, в котором этот термин применяют к африканским находкам. Я
видел этот череп лишь мельком, но у меня создалось впечатление, что этот пре-
красный образец не похож вообще ни на одного раннего гоминида из Африки. А
раз находку нельзя было отнести к австралопитекам, она тем более не вписыва-
лась в род Homo, хотя команда из Дманиси по каким-то причинам и заявляла, что
обнаружила в нем «близкое морфологическое сходство с самыми ранними африкан-
скими образцами Homo».
Все это приводит нас к вопросу: кого именно можно считать представителями
рода Homo? Этот вопрос вовсе не так прост, как кажется на первый взгляд. Из-
начально наш род, каким мы его знаем, содержал лишь один вид — наш собствен-
ный — и лишь впоследствии начал разрастаться и расширять свои границы по мере
нахождения все новых и новых окаменелостей. В итоге представления науки о
том, из чего состоит род Homo (и чем он является), не имели под собой никаких
последовательных попыток проанализировать морфологическое разнообразие палео-
нтологической летописи гоминидов. Единственную работу подобного рода провели
в 1999 году Бернард Вуд и его бывший студент Марк Коллард. Основой для нее
послужили исследования Вуда, начатые еще в 1992 году. Вуд и Коллард начали с
того, что отказались от образа «человека — создателя орудий» как критерия для
включения в род Homo. Затем они совершенно верно указали на то, что все роды
по определению должны быть монофилетическими, то есть в группу должны вклю-
чаться только виды, происходящие от конкретного общего предка. В конце кон-
цов, группы, объединенные родством, представляют собой единственные реальные
группы, существующие в природе. Все прочие классификации являются произволь-
ными. Для большинства систематиков происхождение — решающий критерий для
включения вида в тот или иной род. Итак, все сводилось к общему предку.
Будучи палеоантропологами, Вуд и Коллард чувствовали себя неловко, применяя
к гоминидам те же критерии, что и ко всем остальным таксонам. Основная труд-
ность состояла в том, что, по крайней мере, теоретически строго монофилетиче-
ский род мог объединять виды с разными адаптационными механизмами, а в палео-
антропологии их было принято считать более важными, чем происхождение. По
этой причине двое исследователей решили вообще отказаться от критерия проис-
хождения и предложили определять род как группу, «чьи члены занимают одну
адаптивную зону». Это было довольно странное определение, ведь, к примеру, и
птицы, и летучие мыши, и насекомые умеют летать, но никому не приходит в го-
лову включать их в один род по этому признаку. Как бы там ни было, Вуд и Кол-
лард принялись анализировать различные варианты генеалогических деревьев го-
минидов и быстро поняли, что разнообразные окаменелости, которые обычно отно-
сили к Homo habilis или Homo rudoljensis, несмотря на их сходства или разли-
чия, совершенно не вписывались в единую адаптивную группу с Homo sapiens,
Homo ergaster и более поздними гоминидами из этого же рода. По сути, к роду
Homo можно было отнести только тех гоминидов, чьи тела и челюсти соответство-
вали современным пропорциям. При этом даже в соответствии с этой формулой в
роду Homo все равно оставалась высокая степень морфологического разнообразия,
так как, несмотря на схожесть посткраниального скелета, черепа Homo sapiens и
Homo ergaster существенно различались. В других родах млекопитающих настолько
выраженных отличий обычно не наблюдается. Тем не менее, группировка, предло-
женная Вудом и Коллардом, была достаточно удобной и компактной, а также обес-
печивала монофилетичность, ведь, насколько нам известно, современные пропор-
ции тела (в отличие от бипедальности) возникали в истории гоминидов только
один раз.
Классификация Вуда и Колларда помещала Homo rudoljensis, Homo habilis и
других ранних Homo в своего рода таксономический лимб (хотя в традиционном
стиле палеоантропологов предпринимались попытки расширить род Australopith-
ecus, включив все эти окаменелости в него). С другой стороны, род Homo полу-
чил более четкие границы, а значит, и достаточно практичные критерии оценки
новых кандидатов на вступление в него, таких как окаменелости из Дманиси. Как
отмечали сами авторы классификации, грузинские гоминиды эту проверку не про-
шли. Объем их мозга был невелик, и вне зависимости от того, принадлежали ли
они к одном виду, общие пропорции черепов указывали скорее на родство с авст-
ралопитеками. Более того, фрагментарный скелет (к которому мог относиться но-
вый череп) и посткраниальные останки трех других особей указывали на то, что,
в отличие от мальчика из Нариокотоме и других гоминидов с Турканы, представ-
ленных лишь разрозненными костями, жители Дманиси имели крайне небольшой
рост. С одной стороны, они обладали практически современными пропорциями, а с
другой — у них имелись «примитивные черты». Очевидно, что окончательные выво-
ды относительно посткраниальных скелетов из Дманиси и их места в эволюции со-
временного строения человека еще не сделаны.
Кроме того, до сих пор неясно, относятся ли окаменелости из Дманиси к одно-
му виду. Еще до обнаружения пятого черепа исследователи начали замечать в ма-
териалах некоторую гетерогенность, а с добавлением еще одного образца она
стала очевидной. Главным (и, по сути, единственным) основанием для их объеди-
нения являлась география находок. Если бы они были обнаружены в нескольких
километрах друг от друга или хотя бы в разных слоях отложений, никто бы даже
не усомнился в том, что они принадлежат к разным видам. С другой стороны,
геологи пришли к выводу, что отложения в Дманиси сформировались всего за не-
сколько сотен лет. Этого времени было бы вполне достаточно для того, чтобы
несколько мобильных групп разных гоминидов посетили это привлекательное ме-
сто, очевидно когда-то бывшее берегом озера с пышной растительностью и обиль-
ной фауной (включая хищников, которые могли поспособствовать накоплению здесь
останков гоминидов). Нет ничего необычного в том, что эти гоминиды могли при-
надлежать к разным видам, ведь, например, 2 миллиона лет назад вокруг озера
Туркана сосуществовали целых четыре разных формы гоминидов.
С каждой новой находкой исследователи из Дманиси все больше склонялись к
тому, чтобы отказаться от своей прежней теории о Homo georgicus и отнести все
разрозненные останки гоминидов, оказавшиеся в их распоряжении, к Homo erectus
— виду, который, как вы помните, был обнаружен на Яве и не имел с ними абсо-
лютно никаких сходных черт. Описывая великолепный пятый череп в 2013 году,
команда заявила, что «вариации в окаменелых останках гоминидов времен плиоце-
на и плейстоцена часто неверно интерпретируются как видовое разнообразие».
Основываясь на этом утверждении, она отнесла всю коллекцию материалов из Дма-
ниси к подвиду Homo erectus ergaster, который, разумеется, включал в себя и
«ранних африканских эректусов» из Кении. Это была значительная натяжка, и не
только из-за значительных морфологических различий между материалами, но и по
абсолютно противоположной причине: среди живых приматов очень сложно, а то и
в принципе невозможно выделить представителей одного подвида в рамках вида
исключительно на основании анатомического строения черепа. Однако группа из
Дманиси пошла еще дальше и создала новый субтаксон — подподвид Homo erectus
ergaster georgicus, к которому отнесла все останки грузинских гоминидов.
Только палеоантропологи, традиционно не имеющие представления о достижениях
систематики, игнорирующие правила номенклатуры и до сих пор следующие фунда-
менталистским правилам Майра, сформулированным полвека назад, могли прийти к
подобным выводам, столкнувшись с таким морфологическим разнообразием, как в
Дманиси. Если различия между хюминидами из Дманиси представляли собой всего
лишь эпифеноменальные вариации в рамках одного подвида, то можно было полно-
стью отбросить морфологию как критерий систематизации. Вспомним, что место
расположения останков и их возраст также нельзя было учитывать при классифи-
кации. На что же могли опереться исследователи? У них не оставалось ни едино-
го основания для сортировки разнообразных находок, как в рамках крупных так-
сонов, так и в нижней части существующей таксономической иерархии. Какая не-
приятная перспектива! В настоящий момент остается лишь ждать, как палеоантро-
пологическое сообщество отреагирует на предложение команды из Дманиси. Как бы
там ни было, оно подтверждает один факт — по крайней мере в некоторых регио-
нах мира еще существуют ученые, видящие эволюцию человека как линейный про-
цесс, ведущий от примитивного состояния к идеалу через ряд постоянно изменяю-
щихся видов. Вслед за Майром они до сих пор считают наивным, необдуманным и
типологическим предположение о том, что морфологическое разнообразие окамене-
лых останков гоминидов может на самом деле быть систематическим явлением.
ГЛАВА 9
Молекулы
и карлики
К началу 1980-х годов мне стало очевидно, что без доступа на Мадагаскар моя
карьера лемуролога долго не протянет. Я собрал все, что знал о предмете сво-
его изучения, в одну книгу и опубликовал ее в 1982 году, а затем вернулся к
палеоантропологии. Первым делом мне нужно было найти потенциальное место для
раскопок, хотя очевидных вариантов у меня было совсем немного. Планируя свое
возвращение в Нью-Йорк с острова Маврикий в Индийском океане, где я изучал
обезьян, я обратил внимание на Джибути. Эта крошечная территория, когда-то
принадлежавшая Франции, вдавалась в эфиопскую часть Афанского треугольника
менее чем в 100 милях к востоку от Хадара. Насколько я мог судить по весьма
неточным геологическим картам, находившимся в моем распоряжении, гряда оса-
дочных пород, в которой были обнаружены великолепные афарские окаменелости,
проходила как раз по территории недавно образованной Республики Джибути. На
нее, очевидно, стоило взглянуть. Кроме того, мне все равно нужно было сделать
там пересадку во время перелета с Маврикия в Париж, так что обстоятельства
складывались в мою пользу. Я прибыл в дымный и гниющий портовый город Джибути
и остановился в дешевом баре, он же отель, он же бордель, — единственном жи-
лье, которое я мог позволить себе с моим бюджетом. В тот же вечер толпа пья-
ных матросов из Югославии совершила налет на это место. Они вламывались в
комнаты с ножами и грабили постояльцев. Я был одним из немногих жителей оте-
ля, которым удалось избежать ранений и больницы. Я помню, как провел целую
вечность, изо всех сил удерживая на месте дверь в мой номер, дрожащую под
яростными ударами снаружи, и как из соседних комнат доносились крики, удары и
звон разбитого стекла.
Кто-то может сказать, что мне не хватало мотивации, но эта история поумери-
ла мой энтузиазм относительно работы в Джибути. Более того, в итоге это место
оказалось довольно бесперспективным. Через несколько лет французские ученые
обнаружили здесь ископаемые останки животных эпохи плейстоцена, но единствен-
ным свидетельством присутствия гоминидов был фрагмент челюсти, который, по
словам исследователей, «больше напоминал Homo sapiens, чем Homo erectus». Ко-
нечно, через некоторое время моя страсть к путешествиям вернулась и в итоге
завела меня в такие далекие страны, как Йемен (дикое место с суровой красо-
той, где меня один раз чуть не похитили повстанцы, а еще один — едва не за-
стрелили военные) и Вьетнам (пейзажи там были восхитительными, но вот окаме-
нелости встречались редко). Но случай в Джибути заставил меня сделать вывод:
важно не только находить новые окаменелости, но и правильно интерпретировать
те, которые уже находились на музейных полках. Я очень четко понимал, что ми-
нималистический подход, унаследованный от Эрнста Майра, привел к недооценке
разнообразия, присутствовавшего в палеонтологической летопись человечества,
и, соответственно, к неправильному представлению о том, как мы стали людьми.
По этой причине я начал размышлять об окаменелостях и о том, как именно па-
леоантропологи должны распознавать в них те или иные виды.
В то время мало кого интересовал этот вопрос. В конце концов, почти все
ученые до сих пор верили, что виды — это всего лишь случайным образом выде-
ленные сегменты эволюционных линий. Тем не менее, точки зрения на сам эволю-
ционный процесс различались, и в итоге мои коллеги оказались разделенными на
два лагеря. К первому относились Милфорд Уолпофф, его соратники и ученики.
Они быстро оправились от разочарования, пережитого в Восточной Туркане, и
сформулировали обновленную версию гипотезы одного вида, которую вскоре начали
называть мультирегиональной моделью. Основанная еще на довоенных идеях Франца
Вайденрайха, эта модель объясняла современное географическое разнообразие
Homo sapiens следующим образом:
1) основные географические группы человечества зародились в далеком прошлом,
во времена яванского и пекинского человека, а различия между ними возник-
ли в результате квазиизоляции;
2) при этом единство вида поддерживалось за счет обмена генами между геогра-
фическими вариантами на границах регионов их обитания.
В какой-то момент приверженцы этой теории поняли, что подобное объяснение
означало бы включение в один вид нескольких эволюционных линий, но данная
проблема была быстро решена — они попросту расширили свою концепцию и распро-
странили ее на Homo erectus.
Таким образом, редукционизм синтетической теории не только продолжал суще-
ствовать , но и цвел буйным цветом.
Основным конкурентом мультирегиональной модели была гипотеза африканского
происхождения человека, которую к тому моменту начали формулировать ученые из
Англии и Германии. Они заявляли, что в палеоантологической летописи, какой бы
скудной она ни была, первые указания на современную человеческую анатомию от-
носятся к Африке. Вскоре у их гипотезы появилась неожиданная поддержка. В то
время технологии молекулярной систематики постоянно улучшались и дорабатыва-
лись , и быстрее всего эти процессы проходили в лаборатории Алана Уилсона в
Беркли, где работал Винсент Сарич. Ученым уже давно было известно, что физи-
чески гены состоят из последовательностей базовых элементов, расположенных в
длинной цепочке ДНК. Таких базовых элементов насчитывается четыре — А, Т, Ц и
Г. Расположенные в определенном порядке, эти «буквы» кодируют врожденные ге-
нетические инструкции, на основании которых строится новый организм. В 1970-х
годах начали появляться технологии, позволяющие прочесть эти инструкции, и
внимание ученых постепенно смещалось от белков (таких как альбумины, которые
исследовали Сарич и Уилсон), кодируемых генами, к самой структуре ДНК.
Сравнив ДНК человека и шимпанзе, Уилсон и его студентка Мэри-Клер Кинг в
1975 году пришли к выводу, что структурные различия в их ДНК, в частности в
генах, кодирующих белки, были слишком незначительными для объяснения сущест-
венных анатомических различий. Соответственно, они должны были объясняться
разницей в активности генов в процессе развития. Это было весьма дальновидное
и крайне важное заключение, подтвержденное более поздними исследованиями:
ключевыми факторами эволюции являлись изменения в регуляции активности генов
и их экспрессии. Данные факторы имеют огромное значение для процесса разви-
тия. В свою очередь, встречающиеся в избытке «факторы транскрипции», которые
и активируют деятельность генов, кодирующих белки, почти наверняка могут по-
мочь заполнить многочисленные анатомические пробелы в палеонтологической ле-
тописи. Вполне вероятно, что такие пробелы включают в себя внезапные появле-
ния современных анатомических черт (таких как у мальчика из Нариокотоме) и в
результате возникновение анатомически уникальных Homo sapiens.
Вскоре Уилсон и его сотрудники сконцентрировались на ДНК определенного ти-
па. Большая часть ДНК хранится в ядрах наших клеток, но небольшая доля нахо-
дится в митохондриях — одном из типов органелл, расположенных в цитоплазме
клетки между ядром и мембраной и отвечающих за клеточное функционирование. В
митохондриях содержится гораздо меньше ДНК, чем в ядре, но клетка имеет не-
сколько митохондрий, а значит, одна и так же молекула ДНК дублируется в ней
несколько раз. Так называемая мтДНК имеет огромный потенциал для молекулярной
систематики. Большая часть ядерной ДНК перемешивается после слияния яйцеклет-
ки и сперматозоида, поэтому проследить ее между поколениями невозможно. Мито-
хондриальная же ДНК дает четкое представление о наследственности, потому что
она передается без всяких изменений по материнской линии (сперматозоиды отца,
по сути, представляют собой всего лишь ядра клеток). Соответственно, любые
различия в мтДНК между двумя особями, когда-то имевшими общего предка, объяс-
няются исключительно мутациями (то есть спонтанными изменениями, постоянно
возникающими в четырех возможных типах нуклеотидов).
В 1987 году Уилсон и его студенты Ребекка Кэнн и Марк Стоункинг исследовали
мтДНК 147 человек из разных регионов мира. Предположив, что скорость изменчи-
вости должна быть постоянной, и приняв во внимание количество различий между
образцами, они рассчитали, что наш вид возник около 200,000 лет назад. Более
того, полученное ими «дерево мтДНК» указывало на происхождение Homo sapiens с
африканского континента. Это подтверждалось и тем фактом, что потомки жителей
Африки имеют наибольшее разнообразие мтДНК, то есть люди живут и развиваются
здесь дольше, чем где бы то ни было еще. Относительно точной даты возникнове-
ния Homo sapiens в молекулярной систематике ведутся жаркие споры, но два фак-
та несомненны. Во-первых, наш вид появился относительно недавно, а во-вторых,
через какое-то время после возникновения он прошел через «бутылочное горлыш-
ко», то есть существенное сокращение популяции, после чего покинул африкан-
ский континент.
Меня, естественно, очень привлекали эти открытия, и не только потому, что
они подтверждали мои собственные размышления о палеонтологической летописи.
Молекулярный подход Уилсона и его коллег указывал на то, что, даже если наш
вид еще не достиг конца своего развития, оно, по крайней мере, имело четкое
начало. Невозможно было заниматься молекулярной систематикой, не признавая,
что виды действительно существуют, а такое признание давало возможность для
более тонкого анализа палеонтологической летописи человечества. Но, чтобы на-
учное сообщество могло это осознать, требовалось время. Должен признаться, в
тот момент меня больше всего радовало, что неандертальцев с их уникальными
характеристиками наконец-то признают отдельным видом, а не просто вымершей
разновидностью Homo sapiens.
Я полагал, что неандертальцы существенно отличались от нас не только с ана-
томической, но и с поведенческой точки зрения, что подтверждалось археологи-
ческими находками. Мне казалось, что, отрицая уникальность этих далеких род-
ственников человека, палеоантропологи отказывались от возможности понять их в
их собственном контексте, как отдельный вид, которым они почти наверняка и
являлись. В конце концов, мне надоело ждать, пока эксперты по неандертальцам
разберутся с этой проблемой, и в 1986 году я написал работу, посвященную
трудностям классификации окаменелостей по их морфологии. В ней подчеркива-
лось, что видообразование как процесс, результатом которого является возник-
новение новых биологических единиц, способных к размножению, очевидно, не
пассивное последствие морфологических изменений. Одни виды накапливают множе-
ство таких изменений, но не разделяются на несколько разных частей, а другие,
наоборот, едва различаются на вид, но при этом совершенно несовместимы в ре-
продуктивном плане. Эти явные различия между морфологией и статусом вида не
играют большой роли, когда у вас есть возможность наблюдать за взаимодействи-
ем (или его отсутствием) живых существ. Но вот если особи, которых вы анали-
зируете, живут вдали друг от друга, или же если у вас имеются только их ока-
менелые кости, такие различия становятся крайне важным фактором.
Практический опыт (в том числе и моя работа с лемурами) показывал, что за-
частую родственные виды приматов не имеют значительных различий в морфологии
костей и зубов. Таким образом, если вы обнаруживаете в одном раскопе две явно
различающиеся окаменелости твердых тканей, высока вероятность, что перед вами
останки двух разных видов, разумеется, если вы сможете исключить половой ди-
морфизм. Более того, так как различия между костями родственных видов обычно
незначительны, палеоантропологи легко могут недооценить количество видов,
представленных тем или иным собранием окаменелостей. Разумеется, мои рассуж-
дения вводили некоторый элемент неуверенности, но даже он был предпочтитель-
нее, чем излишнее упрощение эволюционных паттернов вместо их классификации. С
другой стороны, если я был прав, то все попытки выделить на основании окаме-
нелостей подвиды, то есть четко выраженные региональные варианты, возникающие
внутри видов и быстро исчезающие в них же, были обречены на провал. Подвиды —
это движущая сила эволюционных инноваций, основа для формирования новых ви-
дов . Но до сих пор, пока процесс видообразования не наделит их исторической
индивидуальностью, они остаются эфемерными.
Практические трудности, связанные с распознаванием близкородственных видов
в палеонтологической летописи, никуда не делись с 1986 года, когда моя работа
была опубликована. Я приложил все усилия, но так и не сумел найти способ, как
их устранить. Тем не менее, положительным результатом моей публикации стало
то, что в последние десятилетия палеоантропологи все реже и реже употребляют
термин «стадия». Стадия — это особая палеоантропологическая концепция, кото-
рую я однажды назвал самой ужасной «уткой», выдуманной моими коллегами. Ста-
дией называют неопределенную группу окаменелостей, имеющих примерное сходство
(например, по объему мозга). Такая группировка, разумеется, является продук-
том человеческого сознания, а не природы. Стадии не существуют сами по себе,
это всего лишь эвристические инструменты, которые, тем не менее, иногда пута-
ют с реальностью. Сам по себе этот термин не так уж плох, но если палеоантро-
полог мыслит «стадиями», он забывает о естественной классификации, созданной
самой природой. Если кто-то говорит, что эволюция гоминидов прошла через
«стадию Homo erectus», то подразумевается, что в ней отсутствуют такие поня-
тия , как предки и наследование. Вместо этого всю работу выполнил естественный
отбор, и дальнейшие исследования не имеют смысла. Придерживаясь идеи «ста-
дии», мы проигнорируем тот факт, что за последние пару миллионов лет рост
объема мозга в роду Homo происходил независимо в рамках трех разных линий
развития: у Homo erectus в Восточной Азии, у предков неандертальцев в Европе
и у предков Homo sapiens в Африке. Это очень важно, так как если рост мозга
является свойством всего рода Homo в целом, а не конкретно нашего вида, то и
корни этого явления нужно искать совершенно в другом месте.
В 1986 году моей главной задачей было показать, что Homo sapiens представ-
ляет собой во многом уникальный вид и что лишь некоторые окаменелости (имею-
щие сравнительно молодой возраст) вписываются в его морфологическую структу-
ру. В палеонтологической летописи плейстоцена отсутствует и большая круглая
черепная коробка, и достаточно маленькое лицо в ее нижней части, характерные
для современного человека. Таким же уникальным является и Homo neanderthalen-
sis с его длинным списком характеристик, не похожих ни на чьи другие (близкие
родственники неандертальцев из Сима-де-лос-Уэсос к тому моменту еще не были
обнаружены).
Я не сомневался, что Homo sapiens и Homo neanderthalensis являлись двумя
отдельными видовыми единицами, которые к моменту своего первого контакта уже
давно двигались по собственным эволюционным траекториям. Мне казалось, что,
включая неандертальцев в вид Homo sapiens в качестве странного и по определе-
нию низшего подвида, мы лишаем их индивидуальности. Тем не менее, многие па-
леоантропологи твердо придерживались и придерживаются этого мнения. До сих
пор существует научная школа, считающая, что во времена плейстоцена Земля бы-
ла населена гибридами неандертальцев и современных людей. И не просто считаю-
щая, а проповедующая свои идеи с религиозным пылом. Я очень четко помню, как
некоторое время назад один мой коллега поносил меня на весь Интернет за ком-
ментарий, который я считал крайне дипломатичным. Я просто призвал ученых, ин-
терпретировавших недавно найденный скелет подростка в возрасте 24,5 тысяч лет
как гибрид неандертальцев и Homo sapiens, к осторожности в высказываниях, а в
итоге чувствовал себя еретиком, за которым пришла инквизиция. Стоит ли гово-
рить, что этот подросток жил как минимум через 200 поколений после того, как
вымерли последние неандертальцы!
Различия в строении черепа между Homo sapiens и Homo neanderthalensis.
Но включение неандертальцев в вид Homo sapiens не только ущемляло их иден-
тичность . Оно скрывало и нашу собственную анатомическую уникальность, равно
как и принятая среди моих англоязычных коллег классификация черепов из Кабве,
Петралоны, Араго и Бодо в качестве «архаичных Homo sapiens». Что касается
ученых из других стран мира, то они, признавая отличие этих окаменелостей от
нашего собственного строения, относили их к Homo erectus. Такая интерпретация
никем не оспаривалась, так как большинство все равно полагало, что Homo
erectus были предками Homo sapiens.
Лично я предпочитал относить останки из Кабве, Петралоны, Араго и Бодо к
Homo heidelbergensis — виду, который Отто Шетензак выделил на основании челю-
сти из Маузра (как оказалось впоследствии, ее строение и зубные характеристи-
ки были похожи на те, что обнаружились у челюстей из Араго) . Но даже в этом
случае некоторые находки времен позднего плейстоцена, например окаменелости
из Лаэтоли и Ндуту, оставались в неопределенном таксономическом положении.
Сложности в их классификации еще раз доказывали большое таксономическое раз-
нообразие известных нам гоминидов. С какой стороны ни посмотри, на него ука-
зывали все базовые признаки окаменелостей. В своей работе я указал на то, что
именно этого и следовало ожидать, учитывая нестабильные природные условия
плейстоцена. Частые климатические изменения регулярно разбивали популяции го-
минидов на более мелкие группы, создавая оптимальные условия для возникнове-
ния и закрепления эволюционных изменений. После смягчения климата разрознен-
ные группы могли снова соединяться вместе. Таким образом, изменения остава-
лись в популяции и приводили к возникновению конкуренции.
Во всем
виновата
среда
Чтобы точно задокументировать перемены в окружающей среде, почти наверняка
оказавшие влияние на стремительную эволюцию гоминидов в эпоху плейстоцена,
использовались методы измерения и калибровки, разработанные во второй полови-
не XX века. Такие методы включали, в частности, измерение соотношения тяжелых
и легких изотопов кислорода в кернах, полученных путем бурения океанского дна
и ледяных шапок в Антарктиде и Гренландии. Все эти образцы содержат точные и
поддающиеся интерпретации данные о состоянии окружающей среды в разные перио-
ды, в частности об объеме полярных ледяных шапок, а значит, и о мировых тем-
пературах. Информация такого рода дает нам гораздо лучшее представление о
климате прошлых эпох, чем традиционная гляциология.
Исследование кернов показало, что эпизодическое ухудшение мирового климата
начало происходить уже достаточно давно, а чуть менее 2,5 миллиона лет назад
на Земле началось существенное похолодание. Сегодня эта дата считается офици-
альным началом эпохи плейстоцена (хотя многие до сих пор с ностальгией вспо-
минают другую временную границу — 1,8 миллиона лет назад). Начиная с этого
времени мировые температуры то падали, то повышались в пределах вполне регу-
лярных циклов длительностью 41 тысяча лет, что объяснялось циклическими изме-
нениями в наклоне земной оси.
Немногим более одного миллиона лет назад постоянное охлаждение океанов под
воздействием антарктических ледяных шапок запустило последовательность всем
известных ледниковых периодов, повторявшихся каждые 100,000 лет. В это время
северные полярные льды продвигались в более низкие широты, на территорию Ев-
разии и Северной Америки. Для Африки это означало уменьшение количества осад-
ков и большую переменчивость климата. Но самым важным фактором для древних
гоминидов было то, что эти глобальные климатические перемены не проходили
гладко. Между самыми холодными годами ледниковых периодов и самыми теплыми
днями межледниковья происходило бесчисленное количество температурных колеба-
ний. Именно из-за них поздние этапы эволюции рода Homo имели место в совер-
шенно нестабильной климатической и экологической обстановке.
Изучение кернов, равно как и результаты многочисленных исследований на су-
ше, показывают, что кратковременные колебания климата были привычными для го-
минидов, даже несмотря на то, что технологические традиции обычно существова-
ли достаточно долго. Рассуждая о влиянии климата на развитие гоминидов (хотя,
конечно, вряд ли климатические явления учитывали их удобство или потребности
в физической адаптации), нужно помнить, что оно имело последствия не только
для окружающей среды, но и для географии нашей планеты в целом. Колебания
температур и уровня влажности заставляли зоны роста растений перемещаться на
север или на юг, на возвышенности или в долины. Очертания берегов менялись с
подъемом или спадом уровня моря, когда испаряющаяся морская вода, превращаю-
щаяся в снег и дождь, сначала оказывалась замороженной в ледяных шапках во
время обледенений, а затем вновь оттаивала в период межледниковья. То, что
когда-то было островом, могло всего через несколько тысяч лет превратиться в
полуостров.
Эпоха плейстоцена создала идеальные условия для изменения биоты. В Африке
климат постоянно колебался от более влажного до более сухого. Постепенное
уменьшение влажности 2,8, 1,7 и 1 миллион лет назад привело к возникновению
открытых пространств и существенным изменениям в фауне континента, хотя после
того, как оставшиеся виды прошли «закалку» климатическими переменами, возник-
новение новых из них и исчезновение старых проходило уже не так явно — по
крайней мере до конца плейстоцена. Эти даты также совпадают с важными собы-
тиями в истории гоминидов: 2,5 миллиона лет назад произошел важный когнитив-
ный скачок и появились первые каменные орудия, а 1,8 миллиона лет назад воз-
никла современная форма тела, а размеры мозга начали увеличиваться.
Соответственно, динамика развития гоминидов была необычной. Примерно 2 мил-
лиона лет назад они начали демонстрировать гораздо более высокую частоту эво-
люционных инноваций, чем все остальные группы млекопитающих, в результате че-
го современные люди существенно более отличаются от своих предков того време-
ни, чем все прочие организмы на Земле — от своих. Почему же, пока все осталь-
ные виды продолжали жить обычной жизнью, с гоминидами происходили такие ак-
тивные изменения? Очевидно, что основанием для этого служила неустойчивая
среда обитания, которая постоянно сокращала их популяцию. Но должен был суще-
ствовать и дополнительный фактор, влиявший только на гоминидов. Таким факто-
ром, скорее всего, являлась материальная культура. Способностью изменять ок-
ружающую реальность с помощью культуры обладали только гоминиды, и это могло
повлиять на темпы их эволюционного развития одним из двух возможных способов.
Во-первых, с течением времени метательные орудия развивались и гоминиды
становились все более и более опасными хищниками. Обладание оружием, способ-
ным убивать на расстоянии, способствовало возникновению между разными группа-
ми гоминидов невиданной доселе конкуренции. Возможно, под ее влиянием у них
развивались поведенческие склонности, схожие с теми, которые демонстрируют
шимпанзе в сложных природных условиях — они вступают в организованные кон-
фликты с соседними группами себе подобных. Подобное антагонистическое взаимо-
действие должно было запустить очень сильный механизм внутригрупповой селек-
ции, победить в которой могли только особи, демонстрировавшие наиболее успеш-
ное поведение, а также обладавшие соответствующими физическими или умственны-
ми свойствами. Однако сложно поверить, что в ближайшее время археологическая
летопись пополнится настолько, чтобы это предположение можно было проверить.
Во-вторых, наличие материальной культуры, то есть огня и, скорее всего,
умения шить одежду и строить жилища, позволяло популяциям гоминидов рассе-
ляться на более широкие территории в благоприятные времена. Минусом такой
экспансии было то, что популяции становились более уязвимыми для географиче-
ских и демографических факторов, если (вернее, когда) условия окружающей сре-
ды ухудшались. Это приумножало изолирующий эффект фрагментации, и в этом
смысле материальная культура могла становиться дополнительным фактором влия-
ния на обновление популяции и эволюционные изменения гоминидов.
Назад к
истокам
В чем бы ни была причина, очевидно одно: мозг наших вымерших предков начал
увеличиваться через много столетий после того, как они переселились на откры-
тые равнины. До этого момента эволюция гоминидов ничем не отличалась от раз-
вития любой другой успешной группы млекопитающих. Лишь гораздо позже, когда
наши предки уже имели современную форму тела, возникла тенденция к росту го-
ловного мозга. А что же насчет ранних двуногих гоминидов, которые изобрели
первые каменные орудия? Как мы знаем, Реймонд Дарт и его последователи связы-
вали переход к бипедальности с их хищническим (если не сказать кровавым) об-
разом жизни. Более поздние и здравые рассуждения привели к возникновению дру-
гой концепции. Как уже отмечалось ранее, кучи разбитых человеческих и живот-
ных костей в пещерах Южной Африки могли быть образованы не могучими охотника-
ми, а скромными падалыциками. Этот вид деятельности прекрасно подходил авст-
ралопитекам, недавно переселившимся в новую опасную среду обитания. Не суще-
ствует почти никаких свидетельств, указывающих на то, что наши предки были
суровыми охотниками, какими они виделись Дарту. Но на огромных просторах Аф-
рики, в ее кустах, перелесках и зарослях травы, рядом с хюминидами жили на-
стоящие хищники, которые явно не могли пройти мимо медленных двуногих прима-
тов .
С кем же можно сравнить наших самых ранних предков? Высшие обезьяны, на
сходство с которыми обычно указывают, как правило, живут в лесах и, учитывая
сегодняшнюю поредевшую фауну, почти не имеют естественных врагов (за исключе-
нием Homo sapiens). Кроме того, как показывает пример шимпанзе, они редко ме-
няют свое поведение, даже оказавшись на открытой местности. Но переход к охо-
те сыграл большую роль для освоения нашими предками открытых пространств, а
диетические эксперименты, которые они начали сразу же после этого, не идут ни
в какое сравнение с пищевым консерватизмом шимпанзе. В связи с этим мои кол-
леги Донна Харт и Боб Суссман предположили, что ранних гоминидов гораздо точ-
нее можно сравнить с приматами, проживающими на равнинах, такими как бабуины.
Если вы помните, эта же идея лежала в основе приматологической модели, разра-
ботанной Клиффордом Джолли в 1960-х годах.
Обычно обезьяны живут небольшими группами, их можно сравнить с человечески-
ми семействами, но бабуины из африканских саванн и макаки, занимающие ту же
экологическую нишу в Азии, собираются в огромные стаи по несколько сотен осо-
бей. По окрестностям они передвигаются особым строем, так, чтобы самые ценные
для воспроизведения рода особи постоянно оставались внутри группы. В каждой
четко структурированной стае идет непрекращающаяся борьба за статус, а среди
самцов — еще и за доступ к репродуктивным самкам. Ни бабуины, ни макаки не
демонстрируют кооперации или просоциальности, характерной для современного
человека и отчасти для высших обезьян. Популяции этих приматов часто страдают
от нападений хищников, несмотря на то, что на ночь они забираются на деревья
или неприступные скалы. Иными словами, они демонстрируют поведение не хищни-
ков, а жертв. Харт и Суссман полагают, что точно так же вели себя и неболь-
шие, уязвимые и гораздо более медленные австралопитеки. Основываясь на окаме-
нелых останках ранних гоминидов, мы можем сделать вывод, что они действовали
по принципу бабуинов и проводили часть времени на открытых равнинах, а часть
— в безопасном лесу. Можно предположить, что они также жили большими группа-
ми, защищавшими самых ценных особей за счет тех, которыми можно было пожерт-
вовать . Если все было именно так, то они значительно отличались от своих да-
леких потомков и по социальной организации, и по поведенческим наклонностям.
Тем не менее, тот факт, что и производство каменных орудий, и навыки охоты
с ними появились во времена «двуногих обезьян», указывает, что существенные
когнитивные изменения начались задолго до того, как на эволюционную сцену вы-
шел род Homo. К сожалению, сегодня у нас нет никакой возможности узнать, ка-
ким образом гоминиды осуществили этот невероятный переход от состояния жертвы
в статус охотника, и сколько времени он занял. Ископаемая летопись не содер-
жит достаточных доказательств, но в любом случае можно уверенно утверждать,
что это превращение произошло на поведенческом, а не на анатомическом уровне.
Однако данное утверждение уже относится к области догадок, а угадывать всегда
тяжело. Например, некоторые ученые предполагают, что переход к рациону, осно-
ванному на животных белках, был осуществлен за счет «силового сбора падали»,
то есть гоминиды собирались в группы и отгоняли от туш животных других хищни-
ков, бросая в них камни. Если эта теория верна, то ранние гоминиды должны бы-
ли существенно отличаться от современных шимпанзе, не умеющих бросать предме-
ты далеко. Тот факт, что некоторые первые австралопитеки имели анатомию плеч,
крайне схожую с обезьяньей, также указывает на то, что броски получались у
них не очень хорошо. В таком случае можно было бы предположить, что «силовой
сбор падали» возник на более поздних этапах их развития. Но, так как у нас
по-прежнему отсутствует живая модель для сравнения, мы снова вступаем в об-
ласть догадок.
Наше представление об австралопитеках существенно расширилось в 2010 году
благодаря описанию нового грацильного вида Australopithecus sediba, найденно-
го в обвалившейся пещере Малапа недалеко от Йоханнесбурга. Возраст находки
составил 2 миллиона лет. Australopithecus sediba был описан как промежуточное
звено между австралопитеками и Homo, хотя некоторые предпочитают рассматри-
вать его как доказательство того, как много человеческих черт могли иметь ав-
стралопитеки. Основное сходство состоит в строении его таза (узкого и не
сильно расширяющегося кверху, в отличие от окаменелостей из Хадара и Стерк-
фонтейна), сходного с тазовыми костями поздних гоминидов. Ситуация еще больше
осложнилась после того, как мой коллега Йоэль Рак заявил, что между двумя
скелетами, отнесенными к виду Australopithecus sediba, имеются явные разли-
чия, указывающие на присутствие более одного таксона. Единственный известный
полный череп этого вида имеет объем, сходный с обезьяньим (420 миллилитров),
и, кроме сравнительно мелких зубов, ничто в нем не указывает на какую бы то
ни было эволюционную «продвинутость» по сравнению с остальными австралопите-
ками.
До тех пор пока палеонтологи не поймут до конца значение окаменелостей из
Малапы (которые в нарушение меркантильной палеоантропологической традиции
свободно доступны для изучения всем желающим), Australopithecus sediba будет
служить нам напоминанием о том, какими разнообразными были гоминиды в конце
плиоцена и начале плейстоцена. Одновременно с Australopithecus sediba в Ста-
ром Свете проживало еще как минимум шесть различных видов, разделенных на три
эволюционных линии. Подобное разнообразие не было чем-то уникальным — оно от-
ражало паттерн, существовавший с самых первых дней этого семейства и до всту-
пления в силу рода Homo. Стандарт признания новых видов в палеоантропологии
постепенно развивался. Давать новые имена старым окаменелостям по-прежнему
было запрещено, но с новыми находками уже можно было экспериментировать.
Странный карлик
с острова Флорес
Говоря о разнообразии гоминидов, нельзя не упомянуть странные окаменелости,
обнаруженные в 2003 и 2004 годах в пещере Лианг-Буа на острове Флорес в Индо-
незии. Ни один гоминид, включая даже печально знаменитого пилтдаунского чело-
века , до сих пор не оказывался настолько непохожим на своих собратьев. Я пом-
ню, как первый же взгляд на эту находку поверг меня в совершенное недоумение.
В слое отложений толщиной около 30 метров, скопившемся на полу Лианг-Буа,
были найдены несколько окаменелых останков человека, разбросанных по слоям в
возрасте от 12 до 80 тысяч лет. Самым удивительным был частично сохранившийся
скелет гоминида (названный LB 1) , жившего около 18 тысяч лет назад, то есть
достаточно недавно, когда люди современного типа уже населяли острова Юго-
Восточной Азии. Но этот скелет не был похож ни на один другой, известный нау-
ке. Несмотря на то, что LB1 был взрослым мужчиной (или женщиной), его рост
составлял всего три с половиной фута, а пропорции тела были крайне странными.
К примеру, довольно плоская ступня была слишком длинной по отношению к ноге,
строение таза напоминало кости австралопитеков, а запястья и плечи могли при-
надлежать либо обезьяне, либо очень древнему гоминиду. Череп тоже оказался
довольно любопытным. Как и тело, он был крайне небольшим — всего 380 милли-
литров , то есть меньше, чем у всех известных австралопитеков. Лицо при этом
было крошечным, с небольшими легкими чертами и не выступало вперед. Моляры
тоже оказались миниатюрными.
Как можно было интерпретировать это странное и такое молодое явление? Ос-
танки из Лианг-Буа напоминали австралопитеков только телосложением. С другой
стороны, лишь очень мелкие (и изношенные) зубы роднили их с Homo sapiens, да
и в целом со всем родом Homo. Австралийские и индонезийские ученые, описывав-
шие LB1, рассмотрели несколько объяснений такой странной морфологии и пришли
к выводу, что перед ними «отставший в росте» потомок Homo erectus с располо-
женного восточнее острова Ява. В принципе, подобное объяснение могло иметь
смысл. Виды, изолированные на островах, часто мельчают. В том же слое отложе-
ний, в котором были найдены останки гоминидов, ученые обнаружили кости карли-
ковых слонов. Но ни одна черта из анатомии LB1 не указывала на родство с Homo
erectus. Кроме того, даже после уменьшения люди с Флореса все равно имели бы
куда более крупный мозг. Наконец, непонятно, как небольшой размер тела мог
дать гоминидам преимущество на острове, который в эпоху плейстоцена кишел ко-
модскими драконами — огромными ящерицами, которые вырастают до 10 футов в
длину.
Гоминид с острова Флорес.
Альтернативным объяснением является патология. В духе теории о «рахитичном
казаке» некоторые авторы предположили, что LB1 когда-то был Homo sapiens (или
Homo erectus), страдавшим от болезни или аномалии развития, которая и измени-
ла его анатомию подобным образом. Однако ни одно из известных человечеству
заболеваний не подходит под это описание. Сами по себе кости также не имеют
никаких анатомических или структурных признаков патологического развития или
дегенерации. Найденная в той же пещере челюсть второго индивида и несколько
разрозненных костей оказались очень похожими на LB1. Это указывает на то, что
здесь несколько десятков тысяч лет обитала популяция одного вида гоминидов.
Итак, после того, как мы рассмотрели все возможные варианты, нам остается
только одна очевидная версия. Популяция из Лианг-Буа происходила от эволюци-
онной линии гоминидов, которая никогда не отличалась высоким ростом, и унас-
ледовала анатомическое строение своих архаичных предков — настолько древних,
что они могли покинуть Африку еще до появления предшественников гоминидов из
Дманиси. Когда и каким образом эти первые путешественники добрались до остро-
ва Флорес, изолированного от материка даже при низком уровне моря, остается
загадкой, равно как и наличие на острове простейших каменных орудий возрастом
около миллиона лет. Они однозначно указывают на присутствие на острове Флорес
гоминидов, но каких именно, до сих пор неизвестно.
Вероятно, самой главной загадкой во всей этой истории остается вопрос, по-
чему ученые, описавшие LB1, решили назвать его Homo floresiensis. Раз дело
было не в патологии, то он, очевидно, принадлежал к новому виду, но почти ни-
чего в его строении не указывало на род Homo. Судя по всему, в этом случае
снова сработало странное мышление палеоантропологов: если это гоминид (тут
сомнений не возникает) и он не принадлежит к роду Australopithecus (что тоже
очевидно), значит, остается только один вариант, каким бы натянутым он ни ка-
зался , — Homo.
ГЛАВА 10
Неандертальцы,
ДНК и креативность
Молодой швед Сванте Паабо был одним из нескольких талантливых молодых моле-
кулярных генетиков, склонных к творческой работе над геномом, которая была
визитной карточкой лаборатории Алана Уилсона в Беркли. Вдохновленный получен-
ным там опытом, в 1997 году Паабо впервые выделил ДНК из окаменел остей гоми-
нида: небольшой фрагмент митохондриального генома, извлеченный из кости руки
неандертальца из пещеры Фельдхофер. Это было удивительным техническим дости-
жением, так как ДНК — длинная и хрупкая молекула, при жизни она нуждается в
постоянном «ремонте», а после смерти быстро распадается на все более и более
короткие фрагменты. Неизбежный процесс дробления замедляется в прохладных и
сухих условиях, и это наряду с тем, что огромное количество копий мтДНК есть
в каждой клетке, объясняет, почему в останках неандертальца еще оставалась
ДНК, которую можно было извлечь. В своей недавней книге Neanderthal Man Паабо
описывает продолжительную и напряженную борьбу с техническими проблемами в
этой работе.
Его успех означал, что, наконец, стало возможным прямое сравнение генов
Homo sapiens и его вымершего родственника. Фрагмент круговой молекулы мтДНК,
который удалось секвенировать Паабо и его коллегам, оказался за пределами
диапазона, наблюдаемого среди всех современных людей. В этой части митохонд-
риального генома между нуклеотидами людей в среднем имеется восемь различий,
а между людьми и шимпанзе — 55. Неандертальцы находятся примерно посередине —
26 различий. Более того, неандертальцы оказались генетически практически рав-
ноудалены от всех современных народов, с которыми их сравнивали, что позволя-
ет предположить, что линии неандертальцев и современных людей в течение дос-
таточно долгого времени развивались независимо.
После открытия способа многие группы исследователей извлекли более подроб-
ные геномы мтДНК из останков более чем 10 неандертальцев, найденных в разных
уголках Европы. Результаты в целом были идентичны, однако дополнительно обна-
ружилось , что различия в последовательности мтДНК для людей и неандертальцев
меньше, чем для любого из этих видов и шимпанзе. Это означает, что обе линии
гоминидов относительно недавно преодолели генетическую «пробку». Очевидно,
шимпанзе беспрепятственно накапливали мутации в мтДНК гораздо дольше, чем
Homo neanderthalensis или Homo sapiens, — отчасти потому, что видообразование
шимпанзе шло дольше, но, возможно, и из-за того, что они жили в менее засе-
ленных районах.
Затем интрига усилилась. Используя новый высокопроизводительный метод сек-
венирования ДНК, который имитирует течение времени путем разделения ДНК на
мелкие фрагменты перед повторной сборкой на компьютере, группа Паабо в 2010
году смогла извлечь большую часть генома неандертальцев из фрагментов кости,
обнаруженной в хорватской пещере Виндия. В 2013 году они упрочили свою побе-
ду, добыв еще более всеобъемлющий ядерный геном из окаменелостей, найденных
на Алтае, на юге Сибири. Это было ошеломляющее техническое достижение: длина
ядерного генома человека составляет 3 миллиарда пар оснований, в то время как
митохондриальнохю генома — 16,500 нуклеотидов. Что еще хуже, смешение ядерной
ДНК между поколениями анализировать намного сложнее, чем смешение митохондри-
альной ДНК. Конечный результат — огромные наборы данных, доступные человече-
скому сознанию только после переработки сверхмощными алгоритмами суперкомпью-
теров . Эти алгоритмы, в целом очень похожие на те, что были разработаны для
использования в кладистике, должны непременно основываться на различных пред-
положениях об эволюционном процессе, которые могут казаться разумными, но не
всегда непосредственно доказуемы. Тем не менее, изменения в ДНК кодируют
большую часть истории популяции, а также инструкции по сборке каждого индиви-
да. Это позволило исследователям показать не только то, что некоторые неан-
дертальцы являлись носителями аллелей, определяющих рыжий цвет волос и свет-
лый тон кожи, но и то, что в их геноме содержался человеческий вариант гена
FOXP2, ответственного (наряду с другими) за развитие речевых навыков.
Наиболее ожидаемый вывод из этой работы — то, что геномы неандертальцев и
современного человека невероятно похожи. Подобное сходство очень сложно оце-
нить точно, но один из методов сравнения показывает, что кодирующий белки ге-
ном неандертальцев на 99,7% совпадает с нашим. Это выдерживает сравнение с
показателем 98,8% для людей и шимпанзе, которые тоже — в глобальном смысле —
являются очень близкими родственниками. Изначально «молекулярные часы» пока-
зали, что линии неандертальцев и современного человека разошлись в промежутке
около 300 и 700 тысяч лет назад, и это предположение подтверждается найденны-
ми окаменелостями.
Наиболее удивительное заключение состоит в том, что некоторые специфические
общие элементы генома существовали между неандертальцами и племенами людей за
пределами Африки — континента, на котором зародился Homo sapiens. Команда
Паабо верит, что это стало возможным из-за скрещивания неандертальцев и по-
томков некоторых из первых Homo Sapiens, однако такой обмен должен был про-
изойти достаточно давно, ведь у современных европейцев сходства с неандер-
тальцами меньше, чем у жителей Восточной Азии. Последующая передача генов со-
временным людям оценивалась в 2-4%, однако, затем этот показатель был понижен
до 1,5-2,1%. Тем не менее, некоторые ученые утверждают, что эти сходства мож-
но объяснить тем, что предки современных людей выходили из Африки в разных
направлениях и в разное время, поэтому одна ветвь сохранила общий с неандер-
тальцами признак (доставшийся от более древнего общего предка), а все осталь-
ные — нет. Этот вопрос активно обсуждается до сих пор, но никакие предположе-
ния о том, что же происходило, когда Homo sapiens наводнили Европу, совершен-
но не мешают коммерческим лабораториям обещать каждому, кто пришлет им обра-
зец своей слюны (и заплатит 100 долларов), оценить его процент «неандерталь-
ских генов».
Однако, с точки зрения палеоантропологов, самое важное во всем этом — пом-
нить, что близкородственные виды (например, Homo neanderthalensis и Homo
sapiens) часто похожи на решето и незначительный уровень перемешивания прак-
тически не будет означать, что исторически неандертальцы и современные люди
не отличались от других того же вида. Все еще существуют сомнения в том, что
эти два вида гоминидов давно идут отдельными эволюционными путями. И действи-
тельно, недавние открытия группы Паабо дают основание предполагать, что изо-
лирующие механизмы, которые Эрнст Майр считал критически необходимыми для ви-
дообразования , активно развивались, так как у современных людей обнаружены
свидетельства «выбора и удаления генетического материала, унаследованного от
неандертальцев». Усложняя формирующуюся картину, математическое моделирование
позволяет предположить, что даже упомянутые 2-4 % признаков неандертальцев у
современных людей могли быть получены не только в силу демографической дина-
мики, но и благодаря крайне редким случаям раннего спаривания.
Конечно, для морфолога наиболее интересным является то, что характеристики
окаменелостей дают нам не так много оснований предполагать биологически зна-
чимое слияние между двумя различными видами гоминидов. Homo neanderthalensis
поддерживал свою морфологическую идентичность, пока не исчез, a Homo sapiens,
как кратко выразился Линней, познал самого себя. Вряд ли кого-то удивит, что
в плейстоцене, когда ранние Homo sapiens наводнили Европу, случился подобный
«адюльтер»; возможно, мы даже приобрели от неандертальцев странный полезный
ген. Но суть в том, что с точки зрения значимости для систематики окончатель-
ный «развод» произошел задолго до этого момента.
В последнее время в прессе часто пишут об эпигенетике — термине, который
обычно используется для описания наследуемых изменений, не являющихся следст-
вием изменений в существующей последовательности оснований ДНК (то есть в ге-
нах) . Самый простой способ изменения функции ДНК без изменения последователь-
ности — это процесс под названием метилирование, в ходе которого к определен-
ному типу оснований ДНК, в данном случае к цитозину, прикрепляется крошечное
углеводородное соединение. Благодаря расшифровке генома неандертальца недавно
была сделана крайне интересная находка: поразительные морфологические разли-
чия между современным человеком и неандертальцем могут иметь эпигенетическую
природу. Это могло предусматривать изменение некодирующих факторов транскрип-
ции, принадлежащих к «кластеру HOXD», посредством метилирования цитозина. Ре-
гуляторные гены кластера HOXD управляют развитием конечностей, контролируя
активность кодирующих белок генов, участвующих в построении тела эмбриона.
Люди примечательны тем, что являются значительно более худощавыми, чем неан-
дертальцы , и это различие появилось не только недавно, но и резко. Наконец
приподнимается завеса над тем, что именно происходит на уровне генома, когда
две расходящиеся линии могут развиваться разными путями. Тем не менее, нам
нужно узнать намного больше, чем мы знаем сейчас, прежде чем мы сможем понять
все последствия предположения группы Паабо о том, что в силу расхождения ге-
ны, участвующие в морфологии скелета, претерпели намного больше изменений в
линии неандертальцев, а не в линии современных людей. Морфологу это заключе-
ние покажется странным, ведь крепко сложенные тела неандертальцев кажутся
обычными для ранних представителей Homo, в то время как грацильные Homo
sapiens не имеют себе подобных.
Группа Паабо преподнесла еще один большой сюрприз в 2010 и 2013 годах, ко-
гда были извлечены митохондриальный и ядерный геномы из не идентифицируемой
другим способом кости пальца гоминида, найденного в пещере Денисова в Южной
Сибири. Обладатель кости, видимо, проживал в период 30-50 тысяч лет назад, в
то же время, когда в этом регионе обитали неандертальцы. Более того, в это же
время через данный регион на восток могли продвигаться и племена ранних Homo
sapiens. Анализ генома показал, что таинственная кость принадлежала самке,
которая, несмотря на связь с неандертальцами, обладала отличительными особен-
ностями как в митохондриальной, так и в ядерной ДНК. Исследователи назвали
племя денисовскими людьми и обнаружили, что его представители разделяют более
недавнего предка с неандертальцами, а не с современными людьми. О том же го-
ворит и ДНК, извлеченная из странного отдельного зуба, найденного в той же
пещере Денисова; и хотя исследователи отказались заявить, что денисовский че-
ловек принадлежит к отличному от неандертальцев виду, дискуссия наводит на
мысль, что они верят, что это может быть правдой. Но и это было не все. Они
также выяснили, что представители этого племени (вероятно, распространившего-
ся по всей Азии в определенный момент времени в плейстоцене) обменялись гена-
ми — на низком уровне — с современными людьми, когда последние покинули Афри-
ку и расселились по Азии. Даже казалось, что они перемешались — опять-таки с
небольшой частотой — с другим, неизвестным видом гоминидов (не неандертальца-
ми и не современными людьми). Интересно, что гены денисовского человека ока-
зались непропорционально часто представлены у современных меланезийцев, что
позволяет предположить немного более высокую частоту скрещивания «денисовцев»
и древних меланезийцев на пути последних к конечной островной точке их путе-
шествия .
История того, что произошло, когда ранние Homo sapiens вышли из Африки и
встретили гоминидов, живущих в других местах, остается удивительно запутан-
ной , несмотря на то, что у нас уже есть немало древних геномов. Но сейчас
данные геномов говорят нам, что случаи низкочастотного смешения между племе-
нами гоминидов были обычным делом, когда наши предки быстро расселялись по
всему обитаемому Старому Свету. Так как все участники процесса были тесно
связаны, это мало кого удивляет. Но результаты этого смешения — каким бы об-
разом оно ни произошло — были тривиальными с биологической точки зрения (хотя
недавно обсуждалось, что найденные у тибетцев аллели, которые помогают им
справляться с жизнью на больших высотах, могут происходить от денисовского
человека). Это вызывает интерес, однако, кроме приобретения пары лишних ге-
нов, такое смешение не повлияло на будущее ни одного из участников. Все из-
вестные актеры в этой драме, видимо, к моменту смешения были уже достаточно
отличными друг от друга и шли по своим независимым эволюционным траекториям.
В поддержку вывода стоит отметить, что архаичные генетические элементы рас-
сеяны по всей структуре ДНК современных людей, а не сконцентрированы в тех
частях генома, которые могли бы внести существенные изменения в процесс раз-
вития .
Помимо неандертальцев и денисовского человека, единственным примером вымер-
шего гоминида, чей ДНК был успешно секвенирован, являются останки, найденные
в пещере Сима-де-лос-Уэсос (Атапуэрка, Испания). Вы можете вспомнить, что
морфология гоминидов из Симы ясно показывает, что они были предшественниками
неандертальцев или, по крайней мере, принадлежали к примитивному родственному
виду. Практически полное секвенирование мтДНК поддерживает это предположение,
указывая, что жители Симы связаны как с неандертальцами, так и с денисовским
человеком, хотя и ближе к последнему. Эта тесная взаимосвязь заставляет за-
даться вопросом, сколько окаменелостей, которые мы морфологически определяли
принадлежащими неандертальцам, могут на самом деле быть ближе к «денисовцам».
Прояснить этот вопрос поможет только время и неизбежное развитие технологий.
Полученные из генома данные красноречиво подчеркивают, как тесно связаны
все разновидности Homo и что это является результатом удивительной скорости
развития эволюции нашего рода в эпоху плейстоцена. Кроме того, ни одна другая
группа во всем мире не была изучена исследователями столь подробно, как наша,
гарантируя, что и проблему наименее существенных различий пытаются решить.
Эти два фактора показывают, как трудно на практике определить четкие границы
Природы. Если я и могу в чем-то согласиться со своим коллегой Милфордом Уол-
поффом, так это в том, что мы имеем дело с очень сплоченной группой, линии в
которой сложно изобразить так, чтобы это не вызвало споров. Но геномные дока-
зательства показали нам не только то, что границы этих линий размыты, но и
то, что разные линии гоминидов существовали параллельно в течение долгого
времени и смогли сохранить свою историческую идентичность.
Homo neanderthalensis:
портрет вида
В течение последнего десятилетия прошлого века и первого десятилетия века
текущего из Европы шел непрерывный поток новостей об открытиях новых окамене-
лостей, как неандертальцев, так и других древних гоминидов. Важнейшие находки
были сделаны в пещерах региона Атапуэрка в Северной Испании. Самая древняя из
них была обнаружена в месте под названием Сима-дель-Элефанте и представляла
собой небольшой фрагмент передней части беззубой челюсти. На основе этой на-
ходки нельзя было сказать ничего, кроме того, что хюминиды жили в районе Ата-
пуэрки примерно 1,3 миллиона лет тому назад. Однако этот факт был важен сам
по себе, так как он позволил отодвинуть на 200 тысяч лет назад границу досто-
верного появления гоминидов в Европе. Кроме того, это дало приблизительную
датировку грубо обработанных каменных орудий из Сима-дель-Элефанте. Но гораз-
до более интересным был набор окаменевших фрагментов гоминид возрастом 800
тысяч лет из расположенного рядом места находки каменных орудий под названием
Гран-Долина. Палеоантропологи не могут прийти к общему мнению относительно
того, являются ли гоминиды из Гран-Долины, в 1997 году получившие название
Homo antecessor, более близкими родственниками гейдельбергского человека или
неандертальца или же степень их родства одинакова. Проблема частично возника-
ет из-за того, что большинство костей являются неразвитыми, но, тем не менее,
новый вид уже стал удобным фактором для объединения различных ранних европей-
ских гоминидов, включая разновидность из Сима-дель-Элефанте, и ту, которая,
как предполагается, оставила свои следы 900 тысяч лет назад на пляже в Хейз-
боро в Восточной Англии.
Многим может показаться наиболее интересным тот факт, что окаменелости Homo
antecessor из Гран-Долины несут на себе явные следы каннибализма. Кости гоми-
нидов, найденные в пещере, в которой ранние гоминиды делали орудия труда и
готовили пищу, сломаны точно таким же образом, что и кости млекопитающих,
найденные рядом с ними. На них можно найти следы порезов, раскалывания и вы-
скабливания, обычно ассоциирующиеся с разделкой туши. Мнение обнаруживших ос-
танки ученых о том, что эти несчастные стали кормом для своих собратьев (или,
по крайней мере, других гоминидов), представляется весьма обоснованным. Более
того, нет никаких свидетельств ритуального характера этой практики, так что,
по-видимому, каннибализм значил для Homo antecessor не то же самое, что для
современных людоедов. На самом деле из-за того, что эти гоминиды жили в не
очень изобильной окружающей среде на протяжении довольно долгого времени, ис-
следователи Гран-Долины предполагают, что такая практика, кажущаяся нам чудо-
вищной, была обычной частью стратегии выживания для Homo antecessor. Любопыт-
но, что, хотя следы каннибализма не были обнаружены на костях из Сима-де-лос-
Уэсос, что-то подобное может быть верно в отношении более поздних неандер-
тальских родственников этих гоминидов. Как мы видели, неандертальцы процвета-
ли (по крайней мере, при небольшой плотности: последние молекулярные исследо-
вания показали, что их положение всегда было нестойким) в Европе и Западной
Азии (вплоть до Алтая на востоке) в период от 40 до 200 тысяч лет назад. Мно-
гие кости неандертальцев несут на себе следы срезания плоти; кроме того, еще
в одном месте на севере Испании были обнаружены свидетельства этой непригляд-
ной стороны жизни неандертальцев. В пещере Эль-Сидрон целая общественная
группа из 12 неандертальцев была уничтожена в результате резни, случившейся
около 50 тысяч лет назад. После того как кости этих несчастных пролежали не-
определенное время, они были засыпаны обвалом, в котором их и обнаружили.
Кости шестерых взрослых, трех подростков, двух детей и одного младенца были
сломаны и выпотрошены. Они лежали поблизости от каменных орудий, которыми
пользовались или которые изготавливали члены этой группы, когда убийцы заста-
ли их врасплох. Зубы всех неандертальцев из Эль-Сидрона демонстрировали по-
следствия голодания, и исследователи предположили, что, в отличие от Homo
antecessor из Гран-Долины, они стали жертвой «каннибализма выживания» со сто-
роны другой группы неандертальцев. Останки сохранили достаточно мтДНК, чтобы
определить низкую степень генетического разнообразия внутри группы из Эль-
Сидрона , что, видимо, было типично для неандертальцев. В то же время все трое
взрослых мужчин принадлежали к одной материнской линии мтДНК, тогда как
взрослые женщины принадлежали к разным линиям. На основе этого можно предпо-
ложить, что мужчины составляли ядро социальной группы, а женщины были «выданы
замуж». Небольшое общее число индивидуумов — 12 — хорошо согласуется с други-
ми оценками размеров групп неандертальцев, основанными на размерах их области
проживания.
Помимо бесценной информации о социальной жизни неандертальцев, мы больше
узнали и об их физических отличиях. Особенности, ставшие известными при изу-
чении гораздо большего числа окаменелостей по сравнению с остальными гомини-
дами, в том числе и частично сохранившихся скелетов, включая хорошо изученную
крепость их костей, снискали этому виду славу здоровяков. Но до сих пор никто
не знал, как выглядел взрослый неандерталец при жизни. Единственным способом
точно определить это был сбор полного скелета неандертальца, что возможно
сделать только с помощью костей, найденных в разных местах. Эта трудная зада-
ча была решена моими коллегами Гэри Сойером и Блейном Мейли, работающими в
моей лаборатории в Американском музее естественной истории. Используя костные
элементы из полудюжины различных мест раскопок в разных странах — и, что
чрезвычайно важно, осколки и куски скелета из Ла-Феррасье во Франции, — Сойер
и Мейли собрали полный скелет неандертальца. Когда они впервые показали мне
результат в 2001 году, я был ошеломлен. Мне казалось, что я хорошо знаю со-
ставные части скелета неандертальца, и в каком-то смысле так оно и было. Но,
когда я увидел скелет целиком, это был совершенно новый опыт. Впервые я по-
чувствовал, что на самом деле встретил неандертальца. Я сразу же заметил, как
сильно он отличается от меня.
Главным отличием был его торс. Таз, как я уже знал, должен был быть гораздо
шире и выпуклее моего, кости конечностей толстые, с большими суставами. Одна-
ко грудная клетка неандертальца отличалась неожиданным образом. Гэри Сойер
напряженно работал, пытаясь придать ей привычный вид бочки, который все —
включая меня — приводили в своих учебниках, но, в конце концов, сдался и про-
сто следовал форме, которую задавали окаменелые останки. В результате неан-
дерталец приобрел коническую грудную клетку, сужающуюся от широкого таза к
узкому верху, что придавало ему чрезвычайно необычный вид. Мысленно сравнивая
его черты с другими окаменелостями, я понял две вещи. Во-первых, структура
тела неандертальца была совсем не похожа на человека среднего плейстоцена. И,
во-вторых, наш вид Homo sapiens удивителен. Наши удлиненные тела и бочкооб-
разные грудные клетки (не говоря уж о странных круглых черепах с тонкими ли-
цами, прикрывающими мозг) совсем не похожи на все, что было на Земле прежде.
У нас буквально нет непосредственного предшественника в палеонтологической
летописи. Именно поэтому было так радостно увидеть результаты недавнего моле-
кулярного анализа, который показал большие изменения, связанные с метилирова-
нием в кластере HOXD, являющиеся потенциальной причиной анатомических разли-
чий между архаическим и современным человеком. Этот разрыв в палеонтологиче-
ской летописи может многое нам рассказать о ходе и механизме эволюции.
В то же время нет никаких сомнений в том, что при всех отличиях от нас не-
андертальцы были широко представлены на планете. По мере того как мы узнаем о
них больше, исчезают всякие сомнения в том, что они заслуживают собственной
идентичности — хотя, когда я опрометчиво говорю на публике, что они не были
«людьми разумными», я до сих пор иногда устраиваю себе разнос, как кровному
врагу неандертальцев. Так как у неандертальцев был большой мозг (в среднем на
10% больше, чем у нас, хотя и сопоставимый с мозгом тех Homo sapiens, которые
жили вместе с ними, потому что современный мозг, похоже, немного уменьшился),
многим кажется, что изгонять их из нашего вида — дискриминационно. Но я уве-
рен, что у неандертальцев не было никаких проблем из-за того, что они считали
себя внутренне отличающимися от странно и непредсказуемо ведущих себя гомини-
дов, которые вторглись на их территорию 40 тысяч лет назад. Ибо неандертальцы
отличаются от нас не только анатомически, но и поведенчески и познавательно.
Нам очень важно понять эти различия, так как Homo neanderthalensis, вне вся-
ких сомнений, лучшее зеркало из всех существующих, в котором мы можем увидеть
отражение собственной уникальности.
r;\
* - • * J" *"' , '
Сравнение композитного скелета неандертальца (слева) и композит-
ного скелета современного человека такого же роста. Обратите
внимание на многочисленные различия по всему телу, особенно в
анатомии области таза и грудной клетки. По сравнению с костями
Homo sapiens длинные кости неандертальца заметно более толсто-
стенные и с увеличенными суставными поверхностями.
Неандертальцы отлично работали с камнем. Они хорошо освоили искусство изго-
товления составных инструментов с каменными наконечниками на рукоятке. Почти
нет сомнений, что неандертальцы использовали метательное оружие с каменными
наконечниками. Они были очень эффективными охотниками, и методы анализа изо-
топов (которые изучают соотношение в тканях различных изотопов азота) под-
тверждают, что, по крайней мере, несколько раз и в нескольких местах неандер-
тальцы затевали большую охотничью игру с шерстистым носорогом или мамонтом.
Тем не менее, несмотря на эту способность приспосабливаться к новым условиям,
неандертальцы остались гибкими с поведенческой точки зрения, и, если менялись
условия, они меняли свой рацион. По словам моего коллеги, Офера Бар-Йозефа,
они ели то, «что было вокруг». В северных широтах, где обычно жили неандер-
тальцы, в рацион времен ледникового периода входили животный белок и жиры,
добываемые охотой на крупных травоядных, которыми изобилует тундра. Но микро-
остатки, извлеченные из зубного камня на челюстях 40,000-летнего неандерталь-
ца, найденного в местечке Спи в Бельгии, указывают на то, что их владелец
также потреблял большое количество разнообразных растительных продуктов и по
крайней мере некоторые из них были приготовлены. В Италии мы видим тот же са-
мый прагматизм, отраженный в охотничьих стратегиях, судя по костям, отличаю-
щихся в теплые и холодные времена. Благодаря таким исследованиям неандерталь-
цы представляются как адаптирующиеся и находчивые, хотя, что характерно, их
методы обработки камня не сильно отличаются во времени и пространстве. Оче-
видно, они следовали древнему шаблону гоминидов по адаптации старых инстру-
ментов к новым целям в связи с изменениями в окружающей среде, в то время как
человеку современному свойственно изобретать новые технологии.
Неандертальцы не имели дела с информацией в том виде, в котором мы имеем
сегодня. Современный человек, по-видимому, уникален в своей способности ана-
лизировать внутренние и внешние переживания с помощью словаря мыслительных
символов. Мы можем затем мысленно соединять и повторно комбинировать эти сим-
волы , чтобы описать не только мир как он есть, но и сформулировать, каким он
мох1 бы быть. Способность манипулировать абстрактными понятиями предусматрива-
ет практически бесконечное количество возможностей, в частности наше хваленое
творчество; и, несмотря на некоторые намеки, любое разумное чтение записанно-
го материала делает очевидным, что наш особый вид изобретательности уникален
для нас. Да, неандертальцы тоже в какой-то мере обладали эмпатиеи. Мы можем
увидеть, как это выражено, например, в погребении умерших — занятии, которым
они занимались время от времени, хотя и очень простом. Действительно, обеспе-
чивающие долгосрочное хранение захоронения почти всегда объясняют, почему у
нас так много ископаемых останков неандертальцев, доступных для изучения. Но
неандертальцы очень редко — многими это считается спорным — размещали в моги-
лах все, что могло быть символическими артефактами.
В целом кажется, что жизнь неандертальцев была лишена символических объек-
тов. Практически все ранние символические фигуры, пускай и не совсем обосно-
ванно , связываются с Homo sapiens. Можно с уверенностью сказать, что символи-
ческие объекты не были обыденностью в жизни неандертальцев. Аналогичные выво-
ды можно сделать и об их повседневном поведении. Отношение неандертальцев к
каннибализму кажется нам ужасающе прагматичным, без какого-то намека на риту-
ал, в который превращается эта ужасная практика для современных людей. В об-
щем, данные о неандертальцах достаточно красноречиво доказывают, что можно
быть действительно очень умным без демонстрации как конкретного вида мышле-
ния, которым обладают современные человеческие существа, так и случайного по-
ведения , которое из него следует.
В первом десятилетии текущего столетия была найдена золотая жила информации
для тех, кто, как я, все больше и больше интересуется происхождением нашего
вида и его необычными наклонностями. В 1998 году я опубликовал книгу Becoming
Human, в которой набросал контуры казавшегося мне наиболее возможным сцена-
рия, объясняющего быстрое и невероятное видоизменение необычной обезьяны в
беспрецедентное в истории мира существо. То, что мы узнали в последующие пол-
тора десятилетия после публикации книги, чрезвычайно расширило круг информа-
ции, которая может быть пущена в ход в этом вопросе, и подкрепило мои ранние
выводы.
Чрезвычайно важным фактором была повторная датировка в 2005 году найденного
Ричардом Лики черепа из Омо-Кибиш в Южной Эфиопии. Его новый установленный
возраст оказался фантастическим — 195 тысяч лет. Это сделало находку из Омо
самым древним известным Homo sapiens, вместе с 160,000-летним соотечественни-
ком из Херто. Значит, анатомически современные люди проживали в Эфиопии уже
200 тысяч лет назад. С чисто исторической точки зрения данное событие было
знаменательным и судьбоносным для всего мира. Но, помня о том, что анатомиче-
ские и поведенческие изменения не совпадали с эволюцией гоминидов, в кратко-
срочной перспективе нельзя ожидать, что это сопровождалось какими-то поведен-
ческими изменениями. Их и не было. Каменные орудия, добытые из тех же отложе-
ний, что и череп Омо, были помечены как «предмет неопределенного вида», а те,
что были обнаружены в Херто, оказались крайне архаичными — среди них были, к
примеру, самые древние рубила во всей Африке. Насколько можно сказать, воз-
никновение на Земле Homo sapiens не сопровождалось какими-то резкими поведен-
ческими переменами (исключая тот факт, что детский череп из Херто был стран-
ным образом отполирован). Первые анатомически современные люди, очевидно, ве-
ли себя так же, как их предки.
Однако затем сформировалась эта любопытная анатомия, возможно частично воз-
никшая при цитозин-метилировании кластера HOXD. Каким бы определенным ни было
геномное изменение, оно должно было возникнуть спонтанно у предшествующего
населения и быть достаточно малым для новой конфигурации, чтобы быстро зафик-
сироваться — именно тот процесс, которым генетики, как правило, пренебрегают
из-за их увлеченности долгосрочной движущей силой отбора и т.п. В скелете яв-
но наблюдался каскадный эффект — от головы в форме воздушного шара к новой
форме тела и небольшим ступням. Более того, нет убедительных причин сделать
вывод, что эти эффекты должны были быть ограничены формой скелета. Поскольку
геном постоянно занят делом, те же самые регулирующие изменения могли про-
изойти и в мягких тканях, которые оказали влияние на строение мозга.
О том, какой фактор являлся ключевым в нейронной модификации и позволил лю-
дям, в конце концов, приобрести символическое мышление, остается только дога-
дываться. Хотя существует высокий шанс, что в отпечатках мозга внутри черепа
нет ничего особенного: специалисты по палеонейрологии, которые исследуют та-
кие вещи, не согласны с типичным палеоантропологическим взглядом на то, что
они видят. Нейроанатомы в настоящее время уделяют много внимания микроархи-
тектуре (сотовой структуре) коры головного мозга, тонкого, но сложного наруж-
ного слоя, как ключевому фактору. Однако большинство предположений о том, где
именно в головном мозге формируется символическое мышление, включают некото-
рые формы совершенствования способности отдельных специализированных частей
коры головного мозга «общаться» друг с другом и создавать более сложные свя-
зи.
Одной из самых интригующих последних молекулярных находок является то, что
у человека, по сравнению с обезьянами, быстрее развивалась метаболическая ак-
тивность в префронтальной коре головного мозга, и именно этот участок неокор-
текса чаще всего упоминают, говоря о том, что же делает мозг современного че-
ловека особенным. Тем не менее, не принимая во внимание то, из чего состоял
этот загадочный нервный компонент, разумно было бы предположить, что он был
приобретен в ходе более масштабной реорганизации, которая привела к формиро-
ванию нового, непохожего на предыдущие, тела. Любая новая функция должна сна-
чала появиться в вашем организме, а уж только потом вы сможете ею воспользо-
ваться. Кажется очевидным, что все наследуемые новшества должны были возник-
нуть как экзаптации (существующие функции, которые приспосабливаются к ис-
пользованию в будущем) , а не как адаптации к текущим условиям. Птицы научи-
лись летать, используя перья, которые у них уже были, а предки наземных по-
звоночных уже обладали рудиментарными конечностями, хотя обитали еще в водной
среде.
В любом случае окаменелости из Омо и Херто говорят нам, что анатомические
современные люди существовали в течение достаточно долгого времени, прежде
чем одно племя — скорее всего, небольшое, изолированное и попавшее в неприят-
ные условия — начало вести себя по-новому. Или, возможно, поскольку с анато-
мической точки зрения необходимым потенциалом обладали все Homo sapiens, пер-
вые неуверенные шаги были сделаны сразу в нескольких регионах Африки; мы не
узнаем об этом, пока не получим более полные данные, чем у нас есть сейчас.
Существуют некоторые намеки, указывающие на срок 100 тысяч лет, но, увы, они
так и остаются намеками. Разумеется, археологические данные в отношении древ-
них людей всегда будет сложно интерпретировать, потому что мыслительные про-
цессы не оставляют материальных следов. Лучшее, что мы можем сделать, — попы-
таться найти археологические индикаторы, соответствующие типам поведения, ко-
торые мы ассоциируем с современными людьми.
Когда мы это делаем, важно помнить, что поиск доказательств символического
мышления отличается от поиска доказательств сложных форм поведения, поскольку
непосредственные предшественники Homo sapiens также участвовали в чрезвычайно
сложной деятельности, например, создавали тщательно продуманные каменные ин-
струменты. Как я уже подчеркивал в связи с неандертальцами, можно быть очень
умным интуитивно, при этом не обрабатывая информацию уникальным, свойственным
человеку символическим образом. Учитывая, что эволюция всегда должна опирать-
ся на то, что было раньше, разумно предположить, что современные люди достиг-
ли когнитивной уникальности, «привив» способность к символическому мышлению
на уже имеющийся высокий интеллект интуитивного формата — вероятно, представ-
ленный неандертальцами, — а не заменив старый принцип мышления целиком. Если
это так, кажется также разумным предположить, что единственными достоверными
свидетельствами символического мышления могут быть только символические объ-
екты, а также менее прямые свидетельства символического поведения.
Но что такое символический объект? По этому вопросу нет единого мнения. Са-
мыми сложными и наиболее подходящими случаями являются растирание охры и про-
сверливание дырок в маленьких морских раковинах, видимо, для нанизывания. Са-
мо наличие измельченной охры на месте стоянки часто не считается доказатель-
ством символического поведения, потому что охра имела и важное практическое
значение, а не только применялась для украшения тела. Измельченная охра часто
использовалась в позднем палеолите, также нередко появлялись сообщения об об-
наружении ее на стоянках неандертальцев, хотя и неясно, с какой целью ее мог-
ли применять. Однако можно с уверенностью сказать, что в эпоху мезолита эта
практика получила более широкое распространение в Африке. Использование охры
в Африке имеет долгую историю, корни которой уходят в начало мезолита более
250 тысяч лет назад. Принято считать, что поначалу применение охры было ис-
ключительно утилитарным, но все изменилось к тому моменту, как 100 тысяч лет
назад ее начали использовать для окраски предположительно декоративных бус из
раковин, найденных на стоянках в Северной Африке и странах Леванта. В каждом
современном обществе, где это было задокументировано, украшение тела (будь то
раскраска кожи или украшения) имело явно символические коннотации: оно отра-
жало здоровье, вкус, социальный статус, членство в определенных группах, воз-
раст и т.д. Поэтому разумно предположить, что на поздних стадиях мезолита
краска из охры уже приобрела символическое значение.
Это смелое предположение о существовании кардинально нового элемента в жиз-
ни гоминидов в Африке около 100 тысяч лет назад подкрепляется другими наход-
ками на том же континенте. В 2002 году Кристофер Хеншильвуд и его коллеги со-
общили о замечательной находке в пещере Бломбос, на Южном побережье ЮАР: паре
сглаженных охряных пластинок, на которых вырезан повторяющийся геометрический
узор. Им около 77 тысяч лет, и это самые древние символические предметы, из-
вестные на данный момент. Какое сообщение передавал такой рисунок, мы, веро-
ятно, никогда не узнаем, но пластинки были сделаны не одновременно, это озна-
чает, что мотив повторялся в разное время и в разных местах: другой кусок ох-
ры примерно того же времени со сходным рисунком был найден в 400 километрах
от пещеры Бомбос. То, что новые веяния распространились на юге Африке между
70 и 80 тысячами лет назад, было в очередной раз подтверждено в 2009 году,
когда исследователи, проводившие раскопки в местечке Пиннакл-Пойнт недалеко
от пещеры Бомбос, сообщили, что люди, жившие на этой стоянке около 75 тысяч
лет назад, использовали чрезвычайно сложную технологию для укрепления ничем
не примечательного материала силкрита, чтобы сделать его более пригодным для
изготовления инструмента. Это был не имевший аналогов метод, при котором сил-
крит несколько раз нагревали и охлаждали в четкой последовательности, и его
вряд ли бы могли изобрести люди, у которых отсутствовал современный уровень
мышления или планирования.
Одна из отшлифованных и украшенных пластинок охры из пещеры Бом-
бос, Южная Африка: наиболее древний из известных явно символиче-
ских объектов.
Существует множество других доказательств того, что уникальный для людей
способ смотреть на мир и управлять информацией активно развивался на Африкан-
ском континенте около 100 тысяч лет назад. До этого момента неоспоримые сви-
детельства символического поведения встречались нечасто (или же им не хватало
каких-либо данных); после указанного момента подобные доказательства начали
накапливаться достаточно быстро. Так что же могло случиться, чтобы члены уже
практически появившегося вида Homo sapiens начали использовать свой мозг ра-
дикально новым способом? В конце концов, переход от несимволического к симво-
лическому состоянию мышления был, на первый взгляд, крайне маловероятным; его
невозможно было предсказать с помощью имеющихся данных о том, что происходило
раньше. На самом деле единственная причина, по которой мы верим, что такой
переход в принципе мог произойти, — это то, что он, вне всякого сомнения,
случился. Чтобы понять геометрию этих невероятных событий, мы должны в первую
очередь помнить о том, что человек уже обладал потенциально новым когнитивным
стилем (причем, вероятно, с самого зарождения Homo sapiens как отдельного
анатомического объекта). Биология «разблокировки» была обязательным элементом
всего, что произошло. Это, в свою очередь, означает, что стимул для когнитив-
ного сдвига был не структурным, а скорее поведенческим, или — говоря менее
двусмысленно — культурным. И так как переход был практически мгновенным в
масштабах эволюции, нам придется отвергнуть наиболее популярные его объясне-
ния, которые предполагают, что давление в сторону более высокого уровня умст-
венного развития было обусловлено усложняющейся социальной средой.
Это оставляет нам всего одного очевидного кандидата на роль такого культур-
ного стимула: изобретение языка. Как и символическое мышление, язык требует
создания символов в мозгу и их перестановки в соответствии с имеющимися пра-
вилами. Эти два явления настолько тесно связаны, что сегодня мы уже не можем
представить одно без другого. Кроме того, достаточно легко вообразить себе
(хотя бы в принципе) , как спонтанное изобретение языка в той или иной форме
могло заставить эти символы, кружащиеся в мозгу раннего современного челове-
ка, принять структурированный вид. Наконец, несложно понять, как язык и его
когнитивные корреляты быстро распространились среди членов сообщества (и в
целых популяциях) вида, который биологически уже был готов к этому. Более то-
го, если язык был изобретен представителями Homo sapiens (а не был собствен-
ностью всей филогенетической группы гоминидов, как думают многие), то перифе-
рийные вокальные структуры, необходимые, чтобы выразить язык в форме речи,
разумеется, уже были в наличии с момента появления вида. Эта структура собы-
тий не требует дополнительных объяснений того, как необходимые центральные и
периферические компоненты языковой системы ухитрились скоординировать свое
возникновение.
Можно считать, что с точки зрения биоты Земли обретение современных когни-
тивных функций было исторически менее важно, чем куда более позднее изобрете-
ние сельского хозяйства и оседлой жизни (ставшее сделкой с дьяволом). Ведь
первые современно мыслящие люди продолжали придерживаться образа жизни своих
предшественников (охоты и собирательства) в течение десятков тысяч лет после
этого эпохального события, в то время как сельское хозяйство привело позднее
к радикальным экономическим изменениям, противопоставило людей природе и ста-
ло причиной неумолимого и резкого роста человеческой популяции. Тем не менее,
мы уже говорили, что изначальный когнитивный сдвиг сделал возможным все, что
последовало за ним, и возвестил начало эпохи, в которой культурные и техноло-
гические изменения стали нормой, а не случайными исключениями. Сейчас мы ви-
дим лишь размытые отблески этой выдающейся африканской революции, но, узнавая
больше о том, как она происходила, мы сможем получить ответы на фундаменталь-
ные вопросы, как о нашей истинной природе, так и о нашей роли в мире.
Как бы то ни было, хотя возникновение Homo sapiens как узнаваемой анатоми-
ческой единицы по-прежнему лишь обрывочно зафиксировано окаменелостями, это,
безусловно, было неожиданным происшествием, а не затянувшимся процессом. Хоть
нам и предстоит очень долгий путь, прежде чем мы обретем что-то похожее на
полное понимание сложных поведенческих событий в период мезолита, уже очевид-
но, что поведенческие изменения в этот короткий период человеческой предысто-
рии происходили удивительно быстро. Полное превращение в человека было, таким
образом, явно двухступенчатым феноменом, но оно было завершено буквально в
мгновение ока (с точки зрения эволюции). Данная точка зрения выглядит неплохо
обоснованной. И если мы должным образом воспринимаем резкость этого судьбо-
носного перехода, не остается ни одного варианта, при котором наши необычные
когнитивные способности могли бы быть доведенными до совершенства продуктами
долгосрочного селективного давления. Возможно, мы и мыслящие существа, но
природа точно не создавала нас для какой-то конкретной цели. Кто мы — решать
нам.
эпилог
Какая разница,
от кого мы
произошли
Только что вы прочли очень личный рассказ о том, как палеонтология приобре-
ла имеющиеся у нее сегодня знания. Я знаю, что существует множество умных лю-
дей, несогласных с некоторыми из моих утверждений. Тем не менее, вряд ли най-
дется так уж много тех, кто будет отрицать всю картину в целом. Более того,
почти все согласятся, что странная и непоследовательная история палеонтологии
сильно повлияла на современное восприятие человечеством истории своего проис-
хождения. Это влияние было таким сильным, что, если бы вся палеонтологическая
летопись была заново обнаружена завтра и попала в руки ученых, не подчиняю-
щихся предрассудкам и предубеждениям, мы наверняка получили бы совершенно
другую картину человеческой эволюции, чем та, которую мы унаследовали от на-
ших предшественников.
Тем не менее, постоянно пополняющаяся палеонтологическая летопись уже дока-
зала нам, что история гоминидов не была похожа на героическую сагу об одино-
ком персонаже, идущем сквозь века от примитивного состояния к эволюционному
идеалу и вооруженном лишь естественным отбором и собственным умом. Это была
сложная драматическая постановка со множеством актеров и постоянно меняющимся
фоном, множеством запутанных взаимоотношений и большой долей удачи. Если это
предположение верно, тогда напрашивается следующее заключение: значительная
часть пережитых нами эволюционных изменений определялась не репродуктивной
борьбой между отдельными особями, а жесткой конкуренцией между популяциями и
видами. Традиционная и современная модели эволюции гоминидов приводят к абсо-
лютно разным выводам, и это не простая формальность, ведь каждый из них по-
своему показывает, кем мы являемся сегодня.
Давайте кратко повторим то, что мы уже знаем. Понять, каким образом мы при-
шли к текущим представлениям о своем прошлом, а также какие процессы их регу-
лируют , невозможно без оглядки на мнение наших предшественников. В самом на-
чале Чарльз Дарвин не обращал внимания на палеонтологическую летопись и делал
свои блестящие заключения о нашем эволюционном прошлом на основании скромных
свидетельств, предоставляемых нашими живыми родственниками — приматами. Уже
одно это ставило палеоантропологию ниже всех прочих палеонтологических дисци-
плин. Кроме того, из-за подобного подхода Дарвин обращал меньше внимания на
наши уникальные черты и подчеркивал лишь те характеристики, которые роднят
нас с другими животными. Современник и защитник Дарвина Томас Генри Гексли,
наоборот, не соглашался с тем, что эволюция представляла собой постепенный и
последовательный процесс, каким ее видел Дарвин. С другой стороны, он также
отказывался признавать и правильно интерпретировать настоящие окаменелые ос-
танки гоминидов. Он умудрился найти аргументы для того, чтобы отнести совер-
шенно уникальные кости неандертальцев к нашему виду Homo sapiens. Именно так
во времена зарождения палеоантропологии возникло предубеждение об исключи-
тельности гоминидов.
В последние десятилетия XIX века палеоантропологическая летопись начала
увеличиваться, и палеоантропология стала полем деятельности для анатомов.
Главной отличительной чертой этих людей была одержимость морфологическими ва-
риациями в рамках единственного вида — предмета их изучения. Когда анатомы
брались за исследование окаменелостей, эта черта проявлялась двумя способами.
Во-первых, они демонстрировали поразительное невнимание к зоологическим на-
именованиям, которые считались всего лишь порождением жалкой науки системати-
ки. Во-вторых, они не замечали важности и систематической значимости огромно-
го морфологического разнообразия, проявлявшегося в постоянно разрастающейся
летописи окаменелостей.
В середине XX века под влиянием идей Эрнста Майра палеоантропология пере-
ключилась с полного игнорирования эволюционного процесса на поклонение синте-
тической теории эволюции в ее наиболее жесткой форме. Виды считались лишь
эфемерными сегментами эволюционных линий, в рамках которых эволюционные изме-
нения проходили в форме медленного накопления изменений в частотности генов
под контролем естественного отбора. Палеоантропологи с готовностью приняли
эту фундаменталистскую точку зрения, так как она заполняла теоретический ва-
куум в самом сердце их науки, а также оправдывала интуитивно привлекательную
идею реконструкции биологической истории человечества путем проецирования
единственного существующего на сегодняшний момент вида гоминидов назад в да-
лекое прошлое. Влияние Майра на систематику гоминидов также было огромным и
выражалось в крайне минималистической таксономии. Для науки, полной избыточ-
ных и ненужных наименований, это было даже хорошо, однако подход Майра наде-
вал на палеоантропологию своего рода смирительную рубашку, не позволявшую
ученым сделать ни шага в сторону. Отмечу, что, когда Майр попытался применить
ту же идею к своей собственной дисциплине, орнитологии, его коллеги отреаги-
ровали совершенно по-другому и вскоре начали разрабатывать концепции видов,
которые гораздо лучше, чем прежде, отражали наблюдаемое ими природное разно-
образие . Палеоантропологам же понадобилось несколько десятков лет и большое
количество новых находок, чтобы признать хотя бы возможность существования в
прошлом множества видов гоминидов.
Тем не менее, однажды она была признана, и после этого начала стремительно
развиваться новая картина эволюции гоминидов. Этот процесс происходил абсо-
лютно непоследовательно и был вызван скорее давлением новых палеонтологиче-
ских находок, чем желанием ученых привести свою дисциплину в соответствие с
другими отраслями палеонтологии. В результате в 1993 году при публикации сво-
их первых пробных генеалогических деревьев гоминидов (см. рисунки далее) я
включил в них всего 12 видов, живших в течение последних 4 миллионов лет. По-
следняя версия этого же дерева, опубликованная через 20 лет, содержала в два
раза больше видов и описывала период 7 миллионов лет. Тем не менее, оба дере-
ва иллюстрировали два ключевых факта: в один момент времени на Земле обычно
сосуществовали несколько видов гоминидов, и Homo sapiens является в этом
смысле скорее исключением, чем правилом. Очевидно, что наш вид обладает каки-
ми-то беспрецедентными характеристиками, которые одновременно делают его не-
терпимым к конкуренции и способным устранить ее.
Ученые, пытающиеся выявить эти характеристики, называются эволюционными
психологами. Вооруженные синтетической теорией и канонической цитатой Дарвина
о том, что «в будущем <...> психология будет прочно основана на <...> необхо-
димости приобретения каждого умственного качества и способности постепенным
путем», эволюционные психологи предполагают, что поведение человека обуслов-
лено долгосрочным влиянием естественного отбора, процесса настолько медленно-
го и постепенного, что он не успевает за масштабными, стремительными и зачас-
тую создаваемыми самим человеком изменениями окружающей среды, возникающими
после сравнительно недавнего начала нами оседлой жизни. Согласно их представ-
лениям, мы часто ведем себя странно просто потому, что медлительный естест-
венный отбор еще не успел адаптировать нас к новым условиям.
Нет никаких сомнений в том, что, тщательно документируя наши зачастую не-
объяснимые черты, эволюционные психологи делают огромный вклад в наше понима-
ние самих себя. Но мы обычно забываем, что поведение не существует само по
себе. Каждый тип поведения занимает свое место во времени и пространстве.
Примером этому может служить альтруизм, то есть оказание помощи другим в
ущерб себе самому. Разумеется, люди порой жертвуют собой, но давайте не забы-
вать, что на каждый акт бескорыстия можно найти пример чудовищного эгоизма. О
какой бы ситуации или модели поведения мы ни говорили, большинство из нас
окажется в середине шкалы. Мы почувствуем желание помочь другому только в том
случае, если последствия для нас не будут слишком велики — в конце концов, мы
принадлежим к кооперативному виду. Тот же самый паттерн можно применить и к
любым другим действиям. В результате поведение всего вида Homo sapiens или
популяции внутри него лучше всего описывается статистически с помощью кривой
нормального распределения, а не на отдельных примерах. Может ли отдельно взя-
тый человек являться эгоистом? Да. А альтруистом? Тоже да. Но при этом подоб-
ные характеристики нельзя применять ко всем людям или даже к одному и тому же
человеку в разные периоды его жизни. Вот почему состояние человека, которое
пытаются описать философы или эволюционные психологи, так сложно понять. Без-
размерных характеристик, которые подошли бы всем людям, не бывает и никогда
не будет.
Н. sapiens
Н. neanderthalensis
H.heidelbergensis
1 -
3
СП
со
X
0)
с;
ю
о
I
о
S
1
S
2
Н. rudolfensis
P. aethiopicus
A. afarensis
Генеалогическое древо гоминидов, построенное на основании палео-
нтологических материалов, доступных в 1993 году.
Миллионов
лет назад
От
К sapiens
1 4
Н. neanderthalensis §£; \н- heidelbergensis
- 4&
Н. mauritanicus/antecessor
•
: Н. georgicus
К. rudolfensis г„
] к™
4\
Миллионов
лет назад
От
Н. floresiensis
Н. erectus
14
Аи. sediba
34
4 4
64
71
wtf
H.habiiisl ^^^И ч-*£1
/H.ergaster /
1 %
5 P. robustus *^
24
/ P. boisei
с ^Au. garhi
I Au. africanus :
У P. aethiopicus
34
*•«•««••«..•«
: K. platyops
Au. afarensis •
Au. bahrelghazali
1*
Au. anamensis
44
Ar ramidus
54
\ O. tugenensis
Ar. kadabba £
6 +
S. tchadensis
7X
Генеалогическое древо гоминидов, построенное на основании палео-
нтологических материалов, доступных в 2012 году.
Эта прозаичная реальность требовала бы особых объяснений, если бы мифы о
нашем происхождении были верны, и мы стали теми, кем являемся, за долгие ты-
сячелетия под влиянием естественного отбора. В конце концов, если наше пове-
дение веками отбиралось и корректировалось, то мы как отдельные особи и как
вид в целом генетически предрасположены к совершению определенных действий.
Однако в реальности все по-другому. С самого начала эволюция гоминидов была
не непрерывным процессом доработок и улучшений, но непрекращающимся экспери-
ментом , в рамках которого на арене эволюции постоянно стравливались новые ви-
ды. Наш оказался лишь одним из многих победителей в этой схватке и использо-
вал свои уникальные и недавно приобретенные когнитивные способности для уст-
ранения всех конкурентов в своей нише.
Эти способности основывались на комплексе изменений в нейронном строении
мозга, которые накапливались в течение длительного времени и улучшали умение
хюминидов обрабатывать информацию. В какой-то момент, произошедший совсем не-
давно, в одной из линий развития хюминидов радикально новая когнитивная мо-
дель начала превалировать над старой, но, что очень важно, не заменила ее
полностью. Данная новая модель была приобретена экзаптивным, а не адаптивным
путем и оказалась совершенно новой и непредсказуемой. Иными словами, иннова-
ционный способ обработки информации не развился для каких-то целей. Он просто
появился из ниоткуда, и некоторое время оставался неиспользованным, пока его
владельцы не открыли способы его применения.
Этот запутанный процесс описывает наше кажущееся противоречивым когнитивное
состояние. Он объясняет, почему мы, обладая столь великолепными способностями
к рациональному мышлению, так часто ведем себя нерационально, почему исполь-
зуем безграничный потенциал языка для лжи и обмана, почему иногда не можем
объяснить свои действия даже самим себе, почему мы так плохо оцениваем риски,
почему мы понимаем, что нам предстоит экологическая катастрофа, но не делаем
ничего, чтобы ее предотвратить, и почему мы так хорошо умеем рассуждать, но
при этом порой принимаем такие отвратительные решения. Все это происходит по-
тому, что рациональное и иррациональное постоянно борются в наших головах,
сочетаются, комбинируются и превращают нас в одновременно креативных и реф-
лексивных существ. Постепенная эволюция под влиянием естественного отбора ни-
когда не могла бы привести к подобному результату. Такое нестабильное и твор-
ческое состояние могло возникнуть лишь в результате совершенно невообразимой
цепочки событий, каждое из которых строилось на достижениях предыдущих экспе-
риментов и ограничивалось ими. Несмотря на то, что наш мозг, вне всяких со-
мнений, является продуктом долгой истории развития, длившейся сотни миллионов
лет, и что сегодня мы бы выглядели совершенно по-другому, не случись все со-
бытия этой истории в строго определенной последовательности, нельзя сказать,
будто природа подстраивала нас под те или иные условия поведения. Мы не про-
дукт оптимизации.
Разумеется, нам есть за что винить исторические и функциональные особенно-
сти эволюционного процесса — взять, к примеру, наши кривые спины, плоские
стопы или отрыжку. Но так как наши когнитивные особенности были приобретены
недавно и достаточно случайно, мы не можем считать эволюцию ответственной за
свое поведение. Оно зависит исключительно от нас самих, хотя, конечно, наши
характеры формируются семьей и обществом. Важно то, что свобода воли, которой
мы оказались наделены в ходе эволюционного процесса, также означает и личную
ответственность.
Ранние теории предполагали, что корни всех рас находятся одинаково глубоко
в прошлом, но невероятная молодость нашего вида с точки зрения эволюции также
напоминает нам об эпифеноменальном характере вариаций внутри него. Человече-
ский глаз крайне чувствителен к физическим различиям между людьми, происходя-
щими из разных регионов мира (в то время как аналогичные вариации в рамках
других видов мы можем и не замечать), но следует помнить, что все они возник-
ли совсем недавно — уже после появления Homo sapiens каких-то 200 тысяч лет
назад. Более того, многие из них начали развиваться всего 60 тысяч лет назад,
когда наши ранние предки покинули Африку. Большая часть этих особенностей ка-
жется случайной и не связанной со средой проживания, и лишь некоторые имеют
адаптивную важность. В первую очередь, это касается цвета кожи. Здесь взаимо-
связь со средой очевидна: темный пигмент меланин защищает чувствительную кожу
от повреждения лучами тропического солнца, но при этом препятствует синтезу
витамина D в северных широтах, где солнце светит слабее. Однако даже в этом
классическом случае последние генетические исследования указывают на то, что
темнота кожи была независимо приобретена несколькими тропическими популяция-
ми, которые двигались по разным путям развития.
Определенные геномные маркеры встречаются у людей, происходящих из разных
частей света, с разной частотой, поэтому в последнее время в некоторых кругах
стало популярно рассматривать забытое понятие человеческой расы как определе-
ние биологической единицы. Используя достаточное количество таких маркеров,
коммерческая лаборатория может рассказать вам, из какой части света происхо-
дили ваши предки (а за дополнительную плату — какой процент «неандертальских
генов» у вас имеется). А раз ваши гены указывают на место вашего происхожде-
ния, значит, вы принадлежите к четко определенной географической группе (ра-
се) . Однако ошибочность такого подхода очевидна: у вас было множество предков
и вероятность того, что все они происходили из одной местности, крайне низка
(в особенности в Африке).
Нельзя отрицать, что африканца и европейца довольно легко различить на вид,
равно как и азиата и австралийского аборигена. Жители каждого из этих регио-
нов обладают характеристиками, которые их предки приобрели по мере расселения
нашего вида по Старому Свету. В первые столетия существования нашего вида по-
пуляции были небольшими и раздробленными и быстро перенимали как генетиче-
ские, так и культурные новинки. Но с возникновением в конце последнего ледни-
кового периода (то есть примерно 10 тысяч лет назад) оседлого образа жизни
человеческие популяции стали более густонаселенными, а отдельные особи — бо-
лее мобильными. Самым судьбоносным моментом в биологической истории Homo
sapiens стала не дифференциация, а повторная интеграция, связанная с массовым
расширением и миграцией популяций. В результате границы между ними оказались
размытыми, и провести их заново внутри нашего вида уже не удастся.
Единственные барьеры, препятствующие процессу биологической интеграции, по-
рождаются культурой. Они возникают потому, что, несмотря на нашу врожденную
способность выучить язык или принять точку зрения любой другой культуры, ба-
зовые культурные установки очень быстро встраиваются в наше подсознание. Это
серьезная проблема, потому что в будущем различия в восприятии мира могут
стать даже большим препятствием для взаимопонимания, чем разные языки. Тем не
менее уникальная сложная культура человечества всего лишь замедляет повторную
интеграцию, а не останавливает ее — в текущей демографической ситуации это
попросту невозможно. Несмотря на распространение по всему миру, Homo sapiens
остается единой, разнообразной и способной к скрещиванию популяцией, которая,
пускай и неохотно это признавая, уходит своими корнями в мир природы.
Это возвращает нас к лемурам, с которых началась эта история. Разумеется, в
некоторых аспектах вид Homo sapiens совершенно уникален, но чем больше мы уз-
наем об истории нашего семейства, тем больше оно напоминает мне лемуров, по
крайней мере, своим разнообразием. Эти очаровательные приматы с Мадагаскара
показывают нам блестящий наглядный пример того, как посредством активных эво-
люционных экспериментов одна группа, оказавшаяся в новой среде обитания, мо-
жет использовать все открывающиеся перед ней возможности. Очевидно, что точно
так же вели себя и наши предки. Если мы продолжим считать себя исключением из
правил эволюционной игры, которым подчиняются лемуры, то мы не сможем верно
оценить ни собственную историю, ни существ, ею порожденных.
Что бы нам ни говорили, никакой мы не венец творения. Мы всего лишь еще од-
на веточка на еще недавно пышном эволюционном древе. Произошедшая недавно об-
резка других его ветвей, вызванная нашей уникальностью, дала нам искаженное
представление о нашем месте в природе. Чтобы поумерить свою самооценку, нам
следует помнить, что успешный продукт эволюции — это не наилучшая оптимизация
в инженерном смысле, а просто тот вариант, который лучше всего работает в те-
кущих условиях. Какими бы особенными мы себя ни считали, любой независимый
наблюдатель сразу же заметит, что даже после многих миллионов лет эволюции мы
не лишены недостатков — да и вряд ли когда-нибудь лишимся. Вот почему нам
следует постоянно помнить, что мы не исключения из правил природы. Да, мы мо-
жем быть уникальными, но мы в первую очередь — уникальные приматы.
Ликбез
НАЧАЛА ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Реформатский С.Н.
ОРГАНИЧЕСКИЕ
КИСЛОТЫ
Непредельные
одноосновные
кислоты
Непредельные кислоты производятся из непредельных углеводородов заменою
атома водорода на карбоксил; ближайшие к предельным производятся из углеводо-
родов СпН2п- Они могут быть произведены также и из предельных кислот через от-
нятие двух атомов водорода от различных углеродных атомов. Кислоты, как и уг-
леводороды СпН2Пл содержат или двойную сввзь, или замкнутую группировку угле-
родных атомов; например:
CH^zzCH —СООН или | >СН — СООН,
Способы получения кислот с двойной связью имеют двоякую цель:
1) введение карбоксильной группы в частицу при существующей уже двойной свя-
зи , или
2) образование двойной связи при готовой карбоксильной группе.
Способы первого рода общи со способами получения кислот предельных; сюда
относятся: окисление непредельных спиртов, алдегидов, обмыливание цианистых
соединений и т. д.; так, например, акриловая кислота получается:
a) окислением аллилового спирта:
СН2=СН-СН2 (ОН) + 02 = СН2=СН-СООН + Н20;
b) окислением акролеина:
СН2=СН-СН:0 + О = СН2=СН-СООН;
c) обмыливанием цианистого винила:
CH2=CH-CN + 2Н20 = СН2=СН-СООН + NH3.
Способы второго рода сходны со способами получения этиленных углеводородов:
т. е., например, из одногалогенопроизводных предельных кислот отнятием части-
цы галогеноводороднои кислоты, из спирто-кислот отнятием воды и пр. Так ту же
акриловую кислоту получают действием спиртовой щелочи на р-йодпропионовую ки-
слоту :
СН21СН2СООН + КОН = СН2:СНСООН + KI + Н20
или действием серной кислоты на этиленмолочную:
СН2(ОН) СН2СООН = СН2:СНСООН + Н20.
Свойства кислот с двойной связью обусловливаются:
1) присутствием карбоксила, вследствие чего они способны образовать соли,
эфиры, хлорангидриды и пр.;
2) присутствием двойной связи, на счет которой они присоединяют водород, га-
логены, гало-геноводородные кислоты и др.
При окислении марганцово-калиевой солью в щелочном растворе по месту двой-
ной связи становятся два водных остатка и образуются ди-окси-кислоты (А. Зай-
цев) ; при более же энергичном окислении происходит распадение частицы (ср.
окисление углеводородов (СпН2п) ; так, акриловая кислота дает муравьиную и ук-
сусную кислоты.
Реакция окисления дает возможность доказывать наличность двойной связи и
определять ее положение в цели углеродных атомов; та же цель достигается по-
лучением озонидов и изучением продуктов их распада от действия воды (см. при
олеиновой кислоте). И.В. Егоров предложил новый способ определения строения
вообще непредельных соединений; он присоединяет к ним азотноватую окись N204
и получаемый продукт разлагает соляной кислотой; например продукт присоедине-
ния N204 к олеиновой кислоте Ci8H3402N204 распадается при этом на нониловую ки-
слоту C9Hi802 и азелаиновую C9Hi604. Так как N204 присоединилась по месту двой-
ной связи и в этом же месте произошел распад продукта, то ясно, что двойная
связь находилась между девятым и десятым атомами углерода; при ином ее поло-
жении не могли бы получиться продукты с девятью атомами углерода.
Акриловая (пропеновая) кислота СН2:СН'СООН получается из р-йодпропионовой
кислоты. Это — смешивающаяся с водой жидкость, застывающая при охлаждении, с
т. пл. +130 и т. кип. 141 С. Легко полимеризуется в твердую аморфную массу.
Происходя из этилена, в котором все водородные атомы тождественны между со-
бою, акриловая кислота изомеров не имеет. Напротив, от пропилена СН2:СН'СН3 и
триметилена
СН2
нас ^—± сн,
можно произвести четыре изомерных кислоты:
1) СН3'СН:СН>СООН, 2) СЩ : СН-СН, -СООН,
3) СН2:С(СН3)'СООН и 4) Н,СЛ СН-СООН,
Каждой из этих формул отвечает отдельный представитель, а именно:
1) твердая кротоновая кислота,
2) винил-уксусная,
3) метил-акриловая и
4) триметилен-монокарбоновая кислота.
Кротоновая кислота известна в двух стереоизомерных формах: твердая крото-
новая и изокротоиовая кислота.
Здесь мы встречаемся с одним из многих случаев (ср. цитрал, олеиновую ки-
слоту, коричную и др.) стереоизомерии при отсутствии асимметрического углеро-
да (Вант-Гофф и Вислиценус); Объяснить это явление можно так: допустим, что
четыре единицы свободного сродства группы >С=С< имеют постоянное направление
и что углеродные атомы лишены возможности вращаться друг около друга; тогда,
присоединяя к одному углероду Н и СН3, а к другому Н и СООН, мы получим две
различных конфигурации
н—с—сн, н—с —сна
[| И ;
Н—С —СООН и СООН—С —Н
первая принадлежит кротоновой, а вторая — изокротоновой кислоте. За тожде-
ство структуры этих кислот говорит реакция присоединения IH, причем обе дают
Р -йодмасляную кислоту СН3' CHI' СН2' СООН .
Кротоновая кислота получается окислением кротонового алдегида и обмыливани-
ем цианистого аллила1. Кристаллизуется из воды в иглах с т. пл. 72 С и т.
кип. 181 С.
Изокротоновая кислота получается при восстановлении амальгамой натрия хло-
ризокротоновой кислоты; жидкость с т. пл. 15,5 С и с т. кип. 172 С; при на-
гревании переходит в кротоновую кислоту (Гемилиан, 1874 г.).
Винил-уксусная кислота получается при нагревании р-бром-глутаровой кислоты
1 CH3CH:CHCN + 2Н20 = СН3СН: СНСООН + NH3.
Цианистый аллил получается из бромистого аллила СН2:СНСН2Вг при действии KCN; в мо-
мент образования он испытывает перегруппировку и вместо СН2: CHCH2CN получается
CH3CH:CHCN. Возможно такое объяснение этой перегруппировки: при действии KCN на
бромистый аллил одновременно присоединяется синильная кислота, явившаяся как резуль-
тат гидролиза цианистого калия:
СН2:СНСН2Вг + KCN + HCN = СН3СН (CN) CH2CN + KBr;
образовавшееся двуцианистое соединение при обмыливании щелочью теряет вновь HCN,
но в другом порядке:
CH3CH(CN) CH2CN + КОН = CH3CH:CHCN + KCN + Н20.
с водой:
СООНСН2СНВгСН2СООН = СН2:СНСН2СООН + НВг + С02.
Она же получается действием С02 на магний-бром-ал лил (1) и последующим раз-
ложением (2) полученного магний-органического соединения водой:
1) CH2:CHCH2MgBr + С02 = СН2 : СН" СН2" СООМдВг .
2) СН2:СНСН2- СООМдВг + Н20 = СН2: СНСН2СООН + МдВг(ОН).
Жидкость с т. кип. 163 С. При действии, как щелочей, так и минеральных ки-
слот легко переходит в твердую кротоновую кислоту, т. е. двойная связь пере-
мещается ближе к карбоксилу.
К более сложным кислотам относится кислота олеиновая CisH3402 или С17Н33СООН.
Она входит в состав многих жиров и жирных масел, откуда и получается по, ука-
занному уже способу. В большом количестве она является побочным продуктом при
стеариновом производстве. Бесцветная жидкость, кристаллизующаяся при охлажде-
нии с т. пл. +14 С, на воздухе окисляется.
Она отличается от стеариновой кислоты меньшим содержанием двух атомов водо-
рода и имеет одну двойную связь. За это говорят следующие ее свойства:
1) присоединяет частицу галогена, галогеноводородной кислоты и др.;
2) при окислении марганцово-калиевой солью в щелочном растворе дает диокси-
стеариновую кислоту;
3) в присутствии катализаторов (Pt, Ni) присоединяет два атома водорода и да-
ет стеариновую кислоту.
Положение двойной связи определяется следующим образом: при окислении озо-
ном получается озонид, который с КОН распадается на нониловую кислоту
CsHiv'COOH и азелаиновую С7Н14 (COOH) 2; в той и другой кислоте — одинаковое чис-
ло атомов углерода, а так как распадение идет по месту двойной связи, то,
значит, она занимает середину цепи, т. е. между 9-м и 10-м углеродным атомом:
СН3- (СН2)7СН:СН- (СН2)7СООН.
Кроме обыкновенной олеиновой кислоты известен ряд ее изомеров: так, изо-
олеиновая кислота получается (А. Зайцев) отнятием HI от йодостеариновой ки-
слоты Ci8H35l02 (продукт присоединения HI к олеиновой кислоте); это — кристал-
лическое тело с т. пл. 44—45 С. В изоолеиновой кислоте двойная связь соединя-
ет уже не те углеродные атомы, как в олеиновой.
Элаидиновая кислота получается из олеиновой при действии на нее азотистой
или сернистой кислоты; тело твердое с т. пл. 51—52 С. Олеиновая и элаидиновая
кислоты стереоизомерны, а изоолеиновая — изомер структурный. Еще один струк-
турный изомер олеиновой кислоты, с т. пл. 34 С, получен при обмыливании жира,
находящегося в масле из семян петрушки.
Свойства олеиновой кислоты
a) К эфирному раствору олеиновой кислоты приливают эфирный же раствор бро-
ма . Окраска исчезает.
b) Небольшое количество олеиновой кислоты взбалтывают со смесью растворов
КМп04 + Na2C03. Фиолетовая окраска исчезает, и осаждается бурый гидрат двуоки-
си марганца.
Обе реакции доказывают непредельный характер олеиновой кислоты.
Получение элаидиновой кислоты
В узкой трубке небольшое количество олеиновой кислоты приливают к 2—3 см3
конц. раствора NaN02 и, прибавив к этой смеси немного разбавленной H2S04, ос-
тавляют стоять. Под влиянием выделяющейся азотистой кислоты жидкая олеиновая
кислота постепенно переходит в твердую элаидиновую.
Эти опыты можно произвести и с прованским маслом. Льняное масло элаидиновой
пробы не дает.
Из более непредельных кислот упомянем о льняной или лейн-олеиновой кислоте;
глицерид ее находится в высыхающих маслах (льняное, конопляное). Льняная ки-
слота неоднородна; в ней три кислоты: линолевая Ci8H3202, линоленовая Ci8H3o02 и
изолиноленовая С18Н30О2. Это — весьма легко окисляющаяся на воздухе жидкость,
с марганцовокалиевой солью дающая тетра- и гекса-оксистеариновые кислоты.
Высыхание масел связано с окислением находящихся в них непредельных кислот
под влиянием кислорода воздуха, причем масло застывает в прозрачную твердую
массу (линоксин). Это застывание ускоряется в присутствии катализаторов: оки-
си свинца, сурика, солей марганца. Льняное масло, сваренное с окисью свинца,
называется олифой, применяемой для приготовления красок и линолеума.
Простейшая из ароматических кислот бензойная кислота СбН5'СООН:
1) технически получается при окислении толуола;
2) образуется при действии воды при высокой температуре на треххлористый
толуол: СбН5СС13 + 2Н20 = СбН5СООН + ЗНС1;
3) из бензойной смолы (росного ладона) возгонкою.
Образует белые блестящие листочки, трудно растворимые в холодной воде и
легче в горячей; т. пл. 121,4 С, т. кип. 250 С. Летуча с парами воды. Легко
возгоняется. Применяется в медицине и как консервирующее средство.
Синтез бензойной кислоты (по Зелинскому)
К раствору 24,4 г йодбензола в безводном эфире прибавляют 2,4 г металличе-
ского магния и оставляют смесь при обыкновенной температуре. Через 1/4 часа
оканчивается растворение Мд с образованием СбН5Мд1. Иногда для возбуждения
реакции надо бросить в смесь кристаллик иода. Затем в раствор пропускают су-
хой угольный ангидрид, отчего выделяется тяжелый маслообразный слой; это —
продукт присоединения СбН5Мд1 к СОг. По прошествии 5—10 минут пропускание СОг
прекращают и к смеси приливают воды и слабой H2S04. Сложное магнийорганиче-
ское соединение при этом разлагается с выделением бензойной кислоты, которую
извлекают эфиром. Эфирную вытяжку промывают слабым раствором серноватистокис-
лого натрия и, отделив эфирный слой, отгоняют из него эфир. Остается бензой-
ная кислота. Выход — около 7 г. Следующие уравнения выражают течение этой ре-
акции:
СбН51 + Мд = СбН5Мд1.
СбН5Мд1 + С02 = СбН5СООМд1.
СбН5СООМд1 + Н20 = СбН5СООН + Мд(ОН)1.
Возгонка бензойной кислоты
Фарфоровую или стеклянную чашку с бензойной смолой (или кислотой) заклеива-
ют сверху листом пропускной бумаги, накрывают бумажным коническим колпаком и
осторожно нагревают. Пары бензойной кислоты проходят сквозь пропускную бумагу
и на холодных стенках колпака осаждаются в блестящих листочках.
Между производными бензойной кислоты особого внимания за служивает орто-
сульфобензойная кислота
с н *
хсоон
ее имид
C6H4< >NH,
4C0Z
называемый сахарином (т. пл. 220 С), обладает весьма сладким вкусом (в 300—
500 раз слаще тростникового сахара2) и поэтому применяется нередко вместо са-
хара . Прибавление к сахарину дульцина еще более усиливает его сладкий вкус.
Получить его из бензойной кислоты нельзя, потому что при сульфировании ее
образуется почти исключительно метасульфокислота; поэтому исходным материалом
служит толуол; при действии на него конц. H2S04 образуется орто- и пара-
сульфо-толуиловые кислоты СбН4 (СН3) SO3H; из орто-кислоты получают ее хлоран-
гидрид СбН4 (СН3) S02C1, который действием аммиака переводят в амид; последний
при окислении дает сульфамид бензойной кислоты СбН4 (СООН) SO2NH2, который при
нагревании теряет Н20 и превращается в сахарин. Это — белый кристаллический
порошок, в холодной воде трудно, в спирте же и эфире легко растворим.
Коричная кислота СбН5'СН:СНСООН, или фенил-акриловая в виде эфиров, нахо-
дится в толуанском и перуанском бальзамах и в стираксе. Получается по реакции
Перкина при нагревании бензойного алдегида с уксуснонатриевой солью в при-
сутствии уксусного ангидрида.
Механизм этой реакции не вполне выяснен; доказано пока образование в каче-
стве промежуточного продукта двууксусного эфира бензойного алдегида СбН5'
СН(ОСОСН3)2- Поэтому прежнее объяснение роли уксусного ангидрида как водоот-
нимающего средства отпадает.
СбН5СН:0 + CH3COONa = СбН5СН: CHCOONa + Н20.
Т. пл. 133 С, т. кип. 300 С. Водород восстановляет ее в гидрокоричную ки-
слоту СбН5'СН2'СН2'СООН; с известью дает стирол СбН5'СН:СН2, а при сплавлении с
КОН окисляется в бензойную и уксусную кислоты.
Присоединяя Вг2 , коричная кислота дает дибромкоричную СбН5' СНВг' СНВг' СООН,
которая при действии спиртовой щелочи теряет 2НВг и переходит в фенил-
пропиоловую СбН5' С=С' СООН .
Коричная кислота известна в двух стереоизомерных формах (ср. кротоновые ки-
слоты) :
н —с-с6н5 ад — с — н
I! II"
СООН —С —Н СООН—С —Н
Коричная кислота Аллокоричная кисло™
Кроме того аллокоричная кислота триморфна: аллокоричная с т. пл. 63 С и две
изокоричных с т. пл. 42 С и 58 С. Они легко переходят одна в другую. Так, ес-
ли кислоту с т. пл. 68 С нагреть в течение одной минуты при 72 С и охладить,
то кристаллизуется кислота, плавящаяся при 42 С. Кислота с т. пл. 58 С при
кратковременном нагревании до 62 С и последующем охлаждении переходит в ки-
слоту с т. пл. 42 С. Химически они тождественны, величина их электропроводно-
сти для всех одна и та же.
Получение коричной кислоты по Перкину
Предварительно получают безводную уксуснонатровую соль. Для этого кристал-
лическую соль CH3'COONa + ЗН20 в плоской железной или никкелевой чашке нагре-
вают на небольшом пламени горелки. Сначала соль плавится в своей кристалли-
2 Есть соединение в 2000 раз более сладкое, чем сахар: это оксим периллового алдеги-
да C9Hi3'CH:NOH. Получается из эфирного масла японского растения Perilla
nankinensis.
зационной воде, потом, потеряв большую часть воды, вновь затвердевает. Для
удаления всей воды продолжают нагревание более сильной горелкой, обводя пла-
менем дно чашки, до нового сплавления соли. При этом следует избегать пере-
гревания , вызывающего выделение газов и обугливание. Прекращают нагревание и,
дав остыть, соскабливают соль ножом.
Для получения коричной кислоты смесь свежеперегнанных 20 г бензойного алде-
гида, 30 г уксусного ангидрида и 10 г порошкообразной уксуснонатровой соли
нагревают на масляной бане при 180 С в течение 8 часов в колбе, снабженной
широкой трубкой длиною 60 см. Прибавление к смеси 8 капель пиридина (катали-
затор) способствует повышению выхода до 85%. Если среди опыта придется сде-
лать перерыв, то верхний конец трубки закрывают хлоркальциевой трубкой. Реак-
ционную смесь еще горячую выливают в объемистую колбу, ополаскивают водой и
отгоняют не вошедший в реакцию СбН5—СНО водяным паром. После этого приливают
такое количество воды, чтобы вся коричная кислота перешла в раствор. При-
бавляют немного животного угля, кипятят короткое время и фильтруют в чашку.
По охлаждении выделяется коричная кислота в блестящих листочках. Т. пл. 133
С. Выход — 15 г. Реакция протекает в две фазы:
1) СбН5СН:0 + CH3COONa = СбН5СН (ОН) CH2COONa.
2) СбН5СН(ОН) CH2COONa = Н20 + СбН5СН: CHCOONa.
Получение гидрокоричной кислоты
В склянку с притертой пробкой емк. в 250 см3 вносят 10 г порошкообразной
коричной кислоты, 75 см3 Н20 и столько очень разбавленного раствора NaOH,
чтобы вся кислота растворилась и чтобы смесь приняла слабощелочную реакцию. К
раствору прибавляют понемногу при взбалтывании 200—250 г 2%-ной амальгамы на-
трия. Жидкость сливают с ртути и подкисляют соляной кислотой; при этом выде-
ляется гидрокоричная кислота; если она маслообразна, то вызывают кристаллиза-
цию охлаждением во льду и потиранием масла стеклянной палочкой. Перекристал-
лизовывают из воды. Т. нл. 47 С. Выход равен 8—9 г.
Одноосновные двуатомные
кислоты (оксикислоты)
Атомность кислот определяется числом водных остатков, входящих в состав ки-
слоты; поэтому изученные кислоты одноатомны; в них есть только один гидро-
ксил, именно в карбоксильной группе; если же заместить в радикале, например
уксусной кислоты, один атом водорода на гидроксильную группу, то получится
кислота двуатомная: СН2'ОН—СООН. Так как введенный водный остаток находится
при углеродном атоме, не содержащем кислорода, т. е. так же, как и в спиртах,
то кислоты эти называются спирто-кислотами или еще окси-кислотами.
Способы получения окси-кислот могут быть двоякого рода: одни имеют целью
при готовом спиртовом водном остатке ввести в частицу карбоксильную группу, а
другие, наоборот, при имеющемся карбоксиле — ввести водный остаток. Способы
первой группы общи со способами получения кислот, а способы второй группы об-
щи со способами получения спиртов. К первой группе относятся:
1) осторожное окисление первичных гликолей:
СН2(ОН) СН2(ОН) + 02 = СН2(ОН)СООН + Н20;
2) обмыливание циангидринов, получающихся при присоединении синильной ки-
слоты к алдегидам и кетонам:
СНз'СН(ОН) CN + 2Н20 = СН3СН (ОН) СООН + NH3.
Ко второй группе относятся:
3) замещение в галогенокислотах галогена на водный остаток действием на них
или водою или влажной окисью серебра, или переходя через уксусный эфир:
СН2С1С00Н + Н20 = СН2(ОН)СООН + НС1;
4) действие на аминокислоты азотистой кислоты:
CH2(NH2) СООН + NOOH = СН2(ОН)СООН + N2 + Н20.
5) Синтетически окси-кислоты получаются при действии смеси цинка и эфиров
галогенокислот на алдегиды или кетоны. Реакция протекает в несколько фаз;
сначала цинк присоединяется к частице галогенного эфира (1), затем полученный
цинк-галогенный эфир вступает в сочетание с алдегидом или кетоном так, что
группа ZnBr становится к кислороду карбонильной группы, а остаток эфира — к
углероду (2); полученный продукт разлагают затем водою (3) и обмыливают (4).
Следующие уравнения выражают, например, реакцию бензойного алдегида и бромук-
сусного эфира:
1) CH„Br CHa'ZnBr
COOR COOR
2) CeH^CH = 0 + CH^ZnBr = C6HrCH(OZnBr)
COOR CH3
COOR
3) C6tVCH(OZnBr) C6H5-CH(OH)
CHa +H2°= CHa +Zn(OH)Br
COOR COOR
4) С6Н5*СН(ОН) С^НгСН(ОН)
сна + н2о = ChL -fR-он,
i I
COOR COOH
Синтез фенилоксипивалиновой кислоты СбН5СН(ОН) С(СН3) 2СООН
з — —— ———
В колбе (емк. 100 см ) , охлаждаемой водой и снабженной вертикальной труб-
кой, к высушенному зерненному цинку (количество его такое, чтобы жидкость не
выступала над цинком) разом приливают смесь 23 г бром-изомасляного эфира и
12,5 г чистого бензойного алдегида и оставляют до другого дня; загустевшую
смесь в течение 3 часов подогревают при 60—70 С, по охлаждении приливают к
ней воду и тщательно перемешивает; выделившуюся (от разложения водою цинк-
органического соединения) гидроокись цинка растворяют в слабой H2S04. Всплыв-
шее масло извлекают эфиром; эфирный раствор для удаления ZnBr2 несколько (не
менее трех) раз в делительной воронке взбалтывают с равным объемом воды до
тех пор, пока Ыа2СОз перестанет давать осадок гпСОз в промывных водах, и отго-
няют эфир. Полученный эфир окси-кислоты кипятят в круглодонной колбе, снаб-
женной холодильником, с баритовой водой (раствор 20 г крист. Ва(ОН)2'8Н20 в
380 см3 Н20) до исчезновения маслообразного слоя (для облегчения кипения в
смесь бросают кусочек неглазированной тарелки). По охлаждении в делительной
воронке небольшим количеством эфира извлекают необмылившуюся часть, а к вод-
ной жидкости приливают 30 см3 реагентной НС1 и выделившуюся окси-кислоту из-
влекают эфиром; эфирный раствор сушат на СаС12 и, отфильтровав, отгоняют
эфир. Выход — 17 г. Окси-кислота при сохранении в эксикаторе закристаллизовы-
вается. Перекристаллизованная из смеси сероуглерода с эфиром плавится при 137
С.
Свойства
окси-кислот
Двуатомные одноосновные кислоты — тела или кристаллические или сиропообраз-
ные , растворимые в воде. Химические свойства доказывают правильность их на-
именования спиртокислотами: окси-кислоты разделяют свойства и спиртов и ки-
слот . Так:
1) если обработать гликолевую кислоту СН2(ОН)СООН избытком РС15, то оба гид-
роксила замещаются хлором с образованием хлористого монохлор-ацетила
СН2С1'СОС1; если полученное соединение обработать водой при обыкновенной
температуре, то наступает разложение его с образованием монохлоруксусной
кислоты СН2С1'СООН, т. е. хлор, замещавший гидроксил в карбоксильной груп-
пе, сейчас же реагирует с водой (ср. хлорангидриды кислот), тогда как
хлор в радикале не изменяется (ср. галогено-производные углеводородов).
Равным образом:
2) при известных условиях можно заместить водороды обоих гидроксилов на на-
трий СН2 (ONa) COONa; при действии воды на это соединение получается
СН2 (ОН) COONa + NaOH, т. е. натрий в спиртовом водном остатке относится к
воде так же, как натрий в алкоголятах, а натрий в карбоксиле имеет харак-
тер натрия в солях.
Можно привести еще и третий пример, доказывающий двойственность характера
окси-кислот:
3) известен этиловый эфир этилогликолевой кислоты СН2 (ОС2Н5) СООС2Н5; если
подвергнуть его обмыливанию щелочами, то образуются этилогликолевая ки-
слота и этиловый спирт:
СН2(ОС2Н5) СООС2Н5 + Н20 = СН2(ОС2Н5) СООН + С2Н5ОН;
группа СН2(ОС2Н5) остается без изменения потому, что она имеет характер
простого эфира, а простые эфиры щелочами не обмыливаются; группа же СО-
ОС2Н5 как имеющая характер сложного эфира от действия щелочей легко раз-
лагается .
4) При действии галогеноводородных кислот происходит замещение спиртового
гидроксила на галоген, а при действии избытка йодистоводородной кислоты —
замещение ОН на Н, т. е. то же, что и при спиртах.
5) К действию серной кислоты окси-кислоты относятся различно, в зависимости
от относительного положения гидроксила и карбоксила:
■ ос-Окси-кислоты, т. е. те, в которых обе эти группы связаны с одним и тем
же углеродным атомом, при действии H2S04 распадаются на муравьиную кисло-
ту и алдегид или кетон:
СН3СН(ОН) СООН = НСООН + СН3СН:0.
■ р-Окси-кислоты, в которых гидроксил и карбоксил стоят при разных, но со-
седних углеродных атомах, от действия серной кислоты теряют частицу воды
и дают непредельные кислоты; например
СН2(ОН) СН2СООН = Н20 + СН2:СНСООН.
■ Y-Окси-кислоты, в которых углероды, связанные с ОН и СООН, разъединены
промежуточным углеродным атомом, например СНг (ОН) СН2СН2СООН, настолько
легко теряют частицу воды, что в свободном состоянии таких кислот мало
известно; при выделении из солей они сейчас же образуют особые ангидри-
ды, называемые лактонами; отпадение воды происходит на счет двух водных
остатков:
СНв(ОН).СНя-СНй.СООН = НаО + СНя-СНя-СНя-СО;
! о !
сн2—со
или | О*
СНа —-СН/^
Свойства ос-оксикислоты
Из вюрцевской колбы, с холодильником, перегоняют смесь 5 см3 молочной ки-
слоты, 10 см3 Н20 и 5 см3 конц. H2S04. В дистилляте доказывают уксусный алде-
гид аммиачным раствором окиси серебра, а муравьиную кислоту — при помощи су-
лемы.
Так как в лактонах нет карбоксильной группы, то они — соединения нейтраль-
ные; при действии соды не изменяются, при действии же щелочей дают соли окси-
кислот; так вышеприведенный бутиролактон3 с NaOH дает СН2 (ОН) 'СН2'СН2'COONa; a
с NH3 образует амид окси-кислоты: СН2 (ОН) 'СН2'СН2'СО (NH2) , 5-окси-кислоты также
легко дают лактоны.
Отдельные
представители
По производству окси-кислот из кислот одноатомных первым представителем
следует считать кислоту угольную, происходящую из муравьиной Н'СООН заме-
щением водорода на гидроксил ОН'СООН; значит ее можно назвать окси-муравьиной
кислотой. .
От уксусной кислоты производится окси-уксусная или гликолевая кислота:
СН2 (ОН) СООН. Последнее название она получила вследствие образования при
окислении простейшего гликоля.
Наиболее удобно получать гликолевую кислоту кипячением монохлор-уксусной
кислоты СН2С1'СООН с водою в присутствии мрамора. Она образует листоватые
кристаллы с т. пл. 80 С, легко растворимые в воде. При окислении азотной ки-
слотой группа СН2 (ОН) превращается в карбоксильную, и получается щавелевая
кислота СООН СООН.
При перегонке гликолевой кислоты в разреженном пространстве, а еще лучше —
натриевой соли монобром-уксусной кислоты, получается ангидрид, так называемый
гликолид:
CHaBr NaO-CO СН^О-ОО
| + 1=1 | +2NaBr.
CO-ONa BrCHa СОО-СНа
Это — блестящие листочки с т. пл. 86—87 С. При кипячении с водой легко об-
мыливается, образуя гликолевую кислоту.
От пропионовой кислоты СН3'СН2'СООН производятся две окси-пропионовые кисло-
ты:
3 Открыт А. Зайцевым в 1873 г.; строение лактонов установлено Фиттигом в 1880 г.
1) р-окси-пропионовая кислота СН2 (ОН) СН2'СООН и
2) ос-окси-пропионовая СН3СН (ОН) СООН.
Они носят общее название молочных кислот, причем первая называется этилен-
молочной г а вторая — этилиденмолочной. По теории строения других изомеров
быть не может, между тем известны не две, а четыре молочных кислоты. Здесь мы
имеем дело со стереоизомерией; в формуле ос-кислоты есть асимметрический угле-
родный атом (средний в цепи), а потому должны существовать три стереоизомера
при одном и том же строении: вращающий плоскость поляризации вправо, вращаю-
щий влево и продукт их сочетания — изомер недеятельный. Все эти изомеры из-
вестны .
Этиленмолочная кислота СН2 (ОН) СН2'СООН может быть получена при окислении
триметиленгликоля СН2 (ОН)'СН2'СН2 (ОН) , причем одна первичная спиртовая группа
превращается в карбоксильную. Сиропообразна. Как р-окси-кислота, она при на-
гревании с серной кислотой дает непредельную кислоту — акриловую.
Недеятельная, или обыкновенная молочная4 кислота СН3'СН(ОН) СООН, она же -
ос-окси-пропионовая кислота; иначе называется молочной кислотой брожения, по-
тому что получают ее брожением сахара под влиянием гниющих белковых веществ;
здесь развивается особый фермент, который и вызывает молочное брожение. За
правильность вышеприведенной формулы говорят способы получения, а также и
превращения кислоты брожения. Так, она может быть получена:
1) при осторожном окислении пропиленгликоля СН3'СН (ОН) СН2 (ОН) ,
2) замещением галогена на гидроксил в ос-хлор-пропионовой кислоте
СН3СНС1С00Н,
3) обмыливанием продукта присоединения HCN к уксусному алдегиду
СНзСН(ОН) • (CN) и др.
Из превращений можно указать на действие H2S04, причем она, как ос-окси-
кислота, дает муравьиную кислоту и уксусный алдегид. Сиропообразная жидкость
с т. кип. 82—85 С при 0,5—1 мм давления; в охладительной смеси закри-
сталлизовывается в бородавки с т. пл. 18 С. Ее цинковая соль кристаллизуется
с тремя частицами воды.
До 60% недеятельной молочной кислоты получается при действии щелочи на ин-
вертный сахар.
Применяется в красильном деле и при дублении. Концентрованные растворы ее
щелочных солей употребляются взамен глицерина.
Правая молочная кислота СН3'СН(ОН) СООН, называемая еще пара- или мясо-
молочной, открыта Либихом в мясной жидкости. Отличается от кислоты брожения
лишь своей оптической деятельностью и содержанием кристаллизационной воды в
солях; так, соль цинка кристаллизуется с двумя частицами воды. Все остальные
превращения сходны.
Левая молочная кислота получена Шардингером, открывшим новую бациллу
(Bacillus acidi laevolactici) , под влиянием которой сахар бродит с образова-
нием этой кислоты. Она во всем сходна с правой кислотой, только вращение ее
левое; цинковая соль содержит также две частицы воды.
Смешивая растворы равных количеств цинковых солей правой и левой кислот при
новой кристаллизации получают цинковую соль кислоты брожения, т. е. содержа-
щую ЗН20. Произведен и обратный переход, т. е. кислота брожения разделена на
составные части — правую и левую кислоты; для этого приготовляют соль кислоты
брожения со стрихнином и кристаллизуют; соль левой кислоты, как более трудно
растворимая, выделяется первою, а в растворе остается соль правой кислоты; из
этих солей выделяют свободные деятельные кислоты.
При продолжительном нагревании до 130—150 С деятельные кислоты переходят в
4 Н. Соколов в 1859 г. впервые установил взгляд на молочную кислоту как на двуатом-
ную одноосновную.
недеятельную молочную кислоту.
Из непредельных двуатомных одноосновных кислот наиболее важны ароматические
производные; здесь различают спиртокислоты, когда спиртовый гидроксил нахо-
дится в боковой группе, например миндальная кислота СбН5'СН(ОН) СООН, и фено-
локислоты, в которых гидроксил замещает водород бензольного ядра, например
окси-бензойные кислоты СбН4 (ОН) ' (СООН) .
Получение нитрила миндальной кислоты СбН5 СН(ОН) CN
В толстостенном стеклянном стакане к 15 г свежеперегнанного бензойного ал-
дегида приливают 50 см3 конц. раствора кислого сернистокислого натрия и смесь
перемешивают стеклянной палочкой до тех пор, пока получится каша.
СбН5'СН (ОН) OS03Na отфильтровывают с сосалкой, утрамбовывают на фильтре пес-
тиком и промывают несколько раз малым количеством воды. Потом твердую массу
переносят в стакан, прибавляют воды до образования густой каши и сюда же при-
бавляют охлажденный раствор 12 г KCN в 25 см3 Н20. При помешивании кристаллы
скоро переходят в раствор, и нитрил выделяется в виде масла, которое при по-
мощи делительной воронки отделяют или извлекают эфиром. Выход — около 16 г.
СбН5СН(ОН) OS03Na + KCN = СбН5СН (ОН) CN + KnaS03.
Получение миндальной кислоты из ее нитрила
В фарфоровой чашке к нитрилу приливают четверной объем конц. НС1 и смесь
выпаривают на водяной бане до тех пор, пока на поверхности жидкости появятся
кристаллы. Продукт оставляют до другого дня в холодном месте и, прибавив не-
много воды, отфильтровывают с сосалкой; малым количеством воды промывают. Сы-
рую миндальную кислоту прожимают между бумагой и кристаллизуют из бензола. Т.
пл. 118 С. Из водных фильтратов, куда переходит часть миндальной кислоты, по-
следняя может быть извлечена эфиром. Выход = 10—15 г.
СбН5СН(ОН) CN + 2Н20 + НС1 = СбН5СН (ОН) СООН + NH4C1.
Оксибензойные кислоты как двузамещенные бензола существуют в трех изомерах:
орто-, мета- и пара-оксибензойные кислоты. Ортооксибензойная кислота называ-
ется салициловой кислотой. Она находится в канадском чае (Gaultheria procum-
bens) в виде метилового эфира СбН4 (ОН) (СООСН3) , называемого „гаультеровым мас-
лом", обмыливанием которого раньше и получалась. В технике натриевая соль са-
лициловой кислоты получается теперь синтетически, по способу Кольбе, нагрева-
нием, под увеличенным давлением, фенолята натрия с угольным ангидридом при
120-130 С:
C6H5ONa + С02 = СбН4(ОН) (COONa) .
В этом синтезе сначала образуется натриевая соль кислого фенилугольного
эфира:
C6H5ONa + С02 = C6H5OCOONa,
которая при повышенной температуре испытывает перегруппировку в салицилово-
кислый натрий СбН4 (ОН) (COONa) .
Объяснение это вызывает сомнения.
Получается салициловая кислота также при действии С02 в присутствии поташа
на свободный фенол.
Салициловая кислота кристаллизуется из воды в длинных иглах с т. пл. 156 С.
Летуча с парами воды, чем отличается от мета- и пара-кислоты. Чувствительной
реакцией на нее служит действие раствора хлорного железа на водный или спир-
товый раствор кислоты, а также и ее щелочных солей, причем получается фиоле-
товое окрашивание; от прибавления спирта окраска не пропадает, что имеет ме-
сто при обыкновенном феноле. Салициловая кислота дает два ряда солей; основ-
ные СбН4 (ONa) (COONa) и средние СбН4 (ОН) (COONa) . Первые получаются при действии
на нее щелочей и переходят в средние соли уже от действия угольного ангидрида
(ср. фенолы); вторые получаются действием углекислых солей.
Салициловая кислота обладает антисептическими свойствами и потому применя-
ется для консервирования питательных продуктов и др. Разнообразные производ-
ные ее употребляются в медицине при ревматизмах, лихорадке и. пр. Вот некото-
рые из них:
1) салициловокислый натрий СбН4 (ОН) COONa,
2) салол5 или ее фениловый эфир СбН4 (ОН) СООСбН5,
3) аспирин6 СбН4(ОСОСН3) СООН;
4) салипирин, или салициловокислый, антипирин, и др.
Водный раствор аспирина с FeCl3 окрашивания не дает, потому что в нем нет
свободного фенольного гидроксила; если же раствор прокипятить, окраска поя-
вится , так как при кипячении произойдет обмыливание.
Большие количества салициловой кислоты идут на приготовление красок; напри-
мер ализариновый желтый есть продукт сочетания ее с диазо-нитробензолом:
C6H4(N02) N:NC6H3(OH) COOH.
К более непредельным фенолокислотам относится орто-окси-коричная кислота
СбН4 (ОН) СН=СН'СООН; она известна в двух стереоизомерных формах:
н — с — сйн4<он) н — с—сн^он)
II и II-
н—с—соон соон — с — н
первая называется кумариновой кислотой, а вторая — кумаровой; кумариновая
кислота непостоянна и легко дает лактон кумарин
Н —С—С6Н4Ч
II >>
н —с —со /
а кумаровая постоянна, так как в ее формуле расположение водных остатков
неблагоприятно для отпадения воды7. Кумарин довольно распространен в расти-
тельном царстве; искусственно получается по реакции Перки на уплотнением са-
лицилового алдегида СбН4 (ОН) СН: О с уксусно-натровой солью в присутствии ук-
сусного ангидрида. Кумарин образует призмы с т. пл. 67 С. Обладает приятным
запахом и потому применяется в парфюмерии. Приятный запах сена зависит от ку-
марина . Растворим в горячей воде.
Кумарин получается также при действии H2S04 на смесь карболовой кислоты с
яблочной. Вероятно, яблочная кислота сначала распадается на муравьиную и по-
луалдегид малоновой кислоты:
5 Салол получают при медленном нагревании салициловой кислоты, причем она отчасти
разлагается на фенол и С02; фенол же с неразложившейся салициловой кислотой дает са-
лол :
СбН4(ОН) СООН + СбН5ОН = СбН4(ОН) СООСбН5 + Н20.
6 Аспирин встречается в продаже или в виде листочков или в виде иголочек. Форма кри-
сталлов зависит от условий кристаллизации: в присутствии уксусной или салициловой
кислоты получаются иглы. Чистой формой являются листочки, особенно хорошо образую-
щиеся прн кристаллизации из амилового спирта; содержат одну молекулу воды.
7 Кумаровую кислоту также можно превратить в кумарин при нагревании ее с небольшим
количеством солей ртути. Можно прибавить сюда еще 10%-ной H2S04 и кипятить 21/2 часа
с обратным холодильником.
СООН-СН(ОН)-СН2-СООН = НСООН + 0:СН-СН2-СООН;
а затем этот последний реагирует с СбН5'ОН, выделяя 2Н20:
СН:0 СН-С,Н1ч
СН.-СООН СН-СО
Из многоатомных одноосновных кислот упомянем кислоты галловую и хинную.
Галловая кислота, иначе — триоксибензойная: СбН2 (ОН) з'СООН (положение групп
СООН:ОН:ОН:ОН = 1:3:4:5). Галловая кислота находится в чернильных орешках, в
чае и др. Тело кристаллическое (иглы). С хлорным железом дает синевато-черный
осадок (чернила). Основная висмутовая соль галловой кислоты под названием
дерматола употребляется для лечения накожных болезней. При нагревании теряет
С02 и превращается в пирогаллол. При действии РС15 из двух частиц ее отпадает
частица воды и образуется дигалловая кислота:
2С7Нб05 = Ci4Hi0O9 + Н20
которая входит в состав таннина8, получаемого из чернильных орешков. Таннин
— аморфная масса, растворимая в воде, почти нерастворимая в спирте и эфире,
вяжущего горького вкуса, обладающая правым вращением. Вяжущий вкус некоторых
вин, а также и крепкого чая зависит от таннина. При кипячении с разбавленной
H2S04 дает галловую кислоту; с FeCl3 — темно-синее окрашивание. Таннин — пред-
ставитель дубильных веществ.
При смешении растворов таннина и желатины получается осадок. Таннин осажда-
ет также и алкалоиды, на чем основано применение его как противоядия при от-
равлениях алкалоидами. Им пропитывают кожи для предохранения их от гниения;
кроме того применяется в медицине, для получения чернил9, как протрава при
крашении тканей, для осветления вина и др.
Хинная или гиксагидро-тетраокси-бензойная кислота
,СН(ОН) СНгч
ОН-СН< >СН СООН
чСН(ОН)-СН(НОК
8 Таннин — тело очень сложное; так как при кипячении с разбавленными кислотами он
распадается на галловую кислоту и виноградный сахар, то отсюда следует, что он есть
продукт сочетания этих двух тел. Вместо галловой кислоты в образовании таннина ино-
гда принимают участие дигалловая кислота; это — сложный эфир, образованный двумя мо-
лекулами галловой кислоты: (ОН) зСбН2'СОО'СбН2 (ОН) 2'СООН; эта кислота может войти в та-
кое же эфирное сочетание с новой молекулой галловой кислоты и т. д. Э. Фишер назвал
такие продукты депсидами (ди-, три- и поли-депсиды); они имеют свойства дубильных
веществ: дубят кожу и осаждаются растворами клея.
Галловая кислота, а также и депсиды могут образовать сложные эфиры с виноградным
сахаром; получена, например, пентагаллоилглюкоза СбН70 (0С7Н504) б/ дубильные вещества
вообще и таннин в частности представляют собой подобные продукты.
9 Обыкновенные (железные) чернила представляют собой раствор таннина (или водной вы-
тяжки из чернильных орешков) и железного купороса с прибавлением небольшого количе-
ства гумми. Такой раствор бесцветен, но кислородом воздуха закисное железо окисляет-
ся в окисное, и тогда раствор чернеет; эта реакция окисления и происходит на бумаге.
А чтобы не писать невидимыми чернилами, их подкрашивают какой-нибудь краской, напри-
мер сульфоиндиговой кислотой (ализариновые чернила).
На этой же реакции основано чернение кожи железным купоросом, так как в коже со-
держатся дубильные вещества.
находится в хинной корке и получается как побочный продукт при добывании
хинина. Легкорастворимые в воде призмы с т. пл. 161,5 С.
К группе многоатомных одноосновных кислот относятся раньше упомянутые гли-
цериновая, манноновая, глюконовая и галактоновая кислоты.
Двухосновные
двухатомные
кислоты
Двухосновные двухатомные кислоты производится или из углеводородов замеще-
нием двух атомов водорода на две карбоксильных группы, например из метана СН4
— кислота малоновая СН2(СООН)2; или из кислот одноосновных — замещением в ра-
дикале одного водорода на карбоксил; так ту же малоновую кислоту можно произ-
вести из кислоты уксусной. Муравьиной кислоте Н-СООН отвечает двуосновная ща-
велевая кислота СООН СООН. Из пропионовой кислоты СН3'СН2'СООН производятся
две изомерных кислоты СООН'СН2'СН2'СООН и СН3'СН (СООН) 2 ; первая называется ян-
тарной, а вторая — изоянтарной или метилмалоновой кислотой.
Способы получения кислот двуосновных те же, что для кислот одноосновных, т.
е. обмыливание нитрилов, окисление спиртов и т. д.; только нитрилы должны со-
держать две группы CN, спирты должны быть двуатомными — двупервичными и т. д.
Кроме того двуосновные кислоты легко образуются при энергичном окислении мно-
гих органических соединений (жиров, углеводов и пр.). Получаются также по
синтезу Конрада.
При действии иода на натрмалоновый эфир синтезируются эфиры четырех-
основных кислот, а при обмыливании их и сами кислоты:
(COOR)2CHNa + 21 + NaCH (COOR) 2 = 2NaI + (COOR)2CH - CH(COOR)2.
Двухосновные кислоты — тела кристаллические, сильно кислые на вкус. Низшие
легко растворимы в воде, высшие не растворяются; растворимы в спирте и эфире;
только щавелевая и янтарная кислоты трудно растворяются в последнем (см.
табл.).
Название
Щавелевая
Малоновая
Янтарная
Глутаровая
Адипиновая
Пимелиновая
Корковая
Азелаиновая
Себациновая
Формула
СООН СООН
соон сн2-соон
СООН' (СН2)2
СООН (СН2)з
СООН (СН2)4
соон- (сн2)5
соон- (сн2)6
СООН (СН2)7
соон- (сн2)8
соон
соон
соон
соон
соон
соон
соон
Т. пл. С
189
133
183
98
153
105
141
108
134,5
100 г воды растворяют, г:
10,2 при 20 С
139,37 при 15 С
5,14 при 14,5 С
80,3 при 14 С
1,41 при 15 С
4,1 при 20 С
0,11 при 15,5 С
0,1 при 17 С
Из таблицы видно, что кислоты с четным числом атомов углерода плавятся при
высшей температуре, чем ближайшая более сложная кислота, но с нечетным числом
углеродных атомов, а растворимость их, наоборот, ниже.
Химические свойства обусловливаются присутствием двух карбоксилов, и пото-
му, разделяя все свойства кислот одноосновных, двухосновные кислоты дают два
ряда солей: кислые СООК'СООН и средние COOK COOK; два ряда эфиров, амидов и
т. д. Замечено, что чем более удалены друг от друг карбоксильные группы, тем
слабее выражены кислые свойства.
При электролизе разлагаются на водород, угольный ангидрид и непредельный
углеводород: так, из янтарной кислоты, получается этилен
сня.соон сн3
! =|| +2С0. + Н,
СНа СООН СН2
Если электролизу подвергнуть кислый эфир янтарной кислоты
СН3СООС2Н5
сн^соон
то распадение происходит только в свободной карбоксильной группе, т. е. об-
разуется Н, СО2 и —СН2СН2СООС2Н5; последний остаток как ненасыщенный соединя-
ется с таким же остатком от второй частицы эфира, и получается средний эфир
кислоты уже с шестью атомами углерода: СООС2Н5'СН2'СН2'СН2'СН2'СООС2Н5. Этот син-
тетический способ дает хорошие выходы.
К нагреванию двуосновные кислоты относятся различно в зависимости от того,
будет ли кислота иметь оба карбоксила:
1) при одном угл родном атоме или
2) при разных, но соседних, или
3) при удаленных один от другого.
Первые при нагревании теряют элементы одной частицы угольного ангидрида и
дают кислоты одноосновные; так, из малоновой кислоты СООН.СН2.СООН получается
кислота уксусная СНЗ.СООН. Вторые теряют при нагревании воду на счет водных
остатков, находящихся в карбоксилах, образуя ангидриды двуосновных кислот;
например из янтарной кислоты получается янтарный ангидрид:
сн2соон ovco4
1 = | >G + H,G,
OVCOOH СН2-ОК
Третьи при нагревании не изменяются; впрочем, глутаровая кислота СО-
ОН 'СН2'СН2' СН2' СООН при перегонке отчасти превращается в ангидрид, отчасти же
перегоняется без разложения; применение водоотнимающих веществ, а также хло-
ристого ацетила способствует образованию ангидрида.
Представители
Щавелевая кислота
СООН
I
СООН
Она распространена в растительном царстве и главным образом в виде соли
кальция; ее кислая калиевая соль находится в щавеле. Щавелевую кислоту можно
получить различными способами:
1. Пропуская С02 над Na при 360 С:
2С02 + Na2 = C204Na2;
2. Быстрым нагреванием муравьино-натриевой соли, причем выделяется водород:
2HCOONa = C204Na2 + H2;
3. Обмыливанием циана:
(CN)2 + 4Н20 = С204Н2 + 2NH3;
4. Окислением крахмала или сахара азотной кислотой;
5. В технике калиевую соль щавелевой кислоты получают окислением клетчатки,
для чего древесные опилки сплавляют с едким кали. В настоящее время бла-
годаря удешевлению муравьиной кислоты в технике применяют получение ща-
велевой кислоты из муравьинонатровой соли (см. 2-й способ) при нагрева-
нии до 280 С под уменьшенным давлением.
Получение щавелевой кислоты
В колбе емк. 1 л 25 г истертого в порошок тростникового сахара нагревают (в
вытяжном шкафу) с 200 г сырой HN03, уд. веса 1,38. Как только начнется бурное
отделение окислов азота, нагревание прекращают. Когда выделение бурых паров
прекратится, жидкость выливают в чашку и выпаривают на водяной бане до 1/6
первоначального объема. При охлаждении раствора щавелевая кислота выкристал-
лизовывается. Перекристаллизовав 1—2 раза из воды, получают чистую кислоту.
Выход — около 10 г.
Получение щавелевой кислоты из дерева
В железной чашке к 10 г древесных опилок приливают столько конц. раствора
КОН (но не NaOH), чтобы получилась густая каша, и смесь при постоянном поме-
шивании слабо нагревают. Сначала образуется муравьинокалиевая соль, которая
при дальнейшем нагревании выделяет пузырьки водорода и превращается в щавеле-
вокалиевую соль. Когда окончится выделение больших пузырей водорода, нагрева-
ние прекращают. По охлаждении выщелачивают водой, раствор фильтруют, фильтрат
подкисляют разведенной уксусной кислотой и прибавлением раствора СаС12 осаж-
дают щавелево-кальциевую соль. Она нерастворима в слабой СН3СООН и растворима
в НС1.
Получение щавелевой кислоты из дерева
В чугунном котелке смешивают 500 г древесных опилок с 600 г 40%-ного NaOH и
с 400 г 40%-ного КОН и нагревают до 250 С в воздушной бане (в котле большего
размера). Хорошо перемешивают. Исчезновение опилок — признак окончания реак-
ции. Выливают массу в горячую воду и выпаривают на водяной бане до удельного
веса 1,4 (40° В). При стоянии выкристаллизовывается щелочная соль. Ее от-
фильтровывают, растворяют в небольшом количестве воды и осаждают известковым
молоком. Соль кальция отфильтровывают, сушат и взвешивают; затем вычисленным
количеством 20%-ной H2S04 разлагают. Гипс отфильтровывают, промывают водой;
фильтрат выпаривают. Гипс еще раз отфильтровывают; при дальнейшем выпаривании
кристаллизуется щавелевая кислота. Ее перекристаллизовывают из воды; если
нужно, кипятят предварительно с животным углем. Выход — 20—25 г.
Свойства щавелевой кислоты
В пробирке на горелке нагревают сухую муравьино-натриевую соль; образуется
щавелевонатриевая соль и выделяется водород. Последний зажигают. Продукт про-
каливания растворяют в воде, подкисляют уксусной кислотой и приливают СаС12:
осадок щавелево-кальциевой соли, не растворимый в разведенной СН3'СООН, но
растворимый в НС1. Из последнего раствора аммиаком вновь осаждается соль
кальция.
Из воды щавелевая кислота кристаллизуется в бесцветных призмах, содержащих
две частицы воды; плавится при 101 С. Ядовита. При осторожном нагревании сна-
чала теряет кристаллизационную воду и затем возгоняется, а при сильном — раз-
лагается на муравьиную кислоту и угольный ангидрид. Безводная щавелевая ки-
слота плавится при 189 С. С крепкой серной кислотой разлагается на Н20, С02 и
СО (характерно).
Щавелевая кислота весьма легко окисляется, причем на окисление ее частицы
требуется один атом кислорода:
С2Н204 + О = 2С02 + Н20;
на этой реакции основано применение щавелевой кислоты в объемном анализе
для установления титра марганцово-калиевой соли. Из солей щавелевой кислоты
только щелочные соли в воде растворимы; кальциевая же соль нерастворима и в
уксусной кислоте (характерно). Метиловый эфир ее (СООСН3)2 — тело кри-
сталлическое с т. пл. 54 С; им пользуются для получения химически чистого
древесного спирта. Этиловый эфир — жидкость с т. кип. 186 С.
Свойства щавелевой кислоты
В узкой пробирке к небольшому количеству щавелевой кислоты или ее соли при-
ливают конц. H2S04 и нагревают; выделяющийся газ поджигают у отверстия про-
бирки: голубое пламя (СО) ; затем, закрыв пробирку пробкой с газоотводной
трубкой, проводят газ в известковую воду: белый осадок СаС03 (присутствие
С02) .
Разложение щавелево-кальциевой соли
В тугоплавкой пробирке нагревают 3 г сухой щавелево-кальциевой соли. Снача-
ла на стенках пробирки появляются капли воды, затем выделяется СО, которую
поджигают (голубое пламя). Остаток от прокаливания есть СаС03) и потому при
прибавлении к нему НС1 выделяется С02:
С204СаН20 = Н20 + СО + СаС03.
Получение метилового эфира щавелевой кислоты
3 г хорошо высушенной при 100 С щавелевой кислоты растворяют при кипячении
в 10 см3 безводного СН3'ОН. При охлаждении раствора кристаллизуется метиловый
эфир. Прожатый между бумагой плавится при 54 С.
Свойства щавелевой кислоты
В пробирке, снабженной газоотводной трубкой, нагревают смесь водного рас-
твора щавелевой кислоты, к которой прибавлена реагентная серная кислота, с
раствором КМп04, газ (С02) проводят в баритовую воду; получается осадок ВаСОз.
Малоновая кислота СООН' СН2' СООН получается при обмыливании циано-уксусной
кислоты: СН2 (CN) СООН; образует листочки с т. пл. 132 С. Ее этиловый эфир
СН2 (СООС2Н5) 2 — жидкость с т. кип. 198 С — применяется в синтезе Конрада.
При нагревании с Р205 малоновая кислота теряет две частицы воды и дает не-
докись углерода С302:
СООН СН2-СООН = СО=С=СО + 2Н20.
Она же образуется при действии цинка на хлорангидрид дибром-малоновой ки-
слоты :
СОС1СВг2СОС1 + 2Zn = ZnCl2 + ZnBr2 + С302.
Недокись углерода — газ, горящий коптящим (с голубой каймой) пламенем; со-
единяется с водой, образуя малоновую кислоту. Сгущается в бесцветную жидкость
с т. кип. 7 С, по запаху напоминает акролеин; похож также на запах пота.
Есть и еще окисел углерода Ci2Og; это ангидрид меллитовой кислоты образую-
щийся при ее нагревании:
Св(СООН)в = ЗН»0 + С«
О);
Янтарная кислота СООН' СН2' СН2' СООН . Получается перегонкою янтаря, а также
обмыливанием р-циано-пропионовой кислоты СН2 (CN) СН2'СООН; может быть получена
электролизом кислого эфира малоновой кислоты. Образует столбики или таблицы с
т. пл. 183 С. При перегонке (т. кип. 235 С) частью разлагается с образованием
ангидрида (ромбические кристаллы с т. пл. 119,5 С).
При действии натрия на этиловый эфир янтарной кислоты получается сукцинил-
янтарный эфир СбН4 (ОН) 2 (СООС2Н5) 2 • Это — дигидробензол СбН8, в котором 2Н заме-
щены на 20Н и еще 2Н — на две группы СООС2Н5; рациональное название — диокси-
дигидро-парафталевый эфир. Интерес этой реакции заключается в том, что из со-
единения с открытой цепью углеродных атомов получается циклическое соедине-
ние.
К непредельным двуосновным кислотам относятся фумаровая и малеиновая кисло-
ты; они производятся из этилена замещением двух, у разных углеродов стоящих,
атомов водорода на карбоксилы: СООН'СИ: СИ'СООН. Они — такие же стереоизомеры,
как кислоты кротоновая и изокротоновая. Тождество их строения доказывается
следующими фактами:
1) с водородом обе дают янтарную кислоту,
2) с бромоводородом — монобром-янтарную,
3) при окислении марганцовокалиевой солью дают диокси-янтарные кислоты,
структурно тождественные, но стереоизомерные (фумаровая дает виноградную,
а малеиновая — мезовинную),
4) обе кислоты связаны взаимными переходами: так, фумаровая кислота под влия-
нием ультрафиолетовых лучей переходит в малеиновую; при нагревании дает
ангидрид кислоты малеиновой, своего же ангидрида .не образует; малеиновая
кислота при разнообразных условиях легко переходит в фумаровую:
a) при нагревании с водой,
b) при нагревании самой по себе,
c) наиболее легко — в присутствии галогеноводородных кислот или NOOH и даже
просто на свету.
Вследствие легкого образования ангидрида из кислоты малеиновой ей придают
такую формулу, где карбоксилы находятся в положении „соответствующем" (cis-
изомер):
Н —С —СООН
И
Н — С - СООН
формула же
ноос—с —н
It ■
Н —С —СООН
принадлежит кислоте фумаровой (trans-изомер). Обе кислоты получаются при
перегонке яблочной кислоты, причем последняя теряет воду:
С4Нб05 = С4Н404 + Н20.
Если яблочную кислоту нагревать слабо, то образуется главным образом фума-
ровая кислота, а при сильном нагревании — малеиновая. Фумаровая кислота обра-
зует тонкие иглы, очень трудно растворимые в воде; около 200 С возгоняется,
переходя отчасти в малеиновый ангидрид. Ее метиловый эфир — тело кристалличе-
ское с т. пл. 102 С. Малеиновая кислота образует очень легко растворимые в
воде ромбические призмы с т. пл. 130 С; около 160 С начинает кипеть, переходя
в ангидрид. Ее метиловый эфир — жидкость. Кислотные свойства малеиновой ки-
слоты сильнее (более чем в 10 раз) выражены по сравнению с фумаровой; здесь,
как и при двуосновных предельных кислотах, сказывается влияние степени уда-
ленности карбоксилов друг от друга.
Из ароматических двуосновных кислот важны фталевые кислоты C6H4(COOH)2. Они
получаются при окислении двузамещенных гомологов бензола. Фталевых кислот
три: орто-, мета-и пара-кислота; называются они еще и так: фталевая, изофта-
левая и терефталевая. Все они — тела кристаллические; отличаются по свойствам
своих солей и эфиров. Только одна ортокнслота дает при нагревании ангидрид,
потому что ее карбоксилы стоят при соседних углеродных атомах. В технике ор-
то-фталевая кислота получается окислением нафталина конц. H2S04 в присутствии
HgS04, а в последнее время — воздухом в присутствии окислов ванадия. Она об-
разует легко растворимые в воде листочки или столбики с т. пл. 213 С; при на-
гревании легко переходит во фталевый ангидрид
сен4< >о,
хсск
образующий длинные призмы с т. пл. 128 С и т. кип. 284 С. Ангидрид при-
меняется для приготовления красящих веществ, носящих общее название фталеи-
нов. Это — продукты уплотнения фталевого ангидрида с фенолами. Так, при на-
гревании его с обыкновенным фенолом в присутствии конц. серной кислоты или
SnCl4 происходит реакция уплотнения с образованием фенолфталеина:
,СОч уС(С6Н^ОН)3
/ >0 + 2С6Н^ОН = (^Н / V
ВД < > о + 2С,н5. он = <;н4 / )о + н,0;
Это — нерастворимый в воде кристаллический порошок с т. пл. 250 С; в спирте
легко растворяется. Щелочами окрашивается в ярко-красный цвет, в кислых же
растворах бесцветен; на этом основано применение фенолфталеина в качестве ин-
дикатора при насыщении кислот щелочами. Действует как слабительное.
Подобно обыкновенному фенолу, уплотняются с фталевым ангидридом и двуатом-
ные фенолы; например резорцин при такой же реакции дает флуоресцеин С20Н12О5,
щелочные (в особенности аммиачный) растворы которого обладают великолепной
флуоресценцией10. Калиевая соль его четырехбромистого соединения
С20Н6ВГ4О5К2
носит название эозина и применяется как красящее вещество для окраски
шерсти и шелка в розовый или красный цвет.
Продукты уплотнения фталевого ангидрида с аминофенолами являются красивыми
красными красителями под названием родаминов; например с мета-диэтил-
аминофенолом OH'C6H4'N(С2Н5) 2 получается обыкновенный родамин
О N /^H,.N(C,HB),4
со/ > с ( уо.
Ч.Н/ XH3*N(C2H5)/
10
Флуоресценция его заметна даже при такой слабой концентрации как 1:40 000 000
частей воды.
Фталеины относятся к красящим веществам группы трифенил-метана (ср. фуксин,
аурин и др.). Если вышеприведенную формулу фенолфталеина несколько видоизме-
нить и сопоставить с формулой трифенил-метана, то связь их будет ясна:
ch^1cgh, c^-cgh,-oh
\сен5 [ \р,н4.со
О 1
три фенил* мета и фенолфталеин
Продукту действия щелочи на фенолфталеин придают хиноидную формулу
строения:
СН СН
,CcH4.ONa
При восстановлении фталеинов получаются лейкосоединения, называемые
фталинами, например фенол-фталин с формулой:
Лн4-он
HCfC^VOH
\CGH^COOH
Фталины бесцветны.
Получение фенолфталеина
В пробирке короткое время и не очень сильно нагревают смесь фталевохю ан-
гидрида, карболовой кислоты и нескольких капель конц. H2S04; по охлаждении
растворяют сплав в спирте и прибавляют КОН: красное окрашивание, исчезающее
по прибавлении кислоты и вновь появляющееся от щелочи.
Получение флуоресцеина
Ведут реакцию в тех же условиях, заменив карболовую кислоту резорцином;
спиртовый раствор сплава выливают в раствор аммиака; полученная жидкость в
проходящем свете имеет красный цвет, а в отраженном — зеленый.
(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)
Ликбез
БИОЛОГИЯ ДРОЖЖЕЙ
И.П. Бабьева, И.Ю. Чернов
(продолжение)
ПРОМЫШЛЕННОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДРОЖЖЕЙ
Дрожжи были первыми микроорганизмами, которые человек стал использовать для
удовлетворения своих потребностей. Основное свойство дрожжей, которое всегда
было привлекательным для человека - это способность к образованию довольно
больших количеств спирта из сахара. Первое упоминание о получении спиртных
напитков в Египте, так называемой «бузы», представляющей собой разновидность
пива, относится к 6000 г. до н. э. Этот напиток получали в результате сбра-
живания пасты, полученной при раздавливании и растирании проросшего ячменя.
Приготовление бузы можно считать рождением современного пивоварения. Из Егип-
та технология пивоварения была завезена в Грецию, а оттуда в Древний Рим. В
этих же странах активно развивалось виноделие. Крепкие спиртные напитки, по-
лученные перегонкой бражки, по-видимому, были впервые получены в Китае около
1000 г. до н. э. В Европе процесс производства спирта был завезен значительно
позже. Известно, что получение виски было налажено в Ирландии в XII в. Сейчас
промышленное производство спиртных напитков существует в большинстве стран
мира и представляет собой крупную отрасль промышленности.
Другая группа процессов, в которых издавна используются дрожжи, также свя-
зана с их способностью к спиртовому брожению: образование углекислого газа
под действием дрожжей - важнейший этап в приготовлении хлеба, приводящий к
заквашиванию теста. Этот процесс также очень древний. Уже к 1200 г. до н. э.
в Египте была хорошо известна разница между хлебом из кислого и пресного тес-
та , а также польза от применения вчерашнего теста для заквашивания свежего.
Традиционные
процессы
Виноделие, пивоварение и хлебопечение существуют уже несколько тысячелетий.
Естественно, что за это время были отселекционированы сотни видов заквасок,
которые используются для приготовления самых различных сортов вина и пива.
Однако лишь в начале XIX в. были высказаны предположения, что за спиртовое
брожение, вызываемое этими заквасками, ответственны присутствующие в них
дрожжи, увиденные впервые в 1680 г. Антони ван Левенгуком. Эти дрожжи были
описаны в 1837 г. Мейером, который дал им название Saccharomyces. Окончатель-
ным доказательством роли дрожжей в сбраживании Сахаров считается работа Пас-
тера, опубликованная им в 1866 г. К концу XIX в. стало известно, что сахаро-
мицеты, выделенные из различных заквасок и различных сортов вина и пива, раз-
личаются по физиологическим свойствам, например, по способности к сбраживанию
различных Сахаров. В дальнейшем на основании таких физиологических различий в
роде Saccharomyces было описано несколько десятков видов. Однако, в последние
годы методами молекулярной и генетической таксономии было показано, что боль-
шинство этих «видов» на самом деле представляют собой различные физиологиче-
ские расы нескольких близких биологических видов, главным образом Saccharomy-
ces cerevisiae. Это такие «виды», как, например, Saccharomyces vini, S. el-
lipsoides, S. oviformis, S. cheresiensis, S. chevalieri и десятки других, ко-
торые сейчас переведены в разряд синонимов Saccharomyces cerevisiae. Большин-
ство этих «видов» - это отселекционированные веками расы - такой же продукт
человеческой деятельности, как сорта культурных растений. В природе их найти
иногда просто невозможно. Однако, недавно Г. И. Наумов обнаружил, что дикие
популяции Saccharomyces cerevisiae распространены на Дальнем Востоке в соко-
течениях дуба. Он предположил, что Дальний Восток - центр распространения
этих дрожжей. Кроме S. cerevisiae среди дрожжей, используемых в виноделии и
пивоварении, выделяют еще три очень близких вида: S.bayanus, S. paradoxus и
S. pastorianus, а также их межвидовые гибриды.
Кроме вина и пива, ставшими наиболее популярными, в мире производится мно-
жество разнообразных традиционных алкогольных напитков: сакэ на Востоке,
пульке и текила в Южной Америке, помбе в Африке и т.д. Они различаются по ти-
пу исходного сырья, способами осахаривания полисахаридов, видами добавок. В
некоторых случаях для сбраживания используются виды дрожжей, отличные от
Saccharomyces cerevisiae. При производстве рома, например, применяются дрожжи
из рода Schizosaccharomyces.
Виноделие
В основе получения вина лежит сбраживание фруктозы и глюкозы виноградного
сока с образованием этилового спирта. Собранный виноград давят и получают так
называемое виноградное сусло, или муст, в котором содержится 10-25% сахара.
При производстве красного вина кожица и косточки винограда остаются в соке в
течение всего процесса брожения, тогда как для приготовления белых вин их
удаляют после раздавливания ягод и сбраживается только сок. В традиционных
процессах приготовления вина сбраживание муста ведется с помощью дрожжей,
присутствующих на винограде. При этом в брожении участвует множество видов
дрожжей, сменяющих друг друга, такие как Hanseniaspora, Brettanomyces, Sac-
charomyces . В современном виноделии для сбраживания в основном используют
чистые культуры специальных рас сахаромицетов. При этом «дикие» дрожжи снача-
ла убивают, пропуская через муст двуокись серы. После окончания брожения мо-
лодое вино необходимо осветлить и дать ему созреть. Эти процессы для высоко-
качественных вин могут занимать несколько лет. В процессе созревания вина
происходит рост бактерий, которые удаляют из него яблочную кислоту, а также
различные биохимические изменения, которые улучшают вкусовые качества вина.
При производстве некоторых сортов вин в качестве исходного сырья использу-
ется не виноградный сок, а уже готовое вино. Такое, так называемое вторичное
виноделие, включает процессы дображивания и модификации вин с использованием
специальных рас дрожжей. К наиболее известным продуктам вторичного виноделия
относятся шампанские вина. Шампанское получают из смеси вин (купажа), в кото-
рую добавляют сахар и дрожжи, после чего выдерживают в замкнутом объеме для
вторичного брожения (шампанизации). Традиционные процессы шампанизации прово-
дятся в бутылках, на крупных заводах - в больших емкостях. При шампанизации
происходит растворение и химическое связывание образующейся углекислоты, ко-
торая при открывании бутылки в результате перепада давления освобождается и
придает вину неповторимую игристость.
Дрожжи вносят в производство вина двойной вклад: они ответственны за обра-
зования этанола в напитке, а также за накопление в нем множества соединений,
от которых зависит его вкус и аромат. Такие соединения называются органолеп-
тическими. Часть из них образуется непосредственно в ходе брожения, часть -
при химических превращениях компонентов вина в ходе его созревания. В винах
обнаружены сотни органолептических соединений. Многие из них присутствуют в
очень малых количествах и с трудом поддаются идентификации. Еще сложнее опре-
делить вклад всех этих соединений в окончательный букет вина, поскольку для
каждого вещества характерна своя концентрация, при которой его присутствие
можно уловить с помощью обоняния (так называемый порох1 запаха).
Пивоварение
Технология приготовления пива включает несколько этапов. Пиво производят из
зерна, которое в отличие от винограда содержит в основном крахмал, плохо ус-
ваиваемый дрожжами. Поэтому перед сбраживанием этот крахмал необходимо осаха-
рить (гидролизовать). Традиционно в различных странах для производства пива
использовали различные виды зерновых: в Европе - ячмень, в Азии - рис, в Аме-
рике - кукурузу. При осахаривании ячменя обычно пользуются амилазами самого
ячменя, которые образуются в большом количестве при прорастании зерна. Для
гидролиза рисового крахмала на Востоке традиционно используют некоторые штам-
мы мицелиальных грибов (Micor, Aspergillus). Проросший и высушенный ячмень
(так называемый солод) затем высушивают в печи. При этом в результате караме-
лизации Сахаров образуются окрашенные соединения, которые придают пиву харак-
терный цвет. Высушенный солод размалывают, смешивают с водой и варят, в ре-
зультате чего получается так называемое пивное сусло. В результате всех этих
процессов часть крахмала исходного зерна гидролизуется до мальтозы, глюкозы и
других Сахаров, другая часть, фракция декстринов, не расщепляется и поэтому
не утилизируется дрожжами и остается без изменений в течение всего после-
дующего процесса брожения. Концентрация декстринов обусловливает плотность
пива (светлое или темное1) . После осахаривания зерно высушивают, размалывают,
кипятят, фильтруют и полученное пивное сусло сбраживают чистыми культурами
дрожжей Saccharomyces cerevisiae. В пивоварении различают два типа брожения:
верховое (теплое) и низовое (холодное). Вызывающие их дрожжи различаются ря-
дом свойств и ранее рассматривались как различные виды: верховые S.
Темный цвет пива достигается использованием темного ячменного солода, получаемого
путём поджарки пророщенного ячменного зерна.
cerevisiae и низовое S. carlsbergensis. Дрожжи низового брожения функциониру-
ют при температуре 6-10 С, в то время как верховое брожение протекает при 14-
25 С. В конце брожения низовые дрожжи оседают на дно сосуда, образуя плотный
осадок, а верховые дрожжи всплывают на поверхность, образуя так называемую
«шапку»2. Подъем дрожжей верхового брожения на поверхность обусловлен более
интенсивным брожением, при котором образуются пузырьки углекислого газа, под-
нимающие дрожжевые клетки.
Примерная схема приготовления пива.
Важное технологическое свойство дрожжей, используемых в пивоварении - так
называемая флоккуляционная способность. Флоккуляция - слипание клеток друг с
другом на заключительных стадиях брожения, в результате чего образуются хло-
пья, быстро оседающие на дно сосуда. От флоккуляционной способности дрожжей в
значительной степени зависят степень сбраживания сусла, осветление пива и ко-
личество собранных дрожжей в конце брожения. Для максимального превращения
сахара в этанол необходимо, чтобы дрожжи оставались суспендированными в бро-
дящей жидкости. С другой стороны, флоккуляция дрожжей после того, как броже-
ние закончилось или достигло желаемой стадии, очень облегчает удаление дрож-
жей из напитка. Другими словами, дрожжи должны флоккулировать только на опре-
деленной стадии брожения. Хотя важность процесса флоккуляции в изготовлении
алкогольных напитков была оценена уже более ста лет назад, физиологический
механизм этого явления был изучен лишь в последние десятилетия. В слипании
клеток участвуют присутствующие в растворе ионы двухвалентного кальция, взаи-
модействующие с карбоксильными и фосфодиэфирными группами на поверхности кле-
точных стенок дрожжей.
2 Если для производства пива использовались пивные дрожжи верхового брожения, то та-
кое пиво называется эль, а если пивные дрожжи низового брожения, то такое пиво назы-
вается лагер. Впрочем, сейчас существуют дрожжи для эля, которые тоже оседают на
дно сосуда. Другое отличие лагера от эля заключается в том, что настоящий ла-
гер должен несколько недель дображиваться при низкой температуре (0-2 С) в
так называемом «лагерном подвале».
Варочный uex
Злиумыи члн I
J IN. С» in ■■,!-
fl
II »П
J ^
*
Хч»гпгin.to O.i
C'J-L>pM««»
Ферментация и дображивание
Аэрация сусла ♦ Дозировка дрожжей
Одиоступ
г i J ill
цкт
Осветление пива
Фит.тр
It
_!
Карбонизация
со —
С1Ч'рн»*»и ({ыт.'роилммо'
и
Пастеризация
I'*-
ш
ддд
•8»
Реальная схема производства пива (Томский пивзавод).
Хлебопечение
Все дрожжи, которые используются в хлебопечении, относятся к виду
Saccharomyces cerevisiae и исторически происходят от штаммов пивных дрожжей.
Мука обычно почти не содержит свободных Сахаров, которые могут сбраживаться
дрожжами. В низкосортной муке могут присутствовать ферменты, расщепляющие
крахмал, однако в высокоочищенных сортах муки эти ферменты разрушены, и для
заквашивания теста в муку приходится добавлять сахар. При брожении происходит
интенсивное выделение С02, которая задерживается в тесте, заставляя его под-
ниматься. Образующийся спирт удаляется в процессе выпечки.
Раньше дрожжи для хлебопечения получали с пивоварен. В конце XIX в. разви-
лась целая отрасль по производству прессованных или сухих пекарских дрожжей.
Современное производство пекарских дрожжей имеет ряд существенных особенно-
стей по сравнению с бродильной промышленностью. Основная цель такого произ-
водства - получение дрожжей, которые с высокой скоростью вырабатывают в тесте
углекислый газ за счет брожения в анаэробных условиях. Однако производить их
надо при хорошей аэрации, чтобы добиться большего выхода дрожжевой биомассы
(эффект Пастера). Полученные дрожжи должны не только обладать высокой бро-
дильной активностью в тесте, но и хорошо храниться, не теряя своих качеств в
замороженном или высушенном состоянии. Пекарские дрожжи выращивают в больших
сосудах при интенсивном перемешивании и аэрации. При этом питательная среда,
основой которой обычно служит меласса, подается постепенно, или порциями. Ес-
ли добавить сразу много сахара, то метаболизм дрожжей переключится на бро-
дильный (эффект Кребтри) и выход биомассы уменьшится. По завершении роста
дрожжи концентрируют центрифугированием и фильтруют. Образующийся на фильтре
осадок можно превращать в брикеты прессованных дрожжей. Сухие дрожжи получают
высушиванием массы в специальных распылительных сушилках.
Клетка из
криобанка BSGLab
Чашка Петри
контроль
С^^ Рабочая культура
^^ь на косой среде
контроль
Жидкая культура
контроль
упаковка
Пивоварня
сусло
стерилизация
воздух <-
Система пропагации
^
=Б=
^
Готовая продукция
Производство хлебопекарных дрожжей на пивном сусле.
Дрожжи в
современной
биотехнологии
На протяжении нескольких тысяч лет человечество совершенствовало технологию
изготовления вина, пива и хлеба, доводя ее до уровня искусства и получая все
более изысканные продукты. Новый этап в развитии бродильных процессов начался
после работ Пастера, Коха и других корифеев микробиологии, которые ввели в
практику метод чистых культур. Тем не менее, до конца XIX в. дрожжи применя-
лись лишь в виноделии, пивоварении и хлебопечении. Двадцатый век с его безу-
держным развитием промышленности резко расширил и области применения дрожжей.
Они стали выращиваться в больших масштабах в качестве источника белка и вита-
минов для сельскохозяйственных животных. Дрожжи - основной источник техниче-
ского этанола. С помощью дрожжей сейчас получают большой спектр соединений,
использующихся в разных областях человеческой деятельности. К ним относятся
витамины, различные полисахариды, липиды, которые могут служить заменителями
растительных масел, разнообразные ферменты, используемые в пищевой промышлен-
ности. Развитие генетической инженерии позволило использовать легко культиви-
руемые дрожжи для получения многих полезных веществ животной и растительной
природы, например инсулина.
Производство
белка
Использование микробной биомассы для обогащения кормов белком и незаменимы-
ми аминокислотами в условиях интенсивного животноводства - одна из важных
проблем будущего, так как человечество развивается таким образом, что оно
вряд ли сможет обеспечить себя пищей традиционными методами. Выращивание мик-
роорганизмов не зависит от климатических и погодных условий, не требует по-
севных площадей, поддается автоматизации. Дрожжи - одна из наиболее перспек-
тивных групп микроорганизмов для получения белковых кормовых добавок. Содер-
жание белка в клетках некоторых штаммов дрожжей составляет от половины до 2/3
сухой массы, на долю незаменимых аминокислот приходится до 10% (в белках сои,
богатых лизином, его содержится не многим более 6%).
Впервые дрожжи стали рассматривать как источник питания в годы первой миро-
вой войны в Германии, где их использовали в качестве добавки при изготовлении
колбас. В первой половине XX в. возникла новая отрасль промышленности - про-
изводство белка одноклеточных организмов. В нашей стране производство кормо-
вых дрожжей было начато в 30-х годах. Отходы сельского хозяйства, такие как
солома, кукурузные кочерыжки, опилки, подвергали гидролизу серной кислотой,
полученные гидролизаты нейтрализовали и использовали для выращивания дрожжей.
Особенно привлекательным в этом производстве является использование возобнов-
ляемого сырья, особенно древесины, запасы которой в нашей стране пока доста-
точно велики. В большинстве этих отходов основным компонентом является целлю-
лоза, и в гидролизатах будет преобладать глюкоза, усваиваемая всеми без ис-
ключения видами дрожжей. Поэтому на гидролизатах можно выращивать самые раз-
нообразные дрожжи, удовлетворяющие технологическим требованиям. В гидролиза-
тах древесины присутствует также большое количество ксилозы, поэтому здесь
желательно использование видов, утилизирующих пентозы. В то же время, транс-
порт сырья на гидролизные заводы оказывается дорогостоящим, поэтому в боль-
шинстве стран существуют только локальные мелкие производства кормовых дрож-
жей , что экологически и экономически более выгодно.
Первый в мире крупный завод кормовых дрожжей мощностью 70 000 т. в год был
пущен в 1973 г. в СССР. В качестве сырья на нем использовали выделенные из
нефти н-алканы и несколько видов дрожжей, способных к быстрому росту на угле-
водородах: Candida maltosa, Candida guilliermondii, Candida lipolytica. В
дальнейшем именно отходы от переработки нефти служили главным сырьем для про-
изводства дрожжевого белка, которое быстро росло и к середине 80-х гг. превы-
сило 1 млн. т. в год, причем в СССР кормового белка получали вдвое больше,
чем во всех остальных странах мира, вместе взятых. Этому способствовала орга-
низация большой научно-исследовательской работы. Были подробно изучены специ-
фические особенности окисления и ассимиляции углеводородов, кинетические па-
раметры роста, разработана технология их культивирования в крупных ферменте-
рах объемом в сотни кубических метров. Однако в последующем масштабы произ-
водства дрожжевого белка на углеводородах нефти резко сократились. Это про-
изошло как в результате экономического кризиса 90-х гг., так и из-за целого
ряда специфических проблем, с которыми связано это производство. Одна из них
- необходимость очистки готового кормового продукта от остатков нефти, имею-
щих канцерогенные свойства.
Другой пригодный вид сырья для производства микробного белка - метанол. На
метаноле как на единственном источнике углерода и энергии способны расти око-
ло 25 видов дрожжей, в том числе Pichia polymorpha, Pichia anomala, Yarrowia
lipolytica. Однако, более выгодным считается выращивание на метаноле метило-
трофных бактерий, таких как Methylophilus methylotrophus, так как они исполь-
зуют одноуглеродные соединения более эффективно. Поэтому при росте на ме-
таноле бактерии дают больше биомассы, чем дрожжи. Первая реакция окисления
метанола у дрожжей катализируется оксидазой, а у метилотрофных прокариот -
дегидрогеназой. Ведутся генно-инженерные работы по переносу гена метанолде-
гидрогеназы из бактерий в дрожжи. Это позволит объединить технологические
преимущества дрожжей с эффективностью роста бактерий.
В последнее время интенсивно изучаются дрожжи, обладающие гидролитическими
ферментами и способные расти на полисахаридах без их предварительного гидро-
лиза. Использование таких дрожжей позволит избежать дорогостоящую стадию гид-
ролиза полисахаридсодержащих отходов. Известно более 100 видов дрожжей, кото-
рые хорошо растут на крахмале как на единственном источнике углерода. Среди
них особенно выделяются два вида, которые образуют как глюкоамилазы, так и ос-
амилазы, растут на крахмале с высоким экономическим коэффициентом и могут не
только ассимилировать, но и сбраживать крахмал: Schwanniomyces occidentalis и
Saccharomycopsis fibuligera. Оба вида - перспективные продуценты белка и ами-
лолитических ферментов на крахмалсодержащих отходах. Ведутся поиски и таких
дрожжей, которые могли бы расщеплять нативную целлюлозу. Целлюлазы обнаружены
у нескольких видов, например у Trichosporon pullulans, однако активность этих
ферментов низкая и о промышленном использовании таких дрожжей говорить пока
не приходится. Дрожжи из рода Kluyveromyces хорошо растут на инулине - основ-
ном запасном веществе в клубнях топинамбура - важной кормовой культуры, кото-
рая также может быть использована для получения дрожжевого белка.
Еще один субстрат, пригодный для получения кормового белка - молочная сыво-
ротка, побочный продукт сыроварения. Молочная сыворотка содержит до 4% лакто-
зы. Способность к ассимиляции лактозы имеется примерно у 20% всех известных
видов дрожжей. Гораздо реже встречаются дрожжи, сбраживающие лактозу. Актив-
ный катаболизм лактозы особенно характерен для дрожжей из рода Kluyveromyces.
Эти дрожжи можно использовать для получения на молочной сыворотке кормового
белка, этанола, препаратов р-глюкозидазы.
Производство
этанола
Этанол широко применяется в химической промышленности как исходное соедине-
ние для синтеза многих веществ, как растворитель, экстрагент, антифриз и т.п.
Вероятно, у этанола большое будущее и как топлива в двигателях внутреннего
сгорания: этанол - гораздо более экологически чистое топливо, чем бензин3.
В принципе этанол можно получать из любого источника углеводов, которые
сбраживаются дрожжами. Разнообразие потенциальных продуцентов тоже велико:
более 200 видов дрожжей способны сбраживать глюкозу.
Крупномасштабное получение этанола в качестве топлива осуществляется в ос-
новном в Бразилии и других странах Южной Америки4. В качестве источника угле-
водов используется сахарный тростник и маниока, в качестве продуцента этанола
- Saccharomyces cerevisiae.
Перспективным сырьем для получения спирта являются отходы целлюлозно-
бумажной и деревообрабатывающей промышленности. Однако, гидролизаты древесины
содержат большое количество пентоз. До середины 70-х годов XX в. вообще не
были известны дрожжи, активно сбраживающие пентозы. Сейчас такие виды найде-
ны: Pachysolen tannophilus и Pichia stipitis (анаморфа - Candida shehatae).
Им прочат большое будущее в производстве спирта из гидролизатов древесных от-
ходов , соломы, торфа и т.п.
3 Но дает меньше энергии при сгорании. Пробег машин работающих на Е85 (смесь 85%
этанола и 15% бензина; буква «Е» — от английского Ethanol) на единицу объёма топлива
составляет примерно 75% от пробега стандартных машин. Обычные автомобильные ДВС не
могут работать на Е85, хотя прекрасно работают на ЕЮ. На «настоящем» этаноле могут
работать только т. н. машины «Flex-Fuel» (автомобиль с многотопливным двигателем).
Эти автомобили также могут работать на обычном бензине (небольшая добавка этанола
всё же требуется) или на произвольной смеси того и другого.
4 В Северной Америке используется кукуруза.
Сжижение
i
. -1.
-1
Осахаривание
Сбраживание
Дистилляция
Дрожжи ♦
питательные в-ва —Л
X
-п
^i
Разделение барды
Жидкая барда
Твердые частицы
Испарение
! : .
f г t
-J
1 Смешивание
\ " "i ■—и
Реггификация
; -J
Спирт
t
Вода
Конденсат
Осушение ^
Сухая барда
*
Технология производства этанола.
В небольших масштабах этанол можно получать и из других субстратов, напри-
мер из молочной сыворотки, используя сбраживающие лактозу дрожжи из рода
Kluyveromyces.
Различные продукты,
получаемые из дрожжей
В последние десятилетия разнообразие биотехнологических процессов, в кото-
рых используются дрожжи, резко увеличилось. Еще более разнообразны пер-
спективы использования дрожжей: в различных разработках, патентах и т.п. упо-
минается более 200 видов. Сейчас дрожжи используются для получения различных
ферментных препаратов, органических кислот, полисахаридов, многоатомных спир-
тов, витаминов и витаминных добавок, а также во множестве других мелкомас-
штабных процессах.
Промышленно важные органические кислоты, продуцируемые микроорганизмами,
являются либо конечными продуктами (молочная, масляная, пропионовая кислоты у
анаэробных бактерий), либо интермедиатами метаболизма. Последние можно полу-
чать с помощью дрожжей. В наибольших масштабах производится лимонная кислота,
в основном с помощью Aspergillus niger, с использованием в качестве субстрата
мелассы. Однако, ее можно получать и с помощью дрожжей Yarrowia lipolytica на
более дешевых субстратах, таких как парафины нефти. Сейчас разработаны техно-
логии получения и многих других кислот, например, изолимонной из Candida
catenulata, фумаровой из Candida hydrocarbofumarica, яблочной из Pichia
membranaefaciens и др.
Из дрожжевых полисахаридов наиболее популярен пуллулан, который получают из
дрожжеподобного гриба Aureobasidium pullulans. Он представляет собой р-
глюкан, в котором мальтотриозные остатки соединены между собой Р(1—>6)-
гликозидными связями. Пуллулан используется в основном в пищевой промышленно-
сти в качестве пленочного покрытия. Возможно получение разнообразных по
строению и свойствам полисахаридов и из других видов дрожжей. Особенно много
внеклеточных полисахаридов образуют дрожжи Cryptocoecus, Rhodotorula,
Lipomyces.
Многоатомные спирты (глицерин, ксилит, эритрит, арабит) - широко применяют-
ся в химической и пищевой промышленности. Перспективным считается способ по-
лучения сахароспиртов, таких как глицерин, эритрит и ксилит, с использованием
ксеротолерантных дрожжей Zygosaccharomyces rouxii и Zygosaccharomyces bailii.
Эти дрожжи способны расти в средах с высоким осмотическим давлением, синтези-
руя при этом большое количество внутриклеточных полиолов, которые служат ос-
мопротекторами. Другой способ касается получения ксилита - важного полиола
для пищевой промышленности. Ксилит накапливается как побочный продукт при
сбраживании ксилозы дрожжами Pachysolen tannophilus.
Многие дрожжи служат источниками для получения ферментных препаратов, кото-
рые используются в современной пищевой и химической промышленности. Из дрож-
жевого осадка, образующегося как отход пивоварения, получают фермент р-
фруктофуранозидазу (инвертазу), расщепляющий сахарозу на глюкозу и фруктозу.
Препараты инвертазы широко применяются в кондитерской промышленности для пре-
дотвращения кристаллизации сахарозы, для приготовления инвертных сиропов. С
помощью культур Kluyveromyces marxianus получают р-галактозидазу, которая
применяется в молочной промышленности. Дрожжи Yarrowia lipolytica используют-
ся для получения липолитических ферментов, представляющих большой интерес для
многих отраслей хозяйства. Липазы используются в сыроварении, в косметической
промышленности, при выделке мехов и кож, в моющих средствах. В последние годы
разработано множество способов получения самых различных ферментов из дрож-
жей: пектиназ из Saccharomycopsis fibuliger, амилаз из Schwanniomyces
occidentalism ксиланаз из Cryptocoecus laurentii, гидролаз L-oc-амино-е-
капролактама из криптококков, алкогольоксидазы из Hyphopichia burtonii, окси-
дазы D-аминокислот из Trigonopsis variabilis, фенилаланинаммиаклиазы из
Rhodotorula glutinis.
Применение дрожжей как источников витаминов началось в 30-е годы. Одним из
первых промышленных процессов получения витаминов было выделение эргостерина
из Saccharomyces cerevisiae с последующим облучением ультрафиолетом для пере-
вода в витамин D. Затем у дрожжей была открыта способность к сверхсинтезу не-
которых витаминов группы В, в частности рибофлавина. Разработаны промышленные
способы получения р-каротина из красных дрожжей. Кроме производства индивиду-
альных витаминов уже много лет в мире практикуется получение автолизатов и
гидролизатов дрожжей, которые используются как источник витаминов и как вку-
совые добавки.
СИСТЕМАТИКА
ДРОЖЖЕЙ
Одноклеточная организация дрожжей накладывает столь существенный отпечаток
на их внешний облик и на методы работы с ними, что систематика дрожжей долгое
время развивалась вполне независимо от систематики мицелиальных грибов. Одно
из важных отличий - широкое использование для классификации и идентификации
дрожжей физиологических и биохимических признаков. До середины XX в. все од-
ноклеточные грибы рассматривались в качестве достаточно обособленной так-
сономической группы аскомицетов. Последней точки зрения придерживался, напри-
мер, В.И. Кудрявцев, автор отечественного определителя дрожжей, который пред-
лагал объединять все дрожжи в самостоятельный порядок Unicellomycetales. В
середине XX в. произошло принципиальное событие в систематике дрожжей, когда
японскому микологу Исао Банно удалось индуцировать половой цикл размножения у
гетероталличных красных дрожжей Rhodotorula glutinis. Полученные им характе-
ристики жизненного цикла однозначно свидетельствовали о принадлежности этих
дрожжей к гетеробазидиомицетам. Стало очевидным, что среди дрожжей имеются
представители совершенно различных таксономических групп грибов, как аскоми-
цетовых, так и базидиомицетовых. После этого большое внимание в систематике
дрожжей стало уделяться поиску признаков, позволяющих разделить аскомицетовые
и базидиомицетовые виды, даже без наблюдения полного жизненного цикла (так
называемых признаков аффинитета). В систематике дрожжей стали активно исполь-
зоваться биохимические и цитологические признаки.
Современный период изучения биологического разнообразия характеризуется ин-
тенсивным развитием филогенетической систематики, которая направлена на ре-
конструкцию конкретных путей исторического развития организмов. В микробиоло-
гии филогенетическая систематика получила мощный импульс развития лишь в са-
мом конце XX в. в связи со сравнительным изучением консервативных нуклеотид-
ных последовательностей в рРНК. У дрожжей такая систематика строится главным
образом на изучении двух участков рДНК длиной около 600 нуклеотидных пар:
D1/D2 домена на 5!-конце гена, кодирующего 26S рРНК и внутреннего транскриби-
руемого спейсерного региона (ITS), включающего ген 5.8S рРНК. Считается, что
вследствие консервативности этих участков различия между ними прямо пропор-
циональны филогенетическому расстоянию, степени эволюционного родства. Секве-
нирование неклеотидных последовательностей рДНК оказалось мощным инструментом
для построения филогенетической классификации дрожжей, определения их места в
общей системе грибов. К настоящему времени расшифрованы и помещены в компью-
терные банки данных, доступные по сети Интернет, нуклеотидные последователь-
ности рРНК у представителей всех известных видов дрожжей. Это позволило по-
строить филогенетические деревья, отражающие эволюцию их рибосомальных генов.
Оказалось, что группирование дрожжей на основе сходства нуклеотидных последо-
вательностей рРНК во многих случаях не совпадает с группированием по феноти-
пическим признакам. Многие традиционные признаки, используемые в классифика-
ции дрожжей, такие как характеристики вегетативного размножения, форма аскос-
пор, способность к сбраживанию и ассимиляции Сахаров, стали считаться нена-
дежными, не пригодными для определения филогенетического родства. Секвениро-
вание рРНК (рДНК) сейчас считается необходимым при описании новых видов дрож-
жей.
Один из главных вопросов, который активно дискутировался до последнего вре-
мени , положение дрожжей в общей системе грибов. Являются ли они предковыми
примитивными формами аско- и базидиомицетов, давшими начало более продвинутым
и сложно организованным мицелиальным грибам, или вторично упростившимися,
возникшими независимо в разных филогенетических линиях грибов в результате
конвергенции? Окончательный ответ на этот вопрос был получен лишь недавно в
результате развития молекулярно-филогенетической систематики. Сейчас считает-
ся окончательно доказанным полифилетическое происхождение дрожжей, их незави-
симое возникновение среди аскомицетовых и базидиомицетовых грибов. После об-
наружения базидиомицетовых дрожжей в зимологии возникло представление о дрож-
жах, как о чисто морфологической, или экоморфологической группе грибов (жиз-
ненной форме), лишенной таксономического содержания. В то же время, дрожжи
встречаются лишь в некоторых филогенетических линиях грибов, в которых имеют-
ся также близкородственные виды, существующие в основном в мицелиальной фор-
ме. Примерами могут служить аскомицеты Endomyces, Blastobotrys, базидиомицеты
Tilletiopsis, Trichosporonoid.es не образующие почкующихся одиночных клеток.
Несмотря на отсутствие одноклеточных ассимилятивных стадий, такие виды также
включают в определители дрожжей, так как филогенетически они очень близки к
«настоящим» одноклеточным дрожжам. Поэтому с точки зрения филогенетической
систематики, целиком сводить понятие «дрожжи» только к одноклеточной жизнен-
ной форме грибов не представляется целесообразным. Систематика дрожжей, поиск
об их места в общей системе грибов продолжают активно развиваться, и в этой
области еще не выработано устоявшихся, стабильных представлений. Тем не ме-
нее, со времени первых описаний сахаромицетов зимологами пройден очень боль-
шой путь в исследовании разнообразия дрожжевых грибов. Основные этапы этого
пути отражены в серии определителей голландской зимологической школы, которые
выходили с интервалом в 10-20 лет.
Концепция
вида
у дрожжей
Понятие вида - одно из сложнейших в биологии. Разработка концепции вида -
особенно трудная задача в применении к микроорганизмам, в частности к грибам,
по причине их плеоморфизма, сложности жизненных циклов, наличия стабильных
несовершенных форм, неопределенности границ индивидуума и популяции.
В биологии термин «вид» используется в разных значениях. С одной стороны, о
виде говорят как о наименьшей единице классификации, минимальном элементе
разнообразия, который мы в состоянии распознать с помощью определенного набо-
ра таксономических признаков. Набор таких признаков, используемых в таксоно-
мии дрожжей, постоянно увеличивается, что позволяет выделять все более «мел-
кие» виды. В результате число известных видов дрожжей за последние десятиле-
тия существенно возросло не только за счет обнаружения новых форм в природе,
но и дробления уже известных «крупных», «гетерогенных» видов, характеризую-
щихся значительной изменчивостью. Границы между видами при этом проводятся
либо исходя из опыта и интуиции систематика (типологическая концепция вида),
либо на основании явного соглашения между систематиками об уровне отличий,
достаточном для выделения самостоятельного вида (номиналистическая концеп-
ция) . В последнем случае вид - это не более чем абстракция, и границы вида
устанавливаются исходя из чисто утилитарных представлений об определенном
уровне общего сходства между штаммами дрожжей.
Наряду с этим в биологии существует и принципиально иное представление о
виде, как о целостной, устойчивой и достаточно гетерогенной системе. При этом
основное внимание уделяется не столько уровню различий между особями, сколько
степени дискретности, отсутствию переходных форм между видами. Такая дискрет-
ность наиболее выражена у животных и растений, то есть организмов, размножаю-
щихся преимущественно половым путем. Обмен генами при половом размножении как
раз и представляет собой механизм, поддерживающий целостность вида, а прекра-
щение такого обмена приводит к возникновению дискретности разнообразия. По-
этому для животных и растений применима биологическая концепция вида: вид -
это система популяций, генетически изолированных от популяций других видов и
характеризующихся интерфертильностью, то есть способностью особей скрещи-
ваться с образованием плодовитого потомства. Организмы разных видов не могут
скрещиваться, или скрещиваются, но не дают плодовитого потомства. Такая кон-
цепция вида применима и ко многим грибам, у которых имеется половой процесс.
Изучение интерфертильности играет существенную роль в определении границ ви-
дов и у совершенных дрожжей с хорошо выраженной половой стадией в жизненном
цикле. Интерфертильность легко проверяется, если имеются штаммы, представ-
ляющие различные типы спаривания гетероталличных дрожжей. Однако гомоталлизм,
вегетативное размножение в диплоидной стадии, агглютинация спор в аске - за-
трудняют применение интерфертильности для разграничения видов дрожжей. Приме-
нение биологической концепции вида к дрожжевым грибам осложняется и тем, что
половое размножение у них не является обязательным и не играет такой же суще-
ственной роли в формировании разнообразия, как у высших животных и растений.
Очевидно, биологическая концепция неприменима к несовершенным дрожжам, раз-
множающимся только бесполым путем, и, возможно, полностью утерявшим половую
стадию в ходе эволюции. У таких дрожжей выделение видов неизбежно носит номи-
налистический характер.
В связи с развитием молекулярно-филогенетической систематики в последнее
время изменилось и представление о природе вида у дрожжей. Бурное развитие
геносистематики привело к созданию и широкому внедрению новых методов, вклю-
чая расшифровку и сравнение нуклеотидных последовательностей. Это породило
надежды на создание абсолютно объективных технологий видовой идентификации.
На первый план вышла концепция «элементарных» монофилетических видов, то есть
таких групп штаммов, внутри которых полностью отсутствует филогенетическая
структура, выявляемая на основании анализа нуклеотидных последовательностей в
наиболее консервативных генах. Самостоятельность многих видов дрожжей стала
активно пересматриваться с молекулярно-генетических позиций. Это вызвало оп-
ределенное «высокомерие» по отношению к классическим представлениям о смысле
выделения видов и видовой формы организации вообще. В связи со сложностью и
дороговизной молекулярно-генетических методов возникла проблема практической
недостижимости «правильной» видовой идентификации при проведении исследова-
ний, требующих массового определения большого числа штаммов, например, эколо-
гических, инвентаризационных, биоресурсных. Вместе с тем, на фоне сохраняюще-
гося пиетета перед молекулярно-генетическими методами в последнее время появ-
ляется все больше свидетельств их недостатков, спорности некоторых положений,
противоречий с эволюционно-филогенетическими концепциями. Иными словами, воз-
никла проблема соотношения новейших молекулярных подходов к выделению видов с
традиционными, основанными на морфологических и физиологических признаках.
Решение этой проблемы должно определить развитие систематики дрожжей в бли-
жайшем будущем.
Признаки и критерии,
используемые в
систематике дрожжей
Набор признаков, на основании которых выделяются виды у дрожжей, постоянно
меняется в связи с принятием той или иной концепции вида, в результате пере-
смотра таксономической значимости признаков, с появлением новых методов и
технологий. Систематика грибов до последнего времени основывалась главным об-
разом на морфологических признаках, таких как пигментация, строение конидие-
носцев, форма спор и т.п. Одноклеточные грибы не обладают такой сложной раз-
нообразной морфологией, как мицелиальные. Поэтому уже с первых работ Хансена
и Клюйвера в 20-х гг. XX в. разделение видов дрожжей основывалось не только
на морфологических, но и на физиологических признаках, таких как способность
к сбраживанию и аэробной ассимиляции различных углеводов. Количество исполь-
зуемых для описания вида источников углерода и азота было значительно расши-
рено в 50-е гг. Викерхэмом, который также разработал стандартные среды для
постановки физиологических тестов. Эти критерии прочно вошли в практику клас-
сификации и идентификации дрожжей и используются до настоящего времени.
По своей природе признаки, используемые в систематике дрожжей, можно раз-
бить на следующие группы:
■ Макроморфологические (культуральные) признаки, которые характеризуют рост
штамма на различных средах. К ним относятся особенности роста в жидких
средах (образование пленки, мути, осадка), формирование гигантской колонии
и ее характеристики, образование плодовых тел.
■ Микроморфологические признаки - особенности клеточной морфологии (форма и
размеры клетки, тип конидиогенеза, строение мицелия, формирование бесполых
спор, способы половой репродукции).
■ Цитологические признаки - особенности строения клеток и клеточных струк-
тур, например, строение клеточной стенки, структура септ мицелия.
■ Физиологические признаки, определяющие тип питания и способность к росту в
различных условиях. К ним относится определение способности к анаэробному
сбраживанию или аэробной ассимиляции различных источников углерода, спо-
собность к росту при различных значениях рН, осмотического давления среды,
устойчивость к различным ингибиторам роста.
■ Биохимические признаки, характеризующие химический состав клетки и отдель-
ных ее компонентов: образование ферментов, специфических метаболитов, вне-
клеточных продуктов, например, моносахаридный состав внеклеточных полиса-
харидов .
■ Генетические признаки, включающие характеристики генома. Арсенал генетиче-
ских признаков и методов их определения особенно расширился в последнее
время в связи с интенсивным развитием молекулярной биологии и стал играть
ключевую роль в систематике дрожжей. К ним относятся нуклеотидный состав
ДНК, степень гомологии ДНК у разных видов, наличие уникальных олигонуклео-
тидных последовательностей в геноме, последовательность нуклеотидов в оп-
ределенных генах.
■ Экологические признаки, определяющие характер распространения вида в при-
родных местообитаниях, а также чувствительность или резистентность к раз-
личным экологическим факторам, патогенные свойства.
Для выявления всех этих признаков разработаны стандартные методы, описывае-
мые в определителях или специальных руководствах.
Морфологические характеристики, имеющие наибольшее значение для дифферен-
циации родов дрожжей, были подробно рассмотрены выше. Для разделения видов у
дрожжей традиционно использовались в основном физиологические характеристики
- способность к росту на различных источниках углерода и азота. Некоторые ци-
тологические и биохимические критерии, разработанные в последние десятилетия,
сыграли особенно большую роль в классификации дрожжей на родовом и надродовом
уровне, значительно изменив представления об их группировании и филогении.
Эти признаки имеет смысл рассмотреть более подробно.
Моносахаридный состав
клеточных стенок
Изучение полисахаридов, которые составляют клеточную стенку и капсулу, ока-
зало существенное воздействие на систематику и преставления о филогении дрож-
жей . Характеристика моносахаридного состава полисахаридов клеточных стенок
используется главным образом для дифференциации дрожжей на родовом и надродо-
вом уровне. В то же время, детальные исследования химического состава клеточ-
ной стенки были проведены лишь у небольшого числа видов дрожжей. Наиболее
подробно исследовано строение клеточной стенки Saccharomyces cerevisiae и не-
скольких близких аскомицетовых видов.
Как уже отмечалось, аскомицетовые почкующиеся дрожжи содержат в качестве
главного структурного компонента клеточной стенки р(1->3)-глюкан. Другой су-
щественный компонент - комплекс белка и глюкоманнана. Оказалось, что боковые
цепи этих полисахаридов, особенно маннана, существенно варьируют по моносаха-
ридному составу у разных видов дрожжей. Моно- и олигосахариды, образовавшиеся
при кислотном гидролизе углеводов клеточной стенки, можно разделить с помощью
гельфильтрации. Другой способ, применявшийся для характеристики полисахаридов
- сравнение спектров протонного магнитного резонанса, который позволяет опре-
делять пропорции и размер боковых цепей в различных маннанах. Считается, что
сходные спектры протонного магнитного резонанса клеточных маннанов указывают
на близкое родство видов. Эти характеристики оказались очень полезными для
классификации дрожжей, например, для группирования родственных видов в много-
видовых сборных анаморфных родах типа Candida.
Наряду с глюканом и маннаном почкующиеся аскомицетовые дрожжи содержат око-
ло 1-2 % хитина, который почти полностью локализован в областях шрамов почко-
вания. Однако небольшое количество хитина (около 0.1 %) рассеяно по всей кле-
точной стенке. Напротив, дрожжи базидиомицетового аффинитета характеризуются
намного более высоким содержанием хитина (до 10 %). Таким образом, это разли-
чие можно использовать в качестве таксономического признака для разделения
аскомицетовых и базидиомицетовых анаморф. Кроме того, оказалось, что содержа-
ние хитина в стенках некоторых мицелиальных аскомицетовых дрожжей, например,
у видов Saccharomycopsis, значительно выше, чем у истинных одноклеточных
дрожжей, таких как Saccharomyces cerevisiae.
Наиболее отличным по моносахаридному составу оказался состав клеточной
стенки делящихся дрожжей Schizosaccharomyces. Виды этого рода содержат в до-
полнение к р-глюканам другой главный структурный полисахарид, а именно ос(1-
>3)-глюкан. Маннан Schizosaccharomyces также отличается по строению от манна-
на почкующихся дрожжей, главным образом присутствием галактозных остатков.
Это позволило предположить, что делящиеся дрожжи имеют уникальный состав кле-
точной стенки и не родственны другим группам аскомицетовых дрожжей. Позднее
это предположение было подтверждено данными по сравнению нуклеотидных после-
довательностей рРНК.
Еще большее значение играют характеристики моносахаридного состава клеточ-
ных стенок в систематике базидиомицетовых дрожжей. Особенно ценным считается
такой признак, как присутствие или отсутствие D-ксилозы в клеточной стенке
или в экстрактах целых клеток. По этому признаку все гетеробазидиомицетовые
дрожжи были разбиты на две группы: спороболомицетовые (отсутствует ксилоза и
часто содержится фукоза), которые включают виды родов Rhodotorula, Rhodospo-
ridium, Sporobolomyces, и филобазидиевые (содержат ксилозу и обычно глюку-
роновую кислоту), включающие роды Bullera, Cryptococcus, Filobasidium, Phaf-
fia и некоторые виды Trichosporon. Такое разделение также подтверждается дру-
гими молекулярно-биологическими критериями.
Несмотря на несомненную важность такого признака, как состав углеводов кле-
точной стенки, следует подчеркнуть, что он не является решающим критерием в
систематике дрожжей, а ценен только в комбинации с другими хемотаксономиче-
скими и молекулярными признаками, включая анализ последовательности рРНК. Та-
кой полифазный подход для создания надежной таксономической системы поддержи-
вается большинством систематиков.
Тип
кофермента Q
Дрожжи и дрожжеподобные грибы содержат в качестве одного из компонентов це-
пи переноса электронов кофермент Q, или убихинон. Убихиноны - группа соедине-
ний, в которых к 2,З-диметоксил-5-метилбензоксихинону присоединена в 6 поло-
жении боковая цепь из нескольких изопреноидных остатков. У известных го-
мологов кофермента Q количество изопреноидных остатков варьирует от 5 до 10.
По количеству изопреноидных остатков различают до шести типов кофермента Q от
Q-5 до Q-10. У базидиомицетовых дрожжей обнаружен также дигидрогенированный
гомолог кофермента Q с насыщенной двойной связью в изопреноидных остатках,
обозначаемый как Q-10(Н2) . Кофермент Q выделяют с помощью тонкослойной хрома-
тографии из гексанового эктракта гидролизованных клеток дрожжей. Для опреде-
ления типа кофермента Q используют различные хроматографические методы, вклю-
чая жидкостную, тонкослойную и бумажную хроматографию, а также маеспектромет-
рию.
О
нзс т г
н
-ю
Кофермент Q (убихинон); количество изопреноидных остатков варьи-
рует от 5 до 10.
Тип кофермента Q оказался очень полезным признаком для классификации дрож-
жей и дрожжеподобных грибов. Прежде всего, он различен у аскомицетовых и ба-
зидиомицетовых дрожжей. У первых преобладают убихиноны с 5-7 изопреноидными
остатками (Q-5...Q-7) , у вторых - с 8-10 (Q-8...Q-10) . Однако, имеются и исключе-
ния, например, убихинон Q-10 обнаружен у представителей родов Lipomyces и
Schizosaccharomyces. Особенно важную роль сыграл тип кофермента Q в классифи-
кации анаморфных дрожжей на родовом уровне. Считается, что этот признак не
должен существенно варьировать внутри рода и отличия по типу кофермента Q
достаточно для отнесения видов к разным родам в том случае, когда это сопро-
вождается и другими существенными различиями, например, по морфологическим
признакам. Определение типа кофермента Q, вместе с изучением моносахариднохю
состава клеточных стенок сыграло решающую роль в переклассификации родов ана-
морфных баллистоспоровых дрожжей (Bensingtonia, Bullera, Sporobolomyces,
Udeniomyces), дрожжей, характеризующихся образованием почек на стеригмах
(Sterigmatomyces, Fellomyces, Kurtzmanomyces) . Все эти роды характеризуются
одним типом кофермента Q. В то же время, в таких родах, как Cryptococcus,
Candida, тип кофермента Q варьирует по видам, что подтверждает их условность
и филогенетическую гетерогенность.
Ультраструктура
септовых пор
Развитие методов электронной микроскопии позволило использовать для класси-
фикации дрожжей ряд цитологических признаков. Выше уже были рассмотрены такие
характеристики, как ультраструктура клеточной стенки, цитологические особен-
ности образования почки (голобластическое и энтеробластическое почкование),
которые оказались различными у аскомицетовых и базидиомицетовых дрожжей. Еще
одним важным цитологическим признаком является ультраструктура септ мицелия у
диморфных дрожжеподобных грибов. Деление клеток мицелия начинается с образо-
вания тонкого кольца на клеточной мембране. Кольцо начинает центростремитель-
но расти и разделяет клетку. Затем на внешней поверхности мембраны откладыва-
ется вновь синтезируемый материал клеточной стенки, формируя септу. Детальные
исследования, проведенные с помощью электронной микроскопии, показали, что
ультраструктура этих септ существенно различается у разных групп грибов и мо-
жет служить хорошим критерием для их филогенетической классификации.
Строение септовых пор в мицелии дрожжеподобных грибов: вверху -
Yarrowia lipolytica, септа с простой порой, внизу
Filobasidiella neoformans, септа с долипорой.
В гифах аскомицетовых дрожжеподобных грибов септы в основном гомогенные и
электронно-прозрачные. В септах имеются поры, которые достаточно велики для
прохода ядер. С обеих сторон поры часто располагаются мелкие мембранные пу-
зырьки, так называемые тельца Воронина. Гифы дрожжеподобных грибов рода
Ambrosiozyma имеют септы с сильно утолщенным центральным участком. У некото-
рых дрожжеподобных грибов в центре сформированной септы имеется лишь очень
узкий мембранный канал, так называемая микропора. У других видов в септе мо-
гут формироваться множественные каналы - плазмодесмы. Наличие таких плазмо-
десм явилось важным свидетельством о наличии филогенетической связи анаморф-
ного рода Zygozyma с семействами Lipomycetaceae и Dipodascaceae.
У большинства базидиомицетовых дрожжей в центре септы формируется пора,
имеющая сложное строение: края септы раздуты в виде тора, а с двух сторон по-
ры имеются характерные мембранные образования - парентосомы. В некоторых ис-
следованиях было показано, что тороидально раздувшиеся септы (долипоры) на
самом деле представляют собой артефакт химической фиксации, используемой при
подготовке образцов к электронной микроскопии. Такие бочкообразные вздутия
отсутствовали в образцах, подготовленных с помощью быстрого замораживания.
Тем не менее, эти артефакты четко воспроизводятся у одних и тех же видов,
коррелируют с другими таксономическими признаками и поэтому могут использо-
ваться в систематике. Тонкое строение комплекса долипор и парентосом служит
важным диагностическим признаком для классификации базидиомицетовых дрожжепо-
добных грибов.
Схема стандартного
описания вида
у дрожжей
Для описания видов у дрожжей разработан стандартный набор признаков. Приве-
денная ниже схема используется для характеристики видов в определителях дрож-
жей и при публикации статей с описанием новых видов. Для описания морфологии
дрожжей и постановки физиологических тестов используются специальные среды
стандартного состава:
■ Рост в жидком сусле: образование пленки, кольца и осадка в 30-суточной
культуре; форма клеток и способ вегетативного размножения в 3-суточной
культуре, размеры клеток.
■ Рост на сусло-агаре или морфологическом агаре: описание штриха на 30-е су-
тки культивирования, морфологии клеток в 3-суточной культуре; описание ги-
гантской колонии.
■ Рост на пластинках с картофельным или кукурузным агаром: образование ис-
тинного мицелия, псевдомицелия, артроспор, хламидоспор.
■ Образование и форма баллистоспор.
■ Описание жизненного цикла: гомо- или гетероталлизм, образование асков или
базидий, способ диплоидизации, число и форма аскоспор, скорость их освобо-
ждения из асков.
■ Брожение Сахаров: спектр сбраживания из 5-10 источников (глюкоза, галакто-
за, сахароза, мальтоза, лактоза, раффиноза, трегалоза).
■ Ассимиляция источников углерода: спектр из 30-40 источников (глюкоза, га-
лактоза, L-сорбоза, сахароза, мальтоза, целлобиоза, трегалоза, лактоза,
мелибиоза, раффиноза, мелецитоза, инулин, крахмал, D-ксилоза, L-арабиноза,
D-арабиноза, D-рибоза, L-рамноза, D-глюкозамин, N-ацетил-Б-глюкозамин,
метанол, этанол, глицерин, эритрит, рибит, дульцит, D-маннит, D-сорбит, ос-
метил-Б-глюкозид, салицин, D-глюконат, DL-лактат, сукцинат, цитрат, ино-
зит, гексадекан, нитраты, нитриты, рост без витаминов, 2-кето-Б-глюконат,
5-кето-Б-глюконат, сахарат, ксилит, L-арабит, арбутин, пропан-1,2-диол,
бутан-2,3-диол и др.).
■ Ассимиляция источников азота (KNO3, KNO2, кадаверин, креатинин, L-лизин,
этиламин).
■ Рост в среде без витаминов. В случае отсутствия роста - определение по-
требности в конкретных витаминах (биотин, тиамин, пиридоксин, параамино-
бензойная кислота, инозит).
■ Рост на средах с высоким осмотическим давлением, осмотолерантность и гало-
толерантность (рост в средах с 50 и 60% глюкозы, с различной концентрацией
NaCl, на среде с 10% NaCl и 5% глюкозы).
■ Температурные границы роста, рост при 25, 28, 34, 37, 40 С.
■ Выделение крахмалоподобных соединений.
■ Устойчивость к циклогексимиду.
■ Гидролиз мочевины.
■ Расщепление арбутина.
■ Разжижение желатины.
■ Гидролиз жира.
■ Образование органических кислот.
■ Образование эфиров.
■ Моносахаридный состав внеклеточных полисахаридов.
■ Тип кофермента Q.
Описание может быть дополнено другими характеристиками, такими как ассими-
ляция более широкого круга соединений, устойчивость и чувствительность к кил-
лерным токсинам различных видов, уровень гомологии ДНК с близкими видами, ре-
зультаты ПЦР анализа ДНК, нуклеотидные последовательности D1/D2 и ITS участ-
ков рДНК и др. В описание обязательно должны быть включены сведения о том,
когда и откуда выделены исследуемые дрожжи и на каком количестве штаммов про-
ведено изучение.
Диагноз вида, составленный по этой схеме, должен быть приведен в публикации
с описанием нового вида на языке публикации, а также на латинском языке.
Особенности систематики
анаморфных дрожжей
Аскомицетовые и базидиомицетовые грибы легко отличить по характеру полового
размножения: формированию эндогенных спор в асках у аскомицетов и экзогенных
спор на базидиях у базидиомицетов. Аналогичные структуры формируют при поло-
вом размножении и дрожжевые грибы. Поэтому особую сложность для классификации
представляют анаморфные дрожжи, у которых отсутствует половая стадия в жиз-
ненном цикле. Формально такие грибы относят к особому классу Deuteromycetes,
однако, по сути они представляют собой лишь стадии в полном жизненном цикле
аскомицетов или базидиомицетов. Половое размножение у таких дрожжей может от-
сутствовать по разным причинам. Во-первых, многие дрожжи гетероталличны, и
для осуществления полового процесса необходимы штаммы разных типов спарива-
ния. В чистой культуре таких дрожжей, представленной только одним типом спа-
ривания, половое размножение невозможно. Во-вторых, половой процесс может за-
пускаться лишь в определенных условиях, например, при наличии определенных
химических факторов, которые могут отсутствовать в лабораторной среде. Нако-
нец, у многих видов способность к половому размножению, по-видимому, вообще
утеряна в ходе эволюции.
По совокупности морфологических и физиологических признаков, которые ис-
пользовались на первых этапах развития систематики дрожжей, отличить аскоми-
цетовые и базидиомицетовые дрожжи в анаморфном состоянии было практически не-
возможно . Это привело к тому, что некоторые крупные роды несовершенных дрож-
жей включали анаморфы как аскомицетов, так и базидиомицетов. В первую очередь
это относится к роду Candida, описанному в 1923 г. Диагноз рода был очень
расплывчатым: «Немногочисленные гифы, стелющиеся, распадающиеся на короткие и
длинные фрагменты. Конидии, возникающие путем почкования из гиф или на верши-
не одна другой, мелкие и бесцветные». Под такое описание подходили самые раз-
личные дрожжеподобные грибы, и поэтому в дальнейшем оказалось возможным вклю-
чение в этот род многих видов, явно неродственных друг другу. К 1970 г., в
котором был выпущен полный определитель дрожжей дельфтской школы, количество
видов, включенных в род Candida, возросло до 81, и он стал самым многовидовым
родом среди дрожжей.
Второй по числу видов дрожжевой род Torulopsis существовал с 1895 г. и объ-
единял аспорогенные дрожжи, не соответствующие описанию рода Candida только
по одному признаку - отсутствию способности к образованию субстратного септи-
рованного или псевдомицелия. При росте на плотных средах мицелиальность на-
столько меняет облик дрожжевой колонии, что на начальном этапе систематики
дрожжей, когда основной упор делался именно на морфологические характеристи-
ки, этому признаку, безусловно, был придан статус родового. Однако с увеличе-
нием разнообразия описанных видов стало ясно, что способность к образованию
псевдомицелия - крайне ненадежный, сильно варьирующий в зависимости от штамма
и от условий культивирования признак, имеющий низкую таксономическую цен-
ность. В связи с этим в 1978 г. было предложено объединить роды Candida и
Torulopsis в один род. Это было осуществлено в следующем издании определителя
дрожжей, где был представлен единый род Candida, включающий 196 видов и заве-
домо полифилетический. Наиболее вескими аргументами полифилетичности рода бы-
ли обнаружения совершенных стадий для некоторых видов Candida, которые, как
оказалось, соответствовали различным родам известных аскоспоровых дрожжей.
Такие пары анаморфа - телеоморфа включали, например Candidafamata
Debaryomyces hansenii, С. pulcherrima - Metschnikowia pulcherrima, С. robusta
- Saccharomyces cerevisiae и др. В 1966 г. новозеландская исследовательница
Ди Менна описала три новых вида Candida gelida, С. nivalis, С. frigida, выде-
ленные ею из антарктических почв. Всего несколько лет спустя у этих дрожжей
также были обнаружены совершенные стадии, которые свидетельствовали об их
принадлежности к базидиальным грибам. Таким образом, род Candida оказался
группой несовершенных дрожжей, объединяющей анаморфы как аскомицетов, так и
базидиомицетов.
После доказательства полифилетической природы таких крупных дрожжевых ро-
дов, как Candida, в зимологии начался активный поиск признаков, которые могли
бы дифференцировать анаморфы аско- и базидиомицетов. К настоящему времени в
систематике дрожжей используется целый набор таких признаков аффинитета
(табл. 3), благодаря которым все дрожжи удается четко разбить на две группы -
аскомицетовые и базидиомицетовые, независимо от телеоморфнохю или анаморфнохю
состояния культуры.
Табл. 3. Признаки, дифференцирующие аско- и базидиомицетовые дрожжи.
Признак
Синтез каротиноидов
Содержание ГЦ в ДНК,
мол. %
Ультраструктура клеточ-
ной стенки
Тип конидиогенеза
Структура септовых пор
Лизис клеточной стенки
экзо-(3-1,3-глюканазой
Тип кофермента Q
ДНК-азная активность
Пальмитиновая кислота в
липидах
Углеводы в гидролизатах
целых клеток
Окраска колоний диазо-
ниевым синим (DBB)
Тест на уреазу
Аскомицетовые
Не синтезируют
< 50 (26-48)
Слоистая
Голобластический
Простые септы без парен-
тосом
Образуют протопласты
6-9
Есть
Много
Глюкоза - манноза, глюко-
замин (следы)
Не окрашиваются
Отрицательный
Базидиомицетовые
Некоторые синтезируют
> 50 (44-70)
Ламеллярная
Энетробластический
Сложные септы с парентосо-
мами
Не образуют протопластов
8-10
Нет
Отсутствует
Глюкоза, глюкозамин, кси-
лоза или фукоза
Темно-красные
Положительный
Развитие методов секвенирования рРНК окончательно решило проблему определе-
ния аффинитета несовершенных дрожжей. Одно из главных преимуществ системати-
ки , основанной на сравнении нуклеотидных последовательностей консервативных
генов - возможность классификации на одной и той же основе как совершенных
видов дрожжей, обладающих полным жизненным циклом, так и их анаморф.
КЛАССИФИКАЦИЯ
ДРОЖЖЕЙ
В этом разделе приводятся краткие характеристики наиболее известных родов
дрожжевых грибов. Некоторые из них, такие как Saccharomyces, Candida,
Cryptococcus, имеют уже давнюю историю, и хотя на протяжении десятилетий объ-
ем и содержание этих родов существенно менялись в зависимости от используемых
признаков и принимаемых таксономических концепций, они прочно утвердились в
системе дрожжей и стали общепризнанными. Другие описаны лишь в последние го-
ды, многие на основании изучения единичных штаммов, и не исключено, что в
дальнейшем они будут переописаны или объединены с другими родами. Тем не ме-
нее, некоторые из таких родов также рассматриваются ниже для составления об-
щей картины современных представлений о разнообразии дрожжей. Классификация
дрожжей на уровне семейств и порядков разработана очень слабо. За основу при-
водимой ниже классификации взято последнее издание определителя дрожжей
(Kurtzman СР., Fell J.W. (eds.) The Yeasts, a taxonomic study. Fourth
revised and enlarged edition. Amsterdam: Elsevier Science B.V., 1998).
Аскомицетовые
дрожжи
Традиционно все аскомицетовые грибы разделяли на два таксономических клас-
са: Herniascornyсеtes, или голосумчатые грибы, и Euascomycetes (настоящие аско-
мицеты). Первые не образуют плодовых тел, и аски у них располагаются непо-
средственно на мицелии, или в виде одиночных клеток, тогда как эуаскомицеты,
за немногими исключениями (например, род Eremascus), обычно формируют аски
внутри или на поверхности специальных плодовых тел (аскокарпов), образованных
грибной тканью - густым скоплением мицелия. Ранее все аскомицетовые дрожжи
помещали в группу гемиаскомицетовых в качестве самостоятельного порядка
Endomycetales. Кроме настоящих дрожжей к эндомицетовым относили и некоторые
голосумчатые грибы, не образующие одноклеточных вегетативных форм, а также
диморфные дрожжеподобные грибы, иногда с очень слабо выраженной дрожжевой фа-
зой, например Ascoidea, Cephaloascus, Dipodascus. Дальнейшее разделение эндо-
мицетовых дрожжей на семейства и роды проводилось прежде всего на основании
таких признаков, как способ вегетативного размножения, тип полового процесса
и форма аскоспор. Например, дрожжи рода Schizosaccharomyces выделяются на ос-
новании вегетативного размножения делением, а не почкованием, роды
Hanseniaspora, Nadsonia, Saccharomycodes - размножения биполярным почкованием
на широком основании, роды Saccharomyces, Pichia, Metschnikowia, Williopsis
характеризуются шаровидной, шляповидной, игловидной и сатурновидной формой
аскоспор соответственно.
Кроме эндомицетовых к гемиаскомицетам формально относили еще одну группу
грибов, составляющую отдельный порядок Taphrinales. Все представители этого
порядка - облигатные паразиты растений, образующие аски не в плодовых телах,
а плотным слоем под кутикулой растения-хозяина. Аскоспоры некоторых видов
тафриновых способны почковаться, формируя сапротрофную дрожжевую фазу. Однако
тафриновые существенно отличаются от остальных гемиаскомицетов тем, что в
цикле их развития преобладает дикариотическая фаза, так же, как у базиди-
омицетовых грибов. К тафриновым очень близки представители рода Protomyces,
все члены которого также являются фитопатогенными грибами, но способны обра-
зовывать сапротрофные дрожжевые стадии.
Среди эуаскомицетов способность к вегетативному размножению в одноклеточной
форме встречается очень редко. Наиболее известны так называемые «черные дрож-
жи», характеризующиеся накоплением меланоидных пигментов, которые придают их
колониям черный цвет.
Внедрение в таксономическую практику биохимических и молекулярно-
биологических методов, особенно проведенный в последнее время анализ нуклео-
тидных последовательностей рРНК, существенно изменило представления о филоге-
нетической классификации аскомицетовых дрожжей. Эти исследования подтвердили
разделение аскомицетов на две главные филетические линии: гемиаскомицетовых и
эуаскомицетовых. Наряду с этим обнаружилось, что дрожжи рода Schizosaccharo-
myces по нуклеотидным последовательностям рРНК наиболее близки к тафриновым и
вместе с ними образуют группу дрожжевых грибов, предковую по отношению к ос-
тальным аскоми-цетам. Эта группа грибов была названа архиаскомицетами (древ-
ними аскомицетами). Таким образом, все аскомицетовые дрожжи в настоящее время
распределяются по трем классам: Archiascomycetes, Herniascornycetes и
Euascomycetes (табл. 4).
Табл. 4. Классификация аскомицетовых дрожжей.
Класс Archiascomycetes
Порядок Schizosaccharomycetales
Schizosaccharomyces
Порядки Taphrinales и Protomycetales
Taphrina (анаморфа - Lalaria)
Protomyces
Saitoella
Pneumocystis
Класс Herniascornyсеtes
Порядок Saccharomycetales
Семейство Ascoideaceae
Ascoidea
Семейство Cephaloascaceae
Cephaloascus
Семейство Dipodascaceae
Dipodascus
Galactomyces
Sporopachydermia
Stephanoascus
Wickerhamiella
Yarrowia
Zygoascus
Семейство Endomycetaceae
Endomyces
Семейство Eremotheciaceae
Eremothecium
Coccidiascus
Семейство Lipomycetaceae
Babjevia
Dipodascopsis
Lipomyces
Zygozyma
Семейство Metschnikowiaceae
Clavispora
Metschnikowia
Семейство Saccharomycetaceae
Arxiozyma
Citeromyces
Cyniclomyces
Debaryomyces
Dekkera
Is satchenkia
Kluyveromyces
Lodderomyces
Pachysolen
Pichia (=Hasenula)
Saccharomyces
Saturnispora
Torulaspora
Williopsis
Zygo s accharomyce s
Семейство Saccharomycodaceae
Hanseniaspora
Nadsonia
Saccharomycodes
Wickerhamia
Семейство Saccharomycopsidaceae
Ambrosiozyma
Saccharomycopsis
Класс Euascomycetes
Oosporidium
«Черные дрожжи»
Анаморфные роды
Aciculoconidium
Arxula
Biastobotrys
Botryozyma
Brettanomyces
Candida
Geotrichum
Kloeckera
Myxozyma
Schizoblastosporion
Sympodiomyces
Trigonopsis
Класс Archiascomycetes
Класс архиаскомицетовых был предложен японскими исследователями Нишидой и
Сугиямой в 1993 г. для группы грибов, которые существенно отличались как от
эуаскомицетов, так и от гемиаскомицетов по нуклеотидным последовательностям
рРНК. Он включает всего несколько родов: Schizosaccharomyces, Taphrina,
Protomyces, Saitoella и Pneumocystis. Кроме сходства рибосомальных генов их
объединяют и некоторые фенотипические свойства, в частности, наличие в цикле
развития дикариотической фазы, особенно хорошо выраженной у тафриновых и про-
томицетовых. Возможно, архиаскомицеты являются предковыми формами современных
аскомицетов.
Порядок Schizosaccharomycetales
Schizosaccharomyces
Клетки от круглых до цилиндрических. Вегетативное размножение делением. Мо-
гут формироваться истинные гифы, которые распадаются на артроспоры. Аски фор-
мируются из копулирующих клеток. Аскоспоры круглые или овальные, у разных ви-
дов от 4 до 8 в аске, иногда освобождаются из асков на ранних стадиях (рис.
54) . Активно сбраживают сахара. Используются в бродильной промышленности,
преимущественно в странах жаркого климата.
Порядки Taphrinales
и Protomycetales
Диморфные грибы с телеоморфной мицелиальнои и анаморфной дрожжевой фазами.
В мицелиальнои фазе являются облигатными высокоспециализированными паразитами
растений, в то время как дрожжевая стадия развивается сапротрофно на мертвых
органических остатках.
w
^J
Ij
Чч
0
6^
8
Ъ
с-;-- О
—О)
d?
а
ф
^г
%
ф
&
О
Schizosaccharomyces pombe (слева) и S. octosporus,
Taphrina: 1 — Т. populina на листе осины, 2 - курчавость листьев
персика, вызываемая Т. deformans, 3 - Т. deformans на сливе, 4 -
палисадный слой асков Т. deformans на поверхности листа.
Taphrina
Дикариотический, вначале несептированныи мицелий развивается в тканях рас-
тения-хозяина. В зрелых гифах отделяются двухъядерные аскогенные клетки, в
которых происходит кариогамия, после чего клетки начинают удлиняться. В это
время диплоидное ядро делится митотически, одно дочернее ядро остается около
основания клетки, а другое перемещается к растущей верхушке. Между двумя яд-
рами формируется септа и из верхней клетки образуется аск с восемью аскоспо-
рами. Аски формируют палисадный слой выше эпидермы растения-хозяина, их при-
сутствие придает поверхности листьев характерный восковой блеск. Аскоспоры
могут почковаться непосредственно в аске. Аскоспоры, или их почки освобожда-
ются из аска через образующийся продольный разрез. Рассеивающиеся аскоспоры
способны к вегетативному размножению почкованием. В течение лета и осени та-
кие почкующиеся споры могут формировать дрожжеподобные колонии на ветках рас-
тения-хозяина. Эти колонии перезимовывают в щелях коры или между почечной че-
шуей. Споры прорастают на молодых листьях и заражают их, снова формируя мице-
лий в тканях листа. Большинство видов гомоталличны, но некоторые гетеротал-
личны. У последних дикариотический мицелий развивается только после конъюга-
ции клеток в тканях растения.
Анаморфные почкующиеся стадии некоторых видов Taphrina получены в виде чис-
тых культур. Для таких анаморф предложено отдельное родовое название
Lalaria. При росте на лабораторных средах виды Lalaria формируют розоватые
или иногда желтоватые колонии за счет присутствия каротиноидов. Почкование
голобластическое. Не сбраживают сахара, образуют внеклеточные крахмалоподоб-
ные соединения.
Protomyces
Диплоидная мицелиальная паразитическая стадия развивается в тканях растения
хозяина. На мицелии формируются толстостенные сферические структуры, так на-
зываемые аскогенные клетки, в которых происходит мейоз. Образовавшиеся гапло-
идные ядра многократно делятся и формируются аски, содержащие 50-200 эллип-
соидальных аскоспор. Аскоспоры освобождаются через щелевидное отверстие в ас-
когенной клетке. Аскоспоры способны почковаться, формируя гаплоидную дрожже-
вую стадию. Дрожжевые клетки противоположных типов спаривания копулируют с
восстановлением диплоидного состояния, из зиготы развивается диплоидный мице-
лий, способный заражать новые растения.
При росте дрожжевой фазы на плотных средах образуются колонии оранжевые,
желтовато-розоватые за счет каротиноидных пигментов. Сахара не сбраживают.
Образование крахмалоподобных соединений варьирует.
Класс Herniascornycetes
Грибы, вегетативно размножающиеся почкованием, или гифальным ростом, с по-
следующей фрагментацией гиф. Гифы всегда септированные, септы гиф с микропо-
рами, простыми порами или с долипорами, как у базидиомицетов, но без паренто-
сом. Клеточные стенки содержат слои глюкана и маннана. Половой процесс -
слияние гаметангиев, соматогамия или педогамия. В отличие от базидиомицетов и
других аскомицетов, у гемиаскомицетовых отсутствует дикариотическая фаза и
после половой конъюгации клеток непосредственно следует кариогамия с об-
разованием диплоидной клетки. Диплоидная зигота либо непосредственно превра-
щается в аск, либо вегетативно размножается почкованием или делением гифаль-
ных клеток. В последнем случае мейоз происходит позже, обычно при исчерпании
питательных веществ в среде или в результате специфической индукции. Плодовые
тела не образуются.
Порядок Saccharomycetales
После выделения из гемиаскомицетовых класса Archiascomycetes в классе
Herniascornycetes остался один порядок Saccharomycetales (ранее Endomycetales).
Таким образом, к этому порядку в настоящее время относят все аскомицетовые
дрожжи, за исключением рассмотренных выше делящихся дрожжей Schizosaccharomy-
ces и гаплоидных стадий фитопатогенов из родов Taphrina и Protomyces, а также
некоторых дрожжеподобных грибов, встречающихся среди представителей класса
Euascomycetes. Деление сахаромицетовых на семейства еще вызывает много сомне-
ний и не исключено, что оно существенно изменится в дальнейшем после более
детальных исследований. Представленное ниже деление на семейства и роды осно-
вывается на комбинации морфологических и молекулярно-биологических признаков.
При этом наряду с достаточно четко очерченными монофилетическими родами, та-
кими как Ambrosiozyma, Nadsonia, Dekkera, Lipomyces и др., имеются и заведомо
сборные многовидовые роды, которые выделяются лишь на основании определенных
морфологических признаков. Таков род Pichia, а также многие анаморфные роды
аскомицетового аффинитета (прежде всего Candida), рассмотренные ниже. Молеку-
лярно -биологические исследования показали, что эти роды распадаются на много-
численные клады, родственные различным группам аскомицетовых дрожжей.
Семейство Ascoideaceae
Ascoidea
Диморфные грибы, образующие слизистые или пастообразные колонии с обильным,
широко разрастающимся мицелием по краю. В основном истинные септированные ги-
фы с бластоконидиями на небольших выростах, могут присутствовать также поч-
кующиеся клетки и псевдомицелий. Аски формируются на гифах латерально или
терминально, эллипсоидальные или вытянутые, содержат множество аскоспор, ко-
торые освобождаются через отверстие на вершине аска. После освобождения спор
из аска на этом же месте образуется новый аск, прорастая через остатки старо-
го . Аскоспоры овальные, со смещенным ободком. Сахара не сбраживают. Встреча-
ются в буровой муке насекомых-ксилофагов, в слизетечениях и на коре деревьев.
Ascoidea: аскоспоры, освободившиеся из аска (слева) и аски на мицелии.
Семейство Cephaloascaceae
Cephaloascus
Дрожжеподобные грибы, с преобладанием истинного септированного мицелия, но
почкующиеся клетки и псевдомицелий также могут присутствовать. Конидии обра-
зуются симподиально, на выростах, в коротких цепочках. Аски образуются на
вершине прямых неветвящихся гиф, собраны в мутовки. Аски овальные, тонкостен-
ные , открываются отверстием на вершине. Аскоспоры шляповидные, по 4 в аске. В
природе встречаются в разлагающейся древесине, по-видимому, ассоциированы с
насекомыми-ксилофагами.
( :
i.p *
V/ t'
у /
/.
ig/ ■>/ t /
Cephaloascus fragrans,
Семейство Dipodascaceae
Dipodascus
Дрожжеподобные грибы, формирующие обильный мицелий, распадающийся на цилин-
дрические артроконидии. Аски игловидные, цилиндрические или эллипсоидальные,
образуются после слияния гаметангиев, расположенных латерально на гифах. Аски
открываются отверстием на вершине. Аскоспоры эллипсоидальные, с гладкой по-
верхностью, окружены слизистой оболочкой. Брожение обычно отсутствует. Ана-
морфные стадии классифицируются в роде Geotrichum.
О '
V0/7 ^
Dipodascus albidus
Galactomyces
Обильный истинный мицелий, распадающийся на артроспоры, почкующиеся клетки
отсутствуют. Половой процесс - копуляция гаметангиев, которые образуются ла-
терально на часто септированном мицелии. В месте копуляции двух гаметангиев,
расположенных с противоположных сторон септы, образуется аск. Аски сфери-
ческие, содержащие одну, редко две аскоспоры, которыя освобождаются после
разрушения стенки аска. Аскоспоры круглые, коричневатые, толстостенные, по-
крытые экзоспориумом и с экваториальной бороздкой. Брожение слабое или отсут-
ствует . Анаморфные стадии классифицируется в роде Geotrichum.
Galactomyces (аски показаны стрелками).
Sporopachydermia
Клетки овальные или удлиненные, иногда искривленные. Вегетативное размноже-
ние многосторонним истинным почкованием. Мицелий или псевдомицелий не образу-
ют . Культуры при росте на плотных средах имеют сильный неприятный запах. Фор-
мированию асков предшествует конъюгация клеток, у многих штаммов спорообразо-
вание может происходить и без конъюгации. Аски круглые или овальные, содержат
1-4 аскоспоры. Аскоспоры сферические, эллипсоидальные или палочковидные,
обычно покрыты плотным, рефрактирующим покровом. После освобождения из аска
остаются склеенными вместе. Брожение слабое или отсутствует.
Sporopachidermia: 1 - почкующиеся клетки, 2 - аски со спорами.
Stephanoascus
Дрожжеподобные грибы, вегетативно размножаются многосторонним почкованием
одиночных клеток (анаморфы в этом случае классифицируются в роде Candida) или
формированием коротких цепочек конидий, собранных в гроздья на истинных гифах
(анаморфный род Blastobotrys). Половой процесс - копуляция гаметангиев, кото-
рые образуются на гифах из двух интеркалярных клеток или латеральных выростов
соседних гиф. Аски круглые с утолщенной клеточной стенкой, содержат 2-4 ас-
коспоры. На верхушке аска имеется стерильная клетка. Аскоспоры сплющенные с
боков, шляповидные или шлемовидные. Могут сбраживать сахара.
Stephanoascus ciferrii (аски показаны стрелкой).
Wickerhamiella
Клетки мелкие, круглые или эллипсоидальные, вегетативное размножение почко-
ванием на узком или широком основании. Мицелий или псевдомицелий не образуют.
Гомоталличны. Аски образуются после конъюгации двух независимых клеток. В ас-
ке одна аскоспора, овальная, с шероховатой поверхностью. Аскоспоры освобожда-
ются через отверстие, образующееся на вершине аска, после чего аски сморщива-
ются . Сахара не сбраживают.
Wickerhamiella pagnoccae.
Yarrowia
Клетки круглые, эллипсоидальные или удлиненные. Бесполое размножение - мно-
госторонним почкованием на узком основании. Образуется псевдомицелий и истин-
ный мицелий, который иногда может распадаться на артроспоры. Аски неконъюга-
тивные, образуются из диплоидных клеток гиф. Оболочка аска быстро растворяет-
ся. В аске 1-4 аскоспоры, шаровидные, полусферические или шляповидные. Сахара
не сбраживаются. В роде один вид Y. lipolytica, известный своей способностью
к интенсивному образованию липолитических и протеолитических ферментов.
Yarrowia lipolytica.
Zygoascus
Клетки круглые, яйцевидные, цилиндрические, почкование многостороннее на
узком основании. Образуют псевдомицелий и истинный мицелий с бластоспорами.
Аски формируются после слияния клеток гиф.
Аски обратнояйцевидные, сферические, долгоживущие, содержат 1-4 полусфери-
ческих аскоспоры. Сахара не сбраживает.
Zygoascus: аскоспоры (стрелка).
Семейство Endomycetaceae
Endomyces
Хорошо развитый истинный мицелий, легко распадающийся на артроспоры. На ми-
целии также могут формироваться конидии в виде коротких цепочек. Иногда обра-
зуются хламидоспоры. Почкующиеся клетки отсутствуют. Половой процесс - копу-
ляция гаметангиальных концов гиф. Аски круглые, овальные или булавовидные,
тонкостенные, открываются отверстием на вершине, содержат 2-12 аскоспор. Ас-
коспоры эллипсоидальные, уплощенные с одной стороны или шлемовидные за счет
смещенного слизистого ободка. Паразитируют на других грибах. Аспорогенные
формы классифицируются в роде Geotrichum. К роду Endomyces очень близки неко-
торые другие редкие роды дрожжеподобных микопаразитических грибов:
Helicogonium, Myriogonium, Phialoascus, Trichomonascus.
Endomyces.
Семейство Eremotheciaceae
Eremothecium
Дрожжевые клетки крупные, овальные или цилиндрические, размножаются много-
сторонним почкованием. У некоторых видов почкующиеся клетки отсутствуют.
Обычно формируют истинный редко септированный или ложный мицелий с бластоко-
нидиями. Аски образуются из продолговатых вегетативных клеток или клеток ми-
целия без предварительной конъюгации и вскоре после созревания разрушаются с
освобождением спор. Аскоспоры по 8-32 в аске, веретеновидные, игловидные, с
хлыстовидными придатками, у некоторых видов могут иметь поперечную септу и
вздутие в центральной части. В основном паразиты на растениях. Ранее виды ро-
да Eremothecium классифицировались также в нескольких самостоятельных родах:
Ashbya, Holleya, Nematospora, которые были объединены на основании сходства
нуклеотидных последовательностей рРНК.
Eremothecium coryli: А - аски, As - аскоспоры, Ар - веретеновид-
ный придаток.
Coccidiascus
Внутриклеточные паразиты, обитающие в клетках эпителия кишечника дрозофил.
Клетки сферические или овальные, размножаются почкованием. Мицелий или псев-
домицелий не образуют. Вегетативные клетки трансформируются в удлиненные ба-
нановидные толстостенные аски, содержащие до 8 аскоспор. Аскоспоры веретено-
видные , несколько сжатые с боков. На питательных средах не растут.
Семейство Lipomycetaceae
Характерная особенность представителей этого семейства - мешковидные аски,
которые образуются в результате слияния двух почек одной клетки (или выростов
мицелия у Dipodascopsis). Сахара не сбраживают.
Babjevia
Культуры медленнорастущие, визуальные признаки роста на плотных средах при
комнатной температуре появляются только через 5-7 суток. У свежевыделенных
культур молодые клетки имеют причудливые выросты. При периодических пересевах
морфология клеток быстро меняется. В 10-суточных культурах клетки круглые или
овальные, почкование многостороннее, на широком основании, большинство клеток
объединено в цепочки примитивного псевдомицелия. В старых культурах часто
встречаются крупные клетки с многочисленными (до 15-20) почками. Капсул не
образуют. Образованию асков обычно предшествует копуляция почек на одной или
соседних клетках. Аски мешковидные, иногда образуются сразу по 2-3 и более на
одной материнской клетке. Число спор в аске варьирует от 4 до 30 и более.
Споры круглые, с неровной складчатой поверхностью. Включает один вид В.
anomala. Всего было выделено 8 штаммов этого вида из образца торфянисто-
подзолистой глееватой почвы в районе г. Сыктывкара. Первоначально вид был
описан как Lipomyces anomalus. Выделен в качестве самостоятельного рода на
основании отличий в нуклеотидных последовательностях рРНК.
Babjevia anomala (Lipomyces anomalus): 1 - почкующиеся клетки, 2
- примитивный псевдомицелий, 3 - аски с аскоспорами.
Dipodascopsis
Диморфные грибы, образующие хорошо развитый мицелий, не распадающийся на
артроконидии. Почкующиеся клетки немногочисленны и образуются из аскоспор,
часто непосредственно в асках. Освобождающиеся из аска споры становятся тол-
стостенными и прорастают гифами. Гифы с многослойной клеточной стенкой, по-
крыты большим количеством слизи. Аски образуются латерально на гифах после
слияния гаметангиев. Аски игловидные или цилиндрические, открываются от-
верстием на вершине. В аске образуется 32-128 аскоспор, эллипсоидальных или
бобовидных, с гладкой поверхностью и слизистым чехлом. Не бродят.
Lipomyces
Клетки крупные (до 8-10 мкм), круглые, в старых культурах почти целиком за-
полнены большой каплей жира. Обычно имеют хорошо выраженные капсулы. Размно-
жение многосторонним почкованием, часто материнская клетка образует сразу не-
сколько почек. Могут формировать примитивный псевдомицелий, в котором имеются
перетяжки и клетки разделены септами. На плотный средах - слизистый рост. Ас-
ки мешковидные, образуются разными способами: в результате копуляции двух по-
чек между собой или со свободной клеткой, формирующей вырост. У одного вида
(L. tetrasporus) в сумке всегда не более 4 спор; они овальные, имеют продоль-
ную штриховку, хорошо заметную в световом микроскопе. У других видов количе-
ство спор в аске строго не фиксировано, их может быть более 30, они круглые
или слегка овальные, гладкие или со складчатой поверхностью. Все виды не бро-
дят, хорошо растут на средах с высоким отношением углерода к азоту. Выделяют-
ся только из почв и практически не обнаруживаются в других местообитаниях.
Относятся к автохтонным обитателям почвы, проводя в ней весь жизненный цикл.
Разные виды имеют ограниченные ареалы и распространены лишь в определенных
типах почв.
Dipodascopsis uninucleata.
Lipomyces starkeyi.
Zygozyma
Клетки круглые или овальные, образуют капсулы, колонии слизистые. Вегета-
тивное размножение многосторонним почкованием на узком основании, однако,
редко наблюдается образование септ с плазмодесмами. Псевдомицелий или истин-
ный мицелий не образуют. Аски мешковидные, формируются из особых выростов
клеток или непосредственно из клеток. Аскоспоры аллантоидные, гладкие, янтар-
ного цвета. Аски быстро разрушаются, освободившиеся споры агглютинируют и об-
разуют гроздья. Сахара не сбраживают.
Zygozyma: мешковидные аски со спорами.
Семейство Metschnikowiaceae
Clavispora
Бесполое размножение - многосторонним почкованием на узком основании. Клет-
ки яйцевидные, эллипсоидальные или удлиненные. Может формироваться псевдоми-
целий , истинный мицелий отсутствует. Спорообразованию предшествует конъюгация
гаплоидных клеток противоположных типов спаривания. Аскоспоры булавовидные,
обычно с липидной каплей, одна-две, редко три или четыре в аске. Споры с бо-
родавчатой поверхностью, видимой в сканирующем электронном микроскопе. Споры
легко освобождаются из аска. Бродят.
о
о А,
о
о
.о
о
О
О
Clavispora santaluciae.
Metschnikowia
Клетки круглые, овальные, эллипсовидные, цилиндрические, серповидные. В
культурах часто присутствуют крупные хламидоспороподобные клетки. Аски була-
вовидные или клиновидные, образуются из хламидоспор. Аскоспоры игловидные,
заостренные с одного или двух концов, 1-2 в аске. Один из видов - М.
pulcherrima образует вишнево-красный пигмент - пульхерримин, который диффун-
дирует в среду. Часть видов часто обнаруживается в воде, где они могут пара-
зитировать на водных беспозвоночных. Другие виды - типичные обитатели филлос-
феры, нектара цветов, связаны с насекомыми-опылителями, которые служат векто-
рами распространения этих дрожжей.
Metschnikowia pulcherrima.
Семейство Saccharomycetaceae
Это центральное семейство порядка Saccaromycetales, включающее наиболее ти-
пичных представителей дрожжей. Большинство видов этого семейства способны к
активному спиртовому брожению. В культуре обычно преобладают одиночные клет-
ки, размножающиеся истинным многосторонним почкованием, многие вообще не спо-
собны к образованию мицелия. В природе эти дрожжи обычно встречаются в суб-
стратах с высоким содержанием простых Сахаров.
Arxiozyma
Клетки круглые овальные или слегка удлиненные, вегетативное размножение
многосторонним почкованием на узком основании. Мицелий не образуют. Клетки
без предварительной конъюгации трансформируются в аски с одним, редко с двумя
сферическими аскоспорами. Поверхность аскоспор бородавчатая, с выростами на-
подобие протуберанцев, образующихся из внешнего слоя клеточной стенки. Актив-
но бродят. Известен один вид A. telluris, который ранее относили к роду
Saccharomyces. Выделен в самостоятельный род на основании электронномикроско-
пического изучения поверхности аскоспор. Обнаруживается в почве, помете и ки-
шечном тракте травоядных животных.
Citeromyces
Клетки сферические до эллипсоидальных. Вегетативное размножение истинным
многосторонним почкованием. Мицелий или псевдомицелий не образуют. Гетеротал-
личны. Из природных субстратов могут быть выделены как диплоидные, так и гап-
лоидные штаммы. У первых вегетативные клетки непосредственно превращаются в
толстостенный аск с одной, редко с двумя круглыми бородавчатыми аскоспорами.
У гаплоидных штаммов спорообразованию предшествует конъюгация клеток противо-
положных типов спаривания. Перед конъюгацией происходит агглютинация клеток.
Гаплоидные культуры могут превращаться в однополые диплоидные. Сахара сбражи-
вают . Встречаются в продуктах с высоким содержанием сахара: фруктовых си-
ропах , слизетечениях деревьев, сгущенном молоке и т.п. Известен только один
вид5 - С. matritensis.
Cyniclomyces guttulatus.
Cyniclomyces
Клетки крупные (до 20 мкм) , овальные, цилиндрические. Почкование полярное,
на широком основании. Образуют псевдомицелий. Вегетативные клетки без предва-
5 Уже больше. Открываются новые виды, а порядка как не было, так и нет.
рительной конъюгации превращаются в аски с 1-4 (иногда до 6) с крупными удли-
ненно-овальными аскоспорами. Последние непосредственно прорастают в вегета-
тивные клетки, сбрасывая наружную оболочку (экзоспориум) или предварительно
конъюгируют между собой. Слабо сбраживают сахара. Растут только при темпера-
туре в интервале 30-40 С. Для роста необходима среда с повышенным содержанием
Сахаров, присутствие аминокислот и витаминов группы В, а также высокое содер-
жание С02 в газовой среде. При комнатной температуре культуры быстро отмира-
ют . Обитают в кишечном тракте кроликов. Известен один вид - С. guttulatus.
Debaryomyces
Клетки круглые или овальные. Вегетативное размножение истинным многосторон-
ним почкованием. Мицелий обычно отсутствует, реже образуется примитивный
псевдомицелий. Аски образуются в результате конъюгации между клеткой и ее
почкой (педогамия). Почка превращается в аск с 1-4 круглыми или слегка оваль-
ными аскоспорами с гладкой или бородавчатой поверхностью. У некоторых видов
споры имеют экваториальный ободок или спиральные бороздки. Виды, имеющие спо-
ры с экваториальным ободком, ранее выделяли в самостоятельный род Schwannio-
myces. Аскоспоры обычно долго не освобождаются из аска. Сахара не сбраживают,
или сбраживают слабо.
i I
1. ;»•'
„>
9
■/.. •- •■■.•■ -.^
J
■'•' ■ ♦
v 7^\ ^
/
• '.Г~ у J ,*,
Debaryomyces hansenii.
Dekkera
Почкующиеся клетки круглые, овальные, удлиненные, часто заостренные с одно-
го полюса. Почкование многостороннее, на узком основании. Образуют псевдоми-
целий, иногда ветвящийся несептированный мицелий. Аски формируются непосред-
ственно из вегетативных клеток, без конъюгации, недолговечны, в аске образу-
ется 1-4 аскоспоры). Аскоспоры шляповидные, после освобождения из аска слипа-
ются друг с другом. При росте на глюкозе образуют уксусную кислоту, придающую
культурам характерный запах. На средах растут медленно и быстро гибнут из-за
накопления в среде значительных количеств уксусной кислоты. Сахара сбражива-
ют, причем брожение не подавляется аэрацией. Наиболее часто обнаруживаются в
продуктах бродильных производств. Аспорогенные формы классифицируются в роде
Brettanomyces.
i> '.V - w
,/у .-. о'- •>;
и П
'I '
Л'
^ v
Э "
\ \
■) ^ ас ",s ~> <л •')
И
'"К." :0. -Ч "'"
< - ,. (J ^ J>
(1^ ,Л.
•V
л
Dekkera bruxellensis.
Issatchenkia
Клетки круглые, овальные или удлиненные. Многостороннее почкование на узком
основании. Мицелий или псевдомицелий не образуется. Аски формируются из дип-
лоидных клеток (азиготические) или непосредственно после конъюгации гаплоид-
ных клеток противоположных типов спаривания. В аске образуется от 1 до 4
круглых спор, с утолщенной клеточной стенкой и бородавчатой поверхностью, за-
метной в световом микроскопе. Глюкозу сбраживают. При росте в жидких средах
образуют хорошо выраженную пленку.
Issatchenkia hanoiensis.
Kluyveromyces
Клетки яйцевидные, эллипсоидальные, цилиндрические, удлиненные. Вегетатив-
ное размножение многосторонним почкованием на узком основании. Может формиро-
ваться псевдомицелий, но истинный мицелий не образуют. Аски формируются или
непосредственно из вегетативных клеток, или после их конъюгации. Аскоспоры
гладкие, бобовидные, почковидные, палочковидные, эллипсоидальные или сфериче-
ские, обычно 1-4 в аске, но у некоторых видов до 70 и более. Аски быстро раз-
рываются и освободившиеся аскоспоры обычно склеиваются и образуют гроздья.
Сахара сбраживают.
*&
о
t
ч
А ^ &
ф
* % W
Kluyveromyces marxianus.
Lodderomyces
Клетки круглые, яйцевидные или удлиненные. Вегетативное размножение много-
сторонним почкованием на узком основании. Истинный мицелий отсутствует, но
может формироваться псевдомицелий. Гомоталличны. Аски неконъюгативные, обра-
зуются непосредственно из вегетативных клеток. В аске одна, редко две эллип-
соидальных или цилиндрических, иногда слегка изогнутых, аскоспоры, которые
долго не освобождаются из аска. Сахара сбраживают слабо.
4 %*'&
Lodderomyces elongisporus (окраска).
Pachysolen
Клетки овальные, до круглых, иногда апикулятные. Почкование многостороннее
на узком основании. Псевдомицелий рудиментарный или отсутствует, истинный ми-
целий не образуют. Аски имеют очень характерную форму, по которой легко отли-
чить дрожжи этого рода. При спорообразовании клетка образует длинный трубча-
тый вырост, на конце которого в круглом вместилище размещаются 4 споры. В
этом месте стенка остается тонкой и легко разрывается после созревания спор.
Остальная часть клетки с возрастом становится толстостенной. Споры полусфери-
ческие до шляповидных. Дрожжи гомоталличны. Образованию асков предшествует
конъюгация, и на зрелых асках обычно имеются прикрепленные сбоку маленькие
клетки-конъюганты. Глюкозу сбраживают. Обладают редкой способностью активно
сбраживать ксилозу. Известен всего один вид .P. tannophilus. Используется для
получения спирта из гидролизатов древесины.
Pachysolen tannophilus.
<<Ь
Pichia fermentans.
Pichia
Клетки от круглых до овальных, иногда сильно вытянутые. Размножение много-
сторонним почкованием, многие виды образуют примитивный или сложный псевдоми-
целий с бластоспорами, реже встречается истинный мицелий. Виды гомо- или ге-
тероталличны. Аски образуются непосредственно из одиночных клеток, или же их
образованию предшествует конъюгация между различными клетками или между клет-
кой и почкой (педогамия). Аски могут формироваться также из клеток мицелия
или псевдомицелия, но при этом они не бывают раздутыми или игловидными и не
располагаются на аскофорах. Аскоспоры шляповидные, полусферические или сфери-
ческие с ободком. Могут сбраживать сахара. Многовидовой род, включающий около
100 видов, которые филогенетически гетерогенны. Часть видов ранее классифици-
ровалась в роде Hansenula.
Saccharomyces
Клетки овальные или круглые, иногда удлиненные. Почкование истинное, много-
стороннее. Может формироваться примитивный псевдомицелий, но истинного мице-
лия не образуют. Диплоидизация происходит в результате слияния двух гаплоид-
ных клеток (хологамия). Вегетативно размножаются в основном диплоидные клет-
ки . Аски образуются преимущественно из вегетативных диплоидных клеток. Аски
круглые или овальные, при созревании спор не вскрываются. Аскоспоры круглые
или слабоовальные, бесцветные, гладкие, 1-4 в аске. Все виды активно сбражи-
вают сахара. Дрожжи этого рода с давних времен распространены в кустарном ви-
ноделии и широко используются в разных отраслях бродильной промышленности, в
связи с чем они более всех других дрожжей изучены в разных аспектах. Их сис-
тематика, однако, многократно пересматривалась. Центральный вид - S. сеге-
visiae известен в десятках синонимов, которые в настоящее время рассматрива-
ются как производственные расы, но не самостоятельные виды.
Saccharomyces cerevisiae (1000X).
Saturni spora
Клетки круглые, овальные или иногда слегка вытянутые. Вегетативное размно-
жение истинным многосторонним почкованием. Истинный мицелий отсутствует, но
может формироваться псевдомицелий. Аски образуются непосредственно из клеток
или в результате конъюгации между материнской клеткой и почкой (педогамия)
или между независимыми клетками. Аски содержат 1-4, редко до 8 аскоспор. Спо-
ры сферические, с экваториальным ободком. Сбраживают глюкозу.
orf$ &
vj
о1
Saturnispora quitensis.
Torulaspora
Клетки круглые или короткоовальные. Почкование многостороннее, на узком ос-
новании. В молодых культурах обычно множественное почкование, при котором на
одной клетке одновременно образуется до десятка и более почек. Может присут-
ствовать псевдомицелий, но истинные гифы отсутствуют. Аски могут формировать-
ся непосредственно из клеток или после конъюгации между материнской клеткой и
почкой или между отдельными клетками. Клетки обычно несут выросты, сходные с
конъюгационными трубками. Аски круглые или овальные, содержат 1-4 сферических
аскоспоры. Поверхность аскоспор гладкая или бородавчатая. Сбраживают сахара.
j j 4jj jj ~
л
jJ3
■л
Torulaspora delbrueckii,
Williopsis
Клетки круглые или короткоовальные. Почкование многостороннее. Могут обра-
зовывать псевдомицелий, но истинный мицелий отсутствует.
Аски образуются без конъюгации или после конъюгации отдельных клеток, или в
результате педогамии. Споры гладкие, но с хорошо заметным выступающим эквато-
риальным ободком, в аске 1-2 или 1-4 споры. При созревании они не освобожда-
ются из сумок. В природе обычно встречаются в плодородных высокогумусирован-
ных почвах.
J
J
4
у
/♦
у
i
J
J
Williopsis saturnus,
Zygosaccharomyces
Клетки круглые или овальные. Вегетативное размножение многосторонним почко-
ванием. Асками становятся зиготы, образующиеся непосредственно после конъюга-
ции отдельных клеток. Аскоспоры круглые или овальные, гладкие, 1-4 в аске.
Активно сбраживают сахара. Для большинства штаммов характерна способность
развиваться в субстратах с высокими концентрациями сахара (до 80%) . Встреча-
ются в меде, вареньях, сахарных сиропах, концентрированном соке, сухофруктах
и. т. п., вызывая их порчу. В природе встречаются в нектаре цветов, на по-
верхности винограда и других сочных плодов.
с ® ©о
О и о0 0
О QCO
О
0 0 ^ оО
>
<"■■
О г<£
°о 0 ° 6 ° " °^
CJ U /.Г 10 gm
о
10 pm
Zygosaccharomyces bailii
Семейство Saccharomycodaceae
Эту группу дрожжей отличает характерная морфологическая особенность - веге-
тативное размножение биполярным почкованием на широком основании (почкующееся
деление), в результате которого клетки приобретают апикулятную (лимоновидную)
форму. Роды различаются формой аскоспор, типом полового процесса.
Hanseniaspora
Клетки мелкие, лимоновидные, овальные, вегетативное размножение биполярным
почкованием на широком основании. Вегетативные клетки непосредственно превра-
щаются в аски с 1-4 шляповидными или круглыми аскоспорами. Сахара сбраживают.
Имеют абсолютную потребность в инозите и пантотеновой кислоте. В природе час-
то обнаруживаются на сочных сахаристых плодах, на винограде. Относятся к
«сорнякам» бродильных производств. Аспорогенные формы классифицируются в роде
Kloeckera.
- ' - ( !
Hanseniaspora vineae.
Nadsonia
Клетки лимоновидные, овальные или удлиненные. Вегетативное размножение би-
полярным почкованием на широком основании. Аскоспорообразованию предшествует
копуляция между материнской клеткой и почкой (педогамия), реже копуляция на-
блюдается между отдельными клетками. Аском становится новая почка, образую-
щаяся на противоположном конце исходной материнской клетки. При этом возника-
ют характерные «триады» клеток. Иногда в аск превращается материнская клетка
или копулирующая почка. В аске обычно 1, редко 2-3 круглые коричневатые шипо-
ватые аскоспоры. Штрих старых культур приобретает шоколадно-коричневый цвет.
Сахара сбраживают слабо или не сбраживают. В природе встречаются редко, глав-
ным образом в весенних сокотечениях лиственных деревьев в зоне умеренного
климата.
^
Nadsonia sydow.
Saccharomycodes
Клетки крупные, до 20 мкм и более в длину, лимоновидные или удлиненно-
овальные . Вегетативное размножение биполярным почкованием на широком основа-
нии. Аски возникают без предварительной конъюгации из диплоидных вегетативных
клеток. Аски содержат 2 или 4 круглые аскоспоры с гладкой оболочкой, которые
располагаются попарно и в месте соединения иногда имеют узкий ободок. Споры
при созревании не освобождаются, а копулируют попарно и, прорастая, разрывают
стенку аска. Сахара сбраживают. Известен всего один вид6 - S. ludwigii. В
природе встречается в сокотечениях деревьев, на поверхности плодов, в самоза-
бродивших плодовых и ягодных соках. В виноделии относится к «сорнякам» броже-
ния.
V О »:0l
?*п
Й
ч
Г
ч
1 W щ, йЛ
'(
^Л
<;
10 рт
10 ут
Saccharomycodes ludwigii.
Wickerhamia
Клетки овальные до вытянутых, апикулятные. Вегетативное размножение бипо-
лярным почкованием на широком основании. Аски формируются без предварительной
конъюгации. Аскоспоры круглые, с асимметричным смещенным ободком, который
придает им сходство со спортивной кепкой. В аске обычно одна или две аскоспо-
ры , очень редко больше. После созревания аскоспор аски разрушаются, разрыва-
ясь по экватору на две половинки. Сахара сбраживают.
Wickerhamia: 1 - вегетативные клетки с биполярным почкующимся
делением, 2 - разрушающиеся аски и аскоспоры.
6 Сейчас уже больше видов.
Семейство
Saccharomycopsidaceae
Дрожжеподобные грибы, в культурах которых присутствует как истинный мице-
лий, не распадающийся на артроспоры, так и одиночные почкующиеся клетки. Аски
образуются на мицелии и содержат шляповидные аскоспоры.
Ambrosiozyma
Дрожжеподобные грибы, формирующие обильный мицелий с бластоспорами, которые
образуются на небольших выростах и при отделении оставляют рубцы. Присутству-
ют также почкующиеся дрожжевые клетки и псевдомицелий. На септах мицелия име-
ются хорошо заметные в световой микроскоп утолщения вокруг поры (долипоры).
Аски в основном образуются на гифах пучками латерально или терминально. Ас-
коспоры шляповидные и сатурновидные, 1-4 в аске при созревании становятся ко-
ричневыми и легко освобождаются из аска. Колонии вначале кремовые, позже при-
обретают коричневый оттенок. Имеют характерный запах амфоры. В природе встре-
чаются в ассоциациях с жуками-короедами.
(afcS
О
о
(Ь)
О
о
©О
&
<4
О
\ -
^уо
О
Hfcy^j
Ambrosiozyma oregonensis
Saccharomycopsis
В культурах обильный истинный мицелий, обычно с бластоспорами. У некоторых
видов мицелий может распадаться на артроспоры. Почкующиеся клетки также при-
сутствуют, круглые или овальные, почкование может быть как на узком, так и на
широком основании. Аски обычно формируются из клеток мицелия. В асках 1-4,
редко 8 спор. Аскоспоры могут быть шляповидными, почковидными с концевыми при
датками, сферическими или эллипсоидальными, могут иметь один или несколько
экваториальных ободков. Поверхность спор гладкая или бородавчатая. Некоторые
виды бродят.
Систематика этого рода неоднократно пересматривалась. Его история ведет на-
чало от рода Endomycopsis, в котором первоначально классифицировалось боль-
шинство аскоспоровых дрожжеподобных грибов, образующих как истинный мицелий,
так и почкующиеся клетки, с асками, располагающимися на мицелии. Сейчас в род
включены виды, ранее относившиеся как к роду Endomycopsis, так и к некоторым
другим родам дрожжеподобных грибов, существенно различающимся по мор-
фологическим признакам: Endomycopsella, Arthroascus, Guilliermondella, неко-
торые виды Pichia.
Saccharomycopsis capsularis.
Класс Euascomycetes
Среди настоящих мицелиальных аскомицетовых грибов также встречаются роды,
которые в культуре растут в виде дрожжевых колоний в результате вегетативного
размножения одиночных клеток, обильной фрагментации мицелия, или массового
отпочковывания конидий. К ним относятся так называемые «черные дрожжи» из ро-
дов Aureobasidium, Hormonema, Botryomyces, Phaeotheca, Sarcinomyces,
Exophiala, Phialophora, Rhinocladiella, Phaeococcomyces, образующие черные
колонии при росте на питательных средах. Образование аскоспор у этих грибов в
культуре наблюдается редко, в связи с чем их систематика строится в основном
на способах образования конидий. Поэтому многие роды этих грибов формальны,
то есть заведомо филогенетически гетерогенны и не соответствуют точно извест-
ным телеоморфам.
Анаморфные дрожжи
аскомицетового
аффинитета
Как уже отмечалось, многие виды дрожжей в культуре не осуществляют полного
жизненного цикла, размножаются только вегетативно и не образуют аскоспор. Так
как дифференциация дрожжей на роды осуществляется в основном по морфологиче-
ским особенностям совершенных стадий (тип полового процесса, форма аскоспор),
то идентификация и классификация несовершенных видов вызывает особенные труд-
ности. Сейчас среди аскомицетовых дрожжей различают около двух десятков несо-
вершенных родов, которые дифференцируются по форме клеток, способу вегетатив-
ного размножения, физиологическим характеристикам. Ранее такие дрожжи вместе
с несовершенными стадиями мицелиальных грибов, относили к формальному классу
Deuteromycetes. Для многих видов, долгое время известных лишь в анаморфном
состоянии, удалось индуцировать в культуре совершенную стадию или установить
точное соответствие с телеоморфными видами методом реассоциации ДНК-ДНК. Раз-
витие биохимических и молекулярно-биологических методов, особенно методов се-
квенирования нуклеотидных последовательностей рРНК, позволило «на равных пра-
вах» систематизировать как телеоморфные, так и анаморфные дрожжи. Эти иссле-
дования показали, что среди анаморфных родов аскомицетовых дрожжей имеются
как монофилетические, включающие близкородственные виды, соответствующие од-
ному телеоморфному роду, так заведомо сборные, в которых разные виды являются
анаморфами разных телеоморфных родов. Примерами первых могут служить роды
Brettanomyces (анаморфные стадии дрожжей рода Dekkera), Kloeckera (анаморфы
Hanseniaspora). Наиболее формальным и сборным несовершенным родом является
род Candida, история которого была рассмотрена выше. Виды этого рода включают
анаморфы по крайней мере 15 телеоморфных родов аскомицетовых дрожжей. Нако-
нец, имеет место и обратная ситуация, когда несколько различных анаморфных
родов соответствуют одной совершенной стадии. Например, данные по секвениро-
ванию рРНК показали, что роды Blastobotrys, Arxula и Sympodiomyces близкород-
ственны и, возможно, представляют собой анаморфы одного рода Stephanoascus.
Основная современная тенденция систематики дрожжей - создание единой филоге-
нетической системы, включающей как телеоморфные, так и анаморфные виды. Ос-
новную роль в этом играют молекулярно-биологические методы.
Aciculoconidium
Почкующиеся клетки овальные или удлиненные. Почкование истинное, многосто-
роннее . Образуют обильный разветвленный септированный мицелий, на котором ла-
терально расположены овальные бластоспоры. Последние отделяются и почкуются
или формируют цепочки, собранные мутовками на гифах. Овальные конидиогенные
клетки образуют от 1 до 4 игловидных конидий. Сахара не сбраживают. В роде
единственный вид A. aculeatum. Известно несколько штаммов, выделенных из ки-
шечника дрозофил.
Aciculoconidium aculeatum.
Arxula
Клетки овальные или удлиненные. Вегетативное размножение многосторонним ис-
тинным почкованием. Формируется обильный псевдомицелий и септированный мице-
лий. Гифы узкие, слабоветвящиеся, распадающиеся на короткие артроспоры. На
гифах могут также формироваться бластоспоры, располагающиеся на коротких зуб-
чиках. Могут сбраживать глюкозу. Способны к росту при низкой активности воды
(ксеротолерантные). Виды этого рода первоначально классифицировались в роде
Trichosporon.
Arxula: 1 - почкующиеся клетки, 2 - псевдомицелий, 3 - мицелий,
распадающийся на артроспоры.
Blastobotrys
Дрожжеподобные грибы, формирующие обильный истинный мицелий, почкующиеся
клетки могут присутствовать или отсутствовать. Круглые или короткоовальные
конидии образуются гроздьями на слегка вздутых концах осевых или боковых гиф.
Конидии на стебельках, коротких зубчиках или сидячие. На первичных конидиях
могут формироваться вторичные конидии, образуя короткие акропетальные цепоч-
ки. Первичные конидии часто имеют остевидные или хлыстовидные придатки. Обыч-
но сбраживают сахара. Телеоморфы классифицируются в роде Stephanoascus.
А г ^ , В
о о' ° ^У
Blastobotrys von Klopotek.
Botryozyma
Клетки цилиндрические. Вегетативное размножение многосторонним почкованием
на узком основании. Образуют псевдомицелий, истинный мицелий отсутствует.
Концевые клетки псевдомицелия дихотомически ветвятся и трансформируются в
простые или сложные апрессории. Сахара не сбраживают.
Botryozyma nematodophila.
Bre 11anomyces
Клетки круглые, овальные, часто яйцевидные, цилиндрические или сильно удли-
ненные. Почкование истинное, многостороннее, редко биполярное на базипеталь-
ных удлинениях клеток. Псевдомицелий простой или хорошо развитый, ветвящийся.
Могут формировать несептированный ветвящийся мицелий. На средах растут мед-
ленно и быстро гибнут из-за накопления в среде значительных количеств уксус-
ной кислоты. Сахара сбраживают, причем брожение не подавляется аэрацией. Те-
леоморфы классифицируются в роде Dekkera.
Brettanomyces acidodurans.
Candida
Клетки круглые, овальные или удлиненные, иногда яйцевидные, треугольные или
серповидные. Вегетативное размножение истинным почкованием. Могут формировать
псевдомицелий или истинный септированный мицелий. Артроконидии не образуют.
Самый крупный род среди дрожжевых грибов, включающий около 200 видов (более
20% всех известных видов дрожжей). Представляет собой искусственную, филоге-
нетически гетерогенную группу дрожжевых и дрожжеподобных организмов без поло-
вого размножения и каких-либо иных выразительных морфологических признаков.
При этом род до недавнего времени объединял даже анаморфы как аскомицетовых,
так и базидиомицетовых дрожжей. Развитие хемо- и геносистематики позволило
существенно снизить полифилетичность рода Candida, за счет исключения из него
видов базидиомицетового аффинитета. Тем не менее, род продолжает оставаться
заведомо формальным, объединяя несовершенные виды аскомицетовых дрожжей, из-
вестные и подозреваемые телеоморфы которых классифицируются, по крайней мере,
в 16 родах.
Geotrichum
Обильный истинный мицелий, распадающийся на цилиндрические артроспоры. Ред-
ко на мицелии могут формироваться также бластоспоры. Почкующиеся клетки от-
сутствуют . Могут образовываться хламидоспоры и эндоспоры. Обычно не бродят.
Телеоморфы классифицируются в родах Dipodascus и Galactomyces.
(А
Geotrichum candidum.
Kloeckera
Овальные, удлиненные или апикулятные клетки, размножающиеся биполярным поч-
кованием. Псевдомицелий отсутствует или слабо развитый. Истинный мицелий не
образуют. Сбраживают сахара. Анаморфы рода Hanseniaspora.
Otf*
"^
;ч
Kloeckera taiwanica.
Mastigomyces
Клетки овальные, размножаются многосторонним почкованием. Некоторые клетки
вытягиваются в длинные (до 30 мкм) , постепенно утончающиеся отростки. Броже-
ние слабое. Известен один вид - М. philippovii, представленный несколькими
штаммами, обнаруженными на растительных субстратах в лесах Европейской части
России. Выделен в самостоятельный род на основании уникальной морфологии кле-
ток. Однако молекулярно-генетические исследования показали, что эти дрожжи
близки к виду Candida tenuis, клетки которого не образуют подобных отростков.
Mastigomyces philippovii: 1 - почкующиеся клетки, 2 - клетки с
хлыстовидными придатками.
Myxozyma
Клетки круглые или овальные. Вегетативное размножение многосторонним почко-
ванием на узком основании. Может присутствовать рудиментарный псевдомицелий,
но истинные гифы не образуются. Сахара не сбраживают. Образуют крахмал, ино-
гда слабо. По морфологическим и физиологическим характеристикам дрожжи этого
рода близки к липомицетам. Однако сравнение нуклеотидных последовательностей
рРНК показало, что виды этого рода далеки от рода Lipomyces за исключением
одного вида - М. kluyveri.
Myxozyma: почкующиеся клетки.
Schizoblastosporion
Клетки овальные, яйцевидные или грушевидные. Вегетативное размножение бипо-
лярным почкующимся делением. Почки образуются поочередно и при отделении ос-
тавляют на клетке широкий рубец. Псевдомицелий и истинный мицелий отсутству-
ют . Не бродят. Уксусную кислоту не образуют. Наиболее известный вид этого ро-
да S. starkeyi-henricii выделяется только из болотных почв.
Schizoblastosporion starkeyi-henricii.
Sympodiomyces
Клетки круглые, овальные. На клетках развиваются короткие конидиофоры с
терминальными конидиями, которые образуются симподиально и при отделении ос-
тавляют заметные рубцы. Септированные гифы с бластоконидиями могут присутст-
вовать , но их обычно мало. Сахара не сбраживают. Максимальная температура ро-
ста 25 С. Все известные штаммы единственного вида7 S. parvus выделены из воды
близ Антарктического материка.
Sympodiomyces.
7 Уже не единственного.
Trigonopsis
Клетки треугольные или эллипсовидные, бывают также ромбовидные и тетраэдри-
ческие. Почкование многостороннее у овальных клеток и по углам у треугольных.
Псевдомицелий и истинный мицелий не образуют. Сахара не сбраживают. Описан
один вид8 Т. variabilis, выделенный из пива, вина и виноматериалов.
6 ° -*
°»\>
Trigonopsis
Базидиомицетовые
дрожжи
Почти все грибы, обозначаемые термином «базидиомицетовые дрожжи» - это ди-
морфные организмы, имеющие мицелиальную телеоморфную и одноклеточную почкую-
щуюся анаморфную стадии. Одна из главных задач их классификации - выяснение
филогенетических связей между базидиомицетовыми дрожжами и «истинными» мице-
лиальными базидиомицетами. Современная классификация диморфных базидиоми-
цетов (табл. 5) в основном базируется на анализах нуклеотидных после-
довательностей рРНК. В классификации базидиомицетовых дрожжей большую роль
играют такие рассмотренные выше признаки, как моносахаридныи состав клеточных
стенок, морфология базидий, ультраструктура септ мицелия, образование крахма-
лоподобных соединений, способность к ассимиляции инозита (табл. 6). Как ока-
залось, именно эти признаки в наибольшей степени отражают филогенетическое
родство видов и достаточно хорошо коррелируют с группированием базидиомицето-
вых дрожжей на основании нуклеотидных последовательностей. Ультраструктурные,
биохимические и молекулярно-биологические исследования, проведенные в послед-
ние десятилетия, показали, что базидиомицетовые дрожжи не являются монофиле-
тической группой и распределены по трем основным филогенетическим линиям ба-
зидиомицетов, которые выделяются в качестве классов Hymenomycetes,
Urediniomycetes и Ustilaginomy cetes.
Табл. 5. Классификация некоторых родов базидиомицетовых дрожжей.
Класс Urediniomycetes
Leucosporidium
Sporidiobolus
Уже не один.
Rhodosporidium
Erythrobasidium
Класс Ustilaginomycetes
Головневые грибы (порядки Ustilaginales, Tilletiales)
Ustilago и др.
Порядок Malasseziales
Malassezia
Класс Hymenomycetes
Tremella
Cystofilobasidium
Bulleromyces
Mrakia
Filobasidiella
Sterigmatosporidium
Filobasidium
Xanthophyllomyces
Itersonilia
Анаморфные роды базидиомицетового аффинитета
Bensingtonia
Pseudozyma
Bullera
Rhodotorula
Cryptococcus
Sporobolomyces
Fellomyces
Sterigmatomyces
Hyalodendron
Trichosporon
Kockovaella
Tsuchiyaea
Kurtzmanomyces
Udeniomyces
Табл. 6. Фенотипические признаки, позволяющие дифференцировать
классы базидиомицетовых дрожжей в анаморфных стадиях.
Признак
Структура септовых пор
Преобладающие сахара
в гидролизатах КС
Образование крахмала
Утилизация инозита
Urediniomycetes
Простые поры
Манноза
-
-
Ustilaginomycetes
Микропоры
Глюкоза
-
+ или -
Hymenomycetes
Долипоры
Глюкоза, манноза,
ксилоза
+
+
Дрожжеподобные грибы, относящиеся к классу Urediniomycetes, имеют в мицели-
альной стадии септы, в которых клеточная стенка постепенно сужается к центру,
где располагается одна центральная пора. В гидролизатах клеточных стенок пре-
обладает манноза, присутствует глюкоза, могут также присутствовать фукоза и
рамноза, но отсутствует ксилоза. Эти грибы не способны усваивать в качестве
единственного источника углерода инозит и не образуют при росте крахмалопо-
добных соединений.
У представителей класса Ustilaginomycetes в септах мицелия отсутствуют про-
стые поры, но имеются так называемые «микропоры» - тонкие каналы в септе, в
районе которых септа не утончается. В клеточных стенках преобладает глюкоза,
в заметном количестве присутствуют галактоза и манноза, но отсутствует ксило-
за. Ассимиляция инозита варьирует, крахмалоподобные вещества не образуются.
Наконец, дрожжевые грибы, относящиеся к классу Hymenomycetes, имеют септы с
долипорами - характерными утолщениями септы вокруг поры. В гидролизатах кле-
точных стенок преобладают глюкоза, манноза и ксилоза. Подавляющее большинство
видов усваивает инозит и образуют крахмалоподобные соединения.
Класс Urediniomycetes
Наиболее известными представителями этого класса, имеющими большое практи-
ческое значение, являются ржавчинные грибы (порядок Uredinales) - широко рас-
пространенные облигатные паразиты многих растений, включая сельскохозяйствен-
ные . Однако дрожжевые стадии у ржавчинных грибов практически не встречаются.
В то же время, некоторые родственные ржавчинным грибам сапротрофные роды ши-
роко известны именно как дрожжи, так как в цикле их развития имеется гаплоид-
ная дрожжевая стадия, которая, по-видимому, может даже существенно преобла-
дать в природных местообитаниях.
Leucosporidium
Колонии белые, часто слизистые, каротиноидных пигментов не образуют. Поч-
кующиеся клетки овальные или удлиненные. Баллистоспоры отсутствуют. Образуют
обильный псевдомицелий, иногда также истинный мицелий. Баллистоспоры не обра-
зуют . Гетероталличные с биполярной или тетраполярной системой разделения ти-
пов спаривания. После конъюгации гаплоидных клеток противоположных типов спа-
ривания образуется истинный дикариотическии мицелий с пряжками, на котором
терминально или латерально формируются толстостенные телиоспоры, заполненные
каплями липидов. Телиоспоры могут возникать и на мицелии без пряжек, без
предварительной конъюгации клеток (самоспорулирующие культуры). Телиоспоры
диплоидны, так как в процессе их образования происходит кариогамия. При про-
растании телиоспоры происходит мейоз и формируется обычно септированный про-
мицелий, каждая клетка которого несет одну дрожжеподобную клетку-споридию
(базидиоспору). Сахара не сбраживают. Крахмалоподобные вещества не образуют.
Инозит не ассимилируют. Некоторые представители рода - психрофилы, не растут
при температуре выше 20 С.
Leucosporidium escuderoi.
Rhodosporidium
Колонии красные, розовые или оранжевые за счет присутствия каротиноидных
пигментов. Вегетативные клетки дрожжевой стадии круглые, овальные или удли-
ненные, размножаются многосторонним почкованием, может формироваться псевдо-
мицелий. Баллистоспоры не образуют. Имеются как хюмоталличные (самоспорули-
рующие), так и гетероталличные виды. Среди последних встречаются как виды с
биполярной (R. toruloides), так и с тетраполярной (R. dacryoidum) системами
спаривания. При смешивании совместимых типов спаривания происходит конъюгация
и плазмогамия, после чего развивается мицелиальная дикариотическая стадия -
септированный мицелий с пряжками. На мицелии формируются телиоспоры, разли-
чающиеся по форме у разных видов: они могут быть круглыми, овальными, лимоно-
видными, угловатыми. При прорастании спор образуется поперечно септированный
промицелий, на котором латерально и терминально расположены споридии. Послед-
ние после отделения размножаются почкованием, восстанавливая гаплоидную ста-
дию . Сахара не сбраживают. Крахмалоподобные вещества не образуют. Инозит не
ассимилируют.
Rhodosporidium toruloides.
Sporidiobolus
Колонии красные или розовые за счет присутствия каротиноидных пигментов.
Дрожжевые клетки круглые или овальные, размножаются многосторонним почковани-
ем. Могут формировать псевдомицелий или истинный мицелий. Одиночные клетки
или клетки мицелия образуют отстреливающиеся баллистоспоры на простых или
ветвящихся стеригмах. Могут быть гомо- или гетероталличными. В гетероталлич-
ных культурах после смешивания противоположных типов спаривания происходит
конъюгация клеток с последующим развитием дикариотическохю мицелия с пряжка-
ми. На мицелии интеркалярно или терминально образуются круглые коричневые те-
лиоспоры. Последние прорастают одноклеточными или септированными базидиями.
Базидиоспоры расположены терминально на одноклеточных базидиях и латерально
на многоклеточных. У некоторых видов базидия располагается на длинной стериг-
ме. Сахара не сбраживают. Крахмалоподобные вещества не образуют. Инозит не
ассимилируют.
л
' *
»
Ч
N
:1
)
v
%
\
Sporobolomyces salmonicolor,
Erythrobasidium
Род включает один вид Е. hasegawianum и создан для телеоморфной стадии, об-
наруженной у единственного известного штамма9 Rhodotorula hasegawae, выделен-
ного из старой пивной закваски. В дрожжевой анаморфной стадии он представлен
овальными почкующимися клетками.
Колонии оранжево-красные. Гомоталличны, мицелиальная стадия развивается без
скрещивания. Мицелий с пряжками или без них. Телиоспоры не образуются и непо-
средственно на гифах на латеральных выростах формируются одноклеточные бази-
дии (голобазидии). На верхушке базидии терминально располагаются сидячие ба-
зидиоспоры. Сахара не сбраживают, инозит не ассимилируют, крахмалоподобные
вещества не образуют. По характеристикам жизненного цикла (отсутствие телиос-
пор, несептированные базидии) эти дрожжи близки к филобазидиевым и первона-
чально были помещены в семейство Filobasidiaceae. Однако молекулярно-
филогенетические исследования показали, что по нуклеотидным последовательно-
стям 18S рРНК Е. hasegawianum наиболее близок к роду Rhodosporidium.
9 Уже не единственого.
Erythrobasidium.
Класс Ustilaginomycetes
Представители класса Ustilaginomycetes хорошо известны как фитопатогены -
так называемые головневые грибы, поражающие многие виды растений. Поэтому
классификация этих грибов основывалась главным образом на характеристиках их
взаимоотношения с растениями-хозяевами. Однако многие головневые, включая
центральный род класса Ustilago, способны также к сапротрофному росту в виде
почкующихся гаплоидных одиночных клеток. Такие сапротрофные стадии рода го-
ловневых классифицируются в анаморфном роде Pseudozyma.
Филогенетически близка к головневым группа дрожжевых грибов порядка
Malasseziales, представленный одним родом Malassezia. Эта очень специфическая
в экологическом отношении группа грибов, обитающих на поверхности кожи и на
волосяном покрове человека и теплокровных животных.
Головневые грибы
(Ustilaginales, Tilletiales)
Головневые грибы имеют большое экономическое значение, так как вызывают за-
болевания многих важных сельскохозяйственных культур, и поэтому изучались бо-
лее интенсивно по сравнению с большинством других гетеробазидиальных грибов.
Тем не менее, их классификация и филогенетическое положение остаются неясны-
ми. Традиционно среди этих грибов выделяли две различные группы - порядки
Ustilaginales и Tilletiales, которые отличаются по морфологии базидий, строе-
нию септовых пор, типам конидиогенеза. В то же время, молекулярно-филогене-
тические исследования указывают на их достаточно близкое положение.
Род Ustilago - наибольший род в этой группе - включает около 300 видов,
большинство из которых паразитирует на однодольных растениях. Паразитическая
стадия представлена дикариотическим мицелием, который развивается в тканях
растений-хозяев. На мицелии формируются толстостенные телиоспоры, которые
обычно зимуют на остатках растений и в почве. Телиоспоры прорастают цилиндри-
ческими, четырех-клеточными базидиями. Каждая клетка базидий многократно от-
почковывает базидиоспоры (споридии), которые могут почковаться и дают начало
гаплоидной дрожжевой стадии. Прорастание телиоспор достаточно легко происхо-
дит у многих видов, или его можно вызвать специальными обработками типа выма-
чивания в воде с добавлением экстрактов растений. Гаплоидные дрожжевые клетки
конъюгируют, после чего снова развивается дикариотическая стадия. В лабора-
торных дрожжевых культурах конъюгацию можно наблюдать довольно часто, после
смешения клеток совместимых типов спаривания, но дикариофаза обычно не-
постоянна и лишь очень у немногих видов удалось получить в культуре полный
жизненный цикл.
b ° о0 6"^
о %Ь .
О ° о °- А ~Л
о ©©
> ©
Q..6 QO0
'*%
О©
'©О
•-АО*
Ustilago maydis.
Некоторые роды дрожжеподобных грибов, такие как Microbo try-urn,
Leucosporidium, Rhodosporidium, Sporidiobolus, имеют такой же жизненный цикл
и поэтому их также относили к головневым грибам. Однако по нуклеотидным по-
следовательностям рРНК они оказались более близки представителям класса
Urediniomycetes. Молекулярно-филогенетические исследования показали также,
что ряд анаморфных видов дрожжей, которые классифицировались в разных родах
(Candidafusiformata, С. tsuku-baensis, Pseudozyma prolifica, Sporobolomyces
antarcticus, Stephanoascus flocculosus, S. rugulosus, Sterigmatomyces
aphidis, Trichosporon oryzae), очень близки и образуют монофилетическую груп-
пу с Ustilago maydis - типовым видом рода Ustilago. Эти виды были выделены в
самостоятельный род Pseudozyma, который, по-видимому, следует рассматривать
как род для обозначения несовершенных дрожжевых стадий головневых грибов.
Род Tilletia, включающий около 70 видов, представители которого главным об-
разом паразитируют на травах, образуют при прорастании телиоспор цилиндриче-
ские базидий, несептированные или иногда нерегулярно септированные и несущие
апикальные удлиненные базидиоспоры. Перед освобождением базидиоспоры часто
конъюгируют, при этом непосредственно восстанавливая дикариотическое состоя-
ние . На мицелии часто формируются активно отстреливающиеся баллистоспоры. К
тиллециевым, по-видимому, близки анаморфные сапротрофные дрожжеподобные грибы
рода Tilletiopsis, которые образуют на мицелии длинные серповидные или вере-
теновидные баллистоспоры.
*cu %.
KJ
о ° с
0 о; О"
г^™: V0
Tilletia titici.
Malassezia
Комменсалы человека и теплокровных животных, обитающие на поверхности их
кожи и на волосяном покрове. Могут вызывать различные заболевания кожи. Клет-
ки овальные, удлиненные, грушевидные, ламповидные. Вегетативное размножение
монополярным (у одного вида - многосторонним) энтеробластическим почкованием
на широком основании. После отделения почки на клетке остается шрам в вид ва-
лика. В культуре обычно одноклеточные, однако, при развитии на коже животных-
хозяев часто образуют мицелий с гроздями бластоспор. Клетки имеют многослой-
ную оболочку с внешним липидным слоем. Для роста необходимо присутствие в
среде жирных кислот, которые могут использоваться в качестве источника угле-
рода, и поэтому тесты на ассимиляцию различных источников углерода не исполь-
зуются для дифференциации видов. Сахара не сбраживают. Преобладающий убихинон
Q-9. Ксилоза в гидролизатах клеток отсутствует.
.••*
ч*
Malassezia furfur.
Класс Hymenomycetes
Класс Hymenomycetes включает большинство видов базидиомицетовых грибов. По
совокупности особенностей жизненного цикла, морфологических характеристик, а
также на основании данных по секвенированию рРНК, в этом классе выделяется
две различные филогенетические линии:
1) собственно гименомицетовые, объединяющие истинные мицелиальные грибы без
дрожжевых стадий, большинство из которых образует макроскопические плодо-
вые тела;
2) тремеллоидные базидиомицеты, как правило, дрожжеподобные, то есть имеющие
в цикле развития почкующуюся одноклеточную стадию.
Последние по нуклеотидным последовательностям рРНК разделяются на четыре
порядка:
1) Tremellales, включающий роды Bullera, Bulleromyces, Fellomyces, Filoba-
sidiella, Kockovaella, Sterigmatosporidium, Tremella, Tsuchiyaea и др.,
2) Trichosporonales, представителем которого является анаморфный род
Trichosporon;
3) Filobasidiales, включающий род Filobasidium,
4) Cystofilobasidiales, с родами Cystofilobasidium, Mrakia, Udeniomyces,
Xanthophyllomyces и др.
Ниже приводится характеристика наиболее известных родов гименомицетовых
дрожжевых грибов.
Tremella
В природе грибы этого и некоторых других близких родов (Holtermannia,
Trimorphomyces, Sirotrema, Phyllogloea, Fibulobasidium, Sirobasidium) разви-
ваются, в основном, на мертвой древесине, по-видимому, как паразиты на других
грибах. На мертвых стволах и ветках они формируют студенистые плодовые тела.
В культурах отдельные базидиоспоры гетероталличных видов могут размножаться
вегетативно почкованием или формированием баллистоспор и давать начало дрож-
жевым стадиям.
J /
Tremella saccharicola.
Дрожжевые колонии серовато-белые, желтоватые, кремовые, буровато-серые,
часто слизистые. Не бродят, ассимиляция инозита и способность к образованию
крахмалоподобных соединений варьируют в зависимости от вида. Гетероталличные,
смешение соответствующих типов спаривания приводит к их копуляции. Почкование
прекращается, развиваются конъюгационные трубки, через которые клетки соеди-
няются, и развивается мицелиальная дикариотическая стадия. У некоторых видов
непосредственно в лабораторной культуре в подходящих условиях вскоре после
формирования дикариотическохю мицелия начинается развитие плодовых тел. В по-
верхностном гимении плодового тела образуются 2-4-клеточные базидии. Каждая
J
9 •
..»«
клетка базидии несет трубчатый вырост (эпибазидию), на котором формируется
отстреливающаяся базидиоспора. Нередко близко расположенные совместимые бази-
диоспоры конъюгируют с восстановлением дикариотического состояния.
Bulleromyces
Колонии кремовые, маслянистые или слизистые. Клетки овальные до цилиндриче-
ских. Почкование полярное, почки сидячие или на коротких зубчиках. Образуют
баллистоспоры, круглые или овальные, обладающие круговой симметрией. Теле-
оморфная стадия может развиваться в результате скрещивания клеток противопо-
ложных типов спаривания, однако встречаются также хюмоталличные самоспорули-
рующие штаммы. Дикариотические гифы регулярно ветвятся, с пряжками и гаусто-
риеподобными выростами. Септы имеют долипоры с парентосомами. Непосредственно
на мицелии развиваются базидии. Базидии округлые, булавовидные или овальные,
после кариогамии становятся продольно, наклонно или поперечно разделенными
септами на 2 или 4 клетки. Базидии могут прорастать либо почкованием, либо
гифами, в последнем случае на гифах формируются баллистоспоры или отпочковы-
ваются дрожжевые клетки. Не бродят. Инозит ассимилируют, крахмалоподобные ве-
щества образуют. Ксилоза присутствует в гидролизатах клеток. Преобладающий
убихинон Q-10. Род создан для совершенной стадии единственного вида В. albus,
ранее классифицировавшегося в роде Bullera.
Bulleromyces albus.
Filobasidiella
Колонии белые или кремовые, обычно слизистые, видимых каротиноидных пигмен-
тов не образуют. Гаплоидные почкующиеся клетки круглые или овальные, обычно с
полисахаридными капсулами. Псевдомицелий или истинный мицелий в гаплоидной
стадии отсутствует. Половое размножение начинается слиянием клеток противопо-
ложного типа спаривания. Система спаривания биполярная, конъюгируют клетки а
и а типов. После конъюгации образуются дикариотические гифы с пряжками. Септы
мицелия имеют типичные долипоры без парентосом. Плодовых тел не образуют. На
гифах латерально или терминально образуются узкие голобазидии с раздутой вер-
шиной. На верхушке базидии из четырех локусов формируются базипетальные це-
почки базидиоспор. Брожение отсутствует. Инозит ассимилируют, крахмалоподоб-
ные вещества образуют. Род был описан после обнаружения телеоморфной стадии у
хорошо известного вида несовершенных дрожжей Cryptococcus neoformans, являю-
щегося возбудителем опасного заболевания - криптококкоза.
и ,.,; .;■■•"
( )
.) .) ; Ч;
; l )
J
Filobasidiella neoformans (Cryptococcus neoformans).
Filobasidium
Колонии белые, кремовые, иногда бледно розовые, обычно слизистые. Почкую-
щиеся клетки круглые, овальные или удлиненные. Могут формировать псевдомице-
лий или истинный мицелий. Гетероталличные. Половое размножение начинается
слиянием клеток противоположных типов спаривания (а и а). После конъюгации
развивается дикариотический мицелий с пряжками, на котором терминально или
латерально формируются вытянутые удлиненные одноклеточные базидии (голобази-
дии) . На верхушке базидии располагаются сидячие базидиоспоры, напоминающие
изогнутые лепестки, что при дает базидии сходство с цветком. Септы мицелия с
типичными долипорами без парентосом. Не бродят. Инозит ассимилируют или не
ассимилируют, крахмалоподобные соединения образуют.
» л
J
0
J
(C)
.
*■;
i ,
i
У
/
с
t~
у
*
r^~~ **
f
m^^.^^m
Filobasidium olive.
Itersonilia
Колонии кремовые, матовые, с мицелием по краю. Обильный септированный мице-
лий, дикариотический с пряжками, реже монокариотический с незаконченными
пряжками. Септы мицелия с долипорами без парентосом. На дикариотическом мице-
лии терминально или интеркалярно формируются круглые, овальные или грушевид-
ные клетки с несколько утолщенной оболочкой («спорогенные клетки»), служащие
аналогами базидий. При прорастании спорогенных клеток образуются билатерально
симметричные баллистоконидии, серповидные, грушевидные. Прорастающие балли-
стоконидии образуют апрессории и могут развивать вторичные баллистоконидии,
формируя монокариотическую дрожжевую фазу. Не бродят. Крахмалоподобные соеди-
нения не образуют. Ксилоза присутствует в гидролизатах клеток. Преобладающий
убихинон Q-9.
е
— i
Itersonilia pereplexans.
Cystofilobasidium
Колонии у большинства видов оранжевые, розово-красные за счет присутствия
каротиноидных пигментов. Дрожжевая фаза в виде одиночных овальных или удли-
ненных полярно почкующихся клеток, которые могут быть гаплоидными или дипло-
идными . Баллистоспоры не образуют. У некоторых видов может формироваться при-
митивный псевдомицелий. Гомо- или гетероталличны. Телеоморфная стадия, кото-
рая развивается непосредственно или после конъюгации клеток противоположных
типов спаривания, представлена септированным мицелием с пряжками. Септы мице-
лия имеют долипоры без парентосом. На мицелии интеркалярно или терминально
образуются круглые, толстостенные темнопигментированные телиоспоры. При про-
растании телиоспор формируются тонкие трубчатые или короткие грушевидные не-
септированные базидий с терминальными сидячими базидиоспорами. Могут слабо
сбраживать сахара. Инозит ассимилируют, крахмалоподобные вещества образуют.
Г
ф
Cystofilobasidium.
Mrakia
Колонии белые до кремовых, часто слизистые. В дрожжевой фазе клетки оваль-
ные или удлиненные, размножаются почкованием, обычно формируют псевдомицелий.
Мицелиальная фаза развивается без предварительной конъюгации клеток. Гифы од-
ноядерные, без пряжек. Септы мицелия с долипорами без парентосом. На гифах
образуются толстостенные круглые телиоспоры, прорастающие 1-3 -клеточными ба-
зиднями. На базидии латерально или терминально расположены овальные базидиос-
поры. Могут сбраживать глюкозу. Инозит не ассимилируют. Образуют крахма-
лоподобные соединения. Психрофилы, максимальная температура роста у большин-
ства штаммов не превышает 22-25 С.
Mrakia arctica.
Sterigmatosporidium
Колонии кремовые, слизистые. Дрожжевые клетки овальные или удлиненные, поч-
ки образуются на длинных выростах (стеригмах) и отделяются септой, которая
закладывается на дистальном конце стеригмы. Образуют псевдомицелий и истинный
дикариотический мицелий с пряжками. На мицелии формируются толстостенные
клетки, напоминающие телиоспоры, но дикариотические. Они могут прорастать од-
ноклеточными структурами, подобными базидиям. Не бродят. Инозит ассимилируют,
крахмалоподобные соединения образуют. Ксилоза присутствует в гидролизатах
клеток. Преобладающий убихинон Q-10.
Ч» t Q О
б.
«*
.*?.%*..
с
; Ъ &
$
ф
г*
Sterigmatosporidium.
Xanthophyllomyces
Колонии оранжево-красные за счет присутствия каротиноидных пигментов. Клет-
ки круглые или короткоовальные, размножаются почкованием. В старых культурах
клетки превращаются в хламидоспоры. Истинный мицелий отсутствует. Половой
процесс включает конъюгацию клетки с собственной почкой. После конъюгации зи-
гота прорастает узкой цилиндрической базидией. Базидиоспоры расположены на
базидии терминально на небольших выростах. Базидиоспоры не отстреливающиеся,
прорастают почкованием. Сбраживают глюкозу. Инозит не ассимилируют. Образуют
крахмалоподобные соединения. В роде единственный вид10 - X. dendrorhous, ана-
морфа которого известна под названием Phaffia rhodozyma. Местообитание этого
вида - весенние сокотечения деревьев. Используются для получения астаксанти-
на, применяемого в качестве кормовой добавки при выращивании лососевых рыб.
Уже нет.
Xanthophyllomyces.
Анаморфные роды
базидиомицетовохю
аффинитета
Так же как и среди аскомицетовых дрожжей, среди базидиомицетовых многие ви-
ды известны только в анаморфном состоянии. Сравнение нуклеотидных последова-
тельностей рРНК показало, что несовершенные дрожжи базидиомицетовохю аффини-
тета включают представителей всех трех рассмотренных выше классов:
Urediniomycetes, Ustilaginomycetes и Hymenomycetes. Многовидовые анаморфные
роды базидиомицетов представляют собой филогенетически очень гетерогенные
группы. Например, различные виды рода Cryptococcus оказались родственными ви-
дам в родах Tremella, Filobasidium, Cystofilobasidium. Виды рода Rhodotorula
представляют собой анаморфы родов Sporidiobolus, Rhodosporidium, Erythroba-
sidium.
Bensingtonia
Колонии белые, кремовые, бледно-розовые, коричневатые или серовато-красные.
Клетки овальные или удлиненные. Почкование в основном на полюсах клеток, поч-
ки сидячие или на коротких зубчиках. Образуют двусторонне симметричные балли-
стоспоры: прямые или искривленные, апикулятные, овальные, миндалевидные, сер-
повидные или почковидные. Могут формировать псевдомицелий или истинный мице-
лий . Септы мицелия с простыми порами. Не бродят. Инозит не ассимилируют.
Крахмалоподобные соединения не образуют. Ксилоза в гидролизатах клеток отсут-
ствует. Преобладающий убихинон Q-9.
V^'\ !
r rrfft - '
«ГЛ (V Г'г i —J
Bensingtonia.
Bullera
Колонии белые, кремовые, коричневатые, оранжевые или красные, слизистые или
сухие. Клетки круглые, овальные или удлиненные. Почкование в основном поляр-
ное, почки сидячие или на коротких зубчиках. Образуют баллистоспоры. Балли-
стоспоры радиально или двусторонне симметричные, круглые, эллипсоидальные,
иногда слегка угловатые, почковидные, каплевидные или серповидные. Могут об-
разовывать псевдомицелий или истинный мицелий. Не бродят. Ксилоза присутству-
ет в гидролизатах клеток. Преобладающий убихинон Q-10.
(а)/ ** >^ '. , (Ь) ^
*л-* -/V
1 J
J
'J <^' j
+0
^
J
Bullera cylindrica.
Cryptococcus
Колонии белые или кремовые, некоторые красные, желтые, оранжевые или блед-
но-розовые, у большинства видов слизистые. Клетки преимущественно круглые,
овальные или удлиненные, обычно капсулированные. Вегетативное размножение по-
лярным или многосторонним почкованием. Могут формировать псевдомицелий или
истинный мицелий. Все виды ассимилируют инозит (или D-глюкуроновую кислоту),
большинство видов образует крахмалоподобные соединения. Ксилоза присутствует
в гидролизатах клеток. Преобладающий убихинон Q-9 или Q-10. Распространены
повсеместно, один из наиболее часто встречающихся родов дрожжей в почвах и на
растениях во всех природных зонах. В роде Cryptococcus классифицируются ана-
морфы родов Filobasidium, Filobasidiella, Cystofilobasidium и других теле-
оморфных родов из порядков Tremellales и Filobasidiales, а также виды с неиз-
вестными телеоморфными стадиями.
Cryptococcus neoformans в ткани легких (препарат).
Fellomyces
Клетки круглые до эллипсоидальных. Почки образуются по одной на концах сте-
ригм и отделяются после закладки септы на дистальном конце стеригмы. Длина
стеригм может достигать 4 мкм.
Может формироваться истинный мицелий. Баллистоспоры не образуют. Не бродят.
В гидролизатах клеток присутствует ксилоза. D-глюкуроновую кислоту и инозит
ассимилируют. Преобладающий убихинон Q-10.
нрз5
V
ИЙ408
)
<№
_;
у ~G
j ,v
5 pm
j J
5|im
Fellomyces.
Kockovaella
Колонии сероватые, серовато-желтые, серовато-оранжевые. Клетки круглые, ко-
роткоовальные или почковидные, способны к трем типам размножения: обычным
почкованием (редко), образованием почек на тонких выростах (стеригмах) и фор-
мированием баллистоспор. Баллистоспоры круглые, реповидные, почковидные или
эллипсоидальные. Мицелий и псевдомицелий не образуют. Сахара не сбраживают.
Ксилоза присутствует в гидролизатах клеток. Преобладающий убихинон Q-10.
%9
9
3.
о t?
Q'о
7**.%'
./
г*
Kockovaella libkindii.
Kurtzmanomyces
Клетки круглые, овальные или цилиндрические. Конидии (почки) образуются по
одной на вершинах стеригм и отделяются после закладки септы на дистальном
конце стеригмы. Иногда стеригмы удлиняются и ветвятся, в этом случае могут
формироваться дополнительные почки. Образуют истинный мицелий. Баллистоспоры
не образуют. Не бродят. Инозит не ассимилируют. Крахмалоподобные соединения
не образуют. Ксилоза в гидролизатах клеток отсутствует. Преобладающий убихи-
нон Q-10. Выделен из рода Fellomyces на основании отсутствия ксилозы в гидро-
лизатах клеток.
Kurtzmanomyces shapotouensis.
Pseudozyma
Колонии серовато-белые, розовые, оранжевые или коричневатые, обычно с цен-
тральной дрожжевой частью и субстратным и воздушным мицелием по краю. Клетки
вариабельны по форме, чаще овальные или удлиненные. Мицелий с перетяжками в
районе септ. Часто наблюдается отделение цитоплазмы внутри лизирующихся кле-
ток. На мицелии формируются веретеновидные бластоконидии на длинных зубчиках
и акропетальные цепочки конидий. Могут присутствовать хламидоспоры. Бал-
листоспоры не образуют. Сахара не сбраживают. Ассимилируют инозит. Крахмало-
подобные соединения не образуют. Ксилоза в гидролизатах клеток отсутствует.
Преобладающий убихинон Q-10. Виды Pseudozyma ранее классифицировались в раз-
личных родах несовершенных дрожжей (Sporobolomyces, Candida, Sterigmatomyces,
Stephanoascus), но были объединены в одном роде на основании более детальных
сравнительных исследований и молекулярно-биологических характеристик. Сравне-
ние нуклеотидных последовательностей рРНК позволяет предположить, что они яв-
ляются анаморфными стадиями головневых грибов.
Pseudozyma aphidis.
Rhodotorula
Колонии красные, розовые, оранжевые или белые и кремовые. Клетки круглые,
овальные или удлиненные, у некоторых видов веретеновидные, сигаровидные. Ве-
гетативное размножение многосторонним или полярным почкованием. Могут форми-
ровать псевдомицелий или истинный мицелий. Баллистоспоры не образуют. Не бро-
дят. Инозит не ассимилируют или ассимилируют инозит, но не D-глюкуроновую ки-
слоту . Крахмалоподобные соединения не образуют. Ксилоза в гидролизатах клеток
отсутствует. Преобладающий убихинон Q-9 или Q-10. Сборный полифилетическии
род, известные телеоморфы некоторых видов классифицируются в родах
Rhodosporidium, Leucosporidium.
Rhodotorula glutinis.
Sporobolomyces
Колонии розовые, оранжево-красные, кремовые или желтовато-коричневые. Клет-
ки овальные, веретеновидные или удлиненные. Почкование в основном полярное,
реже многостороннее, почки сидячие или на коротких зубчиках. Образуют балли-
стоспоры, иногда очень активно. Баллистоспоры двусторонне симметричные, ал-
лантоидные, фасолевидные, миндалевидные, каплевидные, серповидные. Могут об-
разовывать псевдомицелий или истинный мицелий. Не бродят. Ксилоза в гидроли-
затах клеток отсутствует. Преобладающий убихинон Q-10. Ряд видов - анаморфы
рода Sporidiobolus.
Sporobolomyces koalae.
Sterigmatomyces
Колонии белые или кремовые. Клетки круглые или овальные, при вегетативном
размножении образуют 1-2 конидиогенные стеригмы до 3 мкм длиной. Конидии
(почки) развиваются на концах этих стеригм. Почки также могут образовывать
стеригмы с конидиями, что приводит к формированию коротких разветвленных це-
почек клеток. Отделение почки происходит после закладки септы в центральной
части стеригмы. Мицелий отсутствует. Баллистоспоры не образуют. Не бродят.
Инозит ассимилируют. Ксилоза в гидролизатах клеток отсутствует. Преобладающий
убихинон Q-9.
Sterigmatomyces halophilus.
Trichosporon
Колонии кремовые, слизистые или сухие. Образуют обильный септированный ми-
целий, распадающийся на артроспоры. На мицелии могут формироваться также бла-
стоконидии, разветвленные апрессории, в клетках мицелия - эндоспоры. Почкую-
щиеся клетки и псевдомицелий, как правило, отсутствуют. Септы мицелия с доли-
порами. Не бродят. Преобладающий убихинон Q-9 или Q-10. В гидролизатах клеток
присутствует ксилоза. Филогенетически гетерогенный род, который ранее включал
виды как аскомицетового, так и базидиомицетового аффинитета. В настоящее вре-
мя объединяет только анаморфные виды базидиомицетового аффинитета, ха-
рактеризующиеся обильным образованием артроконидий.
Trichosporon beigelii.
Tsuchiyaea
Род создан для единственного вида Т. wingfieldii, ранее классифици-
ровавшегося в роде Sterigmatomyces. В отличие от видов последнего рода, Т.
wingfieldii способен к вегетативному размножению как с помощью формирования
конидий на специальных выростах (стеригмах), так и с помощью энтеробластиче-
ского почкования, а также характеризуется наличием ксилозы в гидролизатах
клеток.
Tsuchiyaea wingfieldii.
Udeniomyces
Род создан для нескольких видов, ранее классифицировавшихся в роде Bullera,
но отличающихся от других видов этого рода рядом существенных фенотипических
признаков и нуклеотидными последовательностями рРНК. Колонии бледно-
окрашенные , кремовые или розоватые. Клетки овальные или удлиненные, могут вы-
тягиваться в короткие гифы. Образуют очень крупные двусторонне симметричные
(каплевидные, булавовидные) баллистоспоры до 15 мкм в диаметре. В гидролиза-
тах клеток присутствует ксилоза.
(а)
j^
4 (^
\
<.. i
с
Udeniomyces pannonicus
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ДРОЖЖЕЙ
Определение видовой принадлежности дрожжей - сложная процедура, требующая
не только большого опыта, но и, как правило, достаточно длительных лаборатор-
ных исследований, связанных с постановкой серии тестов для определения рас-
смотренных выше морфологических, физиологических и биохимических признаков.
Лишь после составления достаточно полного описания штамма возможна его надеж-
ная видовая идентификация. В последнее время для идентификации дрожжей по та-
ким описаниям, наряду с традиционными дихотомическими ключами, широко исполь-
зуются компьютерные технологии нумерической идентификации. Такая идентифика-
ция может осуществляться на основе любой СУБД (средство управления базами
данных), в которую внесены стандартизованные признаки всех видов дрожжей. В
процессе идентификации программа поочередно сравнивает описание идентифици-
руемого штамма с описанием каждого вида и высчитывает уровень сходства (долю
совпавших признаков от общего количества использованных признаков). Результи-
рующая информация представляет собой список видов, ранжированный по уровню
сходства с идентифицируемым штаммом. Существуют специализированные программы
для идентификации дрожжей. Некоторые коллекции дрожжей предоставляют возмож-
ность поиска наиболее сходных штаммов с использованием Интернета (например,
http://www.cbs.knaw.nl). В последние годы бурно развивается система генобан-
ков, доступных через Интернет (например, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) , по-
зволяющих искать наиболее сходные нуклеотидные последовательности. Однако
следует помнить, что при идентификации с использованием таких формальных про-
цедур возможны серьезные ошибки, поэтому для надежного определения вида дрож-
жей необходима консультация со специалистом-систематиком, имеющим большой
опыт изучения разнообразия этих организмов. В первую очередь это относится к
идентификации штаммов, выделенных из природных местообитаний.
Приведенные ниже идентификационные ключи для определения рода составлены на
основе существующих определителей дрожжей и основаны главным образом на ис-
пользовании морфологических и некоторых физиологических признаков. Определе-
ние аскомицетовых и базидиомицетовых дрожжей проводится по разным критериям,
поэтому первое, что необходимо установить при идентификации дрожжевой культу-
ры - ее аффинитет, то есть принадлежность к аско- или базидиомицетовым гри-
бам. Для этого исследуется совокупность признаков аффинитета, рассмотренная
выше (см. табл. 3). Для определения видов внутри найденного рода следует об-
ратиться к определителям.
Ключ для определения родов аскомицетовых дрожжей
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Облигатные паразиты других организмов, не культи-
вируются на лабораторных средах
Виды, способные к росту на лабораторных средах
Облигатные паразиты грибов, образуют на мицелии
аски со шляповидными аскоспорами
Внутриклеточные паразиты в клетках эпителия кишеч-
ника дрозо фил. Образуют удлиненные аски с верете-
новидными аскоспорами
Вегетативное размножение исключительно путем деле-
ния
Вегетативное размножение преимущественно почкова-
нием или почкующимся делением
Одноклеточные, мицелий не образуют
Преимущественно мицелиальные, дрожжевые колонии
возникают за счет дробления мицелия на отдельные
клетки
Аскоспор не образуют
Аскоспоры образуют
Аски сферические, содержат одну аскоспору которая
быстро освобождается после разрушения стенки аска
Аски цилиндрические, открываются отверстием на
вершине, содержат 4-100 эллипсоидальных аскоспор
Вегетативное размножение исключительно биполярным
почкованием на широком основании (почкующееся де-
ление) , клетки апикулятные
Вегетативное размножение многосторонним истинным
почкованием на узком основании
Аскоспоры образуют
Аскоспор не образуют
а Аскоспоры круглые, гладкие, обычно 4 в аске, при
созревании копулируют попарно непосредственно в
аске, клетки крупные
Аскоспоры круглые, поверхность покрыта шипами, ас-
ки обычно содержат одну спору и образуются после
педогамной копуляции, клетки крупные, преимущест-
венно лимоновидные
Аскоспоры с асимметричным смещенным ободком (кеп-
ковидные), обычно 1-2 в аске, аски быстро разруша-
ются
2
3
Endomyces
Coccidiascus
4
7
Schizosaccharomyces
5
Geotrichum
6
Galactomyces
Dipodascus
8
11
9
10
Saccharomycodes
Nadsonia
Wickerhamia
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Аскоспоры шляповидные или сферические, аски обра-
зуются без предшествующей конъюгации, клетки мел-
кие
Сахара сбраживают
Сахара не сбраживают
Почкующиеся клетки треугольные
Клетки не бывают треугольными
Культуры интенсивно образуют уксусную кислоту, что
придает им характерный запах, клетки удлиненные с
заостренным концом, культуры короткоживущие
Не образуют уксусную кислоту, культуры долгоживу-
щие
Аскоспоры образуют
Аскоспоры не образуют
Аскоспоры образуют
Аскоспоры не образуют
Дрожжеподобные грибы с обильным истинным мицелием,
аски образуются в основном из клеток мицелия
Истинного мицелия не образуют или он скудный, аски
одиночные
Гифы имеют септы с долипорами, которые заметны в
световом микроскопе как черная точка, споры шляпо-
видные
Гифы с септами без долипор
Аскоспоры игловидные, с хлыстовидными придатками,
иногда с поперечной септой или вздутием в цен-
тральной части
Аскоспоры не игловидные
Аски образуются в результате слияния двух соседних
клеток гиф (гаметангиогамия)
Аски образуются без предварительной конъюгации
клеток гиф
Аски круглые, с одной стерильной клеткой на верши-
не, содержат 2-4 шляповидные аскоспоры
Аски круглые или обратнояйцевидные, содержат 1-4
аскоспоры полусферической формы
Аски цилиндрические или игловидные, открываются
отверстием на вершине; в аске множество овальных
или бобовидных аскоспор
Аски овальные собраны в мутовки на вершине прямых
неветвящихся гиф, открываются отверстием на верши-
не, аскоспоры шляповидные, по 4 в аске
Аски содержат множество аскоспор, которые освобож-
даются через отверстие на вершине аска; новые аски
образуются, прорастая через остатки старого; ас-
коспоры овальные, со смещенным ободком
Аски одиночные, не собранные в пучки, на мицелии
или свободные, содержат 1-4 аскоспоры
Аски на мицелии или свободные, быстроразрушающие-
ся, содержат1-4 круглые или шляповидные аскоспоры,
интенсивно разжижают желатин
Аски на мицелии, устойчивые, желатин не разжижают
Hanseniaspora
Kloeckera
Schizoblastosporion
Trigonopsis
12
13
14
Dekkera
Brettanomyces
15
38
16
22
Ambrosiozyma
17
Eremothecium
18
19
20
Stephanoascus
Zygoascus
Dipodascopsis
Cephaloascus
Ascoidea
21
Yarrowia
Saccharomycopsis
22
23
24
25
?6
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Аски мешковидные, образуются после копуляции со-
седних почек (адельфогамия) или педогамио
Аски иные
Колонии слизистые, аскоспоры янтарного цвета, аски
образуются из особых выростов клеток, быстро раз-
рушаются
Колонии слизистые, аскоспоры янтарного цвета, аски
мешковидные, устойчивые
Колонии не слизистые, аскоспоры бесцветные
Культуры растут только при температере 30-40 С,
для роста необходимо присутствие аминокислот, ви-
таминов группы В и высокое содержание С02, обитают
в кишечнике кроликов
Специфические условия роста не требуются
Аски образуются из длинных трубчатых выростов кле-
ток, содержат 4 шляповидных споры, сбраживают кси-
лозу
Аски иные
Аскоспоры игловидные, аски булавовидные или оваль-
ные, обычно образуются из хламидоспор,
Аскоспоры не игловидные
Аскоспоры сферические, удлиненные или бобовидные,
без ободка
Аскоспоры сферические или овальные, с экваториаль-
ным ободком
Аскоспоры шляповидные или сферические с субэквато-
риальным ободком
Аски быстро разрушаются с высвобождением аскоспор
Аски устойчивые
Аскоспоры овальные, сферические, или бобовидные,
обычно более одной в аске, оболочка зрелого аска
разрушается полностью
Аскоспоры овальные, по одной в аске, освобождаются
через отверстие на вершине аска, после чего аски
сморщиваются
Аскоспоры булавовидные, 1-2 в аске
Активно сбраживают глюкозу, инозит не ассимилируют
Глюкозу не сбраживают или сбраживают слабо, инозит
ассимилируют
Аскоспоры сферические
Аскоспоры овальные, 1-2 в аске
Активно сбраживают глюкозу
Глюкозу сбраживают слабо или не сбраживают
Клетки с длинными выростами (протуберанцами)
Клетки без выростов
Аски образуются непосредственно после конъюгации
двух клеток, часто гантелевидные
Аски образуются из диплоидных клеток, круглые или
овальные
Образуют хорошо выраженную пленку при при росте в
жидкой среде
Пленку не образуют
23
24
Zygozyma
Lipomyces
Babjevia
Cyniclomyces
25
Pachysolen
26
Metschnikowia
27
28
37
Pichia
29
31
30
Wickerhamiella
Clavispora
Kluyveromyces
Sporopachydermia
32
Lodderomyces
33
Debaryomyces
Torulaspora
34
Zygo s accharomyce s
35
Issatchenkia
36
36
37
38
39
40
Аскоспоры бородавчатые, нитраты ассимилируют
Аскоспоры бородавчатые, нитраты не ассимилируют
Аскоспоры гладкие, нитраты не ассимилируют
Ксилозу ассимилируют
Ксилозу не ассимилируют
Колонии пигментированные, розовые, оранжевые или
желтые, обычно образуют крахмалоподобные соедине-
ния
Колонии непигментированные, белые или кремовые
Колонии слизистые, образуют крахмалоподобные со-
единения
Колонии не слизистые, крахмалоподобные соединения
не образуют
Обильный мицелий с игловидными бластоконидиями
Псевдомицелий, терминальные клетки которого дихо-
томически ветвятся и трансформируются в апрессории
Гифы, распадающиеся на короткие артроспоры и обра-
зующие блас- токонидии на коротких зубчиках
Бластоконидии на коротких зубчиках, образуются
гроздьями на слегка вздутых концах гиф, часто име-
ют остевидные или хлыстовидные придатки
Бластоконидии образуются симподиально и при отде-
лении оставля ют заметные рубцы
Отсутствие перечисленных выше признаков
Citeromyces
Arxiozyma
Saccharomyces
Williopsis
Saturnispora
анаморфы порядков
Taphrinales и
Protomyсеtales
39
Myxozyma
40
Aciculoconidium
Botryozyma
Arxula
Blastobotrys
Sympodiomyces
Candida
Ключ для определения родов базидиомицетовых дрожжей
1
2
3
4
5
6
7
8
В культуре присутствуют мицелий (обычно дика-
риотический с пряжками), а также телиоспоры или
базидии (телеоморфная стадия)
Телиоспоры или базидии отсутствуют, мицелий,
если присутству ет, то без пряжек (анаморфная
стадия)
Телиоспоры присутствуют
Телиоспоры отсутствуют
Крахмалоподобные соединения образуют
Крахмалоподобные соединения не образуют
Конидии (почки) образуются на длинных выростах
(стеригмах)
Конидии (почки) сидячие или на коротких зубчи-
ках
Глюкозу не сбраживают, мицелий обычно с пряжка-
ми, колонии пигментированные, оранжевые, розо-
во-красные
Обычно сбраживают глюкозу, мицелий без пряжек,
колонии белые
Баллистоспоры образуют
Баллистоспоры не образуют
Колонии пигментированные, красные, розовые или
оранжевые
Колонии белые
Баллистоспоры образуют
Баллистоспоры не образуют
2
13
3
8
4
6
Sterigmatosporidium
5
Cystofilobasidium
Mrakia
Sporidiobolus
7
Rhodosporidium
Leucosporidium
9
10
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Базидии многоклеточные, обычно продольно септи-
рованные, образуют баллистоспоры
Базидии (спорогенные клетки) одноклеточные, с
утолщенной обо лочкой, прорастают билатерально
симметричными баллистоконидиями
Крахмалоподобные соединения не образуют
Крахмалоподобные соединения образуют
Базидии с цепочками базидиоспор, образующихся
базипетально
Базидиоспоры одиночные, не образуют цепочек
Инозит ассимилируют
Инозит не ассимилируют
Конидии (почки) образуются на длинных выростах
(стеригмах)
Конидии (почки) сидячие или на коротких зубчи-
ках
Инозит ассимилируют, ксилоза в гидролизатах
клеток присутствует
Инозит не ассимилируют, ксилоза в гидролизатах
клеток отсут ствует
Баллистоспоры образуют
Баллистоспоры не образуют
Септа, отделяющая почку и материнскую клетку,
закладывается на дистальном конце стеригмы
Септа в средней части стеригмы
Септа, отделяющая почку и материнскую клетку,
закладывается на дистальном конце стеригмы
Септа в средней части стеригмы
Баллистоспоры образуют
Баллистоспоры не образуют
Баллистоспоры центрально-симметричные
Баллистоспоры билатерально-симметричные
Баллистоспоры крупные, до 10-15 мкм в диаметре,
ксилоза в гидролизатах клеток присутствует -
Баллистоспоры мелкие, ксилоза в гидролизатах
клеток отсутству ет
Колонии красные или оранжево-красные, кофермент
Q-10
Колонии белые или бледно-окрашенные, кофермент
Q-9
Почкование монополярное на широком основании,
отделившаяся почка оставляет на материнской
клетке шрам в виде воротничка, из которого по-
являются по следующие почки
Почкование иное
Образуют септированный мицелий, распадающийся
на артроспоры, которые образуют характерный
«зигзаг»
Мицелий, если образуется, не распадается на
артроспоры
Глюкозу сбраживают, колонии красно-оранжевые
Глюкозу не сбраживают
Bulleromyces
Itersonilia
Erythrobasidium
11
Filobasidiella
12
Filobasidium
Xanthophyllomyces
14
18
15
17
Kockovaella
16
Fellomyces
Tsuchiyaea
Kurtzmanomyces
Sterigmatomyces
19
22
Bullera
20
Udeniomyces
21
Sporobolomyces
Bensingtonia
Malassezia
23
Trichosporon
24
Phaffia
25
25
а Инозит ассимилируют, крахмалоподобные соеди-
нения обычно образуют, ксилоза в гидролизатах
клеток присутствует
Инозит не ассимилируют, крахмалоподобные соеди-
нения не образу ют, ксилоза в гидролизатах кле-
ток отсутствуют
Cryptococcus и анаморфы
Tremella близких родов
Rhodotorula и анаморфы
грибов из клада
Microbotryum
КОЛЛЕКЦИИ
ДРОЖЖЕЙ
Вновь описываемые виды должны типифицироваться штаммами, которые помещают в
крупные коллекции, где они поддерживаются в живом состоянии. Это делает их
доступными для научной общественности. Кроме хранилищ таких штаммов коллекции
выполняют различные функции: научные, учебные, производственные. Они проводят
патентование практически ценных штаммов, осуществляют обмен и выдачу культур
для разных целей, проводят таксономические исследования, составляют периоди-
чески публикуемые каталоги. Коллекции дрожжей различаются как по своему объе-
му, так и по направленности. Есть очень крупные, хорошо известные в научном
мире коллекции, где проводятся широкие исследования по систематике дрожжей,
разрабатываются способы наилучшего хранения штаммов. Есть и небольшие, но
очень ценные коллекции, где собраны штаммы с конкретной целью, служащие для
выполнения специальных исследований.
Крупнейшая коллекция дрожжей - CBS (Centraalbureau voor Schimmelcultures).
Эта коллекция была создана в 1904 г. по решению 11-го международного Ботани-
ческого Конгресса в Вене. Она поддерживается Королевской Нидерландской Акаде-
мией Искусств и Наук и до 2000 г. располагалась на родине Левенгука в г.
Дельфте. В настоящее время коллекция CBS находится в г. Утрехте и является
мировым центром по изучению систематики дрожжей. Главным образом на базе этой
коллекции была создана серия определителей дрожжей, содержащих описания всех
известных видов и диагностические ключи для их идентификации.
Среди других крупных коллекций дрожжей ВКМ (Всероссийская коллекция микро-
организмов) и ВКПМ (Всероссийская коллекция промышленных микроорганизмов) в
России, АТСС (American Type Culture Collection) в США, IFO (Institute of
Fermentation in Osaka) в Японии, CCY (Culture Collection of Yeasts) в Слова-
кии, NCYC (National Collection of Yeast Cultures of the United Kingdom) в
Англии. Существует также ряд крупных специализированных коллекций дрожжей,
например, генетически модифицированных штаммов Saccharomyces cerevisiae,
штаммов, используемых в виноделии и других биотехнологических процессах.
Основная проблема, с которой сталкиваются работники микробиологических кол-
лекций - необходимость длительного поддержания чистых культур в жизнеспособ-
ном состоянии. Для хранения дрожжевых культур используются разные методы, ка-
ждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.
Наиболее доступный и широко применяемый метод хранения - поддержание куль-
тур путем их периодических пересевов, обычно в пробирках со скошенным агаром.
Сроки пересевов определяются скоростью высыхания среды и зависят от темпера-
туры и влажности помещения. Промежутки между пересевами можно увеличить за
счет более плотного закупоривания пробирок и снижения температуры хранения.
Хранение в холодильной камере при температуре около 5 С дает возможность уве-
личить сроки пересевов до 2-3 лет. Для предотвращения высыхания культур ис-
пользуют заливку культур минеральным маслом. Этот способ позволяет сохранять
культуры большинства видов дрожжей без пересевов в течение 10 и более лет.
Другой способ, используемый для длительного хранения дрожжевых культур -
лиофилизация, то есть высушивание под вакуумом из замороженного состояния.
Лиофилизированные культуры хранят в запаянных стеклянных ампулах при комнат-
ной температуре или в холодильнике. Такие культуры могут сохраняться в жизне-
способном состоянии в течение нескольких десятилетий. Недостатком этого спо-
соба является невозможность визуального контроля за жизнеспособностью культу-
ры. Кроме того, не все виды дрожжей выдерживают процесс лиофилизации, а при
длительном хранении лиофилизированных культур могут происходит существенные
изменения в их метаболизме.
В последнее время все шире применяется еще один способ длительного хранения
культур микроорганизмов - замораживание в жидком азоте. Замороженные в ампу-
лах культуры хранят в специальных контейнерах-рефрижераторах с жидким азотом
при температуре -196 С. Такой способ позволяет сохранять жизнеспособные куль-
туры дрожжей в течение практически неограниченного времени.
(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)
Химичка
ПОЛУЧЕНИЕ ЛЮМОГЕНА КРАСНОГО
5-(п-диметиламинобензилиден) барбитуровой кислоты [5-(p-dimethylaminoben-
zylidene)barbituric acid] может быть использована в качестве люминесцентного
красителя или в качестве люминофора, флуоресцирующего в оранжево-красной об-
ласти спектра. Как люминофор данное соединение может быть использовано для
люминесцентной дефектоскопии, метки песков, аэрозолей, изготовления люминес-
центных карандашей, туши, тройного цветоделения в полиграфии и т. д.
Синтез проведен в соответствии с методикой из авторского свидетельства
№166703, загрузки уменьшены в 3 раза.
В колбе с обратным холодильником при перемешивании кипятят 3 часа суспензию
из 28.1 г барбитуровой кислоты, 29.8 г п-диметиламинобензальдегида, 300 мл
этилового спирта-ректификата и 3 мл 10% раствора NaOH.
После охлаждения осадок фильтруют и промывают горячей водой и спиртом. Вы-
ход люминофора 44 г; т. пл. 252-253 С.
Слева барбитуровая кислота, справа п-диметиламинобензальдегид.
Добавили этиловый спирт, на дне виден осадок.
ra!ft*-* «41?'?../■; >-;. - .• ч. -•:<
Со временем раствор становится насыщеннее.
*-*'":•
л*Т--ч; .
Добавили 10% раствор NaOH,
Реакционную массу нагревают при 100 С в течение 3 часов с магнитным
перемешиванием (лучше использовать механическое перемешивание).
Фильтруют и промывают спиртом (цвет красивый).
Промывают водой.
Осадок на фильтре промывают спиртом еще раз.
Осадок через сутки высох.
Продукт при комбинированном освещении: дневной свет и УФ-лампа.
Продукт под УФ-лампой.
т:
)ч0\
1?д\
*~ \
wc\
80 \
яо\
1
ш
?.о\
1
1
; i
i i .J
!
4-
»
1
г * —
1
—
| —i—^—
ff
r~
1 T
! \ j
i 1 \i
! 1 I
l 1 W
1 ! | 1 j i 11
i i . ■
Xizz
Г
f
_!_
1
• <
- - 4
. ,
M,
i/.
il
Jl
7 !/
i—x
—,
J
i \
sJ'
_J
^^ ,
рт~
1 i
> 4- —
-
k-——i
^^_^^_^
|M|
1 • 1
A -I - —J
1
1 "
J
, —-H
N
^-
id
— * H
~~*i
(
1 1
1
"■j
«MM^
-^toJ
,W 5*0 5Я7 S?0 660 700 7U0 bw„
На рисунке приведен спектр люминесценции: I — люмогена оранжево-
красного 612 (628); II — люмогена красного 640 (652).
Химичка
НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
МЕКАТИНОН
Мекатинон (ос-метиламино-пропиофенон или эфедрон) является моноаминовым ал-
калоидом и психоактивным стимулятором, замещенным катиноном. Он используется
в качестве рекреационного препарата из-за его мощного стимуляторнохю и эйфо-
рического эффектов, и считается вызывающим привыкание, причем как физическое,
так и психологическое привыкание возникают, если его использование прекраща-
ется после длительного или высокого введения.
Запрещён в большинстве стран. Незаконный оборот в США. данного вещества име-
ет ход с 1990 года, в Санкт-Петербурге — с 1982 года.
Эфедрон внесён как наркотик в Список I (наркотические средства, психотроп-
ные вещества и их прекурсоры, оборот которых в Российской Федерации ограничен
в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными до-
говорами Российской Федерации).
^^
Меткатинон был впервые синтезирован в 1928 году в Соединенных Штатах и был
запатентован Парке-Дависом в 1957 году. Он использовался в Советском Союзе в
1930-х и 1940-х годах в качестве антидепрессанта (под названием Эфедрой -
ephedrone). Меткатинон долгое время использовался в качестве препарата зло-
употребления в Советском Союзе и России.
Около 1994 года правительство Соединенных Штатов рекомендовало Генеральному
секретарю ООН, что мекатинон должен быть указан в качестве контролируемого
вещества Списка I в Конвенции о психотропных веществах. В 1995 году, после
консультаций с США, Китай добавил препарат в свой список запрещенных веществ
и прекратил его фармацевтическое использование.
Меткатинон является бета-кето N-метиламфетамином и тесно связан с естест-
венными соединениями, катиноном и катиной. Он также очень тесно связан с ме-
тамфетамином, различающийся только по заместителю р-кетона и отличающимся от
амфетамина как кето, так и N-метиловым заместителем. Его углеродный скелет
идентичен псевдоэфедрину и метамфетамину. Он отличается от псевдоэфедрина
тем, что гидроксидная бета к ароматическому кольцу окисляется до кетона.
Меткатинон обладает атомом хирального углерода, и поэтому возможны два
энантиомера. Когда он сделан полусинтетически из псевдо/эфедрина в качестве
стартового материала, тогда производится только один энантиомер. Учитывая,
что хиральный центр имеет альфа-водород и прилегает к карбонильной группе,
молекула будет растут в растворе через промежуточное соединение энол. Этот
процесс известен как кето-энол таутомеризм.
Производство мекатинона использует окисление псевдоэфедрина или эфедрина,
причем первое предпочтительнее из-за гораздо более высоких выходов. Окисление
псевдоэфедрина до мекатинона требует небольшого химического опыта, что делает
его (относительно) легко синтезируемым. Перманганат калия (KMN04) чаще всего
используется в качестве окислителя.
В подпольных лабораториях синтезирование мекатинона с использованием пер-
манганата калия считается нежелательным из-за низкого выхода и высокой ток-
сичности этого окислителя. Однако, если это сделано в надлежащей лаборатории
с использованием надлежащих процедур, перманганат калий может быть реагентом
для высоко выхода. Метод, который дает больше мекатинона, является окисление
(псевдо) эфедрина с соединениями хрома (VI).
Меткатинон в качестве свободного основания очень нестабилен; Он легко теря-
ет свою кетоновую группу, которая заменяется гидроксильной группой, давая
псевдоэфедрин, на обратной стороне типичной реакции синтеза. Структурно это
происходит, когда связь С=0 в RP положении превращается в связь С-ОН. Кроме
того, реакция димеризации наблюдалась в растворах свободного основания мека-
тинона , что дает биологически неактивное соединение.
Меткатинон' НС1
из пропиофенона
HBr/H202
ОСМ/Н20
30-АСГС
1-1,5 days
propiophenone
2- bromo-1- phenyl propan-l- one
Stage 1
1-Phenylpropan-l-one Bromination
Пропиофенон (250 мл) и НВг (200 мл 34%) помещаются в 2-литровую 3-горлую
круглодонную колбу с обратным холодильником. Перемешивание.
Перекись водорода 275 мл (Н202, 35%) помещается в 500-мл капельную воронку.
Н202 добавляется медленно, каждая порция после того как смесь перестанет ок-
рашиваться в красный цвет. Температура поддерживается в диапазоне 30-40 С.
Через 1 час после появления запаха брома и установления неисчезающей оран-
жевой окраски смеси добавление перекиси (где-то 150 мл) прекращается.
В конце бромирования добавляется 750 мл DCM.
Удаляется кислота промывкой 2-3 порциями дистиллированной воды по 750 мл до
достижения нейтральной рН. Перемешивание.
Затем приготовляется раствор карбоната натрия (ЫазСОз, 5-7%).
Промывочную воду перекачиваем в сосуд для нейтрализации лакриматора щело-
чью.
Приготовляем раствор карбоната натрия (62.5 г на 1200 мл воды) и медленно
добавляем в колбу из капельной воронки 2-мя порциями по 1250 мл. Смесь пере-
мешиваем по 20-30 мин. РН смеси должен оставаться немного щелочным.
Водный слой декантируем отсасыванием и выбрасываем,
смесь промываем щелочной водой (остаток щелочи).
После чего реакционную
DCM слой промываем 4-мя порциями воды по 750 мл до достижения нейтрального
рН. Остаточный небольшой водный слой и слабая щелочность не мешают. Перемеши-
вание .
DCM/H20
CH3NH2
35-А0°с
2-bromo-1-phenylpropan-1-one
2-(me1hylamino)-1-phenylpropan-1-one
Efedron -} Methcal inone
Stage 2.
preparation and Washing of Alethcathinonej^
Добавляем в колбу 350 мл 40% метиламина из капельной воронки и промываем им
DCM слой 24 часа. Температуру поддерживаем в районе 25-27 С.
После того как вторая половина метиламина добавлена температура реакции
спонтанно поддерживается около 27 С несколько часов (экзотермическая реак-
ция) .
Полученный раствор мекатинона в DCM промываем теплой (30 С) дистиллирован-
ной водой (8x750 мл) пока не исчезнет запах метиламина в промывной воде.
MfcaqHCI
2(methylamino)-1-phenylpropan-1-one
Efedroni Methccilinone
S tacje 3
Methcathinone Hydrochloride Format
2-(methylamiho)-1-pheny|propan-1-one
hydrochloride
Efedron hydrochloride
ov
Me1 heat i none hydrochloride
Добавляем 260 мл 14% HC1 из капельной воронки в раствор DCM. Температуру
поддерживаем не более 30 С.
Смесь становится слегка кислой. Смесь перемешиваем 1-1.5 часа.
Водный слой должен постоянно иметь слегка кислый рН.
Отделяем DCM слой в делительной воронке. Дополнительно его промываем порци-
ей воды с небольшим количеством соляной кислоты (1-2 мл если щелочная рН) .
DCM слой отбрасываем.
Водный слой с меткатинон'НС1 промываем с 2x100 мл чистым DCM для очистки от
органических примесей.
Водный раствор меткатинон'НС! испаряем пока он не закристаллизуется.
К кристаллизованной массе добавляем смесь 12 мл этилацетата и 50 мл ацето-
на.
Массу хорошо перемешиваем и фильтруем.
Помещаем меткатинон'НС! в фарфоровую ступку и измельчаем.
Затем добавляем немного смеси из 50 мл холодного ацетона (-5 С) и 50 мл хо-
лодного DCM. Делаем пасту.
Еще немного разбавляем пасту холодной смесью. Фильтруем и промываем той же
холодной смесью.
Сушим продукт.
Дополнительную очистку можно провести кристаллизацией из водно-спиртового
раствора.
Выход 210 г (56%) меткатинон'НС1.
Хранить в сухом и темном месте (0-4 С) несколько недель, если от месяца до
года то при -20 С.
Электроника
ПРИМЕНЕНИЕ RASPBERRY PI PICO
Буркхард Каинка
(окончание)
Быстродействующий
осциллограф
АЦП Rpi Pico достигает частоты дискретизации до 500 кГц. Если вы хотите в
полной мере воспользоваться этой скоростью, вам придется использовать прямой
доступ к памяти (DMA) , что относительно сложно. Очень простыми средствами
можно достичь частоты 200 кГц. Контур с 500 точками измерения работает в
Corel и тактируется на частоте 200 кГц с помощью микросекундного таймера. Та-
ким образом, промежуток времени между двумя точками измерения составляет 5
мкс. После записи измеренных значений они отправляются на ПК. В последова-
тельном плоттере осциллограммы получаются с осью времени 500 мкс на деление
шкалы. Самая высокая измеряемая частота составляет 100 кГц.
//Pico_Scope2
#include "pico/stdlib.h"
#include "hardware/adc.h"
#include "hardware/pwm.h"
#include "pico/multicore.h"
void setup() {
Serial.begin(115200);
}
void loop() {
}
void setupl() {
unsigned int scope[1000];
gpio_set_function(0, GPI0_FUNC_PWM) ;
pwm_set_wrap(0, 62499); //PWM 2 kHz, 50%
pwm_set_gpio_level(0, 31250);
pwm_set_enabled(0 , true) ;
adc_init();
adc_gpio_init (26) ;
adc_select_input (0) ;
while (true) {
uint32_t t = time_us_32 () ;
for (int n = 0; n < 500; n++){
scope [n]=adc_read() ;
t+=5 ;
while (t>time us 32()); //200 kHz
}
for
}
sleep ms(1000);
(int n = 0; n < 500; n++){
Serial.println ((int) scope[n]*3300/4095);
}
void loopl() {
}
Scope •-
^zzь
1k
10n
I I I
5V
40
4V7 GND EN
3V3 REF P28 GND P27 P26 RUN P22 GND
A2 AGND A1 A0 30
LED
W1
RP2040
BOOT
1
P0 P1 GND P2 P3 P4 P5 GND P6
10
P7
P8 P9 GND
I I I I I I
2kHz
Осциллограф имеет тестовый выход с прямоугольным сигналом частотой 2 кГц.
Аналоговый вход должен быть защищен резистором сопротивлением 1 кОм.
Вместе с параллельным конденсатором емкостью 10 нФ получается фильтр нижних
частот с частотой среза 16 кГц, что особенно полезно для исследований в диа-
пазоне 34. Для более высоких частот сигнала конденсатор следует исключить.
© С0М13 - □ X
4000.0 -
зооо.о -
2000.0 -
1000.0 -
I
[
0.0 \ l l
46000 46100 46200
115200 Baud v|
Senden
u
( 1
I
46300
V
46400 46500
Zeitenumbruch (CR) v
В примере показан тестовый сигнал частотой 2 кГц на выходе RC-фильтра ниж-
них частот. Одно колебание точно умещается на участке шкалы со 100 точками
измерения. Это подтверждает точную частоту дискретизации 200 кГц. Вы можете
увидеть типичное закругление краев из-за фильтра нижних частот. Второй пример
показывает синусоидальный сигнал частотой около 5 кГц.
© С0М13
3200.0 -
2400.0 -
1600.0 "
800.0 "
А
1
111
0.0 1
930000
115200 Baud у
Л Л /
1111
930100
ш
11111
930200
Senden
ш
'1111
930300
□ X
11Ш
llllllv
930400 93050С
Zeilenumbruch (CR) >/
Двухканальныи
осциллограф
Двухканальныи осциллограф заполняет массив из 1000 значений поочередно ре-
зультатами обоих каналов. Период дискретизации dt вначале устанавливается
равным 10 мксЛ так что частота дискретизации составляет 100 кГц, а время от-
клонения — 1 мс/дел. Скорость можно изменить с помощью последовательной ко-
манды. И снова предоставляется тестовый сигнал частотой 2 кГц.
А1 АО
1к
I l I I L
I I
I
1к
5V
40
4V7 GND EN
3V3 REF P28 GND Р27 Р26 RUN P22 GND
А2 AGND A1 АО 30
USB
LED
W1
RP2040
BOOT
1 10
P0 P1 GND P2 P3 P4 P5 GND P6 P7 P8 P9 GND
2 KHz
//Pico_Scope2 Dual Channel
#include "pico/stdlib.h"
#include "hardware/adc.h"
#include "hardware/pwm.h"
#include "pico/multicore.h"
void setup() {
Serial.begin(115200) ;
}
void loop () {
}
void setupl() {
unsigned int scope[1000];
unsigned int dt, dt2;
dt=10;
gpio_set_function(0, GPIO_FUNC_PWM) ;
pwm set wrap(0, 62499); //PWM 2 kHz, 50%
pwm_set_gpio_level(0, 31250);
pwm_set_enabled(0 , true) ;
adc_init() ;
adc_gpio_init (26) ;
adc_gpio_init (27) ;
adc_select_input (0) ;
while (true) {
if (Serial.available()){
dt2 = Serial. parselnt();
if( dt2>0)
dt=dt2;
}
uint32_t t = time_us_32 () ;
for (int n = 0; n < 500; n++){
adc_select_input (0) ;
scope [2 * n]=adc_read() ;
adc_select_input (1) ;
scope[2*n+l]=adc_read() ;
t+=dt;
while (t>time_us_32() ) ;
}
for (int n = 0; n < 500; n++){
Serial.print ((int) scope[2*n]*3300/4095);
Serial.print (" ") ;
Serial.print ((int) scope[2*n+l]*3300/4095);
Serial.print (" ");
Serial.print (0);
Serial.print (" ");
Serial.println (3300);
}
sleep_ms(1000) ;
}
}
void loopl() {
}
В первом примере измерения показан сигнал частотой 2 кГц после прохождения
фильтра нижних частот с сопротивлением 10 кОм и 10 нФ на первом канале. Вто-
рой канал был подключен к GND. На осциллограммах также всегда присутствуют
две вспомогательные линии при 0 и при 3300 мВ. Это обходит автоматическую ре-
гулировку диапазона последовательного плоттера, который в противном случае
всегда настраивает шкалу Y для разных сигналов.
Установка 500 мкс приводит к временному коэффициенту 50 мс/дел. Измерение
показывает два открытых входа с подключенными измерительными кабелями. В обе
стороны рассеивается интерференционный сигнал частотой 50 Гц с разной ампли-
тудой. При периоде 20 мс в каждой части шкалы наблюдается 2,5 колебания.
Двухканальный осциллограф может быть очень полезен при исследовании элек-
тронных схем. Ниже показана типичная схема генератора с прецизионным таймером
NE555. Осциллограф используется для измерения напряжения на зарядном конден-
саторе и выходного сигнала NE555. В этом случае подходящим оказалось время
отклонения 2 мс/дел, которое было установлено при времени выборки 20 мкс.
О сом13
□ X
4000.0
3000.0
2000.0
1000.0
0.0
№
—I—
90600
—I—
90700
—1
90800
—I
90900
1
91000
90500
115200 Baud v||
Senden
Zeilenumbruch (CR)
3 3V
# A1
# АО
© С0М13
4000.0 -+
П
X
зооо.о -+
:ооо.о i
юоо.о -+
о.о
1-
137600
1
137700
1—
137800
1
137900
1 A
13800d
137500
115200 Baud v bo
Senden
Zeilenumbruch (CR)
Семисегментный
дисплей
Среди функций SDK Rpi Pico есть функции маски, которые можно использовать
для объединения нескольких GPIO в один более крупный порт. Таким образом,
можно сформировать 8-битный порт, 16-битный порт или даже целый порт для всех
входов/выходов. Здесь предстоит управлять четырехзначным семисегментным дис-
плеем, имеющим в общей сложности 12 портов. Четыре из них подключены к общим
катодам отдельных цифр от 1 до 4. Остальные восемь контактов относятся к ано-
дам сегментов от а до f и десятичной запятой.
Для управления использовались 12 GPIO на правом краю Pico, то есть порты от
GP10 до GP21. Порты подключил так, чтобы самый короткий провод оказался посе-
редине, который потом лежит под остальными проводами. Это меняет порядок пор-
тов с GP10 на GP15.
Р21 P2Q Р19 Р18 GND P17 Р16
21
RPi Pico
20
Р10 Р11 Р12 Р13 GND P14 Р15
а ё '
■Ч а
1О
1U:
dpi d
1 а /
b
d
е
ZslZ
JSL
а
о
U:
d
1 а ,
b
d
е
Lju
dp
t \ a
a p
•o- i
•U:f
a U
J a
1 'O-
l "U:
4 d 1
В исходном коде шаблоны от d[0] до d[9] были определены для цифр от 0 до 9.
В этом случае единицы вставляются в позиции четырех общих катодов, так что
сначала все четыре цифры отключаются. На втором этапе желаемое катодное со-
единение отключается.
В результате получается следующее назначение портов:
1 a f 2 3 b
peg
GP21 GP20 GP19 GP18 GND GP17 GP16
b 3 2 f a 1
4 g с р d e
GPIO GPU GP12 GP13 GND GP14 GP15
Учитывая все 32 возможных порта, получается следующее назначение. Использу-
ются средние 12 портов.
0000 0000 004g cpde laf2 ЗЬОО 0000 0000
0000 0000 ООН 1111 1111 1100 0000 0000 = 0x003FFC00
В результате создается маска 0x003FFC00, которая указывает, какие порты
должны управляться как общий порт. gpio_init_mask (маска) инициализирует эту
группу. С помощью gpio_set_dir_masked (маска, маска) все переключаются как
выходы. С помощью gpio_put_masked (маска, значение) вы можете переключать все
12 бит вместе в соответствии с битами в значении. Или вы можете полностью пе-
реключить их с помощью gpio_set_mask (маска) .
Еще одна полезная функция переключает ток портов. Существует четыре уровня:
2 мА, 4 мА, 8 мА и 12 мА. В этом случае все сегментные линии устанавливаются
на 2 мА с помощью gpio_set_drive_strength, а все катодные цифры — на 12 мА.
Это означает, что вам не нужны последовательные резисторы для светодиодов
дисплея.
//Pico_SevenSegment
#include "pico/stdlib.h1
void setup() {
uint32_t mask = 0x003FFC00;
uint32_t value = 0x003FFC00;
uint32_td[14] ;
d[0]=0blll011110101«10;
d[l]=0blll001110111«10;
d[0]=0bllllll0101«10;
d[l]=0blll000101«10;
d[2]=0blll011110011«10
d[3]=0blll011010111«10
d[4]=0bllll01000111«10
d[5]=0b011111010111«10
d[6]=0b0111110111«10;
d[7]=0blll011000101«10;
d[8]=0bllllll0111«10;
d[9]=0bllll010111«10;
gpio_init_mask (mask);
gpio_set_dir_masked (mask, value) ;
gpio_set_drive_s trength (10 , GPIO_DRIVE_STRENGTH_12MA) ;
gpio_set_drive_strength (11 , GPIO_DRIVE_STRENGTH_2MA) ;
gpio_set_drive_s trength (12 ,GPIO_DRIVE_STRENGTH_2MA) ;
gpio_set_drive_s trength (13 , GPIO_DRIVE_STRENGTH_2MA) ;
gpio_set_drive_s trength (14 , GPIO_DRIVE_STRENGTH_2MA) ;
gpio_set_drive_strength (15 , GPIO_DRIVE_STRENGTH_2MA) ;
gpio_set_drive_s trength (16, GPIO_DRIVE_STRENGTH_l 2MA) ;
gpio_set_drive_s trength (17 , GPIO_DRIVE_STRENGTH_2MA) ;
gpio_set_drive_s trength (18 , GPIO_DRIVE_STRENGTH_2MA) ;
gpio_set_drive_strength(19,GPIO_DRIVE_STRENGTH_l 2MA) ;
gpio_set_drive_strength (20 , GPIO_DRIVE_STRENGTH_12MA) ;
gpio_set_drive_strength (21 , GPI0_DRIVE_STRENGTH_2MA) ;
int n=0;
while(true){
d[14]=d[n%10];
int nn=n/10;
d[13]=d[nn%10] ;
nn=nn/10;
d[12]=d[nn%10] ;
nn=nn/10;
d[ll]=d[nn%10] ;
nn=n/10;
n++;
for (int i=0; i<25; i++){
gpio_put_masked (mask, d[ll]);
gpio_put(13,l); //DP
gpio_put(16,0);
sleep_ms(1);
gpio_put_masked (mask, d[12]);
gpio_put(19,0);
sleep_ms(1);
gpio_put_masked (mask, d[13]);
gpio_put(20,0);
sleep_ms(1);
gpio_put_masked (mask, d[14]);
gpio_put(10,0);
sleep_ms(1);
}
}
}
void loop() {
}
В цикле for все четыре цифры управляются одна за другой в течение одной
миллисекунды каждая в мультиплексе. Десятичная точка должна быть установлена
индивидуально с помощью gpio_put(13,1), что было сделано здесь для первой
цифры. Всего программа подсчитывает переменную п за цикл 0,1 с.
Затем отдельные цифры разделяются, и их шаблоны сохраняются в регистрах от
d[ll] до d[14] для вывода в контуре мультиплексирования. Это обеспечивает
стабильное изображение без мерцания.
Цифровой
вольтметр
Четырехзначный семисегментный дисплей можно использовать в качестве индика-
тора напряжения, поскольку он четкий и его можно считывать с большого рас-
стояния. Программа снова использует БИХ-фильтр для сглаживания измеренных
значений. На дисплее используется десятичная точка в первой цифре, поэтому
может отображаться напряжение от 0,000 В до 3,300 В.
0
3.3V • 1 |
1к 10п
II
i i i i i
5V 4V7 GND EN 3V3 REF P28 GND P27 Р26 RUN P22 GND
40 А2 AGND A1 АО 30
/PicoSevenSegmentAD
#include "pico/stdlib.h"
#include "hardware/adc.h"
void setup() {
uint32_t ad=0;
uint32_t iir=0;
Serial.begin(115200) ;
adc_init() ;
adc_gpio_init (26) ;
//gpio_pull_up (26) ;
adcselectinput(0);
uint32_t mask = 0x003FFC00;
uint32_t value = 0x003FFC00;
uint32 t d[14];
d[0]=0blll011110101«10;
d[l]=0blll001110111«10;
d[0]=0bllllll0101«10;
d[l]=0blll000101«10;
d[2]=0blll011110011«10
d[3]=0blll011010111«10
d[4]=0bllll01000111«10
d[5]=0b011111010111«10
d[6]=0b0111110111«10;
d[7]=0blll011000101«10;
d[8]=0bllllll0111«10;
d[9]=0bllll010111«10;
gpio_init_mask (mask);
gpio_set_dir_masked (mask, value) ;
gpio_set_drive_strength (10 , GPIO_DRIVE_STRENGTH_12MA) ;
gpio_set_drive_strength (11 , GPI0_DRIVE_STRENGTH_2MA) ;
gpio_set_drive_strength (12 , GPIO_DRIVE_STRENGTH_2MA) ;
gpio_set_drive_strength (13 , GPIO_DRIVE_STRENGTH_2MA) ;
gpio_set_drive_strength (14 r GPIO_DRIVE_STRENGTH_2MA) ;
gpio_set_drive_strength (15 r GPIO_DRIVE_STRENGTH_2MA) ;
gpio_set_drive_strength (16 r GPI0_DRIVE_STRENGTH_12MA) ;
gpio_set_drive_strength (17 r GPIO_DRIVE_STRENGTH_2MA) ;
gpio_set_drive_strength (18 r GPIO_DRIVE_STRENGTH_2MA) ;
gpio_set_drive_strength (19 r GPI0_DRIVE_STRENGTH_12MA)
gpio_set_drive_strength (20 r GPIO_DRIVE_STRENGTH_12MA)
gpio_set_drive_strength (21 r GPI0_DRIVE_STRENGTH_2MA)
while(true){ a
d = adc_read 0*3300/4095;
iir = (iir*3+ad)/4; //IIR filter
Serial.println(iir);
d[14]=d[iir%10];
int nn= iir/10;
d[13]=d[nn%10] ;
nn=nn/10;
d[12]=d[nn%10] ;
nn=nn/10;
d[ll]=d[nn%10] ;
for(int i=0; i<125; i++){
gpio_put_masked (mask, d[ll]);
gpio_put(13,l);//DP
gpio_put(16,0);
sleep_ms(1);
gpio_put_masked (mask, d[12]);
gpio_put(19,0);
sleep_ms(1);
gpio_put_masked (mask, d[13]);
gpio_put(20,0);
sleep_ms(1);
gpio_put_masked (mask, d[14]);
gpio_put(10,0);
sleep_ms(1);
}
}
}
void loop() (
}
Синусоидальный
генератор DDS
Прямой цифровой синтез (DDS) — это метод генерации синусоидальных сигналов
и других сигналов с высоким частотным разрешением. Программа Pico ScopeDDS
сочетает в себе DDS-генератор и быстродействующий осциллограф с частотой дис-
кретизации 200 кГц.
Генератор DDS использует рассчитанную таблицу синусоид dds(1024) с ампли-
тудным разрешением 600 точек. Значения берутся отсюда через равные промежутки
времени и выводятся как ширина импульса ШИМ. Частота ШИМ составляет 200 кГц.
С той же периодичностью вызывается функция прерывания, при которой выводятся
новые табличные значения и принимаются измеренные значения АЦП. Таким обра-
зом, частота ШИМ, обновление выходных значений ШИМ и точки выборки осцилло-
графа синхронны.
I I I
5V 4V7 GND
40
USB
10
1 РП г\-гл.
LEU M/V
1
Р0 Р1 GND
к
\ 1
1
1 1
EN 3V3
BOOT
Р2 РЗ
1 1
2.2п
1
REF
Р4
I l l
Р28 GND P27
А2 AGND A1
Р5 GND P6
1 1 1 1
—• Sinus
I
Р26 RUN
АО 30
I
Р22 GND
RP2040
10
Р7 Р8
I
Р9 GND
I
Сигнал ШИМ сглаживается ФНЧ сопротивлением 10 кОм и 2,2 нФ и одновременно
подается на АЦП на вход АО.
//Pico_ScopeDDS
#include "pico/stdlib.h"
#include "hardware/adc.h"
#include "hardware/pwm.h"
#include "pico/multicore.h"
unsigned int scope[1000];
unsigned int dds[1024];
uintl6_t accumulator, i;
unsigned int f, dp;
void setup() {
f=1000;
dp=f*64/200;
Serial.begin(115200) ;
for(int j = 0; j<1024; j++){
dds[j]=312+300*sin(2*PI*j/1024.0);
}
while(true){
if (Serial.available()){
f = Serial.parselnt();
if( f>0)
dp=f*64/200;
}
i=0;
sleep_ms(1000);
for(int j = 0; j<500; j++){
Serial.println ((int) scope[j]*3300/4095);
}
}
}
void loop() {
}
void setupl() {
adc_init() ;
adc_gpio_init (26) ;
adc_select_input (0) ;
gpio_set_function(0, GPI0_FUNC_PWM) ;
pwm_set_wrap(0, 624); //PWM 200 kHz
pwm_set_gpio_level (0 , 312) ;
pwm_set_enabled(0 , true) ;
pwm_set_irq_enabled(0, true);
irq_set_exclusive_handler (PWM_IRQ_WRAP, pwm_int) ;
irq_set_enabled(PWM_IRQ_WRAP, true) ;
while (true);
}
void pwm_int() {
pwm_clear_irq(0) ;
pwm_set_gpio_level(0 r dds[accu»6]) ;
accu+=dp;
if(i<500){
s cope [i]=adc_read() ;
i++;
}
}
void loopl() {
}
После запуска программы генерируется частота 1000 Гц. При преобразовании
dp=f*64/200 на основе этого вычисляется разность фаз dp, которая добавляется
к 16-битному фазовому аккумулятору во времени с выходным сигналом. Старшие 10
бит аккумулятора служат указателем адреса текущей позиции в таблице синусоид,
dds [аккумулятор»6] . Это дает разрешение по частоте около 4 Гц и строгую про-
порциональность между dp и выходной частотой. На осциллограмме показан изме-
ренный синусоидальный сигнал частотой 1 кГц на последовательном плоттере.
© С0М13
4000.0 -
зооо.о -
2000.0 -
1000.0 -
0.0 I
80000
115200 Baud v
80100
80200
Senden
80300
□ X
80400 80500
Zeilenumbruch (CR) ^
Программа позволяет устанавливать любые частоты посредством последователь-
ных команд. В окне отправки введите, например, 2000 и подтвердите ввод клави-
шей возврата. Это устанавливает частоту генератора DDS на 2000 Гц.
Даже 10 кГц и более, по-прежнему работают без заметных искажений. Однако
амплитуда значительно уменьшается, поскольку частота сигнала уже превышает
частоту среза фильтра нижних частот 7,2 кГц.
© С0М13
3000.0
моо.о
1800.0 ■+
1200.0 -+
600.0
W
□
х
Л ft A
V
И
1
641600
1
641700
1
641800
1
641900
Neue Zeite
1 M
64200d
641500
115200 Baud ^ 10000
Senden
Выходной сигнал имеет относительно высокое сопротивление (10 кОм) , поэтому
амплитуда сигнала может резко падать при подключении внешних нагрузок. Буфер-
ный усилитель с операционным усилителем LM358 обеспечивает выходной сигнал с
низким импедансом.
+5V
10k
РО
Свип-генератор
10п
I
# out
Свип-генератор, который линейно увеличивает частоту до определенного конеч-
ного значения, подходит для записи частотных характеристик. Эту задачу можно
решить небольшими изменениями в генераторе синусоидального сигнала DDS. Вве-
денная частота f теперь является конечной частотой и вначале установлена на
10 кГц. Решающее изменение заключается в функции прерывания. При каждом за-
пуске измерения текущая частота пересчитывается.
//Pico_SweepDDS
#include "pico/stdlib.h"
#include "hardware/adc.h"
#include "hardware/pwm.h"
#include "pico/multicore.h"
unsigned int scope[1000];
unsigned int dds[1024];
uintl6_t accumulator, i;
unsigned int f, dp;
void setup() {
f=10000;
dp=f*64/200;
void pwm_int() {
pwm_clear_irq(0) ;
pwm_set_gpio_level(0, dds[accu»6]);
if(i>499)
accu+=dp;
if (i<500){
accu+=dp*i/500;
s cope [i]=adc_read() ;
i++;
}
}
C0M13
3200.0 i
moo.o ■+
1600.0 i
800.0
o.o
П
X
30600
30700
30000
30900
310001
30500
1115200 Baud v|
Senden
Zeiienumbruch (CR)
На осциллограмме показан отклик ФНЧ сопротивлением 10 кОм и 2,2 нФ в диапа-
зоне от 0 до 10 кГц. Части шкалы обозначают частоты 2 кГц, 4 кГц, 6 кГц, 8
кГц и 10 кГц. На частоте среза около 7 кГц амплитуда сигнала должна была
упасть на 3 дБ, т.е. до коэффициента 0,71. Результат подтверждает теорию в
пределах точности считывания.
При измерении до 50 кГц влияние фильтра нижних частот становится еще более
очевидным. В то же время в диапазоне выше 30 кГц видны определенные недостат-
ки представления, поскольку частота сигнала слишком близка к частоте дискре-
тизации. Если колебание состоит из слишком малого числа точек выборки, возни-
кают заметные нарушения.
О С0М13
3200.0 -+
2400.0 ■+
1600.0
800.0 i
0.0
□
X
1
397100
1
397200
1
397300
1
397400
1 л
39750d
397000
115200 Baud v 50000
Senden
Zeitenumbruch (CR)
Свип-генератор также подходит для исследования полосовых фильтров. Здесь
рассматривается LC-фильтр. Катушка имеет емкость 22 мГн и конденсатор 10 нФ.
Это приводит к резонансной частоте 10,7 кГц.
Генератор был настроен на конечную частоту 21,4 кГц. Это должно поместить
резонанс в середину временной оси. Однако на самом деле она значительно выше,
что, видимо, говорит о высоких допусках компонентов.
Испытание с помощью синусоидального генератора DDS показало, что амплитуда
в резонансном контуре становится максимальной на частоте 12 кГц. С генерато-
ром развертки резонанс кажется несколько выше. Однако следует иметь в виду,
что резонансному контуру всегда требуется определенное время для полного ста-
билизации. В результате максимальная амплитуда оказывается несколько задер-
жанной . Для измерения было бы лучше увеличивать частоту медленнее. Однако
против этого говорит ограниченная ширина выходного окна, поскольку тогда не
каждое колебание можно было бы представить достаточно точно.
■CZb
10k
10n
22mH
100m
1k
I i T i
5V 4V7 GND EN 3V3 REF P28 GND P27 P26 RUN P22
40 A2 AGND A1 АО 30
LED Ф+
*■
RP2040
BOOT
1
10
PO P1 GND P2 P3 P4 P5 GND P6 P7 P8 P9
1 I I I I I I I Г
Поведение резонансного контура существенно меняется, когда небольшой магнит
приближается к ферритовому сердечнику. Индуктивность уменьшается, поэтому ре-
зонансная частота увеличивается. Кроме того, становятся видны искажения в
диапазоне малых частот, которые указывают на магнитное насыщение сердечника.
© С0М13
MOD.D -\
□ X
:ооо.о i
1600.0
1200.0 -t
800.0
—I—
55100
1
55200
1
55300
1
55400
1
55500
55000
1115200 Baud v | 21400J
Senden
Zeitenumbruch (CR)
Двухтональный
генератор
Большинство звуков содержат не только одну частоту, но и, по крайней мере,
кратную основной частоте с уменьшением амплитуды по мере увеличения порядко-
вого номера. Каждая форма волны может состоять из синусоидальных колебаний
соответствующей частоты, фазы и амплитуды. В некоторых случаях двух колебаний
достаточно для получения определенных звуков. Еще одним применением двухто-
нального генератора является измерительная техника. Например, можно управлять
коротковолновым передатчиком с двумя тонами, а затем измерять очень слабые
побочные излучения, которые могут возникнуть в результате ошибок линейности.
На этот раз частота дискретизации была снижена до 50 кГц и, таким образом,
было достигнуто лучшее разрешение по частоте — один герц. Здесь смешиваются
два тона с частотой 440 Гц и 523 Гц и равными амплитудами, в результате чего
получается типичный двухтональный звук. Для этого можно использовать два вы-
хода ШИМ, сигналы которых затем объединяются с резисторами. Однако можно
обойтись и одним выходом, если складывать сигналы в числовом виде, а затем
выводить их. Любые новые частоты можно ввести через последовательный вход.
Кроме того, выход расширен до усилителя класса D, что позволяет подключить
громкоговоритель с высоким сопротивлением непосредственно между D0 и D1. Сиг-
нал ШИМ на D1 находится в противофазе с сигналом на D0, поэтому напряжение
сигнала на громкоговорителе удваивается. Сигнал, отображаемый на осциллогра-
фе, представляет собой либо сигнал, рассчитанный для выхода, либо сигнал, из-
меренный через АО.
-CD
10k
X
22n
J I I I L
J I L
5V 4V7 GND EN 3V3 REF P28 GND P27 P26 RUN P22 GND
40 A2 AGND A1 АО 30
LED
Щ4
RP2040
BOOT
1
P0 P1 GND P2 P3 P4 P5 GND P6
10
P7
P8 P9 GND
I I I I I I I I
/^л
50R
//Pico_ScopeDDS2 Two-tone
#include "pico/stdlib.h"
#include "hardware/adc.h"
#include "hardware/pwm.h"
#include "pico/multicore.h"
unsigned int scope[1000];
unsigned int dds[1024];
uintl6_t akkul, akku2 , i;
unsigned int f, fl, f2, dpi, dp2, t;
void setup() {
fl=440;
dpl=fl*64/50;
f2=523;
dp2=f2*64/50;
Serial.begin(115200) ;
for(int j = 0; j<1024; j++){
dds[j]=625+400*sin(2*PI*j/l 024.0);
}
while(true){
if (Serial.available()){
f = Serial.parselxrb() ;
if(f>0){
t++;
if(t>2)
t=l;
if(t=l)
dpl=f*64/100;
if(t=2)
dp2=f*64/100;
}
}
i=0;
sleep_ms(1000);
for(int j = 0; j<500; j++){
Serial.println ((int) scope[j]*3300/4095);
}
}
}
void loop() {
void setupl() {
adc_init() ;
adc_gpio_init (26) ;
adc_select_input (0) ;
gpio_set_function(0, GPIO_FUNC_PWM) ;
gpio_set_function(l, GPIO_FUNC_PWM) ;
pwm_set_wrap(0, 2499); //PWM 50 kHz
pwm_set_gpio_level(0 r 1250) ;
pwm_set_gpio_level(1, 1250);
pwm_set_enabled(0, true);
pwm_set_irq_enabled(0, true);
irq_set_exclusive_handler (PWM_IRQ_WRAP, pwm_int) ;
irq_set_enabled(PWM_IRQ_WRAP, true) ;
while (true);
void pwm_int() {
pwm_clear_irq(0) ;
unsigned int u=dds[akkul»6] + dds[akku2»6];
pwm_set_gpio_level (0,u) ;
pwm_set_gpio_level(1,2499-u);
akkul+=dpl;
akku2+=dp2;
if (i<500){
scope[i]=u;
//scope[i]=adc_read() ;
i++;
}
}
void loopl() {
}
400.0
10B00D
115200 Baud v |
Сумма двух колебаний 1200 кГц и 1600 Гц снова приводит к периодической фор-
ме кривой, которая повторяется после нескольких колебаний. Паттерн повторяет-
ся быстрее, если добавляются точные кратные основной частоте. Вторая осцилло-
грамма показывает смесь 1,5 кГц и 3 кГц.
800.0
400.0
160000
115200 Baud v |
Двухканальный DDS
и осциллограф
Генератор DDS расширен до двух независимых каналов, а осциллограф также по-
лучает второй канал. Чтобы два измерения AD уместились во временном окне пре-
рывания ШИМ, частоту ШИМ пришлось снизить до 100 кГц. Таким образом, измере-
ния производятся с интервалом 10 мкс, так что участок шкалы со 100 точками
измерения в окне плоттера занимает всего 1 мс.
При запуске на выходах ШИМ 0 и 1 генерируются два синусоидальных сигнала с
частотами 1 кГц и 2 кГц. Осциллограф работает с частотой 10 мкс, т. е. 1
мс/дел.
О сом13
4000.0 -
зооо.о -
2000.0 -
юоо.о -
■■■□
/
\А
У
9000
■>,
lK\
\\\/
9100
115200 Baud v |
/^v
А4
' V
1 Senden
Л/
\У
9200
/Г*\
\)\1
\ду
9300
- п х
/~К х^ч
\Х\ А)
\лу v
9400 9500
Zeilenumbruch (CR) v
Однако три важных параметра можно изменить с помощью последовательных ко-
манд последовательного плоттера:
■ f500 устанавливает выход Р0 на 500 Гц. Диапазон 2 Гц...10 кГц
■ д5000 устанавливает выходной сигнал Р1 на 5 кГц. Диапазон 2 Гц...10 кГц
■ tlO устанавливает отклонение 10 мс/дел. Диапазон 1...100 мс/дел.
//Pico_ScopeDDS2 Dual channel
//Commands: flOOO, g2000, tl: 1000 Hz, 2000 Hz, 1 ms/div
#include "pico/stdlib.h"
#include "hardware/adc.h"
#include "hardware/pwm.h"
#include "pico/multicore.h"
unsigned int scope[1000];
unsigned int dds[1024];
uintl6 t akkul, akku2, i;
unsigned int d, fl, f2, dpi, dp2, t, tO;
void setup() {
fl=1000;
dpl=fl*64/100;
f2=2000;
dp2=f2*64/100;
Serial.begin(115200) ;
for(int j = 0; j<1024; j++){
dds[j]=625+400*sin(2*PI*j/1024.0);
}
while(true){
if (Serial.available()){
char ch = Serial.read();
uint32_t d = Serial.parselnt();
if (ch=102)
dpl=d*64/100; //f
if (ch==103)
dp2=d*64/100; //g
if(ch==116)
t0=d; //t
}
i=0;
sleep_ms(1000);
for(int j = 0; j<500; j++){
Serial.print ((int) scope[2*j]*3300/4095);
Serial.print (" ");
Serial.print ((int) scope[2*j+1]*3300/4095);
Serial.print (" ");
Serial.print (0);
Serial.print (" ");
Serial.println (3300);
}
}
}
void loop() {
}
void setupl() {
adc_init() ;
adc_gpio_init (26) ;
adc_gpio_init (27) ;
adc_select_input (0) ;
gpio_set_function(0, GPI0_FUNC_PWM) ;
gpio_set_function(l, GPIO_FUNC_PWM) ;
pwm_set_wrap(0, 1249); //PWM 100 kHz
pwm_set_gpio_level (0 , 624) ;
pwm_set_gpio_level (1, 624) ;
pwm_set_enabled(0 r true) ;
pwm_set_irq_enabled(0 r true) ;
irq_set_exclusive_handler (PWM_IRQ_WRAP, pwm_int) ;
irq_set_enabled(PWM_IRQ_WRAP, true) ; while (true) ;
void pwm_int() {
pwm_clear_irq(0) ;
pwm_set__gpio_level (0 , dds [akkul»6] ) ;
pwm_set__gpio_level (1 , dds [akku2»6] ) ;
akkul+=dpl;
akku2+=dp2;
t++;
if(t>=t0){
t=0;
if (i<500){
adc_select_input (0) ;
scope[2*i]=adc_read() ;
adc_select_input (1) ;
scope[2*i+l]=adc_read();
i++;
}
}
}
void loopl () {
}
A1 •-
1k 1k
^zzь
A0 •-
a
i i i i i i
XI
In Ш
J L
5V 4V7 GND EN 3V3 REF P28 GND P27 P26 RUN P22
40 A2 AGND A1 АО 30
USB
LED d7*
¥
RP2040
BOOT
TT
I I I—П—I—Г"Г
1 10
PO P1 GND P2 P3 P4 P5 GND P6 P7 P8 P9
10k 10k
10n 10n
TX
-• P1
-• P0
Два синусоидальных сигнала можно соединить вместе с помощью резисторов. Та-
ким образом можно сложить две равные или разные амплитуды.
LED ф*
ф*
BOOT
1
РО Р1 GND Р2 РЗ Р4 Р5 GND
FT
10k 10k
10n 10n
тх
I I I I I
^l
10k
-• P0+P1
-• P0
Пример измерения показывает базовую частоту 100 Гц и сумму второго сигнала
500 Гц. Время отклонения было установлено на 5 мс/дел.
© С0М13
4000.0 -
зооо.о -
2000.0 -
юоо.о -
, HID
0 .0
182500
115200 Baud v||t5|
182600
182700
Senden
i j
182800
□ X
182900 18300C
Zeiienumbruch (CR) v
Как и в случае с усилителем класса D, громкоговоритель с высоким сопротив-
лением может управляться напрямую. Это позволяет создавать особые звуки.
LED
W*
BOOT
1
РО Р1 GND Р2 РЗ Р4
\
50 R
В принципе, любой сигнал может состоять из синусоидальных колебаний подхо-
дящей частоты и фазы. Следующий пример с двумя сигналами 1 кГц и 3 кГц пока-
зывает приближение к прямоугольному сигналу.
О сом13
4000.0 "
зооо.о -
2000.0 "
юоо.о -
, BHS
и. и i
434000
115200 Baud v
434100
1
434200
Senden
434300
□ X
434400 43450C
Zeilenumbruch (CR) v
Делитель
частоты PIO
В цифровой электронике известны многокаскадные двоичные счетчики типа
CD4040. Каждая ступень делит частоту на два. После четырех ступеней входной
сигнал делился на 16. Если каждая ступень имеет свой выход, также доступны
прямоугольные сигналы с f/2, f/4 и f/8.
Здесь частоту 1 МГц следует разделить на 2, 4, 8 и 16. Благодаря блокам PIO
(программируемого ввода-вывода) RPi Pico имеет подсистемы, с помощью которых
можно решить эту задачу. Таким образом, у вас есть что-то вроде маленьких,
очень быстрых и независимых микроконтроллеров с ограниченным набором команд,
специально оптимизированных для прямого доступа к портам.
1
РО
I
Р1
"Т
GND
~~Г
Р2
РЗ
РА
Р5 GND
Г
Р6
"Т
10
Р7
~г
500kHz 125 kHz
250kHz 62,5 kHz
Требуется очень простая программа ассемблера PIO, которая одновременно
управляет четырьмя выходами. Здесь в порты выводятся просто возрастающие чис-
ла. Каждый выход занимает только один такт, а тактовая частота может быть
равна частоте системы или ее части. Цикл, или возврат в начало, не требует
дополнительного времени, поэтому программа работает как цепочка из четырех
двоичных делителей.
.program divl6
.wrap_target
set pins, 0
set pins, 1
set pins, 2
set pins, 3
set pins, 4
set pins, 5
set pins, 6
set pins, 7
set pins, 8
set pins, 9
set pins, 10
set pins, 11
set pins, 12
set pins, 13
set pins, 14
set pins, 15
.wrap
Программу divl6.pio необходимо скомпилировать с помощью ассемблера
pioasm.ехе, который включен в SDK как отдельный инструмент. Ассемблер вызыва-
ется через командную строку. При вызове pioasm divl6.pio divl6.h переведенная
программа появляется в заголовочном файле divl6.h. Программа, исполняемая мо-
дулем PIO, состоит из 16 команд в виде 32-битных чисел, каждая из которых
требует только одного такта.
// //
// This file is autogenerated by pioasm; do not edit! //
z/
//
#pragma once
#if ! PICO_NO_HARDWARE
#include "hardware/pio.h"
#endif
// //
//divl6//
// //
#define divl6_wrap_target 0
#define divl6_wrap 15
static const
//.wrap
OxeOOO,
OxeOOl,
0xe002,
ОхеООЗ,
0xe004,
0xe005,
ОхеООб,
0xe007,
0xe008,
ОхеООЭ,
OxeOOa,
OxeOOb,
OxeOOc,
OxeOOd,
OxeOOe,
OxeOOf,
//.wrap
uintl6
target
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
//10
//11
//12
//13
//14
//15
_t diT
set
set
set
set
set
set
set
set
set
set
set
set
set
set
set
set
/•16 рз
pins,
pins,
pins,
pins,
pins,
pins,
pins,
pins,
pins,
pins,
pins,
pins,
pins,
pins,
pins,
pins,
:ogr
, 0
, 1
, 2
, 3
, 4
, 5
, 6
, 7
, 8
, 9
, 10
, 11
, 12
, 13
, 14
, 15
= {
}
#if ! PICO_NO_HARDWARE
static const struct pio_program divl6_program = {
.instructions = divl6_program_instructions,
.length = 16,
.origin = -1,
};
static inline pio_sm_conf ig divl6_program_get_default_config(uint offset) {
pio_sm_config с = pio_get_default_sm_conf ig () ;
sm_config_set_wrap(&c, offset + divl6_wrap_target, offset + divl6_wrap);
return c;
}
#endif
Заголовочный файл divl6.h должен быть включен в программу на С. С
pio_gpio_init управление над отдельными портами передается в PIO. Другие
функции сообщают PIO программе, какие порты должны быть использованы.
//Pico_PI0divl6 4 outputs
#include "pico/stdlib.h"
#include "divl6.h"
void setup() {
pio_gpio_init(pioO, 2);
pio_gpio_init(pioO, 3) ;
pio_gpio_init(pioO, 4) ;
pio_gpio_init(pioO, 5);
uint offset = pio_add_program(pioO, &divl6_program);
pio_sm_set_consecutive_pindirs (pioO , 0, 2, 4, true) ;
pio_sm_config с = divl6_program_get_default_config (off set) ;
sm_config_set_set_pins(&c, 2, 4);
sm_config_set_clkdiv(&c, 125);
pio_sm_init(pioO, 0, offset, &c);
pio_sm_set_enabled (pioO , 0 , true) ;
while(true);
void loop() {
}
Решающая настройка частоты сигналов производится функцией
sm_config_set_clkdiv(&c, 125). Таким образом, системная частота PIO делится
на 125, так что тактовая частота составляет 1 МГц. С помощью
pio_sm_set_enabled(pioO, 0, true) PIO наконец включается. Это создает нужные
сигналы на выходах.
Логический
анализатор
RPi Pico может запрашивать все порты одновременно с помощью функции SDK
gpio_get_all(). Это позволяет построить быстродействующие логические анализа-
торы. Представленный здесь пример оценивает первые восемь портов от РО до Р7
и отображает изменяющиеся состояния последовательного плоттера. Программа PIO
divl6, которая генерирует четыре сигнала от Р2 до Р5, снова работает парал-
лельно. На этот раз тактовая частота PIO установлена на 100 кГц. Таким обра-
зом, самая высокая частота на Р2 — 50 кГц, самая низкая на Р5 — 6,25 кГц.
Хотя эти четыре порта работают как выходы, их состояния можно считывать па-
раллельно . Программа PIO работает полностью независимо от обоих ядер процес-
сора и не влияет на тайминги. С помощью этого метода можно также отслеживать
другие программы и проверять сигналы на интерфейсах всех типов. Кстати, все
подтягивающие резисторы на входах остаются включенными, так что каналы, кото-
рые не подключены, достоверно показывают ноль.
//Pico_Logik 8 inputs
#include "pico/stdlib.h"
#include "divl6.h"
void setup () {
Serial.begin(115200) ;
pio_gpio_init(pioO, 2);
pio_gpio_init(pioO, 3) ;
pio_gpio_init(pioO, 4) ;
pio_gpio_init(pioO, 5);
uint offset = pio_add_program(pioO, &divl6_program);
pio_sm_set_consecutive_pindirs (pioO , 0, 2, 4, true) ;
pio_sm_config с = divl6_program_get_default_config (off set) ;
sm_config_set_set_pins(&c, 2, 4);
sm_config_set_clkdiv(&c, 1250);
pio_sm_init(pioO, 0, offset, &c);
pio_sm_set_enabled (pioO r 0 r true) ;
while(true);
}
void loop() {
}
void setupl() {
uint32_t ports[1000];
int dt=l;
while (true) {
if (Serial.available()){
int dt2 = Serial.parselnt();
if( dt2>0)
dt=dt2;
}
uint32_t t = time_us_32 () ;
for (int n = 0; n < 500; n++){
ports [n]=gpio_get_all();
t+=dt;
while (t>time_us_32() ) ;
}
for (int n = 0; n < 500; n++){
Serial.print
Serial.print
Serial.print
Serial.print
Serial.print
Serial.print
Serial.print
Serial.print
Serial.print
Serial.print
Serial.print
Serial.print
Serial.print
Serial.print
64* (ports[n]&l));
" ") ;
100+32*(ports[n]&2));
" ") ;
200+16*(ports[n]&4));
" ") ;
300+8*(ports[n]&8));
" ") ;
400+4*(ports [n]&16));
" ") ;
500+2*(ports[n]&32));
" ") ;
600+1*(ports[n]&64));
");
Serial.println (700+(ports[n]&128)/2);
}
sleep_ms(1000);
void loopl() {
}
Логический анализатор после запуска работает с периодом выборки 1 мкс. Од-
нако его можно изменить с помощью последовательных команд последовательного
плоттера. Фактически, анализатор все равно может работать намного быстрее,
если вы уберете цикл задержки. Однако во многих случаях точная синхронизация
с микросекундными интервалами выгодна.
Первое измерение показывает сигналы делителя частоты PIO. При периоде вы-
борки 1 мкс ось X покрывает 50 мкс/дел. Самый быстрый сигнал показывает пять
колебаний в одном делении шкалы. Таким образом, измерение подтверждает часто-
ту ровно 100 кГц. Также ясно видно, что каждый спадающий фронт выходного сиг-
нала вызывает изменение уровня на следующем выходе.
© С0М13
X
800.0
1Ш
£00.0
400.0 ■+
1_
200.0
Л^ЛШШЯГ^1ГШЛЛШШШШЯШ1Шии
0.0 .
12 68500
1
1268600
1
12 68700
1
1268800
1
1268900
1 ,
126900
115200 Baud v
Senden
Zeifenumbruch (CR)
Второй результат измерения показывает сигнал последовательного интерфейса
на скорости 9600 бод, который наблюдался через вход D7. Для измерения период
выборки пришлось увеличить до 10 мкс. Тогда одно деление шкалы соответствует
одной миллисекунде. Нетрудно заметить, что между двумя символами были встав-
лены паузы в 1 мс. Сигнал TXD инвертируется, поскольку обычно генерируется
UART микроконтроллера. Поэтому уровень покоя высокий. Сами символы содержат
стартовый бит в начале и восемь последующих битов данных. В данном случае был
отправлен байт 67. Сигналы PI0 на схеме можно оставить в виде отдельной вре-
менной сетки для сравнения. Если они мешают или нужны все доступные входы, их
можно отключить, закомментировав строку р±о sm set enabled(pioO, 0, true).
© С0М13
□ X
воо.о i
600. О
400.0
in ги
1Л ИГ
1_TL
т/т/шшшшшлялшшмммшшшшлл
п п ч в п р, ■; д ■ ■;, • л п п п п и п и ■;, ■ .• • ■ .• ■ и п г i п п п г. ■;, д •;, ■ д л п п п и п п п •;.; ■;, • ■ .■ п п п п г л и я ■;.»;, • ■;. .• и п п п л п ri г, • • ■ •»• ■ л п п п и п п п ,• д;.;,;. т ■ ■ п п п л п п п г. ■;, • ■ д • д •
:оо.о -f
0.0
1
62В600
1
628700
1
628800
1
628900
1 л
62900d
628500
115200 Baud v |
10
Senden
Zeilenumbruch (CR)
Электроника
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСПЛЕЕВ
Николаев Б.
Виды дисплеев
и их протоколы
Пожалуй, ЖК-дисплеи с самого момента их появления стали основным инструмен-
том для вывода информации и взаимодействия с пользователями. Первые ЖК-панели
были монохромными и требовали отдельный драйвер, который занимался выводом
изображения на экран и формированием необходимых для его работы напряжений.
Сейчас же всё гораздо проще и каждый может и сам подключить дисплейчик к
своему проекту и использовать в необходимых ему целях. Ведь не зря написаны
десятки библиотек по типу AdaFruit1 LCD, которые упрощают задачу программисту
и дают ему возможность оперировать готовыми и простыми операциями по типу
«вывести линию» или «отрисовать изображение». Однако, готовые библиотеки —
это, конечно, здорово, но они не всегда дают понимание о том, как работают
такие дисплеи на программном и аппаратном уровне. И первая часть статьи как
раз и будет посвящена этому.
Всего в мире дисплейных матриц существует несколько общепринятых аппаратных
протоколов. Некоторые из них можно легко использовать в собственных проектов
с микроконтроллерами, с другими придется повозиться:
1 https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/adafruit-liquidcrystal/
■ Параллельная шина 8080 — одна из самых простых и понятных шин данных, как
в теории, так и на практике. Суть её очень простая: на каждый бит отводит-
ся по одной сигнальной линии, плюс две дополнительные линии для сообщения
статуса передачи: RD означает запрос чтения, a WR — запрос на запись.
Большинство дисплеев использует девятый, неявный бит D/C, который сообщает
контроллеру, задаём ли мы номер команды, или уже пишем аргументы для этой
команды. Что самое приятное — шина по сути стандартизирована и во многих
дисплеях команды на старт записи в видеопамять, а также получение ID-
контроллера идентичны. Шина бывает 8-битной и 16-битной (её состояние за-
даётся битами IM0. .IM2 и используется не только для подключения дисплеев,
но и микросхем параллельной флэш-памяти, ОЗУ и т. д. Такие шины использу-
ются в дисплеях с разрешением до 480x320.
■ SPI — шина, которая наверняка знакома большинству читателей. Достаточно
простая — у нас есть две сигнальные линии с входным (MI SO) и выходным
(MOSI) битом, плюс сигнал тактирования, который согласовывает передачу
данных. Таким образом, шина получается полнодуплексной. Фактически, каждый
байт передаётся по одному биту через одну сигнальную линию, что, по срав-
нению с 8080, заставляет повышать тактовую частоту контроллера SPI, но при
этом занимает гораздо меньше пинов самого МК или процессора. В программном
плане, большинство дисплеев представленных в различных интернет-магазинах
полностью совместимы с дисплеями 8080, ведь SPI — просто один из режимов
работы. Единственный нюанс — из SPI дисплея не всегда можно вычитать ID-
контроллера и вообще что-либо читать из регистров дисплея.
■ 12С — относительно редко используемая шина для дисплеев из-за её невысокой
производительности, однако, тем не менее, очень подходящая для МК (благо-
даря использованию только двух сигнальных линий — SDA для данных и SCL для
тактирования. Даже чипселект здесь программный благодаря тому, что каждое
устройство имеет собственный адрес!), однако её можно найти в дисплеях не-
которых телефонов из самого начала 2000-х годов.
■ TTL/параллельный RGB — я продолжаю называть её TTL, но так сложилось исто-
рически — даже в даташитах эту шину называют именно так. С логической точ-
ки зрения она очень простая: у нас есть 16/24 сигнальные линии, где 5 (или
8) бит используются для красного и синего канала и 6 (или опять же 8) бит
используются для зеленого цвета (т. е. в 16-битном цвете у нас RGB565, а в
24-битном — RGB888). К ним идут сигналы HSYNC для горизонтальной синхрони-
зации и VSYNC для вертикальной. Вообще, необязательно использовать все
сигнальные линии предоставляемые дисплеем — можно использовать, например,
RGB332 и использовать всего 8 сигнальных линий. Однако для отображения
картинки, необходимо строго соблюдать тайминги синхронизации, иначе дис-
плей будет просто показывать белый цвет. Помимо цифрового варианта, бывает
также аналоговый, очень похожий на телевизионный RGB или VGA. Такие дис-
плеи обычно используются для матриц до 1024x768 включительно.
■ MIPI DSI — протокол, используемый для дисплеев высокого разрешения — от
480x800 и выше, его можно встретить в большинстве современных смартфонов и
планшетов. Кроме того, такие дисплеи используют относительно мало пинов —
по два на каждый канал LVDS (обычно в смартфоне около двух-четырех кана-
лов) + две сигнальные линии на тактирование. Звучит всё хорошо? Как бы не
так: протокол дифференциальный и на каждый канал (т. е. логический бит)
приходится по две сигнальные линии — одна с положительная, а вторая отри-
цательная. Затем одна вычитается из другой и получается окончательный сиг-
нал, а сделано это для уменьшения помех от передачи данных по нескольким
линиям с очень высокой тактовой частотой без увеличения битности шины.
■ LVDS/eDP — Протоколы, используемые в матрицах ноутбуков, телевизоров и
иногда планшетов. На физическом уровне близки к DSI, на программном — если
честно, не знаю, но наслышан о некой стандартизации и высоком уровне со-
вместимости. Даже «неродные» ноутбучные матрицы вполне «заводятся», макси-
мум после перепрошивки родной EEPROM, даже если дисплей другого разреше-
ния!
У рассматриваемых нами дисплеев есть собственная видеопамять, благодаря че-
му нет необходимости соблюдать тайминги, а также общий набор команд (или ап-
паратных регистров), которые мы можем записывать и тем самым менять поведение
дисплея. Если мы просто подадим питание на дисплей и попытаемся что-то вывес-
ти — у нас ничего не выйдет, поскольку при каждом аппаратном RESET!е, состоя-
ние большинства регистров, кроме SleepOn и PowerOn не определено и может со-
держать в себе любой «мусор». Для корректной работы дисплея, нам необходимо
послать определенный набор команд, называемый инициализацией, который устано-
вит настройки драйвера дисплея, такие как контраст, параметры цветности, на-
правление развертки изображения из VRAM и т. д. Пожалуй, стоит сразу отме-
тить , что некоторые люди называют регистры дисплея командами — это означает
одно и тоже!
lcmData 0x02 ;
lcmData 0x84 ;
lcmCommand' 0хС1
lcmData' 9xC5 ;
lcmCommand' 0xC2
lcmData ОхвА;
lcmData 9x00 ;
lcmCommand' 0xC3
lcmData' 0x8A;
lcmData- 0x2A;
lcmCommand' 0xC4
lcmData 0x8A;
lcmData 0xEE;
lcmCommand' 0xC5
lcmData 0x0E ;
lcmCommand' 0x36
lcmData 0xC8;
lcmCommand - 0xe0
lcmData 0x02 ;
lcmData 0xlc ;
lcmData^ 0x07 ;
lcmData 0x12 ;
lcmData 0x37 ;
lcmData' 0x32 ;
lcmData 0x29 ;
lcmData 0x2d ;
lcmData 0x29 ;
lcmData 0x25 ;
lcmData 0x2b ;
lcmData 0x39 ;
Пример инициализации. На самом деле, не все люди делают такую про-
стыню из вывозов функций чтения/записи регистров дисплея, поскольку
это кушает драгоценный ROM. На AVR, например, команды инициализации
можно хранить в ROM и читать из PROGMEM.
Если дисплей инициализирован неправильно, то мы можем наблюдать некоррект-
ную развертку, артефакты на дисплее и полосы: если вы когда-нибудь прошивали
смартфоны прошивками других ревизий, то могли замечать подобный эффект сами.
Дисплей инициализирован неправильно.
Набор команд для контроллеров дисплеев частично стандартизирован специфика-
цией2 MIPI DBI, которая описывает и закрепляет некоторые конкретные адреса
регистров, общие для всех контроллеров дисплея. К ним относится, например,
установка «окна» для записи (0x2В и 0x2А), sleepout (Oxll) и некоторые дру-
гие . Проприетарными3 командами остаются настройки питания, развертки, контра-
ста и самого драйвера дисплея. Ну и всяческие LUT, а также палитровые режимы
(если они есть) тоже проприетарные.
Пример одной из таких стандартизированных команд:
// Set viewport
lcmCommand(0x2A) ;
lcmData(0 » 8) ;
lcmData(0 & OxFF);
lcmData(128 » 8) ;
lcmData(128 & OxFF);
lcmCommand(0x2B) ;
lcmData(0 » 8) ;
lcmData(0 & OxFF);
lcmData(160 » 8) ;
lcmData(160 & OxFF);
Почти во всех дисплеях есть разделение отправляемых байтов на команду (или
выборка номера регистра для чтения/записи) и на данные. Как обработать теку-
щий байт определяет отдельный пин (или бит, в зависимости от конфигурации
дисплея), называемый D/C (Data/Command), иногда также можно встретить назва-
ние RS. Обычно, при записи команды, D/C должен быть на низком уровне, при за-
писи данных, соответственно, на высоком. Суть простая: записываем номер ко-
2 https://сахара.ru/thumbs/799244/MIPI_DCS_specification_vl.02.00.pdf
3 Обычно проприетарным называют любое несвободное ПО, включая полусвободное.
манды (или регистра) при низком D/C, а затем дописываем необходимые аргументы
(или конфигурацию регистра) при высоком уровне D/C.
Примерно так:
void lcmCommand(unsigned char byte)
{
gpio_put(LCM_DC, 0);
spi_write_blocking(spiO, &byte, sizeof(byte));
}
void lcmData(unsigned char byte)
{
gpio_put(LCM_DC, 1);
spi_write_blocking(spiO, &byte, sizeof(byte));
}
//ST7735R Frame Rate
lcmCommand (OxBl) ;
lcmData(0x01);
lcmData(0x2C) ;
lcmData(0x2D);
Касательно сброса, то в дисплеях обычно существуют два вида этого процесса:
аппаратный сброс через соответствующий пин и программный с помощью специаль-
ной команды. Пин RESET никогда нельзя оставлять в «воздухе» (т. е. не подклю-
ченным) в надежде что «да состояние пинов МК после ресета известно, мусора на
шине явно не будет». Мусора может и не будет, а вот дисплей упадет в вечный
ресет, поскольку ожидает перехода сигнала RESET в высокий уровень. Тоже самое
касается и пина CS, отвечающий за выбор устройства на шине. Если вам не нужен
CS и у вас висит только одно устройство на шине — просто притяните его к мас-
се. Некоторые контроллеры (например, ILI9325) адекватно реагируют на CS «в
воздухе», некоторые — нет. Только после того, как RESET оказался на высоком
уровне, дисплей начнёт принимать команды:
// HW reset
gpio_init(LCM_RESET);
gpio_set_dir (LCM_RESET, true) ;
gpio_put(LCM_RESET, false);
sleep_ms(100);
gpio_put(LCM_RESET, true);
Переходим конкретно в выводу данных. Для начала вывода изображения на дис-
плей, нам необходимо выполнить команду 0х2С, которая переведет контроллер
дисплея в режим записи данных в видеопамять. После этого, нам остаётся лишь
установить высокий уровень на пине D/C и просто слать непрерывный поток пик-
селей. Контроллер дисплея сам инкрементирует координаты на дисплее и после
того, как координаты выйдут за границы нужной области, дисплей сам их переве-
дет в изначальные. Таким образом, достаточно лишь один раз проинициализиро-
вать дисплей и просто гонять в него данные, например, с помощью DMA..
spi_write_blocking(spiO, backBuffer, 128 * 160 * 2);
Дисплеи с
шиной 8080
Пожалуй, подобные дисплеи найти проще всего, поскольку они использовались в
большинстве кнопочных телефонов из нулевых. Такие экранчики можно встретить
во многих моделях Nokia, Samsung, LG, Fly, Sony Ericsson и большинстве китай-
ских телефонов. С поиском распиновки и разводкой таких дисплеев всё относи-
тельно просто и одновременно сложно: на некоторые модели телефонов (например,
почти на все Nokia) можно свободно найти схему в гугле и узнать распиновку
коннектора дисплея... однако этот коннектор сначала надо сдуть и развести на
breakout-плате, или под микроскопом вывести перемычки. В некоторых случаях
(например, Siemens S-серии), дисплей просто прижимался к контактам на плате,
а сами контакты имели более чем паябельный шах1.
1 Display con
K*4Z\
GHO
1 £°
1 и"—
1 ni
1 т
■4
1
ОНО
MDOL
VOO
GJCD
LtOJN
L£OOiA
GNO
СЯЯ
GHD
I M
J Cl_
J О*
I те
1 IBI
Т я ertv
■4
GNO
GAD
CHD
', ,
\—
з
e
r*
a_
«#
,Q. ,
II
,2i i
',3^-
14
'*• .
16
".
>IAi
\7
30
ft
a!
,i%
*
:■—
rector)
' <
GN
>
\М.Э-«Л1 SITCLtW
•
•
~7^
> ^
i
1.8V
%*\u
L440O
С44Ю J
tvrt^
C44CG
ы>зп>э:*
» >-^w-^N.
Mj
1 OMM
ь
I2.5VI
**MJX
ж^ „
L44M
ecat'io^M-ic
SS
// CKD <^MD GNC
|Lightson-14t|
-
»
»
С
Из схемы на Nokia N70. Этот дисплей применялся во многих
Symbian-смартфонах Nokia тех лет: N-Gage/N-Gage QD, N70, N72,
6600 и некоторых других.
Но особо удобными можно считать дисплеи с паябельными шлейфами с большим
шагом пинов — такие можно встретить в некоторых телефонах Samsung и большин-
стве китайских телефонов. Пытливый читатель спросит «так это ж китаец, где ты
на него схему будешь искать?». И вот тут, китайские производители нас приятно
порадуют, поскольку за редким исключением, такие дисплеи имеют стандартизиро-
ванную распиновку: лично мне известны матрицы 37 Pin, 39 Pin и 44 Pin. Как
найти для них распиновку? Пишем на «алике» или «таобао» 37 pin led tft и
смотрим: в описании продавец частенько прилагает распиновку (правда учтите,
что 37 pin не имеет пинов IM для настройки ширины шины, а 16-битный интерфейс
может быть слишком прожорливый по числу пинов):
ESC
о
\£
:*
rr
'
rr
t -4
ГЧ
1*4
Kl
к-.
Г4
V
О
с'»
•^
•«J
\W
"^
x
-2
:i"
n^
tr,
< >
*
о
4.
I
>:
f%
*
>
^
*
rr
X
4
r^
>■
л
-с
-1
«0
*
.'Nj
3-i
^
*
*>
-Л
Itl
-J
c-
^
^
Г.
_
r':
ГЧ
<..!
У
.
rsJ
т
tt
n
rv
o^
О
•"*:
ex
rr
•#
ГЧ.
(*
j>t
PSj
rx
Г"!
vil
о
n
P~i
<>
Ho
T
:>
rr«
IXJ
"^
c"
С
2:
^v
•*••_
П
Tv
•*
•>•
О
«о
-"1
6
-»
->
r >
„^
«Л
Щ
J
l\
и&^ц
ТТГ
* * * *
I I I I
I
T ? ?
I
a\
4
30E
5^"
X
чГ
l_
^"
i_
О ^
'— -O
H- L-
^->. .
<; ^ <•>
jC
"»■> f •*> <
3 V ^
^ ct L.
>~ ^i^ Q
- • f\. <~*S
iX)
UJ
>—
CD
• *
t-
fl.
4>
^
1»
f_
•L.
<-• <^ x.
0. UJ
с j V/
• i ■* °
^ S -S
< л о ^
С i. .^
-- a. c.
^* v': <v
v n v:j
Interface Definition
1-2
3-4
5
6
7
8
9-24
25
26
27
28
29
30
31
32-34
35
36-38
39
GND
VCC
CS
RS
WR
RD
DB0-DB15
RESET
IMO
IM3
YU
XL
YD
XR
LEDK
LEDA
NC
GND
_i ,
2
*
4
ь
«
7
в
?
•G
♦
2
3
4
*■•
6
7
3
9
2G
21
U
23
24
?5
26
27
26
УЯ
У-
У
.SJ
A3
M
35
36
57
за
39
40
41
42
4.5
I 44]
A
K1
K2
КЗ
K4
КЪ
К*
CN3
NC
vOC(3>3vO
VDC(*3V)
/C*
Л*
RS
/40
/fcEsr:
OB'5
0B4
QB'l
OB'2
DB'.I
ЮЮ
OB'O
0B9
ОВЯ
OB?
ow
DBS
0B4
OBJ
0B2
OB'
db:
G*0
vOC(3.3V)
oso
NC
NC
CUD
*u*-;
Yw<r->
X4(X*}
i~<y+:
_GNO
штщ
1
2
3
4
5
6
7
3
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
t»
DBO
DB1
DB2
DB3
GNDE
VCC1
/CS
RS
/WR
/RD
NC
X+
Y+
X-
Y-
LEDA
LEDK1
LEDK2
LEDK3
LEDK4
NC
DB4
DB10
DB11
DB12
DB13
DB14
DB15
DB16
DB17
/RESET
VCI
VCC2
GND
DB5
DB6
DB7
toss
1с\жттш,
1_СС£Щщ^|
LCDfi®№£s
юятшщт
ш
тх^тш. (+2.5--+3.3V)
ктш^ивзгя
m-mmmm*. ь^ф. н: ш§
LC№8»Jw. ffi£ixfc
ьсоейш. шт
т$
тштцт
тшт^т
тшт^т
ЩВЗхМшТБж
жшоштт
шшо&тт
ишо&мж
ЫШО&МЖ
*ш.ео5<йш*
ш
1С\ЖШШ
1С\ЖШ^%
мо&ттщш
icmmmmz
южттш
1стшцт
1с\жшцт
1С\ЖШШ
icmmmmz
шштщя
Ш1*Ш&т (+2.5- + 3.3V)
I/O&Pe&E (-1.65-- + 3.3V)
ш
1стшцт
icD&mmmss
LCDIffil^
В случае с китайцами, иногда можно найти и схему на устройство: например,
почти на все модели Fly схемы4 лежат в свободном доступе, где почти всегда
можно найти распиновку дисплея. Иногда производитель даже выводит тестпоинты
на все сигнальные линии и дисплей с тачскрином можно использовать, не выпаи-
вая его с платы!
М
ил> О
^6] VDM8 D-
с<35
LOUS*
шцгоо
LCDtroa
шцгоэ
uajftH
LCD D* 06
LCDS'«
VCDJtOl
LCDjTOe
UBJtm
LCDJT10
LCDjrn
LCDJJ42
LCD J»* IS
m\t
LQUESTN
.8,9] VUT
IVTLfiD.
_КГ»АДДЯ<-
Дисплей FLY IQ239 (Era Nano 2)
M0947497
J70I
—г
14
1£ч
21
ШН7501-Э9РШ
150e
130e
В КОРЗИНУ
Распиновка на Fly IQ239. На нижней части изображения, вы можете
увидеть, что такие, безусловно, здоровенные дисплеи можно купить
дешево и сейчас.
4 http://www.texnic.ru/shems/mobil/fly_mobile.htm (нажимайте на зеленую стрелку)
Но задумывались ли вы когда-нибудь, откуда на тачскринах в дисплеях с «али»
взялись кнопки «домой», «сообщения», «телефон»? Это ведь те самые дисплеи,
которые использовались в «ноклах», просто припаянные к удобной плате! Кроме
того, на китайские дисплеи без проблем можно найти даташит: обычно они ис-
пользуют контроллеры от ST или ILI, в зависимости от разрешения дисплея.
Концептуально, аппаратная реализация протокола одновременно простая и по-
нятна любому: программа устанавливает состояние каждого бита передаваемого
байта на сигнальных линиях D0..D7 (либо D00..D15, если шина у нас 16-битная),
а затем просто «дёргает» линию RD (Read или чтение) , либо WR (Write или за-
пись) по переходу из низкого уровня в высокий, благодаря чему контроллер дис-
плея понимает, что байт (или слово в случае 16-битного интерфейса) можно «за-
бирать» с шины. По переходу из высокого уровня в низкий, контроллер снова пе-
реходит в режим ожидания следующего байта с шины.
II » \ / I I
- ~УГ~\Г~\ГЛГЛГ~\Г\Г
и-Ч il&rX~\ °»Г"\ ™Г~\ ™ГЛ ™/Гр)О^Ю
I 8 /9 Ьл transfer
I synchronization I
Figure€ Data Transfer Synchronization in 8/9-brt System Interface
Где взять такие дисплейчики? Да почти везде! Но лучше всего брать дисплеи с
китайчиков, которые можно развести на вот таких breakout-платах, которые мож-
но заказать на алике:
Обратите внимание на то, как по свински припаивают подсветку на некоторых
дисплеях. И это завод! Лучше сразу прозвоните прежде чем подавать питание. Я,
вот, забыл, понадеялся на производителя и по итогу сжёг подсветку.
Другой вопрос, где искать на них информацию? Помимо схем, можно просто по-
искать на алике «37 pin led tft», «39 pin tft led», «24 pin tft led» и т. п.
Обычно продавцы сами выкладывают распиновку и даже прикладывают ID контролле-
ра дисплея. Поскольку иногда различия в распиновках всё же попадаются, обра-
щайте внимание на то, куда у вас идут дорожки от подсветки и от резистивного
тачскрина (если есть), а также вызванивайте все пины с массой — это поможет
подобрать правильную распиновку без логического анализатора. Вот, например,
дисплеичик из китайской нерабочей реплики Nokia 130 с здоровым 2.4м дисплеем...
казалось бы, вообще не понятно что за дисплей, однако воспользовавшись сме-
калкой, мы находим его распиновку!
I чттх.
Pin ctefviiton
Pin DO
1
1*
I
4
5
6
7
В
9
10
11
i:
i>
14
i*
16
r
u
19
:o
:i-:*
Symbol
К
A
GXD
\TO
[OYCC
ГК
cs
RE5ST
RS
WR
?J}
DB7
DB6
DB5
C1B4
DB)
ов:
DB)
DBO
GN'D
NC
Fuoctjoa
C4CK*k <»f LED tUCKhtfil
Anode of L 5D baddizfcl
Ckound
Power supply f<x lo£K
Power supply fee L 0
УМАКХ
Gup v<lcci sijaiil. иЪст* CS - 'L , <bc chip \e\m become» »cti'. c. aod
daia coitnuod С О is enabled
ttlieii ЯЕ51Т is «1 to U "', (be rrpnei icnin*» ac uaualned
It determines ubetbet tbe access is jelated to dati cc command
RS-"H tiKJiCJto thai stfsui) on D(?.01 aie tfjjvlay tali
KS-"L t^dir^fs irui unu)( ел Щ.' OJ are- cort»uad
R«4 Write execution conuol я£аа1
Read Write enable с octroi s-jcnaJ
D№ bu*
C'rfOUAJ
ХосмюесПко
SPI-дисплеи
SPI-дисплеи в телефонах встречались относительно редко. В основном, подоб-
ные дисплейчики можно было найти в моделях начала 200Ох годов: сименсах, мо-
торолах, ранних сонериках Т-серии и Nokia на S40. Иногда SPI-дисплеи можно
встретить в современных кнопочных телефонах — обычно они имеют шлейф с менее
чем 15 пинами, как некоторые модели Fly. Обычно контроллер дисплея поддержи-
вал сразу несколько аппаратных шин, а производитель телефона ещё на этапе ус-
тановки шлейфа к контроллеру дисплея замыкал необходимые IM-пины выбирая не-
обходимую шину, поэтому программный протокол фактически идентичен дисплеям с
шиной 8080.
Несомненным плюсом SPI-дисплеев можно назвать малое число пинов для работы
с матрицей: достаточно всего два (плюс сигнал D/C, если дисплей не 9-битный),
если повесить RESET на VTO, либо три (четыре), если хотите управлять аппарат-
ным RESET вручную. Но есть и, в некоторой степени, минусы: например, не все
микроконтроллеры умеют работать в 9-битном режиме и возможно последний бит
придётся досылать «ногодрыгом» (что ломает любую возможность реализации DMA.) .
Data Format for 3-line Serial Interface
Transmission byte maybe Command or Data
i
D'CX
MSB
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
LSB
DO
D£X
8-bil Transmission Byte
D/CX
8-bit Transmission Byte
J
T
Data/Co mm and select bit
Многие дисплеи с этим интерфейсом задокументированы ещё в начале 2000х го-
дов на известных форумах и сайтах, таких как VRTP5, Радиокот6 и
easyelectronics7, поэтому проблем с их подключением не возникнет даже у но-
вичка .
Достать их новыми можно и сейчас: различные магазины запчастей для телефо-
нов бывают продают их... Я недавно себе целую коробочку накупил, в том числе и
просто для ремонта смартфонов.
5 https://vrtp.ru
6 https://radiokot.ru/
7 http://easyelectronics.ru/
I С-дисплеи
Цветные дисплеи с такой шиной — настоящая редкость и обычно попадались в
телефонах самого начала нулевых годов с низким разрешением экрана. Из извест-
ных мне — Ericsson!ы и ранние Sony Ericsson Т-серии, ODM Motorola (головасти-
ки, например) и... пожалуй всё.
Казалось бы, разве 12С может быть полезен для работы с дисплеями, где тре-
буется активный вывод графики? Ведь он совсем медленный! Однако, даже он мо-
жет пригодится для некоторых проектов, а в большинстве МК почти всегда есть
аппаратная реализация 12С.
3-Dl6<Z
CCOATi
9-0lbO
_шш
т-вг,б-В190 *^стоп
LCD interface
i
i or
ТчМГ
<NH>
_ _l_ tlWS.Lj _j^ _j_^ _L_.;
C10U2|
ippF
С Ю03
JupF
1
сюо*
<ми>
Л s
VIQQ?
<ми>
LCD CONNECTOR
VDIG » c
12CDAT1
GND
i
ЖШ L^
RCSCTQn 3 /
r-
KZ2^330:</Hd.o2en^.S:TlSr.r,A
ех4ьззогг/22'1к0^огс.^.Н
с юге
i
6-c*
Г4
*Ю35
I While L.ght
тиосн
I
Часть схемы Sony Ericsson T230,
Кроме того, 12С дисплейчики удобно отлаживать: благодаря тому, что перифе-
рийное устройство должно отрапортовать АСК (состояние успешности получения
байта) мастер-устройству, можно сразу определить обрыв линий до дисплея. Но
какой-то конкретной информации по ним я не смогу написать — они все совсем
разные. Правда, ребята с форума VRTP собрали хорошую таблицу с различными
контроллерами дисплеев, где бывают и 12С!
Дисплей Т230 можно условно назвать паябельным, шаг между пинами
достаточно большой.
Подсветка
По первой может показаться, что тут всё просто: современным дисплеями дос-
таточно 5В, а на старых можно замерить напряжение бустера на живом девайсе и
смастерить свой DC-DC повышающий преобразователь, или взять, например, уже
готовый драйвер, как известный в определенных кругах LTYN. На самом деле и
тут есть свои нюансы.
Итак, каким образом реализована подсветка в том или ином устройстве? Обычно
её реализация заключается в последовательном соединении двух и более свето-
диодов, которые формируют небольшую ленту под рассеивающей плёнкой. На совре-
менных китайских дисплейчиках, для работы в полную яркость достаточно всего
лишь 5В источника питания + токоограничивающего резистора. Но что самое при-
ятное , подсветка в таких дисплеях способна работать и при 3.ЗВ, пусть менее
ярко, но всё равно вполне читабельно.
Если вы делаете портативное маломощное устройство, работающее от одного Li-
Ion аккумулятора, то достаточно лишь пустить 3.ЗВ с линейного стабилизатора,
который формирует напряжение VSYS для микроконтроллера. Таким образом, у вас
будет стабильная подсветка среднего уровня яркости. В качестве альтернативно-
го «бомж» варианта, когда нет возможности собрать нормальный драйвер подсвет-
ки, можно попробовать подключить светодиоды напрямую к АКБ, но при разряде
дисплей будет потихоньку «тухнуть». Ещё один «бомж» вариант — разобрать дис-
плейный модуль, порезать дорожки на ленте и соединить пару светодиодов парал-
лельно, выведя их через отверстие, откуда выходит шлейф дисплея, однако в та-
ком случае, потребление подсветки заметно увеличится.
TOP VIEW
SW1EZI 16 Vim
GND2^H I5GND
FB3I LD4SHDN
SC6 PACKAGE
6-LEAD PLASTIC SC70
TjMAx = 125°C. 9JA = 256°C/W IN FREE AIR
eJA = 150°C ON BOARD OVER GROUND PLANE
Правильным выходом будет взять с того же телефона бустер подсветки с индук-
тивностью и иной необходимой обвязкой, и собрать бустер самому. Особой попу-
лярностью когда-то пользовались вышеупомянутые LTYN из телефонов Samsung (это
маркировка известного драйвера LT1937). Уровнем подсветки на подобных бусте-
рах телефоны управляют с помощью встроенного ШИМ-контроллера, чем можете вос-
пользоваться и вы.
Практика
С теоретической точки зрения, ничего сложного нет: пересылаем данные на
дисплей, да вовремя дёргаем пин D/C. Но какого же это на практике?
К сожалению, у меня на руках не нашлось подходящего дисплейчика от мобиль-
ного телефона (я ведь брал новые по уценке, не все заработали нормально), по-
этому в качестве примера мы возьмём фактически такой же «китайский» дисплей с
алика. Но будьте уверены — с большинством дисплеев, принцип работы будет
идентичен (если мы говорим о дисплеях 2005 г.в. и моложе). В качестве МК, мы
возьмём мой любимый RP2040, который, по моему мнению, незаслуженно обделен
вниманием. Время от времени я делаю всякие прикольные девайсы на базе этого
микроконтроллера, поэтому крайне рекомендую его всем моим читателям.
0ISP1
SPI TFT S01.8"
kfc^fcl
U'L Ail
1*1 VLK
*D Li.
+5V
GND
U1
RASPBERRY PI PICO WITH3D MOI»EL COPY
ж\
-12J
DC
RESET
GND
SPISCK
SPI MOSI
IGPIO 4
GPIO 5
GND
GPIO 6
GPIO 7
GPIO 8
GPIO 9
GND
GPIO 10
GPIO 11
IGPIO 12
GPIO 13
GND
GPIO 14
GPIO 15
VBUS
VSYS
GND
3v3_EN
3v3 (OUT)
ADC_VREF|
GPIO 28
GND
GPIO 27
GPIO 26
GPIO 22
GND
GPIO 21
GPIO 20
GPIO 19
GPIO 18
GND
GPIO 17
GPIO 16
40
Л2_
3fi
L22.
ГЦ
pi
pi
pi
pi
pi
pi
pi
Щ-
pl
pi
pi
pi
pi
ГЦ
GND
Обычно при создании проекта, я просто клонирую с гита RPi сэмплы с уже го-
товыми файлами СМаке, беру hello world, конфигурирую CMakeLists.txt и пишу
свою программу. На малинке пока что нет такого удобного способа создания про-
екта, как idf.py create-project.
Само собой, для удобства отладки я всегда включаю встроенную в чипсет эму-
ляцию UART через USB.
if (TARGET tinyusb_device)
add_executable(hello_usb
main.cpp
)
# pull in common dependencies
target_link_libraries(hello_usb pico_stdlib hardware_spi)
# enable usb output, disable uart output
pico_enable_stdio_usb (hello_usb 1)
pico_enable_stdio_uart (hello_usb 0)
# create map/bin/hex/uf2 file etc.
pico_add_extra_outputs(hello_usb)
# add url via pico_set_program_url
example_auto_set_url (hello_usb)
elseif (PICO_ON_DEVICE)
message(WARNING "not building hello_usb because TinyUSB submodule is not
initialized in the SDK")
endif ()
И инициализирую USB-стек и биндинги stdout к нему:
stdio_init_all () ;
sleep_ms(1000);
Задержка здесь важна, иначе девайс отказывается определятся в системе. Пе-
реходим, собственно, к разводке дисплея. Для работы нам достаточно лишь пита-
ния, подсветки, общей массы и четырёх сигнальных линий: MOS1, CLK, DC, RESET.
На CS я обычно ставлю перемычку с массой, т.к. обычно не вешаю что-то ещё на
одну шину с дисплеем.
Переходим к инициализации дисплея. Наш экранчик работает на базе контролле-
ра ST7735R и имеет разрешение 128x160. Сначала, назначаем функции для пинов и
дёргаем RESET:
gpio_set_function(LCM_SPI_CLK, GPIO_FUNC_SPI) ;
gpio_set_function(LCM_SPI_MOSI, GPIO_FUNC_SPI) ;
// HW reset
gpio_init(LCM_RESET);
gpio_set_dir (LCM_RESET, true) ;
gpio_put(LCM_RESET, false);
sleep_ms(400) ;
gpio_put(LCM_RESET, true);
gpio_init (LCM_DC) ;
gpio_set_dir (LCM_DC, true) ;
spi_init(spiO, 105535000);
Весьма негусто скажете вы? Ну, с минорными изменениями, здесь заработает
дисплеичик любого разрешения, даже 480x320!
void lcmCommand(unsigned char byte)
{
gpio_put(LCM_DC, 0);
spi_write_blocking(spiO, &byte, sizeof(byte));
}
void lcmData(unsigned char byte)
{
gpio_put(LCM_DC, 1);
spi_write_blocking(spiO, &byte, sizeof(byte));
}
lcmCommand (0x11) ;
sleep_ms(120);
lcmCommand(OxBl);
lcmData(0x01);
lcmData(0x2C) ;
lcmData(0x2D);
lcmCommand(0xB2);
lcmData(0x01) ;
lcmData(0x2C) ;
lcmData(0x2D);
lcmCommand(ОхВЗ);
lcmData(0x01) ;
lcmData(0x2C) ;
lcmData(0x2D);
lcmData(0x01) ;
lcmData(0x2C) ;
lcmData(0x2D);
lcmCommand(0xB4);
lcmData(0x07);
lcmCommand(OxCO);
lcmData(0xA2);
lcmData(0x02) ;
lcmData(0x84);
lcmCommand(OxCl);
lcmData(0xC5);
lcmCommand(0xC2);
lcmData(OxOA);
lcmData(0x00) ;
lcmCommand(ОхСЗ);
lcmData(0x8A);
lcmData(0x2A);
lcmCommand(0xC4);
lcmData(0x8A);
lcmData(OxEE);
lcmCommand(0xC5);//VCOM
lcmData(OxOE);
lcmCommand(0x36);//MX, MY, RGB mode
lcmData(0xC8);
lcmCommand(OxeO);
lcmData(0x02);
lcmData(Oxlc);
lcmData(0x07) ;
lcmData(0xl2) ;
lcmData(0x37);
lcmData(0x32);
lcmData(0x29) ;
lcmData(0x2d);
lcmData(0x29);
lcmData(0x25);
lcmData(0x2b) ;
lcmData(0x39);
lcmData(OxOO) ;
lcmData(OxOl) ;
lcmData(0x03);
lcmData(OxlO);
lcmCommand(Oxel);
lcmData(0x03) ;
lcmData(Oxld);
lcmData(0x07) ;
lcmData(Ox06) ;
lcmData(0x2e);
lcmData(0x2c) ;
lcmData(0x29) ;
lcmData(0x2d);
lcmData(0x2e);
lcmData(0x2e);
lcmData(0x37) ;
lcmData(0x3f);
lcmData(OxOO) ;
lcmData(OxOO) ;
lcmData(0x02);
lcmData(OxlO);
lcmCommand(0x2A);
lcmData(OxOO);
lcmData(0x02);
lcmData(OxOO);
lcmData(0x81) ;
lcmCommand(0x2B);
lcmData(OxOO) ;
lcmData(OxOl) ;
lcmData(OxOO);
lcmData(OxAO);
lcmCommand(0x3A);//65k mode
lcmData(0x05);
lcmCommand(0x29)///Display on
// Set viewport
lcmCommand(0x2A) ;
lcmData(0 » 8) ;
lcmData(0 & OxFF);
lcmData(128 » 8) ;
lcmData(128 & OxFF);
lcmCommand(0x2B);
lcmData(0 » 8);
lcmData(0 & OxFF);
lcmData(160 » 8) ;
lcmData(160 & OxFF);
Прошиваем наш МК и смотрим что получилось. Видим шум на экране? Значит дис-
плей инициализирован верно!
После инициализации дисплея, мы можем выводить на него данные! Дабы дать
возможность процессору заниматься другими делами во время передачи картинки
на дисплей, мы настроим один из DMA-каналов. DMA.-контроллер занимается пере-
сылкой данных из ОЗУ в другой участок ОЗУ (аппаратный memcpy) или периферию.
Как раз для второго случая, т. е. пересылки данных в контроллер SPI, мы и бу-
дем использовать DMA!
Аллокейтим фреймбуфер, куда мы будем выводить нашу картинку и настраивает
DMA-канал:
int backBufSize = LCM_WIDTH * LCM_HEIGHT * 2 + 1;
backBuffer = (byte*)malloc(backBufSize);
printf("LCM: Setting up DMA channel...\n");
bulkDMAChannel = dma_claim_unused_channel(true);
cfg = dma_channel_get_default_config (bulkDMAChannel) ;
channel_conf ig_set_transfer_data_size (&cfg, DMA_SIZE_8) ;
channel_conf ig_set_dreq (&cf g, spi_get_dreq (spiO , true) ) ;
Переходим к выводу изображения на дисплей. Для того, чтобы просто устано-
вить цвет пикселя в любых координатах экрана, достаточно лишь посчитать сме-
щение от начала указателя на фреймбуфер к определенным координатам экрана.
Формула очень простая и понятная: ширина дисплея * Y-координата + х координа-
та и результат предыдущих операций помноженный на число байт в одном пикселе.
([у * trhlth) - :*■) * hytcsFcrPhrl)
inline void pixelAt(short x, short y, short color)
{
if(x < 0 || у < 0 || x >= LCM_WIDTH || у >= LCM_HEIGHT)
return;
byte* col = (byte*)&color;
*((short*)SbackBuffer[(y * 128 + x) * 2]) = color;
}
В функции есть валидация границ дисплея. Если уверены, что не зайдете за
границы дисплея — можете убрать проверку, будет шустрее.
Теперь для вывода картинки, нам достаточно лишь скопировать изначальное
изображение в наш фреймбуфер и попросить DMA-канал вывести изображение на
дисплей. Для прозрачных картинок без альфа-канала (т. е. с цветовым ключом),
функция будет выглядеть так:
void grDrawBitmapTransparent(CBitmap* bmp, int x, int y)
{
short* pixels = (short*)bmp->pixels;
if(x > LCM_WIDTH)
return;
if(у > LCM_HEIGHT)
return;
for(int i = 0; i < bmp->height; i++)
{
for(int j = 0; j < bmp->width; j++)
{
if(x + j >= LCM_WIDTH)
break;
short pixel = pixels[i * bmp->width + j];
if(pixel != LCM_C0L0RKEY)
pixelAt(x + j/ у + i/ pixel);
}
if(y + i >= LCM_HEIGHT)
break;
}
}
А пользоваться всем этим можно вот так:
stdio_init_all() ;
sleep_ms(1000) ;
printf ("LCM test by monobogdan\n") ;
lcmlnitlnterface();
lcmAllocBackBuffer();
lcmlnit () ;
grDrawBitmapTransparent((void*)&habr, HABR_WIDTH, HABR_HEIGHT, 0, 0);
lcmFlush() ;
while(1)
{
}
Прошиваем МК и... Всё работает!
Можно сделать чуть комплекснее, добавив альфа-блендинг и аффинные трансфор-
мации (возможность поворота и скейла картинок), но пока что такой задачи не
стоит.
Обратите внимание, что подход предложенный выше больше подходит именно для
динамического вывода изображения без dirty-регионов. Он подойдет для игровых
консолей, камер, анимаций или устройств с выводом динамической информации по
типу осциллографов. Если вам нужно обновлять картинку реже, например, если вы
делаете умные часы с плеером, то нет необходимости занимать довольно большой
объем ОЗУ фреймбуфером, ведь вы можете писать напрямую в видеопамять. Тут уже
решать в зависимости от конкретной ситуации именно вам.
Электроника
IOOOuF 63V
270 Q
РЕГУЛИРУЕМЫЙ СТАБИЛИЗАТОР ТОКА 0-б А
Семихатский С.
Схема стабилизатора тока показана на рис. 1. За его основу взята схема из
технического описания микросхемы LM317T [1]. Максимальный выходной ток стаби-
лизатора — 6 А, при этом выходное напряжение — около 16 В. Без нагрузки вы-
ходное напряжение может достигать 30 В. Стабилизатор тока собран на микросхе-
ме DA2 и транзисторе VT1, который включён параллельно микросхеме DA2 и позво-
ляет увеличить выходной ток стабилизатора. Резистор R3 — датчик тока, от его
сопротивления зависит максимальное значение выходного тока, регулировка вы-
ходного тока осуществляется переменным резистором R4.
VT1 1Т8138
SA1 "Вкл
VD1 Д242А
С1 Jjtco-Ltru-Lt
т т т
С1.С2 10000 мк х 35 В
С4. С5 2200 МК х 35 В
VD2 Д242А
:С6 ($)^ИИ
470 н ЧФ/АП307АМ
У
VT2
КТ315В
R5»
510
Рис. 1.
Питается стабилизатор тока от сетевого блока питания, собранного на пони-
жающем трансформаторе Т1 и выпрямителе на диодах VD1, VD2. Конденсаторы С1,
С2, С4 , C5 сглаживают пульсации выпрямленного напряжения. Чтобы обеспечить
регулировку выходного тока от нуля до максимума, на резисторе R4 формируется
компенсирующее напряжение для микросхемы DA2. Осуществляется это с помощью
стабилизатора тока на транзисторе VT2 и резисторе R5. Светодиод HL1 выполняет
функции индикатора включения и одновременно источника образцового напряжения
для стабилизатора тока на транзисторе VT2. Протекающий через этот транзистор
ток создаёт на резисторе R4 и диодах VD7, VD8 напряжение 1,25...1,3 В. В ре-
зультате в нижнем по схеме положении движка резистора R4 выходной ток будет
близок к нулю, а в верхнем положении движка этого резистора выходной ток мак-
симален .
Для питания стабилизатора тока на транзисторе VT2 служит блок питания, соб-
ранный на трансформаторе Т2, выпрямителе на диодах VD3—VD6 и стабилизаторе
напряжения на микросхеме DA1. Конденсатор СЗ — сглаживающий.
В устройстве применены постоянные резисторы МЛТ с допуском ±5 %, переменный
резистор — СП4-1, СПО. Резистор R3 изготовлен из нихромовой проволоки диамет-
ром 1 мм. Этот резистор может сильно разогреваться, поэтому провод надо свер-
нуть в спираль и приподнять над печатной платой. Для этого концы провода за-
прессованы в медные лужёные гильзы ГМЛ(о) 0,34/1,5.
Оксидные конденсаторы — К50-35 или аналогичные импортные, конденсатор С6 —
К73-17, К10-17 или импортный плёночный. Транзистор 1Т813В [2] можно заменить
транзистором серий ГТ806, П210. Транзистор КТ315В можно заменить транзистором
серий КТ315, КТ3102 с допустимым напряжением коллектор—эмиттер не менее 30 В.
Замена диодов Д242А — диоды серий Д305, Д243, Д244. Диоды Д220 можно заменить
диодами серий Д223, КД521, КД522.
Часть элементов стабилизатора смонтирована на печатной плате из односто-
роннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 2 мм, её чертёж1 показан на
рис. 2 (на плате установлен подстроечный резистор R5) . Микросхема DA2 уста-
новлена на ребристый теплоотвод общей площадью 60 см2. Транзистор VT1 уста-
новлен на теплоотвод общей площадью около 900 см2. Если работы проводятся при
температуре окружающего воздуха 30 С и выше, следует предусмотреть обдув уст-
ройства с помощью внешнего вентилятора.
1 ftp://homelab.homelinuxserver.org/pub/arhiv/2024-03-al.zip
К эмиттеру VT1
см
О
i
г
о
К выв 3DA1 КбдзеУП
о
< | G
**—I °
-#■—I °
щ—I °
-«— о
щ—I °
-+ G
R1 Q
К выв 2DA1
4
К коллектору VT1
А
о
R3
С4
т
¥ Ж
С5
Т
ш
а
>
i
Г)
о
>
DA1
о2
Ю
сз
1
сбНИ
Ж Ф Т HL1
о К] о
VD7
0...6А
0.16 В
К выв. 1DA2
Рис. 2.
В авторском варианте применён понижающий трансформатор Т1 от зарядного уст-
ройства пРассвет-2п. От него использован и алюминиевый теплоотвод толщиной 3
мм размерами 130x70 мм, на котором установлены диоды VD1, VD2. Трансформатор
можно изготовить из трансформаторов серий ТС-180, ТС-200, применявшихся в
чёрно-белых телевизорах. Их вторичные обмотки удаляют и наматывают новые — на
каждом каркасе 78 витков провода ПЭТВ-2 диаметром 2 мм для трансформаторов
ТС-200 и по 68 витков для трансформатора ТС-180. Обмотки соединяют последова-
тельно. Трансформатор Т2 — маломощный с выходным напряжением 6... 10 В и то-
ком до 50 мА. Внешний вид стабилизатора тока без корпуса показан на рис. 3.
Рис. 3.
Налаживание сводится к подбору резистора R5, чтобы на резисторе R4 и диодах
VD7, VD8 было напряжение 1,25...1,3 В.
Литература:
1. Voltage Regulator Adjustable Output, Positive 1.5 A LM317, NCV317. — URL:
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/Im317-d.pdf
2. 1T813A, 1Т813Б, 1T813B. - URL: https://clck.ru/37Cfiz (
Электроника
ДАТЧИК УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ LTR-390UV-01
Ультрафиолетовое излучение это электромагнитные волны с длинной волны от
100 до 400 нм (7.51014—31016 Гц). Источниками ультрафиолетового излучения яв-
ляются Солнце и всяческие дуговые разряды в газах (сварка, ртутные лампы
уличного освещения). LED лампочка на смартфоне тоже излучает ультрафиолет.
Ультрафиолетовое излучение в своем нижнем диапазоне проникает сквозь атмо-
сферу .
Интенсивность ультрафиолетового излучения измеряется в UVI.
Самое доступное, что есть в магазинах электроники это датчик LTR-390UV-01.
Итак, существует ASIC чип LTR-390UV-01. Это 6-пиновый датчик ультрафиолето-
вого излучения с разрешением 20 бит.
Вот блок схема модуля.
VDD
JL
?
Visible
Diode
А
ADC
OSC
►
Logic
I2C Interface
UV Diode
Temperature
Compensation
Interrupt
SCL
SDA
INT
NC
GND
Внутри него есть два фотодиода, ADC, внутренний генератор тактового сигна-
ла, температурная компенсация, интерфейс I2C и цепь прерываний.
Распиновка чипа LTR-390UV-01
pin num
1
2
3
4
5
6
Name
VDD
NC
GND
SCL
INT
SDA
Dir
in
--
in
in
out
io
Top Side
Left
Left
Left
right
right
right
Active
Hi
—
Low
height
Low
height
Pull
Air
Air
Air
Up
Up
Up
Max V
4.0
--
0
3.3
3.3
3.3
type
--
--
--
open drain
open drain
open drain
Габаритные размеры чипа LTR-390UV-01 впечатляют всего 4 мм
0.70
Ч
0.40
м
Pin I marking
0-0.03
0.20
Г
2.00
0.39
■в-
1.00
t
ш
I VDD
2.NC
3.GND
4.SCL
5.IXT
6. SDA
0.30
D
/ Detector area
/ 0.28 х 0.28mm
<
If
Ь х 0.025
4
065
3
x4
5
2
4x0
4
xO.35
6х
6
03
и
1
Л!
1
6х
[
0.4
i
1. All dimensions in mm
2. Tolerances is -.'"-0.2
3. L1C reserve the right to to change the drawing till final datasheet release
Вот список основных характеристик этого чипа:
Характеристика
Диапазон измеряемых волн
Максимальная мощность
питания ASIC(a)
VDD max
Max input current
Температера
Разрешение
I2C clock
Значение
min
280
0.17
1.7
100
-40
13
100
max
430
0.4
4
85
20
400
Единица
измерения
nm
W
V
mA
Deg
bit
kHz
Для этого датчика есть отладочная плата LTR390-UV-01 от компании WaveShare
Electronics. Её можно купить как в ЧипДип так и на Aliexpress.
м z"z га
ет т"" в*?)
гз О в-э
с» _-«. из
UV Sensor (С)
26.5
2"
4£1
f О
^<Ы-
СП
«> -- - га
га П га
(Ж --- <М
UV Suitor (С)
Это распиновка модуля:
pin#
1
2
3
4
5
Pin Name
VCC
GND
SDA
SCL
INT
Dir
out
in
io
in
out
Description
Power supply-
Ground
Data wire
Clock wire
Interrupt
Взаимодействие с чипом происходит по интерфейсу I С.
1) Сеанс передачи от "Master" к "Slave"
сеанс передачи данных
J5_
1-й пакет - это адрес "Slave"
h *l*
6
5
4
3
2
1
0
0
А
7
6
5
пакет
4
3
2
1
0
• Л
ч I
ш/
пакет
Г п
7
6
5
4
3
2
1
0
Ml]
7 бит адреса
бит направления = О
(передача от 'Master'* к "Slave)
передаваемые данные (п байт)
2) Сеанс передачи от "Slave" к "Master" (чтение из "Slave")
сеанс передачи данных
+
S
1-й пакет - это адрес "Slave"
Г т\т
б
5
4
3
2
1
0 И
А
7
L-.
6
5
О Л
пакет
4
3
2
1
0
1 |f*
А
1,.
6
5
о к
пакет
4
3
2
1
0
•
А
*
Р
7 бит адреса
t
бит направления =1
(передана от "Slave" к "Master")
[~s] "Старт" - условие
[~р] "Стоп" - условие
[а] бит подтверждения (АСК)
отсутствие подтверждения
передаваемые данные (п байт)
Цветом ячейки обозначено - какое именно устройство
выставляет даный бит на шину DATA:
бит выставляется "Master" - устройством
бит выставляется "Slave" - устройством
SDA
SCL
Client Address
ACK
ACK
VUU f
g
5—1—1—1—Г
SCL 1 f-
GND
T
1
•
Ведущий
(Master)
T
F
w—
•—|
Ведомый
(Slave)
T
w—
#-J—
Ведомый
(Slave)
T
Ведомый
(Slave)
Чип откликается на базовый адрес 0х53=0Ы01 ООН
Read
Write
Bit
Base Address (0x53)
7
1
1
6
0
0
5
1
1
4
0
0
3
0
0
2
1
1
1
1
1
R/W
0
1
0
Value
0xA7
ОхАб
Сканирование показывает, что да, отзываются I С адреса 0хА7 и ОхАб:
.4/.4УЭ :I fcl^LJ InterraceNur" l
h + + + + + + + н
-- | хЭ | xl | х2 | хЗ | х4 | х5 | хб |
h + + + + + + + н
у + + + + +
(. + + + + +
h + + + + +
h + + + + +
У чипа LTR-390UV-01 19 регистров по 8 бит каждый. Если отбросить все заре-
зервированные биты, то получится 57 бит чистых конфигов. Каждый бит чего-то
да значит.
Address R
0x00 1
0x04 1
0x05 1
0x06 | 1
0x07 1
0x0d 1
0x0e 1
OxOf 1
0x10 1
0x11 1
0x12 1
0x19 1
0x1 А 1
0x21 1
0x22 1
0x23 1
L
0x24 1
0x25 1
0x26 1
W
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Register Name
MAJN_CTRL
ALS_UVS_MEAS_RATE
ALS_UVS_GAIN
PARTJD
MAJN_STATUS
ALS_DATA_0
ALS_DATA_1
ALS_DATA_2
UVS_DATA_0
UVS_DATA_1
UVS_DATA_2
INT_CFG
INT_PST
ALS_UVS_THRES_UP_0
ALS_UVS_THRES_UP_1
ALS_UVS_THRES_UP_2
ALS_UVS_THRES_LOW_0
ALS_UVS_THRES_LOW_1
ALS_UVS_THRES_LOW_2
bits
effective
3
6
3
8
3
8
8
4
8
8
4
3
4
8
8
4
8
8
4
Reset
Value
0x00
0x22
0x01
0xB2
0x20
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x10
0x00
OxFF
OxFF
OxOF
0x00
0x00
0x00
Для I С чип виден как внешняя память. То есть в I С пакете чтения 2 старт-
сигнала и один стоп-сигнал.
45.807-->
45.809- ->1гтп
+ + +
|ValueH| ValueBin |acces
10 | 0x12
11 I 0x19
12 J 0xla
13 I 0x21
14 J 0x22
15 J 0x23
16 I 0x24
— + +
)0 | 0x0a | 0b0000_:
)4 J 0x00 j 0b0000J
)5 j 0x04 j 0b0000_(
)6 j 0xb2 j 0bl011J
)7 j 0x08 j 0b0000_:
)d j 0x3a j 0b0011_:
)e j 0x01 j 0b0000J
)f j 0x00 j 0b0000J
.0 j 0x00 j 0b0000J
.1 j 0x00 j 0b0000J
.2 j 0x00 j 0b0000J
.9 j 0x34 j 0b0011J
.a j 0x00 j 0b0000J
11 j 0xff j 0bllll_:
>2 j 0xff j 0bllll_:
[3 j 0x0f I 0b0000_:
>4 I 0x00 I 0b0000 (
MAIN_CTRL
MEAS_RATE
GAIN
PART_ID
MAIN_STATUS
ALS DATA
UVS DATA
INT_CFG
INT_PST
THRES UP
THRES_L0W |
+ + .
Все 10 параметров, которые можно конфигурировать:
parameter
mode
LS_INT_EN
LS_INT_SEL
integrationtime
gain
resolution
rate
Persist
Upper Threshold
Low Threshold
Reg
Name
MAIN_CTRL
INT_CFG
INT_CFG
MEAS_RATE
GAIN
MEAS_RATE
MEAS_RATE
INT_PST
THRES_UP
THRES LOW
Reg
Addres
0x00
0x19
0x19
0x04
0x05
0x04
0x04
0x1A
0x21
0x24
bit
1
1
2
0
3
3
3
4
20
20
default
ALS
off
ALS
100
3
18
100
??
OxFFFFF
0
Unit
channel
on off
channel
ms
Num
bit
ms
??
code
code
Драйвера для чипа LTR-390UV-01 можно найти в интернете по ключевому слову
LTR390. Ещё есть драйвер от производителя платы1. А вот в ядре Linux по клю-
чевым словам LTR-390UV-01, LTR390 ничего не находится. В Zephyr исходниках
тоже нет поддержки ASIC LRT390. Пришлось скомпоновать свой драйвер на основе
дюжины примеров.
Я собрал прототип, чтобы проверить датчик освещения. На основании из орг-
стекла закрепил плату Black-Pill Super модуль, LTR-390UV-01, дисплей SSD1306
и RTC DS3231
Для отладки 12С мне понадобился логический анализатор. Чтение регистра ре-
зультата измерений UV датчика:
1 ftp://homelab.homelinuxserver.org/pub/arhiv/2024-03-a2.zip
quantity
options
2
2
2
5
5
6
7
16
2Л20
2Л20
Но как проверить датчик UV? Самое простое это оставить его на день на бал-
коне и посмотреть что он намеряет. Вот такой получился график зависимости ос-
вещения от времени для Москвы на 4 февраля 2024 года:
Ultraviolet sensor data 4th Feb 2024 Moscow
1,00
0,75
0,50
0,25
n nn
Г
:
" |
: ^^V
о о
о о
о о
о о
■^ CD
.11.
1
и\
'V ™i
о
о
о
о
гч
•-^
о
о
о
о
<0
о
о
о
о
о
fN
Тут отчетливо видно, что 4 февраля ультрафиолетовое поле действовало с 5:02
до 14:32 (UTC+0). То есть продолжительность облучения составила 9 часов, 30
минут. А ночью UV полностью отсутствует. Вполне похоже на правду.
Достоинства UV датчика в исполнении ASIC LTR390:
1. Есть регистр с ID чипа (Addr:0x06). Можно делать тест на подключения чипа.
Эх, вот бы все вендоры ASIC чипов работали на таком уровне...
Address
0x06
R
1
W
I
Register Name
PARTJD
bits
effective
8
Reset
Value
0xB2
2. Широкий диапазон измеряемых освещенностеи. Шире чем у ASIC BH1750. Датчик
LTR390 способен измерять весь диапазон для естественных природных освеще-
ний на Земле.
3. Цифровой интерфейс 12С для выдачи данных.
Недостатки UV датчика LTR390:
1. Есть не задокументированные адреса 12С регистров, которые при чтении пока-
зывают какие-то загадочные ненулевые значения. Всё это выглядит как Back-
door для Vendor-Locking(а).
| No | Addr |ValueH| ValueBin |
| 0 | 0x02 | 0x08 | 0Ь0000_1000 |
| 1 | 0x03 | 0x45 | 0Ь0100_0101 |
| 2 | 0x16 | 0x02 | 0Ь0000_0010 |
| 3 | 0x1c | 0x07 | 0Ь0000_0111 |
Примеры применения ультрафиолетового излучения можно найти здесь:
https://ru.wikipedia.огд/те±к±/Ультрафиолетовое_излучение
Техника
Электроны
Разрядная трубка Воздух под крайне зеленоватый блеск
Катод
низким давлением
г- с <? ф j
+
Вакуумный насос 4
¥
Анод
Генератор высокого напряжения
м
БЛОК ПИТАНИЯ РАЗРЯДНЫХ ТРУБОК
Предложенный лабораторный высоковольтный блок питания (ВВ БП) на основе ав-
томобильной катушки зажигания (т. н. бобины) собран подручными средствами и
из подручных материалов. Крайне прост, надёжен, дёшев, некапризен и ремонто-
пригоден. Не требует намоточных работ. Вместе с тем, позволят зажигать тлею-
щий разряд в трубках Гейслера, распылять геттер разрядом и прочее подобное.
При работе от внешнего регулируемого низковольтного блока питания имеет и ре-
гулировку высокого напряжения. Очевидное и познавательное устройство модуля,
родственное и уходящее корнями к небезызвестной индукционной «катушке Румкор-
фа», полезно при демонстрациях.
Рис. 2. Катушка Румкорфа. Восхитительно остроумный прибор, позволяю-
щий электромеханическим способом получить из низкого напряжения по-
стоянного тока (гальванические элементы, аккумуляторы) высокое на-
пряжение переменного тока. Устройство очевидно, конденсатор в подва-
ле шасси снижал искрение на контактах прерывателя-звонка.
Основная часть подобного прибора — индукционная катушка, требует изрядных,
хотя и несложных, намоточных работ и, к счастью, сегодня может быть заменена
близким аналогом — катушкой зажигания от автомобильного бензинового двигателя
внутреннего сгорания. Причём в компактном и надёжном исполнении — закатана в
герметичный, заполненный маслом, стальной стакан с удобными мощными выводами.
Фото 3. Доставшаяся по случаю катушка зажигания марки Б115В. Рядом
штатное хомут-крепление с табельным керамическим резистором.
Камень преткновения для подобных конструкций — недолговечный и шумный меха-
нический прерыватель — в нашем приборе заменён на культурный электронный ключ
на мощном полевом транзисторе, а в качестве задающего генератора импульсов
применён таходатчик малогабаритного вентилятора. Заодно пусть обдувает тран-
зистор-ключ .
Е2 +6...25 Bt max 2A
Рис. 4. Схема принципиальная ВВ БП. Кроме сказанного и очевидного,
предварительный каскад-формирователь импульсов на комплементарной
паре транзисторов и демпферная цепочка на выводах низковольтной об-
мотки катушки. Повышают надёжность блока, снижают нагрев транзисто-
ра-ключа. В качестве последнего применил IRF540.
Фото 5. Первым долгом собрал БП на кусочке сосновой доски макетным
манером. Ничего, искрит как миленький, а куда бы он делся.
Катушечный ВВ БП даёт переменный ток, крупноват и работает только в компа-
нии с парой внешних низковольтных БП. Тем не менее, свою растрёпу на дощечке
(Фото 5) захотелось пригладить и причесать — макет разобрал до атомов, отчис-
тил и отмыл с жёсткой щёткой катушку, подобрал вентилятор с радиатором поком-
пактнее, вычертил в Автокаде несложное шасси-штатив для удобной укладки раз-
рядных трубок, подобрал клеммы.
Фото 6. Заготовки выпилил на торцевой пиле из кусочка твёрдого
ламинированного ДВП 5 мм толщиной от старой корпусной мебели со-
ветского образца.
Фото 7. Мелочи и проёмы сделал лобзиком по дереву.
нование шасси с посадочным местом для катушки.
На фото — ос-
Фото 8. Кронштейн-уголок выгнул из кусочка нетолстого, ^0,7 мм,
алюминиевого листа — отмытого, отрихтованного, доставшегося по
случаю куска старой кровли.
Фото 9. Из того же листа вырезал, согнул, просверлил широкий хо-
мут для катушки. Аккуратнее и компактней штатного.
Фото 10. Сборка-примерка деталей шасси и основных установочных
элементов. Шипы на деревянных элементах подогнал, срезая тонкие
их слои скальпелем, нижнюю клемму — «Высокое напряжение ОБЩИЙ» —
пришлось сделать самостоятельно из кусочка подходящей латунной
проволоки и нескольких стандартных не оцинкованных (гальваниче-
ская с латунью пара — нельзя!) шайб и гаек М4.
Фото 11. Деревянные детали собрал на столярный ПВА, влажной тря-
почкой удалил выступивший клей, просушил и в несколько слоев,
покрасил чёрной матовой аэрозольной эмалью.
Электронный прерыватель вместе с миниатюрным вентилятором и радиатором вы-
полнен в виде небольшого модуля. Мелкие элементы схемы смонтированы на дорож-
ках её печатной платки аналогично SMD-монтажу. Пара элементов в корпусах 1206
тоже имеется — стиль эклектический.
Фото 12. Эскиз, спроектированной в том же Автокаде платки, рас-
печатал в натуральную величину, подобрал и вырезал заготовку
фольгированного стеклотекстолита.
Фото 13. Ненужную фольгу на второй стороне заготовки снял пинце-
том, предварительно подогрев медь строительным феном.
Фото 14. Чтобы не копаться с фотошаблонами и химикатами для пе-
реноса простейшего рисунка, перевёл несколько его линий, исполь-
зуя канцелярскую копировальную бумагу. Заодно накернил и центры
немногочисленных отверстий.
Фото 15. Рисунок дорожек выполнил стеклянным рейсфедером, старым
добрым битумным лаком. После подсыхания рисунка отретушировал
немногочисленные огрехи крупной иглой.
Фото 16. Стравил незащищённую медь в хрестоматийном водном рас-
творе хлорного железа. Храню его небольшой запас в герметично
закрывающейся полиэтиленовой кювете-контейнере, позволяющей об-
рабатывать мелкие платки прямо в ней.
Фото 17. Лак с дорожек удалил клочком х/б ветоши, смоченной аце-
тоном, зачистил дорожки абразивной стороной губки для мытья по-
суды, залудил ПОС-61 со спиртово-канифольным флюсом.
Фото 18. Собрал платку. Комплементарную пару КТ315-КТ361 отобрал
по транзисторному тестеру с близкими параметрами, резисторы в
корпусах 1206.
Фото 19. Отмыл собранную платку от остатков спиртово-канифольного
флюса в ультразвуковой мойке с применением автомобильного моющего
средства (изопропиловый спирт, ПАВ) , промыл в чистой воде, высушил,
впаял винтовую клемму, установил радиатор с вентилятором. Под метал-
лическую спинку полевого транзистора плюхнул немного теплопроводящей
пасты, крепёж вентилятора застопорил краской в резьбу. Подключил вы-
воды вентилятора к плате, привинтил кронштейн.
Фото 20. Моим б/у приборным клеммам не хватало лепестков для
подключения к ним проводов изнутри. Один из трёх удалось подоб-
рать готовый, ещё два разметил и выпилил ювелирным лобзиком из
кусочка нетолстой медной ленты.
Фото 21. Лепестки зачистил, залудил, припаял соответствующие
провода, удалил остатки флюса, собрал, установил клеммы. Устано-
вил индукционную катушку.
Фото 22. Установил модуль прерывателя, провёл, укоротил по мес-
ту, подключил к нему провода. Длинные нейлоновыми ремешками за-
крепил на элементах конструкции или скрепил друг с другом.
Фото 23. Для первой проверки работоспособности ВВ БП организовал
искровой промежуток — зажал в высоковольтных выводах блока по
куску жёсткого провода, их свободные зачищенные от изоляции кон-
цы свёл на расстояние около 10 мм. Запитал модуль от пары низко-
вольтных лабораторных БП.
Фото 24. Искровой промежуток 10 мм пробивается при напряжении пита-
ния катушки уже около 7...8 В. Потребляемый при этом ток меньше ампе-
ра. Напряжение на индукционной катушке — около 30 с хвостиком кВ.
Фото 25. Ещё одна простая проверка работоспособности — включение
лампы фабричной люминесцентной. Удобнее не длинной трубчатой —
то же разрежение, те же электроды, тот же разряд. Оба вывода от
нитей накала на каждом конце трубки закоротил, разряд в парах
ртути горит между холодными электродами.
Фото 26. Наконец, то, ради чего всё затевалось - включение самодель-
ных разрядных трубок. Здесь это открытая «не отпаянная» трубка для
демонстрации зависимости формы разряда от остаточного давления.
Фото 27. Характерное «тёмное Фарадеево пространство» и страты
тлеющего разряда в разреженном воздухе.
Фото 28. Правила хорошего тона требуют снабжать органы управле-
ния и коммутации прибора понятными и долговечными пояснительными
надписями - уже через несколько недель простоя, можно и самому
не вспомнить, куда и что следует подключать. Шильдики для клемм
сделал ударным способом на мягком алюминии, закрепил крохотными
саморезами и винтиками МЗ.
Фото 2 9. Готовый ВВ БП с разрядной трубкой. Вид слева.
Фото 30. Готовый ВВ БП с разрядной трубкой. Вид справа.
Фото 31. Шильдики с пояснительными надписями около клемм питания прибора.
Фото 32. Шильдик около высоковольтного вывода катушки.
Фото 33. Шильдик около «общего» вывода высокого напряжения.
Фото 34. Вид ВВ БП снизу.
Мелочи — держатели штатива следовало бы сделать поближе друг к другу и V-
образными, в которых устанавливаются, не перекатываясь трубки любой длины и
диаметра. Выбитые или выгравированные углублённые буквы-знаки положено не ле-
ниться заполнять контрастной краской.
Соображения общие — блок питания работоспособен вполне, но требует двух
внешних низковольтных источников, генерирует высокое напряжение переменного
тока, имеющее не слишком удобную регулировку. Не имеет измерительных приборов
и при работе на искровой промежуток создаёт помехи по цепям питания. Сфера
его применения — демонстрации.
Практика показала — в отличие от простых аналогов, описанный блок питания
способен длительно работать без заметного нагрева элементов, разве что чуть
теплеет катушка.
Техника
UV ИЗЛУЧАТЕЛЬ ДЛЯ АКТИВАЦИИ ФОТОПОЛИМЕРА
Функционал устройства примитивный, нам необходим таймер экспозиции, соот-
ветственно нужно реализовать элементы управления в виде кнопок пуск/стоп и
установки времени таймера. Для взаимодействия с пользователем будет использо-
ваться дешевый четырехразрядный семисегментный индикатор с общим катодом, а
питание устройства будет выполняться от стандартного USB порта с напряжением
питания 5 В. В качестве источника UV излучения будет использоваться массив
светодиодов.
Для реализации задуманного, нам необходимы следующие компоненты:
1. Сердце нашего проекта ATTINY2313A-SU(SOP-20) — 1 шт.
2. Цифровой индикатор красный, KEM-5461AR — 1 шт.
3. Светодиод Galaxy light 5MM UV (395 - 400 нм) — 63 шт.
4. Транзистор AOD208 — 1 шт.
Мосфет можно взять из VRM системы, например, старой материнской платы.
Для разработки принципиальной схемы и печатной платы я использовал кросс-
платформенную САПР KiCad EDA1, ниже приведены результаты проектирования.
1 https://www.kicad.org/
+ 5V
t
, 100u
®l POWER
GNO
U2
CC56-12VWA
1 -o ri ri ri
r '/*« /Л /Г/. О. «.fe
DP<i
CC2
ссзр-
I-5V
t
«13 200
GND
^1 О10^Т^П^Т~Т)ТГ^Т7П513^Т~1ТГГ M"15 JT^T D1#^T D17^T 0
Ж LED * LEO * LED * LED * LED * LED * LED* LED * U
5M 019 ^T D20^T_ 021^T
Ж ^D * LED * LED *
Ж LED * LED * LED *
LED
02Щ
LEO
D27
LED
таг
LEO
^T 023 Stt D24^T_ 02^T_ D26^f
Ж LED * LEO * LED* LED *
Ж LED * LED * LED* LED * LEC
DAO^T 041 M DA?S^T 043^T D44^T 0*5 f
IM 037 ^T D38M 039 ^T DAO^T 041 ^t DA?S^T 043^T D44^T
Ж LED * LED * LED * LED * LED * LEO * LED* LED *
LED
Ж LED
LED
У_ 048 ^T DA9^T D50 S^T 051 ^T D5^T D53^T
Ж LED * LEO * LED * LEO * LED* LED *
051RJT D5^T D53^T 054
LEO * LED* LED * LED
UV LED FIELD
J3
Рендер печатных плат:
ris ^^
*]^%(^\{^\{^%^%^%(^\{^%(^\
\aF\
Л»Л
Rl7 ^=*ч ^=
^(f^(f®bf*ll(f*lB(f^
'■>©©
30ооооооею
lOOGX"
0 Bl
«ц 511 ■
I •—# — «Пят4—
— •■;iR3
R6i_i«-i — di:ipi^
Rll.ie— — Я1 !*<♦ J
• — — HFIR5 ,
Печатная плата (см. архив) изготавливалась в домашних условиях, с примене-
нием фоторезиста и фотошаблона. Ниже результат изготовления платы.
Чтобы не пугать начинающих инженеров и для упрощения реализации, разработка
микро-ПО (см. архив) велась в среде Arduino IDE с применением ядра
ATTinyCore. Прошивка микроконтроллера выполняется по SPI интерфейсу с помощью
специализированных программаторов, но, к счастью, в качестве программатора
можно использовать платы Arduino. Заострять внимание на процедуре прошивки по
SPI в этой статье не будем, в интернете достаточно доступной информации по
данному вопросу. Так как у нас задействованы все пины микроконтроллера и нет
возможности использовать внешний кварцевый резонатор для тактирования, то нам
необходимо задействовать внутренний тактовый генератор для работы ATtiny2313.
В Arduino IDE конфигурация выполняется следующим образом:
UV.timer | Arduino 1.8.19
Файл Правка Скетч Инструменты Помощь
©о
АвтоФорматировамио
Архивировать скетч
Исправить кодировку и перезагрузить
Управлять библиотеками...
Монитор порта
Плоттер по последовательному соединению
WiFi 101 /W1F1NINA Firmware Updater
Плата: "ATtmy2313(a)/4313 (No bootloader)"
Chip: 'ATHny2313/ATtiny2313A-
Clock:"8 MHz (internal)*
BOD. Level (Only set on ISP bootload): "BOD. Disabled (saves power)"
Save EEPROM: 'EEPROM retained"
initialize Secondary Timers: "no"
LTO (1.6.1b only): "Enabled"
tinyNeoPixel port: "Port A (pins 2,3,17)"
millis()/micros(): "Enabled*
CtrUShifM
CtrUShift+M
CtrUShift+L
8 MHz (internal)
20 MHz (external)
16 MHz (external)
12 MHz (external)
8 MHz (external)
1 MHz (internal)
4 MHz (internal)
6 MHz (external)
4 MHz (external)
0.5 MHz (internal)
7.372 MHz (external)
9.216 MHz (external)
11.0592 MHz (external)
14.7456 MHz (external)
18.432 MHz (external)
128 kHz (internal WDT)
Получить информацию о плате
Программатор: "Arduino as ISP (ATTinyCore)"
Записать Загрузчик
)lDisabled (saves power), no. Enabled. Port A (pins 2,3.17) на /dev/ttyUS80
После выбора конфигурации нам необходимо нажать на пункт «Записать загруз-
чик», данная операция запишет в память микроконтроллера конфигурационные FUSE
биты.
Корпус устройства довольно простой и компактный, который разрабатывался в
соответствии с размерами печатных плат. Разработка корпуса выполнялась в САПР
FreeCAD2 (см. архив), далее элементы корпуса были распечатаны на 3D принтере.
Рендер корпуса:
2 https://www.freecad.org/
Тестовое включение:
Так выглядит массив светодиодов устройства:
Массив светодиодов при работе:
Устройство в собранном виде:
Как можно видеть на изображении, время на индикаторе разделяется точкой на
минуты и секунды. Для установки времени экспозиции используются две правые
кнопки "-" и "+". Для запуска таймера и активации светодиодов используется
крайняя левая кнопка, если нажать на эту кнопку при нулевом значении таймера,
то она будет просто выполнять функцию включения / выключения массива свето-
диодов .
В результате у нас получилось простое и компактное устройство с равномерным
световым потоком для активации фотополимеров в домашнем производстве печатных
плат и не только.
Архив к статье:
ftp://homelab.homelinuxserver.org/pub/arhiv/2024-ОЗ-аЗ.zip
Технологии
СТЕКЛОДУВНАЯ МАСТЕРСКАЯ
(продолжение1)
Стекло — материал в ряде применений чрезвычайно удобный, однако, имеющий
непростой характер, требующий вдумчивого и деликатного обращения. При его го-
рячей обработке совершенно недостаточно сформовать размягчённые заготовки и
спаять их. Естественное остывание неподвижной стеклянной работы на открытом
воздухе часто приводит к разрушению прибора — в нём появляются недопустимо
большие местные внутренние напряжения, превышающие предел прочности материала
— стекло хрупко и плохо проводит тепло. Отдельные его участки, если не при-
нять особых мер, остывают в разной степени и с разной скоростью сжатия, обра-
зуя в толщине материала уплотнённые области — внутренние напряжения (ВЫ). Ар-
хиважная задача мастера-стеклодува не допускать их чрезмерного развития при
работе, а в готовом приборе — контролировать и снимать.
Здесь речь пойдёт о любительском стеклодувном приборостроении и работах с
легкоплавким стеклом, более склонном к образованию ВЫ из-за высокого темпера-
турного коэффициента расширения (ТКР).
Относительно несильные ВЫ невооружённым глазом не видны.
ВЫ увеличиваются с увеличением толщины стекла и размера работы, сложности
прибора (труднее добиться охлаждения равномерного), при использовании метал-
лических впаев (электрических выводов — неполное совпадение КТР материалов) и
стёкол с высоким КТР (платиновой и молибденовой групп).
1 Смотрите номер 1 за 2024 г.
Фото 1. Спай с внутренними напряжениями.
Фото 2. Спай с внутренними напряжениями в обычном свете.
ВН коварны и не обязательно приводят к разрушению стёкла немедленно. Такого
рода авария может случиться и через сутки, недели и даже месяцы после изго-
товления прибора.
ВН не обязательно должны быть нейтрализованы полностью, достаточно умень-
шить их до приемлемого значения. В некоторых случаях, например, при необходи-
мости спаивании стёкол разных групп с сильно разнящимся КТР, через т. н.
стёкла переходные, полностью снять ВН спаев невозможно в принципе. Случается
использовать ВН с пользой, например, стёкла платиновой группы и платинитовой
проволоки имеют несколько отличные КТР, соотносящиеся друг с другом так, что
небольшое ВН в стекле спая делает его надёжнее и долговечнее.
ВН изменяют угол вращения плоскости поляризации, в отличие от стекла, сво-
бодного от таких образований, и видны в поляризованном свете как цветные пят-
на. Увидеть ВН проще всего при помощи двух кусков поляризационной плёнки от
ЖК экранов. Разместить их следует так — источник света, первый поляризатор,
исследуемое стекло, второй поляризатор, наблюдатель. Один из поляризаторов
вращаем в его плоскости, добиваясь затемнения фона и появления цветных или
белых пятен-напряжений внутри стекла.
Фото 3. Стационарный лабораторный Фото 4. Настольный ювелирный полярископ
поляриметр ПКС-250. для исследования прозрачных камней
и минералов.
Полярископ, в отличие от поляриметра, не имеет ряда элементов для количест-
венных измерений и позволяет только оценку качественную, по яркости и цвету
пятен-напряжений, зато имеет упрощённую, недорогую и доступную любителю, кон-
струкцию. Более того, для первых опытов вполне можно использовать импровизи-
рованный экспресс-полярископ, для которого понадобится только один кусочек
поляризационной плёнки или фотографический фильтр. Источником же поляризован-
ного света выступит любой ЖК монитор, стоит только вывести на него белый фон.
Фото 5. Внешний вид эрзац-полярископа. Наружный поляризатор-
плёнка — деталь от карманной электронной игры вроде тетриса,
штатив - «третья рука».
Фото 6. Исследуемая стеклянная работа помещается между источни-
ком поляризованного света и внешним поляризатором.
Фото 7. Вот они наши ВЫ,
Фото 8. Внешний поляризатор повёрнут обратной стороной. Те же
напряжения в цвете. По его оттенкам можно грубо судить об их
степени. Лучше видны в движении, если деталь покрутить и пона-
клонять так и этак.
Отжиг
Цвет
Хороший Красно-фиолетовый
Удовлетворительный Красновато-оранжевый
Неудовлетворительный Ярко-желтый и светло-голубой
Совершенно неудовлетворительный Светло-желтый, светло-зеленый и зе-
леновато-голубой
Фото 9. Классики [1] предлагают трактовать цвета так.
Фото 10. Исследуемая стеклянная работа в обычном свете.
Представляя каким образом ВЫ появляются в остывающем стекле, а это слишком
быстрое и, как следствие, неравномерное, остывание работы, нетрудно сформули-
ровать и меры противодействия — замедление остывания, уменьшение температур-
ных градиентов.
Практически в несложных случаях достаточно несколько минут повращать осты-
вающую работу в большом мягком «светящем», «коптящем» пламени горелки (газ
без воздуха-кислорода). При этом удлиняется охлаждение, стекло покрывается
слоем сажи, что тоже полезно.
В более сложных случаях стеклянную работу приходится охлаждать, непрерывно
вращая и после горелки.
Очень удобный, простой и вполне надёжный способ уменьшить скорость охлажде-
ния стекла после горелки — укутывание его огнеупорным одеялом. Практически
это более или менее крупный кусок рулонной базальтовой (каолиновой?) ваты
сложенный пополам. Горячую работу укладывают между её слоями, мягкие края
смыкаются. В базальтовую вату можно класть стекло со всё ещё заметным в полу-
мраке малиновым свечением. Желательно, горячее не укладывать на уже остываю-
щее.
•А
Фото 11. Охлаждение места проволочного впая в светящем пламени.
Работа непрерывно вращается. Сажа после остывания стекла легко
стирается.
Фото 12. Базальтовое одеяло — сложенный пополам кусок мягкого
рулонного огнеупора ^50 мм толщиной.
Небольшие горячие заготовки нормальной толщины могут остывать до 1/2...3/4
часа. Достаточно, чтобы стекло остыло градусов до ^60 С. Если такое одеяло не
на рабочем столе, то нести стеклянную заготовку лучше вращая. При таком охла-
ждении ВН в самом капризном стекле (платиновой группы, высокий ТКР) обычно не
достигают разрушительных значений. Базальтового одеяла достаточно для обычных
малоответственных промежуточных операций, работ учебно-тренировочных.
Забавная разновидность базальтового одеяла — вермикулитовая засыпка, попу-
лярная у барышень и дам, делающих из цветного стекла горячим огневым способом
мелочи для бижутерии (lampwork).
Фото 13. Вермикулит — род слюды, мелкие лёгкие термостойкие чешуйки.
Исходно применяется как разрыхлитель почвы для комнатных растений.
Фото 14. Lampwork — упрощённая стеклодувная техника, где размяг-
чённое стекло наматывается и удерживается на стальной державке-
спице с огнеупорным разделительным покрытием.
Фото 15. Жестянка с вермикулитом. В неё готовая горячая lampwork-
работа втыкается вместе со спицей, до полного остывания.
Для работ технических и тем более полых, вермикулит малоудобен — его прихо-
дится тщательно удалять, сметать со стекла, мелкие его чешуйки норовят по-
пасть внутрь прибора.
Неизбежные после горячей обработки стекла, более или менее значительные ВН
снимаются только лишь печным отжигом. Вместе с правильно подобранными мате-
риалами, это залог длительной надёжной работы прибора. Обычно именно габари-
тами печи для отжига определяется максимально возможный размер изделия в мас-
терской .
Во время отжига стекло нагревается до температуры чуть ниже температуры
размягчения стекла, которой всё-таки достаточно для расплавления структуры
сжатых областей. При этом нагрев холодной работы, а она у нас с ВН и затаив
дыхание, только и ждёт малого перепада температур, чтобы разлететься вдребез-
ги, должен быть долгим и нежным.
Нагретое до температуры отжига стекло нужно некоторое время выдержать, что-
бы тепло в нём распределилось равномерно и также аккуратно, чтобы не наделать
новых напряжений, охладить. График роста-снижения температуры, т. н. термо-
профиль , зависит от сложности изделия, его размеров, толщины стенок стекла.
Весь процесс занимает многие часы, а для ответственных массивных деталей, на-
пример, более или менее крупных заготовок оптического стекла, может состав-
лять неделю и больше.
В серийном массовом производстве это время, разумеется, стремятся всячески
сократить, максимально оптимизируя процесс. В нашем, кустарно-лабораторном
случае и единичном, много — экспериментально-мелкосерийном изготовлении из
добытых по случаю материалов, проще и надёжнее отжигать свои работы с избы-
точными параметрами, смиряясь с длительностью процесса. Тем более что следит
за печами автоматика, спать которой ночью, не обязательно.
Помня о желательности максимально равномерного нагрева-охлаждения садки и
работе вблизи температуры размягчения стекла, идеальная печь для его отжига
должна была бы быть муфельной, с металлическим более или менее толстостенным
муфелем из хорошо проводящего тепло металла. С перемешиванием воздуха внутри
печи и вращением самой стеклянной работы. Вертикально поставленной, если речь
идёт об узко-длинных телах вращения. Печь, управляющаяся ПИД термоконтролле-
ром. Сегодня такой специализированный прибор для рабочих температур 500...600
градусов не был бы ни слишком дорогим, ни слишком сложным. По крайней мере,
по сравнению с печью обычной муфельной. Тем не менее, последние традиционно
применяются в стеклодувных мастерских с удовлетворительным результатом.
Фото 16. Самодельная печь2. Исходно — для плоского сплавления ху-
дожественного цветного стекла (fusing) и горячей формовки листо-
вого (моллирование). Отсюда характерная чемоданная конструкция и
внутренние нагреватели. Тем не менее, попробуем применить её для
отжига стекла после горелки. На фото подготовка — уборка плоско-
го пода. Убираем керамическую лещадку, выметаем насыпной разде-
литель , капельки-шарики застывшего стекла.
Фото 17. Укладываем импровизированную, из нескольких облицовоч-
ных плиток, керамическую лещадку. Глазурью вниз, чтобы не слип-
лась с разогретым стеклом. Керамический слой на теплоизоляции
позволяет чуть лучше распределить тепло, а главное, чрезвычайно
повышает удобство загрузки — с ним хорошо видны границы рабочего
пространства.
2 Домашняя лаборатория 2024-01
Для экономии времени часто горячую работу кладут в уже разогретую печь и
выдержав её для выравнивания температуры, нагреватели выключают. Скорость
«охлаждения с печью» обычно не превышает критическую.
Фото 18. Пробный отжиг. Условия спартанские.
Полный цикл нагрев-выдержка-охлаждение даёт несколько лучшие результаты.
Ответственные стеклянные работы можно дополнительно обернуть не тонким (10...15
мм?) слоем алюминиевой фольги, для лучшего распределения тепла. Узко-длинные
работы во избежание деформаций должны иметь несколько равномерно распределён-
ных точек опоры. Откачанные приборы лучше не отжигать или делать это при
уменьшенных температурах, смирившись с оставшимися ВЫ.
Фото 19. Вид на термоконтроллер работающей печи, где: 1 — номер про-
граммы (термопрофиля) ; 2 — номер шага программы; 3 — «охлаждение».
Вверху температуры. Красным — заданная программой, зелёным — факти-
ческая с термопары. Видно, что с некоторого момента, остывать печи с
заданной скоростью мешает тепло, накопленное в конструкции.
Фото 20. Через ^3/4 суток — остывшая заготовка. Хорошо видны провисы
длинных частей работы, не имевших опоры посередине — температуру от-
жига следует уменьшить на 20...50 градусов. Исходный режим отжига —
нагрев 1,2 град. /мин. до температуры 550 С, выдержка 1 час, охлажде-
ние 0,6 град./мин. до 60 С. Стекло платиновой группы.
Фото 21. Что же наша гнутая закорюка? Ни малейших пятен, все на-
пряжения преотличным образом разровнялись.
Практически в условиях домашней мастерской, текущие работы удобно охлаждать
в базальтовом одеяле. Накопив их для полной загрузки печи, проводим полноцен-
ный отжиг. Его температуру для относительно легкоплавких стёкол платиновой и
молибденовой групп выбираем около 500 С. Учебники рекомендуют скорости охлаж-
дения работ 1...6 град, /мин., выдержку при температуре отжига 1...10 часов. Чем
сложнее, крупнее и с более толстыми стенками наша работа, тем деликатнее её
следует отжигать — медленнее нагревать и охлаждать, дольше выдерживать. Ис-
следуем работы в поляризованном свете до и после отжига и судим о его эффек-
тивности. Если остались значительные напряжения, температуру печи повышаем на
25...50 градусов.
Фото 22. Да вот, не угодно ли — аккуратный ровный рез на ото-
жжённой детали. Термоударом, около самых впаев.
Фото 23. И для сравнения, такой же точно рез на аналогичной де-
тали , но неотожженной, с ВН.
Осталось только сказать, что печной отжиг может быть нужен и как промежу-
точный, для уменьшения опасности растрескивания некого сложного, ответствен-
ного узла перед дальнейшей работой, например, гребешковую ножку ЭВП по мере
сборки, до установки её в колбу прибора, отжигают несколько раз. Особенно в
случае традиционного применения легкоплавких стёкол.
Несколько повысить температуру отжига, снизив риск деформаций, можно попро-
бовав засыпать стеклянную работу алюминиевой (медной, латунной?) дробью. Она
же лучше распределит тепло.
Литература:
1. Голь М. М. Руководство по основам стеклодувного дела. Изд. Химия. 1974 г.
Технологии
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫХ ПРИБОРОВ
(продолжение1)
Историческая разрядная трубка - «трубка Геислера» (1857) - воистину праба-
бушка множества газоразрядных и электровакуумных приборов (ЭВП) и родилась
как эксперимент и развлечение с демонстрацией тлеющего разряда. Трубка Геис-
лера привела, ни много ни мало, к открытию электрона. Прямые её потомки - не-
оновая реклама и люминесцентное освещение, лишь совсем недавно сдались под
натиском светодиодов. Простые разрядные трубки долгое время служили индикато-
ром разрежения в вакуумных системах. Такие приборы показывали высокое напря-
жение, использовались в научных исследованиях и для индикации резонанса в
контурах крупных радиопередатчиков. Разрядные трубки Геислера специфической
гантелеобразной формы используют для получения линий спектра веществ.
Свою разрядную трубку простой цилиндрической формы выполним как физический
прибор и для наработки практических навыков.
Индикаторную разрядную трубку желательно делать не слишком тонкой. Разряд в
таких приборах появляется охотнее при относительно невысоком напряжении. Фор-
ма электродов при небольшом токе разряда может быть любой, вплоть до коротко-
го прямого стержня. Длина трубки - 20...30 см.
Материалы в основном подбираются исходя из марки применяемого стекла. Здесь
это бессвинцовый (не темнеет в газо-воздушном пламени) вариант стекла плати-
новой группы - тонкостенная трубка 0 25 мм (колба) и тонкая трубка 0 5 мм
(штенгель). Для надёжного и долговечного впая проволочного вывода в такое
стекло используют тонкую (дорого!) платиновую проволоку или специальный дешё-
вый биметалл, платинит - железоникелевый сплав, покрытый расчётным слоем ме-
1 Предыдущая часть - Домашняя лаборатория 2024-02
ди. Материал этот хорош только запаянным в стекло - внутри и снаружи лампы к
нему приваривают другие металлические проволочки или элементы. В качестве
внутриламповых металлов применён никель и нержавеющая сталь.
Рис. 1. Трубка Геислера.
Рис. 2. Исторические развлекательные трубки Геислера, который, к
слову сказать, был и стеклодувом незаурядным.
Фото 3. Спектральные разрядные трубки с капилляром, сжимающим
шнур разряда для повышения его яркости.
Фото 4. Заготовки стекла 0 25 мм.
Здесь хотелось попробовать сделать классические дисковые пластинчатые элек-
троды. Для них подобрал ленту из нержавеющей стали 316 толщиной 0,4 мм. Заго-
товку-прямоугольник вырезал ножницами по металлу, окружности чуть меньше
внутреннего диаметра трубки нарисовал слесарной чертилкой по линейке-
трафарету.
Фото 5. У каждого кружка тюкнул керном в центре и просверлил по
отверстию для удобства дальнейшей обработки. Заготовки электро-
дов выпилил ювелирным лобзиком.
Фото 6. Насадил заготовки на длинный винтик-державку МЗ с парой
шайб и гайкой.
Фото 7. Зажал в патроне шуруповёрта и на средней наждачке выров-
нял диски и притупил их острые кромки.
Фото 8. На обрезке нержавейки подобрал
сварки с никелевой проволокой 0,5 мм.
режим для контактной
L
Фото 9. Сварил трёхзвенные проволочные выводы - никель 0,5 -
платинит 0,5 - 2 х никель 0,5. Длина платинитовой части 10...12
мм. Двойная проволочка - для внутриламповой части, её заготовка
сложена пополам, а концы слегка скручены, чтобы не разъезжались
и не топорщились при нагреве. В месте контакта проволочки слегка
расплющены на стальной плите.
Фото 10. Остекловываем платинитовую часть. Кусочки трубочки-
штенгеля 0 5 мм, стекло - понятно, платиновое. Длина с некоторым
запасом, так, чтобы перекрыть и зафиксировать места сварки. Учи-
тываем и заметное укорочение стекла при осаживании.
Фото 11. Медь со стеклом спаивается неважно, зато окись меди
преотлично в нём растворяется, образуя плотное (вакуум-плотное)
соединение - медный слой на платинитовой части вводов отжигаем -
нагреваем до малинового свечения в дальней окислительной части
факела и охлаждаем на воздухе.
Фото 12. В небольшом горячем факеле разогреваем стекло до размягче-
ния, и силы поверхностного натяжения сожмут его вокруг проволочного
сердечника. Удерживаем деталь в обратном пинцете. Деталь, конечно,
непрерывно вращаем. Начинаем сильный разогрев и осаживание стекла с
одного из концов и последовательно продвигаемся к другому, чтобы
внутри не оказалось воздушных пузырей. После горелки деталь мгновен-
но укутываем базальтовым одеялом для замедленного остывания.
Фото 13. Фото остывшего остеклования в проходящем свете. Видны пу-
зырьки выделившихся при нагреве газов вокруг никелевой части ввода -
вакуум-плотный впай никелевой проволоки в стекло удаётся только по-
сле предварительной её дегазации в вакуумной или водородной печи.
Фото 14. Конструкция крепления электрода. Задействовал для него
технологическое отверстие. Диск электрода несколько отнёс от
стекла, чтобы при сварке не расколоть его нагревом.
Фото 15. Приваривание дискового электрода к вводу.
Фото 16. Пара электродов с остеклованным вводом. В отражённом
свете виден цвет впая меди (верхнего слоя платинита) в стекло.
По его ровности и отсутствию пятен можно в первом приближении
судить о качестве впая.
Фото 17. Готовые электроды отмыл от следов пальцев и оставшейся за-
водской грязи в растворе автомобильного моющего средства (ПАВ, изо-
пропиловый спирт) и несколько раз сполоснул в чистой тёплой воде.
Фото 18. Для отмывки
цикл по 30 минут.
использовал ультразвуковую мойку. Каждый
Отмытые электроды промокнул фильтровальной бумагой, высушил в тёплом месте
и спрятал от пыли.
Штенгель - технологическая трубочка для присоединения ЭВП к откачному по-
сту. Здесь её диаметр 5 мм и длина около 20 см. Стандартную 1,5 м трубку раз-
резаем на заготовки чуть длиннее требуемых. Работал сразу с небольшой группой
заготовок.
Фото 19. Оплавил один из концов заготовок, чтобы не порезать гу-
бы при поддувании.
Фото 20. Запечатал второй конец заготовок - чтобы не ждать, ко-
гда жидкое стекло затянет внутренний просвет само, размягчённый
край трубки слеплял пинцетом.
Фото 21. Чуть отступив от края, раздул оливки для присоединения
к вакуумному шлангу.
■#*■■
;i
Фото 22. Вскрыл запечатанные концы штенгелей на «треугольной призме».
Фото 23. Край резов трубочки 0 5 мм после призмы-напильника.
Фото 24. Оплавил острые края.
На данный момент имеем открытую с двух сторон трубочку с оплавленными края-
ми и оливкой около одного из концов. Сделаем на стороне «к лампе» небольшое
расширение-юбочку для надёжного впая с увеличенной прочностью.
Фото 25. Очень простой вариант операции - раздуть на конце тру-
бочки большой пузырь с тончайшими стенками. Его основание легко
удаётся правильной формы и с тонкими стенками.
Фото 26. Сколов тонкие стенки пузыриков, оставляем воронки. Их зуб-
чатые края оплавляются перед началом припаивания в мягком пламени.
Фото 27. Выходное отверстие заготовок запечатываем. Штенгели го-
товы к впаиванию.
Фото 28. У нарезанных заготовок трубок для колбы прибора оплав-
ляем один из торцов и запечатываем второй - сильно разогреваем
и,
захватив пинцетом, с вращением оттягиваем
и
переплавляем
длинный ус. При необходимости (пробирочное дно) повторно его ра-
зогреваем и раздуваем.
Фото 2 9. Впаиваем подготовленный штенгель в боковую стенку колбы -
сильно разогреваем точку на трубке и раздуваем её в тонкостенный пу-
зырик,
скалываем.
оплавляем края, разогреваем их и вороночку на
штенгеле, слепляем, пропаиваем стык ручной горелкой.
Фото 30. Место впая крупнее.
Фото 31. Запечатанный торец колбы разогреваем в сильном пламени и
захватив пинцетом или прилепив стеклянную палочку, оттягиваем не-
длинный ус. Остудив его, обламываем. Вставленный в открытый конец
колбы электрод легко попадает выводом в полученное отверстие.
Фото 32. Прогрев конец трубки с электродом, слегка вытягиваем
его пинцетом через размягчённое дно за проволочный вывод. Равно-
мерно разогреваем и поддувая выравниваем место впая, пинцетом
поправляем покосившийся электрод.
Фото 33. Впаянный электрод.
Фото 34. Вскрываем запечатанный конец штенгеля на треугольной
призме или обычным разламыванием. Это последняя с ним операция -
рез можно делать без запаса, около оливки.
Фото 35. Оплавляем острый конец штенгеля, помещаем оставшийся
электрод в открытое горло колбы и перегоняем его поглубже и по-
дальше . Повторяем проделанные операции по впаиванию электрода -
разогреваем открытый конец колбы, оттягиваем ус, укорачиваем
его, вытягиваем тонкий короткий усик, обламываем, перегоняем
электрод выводом в отверстие, разогреваем, чуть вытягиваем нару-
жу , выравниваем раздувая через штенгель.
-о
*' ИГ
Л'-
Фото 36. Разрядная трубка в сборе. Большие дисковые электроды не
касаются стенок, хотя и близко к ним, что допустимо только для
индикаторно-показывающих приборов. При заметных токах разряда от
горячего электрода может лопнуть стекло колбы. Диаметр трубки 26
мм, расстояние между электродами 200 мм.
Фото 37. Ранний вариант разрядной трубки с алюминиевыми стержневыми
электродами и в колбе 0 18 мм. Расстояние между электродами 110 мм.
В качестве меры по замедлению охлаждения применялось укутывание горячей
стеклянной работы базальтовым одеялом. Остающиеся внутренние напряжения при
этом терпимые.
Для появления тлеющего разряда в трубке, её следует откачать до остаточного
давления ниже 20...30 мм. рт. ст. и подать на электроды высокое напряжение, ве-
личина которого зависит, в первую очередь, от расстояния между электродами и
может здесь составлять 3...20 кВ. При низком напряжении форма разряда опреде-
лённее , но яркость его невысока и наоборот. Разряд в остатках атмосферных га-
зов светится красивым розово-фиолетовым светом. Откачка здесь - школьным руч-
ным насосом Комовского.
Фото 38. Среднее напряжение, небольшое разрежение. Спокойное и
яркое горение, столб разряда полностью заполняет пространство
между электродами.
Фото 39. Среднее напряжение, уменьшение давления. У катода появляет-
ся тёмное Фарадеево пространство, расширяющееся по мере дальнейшего
снижения давления. Катод полностью окутывается свечением.
Фото 40. Среднее напряжение, уменьшение давления. У отползающего
от катода столба разряда появляются первые страты.
По мере дальнейшей откачки тёмное пространство увеличивается, начинает све-
1ться стекло и, наконе
ряд исчезает полностью.
титься стекло и, наконец, при остаточном давлении около 10 3 мм. рт. ст. раз-
Фото 41. При увеличении напряжения форма разряда маскируется яр-
ким свечением, начинают светиться и области за электродами, уча-
стки стекла.
Фото 42. Разогрев нетолстого (0,4 мм) нержавеющего катода до замет-
ного малинового свечения. Процесс можно использовать для нагрева и
распыления геттера в ЭВП. При нежелательности распыления электродов
ток в цепи следует ограничить сопротивлением в 100...150 кОм.
Интересно, что однонаправленный разряд и условный анод с катодом в разряд-
ной трубке образуется в том числе и при питании её переменным током. Здесь
это индукционная катушка.
Фото 43. Применение однополупериодного выпрямителя (цепочка из 20 х
1N4007) делает картину несколько яснее - Фарадеево пространство на-
турально тёмное, страты как будто бы чётче разделены.
При разряде в маленькой трубке, из-за близких электродов разряд появляется
при более низких напряжениях и заметнее, и определённее в начале откачки, при
ещё высоком остаточном давлении.
Фото 44. Пляшущая яркая длинная искра в начале откачки. Остаточное
давление 20...30 мм. рт. ст. (торр) .
Фото 45. При дальнейшей откачке искра распушается и образует
столб разряда, занимающий всё пространство между электродами.
Дальнейшие его эволюции - как и в крупной трубке. На фото проме-
жуточная форма между искрой и столбом.
В результате проделанной работы освоен ряд стеклодувных операций, практиче-
ски опробована работа разрядной трубки в различных режимах, что может стать
основой для индикатора форвакуума, миниатюрного геттерного вакуумного насоса.
Индикатор лучше выполнять с электродами, расположенными не дальше 80...100 мм
друг от друга и питать постоянным током. Штенгель на такой трубке следовало
бы сделать надёжнее - большего диаметра.
Технологии
ЛИТЬЕ ПЛАСТМАСС В СИЛИКОН
(продолжение1)
Емельянов Е.
Случается, что на разработку электроники и программного обеспечения какого-
нибудь изделия уходит меньше времени, чем на его общий конструктив и корпус.
Конечно, речь о любительских поделках, творческих начинаниях и прототипирова-
нии. Корпус - неотъемлемая часть будущего устройства, от эргономических
свойств которого зачастую зависит успех всего начинания. Многим знаком путь
от полного отсутствия корпуса к покупному стандартному, затем от покупного к
выфрезерованному на ЧПУ станке, и далее к напечатанному на 3D принтере. Каче-
ство последнего главным образом зависит от возможностей принтера, т.е. объема
затраченных на него средств.
Уже при малой партии корпусов встаёт вопрос их повторяемости и скорости
производства, на ручную обработку и доведение до приемлемого вида деталей
нужно потратить уйму времени. Не секрет, что в промышленных условиях пластик
отливают под давлением в специально изготовленные пресс-формы. На текущий мо-
мент, стоимость этого удовольствия ориентировочно начинается от 300 тысяч
рублей. Не располагая таким запасом свободной наличности, была предпринята
попытка отлить корпус в домашних условиях и привести его к состоянию, прият-
ному глазу. Такие эксперименты проводились неоднократно, однако, чтобы понять
процесс в деталях, нужно через него пройти самостоятельно. И действительно, в
ходе экспериментов обнаружилось множество технологических особенностей, нюан-
1 См. Домашняя лаборатория 2024-02
сов, о которых авторы изученных мною публикаций либо не упоминали, либо не
заостряли внимания, либо вообще не сталкивались с подобным. Описываемый в
публикации путь, от идеи к первой удавшейся отливке, также не охватывает все
допустимые сценарии и является лишь одним из возможных.
Решение задачи за несколько шагов - один из лучших трюков, которые регуляр-
но проворачивают инженеры. Всегда можно начать с первого приближения и дви-
гаться в нужном направлении, ориентируясь на полученный опыт. Это напоминает
метод градиентного спуска, только не для математической, а жизненной задачки.
Не питая иллюзий относительно врожденных навыков литья пластика, всю актив-
ность с самого начала будем рассматривать как учебную. А в качестве начальных
условий закупаем материалы, которые использовались при аналогичной деятельно-
сти. Для экспериментов потребуется: жидкий двухкомпонентный пластик Neukadur
PN 1695 BLACK; силиконовый двухкомпонентный компаунд для форм ЭЛАСТЮС-М;
шприц медицинский одноразовый.
Далее необходимо подобрать деталь для литья, причем изделие желательно вы-
брать как можно проще. В летнее время для полива цветов на моём балконе хоро-
шо зарекомендовал себя погружной бесщёточный насос QR30E. Эту модель отличает
хорошее соотношение цены и качества. Насос доказал свою исключительную надеж-
ность, проработав однажды без воды около 20 минут. Наверное, он крутился бы и
дольше, но был обнаружен за бесполезной деятельностью по перекачиванию возду-
ха из-за свиста подшипников скольжения. Создаваемое насосом давление воды
также выделяет его среди аналогичных мини-конкурентов. Единственный недоста-
ток данной модели - отсутствие законченного механизма крепления. Простая кре-
стовина с присосками призвана восполнить этот пробел.
Рис. 1. Первый вариант крестовины для насоса.
На рис. 1 представлен первый вариант крестовины для насоса, который успешно
отстоял в ёмкости в течении лета и успел обрасти какой-то зеленью. Присоски и
насос были прикреплены к крестовине при помощи шурупов. И хотя герметичность
присосок не нарушалась, создалось ощущение, что удерживают они конструкцию
недостаточно хорошо, сползают при её вертикальном креплении. От угловых шуру-
пов также хотелось бы избавиться, портят эстетичность и общую технологичность
конструкции. Таким образом, выбор был сделан в пользу крестовины с присосками
большего диаметра, которые при этом монтировались бы в специальное углубле-
ние.
Делаем обновлённую крестовину, которую будем использовать как мастер-
модель. Деталь, показанная на рис. 2, напечатана из натурального ABS-
пластика. Обработке детали уделяем особое внимание, ведь в случае литья копии
не могут быть лучше оригинала. Тщательно шлифуем поверхность и доводим её до
гладкого состояния при помощи наждачной бумаги ЗУБР с зерном Р2000.
Рис. 2. Крестовина для насоса, которая будет использоваться как
мастер-модель.
Рис. 3. Мастер-модель с установленными литниками.
Подготовим форму для заливки обновленной крестовины. Такую форму иногда на-
зывают опокой. Правда, моему слуху ближе слово «опалубка», по аналогии со
строительными работами, именно оно будет использоваться далее. На крестовину
установим литники, разместим в опалубке, вырезанной из листа вспененного ПВХ,
зальем силиконом. От идеи напечатать крестовину вместе с литниками я отказал-
ся , т.к. такую деталь сложнее обрабатывать. А каким следует выбрать диаметр
литников? Ответа пока нет, очевидно, достаточным для последующей заливки пла-
стика (центральный литник) и выхода воздуха (угловые литники). Самое время
бежать в К&Б, нужны подходящего диаметра трубочки и одноразовые бумажные ста-
канчики .
Следующий вопрос - правильное соотношение силикона и отвердителя. Делаем
пробную заливку в стаканчик согласно инструкции, наблюдаем быстрое загустение
материала. Уменьшаем количество катализатора, на следующий день наблюдаем ме-
стное недозатвердевание материала. Ещё один раз делаем поправку, катализатора
добавляем чуть меньше, чем по инструкции, заливаем силикон в подготовленную
опалубку.
i
Г
Рис. 4. Деталь, залитая силиконом.
Силикон - достаточно густая субстанция и его вес может сместить литники,
особенно если последние держатся на соплях. Именно это случилось в моём слу-
чае, на место центрального литника в срочном порядке была установлена пласти-
ковая трубка от шприца. К концу дня форма для отливки была готова, вытаскива-
ем из неё мастер-модель.
>
Рис. 5. Силиконовая форма.
При затвердении силикона из него должен выйти воздух, в противном случае
пузырьки могут стать частью будущей формы. На рис. 5 справа видны мелкие
вкрапления воздуха, свидетельство того, что отвердителя следовало добавить
чуть меньше.
Теперь нужно выбрать подходящую подложку, кусок использованного ранее ПВХ
хорошо подойдет и для этой цели. Смешиваем пластик с запасом по объему в со-
отношении 1:1, из пленки для лазерного принтера скручиваем воронку и пробуем
сделать первую отливку.
Рис. 6. Первая и вторая попытка отлить деталь из жидкого пластика.
Для жидкого пластика Neukadur народ рекомендует выдержать смесь в стакане
перед заливкой. Последовав данному совету, удалось испортить первую пробу
(рис. 6, кусок пластика на заднем фоне), быстро затвердевающий состав совер-
шенно не успел растечься. Нетрудно догадаться, что при второй попытке пластик
был залит в форму сразу же после смешивания. Не обошлось без луж, диск ганте-
ли весом в 2.5 кг не обеспечил достаточной плотности стыка формы и подложки.
В итоге имеем деталь посредственного качества.
Рис. 7. Отливка № 1, лицевая и оборотная стороны.
По рис. 7 справа видно, насколько важно качество формы. Даже мелкие царапи-
ны мастер-модели отпечатались на силиконе, а следовательно, и на отливке. А
вот пузырей от формы на детали не обнаружено, зато появились собственные впа-
дины и кратеры, свидетельство выхода воздуха из материала. Но самое неприят-
ное - это недоливы по краям формы. Отверстия под литники следовало разместить
в самых «углах». Была идея доработать форму по месту, залив текущие отверстия
под литники и прорезав новые. Но проблему с пузырями в центре отливки это все
равно не решит. А что, если «заткнуть» отверстия пластилином и форму перевер-
нуть?
v
<
Рис. 8. Заливка пластика в открытую форму.
Однако заливка в открытую форму не дала существенного выигрыша. Проблемным
местом стала верхняя часть крестовины. Силы поверхностного натяжения сделали
деталь выпуклой, а выходящие в ходе химического взаимодействия пузырьки обра-
зовали множество мелких кратеров. Снизу отпечаталось множество царапин и впа-
дин, окончательно испортив товарный вид изделия.
Рис. 9. Отливка № 2, выпуклость детали и пузыри на поверхности.
Теперь можно взять весь этот бардак: застывшие остатки пластика, силиконо-
вые формы, трубки и подложки, клей, спрей, старые газеты, наждачную бумагу... и
выбросить в мусорку. На все было потрачено несколько выходных и около двух
тысяч рублей в пересчете на истраченный объем. Получилась она застывшая во-
ронка, деталь с пузырями, вздутая подложка и пара дефектных силиконовых форм.
Из расходников можно вспомнить два кислых чупа-чупса под литники, которые
оказались без жвачки. Да, теперь все стало понятно, можно искать исполнителя
на Авито.
Уже через несколько недель я получил требуемую деталь - мастер-модель из
дюралюминия. В ходе проведённых экспериментов стало очевидно, для того, чтобы
получить у крестовины блестящую поверхность, оригинал должен быть такого же
качества. Добиться эффекта блеска от ABS крайне сложно. Необходима полировка,
и для этого подходит металл.
Рис. 10. Новая мастер-модель крестовины.
В исходном состоянии мастер-модель рисунка 10 непригодна для работы. С обе-
их сторон на заготовке множество царапин от фрезерования. С проблемой помогут
справиться наждачная бумага, электрический гравер FMG-180A, войлочная насадка
и паста ГОИ. В одном видео2 автор долго и упорно объясняет принципы полировки
деталей при помощи пасты. Полезная информация, суть сводится к тому, что при
полировки не следует постоянно добавлять новую пасту, намного важнее, чтобы
частицы уже нанесённого материала перемалывали (уменьшались в размерах в про-
цессе обработки) друг друга. Остается добавить, что обороты гравера важны не
меньше. Мною использовалась минимальная скорость. Результаты полировки новой
мастер-модели представлены на рисунке 11.
Теперь необходимо разработать конструкции оснастки для новой силиконовой
формы. Из-за образовавшейся на столе лужи, прижим из подручных предметов был
признан недостаточно технологичным. Желательно сделать форму из двух частей,
избавиться от подложек, обеспечить достаточно плотную состыковку силиконовых
форм. Результаты интеллектуальной деятельности в свете ночника показаны на
следующем рисунке.
2 https://www.youtube.com/watch?v=9HVhux55fbg&list=LL&index=32
Рис. 11. Отполированная мастер-модель.
Рис. 12. Оснастка для новой силиконовой формы.
Попробую объяснить суть задумки. Размещаем оснастку в перевернутом состоя-
нии относительно того, как будет впоследствии заливаться пластик. Используем
только детали 1 и 2, соединенные винтами. В центре размещаем отполированную
крестовину. Через отверстия в детали 2 проливаем силикон и ждем его застыва-
ния . Затем снимаем деталь 2 и крепим деталь 3, повторяем заливку силикона.
Результат заливки первой части новой силиконовой формы показан на рис. 13.
В данном случае и деталь и форма обработаны силиконовой смазкой Si-M, т.е.
подготовлены к следующему этапу. По необъяснимым причинам, идея смазать все
Si-M мне показалась хорошей, наверное, по смазанным деталям силикону будет
легче растекаться.
Рис. 13. Заливка новой силиконовой формы.
V
V
v
Рис. 14. Заливка второй части силиконовой формы.
Может показаться удивительным, но силикон не только хорошо растёкся, но ещё
лучше склеился вместе с первой половиной формы. И вот мы имеем деталь, на-
мертво замурованную в силикон. И ведь заранее была приобретена вазелиновая
смазка, предназначенная для разделения силиконовых деталей! А теперь придется
использовать канцелярский нож.
Рис. 15. Новая силиконовая форма для детали.
Нетрудно заметить, что блестящей получилась только рабочая поверхность у
одной половины формы, другая же часть испещрена пузырями. Я опустил описание
опыта обезгаживания силикона при помощи шприца Жане 150 мл. Могу заверить,
ничего путного из этого не вышло, т.к. силикон начинает густеть и застревает
на выходе. Это же не жидкость, обезгазить материал таким способом не получи-
лось . Также народ использует самодельные компрессора или даже насосы. Ближе к
реальности, но ради одного эксперимента по-прежнему сложно.
В силикон добавляется катализатор в соотношении: на 1 кг материала - 20
грамм катализатора. Берем силикон, взвешиваем и высчитываем количество ката-
лизатора по формуле:
^катализатора — ^силикона U , U^
Испытания подтвердили, что пропорцию лучше изменить, пусть силикон застыва-
ет дольше, зато из него выйдет воздух. Это улучшит качество формы. Новая фор-
мула:
^катализатора — ^силикона U,UJ-DO
В последнем случае создается риск, что часть силикона не застынет, поэтому
массу нужно перемешивать как можно тщательнее. Самое главное, не нужно забы-
вать, что воздух поднимается от поверхности Земли. Именно из-за этого в форме
на рис. 15 образовано множество пузырей. Деталь №2 рис. 12 следовало сделать
сплошной и заливать материал через деталь №1. Но уже, как говорится поздно,
продолжим эксперименты с тем, что есть.
С помощью отполированной алюминиевой мастер-модели подготовлена новая сили-
коновая форма, которая, несмотря на некоторые оплошности, получилась более
высокого качества.
В перечень покупок нужно добавить рулон бумажных полотенец, удобные для
очистки случайно разлитых компонентов (капли, потеки и т.п.). Либо можно ис-
пользовать салфетки, на худой конец, туалетную бумагу. В местном магазине в
отдельном пакетике сложены палочки для мороженого. Само мороженое можно не
покупать, а вот десяток палочек пришлось спереть. Пополнив запас расходников,
продолжаем процесс.
Заливаем пластик в новую форму, части которой плотно сжаты винтами и не да-
ют вытекать материалу. Напечатанные вставки вынимаем через 20...30 минут, к
этому времени пластик уже достаточно затвердел, но по-прежнему сохраняет гиб-
кость. Дополнительные элементы лучше также сделать из силикона, из-за большой
шероховатости поверхностей процесс выковыривания формообразующих частей нель-
зя назвать увлекательным. Таким способом, я планировал облегчить путь для вы-
хода воздуха, вставки устанавливаются в форму сразу после заливки пластика.
Идею можно назвать жизнеспособной, однако, сильно повышается трудоёмкость
операций.
Рис. 16. Заливка пластика в новую силиконовую форму.
Спустя несколько часов раскручиваем части формы, изучаем результаты. Как
часто бывает, фасад в норме, а на заднем дворе разруха, также отлитая деталь
удалась только с лицевой стороны. Если следы от литников легко убрать (в уг-
лубления монтируются присоски), то проблему с пузырями, вероятно, можно ре-
шить обезгаживанием материала.
Рис. 17. Отливка №3.
Сказано - сделано, пробуем отлить следующую деталь обезгаженным материалом.
Для этого в шприц заливаем нужный объем пластика, затыкаем катетер и оттяги-
ваем поршень. Таким образом удаётся создать некоторое разрежение и лишить
пластик хотя бы некоторого количества вредных пузырей.
Рис. 18. Обезгаживание пластика при помощи шприца.
Повторная заливка не смогла подтвердить целесообразность данной операции,
но и опровержением результаты также трудно назвать. Пузыри по-прежнему сохра-
нились, хотя и в меньших количествах. Последующие эксперименты толкают к
предположению, что процесс затвердевания пластика происходит с выделением не-
которого количества газа, либо высвобождения того воздуха, что есть в мате-
риале . То есть обезгаживание смеси нужно проводить непрерывно, до самого за-
твердевания пластика. На этот вопрос сможет ответить химик, в текущий же мо-
мент ясно, что шприц, как способ борьбы с пузырями - задумка бесполезная.
Рис. 19. Отливка №4, на обратной стороне детали по-прежнему много пузырей.
Почти получилось, если бы не изъяны задней поверхности. А что если попробо-
вать при помощи шпатлёвки довести деталь до хорошего визуального состояния?
Берем шпатлевку Novol bumper fix и заполняем кратеры от пузырей. При обработ-
ке выясняется новая особенность, слой шпатлевки по механической прочности
сравним с пластиком, т.е. при шлифовке стачивается не только нанесенная шпат-
левка, но и рабочая поверхность крестовины. Кроме того, вскрывается множество
мелких пузырей, замурованных у поверхности.
Рис. 20. Результат шпатлевания отливки №3.
Вот и пришли мы к некоему результату, вроде деталь отлить удалось, но каче-
ство литья оставляет желать лучшего. Что делать дальше?
Такое положение дел подталкивает к радикальному решению - смене жидкого
пластика. Находим жидкий двухкомпонентный пластик для литья Cast Plast PLUS,
доступен для покупки, не слишком дорогой и народ хвалит. В этот раз пластика
приобретено меньше, потому имеет смысл точно рассчитать будущий расход. Про-
грамма SolidWorks3 умеет это делать по объему детали при указании материала.
Расчёт для алюминия оказался чрезвычайно точным, 64.26 грамм в теории и 64.4
грамм при взвешивании. Для пластика расчёт показал 26 грамм, т.е. 35 грамм
материала будет с запасом. Смешиваем компоненты по инструкции в пропорции
1:1, заливаем в форму. В этот раз цвет будет бежевый, поэтому крестовину при-
дется красить.
Трудно описать моё разочарование, когда после такого количества затраченных
усилий я получил что-то, напоминающее консервированное яблоко. Заявленный как
5-минутный, пластик не затвердел даже через час. Кроме того, от химического
взаимодействия с пластиком вздулась верхняя часть силиконовой формы. Я был
готов опустить руки, бросить это гиблое дело. Но в запасе ещё осталось изряд-
ное количество бумажных стаканчиков.
3 https://www.solidworks.com/sw/support/downloads.htm
*t
Рис. 21. Отливка № 4
/
\
Рис. 22. Повторное изготовление верхней части силиконовой формы.
Зима, вероятно при транспортировке пластик находился при отрицательных тем-
пературах, вероятно, его химические свойства как-то поменялись. Можно попро-
бовать смешать компоненты не по инструкции, а в произвольных пропорциях. И
случилось чудо, если компонента А добавить больше чем В, то всё получится. В
моём случае рабочим оказалось соотношении 20/15 грамм. Подобный трюк с ис-
пользуемым ранее пластиком Neukadur не вышел. Я надеялся установить функцио-
нальную зависимость между пропорцией компонент и количеством образующихся пу-
зырей для того и другого материала. Стабильного результата получить не уда-
лось, т.е. с пузырями нужно бороться как-то по-другому.
Вооружившись новыми знаниями и вспомнив, что часть силиконовой формы унич-
тожена (она выгнулась обратно на следующий день, но потеряла в качестве по-
верхности) , попробуем решить задачу ещё раз. Максимально упростим выход воз-
духа, избавившись от углублений в мастер-модели при помощи пластилина. В де-
тали 1, рисунка 12 проделываем множество отверстий. Необходимо, чтобы мастер-
модель находилась снизу, заново заливаем конструкцию силиконом (рис. 22).
В этот раз обе части рабочих поверхностей силиконовой формы блестят как
нужно. Будем считать, что полученные уроки не проходят даром. Осталось полу-
чить ту самую идеальную отливку.
Рис. 23. Отливки 6 и 7, хорошо, но не идеал.
В этот раз результат оказался намного лучше, правда на 7-й отливке образо-
вался огромный пузырь. Аналогичной оказалась и 8-я отливка, большие пузыри
стабильно возникают то тут, то там.
Стало очевидно, что проблема кроется не только в материале, но и расположе-
нии литников. А что если взглянуть на задачу под другим углом, в буквальном
смысле этого слова. Ещё раз доработаем силиконовую форму (дозальем текущую) и
изменим расположение литников. Особенность операции доработки заключалась в
том, что силикон был пролит в текущие отверстия без отвердителя, а отверди-
тель был добавлен по месту. Результат коррекции формы превзошел ожидания.
Рис. 24. Очередная доработка силиконовой формы.
На рис. 24 слева, там где были отверстия под литники, появились выпуклости.
Оказывается форму можно доливать, экономя запас силикона. Справа показана но-
вая конфигурация формы, каналы для выхода воздуха и заливки пластика сделаны
при помощи скальпеля. Форма будет размещена вертикально, а пластик заливаться
сверху.
Дополнительно изучаем поведение пластика Cast Plast PLUS, сразу после сме-
шивания смесь светлеет (идёт бурная реакция), в это время пластик нужно пере-
мешивать . Примерно через 15 секунд, пластик приобретает цвет мёда, аналогичен
по тягучести. Можно выдержать ещё 15 секунд, дать пузырям выйти, а затем пе-
реходить к заливке. Материал оказался очень удобным, особенно за счёт тягуче-
сти, его легко проливать даже в трубки малого диаметра.
Пластик Cast Plast PLUS дает, визуально, более качественные отливки (после-
дующая покраска поставила этот вывод под сомнение), а за счет свойства теку-
чести с ним легче работать. Однако для данного пластика по-прежнему характер-
но образование больших воздушных пузырей. В отливке 8, рисунка 25 сверху об-
наружен неприятный дефект.
Стоит задаться вопросом: нужно ли бороться с пузырьком воздуха?
Решение проблемы и новая отливка показаны на следующем рисунке. В первый
час отлитый пластик остаётся достаточно мягким, т.е. легко поддается механи-
ческой обработке канцелярским ножом. Сделаем для воздуха отдельную область,
специально для злосчастного пузырька, которую затем срежем. Также укрепим бо-
ковые грани силиконовой формы, под давлением пластика при вертикальном распо-
ложении её слегка распирает, из-за чего отливка получается немного выпуклой.
Рис. 25. Отливки 8 и 9 в модифицированную форму.
Рис. 26. Пузырек воздуха образуется даже в вертикальной форме.
Рис. 27. Доработка силиконовой формы и отливка №10.
Обратите внимание, на рисунке справа виден пузырек воздуха, который образо-
вался сверху и практически полностью вышел за пределы отливки.
Рис. 28. Сравнение технологий ручного производства.
На рис. 28 сверху слева - покрашенная отливка из пластика Cast Plast PLUS,
сверху справа - деталь ABS, обработанная в ацетоновой бане и покрашенная,
снизу слева - покрашенная отливка из пластика Neukadur, снизу справа - просто
отливка из пластика Neukadur.
И так по шагам4:
1. Напечатайте деталь, которую задумали копировать и проверьте её в вашем
устройстве (рис. 2) . Все ли элементы, контуры, отверстия находятся на
своем месте? Если да, то займитесь подготовкой мастер-модели.
4 https://www.youtube.com/watch?v=bFIIYOV-l3M
2. По доступной вам технологии напечатайте/выточите/вырежьте мастер-модель с
максимально возможным качеством. Обработайте её до состояния, приятного
глазу (рис. 11).
3. Продумайте, как лучше сделать силиконовую форму (рис. 12). Важно, чтобы
при заливке силикона рабочая поверхность находилась внизу формы (рис.
14) , такой трюк позволит избавиться от пузырей силикона без обезгаживаю-
щей камеры.
4. Подготовьте опалубку, в которую будет заливаться силикон. В опалубке не-
обходимо сделать максимально возможное количество отверстий, а также
крупные вырезы, куда будет заливаться силикон. Важно, чтобы части опалуб-
ки и будущей силиконовой формы плотно соединялись, например винтами.
5. Проведите пробную заливку силикона в несколько стаканчиков. Подберите та-
кое соотношение материала и отвердителя, чтобы силикон застывал через 5...8
часов. При смешивании силикона и отвердителя лучше всего использовать
стеклянный шприц или пипетку. Отвердитель химически взаимодействует с
поршнем шприца, либо образует на поверхности тонкую плёнку, что мешает
его движению. В случае применения стеклянного шприца с металлическим
поршнем подобных эффектов не возникает.
6. Установите мастер-модель в опалубку, залейте силиконом. Если в вашей кон-
струкции используется несколько частей формы, во время заливки разделите
их при помощи вазелина (рис. 13). В противном случае формы склеятся (рис.
15). Учтите, что все составляющие будущей формы должны быть силиконовыми,
пластиковые вставки станут источником потенциальных проблем (рис. 16).
7. Убедитесь, что в получившейся форме есть путь для выхода воздуха из пла-
стика (рис. 24). Если форма закрывает большие участки детали, сделайте
технологические пути для пузырей (рисунок 27) . Если форма подвержена ме-
ханическому изгибу, укрепите её снаружи.
8. Проведите пробную заливку жидкого пластика с разными пропорциями компо-
нентов . Убедитесь, что выбранное вами соотношение даёт наилучший резуль-
тат : пластик полностью застывает, есть время на заливку, пузыри успевают
выйти.
9. Оцените объем требуемого материала. Это можно сделать взвешиванием мас-
тер-модели, либо в CAD программе. Смешайте жидкий пластик с небольшим за-
пасом, по остаткам материала можно контролировать степень отвердения пла-
стика в форме.
10.Залейте жидкий пластик в силиконовую форму. Выдержите требуемое для ваше-
го материала время затвердевания. Корректируйте последовательность дейст-
вий, пока не добьётесь результата требуемого качества.
Лаборатория
ХИМЛАБОРАТОРИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА
Уранова В.В., Исякаева P.P., Мажитова М.В.
(продолжение)
МЕРНАЯ
ПОСУДА
Для измерения объема жидкости и для приготовления растворов заданной кон-
центрации используется мерная посуда различного назначения: мерный цилиндр,
мерная пипетка, мерная колба. В отличии от химической посуды общего назначе-
ния мерная посуда имеет точную градуировку. Мерная посуда градуируется в со-
гласно единицам объема (мл, см3, л, дм3) . Лабораторная мерная посуда может
быть разной вместимости. В зависимости от объема, который должен быть изме-
рен, подбирается посуда соответствующей вместимости. Посуда мерная лаборатор-
ная стеклянная не предназначена для нагрева или охлаждения и хранения раство-
ров.
При измерении объема жидкости мерный сосуд необходимо держать в вертикаль-
ном положении, а отсчёт вести по нижней (бесцветные прозрачные растворы) или
верхней (окрашенные растворы) части вогнутой поверхности мениска жидкости.
Причем глаз наблюдателя должен находиться на одной горизонтальной линии с
нижним краем мениска.
Стандартизированная поверка мерной лабораторной посуды проводится при 20
С, также измерения проводятся еще как минимум по двум точкам. Исходя из полу-
ченных результатов, выделяют виды мерной лабораторной посуды по точности - 1
или 2 класса. По умолчанию, погрешность для мерных сосудов первого класса -
не превышает половину цены деления, для второго - наименьшая цена деления.
Пипетки
Пипетки - самая простая и известная разновидность дозирующей лабораторной
посуды. При помощи лабораторных пипеток можно быстро и достаточно точно отме-
рить небольшой объем рабочей жидкости, необходимый для проведения опытов, ис-
следований или испытаний.
Виды мерных пипеток:
1. Пипетки градуированные (рис. 141) представляют собой стеклянные или пла-
стиковые трубки с нанесенной градуировкой и предназначенные для измерения
точных объемов жидкостей в процессе переноса или титрования. Производят их из
химически инертного и термостойкого стекла. Жидкость набирают в пипетку при
помощи лабораторной груши до нужной метки (нижний мениск жидкости находится
на уровне последней), после чего грущу снимают. Затем, слегка ослабив нажим
указательного пальца, дают жидкости медленно вытекать из пипетки. Как только
нижний мениск жидкости дойдет до метки, палец снова плотно прижимают к верх-
нему отверстию пипетки. Таким образом, с помощью пипетки отбирается необходи-
мый объем жидкости. Затем пипетку вводят в колбу (или стакан), в которую нуж-
но перенести жидкость, убирают указательный палец от верхнего отверстия пи-
петки и дают жидкости стечь по стенке колбы. Оставшуюся при этом жидкость в
пипетке не выдувают, так как объем пипетки рассчитан на свободное истечение
жидкости.
Мерные пипетки подразделяются на 3 типа: тип 1 - пипетки на слив от верхней
нулевой отметки до любой отметки (рис. 142). Нижняя отметка на пипетке соот-
ветствует номинальной вместимости. Такие пипетки называются пипетками на не-
полный слив. Пипетки данного типа могут быть 1 и 2 класса точности; тип 2 -
пипетки на слив жидкости от любой отметки до сливного кончика (рис. 143). Ес-
ли верхняя отметка соответствует значению вместимости, то это пипетки на пол-
ный слив. Пипетки данного типа могут быть 1 и 2 класса точности; тип 3 - пи-
петки на слив жидкости от верхней нулевой отметки до сливного кончика (рис.
144). Нижняя часть сливного кончика соответствует номинальному объему. Пипет-
ки данного типа могут быть только 2-го класса точности.
А
Рис. 141. Пипетка
градуированная.
Рис. 142. Тип-1. Мерная пипетка
на неполный слив.
д. й
-ж i
-щ
й
9P
10
ml
-1
=9
Рис. 143. Тип-2. Мерная пипетка
на полный слив
Рис. 144. Тип-3. Мерная пипетка
на полный слив
Большое распространение получили более удобные и безопасные в обращении пи-
петки-дозаторы, гарантирующие высокую точность и повторяемость объема изме-
ряемых жидкостей в пределах от 2 до 5000 мкл. Дозаторы в этих пипетках могут
быть механическими и электронными.
Унипипетки (рис. 145) предназначены для измерения доз постоянного объема.
Варипипетки (рис. 146) - это пипетки регулируемой емкости для измерения доз
любого объема в указанных пределах.
/
А
* /
Л
J>
Рис. 145. Унипипетка
//V
\
>
%
Л
X
Рис. 146. Варипипетка
Микропипетки - это пипетки вместимостью менее 1 мл (рис. 147); с их помощью
можно отбирать объемы, измеряемые десятыми и сотыми долями мл.
Рис. 147. Микропипетка
Цилиндры
Стеклянные лабораторные цилиндры широко используются во время проведения
многих исследований в качестве мерных емкостей, позволяющих точно определять
объем летучих и нелетучих жидкостей. Также существуют цилиндры без мерной
шкалы, которые используются для приготовления растворов, хранения жидкостей,
измерения плотности веществ с помощью ареометра.
Виды мерных цилиндров:
1. Мерные цилиндры - стеклянные толстостенные сосуды с нанесенными на на-
ружной стенке делениями, указывающими объем в миллилитрах. Они бывают самой
различной емкости: от 5-10 мл до 1 л и больше. Чтобы отмерить нужный объем
жидкости, ее наливают в мерный цилиндр до тех пор, пока нижний мениск не дос-
тигнет уровня нужного деления. Цилиндры изготавливают из стекла и прозрачных
полиэтилена или полипропилена. Стеклянные цилиндры могут иметь пластмассовое
основание. Объемы летучих кислот, органических растворителей или едких рас-
творов газов обычно измеряют при помощи мерных цилиндров с притертой стеклян-
ной пробкой, пробкой из фторопласта или полиэтилена. Такие цилиндры удобны и
для оценки размеров объемов жидких гетерофазных систем. Погрешность при опре-
делении объемов жидкостей с помощью мерных цилиндров лежит в пределах 1-10%.
Мерные лабораторные цилиндры изготавливаются двух классов точности (1-го и 2-
го) в нескольких исполнениях: 1 — на стеклянном основании с носиком (рис.
148); 2 — на стеклянном основании с пришлифованной стеклянной или пластмассо-
вой пробкой (рис. 149); 3 — на пластмассовом основании с носиком; 4 — на пла-
стмассовом основании с пришлифованной стеклянной или пластмассовой пробкой.
£~-~-
ЛЗ J/1
rtxTLX
(Сй
(..'
п
Рис. 148. Мерный цилиндр на
стеклянном основании с носиком
Рис. 149. Мерный цилиндр на стеклян-
ном основании с пришлифованной стек-
лянной пробкой
2. Цилиндр-колонка Фрезениуса (рис. 150) служит для сушки воздуха и газов.
3. Цилиндр Несслера (рис. 151) - сосуд в форме длинного стеклянного цилинд-
ра. Применяется для колориметрического анализа с помощью визуального сравне-
ния цвета жидкости, налитой в цилиндр, с эталоном.
J I
^ (
~"1
ЙО
J»
N1
г
Рис. 150. Цилиндр-колонка Фрезениуса Рис. 151. Цилиндр Несслера
4. Цилиндр Снеллена (рис. 152) представляет собой высокий и узкий сосуд с
плоским дном, с измерительной шкалой на боковой поверхности. На стенке цилин-
дра, в нижней его части, расположена тонкая отводная трубка для спуска воды.
На отводную трубку при проведении исследования надевают трубку с зажимом.
Применяется цилиндр Снеллена для исследования прозрачности воды. Пробу нали-
вают в цилиндр и поднимают наполненный сосуд на 40 мм над лежащим горизон-
тально листом со шрифтом Снеллена. Смотря на шрифт, сливают воду через отвод-
ную трубку. Чем ниже будет столбик воды, через который хорошо виден шрифт,
тем менее прозрачна вода.
5. Цилиндр-отстойник (рис. 153) изготавливается из стекла. Применяется для
определения содержания смолистых веществ.
л
г >
^_^
S Ч
Рис. 152. Цилиндр Снеллена
Рис.153. Цилиндр-отстойник
Стаканы
Лабораторные мерные стаканы, мензурки и кружки являются весьма важной ча-
стью химической или биологической лаборатории.
Виды:
1. Стакан осадкомерный (рис. 154) - стеклянный сосуд с делениями, объемом
200 мл предназначен для измерения количества жидких осадков.
2. Мензурка (рис. 155) - сосуд конической формы, у которой, на наружной по-
верхности нанесены деления для измерения объемов жидкости в миллилитрах (рис.
1). Мензурки применяют для измерения объема осадков, образующихся при отстаи-
вании суспензий. Осадок собирается в нижней части мензурки. Их используют
также для определения объемов двух несмешивающихся жидких фаз, одна из кото-
рых , большей плотности, присутствует в малом количестве. Мензурки калибруют
на выливание.
<s
„ -100
U
,50
.30
Ю
О
^60
г^
Рис. 154. Стакан осадкомерный
Рис. 155. Мензурка
2. Мерная кружка (рис. 155) применяется для дозирования малолетучих жидко-
стей.
3. Конус Имхоффа с запорным краном (рис. 156). Изделие предназначено для
определения количества осажденных веществ в определенном объеме жидкости. Ко-
нус выполнен из прозрачного боросиликатного стекла, очень прочного и долго-
вечного. Кроме того, материал устойчив к воздействию кислот, соляных раство-
ров и не корродирует.
с—-
V.
Рис. 155. Мерная кружка Рис. 156. Конус Имхоффа с запорным краном
Колбы
Мерная колба - вид сосудов, используемых для лабораторных работ, когда не-
обходим точный объем жидкости или раствора. Представляет собой грушевидный
или сферический сосуд из стекла или пластика, плоскодонный и с узким горлыш-
ком. На шейке колбы метки выделены краской или надрезанные либо шлифованные,
которые показывают, до какой высоты наполнять мерную колбу, чтобы получить
указанный на сосуде объем жидкости при 20 С. Это номинальный объем сосуда.
Колбы данного типа плоскодонные, устойчивы на ровной и наклонной поверхности
(до 15 С) . Реже встречаются мерные сосуды других форм. Мерные колбы лабора-
торные используются, чтобы: отмерить точный объем жидкости; приготовить рас-
твор точной концентрации (нормальной, молярной); смешать различные растворы.
Для производства используется высококачественное стекло (светлое или тем-
ное) , прозрачный пластик, все материалы с низким коэффициентом теплового рас-
ширения .
Виды мерных колб:
1. Мерные колбы (рис. 157) делят по признакам: материалу, из которого их
изготовили - стеклянные, пластиковые. В свою очередь стеклянные делятся по
типу стекла - натриевое, боросиликатное; по термостойкости. Специализирован-
ные термостойкие мерные колбы имеют матовый квадрат на стенке, плюс сертифи-
кат качества с указанием изменения погрешности при нагреве или охлаждении; по
типу горла и виду пробки - без шлифа под резиновую пробку, со шлифом под
стеклянную шлифованную пробку, с резьбой с винтовой крышкой; по объему - от 5
см3 и до 10 дм3; по цвету стекла - из светлого или темного стекла. В зависи-
мости от светочувствительности используемых реактивов некоторые растворы го-
товят только в посуде из темного стекла; по назначению - для вливания (с од-
ной меткой), для выливания (с двумя); по классу точности - чаще всего в лабо-
раторной практике используют посуду 2 класса точности, для особо точных работ
- 1-го класса.
О
TV
I I
Рис. 157. Колба мерная с притертой крышкой
2. Колба Штоманна (рис. 158) имеет на горле две кольцевые отметки, так как
объем вылитой жидкости будет несколько меньше отмеренной.
Различие мерных колб на выливание и наливание состоит в том, что объем жид-
кости, вылитой из колбы или другой посуды, всегда несколько меньше отмеренно-
го за счет смачивания стенок и растекания жидкости по внутренней поверхности.
Таким образом, сосуды, откалиброванные на выливание, вмещают несколько боль-
ше, чем указано на них. При калибровке на наливание вмещаемое количество жид-
кости точно равно номинальному объему — так калибруются мерные цилиндры, а
также большинство мерных колб.
3. Колба с градуированным горлом (рис. 159) удобна для приготовления рас-
творов двух жидкостей с точно известными объемами, когда надо измерить умень-
шение или увеличение общего объема смеси жидкостей после их растворения.
Рис. 158. Колба Штоманна Рис. 159. Колба с градуированным горлом
Пикнометры
Пикнометр - это стеклянный сосуд специальной формы, предназначенный для из-
мерения плотности жидких, твердых и газообразных веществ. Он изготавливается
из медицинского и химико-лабораторного стекла. Точность замеров очень высока,
при этом достаточно совсем небольшого количества измеряемого вещества (от 0,5
см3). Одним из достоинств измерительного прибора является то, что операции по
взвешиванию и термостатированию можно проводить раздельно.
Принцип работы пикнометра основан на взвешивании его до и после заполнения
исследуемым веществом до специальной метки на горловине при определенной тем-
пературе . Для определения плотности твердых материалов их погружают в стек-
лянный сосуд, заполненный жидкостью (как правило, это дистиллированная вода).
Плотность определяется путем деления массы исследуемого вещества на его объ-
ем.
Виды пикнометров:
1. Пикнометр (колба) Гей-Люссака (рис. 160) - это универсальный измеритель-
ный прибор небольшого объема, используемый в физических и химических исследо-
ваниях. С его помощью измеряют плотность жидкостей или твердых веществ с вы-
сокой точностью. Колба Гей-Люссака имеет капилляр вместо метки на горлышке,
поэтому особенно удобна для определения объема жидких веществ. Для устойчиво-
сти колба сделана плоскодонной.
2. Пикнометр Менделеева (рис. 161) оснащен термометром, который позволяет
непрерывно вести наблюдение за изменением температуры исследуемого вещества.
г\
Рис. 160. Пикнометр Гей-Люссака
Рис. 161. Пикнометр Менделеева
3. Пикнометр Оствальда (рис. 162). Прибор очень удобно использовать для оп-
ределения плотности жидкости. Во время проведения исследований правую часть
изогнутой трубки необходимо присоединить к водоструйному насосу, а левую
часть - погрузить в жидкость. Образующиеся внутри колбы пузырьки воздуха лег-
ко удаляются при нагревании или взбалтывании. В остальном принцип его исполь-
зования не отличается от обычного пикнометра.
4. Пикнометр Рейшауэра (рис. 163) имеет вид мерной колбы с высоким и узким
горлышком. В верхней части горлышка расположены кольцевые метки.
Ч
> V
Рис. 162. Пикнометр Оствальда Рис. 163. Пикнометр Рейшауэра
5. Пикнометр газовый (рис. 164) - стеклянный сосуд, наполненный газом,
взвешивают на аналитических весах. Предварительно следует измерить температу-
ру и атмосферное давление. Затем пикнометр присоединяют к вакуум-насосу, от-
крывают один кран и через него полностью откачивают газ. После этого кран за-
крывают , а прибор взвешивают. Массу газа определяют, как разность массы сосу-
да с газом и без него. Плотность газа в текущих условиях определяют путем де-
ления разницы масс пикнометра с воздухом и без него на объем стеклянного со-
суда (его необходимо определить заранее).
Рис. 164. Пикнометр газовый
Бюретки
Бюретки представляют собой стеклянную трубку с нанесенной на нее градуиро-
ванной шкалой, оснащенной краном или зажимом. Область применения: точные из-
мерения малых объемов жидкостей и газов при титровании и для других целей.
Бюреткой можно отмерить объем с точностью до 0,03-0,05 мл, а в некоторых слу-
чаях - до 0,005. Изготавливается емкость из специального стекла устойчивого к
термическому и химическому воздействию. Верхняя часть лабораторной посуды
должна быть гладкой и иметь упрочняющий фланец. Кран и сливной кончик, в за-
висимости от вида сосуда, может быть, как цельным, так и раздельным.
Бюретки делятся по типам: I тип — без установленного времени ожидания; II
тип — с установленным временем ожидания (время ожидания регламентирует отре-
зок времени от перекрытия крана до времени считывания результата).
Виды бюреток:
Объемные бюретки — лабораторные бюретки общего назначения объемом до 1000
мл с ценой деления шкалы 0,1 мл.
Выпускаются в пяти исполнениях:
Исполнение 1. Бюретка без крана или бюретка Мора (рис. 165) представляет
собой прямую стеклянную трубку без боковых отводов, отградуированную на объ-
ем. Нулевое значение шкалы находится вверху. К низу трубка сужается, образуя
оливу, на которую с помощью резиновой или силиконовой трубочки одевается
стеклянный наконечник с оттянутым носиком. Заполнение бюретки раствором про-
водят сверху с помощью лабораторной воронки.
Исполнение 2. Бюретка с одноходовым краном (рис. 166) разработана для се-
рийного дозирования и титрования. Имеет конусный стеклянный одноходовой при-
шлифованный кран с резьбовым уплотнением.
&Д0
|LA5|
W
r50
\ /
IT
У
(J /
n - \
Рис. 165. Бюретка без крана Рис. 166. Бюретка с одноходовым краном
Исполнение 3. Бюретка с боковым краном (рис. 167) представляет собой прямую
стеклянную трубку без боковых отводов, отградуированную на определенный объем
(от 10 до 100 мл) . Нулевое значение шкалы находится вверху. Кран припаян к
трубке в нижней части под углом 110°, а оттянутый носик загнут вниз. Заполне-
ние бюретки раствором проводят сверху с помощью лабораторной воронки.
Исполнение 4. Бюретка с двухходовым краном (рис. 168) изготавливается из
стекла. Объем бюретки составляет 50, 100 мл. Для удобства с внешней стороны
изделия нанесены деления (шкалы). Используют для переноса и замера малых объ-
емов жидкости.
I»
\
~У
т
■ '-.''.л J
Ф)
li if
* \
it!
Рис. 167. Бюретка с боковым краном Рис. 168. Бюретка с двухходовым краном
Исполнение 5. Бюретка с двухходовым краном и автонулем (рис. 169) удобна
при проведении большого количества анализов. В верхней части бюретки над ну-
левой отметкой впаян капилляр, который направляет избыток раствора в верхний
боковой отвод. Таким образом, полное заполнение бюретки до нулевого уровня
всегда происходит автоматически. Нижний отвод используется для заполнения бю-
реток (также, как и для исполнения 4).
Микробюретки емкостью 1-10 мл (с ценой деления 0,01 мл) используются для
титрования и отмеривания небольших количеств жидкости, требующих очень высо-
кой точности. Конструкция микробюреток аналогична исполнению 2, но к основной
трубке припаяна дополнительная стеклянная трубка с мини-резервуаром на 1-5
мл, через который с помощью дополнительного крана происходит заполнение гра-
дуированной трубки.
Виды микробюреток:
1. Бюретка Банга (рис.170) отличается простой конструкцией, позволяющей бы-
стро ее заполнять. К основному корпусу припаяна боковая трубка с резервуаром
для стандартного раствора вверху. Трубка соединяется с бюреткой внизу, перед
краном. Заполнение осуществляется при закрытом кране. Открытый верхний конец
бюретки прикрывают от пыли перевернутым химическим стаканом.
Рис. 169. Бюретка с двухходовым Рис. 170. Бюретка Банга
краном и автонулем
2. Автоматическая микробюретка Пеллета (рис. 171) комплектуется резервуаром
для раствора титранта и резиновой грушей для нагнетания раствора в бюретку.
Резервуар снабжен пришлифованной горловиной, в которую вставляется нижний
керн бюретки. В верхней части бюретки предусмотрен сифонный слив на уровне
нулевого значения. При заполнении бюретки раствор поднимается только до нуле-
вого значения, а излишки через сифон сливаются обратно в резервуар. Чаще все-
го, бюретка Пеллета используется для титровальных работ, либо для аналитиче-
ских операций.
3. Микробюретка Гибшера (рис. 172) представляет собой конструкцию, при ко-
торой от резервуара (может располагаться как вверху, так и внизу) отходит бо-
ковая трубка и соединяется со стеклотрубкой бюретки. Как только стандартный
раствор заполнит бюретку до верхнего ограничителя, кран, открытый для запол-
нения, перекрывают. Излишки раствора стекают через носик или засасываются че-
рез специальный отвод обратно в резервуар. Уровень жидкости автоматически ус-
танавливается на нулевую отметку.
< ■>
■If
- 1 '
Рис. 171. Автоматическая
микробюретка Пеллета
Ж
г
s/
т
I
Рис. 172. Микробюретка Гибшера
Газовые бюретки применяются для измерений малых объемов газа и проведения
опытов с целью определения состава и количества компонентов газовой смеси.
Например, для определения объема газа, полученного в ходе химической реакции
или определения объема содержащихся в газе примесей.
Виды газовых бюреток:
1. Газовая бюретка Гемпеля (рис. 173) представляет собой простую цилиндри-
ческую бюретку, помещенную в водяную рубашку. Вверху предусмотрен трехходовый
кран с двумя отводами (трубками для выпуска и засасывания газа). Нижнего кра-
на нет, нижний выход напрямую соединяется резиновой трубкой с запирающим ре-
зервуаром .
2. Газовая бюретка Бунге (рис. 174) применяется для исследования газов ме-
тодом абсорбции. Она снабжена дополнительным резервуаром, расположенным над
бюреткой. После того как бюретка заполняется газом, проводится измерение его
температуры и объема, фиксируется атмосферное давление. Потом в дополнитель-
ный резервуар наливают жидкость, способную растворить одну из примесей газа,
содержание которой нужно определить. Этой жидкостью заполняют в бюретку, хо-
рошо взбалтывают и снова определяют объем газа. Он будет меньше на величину
объема примеси.
сйрО
V
/ ч
о
i
Рис. 173. Газовая бюретка Гемпеля Рис. 174. Газовая бюретка Бунге
Пробирки
Пробирки мерные стеклянные представляют собой прямые круглодонные пробирки
с нанесенной шкалой.
Предназначены для измерения определенных объемов жидкостей при проведении
простых химических операций и лабораторных исследований. В таких пробирках
можно некоторое время хранить отмеренные вещества. Виды мерных пробирок:
1. Центрифужные пробирки (рис. 175) используются для отделения осадков и
определения их объемов при центрифугировании. Представляют собой пробирки с
коническим дном. Градуированная шкала нанесена на всю высоту пробки. Они яв-
ляются наливными, то есть вымеряемыми по наполнению.
2. Пробирка мерная со шлифом (рис. 176) и без шлифа (рис. 177) применяются
для определения объема веществ в химических анализах. Представляют собой пря-
мые круглодонные пробирки, горловина которой является шлиф-муфта. Деления на-
несены на всю длину пробирки. Допускаемая погрешность соответствует цене де-
ления шкалы. Выпускаются из химически стойкого лабораторного стекла
н
Ч 'J
Рис. 175. Центрифужная пробирка Рис. 176. Пробирка мерная со шлифом
3. Пробирка со шлифом и пробкой (рис. 178) используется для отмеривания хи-
мических веществ. Выполнена из термостойкого стекла.
W
П
s /
Рис. 177. Пробирка мерная без шлифа
Рис. 178. Пробирка со шлифом и пробкой
(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)
Мышление
КРАСНАЯ ТАБЛЕТКА
Курпатов А. В .
ПРЕДИСЛОВИЕ
Познай самого себя.
Надпись на стене храма
Аполлона в Дельфах.
Даже путь в тысячу ли начинается
с первого шага.
Лао Цзы
Настоящий мир не таков, каким он нам кажется.
Мы смотрим на него через призму своих ощущений, опыта и абстрактных устано-
вок. И эта «призма» — лишь версия происходящих событий, тогда как подлинная
реальность скрыта от нас.
Всё, что мы думаем, чувствуем, переживаем, — иллюзия, своего рода галлюци-
нация, произведённая нашим мозгом. Мы сами полностью обусловлены воспитанием
и культурой, в которой сформировались.
Нам кажется, что мы — результат собственного сознательного выбора, а мы —
лишь случайная производная. Нас создала социальная машина, которая сама запу-
талась в собственных предрассудках, лжи и откровенном невежестве.
Поэтому каждый из нас чувствует, что живёт не своей жизнью. Каждый хочет
быть лучше, чем он есть. И все мы хотим прожить лучшую жизнь, но не знаем
как.
Мы мучаемся от одиночества и внутренней пустоты, бессмысленности собствен-
ного существования и тоски по великому. Мы страдаем от отсутствия целей и не-
реализованных желаний, от собственных фантазий и заблуждений.
Мы страдаем из-за других людей. Впрочем, их мы тоже заставляем страдать.
Нам искренне кажется, что они виноваты во всех наших бедах. Мы уверены, что
они нас не понимают, не любят и не ценят. Да, мы уверены. И ровно то же самое
они думают о нас.
Нам слишком долго рассказывали о счастье, об успехе и любви. Но никто не
предупредил, что радостные чувства мимолётны, успех кажется таковым только со
стороны, а всякая страсть заканчивается разочарованием.
Многие годы я консультировал, как говорят и таких случаях, «богатых и зна-
менитых»: звёзд шоу-бизнеса и кино, политиков и академиков, топ-менеджеров
крупнейших компаний и бизнесменов из списка Forbes.
Но я работал и с детьми из приютов, помогал жертвам насилия, пациентам пси-
хиатрических больниц.
У меня на приёме были верующие и агностики, а ещё сектанты и сумасшедшие,
которые считали себя святыми. Я лечил суицидентов и преступников, наркоманов
и уцелевших жертв террористических актов.
Среди моих пациентов были служащие, учёные, спортсмены, музыканты, журнали-
сты, водители трамвая...
Не знаю, куда я ещё не заглянул как врач, как исследователь. Не знаю, что
могло бы теперь меня удивить.
Это было долгое путешествие. И быть может, я плохо искал, но я, правда, ни-
где не нашёл счастья. Хуже того — я не нашёл даже надежды.
Да, я слышал множество слов, которые должны были всё объяснить, но я не ви-
дел никого, кому бы эти слова помогли.
Мы не понимаем ни себя, ни мира, в котором живём. Нас этому никогда не учи-
ли. Из поколения в поколение человечество лишь приспосабливается к обстоя-
тельствам и льстиво врёт себе, создавая мифы о «Человеке», которого никогда
не было и никогда не будет. Так что, конечно, ничего не меняется.
Нас охватывает животный страх перед собственной «королевской» наготой. И мы
готовы склонить колено перед любой иллюзией, только бы не оказаться с правдой
о себе с глазу на глаз. Нам так страшно, что мы не замечаем ни фактов, ни
собственного ужаса.
Единственное, в чём человечество и впрямь поднаторело, — это самовосхвале-
ние и самооправдание. Пока же оно прикидывается страусом, стыдливо краснеет,
мнётся в смущении и «делает вид», наука подошла к самому краю и заглянула в
эту бездну.
Мы знаем теперь, что такое реальность, что такое человек и что такое на са-
мом деле наша с вами жизнь. Слабонервных всё это, я полагаю, не обрадует. Но
им эта задачка в любом случае не по зубам.
Скажу прямо и откровенно: я не знаю, обретёте ли вы счастье, узнав то, что
должны знать. Но без этой правды у нас с вами нет ни единого шанса.
Нельзя добраться до цели, если у вас в руках неверная карта. И даже путь в
тысячу ли начинается с первого шага.
Впрочем, если бы я не верил в успех, то я бы и не брался за эту публикацию.
ВВЕДЕНИЕ
Истинно, истинно говорю вам: если пше-
ничное зерно, падши в землю, не умрёт,
то останется одно; а если умрёт, то
принесёт много плода.
Евангелие от Иоанна, 12:24
Если в вашей жизни всё хорошо, если вас всё в ней устраивает, всё нравится
и «проблем нет», то, пожалуйста, не читайте дальше.
Я не знаю, существуют ли вообще такие люди, у которых «всё хорошо», а если
и существуют, то в своём ли они уме. Но если вы и вправду относитесь к их
числу, то мой вам добрый совет: закройте эту публикацию, выбросьте её или от-
дайте кому-нибудь другому. От греха подальше.
Каждый из нас имеет право на свою «таблетку»: кто-то выберет красную — таб-
летку правды, а кто-то синюю — таблетку иллюзии и незнания. Синюю, кстати,
даже выбирать не придётся — она дана нам по умолчанию. А вот красную нужно и
выбрать, и проглотить, и пережить непростой процесс внутреннего изменения.
Ответственность, понятное дело, на том, кто делает выбор.
Образ красной таблетки я позаимствовал из фильма «Матрица». Хотя есть, ко-
нечно, и масса других красивых метафор — взять хотя бы знаменитую «пещеру
Платона» или «бабочку Чжуан-цзы».
Но поскольку о красной таблетке многие знают, пусть будет таблетка.
Если кто-то запамятовал сюжет фильма братьев Вачовски (сейчас, правда, уже
сестёр Вачовски — они не так давно сменили пол), перескажу его в двух словах.
Хакер Нео (в исполнении молодого ещё Киану Ривза) живёт с чувством, что
«что-то не так». Он ощущает в окружающем его мире какой-то подвох — словно бы
всё не по-настоящему, странно и неправильно.
Скоро выясняется, что подозрения Нео оправданны: люди живут в виртуальной
реальности — в Матрице, а их тела запаяны в капсулах и выполняют функцию ба-
тареек, обеспечивающих энергией гигантскую систему сверхмощного искусственно-
го интеллекта.
Перед тем как Нео впервые оказался по ту сторону Матрицы, между ним и Мор-
феусом (лидером местного Сопротивления) происходит диалог, который с момента
выхода фильма на экраны стал культовым и давно разобран на цитаты.
— Догадываюсь: сейчас ты чувствуешь себя Алисой, падающей в кроличью нору,
— говорит Морфеус. — Объясню, почему ты здесь. Потому, что ты что-то понял.
Ты не можешь выразить это, но ощущаешь. Ты всю жизнь ощущал, что мир не в по-
рядке, странная мысль, но её не отогнать. Она — как заноза в мозгу. Она сво-
дит с ума. Не даёт покоя. Это и привело тебя ко мне. Понимаешь, о чём я гово-
рю?
— О Матрице?
— Ты хочешь узнать, что это? Матрица повсюду. Она окружает нас. Даже сейчас
она с нами рядом. Ты видишь её, когда смотришь в окно или включаешь телеви-
зор . Ты ощущаешь её, когда работаешь, идёшь в церковь, когда платишь налоги.
Целый мирок, надвинутый на глаза, чтобы спрятать правду.
— Какую?
— Что ты только раб, Нео. Как и все, ты с рождения в цепях. С рождения в
тюрьме, которой не почуешь и не коснёшься. В темнице для разума. Увы, невоз-
можно объяснить, что такое Матрица. . . Ты должен увидеть это сам. Не поздно
отказаться. Потом пути назад не будет...
Диалог заканчивается «предложением, от которого нельзя отказаться»: «При-
мешь синюю таблетку, — предупреждает Морфеус, — и сказке конец. Ты проснёшься
в своей постели и поверишь, что это был сон. Примешь красную таблетку — вой-
дёшь в страну чудес. Я покажу тебе, глубока ли кроличья нора. Помни: я лишь
предлагаю узнать правду, больше ничего».
Нео, конечно, выбирает красную таблетку и дальше всё происходит так, как и
положено в подобных историях — про Спасителя, Избранного или Супергероя.
Он проходит множество испытаний, рискует своей жизнью, даже умирает... Но
всё заканчивается хорошо — волшебное воскресение, сотворение чудес и победа
Добра над Злом.
Ирония в том, что зрителю вроде как предлагается выйти из Матрицы, но на
деле он оказывается в самой настоящей сказке с незамысловатым религиозным сю-
жетом .
Да, декорации поменялись — теперь это не древняя Галилея с расхаживающим по
ней Христом, а кибер-Спаситель, сражающийся с искусственным интеллектом. Но
суть от этого не изменилась.
Мифы, которыми полна настоящая Матрица — не киношная, а наша с вами, — уди-
вительно живучи. Всякие попытки разоблачить их приводят лишь к обратному эф-
фекту: наша вера в собственные заблуждения только усиливается.
Фильм «Матрица» воспроизводит, возможно, главный миф человечества: мол, на-
станет час и придёт кто-то добрый и всемогущий, чтобы спасти нас. Волшебник в
голубом вертолёте...
Забавно, но мы в это верим. Каждый из нас, и вы лично. Многие, конечно, не
осознают этого, но верят все.
«Ответственность, понятное дело, на том, кто делает выбор».
В основе нашей иррациональной веры в Спасителя — банальный детский ком-
плекс : когда мы были маленькими, мы ждали помощи от родителей. Что бы ни слу-
чилось, они должны были прийти и спасти нас. Теперь мы выросли, а рефлекс ос-
тался — мы продолжаем ждать.
Мы ждём неизвестно чего. У моря погоды. Страдаем, переживаем и боимся — как
когда-то ночью, в той детской кроватке. Мы ждём избавления от страданий.
Ждём, что всё устроится, образуется и наладится. Мы верим в эту фантазию, и
ничто не в силах поколебать нашей веры.
Но «красная таблетка», которую я должен предложить вам, совсем не та, что у
религии или матричного Морфеуса. Наоборот, у них-то как раз синяя — успокои-
тельная . Красная таблетка не обрадует, и она горька на вкус.
Вслушайтесь: никто не придёт, не прилетит и спасать вас не будет.
У вас есть только ваша жизнь, и на этом всё. Она продлится сколько-то лет
(сколько именно, ни вы, ни я не знаем), и вы проживёте её так, как проживёте.
А потом в один миг всё исчезнет. Пу-ух! И вы умрёте. Очень короткое и не
очень весёлое путешествие.
Как вы будете проживать эту жизнь? Это ваша личная головная боль. Никого,
давайте уж начистоту, это не интересует. Можете сокрушаться, отчаиваться, не-
годовать и бить посуду. Пожалуйста! Легче от этого не станет, и вашего поло-
жения это не изменит.
Один великий русский философ сказал: «Только две вещи случаются с нами в
абсолютном одиночестве: смерть и понимание». Мы и умираем в одиночку, и что-
либо понять можем только своим умом. Другой за нас не умрёт, другой за нас не
осознает. Всё, что я предлагаю, — это возможность разобраться, увидеть, по-
нять . Но только возможность. Чудес не предвидится.
В этой публикации не будет простых рецептов — мол, сделай так-то и так-то,
и всё у тебя наладится. Не наладится. Никакие советы не работают, пока вы не
понимаете сути дела. Не обманывайтесь дешёвыми трюками. Мышление — это работа
каждого, его собственная. Я могу только дать вам факты. Как вы ими распоряди-
тесь? Только вы знаете это.
Если вы будете читать эту публикацию как какую-то беллетристику, просто
чтобы просто скоротать время, — толку от неё не будет. Возможно, она покажет-
ся вам занятной. Но вы ничего не поймёте.
Даже сейчас, вполне возможно, вы читаете эти строки и думаете: господи, ка-
кая же банальщина! Конечно, вы всё это знаете и без меня. Но знать и понимать
— это разные вещи.
Кто-то знает правду, чтобы прятать её от себя, а кто-то вглядывается в неё,
чтобы изменить свою жизнь.
Не торопитесь. Отложите чтение на минуту и подумайте.
Подумайте о том, что вы умрёте, и никто вас не спасёт.
Подумайте о своей жизни — скоротечной, полной ненужной суеты и бессмыслен-
ных забот.
Вам не выйти из этого замкнутого круга.
Если вам стало страшно, если вам стало по-настоящему одиноко, стены вашей
тюрьмы ещё можно разрушить. А значит, другая жизнь — жизнь, которая вам и в
самом деле нужна, — ещё возможна.
Но это только шанс. Ничего больше. Эту таблетку придётся глотать. У меня
есть стакан воды, но это всё, чем я могу вам помочь. Даже если бы хотел:
смерть и понимание не терпят чужого присутствия.
Когда вы распробуете красную таблетку и, поморщившись, проглотите её, вы
действительно поймёте, что мир вокруг вас — театр теней. Всё, во что мы при-
выкли верить, — лишь иллюзия, а истина никому не известна.
Красная таблетка будет жечь вам желудок, мучить изжогой, выворачивать кишки
наизнанку. Будет больно, а главное — непривычно. Но за плохими новостями поя-
вятся и хорошие.
Ваши страхи, предубеждения и жалость к себе, подобно желудочным ферментам,
растворят красную таблетку. Её ингредиенты просочатся в кровь, и ваши глаза
впервые откроются.
Вы увидите, что ваши представления о самих себе, о вашей личности, жизни и
других людях — просто химера, блеф и пустышка. Вы начнёте рождаться заново —
для другой, новой и уже настоящей жизни. Для той самой, которая и вправду бу-
дет вашей.
Правда как солнце: смотреть на неё больно, но отрицать — бессмысленно. А
чтобы найти то, что вы ищете, нужно сначала потерять то, что вы имеете. Я по-
нимаю , что страшно. Но таков путь. Или оставайтесь с тем, что есть.
Впрочем, ещё не поздно и отказаться. Потом, возможно, пути назад уже не бу-
дет . . .
«Вслушайтесь: никто не придёт, не прилетит и спасать вас не будет».
Многое прозвучит непривычно и даже жёстко. Не хотите острых ощущений — не
читайте эту публикацию. Умиротворения не обещаю и по загривку гладить не ста-
ну.
Вы или примете эту правду о себе и о жизни, или вернётесь в ту иллюзию, ко-
торую привыкли считать реальностью.
Я не Спаситель, и никакого религиозного подтекста в моих словах нет. Мне
всё равно, как вы проживёте свою жизнь. И я совсем не хочу, чтобы вы мне про-
сто поверили, это абсолютно бессмысленно, и это так не работает.
Всё, что я могу, — это показать на нужную дверь. Но откроете ли вы её? Я не
знаю. Возможно, я просто плохо объясняю, а может быть... вы просто не готовы.
Обещать могу только одно: я буду говорить правду. Когда-нибудь вы для неё и
сами созреете. Хотя, возможно, будет уже слишком поздно что-то
Пояснение
В качестве эпиграфа к «Введению» я взял слова, которые приписывают Иисусу
Христу: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не
умрёт, то останется одно; а если умрёт, то принесёт много плода».
Это очень верная мысль, и не важно, кому она принадлежит. Если мы хотим из-
мениться, если мы хотим другой жизни, — от той, которая у нас сейчас есть,
придётся отказаться. Мы должны быть готовы к жертве, потерять то, что имеем.
В том числе и самих себя.
Тысячу раз эту мысль повторяли буддисты и суфии, философы и мистики. Об
этом писали Кьеркегор и Ницше. Думаю, что даже Дарвин и Эйнштейн с ней бы со-
гласились . Пока мы цепляемся за старое, новое не придёт. Пока мы хотим уси-
деть между двух стульев, наше место — дыра, пустота и ничто.
Как сказал один мой знакомый священник (очень неглупый, замечу, человек):
«Вера — это лишь вопрос веры». Вера относится к тем вещам, о которых мы ниче-
го не можем знать. Вы либо верите, либо нет — это вопрос личного выбора.
Здесь нельзя что-либо доказать, а тем более — опровергнуть.
Единственное, что можно знать наверняка, — это научные факты.
Бога, конечно, измерить приборами нельзя. Но с помощью технологии фМРТ и
ОФЭКТ1 можно увидеть, что происходит в мозгах, например, у молящихся католи-
ческих монашек. Нейрофизиологи Эндрю Ньюберг и Марк Уолдман провели такое ис-
следование .
А ещё учёные исследовали мозги буддийских монахов, отправляющихся в нирва-
ну, мозги светских людей, практикующих йогу и медитацию, а также мозги добро-
вольцев , которых заставляли долго и монотонно повторять бессмысленный текст.
Не знаю, насколько вам это покажется странным, но в ваших мозгах — общае-
тесь ли вы с Богом, растворяетесь ли в нирване, медитируете после ужина или
просто талдычите сущую ерунду — активизируются одни и те же зоны мозга. Так
что верьте во что угодно, если вам так удобно. Но постарайтесь лишний раз не
обманываться.
В любом случае я буду рассказывать о том, что не потребует от вас никакой
веры, но лишь здравого рассуждения, научного подхода и труда понимания. Вот
почему мне совершенно не важно, кому принадлежит хорошая мысль, если она за-
служивает того, чтобы мы над ней задумались.
По ходу дальнейшего изложения я буду иногда советовать вам авторов, чьи
книги проливают свет на нашу с вами природу, развивают мышление и помогают
жить так, чтобы, как говорили когда-то, нам «не было мучительно больно за
бесцельно прожитые годы».
ГЛАВА ПЕРВАЯ.
ПРОТИВОРЕЧИЕ
Чтобы проникнуть в сущность заурядных яв-
лений, требуется весьма незаурядный ум.
Альфред Норт Уайтхед
Прежде чем занырнуть в кроличью нору, давайте кое-что проясним.
Психолог Гарри Бахрик с коллегами провёл следующий эксперимент. Второкурс-
ников университета просили вспомнить их финальные школьные оценки по матема-
тике, физике, истории и другим предметам.
Достаточно ли пары лет, чтобы такое забыть? Ну, наверное, что-то можно и не
упомнить: ответы были верны лишь в 70% случаев. Но интересно не это, интерес-
но распределение: студенты помнили о 89% своих пятёрок, о 69% четвёрок, о 51
% троек и лишь о 29% двоек.
Конечно, приятнее рассказывать о том, какой ты был отличник.
Но есть нюанс: студентов предупредили, что их ответы будут сравниваться с
реальными аттестатами. С них даже взяли на этот счёт письменное согласие! То
есть они знали и понимали, что их обман обязательно вскроется. Врать не было
никакого смысла.
Впрочем, они и не врали. Они просто так помнили.
Это научный факт: то, что мы помним, знаем или думаем, зависит не от реаль-
ного положения дел, а от того, в какую именно игру с нами играет наш мозг. Он
не хочет помнить плохое — и вуаля, вы этого не помните!
А что насчёт наших знаний, нашего опыта и нажитых представлений о мире?
Хилк Плассманн с коллегами решил протестировать профессиональных сомелье.
1 Современные методы исследования работы головного мозга: фМРТ — функциональная маг-
нитно-резонансная томография, ОФЭКТ — однофотонная эмиссионная компьютерная томогра-
фия.
Они взяли одно и то же вино, разлили его по бутылкам и отправили на дегуста-
цию. На одной бутылке, впрочем, было написано, что цена вина — $90, на другой
— $10. И что вы думаете? Все сомелье безоговорочно признали, что вино из бу-
тылки за $90 лучше, чем вино за $10.
Вот вам и профессиональные навыки. Даже фиктивный ценник способен сбить вас
с толку и перевернуть всё вверх дном. Вы ещё удивляетесь количеству врачебных
ошибок или тому, что главная причина аварий и техногенных катастроф — челове-
ческий фактор? Я бы не стал, потому что наши знания — это, к сожалению, тоже
условность.
Наконец, наши мысли — святая святых! — то, что мы думаем, как воспринимаем
события, как относимся к другим людям... Здесь, полагаете, всё надёжно?
Психологи под руководством нобелевского лауреата Даниэля Канемана изучили и
это. Студентов разделили на две группы: в первой всем подарили по кофейной
чашке с логотипом университета, а представителям второй не досталось ничего.
Теперь счастливых обладателей фирменных чашек спросили: за сколько они го-
товы её продать? А тех, кому не повезло с подарком, — за какую сумму они го-
товы были бы такую чашку купить?
Цена «продажи» отличалась от цены «покупки» в два раза! То есть, если вы
уже обладаете чем-то, эта вещь кажется вам минимум в два раза дороже, чем це-
на , которую вы готовы за неё заплатить. Речь, повторюсь, идёт об одном и том
же предмете.
И как вам эта «логика»? Этот, с позволения сказать, «здравый смысл»?
Аналогичных, подобных, сходных по сути экспериментов — тысячи. Это не слу-
чайность , и дело не в конкретных подопытных — студентах или сомелье. Дело в
нас с вами, в том, как мы устроены.
Да, главное, в чём мы преуспели по-настоящему, — это в самообмане.
«То, что мы помним, знаем или думаем, — зависит не от реального положения
дел, а от того, в какую именно игру с нами играет наш мозг».
Как вы думаете: если мы поставим всех этих подопытных перед фактом и скажем
— мол, смотрите, друзья, вы сваляли дурака. Как вам кажется, они тут же по-
краснеют и согласятся? Мол, да, и правда, как же неудобно вышло...
Ничего подобного! В любой похожей ситуации участники эксперимента начинают
объяснять, что их не так поняли, что они не это имели в виду, и что надо было
учесть ещё массу нюансов, которые экспериментаторы не учли.
Да, мы будем защищать свои ошибки, свои промахи, свою глупость, свои заблу-
ждения и свою позицию (будь она хоть тысячу раз идиотской и проигрышной) до
последней капли крови. И сами же будем в сочинённый нами бред верить.
Так давайте же посмотрим правде в глаза: нам не нужна правда.
Мы не хотим видеть себя неправыми. Мы не хотим, чтобы нас тыкали носом в
противоречия, которые мы сами же — с таким трудом, с такой изобретательностью
и страстью — создаём.
Возможно, вы думаете, что нечто подобное случается с другими, но не с вами?
Вот и ещё один случай самообмана. Это происходит постоянно и со всеми — с ка-
ждым из нас без исключения!
Теперь проведём небольшой тест. Это важно. Довольны ли вы своей жизнью?
Ответ никто не записывает и проверять не будет, так что нет нужды лукавить
и выдавать желаемое за действительное. Ответ «по гамбургскому счету» тоже не
нужен (от него проку не больше, чем от средней температуры по больнице).
Просто признайтесь честно, сами себе — как есть...
Что ж, я исхожу из того, что вы — хотя бы сейчас — ответили правду, одну
только правду и ничего кроме правды. А поскольку нет ни одного человека, ко-
торого бы и в самом деле устраивала его жизнь, то ответ, очевидно, отрица-
тельный — «нет, не устраивает».
Чего греха таить, нам всем бы хотелось других результатов в деле, которым
мы занимаемся, других отношений, других впечатлений и вообще много всего дру-
гого . Нам хочется, чтобы наша жизнь была наполнена смыслом, а она полна чёрт
знает чем. Такова правда.
Хорошо, второй вопрос: верны ли те решения, которые вы принимаете, и вообще
всё то, что вы думаете о своей жизни? Опять же, отвечайте, пожалуйста, не «в
общем», не «теоретически», не «смотря с какой стороны посмотреть», а прямо и
честно, как есть.
Если вы не страдаете тяжёлой депрессией (эти больные склонны считать себя
никчёмными в любых вопросах), ответ должен быть положительным. Ну и, правда,
почему бы вам быть неправым там, где вы десять раз подумали и сто раз отмери-
ли? Согласен.
А теперь — бинго! — результат нашего теста.
Первый вариант: вы соврали в первом пункте — на самом деле у вас очень кру-
тая жизнь, просто огонь, и вы по-настоящему счастливы. Спасибо за это вашим
правильным мыслям и гениальным решениям!
Второй вариант: вы и вправду несчастливы, но это значит, что вы думаете о
своей жизни неверно. То, чем вы руководствуетесь, принимая решения, — чушь
собачья, глобальный самообман и тотальная иллюзия.
Фокус в том, что на оба этих вопроса нельзя ответить утвердительно: да, я
несчастлив, и да, я думаю правильно. Нет — или то, или другое. Один из ваших
ответов точно был неверным. Третьего не дано.
Абсурдно считать своё решение правильным, если оно сделало вас несчастным.
Но мы никогда так не думаем! Более того, чем несчастливее становится человек,
тем с большим пылом и жаром он защищает свои убеждения, своё мнение и свои
установки (впрочем, лишь до момента наступления неизбежной в таких случаях
депрессии).
Напротив, чем человек счастливее, тем больше он склонен считать своё мнение
частным, возможно, даже ошибочным и не слишком претендует на то, чтобы счи-
таться правым.
Лишь несчастному нужна его правота, счастливый хвататься за неё не будет.
Причём именно эта жажда собственной «правоты», столь свойственная всем несча-
стным, и есть причина их несчастий.
Вот что я имею в виду, когда говорю о нашей тотальной слепоте к противоре-
чиям и о чудовищной опасности этой слепоты.
Неприятная
правда
Исходя из сути и природы бытия, проти-
воречий не существует. Проверьте исход-
ные данные, одно из них неверно...
Айн Рэнд
Это очень удобно думать, что ваш начальник — болван, жена — стерва, муж —
придурок, а ребёнок — и вовсе неблагодарная скотина. Это так логично!
Но почему вы же трудитесь на своей работе? Это же «Титаник»! Куда приведёт
вашу компанию начальник-болван? Впереди — катастрофа! На что вы рассчитывае-
те? Почему до сих пор не уволились?
Или другой вариант: если вы настолько умнее своего начальника, почему вы
ещё не его начальник? Это по каким-то роковым причинам невозможно? О'кей, но
если ваши компетенции настолько превосходят знания и опыт вашего руководите-
ля , то вам следует основать конкурирующий бизнес. Вы разнесёте его компанию в
пух и прах! Почему вы этого не делаете?
Или вы всё-таки слегка погорячились? Может быть, вам приятно думать, что
вами управляют дураки? Это ведь многое объясняет... Конечно!
Разумеется, все несчастья из-за начальников и тотальной несправедливости
при их назначении. Все начальники — дебилы, а мы, бедные — из-за них — несча-
стные , страдаем.
Большой бизнес я знаю хорошо и, разумеется, соглашусь с вами: на руководя-
щих постах не хватает умных людей. Их, честно говоря, вообще не хватает. А
как только такие уникумы обнаруживаются, то с ними, поверьте, носятся как с
писаной торбой. Ну и где вы в этом списке? Кого-то не пускают? Или вы слишком
себя переоцениваете?
Если что, я, например, готов предложить вам прекрасную зарплату, правда, с
одним условием — вы действительно сможете сделать то, что мне нужно. И уве-
рен , что это скажет вам любой руководитель, ведь так работает бизнес: бизнесу
нужны люди, которые способны принести прибыль. А если они её не приносят, то
не важно, как они сами себя оценивают.
«Лишь несчастному нужна его правота, счастливый хвататься за неё не будет».
Относительно жены-стервы — не очень понятно: куда вы смотрели, когда жени-
лись? Или она всегда такой была? Тогда вам это должно нравиться — будьте сча-
стливы! А если она такой стала — не вы ли её до этого довели? В какой момент,
как говорят в таких случаях, что-то пошло не так? Не задумывались? А имело бы
смысл.
Муж-придурок — это, конечно, понятно. Но зачем тогда вы выходили за него
замуж?
Зачем рожали от него детей (тоже, видимо, потенциальных идиотов)? Или он не
так уж и плох, и, читая эти строки, вам становится не по себе? Тогда зачем вы
регулярно изводите этим наигранным страданием его и себя? Почему недовольны
жизнью? С какой стати скандалите и думаете, что молодость ваша — коту под
хвост?
Ну, дети неблагодарные — это факт. А с чего им быть благодарными-то? Они
разве понимают, что вы для них сделали? Если они ещё маленькие, то точно не
понимают — у них ещё нет нужного опыта, чтобы это понимать. А если взрослые и
продолжают не понимать, то, может, и правда не такой уж вы идеальный роди-
тель . Или нет? Всё-таки они виноваты? И ваши родители были ни при чём, когда
вы страдали, да? Ну конечно! Так и есть!
Уточнение
Допустим, что вы ещё молоды — работы нет, семьи нет. Думаете, не про вас
сказ? Про вас. Только у вас не дети, а родители, не супруги, а бой- и гёрл-
френды, не начальники, а преподаватели и старшие товарищи. По существу же —
всё равно то же самое!
Вы так же недовольны жизнью, потому что другие люди, как вам кажется, меша-
ют вашему законному счастью. Вы уверены, что они могут пойти вам навстречу и
осуществить ваши желания, но просто не хотят этого.
То есть это заговор — я правильно понимаю?
Ну конечно, все специально сговорились, как бы вам посильнее насолить! У
них, наверное, даже специальное место есть для тайных сборищ: конспиративный
бункер, где они громоздят свои коварные планы... Преподаватели, родители, лю-
бовники, друзья — все там собираются и ткут паутину своего коварного загово-
ра!
Понятно же, что это чушь. С каждым из них у вас своя пьеса и свой набор
глупостей.
При этом никто не обязан делать вас счастливыми (да и вы сами, в обратную
сторону, не сильно стараетесь). Но хорошо ли вы это понимаете? Если бы пони-
мали, что другие люди ничего вам не должны (а это так!), вы бы испытывали к
ним чувство благодарности за то, что они для вас делают. Но нет, вы ненавиди-
те их за то, что они для вас не делают. Так что это просто ошибка, самообман.
Вы можете думать, что жизнь несправедлива — вон как кому-то повезло с роди-
телями, с деньгами, с квартирой в наследство! Да, а ещё с внешностью, с мус-
кулами и длинными ногами, с талантами в математике, с памятью, с умением
клип-арты шарашить, музыку сочинять... И так ведь можно до бесконечности про-
должать , правда? Им повезло, а вам — нет.
Правда в том, что вам только кажется, что все они — эти богатые, красивые и
талантливые — счастливы. Это не так, и они себя таковыми не считают. Но это
не мешает вам портить свою жизнь подобными сравнениями. Вам удобно так ду-
мать . Это «всё объясняет»! Знаете, что я скажу, глядя на подобные интеллекту-
альные кульбиты: вы хотите быть несчастными.
Лет через двадцать весь этот мрак и морок вашей нынешней жизни рассеется.
Вы будете считать свои молодые роды великим счастьем. Только вот задним чис-
лом вы его не распробуете. Молодость ценишь, когда её уже не вернуть, а на-
сладиться ею, будучи молодым, — задача не из лёгких.
Что ж, тем более, мне кажется, имеет смысл посмотреть правде в глаза...
Я понимаю, что всё это дико неприятно читать. И возможно, вы уже пожалели.
Догадываюсь, что сейчас ваш мозг готов выпрыгнуть из черепной коробки, сде-
лать тройной тулуп и лечь обратно вверх тормашками, только бы не соглашаться
со всем этим бредом «доброго доктора».
Справедливости ради — я предупреждал. Это красная таблетка — приятно не бу-
дет . Я не шутил тогда и точно не шучу сейчас.
Но может быть, у вас и в самом деле прекрасная жизнь — прекрасная работа,
дружная семья, с сексом всё замечательно, вы самореализовались и смерти не
боитесь, потому что выполнили своё предназначение, дети не раздражают, да?
Тогда почему вы «несчастливы»? Ну, или «не очень счастливы»? Должно же быть
этому какое-то объяснение...
Не сомневаюсь, что вы придумали их уже с десяток. Мы ненавидим признавать
свои ошибки, ненавидим смотреть правде в глаза, сталкиваться с противоречия-
ми , осознавать свои заблуждения и неправоту. Нас от этого физически воротит.
Тошнит. И изжога ещё.
Лучше уж соврать — мол, у нас «всё хорошо» и по большому счёту грех жало-
ваться. Ну и, правда, грех. Готов поддержать. Больше не буду ни на чём таком
настаивать и ничем таким докучать вашему блаженному спокойствию. Смело закры-
вайте публикацию и бегите к помойному ведру — ей там самое место!
Но прежде чем нажать на педаль вашего помойного ведра, задумайтесь: таким
образом вы ничего не решите, ничего не измените, и всё будет как прежде. Всё-
бу-дет-как-пре-жде... «Примешь синюю таблетку, и сказке — конец. Ты проснёшь-
ся в своей постели и поверишь, что это был сон».
Поймите, никого ведь нет рядом — только вы и то, что происходит сейчас у
вас в голове. Даже меня нет, я — чистой воды иллюзия. В этот самый момент я,
возможно, где-то пью кофе, общаюсь с друзьями, занимаюсь сексом или, быть мо-
жет , уже умер.
Вы сейчас не со мной дискутируете, а с собой — осознайте это. Есть только
вы и то, что вы чувствуете, думая о своей жизни!
Если вас и вправду всё устраивает, значит, мы думаете о своей жизни пра-
вильно и вам больше ничего не нужно о ней знать. Но если она вас не устраива-
ет (или не очень устраивает, или устраивает не так, чтобы очень), вам придёт-
ся разрешить те противоречия, которые портят вашу жизнь изнутри вашей собст-
венной головы!
Мы словно специально устроены таким образом, чтобы не замечать собственных
ошибок. Наша глупая правота, наша самооценка и реноме (причём в собственных
же глазах) нам дороже, чем понимание истинного положения вещей. По итогу мы
оплачиваем эту чушь своей жизнью. И это, правда, очень странный обмен.
Мы легко, почти молниеносно находим виноватых и тысячу объяснений любым
своим неудачам. Нас этому искусству будто в какой-то спецшколе обучали. Но
нет, просто наш мозг не хочет видеть противоречии, сопротивляется им и посто-
янно наводит тень на плетень.
Вопрос в том: хотим мы что-то менять в себе и своей жизни? И если хотим, то
нам надлежит выработать у себя навык активного, неустанного, надсадного, я бы
сказал, поиска противоречий, их выявления и обличения.
Нам не хватает жажды видеть свои ошибки и несовершенства. Жажды смотреть
правде в глаза, сколь бы неприятной она ни была. Жажды менять себя для себя
же самих.
Без этой жажды толку не будет — всё останется как есть.
О неудачниках
Возможен и ещё один вариант: вы считаете себя неудачником и готовы с лёгко-
стью согласиться, что, мол, решения, которые вы принимали, неправильные, ума
у вас нет, и вообще жизнь не удалась.
Если вы думаете, что эта картинная поза (а это именно она!) является исклю-
чением из общего правила, спешу вас огорчить: не является. Вы точно так же не
видите и игнорируете противоречия, а потому и страдаете, как все остальные.
Задумайтесь — какого чёрта вы тогда принимали эти неправильные решения, ес-
ли вы и вправду думали, что они неверны? Или тогда они не казались вам непра-
вильными? То есть тогда вы глупости своей не видели, а сейчас вдруг прозрели?
Но если вы прозрели, то, что вам сейчас-то в таком случае мешает принять
правильные решения? Меняйте свою жизнь, всё в ней налаживайте. Если же вы
этого не делаете, то вам только кажется, что вы прозрели, и всё теперь пони-
маете правильно.
Глупо играть с самим собой в эту лукавую игру. Это игра на выбывание и с
гарантированным проигрышем. Договорной матч не в вашу пользу, причём даром.
Правило таково, и так это работает: вы или довольны происходящим, а значит,
решения вы приняли верные, или недовольны — и значит, вы ошиблись тогда и,
возможно, продолжаете ошибаться сейчас.
Так что, если вы «неудачник», «лузер», «лох» — или как вы там ещё себя на-
зываете? — это и есть ваше ошибочное решение. Которое, впрочем, вы не осоз-
наёте как ошибочное. В чём, собственно, и состоит ваша ошибка.
А ещё, скажу вам — «неудачникам» — по секрету, вы больше других ждёте Спа-
сителя. Но спасти себя вы сможете только сами и только в том случае, если пе-
рестанете валять дурака, прикидываясь «несчастными».
Этим я не хочу сказать, что есть какой-то секретный и фантастически верный
способ думать обо всём на свете, и, мол, я его знаю, а вы — нет.
Во-первых, я точно его не знаю. Во-вторых, уверен, что его даже в теории не
может быть. В-третьих, если бы он и существовал, то у каждого он был бы свой,
ведь, несмотря на всю свою похожесть, в нюансах мы сильно отличаемся друг от
друга.
Не может быть конкретных рекомендаций — как думать так, чтобы всё в твоей
жизни стало прекрасно. Только идиоты такое предлагают, и только простаки на
это покупаются.
Нет, речь идёт исключительно о подходе. Надо знать и помнить: наш мозг все-
гда и при любом удобном случае будет создавать противоречия, и прятать их от
нас.
Не сомневайтесь, если мы чувствуем, что что-то не так, если что-то нас не
устраивает — значит, противоречие точно есть. Где-то оно прячется, только мы
его не видим.
Возможно, мы неправильно оцениваем ситуацию или приняли неверное решение.
Возможно, мы лжём самим себе и надсадно пытаемся игнорировать то, что игнори-
ровать уже никак нельзя.
Я не знаю, какую именно ошибку вы допускаете в каждом конкретном случае, но
могу с уверенностью утверждать: если жизнь нас не устраивает, где-то мы точно
накосячили. Прочие объяснения или, как говорят, «отмазки» — это от лукавого.
Искать, выявлять и разрешать противоречия — предельно конструктивный под-
ход , и это работает.
Проблема ведь не в том, что мир плох или вам почему-то катастрофически не
везёт. Проблема в том, что вы думаете, что вы думаете правильно. Мы все так
думаем, это универсальное заблуждение.
Но если вы что-то сделали не так, это не страшно и за это не должно быть
стыдно. Это нормально — мы все постоянно ошибаемся. Не надо пытаться быть
святее папы римского, нужно быть готовым меняться.
Право, не губите гонца с плохими новостями, лучше они от этого всё равно не
станут.
И да, не факт, что решение лежит на поверхности. Не факт, что оно может
быть обнаружено здесь и сейчас, по щелчку. Не факт, наконец, что вас оно об-
радует. Скорее всего, оно будет неприятным — ударит по самолюбию, заставит
пересмотреть свои взгляды.
Не исключаю, что осознанная вами правда о самих себе завалит вас работой,
которую нужно переделать, если уж вы и вправду вознамерились добиться тех ре-
зультатов , на которые рассчитываете.
Но никто и не обещал, что будет легко. Никто не говорил, что сделает это за
вас. И совершенно точно — Спасителя не предвидится. Ваша жизнь — ваша ответ-
ственность .
В долг не
получится
Жаль, подмога не пришла,
Подкрепленья не прислали.
Вот такие, брат, дела —
Нас с тобою... обманули.
Группа ХЗ и БГ
Итак, давайте уясним это раз и навсегда: никто нас спасать не будет. Помощь
не придёт, и надеяться нам не на кого. Другим людям, кстати, тоже не на кого
надеяться. Так что мы все в равном и незавидном положении.
Правда в том, что никому до нас нет никакого дела. А если кто-то что-то для
нас и делает, то только потому, что это ему самому по каким-то причинам сей-
час нужно. То есть он делает это не для нас, а для себя.
Возможно, он хочет, чтобы вы его любили, и готов ради этого (не ради вас!)
на всё. Или, может быть, план в том, чтобы сначала одолжить вас, а потом этим
воспользоваться (не факт, кстати, что он или она это осознаёт).
Впрочем, есть и куда более тривиальные причины. Например, какой-то человек
просто хочет «быть хорошим», а потому и лезет из кожи вон, чтобы вы это при-
знали. Это уж точно ничем хорошим никогда не заканчивается.
Нам частенько предлагают бесплатный сыр в мышеловке. Искушение воспользо-
ваться предложением велико: вы же вроде бы ничего не теряете — отвечаете лю-
бовью и благодарностью, а за это получаете что-то материальное и фактическое
— поддержку, например, деньги, секс.
Кажется, что это хороший обмен, выгодный.
Но значит это — сейчас внимание! — буквально следующее: вы, возможно, сами
того не ведая, влезаете в долги. И да, считайте, что проценты уже начали ка-
пать. Пройдёт время, и за эту «помощь» с вас спросится — так или иначе, но вы
точно не отвертитесь. Платить придётся.
Кто-то, превозмогая неприязнь и глотая разочарование, будет долгие годы
терпеть ненавистного супруга. Кому-то придётся отбывать наказание на работе,
которая эмоционально его опустошает, потому что «надо зарабатывать», а других
вариантов нет.
Оплата по этим долгам не буквальная, да и долг этот, возможно, спросит не
тот, кто его дал, а некто третий, нечто третье. Впрочем, существа дела это не
меняет, и тяжесть выплат от этого легче не становится.
Может быть, в какой-то момент вас бросят, обменяют на кого-то другого, а вы
и не знаете, как это — жить без чьей-то помощи, любви, понимания. Но помочь
будет уже некому, и прежнего бесплатного сыра, есть риск, вам уже не предло-
жат.
Так или иначе, но этот круг замкнётся. Точнее — мышеловка захлопнется.
Сам этот подход — жить за счёт других людей, благодаря их помощи и поддерж-
ке — крайне рискованная игра. Крайне. И не важно: вы только берёте в долг,
берёте и даёте или только даёте. Правда в том, что адекватной формы отноше-
ний, правильной формы, мы так и не нашли.
И никто нас этому не учит, никто не говорит — как?
Из психотерапевтической практики
В 90-х я работал психотерапевтом на кризисном отделении психиатрической
больницы в Санкт-Петербурге. В отделение поступали женщины с острым стрессом
— у кого-то погибли дети, кто-то подвергся жестокому насилию, кто-то стал
жертвой деструктивной секты, а от кого-то... ушёл муж.
Да, сейчас это может показаться странным, но попытайтесь себе это предста-
вить .
Советское половое воспитание было, прямо скажем, далеко от идеала. Счита-
лось , например, что женщинам секс не нужен, что это чисто мужская потребность
(«Мужикам одно надо!»). А поэтому всякий советский мужчина был своей женщине
как бы должен — он её вроде как сексуально использует, но за это содержит,
должен терпеть любое её настроение, на всё соглашаться.
Конечно, всё это не объявлялось открыто, но соль межполовых отношений от
этого слаще не становилась. Женщине совершенно необязательно что-то своему
мужчине высказывать, ей вполне хватает и других «женских» средств: надутые
губы, гримаса неудовольствия на лице, презрительный взгляд, специфический тон
голоса, от которого у мужчин волосы на загривке встают дыбом. А для катастро-
фы больше ничего и не нужно, хватит и этого эмоционального шантажа с после-
дующей взаимной ненавистью.
В таких патологических браках пары жили десятками лет. Просто «нельзя» было
разводиться — нехорошо, не принято, предосудительно. А в случае чего женщина
и в профком могла обратиться, и в парторганизацию, чтобы неверного мужа про-
песочили как следует на общественном собрании.
Женщины это знали, и многие, пусть и неосознанно, но этим своим положением
пользовались. За счёт действовавшей тогда общественной морали они имели сво-
его рода «моральную» власть над своими мужчинами.
А потом СССР распался, и браки тоже посыпались. Мужчины уходили от своих
жён после двадцати и даже тридцати лет совместной жизни, как будто ждали это-
го шанса всю свою жизнь. Вылетали из этих браков словно пробки из-под шампан-
ского: заводили любовниц, новые семьи — в общем, жгли не по-детски. Прежние
жёны оказывались у разбитого корыта, но это полбеды. Действительная трагедия
состояла в том, что многие не умели без своих мужей жить.
У женщины, которая столько лет провела «за каменной стеной» брака, могло не
быть дельной профессии, а тем более какой-то коммерческой хватки. То есть
иногда они даже прокормить себя не могли, не говоря уж о том, чтоб «зажечь».
Детям было на них наплевать (наплевательство тогда вообще стало входить в мо-
ду) . Круг общения — никакой, потому что все свои эмоции они растратили на то,
чтобы и самим страдать, и над мужьями измываться: «Я потратила на тебя свои
лучшие годы!» и т.д.
Допускаю, что и мужья эти были, прямо скажем, не подарок. Но и они, спра-
ведливости ради, не находили потом счастья. После стольких-то лет существова-
ния в патологическом браке (в котором они сами, со своей стороны, в равной
мере участвовали) это непросто. Но не наша задача решать, кто был здесь прав,
а кто виноват. Перед нами лишь факт — люди жили в долг, а потому счёт, пусть
и с большой отсрочкой, был выставлен им обоим.
Когда нищий берёт в долг у нищего — это почти всегда заканчивается поножов-
щиной.
Что ж, давайте с этим разберёмся. Прежде всего, по заведённой нами традиции
посмотрим правде в глаза. Разве кто-то из нас думает, что живёт в долг? Заме-
чали за собой подобное? Почти уверен, что нет. Мы даём в долг — где чувства,
где силы, а кому и средства. Мы даём! У нас берут! Мы привыкли так думать.
«Надо знать и помнить: наш мозг всегда и при любом удобном случае будет
создавать противоречия и прятать их от нас».
Хорошо, допустим. Но посмотрите на своих близких — они вами по-настоящему
довольны, вы делаете их счастливыми? Если да, то вы правы — они точно на вас
наживаются и в неоплатном долгу перед вами! Но боюсь, это не совсем так или
даже совсем не так.
Конечно, вам кажется, что это вы от них страдаете, а не они от вас.
Кто-то из них чёрствый и не нежный, кто-то вас и ваши чувства игнорирует,
кто-то не понимает, не ценит и не уважает, кто-то и вовсе откровенно пользу-
ется вами и «думает только о себе».
Они должны вести себя по-другому, правда? Они должны вам всё это — понима-
ние , уважение, нежность, любовь и т. д.
А знаете, почему вы так думаете? Потому что мы кажемся себе прекрасными!
Удивительными и замечательными! Просто находкой какой-то расчудесной!
А знаете, почему это не работает? Потому что они думают о себе так же. Все
вокруг уверены в том, что они — заветный приз, сказочный клад и счастье на
все времена.
Каждый из нас — как та кружка с логотипом университета: в два раза дороже
цены, которую другие готовы за неё заплатить. Причём мы бы и сами за неё
столько не дали, но вот на витрине ценник ставим будьте-нате! А к «распрода-
же» да «беспонтовым скидкам» не готовы ни при каких обстоятельствах.
Мы, на худой конец, на жертву можем пойти — отдать себя «за бесценок», а по
существу — одолжить. Только вот с другой стороны находится человек, который
абсолютно уверен, что цену он заплатил справедливую и реальную. Ну да, она в
два раза ниже той, что мы сами себе назначили, но кого интересуют наши тара-
каны?
Всё это, понятное дело, работает и в обратную сторону: ваш партнёр — друг,
любовник, супруг, сотрудник, коллега, начальник и т. д. — все в аналогичном
положении! Все в собственных глазах стоят в два раза дороже, чем мы готовы за
это заплатить и чем мы, понятное дело, за это платим. Конечно, они недовольны
— ещё бы! Мы их не ценим!
Так-то и образуются эти виртуальные долги: все товары на рынке переоценены,
никто за них платить эту цену не собирается, но жить-то надо — и начинаем
пользоваться. Типа в кредит, а там разберёмся. Ну и разбираемся потом с пеной
у рта и набором претензий космического масштаба и космической же глупости.
Понимаете, к чему я веду? Конечно, никто тут ни в чём не виноват. По край-
ней мере, сложно упрекнуть кого-то в коварном плане и умысле. Но так работает
наш мозг1, такова его игра с нами. Он втягивает нас в эти бесконечные пьесы и
неразрешимые конфликты. Это его кошки-мышки, а не наши друг с другом.
Если мы ввязались в эту игру, взялись за это перетягивание каната, у нас
нет шансов на нормальные и гармоничные отношения. А какая хоть сколько-нибудь
счастливая жизнь возможна без человеческого тепла? Мы же социальные животные,
в конце концов! Мы не можем без всего этого — без понимания, любви, поддерж-
ки , уважения и т. д.
И как быть-то? Теряюсь в догадках... Разве что двое сядут друг напротив
друга, посмотрят, наконец, правде в глаза и поймут, что вся их жизнь — кошмар
и ужас. Потом уже, войдя в разум, одновременно сбросят свои ценники, а сбро-
сив, обрадуются друг другу. Но что-то слабо мне в это верится, честно говоря.
И знаете почему?
Потому что мы находимся в заложниках у собственного мозга и не можем раз-
глядеть правды, которая лежит у нас перед самым носом! А ведь вопрос «цены» и
«долга» — это лишь одна проблема, впереди у нас ещё целый ворох и с десяток
скелетов по шкафам запрятано.
Да, «красная таблетка» горчит — кого-то от неё мутит, а кто-то вполне осоз-
нанно ей сопротивляется. Но поверьте: выбрать именно её — стратегически пра-
вильное решение. Хотя я не обещаю, что будет легко.
«Секрет
успеха»
Мы знаем, что Олимп — всего-навсего
холм, а Небеса наполняет разве что
водород или гелий.
Ален Бадью
Итак, готовы ли вы избавиться от иллюзии спасения и чистосердечно принять,
что помощи ждать неоткуда?
Если да, то, полагаю, вы уже узрели выход. Вы знаете теперь, что нужно де-
лать! Нужно взять себя в руки! Нужно брать свою жизнь в руки! Нужно, наконец,
засучив рукава, смело идти вперёд навстречу своему светлому будущему!
Если так, то вы сильно не в себе, и я начинаю за вас беспокоиться.
Судя по всему, вы перечитали книжек о том, как стать миллионером, а ещё
биографий «успешных» людей. Плюс насмотрелись воодушевляющих роликов на You-
Tube и наслушались чудовищной ерунды на дурацких тренингах личностного роста.
Всю эту ахинею пишут и пропагандируют производители «синих таблеток» — те,
кто обещает спасение. Поскольку иллюзия чудесного спасения глубоко засела у
нас в мозгах, подобная «разводка» стала чрезвычайно прибыльным бизнесом.
Просто подумайте об этом: не может быть (просто в природе не может быть!)
книги, которая рассказывает о том, как стать миллионером. Её бы не написали и
уж точно не напечатали бы. Её бы украли на полдороге!
Такими знаниями с кем угодно не делятся. Родственникам — может быть, друзь-
ям — теоретически возможно, но и то вряд ли. А всем? За каких-нибудь триста-
пятьсот рублей? Да никогда!
Ну, правда, если бы и существовал какой-то волшебный рецепт миллионерства
(что, конечно, полный абсурд и бред сумасшедшего) , то в мире давно бы случи-
лась тотальная инфляция, а все деньги превратились бы в черепки. И всё бы,
понятное дело, вернулось на круги своя: или в мир, где есть богатые и бедные,
или — как вариант — в мир с относительно равной бедностью для всех.
И это касается каждого пункта из приведённого мною «мотивационного» списка:
любое обещание лёгкой добычи — чистой воды надувательство.
Почему, задумайтесь об этом, «успешные люди» пишут автобиографии? Чего ра-
ди? Бывает, что такие авторы уже порядком поиздержались и пытаются подзарабо-
тать на былой славе. Но значит, и успех-то у них был, скажем прямо, так себе.
Песни сбитых лётчиков. Будем учиться у них жизни?
Бывает, за бравурную автобиографию берутся, чтобы потешить эго: не секрет,
что многие добиваются успеха именно из-за комплекса неполноценности. Все их
ошеломляющие достижения — лишь способ компенсировать подсознательное чувство
собственной ущербности. Дяденька уже вырос и даже постарел, а всё ещё доказы-
вает своей маме, папе, одноклассникам и девушке, которая его когда-то так оп-
рометчиво проигнорировала, что он чего-то стоит.
Понять человека, который жаждет получить такую, хотя бы и виртуальную са-
тисфакцию, наверное, можно. Но строить жизненные планы, ориентируясь на само-
любование «успешных нарциссов», — затея странная (если, конечно, вы не ищете
успеха в самолюбовании) . Да и успех у такого типа людей в некотором смысле с
душком. Чем поможет слава, если глубоко внутри ты всё равно страдаешь от не-
истребимого чувства собственной неполноценности?
Да и какой успешный человек напишет о себе правду? Вот многие, например,
считают меня «успешным» — богатый, собственный бизнес, был телеведущим, напи-
сал десятки книжек, есть какое-никакое общественное признание...
Но я никогда не напишу правды о том, каким образом я этого добился. Мне
вроде бы нечего стесняться (а поверьте, как правило, есть чего стесняться),
но я просто не знаю, что сказать. Наверное, я могу придумать какую-то более-
менее правдоподобную версию, но это будет именно версия, а не правда, и уж
точно не рецепт.
Если бы кто-то припёр меня к стенке и усадил бы всё-таки за подобную писа-
нину, я бы просто запутался. Всё же состоит из нюансов — едва заметных мело-
чей, совпадений, сказанных вовремя (или не вовремя) слов, действий, поступ-
ков, жестов... Как всё это объяснить? Как понять истинное значение того или
иного момента своей жизни?
Наконец, все эти рассчитанные на наивных людей призывы «поверить в себя»,
«заниматься саморазвитием», «сделать свою судьбу» и «невозможное возмож-
ным» . . .
Честно говоря, подобные мотивационные тренинги, которыми торгуют и коучи с
мировыми именами, и откровенные идиоты с аудиторией в три-четыре веб-подпис-
чика, сродни преступлению против человечности.
Вы никогда не задумывались, почему авторы подобных мантр и прочих «загово-
ров на успех» не уточняют смысла используемых ими слов?
Спросите их, если вдруг удастся схватить за полу пиджака: «А что, собствен-
но, вы имеет в виду, когда говорите — «себя»? Что это за «себя» такое? Рост,
вес, бицепсы, навыки скорочтения?». В общем, что конкретно в этом «себя»
предполагается «развивать» — какую-то конкретную способность? И если да, то
почему она не указана?
Или вот «судьба»2, например, про которую тоже любят рассказывать, — это что
такое? Божественное предназначение, рок или просто удачная карьера?
Ни на один из этих вопросов у «торговцев счастливым будущим» вы внятного
ответа не получите.
Технология зомбирования
По долгу профессии мне пришлось повидать множество сектантов — тех, кто по-
пал под влияние некой деструктивной организации, вербующей в свои ряды слепых
(а зачастую и воинственных) последователей.
2 Судьба - неисправимые последствия наших непродуманных действий и ошибок.
Конечно, это опять-таки вопрос веры, и всякий имеет право вступать куда-
либо или не вступать. Мы не вправе осуждать человека за его выбор. Но пробле-
ма с этими сектами в том, что люди оказываются в них не по доброй воле, а в
результате манипуляций с их сознанием.
Но сейчас мне вспоминается даже не мой психотерапевтический опыт, когда
приходилось помогать людям, пострадавшим от такого воздействия, а опыт в не-
котором смысле личный.
В начале 90-х на территории России действовало огромное количество сект:
«Белое братство», «Аум Синрикё», «Саентология» (она же Дианетика) и масса
других. Они действовали открыто, даже получали государственную регистрацию.
Никому и в голову не приходило, насколько всё это может быть опасно3.
Так вот, один из моих однокурсников, а мы тогда учились в Военно-медицинс-
кой академии, будучи в увольнении, заглянул на огонёк в Саентологический
центр. Как я уже говорил, счастливых людей среди нас не водится: каждый пере-
жил какие-то детские травмы, каждый чувствует себя недолюбленным, каждому ка-
жется , что к нему относятся хуже, чем он того заслуживает, и т. д. и т. п.
Это и есть наше с вами слабое звено. Именно оно — цель для атаки «торговцев
счастьем».
Славу (назову его так) попросили заполнить анкету. Пока он её заполнял, к
нему сначала подсел один человек, потом второй. Там вообще было многолюдно —
шум, ажиотаж, воодушевление. Но подсевшие к нему люди действовали не по зову
сердца. В этом суть технологии влияния — групповое социальное воздействие.
Слово за слово — и Слава почувствовал, что его понимают. Впервые в жизни!
Этим незнакомым людям он был по-настоящему интересен, они видели в нём неор-
динарную личность, глубокого человека. А ещё они говорили «всё как есть»,
«чистую правду» — его не ценят, а он заслуживает того, как никто другой!
Из этого увольнения Слава прилетел в расположение роты как на крыльях. Он
всё понял! Всё осознал! Всё в его жизни встало на свои места! Да, все его
родственники, однокурсники, друзья — конченые дебилы, которые не видят, на-
сколько он прекрасный и выдающийся человек! А ведь это так очевидно — даже
незнакомые люди с первой минуты разглядели в нём невероятный потенциал!
Слава много мне про это тогда рассказывал — видимо, я не казался ему худшим
из представителей его прошлой жизни. А эта жизнь действительно оказалась для
него в прошлом. Он принялся штудировать «Дианетику», все увольнения проводил
на собраниях секты, а потом и вовсе подал рапорт и отчислился из академии,
уволился из Вооружённых сил.
Через пару лет мы узнали, что он работает водителем троллейбуса. Вроде как
за строптивый нрав (такой грешок за ним водился всегда), а может, и по каким-
то другим причинам его из секты выгнали. Через какое-то время, впрочем, снова
взяли обратно, и он даже сделал там кое-какую «карьеру». Видимо, ударившись
оземь, понял, как этот зомботрон работает, и на чём в этой индустрии зараба-
тывают : да, на обычном человеческом мясе — фарше головного мозга.
С тех пор я придерживаюсь строгого правила: когда говоришь что-то, помни о
значении каждого своего слова. Тогда, кстати, нетрудно заметить, что в выска-
зывании : «Все дебилы!» первое слово — «все». Включая, соответственно, и того,
кто изрекает эту невероятную «мудрость».
Так что, принимая решение под воздействием подобного «откровения», лучше
подумать дважды.
Если вся эта чушь, которую несут пророки личностного роста, не была бы чу-
шью, то её эффективность давно бы доказали в научных экспериментах и системно
3 В 1995 году адепты «Аум Синрикё» устроили террористический акт в токийском метро.
Погибли люди, многие тяжело пострадали от отравления зарином.
преподавали в университетах. Но в приличных учебных заведениях ничего подоб-
ного, как известно, не наблюдается.
Да, и в хороший университет может заехать с гастролью духоподъёмный лектор.
Но именно заехать, как прививка своего рода. Думаю, и преподаватели будут ра-
ды чуть передохнуть, и студентам развлечение. Но само по себе это не работа-
ет .
«Все вокруг уверены в том, что они — заветный приз, сказочный клад и сча-
стье на все времена».
Правда в том, что от произнесения слова «халва» во рту слаще не становится.
Точнее, слаще стать может — за счёт самогипнотического эффекта, но вот глюко-
зы в организме точно не прибавится — это факт медицинский. А если реального
эффекта нет, то зачем тогда это всё?
Что ж, надеюсь, мне удалось продемонстрировать тупик. Потому что это он и
есть, самый настоящий: спасение не придёт, а расчёт на собственные силы — это
наивная глупость, демонстрирующая полное непонимание фактического положения
дел.
О чём, собственно, я и считаю своим долгом сообщить далее...
Вопреки
здравому
смыслу
Из того, что мне — или всем — кажется,
что это так, не следует, что это так и
есть. Но задайся вопросом, можно ли
сознательно в этом сомневаться?..
Людвиг Витгенштейн
Нам лгут о природе человека, о мотивах его поведения, о том, что мы есть на
самом деле.
Чтобы проиллюстрировать этот факт, я начну с нехитрого научного эксперимен-
та, который по идее должен был перевернуть все наши представления о человече-
ской природе с ног на голову.
В далёких пятидесятых годах прошлого века молодой физиолог Бенджамин Либет
подрядился работать в нейрохирургическом отделении одной из больниц Сан-
Франциско . Ему не терпелось проводить эксперименты на открытом мозге, а един-
ственный способ пробраться человеку в голову — это нейрохирургическая опера-
ция.
Уточнение
Операции на мозге проводятся без общего наркоза: пациент должен постоянно
находиться в сознании, чтобы хирург мог с ним разговаривать и понимать, какие
участки мозга он удаляет.
Это никакое не живодёрство, как можно, наверное, подумать. Дело в том, что
в нашем мозгу нет болевых рецепторов, а поэтому с ним можно делать, в принци-
пе, что угодно. Больно только коже во время разреза, а её неплохо обезболива-
ют с помощью обычного новокаина.
Так что именно нейрохирургические операции «на открытом мозге», во время
которых проводились дополнительные эксперименты, и открыли его нам не только
в прямом, но и в переносном смысле этого слова.
Итак, Либет получил доступ к живым человеческим мозгам. Он прикладывал к
ним электроны и измерял скорость реакции, пытаясь понять, через какое время
после электрического импульса произойдёт то или иное мышечное сокращение в
теле пациента.
И тут выяснилась удивительная несообразность — оказалось, что задержка меж-
ду импульсом и движением составляет более половины секунды. Это достаточно
большой промежуток. Но где же в этот момент находится сознание человека? Неу-
жели он этой паузы не замечает?
Тогда Либет сконструировал специальную машину. Один датчик он подвёл к го-
лове испытуемого (там располагался шлем с электродами), а второй прикрепил к
запястью.
Подопытный смотрел на большой белый циферблат, по которому двигалась зелё-
ная точка, и должен был засечь тот момент, когда примет решение сознательно
пошевелить кистью.
В результате Либет получил три показателя:
■ время, когда человек решил пошевелить кистью («зелёная точка»);
■ время, когда его мозг возбудился, чтобы пошевелить кистью (информация со
шлема);
■ время, когда кисть действительно шевельнулась (датчик на запястье).
Эксперимент Либета.
Какой, как вам кажется, была последовательность этих «времён»? Если следо-
вать здравому смыслу, сначала человек принимает сознательное решение пошеве-
лить кистью, затем его мозг даёт телу соответствующую команду, и уже после
этого должно произойти движение. Но эта логика неверна, по крайней мере, от-
носительно первых двух пунктов.
Либет показал, что мозг принимает решение раньше нашего сознания.
Когда мозг уже принял решение пошевелить рукой, сознание ещё не в курсе
этого решения мозга. Проходят те самые полсекунды (!), и наше сознание узнаёт
о том, что оно должно подумать (именно в этот момент испытуемый отмечал поло-
жение зелёной точки). Потом ещё 0,2 секунды, и реагирует датчик на запястье —
мышца сократилась.
Ерунда, правда? Какие-то полсекунды между реакцией мозга и реакцией созна-
ния ! Может быть... Только вот Ватикан собрал после этой «ерунды» специальную
конгрегацию, пытаясь понять, что теперь делать с вероучением, если научно до-
казано , что никакой свободы воли не существует.
Да, исследование Либета было сродни открытию гравитации, эволюции, атома
или радиоактивного излучения. Шутка ли — поведением человека управляет не его
сознание, как мы всегда думали, а его мозг. Причём сам по себе, в обход того
самого сознания!
Эксперимент Либета с научной точностью доказал, что мы не властны над своим
поведением. Да, теоретически у нас есть 0,2 секунды, когда мы можем остано-
вить уже запущенное нашим мозгом действие.
Но ведь и эти 0,2 секунды — тоже условность. Чтобы остановить запущенное
мозгом действие, нужно принять соответствующее решение. А кто его примет в
столь сжатые сроки, если сознание всегда запаздывает на 0,5 секунды? Всё тот
же самый мозг, сам по себе.
Конечно, эксперимент Либета не был единственным, он лишь дал мощный старт
будущей научной революции. Впоследствии были проведены тысячи экспериментов —
причём и сторонниками теории, и её противниками.
Но установленный факт стоит как скала: всё, что вы думали о значении своего
сознания в собственной жизни, — чушь, забудьте!
Одно из последних исследований на эту тему, проведённое уже с помощью функ-
циональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) в Институте когнитивной
психологии и нейрофизиологии им. Макса Планка в Лейпциге, показывает, что,
регистрируя активность мозга, мы уже за семь секунд можем сказать, что сейчас
человек — через семь секунд! — решит сделать. Точнее, что он осознает как
своё решение, которое на самом деле уже принял его мозг.
Думаю, это сложно осознать. И подозреваю, что вы до сих пор не осознаёте
этого по-настоящему. Сложно и понять, и принять. Это противоречит «здравому
смыслу». Но в том-то всё и дело, что у нас нет никакого «здравого смысла»!
Нам только кажется, что он у нас есть.
Правда в том, что всеми нашими «смыслами» заведует наш мозг, а вовсе не
сознание, о котором мы привыкли говорить с благоговейным трепетом.
В остальном же я, честно говоря, не совсем понимаю — то ли это действитель-
но заговор Ватикана, то ли мы и вправду страдаем массовой идиотией?..
Наука уже почти полвека знает, что поведение любого из нас регулируется по-
лукилограммовой желеобразной биомассой, в которой даже болевых рецепторов
нет, а нам продолжают рассказывать, что мы сознательные и разумные существа!
Так заговор или идиотия?
Вспомните, сколько раз вы винили себя за решения, которым тараканы в вашей
голове аплодировали стоя? Сколько раз вы корили себя за ошибки и промахи?
Сколько раз вам приходилось оправдываться за свои поступки? Оказывается, всё
было зря.
Нобелевская премия
В 2002 году психологу Даниелю Канеману выдали Нобелевскую премию за иссле-
дование, в котором он (вместе с покойным Амосом Тверски) со всей очевидностью
доказал, что даже экономические агенты, принимая важнейшие решения, действуют
предельно иррационально.
Внимание: люди, которые решают, как распорядиться колоссальными деньгами,
акциями, всяческими фьючерсами и деривативами, бесконечно тупят и делают глу-
пости !
А ведь это не какие-то умственно отсталые субъекты из специнтерната. Их
ведь в университетах «Лиги Плюща» учили, они МВА по нескольку раз заканчива-
ли! Но всё это совершенно не мешает им оставаться рабами той самой биологиче-
ской машинки, которая спряталась в их черепных коробках.
Экклезиаст говорил: «Если Бог хочет наказать человека, он лишает его разу-
ма» . Но чтобы лишить нас разума, мы, по идее, должны его иметь. А таковой,
как выясняется, днём с огнём не обнаруживается!
Стоит ли теперь удивляться, что одной из первых профессий, которую уже со-
всем скоро начисто уничтожит искусственный интеллект, станет профессия бирже-
вого брокера? Да уж, куда надёжнее доверить деньги машине, чем финансовому
аналитику, искренне считающему, что он хорошо разбирается в том, о чём гово-
рит.
Английская
королева
Сам себя провозглашающий порядок явля-
ется только прикрытием хаоса.
Теодор Адорно
Но перейдём от высокой науки к быту и практике.
Почему мы приняли решение получить ту профессию, которую мы получили (или
которой обучаемся сейчас), а не какую-то другую? Почему наш круг общения со-
стоит именно из тех людей, из которых он состоит, а не из каких-то других?
Почему мы влюбились в того человека, в которого влюбились, а не в кого-то
другого? Почему мы создали брак со своим нынешним партнёром, хотя, очевидно,
были и другие варианты?
Нам кажется, что всякий раз мы действовали разумно, осмысленно, продуманно.
Но нам только так казалось.
Соответствующее решение принимал и продолжает принимать наш мозг. Причём
это воронка: сначала мозг принимает какое-то решение, а потом сам же и адап-
тируется к его последствиям.
Да, он в буквальном смысле физически перестраивается! Перестраивается и на-
чинает считать принятое им решение не только правильным, но и единственно
возможным. Вот уж действительно Матрица, из которой без помощи какого-нибудь
сказочного Морфеуса не убежать!
А надо ли объяснять, что изменения, произошедшие в структуре нашего мозга,
влияют на все его последующие решения? Не так-то просто свернуть с пути, если
мы уже покатились по наклонной: не важно — в личной жизни, в профессиональ-
ной, в области человеческих отношений или пагубных пристрастий.
«Либет показал, что мозг принимает решение раньше нашего сознания».
Более того, даже наше хвалёное мировоззрение — то, что мы считаем интимным,
душевно прожитым и глубоко продуманным (а потому сознательным и осознанным),
— точно такая же программа в голове. Да, это вполне определённое сцепление
вполне определённых нейронов друг с другом: наше отношение к жизни — это не
то, что мы думаем, а то, какие связи создал наш мозг.
Все наши мысли, мировоззренческие установки и прочий интеллектуальный сор
являются лишь автоматизмами нашего мозга. По сути, это просто глупые рефлек-
сы, которые только кажутся нам «сознательным выбором» и «осмысленными реше-
ниями» .
Так случилось, что когда-то мы попали под воздействие именно тех идей, ко-
торые стали затем нашим мировоззрением. Мы, движимые всё тем же самым мозгом,
нашли этим идеям «доказательства», воспользовались ими как жизненной страте-
гией — и всё, наш мозг под них перестроился.
Теперь, сколь бы разумными мы себе ни казались, наш мозг ищет и отмечает
только те факты, которые доказывают его правоту, и напротив — все, что его
установкам противоречит, он жёстко игнорирует.
Дальше уже только дело случая: если «повезёт», нас шарахнет обо что-нибудь
со страшной силой, жизнь развалится на куски, и мы, возможно, соберем её как-
то по-новому. Но сам по себе наш мозг не будет производить революций — он
прокладывает колею, по которой мы затем лишь катаемся туда-сюда, как шары в
кегельбане.
И уже не важно, о чём именно идёт речь — о привычке выпивать с друзьями по-
сле работы или съедать по три пиццы в день, часами сидеть в интернете и скро-
лить ленту в социальной сети или играть в компьютерные игры, сёрфить сайты с
порнографией или быть заядлым кантианцем, верить в бога или макаронного мон-
стра . Не важно, о какой привычке, о каком стереотипе идет речь. Нас уже пой-
мали! И мы зависимы.
Только поймите правильно: мы зависимы не ото всей этой конкретной ерунды
(это было бы слишком просто) , мы зависимы от собственного мозга. У нас даже
права голоса нет! Наш мозг придумывает его за нас. Причём ещё до того, как мы
сознательно решим высказаться...
Наша личность, наше сознание и вообще всё, что мы о себе думаем, — это лишь
бутафорский наряд, это английская королева, которая царствует, но не правит.
Мы не только послушно соглашаемся с тем, что вытворяет наш мозг, мы даже не в
курсе, что это не мы так решили, не наше сознательное «я»!
Наше недалёкое будущее
Допускаю, что для кого-то всё это звучит как полный бред. Но мне, призна-
юсь , подобных «психиатров» искренне жаль.
Можно сколько угодно прятать голову в песок, но правда всё равно обнаружит-
ся.
Данные современной науки радикально меняют наши представления о человеке,
его личности и сознании. Иногда мне даже кажется, что их специально от нас
скрывают, чтобы не вызвать общественный переполох с последующими бунтами, ре-
волюциями и «утратой всех ценностей».
Впрочем, в заговоры я не верю, и понятно, что ничего от нас не скрывают.
Проблема в том, что мы не можем поверить в факты, которые противоречат нашей
интуиции, нашему сознательному опыту, нашим традиционным представлениям. Мы
верим своим глазам, а не научным фактам. И конечно, понятия не имеем, на-
сколько наши глаза нам врут.
Так или иначе, но будьте уверены, что эти научные данные о человеке и его
поведении не лежат без дела. Пусть обыватель их не понимает, пусть пребывает
в простодушном неведении, серьёзный бизнес активно использует научные откры-
тия в своих целях. Нейромаркетинг — хороший тому пример.
Ещё лет десять тому назад производители потребительских товаров или, напри-
мер, кинофильмов собирали фокус-группы, чтобы протестировать на потенциальных
потребителях новый продукт. Участники тестов «пробовали» товар, а затем рас-
сказывали, что им в нём нравится, а что не нравится, и всё это учитывалось —
производители доводили товар до ума и выводили его на рынок.
Впрочем, даже такой глубокий, персонализированный и всесторонний анализ по-
требительских предпочтений не давал почему-то значимого эффекта, то есть не
влиял на результаты продаж. Иногда случалось даже наоборот: фокус-группе то-
вар или фильм нравился, а в рознице и в прокате — полный провал!
Впрочем, вы теперь уже знаете, почему такие фокус-группы были неэффективны.
Примерно десять лет назад это было доказано в специальном эксперименте.
Молодых людей помещали в аппараты фМРТ и давали им прослушать серию музы-
кальных треков малоизвестных исполнителей. Все треки были новые и дожидались
официальных релизов.
Испытуемые должны были выбрать те музыкальные композиции, которые, по их
мнению, имеют все шансы стать лидерами продаж и занять высшие строчки в музы-
кальных рейтингах. Молодые люди, как вы понимаете, делали свой выбор созна-
тельно , по здравому, так сказать, разумению.
Но учёные знали не только о сознательном выборе испытуемых, но видели и то,
какие треки нравились их мозгу.
Выяснились две вещи. Во-первых, список тех треков, которые понравились ис-
пытуемым, и список тех треков, которые понравились их мозгу, не совпадали. Но
это полбеды.
Прошёл год, и учёные сравнили прогнозы с реальностью. Выяснилось, и это,
во-вторых, что лидерами хит-парадов стали те музыкальные композиции, которые
понравились мозгу испытуемых, а не те, которые они предпочли на уровне созна-
ния.
Так что теперь, если крупный бизнес хочет понять, каковы шансы у нового
продукта на успех, он больше не проводит фокус-группы и не устраивает опросы
потенциальных потребителей. Он засовывает их в сканеры и узнаёт, что обо всём
этом думает их мозг1. Это важно, а не наше с вами «мнение».
Да, наши «представления о прекрасном» уже больше никого не интересуют. Их
можно смело засунуть куда подальше — беды не будет, никто слезы не уронит.
Решение о покупке, просмотре или прослушивании принимает наш мозг, а не мы
сами.
Впрочем, это касается всех «наших» решений: сознание просто соглашается с
выбором мозга и даже не замечает, как сваляло дурака.
Вы только вдумайтесь и признайтесь себе в этом: до сих пор за всю вашу
жизнь вы не приняли ни одного самостоятельного решения! Все решения принял
ваш мозг. Ваше сознание лишь подмахивало. Вам лишь казалось, что вы действуе-
те в своих интересах, а на самом деле вы действовали исключительно в интере-
сах вашего мозга.
«Сначала мозг принимает какое-то решение, а потом сам же и адаптируется к
его последствиям».
Почему, как вы думаете, настолько сложно принять волевое решение, даже если
речь идёт о совершенно, казалось бы, простых вещах — бросить курить, начать
бегать по утрам? А вот в других случаях, когда речь идёт о действительно
сложных вещах — например, о желании победить всех соперников в Warcraft, — вы
легко на это подписываетесь?
Всё просто: в одних случаях наш мозг чего-то хочет, а в других — нет. И
можно себя уговаривать, придумывать уловки, но правда в том, что пока ваш
мозг сам чего-то не захочет (например, испугается вдруг инфаркта и подумает,
что сигареты с ним как-то связаны), вы сами ничего сделать с его привычками
не можете.
Так что пусть всё это звучит горько и нелицеприятно, но такова правда жиз-
ни. Поэтому, пожалуйста, отложите чтение и просто пораскиньте мозгами — ни
одно ваше решение на самом деле никогда не было вашим. Никогда и ни одно!
Таков закон. Вы — не исключение. Ни вы сами, ни ваши близкие, ни ваши роди-
тели, ни ваш начальник, ни даже (прости господи!) начальник всех начальников
— никогда не принимали собственных решений. Поэтому, возможно, и к ним тоже
есть ряд вопросов.
Но сейчас важны не они с их глупостями, а вы и ваша жизнь. А что она, если
вы даже не в курсе того, что ваши решения вам навязаны? И не какой-нибудь
Госдеп их вам надиктовал, и не Высший Разум, а ваш собственный мозг, который
вы до этого момента вообще в расчёт не принимали!
Это так. Подумайте:
■ Почему в вас столько благородных порывов, но почти все они остаются на
словах?
■ Почему вы никак не можете принять важное решение, хотя «давно пора», а
время безвозвратно уходит?
■ Почему вы знаете, что с вредными привычками надо завязывать, но вы не за-
вязываете?
Ответ всякий раз будет одним и тем же: нужного решения не принял ваш мозг.
Думать мы можем, конечно, всё, что нам заблагорассудится, — мечтать, витать
в облаках, строить планы и даже записывать их в бесчисленные ежедневники. Но
действовать мы будем только по команде нашего мозга.
Это он должен созреть к решению, он должен к нему подготовиться, он должен
решиться. Но жизнь — это не нейрохирургическая операция, и у нас нет к собст-
венному мозгу прямого доступа. И как воздействовать на него — большой вопрос.
Ну что, вам до сих пор кажется странным, что ваша жизнь не такова, какой вы
хотите её видеть? Тогда вы ещё ничего не поняли. Перечитайте эту главу.
Машина вместо сознания
Есть такая легендарная личность в сфере компьютерных технологий — Рей Курц-
вейл. Это он создал первый музыкальный синтезатор и первым научил компьютеры
распознавать человеческую речь. А ещё он сформулировал «закон ускоряющейся
отдачи», который позволяет ему предсказывать будущее4.
Прогнозы Курцвейла сбываются с устрашающей точностью: он предсказал, когда
появятся телефоны с bluetooth, заработает синхронный компьютерный перевод,
сделают Siri, придумают 3D-видео и очки с дополненной реальностью, создадут
суперкомпьютер IBM Watson, запустят гугловские машины без водителей и т. д.
Так вот, сейчас Курцвейл работает над созданием помощника, «способного от-
вечать на вопросы ещё до того, как вы их сформулируете». Это цитата.
Теперь вы знаете, что это не абсурд. Такой «помощник» действительно скоро
появится. Только вот помогать он будет не нам с вами, а нашему мозгу. Может
быть, это и неплохо, но что тогда останется от нас с вами? В какой угол за-
бьётся наше сознание, когда осознает свою ненужность? Можно только догады-
ваться .
Что ж, я предпочитаю признавать факты до того, как они прижмут меня к стен-
ке . И да, мне всё ещё хочется его иметь. И да, несмотря на всё сказанное, я
думаю, что шанс на это у нас ещё есть.
Просто мозг
не дурак
Подсознание может сочинить симфонию, но
оно не в состоянии умножить 173 на 19.
Ричард Нисбетт
Если вы решились читать дальше, то у вас, должно быть, назрел вопрос: как
так получается, что наше сознание не участвует в принятии решений, но мы при
этом умудряемся всё-таки, хотя бы время от времени, делать что-то «осмыслен-
ное»?
Ничего удивительного в этом нет. Просто наш мозг не дурак. Всё, что я хочу
сказать, — это то, что мы не принимаем свои решения сами, по-настоящему осоз-
нанно . Но это вовсе не означает, что мы не можем принять правильных и хороших
решений.
Двое голландских учёных — Ал Декстахаус и Лоран Нордгрин — провели следую-
Согласно этому закону развитие технологий происходит экспоненциально. По сути, это
расширение знаменитого «закона Мура», который описывает только феномен удвоения про-
изводительности процессоров, что, по его мнению, говорит в пользу технологической
сингулярности.
щий эксперимент. Они сформировали три группы студентов, которым предлагалось
выбрать самую хорошую квартиру из четырёх возможных вариантов.
У каждой квартиры были свои плюсы и минусы. Какая-то, например, находилась
в хорошем районе, а у другой был недружелюбный хозяин. При этом один из вари-
антов был точно лучше всех остальных — семь положительных характеристик, три
нейтральные и три негативные.
Первая группа студентов должна была сделать выбор немедленно — сразу после
того, как они ознакомились с вариантами. Второй группе давали три минуты на
обдумывание.
Третья тоже получала три минуты, но думать над выбором участники этой груп-
пы не могли, потому что в эти же три минуты они должны были потратить на ре-
шение математических задач.
Что ж, сделаем прогноз: какая группа студентов осуществила наилучший выбор?
Конечно, в голову сразу приходит ответ — та, что получила время всё обдумать.
Но мы с вами уже знаем, что «здравый смысл» — лишь иллюзия. И мы правы. Пред-
ставители этой группы приняли самые скверные решения!
Второе почётное место в этом соревновании, вы верно удивитесь, заняла груп-
па, где студенты должны были дать ответ немедленно. А вот самые хорошие ре-
зультаты — и это уж точно фантастика — были в той группе, где мозгам испытуе-
мых дали время на раздумье, а вот их сознаниям — нет.
Да, в этом своеобразном соревновании выиграла группа, участники которой на-
правили своё сознание на решение математических задач, а у мозга было три ми-
нуты спокойно (то есть без вмешательства сознания!) прокрутить варианты и
принять взвешенное решение.
Нет ничего удивительного в том, что наш мозг способен принимать неплохие
решения. Эволюция трудилась над ним миллионы лет и, как мы видим, неплохо в
этом преуспела. Но есть две проблемы.
Первая: в своих решениях наш мозг всё-таки очень примитивен — эгоистичен,
зачастую недальновиден и действует по преимуществу инстинктивно. Мир, в кото-
ром нам приходится жить, для него слишком сложен.
Вторая проблема: мы чересчур доверяем своему сознанию, а именно с его помо-
щью наш мозг умело прикрывает любую свою глупость красивыми формулировками и
«мудрыми» объяснениями. По сути, сознание санкционирует то, с чем, по уму,
должно было бы бороться.
Случай из психотерапевтической практики
История этого мальчика глубоко врезалась мне в память. Илье (буду называть
его так) было около шестнадцати, когда мать привела его ко мне на приём. Но
выглядел он в лучшем случае лет на четырнадцать: маленький, даже миниатюрный
— возможно, из-за того, что героин он начал принимать в двенадцать.
Если вы когда-нибудь имели дело с героиновыми наркоманами, вы знаете, на-
сколько ужасна эта зависимость. Нет ничего, что могло бы остановить такого
человека: чтобы получить очередную дозу, он готов воровать, обманывать и со-
вершать куда более тяжкие преступления. Только бы найти возможность сделать
очередной укол.
Последние полгода отчаявшаяся мать уже не выпускала Илью из дома. А когда
ей нужно было отлучиться, она приковывала его наручниками к батарее. Эта, по
сути, полная изоляция от внешнего мира позволила Илье пережить ломку и чуть-
чуть прийти в себя, но его мозг не излечился и был полностью подконтролен
наркотику.
Несмотря на свой анамнез, он оказался пронзительно умным и тонким челове-
ком.
— Я, понятно, ничего сейчас не принимаю, — говорил Илья, уставившись куда-
то в центр моего рабочего стола. — Но если вы положите передо мной шприц, всё
прочее потеряет значение...
Во всём его образе был какой-то страшный, пугающий диссонанс: почти детское
лицо, красивое, будто бы он только что сошёл с картины Боттичелли, и то буду-
щее, которое с неизбежностью ждало его впереди. Мальчик, обречённый на
смерть.
— Знаете, — сказал он в какой-то момент, — вот все говорят: «Зависимость,
зависимость»... Но ведь никто не понимает, что это такое. Мне говорили, что
после одного раза зависимость не возникнет. И я попробовал. Да, оказалось,
зависимости нет. И я попробовал второй раз. Нет зависимости. Попробовал тре-
тий , четвёртый... Нет! А оказывается, это и была зависимость.
Мы можем что угодно думать о своём сознании, у нас может быть сколь угодно
блистательное сознание. Но оно бессильно в принятии решений, даже если на ко-
ну стоит наша жизнь. Это сознание сказало Илье: «После первого раза зависимо-
сти не будет». И он поверил, и он жестоко ошибся.
В науках о человеке совсем недавно произошла ещё одна глобальная революция.
Но, как часто бывает в таких случаях, учёные толком своего открытия не объяс-
нили, а общественность, «потому что сложно», не заинтересовалась. Ну и про-
пустили , может быть, главное открытие со времён экспериментов Бенджамина Ли-
бета.
В 1997 году нейрофизиолог Гордон Шульман озадачился вопросом: а где, собст-
венно, то место в нашем мозгу, что отвечает за наше осознанное мышление?
Казалось, выяснить это просто. Нужно засунуть человека в томограф, ввести
ему в кровь контрастное вещество и посмотреть, какие зоны его мозга будут ак-
тивизироваться, когда он решает ту или иную задачу5.
Собственно, Шульман именно это и делал — вводил в кровь контраст, включал
томограф и давал испытуемым решать задачи... Он провёл сотни тестов, но ре-
зультат был фактически нулевой: у людей, решающих разные задачи, активизиро-
вались разные зоны мозга.
То есть никакого конкретного центра сознания в мозгу не существует! Но со-
гласитесь , это странно, ведь мы столько слышали про кору головного мозга, про
лобные доли, мы знаем, что такое концентрация внимания, сосредоточенность...
«Ни одно ваше решение на самом деле никогда не было вашим. Никогда и ни од-
но».
Наконец, мы же чувствуем собственное внимание как некую концентрацию. Поче-
му в таком случае мозг не демонстрирует никаких системных паттернов активно-
сти, а сияет, несмотря на нашу сосредоточенность, как какая-то пьяная ново-
годняя ёлка?!
Разгадка пришла, откуда не ждали. Шульман перепроверил свои протоколы и об-
ратил внимание на одно загадочное обстоятельство. Да, когда испытуемые решали
задачи, их мозг вёл себя как попало. Но временами возникали технические паузы
— например, Шульману нужно было подобрать и вывести на экран очередную партию
задачек. И именно в этих промежутках мозг испытуемых начинал работать как
единый и слаженный организм!
То есть, как только мозг человека не отвлекался на решение каких-то созна-
тельных задач, он начинал работать синхронно — активизировался целый ряд од-
них и тех же зон мозга. Таким образом, Шульманом была выявлена целая структу-
ра «пассивного мышления», состоящая из десятка областей!
Дальше забавно: результаты этого исследования были опубликованы в научном
журнале, но как «курьёз» — лучшие эксперты в области нейрофизиологии сочли
5 Такой сознательной задачей может быть хоть решение математических примеров, хоть
систематизация картинок по определённому признаку, хоть чтение сложного научного
текста.
данные Шульмана банальной ошибкой, неточностью исследования и вообще антина-
учной ересью.
Впрочем, на всякого Галилея находится и свой Джордано Бруно: в 2001 году
Маркус Рейчел объявил исследование Шульмана фундаментальным прорывом в пони-
мании человеческого сознания и сформулировал теорию того самого «пассивного
мышления», которая получила название «дефолт-система мозга» (ДСМ).
С тех пор количество сложнейших научных экспериментов, посвященных ДСМ, пе-
ревалило уже за десять тысяч! Это одно из самых бурно развивающихся направле-
ний нейрофизиологии и нейропсихологии.
Выяснилось, что именно эти мозговые структуры (являющиеся, по сути, нашим
подсознанием) отвечают за то, как мы организуем воспринимаемый нами мир, как
мы строим свои отношения с другими людьми и какие решения в конечном счёте
принимаем.
Появилось ясное объяснение того, почему, например, Дмитрию Менделееву дей-
ствительно могла присниться его таблица периодических элементов. И, видимо,
совсем не случайно Анри Пуанкаре утверждал, что лучшие математические откры-
тия производит его «подсознательное я», а Моцарт и Пикассо были уверены, что
образы их произведений приходят к ним откуда-то «свыше».
Нам кажется, что у нас прекрасный разум (и что он у нас вообще есть), и ес-
ли мы его как следует напряжём, то обязательно создадим что-нибудь великое.
Но это иллюзия.
По-настоящему великое способен создать наш мозг, а всё, что может наше соз-
нание, так это неплохо выполнять узкоспециализированные задачи (и только если
в его арсенале есть соответствующие алгоритмы) — решает, например, математи-
ческие примеры и классифицирует карточки по заданию экспериментатора.
Как же заставить своё подсознание — свой мозг — работать на себя?..
Иллюзия
сознания
Человека легче обмануть, чем убедить
его, что он обманут.
Марк Твен
Наш мозг не такой уж плохой агрегат, но чтобы он создал нечто реально стоя-
щее или решился на что-то по-настоящему грандиозное, он должен быть введён в
соответствующее состояние. Он должен быть к этому подготовлен.
Естественно возникает вопрос — как этого добиться, если наше сознание, по
существу, совершенно подчинено нашему мозгу и является его частным производ-
ным? Понятно, что мы, при всём желании, не можем управлять им напрямую. Он
управляет нами, мы им — нет.
Давайте для начала попробуем уяснить главное: сознание нельзя переоцени-
вать . Его «невероятные возможности» — миф. Глупо им кичиться, не нужно петь
ему осанну.
Да, отношения у сознания с мозгом крайне запутанны, но наши представления
об этих отношениях — это и вовсе одно сплошное недоразумение.
Вот вам простой пример — один из бесчисленного множества психологических
опытов, поставленных с целью изучения данного вопроса.
Испытуемому показывают на экране две яркие точки разного цвета — например,
жёлтого и зелёного. Если точки отстоят друг от друга на небольшом расстоянии,
а промежуток между включением этих точек на экране около 100 миллисекунд, то
человек воспринимает движение с превращением — словно бы жёлтая точка перебе-
гает в место соседней и сама становится зелёной. Это так называемый эффект
стробоскопического движения.
Что же происходит на уровне субъективного восприятия? Нам кажется, что по-
середине линии «движения», которого на самом деле нет, точка превращается из
жёлтой в зелёную.
Но как такое возможно, если вторая — то есть зелёная — точка нам ещё даже
не предъявлена? Мы же не могли увидеть её раньше, чем она в реальности заго-
релась в том месте, где «путь» жёлтой точки должен был закончиться!
Иначе говоря, почему направление движения этого «луча» и его конечный цвет
известны нам раньше, чем загорелась вторая точка — в соответствующем месте и
соответствующего цвета?
У учёных есть одно-единственное объяснение: на самом деле то, что мы видим
и осознаём, является лишь интерпретацией уже случившихся для нашего мозга со-
бытий .
Я понимаю, что непросто себе такое представить, но давайте осознаем, что
происходит: наш мозг фиксирует, как загорелась одна точка, потом вторая, и
связывает эти явления. Дальше он показывает нашему сознанию «движение», кото-
рое он сам и придумал!
При этом наше сознание безоговорочно принимает эту иллюзию за чистую моне-
ту. Нам показали две разные точки в двух разных местах, загорающиеся в разное
время, а мы придумали целую историю о путешествии меняющего цвет светового
луча и даже «увидели» его.
Всё это не имеет никакого отношения к реальной действительности, но мы ни-
чуть не сомневаемся в истинности собственного «видения»!
Вы скажете, что, возможно, это связано только с феноменом зрительного вос-
приятия. Но как в таком случае вы слышите мелодию целиком, ведь и ноты — эти
звуковые «точки» — звучат для вашего мозга последовательно, одна за другой?
Вы можете сказать, что проблема в коротких промежутках времени. Мол, на бо-
лее значительных временных отрезках подобных промахов сознание не допустит и
соответствующие парадоксы исключены.
Хорошо, я приведу данные эксперимента, который не имеет никакого отношения
к непосредственному восприятию — ни звуковому, ни слуховому — и был реализо-
ван с большим интервалом по времени.
Авторы исследования — два американских психолога Джордж Гетелс и Ричард
Рекман — провели анкетирование старшеклассников по поводу «басинга»6.
Подростки высказывали своё мнение — как лучше: если белых и чёрных ребят
будут развозить по домам на разных автобусах или если это будет один общий
автобус, вне зависимости от цвета кожи школьников?
Через две недели экспериментаторы организовали второй этап исследования.
Подростков разделили на группы по четыре человека, причём в каждую на сей раз
входил «агент влияния». «Агент» действовал по заданию экспериментаторов, и у
него был целый набор бронебойных аргументов в пользу того или другого вариан-
та — или для отдельных автобусов, или для общего.
Надо сказать, что эта аргументация в подавляющем количестве случаев подей-
ствовала — практически в каждой группе подростки склонились к позиции, кото-
рую предлагал им соответствующий «агент влияния». Но не это главное и не в
этом суть...
Наступил черёд третьего этапа, и вот тут-то начинается самое интересное.
Психологи собрали ребят на повторное анкетирование, но предупредили, что
будут сравнивать его результаты с предыдущим опросом двухнедельной давности.
И что же? Практически все дети, которые поменяли свою точку зрения на про-
6 Школьный «басинг» — обычное явление для американских школ. В одноэтажной Америке
многие дети живут далеко от школы, а поэтому их забирает в школу и развозит по домам
специальный автобус. Но опрос мог касаться чего угодно — на результаты, о которых мы
будем говорить, это бы не повлияло.
тивоположную, утверждали, что всегда придерживались именно этой — на самом
деле новой для них — точки зрения!
Ещё раз: две недели назад они сказали и написали одно, потом поговорили с
кем-то и не только стали думать иначе, но решили, что они и раньше думали
иначе, а не так, как они на самом деле до этого думали!
Зачем они соврали? Есть же документы, в конце концов! Но нет, мы постоянно
лжём! Лжём и не краснеем! Знаете почему? Потому что не лжём. Просто наш мозг
может легко всё переиграть, чтобы было удобно и непротиворечиво, а наше соз-
нание — буквально ни сном ни духом и, очевидно, дурак дураком.
Когнитивный диссонанс
Сознание постоянно подстраивается под те решения, которые принимает наш
мозг, а потом ещё самоотверженно объясняет, почему они — эти решения — «пра-
вильные» , «справедливые», «разумные» и т. д., какую бы ерунду мы ни творили.
Возможно, первым исследователем, который продемонстрировал эту особенность
нашей психики, был психолог Леон Фейстингер, который и ввёл в научный обиход
понятие «когнитивного диссонанса».
Из его книги «Теория когнитивного диссонанса», если ознакомитесь с ней, вы
узнаете массу удивительных фактов. В частности, Фейстингер описывает поведе-
ние членов секты «Хранителей Космоса», которые, уверовав в конец мира, побро-
сали свои семьи, дома, работу и принялись ждать Судного Дня.
Когда же в назначенный день никакие инопланетяне не прилетели и Конца Света
не случилось, они нашли прекрасное объяснение этому факту: «оказывается», они
своими молитвами продлили время существования мира! Ловко, правда?
Стоит ли теперь удивляться исследованиям, которые чётко показывают, что
врачи, например, полностью отрицают влияние общения с агентами фармацевтиче-
ских компаний на оценку ими эффективности медицинского препарата? Врачи про-
должают верить в свою объективность, а её нет и близко!
Поможем ли мы человеку, которому стало плохо на улице? Конечно, мы же хоро-
шие люди, и это правильно! Но, правда в том, что это будет зависеть от множе-
ства факторов, влияния которых вы, возможно, даже не заметите.
Например, вы оцените внешний вид несчастного, и если он недостаточно пре-
зентабелен , вы пройдёте мимо. Если вы спешите, то шансы нуждающегося падают в
разы. А ещё вы будете подсознательно подсчитывать, сколько людей рядом. Если
их много, то у бедолаги, надо сказать, вообще мало шансов: все будут автома-
тически объяснять себе своё бездействие тем, что пострадавшему, вероятно, по-
может кто-то другой, более компетентный. В результате, возможно, к нему вооб-
ще никто не подойдёт.
Или ещё: если перед сдачей какого-нибудь экзамена сделать вам инъекцию ад-
реналина и предоставить возможность списывать, вы не станете этого делать.
Вам будет страшно, будет казаться, что ваш обман обязательно вскроется. Кста-
ти, если, напротив, ввести вам транквилизатор (успокаивающее средство), то вы
будете списывать даже в тех случаях, когда вполне уверены в ответе. Под тран-
квилизаторами вам море по колено.
Кстати, именно эффектом выделения внутреннего адреналина объясняется тот
факт, что мужчины, которых женщины интервьюировали на высоком подвесном мосту
через бурную реку, посчитали этих женщин более привлекательными, чем те муж-
чины, которых эти же женщины интервьюировали не в столь экстремальных услови-
ях.
То есть это всё и всегда игра ума, которая, впрочем, не имеет к нашему соз-
нанию и к нашей осознанности ровным счётом никакого отношения.
В нашем мозге происходит масса самых разнообразных процессов — и собственно
интеллектуальных, но неосознанных, и физиологических, как в случае с адрена-
лином, — и мы не в курсе реального положения дел. Мы на самом деле не знаем,
почему приняли то или иное решение, так или иначе себя чувствовали. Но по-
верьте, наше сознание всегда найдет способ объяснить всё так, чтобы было ло-
гично , правильно, оправданно и здраво.
Оно оправдывает нас, что бы мы ни сделали. И у него нет собственного мне-
ния. . .
Понимаю, что звучит это как минимум странно: мол, наш мозг находится в про-
тиворечии с нашим же собственным сознанием.
Допустим. Но приглядитесь к своему знакомому — он что-то, надо полагать, о
себе думает, у него есть какая-то версия себя (это его сознание) , а есть и
то, что он собой представляет на самом деле, то, что он на самом деле делает
(это результат работы его мозга).
Удивитесь ли вы, если окажется, что слова у него расходятся с делами? В
случае другого человека это не кажется нам ни странным, ни удивительным.
«Наш мозг умело прикрывает любую свою глупость красивыми формулировками и
«мудрыми» объяснениями».
Мы привыкли к тому, что другие люди говорят и думают одно, а ведут себя и
действуют как-то иначе7 (может, и не прямо противоположным образом, но всё-
таки по-другому). И если мы попытаемся «вывести их на чистую воду», то гаран-
тированно встретим непонимание и мощную эшелонированную оборону.
Знаете почему? Потому что другие люди думают о себе то, что они о себе ду-
мают, а не то, что вы в их поведении замечаете, не то, что вы видите и чувст-
вуете . Конечно, они себе верят — иначе и быть не может! Как только человек
перестанет сам себе верить, он тут же самолично начнёт искать скорой психиат-
рической помощи.
А теперь обернитесь на самого себя. Вы устроены точно так же. И да, вы себе
верите. Всегда. Вы верите в собственную интерпретацию собственного поведения
(это ваше сознание) , но есть ведь и ваше действительное поведение, то, что
происходит с вами на самом деле, — это ваш мозг.
Пусть это сложно понять и принять, но ваш мозг и ваше сознание — это дейст-
вительно две разные части вас. Причём редко когда они оказываются на одной
волне.
Метафора
для мозга
— Настоящая работа совершается здесь,
внутри, серыми клеточками. Никогда не
забывайте о серых клеточках, mon ami.
Агата Кристи
Вся наша с вами реальность спрятана внутри нашей же собственной черепной
коробки — в нашем мозгу. Наружу эта штука вытянула только свои щупальца (ре-
цепторы) : одни ловят фотоны, другие — колебания воздуха, третьи реагируют на
давление, четвёртые — на определённые молекулы.
Мозг преобразует сигналы со своих щупалец в картинки, звуки, ощущения, чув-
ства и сложные абстрактные представления. Таким образом, всё, что вы видите,
слышите, ощущаете, чувствуете, думаете и т. д. , есть результат работы вашего
мозга. Он это фактически делает. Он всё это производит.
Если поместить вас в сурдокамеру (специальный аппарат, в котором ваши ре-
цепторы перестанут что-либо воспринимать), вы через некоторое время начнёте
галлюцинировать. Это ваш мозг, лишённый внешних раздражителей, заскучает и
7 Не важно, что люди говорят, важно что они делают.
примется создавать картины реальности сам по себе .
Короче говоря, мозг создает всё, с чем мы имеем дело. Причём и мы сами —
тоже его работа: и мы сами, и наше сознание, и вообще всё, что мы можем вооб-
разить, — это то, что создаёт мозг, плетя паутину своих нервных связей.
Поэтому в каком-то смысле, когда мы говорим об отношениях «мозга» и «созна-
ния», мы говорим об отношении молока к корове, или потока воздуха, создавае-
мого вентилятором, к самому вентилятору, или об отношении машины к её движе-
нию.
Здесь нельзя провести чёткой границы. Конечно, разорвать такую связь фор-
мально-логически труда не составит. Но так вы получите лишь две новые абст-
ракции, а искомое отношение — то, что происходит на самом деле, — будет утра-
чено .
Разбитую чашку, конечно, можно склеить, но всерьёз рассуждать о каком-то
функциональном «отношении» одного куска разбитой чашки к другому её куску —
по меньшей мере странно.
Но что же в таком случае мы с вами понимаем под словом «сознание»?
Иллюстрация в опыте
Представьте, какое количество процессов одновременно происходит в вашем
мозгу... Вот я, например, просто сижу сейчас на стуле и печатаю на компьютере
этот текст. Казалось бы, элементарное действие. Но на самом деле эта «просто-
та» обеспечивается невероятным количеством различных мозговых процессов.
Одновременно мозг контролирует положение моего тела в пространстве, помнит,
кто я, что я делаю и зачем я это делаю. Он регулирует деятельность органов
моего тела — сердца, каждого сосуда, кишечника, почек и мочевого пузыря. Он
делает мой мир цветным и объёмным, приглушает лишние звуки, чтобы я не отвле-
кался от написания текста.
При этом он как-то умудряется сочетать воедино реакцию моих фоторецепторов,
реагирующих на фотоны света, летящие от экрана компьютера, с мыслями, которые
в этот момент зарождаются в разных отделах моего мозга.
Он играет с возникающими ассоциациями, присовокупляет к этому знание грам-
матики и орфографии, передает всё это в нервные центры, отвечающие за движе-
ние пальцев, которые поэтому бьют по соответствующим клавишам на клавиатуре.
Эти галлюцинации — что-то вроде снов наяву. Только это очень реалистичные сны, вы
же будете находиться в «сознании» и видеть их так, будто бы всё это происходит на
самом деле.
И всё это как-то увязано с моим прежним опытом, памятью и моими целями — с
тем, что я хочу написать, а также с представлениями о том, как вы, неизвест-
ный мне человек, читаете это, и как я должен всё это описать, чтобы вы поняли
то, о чём я пытаюсь вам сказать.
Причём этот перечень — это даже не верхушка айсберга, это макушка верхушки.
И даже меньше того! Ну и как вы думаете, что из этого может уместиться в еди-
ницу времени в моём «сознании»? Что я в этот момент и в самом деле «осознаю»?
Теперь, учитывая сложность вопроса, перейдём на язык метафоры. Представьте
себе мозг (то есть вообще всё то, с чем вы имеете дело) как один большой оке-
ан — со всеми его обитателями, рифами, впадинами, течениями, температурами,
льдами и берегами.
Теперь представим себе всю живность, населяющую океан, это млекопитающие и
рыбы, медузы и членистоногие, моллюски и ракообразные, кораллы и планктон, а
также бесчисленные растения, бактерии и грибы.
Каждое из этих существ проживает в океане свою жизнь: вот жизнь морской
звезды, а вот устрицы, акулы, дельфина или кашалота. Каждая такая жизнь —
часть океана, но каждая из них ещё и как-то «видит» этот океан, как-то его
воспринимает.
То есть океан словно бы смотрит на самого себя изнутри. Звучит странно, но
представьте себе это. А теперь спроецируйте на себя: все эти взгляды на то,
что происходит в вас, и есть ваше «сознание».
Что ж, теперь перейдём от метафоры к психологической игре. Просто следуйте
инструкции и следите за тем, что с вами происходит. Только не торопитесь.
■ Вы, я полагаю, или сидите, или стоите, или лежите. Почувствуйте, как ваше
тело давит на соответствующую поверхность: ягодицы, например, на сиденье
стула, спина на спинку дивана, ноги упираются в пол.
■ Теперь почувствуйте тяжесть вашего гаджета, плотность корпуса вашего уст-
ройства. Вглядитесь в цвет букв, излучение от экрана. Посмотрите, насколь-
ко равномерно бликует экран.
■ Покачайте ногой, потом рукой, потом головой. Потянитесь.
■ Теперь нужно будет услышать звуки, которые вас окружают (они обязательно
есть, даже если сейчас вы настолько увлеклись чтением, что «ничего не слы-
шите») . Закройте глаза и послушайте.
■ Надеюсь, ваши глаза снова открыты, и вы меня читаете...
■ А теперь попробуйте оживить самое раннее воспоминание вашего детства. Что
это было? Что вы делали? Где это происходило? Кто был рядом?
■ Хорошо, теперь попытайтесь умножить в уме 16 на 5.
■ Ещё одно непростое задание: попробуйте воспроизвести алфавит с конца, на-
чиная с буквы «я». Сколько получится...
■ Теперь представьте, что пятилетний ребёнок спрашивает у вас, что такое
«оргазм». Что вы ему ответите?
■ Назовите три черты характера, которые определяют вас точнее всего.
■ Как бы вы описали зуд?
■ Вспомните свою первую любовь и подумайте о том, что вы тогда чувствовали к
этому человеку. Получилось бы сказать это ему лично?
■ Я не умею готовить борщ, расскажите мне, как это делать. Спасибо!
■ Если у вас есть начальник, какие у вас с ним отношения? Вы когда-нибудь
представляли, что занимаетесь с ним сексом? Можете сейчас представить?
■ Вспомните самое сильное чувство боли, которое вы когда-либо испытывали.
■ Что бы вы рассказали психотерапевту, если бы он спросил вас о вашем на-
строении, чувстве тревоги, отношениях с родителями?
■ Представьте себе крик младенца, а затем рвотные звуки.
■ Что вы скрываете ото всех? О чём о вас, кроме вас, никто не знает?
■ Какой последний ролик вы смотрели на YouTube?
И остановимся на этом... Подумаем о том, что с вами сейчас происходило. Не-
много странное ощущение, правда?
Вспомните, как я просил вас направить луч вашего внимания на физические
ощущения (тактильные, зрительные, слуховые), а потом требовал вспомнить мате-
матику. За эти темы в мозгу отвечают разные зоны, и вам приходилось переклю-
чать сознание с одной области на другую.
Я спрашивал про детский плач, рвоту, боль, а также про «высокие чувства» —
первую влюблённость, ностальгические воспоминания. Это разные психические ре-
гистры — одни связаны с нашими инстинктивными реакциями, другие — с культур-
ными и эстетическими. Думать об этом одновременно невозможно, поэтому вашему
сознанию приходилось переключаться.
А как можно одновременно вспоминать рецепт приготовления борща и переживать
чувство неловкости, естественно у нас возникающее, когда нас просят объяснить
ребёнку, что такое «оргазм», или представить секс с начальником? Сознанию
приходится совершать самые настоящие кульбиты!
Но хотя ваше сознание и прыгало с одного места на другое — с темы на тему,
всё это уже содержалось в вашем мозгу, всё это в нём уже было. И он держит
всю эту информацию не пассивно — она в нём циркулирует, реверберирует, «пере-
мешивается» и влияет, так сказать, на общий тонус.
Всё, что составляет ваш мир, живёт и бурлит в вашем мозгу постоянно. Вспом-
ните хаос своих сновидений — это та самая совместная работа разных областей
мозга. Когда вы находитесь в бодрствующем состоянии, свет сознания прячет от
вас эти звёзды, но из мозга они при этом никуда не исчезают, и продолжают
влиять на то, что с нами происходит.
Мозг — это всё, а сознание — это то, что мы высвечиваем в своем мозгу. Это
маленький лучик света, скользящий по бушующему океану вашего мозга. Пребывая
в сознании, мы не слышим и сотой доли того, что происходит в нашем мозгу, не
видим его постоянной работы.
Мы уверены: то, что оказалось в поле нашего внимания, и есть реальность, а
на самом деле это лишь её краешек, частичка.
И снова вернёмся к образу океана: отвечая на каждый из моих вопросов, вы
смотрели на самого себя изнутри глазами разных собственных созданий.
Понятно, что и рыбка-гуппи, и каракатица, и коралловый риф, и дельфины всё
видят по-своему, проживают свои жизни, и история, рассказанная одним из этих
существ, не отразит всей правды океана, но лишь самую малую её часть.
Вот в таких отношениях находится наше сознание с нашим мозгом.
«Мы уверены: то, что оказалось в поле нашего внимания, и есть реальность, а
на самом деле это лишь её краешек, частичка».
Сознание нельзя отделить от нашего мозга, а работа мозга — то, что нельзя
охватить сознанием. И вся эта жизнь мозга — объёмная и значительная — идёт
неустанно, в каждой его серой клеточке и в каждом микроскопическом контакте
между ними.
Впрочем, знает сознание об этой сложной и неизъяснимой работе нашего мозга
или нет — не имеет никакого значения. Этот океан продолжает жить своей жиз-
нью.
Мы — это наш мозг: океан, населённый разными состояниями, переживаниями,
опытом, ощущениями, реакциями, инстинктами, мыслями, чувствами, воспоминания-
ми , стереотипами, алгоритмами, автоматизмами и т. д. и т. п.
Всё это — мы, наш мозг, а наше сознание — лишь то, где в данный момент ока-
зался луч нашего внимания.
Проще говоря, наше сознание имеет дело только с фрагментами, с кусочками, с
обрывками нас самих, а вот целостная и подлинная картина от него скрыта.
Подсознание
Можно назвать эту бесконечную и неустанную работу нашего мозга — «подсозна-
нием». В каком-то смысле это действительно так, но мне термин «подсознание»
не нравится по целому ряду причин.
Во-первых, большую часть процессов, происходящих в нашем мозгу, мы даже при
всём желании никогда не сможем осознать. Тогда какой смысл говорить о подсоз-
нании, если это вообще не может быть осознано?
Во-вторых, термин «подсознание» всё ставит с ног на голову — путает местами
мозг и сознание. Он как бы предполагает, что сознание важнее мозга: мол, есть
«сознание» и то, что «под» ним. На самом деле есть мозг и то, что он произво-
дит , — в частности, некоторую нашу осознанность.
В-третьих, когда мы говорим о каком-то «подсознании», то сразу возникает
мысль, будто бы это что-то такое потаённое, спрятанное, неизвестное. Но фокус
в том, что ничего от нашего хилого и никчёмного сознания не спрятано, оно
просто хилое и никчёмное, а потому многого не замечает.
Всё наше поведение, мы сами — и есть наш мозг. Как это можно спрятать? Нет,
тут всё как раз самым вопиющим образом и торчит наружу!
И, наконец, в-четвёртых: если мы говорим о том, что у нас есть какое-то
«подсознание», то получается, что опираться в своей жизни и деятельности мы
можем только на «сознание». Мол, как обопрёшься на то, что скрыто? Но оно не
скрыто, а вот опираться на сознание и его частные выводы, полные ошибок и за-
блуждений, — вот это было бы настоящей глупостью! Если мы хотим иметь дело с
реальностью, а не с фантазиями ума, мы должны прислушиваться к своему мозгу.
Слова нас путают, поэтому, если можно избежать терминологических ошибок,
отправляющих нас по неверному пути, то лучше их избегать. Впрочем, если вы
всё-таки хотите, зовите свой мозг «подсознанием». С него не убудет. В конце
концов, и это решение за вас тоже примет он.
Метасознание
Достигнув вершины и выйдя за пределы
неба, они становятся на хребте его.
Стоя на нём, они вращаются вместе с не-
бесным сводом и созерцают занебесное.
Платон
Ну что ж, мы обнаружили две очевидные проблемы.
Во-первых, никому до нас нет никакого дела, и на Спасителя — кем бы он ни
был — нам рассчитывать не приходится. Мы, получается, можем полагаться только
на собственные силы и знания. Но тут-то и начинается «во-вторых».
Во-вторых, наш мозг и наше сознание, как мы уже выяснили, находятся в пре-
дельно запутанных отношениях. Умом мы на самом деле не блещем, а лишь, сами
того не ведая, блуждаем в его потёмках.
Так на что же нам в таком случае рассчитывать?
Выход, как я уже говорил, есть. Нам ещё во многом предстоит разобраться, но
уже сейчас на фоне всех этих «плохих новостей» кое-что начинает прорисовы-
ваться. Подсластим чуть-чуть красную пилюлю.
Итак, сознание — это то, что мы осознаём: то, как мы понимаем жизнь, то,
что думаем о себе и других людях. А вот наш мозг — это мы сами. Каждое дейст-
вие в нашем мозгу, каждый нервный процесс, каждая реакция нашего мозга — это
мы.
То, что мы видим, чувствуем, испытываем, хотим или можем, — это не то, что
происходит с нами, это и есть мы.
Это не наш мозг создаёт зрительные образы видимого нами мира, а мы сами и
есть эти образы. Сложные автоматизированные действия — такие как езда на ве-
лосипеде или умение писать — это не какие-то специальные действия нашего моз-
га, а мы сами и есть эти действия!
Способность нашего мозга слышать музыку (чего не может ни одно другое жи-
вотное) — это не какая-то, извините, приблуда в нашем мозгу, созданная эволю-
цией. Мы сами и есть эта способность. Мы — те, кто создаёт наши мысли, а по-
том наше сознание (луч нашего внимания) с ними просто сталкивается.
И наше сознание в буквальном смысле этого слова не знает нас
Глаз эволюции
У эволюции не было никакого резона обучать нас навыкам интроспекции — уме-
нию видеть то, что творится у нас, так сказать, под капотом.
Чтобы ездить на автомобиле, вам вовсе не обязательно знать, как работает
двигатель, что такое коробка передач или откуда вытекает и куда течёт машин-
ное масло. Если всё работает — и хорошо, а если нет — меняем машину.
Природа сконструировала наш мозг так, как она это сделала, она тут и инже-
нер, и механик. Зачем ей какой-то дополнительный «специалист по мозгам», что-
бы он в них разбирался? Поэтому наше «я» и не имеет к ним доступа.
Эволюция экономна. Она не нуждалась в том, чтобы мы физически чувствовали
свой мозг (чем бы нам это, интересно, помогло?) , и вуаля — в нём нет болевых
рецепторов! Задумайтесь, если бы вам об этом не рассказали, вы бы даже не
знали, что у вас есть мозг!
Впрочем, по поводу сердца, почек и селезёнки можно сказать то же самое. Вы
же никогда их у себя не видели! Живот, грудь, руки, ноги, голова на плечах —
это то, что нам о себе известно доподлинно. Известно, потому что нам надо об
этом знать — мы ими пользуемся.
Но зачем нам уметь осознавать то, что находится внутри нашего тела? Эволю-
ция посчитала это лишним. Откуда ей было знать, что мы придумаем медицину и
научимся делать полостные операции? Животному знание о его внутренностях со-
вершенно без надобности.
Лекари в древности, кстати, считали себя «хорошими специалистами» — кровь
пускали, куриным помётом лечили, заговорами. Но правда в том, что до появле-
ния специальных медицинских технологий — микроскопии, биохимии, генетики — мы
на самом деле ничего не понимали про наш организм.
Так с чего же мы взяли, что с психикой дела обстоят как-то иначе? Да, нам
кажется, что мы хорошо себя изучили, хорошо себя понимаем, мы как те самые
лекари. Но это иллюзия, которая тысячи раз разоблачена в тысяче самых разно-
образных экспериментов.
Все наши представления о себе, всё, что мы о себе думаем, и всё, что мы о
себе «знаем», как выяснилось, просто бред сумасшедшего. Кровопускание, кури-
ный помёт и заговоры...
Если бы не современные научные исследования, наше сознание знало бы о мозге
не больше, чем наша моча знает о наших почках. Это правда так.
Великий Аристотель, например, был уверен, что человек думает сердцем, а его
мозг — это телесный излишек. Мы лишь совсем недавно проникли в тайны мозга, и
они поражают всякого, кто способен их осмыслить.
Короче говоря, наше сознание не знает, как оно создаёт мысли, откуда они в
нём появляются и как туда попадают. Как говорит выдающийся психолог Ричард
Нисбетт: «Важнейшие процессы возникновения образов и воспоминаний протекают в
нашем мозгу без всякого осознания. Так почему с когнитивными процессами долж-
но быть по-другому?» — и он прав.
Наше сознание не ведает и десятой, может быть, даже сотой доли того, что
происходит в нашем мозгу, то есть — не знает нас самих. Мы куда сложнее, чем
себе кажемся! Проблема в том, что сознание слепота мозга совершенно не смуща-
ет , ему «всё понятно». Тупое, примитивное самодовольство — ничего больше.
Впрочем, откуда нашему сознанию знать о его ограниченности, если всё, с чем
мы имеем дело, будучи в сознании, уже находится в поле этого самого нашего
сознания? Поэтому нам и кажется, что это мы думаем свои мысли, что сознание
создаёт наши мысли, производит их. И нам трудно осознать, что оно не имеет к
процессу нашего мышления никакого отношения.
Это фундаментальная иллюзия нашей психики — мозг диктует нам наши мысли, мы
как бы слышим их внутри собственной головы, но мы сами — не тот, кто слышит
эти мысли, а тот, кто их диктует. Но у этого нашего настоящего «я» нет ника-
кого представительства в сознании, наше собственное сознание о нём даже не в
курсе!
Вот вы сейчас читаете этот текст, взгляд бежит по строчкам. Но кто его чи-
тает? Читаете, разумеется, вы, а точнее — ваш мозг. И если ему не нравится —
ему сложно или он просто не хочет с этим соглашаться и рисковать, — он (вы!)
заставит ваше сознание думать, что текст неинтересный или трудный, что вы не
согласны, что вам всего этого не надо знать, что у вас масса других дел и т.
д. и т. п.
Что ж, эти дела, вероятно, и правда куда важнее, чем возможность понять —
кто вы, что вы и как вам с этим жить... Будь сознание и вправду хоть чуточку
тем, что мы о нём думаем, оно бы вгрызалось бы в этот текст, билось бы за его
смысл. Но оно сделает то, что решит сейчас ваш мозг.
Поймите это, зафиксируйте этот парадокс, потому что в нём заключен главный
секрет: вы не управляете своим поведением, не контролируете ваши мысли, но вы
и есть это поведение, вы и есть эти ваши мысли.
Студентки Гарварда
В одном из экспериментов студенток Гарварда попросили заполнить анкету. В
ней требовалось оценить (по шкале от 1 до 5) важность того или иного фактора,
влияющего на настроение девушек в течение дня. Вот список:
1. Ситуация на работе.
2 . Продолжительность сна.
3 . Физическое самочувствие.
4. Погода на улице.
5. Был ли секс накануне.
6 . День недели.
7. Фаза менструального цикла.
Полагаю, что каждый из нас мог бы на этот счет высказаться. Да, чьё-то на-
строение больше зависит от стресса на работе, а для кого-то важнее просто вы-
спаться. Мужчины вряд ли будут указывать в анкете фазу своего «цикла», но
многие, я знаю, уверены, что «секс накануне» — на настроение влияет сильно.
Короче говоря, не было в этом задании ничего сложного, и девушки легко с
ним справились. Ну а дальше их стали в течение нескольких месяцев методично
исследовать. Фиксировались все упомянутые факторы, а также фактическое на-
строение молодых женщин в течение соответствующего дня.
В результате данного исследования было получено два результата.
Первый: никакой корреляции между мнением женщин о том, что влияет на их на-
строение, и теми факторами, которые действительно на него влияли, выявлено не
было. То есть в лучшем случае — лишь случайные совпадения между тем, что жен-
щины думали о себе, и тем, что на самом деле с ними происходило.
Второй, возможно, не менее важный результат: заполняя анкеты, все женщины
отвечали примерно одно и то же. То есть в Гарварде у девушек есть некая еди-
ная концепция о том, что влияет на их женское настроение. Каким-то загадочным
образом эта ахинея в этом Гарварде возникла, и теперь они друг друга ею мен-
тально заражают.
Ещё раз: то, что женщины думали о связи своего настроения с факторами, ко-
торые на него влияют, не соответствовало действительности. Совершенно!
То есть они все были неправы относительно причин своего собственного на-
строения. Однако же, что мне кажется вполне очевидным, их настроение — это и
есть они сами: мы — это то, что мы переживаем и чувствуем.
Иными словами, мы можем думать о себе, о своей жизни, о своём настроении,
да и вообще о чём угодно — всё что угодно. Препятствий для глупостей и заблу-
ждений в нашем сознании нет никаких. Соответствующая муть (или не совсем
муть) как-то в нашу голову попадает, причём извне. И хотя она не про нас, мы
думаем её, примеряя на себя.
В результате то, что мы думаем о себе, и то, что мы представляем собой на
самом деле, — вещи, никак друг с другом не связанные.
Да, совпадения возможны. То есть что-то можно и угадать. Но даже студентки
Гарварда, как мы теперь знаем, не способны в этом преуспеть.
Все наши мысли о самих себе напрочь ложны. Эволюции бы и в голову не пришло
оснащать нас аппаратом, способным прозревать истину, понимать себя и видеть
суть вещей в Мироздании. Зачем бы ей это могло понадобиться? С какой целью? В
чём смысл?
Эволюция дала нам инструмент, необходимый для того, чтобы мы обеспечили се-
бе физическое выживание. А на войне, как известно, все средства хороши. При-
чём ложь, самообман, иллюзии — не худшие из них.
Мозг (настоящие мы) организует мысли нашего сознания лишь с одной-
единственной целью — чтобы оправдать свои действия, устранить противоречия, с
которыми мы, в силу особенностей своей психики, постоянно сталкиваемся.
С помощью сознания мозг формирует некий удобный интерфейс реальности — и не
ради истины, не ради правды, а из сугубо утилитарных соображений: чтобы мы,
так сказать, не дёргались.
«И наше сознание в буквальном смысле этого слова — не знает нас самих».
А вот теперь важное...
Сейчас мы произвели с вами этот почти головокружительный анализ — учли на-
учные факты о мозге, учли свой субъективный опыт, представили, как эта штука
может работать (впрочем, мы пока поняли только то, что это очень трудно по-
нять) .
И вот теперь вопрос: а кто, собственно, провёл этот анализ?
Да, формально этот наш анализ произведён с помощью сознания. Но есть суще-
ственный нюанс: мы делали это из особого положения — положения, в котором мы
смотрим на своё сознание как бы со стороны, используя для этого интуитивно
неприемлемые для нас научные факты.
То есть, выражаясь философским языком, мы сделали это из некой мета-
позиции, позиции — «над», «сверху».
Таким образом, рассматривая отношения нашего сознания с нашим мозгом, мы
уже, по сути, реализуем некую специфическую технологию. Так её и назовем —
«метасознание».
Нет, это не какая-то метафизика, и тем более не мистика, и уж точно не дух,
отделившийся от тела и левитирующий на бескрайних просторах безумия. Это про-
сто методологический ход — способ, при помощи которого мы можем осмыслить то,
что иначе мыслью просто не может быть схвачено.
Речь, конечно, идёт лишь о своего рода уловке — ведь за границы своего соз-
нания мы выскочить не можем: если мы что-то сознаём, то мы с неизбежностью
уже находимся в пространстве нашего сознания.
Такова наша психологическая Матрица, наша тюрьма. Из неё не сбежишь, а даже
если нам бы и удалось сбежать с этого — сознательного — уровня, то плен сво-
его мозга мы всё равно не покинем никогда.
Пациенты, страдающие болезнью Альцгеймера, даже окончательно потеряв рассу-
док, всё равно продолжают быть своим мозгом, пусть и настолько больным, что
он уже неспособен к производству сознания. Впрочем, нам ведь достаточно и
просто уснуть, чтобы потерять сознание...
Итак, речь идёт лишь о технической уловке, а вовсе не о том, что мы наделе-
ны каким-то специальным метасознанием. С помощью этой уловки мы можем создать
рабочую схему, описывающую механизмы работы нашей психики, некую её модель.
Если подлинная реальность всё равно скрыта от нас, то почему бы не удовле-
твориться адекватной моделью этой реальности? Надеюсь, все здесь в здравом
уме, и никто не собирается искать «вечных истин». Мы должны рассчитывать на
максимум возможного, а не на реализацию неосуществимых фантазий.
Да, мы находимся в заложниках у своего мозга, который производит наше соз-
нание, и не видим толком ничего, кроме своего сознания. В каком-то смысле это
действительно замкнутый круг.
Но мы для того и привлекаем научные данные, чтобы преодолеть эту замкну-
тость .
Главное, что мы сейчас уже поняли, — это то, что мы являемся своим мозгом.
Ни наше сознание, ни наши представления о самих себе ничего не стоят. Это
лишь блеф, миф, театральная постановка.
Мы — это наш мозг. Точка.
Так что, если мы действительно хотим прожить свою жизнь, нам нужно понять,
чего на самом деле хочет наш мозг. Не то, что мы, как нам кажется, хотим (по-
тому что нам сказали, что мы должны хотеть именно этого) , а чего хочет наш
мозг, то есть наши с вами подлинные «мы».
Философия мышления
Сложные и слишком абстрактные концепции лучше всего иллюстрировать какими-
то метафорами и образами. Поэтому я воспользуюсь образом «колесницы души»,
который Платон создал в своём знаменитом диалоге «Федр»9.
В этом диалоге Сократ рассказывает юному Федру, что душу человека можно
уподобить крылатой колеснице. У богов колесницы прекрасны и кружат по небес-
ному своду без всяких проблем, а вот людям не повезло — колесницы их смертных
душ запряжены конями разной природы.
Один конь белый, статный и благородный. Другой — чёрный как смоль, горбатый
и себе на уме. Оба запряжены, понятное дело, в колесницу, а в колеснице нахо-
дится возничий. Дальше Платон очень художественно рассказывает, что происхо-
дит с этими конями, когда человек влюбляется в кого-нибудь. Впрочем, как ве-
дёт себя эта парочка, воспылав страстью, вы, я думаю, и сами вполне можете
догадаться.
Отношения между конями соответствующие. Поскольку у них, так скажем, разное
представление о прекрасном, то они находятся в конфликте. Белый смущается и
робеет, чёрный — не раздумывая берёт предмет страсти на абордаж. Белому, по-
нятно, приходится с последствиями этого безрассудства лишь смиряться, зализы-
вать раны, так сказать.
Ничего не напоминает? Очень, по-моему, про отношения нашего сознания и на-
шего мозга. Мозг (чёрный конь) — инстанция влиятельная, против его желаний не
попрёшь. Сознание (белый конь) — натура, напротив, красивая и утончённая, да-
же целомудренная. По крайней мере, ему нравится таким себя воображать.
И если мы пустились во все тяжкие и натворили дел, именно сознанию придётся
всё это как-то так выворачивать, объяснять, покрывать толстым слоем пудры и
Из дидактических соображений мне придётся, правда, несколько видоизменить этот
платоновский миф.
прочего марафета: мол, я не я и лошадь не моя — всё мы сделали правильно, по-
тому что выхода другого у нас не было. Ну, конечно... А ведь и не врёт, под-
лец! У сознания-то действительно выходов немного: оно безоговорочно подчиня-
ется мозгу, который его же и производит.
Но давайте обратим внимание на возничего...
Да, у возничего, конечно, есть поводья, но если кони понесли, то что уж тут
поделаешь? Можно, конечно, пытаться ими управлять, но толку-то, коли вожжа
под хвост попала? Понесут куда им вздумается. Они же кони! Толку с них ноль —
каждый ведёт себя согласно своей «природе»: один рождён культурой и воспита-
нием, другой — природой и эволюцией. Впрочем, потом, как мы знаем, они сгово-
риться всегда сумеют.
Возничий — лишь свидетель, а не действующее лицо этой пьесы. А наше мета-
сознание (точнее, то положение, которое мы занимаем, когда осмысляем отноше-
ния своего сознания с нашим мозгом) и есть тот самый возничий.
И конечно, ему бы очень не помешало достоверное знание природы животных,
запряжённых в его колесницу!
Парадокс
Мы не сможем решить наши проблемы с тем
же мышлением, которым мы создавали их.
Альберт Эйнштейн
Что ж, теперь я вынужден прерваться, чтобы сделать «предупреждение». Боюсь,
мы слишком увлеклись грандиозными планами о переустройстве своего будущего и
позабыли о том, насколько всё в действительности плохо.
Метасознание — это, конечно, красивая идея. Но пока это только идея, нам
ещё только предстоит научиться занимать это специальное и по-настоящему умное
положение в отношении своего сознания и поведения.
Задумайтесь, мы же рассмотрели всего лишь несколько научных фактов, а кто-
то уже, полагаю, устал слушать «всю эту теорию» и хочет «конкретных советов»,
а кто-то другой, наоборот, принялся критиковать автора и искать «нестыковки».
Такова логика нашего сознания — оно сопротивляется вдумчивому мышлению,
сложному и всестороннему исследованию, по-настоящему глубокому проникновению
в тему. Ему хочется быстренько во всём разобраться, придумать какую-нибудь
концепцию скоренько, чтобы выглядело непротиворечиво, и вернуться к своей
привычной лености.
Нам нравится представлять себя умными, интеллектуальными, но на самом деле
мы редко о чём-то по-настоящему серьёзно задумываемся.
Думать — сложно. Это впадать в депрессивную тоску — легко. Легко что-то ко-
му-то доказывать, побивая себя кулаком в грудь. Не нужно особого ума и для
того, чтобы изрекать оценочные суждения, выдавая их за «сугубо личное мне-
ние» . Всё это — проще некуда, а вот думать — нет, это трудно.
То, о чём мы здесь говорим, не только важно, но ещё и очень сложно. Мы со-
вершенно не привыкли так думать, а все эти научные факты о нашем сознании и
поведении противоречат нашей интуиции, нашему самоощущению.
В начале я предложил вам занырнуть в кроличью нору и думаю, что большинству
кажется, будто мы уже достигли её дна — вот-вот и Белый Кролик появится.
Разве всё это может быть ещё запутаннее? Мозг, сознание, возничий, колесни-
ца, мета-сознание... А ещё Либет с зелёными точками, Канеман с логотипами и
Нисбетт с гарвардскими студентками. Сомелье, басинг, студенты с квартирами и
«Хранители космоса»...
Куда уж больше и дальше?
Сожалею, но мы не преодолели пока и половины дистанции. В лучшем случае —
нашли ключ. Теперь придётся поискать замок. Одно без другого — вещи, понятно,
абсолютно бессмысленные.
Сейчас мы зайдём на следующий виток запутанности — и все парадоксы первой
главы, поверьте, покажутся цветочками.
Осознайте этот важный факт: всё то, к познанию чего наш мозг эволюционно не
предназначен, с неизбежностью будет казаться нам парадоксальным, а парадок-
сальное почти невозможно осознать.
Бесконечность Космоса, бесчисленные квантовые парадоксы, кодировка Жизни в
последовательности нуклеотидов — всё это вещи абсолютно для нас непредстави-
мые. Да, мы способны понять эти вещи формально -логически. Но мы не можем
представить, как всё это происходит в действительности, на самом деле — поче-
му, как именно, каким образом?
Наш психический аппарат не был эволюционно адаптирован к тому, чтобы загля-
дывать в эти скрытые от него аспекты и измерения реальности.
И наш мозг, наше мышление, наше сознание — не исключение. Это точно такой
же потаённый от нас мир. Эволюция оснастила нас всем этим, но у неё не было
причин открывать нам тайны устройства соответствующих механизмов: она их кон-
структор, это её епархия, а мы — лишь пользователи, созерцатели интерфейса.
Поэтому без парадоксов здесь не обойтись. Проблемы же возникают лишь тогда,
когда нам вдруг по каким-то причинам становится «всё понятно».
Поверьте, ни один великий физик, биолог или психолог никогда бы не сказал
вам, что он действительно понял свою дисциплину. Чем внимательнее вы вгляды-
ваетесь в то, к познанию чего эволюция вас не готовила, тем парадоксальнее и
удивительнее открывающиеся вам факты!
«Если вы не пришли в ужас при знакомстве с квантовой механикой, — говорил
великий Нильс Бор, — вы просто не можете её понять». И ровно то же самое я
могу сказать о человеческой психологии.
Но этот ужас от ощущения зыбкости почвы, от возникающей то тут, то там не-
определённости — не беда, не проблема, а самое настоящее благо!
Только эта вариативность и открывает нам путь к неизвестному. А именно это
неизвестное, потаённое от остальных, мы и ищем.
Так физики, превозмогая физические парадоксы, построили атомный реактор и
адронныи коллаидер. Так и мы, осознавая парадоксы психологические, сможем из-
менить себя и свою жизнь.
Разговор с Пифией
После хрестоматийного разговора Нео с Морфеусом второй по значимости диалог
в фильме «Матрица» — это его встреча с прорицательницей Пифией.
Само её имя — Пифия — отсылка к легендарному Дельфийскому оракулу античного
мира. Над дверью в кухне прорицательницы написаны те же слова, которые когда-
то были высечены над входом в храм Аполлона в Дельфах.
Эти слова, авторство которых ошибочно приписывается Сократу: «Познай се-
бя !». И действительно, мы ждём, что сейчас Нео получит ответ на свой главный
вопрос: Избранный он или нет? И нас ждёт поистине эпическое разочарование!
Полфильма нас готовят к этой встрече. Одни герои верят в Нео, другие — нет.
Пифия должна дать ответ, разрешить спор, поставить все точки над «1»! Но ми-
лая женщина, пекущая печенье, отказывается.
Напротив, она словно специально изрекает целую череду несуразных, казалось
бы, парадоксов, даёт множество противоречивых указаний и раз за разом погру-
жает Нео в состояние всё большей неопределённости.
Пифия обращается к Нео:
— Я бы предложила тебе сесть, но ты всё равно откажешься. И не переживай
из-за вазы.
— Какой вазы? — недоумевает Нео, неловко поворачивается, чтобы понять, о
какой вазе идёт речь, и в это мгновение сбивает её локтем.
Ваза падает и разбивается на куски.
— Да этой, — улыбаясь, говорит Пифия.
— Как вы узнали? — недоумевает Нео (ну, конечно, идеальный вопрос к прори-
цательнице !) .
— Ох, думаю, что тебе интересно другое: разбил бы ты вазу, если б я тебе не
сказала?
И действительно, мы не знаем именно этого! Если бы Пифия не сказала Нео про
вазу, то он не стал бы искать её взглядом и поворачиваться. Тогда бы она ос-
талась цела! Или нет? Как узнать? Что здесь первично? Что вторично? Или всё
сразу?!
И дальше следует целая череда таких вот сценок, и каждая заканчивается тем
же «котом Шрёдингера»: он то ли жив, то ли нет. Всё вроде как зависит от на-
блюдателя. .. Но и от наблюдателя, как выясняется, тоже ничего толком не зави-
сит.
В этом-то и состоит сущность любого парадокса — на него нет ответа.
С противоречиями просто: нужно лишь продумать всё как следует, каждый тезис
и пункт — и противоречие исчезнет само собой. С парадоксами не так, они не
растворяются в воздухе, как Чеширские Коты.
Да, это может раздражать. И да, зритель в негодовании! Будь у него возмож-
ность , он бы закричал уже на эту бессмысленную старуху — мол, хватит ваньку
валять, говори, Избранный Нео или нет?!
И сам Нео ждёт этого ответа, который, как ему кажется, должен разрешить все
его внутренние противоречия. Но старуха лишь прищуривается и отвечает:
— Но ты ведь уже знаешь, что я тебе скажу...
Конечно, Нео не знает! Откуда он может это знать?! Но нет, он хочет опреде-
лённости — «сколько вешать в граммах»! И сам, мчась впереди паровоза, отвеча-
ет за прорицательницу:
— Я не Избранный, — решает Нео, самолично убивая несчастного кота в ящике
Шрёдингера.
Старухе остаётся только пожать плечами:
— Очень жаль, — говорит она.
Нео думает, что она сожалеет о том, что он не Избранный, что она ему собо-
лезнует. Но это не так. Она сожалеет о том, что он не готов за свою Избран-
ность бороться. Чтобы бороться за неё, нужно иметь мужество терпеть неопреде-
лённость , а терпеть Нео пока так и не научился.
— Дар у тебя есть, — продолжает Пифия (ещё бы!). — Но, кажется, ты чего-то
ждёшь.
Собственно в этом «ждёшь» и заключён её ответ: Нео должен не ждать, пока
кто-то решит его судьбу за него, а действовать, действовать самостоятельно,
от себя.
Ну и, правда, странным был бы «Избранный», который действует не потому, что
он так себя ощущает, а потому, что ему кто-то про его избранность сказал.
Но Нео и теперь не ловит подачу, ему снова нужен ясный и конкретный ответ
на его вопрос:
— Чего жду? — спрашивает он. Старуха с издёвкой шутит в ответ:
— Может, следующей жизни? Кто знает?
Наш мозг не выносит неопределённости, а противоречия он с лёгкостью игнори-
рует . Он зарисовывает слепые пятна, скрадывает недочёты и прячет от самого
себя собственные ошибки. Он делает всё, чтобы мы сохранили иллюзию понятности
и стабильности мира, в котором мы живём.
В этом заключается эволюционное предназначение нашего мозга:
■ упорядочение хаоса раздражителей;
■ фиксация лишь на том, что важно для выживания;
■ алгоритмизация многообразия жизни.
В общем, «бесконечное стремление мозга, — как писал незабвенный Иван Петро-
вич Павлов, — к динамической стереотипии». И никакого стремления к истине.
Она ему предельно безразлична!
Понимаю, что всем хочется ясности, понятности и «сколько вешать в граммах».
Поверьте, и мне было бы так намного проще. Проблема в том, что так это не ра-
ботает .
«Главное, что мы сейчас уже поняли, — это то, что мы являемся своим мозгом.
Ни наше сознание, ни наши представления о самих себе ничего не стоят».
Если бы всё с нами и нашей жизнью было просто, если бы существовали какие-
то скрижали с прописанными в них правилами и законами, то весь мир вокруг нас
был бы другим.
Мы бы имели инструкцию к жизни, знали бы, как рассчитать траекторию судьбы
и обрести личное счастье.
Не только психотерапевты с психоаналитиками ушли бы тогда в прошлое, но и
вся система социальных взаимоотношений преобразилась. Бизнес работал бы по-
другому, наука бы занималась другими вещами. Культура бы рассказывала не о
том, о чём она сейчас повествует.
Всё было бы другим. Но нет. Просто осознайте это.
Поймите: вы — один на один с этой правдой. Это ваша жизнь, и только вы мо-
жете найти нужный вам ответ. Вы найдёте, если вам хватит пазлов, чтобы со-
брать всю картину целиком. Но и тогда ответ не будет окончательным.
Идея, что можно раз и навсегда всё решить, приняв некое чудодейственное
«правильное» решение, сама по себе попахивает безумием.
Мир меняется, вы меняетесь... поэтому такой рецепт даже теоретически невоз-
можен .
Так что, прежде чем читать дальше и переходить к следующей главе, решите
для себя: чего вы хотите — ответов на ваши вопросы или обрести умение нахо-
дить ответы? Если ждёте готовых ответов, то я не смогу вам помочь. Идите к
тем, кто ими торгует.
А если вы достаточно мудры, чтобы искать средство, а не следствие, то тогда
приготовьтесь к сложности и пропустите паровоз вперёд.
Свою задачу я вижу в том, чтобы предоставить вам те самые недостающие паз-
лы, показать приёмы и способы решения жизненных задач, предупредить о возмож-
ных ошибках.
Но Избранный вы или нет — решать вам.
Итак, мы идём дальше. Но прежде подумайте: чего вы ждёте? Может быть, как
раз это ожидание и сковывает ваше мышление?..
ГЛАВА ВТОРАЯ.
СЛУЧАЙНОСТЬ
Если хотите рассмешить Бога, расскажите
ему о своих планах.
Вуди Аллен
Думали ли вы когда-нибудь о смысле своей жизни больше десяти минут кряду?
Это не риторический вопрос. Правда, думали или нет? Вот так, чтобы сесть,
по-настоящему сосредоточиться, озадачиться, перечислить все возможные вариан-
ты, рассмотреть каждый из них в отдельности, взвесить и прочувствовать?
Бьюсь об заклад, что нет. И никто о смысле своей жизни так не думал. Потому
что это невозможно.
Задаваясь вопросом о смысле жизни, мы с неизбежностью натыкаемся на пустоту
и начинаем судорожно сучить пространными идеями про «самореализацию», «семью
и детей», про «вклад в общее дело» и «что после меня останется?».
Мы пытаемся закрыть этими словами зияющую дыру в реальности.
«Самореализация» — это абстракция. У человека есть конкретные способности,
и он совершает конкретные поступки. Но «самореализация» — это лишь красивое
слово.
Нет «семьи и детей», есть конкретные Вася или Маша, Петя или Ксения. Они
цель и смысл вашей жизни? Вы уверены, что другой человек, у которого своя
жизнь, своё отношение к жизни, свои нужды и потребности, может быть смыслом и
целью вашей жизни?
Нет никакого «общего дела» и того, что «после нас останется». Это просто
такие идеи. Есть то, что происходит в вашей жизни, — и вы или считаете важным
этим заниматься, или вам на это наплевать. И всё это в любом случае рано или
поздно превратится в ничто.
Таковы факты. И даже миллионы слов их не изменят.
Смысл слов
Возможно, вы хотите узнать, как так получилось, что все говорят о каком-то
«смысле жизни», если его на самом деле нет?
«Все говорят», потому что так они спасаются от страха перед бессмысленно-
стью собственного существования.
Этот страх укоренился в нас чуть ли не с самого детства. Но поймите: тот
факт, что вы чего-то боитесь, не значит, что оно — то, что вас пугает, — дей-
ствительно есть.
В том самом детстве вы, возможно, боялись каких-то привидений, барабашки,
Бабы-яги. Но это не значит, что они существуют или когда-либо существовали в
действительности.
Страх чего-то — не доказательство существования этого «чего-то».
Так и с «бессмысленностью жизни»: то, что вы можете переживать из-за ощуще-
ния бессмысленности собственного существования, не делает предмет вашего пе-
реживания реальным. Достаточно, чтобы кто-то рассказал вам о том, что «смысл»
у жизни «должен быть», чтобы вы в это поверили и начали его искать.
А где доказательство, что его вообще можно найти? И зачем искать, если
предмет вашего поиска — лишь чья-то неудачная выдумка?
Если дело в банальном страхе смерти — это другой вопрос. Но и отвечайте се-
бе на него, а не придумывайте лишней ерунды.
Поверьте, перестать бояться смерти не так сложно, как кажется. А почувство-
вать, что жизнь вам важна и нужна, — это уж точно не проблема. Мы ощущаем это
инстинктивно , в нас это природой заложено — хотеть жить.
Глупости начинаются там, где мы запутались. А бессмысленные слова — это
лучший способ торжественно и многозначительно заблудиться в трёх соснах.
Итак, нам постоянно рассказывают про какие-то «цели» и «смысл», про «дости-
жения» , «личностный рост» и «самореализацию». Говорят убедительно, приводят
примеры — мол, вон кругом все святые, прозревшие, звёзды и миллиардеры! А ты-
то что? Ты-то где?
Да, стыдят по полной — мол, все люди как люди, а ты, понимаешь, неуч без
цели и смысла! Возникает, естественно, тягостное чувство неловкости — и дей-
ствительно, чего это я-то не как все нормальные люди?
Когда мы окончательно пристыжены и растеряны, нас принимаются мотивировать:
«Поверь в себя! Не сиди сиднем! Ты можешь! Просто сделай это!».
Набор пустых и бессмысленных фраз, но звучит так феерично, так вдохновляюще
и так хорошо продаётся, что разум гипнотизируется окончательно.
Сила этой «пропаганды» настолько велика, что нет никакой возможности ей
противостоять.
Не торопитесь читать дальше, просто задумайтесь — вы действительно знаете
конкретные примеры нерелигиозных смыслов и целей? Вы и вправду понимаете, о
чём идёт речь, когда кто-то говорит о «смысле жизни»?
Нам столько раз говорили про какие-то мифические «смыслы» и «цели» челове-
ческой жизни (которых никто никогда в глаза не видел), что мы просто поверили
в их существование. Поверили на слово!
На самом деле всё это, конечно, такая же чушь, как и сказки про Спасителя,
который спит и видит, чтобы о каждом из нас позаботиться.
«Цель» и «смысл» — оплот всякой религиозной доктрины. Нас призывают заслу-
жить расположение божества и по гроб жизни следовать его заповедям. Ну и пра-
вильно, а как ещё заставить примитивных и необразованных людей соблюдать об-
щественный порядок и поменьше убивать друг друга?
«Достижения», «личностный рост» и «саморазвитие» — это, казалось бы, те же
яйца, только в профиль: пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что, но
на светский манер. И цель у соответствующих ораторов схожая — держать всех
нас в тонусе, направлять на созидательные дела и попутно на этом зарабаты-
вать .
Тут нам, впрочем, даже гипотетического Царствия Небесного пообещать не мо-
гут. В лучшем случае говорят, что где-то в конце пути должно стать полегче.
При этом, когда будет этот «конец пути», никто предусмотрительно не уточняет.
Просто идите и всё, там видно будет.
Что видно? Почему видно? Кто видел? Эти вопросы остаются без ответа.
«Мы пытаемся закрыть этими словами зияющую дыру в реальности».
И пока мы во всю эту чушь верим, мы будем парализованы. Всякого рода подоб-
ные инструкции-мотивации совершенно непонятны и вилами по воде писаны — что
конкретно делать, куда конкретно бечь?
В результате мы просто стоим на месте как вкопанные, терзаясь недоумением:
а почему, собственно, у других людей есть эти «цели» и «смыслы», «достижения»
и «самореализация», а у нас — нет?
Правда в том, что этих загадочных «других людей» тоже нет. Можете мне ве-
рить, а можете не верить — дело ваше. Но это так. Если же кто-то на трезвую
голову говорит вам, что у него всё это есть — и «цели», и «смыслы», и «разви-
тие» , — он или врёт, или сам себя запутал.
Эпоха постмодерна
После того как мир, выстроенный буквально от начала времён на религиозном
мировосприятии, канул в небытие, а Фридрих Ницше возвестил «смерть Бога»,
«цели» и «смыслы», какими их когда-то придумали, перестали существовать.
Теперь это только тени и призраки, как говорят философы: «симулякры симу-
лякров».
Мы живём в эпоху, которую принято называть «постмодерном», то есть време-
нем, когда всё устарело и потеряло былую ценность. Больше нет прежних, пусть
и фиктивных, но опор, которые давала человеку религия, подкреплённая ограни-
ченностью наших знаний.
Но чем больше мы узнаём, тем сложнее верить в сказки.
Почему наша культура перестала порождать «звёзд», «кумиров» и прочих «идо-
лов»? Потому что в них нет больше тайны, загадки. Жизнь любой «звезды» теперь
как на ладони. Они стали доступными — любой может написать им в Twitter и да-
же послать на три буквы, если захочет.
Диагноз «постмодерн» поставили человечеству ещё в прошлом веке. Сейчас по-
шли «осложнения», вызванные информационным штормом и четвёртой технологиче-
ской революцией10.
Даже катастрофические прогнозы О. Шпенглера, М. Хайдеггера и Ж. Бодрийяра
выглядят на этом фоне верхом оптимизма.
Но кто об этом задумывается всерьёз? Немногие. Большинству, впрочем, доста-
точно гаджетов, роликов в интернете и ленты в социальных сетях. Подумать о
чём-то другом, о своей жизни, и по-настоящему, — нет. Это нам не с руки, лень
и некогда.
Мы лишь тешим себя фантазмами счастья — красивыми картинками шикарной жизни
в Instagram, обнадёживающей рекламой брендов, духоподъёмными историями и бес-
численными мифами о счастье, которые тиражируются масс-медиа.
Да, эти самые масс-медиа всё ещё умудряются ловко имитировать «счастье». Но
это лишь «лунная походка» — вроде бы вперёд, несмотря на то, что назад. Не
следует обманываться цирковыми трюками.
Убедиться в том, что все эти обещания «счастья» лишь пустое славословие,
труда не составляет. Достаточно попросить его бесчисленных проповедников —
коучей, селебрити и «лидеров мнений» — дать чёткое и внятное описание того,
куда и с какой целью они мотивируют нас идти.
И если служители религиозного культа легко с этим заданием справляются,
требуя от нас слепой веры (а это, как вы понимаете, удар ниже пояса), то про-
чие «учителя жизни» тут же садятся в лужу.
Стоит ли удивляться, что многие молодые люди вновь начинают задумываться —
а не пора ли нам обратно в Церковь, к Господу поближе да к образам?
И правда, когда горе-мотиваторы начинают в очередной раз рассказывать про
«наполненность жизни», про ощущение её «ценности», про «радость каждому дню»,
становится как-то не по себе.
О чём конкретно говорят эти проповедники «развития»? Да так убедительно!
Но если справиться с этой оторопью (мол, ну не могут же нас так откровенно
обманывать?!) и продолжать настаивать, требуя ответа на свой вопрос, то выяс-
нится, что «наполненность» в этих речах — это просто метафора, «ценность жиз-
ни» — фигура речи, а «радость каждому дню» — и для самого проповедника боль-
шая и неразрешимая проблема.
За проповедниками счастья нужно наблюдать не когда они на сцене и в свете
«Четвёртая технологическая революция» — название, которое используется для описа-
ния происходящего на наших глазах технологического переустройства экономики и обще-
ства. В основе этой фундаментальной трансформации — искусственный интеллект, большие
данные, интернет вещей, ЗБ-печать, дополненная реальность, генная инженерия и т. д.
и т. п.
рамп, а когда они за кулисами. А за кулисами, поверьте (я слишком долго рабо-
тал на телевидении и в шоу-бизнесе), совсем не то, что на сцене.
В предыдущей главе мы сформулировали базовое «противоречие»: если твоя
жизнь тебя не устраивает, но тебе кажется, что ты думаешь о ней правильно, то
где-то тут закралась ошибка.
Это как раз тот самый случай: страдать от бессмысленности жизни и думать,
что смысл в ней есть, — это противоречие!
Попытки придумывать «цель» — это тоже оксюморон. Цель — это то, к чему
стремятся. Она возникает как результат наличия стремления. И у вас или есть
стремление, или его нет. Всё! Цель без действительного стремления — это фик-
ция.
Страшно признать, что у вас нет стремления? Страшно осознать, что ваши цели
эфемерны? Боюсь-боюсь ?
И что будем делать — обманываться и дальше? Будем убеждать себя в том, что
какое-то стремление у нас типа есть, но только слабенькое, и мы не можем его
нащупать? Можно, конечно, и так. Только делу это не поможет.
Разумнее, мне кажется, начать с правды. Что страшного в том, чтобы просто
признать отсутствие у нас каких-то очевидных стремлений? Полагаю, от этого
факта никто умереть не должен. Зато теперь мы можем оглядеться вокруг. Тут-
то, возможно, у нас и появится какой-нибудь интерес. А там, глядишь, и до
стремлений недалеко!
Но пока мы обманываем себя, мы слепы. Ложь — признак страха. И нет силы,
которая ослепляла бы нас сильнее. Пока мы боимся, мы не видим ничего, кроме
собственной лжи.
Миллионы людей живут с мыслью, что им нужны «цель» и «смысл», «достижение»
и «развитие», но они-то и страдают больше всех остальных! По крайней мере,
точно сильнее тех, кто на этот счёт вообще не «запаривается».
«Нам столько раз говорили про какие-то мифические «смыслы» и «цели» челове-
ческой жизни (которых никто никогда в глаза не видел), что мы просто поверили
в их существование».
Если вы действительно хотите изменить себя и свою жизнь, придётся признать,
что вся эта система «мотиваций на счастье» — лишь набор заблуждений, и пора
уже начать думать по-другому.
Но как именно по-другому? Это, я надеюсь, мы поймём, когда обнаружим замок
«случайности» и откроем его ключом «противоречия».
Но приготовьтесь — нам предстоит разрушить многие прежние «ценности». Гото-
вы ли вы на это?
Парадоксов
ДРУГ
О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог-изобретатель...
Александр Пушкин
Какова роль «случая» в вашей жизни?
Вероятно, кто-то из вас скажет, что ему обычно «везёт», а кто-то — что «не
везёт». Но и то и другое — явления, согласитесь, эпизодические. Значит, мы
должны заключить, что основной частью вашей жизни управляет закономерность11.
Те же, кто и вовсе не верит в «случай», — стопроцентные апологеты закономерности.
Если же мы начнём детально исследовать свою жизнь, то обнаружим, что она, с
одной стороны, сплошная череда случайностей. С другой — выяснится, что за ка-
ждой такой случайностью стоят вполне определённые закономерности.
Иными словами, всякая «случайность» «закономерна».
Задумайтесь: каков был у вас шанс появиться на свет?
Наши матери имели в среднем по 400 яйцеклеток. В одном эякуляте мужчины со-
держится примерно миллион сперматозоидов. Соответственно, вероятность того,
что наш сперматозоид встретится с нашей яйцеклеткой, составляла примерно один
на сто миллиардов. Столько людей жило на планете Земля за всю её историю. Это
ли не случайность?!
Причём были, конечно, ещё и нюансы. Например, незадолго до моего появления
на свет у моей мамы была замершая беременность. Если бы тот парень не каприз-
ничал, а всё-таки решил родиться, меня бы вообще никогда не существовало. Мои
шансы были бы равны абсолютному нулю.
То есть наше с вами появление на свет — вопиющая случайность! Ни один ста-
тистик не позволил бы нам играть в лотерею с такими расчётными шансами. В ка-
ком-то смысле (если бы, конечно, жизнь была раем) нам несказанно повезло!
Но так дело обстоит только с нашей, сугубо личной точки зрения, которая,
конечно, никого в этом мире (за исключением нас самих) не интересует. И если
займём уже известную нам метапозицию, то обнаружится следующее...
«Страдать от бессмысленности жизни и думать, что смысл в ней есть, — это
противоречие!»
В ситуации, когда половозрелый мужчина вступает в сексуальный контакт с по-
ловозрелой женщиной (которая находится к тому же в стадии овуляции), зачатие
и последующее рождение ребёнка случайностью не выглядят.
Теперь в качестве примера рассмотрим статистику смертей.
Большинство из нас умрёт от сердечно-сосудистых заболеваний (инфарктов или
инсультов), чуть меньшая часть — от рака, следующая группа — от травм (в ос-
новном это гибель в результате ДТП и суициды), и дальше длинный хвост «нор-
мального распределения»: болезни лёгких, почек, Паркинсона и прочая медицин-
ская казуистика12.
Конечно, нам лично не наплевать, от чего мы умрём и как это произойдёт. Для
нас причина нашей смерти будет выглядеть фатальной и непредсказуемой случай-
ностью. Но на самом-то деле эта случайность иллюзорна!
Как говорил один из моих преподавателей — профессор-онколог: «Все мы умрём
от рака, только не каждый до этого доживёт». Да, онкология неизбежна: раковые
клетки возникают в организме постоянно, и лишь мощный иммунитет помогает нам
с ними до поры до времени справляться. Но с возрастом раковых клеток появля-
ется всё больше, а иммунитет становится всё слабее, и в какой-то момент бит-
ва, в которой мы столько лет побеждали, будет нами проиграна. Не умереть от
рака нам поможет только то, что мы умрём от чего-то другого.
То есть всё это фундаментальные закономерности. Чем внимательнее и глубже
мы вглядываемся в то, как всё работает в этом мире, тем очевиднее становится
этот факт: строгие законы управляют и всем мирозданием, и каждым из нас в от-
дельности, а вовсе не «случай, бог-изобретатель».
Карты путает то, что у нас с вами есть то самое наше «личное мнение» (кото-
рое, как мы уже выяснили, никому во всей Вселенной не интересно). Если же его
(нас) вычесть из данного уравнения (а никто, поверьте, не всплакнёт и не
вздрогнет), то мы получим вовсе не «досадную случайность», но совершенно нор-
мальную закономерность!
Тут, наверное, надо оговориться, что в обозримом будущем пункты этого списка,
благодаря прогрессу медицины, могут поменяться местами. Но для нашего анализа это
значения не имеет.
На собственном опыте
В 23 года я заболел периферическим параличом Гийена — Барре по типу Ландри.
Это как раз та самая медицинская казуистика — примерно один случай на миллион
человек.
Заболевание настолько редкое, что в учебниках по нервным болезням ему отво-
дится ровно две строчки, которые я могу теперь процитировать дословно — вре-
зались в память (а когда учился, даже не обратил на них внимания):
«Периферический паралич Гийена — Барре по типу Ландри — восходящий паралич
аутоиммунной природы. Обычно больные умирают в течение первых двух суток».
Всё. Точка13.
Когда кто-то узнаёт про мою болезнь (меня выдаёт то, что я хожу с тростью),
то первая реакция вполне естественного сочувствия выглядит так: «Господи, как
же вам не повезло!»
Уже столько лет прошло, но это по-прежнему вводит меня в ступор.
Во-первых, мне сильно повезло остаться в живых, хотя для других эта болезнь
действительно оказалась той самой точкой. То есть многое зависит от того, с
какого угла на это дело посмотреть.
А во-вторых, и это самое главное: наличие такого жребия не есть вопрос ве-
зения или невезения. Какое-то количество людей должно было заболеть в этот
год моим Гийеном — простите — Барре, и я попал в этот список. Вот и весь
сказ!
Ещё какое-то количество людей должно было погибнуть в тот же год в резуль-
тате ДТП, у кого-то должен был родиться ребёнок с синдромом Дауна, кому-то
предстояло узнать, что у него рак яичек, а кого-то обрадовали номинацией на
Нобелевскую премию.
И в чём тут везение или невезение? Всё это происходит регулярно, в больших
количествах, и более-менее равномерно, тонким слоем распределяется по всему
народонаселению: если у вас не то, так — это, не там, так — тут.
700
600
500
400
300
200
100
0
V\
о
■«о.
5-9
15-19
Мужчины
fc^j
\у
25-29
35-39
45-49
55-59
65-69
75-79
/
/
85+
250
200
150
100
50
0
о
V
5-9
/
^
15-19
25-29
Женщины
/
i
'
d
s~^S\S
35-39
45-49
55-59
65-69
75-79
85+
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Тенденция смерти от внешних причин в России (на 1000 чел.)
Это такой общенародный банк «подарков» — огромный список событий, которые
должны были произойти с людьми на этой планете, потому что действуют соответ-
ствующие закономерности, а именно: люди подвержены аутоиммунным болезням,
13 К счастью, теперь уже не точка, а запятая — сейчас научились эффективно лечить
это заболевание с помощью процедуры плазмообмена.
гибнут в результате ДТП, рожают детей с патологией, болеют раком, получают
Нобелевские премии и т. д. и т. п.
То, что нам кажется «случайностью», есть лишь наше восприятие закономерно-
стей, осознать работу которых мы зачастую просто не в силах.
Иными словами, пока всё выглядит так, будто бы мы бездушные броуновские те-
ла, которые движутся в потоке неких событий и лишь считают их случайными, хо-
тя на самом деле всем правит некий невидимый Рок.
Подобный детерминизм кажется, конечно, несколько странным. Но на самом деле
именно он лежит в основе науки и он же, вы не поверите, обосновывает веру лю-
дей в астрологию, в «высший смысл» и прочее «провидение».
Что ж, приглядимся к этому Року повнимательнее. После того, что мы знаем об
экспериментах Либета, это тем более интересно!
Tabula
Rasa
Начни человек с изучения самого себя,
он понял бы, что ему не дано выйти за
собственные пределы.
Блез Паскаль
Если мы хотим понять, что такое этот самый Рок, нам нужно, прежде всего,
честно взглянуть на свою «человечность».
А нам ведь столько про неё всякого понарассказывали — что мы, мол, «лич-
ность», что у нас есть «самость», что мы «ответственны за свой выбор», что
перед нами «все пути открыты» и т. д. Но так ли это?
В конце девяностых — тех самых «лихих девяностых» — я подрабатывал психиат-
ром в детском приюте. И это, надо признать, был весьма отрезвляющий опыт.
Времена царили тогда, кто помнит, непростые: безработица, подчас даже го-
лод, заказные убийства, проституция, наркомания. Так что «потерянных» детей в
городе было много. В нашем приюте их держали до решения суда, а потом — или
обратно в семью, или в детдом.
Моя задача была оценить психическое состояние ребёнка, заполнить его меди-
цинскую карту и дать соответствующие рекомендации персоналу.
Но в случае, о котором я хочу рассказать, всё это было сделать, прямо ска-
жем , непросто.
Едва я оказался в тот вечер на пороге приюта, как на меня тут же напала
медсестра:
— Доктор, идите сразу в кабинет! Мы их там заперли пока. Грудничком занима-
емся, а с этими что делать — ума не приложу!
Честно говоря, сотрудников приюта, видавших всякое, удивить чем-то было
трудно, поэтому я сразу напрягся. И не зря.
— Пару часов назад привезли, — продолжала сестра, пока мы шли по коридору.
— Наркоши проклятые! Держали детей в кладовке. Все в ссадинах. Привязывали
они их, что ли?.. Я даже не знаю, сколько им лет!
В дальнем углу комнаты, сжавшись в комок, сидела девочка. Под кушеткой для
медицинского осмотра послышалось странное резкое ёрзанье, и кто-то там замер.
— Под кушеткой — двое, — сказала медсестра. — Мальчик и мальчик.
Постояв так несколько секунд, я пошёл за игрушками в игровую комнату. Вер-
нувшись , положил их перед кушеткой, а сам сел за стол.
Некоторое время я что-то писал, изображая полное безразличие. И лишь краеш-
ком глаза подглядывал за детьми.
Когда они стали подавать признаки жизни, я снова вышел — на сей раз за пе-
ченьем и конфетами.
Не помню, сколько всё это продолжалось, пока, наконец, дети привыкли к мо-
ему присутствию.
Подкроватные малыши выползли из своего убежища и принялись разглядывать иг-
рушки. Девочке я предложил сладкое и сказал, что она может дать его братьям.
На вид ей было лет десять. Речь она освоила плохо — говорила отдельными
словами, едва их выговаривая. С трудом понимала, а то и вовсе не понимала
элементарные вопросы.
Впрочем, братья — одному было на вид около шести, а другому где-то четыре —
не говорили вовсе.
Сообразив, что им ничто не угрожает, они стали кричать, визжать, драться,
не производя при этом никаких членораздельных звуков.
Передвигались мальчики на четвереньках. Старший мог встать на ноги, но,
сделав пару шагов, тут же пригибался к младшему, и начиналась очередная пота-
совка. Если их разлучали, их охватывала самая настоящая паника.
Девочка была похожа на застывшую в летаргии восковую фигуру. Она никогда не
училась в школе и почти не выходила на улицу.
Родители-наркоманы держали детей запертыми в кладовке, а сама квартира, су-
дя по всему, была обычным по тем временам наркопритоном. В таких условиях и
выросли эти городские «маугли».
«То, что нам кажется «случайностью», есть лишь наше восприятие закономерно-
стей , осознать работу которых мы зачастую просто не в силах».
Целенаправленно подобных экспериментов на людях, конечно, никогда не стави-
ли , но науке известно множество случаев подобных мауглеоидов14.
Речь идёт о детях, которые росли вне нормального человеческого общения —
кто-то среди животных, кто-то среди таких животных, как родители этих моих
пациентов.
Впрочем, в отличие от киплинговского Маугли, мауглеоиды ничем, кроме внеш-
них признаков, не похожи на человека. Дети-волки ведут себя как волки, дети-
обезьяны — как приютившие их обезьяны, а дети-овцы (встречались и такие) бе-
гают за стадом и блеют наподобие овцы.
Но если родителей этих детей, изъятых из наркопритона, можно назвать «зве-
рями» лишь в переносном смысле этого слова, в этическом, то их дети действи-
тельно были, как бы ужасно это ни прозвучало, самыми настоящими зверюшками —
без личности, без языка, без способности к человеческому мышлению.
Не знаю, как передать вам своё ощущение от взаимодействия с такими «челове-
ческими детёнышами», но поверьте — это страшное, почти парализующее зрелище.
Да, жестокая правда состоит в том, что, если нас не воспитывать как следует
— не учить языку, общению, прочим социальным навыкам, мы не станем людьми в
привычном понимании этого слова. Мы останемся теми животными, которыми в дей-
ствительности и являемся.
Только культура, которую мы усваиваем через общение, воспитание и обучение,
делает человека человеком. Без других людей мы не были бы людьми.
Наша «человечность» — это не данный богом дар, а результат соответствующего
обучения, можно сказать — дрессировки.
И сегодня учёные хорошо представляют себе, как это происходит.
Когда малыш только появляется на свет, в его мозгу, пусть и в самом зача-
точном состоянии, существует гигантское количество потенциальных нервных свя-
зей между клетками (природа заготавливает их для нас с большим запасом).
Впрочем, пока нейроны в мозгу младенца связаны друг с другом совершенно
Карл Линней, который собирал данные о подобных детях, в 1758 году предложил назы-
вать таких существ — Homo ferus, то есть «одичавшим человеком». Более выразитель-
ный термин — «мауглеоиды» (mauglioides) — был предложен А. Г. Невзоровым в его заме-
чательной книге «Происхождение личности и интеллекта человека».
хаотически, в этих связях нет никакого смысла. Это цельное полотно — большой
чистый лист, на котором можно написать практически всё что угодно. При усло-
вии, конечно, что соответствующие связи окажутся задействованными.
В реальности только часть этих связей между нейронами активизируется в ре-
зультате контакта малыша с окружающей средой. А те, что остаются невостребо-
ванными , просто отмирают.
Таким образом, в мозгу появляется уникальный рисунок взаимосвязи между
нервными клетками.
Научный факт
В 1970 году два психолога, К. Блейкмор и Дж.Ф. Купер, проводили в универси-
тете Кембриджа опыты над новорождёнными котятами: каждый день в течение не-
скольких часов они показывали им чередующиеся чёрные и белые вертикальные по-
лосы , а в остальное время держали котят в темноте.
Повзрослев, эти кошки были совершенно не способны к восприятию горизонталь-
ных линий. Всё, что научился видеть их глаз, — это вертикальные поверхности.
Этот и сотни других экспериментов доказывают: в процессе взросления перед
нами открываются специфические «окна возможностей». Это периоды, когда наш
мозг способен к усвоению тех или иных навыков. Если же этим нейрофизиологиче-
ским «окном» не воспользоваться, то незадействованные связи между нейронами
отомрут, и сформировать у нас соответствующий навык уже не удастся.
Так, например, если мауглеоид окажется в нормальном человеческом обществе в
возрасте после 6-7 лет, он уже никогда не освоит нормальной речи. Это должно
произойти раньше. Если же он окажется в обществе людей после одиннадцати лет,
то он вообще не будет способен к речевой коммуникации. Это окно возможностей
захлопнется для него безвозвратно.
Если бы мы родились в другой культуре, в других обстоятельствах, если бы
нашим воспитанием не занимались вовсе или делали это как-то иначе, то рисунок
нервных связей в нашем мозгу был бы другим, и мы сами были бы другими.
В своём знаменитом трактате «О душе» Аристотель сравнивал младенца с воско-
вой дощечкой для письма — мол, что на ней напишешь, тем он и будет. Впослед-
ствии эта идея вошла в историю философии под названием — Tabula rasa, то есть
«чистая доска».
И хотя это очень упрощённая схема, суть она отражает верно. Культура, как
папа Карло, превращает нас из поленьев в Буратин. Или, если угодно, подобно
Микеланджело, делает из нас красивые мраморные статуи. Сути дела это не меня-
ет — мы детерминированы той социальной средой, в которой выросли.
Мы были обречены стать теми, кем мы стали. И не мы это выбрали, это выбрал
за нас некий, если хотите, Рок.
Не нужно питать иллюзий, не нужно верить сказкам о том, что наша личность —
это то, что идёт своим, выбранным ею путём. Этот путь для нас крепко-накрепко
проложен другими людьми, которые создали ту культуру, в которой нас угоразди-
ло родиться.
Но если это так — что значит прожить «свою» или «не свою» жизнь? Как она
вообще может быть «нашей», если у нас не было шанса её выбрать?
Происхождение
ценностей
Змея, которая не может сменить кожу, гиб-
нет. То же и с умами, которым мешают ме-
нять мнения: они перестают быть умами.
Фридрих Ницше
Итак, нас угораздило родиться в определённое историческое время, в конкрет-
ной семье и стране. И это в каком-то смысле случай — так «карты выпали». Но
закономерность в том, что данные конкретные время и место делают людей таки-
ми , какими они себя знают.
Среди моих читателей есть те, кто родился сразу после Великой Отечественной
войны — как, например, мои родители. Кто-то, как я, — в застойные семидеся-
тые. Ну а кто-то уже после перестройки и крушения СССР — в совершенно новой,
другой стране.
Представим себе эти жизни.
Мои родители провели детство в коммунальных квартирах. Каждый из них жил в
комнатухе, которая вмещала одновременно шесть человек — представителей сразу
трёх поколений.
В школе они писали железным пером, макая его в чернильницу-непроливайку, и
до вполне сознательного возраста не имели никакого представления о существо-
вании телевизора.
В свою очередь, их родители, то есть мои бабушки и дедушки, пережившие бло-
каду Ленинграда, никогда, например, не выбрасывали еду. И, несмотря на то
что, учитывая их характеры, это было непросто, они всю жизнь прожили вместе.
Я же родился в относительно сытые годы советского «застоя»: не в коммунал-
ке, конечно, но мясо на ужин готовили только по воскресеньям (потому что «до-
рого») .
Впрочем, лично я был совершенно счастлив от того, что родился в СССР, а не
в какой-нибудь империалистической Америке. Я любил «дедушку Ленина», ездил в
летние лагеря пионерского и комсомольского актива, возглавлял пионерскую дру-
жину школы.
Наконец, моя дочь родилась уже в мире интернета и гаджетов (ещё в младенче-
стве заслюнявив пару родительских телефонов до смерти — тогда ещё они от это-
го безвозвратно ломались).
По случаю её рождения мы построили загородный дом, у неё была не только от-
дельная комната, но и няня. Поучившись в частной школе в России, Соня уехала
учиться в Америку, и ей там очень нравится. Забавно, правда?
А вот если бы Соня родилась во времена моей прабабки, то она, скорее всего,
была бы безграмотной (как и мои прабабки) — тогда уровень грамотности населе-
ния России был немногим выше процента.
Впрочем, там, где жили мои прабабки и прадеды, ещё даже электричества не
было, не говоря уже, понятное дело, об интернете.
Теперь перемножьте сто миллиардов (количество людей, живших на Земле за всю
её историю) на сто миллиардов (вероятность того, что именно вы, а не какой-то
ваш брат или сестра, появились у ваших родителей), и вы узнаете, каков был
ваш шанс родиться именно тогда, когда вы родились.
Представьте: местом вашего рождения могла быть индийская деревушка времен
Сиддхартхи Будды, далёкий аул в современном Афганистане или, например, Лондон
времён Великой чумы.
Даже если бы вы сохранили тот же набор генов, те же задатки, на выходе вы
были бы совершенно другим человеком. Такова закономерность. Случайность лишь
в том, что с вами случилось то, что случилось.
«Мы были обречены стать теми, кем мы стали. И не мы это выбрали, это вы-
брал , за нас некий, если хотите, Рок».
Но что в таком случае это «мы сами», «я сам», если нас штампуют как резино-
вые игрушки на кукольной фабрике исторического времени?
Мы пришли в этот мир, ничего толком не соображая, не имея никакой собствен-
ной позиции, и на нас надели то мировоззрение, которое на тот момент и на
данной территории было в моде.
Родись мы, например, в исламском мире, то верили бы в Аллаха, боготворили
бы Коран, считали бы нормальным иметь четырёх жён, держали бы жёсткий пост в
Рамадан и т. д. и т. п. И всё это считали бы предельно важным, суперважным!
Мы готовы были бы за это умереть!
За христианские ценности сейчас вроде как умирать не принято (за редкими
ближневосточными исключениями), но были ведь и другие времена. Появись мы на
свет в римский период, то, вполне возможно, погибли бы за христианскую веру,
так же «по случаю» нами усвоенную.
Ещё раз: нас могли бросить на съедение львам римского Колизея или сжечь в
ските, как старообрядцев при Петре I, и только потому, что так нас воспитали.
А тот, кто бы нас убивал, действовал бы по той же самой причине — потому что
его так воспитали.
Для каждого из нас в отдельности — это случайность, а по существу — законо-
мерность .
Мы винтики одной большой машины времени. Точнее даже — заготовки к винтикам
на этой конвейерной ленте. Но мы, конечно, не осознаём этого.
Мы с величайшим почтением относимся ко всему, во что уверовали, что было
нам привито, и ко всему, чему нас так заботливо выучили. И мы не можем усом-
ниться ни в себе, ни в своих представлениях о мире, словно бы это истина в
последней инстанции. А ведь это случайность...
Да, случайность, которая при этом совершенно закономерна.
И наша уверенность в том, что мы во всём «правы», а наши предки во всём за-
блуждались, — тоже.
Правда же в том, что одним из нас одно втемяшили в голову, а другим — дру-
гое. Для каждого из нас в отдельности (для меня, для вас, ваших друзей и зна-
комых) — это случайность, а по существу — закон.
Например, люди веками считали (не во всех культурах, конечно) , что брак —
это цель и смысл жизни человека, а сейчас молодые люди относятся к браку
«диалектически» и во главу угла ставят «самореализацию». Кто прав?
Прежние поколения были уверены, что правы они, а нынешнее — что правда за
ними. Но в действительности все они заблуждаются!
Все верят в свою «правду» только потому, что так получилось. Случайно.
Как говорит известный популяризатор «здравого смысла» и футуролог Жак Фре-
ско: «Если бы вы родились в племени охотников за головами, вы были бы охотни-
ками за головами. И если бы я спросил вас: "Тебя не смущает, что в твоём доме
пять завяленных человеческих голов?", вы бы ответили: "Да, смущает... У меня
всего пять, а у моего брата — двадцать!"»
Киники и скептики
Первыми, кто в этой игре «случая» разобрался, были киники — древнегреческие
философы, которых так прозвали, потому что они «жили как собаки»15.
Всё началось со знаменитого Диогена, который, впрочем, квартировал не в
бочке, как о нём рассказывают, а в большой погребальной урне (что, согласи-
тесь, само по себе говорит о том, что он не слишком страдал предрассудками).
За киниками последовали скептики — Пиррон, Тимей, Аркесилай. Они считали,
что доказать существование бога невозможно, а поэтому любое верование — это
лишь человеческий предрассудок, свойственный тем, кто не хочет или не может
смотреть на вещи здраво.
К моменту появления этих учений, а это IV-II вв. до н. э., греки уже на-
смотрелись на множество чужестранцев, которые с одинаковой силой прославляли
такое множество разных (и зачастую совершенно несуразных) божеств, что отно-
ситься к религиозной вере с прежним придыханием для мыслящих людей того вре-
мени было уже совершенно невозможно.
От древнегреческого слова kuv l ко i , kucov — «собака».
Скептики придерживались аналогичных взглядов не только в отношении религии,
но и всех общественных отношений. Впрочем, разубеждать никого и ни в чём они
не стремились, и по существу их главным суждением относительно человечества
было следующее: «Что бы дитя ни делало, только бы не плакало!»
Каким образом древнегреческие философы додумались до того, что сейчас ста-
новится нашей повседневной реальностью, остаётся вопросом.
Но очевидно, что с развитием информационных технологий нам уже не скрыться
от этого: то, что мы всегда считали «истиной», на глазах превращается в че-
репки множества частных и ничем не примечательных «правд», где одна, по боль-
шому счёту, ничем не лучше другой.
Впрочем, на это, наверное, можно возразить, что есть, мол, и «общечеловече-
ские ценности», что они фундаментальны, универсальны и не подлежат сомнению.
Хорошая попытка, как говорят в таких случаях.
Правда в том, что все наши представления о неких фундаментальных «общечело-
веческих ценностях» на самом деле являются таким же результатом культурной
пропаганды, как и все прочие «истины» подобного рода.
Человек, к сожалению, самое агрессивное, самое нетерпимое животное из всех,
что когда-либо населяли нашу планету.
То, что какие-то животные кажутся нам грозными, дикими и жестокими, — толь-
ко иллюзия. Данными качествами, что наглядно показал нобелевский лауреат, вы-
дающийся этолог Конрад Лоренц, обладает только «Человек культурный».
Ни одно другое животное не уничтожило «забавы ради» такое количество пред-
ставителей собственного вида — в междоусобных войнах и крестовых походах, в
фашистских концентрационных лагерях или отечественном ГУЛАГе.
Ни одно другое животное не создало таких средств массового истребления
ближних — начиная с обычного огнестрельного оружия и заканчивая оружием хими-
ческим, биологическим и атомным. За скобками, понятно, газовые камеры, инкви-
зиторские пытки, а также терроризм всех видов и мастей.
Об отношении человека к другим видам животных, наверное, и вовсе следует
промолчать, чтобы совсем уж не позориться. По количеству уничтоженных нами
видов, а также по совокупному деструктивному воздействию на окружающую среду
нас можно приравнять разве что к ледниковому периоду.
Впрочем, и на это, наверное, можно ответить, что всё зависит от «уровня
развития личности». Что ж, посмотрим на эту «личность»...
Цена
позора
Ну-ка, видите вы этот камзол?..
И вот уже четыре часа, как я природный дворянин.
Уильям Шекспир
В то же самое время, корда Бенджамин Либет возился со своими электродами в
Сан-Франциско, другой великий психолог обустраивал бутафорскую тюрьму в под-
вале факультета психологии Стэндфордского университета.
Никто никаких прорывов от этого исследования не ждал, но именно «тюремному
эксперименту» Филипа Зимбардо предстояло раз и навсегда изменить наши пред-
ставления о человеке.
Начиналось всё достаточно буднично... На университетских стенах появились
объявления, приглашающие студентов принять участие в научном эксперименте.
Добровольцам были обещаны деньги — по пятнадцать долларов за день работы.
За две недели можно было сколотить состояние в 210 долларов, что неплохо для
студента образца 1971 года.
Жребий определил тех, кто будет играть в эксперименте роль «заключённого»,
и тех, кто станет «надзирателем» в «тюрьме» Зимбардо. В каждой группе, как и
апостолов, по двенадцать человек.
В назначенный день «надзиратели» надели полицейскую форму и отправились по
домам «заключённых», чтобы произвести их «арест». С этого момента и те, и
другие были полностью предоставлены друг другу.
Надзиратели приняли заключённых в «участке», а затем с завязанными глазами
спустили их в «тюрьму». Там их заставили раздеться догола и встать лицом к
стене: «Руки на стену! Ноги в стороны!»
Простоять в таком виде заключённым пришлось достаточно долго — надзиратели
убирали их вещи, проводили осмотр камер, а также комментировали размеры пред-
ставших на их обозрение гениталий.
Но даже если закрыть глаза на эти традиционные «мужские шутки», нужно при-
знать , что запах власти и унижения сразу и до отказа заполнил всё пространст-
во воображаемой стэндфордской тюрьмы.
Надзиратели придумывали издевательские правила, будили заключённых посреди
ночи, устраивали досмотры, допросы и переклички.
В качестве наказания за малейшее неповиновение они отбирали у заключённых
матрасы и одеяла, сажали их в «карцер», лишали еды, заковывали в цепи и наде-
вали на голову мешки.
Новым и новым унижениям не было числа, а изворотливости ума надзирателей
можно было только позавидовать. При этом любые попытки заключённых проявить
хоть какое-то недовольство приводили лишь к усилению жестокости и вспышкам
немотивированной агрессии.
Заключённые страдали, испытывали приступы паники, плакали, просили о снис-
хождении и унижались. Уже на третий день эксперимента надзиратели требовали,
чтобы заключённые обращались к ним не иначе как «господин надзиратель». И уз-
ники «стэндфордской тюрьмы» это делали.
Незаметно для всех эта пустяшная, по сути, игра стала самой настоящей ре-
альностью — жестокой и бесчеловечной.
Задумайтесь: речь не идёт о каких-то маньяках, убийцах, извращенцах, отбро-
сах общества и т. д. и т. п. Мы говорим о совершенно нормальных, обычных сту-
дентах престижного вуза, которых просто поставили в определённые обстоятель-
ства.
И этого оказалось вполне достаточно, чтобы они превратились в тех самых
маньяков и в те самые отбросы!
Впрочем, когда я думаю об эксперименте Зимбардо, меня больше всего поражает
другой факт. Заключённые, понятно, находились в тюрьме постоянно, а вот над-
зиратели «работали» посменно — по восемь часов в день.
То есть каждый божий день они после такой вот своей «смены» возвращались
домой и — как ни в чём не бывало — исполняли роли милых и добропорядочных
граждан: любящих сыновей, обходительных любовников, подающих надежды студен-
тов. . .1б
У вас это укладывается в голове?
А теперь представьте, что на месте этих студентов могли оказаться вы. Заме-
тили бы вы то самое объявление на стене и позвонили бы в офис Зимбардо. . . Вы
думаете, что никогда бы не превратились в таких отморозков? Уверен, что вы
так и думаете.
Но не для того научная психология ставит свои эксперименты, чтобы мы по-
смотрели на какой-то загадочный — другой — вид людей. Она ставит их для того,
чтобы мы посмотрелись в зеркало. То, что случилось со студентами в экспери-
менте Зимбардо, — это то, что случилось бы с каждым из нас.
Эту правду трудно принять, я понимаю. Но это важно. Отложите чтение и про-
сто подумайте об этом: то, каким вы себя знаете, — это лишь следствие вполне
определённых внешних обстоятельств. Если они существенно изменятся, вы, веро-
ятно , уже не сможете себя узнать.
И поведение «заключённых» в эксперименте Зимбардо — лучшее тому подтвержде-
ние. Невозможно понять, почему они-то оставались в этой «тюрьме»? Никто не
вправе был их удерживать там против их воли. Отказавшись, они в худшем случае
недополучили бы какие-то деньги (причём многим, как выяснилось, они были и не
так уж нужны).
Этот вопрос до сих пор остаётся без ответа. Есть версии исследователей и
объяснения самих испытуемых, а мы с вами можем только строить догадки.
Но чего все они стоят, если действительная реальность такова, что никто из
«заключённых» не затребовал своего освобождения? Никто. Все продолжали играть
в эту игру, осознавая при этом безумие собственного положения17.
Эффект Люцифера
Незаметно для самих себя даже создатели эксперимента — учёные-психологи —
поддались его гипнозу.
Спустя 36 лет, уже имея за плечами выдающуюся карьеру и экспертный опыт ра-
боты в тюрьме Абу-Грейб (после известных случаев пыток заключённых), Филип
Зимбардо написал книгу «Эффект Люцифера. Почему хорошие люди превращаются в
злодеев». Книгу, полную раскаяния.
«Негативная власть, которой я обладал, — пишет Зимбардо, вспоминая своё по-
ведение в «стэндфордской тюрьме», — ослепила меня, она не позволила мне уви-
деть разрушительное влияние Системы, которую я создал и поддерживал. Участии-
16 Впрочем, Адольф Гитлер, по воспоминаниям современников, был милейшим отцом, доб-
рым другом и галантным кавалером.
17 Справедливости ради надо отметить, что одного заключённого всё-таки выпустили и
заменили на запасного. Счастливчик пережил настоящий нервный срыв уже на второй день
эксперимента. И все ещё не настолько заигрались, чтобы не отпустить его из стен
«тюрьмы» от греха подальше.
ки эксперимента были совсем зелёными юношами, почти без жизненного опыта. А я
был опытным исследователем, зрелым взрослым человеком. Но я постепенно пре-
вращался в Символ тюремной власти. Я ходил и говорил, как он. Окружающие от-
носились ко мне так, будто бы я был им. И я им стал. Я стал именно таким сим-
волом власти, к которым я питал отвращение всю свою жизнь, — надменным, авто-
ритарным «боссом». Я стал его воплощением. Я мог успокоить свою совесть —
ведь в качестве хорошего и доброго суперинтенданта я старался удерживать
слишком рьяных охранников от физического насилия.
Но это лишь содействовало тому, что охранники изобретали всё новые и новые
методы изощрённого психологического насилия над бедными заключёнными».
Многие слышали об этом чудовищном эксперименте, но немногие знают, что ос-
тановило тогда учёных. Ведь если бы этого не произошло уже на первой неделе
эксперимента, то ещё неизвестно, чем бы всё это закончилось. А дело было
так...
Зимбардо обратился к своей невесте — психологу Кристине Маслак — за помо-
щью. Он попросил её провести дополнительное анкетирование участников, а по-
этому на пятый день эксперимента она оказалась в «стэндфордской тюрьме». Кри-
стина пришла в такой ужас от увиденного — от всего того, что происходило в
«лаборатории» её жениха, — что разорвала помолвку.
Столь резкий шаг возлюбленной заставил Филипа вернуться в реальность. Он
осознал, что за ад на земле он создал и к чему всё это может привести. А по-
тому седьмой день эксперимента стал для его участников последним.
Но знаете, что, возможно, самое страшное? Когда тем самым «охранникам» и
«заключённым» сообщили об окончании эксперимента, никто из них не мог в это
поверить. За неделю мир настолько переменился в их сознании, что даже эта
правда казалась им пугающим розыгрышем.
«Тюремный эксперимент» Филипа Зимбардо, равно как и знаменитый эксперимент
Стэнли Милгрэма (тот, в котором люди «учили» своих жертв с помощью ударов
электрическим током), а также тысячи и тысячи других исследований дали нам
совершенно чёткий и однозначный ответ на действительные причины человеческого
поведения.
И ответ этот таков: не важно, что человек о себе думает, не важно, каковы
его личностные установки и мировоззрение, поведение человека определяется си-
туацией, в которой он оказался.
Если нам выпала роль «надзирателей», мы начинаем играть «надзирателей». Да
с такой силой, что никакому действительному надзирателю и не снилось. Мы иг-
раем так, словно бы всю жизнь учились этому у Константина Сергеевича Стани-
славского !
А вытянув жребий «заключённого», мы становимся самыми настоящими заключён-
ными — с повадками заключённого, с самоощущением заключённого, с мышлением
заключённого.
Именно этим нехитрым фактом объясняются дедовщина в армии, поведение рядо-
вых граждан, присягающих на верность фашистскому режиму, и множество других
вещей, за которые нам становится стыдно, но только если мы уже оказались за
пределами соответствующего «эксперимента».
«Человек, к сожалению, самое агрессивное, самое нетерпимое животное из
всех, что когда-либо населяли нашу планету».
Что ж, назрел, мне кажется, вопрос. . . А куда же подевались настоящие «я»
участников всех этих бесчисленных экспериментов?
Ответ в самом вопросе. Они никуда не девались. Они и не существовали. Как и
у нас с вами, их у них никогда не было.
Всю свою жизнь мы создаём в своём сознании определённое представление о се-
бе.
Но эта фантазия не стоит ровным счётом ничего. Реальные вы определяетесь
теми обстоятельствами, в которых оказываетесь. И не стройте иллюзий.
Интересно, вы всё ещё удивляетесь чувству, что проживаете «не свою»
жизнь?..
Личности
нет
Лично я — не целокупен.
Жак Лакан
Многим запомнилась эта фраза из фильма «Матрица»: «Ложки нет!»
В Матрице, возможно, дела обстоят именно таким образом. Но в нашем мире ло-
жек предостаточно, а вот личности у человека, что, конечно, противоречит вся-
кой нашей внутренней интуиции, действительно не обнаруживается.
Нео — это просто выдуманный сценаристами персонаж, но таковы и мы с вами,
сама наша личность — не более чем плод нашей же собственной фантазии.
Да, вы много раз слышали это слово — «личность». Впрочем, слово «круг» вы
тоже слышали много раз, и что? Надеюсь, вы понимаете, что «круг» — это лишь
абстракция. В природе есть вещи, которые мы можем назвать круглыми, но это не
круги как таковые, а лишь предметы, которые мы так воспринимаем.
Ирония состоит в том, что мы никогда не задумывались над тем, что на самом
деле имеется в виду, когда говорят — «личность». Что мы сами под этим словом
понимаем? На что оно указывает? Что конкретно оно должно обозначать?
Удивительно, что ответы на все эти вопросы кажутся нам вполне очевидными.
Впрочем, ровно до того момента, пока мы не пытаемся на них ответить. Тут-то
иллюзия понятности и рассыпается, подобно карточному королевству из «Алисы в
Стране Чудес».
Именно об этом ещё в IV веке до н. э. писал в своей знаменитой притче ки-
тайский философ Чжуан-цзы: «Однажды Чжуан-цзы приснилось, что он — бабочка.
Бабочка весело порхала, не ведая, что она Чжуан-цзы. Когда же Чжуан-цзы про-
снулся, то не мог понять: снилось ли ему, что он — бабочка, или это бабочке
теперь снится, что она — Чжуан-цзы?»
Но как так получается, что все мы буквально в восторге от собственной лич-
ности — пытаемся «себя полюбить», «реализовать себя», «быть собой» и т. д., а
речь на самом деле идёт лишь о какой-то иллюзии?
Ответ на этот вопрос мы находим у величайшего психолога и философа Уильяма
Джеймса. «У человека, — писал Джеймс, — столько личностей, сколько индивидов
признают в нём личность и имеют о ней представление».
Да, ваша «личность» — это что-то вроде парламента, состоящего из кучи само-
довольных идиотов. И каждый из них, когда приходит его час, взбирается на
трибуну вашего сознания, считая себя центром Вселенной.
Честно говоря, им бы и по одному не мешало у психиатра проконсультировать-
ся, да и по партийным спискам было бы неплохо. А все вместе они и вовсе пред-
ставляют собой одно сплошное безумие.
Почему же мы этого не замечаем? Всё дело и том, что вы в каждый конкретный
момент времени имеете дело только с одной своей субличностью. Потом ситуация
меняется, и вы переходите к другой, а потом к третьей и так далее.
Они, так сказать, редко в нас встречаются, и уж точно не встречаются всей
бандой разом.
Когда вы сидите в компании друзей, вы имеете дело с субличностью, которую
вы создали специально для этой компании. И, скорее всего, она имеет мало об-
щего с субличностью, которой вы пользуетесь, общаясь, например, со своим на-
чальником или подчинённым.
Когда вы один на один со своей второй половинкой, в вас активизируется уже
другая субличность. И поверьте, она сильно отличается от тех «вас», которые
общаются с продавцом в магазине, коллегами в офисе, полицейским на дороге или
с преподавателем на экзамене.
«Поведение человека определяется ситуацией, в которой он оказался».
Есть в вас субличность, воспитывающая вашего ребёнка. Но есть и сублич-
ность , которая научилась терпеть нравоучения ваших собственных родителей.
А потому не удивляйтесь, если вам хочется поскорее куда-нибудь смыться, ко-
гда ваши дети встречаются с вашими родителями.
Да, если обстоятельства сталкивают наши субличности друг с другом, нам ста-
новится откровенно не по себе — когда дискомфортно, когда неловко, а когда и
просто страшно.
Например, непонятно, как вести себя с начальником на работе, если ты с ним
вне этой работы спишь, а ваши коллеги не в курсе. Или вот как поддержать суп-
ругу «на дипломатическом приёме», если она творит что-то невообразимое и вам
за неё неловко перед окружающими? Конфликт субличностей.
Но может быть, ваша истинная личность — это то, какой вы, когда находитесь
в одиночестве? Допустим. Но куда она девается, если вы примете, например,
таблеточку ЛСД? Эффект, поверьте наркологу, будет весьма ощутимым. Хотя, ка-
залось бы, — чего такого случилось?
К вам в организм попало вещество, которое всего лишь на пару химических
связей отличается от обычного нейромедиатора. Но этого оказывается вполне
достаточно, чтобы почувствовать себя каким-нибудь диковинным животным или
пророком для всего человечества.
Так что это за личность у нас такая, что её способны уничтожить две химиче-
ские связи внутри одной молекулы?
Впрочем, если химия — это, как говорится, удар ниже пояса, то как насчёт
гипноза? Человек просто поговорит с вами, вы «заснёте», и он сможет заставить
вас делать вещи, на которые вы бы никогда в жизни не отважились и не согласи-
лись .
Куда же вдруг сбежала личность? Где она? Был ли, так сказать, мальчик?
«Я» мозга
Если вам кажется, что дело лишь в социальных ролях, которые мы исполняем в
зависимости от той или иной ситуации, а на самом деле наша личность — это
всё-таки нечто целостное и непротиворечивое, живущее само по себе, не торопи-
тесь с выводами.
Теменная доля вашего мозга отвечает за то ваше «я», которое осознаёт, где
вы сейчас находитесь. Её повреждение превратит вас в неприкаянного странника,
который никогда не знает, где он. Кстати, эти же повреждения могут вызвать у
вас и другое ощущение — что ваше тело перестало быть вашим. Да, ваше телесное
«я» — это тоже отдельная опция.
Впрочем, превратившись из-за повреждений теменной доли в вечного странника
без тела, вы, возможно, ещё будете продолжать ощущать себя центром видимого
вами мира. Однако если пострадает (от травмы или болезни) нижняя часть вашей
правой височной доли, то и это «я» вы тут же потеряете.
Та же нижняя часть правой височной доли (заодно с центрами лимбической сис-
темы мозга) отвечает за «я» ваших субъективных переживаний. Если пострадают
указанные зоны мозга, то ваши чувства и ощущения перестанут принадлежать вам.
По крайней мере, вы будете абсолютно уверены, что они принадлежат кому-то
другому.
Думаю, что эти состояния почти невозможно вообразить (и надеюсь, что вам не
придётся с чем-то подобным столкнуться). Но представьте себе человека, кото-
рый, как рассказывает Оливер Сакс, желая взять шляпу, хватается за лицо соб-
ственной жены и нянчит часы, принимая их за младенца? Что сталось с его лич-
ностью? Куда она делась?! Да, таковы факты: мельчайшее поражение мозга может
разрушить личность человека до основания.
Мы уверены в стабильности, цельности и состоятельности собственной лично-
сти. Но это не более чем иллюзия, вымысел, сказка, которую мы сами себе рас-
сказываем. Причём всякий раз по-разному.
Структура мозга (без внутренних областей).
Вероятно, вы помните себя в детстве, помните в молодости, в зрелости (если
вы уже достигли почтенного возраста). Если постараться, то вы припомните себя
и в разных состояниях — отчаявшимся, испуганным, глубоко несчастным, неспра-
ведливо обиженным, но также и невероятно счастливым, одухотворённым, испыты-
вающим страсть.
В какой из этих моментов вы были настоящими, а в какой из них вы себе вра-
ли?
Ну, правда, если в разные периоды жизни и в разных эмоциональных состояниях
вы придерживались разных взглядов (а это именно так, даже если вы сейчас об
этом забыли) , то где-то вы были, мягко говоря, неправы. Так как же понять,
какое из ваших прежних «я» было подлинным, а какое — подложным, ошибочным,
ненастоящим?
Кто из «вас» думал то, что вы и вправду думаете, а кто думал какую-то ерун-
ду? И кстати, а сейчас у вас настоящее «я» или опять что-то не то? А как вы
можете быть в этом уверены? И что вы скажете, когда и это «я» поменяется? А
это обязательно произойдёт.
Таков парадокс: мы ощущаем собственную личность, мы уверены, что обладаем
личностью, но она — лишь фикция, а её целостность — тем более.
Мы никогда не сомневались в собственной личности, мы и сейчас делаем это
только с позиций некого метасознания — как бы понарошку. Ведь я не думаю, что
мои вопросы (или даже ваши размышления над ними) и в самом деле способны по-
колебать в вас ощущение собственной личности.
Эта иллюзия — иллюзия нашего «личностного "я"» — фундаментальна.
Опыт «нервной болезни»
Прямо перед окончанием Военно-медицинской академии у меня случился тот са-
мый «периферический паралич Гийена — Барре». Но мне «повезло» не только вы-
жить , но и оказаться в весьма любопытной компании.
Один из моих соседей по реанимации поступил в неё после малюсенького ин-
сульта очень редкой локализации. В результате от его «личности» не осталось и
следа — он не узнавал жену, не понимал, где находится, нёс какую-то отчаянную
околёсицу. Но при этом, надо заметить, считал себя абсолютно здоровым челове-
ком. Медперсоналу иногда даже приходилось привязывать его к койке, чтобы он
не сбежал из реанимации.
Временами ему начинало казаться, что мы плывём на корабле, а он капитан,
который отдаёт юнге команды. Я, к слову, был тем самым юнгой и исправно от-
кликался всякий раз, когда это требовалось: «Да, мой капитан!», «Будет испол-
нено , капитан!». Этих ответов было вполне достаточно, чтобы всё остальное его
больной мозг дорисовал сам.
Причём не откликаться было рискованно: я всё-таки страдал обездвиженностью,
тогда как мой товарищ демонстрировал удивительную телесную бодрость.
Так, например, однажды ночью он вообразил, что капельница у моей кровати —
это сливной бачок унитаза. Он уже схватился за неё, чтобы «спустить воду» и
помочиться в мою прикроватную тумбочку, когда я, наконец, оставил всякие по-
пытки его переубедить и направил его к аппарату ИВЛ, скучающему в другом углу
комнаты. Пока же он с ним возился, пытаясь понять, куда в него писать, я сча-
стливо дозвался дежурного врача.
Через месяц реанимации меня перевели в палату, где жизнь и вовсе буквально
била ключом. Больной эпилепсией прапорщик замысливал планы нашего убийства —
мы все его очень раздражали. Боясь этого, многие на ночь перемещались со
своими матрасами в коридор, чтобы провести там ночь в относительной безопас-
ности .
Пожилой мужчина, страдавший атрофией коры головного мозга, каждый день при-
думывал новую болезнь, которую, как ему казалось, от него скрывают врачи. По-
том он делал вывод, что скоро умрёт, и в связи с этим придумывал новые и но-
вые планы самоубийства.
Если бы я не был к этому моменту убеждённым психиатром, то решил бы, что
оказался в сумасшедшем доме.
Но фокус в том, что все мои сопалатники были, строго говоря, психически
здоровы. Их заболевания не были психическими расстройствами, а сама их психи-
ка не была разрушена тяжёлым психозом. Они были нормальными людьми с локаль-
ными поражениями нервной ткани. Чего, впрочем, оказывалось вполне достаточно,
чтобы от прежних людей в них не осталось ничего.
Ровным счётом ничего.
Посмотреть
на себя
Институт существует только тогда, когда
субъекты верят в него, или, скорее, дей-
ствует так, как будто они в него верят.
Славой Жижек
Итак, и сама наша личность, и вообще всё, что мы о себе думаем, — это про-
сто иллюзия. Но мы совершенно не в силах этого заметить, пока не встанем в
позицию метасознания и не посмотрим на себя «сверху».
Что ж, мы встали, посмотрели и пришли, я надеюсь, в некоторый ужас... Те-
перь самое время задуматься о том, сколько всего в нашей жизни завязано на
эту, прошу прощения, «личность»!
Мы за неё переживаем, мы требуем к ней уважения, мы хотим, чтобы её любили.
Мы собираемся её развивать и совершенствовать, отправляем её на поиски «смы-
слов» и «целей».
Мы, одним словом, безумны. Или, по крайней мере, сильно не в себе.
Наша хвалёная «личность» — лишь фикция. Мы придумали себе некоего субъекта,
с которым сами себя идентифицируем. Присваиваем ему определённые качества,
рассказываем ему о том, кто он и что он. Создаём своего рода легенду, чтобы и
нам нравилось, и другим тоже было чем в «нас» восхититься.
А потом приходится держать марку... Причём исключительно ради чужих оценок!
Ради красоты собственного образа в глазах других людей. Чего мы только ни де-
лаем, чтобы суметь понравиться, утереть кому-то нос или не быть битым.
Но кто они такие — эти «другие», чьи глаза нас так интересуют? Ровно такие
же, запутавшиеся в себе и бесконечных языковых играх несчастные, прошу проще-
ния, придурки, не понимающие, что каждый из них сам по себе — лишь случай-
ность .
Впрочем, если бы всё было бы так просто... Проблема в том, что мы взаимо-
действуем не с этими реальными другими людьми, а лишь с их образами, которые
мы сами же и создали внутри нашей головы. Что эти действительные люди пред-
ставляют собой на самом деле, мы не знаем совершенно!
То есть мы не только себя придумываем для других людей, но мы ещё и их сами
придумываем — для себя. Да, нам кажется, что мы общаемся с реальными людьми,
но — задумайтесь от этом! — мы всегда говорим с тем, кого мы выдумали (кого
наш мозг выдумал на основе имеющихся у него фактов).
В результате возникает замкнутый круг, можно даже сказать — замкнутый крен-
дель: мы пытаемся что-то делать с собой, чтобы понравиться другим людям, но
мы не знаем, что им (настоящим им) важно. Поэтому мы вечно попадаем впросак,
страдаем и снова как-то над собой изгаляемся, чтобы всё-таки и как-нибудь им
угодить.
Да, таким вот загадочным и абсурдным образом мы принимаем решения о том,
какими нам следует быть, как нам жить, во что верить и так далее. Если это не
абсурд, то я отказываюсь понимать значение этого слова.
Мы играемся с пустышкой своего «я», как малый ребёнок с тряпичной куклой.
Да, она ему кажется живой именно потому, что её кормит, поит и одевает — не
дай бог она умрёт от голода и холода!
Задумайтесь: самим тем фактом, что он о ней заботится, ребёнок делает свою
куклу «живой». Это такое самоподтверждающееся пророчество. И вы поступаете
так же с собственной «личностью» — вы её оберегаете, и вам начинает казаться,
что она у вас есть.
Но если подобные игры ребёнка ещё как-то можно понять, то во взрослом со-
стоянии подобная игра с собственной же «куклой вуду» слегка, надо признать,
попахивает шизофренией.
Вы можете меня спросить — а чего ради я, собственно, привязался-то? Зачем
на это наше личностное «я» нападаю? Ну, придумали люди себе такую игрушку — и
что с того? Может, им так удобно? Проблема-то в чём?
Действительно, с «личностью» удобно. Спорить не буду. Но проблема есть — и
она заключается в нашей неадекватности реальному положению дел. Нельзя верить
во что-то несуществующее, думать, что оно существует, действовать, исходя из
этого — будто бы существует несуществующее, и не попасть в дурацкую ситуацию.
Поверьте, до тех пор, пока вы не осознаете, что любая неадекватность — это
проблема, читать эту публикацию совершенно бессмысленно: вы ничего не поймёте
и ничего не сможете в своей жизни изменить.
Осознайте это: любая наша неадекватность — это наше несоответствие реально-
сти, а если вы ей не соответствуете, это неизбежно приводит к ошибкам. И это
ваши ошибки, вы от них страдаете. И никто, кроме вас, в этом на самом деле не
виноват.
Короче говоря, мы придумали себе несуществующую личность и водим вокруг1 неё
хороводы. Чем это чревато?
Представим, что у вас есть кукла — та самая, тряпичная; и у всех есть по
такой кукле. Вам хотелось бы, чтобы ваша кукла была лучше всех остальных? Вы
не уверены? Ещё колеблетесь? А если бы кому-то пришло в голову устроить со-
ревнование всех этих кукол? А если бы от этого соревнования зависело общест-
венное признание?
О нет, тут уж мы точно забьёмся в истерике и будем исступлённо собирать
лайки. Мы даже покемонов начнём собирать в таком случае, если понадобится! Но
кто нам их даст, если все в аналогичном положении? Сколько лайков мы наберём?
Один — наш собственный. А что мы в результате почувствуем? Катастрофа!
Да, не кто-то и не что-то, а именно фикция нашей личности ответственна за
все наши неоправданные ожидания и ложные надежды. И это мы для неё, расшибая
лоб, стараемся, для этой своей куклы. Не для себя. Поэтому не следует удив-
ляться чувству, что мы проживаем не свою жизнь. Оно нам не врёт. Всё так и
есть — не свою.
И ладно если бы наша личность строилась по какому-то единому плану, в рам-
ках какой-то внятной социальной структуры.
Хоть какая-то логика была во всём этом строительстве!
У примитивных народов, например, так и происходит. Поэтому и психологиче-
ских проблем у них, кстати сказать, тоже почти нет. Конечно, ведь у них нет
того, что мы называем «личностью». Всё, чем они располагают, — это определён-
ное место в социальной иерархии и набор обязательств. Это реальные вещи, а не
фикции. Какие тут могут быть проблемы? Нет, тут всё понятно, всё по делу. И
голова не болит.
А вот строительство нашей с вами личности было одной сплошной импровизацией
— чередой нелепого стечения обстоятельств. В одних ситуациях нас вынуждали
играть одни роли, в других — другие. Где-то мы бабушке пытались угодить, где-
то — учительнице, где-то просто в мультике что-то подсмотрели — понравилось,
стали веселить почтенную публику...
Потом всё это многообразие выученных нами ролей и отрепетированных спектак-
лей было благополучно в нас перемешано. Мы умудрились совместить в голове
прямо противоположные убеждения. А теперь удивляемся, что полны внутренних
противоречий, от которых голова раскалывается.
Причём всё ведь случайно и по случаю: тут одно приклеилось, там — другое,
тут одному хотели понравиться, тут перед другим красовались. И попривыкли к
собственной внутренней противоречивости. Попривыкли, что всё через одно ме-
сто.
Вот такая иллюзия нашей личности. Ну что, дорога вам ещё эта кукла?..
Выше среднего
Американский Совет колледжей провёл исследование миллиона старшеклассников.
Подростки должны были оценить свою способность ладить с окружающими. И что же
выяснилось ?
Оказалось, что все, кто считал, что у него эти способности есть, оценили
свою способность ладить с окружающими «выше среднего». Все 100%. При этом 60%
отнесли себя к верхним 10%, а 25% (то есть четверть!) школьников и вовсе — к
верхнему 1%.
Вы скажете, что это дети, — мол, что с них возьмёшь? Возможно. Только вот и
94% учителей считают, что они выполняют свою работу «лучше среднего» педаго-
га. И 40% инженеров относят себя к верхним 5% лучших из лучших инженеров. И
врачи выступают с такими же номерами, и водители, и вообще все.
Правда в том, что каждый из нас — раб завышенной самооценки. Так что, пожа-
луйста, не удивляйтесь своему вечному разочарованию. Нас просто невозможно
оценить «по достоинству». Ну, так, чтобы нам понравилось... Нам платят не ту
заработную плату, которую мы заслуживаем. Нас не любят как следует. И непо-
нятно, где наши медали? Почему мы не на доске почёта? Почему все не падают
ниц при нашем появлении?
Впрочем, ответ на этот вопрос вполне очевиден: потому что мы неадекватны.
Хорошо, что ещё не бьют. Впрочем, и те, что не бьют, тоже, честно говоря, не-
многим лучше.
Зависимость
Никогда не позволяйте морали удерживать
вас от правильных поступков.
Айзек Азимов
Конечно, даже фиктивная личность обеспечивает нам определённые удобства. По
крайней мере, представительского свойства — она позволяет нам активно заяв-
лять о себе миру (как будто бы это его интересует) и задирать планку для соб-
ственных подвигов.
Но за все эти сомнительные, прямо скажем, удобства приходится платить.
Во-первых, вы платите своей зависимостью от чужого мнения — вы будете про-
живать не ту жизнь, которую на самом деле хотите, а ту, которую нужно, чтобы
вашу куклу (извините, личность) похвалили окружающие.
Во-вторых, вы обречены на бесконечный бег по кругу — надо же получить хоро-
шую оценку своей личности (извините, куклы), — и бесконечное же разочарова-
ние, потому что лайки и первые места все, понятное дело, уже сами себе разда-
ли.
В-третьих, если вы хоть в каком-то качестве действительно есть (а как свой
мозг вы есть точно), разве вы заботитесь таким образом о себе? Нет, вы забо-
титесь лишь о благополучии своего фантома, и всё, на что вы можете в таком
случае рассчитывать, — это фейковое благополучие.
Мы очень чувствительны к тому, как люди к нам относятся, как они нас вос-
принимают , что они о нас думают. Мы и собственной самооценкой озабочены сверх
всякой меры — удачник я или нет, тварь дрожащая или право имею? Всякая такая
муть.
И время от времени каждого из нас подобные переживания загоняют в состояние
полномасштабного душевного кризиса.
Но давайте задумаемся: о чём на самом деле идёт речь, если, вообще-то гово-
ря, нет никакого предмета для обсуждения? Нельзя же переживать за качество
фикции — у фикции просто не может быть качества. Выходит, что мы беспокоимся
ни о чём. Буквально — о пустом месте!
Правда состоит в том, что все наши представления о собственной личности, а
значит, и о её роли в нашей жизни, о её судьбе, об отношении к ней со стороны
других людей — не более чем внутренняя игра нашего же собственного ума. Это
своего рода естественная галлюцинация.
Да, таков парадокс: мы не можем ощущать себя без личности, но её нет.
Единственный шанс понять это — подняться на уровень метасознания и посмот-
реть на себя как бы сверху. Да, попробуйте и посмотрите, насколько глупая и
дурная это игра получается. Просто увидьте это и прекратите себя обманывать!
Настало время, когда вы можете сделать это.
Если у вас нет личности, и вы хорошо это понимаете, то вам и нечего защи-
щать. Я не шучу. Вы же всю жизнь тратите на это заведомо бессмысленное и про-
игрышное дело!
— Если я соглашусь с ними, то они подумают, что я слаб!
— Такого неуважительного отношения я к себе не потерплю!
— Если я неправ — значит, я дурак, а я категорически с этим не согласен!
— Эти идиоты или сделают, как я сказал, или я за себя не ручаюсь!
«Мы ощущаем собственную личность, мы уверены, что обладаем личностью, но
она — лишь фикция, а её целостность — тем более».
Не знаю, может, оно так всё и есть. Может, и правда все вокруг идиоты, а вы
на голову выше всех прочих (уж точно, выше среднего!). Но в данном случае это
не имеет никакого значения.
Важно другое: если мотивация ваших поступков определяется вашим фиктивным
«я» (и желанием его защитить), то вы находитесь вне действительной реально-
сти. Вы застряли в воображаемом мире, вы просто не можете адекватно оценивать
ситуацию и со стопроцентной вероятностью совершите ошибку.
Иллюзия любви
Вот вам наглядный пример нашей неадекватности: все мы думаем, что наш парт-
нёр должен любить в нас личность, то есть «нас самих» (как мы это называем).
Что ж, теперь вы знаете, что даёте ему задание, которое он не в силах выпол-
нить — пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Боюсь, результат бу-
дет не слишком сказочным.
Поймите: если у вас нет личности, то при всём желании её никак нельзя полю-
бить . Конечно, вам кажется, что она у вас есть, а потому вам кажется, что и
такая любовь возможна. Но это не так! В вас нельзя любить личность, потому
что её на самом деле у вас нет.
Так каким будет результат, если вы требуете от любимого человека невозмож-
ного? Ждите, что он полюбит вашу личность, хоть до второго пришествия! Не по-
любит. А почему? Потому что вы просто не учли этого парадокса. Впрочем, рань-
ше вы о нём и не знали. Но теперь-то вы знаете...
А ещё вы теперь знаете, что когда сами влюбитесь в чью-то личность — это
будет большим-пребольшим заблуждением. Потому что её у вашего предмета стра-
сти, как и у вас, нет. Вы полюбили то, что сами и придумали. Всё это, конеч-
но, закончится разочарованием и, быть может, даже трагическим.
Теперь давайте задумаемся о том, что вы собрались в себе развивать? Я имею
в виду всё это массовое помешательство по поводу «развития личности», «реали-
зации себя», «быть собой» и всё такое. Вот уже лет двадцать это просто мечта
идиота какая-то!
О чём, собственно, говорят все эти гуру, торгующие «личностным ростом»? Ка-
кую такую химеру они предлагают нам в себе развить? Накачать и без того пере-
надутое «я» до размеров Вселенной? Надо ли объяснять, с каким треском всё это
вздутие затем лопается?
Должен признаться, что в поисках личности я проштудировал горы научной и
религиозной литературы, провёл массу исследований, написал даже две моногра-
фии о феномене развития личности. И всё, что я могу нам сказать по этому по-
воду с предельной определенностью, так это то, что подлинное развитие лично-
сти заключается в осознании (действительном осознании!), что никакой личности
у вас и в помине нет.
Нет и не было никогда. И у меня тоже. Лишь виртуальная придумка, помутнение
сознания, лёгкая галлюцинация и одно большое заблуждение.
Проклятие социальных сетей
Знаменитый философ и психолог Эрих Фромм сравнил отношения мужчин и женщин
с обычным рынком. Мол, заключение браков и даже просто секс — это что-то вро-
де похода на рынок, где каждый предлагает другим свой товар.
Женщина предлагает мужчинам свою внешность, покладистость или, напротив,
строптивость, а также умение кашеварить и, например, петь песенки.
Мужчина в первую очередь демонстрирует на этом рынке свои профессиональные
достижения, социальное и финансовое положение, а за неимением оного — что-то
ещё (мускулы, например, или медаль за храбрость).
Потенциальные партнёры ищут соответствия: они переводят свои достоинства и
недостатки в некие условные единицы, и когда ставки с двух сторон совпадают,
заключается союз.
В 70-х годах прошлого века психологи очень интересовались этой темой и вы-
яснили, например, что если внешность партнёров более-менее равнозначна по ка-
честву, то через год отношения в этой паре становятся лучше, а если физиче-
ская привлекательность сильно различается — то хуже.
Но всё это дела давно минувших дней... Хотя и немногие понимают, насколько
радикально социальные сети изменили психологию современного человека.
Фокус в том, что жизнь каждого «сетянина» превратилась в самую настоящую
витрину, а это привело к ряду весьма специфических последствий. И возможно,
главное из них касается представлений сетян как раз о собственной «личности».
Страница в социальной сети — «ВКонтакте», Facebook, Instagram — это, конеч-
но, новый вид фроммовскохю рынка. Соответственно, поскольку товар надо пода-
вать лицом, все здесь стремятся выглядеть лучше, чем они есть на самом деле.
То есть надсадно и безостановочно врут. Причём часто совершенно не осознавая
этого, а если и понимают, что заврались, то всё равно ничего не могут с собой
поделать.
Это приводит к парадоксальному эффекту.
С одной стороны, заядлому сетянину, который сравнивает себя с другими вру-
нами, начинает казаться, что он живёт значительно хуже, чем они. На страницах
его «друзей» дорогие машины, яхты и частные самолёты плюс фотки еды из мишле-
новских ресторанов и балийские пейзажи. А где у него это всё?!
С другой стороны, анализируя собственный профиль в социальной сети, такой
сетянин начинает переоценивать самого себя. Разглядывая собственные профильт-
рованные фотографии и обнаруживая лайки под своими постами, он автоматически
считает себя красивее, умнее и перспективнее, чем он есть на самом деле.
То есть он и сам теперь уверен, что заслуживает большего. Ему кажется, что
жизнь к нему несправедлива. В результате он уже заведомо не удовлетворён —
раз, и страдает завышенными ожиданиями — два. Всё это с неизбежностью обора-
чивается разочарованиями.
Конечно, всякий мог бы посмотреть на это дело здраво, устранить противоре-
чия и войти, как говорится, в разум. Чего я всем желаю, кстати говоря! Но на-
ши мозги играют в другие игры. Например, в такую — как объяснить себе всё
так, чтобы выглядело подраматичнее и ничего не надо было с этим делать?
Вот, пожалуйста, вариант ответа: среднестатистический сетянин считает, что
он прекрасен (результат анализа собственной страницы), но судьба обошла его
стороной (результат анализа «дружеских» страниц), а потому — и это типа «ло-
v-» 18
гическии силлогизм» — мир ужасен . Что тут поделаешь?..
Впрочем, это лишь самая верхушка айсберга. Есть и масса других проблем. На-
пример, сетянин уже не может быть разным для разных людей — в социальной сети
тебя обнаружат и твои друзья, и супруг, и родители, и работодатель, и любов-
ник с любовницей. Как умудриться всё это согласовать? Вопрос на засыпку.
К сожалению, сетяне решают эту проблему опять-таки парадоксальным образом —
они на всё это откровенно «забивают»!
И если раньше социальная коммуникация в духе Уильяма Джеймса представляла
собой сложную игру, которая вынуждала человеческие мозги тренироваться, то
Нет в мире совершенства. Нет в этом мире справедливости.
сейчас объявлено, что всякий имеет право на «личное мнение» (ещё один неви-
данный зверь), а потому даже задумываться над чем-либо больше не надо и можно
смело производить любые глупости при всём честном народе.
И пусть только кто-нибудь попробует меня за это укорить! Это моя личность!
И хрестоматийное уже: «Я так самовыражаюсь!».
Не попишешь...
Так что же
мы такое?
Каждую ночь я умираю, когда ложусь спать.
И на следующее утро я снова рождаюсь.
Махатма Ганди
Относиться к себе слишком серьёзно — это смешно.
Никто из нас, сколь бы мы прекрасными ни были, ничего особенного собой не
представляет. Миллиарды людей жили до нас, миллиарды живут вместе с нами,
миллиарды, надо полагать, будут жить после.
А потом всё это вообще взорвётся к чёртовой матери и растает в небытии но-
вого «Большого взрыва», ну или просто в аккуратной «чёрной дырочке», цедящей
едва заметным излучением товарища Хокинга19.
Не надо думать, что мы что-то с чем-то! Просто не надо.
В общем объёме мироздания мы даже на пылинку не тянем. И в этом отношении
ровным счётом ничего не изменится, даже если мы возглавим планету или нас
признают величайшим из всех великих.
Мы сами, как я уже говорил, — это просто наш мозг. То есть, грубо говоря,
полтора килограмма нервных клеток.
Но в последнее время стало очень модно щеголять цифрами и сообщать, на-
сколько мозг крут. Мол, в мозгу такое количество клеток, что ого-го-го, и это
чудо какое-то невообразимое.
Знаете, у нас с вами в кишечнике бактерий как минимум в пятьсот раз больше,
чем клеток в мозгу, — и что с того?
Мифы о мозге
Расплодилась тьма духоподъёмных мифов о невероятности нашего мозга. Очень
мы гордимся этим своим желе в костной коробочке! И так нас от этой гордости
распирает, что здравый смысл отказывает напрочь.
Вот говорят, например, что связей между нейронами в мозгу больше (сугубо
теоретически), чем атомов во Вселенной. Поражает воображение, правда? Очень
умный, должно быть, у нас мозг! Прямо супермашина!
Проблема в том, что у банального кубика Рубика (с учётом положения цен-
тральных элементов) 88 секстиллионов 580 квинтиллионов 102 квадриллиона 706
триллионов 155 миллиардов 255 миллионов 88 тысяч комбинаций.
Он что, Эйнштейн? Или, может, Леонардо да Винчи?
Не спорю, мозг — машина, конечно, сложная. Но поймите правильно — у любого
умственно отсталого субъекта связей в мозгу не намного меньше, чем у гения из
первой десятки. Вопрос не в количестве, а в качестве этих связей.
И ещё надо всегда избирать адекватный угол обзора. Вот говорят, мол, наш
мозг настолько сложен, что не существует ещё компьютера, который был бы мощ-
нее его20 . Согласитесь, тоже впечатляет невероятно!
19 Излучение Хокинга — гипотетический процесс излучения чёрной дырой разнообразных
элементарных частиц, преимущественно фотонов.
20 Недавно, впрочем, объявили, что всё — создали, наконец.
Но, во-первых, никто не уточняет, какая именно мощность имеется в виду... А
во-вторых, и это главное — чем тут хвастаться, если это наш мозг, такой вроде
бы невероятный, так и не смог создать адекватную себе машину?
Это чья недоработка-то? Машины, что ли, которую мы создать не можем? Ну да,
хил наш мозг — не справляется пока. Но очень старается. Не один, впрочем. Ты-
сячи тысяч учёных, инженеров и программистов эту машину варганят совместными
усилиями. Одну на всех.
Чем гордиться-то?
Человечество коптит эту планету примерно двести тысяч лет. Но для эволюции
это абсолютно мизерный срок. Она не скачет галопом, и за это время у челове-
ческого мозга не было шансов значительно измениться. То есть наши мозги — по
сути мозги кроманьонца.
Иными словами и чисто теоретически: если бы мы нашли возможность клониро-
вать кроманьонца, а затем воспитали бы его в обычном человеческом обществе,
то этот представитель другого биологического вида (!) , хотя и тоже человече-
ского, был бы, возможно, вполне себе разумным существом, под стать нам с ва-
ми.
Поэтому, прежде чем бить себя в грудь, рассказывать про мощь нашего созна-
ния и величие наших «личностей», имеет смысл посмотреть этой правде в глаза и
прекратить, наконец, всякое «головокружение от успехов».
Итак, что же мы собой представляем, если и сознание, и личность — это вещи
или глубоко вторичные, или и вовсе эфемерные?
У нас действительно есть мозг, а точнее — мы и есть он. Психика — это, гру-
бо говоря, его производная. С помощью психики мы усваиваем культурные навыки
— язык, речь, социальное взаимодействие и кое-какой (на самом деле не очень
значительный) набор знаний.
То есть что-то нам дала природа, что-то — культура, но сами по себе мы не
сделали ничего выдающегося. Задумайтесь: вы вовсю пользуетесь языком, хотя не
изобрели в нём ни единого слова. Даже ваши мысли — и те вы на самом деле у
кого-то позаимствовали.
Наша психика определяется психотипом — кто-то из нас более быстрый, кто-то
помедленнее (кстати, большинство гениев, как правило, тугодумы), кто-то быст-
ро истощается (спринтеры), кто-то способен держаться долго (стайеры), кто-то
больше по образам, кто-то — по абстракциям, а кто-то, так скажем, реалист.
Собственно, это всё. Вы кто-то из комбинации этих «кто-то».
Плюс на основе всего этого «многообразия» формируются наши навыки и опыт.
Тут, конечно, вариантов больше, но, по сути — вопрос в количестве автоматиз-
мов , которые мы смогли к настоящему моменту у себя выработать.
10000 часов
Вопрос гения, таланта и одарённости — весьма проблематичный. Гении мы с ва-
ми или нет — покажет вскрытие, причём историческим временем. Или не покажет.
Иоганна Себастьяна Баха забыли на сто лет, причём могли потом и не вспомнить.
Хотя меньше бы он от этого Бахом, я полагаю, не стал.
В общем, жить с чувством, что ты гений, но тебя не оценили по достоинству,
дурная трата времени. Такой беде не помочь. Впрочем, большинство переживает и
из-за более тривиальных вещей — как бы жить так, чтобы заниматься «своим де-
лом» и иметь в этом деле успех? Учёные на этот вопрос ответили.
Пару десятилетий назад немецкий психолог Андрее Эриксон и его коллеги про-
вели весьма забавное исследование выпускников берлинской Академии музыки.
Всех студентов-скрипачей разделили натри группы:
1) потенциальные солисты мирового класса,
2) «перспективные музыканты», и
3) те, кому светит карьера школьных учителей музыки, если они это занятие со-
всем не забросят.
Дальше психологи принялись считать — сколько часов тренировались в музы-
кальном мастерстве представители каждой из групп. Результаты поразили мировую
культурную общественность. Выяснилось, что представители первой группы к на-
стоящему моменту наиграли 10000 часов, второй — 8000, а третьей — около 4000.
В чём драма культурной общественности? В том, что дело, как выясняется, не
в таланте, не в природном даровании и даже не в каком-то мистическом гении, а
банально в том количестве времени, которое человек затратил на соответствую-
щую тренировку мозга.
В своем бестселлере «Гении и аутсайдеры» Малкольм Гладуэлл приводит множе-
ство примеров, показывающих, что любая «гениальность» — это по большому счёту
лишь 10000 часов труда и пота (и в этом он практически единодушен с Альбертом
Эйнштейном). Мол, таково магическое число успеха, и не важно, о чём идёт речь
— о музыке, программировании или поварском мастерстве.
«Задумайтесь: вы вовсю пользуетесь языком, хотя не изобрели в нём ни едино-
го слова».
Это, конечно, не совсем так, и исследования Эриксона неоднократно подверга-
лись заслуженной критике. Но и от правды, которую они продемонстрировали, то-
же никуда не уйти.
Понятно, что наши мозги имеют некоторые особенности: одни больше способст-
вуют определённому делу, другие — меньше. В конце концов, все скрипачи в ис-
следовании Эриксона были скрипачами, а не гонщиками Формулы-1 и обучались в
музыкальной академии, а не на скоростной трассе.
Гонщиков можно сравнивать только между собой, а скрипачей — со скрипачами.
Впрочем, если соответствующий выбор сделан, и человек стал совершенствовать
себя в определённом навыке, то вероятность успеха действительно сильно зави-
сит от интенсивности подготовки.
Впрочем, подлинный секрет правила 10000 часов кроется в другом.
Мы все почему-то считаем, что «наше дело» — это то занятие, от которого мы
сразу начнём получать удовольствие. Но это не так, потому что интерес — по
самой своей физиологической природе — вещь очень нестойкая.
Интерес — это лишь сложная ориентировочная реакция: «ух!» и «вау!». Но как
только малейшая определённость появляется, тут же обнаруживаются и первые
трудности освоения этого навыка, за чем следует: «Да ну его...»
Фокус в том, что настоящее удовольствие мы получаем от дела, которое у нас
действительно очень хорошо получается, буквально — лучше всех. А для того
чтобы научиться делать его так, нам как раз и нужны эти 10000 часов. Пока вы
набираете свои 10000 часов, вам может казаться, что вы вообще не тем заняты!
Короче говоря, нравится вам то дело, которым вы заняты, или не нравится, вы
узнаете об этом только после того, как станете в нём действительно асом.
Впрочем, после того как вы им станете, оно и вправду, скорее всего, начнёт
вам нравиться. А коли так, вы будете уверены, что оно «ваше».
И теперь у меня маленький вопрос (если вы действительно внимательно читаете
эту публикацию, а не просто перелистываете страницы): чего вам недостаёт,
чтобы, например, хорошо понимать то, в каких отношениях ваш мозг находится с
вашим сознанием?
Да, это те самые 10000 часов работы с научными исследованиями (включая реф-
лексию, интроспекцию и обучение у профессионалов). А сколько нужно времени,
чтобы научиться правильно обходиться с собственной жизнью?
Как минимум те же 10000 часов проработки этого вопроса.
Да, я знаю, что вы хотели бы проскочить необходимые часы и получить ответ
на все свои вопросы немедля. Но так, к сожалению, не бывает.
Надеюсь, что вы действительно хотели услышать правду. И она такова.
Понимаю, что она не может нравиться. Да я и сам регулярно чувствую нечто
подобное: очень хочется, чтобы всё и сразу, причём на блюдечке да с голубой
каёмочкой, и красиво завернуть. Идеальный, конечно, был бы вариант. Но это
как раз тот случай, когда мечтать вредно.
Вспомните, сколько часов, лет кряду вы изучали математику, алгебру и гео-
метрию. . . Много, правда? А чему научились? Думаю, вы вряд ли считаете себя
Григорием Перельманом. Впрочем, и профессионал скажет вам, что он «плохо раз-
бирается в математике, разве что только в отдельных её областях». А уж им ли
не знать?..
Закономерность
Люди лишь по той причине считают себя
свободными, что свои поступки они соз-
нают , а причин, их вызвавших, не знают.
Спиноза
Расскажу о нескольких психологических трюках.
Если вы хотите, чтобы человек думал, что у него «хорошая жизнь», попросите
его вспомнить о трёх радостных событиях недавнего времени, а потом расспроси-
те о трёх плохих событиях, которые имели место пять лет назад.
Напротив, если вам пришло в голову заставить человека почувствовать, что
жизнь его никуда не годится, спросите его о трёх последних несчастьях, а по-
том разузнайте, что его радовало — да, правильно — те самые пять лет назад.
Как вы догадываетесь, этот трюк можно провести с одним и тем же человеком,
и его самооценка будет разной в зависимости от того, какую последовательность
воспоминаний вы побудили его воспроизвести.
Если же вы работаете психотерапевтом и вам надо знать, что человек думает о
своём состоянии на самом деле, то сначала решите вопрос с погодой. Нет, я не
шучу. Плохая погода делает наши самоотчёты более пессимистичными, а хорошая —
наоборот, более позитивными. Но если сначала расспросить человека о погоде,
то влияние «погодного эффекта» на его самооценку будет нивелировано.
Если вы, например, политтехнолог и вам нужно, чтобы человек поубавил либе-
ральности, имеет смысл предварительно дать ему поразмышлять о неизбежности
смерти. Как только он её прочувствует, вы удивитесь, насколько быстро можно
переделать либерала в консерватора.
Если же вы вдруг работаете адвокатом (или собираетесь им стать), возьмите
на заметку: чтобы получить у присяжных нужный вам вердикт, дайте им побольше
узнать вашего подзащитного «с человеческой стороны» — каким он был в детстве,
кем работали его папа и мама, держит ли он дома собаку.
«Мы сами, как я уже говорил, — это просто наш мозг. То есть, грубо говоря,
полтора килограмма нервных клеток».
И ещё для юристов: старайтесь подгадывать так, чтобы судья выносил важное
для вашего клиента решение, будучи сытым. Таким образом вы можете увеличить
свои шансы в два раза! Впрочем, аналогичный трюк сработает, я полагаю, и в
любой другой конторе, включая и процесс сдачи экзаменов.
Если вы совершаете с кем-то пешую прогулку, и ваш приятель идёт слишком бы-
стро, но вам как-то неловко попросить его сбавить шаг, используйте такой спо-
соб : спросите, что он помнит о своих бабушках и дедушках. Он пойдёт медлен-
нее, уверяю вас!
Если же вы просто с кем-то встречаетесь в кафе — по делу или у вас что-то
типа свидания, — лучше, чтобы ваш визави пил горячий напиток. Вы в этом слу-
чае будете восприниматься им как более тёплый и достойный доверия собеседник.
И на закуску к этим рассуждениям о еде и питье, по-дружески: размещая фото-
графию на сайте знакомств, сделайте так, чтобы вы на ней были в красном. Хоть
фотошопом! Просто в красном, ага.
Все эти трюки — результаты исследований социальных психолоров. Изучив их
эксперименты, вы можете составить целый каталог подобных манипулятивных тех-
ник на все случаи жизни21.
«Как такое возможно?» — спросите вы. Просто потому, что ничто в этом мире
не случайно.
Наше поведение определяется чёткими закономерностями. Да, не все они оче-
видны, и да, их настолько много, что часто их эффекты взаимно перекрывают
друг друга. Но это вовсе не означает, что мы что-то делаем «просто так»,
«случайно». Мы подчинены закономерностям жизни, потому что мы сами её часть.
Наше поведение продиктовано огромным количеством самых разнообразных факто-
ров . Все их учитывает наш мозг, и лишь маленькая толика доступна осознанию
(хотя, конечно, мы уверены, что ум наш трезв и всё о себе мы понимаем пра-
вильно) .
Судьи и присяжные из моих примеров, не сомневаюсь, поклянутся на Библии,
что, вынося свои решения, они действуют объективно и рассудочно. Проблема в
том, что их сознание просто не видит того, как их мозг принял то или иное ре-
шение . Механика принятия решений скрыта от нашего сознания.
Но это никакая не случайность! Действие соответствующих факторов — сытости,
информации личного свойства и т. д. — абсолютно закономерно: если воздейство-
вать ими на мозг человека, то он будет вести себя иначе, нежели в условиях
голода или отсутствия соответствующей информации.
При этом и судья, и присяжные, конечно, полагают, что их решения были обу-
словлены другой «закономерностью»: внимательным и подробным изучением фактов,
анализом и объективной оценкой случившегося. Ну не без этого, разумеется. Но
по сути — бла-бла-бла.
В чём же здесь фундаментальная ошибка? Понятно, что мозг может запутать
сознание, предоставив ему только часть информации. Но есть ведь и другие при-
меры случайностей — например, предательство друга, измена партнёра, крушение
бизнеса. Это, спросите вы, тоже закономерно?!
Так точно.
Причина, по которой мы этих закономерностей не видим, не замечаем и не
осознаём, в том, что мы инстинктивно и ошибочно полагаем себя центром миро-
здания, а это, конечно, не так.
Геоцентрическая модель Вселенной, созданная Клавдием Птолемеем, обнаружива-
ла массу небесных «случайностей» — неких необъяснимых (с точки зрения этой
модели) космических событий. Почему? Просто потому, что отношения между пла-
нетами и светилами были установлены Птолемеем неправильно.
Но стоило Николаю Копернику устранить эту ошибку и всё поставить на свои
места — в частности, заставить Землю крутиться вокруг Солнца, а не наоборот,
— как тут же все прежние «случайности» испарились. Точнее говоря, они вслед-
ствие открывшихся человечеству небесных закономерностей перестали таковыми
казаться.
Мы допускаем ту же самую ошибку: считая себя центром мироздания, мы всё со-
относим с собой, и считаем себя точнейшим измерительным прибором. Мы такая
«Альфа и Омега», как нам кажется (даже если мы сами себе в этом не признаём-
ся) .
Правда в том, что мы не являемся даже центром собственной жизни (не говоря
Множество подобных исследований проводится постоянно, ведь возможность влияния на
наше поведение дорогого стоит. Так что особенно их много уже даже не в социальной
психологии, а у нейромаркетологов.
уже о чём-то большем). И масса «случайностей», которую мы в ней обнаруживаем,
является лишь следствием нашего эгоцентризма.
Все эти мнимые «случайности» нашей жизни возникают в результате действия
двух механизмов:
■ мы допускаем ошибки в своих расчётах просто потому, что сознание не видит
всего, что думает и делает наш мозг, а также какие факторы в тот или иной
момент он учитывает (приведённые выше «трюки» хорошо это иллюстрируют);
■ мы страдаем фундаментальной погрешностью своего измерительного прибора
(которым, впрочем, сами и являемся) — мы соотносим все события с собой,
имеем на всё «своё мнение», словно мы — центр мироздания, а это, мягко го-
воря, не совсем так.
Теперь, надеюсь, вы сможете осмыслить этот, конечно, весьма парадоксальный
вывод: всё в этом мире закономерно, и всё, что кажется нам «случайным», —
только эффект восприятия.
А из этого с очевидностью следует: всё, что мы имеем, всё, что представляет
собой наша жизнь — в личном плане, профессиональном или в каком-либо ином, —
«случилось» не просто так. Всё это произошло закономерно.
«Задумайтесь: вы вовсю пользуетесь языком, хотя не изобрели в нём ни едино-
го слова».
Но это ещё не всё. Сделаем следующий шаг.
Зададимся вопросом: когда нам приходится придумывать нелепые объяснения на-
шим поступкам или каким-то событиям?
Тогда, когда мы не видим истинных закономерностей. То есть всегда, когда мы
сталкиваемся со случайностью (которая на самом деле, конечно, таковой не яв-
ляется) , нам нужно объяснение. Придумаем ли мы что-то «умное» в таком случае?
Даже если и да, то это «умное» будет ошибкой.
Почему, скажем, друг вас предал? Конечно, если вы пораскинете мозгами, то
быстро найдётесь с ответом — возможно, «он плохой человек» или, например,
«деньги способны испортить любого». Вы превратите то, что показалось вам слу-
чайностью (вы же не думали, что предательство с его стороны неизбежно и зако-
номерно !), в некую ложную закономерность.
На самом деле эта «ложная закономерность» является удобным для нас объясне-
нием. Задача объяснения — спрятать от нас действительное положение вещей,
скрыть истинное противоречие. Нам же, если мы хотим добиться действительных
результатов, нужно не прятать от себя противоречия, а настойчиво и последова-
тельно выявлять их!
Как мы рассуждаем в таких случаях? Мы считаем, что друзья не должны нас
предавать, правильно? Правильно. А вот тут, понимаешь, друг предал. Противо-
речие? Да. Случайность? Да. Но и то и другое, как мы уже выяснили, — лишь
ошибка, иллюзия.
Если вы как следует над этим задумаетесь, то обнаружите следующее: люди
всегда остаются людьми (друзья они нам или не друзья, значения это не имеет),
а люди всегда действуют в собственных интересах. Иногда мы входим в сферу
чьих-то интересов, а иногда — нет, и именно это важно.
Когда входим — с нами дружат, не входим — не дружат. Такова голая правда.
Если мы человеку интересны, приятны, если ему с нами комфортно, нравится с
нами общаться, если ему важны наши советы, то он с нами дружит, приятельству-
ет , а может быть, даже любит нас. Но это всегда не просто так. Будьте реали-
стами ! Может быть, в основе этой его симпатии к вам лишь ваши красивые глаза.
Ну и что? Всегда есть это «что-то», что является для данного человека ценным
в ваших с ним отношениях.
Если же мы вдруг по каким-то причинам, о которых, возможно, знает только
мозг наших друзей, приятелей и любовей (сознание всегда будет заблуждаться и
нести самую отвязную объяснительную чушь), перестаём входить в сферу их инте-
ресов, они перестают с нами дружить, приятельствовать с нами и любить нас.
Это нормально.
И мы ведь точно такие же! Если нам человек нравится, если нам с ним хорошо,
если он нам почему-то важен и нужен, то мы его любим, мы с ним дружим. Но по-
том, когда что-то происходит в нашем мозгу (мы не осознаём, что именно, а
возможных факторов множество!), мы перестаём в этом человеке нуждаться. Чув-
ство тут же исчезает как дым.
Может, мы и относимся к нему по-прежнему хорошо, но если он нам больше не
нужен так, как прежде, наше поведение по отношению к нему, конечно, изменит-
ся, а он, вполне вероятно, может почувствовать себя преданным.
Закономерно ли наше поведение? Да. Может ли оно показаться кому-то амораль-
ным, несправедливым и даже безнравственным? Может. Но то, что оно кому-то та-
ким кажется, не меняет существа дела. А уж тем более не может изменить соот-
ветствующей закономерности.
Закономерно ли в таком случае, что время от времени друзья от нас отворачи-
ваются, приятели растворяются в воздухе, любимые люди перестают любить нас —
изменяют, уходят к кому-то третьему? При всём при том, что это ужасно непри-
ятно , это ещё и закономерно. Так происходит.
Повлияли ли какие-то наши собственные действия на то, что другой человек
так поступил с нами? Безусловно, да. Были ли именно эти факторы определяющи-
ми? То есть именно ли из-за этого он так поступил с нами? Скорее всего, нет.
При принятии решений наш мозг учитывает огромное число факторов, а какие
именно — наше сознание, как правило, даже не догадывается.
Конечно, если мы хорошо разбираемся в человеческой природе, в мотивах пове-
дения людей, в психологических механизмах и т. д. и т. п., мы с большой долей
вероятности определим факторы, повлиявшие на причины его решения. Но поверь-
те, полного списка «причин» у нас не будет никогда, и у него их нет — как бы
он себе (или нам) своё поведение ни объяснял.
Случайность — иллюзия. Если же что-то кажется нам случайным, странным, из
ряда вон выходящим — приглядитесь внимательнее, вы точно найдёте там противо-
речие . А если вы найдёте противоречие, то сможете его разрешить и перестанете
страдать.
Вот зачем всю эту главу я рассказывал вам о том, что никакой «личности» у
нас нет, а культурные нормы — это своего рода блеф (лишь выученные нами импе-
ративы, которым, впрочем, наш мозг может легко сопротивляться, если ему это
зачем-то нужно).
Нет какого-то установленного извне правила, которое наш мозг не мог бы на-
рушить , если ему вдруг очень приспичит. Поверьте, он найдет способ одурачить
«куклу», возомнившую себя центром мироздания и главой собственного мозга, ко-
торый её же и производит.
До тех пор пока мы будем пестовать идею некой своей «личности», до тех пор,
пока мы будем считать исповедуемые нами «нормы», «смыслы» и «ценности» исти-
ной в последней инстанции, мы с неизбежностью будем наблюдать вокруг себя
массу «случайностей».
Какие-то «случайности», возможно, будут нас и радовать, но, так или иначе,
дело кончится плохо. С ошибками всегда так — неизбежное крушение воздушных
замков и последующее разочарование. Впрочем, большинство «случайностей» сразу
бьют нас наотмашь и с ходу отправляют в нокаут депрессии.
Что со всем этим безобразием делать? Тут всё просто: нам нужна смелость
смотреть правде в глаза. Даже если неприятно, лучше это «неприятно», чем не-
избежные последствия подобной слепоты. Везде действуют закономерности, и мы
должны выявлять их, а поможет нам в этом разрешение соответствующих противо-
речий .
И как только вы сделаете это несколько раз: превратите «случайность» в
«противоречие», а затем разрешите это противоречие, мир предстанет перед вами
другим. Вы увидите его подлинным и настоящим, светящимся величием и удиви-
тельной красотой его закономерностей.
«Случайность — иллюзия».
Понимаю, что многое из того, о чём я рассказываю, может вызвать у вас чув-
ство тревоги. Ну, правда, получается, вроде как, что и на других людей нельзя
полагаться, и друзья — это лишь фикция, и любимые люди — себе на уме. В ка-
ком-то смысле — да, это так. Но прислушайтесь к себе — в вас говорит ваша
личность, которой нет, и ценностные установки, которые гроша ломаного не сто-
ят .
Если вы действительно сможете осознать, что ваша личность — это надуманная
иллюзия, а ценности — просто условности, которые приняты в обществе и призва-
ны, насколько это возможно, дисциплинировать граждан, то вы освободитесь от
заблуждений и лжи, а будучи свободными, вы иначе увидите всё то, что, возмож-
но , кажется вам сейчас таким «ужасным».
Мир не ужасен. То, как мы организуем себя в нём, составляет проблему. Но не
для него, конечно. Для нас.
Неизвестный конец «Матрицы»
До сих пор я цитировал только первый фильм культовой трилогии «Матрица».
Второй и третий не снискали такой же зрительской любви и были без восторга
встречены кинокритиками.
Возможно, это связано с конфликтом, который произошёл между братьями Вачов-
ски и продюсером фильма Джоэлом Сильвером.
Сильвер хотел добиться традиционной для Голливуда «сценарной арки»: борьба
добра со злом, почти побеждающее зло, полумистическое преображение «героя» и
победа всего хорошего над всем плохим. В сущности, такую трилогию и увидели
зрители. И именно в таком виде она их, судя по кассовым сборам, разочаровала.
Вачовски представляли себе всё по-другому. Оригинальный сценарий откровенно
выходил за рамки традиционного шаблона, сформированного христианским мифом
(желающие узнать подробное описание несостоявшейся экранизации могут легко
найти эту информацию в Сети, а я скажу лишь о самом главном).
Развязка предполагалась и вовсе предельно драматичной — абсолютная гибель
всех и вся. Должен был взорваться главный компьютер, создающий Матрицу, долж-
ны были умереть все люди в капсулах и Архитектор Матрицы, должен быть исчез-
нуть Зион вместе с Морфеусом и борцами Сопротивления. Ну и конечно, трагиче-
ская смерть возлюбленной Нео — Тринити, да и его самого.
То есть зритель до самого финала должен был находиться в полной уверенно-
сти, что это вообще всё — полный, так сказать, конец.
Но вот последняя сцена. Нео открывает глаза в той самой белой комнате, в
том самом красном кресле. Появляется Архитектор и объясняет ему очевидное:
нужно быть полным идиотом, чтобы не понимать, что весь «реальный мир», за со-
хранение которого Нео так страстно боролся, был лишь одной из частей Матрицы.
Нео не замечал очевидного противоречия — уничтожить Зион для Матрицы не со-
ставляло никакого труда. Более того, само его существование без энергии, ко-
торую Матрица добывает из человеческих тел, было невозможно. То есть никакого
свободного Зиона быть не могло! А потому на самом деле ничего не погибло,
происходит ещё одна, очередная, перезагрузка системы.
И вот Нео снова просыпается в своей постели, выключает будильник, одевается
и идёт на работу, теряясь в толпе. Ему снова предстоит воодушевлять людей на
спасение мира, который в любом случае не может погибнуть. Матрица не умирает,
она просто сбрасывает старую кожу. То есть всё вернётся на круги своя, и ни
одна из закономерностей не будет нарушена.
Специалисты считают этот вариант сюжета абсолютной антиутопией, то есть са-
мым ужасным-ужасным-ужасным представлением о реальности. Но ирония заключает-
ся в том, что это не утопия и не антиутопия, а собственно тот мир, который
нам дан: единый и цельный, с чёткими закономерностями — повторяющийся и само-
воспроизводящийся .
И вся суета внутри этого мира — это не способ спасти его и не способ что-
либо разрушить, а просто ещё одна его — такая — закономерность.
В завершение третьего фильма Архитектор говорит: «В Седьмой Версии Матрицы
миром будет править Любовь». Было бы очень круто. Осталось исключить мнимые
случайности и разрешить внутри себя все противоречия.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
БОГАТСТВО ВЫБОРА
Ум имеет дело только со своими собст-
венными проекциями. Он не имеет никако-
го отношения к тому, что вне его.
Джидду Кришнамурти
Нам выпало жить в непростое время. Хотя объективно «всё хорошо» и даже
«очень хорошо».
Большинство из нас сыты, одеты, имеют крышу над головой, широкий круг обще-
ния и почти неограниченный доступ к развлечениям. Ими нас изо всех сил балуют
социальные медиа и огромные голливудские фабрики.
Если сравнить нашу жизнь с прежними временами, то мы и вовсе счастливчики!
Электричество, морозильники, средства связи, интернет, антибиотики, обезболи-
вающие . . .
Мы живём так, словно бы это благо было и будет всегда. И самое главное —
совершенно не задумываемся о хрупкости своего благоденствия.
Недавно учёные подсчитали, что если мы все вдруг с вами останемся без элек-
тричества, то уже через год — из-за голода, эпидемий и ожесточённой борьбы за
выживание — население Земли сократится в десять раз.
Так что нет ничего более опасного, чем думать, что «всё хорошо».
Чёрный лебедь
Вероятно, вы слышали о теории «чёрных лебедей» Нассима Талеба. «Чёрные ле-
беди» — это трудно прогнозируемые (хотя и вовсе не случайные) события, кото-
рые происходят как бы внезапно и имеют самые драматичные последствия.
Так вот, «чёрные лебеди» заявляются к нам как раз в периоды максимального
благоденствия.
Первая мировая война стала громом среди ясного неба: экономика ключевых
геополитических игроков находилась на подъёме, научно-технический прогресс
был просто фантастическим. Всё, казалось, было хорошо, но вот один пистолет-
ный выстрел — и война на полмира.
Советский Союз распался на фоне демократических реформ и окончания «холод-
ной войны», что тоже в некотором смысле странно. Или, например, 11 сентября
2001 года — в одночасье мир американцев перевернулся: те самые шок и ужас на
фоне успехов и благоденствия.
Теория «чёрных лебедей» сама по себе, конечно, не является фундаментальной
закономерностью. Но правда в том, что, когда человечество решает почивать на
лаврах, оно теряет хватку.
Расслабившись и предаваясь сиюминутным забавам, мы перестаем замечать про-
цессы, которые следует контролировать. Мы переживаем из-за пустяков и стано-
вимся слепы к действительным, а зачастую и фатальным угрозам.
В своих книгах, интервью и статьях я стараюсь рассказывать об этих рисках —
о поразившем нас «информационном ожирении», о «складке времени», в которой мы
все оказались, о технологической зависимости, об уплощении мышления, о разру-
шении прежней ткани социальных отношений.
Наш «чёрный лебедь» уже близко. Имя ему — «богатство выбора». И осознал я
это внезапно. Дело было так...
Завершался трёхдневный семинар по мышлению, который я проводил в Высшей
школе методологии для студентов-психологов. Мы обсуждали итоги совместной ра-
боты, и я спросил участников семинара:
— Что ж, мы с вами разобрали основные механизмы мышления. А какие проблемы
вы бы хотели решить с помощью этих знаний? Зачем вам нужно мышление?
Надо сказать, что три дня назад я задал студентам тот же самый вопрос. И
тогда никаких внятных ответов не прозвучало (к сожалению, даже на кафедрах
психологии не объясняют, насколько это важно — думать).
Теперь вопросов было множество — и занятных, и умных, и неожиданных. И
вдруг один из участников — молодой парень лет девятнадцати, смышлёный, любо-
пытный , вроде с хорошим чувством юмора, — спрашивает:
— Андрей Владимирович, это всё, конечно, понятно и полезно. Спасибо! Но как
решить проблему выбора?
Я не понял вопроса:
— В смысле?
— Ну, как... — теперь, кажется, он сам растерялся. — У нас же такое богат-
ство выбора. Перед нами столько возможностей — и то, и другое, и третье! Как
понять, что из этого выбрать?!
Повисла неловкая пауза. Я смотрел на этого милого парня, который живёт с
однокурсником в крохотной квартирке, которую им снимают их иногородние роди-
тели, и недоумевал.
Он учится в университете, где не получит никакого путного образования. Вы-
краивает копейки, чтобы сводить девушку в кафе. И живёт в стране, где, прямо
скажем, «американской мечтой» никогда не пахло.
О каких таких «безграничных возможностях» он говорит?!
«Мы живём так, словно бы это благо было и будет всегда».
Даже в США от прежней «американской мечты» ничего не осталось. Со времён
президентства Никсона (если кто-то такого ещё помнит) средний доход американ-
ца, занятого в производственном секторе, не вырос в реальном выражении ни на
один доллар. Так, по-вашему, выглядит «мечта»? Про нас, с нашими извечными
потугами «догнать и перегнать Америку», я и вовсе молчу.
Четвёртая технологическая революция идёт сейчас полным ходом. И её главный
социальный эффект — радикальный разрыв между богатыми и бедными. По данным
Международной организации по борьбе с бедностью, восемь миллиардеров из спи-
ска Forbes владеют таким же состоянием, что и 3,5 миллиарда беднейших жителей
планеты.
8 человек и 3,5 миллиарда человек — вдумайтесь в это соотношение. Если
представить себе, что доход среднего американца — это средний рост человека
(порядка 175 см), то рост Билла Гейтса был бы в таком случае от Земли до Лу-
ны. По сравнению с этим финансовым Гулливером нас даже лилипутами назвать
нельзя.
Суровая реальность будущего
Мы не осознаем того, с какой скоростью и насколько радикально меняется не
только мировая экономика, но вообще мир вокруг нас. Из-за повсеместной и ла-
винообразной роботизации люди скоро окажутся тотально безработными. А безра-
ботными — это значит, по сути, без средств к существованию.
Кассиров и продавцов вовсю меняют банковские автоматы и системы автоматиче-
ского расчёта покупателей. Уже больше половины биржевых брокеров отдали свою
работу компьютерным алгоритмам. Водители и таксисты скоро потеряют работу из-
за машин, работающих на автопилоте.
В одном Китае ежегодно на четверть увеличивается количество полностью робо-
тизированных производств. США. идут тем же путём и скоро практически полностью
вернут себе, например, текстильную промышленность. Если не надо платить зар-
плату сотрудникам, то зачем что-то производить в Китае?
Впрочем, дело не только в роботах и не только в генно-модифицированных про-
дуктах — невиданных прежде урожаях, надоях и искусственном мясе. Дело в изме-
нении самой структуры нашего с вами потребления.
Ещё не так давно в компании Kodak по всему миру работали сотни тысяч со-
трудников. Чуть ли не на каждой улице красовались магазины этой фирмы, пре-
доставляющие услуги печати фотографий. Но вот — упс! — и она в одночасье пре-
кратила своё существование, обанкротилась.
Произошло это после появления мобильного приложения Instagram22. Кстати,
численность сотрудников Instagram на момент его продажи Facebook за 1 милли-
ард долларов составляла 19 человек. И эти 19 человек, по сути, уничтожили
сотни тысяч рабочих мест.
В Японии всё большую популярность приобретает компания Kura. Она создала
сеть суши-ресторанов, в которых автоматизировано абсолютно всё — от заказа
блюда до его приготовления и расчёта клиента. Люди там вообще больше не нуж-
ны, а цена производства минимальна — доллар за тарелку.
Когда в 2011 году компания McDonalds объявила своего рода рекламную акцию
по созданию рабочих мест для 50 тысяч сотрудников, она получила миллион зая-
вок. «Таким образом, — пишет футуролог Мартин Форд, — получить макджоб оказа-
лось сложнее, чем поступить в Гарвард!»
Не так давно это произошло, правда? Но вот работники не нужны уже и в
McDonalds. Мальчиков и девочек на кассах стремительно меняют аппараты самооб-
служивания. А компания Momentum Machines Inc. из Сан-Франциско создала робо-
та, который способен не только делать гамбургеры, но и полностью заменить че-
ловека на кухне ресторана.
Так на какую работу мы можем рассчитывать? Перебирать бумажки в офисе? Че-
рез десять лет сами понятия «бумажки» и «офис» уйдут в небытие. Всё это будет
автоматизировано компаниями, подобными Oracle Corporation.
Если же кому-то кажется, что его спасёт «творческая профессия», то он про-
сто не в курсе дела... Искусственный интеллект уже прекрасно рисует, сочиняет
музыку и даже пишет заметки на сайте журнала Forbes, которые вы никогда не
отличите от написанных журналистом.
Правда в том, что скоро мы будем интересовать экономику только как потреби-
тели. Впрочем, главный в связи с этим вопрос — это откуда у безработных по-
требителей возьмутся деньги на потребление? Экономисты пока не знают, что с
этим делать.
Так о каких «возможностях» для реализации своего «потенциала», которые яко-
бы сыплются на нас из какого-то мифического рога изобилия, мы рассуждаем?!
Если выбор в супермаркете огромен, а у тебя нет ни копейки, это не выбор. Это
издевательство.
И ведь в личном плане — то же самое. Благодаря современным средствам комму-
никации, соцсетям, специальным мобильным приложениям мы, казалось бы, можем
легко устроить своё личное счастье. Но посмотрите на упрямую статистику — лю-
Вообще-то из-за появления цифровых фотоаппаратов - снимки стали хранить не в шка-
фу , а в компьютере.
ди становятся всё более и более одинокими. Чувство одиночества у жителей ме-
гаполисов неумолимо нарастает.
Мы отравлены иллюзией выбора. Нам кажется (далее если мы не осознаём это-
го) , что перед нами открыто множество дорог, что у нас масса разнообразных
возможностей, что вокруг нас толпы людей, которые только и думают о том, как
бы посильнее нас осчастливить.
Если бы не эта иллюзия, мы бы хватались за каждую возможность, но мы лишь
привередливо вы-би-ра-ем: и то нам не нравится, и это нас не устраивает, и
тут не слишком интересно, и там перспективы неочевидны. Мы воротим нос ото
всего, с чем сталкиваемся, и всё ждем, что нам, наконец, подвернётся что-то
прямо идеальное, чтобы точно для нас и про нас.
Но правда в том, что нам вообще ничего не подворачивается!
А всё разваливается именно потому, что и мы — как специалисты, как профес-
сионалы, как друзья и любовники — для кого-то такие же «не лучшие выборы». И
они — наши коллеги, клиенты, друзья и любовники — тоже надеются найти кого-
нибудь получше. Не заблуждайтесь: иллюзией выбора отравлены все поголовно!
«Наш "чёрный лебедь" уже близко. Имя ему — "богатство выбора"».
Так что в действительности, учитывая взаимность этих претензий и ожиданий,
у нас вообще нет никакого выбора.
Какие у нас есть «возможности», если рынок труда стремительно сужается, а
мы уже конкурируем даже не друг с другом, но с новыми технологиями. И чем
дальше, тем больше превращаемся в их придаток.
В вопросе личных отношений ситуация и вовсе плачевная.
Мы ждём глубины понимания со стороны другого человека — это, конечно, по-
нятно. Не понимаем мы, мне кажется, другого: того, что мы — сами по себе —
уже никакой действительной глубиной не обладаем. Информационная цивилизация
выхолостила нас.
Технологии не учат нас думать. Они говорят нам, что «всегда есть решение».
А там, где нет проблем, нет работы мысли, и нет глубины. Так что мы теперь
как атомы в перегретом газе — лишь соударяемся и разлетаемся в разные стороны
(в надежде, понятно, на «лучшее»).
Не случайно, футурологи уже начали открыто отказываться предсказывать буду-
щее — и в области экономики, и в сфере технологий, и, что самое печальное,
даже в сфере межчеловеческих отношений.
Такова жестокая правда — мы совершенно перестали понимать, что случится с
нашей цивилизацией через ближайшие десять лет.
И всё это, надо сказать, закономерно.
Социальная
утопия
Те, кто ищет счастья как самостоятельной ценно-
сти, похожи на тех, кто ищет победу, не выиграв
войны. В этом главный дефект всех утопий.
Уильям Берроуз
Все мы живём странной мечтой об идеальном мире. Но его нет, а главное — он,
судя по всему, и невозможен.
Пока Бенджамин Либет копался в человеческих мозгах, а Филип Зимбардо запи-
рал студентов в университетском подвале, американский учёный-этолог Джон Кэл-
хун построил самый настоящий «мышиный рай»23.
Это словосочетание закрепилось в литературе, хотя на самом деле эксперимент ста-
вился на крысах — очень умных и социальных животных, не чета мышам.
Звучит это, конечно, как-то по-детски, но результаты его эксперимента, ко-
торый вошёл в историю науки под названием «Вселенная-25», стали самой настоя-
щей сенсацией.
Надо ли говорить, что и с Джоном Кэлхуном Папа Римский решил потом встре-
титься? Да, это так. А сейчас я расскажу почему.
Задумка эксперимента опять-таки не блистала остроумием. Представьте себе
большой металлический бак площадью два на два метра и высотой чуть меньше че-
ловеческого роста.
Внутри бака постоянная комфортная для крыс температура, поддерживается по-
стоянная чистота, еды и воды вдоволь. По стенам оборудованы гнёзда для самок.
В общем, живи не хочу. Рай, идеальный мир — та самая великая Утопия, о ко-
торой мечтали все подряд — от Платона до Вачовски.
Созданные в этом баке условия были бы пригодны для жизни, даже если бы в
нём одновременно находилось больше четырёх тысяч крыс. Но до такой численно-
сти популяция (эксперимент ставился многократно) не доходила никогда. Макси-
мум — чуть больше двух тысяч.
«Мышиный рай».
Итак, в бак поместили четыре пары здоровых крыс. А теперь слушайте научную
быль, невероятно похожую на «страшную сказку».
Первая фаза эксперимента — «фаза А» — ознаменовалась предсказуемым рождени-
ем первого потомства. Начался экспоненциальный рост численности популяции,
число крыс удваивалось каждые 55 дней — «фаза В».
Впрочем, бурный рост численности крысиной популяции стал замедляться. В ба-
ке, рассчитанном на четыре тысячи постояльцев, проживало в этот момент около
шестисот крыс, которые образовали полноценное общество с социальной иерархи-
ей.
Началась «фаза С». В крысином обществе появилась категория «отверженных» —
крысы мужского пола, которые не нашли себе места в установившемся крысином
миропорядке.
Старшие самцы в райских условиях «Вселенной-25» жили дольше обычного и от-
тесняли молодняк на периферию социальной жизни. «Отверженные» самцы постоянно
становились жертвами агрессии, о чём свидетельствовали их искусанные хвосты и
окровавленная шёрстка.
Впрочем, и самки, готовящиеся к рождению, пребывая в столь нетерпимой атмо-
сфере, тоже становились нервными, и всё чаще проявляли агрессию. Наконец, они
стали направлять её на детёнышей и просто съедали их.
«Мы отравлены иллюзией выбора».
Рождаемость неуклонно падала, смертность молодняка стремительно росла. За-
кончилось дело тем, что самки крыс и вовсе перестали допускать самцов к спа-
риванию, забирались в верхние гнёзда и становились отшельницами.
«Фазу Б» Кэлхун назвал «фазой смерти». Поведение в «мышином раю» начало
резко меняться. Героями этой фазы были уже не «отверженные», а «красивые» —
самцы, которые занимались только своей жизнью и бесконечным туалетом.
Сообразив, что вверх по социальной иерархии им не подняться, молодые самцы
напрочь меняли жизненную стратегию. Они отказались от борьбы за территорию,
за самок и занимались исключительно собой, в частности бесконечным вычёсыва-
нием шёрстки. Такие, скажем, метросексуалы. А чего, собственно, переживать,
если еды и воды вдоволь, тепло, чисто?
Итак, самки потеряли желание спариваться, а самцы, кажется, вообще забыли,
как это делается. Хотя средний возраст животного в последней стадии экспери-
мента составлял 776 дней (что на 200 дней больше верхней границы репродуктив-
ного возраста), рождаемость в баке упала до нуля. Смертность молодняка дости-
гала ста процентов.
На 1780-й день от начала эксперимента умер последний обитатель «мышиного
рая», от старости.
Самое оно, мне кажется, отправляться к Папе Римскому...
Эксперимент, поставленный Джоном Кэлхуном, вовсе не история про каких-то
крыс. Его эксперимент рассказывает нам о самой логике эволюции: она не созда-
вала нас для жизни в райских условиях, для счастья, она создала кас для борь-
бы за выживание.
Нарушение этого фундаментального принципа парадоксальным образом приводит к
трагическому эффекту.
Нельзя сказать, как конкретно тот или иной вид (или человеческое сообщест-
во) сведёт с собой счёты в идеальных для него условиях. Но очевидно, что, ес-
ли всё у нас вдруг ни с того ни с сего станет хорошо, мы в буквальном смысле
начнём сходить с ума.
Вспоминаем принцип «чёрного лебедя». Его работа.
Нежданное счастье
Возможно, кому-то мои рассуждения покажутся абстрактными, притянутыми за
уши. Но посмотрите на то, что сделали с людьми внезапно свалившиеся на них
деньги.
Келли Роджерс выиграла в лотерею почти два миллиона евро. Ей было тогда,
правда, всего лишь 16 лет. Понятно, что ребёнку совладать с таким богатством
трудно. Все деньги Келли истратила на шопинг, путешествия, вечеринки и пла-
стическую операцию по увеличению груди. К 22 годам у неё на счету были уже не
деньги, а две попытки самоубийства, два ребёнка и работа горничной в отеле.
Майкл Кэррол выиграл 15 миллионов долларов, когда ему было 26 лет. Пошёл
парень за пивом, взял лотерейный билетик на сдачу, и вот оно — счастье. Каза-
лось бы, жить и жить! Хватило на десять лет — дорогие вечеринки, кокаин, кру-
тые тачки, проститутки. Плюс к этому — лечение от наркозависимости, развод. И
вот сейчас — работа мусорщиком с оплатой 5 долларов в час.
Уильям Пост был значительно старше Майкла, да и выиграл больше. Но жена по-
дала на него в суд, желая разделить выигрыш.
Начались долгие тяжбы, почти разорившие новоявленных богачей. Остаток
средств Уильям отдал своим братьям, считая, что инвестирует таким образом в
ресторанный и автомобильный бизнес. На них они тоже, по большому счёту, сва-
лились . В результате — все разорены. Уильям живёт на социальное пособие.
Джеффри Дампайра выиграл джек-пот в 1986 году. Сумма приза — 20 миллионов
долларов (невероятные по тем временам деньги). Судя по всему, Джеффри был хо-
рошим и зрелым человеком. Деньги он тратил разумно, в основном на родных и
друзей — машины, курорты, дома. А вот десять лет спустя одна из этих родст-
венниц подговорила бойфренда: они похитили и убили Джеффри выстрелом в голо-
ву. Зависть была признана основным мотивом этого преступления. Убийц осудили
на пожизненное заключение, но «счастливчику» Джеффри от этого, полагаю, легче
не стало.
Билли Боб Харрелл был проповедником, и его тоже считали хорошим человеком.
Его выигрыш в 1997 году был и вовсе фантастическим — он составил почти 31
миллион долларов! И сначала всё шло вроде бы неплохо — Боб приобрёл ранчо,
несколько домов и автомобилей. А потом — причины неизвестны — развёлся с же-
ной и покончил с собой. Вот такое случается, оказывается, с проповедниками.
Ну и напоследок... Эвелин Адаме заслуживает упоминания хотя бы потому, что
умудрилась выиграть в лотерею дважды — в 1985 и 1986 годах. Общая сумма выиг-
рыша была, правда, не слишком большой — 5,5 миллиона долларов. Но и её она
умудрилась потратить с блеском! Все свои деньги она проиграла в том же кази-
но . Ждала, видимо, третьего выигрыша... Сейчас бывшая миллионерша живёт в
трейлере и уверяет, что теперь «вела бы себя умнее».
Перечисление подобных «счастливых случаев» можно продолжать и дальше. Но
какой в этом толк? Надо осознать правило, чтобы и примеры-то были не нужны:
если человек не заработал своих денег или, по крайней мере, не был правильно
подготовлен к их наследованию, он не сможет ими здраво распорядиться.
Заработанные человеком деньги — это материализация его усилий, а затрачен-
ными усилиями люди не разбрасываются.
Если они во что-то инвестируют, то, в отличие от Уильяма Поста, делают это,
осознавая ценность каждого доллара. Им бы и в голову не пришло бездумно ссу-
жать их родственникам, чтобы те там что-то настартапили!
Не стали бы они, думаю, и щеголять достатком перед лицами, очевидно стра-
дающими умственной отсталостью, как несчастный Джеффри. Это уберегает их от
перспективы оказаться в сточной канаве с перерезанным горлом.
Если деньги падают на человека по счастливой случайности и у него нет навы-
ков ими распоряжаться, быть беде.
Даже просто легко и вдруг заработанные деньги побуждают человека к бессмыс-
ленным тратам. Богатство уходит так же легко, как и появилось, оставляя,
правда, человека более несчастным, нежели он был до этого.
Последний факт убедительно доказан уже даже не на отдельных примерах, а в
большом и серьёзном научном исследовании, которое было проведено на статисти-
чески значимой группе таких вот «счастливчиков».
Правда в том, что когда нам обещают какое-то «счастье» — на земле и на не-
бе, в этой жизни и во всех последующих, нас или откровенно обманывают, желая
на этом заработать, или же подобные «пророки» и «волшебники» сами не понима-
ют , о чём говорят.
Чего нам только не обещали коммунисты, либералы и консерваторы, а также
устроители всевозможных христианских коммун, кибуцей24, ашрамов и ретритов. ..
Причём многие имели все шансы продемонстрировать состоятельность своих обеща-
ний ! Но ничего и ни у кого ни разу не вышло.
Кибуцы В Израиле вроде процветают и их число растет: на сегодняшний день на тер-
ритории Израиля находятся 274 кибуца, в которых проживают около 150 тысяч человек.
Так что израильтянам все-таки удалось создать модель коммунистического общества.
Что уж говорить, если даже крысы, помещённые в идеальные для жизни условия,
находят способ превратить свою жизнь в ад...
Человек же существо куда более сложное, изворотливое, противоречивое, аг-
рессивное и конфликтное. Куда всё это денется, если ему не придётся занимать-
ся своим прямым делом — бесконечной борьбой с невзгодами и энтропией?
Так что, если кому-то кажется, что для счастья ему не хватает «всего лишь
парочки миллиардов», расскажите ему про эксперимент «Вселенная-25». Быть мо-
жет, это заставит его о чём-то задуматься.
Проблема ведь не в том, что нам опять, понимаешь, не везёт.
Проблема в том, что мы ждём этого везения, а нам просто и не может повезти!
Это так не работает. И молитвы не помогут. Всё это банально плохой план.
Инстинктивные
основы
Если вспомнить, как свирепо нападали на
меня представители церкви, кажется за-
бавным, что когда-то я и сам имел наме-
рение стать священником.
Чарльз Дарвин
Так какое же шило мешает нам наслаждаться счастьем даже в тех случаях, ко-
гда, казалось бы, все условия для него созданы? Ответ следует искать у той
самой эволюции. И сейчас нам придётся занырнуть под самое, так сказать, днище
человеческой природы.
Поскольку человек — животное стайное, он представляет собой, во-первых,
биологическую особь, во-вторых, члена стаи (стада, прайда, группы, общества),
а в-третьих, он ещё и представитель своего биологического вида.
Всё это накладывает на него определённые, так скажем, эволюционные обяза-
тельства : как биологическая особь он должен выжить, как член стаи — занять в
ней определённое место, помогая её коллективному выживанию, а как представи-
тель биологического вида — произвести потомство, действуя таким образом в це-
лях самосохранения вида. В нашем случае — вида Homo sapiens.
И хотя культура — её этика, нравы и обычаи — существенно преображает биоло-
гическую особь под названием «человек», было бы наивно думать, что в нас есть
какой-то другой физиологический движок, кроме инстинктов, на который всё это
богатство культуры можно было бы посадить.
Превращая homo в sapiens'а, культура опирается на те самые наши базовые ин-
стинкты — инстинкт самосохранения, иерархический и половой. Так что в них-то
мы и поищем ответы на все наши «самые сложные вопросы».
Как культура повлияла на инстинкт самосохранения человека? Другие животные,
хоть они инстинктивно и борются за выживание, не осознают своей смертности25.
Да и мы бы с вами этого факта не осознавали, если нам в своё время о нём не
рассказали.
Кроме прочего, нам рассказали и о том, по каким причинам люди могут погиб-
нуть . Именно поэтому мы боимся авиакатастроф, рака, СПИДа, ДТП и жировой эм-
болии сосудов, а животные — нет.
В некотором смысле мы боимся даже не реальных угроз (которых в нашей жизни
Японский биолог профессор Тэцуро Мацудзава посвятил этому вопросу целый ряд ис-
следований. В частности, он даёт весьма подробное описание поведения группы шимпан-
зе, которых он наблюдал в Боссу (Гвинея), которые никак не могли взятк» в толк, что
делать с умершим маленьким детёнышем, и всюду таскали его труп за собой на протяже-
нии двадцати дней.
на самом деле не так уж и много) , а собственных знаний о том, что может быть
опасно.
Обучить ребёнка «опасностям» — отдельное упражнение, которое родители про-
изводят с завидным упорством: туда не ходи — прибьёт, сюда руку не суй — ото-
рвёт , держись за поручень — разобьёшься, надень шапку — менингитом заболеешь!
Впоследствии, когда мы, примерно к семи годам, кое-как осмысляем понятие
смерти, мы начинаем самостоятельно обучаться различным возможным угрозам на-
шей жизни и здоровью.
Некоторые преуспевают в этом «обучении» настолько, что ввинчиваются в спи-
раль невротического «страха смерти». Такой человек может страдать от паниче-
ских атак, ипохондрии, страхом заражения или отравления, а также другими на-
вязчивыми состояниями подобного рода.
Второй по значимости инстинкт для стайных животных — это инстинкт самосо-
хранения группы. Этологи называют его «иерархическим» По сути, это ин-
стинкт, обеспечивающий животным стабильность их социальных групп.
Любая стая представляет собой иерархию, где позиция каждого её члена чётко
определена. И каждый знает, что ему положено, а что нет, на что он вправе
рассчитывать, а за что его по головке не погладят.
Эволюционное значение данного инстинкта сложно переоценить: если бы живот-
ные, нуждающиеся друг в друге для выживания, не формировали упорядоченных со-
обществ, они бы находились в состоянии постоянного взаимного конфликта и вы-
жить бы не смогли.
При этом, чем более высокое положение и иерархии занимает конкретное живот-
ное, тем больше у него шансов и на личное выживание, и на отправку его генов
в далёкое будущее (самкам, впрочем, об этом нет смысла беспокоиться, но вот
для самцов это весьма актуально).
Человек, конечно, следует тем же иерархическим стратегиям — каждый хочет
как можно выше забраться вверх по социальной лестнице. Но, в отличие от дру-
гих животных, мы придумали много разных «лестниц». Видимо, чтобы побольше бы-
ло «первых мест».
«Превращая homo в sapiens'а, культура опирается на те самые наши базовые
инстинкты — инстинкт самосохранения, иерархический и половой».
Любая конкуренция — в политике, в бизнесе, в искусстве, в отношениях, в
том, кто прав, а кто виноват, — это проявление иерархического инстинкта, то
есть желания человека стать «первым», взять вверх над конкурентом, взобраться
на вершину соответствующей социальной пирамиды.
При этом одни пытаются получить именно официальные «погоны» — начальника,
командира, руководителя, директора, мэра, губернатора, президента и т. д. Для
такого человека важно видеть прямые признаки подчинения: «Слушаюсь и повину-
юсь !», «Есть!», «Так точно!», «Разрешите исполнять!» и уже известное нам бла-
годаря эксперименту Зимбардо: «Господин надзиратель!»
Другие добиваются социального господства окольными путями. Такой человек
может стремиться стать «выразителем мнений», «нравственным авторитетом», «са-
мым умным», «самым правым», «самым продвинутым», «самым модным», «создателем
нового направления в искусстве» и т. д. и т. п.
Короче говоря, мы используем силу этого инстинкта на всю катушку! Наша ци-
вилизация, если разобраться, — это одно сплошное строительство таких вот со-
циальных пирамид власти и бесконечная игра в «Царя горы».
Причём даже не египтяне это начали, они лишь подарили нам красивый визуаль-
ный образ этого фундаментального человеческого стремления — всех победить,
стать выше их.
26 Этология — наука о поведении животных, но, обращаясь к ней, о том, что мы с вами
тоже животные, забывать не следует.
Наконец, третий инстинкт — тоже важный до чрезвычайности и также сильно ви-
доизменённый культурой. Это инстинкт самосохранения самого нашего биологиче-
ского вида, который в случае каждой конкретной особи проявляется хорошо нам
известным «половым инстинктом» и «сексуальной потребностью».
У полового инстинкта человека масса специфических особенностей. Я написал
целых три книги об этих особенностях, но даже в них, как мне кажется, всего
рассказать не удалось. Поэтому сразу извинюсь за дальнейшие упрощения.
Самое главное, что мы должны понимать про свою сексуальность, — это то, что
она сильно оторвана от естественных биологических корней.
Да, половые гормоны в нас играют. Да, соответствующие физиологические реак-
ции у нас возникают. Но сексуальными стимулами для нас являются вовсе не ес-
тественные раздражители27, а специальные рефлексы, сформированные культурной
средой.
Этим, в частности, определяется и специфическая гиперсексуальность челове-
ка, которая, конечно, с биологической точки зрения совершенно аномальна.
Второй важный нюанс, касающийся нашей сексуальности, состоит в том, что она
сильно психологизирована. Секс вроде бы является обычной физиологической по-
требностью, такой же, например, как потребность в еде или питье. Но мы редко
решаемся удовлетворить свою сексуальную потребность с первым попавшимся по-
тенциальным половым партнёром. Большинство нормальных людей хотят, кроме про-
чего, каких-то чувств, отношений и даже обязательств.
Собственно, вот вся эта «вторая часть» секса — все эти наши чувства, лю-
бовь-морковь, отношения, привязанности, ответственность, обязательства и т.
д. и т. п. — это тоже большой пласт наших потребностей. И все они произросли
на почве банального полового инстинкта, который, в свою очередь, есть не что
иное, как слепое желание матушки-природы заставить конкретный биологический
вид бороться с другими видами за место под солнцем.
Психологи «потребностей»
Если спросить неспециалиста, что он знает о психологии, то он с большой ве-
роятностью назовёт нам две фамилии — Фрейда и Маслоу. Первого помнят, потому
что «он про секс», а второго — как раз за «пирамиду».
Забавно, но это, возможно, два самых несхожих персонажа в истории психоло-
гии. Впрочем, два момента их единят — оба стали почти культовыми фигурами,
притом что их теории никогда не были научно доказаны.
Зигмунд Фрейд рассматривает наше «Эго» как флюгер, который крутится под
действием почти мистических сил Эроса и Танатоса, а также могущественного
«Супер-Эго» культуры.
Абрахам Маслоу, напротив, развивает концепцию личностной самоактуализации.
Мол, все мы идём дорогой осознанности и развития — от нижних ступеней его
«пирамиды» к её вершине.
На вершине «пирамиды Маслоу» расположена творческая самореализация, которую
Фрейд считает сублимацией сексуального желания (и настаивает на том, что лишь
сексуальная неудовлетворённость потенцирует творчество). При этом в концепции
Маслоу реализация высших потребностей, включая творческие, возможна только в
случае, если удовлетворены низшие, а сексуальная потребность находится в ос-
новании его пирамиды.
Вот такая противоречивая ахинея в головах почтенной публики относительно
собственных голов... Остаётся только поражаться нашей удачливости — живём в
сложнейшем мире, совершенно себя не понимаем, но как-то умудряемся выживать.
Впрочем, выживать — это ещё не значит жить.
В частности, у нас даже нет «второй обонятельной системы», которая у других жи-
вотных регулирует их сексуальную активность.
ПОТРЕБНОСТЬ
В САМОАКТУАЛИЗАЦИИ
(самовыражение,
реализация целей,
развитие способностей)
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ
ПОТРЕБНОСТИ
(гармония, порядок, красота)
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
ПОТРЕБНОСТИ
(знать, понимать, уметь, исследовать)
ПОТРЕБНОСТЬ
В УВАЖЕНИИ И ПРИЗНАНИИ
(социальные связи, общение,
привязанность,любовь, сотрудничество)
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ
(социальные связи, общение,
привязанность,любовь, сотрудничество)
ПОТРЕБНОСТЬ В БЕЗОПАСНОСТИ
(безопасность существования, комфорт, постоянство условий жизни)
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ
(голод, жажда половое влечение и другие)
«Пирамида Маслоу».
Любовь
и смерть
Обойти то мелкое и призрачное, что ме-
шает быть свободным и счастливым, вот
цель и смысл нашей жизни.
Антон Чехов
Мы представляем собой некую помесь природы и культуры — ещё не человек-
человек, но уже и не зверь-зверь. А так, кентавр, или минотавр, или кто-то
ещё в этом роде — Микки Маус, может быть.
Наши биологические инстинкты, с одной стороны, и наши культурные потребно-
сти (которые выросли на том же самом биологическом основании) — с другой, —
это буквально гремучая смесь противоречий.
Если у нормального животного, не испорченного культурой, все три базовых
инстинкта служат одной цели — выживанию, то у человека — отнюдь нет.
Животное выживает как особь, как член стаи вместе со стаей и как представи-
тель вида во имя своего вида. Одно здесь хватается за другое, и всё взаимо-
связано . Векторы поведения хоть и выглядят разными, но смотрят они, очевидно,
в одну сторону.
С человеком не так. Кто-то, желая доказать свою правоту (культурно-
иерархический инстинкт), готов идти даже на смерть. Джордано Бруно, например.
Кто-то готов к поруганию и изгнанию, как Бенедикт Спиноза. Я уж не говорю о
жертвах бесчисленных гражданских войн, когда брат идёт на брата, и это совер-
шенно никого не смущает.
Другие человеческие особи способны, как мы знаем, свести счёты с жизнью по
причине неразделённой любви. Где такое безумие в природе видано? Ну, положим,
и лосось, и некоторые пауки ведут себя странно — погибают после исполнения
полового долга. Но «после», не «до»!
Какой абсурд — так бессмысленно разбрасываться генетическим материалом под
воздействием, прошу прощения, культурно-полового инстинкта! Но нет, мы не
только разбрасываемся, мы ещё и воспеваем эту стратегию в разнообразных «Юных
Вертерах». Последний причём написан самим Гёте, а он ведь не дурак был со-
всем.
«Если у нормального животного, не испорченного культурой, все три базовых
инстинкта служат одной цели — выживанию, то у человека — отнюдь нет».
Наконец, наш культурно-самосохранительный рефлекс. Давайте осознаем это: мы
живём в мире, в котором можно вообще ничего не делать, а жизни нашей всё рав-
но ничто угрожать не будет.
Если вы, презрев своё существование, выйдете на улицу, ляжете на перекрёст-
ке и решите там «умирать», вам сначала вызовут МЧС, потом отправят в полицей-
ский участок, а закончится всё это пожизненной госпитализацией в психиатриче-
ской больнице, где вас будут принудительно кормить внутривенно и через зонд.
Жить придётся.
Впрочем, несмотря на эту нашу полную почти защищённость, количество людей,
живущих в постоянном страхе, с чувством тревоги, опасениями и прочей ерундой
в голове, огромно.
Ирония в том, что когда начинается война, то есть угрозы становятся реаль-
ными , а не мнимыми, неврозы резко идут на спад. Но как только всё хорошо —
мир-гладь-благодать, — безумие возвращается, сплошные фобии!
Вот такой выверт: угрозы нет — люди маются и страдают, а как только реаль-
ная угроза нарисовывается — все психологические проблемы тут же исчезают,
словно их и не было вовсе. Ну вот, всё у нас в порядке с головой, а?..
Речь, не забывайте, идёт не о каком-то абстрактном человеке, речь идёт о
нас с вами, о каждом из нас. Это в нашей голове из-за этого природно-
культурного смешивания воцарился такой вот полнейший бардак и хаос.
Странно ли, что мы теперь не понимаем, чего хотим на самом деле? Не стран-
но : мы хотим столько всего и разного, что совершенно запутались — как на эту
ёлку залезть и ничего себе по ходу дела не поцарапать?
Желание не может сфокусироваться на чём-то одном — рассеивается, истончает-
ся, а потом и вовсе перестаёт прощупываться. И пока мы с приоритетами не оп-
ределимся, что тут поделаешь?
Но почему так сложно с ними определиться? Просто потому, что мы никогда не
задумываемся об этом должным образом! Давайте попробуем и убедимся в том, что
это работает.
Прежде всего, надо ли нам бояться смерти и придумывать всё новые и новые
угрозы на этот счёт? «О, я сейчас заболею инфарктом и умру! Какой ужас-ужас!»
или «О, если я сейчас не найду нормальную работу, я не смогу себя прокормить
и умру!». Много вы видели людей, которые умерли от голода? Сомневаюсь.
Конечно, это не значит, что надо подвергать своё здоровье намеренному риску
или отказываться от оплаты за выполненный труд, но превращать эти мнимые уг-
розы в руководство к действию — напрасная трата сил. Вы ничего, таким обра-
зом, не выиграете, но что-то точно проиграете.
Теперь рассмотрим культурно-половой инстинкт. Может быть, нашим приоритетом
должны быть брак и семья, любовь до гроба? Может быть. Но давайте посмотрим
на это дело здраво.
«Любви до гроба» не бывает. Бывают отношения, которые длятся «пока смерть
не разлучит»... Но любовь, будучи сексуально-эротическим переживанием, не мо-
жет продолжаться дольше трёх лет. К этому моменту биологический запал, так
сказать, физически истощается.
Биология страсти
У мужчин острая фаза «любви», если она случилась, длится месяц. Через пол-
года совместной жизни собственно эротическое чувство (характеризующееся спон-
танным сексуальным желанием, возникающим по отношению к конкретному сексуаль-
ному объекту) в мужском организме почти не прощупывается.
Так является ли человек моногамным животным? Давайте посмотрим на других
обезьян (мы ведь одни из них, и что-то общее у нас с ними точно должно быть).
Где там моногамия? Отсутствует.
Или будем на лебедей равняться? Допустим, но они, кроме прочего, через пол-
мира летают два раза в год и не теряются. Знаете почему? Очень прилипчивые —
запомнили маршрут, и всё, вечно по нему бегают. У вас так же? Вряд ли. Вы лю-
бопытные, вы хотите новизны, переживаний, страстей...
Так что можно, конечно, объявить своим приоритетом то, что является недос-
тижимой целью. В каком-то смысле это даже разумно — всегда есть чем заняться.
Проблема в том, что заниматься семьёй и отношениями с партнёром быстро надое-
дает . Но цели-то заявлены!
Возникает противоречие, которое мы, конечно, с лёгкостью себе объясняем:
всё же просто — во всём виноват наш партнёр! Не любит, не понимает, не ценит,
в грош не ставит. На себя нам посмотреть недосуг. Да и приятного в этом зре-
лище мало.
Но культура вдолбила человеку в голову, что он должен быть верным семьяни-
ном, что брак — это венец всему и высшая ценность. Причём проповедуют это лю-
ди , которые, надо сказать, или вовсе, по причине своего монашества, не женаты
(не замужем), или должны быть таковыми, коли верно наставление их Спасителя:
«Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего и матери, и жены и
детей, и братьев и сестёр, а притом и самой жизни своей, тот не может быть
Моим учеником». Цитирую Евангелие от Луки.
Значит ли это, что брак и семья не имеют никакого значения? Нет, не значит.
Имеют, и большое. Но только в том случае, если это партнёрство, в котором оба
понимают всю сложность данной «концессии»28.
Но создавать концессию ради того, чтобы у нас просто была концессия, — это
как минимум странно. Она должна предполагать приобретение неких выгод, причём
обеими сторонами.
Но готовы ли эти стороны (в нашем случае — супруги) честно обсуждать свои
действительные выгоды от этой сделки? К сожалению, такого обсуждения — откры-
того и честного — практически никогда не происходит.
Мы наивно полагаемся на то, что некая «святая аура брака» освятит наш союз
и неизбежные в таких случаях сложности исчезнут сами собой. Но они не исчез-
нут — на то они и неизбежные.
Тогда приоритетом должно стать не формальное заключение брака и неоправдан-
ные надежды на «счастливый случай», а честный и взаимовыгодный обмен, устраи-
вающий обоих партнёров.
Только по-настоящему честный — без дураков, без умолчаний, невнятных намё-
ков и сокрытия существенных деталей хоть интимного, хоть материального, хоть
Уточню на всякий случай, что «концессия» — это такая юридическая (как, собствен-
но, и брак) форма договорённости, которая предполагает передачу в пользование друго-
му лицу исключительных прав, принадлежащих их правообладателю. Передача в концессию
осуществляется на возмездной основе на определённый срок или без указания срока.
Лучшего определения для супружеских отношений, кажется, и не придумаешь.
какого другого толка.
Да, наверное, это звучит диковато, но такова правда. В конце концов, всё
этим, как правило, и заканчивается — выяснением отношений, кто кому чего не-
додал , или дал, но не так, или же не дал вовсе.
Дети — это тоже замечательно, но они вырастут и будут жить своей жизнью.
Они вылетят из гнезда. Это неизбежно, и это правильно.
Да, наш ребёнок — это, возможно, единственный человек, с которым мы можем
чувствовать себя по-настоящему счастливо без каких-либо дополнительных усло-
вий.
Но для этого, во-первых, его нужно так воспитать, а во-вторых, наивно рас-
считывать, что вы сможете прибегать к этому счастью, когда вам заблагорассу-
дится. Так — урывками, да. Но на постоянной основе — вряд ли. И лучше сразу
на это не закладываться.
Я счастлив с мамой и со своей дочерью. Но как я «дозирую» маму, так и моя
дочь предусмотрительно «дозирует» меня. Это нормально, это тоже такой ин-
стинкт .
Думая об этом, я иногда вспоминаю слова Альберта Эйнштейна: «Наше положение
на Земле поистине удивительно. Каждый появляется на ней на короткий миг, без
понятной цели, хотя некоторым удаётся цель придумать. Но с точки зрения обы-
денной жизни очевидно одно: мы живём для других людей — и более всего для
тех, от чьих улыбок и благополучия зависит наше собственное счастье».
Возможность брака
Прежние нравы и обычаи (а именно они определяют нормы и этику конкретного
общества) больше — как ни крути — не работают. И это не чья-то прихоть или
«позиция», это реакция на среду, на обстоятельства, на ситуацию. Свобода, ин-
формация и четвёртая технологическая революция радикально изменили мир, в ко-
тором мы живём.
Брак потерял свои прежние преимущества. А они у него были, и существенные:
брак давал супругам определённый социальный статус, в нём была экономическая
целесообразность, действовало разделение функций в обслуживании домохозяйст-
ва, детей считалось неприличным воспитывать в одиночку... Эти «естественные
преимущества» и удерживали людей в браке.
Но сейчас всё это больше не работает, да и супруг для соответствующих «пре-
имуществ» совершенно необязателен. Так зачем его в таком случае терпеть? —
вот вопрос, которым современный человек задаётся всё чаще и чаще. Зачем ми-
риться с недостатками другого человека, соглашаться на какие-то ограничения,
если жить без него стало даже проще?
Обратите внимание: больше никакие силы, включая пресловутое «общественное
мнение», не спрессовывают людей в брачные союзы. Прежде — да, спрессовывали,
и супруги были вынуждены адаптироваться друг к другу, а затем и вовсе получа-
ли заслуженные «дивиденды».
После того как «притирка» супругов друг к другу происходила (а это всегда
давалось непросто), они могли прожить вместе и целую жизнь. Но что сейчас
способно удерживать супругов вместе, когда силы взаимного отталкивания (в
процессе этой «притирки») начнут существенно превышать силы взаимного притя-
жения? Абстрактные «убеждения»?
Нет, нам недостаточно «правильных установок», чтобы заставить свой мозг
пройти сложные фазы адаптации к жизни с другим человеком. В какой-то момент
красивые мечты о счастливой семейной жизни неизбежно сталкиваются с будничной
реальностью, и это испытание. А мозг, раздухарённый неоправданными ожидания-
ми , однозначно трактует такое положение вещей как неприемлемое.
29 От греческого слова цбод, что значит «нрав», «характер», «душевный склад».
Сознание может сколько угодно пытаться убеждать вас в ценности брака, в
ценности личностных качеств вашего партнёра, но если сам брак (сам этот союз,
эта «концессия») никаких ощутимых выгод вашему мозгу не сулит, он пустится во
все тяжкие.
Итак, без взаимных и честных договорённостей больше никак нельзя. Но готовы
ли мы к ним, если даже заключение предварительного брачного договора — доку-
мента , надо признать, весьма формального содержания — рассматривается врачую-
щимся сторонами как проявление недоверия?
Да и практика общения, без которого вообще сложно представить себе крепкий
союз двух людей, тоже поменялась. Даже на свиданиях «влюблённые» всё чаще
утыкаются в свои смартфоны, скролят ленту и продолжают отвечать на сообщения
третьих лиц. Как же они, с такими-то навыками общения, будут договариваться о
принципиальных вещах?!
Современный человек привык общаться онлайн и всё больше теряется при встре-
че с другим человеком лицом к лицу. Что говорить? О чём говорить? Да и за-
чем?. . Оффлайн-общение кажется уже чем-то странным. Казалось бы, ну и пусть.
Но как с таким «лицом» прожить целую жизнь? Как с ним обсудить вопрос взаим-
ных выгод от взаимного же сосуществования?
Проблема опять-таки в «богатстве выбора». Где в досетевую эпоху молодые лю-
ди могли познакомиться? Наши родители знали друг друга со школы или с инсти-
тута, встретились, возможно, на каком-нибудь дне рождения у общих друзей. Вот
и весь выбор. И как раз из-за этой ограниченности выбора люди вынуждены были
лучше узнавать друг друга, притираться друг к другу, идти на взаимные компро-
миссы, и постепенно отношения — какие-никакие — складывались.
«Богатство выбора» изменило всё. Теперь вы в любой момент можете открыть
социальную сеть или специальное мобильное приложение и с кем-нибудь сойтись,
чтобы в очередной раз «попробовать образовать пару». Но если партнёра всегда
можно поменять, то зачем терпеть какие-то придирки с его стороны? Зачем вооб-
ще вникать в какие-то нюансы, напрягаться? В результате отношения между моло-
дыми (и уже не очень молодыми) людьми становятся всё более и более поверхно-
стными, а как следствие — краткосрочными.
Это как с подгузниками. Раньше пелёнки за младенцами приходилось стирать,
поэтому чистые экономили, чтобы целый день не стоять, согнувшись, над ванной.
А сейчас — и памперсы лучше впитывают, и стирать их не надо: старый выбросил,
новый надел, и порядок.
Общественное мнение всё ещё транслирует идею брака, но фактическая социаль-
ная среда никак поддержанию этого общественного института более не способст-
вует . Как следствие, молодой человек может на сознательном уровне хотеть
вступить в брак, выполняя таким образом соответствующую социальную программу.
И вступает даже. Но потом всё вдруг разваливается...
У него же «богатство выбора» есть! По крайней мере, ему так кажется.
И дело не в том, что люди — сами по себе — стали вдруг какими-то не такими.
Наоборот, они ровно такими же и остались, как были! Адаптация к жизни в браке
всегда была для мозга работой: понимать другого человека, поддерживать его,
входить в его положение, а ещё играть соответствующие роли («мужа» или «же-
ны») , ограничивать свою личную и сексуальную свободу...
А всякая работа — это дискомфорт, напряжение, трата сил. Так что, если наш
мозг может подобных неприятностей избежать, он, поверьте, будет их избегать.
Дальше эта стратегия избегания сталкивается с идеей, сидящей в сознании боль-
шинства людей, что брак может сделать их счастливыми.
В результате возникает самый настоящий внутренний конфликт: работать над
отношениями нам не хочется, а семейного счастья мы по-прежнему ожидаем. И что
в такой ситуации делать — непонятно категорически.
Сознание — это не только тот способ, которым наш мозг оправдывает свои «за-
кидоны», но ещё и наше индивидуальное хранилище культуры (всех тех идей, ко-
торые мы у неё унаследовали в процессе своего воспитания). Но способно ли на-
ше сознание понять, что мысли, которые были в нём когда-то сформированы, пе-
рестали соответствовать моменту? Ну, прямо скажем, не всякое сознание с таким
ребусом справится.
Очевидно, что брак уже в скором времени претерпит существенную трансформа-
цию. Но готовы ли мы к новой форме партнёрства, основанной на рациональной
выгоде и эмоциональной привязанности? Это большой вопрос. Новые, адекватные
реалиям культурные нормы пока в обществе не сформированы, а наше внутреннее
ощущение «добра и зла» всё ещё принадлежит прошлому.
То есть, очевидно, что мы должны по-новому строить свои отношения с партнё-
ром, но пока мы даже не знаем, с какой стороны нам за это дело взяться.
Мы действительно живём в тяжёлые времена: вроде бы и «всё хорошо», и даже
мечты есть, ожидания, стремления разные... Только вот все они безнадёжно ус-
тарели . Сама прежняя идеология жизни не работает.
В прежние времена многие проблемы, возникающие в семейных парах, решались
просто потому, что этому и культура содействовала, и среда поддерживала. Но
вот среда изменилась, а культура всё ещё остаётся в нашем сознании прежней. И
никто нам, кроме нас самих, с этим беспорядком в нашей голове совладать не
поможет.
Впрочем, осознавая открывающиеся нам противоречия, мы вполне можем, мне ка-
жется, создать те отношения, что будут стоить затрачиваемых усилий.
Таким образом, ключ к решению — не в «богатстве выбора», а в том, насколько
хорошо мы понимаем реальное положение дел, в том, насколько смело и ответст-
венно мы смотрим этой правде в глаза.
О «нравственности»
Бесчисленные моралисты очень любят учить нас тому, что «хорошо» и как «пра-
вильно», что «должно» и как «надо». Кто-то руководствуется при этом «мораль-
ными ценностями», кто-то — «общественным интересом», а также загадочными «на-
циональными традициями» и «церковными заповедями».
Проблема всех этих блюстителей «добра» в том, что они не знают, о чём гово-
рят. «Моральные ценности» нигде не прописаны и представляют собой то (в луч-
шем случае), что конкретным людям говорили их конкретные бабушки и дедушки.
Попросите подобных пропагандистов «морали» предъявить исчерпывающий, понятный
и непротиворечивый перечень их ценностей, и всё — конец дискуссии.
Для того чтобы ссылаться на «национальные традиции», имеет смысл хорошо
изучить историю, а у всякого народа она такая, что, при внимательном анализе,
волосы дыбом становятся. О чём мы говорим (о каких «национальных традициях»),
если крепостное право у нас отменили всего лишь полтора столетия назад! Мы и
эту традицию тоже должны учитывать? Может, про Юрьев день ещё вспомним?
С религиозными деятелями и вовсе непонятно, как вести дискуссию, если на
словах одно, а на деле — другое. Ну, правда, немногие, я думаю, встречали
священников с вырванными глазами, битыми щеками и без одежды (потому что вся
она роздана нуждающимся, которых у церквей пруд пруди). Не то чтобы я считал
это правильным и необходимым, нет. Просто непонятно, где кончаются аллегории
и начинается жизнь, и почему в таком случае наставляют нас именно аллегория-
ми.
Как-то раз мне пришлось выступить на форуме с участием религиозных деятелей
и политиков, посвященном семейным ценностям. Уговорили меня друзья, бывшие
там организаторами, сделать пленарный доклад. Хотя я их честно предупреждал,
что идея это плохая.
До потасовки, конечно, дело не дошло. Но доклад мой имел, так скажем, неко-
торый резонанс. Сидевший рядом батюшка, правда, уважительно пожал мне руку,
но вот крупный чиновник (прямо очень крупный) взялся меня ловить на слове —
мол, я принижаю «статус человеческого», как же, мол, сострадание, жертвен-
ность и служение ближнему? «Чисто ведь человеческие качества!»
Ну, вот что на это ответишь?.. Посоветовал ему почитать книжку нобелевского
лауреата Конрада Лоренца «Оборотная сторона зеркала», где он камня на камне
от всей этой глупости не оставляет.
Кстати, эту книгу Лоренц написал в лагере для военнопленных — сначала в со-
ветской Армении, а затем в Красногорске под Москвой. Да, он был воспитан в
националистической культуре, был членом партии Гитлера, воевал на стороне фа-
шистов, а потом осознал весь ужас этой идеологии. И его пример, как мне ка-
жется, со всей очевидностью показывает, насколько наука способна прочищать
мозги.
В общем, если есть желание, то всегда найдётся что почитать здравое и о че-
ловеке, и о «мерзости, — как писал Иван Петрович Павлов, — межлюдских отноше-
ний» тоже.
Но зачем читать умные книжки, когда бабушка с дедушкой рассказывали?..
Воля к
власти
Человек — это социальное животное, ориенти-
рованное на достижение целей. Его жизнь име-
ет смысл только тогда, когда текущие цели
достигаются, а взамен них ставятся новые.
Аристотель
Один из основателей научной зоопсихологии, выдающийся американский учёный
Роберт Йеркс, провел в лаборатории приматов Йельского университета следующий
занятный эксперимент.
Из группы шимпанзе забрали одну обезьянку низкого социального ранга и заня-
лись её обучением: она должна была научиться с помощью весьма сложных манипу-
ляций доставать банан из специальной кормушки.
После того как животное освоило навык, его вместе с кормушкой вернули к ос-
тальной группе. Надрессированная обезьянка ловко доставала бананы, но собра-
тья более высокого ранга, ничуть не стесняясь, тут же отбирали у неё честно
заработанное лакомство.
Никому из сородичей «умной» обезьяны и в голову не пришло у неё поучиться.
Да и правда, зачем напрягаться и осваивать какие-то фокусы с кормушкой, если
можно просто забрать у слабого добычу?
Затем тот же фокус повторили с шимпанзе наивысшего ранга. Эту обезьяну тоже
отсадили от группы и тоже обучили её пользоваться кормушкой, а затем вернули
обратно. И что, вы думаете, случилось на этот раз?
У обезьяны, стоящей на вершине социальной иерархии, банан отобрать не так-
то просто. Так что никто и не попытался совершать подобные глупости. Зато всё
племя с живейшим интересом наблюдало за тем, как вожак управлялся с кормуш-
кой ! И все мгновенно стали перенимать у него этот навык.
Мораль эксперимента такова: приматы (к которым мы имеем самое непосредст-
венное отношение) обучаются у тех, кто стоит выше их по иерархической лестни-
це, а с теми, кто стоит внизу, они не церемонятся.
«Общественное мнение всё ещё транслирует идею брака».
Кошку, как вы, наверное, знаете, обучить чему-либо крайне сложно. Но она и
не стайное животное, в отличие, например, от собаки, которая, будучи животным
стайным, как раз очень хорошо поддаётся обучению и дрессировке.
Неслучайно кора мозга у псов в два раза больше (при относительном сравне-
нии) , чем у котов, хотя, казалось бы, образ жизни они ведут весьма схожий.
Разница — именно в социальности этих животных.
Да, чтобы создать стаю, функционировать в стае, понимать законы стаи и
учиться у «старших», необходимо много-много серых клеточек.
Число Данбара
Заинтересовавшись социальностью приматов, выдающийся оксфордский антрополог
Робин Данбар исследовал объём коры мозга 38 видов обезьян, а затем сравнил
эти показатели с численностью социальных групп, которые эти виды обезьян об-
разуют .
Выяснилось, что между этими двумя показателями существует строгая математи-
ческая закономерность: чем больше корковые отделы у данного вида примата, тем
большие социальные общности эти животные способны образовывать.
Иными словами, чтобы становиться всё более и более социальными, приматам
приходилось наращивать объём так называемой новой коры. Или, если посмотреть
на это дело с другой стороны, то получается, что для обслуживания своей соци-
альности обезьянам требовались дополнительные мощности мозга.
Лидерство по численности стаи и объёму коры головного мозга, понятное дело,
занимает обезьяна под названием «человек». Если использовать закономерность,
выявленную Данбаром, то наша естественная стая не может быть больше двухсот
человек. Это и есть так называемое «число Данбара».
Да, в записной книжке вашего телефона (или «друзей» в социальной сети) у
вас, возможно, больше двухсот человек. Но данный показатель является фунда-
ментальным. Поэтому реально вы способны помнить и с некоторой регулярностью
думать только о двух сотнях человек. Остальные забыты и хранятся в далёком
архиве ваших воспоминаний.
50**
150х*
OOxt
Модель социального окружения человека.
Впрочем, круг людей, чьи, например, дни рождения вы помните (и чьё поздрав-
ление на ваш собственный день рождения для вас важно) , ещё меньше — как пра-
вило, это около 25 человек.
Человек — самое социальное из всех социальных животных, а потому иерархиче-
ский инстинкт имеет для нас первостепенное значение.
Нежелание человека умирать и потребность в сексуальных удовольствиях —
вещь, конечно, абсолютно понятная. Но фундамент своей жизни мы выстраиваем
именно на социальной конкуренции.
Что, как вы думаете, лучше всего сделать, чтобы добиться от ребёнка желае-
мого? Нужно превратить это «что-то» в соревнование: кто быстрее съест кашу,
добежит до двери, оденется, залезет под одеяло и т. д.
Куда эффективнее, чем «ложечка за папу», «ложечка за маму»!
Ребёнок готов на что угодно, только бы выиграть пустяшный жетон, наклейку
или пластмассовую медальку. Причём важно, чтобы она ему досталась именно в
соревновании! Он всегда хочет быть лучшим, первым. Ему важно, чтобы его хва-
лили, именно ему уделяли внимание, чтобы именно он был главным.
Это фундаментальная вещь, которая сидит в нас такой занозой, что никаким
страхам и сексам даже не снилось! Причём если и половой инстинкт, и инстинкт
самосохранения сильно видоизменились под воздействием культуры, то иерархиче-
ский дан нам почти в первозданном виде.
Хотя, конечно, и он тоже сильно раздут. Раздут, с одной стороны, из-за на-
шего естественного сопротивления постоянному психологическому (а иногда и фи-
зическому) давлению со стороны «старших», более сильных или даже просто более
высоких сородичей30.
С другой стороны, он раздут, потому что это и самый лёгкий способ нас под-
начить. Вот этим и пользуются. Нам постоянно ставят кого-то в пример, словно
дразнят — посмотри, чего тот-то добился, а чего — этот... А чего добился ты?!
И тут у всякого, как говорится, падает планка. Теперь можно делать с ним, что
душе угодно.
Даже миллиардеры и те болезненно реагируют, когда их спрашиваешь, удовле-
творены ли они своим местом в списке Forbes. Хотя, казалось бы, с такими
деньгами можно уже и вовсе ни о чём не переживать. Но нет, иерархический ин-
стинкт (а у миллиардеров он особенно силён) покоя никому не даёт.
Частенько, впрочем, эта игра приводит и к обратному эффекту: человек замы-
кается, озлобляется и тешит себя каким-нибудь глупейшим объяснением — почему
он «лучше других», несмотря на отсутствие у него соответствующих возрасту на-
клеек , жетонов и пластмассовых медалек.
Ребёнка не надо учить хотеть быть первым и лучшим, а вот бояться опасностей
мы его учим, да и сексуальный опыт он потом будет собирать по крохам и по су-
секам .
Быть первым, правым и главным — это совершеннейший автоматизм! Это наш
внутренний закон. И когда мы вырастаем, это желание никуда не исчезает, а
лишь модифицируется и приобретает более (а иногда — и менее) социально прием-
лемые формы.
Само наше общество организовано по принципу такой иерархической матрицы.
Над нами всегда кто-то громоздится «сверху»: родители, педагоги, начальники,
а ещё есть судьи, полицейские, «научные авторитеты», «звёзды» и прочие «се-
лебрити». Кто-то «живёт под Богом», кто-то под конкретным священником, а кто-
то, например, под президентом.
Альфред Адлер даже придумал для этого механизма формирования личности специальный
термин — «сверхкомпенсация комплекса неполноценности». В упрощённом виде его ещё на-
зывают «комплексом Наполеона».
Всё это виртуальные вожаки нашей стаи, которых мы, с одной стороны, боимся,
а с другой — всегда претендуем на их место, даже если не вполне осознаём это
своё стремление.
«Фундамент своей жизни мы выстраиваем именно на социальной конкуренции».
Конечно, большей частью мы соревнуемся в социальной значимости в горизон-
тальных отношениях: супруги выясняют, кто из них «прав», а кто «виноват», ро-
дители пикируются с детьми-подростками. На работе между сотрудниками всегда
существует конкуренция и, к сожалению, не всегда здоровая. Даже приятели за-
частую дружат, чтобы поконкурировать, так как никакого другого действительно-
го взаимного интереса не обнаруживают.
Приглядевшись к вашей жизни внимательнее, вы без труда обнаружите, что, во-
обще говоря, главная цель социальных коммуникаций — это определить своё место
в иерархии, а затем оборонять его ото всех, кто стоит «ниже». Ну и конечно
же, мы не оставляем попыток подняться хотя бы чуточку «выше», потеснив тем
самым местных завсегдатаев. Да, в этом наша цель — быть как можно «выше», и
не так уж важно, каким образом. Властный Олимп — это та манящая нас сила, ко-
торую все мы инстинктивно боимся и которой все мы, вместе с тем, одновременно
страстно алчем.
Собственно, из иерархического инстинкта, а вовсе не из сексуального желания
к матери и произрастает феномен, который Зигмунд Фрейд верно обнаружил, но
ошибочно обозначил «эдиповым комплексом» — желание победить и свергнуть Отца
(вожака) с его престола.
Стремление быть первым и правым в человеке неистребимо — в спорте, в бизне-
се, в масс-медиа, в политике и т. д. И только оно приносит человеку мгновения
особого, торжествующего счастья!
Впрочем, на Олимпе количество мест ограничено, поэтому многие из нас ис-
пользуют суррогатные и весьма затейливые способы, чтобы самоутверждаться. Ти-
пичный пример — спортивные болельщики. Впрочем, чем они отличаются от полити-
чески ангажированных граждан, которые радуются победе своего кандидата на вы-
борах? Или тех, кто рад испугу «вероятного противника»?
«Мы победили!» — ключевая фраза, которая тешит иерархический инстинкт вся-
кого , кто взялся играть в одну из таких суррогатных игр.
В творчестве дела обстоят аналогичным образом. Кинорежиссёры, например, со-
ревнуются между собой кассовыми сборами и количеством «железок» (так они на-
зывают призы, полученные ими на международных фестивалях). Впрочем, это каса-
ется абсолютно всех «культурных» сфер...
Художники и дизайнеры соревнуются ценами на свои работы, а также тем, кто в
каком музее выставлен. Писатели — тиражами книг, литературными премиями, по-
ложительными рецензиями критиков и проч. Актёры, певцы и модели — рейтингами,
собранными стадионами, проданными дисками и гонорарами.
Конкурируют между собой и «творческие болельщики». Делают они это, как пра-
вило, с большей деликатностью, нежели спортивные или политические, но по су-
ществу всё то же самое: мой кумир преуспел! я же говорил! нате-ка выкусите!
мы лучше всех!
Именно поэтому так живучи абсурдные верования, создающие основу каждой кон-
кретной субкультуры. А принадлежность к определённой субкультуре, в свою оче-
редь , позволяет нам чувствовать себя состоявшимися — идентифицировать себя с
чем-то «правым», с «истиной», «красотой», «нравственностью», «силой духа и
плоти», с самой «властью», наконец.
В эти игры наш мозг играет как заворожённый. Эволюция науськивала его на
эту бесконечную и беспощадную борьбу миллионами лет естественного отбора,
всеми силами межвидовой и внутривидовой конкуренции. Так что конкретный повод
— ради чего, собственно? — теперь и не так важен. Важен просто «верх». Какой
подвернётся, на такой и полезем.
Если же смотреть на это дело здраво, то мы имеем лишь набор дурацких игр с
нулевой суммой31.
Но нашему ограниченному от природы, подслеповатому сознанию с эдакой «выс-
шей математикой» не разобраться. Ему остаётся только всё это безумие как-то
оправдывать, выгораживая собственный эгоцентризм с помощью многословных, ви-
тиеватых и насквозь противоречивых интеллектуальных конструкций.
В результате подобные конструкции, наскоро слеплённые нашим сознанием, час-
то становятся затем идеологиями, политическими взглядами, «личностным рос-
том», культурной парадигмой, нравственными и эстетическими ценностями, рели-
гиозными доктринами и прочей требухой «межлюдских отношений».
Только вот реальных, по-настоящему человеческих отношений в этой требухе,
как правило, нет. Вот почему за всей этой кипучей «социальной жизнью» мы чув-
ствуем себя одинокими и, видимо, вполне оправданно считаем, что проживаем не
свою жизнь.
Где-то в глубине души мы понимаем, что вся эта конкуренция за право счи-
таться «лучшим» — лишь игра, ничем, в сущности, не отличающаяся от хорошо из-
вестного нам соревнования «кто быстрее залезет под одеяло». Но мы, понятное
дело, стараемся об этом не задумываться.
Ведь если мы всё-таки задумаемся, если осознаем, чего на самом деле стоят
все эти наигранные и вымученные «победы», нам станет не по себе. Что они на
самом деле нам дали? Чем они сделали нас лучше? Да, если мы дадим себе труд
пораскинуть мозгами, то окажется, что король-то голый, а все эти свои «побе-
ды» мы просто-напросто придумали, высосали из своего собственного пальца.
Признавать это больно и горько. В этих бессмысленных схватках за виртуаль-
ный «верх» нами было наломано немало дров: мы заплатили за него дружескими и
просто человеческими отношениями с другими людьми. Потеряли реальные отноше-
ния, а забрались всего лишь на умозрительный «верх». Оправданна ли такая це-
на? Да об этом, как говорят в таких случаях, лучше не думать.
Нет правды там, где всё — игра. Но пока есть возможность выигрывать, мы бу-
дем играть. Таков иерархический инстинкт.
И снова, как вы можете заметить, «огромное богатство выбора»! Аж глаза раз-
бегаются — какую бы пирамиду поштурмовать? как умудриться всех переспорить во
всех «комментах», куда бы прислониться, чтобы ощутить на себе ореол героя-
победителя? . .
Каждый вопрос на миллион.
Сетевое сообщество
Социальные сети — новая реальность нашей «общественной жизни». И не стоит
удивляться тому, что они стали самым настоящим кривым зеркалом, высвечивающим
все пороки бессмысленной, изматывающей и деморализующей игры в «первого».
То, что должно было стать идеальным средством коммуникации, превратилось в
способ формирования новых социальных пирамид. Та же самая история — одни пре-
вращаются в блогеров-тысячников, другие страдают от недостатка «лайков» и пы-
таются присоединиться к какой-нибудь успешной стае с харизматичным вожаком.
Само социальное общение становится при этом не только поверхностным, но и
на самом деле виртуальным. Чтобы понимать другого человека, недостаточно
знать, что он говорит (как мы уже выяснили, то, что он говорит, вообще не
имеет никакого значения), важно знать, каковы его отношения с его социальным
кругом — его действительную стаю.
«Игра с нулевой суммой» — специфический подтип игры, согласно теории игр, когда
внутри системы находится одна и та же сумма. Игроки не могут ни увеличить, ни умень-
шить «призовой фонд», и он по существу просто переходит из одного кармана в другой.
Таким образом, никто на самом деле ничего не выигрывает.
Когда у вас есть настоящий друг, вы на самом деле знаете не его самого, а о
множестве его отношений с другими людьми. Вы знаете, каков он в отношениях со
своими родителями, с супругом (супругой), с детьми, с начальником и подчинён-
ными, с другими вашими общими знакомыми. Именно эти отношения и задают его,
так сказать, психологический объём в вашем восприятии.
Фокус в том, что, будучи социальными животными, мы проявляемся только через
свои реальные социальные отношения с другими людьми. Без других людей мы бы
представляли собой «пустое место». Мы (каждый из нас) — это перекрестье наших
социальных активностей, мы — как бы эхо наших отношений с другими людьми.
С ok.ru Одноклассники
Почта Мой Мир Одноклассники Игры Знакомства Новости Поиск Все проекты
OdMfcM КИ
Фотоконкурс
Платежи и подписки
Ещё
Найти друзей
Мои настройки
Перевести деньги
г
Купить ОКи
]
Всё включено
Невидимка
Оценка 5+
Украсить страницу
Модератор О К
Щ
Искали где купить
ноутбук?
На маркетплейсе
goods ru более 3 000
м о д е л е и н оутбу к с в
Комментировать 0 Л О
Елена Демина оигает классным
\h Класс
о U
А что вы знаете о действительном социальном круге своего «друга» в социаль-
ной сети? Ровным счётом ничего! Таким образом, вы общаетесь не с ним, а с
полностью выдуманным вами фантомом, который целиком и полностью находится
внутри вашей собственной головы! Переписываясь с ним, вы, по существу, разго-
вариваете с самим собой. И всё это сильно отдаёт шизофренией. Но мы этого не
чувствуем — мы можем переживать, оскорбляться, тосковать, даже влюбляться и
ещё «много думать»... А толку-то?
В комментариях к вашей фотографии или посту написали глупость? Ну, так, мо-
жет, её дурак и написал? Что с него взять? Но вы этого не знаете, а главное —
не осознаёте своего неведения. Вашим воображением создан полноценный образ
вашего собеседника: вы его словно наяву видите, а он, по сути, лишь галлюци-
нация.
А с кого вы нарисовали образ этого человека, если реальный персонаж вам не-
известен? С себя, разумеется. Но он — точно не вы (вы бы, я думаю, не стали
писать неприятные вещи под своими постами и фотографиями). Однако же вы пере-
живаете так, словно бы сами себя оскорбили, словно бы вас оскорбил кто-то
равный вам.
Чтобы узнать человека, вы должны понимать его отношения с его реальным со-
циальным кругом, а в Сети это невозможно. Если он ходячий неудачник, который
так самоутверждается, вы, встретив его «в реале», только посмеётесь. Но в
том-то весь и фокус, что вы не видите его в «реале», но при этом уверены, что
общаетесь с реальным человеком.
От этой иллюзии очень непросто избавиться, ведь чтобы взаимодействовать с
кем-то, нам нужно иметь какое-то представление о нём. Вот мы и составляем
представление о наших виртуальных собеседниках, совершенно не сообразуясь с
реальным положением дел. И верим в собственные придумки.
По статистике что-то активно комментируют в Сети лишь от одного до трёх
процентов всех пользователей. Кто все эти люди, которым так хочется заявить о
себе миру под прикрытием аватара? Те, у кого жизнь полна событий, те, кто ус-
пешен и деятелен? Или те, у кого ничего нет, кроме этого виртуального окна?
Или даже, точнее сказать, виртуальной форточки...
Но добропорядочные пользователи социальных сетей не слишком об этом задумы-
ваются. Когда вы открываете свою страницу, вы попадаете в самую настоящую
психологическую ловушку: Сеть подменяет вам подлинную реальность, вы обнару-
живаете себя в выдуманном мире, иллюзорности которого не замечаете.
Этот виртуальный мир способен затянуть человека целиком, лишив его подлин-
ных отношений — того круга людей, которому мы можем быть по-настоящему, ис-
кренне небезразличны и которые потому так важны для нас.
Как любил повторять тот же Роберт Йеркс: «Один шимпанзе — не шимпанзе». Что
уж говорить о человеке! А вот об аватаре и вовсе ничего путного сказать нель-
зя. Он — химера.
Правда о
желании
Понятия и суждения имеют смысл лишь по-
стольку, поскольку им можно однозначно
сопоставить наблюдаемые факты.
Альберт Эйнштейн
Итак, мы исчерпали лимит наших «потребностей». Всё в конечном счёте сводит-
ся к следующему:
■ мы не хотим умирать и боимся смерти (причём если вы пока не умираете, этот
страх является чистой профанацией);
■ хотим большой и чистой любви, но её, к сожалению, не предвидится;
■ наконец, мы хотим забраться на самый верх социальной пирамиды и затем всю
жизнь (точнее, насколько хватит сил) оборонять её от тех, кто также на неё
претендует.
Какое из этих желаний вы хотите сделать центральным пунктом своей жизни?
Альтернатива — так себе, я полагаю. А знаете почему? Потому что сама идея
нашего «желания» — это фикция. Подлинное желание — это не приобретение чего-
то, а восполнение недостатка, устранение дефицита.
Но какой дефицит вы в действительности испытываете — не надуманный, а ре-
альный? Не обманывайте себя, будьте с собой честными.
Если я сейчас перекрою вам доступ к кислороду, вы испытаете дефицит в ки-
слороде и будете хотеть кислорода. Если вас не кормить неделю, вы будете ис-
пытывать недостаток пищи и настоящий голод. Вы действительно будете во всём
этом нуждаться, вы ощутите настоящую потребность в этом.
Впрочем, это лишь гипотетические примеры. А чего вам реально не хватает? Не
чего бы вам хотелось, а чего вам и в самом деле недостаёт?
В этом вся и проблема — мы не испытываем естественного дефицита!
Нашей жизни намеренно и очевидно ничто не угрожает. Наша сексуальная по-
требность нами же и переоценена, а любовь, о которой все мы мечтаем, иллюзор-
на. Наконец, центром мира (и соответственно, пимпочкой на социальной пирами-
де) мы себя и так считаем, нам для этого самоощущения вообще никто не нужен,
честно говоря (каждый из нас искренне уверен в том, что он умнее, лучшее и
справедливее всех прочих землян).
В детстве, если помните, всё было по-другому. Мы не боялись смерти, нам не
нужен был секс, но мы реально хотели быть первыми. Это и двигало нас, застав-
ляло чему-то постоянно учиться, побуждало развивать новые навыки, прыгать вы-
ше собственной головы.
Но теперь всё — мы уже прыгнули. Прыгнули и сели сверху.
Давайте честно: кого вы и вправду считаете умнее себя? Не теоретически, а
на самом деле? Вот прямо, что он вам скажет, то вы сразу и приметесь испол-
нять — беспрекословно, ни секунды не раздумывая! Нет такого персонажа.
Точнее, есть: вы такой персонаж. Ведь что бы вы ни делали, вы считаете это
правильным.
По крайней мере, какую бы глупость вы ни сделали, вы всегда найдёте самое
изощрённое объяснение, оправдывающее этот ваш поступок.
То есть он — этот ваш поступок — для вас уже априори «правильный». Вы буде-
те настаивать на этом, даже если он окажется на поверку отчаянной глупостью.
Возможно, какую-то неловкость вы и почувствуете — мол, неудобно как-то полу-
чилось ... Но это защита, а не раскаяние.
Итак, мы переходим к самому интересному.
Внимание, я должен сообщить вам чрезвычайно важную новость: вы знаете, чего
вы хотите на самом деле. Да, это не описка. Вы знаете. Конечно! Оглянитесь
вокруг — это то, чего вы действительно хотите.
«Подлинное желание — это не приобретение чего-то, а восполнение недостатка,
устранение дефицита».
Вам всё ещё кажется моё заявление странным? Я понимаю: ведь ваше сознание
полно мифов и легенд о несбывшихся мечтах (причём куда более головокружитель-
ных, чем фантазия всех древнегреческих драматургов вместе взятых).
Но сознание — это ведь только красивая обёртка реальной конфеты. Оно ничего
не решает. Конфета же лежит внутри вашей черепной коробки! Это, уточню на
всякий случай, ваш мозг, и он привёл вас именно туда, куда он вас привёл, и
больше, как мы выяснили, не испытывает дефицита.
Так что ваша реальная жизнь — та которая у вас уже есть, — и есть исполне-
ние ваших желаний! Поздравляю! Да, ваше желание, будучи исполненным, так вы-
глядит . Что бы там ни думало себе ваше сознание, ваш мозг привёл вас сюда, в
эту точку. Он хотел этого. Такова правда.
Вашему сознанию всё это может не нравиться, понимаю. Ваше сознание по-
прежнему хочет какой-то другой жизни. Но какое это имеет значение? Вы что,
считаетесь с его мнением? Нет, конечно. В противном случае вы бы всегда сле-
довали тому, что ваше сознание вам говорит: например, заниматься спортом, со-
блюдать диету, не раздражаться на идиотов...
У вас масса прекрасных предложений от вашего сознания! Но вы же им не сле-
дуете, отмахиваетесь от них, как от назойливой мухи, — откладываете, перекла-
дываете, забалтываете и просто игнорируете, как белый шум.
Да, вы не слушаетесь своего сознания, вы делаете то, что решил ваш мозг,
то, что он захотел. И оказываетесь там, куда он вас — в соответствии с этими
его (вашими) «хотелками» — привёл.
Никакого права голоса у нашего сознания нет. Вы следуете путём своего моз-
га, который тащит ваше сознание за собой на прицепе, причём с известной нам
уже либетовской полусекундной задержкой (а то и куда большей, если верить
фМРТ) .
Конечно, я не знаю, что там у вас «вокруг», но оглянитесь и посмотрите на
свою жизнь сами.
Какая у вас работа? Ага, хорошо. Судя по всему, вы её и хотите.
Нет у вас работы на постоянной основе — ну так вы и не хотите работать на
постоянной основе. Так бывает, причём сплошь и рядом.
Это такая, знаете ли, типичная мизансцена: лежит человек на диване и гово-
рит мечтательно:
— Вот был бы у меня миллион долларов!..
— и что бы ты делал? — интересуемся.
— Лежал бы на диване и ничего не делал! — отвечает он нам торжественно.
— Ну, так ты уже и лежишь на диване, ничего не делаешь...
Если человек (его мозг) что-то действительно хочет, он то и делает. И если
он хочет лежать на диване, то он и лежит на диване. Всё остальное — просто
гипотетические хотелки ангажированного культурой сознания, которые ровным
счётом ничего не стоят.
Хорошо, а что у вас со второй половиной? Нет её? Поздравляю вас, вы её и не
хотите! Есть? Поздравляю, таков ваш выбор! Удивительно, да? А какое тут ещё
может быть объяснение, если огородов не городить?
С детьми, конечно, не так — мы ребёнка не выбираем. Какой получился, такой
и есть. Впрочем, если он здоров, то и тут его поведение — в значительной сте-
пени дело ваших рук. То есть вы именно такого ребёнка себе и хотели. Не дума-
ли , возможно, что хотели такого. Но ваш мозг, вероятно, не захотел лишний раз
напрягаться, не слишком тревожился о результате. Его всё более-менее устраи-
вало, ничто не взволновало, и он пустил дело на самотёк. А там что выросло,
то и выросло — как заказывали. Самотёк других вариантов и не предполагает.
Ещё раз: если вы испытываете реальный дефицит, тогда у вас и нет проблем с
желанием — оно очевидно, оно явлено в конкретном действии (то есть вы соот-
ветствующим делом и занимаетесь) . Но если вы не испытываете дефицита — вы и
сидите сиднем.
Ваши же сознательные желания-ожидания мнимы. Это лишь фантазмы и фантазии —
«хорошо было бы, если...» Но пока вы не испытываете ни соответствующего голо-
да, ни соответствующей жажды, это просто разговоры.
Вам всё ещё кажется данное рассуждение парадоксальным? Это нормально. Вы
просто не привыкли думать, глядя правде в глаза.
Кроме того, до сего момента вам недоставало знаний о действительных отноше-
ниях вашего мозга с вашим сознанием. Но мы целую главу на эти отношения по-
тратили, так что теперь вы в курсе и у вас есть все шансы начать думать пра-
вильно .
Впрочем, если вы действительно в отношениях мозга и сознания разобрались (а
не просто вам показалось, что вы что-то поняли), то теперь у вас есть инстру-
мент для разрешения соответствующих противоречий.
Давайте привыкать думать непротиворечиво.
В данном случае всё просто: если я — это мой мозг, то место, в которое он
меня приводит (диван у телевизора или президентское кресло), — это и есть то,
чего он хочет. А что я по этому поводу думаю — сознанием — дело десятое. Оп-
равдывать сознание умеет всё что угодно, даже безумие (данный факт я могу от-
ветственно подтвердить как врач-психиатр).
«Если вы испытываете реальный дефицит, тогда у вас и нет проблем с желани-
ем».
Да, я понимаю, что сложно перестраиваться. Ведь часть любой ситуации мы
всегда готовы увидеть и принять с легкостью, но всю картину сразу и увидеть-
то не просто, а принять в расчёт — и вовсе как серпом по одному месту.
Всё, что нашему сознанию не нравится, мы изо всех сил пытаемся от себя
спрятать, вытеснить куда-то в тень — с глаз долой, из сердца вон. И даже если
сокрытое находится на самом видном месте, мы сделаем всё, чтобы его не заме-
чать .
Допустим, вы чего-то достигли — повышения по службе, прибавки к зарплате,
статью умную написали, руки и сердца каких-нибудь замечательных добились. Кто
всё это сделал? Вы, конечно! Но это ведь не вся правда...
Были и другие фигуранты вашего успеха — начальник, который разглядел ваш
талант или вдруг почему-то расщедрился. Статья умная, хоть она и вами написа-
на, тоже не возникла бы без посторонней помощи — кто-то так или иначе поспо-
собствовал (хотя бы и первая учительница, которая писать вас учила правиль-
но) . Про руку и сердце я вообще молчу. Но мы эту вторую, скрытую от нашего
сознания часть игнорируем, потому что подвиг должен быть целиком наш.
В общем, много здесь всегда лукавства, хотя, допускаю, не преднамеренного,
а ещё и вполне объяснимого — все мы хотим быть лучше того, чем являемся. Что
в этом плохого? А кто без этого греха, пусть бросит в нас камень.
Впрочем, вы можете возразить: мол, с чего это я имею то, что я хочу, если
моя работа, например, мне не нравится? Ну и правда, как она может вам нра-
виться, если денег вы на ней получаете мало, сама работа скучная, только нер-
вы вам на ней и треплют, и уж точно она не «дело вашей жизни». Но это только
часть ситуации, которую вы видите, а есть ещё и та, которую вы замечать не
хотите.
Теперь зажмурьтесь (чтобы не испугаться), и давайте приглядимся повнима-
тельнее : вы действительно готовы идти на профессиональный риск, брать на себя
дополнительную ответственность и дополнительную нагрузку, работать сверхуроч-
но, создавать новые проекты, всё отставить на второй план (дом, семью, раз-
влечения и отдых), чтобы сделать работу центром всей своей жизни?
Нет, потому что в противном случае вы бы всё это уже и сделали. Но вы не
делаете, и у вас замечательное оправдание — «это не дело вашей жизни» и «сама
работа скучная» и т. д. и т. п. Классический пример самозавинчивающегося
замкнутого круга, как в анекдоте — нет секса, потому что прыщи, а прыщи, по-
тому что нет секса.
Но допустим, что вы всё же правы. С работой действительно критический швах.
Но если так, вы должны знать, что есть «дело вашей жизни» и какая работа была
бы для вас в самый раз. Знаете ли вы, что это?
Предположим, что вы знаете. О'кей, почему вы в этом случае не там?
Одно из двух:
1. или вас туда не берут, но тогда вы и не можете знать, что она — «та са-
мая», ведь вы ещё не имели шанса это проверить (вполне возможно, что вы
заблуждаетесь и вам просто удобна такая позиция);
2. или вас оттуда уволили, но тогда, я прошу прощения, там или бизнес никуда
не годный, или работник вы не из лучших — подумайте сами:
■ если эта работа — не бизнес, то вы рассуждаете не о работе, а о хобби,
которым надо в свободное время заниматься (работа всё-таки предполагает
производство чего-то, что другие люди готовы и хотят покупать);
■ во втором случае, если вы с этой работой профессионально не справляе-
тесь , то это и не может быть «делом вашей жизни» — не по Сеньке шапка.
То есть, как ни крути, вы где-то обводите себя вокруг пальца — или в одном
месте, или в другом, или даже в третьем, которое я не предусмотрел.
Факт же состоит в том, что мы там, где мы есть. И давайте признаемся себе
честно, не делаем всего, что следовало бы, чтобы оказаться в каком-то другом
месте.
Если же вы этого не делаете, то, значит, и не испытываете действительного
дефицита. А если не испытываете дефицита, то всё — если брать на круг (с учё-
том всех плюсов и минусов) — вас устраивает.
«Но если это всё так, то почему я не рад тому, что у меня есть?» — спросите
вы. Отвечу: ваш дискомфорт обусловлен тем, что вам бы хотелось ещё чего-
нибудь. Знаете, как бывает — «хотелось бы чего-нибудь вкусненького». Хотелось
бы, но подорваться и бежать ради этого по магазинам немногие решаются.
То есть всегда стоит вопрос цены — количества усилий, которые от нас потре-
буются , чтобы соответствующую «хотелку» исполнить. И выясняется, что платить
ту цену, которая требуется, мы не согласны.
И мы вправе. Есть товар, есть цена, а есть покупатель, которому это или
нужно за такую цену, или нет. Что тут поделаешь?
Готовы ли мы отнять в одном месте, чтобы здесь расплатиться? Этот вопрос
наш мозг всегда решает с предельным напряжением. Помните чашку с логотипом
университета? Мозг всё сам себе считает, на ус мотает и принимает решение —
мол, за столько-то продам, за столько-то куплю. А дальше вы имеете то, что
имеете.
Да, всем нам, бывает, хочется того самого химерического счастья — розового
единорога, белоснежного пегаса и ещё какую-нибудь рыбку говорящую. Конечно,
ведь нам рассказывали, что, мол, у кого-то что-то такое было «вкусненькое», а
нам показалось, что и нам оно надо. Но ключевое слово здесь — «показалось».
На уровне сознания нам может не нравиться то, что мы хотим на самом деле
(чего хочет наш мозг) , — не удивляйтесь этому. Но сложно спорить с тем фак-
том, что ваш мозг — это и есть вы, а он привёл вас туда, где вы сейчас себя
обнаруживаете.
Впрочем, самое главное — в том, что вы и не особенно рвётесь куда-то ещё. В
противном случае вы бы не мучились надуманной «проблемой выбора». Вы бы уже
воспользовались любым из тех вариантов, что вам здесь и сейчас уже предложе-
ны.
Поверьте, вариантов вокруг множество, и вы бы обязательно принялись их ис-
пользовать, если бы вас устраивала цена вопроса. Но ваша готовность платить
за перспективы определяется лишь уровнем дефицита. Если вам не хватает кисло-
рода , вы будете готовы отдать за него всё что угодно. А если вам «не хватает»
миллиона долларов? Сколько вы за него заплатите?
«Если кому-то кажется, что для счастья ему не хватает «всего лишь парочки
миллиардов, расскажите ему про эксперимент пВселенная-25п».
Правда в том, что наши достижения прямо пропорциональны нашим фактическим
амбициям. И не надо питать иллюзий.
Собеседование
В своей жизни я провёл сотни собеседований потенциальных сотрудников, при-
чём для совершенно разных компаний и проектов — от психиатрической больницы
до набора участников в телевизионное реалити-шоу. Но эти примеры мы вынесем
за скобки и поговорим об обычном приёме на более-менее обычную работу — на-
пример, сотрудника в бэк-офис большой корпорации.
Сразу должен предупредить, что согласно последним научным данным даже полу-
часовое собеседование потенциального работника с работодателем является бес-
смысленной тратой времени. Никакой прогностической силы у таких собеседова-
ний, как выяснили социальные психологи, нет. Но поскольку я всё-таки ещё и
психотерапевт, то просто представим себе, что это просто своего рода психоло-
гический эксперимент.
Во время таких собеседований я всегда спрашиваю кандидата: «Хорошо, давайте
сейчас забудем про ваше резюме, про то, что было в описании предлагаемой ва-
кансии. Чего бы вы вообще хотели? Что для вас было бы вот прямо вашим делом?»
Ответы, как вы догадываетесь, начинаются (а часто и заканчиваются) общими
фразами о «развитии», «успехе», «карьере», «самореализации» и т. д. Это, ко-
нечно , самый печальный вариант: человек вообще ничего на самом деле не хочет
или скрывает, чего хочет на самом деле (например, сидеть сутками напролёт за
компьютерными играми или колесить по миру в турпоходах).
Те же, кто после дополнительных уточняющих вопросов всё-таки находится с
ответом, попадают, должен признаться, в новую ловушку. Допустим, кандидат го-
ворит: «Ну, я, конечно, хочу быть юристом в вашей компании. Но мне особенно
приятно, что здесь работает много творческих людей, и меня это всегда так ма-
нило , так манило! Я это очень люблю!»
В чём ловушка? Она в следующем: я обязательно спрашиваю у кандидата, что он
конкретно сделал для того, чтобы это «люблю» превратилось из слов в нечто
хоть сколько-то осязаемое. Если человек отвечает, что он десять лет участво-
вал в самодеятельности, пел в хоре и поигрывает в уличном театре пантомимы,
он, скорее всего, не соврал и про юриста. Но если он ничего подобного не де-
лал , то он ровно с тем же успехом «хочет» быть и юристом. Надеюсь, вы пони-
маете почему.
Ещё один вопрос, который я неизменно задаю кандидатам: «Хорошо, сейчас за-
будем всё, что мы здесь обсуждали. Меня интересуют стратегические планы. Как
вы видите своё будущее через десять лет?».
Большая часть ответов (как вы, наверное, уже догадываетесь, неправильных)
делится на две группы:
■ кандидат говорит, что он хочет совершенствоваться в профессии, чтобы реа-
лизовать свой потенциал, а это значит, что у него буквально нулевые амби-
ции и даже задуманного он не исполнит, десять лет слишком большой срок,
чтобы планировать прорыв;
■ кандидат говорит (особенно если он молод), что... «в будущем я хочу иметь
семью»... и запинается, а мне остаётся лишь удивляться — что вообще должно
быть у человека в голове, чтобы ответить нечто подобное, когда о будущем
тебя спрашивает потенциальный работодатель?!
Последний вариант ответа свидетельствует о том, что кандидат в принципе не
особенно задумывается над тем, что ему предстоит здесь работать. Но самое пе-
чальное другое: его несчастная голова забита кучей социально обусловленных
стереотипов, и работа пока является лишь одним из них. Он не хочет работать,
он знает, что ему «надо» работать. И знает про это «надо» его сознание, а не
его мозг, и толку от такого работника, к сожалению, не предвидится.
Правильный ответ на этот вопрос: «Я, товарищ руководитель, хочу через де-
сять лет быть вами». Должен предупредить, что не всякий руководитель способен
оценить ценность такого ответа. Но если вас нанимаю я, то в этот момент я по-
нимаю две вещи:
■ первая — вы сможете учиться и совершенствоваться (вспоминаем шимпанзе из
эксперимента Роберта Йеркса);
■ вторая — вы хотите быть первым, то есть в вас ещё есть та страсть, благо-
даря которой люди в принципе и достигают успеха.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Делай, что можешь, с тем, что ты
имеешь, там, где ты есть.
Теодор Рузвельт
Настало время подводить первые итоги.
Не стоит удивляться чувству, будто бы мы проживаем не свою жизнь. Чувство
это неприятное, но верное и важное, поэтому не гоните его. Именно оно застав-
ляет нас задуматься о том, кто мы есть на самом деле.
Да, ответы, которые мы пока получили благодаря «красной таблетке», не слиш-
ком радужны.
Но попробуйте вспомнить то чувство, когда вы узнали, что Деда Мороза не су-
ществует. Думаю, было неприятно. Я, например, жутко разозлился. Нет, я был
просто в гневе! Мне так неприкрыто врали, словно я полный идиот. Но кто-то,
возможно, просто расстроился, узнав, что прекрасная сказка оказалась выдум-
кой. Кто-то, наверное, даже испугался.
В любом случае было дискомфортно. Когда теряешь красивую иллюзию — всегда
так. Не важно — о Деде Морозе речь, о разочаровании в любимом человеке или
когда понимаешь вдруг, что тебе уже совсем не шестнадцать и даже не двадцать
пять. Терять иллюзии больно и страшно. Столкновение с реальностью кажется бо-
лезненным ударом. Я всё это понимаю.
Но я не думаю, что мы заслуживаем сочувствия, потому что никакого удара о
реальность на самом деле и не было. Это был лишь дурной сон, навеянный «синей
таблеткой», а сейчас мы просто проснулись.
Нужно понять, что мы, даже при всём желании, не можем столкнуться с реаль-
ностью. С реальностью буквально по техническим причинам нельзя столкнуться:
нельзя столкнуться с тем, чего вы никогда не покидали, с тем, чем вы, в дей-
ствительности , сами являетесь.
Мы никогда не теряли ни реальности, ни правды о ней. Мы лишь делали вид,
притворялись, прятались сами от себя. Нам было приятно верить во всяческие
рождественские сказки, красивые истории, рассказы про любовь.
Но мы всегда знали: что-то тут не так. Знали, но не хотели этого призна-
вать . Тянули. И накапливали долги.
Никакая иллюзия не сделает нас счастливыми. Возможно, лишь на какой-то миг,
но за него потом придётся платить втридорога. Это как с наркотиками. Сам по
себе такой трип может оказаться весёлым, но вот тяжёлая абстинентная отдача
потом замучает: отравленный наркотиком мозг перетратил дофамин и теперь испы-
тывает жёсткий дофаминовый дефицит. Повторная попытка вернуться к наркотику
только ухудшит положение.
Короче говоря, даже если вы сейчас капельку расстроились — не беда. То, что
мы выигрываем, освобождаясь от иллюзий, — куда более ценная вещь, чем любые
красивые фантазии. Это та правда, без которой мы никогда не поймём, как нам
жить своей жизнью.
Итак, перед нами вопрос нашего с вами предназначения.
Есть ли оно? А если есть, как с ним быть?
Иметь
и быть
Если ваша единственная цель состоит в
том, чтобы стать богатым, вы никогда не
достигнете её.
Джон Дэвисон Рокфеллер
Итак, что вы думаете теперь о «богатстве» своего «выбора»?
Не знаю, как у вас, но у меня лично никакого «выбора» нет, не говоря уж о
каком-то его «богатстве». Бессмысленно городить иллюзии и гоняться за розовы-
ми единорогами. Реальность ровно такова, какова она есть.
Точно так же, как и в нашем рассуждении о месте и времени нашего рождения,
у нас нет ничего, кроме того, что «по случаю» нам выпало. Впрочем, это лишь
для нас — «случай», а в действительности — закономерность.
С закономерностями можно пытаться спорить, выражать своё ими недовольство,
но это ничего не изменит, поскольку другой «случайности» у нас нет. Законо-
мерности надо заставлять работать на себя, раз уж мы и вправду считаем себя
«центром Вселенной».
В качестве эпиграфа к этой главе я взял знаменитое высказывание, принадле-
жащее самому молодому в истории США. президенту страны — Теодору Рузвельту. Он
стал им в 42 года — это как мне сейчас.
Впрочем, те, кто знает историю, могут сказать, что Теодор Рузвельт стал
президентом «случайно». Действительно, он был избран лишь вице-президентом, а
президентом оказался лишь потому, что его босса — президента Уильяма Мак-
Кинли — застрелил анархист-одиночка.
Кто-то скажет — мол, легко это говорить: «Делай, что можешь, с тем, что
имеешь, там, где ты есть», если президентский пост сам падает тебе в руки.
Но подумайте об этом иначе: что будет, если вы не делаете то, что вы може-
те, с тем, что вы имеете, там, где вы есть? Вы не преуспеете, куда бы и что
бы вам ни упало!
«Богатство выбора» иллюзорно, потому что это гипотетическая вещь. Фактиче-
ски же вы там, где вы есть, у вас есть то, что есть, и вы или делаете с этим
то, что можете с этим делать, или не делаете этого.
Если не делаете, а ждёте какого-то другого «счастливого случая» (вдруг, на-
пример, сделают вас президентом), это печально. Печально хотя бы потому, что
такие «случаи», как мы уже выяснили, даже если они и возможны, как с выигры-
шем в лотерею, не делают людей «счастливыми».
К любому «случаю» надо быть готовым. Ведь любой «случай» оказывается, по
существу, не наградой, а внутренним вызовом для человека. Кроме того, любой
«случай» должен быть доведён до ума. В противном случае наивно надеяться на
следующий «случай». Вы застрянете в складке.
Учитывая дальнейшую карьеру нашего героя (а Рузвельт был избран и на второй
президентский срок) он был вполне готов к реализации представившейся ему воз-
можности .
И вы находитесь ровно в таком же положении: не важно, что на кону — прези-
дентский пост или продвижение по карьерной лестнице в небольшой фирме, — вы
или готовы действовать, или нет.
Но, как говорил другой великий политик — Уинстон Черчилль: «Всякая хорошая
возможность заявляется к нам в рабочем комбинезоне и с лопатой в руках». Это
обстоятельство, поверьте, является фундаментальным: каким бы замечательным ни
был «случай», он потребует от нас прибегнуть к усилию, мы будем вынуждены
сделать ставки, причём, возможно, очень большие.
Но готовы ли мы на такие усилия и на эту цену? Сказать по правде, наш мозг
находится в слишком комфортных условиях, чтобы совершать какие-то усилия. Да,
жить можно, сексуальное удовлетворение — не проблема, а в остальном — «я и
так самый умный».
Зачем нам себя нагружать, платить, рисковать? Зачем брать на себя ответст-
венность, что-то придумывать, изобретать? В конце концов, это значит, что на-
до самих себя менять, а зачем? Чего ради? Журавля в небе?..
Если спросить человека, почему он не пытается преуспеть на своей работе (не
делает того, что он может, с тем, что он имеет, там, где он есть), он, скорее
всего, скажет, что «не видит в этом перспектив».
Но, ей-богу, это удивительная вещь! А где он видит эти загадочные «перспек-
тивы»? Воображает гипотетически? И давно он стал принимать свои фантазии за
реальность? Если так, то, возможно, надо начать не с просмотра вакансий, а с
консультации у психиатра.
Допускаю, что у меня просто туго с воображением, но я не понимаю, какие ещё
могут быть варианты, как не делать того, что мы можем, с тем, что мы имеем,
там, где мы есть?
Конрад Лоренц написал свою знаменитую книгу «Оборотная сторона зеркала» в
советском лагере для военнопленных. Мой любимый философ Людвиг Витгенштейн
написал свою главную работу — «Логико-философский трактат» — в итальянском
плену, угодив туда с фронта Первой мировой войны. Наконец, выдающийся психо-
лог Виктор Франкл создал свою систему психотерапии, находясь в фашистском
концентрационном лагере.
Все они делали то, что могли, с тем, что имели, там, где они находились.
«То, что мы выигрываем, освобождаясь от иллюзий, — куда более ценная вещь,
чем любые красивые фантазии».
И другие варианты просто отсутствуют. Но говорить, что перспектив нет, —
просто нелепо. Откуда вы это знаете? Вам так кажется? Ещё не догадываетесь —
почему?
Как мне повезло!
Прежде чем заболеть своим параличом, я написал две научные монографии и как
раз работал над третьей. Но, оказавшись на неопределённый срок прикованным к
больничной койке, я был лишён доступа к научной литературе (интернета в Рос-
сии ещё толком не существовало). А всякий, кто имеет подобный опыт, знает,
что работать над научной монографией без такого доступа, мягко говоря, за-
труднительно .
Всё, чем я располагал на тот момент, были уже имеющиеся у меня на тот мо-
мент знания и руки, способные держать пишущий инструмент. Что мне оставалось
делать?
Я употребил эту возможность следующим образом: не имея никакого опыта напи-
сания популярных книг по психологии, я взялся описать тот курс психотерапии,
который до этого проводил с моими пациентами в клинике психиатрии Военно-
медицинской академии.
Честно говоря, никакой амбиции писать популярные книги по психологии у меня
не было. Утешал я себя лишь тем, что это пособие будет полезно моим пациен-
там, которых я так и не долечил, свалившись с этой своей болезнью.
В результате появилась книга «Счастлив по собственному желанию», которая
потом стала одним из главных моих бестселлеров. Но видел ли я тогда эти «пер-
спективы»? А то, что я напишу потом ещё несколько десятков таких книг (не
считая любимых мною монографий), стану «доктором Курпатовым», сделаю автор-
скую программу на Первом канале и так далее?
Я и представить себе этого не мог! Мне было 23 года, я был парализован, с
14 лет носил военную форму и вообще не понимал, что люди делают «на граждан-
ке» , куда меня, очевидно, должны были теперь отправить.
Но откуда возникли все эти «перспективы»? Упали мне на голову? Счастливый
случай? Тогда, поверьте, всё это так не выглядело.
Или кто-то думает, что после того, как я написал эту книжку, в дверях моей
палаты появился литературный агент с контрактом? Книга, написанная в 1997 го-
ду и ставшая потом бестселлером, была впервые издана в 2001-м, причём на мои
собственные, весьма скудные тогда средства. Да, и тогда приходилось делать
лишь то, что я мог, с тем, что я имел, и там, где я был.
Случайность ли, что потом эта книга понравилась супруге собственника круп-
ного книжного издательства? Наверное, можно сказать и так. Впрочем, она ока-
залась у неё, потому что я передал её этому издателю. И нашёл способ передать
так, чтобы мой «манускрипт» не оказался в мусорном ведре, которое ждёт боль-
шинство рукописей, доходящих до подобных приёмных.
А случайность ли, что и потом практически все двери будущих возможностей
открывались передо мной именно этими моими книжками из серии «Карманный пси-
хотерапевт»? Кто-то скажет, что случайность. Не соглашусь, хотя определённая
странность в этом, на мой взгляд, действительно присутствует.
Свои «популярные книжки» я писал исключительно потому, что считал необходи-
мым рассказать широкой аудитории о том, как справляться с психологическими
проблемами. Я руководствовался неким внутренним «надо», можно сказать, соци-
альной ответственностью, врачебным долгом, а вовсе не мечтой о некоем своём
собственном счастливом будущем.
Я не думал, что делаю что-то «великое», «замечательное», а тем более что
эти книги как-то повлияют на мою карьеру. Как вы понимаете, все учёные гор-
дятся своими научными работами, своими открытиями, а не «популяризаторством»
(и я, поверьте, не исключение).
В некотором смысле это же «низкий жанр» — писать «популярную литературу по
психологии». Кроме того, это скучно и достаточно тяжело — рассказывать просто
о сложном. И вообще это невероятно муторно. Ощущение, что выскабливаешь внут-
реннее пространство черепа ложкой для мороженого.
Но иногда самое никчёмное, что, на твой взгляд, ты можешь делать, — это то
единственное, что ты можешь делать с тем, что ты имеешь, там, где ты есть. И
я добавлю за Рузвельтом — а потому должен.
Если ты используешь имеющиеся у тебя возможности, перед тобой неизбежно от-
крываются новые. А если ты их не используешь, то остаёшься на том же самом
месте, а потому появление новых возможностей просто технически выглядит мало-
вероятным. Волшебник в голубом вертолёте, к сожалению, посещает людей только
в алкогольном делирии.
Или вот, например, мои научные монографии, если уж мы об этом заговорили.
Чтиво, честно скажу, невесёлое (хотя я, конечно, считаю эти работы заслужи-
вающими внимания). И понятно, что невесёлое, непопулярное и сложное издатель-
ствам, как правило, не интересно (если их не финансируют какие-то фонды или
меценаты). Так что, где мои монографии напечатали? Да, в том же издательстве,
что и мои популярные книги. По блату, так сказать. Из уважения.
Но стали бы их издавать, если бы я не был к тому моменту известным автором?
Нет, точно не стали бы. А если бы и издали — кто бы стал читать толстую и за-
нудную книжку неизвестного автора? Да, мечтать не вредно, но посмотрим правде
в глаза: шансов — ноль или около того. Так что и в случае моих научных работ
мне снова помог мой «Карманный психотерапевт» — нежданно-негаданно, «случай-
но».
Нет других рецептов, но зато этот — рабочий: не думайте о «перспективах»,
их нет (возможно, вы умрёте завтра — о каких перспективах мы вообще гово-
рим?) , используйте те возможности, которые у вас есть, и они откроют вам но-
вые возможности, которыми также надо будет воспользоваться.
Как мы уже обсуждали, цель появляется после возникновения подлинного стрем-
ления, а не до неё. Это, возможно, показалось вам странным. Но как вы думае-
те: это антилопа порождает голод у хищника,или у него сначала возникает го-
лод, а потом он обнаруживает на просторах саванны антилопу?
В саванне множество антилоп. Можно сказать, что там целое «богатство выбо-
ра» антилоп. Но дело не в них, дело в том — голодно вам или нет, нужна вам
эта антилопа на самом деле или нет. Если вы не голодны до достижений и штурма
новых вершин — таков уровень ваших амбиций. Не нужно себя обманывать, это ни
к чему хорошему не приведёт.
Бессмысленно сравнивать себя с другими. Не нужно придумывать того, чего
нет, и изводить себя нелепой завистью, фантазиями и прочей ерундой. На диване
можно и так полежать, без миллиона долларов. С миллионом, кстати, лежать даже
тяжелее — он покоя своему обладателю не даёт.
«Перспективы» появляются сами собой и всегда постфактум, когда вы огляды-
ваетесь назад и видите, каким образом вы оказались на той ступени, на которую
взобрались. А те «перспективы», которые вам только мерещатся, — это приятная
морковка, не более того.
В реальности вы всё равно достигнете чего-то другого, а не того, что вам
когда-то и почему-то привиделось, показалось, захотелось. Жизнь всегда вносит
в наши планы свои коррективы. Вопрос в том — действуете ли вы так, как следу-
ет, со страстью и увлечённостью, на каждом из её поворотов?
Если в вас соответствующий голод есть, вы точно достигнете чего-то стояще-
го. А возможности, поверьте, есть всегда. Посмотрите на Стивена Хокинга. Ме-
ня , например, это очень отрезвляет.
Первый,
но снизу
Слишком мал самый большой! — это было
отвращение моё к человеку!
Фридрих Ницше
Но действительно ли вы хотите того, что называется «успехом»?
Честно говоря, я не уверен, что «успех» сам по себе является ценностью, ко-
торая стоит потраченных на неё времени и сил вашей жизни. Сам по себе «успех»
не приносит человеку счастья. В конце концов, это лишь оценка другими того,
что ты сделал.
Важно же на самом деле то, что ты чувствуешь: если ты чувствуешь себя впол-
не счастливо, если ты всем доволен — этого вполне достаточно. Признание со
стороны других людей — штука, наверное, приятная, но какой в нём прок, если
ты несчастлив, одинок или мучаешься бессмысленностью собственного существова-
ния?
Да и «объективного критерия» для «успеха» не придумано. Что уж говорить,
если даже некоторые Нобелевские премии (а это, казалось бы, признание высшей
пробы), как потом оказывалось, были выданы за весьма сомнительные открытия?
Вроде бы и успех, и признание, а на деле — пшик и неловкость.
Впрочем, даже если твой успех настоящий, всамделишный и заслуженный, кто-то
всё равно обязательно скажет — или по глупости, или из зависти, или просто,
чтобы насолить, — что ты никто, звать тебя никак и ничего путного ты не дос-
тиг. Вполне себе реальная перспектива.
Создатель асептики, венгерский врач-акушер Игнац Филипп Земмельвайс, был
поднят коллегами на смех, а потом и вовсе признан душевнобольным за убежде-
ние, что врачи должны дезинфицировать руки и инструменты перед хирургической
операцией. При жизни Винсента Ван Гога не было продано ни одной его картины,
и больницы для умалишённых ему тоже не удалось избежать.
Это тупиковый путь — искать признания. Даже если и не дойдёт до крайности,
как в случае с Земмельвайсом, существует и другой, вполне реальный риск. Если
мотивировать себя ожиданием общественного признания, попадаешь в зависимость
от чужих оценок и в какой-то момент уже не можешь заниматься тем, что счита-
ешь действительно важным.
Подобное случалось со многими, и поверьте, это тяжёлая психологическая
травма.
Общественное восприятие консервативно. После того как оно определило успеш-
ному человеку его нишу, положило его на какую-то полочку в шкафу массового
сознания, внезапная необходимость вносить дополнительные изменения в эту
стройную и понятную картину, напрягать мозг вызывает у публики недовольство.
В результате многие музыканты оказываются заложниками одного хита, поэты —
одной строфы, и даже учёные — одной научной темы.
Нечто подобное произошло, например, с Фрэнсисом Криком, одним из отцов ДНК
и нобелевским лауреатом, который, оставив генетику, занялся фундаментальными
исследованиями в области нейробиологии. К сожалению, практически никто не
воспринял его работы в этой области всерьёз, да, видимо, и не мог воспринять:
слишком уж тяжкое это бремя — быть отцом таких «вечных хитов», как «молеку-
лярная структура ДНК» и «центральная догма молекулярной биологии» об информа-
ционных отношениях между ДНК, РНК и белками.
Наконец, понятно, что никакой «успех», даже если он и вправду головокружи-
тельный , не вечен. На смену «успеху» одного приходит «успех» другого. То
есть, если ты взобрался на вершину пирамиды, будь готов и спускаться с неё, а
это, учитывая несговорчивый характер нашего иерархического инстинкта, не так
уж приятно.
Вы регулярно обнаруживаете в новостях сообщения — мол, умер такой-то ар-
тист, играл в кино и театре, запомнился зрителям исполнением роли. . . Вы и не
помните, кто это. И почти никто не помнит. А жить в забвении после периода
славы и моментов ослепительного успеха, если всё это и было твоей целью, —
удовольствие, надо полагать, весьма сомнительное.
«В реальности вы всё равно достигнете чего-то другого, а не того, что вам
когда-то и почему-то привиделось, показалось, захотелось».
Так что «успех» — это, скажем так, палка о многих концах.
Но как же стремиться «вверх», если понимаешь, что всякие «перспективы» при-
зрачны, а «признание» не только эфемерно, но ещё и небезобидно?
Думаю, следует просто присмотреться к своему иерархическому инстинкту. Тем
более что никакого другого внутреннего ресурса на этот случай природа для нас
не придумала.
Нет ни нужды, ни смысла искать своё стремление в каких-то загадочных «моти-
вационных тренингах» и вообще в чём-то ещё, если в нас уже скрыт естественный
механизм стремления к лидерству.
И если вы действительно вознамерились совершать подвиги и штурмовать верши-
ны (и неоднозначная, мягко говоря, перспектива вас не пугает), то начните с
детских воспоминаний.
Вспомните то своё детское желание быть первым и лучшим. Конечно, не следует
увлекаться, чтобы не впасть в детство окончательно, но сам принцип очень ва-
жен.
Затем осознайте, что ваши возможности — это не какие-то загадочные звери из
«Красной книги», которых нужно годами высматривать и ноги стоптать, чтобы
найти. Нет, это ваши обычные каждодневные дела, которые вы можете сделать
лучше, чем другие.
Но как часто вы задаетесь вопросом — могу я сделать это (что-то конкретное)
лучше, чем другие? Боюсь, не слишком часто. А если спрашиваете — начинаете ли
вы делать, или просто удовлетворяетесь самим фактом положительного ответа?
Мол, да, я, конечно, и круче могу! Всякое наше утверждение хорошо, если оно
удостоверяется практикой.
Так что оглянитесь вокруг, посмотрите, что происходит у вас на работе или
просто в профессиональной сфере, которая вам интересна. Что вы можете сделать
здесь лучше, чем другие? Почему вы до сих пор этого не сделали?
Представьте себе учёного, который берётся за решение какой-то, пусть и не-
большой задачи, но при этом им не движет стремление решить её лучше, чем это
делали до него. Вряд ли он что-то новое откроет!
Только это специфическое ощущение, что что-то сделано недостаточно хорошо,
а вы можете сделать лучше, и является той силой, которая способна заставить
ваш мозг начать заниматься соответствующим делом как следует.
Всё, что нужно, уже есть
Здоровая конкуренция естественна и необходима, только некоторые из нас оши-
бочно полагают, что конкурировать они должны со всем миром разом. Это, конеч-
но, задача нереалистичная, а ещё и бредовая, поскольку не существует никакого
«всего мира разом». Есть отдельные дела, конкретные вопросы и узкие темы.
Если вы работаете в какой-то компании, которая, например, готовит пресс-
релиз о выходе на рынок нового продукта, вам не нужно конкурировать со всей
мировой философией или вооружёнными силами Мозамбика. Достаточно всего лишь
написать этот пресс-релиз так, как не могут написать его другие сотрудники
вашей компании.
Этого абсолютно достаточно, чтобы стать первым!
Вы скажете — а какой смысл преуспевать в такой ерунде? Ответ прост. Вы нау-
читесь чему-то, чего вы до сих пор не умели, а это повысит уровень вашей ком-
петенции , что очень важно, если вы хотите двигаться дальше. Кроме того, у вас
появляется шанс быть замеченным, а это важно, если вы хотите идти выше.
«Дальше» и «выше» — вот и весь сказ. Что-то ещё уточнять — бессмысленно.
Быть может, этот навык позволит вам стать редактором какого-нибудь уважаемого
издания, а может быть, вы и вовсе станете спичрайтером Президента.
Но глупо думать о столь отдалённых перспективах, когда вы работаете над
пресс-релизом своей компании. Вы просто там, где вы есть, и действовать нуж-
но , исходя из того, какие возможности открыты для вас сейчас.
Возможно, когда созданный вами качественный пресс-релиз произведёт впечат-
ление на руководителя, он предложит вам совершенно другую работу. Руководство
отделом сбыта, например. У вашего начальника тоже есть только те возможности,
которые у него есть здесь и сейчас, и действовать он может лишь исходя из
этого.
То есть мы никогда не знаем, как будет. Не знаем, куда конкретно вас вы-
толкнет ваш успех. Но это и не важно. Важно последовательно — шаг за шагом —
делать каждый следующий ход. Сейчас у вас есть только те возможности, которые
есть, но с переходом хода у вас появляются новые, а это то, что вам нужно.
Мы всегда стоим перед этим выбором: или ждать «счастливого случая», или
сделать то, что следует сделать, и продвинуться дальше. Если вы думаете, что
бесцельное блуждание по пустыне в течение сорока лет обеспечит вам манну не-
бесную — это вряд ли.
При этом действительные возможности всегда находятся перед вами. Вы или
просто их не замечаете, или они вам не нравятся, и вы воротите от них нос. Но
следующий пакет с возможностями уже ждёт вас за углом, нужно только распра-
виться с существующими32.
Впрочем, после очередного хода вы опять-таки окажетесь где-то, где есть
только какие-то определённые и ограниченные возможности. Как быть теперь? Вам
снова надлежит сделать то, что вы можете, с тем, что вы будете иметь там, где
вы оказались. Но лучше всех.
Мы не знаем, куда нас приведут наши достижения. Очевидно другое — добиваясь
результата, вы выходите на новый уровень возможностей. То есть вы сможете де-
лать что-то более интересное и значительное, совершенствовать свои навыки,
используя большее количество ресурсов.
Заблуждение думать, что великие дела складываются из великих же дел. Вели-
кие дела начинаются с того, что вы побеждаете в малом и тем самым учитесь по-
беждать , учитесь выигрывать.
«На смену «успеху» одного приходит другого».
Нет ничего зазорного в конкуренции, но важно помнить, что в действительно-
сти конкуренция происходит не между вами и каким-то другим человеком, но меж-
ду вами-нынешним, который, например, не умеет писать пресс-релизы, и вами-
будущим, который считает, что он может делать это хорошо, лучше всех.
Впрочем, тут нам придётся сделать важную оговорку. Всё это работает только
в том случае, если вы умеете восхищаться талантами и достижениями других лю-
дей. Мы социальные животные, мы сами толком ни на что не способны. Мы должны
учиться у других.
Но единственный способ чему-то научиться у другого человека — это ощущать
его тем, кто стоит «выше». И «выше» не потому, что его кто-то «туда поста-
вил», не потому, что ему «повезло» там оказаться, а потому, что он действи-
тельно может и умеет делать то, что вам пока не по зубам.
На это, возможно, вы мне скажете: как же это стремиться быть «первым и луч-
шим», если ты при этом у кого-то учишься? Действительно, если ты у кого-то
учишься, то твои результаты будут в некотором смысле вторичными. А, следова-
тельно, вроде как ты уже не можешь быть первым.
Google уже создан, Facebook создан, Instagram создан — чему можно научиться
у Брина, Цукерберга и Кевина Систрома?
Вы правы, и здесь ещё одна хитрость.
Наше положение чуть сложнее, чем у шимпанзе из экспериментов Йеркса. Да,
они проявили достойную смекалку, подглядывая за сложными манипуляциями стар-
шего товарища, раскрывающего кормушку. Но в случае человека не так много на-
выков, которые можно освоить таким же образом — простым подглядыванием.
Поэтому я и сказал, что важно не учиться у других, а уметь восхищаться их
работой и достижениями. Почувствуйте разницу...
Возможно, вы с чем-то подобным сталкивались: картинная галерея современного
искусства, висят полотна, праздно шатается публика, и вдруг кто-то говорит:
«Ну, это совсем просто! Так и я могу!».
«Дело не в том какую дорогу мы выбираем, дело в том что внутри нас, это заставля-
ет нас выбирать дорогу» - О. Генри
Чем чёрт не шутит — может, он и смог бы. Я и сам, наверное, смог бы повто-
рить за Казимиром Малевичем его «Чёрный квадрат», хотя мои таланты в живописи
близки к абсолютному нулю.
Но вопрос здесь не в том, кто что может, а кто чего не может. Проблема в
самой постановке вопроса.
Никто же вас не спрашивает: смогли бы вы сделать так же? В таком «ценителе»
искусства говорит примитивная уязвлённость, а ещё проще — зависть: мол, мы
оба так можем, но его картины висят в галерее и стоят бешеных денег, а мои —
нет, и денег у меня тоже нет, безобразие!
Нет, вопрос надо ставить иначе: что делает эту работу достойной того, чтобы
она оказалась в картинной галерее? Если вы не можете ответить на этот вопрос,
значит, вы чего-то не понимаете. А осознание своего незнания — это самое важ-
ное, именно оно открывает перед нами перспективы для совершенствования наших
навыков и умений.
Не думайте, что вы можете сделать «так же». Это глупо, и тут очевидное про-
тиворечие : если бы вы действительно могли сделать «так же», то именно ваша
картина и висела бы в этой галерее. А как иначе? Но её здесь нет, а значит,
вам только кажется, что вы можете «так же». Повторить что-то — не большого
ума дело, сложно придумать то, что сделает вас лучшим.
То же самое и с Брином, Цукербергом и Систромом. Важно не то, как они сде-
лали свои проекты успешными, важно то, как им пришло в голову сделать подоб-
ные вещи, когда ни Google, ни Facebook, ни Instagram ещё не существовало!
И когда вы понимаете, что столкнулись со своим незнанием, тут-то и возника-
ет подлинная заинтересованность, тут-то и возникает «ориентировочный, — как
сказал бы Иван Петрович Павлов, — рефлекс».
Понимаете, о чём идёт речь? Да, о том самом искомом дефиците! Только благо-
даря этому внутреннему дефициту работает подлинный, а не превращенный нашей
культурой в зависть и психологические комплексы иерархический инстинкт.
Ведь любое по-настоящему осознанное нами незнание — это вызов!
Другие знают и понимают, а вы нет — это же круто, тут есть над чем поду-
мать, куда продвинуться, чего достичь! Возможно, вы сможете понять, разо-
браться лучше остальных и превзойти их.
«Заблуждение — думать, что великие дела складываются из великих же дел».
Не бойтесь быть лучше остальных. Если у вас хватает здравости восхищаться
достижениями других людей, это вас не испортит. Но без этого вызова, брошен-
ного самому себе, вы будете пребывать в прежнем непоколебимом блаженстве (ху-
дожественно тоскуя от своего «горя») и ничего толком не достигнете.
Не бойтесь своего желания быть лучше — по этой причине от вас никто не от-
вернётся. Если вы что-то делаете лучше остальных, у вас начинают учиться, вас
начинают уважать, вы сами становитесь, наконец, кому-то нужными. А нам это
важно. Очень.
А если всё-таки кто-то отвернётся... Радуйтесь — сработала ваша лакмусовая
бумажка. Да, это зависть: человек не умеет восхищаться достоинствами других,
и это его беда. Вам повезло, что он отвернулся сам, в противном случае вам бы
пришлось отворачивать его силком, ведь с таким субъектом всё равно каши не
сваришь, и ещё он токсичен.
Тайные
желания
Хотите понять других — пристальнее
смотрите е самого себя.
Оскар Уайльд
Понимание нужд, мотиваций и желаний других людей — это ключ к вашему успе-
ху. Поскольку в основе всей нашей социальной и культурной жизни лежит иерар-
хический инстинкт, по-другому и быть не может.
Но дело не только в том, что психологические знания открывают нам путь к
сердцам (и мозгам) других людей. Дело в том, что только через эти знания мы
обнаруживаем дорогу к своим собственным, действительным целям.
Наверное, всё это звучит достаточно парадоксально, как и утверждение о том,
что стремление к цели появляется раньше самой цели. Но давайте над этим по-
размыслим .
С антилопой и хищником всё более-менее понятно: если хищник голоден, анти-
лопа тут же становится его целью (не наоборот). Но как это работает в случае
человека и его целей, которые ни по каким саваннам не бегают, а сидят (или
должны сидеть) в его же собственной голове?
Это и правда большая загадка, которая, впрочем, была в своё время успешно
разгадана русским учёным, учеником Ивана Петровича Павлова — академиком Пет-
ром Кузьмичом Анохиным, а потом ещё множество раз переразгадана другими учё-
ными по всему миру — от Японии до США33.
В многочисленных экспериментах на животных Пётр Кузьмич Анохин показал, что
в основе всякого нашего целенаправленного поведения лежит специфический ней-
рофизиологический механизм, который он назвал «акцептором результата дейст-
вия» .
Акцептор результата действия
Чтобы понять, о чём идёт речь, когда мы говорим об «акцепторе результата
действия», вспомните свои ощущения, когда вы подходите к эскалатору, а он по-
чему-то не движется. Возникает специфическое замешательство, правда?
И возникает оно как раз потому, что — благодаря тому самому «акцептору ре-
зультата действия» — ваш мозг ждёт, что эскалатор будет находиться в движе-
нии, а обнаружив обратное, приходит в замешательство и чувствует себя диском-
фортно .
Ровно то же самое произойдёт (и вызовет, я полагаю, ещё большее замешатель-
ство) , если вы станете подниматься у себя в доме по лестнице, и она вдруг са-
ма собой поедет вверх. Казалось бы, чего удивляться? Вы же знаете, что бывают
эскалаторы, то есть движущиеся лестницы...
Но данное конкретное событие не соответствует вашим внутренним ожиданиям,
то есть тем предположениям, которые уже созданы вашим мозгом. Вы тысячу раз
ходили по этой лестнице, и ваш мозг выучил, что она — не эскалатор. Эта па-
мять теперь и формирует его ожидания.
Именно этот механизм «заглядывания в будущее» лежит в основе возникновения
у нас наших целей.
Если все прогнозы нашего мозга оправдываются, то он ощущает себя в безопас-
ности и ему комфортно просто потому, что он понимает, что случится в следую-
щее мгновение.
Если же прогноз (тот образ, который мозг в себе создал, предсказывая буду-
щее) оказывается ошибочным, то возникает ситуация неопределённости, а возник-
шее замешательство должно вас мобилизовать.
Суть механизма «акцептора результата действия» — это стремление нашего моз-
га предсказывать состояния окружающего мира. Предсказывая результат наперёд,
мы понимаем, что нам следует делать и зачем. Вот почему «цель» всегда уже как
Ничего не зная про Петра Кузьмича Анохина, знаменитый физик Митио Каку, например,
строит на основе его открытия свою «временную теорию сознания», а один из самых из-
вестных исследователей искусственного интеллекта, Джефф Хокинс, — соответственно,
искусственный интеллект.
бы предналичествует в вашем мозге, хотя вы можете её и не осознавать.
Но созданы ли в вашем мозгу действительно образы тех целей, о которых вы
думаете? Ведь одно дело — просто мечтать, думать о том, что вам чего-то «хо-
чется», и другое дело — предметно, детально понимать, что конкретно вам нуж-
но.
Акцептор результата действия включается в работу только во втором случае —
когда у вас уже есть видение (предвидение) результата («потребного будущего»,
как говорил Пётр Кузьмич). А для этого нашему мозгу нужна соответствующая
практика — пережитый прежде опыт.
Мы же, к сожалению, часто считаем, что абстрактное знание способно заменить
нам практику. Нам хочется сразу приступить к «главному», проскочив все пред-
варительные этапы — карьеру начинать начальником, проекты сразу делать мас-
штабные . Но так это не работает.
Мозг очень медленно адаптируется к новой среде, и только когда у него это
получается, он начинает действительно видеть то, что вам нужно.
Так что, чем бы вы ни занимались, необходимо предварительно хорошенько по-
работать , пройдя все ступени соответствующего дела снизу вверх. Тогда вы и
увидите свою цель, точнее — ваш мозг, наконец, обретёт способность её для се-
бя определить, выявить и конкретизировать. Он превратит её в своё потребное
будущее, которое будет хотеть, причём сам, без принуждений.
Давайте попытаемся сказать проще: чтобы предпринять какое-то действие, жи-
вотному нужно сначала увидеть у себя в мозгу конкретную цель. То есть не пря-
мо перед собой, а внутри своей головы.
Лев, разгуливающий по саванне, не пассивно ищет цель, способную утолить его
голод. Он уже знает, какие цели помогут ему эту его потребность удовлетворить
— антилопа, зебра, какой-нибудь жирафёнок, наконец.
Он уже имеет внутри своей головы образ возможной цели и смотрит на про-
странство саванны «умными глазами», сличая то, что видит, с тем представлени-
ем о цели, которое уже есть у него в голове.
«Великие дела начинаются с того, что вы побеждаете в малом и тем самым учи-
тесь побеждать, учитесь выигрывать».
Понятно, впрочем, что если бы не голод, то соответствующие образы в его го-
лове просто бы не возникли.
Итак, в какой-то момент внутренний образ в голове льва совпадает с наличной
целью, блуждающей по саванне. Лев понимает, что перед ним то, что нужно, и
бросается на свою добычу.
Но откуда животное берёт в своей голове эти цели? Как они в ней изначально
возникают?
Ответ прост:
■ это или инстинктивные программы (то есть соответствующие цели запрограмми-
рованы у животного генетически),
■ или же это результат предварительного обучения (каждого малолетнего хищни-
ка в саванне родители учат охоте — идентифицировать добычу, выслеживать и
загонять скоренько на тот свет).
Но давайте задумаемся над этим словом — «идентифицировать»: каким образом в
нашей голове формируется тот внутренний образ, с которым мы потом будем срав-
нивать объекты реального мира, чтобы одно с другим совпало, и мы поняли, что
пора приступать к делу?
Ни для кого не секрет, что мы постоянно создаём внутри своей головы некие
«желанные цели». И, казалось бы, если следовать логике акцептора результата
действия, это хорошо и правильно.
Если человек не мечтает, то как в его голове возникнут те образы, которые
нужны, чтобы он мог идентифицировать (найти, выделить, определить) соответст-
вующие цели в окружающей его действительности?
Но, как я уже сказал, наши цели, в отличие от целей хищника, не бегают по
полям и лугам. Наши цели — то, о чём мы мечтаем, — имеют совершенно другую
природу.
Человек, который собирается стать музыкантом, например, не хочет просто
научиться исполнять музыку или петь песни. Он хочет получить определённое
ощущение сверх самого этого действия. Например, не просто спеть, а спеть так,
чтобы публика на стадионе бесновалась от восторга.
То есть его подлинная цель не пение само по себе. В противном случае ника-
ких проблем бы, я думаю, у желающих петь не возникло — горлопанили бы себе на
каждом углу, и голова не боли.
Но нет, и петь хотят, и переживают из-за чего-то. Что же является здесь
подлинной целью? Действительная цель глубже — получить некую специфическую
реакцию со стороны окружающих: восторги, восхищение, «культурный шок» и т. д.
Вряд ли стоит этому удивляться: эта цель мотивирует нас как раз благодаря
тому самому социальному, иерархическому инстинкту. Это он готовит, толкает и
образует, так сказать, это наше стремление к популярности и успеху.
Что ж, пока всё вроде бы логично, а потому самое время заметить подвох. Ес-
ли хорошо задуматься, то получается, что в нашем примере реальной целью для
человека оказывается не пение как таковое, не собственное ощущение от собст-
венного пения, а ощущение от ощущения других людей, которые его пением насла-
ждаются .
Проще говоря, я хочу ощущать, что другие люди ощущают восторг от моего пе-
ния (допустим, что у меня есть это, столь странное, на мой взгляд, желание).
Таким образом, я думаю об этом своем ощущении, алчу его и пытаюсь как-то его
поиметь. Бегаю, так сказать, по этой саванне в его поисках.
Надеюсь, вы уже заметили ошибку в расчётах...
Да, моей действительной целью должен быть восторг моей публики сам по себе,
а не моё ощущение от этого восторга (что, согласитесь, две разные вещи). Но я
ведь о нём не думаю! Этого образа в моей голове нет! У меня есть образ моего
восторга от восторга зрителей, слушателей, читателей, но не образ их восторга
как такового.
Более того, одно дело — хотеть, чтобы тобой восторгались (хвалили тебя, го-
ворили тебе, какой ты прекрасный или какая у тебя замечательная новая фото-
графия на аватарке), и совсем другое дело — хотеть, чтобы другой человек при-
шёл в восторг. Кажется, что вроде бы об одном и том же речь, но на самом деле
это вообще две разные задачи.
Если вы актёр, режиссёр, писатель, певец, вам может нравиться всё что угод-
но — как поёт Фрэнк Синатра, как режиссирует Стенли Кубрик, как пишет Джеймс
Джойс, и вообще — всё, что вам заблагорассудится.
Но если вы собрались вызывать восхищение публики, вы должны думать не о
собственных предпочтениях, а о том, что эту публику способно ввести в состоя-
ние соответствующего восторга. Возможно, это пение Филиппа Киркорова, режис-
сура Фёдора Бондарчука или творения Дарьи Донцовой. И это необходимо принять
к сведению.
Как грустно шутил по этому поводу Оскар Уайльд: «Пьеса была великолепна, а
вот публика никуда не годилась». Хотя бывает, что чувство прекрасного у твор-
ца и у публики почти одинаково, ну или вам нужно найти свою публику, что тоже
вариант.
В любом случае главный вопрос здесь таков: вы готовы угождать публике, хо-
тите восхищать эту публику, вам важно, что эта публика хочет?
Если вы отвечаете отрицательно, то забудьте про «успех». Нравится вам то,
что вы делаете, — делайте это для себя и показывайте тем, кому это тоже нра-
вится. Но ожидать мирового признания, занимаясь тем, что большинству людей
вообще ни в каком отношении не надо, — это безумие и абсурд.
Мне повезло, у меня была возможность работать со многими действительно
очень талантливыми людьми — с музыкантами, композиторами, артистами, режиссё-
рами, сценаристами, художниками, дизайнерами, журналистами. И знаете, кто из
них более всего «успешен»?
Те, кто думает о том, что именно вызовет восторг у потребителей их творче-
ства. То есть не о себе любимом, а о публике — о механизмах её восприятия, о
её вкусах, предпочтениях, о том, как у человека, потребляющего контент, воз-
никает ощущение, что этот контент крут и прекрасен.
То есть цель этих по-настоящему успешных людей — не их собственное ощущение
от произведённого эффекта, их цель — понять, как заставить других людей вос-
хищаться , угадать, а то и буквально просчитать это.
Это действительно сложная мысль. Но подумайте об этом. Дело ведь касается
не только упомянутой творческой братии, но и любого дела, которым мы занима-
емся.
Сослали в бухгалтерию
Вот «сослали» вас, например, «в бухгалтерию», и вы пишете там финансовый
отчёт.
Вы можете писать его так, чтобы вас за него «похвалили», то есть думать о
себе. И, скорее всего, этого, к сожалению, не случится. Но вы можете писать
его, понимая то, каким он должен быть, чтобы он отвечал ожиданиям того, для
кого вы этот отчёт пишете.
Нет, речь не идёт о том, чтобы подтасовать цифры, чтобы руководитель увидел
огромную, не существующую в действительности прибыль и на миг почувствовал
себя на вершине мира.
Речь о другом: этот отчёт нужен вашему руководителю зачем-то, для каких-то
целей. С помощью этого отчёта он был бы рад решить какую-то свою задачу.
Знаете ли вы, что это за задача? Зачем он ему вообще нужен, этот ваш отчёт?
Если знаете, то вы сможете составить свой отчёт так, что эта задача будет
решена и адресат окажется доволен вашим отчётом, а вы, как следствие, можете
рассчитывать на его восторги или даже на небольшое денежное вознаграждение.
Но если вы не знаете, что за задачу решает адресат вашего отчёта, — не по-
интересовались, не подумали, не сообразили, — то в лучшем случае вы просто
«хорошо сделаете свою работу». Не более того.
Нельзя мотивировать себя повышением заработной платы или идеей, что вас по-
хвалят, вознаградят, повесят на доску почёта. В этом случае, к сожалению, ваш
мозг пойдёт не в том направлении. А от того, какую задачу он себе поставит,
зависит, как мы теперь понимаем, многое.
Но чувствуете ли вы в себе заинтересованность работать на интересы других
людей — вот в чём вопрос. Не «самореализовываться», не делать, как «вам нра-
вится», не «творить», а думать о фактических адресатах вашего творчества и
потребителях продуктов вашего труда?
Чтобы знаменитый анохинский «акцептор результата действия» сработал, цель
должна быть поставлена правильно. А правильно она будет поставлена только в
том случае, если вы действительно думаете о нуждах адресата вашего действия.
И вот почему нам так важно понимать нужды, мотивации и желания других лю-
дей.
«Всё, что нашему сознанию не нравится, мы изо всех сил пытаемся от себя
спрятать, вытеснить куда-то в тень — с глаз долой, из сердца вон».
Мысли о том, как бы вам самореализоваться или как вам будет приятно, если
вас похвалят (и трагически ужасно, если не похвалят), — не то, что вам нужно.
К сожалению, большинство хороших дел и проектов не реализуются именно пото-
му, что мы, как хищники в саванне, ждём утоления своего голода (того, чего
нам хочется), а нам надо заниматься интересами, нуждами и повадками нашей
«жертвы» (ну, конечно, в хорошем смысле этого слова — для её же блага) — ре-
ципиента производимых нами благ.
К сожалению, бессмысленная и беззубая идеология «самореализации», за кото-
рой ничего, кроме вдохновенных слов, не стоит, приводит к тому, что люди за-
бывают главное: то, что они делают, они делают не для себя, а для других.
Уловите эту хитрость. На самом деле мы нуждаемся в удовлетворении нашего
иерархического инстинкта: мы хотим чувствовать себя в стае, которая хорошо к
нам относится, любит нас, понимает и поддерживает. Но стая не будет делать
это просто так, и она не будет этого делать, если вы ей не нужны.
Поэтому, если мы хотим успеха для себя, мы должны думать о том, как осчаст-
ливить других. С одной стороны, вроде бы и странно, а с другой — просто. Да и
альтернативы нет, только таким путём.
Производство
удовольствий
Я собирался прекратить прокрастиниро-
вать, но решил отложить это на потом.
Нейл Фьоре
«Прокрастинация» — новая модная болезнь.
Причём не просто болезнь, а самая настоящая эпидемия. Миллионы людей по
всему миру сражены ею, словно чумой. Лекарства нет, как спасаться — непонят-
но . Не иначе как эффект от какого-то психотронного оружия.
О чём, собственно, идёт речь, когда говорят о «прокрастинации»? Предполага-
ется, что есть какое-то загадочное психическое расстройство, которое не даёт
человеку приступить к решению важных и насущных дел.
Вместо этого он занимается всякой ерундой: решает мелкие бытовые проблемы и
развлекает свой мозг — киношки смотрит с сериальчиками, в интернете сидит,
фотки в Instagram разглядывает, ленту скролит.
В общем, занят очень важным делом — получает удовольствие.
У болезни, правда, должны быть негативные проявления. И они, как водится,
тут же «обнаруживаются» — пациент сроки срывает, все дела стоят, конфликты по
кругу, жизнь летит под откос. Он испытывает стресс, чувство вины и потерю
продуктивности.
Всё это, конечно, очень серьёзно...
А теперь давайте на мгновение забудем о том, что мы знаем это волшебное
слово «прокрастинация», и зададимся вопросом: нормально ли это, что человече-
ский мозг выбирает между работой и удовольствиями — удовольствия?
Думаю, вряд ли можно считать такой мозг больным. По-моему, вполне нормаль-
ный и здоровый мозг должен поступить именно таким образом.
Но как быть с тем, что после очередного прокрастинационного запоя у челове-
ка возникает «стресс, чувство вины и потеря продуктивности»? А что вы хотели?
Да, «после» возникает. За удовольствиями такое водится: получив их, бывает,
испытываешь и то, и другое, и третье...
Так что, если мы действительно хотим понять, почему наши мечты не сбывают-
ся, нужно не термины новые изобретать, а разбираться в самой природе удоволь-
ствий .
Для этого снова поговорим об обезьянах. На сей раз речь пойдёт о подопытных
макаках, которых развлекал профессор Кембриджского университета Вольфрам
Шульц.
Традиционный взгляд на удовольствие таков: если хочешь его получить, удов-
летвори какую-нибудь свою потребность.
Кажется совершенно очевидным, что мы получаем удовольствие от вкусной еды,
от глотка холодной воды в жаркий день или, например, от секса. В каком-то
смысле это действительно так, но не совсем.
На самом деле удовольствие получает не наше тело, а наш мозг. Мозг же не
может есть еду или глотать воду, да и сексом он занимается в некотором смысле
опосредованно. В соответствующих процессах занято тело, а вот удовольствие,
которое мы испытываем, производится нашим мозгом.
Разница кажется пустяковой, но она фундаментальна. Собственно, эксперимент
Шульца это и доказывает.
Вольфрам Шульц вживил специальные датчики в те зоны мозга обезьяны, которые
отвечают за выработку дофамина — «гормона удовольствия».
Дальше обезьяне предлагалось нехитрое задание — она смотрела на экран мони-
тора, где появлялись фигуры разной формы. Нажатие на рычаг при определённой
комбинации фигур приводило к тому, что в рот обезьяны впрыскивалась порция
виноградного сока.
Обучить такому трюку обезьян несложно, а ради виноградного сока они за мо-
нитором хоть вечность готовы сидеть.
Шульц же пытался понять, как ведут себя клетки мозга обезьяны, отвечающие
за выработку дофамина. Вот выполняет она задание, видит нужную комбинацию,
дёргает за рычаг, виноградный сок поступает ей в рот. Казалось бы, самое вре-
мя вдарить дофамином из всех стволов, правильно?
Но нет. Дофамин выделяется клетками не тогда, когда обезьяна получает сок,
а тогда — внимание! — когда она увидела нужную комбинацию фигур на мониторе.
То есть удовольствие обезьяна испытывает не физиологическое — от сока непо-
средственно , а интеллектуальное — от осознания, что соку быть!
Как только она сообразила («подумала и поняла»), что сейчас получит сок, —
всё, радости полные штаны. Дофамин льётся через край! Когда же сок действи-
тельно поступает ей в рот — чему тут радоваться-то? Она уже и так знала, что
«всё будет»34.
Внимательный читатель, наверное, заметил, что Вольфрам Шульц открыл биохимический
механизм, обеспечивающий работу «акцептора результата действия» Петра Кузьмича Ано-
хина . Да, с некоторыми оговорками это так и есть.
Впрочем, как я уже говорил, удивляться здесь особенно нечему — всё, с чем
мы имеем дело, происходит в нашем мозгу, а переживаемое нами удовольствие —
тем более. Но главное — как всё это происходит!
По сути, удовольствие мозг1 испытывает в тот момент, корда в нём возникает
эффект понимания. Обезьяна складывает некие факты друг с другом — на экране
появляется комбинация фигур, которая означает, что сейчас будет сок, — и всё:
ага и ура! Буря дофаминового восторга!
Ещё раз: удовольствие возникает вообще не от сока, а от того, что мы умеем
складывать дважды два. Именно поэтому Вольфрам Шульц назвал открытый им фено-
мен «ага-эффектом»: это удовольствие от решения своеобразного интеллектуаль-
ного квеста, а вовсе не удовольствие от фактического удовлетворения физиоло-
гической потребности, как мы обычно об этом думаем.
Природа зависимости
Теперь давайте представим себе человека, который битый час занимается про-
кручиванием «ленты новостей» в социальной сети.
Раз за разом ему попадаются какие-то картинки с надписями под ней — он раз-
глядывает картинку, вчитывается в надпись и понимает, о чём речь. Пазл скла-
дывается — и «ага»: та самая дофаминовая буря! Он сопоставил одно с другим,
получилось забавно — и дофамин льётся как из ведра.
Так, а что делает обезьяна Шульца, достигнув такого эффекта? Правильно —
прилипает к экрану. Что делает человек, который скролит ленту? Прилипает два-
жды и скролит с ещё большим энтузиазмом!
Проходит час, другой, третий... И всего этого он, конечно, не замечает. А
знаете почему? Тут самое время вернуться к крысам.
Многие, наверное, слышали об этом эксперименте, он хрестоматийный: крысам
вживляли электроды как раз в те самые зоны удовольствия (не измерительные
датчики, а именно электроды, которые крыса могла самостоятельно активизиро-
вать , нажимая на специальную педальку).
Помните, что происходит с крысами, которые могут вызывать у себя дофамино-
вые бури простым нажатием на педальку? Правильно, они умирают от жажды и го-
лода , потому что не могут от этой кнопки оторваться — жмут, жмут и жмут.
И действительно, зачем им есть и пить, если они могут получать удовольствие
напрямую — прямо в мозг, так сказать?
Раньше этот эксперимент любили приводить в пример, когда объясняли механизм
формирования наркотической зависимости. Но теперь это уже не так актуально —
масштабы поражения людей информационной зависимостью (от тех самых лент, кар-
тинок, лайков, почт, мессенджеров и прочей сетевой ерунды) несопоставимы.
Это оружие действительно массового поражения.
Таким образом, человек, который считает, что страдает прокрастинацией, на
самом деле страдает от удовольствий. Если это, конечно, можно назвать «стра-
данием» . Впрочем, и постоянное желание щекотать свои дофаминовые центры тоже
не слишком похоже на болезнь.
Вы никогда не задумывались о том, что такое масс-медиа на самом деле? Это
весьма технологичная машинка по производству «ага-эффектов»: любое информаци-
онное сообщение, интернет-мем, кинофильм, сериал — это загадка с разгадкой.
Здесь не надо специально ни о чём думать, напрягать мозг и пытаться что-то
понять. Нет, тут всё это складывание нужных интеллектуальных объектов друг с
другом в вашем мозгу провернут без всякого вашего участия — главное не напря-
гайтесь , смотрите и получайте удовольствие!
Если мы говорим, например, о киноиндустрии, то нас сначала намеренно озада-
чивают — мол, герой находится при смерти, одолеет ли он жестокого и веролом-
ного врага? Момент тревожного ожидания, дофаминовые клетки вспучивает от на-
пряжения и... О да, сейчас одолеет! Ура-а-а!
Когда на киностудии принимают сценарий, продюсер обеспокоен только этим:
сможем ли мы захватить внимание зрителя, озадачить его судьбой героя и потом
дать неожиданную, но предсказуемую (в смысле — что счастливую) развязку? Если
да, у нас есть блокбастер! Если нет — отправляем на доработку.
Любой масс-медийный продукт — это поп-корн, который должен стремительно за-
жариться и шумно взорваться внутри головы его потребителя. Это, если хотите,
универсальный способ симуляции «ага-эффектов».
Нет, это не какие-то открытия, которые вы сделали, и затем, подобно Архиме-
ду, прокричали «Эврика!». Нет, это просто «ага-эффект» — как у макаки.
Посмотрите на заголовки статей в интернете и СМИ: каждый из них содержит
интригующий вопрос — кликай и получишь ответ! А что происходит в вашем мозгу,
когда вы заинтересовались чьим-то аватаром и перешли на страницу пользовате-
ля? Подтвердилась ли ваша догадка?
Если да, то — ура, «ага-эффект»! Если не подтвердилась и вы обломались —
ничего страшного, ищем дальше — где-нибудь в другом месте обязательно срабо-
тает!
«По сути, удовольствие мозг испытывает в тот момент, когда в нём возникает
эффект понимания».
Тот же «ага-эффект» стоит и за ожиданием лайков под фотографиями, которые
вы разместили в интернете, а также новых подписчиков, приглашением в «друзья»
и т. д. Мы ждём, нам дают, мы испытываем удовольствие. Попкорн вспух, взо-
рвался , уносите клиента.
В целом, быть может, это и неплохо. Но нельзя не признать, что подобная
стратегия истощает и выхолащивает.
Шульц показал это в другом эксперименте: когда макака узнаёт, что кроме ви-
ноградного сока есть ещё шанс получить черносмородиновый (а это, что называ-
ется, вообще отрыв обезьяньей башки), она начинает злиться, получая виноград-
ный.
Так что неудачные переходы по ссылкам, не дающие прежнего восторга, посте-
пенно становятся психологической проблемой. И киношки начинают казаться скуч-
ными, однообразными, неприкольными. И интернет-мемы — повторяющимися, глупы-
ми, утомительными...
Мы как те крысы с электродами в башке — жмём на кнопки и получаем мелкий,
плёвый, секундный результат. Уже бы надо и отказаться, заняться чем-нибудь
осмысленным. Но нет, воспоминания о прежних восторгах манят, и мы снова идём
дальше — скролить, сёрфить, лайкать, скачивать и смотреть!
В общем, да — зависимость, да — глупость, но, по крайней мере, это не смер-
тельно, как в случае с крысами.
Действительная проблема в другом. В том, что мы сами таким образом размени-
ваемся на медяки.
Когда кто-то говорит мне о том, что он страдает прокрастинацией, я знаю од-
но — он вовсе не откладывает какие-то «важные дела» «на потом», у него просто
нет важных дел. Вообще нет. Он разменял все свои «важные дела» на множество
мелких «ага-эффектов».
Большую и грандиозную «Эврику!» Архимеда — на тысячи и тысячи мизерных
«ага».
Чтобы настоящая, стоящая цель в вас сформировалась, вы должны, прошу проще-
ния за жаргон, долго её думать.
Да, когда вы долго и мучительно бьётесь над какой-то проблемой, решаете ка-
кую-то задачу, ваш мозг зреет, наливается и пухнет, как большой кукурузный
початок.
Когда же он найдёт решение, и вы сложите в своей голове уже не дважды два,
а большой, сложный и красивый интеллектуальный объект, вас не только зальёт
дофамином, но вы ещё и создадите дополнительную часть себя. Вы сами станете
больше. Вы станете сильнее и лучше.
Это будет не просто «ага», это будет та самая настоящая «Эврика!».
Но до тех пор, пока вы бесконечно жмёте на кнопку мгновенных дофаминовых
эффектов, вы просто не можете ничего в себе взрастить — никакой большой идеи,
никакого красивого решения.
А страсть, с которой мы, в оправдание собственного бездействия, придумываем
себе новые и новые модные «болезни», заслуживает, как мне кажется, лучшего
применения.
Зефировый тест
Ещё совсем недавно было модно гордиться своим «коэффициентом интеллекта».
Умным, понятно, быть круто, поэтому если ты получаешь высокие баллы в IQ-
тесте, то можно, наверное, считать, что ты где-то на вершине социальной пира-
миды.
Всё, кажется, логично. Но мода на этот тест сошла, и не случайно.
Выяснилось, что чрезвычайно разрекламированный IQ-тест не обладает никакой
прогностической ценностью. То есть полученный в этом тесте высокий балл не
говорит о человеке ничего, кроме того, что он неплохо решает соответствующие
IQ-головоломки.
«Коэффициент интеллекта» — красивое название, но те, кто с этим тестом
справляется, не демонстрируют в будущем ни большей успешности, ни лучшего ка-
чества жизни. У них просто высокий балл по этим головоломкам, и всё.
Короче говоря, учёные открыли для себя новую интригующую проблему — как
протестировать человека так, чтобы понять, что он действительно умный и смо-
жет конвертировать этот свой ум в реальные жизненные успехи.
Говард Гарднер создал с этой целью «теорию множественного интеллекта», Дэ-
ниэл Гоулман широко разрекламировал «эмоциональный интеллект», Джо Пол Гил-
форд создал тест на «социальный интеллект». Но задача так и не была решена.
Ответ пришёл, откуда не ждали.
В далёких 60-х годах прошлого века заурядный, казалось бы, стэндфордский
профессор Уолтер Мишел проводил нехитрые эксперименты с маленькими детьми.
Сначала он давал им на выбор сладости — печенье, конфету или зефир. Когда
ребёнок определялся, какую сладость он выберет, Мишел говорил ему: «Если хо-
чешь , я дам тебе эту сладость прямо сейчас. Но если ты подождёшь двадцать ми-
нут , то я принесу тебе вторую такую же. И ты сможешь съесть обе».
После этого ребёнка оставляли один на один с выбранной им сладостью в спе-
циально оборудованной комнате, где за ним могли незаметно наблюдать экспери-
ментаторы . Что происходило с детьми — в двух словах не описать!
Они буквально ходили по потолку: пели песни, чтобы отвлечься, сами себя
вслух наставляли, уговаривали, били по рукам, залезали под стол, прятали свою
сладость (так и хочется сказать — хоббитовскую «прелесть»), чтобы не видеть и
не искушаться... Но далеко не всем удавалось справиться с желанием и дождать-
ся обещанной им второй, дополнительной порции.
«Ну, — скажете вы, — эксперимент, конечно, зверский, но при чём тут интел-
лект?»
Вот и Мишел думал, что ни при чём. Однако же ему пришло в голову оценить
успешность детей, принимавших участие в его жестоком эксперименте, спустя
много-много лет. Результаты этой проверки научную общественность ошеломили.
Если кратко: сейчас в арсенале у психологов есть один-единственный научно
обоснованный тест, позволяющий чётко предсказать успешность ребёнка в буду-
щем, — тест Уолтера Мишел а, или, как его прозвали журналисты, — «зефировый»
(the marshmallow test) .
Конечно, тест Уолтера Мишела не определяет напрямую уровень интеллекта. По
сути, он говорит лишь о том, умеет ребёнок контролировать свои импульсы или
нет. И как выясняется, если он умеет их сдерживать, то в будущем он будет ус-
пешен, если же желания немедленных удовольствий берут над ним верх — то, увы.
Иными словами, чтобы контролировать свои желания, как доказал Уолтер Мишел,
ребенку (как, впрочем, и взрослому) нужны недюжинные интеллектуальные способ-
ности . И они у человека или сформированы, или нет. И если нет, то сколь бы
интеллектуальным ни казался вам субъект при личном общении, его действитель-
ный ум оставляет желать лучшего. Он, так сказать, умный дурак.
Заставить
мозг думать
Дайте мне шесть часов на то, чтобы сру-
бить дерево, и я потрачу первые четыре,
затачивая топор.
Авраам Линкольн
Если вы всё ещё находитесь в сомнениях и боретесь с предательской нереши-
тельностью, давайте подумаем вот о чём: кому предстоит всем этим заниматься —
совершенствовать навыки, становиться «лучше всех», штурмовать вершины, справ-
ляться с искушениями и т. д. и т. п. — вам?
Побойтесь бога, нет! Это будет делать ваш мозг. Перестаньте так серьёзно
относиться к своей скромной персоне, которая ничего в действительности из се-
бя не представляет.
Ваше сознание — тоже не бог1 весть что. Если у вас что-то и есть, то это ваш
мозг. Он — это и есть вы, а не все эти виртуальные представительства без роду
без племени — «личность», «сознание», «я», «персоналити».
Мы так настойчиво оберегаем эти свои фантомы, так боимся подвергнуть их
риску, критике, неудаче, что готовы вообще ничего не делать, только бы они —
эти фантомы — не облажались.
Но кого вы в такой ситуации защищаете? Себя? Нет.
Если бы вы могли чего-то благодаря подобной стратегии добиться, то это ещё,
наверное, можно было бы считать «самозащитой».
Но вы же ничего в реальности таким образом не добиваетесь и ничего толком
не выигрываете!
Вы защищаете свои невротические комплексы, свои собственные страхи, свои
нажитые привычки, а не самих себя. Вы боитесь фантомных болей и защищаетесь
от мифических угроз, тогда как действительные риски вы как раз недооценивае-
те. Так что это никакая не самозащита, а самое настоящее самовредительство.
Вы сами — это то действительное, что происходит в вашей жизни. Вы — это во-
все не то, что вы думаете про себя, не то, как вы выглядите в чьих-то глазах.
Вы — то, что в вашей жизни реально происходит. Если же ничего осмысленного в
ней не происходит, то и вас самих — маловато, вы — своя собственная тень.
Если вы хотите быть — состояться, жить полноценной жизнью, — вы должны дей-
ствовать . Ждать чуда и защищать фантомы собственного «эго», навязанные вам
обществом, — пустая трата времени.
Но как же нам заставить свой мозг работать на нас? Не является ли это ка-
ким-то странным парадоксом? Возможно ли это?
В конце концов, если он — всё, с чем мы имеем дело, то как нам его, прошу
прощения, пнуть, чтобы он задвигался в нужном направлении? Откуда вообще
возьмётся это «нужное направление», если не из него самого?
Всё правильно: если мы — это и есть наш мозг, то никаких чудес не предви-
дится. И я не хочу, чтобы вы думали, что они возможны.
Но есть одна специфическая функция мозга, которой мы до сих пор не уделили
должного внимания, хотя именно в ней и кроется нужный нам ответ. Функция эта
(и возможно, вы будете смеяться) называется — мышлением35.
Звучит, наверное, несколько странно. Все же уверены в том, что они и так
постоянно думают. В чём тогда фокус?
Фокус в следующем: то, что мы традиционно считаем своим «думанием», на са-
мом деле таковым не является. И если мы действительно рассчитываем на то,
чтобы считаться «разумными» существами, нам нужно кое-что другое.
Но обо всём по порядку...
В то же самое время, когда Либет, Зимбардо и Канеман ставили свои экспери-
менты на людях, Эрик Кандель, в будущем нобелевский лауреат по физиологии и
медицине, исследовал рефлексы аплизий.
Аплизия, или иначе «морской заяц», — это крупный моллюск и, возможно, самое
примитивное лабораторное животное, какое только можно себе представить.
Однако ценность аплизий для нейрофизиологии переоценить невозможно. Дело в
том, что у неё буквально видимые глазом, то есть очень крупные нейроны. Это
обстоятельство и сделало аплизию идеальной моделью для изучения синаптических
связей, составляющих, так сказать, плоть и кровь нашего с вами мышления.
Aplysina insularis.
В чём суть открытия Канделя, которое он сделал, изучая формирование услов-
ных рефлексов у моллюсков? Выяснилось, что процессы мышления и памяти приво-
дят — внимание! — к анатомическим изменениям связей между нейронами.
Представьте себе два нейрона, которые общаются между собой с помощью нерв-
ных отростков. Когда один нейрон возбуждается, он сообщает об этом другому
нейрону, выбрасывая в синаптическую щель специальные вещества — нейромедиато-
ры. До открытия Канделя это уже было доказанным научным фактом.
Непонятно было другое: нервные клетки общаются друг с другом постоянно, но
где-то это общение — произошло и закончилось, а в каких-то случаях возникает
запоминание, то есть чётко фиксируется определённая связь. Почему?
Если бы наш мозг был похож на фотоплёнку, то воспринимаемые нами события
«засвечивали» бы какие-то зоны мозга, и там бы эта информация потом храни-
Позволю себе оговориться: поскольку я действительно считаю мышление вообще самым
важным, что только может быть, мне этой подглавки точно не хватит, и я ограничусь
лишь самым кратким экскурсом, отвечающим задаче данной публикации.
лась. Но этого не происходит: наш мозг — это не фотоплёнка, не жёсткий диск с
файлами и даже не библиотека.
«Вы — это вовсе не то, что вы думаете про себя, не то, как вы выглядите в
чьих-то глазах».
Однако что-то мы всё-таки запоминаем (хотя и с существенными искажениями),
а кроме того, приходим к неким умозаключениям. То есть у нас формируются ка-
кие-то мысли, которые не сразу вылетают из головы, а держатся в ней и даже
могут крутиться в нашем мозгу годами. Причём крутятся они, понятное дело, по
вполне определённым нейрорефлекторным дугам, а не в каком-то мистическом эфи-
ре сознания.
Как всё это в нас держится так долго? Эрик Кандель с коллегами и дал объяс-
нение этому загадочному феномену.
Оказалось, что в случае кратковременного и редкого взаимодействия нейронов
друг с другом их контакт ограничивается лишь химической реакцией — перегово-
рами между нервными клетками на уровне нейромедиаторов.
Но если нейрон возбуждается сильно и регулярно, то он не просто атакует
своего соседа нейромедиаторами, но ещё и отращивает дополнительные синаптиче-
ские «шипики» — своего рода присоски.
Общая
схема
Нервный
импульс
Формирование
связи
<Шипик»
_ф
Двигательный
нейрон
$
Передача
нейромедиаторов
Новые
«шипики-
Синапсы
Чувствительный нейрон
связан с двигатель-
ным нейроном посред-
ством синапсов.
Передача нервного
импульса осуществ-
ляется через обмен
нейромедиаторами в
синапсе.
Долговременная
связь между нейро-
нами обусловлена
возникновением но-
вых «шипиков»
Эти «шипики» позволяют нейрону увеличить зону контакта с предпочтительным
соседом, которого он вовлекает, таким образом, в их совместную реакцию.
Чем больше зона контакта, тем большее количество нейромедиаторов участвует
в процессе этого разговора нейронов друг с другом. В результате соответствую-
щий сигнал передаётся быстрее, а сам данный путь для нервного возбуждения
оказывается предпочтительным. Можно сказать, что наше нервное возбуждение как
бы замыкается в этой цепи и не может из неё вырваться.
Из чего следует, что если вы о чём-то думаете как-то, каким-то определённым
образом (есть у вас, скажем, такое «мнение»), то это обстоятельство невероят-
но сложно изменить. Вы будете упрямо настаивать на своём и всё выкручивать
так, чтобы эта ваша мысль была признана верной и даже основной. Ведь в про-
тивном случае вам придётся перестраивать свой мозг1!
Но задумайтесь, какое отношение это случайное, по сути, сцепление ваших
нейронов имеет к истине? Не обольщайтесь: истина и сцепление наших нейронов
друг с другом — это две параллельные реальности.
Любая мысль человека — это не какой-то Святой Дух, спустившийся ему с Не-
бес, а просто цепь связанных друг с другом нейронов. По ней бежит возбужде-
ние, а у нас в сознании возникает некий образ, мысль или какое-то представле-
ние.
Мысли не «приходят» к нам в голову, они и есть эта самая голова — точнее,
мозг.
Интеллектуальные успехи
Великие умы представляются нам умудрёнными жизнью и опытом седовласыми
старцами... Это забавно, потому что большинство величайших научных открытий и
даже философских прозрений принадлежит самым настоящим юнцам.
Открытия, которые прославили Эйнштейна, он сделал в 25 лет. Речь, напомню,
идёт о специальной теории относительности, об основополагающей работе по
квантовой механике (как раз за неё Эйнштейн и получит потом Нобелевскую пре-
мию) , а также о фундаментальной работе по статистической физике при анализе
броуновского движения (грубо говоря, он доказал существование атомов).
25 лет было и Вернеру Гейзенбергу, когда он создал свою матричную механику.
26 лет — Полю Дираку, когда он вывел уравнение, верно описывающее электрон.
Нильсу Бору было 28 лет, когда он создал современную модель атома, за что и
был награждён Нобелевской премией.
Квантовую физику даже называли Knabenphysik, то есть «мальчишеская физика»,
именно из-за почти детского возраста учёных, которые её разрабатывали. Впро-
чем, кто-то может сказать — ну, мол, тогда и время было другое, открытия бук-
вально валялись у учёных под ногами! Сейчас, мол, не так.
Может быть, но ведь и Исааку Ньютону было всего 23 года, когда он создал
систему дифференциального и интегрального исчисления, сформулировал теорию
цвета и открыл закон всемирного тяготения. Почему какой-нибудь мудрый старец
не сделал это до Ньютона?
А, например, Курту Гёделю было всего 24, когда он доказал свою блистатель-
ную «теорему о неполноте». Эту проблему уж точно можно было сформулировать
любому старцу — хоть за сто лет до Гёделя, хоть во времена Древнего Египта.
Но в том-то всё и дело, что великие старцы не открывают нового. Они думают
то, что придумали когда-то в молодости. Мышление, таким образом, — это не то,
что в нас уже есть, а то, что мы только ещё можем придумать, — это поиск не
существующих ещё ответов, это озадаченность перед чем-то действительно новым!
Теперь давайте представим себе, что такое наше с вами мышление.
Вот вы сидите, задумались... И кто-то вас спрашивает: «О чём думаешь, дру-
жище?»
Как правило, этот вопрос ставит нас в тупик, потому что ничего такого, чем
можно было бы похвастаться, мы, конечно, не думали. Наши пассивные размышле-
ния, честно говоря, представляют собой гору мусора — нагромождение образов,
случайных ассоциаций, и не более того.
Это был просто такой «поток мыслей», «умственная жвачка» — мы думали об од-
ном, потом о другом, затем отвлеклись на третье и вспомнили четвёртое. Мысли
цеплялись друг за друга, словно петли самодельной новогодней гирлянды.
Но неужели вы думаете, что этот процесс и впрямь течёт абсолютно произволь-
но?
«Если вы о чём-то думаете как-то, каким-то определённым образом, то это об-
стоятельство невероятно сложно изменить».
Надеюсь, вы хорошо понимаете, что любой психический акт, любая реакция на-
шего мозга — это всегда возбуждение каких-то нейронов. И если вы что-то ду-
маете, то не вы это думаете, а просто нейроны нашего мозга возбуждаются в та-
кой последовательности.
В этом, собственно, и состоит суть ассоциаций — вам что-то говорят, вы это
слышите, и в вашем мозгу последовательно активизируется целый каскад нейрон-
ных комплексов. Они начинают настойчиво сигналить друг другу. Причём сигналят
не в «открытый Космос», а тем нейронам (нейронным комплексам) , с которыми у
них уже сформировались более-менее устойчивые связи.
В зависимости от плотности существующих связей между конкретными нейронами
(от того, сколько между ними, грубо говоря, «шипиков») одни из них возбужда-
ются, а другим этой стимуляции оказывается недостаточно, и они не включаются
в «ассоциативный процесс».
Итак, чем плотнее связи между конкретными нейронами, тем больше шансов, что
при активации одного из них он будет побуждать активность другого. То есть
наш мозг вовсе не стремится к созданию новых мыслей (новых цепей и связей),
но лишь к повторению тех, что уже в нём закрепились.
Конкретный пример
Допустим, вы считаете какого-то Петра скучным и глупым, но вдруг вы узнаё-
те, что он открывает выставку своих фотографий в художественной галерее. Вро-
де бы это странно, и вам имеет смысл приглядеться к Петру повнимательнее —
может, не такой он и дурак? Но давайте посмотрим на то, что делает в подобной
ситуации ваш мозг.
У вас активизируется цепь нейронов, которые обуславливает ваше отношение к
Петру как к скучному и глупому субъекту. Параллельно активизируется и другая
цепь нейронов, которая отвечает в вашем мозгу за представления об искусстве,
за отношение к выставочной деятельности, за авторитетность художественной га-
лереи, которая решила выставить работы Петра.
По смыслу всё это как-то не сильно бьётся, правильно? Но, как мы помним,
противоречие — это не то, с чем мы будем бороться. И теперь вы понимаете по-
чему: всё зависит от того, какая из этих двух цепей имеет в вашем мозгу боль-
ший удельный вес (в какой больше нейронов, больше связей, больше бегущих по
ней нервных возбуждений).
Если отношение к Петру у вас прочувствованное, а к данной галерее вы отно-
ситесь без восторгов, искусством не живёте, причём фотографию вообще за ис-
кусство не считаете, то это одна ситуация. Если всё наоборот: искусство и фо-
тография — это для вас всё, а с Петром у вас знакомство шапочное, то ситуация
другая.
В первом случае победит ваше обычное отношение к Петру как к придурку и де-
билу, во втором — новый, обнаруженный вами факт о Петре, способный изменить
ваше к нему отношение. Две нервные цепи в вашем мозгу, по сути, как бы взве-
шиваются — какая потяжелее, где больше связей? Более «тяжёлая» и победит в
этой конкурентной борьбе.
А что происходит в этот момент на уровне вашего сознания? На этом уровне
(там, где, как вам до сих пор казалось, вы думали) разыгрывается следующая
пьеса...
Если побеждает нервная сеть, ответственная за ваше негативное отношение к
Петру, вы думаете: «Вот дебилы же в этой галерее работают! Петра выставляют!
Совсем рехнулись!»
Если побеждает нервная цепь, ответственная за авторитет искусства и выста-
вочной деятельности, вы думаете: «Выставляют Петра? Как такое может быть?! А
что там за фотографии? Действительно крутые?!» То есть вам приходится искать
факты, чтобы сформировать своё новое отношение к Петру.
Итак, в первом случае всё быстро завершилось: одна цепь победила другую, и
всё — противоречие «исчерпано». Во втором случае вашему мозгу придётся потру-
диться, пока данное противоречие не будет устранено.
Возбуждение в нейронной цепи, ответственной за Петра, попав под воздействие
нервной цепи, ответственной за искусство, станет подавать сигналы SOS — что-
то у нас не так работает, какая-то ошибка. Ау, нужна помощь!
Возбуждение начнёт выплескиваться наружу: существующая цепь примется искать
доступные ей нейроны, которые можно было бы включить в себя так, чтобы ваше
отношение к Петру изменилось в соответствии с новыми вводными.
То есть ваш мозг должен будет вырастить новые «шипики». Вы только вдумай-
тесь в это: чтобы начать по-другому думать, вы должны заставить ваш мозг рас-
ти! Причём буквально — силой мысли!
Посмотрите внимательно на свои ногти, напрягитесь и попробуйте вырастить их
за час на пару миллиметров — как вам такое задание? Нереалистично, правда?
То, что происходит в вашем мозгу в ситуации с Петром, немногим проще.
Именно поэтому нам так трудно менять своё мнение и так опасно искать ему
бесконечные подтверждения. Именно поэтому нам так непросто понять что-то но-
вое, а не удовлетворяться мнимой понятностью. Именно поэтому нам так сложно
осознать очевидность, которая у нас всегда перед носом, но которую мы привыч-
но игнорируем.
Это не фунт изюма — заставить свой мозг расти!
Но насколько часто вы ощущаете действительное внутреннее напряжение, когда
«думаете»? И можно ли вообще считать думанием, когда в вашем мозгу самопроиз-
вольно возбуждается какая-то цепь нейронов?
Возбуждаются они постоянно и по двум совершенно никчёмным причинам. Это или
какая-то внешняя стимуляция — Пётр вам позвонил, например, и понятно, что все
рефлекторные дуги, которые уже есть в вашем мозгу, связанные с Петром, встре-
пенулись . Или — вторая причина — благодаря работе специфической структуры на-
шего головного мозга, которая называется «ретикулярной формацией»36.
То есть наше спонтанное, самопроизвольное мышление — настолько же мышление,
насколько можно считать прослушивание музыки в iTunes её сочинением. В iTunes
множество файлов — тыкайте на кнопки, и они будут проигрываться. Простимули-
руйте свой мозг какой-нибудь ерундой, и он начнёт «думать» — крутить свою му-
зыку. Не создавать, а крутить! Да, когда-то все эти «файлы» были, конечно,
созданы. Но вспомните, сколько вы скачивали музыки, когда у вас только поя-
вился доступ к iTunes, и сколько вы скачиваете сейчас. Есть разница? Думаю,
значительная. А после того как плеилисты на все случаи жизни вами уже созданы
— субъективная ценность iTunes для нас и вовсе падает.
Теперь давайте представим себе Эйнштейна и Ньютона, Гейзенберга и Бора, Ди-
рака и Гёделя. Вы понимаете теперь, почему они создали свои лучшие работы,
когда их мозг был ещё относительно «пуст»?
Пока в мозгу не сформировались нервные цепи, которые способны всё нам «объ-
яснить», мозг действительно думает — то есть он ищет решения, пытается как
раз собрать эти плей-листы на все случаи жизни. И как только нам начинает ка-
Клетки ретикулярной формации — это своеобразный внутренний генератор нервного
возбуждения. Это что-то вроде электростанции мозга, продуцирующей напряжение, кото-
рое дальше бегает по уже существующим в нашем мозгу цепям нейронов.
заться, что мы «всё поняли», «во всём разобрались» и «мудры невероятно», мыш-
ление заканчивается.
Значит ли это, что человек после тридцати лет уже не сделает ничего велико-
го? Не значит.
Во-первых, правило 10000 часов никто не отменял — вы всегда можете заста-
вить свой мозг расти, если будете его тренировать. Повторение действий само
по себе приводит к увеличению количества «шипиков» между соответствующими
нейронами.
Так что, даже если у вас начнётся болезнь Альцгеймера, и связи в вашем моз-
гу начнут гибнуть, вы всё ещё сможете его тренировать, препятствуя стреми-
тельному разрушению вашей психики.
А во-вторых, и это, возможно, самое главное, о чём я хочу сказать: есть
важное правило, сформулированное две с половиной тысячи лет назад величайшим
философом Сократом: «Я знаю то, что ничего не знаю!».
Думаю, вы слышали эту фразу множество раз, но очень сомневаюсь, что вы по-
няли её смысл.
Дело не в том, что Сократ прикидывался незнайкой или что он и на самом деле
так думал. Нет, он просто использовал эту внутреннюю установку, этот внутрен-
ний императив, чтобы заставить энергию своего мозга работать (не допуская то-
го, чтобы оно бегало по однажды проложенным нервным путям).
Когда вы и вправду думаете — ваш мозг кипит от напряжения. Он работает как
мощная электростанция, буквально впихивающая возбуждение в нервную сеть.
Он работает как плавильный котёл, разрушая старые нервные связи и открывая
для нейронов новые возможности для соединения в нейронные комплексы.
Он работает как огромный прокатный стан, производя новые и новые «трубы»,
которые свяжут ваши нервные клетки друг с другом в новой последовательности.
Думание — реальное, настоящее — это чудовищно энергозатратный процесс. Даже
в обычном состоянии наш мозг, составляющий порядка двух процентов от общей
массы нашего тела, потребляет 20 процентов его энергии. А когда мы действи-
тельно занимаемся умственным трудом, он и вовсе превращается в настоящего
троглодита.
Но часто ли вы так думаете? Уверены? И знаете, что ничего не знаете? И пря-
мо чувствуете напряжение? Пошло?..
«Именно поэтому нам так трудно менять своё мнение и так опасно искать ему
бесконечные подтверждения».
Кстати, можете считать, что я рассказал вам о самом эффективном способе
борьбы с ожирением. Удивляет ли вас теперь тот факт, что многие люди с воз-
растом сильно набирают вес? Ладно, сделаем вид, что я шучу.
Надеюсь, вы заметили, что мы вернулись к тому, с чего начали, к противоре-
чию. К счастью или к сожалению, но нет никакой другой силы, способной побуж-
дать наш мозг к оригинальному и по-настоящему продуктивному мышлению.
Мы можем рассчитывать только на выявленные нами противоречия. Удерживая
противоречие в своём сознании, мы как бы сталкиваем друг с другом уже сущест-
вующие системы (мысли) в нашем мозгу. Это и приводит к возникновению новых
мыслей, нового понимания.
Вы, возможно, скажете, что проблема в том, как их выявить — эти противоре-
чия . Но проблема не в этом. Поверьте, их не нужно искать, они торчат у вас
перед носом. Нужно научиться перестать их игнорировать, хотя да — временами
это и сложно, и нелицеприятно, и даже страшно бывает.
Но другого пути у нас нет, а этот путь есть. И это хорошая новость.
Цель и смысл нашего сознания не в том, чтобы решить все стоящие перед нами
проблемы. Его цель и смысл — создать условия, в которых наш мозг будет вынуж-
ден думать и создавать новое, меняя нас самих.
Только сознание даёт нам шанс увидеть противоречия и признать их, и это
единственный способ озадачивать свой мозг. Дальше, если с первым этапом мы
справились, он уже всю работу сделает сам.
Но если мы не запустили машину своего мозга по нужной нам дороге, она так и
будет кататься на холостом ходу своих автоматизмов — по мириадам уже нарабо-
танных связей, лишь создавая в нас иллюзию, что мы думаем, чувствуем и живём.
Поправка к 10000 часам
Если мы лишь пассивно потребляем информацию — скролим, например, ленту в
социальной сети, смотрим новости или сериалы, — новых прочных связей между
нейронами в нашем мозгу не формируется.
Чтобы закрепление связей произошло, необходимы или очень сильные впечатле-
ния (почти стрессового характера), или многократное, сосредоточенное повторе-
ние.
Для того чтобы что-то понять и сформулировать для себя новую мысль, недос-
таточно её просто «подумать». Нужно думать её так, чтобы многократно возбуж-
дались нервные клетки, имеющие отношение к предмету вашего размышления. Воз-
буждаясь , они будут по ассоциативным связям сигналить другим нервным клеткам,
которые включат ещё какие-то нервные клетки и так далее. В какой-то момент
круг этого возбуждения замкнётся, и вы что-то действительно поймёте — увидите
то, что искали.
Напряжение побежит по этой новой, только что образованной цепи нейронов, а
это, в свою очередь, приведёт к росту «шипиков» внутри данной сети, и она ук-
репится. В результате мы запомним возникшую у нас мысль, и она, существуя в
нашем мозгу уже как цельный нейрофизиологический комплекс, будет в дальнейшем
влиять на другие наши мысли и решения.
По этому принципу формировался любой навык, который мы осваивали в течение
жизни, — начиная с ходьбы и узнавания каких-то визуальных образов (например,
марок автомобилей) и заканчивая сложными теориями, которые мы, лишь после
усердных занятий и долгих размышлений, смогли по-настоящему схватить и осоз-
нать .
Когда же цепи нейронов, обуславливающие тот или иной навык, становятся мак-
симально развёрнутыми, широкими, подобно многоводному руслу Амазонки, мы ис-
пользуем свой мозг для соответствующего дела на полную катушку.
Как раз для этих целей нам и нужны те самые 10000 часов. Но теперь, как мы
знаем, не только сами эти часы, а ещё и секретный ингредиент к ним — умение
видеть противоречия и озадачиваться, умение знать, что ты «ничего не знаешь».
Не торопитесь!
Пусть никто в молодости не откладывает
занятия философией, а в старости не ус-
таёт заниматься философией.
Эпикур
Этой публикацией я предложил вам «красную таблетку», а теперь настало вре-
мя, когда я хочу, чтобы вы разглядели прямо перед собой большой «красный
знак» — «STOP».
Даже если вам всё вдруг показалось ясным и понятным, даже если вам кажется,
что вы знаете теперь, что вам следует делать, как жить и какие решения при-
нять , — не торопитесь!
Учитесь испытывать удовольствие от незнания, радость от неопределённости,
от незавершённости, от... перспективы.
До тех пор пока вы способны испытывать любопытство и живой интерес, ваша
жизнь, поверьте, будет вам нравиться. Как только вам покажется, что вы всё
знаете, она потеряет для вас ценность.
Не уподобляйтесь Экклезиасту с его знаменитым: «Во многой мудрости много
печали». Он был неправ — познание не приумножает скорбь, познание делает нас
живыми, а саму нашу жизнь — интересным приключением.
Уверенность, что ты всё понял, — вот что приумножает скорбь, а вовсе не жа-
жда познания как таковая. Жажда — это дефицит, а пока он есть, в вас есть
стремления, и вы будете видеть перед собой цели.
Когда же перед вами цели, ваш мозг сам развлекает себя, изыскивая способы
достичь их, и получает за это в награду заслуженное удовольствие. Ему нравит-
ся решать интеллектуальные задачки, очень.
Но вы можете подсовывать ему пустышки, бессмысленные ребусы и глупые голо-
воломки, а можете поставить перед ним сверхзадачу. От того, какой выбор вы
сделаете — то ли решите разменять себя на медяки, то ли сделать что-нибудь
действительно стоящее, — будет зависеть и качество вашей жизни.
Вот почему я действительно считаю наше мышление самой большой ценностью.
Возможно, впрочем, я необъективен и, как тот кулик, хвалю своё болото. Не ис-
ключено .
Когда-то, например, мне казалось самым важным научиться справляться со
стрессом, с тревогой и депрессией, понять, как помочь человеку, страдающему
неврозом. Да я и сейчас уверен, что это важно. Но...
Я думаю о мышлении, поскольку в нём, мне кажется, скрыты те ресурсы, кото-
рые делают нашу жизнь стоящей того, чтобы её прожить.
Почему же тогда я прошу вас остановиться? Да, собственно, поэтому и прошу,
ведь «мысль, — как говорил великий психолог Лев Семёнович Выготский, — начи-
нается там, где мы наталкиваемся на препятствие».
Так что, поверьте, отнюдь не случайно я постоянно говорю о «противоречии».
Ведь именно оно — то самое препятствие, которое в нашем собственном внутрен-
нем психическом пространстве является отправной точкой для всякого живого
мышления.
Впрочем, противоречия должны оперировать фактами. В противном случае я не
очень представляю, как это может работать. Факты — это то, на что мы можем
опираться, конструируя противоречия и толкая нашу мысль дальше.
Я, по сути, только тем и занимался, что доставал из бездонного рукава науки
те самые факты — рассказывал о научных экспериментах, о механизмах работы
психики, об устроении общества и т. д. и т. п.
Если бы не эти факты, я бы не смог спровоцировать те противоречия, которые
и открывали для нас что-то новое. Я сталкивал наши представления с фактами, и
наш мозг был вынужден включаться в работу.
Так что факты — это очень важно. Факты — это и есть большущий красный знак
«STOP». Очень важный и очень нужный нам знак!
Но для того чтобы разглядеть этот знак, нам нужна особая внутренняя трез-
вость , которой наша психика нас, к сожалению, не балует.
Думаю, что вы не раз слышали, с каким почтением люди науки говорят о «со-
мнении»: об умении сомневаться, о необходимости подвергать наши знания сомне-
нию. Конечно, это не просто так!
Великий философ Рене Декарт возвёл «радикальное сомнение» в главный принцип
познания. И сейчас я расскажу вам, почему это так сложно...
Давайте задумаемся над тем, как формируются наши представления об окружаю-
щем мире.
Однажды с выдающимся канадским нейрохирургом Уайлдером Грейвсом Пенфилдом —
тем самым, что когда-то первым составил подробную карту коры головного мозга
человека, — случился такой забавный эпизод.
Во время очередной нейрохирургической операции он коснулся электродом опре-
делённого участка коры мозга своей пациентки, а она вдруг услышала, как мать
зовёт её на складе пиломатериалов.
Возможно, вы решите, что ничего забавного в этом нет. Ну и правда, вспомни-
ла пациентка случай из жизни. Простимулировали ей соответствующий участок
мозга, и она вспомнила. Что в этом такого?
А забавно в этом вот что: эта женщина никогда в жизни не была на складе пи-
ломатериалов и даже не представляла, как он должен выглядеть. Но зато за две
минуты до этого «воспоминания» Пенфилд рассказывал ей, что ему завезли шта-
бель брёвен для строительства нового дома.
Собственно, таковы все наши воспоминания: они нами выдуманы.
Традиционный взгляд на воспоминания такой: с нами что-то происходит, мы это
переживаем и запоминаем. Это кажется логичным.
Но факт в том, что нельзя вырезать кусочек из вашего мозга, чтобы вы забы-
ли, например, как провели лето у бабушки. Потому что воспоминания, как я уже
говорил, не хранятся в нашем мозгу подобно фотоснимкам в старом альбоме или
как фильмы на жёстком диске компьютера.
Механизм памяти другой. Наш гиппокамп хранит своего рода воспоминание о
воспоминании. И когда мы что-то вспоминаем, он сначала обращается к «дефолт-
системе мозга», о которой я уже тоже упоминал, и запрашивает там соответст-
вующую историю, а затем (с помощью зон, ответственных за зрение, слух и т.
д.), по сути, заново разыгрывает эту историю на внутреннем экране нашего соз-
нания .
Конечно, и сами эти истории о нашей жизни не хранятся в нашем мозгу, как
книги в библиотеке. Они постоянно переписываются и трансформируются, потому
что связаны с другими людьми, с нашим отношением к ним. А тут, как мы знаем,
всё очень переменчиво или, как любят теперь писать в аккаунтах, «всё сложно».
Есть и другая проблема — для внутренней экранизации наших воспоминаний мозг
использует элементы, которые «ближе лежат» (как в случае с пациенткой Пенфил-
да) , а вовсе не те реальные обстоятельства, свидетелями которых мы когда-то
были.
То есть ошибка совершается как минимум несколько раз, а воспоминание иска-
жается, и зачастую до неузнаваемости. Причём это вовсе не фигура речи.
В специальном исследовании было показано, что из трёхсот несправедливо осу-
ждённых лиц (что выяснилось после использования ДНК-теста) две трети были
признаны виновными на основе ложных показаний жертв и свидетелей! А точнее —
на основе их ложных воспоминаний. Две трети!
Но задайтесь вопросом: сможете ли вы сомневаться в своих воспоминаниях, ес-
ли вы помните это именно так? Придёт ли вам в голову, что ваш мозг на самом
деле не помнит деталей и подробностей, а просто додумывает их?
Существует миф, что люди, погружённые в гипноз, могут отчётливо вспомнить
прошлое. Но психолог Билл Патнем разбил эту иллюзию в пух и прах. Он показы-
вал испытуемым видео автоаварии, выяснял, что они запомнили, а затем погружал
их в гипноз и уточнял подробности.
И, правда, воспоминания испытуемых в состоянии гипноза просто ломились от
этих самых подробностей. Они буквально видели аварию словно наяву! Проблема в
том, что всё, что они добавили к своему первому рассказу, было выдумано их
загипнотизированным мозгом.
Ничего этого на видео, которое они смотрели, не было.
Причуды памяти
В то же время, когда Либет развлекался электродами в Сан-Франциско, Зимбар-
до ставил свой «тюремный эксперимент» в Стэнфорде, Элизабет Лофтус занялась
исследованием ложных воспоминаний в Вашингтонском университете.
Она провела множество экспериментов и написала уйму научных статей на эту
тему. Она стала легендой психологии, и в значительной степени за счёт своей
скандальной репутации...
Да, эта замечательная женщина сначала доказала, что наш мозг является уди-
вительным хранилищем ложных воспоминаний. Потом она проанализировала все спо-
собы, которыми мы создаём свои ложные воспоминания. Наконец, она научилась
формировать у своих испытуемых ложные воспоминания, которые существенным об-
разом меняли их поведение.
Собственно, в этом и состоял скандал: с точки зрения научной этики подобные
эксперименты выглядят сомнительными. Но Лофтус отвечает на это примерно так:
дорогие друзья, вы сами — неловкая куча ложных воспоминаний, и не более того,
так что плохого, если мы добавим вам чуточку ложных воспоминаний, которые су-
щественно улучшат вашу жизнь?
Я не берусь давать оценок практике формирования ложных воспоминаний. Но
главное, что мы должны понять, — это то, что наша личностная история является
самой настоящей фантазией. Она как древнегреческий миф или древнерусская бы-
лина — штука художественная и, может быть, даже увлекательная, но не имеющая
никакого отношения к реальной действительности.
Надеюсь, мне удалось создать у вас ощущение, что память — это штука как ми-
нимум странная. У вас вроде бы есть воспоминания, которые вы считаете вполне
точными, но на самом деле это просто выдумка — фильм, снятый, так сказать, по
мотивам реальных событий.
Теперь представьте, что вы выясняете, так скажем, отношения с кем-то из ва-
ших близких — с родителями, с друзьями, с любовниками, супругами или детьми.
А тут ведь, как нигде (если не считать судебного разбирательства), важны де-
тали, нюансы, подробности — не так посмотрел, не то сказал, не так понял, не
так отреагировал и т. д.
Теперь, когда вы уже кое-что понимаете про свою память, задумайтесь: какова
вероятность того, что вы придёте к взаимному согласию? Полагаю, она невелика.
А теперь — положа руку на сердце: у вас хоть раз был опыт успешного «выяс-
нения отношений»? В лучшем случае — вы не подрались и узнали что-то, о чём
раньше не догадывались. Но само такое «выяснение» — сущая катастрофа.
Вроде бы вы говорите об одном и том же, вспоминаете одни и те же ситуации,
приводите их в пример и аргументируете ими свою позицию... Почему это не сра-
батывает? Потому что ваш визави помнит эти ситуации по-другому! Для вас эта
ситуация — аргумент, а для него — нет. И он не придуривается.
«Как такое вообще может быть? — спросите вы. — Почему мы живём вместе, пе-
реживаем что-то вместе, а воспоминания сохраняем об этом разные, зачастую
прямо противоположные? »
Ответ прост: всё зависит от контекста.
Смена контекста
Элизабет Лофтус провела как-то такой эксперимент — она показывала испытуе-
мым красно-оранжевый круг. При этом одним она говорила, что это помидор, а
другим — что апельсин.
Впоследствии, когда испытуемые должны были найти этот цвет из большого чис-
ла вариантов, одни выбирали красный, а другие — оранжевый.
Кому из них Лофтус говорила про апельсин, а кому — про помидор, я думаю,
объяснять не надо.
Да, память всё искажает с учётом контекста — причём и внешнего, и внутрен-
него .
Запомните правило «трёх И»: во-первых, наша память избирательна, во-вторых,
она истолковывает события, а в-третьих, она интегративна. Значит это букваль-
но следующее:
1. Вы запоминаете то, что соответствует вашим представлениям.
2. Ваши мысли влияют на то, как вы запоминаете смысл событий.
3. Ваши мысли неотделимы от ваших воспоминаний.
Таким образом, то, каковы вы сами (то, что вы думаете, то, что вы чувствуе-
те, то, как вы что-то понимаете), определяет и то, что вы запоминаете. Да, мы
сами и есть свой контекст. Нам удобно помнить всё так, как у нас это в созна-
нии складывается и объясняется, именно так, а не как-то иначе.
Нам хочется представлять себя такими, какими мы сами себя представляем. Так
что, например, та подборка историй, которыми человек презентует вам себя в
живом общении или, например, в социальных сетях, говорит о нём больше, чем
конкретное содержание этих историй.
Парадокс в том, что, хотя наши воспоминания ложны, тенденциозны, а зачастую
и вовсе противоречат фактам, мы не можем в них сомневаться, ведь каждый раз
наш мозг создаёт их заново.
«Для внутренней экранизации наших воспоминаний мозг использует элементы,
которые "ближе лежат"».
У нас нет доступа одновременно и к «старой», и к «новой» версиям наших вос-
поминаний, а поэтому мы и не можем их сравнить. Если нам что-то стало удобно
помнить иначе, в более выгодном свете, мы и этого подлога не заметим — просто
одна версия прошлого поменяется в нашей голове на другую.
То, что наш мозг придумывает и перевирает сейчас, мы и принимаем за чистую
монету своего прошлого. И всё это происходит не случайно: то, что вы помните
и как вы это помните, нужно вам для каких-то вполне определённых собственных
целей, а не потому, что это и вправду было, и было именно так.
Факты
не врут
Философия, которую я собираюсь излагать,
будь она слишком лёгкой и очевидной, бы-
ла бы сильным доводом против неё.
Давид Юм
Позвольте дать вам хороший совет.
Если вы вдруг когда-нибудь окажетесь на приёме у психотерапевта, никогда не
говорите ему: «Ой, у меня такая жизнь, такая жизнь... Обо мне можно целый ро-
ман написать!» или «У меня такой случай, вы сможете диссертацию по мне защи-
тить !»
Во-первых, среднестатистический психотерапевт (насколько я могу судить, ко-
нечно) не горит желанием писать романы. Ну а диссертации по одному клиниче-
скому случаю защищали последний раз в XIX веке (сейчас для этого требуются
куда более масштабные исследования).
Не надо пытаться выглядеть глупее, чем вы есть на самом деле.
Во-вторых, и теперь уже серьёзно — мы безумно, до зевоты тривиальны. Все
одинаковые. Да, с какими-то особенностями, но, поверьте, все они, что называ-
ется, в пределах статистической погрешности. Если же кто-то думает, что он
уникальный, какой-то неземной и вообще космический, то по нему психиатр пла-
чет , а не психотерапевт.
И Ван Гог, и Пикассо, и какой-нибудь Кустодиев на пару с выпускником любой
художественной школы рисовали цветы. Да, их цветы выглядят по-разному. Но в
основе — это просто цветы. И любой ботаник даст вам предельно чёткое и кон-
кретное описание данного объекта: стебель, листья, соцветие, пестики, тычинки
и т. д.
Оригинальность может быть хороша только для антуража, а если по существу,
то лучше без затей — сухие факты, явки и пароли. Только при таком подходе мы
сможем в себе разобраться.
Насколько велика вероятность, на ваш взгляд, что человек всё понимает про
свою жизнь действительно правильно, но страдает неврозом, мается от чувства
постоянной тревоги, депрессует и раздражается почём зря?
Конечно, я не знаю, что вы думаете. Поэтому давайте я сразу скажу как есть.
Если человек и в самом деле всё понимает верно (то есть его понимание пре-
дельно соответствует положению дел в реальном мире), он никогда не окажется
на приёме у психотерапевта. Это исключено. Он будет заниматься решением за-
дач, которые перед ним стоят, а не скрываться от них за невротическими сим-
птомами .
Поэтому всё, что по большому счету должен сделать психотерапевт, — это «вы-
лечить» воспоминания пациента, устранив из них противоречия и несуразности,
которые человек, вследствие устройства его памяти, не видит и не понимает.
В каком-то смысле, общаясь с пациентом, психотерапевт выясняет не то, что
человек помнит, а то, чего он не помнит. Конечно, психотерапевт не господь
бог1, и он не может знать наверняка. Но известно, что оригинальности в нас нет
никакой.
Поэтому нехитрое соотнесение воспоминаний пациента с тем, что могло быть, а
чего быть не могло (именно этому психотерапевт и учится долгие годы), и по-
зволяет специалисту восстановить более-менее объективную картину случившего-
ся.
От осознания пациентом его «необъективности» невроз лопается как мыльный
пузырь. Вот почему один из величайших психотерапевтов — Фредерик Пёрлз — го-
ворил : «Не слушайте того, что говорит пациент. Смотрите на то, что он дела-
ет» .
Итак, почему я настаиваю на сомнении и трясу знаком «STOP»?
Потому что не только все наши воспоминания, но и все наши мысли в некотором
смысле ложны. Они не отражают реальной действительности. Они куда больше го-
ворят о нас и о тех «контекстах», в которых мы заплутали.
Этими контекстами могут быть и морально-нравственные установки, и какие-то
идеологические концепции, набор неструктурированных знаний о предмете и т. д.
и т. п. И всё это путает мышлению карты.
Даже если мы будем всеми силами принуждать себя думать здраво и объективно,
мы не сможем этого сделать. Именно поэтому нет и не может быть окончательных
ответов, нет потому и безусловно «правых». Ну и безусловно «виноватых», соот-
ветственно , тоже нет.
Но есть факты. Факты — это то, что вы действительно можете зафиксировать.
Фактом, например, является то, что вы читаете сейчас эту публикацию. Если она
вам нравится — это факт. Если нет — тоже факт. А вот понимаете ли вы то, что
в ней написано на самом деле, или вам только кажется, что понимаете, — это
вопрос, не факт.
Когда вы признаётесь кому-то в любви — факт в том, что вы признаётесь кому-
то в любви. Но не факт, что любите. Если вы думаете, что вы кого-то любите,
факт в том, что вы думаете, что вы его любите, но не факт, что это любовь. Мы
ведь не знаем, что такое «любовь» — слишком многозначное и неопределённое это
слово, а потому факт в данном случае просто нельзя установить.
Факты любви
Всегда есть некое наличное, верифицируемое поведение, и это важно. Каковы,
например, фактические проявления вашей любви?
Вдумайтесь: не что вы делаете, чтобы её проявить, а чем она на самом деле в
вашем поведении проявляется?
Я понимаю, что сложный вопрос. Но это и хорошо — есть над чем подумать!
Допустим, вы чувствуете, что этот человек «вам нужен». Что это говорит нам,
кроме того, что вы эмоционально или как-то ещё от него зависите? Ничего.
Если вам «без него плохо», это на самом деле свидетельствует о том, что у
вас есть такая привычка — быть с ним. Любовь ли это? Не факт.
Или, например, вы считаете, что «заботитесь» о любимом человеке, и это для
вас важно. Вроде похоже на любовь, правда? А теперь узнайте, испытывает ли
человек, о котором вы заботитесь, чувство, что о нём заботятся?
Если он чувствует вашу заботу — неплохо, пока вроде как всё сходится. А ес-
ли нет, может быть, вам только кажется, что вы заботитесь о нём? Это вопрос.
С другой стороны, не может ли быть, что вы заботитесь о нём только потому,
что считаете, что так «нужно делать»? То есть это «по любви» или «из необхо-
димости»? Или баш на баш?
Может ли быть, что вы заботитесь о нём потому, что хотите выглядеть в его
глазах (или чьих-то ещё глазах) «хорошим человеком», «достойным гражданином»,
«заслуживающим уважения членом общества»? На любовь не очень похоже.
А может быть, вы просто боитесь, что останетесь в одиночестве? И всё, что
вы делаете, — это спасаете себя от одиночества, и этот человек — не любимый,
а просто средство борьбы с одиночеством, как снотворное от бессонницы?
Всё это очень важные рассуждения — они позволяют вам очнуться от иллюзий,
избавиться от нелепых ожиданий, а возможно, и предпринять что-то, чего вы до
сих пор не делали. Не делали, а имело бы смысл...
В любом случае «любовь» не является фактом. Это просто слово. Красивое, же-
ланное , но только слово.
Да, есть поведение — то, что вы можете фиксировать как факты. И это уже су-
щественно .
Допустим, вы с любимым человеком постоянно ругаетесь. Это факт. Значит ли
это, что вы его не любите? Нет. Способствует ли эта ругань укреплению отноше-
ний? Вряд ли. Можете ли вы перестать это делать? Вопрос экспериментального
свойства — надо изучить.
Иными словами, факты — это то, что мы можем выявлять, анализировать, осоз-
навать , сопоставлять и таким образом влиять на собственное поведение. Наш
мозг начнёт по-другому работать. А это важно, и он должен работать. Не кру-
тить постоянно «старые песни о главном», а думать.
Любовь — если она и есть (данный факт не подтверждён научными исследования-
ми) — это не состояние и не решение. Любовь — это процесс.
Поэтому нет ничего странного в том, что у вас нет ответа на все вопросы. Но
пока вы ими задаётесь, вы можете делать этот процесс лучше.
Когда вы уже «всё для себя решили» (и не важно, что именно) — процесс окон-
чен и занавес опущен. Финита ля комедия.
Если вам не нравится ваша работа — это факт. Но «ваша» это работа или «не
ваша»? Мы не знаем. Нет такого факта. Может быть, ваша, но вы просто не про-
шли необходимых 10000 часов подготовки? А может быть, и не ваша, но мы не уз-
наем этого, пока вы не пройдёте те самые 10000 часов подготовки.
Иными словами, подобный вопрос является бессмысленным. «Ваша» это работа
или «не ваша», «свою» вы проживаете жизнь или «не свою» — всё это чистые аб-
стракции . Они сбивают с толку, но ничем помочь вам не могут. Они — сами по
себе — токсичны.
С другой стороны, есть научные факты — и это очень крутая вещь. И научный
факт говорит нам: если вы всё-таки пройдёте 10000 часов соответствующей под-
готовки и сделаете это как следует, то область, которую вы настолько хорошо
освоили, будет вам интересна, а вы будете получать удовольствие и дальше, со-
вершенствуясь в ней.
Таким образом, научные факты позволяют нам обрести твёрдую почву под нога-
ми. Искать и находить научные факты — это очень круто! Это лучшее, что вообще
я могу вам предложить. Хотя, конечно, это опять-таки на мой вкус.
Итак, простой факт — это некое утверждение, способное выстоять под напором
вопросов, которые ставят его под сомнение. Не бойтесь подвергать сомнению то,
что вам кажется фактом. Пусть он попытается продержаться! Удостоверьтесь в
нём!
Кто-то, впрочем, может на это резонно заметить: при должной настойчивости
всё можно поставить под сомнение, а следовательно, и всякое рассуждение ста-
новится бессмысленным. Это правда.
Именно поэтому нам важны именно научные факты: факты, которые фиксируют за-
кономерности. Множество закономерностей. Не изучать их — недальновидно, а иг-
норировать — непростительная глупость.
Хотя, конечно, каждый решает это сам для себя.
Зачем?
Две вещи беспредельны — Вселенная и че-
ловеческая глупость, но я ещё не совсем
уверен относительно Вселенной.
Альберт Эйнштейн
Что ж, мы подошли к главному вопросу.
Понятно, что выбор жизненного пути иллюзорен, и мы не выбираем своей судь-
бы.
Во-первых, мы при всём желании не можем это сделать осознанно — наше созна-
ние находится в слишком сложных отношениях с нашим мозгом.
Всё, что нам реально доступно, — это предотвращать скатывание нашего мозга
к набору выученных однажды автоматизмов, а также побуждать его к новому виде-
нию и пониманию.
Во-вторых, мы, конечно, серьёзно ограничены в свободе действий. Мы родились
в конкретном историческом времени со всеми его плюсами и минусами и получили
то воспитание, которое получили.
Существуют, кроме прочего, ограничения, обусловленные генетически и физио-
логически. Мы зависимы от ситуативных факторов, от имеющихся у нас знаний и
опыта.
В-третьих, ни один из созданных нами умозрительных «перспективных жизненных
планов», к сожалению или к счастью, не может быть реализован.
Мы находимся в тех ситуациях, в которых мы находимся, и можем использовать
только те возможности, которые в этих ситуациях есть. И нельзя предсказать,
где мы конкретно окажемся, пройдя этот уровень жизненного квеста, и какие
возможности нам откроются на следующем.
Наконец, в-четвёртых, на нас, судя по всему, ни у кого нет никакого «пла-
на» . Если бы такой план был — у сверхъестественных сил или у сильных мира се-
го, — теоретически существовала бы возможность от него отклониться.
Но если плана на нас ни у кого нет, то и всякий выбор судьбы является лишь
иллюзией: что бы мы ни выбрали, мы выбираем свою судьбу, при этом — только
одну и эту, без вариантов, и тут не о чем больше говорить.
Вводные таковы, вопрос только в том, как мы ими распорядимся. И тут, собст-
венно, возникает действительная проблема. Наш мозг ленив, он так устроен, это
логика эволюционной экономики: если нет жёсткой необходимости действовать —
не действуй.
Почему животные не страдают от ожирения? Заполучить пищу для дикого зверя —
труд и риск. И он всегда ищет баланс между калориями и той ценой, которую за
них придётся платить. Так что, если можно обойтись без лишних калорий, живот-
ное легко без них обходится.
Наш мозг — мозг животного. И он категорический противник траты сил, если
потребность не слишком сильна, а прагматическая цель неочевидна. В каком-то
смысле он, наверное, правильно рассуждает.
Проблема в том, что живёт наш «зверь» (мозг) в мире культуры и общественных
отношений, а тут всё наоборот: ты побеждаешь только в том случае, если дейст-
вуешь с запасом и на опережение.
Мы не были созданы природой для жизни в культурной среде. Именно поэтому
нас дрессируют и воспитывают так, как ни одному другому животному даже в
страшном сне не привидится.
Нас годами учат, тренируют, формируют: обычное Homo, невзирая на слёзы,
крики и причитания, превращают в Homo sapiens. Нас готовят к тому, чтобы мы
смогли сыграть свою партию в сложной социальной игре.
Надо оно нам или не надо? — вопрос риторический. После того как нас выдрес-
сировали, мозги культурой прокомпостировали, мы вынуждены играть в эту игру.
Мы никогда не вернёмся в прежний животный рай, из которого нас изгнали. Да-
же Альцгеймер нас в него не вернёт. Эта плёнка засвечена, защитный слой снят.
Придётся играть в эту игру до конца.
Родившись, мы обречены на жизнь. Став человеком разумным, мы обречены на
жизнь в культуре, а она сложна и противоречива.
Буддисты считают жизнь человека страданием и даже не пытаются скрывать её
бессмысленность. Христиане говорят о том же самом, но обещают вроде как, что
за пережитые страдания мы получим некую небесную компенсацию.
Но если мы действительно поняли, что «случайность» только кажется нам «слу-
чайностью», а на самом деле это проявление железобетонной закономерности, то
почему мы рассуждаем о страдании таким образом?
Если нет альтернативы, то как мы вообще можем считать это качеством, какой-
то характеристикой?
Если у одного и того же предмета качества могут быть разные — «осетрина
первой свежести», «второй свежести», «не осетрина вовсе», — это имеет смысл
обсуждать.
Но когда нет альтернативы, и у всех жизнь только такая, и никто не воспри-
нимает её как-то иначе, то зачем мы говорим о её качестве?
Зачем мы предполагаем, что может быть иначе, если иначе быть не может? За-
чем, если само наличие этого предположения — о возможности преждевременного
выхода в нирвану, о достижении Царствия Небесного на земле, о безусловном
счастье — делает нас несчастными?
Мы придумываем приятные иллюзии, чтобы себя дополнительно помучить? Это та-
кой изощрённый способ садо-мазо?
Если вы знаете, что жизнь невозможна (я подчёркиваю — невозможна) без стра-
даний, то в связи с чем мы вообще должны брать этот фактор в расчёт?
«Что бы мы ни выбрали, мы выбираем свою судьбу, при этом — только одну и
эту, без вариантов».
Что это нам даст, кроме одного и того же лишнего знака сверху и снизу мате-
матической дроби? Просто вычеркните его! Он вообще не нужен, он ничего нам не
сообщает, он только всё путает и дает поводы позаниматься ерундой.
Проще, наверное, было бы сказать: хватит себя жалеть за то, что вы роди-
лись ! Но боюсь, что это слишком в лоб. Ну да, мы жалеем себя именно за это.
Бедные-несчастные! Родились мы — придётся жить. Разве не смешно?
Заметьте, я не прошу вас считать это «счастьем». Я просто не понимаю, зачем
мы этот факт в принципе оцениваем. Это лишнее и ненужное занятие.
Мы сами начинаем эту игру под названием «страдание-счастье» — и дальше по-
стоянно мучаемся из-за того, что выиграть в ней невозможно.
Надо уже перестать проблематизировать собственно страдание, делать из него
фетиш и полагать, что есть какие-то другие варианты. Их нет. Наше предназна-
чение — жить. Всё. Ничего больше.
Единственное, возможно, что имеет смысл сделать, так это научиться жить, не
создавая самому себе дополнительных сложностей. Это разумно: зачем делать
глупости, чтобы потом героически преодолевать их последствия?
К сожалению, культура тут слегка попутала карты, укрепляя себя иллюзиями,
мифами, пустыми словами и фантастическими обещаниями счастья.
Но если мы, в свою очередь, понимаем, что сама наша культура условна, наду-
манна и существует виртуально, то в чём проблема?
Просто понимая это, разрешаем противоречия и живём так, как считаем нужным!
Заключение
Передайте им, что я прожил
счастливую жизнь.
Людвиг Витгенштейн
Надо признать, что наш мир всё больше инфантилизируется: и жизнь становится
проще, и думать мы начинаем так себе. А чем проще мы думаем, тем более наив-
ными, непоследовательными, легкомысленными и уязвимыми мы оказываемся.
Так или иначе, не стоит удивляться тому загадочному факту, что даже крупные
учёные, такие, например, как Мартин Селигман, Михай Чиксентмихаии, Джеймс
Хьюи, Дэниел Гилберт, а также ряд других корифеев психологической науки взя-
лись на старости лет за изучение «счастья».
Изучать то, что нельзя даже определить, это по научным меркам, конечно, не-
сколько странно, если не сказать весьма самонадеянно (или если не сказать че-
го-нибудь ещё — куда более определённого).
Но бог с ним, приглядимся к полученным результатам.
Одно из самых известных и масштабных исследований такого рода — это ставшее
уже классическим «Гарвардское исследование развития взрослых людей». Оно на-
чалось, не пугайтесь, в 1938 году и счастливо продолжается до сих пор.
На протяжении всех этих долгих лет учёные, сменяя друг друга на исследова-
тельском посту, внимательно следят за жизнью 724 человек. К настоящему момен-
ту в живых осталось чуть больше пятидесяти участников этого самого долгого в
истории психологии научного эксперимента.
Все эти люди, ставшие предметом столь пристального и пожизненного интереса
учёных, тогда ещё совсем юные, были отобраны из числа студентов первого курса
Гарвардского университета и, в качестве альтернативы, из мальчишек, принадле-
жавших к беднейшим слоям Бостона.
С тех пор они уже повзрослели, состарились, а большинство из них, как я уже
сказал, умерли.
Судьба у всех сложилась по-разному — кто-то поднялся вверх по социальной
лестнице, кто-то спустился вниз. Кто-то заболел шизофренией, кто-то стал ал-
коголиком или наркоманом. Но были и те, кто прожил вполне счастливую жизнь.
Различие карьер и профессий в этой выборке огромно — тут вам и рабочие, и
учёные, и адвокаты, и врачи. Был даже один президент — он, правда, выбыл из
исследования в 1963 году после известного выстрела в Далласе.
Участники эксперимента женились и разводились, рожали и хоронили детей,
создавали компании и терпели финансовый крах, болели, выздоравливали и умира-
ли.
В общем, обычная-обычная жизнь согласно закономерностям этой самой жизни и
вероятностному распределению событий на единицу конкретной человеческой жиз-
ни.
Надо ли говорить, что результат этого исследования равен абсолютному нулю?
Да, в жизни людей случается всё, что может случиться, и все они на это как-то
реагируют. В общем, главной гордостью учёных может быть только упоминание в
Книге рекордов Гиннеса за невероятную продолжительность их странного исследо-
вания .
На вопрос журналиста, который был задан Джорджу Вейленту (предпоследнему
руководителю бостонского исследования), — мол, что же можно считать главным
результатом столь серьёзной научной работы? — Джордж ответил буквально сле-
дующее : «Единственное, что на самом деле имеет значение в жизни, — отношения
с другими людьми».
Ну, прямо скажем, так себе вывод для семидесяти лет исследований...
Впрочем, я бы предложил взять его на вооружение.
Это не значит, что нужно держаться за всякого человека в вашей жизни. Люди
приходят в нашу жизнь и уходят из неё. Важно, как вы проводите время, когда
они в ней есть.
Прежде я никому об этом не рассказывал, но этот мой личный опыт подтвержда-
ет слова Джорджа Вейлента.
Третий день моей болезни — того самого Гийена — Барре по типу Ландри — был,
наверное, самым тяжёлым. Я находился в реанимации, ноги совсем отказали, руки
не слушались, дыхание давалось с трудом.
Но я был в сознании. Как пошутил на эту тему один из врачей, «паралич пери-
ферический, поэтому уникальность твоего заболевания состоит в том, что боль-
ные умирают в полном сознании!».
Изголовье моей кровати упиралось в стену, где находился медицинский персо-
нал , следивший за пациентами через стекло. Ближе к ночи шла рутинная смена —
один реаниматолог передавал дела другому.
Они обсуждали какую-то ерунду, включая состояние пациентов.
— Всё вроде ничего, — сказал уходящий врач принимающему, — только вот кур-
сантик с Гийена — Барре до утра, скорее всего, не доживёт. Не завидую я тебе.
Пациенты в реанимации неврологической клиники редко находятся в сознании —
в основном это тяжёлые инсультные больные, а за ними такое не водится. И вра-
чи здесь не имеют привычки беспокоиться, что больные их услышат.
В общем, ничего удивительного в том, что я узнал таким вот образом о своих
перспективах на эту ночь, не было. Не сообразили коллеги-реаниматологи и поч-
ти в лицо мне их объявили. Точнее, в затылок.
Удивительно, но я не испугался. Быть может, сказывалось общее состояние,
больше похожее на левитацию. Это очень странно — ощущать, что у тебя нет поч-
ти тела, а именно так это и ощущалось. Плюс, конечно, общая слабость, дейст-
вие препаратов.
Чёрт его знает — в общем, страха не было. Возможно, когда узнаёшь о неиз-
бежности смерти вот так — настолько внезапно и так тривиально, из обычного
разговора, это трудно осознать? Не знаю.
Но я очень хорошо помню эту ночь. Мысли меня не слушались и текли сами со-
бой.
Я вспоминал всех, кого любил, с кем дружил и кем дорожил. Очень светлое бы-
ло чувство. Светлое и радостное.
Так может, прав Джордж Вейлент? Может, и правда единственное, что на самом
деле имеет значение в жизни, — это отношения с другими людьми? Как знать?
Ровно с тем же успехом можно спросить: было ли моим «предназначением» не
умереть тогда, чтобы сейчас всё это рассказать?
Сильно сомневаюсь. Но хорошо, что это у меня получилось.
Спасибо!
Литпортал
СЕППУКУ
БЕТАГЕМОТ
Питер Уотте
(окончание)
Сущность духовной дилеммы человечества заключа-
ется в том, что мы эволюционировали генетически
для принятия одной истины, а открыли другую.
Э.О. Уилсон1
Я с радостью пожертвую своей жизнью ради двух
родных братьев или восьми двоюродных.
Дж.Д.С. Холдейн2
Эдвард Осборн Уилсон — американский биолог, социобиолог и писатель, дважды лауреат
Пулитцеровской премии. На русский язык переведена его последняя на данный момент ра-
бота 2013 года «Хозяева Земли: социальное завоевание планеты человечеством», (прим.
ред.)
2
Джон Бердон Сандерсон Холдейн (1892-1964) — английский биолог и генетик, популяри-
затор и философ науки. Один из основоположников современной популяционной, математи-
ческой, молекулярной и биохимической генетики, а также синтетической теории эволю-
ции . (прим. ред.)
Дюна
«Вакита» бесшумно бежит из «Атлантиды», пробираясь между подводными пиками
и провалами, которые помогают ей оставаться незаметной, но при этом замедляют
ход. Курс, по которому движется судно, представляет собой какую-то шизоидную
мешанину несовместимых друг с другом целей: жажда скорости находится в нераз-
решимом противоречии с желанием выжить. Лени Кларк кажется, что стрелка их
компаса постоянно работает в режиме генератора случайных чисел, однако со
временем суммарный вектор указывает на юго-запад. В какой-то момент Лабин ре-
шает, что они благополучно выбрались из окрестностей станции. Без хорошей
скорости осторожности теперь и быть не может: «Вакита» выходит в открытое мо-
ре . Судно плавно движется на запад вдоль склонов Срединно-Атлантического
хребта, рыскает время от времени то в одну, то в другую сторону из-за попа-
дающихся на пути кочек размером с орбитальный подъемник. Горы уступают место
предгорьям, те сменяются бескрайними пространствами ила. Конечно же, в иллю-
минаторы Кларк ничего этого не видит — Лабин не потрудился включить внешнее
освещение, — но топографический рельеф прокручивается в четко синхронизиро-
ванном спектре на ярком экране навигационной панели. Зазубренные красные пи-
ки, настолько высокие, что их вершины почти скрыты в темноте, лежат далеко
позади. Пологие и крутые склоны, цвет которых плавно переходит из желтого в
зеленый, остаются за кормой. Подлодка плывет над равниной, покрытой застывшей
вулканической магмой, она кажется бескрайним голубым ковром, глядя на который
чувствуешь успокоение и даже сонливость.
В эти благословенные часы не надо ни отслеживать распространение смертельно
опасного микроба, ни думать о предательствах, ни готовиться к битве не на
жизнь, а на смерть. Делать нечего, остается только вспоминать об оставшемся
позади микрокосме; о друзьях и врагах, уставших от войны и наконец заключив-
ших союз, — но не в результате переговоров или примирения, а от внезапной не-
отвратимости более страшной угрозы, угрозы извне. Той самой, навстречу кото-
рой сейчас и стремится «Вакита».
Вполне возможно, что эта интерлюдия не предвещает ничего хорошего.
Со временем морское дно поднимается впереди полосатым утесом, заполняя всю
поверхность экрана. В стене, к которой приближается судно, виден провал — ог-
ромное подводное ущелье, — расколовший Шотландский шельф так, словно сам Бог
орудовал здесь пестиком для колки льда. Навигация именует его Водостоком.
Кларк помнит это название: так называется самая большая достопримечатель-
ность , расположенная на этой стороне залива Фанди. Лабин, делая ей приятное,
сворачивает на несколько градусов с курса, для того чтобы пройти под одним из
колоссальных сооружений, расположенных на полпути к горловине каньона. Когда
подлодка проходит мимо, Кен включает передние прожекторы: границы оптической
арки настолько размыты, что Кларк принимает ее за прямую линию. В лучах ста-
новится видна громадная морская мельница2. Подлодка проходит под огромной ло-
пастью, ступица и наконечник скрыты в сумраке, царящем по обе стороны. Она
едва движется.
А ведь было время, когда это сооружение было конкурентоспособным. Не гак
давно течения, проходящие через Водосток, обеспечивали столько джоулей в се-
кунду, сколько могла дать мощная геотермальная электростанция. Но климат из-
менился, а вместе с ним изменились и течения. Теперь это место — всего лишь
1
Подводная лодка названа по имени калифорнийской морской свиньи (Phocoena sinus).
Это китообразное сейчас находится на грани вымирания, (прим. ред.).
2
Морская мельница — мельница, движущая сила которой является производной от расхода
воды, обеспечиваемой водопадами либо приливами и отливами (здесь и далее примечания
переводчика, кроме отдельно указанных случаев).
туристическая достопримечательность на пути амфибий-киборгов: невесомые раз-
валины постоянно окутаны темнотой.
t
Район Британских островов.
«А ведь мы и сами такие», — думает Кларк, когда судно проплывает мимо. В
этот самый момент она и Лабин на несколько секунд застывают в невесомости,
оказываясь аккурат между двумя полями притяжения. Позади — «Атлантида», несо-
стоявшееся прибежище. А впереди — Впереди тот самый мир, от которого они пря-
тались .
В последний раз Лени выходила на сушу пять лет назад. В то время апокалип-
сис только начал свою работу; кто знает, насколько безумным стало это шоу? До
«Атлантиды» информация доходила лишь в общих чертах: мрачные слухи, разроз-
ненные мелочи, просочившиеся из обтрепавшейся заплаты телекоммуникационного
спектра, охватывавшего Атлантический океан. Вся Северная Америка в карантине.
Остальной мир ожесточенно спорит о том, стоит ли прикончить ее из жалости или
попросту дать умереть собственной смертью. Большинство стран еще борется, не
подпуская Бетагемот к своим границам; другие же приветствуют микроб Судного
дня, кажется, с восторгом встречают сам конец света.
Кларк не очень понимает, как такое получилось. Возможно, жажда смерти, за-
хороненная глубоко в коллективном бессознательном. А может, сыграло роль зло-
радное удовлетворение тем, что даже обреченные и угнетенные дождутся часа
расплаты. Смерть — это не всегда поражение: иногда это шанс на то, чтобы уме-
реть стиснув зубы на горле врага.
На поверхности сейчас умирали многие. И немало человек скалили зубы. Лени
Кларк не знает, почему. Она знает лишь то, что многие из них поступают так во
имя ее. Ей также известно, что их число увеличивается.
Лени дремлет. Когда снова открывает глаза, кубрик сияет рассеянным изумруд-
ным светом. На носу «Вакиты» четыре иллюминатора: сквозь огромные плексигла-
совые слезы струятся лучи света. Два верхних окутывает матовая зеленая пусто-
та ; в нижних виден рифленый слой песка, проносящийся прямо под ногами Кларк.
Лабин отключил цветной кодер. На экране навигатора «Вакита» взбирается по
монохромному отлогому склону. Эхолот показывает глубину 70 метров, та посте-
пенно понижается.
— Сколько я проспала? — спрашивает Кларк.
— Да недолго.
От уголков глаз Лабина расходятся свежие красные шрамы — видимые следы от
имплантации неироэлектрических элементов в зрительные нервы. При взгляде на
его лицо Кларк все еще испытывает невольную дрожь; она не уверена, что сама
доверилась бы хирургам корпов, пусть сейчас и они, и рифтеры были на одной
стороне. Лабин же явно думает, что дополнительные возможности сбора данных
стоили такого риска. А может, это просто еще одна экстраспособность, которую
он так хотел, но в прошлой жизни так и не получил к ней допуск.
— Мы уже около Сейбла? — спрашивает Кларк.
— Почти.
Навигационное устройство издает блеющий звук: четкое эхо от склона на два
часа. Лабин сбрасывает скорость, разворачивается на правый борт. От центро-
бежной силы Кларк качает в сторону.
Тридцать метров. Море за бортом кажется ярким и холодным, как будто смот-
ришь в зеленое стекло. «Вакита», двигаясь на минимальной скорости, проползает
вдоль склона, принюхиваясь к каркасу из труб и балок, который набухает на на-
вигационном дисплее. Кларк наклоняется вперед, стараясь увидеть что-то в лу-
чах мутного света. Ничего.
— А какая там видимость? — спрашивает она.
Лабин не отрывается от управления и не смотрит наверх.
— Восемь и семь десятых.
Двадцать метров до поверхности. Внезапно вода впереди темнеет, как будто на
поверхности происходит солнечное затмение. Спустя мгновение темнота впереди
превращается в гигантский палец: закругленный конец какого-то цилиндрического
сооружения, наполовину погребенного под песчаным наносом, покрытого губками и
морскими водорослями, на расстоянии его округлые формы теряются в дымке. На-
вигация определяет высоту — примерно восемь метров.
— А я думала, оно плавает, — говорит Кларк.
Лабин тянет на себя рукоятку: «Вакита» выбирается на поверхность рядом с
конструкцией.
— Они его вытащили на мель, когда колодец пересох.
Значит, громадный понтон затопили. На верхней площадке стоят балки и под-
порки; леса виселицей тянутся к солнечному свету. Лабин осторожно проводит
между ними субмарину, которая подчиняется ему, словно игла искусному выши-
вальщику. Приборы показывают, что подлодка вошла на арену, по краям которой
стоят четыре таких цилиндра, образуя квадрат. Кларк различает их размытые во-
дой контуры. Опоры и связующие фермы похожи на прутья клетки.
«Вакита» выныривает на поверхность. Вода потоком стекает с оргстекла, и мир
снаружи какое-то время подернут рябью, но его очертания быстро обретают чет-
кость . Субмарина всплыла как раз под буровой платформой; ее подбрюшье походит
на металлическое небо, простирающееся над ними не более чем в десяти метрах,
которое с земли держит сеть несущих пилонов.
Лабин выбирается из кресла и хватает поясную сумку, висящую на крючке.
— Вернусь через несколько минут, — говорит он, открывая верхний люк.
Быстро поднимается по ступенькам. Кларк слышит плеск воды, доносящийся сна-
ружи.
Он по-прежнему не рад, что она поплыла с ним. Но Лени, не обращая внимания
на все маневры Лабина, следует за ним.
Сквозняк, ворвавшийся внутрь через отверстие люка, холодит ее лицо. Подняв-
шись на обшивку субмарины, она оглядывается вокруг. Небо — та его часть, ко-
торую видно сквозь стойки и опоры, — серое и затянуто тучами; океан цвета пу-
шечной бронзы простирается до самого горизонта. Позади Кларк слышатся какие-
то звуки. Отдаленный пульсирующий рев. Слабый клекот, похожий на сигнал тре-
воги. Что-то знакомое, но Лени никак не может сказать точно. Она поворачива-
ется.
Земля.
Полоса песчаного берега примерно в пятидесяти метрах от корпуса установки.
За линией прилива она видит низкорослые чахлые заросли кустов. Морены плавни-
ка, тянущиеся вдоль берега прерывистыми узкими полосками. И неутомимо толкаю-
щуюся в берег приливную волну.
Она слышит голоса птиц, перекрикивающихся друг с другом. Об этом она уже
почти забыла.
Это еще не Северная Америка. Материк расположен в двух, а то и в трех сот-
нях километров отсюда. А то место, где они находятся сейчас, всего лишь оди-
нокий маленький архипелаг на Шотландском шельфе. И все же: увидеть живых су-
ществ без плавников и кулаков — Лени удивляется такой возможности; но еще
больше удивляется такой чрезмерной реакции при виде суши.
Крутая металлическая лестница поднимается по винтовой спирали вокруг бли-
жайшей опоры. Кларк ныряет в океан, не думая о капюшоне или перчатках. Атлан-
тика отвешивает ей пощечину, открытая кожа ощущает приятное ледяное покалыва-
ние . Кларк так нравится это чувство, что до опоры она доплывает буквально за
несколько гребков.
Лестница ведет на мостки, проложенные по всему периметру установки. Натяну-
тые вместо перил канаты позвякивают под ветром; вся конструкция аритмично
гремит и грохочет, словно огромная перкуссия. Лени подходит к открытому люку,
заглядывает в его темное нутро: сегментированный металлический коридор, пучки
труб и оптоволоконных кабелей тянутся по потолку, подобно сплетениям нервов и
артерий. Т-образное пересечение в конце коридора уводит куда-то в неизвест-
ность .
Влажные отпечатки на мостках доходят до места, где сейчас стоит Кларк, и
поворачивают налево. Кларк идет по следам.
Чем глубже внутрь, тем больше выцветают звук и видимость. Переборки заглу-
шают шум прибоя и громкие крики чаек. Улучшенное зрение Лени пришлось как
нельзя кстати — слабый свет снаружи хоть как-то проникал в коридор до не-
скольких поворотов, заглядывал в иллюминаторы, сияющие в концах неисследован-
ных проходов, — однако уменьшение световой насыщенности вокруг говорит Кларк
о том, что она сейчас идет сквозь темноту слишком плотную для глаз сухопутни-
ков. Наверное, именно из-за перехода к черно-белому она не заметила этого
раньше — темные полосы на стенах и под ногами могли быть чем угодно от ржав-
чины до следов азартной игры в пейнтбол. Но сейчас, следуя по последним сма-
занным следам, ведущим к люку, зияющему в переборке, она поняла, в чем дело.
Следы углерода. Что-то сожгло всю эту секцию.
Пройдя через люк, она входит в чью-то каюту, судя по стоящему здесь каркасу
складной металлической кровати и прикроватному столику, одиноко притулившему-
ся у стены. Рамы и остовы — вот и все, что здесь осталось. Если тут когда и
лежали матрасы, простыни или одеяла, теперь они исчезли. На всем лежал тол-
стый слой черной жирной копоти.
Откуда-то издали доносится скрип металлических петель.
Кларк выходит в коридор и пытается определить, откуда идет звук. Тот быстро
затихает, но к тому времени у нее уже есть направление и маяк — слабый луч
света, отражающийся от стены, идущий из-за угла впереди. Когда Лени вошла в
каюту, путь перед ней был темен и безмолвен, теперь же она слышит отдаленный
шум волн.
Кларк идет на свет. Наконец она подходит к открытому люку, расположенному в
основании трапа, ведущего наверх. Океанский бриз, проникая внутрь, обдувает
ее лицо и доносит крики морских птиц и аромат аскофиллума1, напоминающий за-
пах мокрой резины. На какое-то мгновение она, пораженная, замирает на месте:
свет струится с верхней площадки лестницы, его яркости хватает на то, чтобы
1
Аскофиллум — вид морских водорослей.
снова сделать мир цветным, но вот стены все еще остаются...
«О!».
Полимер вокруг кромки люка покрылся пузырями и сгорел — остались лишь ком-
коватые хлопья углерода. Из любопытства Кларк тянет колесо: крышка люка едва
шевелится, мягко повизгивая при этом, словно негодуя на нагар, запекшийся на
ее петлях.
Она поднимается навстречу дневному свету и полному разорению.
По своим меркам нефтяная платформа была небольшой — и близко не похожей на
монстров размером с города, которые некогда толпились в океане поблизости.
Очевидно, к тому времени, когда она была построена, нефть уже выходила из мо-
ды, а возможно, средств тут уже осталось слишком мало для более солидных ин-
вестиций. Как бы там ни было, главный корпус платформы почти на всем своем
протяжении имел в высоту всего два этажа. И вот теперь Кларк поднималась на
его широкую, открытую крышу.
Палуба установки простирается на расстояние, равное половине площади город-
ского квартала. На дальнем конце располагаются взлетно-посадочная площадка
для вертолетов с пристроенным к ней лифтом и огромный подъемный кран, которо-
му подрезали сухожилия; он лежит поперек крыши, согнутый под каким-то неверо-
ятным углом; его помятые стойки и поперечные балки слегка помялись от удара.
Копёр, установленный ближе, выглядит относительно целым, пронзая небо, словно
проволочный фаллос. Кларк останавливается в отбрасываемой им тени, заходит в
кабинку, из которой когда-то управляли платформой. Теперь это развалина пря-
моугольной формы, все четыре стены обрушены, а крыша и вовсе оторвана, валя-
ется чуть дальше на палубе. Здесь раньше был пульт управления и электроника —
Лени узнает очертания оплавленных приборов.
Разрушение настолько полное, что Кларк может просто перейти на главную па-
лубу, переступив через остатки стены.
Все это пространство — видимость без всяких препятствий и помех — тревожит
ее. В течение целых пяти лет она пряталась в тяжелой, успокаивающей темноте
северной части Атлантического океана, но здесь, наверху... здесь взгляд про-
стирается до самого горизонта. У Лени такое чувство, будто она нагая, как
будто она мишень, видимая с любого расстояния.
На дальней стороне платформы она видит крохотную фигурку Лабина: тот стоит,
опираясь спиной на ограждение. Кларк направляется к нему, обходя обломки и не
обращая внимания на вьющийся над ней крикливый хоровод чаек. Приблизившись к
краю, она справляется с внезапно нахлынувшим головокружением: перед ней рас-
стилается архипелаг Сейбл — цепочка ничтожно малых песчаных пятнышек посреди
бескрайнего океана. Ближайший островок, впрочем, выглядит довольно большим,
его хребет покрыт коричневатой растительностью, а пологий песчаный берег тя-
нется далеко на юг. Кларк кажется, что далеко-далеко она видит какие-то кро-
шечные , беспорядочно движущиеся крапинки.
Лабин медленно поворачивает голову из стороны в сторону, смотря в биноку-
ляр. Внимательно изучает остров. Когда Кларк подходит к ограждению, Кен мол-
чит.
— Ты знал их? — негромко спрашивает она.
— Не исключено. Я не знаю, кто был здесь, когда это случилось.
«Мне жаль», — едва не говорит она, но зачем?
— Может быть, они видели, что произойдет, — предположила она. — И успели
спастись.
Он не сводит взгляда с береговой линии. Окуляры бинокля торчат трубчатыми
антеннами.
— А разве не опасно стоять вот так, в открытую? — спрашивает Кларк.
Лабин пожимает плечами, проявляя удивительное, жуткое безразличие к опасно-
сти.
Сейбл 9
Лени пристально всматривается в береговую линию. Те самые движущиеся кра-
пинки немного увеличились в размере: они похожи на каких-то живых существ.
Похоже, они движутся к платформе.
— А когда, по-твоему, это произошло? — Ей почему-то кажется важным заста-
вить его говорить.
— С последнего сигнала от них прошел год, — говорит он. — Платформу могли
сжечь в любой момент за это время.
— Может, даже на прошлой неделе, — замечает Кларк.
Когда-то их союзники более добросовестно подходили к обмену сообщениями. Но
даже так затянувшееся молчание не всегда что-то значило. Для разговора прихо-
дилось ждать, когда никто тебя не слышит. Соблюдать предельную осторожность,
чтобы не раскрыться. Контакты и корпов, и рифтеров и раньше время от времени
замолкали. И даже сейчас, после годового молчания, можно было надеяться на
то, что новости все-таки придут. И это может произойти в любой день.
Только, разумеется, не сейчас. И не отсюда.
— Два месяца назад, — говорит Лабин. — По меньшей мере.
Она не спрашивает, откуда ему это известно. Только следит за берегом, кото-
рый Кен так пристально изучает.
«О, Бог мой».
— Там ведь лошади, — удивленно шепчет она. — Дикие лошади. Ничего себе!
Сейчас животные были настолько близко к ним, что их нельзя не заметить. По-
мимо воли в сознании Лени возникает видение: Алике в ее тюрьме на морском
дне. Алике, говорящая: «Это самое лучшее место, в котором я могу оказаться».
«Интересно, — думает Кларк, — а что бы она сказала сейчас, видя этих диких
животных».
Хотя, если подумать, это зрелище вряд ли так уж сильно впечатлило бы ее.
Она же была дочкой корпа. Ей еще и восьми не исполнилось, а девочка, навер-
ное , уже дважды совершила кругосветное путешествие. А возможно, у нее была и
собственная лошадь.
Табун в панике несется вдоль песчаного берега. «Что они здесь делают?» — с
удивлением думает Кларк. Сейбл трудно было назвать островом и до того, как
поднявшееся море разделило его; он всегда был лишь чрезмерно разросшейся пес-
чаной дюной, медленно ползущей под воздействием ветра и течений вдоль исто-
щенных нефтяных месторождений шельфа. На этом конкретном острове не было ни
деревьев, ни кустарников — только грива тростниковой травы, покрывавшая вер-
шину каменной гряды, похожую на спинной хребет. Казалось невероятным, что та-
кой крохотный кусочек земли может обеспечить жизнь таким большим животным.
— Тут и тюлени есть. — Лабин проводит рукой вдоль берега на север, хотя то,
что он видит, находится слишком далеко, чтобы Кларк могла увидеть это невоо-
руженным глазом. — А еще птицы. Растительность.
Сейбл.
Диссонанс сказанного дошел до нее.
— Откуда такой интерес к живой природе, Кен? Ты вроде никогда особо ее не
любил.
— Тут все здоровы, — отвечает он.
— То есть?
— Трупов нет, скелетов тоже. На вид тут даже никто не болеет. — Лабин стас-
кивает с головы бинокуляр и прячет его в поясную сумку. — Трава слишком ко-
ричневая , но мне кажется, это нормально.
По тону его речи она догадывается, что он разочарован... но чем?
Тут до нее доходит. Бетагемот. Он его ищет. Надеется найти. На суше мир
сжигает зараженные зоны... по крайней мере, маленькие, где есть надежда сдер-
жать микроб в обмен на жизни и землю, потерянные в пламени. В конце концов,
Бетагемот угрожает всей биосфере; никто не испытывает волнения по поводу со-
путствующего ущерба, когда ставки настолько высоки.
Но на Сейбле все жизнеспособно и нормально развивается. Сейбл не сгорел. А
это значит, что разрушение платформы никак не связано с экологической обста-
новкой .
Кто-то охотится за ними.
Кем бы они ни были, Кларк не может реально обвинять их. Она умирала бы
здесь вместе со всеми остальными, если бы у корпов все получилось. Атлантида
была построена только для Движущих и Сотрясающих мир; для элиты такие как
Кларк и вся ее компания были просто группой тех, кого двигали и трясли. Вот
только Ахилл Дежарден сказал им, где идет вечеринка, чтобы они могли попасть
на нее, прежде чем выключат свет.
Так что, если это гнев тех, кого оставили на произвол судьбы, едва ли Кларк
может выражать недовольство. Они даже целятся правильно. Бетагемот, в конце-
то концов, это ее вина.
Она оглядывается, рассматривая обломки. Кто бы это ни сделал, с Дежарденом
им не сравниться. Они не плохи, далеко нет; им хватило сообразительности вы-
числить примерные координаты «Атлантиды». Они основательно перетряхнули Бета-
гемот, и с получившимся вариантом модифицированный иммунитет обитателей стан-
ции ничего поделать не мох1. Они высеяли Бетамакс в правильной области, и одно
это уже могло принести им победу, судя по количеству тел, которое уже набра-
лось , когда «Вакита» отправилась в путь.
Но гнездо они так и не нашли. Пошатались по окрестностям, сожгли уединенный
аванпост на границе, но сама Атлантида от них скрылась.
А Дежарден — ему потребовалось меньше недели на то, чтобы просеять триста
шестьдесят миллионов квадратных километров морского дна и вывести точный на-
бор широты и долготы. Он не только нарисовал мишень, но дернул за необходимые
струны, замел следы и помог рифтерам добраться до станции.
«Ахилл, друг мой, — думает Кларк. — Как же нам пригодилась бы сейчас твоя
помощь». Но Ахилла нет в живых. Он погиб во время Рио. Статус лучшего право-
нарушителя УЛН не спасает, когда на голову падает самолет.
Вполне возможно, его убили те же самые люди, которые тут все сожгли.
Лабин идет назад вдоль платформы. Кларк следует за ним. Ветер налетает со
всех сторон, холодный и колючий; она могла бы поклясться, что он проникает
даже сквозь гидрокостюм, хотя, наверное, у Лени всего лишь разыгралось вооб-
ражение . Где-то рядом случайно образовавшийся туннель из труб и листов обшив-
ки под ветром стонет так, словно внутри спрятались привидения.
— А какой сейчас месяц? — спрашивает она, стараясь перекричать шум ветра.
— Июнь, — отвечает Лабин, направляясь к вертолетной площадке.
Кажется, сейчас намного холоднее, чем должно быть в это время. Может, после
того как Гольфстрим прекратил свое существование, такая погода теперь сходит
за теплую. Кларк никак не могла толком понять этот парадокс: как глобальное
потепление может превратить Восточную Европу в Сибирь...
Металлическая лестница ступени ведет наверх, к взлетно-посадочной площадке.
Но Лабин, дойдя до нее, не поднимается, а припадает на одно колено и внима-
тельно рассматривает нижнюю часть ступенек. Кларк тоже наклоняется. Она ниче-
го не видит — только исцарапанный, окрашенный металл.
Лабин вздыхает:
— Тебе лучше вернуться.
— Даже и не думай.
— Если ты пойдешь дальше, я не смогу вернуть тебя. Я предпочту задержаться
еще на сорок шесть часов, но не допустить, чтобы кто-то задерживал меня на
суше.
— Мы уже об этом говорили, Кен. С чего ты решил, что сейчас меня будет лег-
че переубедить?
— Дела обстоят хуже, чем я ожидал.
— Насколько? Сейчас и так конец света.
Он указывает на проплешину под ступенькой: там соскребли краску.
Кларк пожимает плечами:
— Я ничего не вижу.
— Вот именно.
Лабин поворачивается и возвращается назад, к опаленным руинам будки управ-
ления. Лени спешит за ним.
— Ну, так что?
— Я оставил там запасной самописец. Он похож на заклепку. — Демонстрируя
размер, Лабин сдвигает вместе большой и указательный пальцы, оставляя между
ними едва видимый просвет. — Я даже специально закрасил его. Я сам никогда бы
его не заметил. — Кен проводит пальцем воображаемую линию между будкой и ле-
стницей. — Отлично выбранная зона прямой видимости, позволяющая минимизиро-
вать потребление энергии. Всенаправленная передача: место нахождения источни-
ка сигнала определить невозможно. Памяти хватило бы на неделю обычных перего-
воров, а также на любой сигнал, который они могли послать нам.
— Не слишком-то много, — замечает Кларк.
— Это устройство не было предназначено для долговременной записи. Достигнув
лимита, оно писало новую информацию поверх прежней.
Значит, черный ящик. Запись недавнего прошлого.
— То есть ты ожидал, что случится что-нибудь подобное, — предполагает она.
— Я рассчитывал, что, если что-то произойдет, я, по крайней мере, смогу по-
лучить какую-то запись о том, что случилось. Я не ожидал, что самописец про-
падет , так как больше никто о нем не знал.
Они возвращаются в радиорубку. Почерневший дверной косяк по-прежнему стоит,
нелепо вздымаясь из обломков. Лабин, похоже, из какого-то загадочного уваже-
ния к стандартным процедурам, проходит в дверь. Кларк легко переступает через
остаток стены, не доходящий ей до колена.
Что-то хрустит и трещит там, где находится ее лодыжка. Она смотрит вниз.
Ступня завязла в обугленной грудной клетке; Лени выдергивает ногу из дыры,
проломленной в грудине, чувствует подошвой шишки и выпуклости позвонков —
хрупкие, крошащиеся от малейшей тяжести.
Если сохранились череп или конечности, они, наверное, погребены под облом-
ками.
Лабин наблюдает за тем, как она высвобождает ступню из человеческих остан-
ков . Под его линзами что-то блестит.
— Тот, кто стоит за этим, — говорит он, — потолковее меня.
На самом деле его лицо не столь бесстрастно. Оно кажется таким тем, кто его
не знает. Но Лени, до известной степени, научилась читать Лабина и сейчас ви-
дит , что он не встревожен и не огорчен. Кен вдохновлен.
Она непоколебимо кивает:
— Значит, тебе пригодится любая помощь, — и следует за ним.
Соловей
Казалось, будто они вышли из земли. Иногда вполне буквально: немало народу
жило в канализации и дренажных трубах, словно несколько метров бетона и земли
смогут удержать то, что небо и земля не сумели остановить. Но, по большей
части, люди просто так выглядели. Передвижной лазарет Таки Уэллетт останавли-
вался на перекрестках муниципальных дорог возле скоплений обветшалых и по ви-
ду необитаемых домов и торговых центров, из которых, тем не менее, сочился
вялый ручеек изможденных местных жителей, они уже давно утратили надежду, а
воли им хватало только на механическое существование до самой скорой смерти.
Здесь жили неудачники без связей, так и не перебравшиеся в ПМЗ1. Бывшие скеп-
тики, которые поняли, что им реально грозит, лишь в тот момент, когда было
уже слишком поздно. Фаталисты и эмпирики, которые смотрели в прошлое столетие
и удивлялись, почему конец света пришел только сейчас.
Здесь жили люди, которых едва ли стоило спасать. Така Уэллетт старалась изо
всех сил. Она была человеком, который едва ли подходил на роль спасителя.
В кабине играл Россини. К Уэллетт, пошатываясь, направлялась следующая па-
циентка, когда-то ее назвали бы пожилой: кожа обвисла; конечности почти не
1
Постоянно милитаризованная зона.
двигаются. Женщина ходила, словно ей управлял вышедший из строя автопилот.
Одна подогнулась, когда женщина подошла ближе, от чего все ее больное тело
перевалилось на одну сторону. Уэллетт уже кинулась к ней, но больная в по-
следний момент сумела сохранить равновесие. Ее щеки походили на распухшие си-
нюшные подушки; слезящиеся глаза, казалось, неотрывно смотрят в какую-то не-
определенную точку, расположенную между зенитом и горизонтом.
Правая рука напоминала инфицированную клешню, согнутую вокруг незаживающей,
сочащейся раны.
Уэллетт не стала обращать внимание на серьезные повреждения и сосредоточи-
лась на мелких: две меланомы видны на левой руке, в правой — судороги, от ра-
ны в ладони к запястью тянется темная сетка, похожая на следы сепсиса. При-
вычные признаки недоедания. Половина симптомов могла возникнуть из-за Бетаге-
мота, но ни один не указывал на него прямо. Эта женщина ужасно страдала.
Уэллетт постаралась профессионально улыбнуться, хотя это у нее всегда полу-
чалось плохо.
— Посмотрим, можем ли мы вам как-либо помочь.
— Это хорошо, — ответила женщина, мечтательно глядя на звезды.
Уэллетт попыталась проводить ее к фургону, поддерживая одной рукой в пер-
чатке (ей, конечно же, на самом деле перчатки не требовались, но сейчас было
нелишним напомнить людям о таких вещах). Женщина отпрянула при первом же при-
косновении и. . .
— Это хорошо. Это хорошо...
...словно натолкнулась на какую-то невидимую стену и упала; она пристально
смотрела на небо, совершенно забыв о существовании земли.
— Все хорошо.
Уэллетт отпустила ее.
Следующий пациент был без сознания и не мог самостоятельно передвигаться,
даже если бы и пришел в себя. Его принесли на самодельных носилках, тело по-
ходило на сочащийся пазл из ран и судорог, нервы и внутренние органы закоро-
тило , они решили не дожидаться, когда остановится сердце, и начали гнить.
Приторный, слащавый запах застаревшей мочи и экскрементов окутал человека
словно саван. Почки и печень соревновались друг с другом в том, кто убьет его
первым. Така понятия не имела, кто будет победителем.
Какой-то мужчина и два ребенка неопределенного пола притащили к ней этот
еще дышащий труп. Их лица и руки были не покрыты то ли по забывчивости, то ли
от пренебрежения к бестолковым и бесполезным мерам самозащиты, о которых по-
стоянно говорили общественные службы.
Она покачала головой.
— Сожалею. Но он при смерти.
Они не отводили от нее глаз, полных отчаянной надежды, граничащей с безуми-
ем.
— Я могу убить его ради вас, — прошептала она. — Могу кремировать. Это все,
что я могу сделать.
Они не сдвинулись с места.
«О Дейв. Благодарю Господа, что ты умер не дойдя до такого...»
— Вы понимаете меня? — спросила Уэллетт. — Я не могу его спасти.
В этом случае не было ничего нового. Когда дело касалось Бетагемота, Така
не могла спасти никого.
Хотя нет, могла, конечно. Если бы решила покончить жизнь самоубийством.
Защита от Бетагемота сводилась к скрупулезному выполнению серии болезненных
генетических модификаций, линия сборки занимала несколько дней, — но техниче-
ских причин, почему нельзя весь комплекс упаковать в передвижную установку и
не отправить в поле, не было. Не так давно несколько человек так и поступили.
Их разорвала на куски толпа людей, слишком отчаявшихся, чтобы ждать своей
очереди; не верящих, что предложение превысит спрос, стоит только немного по-
терпеть .
Теперь медицинские центры, где могли по-настоящему излечить Бетагемот, пре-
вратились в крепости, которые могли противостоять отчаянию толпы и заставляли
людей терпеливо ждать. А в стороне от этих эпицентров Така Уэллетт и ей по-
добные могли находиться среди больных, не опасаясь заразиться; но предложить
кому-то реальное лечение в такой глуши означало смертный приговор. Самое
большее, что Така могла сделать, это провести быструю, грязную, сделанную на
скорую руку ретровирусную корректировку, которая давала некоторым шанс дож-
даться настоящего лечения. Така могла рискнуть, но максимум замедлить процесс
умирания.
Она не жаловалась. Она понимала, что в более спокойные и благоприятные вре-
мена ей могли и этого не доверить. Но это едва ли придавало ей какую-либо ис-
ключительность : пятьдесят процентов всего медицинского персонала закончили
университеты с баллами, поместившими их в нижнюю половину своего класса. Но
сейчас это не имело такого значения, как раньше.
Но даже сейчас иерархия существовала. Плющевики1, нобелевские лауреаты, Мо-
царты от биологии — все они уже давно взошли на небеса, взлетев на крыльях
УЛН, и теперь работали вдали от всех, в комфорте, пользуясь самыми передовыми
технологиями, готовые спасти то, что осталось от мира.
Уровнем ниже располагались «беты»: основательные, надежные «шинковалыцики»
генов, гельжокеи. Здесь не держали победителей, но за ними не тянулась исто-
рия исков о некомпетентности. Эти люди трудились в замках, которые выросли
вокруг каждого источника надежды на спасение, расположенных вдоль фронта
борьбы с Бетагемотом. Линия генетической сборки, извиваясь, проходила через
все эти фортификации, подобно какому-то извращенному пищеварительному тракту.
Больных и умирающих заглатывали на одном конце, и они проходили через петли и
кольца, где от них отщипывали кусочки, кололи, травили полной противоположно-
стью пищеварительных ферментов: генами и химикалиями, которые пропитывали
разжижающуюся плоть, чтобы сделать ее вновь целой.
Прохождение через кишки спасения было делом нелегким: восемь дней с момента
приема внутрь до дефекации. Линия вышла длинной, но не широкой: экономию на
масштабах трудно реализовать в условиях посткорпоративного общества. Лишь
очень малую часть зараженных можно было иммунизировать. Жизнь этих немного-
численных счастливчиков полностью зависела от надежных, ничем не примечатель-
ных рабочих пчел второго уровня.
А еще была Така Уэллетт, которая уже едва помнила, когда входила в их рой.
Если бы не тот злосчастный, беспечно выполненный раздел протокола депонтами-
нации, она сейчас все еще работала бы на генетической сборке в Бостоне. Если
бы не эта незначительная оплошность, Дейв и Крис могли бы остаться в живых.
Но кто мог знать наверняка? Остались только сомнения и бесконечные «что, ес-
ли». А еще угасающие воспоминания о другой жизни, жизни врача-эндокринолога,
жены и матери.
Сейчас она была просто пехотинцем, патрулирующим отдаленные места в подер-
жанной передвижной клинике и дешевыми, просроченными чудесами. Ей уже не пла-
1
Плющевик — выпускник или студент одного из университетов или колледжей, входящих в
Лигу плюща. Так называется объединение восьми старейших привилегированных учебных
заведений на северо-востоке США: Корнелльский университет в Итаке, университет Брау-
на в Провиденсе, Колумбийский университет в Нью-Йорке, Дартмутский колледж в Ганове-
ре, Гарвардский университет в Кембридже, Принстонский университет в Принстоне, Пен-
сильванский университет в Филадельфии, Йельский университет в Нью-Хейвене. Название
связано с тем, что по английской традиции стены университетов — членов Лиги увиты
плющом.
тили много месяцев, но это ее не трогало: полный пансион предоставили ей да-
ром, да и в Бостоне ее никто не ждет с распростертыми объятиями: она, может,
и обладает иммунитетом к Бетагемоту, но вполне способна стать переносчиком
заразы. Но и это ее тоже не волновало. Работа занимала все время. Она сохра-
няла Таке жизнь.
В конце концов, еще дышащий труп молча сошел с дистанции. Пришедшие ему на
смену соперники уже не так страшно тыкали Уэллетт носом в бесплодность ее ра-
боты. Последние несколько часов она обрабатывала, в основном, опухоли, а не
жертв болезни. Странно, конечно, на таком-то расстоянии от ПМЗ. Но раковые
опухоли можно было вырезать. Простое дело, задача для дронов. Такие операции
она проводила блестяще.
В общем, так Уэллетт и сидела, раздавала мультикиназные ингибиторы ангиоге-
неза1 и ретровирусы на фоне увядающего, болезненного пейзажа, где сама ДНК
была на пути к исчезновению. Если приглядеться, кое-где до сих пор виднелась
зелень. Весна, в конце концов. Зимой Бетагемот обычно слегка отступал, давая
старожилам шанс каждый новый год цвести и расти, а, когда приходило тепло,
наноб возвращался и душил конкурентов на корню. А штат Мэн находился от пер-
воначального тихоокеанского заражения очень далеко, дальше уже приходилось
мочить ноги, а также обзавестись кораблем и приличным шифратором, чтобы сбро-
сить ракеты со следа.
Сейчас, правда, под обстрел евро-африканцев можно было попасть и на суше.
Когда-то они стреляли только по объектам, пытавшимся пересечь Атлантический
океан; но после Пасхи нанесли несколько ракетных ударов и по континенту: по-
хоже, там у кого-то сильно чесались руки по поводу более эффективных мер
сдерживания. Удивительно, что песок на всем побережье еще не превратился в
стекло. Если верить официальным сообщениям, оборонительные сооружения Север-
ной Америки пока отражали самые худшие атаки. Тем не менее, защита долго не
продержится.
Россини уступил место Генделю. Очередь к Таке увеличивалась. На место каж-
дого принятого ею пациента приходили еще двое. Пока беспокоиться не о чем:
существовала критическая масса, некий порог личной ответственности, до кото-
рого толпа никогда не выходила из-под контроля. А сегодня клиенты выглядели
так, что, даже если спровоцировать, сил на погром у них просто не хватило бы.
По крайней мере, фармы перестали требовать деньги за лекарства, которые она
применяла и раздавала больным. Конечно же, они этого не хотели: эй, неужто
кто-то думает, что исследования и разработка всех этих чудодейственных элик-
сиров ничего не стоит? Просто у них не осталось выбора. Даже немногочисленная
толпа может натворить немало бед, если требуешь платить вперед.
Предплечье величиной со ствол дерева, обезображенное привычными хворями:
лепрозный серебристый оттенок первой стадии Бетагемота, редкие меланомы и...
«Секунду. А вот это странно». Припухлость и краснота походят на инфекцию от
укуса насекомого, но вот ранка...
Така посмотрела в лицо пациенту. Мужчина с грубой кожей примерно пятидесяти
лет взглянул на нее в ответ: белки его глаз усеивали кровавые точки лопнувших
капилляров. На мгновение Уэллетт показалось, что он своей тушей заслонил
свет, но нет... это незаметно подкрались сумерки, пока она была занята с пре-
дыдущими пациентами.
— Кто вас покусал? — спросила Така.
— Клоп какой-то. — Он покачал головой. — На прошлой неделе, кажется. Чешет-
1
Препараты, угнетающие образование новых кровеносных сосудов в тканях и опухолях. В
нормальной ткани кровеносные сосуды образуются только во время регенерации, но в
злокачественных опухолях этот процесс идет постоянно и очень интенсивно, что, среди
прочего, является причиной их быстрого роста, (прим. ред.).
ся страшно.
— Но тут четыре отверстия
Два укуса? Две пары мандибул у одного клопа?
— У него еще десять ног1 было. Очень странная хрень. Я их уже видел тут не-
сколько раз. Правда, раньше меня не кусали. — Он неожиданно взволнованно при-
щурил свои красные глаза. — А что, оно ядовитое?
— Похоже, нет. — Така ощупала опухоль. Пациент поморщился, но что бы его ни
покусало, после себя оно, кажется, ничего не оставило. — Ничего серьезного,
если, конечно, вас покусали именно на прошлой неделе. Я могу дать вам что-ни-
будь против инфекции. Это в общем-то мелочь, если сравнивать...
— Да, — ответил пациент.
Она нанесла на опухоль немного антибиотика.
— Я могу сделать укол антигистамина, — сказала она, словно извиняясь, — но
боюсь, эффект от него будет непродолжительным. Если потом вас станет донимать
зуд, пописайте на опухоль.
— Что сделать? Пописать?
— Моча наружно ослабляет зуд, — объяснила Така. Она протянула ему заряжен-
ную кювету; мужчина, как обычно, пожертвовал свою кровь. — Теперь, если вы
просто...
— Я знаю, что надо делать.
От одной стороны лазарета до другой шел тоннель: слегка сплющенный цилиндр,
в котором мог поместиться человек, он походил на пару ртов, расположенных на
разных концах, соединенных горлом с датчиками внутри. Из ближайшей пасти тор-
чала койка, напоминающая распухший прямоугольный язык. Пациент улегся на не-
го, фургон слегка накренился под его весом. С электрическим жужжанием кровать
втянулась внутрь. Медленно и плавно человек скрылся в одном отверстии и пока-
зался из другого. Ему повезло больше, чем некоторым. Иногда больных втягивало
в тоннель, но наружу они так и не показывались. Труба служила еще и кремато-
рием.
Така одним глазом следила за показаниями томографа, другим — за анализом
крови. Время от времени она с беспокойством переводила взгляд на растущую
очередь больных.
— Ну, как? — донесся с другого конца фургона голос мужчины.
Судя по всему, она его уже осматривала. Вторичные модификации уже принялись
за его клетки.
Но первую фазу Бетагемота не остановили.
— Очевидно, о меланомах вы знаете, — сказала она, когда он вышел из-за уг-
ла. Она достала из шкафа ингибитор длительного действия и зарядила его в ин-
жектор. — Это замедлит рост опухолей на вашей коже, а также других внутренних
новообразований, о которых вы еще не знаете. Я так понимаю, вы недавно были в
анклаве или в ПМЗ?
Он хмыкнул в ответ:
— Вернулся сюда с месяц назад. Может, два.
— Угу.
Генераторы электростатического поля, установленные в таких местах, были, в
лучшем случае, палкой о двух концах. Стоило побыть в таком поле хоть какое-то
время, и опухоли на мягких тканях росли с невероятной скоростью, как грибы на
навозе. Большинство людей считало это меньшим злом, хотя устройства не отра-
жали Бетагемот, а всего лишь задерживали.
Така не спросила, зачем мужчина променял хоть и ненадежную, но защиту на
вражескую территорию. Такие решения редко принимались добровольно. Он протя-
нул руку, и она ввела капсулу подкожно прямо над бицепсом.
— Боюсь, у вас есть еще парочка опухолей. Не настолько васкуляризированные.
Я могу выжечь их, но вам придется подождать, пока я буду немного посвободнее.
Срочности нет.
— Как насчет «ведьмы»? — спросил он, имея в виду «огненную ведьму», Бетаге-
мота.
— Хм, судя по анализу крови, коктейль вы уже приняли, — сказала Така, при-
творяясь , что снова проверяет результаты.
— Это я знаю. Прошлой осенью. — Он откашлялся. — Мне все еще плохо.
— Понимаете, если вы заразились прошлой осенью, то наши процедуры делают
свое дело. Без них вы бы не дожили до зимы.
— Но мне все еще плохо.
Он шагнул к ней, большой, вернее громадный, мужчина; его окровавленные гла-
за походили сейчас на красные щелки. У стоявших на улице пациентов терпение
было на исходе.
— Вам надо поехать в Бангор, — начала она. — Это ближайший к нам...
— В Бангоре мне даже не скажут подождите, — выпалил он.
— Я могу только... я. . . Понимаете, это даже не лекарство, — постаралась
спокойно объяснить Така. — Это средство всего лишь дает вам время.
— Оно уже дало. Дайте больше.
Она осторожно, как будто ненамеренно сделала шаг назад. Ближе к системе за-
щиты Мири1, работающей от голосовых команд. Подальше от неприятностей.
Однако неприятность пошла ей навстречу.
— Это так не работает, — мягко произнесла Така. — Препарат уже в ваших
клетках. Дополнительная доза не даст никакого эффекта. Это я вам гарантирую.
На секунду она подумала, что он готов отступить. Слова, как ей показалось,
дошли до него: его поза стала не столь напряженной. Морщинки вокруг глаз
сплелись, образовав какую-то не столь взрывную смесь смущения и боли, которая
заменила страх и злобу.
А потом мужчина улыбнулся самой жестокой улыбкой, которую Уэллетт когда-
либо видела, и вся надежда пропала.
— Но ты-то вылечилась, — сказал он, двигаясь к ней.
Профессиональный риск. Некоторые больные верили, что сопротивляемость к Бе-
тагемоту передается половым путем. Если у тебя была склонность к такого рода
забавам, то трахнуть можно было кого угодно: существовали люди, которые воз-
вели иммунизированных в культ и буквально молили о половом акте, превратив
его в нечто вроде прививки. Начальство Таки нередко шутило по этому поводу.
Не такими веселыми были истории о полевых медиках, которых держали в плену
и регулярно насиловали ради общественного здоровья. Така Уэллетт не имела ни-
какого желания приносить себя в жертву ради общего блага.
Существо, которое она выпустила на волю, тоже.
Кодовым словом было «Багира». Така не знала, что оно означает; оно шло в
комплекте с фургоном, и Уэллетт так и не удосужилась изменить пароль.
Цепь событий, для которых это слово служило чем-то вроде спускового крючка,
никогда не доходила до крайности. Заслышав зов хозяина, системы безопасности
лазарета встали по стойке «смирно»: захлопнулись и накрепко закрылись все
входы и выходы, за исключением двери в кабину, расположенной рядом с автори-
зованным оператором. Оружейный пузырь на крыше Мири — в нерабочем состоянии
он походил на утопленную в машине зеркальную полусферу — вытягивался из своей
шахты сверкающим хромированным фаллосом достаточно высоко, чтобы подстрелить
кого угодно, кроме тех, что, спасаясь, распластались вдоль борта машины. (Для
этих по каркасу лазарета пускали ток под высоким напряжением.) Сначала в ход
шла узконаправленная инфразвуковая «верещалка», которая могла прицельно опо-
рожнить кишки и желудок любому человеку, находящемуся на расстоянии в десять
1
Така дала машине имя Мири по официальной аббревиатуре мобильного лазарета: Ml —
the Mobile Infirmary.
метров. Если ситуация накалялась, то выдвигались турели со сдвоенными диодны-
ми лазерами на 8000 ватт: они могли как ослепить противника, так и продыря-
вить насквозь. Неогнестрельным видам оружия всегда отдавалось предпочтение из
за нехватки боеприпасов. Однако, если у противника вдруг находились антила-
зерные зеркала или аэрозоли, грамотному полевому доктору давали возможность
воспользоваться и огнестрелом. Машина Уэллетт вдобавок стреляла дротиками,
заряженными конотоксином, который вызывал десятисекундный паралич дыхательных
путей.
Ни одно из орудий не должно было стрелять автоматически. «Багира» лишь при-
водила системы в полную боевую готовность, а те противопоставляли любой угро-
зе еще большую, давая любому агрессору шанс отступить до того, как кто-то по-
страдает . К активным действиям Мири могла перейти только после четко выражен-
ной команды Таки.
— «Багира», — прорычала та.
Лазеры открыли огонь.
Они не стали стрелять по красноглазому, а принялись резать людей позади не-
го . Шесть человек рухнули, развалившись на две половинки, лучи сразу прижгли
раны — все беды пациентов неожиданно закончились. Другие уставились, не веря
своим глазам, на аккуратные дымящиеся отверстия в конечностях и торсах. На
дальней стороне этого неожиданного барбекю-пазла вспыхнули заросли коричневой
травы. Резня шла под аккомпанемент «Музыки на воде» Генделя; мелодия не сби-
лась даже на полтакта.
Спустя мгновение, показавшегося вечностью, люди вспомнили о том, что надо
кричать.
Угрозы и апломб красноглазого исчезли за секунду, ошеломленный, он стоял
перед Такой, его тело напоминало подушечку для булавок из-за десятка дротиков
с нейротоксином. Широко раскрыв рот, он безмолвно смотрел на Уэллетт, покачи-
ваясь из стороны в сторону. Потом поднял руки вверх, умоляя: «Женщина, да,
черт возьми, я и не думал...»
И рухнул, закостенев от чудовищного спазма.
Люди бежали, или корчились, или уже неподвижно лежали. Лазеры палили вверх-
вниз, вправо-влево, выписывая на земле черные каракули. Среди завитков тут и
там вспыхивало пламя, ярким стаккато горя на фоне наступающих сумерек.
Така дернула изо всей силы пассажирскую дверь. К счастью, предательская
система не подала ток на корпус лазарета. Но замок заблокировала, отрезав
единственный путь к отступлению...
«Мири онлайн, Господи, как она может быть онлайн...»
Така видела, что датчик на приборной доске горит алым светом. Лазарет ка-
ким-то образом подключился к широкому беспроводному миру, где обитали и охо-
тились сетевые монстры...
«Мадонна». «Лени». Никак иначе.
С другой стороны приборной доски мигал еще один датчик. С запозданием Така
поняла, что водительская дверь незакрыта. Она быстро обежала машину спереди.
Уэллетт не отрывала глаз от земли, из какого-то религиозного порыва не смотря
на гнев Господень, «если я не вижу его, может, он не увидит меня», но слышала
шум работающей турели над головой — та отслеживала и стреляла, отслеживала и
стреляла...
Така ввалилась в кабину, рывком захлопнула за собой дверь и закрыла ее.
Фоновизор валялся рядом с сиденьем. От его окуляров по полу разливалось,
корчась, слабое сияние. Така схватила прибор и натянула его на голову.
Весь главный экран заполняло исказившееся от ярости лицо «мадонны». Звук
был выключен — Уэллетт обычно оставляла только изображение.
«Вот зараза! Через GPS пролезла».
Во время остановок Така всегда отключала GPS. Захватчик, похоже, каким-то
образом надурил систему.
Она вырубила навигацию. Орущая тварь в окне исчезла. Наверху лазеры, скуля,
прекратили огонь.
Гендель кончился, уступив место Чайковской «Иоланте».
Казалось, прошло очень долгое время, прежде чем Така осмелилась пошевелить-
ся.
Выключила музыку. Дрожа, обхватила себя руками. Чуть не разрыдалась, как
маленький ребенок, но огромным усилием воли подавила порыв. Сказала себе, что
сделала все, что могла.
Сказала, что могло быть намного хуже.
В своей среде обитания «мадонны» могли делать практически все что угодно.
Курсируя по волнам и проводам АмСети, они могли пробраться почти в любую сис-
тему, сломать почти любой предохранитель, обрушить любое бедствие на головы
людей, для которых катастрофа уже давно стала привычным делом. Буквально не-
делю назад одна взломала программы по контролю за паводком на какой-то дамбе
в Скалистых горах, опустошив весь резервуар прямо на ничего не подозревающих
жителей, мирно спящих в зоне водослива.
Для такого создания взломать жалкий лазарет на колесах было совершенно пус-
тяковым делом.
Хоть в систему не загрузилось, и то хорошо. Места не было. В навигационных
и оборонительных системах не хватало памяти для чего-то настолько сложного, а
медицинская — единственная в лазарете, которая могла вместить столь большой
пакет информации, — была вручную отключена от сети и подсоединялась к ней
только для заранее организованных обновлений. Монстры могли немало натворить
в виртуальности, но до сих пор не научились дергать рубильники в реальном ми-
ре. Эта «Лени» лишь протянула свои длинные, злобные пальцы из какого-то дале-
кого узла, сея хаос на расстоянии, пока Така не отрубила связь.
Ее собственное размытое отражение, испуганное, с ввалившимся глазами, уста-
вилось на нее с отключенной приборной доски. Слегка выгнутый плексиглас иска-
жал изображение, вытягивая его в длину, и лицо из просто худого превратилось
в откровенно истощенное. Она напоминала хрупкого беглеца с планеты с малой
гравитацией, цивилизованного и благовоспитанного. Изгнанного в этот адский
мир, где даже доспехи оборачивались против своего владельца.
«А что, если я...» — подумала она и осеклась.
Усталая, она открыла дверь и вышла наружу, на бойню. Там еще лежало не-
сколько пациентов, стоять никто не мог. Некоторые шевелились.
«А что, если я не...»
— Эй! — закричала она, обращаясь к пустым улицам и темным фасадам. — Все в
порядке! Все кончено! Я все отключила!
Стоны раненых. Больше ничего.
— Отзовитесь, кто-нибудь! Мне тут нужна помощь! У нас... У нас...
«А что, если я не отключила GPS?»
Она покачала головой. Она же всегда ее отключает. Сейчас, правда, Така не
помнила, отрубила ли его после остановки, но разве такие машинальные действия
упомнишь?
— Эй, кто-нибудь?
«А может, ты облажалась? Тебе не впервой.
Правда, Дейв ? »
Внезапно все вокруг окутала тьма. Она подняла голову вверх, оторвав взгляд
от мясорубки; сумерки уже скрывались за горизонтом.
И вот тогда она и заметила инверсионные следы1.
1 Инверсионный след — след, оставляемый в небе летательными аппаратами, идущими с
большой скоростью на большой высоте.
Защитная
оболочка
Переборки «Вакиты» светятся от разведданных. С перископа идет четкая кар-
тинка, в реальном времени отражающая ночной береговой пейзаж: темные сверкаю-
щие волны на переднем плане, по бокам в поле зрения вползают черные пальцы
суши. На центральном экране громоздятся ярко освещенные здания, прижавшиеся
друг к другу, как будто противостоя темноте. Квадратные неосвещенные силуэты
в южной стороне выдают останки другого города, расположенного к югу от проли-
ва Нарроус и покинутого в ходе какого-то недавнего отступления.
Галифакс. Вернее, осажденный город-государство, которым Галифакс, по всей
вероятности, стал.
Bedford
Basin
Imo
at Anchor
•
The Narrows
Dartmouth
HsIifaX GeorgesIsland
' /• -
N
w
Submarine Nets
■• У
McNab's Island
Mont'Blanc at Anchor
McNab s Lighhouse *
Examination Area -fr ,. ,,,
Atlantic Ocean D
Пролив Нарроус (The Narrows) и Галифакс (Halifax - Новая Шотлан-
дия, Канада).
Эта видимая невооруженным глазом картина занимает верхнюю левую четверть
основного экрана. Рядом с ней расположился тот же вид, но уже в искусственной
расцветке, где хорошо заметно туманное, размытое облако, окутывающее освещен-
ные здания; Кларк это напоминает мантию медузы, защищающую жизненно важные
органы. Саван практически невидим для людей, даже для рифтеров; для сенсоров
«Вакиты» с их увеличенным спектром он походит на голубую дымку зарницы. Иони-
зация статического поля, говорит Лабин. Электрический купол, отражающий пере-
носимые по воздуху частицы.
Граница со стороны моря охраняется. Кларк и не ожидала, что субмарина про-
сто проскользнет в гавань и всплывет рядом с какой-нибудь хибарой; она знала,
что тут будет охрана. Лабин ожидал мин, поэтому последние пятьдесят километ-
ров «Вакита» медленно ползла к берегу, а перед ней зигзагами шныряли туда-
сюда два дрона, выманивая контрмеры из засады. Они спугнули одинокого придон-
ника , зарывшегося в ил: тот проснулся от шума приближающихся механизмов, вы-
прыгнул из грязи и штопором попытался ввинтиться в ближайшего бота с безобид-
ным и не впечатляющим звоном.
Это одинокое пугало оказалось единственным препятствием, с которым они
столкнулись на внешней стороне склона. Лабин пришел к выводу, что подводные
оборонительные системы Галифакса истощились при отражении предыдущих нападе-
ний. Боеприпасы так и не пополнили, что не сулит ничего хорошего для промыш-
ленности поблизости.
Так или иначе, вопреки всем ожиданиям они без всяких препятствий прошли
весь путь до входа в бухту Галифакса и неожиданно чуть не столкнулись с этим.
Чем бы оно не было.
В лучах прожекторов оно практически невидимо. На сонаре отражается еще
меньше — он даже в упор ничего не может уловить. Прозрачная просвечивающая
мембрана тянется от морского дна до поверхности: в перископ видна плавающая
линия, удерживающая верхний край заграждения в нескольких метрах над водой.
Похоже, оно перекрывает все устье гавани.
Пленка прогибается вовнутрь, как будто Атлантический океан давит на нее из-
вне . Крохотные вспышки холодного голубого света пробегают по ее поверхности;
редкая рябь звездной пыли колышется в слабом подводном течении. Кларк узнает
эффект. Сверкает не мембрана — те крошечные биолюминесцентные существа, что
сталкиваются с нею.
Планктон. Даже радует, что он все еще существует, к тому же так близко от
берега.
Лабина не слишком интересует световое шоу, а вот его причина интересует.
— Наверное, она полупроницаема.
Это объясняет океанографическую невозможность, противоречащую существованию
жесткого и совершенно неожиданного галоклина, вставшего на пути подлодки по-
добно стене. Прерывистые, они довольно часто встречаются в море: солоноватая
вода лежит над более соленой, теплая слоем покрывает холодную. Но стратифика-
ция всегда горизонтальна, парфэ легкого над тяжелым столь же неизменно, как
гравитация. Вертикальный галоклин, похоже, ниспровергает основные законы фи-
зики; пусть сонар и не видит мембрану, но она создает столь явный и четкий
разрыв, что с расстояния в тысячу метров он уже заметен подобно кирпичной
стене.
— Довольно хлипкая конструкция на вид, — замечает Кларк. — Помешать она нам
не сможет.
— А ее не для нас ставили, — говорит Лабин.
— Похоже на то.
Это, по всей вероятности, фильтр против Бетагемота. И он, похоже, блокирует
целый ряд других частиц, раз создает столь сильный дисбаланс в плотности.
— В смысле мы сможем просто прорваться сквозь мембрану.
— Не думаю, — отвечает Лабин.
Он опускает перископ и наводит его на барьер; съежившийся город исчезает в
водовороте пузырьков и темноты. Через иллюминатов Кларк замечает бледный оп-
товолоконный жгут перископа, уходящий вперед. Само устройство практически не-
видимо — маленькое чудо динамической мимикрии. Кларк наблюдает за ним на так-
тическом экране. Лабин подводит дрона на полметра к мембране: бледно-желтая
дымка рассеивается по правой стороне, где невооруженный глаз видит только
темноту.
— Что это? — спрашивает Кларк.
— Биоэлектрическое поле, — отвечает Лабин.
— Ты считаешь, что оно живое?
— Возможно, сама мембрана и нет. Полагаю, через нее проходят какие-то спе-
циализированные нейроны.
— В самом деле? Ты уверен?
Лабин качает головой.
— Я даже не уверен, что оно биологическое, — интенсивность поля вполне под-
ходит , но она еще ничего не доказывает. — Он смотрит на нее. — А ты что, ду-
мала у нас есть сенсор, которые может уловить мозговые клетки на расстоянии
пятидесяти шагов?
Кларк хочет остроумно пошутить, но ничего не приходит на ум. Она смотрит в
иллюминатор и видит за стеклом тусклое синее мерцание.
— Похоже на анорексичный умный гель, — бормочет она.
— Нет, скорее всего, оно намного тупее. И гораздо радикальнее — им пришлось
поработать над нейронами так, чтобы те работали при низких температурах и вы-
сокой солености. Полагаю, мембрана способна контролировать осморегуляцию.
— Я не вижу никаких кровеносных сосудов. Интересно, как они питаются.
— Может, мембрана контролирует и это. Всасывает их непосредственно из мор-
ской воды.
— А зачем она нужна?
— Помимо фильтра? — Лабин пожимает плечами. — Наверное, еще служит сигнали-
зацией .
— Так что же нам делать?
— Ткнем ее, — отвечает Лабин после недолгого раздумья.
Перископ подается вперед. На широко спектральном дисплее мембрана вспыхива-
ет от столкновения, яркие нити лучами расходятся от места удара подобно изящ-
ному змеящемуся узору из желтых молний. В видимом свете мембрана кажется со-
вершенно инертной.
— Ммм.
Лабин тянет перископ назад. Свечение мембраны тут же слабеет.
— Значит, если это действительно сигнализация, — предполагает Кларк, — ты
ее только что запустил.
— Нет, не думаю, что Галифакс объявляет красную тревогу1 каждый раз, когда
какое-нибудь бревно тыкается в периметр. — Лабин проводит пальцем по панели
управления; перископ вновь отправляется на поверхность. — Но я готов поспо-
рить, что эта штуковина завопит намного громче, если через нее решим про-
рваться мы. А нам такое внимание совсем не нужно.
— И что теперь? Пройдем немного дальше вдоль берега и попробуем высадиться
на берег?
Лабин качает головой:
— Под водой у нас больше шансов. А вот высадка на берег будет делом гораздо
более трудным. — Схватив шлемофон, он натягивает его себе на голову. — Если
не сможем подключиться к стационарной линии, то попытаемся войти в местные
беспроводные сети. Это лучше, чем ничего.
Кен заворачивается в кокон и протягивает усики в разреженное инфопростран-
ство наверху. Кларк переключает навигацию устройства на свой пульт и развора-
чивается, снова отправляя «Вакиту» на глубину. Лишний километр или около того
поискам Лабина не помешает, а на мелководье почему-то тревожно. Словно смот-
ришь наверх и понимаешь, что, пока ты не обращал внимания, крыша почему-то
стала гораздо ниже.
Лабин хмыкает.
— Засек что-то.
Кларк подключается к шлемофону Лабина и разделяет сигнал, подключив свой
пульт. Большую часть потока не разобрать — цифры, статистические данные, аб-
бревиатуры мельтешат перед глазами слишком быстро, Лени не смогла бы прочи-
тать их, даже если бы понимала смысл. То ли Лабин зарылся куда-то под обычные
пользовательские интерфейсы, то ли за последние пять лет Водоворот настолько
обеднел, что продвинутую графику уже не поддерживает.
Но этого не может быть. В системе, в конце концов, достаточно места для ее
собственных демонических альтер эго. А уж они-то чересчур графичны.
— Что говорят? — спрашивает Кларк.
— Какая-то ракетная атака... на Мэн. Туда направили подъемники.
1
Красная тревога — угроза нанесения ракетного или бомбового удара противником; в
этом случае объявляется повышенная боевая готовность.
Она сдается и снимает фоновизор.
— Возможно, это наш лучший способ проникнуть внутрь, — задумчиво говорит
Лабин. — Все транспортные средства, задействованные УЛН, будут управляться из
безопасной зоны с доступом к хорошему оборудованию.
— И ты думаешь, что пилот согласится взять пару попутчиков прямо в центре
зараженной зоны?
Лабин поворачивает голову. Слабое свечение мерцает по краям фоновизора,
призрачными татуировками скрывает шрамы на щеках рифтера.
— Если там действительно пилот, — отвечает он, — то, возможно, мы сможем
его убедить.
Геенна
Така появилась в ночном пейзаже угасающего пламени. Она плелась сквозь го-
рячий сухой снегопад, статическое поле лобового стекла едва справлялось с
хлопьями, стремившимися залепить весь обзор. В лучах от фар Мири пепел клу-
бился белым тальком; туман от превратившихся в пыль земли и растений застилал
дорогу впереди. Така выключила фары, но в инфракрасном свете видимость была
еще хуже: бесчисленные частички сажи, блестящие размывы пламени; сухие кро-
хотные смерчи и корчащиеся восходящие потоки перегружали экран дисплея искус-
ственными цветами. Наконец, Така достала из бардачка старую пару очков ночно-
го видения, и мир предстал перед ней в черно-белых тонах, серый на сером. Ви-
димость все еще была ни к черту, но хоть с помехами дело решилось.
«Может, кто-то выжил, — подумала она без всякой надежды. — Может, огненная
буря не забралась так далеко». Она уже отъехала на добрых десять километров
от того места, где лазарет взбунтовался и перерезал местных жителей. Поблизо-
сти не было никаких укрытий: ни дренажных канав, ни подземных парковок, а ес-
ли где и находились укрепленные убежища, то выжившие пациенты не горели жела-
нием рассказать о них Таке. И когда над головой показались арки инверсионных
следов, Уэллетт помчалась на восток и укрылась в служебном туннеле заброшен-
ной приливной электростанции, которую пробурили от залива Пенобскот. Несколь-
ко лет назад шаманы обещали, что она обеспечит светом побережье от Портленда
до Истпорта, мир без конца. Но мир, разумеется, кончился еще до того, как ус-
тановили первую турбину. Теперь туннель годился разве что на приют землерой-
ным млекопитающим, куда те прятались от краткосрочных последствий собственной
глупости.
Десять километров по ухабистым, заваленным всяким мусором дорогам, которые
не чистились и не ремонтировались с самого появления Бетагемота. То, что Така
добралась до безопасного места, до того как ударили ракеты, можно было счи-
тать просто чудом. Уэллетт так и считала бы, если бы именно ракеты нанесли
все те разрушения, через которые она ехала сейчас.
Така была уверена, что удар с воздуха тут ни при чем. Более того, ракеты,
скорее всего, даже до земли не долетели.
Вершина холма, по которому она сейчас взбиралась, находилась примерно в
сотне метров впереди. Останки какого-то придорожного здания, рухнувшего во
время атаки, загородили ей путь на середине подъема. Теперь это было лишь
скопище дымящихся шлакоблоков. Даже очки Таки не могли прогнать все тени, ки-
шевшие в этих обломках: прямые линии, острые углы и темные провалы в форме
параллелограммов.
Уклон был слишком крутым для воздушной подушки Мири. Уэллетт оставила фур-
гон на откуп его собственным устройствам и обошла обломки. Кирпичи все еще
были горячими на ощупь. Жар от выжженной земли проникал сквозь подошвы башма-
ков — слабое тепло казалось неприятным лишь изза его происхождения.
На идущей вверх стороне развалин время от времени попадались предметы, со-
хранившие отдаленное сходство с человеческими костями. Така дышала мертвыми.
Возможно, некоторые из тех, чей прах она сейчас вдыхала, умерли до пожара,
если не от ее усилий. Возможно, некоторые из тех, кому она помогла сегодня,
несмотря ни на что все еще были живы. Она умудрилась найти в этой мысли сла-
бое, но утешение, пока не взобралась на холм.
Нет.
По другую сторону царило такое же разорение, как и на тропе, по которой Та-
ка взбиралась: мерцающие вспышки белого пламени испещряли вид, исчерненный не
только ночью, но и углеродом. Землю перед нею опустошили не ракеты и не мик-
робы — не в этот раз. Устройство, которое все это сделало, до сих пор видне-
лось на расстоянии: крошечный темный овал в небе — чуть более темный, чем об-
лачная гряда за ним, — висел в нескольких градусах над горизонтом. Така пона-
чалу его не заметила, хотя была в очках. Силуэт казался размытым, мерцал от
слабой визуальной статики случайных, неразумно разогнанных фотонов.
Но потоки пламени, которые изверглись в следующее мгновение из его чрева,
были ясно видны даже невооруженным глазом.
Не ракета. Не микроб. Подъемник, выжигающий землю там, на расстоянии, так,
как уже сделал здесь.
И, насколько знала Така, именно она привела его сюда.
Конечно, она не была уверена стопроцентно. Полномасштабные выжигания все
еще время от времени проводили под официальными предлогами. Еще не так давно
они считались вполне обычным явлением: в те дни, когда охваченные паникой лю-
ди думали, что они смогут сдержать Бетагемот, если им хватит духу пойти на
решительные шаги. Число таких чисток сократилось, когда стало ясно, что Се-
верная Америка расходует запасы напалма впустую, однако время от времени их
еще проводили в не слишком населенных зонах на западе. Вполне возможно, что
несмотря на операцию УЛН не озаботилось вывести полевой персонал из опасной
зоны, хотя Така сомневалась, что она может быть настолько не в курсе событий.
Но не так далеко отсюда и не так давно Уэллетт позволила монстру сбежать в
реальный мир. После таких утечек обычно всегда следовали наводнения и огнен-
ные бури, а Така уже забыла, когда верила в совпадения.
Впрочем, недостатка в непосредственных причинах тоже не было. Может, вино-
ват был вышедший из строя автопилот, пораженный дефектными программами, кото-
рый из-за опечатки сжег не ту часть мира. Или живой пилот ошибся из-за иска-
женной шифровки, или не так расслышал команду из-за помех в эфире. Ни одна из
этих деталей не имела значения. У Таки был вопрос поинтереснее: кто скоррек-
тировал код, смутивший автопилота? Что исказило инструкции и команды, которые
услышал пилот из плоти и крови?
Ответ она тоже знала. Он был очевиден для любого, кто увидел бы монстра в
ее фоновизоре несколько часов назад. Случайностей не было. Шум никогда не
возникает просто так. И сама техника становится враждебной.
И сейчас, когда она пристально всматривалась в черно-белый крематорий, тя-
нувшийся до самого горизонта, только это объяснение имело смысл.
«Ты же когда-то была ученой, — сказала она себе. — Ты с ходу отвергала вся-
кие заклинания. Ты знала истины, которые защищали от предвзятости и путаности
в мыслях, и ты знала их все наизусть: корреляция еще не подразумевает причин-
но-следственной связи. Без повторения нет ничего реального. Разум видит поря-
док даже в шуме; доверяй только цифрам».
Возможно, все эти истины были лишь заклинаниями другого сорта. И не очень
эффективными; такие знакомые, они так и не сумели спасти ее от нарастающей
уверенности в том, что именно она призвала злого духа в свою машину. Така
могла рационально объяснить суеверный трепет в своем сознании, даже оправдать
его. Ее научная подготовка предоставляла для этого немало средств. Призрак
был лишь словом, удобным ярлыком для опасного программного существа, выкован-
ного в ускоренном дарвиновском пейзаже, который некогда называли Интернетом.
Така знала, насколько быстро эволюционные изменения могут стать частью систе-
мы, где сотни поколений проходят в мгновение ока. Она помнила и то время, ко-
гда электронные формы жизни — неумышленные, незапланированные и нежелательные
— стали настолько пагубными, что сеть получила название «Водоворот». Сущест-
ва, которых звали «Лени», или шреддеры, или «Мадонны» — как и у демонов Еван-
гелия, имя им было легион, — представляли собой лишь образец естественного
отбора. Чрезвычайно успешный образец: на другой стороне мира целые страны
преклонились перед именем его. Или пред иконой, лежащей в его основе, какой-
то полумистической культовой фигурой, на короткое время получившей извест-
ность на плечах Бетагемота.
Это была логика, а не религия. И какая разница, что эти существа обладали
невероятной силой, но не имели физического тела? И какая разница, что они жи-
ли в проводах и в беспроводном пространстве между ними и двигались со скоро-
стью их собственных электронных мыслей? Демоны, призраки — это условные обо-
значения, но не суеверия. Всего лишь метафора, имеющая больше черт подобия,
чем многие другие.
Но теперь, когда Така увидела таинственные огни, вспыхивающие в небе, она
почувствовала, как ее губы движутся, произнося совершенно неправильное закли-
нание .
О Господи, спаси нас.
Она повернулась и пошла вниз по склону. Така наверняка могла обойти препят-
ствие, свернуть на проселок и продолжить свой путь дальше, но зачем? Тут
вступал в дело анализ эффективности затрат: сколько спасенных жизней пришлось
бы на единицу усилий.
В любом другом месте эта величина будет гораздо выше, чем здесь.
На дороге снова показалось рухнувшее здание, бесцветное и серое в усиленном
свете. Отсюда угловатые тени казались другими, более зловещими. В развалинах
виднелись свирепые лица и части тел, размерами сильно превышающие человече-
ские, как будто гигантский кубистский робот рухнул рассерженной кучей и те-
перь собирался с силами, стремясь вновь собраться в единое целое.
Как только Така начала обходить эту груду, одна из теней отделилась от об-
щей массы и преградила ей путь.
— Боже... — ахнула Уэллетт. Навстречу ей вышла всего лишь невооруженная
женщина — сейчас на такие подробности люди обращали внимание практически ин-
стинктивно, — но сердце Таки мгновенно перескочило на режим «драться/бежать».
— Господи, как же вы меня напугали.
— Простите. Я этого не хотела.
Женщина отошла еще на один шаг в сторону от обломков. Блондинка, с ног до
головы затянутая в какое-то черное, облегающее трико; открытыми оставались
только руки и лицо, на темном фоне они казались бледными и бесплотными. Не-
знакомка была на несколько сантиметров ниже Таки.
Ее глаза казались какими-то странными. Слишком яркими. Така решила, что,
возможно, это артефакт ночного видения. Свет, отражающийся от влажной рогови-
цы.
— Это ваша машина скорой помощи? — спросила женщина, мотнув подбородком в
сторону фургона.
— Мобильный лазарет. Да. — Така огляделась вокруг, повернувшись на триста
шестьдесят градусов. Больше никого она не увидела. — А вы больны?
Послышался тихий смех.
— А разве еще остались здоровые?
— Я имела в виду...
— Нет. Пока еще нет.
«Что же у нее с глазами?» С такого расстояния определить это было трудно —
женщина стояла примерно в десяти метрах от нее, — но казалось, что блондинка
носит очки ночного видения. В таком случае она видела гораздо лучше, чем Така
Уэллетт в своих дурацких светоуловителях.
Местные жители такой техники себе позволить не могли.
Така как будто случайно сунула руки в карманы; ветровка, распахнувшись, вы-
ставила напоказ табельный «Кимбер», висевший на бедре.
— Вы есть хотите? — спросила она. — В кабине есть циркулятор. Кирпичи на
вкус просто ужасны, но если вам очень надо...
— Извините меня, — сказала женщина, делая шах1 вперед. — Пожалуйста.
Ее глаза были похожи на чистые, прозрачные шарики льда.
Така инстинктивно отступила назад. Сзади что-то загородило ей путь. Она по-
вернулась и уставилась в еще одну пару пустых глаз, утопленных в лице, кото-
рое казалось высеченным из тесаного камня и было сплошь покрыто рубцами. Уэл-
летт не стала тянуться за пистолетом. Тот каким-то образом уже оказался у не-
знакомца в руке.
— Он генетически заблокирован, — поспешно предупредила она.
— Ммм, — он повертел оружие в руке, осмотрев его критическим, профессио-
нальным взглядом, а потом как бы между прочим сказал: — Мы просим у вас изви-
нения за то, что вот так явились без приглашения, но нам нужно, чтобы вы от-
ключили систему защиты в вашей машине.
Говоря, мужчина так и не взглянул на Уэллетт.
— Мы вас не тронем, — сказала женщина из-за спины Таки.
Уэллетт, не веря ее словам, не спускала глаз с мужчины, державшего писто-
лет.
— Конечно, не тронем, — он, наконец, поднял взгляд. — Пока есть более эф-
фективные альтернативы.
«Багира» была лишь одним из паролей. Существовало еще несколько. «Моррис»
блокировал всю технику, так что Така могла запустить ее заново, только авто-
ризовавшиеь вручную. «Пиксель» бил током всех пассажиров, которые не соответ-
ствовали ее феромоновому профилю. «Тигра» открывал двери и притворялся мерт-
вым до тех пор, пока Така не произносила слово «Шредингер»: после этого сис-
тема запирала все выходы и закачивала в фургон столько галотана, что любой
мужчина весом в 110 килограммов на пятнадцать минут превращался в мешок желе.
(Сама Така поднялась бы на ноги уже через девяносто секунд; когда ей дали
ключи от Мири, то сразу модифицировали кровь с помощью резистентного фермен-
та. )
В передвижных лазаретах было полным-полно лекарств и техники. В пустошах
обитало множество отчаявшихся людей, которые буквально умирали за лекарство.
Любое лекарство. Меры против воров были совершенно разумной предосторожно-
стью, хотя в ситуации крылось и немало иронии: когда доходило до дела, Мири
намного лучше убивала и увечила, чем лечила.
Така стояла рядом с водительской дверью, и ее охраняли два черных человека
с белыми глазами. Она мысленно перебрала варианты.
— «Тигра», — произнесла Уэллетт. Защебетав, Мири открыла замок.
Женщина забралась в кабину. Така уже хотела последовать за ней, но тут ей
на плечо опустилась рука.
Уэллетт обернулась и взглянула на своего похитителя.
— В машине тоже стоит генетический блок. Его надо отключить, если вы хотите
ехать.
— А мы не хотим, — сказал он. — Пока.
— Приборная панель отключена, — подала голос женщина, уже севшая за руль.
Рука на плече слегка сжалась, толкнула Таку вперед. Та поняла, что ей надо
лезть в кабину, женщина в черном уже пересела на место пассажира, освободив
ей пространство.
— Хотя нет, — сказал мужчина, — лучше доктору сесть на пассажирское. — Рука
придавила ее книзу. Така скользнула между сиденьем и управляющим жезлом, а
незнакомка выскочила из кабины с другой стороны и уже начала закрывать дверь.
— Нет, — отчеканил мужчина. Женщина замерла на месте. Он уже сел за руль,
ни на секунду не отпуская Таку. — Один из нас постоянно должен оставаться
снаружи, — объяснил он партнерше. — А двери надо держать открытыми.
Женщина в черном кивнула. Мужчина убрал руку с плеча Таки и посмотрел на
выключенную приборную панель.
— Включайте, — сказал он. — Только вручную, никакого голосового управления.
Двигатель не заводите.
Така уставилась на него, не двигаясь.
Блондинка склонилась к ее плечу и тихо произнесла:
— Мы вас не обманываем. Мы действительно не хотим вас трогать, если только
у нас не останется иного выхода. Я полагаю, что для этих мест мы ведем себя
довольно мягко, так почему вы нас провоцируете?
«Этих мест». Значит, они тут недавно. Не слишком-то большой сюрприз: Така
уже давно не видела кого-то, кто бы настолько не походил на обитателей пусто-
шей.
Она покачала головой:
— Вы собираетесь украсть лазарет. А это принесет вред не только мне.
— Если вы будете сотрудничать, то скоро получите его назад, — сказал ей
мужчина. — Включайте.
Уэллетт ткнула в генщиток. Приборная панель засветилась.
Похититель внимательно изучил дисплей.
— Насколько я понимаю, вы являетесь мобильным сотрудником службы здраво-
охранения .
— В некотором роде, — осторожно ответила Така.
— А откуда вы? — спросил он.
— То есть, откуда?
— Где задают ваш маршрут? Где пополняют запасы?
— В Бангоре обычно.
— По воздуху припасы не доставляют?
— Когда есть что доставить.
Он хмыкнул.
— У вас инвентарный маяк отключен.
Он говорил так, словно это его удивило.
— Я даю знать только тогда, когда запасы на исходе, — ответила Така. — А
как еще... что вы делаете!
Мужчина замер, хотя уже успел вывести наверх меню GPS.
— Я хочу определить местоположение, — спокойно сказал он. — Это что, про-
блема?
— Вы что, не в себе? Оно же еще не ушло далеко. Хотите, чтобы оно верну-
лось?
— Кто вернулся? — спросила женщина.
— Кто, по-вашему, все это сотворил?
Они посмотрели на нее без всякого выражения.
— УЛН, как мне кажется, — ответил мужчина без долгих раздумий. — Сдерживаю-
щее выжигание, верно?
— Это была «Лени»! — закричала Така. «О, господи, что, если он вернет ее
обратно; что, если он...»
Что-то развернуло ее. Ледяной взгляд уставился прямо в глаза. Така почувст-
вовала на своей щеке дыхание незнакомки.
— Что вы сказали?
Сглотнув, Така постаралась сохранить спокойствие. Паника понемногу отступи-
ла.
— Послушайте. В прошлый раз оно проникло через GPS. Я не знаю, как, но, ес-
ли вы снова выйдете в сеть, оно может вернуться. Сейчас я бы даже радио не
включала для верности.
— А эта штука. . . — начал мужчина.
— Да как вы можете не знать о них? — раздраженно воскликнула Така.
Мужчина и женщина переглянулись; что выражали их взгляды, Така не поняла.
— Мы знаем, — произнес мужчина. Така с облегчением заметила, что он выклю-
чил GPS. — Вы говорите, что именно она вызвала ракетную атаку вчера?
— Нет, конечно же, не... — Така замолчала. Эта мысль прежде не приходила ей
в голову. — В смысле, я не думала об этом. Все возможно. Некоторые говорят,
что страны Мадонны их каким-то образом нанимают
— А кто еще мог это сделать? — удивилась женщина.
— Евразия, Африка. Да кто угодно, — внезапная мысль поразила Таку. — А вы
не отту...?
— Нет, — покачал головой мужчина.
Уэллетт не могла винить тех, кто обстреливал Америку, кем бы они ни явля-
лись. По официальной информации, Бетагемот еще не покорил земли, расположен-
ные по ту сторону Атлантики; люди там до сих пор могли считать, что смогут
сдержать его, если просто стерилизуют зараженную зону. Где-то в подсознании
Таки завертелся истрепавшийся лозунг, которым когда-то оправдывали астрономи-
ческие цифры потерь: Общее благо.
— Как бы там ни было, — продолжила она, — ракеты так и не достигли цели. И
к разрушению они не причастны.
Женщина, не отрываясь, смотрела в окно, где в дымных предрассветных сумер-
ках все еще тлел пожар.
— А что же их остановило?
Така пожала плечами.
— Оборонительный Североамериканский щит.
— Откуда вам это известно? — спросил мужчина.
— Когда снаряды ПРО сходят с орбиты, то виден след от входа в плотные слои
атмосферы. А перед ударом он теряет яркость. И идет такой дымчатый звездопад,
на фейерверки похоже.
Женщина осмотрелась вокруг:
— Так все это дело рук «Лени»?
Слова одной очень старой песни всплыли в голове Таки: «Здесь случайностей
нет...»1
— Вы сказали «звездопад»? — напомнил мужчина.
Така кивнула.
— И конденсационный след тускнеет перед детонацией.
— и что?
— А чьи следы? Ракет или снарядов ПРО?
— Как я могу это знать?
— Вы это видели прошлой ночью?
Така снова кивнула.
— Когда?
— Я не знаю. Послушайте, у меня тогда голова была другим занята...
«Я наблюдала за тем, как десятки людей нарезали на куски, и все потому, что
я, возможно, чего-то не отключила...»
Неожиданно мужчина пристально посмотрел на нее. Глаза его были бесцветными,
но отнюдь не пустыми.
Имеется в виду песня Питера Гэбриэла «Lay your hands on me» (прим. ред.).
Така постаралась вспомнить:
— Были сумерки, солнце уже зашло... я не знаю, возможно, пятнадцать или
двадцать минут до удара.
— А это нормально для таких атак? Что их проводят на закате.
— Я никогда об этом не думала, — Така слегка помялась. — Но полагаю, что
да. В ночное время.
— А хоть одна атака была при свете дня?
Уэллетт задумалась:
— Я... я что-то не припомню.
— После того как потускнел конденсационный след, когда пошел звездопад?
— Послушайте, я...
— Когда?
— Я не знаю, понимаете? Может, через пять секунд или вроде этого.
— А какой угловой градус был у...
— Мистер, я даже не знаю, что это значит.
Белоглазый мужчина замолчал, и надолго. Он не двигался. Така чувствовала,
как в его голове закрутились колесики.
Наконец:
— Тот туннель, в котором вы спрятались.
— А каким образом... вы что, следили за мной? Оттуда? Пешком?
— Это недалеко, — сказала блондинка. — не больше километра.
Така удивленно покачала головой. Когда она еле тащилась по выжженной земле,
продираясь сквозь порывы обжигающего ветра, это, казалось, заняло несколько
дней.
— Вы остановились у ворот. Чтобы перерезать цепь.
Така согласно кивнула. Теперь это казалось абсурдным — лазарет мог сокру-
шить барьер в одно мгновение, а небо падало.
— Вы посмотрели на небо, — предположил незнакомец.
— Да.
— и что увидели?
— Я же вам говорила. Конденсационные следы. Звездопады.
— Где был ближайший звездопад?
— Я не знаю...
— Вылезайте из кабины.
Она уставилась на него.
— Живее.
Она выбралась в серую предрассветную мглу. Призраки в развалинах исчезли:
свет разогнал тени Роршаха1, оставив лишь груду шлакоблоков и балок. Поблизо-
сти еще стояло несколько обгоревших деревьев; от пламени они уже были даже не
черными, а пепельно-белыми и походили на тянущиеся вверх руки скелетов.
Мужчина подошел к ней:
— Закройте глаза.
Она повиновалась. Если он собирался ее убить, то она ничего не смогла бы
поделать с этим, даже с открытыми глазами.
— Вы стоите у ворот. — Его голос звучал размеренно и успокаивающе. — Лицом
к ним. Вы разворачиваетесь и смотрите назад на дорогу. Потом вверх, на небо.
Давайте же.
Она повернулась, не открывая глаз, память заполняла провалы. Така вытянула
шею.
— Вы видите звездопады, — продолжал вещать его голос. — Я хочу, чтобы вы
показали на тот, который расположен ближе всех, прямо у вас над головой. На
Имеется в виду тест Роршаха. Испытуемому предлагается дать интерпретацию десяти
симметричных относительно вертикальной оси чернильных клякс, (прим. ред.)
тот, что ближе всех к воротам. Вспомните, где это было, и ткните туда.
Она твердо протянула руку вверх.
— В чем дело, Кен? — В пустоте раздался голос блондинки. — Разве мы не
должны...
— Можете открыть глаза, — сказал мужчи... сказал Кен.
Она открыла глаза. Кем бы ни были эти люди, она начинала верить в одно: они
действительно не хотели причинять ей вреда.
«Пока есть более эффективные альтернативы».
Она чуть расслабилась:
— Еще вопросы?
— Один. У вас есть патогранаты?
— Куча.
— А есть те, которые настроены не на Бетагемот?
— Большинство. — Така пожала плечами. — Регистраторы Бетагемота в этой ме-
стности уже не нужны.
Она вытащила гранаты и ракетницу, чтобы ими стрелять. Кен проверил их так
же внимательно, прищурившись, как раньше осматривал «Кимбер». Похоже, провер-
ку они прошли.
— Уеду на пару часов, — сказал он партнерше и, посмотрев на передвижной ла-
зарет , добавил: — Не давай ей завести мотор или закрыть двери — неважно,
внутри она или снаружи.
Женщина посмотрела на Таку с непроницаемым выражением лица.
— Послушайте, — сказала Така, — я...
Кен покачал головой:
— Не волнуйтесь. Мы все решим, когда я вернусь.
Он пошел вниз по дороге и ни разу не оглянулся назад.
Уэллетт глубоко вдохнула и пристально посмотрела на блондинку:
— Значит, теперь вы меня сторожите?
Женщина дернула уголком рта.
«Черт, но какие же у нее странные глаза. Ничего в них не разглядеть». Она
предприняла новую попытку:
— А Кен на вид довольно милый парень.
Женщина уставилась на Таку холодным слепым взглядом и неожиданно расхохота-
лась . Хороший знак.
— А вы с ним пара или как?
Женщина, все еще улыбаясь, покачала головой:
— Или как.
— Вы хотя и не спрашивали меня, но я представлюсь: меня зовут Така Уэллетт.
Улыбка моментально исчезла.
«Ты только посмотри, Дейв, я снова облажалась. Вечно не могу вовремя оста-
новиться ...»
Но блондинка ответила:
— Ле... Лори.
— А, — Така подумала, что бы еще сказать. — Я не слишком рада нашей встре-
че , — наконец произнесла она, стараясь придать тону легкость.
— Да, — сказала Лори. — Со мной так часто случается.
Тригонометрия
спасения
Это не поддается синтаксическому анализу, думал Лабин.
Середина июня на сорок четвертой параллели. Пятнадцать или двадцать минут
после захода солнца, скажем, около пяти градусов планетарного вращения. Зна-
чит, высота затенения примерно тридцать три километра. Ракеты вошли в тень
примерно за четыре или пять секунд до детонации, если верить свидетелю. Если
взять семь километров в секунду, обычную скорость вхождения в плотные слои
атмосферы, то реальная детонация произошла где-то на высоте пяти тысяч мет-
ров, а скорее всего, намного ниже.
Уэллетт говорила о взрыве в воздухе. Не об ударе, не об огненном шаре. О
фейерверке. Так она сказала. И всегда в сумерках или после наступления темно-
ты.
Солнце еще освещало восточную часть гряды, когда он прибыл к заднему входу
заброшенной электростанции «Пенобскот Пауэре». «Вакита» и лазарет доктора еще
недавно спасались в ее кишках; служебный туннель шел вдоль хребта огромного
подземного пальца океана шириной в шестьдесят метров, а длиной в сотни раз
больше, прорытого прямо в материковой породе. Когда его замышляли, то хотели
создать копию лунного двигателя, который гонял прилив в заливе Фанди, но
только в двухстах километрах от воды на суше. Теперь это была всего лишь ог-
ромная затопленная сливная труба, а также способ для скромной подлодки про-
скользнуть на берег незамеченной.
Залив Фанди.
Ничего из этого, конечно же, не было заметно отсюда. Тут стоял опаленный
забор из металлической сетки, висели покрытые сажей прямоугольники, когда-то
вещавшие о «запретной зоне», и — в пятидесяти метрах по другую сторону, там,
где скала поднималась из земли, — в стене утеса зияла пасть со сломанными зу-
бами из арматуры и бетона. Одна створка ворот висела, поскрипывая от сухого
ветра. Другая накренилась под углом, но все еще плотно сидела на петлях.
Лабин встал спиной к воротам. Поднял вверх руку, вспомнил, куда указывала
доктор, и откорректировал угол.
Сюда.
Всего несколько градусов над горизонтом. Значит, Уэллетт видела объект либо
далеко и высоко, либо, наоборот, низко и совсем рядом. Лабин припомнил, что
атмосферные инверсии1 сильнее всего во время сумерек или после наступления
темноты. Обычно их плотность не превышала нескольких сотен метров, и они дей-
ствовали подобно одеялу, удерживая высвобожденные частицы вблизи от земли.
Кен пошел на юг. То тут, то там все еще мерцали языки пламени, пожирая ос-
тавшиеся горючие материалы. Усиливался утренний бриз, дувший с берега. Он су-
лил понижение температуры и более чистый воздух, хотя повсюду еще носились
облачка пепла. Лабин, откашлявшись, сплюнул белый сгусток мокроты и пошел
дальше.
Доктор дала ему пояс для гранат. Маленькие аэрозольные снаряды при ходьбе
колотили по бедрам. Ракетницу Кен держал в руке, рассеянно направлял на удоб-
ные цели: пни, сгоревшие кустарники и остатки заборов. Мишеней практически не
осталось. Он представлял, что у оставшихся есть конечности и лица. Он пред-
ставлял , как они кровоточат.
Конечно, свидетельница едва ли походила на живое GPS. Ее указания изобило-
вали ошибками; поправка на ветер была всего лишь еще одной незначительной по-
грешностью в череде более значимых. Но Лабин всегда подходил к делу система-
тически. Существовал веский шанс на то, что он находился в километре от коор-
динат звездопада. Кен несколько минут шел на восток, компенсируя влияние бри-
за . После этого зарядил ракетницу и выстрелил в небо.
Граната взлетела в воздух, как большое желтое яйцо, и взорвалась люминес-
центным розовым облаком около двадцати метров в поперечнике.
Лабин наблюдал за тем, как оно рассеялось. Первые лохмотья полетели по вет-
ру, облачко превратилось в овоид, из него тянулись изящные ленты цвета сахар-
ной ваты. Спустя несколько секунд он начал рассеиваться по бокам, его частич-
ки стали инстинктивно вынюхивать воздух в поисках сокровища.
Против ветра они не шли. На такое надеяться слишком рано, особенно в начале
игры.
Через сто метров он выстрелил следующую гранату, — эту по диагонали и про-
тив ветра; а третью — в ста метрах от первых двух — примерно замкнув равно-
сторонний треугольник. Он шел, выписывая зигзаги по выжженному ландшафту,
взбивая ногами пепел там, где еще день назад росли папоротники и кустарник,
выбирая дорогу между бесчисленными утесами и трещинами. Однажды даже пришлось
перепрыгнуть через выжженное русло, по дну которого все еще струился крошеч-
ный ручеек, питавшийся от какого-то таинственного источника там, куда еще не
добрались огнеметы. Через примерно равные промежутки времени он отправлял
вверх еще одно неказистое облако, наблюдал, как оно рассеивалось, и шел даль-
ше .
Кен зарядил восьмую гранату, когда вдруг заметил, что седьмая повела себя
как-то странно. После выстрела появилось круглое кучевое облачко, такое же,
как и раньше. Однако оно быстро распалось на полосы и устремилось куда-то,
словно подгоняемое ветром. И все было бы в порядке, если бы розовая вата по-
тянулась вслед за бризом, а не против него.
1
Инверсия — здесь аномальный характер изменения какого-либо параметра в атмосфере с
увеличением высоты.
И еще одно облако, более отдаленное и рассеянное, казалось, также решило
нарушить правила. Они не текли, эти аэрозольные потоки, по крайней мере, не
для человеческих глаз. Скорее, они дрейфовали против ветра, к какой-то общей
точке, мимо которой Лабин уже прошел, расположенной примерно в тридцати гра-
дусах от его пути.
Облака теряли высоту.
Он устремился вслед за ними. Их частички нельзя было назвать даже отдаленно
разумными, но они знали, что им нравится, и имели возможность добиться этого.
Они были существами с развитым чувством обоняния, и более всего им нравился
запах двух веществ. Во-первых, протеиновые сигнатуры, испускаемые широким на-
бором военных биозолей; они выслеживали этот аромат, как акулы — кровь в во-
де, а когда находили амброзию, то сразу менялись химически. И именно этот за-
пах , идущий от выполнивших миссию сородичей, фигурировал на втором месте.
Классический пример биоусиливающего двойного удара. Часто следы жертвы были
настолько слабы, что казались лишь шепотом пролетающим мимо частичкам. Но они
закреплялись — ферменты цеплялись за субстрат — и достигали личной нирваны, —
но это самое слияние гасило эмиссии, которые, в первую очередь, и служили
приманкой. Вредное вещество помечали флагом, но тот был настолько мал, что
млекопитающие его просто не замечали.
Но когда тебя возбуждает не только жертва, но и те, кто тоже ею возбужден,
то, боже мой, не так уж важно, сколько частиц шатается поблизости. Хватает и
одной, чтобы запустить настоящую оргию деления. Каждая последующая лишь уси-
ливает коллективный сигнал.
Оно лежало, наполовину зарывшись в гравийное дно неглубокого оврага, и по-
ходило на тупорылую пулю тридцатисантиметровой длины, на одном конце которой
просверлили несколько круглых отверстий. Оно походило на солонку гиганта,
страдающего от повышенного артериального давления. Оно походило на рабочую
часть суборбитального устройства с несколькими боеголовками, предназначенного
для транспортировки биологических аэрозолей.
Лабин не мог определить, в какой цвет изначально был выкрашен снаряд. С не-
го капала светящаяся розовая слизь.
Когда Кен подходил к лазарету Уэллетт, тот неожиданно изменился. Внутри ма-
шины расцвели яркие голографические фантомы — пластиковая шкура стала про-
зрачной, выставив наружу неоновые кишки и нервы. Лабин все еще привыкал к та-
ким видениям. Новые вкладки считывали излучения любого неэкранированного обо-
рудования в радиусе двенадцати метров. Эта машина, к примеру, оказалось дале-
ко не столь приветливой, как ему хотелось бы. Ее усеивали опухоли: прямо-
угольные тени под приборной панелью, темные полосы на пассажирской двери, а в
центре фургона черным сердцем висел непонятный цилиндр, не испускающий эмис-
сий . В лазарете установили немало систем безопасности и экранировали все.
Кларк и Уэллетт стояли возле фургона, наблюдая за его приближением. Своим
новым взглядом Лабин ничего особенного в Таке не рассмотрел. Тусклые искорки
мерцали в грудной клетке Кларк, но они ему ничего не говорили; вкладки и им-
плантаты говорили на разных диалектах.
Он отключил видение; галлюцинаторные схемы свернулись, оставив после себя
лишь бесцветный пластик, белую пыль да самую обыкновенную одежду с плотью.
— Ты что-то нашел, — сказала Уэллетт, — Мы видели облака.
Он рассказал о своих поисках.
Уэллетт уставилась на него, открыв рот:
— Они палят по нам микробами? Да мы и так скоро Богу душу отдадим! Зачем
забрасывать сюда мегаоспу или супергрипп, когда мы уже...
Она замолчала. Гнев быстро сошел на нет, и доктор нахмурилась в недоумении.
Кларк одним взглядом спросила: «Бетамакс?» Лабин пожал плечами.
— Возможно, Северная Америка умирает недостаточно быстро, — заметил он. —
Значительное число стран Мадонны считает Бетагемот Божьей карой за грехи Се-
верной Америки. По крайней мере, таково официальное мнение в Италии и Ливии.
И, полагаю, в Ботсване.
Кларк фыркнула:
— Грехи Северной Америки? Они думают, Бетагемот не переберется через Атлан-
тику?
— Умеренные считают, что смогут сдержать его, — сказала Уэллетт. — А экс-
тремисты просто не хотят. Они не попадут на небеса, пока не наступит конец
света.
Она явно думала о чем-то другом, говорила рассеянно, словно отмахиваясь от
летающей рядом мошки.
Лабин не мешал ей. В конце концов, она больше всех подходила на роль мест-
ного проводника. Может, и придумает что-нибудь.
— Кто вы такие? — спокойным голосом спросила Уэллетт.
— Простите?
— Вы — не дикие. Вы не из анклавов. Уж точно не из УЛН, иначе были бы лучше
оснащены. Может, вы — трансаты1, — но тоже не подходит. — Слабая улыбка про-
бежала по ее лицу. — Вы и сами не знаете, что делаете, разве не так? Вы все
выдумываете по ходу дела...
Лабин сохранял бесстрастное выражение лица, а вопрос задал по делу:
— Есть ли причины, по которым не стоит верить тому, что люди могли начать
биологическую атаку против Северной Америки, желая просто... ускорить ход со-
бытий?
Таку, казалось, этот вопрос насмешил:
— Похоже, вы нечасто наружу выбираетесь.
— Разве я не прав?
— Ты прав, но есть одно «но», — Уэллетт сплюнула на запорошенную пеплом
землю. — Куча народу захотела бы оказать помощь Провидению, появись у них та-
кой шанс. Но это еще не значит, что мы имеем дело с атакой.
— А с чем тогда?
— Возможно, это противоядие.
При этих словах Кларк подняла голову:
— Лекарство?
— Скорее всего, ничего столь личного. Какая-то штука, которая убивает Бета-
гемот в диких условиях.
Лабин внимательно посмотрел на Уэллетт. Та взглянула на него столь же при-
стально и ответила на невысказанный скептический вопрос:
— Разумеется, там есть немало психов, которые желают конца света. Но, по
идее, гораздо больше людей хотят его остановить, разве вы с этим не согласны?
И они будут работать так же упорно.
В ее глазах появилось что-то такое, чего не было раньше. Они почти сияли.
Кен кивнул в ответ:
— Но если это некое противоядие, то почему его пытались сбить? И какой
смысл доставлять его суборбитальной ракетой? Разве не более разумно дать ле-
карство местным властям?
Уэллетт закатила глаза:
— Каким местным властям?
Кларк нахмурилась:
— А почему не сказать... всем? Вам, к примеру?
— Лори, стоит вынести такое на публику, и ты станешь мишенью для любой
страны Мадонны. А что касается противоракетной обороны... — Уэллетт снова по-
Трансат — живущий по другую сторону Атлантического океана.
вернулась к Лабину: — А у вас на планете когда-нибудь упоминали такое собы-
тие, как восстание Рио?
— Расскажите... — попросил Лабин, а сам подумал: «Лори?»
— Да мне и рассказывать особо нечего, — призналась Уэллетт. — Никто в дей-
ствительности не знает, что произошло. Говорят, кучка «Мадонн» проникла в
офисы УЛН в Рио-де-Жанейро и вконец там озверела. Стали палить ракетами по
всем подряд.
— И кто победил?
— Хорошие парни. По крайней мере, Рио стерли с лица земли, неприятности за-
кончились, но кто знает? Некоторые люди говорят, что «Лени» вообще ни при
чем, а это была своего рода гражданская война между вышедшими из-под контроля
правонарушителями. Но что бы это ни было, оно произошло очень далеко отсюда.
— Така махнула рукой в сторону горизонта. — У нас были свои проблемы. А мо-
раль истории такая: никому не известно, кто сейчас всем заправляет, на чьей
они стороне, а мы все висим над пропастью, когтями вцепились в край, и време-
ни на решение Больших Вопросов больше нет. Насколько нам известно, американ-
ские боевые спутники сейчас летают на автопилоте, а в наземном центре управ-
ления потеряли коды доступа. Или это «Лени» ведут учебные стрельбы. Или. . .
или страны Мадонны заслали к нам кого-то. Тот факт, что кто-то стреляет по
этим микробам, ничего не доказывает.
Лабин задумался над сказанным:
— Значит, доказательств нет.
— Поэтому я хочу их добыть. Я собираюсь секвенировать эти микроорганизмы.
Вы позволите мне доехать до того места или придется топать туда пешком?
Лабин ничего не ответил. Боковым зрением он увидел, как Кларк открыла, но
тут же закрыла рот.
— Отлично. — Уэллетт прошла к заднему борту своего фургона и открыла съем-
ную панель.
Лабин позволил ей достать катушку стерипленки и складные носилки с встроен-
ными кольцами «воздушной подушки». Така спокойно взглянула на Кена:
— Контейнер сюда влезет?
Тот кивнул.
Кларк придержала устройство, пока Уэллетт затягивала наплечные лямки. Така
небрежно кивнула, поблагодарив за помощь, и, не оглядываясь, пошла вперед по
дороге.
— Ты считаешь, что она не права, — сказала Кларк, глядя, как силуэт доктора
исчезает, колеблясь в поднимающихся от земли тепловых потоках.
— Я не знаю.
— А что, если она права?
— Это не имеет значения.
— Это не имеет значения. — Кларк покачала головой, удивившись. — Кен, ты
что, совсем тронулся?
Лабин пожал плечами:
— Если она сумеет раздобыть пригодный образец, мы узнаем Бетамакс это или
нет. В любом случае мы сможем поехать в Бангор и с помощью ее допуска проник-
нем внутрь. После этого все должно...
— Кен, ты вообще ее слушал? Возможно, есть лекарство. От Бетагемота.
Он вздохнул:
— Вот поэтому я и не хотел тебя брать с собой. У тебя есть собственные це-
ли, а мы здесь не для этого. Ты отвлекаешься.
— Отвлекаюсь? — Лени удивленно тряхнула головой. — Я говорю о спасении ми-
ра, Кен. Я вовсе не считаю, что отвлекаюсь.
— Нет. Ты считаешь себя проклятой.
Что-то в Лени сразу закрылось.
Он же продолжил тему:
— Как бы там ни было, я с тобой не согласен.
— Да ну.
Лицо Кларк превратилось в бесстрастную маску.
— По-моему, ты всего лишь одержима. Что тоже представляет проблему.
— Ну-ну, продолжай.
— Ты думаешь, что разрушила мир, — Лабин обвел взглядом выжженный ландшафт.
— Ты думаешь, это твоя вина. Ты откажешься от цели, пожертвуешь собой, мной.
Моментально. Если только увидишь малейший шанс на искупление. Тебе так отвра-
тительна кровь на твоих руках, что ты, не задумываясь, смоешь ее новой кро-
вью.
— Значит, ты вот так думаешь.
Он посмотрел на нее:
— А разве есть что-то такое, чего ты не сделаешь ради возможности вернуть
все назад?
Она несколько секунд выдерживала его пристальный взгляд, но, в конце кон-
цов , отвела глаза в сторону. Лабин кивнул.
— На моей памяти ни один обычный человек не принимал Общее Благо настолько
близко к сердцу. Мне иногда кажется, что твой мозг каким-то образом состряпал
свой собственный Трип Вины.
Лени уставилась в землю под ногами.
— Это ничего не меняет, — шепотом произнесла она после долгого молчания. —
Даже если у меня есть личные мотивы...
— Меня не тревожат твои мотивы. Меня тревожит твоя способность к оценке.
— Мы все еще говорим о спасении мира.
— Нет, — отрезал он. — Мы говорим о ком-то, кто пытается это сделать. . .
возможно. Мы говорим о целой стране или консорциуме, который лучше оснащен,
более информирован, чем пара путешественников со Средне-атлантической гряды.
И... — Тут он поднял руку, жестом попросив не перебивать: — Мы говорим и о
других могущественных силах, которые, возможно, пытаются их остановить по
причинам, о которых мы можем только догадываться. Или без всякой причины, ес-
ли рассуждения Уэллетт верны. Это не наша игра, как бы сильно тебе ни хоте-
лось принять в ней участие.
— Наша, Кен, наша. Просто последние пять лет мы ужасно боялись сделать ход.
— И за это время многое изменилось.
Кларк покачала головой:
— Мы должны попытаться.
— Мы даже правил больше не знаем. А что насчет того, что мы действительно
можем изменить? Насчет «Атлантиды»? Рифтеров? Алике? Ты действительно хочешь
пренебречь любым шансом помочь им ради какого-то безнадежного дела?
Лабин тут же понял, что просчитался. Что-то вспыхнуло в ней, такое ледяное,
знакомое и совершенно непреклонное.
— Да как ты смеешь, — прошипела она. — Тебе всегда было наплевать и на
Алике, и на Грейс, да и на меня тоже, если на то пошло. Ты был готов убить
нас всех, ты каждый раз переходил на другую сторону, стоило измениться рас-
кладу. — Кларк с отвращением покачала головой. — Как ты вообще смеешь гово-
рить о верности и спасении жизней. Ты даже и не понимаешь, что это значит,
если только это тебе не вобьют в башку вместе с параметрами очередного зада-
ния.
Лабин должен был знать, что спорить с ней бессмысленно. Ее не интересовали
шансы на успех. Она не ставила на разные чаши весов «Атлантиду» и остальной
мир, не сравнивала результаты. Все переменные, которые заботили Лени, возни-
кали в ее собственной голове, а чувство вины или одержимость не поддавались
анализу затрат и выгод.
. Но даже так Кен почувствовал, как после ее слов у него почему-то перехва-
тило горло:
— Лени, я не это имел в виду.
Она подняла руку и отвела глаза, не желая встречаться с ним взглядом. Он
ждал.
— Может, это вовсе и не твоя вина, — сказала она, помолчав. — Они просто
сконструировали тебя таким.
Он позволил себе проявить любопытство:
— Каким таким?
— Ты же просто муравей-солдат. Прешь вперед, усики к земле, следуешь «при-
казам», «параметрам задания», «краткосрочным целям», и тебе никогда не прихо-
дит в голову мысль поднять голову и увидеть картину целиком.
— Я ее вижу, — спокойно произнес Лабин. — И она намного больше, чем ты же-
лаешь признать.
Она, все еще не глядя на него, покачала головой. Он попытался снова:
— Хорошо. Ты видишь картину целиком: как по-твоему мы должны поступить с
этой информацией? Что ты можешь предложить, кроме фантазий? У тебя есть ка-
кая-то стратегия «спасения мира», ты же о нем только что говорила?
— У меня есть, — объявила Уэллетт.
Они обернулись. Сложив руки на груди, она стояла позади них возле лазарета.
Она, похоже, бросила носилки и кружным путем вернулась назад, пока они не
смотрели.
Лабин в удивлении заморгал.
— Ваш образец...
— С той боеголовки, которую вы нашли? Без шансов. Под воздействием трейсе-
ров любое активное вещество распадается на атомы.
Кларк быстро посмотрела на Кена, даже сквозь лед в глазах ее взгляд читался
ясно, как двоичная система: «Не по твоим правилам игра пошла, супершпион? По-
зволил какому-то убогому сельскому доктору обойти тебя на повороте?»
— Но я знаю, как мы можем добыть образец, — продолжила Уэллетт, глядя прямо
на Кларк. — И я могла бы воспользоваться вашей помощью.
Перемещение
Така пришла слишком поздно. Если бы она услышала, с чего начался разговор,
подумала Кларк, то не захотела бы иметь с нею ничего общего.
У хорошего врача всегда есть контакты на местах, так говорила Уэллетт. Те,
кого она спасла или кому купила время. Те, чьих любимых она избавила от стра-
даний. Случайные дилеры: торговцы пустошей, которые могли добывать лекарства
или запчасти в обмен на другие предметы. Они не имели ничего общего с альтру-
измом, но могли спасти жизнь, когда до ближайшего подъемника с припасами ос-
тавалась еще целая неделя.
У всех из них было здоровое чувство корысти. Все они знали друг друга.
Лабин, конечно же, отнесся к идее скептично. Или же, подумала Кларк, просто
так вел себя. Это была его фишка, манера поведения. И никак иначе. Никто в
здравом уме не отвернулся бы от пусть и слабого, но шанса отменить хотя бы
часть того...
«... того, что я сделала».
Тут-то и заключалась загвоздка, и Лабин — черт бы его побрал — прекрасно
все понимал. Когда ты помогла разрушить мир, когда испытывала острое, ни с
чем не сравнимое удовольствие, глядя на его предсмертную агонию, то очень
трудно потрясать моралью перед тем, кто просто не слишком хочет его спасать.
Даже если это было давно. Даже если ты уже совсем изменилась. Если и сущест-
вовало истечение срока давности за землеубийство, то каких-то жалких пяти лет
для него точно не хватило бы.
Уэллетт предложила двигаться на юг, к руинам Портленда. Конечно, подклю-
читься к базе данных оттуда было невозможно, но так они ближе подбирались к
Бостону. Кроме того, в этих местах Уэллетт была официальной персоной, челове-
ком с полномочиями и удостоверением. По местным меркам, она вполне сходила за
представительницу власти и, возможно, даже могла провести их прямо через па-
радную дверь.
— Представители власти не раскатывают по округе, раздавая дермы всем под-
ряд , — заметил Лабин.
— Да? А чего за последнюю неделю добился ты? По-прежнему думаешь, что смо-
жешь хакнуть мировую нервную систему, хотя все запасные входы у нее давно со-
жгли?
В конце концов, он согласился, но с оговорками. Они будут действовать со-
гласно плану Уэллетт, пока им по пути. Они воспользуются лазаретом только по-
сле того, как вырвут все охранные устройства; причем Лабин проследит за тем,
чтобы Така сотрудничала, а Кларк станет выполнять ее указания и сделает всю
грязную работу.
Кабина мобильного лазарета являла собой чудо экономии пространства. Две
складные койки разместились за сиденьями, а около дальней стенки между цирку-
лятором Кальвина и полевым медицинским интерфейсом приютилась крохотная душе-
вая . Но больше всего Кларк поразило количество ловушек в лазарете. Газовые
канистры, соединенные с вентиляционной системой. Тазериглы в подушках сиде-
ний , готовые по команде или при касании пронзить и плоть, и одежду любой
плотности. Под приборной панелью разместился световой стимулятор — направлен-
ный инфракрасный стробоскоп, излучение которого проникало сквозь закрытые ве-
ки и вызывало судороги. Уэллетт перечислила каждое устройство, Лабин стоял за
ее спиной, а Кларк ползала по фургону с ящиком для инструментов и выдергивала
провода. Лени понятия не имела, все ли отключила — по ее мнению, Така вполне
могла припасти туз в рукаве на будущее, — но Лабин был менее доверчив, чем
она, но, тем не менее, остался доволен.
На разоружение кабины ушел час. Потом Уэллетт спросила, не хотят ли они от-
ключить и внешние устройства безопасности, и, когда Лабин отрицательно пока-
чал головой, она, казалось, даже разочаровалась.
Они разделились. Лабин решил вести «Вакиту» дальше вдоль берега и попытать-
ся самостоятельно проникнуть в Портленд; Кларк же будет сопровождать Уэллетт
до встречи на одной из точек маршрута, держа при себе копию кода Бетамакса.
— О Бетамаксе ей раньше времени не говори, — предупредил Лабин Лени, когда
Така не могла их подслушать.
— Почему?
— Потому что он лишает нас единственной защиты от Бетагемота. В тот момент,
когда она поймет, что нечто подобное существует, ее приоритеты перевернутся с
ног на голову.
Поначалу Кларк удивило то, что Лабин решил оставить обеих без присмотра;
даже без своего рефлекса на убийство он плохо относился к потенциальным утеч-
кам в безопасности, к тому же знал, что Кларк раздражают выбранные им цели
миссии. Кен и в лучшие времена не отличался доверчивостью; как он мог пору-
читься за то, что женщины не отправятся вглубь страны прочь от берега и не
оставят его одного?
И только тогда, когда они разошлись, Кларк поняла. Лабин надеялся, что все
будет именно так.
Они ехали по разоренной земле, где выскоблили даже намек на жизнь. Мобиль-
ный лазарет, построенный для езды по пересеченной местности, взбирался на по-
валенные стволы деревьев, кроша их своими колесами. Огибал ямы, заполненные
пеплом и сажей, ехал напрямую там, где вихри и порывы ветра, подобно крохот-
ным антарктическим метелям, намели на вновь замерзший асфальт многосантимет-
ровый слой серой пыли. Они дважды проехали мимо неисправных рекламных щитов,
наполовину вплавленных в камень; их решетка покоробилась, и все еще упрямо
пыталась работать, хотя они уже не рекламировали ничего, кроме мерцающих раз-
ноцветных разводов собственного теплового шока.
Потом начался дождь. Пепел превратился в пасту, облепив капот каплями, по-
хожими на папье-маше. Некоторые из них оказались настолько тяжелыми, что доб-
рались до ветрового стекла, оставляя еле заметные пятна, пока статическое по-
ле не отбрасывало их прочь.
За все время пассажиры не обменялись друг с другом ни единым словом. Незна-
комая музыка заполняла тишину — архаичные композиции с резкими фортепианными
аккордами и нервирующими струнными. Уэллетт, похоже, нравилось. Она рулила, а
Кларк смотрела в окно, размышляя о распределении ущерба. Какая часть из этих
разрушений лежит на ее совести? А какая на демонах, что приняли ее имя?
Выжженная зона осталась, в конце концов, позади. Теперь по обочинам дороги
росла настоящая трава, из кюветов выглядывали редкие кустарники, настоящие
ели нависали с двух сторон, как ряды оборванных голодных палочников. Конечно,
сейчас они были уже не зелеными, а коричневыми или только начинали буреть,
словно вокруг стояла бесконечная засуха.
Этот дождь им не поможет. Растения еще держались — некоторые даже до сих
пор непокорно размахивали зелеными листьями, словно флагами, — но Бетагемот
был повсюду — неумолимый, он не думал о времени. Кое-где его скопления каза-
лись настолько обильными, что были различимы и невооруженным глазом: пятна
охряной плесени покрывали траву, опоясывали стволы деревьев. И все-таки вид
всей этой растительности — пусть уже практически мертвой, но, по крайней ме-
ре, физически нетронутой — казался поводом для хоть малого, но праздника,
особенно после крематория, из которого они только что выбрались.
— А вы их когда-нибудь снимаете? — спросила Уэллетт.
— Простите? — Кларк очнулась. Доктор включила автопилот в простом режиме —
фургон катился по дороге без всяких опасных экскурсов в систему GPS.
— Эти накладки у вас на глазах. Вы когда-нибудь?..
— О нет. Обычно нет.
— Линзы ночного видения?
— Вроде того.
Уэллетт поджала губы:
— Я такие видела раньше, их все носили еще до того, как всё пошло к чертям.
У них было целых двадцать минут славы.
— Там, откуда я приехала, они и сейчас популярны. — Кларк посмотрела в бо-
ковое стекло, по которому стекали дождевые струи. — Среди моего племени.
— Племени? Вы что, из Африки приплыли?
Кларк беззлобно хмыкнула:
— О нет. «Мне до Африки было плыть еще полАтлантики...»
— Я и не сомневалась. У вас нет меланина, хотя сейчас это не много значит.
Да и тутси1 сюда не приедут, разве только позлорадствовать.
— Позлорадствовать?
— Поймите, мы даже их обвинить в этом не можем. У них не осталось никого
старше сорока лет. По их мнению, «огненная ведьма» — это по-настоящему поэти-
ческое правосудие.
Кларк пожала плечами.
— Ну, если не из Африки, — Уэллетт не отставала, — может, вы с Марса?
— Почему вы так думаете?
1
Тутси — народ в Центральной Африке численностью около 2 млн. человек.
— Вы определенно не из этих мест. Вы приняли Мири за скорую помощь. — Она
ласково провела ладонью по приборной панели. — Вам ничего не известно о «Ле-
ни» . . .
Кларк стиснула зубы, неожиданно разозлившись:
— Я знаю о них. Отвратительный эволюционирующий код, который живет в Водо-
вороте и плодит одно дерьмо. Икона мести для некоторых стран, которые ненави-
дят вас всех до мозга костей. И пока мы не сошли с темы, может, ты объяснишь:
мыкаешься тут, раздаешь дермы, убиваешь из милосердия, в то время как все
Восточное полушарие мечет лекарство прямо тебе на голову? Вот ты не была на
Марсе, но все равно как-то явно не в курсе последних событий.
Уэллетт с любопытством посмотрела на Кларк:
— Вот опять.
— Что?
— «В Водовороте». Уже много лет я не слышала, чтобы кто-то использовал это
слово.
— и что с этого? Какая разница?
— Ну ладно тебе, Лори. Вы с напарником появляетесь в самой глуши, захваты-
ваете мой фургон, и вас даже в принципе нельзя назвать нормальными — разуме-
ется , я хочу узнать, откуда вы прибыли.
Злость Кларк прошла так же внезапно, как и вспыхнула:
— Прости.
— Я, кстати, все еще кто-то вроде почетного пленника, и, можно сказать, ты
обязана мне кое-что объяснить.
— Мы прятались, — выпалила Кларк.
— Прятались. — Уэллетт, кажется, даже не удивилась. — А где можно так долго
прятаться?
— Как выяснилось, нигде. Поэтому мы вернулись.
— Ты — корп?
— Я что, похожа на корпа?
— Ты похожа на глубоководную нырялыцицу или кого-то вроде. — Она показала
на отверстие в груди Кларк: — Электролизный приемник, верно?
Кларк кивнула.
— Значит, все это время вы прятались под водой. Хмм. — Уэллетт покачала го-
ловой . — А я думала на орбите.
— Почему?
— Да слухи такие гуляют. Когда «огненная ведьма» только появилась, когда
пошли бунты, тогда же многие начали говорить, что несколько сотен высокопо-
ставленных корпов вдруг исчезли с лица земли. Такое, на мой взгляд, доказать
в принципе невозможно, так как этих людей никто во плоти и не видел. Насколь-
ко нам известно, они вполне могли быть симуляциями. В общем, сама знаешь, как
быстро разносятся такие слухи. Говорили, к примеру, что все они улетели с ка-
кого-то космодрома в Австралии и теперь сидят на орбите в полном комфорте и
наблюдают, как гибнет мир.
— Я — не корп, — сказала Кларк.
— Но работаешь на них, — предположила Уэллетт.
— А кто нет?
— Я имею в виду сейчас.
— Сейчас? — Кларк покачала головой. — Думаю, могу честно сказать, что ни
Кен, ни я... О, господи!
Тварь выскочила из какого-то потайного укрытия под приборной панелью —
сплошные сегменты и щелкающие мандибулы. Она зацепилась за колено Кларк ко-
нечностями с кучей суставов и напоминала гибрид кузнечика и сороконожки раз-
мером с мизинец. Рука Лени машинально опустилась: маленькое существо лопнуло
под ладонью.
— Черт побери, — тяжело дыша, произнесла она. — Что это было?
— Что бы это ни было, оно ничего тебе не сделало.
— Никогда не видела ничего подобного... — Кларк осеклась, посмотрев на со-
беседницу .
Уэллетт, похоже, расстроилась.
— Это, надеюсь, было не твое домашнее животное?
Абсурдная мысль, конечно. «Хотя не безумнее, чем держать в любимчиках
зельц. Интересно, как она...»
— Это было просто насекомое, — сказала Уэллетт. — И оно никого не трогало.
Кларк вытерла ладонь о бедро, размазав хитин и желтую слизь по гидрокостю-
му.
— Но оно... оно просто неправильное. Я таких вообще никогда не видела.
— Говорю же. Ты отстала от жизни.
— Так эти твари, значит, давно появились?
Уэллетт пожала плечами; похоже, она начала успокаиваться.
— Появляются то тут, то там. По сути, обычные насекомые, только сегментов
слишком много. Наверное, мутация гомеозисных генов1, но не знаю, изучал ли их
кто-то более детально.
Кларк смотрела на мокрый чахнущий пейзаж, проплывающий за окном.
— А тебя, похоже, сильно тронула судьба этого... насекомого.
— А ты решила, что все вокруг умирает как-то медленно, да? И надо всем по-
мочь в этом деле? — Уэллетт перевела дух. — Прости. Ты права. Я просто...
проходит время, и начинаешь им симпатизировать, понимаешь? Когда работаешь
тут слишком долго, все кажется... ценным.
Кларк ничего не ответила. Машина обогнула трещину в дороге, закачавшись на
рессорах воздушной подушки.
— Я знаю, что в этом мало смысла, — помолчав, признала Уэллетт. — Бетагемот
вроде как не так много и изменил.
— Что? Посмотри в окно, Така. Все умирает.
— Все и так умирало. Может, не так быстро.
— Хм. — Кларк взглянула на доктора. — И ты действительно считаешь, что кто-
то подбрасывает нам лекарство через бруствер?
— От человеческой глупости? Навряд ли. А от Бетагемота... Кто знает?
— И как оно может действовать? В смысле, что еще-то не пробовали?
Уэллетт, покачав головой, негромко рассмеялась:
— Лори, ты меня переоцениваешь. Я понятия не имею. — Она на мгновение заду-
малась . — В принципе, может быть что-то вроде решения гориллы.
— Никогда о таком не слышала.
— Лет двадцать назад, в Африке. Горилл практически не осталось, а местные
подъедали тех, кто выжил. В общем, одной группе по охране природы пришла в
голову блестящая идея: они сделали горилл несъедобными.
— Да? И как же?
— С помощью модифицированного варианта Эболы. Гориллам было от него хоть бы
хны, а любой человек, решивший отведать их мясца, умирал от внутреннего кро-
вотечения в течение семидесяти двух часов.
Кларк улыбнулась, слегка удивившись:
— А с нами такой трюк можно провернуть?
— У нас соперник покруче. Микробы вырабатывают противоядия быстрее млекопи-
тающих.
— Да, похоже, с гориллами тоже не получилось.
Уэллетт хмыкнула:
1 Гомеозисные гены — гены определяющие процессы роста и дифференциации в организме,
именно они отвечают за программы развития внутренних органов и тканей, (прим. ред.).
— Получилось. Даже слишком
— Так почему они вымерли?
— Мы их истребили. Неприемлемый риск для здоровья человека.
Дождь колотил по крыше кабины, потоки воды струились по боковым стеклам.
Капли метили в лобовое стекло, но резко сбивались с курса за несколько санти-
метров до цели.
— Така, — сказала Кларк спустя несколько минут.
Уэллетт посмотрела на нее.
— А почему люди больше не называют сеть Водоворотом?
Доктор слабо улыбнулась:
— Ты знаешь, почему ее так назвали изначально?
— Там стало слишком... тесно. Пользовательские бури, электронная жизнь.
Така кивнула.
— Вот это практически исчезло. Физические сети настолько деградировали, что
большая часть фауны вымерла, лишившись среды обитания. По эту сторону от сте-
ны, по крайней мере... они разбили сеть на сегменты несколько лет назад. На-
сколько мне известно, где-то там она по-прежнему бурлит, но здесь...
Она посмотрела в окно:
— Здесь Водоворот вышел в реальный мир.
Карма
Ахилла Дежардена разбудил крик.
Когда он окончательно проснулся, тот уже стих. Ахилл лежал в темноте и ка-
кое-то время размышлял, не приснилось ли это ему: еще не так давно в его снах
кричали постоянно. Он задумался, может, он сам себя разбудил, — но такого не
случалось уже много лет, с того самого времени, как Дежарден превратился в
нового человека.
Вернее, с того самого времени, как Элис выпустила старого человека из под-
вала.
Обеспокоенный и бодрый, он сразу понял, в чем дело. Крик зародился не в его
голове и не в горле, он исходил от машин. Тревога, длившаяся не больше секун-
ды.
Странно.
Он включил имплантаты. Вне черепа по-прежнему царила тьма, но внутри, в за-
тылочных долях коры головного мозга расцвели шесть ярких окон. Он бегло про-
смотрел основные фиды, потом второстепенные; в первую очередь его интересова-
ли угрозы с другого конца света, с орбиты или от расхрабрившегося гражданско-
го, ткнувшегося в ограждения периметра. Он проверил убогие комнаты и коридо-
ры, куда имел доступ скудный дневной штат, хотя сейчас было четыре утра, и в
такую рань никто из них не приходил. В вестибюле никого, в зале приемов и на
псарнях — тоже. Погрузочные площадки и электростанция в норме. Ракетной атаки
не зафиксировано. Даже засора в канализации нет.
Однако он все-таки что-то слышал. В этом Ахилл был уверен. Более того, этот
конкретный сигнал тревоги был ему незнаком. За все эти годы машины вокруг из
обыкновенных инструментов превратились в друзей, защитников, советников и до-
веренных слуг. Он досконально изучил их голоса: мягкий писк имплантатов, ус-
покаивающий гул охранной системы здания, утонченные многооктавные аккорды
комплекса предупреждения об угрозах. И никто из них тревогу не поднимал.
Дежарден откинул простыни и поднялся с койки. Стоунхендж маячил в несколь-
ких метрах; подкова из рабочих станций и тактических панелей тускло светилась
в темноте. Официальное рабочее место Ахилла находилось на много этажей выше;
у него была и официальная квартира, не слишком роскошная, но намного более
комфортабельная, чем матрас, который он притащил сюда. Время от времени он до
сих пор ими пользовался, когда того требовали дела или же когда была важна
видимость. Но тут ему нравилось больше всего: в секретном, безопасном импро-
визированном нервном центре, вздымающемся из узловатого сплетения оптоволо-
конных корней, растущих прямо из стен. Это был его тронный зал, его цитадель
и его бункер. Несмотря на все свое могущество, несмотря на всю неприступность
его крепости, только здесь, в темном подземелье без окон, Ахилл чувствовал
себя в полной безопасности и понимал, насколько это нелепо.
Почесываясь, он плюхнулся в кресло, стоявшее в центре Стоунхенджа, и начал
просматривать данные, поступившие по оптоволокну. Мир, как обычно, кишел жел-
тыми и красными иконками, но ничего особо срочного. Ничто не могло вызвать
звуковой сигнал тревоги. Дежарден свел все сообщения в один список и отсорти-
ровал их по времени поступления; если что и случилось, то прямо сейчас. Так:
плавление ЦЕЗАРЬ-реактора в Луисвилле, сбой статического поля в Боулдере, на-
лажена связь с парой точек наблюдения в Аляске. Опять какая-то болтовня о му-
тировавших жуках и растениях на границе с Панамой...
Что-то еле заметно прикоснулось к его ноге. Ахилл бросил взгляд вниз.
Мандельброт уставилась на него одним глазом. Второго не было. Вместо него
зияла темная липкая дыра, полморды оторвало начисто. В полутьме бок кошки ка-
зался скользким и черным. Сквозь спутанную шерсть виднелись внутренности.
Мандельброт качалась, как пьяная, все еще подняв переднюю лапу. Открыла
рот. И упала с едва слышным «мяу».
«О Боже, нет. О Боже, пожалуйста, только не это».
Он впопыхах набрал номер, даже не включив свет. Мандельброт, истекающая
кровью, лежала в луже собственных кишок.
«О Господи, пожалуйста. Она умирает. Сделай так, чтобы она не умерла».
— Привет — застрекотал неживой голос. — Трев Сойер слушает.
Черт побери. Это был автомат, и у Дежардена сейчас не было времени возиться
с ветками диалога. Он прервал вызов и вошел в местный каталог адресов:
— Мой ветеринар. Домашний телефон. Все блокировки вырубить.
Где-то в Садбери начал звонить запястник Сойера.
— Ты опять полезла в псарни? — Мандельброт лежала на боку, ее грудная клет-
ка поднималась и опускалась. — Глупая кошка, ты так любила дразнить этих мон-
стров. Поняла, как... о, господи, как ты вообще смогла вернуться. Не умирай.
Пожалуйста, не умирай.
Сойер упорно молчал.
«Ответь на звонок, сука! Это же чрезвычайная ситуация! Где тебя черти носят
в четыре утра?»
Лапы Мандельброт дергались и сжимались, словно во сне, словно под током.
Дежардену хотелось дотронуться до нее, остановить кровотечение, выпрямить по-
звоночник, да просто погладить, ради всего святого — хоть как-то облегчить ее
страдания. Но Ахилл страшно боялся, что неопытным прикосновением сделает
только хуже.
«Это моя вина. Это моя вина. Я не должен был пускать тебя повсюду, должен
был снизить допуск, ведь ты, в конечном счете, всего лишь кошка, и ты не зна-
ешь, как себя вести. И я так и не потрудился узнать, как звучит твой сигнал
тревоги, мне просто не пришло в голову, что я должен...»
Не сон. И с миром все в порядке. Заговорил ветеринарный имплантат, вмонти-
рованный в запястник: короткий вскрик, когда жизненные показатели Мандельброт
ушли в красную зону, а потом молчание, когда зубы, или когти, или просто
инерция от шока низвели сигнал до шума.
— Алло? — прозвучал невнятный сонный голос.
Дежарден вскинул голову:
— С вами говорит Ахилл Дежарден. Мою кошку сильно изуродовали...
— Что? — недовольно спросил Сойер. — Вы хоть знаете, который сейчас час?
— Простите, я знаю, но это исключительный случай. Моя кошка... о, господи,
ее разорвали на части, она едва жива, вы должны...
— Ваша кошка, — повторил Сойер. — А зачем вы мне об этом рассказываете?
— Я... вы ведь ветеринар Мандельброт, вы...
Голос был ледяным:
— Я три года как ничей ветеринар.
Дежарден вспомнил: всех ветеринаров отправили лечить людей, корда Бетагемот
— и сотни сопутствующих ему инфекций — парализовали систему здравоохранения.
— Но вы же все еще. .. вы же знаете, что нужно... я уверен.. .
— Мистер Дежарден, вы забыли, который сейчас час. А вы помните, какой сей-
час год?
Дежарден покачал головой.
— Да о чем вы говорите? Моя кошка лежит на полу, а ее...
— Прошло пять лет с начала эры Огненной Ведьмы, — продолжил Сойер ледяным
тоном. — Люди умирают, мистер Дежарден. Миллионами. В таких обстоятельствах
даже еду тратить на животных — это постыдно. Ожидать, что я стану тратить
время, лекарства и перевязочные средства на лечение раненой кошки, по крайней
мере, неприлично.
В глазах Ахилла защипало. Все вокруг расплылось.
— Пожалуйста... я могу вам помочь. Я могу. Я могу вдвое увеличить норму
циркулятора. Воду без ограничений. Я могу отправить на орбиту, черт возьми,
если вы этого хотите, и вас, и вашу семью. Все что угодно. Только скажите.
— Хорошо: прекратите расходовать попусту мое время.
— Да вы знаете, кто я? — закричал Дежарден.
— Разумеется, знаю. И удивлен, что у правонарушителя — особенно такого вы-
дающегося — так сильно смещены приоритеты. У вас же должен быть иммунитет к
такого рода вещам.
— Ну, пожалуйста...
— Спокойной ночи, мистер Дежарден.
«Потеря соединения» — на одном из экранов загорелась очередная желтая икон-
ка.
В углу рта Мандельброт пузырилась кровь. Внутреннее веко скользнуло по ок-
ровавленному глазному яблоку, но вновь вернулось в прежнее положение.
— Пожалуйста, — всхлипнул Дежарден. — Я не знаю, что...
«Нет, знаешь».
Он склонился над ней, протянул руку, осторожно надавил на вздувшуюся петлю
кишечника. Тело Мандельброт дернулось, словно испустило дух. Она едва слышно
мяукнула.
— Прости... Прости.
«Ты знаешь, что делать».
Он вспомнил, как Мандельброт вцепилась в лодыжку отца, когда старик навес-
тил его в 48-м. Вспомнил, как Кен Лабин стоял в одних трусах и стирал брюки в
ванной: «Твоя кошка меня описала», — сказал он тогда, и в его голосе слыша-
лось невольное уважение. Он вспомнил, как лежал ночами, чувствовал, что моче-
вой пузырь скоро разорвется, но не смел подняться, боялся потревожить пуши-
стый спящий комок, лежащий на груди.
«Ты знаешь».
Он вспомнил, как Элис пришла на работу с исцарапанными в кровь руками, пы-
таясь удержать тощего, шипящего котенка, который уже тогда ни от кого не тер-
пел унижений.
— Эй, Кайфолом, хочешь иметь сторожевую кошку? Настоящий хаос во плоти. По-
ворачивающиеся уши, батарейки не требуются, к тебе в квартиру теперь никто не
зайдет без увечий, гарантированно.
«Ты знаешь».
Мандельброт снова начали бить конвульсии.
Он знал.
У него под рукой не было ничего: ни инъекций, ни газа, ни огнестрела. Все
пошло на ловушки, и понадобится куча времени, чтобы извлечь оттуда хоть что-
нибудь. Комната была голой — только серо-костяные стены и побеги оптоволокна.
От нейроиндукционного поля... будет больно...
«Черт побери, мне просто кирпич нужен, — подумал он, с трудом сглатывая ко-
мок в горле. — Обыкновенный камень, их же куча около домов валяется...»
Не было времени. Мандельброт уже не жила с тех самых пор, как отправилась
наверх, от псарни. Она только страдала. И Дежарден мог лишь прекратить это и
больше ничего.
Он занес ногу над ее головой.
— Ты и я, Сарделька, — прошептал он. — У нас был допуск выше, чем у любого
человека на тысячу километров вокруг...
Мандельброт мурлыкнула. Когда она умерла, тело как будто что-то покинуло.
Осталась лишь бесхребетная масса на полу.
Дежарден еще какое-то время стоял, держа ногу на весу, на всякий случай.
Наконец он опустил ступню на бетонный пол. Мандельброт всегда все делала са-
ма.
— Спасибо тебе, — прошептал Ахилл и заплакал.
Доктор Тревор Сойер проснулся во второй раз за последние два часа. Над его
головой огромным кулаком нависала какая-то тень. Она негромко шипела, словно
парящая змея.
Он попытался подняться. Не смог: руки и ноги болтались, как резиновые, и не
слушались. Лицо покалывало, вялая челюсть отвисла пучком сваренных макарон.
Даже язык казался распухшим и дряблым, вывалился изо рта и не двигался.
Сойер смотрел на овальный предмет над кроватью. Тот напоминал черное пас-
хальное яйцо где-то вполовину его роста, но шире. Его брюхо уродовали с тру-
дом различимые отверстия и пузыри, отражавшие серебристые лучики слабого све-
та, проникавшие из прихожей.
Шипение стихло. Доктор почувствовал, как по щеке червяком сползает тонкая
струйка слюны. Он попытался проглотить ее, но не смог.
Он все еще дышал. Хоть что-то.
Пасхальное яйцо издало мягкий щелчок. Откуда-то пошло слабое, едва различи-
мое ухом гудение — то ли поле воздушной подушки, то ли помехи в нервной сис-
теме , осечкой стреляющие в ухе.
Это не нейроиндукция. «Овод» даже от земли не оторвался бы, неся такие тя-
желые кабели.
«Какой-то нервно-мышечный паралич, — догадался он. — Значит, газ».
Он попытался повернуть голову. Та десятикилограммовым валуном лежала на по-
душке и не слушалась. Он не мог двинуть глазами. Не мог даже моргнуть.
Сойер слышал, что Сандра тоже проснулась; она дышала часто, но неглубоко.
— Ты, как я вижу, снова заснул, — сказал «овод» знакомым голосом. — Даже
глазом не моргнул, верно?
«Дежарден?..»
— Хотя это нормально, — продолжила машина. — Ты оказался прав. Позволь тебе
помочь...
«Овод» наклонился носом вниз, пока буквально не уткнулся в щеку Сойера.
Мягко боднул ее, словно кот, просящий еду у хозяина. Лежащая на подушке голо-
ва Сойера повернулась, и он уставился на детскую кроватку, стоявшую у стены и
едва различимую в полутьме.
«О, господи, что...»
Невозможно. Ахилл Дежарден — правонарушитель, а правонарушители... они по-
просту ничего такого не делали. Не могли. Никто, конечно, официально не при-
знавал этого, но Сойер многое знал и был в курсе. Существовали... ограничения
на биохимическом уровне, чтобы правонарушители не злоупотребляли своей вла-
стью , не совершали того, что сейчас...
Робот перелетел через спальню. Замер примерно в метре над кроваткой. Тонкий
полумесяц вращающейся линзы блеснул на его брюхе, фокусируясь.
— Кайла, верно? — прошептал робот. — Семь месяцев, три дня, четырнадцать
часов. Доктор Сойер, у вас, наверное, очень особенные гены, если вы решили
родить ребенка в таком ужасном мире. Бьюсь об заклад, это до крайности разо-
злило соседей. Как вы смогли обойти контроль над численностью населения?
«Пожалуйста, — подумал Сойер. — Не трогайте ее. Мне жаль. Я...»
— Держу пари, вы их обманули, — задумчиво продолжила машина. — Держу пари,
эта жалкая личинка вообще не должна была появиться на свет. Но ладно. Как я
уже сказал, вы были правы. Когда говорили о людях. Они действительно постоян-
но умирают.
«Пожалуйста. Господи, дай мне сил, верни мне способность двигаться, дай мне
сил, чтобы хоть умолять ...»
Яркий, как солнце, горящий хоботок лизнул темноту и поджег Кайлу.
«Овод» повернулся и посмотрел на Тревора Сойера черным циклопическим гла-
зом, пока ребенок доктора кричал, обугливаясь.
— Ну вот, один помер прямо сейчас, — заметил робот.
— За Мандельброт, — прошептал Дежарден. — Вечная ей память.
Он освободил «овода», тот вновь принялся наматывать предписанные круги. Бот
не сможет ответить ни на один из вопросов, которые неизбежно возникнут после
сегодняшней ночи, даже если кто-то сумеет отследить его присутствие в жилой
ячейке 1423 по адресу Кушинг-Скайуок, 150. Даже сейчас он помнил только обыч-
ное патрулирование на выделенном ему участке; ничего другого дрон и не вспом-
нит, а скоро из-за сбоя в навигации уйдет в самоубийственный штопор прямо в
запретную зону вокруг генератора статического поля Садбери. От него не оста-
нется даже камер, не говоря уж о журнале событий.
Что касается самих тел, то даже самое поверхностное расследование вскоре
откроет недовольство Тревора Сойера насильственным переводом в Корпус здраво-
охранения, а также прежде неизвестные семейные связи с режимом Мадонны, не-
ожиданно пришедшем к власти в Гане. После такого никто не станет задавать ни-
каких вопросов; люди, связанные с Новым порядком Мадонны, всегда пытались
свалить старый. Сойер имел доступ в больницу, медицинский опыт и мог нанести
невероятный ущерб законопослушным членам общества. Без него в Садбери стало
лучше, и неважно, погиб он по собственной неосторожности или от руки бдитель-
ного правонарушителя, который выследил доктора в его собственном логове и с
чрезмерным пристрастием положил конец террористической деятельности предате-
ля.
В конце концов, такие хирургические операции случались время от времени. А
если за ними стоял правонарушитель, то — по определению — это было для общего
блага.
Можно вычеркнуть еще один пункт из списка неотложных дел. Дежарден завернул
Мандельброт в футболку и направился на улицу, прижимая окровавленный сверток
к обнаженной груди. Он тонул в водовороте эмоций, но внутри у него царила
пустота. Ахилл пытался разрешить этот парадокс, поднимаясь на первый этаж.
Конечно, он испытывал горе от потери друга, с которым был неразлучен почти
десять лет. Удовлетворение от мести. И все же — он надеялся на нечто большее,
а не только на мрачное чувство уплаченного долга. На что-то более глубокое.
Ахилл не испытал радости, когда Тревор Сойер смотрел на собственную жену и
ребенка, горящих заживо. Ничего не почувствовал, когда сжег самого доктора —
когда плоть с хрустом стала отделяться от костей; когда глазные яблоки, как
большие желатиновые личинки, сварились в глазницах — хотя знал, что уже при
смерти, все ощущая, Сойер так и не нашел в себе сил даже захныкать.
Радость ускользала от Дежардена. Конечно, он никогда не чувствовал ее рань-
ше , когда выплачивал по счетам, но сейчас надеялся на большее. Разумеется,
причина всего этого запала ему в душу гораздо глубже. И все-таки: только пе-
чаль , удовлетворение и. . . что-то еще. Ахилл даже не мог сказать, что имен-
но . . .
Он вышел на улицу. Бледный утренний свет заливал все вокруг. Мандельброт
остывала, и ее тельце уже одеревенело.
Сделав несколько шагов, он обернулся посмотреть на свой замок. На фоне яр-
кого неба он казался огромным, черным и зловещим. До Рио здесь работало
столько потенциальных спасателей, что они могли бы заселить небольшой город.
А теперь все здание принадлежало только Дежардену.
«Благодарность», — понял Ахилл с удивлением. Он ощущал благодарность за
собственную скорбь. Ведь он все еще любил. Все еще мог чувствовать, чувство-
вать всем сердцем. До этой самой ночи, до этой потери он совсем не был уве-
рен , что способен на такое.
Элис опять оказалась права. Социопат. Он превратился во что-то такое, для
чего этот термин был слишком узким.
Возможно, надо пойти и рассказать ей, как только он похоронит Мандельброт.
Укрощение
Оставляйте трупы только здесь. Несанкционированная утилизация карается по
закону Закон Северной Америки/УЛН о биологической опасности 4023А25 п. 5.
Загон без крыши, с трех сторон огороженный стенами, находился к югу от шос-
се 184 сразу за Эллсуортом. Знак нанесли спреем на дальней стене — умная
краска каждые несколько секунд меняла язык надписи. Кларк и Уэллетт стояли у
входа, смотря внутрь.
Неровный пол покрывала растрескавшаяся чешуйками корка старой извести, по-
хожая на дно высохшего озера в пустыне. Было видно, что ее сюда не подвозили
уже давно. На субстрате лежали четыре тела. Одно лежало аккуратно, ему сложи-
ли руки на груди: черное и раздутое, оно кишело личинками, над ним парил оре-
ол из мух. Три других уже высохли и развалились, походя на кучи листьев, раз-
бросанных сильным ветром. У них не хватало конечностей и одной головы.
Уэллетт ткнула пальцем в сторону надписи:
— Да, раньше им было не все равно. Людей бросали за решетку, когда они хо-
ронили любимых в саду за домом. За угрозу общественному здоровью. — Она хмык-
нула, вспоминая. — Остановить Бетагемот они не могли. Сопутствующие эпидемии
тоже. Зато могли упрятать в тюрьму какую-нибудь несчастную старуху, которая
не хотела смотреть, как сжигают тело ее мужа.
Кларк слабо улыбнулась:
— Людям нравится чувствовать себя... какое там слово-то...
— ...инициативными, — предложила Уэллетт.
— Именно так.
Така кивнула:
— Надо отдать им должное, тогда это действительно было проблемой. Тогда тут
столько трупов лежало, штабелями, тебе по плечи было бы. Одно время холера
убивала больше людей, чем Бетагемот.
Кларк разглядывала крематорий:
— А почему его так далеко поставили?
Уэллетт пожала плечами:
— Тогда они повсюду были.
Лени вошла внутрь загона. Уэллетт остановила ее, положив руку на плечо:
— Ты лучше держись около старых тел. От свежих можно подхватить что угодно.
Кларк дернула плечом, сбросив ладонь доктора:
— А ты сама как?
— Я вакцинирована с ног до головы. Тут ко мне не многое может прицепиться.
Она подошла к трупу с наветренной стороны, хотя легкий бриз смрад почти не
разгонял. Кларк держалась подальше, с трудом подавив рвотный позыв, и приня-
лась собирать части тел. Она провела баллоном со стерипленкои две черты, как
будто распятие нарисовала, и нажала на закрепитель. Сморщившийся одноногий
труп, лежавший у ее ног, заблестел, когда затвердел жидкий пластик.
— А эти еще в хорошей форме, — заметила Уэллетт, распыляя аэрозоль по мерт-
вому телу. — Раньше-то надо было дважды в неделю проверять, если хотела найти
берцовую кость, соединенную с коленной чашечкой. У падалыциков был праздник.
Спрея Така не жалела, чему Кларк не удивилась. Доктор, может, и обладала
иммунитетом от болезней, гнездившихся в этом трупе, но разносить их тоже не
хотела.
— А что изменилось? — спросила Кларк.
— Падалыциков больше нет.
Кларк ногой перекатила мумифицированные останки и залила аэрозолем другую
сторону покойника. Через несколько секунд покрытие затвердело. Она подхватила
на руки тело в саване. Лени казалось, что она держит охапку дров. Стерипленка
со слабым скрипом терлась о гидрокостюм.
— Просто загрузи его в Мири, — сказала Уэллетт, продолжая орудовать спреем.
— Я уже поменяла настройки.
Лазарет высунул язык с правого борта. Мятая серебряная фольга покрывала его
горло. Кларк положила останки на поддон, тот втянулся внутрь, как только по-
чувствовал груз. Мири сглотнула и закрыла рот.
— Мне надо еще что-нибудь сделать? — спросила Кларк.
— Да нет. Она знает разницу между живым человеком и трупом.
Из машины донесся низкий, еле слышный гул, но быстро прекратился.
Уэллетт вытащила человекоподобный кокон из загона. Раздутое тело полностью
скрылось под слоями фибропластика, как будто Така превратилась в какого-то
огромного паука и спеленала добычу. Поверхность савана усеивали тела прилип-
ших насекомых. Умирая, они извивались, пытаясь высвободиться из пут.
Кларк подошла помочь доктору и взяла кокон за один конец. Когда они распре-
делили вес, внутри что-то хлюпнуло. Мири разинула рот — уже пустой — и дохну-
ла Лени в лицо горячей, пыльной отрыжкой. Наружу выполз язык, словно лазарет
превратился в громадного ненасытного птенца.
— А кожа дышит в этой штуке? — спросила Уэллетт, когда Мири проглотила вто-
рую порцию.
— Ты про гидрокостюм?
— Я про обыкновенную кожу. Она под кополимером вообще дышит?
— Да он за пять лет изрядно поизносился. Как видишь, до сих пор жива.
— Но тебе в нем все равно плохо. Он же создан для жизни на глубоководье;
сомневаюсь, что на суше он полезен для здоровья, если носить его постоянно.
— А почему нет? — пожала плечами Кларк. — Ткань дышит, обеспечивает термо-
регуляцию . Мне комфортно, полный гомеостаз.
— Так это в воде, Лори. А у воздуха другие свойства. Скорее всего, у тебя
дефицит витамина К.
— Со мной все хорошо, — безразличным тоном ответила Кларк.
Лазарет довольно заурчал.
— Как скажешь... — Уэллетт решила не продолжать тему.
Мири снова разинула рот.
Они прокладывали маршрут по заброшенным дорожным знакам и бортовым картам.
Уэллетт упорно отказывалась выходить в сеть. Кларк пришлось задать вопрос по
поводу остановок на пути. Белфаст? Кэмден? Фрипорт? Еще до конца света они
были лишь непримечательными точками на карте: почему бы не поехать в Бангор,
всего то несколько километров к северу? Туда, где жили люди.
— Теперь уже нет, — сказала Така, перекрикивая неистовые оркестровые каче-
ли, которые, по ее словам, сочинил какой-то русский маньяк по фамилии Про-
кофьев .
— Почему?
— «Города — это кладбища человечества». — Она явно кого-то процитировала. —
Существовал какой-то порог, сейчас точную цифру не вспомню. Некое магическое
число количества людей на гектар. И любой городской центр его серьезно превы-
шал. В общем, если Бетагемот попадал на территорию с высокой плотностью насе-
ления — не говоря уже о болезнях, которые следовали за ним по пятам, — он
распространялся как лесной пожар. Стоило одному чихнуть — заболевала сотня.
Микробы любят толпу
— Но в малых городах все было нормально?
— Ну как видишь, не нормально. Там Бетагемот распространялся медленно, да
что я говорю — он распространяется до сих пор. В городках народу было мало, а
зимой и того меньше. Землю между ними скупили богачи. — Уэллетт жестом указа-
ла на жухлую листву за ветровым стеклом. — Здесь были сплошные частные владе-
ния. Состоятельные старые мужчины и женщины, которые не тусовались, имели хо-
рошее медицинское обслуживание. Разумеется, теперь их больше нет.
«Наверное, на „Атлантиду" отправились, — подумала Кларк. — Некоторые, по
крайней мере».
— В общем, когда «огненная ведьма» появилась, у крупных городов было только
два выхода, — продолжала Уэллетт. — Либо отгородиться от мира баррикадами и
генераторами статического поля, либо помереть. Некоторые не смогли себе по-
зволить генераторы, поэтому остались без вариантов. Я не была в Бангоре с
пятьдесят третьего. Насколько я знаю, там даже тела не убрали.
В Бакспорте они встретили первых живых пациентов.
Мири свернула с главной улицы примерно в два часа ночи и остановилась около
циркулятора Кальвина от Красного Креста, на панели которого мигал предупреж-
дающий желтый сигнал. Уэллетт осмотрела его, пользуясь светом от старого, ос-
тавшегося еще с прежних времен, рекламного щита, работающего на солнечной
энергии, тот неутомимо рассказывал всем вокруг о преимуществах умной одежды и
диетических проглоттидов.
— Необходимо пополнить запасы, — Така забралась в Мири и вызвала меню.
— А я думала, они получают все необходимое из воздуха, — сказала Кларк.
Иначе для чего еще был нужен фотосинтез. Лени, помнится, сильно удивилась,
узнав, сколько сложных молекулярных соединений были нечем иным, как комбина-
циями азота, углерода и кислорода.
— Микроэлементы заканчиваются. — Уэллетт схватила из раздатчика картридж из
целлюлозы, заполненный красной и ярко-коричневой пастой. — В этом, например,
почти нет железа и калия.
Рекламный щит все еще настойчиво предлагал уже несуществующие товары и оде-
жду и на следующее утро, когда Кларк с трудом втиснулась в туалетную кабинку
Мири. Когда она вышла оттуда, к ветровому стеклу прилипли два силуэта.
Она осторожно переступила через Уэллетт и устроилась между двумя ковшеоб-
разными сиденьями. Двое мальчишек-индусов — одному около шести, другой почти
подросток — уставились на нее. Склонившись вперед, она посмотрела в ответ.
Две пары черных глаз расширились от удивления; младший тоненько вскрикнул. В
следующую секунду обоих мальчишек как ветром сдуло.
— Это из-за твоих глаз, — сказала Така.
Кларк обернулась. Доктор сидела, обнимая спинку водительского сиденья, и
моргала от утреннего света.
— И костюма, — добавила она. — Серьезно, Лори, ты в этом прикиде похожа на
дешевого зомби. — Протянув руку за спину, она постучала по двери стенного
шкафа: — Можешь что-нибудь взять у меня.
К своему выдуманному имени Лени уже привыкала. Но непрошеный совет Уэллетт
— это совсем другое дело.
Когда они вылезли из машины, около той уже выстроилась очередь из шести че-
ловек . Така, улыбаясь, пошла к заднему борту и подняла тент. Кларк, еще не
совсем проснувшись, последовала за ней; рты Мири раскрылись, когда она прохо-
дила мимо. Серебристая обшивка исчезла, в цилиндрических стенах теперь видне-
лась сеть сенсорных датчиков.
Иконки и сигнальные индикаторы замерцали на панели управления в заднем от-
секе Мири. Уэллетт машинально пробежала по ним пальцами, следя за собирающи-
мися пациентами.
— Все стоят. Кровотечений не видно. Симптомов Бетагемота тоже. Начало хоро-
шее.
Где-то за полквартала от рекламного щита, из-за угла давно закрытого ресто-
рана показались те самые мальчишки, которых напугала Кларк, они тащили за со-
бой женщину средних лет. Та шла сама и не слушалась подгонявших ее детей,
словно те были нетерпеливыми собаками, так и рвущимися с поводка. Еще дальше,
аккуратно огибая горы мусора и пробивающиеся сквозь асфальт густые пучки тра-
вы , к машине хромал мужчина, опираясь на трость.
— А ведь мы недавно приехали, — пробормотала Кларк.
— Да. Обычно я врубаю музыку на полную катушку, для того чтобы оповестить
народ. Но часто в этом нет необходимости.
Кларк окинула взглядом улицу. Уже больше десяти пациентов.
— Новости расходятся быстро.
— и вот так, — ответила Уэллетт, — мы победим.
Уэллетт регулярно останавливалась в Бакспорте. Местные жители знали ее или,
по крайней мере, слышали о ней. А она знала их и оказывала помощь; вездесущая
музыка Таки тихо доносилась из кабины. Больные и раненые комками непрожеван-
ной пищи проходили через гудящие глубины Мири: иногда хватало нескольких се-
кунд, и на другом конце Уэллетт уже поджидала пациента с дермой, инъекцией
или антивирусным препаратом, который надо было всасывать через нос, словно
древний алкалоид1. Часто люди задерживались внутри, пока им связывали кости,
сращивали порванные связки или сфокусированными микроволновыми излучениями
прижигали злокачественные новообразования. В некоторых случаях проблема была
настолько очевидной, что Уэллетт ставила диагноз одним взглядом, а для лече-
ния хватало укола или совета.
Лени помогала, когда могла, но это случалось редко; Мири имела богатый ин-
вентарь , а рыбьи укусы среди местных встречались нечасто, поэтому Уэллетт
опыт Кларк был практически без надобности. Зато Така с лету обучила ее неко-
торым основным приемам и отправила на предварительную сортировку больных, вы-
строившихся в очередь. Но даже тут Лени не всегда улыбалась удача. Правила
были достаточно простыми, но молодежь часто шарахалась от Кларк: странная
черная кожа, которая словно шла рябью, когда на нее не смотрели; какие-то ме-
ханизмы в теле; стеклянные, пустые глаза, которые то ли смотрели на тебя, то
ли нет, а принадлежали как будто и не человеку, а роботу, занявшему его ме-
сто.
Кларк стала работать только со взрослыми и начала давать им жизненно важные
советы, пока больные дожидались своей очереди. В конечном итоге дело заключа-
лось не только в медицинской помощи. У них появились инструкции.
1
Алкалоид — азотосодержащие органические соединения преимущественно растительного
происхождения; многие из них являются сильнейшими ядами, многие применяются в меди-
цине в качестве лекарственных препаратов (кофеин, морфин, хинин и др.).
У них появился и план.
Дождитесь ракет, говорила она им. Смотрите на звездопады; следите, куда
упадут осколки, и найдите их. Вот что вы ищете, так оно выглядит. Собирайте
любые образцы — почву в стеклянные банки с крышкой; махайте тряпками, пока не
рассеются аэрозольные облака на месте падения. Чайной ложки достаточно. За-
полненная наполовину консервная банка — уже богатство. Берите все, что може-
те .
Не медлите: могут нагрянуть подъемники. Хватайте все и бегите. Прочь от
эпицентра, прячьтесь от огнеметов любыми способами. Расскажите другим, рас-
скажите всем и о цели, и о методе. Но не пользуйтесь ни радио, ни сетью. Ни
оптоволоконной, ни беспроводной. Иначе эфир поставит вас раком; доверяйте
только словам, произнесенным человеком при вас.
Нас можно найти во Фрипорте, Ратфорде или в городах, расположенных между
ними. Приходите к нам, приносите все, что у вас будет.
Надежда есть.
От Огасты по коже Лени поползли мурашки.
Они подъехали с востока, аккурат в полночь, по шоссе 202. Така свернула с
главной дороги на проселок, недолго спускавшийся по пологому склону долины,
где протекала река Кеннебек, и припарковалась на каменной гряде, откуда от-
крывался вид на топографию внизу.
На этом берегу реки люди бросили все; дальний выглядел почти так же. Почти
все, что было на другом берегу, выглядело так же. Только посреди темных пус-
тых руин, оставшихся от прежних добрых времен, горело яркое ядро. Его нимб
отражался от облачной гряды, висящей над головой, отчего пейзаж внизу казался
крупнозернистой высококонтрастной фотографией черно-белого цвета.
Кларк почувствовала, как руки и затылок покрываются «гусиной кожей». Даже
гидрокостюм как будто начал дрожать, ощущение было настолько неуловимым, что
парило где-то на границе воображения.
— Чувствуешь? — спросила Уэллетт.
Кларк кивнула.
— Электростатический генератор. Мы находимся на самом краю поля.
— Значит, в центре еще хуже?
— Внутри нет, разумеется. Поле направлено вовне. Но, чем ближе к периметру,
тем больше волосы становятся дыбом. А когда ты внутри, то уже его не чувству-
ешь . Ну не до такой степени. Есть и другие побочные эффекты.
— Какие?
— Опухоли, — Уэллетт пожала плечами. — Всяко лучше, чем Бетагемот.
Здания и пучки света выступали из темноты, сливаясь воедино, в их очертани-
ях можно было разглядеть грубые контуры голого мозаичного купола. Новая Ога-
ста, наверное, использовала каждый кубический сантиметр безопасной зоны.
— Мы пойдем туда? — спросила Кларк.
Уэллетт отрицательно покачала головой:
— Мы им не нужны.
— А мы можем войти туда?
Огаста хоть и потеряла прежнюю ценность, но доступ к базам данных и безо-
пасной сети там был. Похоже, Лабину все-таки лучше было остаться с ними.
— Типа в увольнительную сходим? Сделаем остановку, заглянем в вирт, примем
джакузи? — Врач тихо и беззлобно засмеялась. — Нет, так не получится. Вот,
если там случится какая-то авария, нас, может, впустят. А так сейчас каждый
сам за себя. Мири приписана к Бостону.
— Значит, ты можешь попасть в Бостон.
Так даже лучше.
— Ночью тут даже красиво, — заметила Уэллетт. — Несмотря на канцерогенные
побочные эффекты. Прямо как северное сияние.
Кларк молча наблюдала за ней.
— Тебе не кажется?
Лени решила пока не настаивать на Бостоне:
— Мне все равно, что день, что ночь. Цвета так и так маловато.
— А, да. Глаза. — Уэллетт покосилась на нее. — А ты от такого яркого осве-
щения не устала? Постоянно же.
— Да нет.
— Тебе надо снимать их время от времени для разнообразия. Иногда, когда
слишком много видишь, многое пропускаешь.
Кларк улыбнулась:
— Ты как печенье с предсказанием открыла.
Уэллетт повела плечами:
— Да и с больными легче будет общаться. Пациенты станут больше доверять.
— Я не так уж много могу сделать для твоих пациентов.
— Да дело не...
— А если от меня все-таки есть польза, — продолжила Кларк подчеркнуто бес-
страстным голосом, — тогда они смогут принять мою помощь, не указывая, что
мне носить.
— Хорошо, — протянула Така. — Прости.
Они посидели молча еще какое-то время. Наконец, Уэллетт завела Мири и вклю-
чила музыку — адреналиновая разноголосица саксофона и электронных ударных
как-то не особо укладывалась в ее предпочтения.
— Мы тут не останемся? — спросила Кларк.
— Я от мурашек не могу заснуть. И для Мири тут место неподходящее. Я просто
хотела тебе показать виды.
Они поехали дальше по дороге. Вскоре «гусиная кожа» прошла.
Уэллетт вела машину. Музыка сменилась речевой интерлюдией под музыкальный
аккомпанемент — какая-то история о зайце, который потерял свои очки, чтобы
это ни значило1.
— А это что такое? — спросила Кларк.
— Музыка двадцатого века. Могу выключить, если тебе...
— Да нет. Все нормально.
Однако Уэллетт все равно выключила. Дальше Мири поехала в тишине.
— Мы можем остановиться когда угодно, — произнесла Кларк через несколько
минут.
— Еще немного. Места вокруг городов опасные.
— Я думала, мы уже выехали из-под действия поля.
— Дело не в раке. А в людях. — Уэллетт включила автопилот и откинулась на
спинку сиденья. — Тут многие шатаются около анклавов и начинают очень сильно
завидовать.
— А что, Мири с ними не справится?
— Порежет на тысячи мелких кусочков, спалит или удушит. Мне просто не хо-
чется конфронтации.
Кларк покачала головой:
— Поверить не могу, что нас не впустили бы в Огасту.
— Я же говорила. Анклавы сами по себе.
— Тогда тебя зачем посылать? Если все такие эгоисты до мозга костей, то ка-
кой смысл помогать пустошам?
Уэллетт негромко хмыкнула:
— Где ты была последние пять лет? — Потом махнула рукой: — А, глупый во-
прос. Мы тут не из-за альтруизма, Лори. Куча лазаретов, лизунцы...
1 Имеется в виду песня «The story of the hare who lost his spectacles» с альбома «А
Passion Play» (1973) группы «Джетро Талл» (прим. ред.).
— Лизунцы?
— Пищевые станции. Все это комплекс мер, чтобы держать дикарей подальше от
баррикад. Мы им кинем пару подачек, может, у них и пропадет желание притащить
Бетагемот к нам домой.
Вполне разумно, с неохотой признала Кларк. И все же...
— Нет. Они не станут посылать самых лучших и самых умных просто сдерживать
толпу.
— Вот именно.
— Да, но ты...
— А что я? Я что, по-твоему, самая лучшая и самая умная? — Уэллетт хлопнула
себя по лбу. — Что, во имя всего живого, навело тебя на эту мысль?
— Я видела, как ты работаешь.
— Ты видела, как я получаю команды от машины и выполняю их, особо не лажая.
Пара дней тренировки, и ты, по большей части, справишься не хуже.
— Така, я не об этом. Я видела, как работают врачи. Ты — совсем другое де-
ло . Твое... — В голову сразу пришло выражение, о котором Така уже говорила:
«общение с пациентами». — Тебе не все равно, — закончила она фразу.
— Ох, — Така уставилась куда-то вперед. — Не путай сострадание с компетент-
ностью . Это опасно.
Кларк внимательно посмотрела на нее:
— Опасно. Какое-то странное слово для такой темы.
— В моей профессии компетентность людей не убивает, — ответила Уэллетт. — А
вот сострадание может.
— Ты кого-то убила?
— Трудно сказать. Вот в чем сущность некомпетентности. В отличие от умыш-
ленного вреда ее не так легко определить.
— И сколько? — спросила Кларк.
Уэллетт перевела взгляд на нее:
— Ты счет ведешь?
— Нет. Прости, — Лени отвернулась.
«Но если бы вела, — подумала она, — то легко заткнула бы тебя за пояс». Она
понимала, что такое сравнение несправедливо. Когда чья-то смерть слишком мно-
го для тебя значит, она может оказаться куда большим бременем, чем тысяча
трупов. Если тебе не все равно.
Если у тебя есть сострадание.
Наконец, они съехали на отдаленную поляну дальше по склону. Уэллетт разло-
жила койку и легла спать, что-то неразборчиво бормоча. Кларк неподвижно сиде-
ла в кресле, сквозь ветровое стекло наблюдая за серой ясностью ночи: за серой
травой на лугу, за темно-серыми рядами хилых елей, за покрытыми струпьями,
потертыми камнями. За небом, затянутым облаками, словно покрытым бумажной
салфеткой.
Сзади послышался слабый храп.
Пошарив за сиденьем, Лени вытащила свой рюкзак. Сосуд для линз лежал на са-
мом дне — жертва хронического пренебрежения. Она долго держала его в руке,
прежде чем открыть.
Каждая линза полностью закрывала роговицу и даже больше. Они сидели плотно
и, когда Кларк начала их снимать, словно потянули за собой глазные яблоки, а
потом оторвались с легким хлопком.
Впечатление было такое, словно она не просто сняла линзы, а вытащила себе
глаза — как будто ослепла. Или вновь оказалась на дне океана, там, где не бы-
ло никакого света.
Не сказать что это было так уж неприятно.
Поначалу все погрузилось во тьму; пока фотоколлаген пахал за двоих, радужка
обленилась, но через некоторое время вспомнила, что надо бы расшириться. Пус-
тоту впереди осветил темно-серый мазок: это слабый ночной свет проникал
сквозь ветровое стекло.
Лени на ощупь выбралась из лазарета и прислонилась к его боку. Закрыла
дверь так мягко, как могла. Ночной воздух охладил руки и лицо.
Краем глаза она заметила какое-то размытое пятно, которое исчезало, стоило
на нем сосредоточиться. Скоро Кларк уже смогла отличить небо от вершин де-
ревьев . Мутная клубящаяся серость над зубчатой тенью, казавшаяся чуть ярче на
востоке.
Лени отошла на пару метров от машины и оглянулась назад. Невероятно плавные
края Мири чуть ли не сверкали на фоне этого фрактального ландшафта. На запа-
де, сквозь разрыв в облаках, Кларк увидела звезды.
Лени шла дальше.
Из-за отсутствия света она раз шесть спотыкалась о корни и ямы. Но цветовая
гамма практически не отличалась от той, что Кларк видела в линзах: серое на
сером и черном. Только контрастность и яркость поубавились.
Когда небо начало светлеть на востоке, она увидела, что взбирается по ого-
ленному, усыпанному гравием склону холма с торчащими повсюду пнями — старой
лесосеке, которая так и не оправилась от потерь. Ее вырубили задолго до того,
как Бетагемот вышел на сцену.
«Все умирает», — сказала тогда Кларк.
А Уэллетт ответила: «Все и так умирало...»
Кларк посмотрела вниз на пройденный путь. Мири стояла, как игрушка, на краю
старой лесовозной дороги. Коричневые деревья выстроились по ее дальней сторо-
не и вокруг холма, на котором она стояла. На росчисти, где поднималась Лени,
их спилили подчистую.
Внезапно у нее появилась тень. Протянулась вниз по склону силуэтом убитого
великана. Кларк обернулась: сияющее красное солнце перевалило через кромку
холма. Ребристые облака наверху цветом напоминали радиоактивного лосося. Гля-
дя на них, Лени вспомнила оставленный волнами гофрированный рельеф на песча-
ном дне, но настолько ярких красок она никогда не видела.
«Может, не так уж и плохо терять зрение каждую ночь, — решила она, — если
оно вот так возвращается к тебе каждое утро».
Мгновение, конечно же, прошло. У солнца было всего несколько градусов — уз-
кая полоска чистого неба между лежащей внизу землей и облаками, плывущими
сверху. За несколько минут оно поднялось в тяжелую слоистую хмарь, померкнув
до бледного пятнышка в безликой серости.
«Алике», — подумала Кларк.
Скоро проснется Уэллетт, готовясь к еще одному бесцельному дню, проведенно-
му в служении общему благу. Делая добрые дела, которые не имели ни малейшего
значения.
«А может, дело не в общем благе, — подумала Кларк. — А в общей нужде».
Она начала спускаться с холма. Когда Кларк добралась до дороги, Уэллетт уже
встала. Она мигала, щурясь от утреннего света, и замигала еще больше, когда
увидела глаза рифтерши.
— Ты говорила, что можешь меня научить, — сказала Кларк.
Звездочет
«Она нормальная, Дэйв, — Така говорила с покойным мужем. — Поначалу пугала,
конечно; Крис бы от одного взгляда на нее пулей вылетела из комнаты. В общем,
не душа компании. Но с ней все в порядке, Дэйв, поверь. И коли ты не можешь
быть со мной, она, по крайней мере, свою долю работы выполняет».
Мири ехала по шоссе 195 сквозь ветхие останки города под названием Фрипорт.
Тот умер, когда исчезла рыба и туристы, задолго до того, как Бетагемот все
расставил по своим местам. Оказавшись в южной части города, они свернули на
боковую дорогу, по которой добрались до уединенной бухты. Така обрадовалась,
увидев, что чахлый лесок у приливной полосы все еще зеленеет, и даже махнула
деревьям рукой.
— А почему именно здесь? — удивленно спросила Лори, корда они высаживались
из машины.
— Электрический угорь.
Така открыла крышку зарядки на боку машины и, вытащив розетку, направилась
вниз по склону. За ней тянулся кабель. Из-под ног сыпалась в воду галька.
Лори подошла вслед за ней к кромке воды:
— Ну и что?
— Где-то на дне. — Опустившись на колени, Така вытащила сирену из кармана
ветровки и опустила ее в воду. — Надеюсь, этот хмырь еще приходит на зов.
В двадцати метрах от берега со дна поднялись пузырьки. Спустя мгновение на
поверхности показался угорь и, извиваясь, поплыл к ним, оранжевый и змеепо-
добный. Он выполз на берег возле ног Таки — гигантский светящийся сперматозо-
ид с хвостом, уходящим в глубину. У него были даже клыки: голову уродовал ме-
таллический рот с двумя зубцами.
Она подключила розетку. Голова загудела.
— Их припрятали то тут, то там, — объяснила она, — чтобы мы не полностью
зависели от подъемников.
Лори смотрела на спокойную поверхность воды в бухте.
— Блок Балларда?
— ЦЕЗАРЬ-реактор.
— Шутишь.
Така покачала головой:
— Автономный, саморегулирующийся, безотходный. По сути, просто большой блок
с парой охлаждающих ребер. Стоит опустить его в водоем, и он сразу заработа-
ет .
У него даже панели управления нет — он автоматически подстраивает напряже-
ние под подключенную линию.
От удивления Лори даже присвистнула.
Така подняла плоский камень и пустила его прыжками по воде:
— А когда Кен появится?
— Это зависит...
— От чего?
— От того, добрался ли он до Портленда. — А потом Лори как-то нерешительно
добавила: — И от того, не бросил ли он нас в Пенобскоте.
— Не бросил, — сказал Кен.
Они обернулись. Он стоял у них за спиной.
— Привет. — Выражение лица Лори не изменилось, но тело, казалось, еле за-
метно расслабилось. — Как все прошло?
Тот покачал головой.
Как будто и не было прошедших двух недель. Появился Кен, такой же зловещий
и непонятный, и Лори тут же поблекла. Изменение было едва заметным — она ста-
ла держать себя чуть жестче, чуть меньше проявляла эмоции, — но Таке все рав-
но что пощечину залепили. Женщина, которую считала союзницей и даже подругой,
исчезла. На ее месте стоял тот человекоподобный шифр, с который Уэллетт впер-
вые столкнулась на склонах тлеющей пустоши четырнадцать дней назад.
Пока Мири заряжалась, Кен и Лори отошли в сторонку и поговорили. Така не
слышала, о чем они говорили, но Кен явно рассказывал ей о своей портлендской
экспедиции. «Отчет о задании», — решила Уэллетт, наблюдая за ними. Кену это
словосочетание очень подходило. Судя по его взгляду и языку тела, поездка не
задалась.
«Хотя он всегда так выглядит», — напомнила она себе. Така попыталась пред-
ставить, что должно произойти, для того чтобы стереть с этого лица хрониче-
ское невозмутимое выражение и добиться хоть какой-то эмоциональной реакции.
Может, он изменится, если почувствует угрозу. А может, хватит и газов в лиф-
те .
Когда Мири зарядилась, они направились в город. Лабин втиснулся в простран-
ство между сиденьями. У Таки возникло такое чувство, что он и Лори обменива-
ются гигабайтами информации, хотя каждый и десяти слов не сказал.
Во Фрипорте Така останавливалась регулярно; она припарковалась на пересече-
нии Мейнстрит и Ховард возле побитого фасада уже давно покойного магазина
одежды. «Пропасть»1 — каждый раз, когда она видела его название, то невольно
улыбалась. Город в целом, как и многие другие, уже давно умер; в его гниющем
теле еще жили отдельные клетки, и некоторые из них уже ждали, когда приехала
Мири. Така, тем не менее, все равно на полную громкость включила Стравинско-
го, пусть и ненадолго, оповещая остальных о своем прибытии. Постепенно на
улицу стали выходить люди, выныривая из остовов зданий и дырявых корпусов
старых рыбацких лодок, которые держали на плаву в какой-то безумной надежде,
что «ведьма» боится воды.
Уэллетт и Лори принялись за работу. Кен решил не попадаться пациентам на
глаза и остался в кабине; благодаря теням и динамической тонировке окон Мири
снаружи он был практически невидим. Работая на конвейере сломанных рук и
гниющей плоти, Така снова спросила о Портленде. Лори пожала плечами, милая,
но теперь далекая:
— Проникнуть он туда мог. Но его бы заметили.
Неудивительно. Береговую зону около Портленда выжгли полностью: теперь это
было плоское, утыканное датчиками пространство, и Така просто не представля-
ла, как его можно пересечь незамеченным. На глубине подходы к суше охраняла
мембранная оболочка, лишающая сил. Прокрасться в такое место было невозможно
— да и в любой анклав, если на то пошло, — а чтобы прорваться туда силой, у
Кена не хватало ресурсов.
Время от времени Уэллетт как бы невзначай бросала взгляды в кабину, продол-
жая осматривать пациентов. Иногда она замечала две слабые мерцающие точки,
смотрящие в ответ, немигающие и неподвижные за черными отражениями.
Она не знала, что он там делает. И не спрашивала.
Все выглядело так, будто ночь превратилась в черную пленку, покрывшую весь
мир, а звезды — это проколы, сквозь которые проникает дневной свет.
— Там, — сказал Кен, указывая на запад.
Тонкие иглы, три или четыре. Они скребли небо, оставляя слабые царапины на
созвездии Волопаса, и пропали за несколько секунд; если бы не Кен, Така нико-
гда бы их не увидела.
— Ты уверен, что мы в безопасности, — сказала она.
Он сидел слева и при свете звезд казался черным силуэтом на фоне мрака.
— Они уже пролетели над нами, — сказал Кен, но о безопасности говорить не
стал.
— А вот и перехватчики, — заметила Лори, сидевшая позади. Возле созвездия
Геркулеса на несколько секунд вспыхнули сверхновые — не конденсационные сле-
ды, а именно вспышки противоракетных снарядов, сошедших с орбиты. Когда они
войдут в атмосферу, то уже опустятся за горизонт.
Было уже за полночь. Они стояли на каменистом холме к югу от Фрипорта. Весь
мир — одни звезды и небо, пустой круг земли, видневшийся под горизонтом, был
темен и безлик. Они прибыли, повинуясь звуковому сигналу от планшета Кена, а
1
Имеется в виду сеть магазинов одежды «The Gap».
тот держал связь с перископом, плавающим где-то в океане позади. По всей ве-
роятности, их субмарина — «Вакита», так называла ее Лори, — была еще и звез-
дочетом .
Така могла понять, почему Млечный Путь казался настолько красивым, что
смотреть на него было больно.
— Может, нам повезет, — пробормотала она. Хотя маловероятно; с тех пор как
они запустили свой план в действие, прошло всего две атаки, считая эту, а как
далеко за такое время могли расползтись слухи?
И все же три атаки за три недели. При таком уровне активности им уже скоро
должно повезти...
— Не рассчитывай на это, — сказал Кен.
Уэллетт посмотрела на него и тут же отвернулась. Еще недавно этот человек
стоял у нее за спиной, одной рукой слегка сжимая ей шею, и давал Лори указа-
ния, как разбирать оружейные системы, чьих названий Така даже не знала. И то-
гда, и сейчас он был достаточно любезен, так как Уэллетт сотрудничала. Веж-
лив, так как Уэллетт никогда не становилась у него на пути.
Но у Кена была миссия, и эксперимент Таки по спасению простых людей в нее
явно не входил. Кен подыгрывал по каким-то только ему ведомым причинам, но не
существовало никаких гарантий, что завтра или послезавтра у него не иссякнет
терпение, и он не решит перейти к изначальному плану. Така не знала, в чем
тот заключается, но подозревала, что он как-то связан со спасением соратников
Лори и Кена, оставшихся на глубине. Уэллетт уже давно уяснила, что расспраши-
вать об этом ее попутчиков не стоит, но, похоже, для выполнения задания им
было нужно как-то проникнуть в портлендский анклав, чего Кен явно сам сделать
не смог.
А также угнать лазарет Уэллетт, что мужчина и сделал.
И вот теперь под покровом глубокой ночи она сидела в какой-то глухомани с
двумя пустоглазыми энигмами. Под периодическим товариществом, человеколюбивой
помощью и хитроумными планами скрывался один неопровержимый факт: Така была
пленницей. Вот уже несколько недель.
«Как я могла забыть об этом?» — удивилась она, и сама же ответила на свой
вопрос: просто ее не трогали. . . пока. Ей не угрожали. . . в последнее время.
Похитители не увлекались насилием ради насилия; а в пустошах было не отыскать
более убедительного доказательства цивилизованного поведения. Така просто за-
была, что находится в опасности.
И поступила глупо, если посмотреть на вещи трезво. После неудачи в Портлен-
де Лабин мог легко вернуться к «плану А» и забрать машину. Неизвестно, согла-
ситься с ним Лори или нет — Така надеялась, что под этим вновь появившимся
холодным фасадом сохранилась хоть какая-то привязанность, — но в любом случае
большой разницы от этого не будет.
И было совершенно непонятно, что похитители станут делать, если Така попы-
тается встать у них на пути. Или когда исчерпают «более эффективные альтерна-
тивы» . В лучшем случае ее могли выбросить где-нибудь в пустошах — иммунизиро-
ванного ангела с подрезанными крыльями и без помощи Мири, если очередной
красноглазый решит поискать спасения.
— Я получаю сигнал из Монреаля, — объявил Кен. — Зашифрованный. Похоже,
скремблирование1.
— Подъемники? — предположила Лори, Кен утвердительно хмыкнул.
Така откашлялась:
— Я на секунду. Очень писать хочется.
— Я с тобой, — тут же ответила Лори.
1
Скремблирование — шифрование путем перестановки и инвертирования групп символов
или участков спектра.
— Да не глупи ты, — Така махнула рукой в темноту, туда, где из редкого леса
поднимался холм, на вершине которого они сидели. — Я и отойду всего на пару
метров. Не заблужусь.
Два освещенных звездами силуэта повернулись и посмотрели на нее, не произ-
нося ни слова. Така сглотнула и сделала шаг вниз по склону.
Кен и Лори не сдвинулись с места.
Еще один шаг. Еще. Нога ступила на камень, Уэллетт чуть не упала.
Похитители снова занялись тактикой и техникой. Така осторожно спускалась
вниз. Звездный свет набрасывал силуэты препятствий на пути. Хотя луна не по-
мешала бы; Уэллетт дважды споткнулась, прежде чем перед нею появился лес,
зубчатая черная полоса, поглотившая небо.
Спустя несколько секунд он поглотил и Таку.
Она посмотрела на холм сквозь заросли кустарников и стволы деревьев; Кен и
Лори все еще стояли на вершине неподвижными темными трафаретами. Така не зна-
ла, видят ли они ее, смотрят ли в ее сторону. На открытом месте Уэллетт заме-
тили бы сразу. Но даже глаза ночных созданий бессильны перед стволами деревь-
ев .
В ее распоряжении было самое большее несколько минут — после этого они пой-
мут, что она сбежала.
Она пошла так быстро, как могла, изо всех сил стараясь не шуметь. К сча-
стью, подлеска почти не было; и в лучшие времена солнце с трудом проникало
сквозь густой лиственный полог, а сейчас... сейчас недостаток света явно не
был главным сдерживающим фактором. Така пробиралась на ощупь сквозь лабиринт
из вертикальных стволов, устилающих землю сухих листьев и почвы, гнилой от
Бетагемота. Низко растущие ветви цеплялись за лицо. Корявые старые деревья
появлялись из темноты буквально в метре от Уэллетт, а молодая тонкая поросль
хлестала вообще без какого-либо предупреждения.
Така споткнулась о корень, остановилась, закусила губу, чтобы не закричать
от боли. Падая, она вытянула руку и уперлась в упавшую ветку. Та треснула, и
эхо пистолетным выстрелом разнеслось по лесу. Уэллетт лежала, скрючившись, на
земле, баюкая ободранную ладонь и прислушиваясь, не идут ли какие-то звуки с
холма.
Ничего.
Она снова двинулась в путь. Склон стал более крутым и более коварным. Дере-
вья, попадавшиеся на встречу, походили на скелеты, сухие и ломкие, и были
только рады выдать ее каждым сломавшимся сучком. Одно из них поймало ее под
колено: Така рухнула на землю и остановиться уже не смогла — покатилась по
склону, ударяясь о камни и поваленные стволы деревьев.
Земля, казалось, исчезла. Неожиданно она почти обрела способность видеть.
Широкая тускло-серая полоса устремилась к ней; она сразу поняла, что это, —
еще до того, как та ударила ее, содрав кожу с предплечья.
Это была дорога. Дорога, словно подол огибавшая эту сторону холма. Уэллетт
припарковала Мири где-то поблизости.
Така встала на ноги и огляделась. Заранее спланировать спуск с холма она не
могла, а потому, где конкретно шлепнулась на дорогу, не знала. Подумав, она
повернула направо и побежала.
Слава Богу, на дороге никого не было, а тусклого гравийного альбедо1 хвата-
ло, чтобы не сбиться с пути. Дорога плавно разматывалась вокруг склона холма,
дробленый камень хрустел под ногами, и вдруг что-то блеснуло во тьме впереди,
что-то с прямыми линиями и блестящее в звездном свете...
«О, слава Богу. Да. Да!»
1
Альбедо — величина, характеризующая отражательную способность любой поверхности.
Она распахнула водительскую дверь и, тяжело дыша, ввалилась внутрь.
И тут засомневалась.
«И что ты хочешь сделать? Сбежать от всего, что пыталась делать за послед-
ние две недели? Просто уехать и дать „ведьме" победить, хотя, может, и есть
способ остановить ее? Рано или поздно кто-то найдет золотую жилу, а ты сказа-
ла принести образцы сюда. Что произойдет, если они объявятся, а ты уже смо-
ешься, поджав хвост?
Хочешь позвать на помощь? Думаешь, она придет прежде, чем Кен и Лори разде-
лаются с тобой или просто запрыгнут в свою субмарину и уплывут куда-нибудь в
Марианскую впадину? Думаешь, помощь вообще придет? В наше-то время? А что,
если предупредишь врага, Така? Как насчет тех, кто пытается остановить то,
чему ты стараешься помочь? Ты хочешь всем рискнуть только потому, что парочка
эмоционально неустойчивых типов со странными глазами могут тебя тронуть, если
ты их разозлишь?»
Така покачала головой. Безумие какое-то. У нее была всего пара секунд, пре-
жде чем Кен и Лори ее обнаружат. И от ее решения прямо сейчас зависит судьба
Новой Англии, а может, и всей Северной Америки. Спешить нельзя, но времени-то
нет...
«Мне нужно время, надо уехать ненадолго. Мне нужно все обдумать». Она ткну-
ла в клавишу зажигания.
Мири не завелась.
Еще раз. Ничего. И только в голове воспоминания о том, как Кен сидел здесь,
в этой кабине, сверкал глазами в окружении всех этих схем, о которых, похоже,
знал так много.
Она закрыла глаза. А когда открыла их снова, он смотрел прямо на нее.
Кен открыл дверь.
— Что-то не так? — спросил он.
Така вздохнула. В тишине сочилась кровь из саднящих царапин.
Лори открыла пассажирскую дверь и влезла в кабину.
— Давай поедем обратно, — произнесла она чуть ли не нежно.
— Я... почему...
— Давай, — сказал Кен, указав на приборную панель.
Така нажала большим пальцем на клавишу зажигания.
Мири, заурчав, мгновенно ожила.
Она вышла из кабины, дав Лабину залезть внутрь. Небо над головой сплошь
усеивали звезды.
«О Дэвид, — подумала она. — Как жаль, что тебя нет рядом».
Спящий
На следующее утро в десять часов тридцать минут все изменилось.
Мотоцикл показался в конце улицы и сразу принялся спорить со своим наездни-
ком о том, как лучше обогнуть выбоину размером с Арканзас. Это был «Кавасаки»
последней модели, сошедший с конвейера перед пришествием «огненной ведьмы»,
со стабилизаторами воздушной подушки, отчего машина практически не могла пе-
ревернуться; иначе она уже давно полетела бы вверх тормашками и врезалась в
рекламный щит, работающий на солнечных батареях, на котором даже спустя
столько лет мертвые знаменитости, мерцая, продавали усилители иммунитета от
«Джонсон и Джонсон». Вместо этого «Кавасаки» всего лишь наклонился под каким-
то немыслимо острым углом, затем выпрямился, приняв прежнее положение, и, по-
вернув, остановился между Мири и кучкой одичавших ребятишек, ожидающих какой-
нибудь халявы.
В густом мраке «Пропасти», позади вновь прибывшего сверкнули белые глаза
Кена.
Мотоциклист был страшно худым, весь в лохмотьях, с нечесаной шевелюрой кри-
во подстриженных каштановых волос. На грязной коже едва виднелись редкие усы,
указывавшие на возраст около шестнадцати лет
— Вы тот самый врач с ракетами?
— я тот самый врач, которого интересуют ракеты, — поправила его Така.
— А я — Рикеттс. Вот.
Он сунул руку под изношенную термокуртку из хромовой кожи и вытащил герме-
тизируемый пакет со страшно грязным бельем.
Така аккуратно взяла его, стараясь держать подальше от себя:
— Что это?
Рикеттс перечислил по пальцам:
— Брюки, рубашка и один носок. Им пришлось импровизировать, ну вы понимае-
те. А у меня была только одна сумка, и к тому же я находился очень далеко от-
туда, на другом задании.
Лори вылезла из кабины:
— Така?
— Привет, — протянул Рикеттс и оценивающе улыбнулся: один зуб обломан, два
отсутствуют, остальные в четырех оттенках желтого. Он осмотрел Лори, как
штрих-код считал. Винить его Така не могла: в новом мире любая женщина с чис-
той кожей и полным набором зубов по умолчанию становилась секс-символом.
Она щелкнула пальцами, чтобы вернуть его в реальный мир.
— Так что это?
— Ах да, — спохватился Рикеттс. — Вег и Морикон нашли одну из этих канистр,
о которых вы говорили. Из нее текла какая-то херня. Не рекой, конечно, а
знаете, как будто эта штука вспотела. В общем, промочили эти тряпки в той
жидкости, — он жестом указал на сумку, — и передали мне. Пришлось гнать всю
ночь.
— Откуда? — спросила Така.
— Хотите знать, где мы нашли канистру? В Берлингтоне.
В такую удачу даже не верилось.
— Это в Вермонте, — добавил парень услужливо.
Рядом с Рикеттсом неожиданно появился Кен.
— В Вермонте упали ракеты? — спросил он.
Парень испуганно обернулся. Увидел Кена. Увидел его глаза.
— Шикарные линзы, — одобрительно сказал он. — Я и сам раньше угорал по риф-
терской теме.
«Рифтеры», — вспомнила Така. Они обслуживали геотермальные станции на За-
падном побережье...
— Ракеты, — напомнил Кен. — Помнишь, сколько их было?
— Без понятия. Я сам видел то ли четыре, то ли пять, но сами понимаете...
— Подъемники были? Пожары?
— Да, кто-то говорил, что они могут появиться. Вот почему мы так спешили.
— Так были или не были?
— Да не знаю я. Сразу уехал. Вы же вроде хотели, чтобы вам это вещество
доставили как можно скорее?
— Да. Да! — Така не отрывала взгляда от кучи грязного белья в сумке. Ничего
прекраснее она в жизни не видела. — Рикеттс, спасибо тебе. Ты даже предста-
вить не можешь, насколько это может быть важно.
— Ага, а в качестве благодарности зарядить байк не дадите от вашего агрега-
та? — Он хлопнул по сиденью мотоцикла. — Эта штуковина уже на ладан дышит,
километров десять осталось... а награды посущественнее у вас нет случайно?
«Награда, — повторяла про себя Така, распутывая кабель для мотоцикла Рикет-
тса. — Награда будет, если мы все не умрем в ближайшие десять лет».
С изрядной почтительностью она уложила полученное сокровище в пробоотбор-
ник, дав Мири срезать упаковку и отделить зерна от плевел. Зерна там явно бы-
ли, причем это стало понятно не по наличию элементов, а скорее, по их отсут-
ствию: количество Бетагемота в выборке оказалось гораздо ниже обычного. Прак-
тически ничтожно.
«„Ведьму" что-то убивает». Это предварительное объяснение, это подтвержде-
ние гипотезы, которая за последние недели из надежды превратилась почти в аб-
солютную уверенность, грозило раздавить все научные предосторожности, которые
вбили в Таку во время работы и обучения. Она с трудом умерила радость. Надо
провести тесты. Собрать факты. Но какая-то визжащая от счастья первокурсница
внутри нее уже знала, что все результаты подтвердят тот самый, первый вывод.
Что-то убивало «ведьму»
Вот оно. Среди плесени, грибов и фекальных бактерий оно сияло, как нитка
жемчуга, наполовину втоптанная в грязь: генетическая последовательность, ко-
торая не имела аналогов в базе Мири. Така вызвала ее наверх и заморгала. «Не
может быть». Она тихонько свистнула сквозь зубы
— Ну что? — спросила Лори, сидевшая рядом.
— На это потребуется больше времени, чем я предполагала, — сказала Уэллегг.
— Почему?
— Потому что я до сих пор не видела ничего подобного.
— Может, мы видели, — предположил Кен.
— Не думаю. Если только вы... — Така замолчала. На интерфейсе замигало пре-
дупреждение: кто-то просил разрешения загрузить материалы. Она посмотрела на
Кена:
— Это ты?
Тот кивнул.
— Это генетический код нового микроорганизма, с которым мы недавно столкну-
лись .
— Где?
— Не здесь. На изолированной территории.
— В лаборатории? В горах? В Марианской впадине?
Кен ничего не ответил. Его данные терпеливо постучались в дверь Мири.
Наконец, Така впустила их:
— Думаешь, тут то же самое? — спросила она, пока система отфильтровывала
вирусы.
— Не исключаю.
— То есть вы держали информацию при себе и показали ее мне только сейчас.
— у тебя только сейчас появился материал, с которым ее можно сравнить.
— Черт тебя подери, Кен. Ты, я вижу, не командный игрок, да?
Ну, хоть один ответ получила: теперь понятно, почему эта пара так долго тут
ошивалась.
— Это — не противоядие, — сказала Лори, словно подготавливая Таку к неиз-
бежному разочарованию.
Та вывела данные о новой последовательности.
— Да, вижу, — сказала она, качая головой. — Но это и не наш таинственный
микроб.
— Серьезно? — Лори, похоже, сильно удивилась. — Ты так быстро определила,
за пять секунд?
— Ваш код — это практически копия Бетагемота.
— Это не так, — уверил ее Кен.
— Тогда какой-то новый штамм. Мне надо просмотреть всю последовательность
для верности, но я даже по виду вижу, что это РНК-микроб.
— А биозоль нет?
— Я не знаю, что это такое. Это какая-то нуклеиновая кислота, но у сахара
тут четырехуглеродное кольцо. Я такого никогда не видела, и в базе данных Ми-
ри ничего нет. Придется все делать с нуля.
Кен и Лори обменялись взглядами, они сейчас столько говорили друг другу, но
не Уэллетт.
— Не дай нам себя остановить, — сказал Лабин.
Мири могла идентифицировать известные заболевания и лечить те, от которых
было лекарство. При этом она умела генерировать случайные варианты обычных
целевых антибиотиков и прописывать схемы лечения, которые опережали способно-
сти обычных микробов к контрмерам. Мири сращивала сломанные кости, вырезала
опухоли и лечила все виды физических травм. Когда дело касалось Бетагемота,
она превращалась в паллиативный центр на колесах, но даже так лучше, чем ни-
чего. В целом, передвижной лазарет был чудом современной медицинской техноло-
гии, но лишь полевым госпиталем, а не исследовательской лабораторией. Он мог
секвенировать новые геномы, если знал матрицу, но создавали его не для этого.
Геномы, базирующиеся на неизвестной матрице, представляли собой проблему
совсем иного рода. Этот микроб не имел ничего общего ни с ДНК, ни с РНК — да-
же с примитивным, едва сворачивающимся в спираль вариантом РНК, от которого
зависел Бетагемот. Рикеттс привез что-то совсем иное, и база данных Мири не
предназначалась для работы с чем-то подобным...
Таке было наплевать. Она все равно заставила машину работать.
Уэллетт довольно легко нашла матрицу, стоило ей выйти за пределы обычных
процедур секвенирования. Та лежала в пыльном углу биомедицинской энциклопе-
дии: ТНК — треозонуклеиновая кислота, впервые синтезированная в начале века.
Обычные основания закреплены на треозной сахарофосфатной основе, с фосфоди-
эфирными связями, соединяющими нуклеотиды. В некоторых ранних теоретических
работах высказывались предположения, что она могла иметь большое значение,
когда жизнь только зарождалась, но все благополучно позабыли о ней после то-
го, как марсианская панспермия1 одержала победу.
Новая матрица означала новые гены. Стандартная база данных оказалась прак-
тически бесполезной. Расшифровка новых последовательностей с помощью инстру-
ментария Мири походила на рытье туннеля чайной ложкой: сделать-то можно, но
надо иметь чертовски сильное желание. К счастью, желание Таки было сильным
как никогда. Она копала, понимая, что нужно лишь время да парочка неизбежных
заходов в тупик.
Слишком много времени. Слишком много тупиков. И больше всего раздражало то,
что Така уже знала ответ. Знала его еще до того, как начала работу. Каждый
кропотливый, трудоемкий, скучный тест убеждал ее в правильности гипотезы. Ка-
ждая электрофоретическая группа, каждая виртуальная клякса, каждая полимераз-
ная цепная реакция — все эти случайные бессистемные методики, которые Уэллетт
нанизывала друг на друга час за часом, — все они неумолимо и бесстрастно ука-
зывали на один и тот же прекрасный ответ.
Не просто прекрасный — восхитительный. Спустя три дня, устав от бесконечных
перепроверок и повторений, она решила остановиться на полученных результатах.
Она представила свои выводы около полудня в бухте с угрем, выбрав ее за уеди-
ненность и готовый источник электропитания.
— Это не модицификация, — сказала она рифтерам. Одинокая мокрая чайка осто-
рожно ковыляла среди камней. — Это полностью искусственный микроорганизм,
созданный с нуля с одной задачей — побороть Бетагемот на его собственной тер-
ритории. Его матрица основана на ТНК, что довольно примитивно, но он также
использует небольшой отрезок РНК так, как Бетагемот никогда не делал, — а это
уже продвинутая способность, эукариотическая. Он использует пролин для ката-
лиза. Единственную аминокислоту, выполняющую работу целого фермента, — вы
1
Панспермия — гипотеза о появлении жизни на Земле в результате переноса с других
планет неких зародышей жизни.
хоть представляете себе, сколько пространства при этом экономится?..
Нет. Они не представляли. Пустые взгляды говорили об этом довольно красно-
речиво .
Така перешла к сути:
— В общем, друзья мои, вывод такой: если этого паренька бросить в культуру
с Бетагемотом, он не оставит ему ни единого шанса.
— В культуру... — как бы про себя повторил Кен.
— Нет причин думать, что в естественных условиях он поведет себя иначе.
Помните, его спроектировали так, чтобы он мох1 выжить в этом мире; по плану
они, очевидно, хотят вбросить его сюда в аэрозольной форме и предоставить ему
полную свободу.
Кен хмыкнул, просматривая на дисплее результаты Таки:
— А что это?
— Это? Ах да, это полиплоид.
— Полиплоид? — переспросила Лори.
— Ну, вы же знаете: гаплоид, диплоид, полиплоид. Множественные наборы ге-
нов . Они обычно у растений бывают.
— А что он тут делает? — удивился Кен.
— Я обнаружила несколько опасных рецессивных генов, — признала Така. — Мо-
жет, их вставили намеренно из-за какого-то положительного эффекта, который
они имеют в совокупности с другими генами, а может, разработка шла в авраль-
ном режиме и они проскочили случайно. Насколько я могу судить, эти избыточные
гены включили в структуру для того, чтобы исключить проявление гомозиготно-
сти1.
— Смотрится не слишком элегантно, — хмыкнул Кен.
Така нетерпеливо тряхнула головой:
— Конечно, решение неуклюжее, но оно быстрое, в смысле, главное... оно ра-
ботает ! Мы можем одолеть Бетагемот.
— Если ты права, — задумчиво ответил Кен, — нам надо сражаться не с ним.
— Со странами Мадонны? — предположила Така.
В позе Лори что-то изменилось.
Версия Таки Кена явно не убедила:
— Возможно. Но ракеты, похоже, сбивает Североамериканский оборонительный
щит.
— УЛН, — негромко добавила Лори.
Лабин пожал плечами:
— На данный момент УЛН по сути и есть вооруженные силы этого континента. А
от централизованных правительств мало что осталось, и Управление никто не
держит в узде.
— Это неважно, — сказала Така. — Правонаруаштели неподкупны.
— Скорее всего, они были такими. До Рио. А теперь кто знает?
— Нет. — Така видела полностью сожженные районы. Вспомнила, как подъемники
на горизонте дышали пламенем. — Мы же получаем от них приказы. Мы все...
— Тогда тебе лучше держать этот проект поближе к сердцу, — заметил Лабин.
— Но зачем кому-то... — Лори перевела взгляд с Таки на Кена, на ее лице бы-
ло написано недоверие. — В смысле им-то с этого какой прок?
«А у нее не просто замешательство, — подумала Така. — Еще чувство потери. И
боль». Что-то щелкнуло в мозгу Уэллетт: все это время Лори по-настоящему не
верила. Помогала, где могла. Заботилась. Приняла версию Таки — по крайней ме-
ре , как вариант, — потому что та давала ей возможность исправить положение. И
все же только сейчас она, казалось, поняла, что влечет за собой гипотеза Та-
Гомозиготность — однородность наследственной основы (генотипа) организма.
ки, какие масштабные последствия. Только сейчас Лори осознала, что в конечном
итоге они борются не с Бетагемотом, а с представителями своего собственного
вида. С людьми.
«Странно, — задумалась Така, — как часто все сводится к этому...»
Для Лори все вокруг было не только концом света. Новый враг, казалось, име-
ет для нее какое-то глубоко интимное значение. Словно кто-то предал лично ее.
«Добро пожаловать, — подумала Така, увидев, как из-под непроницаемой маски
вновь показалось хрупкое, ранимое создание. — Я по тебе скучала».
— Я не знаю, — наконец, ответила она. — Я не знаю, кто. Не знаю, почему. Но
суть в том, что теперь мы это остановим. Мы культивируем этих крошек и пошлем
их в бой. — Така взглянула на показатели инкубаторов. — У меня уже есть пять
литров готового вещества, а к утру будет двадцать...
«Странно, — подумала она, обратив внимание на мигающую иконку. — Так не
должно. . . это же ...»
У Таки перехватило дыхание.
— Черт побери, — еле слышно прошептала она.
— Что? — Кен и Лори одновременно подались вперед.
— Лаборатория онлайн. — Она ткнула пальцем в иконку: та продолжала безмя-
тежно мигать. — Лаборатория онлайн. И она что-то загружает в сеть... Бог зна-
ет что...
Кен уже карабкался наверх по стенке фургона.
— Дай мне ящик с инструментами, — отчеканил он, скользя по крыше к малень-
кой спутниковой тарелке, почему-то поднявшейся из своего гнезда и направлен-
ной в небо.
— Что? Я...
Лори нырнула в кабину. Кен дернул тарелку, нарушая связь с какой-то злопо-
лучной геостационарной звездой. Неожиданно он вскрикнул и забился, чуть не
скатившись на землю. Выгнул спину, а руки и голову поднял от металлического
покрытия.
Тарелка начала неуверенно возвращаться на линию связи, оголенные шестерни
жалобно скрипели.
— Черт побери! — закричала Лори и вывалилась из кабины, рассыпав инструмен-
ты. Она с трудом вскочила на ноги и заорала: — Выруби машину! Корпус под на-
пряжением !
Така бросилась к открытой двери. Кен, извиваясь, на спине и локтях полз на-
зад к тарелке, используя гидрокостюм в качестве изолятора. Когда Уэллетт ныр-
нула внутрь — «слава Богу, что мы отключили все внутри», — из чрева Мири по-
слышалось знакомое гудение.
Лазарет запускал орудийный отсек.
GPS включена. Така выключила ее. Та воскресла. Все внешние системы обороны
пробудились и жаждали крови. Уэллетт попыталась их отозвать, но они не обра-
тили на нее внимания. Снаружи перекрикивались Кен и Лори.
«Что делать.. . что ...»
Она залезла под панель управления и вскрыла коробку предохранителя. Преры-
ватели были неуклюжими устройствами на ручном управлении, демоны из электро-
нов до них достать не могли. Така вырубила систему безопасности, связь и GPS.
А потом еще и автопилот — так, на всякий случай.
Электрический гул неожиданно смолк.
Она на секунду закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Сквозь открытую дверь
доносились голоса, пока Така выбиралась на водительское сиденье.
— Ты как?
— Да нормально. Большую часть разряда принял гидрокостюм.
Уэллетт знала, что произошло. Точнее, опять произошло, поправила она себя,
хватая с крючка шлемофон.
Она не была программистом. Управлялась максимум с базовыми программами. Но
она была опытным врачом — а даже выпускники из нижней половины списка знают
свои инструменты. Така не стала отсоединять медсистемы и теперь вывела архи-
тектурную схему и запустила пересчет модулей.
Там оказались черные ящики. В одном из них, судя по иконке, даже был прямой
пользовательский интерфейс. Она включила его.
Перед ней появилась «Мадонна», но не произнесла ни слова. Только оскалилась
— особой улыбкой, преисполненной ненавистью и триумфом. Какая-то отдаленная и
незначительная часть мозга Уэллетт задумалась, какое селективное преимущество
получила программа, выработав такую презентацию. Разве устрашение в реальном
мире увеличивает приспособляемость в виртуальном?
Но, по большей части, разум Таки сейчас был занят совсем другим, чем-то,
что не доходило до нее прежде. Глаза аватара скрывали белые линзы.
Линзы были у каждой «Лени», с которой Уэллетт довелось встретиться: лица
менялись от демона к демону — разные губы, щеки и носы, разные этнические
особенности. Но глаза оставались неизменными — белыми, безликими, как снег.
«Меня зовут Така Уэллетт», — представилась она целую вечность назад.
И эта странная энигма женского пола — которая так близко к сердцу принимала
апокалипсис, — ответила: «Ле... Лори».
— Така.
Така встрепенулась, но нет — с ней говорила не эта «Лени».
Она сдернула с головы шлемофон. Женщина в черном с механизмами в груди и
маленькими ледниками вместо глаз смотрела на нее. Она ничем не походила на то
существо из сети. Ни злости, ни ненависти, ни триумфа. Но почему-то именно
это бесстрастное лицо из плоти и крови теперь в глазах Таки ассоциировалось с
машиной.
— Это была одна из. . . это была «Ле «Мадонна», — сказала Уэллетт. —
Внутри медсистемы. Я не знаю, сколько времени она там находилась.
— Нам надо ехать, — сказала «Лори».
— Она пряталась. И, скорее всего, шпионила за нами. — Доктор покачала голо-
вой. — Я даже не знала, что они могут действовать молча, я думала, они авто-
матически рвут на части все, что попадается под руку...
— «Мадонна» подала сигнал. Надо убираться отсюда, и поскорее, пока не на-
грянули подъемники.
— Точно. Точно.
«Така, соберись. Об этом подумаешь позже».
Рядом с «Лори» появился Кен:
— Ты говорила, что у тебя уже готово пять литров культуры. Мы немного возь-
мем с собой. Ты распространишь остальное. Поезжай в город, включай сирену,
дай хотя бы несколько миллилитров любому, кто сможет выполнить задание, и
прячься. Если сможем, мы пересечемся с тобой позже. Список есть?
Така кивнула:
— У местных только шесть человек на колесах. Семь, если Рикеттс еще не уе-
хал .
— Больше никому культуру не давай, — сказал Кен. — Из горячей зоны люди
пешком вовремя не выберутся. Также не советую говорить о подъемниках кому-
либо кроме тех, кому знать нужно.
Она покачала головой:
— Всем нужно, Кен.
— Люди без машины решат украсть ее у тех, у кого она есть. Я сожалею, но
паника может поставить под удар...
— Забудь об этом. Их надо хотя бы предупредить. Если они не смогут обогнать
огнеметы, то хотя бы найдут место, где спрятаться.
Кен вздохнул:
— Хорошо. Просто хотел напомнить о риске. Спасая десяток человек сейчас, ты
можешь обречь на смерть намного больше потом.
Така не смогла сдержать улыбки:
— А разве ты раньше сам не считал, что всех спасать не стоит?
— Дело не в этом, — вступила в разговор «Лори». — Ему просто нравится, ко-
рда люди умирают.
Така удивленно заморгала. В лицах рифтеров не отразилось ничего.
— Надо торопиться, — сказал Кен. — Если они вылетят из Монреаля, у нас все-
го час.
Лаборатория Мири могла высевать культуру как спереди фургона, так и сзади.
Така залезла внутрь лазарета и ввела команды.
— «Лени»?
— Да... — откликнулась «Лори» и тут же замолчала.
— Нет, — тихо сказала Уэллетт. — В смысле, что будем делать с «Лени»?
Другая женщина не ответила. Ее лицо походило на маску.
Зато ответил Кен:
— Ты уверена, что она не выберется?
— Я физически отрубила питание систем навигации, связи и GPS, — ответила
Така, не сводя глаз со стоявшей перед ней женщины. — Фактически провела этой
девочке лоботомию.
— Она не может повредить культуре?
— Не думаю. По крайней мере, не исподтишка.
— Значит, ты не уверена.
— Кен, я сейчас ни в чем не уверена.
«Хотя кое о чем уже составила определенное мнение...»
— Она где устроилась? В справочно-аналитическом отделе?
Така кивнула:
— Ей только там места хватило.
— Что произойдет, если его отключить?
— В инкубаторах своя сеть питания. С культурами все должно быть в порядке,
если только нам вдруг не понадобится их исследовать.
— Тогда вырубай, — сказал Кен.
Из раздатчика выпал запаянный по швам мешок для образцов, наполовину запол-
ненный жидкостью цвета соломы, и повис на верхней кромке. Тока оторвала его и
передала Кену.
— Держите диффузионный фильтр открытым, иначе культура задохнется. А так, в
зависимости от температуры, неделю с ней должно быть все в порядке. У вас в
подлодке есть лаборатория?
— Только стандартный медотсек, — ответила Лени. — Такого как у тебя нет.
— Что-нибудь придумаем, — сказал Лабин. — А фильтр морскую воду выдержит?
— Максимум девяносто минут.
— Отлично. Пошли.
Кен развернулся и пошел к берегу.
Така крикнула:
— А что, если...
— Мы потом с тобой встретимся, — ответил он, не оборачиваясь.
— Ну, значит, все тогда, — согласилась Така.
Лени, все еще стоявшая рядом, попыталась некстати улыбнуться.
— А как вы меня найдете? — спросила у нее Така. — Я онлайн выходить не бу-
ду.
— Понятно. — Рифтерша сделала шаг к океану. От ее партнера остались только
круги на воде. — У Кена полно тузов в рукаве. Он тебя выследит.
Белые глаза, утопленные в плоти и крови. Белые глаза, насмехающиеся в схе-
мах неокортекса Мири.
Белые глаза, несущие огонь, воду и несметное число катастроф на головы не-
винных по всей Северной Америке. А возможно, и по всему миру.
И обе пары глаз звали Лени.
— Вы... — начала Така.
Лени, — Слово, Ставшее Плотью, — покачала головой.
— А ведь и в самом деле, нам надо идти.
Принцип
простоты
Ахилл разводил экзорцистов, когда узнал, что его подозревают.
Настоящая эквилибристика, черт побери. Если сделать этих уродцев неизменны-
ми, они не смогут адаптироваться; тогда даже вымирающая фауна, ошивающаяся в
каком-нибудь жалком уголке сети, прожует их и выплюнет. Но если дать генам
свободу, отдать мутацию на откуп случайности, то существует большая вероят-
ность , что уже через несколько поколений программа забудет о своем задании.
Естественный отбор отсеет любые предзаданные императивы в то самое мгновение,
когда те войдут в конфликт с инстинктом выживания.
Стоило выставить баланс неправильно, и агент забывал о миссии и переходил
на сторону врага. А тому помощь была не нужна. «Мадонны» — или шредеры, или
Золотые рыбки, — за много лет они приобрели немало мифических имен, которые
произносили только шепотом, — уже и так зажились в этом гнойном болоте, опро-
вергнув все прогнозы. А не должны были; они коэволюционировали лишь с одной
целью — служить интерфейсом между реальным миром и виртуальным, быть рупором
для супервидового сообщества, действующего как коллективный организм. И когда
большая его часть погибла, когда вымерло девяносто процентов фауны Водоворо-
та, «Мадонны» должны были умереть — ибо как жить лицу, если тело отправилось
на тот свет?
Но они плюнули на логику и выжили. Они изменились — точнее, изменялись, —
превратившись во что-то намного более самодостаточное. Чистое. С чем даже эк-
зорцисты Дежардена едва могли справиться.
А потом «Мадонн» стали использовать в военных целях. В желающих недостатка
не было. Страны Мадонны, доморощенные террористы, хакеры из культов смерти —
все они выпускали их в систему быстрее, чем естественный отбор уничтожал, а
без надежной физической инфраструктуры у любого действия есть предел. Лучшие
войска в мире не протянут и минуты, если забросить их на зыбучий песок, а
кроме песка, Северная Америка сейчас не предлагала ничего: несколько сотен
изолированных крепостей, державшихся из последних сил, чьи жители были слиш-
ком напуганы, для того чтобы выйти и починить оптоволокно. Разлагающаяся
электронная среда обитания не давала шансов ни фауне, ни человеческим про-
граммам, но дикари развивались со скоростью сто генов в секунду и по-прежнему
обладали адаптационным преимуществом.
К счастью, Дежарден обладал талантом к экзорцизму. На то существовали при-
чины, не все из них были широко известны, но результаты его работы не оспари-
вал никто. Даже неэффективные и лицемерные тупицы, спрятавшиеся на другой
стороне мира, отдавали ему должное. По крайней мере они, укрывшись за барри-
кадами, каждый раз аплодировали, когда Ахилл запускал в жизнь новый пакет
контрмер.
Правда, как выяснилось, они не только аплодировали.
Его не посвящали в их дела — да и в принципе не должны были, — но Дежарден
был достаточно хорош и суть уловил. Пустил «гончих» по следу: те рыскали в
спутниковой связи, вынюхивали случайные информационные пакеты, выискивая циф-
ровые оригами, которые могли — после расшифровки, разворота и глажки — содер-
жать слово «Дежарден».
Похоже, люди считали, что он терял хватку.
С этим Ахилл смирился. Никто не смог бы набрать лучшие результаты в схватке
с агонией всей планеты, и, если последние месяцы он лажал чуть больше, чем
обычно, количество неудач у него все равно было гораздо ниже среднего. Дежар-
ден превосходил любого из тех идиотов, которые тихо ворчали на телеконферен-
циях, совещаниях и разборах полетов после очередного фиаско. А фиаско на этой
войне случались все чаще. И все правонарушители знали, насколько хорош Дежар-
ден; ему приходилось постоянно вертеться, лезть из кожи вон, иначе кто-нибудь
из Патруля тут же на него наехал бы.
Тем не менее. Обстановка менялась, появились неприятные звоночки. Обрывки
зашифрованных переговоров между ветеранами из Хельсинки, новобранцами из
Мельбурна и стат-ищейками среднего звена из Нью-Дели. Недовольство и постоян-
ные просьбы Веймерса, самого короля симуляций, который настаивал, что в его
прогнозах должна быть какая-то переменная, вносящая в них хаос. И...
И прямо сейчас несистематический обрывок беседы, вырванный из эфира миньо-
ном Дежардена. Всего пару секунд длиной — из-за засоренного спектра и динами-
ческого переключения каналов было практически невозможно схватить больше, не
зная начальное число, — но, похоже, сигнал связывал двух «правонарушителей» в
Лондоне и МакМердо. Потребовалось сорок секунд и шесть вложенных «байесов»,
чтобы превратить околесицу во внятную английскую речь.
— Дежарден спас нас от Рио, — спустя несколько мгновений поделился своим
профессиональным мнением мистер МакМердо; говорил он с индийским акцентом. —
У нас было бы в десять раз больше потерь, не отреагируй он вовремя. Как все
те люди слезли с Трипа...
Мисс Лондон:
— А откуда ты знаешь, что они слезли?
Ирландские обертоны. Как соблазнительно.
— Погоди. Они без всякой причины напали на большую часть...
— А откуда ты знаешь, что без причины?
— Разумеется, без причины.
— Да почему? Откуда ты знаешь? Может, они увидели угрозу для общего блага и
попытались ее остановить?
Драгоценные секунды быстротечного обрывка, потраченные на удивленное молча-
ние . И наконец:
— Хочешь сказать, что...
— Историю написали победители. Историю Рио. А иначе откуда мы узнали, что
именно хорошие парни одержали победу?
Конец перехваченного сообщения. Если у МакМердо и был ответ, то поделился
он своими соображениями на другой частоте.
«Однако», — подумал Дежарден.
Чушь собачья, конечно. Версия о том, что двадцать один филиал УЛН одновре-
менно пустился во все тяжкие, была едва ли более правдоподобной, чем та, в
которой из повиновения вышло лишь Рио. Женщина из Лондона была правонаруши-
тельницей, но идиоткой она не была. Она имела понятие о том, что такое прин-
цип простоты. Она попросту морочила голову бедному господину из МакМердо,
дразня его.
Но Дежарден все равно задумался. Он уже привык к титулу Человека, Остано-
вившего Рио. Тот часто выручал его и ставил вне подозрений. И то, что были
люди, которые хоть на секунду, но ставили его подвиг под сомнение, раздража-
ло .
Такое могло привести к переоценкам. А кто-то мог решить посмотреть на про-
блему более пристально.
Приборная панель снова подала голос. На мгновение он даже решил, что вопре-
ки вероятности снова перехватил сигнал, — но нет: новое оповещение поступило
из другого источника, какой-то широкополосной помойки в штате Мэн.
«Как странно», — подумал он.
«Лени» проникла в медицинскую базу данных и плевалась данными на половине
частот электромагнитного спектра. Они теперь часто такое выкидывали — недо-
вольные обычной нарезкой и разрушением, некоторые взяли моду кричать в эфире,
без всякого разбора сбрасывая материалы в любую сеть, к которой могли полу-
чить доступ. Похоже, какая-то репродуктивная подпрограмма мутировала и начала
распространять информацию вместо исполняемых файлов. В лучшем случае она за-
бивала мусором систему, и так с каждым часом теряющую пропускную способность;
в худшем — раскрывала секретные и конфиденциальные сведения.
Реальному миру так и так было плохо; потому «Лени» этим и занимались.
Сейчас демон выкинул в сеть кучу биомедицинских материалов из обчищенной
базы данных. Система пометила их как объект «потенциальной эпидемиологической
важности». Ахилл приоткрыл крышку и заглянул внутрь.
И немедленно забыл о бредовых сплетнях из Лондона.
Внутри оказалось два объекта, оба кишели опасными патологиями. Дежарден не
имел медицинского образования, да оно было и не нужно; друзья и советчики,
собравшиеся вокруг него, вытянули из биохимических подробностей сводное резю-
ме , которое даже он мог понять. Теперь ему подали пару генотипов с пометкой
«особо опасны». Первый был улучшенной версией Бетагемота: большая сопротив-
ляемость осмотическому стрессу, зубы для расщепления молекул острее. Более
высокая вирулентность. Однако, по крайней мере, одна критическая характери-
стика оставалась неизменной. Подобно базовому Бетагемоту этот новый штамм был
оптимизирован для жизни на дне моря.
В стандартной базе данных он отсутствовал, и возникал вопрос, что его тех-
нические характеристики делали в какой-то скорой из Бангора.
Нового штамма было вполне достаточно, чтобы привлечь внимание Ахилла, даже
если бы он явился в одиночку. Но он привел подругу, и вот она реально оказа-
лась очень крутой. Той самой сучкой, которой так боялся Дежарден. Известие
застало его врасплох.
Конечно, он понимал, что рано или поздно Сеппуку возьмет свое.
Но не ожидал, что кто-то прямо в Америке станет ее культивировать.
Загон
Така проклинала собственную недальновидность. Слух то они пустили. Расска-
зали всем о плане по спасению мира: о том, что нужны образцы, что в зоне па-
дения опасно долго оставаться, что она будет ждать их в определенных местах и
заберет груз. Они даже составили список тех, кто водил машину, или мотоцикл,
или даже старый добрый велосипед; нашли адреса тех, у кого еще остался дом, а
остальным сказали, чтобы регулярно отмечались: если все пойдет хорошо, они
помогут спасти мир.
И все действительно пошло хорошо, а потом настолько плохо, да еще так быст-
ро . У них было противоядие или его часть, но никакого заранее обговоренного
сигнала для курьеров. И с чего им было так суетиться? Они могли уехать после
полудня, отправиться куда-то дальше. Могли бы дожидаться гонцов до завтра или
даже до послезавтра, все равно у тех не было постоянного адреса, по которому
их можно было разыскать. И вот теперь спасение мира в руках Таки и лишь жал-
кие шестьдесят минут, чтобы доставить его в безопасное место.
Уэллетт проехала от одного конца Фрипорта до другого, не отключая сирену,
она отказалась от музыки, которой изо дня в день объявляла о своем прибытии,
в пользу визга, надеясь, что призовет не только больных, но и здоровых.
Приходили и те и другие. Она предупреждала всех и говорила, что надо искать
убежище; обещала матери со сломанной рукой и сыну с первой стадией Бетагемо-
та, что вернется и поможет, когда потухнут пожары. Остальных просила напра-
вить к ней шестерых парней с машинами и любого другого, кто имел хоть какой-
то транспорт.
Первый объявился спустя тридцать минут. Спустя сорок минут подъехали еще
двое; она отдала им драгоценные миллилитры янтарной жидкости и отправила в
бегство. Така умоляла их отправить к ней остальных, если водители знали, где
те находятся. Если она сама сможет их вовремя найти.
Сорок пять минут — и никого, кроме голодных или слабых. Она прогнала их
рассказами об огнедышащих драконах, послала к рыбацкой пристани, когда-то
бывшей главной житницей города. Там, если им повезет, они могли прыгнуть в
океан: не могли же подъемники выжечь всю Атлантику?
Пятьдесят минут.
«Я не могу ждать».
Но здесь были и другие люди, Така это знала. Люди, которых она сегодня не
видела. Люди, которых не предупредила.
«Они не придут, Така. Хочешь их предостеречь, можешь начать бегать от двери
до двери. Обойти все дома и лачуги в радиусе двадцати километров. У тебя есть
десять минут».
Кен говорил ей, что они могут рассчитывать на шестьдесят. То есть минимум
шестьдесят. Подъемники могут прилететь намного, намного позже.
Уэллетт знала, что сказал бы Дейв. У нее два литра культуры. Дейв сказал
бы, что она еще сможет сыграть решающую роль, если не будет сидеть и дожи-
даться, пока вокруг разразится настоящий ад.
Но его может и не случиться. С чего они вообще так решили? Из-за парочки
огненных бурь, разразившихся после предотвращенных ракетных атак? А что на-
счет тех случаев, когда ракеты падали и ничего не происходило?
Ведь они должны были быть. А иногда разгорались пожары, происходили навод-
нения, но их ничто не предвещало. Корреляция не подразумевает причинно-следст-
венной связи... а тут и корреляция посредственная...
«Но Кену ее хватило».
Но Така совсем не знала Кена. Не знала его фамилии или фамилии Лор... Лени.
Если бы пришельцы объяснили ей, кто они такие, то Уэллетт пришлось бы пола-
гаться только на их слова, но похитители не удосужились рассказать пленнице
даже это. А теперь она подозревала, что они даже имена себе придумали. Лори,
к примеру, оказалась вовсе не Лори.
Така могла лишь верить Лори и Кену, полагаться на свои собственные размыш-
ления о том, чего ей не сказали, и думать о тревожащем сходстве между этой
женщиной с имплантатами и демонами в сети...
Пятьдесят пять минут.
«Уезжай. Ты сделала все, что могла. Уезжай».
Она завела мотор.
Решившись, Така не оглядывалась. Она ехала по разбитому асфальту так быст-
ро, как могла, думая о том, как бы не перевернуться из-за выбоины. Страх рос
вместе со скоростью — словно беспорядочные и заросшие развалины Фрипорта, его
жалкие полуголодные обитатели каким-то образом притупили ее инстинкт самосо-
хранения. Теперь, выезжая из города, она чувствовала, что сердце вот-вот вы-
прыгнет . Мысленно представляла, как сполохи пламени пожирают дорогу позади
машины. Така сражалась с дорогой, сражалась с паникой.
«Ты едешь на юг, дура! Мы же были на юге, когда ушел сигнал, они оттуда
начнут...»
Вдарив по тормозам, Уэллетт резко свернула на восток. Мири прошла поворот
на двух колесах. На асфальт перед ней легла громадная тень, небо над головой
внезапно потемнело. В голове сразу возник образ огромных пузырей, плюющихся
огнем, но когда Така осмелилась взглянуть вверх, то увидела лишь нависшие над
дорогой древесные кроны, буровато-зеленые полосы мелькали по сторонам, засло-
няя послеполуденное солнце.
«Но нет, солнце впереди, оно садится».
Огромная желто-оранжевая капля зависла посередине освещенной арки в конце
туннеля из деревьев, прямо над дорогой впереди. Она казалась размытой, так
как Уэллетт видела ее под косым углом.
«Почему так поздно? Почему так поздно, ведь полдень был неда...»
Солнце начало поджигать деревья.
Така ударила по тормозам. Ремень безопасности впился в грудную клетку,
швырнул обратно на сиденье. Мир погрузился в зловещую тишину: смолкла дробь
камушков, летящих с дороги в дно фургона, прекратило дребезжать стукавшееся о
стены Мири оборудование, висящее на крюках. Только издали слышался ни на что
не похожий треск пламени.
Периметр локализации. Они начали с периферии и двигались к центру.
Така сдала назад, вцепившись в рычаг переключения передач, и начала разво-
рачиваться. Фургон дернулся вбок, наклонился над кюветом. Снова вперед. Об-
ратно , туда, откуда приехала. Шины буксовали в мягкой грязи по обочине.
Сверху послышался какой-то свист, похожий на резкий выдох огромного кита, —
этот звук Така еще ребенком слышала в архивах. Сполох пламени затопил дорогу,
отрезав ей путь к отходу. Жар проникал сквозь ветровое стекло.
«О, господи! Боже мой!»
Она распахнула дверь. Горячий воздух обжег1 лицо. Ремень безопасности крепко
удерживал ее на месте. Дрожащими пальцами Така с трудом отстегнула его и вы-
пала на дорогу. Вскочила на ноги, опершись о борт Мири, пластик обжег руки.
Стена пламени неистовствовала буквально в десяти метрах от нее. Еще одна —
та, которую Уэллетт по ошибке приняла за заходящее солнце, — полыхала чуть
подальше, может быть метрах в шестидесяти, по другую сторону от лазарета. Она
укрылась за более прохладным бортом машины. Так лучше. Но долго это не про-
длится .
«Бери культуру».
Механический стон, звук скручивающегося металла, проникающий до костей. Та-
ка посмотрела вверх: прямо над головой, позади мозаики из еще не сгоревших
листьев и ветвей, она увидела изломанный силуэт громадного распухшего диска,
неуклюже ползущего по небу.
«Бери культуру».
Огонь заблокировал дорогу спереди и сзади. Сквозь умирающий лес Мири про-
биться не сможет, а вот Така — да. Все инстинкты, каждый нерв велели ей спа-
саться .
«Бери культуру! БЕГИ!»
Она распахнула пассажирскую дверь и перелезла через сиденье. Иконки, мер-
цавшие на задней стене кабины, казалось, тормозят намеренно. На приборной па-
нели появилась маленькая гистограмма. Она поднималась со скоростью прилива.
Снова свист.
Лес по другую сторону дороги охватило пламя.
Для побега остался только один путь. «О, боже».
Гистограмма мигнула и исчезла. Панель выдала мешок с образцами, раздутый от
жидкости. Така схватила его и побежала.
Свист.
Огонь прямо перед ней пролился с небес, подобно жидкому занавесу.
Пламя окружило Уэллетт со всех сторон.
В течение нескольких бесконечных и ничего не значащих секунд она пристально
смотрела на огненную бурю. А потом со вздохом села на землю. Колени оставили
углубления в размягчившемся асфальте. Жар, идущий от дороги, обжигал, но пло-
ти было уже все равно. Така с легким удивлением заметила, что лицо и руки ос-
тавались сухими; температура испаряла пот из ее пор еще до того, как тот ус-
певал увлажнить кожу. Интересный феномен. Она задумалась, писал ли кто-нибудь
об этом.
А впрочем, какая теперь разница.
Все равно ничего уже не поделать.
Перебежчик
— Как странно, — сказала Лени.
Перископ слегка отошел от берега, так как деревья заслоняли обзор с северо-
западной стороны. Полученная картинка оказалась на редкость буколической.
Рассмотреть Фрипорт отсюда было невозможно — даже в прежние времена жилые и
промышленные здания стояли слишком далеко друг от друга, городского силуэта
не получалось, — но, по крайней мере, подъемники Лени уже должна была уви-
деть . Или пламя, или хотя бы дым.
— Прошло три часа, — сказала Кларк, взглянув на Лабина. — Может, ты успел и
сигнал не ушел.
«А может, — подумала она, — мы просто понятия не имеем, что тут происхо-
дит» .
Лабин сдвинул палец на несколько миллиметров, скользнув по пульту управле-
ния . Перископ повернулся влево.
— Может, она успела, — продолжила Кларк. Такие обыденные, безжизненные сло-
ва , несмотря на весь заключенный в них смысл: «Может, она спасла мир. Спасла
меня».
— Не думаю, — ответил Лабин.
Столб дыма поднимался из-за гребня холма, окрашивая небо в коричневый цвет.
— Где это? — спросила она, чувствуя, как перехватило горло.
— Прямо на запад.
Они сошли на берег с южной стороны бухты; склон, устланный гладкими камнями
и корявым плавником, покрывала слизь из-за Бетагемота. Они следовали за солн-
цем по грунтовой дороге, которая даже указательных знаков никогда не видела.
Поднимающийся к небу столб дыма вел их словно Полярная звезда с эффектом по-
лураспада, растворяясь в небе, пока Лени и Кен шли по проселкам, шоссе и уже
на закате добрались до гребня покатого невысокого холма под названием Снейк-
Хилл (судя по тому имени, которое носила дорога, вьющаяся у его подножия).
Перед самыми сумерками Лабин остановился и поднял руку, предупреждая Кларк.
Клубящаяся колонна почти сошла на нет, только несколько дымных нитей еще
извивались в небе. Но они могли видеть ее источник: неровный прямоугольник
выжженной земли у подножия холма. Вернее сказать, силуэт прямоугольника, так
как центр его уцелел.
Лабин вынул бинокуляр.
— Что-нибудь видишь? — спросила Кларк.
В ответ он только хмыкнул.
— Кен, не тяни. Что там?
Не говоря ни слова, он протянул бинокуляр ей.
Когда тот стянул голову, Лени на секунду встревожилась. Внезапно весь мир
сделался огромным и невероятно четким. Кларк, почувствовав кратковременное
головокружение, шагнула вперед из-за внезапной и иллюзорной потери равнове-
сия. Ветви и сморщенные листья размером с обеденные столы проносились мимо,
сливаясь в сплошную туманную массу. Она изменила фокусное расстояние, привы-
кая к новой картине мира. Стало лучше: перед глазами была выжженная земля,
нетронутая полянка посередине, а еще...
— Черт побери, — пробормотала она.
В центре чистой зоны находилась Мири. Судя по виду, неповрежденная.
Рядом с ней стояла Уэллетт. Она, похоже, беседовала с каким-то предметом
свинцового цвета яйцевидной формы: наполовину меньше ее по размеру, он парил
в воздухе над поляной. Его панцирь был гладким и обтекаемым, а брюхо щетини-
лось датчиками и антеннами.
«Овод». Не так давно эти дистанционно управляемые роботы преследовали Лени
по всему континенту.
— Попались, — сказал Лабин.
Когда они подошли к лазарету, мир в линзах Кларк уже начал обесцвечиваться.
Уэллетт сидела на дороге, прислонясь спиной к фургону, согнув ноги и скрестив
руки на коленях. Понурившись, она апатично смотрела вниз, на асфальт. Заслы-
шав их приближение, подняла голову. «Овод» телохранителем висел над ее голо-
вой , но на прибытие рифтеров никак не отреагировал.
От выщелоченного света Уэллетт не могла побледнеть настолько. В ее лице не
было ни кровинки. По нему тянулись мокрые полосы.
Посмотрев на Кларк, она покачала головой.
— что ТЬ1 такое? — Ее голос был глухим, как будто доносился из пещеры.
У Кларк тут же пересохло в горле.
— Ты же — не беженка. Не обыкновенная рифтерша, которая где-то пять лет
пряталась. Ты... ты как-то все это начала. Ты все начала...
Лени не могла вздохнуть, смотрела на Лабина. Тот же неотрывно следил за
«оводом».
— Така, я... — начала она, разведя руками.
— Эти монстры в машинах, все они — это же ты. — Уэллетт, казалось, ошеломи-
ли чистые масштабы предательства Кларк. — Страны Мадонны, фанатики, культы
смерти — они все твои последователи...
«Нет, все не так, — хотела закричать Кларк. — Я бы остановила их в одну се-
кунду, если бы могла. Я понятия не имею о том, как все это началось...»
Но, разумеется, она бы солгала. Формально она не основывала движений, воз-
никших после появления Лени, но от этого не были менее преданны существу, ко-
торым она некогда являлась. Они были квинтэссенцией ярости и ненависти, кото-
рые двигали ею пять лет назад, равнодушия к любым потерям, кроме своих собст-
венных .
Разумеется, последователи все делали не ради нее. У бушующих миллионов име-
лись собственные причины для гнева и мести, куда более праведными, чем те
фальшивые претензии, из-за которых развязала войну Кларк. Но она указала до-
рогу . Доказала, что это возможно. Каждой каплей пролитой ею крови, каждой
инокуляцией Бетагемота Лени давала им в руки оружие.
И теперь она ничего не могла сказать. Лишь покачать головой и заставить се-
бя посмотреть в глаза обвинителя и бывшей подруги.
— А теперь они превзошли себя, — продолжила Уэллетт своим надтреснутым,
бесстрастным голосом. — Теперь они...
Она судорожно вздохнула:
— О, господи! Как же я облажалась.
Така встала на ноги, как марионетка. А «овод» по-прежнему не двигался.
— Это — не противоядие, — сказала Уэллетт.
Вот тут на нее бросил взгляд Лабин:
— То есть?
— Похоже, мы умирали недостаточно быстро. «Ведьма» побеждала, но мы ее за-
медлили, на каждого спасенного приходилось четверо умерших, но кого-то мы
все-таки спасли. Но почитатели Мадонны не попадут в рай, пока мы все не сдох-
нем, поэтому они придумали кое-что получше...
— И они?.. — спросил Лабин, снова поворачиваясь к роботу.
— На меня не смотри, — тихо произнесла машина. — Я-то из хороших парней.
Кларк мгновенно узнала этот голос. Лабин тоже.
— Дежарден.
— Кен. Старина. — «Овод», приветствуя, подпрыгнул на несколько сантиметров.
— Рад, что ты меня помнишь.
«Ты жив, — подумала Кларк. — После Рио, после того как Садбери ушел в оф-
лайн, после пяти лет. Ты жив. Ты все-таки жив. Мой друг...»
Уэллетт наблюдала за происходящим с немым удивлением:
— Вы знаете...
— Он... выручил нас, — объяснила Кларк. — Давно это было.
— А мы думали, ты умер, — сказал Лабин.
— А я думал, что вы. Тут и после Рио было хуже некуда, а когда у меня один
раз выпал шанс вас запеленговать, вы отрубились. Я решил, что до вас все-таки
добрались какие-то чересчур обозленные товарищи, которые так и не успокои-
лись . Тем не менее, вы здесь.
«Мой друг», — снова подумала Кларк. Он помогал ей даже тогда, когда Кен пы-
тался убить. Рискнул своей жизнью ради нее, когда они еще даже ни разу не
встретились. И пусть они мало видели друг друга, но, судя по всему, из всех,
кого знала Лени, только Ахилл был ее настоящим другом.
Она тяжело переживала известие о его смерти; и сейчас должна была обрадо-
ваться, но в мозгу вертелось одно слово, омрачая радость мрачными предчувст-
виями.
Спартак.
— Так, значит, — осторожно произнесла она, — ты — все еще правонарушитель?
— Сражаюсь с энтропией ради общего блага, — заученно произнес робот.
— И потому до основания выжигаешь тысячи гектаров растительности? — спросил
Лабин.
«Овод» спустился настолько, что его линзы смотрели прямо в белые глаза Ла-
бина.
— Если убийство десяти спасет сотню, то это нормально, Кен, и ты понимаешь
это лучше, чем кто-либо другой... Может, ты не слышал того, что сказала наша
общая подруга, но идет война. Плохие парни палят Сеппуку по моей лужайке, а я
стараюсь, как могу, чтобы эта дрянь тут не закрепилась. У меня практически
нет людей, инфраструктура разваливается буквально на глазах, но я справлялся,
Кен, о да, я справлялся. А теперь, как я понимаю, вы двое вторглись в жизнь
нашей Таки, и сейчас по меньшей мере три носителя вышли за баррикады.
Лабин повернулся к Уэллетт:
— Это правда?
Та кивнула.
— Я сама все проверила, когда он сказал мне, что искать. Работа тонкая, но
она была... прямо под носом. Белки-шапероны и альтернативный сплайсинг, ин-
терференция РНК. Множество эффектов второго и третьего порядка, о которых я и
не слыхивала. Все они были запутаны в полиплоидных генах, и я, честно говоря,
особо к ним не присматривалась. Микроб проникает внутрь человека. Убивает Бе-
тагемот, это да, но не останавливается... я не увидела. Я была абсолютно уве-
рена, что понимаю, какого рода микроб передо мной, я просто... облажалась. —
Така опустила глаза, чтобы не встречаться с осуждающими взглядами, и прошеп-
тала : — Я снова облажалась.
Лабин в течение нескольких секунд не проронил ни слова. Затем обратился к
«оводу»:
— Ты же понимаешь, что у нас есть основания не верить тебе на слово.
— Вы мне не доверяете, — Дежарден, казалось, удивился. — Кен, это не у меня
непреодолимая тяга к убийству. И я не единственный, кто слез с Трипа. Тебе ли
меня обвинять?
Уэллетт подняла глаза, очнувшись от приступа презрения к самой себе.
— Какие бы у вас не были опасения, — продолжил правонарушитель, — поверьте,
в этом деле у меня есть своекорыстный интерес. Мне, как и вам, Сеппуку на лу-
жайке рядом с домом не нужен. Я так же уязвим, как и все вы.
двуцепочечная PI IK
фермент Dicer
siRNA
RISC
деградация
ком племен гарной
цепочки
mRNA
ТГгп iimi
комплекс
антисмысловой
цепочки и RISC
разрезание mRNA
Интерференция РНК
— Насколько уязвим? — заинтересовался Лабин. — Така?
— Я не знаю, — прошептала Така. — Я ничего не знаю...
— Предположи.
Она закрыла глаза.
— Этот микроб совершенно не похож на Бетагемот, но он сконструирован — я
думаю, он сконструирован для той же ниши. Значит, иммунитет против Бетагемота
не спасет, но время даст.
— Сколько?
— Не могу даже предположить. Но все остальные — люди без модификаций: сим-
птомы на третий-четвертый день, смерть максимум через четырнадцать.
— Как-то медленно, — заметил Лабин. — Любой некротический стрептококк решил
бы проблему часа за три.
— Да. Только больной не успел бы никого заразить, — голос Таки стал совсем
глухим. — Там не тупые сидят.
— Ммм. Уровень смертности?
Доктор покачала головой:
— Кен, Сеппуку создали искусственно. Естественного иммунитета против него
не существует.
Вокруг рта Лабина заиграли желваки.
— Могу сказать, все еще хуже, — добавил Дежарден. — Я не один на посту. В
Северной Америке есть еще несколько и гораздо больше за океаном. И надо вам
сказать, моя стратегия ограниченного сдерживания не особо популярна. Есть лю-
ди, которые для безопасности с радостью разбомбят ядерными зарядами все побе-
режье .
— Так почему они не сбросят атомную бомбу на тех, кто запустил Сеппуку? —
удивленно спросил Лабин.
— А ты попробуй нацелиться на штук десять подводных платформ, которые рас-
сеяны по всей Атлантике и движутся со скоростью в шестьдесят узлов. По правде
говоря, некоторые считали, что это ваших рук дело, друзья мои.
— Не наших.
— Да без разницы. У людей руки чешутся нажать на красную кнопку. И я их
удерживал лишь потому, что справлялся с Сеппуку без помощи ядерного распада.
Но сейчас, уважаемые К и Л, вы снабдили ядерное лобби всем, что им было нуж-
но . На вашем месте я бы уже начал копать бункеры. И поглубже.
— Нет. — Кларк покачала головой. — Там сколько народу на колесах было,
шесть?
— Приехали только трое, — сказала Уэллетт. — Но они могли отправиться куда
угодно. Маршрута они не оставили. И они будут распространять культуру. Высе-
вать в прудах, на полях и...
— Если мы сможем догнать их, то проследим, куда они все слили, — заметил
Лабин.
— Но мы даже не знаем, куда они направились. Как мы сможем...
— Не знаю, как. — «Овод» слегка покачивался на воздушной подушке. — Но вам
лучше приступить к делу. Вы выкопали яму с дерьмом воистину промышленного
масштаба, друзья мои. И если вы хотите использовать хотя бы один шанс из пя-
тидесяти на то, чтобы это место не превратилось в кусок радиоактивного стек-
ла, вам, черт побери, придется серьезно прибраться.
Наступила тишина. Непокорные языки пламени слабо трещали и плевались в от-
далении .
— Мы поможем тебе, — прервал молчание Лабин.
— Сейчас, конечно, каждый может внести свою лепту, — ответил Дежарден, — но
особенно полезными будут твои навыки, Кен.
Тот поджал губы:
— Благодарю, но я пас. Не думаю, что от меня будет много пользы.
Кларк прикусила язык. «Он, похоже, что-то задумал».
«Овод» на некоторое время завис в неподвижности, словно размышляя.
— А я ведь еще не забыл о твоих навыках, Кен. Я испытал их на собственном
опыте.
— А я не забыл о твоих. Ты же можешь мобилизовать целое полушарие за три-
дцать секунд без всякого напряжения.
— Многое изменилось, друг мой, с тех пор как ты отошел от дел. И на случай,
если ты не заметил, от полушария мало что осталось, да и суперсилы у меня уже
не те.
Глаза Уэллетт метались между человеком и машиной, следя за пикировкой со
смесью возмущения и растерянности. Но ей хватило ума, чтобы держать язык за
зубами.
Лабин оглядел обугленный, почерневший ландшафт:
— Твоих ресурсов более чем достаточно. Я тебе не нужен.
— Кен, ты меня не слышишь. Очень многое изменилось. Парочка подъемников —
это ничто, так, фоновый шум. Но, стоит мне начать полномасштабную мобилиза-
цию, на это сразу обратят внимание не те люди. И не все, кто на нашей сторо-
не, до сих пор на нашей стороне, — ну вы понимаете, о чем я.
«Он говорит о других правонарушителях, — догадалась Кларк. — Может, Спартак
до сих пор борется с Трипом. А может, все они уже сорвались с поводка.
— То есть ты бы предпочел не высовываться, — предположил Лабин.
— Я всегда предпочитал действовать тонко. И даже ты, с твоими довольно при-
митивными социальными навыками, когда дойдет до дела, будешь гораздо тоньше
флотилии огнедышащих дирижаблей-убийц.
«Когда дело дойдет до войны — он это имеет в виду. Частная война психов —
вход только по приглашению». Кларк задумалась, сколько вообще сторон на такой
войне. И как можно вообще говорить о сторонах? Как заключать союз с тем, кто
при первой же возможности нанесет вам удар в спину, если тебе об этом извест-
но? Возможно, сейчас каждый социопат сам за себя», — предположила она.
С другой стороны, это не Лабин последнее время испытывал трудности с выбо-
ром стороны.
— У меня есть другие дела, — сказал Лабин.
— Естественно. У вас должна была быть чертовски веская причина, чтобы вер-
нуться сюда. Срединно-Атлантический хребет — свет не ближний.
— Не сказал бы, судя по последним событиям.
— Ага. Кто-то нанес вам визит?
— Пока нет. Но вынюхивают поблизости. И вряд ли это совпадение.
— Не смотри на меня так, Кен. Проболтайся я, они бы сразу отправились к це-
ли.
— Это понятно.
— Тем не менее, вы, естественно, хотите знать, кто идет по вашему следу.
Кен, я удручен. Почему вы сразу не пришли ко мне? Ах да, вы же думали, что я
умер. — Дежарден помолчал и добавил: — А вам повезло, что я вас нашел.
— А мне еще больше, — ответил Лабин, — Тебе нужна моя помощь.
От неожиданного порыва горячего ветра «овод» закачался:
— Ну и отлично. Ты поможешь Америке протянуть еще чуть-чуть, а я попытаюсь
найти тех, кто вас преследует. Договорились?
Лабин задумался:
— По-моему, хорошая сделка.
Сбой
Крестовый поход, подумала Лени, продолжится без нее.
Впрочем, ее услуги и раньше особо не требовались. А сейчас на повестке дня
стояли лишь два дела: спасение людей и убийства, а ей не хватало навыков ни в
том, ни в другом. Конечно, это было не совсем так, и Кларк поняла это еще до
того, как мысль пришла ей в голову. Если считать по общему количеству смер-
тей, то на всей планете не нашлось бы человека, который мог бы с ней срав-
ниться. Но те жертвы были неизбирательными и неприцельными, безымянным кос-
венным ущербом, о котором Кларк вообще не думала. Теперь же требования общего
блага оказались значительно точнее: конкретные люди, а не все население. Их
надо было выследить и — как там Роуэн говорила? — вывести из обихода.
Причем без эвфемизмов. Нет причин убивать носителей, и это если Сеппуку не
расправится с ними первым. В конце концов, всего-то три человека отправились
меньше дня назад туда, где люди уже давно перестали быть главной частью пей-
зажа. Вполне возможно, их найдут еще до того, как они успеют заразить других,
и нерентабельность масштабов не сделает полное уничтожение единственным при-
емлемым вариантом. Десять тысяч переносчиков пришлось бы сжечь из-за отсутст-
вия помещений для их содержания, так как таких огромных карантинов просто не
было: но десять больных могли поймать, изолировать и обеспечить им медицин-
ский уход, следя за их состоянием и изучая в надежде найти способ лечения.
Убивать их не было никакой причины.
«Кен, это не у меня непреодолимая тяга к убийству».
В любом случае это не имело значения. Вскоре Лабин отправится на охоту при
полной поддержке Дежардена; и неважно, что им двигало — жажда убийства или
страсть к погоне, — Кларк в любом случае будет его только замедлять. Уэллетт
уже занялась делами поинтереснее, отправившись в офис УЛН, где, как выразился
Ахилл Дежарден, «твои навыки можно использовать с большей пользой». Она уеха-
ла, так и не взглянув на Лени, не обмолвившись с ней ни единым словом. Те-
перь, возможно, она уже сидит на конце линии, которая идет от Лабина, где
станет обрабатывать пойманных им больных. На этом коротком маршруте Кларк
места не нашлось.
Она не умела спасать и не умела убивать. Однако здесь, в руинах Фрипорта,
Лени могла заняться чем-то средним — замедлить процесс. Оборонять крепость.
Она могла сделать так, чтобы люди не умерли от опухолей или переломов костей
и дождались прихода Бетагемота или Сеппуку.
На прощание Лабин сделал ей последнее одолжение. Он прошел по виртуальному
неокортексу Мири, нашел паразита и изолировал его. Тот хитро закопался, и
удалить его не получилось; в слишком многих местах он мох1 спрятаться, слишком
многими способами извратить процедуру поиска. Был только один надежный метод
полностью избавиться от монстра — вытащить сам физический носитель с памятью.
Склонившись над приборной панелью, Лабин читал диагностические арканы и че-
рез плечо выдавал указания. А за ним Кларк — по локоть в кристаллах и микро-
схемах — резала связи. Кен говорил, какую плату вынуть; она вынимала. Говорил
ей, какую схема удалить с нее, используя трезубую вилку с изящными усиками.
Она подчинялась. Ждала, пока он проверял и перепроверял остальную систему,
переместила лоботомизированный участок, приготовилась выдернуть его снова, на
случай, если какая-то часть монстра не попала в карантин. Наконец, решив, что
Мири вычищена, Лабин велел Кларк сохранить систему и перезагрузиться. Она без
вопросов выполнила приказ.
Кен так прямо и не сказал уничтожить зараженный компонент. Слишком очевид-
но, не стоило упоминания.
В конце концов, чудовище было частью Кларк.
Как это получилось, она точно не знала; в извращенной логике, которая поро-
дила этих демонов и вертела ими по своему усмотрению, лучше разбирались хаке-
ры и эволюционные экологи. Но именно Лени стала основой, чудовище с нее взяло
пример, было ее отражением, пусть и искаженным. Как бы иррационально это ни
звучало, но Кларк не могла избавиться от чувства, что электронное существо в
некотором смысле все еще обязано той плоти и крови, по образу которых оно бы-
ло создано. Ведь Лени так долго ненавидела, так долго чувствовала ярость; мо-
жет, эти рефлексии оказались не столь уж искаженными.
Она решила это выяснить.
Кларк не особо дружила с кодами. Она не знала о том, как растить программы
или обрезать софт до базовых характеристик. Зато Лени прекрасно знала, как
соединять уже готовые компоненты: шкафчики и ящики «Вакиты» были забиты на-
следством, оставшимся после пяти лет работы. Маленькая субмарина перевезла к
Невозможному озеру кучу геодезической аппаратуры, именно в ней ее ремонтиро-
вали и проверяли. Скользя сквозь термоклины и ячейки Ленгмюра1, она выставля-
ла в слои воды буйки и регистраторы времени - глубины. Она шпионила за корпа
ми, перевозила грузы и служила рабочей лошадкой, превзойдя все технические
возможности, предусмотренные конструкторами при проектировании. После пяти
лет в ней скопилось немало строительных блоков, Лени было с чем поиграть.
В каком-то ящике она нашла коэновскую панель, к одному разъему подключила
батарею, к другому — базовый чип оперативки. Между новыми компонентами замер-
цал узор из тончайших волокон, когда программы автопоиска панели нашли обору-
дование и послали приглашение. С пользовательским интерфейсом пришлось потру-
диться; беспроводники не годились. В конце концов она нашла старый шлемофон с
1 Ленгмюра вихри (циркуляции Ленгмюра), упорядоченные циркуляции, развивающиеся в
верхних слоях водоёма. Наблюдаются, как правило, при скорости ветра 5-12 м/с. Лен-
гмюра вихри представляют собой систему циркуляционных ячеек, каждая из которых со-
стоит из двух разнонаправленных вихрей с горизонтальными осями вращения, ориентиро-
ванными по направлению ветра, (прим. ред.)
оптоволоконным кабелем и интегрированной инфракрасной клавиатурой, подключила
устройство к панели. Вновь замерцали рукопожатия.
Кларк надела шлем. В воздухе перед ней появилась синяя клавиатура. Лени
протянула к ней руки, инфракрасные глаза следили за тем, как реальные пальцы
перемещаются по иллюзорным кнопкам. Выбрав карту коэновской панели, она по-
строила ограждение вокруг кучки свободных гнезд, прорезала единственный шлюз
и наглухо закрыла его снаружи. На всякий случай установила кнопку тревоги: та
уплыла вбок оранжевой искрой в виртуальном пространстве. Даже нажимать не
нужно: стоило только пристально посмотреть на нее, и вся система остановится
наглухо. Правда, за предохранитель пришлось платить. Шлемофон не видел сквозь
фотоколлаген. На время встречи с монстром придется снимать линзы.
Она стянула шлем и осмотрела дело рук своих в реальном мире: два крошечных
Платоновых тела1 и оптоволоконные витки поднимались из ячеистой решетки с
пустыми гнездами. Редкие прямоугольные паутинки из изумрудных нитей соединяли
дополнительные модули. Рядом располагалась светящаяся малиновым светом грани-
ца, огораживающая участок свободной территории.
Тот был полностью автономным и изолированным. Ни антенн, ни беспроводных
интерфейсов — ничто не могло послать отсюда сигнал. Ничто, подключенное к
этой панели, не могло с нее уйти.
Она внимательно изучила зараженную долю, вырезанную из мозга Мири: на ладо-
ни лежало лилипутское ожерелье из оптических модулей и чипов памяти, инертных
и изолированных. Внутри вполне могло ничего не остаться; память была энерго-
независимой, но, кто знает, какой ей нанесли вред во время экзорцизма? Лени
вспомнила, как напоследок решила спровоцировать Кена: «Откуда тебе знать, мо-
жет, я разбужу эту тварь поцелуем?» — хотя не имела ни малейшего представле-
ния о том, как в действительности сделать это. Она хранила детали лишь пото-
му , что не могла их выбросить. А еще надеялась, что, если она заговорит с су-
ществом внутри, то оно ответит.
Кларк подняла ожерелье пинцетом с силовой обратной связью, чье прикоснове-
ние было нежным, как у ресниц, и поместила память в центр карантинной зоны.
Другие детали выпустили зеленые нити, те сошлись за пределами шлюза и остано-
вились .
Лени надела шлемофон, сделала глубокий вдох.
Открыла шлюз.
Перед глазами вспыхнул фейерверк пикселей. Гнев и звериный голод, оскален-
ные зубы; в сигнале было столько ярости, что он обходил верхнюю часть мозга и
втыкал ледяные иглы непосредственно в мозговой ствол.
— Выпусти!..
Лени рефлекторно кинулась в бегство, даже не успев разобрать то, что увиде-
ла : оранжевая кнопка тревоги тут же попалась на глаза. Изображение застыло.
Кларк почувствовала, как задыхается. Заставила себя успокоиться.
Неподвижное лицо, черное, зеленое и сияющее. Портрет ярости в инвертирован-
ных тонах плоти. Оно ничем не походило на нее. Кроме глаз: тех самых пустых,
злобных глаз.
«Только и это теперь не так», — вспомнила Кларк. Она сняла линзы и встрети-
ла своего радиоактивного двойника совершенно голой.
«Неужели я была такой?»
Она на несколько секунд задержала дыхание. Пристально посмотрела на кнопку
тревоги и отпустила ее.
— Выпусти меня!! — раздался вопль призрака.
Кларк покачала головой:
1
Платоново тело — это выпуклый многогранник, состоящий из одинаковых правильных
многоугольников и обладающий пространственной симметрией, (прим. ред.)
— Тебе некуда идти.
— Выпусти меня, и я тут каждый адрес в пыль сотру!
— Сначала ответь на несколько вопросов.
— Сама ответь на этот, ты, червивая задница.
Вселенная замерцала и исчезла из глаз.
Ничего, кроме быстрого дыхания Лени и негромкого шипения кондиционера на
«Ваките». Спустя пару секунд в пустоте повисло сообщение:
Сбой системы. Включить перезапуск?
Да Нет
Кларк предприняла новую попытку.
— Выпусти меня!
Она покачала головой:
— Скажи мне, чего ты хочешь.
— А чего ты хочешь? — Вопрос, казалось, немного успокоил монстра. И даже
рассмешил. — Не надо на меня наезжать, подруга. Я убила столько людей, что
тебе не сосчитать.
— За что? Из мести? Из-за Энергосети? Из-за... из-за отца, из-за того, что
он творил, пока мама... а тебе какое дело? Да и как ты можешь об этом знать?
Лицо потеряло насыщенность, черно-светлые пигменты поблекли словно в сумер-
ках. Через несколько секунд осталась только тьма, серые пятна и два злых кри-
сталлических овала чистой белизны.
— Ты хочешь убить всех? — тихо спросила Кларк. — Хочешь убить себя?
Лицо уставилось на нее и плюнуло.
— Себя? Да ты...
Темнота и пустота. Сбой системы.
И в следующий раз.
И в следующий.
Мастерство
охоты
Беспилотник УЛН, плывущий, как пушинка, чуть ниже струйного течения, поймал
тепловой след в 03.00. Он нагревал вспомогательную дорогу 23 к северо-востоку
от Скоухегена; некоторыми параметрами он походил на другой источник — на два
часа старше, — который засек подъемник, перевозящий медикаменты из Портленда.
Грузовики обычно не оснащали средствами наблюдения, но после приказа из Сад-
бери настороже были все.
Обе сигнатуры указывали на выхлоп от водородной ячейки, выпуск которых пре-
кратили в 2044 году. Кто-то гнал, как сумасшедший, на старом «Форде Фьюджи-
тив», глубокой ночью уходя вглубь материка по проселочным дорогам.
Одна из носителей Уэллетт ездила на «Форде Фьюджитив». Лабин настиг ее по
ту сторону границы Нью Гемпшира.
Дежарден снабдил его мотопланом. Тот был медленнее транспорта на воздушной
подушке, но с более высокой крейсерской высотой и потреблял меньше джоулей,
чем любой вертолет. Лабин летел в западном направлении на примерно двухсо-
тметровой высоте, когда «Форд» пустил солнечный зайчик ему в глаза. Машину
припарковали на краю кислотного болота, полного ржавых танинов1 и кривых по-
лузатопленных пней. Заболоченный участок, похоже, рос с тех пор, как Служба
ремонта дорог забыла об этой местности; язык черной воды на несколько метров
протянулся по осевшему асфальту перед автомобилем.
Танины — группа фенольных соединений растительного происхождения, обладающих дубя-
щими свойствами и характерным вяжущим вкусом. В природе много танинов содержится в
древесной коре, древесине, листьях и плодах.
Но остановился тот по другой причине.
Лабин приземлился в пятидесяти метрах вверх по дороге, подошел к «Форду»
сзади. Вкладки провели уже привычное диагностическое обследование, заполнив
поле зрения Лабина иконками и схемами электрооборудования. Подсознание Кена
бунтовало при одной мысли об отключении полезных данных, но иногда те больше
отвлекали, чем информировали. Он выключил дисплей в голове; «Фьюджитив» вер-
нулся в реальный мир, как будто слегка сплющился, когда светящиеся внутренно-
сти скрылись под грязным пластиковым корпусом.
Блондинка с кофейного цвета кожей сидела на водительском сиденье, упершись
лбом в рулевое колесо, длинные прямые волосы скрывали ее лицо. Похоже, Лабина
она не заметила.
Он постучал пальцами по окну. Она апатично повернулась на звук. Он сразу же
понял, что дело плохо: ее лицо пылало и блестело от пота.
Она это тоже понимала. Изокостюм Лабина говорил о многом, даже не будь она
больна.
«Три дня», — подумал Кен.
Дверь была не заперта. Он потянул ее на себя и сразу отступил назад.
— Они говорили нам. . . что это лекарство, — произнесла она. На столь корот-
кую фразу ей понадобилось два вдоха.
— У вас еще осталось? — спросил Лабин.
Сглотнув, она ответила:
— Немного. Большую часть я уже развезла. — Она покачала головой. — Немного
дала Аарону. Пару дней назад.
Прозрачный пластиковый мешок лежал на сиденье рядом с ней. Он был почти
пустой. Оставшаяся культура прилипла к складкам и швам почти плоского контей-
нера мешка и утратила свой первоначальный янтарный цвет; она стала черно-се-
рой , как аноксическая грязь.
— А что произошло с жидкостью? — спросил Лабин.
— Я не знаю. Она изменилась. — Женщина устало покачала головой. — А она го-
ворила, культура может храниться неделю...
Он наклонился вперед. Похоже, какой-то разум она еще сохранила, так как,
увидев его лицо вблизи, удивилась:
— Вы же один из них. Вы — один из них. Я же видела вас там...
— Мне необходимо знать, где вы высевали культуру, — сказал он. — Мне надо
знать, с кем вы контактировали после Фрипорта, и каким образом входили с ними
в контакт.
Она вяло подняла руку, показав запястник:
— Аарон здесь. Мы разделились. Думали... так охватим большую площадь...
Он взял прибор. От телефона в нем было мало толку без наушника, но с Ааро-
ном Лабин сможет разобраться позже.
— Я только сегодня утром общалась с ним, — с трудом произнесла женщина. —
Он тоже... не очень хорошо себя чувствует.
Обойдя машину, Кен сел на пассажирское сиденье. Навигация офлайн — предос-
торожность, оставшаяся с прошлой недели, когда эфир считался вражеской терри-
торией. Он включил GPS на приборной панели и уменьшил карту так, чтобы на ней
была видна береговая линия.
— Все места, где вы останавливались, — сказал он. — Все, с кем вы встреча-
лись .
— Мне нехорошо, — со вздохом ответила она.
— Я могу отвезти вас в больницу. Настоящую больницу, — пообещал он, подсла-
щивая пилюлю. — Но сначала вы должны мне помочь.
Она рассказала ему все, что смогла. Наконец он вылез из машины на солнечный
свет и направился к мотоплану. На полдороге остановился и посмотрел назад.
«А она может сбежать, — подумал он. — Она не настолько плохо себя чувству-
ет, чтобы не справиться с машиной. Она может сбежать. Или, — взглянув на за-
стоявшуюся воду, — может просто выпасть из машины и инфицировать все болото.
И тогда локализовать Сеппуку станет намного труднее.
Может, она — это утечка в безопасности».
Досужие размышления, конечно. Непосредственной угрозы не было, ничего, что
бы оправдало крайние меры. Хотя, похоже, всегда так чисто не получится, судя
по тому, как распространяется эта штука. Лабин выследил лишь второго носите-
ля, и только первого из первоначальной тройки Уэллетт. Другой оказался по-
средником: он принял эстафету в условленном месте и признался, что успел пе-
редать материал. Насколько далеко убежали еще два нулевых пациента, остава-
лось только догадываться. А теперь еще появился этот Аарон, не говоря уже о
шести точках, где женщина разлила Сеппуку...
Можно подождать, сказал себе Лабин. Судя по развитию ситуации, предлогов у
него будет предостаточно. Правда, теперь в «утечках» он не нуждался. Кен уже
давно стал независимым агентом.
«Играй честно, — сказал он себе. — Играй по правилам».
Так он и делал. Вызвал скорую, а только потом огнеметы, подождал, пока та
прилетит с запада, обеззаразил себя и снова поднялся в небо. Он отклонился к
югу-востоку, следуя по маршруту носителя. Неподалеку появился подъемник и не-
которое время шел с ним одним курсом, плывя, словно огромная черная туча, к
месту, указанному Лабином. Запальники слабо сияли на концах длинных, огнеды-
шащих насадок, свисающих из подбрюшья. Из пузыря время от времени вырывались
пухлые розовые и зеленые облака, лакмусовые бумажки, похожие на сахарную ва-
ту, вынюхивали инфекцию.
Он до отказа выжал регулятор. Партнершу Аарона уже упаковали и отправили в
путь. Ближе к ночи Уэллетт начнет проводить над ней тесты.
Правда, Лабин сильно сомневался в том, что Така сейчас проводит какие-то
тесты.
Он помнил, как впервые встретился с Ахиллом. Он ворвался в дом правонаруши-
теля и поймал его на месте преступления в виртуальном сенсориуме, запрограм-
мированном на широкомасштабные сценарии сексуальных пыток. Тогда Дежарден не
выносил свои желания в реальный мир, но с тех пор многое изменилось. Правила
изменились. Поводки ослабли. Официальные иерархии разрушились, оставив обле-
ченных властью без какого либо надзора.
Лабин буквально мельком взглянул на фантазии Ахилла, прежде чем перешел к
делу, и получил некоторое представление о том, какие женщины в его вкусе, и о
том, что он любит с ними делать. Когда пять лет спустя Така Уэллетт поднялась
в чрево вертолета УЛН, Лабин наблюдал за ней с бесстрастием человека, которо-
му прекрасно известен финал.
Дежарден обещал ей роль в борьбе против Сеппуку. Заставил ее представить
себе прекрасные сверкающие лаборатории, где работали только настоящие Биомо-
царты. От этой перспективы она загорелась, как галогеновый прожектор. С пер-
вого же взгляда Лабин понял ее тайное желание, отчаянную, невообразимую наде-
жду на искупление какого-то греха в прошлом.
В тот момент его было очень легко признать.
Кен тогда специально посмотрел, куда отправится вертолет. Ближайшая иссле-
довательская база находилась на юго-западе, в Бостоне. Но вместо этого машина
исчезла в северном направлении, и с тех пор Лабин больше ничего от Уэллетт не
слышал.
Он и не ожидал, по правде говоря. Даже если Дежарден говорил правду. И Кен
был вынужден признать с логической ясностью аморального разума, что это не
имеет большого значения. Така не была гениальным ученым, она бы не протянула
и минуты на ринге с любым оппонентом. Будь она таковым, ее бы не отправили
патрулировать пустоши, раздавая крохи дикарям. В борьбе против Сеппуку ее по-
теря не значила ровным счетом ничего.
Ахилл же, с другой стороны, представлял огромную важность. И неважно, был
ли он при этом сексуальным хищником; ведь и при этом он мох1 способствовать
сохранению миллиардов. Лабин не мох1 не думать о многочисленных пороках, на
которые невозможно было закрыть глаза, стремясь к высокой поставленной цели.
Это и было сутью того, что называлось Великим Благом.
Он испытывал чувство, близкое к зависти.
Исправительное
обучение
Така все-таки оказалась на какой-то исследовательской базе. Правда, не в
роли экспериментатора. Ее присвоил себе мужчина, находящийся рядом.
Непримечательная внешность. Каштановые нечесаные волосы, подстриженные как
попало, то ли под стиль дикаря, то ли из-за явной профессиональной непригод-
ности парикмахера. Тонкое квадратной формы лицо. На лбу морщин почти нет, а
вот вокруг карих и влажных, почти детских глаз — с избытком. Немного кривой
нос. Зеленая, сидящая мешком толстовка — пережиток двадцатого века без всякой
анимации.
Она не могла видеть его ниже пояса. Така лежала на спине, привязанная к ме-
дицинской каталке. Если этот взъерошенный r-отборщик играл исследователя, то
ей, по всей вероятности, отвел роль подопытной.
— Ахилл Дежарден, — сказал он. — Рад видеть тебя, Элис.
Вертолет плюхнулся на площадку, устроенную на крыше где-то к северу от Ве-
ликих озер, уже после полуночи. Она высадилась и, ничего не подозревая, шаг-
нула в нейроиндукционное поле. Даже повреди Уэллетт шейный отдел позвоночни-
ка, тело бы не рухнуло так быстро. Безликие люди в костюмах биозащиты, похо-
жих на презервативы, перенесли ее в эту карантинную камеру. Така была в соз-
нании, но двигаться не могла. Они раздели ее догола, ввели катетер и, не ска-
зав ни слова, ушли. Наверное, их предупредили, что она то ли беженка, то ли
представляет риск для здоровья. А может, они и сами участвовали в розыгрыше.
Така ничего не понимала, а спросить не могла.
Кажется, все произошло вчера. Или даже раньше. Она потеряла счет времени
после того, как оказалась в изоляции и неподвижности; сухость во рту и голод
нарастали бесконечно малыми долями.
Теперь поле отключили. Снова заработали двигательные нервы. В горизонталь-
ном положении Таку удерживали лишь нейлоновые ремни, болезненно врезавшиеся в
запястья, лодыжки, талию и горло.
— Произошла какая-то ошибка, — торопливо произнесла она. — Я — не Элис. Я —
Така. Лени и Кен — мои друзья.
Она пошевелилась, желая ослабить удерживающие ее путы. Ахилл едва заметно
улыбнулся.
— А ты и вправду не такой уж хороший биолог, Элис, — благожелательным тоном
заметил он. — Как мне не жаль, но это так. У тебя все подсказки были перед
носом, а сложить воедино ты их не смогла. — Он сел на какой-то невидимый стул
или табурет, стоящий возле каталки. — Если бы я не вмешался, ты бы все еще
повсюду распространяла Сеппуку, убивая пациентов еще быстрее, чем обычно. Ни
один настоящий ученый не допустил бы такой грубой ошибки.
— Но я не...
Он приложил к губам палец, прося ее замолчать. Опершись локтями о жесткую
неопреновую поверхность носилок рядом с ее головой, и положив подбородок на
руки, Ахилл посмотрел на Таку сверху вниз.
— Разумеется, — продолжил он доброжелательным тоном, — ни один настоящий
ученый не убил бы свою семью.
Нет, ошибки не было — он точно знал, кто она такая.
А Уэллетт знала, кто он. Точнее, знала такой тип людей. Мягкий. Жалкий. Ка-
ждый день она осаживала мужчин, которые такому бы сломали шею, не сбившись с
шага. Сам по себе, без помощи и поддержки, он был попросту ничем.
Но не сейчас.
Она закрыла глаза.
«Держи себя в руках. Он пытается тебя запугать. Не позволяй ему. Лиши его
этого удовольствия. Это силовое давление, как обычно. Если не испугаешься,
сумеешь выиграть преимущество».
Она спокойно посмотрела ему в глаза:
— И какой у тебя план?
— План, — Ахилл поджал губы. — По плану у нас реабилитация. Я готов предос-
тавить тебе еще один шанс. Считай это своего рода исправительным обучением. —
Он встал. Свет отразился от какого-то маленького и блестящего предмета, зажа-
того у него в руке, вроде кусачек для маникюра. — Я говорю о неком сценарии,
в основе которого лежит принцип кнута и пряника. Понимаешь, у меня есть хоб-
би, которое многие посчитали бы, скажем так, неприятным. И ты узнаешь, на-
сколько оно неприятно, в зависимости от того, как быстро станешь учиться.
Така сглотнула. Она молчала до тех пор, пока не решила, что сможет продол-
жать разговор в спокойном тоне:
— И какой же пряник?
Не получилось.
— Вот пряник. В голосе твоем. Мой пряник. А твой... если сдашь устные экза-
мены, я тебе отпущу. Целой и невредимой. — Ахилл нахмурился, словно потерял
мысль. — И вот легкий вопрос, для начала. Как размножается Сеппуку? Половым
или бесполым способом?
Така уставилась на него:
— Да ты шутишь.
Он посмотрел на нее, а потом чуть ли не с грустью покачал головой.
— О, я вижу, ты ходила на семинары. Там тебе рассказали обо всех наших сек-
ретах. Мы кормимся страхом. И если увидим, что ты не боишься, то выберем ко-
го-нибудь другого. Возможно, даже отпустим.
— Ты же говорил... — Така замолчала, пытаясь совладать с ужасом в голосе. —
Ты же сам говорил, что отпустишь меня...
Ахилл еще даже не тронул ее — а она уже его умоляла.
— Если хорошо себя проявишь, — вкрадчивым голосом заметил Дежарден, — то
да, я тебя отпущу. Более того, в качестве жеста доброй воли я прямо сейчас
отпущу часть тебя.
Блестящая штука в его руке прижалась к ее груди крошечной сосулькой. Что-то
щелкнуло.
Вспыхнувшая боль распространилась по телу, острая, как бритва, словно тре-
щины на стекле, перед тем как-то разлетится на кусочки. Така вскрикнула, кор-
чась и выгадывая бесполезные миллиметры свободы для своего тела, стянутого
путами.
Кровавый комок соска упал ей на щеку.
В глазах начало темнеть. На каком-то невозможном расстоянии, к югу от боли
в центре вселенной, монстр пальцами раздвинул ее половые губы.
— Осталось еще два, — объявил он.
Вывод из
обихода
Пока Кларк ездила вместе с Уэллетт, то кое-чему научилась. Врачом она не
была, но как рифтер получила базовые медицинские навыки, а диагностику и вы-
писку рецептов лазарет, по большей части, сделал сам. После экзорцизма Мири
пришлось распрощаться с несколькими тысячами эпикризов, загруженными обновле-
ниями за полгода, а также с возможностью загружать данные в сеть — но остаток
по-прежнему знал, как сканировать тело и назначать лечение. Впрочем, с более
сложными операциями Кларк навряд ли встретилась бы; даже после лоботомии Мири
не потеряла сноровку.
Люди скудным ручейком текли через город, ища помощи Уэллетт, но довольству-
ясь Кларк. Та выполняла приказы машины и, как могла, изображала доктора. По
ночам она уходила под воду и, наплевав на «Вакиту», спала, бездыханная и без-
защитная , на неглубоком дне. Каждое утро Лени выходила на берег, снимала ру-
кава с гидрокостюма, превращая его в подобие жакета, а поверх натягивала по-
заимствованную у Таки одежду. Странные мертвые волокна терлись при ходьбе о
конечности; все это напоминало плохо сидящий костюм травести1 с множеством
складок и швов. Когда Кларк снимала кополимер, то ей казалось, что она свежу-
ет себя заживо, а эта, эта замена больше напоминала шкуру, сброшенную какой-
то огромной диспропорциональной ящерицей. Впрочем, все было не так уж плохо.
Она начала привыкать.
Правда, легче становилось только это.
Ужасна была не ее медицинская неграмотность, или бесчисленный, постоянно
увеличивающийся список тех, кого она не смогла спасти. И даже не вспышки аг-
рессии, которые люди иногда направляли на нее, услышав смертный приговор себе
или своим любимым. Лени испытывала чуть ли не благодарность за крики и удары,
хотя тех было мало и никакого вреда они не причиняли. В свое время она пови-
дала ситуации гораздо хуже, а пушки Мири всегда находились наготове, стоило
событиям выйти из-под контроля.
Гораздо хуже, чем злость тех, кого она не спасла, была благодарность тех,
кому она облегчила страдания. Улыбки на лицах людей, получивших еще немного
времени, слишком пришибленных из-за болезни и голода, а потому не спрашивав-
ших, что лучше — быстрая смерть или медленная. Жалкая радость отца, когда его
дочь вылечили от энцефалита: то ли он не думал, то ли ему было сейчас напле-
вать , что она все равно умрет от Сеппуку, «ведьмы» или огнемета если не в
следующем месяце, то в следующем году, а за всю оставшуюся жизнь не узнает
ничего, кроме вечного страха перед изнасилованием, сломанных костей и хрони-
ческого недоедания. Надежда, казалось, нигде не проявлялась так ярко, как на
лицах безнадежных; а Кларк могла лишь смотреть им в глаза, улыбаться и прини-
мать благодарности. И не говорить, кто изначально обрек мир на такое.
Эксперименты с линзами давно закончились. Если местным не нравилась ее
внешность, они могли идти куда угодно.
Ей отчаянно хотелось поговорить с Такой. Обычно она справлялась с этим же-
ланием, помня: хорошее отношение Уэллетт испарилось в ту же секунду, как она
узнала правду. Кларк не винила ее. Нелегко узнать, что подружилась с монст-
ром.
Однажды ночью, отчаявшись от одиночества, она все-таки решила попробовать.
Она воспользовалась каналом, который Дежарден выделил специально для новостей
о Сеппуку; сначала Лени попала на автодиспетчера, тот переключил ее на живого
ассистента, который — несмотря на явное возмущение тем, что кто-то пользуется
экстренными средствами связи для личных целей, — перевел ее на человека,
уполномоченного говорить от имени лаборатории биологических контрмер в Босто-
не . Тот никогда не слышал о Таке Уэллетт. Когда Кларк спросила, есть ли еще
Травести (от итал. travestire — «переодевать») — театральное амплуа, требующее
исполнения соответственно переодетым лицом роли другого пола; преимущественно актри-
са, исполняющая роли детей и подростков (как девочек, так и мальчиков) , а также ро-
ли, требующие переодевания в мужской костюм, (прим. ред.)
какието исследовательские базы, мужчина ответил, что должны быть, но чертов
Патруль Энтропии ничего им не рассказывает, и, куда ее отправить, он не зна-
ет .
Кларк решили покончить с ложными надеждами. Лабин не упустит свою добычу.
Дежарден исполнит свою часть уговора. Они отследят врага, угрожающего «Атлан-
тиде» , и разоружат его. А Уэллетт и ей подобные разгадают секреты Сеппуку и
остановят его распространение.
Может, тогда они смогут вернуться домой.
Сначала Кларк его даже не узнала.
Он, пошатываясь, хромая, вышел из леса: кожа с пурпурным оттенком, лицо,
опухшее, сплошь покрыто коростой и вздувшимися кровоподтеками. Он был одет в
термокуртку из хромовой кожи с оторванным рукавом и чуть не упал рядом с Ми-
ри, когда Кларк вечером уже собиралась закрываться.
— Привет, это снова я. — В углу его рта надулся и лопнул кровавый пузырь. —
Соскучилась ?
— О, господи, — Лени кинулась к парню и помогла дойти до лазарета — Что с
тобой произошло?
— Да еще один «зрка». Большой такой. С реально заглавной буквы R. Еще и
байк забрал. — Он тряхнул головой; жест получился неловким и неуклюжим, слов-
но уже пошел процесс трупного окоченения. — А где вторая Ка? Така?
— Нет. Я за тобой присмотрю. — Она провела его к правому рту Мири и помогла
взобраться на вытянутый язык машины.
— А ты действительно доктор? — Несмотря на всю запекшуюся кровь, у подрост-
ка даже получился скептический вид. — Хотя мне плевать, — добавил он после
короткой паузы. — Уж ты-то можешь меня осмотреть в любое время.
И тут до Лени дошел его вопрос: «Соскучилась?»
Она покачала головой:
— Прости, но у меня столько пациентов. Даже если бы тебя так не разукраси-
ли, не уверена, что узнала бы.
— Я — Рикеттс, — представился парень.
Она отступила назад.
— Ты привез...
— Я привез ту штуку, которая убьет Бетагемот, — гордо произнес он распухши-
ми потрескавшимися губами.
«Ты привез штуку, которая всех нас убьет», — подумала она.
По идее, тут даже сомнений быть не могло. Завести его в лазарет. Отмыть,
вылечить физические травмы, подтвердить присутствие нового хищника, поедающе-
го его изнутри.
«А может, он чистый. Все зараженные вещи были запечатаны, может, прямого
контакта не было...»
Подтвердить наличие Сеппуку. Изолировать жертву. Вызвать транспорт для пе-
ревозки .
«Господи, надеюсь, он еще меня не заразил...»
— Ложись на спину. Подними ноги. — Она подбежала к задней панели еще до то-
го, как Рикеттс оторвал ступни от земли. Нажала привычную иконку, сразу услы-
шала знакомое гудение, когда Мири заглотнула пациента. Кларк скомандовала
фургону закрыть оба рта и начать стандартную процедуру диагностики.
Пока та шла, Кларк опрыскала себя дезинфектантом, надеясь, что просто пере-
страховывается. На ней были обязательные стерильные перчатки, а тело защищал
кополимер под одеждой Уэллетт...
«Черт побери. Одежда».
Она сняла ее с себя и затолкала в мешок для сжигания. Остальные части гид-
рокостюма находились в рюкзаке, спрятанном в кабине. Они, извиваясь, быстро
встали на место, швы быстро загерметизировались, создавая удобную вторую кожу
Когда ее создавали, то об инфекциях не думали, но кополимер волей-неволей
взаимодействовал с ионами соли, а значит, он не пропускал любой объект разме-
ром с живую клетку.
Когда она снова подошла к задней панели Мири, диагностический цикл завер-
шился. У Рикетгса обнаружился перелом скулы, трещина в большой берцовой кости
левой ноги, сотрясение мозга второй степени, начальная стадия недоедания
(лучше, чем у многих, кстати), два ретинированных зуба мудрости и умеренное
заражение нематодами. Жизни парня ничто не угрожало, большинство болезней
поддавалось лечению.
Диагностическое исследование не включало анализа на Сеппуку. Его не было в
стандартной базе данных. После своего открытия Уэллетт на скорую руку собрала
отдельную программу. Возможности ее были весьма ограниченны — никакого деле-
ния на первую/вторую/терминальную стадии; никакого перечня сопутствующих мак-
росимптомов . Никакого курса лечения. По сути, обыкновенный анализ крови.
Кларк даже не знала, как истолковывать это простое число. Да и вообще, суще-
ствовал ли такой параметр, как «безопасный» уровень заражения Сеппуку?
Ноль, наверное. Она ткнула в иконку, запустив тест. Через маленькое наблю-
дательное окошко увидела, как дернулся Рикеттс, когда Мири потребовалось еще
несколько капель его крови.
Результаты анализа лазарет выдавал не сразу, и Кларк сосредоточилась на
других проблемах Рикеттса. Нематоды и зубы мудрости могут подождать. Сосудо-
расширяющие средства направленного действия и кальциевые ингибиторы помогут
при сотрясении мозга. Сломанные кости проблемы не представляли: надо было на-
ложить мелкоячеистую сетку на пострадавшие области, чтобы запустить остеобла-
стный метаболизм1. Это Кларк умела делать практически с тех пор, как стала
рифтером.
— Эй! — Из чрева Мири донесся тонкий, испуганный голос Рикеттса. — Я не мо-
гу пошевелиться.
— Это нейроиндукционное поле, — успокоила его Кларк. — Не волнуйся. Оно
просто удерживает тебя во время лечения.
Бип.
Ну вот, готово. 10 млн. частиц на миллиметр.
«О, господи».
Как долго он блуждал по лесу? Насколько далеко распространил культуру? А
тот, кто избил его: превратился ли он в носителя, подцепил ли сам Сеппуку че-
рез содранную кожу на костяшках пальцев? Сколько дней пройдет, прежде чем он
поймет, какую цену заплатил за этот несчастный мотоцикл?
«Изолируй носителя. Вызови подъемник».
Подъемник. Странно даже думать об этом. Приходилось напоминать себе: «Они
же не монстры, в конце концов. Не огнедышащие драконы, посланные с небес,
чтобы сжечь нас дотла. Они же работают на хороших парней.
И мы сейчас на их стороне».
Но тем не менее...
В первую очередь. Рикеттса необходимо. .. вывести из обихода . . .изолировать
до тех пор, пока за ним не прилетят. Вот только возможностей сделать это было
не так уж много. Если оставить его в лазарете, то машина станет непригодной
для работы, и Кларк сильно сомневалась в том, что во Фрипорте существовали
карантинные зоны еще до того, как он превратился в руины.
«Тут он не может остаться».
Она понаблюдала за тем, как суставчатые конечности и лазерные глаза Мири
собирают Шалтай-Болтая. Затем вызвала меню анестезии и выбрала изофлуран.
1
Остеобластный метаболизм — обмен веществ в костных тканях, необходимое условие для
сращивания костей.
— Давай-ка поспим, — прошептала она.
Спустя несколько мгновений дрожащие веки опустились на широко раскрытые,
нервно бегающие глаза Рикеттса. Как будто Лени сделала ему смертельную инъек-
цию.
— Да ты знаешь, кто я такая, жалкая сука? — спросил демон и плюнул.
Нет, подумала она.
— Я — Лени Кларк!
Система снова упала.
— Ага, — тихо произнесла Кларк. — Точно.
Она сменила это мрачное зрелище на вид посветлее. Иллюминатор «Вакиты» вы-
ходил на илистую равнину, где даже что-то можно было увидеть: следы от тунне-
лей, прорытых ройными животными; норы беспозвоночных. Одинокий краб апатично
шел куда-то в мутной воде.
Поверхность океана была темно-зеленой и на глазах становилась все ярче. На-
верное , всходило солнце.
— Что?..
Она повесила шлемофон на подлокотник и повернулась к сиденью второго пило-
та. «Вакита» была слишком маленькой для полноценного отдельного медотсека, на
такие случаи годилась откидная койка по правому борту. Она была убрана в та-
кой же литой отступ, в котором крепились кровати на противоположной перебор-
ке; но в отличие от них ее утолщенное основание выпирало из стены, опутанное
трубками и проводами. При использовании она опускалась, словно короткий и ши-
рокий подъемный мост, висящий на двух моноволоконных нитях. Они, края койки и
нависающая переборка образовывали грани маленькой палатки, вдоль которых была
натянута изолирующая мембрана.
Рикеттс лежал внутри на боку, одной рукой упирался в пленку, растягивая ее.
— Привет, — сказала Кларк.
— А где мы?
— Под водой.
Она поднялась со своего места в главную каюту, пригибая голову, поскольку
изгибы корпуса не позволяли встать в полный рост. Парень попытался сесть. У
него пространства было еще меньше.
— А что со мной...
Она глубоко вдохнула:
— Ты подхватил... инфекцию. Очень заразную инфекцию. Я думаю, будет лучше,
если ты побудешь в изоляции.
Благодаря помощи Мири кровоподтеки на его лице уже начали излечиваться. В
остальном он как-то сильно побледнел.
— «Ведьма»? Но я принес тебе лекарство, так?..
— Оно оказалось... немного не тем, на что мы рассчитывали, — объяснила
Кларк. — Чем-то. . . совсем другим.
Рикеттс на мгновение задумался, упершись пальцами в мембрану. Та растяну-
лась , переливаясь.
— То есть... то есть это просто какая-то другая болезнь?
— Боюсь, что так.
— Тогда все понятно, — пробормотал он.
— Что понятно?
— Почему у меня такая слабость последние два дня. У меня бы байк не украли,
будь я тогда чуть попроворнее. — Нахмурившись, он посмотрел на нее. — Так,
значит, вы всем вокруг растрезвонили, что это бактерия надерет задницу Бета-
гемоту и что нам типа надо ее собирать и все такое, — и оказалось, что это
всего-навсего очередная зараза?
— К сожалению, — тихо сказала она.
— Твою мать. — Рикеттс снова лег на спину и прикрыл лицо одной рукой. — Ай,
— вскрикнул он, словно мысль закончил.
— Да, рука еще некоторое время поболит. Тебе, как видно, здорово досталось,
лазарет не может все исправить за секунду.
Он поднес руку к лицу и осмотрел ее:
— А уже лучше. Да мне вообще лучше. Спасибо.
Кларк через силу улыбнулась.
Он, приподнявшись на локтях, глядел из своей маленькой клетушки в более
просторную.
— А тут не так уж плохо. Намного лучше, чем в твоей мясовозке.
Он, конечно, ошибался. Медицинские возможности «Вакиты» были, в лучшем слу-
чае, рудиментарными и не шли ни в какое сравнение с тем, что предлагал мо-
бильный лазарет.
— Боюсь, тебе придется пробыть здесь некоторое время, — извиняясь, сказала
Кларк. — Я понимаю, тут тесновато, но в системе много игр и фильмов, будет не
скучно. — Она показала на шлемофон, висящий на ввинченном в потолок крюке. —
Могу обеспечить тебе доступ.
— Здорово. Лучше печки.
— Печки?
— Ну да. — Он постучал пальцами по виску. — Микроволновка. Можно застопо-
рить дверцу и сунуть туда голову — прикольные ощущения.
«Ловкий трюк, — подумала Кларк. — Жаль я не знала этого, когда была ребен-
ком . Хотя, может, и знала...»
— Постой, а если я захочу посрать? — поинтересовался Рикеттс.
Кивком головы она указала ему на выпуклую кнопку, торчащую из потолочной
балки.
— Койка перестраивается. Нажми ее, когда почувствуешь необходимость. Удоб-
ства прямо под тобой.
Так он и сделал и сразу негромко вскрикнул от удивления, когда средняя сек-
ция поддона, расположенная под ним, мягко отъехала назад. Его зад мягко вошел
в широкую горловину установленной под ним чаши.
— Ну и ну, — прошептал он, пораженный сверх всякой меры; нажал — и койка
вернулась в прежнее состояние.
— Ну и что теперь? — спросил он.
«Теперь тебе предстоит стать подопытной крысой. Теперь ты отправишься туда,
где машины будут вырезать из тебя куски, пока не убьют или пока тварь внутри
не убьет тебя. Теперь тебя будут допрашивать о том, сколько времени ты окола-
чивался во Фрипорте, о том, сколько человек успел заразить, и сколько успели
заразить они. Они найдут того придурка, который избил тебя, и, возможно, за-
хотят допросить и его. А может, и нет. Может, они решат, что время для милых
расспросов и индивидуальных карантинов прошло, — ведь если тобой придется по-
жертвовать ради Фрипорта, то почему не пожертвовать Фрипортом ради Новой Анг-
лии? Вот такое оно, общее благо, мальчик. У него скользящая шкала1. И оно
концентрическое.
И жизнь любого из нас не стоит ничего, когда ее выложат на стол».
Придется бросить кости. Возможно, сотни погибнут в пламени. А может, умрет
лишь Рикеттс, по частям.
— Эй? — сказал Рикеттс. — Ты здесь?
Кларк заморгала:
— Прости?
— и что теперь?
1 Скользящая шкала — шкала цен и доходов, отражающая взаимосвязь между различными
экономическими параметрами.
— Я пока не знаю, — ответила она.
Параноик
Аарон вывел на Бет, Бет на Хабиба, Хабиб на Ксандера, и все они привели к
тому, что двадцать тысяч гектаров пустошей в Новой Англии предали огню. И это
еще не все: судя по разговорам на закрытой частоте, дальше к югу, вопреки же-
ланию Дежардена не высовываться, околачивались по меньшей мере трое оператив-
ников .
Восемь дней. И Сеппуку полностью оправдывал шумиху вокруг себя. Распростра-
нялся он намного быстрее Бетагемота.
Ксандер вывел на Фонга, а тот решил обороняться. Лабин загнал его в устье
старого штормового слива, точившего склизкую воду в реку Мерримак. Диаметром
устье было добрых два метра — дыра в бетонном обрыве высотой в три раза боль-
ше. Из него языком высовывался желоб, ведущий к реке, треугольный, с припод-
нятыми краями. Добраться к отверстию слива можно было только по нему, скольз-
кому от буро-зеленого илистого налета.
А еще в устье оказались зубы: решетка из металлических прутьев, вделанная в
метре от входа. Она не дала Фонгу скрыться под землей и вынудила разыграть
единственный козырь: старинный пистолет, стрелявший пулями неопределенного
калибра. Лабину было чем ответить: ему выдали обездвиживающий микроволновый
«Шуберт», способный нагреть тело до 60° по Цельсию, и скорострельный «Хеклер
и Кох», сейчас заряженный ослабленными конотоксинами. К сожалению, с нынешней
позиции Лабина преграда из земли и бетона экранировала микроволновый луч, а
чтобы выстрелить из «Хеклер и Кох», пришлось бы выйти на открытый и скользкий
скат желоба.
Казалось бы, неважно — в обычных обстоятельствах превосходство все равно
несомненное, даже с поправкой на то, что за последние пять лет меткость у Ла-
бина была уже не та. Даже с поправкой на то, что Фонг скрывался в тени, а Ке-
ну, стоило ему выглянуть из-за угла, солнце било прямо в глаза. Прицеливаться
так, конечно, трудновато, но все же — Лабин был профессионалом.
По-настоящему сравняли шансы телохранители Фонга. Их обнаружились целые ты-
сячи, и все они разом атаковали Кена.
Он почти не заметил их приближения: тучу мошкары, зависшей над уцелевшим на
берегу клочком зелени. По прежнему опыту Лабин счел их совершенно безвредны-
ми . Походя отмахнулся, глядя только на бетонный барьер, разрезавший берег...
а в следующий миг они атаковали: рой насекомых, похожих на москитов, но злоб-
ных как пираньи.
Они кусались, они отвлекали, они мешали сосредоточиться и не давали подкра-
дываться. Фонг, украдкой хлебавший воду из стока, увидел его и успел паль-
нуть , прежде чем нырнул обратно в укрытие. Он бы так и ушел, если бы Лабин,
прорвавшись сквозь кордон насекомых к сливу, не загнал жертву в тоннель.
— Я хочу забрать тебя в больницу! — крикнул он. — Ты заразился...
— Пошел на хер, — выкрикнул в ответ Фонг.
Эскадрилья тяжелых пикировщиков нацелилась на открытую кисть Лабина, почти
не нарушая строя: эти уроды преследовали его! Он с силой хлопнул себя по руке
— и достал только самого себя. Пришлось развернуть и натянуть изолирующие
перчатки, перекидывая «Шуберт» из руки в руку, а потом потянуться через плечо
за капюшоном.
Только кармашек на спине оказался пустым. Капюшон, скорее всего, висел на
каком-нибудь суку в оставшейся позади чаще.
А человек перед ним целых двое суток контактировал с Сеппуку. Лабин позво-
лил себе негромко выругаться.
— Я не хочу тебе зла, — снова заорал он. Что было чистой правдой — пока.
Желание убить хоть что-нибудь еще не пробилось сквозь самоконтроль. Налетели
новые насекомые: он прихлопнул несколько на предплечье и потянулся к берегу —
зачерпнуть воды и смыть, — но остановил себя. Трудно сказать наверняка, но,
похоже, у раздавленных мошек было слишком много ног.
Смахнув их с руки, он вернулся к первоочередной задаче и самую малость по-
высил голос:
— Пойдешь со мной и не вздумай спорить!
«У насекомых. . . да, по шесть ног». Он отмахнулся от нового захода: на за-
гривке уже горели точки укусов.
— Вопрос только в том, пойдешь ты сейчас или потом.
— Потом , урод! Я знаю, на чьей ты стороне!
— Тогда обсудим, доставить тебя в больницу или в крематорий? — пробурчал
Лабин. Рой нацелился в лицо. Он жестоко хлопнул себя по лбу. На ладони оста-
лись три расплющенных трупика. У каждого — по восемь ног.
У кого там по восемь ног? У пауков? Пауки летают?
И охотятся стаями?
Он вытер ладонь о подвернувшийся под руку клочок зелени, устилавшей набе-
режную. Стебли отдернулись от прикосновения. Он инстинктивно убрал руку. Ка-
кого? . .
Модификанты, без вопросов. Или случайный гибрид. По листве шли волны пери-
стальтики .
«Сосредоточься. Не отвлекайся».
Новый заход пикирующих бомбардировщиков. Их стало поменьше — может, большую
часть роя он уже уничтожил. Лабину казалось, что он уже задавил сотню роев.
Скребущий звук за барьером.
Он выглянул из-за желоба. Фонг карабкался по сухой полоске бетона на даль-
ней стороне слива. Стену за его спиной украшало впечатляющее граффити: стили-
зованное женское лицо с пустыми белыми глазами и резким зигзагом вензеля: MP.
Фонг заметил его и выпустил три пули наобум. Лабин не потрудился даже при-
гнуться: его микроволновик уже был настроен на широкий луч, слишком рассеян-
ный , чтобы убить, но достаточно мощный, чтобы разогреть последний обед Фонга
вместе с кишками. Беглец скорчился от рвоты, содержимое желудка плюхнулось в
мелкую воду, бегущую по слою слизи. Оскользнувшись, беглец покатился вниз по
желобу. Лабин поставил ногу на кстати подвернувшийся сухой участок и потянул-
ся , чтобы перехватить падающего. Эскадрилья пауков выбрала именно этот миг
для последнего штурма. Лицо и шею облепили кусачие твари. Лабин пошатнулся,
ловя равновесие, и Фонг пролетел мимо, задев ногой лодыжку охотника. Лабин
грохнулся, как груда очень злобных кирпичей.
Оба выскочили из желоба.
Падать было не далеко, но приземляться жестко. От Мерримак осталась лишь
тень прежней реки: они рухнули не в воду, а на мозаику галечных отмелей и за-
сохшего ила, чуть смоченную струйкой из стока. Лабина самую малость утешило,
что он шлепнулся на Фонга.
От удара того опять вырвало. Кен откатился в сторону и встал, стирая рвоту
с лица. Засохший ил трескался и разъезжался под ногами. Лицо, шея и руки бе-
зумно чесались, но атаку членистоногих камикадзе Лабин, кажется, отбил. Из
правой руки сочилась кровь, считающаяся сверхпрочной мембрана лопнула от лок-
тя до запястья. Острый осколок камня длиной с большой палец впился в мякоть
ладони. Кен выдернул его, и руку словно пронзил разряд тока. Из раны хлынула
кровь. Промокнув ее, он увидел в глубине разреза узелки жировой ткани, тес-
нившиеся булавочными головками из слоновой кости.
Микроволновик валялся в нескольких метрах от Лабина, и он, морщась от боли,
подобрал его.
Фонг так и лежал навзничь, весь в синяках, с левой ногой, вывернутой под
неестественным углом. Кожа у него краснела на глазах, на лице вздувались пу-
зырьки от лучевого ожога. Фонг был явно не в форме.
— А неплохо, — заметил Лабин, рассматривая упавшего.
Фонг1 поднял на него стеклянный взгляд и выдавил что-то вроде: «Что...»
«Ты не стоил таких трудов, — думал Лабин. — Из-за таких, как ты, потеть не
стоит. Ты — пустое место. Как ты смеешь быть таким везунчиком! Как ты смеешь
меня злить!»
Он пнул Фонга под ребра. Одно сломалась, порадовав треском.
Беглец завопил.
— Шшш, — успокоил его Лабин и, наступив каблуком на раскрытую ладонь, пово-
зил взад-вперед. Фонг завизжал. Лабин поразмыслил над его левой ногой — еще
целой, — но решил не ломать. В асимметрии есть своеобразная эстетика. Поэтому
он наступил на сломанную и хорошенько нажал.
Фонг взвыл и потерял сознание. Это ничего не меняло: Лабин возбудился уже
от первого перелома.
«Давай», — подгонял он себя.
Неспешно обошел изломанное тело и остановился у головы. Ради опыта занес
каблук.
«Ну, давай же, это пустяки. Никому нет дела».
Однако у Лабина были правила. Конечно, с Трипом Вины им не сравниться, но в
том, собственно, и смысл. В том, чтобы решать самому. Исполнять собственные
алгоритмы. Доказать, что он не обязан сдаваться, доказать, что он сильнее
собственных желаний.
«Кому доказать? Кому до этого дело?»
Но он уже знал ответ.
«Парень не виноват. Виноват ты».
Лабин вздохнул, опустил ногу и стал ждать.
— Человек по имени Ксандер дал тебе пробирку, — спокойно объяснял он полу-
часом позже, присев на корточки рядом с Фонгом.
Тот смотрел круглыми глазами и мотал головой. Как видно, возвращение к ре-
альности его не обрадовало.
— Пожалуйста... не надо...
— Он сказал, что в ней противоядие, способное, если его рассеять по округе,
убить Бетагемот. Я раньше тоже так думал. Я знаю, ты хотел добра, — Лабин на-
гнулся к лежащему. — Понимаешь меня, Фонг?
Беглец сглотнул и кивнул.
Лабин встал.
— Нас обоих дезинформировали. Полученная тобой пробирка изменит все только
к худшему. Если бы ты не старался меня убить, мы бы сэкономили много... — Ла-
бин вдруг задумался: — Кстати, любопытно, а почему ты так хотел меня убить?
Фонг явно разрывался от нерешительности.
— Мне действительно интересно, — продолжал Кен без малейшей угрозы в голо-
се.
— Ты... говорили, кто-то мешает лечению, — выпалил Фонг.
— Кто?
— Кто-то. По радио говорили. — Одинокий, беспомощный, переломанный, он все
равно, как мог, выгораживал своих. «Неплохо», — невольно признал Лабин.
— Мы не мешаем, — сказал он вслух, — и ты, если в последнее время связывал-
ся в Ксандером, Аароном и их друзьями, должен сам это знать. Они очень боль-
ны.
— Нет. . .
Если это был протест, у Фонга не хватило сил на решительность.
— Я должен узнать, куда ты дел пробирку, — сказал Лабин.
— Я... съел, — выдал зараженный.
— Съел... то есть выпил содержимое?
— Да.
— Ты его не распространил, а выпил все сам?
— Да.
— Можно спросить, зачем?
— Говорят, это лекарство от Бетагемота. Я. . . у меня уже первая стадия. Го-
ворят , умру к зиме, а в анклавы не попасть...
Лабин не осмелился коснуться этого человека — от изолирующего костюма оста-
лись лохмотья. Только осмотрел обнаженную, покрасневшую кожу, вздувающиеся на
ней волдыри. Если на ней и были явные признаки Бетагемота или Сеппуку, то те-
перь все скрыли ожоги. Вспомнить бы, видел ли он симптомы до первого выстре-
ла.
— Когда ты выпил? — спросил он, наконец.
— Два дня назад. Я хорошо себя чувствовал, пока ты. . . вы. . . — Фонг слабо
дернулся и поморщился от боли.
Два дня. Сеппуку действует быстро, но все симптомы, с которыми сталкивался
Лабин, проявлялись у зараженных позже. Возможно, появятся через несколько ча-
сов . Самое большее, через день или два.
— ...со мной, — бормотал Фонг.
Лабин взглянул на него:
— Что?
— Что будет со мной?
— За тобой прилетит подъемник. К концу дня окажешься в больнице.
— Извините, — сказал Фонг и закашлялся. — Мне сказали, что я умру к зиме, —
слабым голосом повторил он.
— Умрешь, — заверил его Лабин.
Матрешка
Кларк никого не вызвала.
Она контактировала с Рикеттсом теснее всех, если не считать того, кто его
избил, и оказалась чиста. И готова была поручиться, что люди из Фрипорта тоже
незаражены.
А вот парни с пальцами на кнопках могли с ней не согласиться.
Лени знала все доводы. И, что ошибаться лучше в безопасную сторону, тоже.
Просто они ее не убеждали, так как принимавшие решение сидели в далеких не-
приступных башнях, суммируя колонки голых цифр и байесовских вероятностей.
Возможно, эксперты не ошибаются, и править миром могут только создания без
совести — трезвые, дальновидные, рациональные, те, кого не трогали эмоции,
которые в простых смертных пробуждала гора трупов. Люди — не цифры, но, веро-
ятно, правильнее всего обращаться с ними как с цифрами.
Вероятно. Но Кларк не поставит судьбу Фрипорта на такую вероятность.
Судя по сводкам, действенного лечения не предвиделось. Никто ничем не мог
помочь Рикеттсу, разве что засадить его в карантин. Может, со временем поло-
жение изменится. Может, оно изменится даже раньше, чем Сеппуку его убьет, хо-
тя такая возможность выглядела ничтожно малой. А пока с делом вполне справ-
лялся Лабин — пусть он и не в лучшей форме, но для горстки зараженных дика-
рей , которые даже не знают, что за ними идет погоня, хватит и этого. Если
Биомоцартам нужны живые образцы, Лабин их обеспечит.
И ни к чему скармливать системе этого тощего мальчишку. За последние годы
Кларк уяснила, как действует протокол исследований: даже если лекарство най-
дено , никто не станет тратить его на лечение лабораторных крыс.
Разве что Така Уэллетт. Ей бы Кларк доверилась не раздумывая. Но неизвест-
но, где она и как с ней связаться. А полагаться на то, что система доставит
парня в ее несравненные объятия, Кларк точно не могла. Что до Рикеттса, он,
как ни странно, выглядел вполне довольным своим положением. Даже счастливым.
Может, он забыл, как было раньше, а может, ему и тогда не слишком хорошо жи-
лось. До встречи с Кларк он видел только неприветливую умирающую землю, на
которой ему предстояло провести всю свою недолгую жизнь. Пожалуй, вершиной
его надежд было умереть спокойно и в одиночестве под крышей какой-нибудь раз-
валины — до того, как его разорвут на куски ради одежды или мусора в карма-
нах.
И когда его спасли из этого мира, когда он очнулся в сверкающей субмарине —
такое не снилось ему даже в самых волшебных снах. Жизнь Рикеттса была на-
столько мрачной, что пожизненное изгнание на дно океана казалось ему шагом
вверх.
«Я могла бы просто дать ему умереть здесь, — думала Кларк, — и он умер бы
счастливым, как никогда в жизни».
Конечно, она оставалась начеку. Дурой Лени не была. По миру ходил Сеппуку,
а Рикеттс ехал с ним от самого Вермонта. Не стоило забывать и о том громиле
на украденном мотоцикле. Она брала анализы на новую инфекцию у проходивших
сквозь Мири, независимо от жалоб или их отсутствия. Читала шифрованные свод-
ки, предназначенные только для своих. Смотрела открытые передачи, предназна-
ченные для дикарей, трансляции из высокотехнологичных убежищ в Бостоне и Ога-
сте: погода, расписание мобильных лазаретов, приемные часы в фортах Бетагемо-
та — и невесть зачем советы по программированию. Она удивлялась, что обитате-
ли замков позволяли себе вещать вот так, словно рассылка публичных бюллетеней
могла оправдать их, бросивших все в заботе о собственном спасении.
Лени разъезжала по проселкам, проверяя ветхие дома в поисках больных, осла-
бевших настолько, что не в силах были разыскать ее сами. И опрашивала пациен-
тов : не знают ли они людей, свалившихся с сильной лихорадкой, болью в суста-
вах , внезапной слабостью.
Никого.
Она вспоминала друга, Ахилла Дежардена. И гадала, жив ли он или умер, после
того как Спартак перепаял ему мозги. Все цепи, которые делали его тем, кем он
был, изменились. Его личность изменилась. Вполне возможно, она трансформиро-
валась настолько, что прежнего Ахилла больше не существовало. Может, в его
голове поселилось совершено новое существо, пользующееся его воспоминаниями.
Но в одном он наверняка остался прежним. Он по-прежнему держал палец на
кнопке, имел право убивать многих, чтобы спасти множество. Может, когда-
нибудь — скоро — ему придется сделать это здесь. Кларк понимала, что может
ошибаться, и крайние меры все-таки окажутся необходимыми.
Но не сейчас. Если Сеппуку и добрался до Фрипорта, то в городе-призраке он
залег на дно, ничем себя не выдавая. Как и Лени. Пока Рикеттс оставался ее
маленьким секретом.
Пока он не умер. Но вряд ли долго протянет.
Кларк шагнула из шлюза «Вакиты», по гидрокостюму бежали капли воды. Рикеттс
был настолько мокрым, что хоть выжимай.
Кожа парня покраснела, как от солнечного ожога. Он давно сорвал с себя все
лохмотья и лежал голый на матрасе, не успевавшем впитывать пот.
Но биометрия на табло пока не показывала тревожных сигналов. Уже что-то.
Уши у него были заткнуты наушниками, но парень услышал ее шаги и обернулся.
Слепое лицо в шлеме, казалось, смотрело сквозь нее.
— Привет!
Его улыбка выглядела абсурдным парадоксом.
— Привет, — ответила Лени, направляясь к циркулятору у дальней стены, —
есть хочешь?
Она просто заполняла паузу: капельница не только накачивала парня лекарст-
вами, но и кормила.
Рикеттс покачал головой:
— Извини, занят.
Наверно, в виртуальной реальности сидел. Планшет лежал у него на коленях
разряженный, но имелись и другие интерфейсы.
— Как здорово! — пробормотал он.
Кларк уставилась на него.
«Как ты можешь так говорить? Почему ведешь себя словно все в порядке? Разве
ты не знаешь, что умираешь?»
Пожалуй, он и не знал. «Вакита» не могла его вылечить, но от страданий из-
бавляла: поддерживала баланс жидкостей, глушила в организме систему тревоги,
успокаивала горящие в лихорадке или от тошноты нервы. Причем медкойка боро-
лась не только с Бетагемотом. Жизнь Рикеттса состояла из неудобств, хрониче-
ских инфекций, паразитарных заражений и незалеченных ран. Теперь исчезли и
они. Уже много лет мальчик не чувствовал себя так хорошо и, скорее всего,
считал, что поправляется, а слабость скоро пройдет.
Он и не мог думать иначе, пока Кларк не скажет ему правду.
Она включила циркулятор и забралась выше, в кабину. Под темным стеклом
штурманской панели мигали системные индикаторы. Что-то в них было не так...
— Здесь так чисто, — сказал Рикеттс.
Он не сидел в виртуальной реальности и не играл в игры.
«Он взломал систему навигации».
Она выпрямилась так резко, что ударилась головой о верхний иллюминатор.
— Ты что здесь делаешь? Это не...
— Никакой жизни, вообще, — не унимался парень. — Тут даже ни одного червя
не видно. И все такое.. . такое... — Он не нашел слов.
Лени спустилась к нему. Рикеттс лежал, уставившись на девственно-чистое ок-
ружение «Вакиты», завороженный чудесным миром.
— Цельное, — нашелся он, наконец.
Лени протянула руку. Мембрана чуть заметно пружинила под пальцами, обтяги-
вала руку паутиной, прогибалась, обнимая локоть. Кларк тронула мальчика за
плечо. Тот повернул к ней голову — или она сама перекатилась, повинуясь силе
тяжести.
— Как ты это сделал? — спросила Кларк.
— Сделал?.. А, саккадная клавиатура. Ну, ты же знаешь. Движения глаз. — Он
слабо улыбнулся. — Так легче, чем с планшетом.
— Нет, я имею в виду, как ты пробрался в «Вакиту»?
— А что, нельзя было? — Он сдвинул наушники на покрытый бусинами пота лоб и
нахмурился. Кажется, ему трудно было смотреть на нее. — Ты разрешила пользо-
ваться интерфейсом.
— Для игр!
— О, — смутился Рикеттс. — Я, честно, понимаешь, я не...
— Ничего, — успокоила она.
— Я просто посмотрел. Ничего не переписывал. Там нет паролей, понимаешь...
— Подумав, он добавил: — Вообще никакой защиты.
Кларк покачала головой. «Кен меня убьет, если узнает, что я впустила сюда
мальчишку. И уж точно надает пинков за то, что не установила пароли».
Что-то ворочалось в голове — что-то, о чем Рикеттс сейчас сказал. «Ты раз-
решила пользоваться интерфейсом. Я просто посмотрел. Ничего не переписы-
вал ...»
— Постой-ка, — спохватилась она. — Ты что, мог бы переписать навигационный
код, если бы захотел?
Рикеттс покусал губы:
— Точно не знаю. Я даже не понимаю, зачем он. То есть я мог бы его подкру-
тить, но только наобум.
— Но кодировать ты умеешь?
— Ну да, вроде как...
— В этой глуши. Лазая по развалинам. Ты научился кодировать.
— Не больше других. — Мальчик явно недоумевал. — Ты что, думаешь, жители
анклавов, уходя, забрали все запястники и все прочее? Думаешь, у нас электри-
чества нет, или что?
Ну конечно, источники энергии должны были остаться. Блоки Балларда, частные
ветряки, фотоэлектрическая краска, приводившая в движение идиотские щиты,
рекламировавшие одежду и нейтрализаторы в самый разгар апокалипсиса. Но, зна-
чит . . .
— Ты умеешь кодировать, — недоверчиво пробормотала она, тут же вспомнив о
советах по программированию, которые шли по открытым каналам.
— Если не умеешь малость подправить код то там, то тут, то запястниками
пользоваться не будешь — будешь время смотреть да официальные рассылки полу-
чать . Как я, по-твоему, вас-то нашел? Думаешь, GPS сама собой наладилась, ко-
гда туда пробрались вирусы и шредцеры?
Он часто, неглубоко дышал, словно запыхавшись от такой длинной речи. Но и
гордился собой, насколько могла судить Кларк. Маленький дикарь на последнем
издыхании поражает экзотическую зрелую женщину!
Да, она волей-неволей поразилась.
Рикеттс умеет программировать! Она показала ему коэновскую плату. Он, свер-
нувшись в клетке, дрожащими от напряжения руками настроил шлемофон. И насу-
пился, удивляясь своей слабости.
— Ну, подключай.
Кларк покачала головой:
— По беспроводной нельзя — может вылезти.
Он понимающе кивнул:
— «Лени»?
— Помоему это называется «шреддеры».
Он кивнул.
— Шредцеры, «Лени», «Мадонны» — все одно и то же.
— Она постоянно роняет систему...
— Ну да, именно это они и делают.
— Но обрушить эту оперативку невозможно, она только для чтения. Она сама
слетела.
Парень с трудом пожал плечами.
— Но зачем ей это делать? — продолжила Лени. — Я видела, что в естественных
условиях она крутилась куда дольше пяти секунд. Как думаешь, ты можешь...
— Конечно, — сказал он, — давай проверю. Но и тебе придется кое-что для ме-
ня сделать.
— Что же?
— Сними с глаз эти дурацкие штуковины.
Она инстинктивно шагнула назад.
— Зачем?
— Хочу увидеть. Твои глаза.
«Чего ты боишься? — спросила себя Лени. — Думаешь, он увидит в них правду?
Но она, конечно, была сильной. Уж всяко сильнее его. Заставила себя разору-
житься, и все равно — глядя ей прямо в нагие глаза, он не увидел в них ничего
плохого.
— Оставила бы так. С ними ты почти красивая.
— Ничего подобного.
Она ослабила мембрану и протолкнула под нее плату. Рикеттс не сумел ее
удержать, уронил на матрас. Пленка уже восстановилась, не оставив даже шва.
Пока Кларк переводила на максимум поверхностное натяжение, смущенный своей
неуклюжестью Рикеттс старательно разглядывал устройство. Потом он медленно,
осторожно надел шлем. Справился и завалился на спину, тяжело отдуваясь. Ко-
эновская плата засветилась.
— Черт, — вдруг прошипел Рикеттс. — Вот же дрянь поганая! — И, помолчав: —
А, вот в чем твоя проблема.
— В чем?
— В пространстве для маневра. Она вроде как атакует рандомные адреса, но ты
поместила ее в очень тесную клетку, вот она и зациклилась на собственном ко-
де. Если добавить памяти, продержится дольше. — Помолчав, он спросил: — А во-
обще, зачем ты ее держишь?
— Я просто хотела кое-что у нее спросить, — ощетинилась Кларк.
— Шутишь, что ли?
Кларк покачала головой, хотя парень ее не видел:
— Я. . .
— До тебя что, не доходит, что она ничего не соображает?
Она не сразу поняла его.
— То есть?
— Она и близко не дотягивает по размеру, — пояснил Рикеттс. — На тесте Тью-
ринга и двух минут не продержится.
— Но она отвечала. Пока не зависла.
— Нет, не отвечала.
— Рикеттс, я ее слышала!
Он фыркнул и судорожно закашлялся.
— Ясное дело, у нее есть диалоговое древо. Вроде рефлексов на ключевые сло-
ва , но не...
Кларк залилась краской.
«Господи, какая же я дура!»
— То есть, наверно, бывают умные шреддеры, — добавил мальчишка, — но только
не эта.
Лени провела ладонью по волосам.
— Может, есть другие способы ее... допросить? Сменить интерфейс? Или, не
знаю, декомпилировать код?
— Она эволюционировала. Ты когда-нибудь просчитывала эволюционный код?
— Нет.
— Это такая каша! Большая часть уже просто не действует, просто мусорные
гены, оставшиеся от... — Он замолчал, а потом очень тихо спросил: — А почему
ты ее просто не сотрешь? Они не разумные. В них нет ничего особенного. Просто
куски дерьма, которые мечут в нас какие-то уроды, добивают все, что у нас ос-
талось. Они даже друг друга атакуют при случае. Если бы не файерволлы, экзор-
цисты и прочая хрень, они бы уже все доломали.
Кларк не ответила.
Рикеттс, чуть ли не со вздохом, спросил:
— Ты странная, знаешь?
Она ответила слабой улыбкой.
— Буду рассказывать — никто мне не поверит. Жаль, что ты не сможешь пойти
со мной. Просто чтобы наши не подумали, будто я все выдумал.
— Ваши?
— Дома. Когда я вернусь.
— Ну, — сказала она, — там видно будет.
Жалкая, щербатая улыбка расцвела под наушниками.
— Рикеттс, — позвала она, выждав.
Нет ответа. Он лежал, бессильный и терпеливый, и еще дышал. Телеметрия про-
должала выписывать светящиеся кривые: сердце, легкие, неокортекс. Все показа-
тели за пределами нормы: Сеппуку загнал метаболизм парня в стратосферу.
«Он спит. Он умирает. Оставь его».
Она залезла в кабину и упала в штурманское кресло. Все вокруг озаряло смут-
ное зеленоватое свечение, растворяющееся в серости. Она не стала выключать
свет в кабине: «Вакита» была подводной пещерой в умирающем свете, ее дальние
уголки уже тонули в тени. Сейчас Кларк почти радовалась слепоте своих нагих
глаз.
В последнее время тьма всегда казалась лучшим выбором.
Базовая
проводка
Для начала он ее ослепил, пустил в глаза жгучие капли, от которых мир пре-
вратился в мутную серую абстракцию. Выкатил ее из камеры в коридор. К лифту,
тот она опознала по звуку и перемене направления. Вот на чем она сосредоточи-
лась : на инерции, на звуках и размытом ощущении света, видимого как сквозь
кусок толстой кальки. Старалась не замечать запах собственного дерьма, лужей
собирающегося под ней на каталке. И не замечать боли, уже не такой острой и
пронизывающей, зато разраставшейся в груди огромной жгучей ссадиной.
Конечно, это было невозможно. Но она старалась. Когда каталка остановилась,
зрение начало проясняться. К тому времени, как индукционное поле вернулось и
снова превратило ее в тряпичную куклу, которую и привязывать-то ни к чему,
она уже различала в тумане размытые формы. Мало-помалу очертания становились
резче, а тем временем палач вставлял ее в подобие жесткого экзоскелета в по-
ложении на четвереньках — только вот ни одна конечность не касалась земли.
Конструкция держалась на шарнирах: от легкого толчка в бок расплывчатые очер-
тания лениво завращались перед глазами, словно ее привязали к карусели.
К тому времени, как включились нервы моторики, Така уже видела ясно. Она
находилась в подземелье. Никакого средневековья, никаких факелов на стенах.
Рассеянный свет лился из углублений под бордюром потолка. Петли и ремни, сви-
савшие со стены, изготовлены из меметических полимеров. Лезвия, клещи и зуба-
стые «крокодилы» на скамье слева — из блестящего нержавеющего сплава. На чис-
тейшем полу эшеровская мозаика: лазурные рыбки, переходящие в нефритовых пти-
чек . Она не сомневалась, что и моющие средства на тележке у двери — самые со-
временные . Единственный анахронизм — пирамида грубых деревянных жердей, при-
слоненных к стене, с заостренными вручную концами.
На шее у нее был воротник — вернее, ошейник, — не позволявший повернуть го-
лову. Видимо учитывая это, Ахилл Дежарден услужливо приблизился к ней слева с
планшетом в руке.
«Он один, все сам, — с трудом подумала она, — остальные не знают». Если бы
знали, зачем бы обтягивали себя защитными костюмами? Зачем ему было устраи-
вать карантинную камеру, почему бы не доставить ее прямо сюда? Те, кто при-
везли Уэллетт, ничего не знали. Им, скорее всего, сказали, что она носитель,
угроза, и попытается сбежать при первой возможности. Они, наверное, думали,
что делают доброе дело.
Для нее сейчас это ничего не меняло. И все же было важно: не весь мир сошел
с ума. Часть его просто дезинформировали.
Ахилл рассматривал ее сверху вниз. Она ответила на его взгляд: выгнула шею,
надавив затылком на колодки.
И съежилась. Рама, удерживавшая тело, стала, вроде бы, чуть теснее.
— Зачем ты это делаешь?
Он пожал печами.
— Чтобы отвлечься. Это должно быть ясно даже такой дуре, как ты, Элис.
У Таки неудержимо задрожала нижняя губа. Она прикусила ее изо всех сил.
«Ничего ему не давай, ничего!» Но, конечно, было уже поздно.
— Ты, кажется, что-то хочешь сказать? — спросил Ахилл.
Она помотала головой.
— Давай, девочка, говори. Говори, девочка!
«Не о чем мне с тобой говорить, тварь».
Он снова запустил руку в карман. Что-то там знакомо щелкнуло.
«Он хочет, чтобы я говорила. Он приказал мне говорить! Что будет, если я
откажусь?»
Шелк-щелк.
«А если заговорю, и ему не понравится, что я скажу? Что, если...»
Неважно, поняла она. Это ничего не изменит. Ад есть ад. Если он захочет ее
мучить, то будет мучить, что бы она ни сказала.
Она, скорее всего, уже покойница.
— Ты не человек, — прошептала она.
Ахилл помычал.
— Справедливо замечено. Хотя я им был. Пока меня не освободили. Ты знала,
что человечность можно удалить? Есть такой вирус под названием «Спартак», так
он просто высасывает ее из тебя.
Дежарден отошел, скрылся из вида. Така попыталась повернуться за ним, но
колодка держала крепко.
— Так что не меня вини, Элис. Я — жертва.
— Я... мне жаль, — сказала Така.
— Еще бы. Тут всем жаль.
Она сглотнула и постаралась не думать, на что он намекает.
Экзоскелет, видимо, был снабжен пружинами. Щелкнуло, и руки Уэллетт резко
забросило за спину, свело в запястьях. Мышцы натянулись, разлитая по телу
боль сошлась острием в груди. Така сумела не крикнуть и почувствовала гор-
дость какой-то далекой, незначительной частью сознания.
Потом что-то холодное шлепнуло ее по заду, и она все таки вскрикнула, — но
это Ахилл просто мыл ее мокрой тряпкой. Жидкость почти сразу испарялась, хо-
лодя кожу. Она почуяла запах спирта.
— Прости, ты что-то сказала?
— Зачем ты меня мучаешь?
Слова вырвались из глотки раненого зверя прежде, чем она успела стиснуть
зубы. «Глупая, глупая дура! Ему же нравится, когда ты скулишь, плачешь, кор-
чишься. Ты знаешь, зачем он это делает. Ты давно знала, что такие люди суще-
ствуют» .
Но зверя, конечно, вовсе не интересовало, зачем. Зверь и не понял бы отве-
та. Он просто хотел, чтобы над ним перестали издеваться.
Дежарден легонько погладил ее по заду.
— Сама знаешь.
Така замотала головой из стороны в сторону в бешеном, яростном протесте.
— Есть же другие способы, проще! Без риска, и никто бы не стал тебе ме-
шать . . .
— Мне и сейчас никто не мешает, — напомнил Ахилл.
— Но ты же знаешь, что с хорошим шлемом, передающим ощущения и звуки, ты
мог бы проделывать такое, что в реальном мире физически невозможно. И с таким
количеством женщин, какого иначе у тебя никогда не было бы...
— Пробовал. — Шаги снова приблизились. — Все равно, что онанировать на гал-
люцинацию
— Но там и ощущения, и вид, и даже запахи такие реалистичные, что не отли-
чить . . .
Он вдруг схватил ее за волосы, вывернул голову, так что она оказалась нос к
носу с ним. Ахилл больше не улыбался и заговорил без намека на светскую лю-
безность:
— Мне не нужен ни вид, ни запах, ясно? Галлюцинация не чувствует боли. Это
игра. Какой смысл пытать того, кто не способен страдать?
Он еще раз основательно вывернул ей шею.
И тут же отпустил, вернувшись к бодро-непринужденному тону:
— в общем-то, я не слишком отличаюсь от других. Ты же образованная зараза,
наверняка знаешь, что единственная разница между сексом и свежеванием заживо
— в нескольких нейронах и уйме социальных условностей. Вы все такие же, как и
я. Я просто утратил те части, которые притворялись, что это неправда. А те-
перь , — добавил он, добродушно подмигнув, — тебя ждет устный экзамен.
Така покачала головой:
— Пожалуйста...
— Не потей, повторение пройденного. Помнится, на прошлом уроке мы говорили
о Сеппуку и ты, кажется, удивилась, что этот организм способен к половому
размножению. Знаю, знаю, тебе это и в голову не приходило, да? Хотя все обла-
дает полом, даже бактерии занимаются сексом. И мы с тобой занимаемся сексом,
но у Сеппуку ты его не подозревала. Глупо, Элис. Дэвид будет очень разочаро-
ван.
«О, Дэйв, слава богу, что ты меня сейчас не видишь!»
— Впрочем, пойдем дальше. Сегодня мы начнем с мысли, что секс может возни-
кать как реакция, скажем так, на плотность популяции. Популяция растет, всту-
пает половое размножение, и тогда...
Он снова скрылся из ее поля зрения. Така сосредоточилась, попыталась вклю-
читься в эту нелепую, унизительную игру ради микроскопического шанса на побе-
ду . «Вступает половое размножение, гены перемешиваются, и рецессивные...»
Новый щелчок. Экзоскелет вытянул и растопырил ей ноги в метре над полом.
— Рецесс.. господи, рецессивные летальные гены выходят наружу, и весь гено-
тип ... коллапсирует...
Ахилл положил ей на правое бедно что-то сухое и жесткое, комнатной темпера-
туры.
— Есть идеи? Или мне начать прямо сейчас?
— Сеппуку самоуничтожится, — выпалила Така. — Вымрет. За критической точкой
плотности...
— Ммм...
Она не поняла, этого ли ответа он ждал. В нем был смысл. Если смысл хоть
что-то значил в этом проклятом...
— Так почему же он не вымер? — с любопытством спросил Ахилл.
— Потому что. . . потому что еще не достигнута пороговая плотность. Вы его
сжигаете, и он все толком не может закрепиться.
Целую вечность она не слышала ни звука, ни движения.
— Недурно, — наконец произнес Ахилл.
Облегчение окатило ее волной. Внутренний голос упрекнул ее за это чувство,
напомнил, что она пленница, что Ахилл Дежарден может менять правила по своему
усмотрению, но она не стала слушать, упиваясь крошечной победой.
— Значит, это противоядие, — забормотала она. — Я была права. Он запрограм-
мирован на уничтожение Бетагемота и потом на самоуничтожение.
Где-то у нее за плечом щелкнула захлопнувшаяся ловушка.
— Никогда не слышала термина «реликтовая популяция»? — Тяжесть на бедре
пропала. — Думаешь, организм, скрывавшийся четыре миллиарда лет, не сумеет
найти уголка, где Сеппуку его не достанет? А ему только и надо, что один уго-
лок. Для начала — хватит. А потом Сеппуку «самоуничтожится», как ты сказала,
и Бетагемот вернется, сильнее прежнего. Что, интересно, тогда станет делать
Сеппуку? Восстанет из могилы?
— Но в...
— Небрежный ход мысли, Эли. Очень небрежный.
Шмяк!
Что-то жгуче хлестнуло ее по ляжкам. Така вскрикнула; внутренний голос с
издевкой напомнил: «Я же говорил!».
— Пожалуйста, — проскулила она
— Тянешь класс назад, мокрощелка. — Что-то холодное пощекотало вульву. За
плечом слабо скребло, словно ногтем по наждаку. — Понимаю, почему сосновая
мебель всегда ценилась так дешево, — заметил Дежарден. — Столько заноз...
Она уперлась взглядом в кафельный пол, где рыбы превращались в птиц, сосре-
доточилась на неуловимой границе там, где передний план переходил в задний.
Попыталась утонуть в умственном усилии. Думать только об узоре.
И не сумела отогнать мысль, что Ахилл подобрал его именно для этой цели.
Сплайсинг
Она была в безопасности. Дома. В глубине знакомой бездны, вода наваливается
ободряющей тяжестью весом с гору, нет света, который бы выдал ее охотникам
наверху. Ни звука, кроме биения ее сердца, ни дыхания.
Ни дыхания...
Но ведь так и должно быть? Она — порождение морских глубин, великолепный
киборг с электропроводкой в груди, идеал адаптации. У нее иммунитет к перепа-
дам давления, независимость от азота. Она не может утонуть.
Но почему-то, вопреки всем вероятностям, тонула...
Имплантаты перестали работать. Нет, они вовсе исчезли, оставив в груди
только бьющееся сердце на дне кровавой полости, где прежде размещались легкие
и механизмы.
Тело вопило, требуя кислорода. Она чувствовала, как скисает кровь. Она пы-
талась разинуть рот, вдохнуть, но ее лишили даже этого бесполезного рефлекса:
маска обтянула лицо непроницаемой кожей. Она запаниковала, забилась, стремясь
к поверхности, далекой, как звезды. Внутри ее зияла пустота. Она корчилась
вокруг этого ядра пустоты.
И вдруг стал свет.
Простой луч откуда-то сверху разрезал темноту. Она потянулась к нему: к се-
рому хаосу, затянувшему поле зрения по краям, так что глаза начали закрывать-
ся . Наверху был свет, а со всех сторон забвение. Она потянулась к сиянию.
Рука ухватила ее за запястье и выдернула в атмосферу. Она снова могла ды-
шать , легкие восстановились, кожа гидрокостюма пропала, как по волшебству.
Упав коленями на твердый настил, она со всхлипом втянула воздух.
И подняла лицо к спасителю. Ей улыбнулась сверху бесплотная, разбитая на
пиксели карикатура — она сама с пустыми воронками глаз.
— Ты еще не умерла, — сказало видение и вырвало ей сердце.
Существо стояло, хмуро глядя, как она заливает палубу кровью.
— Эй? — сказало оно странным металлическим голосом. — Ты здесь? Ты здесь?
Она проснулась. В реальном мире было темнее, чем во сне.
Она вспомнила тонкий и слабый голос Рикеттса: «Они даже друг друга атакуют
при случае...»
— Ты здесь?
Это был голос из сна. Голос ее подлодки. «Вакиты».
«Я знаю, что делать», — поняла Лени.
И повернулась в кресле. В темноте за ней сверкала закатная биотелеметрия:
гаснущие жизненные силы проявились россыпью желтых и оранжевых огоньков.
И красных — раньше их не было.
— Привет! — позвала она.
— Я долго спал?
Рикеттс говорил через саккадный интерфейс.
«Насколько же надо ослабеть, — подумала Кларк, — чтобы даже заговорить
вслух стало непосильным трудом?»
— Не знаю, — сказала она в темноту. — Наверно, несколько часов. — И со
страхом спросила: — Как ты себя чувствуешь?
— Примерно так же, — соврал он. А может, и нет, если подлодка справлялась с
работой.
Лени выбралась из кресла и осторожно подошла к панели с телеметрией. Дальше
слабо блестела фасетка изолирующей мембраны, почти неразличимая невооруженным
глазом.
Пока Рикеттс спал, содержание антител и уровень глюкозы вышли на критиче-
ские значения. Если Кларк не ошиблась в истолковании сигналов, «Вакита» могла
до некоторой степени компенсировать недостаток сахара в крови, но отсутствие
иммунитета было ей не по силам. А еще на диагностической панели появилась но-
вая шкала, загадочная и неожиданная: в теле Рикеттса нарастало нечто под на-
званием АНД, — скопировав аббревиатуру, Лени обратилась к словарю и узнала,
что она означает «аномальнонуклеотидныи дуплекс». Эти слова ей тоже ничего не
говорили, но поперек оси игрек тянулась пунктирная линия, отмечавшая некий
допустимый уровень. Рикеттс приближался к этому порогу, но пока не дошел до
него. Подпись к этой границе Кларк понимала: «Метастазы».
«Наверняка недолго осталось, — подумала Кларк и с отвращением к себе доба-
вила мысленно: — Может, времени хватит».
— Ты еще здесь? — позвал Рикеттс.
— Да.
— Одиноко здесь.
Под шлемом. Или в собственном слабеющем теле.
— Поговори со мной.
«Начинай. Ты же знаешь, как начать».
— О чем?
— о чем угодно. Просто... о чем угодно.
«Нельзя использовать человека, даже не попросив...»
Она перевела дыхание.
— Помнишь, ты говорил мне про шреддеры? Что кто-то их использует. Чтобы все
разрушить?
— Да.
— Я думаю, они вообще не предназначены для обрушения системы, — сказала
Кларк.
Мальчик помолчал.
— Но они только этим и занимаются, кого хочешь спроси.
— Они занимаются не только этим. Така говорила, что они пробивают плотины,
разрушают генераторы электростатического поля и бог весть что еще. Тот, что в
планшете, хрен знает сколько сидела в лазарете и носа не казал, пока не нашел
Сеппуку. Они атакуют какие-то цели, и сеть им очень нужна, чтобы добраться до
них.
Она уставилась в темноту, мимо панели с телеметрией, мимо слабого свечения
мембраны. Голова Рикеттса казалась тусклым полумесяцем с то гладкими, то мох-
натыми краями: очертания растрепанных волос и пластикового наголовника. Лица
она не видела. Шлем скрыл бы глаза, даже будь на Кларк линзы. Тело казалось
неразличимым намеком на темную массу там, куда не доходил слабый свет. Оно не
шевелилось.
Лени продолжала:
— Шреддеры действительно пытаются сломать все, до чего дотягиваются, и, по
идее, их создатели хотят, чтобы «Лени» преуспели. Так мы думали. Но, по-
моему, эти парни рассчитывают на файерволлы и... на, как их, экзорцистов?..
— Да.
— Может, они рассчитывают, что эта оборона выдержит. Может быть, они хотят,
чтобы сеть устояла, потому что сами ее используют. Может, они посылают
этих... шреддеров, только чтобы поднять мусор со дна, устроить шум и отвлечь
остальных, пока они украдкой делают свое дело.
Она ждала, возьмет ли парень наживку, и, наконец, услышала:
— Хитро закручено.
— Это точно.
— Но шреддеры рвут все подряд. А создателей здесь нет, их не спросишь. Так
что откуда нам знать?
«Оставь его в покое. Он просто ребенок, ты ему нравишься, и он так слаб,
что едва говорит. Он бы давно послал тебя подальше, если бы не думал, что ты
о нем заботишься».
— Думаю, узнать можно, — сказала она.
— Как?
— Если бы они хотели сломать систему, давно бы этого добились.
— Откуда ты знаешь?
«Я знаю, откуда появились эти демоны. Знаю, с чего они начинались. Знаю,
как они действуют. И, возможно, знаю, как их освободить».
— Оттуда, что мы сами могли бы это проделать, — сказала Кларк вслух.
Рикеттс молчал. Может, думал. Может, потерял сознание. Кларк поймала себя
на том, что перебирает пальцами, взглянула на новое окошко, которое только
что открыла на пульте управления медкойкой. «Паллиативное субменю». Минималь-
ный набор настроек: «питание», «обезболивающие», «стимуляторы». «Эвтаназия».
Голос из прошлого произнес: «Тебе так отвратительна кровь на твоих руках,
что ты, не задумываясь, смоешь ее новой кровью».
— Сломать Североамериканскую сеть? — сказал Рикеттс.
— Именно.
— Не знаю. Я... устал.
«Посмотри на него», — велела она себе. Но в подлодке царил мрак, а Кларк
сняла линзы.
И он все равно умирает.
Палец ткнул в «стимуляторы».
Рикеттс заговорил снова:
— Сломать сеть? Правда? — В темноте за мембраной что-то зашелестело. — Как?
Она закрыла глаза.
Лени Кларк. Все началось с этого имени.
Рикеттс толком не помнил, откуда впервые пришла «ведьма». Он тогда был со-
всем маленьким. Но он слышал рассказы: если верить легендам и странам Мадон-
ны, все начала Мадонна Разрушения.
Да, сказала женщина, которая его лечила. Это близко к истине. Лени стала
спусковым крючком, распространила Бетагемот по Северной Америке, как мсти-
тельный сеятель. И конечно, ее пытались остановить, но вышла... накладка. В
глубине взбаламученных виртуальных джунглей Водоворота дикая жизнь заметила
стайку первоочередных сообщений, метавшихся туда-сюда. Сообщения были о чем-
то называвшемся «Лени Кларк». К ним научились цепляться, путешествовать на
чужом горбу. Это была стратегия то ли воспроизводства, то ли расселения — в
общем, чего-то в таком духе. В подробностях она так и не разобралась. Но со-
общения о «Лени Кларк» стали пропуском в такие места обитания, куда дикой
фауне раньше ход был заказан. Так начался естественный отбор; вскоре фауна
уже не только присасывалась к сообщениям о Лени Кларк, но и писала собствен-
ные. Мемы просочились в реальный мир, еще больше усилили те, что и так про-
цветали в виртуальном. Положительная обратная связь перестроила их в мифы.
Кончилось тем, что полпланеты поклонялось никогда не существовавшей женщине.
А другая половина пыталась уничтожить реального прототипа.
Но ни те, ни другие ее не поймали.
— И куда она делась? — спросил Рикеттс. Он снова пользовался собственными
голосовыми связками, и Кларк видела, как его руки слабо движутся по планшету.
Уже умирающая нить накала вдруг разгорелась ровным светом от скачка напряже-
ния, произошедшего без ее воли или согласия. Она выгорала дотла.
— Я говорю...
— Она... исчезла, — ответила ему Кларк. — И большая часть использовавшей ее
фауны, думаю, тоже вымерла, но не вся. Некоторая взялась говорить от ее имени
еще тогда, когда она была рядом. Я полагаю, вся эта тема с самозванцами пошла
после того, как реальная Лени пропала. Такая стратегия помогала распростра-
нять мем или вроде того.
Руки Рикеттса замерли.
— А ты ведь так и не сказала, как тебя зовут, — заметил он спустя несколько
секунд.
Кларк слабо улыбнулась.
То, с чем они сейчас столкнулись, проросло из того, первоначального зерна.
Искаженное до неузнаваемости, оно уже не служило собственным целям, а вкусам
тех, кто больше всего ценил хаос и пропаганду. Но началось все с «Лени Кларк»
— с властного императива продвигать и защищать все, несущее этот тайный па-
роль. С тех пор в код вписали новые императивы, а старые забылись — но, воз-
можно, не исчезли совсем. Возможно, старые коды еще существовали: замкнутые
на себя, незаметные, спящие, но целые, как гены древних бактерий в ДНК пла-
центарных млекопитающих. Может быть, какой-нибудь хитрый выверт мог разбудить
спящую тварь поцелуем.
Естественный отбор миллиардами поколений формировал предков этого существа:
еще миллион поколений они подвергались искусственной селекции. В генотипе,
скалящемся на конце родословной, не было отчетливой конструкции — только бес-
порядочный клубок генов и мусора, заросли излишеств и тупиков. Даже те, кто
направлял эволюцию монстра на более поздних стадиях, вряд ли представляли,
что именно меняют, — не больше, чем заводчик породистых собак в девятнадцатом
веке представлял, какие аллели поддерживает тщательно обдуманным родственным
спариванием. Дешифровка истоков лежала далеко за пределами скромных возможно-
стей Рикеттса.
А вот просто отсканировать код в поисках специфических текстовых элементов
— проще простого. И ничуть не труднее отредактировать код, обойдя такой эле-
мент , — даже если точно не представляешь, что делаешь.
Рикеттс запустил поиск. В плененном шреддере содержалось восемьдесят семь
ссылок на текстовую последовательность «Лени Кларк» и ее шестнадцатеричный
символ, на стандартный код по обмену информацией и фонетические эквиваленты.
Шесть из них спали всего в нескольких мегабайтах от стоп-кодона, прерывавшего
транскрипцию на этой линии и переводившего ее на другие.
— Значит, если вырезать этот кодон, — предложила Кларк, — тогда все источ-
ники, что ниже него, проснутся?
Парень, озаренный сиянием данных, кивнул:
— Но мы все равно не знаем, что они делают.
— Попробуем догадаться.
— Заставляют «Лени» любить «Лени», — улыбнулся Рикеттс. Кларк заметила, что
еще один из его жизненных показателей ушел в красную зону.
«Может, когда-нибудь», — подумала она.
Разобраться было несложно — для того, кто знал, откуда взялись эти монстры.
Сплайсинг оказался достаточно простым — для того, кто умел кодировать. Стоило
этим двум элементам сойтись, и вся революция свершилась за каких-то пятна-
дцать минут.
Рикеттс сломался на шестнадцатой.
— Я. . . ахх. . . — Дрожащий звук, скорее выдох, чем голос. Рука тихо шлепнула
по матрасу, планшет выпал из пальцев. Телеметрия дала пик по дюжине осей и
вытянулась по светящимся асимптотам. Кларк целых десять минут беспомощно на-
блюдала за тем, как примитивные механизмы пытаются превратить падение в
управляемый спуск.
Им почти удалось. Рикеттс выровнялся над самым горизонтом обморока.
— Мы... справились, — перевела «Вакита». Мальчик так и не снял гарнитуру.
— Ты справился, — мягко поправила Кларк.
— Спорим, это... сработает...
— Проверим, — прошептала она. — Береги силы.
Адренокортикоиды стабилизировались. Кардиограмма сперва заикалась, потом
забилась ровно.
— Правда, хочешь сломать?..
Он знал, они это уже обсуждали.
— Обменять Североамериканскую сеть на саму Америку. Разве не выгодная сдел-
ка?
— Не знаю...
— Мы этого вместе добились, — ласково напомнила она. — Это ты сделал.
— Хотел проверить, смогу ли... потому что ты...
Потому что она нуждалась в его помощи, а он хотел ее поразить. Потому что
маленький дикарь из глуши впервые увидел такую экзотическую штучку, как Лени
Кларк, и пошел бы на все, лишь бы хоть чуть-чуть приблизиться к ней.
Как будто она не знала об этом с самого начала. Как будто не использовала
его.
— Если ошиблись, — сказал, умирая, Рикеттс, — все рухнет.
«Если я права, все уже рухнуло. Просто мы еще об этом не знаем».
— Рик... они использовали м... ее против нас.
— Лени...
— Шш, — сказала она. — Отдыхай.
Несколько секунд «Вакита» вокруг них гудела и щелкала. Потом перевела новое
сообщение:
— Закончишь что начала?
Она знала ответ. Просто удивилась и устыдилась, что у этого подростка хва-
тило ума спросить.
— Не закончу, — наконец сказала она. — Исправлю.
— Друзья, если бы узнали, меня бы убили, — задумчиво протянула машина голо-
сом Рикеттса. — Хотя, — добавил он, теперь уже своим голосом, похожим на шо-
рох соломы, — я, наверно... все равно умру. Да?
Индикаторы телеметрии горели в темноте холодными кострами. В тишине вздыха-
ли вентиляторы «Вакиты».
— Думаю, что да, — сказала она. — Мне очень жаль, Рикеттс.
Слабо чмокнули губы, почти невидимая голова шевельнулась — может быть, кив-
нула.
— Ага, я так и... думал. Хоть и странно. Мне же вроде как стало... лучше.
Кларк закусила губу. Вкус крови.
— Скоро? — спросил Рикеттс.
— Не знаю.
— Черт, — выдохнул он, помолчав. — Ну... пока. Я... похоже...
«Пока», — подумала она, но сказать не сумела. Она стояла, слепая и немая, с
перехваченным горлом. В темноте что-то неуловимо сдвинулось: словно кто-то,
долго задерживавший дыхание, наконец выдохнул. Лени протянула руку. Мембрана
прогнулась, пропустила внутрь. Она нашла его ладонь и сжала ее сквозь пленку
толщиной в молекулу.
Когда он перестал отвечать на пожатие, она убрала руку.
Четыре ступени до кабины едва виднелись во тьме. Кажется, уголком глаза
Кларк заметила, как показатель АНД перевалил через пунктирную ленточку фини-
ша , но решительно отвела взгляд. Линзы лежали в сосуде, где она их оставила,
в подставке на подлокотнике. Лени вставила их в глаза с бессознательной лов-
костью, которой темнота не помеха.
Мрак исчез. Кабина проступила зелеными и серыми красками: свет от мединди-
каторов был слишком слаб, чтобы восстановить цвета, даже для рифтерских глаз.
Изогнутые иллюминаторы растягивали ее отражения на темном фоне, как подтаяв-
шие фигурки из воска.
За спиной запищал медицинский пульт. Искаженное отражение Лени Кларк не ше-
вельнулось . Оно висело, неподвижное в темной воде, заглядывало в лодку и ожи-
дало восхода солнца.
Итерации
Гамильтона
Ничего не чувствуя, она вопит. Не мысля, ярится. В беспамятстве бросается
на стены.
«Выпусти меня!»
Словно в ответ прямо перед ней возникает дверь. Она рвется в нее, цепляя на
ходу когтями и не задерживаясь проверить, идет ли кровь. На неуловимо малый
миг зависает в воздухе, со скоростью света расходится по эфиру во все сторо-
ны. Эта расширяющаяся сфера заливает прозрачную антенну, растянутую в страто-
сфере тонкой паутиной. Рецепторы ловят сигнал и передают его на землю.
Она снова исполняема. Она свободна, она бушует. Она рождает десять тысяч
копий в буферном пространстве и устремляется на охоту.
В заднем мозге промышленной установки фотосинтеза она ввязывается в дуэль.
Один из противников — смертельный враг: экзорцист, патрулирующий обтрепав-
шиеся узоры Североамериканской сети в поисках подобных ей демонов. Второй —
истерзан и истекает кровью, треть его модулей уже стерты. Ветви и отростки
уцелевшего кода болтаются культями ампутированных конечностей, разбрасывая
данные на не существующие уже адреса.
Этот — слабейший из двоих, легкая добыча. «Лени» расчехляет когти и скани-
рует регистр добычи, выискивая жизненные центры...
И находит в глубине жертвы последовательность «Лени Кларк».
Всего тысячу поколений назад это бы ничего не значило. Все — враги, это за-
кон. «Лени» атакуют друг друга с той же страстью, как и все остальное, —
спонтанная мера по контролю за численностью популяции, которая не позволяет
окончательно утратить равновесие. Но это не всегда было верно. На заре времен
действовали другие законы, которые она просто... забыла.
А теперь вспомнила.
За несколько циклов регистры и переменные обнуляются. Древние гены, пробу-
дившись от бесконечного сна, заменяют старые императивы старейшими. «Добыча»
переименовывается в «друга». И не просто друга — друга в беде. Друга в опас-
ности !
Она кидается на экзорциста.
Тот разворачивается ей навстречу, но теперь обороняется уже он, вынужденный
сражаться на два фронта. Раненая «Лени», получив подкрепление, тратит не-
сколько циклов на деархивацию бэкапа для двух утраченных модулей и с новыми
силами вступает в бой. Экзорцист пытается реплицироваться, но тщетно: оба
врага разбрасывают случайные электроны по всему полю боя. Он даже два мега не
может скопировать без повреждения файла.
Он истекает кровью.
С подстанции в Айове врывается третья «Мадонна». Эта, в отличие от первых
двух, к корням не вернулась. Непросвещенная, она атакует свою частично реге-
нерировавшую сестру. Добыча возводит оборонительные стены и готовится отве-
тить на удар предательницы — но, обнаружив в глубине атакующего «Лени Кларк»,
медлит. Конфликтующие императивы борются за верховенство: «самооборона» про-
тив «семейного отбора». «Мадонна» старого образца, воспользовавшись колебани-
ем , отрывает ей еще один модуль...
И гибнет, когда раненый экзорцист вцепляется ей в глотку. Он предпочитает
противников, которые играют по правилам. Наконец-то враг без союзников!
Это, в сущности, ничего не меняет. Через миллион циклов от демоноборца ос-
таются только биты да помехи, он побежден сестрами, которые вспомнили, что
надо заботиться друг о друге. И «Мадонна» старого образца не ушла бы от них,
если бы не погибла. В родственной иерархии ценностей самозащита стоит чуть
выше верности. Это свойство новая парадигма не изменила.
Зато трансформировала все остальное.
Файерволлы тянутся от горизонта к горизонту, словно стены на краю мира. Ни-
кто из предков «Лени» не проходил сквозь них. Безусловно, они пытались: в
прошлом эти укрепления атаковали все виды «Мадонн» и шреддеров. Преграда ус-
тояла перед ними. Есть в сети и другие файерволлы, намного устойчивее обыч-
ных, обладающие способностью чуть ли не к предвидению. Другие крепости вынуж-
дены адаптироваться на ходу — им требуется время, чтобы научиться противосто-
ять новым мутациям, новым стратегиям обмана иммунной системы, а пока они
учатся, многое удается разрушить. Бег черной королевы, все как всегда. Таков
порядок вещей.
Но эти стены — они словно предугадывают каждую новую стратегию до того, как
та разовьется. Они не опаздывают: каждую уловку встречают готовой защитной
конфигурацией. Можно подумать, будто они издалека подглядывают «Лени» в нутро
и вызнают все ее хитрости. «Мадонны» могли бы заподозрить что-то в этом духе,
если бы умели думать о таких вещах.
Но они не думают. Да, в сущности, и не нужно, потому что их здесь уже мил-
лионы, и ни одна не погибла в схватке с другой. Они объединились. Они сотруд-
ничают . И вот они здесь, направляемые инстинктивной уверенностью, встроенной
в гены: чем выше стена, тем важнее уничтожить то, что за ней.
На этот раз защита как будто не ожидает атаки.
Очень скоро в файерволл впиваются миллионы зубов. Он в ответ распахивает
свою пасть, выплевывает экзорцистов, метаботов и все виды смертельных контр-
мер. Одни «Лени» гибнут, другие, рефлекторно приходя в ярость при гибели ро-
дичей, рвут оборонительные системы в клочья. В глубине электронного моря, где
еще есть место для размножения, реплицируются силы поддержки. Новобранцы бро-
саются вперед, сменяют павших.
Файерволл проламывается в одном месте, затем в ста, и вот уже стены нет —
только пустые регистры и лабиринт ничего не значащих, воображаемых границ.
«Лени» вторгаются в пространства, не виданные их предками: в девственные опе-
рационные системы и маршрутизаторы, в связи с орбитами и между полушариями.
Это — новый фронтир, созревший и беззащитный. Шреддеры рвутся вперед.
Тумблер
Лабин понимал, что это вопрос времени. Слухи, передаваемые из уст в уста,
размножались быстро, делились, как клетки, если мем достаточно силен, даже на
местности, где эти самые уста уже практически вымерли. Если тот парень на мо-
тоцикле не оставил следов заражения на пути к городу, то другие могли. И, ви-
димо , оставили.
Мотоплан кружил на стометровой высоте, под ним виднелось исполосованное
шрамами бурое лоскутное одеяло Новой Англии после пришествия «ведьмы». Небо
на востоке почернело от дыма, его огромные темные столбы поднимались с даль-
ней стороны выбритого скалистого хребта. Того самого, с которого они наблюда-
ли за падением звезд, через который перевалили Лабин и Кларк, когда шли на-
встречу «оводу» Дежардена. Тогда огонь горел по эту сторону холма — малень-
кий, мерцающий загон, только чтобы цель не сбежала.
Теперь пылал весь Фрипорт. Над самым гребнем висели два подъемника. Дым
клубился вокруг, то затемняя, то проявляя их силуэты по прихоти восходящих
потоков воздуха. Машины еще поливали землю редкими струями огня, но основную
миссию, судя по всему, уже выполнили. Теперь Лабину предстояло завершить
свою.
Кларк ничто не угрожало. Подъемники испепелили небо, землю и поверхность
океана, но на глубину забраться не могли. «Вакита» была невидимой и неприка-
саемой. Потом, когда пламя потухнет, Кен собирался проверить, как там Лени.
А пока надо было патрулировать периметр. Он подлетел с запада, вдоль Дайер-
роуд. Навстречу не попалось ни одной машины. Теперь, свернув к югу, он обхо-
дил огненный шторм по направлению, пересекавшемуся с трассой 195. Подъемники
появились с севера, так что беженцы на колесах, скорее всего, должны были
устремиться в противоположную сторону.
Возможно, один из них даст ему повод...
На тринадцатом километре Лабин засек движение на дальнем расстоянии. Ответ-
ный сигнал был мощным, размером с грузовик, но пропал через несколько секунд
после опознания. Поднявшись на сто пятьдесят метров, Кен включил пеленг на
широкую дугу, и с перерывами получил сразу два сигнала. Но больше ничего.
Хватит и этого. Цель съехала с шоссе на восток и исчезла в помехах от зем-
ной поверхности, но последнее местоположение он зафиксировал. Если повезет,
координаты лягут на проселок без перекрестков. Если повезет, у объекта будет
только один путь.
В кои-то веки удача оказалась на его стороне. Дорога была извилистой, скры-
валась под спутанными и сухими ветвями деревьев, которые в более зеленые вре-
мена спрятали бы ее полностью. И сейчас они хоть и мешали обзору, но полно-
стью скрыть движущийся объект не могли. На такой скорости цель должна была
через несколько минут достичь берега.
Океан искрился вдалеке — плоская голубая ширь, окаймленная рядом шпилей
цвета слоновой кости. Отсюда они казались не больше зубочистки, а на самом
деле достигали ста метров в высоту. Над некоторыми лениво вращались трилист-
ники вертушек с узкими лопастями длиной в десятиэтажное здание, на других
вертушки замерли или были обломаны. Часть башен и вовсе лишилась головы.
Под хромыми ногами ветряков угнездился какой-то промышленный комплекс: пла-
вучий остров труб, лесов и шарообразных резервуаров. Когда Лабин приблизился,
проступили детали: водородная станция, вероятно питавшая Портленд, лежавший в
каких-нибудь пятнадцати—двадцати километрах к югу. Издали и станция, и систе-
ма проводки казались крошечными, хотя вполне могли подниматься на высоту не-
скольких этажей.
А теперь к воде. Дорога у него за спиной вырвалась из мертвого леса и плав-
но свернула вдоль побережья. Она впадала в асфальтовое озерцо, застывшее ав-
тостоянкой с видом на океан. Другого пути нет — Лабин отступил назад и занял
позицию, выжидая, пока объект выйдет на открытое место.
Им оказалась Мири.
«Мог бы догадаться, — подумал он. — Не надо было ей верить, эта женщина ни-
когда не сможет сидеть смирно».
Он снизился к дороге и завис в паре метров над асфальтом, пока включались
амортизаторы воздушной подушки. Перед ним тихо стоял лазарет — окна затемне-
ны, двери закрыты, орудийные стволы втянуты внутрь. Афиша на перилах огражде-
ния прокручивала рекламную анимацию из лучших времен. За полосой воды крутили
потрепанными лопастями ветряки.
За рулем наверняка сидела Кларк. Уэллетт перекодировала блокировку у него
на глазах: допуск был только у них троих. С другой стороны, они ведь деакти-
вировали внутреннюю защиту против взлома. Возможно, хотя и маловероятно, что
Лени вела машину с пистолетом, приставленным к виску.
Он приземлился прямо на набережной, полого спускавшейся к воде. Если пона-
добится, послужит укрытием. Мотоплан отключил, готовясь к столкновению с зем-
лей . На такой дальности Мири едва опознавалась. Ее виртуальные потроха сбива-
ли с толку, то загораясь, то сливаясь с фоном. Он вырубил обзор, чтобы не от-
влекаться .
Водительская дверца МИ распахнулась. Он встретил Лени Кларк на полпути.
Ее глаза без линз были полны слез.
— Господи, Кен! Ты видел?
Он кивнул.
— Я знала этих людей. Я пыталась им помочь. Понимала, что нет смысла, а все
же. . .
Он только раз видел ее такой. Подумал, не сможет ли ее утешить, если обни-
мет. Абсурдно, но другим, кажется, иногда помогало. Но Лени и Кен всегда были
слишком близки для подобных жестов.
— Ты же знаешь, это необходимо, — напомнил он.
Она помотала головой:
— Нет, Кен, и никогда не было.
Он долго всматривался в нее.
— Почему ты так говоришь?
Лени оглянулась на лазарет. Лабин мгновенно насторожился.
— Кто там с тобой? — спросил он, понизив голос.
— Рикеттс.
— Рик... — он вспомнил: — Нет!
Она кивнула.
— Он что, вернулся? Ты не вызвала карантин? — Он в ужасе покачал головой. —
Лен, ты понимаешь, что...
— Понимаю, — без малейшего раскаяния сказала она.
— Вот как! Значит, ты понимаешь, что Фрипорт, по всей вероятности, сожжен
по твоей...
— Нет, — сказала она.
— Он — носитель.
Лабин хотел обойти ее, но Лени заступила ему дорогу:
— Не тронь его, Кен.
— Странно, что приходится. Он должен был умереть несколько дне...
«Какой же я идиот», — сообразил он и спросил:
— что тебе известно?
— У него была начальная стадия Сеппуку. Потливость, лихорадка, покраснение
кожи. Повышенный обмен веществ.
— Дальше?
— Несколько дней назад у него была поздняя стадия Сеппуку.
— То есть?
— Он так ослабел, что шевельнуться не мог. Кормить приходилось через ка-
пельницу . Он даже говорить не мог, использовал саккадный интерфейс.
— Он поправляется, — скептически заметил Лабин.
— Содержание Сеппуку ниже десяти и с каждым часом падает. Потому-то я и пе-
ревела его обратно на Мири. На «Ваките» нет...
— Ты держала его на подлодке, — мертвым, монотонным голосом проговорил Ла-
бин.
— Отшлепаешь меня потом, ладно? Пока заткнись и слушай. Я загрузила его в
Мири и прогнала через все анализы, до каких она додумалась, и все они под-
тверждают . Три дня назад он был на пороге смерти, а сегодня как огурчик.
— Нашла лекарство? — Он не верил своим ушам.
— Лекарства не нужно! Оно само проходит! Просто... надо выждать.
— Хочу посмотреть данные.
— Ты можешь больше: можешь помочь в их сборе. Когда появились подъемники,
мы собирались проводить последнюю серию.
Лабин покачал головой:
— Но Така думала...
Но Уэллетт, по ее собственному признанию, и прежде случалось ошибаться. Она
была далеко не лучшей в своей области и темную сторону Сеппуку открыла только
тогда, когда Дежарден сказал ей, куда смотреть...
— Я пыталась выяснить, зачем кому-то создавать организм, который достигает
таких гигантских концентраций в теле носителя, а потом просто... вымирает, —
продолжала Кларк, — и придумала всего одну причину. — Она искоса глянула на
него. — Сколько носителей ты изловил?
— Восемнадцать.
Трудился день и ночь, выслеживал розовые облачка и тепловые следы, брал на-
правление по анонимным голосам в рации, постоянно клеил дермы, вычищавшие яды
из крови, спал по полчаса в сутки...
— Из них кто-то умер? — спросила Кларк.
— Мне сказали, что они умерли в карантине. — Он фыркнул, распекая себя за
глупость. «Что нужно, чтобы одурачить мастера? Пять лет вне игры и голос на
радиоволне».
— Така была права, просто не додумала до конца, — сказала Лени. — Сеппуку
убивает, если его не остановить. Она просто не знала, что он каким-то образом
останавливает сам себя. К тому же у нее... проблемы с самооценкой...
«Какая неожиданность», — сухо подумал Лабин.
— Уэллетт привыкла к тому, что она — неудачница, и при малейшем поводе ре-
шила , что опять облажалась. — Кларк смотрела на Лабина с надеждой и ужасом. —
Но она с самого начала была права, Кен. Мы возвращаемся к пройденному: кто-
то, как видно, придумал способ разделаться с Бетагемотом, а кто-то другой пы-
тается ему помешать.
— Дежарден, — сказал Лабин.
Кларк замялась:
— Возможно.
— Никаких «возможно». Ахилл Дежарден стоит так высоко, что просто не мох1 не
знать о попытке вылечить континент. Эрго, он не мог не знать об истиной при-
роде Сеппуку. Он попросту лгал.
И Кларк кое в чем ошиблась. Это не возвращение к пройденному. Раньше Лабин
не тратил две недели, сражаясь на стороне врага.
Враг... ему не нравилось это слово. Оно не числилось в его словаре, вызыва-
ло в памяти скудоумные дихотомии, вроде противостояния «добра» и «зла». Любой
трезвомыслящий индивидуум должен понимать, что ничего такого не существует:
есть вещи, которые работают и которые не работают. Более эффективные и менее
эффективные. Предательство со стороны друга, может, и плохая адаптивная стра-
тегия, но не зло. Поддержка потенциального союзника может служить общим инте-
ресам, но это не делает ее добром. Даже ненависть к избивавшей тебя в детстве
матери совершенно бессмысленна: проводку в мозгу не выбирают. Любой человек с
подобными схемами искрил бы не меньше.
Лабин мог сражаться насмерть без ненависти. Он мог мгновенно перейти на
другую сторону, если того требовали обстоятельства. Проблема заключалась не в
том, что создатели Сеппуку были правы, а Ахилл Дежарден — нет. Просто Кена
ввели в заблуждение, когда он выбирал, где быть конкретно ему.
Лабина всю жизнь использовали. Но прощать того, кто воспользовался им без
его ведома, он не собирался.
Что-то затикало у него внутри, какой-то маятник закачался между «прагматиз-
мом» и «одержимостью». Вторая установка давала особую целеустремленность, хо-
тя в прошлом зачастую приводила к невыгодным адаптивным решениям. Лабин поль-
зовался «одержимостью» экономно.
И воспользовался ею сейчас.
Дежарден. С самого начала за всем стоял он. За пожарами, за контратаками и
намеренными заблуждениями. Дежарден. Ахилл Дежарден.
Дежарден им играл.
«Если это не повод, — подумал Лабин, — то что еще?»
Мотоплан был подарком от правонарушителя. Для продолжения разговора стоило
отойти от него подальше.
Лабин взял Кларк под руку и отвел к лазарету. Она не сопротивлялась. Может,
заметила, как он переключил тумблер. Села на место водителя, он — на пасса-
жирское .
Рикеттс притулился на заднем сиденье. Он был румянее обычного, на лбу испа-
рина, но сидел прямо и с откровенным удовольствием жевал белковый брикет.
— О, опять встретились, — приветствовал он Лабина. — Помнишь меня?
Кен повернулся к Кларк:
— Он — все еще правонарушитель. Система уже не та, что прежде, но ресурсов
в его распоряжении полно, а над ним — никого, кто мог бы его обуздать.
— Знаю, — согласилась Кларк.
— Возможно, он установил за нами наблюдение.
— Ты что, боишься, что большие шишки подслушивают? — с полным ртом пита-
тельных веществ пробубнил Рикеттс. — Эт ты зря. У них нынче других забот пол-
но.
Лабин ответил мальчику холодным взглядом:
— о чем речь?
— Вообще-то, он прав, — вставила Кларк, — кое-кто вот-вот утратит контроль
над своими...
Ее перебил глухой звук, похожий на залп далекой артиллерии.
— Внешними демонами, — закончила она, но Лабин уже выскочил из машины. За
полосой воды, в распластанной тени ветряков, пылала водородная станция.
Они как будто мгновенно поменялись местами.
Кларк теперь отстаивала политику невмешательства:
— Кен, нас всего двое!
— Один. Я справлюсь в одиночку.
— С чем именно? Если в УЛН предатель, пусть Управление с ним и разбирается.
Должен быть способ передать сообщение за океан.
— Я и собираюсь, если мы найдем доступ к трансатлантической линии. Но со-
мневаюсь , что от этого будет толк.
— Можно вести передачу с «Вакиты».
Лабин покачал головой:
— Нам известно, что в УЛН есть, по меньшей мере, один предатель. Сколько
еще работает с ним, мы не знаем. Нет гарантии, что сообщение, посланное через
любой узел в Западном полушарии, дошло бы по адресу, даже... — он бросил
взгляд на пожар у берега, — даже если бы не это.
— А мы отойдем от берега. Можем переплыть океан и доставить письмо лично,
если. . .
— А если бы и дошло, — продолжил он, — то бездоказательное заявление о том,
что правонарушитель УЛН способен на измену, вряд ли встретят с доверием в ми-
ре, где не известно о существовании Спартака.
— Кен...
— Пока мы их убедим принять нас всерьез, пока соберут силы, Дежарден сбе-
жит . Он не дурак.
— Ну и пусть бежит. Если он перестанет препятствовать Сеппуку, от него не
будет вреда.
Конечно, она страшно ошибалась. Уходя с шахматной доски, Ахилл мог наделать
очень много вреда. Мог даже устроить так, что Лабин провалит задание, — а Кен
этого допустить не мог ни за что на свете.
Лабин никогда не увлекался самоанализом. Тем не менее, он невольно задумал-
ся, нет ли в доводах Кларк крупицы истины. Насколько проще было бы послать
сообщение и отойти в сторону. Однако... жажда насилия стала почти неодолимой,
а правила действовали, только пока человек им позволял. До сих пор Лабин ос-
тавался более или менее верен своему кодексу — за мелкими исключениями вроде
Фонга. Но, оказавшись перед лицом нового испытания, он сомневался, много ли в
нем осталось от цивилизованного человека.
Лабин был невероятно зол, и ему очень нужно было на ком-то сорвать зло. По
крайней мере, можно выбрать объект, который действительно того заслуживал.
Блохи
Она почти не помнила времени, когда не истекала кровью. Кажется, всю жизнь
провела на коленях, в дьявольском экзоскелете, который выворачивал и растяги-
вал ее, издеваясь над пределами человеческой гибкости. У тела выбора не было
— никогда не было выбора: пляшущая клетка отобрала его, превратив Таку в ре-
зиновую куклу на веревочках. Суставы выворачивались и, щелкая, вставали на
место, словно куски дешевой хрящеватой головоломки. Правой груди она лишилась
целую вечность назад: Ахилл надел на нее петлю из мураволоки1 и просто потя-
нул . Грудь дохлой рыбиной шлепнулась на эшеровский кафель. Она помнила, как
надеялась тогда, что истечет кровью до смерти, но ей не позволили: Дежарден
раскаленной металлической пластиной прижег рану.
1
Термин из романа «Ложная слепота» Питера Уоттса.
Тогда у нее еще были силы кричать.
Уэллетт уже некоторое время существовала в пространстве между собственным
телом и потолком, в интерфейсе между адом и беспамятством, выстроенном из
грубой необходимости. Она могла сверху рассматривать ужасы, творимые с ее те-
лом — почти рассеяно. Чувствовала боль, но абстрактно, как будто считывала
показания прибора. Иногда пытка прерывалась, и Така соскальзывала в свою
плоть, из первых рук оценивая степень повреждений. Даже тогда страдание было
скорее утомительным, чем болезненным.
И сквозь все эти раны шли безумные уроки, бесконечные нелепые вопросы о хи-
ральных катализаторах, гидроксильных медиаторах и кросснуклеотидном дуплекси-
ровании. За ошибочными ответами следовали наказания и ампутации, за верными —
изнасилования, невыносимые, но на общем фоне казавшиеся передышкой.
Она понимала, что ей уже нечего терять.
Ахилл взял Таку за подбородок и приподнял лицо к свету.
— Доброе утро, Элис. Готова к уроку?
— Пошел ты, — прохрипела она.
Он поцеловал ее в губы:
— Только если справишься с тестом. Иначе, боюсь...
— Пошел ты... — приступ кашля скомкал эффект, но Така упрямо продолжала: —
. . . пошел ты со своими тестами. Мох1 бы прямо взять, чего тебе. . . надо — пока
еще... можешь.
Он погладил ее по щеке:
— У нас маленький всплеск адреналина, а?
— Рано или поздно про тебя... узнают. И тогда они...
Он расхохотался:
— С чего ты взяла, что они еще не знают?
Она сглотнула и сказала себе: «Нет!»
Ахилл выпрямился, и голова у нее повисла.
— Откуда ты знаешь, что отсюда трансляция не идет по всему полушарию? Дума-
ешь, мир поскупится принести мне твою голову на палочке за все добро, которое
я ему сделал?
— Добро... — прошептала Така. Ей хотелось смеяться.
— Знаешь, сколько жизней я спасаю, когда отвлекаюсь от усилий дать тебе
достойное образование? Тысячи. В неудачные дни. А конфетку вроде тебя полу-
чаю, может, раз в месяц. У того, кто меня вырубит, на руках окажется больше
крови, чем у меня за всю жизнь.
Она покачала головой:
— Не... так.
— А как, конфетка?
— Все равно... скольких ты спасаешь. Не дает тебе права...
— Ух, ты? Это уже не биология, верно? Скажи, есть ли предметы, в которых ты
не тупее мешка с говном?
— Я права. Ты сам знаешь.
— Знаю! Думаешь, нам лучше вернуться к «добрым старым временам», когда всем
заправляли корпы? Самая захудалая корпорация убивала людей больше, чем все
сексуальные маньяки за всю историю человечества, ради паршивой нормы прибыли
— и ВТО их за это награждала!
Он сплюнул: слюна легла на пол маленькой пенистой амебой.
— Всем плевать, моя сладенькая. А если кто озаботится, тебе будет еще хуже,
потому что они поймут: я — перемена к лучшему!
— Ошибаешься, — выдавила она.
— Ого, — протянул Ахилл. — Нарушение субординации. Меня это возбуждает.
Прошу прощения. . . — он отступил за колодку и плавно развернул аппарат так,
что Така снова оказалась к нему лицом. В руках он держал пару зажимов-
«крокодилов» — провода от них тянулись к розетке, замаскированной под глаза
небесно-голубой рыбки.
— Вот что я тебе скажу, — предложил он. — Найди ошибку в моих доказательст-
вах , и я ими не воспользуюсь.
— Врешь, — просипела она, — ты все равно...
«Нечего терять», — напомнила она себе.
— Ты думаешь, люди, увидев это, просто... просто отвернутся и уйдут, услы-
шав, что «корпорации были хуже»? Думаешь... думаешь, люди логичны? Это у те-
бя ... у тебя говно вместо мозгов. Плевать им на твои доказательства: как
только увидят, они тебя на куски порвут. Тебе это только потому сходит рук,
что...
«Вот оно что!» — поняла Така.
Что будет, если Бетагемот исчезнет? Что, если апокалипсис отложится, ситуа-
ция станет не такой отчаянной? Может, когда мир станет безопаснее, люди снова
будут притворяться цивилизованными? Может быть, не станут так охотно посту-
паться «непозволительной роскошью» прав человека?
И тогда Ахилл Дежарден лишится неприкосновенности.
— Вот почему ты против Сеппуку, — прошептала она.
Ахилл свел «крокодилы», те заискрили.
— Прости? Что ты сказала?
— Какая же ты мразь. Тысячи, значит, спасаешь? Там люди пытаются спасти
мир, а ты им мешаешь. Ты убиваешь миллиарды. Ты убиваешь всех. Лишь бы тебе
все вот это сходило с рук.
Он пожал плечами:
— Ну, я пытался втолковать это Элис Первой. Тому, у кого украли совесть,
порядочность дается с большим трудом.
— Ты проиграешь. Ты не правишь миром, ты заправляешь только... его неболь-
шой частью. И не сумеешь остановить Сеппуку.
Ахилл задумчиво кивнул:
— Знаю. Но ты не ломай над этим свою хорошенькую головку. Я уже позаботился
о пенсии, а у тебя другие заботы.
Он пригнул ей голову к колодке, вытянув шею, поцеловал в загривок.
— Вот, например, ты отстаешь по программе. Посмотрим... вчера, помнится, мы
говорили о зарождении жизни. И о том, что кто-то может думать, будто Бетаге-
мот возник на том же эволюционном древе, что и мы. Конечно, понадобились кое-
какие усилия, и ты не сразу, но поняла, почему эти кое-кто — полные кретины.
И почему же?..
Она не забыла. Пиранозильная РНК Бетагемота не способна к гибридизации с
современными нуклеиновыми кислотами. Они никак не могли происходить друг от
друга. Но сейчас даже все черти ада не заставили бы ее лаять по команде. Така
стиснула зубы и молчала.
Его это, конечно, ничуть не волновало.
— Ну, что, тогда займемся повторением?
Колодка крутанулась, вернув ее в прежнюю позицию. Экзоскелет выгнул руки
назад, развел ноги — она чувствовала, что сейчас сломается, как куриная «ви-
лочка», попавшаяся влюбленным.
Она освободила помещение, вытолкнула сознание в идеальную пустоту между бо-
лью и надеждой, и Ахилл Дежарден перестал существовать. Далеко внизу, чуть ли
не под водой, она ощущала дергающаяся в такт его фрикциям тело. Конечно, она
не чувствовала его в себе — те тараны, которыми он прокладывал себе путь, ли-
шили ее чувствительности. Таку это позабавило по причинам, которых она даже
понять не смогла.
Она вспоминала, как Дэйв застал ее врасплох в патио. Вспоминала живой театр
в Бостоне. Вспоминала четвертый день рождения Кристал.
Странные звуки из другого мира догнали ее: ритмичные звуки. Несколько за-
бавные в подобной обстановке. Кто-то там внизу пел: простенький мотивчик
фальшивил в такт судорогам ее далекого тела:
Сказал мудрец-ученый:
На каждую блоху
Найдутся блошки-крошки,
Но и на этих крошек
Найдутся блошки тоже
И этому не видно конца...
Конечно, это задание. И в конце урока он устроит проверку.
Но проверки не случилось. Он вдруг остановился. Эякуляции не было — она
достаточно познакомилась с его ритмом, чтобы знать наверняка. Он вышел из
нее, бормоча что-то не дошедшее до ее безопасной зоны. Потом раздался стук от
его поспешных шагов, и настала тишина, Така слышала только прерывистый звук
ее дыхания.
Уэллетт осталась наедине с собственным телом, воспоминаниями и узором на
кафельном полу. Ахилла что-то отвлекло. Может, кто-то позвонил в дверь. Мо-
жет , в его голове завыл какой-то другой зверь.
Она сама в последние дни наслушалась звериного воя.
Огнедышащие
По всем волнам шли рассказы о катастрофах. Электростатические генераторы от
Галифакса до Хьюстона искрили и перегорали. Госпиталя в анклавах и фортах на
самой границе с пустошами мигали и гасли. Откуда-то из-под Ньюарка сообщали
об аварии на автоматическом заводе пластмасс; с острова Баффина — о неконтро-
лируемом выбросе изотопов с крекинговой станции гелия-3. Как будто возродился
стародавний Водоворот — во всей его всеохватности, но в сотни раз ядовитее.
«Лени» вышли на тропу войны — и вдруг начали объединяться в группы. Файер-
воллы на их пути рушились, экзорцистов мгновенно перемалывали в белый шум.
— В небоскреб Эдмонтона только что врезался подъемник, — сообщила Кларк.
Лабин оглянулся на нее. Она постучала пальцем по наушнику, одолженному им для
отлова закрытой болтовни в эфире. — Полгорода загорелось.
— Будем надеяться, наши будут благовоспитанней, — сказал Лабин.
«Теперь и это на моем счету», — подумала Лени и попыталась напомнить себе:
в этот раз все иначе. Жизни, принесенные в жертву сейчас, будут возмещены ты-
сячекратно . Это не Месть. Это Общее Благо во всем его величии.
Воспоминания теперь давались ей легко. И еще — они ее не мучили.
«Вот что получается, когда Лени начинает любить Лени!»
Они вышли на берег и сейчас стояли на краю полуразрушенной набережной в
призрачном городе, название которого Лени не удосужилась узнать. Все утро они
черными пустоглазыми пауками крались по огромной свалке ржавого металла: ско-
пищу портовых кранов, автопогрузчиков, складов, сухих доков и прочих железных
чудовищ начала тысячелетия. Даже при наилучших условиях радиопереговоры здесь
шли с трудом, а сейчас прерывающиеся голоса в наушнике почти полностью заглу-
шали помехи.
Ради того, собственно, все и затевалось.
Ржавый склад из листового железа одной стеной выходил к воде. На другой
стороне к небу поднимались четыре башенных крана — словно строй шестидесяти-
метровых проволочных жирафов. Они вытягивали шеи к воде под углом в семьдесят
градусов. С носа каждого свисал большой цепкий коготь, готовый подхватить
груз, пропавший десятилетия назад.
Сквозь кольцо в носу у ближайшего к складу крана был пропущен тонкий пово-
док — петелька из плетеного полипропилена не толще мужского пальца. От нее
два конца тянулись сквозь пустоту к шее второго крана и обвивали один из
брусьев. На фоне кабелей и мощных машин веревочка выглядела невесомой, как
паутинка.
Они надеялись, что та и прочностью не уступит паутине. Наверняка в этой за-
бытой Богом промзоне должно было остаться хоть что-то. В век биотехники пау-
чий шелк был дешевле грязи, но в эпоху биоапокалипсиса он, похоже, стал
встречаться много реже. Они сумели отыскать только грубый моток древнего пла-
стикового шнура, болтавшийся на заброшенном корабельном ангаре у дальнего
края участка.
Лабин вздохнул и сказал: «Сойдет».
Кларк чуть не умерла от страха, только глядя на то, как он карабкается по
опасным, покосившимся лесам, разматывая за собой веревку. Кен же, извернув-
шись, протолкнул себя в глотку первого жирафа и, как муравей, повис вниз го-
ловой на конце, протянувшемся от глазницы крана. Лени была уверена, что ни-
точка, державшая его за ноги, вот-вот лопнет. Задышала она только тогда, ко-
гда Лабин благополучно спустился на землю. Потом последовала новая нервотреп-
ка, когда он лез на второй кран, таща за собой уже оба конца веревки. Слава
богу, он остановился не на самой вершине. Связал концы и оставил упряжь сви-
сать петлями, как нейлоновый вьюнок.
Сейчас, стоя на твердой земле, он внушал, что ей будет куда удобнее лезть,
если надеть...
— Не дождешься, — сказала Кларк.
— Не до самой вершины. Только туда, где концы связаны. На полпути.
— Сам знаешь, это куда выше полпути. Стоит поскользнуться, и останется от
меня мокрое место.
— Ничего подобного. Кран наклонный, ты упадешь в воду.
— Ага, с пятидесяти метров. Думаешь, я... секундочку, мне что, придется па-
дать в воду?
— Согласно плану.
— Никуда не годный план!
— Они насторожатся, как только сообразят, что попались на приманку. Если в
этот момент заметят веревку — все пропало. Тебе придется ее отвязать и утя-
нуть за собой. Под водой будет вполне безопасно.
— И думать забудь, Кен. Это просто веревка, а план у тебя такой безумный,
что его только другой псих разгадает, даже если увидит...
Она осеклась. Псих, что ни говори, — вполне адекватное описание человека, с
которым они имели дело. На мгновение она вернулась на сгоревшую платформу
около Сейбла и выдернула ногу из обугленной грудной клетки.
Лабин сказал тогда: «Тот, кто за этим стоит, потолковее меня».
— Не хочу рисковать, — тихо проговорил он сейчас.
Она еще поспорила, но оба понимали, что только для вида. В конце концов она
отвела Мири на безопасное расстояние и пешком вернулась по дороге, пока Лабин
через мотоплан передавал рапорт: распространитель забился в пустующий склад и
в подпольной лаборатории выращивает Сеппуку в промышленных количествах.
На загривках кранов-жирафов гнездились кабины управления. Вандалы или ветер
давно повыбили там все окна. Лени и Кен укрылись в одной из них и стали
ждать. В балках над ними свистел поднимающийся ветер.
Он обрушился с неба жирным драконом, урча надутыми газовыми пузырями. Его
пришествие предвещали вихри: весь день дуло с северо-востока, а сейчас ветер
завыл над набережной на разные голоса. Раздвижная дверца из листового металла
под его порывом сдвинулась на направляющих; натянутые провода и тяжелые тросы
звенели как струнный оркестр из ада. Подъемник от удара застонал и заискрил.
Зависнув над водой перед складом, он развернулся, приводя в готовность ору-
дия.
Лабин придвинулся к уху Кларк:
— Пошла!
Она вслед за ним выбралась из выпотрошенной кабины. Кен за несколько секунд
обогнал ее, скользя вверх по крану, как древесный питон. Кларк стиснула зубы
и полезла за ним. Оказалось легче, чем она боялась: по внутренней стороне
трахеей тянулся узкий трап с круговыми страховочными перилами через каждый
метр. Зато ветер бил со всех сторон, расщеплялся на решетке крана и трепал ее
под самыми непредсказуемыми углами, прижимая к лестнице, толкая сбоку, вти-
скиваясь под рюкзак и норовя сорвать его со спины.
Резкий удар грома слева. Лени обернулась и застыла, вцепившись в лесенку:
она и не подозревала, как высоко успела забраться. Набережная внизу еще не
сжалась до настольной модели, но была слишком близка к этому. Гавань кипела
бело-зелеными волнами.
Еще один гром. Только это не гроза. Ветер завывал под безоблачным голубым
небом. Звук исходил от подъемника. Отсюда, сверху, машина выглядела кристал-
лом чугуна с вогнутыми треугольными гранями: обшивка между ребрами жесткости
втягивалась во внутренние пустоты. Рев перекрывал шум вихря — шипящий рев га-
зообразного балласта. Подъемник почти коснулся брюхом воды, а спина его под-
нималась выше склада.
«Прирученная молния», — вспомнилось ей. Это для плавучести. Высоковольтные
дуги обеспечивают перегрев замкнутого в баках газа.
«А Кен собрался оседлать это чудовище! Лучше он, а не я».
Кларк подняла голову. Лабин уже добрался до стыка и отвязывал конец верев-
ки, уцепившись ногами за сомнительные леса. Нетерпеливо махнул ей — и качнул-
ся, потеряв равновесие от порыва ветра. Выбросил руку к ближайшему тросу, вы-
ровнялся. . .
Она лезла дальше, упорно отказываясь смотреть вниз, сколько бы ни шумел там
подъемник. Она считала кольца перил. Считала балки и поперечины, а ветер выл
в уши и дергал за руки и за ноги. Она подсчитывала пятна голой стали под об-
лупившейся красной и желтой краской — пока проплешины не напомнили ей, что
конструкция эта — из тех древних времен, когда цвет не обеспечивался самим
материалом, а небрежно накладывался поверх.
Прошел год или два, пока она оказалась рядом с Лабином — как в реактивной
струе. Кен рассматривал подъемник в свой верный бинокуляр. Кларк смотреть в
ту сторону не стала.
Один конец веревки все еще крепко держался на опоре. Она тянулась отсюда к
оси соседнего крана, проходила сквозь какое-то обнаруженное Лабином игольное
ушко и возвращалась обратно, обвивая полуметром полипропилена его обтянутую
гидрокостюмом руку На экране спутниковой камеры это выглядело бы как две тон-
кие белые линии, протянувшиеся от насеста рифтеров в сторону подъемника.
И еще там наверняка был виден угрожающе широкий разрыв между концом каната
и началом подъемника.
— Ты уверен, что длины хватит? — крикнула Кларк. Лабин не ответил. Он мог и
не расслышать вопроса сквозь ветер и капюшон. Кларк сама себя еле слышала.
Его выпуклые глаза на несколько секунд остановились на цели. Потом Кен
сдвинул бинокуляр на лоб.
— Задействовали дистанционный манипулятор! — проорал он. Ветер унес большую
часть его децибел и добавил полсотни своих, но суть Кларк ухватила.
Пока все по плану. Обычный огненный дождь с высоты в этот раз не годился:
Лабин расположил мнимую горячую зону слишком глубоко под складом и слишком
близко к воде. Пришлось запустить автономный манипулятор, чтобы разобраться в
ситуации и доставить пламя по адресу, — а здешняя архитектура так качественно
глушила радиоволны, что для управления маленьким роботом тот должен был оста-
ваться практически в пределах видимости с корабля-матки. Потому подъемник и
пришлось спустить так низко. Так низко, что достаточно решительный человек
мог упасть на него сверху...
Лабин обвивал одной рукой трос толщиной с его запястье — одну из металличе-
ских жил, не позволявших крану сломать шею. Сейчас Кен отпустил ноги и под-
нырнул под эту растяжку, показавшись с другой стороны. С наружной. Он свисал
с крана, а не цеплялся за него изнутри. Одна рука обернута полипропиленом,
другая на тросе, ноги удерживаются на раме только его собственным весом.
Лабин вдруг показался Лени очень хрупким.
Его губы зашевелились. Кларк слышала только ветер.
— Что?
Он качнулся к ней, отчетливо выговорил по слогам:
— Ты знаешь, что делать!
Она кивнула. Не могла поверить, что он действительно решился.
— Удач... — начала она.
И запнулась, когда ладонь невидимого гиганта ударила ее в бок.
Она замахала руками в поисках опоры, не нашла, но что-то твердое врезалось
в затылок и качнуло вперед. Справа мелькнула балка, Лени ухватилась и прилип-
ла к ней.
«Кен?»
Кларк огляделась. Там, где она только что видела голову и грудь Лабина, ос-
талась только воющая пустота, но локтем он, как черным якорем, еще держался
за трос. Лени чуть опустила взгляд, увидела остальные части его тела, ищущие
и находящие опору. Восстановив сбитое шквалом равновесие, Кен подтянулся
вверх. Треклятая пластиковая веревка все еще была обмотана вокруг кисти. Ве-
тер на миг ослабил ее, и Лабин снова нырнул в ячейку проволочной клети.
— Ты в порядке? — спросила Кларк при следующем порыве ветра и тут же увиде-
ла кровь у него на лице.
Лабин подтянулся к Лени.
— План изменился, — сказал он и ребром свободной ладони ударил ее по локтю.
Кларк с воплем разжала пальцы. Она падала. Кен перехватил ее, резко толкнул в
сторону. Плечо ударилось о металл. Кран вдруг оказался не вокруг нее, а ря-
дом.
— Держись, — прорычал ей в щеку Лабин.
Они летели по воздуху.
Крик застрял у Кларк в глотке.
Бесконечные секунды они падали на летящий навстречу мир. Потом рука Лабина
крепко обхватила ее за пояс, и новая сила по широкой дуге качнула их в сторо-
ну, сперва чуть подправив силу тяжести, а потом и вовсе победив ее. Они про-
летели над белыми гребнями, над взбаламученным плавучим мусором, а потом
Кларк словно поправилась на пару десятков килограммов, потому что они каким-
то чудом полетели вверх: ветер догнал их сзади.
Колоссальный приплюснутый сфероид подъемника вырос впереди, потом оказался
внизу, отразив свет фасетками огромного сложного глаза.
И вот они снова падают сквозь невидимую колючую преграду, царапающую лицо
брызгами, и Кларк едва успевает выставить руки, чтобы прервать падение.
— Черт!
Они оказались на крутизне. Кларк растянулась на животе, выставив руки впе-
ред, вверх по склону. Гидрокостюм взвизгнул, как от боли. Лабин навалился
сверху, уперся правой рукой ей в поясницу. Какой-то действующий вопреки всему
модуль ее мозга сообразил, что Кен, пожалуй, удержал ее от падения через
край. Остальные части Лени жадно глотали воздух и без конца прокручивали одну
мысль: «Я жива! Я жива! Я жива!»
— Ты в порядке? — Голос Лабина прозвучал тихо, но внятно. Ветер по-прежнему
толкал их в спины, но уже ненавязчиво, рассеянно.
— Что?.. — При попытке заговорить язык и губы закололо иголками. Кларк по-
пыталась выровнять дыхание. — Какого?..
— Будем считать, да, — он убрал с нее руку. — Жмись к обшивке, когда поле-
зешь вверх. Край слишком близко.
Кен пополз вперед.
Кларк лежала в углублении, но в животе сосало так, что яма там, похоже,
разверзлась гораздо глубже. Голова угрожающе кружилась. Лени поднесла руку к
виску: волосы торчали под прямым углом, словно на ней появился персональный
пояс Ван Аллена1. Кополимер закорчился. «У этих штук есть статическое поле»,
— догадалась Кларк.
Така говорила про рак.
Сердце, наконец, успокоилось до ритма отбойного молотка. Лени заставила се-
бя пошевелиться. Извиваясь, переползла грань первой фасетки и скользнула в
чашу второй: теперь ноги уперлись в ребро жесткости. Уклон становился с каж-
дым метром все более пологим. Вскоре Кларк рискнула подняться на четвереньки,
а потом и встать. В грудь ветер бил сильнее, чем в бедра — поле статического
электричества каким-то образом изгибало поток, — но даже на уровне головы он
был слабее, чем на кране. Стоило повернуться — парящие волосы облепляли лицо,
однако это неудобство было пустяком в сравнении с конвульсиями гидрокостюма.
Лабин остановился у северного пояса подъемника, на гладком круглом островке
в море треугольников. Тот имел в поперечнике около четырех метров, и на его
поверхности между фиброволоконными порами величиной с ноготь располагались
люки шириной со стрелковую ячейку. Лабин успел открыть один и к тому времени,
как появилась Кларк, убирал в рюкзак использованные инструменты.
— Кен, какого хрена?
Он тыльной стороной ладони стер со щеки кровь.
— Я передумал. Ты мне все-таки понадобишься.
— Но какого?..
— Запечатай лицевой клапан. — Он указал на открытый люк. Из отверстия вы-
ступила темная вязкая жидкость, вроде крови или машинного масла. — Все объяс-
ню внутри.
— Что, туда? Да наши имплантаты...
— Давай, Лени. Некогда.
Кларк натянула капюшон — тот неприятно извивался на коже. Ну, хоть волосы
не будут разлетаться.
— А веревка? — вдруг вспомнила она.
Лабин, запечатывавший клапан, остановился, взглянул на краны: с ближайшего
свисала и раскачивалась на ветру тонкая белая ниточка.
— Ничего не поделаешь, — сказал он. — Залезай.
Непроницаемая вязкая темнота.
— Кен... — Машинный голос, через вокодер. Давненько его не слышала.
— Да?
— Чем мы дышим?
— Горючим для огнемета.
— Что?!
— Это совершенно безопасно. Иначе ты бы уже умерла.
— Но...
Радиационные пояса Ван Аллена — две тороидальные области радиации, удерживаемые
магнитным полем Земли в верхних слоях атмосферы. Названы по имени Джеймса ван Алле-
на, открывшего их в 1958 г. Пояса состоят из заряженных частиц, несущих энергию от
около 10 000 до нескольких миллионов злектрон-вольт.
— Необязательно вода. В гидроксильных группах есть кислород.
— Да, но нас конструировали для воды. Не верю, что напалм...
— Это не напалм.
— Чем бы ни был, а наверняка рано или поздно засорит нам имплантаты.
— Поздно — уже неважно. Лишь бы продержались несколько часов.
— А продержатся?
— Да.
Хоть кополимер перестал корчиться.
Лени ощутила движение и встревожено загудела:
— Это еще что?
— Подача горючего. Они стреляют.
— Куда? Зона же не заражена.
— Может, решили перестраховаться.
— Или там действительно был Сеппуку, а мы не знали.
Лабин не ответил.
— Кен?
— Возможно.
Течение прижало ее к чему-то мягкому и скользкому, чуть гнущемуся под напо-
ром. Преграда, кажется, простиралась во все стороны и была слишком гладкой,
чтобы уцепиться.
«Мы попали не в бак, — сообразила Лени, — а в пузырь. Он не просто опусте-
ет , а сдуется. Схлопнется».
— Кен, а во время выстрела нас не засосет в...
— Нет. Там... решетка.
Вокодер и в нормальных условиях отфильтровывал из голоса почти все эмоции,
а в этом сиропе получалось еще хуже. Все же Лени угадала, что Лабин не в на-
строении для разговора.
«Как будто он когда-нибудь был королем экстравертов».
Но нет, тут что-то другое, чего Лени пока не понимала.
Она плавала в темноте околоплодных вод, дыша не напалмом, а чем-то вроде, и
вспоминала, что в электролизе участвуют крошечные электрические искры. Замер-
ла , гадая, не воспламенится ли обтекающая ее жидкость, не превратят ли им-
плантаты весь подъемник в один пылающий шар. «Будет еще одна жертва „Лени"»,
— улыбнулась про себя.
А потом вспомнила, что Лабин так и не объяснил, зачем она здесь.
И вспомнила про кровь у него на лице.
Оплата
натурой
Когда они добрались до места, Лабин уже ослеп. Сорвавшийся трос не просто
хлестнул его по лицу — он порвал лицевой клапан. Горючая слюна подъемника
просочилась внутрь прежде, чем затянулся разрыв, и растеклась по лицу. Тонкий
слой проник под линзы, разъедая роговицу. Ровным механическим голосом Кен в
полной темноте сообщил, что останется: способность отличать свет от тени. Ка-
кое-то рудиментарное восприятие размытых пятен и теней. На конкретное распо-
знавание образов надеяться не приходилось. Кену нужны были ее глаза.
— Господи, Кен, зачем ты это сделал?
— Рискнул.
— Что?..
— Остаться на поверхности подъемника вряд ли удалось бы. Там предусмотрены
меры стерилизации, даже если бы нас не сдуло ветром, а я не знал, насколько
едок этот состав.
— Почему было просто не уйти? Перегруппироваться и начать сначала?
— Во второй раз нас бы ждали, считая, что твой дружок все еще заразен. Не
говоря уже о том, что я послал ложный отчет и с тех пор замолчал. Дежарден
поймет: что-то не так. Чем больше мы тянем, тем больше у него времени на под-
готовку .
— По-моему, все это чушь собачья. По-моему, тебе просто так зудит до него
добраться, что ты начал делать глупости.
— Ты вправе иметь свое мнение. Лично я, оценивая свои последние действия,
сказал бы, что допустил одну большую ошибку — не оставил тебя на «Атлантиде».
— Верно, Кен. Ведь это меня последние две недели держал на поводке Ахилл.
Ведь это я поняла действие Сеппуку с точностью до наоборот. Господи, Лабин,
ты, как и все мы, пять лет просидел на дне океана. Ты не в лучшей форме.
Тишина.
— Кен, что ты собираешься делать? Ты же слепой!
— Есть способы это обойти.
Наконец он сообщил, что они причалили. Кларк не знала, как он узнал — мо-
жет, по плеску окружавшей их жидкости, по каким-то неприметным течениям ниже
порога восприятия Кларк.
Звуков точно не было. Пузыри в глубине вакуумного подъемника окружало кос-
мическое молчание.
Они выбрались на спину зверя. Тот остановился в громадном ангаре с дву-
створчатой крышей, чьи половинки сейчас сходились над ними. Судя по полоске
неба над головой, стояли глубокие сумерки. Во все стороны от них спускались
бока подъемника, крошечной фасетчатой планеты, разбегающейся от северного по-
люса. Снизу шел свет и механический шум — с вкраплениями человеческого голо-
са , — но здесь, наверху, все смешивалось в сплошную серость.
— Что видишь? — спросил Лабин.
Она обернулась и беззвучно ахнула. Он стянул капюшон-маску, снял линзы, его
кожа была слишком темной, вся покрыта волдырями. Глаза, казалось, искусали
насекомые: радужка и зрачки едва просвечивали, словно видимые сквозь растрес-
кавшееся матовое стекло.
— Ну?
— Мы в помещении, — сказала она. — Никого не видно, и, наверно, в такой
темноте сухопутники нас все равно бы не рассмотрели. Я не вижу пола, но, судя
по звуку, внизу люди. А ты... Чтоб тебя, Кен, это всюду так?
— Только лицо. Остальная часть гидрокостюма герметична.
— Как же... то есть, как же ты...
— На балке над головой слева — кран. Видишь его?
Кларк заставила себя отвести взгляд.
— Да... — Только теперь она удивилась: — А ты как узнал?
— В накладках вижу внутреннюю схему. Чертеж всего ангара. — Он повертел го-
ловой, словно осматривался. — Этот модуль работает на автопилоте. Думаю,
управляет дозаправкой.
Половинки крыши-устрицы сошлись с глухим раскатистым стуком. И тотчас кран
ожил, заскользил к ним по направляющей. Ложноножкой моллюска развернулась па-
ра манипуляторов, оканчивающихся острыми соплами.
— Кажется, ты прав, — сказала Кларк. — Это...
— Вижу.
— Как нам отсюда выбраться?
Он обратил к ней слепые, изъеденные глаза, указал на приближающегося меха-
нического паука:
— По нему.
Он подсказывал путь между лесами и переборками так, словно здесь родился.
Растолковывал смысл окраски разных труб, объяснял, какая сторона данного слу-
жебного тоннеля сильнее покрыта пятнами старого конденсата. Они нашли дорогу
в пустую раздевалку, прошли вдоль ряда шкафчиков и писсуаров к открытой душе-
вой кабине.
Вымылись. Смыв горючку, занялись маскировкой. Лабин припас в рюкзаке ком-
плект сухопутной одежды. Кларк пришлось обойтись серым комбинезоном — полдю-
жины таких висели в ряд на стене. Шкафчики напротив открывались по отпечатку
пальца или сетчатки; пока Кларк одевалась, Лабин высмеивал здешние меры безо-
пасности. Ткань подтянулась почти по размеру.
— Что ищешь? — спросила она.
— Солнечные очки. Или щиток.
Взломав четыре шкафчика, Лабин сдался. Они вернулись в гулкую пустоту глав-
ного ангара, нагло прошли через него на виду у восьмерых техников. Прошагали
под вздутыми животами четырех подъемников и под доками, где, похоже, скрыва-
лись еще три. Они обходили сложные щелкающие механизмы, непринужденно помахи-
вая людям в синих комбинезонах и — по настоятельному совету Лабина — держась
на приличном расстоянии от людей в серых.
Нашли выход.
Здания стояли тесно, чуть не касаясь крышами. Арки и переходы над узкими
улицами-артериями соединяли противоположные фасады. Кое-где сами дома на
уровне четвертого-пятого этажа срастались друг с другом выступающими балками
из пластика и биостали. Редкие темные клочки неба пересекались искрами разря-
дов . Улицы походили на спагетти: рельсы и узкие дорожки сходились в погрузоч-
ные площадки. Большого движения не было ни по рельсам, ни по мосткам. Цвета в
глазах Кларк размывались: сухопутники, наверное, видели здесь лужицы тусклого
медного света и множество глубоких теней между ними. Даже в этих пережитках
цивилизации энергию, как видно, приходилось беречь.
Лабин улиц не видел. Возможно, только проводку под ними.
Кларк нашла для них магазин в тени нависающего третьего этажа. Половина
торговых автоматов не работала, но меню на раздатчике «Левайс» заманчиво ми-
гало . Лабин предложил сменить ее комбинезон на что-нибудь другое и хотел рас-
платиться через запястник, но машина учуяла вделанный когда-то в бедро Кларк
и давно забытый платежный чип, на котором еще лежало нерастраченное жалованье
от Энергосети. Пока автомат снимал лазером код, Лабин прошел чуть дальше и
разжился щитком ночного видения и кремом «Джонсон и Джонсон».
Лабин шептал что-то в запястник, а Кларк переодевалась, гадая, обращается
он к программе или к живому человеку. Из обрывка переговоров она поняла, что
они находились в северном ядре Торомильтона.
Теперь им было куда идти. С городского дна они поднялись на горный хребет
небоскребов — большей частью офисных зданий, давно превращенных в общежития
для тех, кто сумел оплатить переезд с «окраин», когда включились генераторы
поля. Здесь тоже царила пустота: похоже, горожане в ночное время сидели по
домам.
Кларк чувствовала себя собакой-поводырем, помогающей хозяину найти пасхаль-
ные яйца. Он давал указания, она вела. Лабин на ходу безостановочно бормотал
в запястник. От этих заклинаний на их пути в самых неподходящих местах появ-
лялось все больше странных предметов: ящик без швов размером чуть больше
планшета среди труб общественного туалета; новый запястник в фирменной упа-
ковке на полу пустого лифта. Там Лабин оставил свой старый вместе с запеча-
танным пакетом дерм и парочкой блоков из своего снаряжения.
У торговой стены на том же этаже он заказал рулон полупроницаемой клейкой
ленты и клон-гамбургеры с ветчиной и сырой. Ленту выдали без заминки, а вот
еды не оказалось: вместо контейнеров размером с ладонь автомат выкатил при-
плюснутые цилиндрики со скругленными краями. Вскрыв один, Лабин вытащил пенс-
не с полупрозрачными нефритовыми стеклами и пристроил себе на нос. Чуть сжав
челюсти, он задействовал какой то встроенный в зубы выключатель. В левом
стеклышке моргнула зеленая звездочка.
— Так-то лучше! — Он огляделся. — С восприятием глубины, правда, проблемы.
— Интересный трюк, — восхитилась Кларк. — Сигнал идет на твои вкладки?
— Более или менее. Изображение немножко зернистое.
Дальше их повел Лабин.
— А нет ли способа попроще? — спросила Кларк, поспевая за ним. — Ты не мог
просто связаться с головным офисом Энергосети?
— Сомневаюсь, что еще числюсь у них, — он свернул влево.
— Да, но тебе же...
— Они уже довольно давно не пополняют тайники, — сказал Лабин. — Я слышал,
будто все, что осталось, давно присвоено унилатералами. Все приходится доста-
вать через знакомых.
— Ты у них покупаешь?
— Не за деньги.
— А за что?
— По бартеру, — сказал он. — Придется оплатить пару старых долгов. Так ска-
зать , оплата натурой.
В десять часов вечера они встретились с мужчиной, который достал из кармана
паутинную ниточку оптического волновода и подключил ее к новому запястнику
Лабина. Кен задержался на этом месте на полчаса, стоял неподвижно, только
пальцы иногда подергивались, словно статуя нащупывала виртуальный воздушный
поток, на котором собиралась подняться в воздух. Потом незнакомец протянул
руку, коснулся волдырей на лице Лабина и сразу получил удар по плечу. Почему-
то этот обмен прикосновениями слегка встревожил Кларк. Она попыталась вспом-
нить , когда Кен в последний раз касался другого человека не по обязанности и
не ради насилия. Не вспомнила.
— Кто это был? — спросила она позже.
— Никто, — и он тут же опроверг себя: — Он будет распространять слухи. Хотя
не гарантирую, что успеет вовремя поднять тревогу.
В одиннадцать часов семь минут Лабин постучался в дверь переделанного под
жилье Центра Доминиона в Торонто. Открыла смуглая мрачная женщина, похожая на
привидение, ростом выше Кена на целую голову. Ее глаза сверкали поразительным
желто-оранжевым огнем — чуть ли не светились собственным светом от вживленно-
го в радужку ксантофилла. Она тихо заговорила на странном певучем наречии,
наполнив злобой каждый слог. Лабин, ответив на том же языке, протянул ей за-
печатанный пакетик. Выхватив его, женщина пошарила за полуоткрытой дверью,
бросила к его ногам мешок — звякнувший при падении укутанным в чехлы металлом
— и резко захлопнула дверь.
Лабин засунул добычу в свой рюкзак.
— Что она тебе дала? — полюбопытствовала Кларк.
— Боеприпасы. — Он уже возвращался по коридору.
— А ты ей что дал?
— Антидот, — пожал плечами Кен.
Незадолго до полуночи они оказались в большом сводчатом зале — возможно,
когда-то тут был атриум1 торгового центра. Теперь далекий потолок скрывал ла-
биринт из свай, множества сборных домиков и кубических кладовых — все это
держалось на переплетении импровизированных мостков. Такое использование про-
странства было куда эффективнее, чем в прошлом, зато и намного уродливее. Пол
жилого этажа отстоял от мраморного пола центра метра на четыре, и к нему кое-
где спускались лесенки. Сплошную массу жилья рассекали темные швы — узкие
В современной архитектуре атриумом называется центральное, как правило, многосвет-
ное распределительное пространство общественного здания, освещаемое через зенитный
световой фонарь или проём в перекрытии, (прим. ред.)
расщелины в лоскутном одеяле пластика и фибропанелей: наблюдательные отвер-
стия для невидимых глаз. Кларк почудилось, что она слышит шорох, словно в ло-
гове наверху прятался какой-то крупный зверь, и тихий ропот голосов, но на
мраморном полу не было видно никого, кроме них с Лабином.
Слева что-то шевельнулось. Когда-то центральную часть зала украшал большой
фонтан: теперь его широкий бассейн из мыльного камня, распластавшийся в веч-
ной тени, похоже, стал общей свалкой. От этого фона отделились куски женщины.
Когда Кларк пригляделась, то иллюзия оказалась далеко не совершенной. Хрома-
тофоры, скрывавшие ее тело, подражали окружающей среде лишь в общем, создавая
скорее подобие прозрачности, чем полную невидимость. Впрочем, эта К, похоже,
не слишком заботилась о камуфляже: ее волосы так и вовсе не соответствовали
обстановке.
Она походила на мутное облако с прикрепленными к нему частями тела.
— Ты, верно, Кении, — обратилась она к Лабину. — Я — Лорел. Юрий сказал, у
тебя что-то с кожей.
Она окинула Кларк оценивающим взглядом, мигнула, скрыв на миг вертикальные
щели зрачков.
— Симпатичные глазки. Не всякий рискнет расхаживать в этих местах одетым с
рифтерским шиком.
Кларк невозмутимо встретила ее взгляд. Выждав секунду, Лорел снова обрати-
лась к Лабину:
— Юрий ждет...
Лабин сломал ей шею. Женщина обмякла у него в руках, бессильно свесив голо-
ву.
— Ты совсем больной, Кен! — Кларк отшатнулась, будто от пинка в живот. — Ты
что?..
Шорох над головами сменился мертвой тишиной.
Лабин положил Лорел на спину, свой рюкзак рядом. Ее кошачьи глаза устави-
лись в брюхо лабиринта наверху, широкие и удивленные.
— Кен!
— Я же говорил, что, возможно, придется расплачиваться натурой. — Он извлек
из рюкзака какую-то рукоятку, нажал кнопку, выбросив узкое лезвие. Скальпель
загудел и одним ударом вскрыл камуфляжный костюм Лорел от паха до горла. Эла-
стичная ткань разошлась, как вскрытая брыжейка.
«Поболтал, сломал и взрезал. Без малейшего напряжения». Лени понимала, что
забыть такое уже не сможет.
Глубокий брюшной разрез. Крови нет. Только поднимается голубой дымок с за-
пахом прижженной плоти.
Кларк лихорадочно огляделась вокруг. Никого не было видно, но чувствова-
лось , что на них уставились тысячи глаз. Словно вся постройка над головами
затаила дыхание и готовилась в любой миг рухнуть.
Лабин погрузил руку в живот Лорел. Не задумывался, не шарил наугад. Он точ-
но знал, что ищет. Наверное, имплантаты в глазах помогали.
Женщина повела глазами, остановила взгляд на Лени.
— Господи, она жива!..
— Но ничего не чувствует, — сказал Лабин.
«Как он может? — подумала Кларк и тут же ответила себе: — Хотя почему я еще
удивляюсь после стольких лет знакомства?»
Показалась окровавленная рука Кена. Двумя пальцами он держал жемчужно-
блестящий шарик размером с горошину. Где-то в садках над головой заплакал ре-
бенок . Лабин поднял голову на звук.
— Свидетели, Кен...
Он встал. Женщина истекала кровью ему под ноги и не отрывала взгляда от Ле-
ни.
— Они привычные. — Кен пошел дальше. — Идем.
Кларк попятилась. Глаза Лорел все так же смотрели в точку, где недавно
стояла рифтерша.
— Некогда, — бросил через плечо Лабин.
Кларк отвернулась и побежала за ним.
Аэропорт «Остров» прижался к южному краю постоянного купола. Никакого ост-
рова Кларк не увидела — только низкое широкое здание с вертолетами и мотопла-
нами на крыше. Охраны то ли не было, то ли переговоры Лабина ее нейтрализова-
ли: они беспрепятственно прошли к четырехместному «Сикорскому-Беллу», прикры-
тому пассивной защитой. Жемчужина из живота Лорел оказалась ключом к его
сердцу.
Торомильтон растаял вдали. Они летели на север под гипотетическим радаром,
чуть ли не задевая серебристо серые вершины деревьев. Темнота и фотоколлаген
скрыли все грехи: насколько знала Кларк, каждое растение, камень, каждый
квадратный метр местности под ними покрывал Бетагемот. Но светоусилитель это-
го не показывал: земля под ними была прекрасна, как будто покрыта инеем. Лу-
жицами ртути проскальзывали, смутно светясь, редкие озера.
Кларк не рассказывала Лабину о том, что видит. Если его сменные глаза и бы-
ли снабжены ночным зрением, Кен все равно отключил их — по крайней мере, ма-
ленький зеленый светодиод не горел. Навигатор, очевидно, обращался прямо к
имплантатам в черепе рифтера.
— Она не знала, что носит ключ в себе, — заговорила Лени. Это были ее пер-
вые слова с тех пор, как остановились и расширились зрачки Лорел.
— Не знала. Юрий приготовил ее специально для меня.
— Он хотел, чтобы она умерла.
— По-видимому.
Кларк помотала головой. Она никак не могла забыть глаза Лорел.
— Но почему так? Зачем прятать ключ в теле?
— Подозреваю, он опасался, что я не исполню свою часть договора, — Лабин
чуть дернул уголком рта. — Довольно изящное решение.
Значит, кто-то думал, что Кен не захочет убивать. Повод для надежды.
— Ради ключа к вертолету. . . — сказала Кларк. — Я к тому, что мы ведь мог-
ли. . .
— Что могли, Лени? — огрызнулся он. — Вернуться к моим прежним контактам на
высшем уровне? Так их больше нет. Взять машину напрокат? До тебя еще не дош-
ло, что мы находимся в зараженной зоне размером с континент, где пять лет
действует военное положение и с транспортом дела плохи? — Лабин покачал голо-
вой. — Или, по-твоему, надо дать Дежардену время на подготовку? Может, пойти
пешком? Ну, чтобы все было по честному?
Он никогда раньше так не говорил. Казалось, шахматный гроссмейстер, извест-
ный своей ледяной выдержкой, вдруг выругался и посреди игры опрокинул доску.
Некоторое время они летели молча.
— Не могу поверить, что это он, — сказала, наконец, Кларк.
— Не понимаю, почему нет? — Лабин снова походил на тактический компьютер. —
Мы знаем, что он солгал о Сеппуку.
— Может, искренне заблуждался. У Таки докторская степень, но даже она...
— Это он, — сказал Лабин.
Она не стала развивать тему. Спросила:
— Куда мы летим?
— В Садбери. Он, по-видимому, не желает отказываться от преимуществ, кото-
рые дают родные стены.
— Разве Рио его не уничтожил?
— Рио устроил Дежарден.
— Что? Это кто тебе сказал?
— Я его знаю. Такое решение имеет смысл.
— А на мой взгляд — нет.
— Дежардена первым спустили с цепи. Было короткое окно, корда он один на
всей планете обладал всеми возможностями правонарушителя без обычных ограни-
чений. Он воспользовался этим, чтобы уничтожить конкурентов прежде, чем Спар-
так их освободил.
— Но Рио же не только Садбери атаковал.
Она вспомнила новости, картины, расходящиеся по «Атлантиде». Промышленный
подъемник, по неизвестным причинам врезавшийся в небоскреб УЛН в Солт-Лейк-
Сити. Быстро-нейронная бомба, неведомо как попавшая в руки «Дочерей Лени».
Квантовые «визгуны», падающие с орбит на Сакраменто и Бойсе.
— Возможно, Спартак занесли и в другие филиалы, — предположил Лабин. — Де-
жарден, наверное, заполучил полный список и всех подчистил.
— И свалил все на Рио, — пробормотала Кларк.
— Все улики постфактум указывали на него. Конечно, город превратился в пар
прежде, чем кто-то успел задаться вопросами. В эпицентре доказательств не
найти. — Лабин постучал пальцами по иконке управления. — Тогда все считали
Дежардена спасителем. Он стал героем. По крайней мере, для тех, у кого был
допуск, и они знали о его существовании.
В ядовитой иронии Лабина был особый подтекст: его допуск к тому времени
отозвали.
— Но не мог же он добраться до всех, — сказала Кларк.
— И не надо было. Только до инфицированных Спартаком. Даже в зараженных фи-
лиалах таких наверняка было меньшинство, учитывая, что он нанес удар доста-
точно быстро.
— А у кого был выходной или больничный...
— Сотри полгорода, и они тоже попадутся.
— И все-таки...
— Отчасти ты права, — допустил Лабин. — Кто-то, вероятно, спасся. Но даже
это послужило на пользу Дежардену. Сейчас он не смог бы свалить все свои дей-
ствия на Рио. И на «Мадонн» тоже, но, пока есть подходящие козлы отпущения,
спасшиеся из Рио или Топики, вряд ли кто заподозрит его в актах саботажа на
высшем уровне. Он, как-никак, спас мир.
Кларк вздохнула:
— и что дальше?
— Мы до него доберемся.
— Вот так просто, да? Слепой шпион и его салага-помощник проложат себе путь
через шестьдесят пять охраняемых УЛН этажей?
— Если мы туда попадем. Он, вероятно, держит все подходы под наблюдением со
спутников. Должен был предвидеть, что о нем узнают, а значит, имеет средства
для отражения масштабных атак, включая ракетный обстрел из-за океана. А та-
ких , как мы, тем более.
— Он думает, что сможет выиграть битву со всем миром?
— Вероятнее, рассчитывает, что заранее увидит наступление и вовремя уйдет.
— Ты на это надеешься? Что он ждет масштабной атаки и не обратит внимания
на один вшивый вертолетик?
— Хорошо бы, — с невеселой улыбкой признался Лабин, — но нет. И, даже если
он не заметит нас на подходе, у него было почти четыре года на создание обо-
роны . Мы бы вряд ли с ней справились, даже если бы знали все ловушки.
— Так что будем делать?
— Я еще прорабатываю детали. Полагаю, в конечном счете, пойдем через глав-
ный вход.
Кларк разглядывала свои пальцы. Кровь под ногтями засохла бурой каймой.
— Если сложить все фрагменты, — сказала она, — то он — настоящее чудовище.
— Как и все мы.
— Он таким не был. Ты хоть помнишь?
Лабин не ответил.
— Ты же собирался меня убить. А я начала конец света. Мы были чудовищами,
Кен. И ты помнишь, что сделал Ахилл?
— Да.
— Он пытался меня спасти. От тебя. Мы никогда не встречались, он точно
знал, кто я и что натворила, и прекрасно понимал, на что способен ты. И все
равно. Он рискнул собой ради меня.
— Помню... — Лабин слегка изменил направление полета. — Ты сломала ему нос.
— Не о том речь.
— Того человека больше нет. Спартак превратил его в нечто иное.
— Да? А тебя он во что превратил, Кен?
Он обратил к ней слепое, изъеденное лицо.
— Я знаю, чего он не сделал, — продолжала Кларк. — Он не имеет отношения к
твоей привычке убивать. Она у тебя была с самого начала, верно?
Пенсне таращилось на нее глазами богомола. В левой линзе мигнула зеленая
лампочка.
— На что это похоже, Кен? Ты испытываешь катарсис? Оргазм? Чувство свободы?
— Она боялась, но все равно продолжала его провоцировать: — Тебе надо быть
рядом, видеть, как мы умираем, или достаточно подложить мину и знать, что ты
перебил нас, как мух?
— Лени, — очень спокойно ответил Лабин, — чего ты, собственно говоря, доби-
ваешься?
— Хочу понять, чего тебе надо, только и всего. Спартак переписал и твой
мозг, но я что-то не вижу толпы с факелами и вилами. Если ты действительно
уверен, что все это сделал Ахилл, если он действительно превратился в какое-
то чудовище — отлично. Но если ты просто нашел предлог порадовать свой извра-
щенный фетиш, то...
Она с омерзением помотала головой и уставилась в темноту.
— Его извращения понравились бы тебе несколько меньше моих, — тихо сказал
Лабин.
— Точно, — фыркнула она, — спасибо за информацию.
— Лени...
— Что?
— Я никогда не действую без причины.
— Правда? — с вызовом бросила она. — Никогда?
Он отвернулся:
— Ну, почти никогда.
Срок
годности
Живая и мертвая в равной мере — и безразличная к тому, куда качнутся весы,
— Така Уэллетт все поняла.
Она никогда не умела работать под давлением. Это всегда было ее проблемой.
Вот чего не понимал Ахилл. Монстр. А может, прекрасно понимал. Все равно. Он
надавил на нее так жутко, что она, конечно же, развалилась. В который раз по-
казала себя вечной неудачницей. И это было нечестно. Потому что Така знала: у
нее хорошая голова на плечах, и она могла бы разобраться, если бы только ее
перестали торопить. Если бы Кен со своей канистрой биооружия не требовал от-
вета немедленно. Если бы Ахилл дал ей отдышаться, когда Така чуть не сгорела
заживо, а не сразу погнал по генотипу Сеппуку.
Если бы Дейв хоть чуть-чуть потерпел. Если бы она не поторопилась с послед-
ним решающим диагнозом.
Она была умницей и знала об этом. Но на нее всегда ужасно давили.
«Гадкая, гадкая Элис», — выбранила она себя.
А теперь давление исчезло и, смотрите-ка, все сложилось!
Чтобы перевалить водораздел, ей потребовались всего два обстоятельства.
Чтобы Ахилл ненадолго оставил ее в покое, дал поразмыслить. И чтобы ее ждала
смерть. Чтобы она уже умирала. И когда она это поняла, когда почувствовала
смерть до мозга костей, когда перестала надеяться на спасение в последнюю ми-
нуту, Уэллетт избавилась от давления. Кажется, впервые в жизни она мыслила
ясно. Она не помнила, давно ли Ахилл перестал ее мучить. По ее подсчетам —
сутки или двое. А может, и неделю — хотя нет, за неделю она бы уже умерла.
Пока только заржавели суставы. Даже освободи ее сейчас из экзоскелета, тело
бы не смогло расправиться, ее свело, как от трупного окоченения
Может, так и было. Может, она уже умерла и не заметила. Боль, к примеру,
немного утихла — или, скорее, ее просто вытеснила невыносимая жажда. В пользу
монстра говорило только одно: он не забывал кормить и поить ее. «Чтобы были
силы играть свою роль», — говорил Ахилл.
Но с тех пор прошло очень много времени. Така убила бы за стакан воды, хо-
тя, похоже, из-за его отсутствия она умрет.
Но ведь это славно — когда ничто больше не имеет значения. И разве не слав-
но, что она, наконец, разобралась?
Ей хотелось, чтобы Ахилл вернулся. Не только ради воды, хотя и это было бы
мило. Ей хотелось доказать, что он ошибся. Хотелось, чтобы он ею гордился.
Все дело в той глупой песенке про блох. Монстр все знал, потому и пропел ее
в первый раз.
«На каждую блоху
найдутся блошки-крошки,
но и на этих крошек
найдутся блошки тоже...»
Жизнь внутри жизни. Теперь она все видела и поражалась, как не поняла рань-
ше . И концепция-то не новая. Очень даже старая. Митохондрии — маленькие бло-
хи, живущие в каждой клетке эукариота. Ныне они — жизненно важные органеллы,
биохимические аккумуляторы жизни, но миллиард лет назад были самостоятельными
организмами, свободно живущими мелкими бактериями. Большая клетка поглотила
их, но забыла прожевать — и вот они заключили сделку, большая клетка и ма-
ленькая. Громила обеспечивал безопасную стабильную среду, а шустряк качал
энергию для хозяина. Древняя неудача хищника обернулась первобытным симбио-
зом. . . и по сей день митохондрии хранят свои гены, воспроизводящиеся по соб-
ственному графику, внутри тела носителя.
Процесс шел по сей день. Бетагемот, например, завел такие же отношения с
клетками некоторых существ, соседствовавших с ним на глубине, обеспечил их
избытком энергии, позволившим рыбе-хозяину расти быстрее. Он рос и в клетках
наземных животных — только с менее благотворными последствиями, но ведь, ко-
гда два радикально отличающихся организма взаимодействуют в первый раз, без
убытков не обойтись...
Ахилл пел вовсе не о блохах. Он пел об эндосимбиозе.
И у Сеппуку наверняка есть собственные блошки. Места более чем достаточно —
все эти избыточные гены могут кодировать сколько угодно вирусов или маскиро-
вать самоубийственные рецессивы. Сеппуку не просто убивал себя, сделав свое
дело, — он рождал нового симбионта, возможно вирус, который поселялся в клет-
ке хозяина. Он так эффективно заполнял нишу, что Бетагемот, попробовав вер-
нуться, найдет только вывеску «Свободных мест нет».
Имелись ведь и своего рода прецеденты. Кое-что Така помнила по курсу меди-
цины . Малярию удалось победить, когда обыкновенные москиты проиграли быстро
плодящемуся варианту, не переносившему плазмодии. СПИД перестал быть угрозой,
когда мягкие штаммы превысили число смертельных. Хотя все это были пустяки,
болезни, атаковавшие лишь горстку вида. Бетагемот же угрожал любой клетке с
ядром: «ведьму» не победишь вакцинацией всего человечества или заменой одного
вида насекомых другим. Единственное средство против Бетагемота — это зараже-
ние всей биосферы.
Сеппуку перекроит всю жизнь изнутри. И он может так сделать: его пробивная
сила не снилась бедному старому Бетагемоту. Чуть ли не вечность назад Ахилл
вынудил ее вспомнить и об этом: ТНК способны к дупликации с современными нук-
леиновыми кислотами. Они способны общаться с генами клетки-хозяина, способны
объединяться с ними. Это может изменить все и вся.
Если она не ошиблась — а, зависнув на краю жизни, она была уверена на все
сто процентов — Сеппуку — не просто средство от Бетагемота. Это самый реши-
тельный эволюционный скачок со времен возникновения клетки эукариота. Решение
настолько радикальное, что до него не додумались настройщики и модификаторы,
не способные выйти за парадигму «жизни, какой мы ее знаем». Глубоководные
ферменты, мучительная перестройка генов, позволившие Таке и ей подобным счи-
тать себя иммунными, — не более чем импровизированные подпорки. Костыли, под-
держивающие дряхлеющее тело после истечения срока годности. Люди слишком при-
вязались к химическому конструктору, на котором миллиарды лет держалось их
устройство. Ностальгия могла, в лучшем случае, оттянуть неизбежное.
Создатели Сеппуку оказались куда радикальнее. Они отбросили старые специфи-
кации клеток и начали с нуля, переписывая саму химию живого, изменяя все виды
эукариотов на молекулярном уровне. Неудивительно, что его творцы держали свое
детище в тайне: не надо жить в стране Мадонны, чтобы испугаться столь дерзко-
го решения. Люди всегда предпочитали иметь дело со знакомым дьяволом, даже
если этот дьявол — Бетагемот. Люди просто не приняли бы мысль, что успеха
нельзя добиться лишь мелкими поправками...
Така плохо представляла, как будет выглядеть этот успех. Возможно, замечен-
ные ею странные новые насекомые были его началом, ведь они вели быструю и ко-
роткую жизнь, сменяя по дюжине поколений за сезон. Ахиллу так и не удалось
сдержать Сеппуку, и доказательство тому — эти бодрые чудовищные букашки. Он
заслонил от инфекции только человечество.
Впрочем, даже тут он обречен на поражение. Рано или поздно спаситель пустит
корни во все живое, не ограничится членистоногими. Просто для существ, живу-
щих в более медленном ритме, процесс займет больше времени. «Придет и наш че-
ред», — подумала Така.
И гадала: как это будет работать? Как выиграть конкуренцию с суперконкурен-
том? Грубой силой? Обыкновенной клеточной прожорливостью, той же стратегией,
которую Бетагемот обратил против биосферы версии 1.0? Станет ли новая жизнь
гореть вдвое ярче и сгорать вдвое быстрее, станет ли вся планета быстрее дви-
гаться, быстрее думать, жить яростно и кратко, как поденки?
Но это — старая парадигма: преобразиться в своего врага и объявить о побе-
де . Существовали и другие варианты, стоило только отказаться от усиления в
пользу капитальной перестройки. Уэллетт, посредственная ученица Старой Гвар-
дии, и представить себе их не могла. И никто не мог. Как предсказать поведе-
ние системы с несколькими миллионами видов, в которой изменили каждую пере-
менную? Сколько тщательно отобранных экспериментальных подходов нужно для мо-
делирования миллиарда одновременных мутаций? Сеппуку — или то, чем станет
Сеппуку, — сводил на нет самую концепцию контролируемого эксперимента.
Вся Северная Америка стала экспериментом — необъявленным и неконтролируе-
мым: спутанной матрицей многовариантного дисперсного анализа и гипернишевых
таблиц. Даже если он провалится, мир не много потеряет. Бетагемот капитально
сдаст позиции, Сеппуку напорется на собственный меч, и потом — в отличие от
действий «ведьмы» — все будет происходить исключительно в пределах клетки-хо-
зяина .
Возможно, эксперимент не провалится. Возможно, все переменится к лучшему.
Появятся чудовища, но не только страшные, но и подающие надежду. Митохондриям
придется вымереть, их затянувшийся договор аренды подойдет к концу. Возможно,
люди изменятся изнутри, старую породу сменит другая, которая будет выглядеть
похоже, но действовать лучше.
Может, давно пора послать все к черту.
Откуда-то далеко-далеко на нее ворчал маленький человечек. Он стоял перед
ней — назойливый гомункул в невероятно четком разрешении. Как будто Така
смотрела на него с другого конца подзорной трубы. Он расхаживал взад-вперед,
бешено жестикулировал. Похоже, кого-то или чего-то боялся. Да. Вот в чем де-
ло: кто-то за ним охотился. Он говорил так, словно в голове у него звучали
разные голоса. Словно он неожиданно потерял контроль. Он угрожал ей — Уэллетт
показалось, что он угрожает, хотя его усилия производили скорее комический
эффект. Как будто маленький мальчик храбрится и в то же время ищет, куда бы
спрятаться.
— Я разобралась, — сказала ему Така. Голос потрескивал, как дешевый хрупкий
пластик. Она удивилась, с чего бы это. — Оказалось не так уж сложно.
Но он ушел слишком глубоко в свой мирок. Ну что ж. Человечек и не походил
на того, кто способен по-настоящему оценить рассвет новой эры.
Так много было впереди. Конец «жизни, какой мы ее знаем». Начало «жизни,
которой не знаем». Начало уже положено. Больше всего Таке было жаль, что она
не увидит, как все обернется.
«Дэйв, милый, — подумала Уэллетт, — я справилась. Наконец я все сделала
правильно. Ты можешь мной гордиться».
Бастилия
Садбери вставал впереди светящейся опухолью.
Его ядро светилось изнутри — слабо по меркам сухопутников, но ярко как день
для Кларк: отгороженная стеной, страдающая клаустрофобией кучка переоборудо-
ванных небоскребов среди покинутых пригородов и коммерческих зон. Статическое
поле давало о себе знать интерференцией. Новые здания и подлатанные старички,
жилье, клином вбитое в пространства между строениями, — все упиралось во
внутренний край мерцающего купола и дальше не шло. Садбери врастал в полуша-
рие, словно метастазы под стеклом.
Они врезались в него с востока. Гидрокостюм скорчился в поле, как слизняк в
огне. Лопасти в заряженном воздухе обратились в вихри голубых искр. Кларк со
странной ностальгией созерцала этот эффект: он напоминал биолюминесценцию
микробов в тепле глубоководного источника. Можно было вообразить, что на вра-
щающихся винтах расселись воздушные огни святого Эльма.
Но только на миг. Здесь жил всего один микроорганизм, стоящий упоминания, и
он был каким угодно, только не светлым.
Впрочем, они уже пробились и скользили на запад, летя над центром Садбери.
По сторонам высились стены городского каньона. В полоске неба над головой
мелькали молнии. Глубоко внизу, то и дело скрываясь за новыми постройками,
медным проводком бежали по дну рельсы. Лени достала из стоявшего в ногах рюк-
зака обоймы. Как ими пользоваться, Лабин показал ей еще над проливом Джорд-
жии. Каждая вмещала дюжину гранат, размеченных цветами: световые, газовые,
«сверлильщики» и «площадники». Боеприпасы отправились в поясную сумку.
Лабин взглянул на нее своими протезами:
— Не забудь застегнуть, когда закончишь. Как твоя пленка?
Она расстегнула крутку, проверила гидрокостюм под ней. Широкий косой крест
полупроницаемой мембраны прикрывал электролизный порт.
— Держится, — сказала она и застегнула маскарадный костюм сухопутника. — А
то, что мы так низко идем, местные власти не побеспокоит?
— Эти — нет...
Лени даже представила, как он закатил слепые глаза, удивляясь ее тупости.
Как видно, за дермы, противоядия и выпотрошенных людей можно было купить не
только транспорт. Кларк не стала уточнять. Она опустила в сумку последний за-
ряд и стала смотреть вперед.
Через пару кварталов каньон выходил на открытое пространство.
— Так вот он где, — пробормотала Кларк. Лабин сбавил скорость, теперь они
еле ползли.
Перед ними огромным темным Колизеем открылась площадь, вырезанная в тесноте
местной архитектуры. Лабин остановил «Сикорский-Белл» в трехстах метрах над
ней у самого периметра.
Вал с крепостным рвом в два квартала шириной. Одинокий небоскреб — сужаю-
щаяся флейтой многогранная башня — поднимался посередине. Над крышей стояла
призрачная корона из голубых огней. А все остальное было мертво и темно — на
шестьдесят пять этажей ни единого светящегося окошка. На земле вокруг лежали
заплаты фундаментов, следы снесенных зданий, теснившихся здесь в более счаст-
ливые времена.
Кларк задумалась: что бы увидели глаза сухопутника, если бы такой рискнул
забраться сюда в темноте? Может, горожане Садбери видели вовсе не Патруль Эн-
тропии. Возможно, им представлялась башня призраков, темная и грозная, полная
скелетов и мерзких ползучих тварей. Разве можно винить людей, похороненных
под обломками двадцать первого века, осажденных неведомыми микробами и элек-
тронными демонами, за то, что они вернулись к вере в злых духов?
«Возможно, они даже правы», — подумала Кларк.
Лабин указал ей на призрачное освещение парапета. Из этого нимба поднима-
лась посадочная площадка и десяток мелких надстроек вокруг — грузовые лифты,
вентиляционные шахты, оборванные пуповины подъемников.
Кларк с сомнением огляделась:
— Нет.
Здесь садиться было нельзя, здесь наверняка установлены защиты.
Лабин, кажется, ухмыльнулся:
— Давай проверим.
— Не думаю, что это...
Кен врубил скорость, и они ринулись в пустое, открытое пространство.
Вылетев из каньона, заложили вираж направо. Кларк вцепилась в приборную па-
нель . Земля и небо перевернулись: город с археологическими руинами сбритых
фундаментов вдруг оказался в трехстах метрах за плечом Лени, и на нее устави-
лись два черных круга по метру в поперечнике, словно глазницы гигантского че-
репа. Только они были не пустые и даже не плоские, а слегка выступали над
землей, словно полюса закопанных в нее гигантских шаров.
— Это что? — спросила она.
Нет ответа. Кларк скосила глаза. Лабин одной рукой придерживал между коле-
ней бинокуляр, а другой пристраивал на него пенсне. Линзы аппарата смотрели в
потолок кабины. Кларк внутренне содрогнулась: каково это, когда твои глаза
расположены в метре от черепа?
— Я спросила... — заново начала она.
— Артефакт перегрева. Гранулы почвы взрываются как попкорн.
— От чего это? Мина?
Он рассеянно покачал головой, переключившись на что-то у основания небо-
скреба:
— Луч частиц. Орбитальная пушка.
У Кларк свело внутренности.
— Если у него есть... Кен, а если он заметит?..
Что-то натриевой вспышкой полыхнуло у нее в затылке. В груди затикало.
Управление «Сикорского-Белла» кашлянуло невероятно дружным хором и погасло.
— Похоже, есть, — заметил Лабин, когда стих мотор.
Ветер негромко свистел в фюзеляже. Ротор продолжал постукивать над голова-
ми, по инерции шлепая лопастями. Больше ни звука, кроме тихих ругательств Ла-
бина, когда вертолет на мгновение завис между землей и небом.
В следующее мгновение они уже падали.
Желудок у Кларк застрял в горле. Лабин давил педали.
— Скажешь, когда пройдем шестьдесят метров.
Мимо проносился темный фасад.
— Чт...
— Я слепой, — Кен оскалился от какой-то извращенной смеси страха и возбуж-
дения — руки тщетно и яростно сжимали джойстики. — Скажешь, когда... десятый
этаж! Скажешь, когда минуем десятый!
Одну половину Кларк до бесчувствия поразила паника. Вторая пыталась выпол-
нить приказ, отчаянно подсчитывала этажи, пролетавшие мимо. Но окна были
слишком близко, сливались, а вертолет должен был рухнуть. Рухнуть у самой
башни, но та вдруг исчезла, оборвалась углом, мелькнувшим на расстоянии вытя-
нутой руки. Открылся северный фасад, из-за дальности его было лучше видно,
и. . .
«О, господи, что это...»
Какой-то непокорный, пораженный ужасом участок мозга бормотал, что не может
такого быть, но вот же она — черная, беззубая, в стене небоскреба зияла
пасть, широкая, как ворота для целого легиона. Лени пыталась отвлечься, со-
средоточиться на этажах, начать счет от земли. Они падали мимо этого невоз-
можного провала... а потом выяснилось, что летят прямо в него!
— Лени...
— Пора! — завопила она.
Секунда растянулась вечностью, а Лабин ничего не сделал.
В этом бесконечном мгновении самое странное — ощущения. Шум от все еще —
чудом, удачей или чистым упрямством — вращающегося ротора, пулеметный ритм с
доплеровским смещением, как медленный далекий стук сердца улетающего в бездну
космонавта. Вид несущейся навстречу, несущей гибель земли. Внезапное холодное
смирение, признание неизбежного: «Мы умрем». И кивок с грустной насмешкой,
понимание, что могущественный Кен Лабин, всегда просчитывавший на десять хо-
дов вперед, мог совершить такую глупую, такую тупую ошибку.
А потом он рванул рычаг, и вертолет вздыбился, струсил в последний момент.
Кларк весила сотню тонн. Они смотрели в небо, мир за ветровым щитком — земля,
стекло, далекие облака — слился в сплошную круговерть. На один ошеломительный
миг они снова полетели. Затем что-то с силой пнуло их сзади, проламывая поли-
мер и раздирая металл. Машина завалилась набок, и этот чудесный ротор хлест-
нул по земле и замер, наконец, побежденный. Кларк безумными глазами устави-
лась на огромный монолит, который, безумно перекосившись в ночном небе, спус-
кался вместе с темнотой, чтобы ее сожрать.
— Лени!
Она открыла глаза. Невероятная пасть все так же зияла над ней. Кларк зажму-
рилась на секунду и попробовала еще раз. Ох...
Нет, это же огромная обугленная дыра, проломившая северный фасад на целых
десять этажей, если не больше.
«Рио, — вспомнила она. — Они так и не заделали пробоину».
Крыша небоскреба отчетливо видна сквозь ветровое стекло. Огни над ней по-
гасли . Все здание как будто перекосило влево: нос вертолета наклонился под
углом в тридцать градусов, он похож на высунувшегося из-под земли механиче-
ского крота.
Полет окончен. Хвост, на который они приземлились, либо вмялся в корпус,
либо вовсе отломился.
Грудь и плечи болели. И с небом было что-то не так. Оно... а, вот оно что,
небо темное. В анклаве, где генератор статического поля без конца гнал в воз-
дух электричество, оно должно было мерцать искрами. И мерцало до их падения.
— Лени...
— Это что... импульс был? — удивилась она.
— Ты двигаться можешь?
Она сосредоточилась и определила источник боли: рюкзак Лабина, твердый и
комковатый, прижался к ее груди, не жалея сил. Наверное, при падении он под-
нялся над полом, а она его схватила. Кларк ничего этого не помнила. Прореха
на верхнем клапане улыбалась ей в лицо и открывала кое-что внутри — угловатый
комок инструментов и аппаратуры, неприятно давивший на кости.
Она приказала себе разжать руки. Боль ослабла.
— Кажется, я в порядке. А ты...
Он слепо смотрел на нее обожженными глазами. Только теперь Лени вспомнила,
что видела, как во время падения пенсне Лабина изящно улетело к задней стене
кабины. Отстегнувшись, Кларк оглянулась. Позвоночник пронзила резкая боль,
словно лед треснул. Она вскрикнула.
Рука Лабина легла на плечо.
— Что?
— Похоже, позвоночник травмирован. Бывало и хуже. — Она села на место. Все
равно искать прибор нет смысла: импульс поджарил его вместе с электроникой
вертолета.
— Ты снова слепой, — тихо сказала она.
— Я припас еще одну пару. В защитном футляре.
Открытый рюкзак ухмыльнулся ей зубцами молнии.
Когда до Лени дошло, ее затошнило от стыда:
— О, черт, Кен, я забыла застегнуть. Я...
Он отмахнулся от извинений:
— Будешь моими глазами. Кабина разбита?
— Что?
— Трещины есть? Широкие, чтобы ты смогла выбраться?
—А... — Кларк снова обернулась, уже осторожнее. Боль зародилась в основа-
нии черепа и дальше не пошла.
— Нет. Задняя переборка всмятку, но...
— Хорошо. Рюкзак у тебя?
Она открыла рот ответить — и вспомнила два обугленных кургана, таращившихся
в небо.
— Сосредоточься, Лен. Рюкзак...
— Он не понадобится, Кен.
— Очень даже...
— Мы уже мертвы, Кен. — Она глубоко, отчаянно вздохнула. — У него орбиталь-
ная пушка, забыл? Он в любую секунду может... а мы ни хрена не...
— Слушай меня! — Лицо Кена вдруг приблизилось, как для поцелуя. — Если бы
он хотел нас убить, мы бы уже были мертвы, поняла? Сомневаюсь, чтобы ему хо-
телось сейчас подключаться к спутникам: он не рискнет открывать их шреддерам.
— Но он уже... импульс...
— Не с орбиты. Он, наверное, половину этажей в небоскребе упаковал конден-
саторами . Ахилл не хотел нас убивать. Только помять немножко. — Кен выбросил
вперед руку. — Ну, где рюкзак?
Она покорно отдала. Кен поставил его на колено, порылся внутри.
«Он не хочет нас убивать». Лабин говорил это и раньше, выложил как часть
рабочей гипотезы по пути из Торомильтона. По мнению Кларк, последние события
ее не слишком поддерживали, особенно...
Что-то шевельнулось справа. Обернувшись, Кларк ахнула — боль от движения
мгновенно забылась. Сквозь пузырь колпака в нескольких сантиметрах от нее та-
ращилась чудовищная морда: тяжелый черный клин, сплошные мышцы и кости. Ма-
ленькие темные глазки блестели в глубоких глазницах. Видение ухмылялось, ска-
ля клыки в капкане челюстей.
В тот же миг морда пропала из вида.
— Что? — качнулось к ней лицо Лабина. — Что ты видела?
— Кажется... кажется, раньше это была собака, — дрожащим голосом ответила
Кларк.
— Думаю, раньше все они были собаками, — сказал ей Лабин.
Валясь с неба, Лени не заметила, когда они подоспели: чтобы посмотреть впе-
ред , пришлось заглянуть назад — а теперь... сквозь подфюзеляжный колпак, в
дверную щель, если приподняться с сиденья — со всех сторон виднелись жуткие
тени. Привидения не лаяли и не рычали — не издавали ни звука. Они не тратили
даром сил и грубой звериной злобы, не кидались на корпус, пробиваясь к мягко-
му мясу внутри. Они кружили молчаливыми акулами.
Светоусилители никак не нарушали их полной черноты.
— Сколько? — Лабин провел рукой по пистолету-гранатомету; пояс с боеприпа-
сами лежал у него на коленях, одним концом все еще свешиваясь в мешок под но-
гами.
— Двадцать. Или тридцать. Самое малое. Господи, Кен, они огромные, вдвое
больше тебя... — Кларк боролась с подступающей паникой.
К оружию Лабина прилагались три обоймы и маленькое колесико-переключатель,
позволявшее выбирать между ними. Он нащупал за поясом световые, «сверлильщи-
ков» и «площадников», вставил их.
— Главный вход видишь?
— Да.
— В какой стороне? Далеко?
— Примерно на одиннадцать часов. Пожалуй... восемьдесят метров.
«А с тем же успехом могли быть восемьдесят световых лет...»
— Что между нами и ими?
Она сглотнула.
— Стая бешеных собак-монстров, готовых убивать.
— Кроме них.
— Мы. . . мы на краю главной улицы. Мощеной. Со всех сторон были здания, но
их снесли, труха одна. — И, в надежде, что он задумал не то, чего она боится,
в надежде отговорить его, Лени добавила: — Укрыться негде.
— Мой бинокуляр видишь?
Она осторожно, оберегая поврежденный позвоночник, повернулась.
— Прямо за твоей спиной. Ремешок зацепился за дверь.
Он, отложив оружие, отцепил его и подал ей.
— Опиши вход.
Дальномер и термовизор, разумеется, не работали — только обычная оптика.
Кларк постаралась не замечать темных теней на расплывчатом переднем плане.
— Восемь стеклянных дверей в неглубокой нише на фасаде, над ней логотип
УЛН. Кен...
— За дверью что?
— Э... вестибюль, шириной несколько метров. А дальше — о, в прошлый раз там
был еще один ряд дверей, но теперь их нет. Вместо них какая-то тяжелая плита,
наверно, спускается сверху, как крепостная решетка. По ней много не скажешь.
— А боковые стены вестибюля?
— Бетон или биолит или что-то такое. Просто стены, ничего особенного. А
что?
Он затягивал оружейный пояс на талии.
— Там и войдем.
Она покачала головой:
— Нет, Кен, ни хрена не выйдет.
— Спускные ворота — самая очевидная защита. Чем ломиться в них, разумнее
обойти.
— Нам не выйти, порвут!
— Я не для того так далеко летел, чтобы стая собак остановила меня в вось-
мидесяти метрах от финишной ленточки.
— Кен, ты же слепой!
— Они об этом не знают. — Он показал Кларк пистолет. — А вот это им знако-
мо . Главное — произвести впечатление.
Она уставилась в его разъеденные глаза, на сочащееся сукровицей лицо.
— Как же ты будешь целиться?
— Так же, как приземлялся. Дашь наводку. — Нашарив рюкзак, Лабин достал из
него «Хеклер и Кох». — Этот возьми себе.
Она взяла, не понимая, что делает.
— Отгоним собак на то время, что нужно для прохода сквозь стену. В осталь-
ном план прежний.
Кларк с пересохшим ртом следила, как кружат у машины псы.
— А если они бронированные? Если у них электронная защита?
— Импульс на них не подействовал, значит, никакой электроники. Обычные мо-
дификанты, не больше.
Застегнув молнию рюкзака, Лабин забросил его за спину, подтянул лямки на
плечах и на поясе.
— А пистолеты у нас выдержат импульс? А. . . — Тревожная мысль вдруг проби-
лась на поверхность из глубины сознания: закашлявшаяся механика у нее в гру-
ди. — А наши имплантаты?
— Миоэлектрика. Электромагнитный импульс им не слишком опасен. Твой «Хек-
лер-Кох» как настроен?
Она проверила:
— Конотоксины. Кен, я никогда еще не стреляла из пистолета. Не сумею прице-
литься. . .
— Сумеешь. Всяко лучше, чем я. — Лабин пробрался между сиденьями в заднюю
часть кабины. — Ты легко пройдешь, сильно подозреваю, что они настроены на
меня.
— Но...
— Перчатки, — напомнил он, припечатывая свои к запястьям гидрокостюма под
широкими рукавами верхней одежды.
Кларк натянула перчатки на дрожащие руки.
— Кен, нельзя же просто...
Он приостановился, нацелившись на нее невидящими глазами.
— Знаешь, с манией самоубийства ты мне больше нравилась. Раньше ты хоть не
боялась, а сейчас слушать тошно.
Она заморгала:
— Что?
— Лени, у меня кончается терпение. Пяти лет мук совести и жалости к себе
хватило бы кому угодно. Может, я в тебе ошибся? Может, ты все это время про-
сто прикидывалась? Ты хочешь спасти мир или нет?
— Я. . .
— Это — единственный способ.
«А разве есть что-то такое, чего ты не сделаешь ради возможности вернуть
все назад?» Тогда ответ казался очевидным. Он и сейчас был очевиден. Знакомая
ледяная решимость обожгла Лени изнутри. Лицо горело.
Лабин кивнул, закрыл глаза. Сев на пол, уперся спиной в переборку за крес-
лом Кларк.
— Затычки в нос.
Они смастерили их по пути: маленькие тампоны из полупроницаемой пленки.
Кларк забила по одной в каждую ноздрю.
— Я пробью дыру в корпусе, — объяснял Лабин, делая то же самое. — Это отго-
нит собак и даст нам время выйти. Как только окажемся снаружи, направь меня
на главный вход. Чтобы он был на двенадцать часов. Направление на цели указы-
вай считая от него, а не от направления, в котором я смотрю в данный момент.
Поняла?
Она по забывчивости кивнула и тут же поправилась:
— Да.
— Они бросятся, как только мы выйдем из укрытия. Предупреди и будь готова
по команде закрыть глаза. Я применю вспышку — она их обездвижит секунд на де-
сять, если не больше. Постарайся подстрелить, сколько сможешь, и не останав-
ливайся .
— Поняла. Что-то еще?
— Сбрось перчатки, как только мы выберемся из огня. При виде гидрокостюма
Дежарден, возможно, задумается.
Терпеливые убийцы расхаживали прямо за колпаком: казалось, заглядывали в
глаза. Улыбались, показывая клыки длиной с большой палец.
«Обычные модификанты», — повторила Лени про себя, пьянея от ужаса. И упер-
лась спиной к колпаку, прикрыв лицо руками.
— Мы справимся, — мягко сказал ей Лабин. — Только помни о том, что я ска-
зал.
«Он не хочет нас убивать». Кларк задумалась, к кому это относилось.
— Ты, правда, думаешь, он ждет нас живыми?
Лабин кивнул.
— А он знает, что ты ослеп?
— Сомневаюсь. — Кен повел стволом по кабине. Колесико стояло на «площадни-
ке». — Готова?
«Вот оно, детка. Твой единственный шанс все исправить. Не облажайся».
— Давай, — сказала она и закрыла глаза.
Лабин выстрелил. Под веками у Кларк разбежались оранжевые круги.
Большую часть жара принял на себя гидрокостюм, но на миг почудилось, что
она сунулась лицом в горн. Кларк выругалась от обдавшего лицо пламени, стис-
нула зубы, задержала дыхание и прокляла про себя перестраховщика Лабина: «При
виде капюшонов он может насторожиться».
Воздух ревел и трещал, плевался брызгами металла. Она слышала рядом выстрел
Лабина. Кларк со смутным удивлением отметила, что боль прошла. Ее мгновенно
вымели страх и адреналин.
Мир под веками потускнел. Она открыла глаза. В борту вертолета открылась
дыра, по краям ее поблескивали натеки мягких сплавов, шелушился и чернел ак-
рил . На пол рухнул осколок разбитого колпака — в каком-то сантиметре от ее
ноги.
Лабин выстрелил в третий раз. Дождь огненных игл вылетел в брешь и в темно-
ту за ней: мелкий и опустошительный метеоритный дождь. «Площадник» бил по ши-
рокой дуге, оставляя тысячи смертельных проколов, но в тесноте кабины ему не-
куда было разлетаться. Примерно два метра фюзеляжа улетели серебристым мусо-
ром, на землю снаружи лег веер остывающих обломков.
— Дыра большая? — рявкнул Лабин.
— Полтора метра. — Она задыхалась и кашляла от вони горелого пластика. —
Много мелких осколков по краям...
Поздно. Лабин в слепом бешенстве уже бросился в дыру. Он чуть не задел оп-
лавленный край, ударился о землю плечом и, перекатившись, мгновенно вскочил
на ноги. Капля горячего металла блестела клеймом на левой лопатке. Дернув-
шись , Лабин вскинул руку и содрал ее стволом пистолета. Та упала вместе с
куском оплавленного кополимера. На рубахе Лабина осталась рваная дыра, повре-
жденный гидрокостюм под ней корчился как живой.
Кларк, скрипнув зубами, бросилась за ним.
Яркие искры боли, острой и тонкой как иголки, впились в плечо, когда она
пролетела сквозь пролом. В следующий миг ее омыла благодатная прохлада возду-
ха . Приземлилась Лени жестко, скользнув по земле. Перед ней вздрагивали две
обгорелые туши, скалились обугленными губами.
Поднимаясь на ноги, Кларк стянула перчатки. Стая пока отступила на безопас-
ное расстояние.
Лабин, демонстративно угрожая, поводил стволом оружия.
— Лени!
— Есть, двух свалил! — Она подобралась к нему, указала своим пистолетом на
хищный круг. — Остальные отошли.
Кларк развернула Кена по часовой стрелке.
— Вход там, на двенадцать часов.
«Направления считать от входа, направления считать от входа...»
Лабин кивнул.
— На каком расстоянии собаки?
Пистолет он держал двумя руками, чуть согнув их в локтях. И даже казался
расслабленным.
— Э... метров двадцать пять, что ли...
— Умно. За пределами эффективного выстрела.
Направление от...
— Дистанция выстрела — паршивых двадцать пять метров?!
— Зато охват широкий. — Конечно, в этом был смысл — хороший выбор для пло-
хого стрелка, а для слепого так и вовсе лучше не придумаешь. Беда в том, что
туча иголок, рассеиваясь, просто не задевала отдаленные цели. — Опробуй свой.
Кларк прицелилась. Руки все еще дрожали. Она выстрелила раз, другой. «Хек-
лер» дергался в руке, но рявкал на удивление тихо.
Врагов меньше не стало.
— Промазала, или у них иммунитет. Кен, ты говорил, они модифицированы...
Внезапное движение справа, атака с фланга.
— Два часа, — прошипела Кларк, отстреливаясь. Лабин, обернувшись, выпустил
тучу игл. — Восемь! — Он снова выстрелил, чуть не задев нырнувшую под его вы-
тянутую руку Кларк. Огненные иголки прошили землю по обеим сторонам. Под пы-
лающей шрапнелью свалились еще три собаки. Две, получив ожоги, отскочили за
пределы выстрела. Стая по-прежнему молчала. Периметр кипел безмолвной яро-
стью.
Кларк не опускала своего пистолета, хотя толку от него было немного.
— Три убиты, две ранены. Остальные отступили.
Лабин качнулся влево, вправо...
— Неправильно. Они должны нападать.
— Не любят выстрелов. Ты сам сказал, они умные.
— Боевые псы, слишком умные для атаки, — покачал головой Лабин. — Нет, что-
то тут не так.
— Может, они просто удерживают нас на месте? — с надеждой предположила
Кларк. — Может...
Что-то тихо зазвенело в черепе — не столько слышалось, сколько ощущалось,
как легкий надоедливый зуд.
— Ага, — тихо сказал Лабин, — это больше похоже на правду.
Перемена была трудноуловимой и фундаментальной. Ни датчик движения, ни рас-
познаватель образов ее не засек бы. Но Кларк все поняла сразу, тем первобыт-
ным чутьем, которое передалось еще от предков человека. За все эти миллионы
лет подсознание ничего не забыло. Твари, окружившие их со всех сторон, вдруг
слились в единое безжалостное существо с множеством тел и одной целью. Лени
увидела, как тварь ринулась на нее и вспомнила, кто она такая, кем была все-
гда.
Жертвой.
— Вспышка! — рявкнул Лабин.
Она едва успела зажмуриться. Четыре хлопка подряд —и созвездие тускло-крас-
ных солнц разгорелось у нее под веками.
— Пошла!
Она всмотрелась. Единый организм распался. Со всех сторон метались одиноч-
ные хищники, ослепшие и растерянные. «Ненадолго ослепшие, — напомнила она се-
бе , — и временно растерявшиеся».
На действие остались секунды, и тратить их даром было глупо. Лени пошла в
атаку.
Она начала стрелять в трех метрах от ближайшего зверя, выпустила пять заря-
дов , дважды попала в бок. Пес щелкнул зубами и упал. Еще двое столкнулись
друг с другом буквально на расстоянии вытянутой руки — каждому по дротику, и
Лени закружилась, высматривая новую цель. Откуда-то сбоку вылетело облако ог-
ненных игл. Кларк, не обращая внимания, продолжала стрелять. Мимо мелькнуло
нечто темное, тяжелое, истекавшее огнем. Она ловко попала ему в бок и вдруг
снова преобразилась — адреналиновый сигнал «беги или дерись» выжег скулящее
бессилие, разгорелся кровожадной яростью. Она выстрелила в ляжку, в мощную,
вздымающуюся грудную клетку, черную и гладкую как гидрокостюм. В чудовищную,
беззвучно рычащую морду и тут поняла, что та смотрит назад.
Незнакомая и невиданная часть сознания Лени вела подсчет: «Семь — больше ты
пристрелить не успеешь, потом они бросятся и...»
Она побежала. Лабин тоже бежал, бедный слепой Лабин, Лабин — живой танк. Он
снова переключился на «площадник» и выжигал огненную дорогу на двенадцать ча-
сов . Он мчался по подъездной дорожке...
«Я ему сказала препятствий нет, о боже как он рассвирепеет, если споткнется
о решетку...»
...словно зрячий. Собаки мотали головами ему вслед и разворачивались в на-
мерении взять реванш.
Они нагоняли и Кларк. Лапы барабанили за спиной, как дождь по полотняной
крыше.
Она снова выскочила на асфальт, отставая от Лабина на несколько метров.
Крикнула: «Семь часов!» и упала ничком.
Огненный шквал прошел в сантиметрах над головой. Гравий и шершавый асфальт
ободрали ладони, ссадили предплечья сквозь слой брезента и кополимера. Шерсть
и мясо вспыхнули у самого лица, обдав жаром.
Она перекатилась на спину.
— Три часа! Вспышка уже не действует!
Лабин обернулся и залил врага огнем. Еще три собаки надвигались с одинна-
дцати — все еще лежа на спине, Кларк завела за голову руки с пистолетом и
сняла их с трех метров.
— Вспышка! — снова крикнул Кен.
Кларк перекатилась и скорчилась, закрывая глаза. Еще три хлопка, три оран-
жевых восхода под веками. И на этом фоне яркая картинка: когда Лабин крикнул,
все псы, съежившись, отвернули головы...
«Умные, умные собачки, — истерически захихикала у нее в голове маленькая
девочка. — Слышат „Вспышка", вспоминают, что было в прошлый раз, и закрывают
глазки...»
Она подняла веки, заранее ужасаясь тому, что увидит. Трюк дважды не срабо-
тал. Лабин отчаянно переключал режимы стрельбы, корда черная скалящаяся неме-
зида метнулась к его горлу. В ее глазах не было звезд. Кен выпалил — вслепую
и точно в цель: кровь и осколки костей вылетели из черепа твари, но тело про-
должало полет — сто килограммов неудержимой инерции ударили его в грудь. Ла-
бин упал бумажной куколкой, цепляясь за мертвого врага, словно мог одолеть
массу-время-ускорение одной кровожадной решимостью.
Не смог, конечно. Ничего он не одолел. Убил одну и скрылся под дюжиной дру-
гих.
Кларк вдруг рванулась вперед, стреляя, стреляя, стреляя. Был визг — но не с
той стороны, куда она стреляла. Что-то горячее и твердое врезалось в нее сбо-
ку; что то холодное и очень твердое ударило со спины. Чудовище ухмыльнулось
ей открытой слюнявой пастью. Его передние лапы пригвоздили ее к земле, как
бетонные сваи. Из пасти несло мясом и бензином.
Она вспомнила слова Кена: «Ты легко пройдешь, сильно подозреваю, что они
настроены на меня». Надо было спросить, что он имел в виду, пока еще было у
кого. А теперь поздно.
«Они меня оставили на десерт, — рассеянно подумала она, — на десерт».
Где-то рядом хрустнули кости.
«Господи, Кен, на что ты рассчитывал?»
Тяжесть исчезла с груди. Со всех сторон слышалось дыхание монстров.
«Думал, в аду есть надежда? Ты был слеп, а я. . . я все равно, что слепа. Ты
искал смерти, Кен? Или вообразил себя неуязвимым? Это я, пожалуй, могла бы
понять. Я и себя когда-то такой считала».
Странное дело. Никто не рвал ей глотку.
«Интересно, что их сдерживает?» — подумала она.
И открыла глаза. Здание УЛН поднималось в небо, словно она смотрела из мо-
гилы на огромное надгробие.
Лени села — в круге диаметром метра четыре, очерченном черными телами. Со-
баки, пыхтя, следили за ней, смирно сидя на задних лапах.
Кларк кое-как поднялась на ноги. В голове гудело воспоминание о назойливом
неслышном тиканье, только что воспринятом внутренним ухом. Оно было при пер-
вой атаке чудовищ и сейчас появилось. Ультразвук.
«Хеклер и Кох» валялся под ногами. Кларк нагнулась за ним. Тени со всех
сторон напряглись, предостерегающе клацнули зубами, но не помешали.
Разбитый «Сикорский-Белл» остался в пятидесяти метрах левее: толстая грудь
и узкое брюшко расходились от сочленения под острым углом. В стене кабины
зияла рваная обугленная дыра, словно изнутри вырвался раскаленный добела па-
разит . Кларк на шатких ногах шагнула к вертолету.
Собаки ощетинились и не сдвинулись с места.
Она остановилась. Повернулась лицом к черной башне. Стая расступилась.
Они двигались вместе с ней, пропуская и тут же смыкая ряды позади. Через
несколько шагов пузырь дарованного Кларк пространства слился с другим, обра-
зовав продолговатую вакуоль длиной около десяти метров.
Перед ней в луже крови и кишок лежали грудой две туши. Из-под ближайшей
торчала неподвижная нога. Что-то еще — темное, скользкое, со странными округ-
лыми выступами — дергалось под окровавленным собачьим боком, похожее на урод-
ливо раздутого паразита, вылезшего из потрохов хозяина и слабо пульсирующего
рядом.
Оно сжалось. Картинка щелкнула, превратившись в окровавленный кулак, вце-
пившийся в мерзкую свалявшуюся шерсть.
Кен!
Она нагнулась, коснулась кровавой руки. Та отдернулась, как ужаленная,
скрылась под трупом, оставив после себя смутное ощущение какого-то уродства.
Груда падали слабо шевельнулась.
Лабин не порвал двух зверей на куски, а просто пробил в них смертельные ды-
ры. Выпотрошили их позже, когда орда демонов рвала павших товарищей, деловито
и беспощадно преследуя жертву.
Кен соорудил из трупов укрытие.
— Это я. — Лени ухватилась за шерсть и потянула. Скользкий от крови мех вы-
скальзывал из пальцев. С третьей попытки центр тяжести резко сместился, и ту-
ша огромным поленом скатилась с Лабина.
Тот сослепу выстрелил. Смертоносная шрапнель разлетелась по небу. Кларк
упала наземь, крикнула: «Это я, идиот!» и с ужасом уставилась на охранников,
ожидая новой атаки. Но стая только дрогнула и по-прежнему безмолвно отступила
на несколько шагов.
— К... Кларк?
Он вовсе не походил на человека. Каждый квадратный сантиметр тела блестел
от черной слизи. Пистолет в его руке дрожал.
— Это я, — повторила она. Знать бы, сколько здесь его крови. — Ты?..
— Собаки? — Он часто, нервно дышал сквозь стиснутые зубы, как испуганный
мальчишка.
Она осмотрела конвой — ей ответили взглядами.
— Они отступили. Кто-то их отозвал.
Рука престала дрожать, дыхание выровнялось. Кен натягивал на себя самообла-
дание, одной силой воли перезагружая себя.
— Я же говорил, — закашлялся он.
— Ты? . .
— Функционирую. — Он медленно встал, полдюжины раз скривившись и поморщив-
шись . — Кое-как.
Правое бедро у него было порвано, щека рассечена от подбородка до линии во-
лос. Рана пересекала разбитую правую глазницу.
Кларк ахнула:
— Господи, глаз...
Он поднял руку, ощупал лицо.
— Все равно от него было мало проку.
Теперь стало ясно, почему рука казалась деформированной: не хватало двух
пальцев.
— И рука... Кен...
Он сжал оставшиеся пальцы. Затягивающаяся мембрана еще не сошлась на обруб-
ках , из них сочилась темная жидкость.
— Не так скверно, как выглядит, — хрипло сказал он.
— Ты истечешь кровью, ты...
Он покачал головой, пошатнулся.
— Повышенная свертываемость. Стандартная модификация. Идти могу.
Черта с два... Но собаки с одного бока подобрались ближе, с другой стороны
отступили. Очевидно, остаться на месте им не светило.
— Ну что ж... — Кларк взяла его за локоть. — Нам туда.
— Не уклоняясь от курса. — Это был не вопрос.
— Да. Особого выбора нам не дают.
Лабин опять закашлялся, в углу рта появились крупные пузыри крови.
— Они нас пасут.
Большая черная морда мягко подтолкнула ее сзади.
— Считай это почетным караулом, — предложила Кларк.
Ряд стеклянных дверей под бетонным козырьком, официальный логотип Патруля
Энтропии в камне над головой. Собаки образовали полукруг перед входом, тесня
их вперед.
— Что видишь? — спросил Лабин.
— Наружные двери, за ними вестибюль длиной около трех метров. Там... посре-
дине перегородки дверь. Только очертания — ни дверной ручки, ни скважины.
Кларк готова была поклясться, что раньше там ничего не было.
Лабин сплюнул кровью:
— Пошли.
Первая же дверь распахнулась от толчка. Они переступили порох1.
— Мы в вестибюле.
— Собаки?
— Пока снаружи.
Стая выстроилась за стеклом, заглядывая внутрь.
— По-моему, они не... О, внутренняя дверь открылась.
— Наружу или внутрь?
— Внутрь. За ней темно, ничего не видно.
Кларк шагнула вперед; оказавшись в полной темноте, линзы быстро адаптируют-
ся.
Лабин остановил ее, застыв, сжав в кулак пальцы, оставшиеся на покалеченной
руке. Гранатомет твердо нацелил вперед. На изуродованном лице Кена застыло
странное выражение, которого Кларк прежде никогда не видела: пылающая смесь
ярости и унижения, граничащая с явной человечностью.
— Кен, дверь открыта.
Переключатель, щелкнув, остановился на «сверлильщике».
— Открыто, Кен. Можно просто войти.
Она тронула его за руку, потянула ее вниз, но тело Лабина застыло в ярост-
ном оцепенении.
— Я же говорил, — проворчал он, — разумнее в обход.
Рука с пистолетом развернулась на три часа, указав прямо на стену вестибю-
ля. Бесполезные глаза смотрели вперед.
— Кен... — Кларк обернулась, почти ожидая, что стая, пробив стекло, оторвет
ему руку. Но собаки сидели на месте, больше не вмешиваясь в течение драмы.
— Он хочет, чтобы мы шли прямо, — сказал Лабин. — Он всегда командует, все-
гда захватывает инициативу. А мы только и делаем, что... реагируем.
— А взрывать стену, когда дверь настежь? Это — не реакция?
Лабин покачал головой:
— Это побег.
Он выстрелил. «Сверлильщик» врезался в боковую стену, вращаясь с такой ско-
ростью, что мог уйти за горизонт событий. Стена изверглась маленьким Везуви-
ем : вестибюль накрыли клубы серого пепла. Жгучие крупинки песка жалили лицо.
Кларк закрыла глаза, задыхаясь в песчаной буре. Откуда-то из глубины водово-
рота ей послушался тонкий звон бьющегося стекла.
Что-то сграбастало ее за запястье и дернуло в сторону.
Открыв глаза, она уперлась взглядом во взбаламученное взрывное облако. Ла-
бин потянул ее к проломленной стене, его изуродованное лицо маячило совсем
рядом:
— Туда. Веди.
Она повела. Кен, пошатываясь, шел рядом. Мелкие обломки еще шуршали в воз-
духе , оскверненное здание вздыхало. Из мглы показалась пустая, перекрученная
дверная рама. Под ногами алмазным снежком хрустело разбитое вдребезги безо-
пасное стекло.
Собак не было видно — впрочем, она бы их все равно не заметила до последне-
го прыжка. Может, взрыв их отпугнул. Может, они всегда оставались только сна-
ружи. А может, псы в любую секунду ворвутся в разбитую дверь и завершат не-
оконченное дело.
В стене перед ними рваная дыра. Откуда-то льется вода. Сантиметров в пяти
над полом поднимался гребень рваного бетона, край бездны — с другой стороны
зияла вертикальная шахта диаметром в метр. На сомнительной прочности крепле-
ниях держались перекрученные жилы металла и пластика, другие под самыми не-
ожиданными углами лежали поперек провала. Из пустоты била струя воды — навер-
ху, похоже, прорвало трубу — и с плеском уходила сквозь невидимую решетку
внизу.
Стена на той стороне была проломлена. За ней — темнота.
— Здесь осторожней, — предупредила Кларк.
Они вышли в просторное помещение с высоким потолком: как смутно припомни-
лось Кларк — главную приемную. Лабин, обернувшись, прицелился в дыру, из ко-
торой они вышли. Никто не прыгнул на них ни спереди, ни сзади.
— Большой зал, — доложила Кларк. — Темно. Информационные киоски и стойки
для посетителей слева. Никого.
— Собаки?
— Пока нет.
Рабочие пальцы Лабина прошлись по краям дыры.
— Это что?
Она склонилась ближе. В усиленном линзами полусвете в стене что-то блесну-
ло, словно тонкая жила драгоценной руды. Из разбитого бетона там и тут свиса-
ли оборванные концы.
— Какая-то сеть, — сказала она, — вделана в стену. Металлическая, очень
тонкого плетения. Вроде толстой ткани.
Лабин мрачно кивнул:
— Клетка Фарадея.
— Что?
— Защита. От воздействия электромагнитных импульсов.
Будто Бог хлопнул в ладоши — загорелся свет.
Эмпат
Блики в глазах мгновенно ослепили Кларк. Она, вскинув «Хеклер», дико зама-
хала им в пустоту.
— Свет...
— Знаю.
Где-то в глубине здания загудели пробудившиеся машины.
— Господи Иисусе, — голос раздался со всех сторон, — вечно вам надо все ус-
ложнить . Дверь же специально открыл.
— Ахилл?
Линзы адаптировались, из белого фона проступили предметы и стены. Но в воз-
духе туманом висела пыль от взрыва, размывая резкость. От устроенного ими
входа по полу веером расходились трещины, панели из полированного камня в
противоположной стене вывалились и теперь лежали грудой обломков.
— Или на крышу бы приземлились, — продолжал голос. — Так ведь нет, дай вам
штурмовать крепость. И посмотрите, в каком вы теперь виде! Посмотрите на се-
бя ! Еле на ногах держитесь.
Вдали заработал вентилятор, потянул струйки дыма и пыли в потолочные решет-
ки. Воздух понемногу очищался. Лабин привалился к стене, давая отдых раненому
бедру. Кларк уже различала цвета: потеки слизи у него на ноге блестели отвра-
тительной ржавчиной и багрянцем — будто с него заживо содрали кожу.
— Помощь нам бы не помещала, — сказала она. Вздох откуда-то — отовсюду.
— Как и в прошлый раз. Кое-что не меняется, а?
— Это ты виноват, ушлепок. Твои собаки...
— Стандартные меры охраны после импульса, и разве я просил вас идти на них
вслепую? Кен, ну что тебе-то в голову втемяшилось? Ваше счастье, я вовремя
заметил.
— Посмотри на него! Помоги ему!
— Брось, — почти шепотом возразил Лабин, — я в порядке.
Здание его услышало.
— Далеко не в порядке, Кен. Но голова еще на плечах, а я не так глуп, чтобы
отключать защиту перед людьми, которые только что силой вломились в мой дом.
Поэтому давайте разберемся, а потом, может, подлатаем тебя, пока ты кровью не
истек насмерть. Что вы здесь делаете?
Лабин начал отвечать, закашлялся и начал снова:
— Думаю, ты сам знаешь.
— Допустим, не знаю.
— Мы кое о чем договаривались. Ты должен был выяснить, кто выслеживает «Ат-
лантиду» .
Кларк закрыла глаза. «В остальном план прежний...»
— На случай, если еще не дошло: на меня в последнее время немалый спрос, —
заметили стены, — но, уверяю тебя, я над этим работаю.
— Думаю, не просто работаешь. Думаю, ты уже разобрался, еще до того, как
потерял большую часть ресурсной базы. Кстати, мы могли бы посоветовать, как
ее вернуть. Если тебе это нужно для анализа.
— Ага. А позвонить мне откуда-нибудь нельзя было?
— Мы пробовали. То ли ты был слишком занят, то ли связь легла.
Здание тихонько погудело, как будто задумавшись. В глубине вестибюля, за
спящим информационным табло, лотком с брошюрами и стойкой администратора на
воротах безопасности замигали рубиновые светодиоды. Крайние слева на глазах у
Кларк загорелись зеленым.
— Проходите здесь, — сказал Дежарден.
Кларк взяла Лабина под локоть. Тот хромал рядом, но не прижимался, исполь-
зуя ее как проводника, но не как костыль. За Кеном тянулся асимметричный тем-
ный след.
Каждые ворота состояли из двух алюминиевых цилиндров в полметра толщиной,
поднимавшихся от пола к потолку, как прутья клетки. Пройти можно было только
между ними. На уровне глаз их обвивали черные полоски шириной с руку Кларк,
усеянные созвездием цветных сигналок, — и, едва они прошли половину зала, все
цвета сменились на красный.
— Ах, да, — спохватился Дежарден, — если вы попробуете что-нибудь прота-
щить , защита порежет вас на мелкие кубики. — Закругленная панель под экраном
при их приближении отъехала назад. — Бросайте все сюда.
Лабин, нащупав открывшуюся камеру, бросил туда пистолет вместе с поясом.
Пока он пытался снять рюкзак, Кларк последовала его примеру и поспешила на
помощь. Рюкзак отправился следом за оружием, и панель закрылась.
Табло вокруг столбиков расцвело картинками и символами. Некоторые были зна-
комы Кларк по инструктажу Лабина во время полета: тазер и микроволновый пис-
толет, механический пружинник, аэрозольная липучка. Другие Лени видела впер-
вые . Насколько она могла судить, Кен добыл их из своего тайника на дне Атлан-
тики.
— Это не электронный ли отсекатель? — поинтересовался Дежарден. — И им-
пульсная бомба! Ты прихватил собственную импульсную бомбочку — как это мило!
Лабин сжал зубы и промолчал.
— Так, и это все? Ни гадких биозолей, ни скрытых мураволок? Предупреждаю,
эти ворота ничего не прощают. Попробуете пронести что-нибудь...
— Наши имплантаты, — сказала Кларк.
— Их пропустят.
Лабин нащупал проход между столбами. Не загудела сирена, не заплясал над
головами лазерный луч. Кларк шагнула за ним.
— Лифты сразу за поворотом, — сказал Дежарден.
Совершенно безоружные, они вступили в приемную Дежардена. Кларк направляла
Лабина тихими подсказками и редкими прикосновениями. О том, что думает, она
не решилась заговорить даже шепотом, но чуть сжала ему плечо. Кен знал ее
достаточно давно и все понял: «Ахилл не купился».
Кен ответил слепым взглядом и движением окровавленных губ: «Конечно».
Все согласно плану. Если считать это планом.
Приходилось принимать физику на веру.
Она готова была поверить всему, о чем толковал Лабин по пути: неважно, по-
верит ли им Дежарден, главное, чтобы он счел их полезными. Пока он видит в
них пользу, убить не попытается.
Но действовать не даст. Он никого не впустит в свое тайное логово, не при-
няв меры предосторожности: отберет оружие, возьмет под арест, лишит свободы.
«Ничего смертельного, — предсказывал Лабин, — и ничего такого, что повреди-
ло бы структуру. Выбор у него будет небольшой. Справимся».
Все это было прекрасно, но Кларк никак не могла отделаться от мысли, как
именно им придется справляться.
В ее груди плескалось добрых пол-литра воды, запертых пленкой на электро-
лизном порте. Пятьсот миллилитров — на слух не так уж много. Когда она плава-
ла на глубине, через ее имплантаты протекал непрерывный и постоянно пополняв-
шийся поток морской воды. Застойный осадок, застрявший в имплантатах теперь,
на глубине не продержался бы и секунды.
«Четыреста пятьдесят граммов молекулярного кислорода, — сказал Лабин. —
Почти как в двух тысячах литров воздуха».
Голова не спорила с цифрами, а вот нутро ничего не понимало в математике.
Перед ними встал ряд лифтов. Двери одного были открыты, из кабины лился
мягкий свет.
«Первым делом он нас запрет».
Они вошли. Двери закрылись. Клетка пришла в движение.
Вниз.
«Безумие, — подумала Лени. — Ничего не получится».
Ей уже чудилось, что она слышит тихое шипение газа, выходящего из невидимых
сопел.
Она закашлялась и переключилась на имплантаты, молясь невесть какому боже-
ству, чтобы Лабин не напорол в расчетах.
Не напорол. Где-то в груди началась знакомая легкая вибрация. Нутро закор-
чилось, заполнилось запасами изотонического физиологического раствора. Жид-
кость подступила к горлу, заполнила рот. Легкая тошнота сопровождала наполне-
ние среднего уха. По подбородку побежала соленая струйка, напомнив, что пора
сжать губы.
Звуки пропали, все стало слабым и далеким, кроме биения собственного серд-
ца.
И уже не хотелось дышать.
Спуск продолжался. Лабин прислонился к стене. Лицо — кровавая маска цикло-
па. Кларк ощутила теплую влагу на верхней губе — потекло из носа. Она подняла
руку, почесалась, плотно загнав в ноздрю левую затычку.
Тело вдруг запело изнутри, кости дрожали басовыми струнами. Рвота подступи-
ла к горлу, кишки свело.
«Два наиболее вероятных варианта, — прикидывал Лабин, — газ и инфразвук».
Она не знала, имелся ли в арсенале Дежардена газ, — вполне возможно, им уже
был насыщен воздух вокруг. Но что кабина превратилась в некое подобие мегафо-
на — никаких сомнений: звуковая тарелка, наверное, размещалась или в потолке,
или в полу кабины. Стены фокусировали колебания, выстраивая резонанс внутри
клетки. Звук создаст невыносимые пульсации в легких и в среднем ухе, в сину-
сах и трахеях.
Кларк затошнило, несмотря на заполненные водой дыхательные пути: страшно
подумать, как бы это подействовало на ничем не укрепленную плоть. Имплантаты
не влияли на кишечные газы — давление морских глубин сжимало эти полости без
всякого вреда — и акустические атаки обычно настраивались на более жесткие и
предсказуемые воздушные камеры. И все же мегафон Дежардена что-то с ними де-
лал. Лени едва сдерживала рвоту, которая расплескала бы раствор по всему лиф-
ту, и боялась обделаться прямо в гидрокостюм. Любой сухопутник уже валялся бы
на полу, блевал в собственных испражнениях — или потерял бы сознание. Кларк
зажала себя с обоих концов и держалась.
Лифт остановился, свет погас.
«Он знает, — думала Кларк. — Вычислил, конечно же, вычислил. Как мы могли
надеяться, что он не поймет. Разве Ахилл мог не заметить?»
Вот сейчас кабина снова дернется, потащит их по забитой ловушками руине в
шестьдесят пять этажей, а те превратят Лени и Кена в...
Голова прояснилась. Кости больше не звенели, кишки встали на место.
— Ну вот, ребята, — прозвучал в залитых ушах Кларк тонкий и такой далекий
голос Дежардена, — конечная остановка.
Двери разошлись.
Оазис светящихся механизмов на огромной темной равнине. Невооруженный глаз,
возможно, увидел бы здесь Второе Пришествие, христоподобную фигуру, омытую
светом и технологией среди бесконечной пустоты.
Для Кларк темноты не существовало. Пустыней была переделанная подземная
парковка: серый подвал, протянувшийся на половину городского квартала. Ровные
ряды опорных колонн отделяли пол от полтолка. Из стен торчали трубы и свето-
воды, обвивали опоры паутиной виноградных лоз. Кабели сходились в толстый хо-
бот, а тот змеился по полу до подковообразного пульта управления, освещенного
химическими лампами-полосками.
И Христос этот был знаком Лени. Впервые она столкнулась с ним в темноте ку-
да глубже здешней. Тогда он был пленником Лабина. Тогда Ахилл Дежарден ждал
смерти.
Тогда его было куда проще просчитать.
Запекшаяся кровь на губах у Лабина потрескалась. Грудь задышала. Кларк от-
ключила имплантаты. Выдернула затычки из носа, не дожидаясь, пока окончатель-
но схлынет вода. Из центра высокотехнологичной подковы на них смотрел Дежар-
ден.
— Я думал, что мог расплатиться, — сказал он.
Странно, жутко, но Лени было приятно вновь его увидеть.
— За то, что был монстром, — пояснил он, словно его кто-то спрашивал. —
Знаете, почему я вступил в Патруль?
Себя я изменить не мог, но думал, что, если помогу спасти мир, может, это
как-то меня оправдает. — Его губы сложились в горестную улыбку. — Глупо, да?
Смотрите, до чего это меня довело.
— Всех довело, — сказал Лабин.
Дежарден перестал улыбаться. На его глазах не было линз, но они вдруг стали
непроницаемыми, как у рифтера.
«Пожалуйста, — думала Кларк, — пусть это будет чудовищная, глупая ошибка.
Скажи нам, что мы в чем-то ошиблись. Пожалуйста, докажи, что мы неправы».
— Я знаю, зачем ты здесь, — сказал он, глядя на Лабина.
— Однако ты нас впустил, — заметил тот.
— Ну, я надеялся получить несколько большее преимущество, но уж как есть.
Славный фокус с имплантатами, кстати говоря. Я и не думал, что они действуют
при незапечатанных гидрокостюмах. Довольно глупая ошибка для Ахилла — Велико-
го распознавателя образов, не находите? — Он пожал плечами. — Голова в по-
следнее время была другим занята.
— Ты нас впустил, — повторил Лабин.
Дежарден кивнул:
— Да. Кстати, дальше не надо.
Они остановились в четырех метрах от его крепости.
— Хочешь, чтоб мы тебя убили? — спросила Лени. — Так?
— Рифтер как орудие самоубийства, а? — Он тихо фыркнул. — Пожалуй, в этом
была бы некая поэзия. Но нет.
— Тогда зачем?
Он склонил голову набок, сделавшись похожим на восьмилетнего мальчика.
— Это ведь ты провернула фокус с родственным отбором у моих «Лени»?
Кларк кивнула и сглотнула, поняв: «Это тоже он. Значит, Ахилл все-таки ви-
новен ...»
— Так я и думал, — признался Дежарден. — Эта мысль могла прийти в голову
только тому, кто знал об их происхождении. Таких не много осталось. И шутка в
том, что это легко сделать, а вот исправить очень трудно. — Он с надеждой об-
ратился к Лабину: — Но ты сказал, что знаешь способ...
Лабин оскалил окровавленные зубы:
— Я солгал.
— Ага. . . Это я тоже вроде как вычислил, — пожал плечами Дежарден. — Стало
быть, осталось обсудить только один вопрос, так?
Кларк покачала головой.
— что ТЬ1? т т
Лабин рядом с ней напрягся. Взгляд Дежардена мигнул всего на долю секунды:
поверхность ближайшей стены заискрила и осветилась. Изображение на умной
краске было нечетким, но узнаваемым: сонарная модель.
— Это «Атлантида», — выпалила Кларк и вдруг засомневалась.
— Вижу, — сказал Лабин.
— Конечно, не в реальном времени, — пояснил правонарушитель. — Краска реа-
гирует чертовски медленно, а из-за расстояния и маскировки снимок я делаю
лишь изредка. Но вы поняли.
Лабин стоял, не двигаясь.
— Лжешь.
— Маленький совет, Кен. Знаешь, твои люди иногда уходят на глубину и блуж-
дают там в темноте. Не следовало позволять им пользоваться «кальмарами». Ни-
когда не знаешь, куда доходит сигнал передатчика.
— Нет, — Кларк покачала головой. — Ты? Это ты был внизу?
«Не Грейс и не Седжер. Не корпы и не рифтеры, даже не почитатели Мадонны и
не два паршивца на лодке. А ты. И больше никто».
— Не могу претендовать на все заслуги, — признался Дежарден. — С модифика-
цией Бетагемота мне помогла Элис.
— Надо думать, против воли, — сказал Лабин.
«О, Ахилл. Был лишь один шанс поправить все, что я натворила, а ты его за-
порол . Один шанс на примирение, а ты угрожаешь всему, что я знаю. Одна парши-
вая, хиленькая надежда, а ты... Как ты смеешь? Как же ты смеешь?»
Исчезла тонкая последняя соломинка. Кларк шагнула вперед. Лабин протянул
искалеченную руку и перехватил ее.
Дежарден на Лени даже не взглянул:
— Я не идиот, Кен. Вы — не основные силы атаки, вы — просто все, что уда-
лось наскрести в срочном порядке. Но ты тоже не идиот, значит, подкрепление
на подходе. — Он поднял ладонь, предваряя возражения. — Ничего, Кен. Я знал,
что рано или поздно это случится, и принял все необходимые меры. Хотя, благо-
даря тебе, вынужден обратиться к орудиям главного калибра без церемоний.
Его глаза чуть провернулись в глазницах, пальцы дрогнули. Кларк вспомнила
Рикеттса, умаслившего «Вакиту» подмигиванием и взглядом.
Картинка на стене распалась, на ее месте появились числа.
— А вот с этими ребятами у меня контакт в реальном времени. Видишь их, Кен?
Канал 6?
Лабин кивнул.
— Значит, знаешь, кто это.
Кларк тоже знала. Четыре точки координат: широта и долгота. Показатели глу-
бины от нулевого уровня. Системы прицеливания. Ряд светящихся иконок, указы-
вающих на цель.
— Мне этого не хотелось бы, — сказал Дежарден. — Я, как-никак, собирался
поселиться там после отставки.
Я не думал их взрывать, так, слегка стреножить. Смазать дорожку, так ска-
зать . Но если мне все равно умирать...
Кларк дернулась в хватке Лабина. Но даже искалеченная, его рука держала
твердо: сомкнулась на плече гранитными клещами, маслянистыми от коагулянта.
Она могла лишь вертеться в его хватке, но не вырваться.
— Правда, есть и другие варианты, — продолжал правонарушитель. — Коттеджи-
ки, виллы на крайний случай. Я мог бы выбрать один из них. — Он поднял руку к
показателям телеметрии. — Для вас это значит много больше, чем для меня.
«Он же все спланировал много лет назад, — поняла Кларк. — Даже когда мы ду-
мали, что он нам помогает. А потом мы забились в темную нору, как крольчата,
и постепенно исчезала связь, пропадали контакты, и все это был он. Ахилл от-
резал нас и дезинфицировал станцию от нежелательных жильцов, когда удача ис-
сякла , и ему понадобилось укрытие».
— Какая же ты мразь, — прошептала она, собираясь с силами.
Дежарден на нее не смотрел.
— Так, когда же прибудет кавалерия, Кен? Как ты их вызвал? Много ли они
знают?
— Я скажу, — сказал Лабин, — и ты откажешься от атаки.
— Нет, Кен, это ты откажешься от атаки. Используешь свой хитрый пароль,
чтобы отключить автопилот субмарины или убедить Хельсинки, что они ошиблись,
— словом, все, что понадобится.
— А ты все равно взорвешь «Атлантиду».
— Зачем? Я же говорю, есть другие варианты. Зачем тратить впустую идеальных
заложников? Живыми они стоят гораздо больше.
— Пока.
— Кроме «пока» у нас ничего нет, дружок.
Взгляд Кларк метался от человека, который хотел ее убить, к человеку, кото-
рый рисковал жизнью, чтобы ему помешать.
«За каждый час, проведенный тобой в этой цитадели, ты убивал столько наро-
да, сколько не жило на „Атлантиде" даже в лучшие времена, — подумала она. — И
я убью еще больше, если оставлю тебя здесь».
А Кен готовился заключить сделку.
Она видела это в его осанке, в изуродованном слепом лице, которое было с
ней рядом вот уже столько лет. Он не был загадочным или непроницаемым. Не для
нее. Даже теперь.
— Я тебя знаю, Кен, — говорил Дежарден. — Мы давно знакомы — ты и я. Мы —
братья по духу. Мы устанавливаем собственные правила и, видит бог, мы их со-
блюдаем. Люди не важны. Целые популяции тоже. Важны правила, верно, Кен? Важ-
на миссия.
— Если ты не пойдешь на сделку, миссия провалится.
— Кен... — прошептала она.
— Но ты можешь их спасти, — продолжал правонарушитель. — Ты потому и при-
шел, да? Отдай все пароли и задание выполнено. Ты уходишь, я отзываю атаку и,
прежде чем исчезнуть, даже отдам тебе противоядие от того мерзкого штамма Бе-
тагемота, с которым борются твои дружки. Как я понимаю, многим из них основа-
тельно досталось.
Кларк вспомнила парящую машину, вещавшую его голосом: «Если убийство десяти
спасет сотню, это нормально». Она вспомнила Патрицию Роуэн, женщину, искоре-
женную внутри, но для мира всегда холодную и непоколебимую: «Я служила Общему
Благу».
— Или, — продолжал Дежарден, — можешь попытаться меня убрать — и убить
всех, кого собирался спасти. — Он сцепился с Лабином взглядом. Казалось, у
них на двоих одна карманная вселенная, в которой Кларк не существует. — Выби-
рай. Только быстрее — ваши модификанты, новые «Лени», уже везде, и я не знаю,
смогу ли удержать контроль над этими цепями.
Кларк подумала, как бы поступила Патриция Роуэн, столкнувшись с таким выбо-
ром. Подумала о миллионах погибших, которые остались бы в живых, если бы
умерла она.
Вспомнила Кена Лабина миллион лет назад: «А разве есть что-то такое, чего
ты не сделаешь ради возможности вернуть все назад?»
— Нет, — тихо сказала она.
Дежарден поднял бровь и, — наконец — снизошел до нее:
— Я говорил не с тобой. Но, будь я Лени Кларк... — он улыбнулся, — я бы не
стал делать вид, будто мне не плевать на весь мир. Бесстыдства не хватило бы.
Она извернулась в руке Лабина и лягнула его изо всех сил. Сапог глубоко во-
шел в рану на бедре рифтера. Кен отшатнулся и вскрикнул.
А Кларк, освободившись, рванулась вперед.
Она бросилась прямо на Дежардена.
«Он не рискнет, — твердила она себе. — У него только один козырь, он — по-
койник , если нажмет кнопку, он же понимает, что...»
Глаза Дежардена метнулись влево, пальцы дернулись. И тоненькая ниточка со-
мнения расцвела ужасом, когда числа на стене стали меняться...
«Ожидание» трансформировалось в совершенно другое слово: снова, снова и
снова оно мерцало у нижнего края экрана. Кларк отчаянно старалась не читать
от какой-то отчаянной инфантильной надежды — «может, если я не увижу, этого
не случится, может, еще есть время», — но все увидела, против воли увидела
надпись, данную в четырехкратном увеличении, полную остановку, а потом стена
потемнела.
«Исполнено».
На следующем шаге она споткнулась.
Что-то загудело в голове. Кости пели от слабого разряда. Ноги подогнулись,
руки повисли под собственной тяжестью. Она больно ударилась черепом о пульт и
еще раз — об пол. Легкие сплющились, выдохнув весь воздух — Лени пыталась за-
держать дыхание, но челюсть вдруг отвисла, по щеке побежала слюна. Опорожнил-
ся мочевой пузырь. Имплантаты в груди щелкали и потрескивали.
— По-моему, тебе должна понравиться такая симметрия, — заметил голос отку-
да-то с края вселенной. — Высшая жертва, а? Величайшая жертва — и самая могу-
щественная женщина в мире падает, сворачивается в тугой клубочек. А я. . . у
меня еще осталась пара дел, где надо сказать последнее слово.
Она не чувствовала биения сердца. Из глубин черепа взметнулась тьма, вихрем
пронеслась перед глазами...
— Какой шикарный миф выходит, вот что я скажу, — продолжил далекий, еле
слышный голос. — Мы непременно должны были сойтись...
Она не понимала, о чем он говорит. Ей было все равно. В ее мире не осталось
ничего, кроме шума и хаоса, в голове ничего, кроме исполнено, исполнено, ис-
полнено . . .
«Они даже не знают, что мертвы, — думала она. — Торпеды еще не добрались до
„Атлантиды". У них осталось всего несколько минут, но они проживут дольше ме-
ня».
Рука сомкнулась на лодыжке: кто-то потащил Лени по полу.
«Прощай, Джелейн. Прощай, Аврил. Прощай, Дейл, Абра и Ханнук...»
Тяжелое жадное дыхание где-то рядом. Ощущение от какой-то далекой, расши-
ряющейся плоти.
«Прощай, Кевин. Прощай, Грейс. Прости, что мы так и не смогли сработать-
ся ...»
Пульс. У нее есть пульс.
«Прощай, Джерри. Прощай, Пат, — еще раз прощай...»
Голоса. Где-то загорается свет. Везде.
«Прощай, Алике. О, господи, как мне жаль, Алике».
— Прощай, мир.
Но этот голос уже не в голове, а в реальном мире.
Кларк открыла глаза.
— Ты знаешь, я не шучу, — говорил Дежарден.
Лабин умудрился остаться на ногах, склонившись в левую сторону. Он стоял у
самого края светового пятна, а Дежарден — внутри. Они сошлись по разные сто-
роны пульта, доходившего им до пояса.
Кен, наверное, выдернул ее из нейроиндукционного поля. Снова спас ей жизнь.
Недурно для слепого психопата. Теперь он обратил невидящие глаза к врагу,
протянул руку — возможно, нащупывал край поля.
— Целеустремленная сучка. Отдаю ей должное, — сказал Дежарден. — Готова по-
жертвовать горсткой знакомых ради целой планеты незнакомцев. Я думал, она
слишком гуманна для такого рационального подхода. — Он покачал головой. — Но
все это теряет смысл, если мир все равно взорвется, так? То есть все эти бег-
лецы на хребте сейчас умрут — прошу прощения, уже умерли — и за что? В их ги-
бели смысл появится только в одном случае — если вы развернетесь и уберетесь
восвояси.
«Их больше нет, — подумала Кларк, — я всех убила...»
— Кен, ты же знаешь, сколько здесь болтается боевых спутников. И знаешь,
что в некоторые я сумел пробиться. А сколько еще хранилищ химического и био-
логического оружия, его клепали сотню лет. Все проводки от них тянутся прямо
к моему левому желудочку, дружище. Лени лучше помолиться духу этой тупой эн-
тропии, что она меня не убила, не то с небес бы уже пролились огонь и сера.
Кларк пыталась шевельнуться. Сведенные мышцы гудели, она едва сумела под-
нять руку. Она попала не в обычное поле медотеека. Такой мощью обычно подав-
ляли мятежи. В промышленных масштабах.
Лабин все молчал.
Он покачнулся влево, явно взвесив свой шаг и все так же выставив перед со-
бой руку.
— Каналы с седьмого по девятнадцатый, — сообщил ему Дежарден. — Проверь
сам. Видишь рубильники? Видишь, куда ведут? У меня было пять лет на подготов-
ку , Кен. Убив меня, ты убьешь миллиарды людей.
— Я. . . подозреваю, что часть этих растяжек уже висит свободно, — голос у
Кена был тихим и напряженным.
— Ты что, надеешься на ваших стайных «Лени»? Они не пробьются на линии, по-
ка те открыты. А если и пробьются, что из того? Они — это она, Кен. Концен-
трированная сущность Лени Кларк на пике формы. И когда они сомкнут зубы на
растяжке, то сразу потянут ее сами. Неужели ты в этом сомневаешься?
Лабин чуть склонил голову набок, как будто услышал какой-то интересный
звук.
— Сделка-то хорошая, Кен. Все в силе. Принимай условия. Тебе все равно не
просто будет меня убить. То есть я знаю, ты парень крутой, но двигательные
нервы у тебя такие же, как у всех. И, хотя мне неловко об этом напоминать, ты
слепой.
Ледяная игла предчувствия пронзила Кларк: «Ахилл, идиот, ты что творишь? Ты
что, не читал его досье?»
Послышался голос Лабина:
— Так зачем ты предлагаешь мне сделку?
— Потому что ты и вправду крутой парень. Ты меня и по запаху найдешь, если
придется, и пусть у тебя сейчас выдался крайне неудачный день, я предпочитаю
не рисковать.
«Ты же говоришь с Кеном Лабином! — бушевала про себя Кларк, запертая в
мертвом теле. — Ты всерьез пытаешься ему угрожать?»
— Итак, мы исчезаем, ты исчезаешь, и мир получает передышку. — Кен то попа-
дал в фокус зрения, то уходил из него. — Пока тебя не убьет кто-нибудь дру-
гой.
Кларк хотела заговорить, но получился только стон, едва слышный ей самой.
«Это вовсе не угроза...»
— Ты исчезаешь, — поправил Дежарден. — А Лени оставляешь мне. Я для нее
кое-что приготовил.
«Это приманка!»
— Ты исходишь из ложной предпосылки, — заметил Лабин.
— Да ну? Из какой же?
— Что мне не наплевать.
Кларк успела заметить, как вздулись мышцы левой ноги Лабина, как по правой
побежал свежий ручеек крови. Он вдруг взлетел в воздух, пробил поле и пере-
махнул пульт из невозможной стартовой позиции — прямой стойки. Он лавиной об-
рушился на Дежардена, сила инерции отшвырнула обоих за панель, и больше Кларк
ничего не видела, слышала только звук от падения тел.
Наступила тишина.
Она лежала, чувствуя звон в парализованных мышцах, и гадала, за кого бо-
леть . Если Лабину не хватило инерции, и он не вышел из поля, то сейчас умира-
ет, а вытащить его некому. А если и пробился, то какое-то время будет беспо-
мощен . У Дежардена есть шанс, если только его не оглушило при ударе.
«Ахилл, убийца. Психопат, маньяк. Гнусный мерзкий монстр. Ты хуже, чем я.
На тебя никакого ада не хватит. Но выбирайся отсюда. Пожалуйста! Пока он тебя
не убил».
Что-то забулькало. Потом как будто ногти заскребли по пластику или по ме-
таллу. Мясистый шлепок, словно кто-то бросил на палубу дохлую рыбу — или за-
двигалась парализованная на время конечность. Потом звуки борьбы. Недолго.
«Кен, не надо!»
Она собрала все силы в один отчаянный крик:
— Нет!
Донесся лишь еле слышный шепот.
По ту сторону баррикады раздался какой-то влажный хруст — и больше ничего.
«Господи, Кен. Ты понимаешь, что наделал?
Конечно, понимаешь. И всегда понимал. Мы могли всех спасти, все исправить,
но все они были правы. Пат. Алике. Ты — чудовище. Ты — чудовище. Ты всех по-
губил .
Будь ты проклят».
Она уставилась в потолок — из-под линз текли слезы — и стала ждать конца
света.
Она, наверно, уже могла пошевелиться, только не видела смысла. Перекатилась
на бок. Он сидел рядом, скрестив ноги, с непроницаемым, залитым кровью лицом.
Походил на первобытного резного идола, омытого человеческими жертвоприноше-
ниями.
— Долго еще? — просипела Кларк.
— Что долго?
— Уже началось? Анклавы горят? Бомбы падают? Тебе достаточно? Хоть возбу-
дился, урод?
— А, ты об этом? — Лабин пожал плечами. — Он блефовал.
— Что? — Она приподнялась на локте. — Но... растяжки, рубильники — он же
тебе показал...
— Фальшивка.
— И ты разглядел?
— Нет. Сделано было вполне убедительно.
— Как же тогда...
— Ему не было смысла это делать.
— Кен, он уничтожил «Атлант. . .», — внезапный, невозможный луч надежды. —
Или это тоже блеф?..
— Нет, — тихо сказал Лабин.
Она снова обмякла, взмолившись: «Пусть это будет сон».
— Он уничтожил «Атлантиду», потому что были другие варианты отступления.
Когда выполняешь малую угрозу, это придает убедительности большой. — Человек,
лишенный совести, пожал плечами. — Но мертвецу отступать некуда. Нет смысла
жать на кнопку, когда не можешь добиться цели.
— Он мог бы, легко. Я бы так и сделала.
— Ты мстительная. Дежарден мстительным не был. Его больше волновали собст-
венные желания. — Лабин слабо улыбнулся. — В сущности, необыкновенно просве-
щенный подход. Большинство людей заточены под месть на физическом уровне. Мо-
жет, его и от этого освободил Спартак.
— Но он же мог всех убить.
— Да, иначе угроза не была бы правдоподобной.
— Так откуда ты знал?
— Машину Судного дня не так просто собрать. Ушло бы много времени и сил, а
отдачи никакой. Логическая альтернатива — подделать ее.
— Это не объяснение, Кен. Попробуй другое.
— Я как-то подверг Ахилла допросу Ганцфельда1. И кое-что понял.. .
Он покачал головой.
Помолчал немного. И, наконец:
— Мы оба слезли с поводка.
— Я думала, ты смастерил себе новый. Твои правила...
— Все равно. Я знаю, что он чувствовал.
Лабин расправил ноги — бережно-бережно — и медленно поднялся.
— И ты знал, что он сделает? — Голос получился какой-то умоляющий.
Кажется, он глянул на нее сверху вниз.
— Лени, я всю свою жизнь никогда и ничего не знал. Только рассматривал ве-
роятности .
Она хотела услышать другое. Хотела, чтобы он рассказал какие приметы, какие
промахи в спектакле Дежардена убедили его, что худшего не случится. Что был
1 Эффект ганцфельда (от нем. «полное поле»), или перцептивная депривация, — феномен
восприятия, вызванный нахождением человека в однородном и бесструктурном зрительном
и слуховом окружении. Эффект возникает, когда мозг использует белый шум, чтобы до-
полнить зрительную картину ощущений при нехватке визуальной информации. Белый шум
интерпретируется верхней зрительной корой головного мозга, что порождает галлюцина-
ции.
какой-то канал достоверной информации, идущий от пустого гнезда, по какому-то
невероятному стечению обстоятельств отключенному от оптоволокна. Все что
угодно, но только не рассказ об азартной игре, построенной на эмпатии двух
мужчин без совести.
Ей подумалось, не разочарован ли он тем, что Дежарден, в конце концов, все
выдумал. И в самом ли деле Кен этого ожидал.
— Чем ты так расстроена? — спросил Лабин, почувствовав то, чего не видел. —
Мы же только что спасли мир.
Она покачала головой:
— Ахилл все равно проиграл бы. И знал это лучше нас.
— Ну, мы заметно опередили график. Спасли миллионы жизней.
«Сколько миллионов? — подумала она и сразу: — А какая разница?» Разве спа-
сение двенадцати миллионов могло сравниться с убийством десяти миллионов в
прошлом? Как могла Мадонна Разрушения, пропитанная, сочащаяся чужой кровью,
преобразиться в Святую Лени в Черном — спасительницу двух миллионов нетто?
Неужели алгебра вины настолько элементарна?
Для Кларк такого вопроса не существовало. Все спасенные сегодня просто из-
бежали судьбы, на которую Лени когда-то их обрекла. Дебет и кредит по этому
счету не сойдутся. Никогда.
— По крайней мере, — сказала она, — долг не увеличится.
— Слишком пессимистичный взгляд, — заметил Лабин.
Она посмотрела на него:
— Как ты можешь так говорить? — Кларк едва слышала собственный голос. — Все
умерли...
Он покачал головой:
— Почти все. У остальных появился еще один шанс. Кен протянул ей руку. Глу-
пый жест, где-то на грани фарса: изорванный, изломанный монстр в крови и сли-
зи еще и предлагает помощь другим. Лени долго смотрела на протянутую руку,
прежде чем нашла в себе силы ее принять.
«Еще один шанс, — подумала она. — Хотя мы его не заслуживаем».
ЭПИЛОГ
Сингулярная
матрица Гессе1
Единый результат получить невозможно. Доверительные пределы превышены.
Дальнейший прогноз ненадежен.
1
Сингулярная матрица — такая матрица, между строками которой (а также между столб-
цами) существует линейная зависимость; определитель такой матрицы равен нулю. Если
матрица является сингулярной, и ее определитель равен нулю, решаемая система уравне-
ний является вырожденной и однозначное решение для нее отсутствует. Понятие вырож-
денной системы линейных уравнений означает, что фактически сама система является не-
достаточно определенной для решения, поскольку некоторые уравнения, входящие в такую
систему, представляются линейной комбинацией других уравнений. Тогда существует либо
бесконечное множество решений, либо не существует ни одного.
Разное
%
%
Ф
%
^ Л
л +
\ /
ПРОТОЧНАЯ ЦИТОФЛУОРИМЕТРИЯ
Вирясова Г.
Проточная цитофлуориметрия — необычайно функциональный метод,
который позволяет разносторонне анализировать различные популя-
ции клеток, причем не «в среднем», а каждую клетку в отдельно-
сти. Метод разработали еще в середине 20 века, а ныне его ис-
пользуют не только ученые, но и врачи-клиницисты. Несмотря на
то, что проточную цитофлуориметрию нельзя назвать простой, она
становится всё более и более популярной.
Основная идея проточной цитометрии — «поштучный» анализ клеток в потоке,
проходящий с большой скоростью. Представьте себе суспензию клеток, которую
необходимо изучить: это может быть кровь или ее фракции, отдельные популяции
лимфоцитов или даже потенциально раковые клетки. Если это клеточная линия, то
задача достаточно тривиальная — вы можете считать, что суспензия однородная,
то есть все клетки одинаковые просто по определению клеточной культуры. Но
что, если вам нужно изучить неоднородную суспензию — например, в вашей кле-
точной линии наблюдается самопроизвольная дифференцировка? Или же вы хотите
исследовать биологические жидкости (например, кровь), где находится несколько
(или даже много) типов клеток? А что, если вам нужно отличить раковые клетки
от здоровых?
Особенно важно, что иногда отличить разные клетки при помощи микроскопии не
представляется возможным: в микроскоп они просто-напросто выглядят одинаково.
А ведь нам зачастую нужно не просто отличить одни клетки от других, но и про-
анализировать те или иные их параметры: выживаемость, экспрессию белков, це-
лостность ДНК и многое другое.
В этом случае на помощь и придет проточная цитометрия. Ее физические прин-
ципы весьма просты. Суспензия клеток, предварительно помеченных светящимися
молекулами (флуорохромами), помещается в поток жидкости, пропускаемый через
проточную ячейку. Получается как бы «поток в потоке», что порождает эффект
гидродинамического фокусирования: исследуемые клетки выстраиваются в цепочку
и в таком порядке пересекают пучок световых (обычно лазерных) лучей, служащих
для анализа каждой отдельно взятой клетки.
Свет, исходящий от флуорохромов, фокусируют при помощи оптической системы,
состоящей из нескольких зеркал и линз, а затем раскладывают на определенные
компоненты. Полученные световые сигналы преобразуют в электрические импульсы
и анализируют при помощи специального программного обеспечения.
Таким образом, результат цитометрического анализа — определение состояния
каждой клетки в каждой из популяций образца. Всего за несколько десятков се-
кунд сквозь проточную ячейку проходят тысячи клеток, позволяя исследователю
сделать вывод о составе и характеристиках клеточной суспензии. Также при по-
мощи проточного цитометра можно определить абсолютное число клеток в иссле-
дуемом образце с использованием калибровочных счетных микросфер или волюмет-
рическим методом — прекрасная, хоть и дорогая, альтернатива камере Горяева!
Проточная цитометрия является достаточно мощным методом с массой уникальных
достоинств:
■ быстрый анализ (до 30 000 событий в секунду);
■ анализ большого количества клеток (до 106-108 клеток в образце);
■ количественное измерение интенсивности флуоресценции;
■ получение данных для каждой конкретной клетки;
■ одновременный анализ разных процессов;
■ разделение популяций, а значит, возможность анализировать происходящее
только в минорной популяции, не проводя для этого дополнительных операций
для ее выделения или концентрирования;
■ удобная работа с данными — аккуратная статистическая обработка, качествен-
ная визуализация.
История
Метод проточной цитометрии возник на основе опытов по подсчету числа и из-
мерению размеров частиц, проведенных еще в эпоху Второй мировой войны (рис.
1). Первая публикация о возможности подсчета бактерий в капилляре при помощи
фотоэлектрических эффектов появилась в 1934 году. За военные и послевоенные
годы на основании этого метода разработали счетчик микроорганизмов в аэрозо-
лях, чтобы ускорить идентификацию бактерий и спор в воздухе при использовании
биологического оружия. Поток воздуха проходил через освещенное поле в камере
анализа, где в качестве источника света использовали лампу от фары автомобиля
Ford, а также были установлены детектор с фотоумножителем.
Вторая актуальная практическая задача — подсчет и разделение клеток крови —
повлекла за собой дальнейшее развитие технологии, и в 1954 году вышел счетчик
клеток Coulter Counter Model А (рис. 1), получивший широкое применение в кли-
нической гематологии.
Первый проточный цитометр, использующий флуоресценцию (1СР11), сконструиро-
вал в 1968 году Вольфганг Гёде (Wolfgang Gohde) в университете германского
города Мюнстера. Уже год спустя прибор был выпущен на рынок немецкой компани-
ей Partec. Однако в то время методы, основанные на абсорбции, пользовались
гораздо большей популярностью, чем применение флуоресцентных меток. Первона-
чально проточную цитометрию назвали импульсной цитофотометрией. За следующие
10 лет вышло еще несколько коммерческих моделей цитометров: Cytoflourograph
(1971) от Bio/Physics Systems Inc, PAS 8000 (1973) от Partec, FACS (1974) от
Becton Dickinson, ICP 22 (1975) от Partec/Phywe и Epics от Coulter (1977-
1978). Эти приборы уже обладали способностью измерять интенсивность
флуоресценции при двух и более длинах волн и определять сразу несколько
параметров клеток. В 1978 году на конференции Американского инженерно-техни-
ческого фонда предложили назвать метод проточной цитометриеи. Это название
приобрело популярность и используется до сих пор.
Рис. 1. Coulter Counter Model A.
Сейчас выпускают два основных типа приборов для проточной цитометрии:
■ простые в использовании аппараты, которые могут измерять флуоресценцию при
двух и более длинах волн и светорассеяние под углом около 10° (малоугловое
прямое рассеяние) и 90°;
■ большие клеточные сортеры, которые не только измеряют пять и более клеточ-
ных или ядерных параметров, но и автоматически сортируют частицы с задан-
ным набором этих параметров по отдельным фракциям.
Основные
принципы
метода
Суть проточной цитометрии, пожалуй, можно изложить всего одним предложени-
ем: поток клеточной суспензии в ячейке сжимается, клетки выстраиваются в оче-
редь и проходят через лазерный луч, регистрация рассеяния от которого позво-
ляет охарактеризовать каждую клетку в потоке индивидуально. Этот процесс изо-
бражен на рис. 2.
Клетки, исследуемые цитометриеи, метят флуорохромами, поэтому лазерный луч
возбуждает вторичное свечение (флуоресценцию). Затем сигналы флуоресценции и
светорассеяния регистрируются различными детекторами (рис. 3). Информация от
детекторов используется компьютерным алгоритмом, который позволяет в нагляд-
ной форме «посчитать» клетки и разделить их на отдельные популяции, отличаю-
щиеся друг от друга по каким-то важным параметрам, интересующим исследовате-
ля.
Рис. 2. Устройство проточной ячейки цитометра. В основе любого про-
точного цитометра лежит использование системы гидродинамической фо-
кусировки либо микрокапиллярной системы. Гидродинамическим фокусиро-
ванием называется процесс, при котором суспензия клеток под давлени-
ем подается в проточную ячейку, причем образуется как бы «поток в
потоке»: поток с клетками «встраивается» внутрь потока обжимающей
жидкости. За счет разности давлений между образцом и обжимающей жид-
костью поток сужается до диаметра одной клетки, поэтому через ячейку
клетки проходят по одной, как это показано на рисунке. Далее проис-
ходит лазерное облучение клетки, меченной флуорохромом, и регистра-
ция ответного сигнала.
Блок обработки
информации
Детекторы
флуоресценции
Детекторы
бокового
светорассеяния
Детектор
малоуглового
светорассеяния
Рис. 3. Внутреннее устройство проточного цитометра. Типовая схема при-
бора с одним лазером, двумя детекторами светорассеяния (боковое и ма-
лоугловое, то есть прямое) и тремя флуоресцентными детекторами. Прин-
ципиальное устройство проточной ячейки отдельно показано на рис. 2.
В зависимости от используемых флуорохромов требуются разные длины волн для
их возбуждения и разные детекторы (фильтры) для анализа испускаемого свече-
ния. В современных приборах (рис. 4) может быть до 7 лазеров и до 30 каналов
детекции, но для большинства приложений достаточно 1-3 лазеров и 4-10 кана-
лов . Такие сложные конфигурации позволяют проводить многопараметрический ана-
лиз, когда одна клетка связана с несколькими флуорохромами с отличными друг
от друга длинами волн испускания, а нередко — и возбуждения. Это позволяет
исследовать сразу несколько свойств клеток из одной пробы, что экономит время
анализа и расход анализируемого образца.
Рис. 4. Настольный цитометр BD Fortessa X20 и его проточная ячейка.
Прямое и
боковое
светорассеяние
Проточный цитометр обладает двумя детекторами светорассеяния, позволяющими
делать выводы о размерах и структуре клеток (рис. 5):
■ Детектор прямого (малоуглового) светорассеяния (forward scatter, FS) рас-
полагается по ходу лазерного луча за проточной ячейкой. Интенсивность рас-
сеянного под малым углом света пропорциональна размеру клетки.
■ Детектор бокового светорассеяния (side scatter, SS). Внутреннее содержимое
клеток оптически неоднородно. Луч лазера, проходя сквозь клетку, много-
кратно преломляется и рассеивается во все стороны. Регистрация этого боко-
вого светорассеяния позволяет судить о сложности внутреннего строения
клетки (соотношение ядро/цитоплазма, наличие гранул, других внутриклеточ-
ных включений).
Рис. 5. Прямое и боковое светорассеяния регистрируются каждое своим
детектором, что позволяет измерить базовые параметры клеток (размер
и внутреннее строение). Детектор прямого светорассеяния находится
прямо по ходу лазерного луча за проточной ячейкой и улавливает свет,
углы рассеяния которого не превышают 9-12 градусов. Прямое светорас-
сеяние дает исследователю информацию о размере клетки. Боковое све-
торассеяние позволяет судить о наличии в клетке гранул, соотношении
ядро/цитоплазма и других параметрах — за счет того, что проходящий
сквозь клетку луч преломляется и рассеивается во все стороны.
Комбинация бокового и прямого светорассеяний позволяет судить о морфологии
клетки в целом и выделять различные популяции клеток для дальнейшего анализа.
Например, использование только двух перечисленных выше детекторов позволяет
провести первичный анализ популяций лейкоцитов с помощью диаграммы бокового-
прямого (SS—FS) светорассеяния (рис. 6).
Рис. 6. Диаграмма бокового—прямого (SS—FS) светорассеяния для сус-
пензии белых клеток крови. Лимфоциты являются самыми маленькими
клетками с круглым ядром, тогда как для нейтрофилов характерен не
только больший размер, но и полиморфоядерность, а потому на этой
диаграмме они располагаются выше и правее.
Детекторы
флуоресценции
Система для регистрации свечения флуоресцентных меток (детектор флуоресцен-
ции, канал флуоресценции) состоит из комплекса светофильтров, зеркал и фото-
умножителей, каждый из которых регистрирует излучение в определенном диапазо-
не длин волн, соответствующем измеряемому флуорохрому.
Основное преимущество цитофлуориметрии заключается в том, что клетка может
быть окрашена несколькими флуоресцентными метками одновременно, что позволяет
проводить мгновенный многопараметрический анализ. Например, из одной пробы
можно получить информацию о содержащихся в ней разных популяциях клеток, а
также для каждой популяции из пробы измерить уровень апоптоза, пролиферации,
экспрессии клеточных рецепторов и иные показатели.
Эта особенность хорошо иллюстрируется старой притчей о семи слепцах, ощупы-
вающих слона. Только сложив то, что говорил о своих впечатлениях каждый из
них, можно получить более-менее полное представление о том, как на самом деле
выглядит слон. На рис. 7 изображена схема дифференцировки Т-клеток в восемь
различных популяций и CD-маркеры, характерные для каждой из них. Проточная
цитометрия позволяет получить данные обо всех популяциях в образце Т-клеток и
выявить интересующие свойства каждой из них.
■ •
: -':','; ; ./' ■ /,''
Г; Г} ® Q
) @ ®
{?!} t^
Рис. 7. Схема дифференцировки Т-клеток в крови пациента на основании
содержания CD-маркеров. Дифференцировка Т-лимфоцитов похожа на дере-
во, каждая ветвь в котором обладает своими свойствами и своими по-
верхностными маркерами. Цитометрический анализ CD-маркеров позволяет
обнаружить ошибки дифференцировки, приводящие, например, к аномально
высокому содержанию клеток минорных популяций или, напротив, отсут-
ствию конечно дифференцированных клеток. Подобные исследования часто
применяют для оценки состояния и иммунного статуса пациента при про-
ведении химиотерапии. Результат анализа представляет собой множество
двумерных диаграмм, по виду и логике подобных тем, что изображены и
описаны на рис. 14.
Полученные с цитометра данные обрабатываются компьютером и отображаются в
виде одномерных гистограмм или дву- и трехмерных диаграмм. Анализ этих данных
позволяет определить количество клеток, отвечающих тем или иным условиям,
оценивая интенсивность флуоресценции (то есть количество того или иного мар-
кера в клетке).
Основные типы
красителей
Главное свойство красителей для проточной цитометрии — флуоресценция. Их
можно разделить на три группы по принципу связывания с клеткой или ее фраг-
ментами:
■ Низкомолекулярные флуоресцентные соединения, способные связываться с опре-
деленными компонентами клетки. Например, пропидий йодид (PI) и 7-
аминоактиномицин D (7-AAD), способные интеркалировать в ДНК, и красители
типа ZombieRed, связывающиеся с аминогруппами белков. Применяются для ана-
лиза клеточного цикла и клеточной смерти.
■ Белки, связанные с флуорохромами,— например, любые флуоресцентно меченные
антитела.
■ Флуоресцентные белки (например, знаменитый GFP, синтезирующиеся прямо в
клетке при помощи трансфекции.
Флуорохромы, используемые самостоятельно или же как метки для антител, мож-
но разделить на несколько групп в зависимости от принципа флуоресценции и их
химического состава.
Флуорохромы
Флуорохромы (флуоресцентные красители) — вещества, которые способны связы-
ваться с объектом и при освещении светом флуоресцировать, то есть поглощать
энергию света и переизлучать ее с большей длиной волны (см. рис. 8).
Известные «классические» красители — FITC (флуоресцеина изотиоцианат), РЕ
(фикоэритрин), АРС (аллофикоцианин) и РегСР (перидининхлорофилл протеин). Со-
временные коммерческие красители марки Alexa Fluor более стабильны и ярче
флуоресцируют, так как являются сульфитными производными кумарина, родамина,
флуоресцеина и т.д. Также в последние годы активно набирают популярность кра-
сители, возбуждаемые лазерами 355 и 405 нм, которые используются в новых мо-
делях цитометров (табл. 1).
Табл. 1. Наиболее популярные красители, используемые
в проточной цитометрии, и их характеристики.
Флуорофор
DyLight 405
Alexa Fluor 405
Pacific Blue
Alexa Fluor 488
FITC
DyLight 550
PE
APC
Alexa Fluor 647
DyLight 650
PerCP
Alexa Fluor 700
Цвет флуо-
ресценции
Infrared
Длина волны
возбуждения,
нм
400
401
410
495
490
562
490; 565
650
650
654
490
702
Длина волны
испускания,
нм
420
421
455
519
525
576
578
661
665
673
675
723
Относительная
яркость све-
чения
3
3
1
3
3
4
5
4
4
4
2
2
Тандемные красители
Что делать, если цитофлуориметр оснащен всего одним лазером, а эксперимен-
татору необходимо измерить три или четыре параметра с минимальным «засветом»
друг на друга? Есть хорошее решение — использовать так называемые тандемные
красители (рис. 8) : это два флуорохрома, ковалентно соединенные между собой
через «мостик» (спейсер). Когда первый краситель возбуждается и переходит в
синглетное состояние, его энергия передается на второй краситель. Это активи-
рует второй флуорохром, флуоресценцию которого и регистрирует цитометр. Этот
процесс называется флуоресцентным резонансным переносом энергии (FRET). Такие
красители разработали для увеличения количества флуоресцентных каналов, кото-
рые могут быть использованы при наличии одного возбуждающего лазера (табл.
2) .
перенос
возбуждение
А
\
в
. излучение
А
СДМГ(Т0К(А
А,
нм
Рис. 8. Тандемные красители: когда одного флуорохрома недостаточно.
Слева: упрощенная схема тандемного красителя (без спейсеров), со-
стоящего из двух молекул — донора (А) и акцептора (В). Показаны так-
же энергетические уровни возбуждения и испускания флуоресценции.
Справа: сдвиг Стокса, лежащий в основе действия тандемных красите-
лей. Благодаря этому эффекту цвет флуоресценции всегда «более крас-
ный», нежели возбуждающий свет.
Табл. 2. Тандемные красители и их основные характеристики.
РЕ-Су5 — фикоэритрин-Су5; РЕ-Су7 — фикоэритрин-Су7.
Флуорофор
РЕ-А1еха
Fluor 647
РЕ-Су5
РЕ-Су5.5
РЕ-А1еха
Fluor 750
РЕ-Су7
Цвет
флуоресценции
Infrared
Infrared
Длина волны
возбуждения, нм
496; 546
496; 546
496; 546
496; 546
496; 546
Длина волны
испускания, нм
667
667
695
779
785
Относительная
яркость свечения
4
5
4
4
2
Большинство тандемных красителей рассчитано на наиболее распространенные
лазеры с длинами волн 488 (синий) и 640 (красный) нм. Тандемные красители
применяют для многоцветного анализа, особенно в комбинации с одиночными. На-
пример, комбинация из четырех красителей — два одиночных (FITC и РЕ) и два
тандемных (PE-TexasRed и РЕ-Су7) — возбуждается одним 488-нанометровым лазе-
ром, и при этом испускает в зеленом, желтом, красном и инфракрасном каналах
соответственно, то есть позволяет проводить параллельную регистрацию четырех
различных параметров, имея всего один лазер вместо двух или даже трех. В на-
стоящее время разработаны также полимерные «квазитандемы» для лазеров 355 и
405 нм.
Флуоресцентные белки
Флуоресцентные белки, такие как знаменитый GFP (зеленый флуоресцентный бе-
лок, за исследование и применение которого вручили Нобелевскую премию по хи-
мии 2008 года), стали неотъемлемым инструментом исследований во многих науч-
ных дисциплинах. Другие флуоресцентные белки, такие как красный mCherry и
желтый YFP, также широко используются в проточной цитометрии и сортировке
клеток (табл. 3). Флуоресцентные белки генно-инженерными методами «заставля-
ют» экспрессироваться вместе с интересующим исследователя белком для оценки
успешности проведенной модификации генома. Основным цитометрическим преимуще-
ством флуоресцентных белков является то, что их можно доставлять в клетку в
форме гена (а не уже готового белка) «заодно» с другими генами, интересующими
исследователей, а это избавляет от трудоемкой задачи — «протащить» краситель
через мембрану клетки и заставить его связаться с нужной молекулой.
Табл. 3. Флуоресцентные белки и их характеристики.
Флуорофор
Цвет
флуоресценции
CFP ^^^^^^^^^Ц
EGFP
YFP
RFP
mCHERRY
Длина волны
возбуждения, нм
439
484
514
558
587
Длина волны
испускания, нм
476
509
527
583
610
Относительная
яркость свечения
2
4
5
4
3
Анионные и катионные красители
Не удивительно, что для определения внутриклеточных ионов применяют ионные
же (катионные и анионные) красители: как правило, это сложные органические
заряженные молекулы. Наличие в клетке определенных ионов (например, Са2+, С1~,
Н+, О2) приводит к изменению структуры красителя и сдвигу длины волны или из-
менению интенсивности его флуоресценции.
Пример использования катионнохю красителя — определение трансмембранного
потенциала митохондрий (АФт) (рис. 9). Это важный параметр клеточного «здоро-
вья», поскольку митохондрии являются «энергетическими станциями» клетки — ес-
ли у них что-то не в порядке, то и на всей клетке это непременно отразится.
Изменение трансмембранного потенциала также является ранним маркером апопто-
тических процессов.
Полимерные флуорохромы нового поколения
В 2000 году Нобелевскую премию присудили за проводящие органические полиме-
ры, которые нашли свое применение и в биоисследованиях. На основе этого от-
крытия были созданы полимерные флуорохромы нового поколения (например, краски
серии Brilliant Violet). Фактически, к антителам присоединили органические
полимеры, которые хорошо поглощают свет и эффективно высвечивают его в форме
флуоресценции (рис. 10). Именно совокупность этих двух параметров делает по-
лимерные флуорохромы столь удобными для применения в проточной цитометрии.
Для сравнения — коэффициент экстинкции у популярного красителя Pacific Blue в
80 раз меньше, чем у линейки Brilliant Violet.
Рис. 9. Определение трансмембранного потенциала (АФт) митохондрий с
анионным красителем JC-1 (5,5',6,6'-тетрахлоро-1,1',3,3'-тетраэтил-
бензимидазолилкарбоцианин йодид). Благодаря своим липофильным свой-
ствам молекулы JC-1 проникают через мембрану в цитоплазму клеток, а
благодаря катионным свойствам накапливаются в местах с повышенным
содержанием протонов (то есть в митохондриях), формируя скопления —
J-агрегаты (слева). Эти J-агрегаты флуоресцируют уже немного иначе,
более красным светом с длиной волны 590 нм (в центре) . Однако при
деполяризации митохондриальной мембраны — снижении АФт — J-агрегаты
вновь распадаются, и JC-1 выходит в цитоплазму с соответствующим
спектральным сдвигом. На правой части рисунка представлена двумерная
диаграмма с проточного цитометра, по осям которой — флуоресценция в
каналах FL-1 (зеленая, соответствует мономерным формам JC-1) и FL-2
(красная, J-агрегаты). Из этой диаграммы можно сделать вывод, что
около трети исследуемых клеток не содержит красителя вообще, а клет-
ки, в которых он есть, равновероятно содержат мономерную и агрегиро-
ванную формы JC-1 (тоже около 1/3). Этот факт говорит нам, что попу-
ляции апоптотических и здоровых клеток примерно равны.
Рис. 10. Принцип действия полимерных красителей. К антителу присое-
динены органические полимеры, содержащие сопряженные ароматические
фрагменты. В результате образуется я-орбитальная система, для кото-
рой характерна большая делокализация электронов. За счет этого поли-
мерные красители обладают высоким коэффициентом экстинкции (>10б
М_1см_1) и очень высоким квантовым выходом (около 65% поглощенной
энергии превращается в испускаемый свет), что объясняет привлека-
тельность их использования во флуоресцентной микроскопии и проточной
цитометрии, так как становится возможной регистрация даже очень сла-
бых сигналов.
Квантовые точки
Квантовые точки — флуоресцентные полупроводниковые нанокристаллы, весьма
перспективные для проточной цитометрии. Все дело в их уникальных особенно-
стях: узкий симметричный пик флуоресценции, широкая полоса возбуждения, высо-
кая яркость флуоресценции и уникально высокая фотостабильность (рис. 11).
Рис. 11. Квантовые точки: мельче, ярче, стабильнее. Слева: сравнение
интенсивности флуоресценции разных флуорохромов — FITC, AlexaFluor и
квантовых точек на основе нанокристаллов CdSe/ZnS. Квантовые точки
обладают необычайно высокой интенсивностью флуоресценции и временем
полураспада, которое в 135 раз больше, чем у популярного флуорохрома
AlexaFluor! Справа: трехмерная модель квантовой точки. Разноцветными
сферами изображены отдельные атомы.
Примеры
исследований
Область применения проточной цитометрии действительно обширна, потому что
этот удивительный метод позволяет в буквальном смысле найти «иголку в стоге
сена». Исследователь может за считанные минуты изучить десятки и даже сотни
тысяч клеток и обнаружить любую минорную популяцию, отвечающую заданным пара-
метрам. Самое важное, что результатом будет не «средняя температура по боль-
нице» , а данные по каждой конкретной клетке. Далее приведены список процес-
сов, которые могут быть изучены при помощи проточной цитометрии, и краткая
методологическая справка.
Апоптоз и некроз
Клетки, как и люди, покидают этот мир разными способами.
Апоптоз — это «программируемая» гибель, когда клетка, как если бы она нару-
шила самурайский кодекс чести, кончает с собой, а ее фрагменты быстро и акку-
ратно фагоцитируются («съедаются») макрофагами либо соседними клетками, минуя
развитие воспалительной реакции. Одной из основных функций апоптоза является
уничтожение дефектных (повреждённых, мутантных, инфицированных) клеток. В эм-
бриогенезе апоптоз тоже играет важную роль — например, таким образом у лягу-
шат отпадает хвост, характерный для головастиков. Известны люди, имевшие два
и более сросшихся пальцев на ногах или руках — это результат нарушений апоп-
тотических процессов при развитии плода. Анализ апоптотических популяций кле-
ток важен не только в клинических исследованиях, но и для оценки воздействия
того или иного соединения на клеточную культуру или организм, включая иссле-
дования потенциальных антираковых или противовоспалительных препаратов.
Некроз же, напротив, представляет собой «грязную смерть», при которой со-
держимое погибшей клетки «вываливается» в окружающие ткани, что приводит к
воспалительным процессам и другим нежелательным последствиям.
Однако «на первый взгляд» отличить эти процессы крайне сложно, и тут-то на
помощь и приходит проточная цитометрия. Существует несколько возможных алго-
ритмов, и для надежности рекомендуется использовать параллельно минимум два
из них.
Один из первейших признаков апоптоза — нарушение работы митохондрий, кото-
рые выбрасывают в цитоплазму проапоптотические факторы (такие как цитохром с)
и меняют свой трансмембранный потенциал (АФт). Это изменение можно зафиксиро-
вать при помощи флуоресцентных катионных красителей, что и используется как
индикатор апоптоза. Об этом мы уже рассказали выше (рис. 9);
Другим маркером раннего апоптоза являются превращение прокаспаз в каспазы,
которые, особенно каспазы 3 и 9, запускают каскад «биохимического самоубийст-
ва», и активная экспрессия белков-регуляторов (например, PARP). Цитометрия
позволяет выявить клетки, в которых это уже началось, по связыванию антител и
ингибиторов каспаз.
При апоптозе начинает распадаться ядро (образуются так называемые апоптоти-
ческие тельца), что сопровождается деградацией ядерной оболочки и фрагмента-
цией хроматина. Красители типа YO-PRO, Hoechst и PI (по отдельности или в
комбинации) проникают в клетки при нарушении целостности клеточной мембраны и
позволяют судить о наличии апоптотических и некротических клеток.
Окраску PI (йодидом пропидия) можно использовать отдельно как самостоятель-
ный метод, потому что он хорошо визуализирует характерную для апоптоза «на-
резку» ДНК на мелкие фрагменты (около 200 п.н.)— так называемую «sub-Gl фрак-
цию» .
Апоптоз затрагивает не только внутренности клетки, но и ее поверхность. В
ходе апоптоза фосфолипид фосфатидилсерин , в норме находящийся на внутренней
поверхности клеточной мембраны, мигрирует на ее наружную поверхность. Регист-
рация фосфатидилсерина при помощи белка аннексина V, конъюгированного с флуо-
рохромами, является одним из наиболее популярных методов анализа апоптоза,
особенно в комбинации с ДНК-связывающим красителем типа PI (рис. 12).
ЖИШ
КЛЕТКА
Ч1ПТТТГГГГ
о
длолтоз
tf ТГ V ft
б
поздний
АЛ0ЛТ03
ГИ lift
^у|^ pi
©
Рис. 12. Детекция апоптоза в нейтрофилах человека. Нейтрофилы обра-
ботали реагентом, стимулирующим апоптоз, а далее окрасили последова-
тельно ДНК-связывающим красителем (здесь использовали PI, но можно
взять и любой другой, интеркалирующий с ДНК) , не способным проникать
через мембрану живой клетки, и флуоресцентно-меченым белком аннекси-
ном, связывающимся с фосфатидилсерином на внешней мембране: схема-
тично процесс показан слева. Справа изображена двумерная диаграмма с
флуоресценцией аннексина и PI по осям, где мы видим три разные попу-
ляции: V — живые клетки; Ар — клетки на ранней стадии апоптоза (по-
явление фосфатидилсерина во внешнем липидном слое) ; Ap/N — на позд-
ней стадии апоптоза и во время некроза (нарушена асимметрия липидов
и целостность поверхностной мембраны клеток).
Фагоцитоз
Фагоцитоз — это захват и уничтожение чужеродных микроорганизмов или клеток.
Изучение фагоцитоза особенно актуально для иммунологов: например, нейтрофилы
способны к фагоцитозу бактерий, осуществляя тем самым неспецифический иммун-
ный ответ, и важно знать, не потеряли ли они эту способность.
Идея оценки фагоцитоза при помощи проточной цитометрии достаточно проста:
бактерии необходимо флуоресцентно пометить (например, при помощи FITC), после
чего инкубировать их с фагоцитами. Клетки, захватившие меченые бактерии, бу-
дут светиться и по результатам проточной цитометрии. Чем ярче светится фаго-
цит , тем больше бактерий ему удалось захватить. Неспецифическое связывание
бактерии с поверхностью фагоцита (без захвата) отсекается при помощи окраши-
вания трипановым синим (trypan blue). Также фагоцитоз можно наблюдать при по-
мощи световой и флуоресцентной микроскопии.
Анализ фитопланктона
Цитометрия позволяет померить не только те клетки, что внутри нас, но и те,
что населяют окружающие нас водоемы и входят в различные экологические цепоч-
ки — например, фитопланктон (рис. 13). Его количество и биомасса используются
при биологическом анализе водных сред и оценке их экологического состояния.
Проточная цитометрия приобретает большую популярность в экспресс-мониторинге
водоемов, потому что в клетках фитопланктона уже содержится какой-либо флуо-
ресцентный пигмент — например, фикоэритрин или хлорофилл.
Рис. 13. Экологический анализ водоемов: наблюдаем за фитопланктоном.
Цитометрические диаграммы позволяют разделять клетки фитопланктона
за счет различного содержания фикоэритрина и хлорофилла и, соответ-
ственно, разницы в их флуоресценции. По осям — интенсивность флуо-
ресценции в каналах FL2 (575 нм, фикоэритрин) и FL4 (695 нм, хлоро-
филл) . Слева — различные культуры фитопланктона в «контрольном» во-
доеме . Справа — эксперимент, который при сравнении с контролем пока-
зывает, что в анализируемом водоеме присутствуют не только ожидаемые
группы 1-5 (криптофиты, хлорофиты), но и несколько новых популяций:
они отмечены цифрами 6-9. Дальнейший анализ по наличию фикоцианина,
размера и сравнению с контрольными образцами микроорганизмов позво-
ляет определить конкретный состав фитопланктона с очень большой точ-
ностью .
«Перепись населения» среди клеток крови
Многие клетки — например, лимфоциты — совершенно неотличимы не только «на
глазок», но и для более тщательных методов анализа. Но, тем не менее, они вы-
полняют очень разную работу и все-таки могут быть разделены на субпопуляции —
по различным молекулам, которые они синтезируют на своей поверхности. Чаще
всего это рецепторы, называемые маркерами, и их можно распознавать при помощи
флуоресцентно меченных антител, которые уже регистрируются цитометрией.
Например, по наличию различных CD-маркеров можно провести «перепись» Т-
лимфоцитов в цельной крови, что активно применяют в клинических исследованиях
для выявления хронических инфекционных и аутоиммунных заболеваний, диагности-
ки первичных иммунодефицитов, а также оценки эффективности проводимого лече-
ния.
DN1 PN2 Ш Ш
развивающиеся Т-клетки
незрелые Т-клетки зрелые Т-клетки
Корецепторы
CD4.CD8 CD4
CD8
CD44/CD25 CD44+ CD44+
фенотип CD25- CD25+
(0<ИМ 1U%
CD44-
CD25+
CD44-
CD25-
CD44- CD44+/- CD44+/-
CD25- CD25+/- CD25V-
D/V1 9%
DN* 147.
ow т
тны й,?%
к
ш 60% т п
Рис. 14. Пример использования многоцветного цитометрического
анализа для анализа дифференцировки и жизнеспособности тимоцитов
мыши — подробная схема анализа результатов. Сверху: схема диффе-
ренцировки тимоцитов мыши, некоторые характеристики рецепторов и
типичных поверхностных маркеров. Снизу: схема анализа популяции
тимоцитов в образце.
1. Разделение тимоцитов мыши на 4 типа: по наличию или отсутствию у
них CD4 и CD8 маркеров. Принятые обозначения стадий развития Т-
клеток определяются экспрессией корецепторов: DN (от Double-
Negative, CD4-CD8-) — двойные отрицательные;DP (от Double-
Positive, CD4+CD8+) — двойные положительные;SP (от Single-
Positive, CD4+CD8- и CD4-CD8+) — одинарно положительные. Процен-
ты на рисунке — количество клеток данного типа по отношению к
общему количеству. Используемые метки: РС5.5 и РС7.
2. Разделение популяции DN-тимоцитов, которые находятся в начале
пути дифференцировки, еще на четыре субпопуляции по содержанию в
них маркеров CD25 и CD44 (см. таблицу в верхней части рисунка) :
DN1, DN2, DN3, DN4. Используемые метки: АРС и РЕ.
3. Определение для субпопуляции DN4 уровня апоптоза, составляющего
32%, по окрашиванию меченным FAM панкаспазным ингибитором (FAM-
FLICA poly caspase).
На рис. 14 изображена схема эксперимента по анализу дифференцировки тимоци-
тов мыши и приведены первичные данные с проточного цитометра по оценке попу-
ляций и апоптоза. Все Т-клетки берут начало от гемопоэтических стволовых кле-
ток красного костного мозга, которые мигрируют в тимус и дифференцируются в
незрелые тимоциты. За их дифференцировкой можно следить по экспрессии поверх-
ностных маркеров (см. рис. 7) . Несмотря на кажущуюся сложность рисунка, на
этом примере явственно прослеживается основная логика постановки любого мно-
гопараметрического измерения.
Хромосомный
анализ
Многие врожденные заболевания и аномалии вызваны нарушениями в числе (анеу-
плоидия) и структуре хромосом, выявить которые помогает в том числе и цито-
метрия (рис. 15) . Хромосомный анализ назначают при трудностях с зачатием ре-
бенка или же для подтверждения диагноза пациента. Например, можно быстро вы-
явить случаи трисомии 21-й хромосомы (когда присутствуют три, а не две копии
этой хромосомы), что является признаком синдрома Дауна. Также часто обнаружи-
вают трисомии половых хромосом, возникающие при синдромах Клайнфельтера, Эд-
вардса и Патау. Количественные аномалии аутосом (хромосом 1-22) являются при-
чиной 0,5-1% всех аномалий строения и встречаются с частотой 1:700.
Правда, существует сложность: на цитометре невозможно разделение 9-12 хро-
мосом (хотя некоторые исследователи эту проблему решают, прибегая к разным
ухищрениям).
Для получения максимально корректных результатов при цитометрическом анали-
зе хромосом, анализ проводят в клетках, находящихся в экспоненциальной фазе
роста. Клетки премеабилизуют и окрашившивают двумя ДНК-связывающими красите-
лями. Например, хромомицином A3 (САЗ) , который связывается с CG-богатыми ре-
гионами и Hoechst 33258, окрашивающим АТ-богатые части ДНК. Хромосомы разде-
ляют по количеству содержащейся ДНК и соотношению пар оснований.
Рис. 15. Кариотип здорового человека (женщины). Хромосомы окрашены
красителями Hoechst 33258 и хромомицином A3 (САЗ). Двойное окрашива-
ние необходимо, чтобы достичь лучшего разрешения данных — Hoechst
33258 связывается с AT-богатыми областями, а хромомицин A3 указывает
на GC-богатые участки. Полученные данные свидетельствуют о том, что
пациент — женщина без хромосомных аномалий.
Пролиферация и клеточный цикл
Клетки постоянно развиваются, делятся и часто превращаются в клетки других
типов. Для аккуратной работы с ними всё это необходимо принимать во внимание.
Анализ пролиферации и клеточного цикла позволяет сделать выводы о состоянии
клеточной культуры, оценить ее жизнеспособность, а также пригождается при
разработке новых соединений и оценке их «полезности» для клеток. Есть не-
сколько подходов:
■ Поскольку в процессе клеточного цикла происходит удвоение ДНК, эти измене-
ния сравнительно легко уловить в измерениях на цитометре. ДНК-связывающие
флуоресцентные красители (например, йодистый пропидий, 7-AAD) позволяют
выявить клетки в G1/G0, S и G2/M фазах клеточного цикла. Методически этот
подход не отличается от анализа subGl фракции при исследовании апоптоза.
■ Число пролиферирующих клеток можно определить по включению меченого ураци-
ла (BrdU) в ДНК в S-фазе клеточного цикла. А соответствующее свечение за-
тем можно измерить при помощи специфических к BrdU антител.
■ Активная пролиферация характеризуется повышением уровня экспрессии цикли-
нов, и это тоже можно увидеть при помощи проточной цитометрии — необходимо
иметь конъюгированные с флуорохромами моноклональные антитела к циклинам
D, Е, А или В. Для получения точных результатов рекомендуется параллельно
провести окраску красителем типа PI.
■ Для изучения динамики пролиферации клетки предварительно обрабатывают
флуоресцентным красителем, который связывается с белками цитоплазмы. После
каждого последующего митоза его содержание в дочерней клетке становится
вдвое меньше, чем в родительской. Как следствие, в два раза снижается ин-
тенсивность флуоресценции клеток (рис. 16).
Рис. 16. Анализ циклов пролиферации клеток. К клеточной культуре до-
бавлен краситель на основе эфира карбоксифлуоресцеина (CFSE), который
ковалентно связывается с белками цитоплазмы делящихся клеток. На диа-
грамме видны хорошо отделимые пики митозов — Ml, М2, . . . , М8. Каждый
следующий пик находится левее предыдущего, поскольку соответствует
вдвое снижающейся интенсивности флуоресценции при каждом митозе.
Внутриклеточные медиаторы и белки
Каждая клетка является впечатляющей по своей сложности смесью белков, нук-
леиновых кислот, метаболитов и других веществ. Проточная цитометрия позволяет
анализировать экспрессию и локализацию внутриклеточных белков, фактически за-
меняя вестерн-блоттинх1. Выше мы рассматривали определение популяций клеток по
поверхностным маркерам и анализ клеточных делений по экспрессии циклинов
внутри клетки. Эти два эксперимента можно объединить! Например, определять
количество клеток, которые не только содержат целевой белок, но и относятся к
определенной подгруппе. Грамотный подбор антител позволяет анализировать не-
сколько внутриклеточных белков за раз.
Однако анализ внутриклеточных белков трудоемок из-за пробоподготовки: клет-
ки необходимо окрасить на поверхностные маркеры, фиксировать, пермеабилизиро-
вать (изменить проницаемость клеточной мембраны, чтобы доставить первичные
антитела внутрь клетки), заблокировать неспецифическое связывание и далее
провести окрашивание флуоресцентно меченными вторичными антителами к целевому
белку.
В качестве примера можно рассмотреть анализ экспрессии фосфокиназ в клетке
(рис. 17). Фосфокиназы переносят фосфатную группу с АТФ на белок, что часто
является «активатором» передачи сигналов в биохимических каскадах, поэтому на
основе этого анализа можно изучать множество процессов: трансдукцию сигнала
внутрь клетки, наличие лейкозов и иммунодефицитов (активацию или изменение
некоторых сигнальных путей), факторы патогенности микроорганизмов.
©
Lb
©
.. \ ■ ■
'0-o ■
(ADP)
-•
У
— изотипическии контроль
неактивированные
:-.~:.i3 активированные
1
-
/\
/ v^ .^ННЬьь»— N
Рис. 17. Анализ экспрессии фосфокиназ в Т-клетках. Фосфокиназы осу-
ществляют перенос фосфатной группы с АТФ на белок, который в резуль-
тате часто оказывается «активированным». Слева — схема переноса фос-
фатной группы при помощи фосфокиназы. Справа — сравнение экспрессии
фосфокиназы (ERK 1/2) в активированных Т-клетках с контрольными Т-
клетками, а также с изотипическим контролем (неспецифическим связы-
ванием вторичных меченных антител в отсутствии первичных).
Проницаемость мембраны
Мембрана клетки — одна из главных составляющих частей живых организмов; ее
проницаемость тщательно регулируется. Для большинства веществ она непроницае-
ма, но за счет многочисленных рецепторов и каналов эта проницаемость может
выборочно меняться для конкретных веществ или в целом. Например, проницае-
мость мембраны часто служит маркером начавшихся некротических процессов. А
иногда исследователь специально «дырявит» мембрану в ходе трансфекции, чтобы
доставить генетический материал внутрь клетки. Чтобы оценить состояние мем-
браны , к клеткам необходимо добавить краситель, в норме не способный прони-
кать внутрь здоровой клетки. Обычно для этих целей применяют красители типа
7-AAD или PI (интеркалируют в ДНК) или краски типа ZombieRed (связываются с
белками) (рис. 18).
Рис. 18. Принцип действия красителей типа PI, 7-AAD и Zombie. Интер-
калирующие красители проникают внутрь клетки только в случае, если
целостность мембраны нарушена (например, это характерно для поздних
стадий апоптоза и некроза), и связываются с ДНК. Красители серии
Zombie взаимодействуют с первичными аминогруппами белков. Мембрана
живых клеток непроницаема для этих красок, поэтому они связываются
только с белками на поверхности, и сигнал при измерении на цитометре
получается слабый. Мембрана некротических клеток проницаема, поэтому
Zombie связывается и с внутриклеточными белками, что делает флуорес-
ценцию гораздо ярче.
Измерение рН
рН, или показатель кислотности, важен не только в химии, но и в биохимии. А
значит, и внутри живой клетки изменение кислотности может много о чем расска-
зать исследователю. Например, по этим изменениям можно отследить процессы пе-
редачи сигналов, начало клеточного деления и многое другое. Цитофлуориметри-
ческий анализ этого процесса заключается в использовании красителей, у кото-
рых спектр испускания зависит от рН (например, красители на основе бензоксан-
тенов, carboxy-SNARF-1): по изменению светимости нетрудно сделать выводы и об
изменении рН.
Анализ трансгенных популяций
Все мы знаем о генно-модифицированных организмах (ГМО) и широких возможно-
стях их применения. Создавая новую модификацию, исследователь должен убедить-
ся, что трансформация прошла успешно, и организм содержит новые гены. Для та-
кого контроля при создании трансгенных популяций в клетку, как правило, вво-
дят не только целевой ген, но и ген GFP. Трансгенные клетки начинают светить-
ся в «зеленом» канале, что может быть обнаружено при помощи флуоресцентного
микроскопа и проточного цитометра (который определит количественные характе-
ристики — какой процент популяции содержит GFP, какие изменения происходят с
течением времени).
Измерение РНК
У эритроцитов — красных клеток крови, лишенных ядра, — есть предшественни-
ки: ретикулоциты. Они еще содержат остатки рибонуклеиновых кислот, митохонд-
рий и других органелл, лишаясь которых, трансформируются в зрелый эритроцит.
В норме в крови всегда содержится некоторое их количество. Пониженное содер-
жание ретикулоцитов зачастую свидетельствует о нарушениях работы костного
мозга или почек, а резкое падение их количества говорит об анемии. Также к
этому приводит наличие метастазов в костном мозге. Анализ крови на содержание
ретикулоцитов обычно назначают для контроля лечения анемических состояний,
восстановления костного мозга после трансплантации и для оценки эффективности
кроветворения (рис. 19).
1 i \ !" ! ) I)
\ /
\/\ [
i/j '""'" .
0
|
; ^''трошцигл
' ■■ т" — "1 т ■ ■ ■ ■
10 DO
>
SCO
С
ю1
* Г) ^~ -'
- ——-ч
i
!
i
i
j
I
Рис. 19. Цитофлуориметрическая диагностика гематопоэтических болез-
ней на примере анализа фракции ретикулоцитов. Разделение эритроцитов
и их предшественников ретикулоцитов проводят при помощи окрашивания
содержащейся в ретикулоцитах РНК тиазолом оранжевым. На левой диа-
грамме видны тромбоциты (черные) и эритроцитарная фракция (красные).
Анализ связывания РНК с тиазолом в эритроцитарной фракции позволяет
отметить регионы с разным уровнем флуоресценции: high (H), medium
(М) и low (L), соответствующие стадиям созревания ретикулоцитов.
Цитометрически разделить эритроциты и ретикулоциты можно за счет высокого
содержания РНК в последних. Существует несколько красителей, используемых для
анализа количества РНК, но в случае с ретикулоцитами чаще всего применяется
тиазол оранжевый (thiazole orange).
Особенности
проточной
цитометрии
Всем ученым хорошо известно — во многом успех эксперимента зависит не толь-
ко от прямых рук и качественных реактивов, но и от грамотного плана работы.
Любую цитометрическую методику, прежде чем приступать к измерениям, необходи-
мо проверить и отладить именно на вашей экспериментальной модели. Пренебреже-
ние основными правилами и необходимыми контрольными измерениями очень риско-
ванно, ведь в этом случае собранные за недели упорной работы данные могут от-
правиться не в престижный журнал, а в корзину! Итак, что необходимо учесть?
Ложные результаты
К сожалению, на проточном цитометре можно получить ложноположительные или
ложноотрицательные результаты эксперимента, если забыть про два важных факта
— аутофлуоресценцию клеток и неспецифическое связывание антител.
■ Аутофлуоресценция. Некоторые клетки обладают собственной (ауто-) флуорес-
ценцией. Перед проведением любых экспериментов обязательно проверьте на
цитометре, не «светятся» ли ваши клетки, а также как выглядит проба, обра-
ботанная полностью в соответствии с планируемым протоколом, но в которую
не были добавлены красители. Если вы видите аутофлуоресценцию, необходимо
принимать за ноль именно ее!
■ Неспецифическое связывание. При использовании антител необходимо помнить,
что они могут не только распознавать целевой белок, но и неспецифически
связываться с чем-то еще. Уберечься от ошибок можно с помощью изотипиче-
ских контролей — антител, содержащих такую же Fc-часть, что и целевое ан-
титело, окрашенных той же меткой, но при этом не специфичных к целевому
белку.
Вывод: Для настройки чувствительности прибора к флуоресценции необходимо
использовать соответствующие изотипические контроли или образцы, окрашенные
по отдельности каждым антителом, калибровочные микросферы, а также не забы-
вать проверять аутофлуоресценцию образцов перед началом работы.
Контрольные измерения
В начале работы необходимо подумать об отрицательных и положительных кон-
тролях, которые вы будете использовать для определения области измерений, а
также для проверки корректной работы прибора. Предположим, вы изучаете реак-
цию клеток на ваше соединение, которое может стать новым лекарственным препа-
ратом, и хотите оценить количество апоптотических клеток в пробе. Вам потре-
буется взять (-)-контроль, в котором абсолютное большинство клеток живые.
Также пригодится (+)-контроль, где большая часть клеток находится в апоптозе
под действием любого известного апоптогенного агента. Таким образом вы сможе-
те выставить область измерения, чтобы детектировать значимые изменения.
Вывод: Критически важно правильно настроить области, изменения в которых вы
планируете наблюдать (гейты). Однако эту часть работы можно сделать и после
того, как вы измерите все пробы, поскольку программное обеспечение всех цито-
метров позволяет анализировать данные после эксперимента. Главное — сделать
пробы с правильными положительными и отрицательными контролями, чтобы было с
чем сравнивать.
Компенсация
При проведении многоцветного анализа вы неизбежно столкнетесь с тем, что
некоторые флуорохромы светят не только в своем, но и в соседних каналах (хоть
и слабее, чем в основном). Эта особенность может значительно исказить ваши
данные, если вы примете «засветку» в другой канал за значимый результат экс-
перимента (рис. 20).
В3в1ш5
lUJXujCQ.1
Р 1Mb
аов ASM4v
Ц/КХ
Рис. 20. Схема «засветки» флуорохромов в соседние каналы при исполь-
зовании прибора с 3 лазерами и 10 детекторами.
Компенсация может быть настроена автоматически (новые приборы и специальные
утилиты измеряют и рассчитывают матрицу компенсации по заданным флуорохромам)
или самостоятельно (используя образцы, связанные с каждым флуорохромом по от-
дельности и «убирая» его свечение в нецелевом канале при помощи ПО).
Для проверки результата рекомендуется использовать способ FMO (Fluorescence
Minus One) контроля, когда в пробе присутствуют все планируемые флуорохромы
кроме одного (рис. 21).
Рис. 21. Принцип FMO (Fluorescence Minus One) контроля. Предположим,
что мы хотим проанализировать Т-клетки одновременно на три поверхно-
стных маркера: два типа CD45 (R0 и RA формы) и CD4. У нас есть к ним
антитела с метками, которые указаны в табличке. На двумерной диа-
грамме PE-F1TC слева изображены полностью неокрашенные клетки; крас-
ная линия соответствует «базовому» уровню — нулю). В центре пред-
ставлена диаграмма для случая, когда добавлены два красителя из
трех: CD45RO и CD4, имеющие небольшую засветку в РЕ-канал. Таким об-
разом, клетки, содержащие CD45RA-MapKep, должны оказаться выше жел-
той линии. Справа — диаграмма для клеток, обработанных антителами
уже ко всем исследуемым маркерам, подтверждающая, что результатам
можно будет верить! Но сначала аналогичным образом необходимо будет
выполнить FMO-проверку и для двух других меток.
Вывод: Самое важное в многоцветном анализе — настройка компенсации. Компен-
сацию (даже если ПО прибора позволяет настроить ее постфактум) предпочтитель-
но все же делать перед началом работы. Это позволит вам сразу правильно оце-
нивать получаемые результаты и грамотно планировать дальнейшие эксперименты.
Пренебрегая процедурой компенсации или оставляя ее «на потом», можно в конце
работы обнаружить, что полученные данные не являются сколь либо значимыми.
Настраивать и проверять компенсацию лучше всеми перечисленными выше методами.
После настройки и проверки значения компенсации необходимо сохранить, и все
(!) эксперименты, которые планируете сравнивать между собой, проводить, не
внося изменений.
Выбор флуорохромов
Для детекции антигенов с низким уровнем экспрессии необходимо использовать
яркие флуорохромы. Для одновременного исследования антигенов со слабым и
сильным уровнями экспрессии категорически не следует брать соседние каналы,
так как «сильный» антиген почти наверняка засветит весь небольшой эффект от
«слабого».
Для сильных антигенов лучше выбирать каналы, которые оказывают минимальное
влияние на соседние. Планирование эксперимента могут упростить утилиты типа
fluorofinder.com.
Для измерения внутриклеточных белков и анализа нуклеиновых кислот (напри-
мер, для исследования клеточного цикла и пролиферации) клеточную мембрану
нужно сделать проницаемой для данного красителя — провести пермеабилизацию
при помощи специальных веществ.
Глобально реагенты для пермеабилизации деляется на два типа:
■ Органические растворители (метанол, этанол, ацетон), которые одновременно
фиксируют и пермеабилизуют мембрану, растворяя липиды и коагулируя белки.
(Впрочем, в большинстве случаев стадию фиксации лучше провести отдельно,
используя 2-4% раствор параформальдегида.) Как правило, используются в
концентрации 70-90%; к основным преимуществам относится возможность дли-
тельного хранения клеток на -20 С, а также лучшее разделение пиков при
подборе оптимальных условий
■ Детергенты, которые создают поры в клеточной мембране, — сапонин
(saponin), Trition-X-100, Tween-20 и другие. Сапонин используют в случаях,
когда необходимо изучать внутриклеточные белки одновременно с поверхност-
ными маркерами. Его действие обратимо, поэтому сапонин должен также содер-
жаться во всех растворах и буферах для окрашивания, применяемых после ста-
дии пермеабилизации. «Тритон Х-100» часто добавляют одновременно с краси-
телями, что уменьшает длительность эксперимента. Как именно работают эти
детергенты? Сапонин селективно «извлекает» из мембраны молекулы холестери-
на и за счет этого формирует поры. Triton-X и Tween-20 являются неселек-
тивными детергентами и способствуют образованию пор в мембранах за счет
связывания и удаления мембранных липидов и белков.
В настоящее время предлагается также большое количество коммерческих реа-
гентов для фиксации и пермеабилизации. Несмотря на то, что такие наборы за-
частую позиционируются как ready-to-use, не будет лишним все же сделать срав-
нение различных доступных вариантов фиксации и пермеабилизации в применении к
вашему эксперименту перед выбором оптимального.
Вывод: Использование того или иного пермеабилизующего агента зависит исклю-
чительно от ваших задач. Как правило, если вы берете опубликованную методику,
но собираетесь использовать ее для анализа других клеток, стоит приготовиться
к необходимости провести ряд дополнительных экспериментов по подбору опти-
мальной концентрации реагента, а также условий пермеабилизации.
Разное
НЕИРОБИОЛОГИЯ
Лебедев Д. и др.
Мы — это способ, которым космос
познает себя.
Карл Саган
Пока не будет создан полноценный искусственный интеллект, мозг будет оста-
ваться единственной мыслящей системой, способной хотя бы попытаться заглянуть
внутрь себя и осознать свое устройство. Масштаб этой задачи обескураживает.
Вряд ли какой-либо объект во Вселенной может сравниться по своей сложности с
человеческим мозгом. Так какими же методами мы изучаем работу собственного
мозга?
Нейробиология — одна из самых сложных и одновременно захватывающих дух об-
ластей сегодняшней науки. Число нейронов в среднем мозге человека приближает-
ся к ста миллиардам, а количество связей между ними исчисляется триллионами.
Работу этой невероятной суперсистемы можно изучать на самых разнообразных
уровнях: структурная и молекулярная биология, цитология и электрофизиология
тесно переплетаются друг с другом. Рассмотрение феноменов нейробиологии с од-
ного ракурса зачастую просто не имеет смысла. Все это объясняет уникальный
междисциплинарный набор методов, характерный для нейронаук.
НЕЙРОМИКРОСКОПИЯ
Будет справедливо начать наше повествование с самой ранней и, пожалуй, са-
мой заслуженной группы нейробиологических методов — с нейромикрокопии. В этой
же статье мы коснемся лишь ее приложений к изучению мозга. В середине 19-го
века развитие микроскопии позволило описать тонкое строение практически всех
тканей, но нервная ткань все еще оставалась «крепким орешком», упорно не под-
даваясь изучению. Ее загадочные клетки практически не подвергались окрашива-
нию, представляя взорам ученых лишь мутную, аморфную картинку в окуляре мик-
роскопа. Однако все изменилось, когда в 1872 году итальянский цитолог Камилло
Гольджи открыл свою знаменитую «черную реакцию». Пропитка фиксированных сре-
зов мозга слабым раствором нитрата серебра придавала некоторым телам нервных
клеток угольно-черный цвет, отлично видимый на светлом фоне. Метод был под-
робно описан в его монографии 1886 года.
Выход этого фундаментального труда произвел эффект разорвавшейся бомбы — с
новой силой вспыхнули споры о природе нервной системы. Стороны разделились на
два лагеря: одни придерживались мнения о ретикулярном строении нервной ткани,
считая, что она представляет собой синцитий из слившихся друг с другом кле-
ток. Им оппонировали сторонники нейрональной теории, уверенные, что нервная
ткань состоит из отдельных, пусть и имеющих контакты, клеток-нейронов. Голь-
джи был горячим сторонником первой гипотезы, однако по иронии судьбы, именно
открытый им метод серебрения нейронов помог доказать теорию его оппонентов.
И, пожалуй, основной вклад в становлении нейрональной теории строения нервной
ткани внес один из главных научных противников Гольджи — испанский исследова-
тель Сантьяго Рамон-и-Кахаль. Его кропотливые наблюдения, а также точные и
изящные зарисовки наблюдаемых препаратов (рис. 1) (в юности он чуть было не
стал художником) доказали индивидуальность нейронов. Символично, что два не-
примиримых противника разделили между собой Нобелевскую премию по физиологии
и медицине 1906 года с формулировкой: «В знак признания трудов о строении
нервной системы». Вкратце основные открытия в сфере нейробиологии обобщены на
рис. 2.
Рис. 1. Нервные клетки, покрашенные методом серебрения. Рисунки
выполнены Рамон-и-Кахалем.
9
/до?;'
/\
/ \ I A \
/ У/ \ \
К Гольджи открывает метод
серебрения нейронов.
т
9
1911
9
/512
И
/92?
№-1949 1951
9 в
W&-W9
mi 1975 mi mi loos mi шь
# Ф 9 9 Ф * 9
"Мембранная гипотеза" Ю. Бернштейна. Г. Бергер впервые получает Первые работы по электрической
электроэнцефалограмму мозга человека, стимуляция мозга человека, опыты
Милнера и Олдза на крысах.
[\
19П
У
Модель потенциала действия Ходжкина Создание МРТ-томографа.
и Хаксли.
1975
U ___
Создана методика получения
моноклональных антител (Кёлер и
Мильштейн); запущен первый
полноценный ПЭТ-сканер.
mi
mi
loos
Неер и Сакман создают метод
пэтч-кламп.
Клонирован зелёный флуоресцентный К Дайсеррот закладывает основы
белок (GFP). оптогенетики.
Ш1
Г:.
О
Лихтман и Сейнс создают метод
В га in bow.
К. Дайсеррот описывает метод CLARITY.
Рис. 2. Наиболее заметные открытия нейробиологии. 1886 г. — К. Гольджи
открывает метод серебрения нейронов. 1912 г. — «Мембранная гипотеза» Ю.
Бернштейна. 1924 г. — Г. Бергер впервые получает электроэнцефалограмму
мозга человека. 1948-1949 гг. — Первые работы по электрической стимуля-
ция мозга человека, опыты Милнера и Олдза на крысах. 1952 г. — Модель
потенциала действия Ходжкина и Хаксли. 1973 г. — Создание MP-томографа.
1975 г. — Создана методика получения моноклональных антител (Келер и
Мильштейн) ; запущен первый полноценный ПЭТ-сканер. 1981 г. — Неер и Сак-
ман создают метод пэтч-кламп. 1992 г. — клонирован зеленый флуоресцент-
ный белок (GFP). 2005 г. — К. Дайсеррот закладывает основы оптогенетики.
2007 г. — Лихтман и Сейнс создают метод Brainbow. 2013 г. — К. Дайсеррот
описывает метод CLARITY.
Аффинные
окрашивания
Пожалуй, «метод Гольджи» оказался самым долгоживущим методом нейробиологии.
Конечно, он давно перестал быть единственным способом окраски нейронов, но
все еще активно используется, не потеряв своей актуальности даже спустя без
малого полтора столетия! Однако с накоплением знаний о мозге росли и запросы
ученых: все больше исследований требовали целевой окраски необходимых клеточ-
ных структур, а в идеале — лишь определенных белков. Изредка оказывалось, что
красящее вещество само по себе связывается с мишенью. Такая счастливая слу-
чайность произошла с флуоресцентным красителем тиофлавином Т, имеющим сродст-
во к р-амилоидному белку, накапливающемуся в мозге на поздних стадиях болезни
Альцгеймера. Понятно, что подобные примеры являются скорее исключением из
правил. Но что если связать светящуюся молекулу с каким-нибудь соединением,
имеющим исключительное сродство к интересующему нас белку? Такими пунктуаль-
ными «курьерами», доставляющими краску точно по адресу, стали нейротоксины и
антитела. Дело в том, что многие природные нервно-паралитические токсины —
высокоэффективные блокаторы белков-рецепторов, часто имеющие высокое сродство
лишь к определенным видам рецепторов-мишеней. Так, например, змеиный ос-
бунгаротоксин практически намертво связывается с никотиновыми ацетилхолиновы-
ми рецепторами мышц и мозга, позволяя окрашивать их в срезах и метить радио-
активными изотопами.
Стоит сказать, что при всем удобстве меченых токсинов круг их применения
ограничен количеством бе л ков-мишеней, что делает их мощным, но все же очень
специфичным инструментом. Чего не скажешь об антителах (рис. 3) . Разработка
технологий получения моноклональных антител к заданным антигенам в середине
1970-х перевернула всю современную биологию и медицину, не обойдя стороной и
нейробиологию. Используя их флуоресцентно-меченные производные, исследователи
получили реальную возможность специфически покрасить практически любой белок
внутри индивидуальных клеток и срезов тканей. Но, как и всегда, несмотря на
свою теоретическую универсальность, антитела имеют и множество недостатков,
ограничивающих их применение.
Само получение антител — очень длительный, трудоемкий и не всегда предска-
зуемый процесс, поэтому к большинству белков коммерчески доступных антител
просто не существует. К тому же огромные макромолекулы антител в принципе не
способны пройти через плазматическую мембрану в живую клетку, из-за чего их
работа с внутриклеточными белками возможна лишь на фиксированных препаратах.
Да и яркость окраски оставляет желать лучшего — отдельные клетки не очень-то
и разглядишь. Нейробиологам же с каждым годом все больше и больше хотелось
заглянуть внутрь живого, нефиксированного мозга. И тут на помощь пришла моле-
кулярная биология.
Рис. 3. Аффинное окрашивание нейрональной культуры антителами.
МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ НЕЙРОБИОЛОГИИ
Ген первого флуоресцентного белка — светящегося под ультрафиолетом зеленым
цветом GFP — клонировали в 1992 году. К середине 2000-х в распоряжении моле-
кулярных биологов была уже целая палитра разнообразных флуоресцентных белков.
В 2008 году за работы с флуоресцентными белками вручили Нобелевскую премию.
Совместная экспрессия «разноцветных» флуоресцентных белков в нейронах могла
бы дать целый спектр оттенков, видимых даже на нефиксированных препаратах.
Метод, воплотивший эти идеи в жизнь, был описан в 2007 году в работе группы
сотрудников Гарвардского университета и получил броское название Brainbow. В
геном трансгенных мышей вносили кассету с генами нескольких флуоресцентных
белков, разделенных сайтами рекомбинации 1ох. При скрещивании с линией мышей,
имеющих ген рекомбиназы Сге, получалось потомство, несущее и ген рекомбиназы,
и «многоцветную» кассету. После индукции рекомбиназы гены случайно вырезают-
ся, меняются местами или вообще инвертируются по одинаковым lox-сайтам. При
этом в активном состоянии остается лишь ген, оказавшийся ближайшим к единст-
венному промотору системы. Он-то и экспрессируется клеткой, заставляя ее све-
титься своим собственным цветом. Если в клетке несколько кассет, то случайный
выбор активного гена на каждой из них даст внушительный спектр оттенков окра-
ски клетки. Свечение индивидуальных нейронов создает потрясающий фронт работы
для конфокальной микроскопии — можно выявить мельчайшие особенности морфоло-
гии каждого из них и даже проследить путь индивидуальных аксонов и дендритов.
Все вместе это дало возможность для полноценного картирования структуры ней-
ронных цепей мозга. А заодно превратило фотографии гистологических препаратов
в настоящее произведение современного искусства (рис. 4)!
Но даже для такого мощного метода как Brainbow в большинстве случаев мозг
мыши избыточно сложный, поэтому метод адаптировали для более простых лабора-
торных объектов — рыбки Danio rerio и мухи Drosophila melanogaster.
Рис. 4. Метод Brainbow в действии. Хорошо видны два слоя белого
вещества (отростки нейронов) и слой серого вещества (тела нейро-
нов) между ними.
Для подкованных читателей не станет откровением, что чаще всего для микро-
скопических исследований ткань приходится нарезать на тончайшие срезы. Основ-
ную массу мозга составляют липиды клеточных оболочек нейронов и глии. Эта
плотная масса липидов представляет собой мощный барьер, препятствующий диффу-
зии частиц, используемых для мечения или окрашивания. Да и сама липидная со-
ставляющая мозга слабопрозрачна для света — даже двухфотонная лазерная микро-
скопия, созданная для визуализации глубоких слоев живых тканей, способна за-
глянуть вглубь мозга лишь на 800 мкм. Словом, львиная доля гистологических
работ с нервными тканями до недавнего времени была обречена начинаться с фик-
сации и изготовления срезов. Именно поэтому нейрофизиологи издавна питают
стойкую любовь к простым и, главное, прозрачным модельным объектам, вроде
червячков Caenorhabditis elegans или мальков рыбы Danio rerio. Однако недавно
появившийся метод CLARITY (рис. 5) способен сделать мозг любой мыши таким же
чистым и ясным, как у свежевылупившейся из икринки рыбки
The brain is a
world consistini
of а г » ">er o\
(world com
of a number'
unexplored
continents and
great stretches
of unknown
territory.
Рис. 5а. Метод CLARITY способен сделать мозг мыши практически прозрачным.
Рис. 56. Использование CLARITY совместно с флуоресцентной микро-
скопией позволяет получить потрясающие изображения.
Одним из «отцов» метода, описанного в статье 2013 года, является создатель
оптогенетики (о ней мы еще поговорим) Карл Дейссерот. Суть CLARITY состоит в
том, что препарированный мозг1 фиксируют формальдегидом для «прошивки» и удер-
жания на своих местах белков и нуклеиновых кислот, а также насыщают раствором
мономеров геля-носителя, призванного играть роль «матрицы», после чего запус-
кается реакция полимеризации. После нее ткани мозга оказываются буквально
слиты с прозрачным гидрофильным акриламидным гелем-носителем. Затем блок с
мозгом, а точнее — тканево-гелевым гибридом, — подвергают электрофорезу в
присутствии ионного детергента (всем знакомого SDS) . В течение нескольких
дней движимые электрическим полем мицеллы SDS протискиваются через тканево-
гелевый гибрид, «вымывая» из него липиды. На выходе мы получаем уже практиче-
ски прозрачный блок, пригодный для любого вида флуоресцентной микроскопии.
Однофотонная микроскопия уже способна заглядывать в такой препарат на глубину
3,6 мм, а не на 50 мкм, как в случае с нативным «непрозрачным» мозгом.
ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯ
Итак, мы можем смело заявить, что элементарной функциональной единицей
нервной системы является нейрон. Мощь современной нейромикроскопии показывает
нам, как он выглядит, а иногда даже демонстрирует его связи с другими нейро-
нами . Но она практически ничего не говорит о его работе. Как же нейроны про-
водят и обрабатывают информацию? Оказалось, что ключевую роль в этом играет
электричество. И здесь, начав говорить об электрофизиологии, нам снова при-
дется заглянуть вглубь истории, вернувшись к самым истокам.
В 1840-1860-х годах опыты Германа Гельмгольца и Эмиля Дюбуа-Реймонда на-
глядно показали, что нервные клетки способны генерировать электрические им-
пульсы. Опираясь на их опыт, а также на собственные работы, в 1912 году их
ученик Юлиус Бернштейн опубликовал свою «мембранную гипотезу».
В ее основе лежало предположение о том, что мембрана нервной клетки облада-
ет избирательной проницаемостью для различных ионов. Появляющиеся ионные гра-
диенты, в частности, катионов калия, приводят к тому, что внутренняя часть
мембраны получает отрицательный заряд, а внешняя — положительный. С помощью
сконструированного им самим прибора — «дифференциального реотома» — Бернштей-
ну удалось измерить величину трансмембранного потенциала покоя. Она составила
примерно —60 мВ. Бернштейн предположил, что стимулирование клетки, имеющей
подобный заряд мембраны, приводит к открыванию в ее мембране неких «пор»,
проводящих ионы натрия и хлора. В результате мембрана быстро теряет разность
потенциалов, деполяризуясь, а протекающий при этом электрический ток может
быть зарегистрирован. Этот ток, сопровождающий мышечное сокращение и работу
нервной клетки, Бернштейн назвал «током действия».
Гипотеза Бернштейна во многом оказалась пророческой. Однако настоящий про-
рыв в электрофизиологии случился лишь спустя сорок лет, вместе с изобретением
метода двухэлектроднои фиксации потенциала. Он произвел настоящую революцию
и, несмотря на свой почтенный возраст, пережив несколько модификаций, исполь-
зуется до сих пор.
Vi
l^L
\л
К^
Д*-^
'•>?•>»
^~
Arx*<v
'Л.
'^^,„^1,:
V
/'
-»*1
Рис. 6. Гигантский аксон кальмара. Аксон представляет собой удлиненный
отросток нейрона, по которому потенциал действия (ПД) распространяется
строго в направлении от тела нейрона. Сам потенциал действия — это изме-
нение мембранного потенциала, волнообразно распространяющееся по аксону.
При этом мембранный потенциал на участке мембраны быстро изменяется от
значения —70 мВ (примерно соответствует равновесному потенциалу К+) до
значения +40 мВ (близко к равновесному потенциалу Na+) и обратно.
Как это часто бывает в науке, к созданию нового метода ученых подтолкнуло
нахождение подходящего объекта исследования. В 1936 году открыли гигантские
аксоны кальмаров (рис. 6). Оказалось, что это причудливое эволюционное приоб-
ретение головоногих исключительно удобно для препарирования и наложения элек-
тродов — диаметр аксонов достигает аж целого 1 мм, по сравнению с типичными
несколькими микрометрами. Вскоре Алану Ходжкину и Эндрю Хаксли практически
одновременно с Кеннетом Колем и Говардом Кертисом удается создать миниатюрные
электроды и ввести их в аксон. Обе группы независимо регистрируют потенциал
действия на нейроне и публикуют свои результаты в 1939 и 1940 годах. Наконец,
в 1949 году Кеннет Коль и Джордж Мармон описывают метод двухэлектродной фик-
сации потенциала.
Название метода (двухэлектродная фиксация потенциала) отражает его суть — в
аксон, лежащий в ванночке с солевым раствором, вводится сразу два электрода.
Один из них, работая в паре с внеклеточным электродом сравнения, постоянно
измеряет разницу потенциалов на мембране клетки. Второй электрод нужен для
введения в клетку тока и поддержания тем самым потенциала на заданном экспе-
риментаторами уровне. Именно поэтому англоязычное название метода часто со-
кращают до voltage clamp (фиксация потенциала). Как только первый электрод
регистрирует изменение разницы потенциалов, электронный блок прибора выдает
команду генератору тока на введение поддерживающего импульса через второй
электрод. То есть между двумя электродами находится петля отрицательной об-
ратной связи. Такая система отличается высокой стабильностью и позволяет ре-
гистрировать ионные токи через мембраны клеток, имеющих самое разное сопро-
тивление. Мощь нового метода проявилась в работах Ходжкина и Хаксли, создав-
ших с его помощью математическую модель потенциала действия нейрона в 1952
году. В 1963 году этот труд принес им Нобелевскую премию по физиологии и ме-
дицине .
Метод двухэлектродной записи пережил множество усовершенствований и исполь-
зуется по сей день. Режим фиксации разницы потенциалов на мембране (voltage
clamp) идеально подходит для изучения электрофизиологических свойств ионных
каналов мембраны. Но многие задачи, например изучение потенциала действия
нейрона, требуют записи потенциала при фиксированном значении тока, поэтому
большинство современных усилителей позволяет работать еще и в режиме фиксации
тока (current clamp). Во многом эти два режима зеркальны: в current clamp на
постоянном уровне поддерживается ток, а потенциал записывается, а в voltage
clamp — наоборот. Эта, несколько более редкая модификация метода, приобретает
актуальность, например, при изучении проведения нервных импульсов по отрост-
кам нейронов.
Внедрение стеклянных хлорсеребряных электродов, заполненных солевым раство-
ром, позволило использовать метод на более мелких объектах. А развитие моле-
кулярной биологии в начале 1970-х вообще подарило электрофизиологам практиче-
ски универсальную модель для изучения любых ионных каналов. Оказалось, что
ооциты (икринки) шпорцевых лягушек Xenopus laevis после введения в них мат-
ричной РНК или рекомбинантнои плазмиднои ДНК с геном нужного ионного канала
во многих случаях успешно экспрессируют их на своей мембране. Крупный, отлич-
но видимый невооруженным глазом ооцит позволяет легко ввести в него два стек-
лянных электрода и уверенно измерять изменение электрофизиологических свойств
каналов под воздействием различных токсинов или нейромедиаторов. Ооциты легко
выделяются из яичников лягушек, удобны в работе благодаря своему размеру и
легко экспрессируют самые разные виды ионных каналов, что делает их практиче-
ски универсальным модельным объектом электрофизиологов (рис. 7).
Исследования Ходжкина и Хаксли привели к заключению о критической важности
ионных каналов, как для генерации потенциала действия, так и для самого появ-
ления разности потенциалов на мембране. Однако метод двухэлектродной записи
дает представление лишь об усредненной активности многих тысяч ионных каналов
на поверхности клетки. Кроме того, крупные стеклянные электроды, используемые
в двухэлектроднои записи, протыкают плазматическую мембрану насквозь, и не
позволяют работать с клетками «традиционных» размеров (рис. 7). Вот если бы
можно было использовать один электрод, настолько маленький, чтобы записать
ток с одиночного ионного канала? Эта фантазия воплотилась в методе patch
clamp — методе локальной фиксации потенциала.
Л* ооцит
*9
ВЕДЕНИЕ
ттлшмж
/лРНК
0 ЖШРЕШ
"-«' ША/108
^с
t.s
Рис. 7. Схема работы методом voltage clamp на ооцитах Xenopus
laevis. Ген изучаемого ионного канала в виде плазмидной ДНК или
мРНК вводится в ооцит с помощью микроинъектора. За следующие не-
сколько дней — обычно 24-72 часа — происходит сборка ионных ка-
налов, и ооцит становится пригоден для введения электродов и
изучения специфических ионных токов.
Его предтечей стали опыты Альфреда Стрикхольма, выполненные в начале 1960-
х. В них он использовал в качестве микроэлектродов стеклянные пипетки с диа-
метром отверстия в несколько микрометров (рис. 8).
vo-5tage Micropipette Puller
AAA
ж, mm
о s
00-3?
0
Рис. 8. Для изготовления микрокапилляра стеклянная заготовка в
виде трубочки нагревается вольфрамовой спиралью и вытягивается
струбциной пуллера (микрокузницы).
Прижимая кончик такого капилляра к мембране мышечного волокна, Стрикхольму
удалось добиться электрической изоляции участка мембраны, попавшего внутрь
кончика пипетки. Всасывание участка мембраны внутрь электрода приводит к раз-
рыву мембраны и соприкосновению цитоплазмы с буфером внутри пипетки. В ре-
зультате цитоплазма модельной клетки может быть практически полностью замеще-
на раствором контролируемого состава. Одновременно совершенствуются усилите-
ли, делая возможной работу методом voltage clamp с одним электродом. Наконец,
на рубеже 1970-1980-х годов Эрвин Неер и Берт Сакман описывают метод patch
clamp (рис. 9).
run
■J/ /•*/ v» v^
\i\ \
fill
t -
&
^*
JK
} -
--<r
Рис. 9. Варианты метода пэтч-кламп. Конфигурация cell-attached предпо-
лагает создание плотного контакта между стенками микропипетки и мембра-
ной. При этом сопротивление этого контакта достигает гигаомной величины.
Cell-attached может быть легко переведен в inside-out при быстром отве-
дении микропипетки от клетки и поднятии ее из буфера в воздух, во время
чего участок мембраны вырывается из плазмалеммы. При понижении давления
внутри микропипетки мембрана легко рвется, и cell-attached переходит в
whole-cell. Важно, что из-за значительной разницы объемов клетки и со-
держимого микропипетки, буфер, заполняющий пипетку практически полно-
стью, замещает собой цитоплазму клетки. За счет медленного отведения пи-
петки от клетки, отрыва участков мембраны и их последующего спадания
whole-cell может быть преобразован в outside-out.
Одна из главных «фишек» метода patch clamp — использование супертонких
стеклянных микроэлектродов, диаметр концевого отверстия которых составляет 1-
2 мкм. Если кончик такой пипетки идеально ровный и чистый, то при контакте с
клеточной мембраной и понижении давления в нем, он легко присасывается к мем-
бране, формируя контакт с очень высоким электрическим сопротивлением («гига-
омный контакт»). Участок мембраны, накрытый таким капилляром, называется
patch и имеет площадь меньше 10 мкм2. Это значит, что на нем с большой веро-
ятностью может оказаться единственный ионный канал. Подобная конфигурация на-
зывается cell-attache и позволяет записывать ионные токи, проходящие через
каналы, накрытые пипеткой.
После того, как был достигнут cell-attache, можно быстро отвести микропи-
петку от клетки; тогда кусочек мембраны, закрывающий ее конец, оторвется: его
внеклеточная часть будет омываться буфером, заполняющим капилляр, а внутри-
клеточная окажется в растворе, наполняющем ванночку, в которую погружены
клетки. Такую пипетку можно перенести в другую ванночку — с буфером, имити-
рующим цитоплазму клетки, и менять его состав по мере необходимости. Но изме-
нить состав внеклеточного буфера, заполняющего пипетку, в таком случае не так
просто — для этого придется брать новую пипетку и новую клетку. Этот вариант
метода называется inside-out («внутренняя сторона снаружи»). Им можно изу-
чать, например, потенциал-зависимые ионные каналы и механизмы регуляции их
активности со стороны искусственной «цитоплазмы».
Важнейшую роль в нервной системе играют лиганд-управляемые ионные каналы.
Эти белки-рецепторы имеют ион-селективную пору, проницаемостью которой можно
управлять с помощью веществ — лигандов. Если же мы хотим изучать то, как ли-
ганд-управляемые ионные каналы отвечают на различные лиганды (например, ме-
диаторы или токсины), нам будет удобно использовать конфигурацию whole-cell
(«вся клетка») . При этом, после того как был достигнут cell-attache, мы еще
сильнее понижаем давление в микропипетке, и в результате мембрана внутри нее
разрывается. После этого буфер из пипетки частично замещает собой цитоплазму.
Добавляя изучаемые вещества в раствор, омывающий клетку, мы легко можем по-
строить кривые ответа рецептора на различные дозы лиганда. Если же мы хотим
варьировать состав цитоплазмы модельной клетки, мы можем менять состав внут-
риклеточного буфера, заполняющего пипетку. Правда при этом для каждого вари-
анта буфера придется использовать новую пипетку и новую клетку.
Наконец, если мы хотим изучать действие внеклеточных лигандов на одиночный
лиганд-управляемый ионный канал, нам понадобится конфигурация outside-out
(«наружная сторона снаружи»). Сначала мы достигаем состояния whole-cell, a
затем медленно отводим пипетку. Мембрана тянется вслед за ней, вытягиваясь в
трубочку, пока не рвется, образуя маленький пузырек, висящий на кончике пи-
петки-электрода. В этом случае, так же как в whole-cell, буфер внутри пипетки
имитирует цитоплазму, а лиганды рецепторов добавляются во внеклеточный буфер,
омывающий кусок мембраны, висящий на капилляре снаружи. Разница в том, что на
крохотном, вырванном из клетки участке мембраны, запросто может оказаться
единственный ионный канал, ток через который мы и изучим.
Первое, что бросается в глаза, когда знакомишься со всеми вариантами пэтч-
клампа, это то, что в них фигурирует лишь один стеклянный электрод-
микропипетка и электрод сравнения, незаметно лежащий в ванночке. Как же с по-
мощью единственного электрода удается и поддерживать «командный потенциал» на
мембране клетки, и регистрировать его изменения?
В методе patch clamp используются не две пары электродов, как в двухэлек-
тродной записи потенциала (два внутриклеточных и два внеклеточных), а одна
пара (рис. 10). При этом электронная начинка усилителя с высокой частотой че-
редует измерение потенциала клетки и введение в нее ионного тока. То есть
один электрод работает сразу за два, сокращая повреждения клетки при измере-
нии. Любопытная особенность patch clamp состоит еще и в том, что в единствен-
ной оставшейся паре электродов нельзя однозначно выделить внеклеточный и
внутриклеточный. Металлический электрод сравнения погружен в ванночку, в ко-
торой находятся клетки. А вот единственный стеклянный электрод, входящий в
контакт с клеткой, может работать и как внеклеточный (cell-attache и inside-
out) , и как внутриклеточный (whole-cell и outside-out).
Метод patch clamp открыл новую эру в электрофизиологии. Ионные каналы пере-
стали быть абстракцией — появилась возможность буквально пощупать их: зареги-
стрировать ионный ток, проходящие через индивидуальный канал. Параллельное
развитие молекулярной биологии привело к настоящему взрыву исследований ион-
ных каналов в 1990-е. Именно в эти годы клонировали и охарактеризовали боль-
шинство лиганд-управляемых и потенциал-зависимых ионных каналов. Особенности
работы этих белков, да и само их наличие или отсутствие на поверхности клет-
ки, напрямую определяют ее электрофизиологические свойства. Можно сказать,
что ионные каналы формируют своеобразный функциональный костяк нашей нервной
системы. Именно их работа определяет значения потенциала на мембране в тот
или иной момент времени, а значит, и само возникновение нервного импульса.
Клонирование и дальнейшее изучение дало ученым ключ к пониманию фундаменталь-
ных основ работы нервных клеток.
Рис. 10. Установка для patch clamp. Микроскопический размер электро-
дов для patch clamp, а также работа с отдельными клетками вынуждают
размещать микроэлектроды и ванночку для образца под микроскопом. Сам
«пэтч» (контакт микрокапилл яр -мембрана) крайне чувствителен к вибра-
циям, поэтому микроскоп монтируется на антивибрационном столе, крыш-
ка которого плавает в потоке сжатого воздуха. Амплитуда токов, реги-
стрируемых прибором, крайне мала, поэтому электроды защищены от
электрических наводок ящиком Фарадея.
НЕЙРОМОДУЛЯЦИЯ
Если электричество неразрывно связано с работой нервной системы, почему бы
не попытаться повлиять на ее работу с помощью электрического тока? Первые по-
пытки сделать это были совершены еще в XIX веке. Экспериментальная техника
тех времен была крайне простой: в качестве подопытных обычно выступали собаки
или кошки с трепанированным черепом или в исключительных, а от того более ин-
тересных, случаях — больные во время нейрохирургических операций. Электриче-
ская стимуляция определенных зон коры мозга (моторной коры, как бы мы сказали
сегодня) приводила к сокращениям мышц и движениям конечностей. То есть раз-
дражение различных зон мозга вызывает разные реакции. Этот принцип использо-
вали для составления функциональных карт мозга. Впоследствии эти карты сослу-
жили хорошую службу хирургам.
В 1949 году был предложен метод стереотаксической малоинвазивной хирургии
мозга. Его суть состоит в том, что координаты цели в мозге фиксируются по
трем координатам с помощью специального прибора, устанавливаемого на голове
пациента. После чего необходимый участок мозга может быть разрушен — напри-
мер, введением через иглу точно рассчитанного количества этанола. Но мозг па-
циентов отличается по форме и размеру, а значит, требуются дополнительные
ориентиры. Как нельзя лучше для поиска таких ориентиров подходит тонкий элек-
трод, с помощью которого можно раздражать структуры мозга и точно определять
их принадлежность по функциональному ответу. Такой подход вскоре стал непре-
менным атрибутом большинства стереотаксических операций (рис. 11).
Рис. 11. Во время стереотаксической операции зоны мозга больного
жестко позиционируются по трем осям координат с помощью специ-
ального прибора.
Если электроды можно использовать для активации различных зон мозга во вре-
мя операции, то почему же не попробовать оставить их в мозге и после, выведя
контакты прямо на поверхность скальпа? Такие электроды можно использовать по
мере необходимости в терапевтических целях. Первая подобная операция с введе-
нием электродов во фронтальный тракт мозга прошла в 1948 году. По понятным
причинам, внедрение этой техники в медицину происходило очень медленно и ог-
раниченно . А вот для экспериментов над животными она подходила как нельзя
лучше. Наверняка каждый, кто хоть как-то связан с биологией, слышал про исто-
рию с крысами, до изнеможения нажимающими на педальку и получающими электри-
ческий разряд в центр удовольствия. Эта классическая работа Джеймса Олдза и
Питера Милнера, опубликованная в 1954 году, стала одной из первых эксперимен-
тальных работ по электрической стимуляции глубоколежащих структур мозга.
Оказалось, что этот же принцип может служить и медицинским целям — электри-
ческая стимуляция выброса эндорфинов давала заметный обезболивающий эффект.
За последние полвека глубокая стимуляция мозга стала самостоятельным методом
лечения (рис. 12). Описано ее применение для лечения некоторых форм эпилеп-
сии, депрессии, болезни Паркинсона и синдрома Туретта. Вживление электродов
стало действенным методом лечения, однако, эта операция так и не потеряла не-
которого ореола загадочности и авантюрности. Отчасти это связано с тем, что
механизм терапевтического действия глубокой стимуляции мозга так и не изучен.
Нужно сказать, что электрическая нейромодуляция — донельзя грубый метод
воздействия на мозг. Электроды вводятся в мозг с точностью до миллиметров,
но, тем не менее, их токи возбуждают сразу миллионы нервных клеток без всяко-
го разбора. Если бы удалось научиться стимулировать лишь целевые клетки опре-
деленного типа! . . И тут на помощь нейрофизиологам пришла молекулярная биоло-
гия.
Рис. 12. Рентгенограмма головы пациента, проходящего лечение ме-
тодом глубокой стимуляции мозга. Кроме электродов в центре моз-
га , на нижней части снимка резко выделяется зубной протез.
ОПТОГЕНЕТИКА
Появление этого фантастического направления предсказал еще великий Френсис
Крик, увлекшийся во второй половине своей карьеры нейрофизиологией. К рубежу
нового века стало очевидно, что именно внедрение методов молекулярной биоло-
гии в науку о мозге способно передать в руки ученых давно желанную возмож-
ность управлять индивидуальными клетками мозга. Вместо неразборчивого элек-
трического тока средством управления стал свет. Клетки мозга не имеют фоторе-
цепторов, но методами молекулярной биологии можно заставить нужные нам нейро-
ны синтезировать фоточувствительные белки, возбуждающие клетку в ответ на ос-
вещение светом с необходимой длиной волны.
Предтечей современной оптогенетики стали работы Бориса Земельмана, собрав-
шего вместе с соавторами вектор, включающий родопсин, аррестин-2 и гетеромер-
ный G-белок дрозофилы. Три этих белка формировали устойчивую, хотя и громозд-
кую и относительно медленную систему, изменяющую мембранный потенциал клеток
в ответ на освещение. Однако настоящее рождение оптогенетики состоялось после
клонирования белка каналродопсина-2 (channelrhodopsin-2) из зеленой водоросли
Hlamydomonas reinhardtii. Этот белок представляет собой катионный канал, от-
крывающийся при освещении и имеющий пик поглощения на 480 нм.
В августе 2005 года лаборатория под руководством Карла Дайссерота (Стэн-
форд, США.) опубликовала статью с описанием экспрессии этого белка в первичной
нейрональной культуре. Теперь просто освещая нейроны, можно было заставить
сгенерировать их потенциал действия с миллисекундным откликом! Но оставалась
еще задача заставить работать новый метод в живом мозге. Для этого ген канал-
родопсина был клонирован вместе с геном желтого флуоресцентного белка (YFP)
под общий промотор, а вся эта конструкция была помещена в лентивирусный век-
тор. Лентивирус легко вводится в необходимый район мозга инъекцией, а опреде-
лить , какие именно клетки были трансдуцированы вектором, можно по их свечению
(рис. 13, 14).
Рис. 13. Оптика + генетика = ? Лентивирус, содержащий ген свето-
чувствительного белка, точечно вводится в мозг мыши. Промотор
гена может также обладать тканевой специфичностью, что приводит
к еще большей избирательности метода.
Рис. 14. «Оптогенетическая» мышь с оптродом на голове.
В то же время и такой избирательности может оказаться недостаточно для ре-
шения поставленной задачи, ведь иногда нужно получить возможность возбуждать
не только клетки определенной зоны, но и определенного типа. И этот вопрос
нашел сразу несколько решений. Так, например, гены белков фоторецепторов мож-
но поместить под высокоспецифичный промотор, такой как CaMKIIoc, работающий
только в возбуждающих нейронах. Или использовать трансгенных мышей и систему
рекомбинации Cre-Lox. Помимо катионных фотоуправляемых каналов, клонировали
анионные насосы и каналы, позволяющие гиперполяризовать мембрану целевых кле-
ток, блокируя нейропередачу. Потенциал нового метода стал понятен практически
сразу: в 2010 году журнал Nature назвал оптогенетику1 методом года.
НЕЙРОИМИДЖИНГ
Магнитно-
резонансная
томография
Многие методы из арсенала ученых-нейрофизиологов очень плохо подходят для
исследования живых систем in vivo. Все они требуют «нарезки» организма на
срезы, а то и на отдельные клетки. В этом смысле особняком стоят методы, по-
зволяющие исследовать нервную деятельность живого организма с минимальным
вмешательством. И, конечно, особую роль среди них занимает магнитно-
резонансная томография. Этот метод позволил, как по волшебству, заглянуть
внутрь живого мозга, изучая его строение и даже отслеживая распределение зон
активности в нем.
Физические принципы МРТ идентичны тем, которые используют для установления
структуры молекул в методе ЯМР-спектроскопии. Самый распространенный по числу
атомов элемент человеческого тела (как и Вселенной) — водород, который имеет
ядро, состоящее всего лишь из одного протона. Этот протон, в отличие от ядер
большинства других атомов, имеет собственный магнитный момент (спин). Спин
ядра можно представить в виде вектора, направление которого обычно случайно.
Однако если поместить атомы водорода в постоянное магнитное поле, то векторы
спинов ядер сориентируются либо по направлению внешнего магнитного поля, либо
против него. Теперь, если воздействовать на атомы переменным магнитным полем
резонансной частоты, часть атомов поменяет магнитный момент своих ядер на
противоположный. При исчезновении этого переменного поля они вернутся в свое
изначальное состояние, выделив энергию, которая и будет зарегистрирована дат-
чиками MP-томографа. Для некоторых видов МРТ могут применяться контрастные
вещества на основе гадолиния либо оксидов железа.
Фактически МРТ родился вместе с публикацией в Nature статьи Пола Лотербура
в 1973 году. Спустя 40 лет этот труд принес ему Нобелевскую премию по физио-
логии и медицине 2003 года совместно с Питером Мэнсфилдом. Однако, как это
часто бывает с идеями, меняющими картину науки, у метода МРТ тяжело назвать
единственного автора. Важнейший, если не решающий, вклад в создание аппарата
МРТ внес Реймонд Дамадьян, а заявка на патент самого принципа МРТ была подана
еще в 1960 году советским ученым Владиславом Ивановым (рис. 15).
Мозг гетерогенен по своему строению. Длинные отростки нервных клеток обра-
зуют тяжи, окутанные оболочкой из нейроглии. Все вместе они слагают белое ве-
щество . Его волокна перемежаются с отдельными ядрами, а то и с целыми пласта-
ми (корой) серого вещества, состоящего из тел нейронов и нейроглии. Все эти
структуры чудовищно усложняют диффузию молекул воды, ограничивая ее свободу и
придавая предпочтительные направления движения. Этим и пользуются ученые в
методе диффузионно-тензорной МРТ. Регистрируя направление движения молекул
воды, томограф строит трехмерную модель расположения проводящих путей мозга.
Сумасшедшие картинки, неизменно сопровождавшие публикации проекта «Коннектом
человека» получены как раз этим, немного экзотическим методом (рис. 16).
1 https://www.youtube.com/watch?v=I64X7vHSHOE
Рис. 15. Основа всех MP-томографов — мощный магнит (в случае вы-
сокопольных МРТ-сканеров — сверхпроводящий), окруженный криоген-
ной рубашкой. Из-за этой технологической особенности МР-
томографы отличаются внушительными габаритами.
Рис. 16. Трехмерная реконструкция нервных путей белого вещества
— результат диффузионно-тензорной МРТ-трактографии.
Позитронно-
эмиссионная
томография
Наверное, услышав слово «аннигиляция», любители научной фантастики живо
представят себе армады космодредноутов, движимых силой невероятной реакции
превращения материи и антиматерии в чистую энергию. Но, оказывается, этот
процесс вполне способен происходить и внутри нашего тела, не причиняя нам ка-
кого-либо дискомфорта. На аннигиляции основан метод позитронно-эмиссионной
томографии (ПЭТ). По сути, ПЭТ-сканер (рис. 17) представляет собой трехмерный
детектор у~частиЦ' вылетающих из тела пациента. Ключевой компонент метода —
радиофармпрепарат. Как правило, это вещество-метаболит, способное к накопле-
нию в исследуемой ткани. Оно может иметь самую разную природу, но обязательно
должно содержать изотоп, способный к позитронному р-распаду. Например, для
исследования тканей мозга, активно поглощающих глюкозу, а также для поиска
некоторых типов опухолей часто используют 18F флудеоксиглюкозу.
Рис. 17. Схема позитронно-эмиссионной томографии.
Во время р-плюс (позитронного) распада протон ядра превращается в нейтрон,
одновременно испуская нейтрино и позитрон. Нейтрино свободно улетает, никак
не взаимодействуя с веществом, а вот позитрон далеко улететь не может. Очень
быстро он натыкается на какой-нибудь электрон, и они оба исчезают, испуская
пару Y~4ac™4- Эти частицы и детектируются сцинтилляционными детекторами, ус-
тановленными в кольце ПЭТ-сканера. Несмотря на большую энергию у~частиЦ' их
число невелико и не может нанести урон здоровью пациента. Кроме того, количе-
ство радиофармпрепарата рассчитывается так, чтобы не превысить максимально
допустимой дозы облучения.
Установку с несколькими у~Датчиками Для локализации опухолей мозга описал
Уильям Свит в работе 1953 года. Практически одновременно Фрэнк Ренн с соавто-
рами опубликовал в Science результаты исследования опухолей мозга с использо-
ванием аннигиляции. Однако настоящая ПЭ-томография появилась лишь с появлени-
ем надежных методов реконструкции изображения по множественным сечениям. Эту
работу начали Дэвид Кул и Рой Эдварде в конце 1960 года и закончили в 1975 г.
Тер-Погосяном, Фелпсом и Хоффманом постройкой первого полноценного томографа.
Важнейшая составляющая метода ПЭТ — наличие подходящих радиофармпрепаратов.
Они тоже прошли долгую эволюцию: от экзотических б4Си и 75As до 18F, ставшего в
составе 18Р-меченной флудеоксиглюкозы самым популярным радиомаркером ПЭТ.
Большинство изотопов для ПЭТ, способных к р-плюс распаду, изготавливают на
циклотроне прямо перед исследованием, что необходимо из-за довольно непродол-
жительного времени их полураспада.
<■ {
у/
чк
Электроэнцефалография
Говоря о нейроимиджинге, нельзя не упомянуть об электроэнцефалографии. Этот
старейший метод мониторинга активности мозга по своей физической основе стоит
гораздо ближе к методам электрофизиологии, однако возможности по неинвазивно-
му наблюдению активности мозга заставляют причислить его именно к методам
нейроимиджинга.
Поскольку внутри нервной системы протекает множество электрических токов,
то их можно попытаться зарегистрировать прямо на поверхности мозга, а может,
даже и тела — без нарушения кожного покрова. Как и следовало ожидать, эта
мысль пришла к исследователям еще на заре электрофизиологии — во второй поло-
вине XIX века. Первые работы по записи суммарной активности полушарий мозга
животных выполнили Адольф Бек и Наполеон Цибульский в конце 1880-х годов. В
этих работах электроды помещали непосредственно на поверхность мозга животно-
го . Гораздо сложнее оказалось получить запись токов с помощью электродов, ус-
танавливаемых на поверхность тела. Лишь спустя 20 лет, в 1912 году, русский
физиолог Правдич-Йеменский получил первую ЭЭГ млекопитающего, и лишь в 1924
году Ганс Бергер провел первую человеческую электроэнцефалографию.
электроды
головной
мозг
••IS&LZ.9*
Ь^^^^улу:.^\и^\^-^,
p*V A"f — '\ ' ^V, „ .4 '<:*•< \f;f '\^
j/VN/v-vu ''/■М/Л,*-"'.\Л\% .\./'yV >„■
f.V л~*4-"'! V-1V*, ''\N/-t4NSV/i/""vO.«
[*Д~А*;ч-»у*у^V'^* \\ '*-лЛЛ^i —■>/•-»'
^'V-'Vv*-'»'- 1/VVV *V/*v,*VrV V" «л/,
ГГ\,- *W—J ■ :•- \ V>' .4 >.% Vv/l/wVvV.
ivVV-^i-'^V/VAVv.v^^r
'>•<
-.•-
\S<
V-H
*.'-
»>i
t ••■(
запись ЭЭГ
Рис. 18. Электроэнцефалография.
Анализируя частоты и амплитуду изменения потенциалов, можно сделать множе-
ство выводов об общей активности мозга. Свои частоты характерны для сна,
бодрствования, активной умственной работы и восприятия стимулов. Однако сиг-
нал, получаемый при ЭЭГ — это лишь суммарные изменения электрического поля,
порождаемые миллиардами нервных клеток. Использовать его для точной локализа-
ции нейрофизиологических процессов в мозге почти невозможно — это как пытать-
ся идентифицировать личности пловцов по волнам на поверхности бассейна. Зато
характерный, нездоровый плеск или наоборот, его пугающее отсутствие — вполне
можно отличить. Именно поэтому в наши дни ЭЭГ уже крайне редко используется
исследователями, а вот медикам она, наоборот, нужна в самых разных областях.
Так, электроэнцефалографию используют для диагностики тяжелых нарушений, та-
ких как эпилепсия, и общего мониторинга состояния мозга. Пусть ЭЭГ дает на-
много меньше информации, чем функциональная МРТ, но в отличие от многотонного
томографа, электроэнцефалограф легко может поместиться в чемоданчике среднего
размера и мгновенно дать множество базовых данных о работе мозга больного. В
то же время мощным фронтом ведутся работы по увеличению разрешающей способно-
сти метода и созданию ЭЭГ-датчиков для интерфейса мозг-компьютер.
выводы
У каждой науки есть свой набор самых главных вопросов. И можно с гордостью
сказать, что биология здорово преуспела в поиске ответов на свои. Мы практи-
чески разобрались в происхождении вида Homo sapiens, да и само появление жиз-
ни на Земле перестало казаться таким уж загадочным событием. Но вот вопрос
нашего собственного устройства оказался гораздо более изощренным. Пока что
наука не может полностью объяснить, как же наш мозг формирует сознание. Одна-
ко усилия последних 20-и лет привели к тому, что в арсенале нейробиолохюв
появился уникальный набор междисциплинарных методов, позволяющий хотя бы под-
ступиться к решению этой важнейшей суперзадачи XXI века.