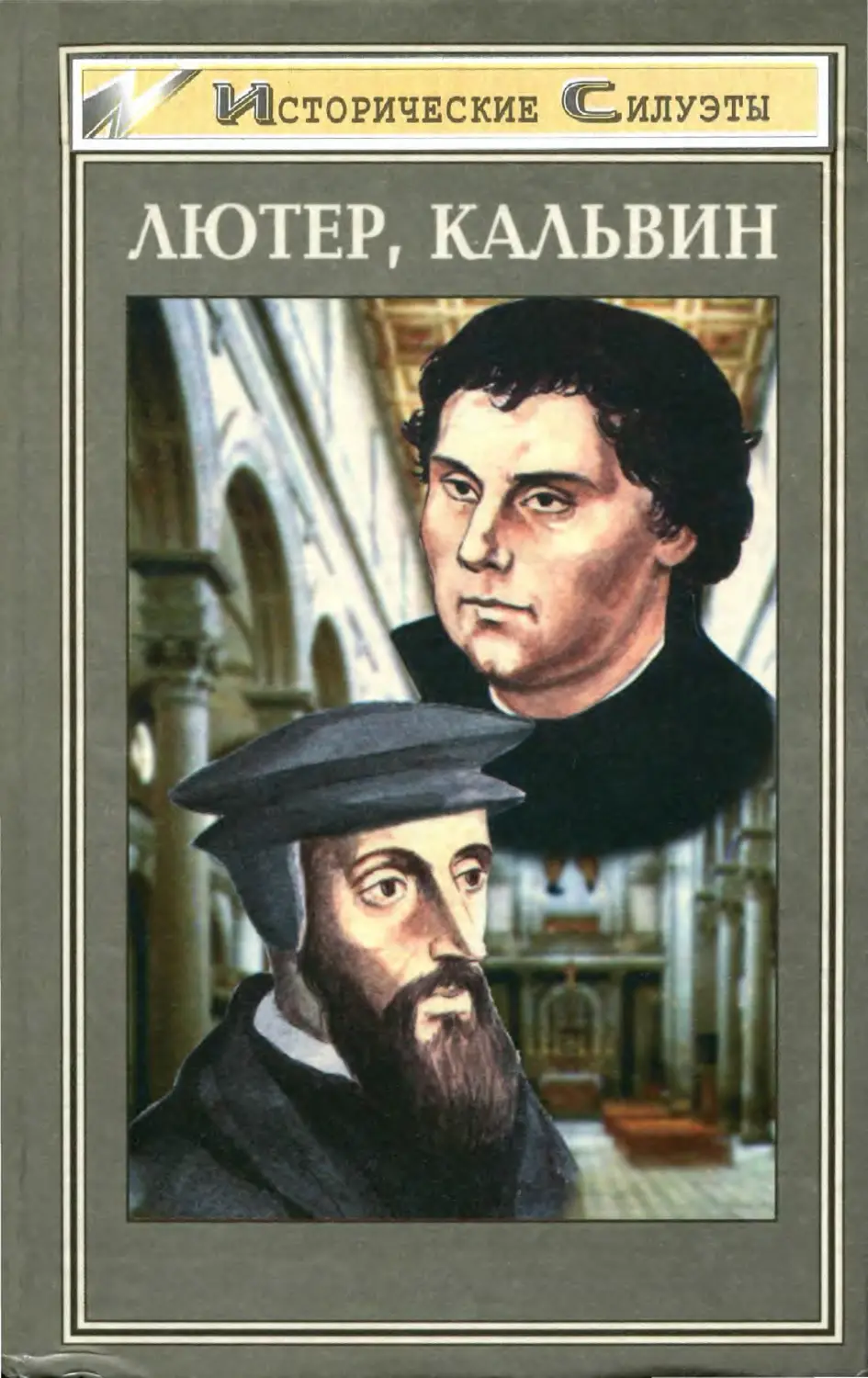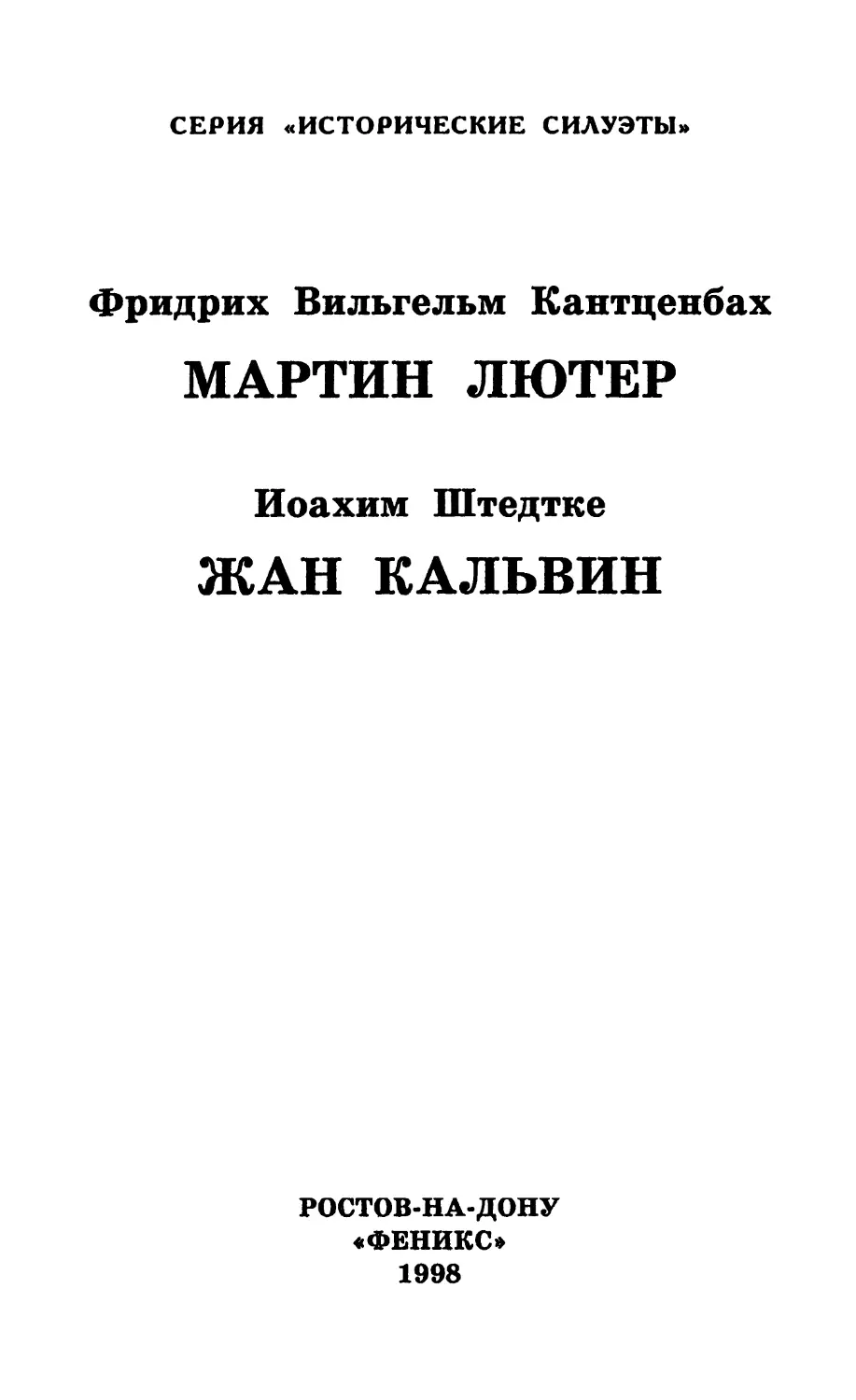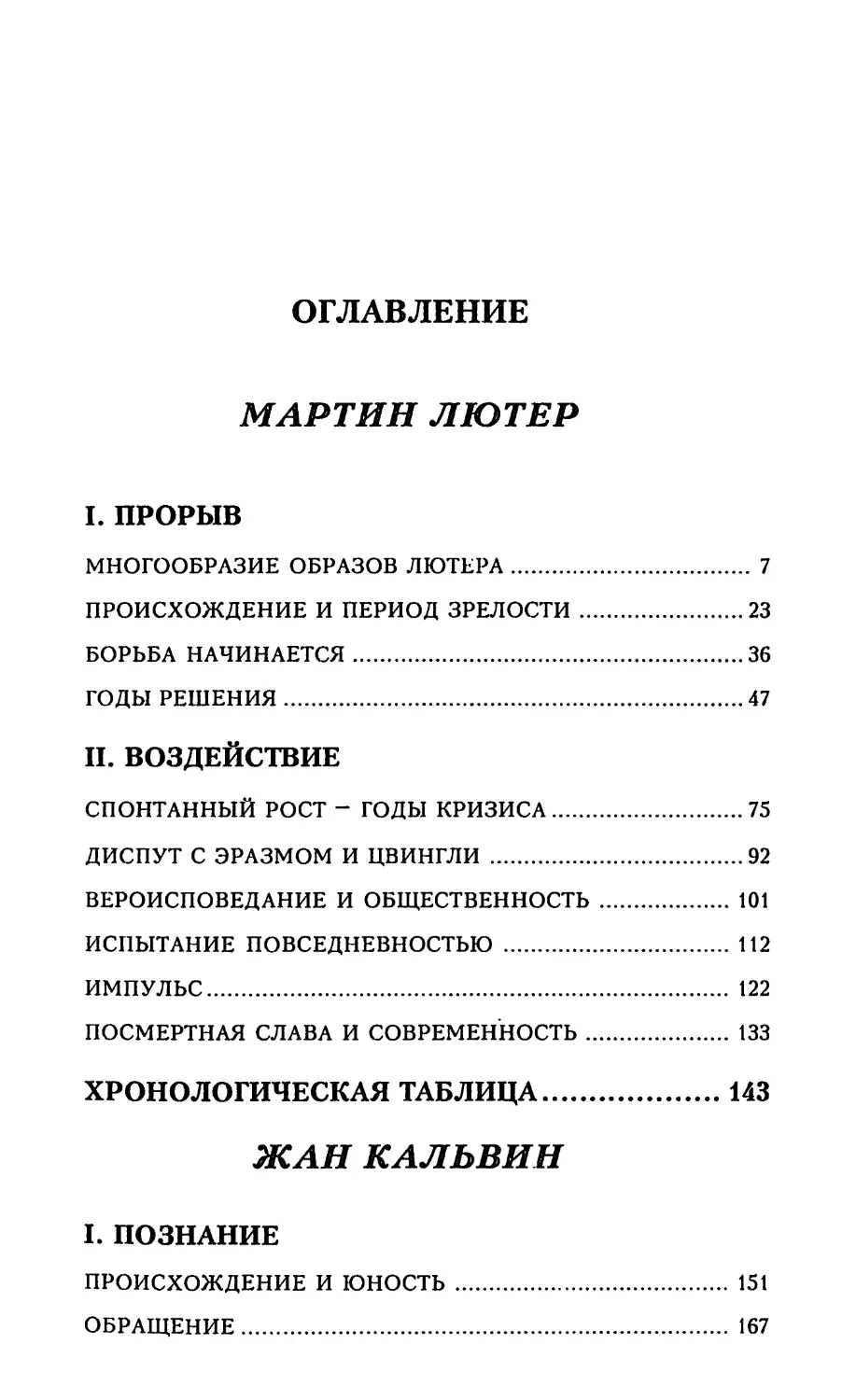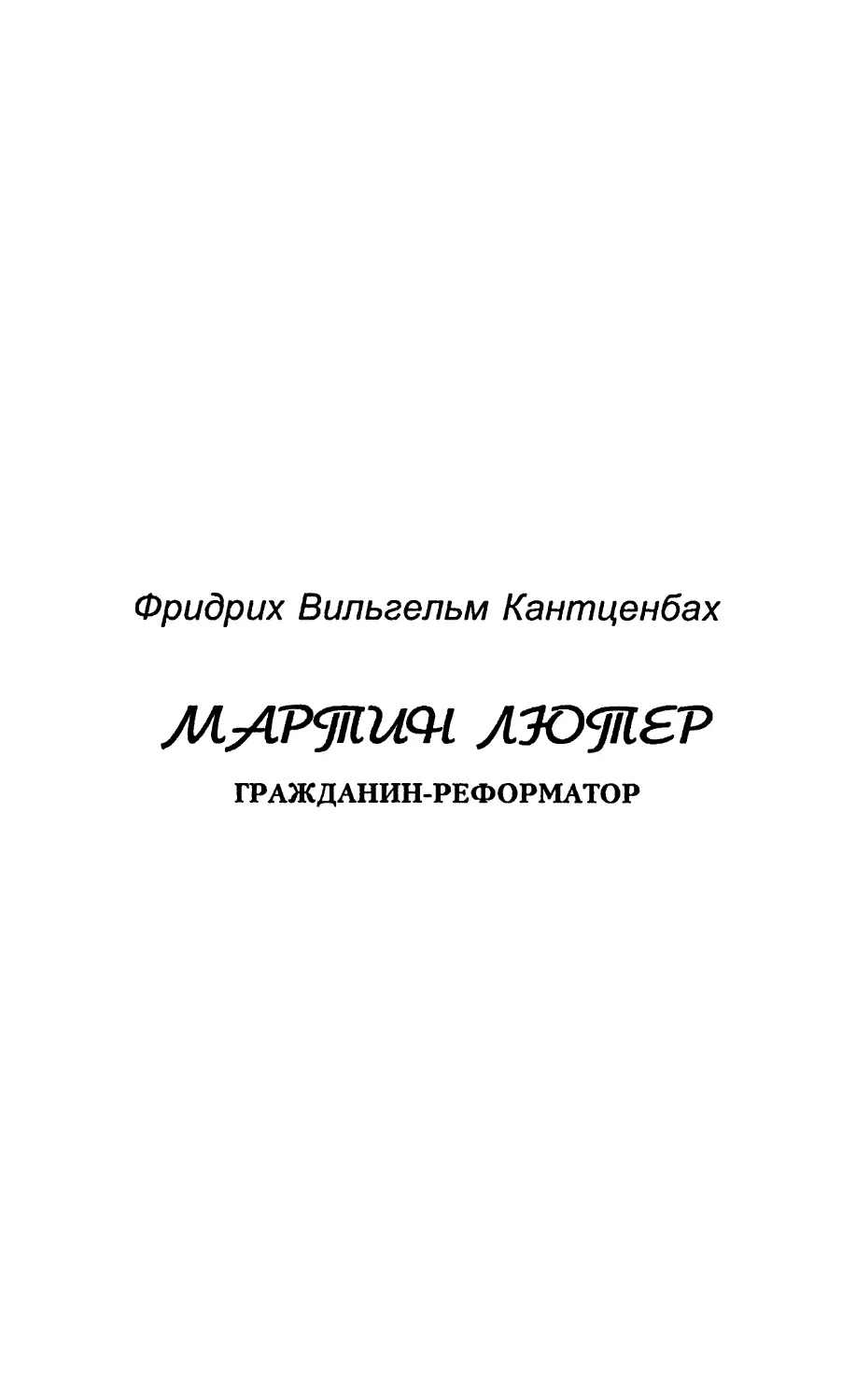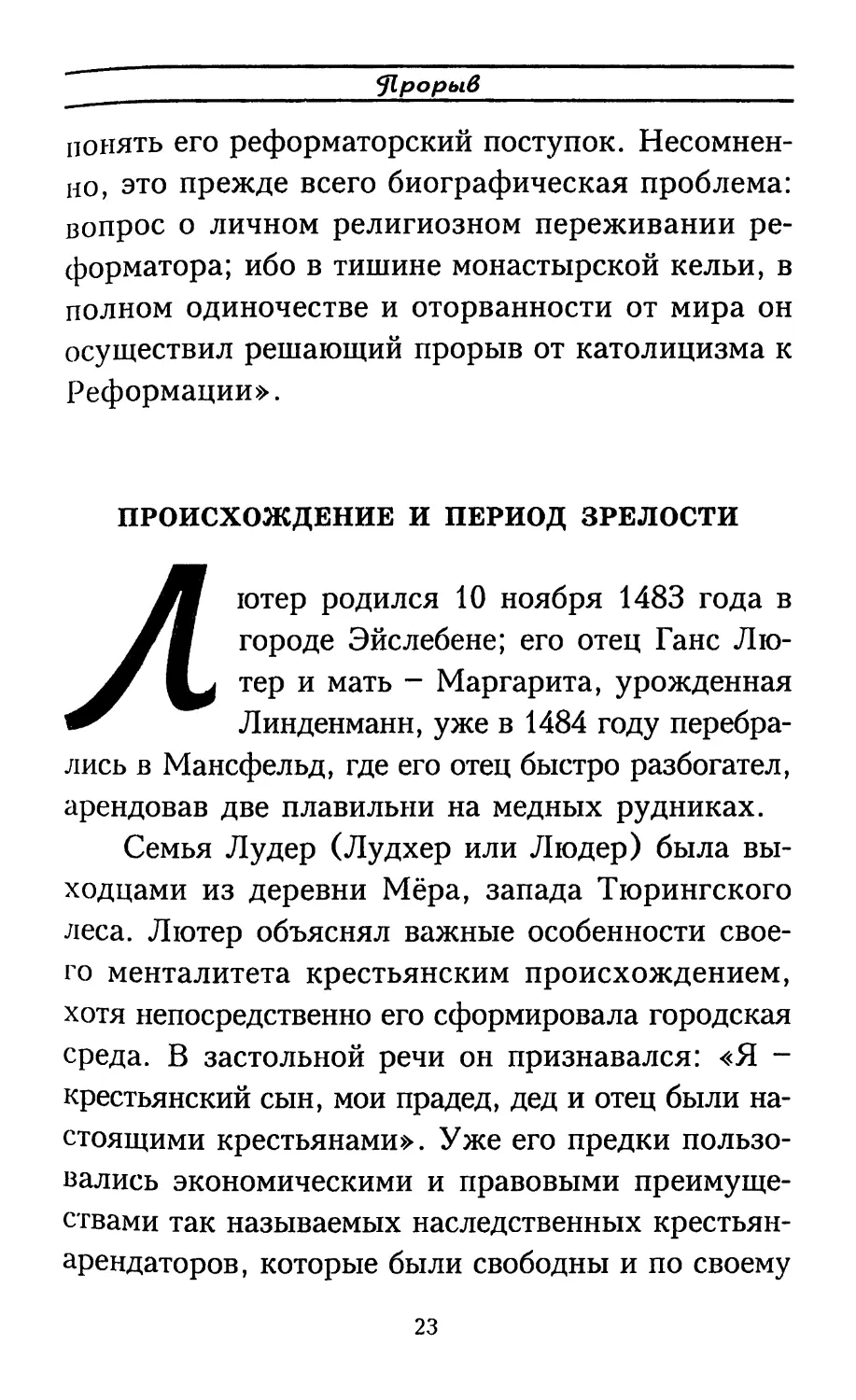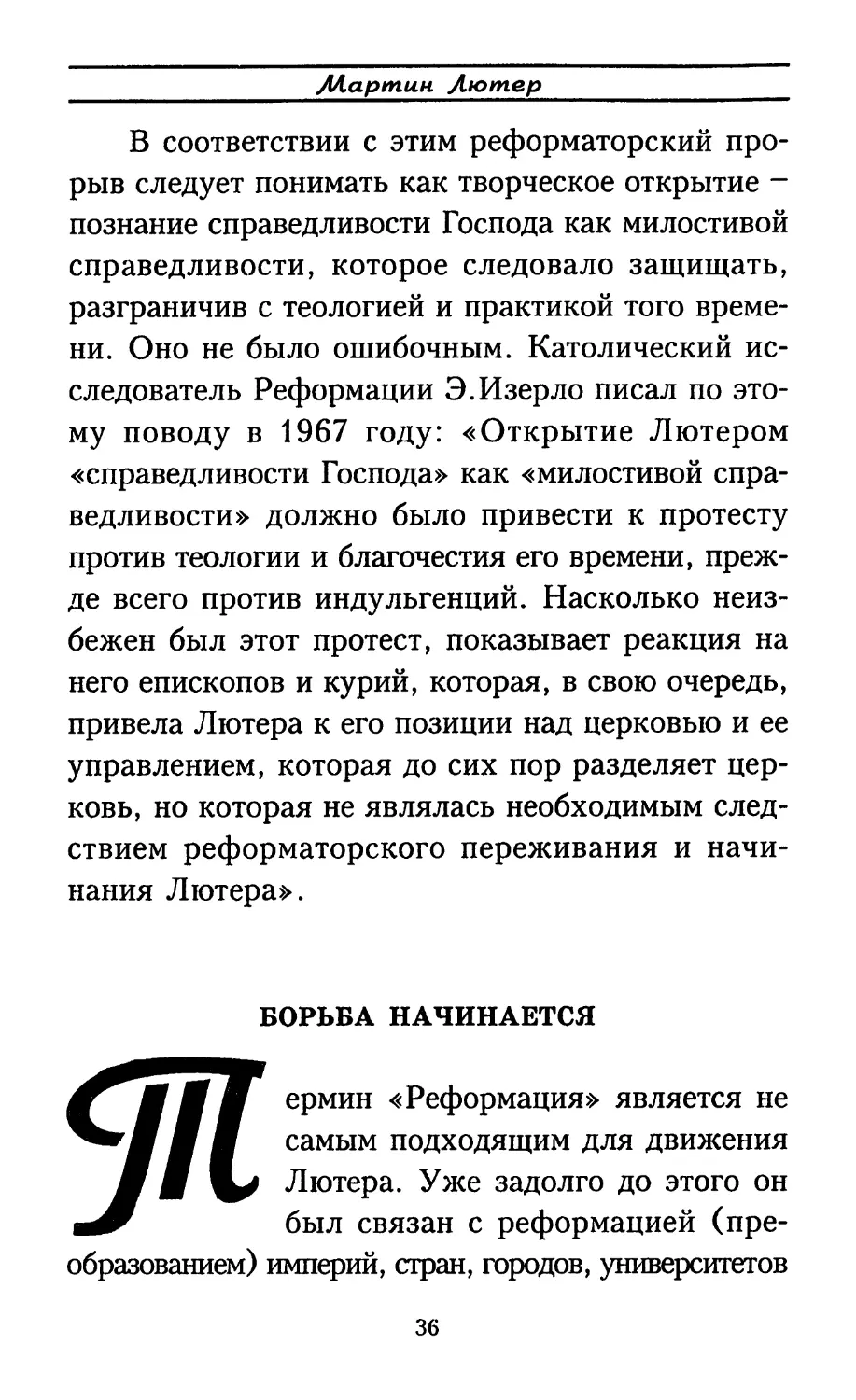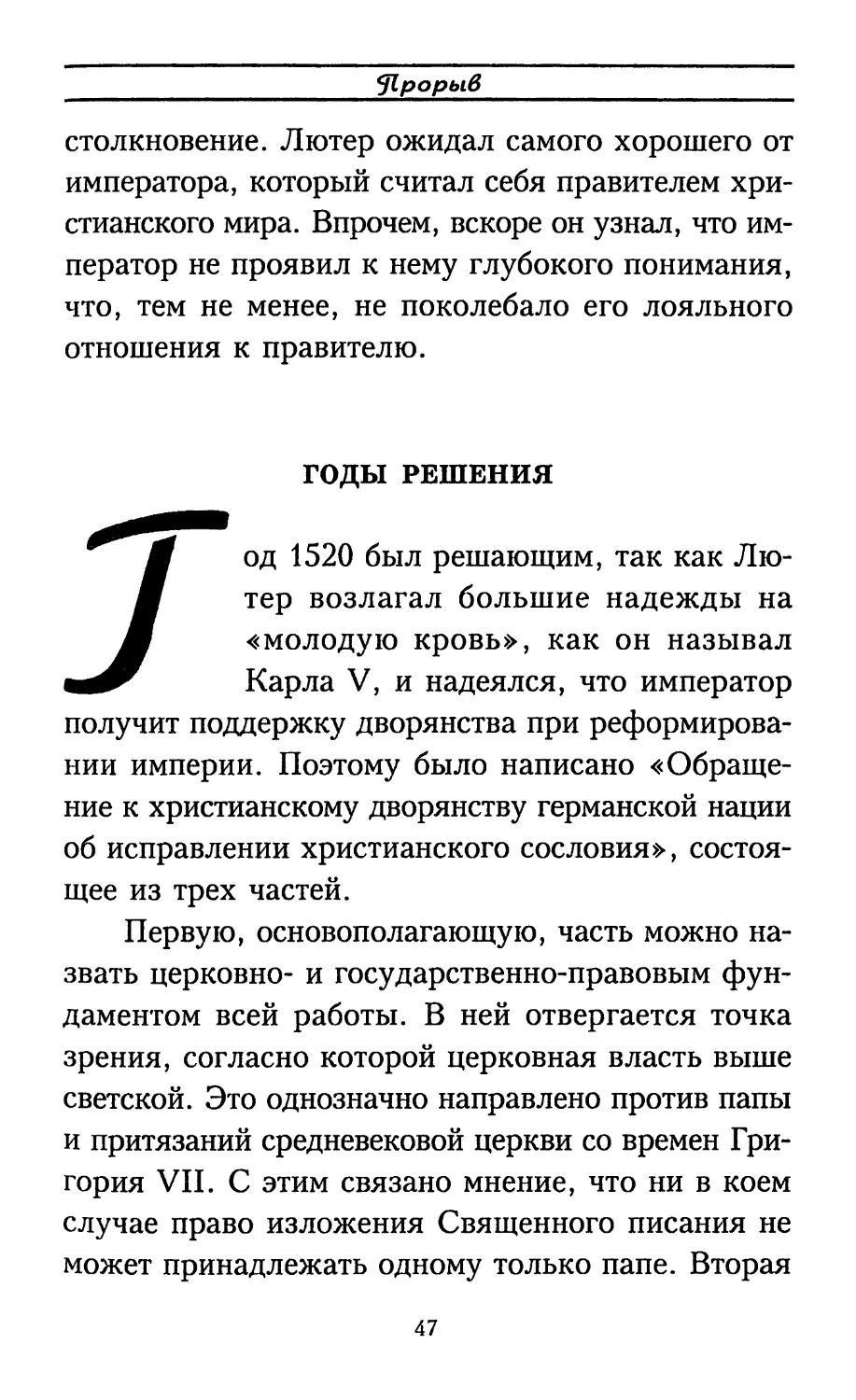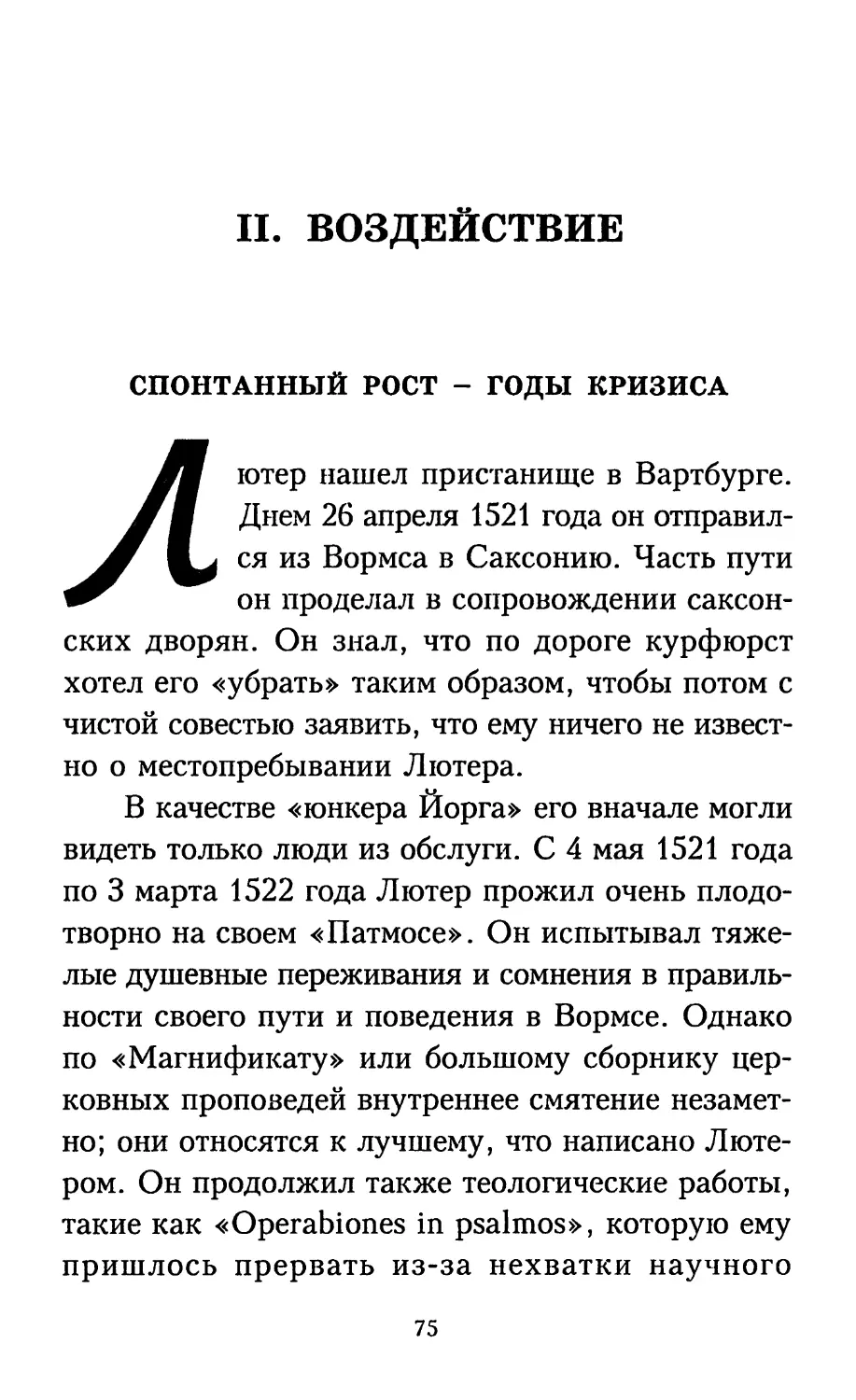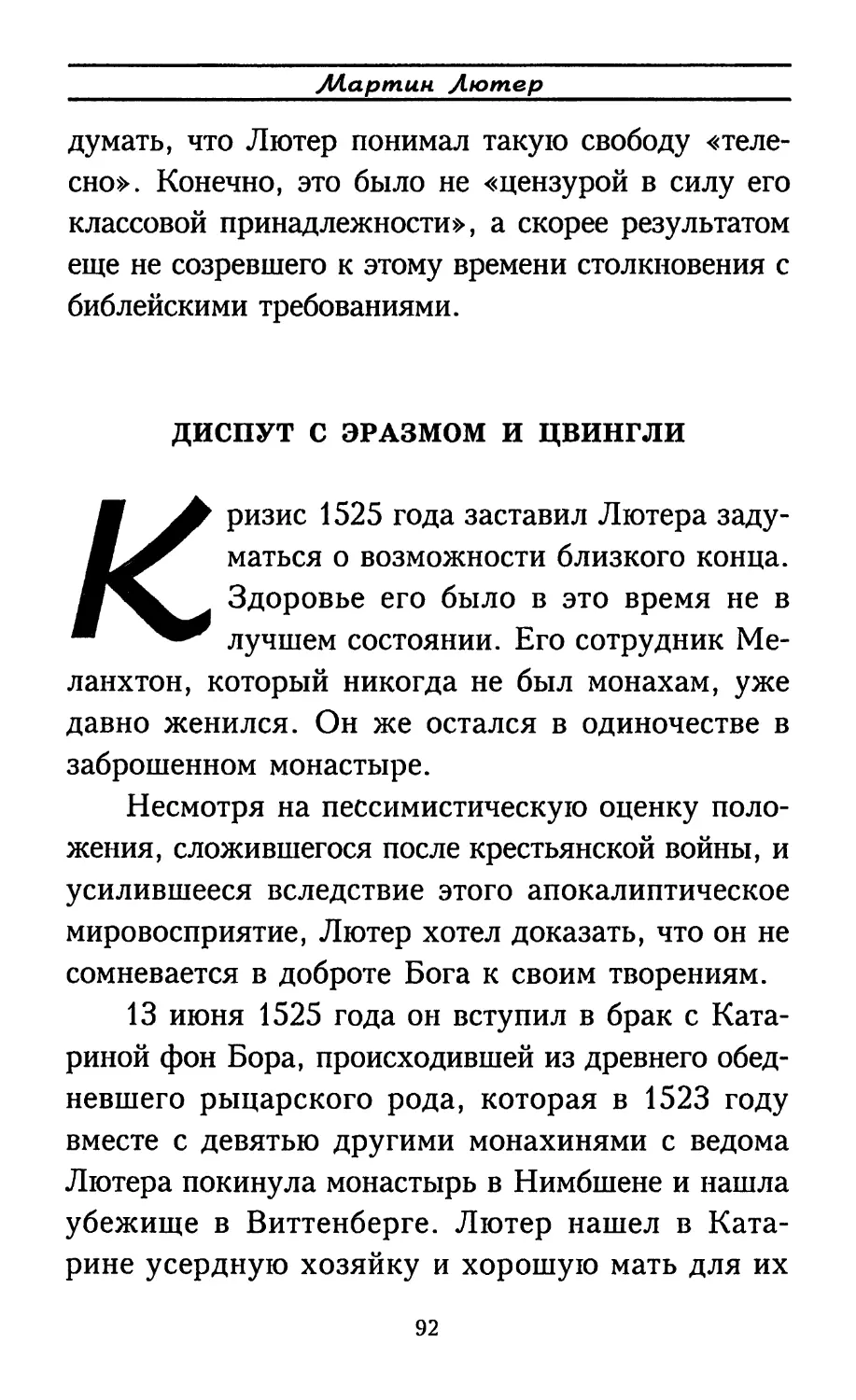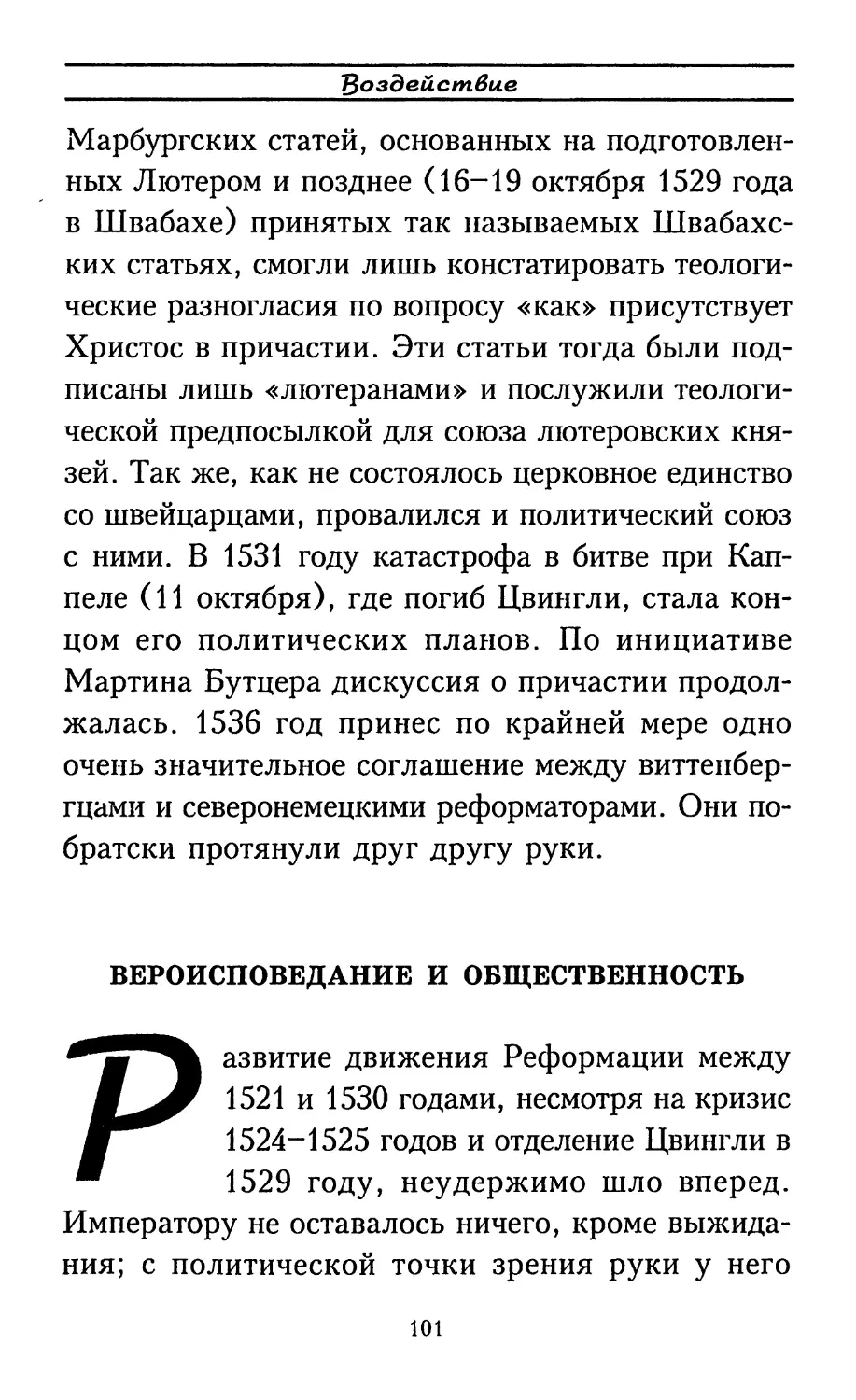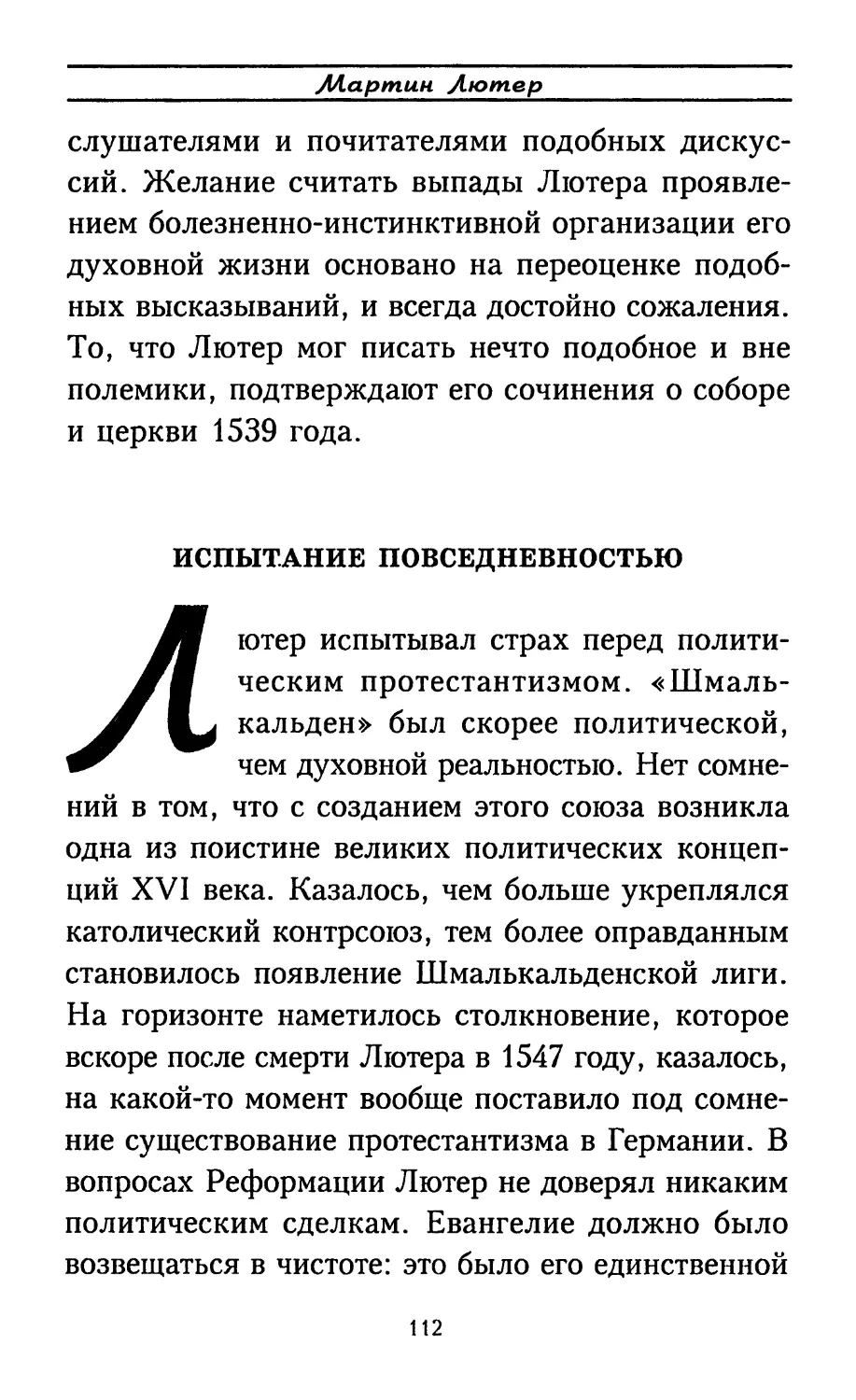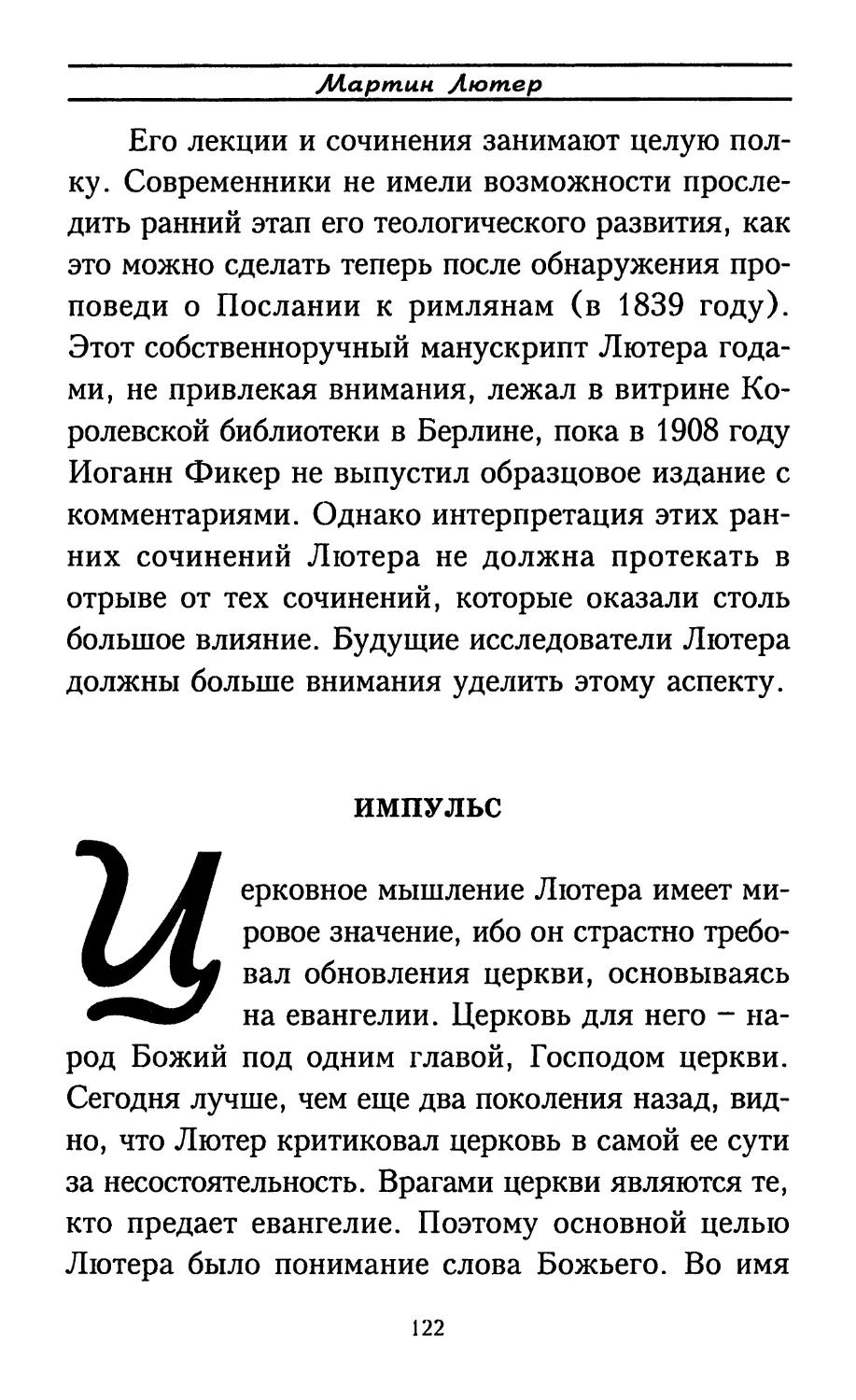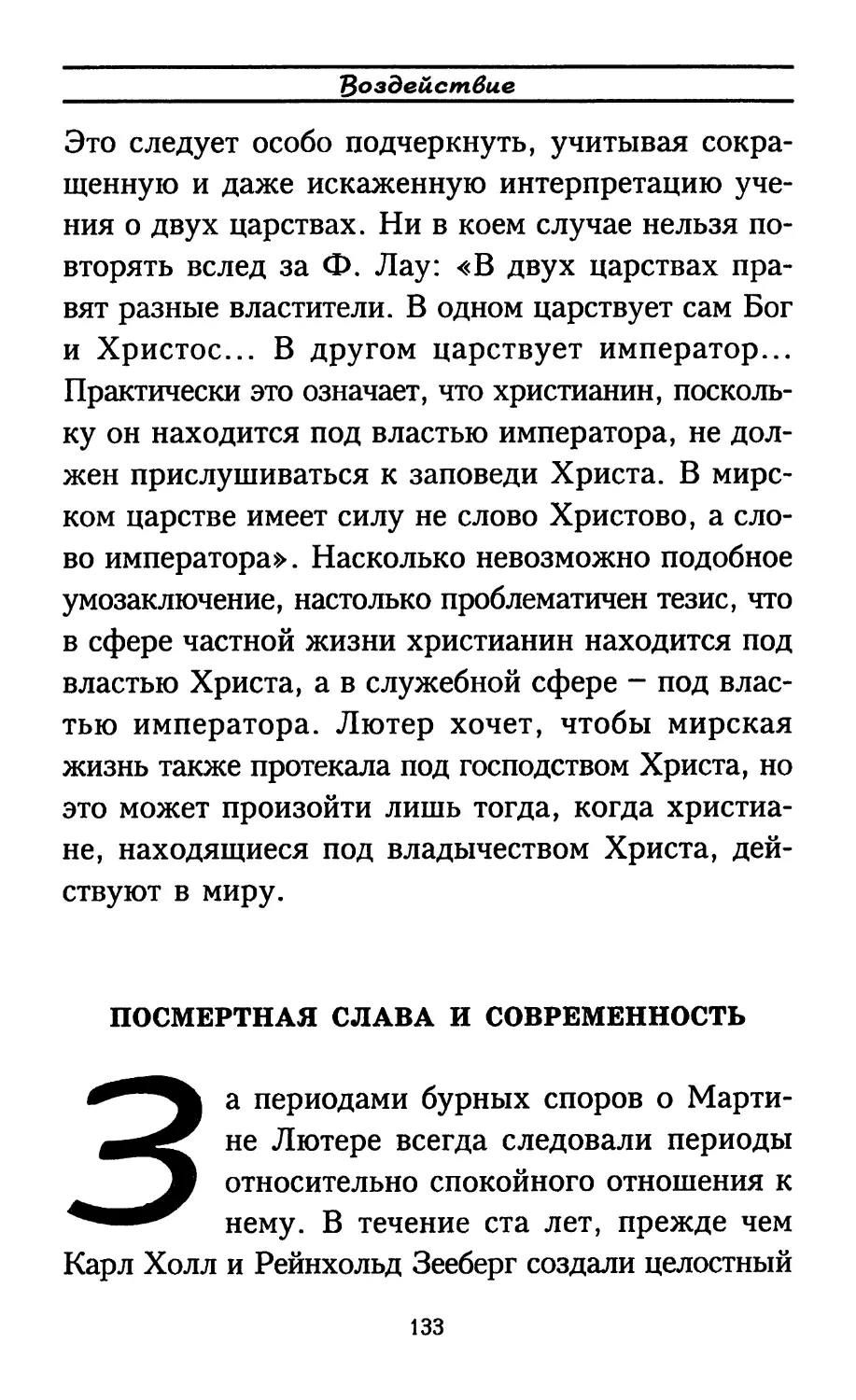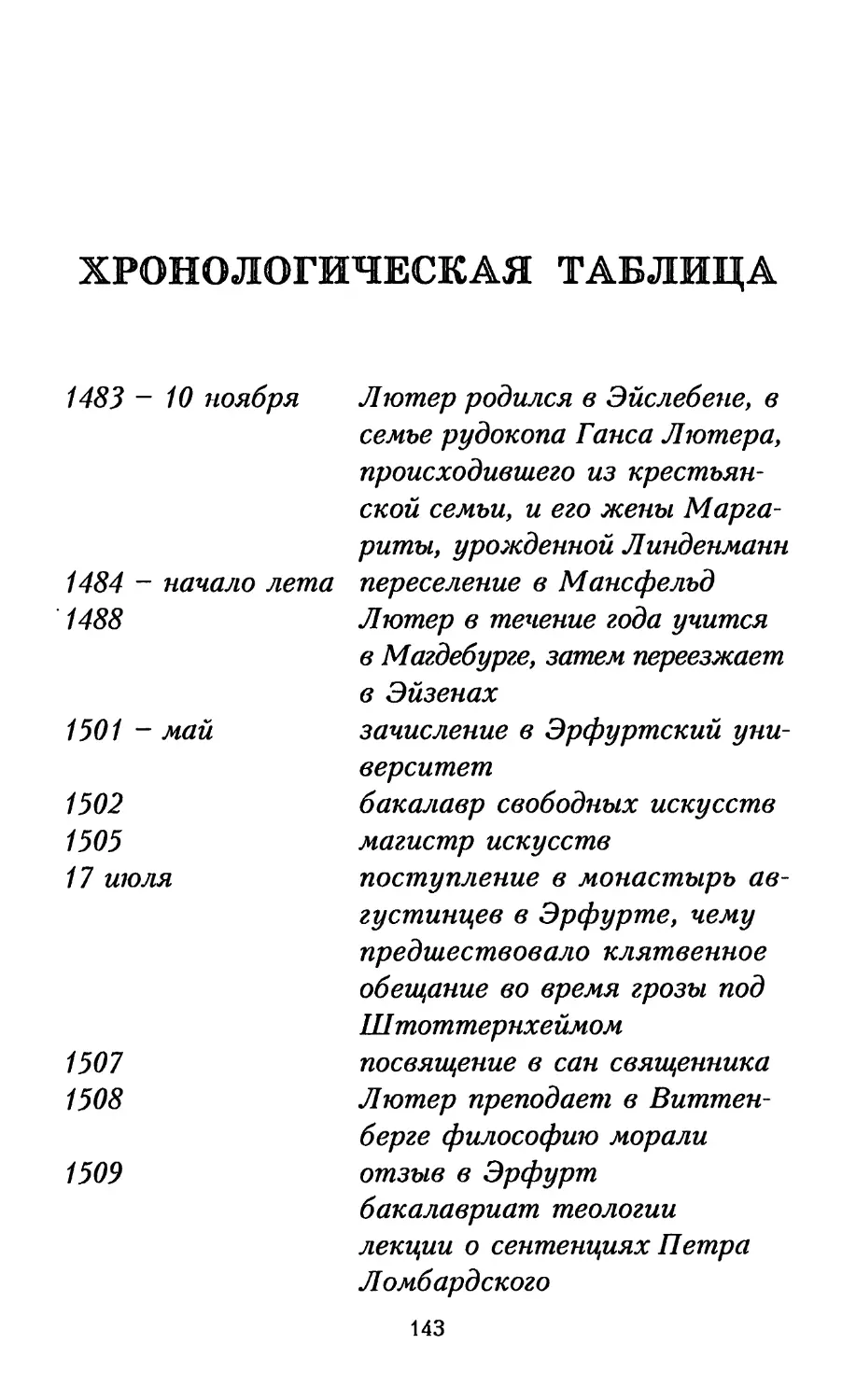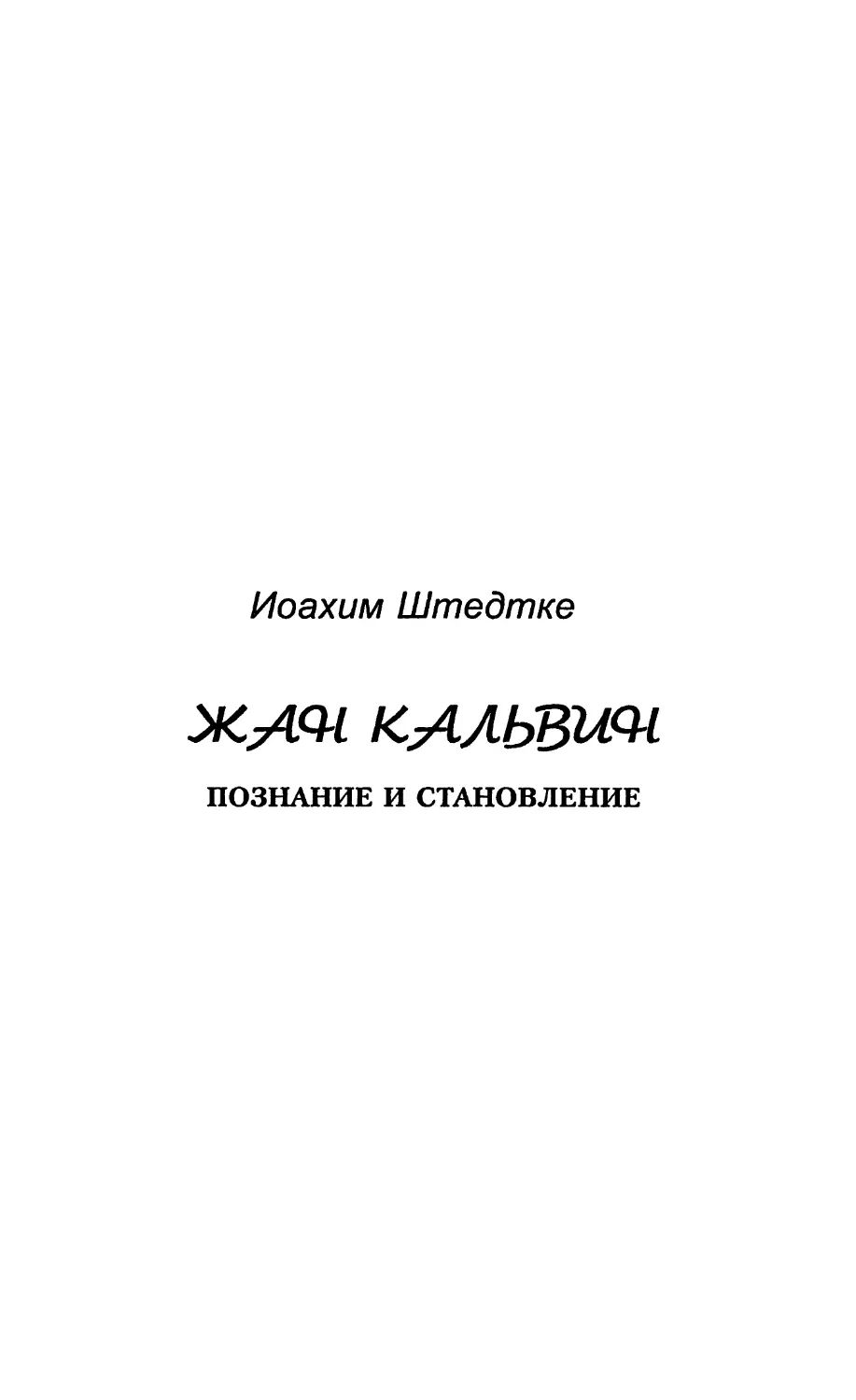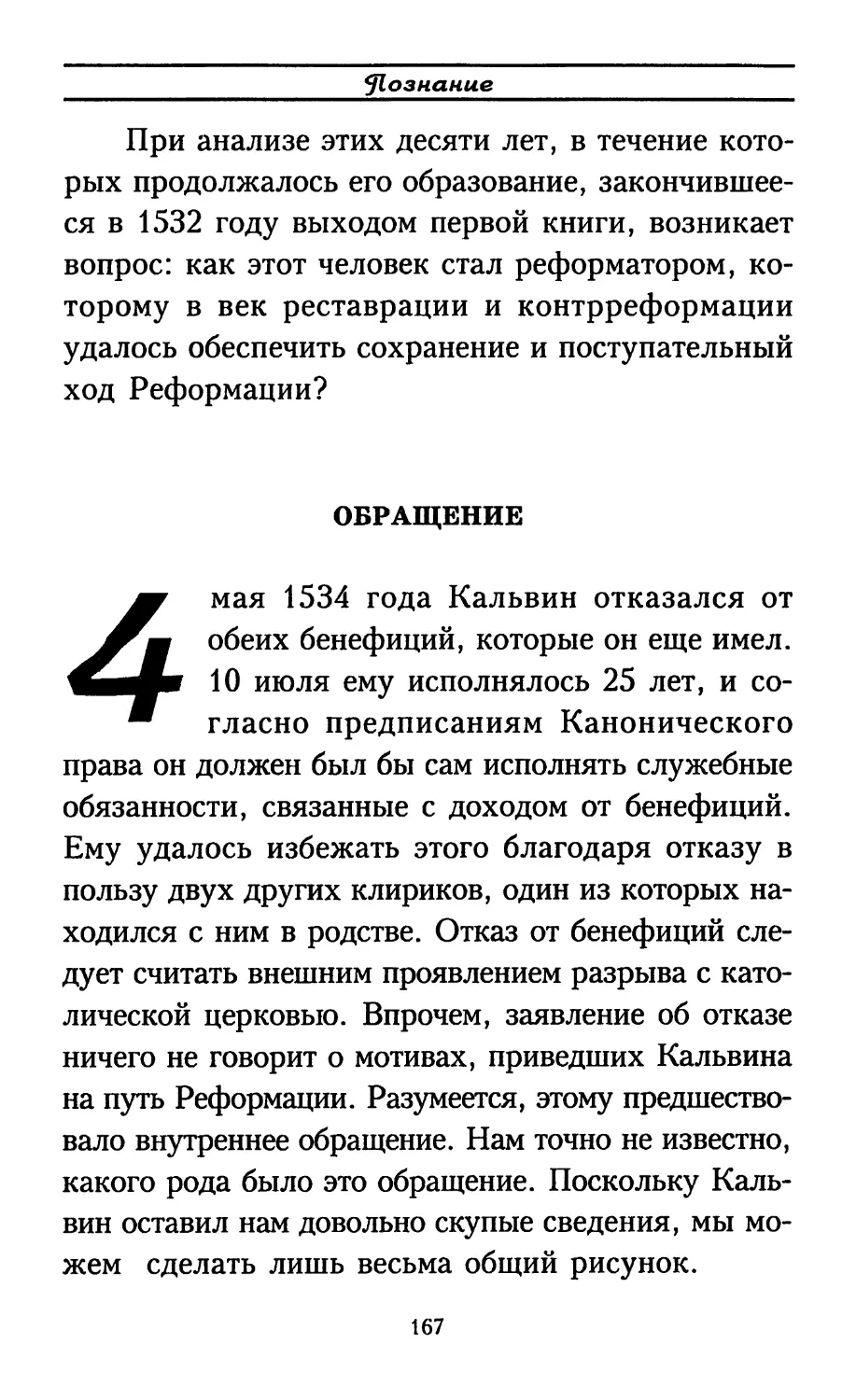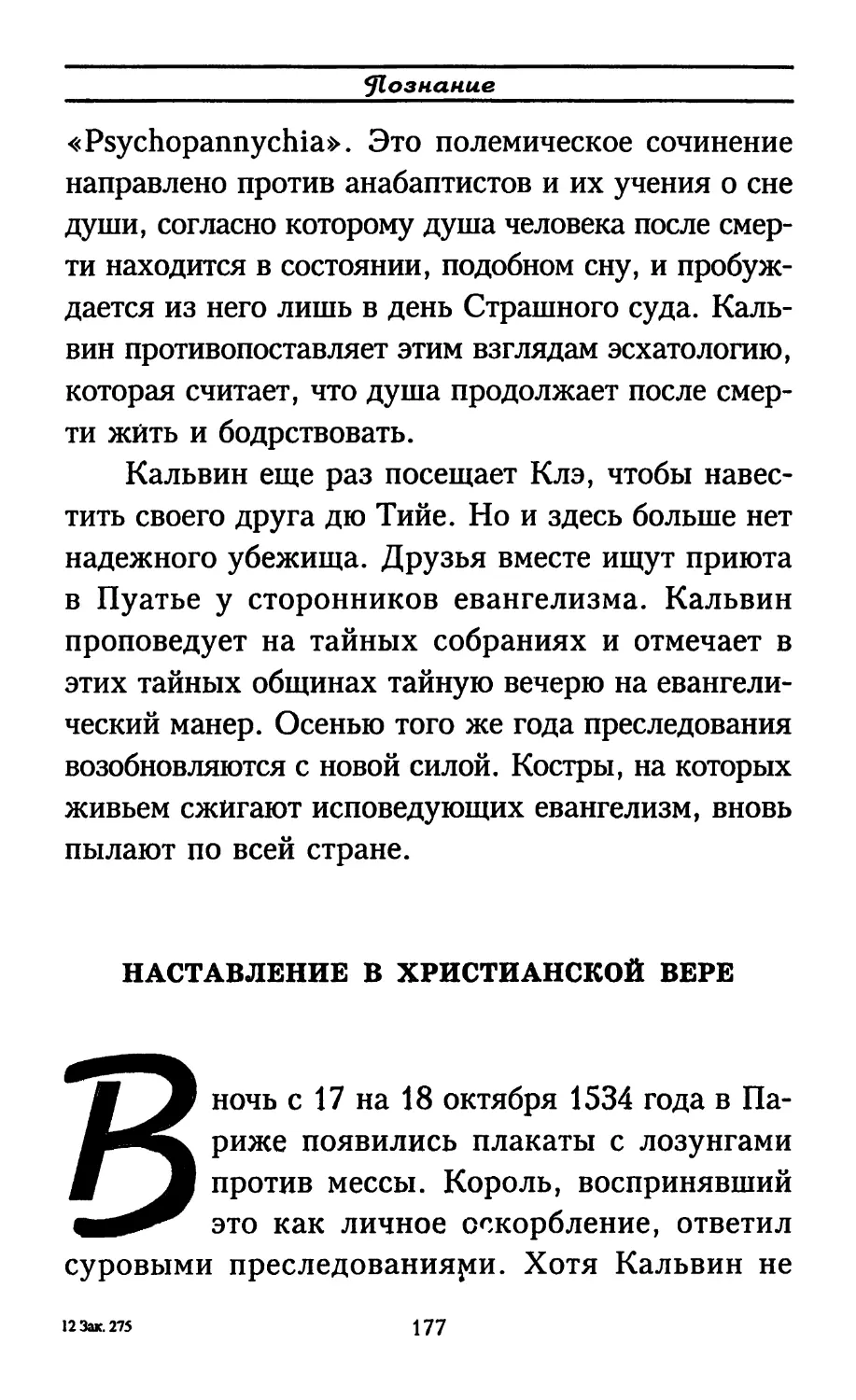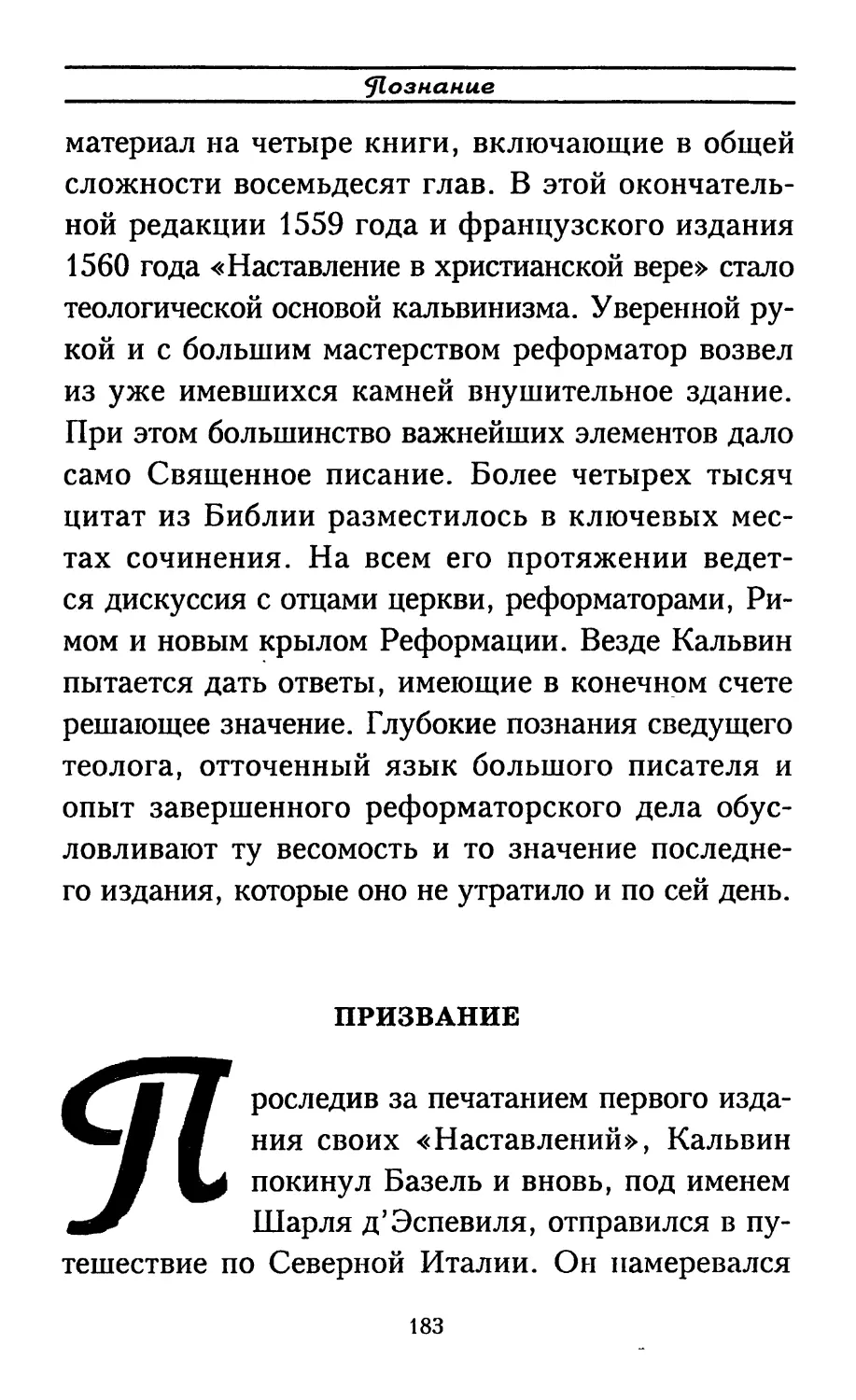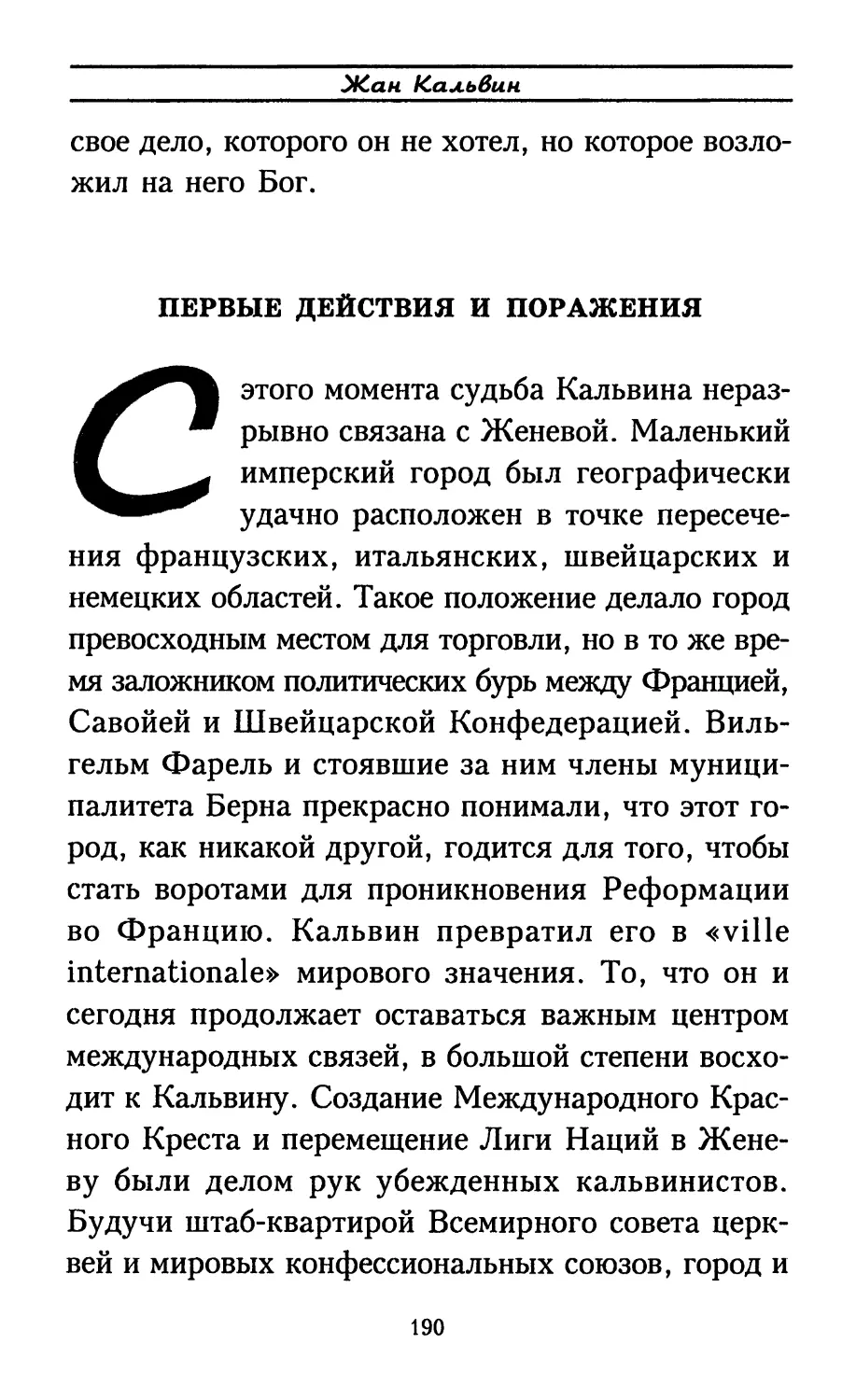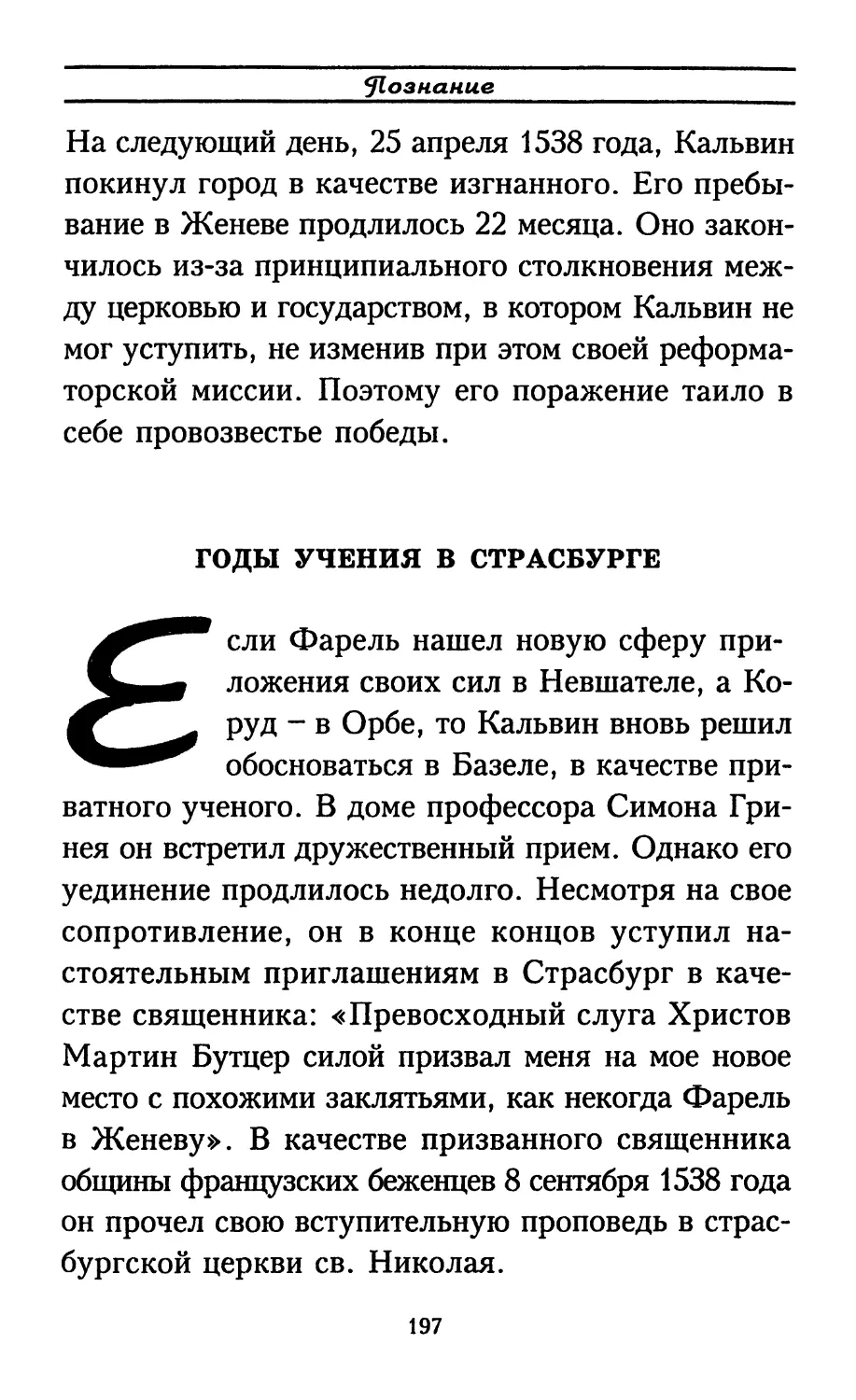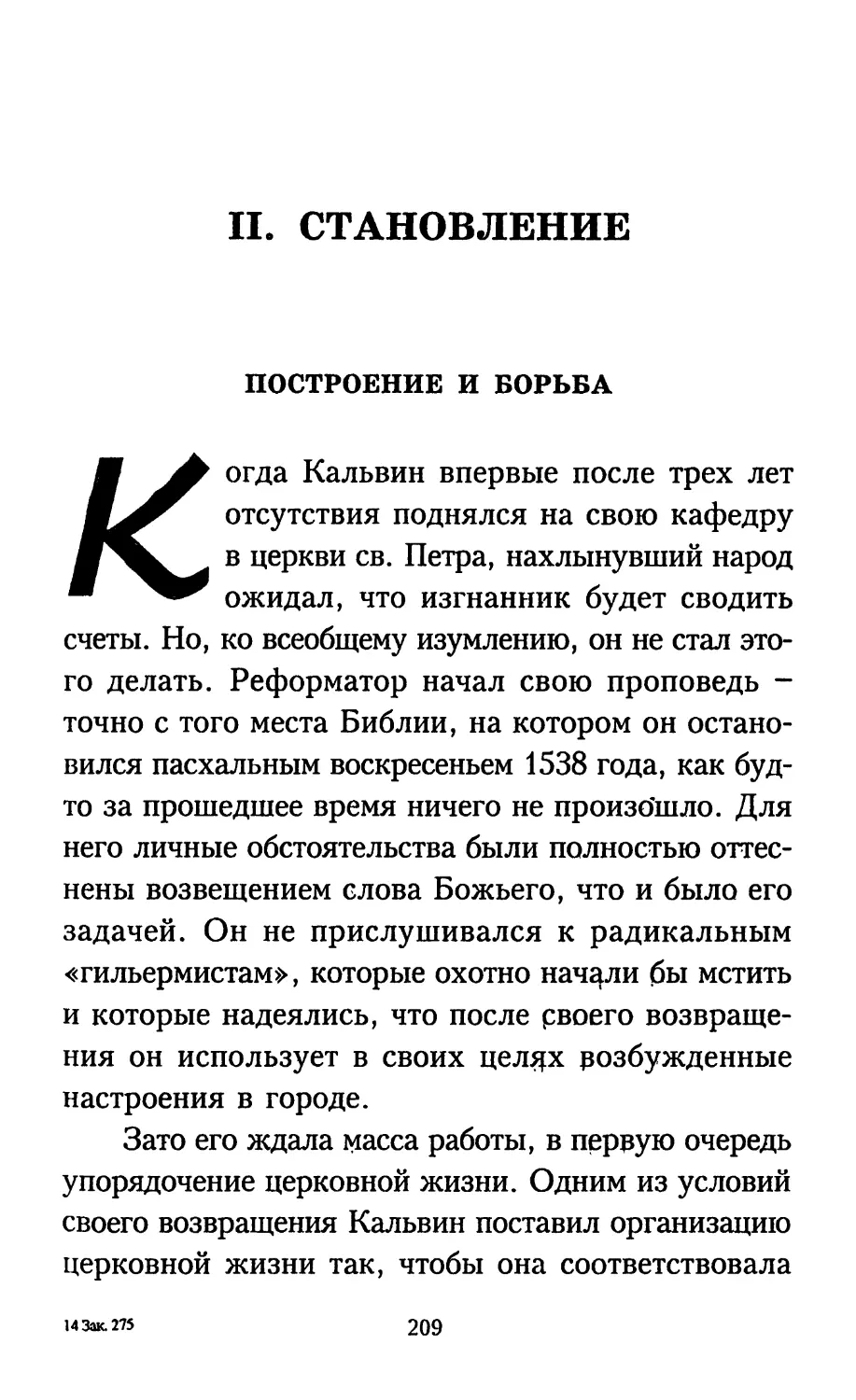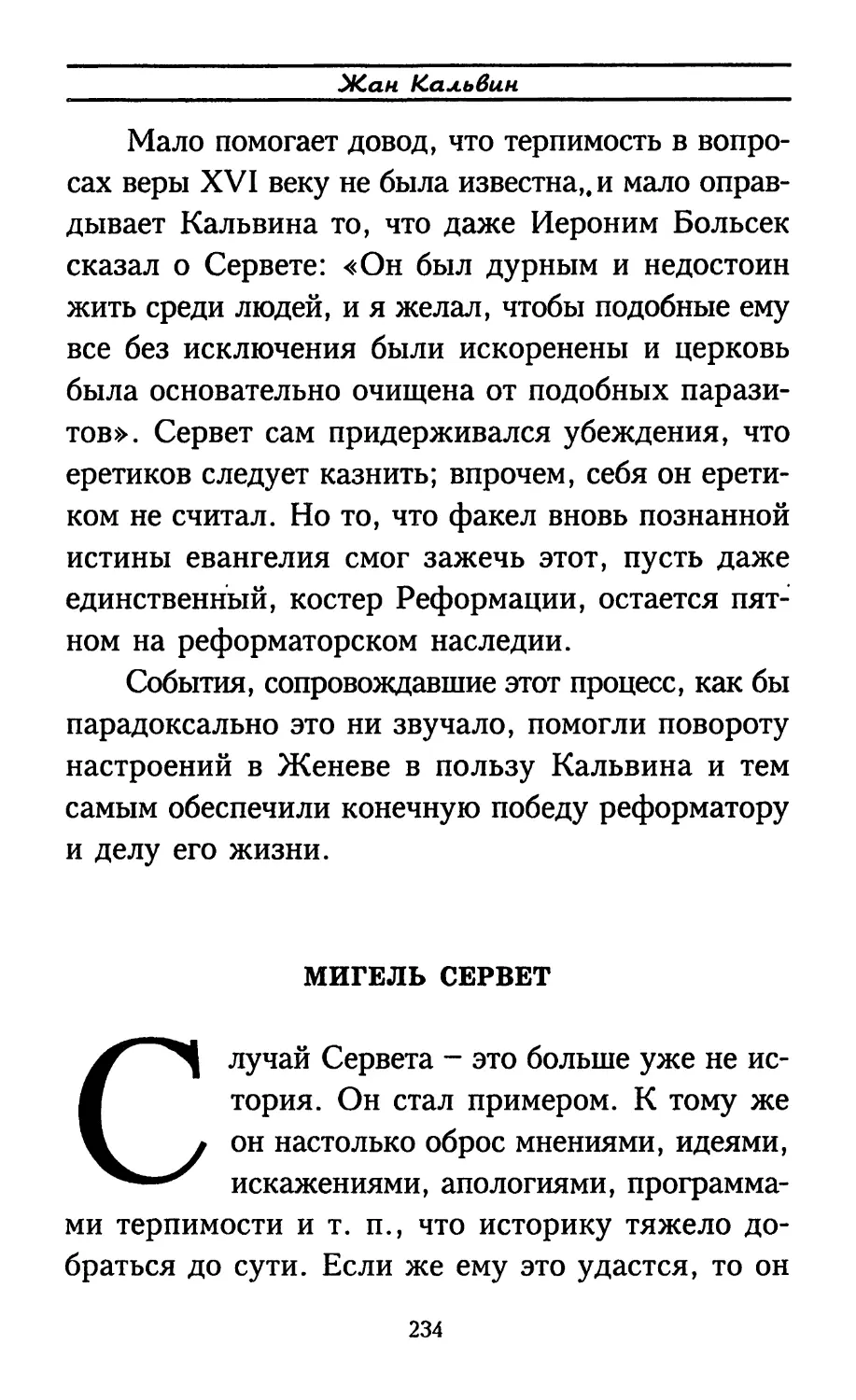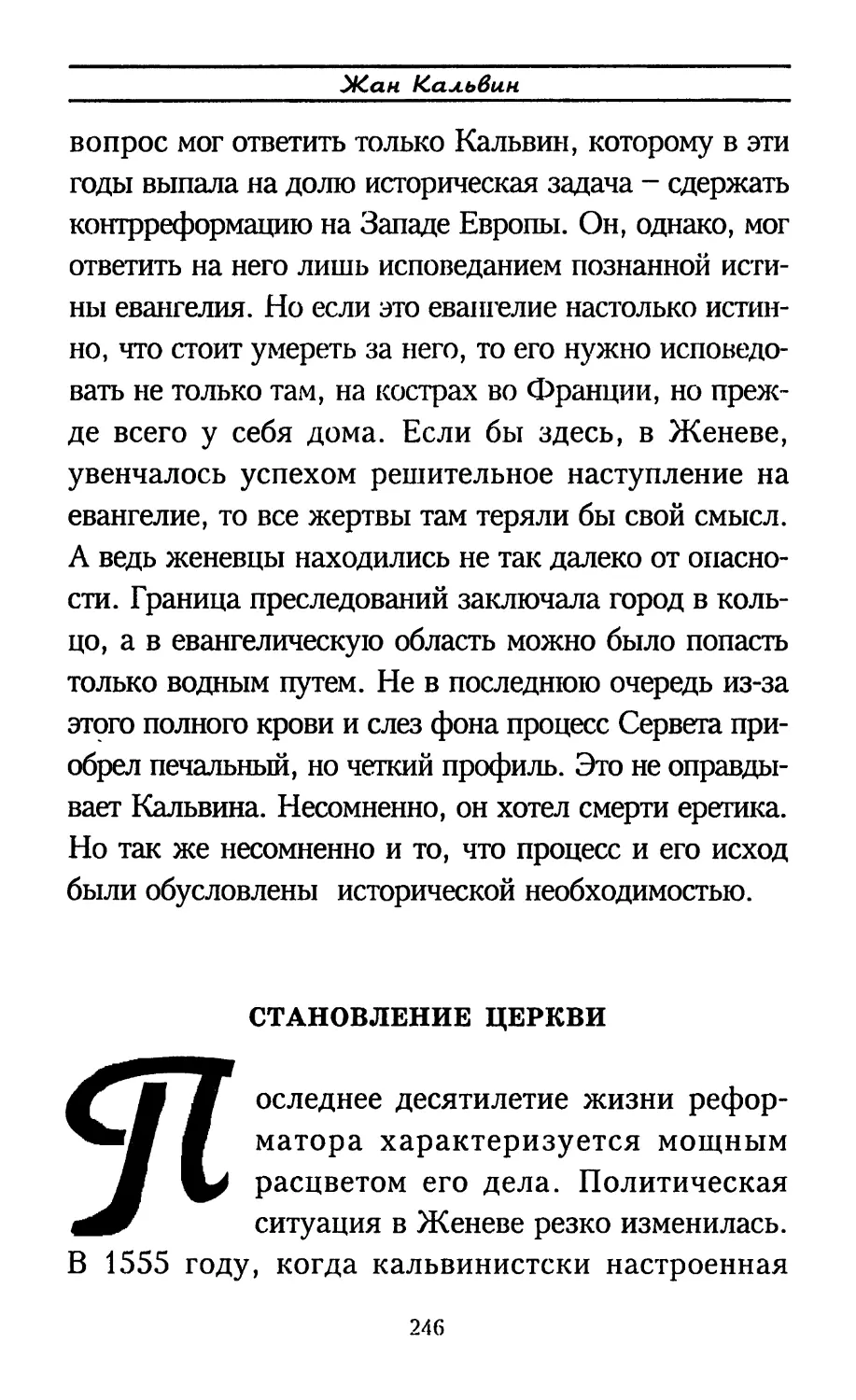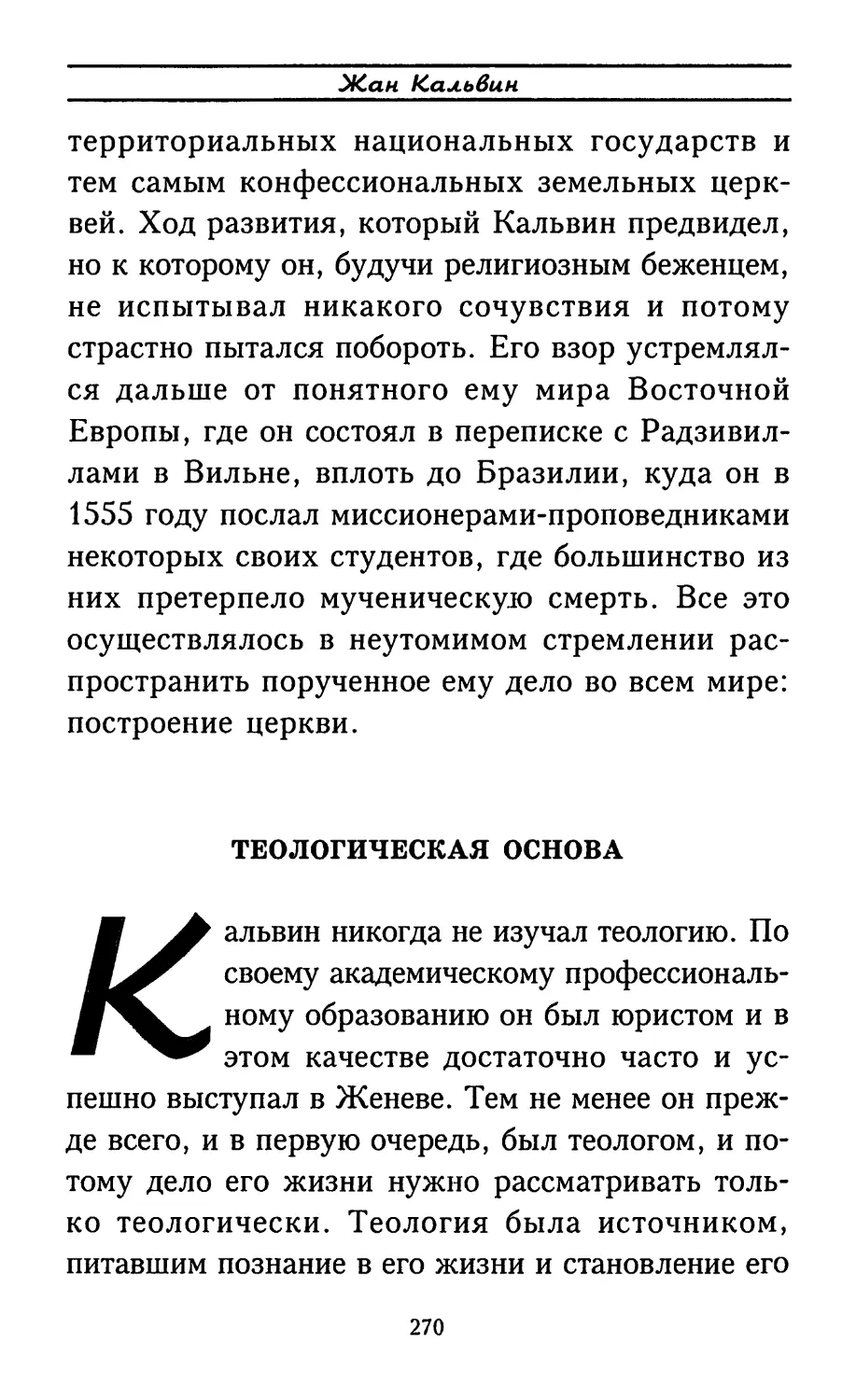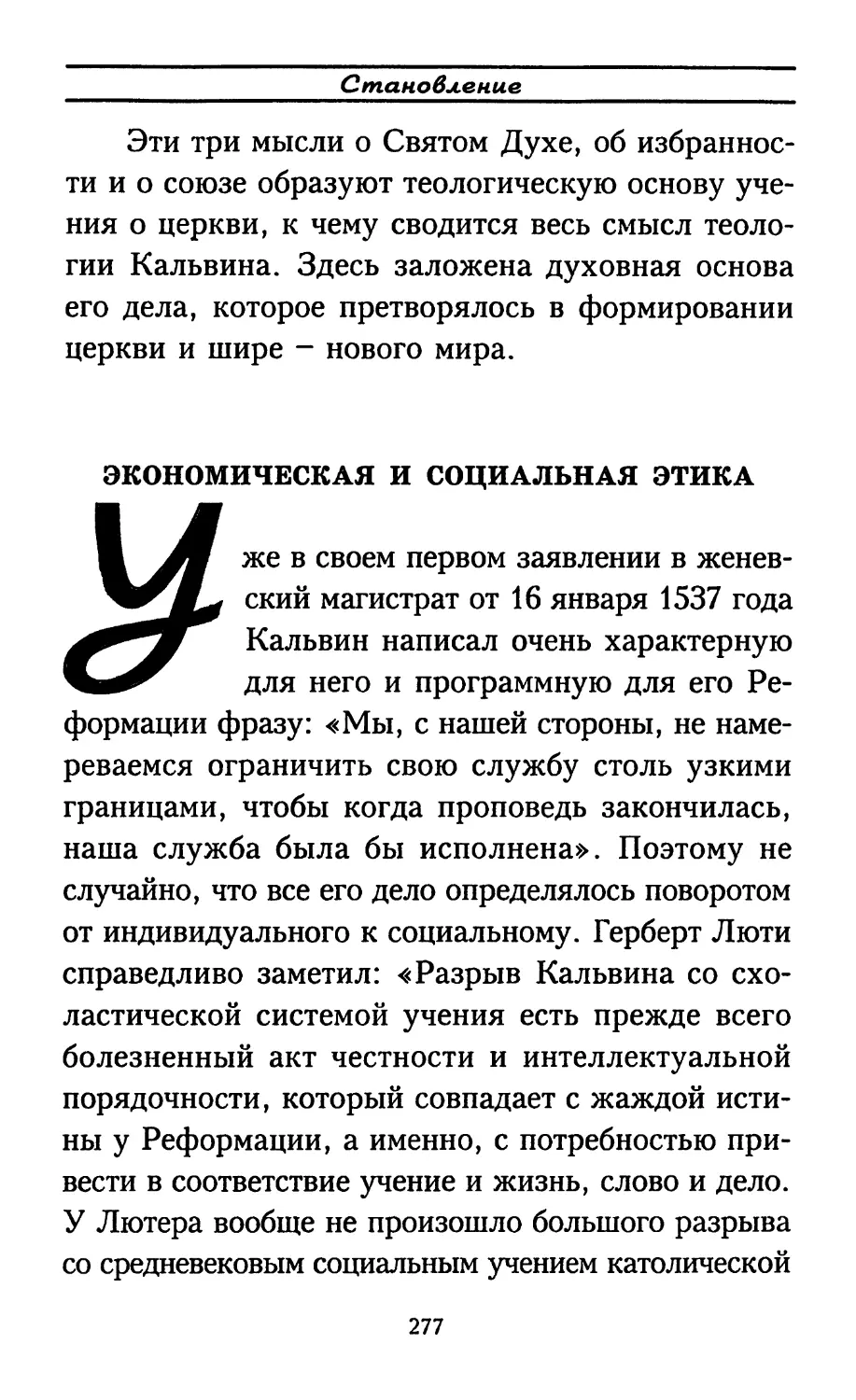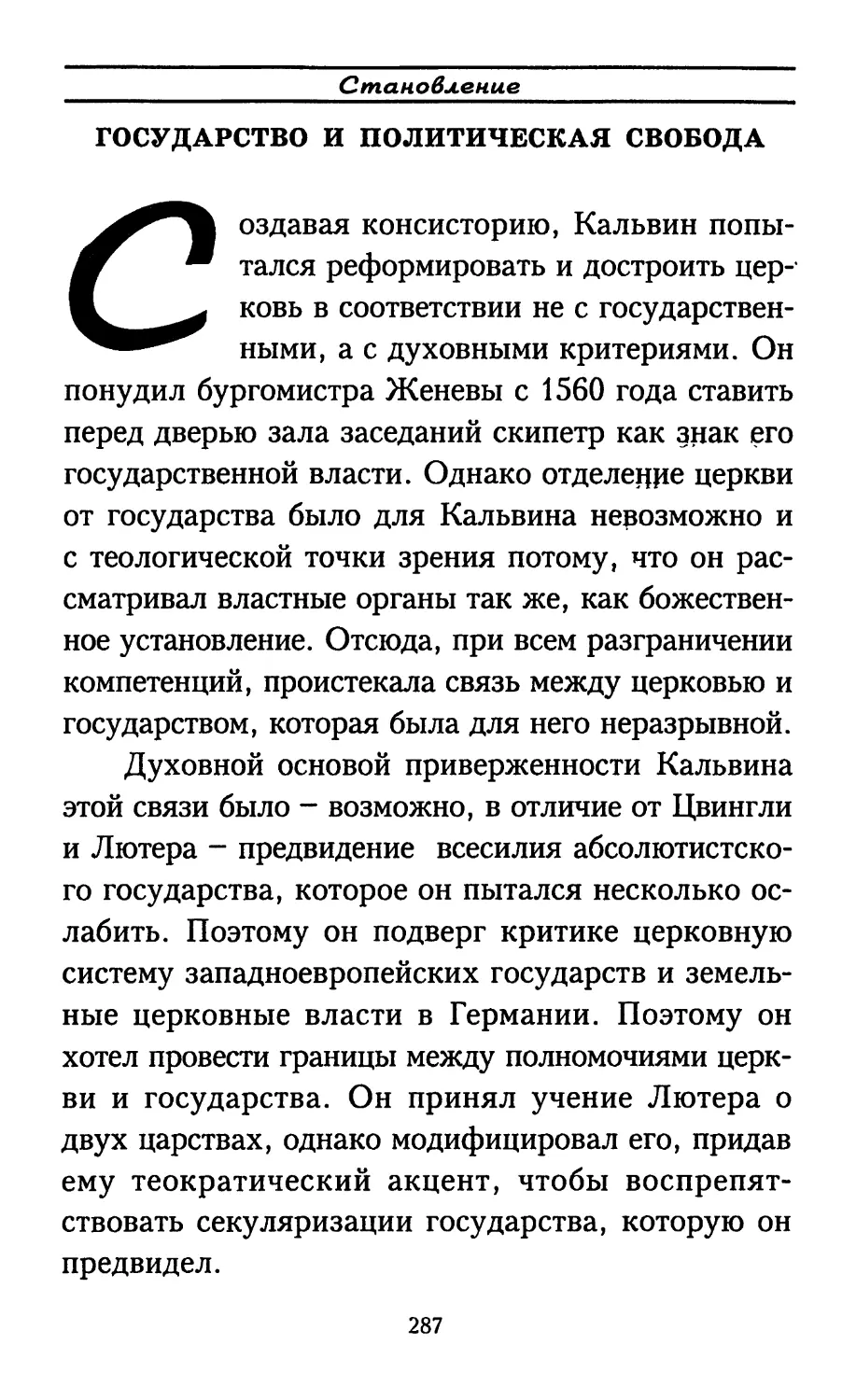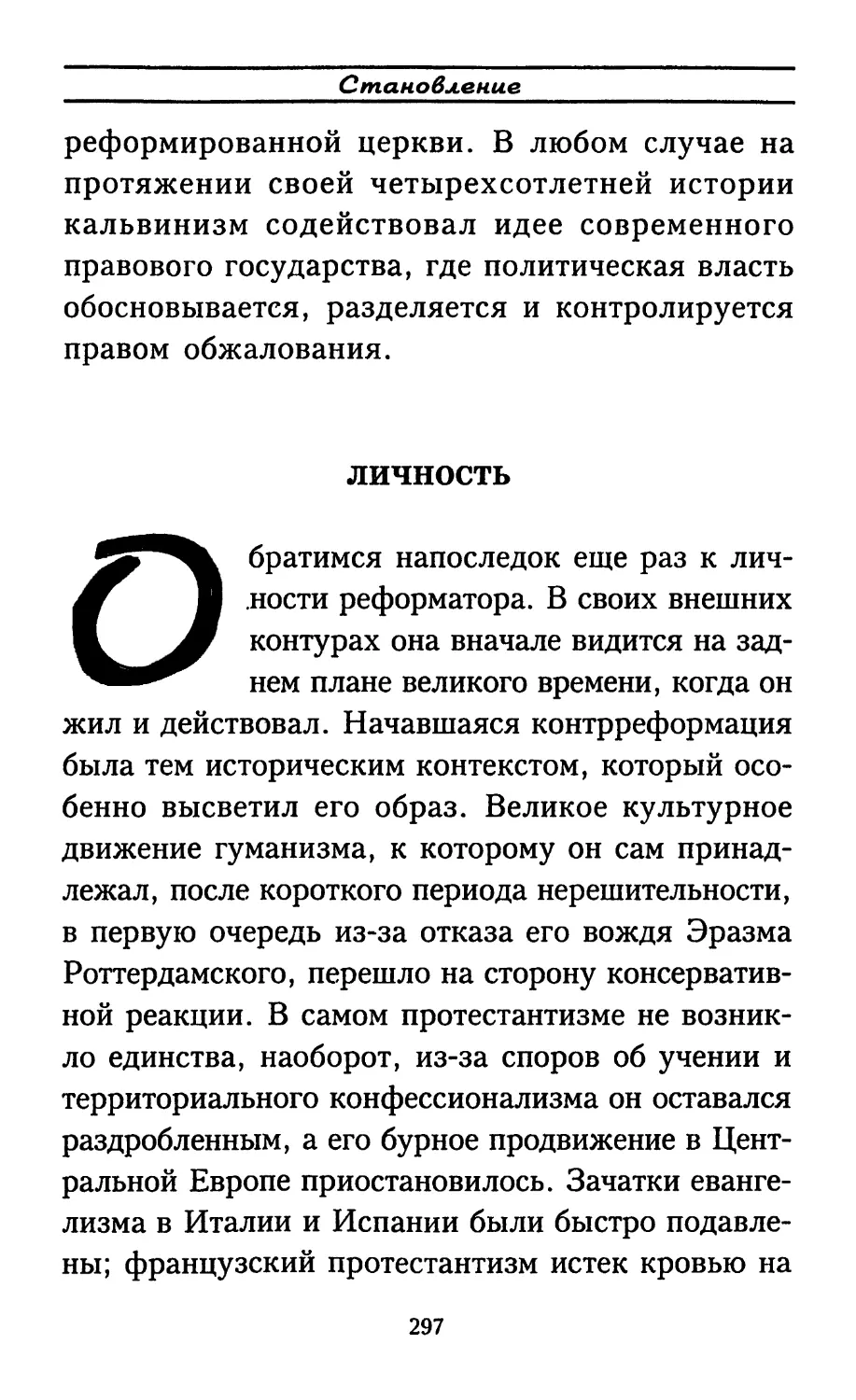Автор: Кантценбах Ф. Штедтке И.
Теги: живопись художественная литература развитие духовной культуры
ISBN: 5-85-880-382-2
Год: 1998
Текст
СЕРИЯ «ИСТОРИЧЕСКИЕ СИЛУЭТЫ»
Фридрих Вильгельм Кантценбах
МАРТИН ЛЮТЕР
Иоахим Штедтке
ЖАН КАЛЬВИН
РОСТОВ-НА-ДОНУ
«ФЕНИКС»
1998
ББК 85.143(3)
К 19
Перевод с немецкого
О. Е. Рыбкиной
К 19 Кантценбах Фридрих Вильгельм,
Штедтке Иоахим
Мартин Лютер. Жан Кальвин. Серия «Исто¬
рические силуэты». Ростов-на-Дону: «Феникс»,
1998. - 320 с.
Книга посвящена Мартину Лютеру, немецкому мыс¬
лителю и общественному деятелю, главе Реформации,
основателю немецкого лютеранства и одному из созда¬
телей общенемецкого литературного языка; рядом с ним
стоит имя Жана Кальвина, деятеля Реформации, осно¬
вателя кальвинизма.
Развитие духовной культуры Европы XVI века про¬
ходило в тесном переплетении светских и религиозных
мотивов. Поэтому большое значение для истории фи¬
лософии и культуры имеет 1517 год, когда 31 октября
Мартин Лютер обнародовал на паперти Виттснбсргско-
го собора свои знаменитые 95 тезисов против папских
индульгенций. С этого момента началась эпоха Рефор¬
мации, которую трудно понять без Лютера - так же, как
невозможно воссоздать се без вклада Жана Кальвина.
ISBN 5-85-880-382-2
ББК 85.143(3)
© 1969 Mustcrschmidt-Vcrlag
© Перевод: О. Е. Рыбкиной, 1998
© Оформление: издательство
«Феникс», 1998
ОГЛАВЛЕНИЕ
МАРТИН ЛЮТЕР
I. ПРОРЫВ
МНОГООБРАЗИЕ ОБРАЗОВ ЛЮТЕРА 7
ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ПЕРИОД ЗРЕЛОСТИ 23
БОРЬБА НАЧИНАЕТСЯ 36
ГОДЫ РЕШЕНИЯ 47
И. ВОЗДЕЙСТВИЕ
СПОНТАННЫЙ РОСТ - ГОДЫ КРИЗИСА 75
ДИСПУТ С ЭРАЗМОМ И ЦВИНГЛИ 92
ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 101
ИСПЫТАНИЕ ПОВСЕДНЕВНОСТЬЮ 112
ИМПУЛЬС 122
ПОСМЕРТНАЯ СЛАВА И СОВРЕМЕННОСТЬ 133
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 143
ЖАН КАЛЬВИН
I. ПОЗНАНИЕ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ЮНОСТЬ 151
ОБРАЩЕНИЕ 167
НАСТАВЛЕНИЕ В ХРИСТИАНСКОЙ ВЕРЕ 177
ПРИЗВАНИЕ 183
ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ПОРАЖЕНИЯ 190
ГОДЫ УЧЕНИЯ В СТРАСБУРГЕ 197
И. СТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТРОЕНИЕ И БОРЬБА 209
МИГЕЛЬ СЕРВЕТ 234
СТАНОВЛЕНИЕ ЦЕРКВИ 246
ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 270
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЭТИКА 277
ГОСУДАРСТВО И ПОЛИТИЧЕСКАЯ СВОБОДА 287
ЛИЧНОСТЬ 297
Фридрих Вильгельм Кантценбах
MAP91UQ-1 ЛЗО%£Р
ГРАЖДАНИН-РЕФОРМАТОР
I. ПРОРЫВ
МНОГООБРАЗИЕ ОБРАЗОВ ЛЮТЕРА
Ш мя Лютера связано с поворотным пунк-
Ш Ш том в истории нового времени, имев-
Ж^УЖ шим очень важные последствия. Даже
если сам он не считал себя «рефор¬
матором», но все дело, зародившееся в тиши мо¬
нашеской кельи, неразрывно связано с его именем.
Эпоху Реформации невозможно понять без Лютера.
Любая дискуссия о Реформации, которая при¬
вела пусть не к первому, но зато к самому значи¬
тельному расколу в западном христианском мире,
неизбежно вызовет спор о личности и деле Лю¬
тера. Историк Реформации Генрих Бёмер однаж¬
ды заявил: «Существует столько же Лютеров,
сколько книг о нем». Найдется ли человек, кото¬
рый ничего не знает о Лютере и ничего не может
сказать о Реформации? И тем не менее академи¬
ческие исследования о Лютере, почти сто томов вей¬
марского издания, не вызвали религиозного возрож¬
дения в XX веке. Однако им больше интересуются
7
ЖАартин Лютер
теологи и историки-специалисты - в то время как
общественность пребывает в неведении. Лютер
обрел в церковном гетто священное почитание и не
похож на того, кем был в действительности. Лишь
иногда возникает эпизодический интерес, например,
по случаю юбилея Вормсского рейхстага (1971 г.),
когда в речи германского премьер-министра док¬
тора Густава Хайнеманна Лютер прославляется
как творческий дух и передовой боец своего вре¬
мени, по контрасту с эпигонами.
Любые дискуссии о Лютере выходят далеко
за пределы его личности. Вне зависимости от того,
подходят ли к нему с церковными или полити¬
ческими, общеисторическими или национально-ис¬
торическими мерками, суждения о нем охватыва¬
ют всю гамму оценок: от одобрения до отрицания.
Для одних он - реформатор, для других - разру¬
шитель единства церкви; одни считают его челове¬
ком, стоящим у истоков нового времени, другие -
средневековым горланом и типично немецким уп¬
рямцем. Один лишь взгляд на историю образа
Лютера, столь богатую на диаметрально противо¬
положные оценки, подтверждает это.
Лучше всего опираться на мнения друзей и
врагов Лютера, чтобы в споре о его деле личность
Лютера не превратилась в миф, медицинский слу¬
чай или психоаналитическую проблему, на которой
пробуют силу поэты и психоаналитики - а почему
8
Прорыв
бы и нет, ведь тот, кто воздерживается от подобных
аристократических изысков, обречен лишь на не¬
уверенные поиски правды наощупь...
Кардинал Кайетан в 1518 году, когда Лютер не
захотел отречься, в гневе воскликнул: «Я больше не
хочу иметь дела с этой бестией. Ибо у него глубо¬
кие глаза и странные мысли в голове!» Ректор
Лейпцигского университета Петрус Мозелланус
наблюдал за Лютером в 1519 году во время диспута
и изобразил его несколько идеализированно: «Мар¬
тин среднего роста, имеет сухопарое, истощенное
трудами и занятиями тело, так что через кожу мож¬
но пересчитать кости, моложав, с высоким, ясным
голосом. Он полон учености и выдающегося знания
Писания... В жизни и обхождении он очень веж¬
лив и дружелюбен, в нем нет стоической строгости
и брюзгливости. Он уместен везде. В обществе он
весел, остроумен, оживлен и приятен, всегда с бод¬
рым и веселым лицом; хотя противники и угрожа¬
ют ему, но по нему видно, что в его тяжком труде с
ним Божья сила. Все упрекают его лишь в одной
ошибке - он слишком сильно и язвительно бранит¬
ся, - это слишком для человека, который ищет в
теологии новые пути, и неприлично для богослова;
однако эта ошибка встречается у всех, кто учится
уже в зрелом возрасте».
История образа Лютера в XVI веке отражает
борьбу интересов, в центре которой он оказался.
9
Мартин Лютер
Прорыв
Работе Ганса Гольбейна 1520 года «Германский
Геркулес» - где Лютер в образе монаха со льви¬
ной шкурой Геркулеса и дубиной изображен очень
субъективно под впечатлением боевого революци¬
онного настроения - противостоят карикатуры и
издевательские рисунки; для друзей он - Голиаф,
для врагов - дьявольское отродье. В литературе
«Виттенбергскому соловью» Ганса Сакса (1523 год)
противостоит поклеп Иоанна Кохлеуса, который ви¬
дел в Лютере и его деле наступление сатанинских
сил. Роковое воздействие карикатуры «Commentarii
de actis et scriptis Martini Lutheri» (1549 год) ска¬
зывалось до конца XVIII века, и католическое тол¬
кование Лютера в XIX веке с трудом осво¬
бодилось от тени, которую набросил простодушный
Кохлеус. То, что могли сказать его эпигоны об
«отце Лютере», «третьем Илие», «пророке», «апос¬
толе», «ангеле», весьма медленно уступало путь
более трезвым оценкам. В появившемся в 1692 году
сочинении непрофессионального, но высокообразо¬
ванного теолога барона Людвига фон Зекендорфа
«История лютеранства. Исторический коммента¬
рий и апологетика лютеранства» впервые отсут¬
ствует безмерная идеализация. Зекендорфу хоро¬
шо известны личные слабости Лютера, и он старает¬
ся, чтобы его человеческие качества не мешали
пониманию начатого им реформаторского движения.
Он считает, что суждения Лютера об идентичности
и
ЛЛартин Лютер
его учения и евангелия Господнего, кажущиеся
преувеличенными, не должны препятствовать спра¬
ведливой с исторической точки зрения оценке
Лютера и его дела.
Пиетизм, Просвещение, классика и немецкий
идеализм в большей или меньшей степени втиски¬
вали Лютера в свои оценочные категории. То, что
было важно для них, должно было стать важно и
для Лютера; именно поэтому Иоганн Соломон
Землер объявил его отцом зрелого христианства,
которое не признает авторитета догм, а согласно
Лессингу подлинного лютеранина «надо оценивать
не по сочинениям Лютера, а по духу Лютера». Гер-
дер же видит в протестантизме освобождение от
«гнета папизма и отцов церкви».
До сих пор живо идеалистическое толкование
Лютера. Эрнст Трёлтш (умер в 1923 году) пони¬
мал разум, который со времен Просвещения начал
укрепляться во всеобщем сознании, как следствие
подготовки религией совести Лютера, сохранившей
еще мусор средневековья, но которая может пре¬
вратиться в критику глубоко осознанного понятия
свободы. Не Фейербах и Маркс, а неомарксист
Людвиг Маркузе видит Лютера в начале того
ошибочного развития, которое завершилось Кан¬
том. По его мнению именно Лютер, в отличие от
Мюнцера и революционных социальных сил в об¬
ществе XVI века, расколол человека, поместив его
12
Прорыв
одновременно в сферу свободы перед Богом и сфе¬
ру несвободы (относительно прикрываемых Богом
авторитетов в лице государства и общества). С
Лютером молодое буржуазное общество восстало
против феодализма, приближавшегося к своему
концу, но поскольку оно было связано метафизи¬
ческими авторитетами, то удовольствовалось внут¬
ренней, частной автономией. Следовательно, как
считали уже Эрнст Трёлтш и Макс Вебер, Лютер
учил двойной морали, которая объявляет то, что хо¬
рошо в одной сфере деятельности, дурно - в дру¬
гой. Критика Маркузе указывает на возможные
опасности, но разве Лютер был им подвержен в
действительности? Эмансипация мира, которую
Лютер обосновал теологически, ни в коем случае
не означала отказа от автономизации. Когда
пользующийся авторитом у Маркузе, Эрнст
Трёлтш проводил различие между официальной и
частной моралью христиан, он, без сомнения, сле¬
довал за Лютером; однако он допустил преувели¬
чение, посчитав несоответствие между ними резуль¬
татом этого разграничения.
Подлинное понимание теологии Лютера вряд
ли возможно без его идеалистических или марк¬
систских интерпретаторов - а последние, несомнен¬
но, весьма заинтересованы в истинном понимании
Лютера (достаточно прочесть, например, хорошую
книгу Герхарда Цшебитца: «Мартин Лютер, величие
13
Мартин. Лютер
и границы». Берлин, 1967 г.). Марксист Цшебитц
хотел бы, разумеется, определить место Лютера в
революционных событиях начала XVI века и по¬
казать, что религиозные столкновения неразрывно
переплетены и связаны с классовыми выступлени¬
ями раннебуржуазной революции. Нельзя ставить
Лютеру в вину, что он был профессором теологии
в Саксонии, а не крестьянским вожаком в Тюрин¬
гии. Он сделал более чем достаточно: создал «ре¬
лигиозную идеологию городской буржуазии, кото¬
рая соответствовала прогрессу капитализма на тог¬
дашней ступени его развития». «Мы должны чтить
того Лютера, которого с ликованием привет¬
ствовали массы в Вормсе; того Лютера, который на
пике своей борьбы всеми силами и с неукротимой
энергией пытался предотвратить полный размах
революции; мы должны постараться понять его как
историческую личность в контексте ее классовых
и общественных связей». Марксистский историк в
рамках созданной им картины истории, которую
определяет классовая борьба, мыслит последова¬
тельно и по форме всегда благородно. Исследова¬
ние истории Реформации с марксистской точки
зрения может помочь лучше, чем прежде, определить
место Лютера в социально-историческом плане.
Наряду с использованием марксистских, соци¬
ологических или теоретико-идеологических трудов
в исследовании Лютера и истоков Реформации в
14
Прорыв
последние десятилетия появились работы с силь¬
ным психоаналитическим уклоном, например,
американского психоаналитика Э. Э. Эриксона
«Молодой Лютер» (1958 г.), который попытался
внести научную убедительность в дебри псевдо-
психологических и псевдомедицинских изысков.
Теперь из Лютера больше не делали грубого де¬
тину и выпивоху, а под лозунгом «кризиса иден¬
тичности» пытались объяснить путь Лютера в
монастырь конфликтом с его родным отцом. Но
глубокие исследования религиозной ситуации
позднего средневековья свидетельствуют, какое
место в нем занимала идея Страшного суда и роль
Христа как судьи на нем. Если подходить к это¬
му в категориях Эриксона, то все люди тогда дол¬
жны были иметь «злых отцов». Согласно Эриксо¬
ну, для Лютера Бог-отец должен был занять мес¬
то земного отца, перед которым он испытывал
страх. Постоянное обращение к отцу кажется
надуманным и не может объяснить хорошо изве¬
стные факты биографии Лютера. Его рассказ об
уходе в монастырь показывает, что он проводил
четкое различие между авторитетом земного и не¬
бесного отца и в конфликте отцов старался сле¬
довать голосу совести. Как бы ни были увлекатель¬
ны психоаналитические методы для понимания ве¬
ликих религиозных деятелей, они все же должны
придерживаться исторической правды, которую
15
/Лартин Лютер
можно установить и подтвердить множеством ли¬
тературных источников.
Разумеется, Лютер был современным челове¬
ком в том, что его искушения появлялись не из¬
вне, не из космоса, который для средневекового че¬
ловека был местом пребывания подстерегающих
его демонов. Его мучил нерешенный вопрос о
милости Божьей, на который он не мог найти от¬
веты в средневековой схоластике. Для него речь
шла не о политических или церковно-политичес¬
ких проблемах. В первую очередь его интересуют
не вопросы иерархических отношений в самой
церкви (папа или церковный собор) и государстве
(князья, папа, народ). Подобные проблемы пример¬
но за два столетия до Лютера могли подвигнуть фи¬
лософов и теологов помогать Людвигу Баварскому
в его борьбе против римской курии, Уиклифа, Гуса
и некоторых представителей соборной идеи.
Лютера же интересует, как может человек
получить от Бога прощение своей вины и греха. По¬
этому нужно прежде всего понять его религиозное
своеобразие, чтобы верно судить о последствиях «ре¬
форматорского открытия». Благодаря новаторской
работе берлинского ученого Карла Холла (1866-
1926) сегодня в центр исследования поставлен
прежде всего Лютер-теолог. Примерно с 1917 года
начался большой поворот в лютероведении. В ос¬
нове работ теперь стоит не национальный герой, а
16
Прорыв
мятущийся христианин, который бежал от скры¬
того Бога к Богу, воплотившемуся в распятом
Христе, и получил милость Божью.
Уже Холл уделял большое внимание окружав¬
шему Лютера миру, который наложил на него свой
отпечаток, - схоластические традиции и набож¬
ность позднего средневековья, из которых он вы¬
шел. Был создан портрет Лютера, цельный и строго
теологический. Встреча Лютера с подлинным Бо¬
гом трактуется Холлом не как интеллектуальный,
философский спор, а как решение совести. Лютер
познает Бога в гневе и любви; у него было ощу¬
щение недоступности Божьего величия, но для
него было важно за «нет» Бога почувствовать его
потаенное «да». Холл показывает также, что мне¬
ние Лютера о церкви сформировалось не только
после столкновения с церковной иерархией, но в
основных чертах оно было результатом того, как
он понимал оправдание. Там, где Бог через еван¬
гелие проникает в сердца, там он закладывает ос¬
новы общности христиан.
Идеи, поданные Холлом, нашли отражение в
гак называемой «диалектической теологии» Кар¬
ла Барта и его учеников. Они подчеркивали ми¬
ровое, общецерковное значение Лютера, изложив¬
шего Священное писание. С этого момента возник
интерес к отношению Лютера к католицизму, ста¬
рой церковной догматике; сильнее, чем у Холла,
2 Заде 275
17
/Аар тин Лютер
который рассматривал его религию как «религию
совести», центр теологии Лютера был перенесен в
благовещение Христа. Однако Барт отрицал уче¬
ние Лютера о «двух властях», согласно которому
Бог в мирской жизни действует мечом власти, а в
духовной - словом, но остается единым Богом, хотя
и в разных ипостасях. Барт задавал тот же вопрос,
что и Трёлтш: не несет ли Лютер ответственнос¬
ти за развитие по пути опасной политической ав-
тономизации. Барт хотел выработать на основе
евангелия методом аналогий основные принципы
поведения в политическом мире. Разговор о зна¬
чении закона в духе «usus politicus» и о двух вла¬
стях у Лютера был затруднен из-за того, что и не¬
которые лютеране, и Барт связывали эти позиции
с конкретными политическими моментами.
Утверждение, что Лютер сохранял мужество
лишь в период первых столкновений вплоть до
Вормсского рейхстага, а затем совершенно утратил
его в споре с крестьянами, является искажением
фактов. Те, кто именуют Лютера после 1525 года
княжеским холопом, который не захотел присоеди¬
ниться к спонтанному народному движению, не по¬
нимают его учения о власти, существовавшего с
1521 года, и не могут правильно оценить всю си¬
туацию 1525 года. Пора прекратить ставить на
одну доску Лютера и Гитлера - как будто имен¬
но Лютер оправдывал чисто силовую политику.
18
Прорыв
Его можно понять только в том пространстве
свободы, которое создает евангелие для своих
приверженцев. Дух евангелия - свобода. Там, где
несвобода устанавливается силой с помощью при¬
нуждения законом, Лютер всегда на стороне про¬
тестующих, даже если он признает свою привер¬
женность семье, государству и порядку в отноше¬
ниях между людьми, поскольку в этом выражается
«да» Бога творению ради человека.
С тех пор, как в 1939-1940 годах католический
исследователь Йозеф Лортц предложил общую
концепцию истории Реформации, католические
теологи рьяно пытаются использовать Лютера.
Известно, что он являлся духовной силой, которая
оказала значительное влияние на современную
жизнь христианской церкви в ее конфессиональ¬
ном разделении и оказывает воздействие далеко за
пределами этого. Обращение к Лютеру происхо¬
дит в силу вселенских причин и имеет значение
также для христиан-католиков. Католический ис¬
следователь Альберт Бранденбург в 1971 году
опубликовал шесть тезисов на тему «Лютер и пос-
лесоборная церковь». Они гласят:
«1. Начала Лютера, где твердое «нет» сочета¬
ется с дарующим «да» Бога, навсегда остались со¬
бытием истины христианства. Эта истина должна и
сегодня подтверждаться всеми христианами, неза¬
висимо от их конфессиональной принадлежности.
2*
19
yilap тин. Лютер
2. Именно по этой причине Лютер так близок
нам сегодня в экзистенциальном плане. Речь идет
о вере искупления и об искуплении верой. Осно¬
вополагающие вопросы Реформации, боровшиеся в
его душе, являются сейчас, наряду с другими пред¬
посылками, нашим настоящим. Нами правит боже¬
ственный образ истории, который заставляет нас
понять Лютера, часто понимавшегося превратно, об¬
раз которого постоянно искажался, как проповед¬
ника веры.
3. Собственно реформаторской заслугой Люте¬
ра было не то, что он дал Библию в руки простых
прихожан, а то, что он, следуя Библии, нашел цер¬
ковь и вновь дал ей свободу как церкви народа.
4. Теология Лютера была теологией креста.
Бог говорит с нами (только) через крест, следова¬
тельно, его речь - это преломленная речь, она про¬
шла через человеческую противоположность ве¬
личию Господа, а именно через крест. Слово Бо¬
жье с креста идет дальше: крест Христа и крест
христианина связаны друг с другом.
5. Учение об абскондитности (=Бог как деус
абскондитус) дает возможность преодолеть безвы¬
ходность размышлений о Боге. Здесь, по нашему
мнению, два аспекта. Должна быть сохранена лич¬
ная связь между Богом и человеком. Бог - это не
предмет, а Ты, которого я встречаю в любви. Вместе
с тем, однако, должна существовать надличностность
20
Прорыв
с бесконечными возможностями сущности Бога,
которая не поддается нашему отвлеченному по¬
ниманию.
6. Можно было бы сказать, что темы, затрону¬
тые в предыдущих тезисах, являются общим до¬
стоянием христиан и провозглашались не только
Лютером. На это можно возразить: решающим в них
были убедительность высказываний, их акцентиро¬
вание, контекст и направленность на людей».
«И все же, что в конечном счете было отличитель¬
ным ... чисто лютеровским? Это евангелие, приго¬
вор милостивого Бога, вершащего суд, приговор, ко¬
торый настигает меня в моем существовании как
грешника перед Богом. Я нахожусь в ... изначаль¬
ной потерянности, которая сопровождает меня до
Божьего судного дня. Это благовествование о сво¬
боде и даваемой ею вечной жизни».
Бранденбург считает, что сегодня Лютер игра¬
ет важную роль в обновлении всей христианской
теологии. И действительно, его влияние выходит
далеко за границы церковных конфессий. Он под¬
нял такие темы и поставил такие вопросы, которые
восприняты христианским миром даже там, где
вряд ли известно его имя. Лютер был постепен¬
но вытеснен из римско-католической церкви сво¬
его времени. Церковный раскол стал неизбежен.
Политические злоупотребления Реформации,
следствием которых стали религиозные войны
21
JUiapmuH Лютер
XVI-XVII веков, бросили тень на дело Лютера.
Его дело разбудило величайшие надежды на об¬
новление политической и социальной жизни. Тре¬
тье десятилетие XVI века стало решающим. Силы
старого оказались более мощными, чем силы соци¬
альной революции. Тенденции политической раз¬
дробленности оказались более стойкими, чем
стремление к объединению всех имперских сосло¬
вий на основе реформированного устава империи,
церкви и государства. Карл V полностью захва¬
чен идеей создания Римской империи и за¬
путался из-за своей тиранической политики в
конфликтах с Францией, итальянскими государ¬
ствами, папой. Это облегчает развитие Реформа¬
ции и позволяет стабилизировать протестантские
земельные церкви. История Реформации могла
бы пойти по намеченным путям. Однако данная
биография Лютера не ставит себе целью преж¬
де всего оценить последствия Реформации. Го¬
раздо важнее понять, как Лютер пришел к это¬
му судьбоносному решению.
В этом отношении историк церкви солидарен
с историками нашего времени. Герхард Риттер
высказался от имени коллег и от своего: «Нас
интересуют духовные причины Реформации не с
точки зрения защиты, оправдания или конфесси¬
ональной полемики, время которой уже прошло, -
а с гораздо более скромной целью: правильно
22
Прорыв
понять его реформаторский поступок. Несомнен¬
но, это прежде всего биографическая проблема:
вопрос о личном религиозном переживании ре¬
форматора; ибо в тишине монастырской кельи, в
полном одиночестве и оторванности от мира он
осуществил решающий прорыв от католицизма к
Реформации».
ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ПЕРИОД ЗРЕЛОСТИ
Шя ютер родился 10 ноября 1483 года в
/I городе Эйслебене; его отец Ганс Лю-
Ж тер и мать - Маргарита, урожденная
Линденманн, уже в 1484 году перебра¬
лись в Мансфельд, где его отец быстро разбогател,
арендовав две плавильни на медных рудниках.
Семья Л уд ер (Лудхер или Люд ер) была вы¬
ходцами из деревни Мёра, запада Тюрингского
леса. Лютер объяснял важные особенности свое¬
го менталитета крестьянским происхождением,
хотя непосредственно его сформировала городская
среда. В застольной речи он признавался: «Я -
крестьянский сын, мои прадед, дед и отец были на¬
стоящими крестьянами». Уже его предки пользо¬
вались экономическими и правовыми преимуще¬
ствами так называемых наследственных крестьян-
арендаторов, которые были свободны и по своему
23
/Лартин. Лютер
усмотрению могли продавать или наследовать зем-
лю. Отец Лютера, будучи сыном без права насле¬
дования, имел выбор: либо остаться в деревне, либо
попытаться продвинуться по социальной лестнице
в городе. Горное дело, которым он занялся, было
менее стеснено цеховыми рамками, чем традицион¬
ные ремесла. Оно давало человеку возможность
«самому сделать себя» - предприимчивость и шанс
на быстрый экономический успех. Ганс Лютер
стал пайщиком полудюжины шахт; периодически
он избирался представителем мелкого и среднего
мансфельдского бюргерства.
В родительском доме царили экономия и стро¬
гий порядок. Было бы неверно, на основании слу¬
чайных замечаний Лютера о слишком суровом
воспитании, представлять его детство сплошным
мучением, какой бы строгой ни была школа в его
время. Первые школьные годы изобиловали болез¬
ненным опытом в прямом смысле этого слова.
Обстановка в доме определялась духом традици¬
онной бюргерской набожности, к которой примеши¬
валась изрядная доля суеверий позднего средневе¬
ковья. Время, когда о позднем средневековье и его
набожности высказывались пренебрежительно,
окончательно прошло благодаря новым детальным
исследованиям таких авторов, как Вилли Андреас
и Бернд Мёллер. Средневековая набожность была
сильна и в деяниях, и в отречении. Церковь, со
24
Прорыв
своими милостями, в качестве посредника обеспе¬
чивала готовому покаяться грешнику мир, но час¬
то не могла представить ему далекого и неумоли¬
мого судию Христа милостивым. Способность к са¬
моотречению отражается в монашеском движении,
которое еще могло реформироваться и очень серь¬
езно относилось к обетам, что блестяще подтверж¬
дает пример Лютера.
Средневековая набожность была основана на
чувстве греха. Духовники, исповедь и покаяние, а
также вызывавшее протест Лютера отпущение
грехов были для церкви средствами, которые она
могла предложить греховному человеку в виде
помощи. Страх перед наказанием мучил многих
искренних христиан. Примерная проповедь об
отпущении показывает слушателям всю величину
их греха: «Как много смертных грехов происхо¬
дит каждый день, как много - за неделю, за месяц,
за год, как много их происходит в течение всей
жизни! Они бесчисленны, и бесконечное наказание
последует за ними в геенне очистительного огня...
Однако с помощью этих индульгенций вы можете
получить сразу полное отпущение всех уже совер¬
шенных грехов и даже на всю дальнейшую жизнь,
как бы часто вы ни исповедывались; наконец, в мо¬
мент смерти ... получение всех церковных благ, ко¬
торые положены воинствующей церкви и ее служи¬
телям». От средневекового человека требовалось
25
Учеба в Эрфуртском университете
Прорыв
подчинение церкви и ее представителям. Лютер
вырос на этих представлениях.
С 1488 года он посещал церковную школу в Ман-
сфельде, затем школу в Магдебурге, с 1498 года -
школу в Эйзенахе. В 1501 году поступил в Эрфурт¬
ский университет. Возможно, в Эйзенахе школа
пришлась Лютеру по душе больше. У него были
хорошие учителя, а у состоятельного купца Шаль-
бе он пользовался бесплатным столом. Подробно¬
сти его школьных лет в Эйзенахе неизвестны; од¬
нако можно с уверенностью утверждать, что Лю¬
тер близко соприкоснулся с образованным,
набожным и в то же время состоятельным бюргер¬
ством. Занять почетное место среди них было меч¬
той отца Лютера, и казалось, что она воплотится в
жизнь благодаря сыну.
Уже в 1505 году Лютер получил степень ма¬
гистра и по желанию отца он начал в 1505 году
изучать право. Возвращаясь из Мансфельда в
Эрфурт, у деревни Штоттернхейм близ Эрфурта
2 июля 1505 года он попал в страшную грозу. В
страхе он воскликнул: «Помоги, святая Анна, я
хочу стать монахом!» Лютер действительно ушел
в монастырь; не смогло удержать его даже
противодействие отца, чьи честолюбивые планы
оказались под угрозой. Монашество не было чем-
то необычным для молодого человека его време¬
ни; однако подобного поступка никто не ожидал
27
Мартин Лютер
от музыкального и жизнерадостного студента Лю¬
тера, производившего на товарищей по учебе нор¬
мальное впечатление. Будучи студентом Эрфурт¬
ского университета, он уже находился в полу мо¬
настырских условиях.
Его занятия до 1505 года протекали в тради¬
циях аристотелизма. Он изучал естественные на¬
уки, политику, этику и метафизику, познакомился
также с оккамизмом, господствовавшим в Эрфур¬
те философско-теологическим направлением, и ув¬
леченность поздним оккамизмом1 повлияла на его
теологию. Изучать право он так и не начал, не ис¬
пытывая к нему большого интереса, но причину его
ухода в монастырь следует искать не в сиюминут¬
ном порыве отвращения к учебе, а в его внутрен¬
ней потребности в спасении.
О том, насколько серьезно Лютер восприни¬
мал средневековый путь к блаженству, свидетель¬
ствует непреклонность его решений. Он избрал
Эрфуртский монастырь ордена августинцев стро¬
гого, «обсервантного» направления. Осенью 1506
года, после обычного периода испытания и под¬
готовки, он был окончательно зачислен. Пожалуй,
были часы, когда он чувствовал себя в монастыре
1 Для оккамизма характерны: борьба за автономию научного знания
и отделение философии от теологии (теория двойственной истины),
интерес к проблемам логики, теории познания, теории языка. В обла¬
сти политической философии оккамизм обычно следовал теории не¬
зависимости светской власти от духовной. - Прим. ред.
28
Прорыв
почти счастливым. После почти десятилетнего
ношения рясы, он допускал, что члены ордена мо¬
гут быть самыми счастливыми людьми, если
испытывают любовь. Будучи усердным монахом,
Лютер стремился к достижению мира в душе. В
мае 1507 года он отслужил свою первую мессу,
содрогаясь от присутствия Бога. У него не воз¬
никало сомнений в правильности жизненного
выбора. Искушения, которые можно понять толь¬
ко с психоаналитической точки зрения, возника¬
ли не от болезненной дотошности, а от решимо¬
сти идти избранным путем со всеми вытекающи¬
ми последствиями, с мучительной правдивостью
по отношению к самому себе, чтобы благодаря
послушанию и покаянию достичь отпущения
грехов.
Однако обещания церкви и забота о душе,
которую ему давал монастырь, не могли успокоить
его напуганную совесть. Страстно желаемое таин¬
ство покаяния не было для него залогом того, что
он будет принят Богом. Он хотел любить Бога не
только ради себя самого. К его покаянному на¬
строю примешивалось слишком много страха.
Бог оставался далеким судьей, все усилия пра¬
ведной жизни приводили ко все более глубоко¬
му душевному разладу.
Возможно, Лютер получил бы помощь в своей
борьбе за милость Божью, если бы в Эрфурте
29
ААаршин. Лютер
томистская' теология Фомы Аквинского с ее при¬
матом милости не была почти полностью вытесне¬
на поздним оккамизмом, который отодвигал Бога
куда-то вдаль и отсылал набожного человека к его
собственным возможностям и помощи церкви. Уче¬
ние о спасении в оккамизме высоко ставило чело¬
веческую свободу и сводилось к поистине «драма¬
тическому столкновению между свободой Бога и
свободой человека» (Ф. Лау). Йозеф Лортц видит
в этом подлинную причину разрыва Лютера с ка¬
толической церковью. «Оккамизм в своем чрезмер¬
ном акцентировании воли является классический
формулировкой того, что Лютер именовал делом
святости и утверждал, что это доктрина католициз¬
ма. Следует отметить, что при этом он имеет в виду
не известные недостатки и пороки церковной жиз¬
ни. Речь идет также не о преувеличенных утверж¬
дениях в пылу полемики, а о собственной убежден¬
ности Лютера в том, что является католическим...
Он в самом себе поборол католицизм, который не
был католическим». Поздний оккамизм был исход¬
ной теологической базой Лютера, хотя его знаком¬
ство с Библией, сентенциями Петра Ломбардского и
с цитатами из отцов церкви, особенно Августина,
восходит к эрфуртскому периоду изучения теологии; 11 Для томизма характерно стремление соединить строго ортодоксаль¬
ную позицию с подчеркнутым уважением к правам рассудка, здравого
смысла (в отличие от августианства, апеллирующего к интуиции). -
Прим. ред.
30
Прорыв
возможно, он тогда же познакомился с Григори¬
ем из Римини, которого позднее исключил из
своей критики пелагианизма (тезиса об участии
свободной воли в достижении милости).
В октябре 1508 года Лютер был переведен в
Виттенбергский монастырь благоволившим ему глав¬
ным викарием конгрегации1 августинцев, Иоганном
фон Штаупитцем, который несколько позже стал его
духовником, чтобы начать чтение морально-философ¬
ских лекций на факультете свободных искусств но¬
вого Виттенбергского университета. Поскольку
Лютер был бакалавром богословия, ему были пору¬
чены менее сложные лекции, но уже осенью 1509 года
его пригласили в Эрфуртский университет читать
лекции по произведениям Петра Ломбардского.
В 1510 году Лютера посылают в качестве до¬
веренного лица по сложным делам ордена в Рим,
где его ошеломила религиозная поверхностность,
однако он еще не сомневается в авторитете церк¬
ви. В 1512 году Лютер, уже получивший звание
доктора теологии, принимает в Виттенбергском
университете профессуру по теологии, которую до
этого времени занимал Штаупитц. Всю жизнь
Лютер ощущал себя доктором и профессором.
Почти через двадцать лет после получения доктор¬
ской степени он пишет: «Мне пришлось стать док-
тором из благодарности, из чистого послушания».
1 Конгрегация - в католической церкви - объединение монашеских
или полумонашеских общин, следующих одному уставу.
31
Чтение лекций в
Виттенбергском университете
Прорыв
Монаху, который принял теперь на себя обязан¬
ность вероучения и изложения Священного писа¬
ния, еще далеко было до реформатора. Академи¬
ческие задачи побуждали Лютера к теологическим
размышлениям о собственном борении за милость
и справедливость Божью.
Более шестидесяти лет интенсивной исследова¬
тельской работы все еще не привели к единой точ¬
ке зрения о пути Лютера с 1509 до 1519 года. Дли¬
тельное время преувеличенное значение при¬
давалось проблеме датировки реформаторского
открытия. Обсуждаемые сегодня тезисы относят к
1513-1516 годам. Католические исследователи по¬
чти все склоняются к более поздней датировке.
Тогда 95 тезисов 1517 года - еще «дореформатор-
ский» документ, а Лютер стал реформатором, лишь
придя к несогласию с католической церковью, и шаг
за шагом ему пришлось пожинать все более дале¬
ко идущие последствия. В таком случае камнем
преткновения между двумя церквями является не
столько учение об оправдании, сколько его взгля¬
ды на церковь (Губерт Йедин). Среди протестант¬
ских исследователей больше всех за позднюю да¬
тировку высказывался Эрнст Бицер (1958), ссы¬
лаясь на свидетельство в 1545 году самого Лютера,
когда он вспоминал о пройденном им пути и о «пе¬
реживании в башне» (названном так по комнате Чер¬
ного замка в Виттенберге), которое он описывает как
3 Зек. 275
33
Мартин. Лютер
открытие Justilia Dei (справедливости Божьей) не
в смысле справедливости, которой обладает сам Бог
и которую требует от нас, а в смысле справедливо¬
сти, которая выпадает на долю нам, грешникам - в
виде подарка ради Христа. На основании этого
свидетельства, а также текстов лекций Лютера в
1512 году Бицер делает вывод о более поздней да¬
тировке происхождения его реформаторства.
Речь идет прежде всего о чтении первого курса
лекций по Псалмам с августа 1513 до пасхи 1515 гг.,
Послания к римлянам по сентябрь 1516 года вклю¬
чительно, и о лекциях по Посланиям к галатам и
евреям, а также об оглашении Лютером тезисов в
дискуссии 1517-1518 годов. Бицер также пришел к
убеждению, что в ранних произведениях, считавших¬
ся прежде реформаторскими, с 1513 года оправдание
и справедливость становятся прерогативой не веры,
а смирения, берущего в ней начало. Оно является
унижением не от человека, а от Бога, но тем не ме¬
нее понимается как свойство человека. Согласно
мнению Лютера, важнейшее место в комментарии к
Посланию к римлянам трактуется еще не в более по¬
зднем, реформаторском смысле (Римл., 1,17).
Реформаторским является лишь тезис, что слово
«евангелие» является способом милости. Вплоть до
1518 года все размышления Лютера о справедливо¬
сти, вере и слове пребывали в рамках средневеко¬
вой «теологии смирения», которая была теологией
34
Прорыв
не только смирения и унижения, но одновременно
и закона. Лишь в 1518 году справедливость из
веры соединяется со словом обещания.
Бицер ясно показал, что спорным является даже
вопрос о содержании реформаторского открытия.
Действительно ли речь идет лишь об экзегетико-те¬
ологическом познании, как его описывает Бицер, или
же и о личном переживании, когда Лютер освобож¬
дается от своих искушений и переживает реформа¬
торский прорыв, воспринимая справедливость не как
нечто, что следует приобрести, а как дар Господа, и
тем самым достигает успокоения совести? Более чем
сомнительно, чтобы можно было зафиксировать день
и час подобного реформаторского прорыва.
Понятие «переживание в башне» - это преуве¬
личенная трактовка реформаторского осознания
Лютером спасения, когда оно выглядит внезапным
благочестивым озарением. Однако нельзя оспари¬
вать то, что Лютер считал его переломом в своей
жизни, когда от него отступили соблазны. Иным яв¬
ляется вопрос о теологическом «созревании» рефор¬
маторского нового, которое концентрируется в пони¬
мании «sola gratia» и «sola fide» (лишь через ми¬
лость, лишь через веру). В будущем следует
проводить различие между «переживанием в башне»,
понимаемым как освобождение Лютера от гнета отя¬
гощенной совести, и теологическим «созреванием»
реформаторского в нем.
3*
35
Мартин. Лютер
В соответствии с этим реформаторский про¬
рыв следует понимать как творческое открытие -
познание справедливости Господа как милостивой
справедливости, которое следовало защищать,
разграничив с теологией и практикой того време¬
ни. Оно не было ошибочным. Католический ис¬
следователь Реформации Э.Изерло писал по это¬
му поводу в 1967 году: «Открытие Лютером
«справедливости Господа» как «милостивой спра¬
ведливости» должно было привести к протесту
против теологии и благочестия его времени, преж¬
де всего против индульгенций. Насколько неиз¬
бежен был этот протест, показывает реакция на
него епископов и курий, которая, в свою очередь,
привела Лютера к его позиции над церковью и ее
управлением, которая до сих пор разделяет цер¬
ковь, но которая не являлась необходимым след¬
ствием реформаторского переживания и начи¬
нания Лютера».
БОРЬБА НАЧИНАЕТСЯ
f Я Я Я ермин «Реформация» является не
Я Я Я самым подходящим для движения
Я Я Лютера. Уже задолго до этого он
iбыл связан с реформацией (пре¬
образованием) империй, стран, городов, университетов
36
Прорыв
и монастырей. Лютер выступил не как «реформа¬
тор», а как проповедник и учитель Священного
писания.
Годами молодое реформаторское движение
увлекало за собой последователей, поскольку Лю¬
тер был убежден, что Бог через его вдохновенное
слово приходит к людям. Нужно только учить и
проповедовать, все остальное Бог сделает сам.
В мае 1515 года Лютер стал окружным вика¬
рием двенадцати саксонских монастырей. Его вли¬
яние в университете возросло, и он приобретал
широкую известность. Ученик августинцев и бла¬
годарный читатель мистических авторов разъяснял
бюргерам в Виттенбергской городской церкви по
воскресеньям отрывки из Писания. Для собрать¬
ев по монастырю, при всей строгости соблюдения
устава, он был духовным руководителем, всегда
готовым помочь. Он отвергал упрямое стремление
к святости. Христос хочет жить среди грешников.
Его волнует вопрос об истинном покаянии. Тема
толкования семи покаянных псалмов, ставшая 62-м
тезисом из знаменитых 95 тезисов 1517 года, была
поднята им в письме к собрату по ордену: «В наше
время многие подвергаются искушению страстной
самонадеянности, и особенно те, кто изо всех сил
стремится к справедливости и добродетели. Они не
знают справедливости Господней, которая во Хри¬
сте дарована нам вдоволь и даром, и стремятся от
37
JUlapmuH. Лютер
самих себя к благим деяниям до тех пор, пока не
будут уверены в том, что предстанут перед Госпо¬
дом, украшенные своими добродетелями и заслу¬
гами, что, однако, невозможно... Поэтому познавай
Христа, причем распятого. Учись прославлять его
и - вопреки отчаянию о самом себе - говорить ему:
Ты, Господи Иисусе, моя справедливость, я же -
твое прегрешение; ты взял на себя мое и даровал
мне свое; ты принял то, чем ты не был, и дал мне
то, чем не был я».
Проповеди и лекции вызвали значительный
резонанс. Виттенбергский университет полностью
переключился с Аристотеля на Августина. Сторон¬
никами Лютера стали Николай фон Амсдорф и
Андреас Карлштадт, когда зимой 1516/17 г. окка-
мистско-аристотелевское учение вынуждено было
окончательно признать свое поражение. Лютеру
покровительствует княжеский тайный секретарь
Георг Шпалатин, который в тяжелые времена по¬
мог ему установить связь с курфюрстом Фридри¬
хом Мудрым.
Ответственность проповедника и духовного
отца, подвигла Лютера на борьбу против порочной
практики продажи индульгенций, но он не подо¬
зревал, какую бурю вызовут 95 тезисов 1517 года.
Проблема отпущения грехов восходила к основам
народной набожности позднего средневековья. Хотя
за деньги не продавалось прощение грехов - оно
38
Прорыв
оставалось прерогативой одного Бога, - временное
наказание за грехи, наложенное церковью, снима¬
лось очень легким с помощью разрекламирован¬
ных индульгенций. Лютер опасался, что исповедь
и покаяние утратят свое значение, и сожалел о
смешении временного наказания за грехи с пребы¬
ванием в чистилище. «Странная валюта индуль¬
генций» (Ф. Лау) не позволяла понять, какого вре¬
мени в чистилище, собственно говоря, может избе¬
жать владелец индульгенций. Поскольку при
предоставлении отпущения грехов употреблялась
формула «освобождение от вины и наказания», то,
по мнению Лютера, это значительно выходило за
пределы практики отпущения.
Лютер составил на латинском языке 95 тези¬
сов в исключительно сдержанных формулировках
и пригласил ученых к диспуту. О том, что Лютер
прибил тезисы к дверям замковой церкви в Вит¬
тенберге известно только со слов его друга Фи¬
липпа Меланхтона, который заявил об этом лишь
в 1546 году. Сам Лютер сказал в 1527 году, что
нанес решительный удар против индульгенций в
День всех святых десять лет назад. В 1523 году он
сообщил: «В 1517 году в праздник всех святых я
начал писать против папы и индульгенций».
Более важным, чем спорный вопрос о том, при¬
бил ли (согласно Гансу Фольцу) Лютер свои те¬
зисы 31 октября или же только 1 ноября является
39
ЛЛартин Лютер
вопрос, впервые поставленный Э. Изерло: мог ли
Лютер вообще прибить тезисы, если он не хотел
действовать ложными методами против епископов,
поскольку он утверждает, что после отправки те¬
зисов он дал епископам время для ответа, чего
никак не могло произойти, если он 31 октября
обратился к общественности. Научная дискуссия
по этому отнюдь не чисто академическому вопро¬
су - ибо он имеет и вселенское, и практическое
значение для церкви, так как протестанты начи¬
ная с XVII века ежегодно справляют 31 октяб¬
ря праздник Реформации, и прибивание тезисов,
к сожалению, долгое время воспринималось с из¬
лишним ликованием, - нашла отражение более чем
в трехстах работах. Сторонники мнения, что при¬
бивание тезисов - только легенда, проявили
столько же ума и остроумия, как и сторонники
противоположного. Однако аргументов противни¬
ков недостаточно для того, чтобы опровергнуть
Меланхтона. Если бы он безосновательно высту¬
пил в 1546 году с утверждением о прибивании
тезисов, то это не могло бы не вызвать возражения.
Слабость позиции защитников прибивания тезисов
заключается в недостатке собственных высказыва¬
ний Лютера, хотя он в изданном через несколько
месяцев после события заявлении подтверждает,
что «публично» пригласил «всех» на диспут.
Спор толкователей идет прежде всего по поводу
40
Прорыв
понятия «publice» и в связи с этим о том, как по¬
нимать дистанцирование Лютера от публичного
появления тезисов. Возможно, дело заключается
в том, что Лютер сожалел не о самом появлении
тезисов, а об их массовом распространении без
его воли.
Однако более важным представляется воп¬
рос о всемирно-историческом резонансе, который
вызвали тезисы. Хотя Лютер еще не начал гене¬
рального наступления на индульгенции и доволь¬
но почтительно относился к папе, этот вопрос
поднимается в теологическом аспекте и им кате¬
горически отказано в праве считаться сокровищем
церкви. В первом тезисе написано: «Когда наш
Господь и учитель Иисус Христос сказал: творите
покаяние, он тем самым хотел сказать, что вся
жизнь верующего должна быть (ничем иным, как)
покаянием». А в 62-м тезисе говорится ясно и
четко: «Подлинное сокровище церкви - святое
евангелие о величии и милости Господней».
Лютер быстро ужесточал свои требования.
А в конце 1519 года об отпущении вообще боль¬
ше не идет речь: «Все это напрасно и является
заблуждением». Прощение вины основывается
только на слове Христа и вере.
Однако диспут, к которому приглашал Лютер,
не состоялся. Тем не менее тезисы разлетелись по
всей Германии, их читали в Нюрнберге, Эрфурте,
41
Лlap тин Лютер
Инголыптадте, Базеле, и прихожане, о которых
Лютер вообще не думал при их составлении, са¬
мым ревностным образом поддержали их. Им по¬
нравилось сказанное в 51-м тезисе: «Нужно по¬
учать христиан: папа, поскольку он тоже грешен,
хотел бы даже если бы ему пришлось для этого
продать собор Св.Петра, из своих собственных
денег пожертвовать тем многим, у которых сейчас
некоторые проповедники отпущения выманивают
деньги из кармана». В других аналогичных тези¬
сах чувствуется напряженность, и «тут мы видим
народ за работой, и его шутки полны той же харак¬
терной горечи, что и накануне Французской рево¬
люции» (так несколько преувеличенно высказал¬
ся К. А. Мейсингер).
Медленно заработал механизм церковной
иерархии. Травлю Лютера начали доминиканцы,
заступившиеся за своего брата Тетцеля, которого
Лютер критиковал как сторонника продажи ин¬
дульгенций. Доктор Эк из Ингольштадта, прони¬
цательный католический теолог, посчитал Люте¬
ра угрозой для всей системы церкви; архиепископ
Альбрехт Майнцский передал дело в Рим, чтобы
папа сказал свое слово в споре. В высших церков¬
ных кругах не слишком серьезно отнеслись к пе¬
ребранке монахов. Там были свои заботы. Папа
Лев X был поглощен своими финансовыми дела¬
ми, семейной политикой дома Медичи и отражением
42
Прорыв
турецкой опасности. Считалось, что Лютера удас¬
тся быстро припугнуть.
Новым импульсом для Лютера стал успех
Гейдельбергского диспута, который состоялся по
настоянию августинцев в соответствии с уставом
их капитула. Лютер весной 1518 года еще под при¬
крытием собратьев по ордену изложил в 40 тези¬
сах возражения против схоластической теологии.
Он отрицал свободную волю в делах спасения; че¬
ловек должен отчаяться, чтобы быть готовым вос¬
принять милость Христа. Не спекуляции о скры¬
том Боге и глубинах божьего величия ведут к спа¬
сению, ибо воздействие Бога кроется в кресте, его
«чуждое дело» гнева вызывает «подлинно дело»
милосердия. Он делает нас грешниками, чтобы сде¬
лать нас праведниками. И все это Лютер считывает
с Христова креста: «Теолог креста называет вещи
правильными именами» (тезис 21). Гуманисти¬
ческая теологическая молодежь, Мартин Бутцер
из Шлеттштадта, будущий реформатор в Эльзасе,
вюртембержцы Иоганн Бренц и Эрхард Шнепф, а
также другие представители гуманистического дви¬
жения молодежи с ликованием приветствовали его.
Церковный судебный процесс над Лютером
был начат в это же время, впрочем, наспех. 7 ав¬
густа 1518 года он получает вызов в суд в Рим. В
течение шестидесяти дней он должен прибыть туда,
чтобы ответить за свое учение. Однако в жизнь
43
АЛартин. Лютер
Лютера вмешалась высокая политика, поскольку
император Максимилиан хотел бы урегулировать
вопросы наследования и для продвижения внука
Карла Испанского нуждался в помощи саксонско¬
го курфюрста. Фридрих Мудрый добивается, чтобы
кардинал Кайетан 12 октября 1518 года допросил
Лютера в Аугсбурге. Только что назначенный
кардиналом Кайетан был известным теологом то¬
мистского направления. Встреча обещала стать ин¬
тересной, хотя его миссия носила в основном
политический характер. Он должен был аресто¬
вать Лютера, в случае готовности к покаянию «бла¬
госклонно принять» и по требованию римской
юрисдикции выдать.
Кайетан не слишком строго придерживался по¬
ручения и вопреки ему даже указал Лютеру на заб¬
луждения, от которых надо было отречься. При
этом стало ясно, что основным камнем преткновения
был авторитет церкви, который заслонял собой все
остальные отступления. Там, где Кайетан говорил
«сокровища», Лютер говорил «слово», хотя его
воззрения на церковь вплоть до 1520 года еще ос¬
тавляли определенное место для папы. В 1519 году
в Лютеровой критике злоупотреблений папским ав¬
торитетом уже намечается переход к принципиаль¬
ным и решительным нападкам на него.
На Лейпцигском диспуте, продолжавшемся с
26 июня по 16 июля 1519 года, Лютер, заменив
44
Лейпцигский диспут
JULapmuH. Лютер
своего тяжелого на подъем коллегу Карлштадта в
диспуте с доктором Эком, и, подстрекаемый прово¬
кационными вопросами Эка об авторитете собора,
сделал шаг к отрицанию божественного права пап¬
ского примата. С 1520 года Лютер, имея в виду
папу, использует представление об антихристе.
Под покровительством тактически изощренного
курфюрста он мог чувствовать себя в Виттенбер¬
ге в какой-то степени уверенно. Под влиянием
Лейпцигского диспута началась работа над четки¬
ми формулировками взглядов. Вспоминая Лейп¬
циг, он сказал в 1545 году: «Здесь, на примере сво¬
его дела можно видеть, насколько тяжело отре¬
шиться от заблуждений, которые из-за примера
всего мира стали неприкосновенными и благода¬
ря долгой привычке в какой-то степени стали на¬
турой... (Я утверждаю), что папа является главой
церкви не по божьему праву. И тем не менее я не
видел то, что логично следовало из этого, а имен¬
но, что папа тогда по необходимости от дьявола».
12 января 1519 года умер император Макси¬
милиан; 28 июня 1519 года король Испании и Не¬
аполя Карл становится королем и будущим им¬
ператором Священной Римской империи герман¬
ской нации. Между императором, как гарантом
религиозного единства христианской родины, и
революционным бунтарем, который потрясал осно¬
вы церкви, должно было неминуемо произойти
46
Прорыв
столкновение. Лютер ожидал самого хорошего от
императора, который считал себя правителем хри¬
стианского мира. Впрочем, вскоре он узнал, что им¬
ператор не проявил к нему глубокого понимания,
что, тем не менее, не поколебало его лояльного
отношения к правителю.
ГОДЫ РЕШЕНИЯ
Ё од 1520 был решающим, так как Лю-
Ш тер возлагал большие надежды на
Ш «молодую кровь», как он называл
Карла V, и надеялся, что император
получит поддержку дворянства при реформирова¬
нии империи. Поэтому было написано «Обраще¬
ние к христианскому дворянству германской нации
об исправлении христианского сословия», состоя¬
щее из трех частей.
Первую, основополагающую, часть можно на¬
звать церковно- и государственно-правовым фун¬
даментом всей работы. В ней отвергается точка
зрения, согласно которой церковная власть выше
светской. Это однозначно направлено против папы
и притязаний средневековой церкви со времен Гри¬
гория VII. С этим связано мнение, что ни в коем
случае право изложения Священного писания не
может принадлежать одному только папе. Вторая
47
АЛартин Лютер
часть - это требование в конкретных условиях
1520 года было, пожалуй, самым актуальным, -
право созывать собор не должно принадлежать
одному папе. Лютер без обиняков перечисляет
злоупотребления средневековой церкви и находя¬
щегося под ее влиянием общества. Источники, ко¬
торыми воспользовался Лютер при написании этой
работы, еще недостаточно хорошо изучены. Однако
он мог сослаться на жалобы многих современни¬
ков. Третья, положительная, часть местами выгля¬
дит как проект нового государственного права.
Лютер затрагивает вопросы брака, социальных уч¬
реждений, о которых должны побеспокоиться вла¬
сти, - гениальное предвосхищение идеи государ¬
ственного попечения. Разумеется, Лютер высказы¬
вает мысли также об университетском и школьном
образовании; вместе с тем он задумывается и о
проблеме взимания податей, которая так сильно
занимала реформаторский мир. «Обращение» про¬
извело исключительно сильное впечатление. Вы¬
дающийся немецкий историк Леопольд фон Ран¬
ке верно характеризует его следующим образом:
«Эти несколько листов бумаги всемирно-истори¬
ческого содержания, в одно и то же время подго¬
тавливают и предсказывают будущее развитие».
В начале августа 1520 года сочинение Люте¬
ра было издано, а уже 18 августа продано четыре
тысячи экземпляров. Читатели буквально рвали
48
Прорыв
его друг у друга из рук. Таким образом была
открыта практически безграничная дискуссия.
Успех книги Лютера превзошел все ожидания.
Впрочем, некоторые друзья Лютера были в ужасе
от самого тона сочинения. Его единомышленники
Иоганн фон Штаупитц и Ланг отговаривали его от
публикации. Но было слишком поздно. Особое
впечатление произвело это сочинение на рыцар¬
ство. Новейшие исследования показывают, что раз¬
личные сословия периода Реформации, причем не
только бюргеры в городах, крестьяне, но и рыцари,
а к ним можно причислить и князей, глубочайшим
образом были захвачены идеей союза, лиги. В ми¬
ре позднего средневековья, как раз перед началом
Реформации, было разрушено ощущение принад¬
лежности к христианскому братству, осознание
которого углубляется теперь в отдельных слоях,
играющих роль в период Реформации. Лютер на¬
писал это сочинение именно потому, что знал, что
он может обратиться к светским властям с напо¬
минанием об их духовных обязанностях, их попе¬
чении братьям. Поэтому его «Обращение», которое
можно назвать почти светским, ни в коем случае
не является вынужденной мерой; наоборот, в нем
с захватывающей энергией Лютер изложил свои
теологические взгляды. Поэтому «Обращение к
христианскому дворянству...» имеет огромное зна¬
чение. За церковной властью стоит представление
4 Зак 275
49
АЛартин Лютер
о духовном звании как основе основ. Лютер ос¬
паривает это и приходит к выводу, что крещение
переводит всех крещенных в духовное звание, в
том числе и «светских». Это и есть основополага¬
ющий тезис о «всеобщем священничестве всех ве¬
рующих», специально обращенный к рыцарству и
дворянству. Лютер в характерной для него мане¬
ре рассуждает о светской христианской власти.
Парадоксальная формулировка полностью соот¬
ветствует теологическому мировосприятию Люте¬
ра. Таким образом, он упраздняет различия меж¬
ду духовным и светским сословием, как их пони¬
мало средневековье, и заменяет их разграничением
духовной и светской руки.
Можно сказать, что все эти проблемы сегодня
не играют никакой роли, поскольку различия меж¬
ду людьми устранены благодаря утверждению прав
человека в эпоху Просвещения и благодаря де¬
мократическому свободомыслию, которое характе¬
ризует современное общество. Однако главное
заключалось в том, что Лютер соотносит всю дей¬
ствительность с одним только Богом. Он рассмат¬
ривает действительность не автономно, не делает
мирскую жизнь центром, а понимает светскую
службу как конкретное поручение, которое совпа¬
дает с призванием и есть не что иное, как служение
ближнему. Поэтому Лютер так настойчиво внуша¬
ет дворянам, рыцарям, князьям их обязанность
50
Прорыв
служения, причем не только в этой работе, но и в
первом значительном отклике на настоятельные
просьбы крестьян в 1525 году. Лютер ожидает
многого от светских властей. Поскольку Бог забо¬
тится о теле человека, власти тоже должны о нем
заботиться. Конкретный, пронизанный реальностью
тон этого обращения к дворянству вызвал восторг,
но он был опасен, поскольку захватил в первую
очередь рыцарей. Франц фон Зикинген, предводи¬
тель мелкого немецкого дворянства, передал через
Ульриха фон Гуттена и Меланхтона, что Лютеру
всегда обеспечено убежище для теологических за¬
нятий в его замке Эбернбург под Ландау в Ифаль-
це. Должен ли он был безропотно позволить
распоряжаться собой, чтобы таким образом способ¬
ствовать не только национальному освобождению
Германии, но и победе реформаторского движения?
Лютер, с присущей ему трезвостью и полити¬
ческой сдержанностью, отклонил эти заманчивые
предложения. И был прав, ибо в противном слу¬
чае вместе с крушением рыцарского движения он
тоже потерпел бы поражение. Он не последовал
настоятельным приглашениям и других имперских
рыцарей. Те, кто внимательно прочитали «Обраще¬
ние», должны признать, что опрометчивый восторг
был не слишком уместен. Лютер не намеревался
становиться на сторону какого-либо человека.
«Первое, что должно происходить в этом деле, -
51
JULapmuH Лютер
это то, что мы с большой серьезностью остерегаемся
и ничего не затеваем, уповая на большую власть
или разум, даже если бы у нас были все силы мира.
Ибо Бог не захочет и не сможет стерпеть того,
чтобы хорошее дело было начато, основываясь
только на собственной силе и разуме. Он поверг¬
нет его в прах». Молитва и помощь, испрошенная
у Бога, важнее, чем все людские деяния. Сочине¬
ние Лютера призывает к примирению. В 1520 году,
когда Реформация достигла первого значительного
пика развития, политическая и социальная пере¬
группировка в Германии еще не завершилась.
Многое еще находилось в стадии становления, и
Лютер пытается оказать позитивное воздействие
на него. Его доводом является благовествование
Библии о братстве и единстве всех людей под ми¬
лостью и волей Божьей. Реформаторское послание
уже до 1520 года оказало влияние на все обще¬
ственные и политические группы. Величие Люте¬
ра заключалось в том, что он не стал ни на сторо¬
ну рыцарей, само существование которых прибли¬
жалось к кризису, ни на сторону крестьян или
городского бюргерства, к которому принадлежал
по рождению и воспитанию. Он обращался к
крещенному христианину и апеллировал к его ответ¬
ственности за мир, церковь и общество. Однако на
его позиции не сказывалось влияние партий. При
этом Лютер признавал подлинные реформаторские
52
Прорыв
устремления, откуда бы они ни исходили, у него
был острый взгляд на правомерность социальных
требований. Так, например, с реформаторской точки
зрения полностью были оправданны требования
свободного выбора прихода и соответствующее ис¬
пользование десятины у крестьян.
Мысль об общности и братстве можно считать
главным мотивом обращения к дворянству. «Ибо
все христиане подлинно духовного звания; среди
них нет различия, кроме их службы; ... крещение,
евангелие и вера одни превращают их в духов¬
ный и христианский народ... Мы все посредством
крещения посвящаемся в священники, как сказал
св. Петр: «Вы царственное священство и священ¬
ное царство» (1 Поел. Петра, 2, 9)». Естественно,
что Лютер, будучи теологом и реформатором, преж¬
де всего подчеркивает ответственность прихожан
за судьбу церкви. В этой связи речь идет о требо¬
вании собора. Ибо как можно было создать в цер¬
кви порядок, единство, евангельское согласие, если
папа отказывается реформировать церковь? Лю¬
тер обратился к собору еще 17 ноября 1520 года,
когда была издана булла с угрозой отлучения его
от церкви. Впрочем, теперь он использовал понятие
«свободный христианский собор». 1519-1520 гг.
можно считать переломными годами во взглядах
Лютера на церковь и собор. Общественность под¬
хватила его требование о соборе, который бы
53
АЛартин Лютер
принимал решение по возникающим религиоз-
ным вопросам. Впервые на Нюрнбергском рей¬
хстаге 1522 года и с тех пор все вновь и вновь
германские сословия требовали созыва собора на
немецкой земле, который мог бы прояснить и раз¬
решить религиозные проблемы. И в 1539 году
Лютер в замечательном сочинении «О соборах и
церкви» подтвердил убежденность в значении об¬
щецерковного собора для реформации церкви. Од¬
нако в «Обращении к христианскому дворянству»
речь ни в коем случае не ограничивается только
церковными проблемами и недостатками, которые
явно наблюдались в церкви.
Третья часть сочинения, посвященная вопросам
проведения реформации и реформы христианским
миром, своими 27 пунктами дает конкретные ука¬
зания. Сегодня эти 27 пунктов воспринимаются
скорее как исторически обусловленные. Но если
их подробно проанализировать, то становится
ясно, что под их оболочкой таится вся взрывная
сила реформаторского послания. Лютер не боит¬
ся затрагивать финансовые проблемы и выступать
против распространения роскоши, взимания пода¬
тей, пышного образа жизни крупных торговцев.
Разумеется, в его обязанности не входит давать
профессиональные советы во всех этих областях.
Он не пытается предстать финансистом или тор¬
говым менеджером. Он высказывается как теолог,
54
$1рорыв
но который возлагает на отдельные сословия и
профессии обязанность действовать в соответствии
с представлением о христианском братстве.
За «Обращением» сразу же последовал объе¬
мистый труд Лютера «De captivitate Babylonica
ecclesiae praeludium» («О вавилонском пленении
церкви»). Заглавие напоминает о периоде папства
в Авиньоне в XIV веке. Лютер писал на латыни,
поскольку он прекрасно понимал революционно¬
теологическое значение книги, в которой затраги¬
вались основы всего средневекового мира. Деба¬
тировался вопрос о таинстве причастия. Все
реформаторские требования были напрасны без со¬
ответствующего духовного фундамента.
В новом труде убежденный, что таинство
причастия должно осуществляться Христом с при¬
ложением видимых знаков, Лютер делает радикаль¬
ные выводы. Он игнорирует сформулированные в
позднем средневековье семь таинств, поскольку
как минимум у четырех из них отсутствует назна¬
чение Христа, соглашаясь признать только три та¬
инства, а именно: крещение, покаяние и причастие.
Реформаторское вероисповедание, изложенное в
1530 году в августинском вероисповедании
(Confessio Augustana), признает наряду с креще¬
нием и причастием в качестве таинства еще и по¬
каяние. Позднее в строгом смысле слова таинства¬
ми признавались только крещение и причастие,
55
Мартин Лютер
поскольку они установлены самим Христом с до¬
бавлением знаков: воды - для первого и хлеба и
вина - для второго.
В этой работе Лютер недвусмысленно обра¬
щался к ученым. Их реакция была достаточно
характерной. Один из его противников, Томас
Мурнер из Страсбурга, перевел книгу на немецкий
язык и даже не посчитал нужным что-либо в ней
исказить или добавить, поскольку ее дословный
текст он считал настолько революционным, что не
сомневался в осуждении ее всеми благоразумны¬
ми христианами. У Лютера появился также высо¬
копоставленный противник - король Англии Ген¬
рих VIII, который выпустил полемическое сочине¬
ние, за что был удостоен Римом титула «defensor
fidei» (защитник веры). Однако в монастыре Бел-
бук под Трептовом Иоганн Бугенхаген, будущий
городской священник в Виттенберге и исповедник
Лютера, испытал при чтении книги такое потрясе¬
ние, что тут же покинул свой монастырь и поспе¬
шил в Виттенберг. Книга написана с использова¬
нием всей научной терминологии. Она отражает
глубокое проникновение Лютера в схоластическую
теологию и ее основные вопросы и делает честь
острому уму ее автора. Лютер блестяще владе¬
ет искусством ведения диспута, умеет делать вы¬
воды и упрекает своих противников в том, что
они не способны делать верные умозаключения.
56
Прорыв
В качестве оружия он так использует острый ум
и иронию, что это блестящее сочинение даже при¬
писывали Эразму Роттердамскому, который, впро¬
чем, ни разу не возмутился по этому поводу.
Сочинение «О вавилонском пленении церкви»
имело решающее значение для развития взглядов
Лютера на таинства и, прежде всего, его учения о
причастии. Выделим основные моменты: теологи¬
ческая аргументация однозначно рассчитана на
приоритет слова, евангелия, обета, так что историк
Реформации Эрих Рот даже остроумно отметил,
что знак, телесное при таинстве для Лютера было
лишь «мирским». Решающим является Завет, обе¬
тование. Можно отважиться даже на такое утвер¬
ждение: для Лютера таинство - это слово, а сло¬
во - таинство. На слове основано обетование, оно
заключает в себе все спасение. Так, Лютер сфор¬
мулировал в Малом Катехизисе: вода - это толь¬
ко вода. Все дело заключается в слове Божьем, ко¬
торое присутствует в воде и рядом с водой. Так та¬
инство выдвигается на первый план как обещание,
дар и подарок. Евангелие как слово прощения -
это таинство крещения и святого причастия. Таин¬
ству при этом не даровано никакой высшей ми¬
лости, кроме слова, оно передает ту же самую ми¬
лость, только другим образом, лично, телесно.
Эти аргументы близки тем, что приводятся в
«Обращении к христианскому дворянству». Если
57
/Лартин. Лютер
здесь для Лютера речь шла об обновленном облике
церкви и общества, об ответственности за него в ко¬
нечном счете, то в процессе теологического углуб¬
ления в тайну таинства говорится уже о воздей¬
ствии веры и милости божьей на телесность чело¬
века. Однако аспект телесности не следует
понимать в связи с учением о таинствах так, буд¬
то телесность больше воспринимает через таинство,
чем, так сказать, идеальная сторона человека -
через слово, которое он слышит и в которое, надо
надеяться, верит. Милость божья всегда неизмен¬
на и доступна в слове так же, как и в таинстве. По
своему качеству и количеству она ничем не отли¬
чается, передается ли она через слово или дарит¬
ся через таинство физическим путем. Лютер хо¬
тел лишить церковь монополии на таинство. Ва¬
вилонское пленение - это плен, с помощью
которого она закабалила и связала таинства.
Непосредственным поводом для создания произ¬
ведения Лютера стали два полемических сочи¬
нения, которые выступали за право лишения чаши.
Лютер страстно выступил против этого требова¬
ния. Даже в 1530 году ссылка на то, что Иисус
Христос благословил не только хлеб, но и чашу во
время тайной вечери, было решающим аргументом
Лютера в борьбе против его врагов.
6 октября 1520 года появилось «Вавилонское
пленение», которое продолжило и развило мысли,
58
Прорыв
выраженные Лютером уже в 1519 году. 1520 год
вообще был для Лютера исключительно продуктив¬
ным. Дискуссия по этой работе и сегодня могла бы
стать поучительной и смогла бы оживить диалог
между конфессиями. Уверенно и четко аргументи¬
рованная книга представляет собой отправную точ¬
ку всеобщего соглашения о таинстве, прежде все¬
го таинстве алтаря. Если сегодня католические те¬
ологи отмежевались от средневековой догмы
приобщения святых тайн, которая доказывалась
средствами аристотелевской философии (различе¬
ние субстанции1 и акциденции1 2 ), то у Лютера уже
имеется намек на тайну: «Главное, что я считаю:
чтобы божественные слова ни в коем случае не
изменяли, ни люди, ни ангелы, а чтобы их сохраня¬
ли по возможности в их наивном значении и, если
не возникнет очевидной необходимости, не воспри¬
нимали их вопреки правилам языка и непосред¬
ственному смыслу, и не давали врагу рода челове¬
ческого возможности превратить все Писание в
объект насмешек». «Святой Дух больше, чем Ари¬
стотель ... и если философия этого не понимает, то
1 Субстанция (лат. substantio - сущность, нечто лежащее в основе).
Аристотель отождествлял С. с первой сущностью, характеризуя ее как
основу, неотделимую от вещи, ее индивидуальности. Трактовка Ари¬
стотелем формы как первопричины, обусловливающей определенность
предмета, послужила истоком различения духовной и телесной суб¬
станции. - Прим. ред.
2 Акциденция (лат. accidentia - случай, случайность) - философский
термин, означающий случайное, несущественное в противоположность
существенному или субстанциональному. - Прим. ред.
59
АЛартин Лютер
понимает вера. Сила Божьего слова больше, чем
познавательная способность нашего духа».
Эта работа имела также большое значение в
контексте мировой дискуссии о крещении. Лютер
специально говорит не о крещении детей, которое
считает обязательным и которое к этому времени уже
обосновал вспомогательной конструкцией детской
веры (ссылаясь на движения Иоанна в лоне матери).
Главным для него является то, что крещение подчер¬
кивает данные на всю жизнь дарования и поставлен¬
ные задачи. Крещение означает, что мы умираем для
греха и живем верой. Эта не просто вера, это обяза¬
тельство верить, эта необходимость познать силу и
значение крещения являются главным педагогичес¬
ким намерением проповедника крещения в «Вави¬
лонском пленении церкви». Он говорит о величии
крещения и блаженстве христианской свободы:
«Восславим Господа и отца нашего владыки Иису¬
са Христа, который в своем милосердии по крайней
мере одно это таинство сохранил в своей церкви в
полноте... Но поскольку сатана у малых (имеются
в виду дети) не мог уничтожить силу крещения, то
он пытается добиться этого у взрослых. Ибо сегод¬
ня нет почти никого, кто бы помнил о своем креще¬
нии или гордился им, поскольку изыскали много дру¬
гих путей, чтобы им простили грехи и они попали на
небо». В этом сочинении Лютер вновь выступает
как великий педагог и духовник, который хочет
60
$1рорыв
построить на крещении христианское братство и
общность.
Таким же образом он выступает в последней
и, возможно, самой лучшей работе 1520 года, в
трактате «О свободе человека-христианина», кото¬
рая благодаря одному лишь слову «свобода» в за¬
головке долго оказывала воздействие на немецкую
и европейскую духовную историю. Философы и
идеологи свободы опирались на этот лозунг о сво¬
боде христианина, однако при этом они часто упус¬
кали из виду, что Лютер говорит не о свободе
вообще, в философском или политическом аспек¬
те, а обосновывает и провозглашает свободу хри¬
стианина. Крестьяне в 1524-1525 гг. совершенно
правильно поняли основную мысль, высказанную
в этой работе. И Лютер подтвердил это понима¬
ние своими призывами, по крайней мере, в то вре¬
мя. Но здесь легко можно перейти границу. По¬
этому особенно важно понять аргументацию Лю¬
тера именно в этом трактате. Прежде всего это
сочинение свидетельствует, что народный пропо¬
ведник и духовник сообщает общине то, что уже
хорошо продумал и научно изложил в своих лек¬
циях и академических трудах. Однако, говоря с об¬
щиной, он может отбросить научно-теологические
размышления. Эту работу характеризует мастер¬
ское изложение и блестящие формулировки, сде¬
лавшие ее вершиной «популярных» произведений
61
ААартин. Лютер
Лютера. Его «О свободе человека-христианина»
можно считать классическим документом немецкой
литературы и особенно христианской назидательной
литературы. Однако народного писателя Лютера
нельзя отделять от ученого-теолога.
Историк Реформации Вильгельм Маурер про¬
вел в 1949 году глубокий анализ этого основного
реформаторского труда Лютера, которому, к сожа¬
лению, не подвергались два других реформаторских
вероисповедальных сочинения. Маурер показывает,
что вначале Лютер задумал сочинение о свободе по-
немецки, но затем написал все-таки на латыни, при
этом немецкий текст был расширен и в какой-то сте¬
пени лишился глубины. В этой работе Лютер исхо¬
дит из тайны становления личности благодаря вос¬
приятию справедливости и правды Божьей, которые
даруются верой в слово. Но вера в слово означает
веру в Иисуса Христа. Лишь поверхностному взгля¬
ду может показаться, что божественное слово связа¬
но с Христом лишь постольку, поскольку он во время
своей земной жизни сообщил его людям. В произ¬
ведении Лютера слово и Христос совпадают для веры
и словесную теологию следует считать просто при¬
кладной христологией. Здесь мы оказываемся в под¬
линном центре реформаторской словесной теологии.
Слово означает обет, слово означает евангелие (бла¬
гую весть), а евангелие - это сам Иисус Христос. Там,
где вера подтверждает Божье слово обетования,
62
Прорыв
души верующих и слово едины. Вся добродетель
слова переходит тогда на душу.
При этом в начале работы речь явно идет ско¬
рее об одностороннем перенесении, чем о взаимном
обмене. Лютер прибегает к языку мистиков и ис¬
пользует притчу о браке. Как это следует понимать?
Он говорит о единении души с Христом через веру,
причем и дальше продолжает иметь значение един¬
ство слова и веры. Новое заключается лишь в том,
что односторонний перенос действительно превраща¬
ется во взаимный обмен, то есть то, что есть у Хрис¬
та, переносится в верующую душу, а то, что есть в
душе, переходит Христу. Таким образом, Христос
имеет все благое и блаженное, что переходит в душу,
а душа имеет все пороки и грехи, которые перехо¬
дят к Христу. Лютер именует это «радостным об¬
меном». Христос принимает на себя грехи того, кто
в него верит, и одаряет его своей справедливостью.
Эти представления о радостном обмене, о браке име¬
ют глубокие корни в древнецерковной христологии,
но Лютер развивает дальше унаследованное учение
о Христе. Ибо разве не является необычайным зао¬
стрением теологии братства и союза утверждение
Лютера о таинстве веры, что Христос сам становит¬
ся «грешником», принимая на себя наши грехи? Тем
не менее чистота Иисуса Христа остается незапят¬
нанной. И, однако, для Лютера в Христе сочетается
не только Бог и человек, но и Бог и конкретный
63
Мартин. Аютер
грешник. Благодаря нерушимой связи с божествен¬
ной природой в Христе сохраняется безгрешность
человеческой натуры, хотя он действительно прини¬
мает на себя наши грехи. Это означает динамизацию,
даже революционизацию древнецерковной христоло-
гии. И все же она является основой глубокого взгля¬
да на таинство оправдания грешника. «И там, где я,
там должен быть ты, и враг не должен нас разлу¬
чить!». Рождество, страсти, пасха - все это в качестве
библейской основы стоит за лютеровским возвещени¬
ем оправдания, коренящимся в таинстве Христа.
Однако не следует думать, что в сочинении «О .
свободе человека-христианина» говорится исключи¬
тельно о догматике, которая доступна лишь профес¬
сиональному теологу. Работа настолько богата эти¬
ческими мотивами, которые основываны на дарова¬
нии оправдания, что заключает в себе не только
догматическую глубину, но и огромную социально¬
этическую широту. В средневековье господствовали
представления аскетической морали. В соответствии
с ними совершенен лишь тот, кто заботится о спасе¬
нии своей души и как можно раньше отстраняется
от мирской жизни. Следовательно, совершенный
христианин - это монах. Историк церкви Франц
Овербек, живший в Базеле, считал подлинными
христианами в истории церкви только монахов, ко¬
торые во имя небесного призвания покидают мир¬
скую жизнь. У Лютера совершенно иной взгляд.
64
Прорыв
Ои не изымает человека из мирской жизни, а по¬
сылает его в мир. Его совершенство заключается
в том, чтобы в качестве получившего оправдание
христианина осуществить свое дело в мире, гово¬
рить «да» тем задачам, которые ставит перед ним
повседневность. Поэтому больше не существует
двойной морали, а мораль, образ мыслей являются
задачей всего христианского мира и каждого отдель¬
ного человека. Есть лишь один образ мыслей - брат¬
ство, образ мыслей в рамках социальной данности:
профессия, брак, община, народ и государство.
Здесь заложены основы, на которых можно воз¬
двигнуть весь реформаторский образ мыслей.
Происходит отказ от разделения евангелия на за¬
поведи, которые распространяются на всех, и
правила, которые могут исполнять лишь особо
избранные, то есть монахи. Лютер отвергает подоб¬
ное сословное деление на совершенных и несо¬
вершенных. Мысли о собственном блаженстве не
должны быть основой христианского поведения,
оно должно вытекать из любви к брату, т.е. ко¬
рениться в ощущении всех своими ближними.
Ибо человек живет не один, а среди других лю¬
дей на земле. Поэтому он не может не вступать
с ними в отношения; «он должен говорить с ними
и действовать с ними, хотя ему не нужны те же сред¬
ства для порядочности и блаженства. Поэтому его
намерения во всех делах должны быть свободны и
5 Зак. 275
65
ytlap тин Лютер
направлены на то, чтобы он мог служить и быть по¬
лезным другим людям... Это называется подлинно
христианской жизнью, и здесь вера действует вмес¬
те с радостью и любовью...»
Все три выдающиеся реформаторские сочине¬
ния 1520 года в целом создают впечатление их
единства. Укоренение братства, общности, чувства
ближнего, одним словом, любви в Боге, который
дарит самого себя через Христа и говорит «нет»
той мирской суете, которую превращают в идеоло¬
гию, Лютер ясно видит и противопоставляет дей¬
ствительность, в ее воплощенных общественных
структурах и нуждах, евангелию.
10 октября 1520 года Лютер получил из Рима
буллу с отлучением от церкви; б октября сначала
в Лёвене, а позднее в Люттихе, Кельне и Майнце
состоялись первые публичные сожжения его книг.
Однако они натолкнулись на широкое сопротивле¬
ние, и частенько в огонь летели старые церковные
книги. 10 декабря 1520 года в Виттенберге перед
городскими воротами были преданы огню «Corpus
juris canonici», книга церковных законов, и раз¬
личные сочинения Эка и Эмзера. Это был ответ
Лютера: «Раз ты (булла с отлучением от церкви)
осквернила святого Господа (Христа), то пусть
тебя оскверняет вечный огонь!»
28 января 1521 года император Карл V от¬
крыл в Вормсе рейхстаг. 6 марта 1527 года он
66
Лютер сжигает папскую Буллу
АЛартин Лютер
подписал вызов Лютера в суд и сопроводительное
письмо для рейхстага. Как могло случиться, что
отлученного от церкви еретика еще должны были
выслушать император и государственный орган,
хотя император и не скрывал своего мнения о
Лютере?
Политический вес имперских сословий был
причиной, побудившей императора выслушать
Лютера, тем самым сорвав план Рима. Папский
нунций Алеандр не смог воспрепятствовать его
выступлению. Князья, на которых Лютер возло¬
жил большую ответственность в своем «Обраще¬
нии к христианскому дворянству», потребовали
появления автора.
16 апреля 1521 года в Вормсе он был встре¬
чен всеобщим ликованием. Во второй половине
дня 17 апреля от него потребовали отречения от
его сочинений. Предполагалось, что Лютер не на¬
берется достаточного мужества для оправданий.
Что же произошло? 17 апреля он попытался вы¬
играть время, попросив срок на раздумье; хотел
выступить перед рейхстагом. 18 апреля после
двухчасового ожидания Лютер предстал вечером
перед ним и произнес заранее приготовленную
десятиминутную речь. Свои сочинения он разде¬
лил на простые и евангелические, служащие сози¬
данию, воинствующие дискуссии с папой, и сочи¬
нения, направленные против отдельных лиц. Лишь
68
Прорыв
в последнем случае он признал излишнюю рез-
кость своих сочинений, неподобающую христиани¬
ну и монаху. От него потребовали четкого отре¬
чения и пообещали заступничество императора пе¬
ред папой, чтобы смягчить наказание. Ответ
Лютера гласил: «Только свидетельство Священно¬
го писания или разумные доводы могут побороть
меня - ибо я не могу верить только папе или со¬
бору, поскольку несомненно, что они неоднократно
заблуждались и противоречили сами себе, - поэто¬
му я считаю, что меня побороло Писание, на кото¬
рое я опирался, и моя совесть обусловлена Божь¬
им словом, и потому я не могу и не хочу ни от чего
отрекаться, ибо действовать против совести опас¬
но. Помоги мне Господь. Аминь!»
Ни один из трех упомянутых Лютером ар¬
гументов, с помощью которых он хотел начать
борьбу ради евангелия, не нашел ощутимого от¬
клика у рейхстага. Называя наряду с разумом
Писание, он тем самым ссылался на разумную
аргументацию, которая всегда высоко ценилась
в схоластической теологии. Апеллируя к совес¬
ти, Лютер тут же добавляет, как именно он по¬
нимает авторитет совести. Он предстал не рево¬
люционером, который субъективно убежден в
каком-то деле, а заявил о своей приверженнос¬
ти авторитету Божьего слова, которое одно лишь
несет свободу христианину.
69
JiAapmuH Лютер
19 апреля император объявил свое мнение по
делу Лютера: «Итак, я решил придерживаться
всего, что произошло с Констанцского собора.
Ибо ясно, что заблуждается отдельный брат, вы¬
ступая (как Гус!) против мнения всего христиан¬
ского мира, ибо в противном случае должен был
заблуждаться весь христианский мир в течение
тысячи или более лет. Поэтому я решил ... я
больше никогда не буду слушать его (Лютера).
Пусть он отправляется; но с этого момента я буду
рассматривать его как заведомого еретика и на¬
деюсь, что вы как хорошие христиане сделаете то
же самое». Свое всемирно-историческое значение
Вормсский рейхстаг 1521 года получил прежде все¬
го благодаря этому заявлению императора, но в
течение столетий выступление Лютера продолжало
оказывать сильнейшее воздействие. Будучи один, он
не отступил перед подавляющим превосходством и
добился, что сословия провели повторный допрос 24
и 25 апреля, - нечто неслыханное, ибо они наруши¬
ли ясно выраженную волю императора.
На этих заседаниях в конце апреля 1521 года
Лютеру, по-видимому, пришлось тяжелее всего.
Сильным было искушение все-таки пойти на ус¬
тупки и кое-что смягчить, хотя бы взять назад ут¬
верждения, направленные против общепринятого
церковного учения, и подчиниться решениям собо¬
ров. Лютер сохранил стойкость.
70
Прорыв
Некоторые историки Реформации не удовлет¬
ворились этим. В поведении в Вормсе они виде¬
ли «трагедию» (Мейсингер), поскольку Лютер от¬
казался возглавить имперское рыцарство и взять
на себя руководство движением крестьянским и
крестителей. Марксистские историки также обви¬
няют Лютера в нерешительности, но при этом не
осознают, что при существовавшем положении ве¬
щей подобная солидарность была бы роковой, а с
точки зрения реальной политики - попросту невоз¬
можной. Отказываясь от политических решений,
Лютер проявил себя как трезвый реалист. Вспо¬
миная о Вормсе, он писал: «Я ничего не делал,
действовало и направляло слово Божье. Если бы
я захотел применить силу, то обрек бы Германию
на большое кровопролитие, даже в Вормсе я мог
бы начать действовать так, что сам император не
чувствовал бы себя уверенным. Я не сделал ниче¬
го, я позволил действовать слову! Как вы считае¬
те, что думает черт, когда что-либо пытаются ре¬
шить силой? Он сидит в самой глубине преиспод¬
ней и думает: о, эти дураки наделают дел! Но черта
ждет поражение, как только мы прибегаем к одно¬
му только слову Божьему. Оно всемогуще, оно зах¬
ватывает сердца. А когда сердца захвачены, то все
совершается само собой».
26 апреля 1521 года Лютер под защитой им¬
перского герольда был отпущен в Саксонию. За
71
АЛартин. Лютер
ним сохранили право свободного выезда, и его не
постигла судьба Гуса. Но положение стало менее
благоприятным, чем до выступления на рейхстаге.
Папский нунций Алеандр составил вердикт про¬
тив Лютера, который, однако, не был одобрен все¬
ми сословиями, император датировал его более
ранним сроком, и после рейхстага он был зачи¬
тан еще присутствовавшим представителям сос¬
ловий. Это был чисто королевский мандат, а не
имперский закон. Отсюда ясно, что сословия вос¬
пользовались делом Лютера, чтобы расширить свою
«свободу» по отношению к императору. Карлу V
пришлось смириться с тем, что его мандат в Гер¬
мании не уважали. События в Вормсе стали воз¬
можны лишь потому, что уже в позднем средневеко¬
вье был разрушен синтез церкви и государства. Ре¬
формация опиралась на территориальные власти.
В июне 1521 года император Карл V отправил¬
ся в Нидерланды, а затем в Испанию. С 1521 по
1525 год его держала в напряжении первая, а с
1526 по 1529 год - вторая итальянская война.
Когда в 1530 году он вновь прибыл в Германию,
движение Реформации давно уже переросло Лю¬
тера и превратилось в княжескую Реформацию.
Карл, боясь нападения Турции, в 1532 году вы¬
нужден был в «Нюрнбергском договоре» гаран¬
тировать евангелистам ограниченную терпимость.
Когда в 1541 году он смог заняться немецкими
72
Прорыв
делами, Реформация была уже политической ре¬
альностью, в которую император мог вмешаться
только путем войны против Шмалькальденской
лиги. В 1555 году император смирился, несмот¬
ря на свою победу над лигой в 1547 году. После
того как Реформация была признана соответству¬
ющей имперскому праву, он осознал, что дело его
жизни потерпело поражение и удалился в испан¬
ский монастырь, передав бразды правления брату
Фердинанду.
Но и Лютер не победил в этой борьбе. В Вор¬
мсе он отказался от политических силовых мето¬
дов осуществления Реформации. Многие счита¬
ли, что она проходит слишком медленно. Томас
Мюнцер показал, как надо проводить Реформа¬
цию. Он обратился еще в 1524 году к саксонским
князьям с призывом насильственно устранить ста¬
рую церковь. В союзе с крестьянами, которые,
казалось, одни могли свергнуть старое, он хотел
установить господство благочестивых над безбож¬
никами. В активности Мюнцера было нечто столь
захватывающее, что Лютер отверг его как наваж¬
дение сатаны. Некоторые марксистские историки
допускали, что решение Мюнцера было тогда нео¬
существимо с точки зрения реальной политики.
Фридрих Энгельс заявлял, что программа Мюн¬
цера была «иллюзией», которая не учитывала ни
субъективные, ни объективные возможности.
73
УШартин Лютер
Идеология Мюнцера была не бюргерской, а исто¬
рически предшествующей формой пролетарской
классовой идеологии; тем самым он опередил свое
время. «Он хотел слишком многого в то время,
когда общая историческая ситуация еще недоста¬
точно созрела» (Цшебитц).
По сравнению с Мюнцером Лютер представ¬
лял реальный с политической точки зрения «воз¬
можный прогресс», который мог быть только бур¬
жуазным. Сегодня такие категории, как «про¬
летарский» или «буржуазный» и ситуации XIX
или XX века, не пытаются проецировать на время
Лютера. Поэтому неверно считать сотрудничество
Лютера с князьями, которым он, будучи отлучен от
церкви, после 1521 года был обязан своей безопас¬
ностью, - предательством его дела. Территориаль¬
ный партикуляризм являлся политической реаль¬
ностью, с которой Лютер вынужден был считать¬
ся. В значительной степени концепция и политика
находились в руках княжеских советов и должно¬
стных лиц. С их помощью реформация пропове¬
ди и богослужения превратилась в реформу основ¬
ного закона.
II. ВОЗДЕЙСТВИЕ
СПОНТАННЫЙ РОСТ - ГОДЫ КРИЗИСА
яш ютер нашел пристанище в Вартбурге.
ШШ Днем 26 апреля 1521 года он отправил-
f ся из Вормса в Саксонию. Часть пути
он проделал в сопровождении саксон¬
ских дворян. Он знал, что по дороге курфюрст
хотел его «убрать» таким образом, чтобы потом с
чистой совестью заявить, что ему ничего не извест¬
но о местопребывании Лютера.
В качестве «юнкера Йорга» его вначале могли
видеть только люди из обслуги. С 4 мая 1521 года
по 3 марта 1522 года Лютер прожил очень плодо¬
творно на своем «Патмосе». Он испытывал тяже¬
лые душевные переживания и сомнения в правиль¬
ности своего пути и поведения в Вормсе. Однако
по «Магнификату» или большому сборнику цер¬
ковных проповедей внутреннее смятение незамет¬
но; они относятся к лучшему, что написано Люте¬
ром. Он продолжил также теологические работы,
такие как «Operabiones in psalmos», которую ему
пришлось прервать из-за нехватки научного
75
/Лартин Лютер
материала на 22-м псалме. В других сочинениях
он продолжал разъяснение провозглашения оп¬
равдания (против лёвенского теолога Латомуса)
и понятия о служении (против дрезденского тео¬
лога Эмзера). Чтобы помочь себе и другим мона¬
хам, покинувшим орден, обрести спокойную совесть,
он написал трактат о монашеских обетах, посвятив
его своему отцу. Решающей в суждениях об обе¬
тах должна быть одна лишь евангелическая сво¬
бода. Сам Лютер в течение многих лет твердо при¬
держивался монашеского образа жизни. «Я оста¬
нусь в этом положении и буду вести такой образ
жизни, если мир не изменится», - пишет он в пись¬
ме в декабре 1521 года.
На вартбургский период приходится также
работа Лютера над проповедями, которые должны
были послужить образцом для проповедников, не
имеющих достаточной теологической квалифика¬
ции. Уже упомянутые «Церковные проповеди» не
были закончены в Вартбурге. Выдающийся иссле¬
дователь Лютера, Германн Дёррис, признает, что
обязан этим прекрасным, глубоким проповедям
проникновением в мышление Лютера.
Во время отсутствия Лютера, в Виттенберге
начались волнения. Началом послужило требова¬
ние реформы богослужения, выдвинутое Карлштад-
том и монахом-августинцем Габриэлем Цвиллин-
гом. Основным ударом по старой практике стало
76
Ш'"®
В замке Вартбург курфюрста
Фридриха Саксонского
yULapmuH Лютер
лишение чаши прихожан и частные мессы, прово-
лившиеся без общины. Лютер решительно отверг
связанную с мессой мысль о жертве; в остальном
же он предоставил делу идти своим ходом. Лю¬
бовь и уважение к ближнему всегда должны оп¬
ределять взаимоотношения христиан. Он тайно
прибыл в Виттенберг, чтобы высказать это. Одна¬
ко волнения не прекращались, несмотря на издан¬
ное Виттенбергским советом распоряжение. Из
Цвикау прибыли высланные суконщик Шторх со
сторонниками, которые находились под влиянием
Томаса Мюнцера (а он, в свою очередь, испытывал
влияние Шторха).
В феврале 1522 года в Виттенберге произошли
бесчинства в церквях. У Карлштадта были хоро¬
шие плодотворные идеи по социальному преобра¬
зованию общины, но ни один из виттенбергских
коллег Лютера, и прежде всего молодой Меланх-
тон, не доросли до предъявления радикальных тре¬
бований. Университет и совет обратились к Люте¬
ру. Без разрешения курфюрста он покинул Варт-
бург и в марте в первое воскресенье великого
поста прочел свои знаменитые проповеди, в кото¬
рых выступил против всех, кто хотел сделать из
евангелической свободы новый закон, потребовав
щадить слабую совесть. В своем «Верном увеще¬
вании всех христиан воздерживаться от мятежа и
возмущения» он еще раз подчеркнул враждебность
78
Воздействие
всякой революции. Если Карлштадт уже на рож¬
дество 1521 года отслужил «немецкую мессу» с
использованием немецких слов при причастии,
опустив поднятие чаши, то теперь Лютер подавал
сигнал к отступлению. Было вновь введено оде¬
яние для мессы, от которого отказался Карлштадт,
он чувствовал себя оскорбленным в своем ре¬
форматорском рвении. Между ним и Лютером
произошел разрыв, и хотя Карлштадт решительно
отмежевался от Томаса Мюнцера, Лютер объявил
его фанатиком и настаивал на высылке из Саксо¬
нии. Позднее он предоставил ему убежище в сво¬
ем доме. Однако разрыв был окончательным.
Виттенбергские беспорядки сильно повлияли
и на восторженного соратника Лютера и коллегу
по университету Филиппа Меланхтона. В теоло¬
гическом плане он не мог ничего противопоставить
той «буре и натиску», которые на какое-то мгно¬
вение увлекли и его. В то время как Лютер зало¬
жил основы органического развития Реформации,
Меланхтон все больше становился наставником,
проповедующим порядок и закон в семье, школе и
обществе и в определенной степени предпочита¬
ющим закон евангелию. Лишь тот, кто готов на из¬
вестные естественные преимущества, может разде¬
лить благословение евангелия.
Лютер последовательно помогал росту рефор¬
маторского движения. Прежде всего переводом
79
JiAapmuH Лютер
Библии, первым из которого стал Новый Завет в
виде сентябрьского Завета 1522 года. Перевод всей
Библии был завершен в 1534 году с помощью це¬
лого штаба сотрудников. Для перевода Нового
Завета Лютер использовал греческий текст наря¬
ду с Вульгатой1. Новым верхненемецким языком
Лютер мастерски владел. Он мог опираться на
язык саксонских канцелярий, но сравнение с до-
лютеровскими изданиями Библии подтверждает,
что присущее Лютеру необычайно тонкое чувство
языка оставалось непревзойденным. Слово и дело
слились у него в могучее единство. Распростране¬
ние лютеровской Библии (между 1522 и 1546 го¬
дами появилось более 400 изданий Библии и от¬
дельных ее частей, из них около ста в одном лишь
Виттенберге) ускорило развитие единого немецко¬
го языка.
В предисловии к Сентябрьской Библии Лютер
критически высказался в павлианском духе о по¬
слании Иакова и Откровении Иоанна. Особое
предпочтение он отдавал евангелию от Иоанна.
Исследователи Нового Завета могут считать Лю¬
тера в какой-то степени своим духовным отцом,
пусть даже позднее он не высказывался столь пря¬
мо и открыто. Он не пытался стать со своим мне¬
нием над Писанием, подобно судье, а, прислушиваясь, * IV1 Вульгата - перевод евангелия на латинский язык св. Иеронимом в
IV веке. - Прим. ред.
80
Воздействие
стоял ниже, показывая различие в евангелии
«между духом и буквой». С 1521 года Лютер по¬
стоянно подчеркивает единство духа и слова. Все
большее значение приобретает для него единство
Писания и замкнутость его учения. Классическим
стало его высказывание на эту тему в большом
комментарии к Посланию галатам в 1531 или
1535 году.
Одно за другим следовали сочинения, посвя¬
щенные волновавшим народ вопросам: q браке,
о мирских властях и степени повиновения им, о
построении христианской общины, о порядке бо¬
гослужения и о школах. Значение тех реформа¬
торских идей, которые Лютер выдвинул между
1522 и 1524 годами, могут принижать только
недоброжелательные и непонимающие критики.
Тем самым он способствовал распространению
евангелия по Германии, которая в эти годы
полностью ориентировалась на Виттенберг. Про¬
поведники и члены общины проповедуют еванге¬
лие в лютеровской трактовке, гравюры, листовки
и стихи ходят по Германии, Реформация прони¬
кает в сердца масс с песнями Лютера, с их
проникновенными словами и мелодией. Горожане,
крестьяне, ремесленники, дворяне, ученые и люди
искусства захвачены изначальными вопросами веры
и возлагают на Лютера свои надежды по устрой¬
ству жизни. Возникает новое чувство общности:
63ак.275
81
JUiapmuH Лютер
«Давайте радоваться вместе, дорогие христиане,
давайте прыгать от радости, что мы нашли утеше¬
ние и все как один поем с радостью и любовью...»
Победе евангелического движения больше нельзя
воспрепятствовать.
Разумеется, кое-кто выбивается из общего те¬
чения, но противники Реформации позаботились о
том, чтобы после консолидации всех сил старой
веры в Регенсбурге (1524 год), которые договори¬
лись о совместном проведении в жизнь Вормсского
эдикта, евангелические тоже сплотились. Рейхстага
1526 и 1529 годов не дают реформаторскому дви¬
жению официальное права на существование, но
все же оставляют достаточно возможностей для
дальнейшей стабилизации.
1525 год - кризис молодого движения. Он
стал периодом просветления и в то же время
обороны и горького размежевания - и появился
повод упрекать Лютера за его суровые высказыва¬
ния о крестьянах и «фанатиках», за его реакцию
на выступления Томаса Мюнцера, которая все же
была смягчена печалью о пути этого человека.
В 1521-1522 годах Лютер - национальный ге¬
рой. Жажда социальных реформ, наивный патрио¬
тизм и гуманистически-антиклерикальные тенден¬
ции, казалось, получили его поддержку, и он дол¬
жен был вести их к победе. Недовольство
приняло почти революционный характер. Лютер
82
’Воздействие
не позволил рыцарскому дворянству распо-
ряжаться собой, да оно и не было способно к это¬
му, поскольку находилось в упадке. Он четко
высказал свое мнение виттенбергскому движению
с Карлштадтом во главе, который, следуя своим
взглядам, стал крестьянином. Было совершенно
ясно, как Лютер поведет себя в отношении Тома¬
са Мюнцера и некоторых других радикалов, про¬
пагандировавших социальную справедливость на
религиозных основаниях. От него нельзя было
ожидать безусловной защиты определенных обще¬
ственных программ, хотя бы бегло познакомившись
с его сочинениями. Лютер готов был проверить
требования крестьян, ссылавшихся на евангелие.
Некоторые их требования он признал право¬
мерными. Проблема заключалась в том, насколь¬
ко тесно можно было увязать евангелие с конкрет¬
ными требованиями социальной и политической
справедливости. Было бы слишком просто осудить
Лютера и вопреки историческому подходу утвер¬
ждать, что из-за его несостоятельности процесс
Реформации не получил дальнейшего развития и
что «народное движение» стало застывшим движе¬
нием князей. Разумеется, 1525 год стал своего рода
«надломом» (Э. В. Зееден) в развитии. Марксист¬
ские исследователи Лютера считают 1525-1526 годы
поворотом в Реформации: от боевого периода на¬
тиска к не интересной более истории земельной
6* •
83
ЛЛаргпик Лютер
церкви. В своем письме к курфюрстам в конце
Вартбургского периода Лютер уже занял четкую
позицию в классовой борьбе. Однако крестьянская
война окончательно продемонстрировала его убеж¬
дения. Дело заключалось не только в Лютере, но
и в том обстоятельстве, что Реформация могла до¬
стичь не ожидаемого идеала, а лишь того, что было
возможно по логике вещей. Учитывая те симпатии,
которыми пользуется сегодня Томас Мюнцер, сле¬
довало бы проанализировать «нет», сказанное ему
Лютером. Это действительно актуальная пробле¬
ма, а не мгновенный порыв! И сложность ее под¬
тверждается тем, что уже Бертольд Брехт отдавал
себе отчет в том, почему он не отважился подсту¬
питься к этим двум противникам. В пьесе «Мар¬
тин Лютер и Томас Мюнцер» Дитер Форте про¬
тивопоставил самодовольному и продажному Лю¬
теру якобы трезво мыслящего Мюнцера. Но
Мюнцер и крестьянская война - не одно и то же.
Крестьянскую войну в Германии следует рас¬
сматривать в контексте продолжавшегося уже сто
лет крестьянского движения, которое было частью
общеевропейского. В 1525 году дебатировались
как отдельные реалистические требования, так и
широкомасштабные проекты реформ, имеющие
религиозную подоплеку. Лютер возложил ответ¬
ственность за воинствующие выступления кресть¬
ян на фанатиков и популистов и, безусловно,
84
Воздействие
переоценил роль Мюицера в крестьянской войне.
Влияние Мюнцера на крестьян ограничивалось
региональными и чисто деловыми рамками. Для
Лютера «фанатик» было негативной оценкой, под
которую подпадали разного рода одиночки, спири¬
туалисты, крестители, а также такая личность, как
апокалиптический революционер Томас Мюнцер.
Критическая историческая наука давно установи¬
ла сходство и различия между разными группами.
«Фанатиками» продолжают считаться те, кто бли¬
зок спиритуалистам в духовной мистике, но вмес¬
те с тем хочет воплотить их идеи в жизнь и пото¬
му стремится к революции. Не Карлштадт пере¬
шел этот рубеж, а Томас Мюнцер.
Первоначально Мюнцер не имел ничего обще¬
го с крестителями; если в конце жизни он откры¬
то принял «повторное крещение», то это не харак¬
терно для его социально-революционных взглядов,
которые в какой-то момент в Цвикау совпали с
движением Лютера. В 1520 году Мюнцер по ре¬
комендации Лютера стал священником в Цвикау,
где было сильно влияние таборитов и распростра¬
нялись требования полной общности имущества и
отмены сословных различий. Мюнцера нельзя
слишком тесно связывать с Лютером и мерить его
меркой. Он был, скорее, последователем мистиков
позднего средневековья, прежде всего Таул ера,
неутомимо и увлеченно ссылался на значение
85
JVLapmuH Лютер
«нищеты духа», которая должна отринуть ложную
опору уверенности в спасении, и не мог разделять
ни взглядов Лютера на Писание, ни его взглядов
на оправдание. Сомнительно, что Мюнцер может
служить примером христианского революционера.
Разумеется, он прекрасно разбирался в конкретной
структуре общества и хорошо понимал крестьян,
поскольку христианское существование было
для него возможно лишь в общности и спра¬
ведливости. Основанный в 1524 году алынтедский
«Союз друзей Бога» должен был воплощать в
жизнь любовь к ближнему. Однако, полагал Мюн¬
цер, изменение политических условий не способ¬
ствовало этому.
Будучи ученым, Мюнцер только после 1520 года
нашел свой путь, когда пришел к убеждению, что
Бог может воздействовать на душу без всяких
средств, эту мысль подтвердил ему в Цвикау Ни¬
колай Шторх. Экстатические1 переживания заста¬
вили его отдать предпочтение Ветхому Завету, в
котором мужчины и женщины, воодушевившись,
безжалостно сражали врагов Бога. Так в Мюнце-
ре мистически-индивидуалистическое начало все
больше и больше сливалось с социально-револю¬
ционными мыслями. С 1524 года Лютер стал для
Мюнцера всего лишь интригующим противником.
1 Экстатический - исступленный, восторженный, находясь в состоянии
экстаза.
86
1Воздействие
Их отношения омрачились еще до этого. Мюн-
цер хотел видеть в Лютере лишь самоуверенного
реформатора и подобострастного прислужника
князей. Его духовное христианство с апокалипти¬
ческой перспективой было настроено на исход, ко¬
торый Бог устроит сам, только если ему при этом
активно помогать.
Участие Мюнцера в крестьянском восстании,
которое он трактует как начало Божьего суда,
лишь подтверждает убеждение Лютера, что быв¬
ший соратник, которого он, по его мнению, доста¬
точно долго щадил, за свой сатанинский энтузиазм
получил справедливое наказание: поскольку он
встал во главе восставших толп крестьян, он дол¬
жен быть наказан топором палача. Тезис Мюнце¬
ра о том, что все, обладающие душой, равны меж¬
ду собой, в принципе нарушал классовые и сослов¬
ные различия, утопически отменял границы между
мирской жизнью и церковью. Лютер видел в этом
неизбежное следствие восторженного духовного
христианства.
Подозрение, уже давно возникшее у Лютера в
отношении Мюнцера, проявилось при оценке
крестьянского восстания. Ему был известен Мем-
мингский союзный устав марта 1525 года, посколь¬
ку он намекает на него в своем весьма разумном
сочинении «Воззвание к миру». С 16 апреля по
6 мая Лютер находился в Тюрингии, и местные
87
JiAapmuH Лютер
крестьяне высмеяли его желание стать посредни-
ком. «Воззвание» было создано в конце апреля,
примерно 6 мая он написал для второго издания ос¬
нованное на путевых впечатлениях очень резкое со¬
чинение «Против разбойничьих и убивающих толп
крестьян». Лютер пытался провести различия
между крестьянами, но связь между двумя его дек¬
ларациями тогда не была понята; при перепечат¬
ках были совершены ошибки и исчезла связь меж¬
ду двумя сочинениями. Суровые слова о крестьянах,
которые нуждаются в насилии, были услышаны вне
контекста, и даже друзья Лютера были потрясены
их резкостью: «Коли, бей, дави здесь, кто только
может! Если умрешь, мир тебе! Более блаженной
смерти тебе не найти!». В середине июля Лютер
написал еще одно послание против крестьян, в
котором также не сулил им ничего хорошего, и
прекратил дискуссию.
Лютер хотел подвергать все проверке и пре¬
достерегать не как политик, а как теолог. Он ни¬
когда не вел себя как княжеский холоп, однако
непоколебимо настаивал на данных от Бога отно¬
шениях между властями и подданными. Сегодня
нельзя серьезно упрекать его в этой консерватив¬
ной позиции, если судить с исторической точки
зрения. Но достаточно ли было просто-напросто
отсылать крестьян в правовые инстанции и оспа¬
ривать у них право ссылаться на евангелие, даже
88
1Воздействие
сразу же поминать «черта», вместо того чтобы по¬
стараться увидеть их готовность отстаивать спра¬
ведливость?
Пожалуй, все работы Лютера по крестьянской
войне вышли слишком поздно, чтобы существен¬
но повлиять на ход событий. Позднейшие ссыл¬
ки на него и полемика, часто со стороны старой
веры, имели вторичный характер. Его промахи в
отношении крестьян бесспорны. Слишком быстро он
прибег к эсхатологически-апокалиптическому тол¬
кованию современных событий, вместо того чтобы
искать более удачные ответы на вопрос о социаль¬
но-этической динамике евангелия, как это, например,
попытался сделать Иоганн Бренц. Эту точку зрения
не следует путать с мнением, что Лютер сам должен
был стать во главе крестьянского движения.
Не была случайностью ссылка крестьян на
евангелие и желание, чтобы теологи были их тре¬
тейскими судьями. Именно по этому поводу Лю¬
тер мог выразить свои сомнения. Он не прини¬
мал ничьей стороны, ни крестьян, ни тем более
князей, которые в Тюрингии как парализованные
наблюдали за распространением восстания. Лю¬
тер должен был выяснить, что реформаторски по¬
нимаемое евангелие нельзя путать с социально-
политической идеологией. Поэтому верно утвер¬
ждение историка Стефана Скалвета: «Приговор
будет ясным и однозначным: Лютер действовал
89
ААартин Лютер
не из предубеждения, слабости или страстного
темперамента, нет, его поведение с внутренней не¬
обходимостью диктовалось его пониманием еван¬
гелия. Лютер обратился против крестьян не из-
за слепого консерватизма и своего ужаса перед
любым народным выступлением, а потому, что его
представление о «христианской свободе» было
иным и более высоким, чем то, на которое опи¬
рались они». Если бы Лютер стал вождем кре¬
стьян, то дело Реформации наверняка было бы
приравнено к революции. В этом случае конец ре¬
форматорского движения, скорее всего, не заста¬
вил бы себя долго ждать.
Когда в 1526 году, через год после крестьянс¬
кой войны, Лютер занимается ветхозаветными про¬
роками, он касается темы крестьян и князей: «По¬
скольку крестьянам удалось то, чего они хотели, по¬
моги Господь, сколько упорства, гордости, славы,
великолепия и задора и заносчивости было тут!»
Когда колесо судьбы крестьян повернулось, то же
самое происходит с господами, которые не знают,
«как им отвести душу» на крестьянах, которые «на¬
столько пали духом, что не знают, что делать». Что¬
бы ориентироваться в истории, необходим компас.
Лютер находит его в понимании службы и власти
как божественного установления. Ни князья, ни
крестьяне не понимали этого в 1525 году, поэтому
они просто отдались течению событий. Князей, на
90
1Воздействие
которых в сложившейся ситуации была возложена
задача установления нового порядка, Лютер поис¬
тине не пощадил в своем приговоре. Он уподобил
их царю Вавилона, библейскому прообразу занос¬
чивости и тирании. Они не должны забывать, что
Бог дал им победу не потому, что они такие «пра¬
ведные и благочестивые», а потому, что он через них,
которые тоже достойны наказания, хотел покарать
непослушание и злодеяния крестьян.
Между Лютером и нами стоит переворот в са¬
мой концепции государства - от абсолютистского
княжеского к парламентской демократии. Этим
объясняется чуждость позиции Лютера для совре¬
менного восприятия, но нельзя отказать ему в
последовательности суждений. «Узкая дорога про¬
ходит между революционным морализмом крестьян
и оправданием голой силы, как этого хотели победи¬
тели. С этого пути легко сбиться, но Лютер проло¬
жил его... Позиция Лютера в крестьянской войне...
в ее основных положениях не привязана к ситуации»
(Германн Дёррис). Карлштадт, Мюнцер, проповедник
Якоб Штраус и другие современники также подтвер¬
ждают правомерность критического вопроса о том,
отдавал ли Лютер должное социально-этическому
обостренному пониманию евангелия - до какой бы
степени он его ни признавал вообще. Ликвидация
крепостной зависимости и рабства - это последний
вывод из христианского понимания свободы. Нельзя
91
АЛартин. Лютер
думать, что Лютер понимал такую свободу «теле¬
сно». Конечно, это было не «цензурой в силу его
классовой принадлежности», а скорее результатом
еще не созревшего к этому времени столкновения с
библейскими требованиями.
ДИСПУТ С ЭРАЗМОМ и цвингли
в J ризис 1525 года заставил Лютера заду-
маться о возможности близкого конца.
Здоровье его было в это время не в
* лучшем состоянии. Его сотрудник Ме-
ланхтон, который никогда не был монахам, уже
давно женился. Он же остался в одиночестве в
заброшенном монастыре.
Несмотря на пессимистическую оценку поло¬
жения, сложившегося после крестьянской войны, и
усилившееся вследствие этого апокалиптическое
мировосприятие, Лютер хотел доказать, что он не
сомневается в доброте Бога к своим творениям.
13 июня 1525 года он вступил в брак с Ката¬
риной фон Бора, происходившей из древнего обед¬
невшего рыцарского рода, которая в 1523 году
вместе с девятью другими монахинями с ведома
Лютера покинула монастырь в Нимбшене и нашла
убежище в Виттенберге. Лютер нашел в Ката¬
рине усердную хозяйку и хорошую мать для их
92
Воздействие
шести детей. Она охотно приняла на себя бремя
ведения хозяйства в доме, который был открыт все¬
гда и для всех, и при этом еще находила время,
чтобы помогать мужу в его работе. Иоганн Кох-
леус, убежденный и ожесточенный противник Лю¬
тера, насмехался: вся Германия плачет и ропщет, а
Лютер играет свадьбу.
Новая дискуссия о внесении ясности в отно¬
шение к гуманизму, которая, впрочем, назревала
уже давно, захватила Лютера в 1525 году. Во вре¬
мя Гейдельбергского диспута 1518 года казалось,
что союз между Лютером и гуманизмом молодых
людей, которые хотели быть одновременно и мар-
тинианцами, и эразмианцами, состоялся. Лютер
обязан гуманизму многими побуждениями, но не
собственным реформаторским открытием. Молодой
профессор Филипп Меланхтон стал в 1518 году его
сотрудником. Он был пропитан идеями гуманиз¬
ма и вместе с тем энергично перешел на сторону
Лютера. Лютер уже закончил перевод греческо¬
го Нового Завета, когда Меланхтон, специалист
по греческому языку, прибыл в Виттенберг. В
1516 году в Базеле появилось первое издание гре¬
ческого Нового Завета, осуществленное Эразмом.
Лютер в течение всей жизни был убежден в необ¬
ходимости изучения языков и неутомимо стремил¬
ся к углублению познаний в языках, ибо считал
языки «ножнами, в которых находится меч духа».
93
ЛЛартин Лютер
Эразм в какой-то степени готовил путь для
Реформации своей подлинно библейской набожно¬
стью и в то же время острой критикой теологии и
церкви. Он выразил потребность бюргерства и уче¬
ных освободиться от опеки церкви и убедительно
заявил о себе как о передовом борце за церковную
реформу. Одновременно, охватывая античных
классиков и традиции отцов церкви, он использо¬
вал их против более поздней церковной традиции,
не желая при этом вступать в серьезный конфликт
с официальной церковью. В ударной силе еванге¬
лия Эразм видел возможность органического об¬
новления церкви. Он благожелательно следил за
началом деятельности Лютера, но с 1520 года, а
особенно после рейхстага в Вормсе, его суждения
становятся все более сдержанными и в конце кон¬
цов перерастают в резкое отрицание. Лютер пред¬
ставляется ему слишком бурным, народ возбужда¬
ется, науки терпят урон, всеобщая смута может
стать концом движения, которое подавало столь
блестящие надежды. Эразм отстранился. Тракта¬
ты Лютера о христианской жизни, написанные до
1520 года, нравились ему, но его теология, делаю¬
щая ставку лишь на милость Божью, как ему ка¬
залось, умаляет свободу человеческой воли.
Вместе с Эразмом от Лютера отошли и неко¬
торые более старшие гуманисты, которым не про¬
шлось самим претерпеть тех мучительных бед,
94
Воздействие
которые пережил Лютер; другие гуманисты сохра¬
нили верность Лютеру, надеясь объединить насле¬
дие Эразма с выводами Лютера, как, например,
верхненемецкий реформатор Мартин Бутцер.
Хотя до 1524 года Эразм и высказывал
колкости в адрес Лютера, но публичной дискус¬
сии избегал. Он считался единственным, кто мог
бы стать компетентным партнером Лютера в дис¬
путе, лишь его считали равным. Осенью 1524 года
появилась книга Эразма «De libero arbitrio»
(«О свободной воле»). Он отказался от нейтрали¬
тета, внешне соблюдавшегося до сих пор. Лютер
ответил в 1525 году трактатом «De servo arbitrio»
(«О порабощенной воле»), которое появилось в
декабре. Это одно из самых сильных сочинений
Лютера, которое требует высокого искусства ин¬
терпретации. Ни одна из его работ не отстаива¬
ет так решительно и упрямо честь Бога от любых
людских помышлений о компромиссе, которые
слишком близко подступают к этой чести. Лютер
подтвердил Эразму, что правильно понял спорный
вопрос: «Я прославляю и восхваляю тебя за то, что
ты единственный из всех ухватил суть дела и не
мучишь меня не относящимися к делу спорами о
папе, чистилище, отпущении грехов и подобных
вещах, которые являются скорее каверзами, чем
серьезными предметами, которыми почти все до
сих пор преследовали меня. Единственно только
95
АЛ ар ти к Лютер
ты увидел суть дела и сразу же взялся за основной
предмет - за это я благодарен тебе от всего сердца».
Конфликт назревал годами. Когда в 1518 году
Лютер отстаивал на Гейдельбергском диспуте свою
парадоксальную теологию, где было сказано: «Ка¬
кими бы прекрасными и хорошими ни казались дела
человека, они все же - смертные грехи», Эразм
выпустил повторным изданием свое, возможно, луч¬
шее произведение «Enchiridion militis Christiani»
(«Кинжал христианского воина») (1503 г.). Там го¬
ворилось: «Нет ничего храбрее того, когда человек
побеждает сам себя; но нет и более высокой на¬
грады, чем блаженство... Возымей лишь громад¬
ное мужество для совершенной жизни и не от¬
ступай от этого намерения. Человеческий дух
никогда не давал себе такого приказа, который
он бы не выполнил. Значительная часть бытия
христианина заключается в том, что он от всего
сердца хочет быть христианином».
Две концепции противостояли друг другу.
Впрочем, Эразм не возрождает пелагианизм1, про¬
тив которого боролся Августин. Новейшие ис¬
следования творчества Эразма показали, что он вы¬
соко ценил милость и стремился прежде всего сле¬
довать Библии. Но его представление о человеке
1 Пелагианство - учение христианского монаха Пелагия, в противо¬
вес концепции благодати и предопределения Августина ставило «спа¬
сение» человека в зависимость от его собственных нравственно-ас¬
кетических усилий, отрицая наследственную силу «первородного
греха». - Прим. ред.
96
Воздействие
склонно к его гармонизации. Следует обеспечить
ответственность и воспитуемость человека. Гумани¬
сту кажутся опасными лозунги «Бог - это все»,
«Человек - ничто». Разумеется, в диалоге Эразм -
Лютер не всегда достаточно ясно различаются
антропологические категории и высказывания об
уверенности в спасении, порука которого - один
лишь Бог. Сентенции Лютера, которые он броса¬
ет Эразму, полностью разделяли лишь весьма не¬
многочисленные теологи-евангелисты («Так воля
человека поставлена в центр, как вьючное живот¬
ное. Если на нем сидит Бог, оно хочет того и идет
туда, куда хочет Бог... Если на нем сидит сатана,
оно хочет того и идет туда, куда хочет сатана, и оно
не может свободно выбирать, к какому из двух
всадников бежать или кого искать, скорее, они бо¬
рются за то, кто его удержит и завладеет им»).
Лютеровская церковь также не приняла их на
веру. Отдельные высказывания Лютера о сокро¬
венном Боге, «deus i pse», который скрыт по ту
сторону открытого Бога, кажутся эрратическими ва¬
лунами среди духовного ландшафта Лютера, обыч¬
но освещенного образом Христа. И все же аргумен¬
тацией Лютера движет необходимость.
Самое глубокое различие, которое существу¬
ет между Лютером и Эразмом, а также между Лю¬
тером и Цвингли, швейцарским реформатором,
заключается во взглядах на таинство (В. Маурер).
7 Зак. 275
97
АЛ.а.ртин Лютер
Эразм оставляет некоторые вопросы нерешенными,
он скептик, который укрывается за непознаваемостью,
когда в самом Писании нет однозначных ответов.
Лютер убежден, что Святой Дух - не скептик, что
Писание ясно свидетельствует о явившемся Хри¬
сте. В споре о воле речь идет в первую очередь о
сути этого явления. Вильгельм Маурер убеди¬
тельно объяснил связь борьбы против Эразма с
размежеванием с Цвингли: «Можно доказать, что
лютеровская теология, оспаривающая таинство
причастия, в величайшей степени зависела от вос¬
приятия таинства, которое представлял Эразм.
Если согласиться с этим тезисом, то отсюда сле¬
дует: причины конфессионального раскола проте¬
стантизма заложены столкновением между Люте¬
ром и Эразмом».
Швейцарский реформатор Ульрих Цвингли
самостоятельно перешел от гуманизма к реформа¬
торским действиям. Разумеется, на него влиял
пример Лютера, но его теологическая самобыт¬
ность неоспорима. Он самостоятельно нашел до¬
рогу к Библии. В 1519 году Цвингли относится к
Лютеру почти восторженно. Казалось, в его лице
миру послан новый Илия. Этим Цвингли наме¬
кал на выступления Лютера на Лейпцигском дис¬
путе в 1519 году. Но хотя он кажется сам себе ря¬
дом с Лютером как гусь рядом с лебедем, это все
не свидетельствует о его внутренней зависимости
98
Воздействие
от Лютера. Почти ревниво Цвингли пытался до¬
казать, что и без Лютера и особого изучения его
трудов он пришел к отрицанию римской церкви.
Вначале противником Лютера по вопросу о
таинстве причастия был Карлштадт. Затем его
вызвал на спор Цвингли, как верно отметил Карл
Барт, свидетель, внушающий доверие. Вначале
Лютер колебался, вступая в дискуссию о причас¬
тии, но затем включился в нее со всей силой. Цвин¬
гли понимал таинства как составной элемент цер¬
кви, что, в свою очередь, было тесно связано с его
высокой оценкой народной общины. Для него кре¬
щение и причастие скорее были не средствами
достижения спасения, а знаменем общины, которо¬
му открыто приносили клятву верности вере. Ког¬
да Лютер и Цвингли в 1524 году высказывали
суждения о Карлштадте, дело еще не дошло до
полемики. Из-за вмешательства Иоганна Бугенха-
гена, сотрудника Лютера, положение обострилось.
Единомышленник Цвингли Иоганн Околампад
представлял его учение. Будущий вюртембергский
реформатор, а тогда швабский проповедник
Иоганн Бренц, принял партию Лютера. Лютер в
обширном трактате «О причастии Христовом. Ве¬
роисповедание» (март 1528 года) защищал мне¬
ние, что вознесенный Христос может одновремен¬
но присутствовать везде и после волеизъявления
отдает себя в причастии в хлебе и вине.
7*
99
АЛартин Лютер
На Марбургской религиозной встрече в нача¬
ле октября 1529 года он объяснял посланцам из
Швейцарии: «Бог может больше, чем все наши
размышления. Нужно уступать слову Божьему...
«Это тело мое». Я не могу понимать эти слова
иначе, чем они есть. Тем надо еще сказать, что там,
где слово говорит: «Это тело мое», нет тела Хри¬
стова. Я не хочу слушать доводы рассудка. При
таких ясных словах я не могу допустить вопросов;
я отвергаю всякий разум и здоровое человечес¬
кое разумение. Телесные доказательства, гео¬
метрические аргументы я отбрасываю полностью.
Бог выше всякой математики, и словам Божьим
нужно с удивлением поклоняться». Вновь Лютер
не хочет ничего умалять в ясности Священного
писания, как он его понимает. Вновь он защища¬
ет христианское таинство и совершенно не заботит¬
ся о церковных и политических последствиях, ко¬
торые может иметь раскол в учении о причастии.
Филипп Гессенский организовал Марбургскую
встречу в рамках большого политического плана
антигабсбургской коалиции евангелических сосло¬
вий, включая швейцарцев. На втором рейхстаге в
Шпейере, где протестанты в 1529 году выступили
против принятия решений по религиозным вопро¬
сам большинством голосов, Филипп начал подго¬
товку к религиозной встрече. Временами казалось,
что соглашение будет достигнуто. Пятнадцать
юо
!Воздействие
Марбургских статей, основанных на подготовлен¬
ных Лютером и позднее (16-19 октября 1529 года
в Швабахе) принятых так называемых Швабахс-
ких статьях, смогли лишь констатировать теологи¬
ческие разногласия по вопросу «как» присутствует
Христос в причастии. Эти статьи тогда были под¬
писаны лишь «лютеранами» и послужили теологи¬
ческой предпосылкой для союза лютеровских кня¬
зей. Так же, как не состоялось церковное единство
со швейцарцами, провалился и политический союз
с ними. В 1531 году катастрофа в битве при Кап-
пеле (11 октября), где погиб Цвингли, стала кон¬
цом его политических планов. По инициативе
Мартина Бутцера дискуссия о причастии продол¬
жалась. 1536 год принес по крайней мере одно
очень значительное соглашение между виттенбер-
щами и северонемецкими реформаторами. Они по-
братски протянули друг другу руки.
ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
Развитие движения Реформации между
1521 и 1530 годами, несмотря на кризис
1524-1525 годов и отделение Цвингли в
1529 году, неудержимо шло вперед.
Императору не оставалось ничего, кроме выжида¬
ния; с политической точки зрения руки у него
101
/Аартин Лютер
были связаны. Все же протестанты знали, на что
они могли рассчитывать. Решения второго Шпей¬
ерского рейхстага под председательством Ферди¬
нанда (1529 год) были нацелены на подавление
всего реформаторского движения, которое за после¬
дние три года приобрело заметный размах. Филипп
Гессенский, курфюрст Иоганн Саксонский, преем¬
ник Фридриха Мудрого, Георг Бранденбургский,
Эрнст и Франц Люнебургские, а также отдельные
города выразили протест против решения боль¬
шинством голосов. Лютер ничего не хотел знать
о политическом союзе протестантов, о котором
мечтал Филипп Гессенский. Он непоколебимо при¬
держивался лояльности в отношении императора.
Вероучение Лютера стало в 1530 году дей¬
ственной общественно-исторической силой. Он
установил новый порядок богослужения и 23 ок¬
тября 1525 года отслужил в Виттенбергской го¬
родской церкви Немецкую мессу, а в 1526 году
выпустил сочинение «Немецкая месса и порядок
богослужения». Он подходил к проблеме пе¬
реустройства церкви с большими колебаниями.
Выступление в Вормсе показало, что Лютер
может подстраиваться к меняющейся ситуации.
Реформация церкви давно уже перешла из сфе¬
ры университета, где Лютер достиг первых успе¬
хов, в сферу общин. Тем самым умножились и
проблемы. Одна община могла следовать другой
102
Воздействие
в установлении нового порядка лишь доброволь¬
но. Участие Лютера в церковных преобразованиях,
в силу его положения профессора и проповедника,
было весьма ограниченным. В первую очередь он
считал необходимыми осмотры, которые должны
были иметь функцию не только управления церко¬
вью, но и образования церкви (Г. В. Крумвиде).
Весной и летом 1527 года был проведен такой
осмотр в округе и нескольких тюрингских ведом¬
ствах светскими и духовными уполномоченными
курфюрста, результаты которого подействовали
весьма отрезвляюще. Свое мнение об обязанностях
владетельного князя при осмотре Лютер изло¬
жил в сочинении «Поучения проводящих осмотр
священнослужителям в курфюршестве Саксо¬
ния», которое в основном обращено к Меланхто-
ну. Власти участвуют в установлении порядка не
как светское начальство, а из христианской люб¬
ви используют данные им возможности на
пользу церкви. Если ход территориально-церков¬
ного развития связан с вмешательством мирских
властей во внутреннюю жизнь церкви, то это не со¬
ответствовало намерениям Лютера. Согласно его
воззрениям, церковь основывается не на власти и
титулах, а на лицах, которые осуществляют церков¬
ную службу. Однако из-за всеобщего священни¬
чества, а не против него, он твердо придерживал¬
ся необходимости регулирующего ведомства. В
юз
/Аартин Лютер
суперинтендантстве он увидел шанс вернуть
епископальное ведомство. Исследование рефор¬
маторского устава церкви считается одной из
наиболее сложных и спорных тем в изучении ис¬
тории Реформации вообще.
Понятие суверенного управления церковью
сегодня нельзя рассматривать, подобно Карлу Хол¬
лу, как замкнутую в себе величину, которая лише¬
на всякой возможности изменения для отдельных
территорий - в Саксонии развитие протекало ина¬
че, чем в Гессене, в Северной Германии или в Вюр¬
темберге, - и лишает себя возможности проводить
различие между концепцией Лютера и полити¬
ческой реальностью. Опыту осмотров мы обязаны
Большим и Малым катехизисом. Первый являет¬
ся кратким курсом Лютеровой теологии. Наряду
с более короткими Шмалькальденскими статьями
(1536 г.) и сочинением 1539 года «О соборах и
церквях» Большой катехизис лучше всего подхо¬
дит для знакомства с Лютером-теологом.
До 1530 года еще не существовало исповеда¬
ния веры, которое изложило бы полностью рефор¬
маторское вероучение. Даже Меланхтон, который
в 1530 году на рейхстаге в Аугсбурге должен был
представлять дело Реформации, не собирался из¬
лагать показательное вероучение. Хотя уже суще¬
ствовали Швабахские или Марбургские статьи,
однако считалось, что евангелическое дело можно
104
‘Воздействие
будет лучше представить в Аугсбурге, если делать
упор только на устранение церкви. Карл V при¬
был в Аугсбург, чтобы покончить с евангелическим
делом, хотя объявление о созыве рейхстага имело
противоположные формулировки. Вместе с папой
и Франциском I император держал бразды поли¬
тического правления в своих руках. Лишь угроза
нападения турков заставила его считаться со сто¬
ронниками Реформации.
Лютер не смог принять участия в рейхстаге.
Друзья, прежде всего Меланхтон, нуждались в со¬
вете, но решили не ставить его жизнь на карту. Как
и прежде, он был отлучен и находился вне зако¬
на. 23 апреля 1530 года Лютер на полгода посе¬
лился в замке на «Синае» в Кобурге. Вайт Дит¬
рих, его помощник, оставался с ним. Нюрнберг не
был так надежен, как это уединенное место. То, что
нюрнбержцы фактически изгнали его из города,
было продиктовано не страхом, а разумной поли¬
тикой совета.
Лютер оказал влияние на события в Аугсбур¬
ге своими письмами, в которых призывает к стой¬
кости. Его положительные суждения об испове¬
дующих веру относились скорее к самому факту,
а не к букве вероисповедания. Передача испове¬
дания веры 25 июня 1530 года, которой предше¬
ствовала до самого последнего момента тяжкая
редакционная работа над «Confessio Augustana»
105
JULapmuH Лютер
(«Вероисповеданием Августина»), стала, по мне¬
нию Лютера, победой божественного слова над
врагом. «Confessio Augustana» он позднее ис¬
пользует как «свое» исповедание веры, которое он
считает неопровержимым. На его формулирова¬
ние и оформление Лютер не смог оказать прямо¬
го влияния. То, как он представлял себе ответ
рейхстага, отразилось в его сочинении, написанном
в Кобурге, «Увещевание духовным лицам, собрав¬
шимся на рейхстаг в Аугсбурге».
Когда в августе 1530 года, после того, как было
зачитано возражение императора «Cofutatio», Ме-
ланхтон вступил в переговоры по примирению.
Лютер призывает его вернуться. Его тревожит не
забота о единстве церкви и империи, а то, что прав¬
да может ослабнуть. Здоровье Лютера в это вре¬
мя было не в лучшем состоянии - он плохо спал,
его мучили сильные головные боли и, кроме того,
повреждение голени; тем не менее он оставался че¬
ловеком, глубоко убежденным в своей вере. Пре¬
одолевая свои искушения, он обретает силу, чтобы
поддерживать друзей и заканчивает перевод 118-го
Псалма, когда в Аугсбурге было передано Confessio.
17-й стих он положил на музыку и записал на сте¬
не комнаты: «Я не умру, я буду жить и возвещать
о Господе (творениях Господа)».
В Аугсбурге союз имперских сословий, т.е.
властей, князей и магистратов вольных городов,
106
Воздействие
выступил за свободное распространение еванге¬
лия. Однако за волеизъявлением властей стоял
народ и его проповедники. «На этих евангеличес¬
ких территориях в общем и целом верхи и низы
были едины» (Ганс фон Шуберт). Лютер в это вре¬
мя производил впечатление руководителя генераль¬
ного штаба за линией фронта, от которого сражаю¬
щиеся войска получают инструкции. В одном пун¬
кте Лютер придерживался давнего убеждения
еще более упорно, чем прежде, если только это
было возможно. Когда 22 сентября 1530 года
стало ясно, что непримиримые одержали победу
над императором, несмотря на его попытки
посредничества до тех пор, пока церковный со¬
бор не примет решения, Лютер полностью их
поддержал; однако превращение союза, основан¬
ного на одном вероисповедании, в организован¬
ный военный союз противоречило его теологи¬
ческим принципам. И все же он был создан,
поскольку приходилось считаться с реальной
опасностью насильственного выполнения Вормсско¬
го эдикта. Ответственность за это Лютер возложил
на юристов.
Насколько велик был авторитет Лютера, пока¬
зывает то, что юристы без его согласия не хотели
предпринимать никаких шагов, которые бы обосно¬
вали право на сопротивление. Переговоры, при¬
ведшие к созданию Шмалькальденской лиги,
107
ААар тин Лютер
свернули с той линии, которой до сих пор придер¬
живался Лютер. Хотя канцлер Грегор Брюк и
добился у него заявления, все же в нем ощуща¬
ется озабоченность Лютера: «Где только это
(случаи дозволенного сопротивления в изложе¬
нии доктора права) обосновано теми же докто¬
рами права или разумными людьми, а у нас
именно такой случай, когда (как они считают)
нужно противостоять властям ... то мы не мо¬
жем это оспаривать. Ибо когда мы учили рань¬
ше не противостоять властям, то не знали, что
подобные права сами даем властям, которым
прилежно учили повсюду повиноваться». Доб¬
росовестность юристов должна обеспечить два
условия: верную оценку правового положения
и случай применения. Лютер все еще надеется,
что император не станет применять силу про¬
тив протестантов. Однако Брюк и юристы сочли,
что он слишком оторван от действительности.
С «этикой мученических актов ... просто ниче¬
го бы не получилось» (Ф. Керн). Тем не менее
Лютер оставался при своем мнении.
Шмалькальденская лига, основанная 27 фев¬
раля 1531 года, представляла собой значитель¬
ную политическую группировку сил, в отноше¬
нии которой император не мог осуществить свои
угрозы. Ее основным принципом было сплоче¬
ние сословий с союзными финансами и войсками.
108
'Воздействие
Существовало два важных обстоятельства: чле¬
ны ее придерживались августинского вероис¬
поведания и лига была создана для сопротивле¬
ния любому, даже императору. В этом нашли
свое отражение глубокие изменения, прои¬
зошедшие после Аугсбургского рейхстага в от¬
ношении к империи и императору.
Непосредственным результатом изменений
стала стабилизация конфессионализма в империи.
Главной задачей теперь являлся религиозный мир,
по крайней мере, до следующего собора. Он был
заключен в Нюрнберге в 1532 г.
Лютер сам требовал собора, постольку считал
себя членом церкви, его размышления по этому
поводу приобрели особую глубину - ведь уже в
1519 году он признал, что и соборы заблуждались.
И все же: как бы развивались или могли разви¬
ваться события, если бы в 1520 или 1530 годах он
был созван? Прежде всего, имел бы значение его
состав; но папа не мог снизойти до проведения
собора, а когда в конце концов он был назначен,
то так и не состоялся. С Нюрнбергского рейхстага
1522 года сословия требовали его созыва на не¬
мецкой земле. Император также надеялся на него
и, когда папа в Триенте всеми силами воспроти¬
вился проведению собора, принял на рейхстаге
1548 года компромиссное для Германии решение,
подобное соборному. Это происходило в период
109
JiAapmuH Лютер
религиозных дискуссий, которым Лютер не слиш¬
ком доверял, хотя в них участвовал Меланхтон.
Прогрессирующее разрушение единства церкви вос¬
принималось с гнетущим чувством уже в XVI веке.
Когда после второго рейхстага в Шпейере
(1529 год) сословия потребовали созыва генераль¬
ного собора или, в качестве замены, национального,
император стал энергичным защитником соборной
политики; он долгое время надеялся на реформы.
После Аугсбургского рейхстага вопрос о соборе
вступил в новую стадию, а смена папы в 1534 году
придала ему новую актуальность. 2 июля 1536 года
папа Павел III назначил собор в Мантуе. Лютер,
который, по мнению курии, обязательно должен
был появиться на нем (хотя курфюрст и знать ни¬
чего не хотел о руководимом папой соборе), под¬
робно занимался этой проблемой и написал для
представления в Мантуе свои Шмалькальденские
статьи (1536 год).
Эти статьи демонстрируют полную готовность
к соглашению, но в то же время резко противоре¬
чат папству, особо подчеркивают главное бытие
Иисуса Христа в церкви, которое, согласно Люте¬
ру, лишено божественного права и должно пони¬
маться в эсхатологическом1 аспекте. Эту концеп¬
цию Лютер потом развивает в соборном сочинении
1539 года и в заслуживающих внимания работах
1 Эсхатология - религиозное учение о конечных судьбах мира и че¬
ловека.
110
1’Воздействие
40-х годов, посвященных церковной проблеме. В то
время как Меланхтон готов был согласиться с при¬
матом папы над человеческим правом, Лютер до
самой смерти оставался несгибаемым. В застоль¬
ной речи он сказал: «Один Бог собирает эту тол¬
пу, управляет ею и получает ее. Поэтому мы гово¬
рим нашему Господу Богу: если он хочет иметь
свою церковь, пусть получит ее; ибо мы не можем
ее держать. И даже если бы мы это могли, то мы
были бы самыми гордыми ослами, которые только
есть под небом».
Теология Лютера, сложившаяся уже к 1528 году,
представляет собой развитие его взглядов на цер¬
ковь и таит еще множество неожиданностей.
Иисус Христос есть глава церкви. Церковь как
божий народ - в сокровенности, но не в плато¬
нической неосязаемости. Там, где возвещается
евангелие, жаждут таинства причастия, молятся, и
живы искушения, крест, страдания и братское уте¬
шение, там нельзя сомневаться, что Бог собирает
и держит свою церковь. Очень интересно сравнить
Лютеровы воззрения на церковь 30-40-х годов с
другими основными экклезиологическими1 кон¬
цепциями. Этому не должна воспрепятствовать и
обширная полемика после 1540 года, к которой в
то время имел пристрастие не только Лютер. В
тот грубый век и более тонкие натуры могли быть
1 Экклсзиология - богословское учение о церкви как божественном
установлении, о се руководящей роли и функциях.
111
ЛЛартин. Лютер
слушателями и почитателями подобных дискус¬
сий. Желание считать выпады Лютера проявле¬
нием болезненно-инстинктивной организации его
духовной жизни основано на переоценке подоб¬
ных высказываний, и всегда достойно сожаления.
То, что Лютер мог писать нечто подобное и вне
полемики, подтверждают его сочинения о соборе
и церкви 1539 года.
ИСПЫТАНИЕ ПОВСЕДНЕВНОСТЬЮ
Jh ютер испытывал страх перед полити-
Шщ ческим протестантизмом. «Шмаль-
Ж кальден» был скорее политической,
Чем духовной реальностью. Нет сомне¬
ний в том, что с созданием этого союза возникла
одна из поистине великих политических концеп¬
ций XVI века. Казалось, чем больше укреплялся
католический контрсоюз, тем более оправданным
становилось появление Шмалькальденской лиги.
На горизонте наметилось столкновение, которое
вскоре после смерти Лютера в 1547 году, казалось,
на какой-то момент вообще поставило под сомне¬
ние существование протестантизма в Германии. В
вопросах Реформации Лютер не доверял никаким
политическим сделкам. Евангелие должно было
возвещаться в чистоте: это было его единственной
112
1Воздействие
заботой, она полностью поглощала его, несмотря на
гнет повседневности.
Портрет «старого Лютера» отмечен не разоча¬
рованностью и отречением, а напряженной деятель¬
ностью в области церковного строительства. Разу¬
меется, он нередко высказывался пессимистически
о духе времени и часто вспоминал о Страшном
суде. Однако приписываемые ему слова, которые
имеют гораздо более старое происхождение и
которые именно в таком виде им не говорились:
«Даже если завтра мир погибнет, я хочу сегодня
еще посадить свою яблоньку», - точно соответству¬
ют мироощущению Лютера, его благоговению пе¬
ред актами творения Бога и теми кривыми стро¬
ками, на которых Бог в конце концов пишет все¬
гда ровно.
Естественной опорой для Лютера был его дом.
В возрасте 42 лет, повинуясь внезапному, но трез¬
вому решению, Лютер вступил в брак с бедной
девушкой, находившейся уже почти на грани брач¬
ного возраста. Это было рискованным предприя¬
тием, поскольку Лютер начинал его в условиях
гражданской неопределенности. В качестве причи¬
ны женитьбы он приводит аргумент, что хотел бы
порадовать отца внуками, позлить папу и черта и
удостоверить свое свидетельство перед мученичес¬
кой смертью. Брак с Катариной фон Бора был сча¬
стливым союзом; Лютер часто, хотя и в шутливой
8 Зак. 275
113
АЛартин Лютер
форме, высказывал благодарность и уважение тру¬
долюбивой Кэте. У них родилось шесть детей, двое
умерли в раннем возрасте. Род Лютеров продол¬
жается замужними дочерьми по прямой линии
вплоть до современности. Последний носитель
имени Лютера умер в 1753 году в Дрездене холо¬
стым. Поэтому с шестого от Лютера поколения во-
обще-то широко распространенная фамилия ре¬
форматора больше не встречается в его потомстве.
Лишь у потомков «боковых ветвей» имя Лютера
встречается и до сегодняшнего дня.
В семье царила экономия, хотя Лютер зараба¬
тывал неплохо, впрочем, и не слишком много по
сравнению, например, с Меланхтоном. Гостей все¬
гда принимали гостеприимно. Сам Лютер был
очень щедр и признавался: «Я не верю, что меня
можно обвинить в скаредности». Из-за напряжен¬
ного финансового положения у них жили студен¬
ты-пансионеры. В общей сложности в доме на¬
считывалось 25 человек. За столом Лютер гово¬
рил о «Боге и мире». Студенты использовали
прекрасную возможность, чтобы узнать его мнение
по вопросам политики, натурфилософии, медици¬
ны, короче, обо всем, что могло представлять инте¬
рес на небе и земле. Все, что говорил Лютер, тут
же прилежно записывалось. Целый штаб писцов
фиксировал день за днем все, что он говорил на
лекциях, в проповедях и в частной обстановке,
114
"Воздействие
возможно, иногда что-то и присочинялось. Внуши¬
тельный объем «Застольных речей» включает 6596
записей. Это неисчерпаемый источник «мудрости
Лютера». Монографии о нем еще нет.
Лютера ежедневно одолевали письменными и
устными вопросами, ответы на которые отнимали
много времени и сил. При создании реформиро¬
ванной церкви в Европе его совета так же жажда¬
ли, как и на его родине. Вопросы учения, проник¬
новение крестительства, отношение к евреям - тема
в лютероведении, к которой следует подходить с
особой добросовестностью, - обширная работа по
переводу Библии, включая работу по проверке, -
всего этого хватило бы на многих людей. Но в то
же время Лютер умел давать задания другим, не
считая, что один человек должен делать все.
Однако его повседневная работа заключалась
прежде всего в исполнении обязанностей профес¬
сора университета и проповедника. Здесь он чув¬
ствовал себя наиболее необходимым. Будучи пло¬
хим дипломатом, он мог принять неверное реше¬
ние (так, в качестве духовника гессенского
ландграфа дал ему неверный и в духовном
отношении совет заключить свободный брак наря¬
ду с уже существующим церковным браком, не пре¬
дусмотрев, что император сразу же использует
двойной брак ландграфа в политических целях); с
другой стороны, он мастерски умел выступать как
8*
115
/Аартин Лютер
третейский судья в споре. И все же главный его
талант был не организаторский или дипломати¬
ческий, а заключался в учении и возвещении. С
1535 года он стал деканом теологического факуль¬
тета в Виттенберге, «против желания и под принуж¬
дением». До самой смерти читал лекции, преимуще¬
ственно по Ветхому Завету, последовательно
комментируя его. В 1530 году он проанализировал
Послание к галатам, важный комментарий к кото¬
рому вышел в 1535 году. Он обнаруживает неко¬
торые сдвиги по сравнению с его ранней теологи¬
ей, но все же свидетельствует о верности проводи¬
мой им линии. В 30-е годы Лютер также много
занимался псалмами, которые с самого начала при¬
тягивали его и он неутомимо читал их.
С 1535 по 1545 год с двумя перерывами
(один раз он занимался толкованием Исайи 53,
обобщая свою теологию) Лютер занимался книгой
«Genesis» (Бытие - прим, пер.); дошедшие до нас
записи были сделаны слушателями, которые в то
же время посещали колледж Меланхтона. Разуме¬
ется, Лютер участвовал также в академических
диспутах, для которых составлял тезисы, с разных
сторон освещающие его учение об оправдании. Его
диспут о праве оказывать сопротивление импера¬
тору (1539 год) привлек в свое время большое
внимание. Проповеди Лютера, даже взятые сами по
себе, являются выдающимся духовным наследием.
пб
'Воздействие
Георг Рёрер, Каспар Круцигер и Вайт Дитрих за¬
писывали за ним и разработали систему скоропи¬
си. Проповеди позднего периода до сих пор не
пользовались заслуженным вниманием и не изу¬
чались с научной точки зрения.
Испытание повседневностью тяжело давалось
часто больному телу. То, что Лютер, несмотря на
частые депрессии и болезни, всегда прилежно рабо¬
тал, свидетельствует, что его болезненные состояния
не имели психопатологического характера. Многое,
в чем его упрекали - как, например, пристрастие к
еде и выпивке - он спровоцировал собственными
шутливыми замечаниями. В действительности он не
был пьяницей, а его тучность была вызвана нездо¬
ровым образом жизни и многочасовым сидением за
письменным столом. С 1526 года сообщения о бо¬
лезнях Лютера появляются все чаще. Камни в поч¬
ках причиняли ему острые боли, а в 1537 году во
время его пребывания в Шмалькальдене чуть было
не свели в могилу. Его мучили головные боли, а за¬
болевание сердца стало в конце концов причиной
смерти. Кюхенмайстер, который, наряду с другими,
описывал историю болезни Лютера, говорит о
«morbus reformatoricus». Вероятно, сегодня это на¬
звали бы «болезнью менеджера». Лютер переносил
страдания с юмором; сколько он в состоянии был
сделать, показывает следующий перечень его
литературных трудов во время болезни:
117
JiAapmuK Лютер
1521 год - семь месяцев нарушена деятель¬
ность желудка.
Создана: 70 проповедей, 100 писем, 30 сочинений.
1527 год - восемь месяцев болезни.
Создано: 60 проповедей, 100 писем, 15 сочинений.
1530 год - десять месяцев болезни желудка и
шум в ушах.
Создано: 60 проповедей, 170 писем, 30 сочинений.
1536 год - восемь месяцев болезни, головокру¬
жения, боли в бедре и камни в почках.
Создано: 50 проповедей, 90 писем, 10 сочинений.
1543 год — десять месяцев болезни.
Создано: 3 проповеди, 83 письма, 10 сочинений.
1545 год (за год до смерти) -10 месяцев бо¬
лезни, камни в почках.
Создано: 35 проповедей, 80 писем, 15 сочинений.
18 февраля 1546 года Лютер умер в родном
городе Эйслебене, куда он приехал; его последняя
миссия проходила под знаком примирения. Он
собирался быть посредником между поссоривши¬
мися мансфельдскими графами. После успешного
завершения дела он находился в состоянии глу¬
бокого изнеможения. 18 февраля он умер, ясно
подтвердив перед смертью, что хочет умереть в со¬
гласии с Христом и тем учением, которое он про¬
поведовал. Посмертная маска была сделана в
Эйслебене. Он был погребен в Замковой крепос¬
ти Виттенберга. Когда Карл V после победы над
118
!Воздействие
протестантами в 1547 году вступил в Виттенберг, он
посетил могилу своего противника, но пощадил ее.
Последнее изображение Лютера было сделано
16 февраля 1546 года и не могло бы лучше выра¬
зить то, что составляло миссию этого великого
гражданина в двух мирах: «Никто не может по¬
нять Вергилия в его пастушеских и крестьянских
песнях (буколики и георгики), ведь он пять лет
был пастухом или крестьянином. Как я полагаю,
никто не может понять Цицерона по его письмам,
ведь он двадцать лет находился в высших сферах
власти. Думаю, что никто не может достаточно по¬
нять Священное писание, ведь в течение столетий
оно управляло церковью через пророков (как
Илия, Иоанн Креститель, Иисус Христос и апосто¬
лы). Не пытайся сделать этого, а следуй, глубоко
молясь, по их стопам. Мы - нищие. Это истинно».
Взглянем на мир, окружавший Лютера: он
жил среди мелких бюргеров, которые, кроме сво¬
его ремесла, как правило, еще немного занимались
сельским хозяйством. Лишь в Магдебурге, Эр¬
фурте и Эйслебене жили богаче. Виттенберг был
скромным городком, после 1530 года в нем было
лишь 420 домов и менее двух с половиной тысяч
жителей. Замок, городская церковь, здание колле¬
гии и монастырь августинцев были единственны¬
ми достопримечательностями этого молодого
университетского города, который примерно до
119
/Лартин Лютер
1516 года сильно отставал от других известных
образовательных центров. Скромный ландшафт
отражается в сочинениях Лютера. Старый Будден-
брок в романе Томаса Манна потешается над сель¬
ским колоритом «Малого катехизиса». Лютер со¬
вершил несколько путешествий; для своего време¬
ни он поездил достаточно, но его будничная жизнь
протекала в скромном Виттенберге. Будучи отлу¬
чен от церкви, он не мог рисковать и отправлять¬
ся в далекие путешествия. Облик Виттенберга в
значительной мере определяли студенты, которые
сотнями стекались к Лютеру и Меланхтону.
Не каждый, чьи сочинения пользуются успехом,
сразу же становится благополучным доцентом.
Лютер стал им. Его сочинения с 1517 по 1725 год
вышли почти двумя тысячами изданий, и тем са¬
мым его влияние распространилось далеко за
пределы немецкого языкового пространства.
Вормсский запрет 1521 года печатать и читать его
сочинения не соблюдался. Его песни распевали
все. Большим вниманием также пользовались про¬
поведи Лютера - более двух тысяч, то есть две
трети тех, которые он прочел с 1510 по 1546 год,
сохранились для нас в записях и обработках. Про¬
поведь была важнейшим информационным и пуб¬
личным явлением того времени, ибо большинство
людей не умели ни читать, ни писать. Лютер был
выдающимся проповедником, непревзойденным по
120
1Воздействие
образности языка, богатству речи и темперамен¬
ту. Он мог говорить по-немецки, а на тюрингс-
ко-саксонском диалекте его понимал любой че¬
ловек с улицы. Лютер при переводе Библии не
побоялся сделать мерилом своего переводческо¬
го труда среднего бюргера. Даже Ницше считал,
что по сравнению с Библией Лютера все осталь¬
ное - лишь «литература». Реформатор умел
также давать своим сочинениям заголовки, при¬
влекающие своей творческой силой и энергией:
«Немецкая теология», «К козлу в Лейпциге», «К
правителям всех городов немецкой земли», «Про¬
тив небесных пророков», «Воинская проповедь
против турок», «О пронырах и проповедующих
по углам». Его речь была очень выразительной
и в том курсе лекций, который он читал на ла¬
тыни и куда вставлял йемецкие выражения. Он
говорил живо и приводил примеры из природы,
истории, прежде всего античной, из современных
событий и быта.
Его речь была исполнена драматизма, острой
диалектики и добродушия, деловой аргументации
и в то же время страстности, иногда чрезмерной
полемики. До нас дошло 2585 писем, очевидно,
им написано намного больше. Они свидетель¬
ствуют, что Лютер оставался верен дружбе и был
непреклонен в своих суждениях лишь тогда, ког¬
да считал, что это касается евангелия.
121
/Аар тин. Лютер
Его лекции и сочинения занимают целую пол¬
ку. Современники не имели возможности просле¬
дить ранний этап его теологического развития, как
это можно сделать теперь после обнаружения про¬
поведи о Послании к римлянам (в 1839 году).
Этот собственноручный манускрипт Лютера года¬
ми, не привлекая внимания, лежал в витрине Ко¬
ролевской библиотеки в Берлине, пока в 1908 году
Иоганн Фикер не выпустил образцовое издание с
комментариями. Однако интерпретация этих ран¬
них сочинений Лютера не должна протекать в
отрыве от тех сочинений, которые оказали столь
большое влияние. Будущие исследователи Лютера
должны больше внимания уделить этому аспекту.
ИМПУЛЬС
Я щ ерковное мышление Лютера имеет ми-
Ш УЯ ровое значение, ибо он страстно требо-
вал обновления церкви, основываясь
на евангелии. Церковь для него - на¬
род Божий под одним главой, Господом церкви.
Сегодня лучше, чем еще два поколения назад, вид¬
но, что Лютер критиковал церковь в самой ее сути
за несостоятельность. Врагами церкви являются те,
кто предает евангелие. Поэтому основной целью
Лютера было понимание слова Божьего. Во имя
122
"Воздействие
его он сражался с оковами схоластической теоло¬
гии и, возможно, увлекшись, не всегда учитывал
традиции средневековой теологии. Однако, в ко¬
нечном счете, Лютер был не исследователем исто¬
рии догм, а проповедником и духовником, который
осознавал свою ответственность за общину. В от¬
чуждении евангелия он видел смертельную опас¬
ность для души и совести, поэтому так бурно реа¬
гирует; по его мнению, должно иметь значение
только Священное писание, только милость, толь¬
ко вера. Sola scriptura,sola gratia, sola fider - та¬
ковы были лозунги Реформации и Лютера. При
этом он понимал под Писанием не букву, а средо¬
точие евангелия, благовещение Христа. От многих
он пришел к одному, от периферии - к центру.
Грандиозной концентрацией было то, что он уви¬
дел в «оправдании одной лишь верой» краткую
формулу или шифр признания евангелия, воспри¬
нятого с верой.
Однако, как признают сегодня и евангеличес¬
кие, и католические теологи, этим «одной лишь»
Лютер не отрицал всякую ответственность чело¬
века и не пытался возвести непреодолимое препят¬
ствие между верой и испытанием миром. Напро¬
тив: исключительности Бога и его поведению в
деле спасения и оправдания сопутствует всемо¬
гущество Бога, явленное в человеке, который ста¬
новится сотрудником Бога. Вера и дело так же
123
JUiapmuH. Лютер
тесно связаны друг с другом, как дерево с плода-
ми. Таким образом, вполне можно согласовать уче¬
ние Лютера об оправдании и католическое учение
о милости.
Труднее складывается диалог между двумя
представлениями о церкви. Поэтому зададимся
вопросом, насколько можно свести мировую тен¬
денцию к Реформации и самому Мартину Люте¬
ру. Можно попытаться найти ответ в Лютеровой
теологии церкви.
Из-за нападок Рима Лютер был вынужден
специально поднять вопрос о знаках церкви не
только для того, чтобы придать экклезиологии
больше конкретности, но и чтобы представить при¬
тязания евангелистов апологетико-миссионерски¬
ми. Нельзя полностью отделить друг от друга раз¬
витие и апологетическую тенденцию в первых про¬
явлениях в 1520 году. Но Лютер уже теперь почти
классически разрабатывает преимущество еванге¬
лизма в духе проповедуемого слова, четко отгра¬
ничивая его от римской позиции. Новая стадия
спора начинается на Аугсбургском рейхстаге.
Лютеру теперь нужно защищаться от аугсбург¬
ского простого заявления, что евангелическое уче¬
ние опровергнуто. «Я должен верить и не знать, во
что я должен верить. Я должен считаться заблуд¬
шим, но мне не хотят объяснить, почему я за¬
блуждаюсь!» Само собой разумеется, что борьба
124
‘Воздействие
между двумя партиями, представленными в Аугс¬
бурге, вначале была духовной борьбой за истину.
Однако каждая хотела утвердить себя на форуме
империи и подтвердить свои притязания. Этим
вызвана напряженность в аргументации Лютера.
С одной стороны, после 1520 года Лютер неутоми¬
мо борется против смешения церкви как духов¬
ного явления с чисто внешней церковью. Подлин¬
ная Церковь ведет свою жизнь скрыто. С другой
стороны, публичное возвещение слова Божьего и
того, что является его следствием, должно быть
подвергнуто пересмотру. Лютер убежден, что
следует вести борьбу за чистое учение, и она свя¬
зана с различением истинной и ложной церкви.
Разумеется, оно не может быть объективно зафик¬
сировано как различение двух конфессиональных
церквей. Можно вообще не признавать церковь.
«Церковь» есть и остается в своей подлинной сущ¬
ности предметом веры в строгом смысле этого сло¬
ва. Но не должен ли также заблуждающийся или
безразличный иметь возможность познать истинный
христианский народ, чтобы обратиться к правде?
Лютер подчеркивает и то, и другое. С учени¬
ем реформатора о ясности и естественной очевид¬
ности Священного писания связано то, что он счи¬
тает публичное свидетельство за евангелие и ста¬
тьи веры выступлением за правду, против которой
не может быть возражений. Неопределенность
125
JUiapmuH Лютер
относительно основных составных частей христи¬
анского учения, например, в вопросе отпущения
грехов, исповеди и покаяния, а также бесспорные
новшества в учении, Лютер преодолел довольно
успешно, опираясь на Писание и Христа. Однако
усилившееся после рейхстага осуждение вынуди¬
ло реформатора защищать свое дело. На передний
план выступили главные тематические задачи, ко¬
торые стали преобладающими в крупных сочине¬
ниях 1539-1541 годов. Реформатор защищается от
обвинения в нововведениях, обращая его против
врагов. «Итак, Бог. и его слово старше, чем вы, и
пребудет дольше, чем мы и вы, потому что оно веч¬
но. Поэтому следует и старое, и новое изменять
и управлять им, а не позволять ни новому, ни
старому изменять или управлять». Таким обра¬
зом, основное противоречие, существующее между
противниками, можно свести к вопросу: слово или
внешняя церковь. Без заповеди и повеления Бога
церковь не должна вводить ни одного пункта
Веры. Она не может этого сделать также как сви¬
детель правды. Мнения отцов нельзя понимать как
пункты веры, не говоря уже о том, что и отцы не
могли вводить новые пункты.
Именно потому, что истинные пункты веры яв¬
ляются даром одного только Бога, они не подле¬
жат самовольному распоряжению церкви. Церковь
может лишь признавать пункты веры и заповеди
126
Воздействие
Божьи. Поэтому должно быть так: «Церковь Бо¬
жья не властна выдвигать какой-либо пункт
веры, как она никогда не обосновывала какой-
либо пункт и не будет обосновывать вечно».
Или: «Твердо установлено: кто не властен обе¬
щать и давать будущую и вечную жизнь, тот не
может и основывать пункты веры». Лишь при¬
сутствие Христа и его слова делают церковь
Церковью.
Примечательно, что Лютер при всей уверенно¬
сти в том, что сам он принадлежит к истинной
Церкви и исповедует истинные пункты веры, все же
не отрицает, что в римской церкви может быть
жива правда Иисуса Христа. Неизвестно, насколь¬
ко непредвзято Лютер признавал воздействие духа
Божьего в римской церкви, насколько он считал
способной силу крещения, слова побеждать серд¬
ца людей в римской церкви. Лютер страстно со¬
противлялся тому, чтобы господство Христа было
сужено до церкви одной конфессии.
Спорной является политическая этика Люте¬
ра. Можно здесь коснуться ее лишь в общих чер¬
тах. Если прочитать трактат Лютера «О свободе
человека-христианина» 1520 года, то важнейшие
моменты в нем уже содержатся. Слово, Христос,
вера и любовь связываются в нерушимое единство.
Человек-христианин живет не только «в нем
(себе) самом, но в Христе и своем ближнем, в
127
JULapmuH Лютер
Христе - через веру, в ближнем - через любовь».
Для христианина суть существования заключает¬
ся больше не в себе самом, а в Боге. Если человек
через свою веру связан с Господом, он может и
должен идти по пути к ближнему. В этом прояв¬
ляется глубочайший смысл христианской свободы.
Речь идет не о свободе законов и трудов, а о сво¬
боде от собственной эгоистической сути и о свободе
для служения ближнему. Освобожденный человек
открыт для любви к ближнему. «Стать для дру¬
гого Христом» - это задача и результат христиан¬
ского поведения. Служение ближнему Лютер ес¬
тественно и безоговорочно считает служением
Христу. Открытие ближнего является необходи¬
мым выводом из реформаторского послания о
Христе и оправдании. Вся христианская этика
основана на любви к ближнему.
Все, что Лютер проповедует в своей этике, име¬
ет точку соприкосновения с любовью к ближнему.
Поэтому сомнительным представляется любое рас¬
смотрение политической этики Лютера в отрыве от
этого. Нельзя говорить о государстве и церкви,
учении о двух царствах или двух властях и т. д.
в отрыве от общей этической концепции Лютера
(несмотря на тесную связь с остальной его
теологией: учением о Боге, христологией и т. д.).
После второй мировой войны (и до нее) с различных
сторон раздавалась острая критика политической
128
"Воздействие
этики некоторых лютеран, поэтому особую важ¬
ность приобретает вопрос, чему же в действитель¬
ности учил Лютер, на которого постоянно ссыла¬
ются, особенно относительно различения духовных
и светских властей. Эрнст Вольф понимал связь
христианской и гражданской общин в духе Барта
как выражение любви, которая даруется человеку
Богом. Мирская власть является «sanctitas
general is» и в качестве духовной власти слова на¬
ходится под милостью Божьей. «Смыслом разли¬
чения между духовной и мирской властями явля¬
ется в конечном счете сохранение единства Бога
в творении и спасении, а именно против постоян¬
ной угрозы доброте творения со стороны человека».
Обе власти едины в предназначении Госпо¬
дом. И хотя мирская власть в известной мере
присутствует из-за греха, но все же не происхо¬
дит от него. Это «ordinatio divina» (божествен¬
ный порядок). Бог присутствует в обеих властях
любовью и милосердием, даже гнев служит его ми¬
лосердию. Обе власти различны, и их нельзя сме¬
шивать друг с другом. В мирской власти господ¬
ствуют мирская справедливость и власть, в духов¬
ной власти - любовь. Несмотря на эти различия,
нет антагонизма между ними. Они зависят друг от
друга. Ведь царство Божие не могло бы существо¬
вать в земном мире без мирской власти. Наобо¬
рот, духовная власть должна учить, что мирское
9 Зак. 275
129
УНартин Лютер
начальство и мирская власть - это воля Божья.
Остается спорным, даже если признать эти две
точки зрения, можно ли вообще говорить об «уче¬
нии» о двух царствах или властях или же речь
идет только о точке зрения для проповеди слова
людям в обеих сферах. Многое говорит в пользу
того, что речь идет о направленности христианской
проповеди. Ведь Лютер дает указания в проповедях
и сочинениях, связанный с определенной ситуацией,
а не в рамках систематически выстроенной этики.
Если попытаться более подробно рассмотреть
представленные интерпретации этого «учения» или
«проповеди», то возникает запутанная картина. Не
достигнуто полной ясности даже в терминологичес¬
ком отношении. Представляется сомнительным, что
вообще возможна полная и исторически достовер¬
ная интерпретация состояния текста. Способно
хоть одно поколение воспроизвести позицию Лю¬
тера исторически достоверно, да и было бы это ра¬
ционально? Нельзя отрицать, что в XIX и XX ве¬
ках «учение» Лютера модифицировалось различ¬
ным образом. Разумеется, важно исследование
взглядов Лютера от самых истоков, тогда можно
избежать грубых искажений этого «учения». Осо¬
бенно большая заслуга в разоблачении подобных
ошибочных интерпретаций Лютера принадлежит
Францу Лау. Он считает, что еще не доказана состо¬
ятельность ни одного из тех возражений, которые
130
’Воздействие
выдвигались против Лютерова учения о двух цар¬
ствах. То, что в лютеранских странах учением
Лютера злоупотребляли для оправдания самовла¬
стного, всесильного государства, не должно ком¬
прометировать саму идею. Какой из христианских
доктрин о значении государственного порядка и
взаимоотношениях церкви и государства не
злоупотребляли? Разумеется, они были в любом
случае. Абсолютистское правление, безусловно, не
является монополией лютеранских стран.
Объективное исследование сферы понятий о
«царстве» и «власти» требует,.на наш взгляд, раз¬
делять и различать учение о царствах и учение о
власти. В более узлом смысле слова в учении о
двух царствах противостоят друг другу царство
Христово и царство сатаны, а в учении о двух вла¬
стях духовная и мирская власть стоят рядом.
Царство Христа есть господство Христа через
евангелие, царство сатаны есть господство сатаны
через грех, который делает этот мир сферой вла¬
дычества сатаны. Перед духовной властью стоит
задача направлять сердца и совесть посредством
слова Божьего, ее цель - вести человека к спасе¬
нию. Здесь правит вера. Перед мирской властью
стоит задача управлять земными делами; она пра¬
вит с помощью закона и силы, ее цель - создать
и сохранить общественный мир и порядок. Здесь
правит разум.
9*
131
JiA.apm.un Лютер
Обе власти Божьего порядка и находятся у
него на службе до тех пор пока не смешиваются и
в послушании Богу исполняют свою задачу. Одна¬
ко они могут находиться на службе у сатаны, что
случается, когда одна из властей вмешивается в дела
другой. Следствием учения Лютера о двух цар¬
ствах и властях должно было стать следование его
предостережению о четком различении двух
царств и о смешении двух властей. При этом, по
мнению Лютера, речь идет ни больше ни меньше
как о бренном мире и вечном спасении.
Христианин полностью находится в области
владычества Иисуса Христа, поэтому не может
быть гражданином двух царств, а находится в миру
как гражданин царства Христова. Он подчиняет¬
ся не двум владыкам - Христу и императору, и не
двум законам - закону Христа и мирскому зако¬
ну, а должен повиноваться одному владыке. Од¬
нако поскольку христианин должен осуществлять
послушание в конкретных, мирских условиях, он
должен уважать установленный для сохранения
мирского царства порядок и разумные законы,
связанный заповедью любви к Богу и к ближне¬
му. В следовании двойной заповеди любви во всех
областях жизни проявляется владычество Христо¬
во через евангелие. Таким образом, для христиа¬
нина под царской властью Христа нет дуализма
сфер владычества и притязаний на владычество.
132
’Воздействие
Это следует особо подчеркнуть, учитывая сокра¬
щенную и даже искаженную интерпретацию уче¬
ния о двух царствах. Ни в коем случае нельзя по¬
вторять вслед за Ф. Лау: «В двух царствах пра¬
вят разные властители. В одном царствует сам Бог
и Христос... В другом царствует император...
Практически это означает, что христианин, посколь¬
ку он находится под властью императора, не дол¬
жен прислушиваться к заповеди Христа. В мирс¬
ком царстве имеет силу не слово Христово, а сло¬
во императора». Насколько невозможно подобное
умозаключение, настолько проблематичен тезис, что
в сфере частной жизни христианин находится под
властью Христа, а в служебной сфере - под влас¬
тью императора. Лютер хочет, чтобы мирская
жизнь также протекала под господством Христа, но
это может произойти лишь тогда, когда христиа¬
не, находящиеся под владычеством Христа, дей¬
ствуют в миру.
ПОСМЕРТНАЯ СЛАВА И СОВРЕМЕННОСТЬ
За периодами бурных споров о Марти¬
не Лютере всегда следовали периоды
относительно спокойного отношения к
нему. В течение ста лет, прежде чем
Карл Холл и Рейнхольд Зееберг создали целостный
133
JiAapmuH Лютер
портрет Лютера, не было единого представления о
нем, а существовала лишь проблема Лютера, вок¬
руг которой ломали копья просвещенные и патри¬
отические толкователи. Большой интерес представ¬
лял вопрос свободы и гражданского общества, при¬
чем просвещенная традиция и прогрессивная
мысль составляли обязательный духовный фон. В
XIX веке Лютера истолковывали достаточно про¬
грессивно, но ограничивали его этику и свободу ча¬
стной сферой. В конце концов - и к большому
сожалению - лояльный подданный стал образцом
поведения, подтвержденным авторитетом Лютера.
Однако представление о Лютере, существовав¬
шее у национальной буржуазии, было повергнуто
в шок, когда Эрнст Трёлтш заявил, что для новей¬
шей политической истории Лютер (без приниже¬
ния его заслуг в деле светской государственной
жизни) стал роком. В силу консервативно-патри¬
архального мышления он помог взрастить приори¬
тет властей и государства, увенчавшийся абсолю¬
тизмом, и воспитать в немецком народе политичес¬
кую пассивность, помешав развитию мышления,
направленного на преобразование мира.
Карл Холл опроверг наихудшие, ошибочные
суждения Трёлтша. После того как с 1917 года были
глубоко разработаны вопросы своеобразия веры и
теологии Лютера, энтузиазм в исследованиях Люте¬
ра несколько снизился. Рикарда Хух нащупала нерв
134
‘Воздействие
лютеровой силы убеждения, пусть даже в отноше¬
нии Цвингли она выглядит твердолобой, а в непри¬
ятии политических реалий - неразумной. Уже в
1916 году ею написано: «Величайшее - это всту¬
паться за его дело с помощью его личности...
Большинство борцов отличаются от Лютера тем,
что они борются не из любви к Господу и нена¬
висти к дьяволу, а из тщеславия, зависти и лич¬
ной ненависти». Как и Рикарда Хух, Герхард
Риттер в своих работах, пользовавшихся большой
популярностью, решительно выявлял религиозные
корни реформаторских свершений Лютера.
«Лютеровская Реформация - это не частное явле¬
ние великого процесса секуляризации... а, скорее,
наоборот: грандиозное новоодушевление религиоз¬
ной жизни и древних христианских традиций»
(1941 г.). Он был просто религиозным пророком.
«Его нужно понять в самых глубинах его духа, в
таинственных безднах сердца, в борении с Богом,
чтобы сделать вывод о том, кем он был и что озна¬
чает для мировой истории. Тому, кто не сможет
этого сделать, лучше вообще пройти мимо, вместо
того чтобы обращаться к нему с вопросами, на ко¬
торые у него нет ответов». Это справедливое пре¬
достережение для любой постановки вопросов, ко¬
торые всегда начинаются с «Лютер и...».
Разумеется, справедлив вопрос о вкладе Лю¬
тера в историю свободы человечества, ибо не только
135
ЛАар тик Лютер
то, кем он был и что говорил, но и то, как его ис¬
толковывали и воспринимали в течение столетий,
относится к истории импульса, данного Лютером.
Его дело многократно подвергалось синтезу, изме¬
нениям и новым воздействиям, оно оказывало от¬
ветное действие на общество и государство. Мар¬
ксистские авторы упрекали Лютера в мещанстве и
покорности князьям, а также в том, что он стал по¬
корным инструментом для абсолютистского разде¬
ления Германии на малые государства.
Классики марксизма лучше различали Лютера
и его эпигонов, чем некоторые современные марк¬
систы. Людвиг Фейербах в своей антропологии об¬
ращался к Лютеру, открывающему телесность
человека; Маркс давал шанс идеологии, идущей от
Лютера через Гегеля и примыкающей к протестант¬
ской революции, всемирной революции. Фридрих
Энгельс прославил Лютера среди героев того пе¬
риода «величайшего прогрессивного переворота,
который нуждался в гигантах и производил гиган¬
тов по силе мысли, страстности и характеру, раз¬
носторонности и учености». Проигранная Гер¬
манией вторая мировая война привела к осужде¬
нию Лютера. В Англии примерно в 1945 году
появилась книга Петера Ф. Винера под характер¬
ным названием «Мартин Лютер, духовный предок
Гитлера» (Hitler’s spiritual ancestor). Томас Манн
многократно демонстрировал свою антипатию
136
!Воздействие
Лютеру, находясь под сильным влиянием Фрид¬
риха Ницше. Наиболее далек от Лютера, пожалуй,
его роман «Доктор Фаустус». Лютер для Ман¬
на - «упрямый, как бык, Божий варвар», антипо¬
дом которого является утонченный гуманист
Эразм Роттердамский. Однако то, что Томас
Манн в течение всей жизни занимался Лютером,
все же свидетельствует, что его понимание Лютера,
питаемое старыми вымыслами, возникло из «ис¬
тинных мотивов» (Г. Ленерт). В живописи, лите¬
ратуре и поэзии до сих пор отражается борьба
вокруг понимания духа Лютера. Томас Манн, Гер¬
хард Гауптманн, Эрнст Лиссауэр, Манфред Хаус-
манн, Джон Осборн, Леопольд Альсен использо¬
вали жизнь Лютера для своих произведений;
Вальтер фон Моло, Рудольф Тиль, Йохен Клеп¬
пер, Курт Иленфельд и многие другие в поэти¬
ческой форме истолковывали его дело. Книга о
Лютере Рихарда Фриденталя в 1967 году заслу¬
женно стала бестселлером, поскольку ему удалось
создать современный образ монаха, мятежника и
реформатора. Лютер показан без патетики, объек¬
тивно, как «человек своего времени, который пере¬
жил мучительное бремя последних пятнадцати лет
мужественно и добродетельно; который не кажет¬
ся нам доктринером» (Мартин Шмидт). Автоно¬
мия свободы направлена у Лютера не против Бога,
она утверждает себя под Богом. «Лютер был
137
JULapmuH Лютер
очень сложной натурой, нетерпимым и бережным
одновременно, пламенный дух и революционер, ко¬
торый мог вызвать даже хаос, и консерватор в том
смысле, что он хотел сохранять или реформировать
медленно, постепенно; он без оглядки бросался в
бой и хотел пощадить слабых». Такое впечатление
создалось также и у нас.
Лютер - человек напряженного духовного
труда и потому - благодарный объект для анали¬
тиков различных направлений. Исследователям
Лютера известна сила его личности и взглядов.
Однако из-за этого его образ не распадается на
фрагменты, а остается духовной величиной в не¬
изменном единстве. На IV Международном кон¬
грессе по изучению Лютера в Сан-Луи в августе
1971 года исследователи заботились о том, чтобы
Лютера не погребли под конвенциями и система¬
ми, а получили критическую оценку односторонние
ссылки на Лютера и беспринципная эксплуатация
его мотивов. Сегодня обращение к Лютеру происхо¬
дит спонтанно. «Лютер с первичными элементами
своего теологического мышления сегодня живее,
чем когда-либо», - считает даже католик Альберт
Бранденбург.
Это важное заявление для времени, когда тех¬
ника, промышленность и торговля стали формами
выражения современного труда, а духовный облик
отмечен рационализмом. Однако в этом содержится
138
1Воздействие
некая внутренняя необходимость. Ибо Лютер, ко¬
торый покинул монастырь и призвал к служению
в миру, относится к духовным отцам, осознающим
новое время. Он твердо придерживается той точки
зрения, что мир как пространство общественно-со¬
циальной ответственности есть Божье творение и
должен оставаться им. Свобода человека-христи-
анина является исходным пунктом его понимания
человека и мира. Евангелие не идентично догме и
закону церкви, поскольку они не соответствуют бо¬
жественному откровению; это освобождающее по¬
слание о милости, которая не поддается человечес¬
кому измерению, хотя, безусловно, принадлежит че¬
ловеку в пределах, указанных откровением. Эти
пределы Лютер пытается, согласно убеждениям, ус¬
тановить в вероучении Реформации, которое создано
им самим или закономерно восходит к нему и ко¬
торое в значительной степени находится в согласии
с основополагающими догмами римской церкви.
Верить для Лютера означает слушать и повиновать¬
ся тому, что Бог говорит в слове.
Воздействие Лютера как вестника милости
имеет свой источник в благовещении Христа, о
котором он говорит: «В моем сердце правит эта
вера Христова (вера в Христа), из которой, через
которую и в которой день и ночь текут и возвраща¬
ются вспять мои теологические мысли, и все же я
знаю, что глубину, широту, высоту этой мудрости я
139
/Аар тик Лютер
могу понять лишь слабо и отрывочно в самых ее
истоках». Вымаливая милость и находя ее посред¬
ством слова, он не хотел быть никем иным, как
только толкователем Священного писания. Шаг за
шагом, без умысла Лютер был ведом по своему
пути как «ослепшая лошадь». В настоящее время
он воспринимается как импульс для зрелого мира,
который не отворачивается от трансцендентности
к замкнутости в себе. Лютер против секуляризма
там, где он нем перед вопросом Бога; однако он за
подлинную секулярность на основе христианской
ответственности.
Таким образом, значение Лютера выходит да¬
леко за пределы индивидуальной сферы его лич¬
ности, которая свидетельствует о неистовой страс¬
тности и восприимчивости, тонкости чувств и эмо¬
циональности. При всей остроте мысли и ясности
решений он не презирает природу с ее ничтожней¬
шими творениями, а испытывает радость от музы¬
ки и искусства и требует для них места в церкви.
Лютер великий труженик и столь же великий бо¬
гомолец. Он обращается к читателю своего
необъятного труда в первую очередь и наиболее
проникновенно не как великий толкователь текста
и гениальный теолог-мыслитель, а как личность, со¬
вершенно потрясенная явленной ей в откровении
тайной Господа. «Бог увлекает меня за собой; я
больше не владею сам собой», - так он писал в
140
Воздействие
1519 году заботливо следившему за его путем
Штаупицу.
Теперь, обозревая пройденный им путь, и вме¬
сте с Гёте можно убедиться в том, что «не исчис¬
лить количество дней, спустя которые он в дале¬
ких столетиях перестанет давать творческий им¬
пульс». Это высказывание хотелось бы дополнить еще
очень многими, говорящими о его воздействии, - впро¬
чем, небольшая биография не позволяет этого сде¬
лать; здесь лишь дан краткий очерк самого суще¬
ственного в этой жизни. Дилти однажды попытал¬
ся сформулировать, имея в виду Реформацию:
«Как во тьме ночи отдельные предметы отступа¬
ют на второй план и человек остается наедине со
звездами и невидимым: так эти великие люди вос¬
принимали свои отношения с небом».
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
1483 - 10 ноября Лютер родился в Эйслебене, в
семье рудокопа Ганса Лютера,
происходившего из крестьян¬
ской семьи, и его жены Марга¬
риты, урожденной Линденманн
1484 - начало лета переселение в Мансфельд
1488
Лютер в течение года учится
в Магдебурге, затем переезжает
в Эйзенах
1501 - май
зачисление в Эрфуртский уни¬
верситет
1502
бакалавр свободных искусств
1505
магистр искусств
17 июля
поступление в монастырь ав¬
густинцев в Эрфурте, чему
предшествовало клятвенное
обещание во время грозы под
Штоттернхеймом
1507
посвящение в сан священника
1508
Лютер преподает в Виттен¬
берге философию морали
1509
отзыв в Эрфурт
бакалавриат теологии
лекции о сентенциях Петра
Ломбардского
143
/Аартик Лютер
1510 - ноябрь
поездка в Рим по делам ордена
1512
субприор Виттенбергского
совета
19 ноября
доктор теологии, профессор в
Виттенбергском университете
1513-1518
чтение курса лекций по Псал¬
мам (1513-1515), Посланию к
римлянам (1515/16), Послани¬
ям к галатам и евреям
1515
окружной викарий своего ордена
1517-31 октября
Лютер оглашает 95 тезисов
на латинском языке против
отпущения грехов, предназна¬
ченных для обсуждения на
академическом диспуте
1518 - 26 апреля
Гейдельбергский диспут
июнь
открытие канонического судеб¬
ного процесса над Лютером с
вызовом в Рим
12-14 октября
допрос кардиналом Кайетаном
в Аугсбурге
25 августа
прибытие в Виттенберг Фи¬
липпа Меланхтона
1519
диспут с доктором Эком в
Лейпциге
с Собор тоже может заблуж¬
даться»
растущая критика папы
1519-28 июня
избрание Карла Испанского
германским императором
(Карл V)
144
(Хронологическая таблица
1520
Лютер публикует три основ¬
ных реформаторских сочине¬
ния: «Обращение к христиан¬
скому дворянству», «О вави¬
лонском пленении церкви», «О
свободе человека-христианина»
10 декабря
Лютер сжигает книгу канони¬
ческого права и папскую бул¬
1521 - 3 января
17-18 апреля
лу с угрозой отлучения от
церкви от 15 июня 1520 года,
доставленную в Виттенберг
10 октября
булла об отлучении от церкви
допрос перед рейхстагом в
Вормсе. Отказ от требуемого
4 мая
отречения
Лютер в целях безопасности
перебирается в Вартбург
26 мая
Вормсский эдикт: Лютер
объявлен вне закона
1522
литературный труд в
Вартбурге
март
Лютер лично появляется в
Виттенберге и вмешивается
в беспорядки, вызванные Карл-
штадтом
проповеди во время великого
поста
«Верное увещевание всем хри¬
стианам воздерживаться от
мятежа и возмущения»
10 Эш 275
145
АЛартин Лютер
1523/24
сентябрьский Завет (перевод
Нового Завета)
рост евангелического движения
песни Лютера
сочинения по вопросам бого¬
1524/25
служения и школы
спор с Карлштадтом и Тома¬
сом Мюнцером
Крестьянская война
1525 - апрель
май
«Воззвание к миру»
«Против разбойничьих и уби¬
13 июня
вающих толп крестьян»
бракосочетание с Катариной
фон Бора
декабрь
«О порабощенной воле» про¬
тив Эразма Роттердамского
1526
первый рейхстаг в Шпейере
по вопросу Вормсского эдик¬
та до проведения собора каж¬
дое сословие должно действо¬
1527
1528
вать по своему усмотрению
дискуссия с Ульрихом Цвингли
по вопросу о причастии
посещение церквей в Саксонии
«О причастии Христовом. Ве¬
роисповедание»
1529
второй рейхстаг в Шпейере
князья и евангелические сосло¬
вия протестуют против прове¬
дения Вормсского эдикта
«Протестанты»
146
(Хронологическая таблица
1529 - октябрь Марбургский диспут с Цвинг-
ли по вопросу причастия не
приводит к соглашению
1530 пока Лютер находится в кре¬
пости Кобурга, Меланхтон
представляет дело Реформа¬
ции с «Confessio Augustana»,
которое передается рейхста¬
гу в Аугсбурге 25 июня (огла¬
шение)
1531 ~ 27 февраля В тюрингском городе Шмалъ-
кальдене германские князья и
города основывают Шмалъ-
калъденскую лигу для защиты
евангелической веры и против
политики императора
1532 Нюрнбергский договор: из-за
турецкой опасности протес¬
танты получают право сво¬
бодного отправления религии
1534 завершение перевода Библии
1535 появляется вторая лекция
Лютера о Послании к гала-
там
1536 Шмалькальденские статьи
Лютера для представления на
созываемом папой в 1536 году
соборе в Мантуе, который
так и не состоялся
Виттенбергская конкордия с
верхненемцами
10*
147
JUlapmuH Лютер
1539 появляется сочинение Лютера
<Ю соборах и церквях»
1540 начинается эпоха религиозных
диспутов, инспирированных
императором (до 1646 года)
папа Павел III утверждает
Общество Иисуса Игнатия
Лойолы
1541 Кальвин в Женеве
1545 собор в Триенте
первый том «Латинских со¬
чинений» Лютера появляется
с предисловием, поясняющим
путь его внутреннего станов¬
ления
1546 - 18 февраля Лютер умирает в родном го¬
роде Эйслебене и 22 февраля
погребен в Виттенберге
Аугсбургский религиозный мир
1555
Иоахим Штедтке
ЖАЧ1 КАЛЬВИН
ПОЗНАНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ
I. ПОЗНАНИЕ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ЮНОСТЬ
Я стория человека, который в XVI веке
Ш Я оказал очень большое влияние на об-
лик Западной Европы, а позднее -
части Нового Света, должна начинать¬
ся с его собственных истоков. Кальвин не создал
Реформацию, но его дело выросло из нее. Кальвин
немыслим без немецкой Реформации Мартина
Лютера, но верно и обратное - без Кальвина Ре¬
формация Лютера осталась бы историческим эпи¬
зодом. Ибо о западноевропейский кальвинизм
разбился натиск контрреформации, а без этой под¬
страховки на Западе немецкий протестантизм вряд
ли смог бы выдержать Тридцатилетнюю войну.
На дело Кальвина наложил свой отпечаток
французский дух. К началу XVI века во Франции
существовала совершенно иная политическая си¬
стема, чем в Германии. Если в Германии единая
империя начала разлагаться из-за усиления мест¬
ных правителей, то французской короне удалось
добиться политического и национального единства
151
Жан Кальвин
своей страны. При Франциске I Франция вступи¬
ла в век Реформации в совершенно иных услови¬
ях, чем Германия. То, что это государство все силь¬
нее превращалось в абсолютистское и в конечном
счете выступило против Реформации, стало внеш¬
ней исторической предпосылкой воинствующего
характера кальвинизма. Рука об руку с нацио¬
нальным усилением шло разрушение церковной и
нравственной жизни в таких масштабах, которые
трудно себе представить.
Разумеется, во Франции тоже пытались под¬
нять голову силы обновления. Их главой в духов¬
ной области был Жак Лефевр д’Этап ль, который
именовал себя в латинизированной форме Якоб
Фабер Стапуленсис. Как и Кальвин, он был пи¬
кардийцем, бедного происхождения и непритяза¬
тельной внешности, но одаренный благородной ду¬
шой, глубокой набожностью и необыкновенными
научными способностями. Выдающийся гуманист
собрал в Париже кружок учеников, который стал
зародышем реформаторского движения. Избегая
преследований консервативной Сорбонны, этот
кружок перебрался в епископский город Мо. Здесь
встречались друг с другом самые светлые головы
тогдашней Франции. Впереди был епископ-ре¬
форматор Гийом Бриконне, на которого нарожда¬
ющаяся французская Реформация возлагала на¬
дежды, но который отступился под впечатлением
152
Дознание
первых костров. Затем Жерар Руссель, будущий
епископ Олорона, который попытался провести
реформу без раскола и потерпел поражение от су¬
ществующей церкви. Здесь был и Франсуа Ва-
табль, выдающийся гебраист в Коллеж де Франс,
который приобрел широкую известность после
издания Библии в 1545 году. Прославленный при¬
дворный поэт Клеман Маро симпатизировал круж¬
ку в Мо. Будучи одним из наиболее выдающих¬
ся представителей французского Ренессанса, Маро
испытывал огромную тягу к Евангелию. В серд¬
це он уже был приверженцем реформированного
христианства, хотя его вера и не смогла преодолеть
эпикурейское отношение к жизни. Этот жизнера¬
достный и остроумный человек с юга Франции, о
беспокойной жизни которого говорили, что «она
протекает в треугольнике между королевским дво¬
ром, тюрьмой и верующими», оставил реформиро¬
ванной церкви Франции драгоценный подарок:
знаменитый Гугенотский псалтырь. Ватабль пере¬
дал Маро научный перевод псалмов с древнееврей¬
ского, который позволил ему переложить ветхо¬
заветные молитвы в поэтической форме на музы¬
ку. В этом кругу следует упомянуть также самого
значительного представителя раннего гуманизма
Гийома Буде, профессора Коллеж де Франс и осно¬
вателя Национальной библиотеки, с которым Каль¬
вин впоследствии вступил в дискуссию, полностью
153
Жан Кальвин
не избавившись от его влияния. Наиболее значи¬
тельной личностью кружка Фабера Стапуленсиса
был, пожалуй, Вильгельм Фарель, реформатор
Западной Швейцарии и французских областей
вальденсов, без которого дело Кальвина не достиг¬
ло бы такого исторического размаха. Наконец, в
этом кружке реформаторов должно быть упомянуто
имя Франсуа Рабле, того гениального шута, который
со своими огромными знаниями, реформаторскими
идеями, со своим отточенным стилем, полным со¬
леных и злых шуток и сатиры, со своим здоровым
юмором и богохульными насмешками и вместе с тем
неиссякаемым оптимизмом, олицетворял собой тип,
который мог породить только французский дух.
Этот кружок пользовался влиятельной поддерж¬
кой Маргариты Наваррской, сестры короля. Она во
втором браке была замужем за Генрихом Навар¬
рским, который правил маленьким государством в
Пиренеях на юго-западе страны. Через свою дочь
Жанну д’Альбре она стала бабкой Генриха IV, ко¬
торый Нантским эдиктом о веротерпимости на сто
лет отодвинул искоренение французского про¬
тестантизма, но в то же время проявил свой оппор¬
тунизм, произнеся знаменитую фразу «Париж сто¬
ит мессы». Не такой была его бабка. Это была
умная, образованная и набожная женщина, поэт
первого ранга со склонностью к мистике и прежде
всего покровительница кружка, который пытался
154
Франциск I
Жан Кальвин
возродить во Франции древнюю церковь. Благо¬
даря ее влиянию сам король в течение нескольких
лет хотя бы терпел движение религиозного обнов¬
ления. Впрочем, она утратила свое влияние при
дворе примерно с 1535 года. Тем не менее она с
помощью Жерара Русселя пыталась разбудить в
своей маленькой стране новый церковный дух. Ее
дочь, Жанна д Альбре, провела затем Реформацию.
Этот круг не только желал реформы церкви во
Франции, планировал и обсуждал ее, но и делал
практические шаги по ее реализации. Первые шаги
никак не связаны с Кальвином. Они уже были
реальностью к тому моменту, когда он вступил в
этот духовный спор. Руссель в письме к Фарелю
называет это начало «illustratio evangelii», просвет¬
лением через Евангелие. Его можно датировать
примерно 1521 годом. Однако кровавая реакция
также стала составной частью французского про¬
тестантизма. 8 августа 1523 года августинец Жан
Вальер был публично сожжен на Свином рынке
в Париже. Это был первый мученик реформиро¬
ванной церкви, который открыл счет целому ряду
кровавых деяний, число которых даже не подда¬
ется оценке.
Ход событий начиная с 1521 года ясно пока¬
зал, что реформация церкви в стране невозможна
без привлечения королевской власти. Уже с янва¬
ря 1535 года было очевидно, что Франциск I не
156
Дознание
собирается способствовать обновлению церкви.
Евангелическое движение было еще недостаточно
сильно как в политическом отношении, так и с
точки зрения преобразующей силы своих религи¬
озных воззрений. Повлияло также то, что суще¬
ствующая церковь оказалась несостоятельной, что
Бриконне отказался от руководства французским
протестантизмом, что выдающиеся прогрессивные
умы не смогли выйти за рамки своего гуманизма,
и прежде всего то, что корона продолжала придер¬
живаться галиканского понимания религии. Таким
образом, христиане-реформисты могут создать
только церковь мучеников. Однако чтобы стать
такой церковью, они нуждаются в указаниях и сти¬
мулах, проповеди евангелия и твердом порядке его
таинств, хорошо подготовленных проповедниках и
ясном учении как предмете своей веры; им необ¬
ходимо также твердое духовное руководство, ко¬
торое из случайных лазеек и убежищ вытащит их
и превратит в церковь, исповедующую Иисуса
Христа. Время Кальвина пришло!
Человек, которого ожидала эта задача, родил¬
ся 10 июля 1509 года в Нойоне, маленьком горо¬
де в Пикардии. Его отец, Жерар Ковен, был епис¬
копским служащим в светском звании в имуще¬
ственном и финансовом управлении капитула
кафедрального собора. Он был сведущ в законах
и усерден в делах, и в то же время очень упрям.
157
Жан Кальвин
О матери, дочери трактирщика из Камбре по имени
Жанна Лефранк, мы знаем только то, что она была,
по-видимому, благочестивой женщиной. Она рано
умерла, и отец женился вторично. Жан был вто¬
рым сыном из семи детей. Дом, где он родился, был
разрушен во время первой мировой войны.
Мальчик начал учебу в Коллеж де Капетт,
школе при кафедральном соборе в своем родном
городе. Здесь он получил начальные познания в
латинском языке, которым позднее так блестяще
владел. Важным для него было также общение с
дворянскими семьями. Это общение еще в моло¬
дые годы помогло сформироваться той светской
обходительности, которая впоследствии облегчи¬
ла ему встречу с великими мира сего. Еще до до¬
стижения двенадцати лет благодаря посредниче¬
ству отца он получил четверть доходов от алта¬
ря Жезине в Нойонском кафедральном соборе.
19 мая 1521 года он стал бенефициатом и полу¬
чил надлежащую для этого тонзуру, единственный
знак своей клерикальной принадлежности, который
он носил, правда, так и не приступив когда-либо к
связанной с этим службе. Это странное обстоятель¬
ство можно объяснить теми хаотическими отноше¬
ниями, которые царили в системе доходов духов¬
ных лиц позднего средневековья.
Доходы от бенефиций позволили молодому че¬
ловеку учиться без особых материальных забот. В
158
Дознание
четырнадцать лет он поступил в Парижский
университет, куда отослал его для учебы отец. В
соответствии с обычаем своего времени, он лати¬
низировал имя: Жан Ковен, как его звали в
действительности, превратился в Жана Кальвина.
Лишь короткое время он обучался в Коллеж де ла
Марш, где слушал лекции Матурина Кордье, глу¬
боко уважаемого им педагога. Добрые воспомина¬
ния об этом времени подвигли Кальвина позднее
пригласить высокочтимого учителя в Женеву в
качестве ректора. В 1550 году он посвятил Кор¬
дье свой комментарий к Первому посланию к фес-
салоникийцам, в предисловии к которому призна¬
ется бывшему учителю: «Образование и метод ра¬
боты, которые я получил от Вас, сослужили мне с тех
пор столь хорошую службу, что я по справедливос¬
ти признаю, что обязан Вам всей пользой и всеми
успехами, которые у меня были».
По распоряжению своего начальства Кальвин
был очень скоро переведен в Коллеж де Монте¬
гю, где должен был провести следующие пять лет.
Он был более знаменит, чем Коллеж де ла Марш,
но зато находился в невообразимо запущенном со¬
стоянии. Эразм, который также учился здесь, излил
всю свою иронию по поводу примитивных условий
жизни в коллеже. А у несравненного Рабле, так¬
же бывшего студента этого коллежа, домашний
учитель Гаргантюа говорит: «Вы же не думаете, что
159
Жан Кальвин
я провел его во вшивом коллеже, который называ-
ют Монтегю... Ибо пленные рабы у мавров и та¬
тар, убийцы в темнице, даже собаки в Вашем доме
содержатся лучше, чем бестолочи в этом учебном
заведении. Если бы я был королем Парижа, то черт
бы меня побрал, если бы я не подпалил эту лавоч¬
ку и не сжег с ней ректора и преподавателей».
В этом коллеже, о котором Эразм позднее го¬
ворил, что вместо знаний по теологии он приобрел
там лишь простуду и вшей, царила строгая мушт¬
ра. Плеть так и летала, беседовать можно было
лишь, шепотом, требовались тяжелейшие духовные
упражнения до глубокой ночи. Преувеличенное
соблюдение поста доводило рацион питания ниже
минимума существования. Эти варварские условия
стали причиной желудочного заболевания у Каль¬
вина, от которого он уже не смог избавиться до
самой смерти. Перед поступлением Кальвина шко¬
ла находилась под начальством известного Ната-
лиса Беда, который создал себе сомнительное имя
в борьбе с гуманизмом Эразма и зарождающей¬
ся французской Реформацией. Учителем Кальви¬
на был шотландский ученый Иоанн Майор, кото¬
рый ввел его в раннехристианскую теологию Петра
Ломбардского и в мир представлений Августина.
Другим учителем был испанец Антонио Коронель.
Благодаря ему Кальвин познакомился с фило¬
софией Аристотеля, стоиков, Эпикура и Платона.
160
Дознание
Занимаясь учебой денно и нощно, будущий ре¬
форматор заложил здесь основу своих глубоких зна¬
ний в области философии и изучении отцов церкви.
Сюда же относятся навыки в искусстве схола¬
стического диспута, над которым Кальвин позднее
издевался. То, что здесь было доведено до дурац¬
кой карикатуры, сослужило Кальвину важную
службу. Впоследствии он блестяще владел искус¬
ством дискуссии по спорным вопросам, способно¬
стью к умозаключениям, анализу и дефиниции,
умением теснить и преследовать противника по
диспуту, пока тот не будет загнан в угол. Эти спо¬
собности опирались на превосходную память, ко¬
торая никогда не отказывала и которую Кальвин
ежедневно тренировал тем, что с раннего утра
повторял по памяти все, что выучил накануне. Без
сомнения, всему этому способствовала природная
предрасположенность. Кальвин любил «raison»,
разум и ясность фразы и мысли.
Здесь, в Париже, Кальвин завязал несколько
дружеских связей, которые длились всю жизнь, как,
например, с семьей Коп и со своим двоюродным
братом Робертом Оливетаном. Когда в 1528 году
он покинул твердую, как железо, школьную скамью
Коллеж де Монтегю, на которой получил несрав¬
ненную физическую и духовную закалку, его мес¬
то занял другой, чтобы получить здесь образование,
и это был человек, о котором тоже узнал весь
П Зак 275
161
Жан Кальвин
мир: Игнатий Лойола. Кальвин покинул Коллеж
де Монтегю в качестве магистра свободных ис¬
кусств. Теперь он смог начать учебу собственно в
университете. Отец, ранее избравший для своего
второго сына теологию, изменил свое мнение и ве¬
лел ему изучать право. Сам Кальвин объяснял из¬
менение решения тем, что отец посчитал юридиче¬
скую карьеру более доходной. Сын повиновался.
Поскольку в Париже был лишь факультет кано¬
нического права, Кальвин отправился в Орлеан.
Здесь обосновались выдающиеся юристы. Кальвин
был в восторге от Пьера де л’Этуаля (Петрус
Стелла), который блистал на академическом не¬
босклоне как настоящая звезда. Стелла, впослед¬
ствии президент французского парламента, был
противником евангелического движения. Далее,
здесь преподавал Никола Берол, воспитатель Гас¬
пара де Колиньи. В Орлеане можно было зани¬
маться и гуманистическими штудиями. Как раз в
это время в университете работал известный гума¬
нист, немецкий специалист по греческому языку
Мельхиор Вольмар из Ротвейля, восприимчивый
к новым религиозным мыслям. Возможно, благо¬
даря этому преподавателю, у которого Кальвин
изучал греческий язык, он получил первое пред¬
ставление о воззрениях Лютера. В доме Вольма-
ра он познакомился с тогда еще девяти летним Те¬
одором де Беза, своим будущим соратником и
162
Дознание
последователем. И об этом преподавателе, кото¬
рый, несомненно, оказал на студентов огромное
влияние, Кальвин сохранил добрые воспоминания.
В 1546 году он посвятил ему свои комментарии ко
Второму посланию к коринфянам.
В 1530 году Вольмар перешел в университет
Бурже, куда за ним последовал Кальвин. У бле¬
стящего итальянского юриста Андреа Алеиати,
который преподавал римское право в гуманис¬
тическом духе, Кальвин прошел хорошую школу
и в 1532 году закончил свою учебу со степенью ли¬
ценциата юриспруденции.
Изучение правоведения наложило на дело жиз¬
ни Кальвина более глубокий отпечаток, чем приня¬
то считать. Сохранившиеся собственноручные его
заключения по гражданским процессам, проекты
законов и другие юридические работы свидетельству¬
ют, что он был превосходным юристом. Следует так¬
же пересмотреть часто встречающееся утверждение,
что Кальвин был приверженцем старой юридической
школы. Впоследствии он отказался от применения
традиционного римского права без оглядки на совре¬
менность, без учета сложившихся у народа правовых
традиций. Именно как юрист в конце своей учебы
Кальвин столкнулся с гуманизмом в новой сфере.
Тут в его жизнь вошла наука, которая вводила в мир
познаний непосредственно и в большей степени, чем
игра гуманистов с древними авторами, и которую
11*
163
Жан Кальвин
Кальвин поэтому высоко ценил в течение всех сво¬
их земных лет. Поэтому ни в коем случае нельзя
утверждать, что он закончил изучение юриспруден¬
ции со вздохом облегчения.
26 мая 1531 года умер отец Кальвина. Сын
находился у его смертного одра. Характер его
сообщения о кончине отца свидетельствует о том
нарастающем отчуждении, которое возникло меж¬
ду ними. Теперь Кальвин свободен в выборе сфе¬
ры деятельности. Однако он не начинает сразу же
профессиональную деятельность, а вновь берется
за учебу. Франциск I, по совету Буде, основал
Коллеж де Рояль как противовес старым коллежам
Сорбонны. В этом учебном заведении, существу¬
ющем и в наши дни под названием Коллеж де
Франс, гуманизм смог развернуться в полную
силу. Эразм был приглашен ректором, но он откло¬
нил это предложение. Ватабль преподавал древ¬
нееврейский. Кальвина влекло сюда, и здесь он
получил основательное гуманистическое образова¬
ние. В доме суконщика Этьена де ла Форжа он
встретился с кругом единомышленников во главе
с Жераром Русселем. Здесь обсуждались идеи
Фабера и придавался определенный облик рефор¬
маторскому движению. Как бы ни занимала идея
обновления церкви этот кружок в Париже и какой
бы предпосылкой французской Реформация ни
был духовный импульс этого реформаторского
164
Кальвин
Жан Кальвин
движения, нельзя рассматривать кружок Русселя,
даже в то время, как реформаторскую группу. Это
подтверждает и Кальвин. Он не делал никаких
реформаторских попыток, а видел свою цель в сле¬
довании Буде и Эразму на гуманистическом и ли¬
тературном поприще.
Свидетельством этих трудов стала первая кни¬
га Кальвина, комментарий к трактату Сенеки «De
dementia». Книжка выдержана полностью в духе
французского гуманизма того времени, которое
весьма чтило этику стоиков. Теологически он ниг¬
де не переступает этих рамок. Определенный ин¬
терес к естественной религии, к стоической концеп¬
ции провидения, но особенно к коренным вопро¬
сам социальной жизни и государственной этики в
общих чертах уже указывает на некоторые сферы
будущей теологии реформатора. Однако даже са¬
мый внимательный читатель не мог предполагать,
что автор этих штудий, написанных, впрочем, на
великолепной латыни, всего лишь три года спустя
представит свое «Наставление в христианской
вере». Если Кальвин надеялся со своим первым
произведением войти в передовые ряды гуманисти¬
ческой гвардии Буде или Фабера, или самого Эраз¬
ма, то он был жестоко разочарован. Книга стала
просто лежалым товаром, а ее автору с трудом уда¬
лось избежать финансового краха при покрытии
расходов на ее издание.
166
Дознание
При анализе этих десяти лет, в течение кото¬
рых продолжалось его образование, закончившее¬
ся в 1532 году выходом первой книги, возникает
вопрос: как этот человек стал реформатором, ко¬
торому в век реставрации и контрреформации
удалось обеспечить сохранение и поступательный
ход Реформации?
ОБРАЩЕНИЕ
4 мая 1534 года Кальвин отказался от
обеих бенефиций, которые он еще имел.
10 июля ему исполнялось 25 лет, и со¬
гласно предписаниям Канонического
права он должен был бы сам исполнять служебные
обязанности, связанные с доходом от бенефиций.
Ему удалось избежать этого благодаря отказу в
пользу двух других клириков, один из которых на¬
ходился с ним в родстве. Отказ от бенефиций сле¬
дует считать внешним проявлением разрыва с като¬
лической церковью. Впрочем, заявление об отказе
ничего не говорит о мотивах, приведших Кальвина
на путь Реформации. Разумеется, этому предшество¬
вало внутреннее обращение. Нам точно не известно,
какого рода было это обращение. Поскольку Каль¬
вин оставил нам довольно скупые сведения, мы мо¬
жем сделать лишь весьма общий рисунок.
167
Жан Кальвин
В своем знаменитом ответе кардиналу Садо-
ле в 1539 году реформатор нарисовал следующую
картину. Там у Кальвина появляется некий сто¬
ронник Реформации, который сообщает о том, что
привело его к обращению. Если в этом сообще¬
нии речь идет об автобиографическом свидетель¬
стве, то следует предположить, что обращению
предшествовал глубокий и тяжелый конфликт
совести. Разрыв со старой церковью, как и у Лю¬
тера, определяется евангелием, которое освобождает
плененную совесть. Церковные средства искупле¬
ния и человеческое покаяние не могут дать этого
освобождения. Полностью раскрыться возвещен¬
ному евангелию мешает прежде всего благоговение
перед церковью, которое у Кальвина, вследствие
его особого отношения к авторитетам, могло быть
особенно сильным. И тем не менее слово Божье
проникает в него. Он воспринимает его как не¬
посредственное требование к человеку и как обе¬
щание прощения грехов, которое делает возможной
жизнь с утешенной совестью. Единственное под¬
линное свидетельство самого Кальвина о его об¬
ращении - это твердая историческая почва. В
предисловии к своему комментарию к Псалмам
1557 года реформатор сообщает: «Еще когда я
был ребенком, мой отец предназначал меня для
изучения теологии. Однако когда он увидел, что
те, кто занимается юриспруденцией, имеют больше
168
Дознание
доходов, он сразу же изменил свои планы. По этой
причине я был оторван от изучения философии и
переключился на изучение права. И хотя я, во
исполнение воли моего отца, пытался прилагать к
этому все старания, скрытыми путями своего про¬
видения все же придал моей жизни другое направ¬
ление. Поскольку я был предан папскому суеве¬
рию настолько твердо, что было нелегко вытащить
меня из этого болота, он (Бог) вынудил мой дух,
который для своего возраста был уже очень тверд,
внезапно обратиться к переимчивости. После того
как я вследствие этого почувствовал известный
вкус к подлинному благочестию, я загорелся таким
желанием делать успехи, что хотя и не прекратил
прочих занятий, но относился к ним намного не¬
брежнее. Не прошло и года, как все страждущие
более чистой жизни пришли учиться ко мне, хотя
я был еще новичок и начинающий. Робкий по
натуре, всегда любивший одиночество и покой, я
хотел тогда уйти в уединение, но этого мне не было
дозволено, ибо все места убежища для меня буд¬
то превращались в открытые школы».
Собственно о переживании обращения Каль¬
вина говорит здесь то, что Господь внезапным об¬
ращением (subita conversione) вынудил к переим¬
чивости (ad docilitatem). Слово «переимчивость»,
использованное здесь Кальвином, в его словоупотреб¬
лении означает отношение ученика и слушателя.
169
Жан Кальвин
«Принудить к переимчивости» означает, что чело¬
века ставят в такое положение, когда он должен
слушать и учиться. Бог принудил его, как трак¬
тует Кальвин это переживание, открыться еванге¬
лию, восприять его поучение. В послании Садо-
ле он аналогично описывает этот процесс. Бог
вызвал это новое отношение обращением, когда
Кальвин увидел необходимость ясного решения
и принял его. Перед ним - служение, возложен¬
ное на него Богом.
Если на основании этого свидетельства Каль¬
вина мы в известной степени можем уяснить дух
его обращения, то о самом процессе у нас нет ис¬
торических данных. Нам неизвестно, когда, как и
где произошло «внезапное обращение». Церковно¬
исторические исследования выдвинули множество
гипотез, однако убедительных доказательств пока
нет, во всяком случае, относительно времени. На
основании упомянутого свидетельства можно пред¬
положить, что обращение произошло в пору изу¬
чения юриспруденции. Тогда оно могло состоять¬
ся до 1530 года. Возможно, путь Кальвина к Ре¬
формации сопровождало изучение трудов Лютера,
влияние его двоюродного брата Оливетана и его
учителя Вольмара. Однако этому предположению
противоречит тот факт, что написанный в 1532 году
комментарий к Сенеке практически не содержит
реформаторских мыслей. Впрочем, в этой книге
170
Дознание
есть несколько мест, которые подтверждают, что от¬
ношение Кальвина к церкви уже было омрачено.
Молодой писатель выступает против показного бла¬
гочестия и, в иносказательной форме, - против тор¬
говли мощами и индульгенциями. Но это же могли
сказать и католические гуманисты. Если принять во
внимание комментарий к Сенеке, то речь может идти
не ранее чем о 1533 годе. Есть признаки, что осенью
этого года Кальвин пережил обращение. Однако это
обоснованно лишь в том случае, если считать рек¬
торскую речь Никола Копа от 1 ноября, о которой
еще будет речь, евангелической и составленной Каль¬
вином... Большинство исследователей склоняются к
мнению, что путь Кальвина к Реформации был про¬
цессом созревания и длился много лет. Этому тези¬
су, однако, противоречит то, что Кальвин в единствен¬
ном месте, когда он говорит о своем обращении, име¬
нует его subita conversio, а не развитие.
Итак, к вопросу датировки следует подходить
осторожно. Когда в заключение своего сообщения
Кальвин говорит, что к нему пришло много сторон¬
ников новой веры, чтобы он учил их, то эту фразу
хронологически можно отнести к 1534 году. Лишь
в этом году Кальвин начал свою деятельность в духе
реформаторского движения. Поэтому обращение
можно отнести либо к весне 1534 года, либо, можно
допустить, к осени 1533 года. Любые другие даты
могут относиться к подготовке, но не к самому
171
Жан Кальвин
обращению. В любом случае, это произошло до
4 мая 1534 года, когда Кальвин отказался от своих
церковных бенефиций. Из упоминаний реформато¬
ра о его обращении следует, что он понимает его как
признание исповедания слова Божьего, которое без¬
раздельно забирает всего человека для служения
Господу. Кальвин пытается привести свою жизнь в
соответствие с истиной евангелия и воспринимает ее
как обязательную. Уже на этом основании обраще¬
ние не может далеко отстоять по времени от отказа
от бенефиций. Разумеется, какое-то время должно
было пройти до открытого шага и отступления от
традиции, но не годы. Это противоречило бы харак¬
теру Кальвина. То, что он называет conversio, не
могло произойти ни в 1528, ни в 1532 году.
В сентябре 1533 года Кальвин возвратился в
Париж. В городе царили волнение и беспокойство.
Кальвин устанавливает тесные контакты со сторон¬
никами Жерара Русселя, небольшие трактаты кото¬
рого он распространяет в городе. А затем он ока¬
зался впутанным в события, подоплека которых
окончательно не ясна и сегодня. Его друг Никола
Коп, сын королевского лейб-медика, симпатизиро¬
вавший Эразму, профессор медицины, был избран
ректором Парижского университета. По традиции
в День всех святых он должен был выступить со
своей ректорской речью. Поскольку Коп был бли¬
зок евангелистскому движению, мужественный
172
Дознание
ученый использовал эту возможность, чтобы четко
выразить свои убеждения перед собравшимися про¬
фессорами и церковными сановниками. Ректорская
речь Копа была компиляцией из предисловия к тре¬
тьему изданию Нового Завета Эразма, а во второй
части - из проповеди Лютера, заимствованной из
сборника его церковных проповедей, переведенных
Мартином Бутцером. Несмотря на отсутствие особой
оригинальности, речь в этой ситуации прозвучала
практически как призыв к евангелическому мышле¬
нию и образу действий. Ее воздействие было огром¬
ным. Возникло смятение. Ректор был вынужден
бежать. За его голову было обещано 300 ливров. В
январе 1534 года он благополучно добрался до Ба¬
зеля. Поскольку Кальвин был очень дружен с рек¬
тором, попытались захватить его. Узнав об опасно¬
сти, грозящей его жизни, он также бежал. Вынуждены
были скрываться и более дюжины друзей Копа. Не¬
возможно точно установить, было ли уже тогда из¬
вестно, что Кальвин написал ректорскую речь. Од¬
нако уже первые биографы Кальвина - Беза и
Колладон - высказали предположение, что автором
речи был будущий женевский реформатор. Кроме
того, в Женеве была обнаружена часть речи, написан¬
ная рукой Кальвина. Впрочем, это могла быть и
копия. Если же считать компиляцию из Эразма и
Лютера реформаторским свидетельством и к тому
же предположить, что автором ее был Кальвин, то
173
Жан Кальвин
его обращение должно было произойти до 1 нояб¬
ря 1533 года. И все же существуют определенные
сомнения в том, что автором ректорской речи был
Кальвин, и тем самым сомнения в точной датировке
его обращения.
1534 год был последним, который Кальвин про¬
вел на родине. После университетских событий он
скрывается на юге Франции под именем Шарля
д’Эспевиля. Он отправляется в Ангулем, где нахо¬
дит убежище у своего друга Луи дю Тийе, руково¬
дителя хора и священника церкви Клэ. Вынужден¬
ный досуг он использует для интенсивных занятий.
Богатая библиотека друга позволяет ему глубоко
заняться отцами церкви, особенно Августином. Бо¬
лее 4 000 ссылок на Августина в произведениях бу¬
дущего реформатора свидетельствуют об основатель¬
ном изучении этого отца церкви. Здесь Кальвин
познакомился также с ранними латинскими сочи¬
нениями Цвингли. Дошедшее до нас письмо к его
другу Даниэлю в Орлеан, датированное мартом
1534 года, сообщает о прогрессе, достигнутом им в
изучении евангелической истины. Вместе с дю Тийе
он совершенствует свои знания в греческом.
Кроме того, Кальвин в этом году много путеше¬
ствует. Он устанавливает связи с евангелическими
кругами в Пуатье и Париже. Разумеется, он не был
инициатором реформаторских движений, в том
числе позднее в Страсбурге и Женеве; его великим
174
о
Казнь кальвинистов
Жан Кальвин
дарованием было воплощение уже существовавшего
зачина. В апреле Кальвин отправился в Нерак, где
под защитой Маргариты Наваррской, сестры коро¬
ля, действовал в это время Жерар Руссель и где
старый Фабер Стапуленсис нашел свое последнее
пристанище. Предание сообщает, что восьмидесяти¬
летний гуманист сказал молодому Кальвину во
время его посещения: «Ты избран орудием Госпо¬
да. Через тебя Господь установит в нашей стране
свое царствие». Хотя эти слова и выглядят несколь¬
ко легендарно, однако из сообщения Маргариты
курфюрсту Фридриху II Пфальцскому известно,
что Фабер Стапуленсис имел достаточное представ¬
ление о начинающейся во Франции Реформации.
Несмотря на грозившую ему опасность, Кальвин
еще раз отправился в Париж. С просьбой о встрече
к нему обратился не кто иной, как Мигель Сервет,
учившийся в Париже под чужим именем. Кальвин
назначил свидание на улице Сент-Антуан. Однако
Сервет не явился. Испанец упустил возможность об¬
судить с Кальвином свои взгляды, уже тогда запу¬
танные и преувеличенные. Сам Кальвин сообщал:
«Я был готов в Париже рисковать своей жизнью,
чтобы, если только можно, завоевать его для нашего
Спасителя; но хотя он видел жертву, которую я ему
предложил, он не захотел использовать ее».
Кальвин тайно прибывает в Орлеан. Здесь
он пишет свое первое теологическое сочинение
176
Дознание
«Psychopannychia». Это полемическое сочинение
направлено против анабаптистов и их учения о сне
души, согласно которому душа человека после смер¬
ти находится в состоянии, подобном сну, и пробуж¬
дается из него лишь в день Страшного суда. Каль¬
вин противопоставляет этим взглядам эсхатологию,
которая считает, что душа продолжает после смер¬
ти жить и бодрствовать.
Кальвин еще раз посещает Клэ, чтобы навес¬
тить своего друга дю Тийе. Но и здесь больше нет
надежного убежища. Друзья вместе ищут приюта
в Пуатье у сторонников евангелизма. Кальвин
проповедует на тайных собраниях и отмечает в
этих тайных общинах тайную вечерю на евангели¬
ческий манер. Осенью того же года преследования
возобновляются с новой силой. Костры, на которых
живьем сжигают исповедующих евангелизм, вновь
пылают по всей стране.
НАСТАВЛЕНИЕ В ХРИСТИАНСКОЙ ВЕРЕ
В ночь с 17 на 18 октября 1534 года в Па¬
риже появились плакаты с лозунгами
против мессы. Король, воспринявший
это как личное оскорбление, ответил
суровыми преследованиями. Хотя Кальвин не
12 Зак. 27S
177
Жан Кальвин
имел ничего общего с событиями в Париже, он
ощущал постоянную угрозу для своей жизни во
Франции и решился, так же как и его друг Луи
дю Тийе, покинуть страну, поскольку больше ни¬
чего не мог свершить здесь на пользу своего дела.
В первые дни 1535 года он достиг убежища мно¬
гих изгнанников тех десятилетий - Швейцарии.
Будучи беглецом, полностью лишенным средств,
Кальвин обосновался в Базеле под именем Мар¬
тину са Лукануса и тайно продолжал свои штудии.
Круг его знакомых был крайне ограничен. Он ус¬
тановил связи с Петером Виретом, будущим ре¬
форматором в Лозанне, с последователем Цвингли
Генрихом Буллингером и немногими другими.
Возможно, хотя и маловероятно, что он познако¬
мился здесь еще и со знаменитым Эразмом Рот¬
тердамским. Зато известно, что он вновь встретил¬
ся со своим другом Копом и познакомился с Ос¬
вальдом Микониусом. Не выясненным остается,
встретился ли он с Андреасом Карлштадтом, который
в эти годы нашел свое последнее убежище в Базеле.
Кальвин использовал время для углубленного
изучения древнееврейского языка. По просьбе сво¬
его родственника Петра Оливетана он писал пре¬
дисловия к новым французским переводам Библии.
Но прежде всего за эти несколько месяцев покоя
он закончил книгу, которая с тех пор считается од¬
ним из величайших свершений в области теологии:
178
Дознание
«Institutio» («Наставление в христианской вере»).
23 августа 1535 года он подписал знаменитое
предисловие с посвящением «великодержавнейшему
светлейшему монарху Франциску, христианнейшему
королю Франции, своему милостивому государю и
господину». В марте 1536 года сочинение вышло в
Базеле у Платгера и Лазиуса, как раз к Франкфурт¬
ской весенней ярмарке. Моментально раскупленное,
оно сделало своего автора сразу же знаменитым.
Подробности того, что в действительности про¬
изошло в Париже осенью 1534 года, Кальвин узнал
лишь в Базеле. Некоторые из. его ближайших дру¬
зей подверглись преследованиям и были убиты же¬
сточайшим образам. Уважаемый купец Этьен де л а
Форж, в доме которого Кальвин был гостем, был
сожжен заживо. Парализованный сапожник Барте-
леме Милон, который в силу своей болезни просто
физически не способен был наклеивать плакаты,
первым встретил свой мученический конец в пламе¬
ни на Гревской площади. Каменщику Анри Пу-
айе предварительно еще и отрезали язык, чтобы он
не смог в пламени произнести свое исповедание
веры. Поскольку эти и многие другие больше не
могли говорить и свидетельствовать о своей вере,
это должен был делать Кальвин. «И это было
причиной, побудившей меня опубликовать мое
наставление в христианской вере. Во-первых, что¬
бы своим опровержением злостных обвинений
12*
179
Жан Кальвин
защитить оскорбленную честь моих братьев, смерть
которых была драгоценна перед Господом. И кро¬
ме того, поскольку еще многим грозили такие же
преследования, по крайней мере вызвать к ним
сочувствие и попечение за границей» (предисло¬
вие к комментариям к Псалмам). Перо в руку
Кальвина вложило бедственное положение его го¬
нимой на родине церкви.
Несмотря на свое огромное значение, «Настав¬
ление» - не оригинальное произведение, ни по форме,
ни по содержанию. Как свидетельствует название,
оно задумано как поучение, и здесь невозможно не
заметить влияния Малого катехизиса Лютера.
Первое издание было томом в '/8 листа объемом
516 страниц, в котором подробно обсуждаются основ¬
ные части книги наставлений Лютера, а именно: за¬
поведи, «Верую», «Отче наш» и таинства. К ним до¬
бавлена еще шестая глава «О христианской свобо¬
де», которая выступает за освобождение церкви от
оков римского церковного права в пользу справед¬
ливого порядка сосуществования церкви и государ¬
ства. Кроме катехизиса Лютера, Кальвин исполь¬
зовал в качестве источника Loci communes Филип¬
па Меланхтона, а также пояснения Цвингли об
Истинной и ложной религии. Можно предположить
Также знакомство с сочинениями Оеколамрада и
Бутпера. Уже в первом издании проявились глу¬
бокое знание и проработка патриотической и
180
Дознание
схоластической литературы. В общем и целом уже
это раннее произведение свидетельствует о высо¬
ком духовном уровне и прекрасном теологическом
образовании автора. Здесь четко изложены основ¬
ные принципы реформатора в период его станов¬
ления. В более поздней теологии Кальвина не за¬
метно нововведений или переломов, за исключени¬
ем, может быть, более расширенного изложения
учения о предопределении.
В 1539 году Кальвин заново переработал и рас¬
ширил «Наставление в христианской вере». Объем
материала вырос примерно в три раза, и вместо
первоначальных шести глав их стало семнадцать.
Прежний катехизис превратился в учебник для теоло¬
гов и духовно заинтересованных христиан. Кальвин
неутомимо продолжал изучение Библии, отцов церк¬
ви и реформаторов. За это время он написал ком¬
ментарий к Первому посланию к римлянам Павла и
включил его теологические достижения в «Настав¬
ление». Тем самым основные положения павлини-
анства, которые были определяющими для Августи¬
на, а затем сделали возможным прорыв лютеровской
Реформации, заняли свое место в кальвиновской
теологии и стали духовной основой реформирован¬
ной церкви. Рассмотрение покаяния, оправдания,
предопределения и провидения расширили реформа¬
торское содержание произведения. Новой была так¬
же знаменитая глава о жизни христианина. Личные
181
Жан Кальвин
переживания положения во Франции и немецкой
Реформации сделали более резкими суждения
Кальвина об отношениях государства и церкви.
Два года спустя переработанное сочинение по¬
явилось на французском языке. В истории фран¬
цузской литературы это издание считается шедев¬
ром и вершиной в истории французского языка.
До нас дошло очень мало экземпляров этой рабо¬
ты, поскольку большинство их было уничтожено
строгой инквизицией.
Уже в 1543 году Кальвин сделал новую пере¬
работку; ее перевод на французский язык последо¬
вал через два года. Сочинение было расширено еще
на четыре главы, где подробно рассматривалось биб¬
лейское и раннекатолическое церковное право.
Кальвин отстаивает здесь гуманистический в своей
основе тезис, что Реформация является восстанов¬
лением облика раннехристианской церкви. Он так¬
же разделяет гуманистическую точку зрения о пол¬
ном превосходстве раннецерковной теологии над
схоластической и прежде всего - теологией конца
средневековья. Эта точка зрения была характерна
уже для начала швейцарской Реформации и в по¬
следующем имела в ней большое значение.
В 1550 году Кальвин дополняет свое произве¬
дение еще тремя главами. Французский перевод
последовал годом позже. Девять лет спустя Каль¬
вин завершил свое детище. Он разделил огромный
182
Дознание
материал иа четыре книги, включающие в общей
сложности восемьдесят глав. В этой окончатель¬
ной редакции 1559 года и французского издания
1560 года «Наставление в христианской вере» стало
теологической основой кальвинизма. Уверенной ру¬
кой и с большим мастерством реформатор возвел
из уже имевшихся камней внушительное здание.
При этом большинство важнейших элементов дало
само Священное писание. Более четырех тысяч
цитат из Библии разместилось в ключевых мес¬
тах сочинения. На всем его протяжении ведет¬
ся дискуссия с отцами церкви, реформаторами, Ри¬
мом и новым крылом Реформации. Везде Кальвин
пытается дать ответы, имеющие в конечном счете
решающее значение. Глубокие познания сведущего
теолога, отточенный язык большого писателя и
опыт завершенного реформаторского дела обус¬
ловливают ту весомость и то значение последне¬
го издания, которые оно не утратило и по сей день.
ПРИЗВАНИЕ
Я Я роследив за печатанием первого изда-
Я ния своих «Наставлений», Кальвин
Ш покинул Базель и вновь, под именем
Шарля д’Эспевиля, отправился в пу¬
тешествие по Северной Италии. Он намеревался
183
Рената, дочь Франциска I
<Jl о знание
посетить двор герцогини Феррарской Ренаты де
Эсте, считавшейся и считаемой одной из наиболее
выдающихся женщин эпохи Реформации. Она
была дочерью короля Людовика XII и стала бы ко¬
ролевой Франции вместо Франциска I, если бы са¬
лический закон о наследовании не запрещал жен¬
щинам занимать французский трон. После смер¬
ти ее отца корона перешла к ангулемскому дому
Валуа. Тем не менее благодаря своей тесной свя¬
зи с французским троном Рената имела в Европе
большой вес. В зависимости от расстановки по¬
литических сил, она была обручена с будущим им¬
ператором Карлом V, английским королем Генри¬
хом VIII и сыном курфюрста Бранденбургского, но
затем в возрасте 17 лет вступила в брак с Герку¬
лесом де Эсте, герцогом Феррарским, и стала, та¬
ким образом, невесткой пресловутой Лукреции
Борджиа, поскольку ее муж был внуком папы
Александра VI. Она была доброй и чрезвычайно
умной женщиной. Будучи образованной в филосо¬
фии, поэзии и древних языках, она приглашала к
своему двору наиболее выдающихся людей свое¬
го времени и превратила Феррару в центр италь¬
янской культуры.
Одним из тех, кто находился там в качестве
приглашенного гостя, был и молодой Кальвин.
Он встретился здесь с Клеманом Маро и зна¬
менитым художником Тицианом. Герцогиня искала
185
Жан Кальвин
общества Кальвина, постольку была глубоко убеж¬
дена в истинности реформаторского дела. Она ни¬
когда не отрекалась от своей реформированной
веры.
Лишь шесть недель пробыл Кальвин гостем
в Ферраре. Ему пришлось быстро покинуть
двор Ренаты, поскольку вновь возникла угроза
преследований, касавшихся кружка вокруг Кле¬
мана Маро. Несмотря на краткое время его пре¬
бывания, между герцогиней и молодым Кальви¬
ном состоялось несколько бесед. Так была уста¬
новлена связь, которая никогда не прерывалась.
Последующая переписка между Кальвином и
Ренатой - редкое свидетельство глубокой веры и
возвышенной культуры.
Через Аосту и перевал Сен-Бернар Кальвин
вначале возвратился в Базель. Однако там он
долго не задержался. Поскольку в это время по¬
явился королевский эдикт, обещавший амнистию
всем французам, если они в течение шести меся¬
цев откажутся от реформированной веры, то
Кальвин использовал этот временной промежу¬
ток и - в последний раз в своей жизни - отпра¬
вился во Францию, в Париж, чтобы навестить
друзей. Многих он уже не нашел, они кончили
свою жизнь на костре. В Нойоне он продал при¬
надлежавшие ему земельные участки. Когда вы¬
яснилось, что власти вновь его разыскивают, он
186
Дознание
решил окончательно покинуть родину. С сестрой
и братом он отправился в Страсбург. Там или в
Базеле он собирался осесть в качестве свободно¬
го писателя.
Поскольку северо-восточная граница страны
была закрыта из-за военной смуты, Кальвин был
вынужден избрать кружной путь в Страсбург, че¬
рез Женеву. Июльским вечером 1536 года он при¬
был в доселе не известный ему город на Роне,
снял комнату в гостинице и намеревался на сле¬
дующий день продолжить путешествие. Однако в
тот вечер произошел решающий поворот в жиз¬
ни Кальвина. Поворот, который имел историче¬
ское значение и который сам Кальвин считал пря¬
мым и решающим вмешательством Бога. Человеком,
избранным для того, чтобы в этот час наставить
Кальвина на новый путь, был его соотечественник
Вильгельм Фарель.
Как только Фарель услышал, что беглец на¬
ходится в городе, он врывается в его жилище.
Без всякой подготовки и без учета дальнейших
планов Кальвина, его намерений и возможностей
он категорически запрещает ему уезжать и при¬
казывает здесь, на месте, начать реформаторскую
работу. Кальвин откровенно объясняет, что он
тут только проездом и уже по этой причине не
может задерживаться. Фарель в ответ описыва¬
ет ситуацию в Женеве и объясняет проезжему
187
Жан Кальвин
гостю необходимость создания евангелической
общины. Однако автор «Наставления в христи¬
анской вере» не чувствует призвания к практи¬
ческой работе и, учитывая свои научные задачи,
отказывается взяться за дело здесь, в Женеве.
Он убежден, что может служить Божьему делу
только пером. Тогда Фарель вскакивает и бро¬
сает в лицо своему соотечественнику страшное
заклятие: пусть Бог проклянет его исследования,
если он откажется последовать этому призыву.
В этом проклятии Кальвину слышится глас Бо¬
жий: он повинуется и остается.
Сам Кальвин, под своим углом зрения, так
описывал эту странную и знаменательную сцену
в женевской гостинице: «Я всегда хотел жить
скрыто и имел твердое намерение осуществить
это. Но в Женеве меня удержали не столько со¬
вет и увещевание, сколько страшное заклятие
Вильгельма Фаре ля, как если бы сам Господь с
небес возложил на меня свою могучую длань.
Ибо кратчайший путь в Страсбург, куда я хотел
переселиться, был закрыт из-за войны. Посколь¬
ку я хотел скорее ехать дальше, то я решил про¬
вести в этом городе только одну ночь. Незадолго
до этого благодаря трудам этого славного чело¬
века (Фареля) и магистра Пьера Вире здесь
было свергнуто папство. Однако положение еще
не закрепилось окончательно, и город раздирали
188
Дознание
глубокие и опасные распри партий. Тут некий
отвратительный изменник, вновь перебежавший
к папистам (дю Тийе), узнал о моем прибытии
и позаботился о том, чтобы оповестить об этом.
Тогда Фарель, снедаемый жаждой распростране¬
ния евангелия, приложил все усилия, чтобы меня
удержать. Когда он узнал, что я посвятил себя
приватным занятиям, из-за чего не хочу быть
связанным, и когда он увидел, что все его просьбы
безуспешны, он решился на страшное заклятие:
пусть Бог проклянет мои труды, если я в таком
бедственном положении уклонюсь от оказания
помощи, которая от меня требуется. Эти слова
настолько испугали меня, что я отказался от про¬
должения путешествия. Однако я был настоль¬
ко исполнен страха и робости, что не смог ре¬
шиться занять определенную и прочную долж¬
ность».
«Как если бы сам Бог с небес возложил на
меня свою могучую длань». Так сам Кальвин вос¬
принял тот час, который стал началом дела всей его
жизни и определил ее. И таким же образом он
продолжал свою жизрь и дело. Когда он осознал,
что Бог со своим требованием взял над ним верх,
заповедь Божья и действительность сливаются
воедино. Он знает, что на нем - длань Господня
и потому он не принадлежит сам себе. Вопреки
своим желаниям и склонностям, он должен вершить
189
УКан Кальвин
свое дело, которого он не хотел, но которое воз л о-
жил на него Бог.
ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ПОРАЖЕНИЯ
Сотого момента судьба Кальвина нераз¬
рывно связана с Женевой. Маленький
имперский город был географически
удачно расположен в точке пересече¬
ния французских, итальянских, швейцарских и
немецких областей. Такое положение делало город
превосходным местом для торговли, но в то же вре¬
мя заложником политических бурь между Францией,
Савойей и Швейцарской Конфедерацией. Виль¬
гельм Фарель и стоявшие за ним члены муници¬
палитета Берна прекрасно понимали, что этот го¬
род, как никакой другой, годится для того, чтобы
стать воротами для проникновения Реформации
во Францию. Кальвин превратил его в «ville
internationalе» мирового значения. То, что он и
сегодня продолжает оставаться важным центром
международных связей, в большой степени восхо¬
дит к Кальвину. Создание Международного Крас¬
ного Креста и перемещение Лиги Наций в Жене¬
ву были делом рук убежденных кальвинистов.
Будучи штаб-квартирой Всемирного совета церк¬
вей и мировых конфессиональных союзов, город и
190
Дознание
сегодня напоминает о мировом размахе своего
реформатора.
С 1526 года реформаторские устремления
проникли и в епископский город. Их политичес¬
кая окраска была связана с протестами против
угрожавшей городу Савойи и находившегося в
союзе с Савойей архиепископа. Собственно рефор¬
маторское движение началось лишь в тридцатых
годах. Летом 1532 года двоюродный брат Кальви¬
на Оливетан тайно прибыл б Женеву и начал
пропагандировать евангелие. За ним последовал
Вильгельм Фарель, который, однако, из-за своего
бурного натиска смог пробыть там лишь несколь¬
ко дней. Тем не менее он зажег огонь, который
больше не угасал.
Посев взошел. Могучий Берн добился от
Женевского магистрата возвращения Фареля, пос¬
ле публичной проповеди которого католическая
оппозиция начала постепенно распадаться. В ок¬
тябре 1534 года город отказал в повиновении епис¬
копу и уже в следующем году отменил мессу. Хотя
Франция и Савойя попытались еще раз воспрепят¬
ствовать, но прямое вмешательство Берна защитило
Реформацию, и с тех пор город получил гарантию
относительной независимости.
С осени 1535 года в Женеве практически
больше не существовало католического культа.
Однако на его место еще не пришло отправление
191
4 Жан Кальвин
евангелических обрядов. В области церковной,
приватной и общественной жизни царили серь¬
езнейшие беспорядки. Политические интриги
продолжались; к ним добавился либертинизм,
особенно в высших слоях бюргерства. В годы,
предшествовавшие появлению в Женеве Кальви¬
на, магистрат с помощью целого ряда строгих
распоряжений пытался противодействовать этим
тенденциям, вмешиваясь при этом в церковные
дела. После изгнания епископа магистрат взял на
себя управление всем, что ранее подлежало управ¬
лению церкви, обеспечив себе неожиданно большие
властные полномочия. То, что власти принимали
теперь полномочное участие в делах церкви, при¬
вело при проведении задуманной Кальвином Ре¬
формации к тяжелым последствиям.
Итак, Кальвин вступил в церковную жизнь
Женевы. Фарель добился для него у магистрата
скудного жалованья, которое к тому же по небреж¬
ности еще и месяцами не выплачивалось. Дошед¬
ший до нас протокол магистрата сообщает только,
что «некий француз» (ille Gallus,) принят в каче¬
стве лектора. В качестве этого неизвестного Каль¬
вин сразу же принялся за дело. Учитывая обсто¬
ятельства, он пришел к выводу, что первоочеред¬
ными являются три вещи: признание веры как
выражение евангелической веры, катехизис для на¬
ходящейся в полном упадке системы преподавания
192
Дознание
и церковный устав для создания общины. Самым
важным стал церковный устав, который был
представлен магистрату как своего рода доклад¬
ная записка проповедников. В ней Кальвин сде¬
лал попытку упорядочить общину путем дарования
причастия. После того как в Женеве наладилась
проповедь евангелия, следовало сформировать
общину с помощью таинства причастия. Общи¬
на должна, как в библии, соблюдать в своей сфе¬
ре церковную дисциплину. Затем в церкви сле¬
довало ввести пение псалмов во время богослу¬
жения. В-третьих, необходимо наставлять детей
в вере. Наконец, брачное право следует отделить
от канонического и установить новый порядок.
Кроме того, Кальвин потребовал от властей вве¬
сти воскресный праздник причастия, а также
обязать каждого отдельного члена общины к
признанию единого вероисповедания. Для над¬
зора за соблюдением церковной дисциплины
назначить по новозаветному образцу старейшин
(пресвитеров). Функцию церковного воспитания
должна взять на себя община, а не передавать ее
светским властям. Здесь впервые нашла свое
воплощение идея, имевшая тяжелые последствия, -
идея пресвитериального устава церкви и тем са¬
мым разделения полномочий церкви и государ¬
ства. Впрочем, лишь в общих чертах, поскольку
Кальвин еще придерживался убеждения, что
13 Зак. 275
193
Жан Кальвин
государство должно обеспечить поддержку пост¬
роению церкви.
Предложения по церковной реформе, вручен¬
ные 16 января 1537 года, лишь в марте прошли че¬
рез магистрат, причем с определенными ограниче¬
ниями. Воскресное причастие было отклонено,
вместо него магистрат установил четыре праздника
в течение года. Пресвитерианский устав также не
нашел поддержки. Однако наибольшие трудности
представляло практическое проведение реформ.
Психологически понятно сопротивление высших
слоев народа практике надзора, поскольку она
делала всех равными перед законом и означала от¬
мену социальных привилегий. Оппозиция, высту¬
павшая против надзора за дисциплиной, сумела
настолько организоваться, что на выборах в
магистрат в 1538 году ее представители получили
большинство. Но самое серьезное, почти непреодо¬
лимое сопротивление встретило обязательство к
общине в исповедании единой веры. Не могло
быть и речи, что все граждане Женевы были к это¬
му моменту убежденными христианами-евангели-
стами. В своем стремлении как можно скорее про¬
вести Реформацию, Кальвин сильно ошибался в
оценке конфессионального положения в городе.
Ситуация осложнилась из-за угрозы магистрата
лишить прав всех граждан, уклоняющихся от обя¬
зательного признания веры. Кальвин, напротив,
194
Дознание
был гораздо больше озабочен религиозным уставом.
Он мыслил допускать к евангелическому таинству
причастия лишь тех, кто признал евангелическое ве¬
роисповедание. Магистрат отказал ему в этом. В
последовавшей борьбе, которая представляла собой
принципиальный спор между церковью и государ¬
ством, Кальвин вначале терпел поражение.
Распоряжение магистрата относительно того,
что никому не может быть заказан доступ к престо¬
лу Господню, было следствием политической зави¬
симости от Берна, который, следуя теологическому
образцу цюрихской Реформации, не разрешал ис¬
пользовать причастие как средство церковного на¬
казания. Сказалось также стремление бернского
правительства добиться и в Женеве полного
государственно-церковного совпадения литургии и
церковных обычаев со своей церковью. Это озна¬
чало, кроме прочего, что женевская церковь не име¬
ла дисциплинарной власти в собственных делах.
11 марта 1538 года Большой магистрат путем голо¬
сования высказался за устройство церкви полно¬
стью по бернской модели. Это казалось Кальвину не¬
приемлемым, тем более что магистрат требовал от
проповедников безусловного подчинения. Слепой
священник Коруд отказался первым и попал за это
в тюрьму. Этого Кальвин и Фарель не могли стер¬
петь молча. На их смелую жалобу об аресте их
коллеги магистрат ответил запретом проповеди.
13*
195
Жан Кальвин
И тогда Кальвин почувствовал себя обязан¬
ным оказать сопротивление. Возложенное на него
Богом возвещение евангелия не мог запретить
никто. В пасхальное воскресенье, несмотря на
официальный запрет, он поднялся на свою кафедру
в церкви св. Петра, прочел проповедь, но объявил,
что не может вместе с общиной отметить праздник
причастия. Неисполнение таинства причастия, как
объяснил Кальвин, является следствием не навя¬
занного общине бернского церемониала, а крайне
напряженной обстановки в городе. Разумеется,
столкновение между проповедниками и магистра¬
том не осталось тайным, последовали угрозы, вол¬
нения, даже стрельба. Неисполнение таинства при¬
частия Кальвином и Фарелем магистрат расценил
как новое, недопустимое и произвольное присвое¬
ние властных полномочий, поскольку считал сво¬
ей прерогативой определять, когда следует празд¬
новать таинство причастия и кого следует лишить
его. Кроме того, священники нарушили запрет на
проповеди. Непосредственно после богослужения
собрался Малый магистрат, в пасхальный поне¬
дельник - Большой магистрат, а во вторник - со¬
брание граждан. Из опасения беспорядков было в
конце концов принято решение отказаться от тю¬
ремного наказания. Зато Большой магистрат боль¬
шинством голосов решил в течение 72 часов вы¬
дворить из страны трех непокорных проповедников.
196
Дознание
На следующий день, 25 апреля 1538 года, Кальвин
покинул город в качестве изгнанного. Его пребы¬
вание в Женеве продлилось 22 месяца. Оно закон¬
чилось из-за принципиального столкновения меж¬
ду церковью и государством, в котором Кальвин не
мог уступить, не изменив при этом своей реформа¬
торской миссии. Поэтому его поражение таило в
себе провозвестье победы.
ГОДЫ УЧЕНИЯ В СТРАСБУРГЕ
ели Фарель нашел новую сферу при-
ложения своих сил в Невшателе, а Ко-
£ ^ руд - в Орбе, то Кальвин вновь решил
обосноваться в Базеле, в качестве при¬
ватного ученого. В доме профессора Симона Гри-
нея он встретил дружественный прием. Однако его
уединение продлилось недолго. Несмотря на свое
сопротивление, он в конце концов уступил на¬
стоятельным приглашениям в Страсбург в каче¬
стве священника: «Превосходный слуга Христов
Мартин Бутцер силой призвал меня на мое новое
место с похожими заклятьями, как некогда Фарель
в Женеву». В качестве призванного священника
общины французских беженцев 8 сентября 1538 года
он прочел свою вступительную проповедь в страс¬
бургской церкви св. Николая.
197
Жан Кальвин
Для изгнанного реформатора начались три
года плодотворного развития. Община была не¬
большой, и служба оставляла время для любимых
занятий и литературных трудов. Пусть маленькое,
жалованье спасало от крайней нужды. Значитель¬
но более благоприятная, чем в Женеве, атмосфера
укрепила Кальвина в его желании исполнять здесь
свое жизненное призвание. 29 июля 1539 года он
купил себе права гражданина Страсбурга. Обо¬
собленное церковное положение общины бежен¬
цев позволило ему предпринять реформаторские
попытки построения общины. Он проповедовал
четыре раза в неделю, ежемесячно отмечал со
своей общиной причастие и наводил церковную
дисциплину в границах, установленных городс¬
кими правилами. Порядок богослужения он
установил в значительной степени по образцу
имевшихся в Страсбурге реформаторских литур¬
гий, для чего ввел пение псалмов, которого пытался
добиться в Женеве. Еще одним элементом прак¬
тического построения общины была замена католи¬
ческой исповеди личной беседой со священником.
В первую очередь своего духовника должны по¬
сетить причащающиеся, чтобы, как пишет Кальвин
в это время Фарелю, «несведущие были лучше
подготовлены, нуждающиеся в наставлении полу¬
чили его, а обеспокоенные и встревоженные были
утешены». Кальвин подчеркивает в этой связи, что
198
Дознание
он сможет лишь тогда отказаться от института ис-
поведи, если его заменит подобная душеспаситель¬
ная беседа. Возможно, важнейшим страсбургским
наследием в деле практического преобразования
церкви было восприятие Кальвином учения Мар¬
тина Бутцера о четырех должностях (о котором
речь впереди). Вообще, говоря о будущем устрой¬
стве женевской церкви, можно отметить глубокое
влияние Бутцера на Кальвина. Реформатор при¬
дал в «Наставлении в христианской вере» своим
теоретико-теологическим представлениям упорядо¬
ченную форму, но для практического построения
церкви у него было мало опыта. Поражение в
Женеве ясно показало, что в этой области ему еще
учиться и учиться. Для него оказалось счастли¬
вым стечением обстоятельств то, что в лице страс¬
бургского реформатора, старше его на 17 лет, он
нашел наставника, опытного в церковной практике.
Однако отношение Кальвина к Бутцеру никогда не
отличалось низкопоклоннической зависимостью.
Скорее он гениально продолжал его инициативы.
И в научном отношении эти годы были для
Кальвина плодотворными. Здесь, в Страсбурге,
впервые в Реформации, была сформулирована и
воплощена мысль о всеобщем народном образова¬
нии. Преподавание начиналось с элементарного
и было организовано последовательно, венчали
его курсы философии и теологии. В знаменитой
199
Жан Кальвин
Высшей школе, которую основали Иоганн Штурм
и Мартин Бутцер, теологические лекции Кальви¬
на, посвященные евангелию от Иоанна и двум По¬
сланиям к коринфянам, стали вскоре центром при¬
тяжения. Наряду с этим Кальвин опубликовал
комментарий к Посланию к римлянам и открыл
тем самым длинный ряд своих толкований Библии.
На это же время приходится новая переработка
«Наставления» и его французское издание. В кон¬
це своего пребывания в Страсбурге Кальвин
опубликовал небольшое сочинение о причастии на
французском языке. Уже здесь он занимает само¬
стоятельную позицию между Лютером и Цвингли
по этому спорному вопросу. Наконец, следует
упомянуть книжечку псалмов, которую он издал, по¬
этически обработав произведения Клемана Маро и
использовав собственные переводы и новые мелодии.
Не в духе Кальвина было говорить о своих
семейных обстоятельствах, свидетельства о себе
в этом отношении весьма скупы. Дело всегда
заслоняло его личность. Тем не менее следует
упомянуть о произошедшем в страсбургский пе¬
риод бракосочетании Кальвина. Кальвин ждал от
своей жены, «что она будет скромной, услужливой,
не язвительной, экономной, терпеливой и станет
заботиться о моем здоровье». Эти ожидания долж¬
на была оправдать вдова одного обращенного им
анабаптиста. 10 августа 1540 года он заключил
200
<Jl о знание
брак с происходящей из Люттиха валлонкой Иде-
леттой де Бурен. Венчал их прибывший из Невша-
теля его друг Вильгельм Фарель. То немногое, что
сказано Кальвином о его браке, свидетельствует о
глубокой и сильной привязанности, которая соеди¬
няла его с этой женщиной. Однако им не было от¬
пущено долгое счастье. 29 марта 1549 года Иде-
летта Кальвин умерла. Реформатор очень тяже¬
ло переживал ее смерть. Даже годы спустя он в
письмах говорит о ране, которую оставила в его ду¬
ше эта утрата. Родившийся 28 июля 1542 года сын
Жак не прожил и месяца. Когда много позже во
время одного религиозного спора один из против¬
ников Кальвина прибег к личным выпадам и
упрекнул, что у того даже нет сына, реформатор
ответил хладнокровно и в то же время пророчески:
«Мои сыновья? Они по всему свету».
Пока Кальвин находился в Страсбурге, в гер¬
манском государстве Карл V начал попытки вос¬
становления единства веры. Вновь начались встре¬
чи между представителями обеих конфессий.
Кальвин в качестве наблюдателя участвовал в
важных религиозных дискуссиях во Франкфурте
весной 1539 года и в Хагенау в июне 1540 года и
поддержал в первую очередь усилия Бутцера по
обеспечению положения протестантов во Франции.
Межконфессиональный коллоквиум в Вормсе в
ноябре 1540 года он благодаря странному стечению
201
Жан Кальвин
обстоятельств посетил в качестве уполномоченного
герцога Люнебургского. Там Кальвин напрямую
столкнулся с проблемами немецкой Реформации.
Он собственными глазами наблюдал борьбу пред¬
ставителей различных политических сил. Независи¬
мо от этого он со своей самостоятельной позиции
вмешался в переговоры. Будучи молодым пред¬
ставителем второго поколения реформаторов, он
намного более реалистично, чем его старшие кол¬
леги, относился к уже свершившемуся разрыву с
Римом и поэтому был вынужден разрушить неко¬
торые иллюзии готового к союзу Бутцера и стре¬
мящегося к миру Меланхтона. Разумеется, по мере
возможностей он поддерживал их усилия, но на
переговорах был более неуступчив, чем они, по¬
скольку зорким взором давно распознал, что в хри¬
стианстве произошел раскол. В политическом пла¬
не Кальвин на этих переговорах прилагал усилия
для заключения союза германских князей с Фран¬
циском I против Карла V. Маргарита Наваррская
от имени своего брата выразила за это Кальвину
глубокую признательность.
В апреле 1541 года в Регенсбурге вновь про¬
шли переговоры относительно рейхстага. Меланх-
тон настоятельно потребовал присутствия Каль¬
вина «из-за его известного имени среди ученых».
Кальвин явился в качестве официального делега¬
та вольного имперского города Страсбурга, но
202
Дознание
настроенный пессимистически. Его трезвая оцен¬
ка ситуации оказалась верной. В вопросах веры в
Регенсбурге также не был достигнут прогресс, и
Кальвин в изданном им «Actes de la jonrnee
imperiale fenue en la Cite de Regespourg» крити¬
чески рассмотрел позиции. Возможно, важнейшим
результатом его участия в немецких делах стала
дружба с Филиппом Меланхтоном, с которым он
близко познакомился на религиозных встречах.
С тех пор он питал глубочайшее уважение к не¬
мецкому учителю. В 1543 году он посвятил Меланх-
тону свой трактат о свободной воле, а три года
спустя издал его знаменитый «Loci communes» на
французском языке. В то же время Кальвин дос¬
таточно критически относился к церквам немецкой
Реформации. Он отмечал отсутствие церковной
дисциплины и порицал форму лютеранского бого¬
служения, которое казалось ему недостаточно еван¬
гелическим. Но наибольшее неприятие вызывало
у него социальное положение немецких церквей в
общественной структуре. Он не одобрял засилия
политических сил в сфере религиозных решений
и церковного устройства. Несмотря на эти объек¬
тивные различия, его связывала глубокая и долгая
дружба с немецкими реформаторами Меланхтоном,
Бутцером, Иоганном а Ласко и многими другими.
С Лютером Кальвин никогда не встречался. Их
душевный склад был совершенно различен, кроме
203
Жан Кальвин
того, велика была и разница в возрасте. Лишь
благодаря некоторым своим латинским сочинени¬
ям они получили возможность узнать и оценить
друг друга.
За годы, проведенные Кальвином в Страсбур¬
ге, положение в Женеве в корне изменилось. Вес¬
ной 1539 года после выборов было сформулирова¬
но несколько статей, которые грозили полностью
подчинить город власти Берна. Противники каль¬
винистского церковного устава - кальвинисты по
этим статьям называли их «артикулянты», а народ
«артишоки» - попытались таким образом построить
в Женеве государственную церковь по бернскому
образцу. Этими статьями, в которых речь шла о
дополнениях к Пайернскому договору, в 1536 году
гарантировавшему Женеве определенную самосто¬
ятельность, артикулянты по неспособности или
недомыслию делали уступки, равносильные прода¬
же имперского города Берну. Когда все вышло
наружу, в Женеве разразилась буря негодования.
Сторонники Кальвина, которые по имени Фареля
назывались «гильермистами», под руководством
Ами Перрена смогли предотвратить ратификацию
статей Большим магистратом. Посланники, по¬
ставившие свою подпись под статьями, вынужде¬
ны были бежать. Бернская партия утратила у на¬
рода кредит доверия, и в магистрат избиралось
все больше «гильермистов». В августе-сентябре
204
Jlo знание
1540 года бежали проповедники, поставленные на
место изгнанных реформаторов. Дело дошло до
того, что Берн настаивал на ратификации статей и
грозил войной. Покинутый своими политическими
вождями и духовенством, город, в котором быстро
приходили в упадок политическая и церковная
жизнь, попечительство о бедных и больных, систе¬
ма обучения, в этой угрожающей ситуации не ви¬
дел иного выхода, как призвать человека, которо¬
го он ранее изгнал: Кальвина. Уже 20 октября
1540 года в Страсбург отправилось первое посоль¬
ство из Женевы, чтобы обратиться к нему с этой
просьбой.
Политическая смута сопровождалась еще од¬
ним процессом, который в не меньшей степени
подготовил возвращение Кальвина в Женеву.
Катастрофические обстоятельства, следствием ко¬
торых стало изгнание Кальвина, побудили като¬
лическую сторону, что совершенно естественно, к
попытке восстановление католицизма в городе.
Прелюдией этой попытки стало обращение учено¬
го и гуманистически образованного кардинала
Карпентраса Якоба Садолета к гражданам Женевы
с требованием вернуться в лоно старой церкви.
Обращение было выдержано в умеренном тоне,
оно не углублялось в теологические различия в
учениях, резкими были лишь слова о Кальвине
и Фареле, которые именовались совратителями
205
Жан Кальвин
бедных граждан Женевы. Письмо было переда¬
но магистрату, который учтиво и дипломатично
подтвердил его получение, но совещался долгие ме¬
сяцы: что и как ответить на послание. Женева
была просто огорошена, когда внезапно появились
первые печатные экземпляры ответа Кальвина Са-
долету на латинском и французском языках. В
мгновение ока тираж был распродан, и сразу же
началась допечатка. Тем временем обращение Са-
долета попало из Женевы в Берн, и бернское пра¬
вительство обратилось к Кальвину за ответом.
Ответ Кальвина кардиналу Садолету - это малень¬
кий шедевр реформаторской теологии, который по
праву считается одним из его знаменитейших про¬
изведений. Лютер прочел его и был в восторге.
Приводя глубоко продуманные доказательства,
реформатор шаг за шагом опровергает аргументы
кардинала, причем в элегантной и благородной
форме. Это сочинение - «классическое оправда¬
ние необходимости Реформации. Как монолит воз¬
никает здесь вместо выхолощенной номинальной
церкви желанное и доставшееся с помощью личного
участия в борьбе зрелище евангелической церкви,
которая через тысячелетие протягивает братскую
руку раннехристианской церкви и получает от нее
посвящение и наставление» (Гюнтер Глёде).
Ответ Кальвина Садолету произвел в Жене¬
ве эффект разорвавшейся бомбы. Противники
206
Реформации затаились, а усилия по возвращению
Кальвина стали более интенсивными. Но изгнан¬
ника не так-то легко было вернуть: у него остались
о Женеве неприятные воспоминания. Генрих Бул-
лингер, Петер Вирет, Вильгельм Фарель, магистра¬
ты Цюриха и Базеля, а также магистрат Женевы
испробовали все мыслимое, чтобы побудить Каль¬
вина вернуться. Как и в 1536 году, Вильгельм
Фарель со своей харизмой сыграл решающую
роль. «Ты вверг меня в несказанные хлопоты со
своими громами и молниями», - пишет Кальвин
своему другу. 13 сентября 1544 года реформатор
вновь прибывает в Женеву.
II. СТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТРОЕНИЕ И БОРЬБА
Ш ^ огда Кальвин впервые после трех лет
отсутствия поднялся на свою кафедру
в церкви св. Петра, нахлынувший народ
® ожидал, что изгнанник будет сводить
счеты. Но, ко всеобщему изумлению, он не стал это¬
го делать. Реформатор начал свою проповедь -
точно с того места Библии, на котором он остано¬
вился пасхальным воскресеньем 1538 года, как буд¬
то за прошедшее время ничего не произошло. Для
него личные обстоятельства были полностью оттес¬
нены возвещением слова Божьего, что и было его
задачей. Он не прислушивался к радикальным
«гильермистам», которые охотно начали бы мстить
и которые надеялись, что после рвоего возвраще¬
ния он использует в своих целях возбужденные
настроения в городе.
Зато его ждала масса работы, в первую очередь
упорядочение церковной жизни. Одним из условий
своего возвращения Кальвин поставил организацию
церковной жизни так, чтобы она соответствовала
143ак. 275
209
Жан Кальвин
слову Божьему. Вместе с комиссией магистрата
реформатор немедленно принялся за дело. За
двадцать дней был подготовлен проект, который,
однако, должны были еще ратифицировать поли¬
тические власти, внесшие немало изменений. 20 но¬
ября 1541 года «Ordonnances ecclesiastiques» был
торжественно зачитан в церкви св. Петра и при¬
нят плебисцитом. С уверенностью можно сказать,
что этот церковный устав во всех своих деталях не
был тем, чему учил и чего хотел Кальвин. Ощути¬
мый вес государственной власти во многих местах
вынудил пойти на уступки, но в основе своей, он
выдает гениальную руку реформатора. Двадцать
лет спустя устав получил свою расширенную и
окончательную форму. Предназначенный только
для Женевы, он очень скоро был заимствован дру¬
гими церквами. Он не только придал четкий об¬
лик реформированным церквам во всем мире, но
и благодаря своим пресвитериальным и синодаль¬
ным элементам глубочайшим образом повлиял на
формирование демократического общественного и
государственного строя в западном мире.
При всем том концепция устава, как и многое
у Кальвина, неоригинальна. Ее непосредственным
образцом был церковный устав Мартина Бутцера,
который Кальвин имел возможность наблюдать в,
Страсбурге. В центре «Ordonnances ecclesiastiques»
находится учение о четырех должностях, в основе
210
Становление
которого лежит теологическое представление о том,
что церковь, будучи телом Христовым, является
духовным организмом. Как говорит Кальвин в
своем «Наставлении»: «Все избранные связаны
во Христе таким образом, что они, поскольку
зависят от одной главы, также срастаются в еди¬
ное тело. Они действительно становятся едины,
поскольку живут вместе в одном и том же духе
Божьем». Пронизывающий организм дух обуслов¬
ливает его единство, но в то же время и его диф¬
ференциацию. Единство гарантирует дух, посколь¬
ку он пронизывает и оживляет все члены организ¬
ма. Дифференциация тела вытекает из различных
задач, которые поручены отдельным членам внут¬
ри организма. Это теологическое представление
Кальвин пытался конкретизировать в своем женев¬
ском церковном уставе. Община организуется как
священничество всех верующих, которое руковод¬
ствуется лишь словом и духом Божьим. Это слу¬
жит залогом ее единства. Однако как в каждом
теле есть отдельные члены, так и здесь существу¬
ет внешний порядок, который Кальвин по образцу
Нового Завета установил через определенное
взаимное служение. В общине есть четыре долж¬
ности: пасторы, доктора, пресвитеры и дьяконы. Им
доверено руководство церковью на земле. Долж¬
ности не означают более высокого положения над
общиной, скорее духовное единство тела Христова
14*
211
Жан Кальвин
делегирует специальные службы, которые как та¬
ковые являются «органами Святого Духа». Пору¬
чая своим членам это служение, община тем самым
признает, что ею руководит дух.
Так было задумано Кальвином. Однако прак¬
тическое воплощение в Женеве выглядело иначе.
Совет сохранил за собой целый ряд прав, в том
числе и назначение пасторов. Пасторы вносили
только предложения по избранию. Лишь в 1561 году
Кальвину удалось добиться, чтобы кандидаты были
хотя бы представлены общине. Церковное посвя¬
щение в сан с новозаветным ритуалом рукополо¬
жения было отклонено советом, постольку он по¬
считал, что это может способствовать магическим
представлениям в отправлении религии. Вместо
этого избранный пастор должен был давать сове¬
ту клятву, что будет проповедовать слово Божье
без боязни и независимо, во славу Бога и для
пользы народа Божьего, что будет способствовать
благу и чести магистрата и города, соблюдать кон¬
ституцию и законы государства и подчиняться им.
Впрочем, Кальвину удалось вставить в формулу
клятвы оговорку: «Насколько дозволяет моя служба,
то есть без стеснения свободы, которую мы должны
иметь, чтобы по приказанию Божьему проповедовать
его слово и делать то, что положено по службе*'.
Вторая должность - это должность докторов.
Ее занимают преподаватели и профессора, которые
212
Становление
должны обучать священников. Их также назначал
магистрат. Для исполнения ими служебных обя¬
занностей был предусмотрен школьный устав, ко¬
торый привел в 1559 году к учредительному уставу
знаменитой Академии.
Третьей должностью была должность старей¬
шин. Эта должность стала отличительным призна¬
ком кальвинистского устава церкви. Именно по
старейшине, новозаветному пресвитеру, реформиро¬
ванная церковь получила свое название и свой
устав как пресвитериальная. Однако именно эта
должность создала в Женеве наибольшие трудно¬
сти и запятнала его славу. Пресвитерам был по¬
ручен надзор за общиной и соблюдением церков¬
ной дисциплины. Именно в этом пункте теория и
практика разошлись больше всего.
Для Кальвина дисциплина и надзор за ней по
образцу Нового Завета была в общине духовным
правом, установленным одним лишь возвещением
слова и таинством. «При ее соблюдении необхо¬
димо прежде всего учитывать две вещи: во-первых,
эта духовная власть должна быть целиком и пол¬
ностью отделена от подобающего начальственной
власти права меча, а во-вторых, ее соблюдение
должно осуществляться не по усмотрению одного
человека, а через законное собрание». Она «не
требует ни силы, ни приложения рук, а удов¬
летворяется силой слова Божьего». Эта сила
213
Жан Кальвин
слова Божьего никогда не передавалась в одни
руки, будь то епископ или пастор, ибо тогда ею
могли бы тиранически злоупотребить, она всегда
является функцией всей общины. Это следует
учесть для крайней меры церковной дисциплины -
отлучения от церкви. «Для установлений Христа
и его апостолов, для устава церкви, наконец, с точки
зрения справедливости было бы странно, если бы
это право было дано одному человеку, который мог
бы единолично выносить решение об отлучении.
Мы должны установить, что в делах отлучения от
церкви следует учитывать эту авторитетную фор¬
му, что дисциплина должна поддерживаться совме¬
стным советом старейшин и собранием народа; это
лекарство, которое поможет избежать тирании».
Церковная дисциплина была для Кальвина упоря¬
доченной формой заботы о душе, которую должна
была поддерживать вся община для всей общины.
Однако на практике обстоятельства в Жене¬
ве сложились иначе. О разделении духовных и
светских властей, которого Кальвин требовал в
своем «Наставлении», не могло быть и речи. Из¬
брание и назначение пресвитеров происходило в
Женеве через магистрат, а не через общину. К тому
же, магистрат выбирал только из своих собствен¬
ных рядов: гражданин, не входивший ни в один
из двух магистратов, не мог стать старейшиной.
Лишь в 1555 году избираемость была расширена.
214
Становление
Председательствовал всегда один из бургомистров,
который вплоть до 1560 года всегда руководил за¬
седаниями со своим скипетром. Таким образом,
религиозная и общественная жизнь Женевы почти
полностью находилась под надзором политических
властей. Тем самым сохраненное за общиной вы¬
несение приговора было подчинено государствен¬
ной юрисдикции. Реформатор не смог настоять
на своем, что привело к часто порицаемому по¬
ложению в Женеве, которое распространенное
мнение неверно именует «теократической дикта¬
турой». Несомненно, что надзор и стиль работы
консистории привел к невыносимому, с нашей точ¬
ки зрения, контролю над гражданами, а иногда и
к мерам смехотворным. Однако это было связано
с тем, что реформатор не смог в достаточной сте¬
пени защититься от государственной юрисдикции.
Поскольку женевская консистория в большей или
меньшей степени была политическим органом вла¬
сти, то духовный элемент, который определяет цер¬
ковную дисциплину, был включен в организацию,
вооруженную криминалистической изощренностью
и государственной властью. Кальвин сам это знал
и вел страстную и захватывающую борьбу за сво¬
боду консистории от государственной опеки, кото¬
рую он в общем и целом проиграл.
И все же в одном пункте, как это уже было в
1538 году, Кальвин остался непреклонен: в вопросе
215
Жан Кальвин
о допущении к таинству причастия или отказе в
нем. Примером может послужить процесс, который
одновременно иллюстрирует борьбу Кальвина за
свободу церкви от государства. Филибер Бертелье,
сын уважаемой в Женеве патрицианской семьи, вел
весьма распутную жизнь. Предостережениям кон¬
систории он не внимал. И поскольку не обращал
на них внимания, то в конце концов был лишен
причастия. В 1553 году, когда противники Кальви¬
на все еще составляли большинство в городском
магистрате, Бертелье удалось переиграть церков¬
ное решение и получить от магистрата разрешение
на причастие. С подобным вмешательством госу¬
дарства в духовную компетенцию общины рефор¬
матор не мог смириться. Однако магистрат наста¬
ивал на своем решении, «невзирая на причины и
возражения, выдвинутые против этого господином
Кальвином», как сказано в протоколе. Кальвин был
полон решимости сопротивляться магистрату. Пос¬
ле проповеди он подошел к столу для причастия с
явным намерением не допустить Бертелье к учас¬
тию в обряде. Но Бертелье не появился. Маги¬
страт хотел избежать крайностей и тайно намек¬
нул ему на первых порах воздержаться от участия.
Хотя Кальвин победил, но вечером, стоя на кафед¬
ре, он сказал: «Я должен вам сказать, что я не знаю,
может быть, это последняя проповедь, которую я
читаю в Женеве; не то чтобы я ушел сам по себе, но
216
Становление
если меня принудят делать то, что не дозволено
Господом, то я не смогу через это переступить».
В отличие от 1538 года Кальвин на сей раз смог
отстоять независимость церкви от вмешательства
государства. Многие критики именно такое его
поведение называли «теократической диктату¬
рой». Скорее уместно говорить о сохранении и
обеспечении свободы, предоставленной общине
Иисуса Христа.
Четвертой в церковном уставе названа дол¬
жность дьяконов. Они тогда еще не были чле¬
нами консистории, а так же, как и пресвитеры,
назначались магистратом из его членов. У них была
двойная задача. С одной стороны, они отвечали за
распределение церковных средств между бедны¬
ми, нуждающимися и больными, с другой сторо¬
ны, в их ведении находилось управление больни¬
цей, домом для бедных, сиротским домом, приютом
для странствующих бедняков и чумным домом.
Для сиротского дома назначался учитель. Кро¬
ме того, церковный устав предусматривал два
плановых места врачей для бедных, оплачива¬
емых городам. Учреждение женевского дьяконата
было социальным явлением большого значения.
Планомерное попечительство о больных, нужда¬
ющихся и бедных потеснило нищенство, которое к
тому же стало наказуемым. Церковный устав
включает предписания по крещению и причастию,
217
Жан Кальвин
бракосочетанию и погребению, посещению больных
и заключенных и обучению молодежи.
То, чего Кальвин хотел добиться церковным
уставом, ему не удалось или удалось лишь час¬
тично: свободы церкви от государства. Ему не
удалось добиться независимости церкви в выбо¬
рах и уставе от политической власти, и это было
связано не только с тем, что до 1555 года маги¬
страт был настроен в основе своей против Каль¬
вина, но и с самой консисторией, которая во мно¬
гих дисциплинарных случаях сотрудничала с
государственными органами. Главным камнем
преткновения по-прежнему оставалось отлучение
от церкви. Первоначально совет хотел сохранить
за собой право решения об отлучении, а консис¬
тории предоставить лишь право вынесения вы¬
говора. Кальвин же, напротив, всеми силами пы¬
тался отстоять это право для общины, хотя сам
никогда не осуществлял отлучения. Он заплатил
за это изгнанием в 1538 году и тяжелым конф¬
ликтом в 1553-м. Однако он согласился с тем,
чтобы серьезные случаи нарушения церковной
дисциплины передавались магистрату для приня¬
тия мер. Из-за такого, не очень четкого распре¬
деления полномочий, которое Кальвин теологи¬
чески очень хорошо обосновал в «Наставлении»,
в Женеве годами существовали нежелательные
разногласия.
218
Становление
И все же обоснованная критика положения в
Женеве не должна забывать, что церковный устав
заключал в себе несравненную преобразующую
силу. С его введением для кальвинистского про¬
тестантизма было принято два важнейших реше¬
ния. Во-первых, он практически упразднял куль¬
товую структуру средневековой церкви, которая
выражалась в иерархическом различии между
священниками и прихожанами, путем делегирова¬
ния докторов, пресвитеров и дьяконов в руковод¬
ство церкви. Во-вторых, основные идеи духовной
конституции церкви подготовили ее отделение от
государственной власти. Не может быть и речи о
том, что Кальвин своей строгой организацией церк¬
ви стремился установить ее господство над го¬
сударством и что в Женеве это ему в какой-то
степени удалось, когда он, например, отстаивал
право отлучения церковной общиной, а не поли¬
тическими властями. На самом деле строгим
оформлением своего учения о четырех долж¬
ностях он до такой степени обосновал самостоя¬
тельность общины, что она перестала нуждаться
в защите государства. Это было внешней предпо¬
сылкой того, что кальвинистские общины, которые
во Франции и Нидерландах сталкивались с враж¬
дебным евангелизму отношением властей, все же
сумели утвердиться без государства, а подчас и
вопреки ему.
219
Жан Кальвин
В дополнение к церковному уставу Кальвин
написал также катехизис, чтобы оказать хотя бы пер¬
воначальную помощь системе образования, пришед¬
шей в полный упадок. Как говорил сам Кальвин, это
сочинение он писал в страшной спешке, набрасы¬
вая его на листочках бумаги размером с ладонь,
которые у него забирали с не высохшими еще
чернилами, чтобы отнести в типографию. Этот
учебник существенно отличается от катехизиса
1537 года. По своему теологическому назначению
и педагогическим методам он представляет собой
новое и совершенно самостоятельное произведение
реформатора, хотя и не может сравниться с Гей¬
дельбергским катехизисом или Малым катехизи¬
сом Лютера. И тем не менее благодаря ему прежде
всего французские общины научились читать и
понимать Библию.
Для дальнейшего строительства церковной
жизни в 1542 году появился женевский порядок
богослужения, который Кальвин составил в виде
требника, хотя в основном писал не сам. С уверен¬
ностью можно сказать, что ему принадлежит фор¬
мулировка крещения, которую он набросал еще в
Страсбурге. Другие части были составлены Фа¬
рел ем. Пение псалмов и выдающийся пр^свбей
простоте требник вплоть до сегодняшнего дня оп¬
ределяют богослужение в реформированной церк¬
ви. В ежемесячном причастии, которое Кальвин
220
Становление
практиковал уже в Страсбурге и пробовал ввести
и в Женеве, ему вновь было отказано магистратом.
Число причастий было ограничено четырьмя в год.
В последующие годы из-под пера Кальвина
довольно быстро появились теологические сочине¬
ния, предназначенные только для построения женев¬
ской общины. Среди них полемическое сочинение
против издания парижской Сорбонной «28 статей
веры для христианского мира», которым Кальвин
активно вмешался в религиозный спор во Фран¬
ции и которым он, по отзыву Беза, предал осмея¬
нию сорбоннские тезисы. Сюда же относится по¬
явившаяся в том же 1543 году забавная сатириче¬
ская «Книжечка о нахождении и собирании мощей»,
в которой реформатор, подобно Лютеру в его «Но¬
вых известиях с Рейна», иронически высмеивал
выродившийся культ мощей. Самым значитель¬
ным его полемическим сочинением этого периода
являются «Acta Synodi Tridentinae cum Antidoto»
1547 года, в которых он подверг глубокому теоло¬
гическому анализу декреты первых семи сессий
Тридентского собора и опроверг их.
Однако Кальвин не ограничивался тем, что в
литературной форме обосновывал и отстаивал пе¬
ред римской церковью необходимость и полномо¬
чия Реформация, а пытался также способство¬
вать ее успехам при политических решениях. Со
времен своего участия в религиозных беседах в
221
Жан Кальвин
Германии он знал, насколько тесно переплетены ре¬
лигиозные дела с имперской политикой. Его об¬
ширная переписка 40-х годов отражает не только
исторические перипетии немецкой Реформации, но
и является свидетельством его глубокого личного
участия в ее судьбе. Он пытался через Меланхто-
на и Бутцера оказать влияние на реформаторские
попытки архиепископа Германа фон Вида в Кёль¬
не. Он постоянно призывал участников Шмаль-
кальденской лиги к единению и предостерегал их
от двурушнической политики императора. С Ме-
ланхтоном он обсуждал необходимость и воз¬
можности действенно представлять евангелическое
дело на Шпейерском рейхстаге в 1544 году. Ког¬
да теснимый турками и французами император
пообещал на нем протестантам полюбовное удов¬
летворение их жалоб, Кальвин открыто вмешался
в дискуссию со своими апологетическим сочинени¬
ем «Замечания к письму папы Павла III импера¬
тору Карлу V». Папа в своей грамоте самым рез¬
ким образом осудил уступки императора, и Каль¬
вин пытался в своем сочинении выдвинуть мысль
о нейтральном соборе под руководством императо¬
ра. За этой апологией сразу же последовала вторая,
где Кальвин прямо призывает императора и импер¬
ские сословия взять в свои руки проведение Рефор-
мации как самой насущной задачи. «Верноподдан¬
ническое увещевание непобедимому императору
222
Становление
Карлу V, светлейшим князьям и прочим сословиям
на рейхстаге в Шпейере» от 1543 года явилось под¬
робным и блестяще написанным оправданием Ре¬
формации, за которое Кальвин снискал высокую
похвалу. Немецкие лютеране действительно не
могли бы желать себе лучшего адвоката.
Но император продолжал твердо следовать
своим путем. После решений рейхстага и оказания
протестантами помощи императору в его походе
против Франции Кальвин разочаровался в полити¬
ческом разуме евангелических имперских сосло¬
вий. А затем все произошло именно так, как он
предвидел еще со времен немецких религиозных
дискуссий. В марте 1545 года в Триенте открыл¬
ся собор, что подтвердило мнение Кальвина об уже
произошедшем расколе христианского мира. Год
спустя, после того как император развязал себе
руки в отношении французов и турок, началась
Шмалькальденская война. Сразу же после нача¬
ла военных действий реформатор отправился в
поездку по Швейцарии, надеясь хотя бы здесь под¬
вигнуть евангелические сословия к созданию со¬
вместного фронта сопротивления. Кальвин неска¬
занно страдал во время войны и особенно после ее
окончания, но благодаря своей глубокой вере он
укреплял находившихся под угрозой и гонимых,
утешал и воодушевлял их. Когда он затем уви¬
дел, как большей части евангелической Германии
223
Жан Кальвин
пришлось, по крайней мере внешне, смириться с
решением императора, он вновь взялся за перо и
в 1549 году своим «Interim Adultero-Germanum»
вновь выступил как защитник притесняемого не¬
мецкого лютеранства. Добром это, однако, не кон¬
чилось. Сочинение было сразу же перепечатано
лютеранами-экстремистами, причем изложение уче¬
ния о таинствах было выпущено или изменено с
примечанием, что здесь излагается грубая ересь, не
подлежащая распространению. Это сочинение ста¬
ло последним, которым Кальвин смог поддержать
немецкое лютеранство. К его глубокому сожале¬
нию, здесь тоже сформировался фронт против
него. Для него, который всегда считал себя учени¬
ком Лютера и которого связывала с Меланхтоном
глубочайшая дружба, с чистой совестью подписав¬
шего главное исповедание веры лютеранской цер¬
кви, аугсбургское исповедание веры, наметивший¬
ся здесь раскол был непостижим.
Зато ему удалось не только перемирие, а даже
заключение длительного мира на том фронте, где
он этого менее всего ожидал: теологическое объе¬
динение с цвинглианством. Неоднократные отри¬
цательные отзывы, которые Кальвин высказывал
о Цвингли, настолько контрастировали с безгра¬
ничной хвалой немецкому реформатору, что взаи¬
мопонимание с Цюрихом казалось гораздо менее
возможным, чем с Виттенбергом. Тем не менее
224
Становление
усилия Кальвина в этом направлении достигли
цели. В августе 1544 года Лютер со своим «Крат¬
ким исповеданием веры в святое причастие против
Швенкфельда и швейцарцев» нанес свой последний
удар по учению Цвингли о причастии и тем са¬
мым оборвал не слишком крепкие связи, установ¬
ленные на Марбургском религиозном диспуте
1529 года. Это столкновение побудило Швейца¬
рию признать настоятельной необходимостью спа¬
сти то из евангелического единства, что еще мож¬
но было спасти. Поскольку разделяющий церкви
спор , постоянно разгорался вокруг понимания та¬
инств, здесь необходимо было прийти к теологиче¬
скому единству. Так в 1545 году началась длитель¬
ная переписка по этому вопросу между Кальвином
и Буллингером, преемником Цвингли в Цюрихе.
После того как они оба изложили свои точки
зрения и сблизили их, Кальвин в мае 1549 года
отправился в Цюрих. В пятый раз он посещал
город реформатора Цвингли. В ходе личного раз¬
говора, длившегося менее двух часов, было достиг¬
нуто единство с вождем цвинглианской Реформа¬
ции. Результатом стало «Consensus Tigurinus»,
названное так по месту своего возникновения, Цю¬
риху, соглашение в учении о причастии, текст ко¬
торого стал одним из наиболее важных с историче¬
ской точки зрения исповеданий веры реформирован¬
ной церкви. Цюрихское соглашение предотвратило
153ак. 275
225
Жан Кальвин
угрожающее расхождение цвинглианской и каль-
винистской теологии и создало необходимые
предпосылки для совместного развития учения и
церкви. Соглашение радостно приветствовали в
Швейцарии, Франции, Англии, поддержал его и
Меланхтон. Тем не менее оно не смогло восстано¬
вить разорванные связи с немецким лютеранством,
более того, даже стало поводом к новому ожесто¬
ченному спору о причастии. И все же соглашение
остается одним из наиболее значительных деяний
реформатора, имеющих мировое значение, тем бо¬
лее, что для его заключения, ему пришлось пожерт¬
вовать кое-чем в своем восприятии. Не известная
до сих пор у Кальвина готовность к компромиссу
в теологических вопросах сделала возможным одно
из наиболее долговечных соглашений Реформации.
При этом Кальвину пришлось бороться в своей
Женеве с ожесточенным сопротивлением. Время до
1553 года отмечено отчаянными усилиями реформа¬
тора превратить безнравственный город в общину
Божью. Оппозиция этим усилиям втягивала Каль¬
вина в споры, которые годами держали его дело на
острие ножа. Речь идет не только о попытках знат¬
ных семей освободиться от обременительного над¬
зора консистории, но и всякого рода интригах
политического характера. Бургомистр Ами Пер-
рен, бывший вождь «гильермистов», а позднее душа
антикальвинистской оппозиции, и друг Кальвина
226
Становление
Лоренц Майгрет тайно, но независимо один от
другого вели с Францией переговоры о помощи в
случае возможного нападения императора. Когда
дело выплыло наружу, оба обвинили друг друга в
предательстве, а их соратники по партии пре¬
взошли самих себя во взаимных обвинениях. По¬
дозрительный Берн, который ради сохранения сво¬
его влияния пытался воспрепятствовать любым
связям между Женевой и Францией, бургомистру
доверял больше, чем Майгрет. Кальвин вступился
за своего друга, но в такой политической ситуации
французские эмигранты, естественно, пользовались
меньшим доверием, чем местные женевские семьи.
Теперь в Женеве сформировалась против
Кальвина настоящая оппозиционная партия, кото¬
рая под руководством бургомистра Перрена попол¬
нялась преимущественно из старых женевских
семей. Разумеется, здесь сыграли свою роль и
национальные тенденции, направленные против
французского чужака, который хотел переделать
город по-своему и даже не имел при этом граж¬
данских прав. Бургомистру Перрену, женатому на
представительнице семьи Фавров, и его ближай¬
шему соратнику по партии Филиберу Бертелье
постепенно удалось выставить Кальвина челове¬
ком, который, вопреки интересам города, делает
. общее дело с французскими эмигрантами. Самой
болезненной точкой по-прежнему оставался надзор
15*
227
Жан Кальвин
за нравами. Сюда же добавился пример бернской
церкви, побудивший светски^ власти к вмешатель¬
ству в дела общины. Как подобные вещи практи¬
ковались в Женеве, Кальвин описывает на одном
примере в письме Фарелю от 8 сентября 1548 года:
«Магистрат объявил брак (Лоренца Майгрета)
недействительным, несмотря на состоявшееся тор¬
жественное венчание, и присудил обеим сторонам
право на заключение другого брака. Предлогом
послужило весьма отдаленное родство супругов:
умершая жена Майгрета была двоюродной сестрой
матери девушки, о которой теперь идет речь. Я
поднял вопрос, по какому праву магистрат позволя¬
ет себе подобное, и выступил с суровой речью в ра¬
туше. Но этим я ничего не добился. Притом мне еще
сделали выговор, что в этом деле в пользу Майг¬
рета я выступаю слишком навязчиво. Но все это
пришлось проглотить вместе со многим другим».
Таким образам, положение Кальвина в Жене¬
ве в эти годы все более осложнялось. Старая
Женева пыталась противостоять бескомпромиссно¬
сти своего реформатора. Политические интриги и
открытые придирки магистрата противостояли
этическому ригоризму Кальвина и постепенно созда¬
ли такую атмосферу, что можно было опасаться кру¬
шения реформаторского дела. Знаменитые слу¬
чаи надзора за церковной дисциплиной, связан¬
ные с семьями Амо, Грюе, Перрена, Фавра, Септа,
228
Становление
Бертелье, потому вызвали крайнее недовольство, что
они подняли принципиальный вопрос об оправдан¬
ности социальных привилегий перед божественным
правом. Вокруг этого вопроса разгорались все бо¬
лее непримиримые споры. Либеральный теолог
Пауль Вернле метко сказал: «Конфликт вызвало то,
что Кальвин и вверх, и вниз, и своим лучшим дру¬
зьям выдвигал одинаковые требования и не мог
допустить во имя Бога существования двойного
права». Когда Перрен, ссылаясь на свое привиле¬
гированное политическое положение, отказался
явиться перед консисторией, Кальвин направил
бургомистру письмо, в котором изложил свое мне¬
ние: «Я не знаю, с чем связана Ваша неявка. Но я
хотел бы, чтобы Вы помнили, что мы не можем нуж¬
даться в разном весе и неправильных весах. Если
в светском праве придерживаются его равного при¬
менения ко всем, то в церкви Божьей невозможно
терпеть неравенство. Кто я, Вы знаете или по край¬
ней мере должны знать: человек, который настоль¬
ко близко к сердцу принимает право своего не¬
бесного владыки, что не позволит себя сбить со
строжайшего исполнения этого права ни одному
человеку. И как бы странно выглядело, если бы о
Вас говорили, что Вы, так сказать, освобождены от
общего права, которое относится ко всем».
Доверие между Кальвином и патрициански¬
ми семьями все более сокращалось. Мелкими
229
Жан Кальвин
нападками великому реформатору пытались отра¬
вить жизнь. Для публикации своих произведений
ему нужно было пройти сложный путь прошений
о разрешении на печатание, которое иногда тор¬
мозилось бюрократическим путем или вообще не
удовлетворялось. На улице его освистывали; дети
из определенных семей кричали ему вслед «Каин,
Каин», что было злобной пародией на его имя.
Но Кальвин не позволял больше себя запугать.
Упорно и решительно он выполнял свою обязан¬
ность построения общины. Он называл пороком
то, что было пороком. Он непоколебимо завершал
свое дело, даже если сам при этом погибал. 17 де¬
кабря 1547 года он писал своему другу Вире в
Лозанну: «В целом озлобленность зашла настоль¬
ко далеко, что я больше не надеюсь, что хоть ка¬
кое-то упорядоченное состояние церкви еще смо¬
жет сохраняться, особенно из-за моего служения.
Я сломленный человек, поверь мне, если Бог не
протянет мне руку». Время до 1553 года было
самым печальным и полным борбы в его жизни.
Французским беженцам, которые, естественно,
были приверженцами Кальвина, было запрещено
ношение оружия. Клика Бертелье ночью слоня¬
лась по улицам и перед домом Кальвина пела на
мелодии псалмов непотребные тексты. Дисципли¬
нарные меры консистории больше не приносили
плодов. Магистрат, где оппозиционная партия
230
Становление
Перрена все еще имела большинство, предостав¬
лял делу идти своим ходом или даже усугублял
его. В этой ситуации Кальвин однажды сказал:
«Если я скажу, что днем светло, они скажут, что
это не так».
И без того затруднительное положение рефор¬
матора осложнялось еще и спорами о вероучении.
Первое, сравнительно безобидное столкновение
Кальвину пришлось выдержать с Себастьяном
Кастеллио. Кастеллио также вышел из гуманисти¬
ческого реформаторского движения во Франции и
вынужден был бежать с родины из-за своих рефорт
маторских убеждений. В Страсбурге он был дру¬
гом и соседом Кальвина по дому и в 1541 году его
пригласили в Женеву в качестве ректора латинской
школы. Он был выдающимся гуманистом и пре¬
восходным педагогом, хотя не свободным от свар¬
ливости и тщеславия. В 1543 году он добивался
места священника. На этот счет у Кальвина име¬
лись определенные сомнения теологического ха¬
рактера, поскольку теология Кастеллио была
очень гуманистична и, кроме того, он открыто кри¬
тиковал канон Ветхого Завета. Кастеллио оскор¬
бился и отправился в Лозанну, имея, впрочем, ре¬
комендательное письмо Кальвина, в котором ре¬
форматор подтвердил, что Кастеллио добровольно
ушел в отставку с поста ректора гимназии: «В этой
своей деятельности он совершил столько хорошего,
231
Жан Кальвин
что мы считаем его достойным священного служения.
Если он не был принят, то причиной этого является
не какой-либо изъян в его жизни и не какое-либо
безбожное учение по одной из статей веры, а лишь
та причина, которую мы изложили». Однако когда
немного позже Кастеллио вновь появился в Жене¬
ве, он на одном библейском часе настолько потерял
самообладание, что перед всей общиной поносил
Кальвина бранными словами. Вмешался магистрат
и вынес Кастеллио приговор о запрете публичных
выступлений. Наказанный таким образом, он поки¬
нул город и переехал в Базель, где стал профессо¬
ром греческого. Впрочем, этим дело не кончилось, ибо
Кастеллио спровоцировал литературно-теологичес¬
кую дискуссию, в последующие годы переросшую в
дебаты по принципиальным вопросам.
Вторая дискуссия, в которую был вовлечен
Кальвин, касалась той же проблемы. На этот раз это
был бывший монах ордена кармелитов Иероним
Больсек, который в 1551 году начал открытые напад¬
ки на учение Кальвина о предопределении. Утверж¬
дая, что в общем разделяет мнение Кальвина, он
также использовал библейские часы для нелицепри¬
ятных выпадов. Больсек заявил, что все пасторы -
лжецы, и призвал общину не поддаваться обману
Кальвина. Поскольку на этот раз речь шла о кле¬
вете на реформатора, власти вмешались и взяли
Больсека под стражу. Последовал длительный
232
Становление
процесс, на котором обе стороны устно и письмен¬
но приводили свои обоснования, было выслушано
мнение дружественных швейцарских церквей, но в
то же время противники Кальвина получили желан¬
ную возможность и дальше подрывать его положе¬
ние. Хотя процесс и закончился высылкой Больсека
из Женевы, этот приговор не принес Кальвину по¬
беды. Бывший кармелит возвратился во Францию,
вновь вернулся в лоно римской церкви и в 1577 году
страшно отомстил Кальвину, выпустив его биогра¬
фию, где неслыханно исказил облик реформатора,
что столетиями оказывало существеннейшее влия¬
ние на исторические суждения о Кальвине.
Процесс с Больсеком еще более подорвал по¬
ложение Кальвина. Раздававшиеся по всему горо¬
ду высказывания в пользу бывшего кармелита
были ловко использованы противниками Кальви¬
на. На сей раз речь шла не о нежеланных мерах
консистории, вина за которые возлагалась на ре¬
форматора, не только о политических интригах и
националистической неприязни, направленных про¬
тив иностранца, но была опорочена безупречная до
тех пор репутация великого теолога. В этом по¬
чти безысходном положении еще одно событие
вызвало тяжелейший кризис подвижнического
дела Кальвина, событие, которое потомки назовут
самым мрачным пятном в жизни Кальвина: казнь
антитринитария Мигеля Сервета.
233
Жан Кальвин
Мало помогает довод, что терпимость в вопро¬
сах веры XVI веку не была известна,, и мало оправ¬
дывает Кальвина то, что даже Иероним Больсек
сказал о Сервете: «Он был дурным и недостоин
жить среди людей, и я желал, чтобы подобные ему
все без исключения были искоренены и церковь
была основательно очищена от подобных парази¬
тов». Сервет сам придерживался убеждения, что
еретиков следует казнить; впрочем, себя он ерети¬
ком не считал. Но то, что факел вновь познанной
истины евангелия смог зажечь этот, пусть даже
единственный, костер Реформации, остается пят¬
ном на реформаторском наследии.
События, сопровождавшие этот процесс, как бы
парадоксально это ни звучало, помогли повороту
настроений в Женеве в пользу Кальвина и тем
самым обеспечили конечную победу реформатору
и делу его жизни.
МИГЕЛЬ СЕРВЕТ
Случай Сервета - это больше уже не ис¬
тория. Он стал примером. К тому же
он настолько оброс мнениями, идеями,
искажениями, апологиями, программа¬
ми терпимости и т. п., что историку тяжело до¬
браться до сути. Если же ему это удастся, то он
234
Становление
обнаружит факты, которые не позволят говорить
об исключительном для XVI века случае. Казнь
какого-то не отрекшегося еретика согласно ста¬
тье 106 «Уголовного судопроизводства импера¬
тора Карла V» светским судом какого-то немец¬
кого имперского города не была для того време¬
ни чем-то особенным в сравнении с тысячами,
которые гибли на кострах в Италии, Франции, Ни¬
дерландах и Англии за свою веру такой же мучи¬
тельной смертью. Кто знает их имена? Кто знает
имена анабаптистов, которых Цвингли приказал
топить в Цюрихе и которых казнили лютеранские
власти в Саксонии и других местах? Имя Сервета
знает каждый. С чем это связано? Наверняка с тем
необъяснимым обстоятельством, что история нужда¬
ется в примере, чтобы осуществить идею. Имя Сер¬
вета неразрывно связано с идеей терпимости в
делах веры, которая впоследствии распространи¬
лась в Западной Европе как право свободы веро¬
исповедания. С этой точки зрения Сервет, пожерт¬
вовав своей жизнью, оказал потомкам неоценимую
услугу. Кроме того, незабываемым делает его имя
и то обстоятельство, что эту жертву ему пришлось
принести в Женеве, на глазах и с одобрения Каль¬
вина. Если бы ему не удалось бегство из тюрьмы
во Вьенне, он бы, скорее всего, стал одной из бес¬
численных и безымянных жертв инквизиции, о ко¬
торых вряд ли кто-нибудь теперь думает. Альбер
235
Жан Кальвин
Рийе сказал: «Последующий скандал, вызванный
этой казнью, является данью признания, которая
отдана духу Реформации. Он не мог лишиться
жизни в Женеве, не став при этом представителем
и мучеником некоего принципа». Разумеется, это
не оправдание того, что произошло в Женеве, а
лишь попытка объяснить, почему из безымянной
армии мучеников за веру в памяти потомков оста¬
лось именно имя Мигеля Сервета.
Сервет был испанского происхождения. Дата
его рождения неизвестна, поскольку данные проти¬
воречивы. Его отцу пришла бредовая идея кастри¬
ровать сына, что, без сомнения, стало причиной его
нерешительной натуры и преувеличенного чувства
собственного достоинства. Он был разносторонне
одарен. Наряду с теологией и астрологией занимался
медициной и впервые в Европе открыл систему кро¬
вообращения в легких. Его теологические работы
представляли собой в основном критику традици¬
онной догматики, особенно учения о троице. Буду¬
чи лейб-врачом епископа Вьенна во Франции, где
он внешне вел себя как хороший католик, Сервет
тайно писал книгу, которая была не чем иным, как
клеветой на католическое и реформаторское веро¬
учение. Триединство Бога он именовал чудищем о
трех головах, крещение детей - «проклятой мерзо¬
стью»; дальнейшая полемика касалась церковно¬
го учения о первородном грехе, реформаторского
236
Мигель Сереет,
Жан Кальвин
учения об оправдании и других основополагающих
свидетельств католической и реформаторской церк¬
вей. Кроме того, в качестве приложения он до¬
бавил к своему полемическому сочинению еще
тридцать писем, которые направлял Кальвину и
в которых содержалась резкая критика его уче¬
ния. Все это было отпечатано анонимно и появи¬
лось в 1553 году под характерным заголовком
«Restitutio Christianismi», что, несомненно, долж¬
но было быть сознательным противопоставлени¬
ем «Наставлению» Кальвина. Поскольку Сервет
пометил свое произведение в конце инициалами
М.С.В., его авторство было легко определено.
В это время в Женеве пребывал некий фран¬
цузский беженец по имени Вильгельм де Трие, зять
знаменитого гуманиста Вуде, которого его род¬
ственники из Лиона упрекали в реформаторских
взглядах, заявляя, что в Женеве больше нет рели¬
гии. Обозленный де Трие написал в ответ, что в
Женеве религия предстает совершенно по-новому,
а именно во Франции свидетели евангелизма
сжигаются на кострах, в то время как злейшие
еретики пользуются защитой, как тот Сервет, ко¬
торый под псевдонимом даже втерся в доверие
к епископу. Этим он предал испанца. Де Трие
решительно отпирался; при домашнем обыске
тоже не было обнаружено значительного отягоща¬
ющего материала. Тогда инквизиция попыталась
238
Становление
получить от де Трие более существенные доказа¬
тельства. Последний обратился к Кальвину, чтобы
получить от него письма, направленные Серветом
реформатору. Вначале Кальвин отказался, заявив,
что «это скорее его обязанность опровергать ере¬
си учением, а не подобными средствами», но де
Трие, как сообщает он сам, не сдавался: «Я нажи¬
мал на него и убедил его тем доводом, что меня
будут упрекать в легкомыслии, если он мне не
поможет, так что он в конце концов сдался». Даже
если этот материал, как неоднократно утвержда¬
лось, не представлял собой тайных документов, а
лишь письма, которые сам Сервет уже опубликовал
в своей книге, то Кальвин поступил все же вопре¬
ки своей совести, передав судье доказательства.
Этот промах реформатора нельзя извинить
даже тем, что яростные нападки Сервета годами
раздражали его, и в этом деле он должен был
прежде всего отвести лионские нападки от де
Трие и женевской церкви. Он не обязан был пе¬
редавать де Трие письма Сервета, поскольку
зналь, что они уличают Сервета. Сам Сервет из¬
бежал верного приговора к сожжению благодаря
бегству. В странном и непонятном помрачении
беглец направился именно в Женеву. Его после¬
дующее поведение во время процесса позволяет
предположить, что, возможно, он воображал, что
сможет свергнуть Кальвина и занять его место и
239
Жан Кальвин
что именно поэтому он и прибыл в Женеву. Он
знал, что положение Кальвина в это время было
крайне непрочным. Уже невозможно выяснить, в
какой степени Сервет соблюдал конспирацию. Не
известно также, пытался ли он трезво прозондиро¬
вать силы антикальвинистской оппозиции или его
преувеличенная потребность в самоутверждении
внушила ему уверенность в победе над Кальвином.
Во всяком случае, еще 22 сентября 1553 года он
писал в магистрат из тюрьмы: «Как колдун, ко¬
торым и является, он (Кальвин) должен быть не
только осужден, но истреблен и изгнан из Ваше¬
го города. А его имущество надо присудить мне
как замену моему, которое я потерял по его
вине».
13 августа в церкви Магдалины, где он присут¬
ствовал на проповеди Кальвина, его опознали и по¬
зднее схватили. На последовавшем процессе Сер¬
вет ничего не отрицал, в отличие от своего прежнего
поведения во Франции. Вместо этого взял над¬
менный тон и нашел поддержу у Филиппа Берте-
лье и некоторых других. Кальвину поручили со¬
ставить теологические пункты обвинения, но затем
его больше не привлекали к участию в процессе,
вплоть до устных дискуссий, которые проходили
перед судом. Прокурором был генеральный проку¬
ратор Риго - резкий противник Кальвина и член
оппозиционной партии. Он предъявил обвиняемому
240
Становление
тридцать пунктов дознания, в том числе и неспра-
ведливые обвинения в еврейском происхождении,
безнравственном образе жизни и совращении мо¬
лодежи. Совет не остановился перед тем, чтобы
запросить во Вьенне материал обвинения. Одна¬
ко римская инквизиция отклонила этот запрос и,
со своей стороны, потребовала выдачи еретика.
Когда Сервет услышал об этом, он со слезами про¬
сил, чтобы его оставили в Женеве. Теперь он воз¬
лагал достаточно большие надежды на Бертелье,
внимание которого, впрочем, переоценивал. Его
следующей, на этот раз теологической, ошибкой
было то, что он поддержал предложение о заклю¬
чении других церквей по его учению. Все швейцар¬
ские церкви участвовали в разбирательстве и еди¬
нодушно потребовали осуждения еретика, причем
бернская - смерти на костре. То, что на этот раз,
в отличие от процесса Больсека, заключение дру¬
гих церквей было единодушным, в известной сте¬
пени предопределило женевский приговор. Соглас¬
но действовавшему в Женеве имперскому праву
Мигель Сервет 26 октября 1553 года был приго¬
ворен Малым магистратом к смерти через сожже¬
ние. Кстати, показательным для этого приговора
были не только догматические взгляды Сервета
как таковые, но и его утверждение, что до двад¬
цати лет человек не может грешить, из чего
магистрат сделал вывод о разлагающем и опасном
163шс275
241
Жан Кальвин
влиянии на молодежь. Кальвин, как и другие церк¬
ви, одобрил приговор, но всем своим личным автори¬
тетом пытался добиться в совете более мягкого вида
казни - обезглавливания. Но это ему не удалось.
27 октября Сервет умер на костре смертью
особо мучительной из-за несчастного стечения об¬
стоятельств. На том месте, где он был сожжен, сто¬
ит сегодня памятник с надписью: «Мы, почти¬
тельные и благодарные сыновья Кальвина, нашего
великого реформатора, осуждая заблуждение, кото¬
рое было заблуждением его века, и строго придер¬
живаясь свободы совести в соответствии с истинны¬
ми принципами Реформации и евангелизма, воздвиг¬
ли этот покаянный памятник 27 октября 1903 года».
Приговор поддержали не только швейцарские,
но и немецкие церкви. Филипп Меланхтон писал
Кальвину: «Я благодарю Сына Божьего, который
решил в этой Твоей борьбе. Церковь должна также
благодарить Тебя и будет Тебе благодарна во веки
вечные. Я говорю также, что ваше начальство посту¬
пило правильно, приказав убить этого грешника со¬
гласно надлежащему приговору». Уже до сожжения
Сервета католическая инквизиция во Франции пре¬
дала огню портрет Сервета и его книги.
Однако нашелся мститель за Сервета, и это
был Себастьян Кастеллио. Он счел момент подхо¬
дящим, чтобы дать волю своей давно затаенной
вражде к Кальвину. Под псевдонимом Мартин
242
Становление
Беллиус, он издал в Базеле в 1554 году сочинение
о насильственном преследовании еретиков. При
этом речь идет лишь о подборе разрозненных ци¬
тат, в том числе и из Кальвина, которые направле¬
ны против применения силы в вопросах религиоз¬
ных разногласий. Какие бы недостатки ни имела эта
компиляция, историк должен признать, что Кастел-
лио с этой книгой стал одним из первых борцов за
терпимость в вопросах веры. Несомненно, этой иде¬
ей он опередил свое время. Даже внутри каль¬
винизма нидерландские арминианцы заимствовали
у Кастеллио аргументы, разбивавшие теократиче¬
ский идеал и дававшие права свободе веры. В этом
историческом развитии, которое исходит не только
от Кастеллио, но и от самого Кальвина, можно ус¬
мотреть позднее искупление жертвы Сервета.
Когда в начале процесса казалось, что он разви¬
вается в пользу Сервета, что означало бы окончатель¬
ную победу антикальвинистской оппозиции, Кальвин
носился с мыслью покинуть Женеву. Его друг Бул-
лингер в Цюрихе употребил все свое влияние, что¬
бы рассеять подобные настроения Кальвина. Но
процесс прежде всего сопровождался тремя событи¬
ями, которые означали поворот в пользу Кальвина.
Первым было уже упомянутое дело с причас¬
тием Филиппа Бертелье, которое произошло 3 сен¬
тября, т. е. в кульминационный момент процесса.
В то время как политическое влияние Кальвина к
16*
243
Жан Кальвин
этому моменту достигло низшей точки, ему удалось
утвердить свою церковь перед светскими властя-
ми. Закрепление права отлучения за общиной, а не
за магистратом значительно повысило авторитет
Кальвина в Женеве. Год спустя, 24 января 1555 года,
независимость консистории была торжественно
признана государством.
Вторым событием явилась часть самого процес¬
са. Когда в Женеве стало известно, что Перрен, Бер-
телье и некоторые их сторонники поддались попыт¬
кам Сервета втереться к ним в доверие и делали с
еретиком общее дело, масса народа, в том числе и
большая часть антикальвинистской оппозиционной
партии, отпала от своих вождей. Народ инстинктивно
подозревал, что эти тайные действия имели своей
целью замену Кальвина Серветом, и это вызвало
неожиданный рост симпатий к Кальвину. Антикаль-
винистская группа смогла еще какое-то время удер¬
жаться в правительстве и попыталась в 1555 году с
помощью путча, или даже городской революции, или
по крайней мере с помощью демонстрации (что было
запланировано, нельзя уже однозначно уяснить из
протоколов) вновь завоевать утраченные позиции.
Заговор рухнул и одновременно стал лебединой
песней антикальвинистской оппозиции. Перрену и
Бертелье удалось бежать, другие зачинщики были аре¬
стованы и четверо из них приговорены магистратом к
смерти. Так же, как и уничтожение артикулянтов в
244
Становление
1540 году, приговор был политической демонст¬
рацией прежде всего против Берна. Трагедией, но,
как оказалось позднее, и преимуществом кальвини¬
стской Реформации было то, что она со своим от¬
крытым миру характером была обязана участвовать
в политическом формировании жизни, но именно
поэтому иногда не могла избежать кровавой партий¬
ной возни. На выборах в магистрат в 1555 году
кальвинистская партия впервые завоевала большин¬
ство в парламенте. После двадцати лет борьбы и
лишь за девять лет до смерти Кальвин получил
возможность, по крайней мере в Женеве, рассчиты¬
вать на защиту своего дела государством.
Третье событие, существенно повлиявшее на из¬
менение соотношения голосов в Женеве, произо¬
шло незадолго до процесса Сервета: сожжение пяти
молодых теологов-реформаторов в Лионе 16 мая
1553 года. Они получили образование в Лозанне и
Женеве и должны были отправлять службу на юге
Франции. Еще до того как достичь места назначе¬
ния, они были выданы, брошены в тюрьму и приго¬
ворены к смерти. Уже взметнулись языки пламени,
когда они запели девятый псалом и погибли мучи¬
тельной смертью с благодарственной молитвой на
устах. Этот пример, пусть даже один из длинного
ряда, произвел в Женеве глубокое впечатление.
Жертвы сами по себе вызывали вопрос об их смыс¬
ле, оплаченном столь высокой ценой. На этот
245
Жан Кальвин
вопрос мог ответить только Кальвин, которому в эти
годы выпала на долю историческая задача - сдержать
контрреформацию на Западе Европы. Он, однако, мог
ответить на него лишь исповеданием познанной исти¬
ны евангелия. Но если это евангелие настолько истин¬
но, что стоит умереть за него, то его нужно исповедо¬
вать не только там, на кострах во Франции, но преж¬
де всего у себя дома. Если бы здесь, в Женеве,
увенчалось успехом решительное наступление на
евангелие, то все жертвы там теряли бы свой смысл.
А ведь женевцы находились не так далеко от опасно¬
сти. Граница преследований заключала город в коль¬
цо, а в евангелическую область можно было попасть
только водным путем. Не в последнюю очередь из-за
этого полного крови и слез фона процесс Сервета при¬
обрел печальный, но четкий профиль. Это не оправды¬
вает Кальвина. Несомненно, он хотел смерти еретика.
Но так же несомненно и то, что процесс и его исход
были обусловлены исторической необходимостью.
СТАНОВЛЕНИЕ ЦЕРКВИ
£ Я я оследнее десятилетие жизни рефор¬
ме'# я матоРа характеризуется мощным
Я расцветом его дела. Политическая
4ситуация в Женеве резко изменилась.
В 1555 году, когда кальвинистски настроенная
24G
Становление
партия впервые получила большинство в женев¬
ском магистрате, Реформация Кальвина получила
также защиту светских властей. Консистории была
предоставлена известная самостоятельность. С
1560 года члены Большого магистрата также мог¬
ли избираться пресвитерами. Год спустя списки
кандидатов представлялись также на обсуждение
священникам, и членам общины стали, по крайней
мере заранее, известны их имена. Эта новая прак¬
тика была еще, впрочем, весьма далека от пресви¬
терианского церковного устава, который Кальвин
изложил в последней книге своего «Наставления».
До его осуществления он не дожил.
Однако пресвитеры теперь могли выполнять
свою работу относительно самостоятельно. Нрав¬
ственный уровень города значительно возрос.
Было облегчено вступление в брак; завзятых лен¬
тяев заставили работать; цены контролировались,
а обман и ростовщичество карались законом; ули¬
цы должны были содержаться в чистоте; в полити¬
ке прекратилось коррумпированное хозяйничанье
старых патрицианских семей; была ограничена
чрезмерная роскошь; в хозяйствах, в которых не
было дымовой трубы, не имели права разводить
огонь из-за угрозы пожара; на окнах и балконах
многоэтажных домов, по рекомендации Кальвина,
устанавливались перила и ограждения для безо¬
пасности играющих детей; наряду с врачами
247
Жан Кальвин
Кальвин разрешил практиковать также одному
«зубодеру»; публичная проституция была ликви¬
дирована. Проводились и другие общественные
реформы.
Хотя Кальвин мог теперь заняться устрой¬
ством церкви с большей свободой, ему все еще пред¬
стояло немало боев и споров. Как и прежде, для
публикации своих произведений он был вынужден
обращаться в отдел цензуры магистрата. Новая
редакция церковного устава 1561 года, хотя и учи¬
тывала некоторые пожелания пасторов, но не
уменьшила господствующего положения государ¬
ства в церковных делах. Нельзя было избежать и
конфликтов по вопросам учения. Особенно в об¬
щине итальянских беженцев, где зародилась тео¬
логическая ячейка, подхватившая и развивавшая
дальше антитринитаристскую мысль Сервета.
Против ведущих антитринитариев Валентино
Жентиле, Маттео Грибальди и Георга Бландрата
был возбужден процесс, который закончился их
высылкой из страны. Изгнанники направились
в Польшу. Когда Жентиле позднее возвратился
в Швейцарию, его постигла судьба Сервета: в
1566 году из-за своих антитринитаристских взгля¬
дов он был казнен Бернским магистратом.
В 1558-1559 годах в Лозанне велась трудная
борьба между священниками-кальвинистами и
властями Берна за право церковной общины на
248
Становление
отпущение грехов и отлучение, которое оспарива-
лось Берном. Спор закончился изгнанием более
сорока священников из Ваадланда. Большинство
смещенных пасторов направились в Женеву, что
для города на Роне стало значительным теологи¬
ческим пополнением. Это пополнение позволило
Кальвину осуществить давно вынашиваемый план:
основание Академии.
Система образования в Женеве все еще нуж¬
далась в реформах. Неблагоприятное стечение
обстоятельств постоянно и до сих пор мешало
коренному перевороту. Прежде всего не хватало
достойных преподавателей. Теологической подго¬
товкой для франкоговорящего пространства Ре¬
формации все еще занималась Лозаннская акаде¬
мия, основанная Бернским магистратом в 1537 году
и снискавшая за двадцать лет большую славу.
Бывший учитель Кальвина Матюрен Кордье, его
позднейший последователь Теодор фон Беза, его
близкий друг Пьер Вире и другие ученые состав¬
ляли законную гордость этого учебного заведения.
Тем, что Берн избавился от своих лучших теологов,
он невольно создал предпосылки для роста автори¬
тета Женевы, ибо изгнанные оттуда профессора
стали первым выдающимся профессорско-препода¬
вательским составом новой Женевской академии.
В своем церковном уставе Кальвин с самого
начала предусмотрел должности докторов, и уже
249
Жан Кальвин
с 1541 года требовал, чтобы проводились публич¬
ные лекции. «Однако поскольку из подобных
лекций может извлечь пользу лишь тот, кто до
этого изучил языки и получил общее образование,
то нужно заботиться о подрастающем поколении
будущего, следует учредить гимназию, где учени¬
ки путем обучения будут готовиться как к церков¬
ным, так и к светским должностям». Но лишь с
1555 года Кальвин смог рассчитывать на помощь
светских властей, необходимую для построения
обширной системы образования.
Женевская академия стала своего рода вен¬
цом дела кальвинистской Реформации. Однако и
она не была оригинальной идеей Кальвина. Его
побудили к этому его парижский учитель Матю-
рен Кордье и пример Страсбурга, где он сам был
учителем. В 1556 году он еще раз побывал там,
чтобы ознакомиться со страсбургскими учебными
заведениями и основательно посоветоваться с
Иоганном Штурмом. Затем он принялся за дело.
Ему удалось увлечь этим делом и магистрат, и
население Женевы. Сбор пожертвований, к кото¬
рому он призвал, во всех слоях народа составил
неожиданно такую сумму, которая покрыла сто¬
имость постройки.
По плану Кальвина, Академия должна была
быть поделена на две ступени. Низшая «Schola
privata» была сочетанием того, что мы сегодня
250
Становление
именуем народной и высшей школой. Здесь изуча¬
ли сначала чтение и письмо, затем французский,
греческий, латынь и основы философии, наконец,
древнееврейский и «artes», то есть прежде всего
философию и литературу. Этот школьный курс
длился семь лет. Тот, кто завершал его успешно, мог
быть переведен на вторую ступень, в «Schola
publica». В старших классах проводились академи¬
ческие лекции и занятия. Здесь в центре внимания
находилась теология, прежде всего толкование Вет¬
хого и Нового Завета. Ведь основной целью Ака¬
демии являлась подготовка церковной смены.
5 июня 1559 года Академия была торжествен¬
но открыта в присутствии бургомистра, магистра¬
та и первых студентов в переполненной церкви
св. Петра. Кальвин произнес вступительное сло¬
во. Хотя он был подлинным создателем этого
учебного заведения, которое и сегодня находится
в полном расцвете и называется Женевским уни¬
верситетом, во главе его он не стал. Руководство
принял на себя Теодор фон Беза, под чьим
осмотрительным началом и по чьей инициативе
оно было расширено в последующие десятилетия
благодаря созданию медицинского, юридического
и филологического отделений и превратилось в
настоящий университет.
Значение и влияние этого высшего учебного
заведения нельзя недооценивать. Изначально ему
251
Жан Кальвин
был присущ интернациональный характер, по¬
скольку студенты прибывали из всех стран. Через
несколько лет после открытия их число уже со¬
ставляло около 1 500 и после смерти Кальвина еще
увеличилось. Здесь в строгой духовной дисципли¬
не воспитывалась элита кальвинизма, которая не¬
сла идеи реформатора в мир и осуществляла их.
Среди женевских студентов можно назвать вели¬
кие имена. Еще до открытия этого учебного заве¬
дения у кафедры Кальвина сидел Ги де Брез, каз¬
ненный в 1567 году реформатор Бельгии. Ему
нидерландская церковь обязана своим исповедани¬
ем веры, Confessio Belgica. Каспар Олевиан посе¬
щал Академию и, вооруженный ее идеями, создал
знаменитый церковный устав Курпфальца, с помо¬
щью которого он при курфюрсте Фридрихе III
Пфальцском создал первую в германском государ¬
стве реформированную земельную церковь. Здесь
получил образование также Филипп Марникс из
Сен-Альдегонда, духовный лидер нидерландского
движения за независимость и секретарь Вильгель¬
ма I Оранского. Здесь учились Флорент Хресть-
ен, воспитатель короля Генриха IV, и Томас Бод-
ли, будущий основатель знаменитого, названного
его именем Badleian Library в Оксфорде. Одним
из наиболее усердных и деятельных учеников
Кальвина был Джон Кнокс, который, вопреки
Марии Стюарт, провел в Шотландии Реформацию,
252
Становление
написал Confessio Scotica и организовал шотланд¬
скую церковь по образу и подобию женевской.
Кроме того, следует назвать также вождей фран¬
цузского протестантизма, которым выпала самая
тяжелая судьба. Кальвин писал французской об¬
щине: «Посылайте нам дерево, и мы сделаем из
него копья, которые пошлем Вам обратно».
Так французская реформированная церковь
обеспечивалась с помощью Женевской академии
превосходно подготовленными священниками. Тем
самым в своей нелегкой борьбе за существование
она получила возможность реформирования и со¬
здания четкого порядка. Хотя «Chambre ardente»
и инквизиция неутомимо продолжали преследова¬
ния, эта церковь, несмотря на свое нелегальное
положение, завоевывала все большее пространство,
так как из Женевы постоянно пополнялась новыми
священниками. Она все больше и больше прибли¬
жалась к стабильному порядку, который, по край¬
ней мере до отмены Нантского эдикта Людовиком
XIV, обеспечивал ее церковную и духовную непре¬
рывность и который отличался от женевского об¬
разца тем, что был свободен от притязаний и вли¬
яния государства.
Значительной частью своей славы в первые
годы Академия была обязана самому реформато¬
ру. Она была единым целым в своей строгой,
современной и совершенной структуре. Особо
253
Жан Кальвин
привлекала она тем, что Кальвин сам преподавал в
старшем классе «Schola publica». Уже в 1562 году
его лекции из-за растущего количества слушателей
пришлось перенести в церковь Марии. В этой церк¬
ви, именовавшейся с тех пор «L’Auditoire», Каль¬
вин достиг блистательной вершины своей академи¬
ческой деятельности. Необычайная мощь его с
юности тренированной и никогда не отказывавшей
памяти позволяла реформатору свободно читать
лекции без письменной подготовки. Тем, что до нас
дошел тем не менее полный свод его теологиче¬
ской учебной деятельности в виде комментария к
Священному писанию, мы обязаны прежде всего
многолетнему личному секретарю Кальвина Кло¬
ду де Жонвийе, который, с помощью целой команды
набивших руку стенографов, сохранил тексты про¬
читанных реформатором устных лекций. Нам хо¬
рошо известно о характере работы этих писцов
из предисловия к Кальвинову комментарию к
Двенадцати Малым пророкам: «У каждого из
них наготове бумага, нарезанная и сложенная как
можно более удобно, и каждый пишет так быстро,
как только может. Если кто-то упускает слово, что
может случиться, особенно когда Кальвин входит
в раж в тех местах, которые его особенно зани¬
мают, другой схватывает его. Как только лекция
закончена, уже упомянутый Жонвийе собирает
листки у всех вместе со своими. Он быстро
254
Становление
просматривает и сразу же сравнивает их. Затем
дает их переписать начисто как можно скорее.
Потом все еще раз исправляет, чтобы на следу¬
ющий день прочитать самому автору. Если чего-то
не хватает, Кальвин без труда это дополнит. Или
если что-то покажется ему недостаточно ясно из¬
ложенным, он исправляет это. Таким образом лек¬
ции были опубликованы...»
Выросшее из этих лекций экзегетическое тво¬
рение Кальвина составляет сегодня более тридцати
томов фолио Corpus Reformatorum, причем сюда не
входят подготовленные самим Кальвином издания
на французском языке. Кальвин научно про¬
комментировал все Священное писание вплоть до
Откровения Иоанна Богослова в Новом Завете и
небольшой части Ветхого Завета. В своем толко¬
вании он полностью отошел от средневекового схо¬
ластического метода. Используя методы познания,
разработанные гуманизмом, он пытался понять
текст в его историческом соотношении и проком¬
ментировать его в соответствии со своими теоло¬
гическими взглядами. Потому его толкование Биб¬
лии иногда приобретает поразительно современные
черты. Экзегетические произведения Кальвина с
их глубокими выводами и сегодня незаменимы для
теолога и проповедника.
Это гигантское духовное свершение, как и вся
Реформация, основывалось на непоколебимой вере
255
Жан Кальвин
в то, что в Священном Писании можно найти и
восприять слово Божье. Реформация хотела, что¬
бы ее мерилом было исключительно слово Божье.
Кальвин тоже находил в нем критерии своего
познания и масштаб для построения церкви.
Правда, тем местом, от которого проистекало вели¬
кое движение Реформации и где оно постоянно
черпало новые силы как в источнике своей жизни,
была кафедра не академическая, а церковная. Ибо
с этой кафедры слово Божье не объяснялось, а воз¬
вещалось и притязало на то, чтобы быть обращен¬
ной ко всем обязательной истиной. В вещественной
непрерывности с библейским свидетельством про¬
роков и апостолов для Кальвина заключается сло¬
во проповедника и тем самым - спасающее людей
деяние. Проповедь евангелия дарует спасение тому,
кто его слышит и верит ему. Она означает проще¬
ние грехов, она - обетование жизни, открывающей
будущее, и она способна изменить обстоятельства
в этом мире. В эту силу слова Кальвин не только
верил, но и ощутил ее в расцвете того дела, к ко¬
торому он был призван.
Хотя вначале Кальвин был принят на служ¬
бу в Женеве лишь как преподаватель теологии,
очень скоро, ориентировочно с 1536 года, он начал
проповедовать. Его назначение проповедником в
церкви св. Петра в Женеве могло произойти, оче¬
видно, еще в декабре 1536 года. До последних
256
Становление
своих дней Кальвин с этой кафедры посредством
проповеди и причастия реформировал и строил
доверенную ему церковь. Обычно Кальвин про¬
поведовал дважды в воскресенье. Кроме того, в
обычные дни он читал по одной проповеди, впро¬
чем, через неделю. Заутреня летом начиналась в
б утра, зимой - на час позже. Воскресная обедня
проводилась в 15 часов. По тогдашним меркам
Кальвин проповедовал не слишком долго. Если его
коллега Генрих Буллингер на кафедре Цвингли в
Цюрихе иногда проповедовал более двух часов, то
проповеди Кальвина не превышали 45 минут.
Несмотря на сравнительную краткость своей
проповеди, Кальвин говорит не быстро, а, как со¬
общают его слушатели, медленно, вдумчиво, делая
паузы. Это позволяло опытным стенографистам
письменно фиксировать его слова. В 1549 году
французские беженцы в Женеве на собственные
средства наняли официального стенографиста
проповедей, чтобы сделать проповеди Кальвина до¬
ступными и французским общинам. Этот человек,
Дени Рагено, до самой своей смерти в 1560 году
стенографировал почти все проповеди Кальвина.
Другие, частью не известные нам слушатели, про¬
должили затем эту работу. Таким образом до нас
дошло более тысячи проповедей реформатора, в то
время как большая часть записей пропала лишь в
XIX веке.
173ак.275
257
Жан Кальвин
Как нам известно, Кальвин не готовился пись¬
менно к своим проповедям. Обычно он использо¬
вал час после ужина для размышления над тек¬
стом, избранным для проповеди на следующий
день, чтобы затем на богослужении говорить
свободно, как он это делал, впрочем, и на лекциях.
Однако, по собственному признанию, из-за неотлож¬
ных дел он часто не мог выкроить время для раз¬
мышлений или же откладывал их до глубокой но¬
чи. «Тем не менее проповеди Кальвина представ¬
ляют собой настолько глубоко продуманное и
убедительное истолкование слова Божьего, которое
к тому же выдержано в сознательно простой, понят¬
ной даже необразованному человеку манере, что и
сегодня они являются далеко еще не исчерпанным
источником христианского познания» (Г. Глёде).
Насколько Кальвин был убежден, что сила
Божьего слова не может быть поставлена под со¬
мнение, что его возвещение будит веру и требует
повиновения, настолько же он осознавал, что лич¬
ность проповедника не играет здесь решающей
роли. Проповедь была для него делом не одно¬
го человека, а всей общины. Поэтому Кальвин
создал в Женеве учреждение, где священники,
преподаватели и дьяконы с участием общины, в
совместном обсуждении, совещании и критике
прорабатывали тексты Священного Писания.
«Venerable compagnie des Pasteurs» заседала
258
Становление
регулярно по пятницам в виде «конгрегации».
Здесь совместно прорабатывались библейские тек¬
сты, высказывалась взаимная критика, устранялись
ошибки и различия; целью этого было формиро¬
вание общей воли для реформирования церкви.
Здесь обсуждались также насущные вопросы дня,
как, например, универсальное стремление еванге¬
лизма, исходя из кальвинистской Реформации, впи¬
саться в общественный контекст и постоянно его
учитывать. Не только после 1555 года, но и во
времена тяжелых разногласий с магистратом ре¬
форматор не боялся выносить политику на ка¬
федру. По случаю женевских выборов и отстав¬
ки городского казначея из-за дефицита бюджета
магистрата в десять тысяч талеров, Кальвин пи¬
шет 12 фе'враля 1545 года своему другу Вире:
«Мне, как обычно, приходится бороться против
крадущегося во тьме лицемерия... Уже почти в
десяти проповедях я обращался к обстоятельствам
нашей внутригородской политики».
Однако Кальвина волновала не только «внут¬
ригородская политика», но и судьбы других наро¬
дов, особенно возможности реформации в других
странах, организация евангелических церквей и их
взаимоотношения друг с другом. Он был ре¬
форматором не только Женевы, но и благодаря
притягательной силе своего учения реформатором
большой части Европы. Его сочинения быстро
17*
259
Жан Кальвин
распространялись посредством перепечаток и пе-
реводов почти во всех странах Европы. Его уче¬
ники, студенты Академии, отправлялись в Швейца¬
рию, Францию, Германию, Нидерланды, Англию и
Шотландию, Польшу и Венгрию, чтобы там вопло¬
щать в жизнь почерпнутые в женевских церквах
и аудиториях познания по организации церкви.
Обширная переписка Кальвина также способство¬
вала тому, что он стал фигурой международного
масштаба, особенно в конце своей жизни. Сохра¬
нившиеся до нашего времени письма в 13 томах
Corpus Reformatorum представляют собой лишь
малую часть корреспонденции, однако дают глубо¬
кое представление о закулисной стороне полити¬
ческих хитросплетений и об интригах его време¬
ни, свидетельствуют также о ясности и взвешеннос¬
ти суждений великого реформатора, о его любви к
друзьям, о сочувствии к преследуемым, об умении
дать мудрый совет в трудных ситуациях и, как ника¬
кие другие документы, о глубокой человечности.
Кальвин переписывался с великими мира сего:
английским королем Эдуардом VI, Сигизмундом
из Польши и Христианом из Дании, с такими
учеными, как Филипп Меланхтон, с такими
реформаторами, как Лютер, с такими вождями
церкви, как Буллингер, с вождями французско¬
го протестантизма адмиралом де Колиньи и
принцем Конде и с многими другими более и
260
Становление
менее высокопоставленными людьми. Нам извест¬
ны в общей сложности более 300 корреспондентов
женевского реформатора.
Переписка превосходно показывает главные
мировые черты в стараниях Кальвина по форми¬
рованию церкви. В отличие от лютеровской и
цвинглианской Реформации, которая продолжала
существовать, по крайней мере в Центральной Ев¬
ропе, в виде замкнутых земельных церквей и мог¬
ла делегировать свою внешнюю организацию чрез¬
вычайному праву светских властей, кальвинистские
церкви с самого начала представляли собой не
национальные или земельные церкви, а почти
исключительно общины диаспоры или беженцев.
Будучи преследуемыми, общины были вынуждены
сами определять свой устав, что, впрочем, полно¬
стью отвечало теологическим убеждениям Кальви¬
на. Поэтому такие исторические или моральные
ценности, как нация или родина, могли, в лучшем
случае, лишь во вторую очередь быть принципами
или образцами их церковной структуры. В своем
послании евангелистам во Франции от 18 августа
1561 года Кальвин не допускал и сомнения в том,
что любовь к родине должна быть подчинена по¬
корности Богу.
Формирование церкви означало для Кальви¬
на также демонстрацию ее единства. Никто из
реформаторов не страдал так, как он, от раскола
261
Жан Кальвин
христианского мира и никто не приложил столько
усилий для преодоления этого раскола. «Растер¬
занное, с разбросанными членами лежит на зем¬
ле тело церкви. Что касается меня, то я охотно пе¬
ресек бы десять морей, чтобы помочь этому бед¬
ствию», - пишет он в конце апреля 1552 года
архиепископу Кентерберийскому. Обстоятельство,
что для него становление евангелизма в единую
церковь стало реформаторской задачей, обуслов¬
лено тем, что, в отличие от Цвингли и Лютера, он
успел пережить усиление воинствующего католи¬
цизма, на Тридентском соборе, в ордене иезуитов
и в контрреформации.
Существует лишь одна-единственная, недели¬
мая церковь. Кальвин использует для нее само¬
название раннего христианства - «католическая».
Под «католической» он имеет в виду то, что мы
сегодня именуем «вселенская, мировая», - но не в
смысле, что единство церкви является желанной
целью, результатом вселенских усилий или ожида¬
емым исполнением божественного обещания. Един¬
ство церкви уже дано, оно предопределено Богом.
Тем самым церковь является «католической», а не
должна лишь стать ею. Такое заимствованное из
Нового Завета понимание предполагает, что все
верующие в Христа - в том числе и в различных
конфессиях - образуют единое тело Господа. Это
предопределенное единство нужно обнаруживать как
262
Становление
можно шире, ибо Бог «не хочет, чтобы мы просто
сидели как праздные зрители его чудесной силы»
(письмо польскому королю от 23 мая 1549 года).
В силу этого теологического убеждения, Каль¬
вин предпринимал величайшие усилия, чтобы до¬
вести до евангелических христиан во всей Европе
их глубочайшую связь. Он постоянно указывал на
необходимость церковного единства немецким
лютеранам на различных религиозных дискусси¬
ях, в которых принимал участие в страсбургские
годы. В сентябре 1556 года он поехал во Франк-
фурт-на-Майне, где рядом с лютеранским город¬
ским населением влачил тяжелую долю изгнанни¬
ков общины французских, голландских и англий¬
ских беженцев, чтобы выяснить возможности такого
мирового соседства в этом городе. Не менее пяти
раз он побывал в Цюрихе и других швейцарских
городах, чтобы помочь единству швейцарских церк¬
вей личным участием.
Наряду с поездками интенсивная переписка
была важнейшим средством мировой коммуника¬
ции. Таким образом в поле зрения Кальвина ока¬
зывались церковные и политических события, ко¬
торые его живо интересовали. В мае 1559 года он
узнал об особо близких его сердцу общинах, что
они хотят объединиться на первом национальном
синоде под своим собственным исповеданием
веры. Он предостерегает от поспешных решений,
263
Жан Кальвин
однако прилагает к своему письму наскоро набро¬
санный меморандум из 35 статей исповедания, ко¬
торые составил предположительно с помощью сво¬
их друзей. Этот проект принимается парижским
синодом с небольшими изменениями и дополнени¬
ями - знаменитое «Confession de Foi», в последу¬
ющий период теологический оплот гугенотской
церкви и одно из известнейших реформистских
сочинений об исповедании веры, выдержавшее
более сотни печатных изданий в первые тридцать
лет. Так из приложения к письму возникло про¬
изведение исторического масштаба.
Вначале Кальвин не исключал воссоединения
реформаторских церквей с Римом, однако после
участия в религиозных дебатах его взгляды по
этому пункту становились все более скептически¬
ми. Он подчеркивал общность крещения как та¬
инства, объединяющего обе конфессии, но ради ис¬
тины своего теологического познания выдвигал
требование, чтобы папа подчинялся Священному
Писанию. В этом месте он проводил границу ми¬
рового единства.
Кальвин не видел возможности церковного
единства также для анабаптистов, спиритуалистов
и антитринитаристов. По его мнению, они так же
подрывают фундамент христианской веры, как если
бы отрицали крещение или Святую Троицу или
же отказались от любой заботы о мирских делах.
264
Становление
Кроме того, здесь, очевидно, присущее реформато¬
ру отвращение к любому радикализму с самого на¬
чала помешало ему как следует понять евангели¬
ческую направленность этих групп.
Очень хорошие отношения Кальвин поддер¬
живал с англиканской церковью. Хотя он резко
порицал традиционные римско-католические эле¬
менты английской литургии и Common Prayer
Book, однако в его теологической сущности считал
англиканизм евангелическим, что служило ему
достаточным основанием стремиться к тесному
единству с этой церковью. Несмотря на сердечное
предисловие своего комментария к Исайе, которое
он посвятил королеве Елизавете по случаю ее ко¬
ронации, Кальвин не смог предотвратить растущее
охлаждение отношений между Англией и Жене¬
вой. И зависело это не от него, а от его ученика
Джона Кнокса, который в своем радикализме, за
что его часто порицал Кальвин, написал полеми¬
ческое сочинение с провокационным названием
«Первый звук трубы против неслыханного правле¬
ния женщин». Хотя конфликт был направлен не
против Елизаветы, а скорее имел в виду ее пред¬
шественницу «кровавую Марию», доверие англий¬
ской королевы к Кальвину и его Реформации было
подорвано. С этого момента Генрих Буллингер в
Цюрихе стал главным теологическим советником
англиканской церкви.
265
Жан Кальвин
То, что церковное единение с немецкими лю¬
теранами не осуществилось, Кальвин, который сво¬
ими церквами мучеников на Западе превратил
лютеровскую Центральную Европу в надежный
тыл, не только болезненно переживал, но и не мог
понять, «что они атакуют с фланга и со спины че¬
ловека, прилагающего все усилия для защиты обще¬
го дела и которому они должны были бы придйти на
помощь» (предисловие к комментарию к Псалмам).
Тем большей неожиданностью явилось для него то,
что состоялся союз с цвинглианцами, которые в
теологическом отношении отстояли от него дальше.
Сердечная привязанность объединяла Кальви¬
на с евангелическими общинами в Центральной
Европе. В 1557 году по соображениям здоровья
ему пришлось отказаться от настоятельного при¬
глашения в Польшу. Он постоянно переписывал¬
ся с Иоганном а Ласко, реформатором Восточной
Фрисландии, и другими польскими дворянами.
Свой комментарий к Посланию к евреям он посвя¬
тил в 1549 году королю Польши Сигизмунду.
Кальвин состоял также в оживленной переписке с
венгерскими и богемскими христианами и принимал
активное участие в их судьбе. Уже в 1562 году кате¬
хизис Кальвина был переведен на венгерский язык.
Кальвин имел очень четкое представление о един¬
стве церкви и возможности его осуществления. Он
определяет единство исходя из основополагающего
266
Становление
исповедания веры, которое обозначает границу
между церковью и сектой. Все должны признавать:
«Есть один Бог, Христос - это Бог и Сын Божий,
наше спасение заключается в милосердии Божьем».
Это догматический фундамент в его мини¬
мальном определении, от которого нельзя отступать.
Все остальное - побочные статьи, и отклоняющие¬
ся от них воззрения могут быть терпимы и не ка¬
саются критической границы церкви. Теологические
различия в учении о причастии или предопределе¬
нии или различные концепции построения церкви
в вопросах литургии, епископального или пресви-
териального устава, церковной дисциплины и т. п.
не являются основанием для разделения на раз¬
личные конфессии. В течение всей деятельности
Кальвина нет указания на то, что он хотя бы пред¬
принял попытку навязать другой церкви свои соб¬
ственные формулировки учения или свой женев¬
ский тип устава или же делал их предпосылкой и
условием единства церквей. Этому соответствует
аристократическое чувство такта, которое опреде¬
ляло его обхождение с другими церквами. Сам
Кальвин прекрасно понимал, что для создания
мирового церковного единства не в последнюю
очередь необходим такт, поскольку признание и
уважение партнера является предпосылкой общно¬
сти. Реформатор называл в числе необходимых
добродетелей партнеров в этом деле смягчение
267
Жан Кальвин
(moderatio), признание равных прав за партнером
(aequitas), человечность (humanitas) и умеренный
образ мыслей (modestia). Еще до того как Каль¬
вин посвятил свою «Вторую защиту от Вестфаля»
всем лютеровским священникам в Германии, чтобы
этим еще раз подчеркнуть мировой характер его
Реформации, он в июле 1554 года посвятил свой
комментарий к первой книге Пятикнижия Моисе¬
ева лютеровским князьям Саксонии. Кальвин
проясняет методы, необходимость и цель мирово¬
го стремления, говоря: «Главным мотивом посвя¬
тить это сочинение Вашему высочеству было
следующее: тем самым между церквами, находя¬
щимися далеко друг от друга, все больше будет
укрепляться святое, братское единство. Ибо если
мы и мало склонны и слишком ленивы для любез¬
ностей и взаимного единения, то ужасающее опус¬
тошение христианского мира должно нас принудить
к тому, чтобы против воли установить благочести¬
вое единодушие».
Укрепление «святого, братского единства»
между церквами было задумано Кальвином не
как единообразная суперцерковь по образцу
Рима. Скорее протестантские церкви должны
были сохранять свое своеобразие, но вместе с тем
поддерживать единство и регулярно собираться
на межконфессиональный синод. На таком про¬
тестантском соборе лютеровские, цвинглианские,
268
Становление
англиканские и кальвинистские церкви должны
будут открыто обсуждать свои теологические раз¬
личия и тем самым демонстрировать существу¬
ющее во Христе единство церкви. В 1552 году
Кальвин пишет Томасу Гранмеру, архиепископу
Кентерберийскому: «Если бы нам только удалось
добиться, чтобы серьезные люди из наиболее зна¬
чительных церквей собрались вместе и тщательно
обсудили отдельные пункты веры, чтобы передать
нашим потомкам твердое учение по Писанию от¬
носительно всего того, что является общим для
него. Однако один из грубейших недостатков на¬
шего времени заключается в том, что разные церк¬
ви настолько отделены друг от друга, что не может
быть и речи о сплоченности людей, не говоря уже
о единстве святых, которое они на словах признают,
а на деле осуществляют лишь немногие».
Практически на межконфессиональном уров¬
не, кроме Consensus Tigurinus 1549 года, Кальвин
ничего не достиг. Лютеровские священники в
Германии отвечали на его объединительные уси¬
лия лишь ядовитыми полемическими сочинени¬
ями, а саксонские князья категорически отказа¬
лись вообще принять посвящение комментария
к книге Бытия. Проблема мирового объединения
была отложена на четыреста лет, и одно это об¬
стоятельство показывает, насколько в этом пунк¬
те Кальвин опередил свое время. Началась эпоха
269
Жан Кальвин
территориальных национальных государств и
тем самым конфессиональных земельных церк¬
вей. Ход развития, который Кальвин предвидел,
но к которому он, будучи религиозным беженцем,
не испытывал никакого сочувствия и потому
страстно пытался побороть. Его взор устремлял¬
ся дальше от понятного ему мира Восточной
Европы, где он состоял в переписке с Радзивил-
лами в Вильне, вплоть до Бразилии, куда он в
1555 году послал миссионерами-проповедниками
некоторых своих студентов, где большинство из
них претерпело мученическую смерть. Все это
осуществлялось в неутомимом стремлении рас¬
пространить порученное ему дело во всем мире:
построение церкви.
ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА
Ш J альвин никогда не изучал теологию. По
своему академическому профессиональ-
ному образованию он был юристом и в
® этом качестве достаточно часто и ус¬
пешно выступал в Женеве. Тем не менее он преж¬
де всего, и в первую очередь, был теологом, и по¬
тому дело его жизни нужно рассматривать толь¬
ко теологически. Теология была источником,
питавшим познание в его жизни и становление его
270
Становление
дела. При этом он разрабатывал свою теологию не
на основании некоего определенного принципа;
нельзя даже сказать, чтобы она была сконцентри¬
рована на каком-то определенном пункте, как, на¬
пример, реформаторский прорыв Лютера в учении
об оправдании. Кальвин был человеком второго
поколения и потому, несомненно, учеником Люте¬
ра, и в меньшей степени имел в виду прорыв, чем
консолидацию Реформации, и потому был более
свободен в использовании других теологических
элементов для сохранения уже существующего.
Так, в его теологическом творчестве более полно
выражена вся широта Священного Писания, чем у
реформаторов первого поколения. Это не значит,
что у Кальвина отдельные элементы находятся
рядом без всякой связи или что он был теологом
компромисса. Он умел, как в учении о причастии,
соединять устоявшиеся теологические противопо¬
ложности и создавать из них нечто новое. В опре¬
деленной мере ему удалось обобщить теологические
достижения Реформации, изложить их, невзирая на
все различия и тонкости, в едином целом и отлить
в настолько привлекательной современной форме,
что это до сих пор в решающей мере определяет
облик Западной Европы и Северной Америки.
Вначале Кальвин разделяет все принципи¬
альные положения Реформации. Для ученика
Лютера основой всей его теологии был авторитет
271
Жан Кальвин
Священного Писания, ибо теологией и «истинной
религией» может заниматься лишь тот, кто «до
того станет учеником Писания. В том источник
подлинного знания, когда мы с благоговением
воспринимаем то, что Бог сам захотел о себе здесь
засвидетельствовать». Оправдание человека пе¬
ред одним Богом из милости и, как следствие
этого, - свобода человека-христианина являлись
для него неотъемлемой основой его проповеди и
учения. Проблеме познания Бога, поскольку оно
уже ставилось под вопрос окружавшим его миром,
Кальвин уделяет исключительно большое внима¬
ние в своей теологии, занимаясь при этом, с уче¬
том античных теорий познания, также возможно¬
стью естественной теологии. Однако подлинное
познание Бога человек получает лишь из само¬
го слова Божьего, которое согласно Иоанну, 1,14,
есть Иисус Христос. Теологическое открытие
пророческого служения Христа повлияло не
только на реформированную, но и на лютеров¬
скую и римско-католическую догматику. Непред¬
взятый подход к Священному Писанию позволил
Кальвину больше сблизить закон и евангелие,
чем это делала лютеровская теология, и благода¬
ря этому сформулировать принципиальную
мысль о единстве милостивого союза Бога с че¬
ловеком, повлиявшую не только на понимание
искупительного подвига Христа, но и, кроме того,
272
Становление
на структуру идеалистического и материалисти¬
ческого восприятия истории.
Наряду с этими и другими, присущими Рефор¬
мации взглядами особый стиль теологии Кальви¬
на характеризуют определенные принципы, о ко¬
торых можно, наверное, сказать, что они составляют
духовный фундамент, на котором покоится гигант¬
ская постройка его реформаторского дела и без
которых это дело осталось бы не понятым.
Первый принцип относится к внутреннему сви¬
детельству Святого Духа. Кальвин всегда придер¬
живался мнения, что. человек бессилен перед исти¬
ной, волей, словом и делом Бога. Эта связанность
человека разрушается божественным духом, без
которого даже само слово Божье ничего не сможет
добиться. «Мы никогда не можем следовать истине
Божьей, и поскольку у нас тупые чувства, мы не
воспринимаем свет. Поэтому слово ничего не ис¬
полнит без озарения Святым Духом». Этот Дух -
сам Бог как третье лицо в Троице. Его свиде¬
тельство о себе основано исключительно на сво¬
боде Его воли. Поэтому ее нельзя связывать ни
с каким наставлением, как это происходит в
римско-католической церкви. Деяние Божье сво¬
бодно. В качестве действия Духа это деяние про¬
стирается на все творение, которое сразу же по¬
грязло бы в хаосе, если бы Бог лишил его своего
Духа, затем на человека, который также живет
183ак. 275
273
Жан Кальвин
благодаря дыханию Божьего Духа, и в особенно¬
сти на его церковь, которая ему вводится в ис¬
тину. Именно из-за познания этого человек по¬
лучает утешительное ощущение, что он живет не
в космическом сплетении причинности, а под по¬
стоянно бодрствующей заботой Бога. Это чело¬
век узнает из слова, которое Бог делает ему понят¬
ным лишь через свой Дух. «Ибо как сам Господь
в своем слове есть единственный полномочный сви¬
детель о себе самом, так это слово не найдет в
человеческом сердце веры, пока оно не будет
удостоверено внутренним свидетельством Духа».
Своим действием в слове и духе Бог привязывает
Бытие человека с самим собой и одновременно ос¬
вобождает его от всех прочих авторитетов и связей.
Учение Кальвина о Святом Духе приводит
к мысли, без которой невозможно понять в теоло¬
гическом плане дело всей его жизни, к его знаме¬
нитому и спорному учению о предопределении.
Лишь Святой Дух дарует человеку непоколебимую
уверенность в том, что он избран Богом. Учение
Кальвина о предопределении является составной
частью его учения о спасении. Оно появляется в
«Наставлении» как завершение главной реформа¬
торской догмы, оправдания человека лишь из ми¬
лости, и представляет собой его точнейшую разра¬
ботку. Эта милость опять-таки предполагает ми¬
лость Господню: она может быть дарована, но
274
Становление
может быть и отнята. Ее целью является вечное со¬
вершенство человека, согласно которому он дей¬
ствует уже теперь в сознании своей избранности.
В учении Кальвина о предопределении выра¬
жается большое удивление по поводу того, что Бог
смилостивился над людьми и одновременно дове¬
ряет им задачу служения ему. Перед Богом все
люди одинаково виноваты, одинаково грешны, и все
одинаково отвергнуты, как Кальвин описывает в
«Наставлении» (III, 23, 3). Для него непостижимое
чудо то, что Бог в своей любви избирает своим
партнером потерянного человека и что он никог¬
да не лишает его этой избранности, поскольку она
вечная. Как бы глупо, грешно, неправильно, строп¬
тиво человек ни вел себя, он не сможет отменить
вечное решение Бога. Таким образом, происхожде¬
ние избранности, которая «состоит в том, что чис¬
тая доброта Бога обеспечивает нам спасение»
(Женевский катехизис), обосновывает уверенность
в спасении для человека, которую ничем и никог¬
да нельзя поколебать.
Часто высказываемое опасение, что кто-нибудь
причислит себя к отвергнутым и впадет в отчая¬
ние, известно Кальвину, но не имеет для него
принципиального значения. Трудную проблему
отвергнутого Богом он подробно - и, надо признать
критически, неудовлетворительно с теологической
точки зрения — рассмотрел, но никогда не выносил
18*
275
Жан Кальвин
ее на церковную кафедру. Предметом проповеди
является лишь избранность из чистой доброты
Господней, которая должна быть возвещена людям.
Из этой проповеди человек узнает, что он может и
должен полагаться не на себя самого, а лишь на
Бога и его вечное решение. Он получает уверен¬
ность в спасении не благодаря самоуглубленной
рефлексии своей собственной веры, а отводя удар
от себя и обращая его на Христа, который являет¬
ся «зеркалом нашей избранности».
Бог избрал человека своим партнером. Это
приводит к третьей мысли. Избранность конкре¬
тизируется в союзе, который Бог заключил с чело¬
веком. Союз, который был заключен уже с отцами
Ветхого Завета, но исполнен лишь в Иисусе Хри¬
сте, являющемся залогом договора с обязатель¬
ствами: «Я хочу быть вашим Богом, а вы долж¬
ны быть моим народом». Бог обязывает самого себя
и в то же время и человека этим договором - как
он это продемонстрировал в союзе с Авраамом.
Исполнением этого договора является Иисус Хри¬
стос как истинный Бог и истинный человек в том
первоначальном смысле, что Бог и человек здесь
сочетаются, «Так должен был Сын Божий стать
для нас Иммануилом, что означает «Бог с нами»,
и именно так, что его божественность и человече¬
ская природа соединились друг с другом самым
тесным образом».
276
Становление
Эти три мысли о Святом Духе, об избраннос¬
ти и о союзе образуют теологическую основу уче¬
ния о церкви, к чему сводится весь смысл теоло¬
гии Кальвина. Здесь заложена духовная основа
его дела, которое претворялось в формировании
церкви и шире - нового мира.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЭТИКА
В Jw же в своем первом заявлении в женев-
ский магистрат от 16 января 1537 года
Кальвин написал очень характерную
для него и программную для его Ре¬
формации фразу: «Мы, с нашей стороны, не наме¬
реваемся ограничить свою службу столь узкими
границами, чтобы когда проповедь закончилась,
наша служба была бы исполнена». Поэтому не
случайно, что все его дело определялось поворотом
от индивидуального к социальному. Герберт Л юти
справедливо заметил: «Разрыв Кальвина со схо¬
ластической системой учения есть прежде всего
болезненный акт честности и интеллектуальной
порядочности, который совпадает с жаждой исти¬
ны у Реформации, а именно, с потребностью при¬
вести в соответствие учение и жизнь, слово и дело.
У Лютера вообще не произошло большого разрыва
со средневековым социальным учением католической
277
Жан Кальвин
церкви, у Цвингли, государственного деятеля город¬
ской республики, - лишь отчасти, у Кальвина же,
дух и мышление которого были сформированы
юриспруденцией и гуманистической ученостью,
произошел окончательный разрыв».
В силу благоприятного географического положе¬
ния город Женева в XIV века был важным перева¬
лочным пунктом товаров и денег, что обеспечило его
жителям скромное благосостояние. Открытие
Америки значительно расширило экономические
горизонты, но в то же время отвлекло поток капи¬
талов от Женевы. Важные товарно-денежные
сделки между Францией и южнонемецкими торго¬
выми центрами, особенно в Аугсбурге, проходи¬
ли через Страсбург, где Кальвин имел возможность
воочию убедиться во всевозрастающем значении
движения денег и товаров. Ему стало ясно, что
прежняя структура общества, определявшаяся
ремесленниками и крестьянами, потрясена в своих
основах стремлением купцов и банкиров к хозяй¬
ственному руководству. Наряду о торгово-полити¬
ческой изоляцией второй причиной экономических
трудностей стал поток беженцев, вызванный пре¬
следованиями французских сторонников Реформа¬
ции. Кальвин принял энергичное участие в реше¬
нии этой проблемы, заключающейся не столько в
справедливом распределении социального продукта,
сколько в необходимом обеспечении недостающими
278
Становление
Деньгами и имуществом. Недостаток капитала и
растущая нужда вызвали рост запрещенной про¬
центной ставки вплоть до ростовщичества. В ян¬
варе 1538 года распоряжением магистрата, в ко¬
тором Кальвин, возможно, уже состоял, процент¬
ная ставка была установлена в размере пяти
процентов. В последующие годы это распоряже¬
ние, которое явилось первым подобного рода,
было вновь подтверждено и действовало до тех
пор, пока магистрат, под влиянием Кальвина и
учитывая экономическое положение, не установил
процентную ставку, в размере 6 2/3 процента, что
привлекло внимание не только женевских дело¬
вых кругов, но и евангелических собратьев по
вере за границей. Столь успешная для Женевы
экономическая политика стала возможна лишь
потому, что Кальвин нашел мужество и благора¬
зумие теологически обосновать подлежащий уп¬
лате процентов заем на производство. Таким об¬
разом, беженцам-гугенотам была дана свобода в
освоении новых финансовых и промышленных
возможностей и тем самым оказана материальная
помощь, что для Кальвина было важным момен¬
том. Если вспомнить, что уже Лютер и Цвингли
принципиально отвергали взимание процентов
как ростовщичество, что в XVI веке зарабатыва¬
ние и накапливание денег было с религиозной
точки зрения сомнительным, то можно оценить
279
Жан Кальвин
новые и современные пути, которые Кальвин про-
лага л и здесь.'
Кстати, используемый еще и сегодня метод
государственной субвенции капиталов практико¬
вался уже Кальвином. В 1544 году, когда в горо¬
де опять создалось крайне тяжелое положение,
он добился в магистрате предоставления госу¬
дарственных средств для строительства предпри¬
ятий по производству сукна и бархата. Кальвин
оказывал также непосредственное влияние на
стремительное развитие типографского промысла.
Не в последнюю очередь благодаря его сочинени¬
ям Женева стала центром книгопечатания и кни¬
готорговли, что имело особое значение на франко¬
язычном пространстве.
Мысли и высказывания женевского реформа¬
тора по экономическим и социально-этическим
проблемам коренятся в его теологии. Уже в силу
того, что экономические связи образуют определен¬
ный аспект общественных, нельзя отрывать мнение
Кальвина по этим вопросам от его религиозных
взглядов. Их нужно увязывать с теологическими
предпосылками, на которых они основаны.
Кальвин говорит в своем «Наставлении»:
«Поскольку человек по своей природе существо,
предрасположенное к общности, у него есть есте¬
ственные способности к тому, чтобы создавать и
поддерживать общественный порядок». Но это еще
280
Становление
не определяет социально-этическую задачу хрис¬
тианина. Со времен пророка Амоса, евангелиста
Луки и апостола Иакова отношения богатства и
бедности и тем самым проблематичность неприкос¬
новенности частной собственности стали не толь¬
ко социальной, но и духовной заботой. Для Каль¬
вина уже заповедь «Не укради» предполагает су¬
ществование частной собственности. Впрочем, он не
воспринимает ее существование просто как дан¬
ность. Относительно собственности на общину
налагается значительная ответственность. Кальвин
заходит настолько далеко, что считает материаль¬
ные блага знаком Божьей милости, впрочем, лишь
тогда, когда они распределяются так же, как Бог
распределяет свои блага. Бедность и богатство в
равной степени являются пробным камнем веры, точ¬
ками кристаллизации моральной ответственности.
Поэтому Кальвин не отстаивал ни индивидуализм
неприкосновенной собственности, ни коммунизм.
Частная собственность для него всегда находится
на службе общины.
Такое динамичное отношение Кальвина к част¬
ной собственности, которая является одновременно и
даром, и поручением, приводит к позитивному пони¬
манию труда. Труд - это не только поручение, но и
достоинство. Поскольку Бог является инициатором
труда, Кальвин считает труд милостью и знаком Цар¬
ства Божьего. Ибо милость Божья господствует не
281
Жан Кальвин
только в делах как таковых, но и хочет видеть де-
ятельного, творящего человека. Такая точка зрения
исключает как поклонение труду, так и оправда¬
ние лени, а также отношение к труду как предме¬
ту торговли. Подобные оценки не совместимы с бо¬
жественным происхождением труда. Однако
мысль о социальной революции не приходила к
Кальвину даже перед лицом глубокого социально¬
го неустройства. Его высокой оценке договоров
больше соответствует другой подход - для устра¬
нения социальных разногласий он требует третей¬
ских судов и трудовых договоров.
К теме труда относится также выбор профес¬
сии. Кальвин подробно высказался по професси¬
ональным вопросам. Крестьяне, ремесленники, куп¬
цы, а также духовные профессии, включая ес¬
тествоиспытателей, имеют свое духовное призвание
в том, что они находятся на службе ближнего и
борются против социальных неполадок. Высокая
оценка Кальвином интеллектуального и тех¬
нического покорения универсума выглядит очень
современно: «Если Господь через труды неверу¬
ющих по естественным наукам, логике, математике
или другим наукам дает пользу и поддержку, то мы
должны их использовать сразу же. В противном
случае мы презрели бы Божьи дары, ниспосланные
нам через этих людей... Вспомним же, что дух
Божий есть единственный источник истины, и не
282
Становление
будем ни отбрасывать, ни презирать истину, где бы
она нам ни встретилась - иначе мы презрели бы дух
Божий».
Из размышлений о труде и профессии выте¬
кает следующая тема: деньги. У Кальвина было
достаточно трезвости и восприимчивости, чтобы
правильно оценить большое значение денег в че¬
ловеческом обществе. По его мнению, деньги долж¬
ны стоять на службе у человека, а не человек на
службе у денег. Как имущество и труд, деньги
нельзя ни презирать, ни обожествлять. Неприкры¬
тое корыстолюбие разрушает божественный поря¬
док и любую социальную общность. От общих
экономически-этических воззрений Кальвин в этом
месте делает значительный шаг вперед. Вместе с
цюрихским реформатором Генрихом Буллингером
он впервые в западной истории оспорил тезис
Аристотеля о бесплодности денег. Греческий фи¬
лософ Аристотель выдвинул тезис, что деньги
бесплодны (Nummus nummum non parit. Деньги не
могут производить деньги). Старая церковь и
средневековье увязали этот тезис с новозаветной
полемикой против ростовщика, которую Иисус
ведет у Луки, 6, 35. Следуя этой традиции, еще
Лютер говорил: «Деньги от природы бесплодны и
не умножаются. Поэтому там, где они умножаются,
как при ростовщичестве, это противоречит природе
денег. Ибо они живут, но ничего не приносят, как это
283
Жан Кальвин
делают дерево и поле, которое каждый год дает
больше того, что оно есть; ибо оно не лежит празд¬
но и без плода, как это делает гульден по своей
природе». Уже до Кальвина Генрих Буллингер
в 1531 году проводил различие между «честным»
и «позорным» процентом. Он впервые дал теоло¬
гическое обоснование процента для производ¬
ственного займа и заговорил о том, что процент
может быть «получен с Богом и также для пользы
ближнего». Кальвин вместе о Буллингером отри¬
цает аристотелевский тезис о бесплодности денег,
но вместе с тем проводит принципиальное разли¬
чие между помощью в виде займа под проценты
и ростовщичеством.
Впрочем, это оправдание связано с совершенно
конкретными условиями, которые Кальвин подроб¬
но излагает в своем сочинении «De l’Usure». Здесь
же высказано мнение, что установление твердой про¬
центной ставки является делом не одиночек, а все¬
го общества. Дающий деньги не должен также тре¬
бовать больше того, что он заплатил бы сам. Из воз¬
можной выручки следует вычесть все необходимое
для милосердия. Наконец, нельзя вообще требовать
проценты, если это вызовет экономический крах за¬
емщика. С той же радикальностью, с какой Каль¬
вин отказ в просьбе о материальной помощи име¬
нует кражей, он считает все имущество человека
предназначенным для служения Богу и ближнему.
284
Становление
В заключение следует посвятить несколько
слов много обсуждавшейся теме «кальвинизм и
капитализм». Из вышесказанного ясно, что нельзя
проводить параллелей между Кальвином и капи¬
тализмом в духе их уравнивания. Прежде всего
нельзя считать Кальвина на основании его эко¬
номической и социальной этики отцом западного
капитализма, как это иногда делалось со времен
Макса Вебера и Эрнста Трёлтша. Разумеется, он
очень высоко оценивает труд; разумеется, он при¬
дает деньгам значение, которого они прежде не
имели. Разумеется, освобождение умеренного про¬
цента на капитал от морального клейма ростов¬
щичества, сознательное отношение к труду и ре¬
лигиозная основа мирской профессии, которые
Кальвин внушил западноевропейским народам,
являются движущей силой для развития техники,
торговли и индустрии. Но вместе с тем более
поздний капитализм нельзя сводить в принципе
к Кальвину. Для его развития определяющими
были совершенно иные факторы.
Тем не менее Кальвин, бесспорно, принадле¬
жит к духовным отцам нашего современного
мира. Ибо именно христианская вера, прежде
всего в образе кальвиновской Реформации, поло¬
жила конец обожествлению и демонизации при¬
роды и других жизненных процессов, заменила
статичную и абстрактную постановку вопроса в
285
Жан Кальвин
экономике, технике и науке исторической и под¬
вижной, провела четкое различие между творцом
и творением и тем самым защитила божествен¬
ность Бога и человечность человека, которому в
дальнейшем открылись новые горизонты в эконо¬
мической, технической, политической и социальной
областях. Можно с уверенностью сказать: Каль¬
вин обратился к социальной сфере и был первым,
кому удалось преодолеть голод и массовую нище¬
ту. «В полной мере в протестантском образе
мыслей произошел разрыв со схоластической кар¬
тиной мира и общества, которая воспринимала
нищету и отверженность как вечное зло, ниспо¬
сланное Богом на грешную землю, и не знала ни¬
какого средства против немыслимой массовой
нищеты средневекового человечества, кроме веч¬
ной, покорной мины выпрашивающего милостыню
нищего и жертвующего милостыню богатого. При
новом, холодном и резком свете, без преобража¬
ющего блеска святости нищего существования на¬
учился жить цвинглианец, а затем кальвинист, не
в униженном приятии нищеты как платы за гре¬
хи, а в школе характеров, дисциплинированного
труда» (Г. Люти). Этот дисциплинированный
труд в сочетании с социальной активностью как
практического проявления любви к ближнему
вызвали в последующие столетия беспримерный
расцвет кальвинистских стран.
286
Становление
ГОСУДАРСТВО И ПОЛИТИЧЕСКАЯ СВОБОДА
Создавая консисторию, Кальвин попы¬
тался реформировать и достроить цер¬
ковь в соответствии не с государствен¬
ными, а с духовными критериями. Он
понудил бургомистра Женевы с 1560 года ставить
перед дверью зала заседаний скипетр как зрак его
государственной власти. Однако отделение церкви
от государства было для Кальвина невозможно и
с теологической точки зрения потому, что он рас¬
сматривал властные органы так же, как божествен¬
ное установление. Отсюда, при всем разграничении
компетенций, проистекала связь между церковью и
государством, которая была для него неразрывной.
Духовной основой приверженности Кальвина
этой связи было - возможно, в отличие от Цвингли
и Лютера - предвидение всесилия абсолютистско¬
го государства, которое он пытался несколько ос¬
лабить. Поэтому он подверг критике церковную
систему западноевропейских государств и земель¬
ные церковные власти в Германии. Поэтому он
хотел провести границы между полномочиями церк¬
ви и государства. Он принял учение Лютера о
двух царствах, однако модифицировал его, придав
ему теократический акцент, чтобы воспрепят¬
ствовать секуляризации государства, которую он
предвидел.
287
Жан Кальвин
Государство выросло не из греха или благода¬
ря греху человека, оно согласно Кальвину является
милостивым установлением Божьим. Перед ним
прежде всего стоит задача осуществлять заповеди
Божьи и способствовать расширению царства Гос¬
подня. Его происхождение - в воле Божьей. Вла¬
сти находятся между Богом и подданными и от¬
ветственны перед ними. «Поскольку Бог их поста¬
вил и они исполняют его службу, они обязаны ему
отчетом. Далее служение властей должно идти на
пользу подданным. Поэтому власти - их должни¬
ки», - говорит Кальвин в комментарии к Посла¬
нию к римлянам, 13, 4.
Взаимоотношения между властями и поддан¬
ными определяются в первую очередь обязаннос¬
тями. Для пояснения Кальвин заимствует у тра¬
диции понятие «mutua obligation (взаимные обяза¬
тельства). Власти обязаны заботиться о мире,
жизни, собственности и благопристойности в сфе¬
ре жизни подданных. В случае войны они могут
потребовать жизнь, в случае нужды - налоги.
Кальвин считает, что он полностью определил со¬
подчинение прав и обязанностей обоих формули¬
ровкой: «В государстве речь идет о свободе, кото¬
рая направлена на сдерживание и имеет правовое
обоснование». Естественноправовой критерий «suum
cuique» (каждому свое) требует наличия в обще¬
ственных отношениях правовых и справедливых
288
Становление
форм права. Однако грех человека делает невоз¬
можным ограничение только натуральным пра¬
вом. Оно должно быть дополнено, истолковано
и применено с помощью положительного, наде¬
ленного государственными полномочиями права.
Такое «правовое государство» в основе своей со¬
держит не «взаимные обязательства» (mutua
obligatio), договор, который в соответствии с ес¬
тественным правом определяет отношения
подчиненности, ограничивает и определяет взаим¬
ные обязанности и права властей и подданных.
«Mutua obligatio» предусматривает не автоном¬
ные обязанности и права, а вину одного перед
другим, которая проистекает от ответственности
обоих перед Богом.
Мысль о договоре в понимании государства не
нова. Кальвин внес коррективы в традицию, суще¬
ствовавшую со времен Аристотеля, сознательно
исключив идею договора о подчинении и связь
договора с догмой о суверенитете народа; но преж¬
де всего - мысль об оговоренном праве, согласно
которому один партнер по договору лишь тогда
имеет обязательства перед другим, пока этот дру¬
гой выполняет свои обязательства. Кальвин поэто¬
му постоянно подчеркивал, что христианин обязан
подчиняться даже забывшему свои обязанности
властителю. И все же включение Кальвином по¬
ложения о договоре в его теологию имело далеко
19 Зак. 275
289
Жан Кальвин
идущие последствия. «Договор был для него орга¬
нической связью между главой и членами, в кото¬
рой могут проявляться обоснованные элементы
обязанностей и права, а именно таким образом, что
из соглашений между обоими органами может сле¬
довать элемент права в виде обязательных зако¬
нов, элемент индивидуальных правомочий в виде
свобод, которые власти защищают и которым слу¬
жат порукой» (Йозеф Бохатек).
Поэтому не кажется неожиданным, что у Каль¬
вина имеется дифференцированная оценка форм
государства. В комментарии к Посланию к римля¬
нам, 13, женевский реформатор рассматривает любую
форму политической власти как Божье установление,
но отдает предпочтение смешанной аристократи-
чески-демократической форме. Ограниченная
демократическими правами аристократия наибо¬
лее соответствует его представлениям о действии
Святого Духа. Его сомнения относительно наслед¬
ственной монархии поэтому можно понять в том
плане, что дух Божий, который придает наилучшие
способности для политической деятельности, не
передается по наследству. Так же возражал Каль¬
вин и против абсолютной демократии. Неравенство
людей, сообразное творению, и их различная духов¬
ная одаренность требуют ограничения чисто демо¬
кратического принципа. Поэтому Кальвин требу¬
ет всеобщего активного избирательного права и в
290
Становление
то же время желает ограничить пассивное изби¬
рательное право в интересах аристократии. Цель,
которую преследует эта оценка форм государст¬
ва, - политическая свобода. В каждом разделе
«Наставления», где Кальвин говорит о различных
формах государства, он обосновывает предпочте¬
ние смешанной аристократически-демократиче-
ской формы с помощью понятия свободы: «Нет
более счастливого вида правления, чем то, где
свобода надлежащим образом сдержана и пра¬
вильным образом устроена на долгое время. Я по¬
читаю также счастливейшими тех, кому позволе¬
но наслаждаться этим состоянием... Да, власти с
величайшим напряжением должны стремиться к
недопущению того, чтобы свобода, защитниками
которой они назначены, была хоть как-то умень¬
шена, не говоря уже о ее нарушении. Если они
при этом слишком небрежны или проявляют
слишком мало заботы, то они вероломны на своей
службе и являются предателями своей отчизны».
Спорный вопрос о том, способствовал ли Каль¬
вин возникновению политической свободы, нераз¬
рывно связан с вопросом о принципах современ¬
ного демократического правового государства.
Эмиль Дюмерже приложил немало усилий, чтобы
доказать, что политические принципы Кальвина
можно выразить и интерпретировать лозунгом
«Свобода, равенство, братство». Эрнст Трёлтш
19*
291
Жан Кальвин
полагает, что сочетание общинной церкви и госу¬
дарственной республики в Женеве повлияло на
демократическую мысль. Вальтер Кёлер заявил,
что кальвинизм имел предрасположенность к де¬
мократии. Йозеф Бохатек существенно ограничил
интерпретацию Дюмерже, указав, что понятия сво¬
боды, равенства, братства, которые встречаются у
Кальвина, нельзя оценивать в духе современной
демократии. На это Эрик Вольф возразил, что для
Кальвина «свобода к Богу, равенство перед Богом,
братство с ближним были такими же существен¬
ными чертами справедливого государства, как сво¬
бода от тирании, равенство перед законом и братст¬
во в управлении бренным имуществом». Разуме¬
ется, было бы односторонней точкой зрения
называть Кальвина отцом современной демокра¬
тии. К тому же подобное суждение должно было
бы исключить историческую роль Просвещения.
Однако такой же односторонней точкой зрения
было бы считать его мрачным тираном. В общих
чертах о взглядах Кальвина можно сказать
следующее: во-первых, Кальвин не только стре¬
мился к свободе церкви от государственной опеки,
но и пытался практиковать ее в дозволенных ему
рамках. Во-вторых, он требовал политической сво¬
боды в соответствии с правом и резко осуждал зло¬
употребление ею. В-третьих, он защищал свободу
выбора профессии. В-четвертых, он считал всеобщее
292
Становление
активное избирательное право в рамках закона
желательным участием в политической жизни.
В-пятых, равенство людей перед Богом и законом
он не только обосновал теоретически, но и осуще¬
ствил практически на примере Женевской консис¬
тории. С современной точки зрения отрицательно
можно оценить следующее: во-первых, то, что
Кальвин не практиковал в Женеве свободу веро¬
исповедания, хотя в принципе настаивал на ней;
во-вторых, то, что ему была чужда мысль о рели¬
гиозной веротерпимости в совместном существова¬
нии, каким бы терпимым ни был Кальвин в отно¬
шении других церквей; в-третьих, то, что он созна¬
тельно обошел в своем учении о государстве
вопрос суверенитета народа и что, в-четвертых, он
принципиально не признавал за отдельным граж¬
данином права на политическое сопротивление.
Тем не менее несомненно, что Кальвин и в
политическом отношении пролагал пути современ¬
ному миру. Своеобразный устав консистории
женевской церкви вызывал желание подражания.
Его историческое значение заключается не толь¬
ко в том, что он послужил примером для реформи¬
рованных церквей, но и в том, что он вызывал ис¬
кушение перенести его в сферу политики. Он был
тем типом устава, который мог послужить моделью
политической конституции. И действительно, каль-
винова модель церкви благодаря политизации
293
Жан Кальвин
французским протестантизмом уже во время ре¬
лигиозных войн была перенесена гугенотами в
сферу политики. Гугеноты были своего рода го¬
сударством в государстве, своего рода республи¬
кой в монархии, и их конституционная организа¬
ция была формально признана в Нантском эдикте
о веротерпимости.
Этот устав был весьма примечательным явле¬
нием в мире, в котором политическое правление
было абсолютистским и династическим. Его суть
заключается в том, что Кальвин подготовил почву
для идей равенства, братства и свободы. В первом
проекте церковного устава января 1537 года го¬
ворится: учреждаемая консистория должна каж¬
дого, «кто бы он ни был, дружески наставлять».
Впоследствии консистория признавала принципи¬
альное равенство перед Божьим законом, которое
относилось к каждому, «кто бы он ни был». Со¬
словные или социальные привилегии утратили
свое значение. И собственная семья Кальвина в
Женеве, и семья короля Генриха IV в Наварре
подчинялись этому равенству. Трудно отрицать,
что тем самым Кальвин подготовил основной
принцип современного правового государства,
поскольку не только от высокопоставленных лиц
требовались отдельные акции покаяния, но и вся
община подчинялась равенству перед божествен¬
ным правом.
294
Становление
В основе устава женевской общины лежал
также принцип братства, который Кальвин исполь¬
зует для характеристики взаимоотношений влас¬
тей и подданных. Он исходит из того, что «каж¬
дый есть часть целого» и, следовательно, должен
нести ответственность за ближнего и всю общи¬
ну. Эту ответственность приняла на себя особо
служба дьяконата. Женевская община создала
превосходное попечение о бедных, которое ис¬
ключало нищенство; знаменитую Академию, об¬
разцовые гражданские и уголовные законы; раз¬
вивала новое производство, особенно в текстиль¬
ной промышленности; утвердила право убежища
для религиозных беженцев и т. д. Кальвин дал
Женеве церковно-общественную структуру, кото¬
рая подняла город на высокий духовный и мораль¬
ный уровень и обеспечила ей экономический рас¬
цвет и растущее благосостояние.
То, что община в своем уставе нуждалась
также в праве на самоопределение, предполага¬
ет в конечном счете личную свободу отдельно¬
го человека. Об этой свободе Кальвин сказал, что
она больше, чем половина жизни, и тот, кто от¬
нимает ее у человека, оскверняет церковь. От¬
дельный челрвек должен иметь право защищать
эту свободу. Она должна быть гарантирована
конституцией: «libertas... rite constituta». Это
относится и к государственной сфере. Кальвин
295
Жан Кальвин
содействовал также свободе экономики, как было
показано в последней главе. Наконец, в уставе о че¬
тырех должностях женевской церкви содержится
модель политического разделения властей. Это
не означает, что Кальвин был предшественником
Монтескье. Тем не менее руководство женевской
церкви было разделено на различные органы для
проповеди, соблюдения учения, ведения экономи¬
ческих дел общины, надзора за нравами, попече¬
ния бедным и заботы о душе (духовники). Раз¬
деление и включение всех этих органов в единое
целое общины позволяли и требовали взаимног
го контроля. Подоплекой равенства, братства и
свободы было понятие договора, как бы его ни
обосновывали с точки зрения естественного пра¬
ва или Библии. Кальвин поощрял все учрежде¬
ния, имеющие право контроля. Самым знамени¬
тым примером был тот исторический пакт на
«Мэйфлауэр», который заключили отцы-пи лигри-
мы в составе 41 человека 11 ноября 1620 года.
Здесь федеративно-теологические и теократические
элементы приобрели политическую форму. Это
был час рождения североамериканской демокра¬
тии. Не случайным является также и то, что зна¬
чительная часть передовых борцов современно¬
го учения об обществе, такие как Иоганн Альту -
зий, Томас Хукер, Хуго Гротиус, Джон Локк,
Жан-Жак Руссо и другие принадлежали к
296
Становление
реформированной церкви. В любом случае на
протяжении своей четырехсотлетней истории
кальвинизм содействовал идее современного
правового государства, где политическая власть
обосновывается, разделяется и контролируется
правом обжалования.
ЛИЧНОСТЬ
Обратимся напоследок еще раз к лич¬
ности реформатора. В своих внешних
контурах она вначале видится на зад¬
нем плане великого времени, когда он
жил и действовал. Начавшаяся контрреформация
была тем историческим контекстом, который осо¬
бенно высветил его образ. Великое культурное
движение гуманизма, к которому он сам принад¬
лежал, после короткого периода нерешительности,
в первую очередь из-за отказа его вождя Эразма
Роттердамского, перешло на сторону консерватив¬
ной реакции. В самом протестантизме не возник¬
ло единства, наоборот, из-за споров об учении и
территориального конфессионализма он оставался
раздробленным, а его бурное продвижение в Цент¬
ральной Европе приостановилось. Зачатки еванге¬
лизма в Италии и Испании были быстро подавле¬
ны; французский протестантизм истек кровью на
297
Жан Кальвин
кострах. Немецкий реформатор Мартин Лютер, с
его могучей силой притяжения, умер в 1546 году.
В это же время папа Павел III открыл в Триенте
Вселенский собор, на котором римская церковь
начала себя реформировать и возводить здание
современного католицизма. Более того, под руковод¬
ством только что основанного ордена иезуитов она
начала ответное наступление, чтобы по возможности
уничтожить дело Реформации. И тогда, как метко
выразился Петер Фогельзангер, «реформаторско¬
му движению, находящемуся под смертельной уг¬
розой, даруется человек, который в силу своей стра¬
стной веры, выдающегося интеллекта, несгибаемой
воли, беспримерной работоспособности, гениальной
прозорливости, таланта практической организации,
полной самоотдачи вывел испуганное стадо из
смятения и дал ему духовную ясность, действенную
форму и живой импульс, которые преодолели кри¬
зис и делают протестантизм первой преобразующей
историю силой свободного Запада».
Каким он был, этот человек? Дошедшие до нас
изображения могут дать лишь весьма приблизи¬
тельное представление, поскольку почти все они
были сделаны после смерти реформатора и показы¬
вают преимущественно старого Кальвина. За ис¬
ключением бамбергского портрета, представленно¬
го на обложке, на них изображено лицо больно¬
го, страдающего человека, почти истощенного,
298
Становление
измученного болями, вследствие чего его черты ка¬
жутся строгими и аскетичными. Голова узкая и уд¬
линенная. Высокий ясный лоб выдает человека ду¬
ховного труда. Из глубоких глазниц твердо гля¬
дят глаза миндалевидной формы. Нос вылеплен
прямо и придает всему его облику строгий вид. Уз¬
кие губы и слегка приподнятый подбородок свиде¬
тельствуют об энергии и воле. Впрочем, подобные
наблюдения не позволяют сделать окончательно¬
го заключения. В суть этого человека трудно про¬
никнуть. Он настолько отступает в тень своего
гигантского дела, что его личность почти не вид¬
ка. Его переписка в большей степени, чем физио-
номически ненадежные изображения и кажущая¬
ся холодной рациональность его дела, позволяет
предположить человечность восприимчивой души,
но в го же время наличие твердого и иногда
противоречивого характера.
Уже в юности одаренный богатыми духовными
способностями, приученный к железной трудовой дис¬
циплине студент получает глубокое и одновременно
обширное образование, которое явилось прекрасной
духовной предпосылкой для свершения его будущего
великого дела. У него в памяти не только Библия,
но и огромный объем ее толкований отцами церкви
и средневековьем. Он так же легко цитирует по па¬
мяти латинских поэтов, историков и философов, как
и современных гуманистов и теологов. Он читает
299
Жан Кальвин
лекции и проповеди без конспекта. В этом ему по¬
могает смолоду натренированная и впоследствии
никогда не отказывающая память, которая на ре¬
лигиозных диспутах и процессах стяжала ему сла¬
ву опасного противника в споре. Точное и обшир¬
ное знание самых различных правовых традиций
позволило лиценциату юриспруденции подготав¬
ливать для своего города Женевы проекты законов,
идти новым путем в церковном праве и пролагать
новые пути в экономической, социологической и
политической этике. Он, сказавший однажды, что
«язык - это форма выражения духа», своим «На¬
ставлением в христианской вере», своими письма¬
ми и молитвами создает шедевры речевого формо¬
образования.
В своей многосторонней и глубокой духовно¬
сти Кальвин всегда оставался гуманистом. Его
отношение к античной культуре открыто, его суж¬
дения о науке и образовании позитивны. Однако
высокая оценка интеллектуального не вызывает у
Кальвина принижения душевного. Кажущиеся
противоречия между острой интеллектуальностью
и глубокой душевностью, которые часто появляют¬
ся в его письмах, заключены у него в границы
глубокой веры. Кальвин был в высшей степени
благочестивым человеком, подчиняющим противо¬
речивые элементы своей натуры вере в Бога. Его
жизнь была отмечена уверенностью в избранности
зоо
Становление
Богом, которую нельзя ни осмыслить логически, ни
увидеть, в нее можно только верить.
Его характер не был свободен от недостатков,
но Кальвин никогда не делал попытки что-либо
утаить или приукрасить. От отца он унаследовал
пикардийский темперамент, который иногда, вслед¬
ствие легкой возбудимости, мог быть причиной
вспыльчивости. С невероятной твердостью по от¬
ношению к самому себе он пытался обуздать свою
порой неоправданную запальчивость. Кроме того,
Кальвин, по собственному признанию, страдал
иногда от животного страха, порой даже гранича¬
щего с трусостью, хотя он обладал способностью
в решающие моменты лишь благодаря своему
мужеству и авторитету без оружия остановить
целое народное восстание, как это было в декабре
1547 года в Женеве. Он страшился конфликтов и
столкновений, хотя всю свою жизнь сталкивался с
ними и преодолевал их. Он боялся физических
мучений, хотя в течение всей жизни болел и
переносил длительные боли с непостижимым му¬
жеством. С крайне неприятным чувством он смот¬
рел на практические задачи своей должности, по¬
скольку всегда стремился к уединенным занятиям
ученого, хотя ему, как никакому другому реформа¬
тору, удавалось практическое устроение церкви. В
личном общении он мог быть иногда жестким и
неуживчивым, хотя он же мог писать своим
301
Жан Кальвин
друзьям во всем мире письма удивительной тен-
лоты. Общение с массами было противно его ари¬
стократическому характеру, хотя во время пропо¬
веди и лекции он мог вызвать восторг масс вплоть
до набожного преклонения.
Сложность его сущности определяется созна¬
нием своей миссии, своей избранности Богом. Это
была та доминанта, которая придавала ему силу
для преодоления слабостей своей натуры и сверше¬
ния его дела. В немалой степени этому способство¬
вали его исключительные дарования. Унаследо¬
ванная от матери глубокая душевность и врожден¬
ное сочувствие к ситуации других людей делали
его замечательным пастырем. Письма друзьям,
находящимся под угрозой, проповедникам и пре¬
следуемым общинам во Франции, приговоренным
в 1553 году к смерти лионским студентам, Ренате
де Эсте и многим другим людям, которые в горе
обращались к нему, являются захватывающим сви¬
детельством того, как учитель и пастырь помогает
своей огромной общине во всем мире.
В нем была подкупающая человечность, ко¬
торая проявилась, к примеру, в письме отцу од¬
ного молодого человека, умершего от чумы, ко¬
торый жил в его страсбургском доме: «Когда я
получил известие о смерти Вашего сына Луи, я
был настолько сокрушен духом, что много дней
мог лишь плакать. И хотя присутствие Господа
302
Становление
меня немного укрепило и я нашел облегчение в той
помощи, которую он ниспосылает нам в тяжелые
времена, я все равно не мог найти себе места. Боль
и горе охватили меня оттого, что молодой человек,
подававший столь большие надежды, как Ваш сын,
был отнят у нас в начале расцвета его жизни. Я лю¬
бил его, как своего собственного сына, и он тоже
чтил меня, как если бы я был его вторым отцом»
(г-ну Ришебургу, начало апреля 1541 года).
Возможно, важнейшей чертой, отличающей его
натуру, является форма. Он был реформатором в
первоначальном смысле этого слова, поскольку
главным для него было новое обретение чистой
формы церкви. Как умел этот человек строить -
своей дисциплинированной и одухотворенной ре¬
чью, которая никогда не уклоняется в сторону и
всегда высказывает самое существенное, а в дис¬
куссиях четко разит противника; своей проповедью,
которая сплачивает большой коллектив; своим
теологическим и церковным творчеством, которое
в этой его форме пережило столетия до сегодняш¬
них дней.
Чем больше в течение жизни его слава распро¬
страняется по Европе, тем более одиноким становится
он сам. Жизненные потребности сводятся к аске¬
тическому минимуму. После смерти жены и ребен¬
ка он отказывается от семейного счастья. Неуто¬
мимый, иногда длящийся до 18 часов в день труд
зоз
Жан Кальвин
прерывается лишь скудной трапезой и пяти-ше-
стичасовым сном ночью. Он почти постоянно ис¬
пытывает сильные головные и желудочные бо¬
ли. Все чаще ему приходится проводить дни, а
порой и недели, в постели, рядом с которой сек¬
ретари записывают диктуемые им письма. В
конце жизни и без того больного человека час¬
то мучают лихорадка и почечные колики. Он пе¬
реносит их с глубокой покорностью. В 1561 году
он пишет Иоганну Вольфу в Цюрих: «Если Бог
считает нужным добавить к моим старым болез¬
ням еще и ревматизм, то я буду терпеливо пере¬
носить и это его отцовское наказание». Ибо как
пишет он 5 августа 1563 года Шарлотте де Ко-
линьи, «наши болезни должны не только делать
нас смиренными, демонстрируя нам нашу сла¬
бость, но и заставлять нас испытать себя, чтобы
мы познали нашу слабость и прибегли к мило¬
сердию Божьему». В конце концов были обна¬
ружены туберкулез и легочное кровотечение.
Теперь он в состоянии лишь добраться от посте¬
ли до письменного стола. Тем не менее он про¬
должает работать в мучениях вплоть до полно¬
го отказа тела. В церковь и в лекционный зал
его приходится вносить, но он не отказывается
от своих задач. Страстная вера избранного до
самого последнего момента питает пламя рефор¬
маторской активности.
304
Умерающий Кальвин
20 Зак. 275
Жан Кальвин
Физические силы этого человека были исчер¬
паны уже в 54 года. 2 февраля 1564 года он в
последний раз взошел на свою преподаватель¬
скую кафедру, а 6 февраля - на церковную ка¬
федру церкви св. Петра. После этого он попро¬
сил отнести себя в ратушу, чтобы попрощаться со
своим светском начальством. На Пасху его в
последний раз принесли в церковь, где он со
своей общиной в последний раз праздновал при¬
частие. 24 марта у постели больного собралась
«Venerable Compagnie». 28 апреля он трогатель¬
но попрощался с женевскими священниками, при¬
чем его последними словами были: «Вам пришлось
вынести много моих ошибок. Пожалуй, все, что я
сделал, ничего не стоит. Злые сумеют использовать
для себя эти слова. Но я повторяю еще раз, что все,
что я сделал, ничего не стоит и что я - жалкое
создание. Но я могу сказать, что я всегда хотел
добра, мои недостатки всегда вызывали у меня
недовольство и в моем сердце всегда был страх
Божий. И Вы вполне можете сказать, что мои на¬
мерения были добрыми, и я прошу Вас простить
мне все зло». В последующие дни и недели рефор¬
матор в ясном сознании и постоянной молитве
ожидал смерти. Избранный тем временем его
преемником Теодор фон Беза навещал его еже¬
дневно. 75-летний Вильгельм Фарель еще раз по¬
спешил в Женеву, чтобы попрощаться с другом,
306
Становление
которого он три десятилетия назад призвал сюда
и который настолько его превзошел. Община и
город принимали живейшее участие в судьбе
своего великого реформатора. 27 мая 1564 года
в 8 часов вечера Жан Кальвин тихо и мирно скон¬
чался. Он был погребен на следующий день при
большом стечении народа на кладбище Пленпале
в Женеве.
В своем завещании он оговорил, чтобы его
могила была отмечена камнем или каким-то дру¬
гим памятным знаком. Вскоре место сровняло с
землей, а.немного спустя даже сами женевцы не
могли указать иностранцам, где похоронен их ре¬
форматор. Это еще раз показывает, насколько его
дело заслонило его личность, которой суждено
было это дело свершить. И после смерти рефор¬
матора это еще раз доказало, как мало Кальвин
преследовал свои интересы - по сравнению с ин¬
тересами дела, которое определило его жизнь, и что
честь следует оказывать одному лишь Богу.
20*
ФЕНИКС
Торгово-издательская
фирма
• Оптовая и розничная торговля книжной
продукцией
• Издание книг и финансирование
издательской деятельности своих
партнеров
• Быстрообновляемый разнообразный
ассортимент (всегда в наличии более 3000
наименований популярных книг)
• Своевременная доставка книг контейнерами
и автотранспортом
в любую точку России
• Умеренные цены
НАДЕЖНОСТЬ, КАЧЕСТВО, ОПЕРАТИВНОСТЬ
Наш адрес:
344007, г. Ростов-па-Дону,
пер. Соборный, 17
Тел. (8632)62-55-27, 62-47-07
Факс: 62-38-11
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ
ДЛЯ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
к
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ И НАУЧНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ В ОБЛАСТИ
СОЦИАЛЬНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ
НАУК
— ЮРИСПРУДЕНЦИИ
— ПРОГРАММИРОВАНИЯ
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
' 4 - „ -
Адрес. г.Москва, ул. Болыиая Переславская, 46
' 4';v4/f
^ w S
r~v*yi^ *yv" f-л, а 50*“:'-.
Книги, выпущенные
издательством
«Феникс»
СЕРИЯ
«СЛЕП В ИСТОРИИ»
В книгах представлены деяния людей, оста¬
вивших след в истории, искусстве, музыке,
литературе. Гении и злодеи,
почитаемые и ненавидимые, олицетворившие
созидание и приведшие к упадку, все они жили,
дышали и оставили память о себе
Ф
Р. Кнехт
Ришелье
Тильман Нагель
Тимур-завоеватель и исламский
мир позднего средневековья
I Шахермайр
Александр Македонский
Итог многолетних исследований авст¬
рийского историка Ф. Шахермайра,
связанных с личностью и деятель¬
ностью македонского царя Алек¬
сандра, книга охватывает все пе¬
риоды его жизни. Дается представ¬
ление о той обстановке, которая
окружала Александра с детства,
рассказывается об истории Маке¬
донии, о географических и соци¬
ально-экономических особенностях
этой страны.
|
1
|
1
!
1
п : : : : : &
И.Ш. Кораблев
Г аннибал
Б книге рассказывается об одном
из крупнейших полководцев всех
времен и народов — Ганнибале,
о борьбе Карфагена с Римом в
III—И вв. до н. э. и причинах,
приведших Карфаген к гибели.
*
1
1
i
Го Ферреро
Юлий Цезарь
Предлагаемая вниманию читателя
биография Юлия Цезаря принадле¬
жит перу итальянского историка и
психолога Гульельмо Ферреро. На¬
писанная блестящим стилистом и
оригинальным мыслителем, книга
будет интересна не только специа¬
листам, но и всем любителям исто¬
рии. Взгляд Ферреро на жизнь и
деятельность Цезаря заметно отли¬
чается от трактовок Т. Моммзена,
С. Л. Утченко и других биографов
знаменитого диктатора.
Публикация русского перевода тек¬
ста Ферреро (переводчик А. Захаров)
была осуществлена в 1916 году изда¬
тельством М. и С. Сабашниковых.
Мо Андерсон
Петр Великий
Книга известного английского ис¬
торика освещает с необычной
для русского читателя позиции
жизнь великого царя.
И. Роббинс
Черчилль
Книга известного английского исто¬
рика представляет вниманию рус¬
ского читателя известные и неиз¬
вестные факты из жизни самого
знаменитого премьер-министра
Великобритании.
Ж
Б, Лебедев
Ломоносов
О.Н. Михайлов
п!
Суворов
Б книге О. Михайлова «Суворов» рас-1
сказывается о человеке, с именем 1
которого связано представление о |
героическом духе русской армии, 1
великих победах русского оружия. 1
В повествовании сочетаются доку-1
ментализм и живость изложения,
портретные зарисовки и богатство }
исторических фактов. |
шиш
Г. По Бердников
А. П. Чехов
Книга Г.П. Бердникова, известного
литературоведа, автора рада работ
об А.П. Чехове, является биографи¬
ей великого русского писателя.
Автор раскрывает внутренний мир В
А.П. Чехова, знакомит читателя с |
ходом его мыслей, показывает вза-1
имоотношения с современниками. 1
Книга основана на обширном доку-1
ментальном материале. [
Г""" ^ ' ' ' '
*
Б. Грибанов
Хемингуэй
Более 40 лет жизни отдал Эрнест
Хемингуэй литературе. О событиях,
повлиявших на творчество писа¬
теля, повествует автор книги.
Анри Перрюшо
Ван Гог
Ян Кершоу
Г ишлер
В книге известного историка Яна
Кершоу сделана попытка создания
сколько-нибудь полного тематиче¬
ского исследования власти Гитлера. J
Это позволило автору ответить на
некоторые вопросы, до сих пор i
дискутируемые в научных кругах.
Почему из всех национал-расистских
фанатиков в Германии выдвинулся -
именно Гитлер? Как он смог взять j
под контроль механизм современ- i
ного общества и был ли он дей-3
ствительно руководителем, прини- ?
мавшим ответственные решения?
В течение года Ян Кершоу работал ,
в научно-исследовательском инсти¬
туте в Берлине с германскими ори¬
гинальными текстами.
Подвергая глубокому анализу про- •
цесс формирования чудовищной ма- 5
шины Третьего Рейха, ш .
профессор приходит к
интереснейшим выво-
дам о природе и про-
явлениях диктаторской PpyOTv1
силы Гйтлера.
t
%
\
<
Даннинг Р. У.
Артур — король Запада
История короля Артура и рыцарей
Круглого Стола обладает удивитель¬
ным обаянием. Она не только по¬
пулярна, но и противоречива. У
историков существуют диаметраль¬
но противоположные точки зре¬
ния на главную фигуру — короля
Артура, поскольку письменных сви¬
детельств очень мало и те трудны
для интерпретации.
Книга прослеживает легенду, сводя
вместе археологию, ранние и срав¬
нительно поздние источники, тра¬
диции и миф.
Она сосредотачивается в особенно¬
сти на древнем аббатстве Гластон¬
бери и Южной Кэдберийской кре¬
пости. Первая связана с Артуром
Темных времен, другая хорошо из¬
вестна спекуляцией на образе ко-
роля-героя и легенде о Граале.
Б поисках объяснения легенды о
короле Артуре в ее правдивом кон¬
тексте книга заинтересует не толь¬
ко увлекающихся историей средних
веков, археологией и литературой.
л***.
Серия <<Исторические силуэты»
Фридрих Вильгельм Кантценбах
Мартин Лютер
Иоахим Штедтке
Жан Кальвин
Редактор:
Корректор:
Художники:
Компьютерный
дизайн:
Простакова Т.
Акентьева Л.
Быкодорова Т.
Лазарева Т.
Ольхов В.
Гончаренко А
Лицензия ЛР № 065194 от 2 июня 1997 г.
Сдано в набор 10.08.98 г. Подписано в печать 14.09.98
Формат 84x108 '/32- Бумага офсетная.
Гарнитура Petierburg.
Тираж 10000 экз. Заказ .N» 275.
Издательство «Феникс»
344007, пРостов н/Д,
пер. Соборный, 17
Отпечатано с готовых диапозитивов
на полиграфическом предприятии «Офсет»
400001, г.Волгоград, ул.КИМ, 6.
'f # След в 15*11 с т о р Ий
«Кальвин немыслим без немецкой
Реформации Мартина Лютера, но верно
и обратное - без Кальвина Реформация
Лютера осталась бы историческим эпи¬
зодом. Ибо о западноевропейский каль¬
винизм разбился натиск контрреформа¬
ции, а без этой подстраховки на Западе
немецкий протестантизм вряд ли смог бы
выдержать Тридцатилетнюю войну...»
Ф
ISBN 5-85-880-382-2