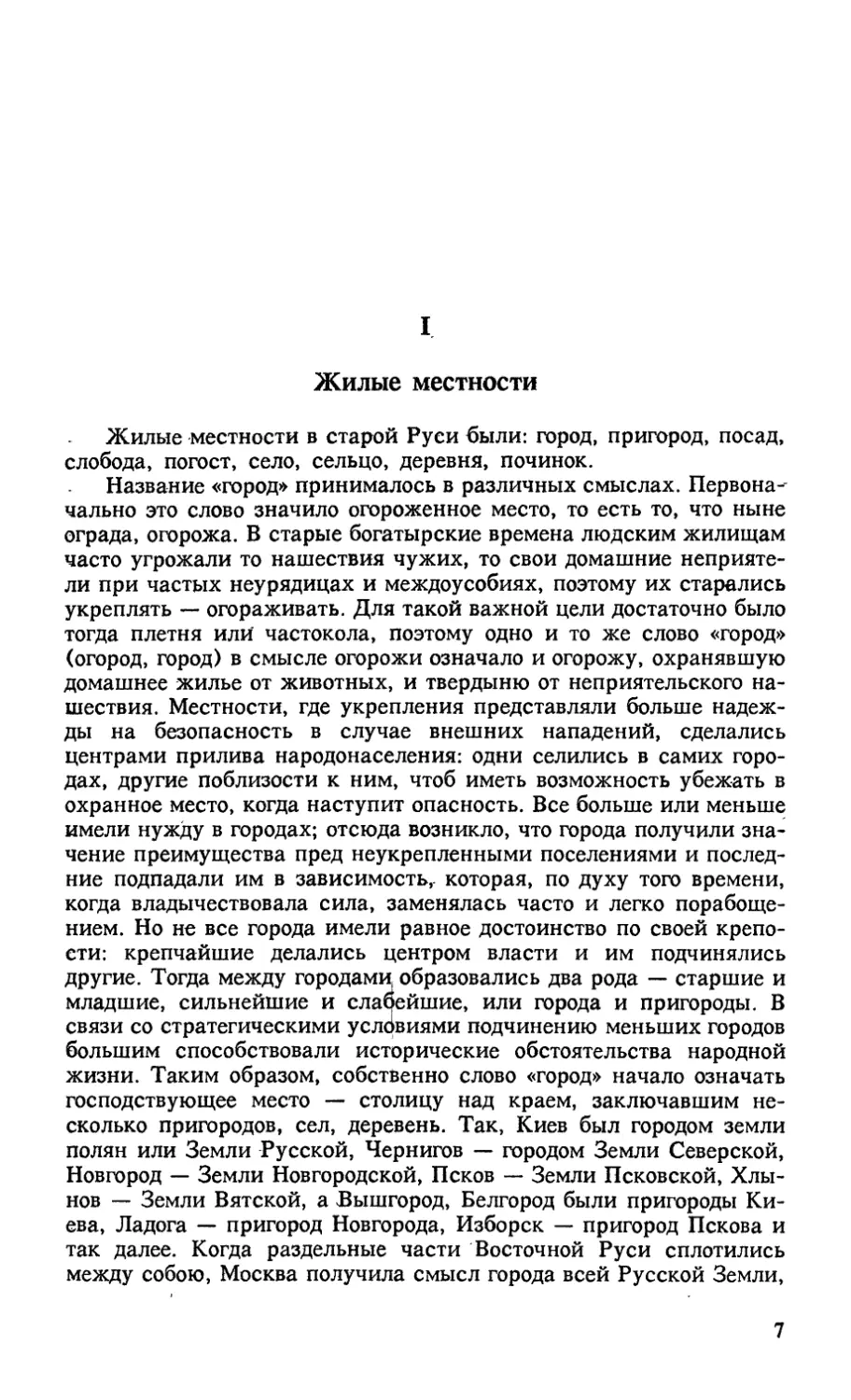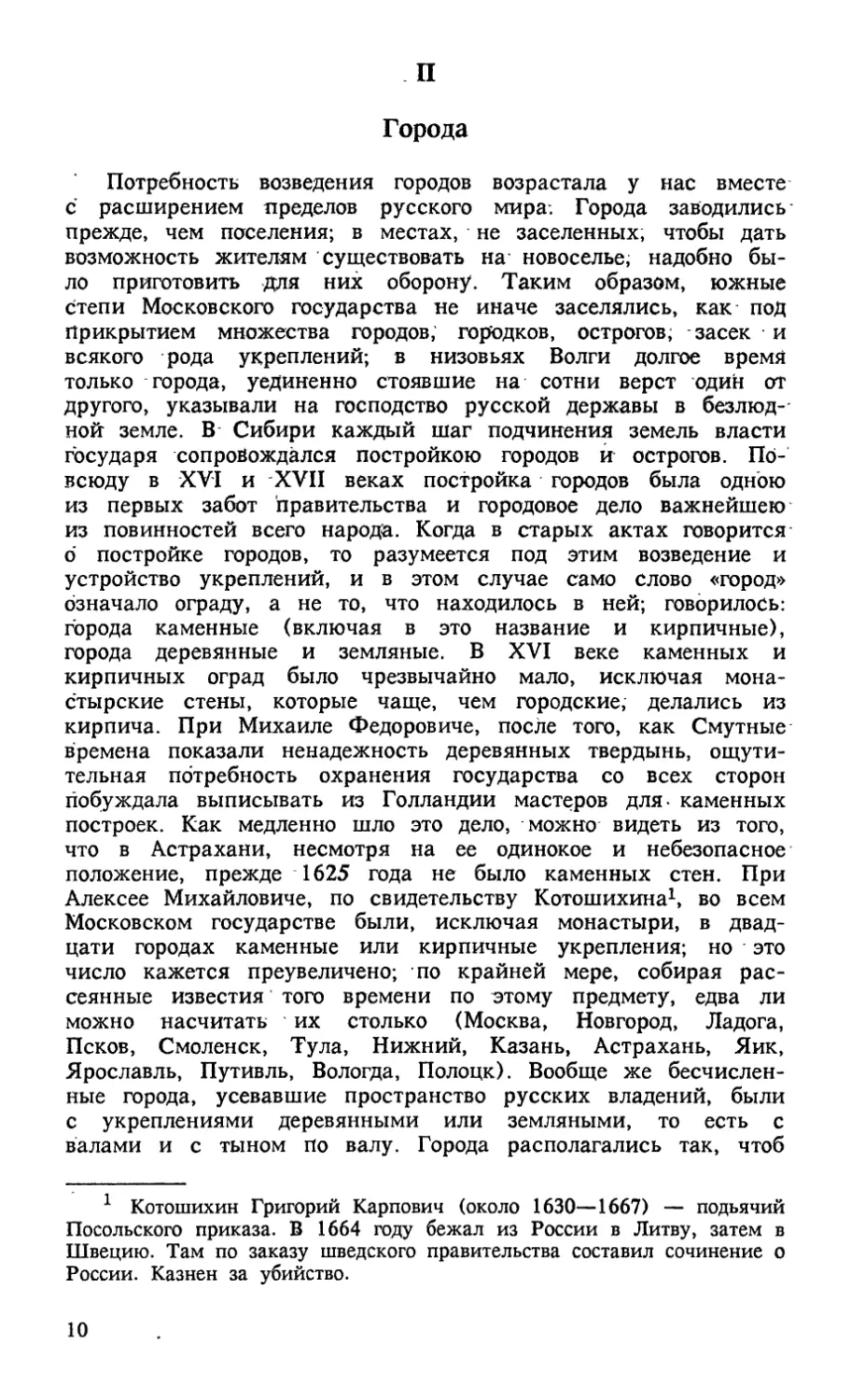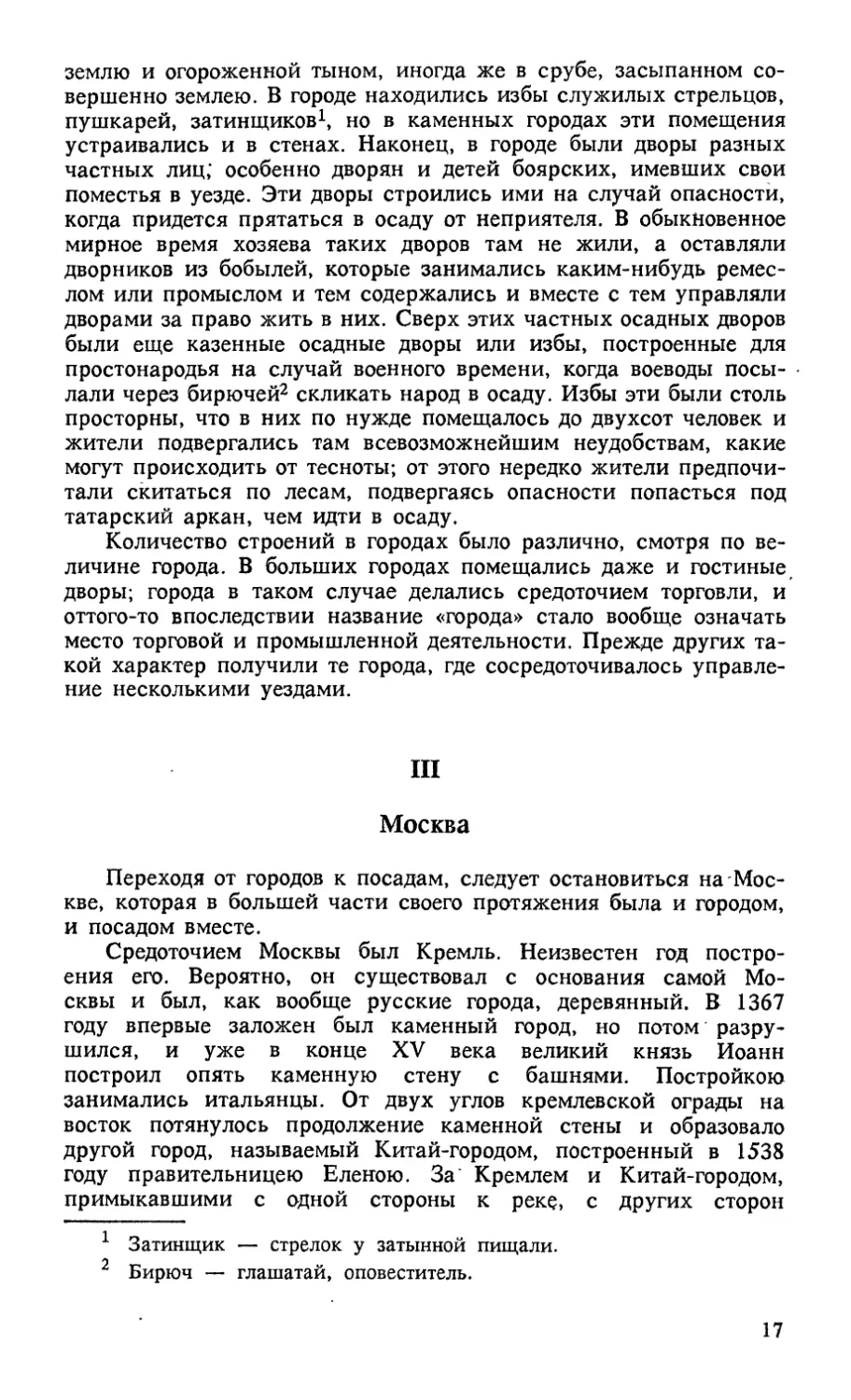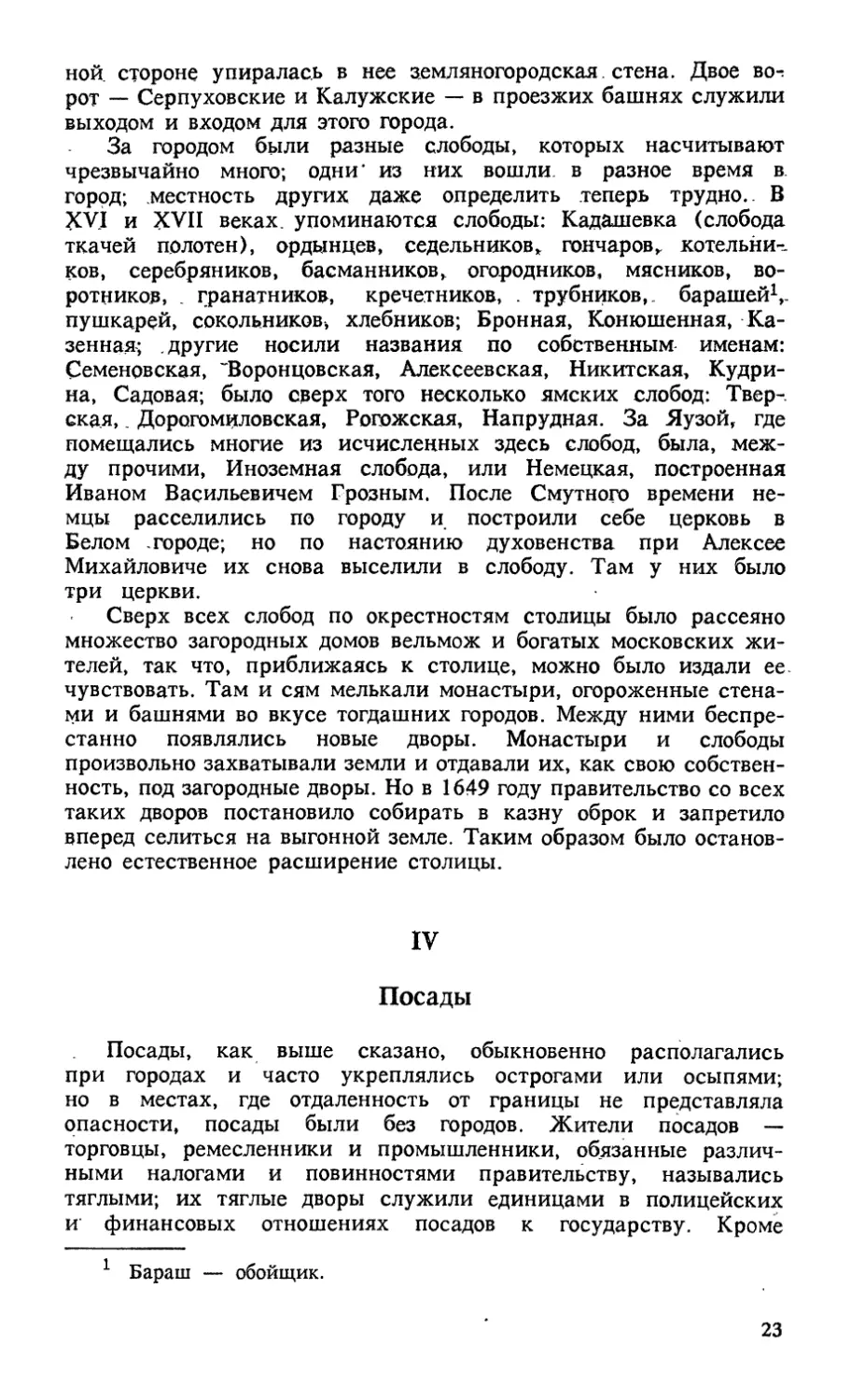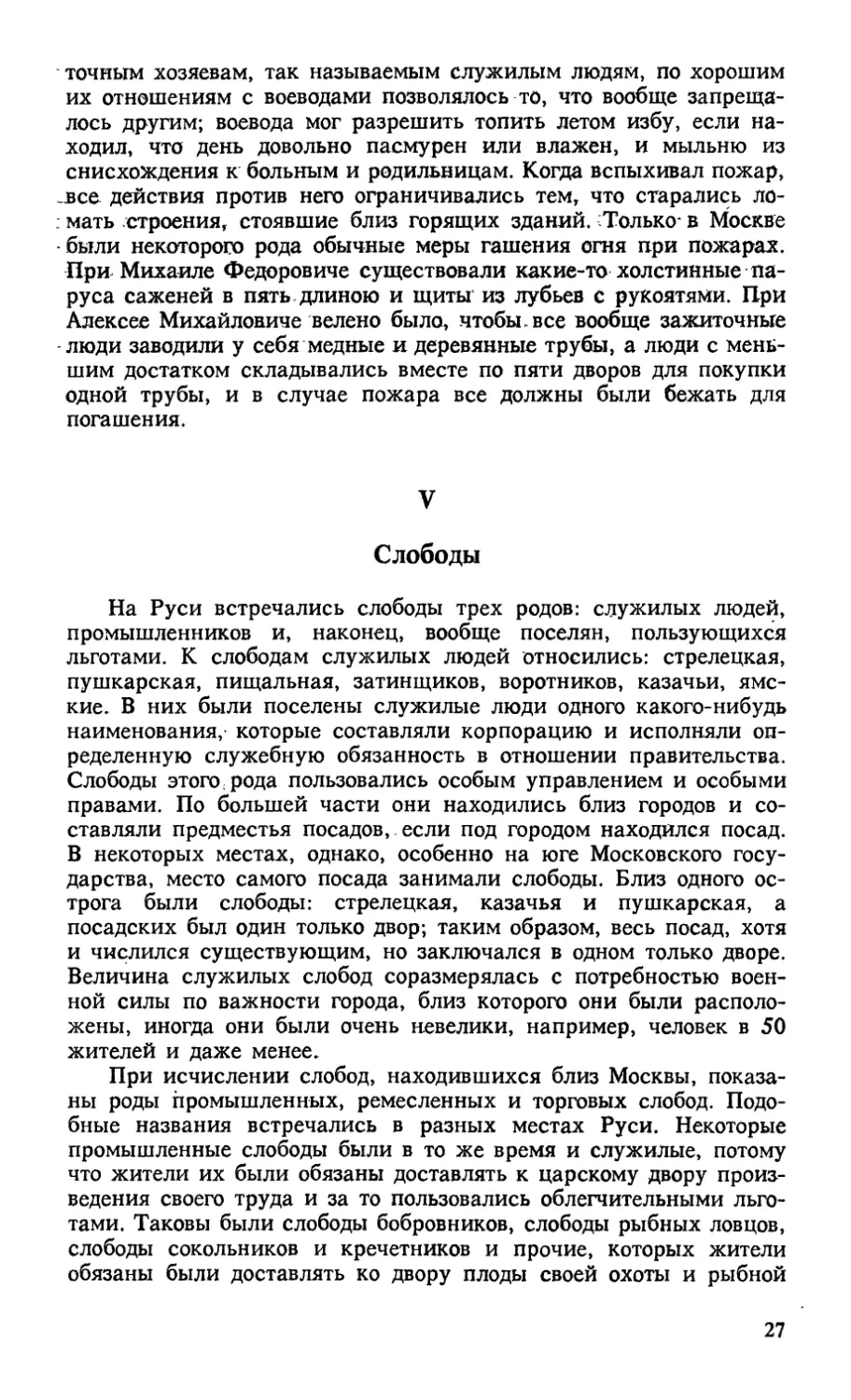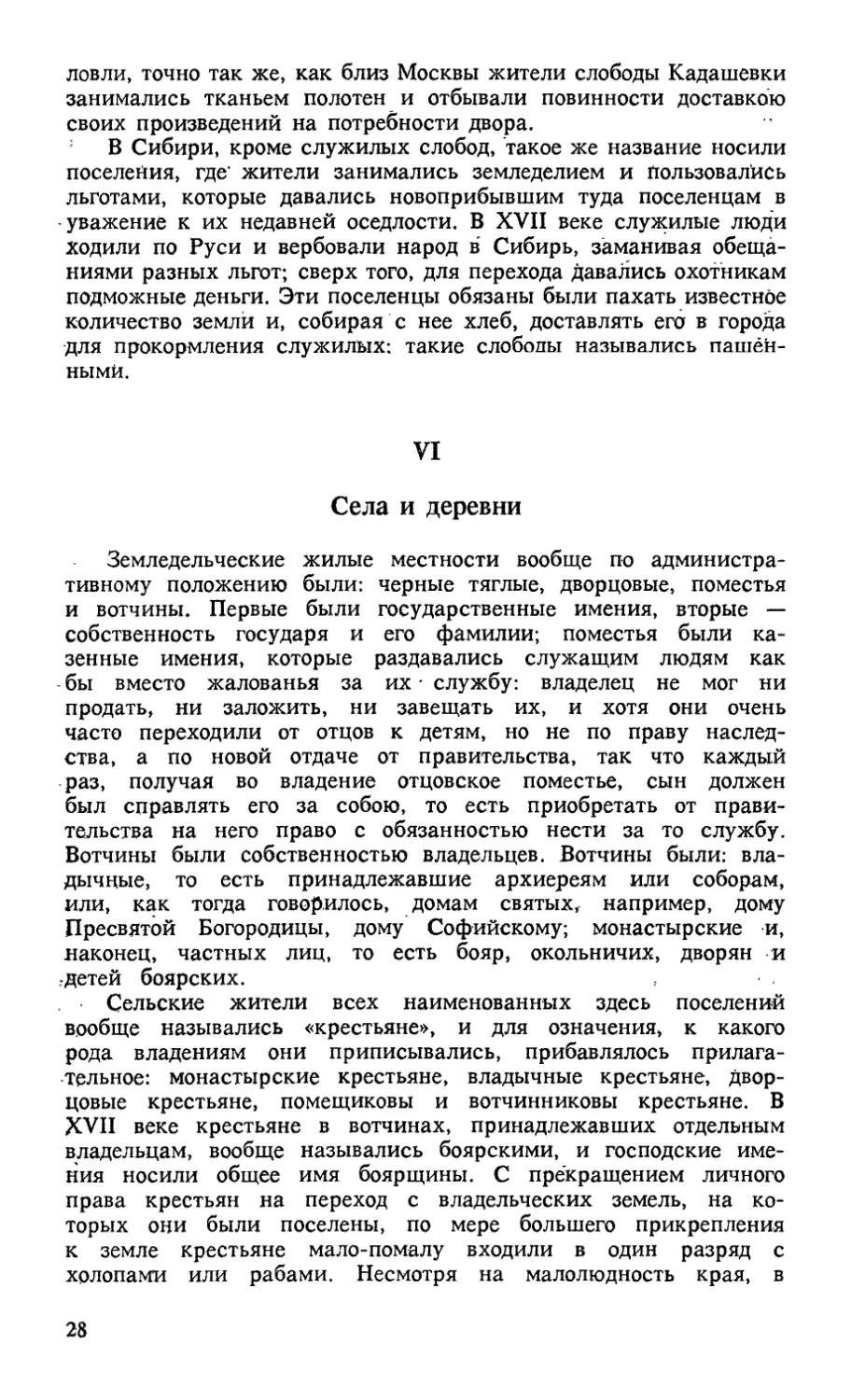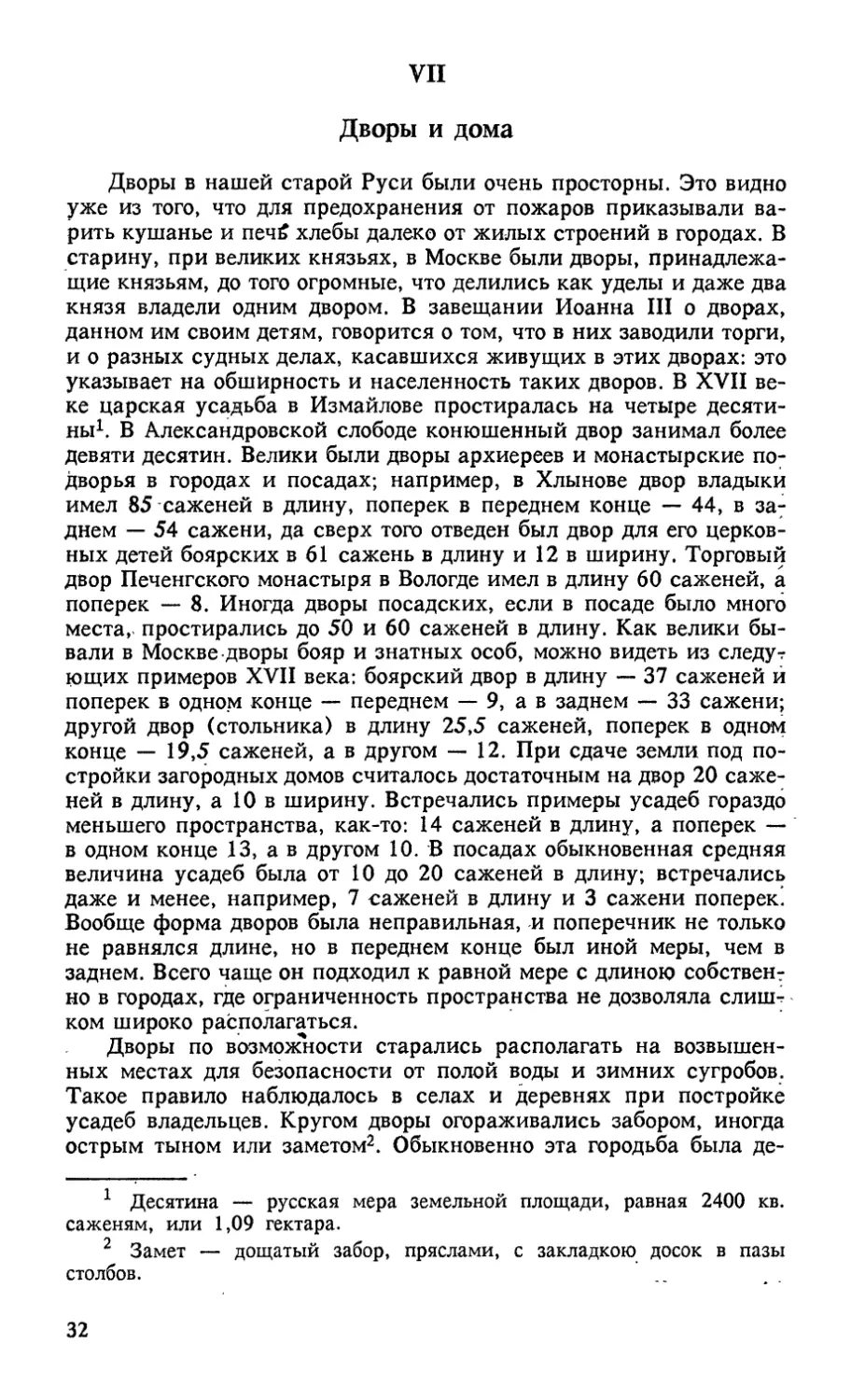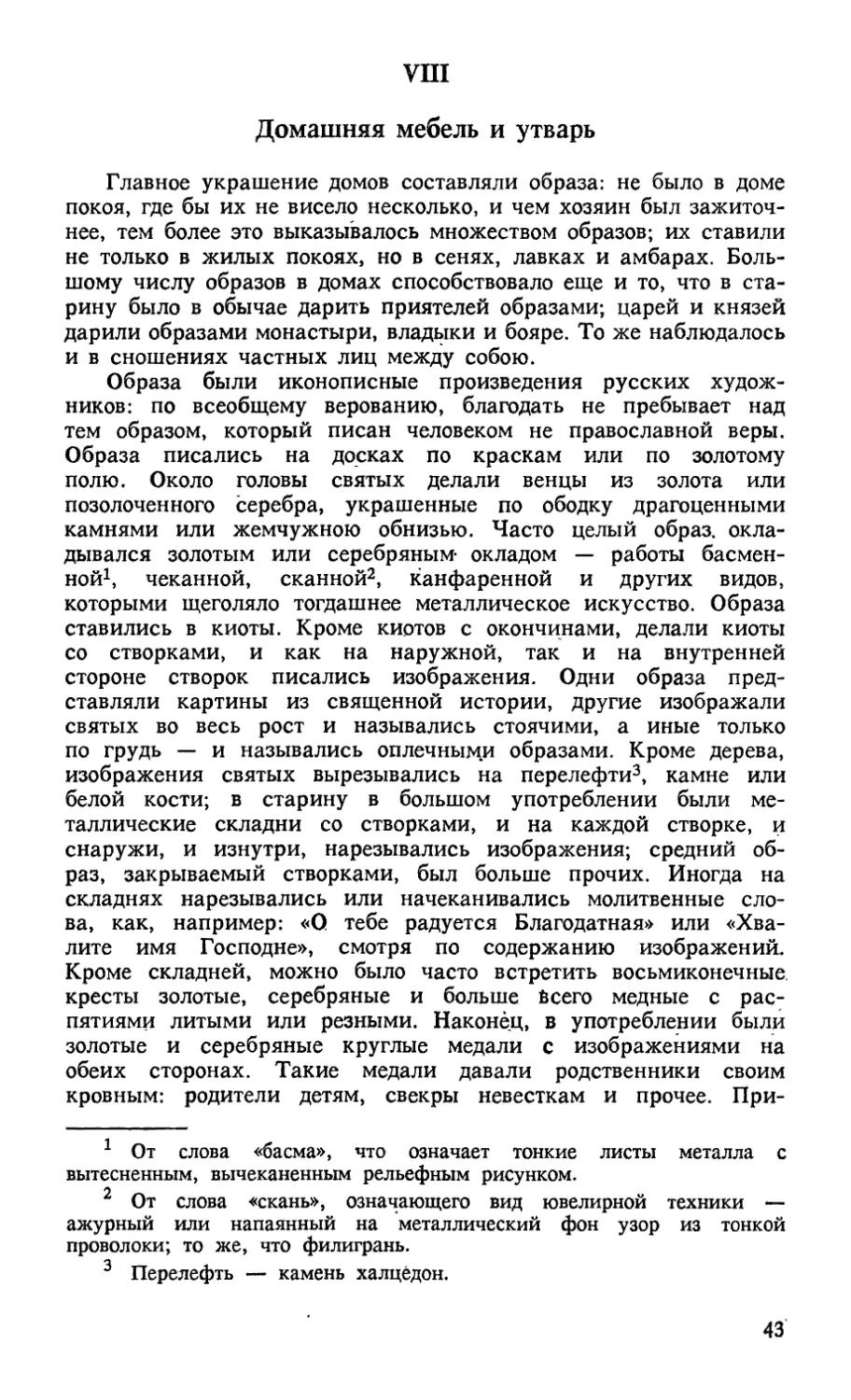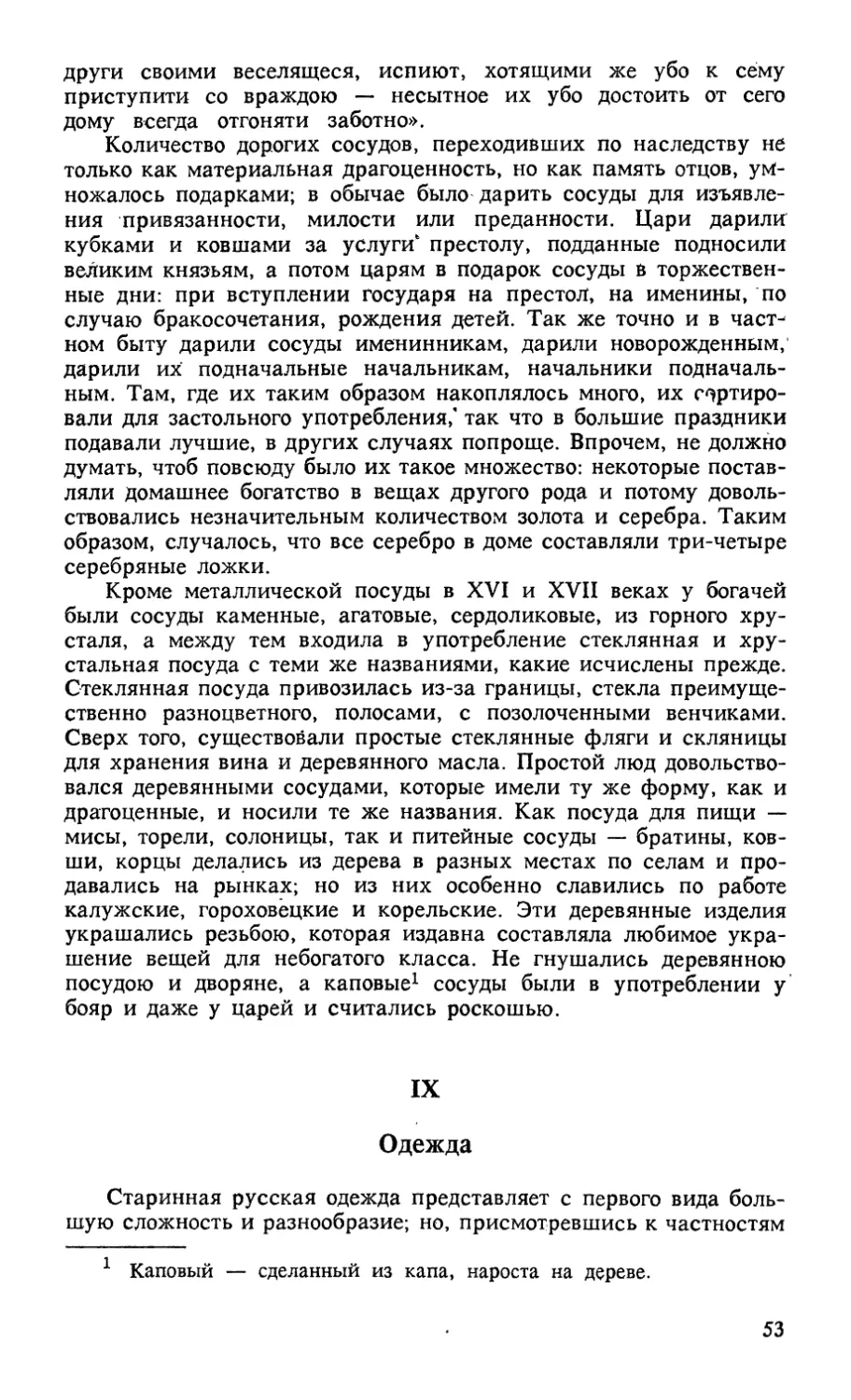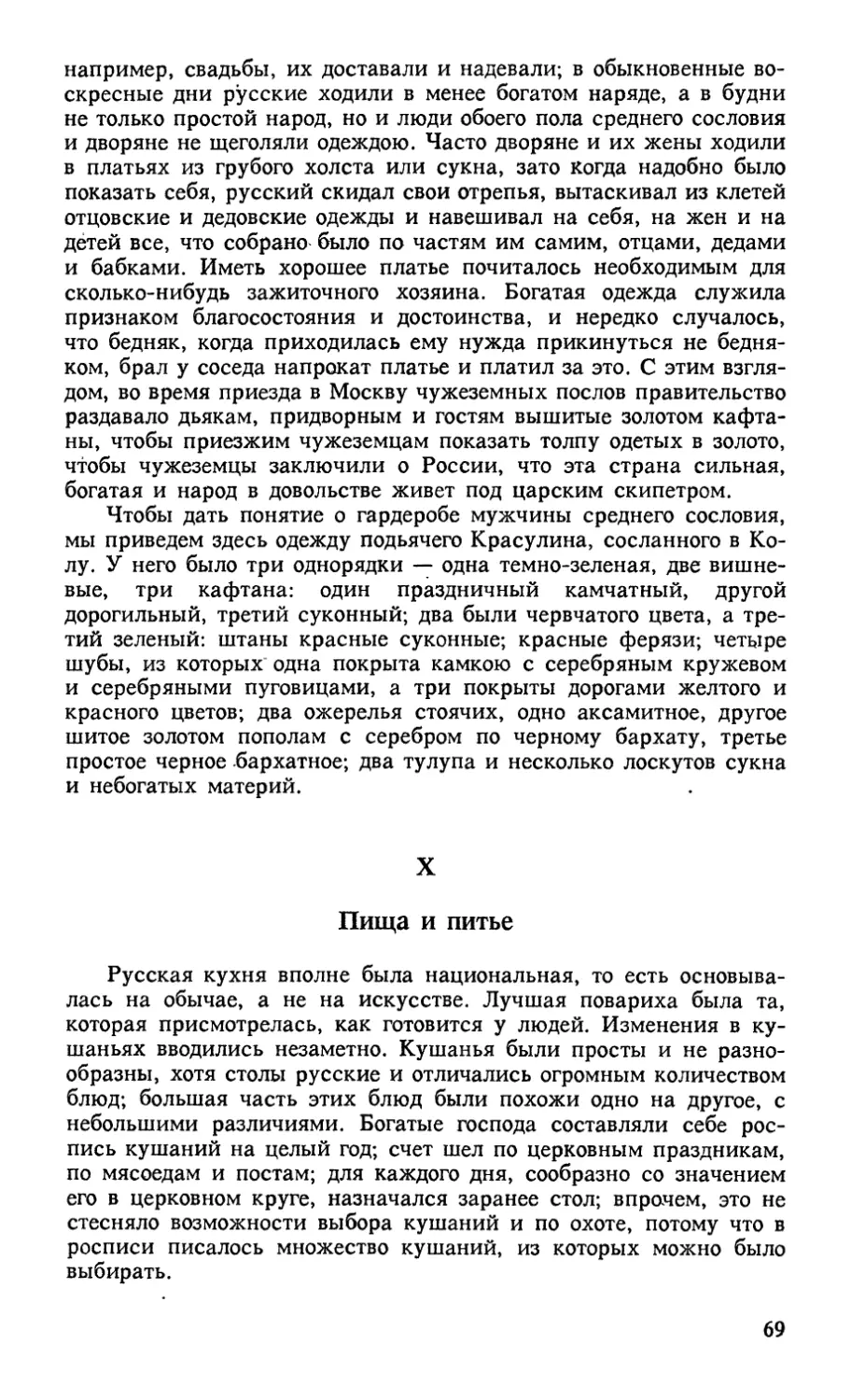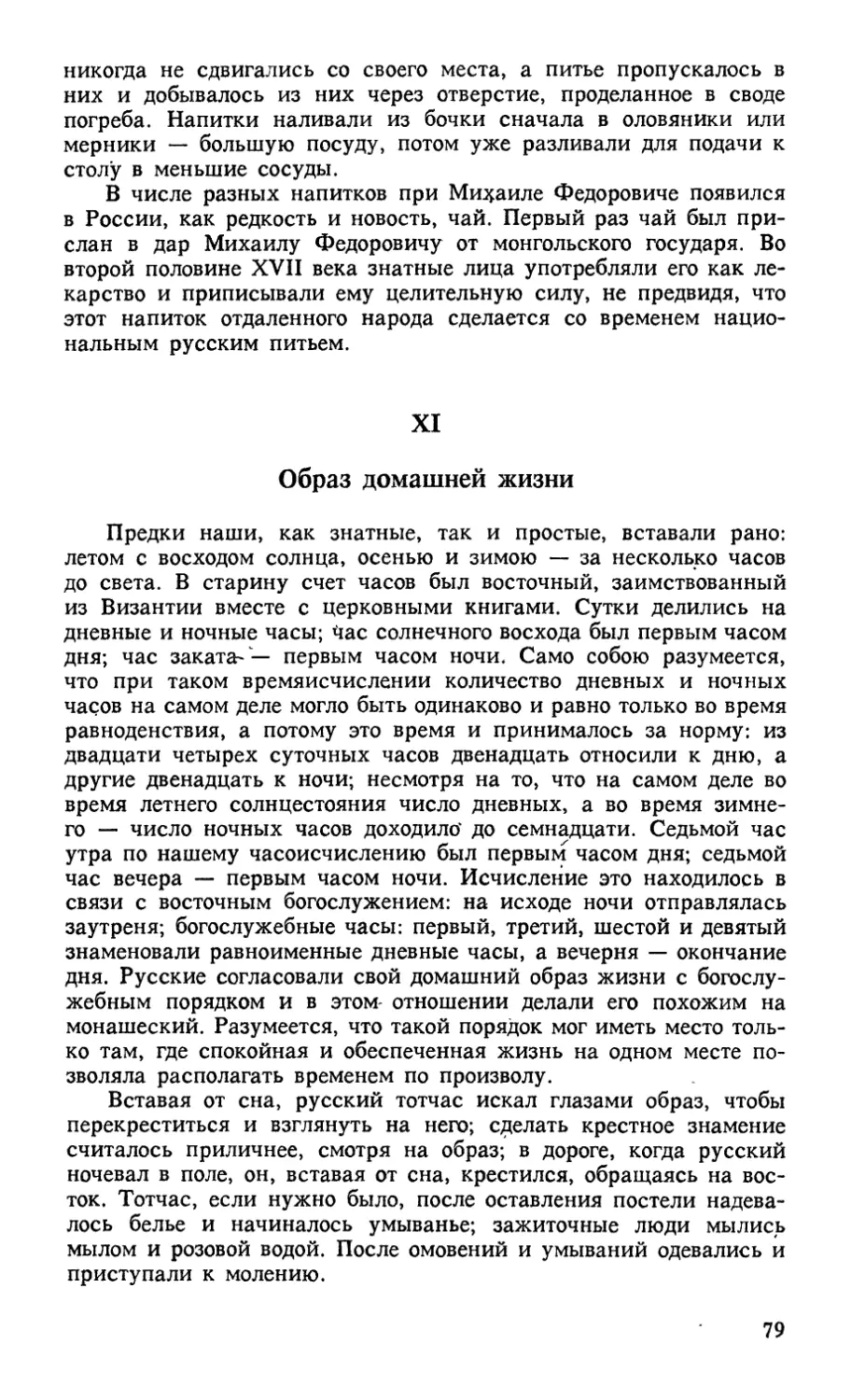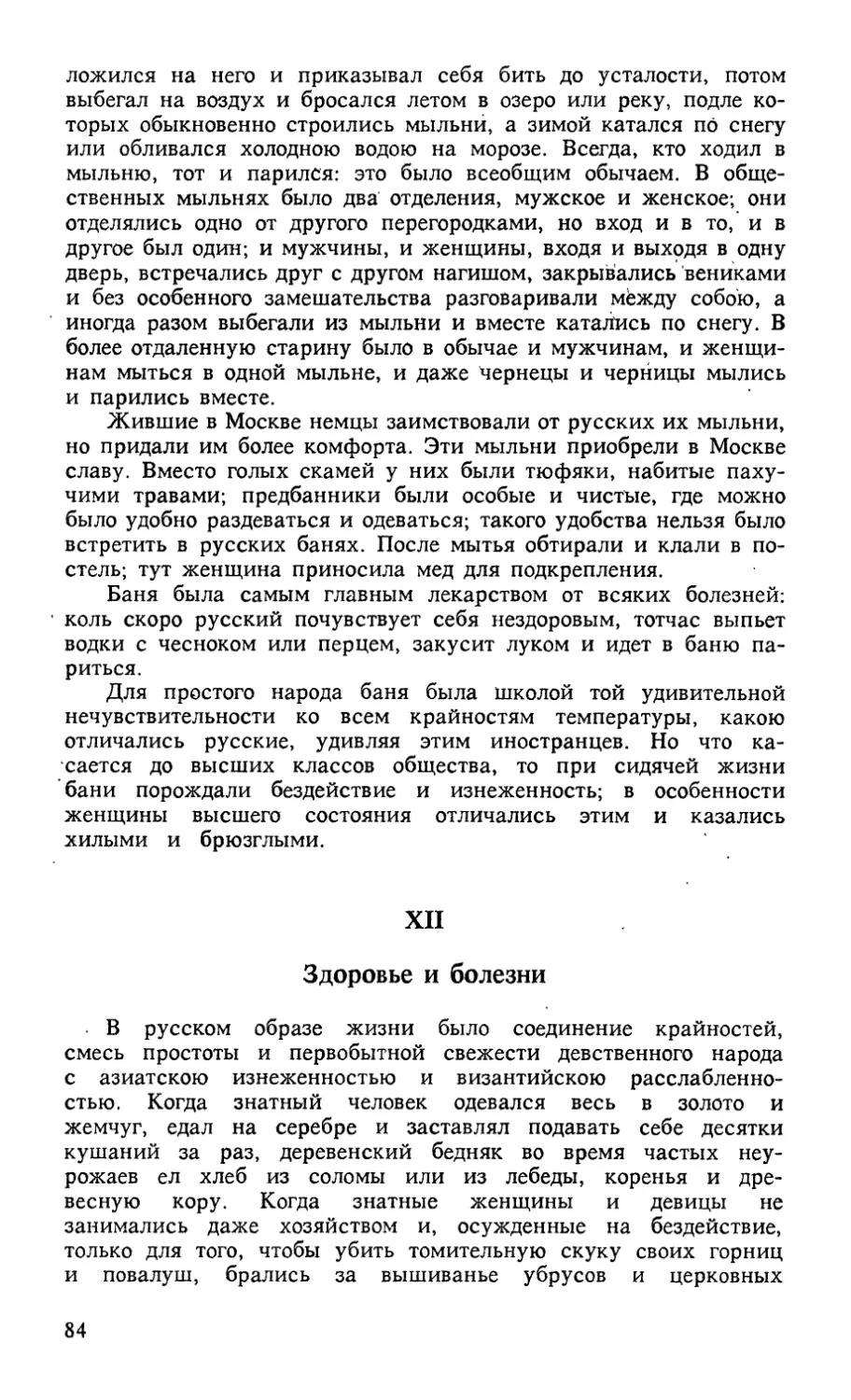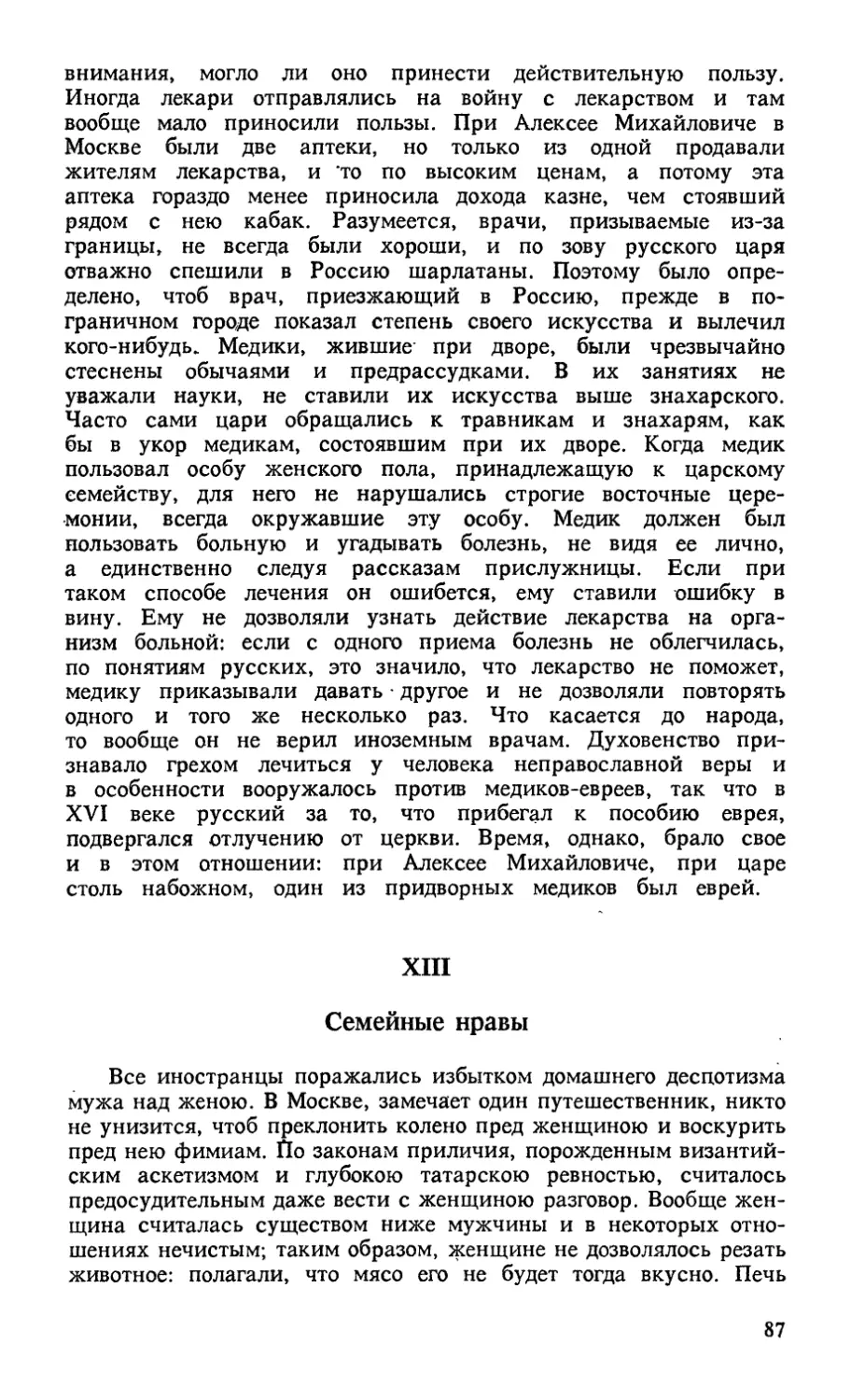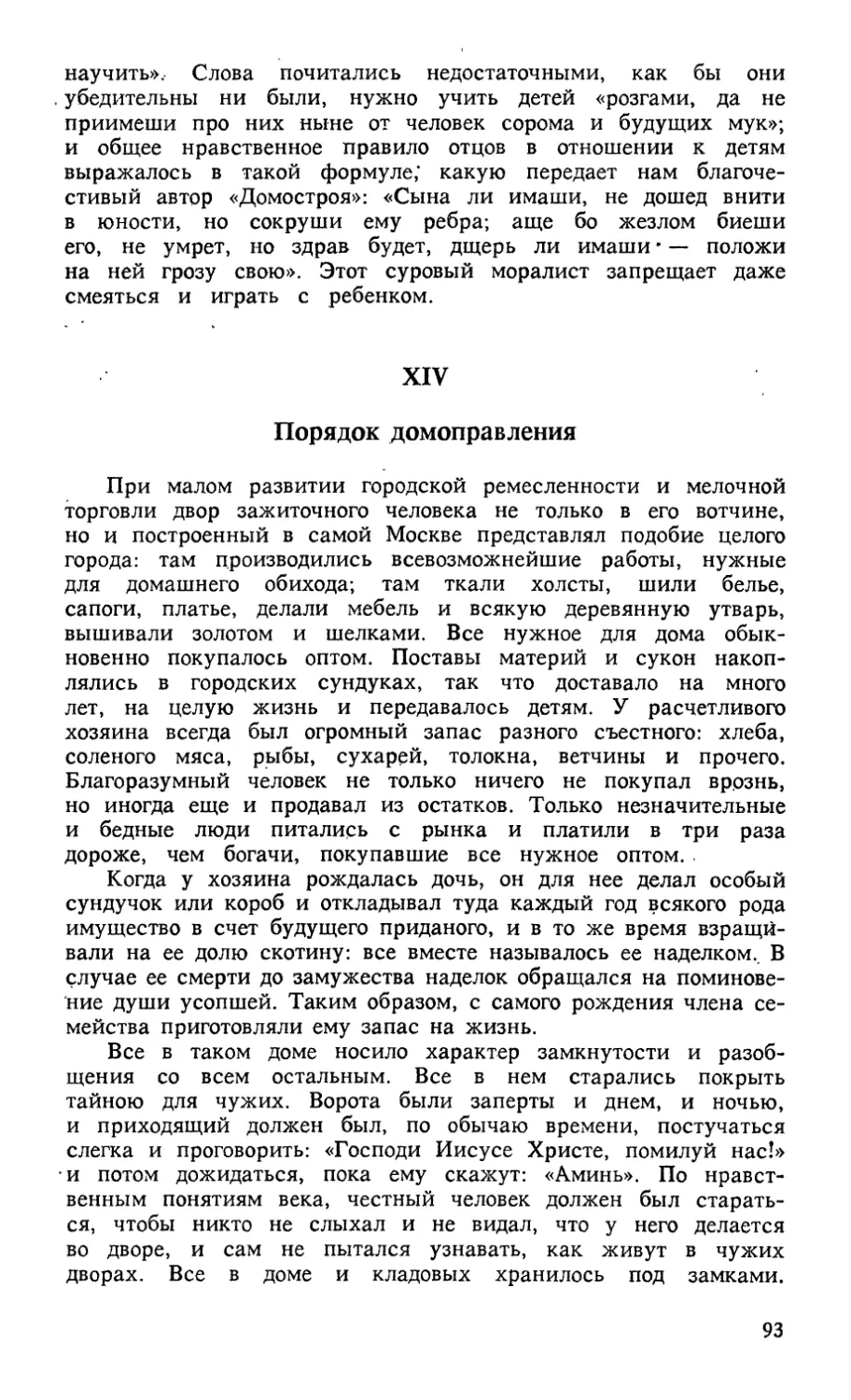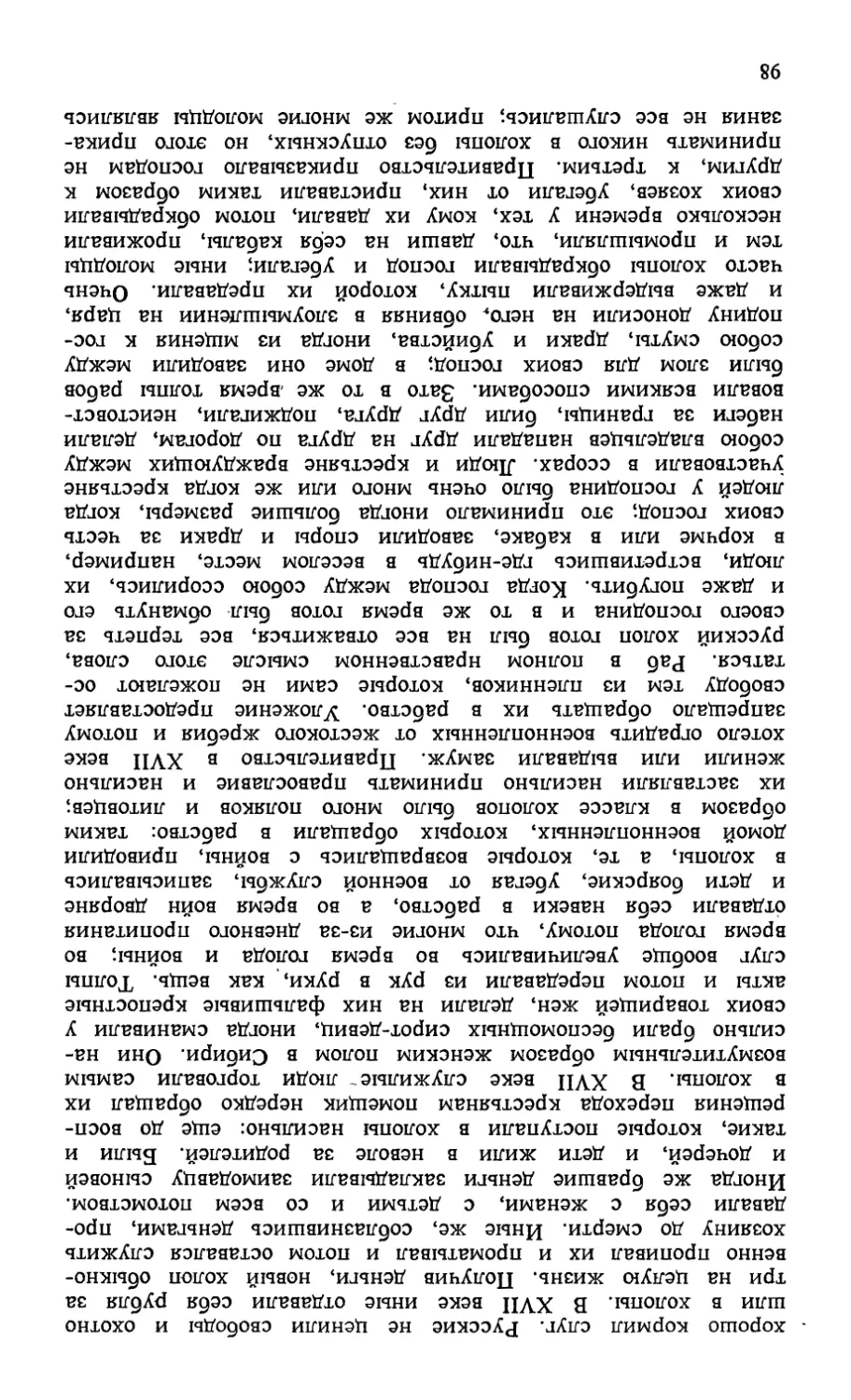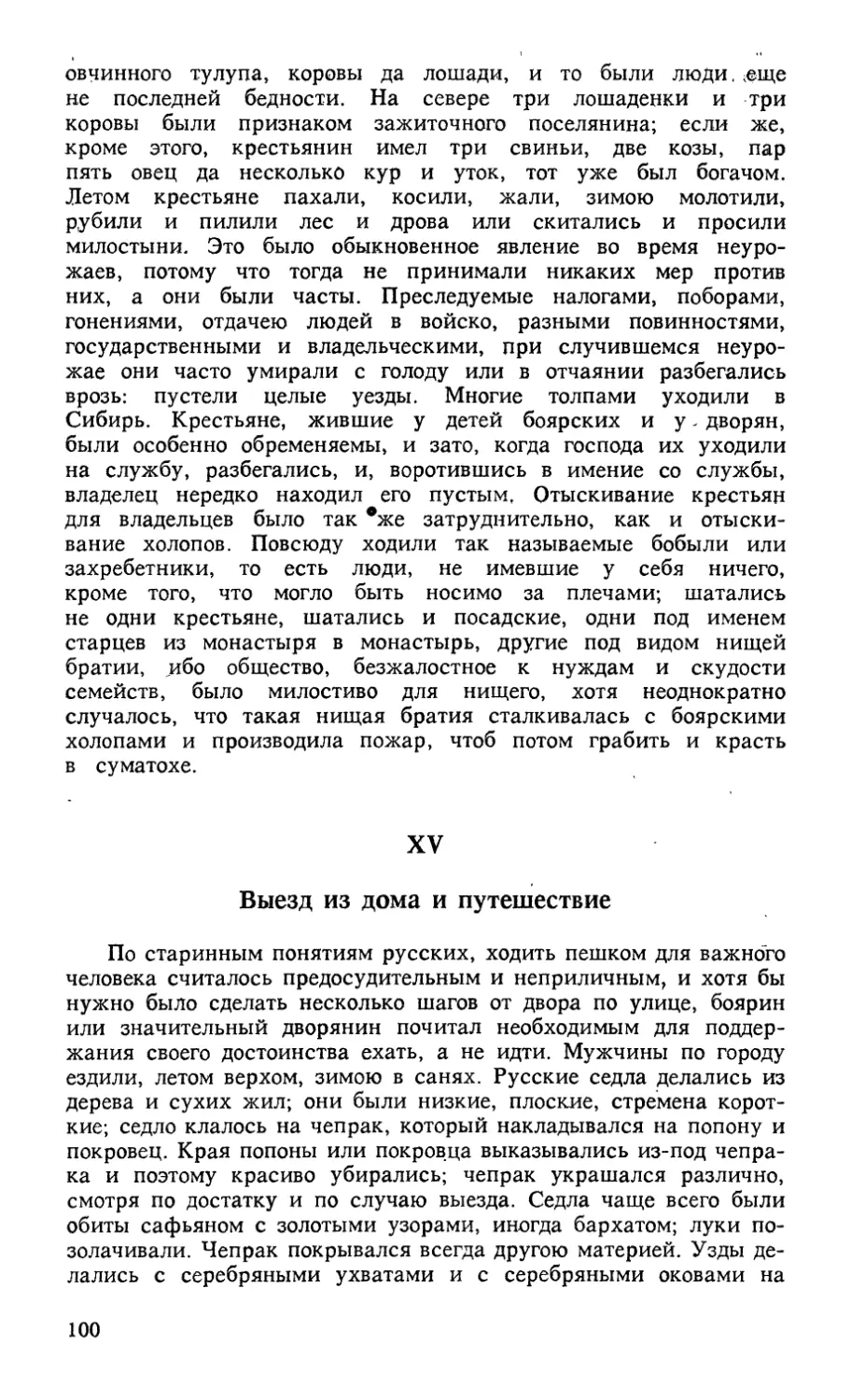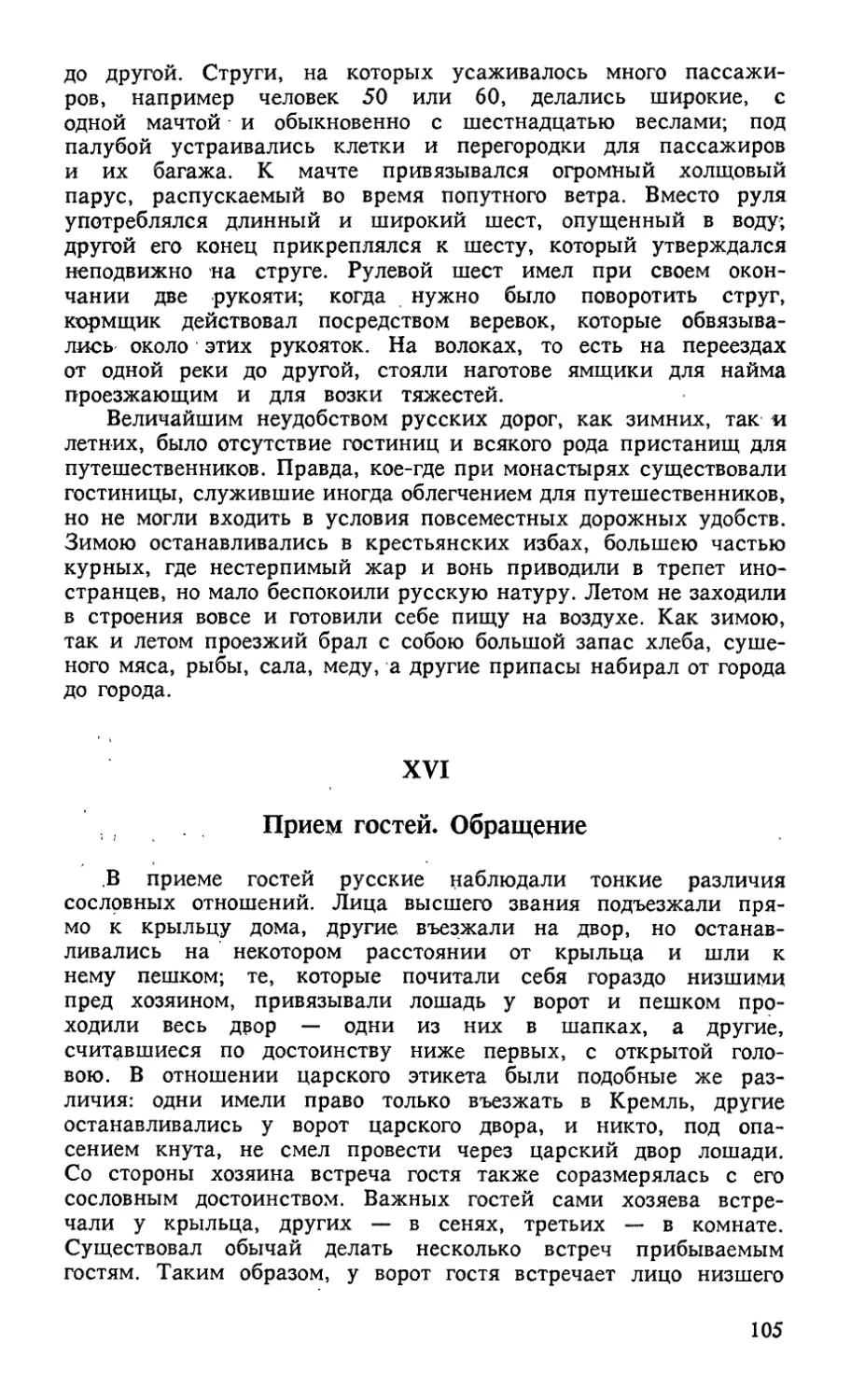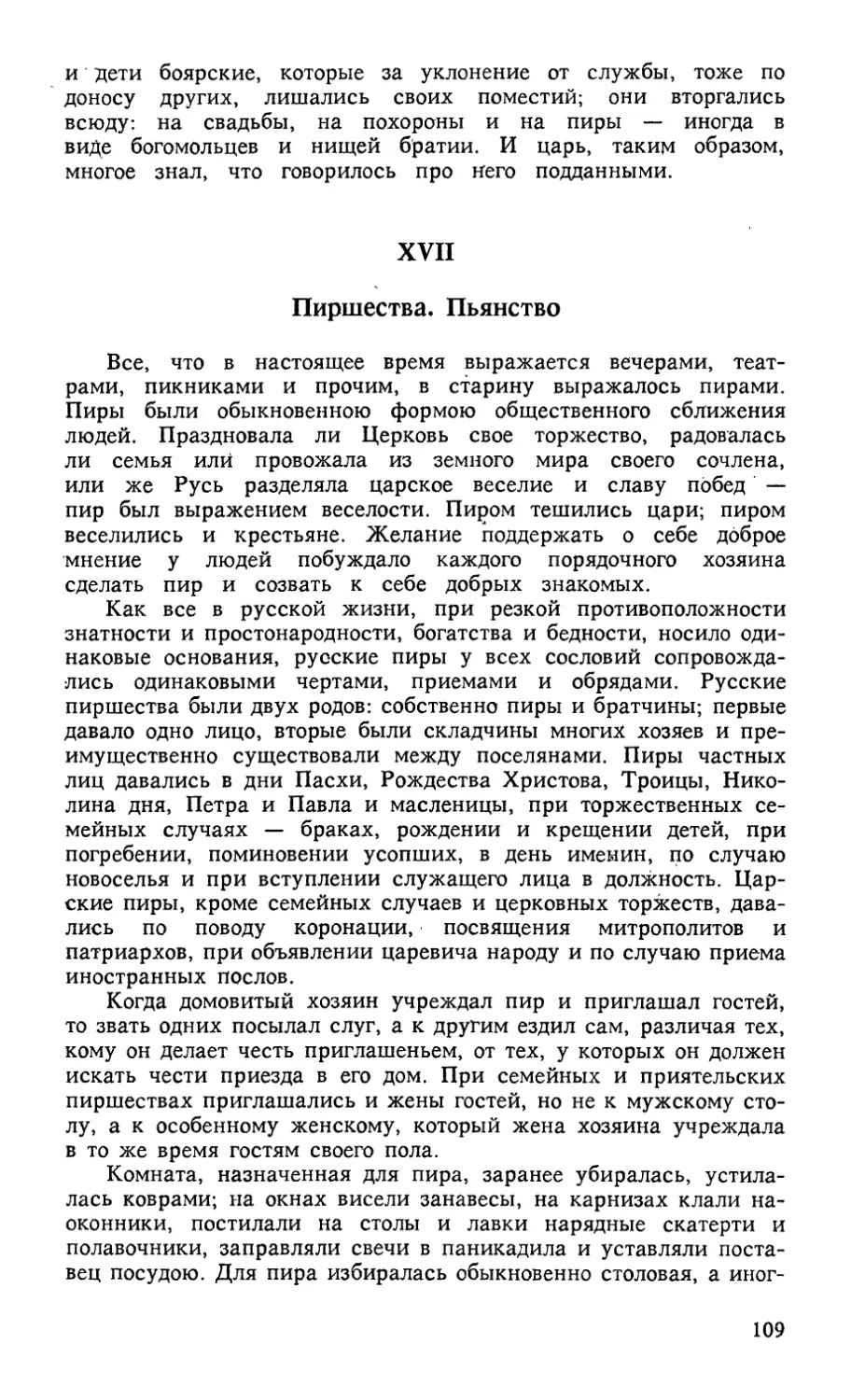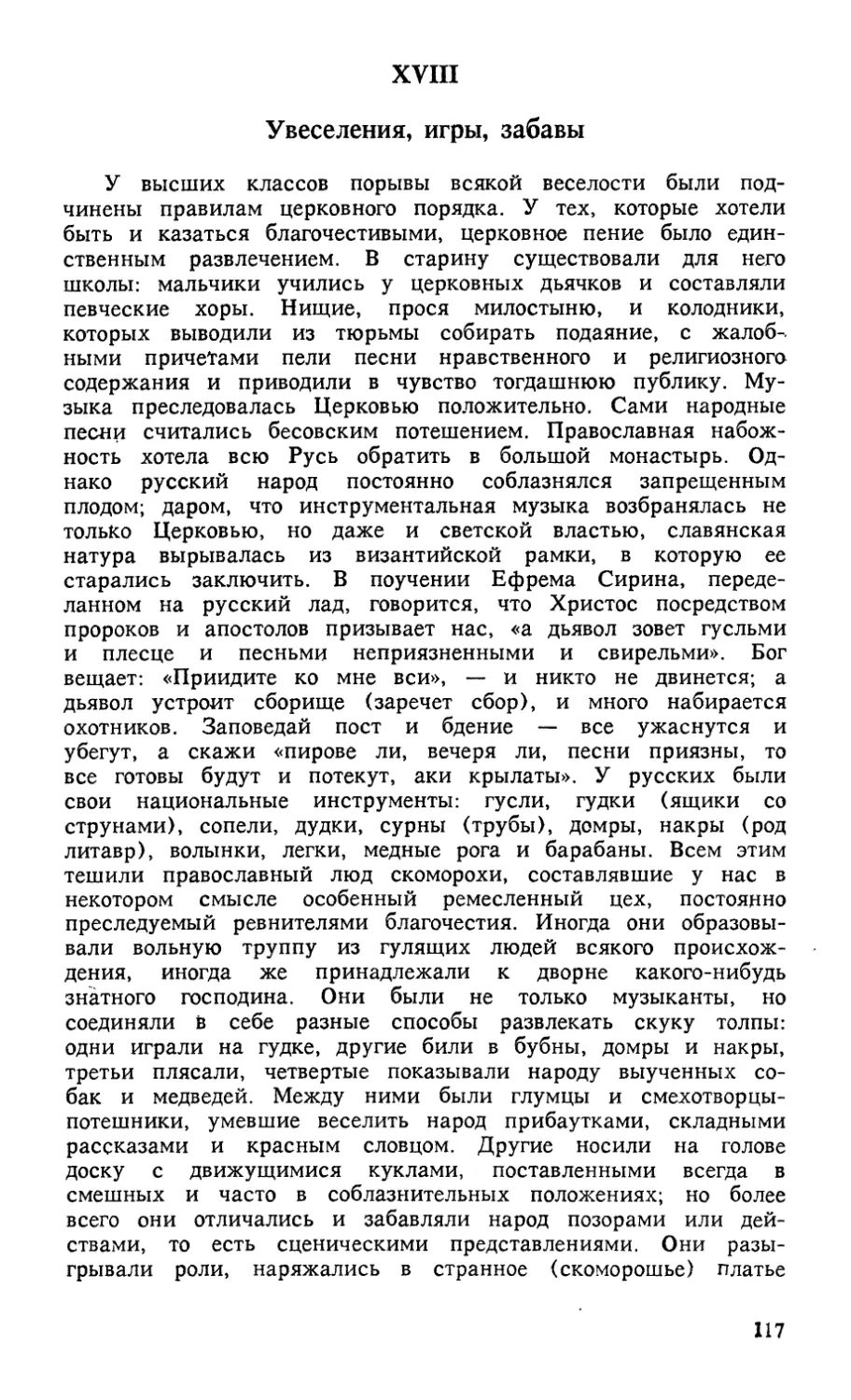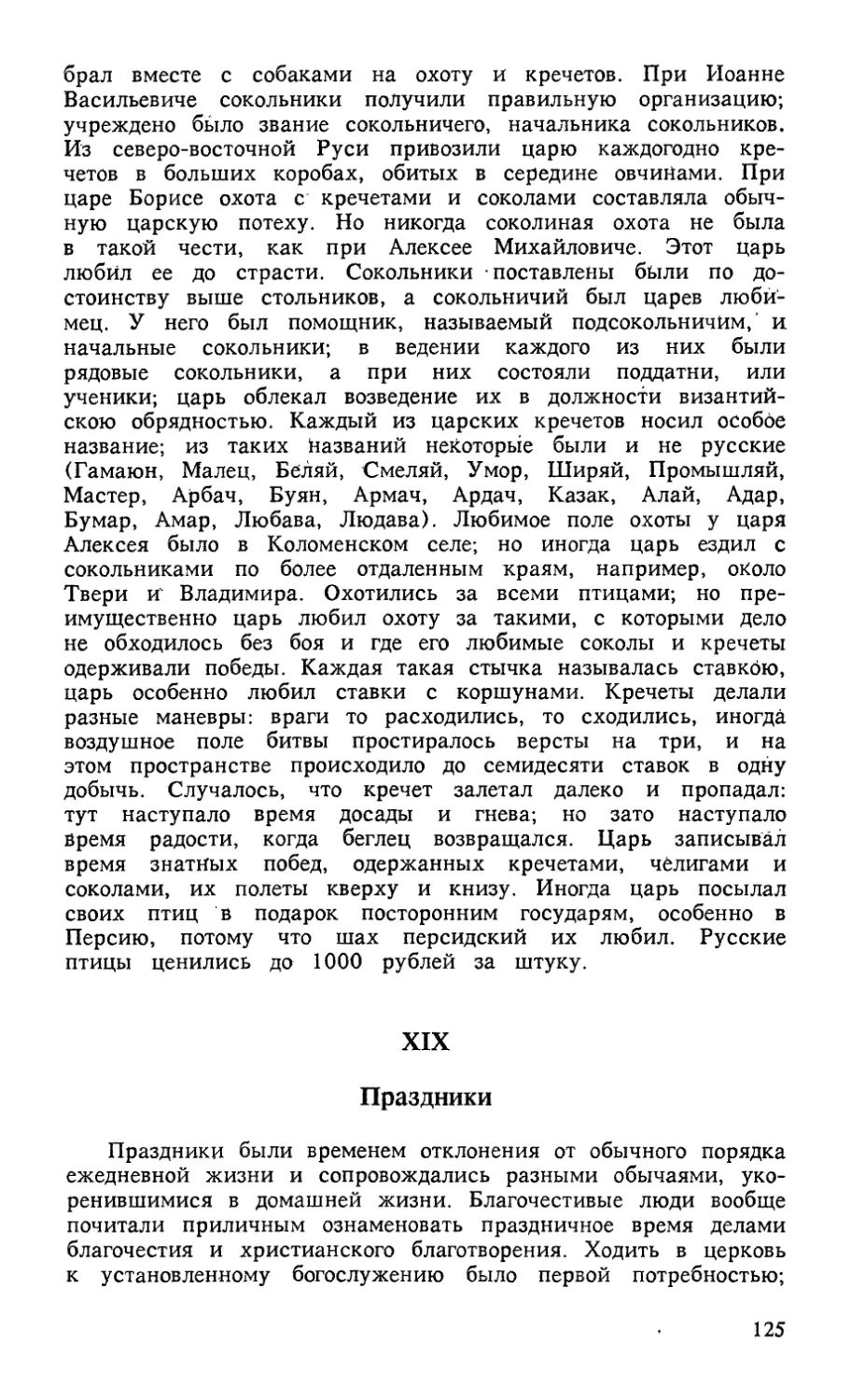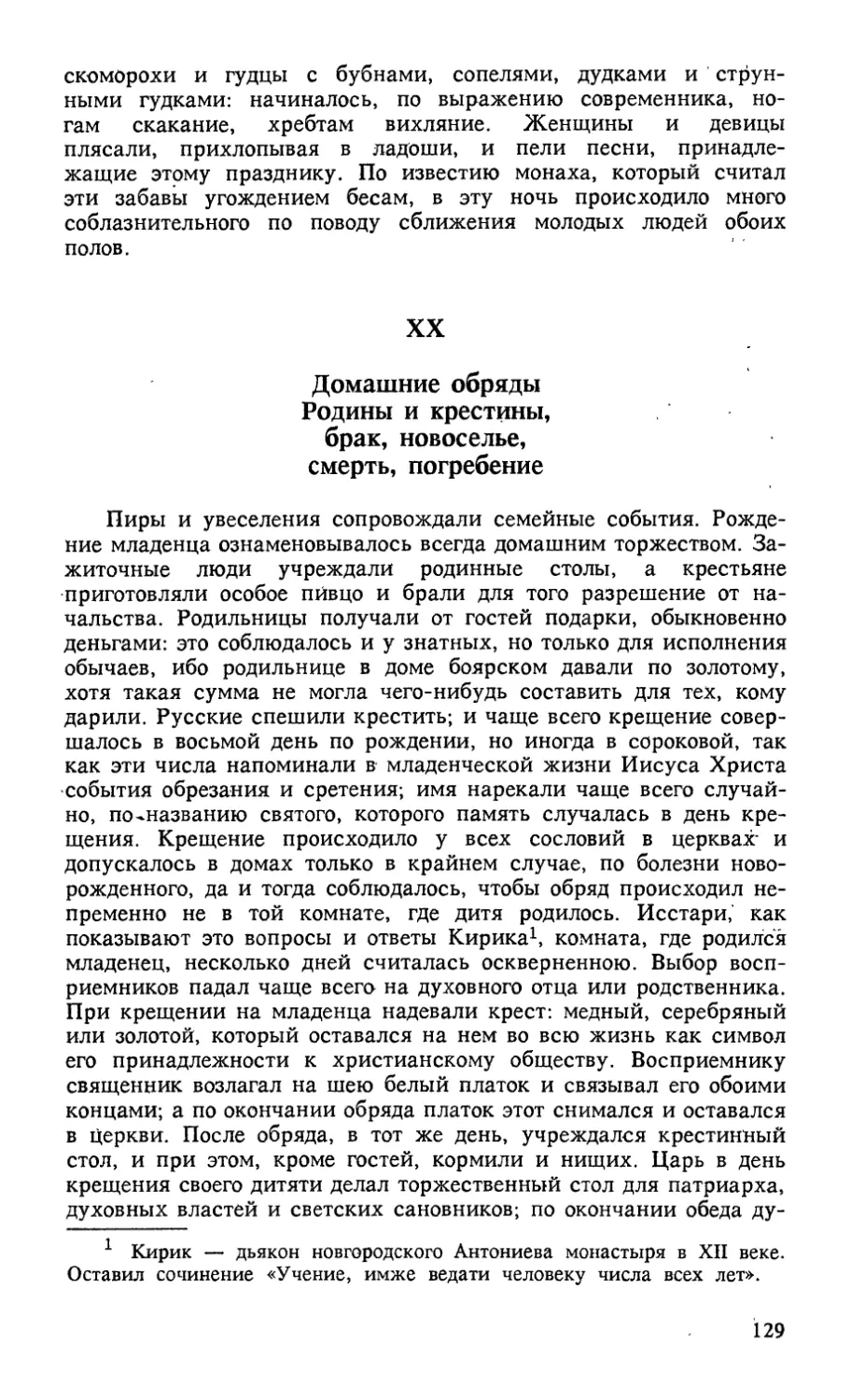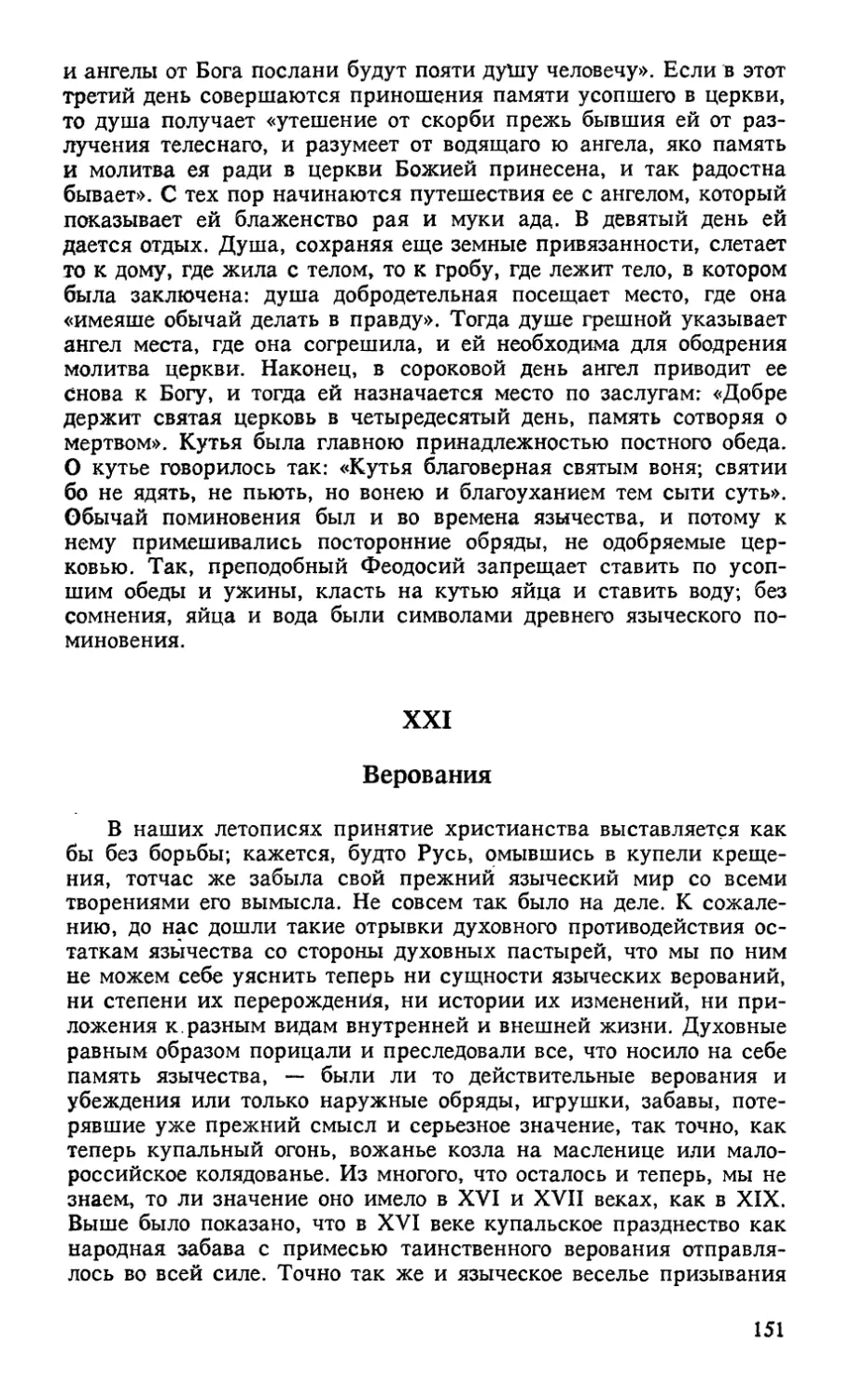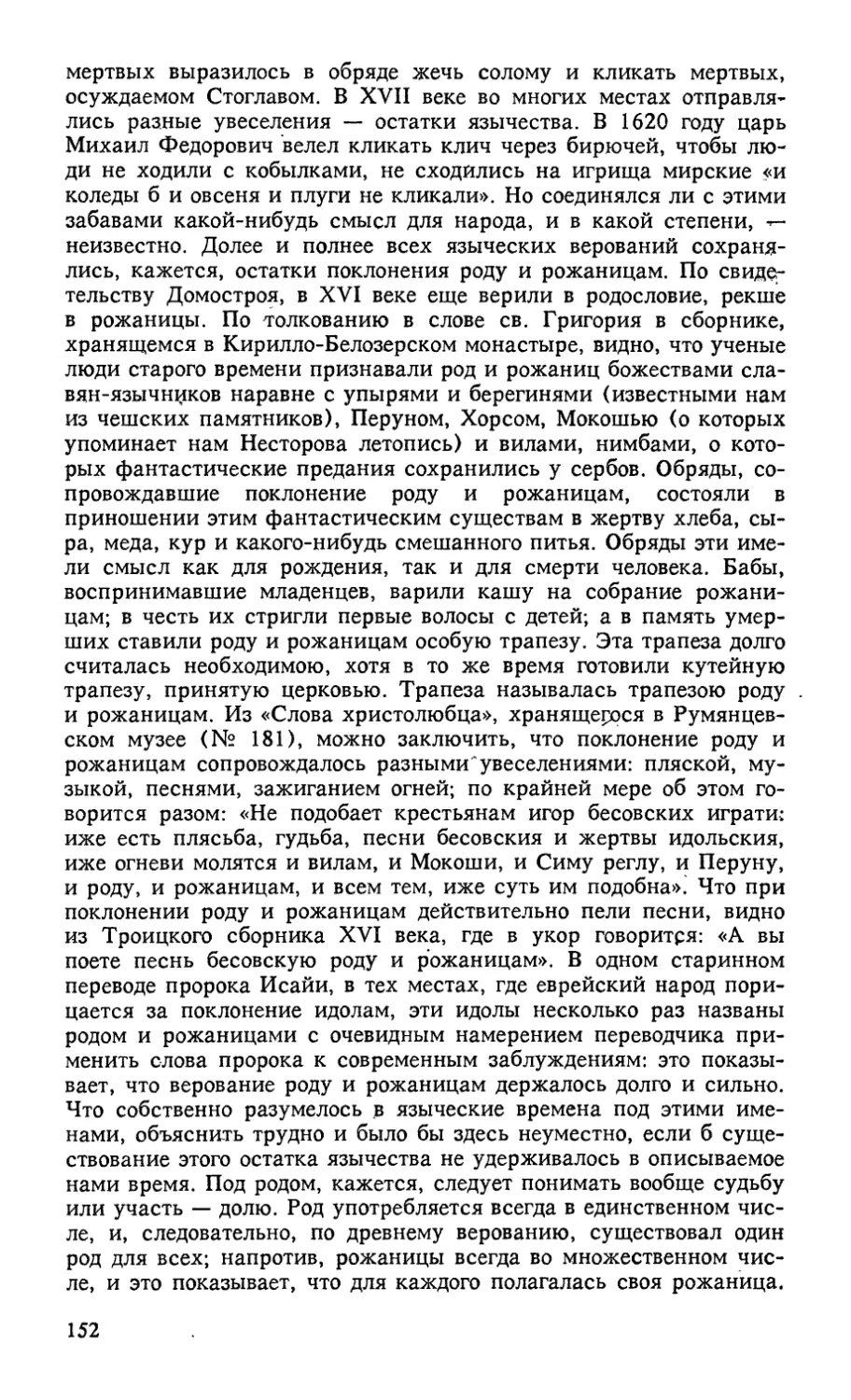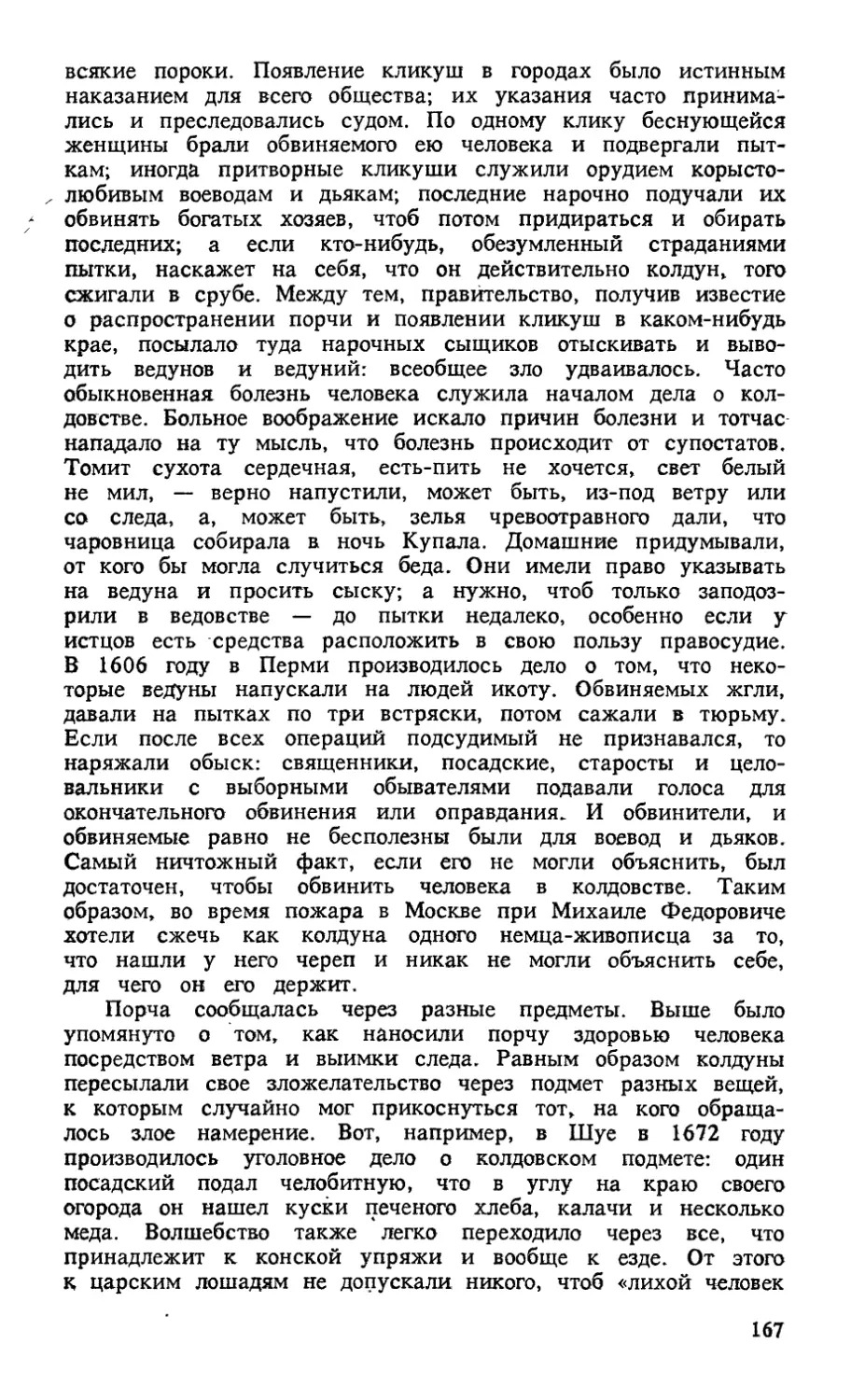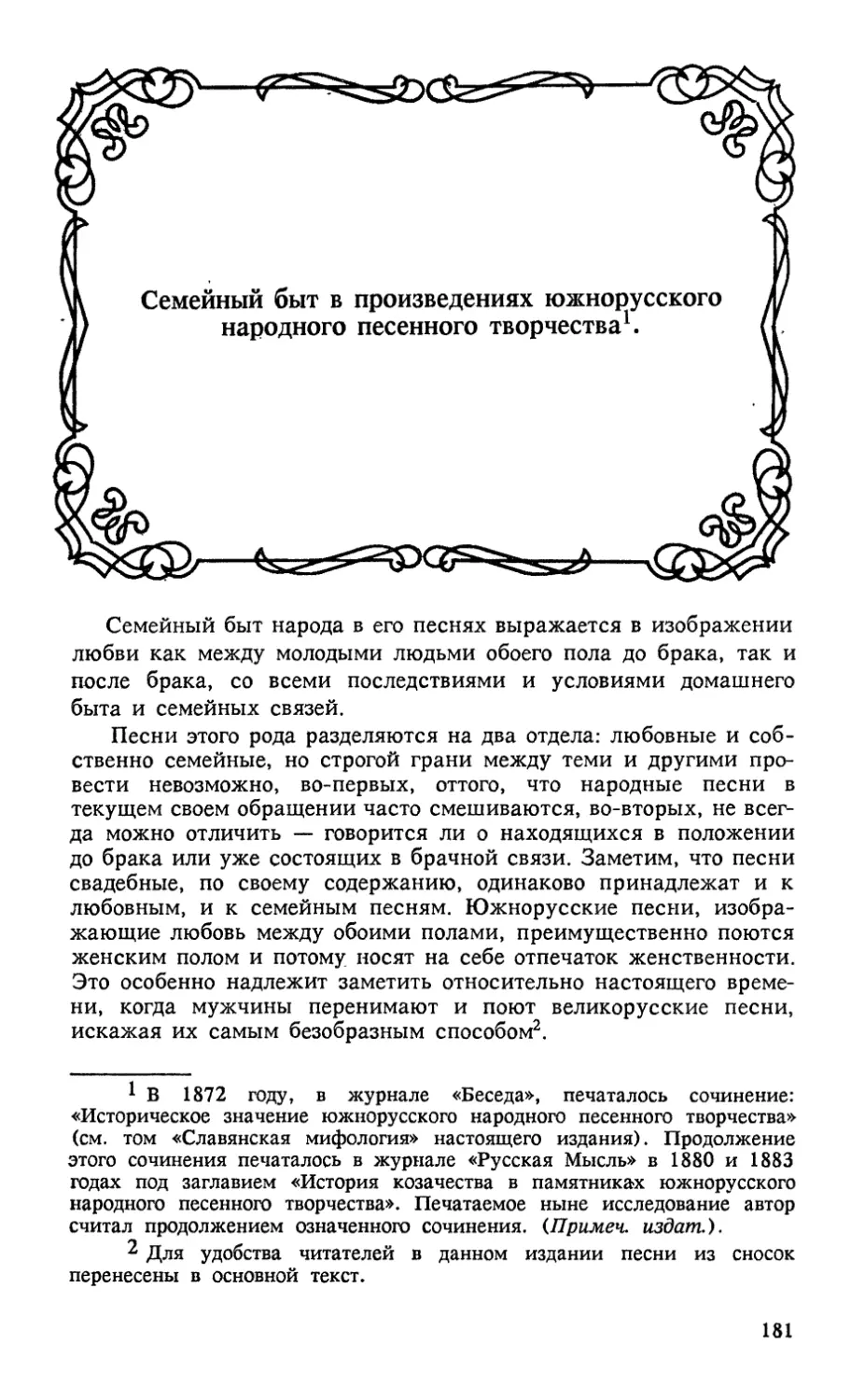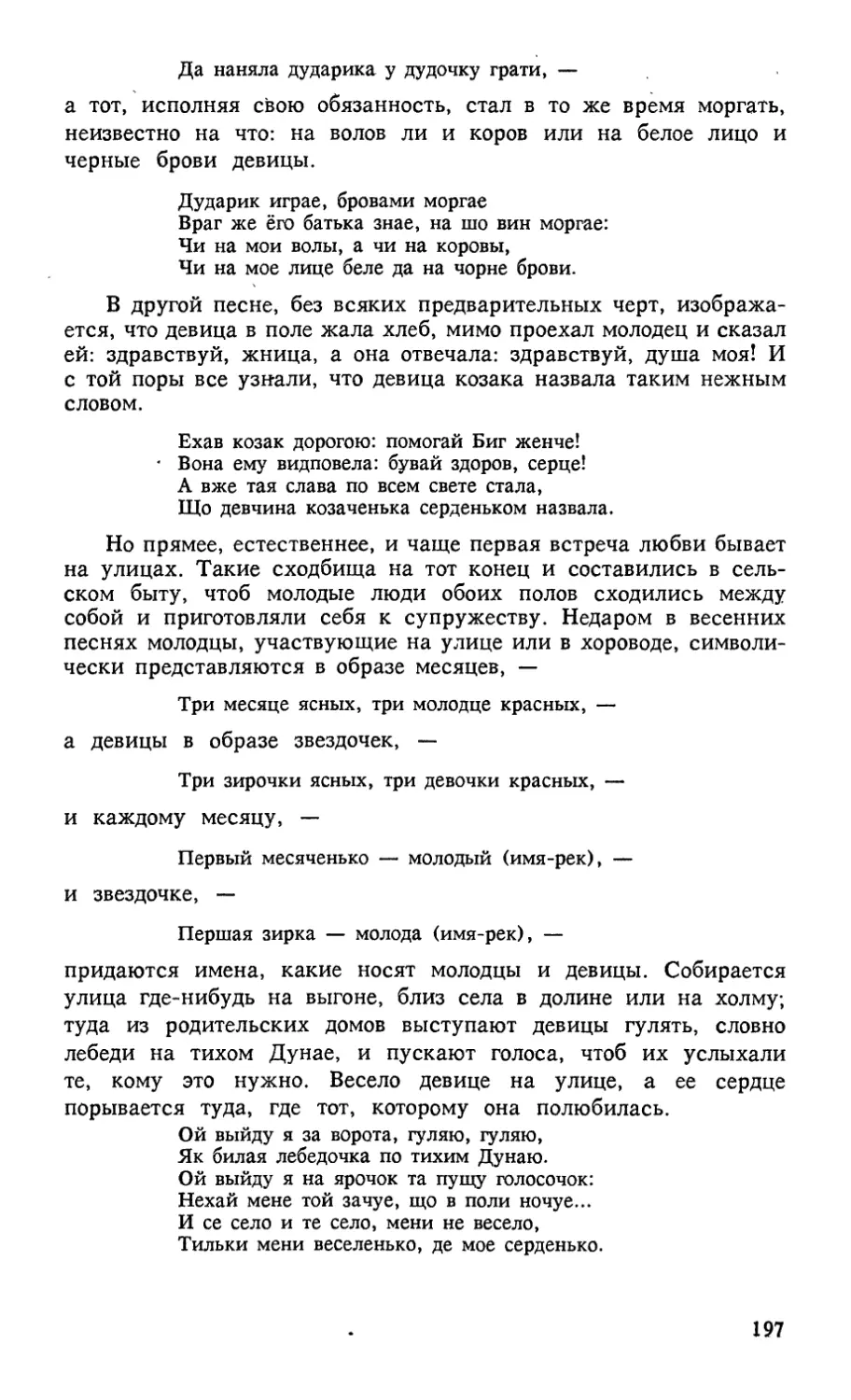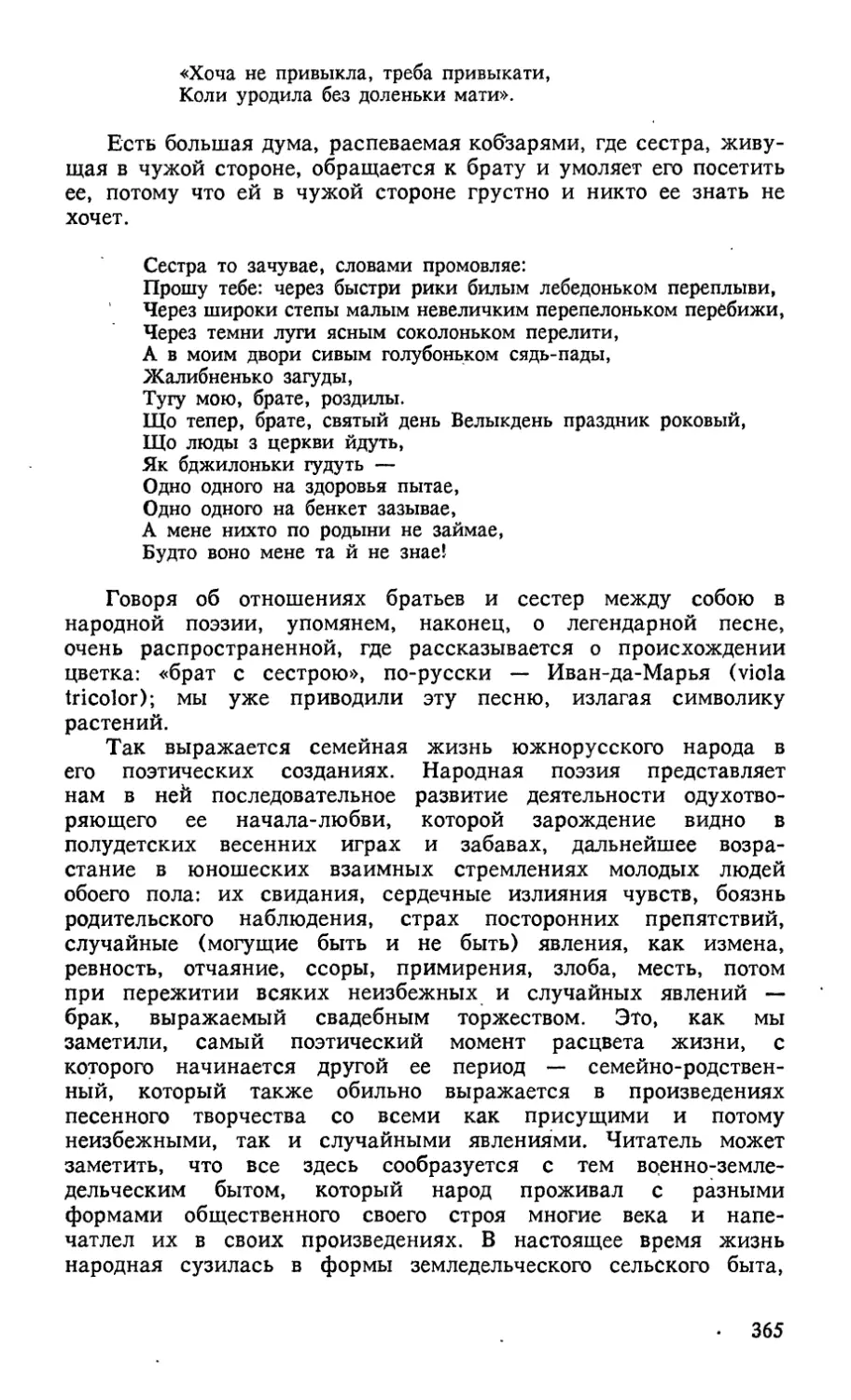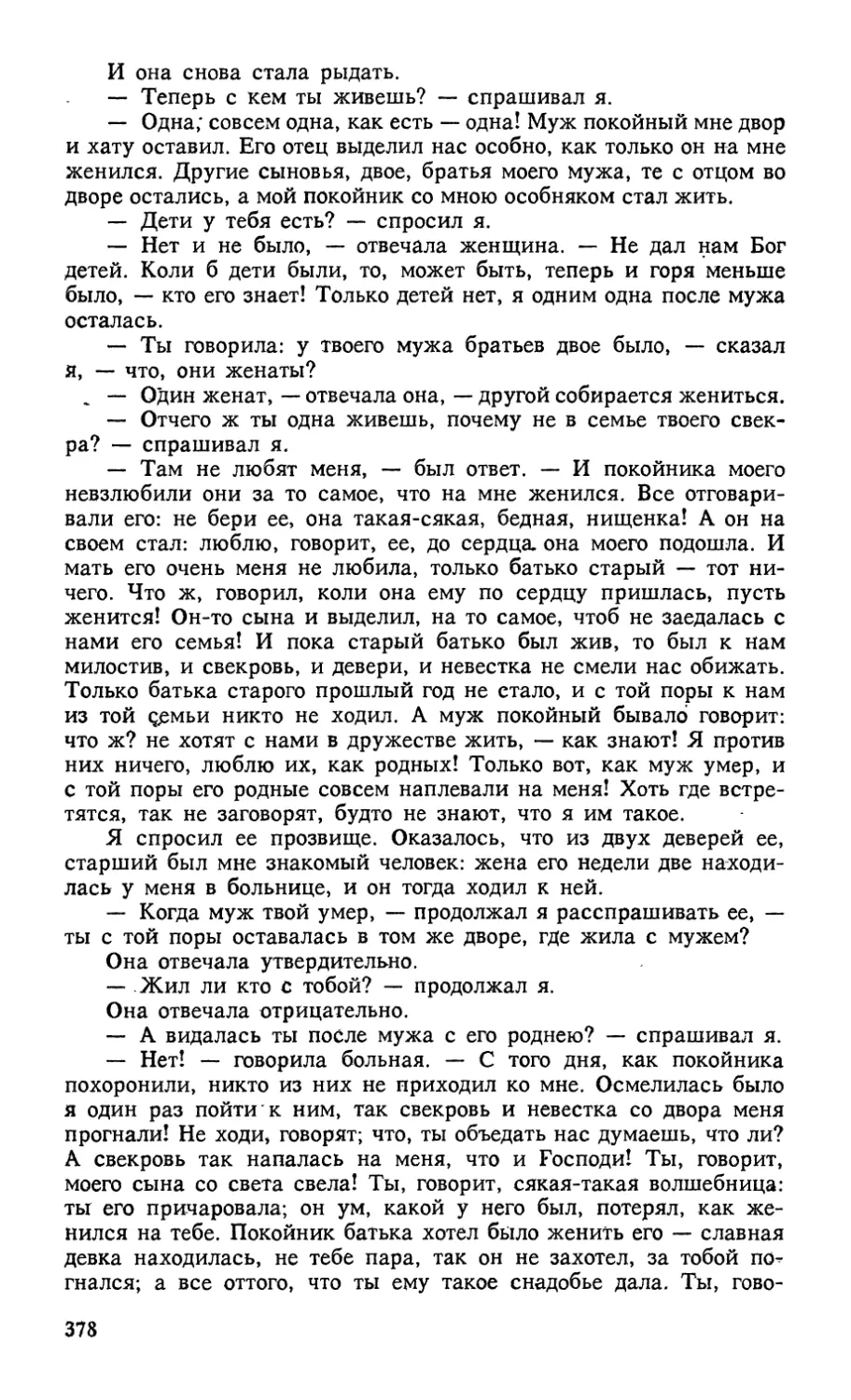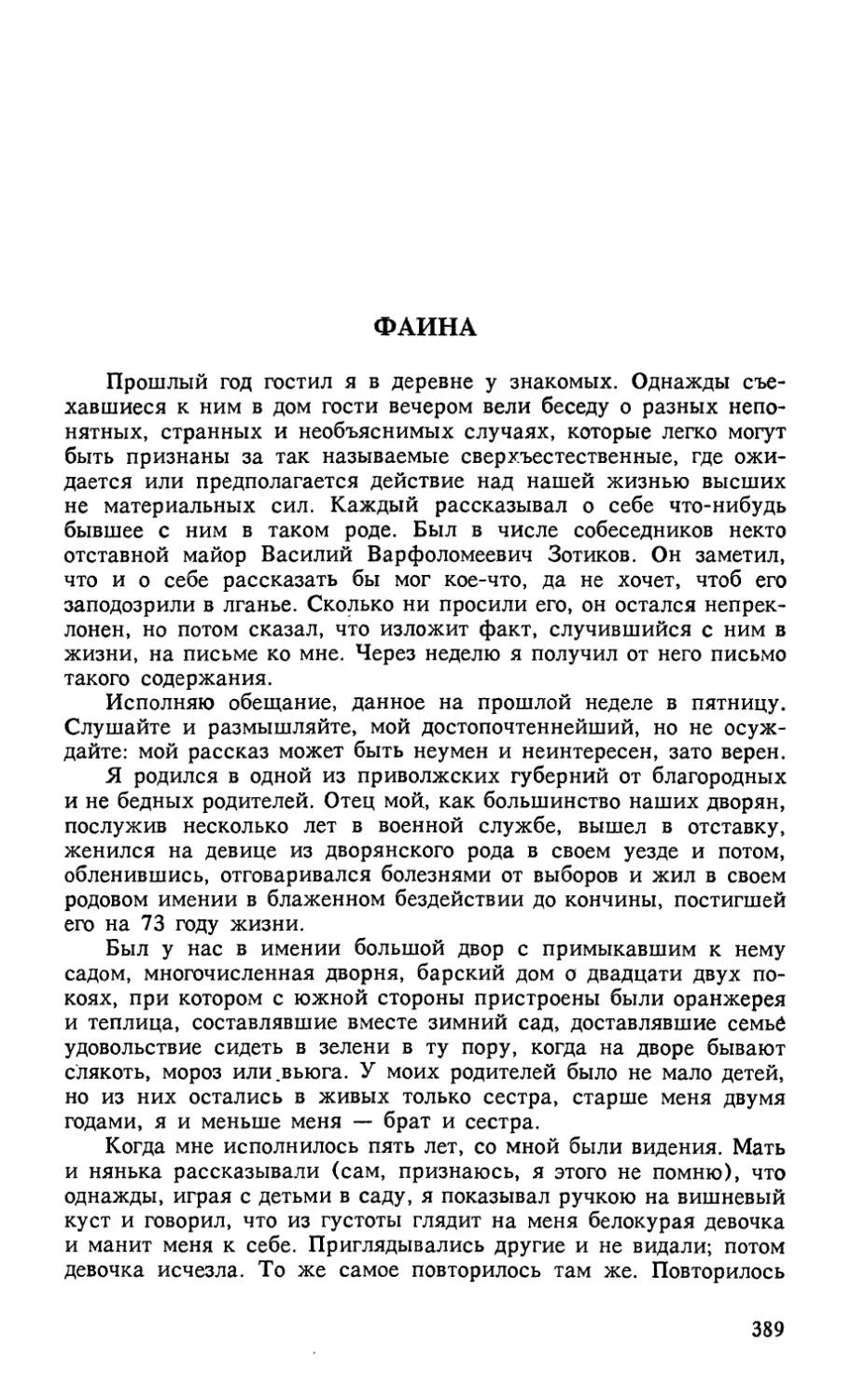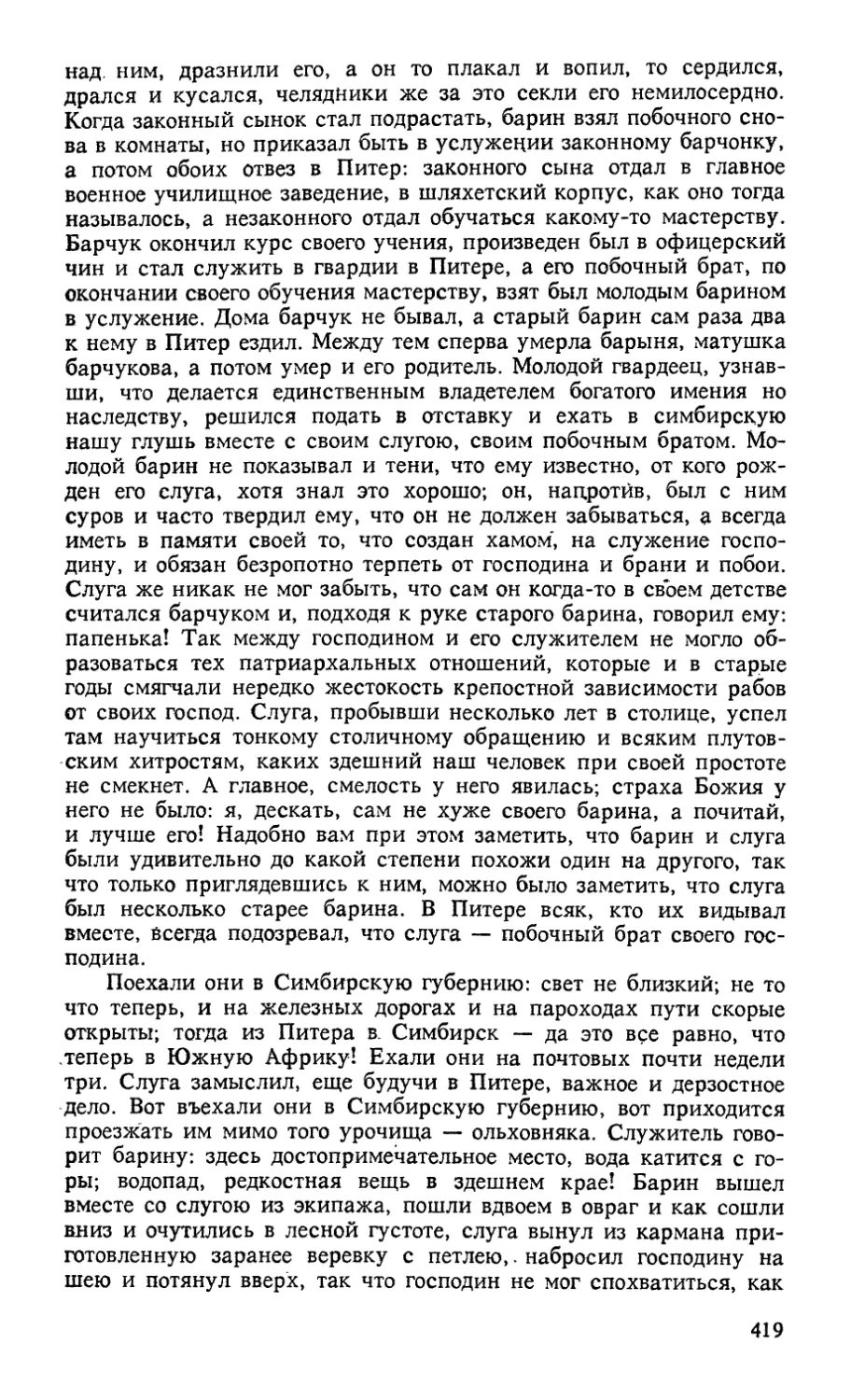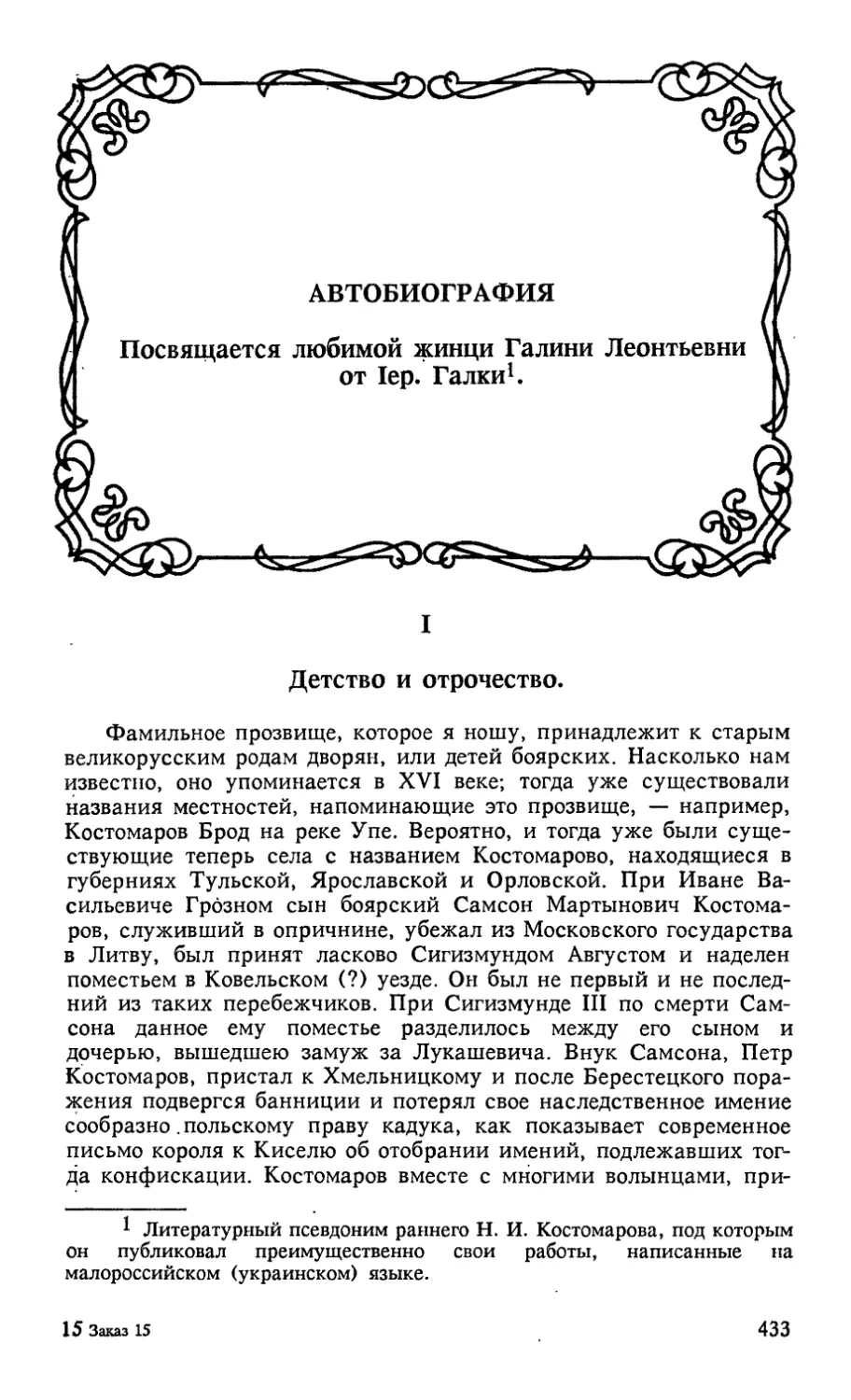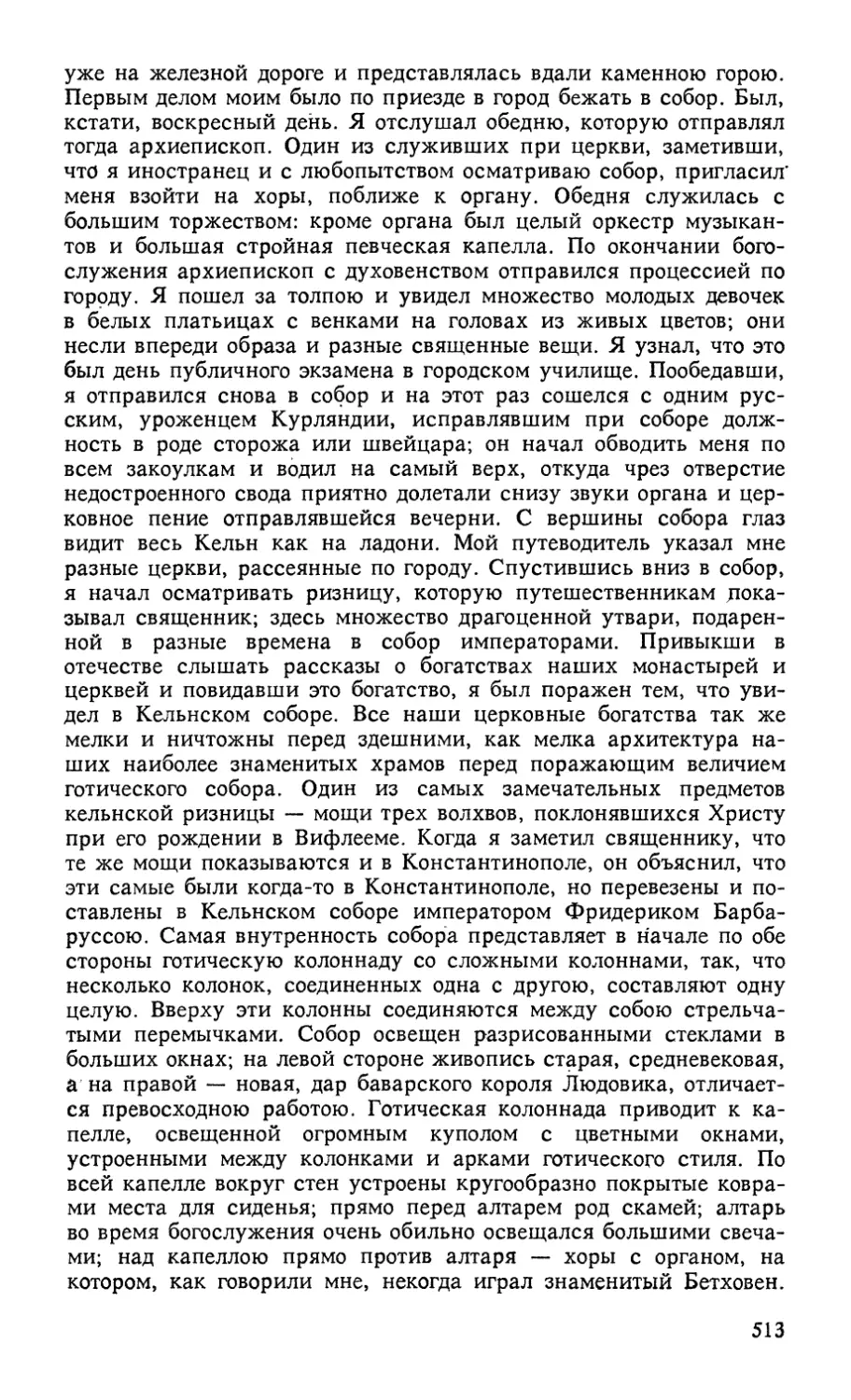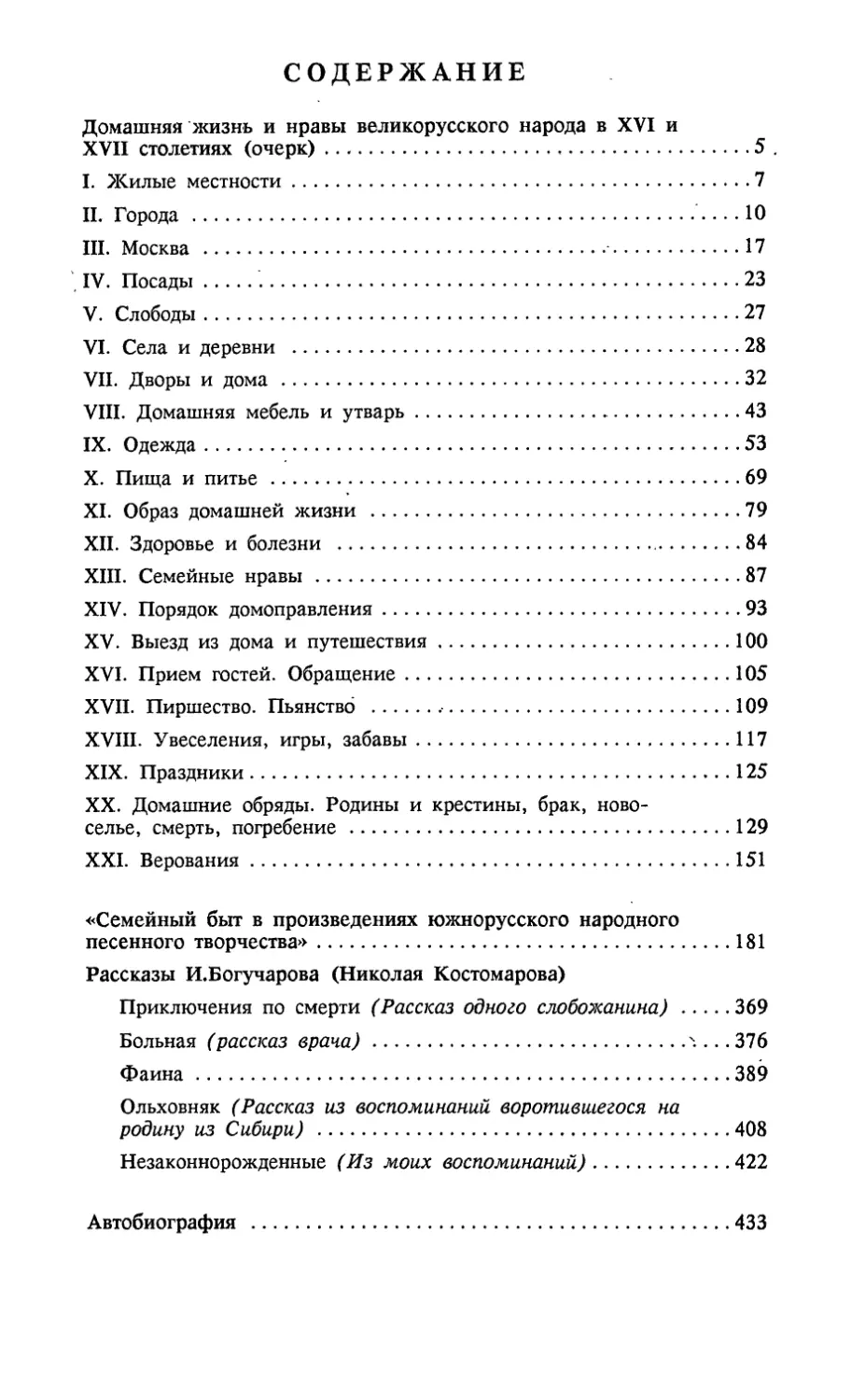Автор: Костомаров Н.И.
Теги: новая история (1640 - 1917 гг) культура автобиография история народа русские нравы
ISBN: 5-86859-022-8
Год: 1995
Текст
АКТУАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ
РОССИИ
Н.И.КОСТОМАРОВ
русские
нравы
Домашняя
жизнь и нравы
великорусского
народа
Исторические
монографии
и исследования
Автобиография
1995
ББК 63.3(0)51
К 72
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ СОСТАВИТЕЛЕЙ СЕРИИ:
С.Е.Угловский, П.С.Ульяшов, В.Н.Фуфурин, С.Н.Харламов
Художник В.Бобров
Костомаров Н.И.
К 72 РУССКИЕ НРАВЫ («Очерк домашней жизни и
нравов великорусского народа в XVI и XVII
столетиях», «Семейный быт в произведениях южнорусского
народного песенного творчества», «Рассказы И.Богу-
чарова», «Автобиография»). (Серия «Актуальная
история России»). М.: «Чарли», 1995. — 656 с.
Эта книга по-своему уникальна. Ее стоит прочесть каждому образованному
человеку, интересующемуся проблемами национального своеобразия. «Домашняя
жизнь и нравы...» и «Семейный быт...» — по существу малая энциклопедия
народных обычаев и обрядов двух братских народов — русского и украинского. Одежда и
утварь, пища и питье, здоровье и болезни, сватовство и свадьбы, родины и крестины,
прием гостей, увеселения, игры и забавы, песни и погребения — обо всем этом
историк-этнограф-писатель рассказал со знанием дела и с великой любовью.
«Рассказы И.Богучарова», написанные не без влияния Н.В.Гоголя, можно отнести к
литературе сказочно-фантастической, с оттенком мистики и разных «ужасов» — в йих
тоже отразилась народная мифология. «Автобиография». Н.И.Костомарова-поможет
читателю уяснить кредо историка-исследователя, оценить его творческий подвиг,
совершенный им на ниве изучения бытия русского и украинского народов. Знание их
истории особенно актуально для установления и понимания сегодняшних дружеских
взаимоотношений.
Работы воспроизводятся по санкт-петербургскому изданию 1903—1906 *гг. и тому
«Литературное наследие» (СПБ, 1890); В тексте отчасти сохранены орфография1 и
пунктуация автора.
Все права на распространение книги принадлежат
фирме «Чарли». Контактный телефон: 233-08-07
ISBN 5-86859-022-8
тг 4306000000-378 £ ,
К 605(03)-95 безобъявл'
© Разработка серии, П.Ульяшов, 1995
© Худож. оформл., «Чарли», 1995
ДОМАШНЯЯ ЖИЗНЬ И НРАВЫ
ВЕЛИКОРУССКОГО НАРОДА
В XVI И XVII СТОЛЕТИЯХ
(очерк)
Наша историческая литература не бедна сборниками актов
и летоггисей и многими добросовестными исследованиями по
разным отраслям русской старины. Но это составляет
драгоценность или для специальных ученых, или для лиц, которым
положение их и воспитание дозволяют следить постоянно за
ходом науки и знакомиться со всеми текущими явлениями
в ее области. Но за этим немногочисленным классом
читателей есть гораздо большая масса публики, погруженная в
занятия, которые лишают ее и времени, и средств, чтоб
Обращаться чк чтению ученых исследований, решающих тот
или другой вопрос прошедшей русской жизни. Нередко
случается слышать укоры в невежестве и отсутствии ь мысли,
обращенные на тех, которые, получая журналы, читают в
них одни легкие статьи и оставляют неразрезанными ученые;
но часто так поступают люди образованные и развитые и
столько же в своей сфере полезные для общества, как и
авторы ученых статей, не читаемых ими. Нельзя их обвинять,
если . после трудов на своем поприще они ищут в чтении
отдохновения: невозможно требовать, чтоб их интересовал
частный вопрос по науке, когда их деятельность обращена к
другим предметам. Еще менее возможно, чтоб они читали
сырые материалы, как, например, Акты Археографической
комиссии. Но это не значит, чтоб прошедшая жизнь не
возбуждала в них никакого интереса: для этой части публики
нужны только не частные исследования, а очерки, из которых
они могут составить себе целостные представления.
Для этого класса читающей публики я предпринял составить
очерк прошедшей русской жизни во всех ее видах. Отрывок моего
труда — о торговле в нашем государстве1 — был напечатан в
«Современнике» 1857 года: теперь я предлагаю «Очерк домашней
жизни». Таким образом я надеюсь составить впоследствии очерки
церковного устройства, администрации, судопроизводства,
военного быта. Я далек от того, чтоб считать предлагаемый очерк
оконченным трудом, но смею надеяться, что собрание рассеянных в
русских и иностранных источниках сведений о нашей старой
домашней жизни не останется без некоторой пользы.
1 Речь идет об «Очерке торговли Московского государства в XVI и
XVII столетиях», впервые вышедшем отдельным изданием в 1862 г.
Жилые местности
Жилые местности в старой Руси были: город, пригород, посад,
слобода, погост, село, сельцо, деревня, починок.
Название «город» принималось в различных смыслах.
Первоначально это слово значило огороженное место, то есть то, что ныне
ограда, огорожа. В старые богатырские времена людским жилищам
часто угрожали то нашествия чужих, то свои домашние
неприятели при частых неурядицах и междоусобиях, поэтому их старались
укреплять — огораживать. Для такой важной цели достаточно было
тогда плетня или частокола, поэтому одно и то же слово «город»
(огород, город) в смысле огорожи означало и огорожу, охранявшую
домашнее жилье от животных, и твердыню от неприятельского
нашествия. Местности, где укрепления представляли больше
надежды на безопасность в случае внешних нападений, сделались
центрами прилива народонаселения: одни селились в самих
городах, другие поблизости к ним, чтоб иметь возможность убежать в
охранное место, когда наступит опасность. Все больше или меньше
имели нужду в городах; отсюда возникло, что города получили
значение преимущества пред неукрепленными поселениями и
последние подпадали им в зависимость, которая, по духу того времени,
когда владычествовала сила, заменялась часто и легко
порабощением. Но не все города имели равное достоинство по своей
крепости: крепчайшие делались центром власти и им подчинялись
другие. Тогда между городами образовались два рода — старшие и
младшие, сильнейшие и слаоейшие, или города и пригороды. В
связи со стратегическими условиями подчинению меньших городов
большим способствовали исторические обстоятельства народной
жизни. Таким образом, собственно слово «город» начало означать
господствующее место — столицу над краем, заключавшим
несколько пригородов, сел, деревень. Так, Киев был городом земли
полян или Земли Русской, Чернигов — городом Земли Северской,
Новгород — Земли Новгородской, Псков — Земли Псковской, Хлы-
нов — Земли Вятской, а Бышгород, Белгород были пригороды
Киева, Ладога — пригород Новгорода, Изборск — пригород Пскова и
так далее. Когда раздельные части Восточной Руси сплотились
между собою, Москва получила смысл города всей Русской Земли,
но тогда само слово «город» изменило прежнее значение. Городом
не называлось уже главное правительственное место, где находился
центр правления, напротив, это слово начали употреблять в
обратном смысле. Москва называлась Москвою: собственное имя ее
нередко принималось нарицательным именем русской столицы;
говорилось: «На Москве и в городах», как теперь говорится: в
столице и провинциях. В XVI и XVII веках название «город»
сохраняло два значения: укрепленной местности и административного
провинциального пункта. В городах происходило соприкосновение
народа с властью; там была складка военной силы, которой пору^
чен край для охранения; туда стекались государственные доходы^
вносимые краем, наконец, там жители края искали убежища во
время военных опасностей. По мере расширения народонаселения
возникали города один за другим, и сообразно благоприятным ус^
ловиям одни получали пред другими преимущества в отношении
важности своей. Таким образом, города были большие или
меньшие, и большие начальствовали над последними. Кроме городов,-
постоянно населенных, существовали еще укрепленные места, на^
зываемые острогами; они находились преимущественно в
отдаленных от средоточия власти пограничных и малонаселенных
областях, были вообще меньше городов и часто не имели
постоянного населения: из городов посылались туда служилые люди для
стражи, напеременку. Мало-помалу, смотря по надобности, эти
остроги или острожки обращались в города.
Посадом называлось то, что теперь мы привыкли называть
городом, и название «посадский человек» означало то же, что теперь
мещанин. Посады были пунктами торговой и промышленной
деятельности. Они строились близ городов, так что город находился
посреди посада, и в этом смысле назывался кремлем, а посад
раскидывался около него. Часто город был на горе, а посад внизу.
В местах, где жителям посада опасно было оставаться в своих
жилищах без защиты, посады обводились валами, стенами и
рвами. У нас в отношении посада к городу было то же/ что на западе;
то, что у нас называлось посад, — на западе было city, cite, Stadtv
miasto, mesto и то, что на западе было Bourg, borgo, bourgh, bardv
hrag, grod, у нас называлось город, а в древности — град. То же
было в. древнем- классическом мире: так* акрополис был град
Афин, а сами Афины около него посадом. В нашей старой Руси
поселение, подобное тому, что в настоящее время называется
городом, состояло нередко из трех частей: град, или город, посад и
слободы. Посад разделяется на две части: острог, или укрепленная
часть близкого к городу поселения, и поселок вне острога, или
собственно посад, а за ним слободы. И теперь в землях турецких
славян та же троичность: град, соответствующий нашему городу,
варош г- острог и паланка — поселение за укреплением, которое
может, смотря по местным обстоятельствам, соответствовать
нашему посаду или слободам.
Слободами первоначально назывались поселения, жители
которых пользовались какими-нибудь особенными условиями; но так
как эти условия давались обществам, деятельность которых посвя-
8
щена была определительно каким-нибудь особым занятиям, то за
такими- обществами преимущественно удерживались названия
слобод. Они были большей частью около посадов и городов.
Пошет, село и сельцо, деревня, поселок, займище были
поселения земледельческого класса; В древности погостом на->
зывалось поселение с церковью, при которой, всегда
сосредоточивались сношения окрестных жителей и установлялся
административный центр. Но когда число церквей умножилось
и .таких, поселений стало много,, они,, естественно, начали
утрачивашь лрежнее преимущественное значение и назывались
вообще только селами. Слово «погост», бывшее некогда -в
повсеместном. употреблении, в XVI и XVII веках сохранилось
только -в ^Новгородской Земле в смысле , большого села со
средоточием, администрации для окрестного края. Различие
между, селом и сельцом заключалось только в величине их.
Деревни были поселения без церквей. Починки были малень-.
кие деревушки, недавно заселенные. Займище было небольшое
поселение на дикой земле, занятое обыкновенно одним двором.
Когда к этому двору присоединялись другие, то из займища
образовывался починок; починок по прошествии времени,
которое лишало его значения новизны, и по мере возраставшего
населения переименовывался в деревню; а наконец, с
постройкою церкви деревня изменялась в сельцо и с
умножением народонаселения в село. Жилые земледельческие
местности без церквей и даже небольшие сельца
принадлежали к селам. Такая принадлежность одних местностей
другим не была только административным распоряжением, а
истекала из образа их основания, ибо новые поселения оо-
новывались посредством выселков из старых. Из сел выходило
несколько семейств: основывали деревню; когда она
значительно возрастала ' или же находились в ней . зажиточные
людиу чтоб построить церковь (так как в то время это было
не трудно по обилию леса и по невзыскательности церковной
архитектуры), деревня превращалась в сельцо, потом ,в село.
В. сёою очередь из нового, села выходили жители и
основывали починки и деревни* превращавшиеся в свою очередь. в
сельца или села, и так далее. Первое родоначальное село
удерживало старшинство над своими выселками и оставалось
между ними центром сношений по крайней мере до тех пор,
пока время не изглаживало из памяти, этой, старинной
исторической связи. Таким образом, в Новгородской Земле
погосты в смысле первенствующих поселений были старые
поселения. со старыми церквами, а села с новопостроенными
церквами были их выселками. Смотря по историческим
обстоятельствам, изменявшим движение народонаселения, и по
относительной быстроте его размножения, эта связь поселений
удерживалась долее или ослаблялась скорее.
II
Города
Потребность возведения городов возрастала у нас вместе
с расширением пределов русского мира: Города заводились
прежде, чем поселения; в местах, не заселенных, чтобы дать
возможность жителям существовать на новоселье; надобно
было приготовить дая них оборону. Таким образом, южные
степи Московского государства не иначе заселялись, как под
прикрытием множества городов; городков, острогов, засек и
всякого рода укреплений; в низовьях Волги долгое время
только города, уединенно стоявшие на сотни верст один от
другого, указывали на господство русской державы в
безлюдной земле. В Сибири каждый шаг подчинения земель власти
государя сопровождался постройкою городов и острогов.
Повсюду в XVI и XVII веках постройка городов была одною
из первых забот правительства и городовое дело важнейшею
из повинностей всего народа. Когда в старых актах говорится
о" постройке городов, то разумеется под этим возведение и
устройство укреплений, и в этом случае само слово «город»
означало ограду, а не то, что находилось в ней; говорилось:
города каменные (включая в это название и кирпичные),
города деревянные и земляные. В XVI веке каменных и
кирпичных оград было чрезвычайно мало, исключая
монастырские стены, которые чаще, чем городские, делались из
кирпича. При Михаиле Федоровиче, после того, как Смутные
времена показали ненадежность деревянных твердынь,
ощутительная потребность охранения государства со всех сторон
побуждала выписывать из Голландии мастеров для- каменных
построек. Как медленно шло это дело, можно видеть из того,
что в Астрахани, несмотря на ее одинокое и небезопасное
положение, прежде 1625 года не было каменных стен. При
Алексее Михайловиче, по свидетельству Котошихина1, во всем
Московском государстве были, исключая монастыри, в
двадцати городах каменные или кирпичные укрепления; но это
число кажется преувеличено; по крайней мере, собирая
рассеянные известия того времени по этому предмету, едва ли
можно насчитать их столько (Москва* Новгород, Ладога,
Псков, Смоленск, Тула, Нижний, Казань, Астрахань, Яик,
Ярославль, Путивль, Вологда, Полоцк). Вообще же
бесчисленные города, усевавшие пространство русских владений, были
с укреплениями деревянными или земляными, то есть с
валами и с тыном по валу. Города располагались так, чтоб
1 Котошихин Григорий Карпович (около 1630—1667) — подьячий
Посольского приказа. В 1664 году бежал из России в Литву, затем в
Швецию. Там по заказу шведского правительства составил сочинение о
России. Казнен за убийство.
10
около них находилась естественная защита: вода или ущелья;
часто одна сторона стены, а иногда и несколько сторон
примыкали к озеру, пруду или болоту; с других сторон,
менее обезопасенных местоположением, под стенами
проводился ров. По большей части деревянные укрепления соединялись
с земляными разным способом: например, насыпался вал или
осыпь, а на осыпи устраивалась деревянная стена или тын;
или же стена стояла на плоской земле, но за нею следовала
осыпь; или же деревянные стены были присыпаны хрящем,
то есть кучею каменьев, песка и земли. Простые остроги
или острожки делались без осыпей, и их деревянные стены
были ограждены только рвами. Часто город, окруженный
деревянной стеной и рвом, был еще раз обведен осыпью или
деревянною стеною — так называемым острогом, а между
городом и острогом находилось поселение. Такое городское
расположение было и в самой Москве: Кремль с
Китай-городом составлял сердцевину столицы на значительном
промежутке от них была проведена кругом другая стена так
называемого Белого города; далее, также после значительного
промежутка, земляной вал, обшитый деревянной стеной.
Подобное устройство было и в других городах: в Казани был
каменный кремль, а за ним следовал посад, окруженный
острожною деревянною стеною; в Астрахани также был
каменный кремль, а его окружала другая каменная стена,
соединявшаяся с кремлевскою вдоль Волги, и промежуток
между кремлевскою стеною и этою последнею назывался, как
и в Москве, Белым городом. В Пскове среднее укрепление
называлось Детинец: оно стояло в углу, образуемом рекою
Великою и впадающей в нее Псковой. От угла,
противоположного той стороне, где была Великая, шла стена вдоль
реки Псковы и упиралась в башню; от этой башни в обе
стороны шли стены, огибавшие город, построенный на двух
сторонах реки Псковы; эти стены сходились к двум углам
Детинца на берегу реки Великой. Сверх того, в середине
города, на левой стороне Псковы, в сторону от Детинца,
существовал еще один внутренний город, называемый Кромом,
а за пределами большой внешней стены, огибавшей весь
тород, был ров, за которым расположено было многолюдное
поселение, называемое Застеньем, обведенное деревянною
стеной. В Новгороде на Софийской стороне был каменный город,
окруженный земляным валом; между тем и другим находился
посад; укрепления земляного города шли неправильными
линиями, то приближаясь к каменному, то удаляясь от него;
за пределами земляного расположены были поселения, тоже
в древности еще раз обведенные стеной, а на Торговой
стороне был другой город с башнями и рвом. Некоторые
монастыри (они вообще в тот век были твердынями) имели
такую же форму укреплений; например, в Кирилловском в
начале XVII века была кругом монастырского строения
каменная стена; а подалее, на значительном от нее расстоянии,
II
по тому же направлению, эту каменную стену окружала
деревянная острожная стена, за которой с внешней стороны
проходил вокруг нее ров. Во множестве небольших городов
был такой же порядок; за стеною, обыкновенно деревянною,
опоясанной рвом по наружной стороне; часть посада, иногда
же и весь посад охранялся другою стеною, острожною.
Как каменные, так и деревянные 'стены не составляли
правильных очертаний; так, например, в одном- деревянном городе
стена в одном месте суживалась до 31 сажени1, а в другом
расширялась до 98. Почти всегда город в одних местах был шире, в
других -г- параллельных первым — уже. Окружность городов
соразмерялась с местоположением и важностью города. В Новгороде,
например, каменный город был в 498 саженей кругом, земляной —
в 712, деревянный — в 2406. Окружность астраханского
каменного города заключала 1017 саженей. В других местах мы встречаем
окружность второстепенных городов в 112, в 184, в 395, в 550
саженей и так далее.
В каменных стенах всегда делались наверху зубцы, такие
высокие, что иногда занимали более трети вышины всей стены. По
протяжению всей стены возвышались башни, в каменных
городах — каменные, в деревянных и земляных — деревянные; но
случалось, что при деревянных городских стенах башни были
каменные, как, например, в Ярославле. Кроме башен, в стенах
делались различной формы выступы: городни, выводы, костры,
кружала (круглые выемки, где обыкновенно помещались кладовые
со входами изнутри и амбары); обломы (скатные пристройки;
выдававшиеся в наружную сторону) с деревянными котами (катками
или колесами без спиц), которые спускались на неприятеля во вре1:
мя осады; печоры (углубления внутрь стены); быки
(расположенные рядами большие выступы), на которых строились укрепления,
образовывавшие сверху другую стену. Стены разделялись по
пространствам между башнями, называемыми пряслами. Эти
пространства имели различное протяжение в одном и том же городе.
Так, в новгородском каменном городе пространство между
башнями в одной стороне было до 70 саженей, в другой — до 50, в
третьей — до 40 и менее. В новгородском земляном городе между
одними башнями быль 150 саженей, между другими — 46. В Тоть-
ме вообще от 17 до 25 саженей. В одном деревянном городе, в
южном краю Московии, на одной стороне вся стена имела 35 саженей1,
на другой — 44. В Воронеже в 1666 году в одном месте
пространство между башнями заключало 155 саженей, в другом — 30, в
третьем — только 18 и тому подобное. По пряслам устраивались
окна, при которых припасались камни и колья, чтоб метать на
осаждающих, и бои, узкие отверстия, откуда стреляли из пушек и
пищалей. Таких боев в больших городах было три ряда: подо-
шевный, средний и верхний. В Астрахани на пространстве в 425
саженей, составлявших часть городской стены, было 509 боев. В
1 Сажень — русская мера длины, равная 2>134 м, применявшаяся
до введения метрической системы мер.
12
малых городах их было обыкновенно два ряда: подошевный и
верхний. Толщина и высота стен в разных городах была также
различна, как и окружность. В Астрахани в 1649 году каменная стена
в толщину была в 1,5 сажени, а в вышину с зубцами 4 сажени, без
зубцов 2,5 сажени; сами зубцы возвышались над стеною на 1,5
сажени и в толщину были в полсажени. Стены московского Кремля
в XVI веке, по свидетельству англичан, имели в толщину 18
футов*. В Кирилловском монастыре вышина внешней стены была до
16 аршин2, внутренней — 10; толщина первой — в 9,5, а
внутренней — в 1,5 аршина. В Суздали вал с преступной, то есть с
внешней, стороны имел от 8 до 10 саженей вышины, а с внутренней —
от 3 до 6. Земляные валы делались книзу шире, кверху уже: таким
образом-, в этам же суздальском вале толщина его у земли была от
8 до 10 саженей, а наверху простиралась только до 1,5 сажени.
Изнутри по стенам проводились лестницы и ходы,
обыкновенно из башен от одной к другой; местами эти ходы имели тайные
выходы наружу. На больших выступах, или быках, устраивались
мосты, на которых, как сказано прежде, возвышалась другая
стена. Вдоль городских стен устрашался мост, по которому можно
было иметь движение по всей окружности. Очень часто стены
города были двойные, тройные и четверные. Пространство между
стенами засыпалось землею, или было соединяемо поперечными
бревнами, или же оставлялся промежуток. Сверху делались над
ним кровли из теса или решетины. Эти кровли были иногда
высоки.
Башни, возвышавшиеся над стенами городов, были по фигуре
круглые, четырех-, шести- и восьмиугольные. Кровли на них
иногда были так велики, что сами по себе превышали вышину
остального строения; так, в Олонце вышина башни до кровли была 5
саженей, а с кровлею — 11. Вообще вышина, длина и ширина
башен была очень различна и не одинакова в одном и том же
городе. Например, в Воронеже в 1666 году одна башня имела в
вышину 7 саженей, а другие — 5, 4, 3 и даже 1. Вышина вообще
не соразмерялась с объемом башен; например, в одном городе из
двух башен в 1,5 сажени в диаметре одна была вышиною в 3
сажени с половиною, другая в 1,5 сажени. Редко длина башни
была одинакова с шириною. Чаще всего в одну сторону они были
длиннее, в другую, внутреннюю, короче, например 4 сажени
длины и 2,5 ширины. Но самая обыкновенная мера башен была около
3 саженей в длину и 2 в ширину. В некоторых городах башни
строились в уровень со стеною, в других выступали сажени на 2,
3 и даже 4 в наружную сторону. Количество башен в городах было
чрезвычайно различно, смотря по объему стены: в новгородском
каменном городе их было 10, в земляном —- 9, в деревянном — 37;
в Астрахани — 10, в Яике — 8, в Олонце — 13, в Тотьме — 7, в
1 Фут — мера длины, равная 30,48 см, применявшаяся в Англии
и России до введения метрической системы мер.
2 Аршин — русская мера длины, равная 0,71 м.
13
Смоленске и Муроме — 14, в Воронеже — 17, в Архангельске —
9, в Кирилло-Белозерском монастыре — 23. Те, которые стояли по
углам, назывались наугольными, стоявшие посередине стены —
средними, с воротами — проезжими, без ворот — глухими. Везде
были тайнинские башни, стоявшие обыкновенно поблизости к
реке; оттуда делали подземные ходы со срубами, иногда саженей на
6—10 и более. Башни назывались по урочищам, по местности или
же по их назначению, например разважская1, новинская, водяная,
набережная, поваренная, кваеоваренная, также по именам праздг
ников или святых, например пречистенская, введенская,
Никольская. Последнего рода названия давались преимущественно
проезжим башням. Башни разделялись на ярусы, которые
снаружи обозначались террасами во всю окружность строения,
называемыми в те времена мостами. Этих ярусов было обыкновенно три:
нижний, или подошевный, средний и верхний, а иногда, особенно
в небольших городах, только два. В каждом ярусе устраивались
бои; в подошевном стреляли из пушек, и потому он назывался
пушечным, а в верхних над ним — из пищалей и мушкетов, и
потому они назывались пищальным и мушкетным боями. Не
всегда в одном и том же городе были башни с равным количеством
боев. Так, в Смоленске в некоторых башнях были неполные бои,
хотя с полным количеством мостов. Например, в одной башне бои
устроены были только в среднем мосту, в другой — только в
верхнем, а в нижнем и среднем не было боев. Ходы по башне были
иногда снаружи, иногда изнутри, так что башня в середине по
столбу разделялась на отделы, а верхние отделы с нижними
соединялись посредством лестниц. Иногда на кровлях башен
устраивались чердаки, клетки, или караульни, небольшие надстройки
для обозрения далеких предметов; в них также были наготове
пищали. Число проезжих башен соразмерялось с величиною города.
В каменном новгородском городе из 10 башен было 6 проезжих, в
земляном из 9 — 3, в Воронеже из 17 — 6, в Белозерске из 8 —
2, в Инсаре из 8 — 3, в Муроме из 14 — 2 проезжих и третья с
воротами водяными, то есть ведущими к воде, в небольших
городках из 4 башен строилось по 2 проезжих; никогда не строились
города с одним только выходом. Ворота в башнях были толсты и
широки, и потому проезжие башни всегда значительно были и
выше, и массивнее глухих; например, в 7,5 сажени длиною и
столько же шириною. В воротах вделывались боевые окна, как в
глухих башнях и в пряслах. Над ними находился образ святого
или какого-нибудь большого праздника, и по имени образа
называлась башня; а в некоторых городах в башнях над воротами
устраивались маленькие церкви. Ворота запирались огромными
замками. В мирное время, однако, створы ворот не запирались, а
только на ночь опускалась решетка, а для удобства в самих
воротах проделывались калитки, которые также запирались особыми
замками. Обыкновенно на проезжих башнях устраивались боевые
От слова «разваживать», то есть развозить.
14
-часы и вестовой колокол, который всегда был массивнее и громче
обыкновенных церковных или благовестных колоколов. Его
называли также полошным колоколом, потому что звонили в него на
тревогу и призывали народ к сбору. Вместе с вестовым колоколом
стояла вестовая пушка, из которой стреляли только тогда, когда
подавали сигнал. На прочих башнях привешивались также
колокола; в них звонили во время отбоя неприятеля или вылазки, для
возбуждения охоты к битве и храбрости. В темные ночи на
башнях зажигались свечи в слюдяных фонарях. Случалось что перед
-самими проезжими башнями делали острожки или города в малом
виде. Так, в Муроме перед двумя проезжими воротами сделаны
были острожки: один длиною в 8 саженей, а поперек в 3 сажени,
другой длиною 4, а шириною 3 сажени.
Городовые стены или валы окаймлялись всегда рвами
разной глубины и ширины, проведенными по направлению
твердынь с их внешней стороны. В небольших городах
встречались рвы глубиною в сажень и шириною в 2 сажени или
глубиною в 2 сажени, шириною в 2,75 сажени; но в
больших городах рвы были и глубже, и шире, и достоинство
их вообще полагалось в том, чтоб они были глубоки и
круты. В иных местах в эти рвы проводили воду, а в
других забивали сваи* называемые частиком или чесноком;
а иногда сам чеснок утыкали сверху железными спицами;
иногда, кроме того, рвы обносили особою оградою из дубовых
бревен. Случалось, что таких рвов за главною стеною или
городским валом было несколько рядов, один возле другого
по одному направлению.
От рвов в наружную сторону проводили отводные стены и
делали длинный ряд укреплений, называемых надолбами. То были
столбы из толстых бревен (обыкновенно дубовых), поставленных
тесно один возле другого и составлявших сплошную стену.
Надолбы были двойные и тройные, то есть в два и три ряда; ряды эти
соединялись между поперечными связями из бревен наверху и
таким образом представляли вид коридоров всегда в извилистом
направлении. Около Воронежа такие коридоры шли от города на
-протяжении 5,5 версты до караульного городка, устроенного для
наблюдения и для подачи вестей в город; иногда же ряды надолб
шли от города верст на 20 и даже более и были окаймлены рвами,
а местами между ними устраивались башенки. Там, где нужно
было сделать выход, устраивались ворота с опускными колодами.
От таких мест пускались в стороны ряды новых надолб,
называемых отметными, а от этих в надлежащих местах расходились в
-боковые стороны другие отметные. В некоторых местах в надолбах
делались тайные выходы, известные одним служилым людям.
Надолбы на своих поворотах упирались в лесные завалы, то есть кучи
срубленного и сваленного леса шириною саженей в 20 или 30.
Неприятель, подступая к городу, должен был сначала пройти через
эти завалы, потом путаться около лабиринта надолб, уничтожать
их и тогда уже достигнуть городских укреплений, которые, как
выше сказано, были нередко двойные и тройные и сопровождались
15
двойным и тройным рядом рвов. Дороги, служившие сообщением
для городов, пролагались вдоль надолб и проходили через
устроенные в них ворота, которые, в случае нужды, запирались, как выше
сказано. Кроме надолб, существовали еще укрепления, называемые
тарасами. Они состояли из бревен продольных и положенных на
них поперечных, и если были в два ряда, то покрывались сверху
дранью. Для укрепления берегов от полой воды близ города
ставили такие тарасы и насыпали внутрь рядов их землю. Тарасы
приставлялись также к пряслам городских стен в разных местах. .
В окраинных сторонах от городов до городов проводились
земляные насыпи и по их протяжению устраивались в разных местах
жилые и стоялые острожки. Первые были те, где постоянно жили
служилые: они впоследствии обращались в города; в другие же
посылались служилые на временную службу: последние нередко
возникали и скоро потом исчезали. По сторонам устраивались лесные
засеки, состоявшие из куч наваленного леса, обведенные рвом, но
иногда делались в них башни, и они принимали вид построенных
наскоро городов. Эти засеки возводились преимущественно в лесных
местах; туда отряжался засечный приказчик с отрядом служилых;
они должны были, заслышав о неприятеле, тотчас подавать весть в
город. Таким образом, южная часть Московии представляла ту
особую физиономию, что, при своей малонаселенности, усеяна была
городами и острогами с надолбами по окрестностям и была изрезана
земляными валами в разных направлениях со множеством лесных
засек и завалов. Все эти укрепления делались наскоро, а потому
скоро и разрушались; теперь, кроме остатков валов, нет и следа их, да
и в то время, когда они троились, край был больше защищаем
твердостью служилых людей, чем этими бревнами. «Наши городки не
корыстны, — говорили в XVI веке донские казаки крымскому
хану, — оплетены плетнями, увешены тернами, да доставать их
надобно твердо головами».
Во внутренности этих каменных, земляных и деревянных
оград, называемых общим именем городов, стояли казенные здания.
Там была приказная изба, где сосредоточивалось управление
города, посада й всего уезда, если город был уездный; пред стенами
приказной избы ставили пушку. Вблизи приказной избы
находился воеводский двор, огороженный забором или заметом с разными
постройками внутри, необходимыми по тогдашнему образу жизни,
как то: горницами, избами, погребом, ледником, мыльнею,
поварнею. Затем следовали дворы священников и церковнослужителей,
церковь, которая обыкновенно числилась соборною, или главною
над церквами всего посада, прилегавшего к городу. Далее были
казенный погреб — для хранения зелейной казны (то есть
пороху), пушечный амбар, где хранились свинец в свиньях, пули,
ядра и оружия. Для этих хранилищ делались здания земляные или
каменные, а иногда вместо особых построек они помещались в
стенах и башнях или же во внутренних пристройках к стенам. В
городе находилась государева житница, откуда раздавались
служилым хлебные запасы или хлебное царское жалованье. В городе
была тюрьма, иногда помещаемая в деревянной избе, врытой в
16
землю и огороженной тыном, иногда же в срубе, засыпанном
совершенно землею. В городе находились избы служилых стрельцов,
пушкарей, затинщиков1, но в каменных городах эти помещения
устраивались и в стенах. Наконец, в городе были дворы разных
частных лиц; особенно дворян и детей боярских, имевших свои
поместья в уезде. Эти дворы строились ими на случай опасности,
когда придется прятаться в осаду от неприятеля. В обыкновенное
мирное время хозяева таких дворов там не жили, а оставляли
дворников из бобылей, которые занимались каким-нибудь
ремеслом или промыслом и тем содержались и вместе с тем управляли
дворами за право жить в них. Сверх этих частных осадных дворов
были еще казенные осадные дворы или избы, построенные для
простонародья на случай военного времени, когда воеводы
посылали через бирючей2 скликать народ в осаду. Избы эти были столь
просторны, что в них по нужде помещалось до двухсот человек и
жители подвергались там всевозможнейшим неудобствам, какие
могут происходить от тесноты; от этого нередко жители
предпочитали скитаться по лесам, подвергаясь опасности попасться под
татарский аркан, чем идти в осаду.
Количество строений в городах было различно, смотря по
величине города. В больших городах помещались даже и гостиные
дворы; города в таком случае делались средоточием торговли, и
оттого-то впоследствии название «города» стало вообще означать
место торговой и промышленной деятельности. Прежде других
такой характер получили те города, где сосредоточивалось
управление несколькими уездами.
III
Москва
Переходя от городов к посадам, следует остановиться на
Москве, которая в большей части своего протяжения была и городом,
и посадом вместе.
Средоточием Москвы был Кремль. Неизвестен год
построения его. Вероятно, он существовал с основания самой М6-
сквы и был, как вообще русские города, деревянный. В 1367
году впервые заложен был каменный город, но потом
разрушился, и уже в конце XV века великий князь Иоанн
построил опять каменную стену с башнями. Постройкою
занимались итальянцы. От двух углов кремлевской ограды на
восток потянулось продолжение каменной стены и образовало
другой город, называемый Китай-городом, построенный в 1538
году правительницею Еленою. За' Кремлем и Китай-городом,
примыкавшими с одной стороны к реке, с других сторон
1 Затинщик — стрелок у затынной пищали.
Бирюч — глашатай, оповеститель.
17
простирался, посад, который также был обведен стеною с
воротами и башнями и назывался Белым городом, от белого
цвета окружавшей его стены. За этою стеною следовал другой
посад,, который также был при Борисе, обведен двойною
деревянною стеною с толстым слоем земли в промежутке
между двумя стенными рядами. Он назывался Земляным
городом. Сверх того на другой стороне Москвы-реки как
продолжение Земляного города стоял городок, и наконец,
многие монастыри, укрепленные по тогдашним обычаям
стенами и башнями, представляли вид отдельных городов. Так,
при Михаиле Федоровиче, во время нашествия королевича
Владислава, монастыри Симонов и Новодевичий обращены
были в отдельные форты.
Москва своею огромностью изумляла иностранцев; впрочем, от
них не укрылось, что величина эта была только кажущаяся,
потому что дворы были очень велики. В XVI веке она была больше,
чем в XVII. По свидетельству Герберштейна1, в его время Москва
заключала в себе 41 500 домов. Посетивший ее при Федоре Иоан-
новиче Флетчер2 полагает, что в прежнее время было в ней то же
количество домов, но присовокупляет, что она очень потерпела и
уменьшилась в объеме после опустошения, нанесенного крымским
ханом Девлет-Гиреем в 1571 году. Олеарий3, посещавший Москву
при Михаиле Федоровиче, также говорит, что она была огромнее
до этого бедствия и что внешняя ограда имела тогда 25 верст в
окружности. По его известию, разорение крымцами было для нее
гибельнее, чем разорение во время поляков, хотя последнее в то
время свежее запечатлевалось в народном воспоминании. Тогда
она занимала три немецкие мили кругом. Мейерберг4,
посещавший Москву в 1661 году, полагает окружность ее с одной стороны
в 12 000 саженей, а с другой — в 7000. Это составляет 19 верст,
но так как тогда версты были тысячесаженные, то это значит, что
Москва имела в окружности нынешних 38 верст. Мейерберг
полагает ее со слободами, а Олеарий, кажется, не считает слобод, ибо
они в его время были истреблены пожаром, уничтожившим до
5000 домов. Из этих известий можно только приблизительно и не
вполне ясно представить себе величину древней столицы; да и
сами описатели ее не могли соблюсти точности, потому что сама
Москва беспрестанно изменяла свой вид от частых пожаров.
1 Сигизмунд Герберштейн — немецкий дипломат (I486—-1566),,
бывал в России в 15179 1526 годах. Автор «Записок о московитских делах».
. 2 Джайлс Флетчер — английский дипломат (1549—1611), в
1588—1589 годах посол в Москве. Автор труда «О государстве Русском».
3 Адам Олеарий — немецкий путешественник (1603—1671), бывал
в России в 30-х годах XVII века. Автор «Описания путешествия в
Московию».
4 Августин Мейерберг — австрийский дипломат (1612—1688), бывал
в России во главе австрийского посольства в 1661—1662 годах. Автор
«Путешествия в Московию...»
18
Кремль занимал середину столицы и был средоточием власти,
управления, церковного устройства и убеждений всего русского
народа. Там жил царь, и Кремль был священным местом русского
народа. С трех сторон Кремль окружен был водою; с юга
окаймляла его Москва-река, с запада и с севера — Неглинная. Эта
болотистая река, теперь уже не существующая, в верхней части
Кремля образовала пруд, из которого была проведена вода в
канавы, прорытые около кремлевских стен, В XVI веке канавы эти
были так многоводны и глубоки, что на них были-построены
мельницы. При Михаиле Федоровиче они сделались только рвами*
однако значительной глубины«•, По направлению канав или рвов.
Кремль окружала кирпичная стена с башнями* Каждая из башен
носила собственное название, одни по образам, которые на них
висели, другие по местности; § XVI веке было 16 или 17 башен.
Башни проезжие были громаднее, чем глухие. Ворота Кремля
были следующие: Фроловские, в 1658 году переименованные в
Спасские и теперь удержавшие это название, Никольские,
Константиновские (теперь несуществующие) на юг от Спасских,
Боровицкие, переименованные Алексеем Михайловичем в 1658
году в Предтеченские, Неглинные* Тайнинские к Москве-реке и
Портомойные на юго-западном углу у водовзводной башни, куда
прачки выходили мыть белье на плот, устроенный для этого.
Только пять первых ворот были проезжие, Фроловская, или Спасская,
башня над главными воротами была выше и красивее других. На
рисунках, оставшихся от XVII века, она одна походит на
нынешние кремлевские проезжие башни. Сверх всех башен, проезжих и
глухих, на каждой стороне кремлевских стен были устроены
маленькие башенки, где висели колокола, в которые звонили во
время пожара и тревоги. Кремлевские стены были уставлены
пушками.
В Кремле был двор государев. У старых великих князей
хоромы были деревянные. Но по мере того, как держава Московская
принимала более крепости и государственной силы, возникала
при дворе потребность созидать каменные здания. При Иоанне III
построен был каменный казенный дворец Между Архангельским и
Благовещенским соборами, а потом и дворец для жилья,
оконченный в 1508 году. Ужасный пожар в 1547 году повредил этот
дворец. Иоанн возобновил его и украсил золоченою кровлею, но в
1571 году он был разорен Девлет-Гиреем. При Федоре он был,
однако, уже отделан и находился в нарядном виде. При Борисе,
Самозванце, Шуйском и в первую половину царствования
Михаила строили только деревянные дворцы. Но после пожара 1626
года, в другой раз при Михаиле истребившего царское жилье,
принялись за постройку каменных зданий. Михаил Федорович
отстроил себе каменный дворец, но не жил в нем, а предоставил его
царевичу и предпочел для себя жить в деревянном здании, находя,
что деревянные здоровее каменных, При Алексее Михайловиче
была построена новая дворцовая палата и потешный дворец. В конце
его царствования было два царских каменных дворца. При Федоре
Алексеевиче были перестроены и обновлены каменные здания
19
дворца. Но тем не менее в XVII веке цари продолжали,
предпочитать деревянные здания для жилья, и для каждого члена царского
семейства строили особые домики. Таким образом, царские
усадьбы в Кремле состояли из немногих каменных и множества
деревянных строений, отдельно построенных, нагроможденных в
различных направлениях и по вкусу времени испещренных
золотом, разноцветными и вычурными украшениями. Царский двор
огорожен был решеткою, с воротами, на которых висели образа.
Эти ворота были: Курятные, Колымажные, украшенные высокою
башнею и часами, Воскресенские и Золотые, или Гербовые, с
башнею, на вершине которой находился золоченый двуглавый
орел, а на стенах были изображены гербы областей Московского
государства. Курятные ворота в 1658 году были переименованы в
Троицкие и находились на севере, без башни наверху, под
палатами царских мастериц; за ними вне двора было множество
зданий, занимаемых разными отраслями царского хозяйства; дворцы:
сытный, кормовой, хлебенный, приспешные палаты, пивоварня,
медоварня, воскобойня, свечная, аптека, денежный двор,
конюшенный двор и прочее. На взгорье к Москве-реке был запасный
дворец — каменное здание с разведенным на нем садом, а внизу
житный двор (где хранились хлебные запасы) и церковь
Благовещения. Кроме царского двора в Кремле были дворы
приближенных к царю бояр и вельмож. Так, при Алексее Михайловиче там
находились дворы: Морозова, Куденевича-Черкасского, Бориса
Лыкова и других. Оригинальная неправильность постройки,
вычурность, пестрота и затейливость украшений останавливали на
себе глаза путешественников, но более' всего поражали их
кремлевские церкви: купола и главы некоторых из них были покрыты
золоченою медью и ослепительно блистали против солнца. В
начале XVI века только немногие из них были каменные, но в XVII
число их несравненно увеличилось. Всех вообще церквей насчитал
Олеарий в Кремле 52, а другой путешественник при Алексее
Михайловиче только 30. Верно только то, что их было больше; чем
теперь, потому что кроме существующих упоминаются такие,
которых более нет: Сретенский собор, Троицкий монастырь, церковь
Сергия Чудотворца. Башня Ивана Великого, построенная Бори-
срм, величаво, возвышалась над кремлевскими зданиями; близ нее
находилась башенка с огромным колоколом в 365 центнеров весом.
К огромному языку его были привешены две веревки, а к каждой
из них по двенадцати веревочек, так что нужно было двадцать
четыре человека, чтобы раскачать эту массу. В него звонили по.
большим праздникам и при встрече посольств.
За пределами Кремля на восток протягивался Китай-город.
Китай-город начинался от Кремля Красною площадью. Он
обведен „был кирпичною стеною красного цвета (побеленною
при царевне Софье), которая на севере соединялась с углом
кремлевской, а на юге вдоль Москвы-реки с белогородскою
и образовывала с нею одну стену. Тут было лобное место,
откуда читались народу царские грамоты; здесь стояла
Покровская церковь, которую называли Иерусалимскою, постро-
20
енная царем Иваном Васильевичем после ' взятия Казани и
теперь поражающая своею оригинальностью и причудливою
смесью восточной архитектуры с европейскою. Недалеко от
нее был амфитеатр из тесаного камня, поднимавшийся вверх
уступами, место значительное в старой обрядности нашей в"
праздник вербного воскресения. Близ амфитеатра стояла
церковь- ев. • Меркурия Смоленского, с другой стороны амфитеатра
находился Земский приказ — покрытое землею здание с
двумя огромными орудиями наверху и с другими двумя внизу
на земле. На Красной площади пред лицом Кремля был
большой рынок, где постоянно толпились и продавцы, и
покупатели, и празднолюбцы, а вблизи амфитеатра сидели
женщины, продававшие свои изделия. На восток от рынка
простирались торговые ряды; их было множество, потому что
для каждого товара был свой торговый ряд. В Китай-городе
была типография, множество церквей, многие приказы, дома
знатных бояр, дворян и гостей, английский двор, по
упразднении привилегии англичан обращенный в тюрьму, три
гостиных двора; от последнего из них, персидского, на юг
шла овощная улица, состоявшая из лавок с овощными
товарами. Она упиралась в рыбный рынок, по рассказам
иностранцев, сделавшийся известным своей нестерпимой вонью.
От него через реку построен был мост на судах, а за
мостом следовало Козье болото, урочище, на котором казнили
преступников
За пределами Китай-города следовал Белый город,
обведенный белою стеною, называемой так в отличие от красной
стены Китай-города. До Федора Иоанновича стена,
построенная на этом месте, была деревянная; при этом государе
вместо нее сооружена каменная. Она была высока и толста,
шла в виде полумесяца от одного пункта близ Москвы-реки
до другого близ той же реки, в обоих пунктах загибалась
и примыкала с запада к Кремлю, а с востока к
Китай-городу, так что у подножия царского двора все три города
соединялись в одну кремлевскую стену, которая шла вдоль
Москвы-реки. По стенам Белого города шли башни; из них
двенадцать были проезжими е воротами: на юго-западе
Троицкая, в повороте, посредством которого Белый город
соединялся -'с Кремлем; отсюда по круговой линии на запад, с
запада на север, а с севера на восток следовали одни за
другими ворота в проезжих башнях: Чертольские,
переименованные в .1658 году в Пречистенские, Арбатские, в том же
году нареченные Смоленскими, Никитские, Тверские,
Петровские, Дмитровские, Сретенские, Мясницкие, переименованные
в 1658 году в Фроловские, Покровские, Яузские и
Васильевские. Между Сретенскими и Дмитровскими воротами стояла'
башня, через которую проходила река Неглинная, протекавшая
через Белый город по направлению от северо-востока к
северо-западу. Эта башня называлась Неглинною Трубой. Между
проезжими башнями стояли глухие: между Чертольскими и
21
-Арбатскими-, также между Никитскими и Тверскими по две;
между остальными по одной; глухая башня между Яузскими
и Васильевскими воротами носила исключительное название
Наугольной. В начале XVIII века только между двумя
воротами было по одной башне, между другими везде по две,
в между некоторыми и по три. Стены Белого города шли
по линии нынешних бульваров, и, как известно, старинные
названия ворот сохранились до сих пор* хотя стены уже
давно исчезли по повелению Екатерины И. Белый город, или
Царь- город, как его называли, был самою населенною
частью Москвы. У многих князей и бояр были здесь большие
дворы? здесь жили многие из богатого купечества, большая
часть ремесленников со своими мастерскими и лавками при
них для продажи своих изделий; здесь был гостиный
шведский двор; здесь сосредоточивалась торговля хлебом и мясом.
Последнее продавалось на мясном рынке с мясных скамей;
на этом рынке были и бойни, куда пригоняли скотину. На
берегу Неглинной, близ урочища, называемого Поганый Пруд,
стоял пушечный, или литейный, завод, где готовились пушки
тл колокола; в другом месте был царский конюшенный двор
с конюшнями. Еще в конце XVII века на правой стороне
Неглинной возвышался построенный Иоанном Грозным в 1565
году в итальянском вкусе дворец.
За пределами Белого города был расположен Земляной город.
Стену его построили в 1591 году по поводу опасения от набега
крымцев, которых посещение двадцать лет перед тем слишком
много наделало горя московским жителям. Эта стена была
построена очень скоро, и, вероятно, от этой скорости весь Земляной
город назывался Скородумом, то есть скорозадуманным городом.
Англичанин при Алексее Михайловиче замечал, что в этой стене
было так много дерева, что из него можно было построить ряд
тонкостенных английских домиков на тринадцать миль длины.
Стена эта шла по теперешнему направлению Новинского бульвара
и Садовой округленным очертанием и как на западе, так и на
востоке упиралась в Москву-реку, пересекая на пути своем реку
Яузу. В Земляном городе за Яузою был древесный рынок, где
продавались лесные изделия и между прочим готовые дома,
нужные для московских жителей по причине частых пожаров. Много
торговых и ремесленных заведений находилось во дворах
домохозяев. Жители здесь были большею частью посадские люди, и мало
жило знатных особ. Дома были почти все деревянные, а самые
дворы отличались огромностью пространства.
Замоскворечье в древности называлось Заречье. Великий князь
Василий Иванович поселил здесь пленных немцев и литовцев: им
дозволяли пить вино, потому-то их и вывели отдельно от русских,
которым вино разрешалось только но праздникам. От этого
Заречье прозвано Наливки от слова «наливай». Впоследствии там
заведена была стрелецкая слобода. Она была обнесена стеною,
которая казалась продолжением стены Земляного города, потому
что подходила к Москве-реке в тех пунктах, где на противополож-
22
ной стороне упиралась в нее земляногородекая. стена. Двое во-,
рот __ Серпуховские и Калужские — в проезжих башнях служили
выходом и входом для этого города.
За городом были разные слободы, которых насчитывают
чрезвычайно много; одни* из них вошли в разное время в;
город; местность других даже определить теперь трудно.. В
XVI и XVII веках, упоминаются слободы: Кадашевка (слобода
ткачей полотен), ордынцев, седельников* гончаров,, котельник
ков, серебряников, басманниковг огородников, мясников,
воротников, . гранатников, кречетников, . трубников,, барашей1,-
пушкарей, сокольников, хлебников; Бронная, Конюшенная,
Казенная; другие носили названия по собственным именам:
Семеновская, "Воронцовская, Алексеевская, Никитская,
Кудрина, Садовая; было сэерх того несколько ямских слобод:
Тверская, . Дорогомиловская, Рогожская, Напрудная. За Яузой, где
помещались многие из исчисленных здесь слобод, была,
между прочими, Иноземная слобода, или Немецкая, построенная
Иваном Васильевичем Грозным. После Смутного времени
немцы расселились по городу и построили себе церковь в
Белом -городе; но по настоянию духовенства при Алексее
Михайловиче их снова выселили в слободу. Там у них было
три церкви.
Сверх всех слобод по окрестностям столицы было рассеяно
множество загородных домов вельмож и богатых московских жи^
телей, так что, приближаясь к столице, можно было издали ее
чувствовать. Там и сям мелькали монастыри, огороженные
стенами и башнями во вкусе тогдашних городов. Между ними
беспрестанно появлялись новые дворы. Монастыри и слободы
произвольно захватывали земли и отдавали их, как свою
собственность, под загородные дворы. Но в 1649 году правительство со всех
таких дворов постановило собирать в казну оброк и запретило
вперед селиться на выгонной земле. Таким образом было
остановлено естественное расширение столицы.
IV
Посады
Посады, как выше сказано, обыкновенно располагались
при городах и часто укреплялись острогами или осыпями;
но в местах, где отдаленность от границы не представляла
опасности, посады были без городов. Жители посадов —
торговцы, ремесленники и промышленники, обязанные
различными налогами и повинностями правительству, назывались
тяглыми; их тяглые дворы служили единицами в полицейских
и" финансовых отношениях посадов к государству. Кроме
Бараш — обойщик.
23
тягловых дворов были на посадах дворы не тяглые, или
белые, не подлежавшие тем повинностям, какие • налагались
на тяглых. То были дворы священнослужителей, дворы
церковные,- монастырские подворья, где жили старцы,
заведовавшие делами своих монастырей, участвовавших, как известно,
в торговле, дворы дворян и детей боярских, которые редко
жили в них сами, а чаще содержали там своих дворников:
Были еще на посадах о&рочные дворы, то есть такие, которые
сдавались от казны в оброк на подобных основаниях, как
и поземельные, участки. Этот обычай велся издавна и
существовал еще при великих князьях. Наконец, в посадах
междудворами ' составляли особый разряд дворы бобылей, людей;
бедных, не имевших определенного занятия и плативших
соответственно своему состоянию меньшие налоги.
Строиться.улицами было издавна в обычае у русских. В
посадах улицы носили названия по именам церквей, построенных-
на них, например Дмитровская, Пречистенская, Воскресенская*
Успенская, иногда же па занятиям тех, кто на них жил, например
Калачная, Ямская, Кабацкая, Загостинская; иногда по
каким-нибудь собственным именам, прозвищам, например Букреева, Пар-
феновка. По краям улиц или где они пересекались между собою,
ставили образа в киотах. Вообще они были широки, довольно пря^
мьь но очень грязны. Только в Москве и в больших городах было
что-то похожее на мостовую. Это были круглые деревяшки,
сложенные плотно вместе одна с другою. Не вся Москва была таким'
образом вымощена: во многих местах не было мостовой, и там, где
особенно было грязно, через улицы просто перекладывали доеки.
В Москве собирался с жителей побор под именем мостовщины, и
Земский приказ занимался- мощением улиц, но мостили больше
там, где было близко к царю. Такая мостовая не препятствовала,
впрочем, женщинам ходить не иначе, как в огромных сапогах,
чтоб не увязнуть в грязи. Хотя в Москве существовал особый класс
служителей^ называемых метельщиками, обязанных мести и чис-'
тить улицы у и хотя их было человек пятьдесят, однако в переулках
столицы валялось стерво1 и во многих местах господствовала
невыносимая вонь. Если в самой столице так мало наблюдали чис-};
тоту, ;то еще менее заботились о ней в посадах, но зато при
малолюдстве их в сравнении с Москвою не столько.причиняла зл&"
такая небрежность. -■> -•
Везде в посадах были площади, иногда очень пространные и
всегда почти неправильные. В Белозерске в XVI веке при трехстах"
дворах была площадь в 240 саженей длиною, шириною в одном
конце в 68 саженей, в другом — 36, в середине -г 70. В Муроме
площадь была в длину 94 сажени, а в ширину в одном месте ~-
26, а в другом — 12 саженей. Обыкновенно все улицы посада с
разных сторон неправильными линиями сходились к площадям,
которые были центром торговли и вообще всех сношений жителей
1 Стерво — падаль.
24
посада. Тут стояли ряды и лавки, где не только продавали, но и
работали,. прилавки с разными мелочами, скамьи с мясными и
рыбными припасами, калачни, харчевни, где собирались гуляки,
и земская изба — место выборного управления. В больших поса<->
дах также торговые рынки находились в той части, которая
окружена была стеною и часто называлась городом; например, в
Астрахани в той части посада» которая была окружена каменною
стеною и называлась Белым городом, была площадь, где находила
ся. большой гостиный двор и торговые заведения, а в другом месте
. была площадь/ где продавалось дерево. Около посадов оставлялась
всегда выгонная земля, называемая иначе поскотинною; если там
были луга, то луговою, или же боровою, когда посад окружали.
леса.
Главным украшением посадов были церкви, Не говоря уже о
Москве, где число всех церквей, по свидетельству
путешественников, поверявших наблюдения один другого, простиралось до 2000>
вообще в посадах, даже немноголюдных, находилось множество
церквей, несоразмерное с населением. В Белозерске, где всех душ
в 1674 году насчитывалось только 960, было 19 церквей и из них
одна каменная соборная. В Муроме в 1687 году было, кроме 3
церквей в городе, 4 монастыря и 20 церквей в посаде, а между
тем, Муром не отличался многолюдством. В старые времена
каждый зажиточный человек строил церковь, содержал для нее
священника и молился в ней со своею семьею. Зато многие церкви
были так малы, что простирались не более как на 15 футов; они
были деревянные, небеленые, крытые тесом или гонтом1, но часто
главы покрывались белым железом и блистали против солнца. В
Вологде.все главы церквей, которых было всего 67 (21 каменная;
43 деревянные и 3 монастыря), были покрыты таким образом.
Вообще посады наши были немноголюдны. Разные бедствия,
столь обильно изливаемые судьбою на Русь, оказывали постоянно
вредные.последствия на размножение населения посадов. На юге
России никак не могли процветать посады, потому что
беспрестанные набеги крымцев не давали народу возможности весте
оседлой/жизниj тем менее заботиться 6 житейских удобствах.
Очень часто посещали Русь моровые поветрия, как страшно они
опустошали посады, можно видеть из таких примеров, как Шуя в
1654 и 1655 годах, где после морового поветрия из 211 дворов
вымерли совершенно обитатели 91 двора, и после трех летг в 1658
году, многие дворы еще оставались по той же причине пустыми.
Дурное управление и тягости, возложенные на посадских от
правительства* побуждали жителей оставлять свои жительства и ша*
таться с места на место; другие, гонимые бедностью»
закладывались частным владельцам или монастырям; иные
постригались в монахи.
Выше показана скудость населения в Белозерске и Шуе;
в других местах и в различное время представляется то же.
Гонт, гонот — расколотое бревно, плаха.
25
Так» например, в 1574 году в Муроме было 738 дворовых
мест, назначенных для поселения, но из них только: IL1
было жилых, 107 дворов со своими строениями стояли,
пустыми, а прочие, места не были и застроены, или, может
быть, бывшие, на них строения уже исчезли. В . 1.637 году
r Устюжне было всего 178 дворов* а людей в них . 254
человека. Около того же времени или несколько позже в
Чердыни было 304 двора, а в Соликамской 355; а эти города
по своему местоположению, удаленному от внезапных набегов
хищнических народов, и по приволью представляли
возможность лравильнейшего населения. В Холмогорах, которые сто^
яли недалеко от моря и притом на главном торговом пути,
в 1675 году было всего 645 дворов, а людей в них 1391
человек. Сама власть не способствовала развитию посадской
жизни. Прежние цветущие города ~т- Новгород, Псков, Тверь,
потеряв свою гражданственность, теряли и свои богатства.
Правительство, стремившееся к единовластию, не допускало
в посадах развиться самоуправлению, которое всегда идет
рука об руку с благосостоянием. При беспрерывных,
неотвратимых бедствиях, побуждавших, народ к шатанию, было
невозможно, чтоб в посадах заботились о красоте и прочности
постройки зданий; притом же пожары . были самое
повседневное и повсеместное явление. Москва, как известно,
славилась многими историческими пожарами, губившими не
только жилища, но и тысячи людей. Стоит припомнить пожар
1493 года, истребивший всю Москву и Кремль,. славный
пожар 1547 года, когда кроме строений сгорело более двух
тысяч народа; пожар 1591 года, доставивший Борису случай
показать пред народом свою щедрость; пожары при Михаиле
Федоровиче были так часты, что не обходилось без них ни
одного месяца; иногда на них было такое плодородие, что
они следовали один за другим каждую неделю и даже
случалось, что в одну ночь Москва загоралась раза по два
или по три. Некоторые из этих пожаров были так
опустошительны, что истребляли в один раз третью часть столицы.
При Алексее Михайловиче Москва несколько раз испытывала
подобные пожары, например во время возмущения народного
по поводу пошлины на соль в 1648 году, потом в 1664 и
1667 годах.
В других городах пожары были также опустошительны,
например, в Пскове в 1623 году был пожар, истребивший город
дотла, так что жители, обедневши, долго не могли после него
поправиться. Несмотря, однако, на такие частые бедствия от огня,
меры против него были вялы и преимущественно только
предохранительные: старались делать пошире дворы, правительство
приказывало ставить на кровли строений кадки с водою и мерники с
помелами; запрещалось по ночам сидеть с огнем и топить летом
мыльни и даже печи в избах, а вместо того жители должны были
готовить себе пищу в огородах. Эта мера одна по себе была
плохим средством, и притом не все ей подлежали: некоторым зажи-
26
точным хозяевам, так называемым служилым людям, по хорошим
их отношениям с воеводами позволялось то, что вообще
запрещалось другим; воевода мог разрешить топить летом избу, если
находил, что день довольно пасмурен или влажен, и мыльню из
снисхождения к больным и родильницам. Когда вспыхивал пожар,
все действия против него ограничивались тем, что старались ло~
: мать строения^ стоявшие близ горящих зданий. Только- в Москве
были некоторого рода обычные меры гашения огня при пожарах.
При, Михаиле Федоровиче существовали какие-то холстинные
паруса саженей в пять длиною и щиты из лубьев с рукоятями. При
Алексее Михайловиче велено было, чтобы,все вообще зажиточные
люди заводили у себя медные и деревянные трубы, а люди с
меньшим достатком складывались вместе по пяти дворов для покупки
одной трубы, и в случае пожара все должны были бежать для
погашения.
Слободы
На Руси встречались слободы трех родов: служилых людей,
промышленников и, наконец, вообще поселян, пользующихся
льготами. К слободам служилых людей относились: стрелецкая,
пушкарская, пищальная, затинщиков, воротников, казачьи,
ямские. В них были поселены служилые люди одного какого-нибудь
наименования, которые составляли корпорацию и исполняли
определенную служебную обязанность в отношении правительства.
Слободы этого рода пользовались особым управлением и особыми
правами. По большей части они находились близ городов и
составляли предместья посадов, если под городом находился посад.
В некоторых местах, однако, особенно на юге Московского
государства, место самого посада занимали слободы. Близ одного
острога были слободы: стрелецкая, казачья и пушкарская, а
посадских был один только двор; таким образом, весь посад, хотя
и числился существующим, но заключался в одном только дворе.
Величина служилых слобод соразмерялась с потребностью
военной силы по важности города, близ которого они были
расположены, иногда они были очень невелики, например, человек в 50
жителей и даже менее.
При исчислении слобод, находившихся близ Москвы,
показаны роды промышленных, ремесленных и торговых слобод.
Подобные названия встречались в разных местах Руси. Некоторые
промышленные слободы были в то же время и служилые, потому
что жители их были обязаны доставлять к царскому двору
произведения своего труда и за то пользовались облегчительными
льготами. Таковы были слободы бобровников, слободы рыбных ловцов,
слободы сокольников и кречетников и прочие, которых жители
обязаны были доставлять ко двору плоды своей охоты и рыбной
27
ловли, точно так же, как близ Москвы жители слободы Кадашевки
занимались тканьем полотен и отбывали повинности доставкою
своих произведений на потребности двора.
- В Сибири, кроме служилых слобод, такое же название носили
поселейия, где' жители занимались земледелием и пользовались
льготами, которые давались новоприбывшим туда поселенцам в
-уважение к их недавней оседлости. В XVII веке служилые люди
ходили по Руси и вербовали народ в Сибирь, заманивая
обещаниями разных льгот; сверх того, для перехода давались охотникам
подможные деньги. Эти поселенцы обязаны были пахать известное
количество земли и, собирая с нее хлеб, доставлять его в города
для прокормления служилых: такие слоболы назывались
пашенными.
VI
Села и деревни
Земледельческие жилые местности вообще по
административному положению были; черные тяглые, дворцовые, поместья
и вотчины. Первые были государственные имения, вторые —
собственность государя и его фамилии; поместья были
казенные имения, которые раздавались служащим людям как
бы вместо жалованья за их • службу: владелец не мог ни
продать, ни заложить, ни завещать их, и хотя они очень
часто переходили от отцов к детям, но не по праву
наследства, а по новой отдаче от правительства, так что каждый
раз, получая во владение отцовское поместье, сын должен
был справлять его за собою, то есть приобретать от
правительства на него право с обязанностью нести за то службу.
Вотчины были собственностью владельцев. Вотчины были: вла-
дычцые, то есть принадлежавшие архиереям или соборам,
или, как тогда говорилось, домам святыху например, дому
Пресвятой Богородицы, дому Софийскому; монастырские и,
наконец, частных лиц, то есть бояр, окольничих, дворян и
:-детей боярских.
Сельские жители всех наименованных здесь поселений
вообще назывались «крестьяне», и для означения, к какого
рода владениям они приписывались, прибавлялось
прилагательное: монастырские крестьяне, владычные крестьяне,
дворцовые крестьяне, помещиковы и вотчинниковы крестьяне. В
XVII веке крестьяне в вотчинах, принадлежавших отдельным
владельцам, вообще назывались боярскими, и господские
имения носили общее имя боярщины. С прекращением личного
права крестьян на переход с владельческих земель* на
которых они были поселены^ по мере большего прикрепления
к земле крестьяне мало-помалу входили в один разряд с
холопами или рабами. Несмотря на малолюдность края, в
28
XVII веке село чаще было раздроблено между разными вла-
, дельцами, чем составляло собственность одного; только
владения бояр и князей представляли исключения. По большей
части в одном селе было несколько владельческих усадеб.
Около них поселены были обыкновенно рядами дворы их
подданных и разделялись на дворы людские, крестьянские и
бобыльские. В людских жили люди, или холопы, обращенные
господами на полевые работы: иногда в одном дворе и даже
в одной избе помещалось несколько семей этих рабов, не
имевших ничего собственного и живших на скаредном
содержании от владельца. В крестьянском дворе обыкновенно жил
хозяин не только с семьею, состоящею из детей, братьев и
племянников и разделявшеюся на две, на три и четыре семьи
с общим достоянием (не в разделе), но часто с несколькими
посторонними семьями работников или подсоседников, которые
не имели своего угла, жили по найму и в отношении
юридическом и административном вместе с хозяйскою семьею
составляли одну единицу. Отличие крестьян от бобылей
возникло в давнее время. Когда еще не воспрещено было
крестьянам с известными условиями переходить .от владельца к
владельцу, крестьянин, поселившийся на земле вотчинника
или помещика, брал от него участок, носивший юридическое
название жеребья, и должен был отбывать повинности,
лежавшие на этом жеребьи. Те, которые не могли брать целых
жеребьев, селились на владельческих землях, платя только
за свой двор и обрабатывая землю по добровольным особым
условиям с владельцем, а потому не подчинялись уже
обязанностям, лежавшим на жеребьях. Такие назывались
бобылями. После укрепления крестьян бобыльскому сословию
предстояло со временем смешаться с крестьянским, но и в
XYII веке оно еще не успело совершенно потерять свое
отличие. Бобыльские дворы всегда писались отдельно от
крестьянских, ибо всякий крестьянин, как и прежде, отправлял
свои повинности с тяглого жеребья, хотя назначение такого
жеребья и зависело от владельца, сколько можно судить по
дошедшим до нас известиям. Бобылями, то есть не имеющими
жеребья, стали называться тогда те, которые по бедности не
могли удержать за собою жеребьев. Но в старину, в XVI
веке, не всякий бобыль был бедняком. Когда поселяне имели
право переходить с земель владельческих на другие, многие
могли не обязываться жеребьем не потому только, что по
скудости не в силах были вынести лежавших на жеребьях
повинностей, но также и для того, что не нуждались в
таком количестве земли, какое приходилось на жеребий, и
сверх земледелия извлекали из других занятий средства к
содержанию. После воспрещения перехода и укрепления
крестьян, когда распределение жеребьев зависело уже от
владельца, естественно, те, которых владелец не считал удобным
посадить на тяглый жеребий, были только бедные люди: без
того владелец, конечно, дал бы им жеребий и обложил
29
повинностью. Таким образом слово «бобыль» перешло в знаь
чение бедняка,'• пролетария и осталось с ним до нашего
времени.
До прекращения перехода земледельцев в вотчинах и поместь--
ях было всегда значительное число пустых дворов со строениями,
готовыми принять к себе новых жильцов. Одни строились самими
владельцами и сдавались приходящим крестьянам; другие —
крестьянами, смотря по договорам. Но и в XVII веке, несмотря на
укрепление крестьян, повсюду в имениях было не менее прежнего
пустых дворов, потому что многие из земледельцев бегали,
оставляя свои жилища; другие, вероятно, сами были увольняемы
владельцами. Сельская жизнь по-прежнему носила на себе явный
недостаток оседлости.
Вообще сельское народонаселение, как и посадское, было
скудно и бедно. Частые войны и моровые поветрия
истребляли его. В окраинных землях татары сожигали дотла
поселения, умерщвляли и забирали в плен людей, не успевших
схорониться в городах. При Михаиле Федоровиче вся страна
на юг от Москвы была сожжена и представляла голую степь.
Правительство не упадало духом и деятельно старалось о
заселении ее вновь; но долго еще несчастные условия
препятствовали всяким усилиям. Земледелец не мог спокойно
располагать своим временем и часто среди летних работ
принужден был покидать на поле несобранный хлеб и по
зову бирючей спешить в осаду. Крестьянам не дозволялось
от правительства строить житницы, а велено было держать
зерновой хлеб в ямах. Сами избы обыкновенно сжигались,
как только неприятель приближался, и крестьянин убегал в
город с тем, что успевал захватить с собою. Нередко плоды
долголетних трудов уничтожались в один день. Таким
образом, плодоноснейшие полосы государства оставались
необработанными, и почти незаселенными. Подобных бедствий не
чужды были и другие русские области. Так, в разделе между
Строгановыми были условия, чтобы строения, поставленные
за укреплениями в их сибирских владениях, были сожигаемы
во время опасности.
Недостаток прочной оседлости не допускал жителей
прилагать стараний о сборе запасов продовольствия на случай
скудных лет. От этого в случаях неурожаев, которые
благодаря климату и почве были не редки, пустели целые края
от голода, как от заразы. Следует прибавить, что
неправосудное управление, отягощавшее жителей, принуждало их к
побегам и приучало предпочитать бездомовную, скитальческую
жизнь оседлой. Все эти причины препятствовали увеличению
народонаселения и мешали его благосостоянию. Многие
известия старых времен указывают на повсеместные пустые
дворы, которых обитатели или вымерли, или побиты, или
разбежались. Целые села исчезали, оставляя по себе название
пустых селищ. В XVII веке неподалеку от Москвы,
следовательно, в самом населенном крае в двух селах и одной
30
деревне насчитано только 2 Гб дворов и в них 299 душ. В
1675 году в Двинском уезде, во всех его станах и волостях,
было всего 2531 двор и в них 5602 человека. Во всем
Чердынском уезде в конце XVII века было всего до 3000
дворов. Как сельское население колебалось в каждом месте,
то увеличиваясь, то умаляясь, можно видеть из описания
одного стана в Вятском уезде: в 1629 году там было 44
деревни и 23 починка; в них было 100 живущих дворов, а
людей 106; в 1646 году там оказалось 103 деревни, живущих
дворов — 209 и людей — 1055 человек, да сверх того 5
деревень и 7 дворов пустых; в 1658 году в том же стане
было 53 деревни, 44 починка, живущих дворов — 133, а
людей — 714 человек. Более, чем в другие края, население
в XVII веке подвигалось, кажется, на восток, именно в края*
занимавшие нынешние губернии Пензенскую и Тамбовскую
и южную часть Нижегородской, где в XVI веке почти не
было русских жителей, а в половине XVII является много
городов, слобод и сел, как видно из дел о возмущении
Стеньки Разина. Этому причиною, кажется, было то, что
воинственность тамошних туземцев — мордвы и чувашей —
была уступчива к силе русских поселенцев. Вообще события
XVII века одно за другим представляли очень
неблагоприятные условия для оседлости и умножения народонаселения. В
первых годах XVII века эпоха самозванцев со всеми ее
последствиями сильно потрясла, опустошила и обезлюдила
Русь во всех ее концах. При Михаиле Федоровиче не успела
Русь еще оправиться от прошедших бедствий, как ее терзали
беспрерывные набеги татар на южные области. Отдохнув
немного в первые годы царствования Алексея, русское
население вслед затем подверглось целому ряду бедствий:
изнурительные войны с поляками, набеги крымской орды, моровые
поветрия, внутренние мятежи истощали его. Один англичанин,
посещавший Россию в конце царствования Алексея
Михайловича, говорил, что на пространстве в пятьсот верст едва
можно было встретить десять женщин и одного мужчину. Не
должно обольщаться обилием сел и деревень, встречаемых в
письменных актах: были села с церквами, в которых всего-
навсего было одиннадцать дворов, а деревни были столь
малолюдны, что в них значилось двора по три, по два и
даже по одному. Избегая непрерывных бедствий, народ
переселялся в Сибирь; несколько времени она была обетованною
страною России; но правительство, покровительствуя
заселению этого края, неоднократно и останавливало стремление
народа на девственную, плодородную, хотя и студеную, ее
почву. Уже в 1658 году сибирский владыка просил о
прибавке земли в его домовых волостях и представлял, что
народонаселение увеличилось, а земля выпахалась. Впрочем,
и в Сибири солнце светит, гласит русская пословица: и там
были воеводы, поборы, разметы, набеги иноземцев, моровые
поветрия и неурожаи.
31
VII
Дворы и дома
Дворы в нашей старой Руси были очень просторны. Это видно
уже из того, что для предохранения от пожаров приказывали
варить кушанье и печь* хлебы далеко от жилых строений в городах. В
старину, при великих князьях, в Москве были дворы,
принадлежащие князьям, до того огромные, что делились как уделы и даже два
князя владели одним двором. В завещании Иоанна III о дворах,
данном им своим детям, говорится о том, что в них заводили торги,
и о разных судных делах, касавшихся живущих в этих дворах: это
указывает на обширность и населенность таких дворов. В XVII
веке царская усадьба в Измайлове простиралась на четыре
десятины1. В Александровской слободе конюшенный двор занимал более
девяти десятин. Велики были дворы архиереев и монастырские
подворья в городах и посадах; например, в Хлынове двор владыки
имел 85 саженей в длину, поперек в переднем конце — 44, в
заднем — 54 сажени, да сверх того отведен был двор для его
церковных детей боярских в 61 сажень в длину и 12 в ширину. Торговый
двор Печенгского монастыря в Вологде имел в длину 60 саженей, а
поперек — 8. Иногда дворы посадских, если в посаде было много
места,. простирались до 50 и 60 саженей в длину. Как велики
бывали в Москве дворы бояр и знатных особ, можно видеть из следут
ющих примеров XVII века: боярский двор в длину — 37 саженей и
поперек в одном конце — переднем — 9, а в заднем — 33 сажени;
другой двор (стольника) в длину 25,5 саженей, поперек в одном
конце — 19,5 саженей, а в другом — 12. При сдаче земли под
постройки загородных домов считалось достаточным на двор 20
саженей в длину, а 10 в ширину. Встречались примеры усадеб гораздо
меньшего пространства, как-то: 14 саженей в длину, а поперек —
в одном конце 13, а в другом 10. В посадах обыкновенная средняя
величина усадеб была от 10 до 20 саженей в длину; встречались
даже и менее, например, 7 саженей в длину и 3 сажени поперек.
Вообще форма дворов была неправильная, и поперечник не только
не равнялся длине, но в переднем конце был иной меры, чем в
заднем. Всего чаще он подходил к равной мере с длиною
собственно в городах, где ограниченность пространства не дозволяла слиць
ком широко располагаться.
Дворы по возможности старались располагать на
возвышенных местах для безопасности от полой воды и зимних сугробов.
Такое правило наблюдалось в селах и деревнях при постройке
усадеб владельцев. Кругом дворы огораживались забором, иногда
острым тыном или заметом2. Обыкновенно эта городьба была де-
1 Десятина — русская мера земельной площади, равная 2400 кв.
саженям, или 1,09 гектара.
2 Замет — дощатый забор, пряслами, с закладкою досок в пазы
столбов.
32
ревянная, но в XVII веке иные делали каменные или кирпичные
ограды, иногда там, где на дворе вся постройка была деревянная.
Так, в Москве были усадьбы с деревянными постройками и
каменными оградами. Точно так же в царском имении, в
Измайловском селе, хотя постройка была деревянная, но ограда каменная
со сводообразными жильями внутри для прислуги и для
хозяйственных принадлежностей. Домовитый хозяин старался оградить
свою усадьбу так, чтобы через нее никакое животное не пролезло
и чтоб от соседей не могли приходить слуги к его слугам. В ограду
вело двое и трое (иногда более: пять и семь) ворот, и между ними
одни были главные, имевшие у русских некоторого рода
символическое значение. Они украшались с особенною заботливостью и
делались крытыми, а иногда в виде отдельного проездного
строения с надстроенными наверху башенками; сами створки
украшались разными изображениями, как-то: орлов, оленей, цветов и
тому подобное. Издревле существовал обычай над главными
воротами городов надстраивать часовни и даже церкви: так было,
между прочим, в старинном Киеве, где над Золотыми воротами была
сооружена церковь Благовещения. Сообразно этому обычаю
главные входы в двор получали некоторого рода священное значение;
над воротами зажиточных частных людей почти всегда ставили
образа в киотах. Ни в день, ни в ночь ворота не оставляли
отворенными; днем они были только приперты, а ночью заперты на
замок, и тогда по двору спускали с цепи собак. У самих ворот
строилась караульная избушка, называемая воротнею.
В самой Москве в XVI веке большинство зданий были
деревянными, и во всей столице едва можно было насчитать
одну восьмую часть каменных; и те занимаемы были
преимущественно кладовыми, а не жильем: никто не почитал
каменных зданий удобнее деревянных для жилья. При
Михаиле Федоровиче начал распространяться вкус на каменные
постройки. Алексей Михайлович его поддерживал. При
царском дворе существовали так называемые палатных и
городовых дел мастера, резчики каменных дел, не только
иностранцы,, но и русские, украшавшие Москву зданиями.
Зажиточные люди стали строить каменные дома, или палатки,
но все-таки сохраняли старинное убеждение, что в
деревянных домах жить здоровее, иностранцы, посещавшие Россию,
с этим соглашались. Уже по смерти царя Алексея в 1681
году приказано было в Кремле, в Кйтайгоррде и Белом городе
строить исключительно одни каменные строения и * для этого
выдавали из Приказа Большого дворца хозяевам на постройку
кирпич по полтора рубля за тысячу с рассрочкою на десять
лет, а тем, которые не имели средств сооружать каменные
постройки, приказано делать вокруг дворов по крайней мере
каменные ограды. Это была первая обязательная мера о
каменных постройках в России.
Форма домов была четвероугольная. Деревянные дома
делались из сосновых, иногда же из дубовых цельных брусьев.
Складывали брусья с большим уменьем, по замечаниям иностранцев,
2 Заказ 15 33
так плотно, что не оставалось ни малейшей скважины для прохода
воздуха, и притом не употребляя в целом доме ни одного гвоздя^
но скрепляли брусья, положенные один сверх другого,
посредством зубцов в нижнем и зарубок или выемок в верхнем, так что
зубцы вставлялись в зарубки или выемки. Целые толстые брусья
плотно держались между собою, а для теплоты обивали их еще
мхом; мох клали также по створкам дверей и окон. Это называлось
строить избу во мху; а если продавалась изба, не обитая мхом,
такая изба называлась не избою, а срубом.
Особенность русского двора была та, что дома строились
не рядом с воротами, а посредине от главных ворот. пролегала
к жилью дорога, иногда мощеная, которую добрый хозяин
содержал постоянно в чистоте и наказывал слугам счищать
с нее грязь в дождливое летнее и сугробы в зимнее время.
Вместо того, чтоб по надобности строить большой дом или
делать к нему пристройки, на дворе сооружали несколько
жилых строений, которые имели общее название хором.
Надворные постройки вообще были жилые и служебные или
кладовые. Жилые носили наименования: избы, горницы, по-
валуши, сенники. Изба была общее название жилого строения.
Горница, как показывает само слово, было строение горнее,
или верхнее, надстроенное над нижним, и обыкновенно чистое
и светлое, служившее для приема гостей. Название повалуши
сохранилось теперь в восточных губерниях и значит
кладовую, обыкновенно холодную. В старину, хотя повалуши и
служили для хранения вещей, но были также и жилыми
покоями: неизвестно, в чем состоит их отличие от горниц,
тем более, что повалуши иногда надстраивались над нижними
строениями, как горницы. Сенником называлась комната
холодная, часто надстроенная над конюшнями и амбарами,
служившая летним покоем и необходимая во время свадебных
обрядов.
Очень часто по нескольку строений всех этих видов
находилось в одном и том же дворе. Например, три горницы и одна
повалуша или две горницы и три повалуши. При каждом
отдельном строении были сени, а часто двое сеней, одни передние,
другие задние, и те и другие теплые, иногда же два или три жилых
строения под одной крышей соединялись теплыми сенями,
которые были общими для того и другого жилья. Обыкновенно жилье
располагалось так, что главный дом был с одной стороны сеней,
а по другую сторону, в заворот, другой дом, а от этого дома еще
какое-нибудь составляющее с ним угол строение. Иногда в одном
дворе несколько домов соединялись между собою крытыми
переходами, которые были продолжением сеней. Эти переходы различ^-
ными линиями проходили от одного строения к другому. В
Измайловском и Коломенском селах у царей такие переходы,
покрытые тесом и со слюдяными окончинами в окнах, сходились,
как у центра, у домовых церквей. Такое устройство, вероятно,
было и в домах знатных людей, у которых были церкви, ибо в те
времена многие бояре, знатные дворяне и вообще богатые люди
34
имели у себя домашние церкви, и тогда из всех жилых строений
члены семейства могли сходиться все разом для слушания
богослужения.
В XVII веке в Москве двор знатного человека, обнесенный
снаружи* каменным забором, представлял внутри несколько
каменных строений, стоявших на погребах и нижних этажах.
Перед каждым были сени. Между ними торчали деревянные
здания, избы, горницы, светлицы и множество изб людских
и служб каменных и деревянных, и все это было соединено
переходами.
Начиная от царских до зажиточных посадских* способ
расположения жилых строений был в главных своих чертах одинаков в
Русской земле. У царей для каждого члена семейства строили
особые хоромы даже тогда, когда эти новые хозяева не выходили
еще из детского возраста. Точно так же и у зажиточного
крестьянина для братьев, сыновей и племянников хозяина строились
избы, соединенные между собою; когда две и три избы под одною
кровлею соединялись между собою сенями, иногда несколько изб
связывались переходами.
Такой своеобразный способ постройки как будто выражал
сочетание родового единства с личною и семейною отдельностью, и
двор русского зажиточного человека напоминал собою древнюю
удельную Русь, где каждая земля стремилась к самобытности и
все вместе не теряли между собою связи.
В числе причин, побуждавших таким образом располагать
жилые помещения, было и то, что при таком способе постройки
удобнее было по смерти владельца наследникам разделиться между
собою, а в случае, если б кто пожелал выселиться и завести
собственный двор, ему легче было бы перенести- на новое место то,
что ему досталось из строений по разделу.
У простолюдинов избы были черные, то есть курные, без труб;
дым выходил в маленькое волоковое окно; при собственно так
называемых избах были пристройки, называемые комнатами. В этом
пространстве жил бедный русский мужик, как живет во многих
местах и теперь, со своими курами, свиньями, гусями и телками,
посреди невыносимой вони. Печь служила логовищем целому
семейству, а от печи поверху под потолок приделывались полати. К
избам приделывались разные пристенки и прирубки. У
зажиточных крестьян, кроме изб, были горницы на подклети с комнатами,
то есть двухэтажные домики. Курные избы были не только в
городах, но и в посадах и в XVI веке в самой Москве. Случалось,
что в одном и том же дворе находились и курные избы,
называемые черными, или поземными, и белые с трубами» и горницы на
нижних этажах.
Зажиточные люди обыкновенно строили себе дом в два жилья,
нередко с надстройкою наверху, которая придавала дому снаружи
вид трехъярусного.
Перед входом стояло крыльцо. В низких одноэтажных избах
вместо крыльца со ступенями был деревянный помост,
называемый передмостьем. В простых деревянных домах оно огоражива-
2* 35
лось только перилами. В богатых домах крыльца делались с кув-
шинообразными колоннами и покрывались остроконечными кррв-
лями. Вход в нижний этаж чаще всего был через особую от
крыльца дверь или изнутри: ступени крыльца вели обыкновенно
на террасу, называемую рундуком, огороженную балясами, потом
прямо в сени второго яруса. Соответствующая ему часть, в нижнем
этаже дополнялась также сенями и называлась подсенье. Как
сени, так и подсенье пристраивались с двух сторон дома, и одни
были передние, другие — задние. В этих сенях иподсеньях
делались чуланы и каморки, иногда светлые,, иногда темные.
Нижний этаж назывался подклетом, и за единицу здания
принимался второй, так что говорилось: изба на подклете, горница на
подклете. Подклеты были жилые и глухие,. В первом случае они
служили для прислуги и для исправления домашних службу а во
втором — для кладовых или же в них устраивались мыльни.. В
купеческих домах в подклетах сваливались товары. В казенных
зданиях подклетам давали назначение, сообразное потребностям,
для которых существовало здание; например,, подклеты под
съезжею1 избою занимались тюрьмою; в кабачных зданиях там
устраивались вообще подвалы. Иногда под самым подклетом был
выход или погреб для хранения напитков; но когда подклеты (?ыли
жилые, в них делались печи и оттуда проводились во второй, этаж
нагревательные ценинные2 трубы.
Стоящий на подклете второй этаж занимало хозяйское жилье.
У людей посредственного состояния оно заключало по три, а
иногда только по два покоя: горницу, собственно так называемую, и
комнату; иногда к ним пристраивалась кухня, но чаще кухня
была в особой избе, называемой поварнею. Иногда в одном строении
было два, а в другом три покоя, например горница с комнатою
(следовательно, два покоя) и повалуша о трех жильях, или же
число потребных покоев заменяли отдельные строения, например
две горницы на подклетах и три повалуши, соединенные между
собою сенями. Люди богатые, часто учреждавшие у себя пиры и
приглашавшие много гостей, строили для своих парадных обедов
особые избы в один покой с сенями, так называемые столовые.
Вообще же в одном строении не было больше трех, редко четьирех
покоев. Даже у царей было только четыре покоя: передняя,
крестовая, комната (кабинет) и спальня. В избушках же,
построенных для особ царского семейства, покоев было не более трех,. а
иногда и двух. У зажиточных людей, сверх горницы и комнаты,
была также крестовая, или образная, где хозяин молился со своим
семейством; но иногда такая комната находилась и в особом
жилье. Самая обычная постройка была в два покоя, да сверх того
при комнате делалась каморка, где ставилась постель; другие же
горницы обок главного дома делались в один покой и назывались
одинокими. •
1 Съезжая — помещение для арестованных. -
2 Ценинная — глиняная.
36
Надстройки над горницами назывались чердаками, а над
сенями — вышками. Иногда эти надстройки имели
затейливые фигуры, как, например, на рисунке посольского двора
у Олеария: на одном конце здания башни с окном, а на
другом — с куполом, а на куполе шарик; на другом конце —
четвероугольная башня с зубцами, со шпилем посередине.
Иногда чердаки делались четвероугольными зданиями менее
второго этажа по объему и заключали одну светлую комнату,
иногда же образовывали третий этаж, равный второму:
например, горница, а над нею повалуша с полатями. В царских
зданиях верхние этажи имели такое же расположение, как
и средние, с передними и задними сенями, но с большими
отличиями; так, например, в Измайловском в верхнем ярусе
было три покоя, тогда как в среднем — четыре. Вообще
чердаки или верхние этажи делались светлее и убирались
красивее средних. Они собственно были то, что называлось
теремами, которым на поэтическом языке старой Руси
присваивался эпитет высоких. Впрочем, название терема давалось
и второму, или среднему, этажу, если над ним не было
верхней надстройки. Иногда и над самим чердаком или
теремом делалась еще четвертая надстройка — небольшая
башенка, или смотрильня.
Сени вообще делались пространнее самих покоев, и особенно
в нижнем этаже, или подсенье, так что в доме, который заключал
наверху два покоя с сенями, подсенье внизу охватывало
пространство, занимаемое во втором этаже не только сенями, но и частью
покоев. Бывало и наоборот: сени были обширнее подсенья и
среднее жилье выдавалось вперед из линии. Таким образом, не всегда
соблюдалась пропорциональность между этажами, и средний
бывал снаружи больше нижнего, даже и по величине самих покоев,
например подклет в полторы сажени, а средний этаж или горни?
ца — в три. Задние сени большею частью были просторнее пере:
дних, например, передние в четыре, задние в десять саженей!
Вообще же средняя величина сеней была от четырех до шести
саженей; в малых домах, разумеется, и менее. Из покоев только
. передняя или горница да столовая изба в больших домах
отличались простором, например, горницы в четыре сажени, а столовые
в шесть или семь саженей. Комната всегда делалась меньше и
уже, чем передний покой или горница. Но в домах небольшого
пространства иногда комнаты были одинаковы с горницами,
например, обе по две сажени. Самая же обычная мера покоев вообще
была от двух до трех саженей длиною, а в ширину или столькр
же, или немного менее. Так и в Москве палатные строения
богатых господ были от двух с половиною до трех саженей длиною и
около двух шириною. Верхние этажи, или чердаки, по большей
части были хотя меньше средних, но покои в них не были теснее,
напротив — просторнее, и для того сокращалось их число против
числа в среднем этаже; например, если в среднем этаже было три
покоя, на чердаке — два. Иногда же чердак строился не над одним
средним этажом, а над двумя, тремя и даже четырьмя строениями,
37
соединенными связями; тогда комнаты в нем были значительно
просторнее, например, в средних покоях: от двух до двух с
половиною саженей, а на чердаке: от четырех до четырех с половиною
в длину и от двух с половиною до трех в ширину. Средняя высота
покоев была от трех до четырех аршин.
Обыкновенная крыша русских домов была деревянная,
тесовая, гонтовая или из драни. В XVI и XVII веках было в обычае
покрывать сверху кровлю березовою корою от сырости; это приг
давало ей пестроту; а иногда на кровле клали землю и дерн в
предохранение от пожара. Обыкновенная форма крыш была скат^-
ная на две стороны с фронтонами на других двух сторонах, как
теперь делается у простолюдинов. Иногда все отделы дома, то есть
подклет, средний ярус и чердак, находились под одним скатом,
но чаще чердак, а у других и средние этажи имели свои особые
крыши. У богатых особ были кровли затейливой штормы,
например бочечная — в виде бочек, епанечная1 — в виде плаща. По
окраине кровля окаймлялась прорезными гребнями, рубцами, по-
лицами2 или перилами с точеными балясами. Иногда же по всей
окраине делались теремки — углубления с полукруглыми или
сердцеобразными линиями. Такие углубления преимущественно
делались на теремах или чердаках и были иногда так малы и часты,
что составляли кайму кровли, а иногда так велики, что на каждой
стороне было их только по два или три, и в средине их
вставлялись окна.
На* фронтонах и на стенах около окон делались разные
изображения: линейки, листья, травы, зубцы, узоры, птицы, звери,
единороги, всадники на конях и прочее. На каменных зданиях они
делались из камня или кирпича. Так, в древнем угличском доме
царевича Димитрия по фронтону во всю стену проведены были
широкие линейки, разделяющиеся на три меньшие, и в каждой из
последних своеобразные фигуры: узоры, башенки, города,
трехугольники и прочее. На деревянных зданиях эти украшения были
резные. Резьба была старинною принадлежностью славянской
образованности и до сих пор у русских поселян составляет
наружное украшение изб. На царских теремах резные фигуры
наводились золотом и красками; то же было и у частных лиц
зажиточного состояния, как это сохранилось отчасти и теперь.
Такими украшениями особенно пестрили чердаки; чтобы издали
пленять взоры проезжих. В Коломенском селе наверху были
поставлены щиты и на них написаны четыре части света и суд царя
Соломона.
В простых русских избах окна были волоковые для пропуска
дыма. По надобности на них натягивали кожу; вообще эти
отверстия в избах бедных были малы для сохранения теплоты, и когда
их закрывали, то в избе среди дня было почти темно. В
зажиточных домах окна делались большие и малые; первые назывались
1 От слова «епанча» — старинного названия плаща.
2 Полица— выступ в виде карниза.
красными, последние были по фигуре своей продолговатые и
узкие. В каменных зданиях они были еще уже, чем в деревянных.
Иногда в одном и том же покое делались окна и красные, и малые,
последних числом больше, так, например, одно красное и два
малых. Изнутри окна заслонялись втулками, обитыми красною
материей, а с наружной стороны — железными ставнями;
последнее было в обыкновении в каменных домах в Москве и служило
предохранением от пожаров. Вместо стекол употребляли чаще
слюду, которая вставлялась в окна широкими и тонкими кусками.
Самый простой способ вставки слюдяных кусков был посредством
шнурков. Но они располагались иногда с большим искусством и
нарядностью; делался железный крест, около которого во все
стороны расходились жердочки в виде различных фигур; в эти
фигуры вставлялись кусочки слюды; таким образом, окна были
образчатые, когда слюда была вставлена четвероугольными
кусочками, репьястые, когда вставляли ее репейками. Слюду
расписывали красками и фигурами птиц, зверей, трав, листьев и прочее.
Стекла было мало в употреблении: до открытия стеклянных
фабрик при Алексее Михайловиче стекло исключительно доставлялось
из-за границы и потому вошло в употребление для окон в
Новгороде раньше, чем в Москве. Преимущественно употреблялись
стекла цветные, бывшие в повсеместном употреблении в Западной
Европе.
Большие, или красные, окна назывались косящатыми1 —
эпитет, столь употребительный в народной поэзии. Некоторые из этих
красных окон были двойные, то есть два одинаковых окна стояли
рядом и разделялись одно от другого продольною перекладиной. В
расположении окон не соблюдалось соразмерности. Большие и
малые перемешивались без разбора между собою и стояли в одном
и том же поясе строения не на одной линии. Расстояние между
одними и другими было неравномерное с расстоянием других
между собою. В подклетах вообще окон было меньше. В
изображении посольского дома, снятого у Олеарии, в нижнем ярусе
только два окна, выше их ряды с обеих сторон, выше их на одной
стороне четыре окна четвероугольной фигуры, имеющие ширину,
большую, чем длину, а далее на этой же стороне еще выше два
окна, на другой стороне ряд четвероугольных окон, неправильно
между собою размещенных. Кроме четвероугольной формы, окна
делались еще с дуговыми верхами, а иногда ^так, что дуги
разделялись на три меньших дужки или выемки. Вообще русские
любили свет в парадных своих покоях, и потому, если большая часть
окон была узких и маленьких, иногда в одной комнате было их
несколько, кроме красного окна. Чердаки делались всегда светлые.
Случалось, что окна были с трех, а если чердак был холодный,
то и с четырех сторон, и притом нередко они были двойные.
Такие-то покои назывались преимущественно светлицами. Сени
освещались окнами обильно.
Коеящатое окно — сделанное из деревянных колод, косяков.
39
Потолки в каменных зданиях строились сводом, а в дерев'янг
ных были плоские и назывались подволоками; их часто обивали
крашеным тесом. Полы делались из так называемого дубового кир^
пича (род торца). Стены, как и потолки, не только в деревянных*
но и в каменных строениях обивались красным тесом. Сверх теса
богатые обивали стены красной кожей, а люди посредственного
состояния рогожами. В XVII веке начало входить во вкус
расписывать потолки и своды, а иногда и стены. Печи делались
муравленые1, зеленые, совершенно круглой, иногда четвероугольной
формы, с железными заслонами. Часто топка, как уже было
замечено, была только в подклете, а в верхний этаж проводились
нагревательные трубы. Кругом стен под окнами делались лавки,
которые не принадлежали к мебели, но составляли часть
постройки здания и были прикреплены к стенам неподвижно. Двери
делались деревянные, столярной работы, на железных крюках или
на медных луженых жиковинах (петлях), под которые подклады-
вали красное сукно; двери были так малы и узки, что едва можно
было в них войти; в каменных палатах и кладовых делались
железные двери.
Весь двор зажиточного человека, кроме домов для
помещения семейства, заставлен был множеством людских изб и
служб. Одного рода людские избы были очень просторны и
назывались семейными. Там жило несколько семейств холопов.
Другие были маленькие избушки и назначались для
помещения избранной прислуги; для кухни и печенья хлебов
служили особые строения: поварня и хлебня. Так называемые
лучшие люди, которым было дозволено варить пиво, делать
мед и курить вино для собственного обихода, имели в своих
дворах особые пивоварни и покои, где сытили меды, а
некоторые и винокурни, Необходимая принадлежность всякого
порядочного двора была мыльня. Везде почти она составляла
особое строение; но в домах царей и, вероятно, у знатных
особ, кроме мылен в особых строениях, для ежедневных
омовений устраивались еще небольшие закоулки для мытья
в подклетах и домах. Часто у хозяев, очень небогатых, в
числе надворных строений была мыльня как принадлежность
первых жизненных потребностей. Она состояла из комнаты
с печью для мытья, с притвором, который равнялся сеням
в жилых покоях и назывался перемыленье и передбанник.
Для хранения домашнего имущества строились клети: у
богатых было по нескольку клетей на дворе; каждая стояла
на подклете и таким образом состояла из двух этажей. В
подклетах, которые делались шире самих клетей, ставились
колясы, сани, каптаны, колымаги, дровни, страдные одры,
(рабочие носилки) и прочее. Наверху же были кладовые, и
если клетей во дворе было несколько, то для каждой
назначались особые предметы; например, в одной находились при-
Муравленый — покрытый муравой, то есть глазурью,
40
надлежности езды; седла, попоны, , войлоки, узды, тебеньки;
в другой хранилось оружие: пищали, ручницы, саадаки, луки,
рогатины, сабли и прочее; в третьей — все относящееся до
столовой утвари;. в четвертой — одежды и так далее. Погреба
и ледники обыкновенно помещались вместе, а над ними
делались надпогребницы: -иногда они занимаемы были
клетями, иногда повалу щами, иногда хлебнею, чаще всего там
складывались разные припасы, не требующие помещения в
погребах и ледниках. Случалось, что надпогребницы служили
местом угощений прислуги, прибывшей с господами,
приглашенными на домашний пир хозяином. В самих погребах и
ледниках хранилось питье, всякого рода зелень, сыр, яйца,
молоко и прочее. Кроме этих хозяйственных служб, во дворах
были житницы, где хранился зерновой хлеб, мука и сухари,
заготовляемые в большом количестве в бочках, сундуках,
пошевах, ночвах, коробах; над житницею обыкновенно
устраивалось сушило (иногда оно было над погребом или над
конюшнею), где висело соленое мясо, вяленая, ветреная, пру-
товая и пластовая рыба в рогожах. Далее следовал другой
двор, отгороженный от главного заметом; там находилась
конюшня с сенницею наверху: в сенницах делалось два
отделения, одно для сена, другое для соломы. Обок ее были
разные сараи с экипажами, приготовленными для обычной
езды и вытащенными заранее из подклетов, сарай для дров
и дерева, за ним следовали хлевы для коров и свиней,
птичники для кур, уток, гусей, иногда над этими обителями
четвероногих и пернатых надстраивались сенники. В
деревенских имениях для скота, лошадей* также и для хлебного
зерна были особые дворы, построенные обок главного, и
назывались: скотный двор, овечий двор, конюшенный двор,
льняной двор. Конюшенные и скотные дворы, заключая
большое количество домашнего скота, разделялись на десятины,
и в каждой десятине содержалось известное количество
животных. Житные дворы заключали в себе строения/
называемые житницами, куда ссыпалось хлебное зерно, по мере
умолота доставленное с гумна, а льняной двор имел несколько
амбаров, где складывались лен, конопля и пряжа. Между
этими дворами помещалось гумно и вместе с ним овин с
печами и ригами. По краю усадебных строений находились
кузницы. Так как очень часто владельческие усадьбы
находились близ воды, реки, или пруда, то вслед за двором
находилась водяная мельница.
Вообще хороший зажиточный хозяин старался, чтоб его
усадьбы имели возможнейшую полноту и заключали в себе
все нужные хозяйственные заведения и постройки, но само
собою разумеется, что не все дворы имели такое множество
зданий; иногда вся постройка ограничивалась одною избою,
клетью, баней да погребом . с надпогребницею. В посадах
иногда дворы заключали только: избу с сенями, сарай и
погреб, над которым находилась клеть. В самой Москве
41
встречались дворы, небогатые количеством зданий, например,
три избы с двумя пристенами, клеть, мыльни, погреб да
ледник с надпогребницами. Вот пример деревенских усадеб:
две горницы: одна на подклетах, другая большая с сенями,
сенница, стоящая на подсенье, клеть с перерубами на
подклетах, хлевец малый, сосновый сарай; или: изба с прирубом,
против нее клеть, на подклетах хлев, сенник да мыльня,
сарай, овин с ригачом1, огороженный тыном. Пример
крестьянского строения: изба трехсаженная, клеть, сенник, сарай
(иногда не было сенника, иногда. сарая, иногда клети),
мыльня, амбар, иногда омшанник2.
Казенные здания имели постройку, приноровленную к их
назначению, например, кабаки строились обыкновенно так:
во дворе возвышался деревянный дом, под которым был
подвал для хранения питья, а обок его омшанник с печью,
где ставили питье; вероятнб, печь была для того, чтоб иметь'
горячую воду для разведения водки. Другие здания на дворе
были: ледник, над которым надстроено сушило, поварня, где
производились работы и стояли инструменты, и стояльная
изба, где находилась стойка, за которою сидели целовальники
и продавали вино, а собираемые ими деньги были относимы
и хранимы в горнице, стоявшей, как выше сказано, над
погребом.
При усадьбах были сады и огороды; обычай заводить их при
домах наблюдался в Москве в XVI и XVII веках. Иностранцы,
посещавшие русскую столицу, замечали, что в ней трудно было
найти двор, где бы не было сада. На посадах почти повсеместно
встречались при домах сады и огороды с плодовыми деревьями.
Сады садились не только для удовольствия, но и для пользы, а
потому они везде почти были плодовые. Обыкновенные дерева
были: яблони, которые сажались одна от другой сажени на три, и
-ягодные растения; встречались также груши; вишен было мало.
Между деревьями копались гряды, на которых сажали огурцы,
морковь, репу и другую огородную зелень; поэтому обыкновенно
•сад был вместе и огородом. Некоторые делали парники и
воспитывали на них дыни. Около тына или забора, ограждавшего сад,
сажали обыкновенно капусту и свеклу. Лесные деревья садились
оедко, и если встречались в садах, то преимущественно или па-
сучие, как, например, черемуха, или особенно нарядные, как,
например, рябина или калина.
1 Ригач — место под ригою, овином.
2 Омшанник — отепленное помещение, обычно для зимовки пчел.
42
VIII
Домашняя мебель и утварь
Главное украшение домов составляли образа: не было в доме
покоя, где бы их не висело несколько, и чем хозяин был
зажиточнее, тем более это выказывалось множеством образов; их ставили
не только в жилых покоях, но в сенях, лавках и амбарах.
Большому числу образов в домах способствовало еще и то, что в
старину было в обычае дарить приятелей образами; царей и князей
дарили образами монастыри, владыки и бояре. То же наблюдалось
и в сношениях частных лиц между собою.
Образа были иконописные произведения русских
художников: по всеобщему верованию, благодать не пребывает над
тем образом, который писан человеком не православной веры.
Образа писались на досках по краскам или по золотому
полю. Около головы святых делали венцы из золота или
позолоченного серебра, украшенные по ободку драгоценными
камнями или жемчужною обнизью. Часто целый образ, окла-
дывался золотым или серебряным- окладом — работы
басменной1, чеканной, сканной2, канфаренной и других видов,
которыми щеголяло тогдашнее металлическое искусство. Образа
ставились в киоты. Кроме киотов с окончинами, делали киоты
со створками, и как на наружной, так и на внутренней
стороне створок писались изображения. Одни образа
представляли картины из священной истории, другие изображали
святых во весь рост и назывались стоячими, а иные только
по грудь — и назывались оплечным.и образами. Кроме дерева,
изображения святых вырезывались на перелефти3, камне или
белой кости; в старину в большом употреблении были
металлические складни со створками, и на каждой створке, и
снаружи, и изнутри, нарезывались изображения; средний
образ, закрываемый створками, был больше прочих. Иногда на
складнях нарезывались или начеканивались молитвенные
слова, как, например: «О тебе радуется Благодатная» или
«Хвалите имя Господне», смотря по содержанию изображений.
Кроме складней, можно было часто встретить восьмиконечные,
кресты золотые, серебряные и больше всего медные с
распятиями литыми или резными. Наконец, в употреблении были
золотые и серебряные круглые медали с изображениями на
обеих сторонах. Такие медали давали родственники своим
кровным: родители детям, свекры невесткам и прочее. При-
1 От слова «басма», что означает тонкие листы металла с
вытесненным, вычеканенным рельефным рисунком.
2 От слова «скань», означающего вид ювелирной техники —
ажурный или напаянный на металлический фон узор из тонкой
проволоки; то же, что филигрань.
3 Перелефть — камень халцедон.
43
мером такой медали можно указать одну, XV века, с
изображениями: на одной стороне Христа Спасителя, на другой
св. Николая в святительской одежде с Евангелием,
подаренную князем Холмским своей невестке. Такие медали
привешивали к образам. Другие, кроме этих медалей,' прицепляли
к ним старинные гривны, червонцы, золотые цепи,
жемчужные серьги, перстни с драгоценными камнями.
Трудно определить, каких святых иконы встречались чаще.
Это зависело от вкуса и от обстоятельств жизни хозяев домов; но,
кажется, в каждом доме можно было встретить несколько образов
Божьей Матери в различных наименованиях* как-то: Одигитрии
Пятницы, Богородицы Милостивой, Умиления, Скорбящей и так
далее. У Ивана Грозного из тридцати семи образов двадцать один
изображал Пресвятую Деву. Затем очень часто можно было
встретить образ св. Николая Чудотворца, которого, как известно,
русские особенно уважали.
Образа ставили в переднем углу покоя, и этот угол
задергивался занавесом, называемым застенком. Сверх того,
что каждый образ поодиночке задергивался привешенным к
концу его убрусцем, а внизу спускался кусок материи,
называемый пеленою. Застенки, убрусцы и пелены у богатых
людей унизывались драгоценными камнями и дробницами
(металлическими блестками), особенно по концам, а иногда
на них вышивались изображения святых. Убрусцы и пелены
переменялись на образах, и в известные праздничные дни
привешивались более нарядные, чем в будни и в посты.
Перед иконами висели лампады и стояли восковые свечи.
Между всеми образами, стоявшими в одном углу, был один
главный, поставленный на первое место посредине угла, а
все прочие ставились по важности своего содержания ближе
или далее от него. Некоторым образам почему-нибудь
приписывали особую силу и тогда наряжали и украшали их
преимущественно пред другими. В доме зажиточного хозяина,
кроме множества образов, во всех покоях, и жилых, и
глухих, была одна комната, где стояли исключительно образа
во всю стену, наподобие церковного иконостаса; там
происходило домашнее моление. Там под образами стоял аналой
с книгами, простора Пресвятой Богородицы, которой
приписывали благодатную силу и ставили во время трапезы на
столе, а по бокам подсвечники с восковыми свечами; на
полице под образами лежало крылышко для обметания пыли
и губка для отирания. Такие-то комнаты, как сказано выше,
назывались крестовыми; у богатых людей, державших
домашних священников, там священники отправляли каждодневное
служение: заутреню, часы и вечерню.
Вообще в домашнем устройстве заметен был у русских
обычай укрывать и покрывать. В порядочном доме полы были
покрыты коврами, у менее зажиточных — рогожами и
войлоками. В сенях у дверей лежала непременно рогожа или
войлок для обтирания ног, потому что калош никто не носил.
44
Для сиденья служили лавки, приделанные, как сказано уже,
* стенам наглухо. Если стены были обиты, то и лавки
обивались тем же самым, чем стены, но, сверх тот, на
них накладывались куски материи, называемые полавочника^
ми; они делались о двух полотнищах, так что одно было
длиннее другого; первое закрывало лавку во всю ее длину,
а последнее свешивалось до земли, закрывая середину
пространства между лавкою и полом. Их длина и ширина были
различны, смотря по лавкам, величина которых соразмерялась
с • пространством покоев. Были, например, полавочники в
шесть аршин длиною и в два шириною. Но из этого нельзя
заключать, что лавки были широки, ибо здесь принималась
ширина всего полавочника в двух полотнищах. Полавочники
переменялись: в будни клались попроще, в праздники и во
время приема гостей понаряднее. Таким образом, в будни
клались полавочники суконные, а в праздники из шелковой
материи, подбитые к!акою-нибудь простою тканью и
отороченные куском материи другого цвета. Такие же куски клались
на окна и назывались наоконниками; *в будни клались
простые коврики, в праздники шелковые куски, вышитые золотом»
Длина их была от двух до трех аршин,, а ширина около
двух; вероятно, они спадали вниз с оконного карниза. Вообще
как полавочники, так , и наоконники были разных цветов:
светло-зеленого, голубого, кирпичного, гранатного и
преимущественно красных отливов, иногда вышитые узорами. На
полавочниках узоры на меньшем полотнище делались другие,
чем на большем. Кроме лавок для сиденья делались еще
скамьи и стольцы, Скамьи были шире лавок, например до
двух аршин шириною, длиною делались до четырех аршин;
в . одном конце их приделывалось возвышение, называемое
пр иго лов ником. На них не только садились, но и ложились
отдыхать после . обеда. Они накрывались, как и лавки, no-
лавочниками. Иные скамьи служили постоянно кроватями.
Стольцы были четвероугольные табуреты для сиденья одному
лицу и также накрывались куском материи. Скамей и столь-
цов в доме бьдю немного, а кресла и стулья составляли
роскошь царского двора и знатных бояр, и даже там были
в> небольшом количестве, в народе же вообще не
употреблялись. Столы делались деревянные, большею, частью дубовые,
длинные и узкие; у зажиточных людей иногда их
разрисовывали, изображениями из Священного писания, а бока и
ножки украшались резьбою. Кроме больших столов, были
столы маленькие, у богатых людей, украшенные камнями и
разными пестрыми аспидными кусочками. Большие столы
ставили перед лавками и обыкновенно покрывали подскатер-
тниками; это была вещь необходимая для приличия. Во время
трапезы поверх подскатертника накрывался стол скатертью.
Скатерти или подскатертники работались обыкновенно дома
и служили предметом занятий для многочисленной прислуги.
Как полавочники и наоконники, так и скатерти и подска*-
45
тертники переменялись по праздникам; в будни столы
накрывались полотняными и суконными кусками, в праздники
бархатными, алтабасовыми1, камковыми2 подскатертниками с
золотошвейными каймами. Скатерти у бедных были
полотняные, грубой отделки, у богатых — шитые, браные3 с бах-
ромами. Все эти покрывала вообще — на столах, окнах и
лавках — назывались хоромным нарядом. Стенных зеркал у
русских вовсе не было: Церковь не одобряла их употребления;
духовным лицам собор '1666 года положительно запретил
иметь зеркала в своих домах; благочестивые люди избегали
их как одного из заморских грехов; только зеркала в малом
формате привозились из-за границы в большом количестве и
составляли принадлежность женского туалета. Так же точно
старинное благочестие избегало стенных картин и эстампов,
не допуская других украшений в этом роде, кроме икон, но
в XVII веке мало-помалу начали входить в домашний обиход
картины и эстампы, сначала в царских хоромах, потом у
знатных лиц. Вкус к ним начал распространяться и между
другими сословиями, и уже в конце XVII века их продавали
в овощном ряду в Москве. Впрочем, эстампы, которые тогда
дозволяли себе вешать в золоченых рамах богатые люди,
заключали преимущественно священные предметы, но их стро-
fo отличали от образов, и они не имели вовсе священного
значения.
Кроватью в старину служила прикрепленная к стене скамья
или лавка, к которой приставляли другую лавку. На этих лавках
клали постель, состоящую из трех частей: пуховика, или перины,
изголовья и подушек. Было два изголовья — нижнее называлось
бумажным и подкладывалось под верхнее, на верхнее клались
подушки, обыкновенно три; постель покрывалась простынею из
полотна или шелковой материи, а сверху закрывалась одеялом,
входившим под подушки. Постели убирались понаряднее в
праздники или на свадьбах, попроще в обычные дни. В нарядных
постелях на изголовья и подушки надевались наволоки
камчатные4, бархатные, атласные, обыкновенно красного цвета, шитые
золотом и серебром, унизанные жемчугом по окраинам; одеяла
постилались, подбитые соболем, атласные, красного цвета с
гривами, то есть каймами золотой или серебряной материи, подбитые
соболями. Сами перины были набиты лебяжьим или чижовым
пухом. Наволоки были на простых постелях тафтяные5 белые или
красные, подбитые крашениною6. Простые одеяла подбивались
заячьими мехами. Вообще, однако, постели были принадлежностью
1 Алтабас — персидская парча.
2 Камка — шелковая китайская ткань с разводами.
3 Браной называлась ткань, у которой основа перебиралась по узору.
4 Камчатный — сделанный из,камки.
5 Тафта — гладкая шелковая ткань.
6 Крашенина — крашеный и лощеный холст.
46
только богатых людей, да и у тех стояли более для вида в своем
убранстве, а сами хозяева охотнее спали на простой звериной
шкуре или на матрасе. У людей среднего сословия обычной
постелью служили войлоки, а бедные поселяне спали на печах,
постлавши под головы собственное платье, или же на голых лавках.
Детские колыбели делались висячие, всегда широкие и длинные
для того, чтобы дитя могло свободно расти, а внутри их всегда
привешивались иконы или крестики.
Для хранения домашних вещей употреблялись скрыни
(род комодцев с выдвижными ящиками), сундуки, погребцы,
чемоданы. Посуду ставили в поставцах: это были столбы,
уставленные со всех сторон полками; книзу их делали шире,
кверху уже, на нижних полках ставили более массивную
посуду, на верхних мелкую. Разные женские украшения
хранились в ларцах, которые сами по себе украшались
великолепно, наводились яркими красками и золотом,
расписывались узорами и окаймлялись металлическими
кружевами; такие ларцы передавали из рода в род вместе с
драгоценностями, какие там сохранялись. Для украшения в
домах зажиточные люди раскладывали разные драгоценные
безделки вроде следующих: серебряные яблоки, позолоченное
изображение петуха с белым хвостом на поддоне, мужичок
серебряный, костяной город с башнями и миниатюрные
изображения разных домашних принадлежностей из золота и
серебра, например: ящик, в котором было паникадило, стол,
четыре подсвечника, рассольник1, рукомойник, четыре блюда,
четыре тарелки и прочее, все в малом виде, так что все
вместе весило два фунта2 38 золотников; или например:
серебряный ставец, в котором была бочка, зеркальце и тому
подобное. Знакомство, с Европою ввело к нам часы. Так, у
Артамона Сергеевича Матвеева было несколько часов: одни
показывали часы астрономического дня, на других означалось
время от восхода до заката солнца, а третьи показывали
течение суток с полуночи в полдень, как наши часы
нынешнего времени. Часы зепные3 (карманные) составляли ре-
дкость* и гораздо употребительнее были часы боевые, стенные
и столовые; устройство их от наших отличалось тем, что в
них не стрелка ходила по циферному кругу, а двигался сам
круг. Столовые часы делались с затейливыми фигурами,
например, с четвероугольною скрынькою с перилами наверху,
или с медным изображением слона с сидящим на нем
человеком, или в виде башни, на чердаке которой сделаны
были изображения людей, а на самой вершине —
изображение сидящего орла.
1 Рассольник — глубокое блюдо для стола.
2 Фунт — русская мера веса, равная 409,5 г. В фунте содержалось
96 золотников.
3 Зепь — карман, мошна, сумка, котомка.
47
Освещались дома восковыми и сальными свечами^. Восковые
употреблялись преимущественно у богачей, и то единственно в
праздничные дни и во время торжественных собраний; в самом
царском дворце в XVI веке зажигали сальные свечи. Свечи
вставлялись в подсвечники, которые были стенные, прикрепленные к
стенам, стоячие значительной величины, и малые, или ручные.
Вообще они назывались шандалами, делались обыкновенно из
меди, иногда из железа. В XVII веке у зажиточных людей были в
домах так называемые струнные медные подсвечники, сделанные
из натянутых и расположенных удобно медных проволок. Ночью,
чтоб иметь огонь, держались ночники. По случаю больших
собраний освещали дома висячими паникадилами* которые в богатых и
знатных домах были серебряные и делались с разными фигурами.
Для домашнего. обихода держались слюдяные фонари; с ними
прислуга ходила в конюшни и кладовые. У простых поселян избы
освещались лучинами.
Для хранения громоздких хозяйственных припасов в клетях
употреблялись бочки, кади, лукошки разной величины и объема.
Бочки в старину были самым обыкновенным вместилищем и
жидкостей, и сыпучих тел, например: ^хлебного зерна, муки, льна,
рыбы, сушеного мяса, поскони* и разного мелкого товара, как-то:
гвоздей, цепей, замков, топоров и всех вообще принадлежностей
хозяйства. Сосуды для варенья в поварнях были котлы медные и
железные; там, где приготовлялась пища на большое, количество
людей во дворе, они достигали больших размеров,. например: в
семь ведер; другие были в четыре ведра, в ведро, в полведра и
вообще назывались поваренными, или естовными, котлами в
отличие от пивных и винных, достигавших размера пятидесяти-
ведер. Для небольшого количества- пищи употреблялись горшки.
Жарили на сковородах не только железных, но и на медных
луженых, с рукоятями; для месива теста употреблялись деревянные
корыта и большие чаны; для мытья белья — корыта, ночвы, буки,
для носки воды —- ведра, кумганы, корчаги, ендовы, кувшины. По
окончании обеда у рачительных хозяев все сосуды вымывались и
вытирались, потом опрокидывались вверх дном и ставились на
полках в кухне или в чулане. В праздники, когда в доме все
облекалось в нарядный вид, в поварню отпускалась посуда
лучшей работы.
, Для умыванья употреблялись рукомойники и лохани; у
богатых людей они были серебряные и позолачивались, у
людей среднего состояния — . медные или оловянные. Нередко
рукомойник был оловянный, а лохань медная. Примером
богатого старинного прибора для умыванья может служить
рукомойник Ивана Васильевича, серебряный, позолоченный с
изображением фигур (образин) на стоянце, тоже испещренном
чеканными фигурами; при нем серебряная лохань с чеканным
изображением рыб и раков.
Посконь — вид конопли.
48
Столовая посуда для пищи и питья носила общее название
• судков. Жидкое кушанье из поварни для стола носили в
кастрюлях и оловянниках — медных луженых или оловянных, с покрыт-
пиками. Другая посуда для носки жидких кушаний была
рассольник, также с покрышкою, род соусника; он употреблялся
также и для соленых плодов. За столом жидкая пища разливалась
в мисы: у богатых они были серебряные, у небогатых —
оловянные и деревянные. Твердые кушанья приносились на блюдах.
Были блюда разной фигуры и различной величины,
приспособленные к известному роду кушаний, и поэтому
называлась: блюдо гусиное, блюдо лебяжье. На одних блюдах приносили
кушанья из поварни, другие оставались перед гостями так, чтобы
два человека и более могли есть с одного блюда. Последнего рада
блюда назывались блюдцами. Овощи подавались на блюдах oca-
бой формы, называемых овощниками. К большим блюдам
приделывались кольца, по два и по четыре; это показывает, что их несли
человека по два. У богатых блюда были серебряные с
выбойчатыми мишенцами по обводу; у людей посредственного состояния —
оловянные или полуженные медные. Тарелки, называемые торели,
не были в повсеместном употреблении, и там, где они ставились
перед гостями, не переменялись во все продолжение обеда, и
поэтому в домах их было немного; у- богатых они были серебряные
граненые, иногда позолоченные; у менее зажиточных — из
польского серебра или оловянные. Весом они были до половины фунта,
а некоторые и массивнее, например, в три четверти фунта. В
домашнем сервизе немногие из них были больше остальных.
Вероятно, название «торели» смешивали с названием блюда, так что
в одном месте плоскую посуду, поставленную перед гостями,
называли торелями, а в другом блюдами. Ложки у богатых делались
серебряные, позолоченные с фигурою на конце рукоятки и с
надписью, кому принадлежит. Ножи в богатых домах оправлялись
золотом и серебром с драгоценными камнями: их не подавали
• гостям, потому что кушанье предлагалось уже разрезанное. Вилки
были двузубые, а иногда их вовсе не клали. Салфетки не
употреблялись: обтирали руки полотенцем или краем скатерти. Но
необходимою принадлежностью столового прибора почитались:
солоница, уксусница и перечница, иногда горчичница. Когда
готовили стол к трапезе, то, постлавши скатерть, ставили на нее эти
сосуды. Солоницы делались на стоянцах с покрышками и с
рукоятками, уксусницы и перечницы на ножках; иногда эти сосуды
соединялись в один, например солоница, а на верху ее —
перечница. Серебряные солоницы и перечницы украшались узорами и
литыми изображениями, например солоница на зверьках,
солоница с верхом, украшенным финифтью с изображением людей-по
бокам.
Столовые сосуды для приноса питья были: ендовы, * му-
шормы, ведра, кувшины, сулеи, четвертины, братины. Ендова
была сосуд более кухонный, но употреблялся и как столовый
для приноса питья; ендовы имели разную величину,
например, иные заключали в себе целое ведро, другие по шести
49
ведер, а некоторые были столь малы, что заключали в себе
весу только две гривенки1. Редко употребляемые при столе,
в обычном обиходе они были медные, вылуженные, с носком
и с рукояткою. Мушорма — сосуд, близкий по виду к
ендове., также с носком и с рукоятью. В чем заключалось
их различие — неизвестно. Ведра были не только служебной
посудой, но, сделанные в малом размере, ставились с
напитками на столе; были, таким образом, серебряные сосуды
в форме ведра, носившие это название, с дужкою наверху t
цилиндрической формы, а иногда в виде многосторонников.
Кувшинами, как теперь, называли сосуды с раздутыми
посередине боками, с суженною шейкой с расширяющимися
краями, с носками и с кругообразною рукоятью. Были
кувшины серебряные с обручами на шейках, с крышкою
наверху, на которой ставились какие-нибудь выпуклые фигуры,
например, яблоко и так далее; иногда к ручке кувшина
приделывалась цепочка. Четвертиною, как показывает ее
название, была четвертая часть единицы — ведра, то есть
кварта; но в домашних приборах этим именем называли
сосуд, раздутый по бокам, несколько похожий на суповую
чашку с крышкою; в них отсылали питье из дома
отсутствующим знакомым. Четвертины были разной величины и даже
так малы, что вставлялись в небольшую шкатулку. Братина,
как указывает само ее название, был сосуд, предназначенный
для братской товарищеской попойки, наподобие горшка с
покрышкою. Из них пили, черпая чумками, черпальцами и
ковшами. Братины были разной величины; небольшие
употреблялись даже прямо для питья из * них и назывались
братинками. Сулеи были маленькие бутылки с узким и
продолговатым горлом и с цепью; они привешивались к поясу
в дороге.
К сосудам, из которых пили, принадлежали: кружки,
чаши, кубки, корцы, ковши, достаканы, чарки, овкачи, бол-
ванцы. Кружки были цилиндрические сосуды с рукоятью и
крышкой, всегда в одну стену снизу доверху, кверху
несколько уже, обыкновенно круглого вида, как показывает само
название; но были также кружки восьмигранные и
четырехгранные; они ставились на поддонах. Нормальная величина
кружки определялась ее мерным значением, ибо кружками
собственно называлась определенная мера — одна восьмая
ведра; но эта мера не всегда соблюдалась, следовательно,
объем кружек был различен.
Чашами назывались круглые разложистые сосуды с рукоятя-*
ми, с кольцами, с пелюстками, со скобами, весившие иногда до
двух фунтов и более; но вообще под этим названием разумели
пропорцию выпиваемого собеседниками вина; в этом смысле на
одной братине находится надпись: «В сию братину наливается
1 Гривенка в старину означала вес; фунт (при Шуйском).
50
богородицына чаша». Пить чью-либо чашу значило пить в честь
кого-нибудь или за чье-либо здоровье. Таким образом, говорилось:
«Государева чаша, патриаршая чаша».
Кубками назывались сосуды с круглым дном, с крышкою, на
подставке, иногда на ножках и на поддоне. К ним иногда
приделывались цепочки. Делались кубки двойчатые, то есть
разделявшиеся на две половинки, из которых каждая составляла особый
сосуд для питья. Величина кубков была различна. Всем известен
громадный кубок царя Ивана Васильевича Грозного, хранящийся
в Оружейной палате, весом в один пуд восемь фунтов, в сажень
вышиною. У знатных и богатых домохозяев были большие кубки
весом до четырех и до пяти фунтов, но они в небольшом
количестве стояли только для украшения на поставцах. В употреблении
были кубки весом в полфунта, фунт и около того. Стопы были
большие высокие стаканы, иногда с рукоятью, носками и крыш-,
кою. Достаканы были средней величины стаканы, иногда с
рукояткою, на ножках,- обыкновенно с разложиетыми круглыми
краями, иногда же с угольчатыми, и ставились на маленьких
поддонах. Ковши были низенькие сосудцы, круглые или овальные, с
круглым дном, с дощатою ручкою, называемой полкою, иногда с
загибом на конце. Корцы отличались от ковшей тем, что дно у них
было плоское; маленькие корцы назывались корчиками. Чарками
назывались маленькие сосуды с круглым или плоским дном или
на ножках с закругленною ручкой, иногда с покрышкою.
Подлинно неизвестно, какая была отличительная черта сосудов,
называемых болванцы и овкачи. Первые были иногда массивны, как это
доказывается описанием одного болванца в числе посуды царя
Михаила Федоровича, где значатся болванцы в 4 фунта 62 золотника
и в 9 фунтов с лишком.
Кроме этих названий, более или менее определенных особою
формою, существовали разные сосуды затейливых фигур,
например, орех индийский с серебряной золоченою формой; рога,
оправленные в серебро; сосуды в виде челнока, вола, лошади, петуха
и прочее.
Эти сосуды из серебра, часто позолоченные, наполняли
поставцы знатных и богатых людей и составляли домашнюю
роскошь. В отношении работы они были разных видов,
например, гладкие, сканные, то есть витые, граненые (или
грановитое), чеканные, чешуйчатые, травчатые, канфаренные,
склянистые, пупчатые, решетчатые; иногда несколько видов
работ соединялись в одном сосуде, так что часть его была
отделана одним, другая иным видом. Фон стены сосуда
назывался землею, а по земле делались разные фигурные
украшения. На братинах чаще всего были узоры и травы.
На стенах кубков и чаш делались широкие выпуклости,
называемые пузами, и углубления, называемые ложками; сверх
того, неширокие, но высокие возвышения, называемые пупьь
шами, формы круглой, сердцевидной, продолговатой,
клинчатой и так далее. Часто пупыши чередовались с ложками.
Иногда на фоне одной работы делались кружки другой и в
51
этих кружках помещались изображения и надписи. До краям <
сосудов проводились венцы, составлявшие линии разных
узоров; часто таких линий было несколько — одна возле другой,-
каждая работы отличной от другой. Фигуры, украшавшие
сосуды, изображали цветы, плоды, листья, зверей, птиц, рыб,
людей; последние носили название личин, или образин. Литые
фигуры ставились на верхах покрышек; так, например, были
сосуды, особенно кубки, на верху которых стояли орлы,
петухи, яблоки, лодки, терема, города с башнями. Например,
в кубке весом. в одиннадцать гривенок, принадлежавшем царю
Ивану Васильевичу, на покрышке был терем о трех столбах,
между столбами три человеческих изображения в кругах, а
на верху самого терема человеческая фигура, держащая копье.-
На привозных из западной Европы сосудах встречались
мифологические изображения, например,, Аполлона или Сатира.
Иногда чеканные фигуры, представляли целые происшествия
или картины, например* круги на кубке, в которых
изображены царства. Поля сосуда украшались чеканными фигурами;
они находились между, пупышами, между пупышами и
ложками, когда они чередовались между собою, в кружках,
обручиках, связях или световидных каймах, на полках ковшей
и корцев» Иногда рукояти и стоянцы сами по себе составляли
фигуру, например, рукоять в виде змеи, а стоянец в виде
тыквы, по которой вычеканены яблоки и груши. Даже внутри
сосудов иногда делались чеканные и литые изображения.
Кроме узоров, трав и фигур, было в обычае делать на
сосудах разные надписи, как-то: о количестве веса, имя
владельца вещи и приличные изречения из Священного
писания или из житейской мудрости, а если сосуд был
подарен,, то надписывалось об этом, например: «Ударила челом
боярыня Ульяна Федоровна Романова». Надписи эти вычекаг
нивались внутри сосуда на дне, по ободам, по эмали или
фи.нифти, которою нередко украшались сосуды. Чтоб иметь
понятие о роде .тех надписей, которые заключали в себе
изречения, приведем в пример чарку, на которой написано
по ободу: «Чарка добра человеку, пить из нея на здравие,
хваля рога, пра государево многолетнее здоровье». Внутри
другая: «Не злись, смирись, человече, желаешь славы земныя,
за то не наследишь небесныя». По бокам вокруг:. «Зри,
смотри, и люби и не проси». Внутри братины, поднесенной
царю думным дьяком Третьяковым в 1618 году, надпись
такая: «Человече! Что на мя зриши? Не проглотить ли мя
хочеши? Азъ есмь бражник; воззри, человече, на дно братины
сея, оккрыеши тайну свою». А на венце другая надпись:
«Веси убо, человече, яко воину оружие потребно есть в день
брани, такожде и дождь во время ведра; пити же во время
жажды, сице же истинный' друг во время утеснения и
скорби, и вси убо прикасающийся сладости сей с любовию
по разуму в сытость веселие с други, и телесем красоту,
и сердца и ума пространство почерпают, и радостию, со
52
други своими веселящеся, испиют, хотящими же убо к сему
приступите со враждою — несытное их убо достоить от сего
дому всегда отгоняти заботно».
Количество дорогих сосудов, переходивших по наследству нб
только как материальная драгоценность, но как память отцов,
умножалось подарками; в обычае было дарить сосуды для
изъявления привязанности, милости или преданности. Цари дарили
кубками и ковшами за услуги' престолу, подданные подносили
великим князьям, а потом царям в подарок сосуды в
торжественные дни: при вступлении государя на престол, на именины, по
случаю бракосочетания, рождения детей. Так же точно и в
частном быту дарили сосуды именинникам, дарили новорожденным,
дарили их подначальные начальникам, начальники
подначальным. Там, где их таким образом накоплялось много, их
сортировали для застольного употребления/ так что в большие праздники
подавали лучшие, в других случаях попроще. Впрочем, не должно
думать, чтоб повсюду было их такое множество: некоторые
поставляли домашнее богатство в вещах другого рода и потому
довольствовались незначительным количеством золота и серебра. Таким
образом, случалось, что все серебро в доме составляли три-четыре
серебряные ложки.
Кроме металлической посуды в XVI и XVII веках у богачей
были сосуды каменные, агатовые, сердоликовые, из горного
хрусталя, а между тем входила в употребление стеклянная и
хрустальная посуда с теми же названиями, какие исчислены прежде.
Стеклянная посуда привозилась из-за границы, стекла
преимущественно разноцветного, полосами, с позолоченными венчиками.
Сверх того, существовали простые стеклянные фляги и скляницы
для хранения вина и деревянного масла. Простой люд
довольствовался деревянными сосудами, которые имели ту же форму, как и
драгоценные, и носили те же названия. Как посуда для пищи —
мисы, торели, солоницы, так и питейные сосуды — братины,
ковши, корцы делались из дерева в разных местах по селам и
продавались на рынках; но из них особенно славились по работе
калужские, гороховецкие и корельские. Эти деревянные изделия
украшались резьбою, которая издавна составляла любимое
украшение вещей для небогатого класса. Не гнушались деревянною
посудою и дворяне, а каповые1 сосуды были в употреблении у
бояр и даже у царей и считались роскошью.
IX
Одежда
Старинная русская одежда представляет с первого вида
большую сложность и разнообразие; но, присмотревшись к частностям
1 Каповый — сделанный из капа, нароста на дереве.
53
ее, легко узнать во множестве наименований больше сходства
между собою, чем отличий, которые преимущественно
основывались на особенностях покроя, к сожалению, теперь малопонятных
для нашего времени. Вообще одежда была одинакова по покрою
как у царей, так и у крестьян, носила одни и те же названия и
отличалась только степенью убранства.
Обувь простого народа была лапти из древесной коры — обувь
древняя, употребительная во времена язычества. Кроме лаптей из
коры, носили башмаки, сплетенные из прутьев лозы; вероятно, эту
обувь разумели под названием «пленицы»; некоторые же носили
подошвы из кожи и подвязывали их ремнями, обмотанными вокруг
ноги. Как крестьяне, так и крестьянки носили эту обувь. Обувь
людей с достатком составляли сапоги, чеботы, башмаки и ичеты-
ги. Все эти виды делались из телячьей кожи, из коровьего опойка1,
из конской кожи, из юфти2, у богатых из персидского и турецкого
сафьяна. Сапоги носились до колен и служили вместо штанов для
нижней части тела и для того подкладывались холстиною; их
снабжали высокими железными подборами и подковами со
множеством гвоздей по всей подошве; у царей и у знатных лиц эти
гвозди были серебряные. Чеботы были полусапожки с
остроконечными загнутыми кверху носками. Башмаки были
принадлежностью не только женщин, но и мужчин; при них носили ичетыги,
или ичеготы, иначе ноговицы (ныне еще употребляют кое-где эту
старую, заимствованную от татар обувь под именем ичег и
ноговиц), это были сафьяновые чулки, они разделялись на два вида:
полные, достигавшие до колен, и полуполные. При сапогах и
чеботах носились чулки, шерстяные или шелковые, а зимою
подбитые мехом. Женская обувь была почти та же, что и мужская;
башмаки были с такими высокими подборами, что перед ступни
не касался земли, если стать на каблук. При них были шерстяные
или шелковые чулки. Посадские жены носили также большие
сапоги до колен, но дворянки ходили только в башмаках и чеботах.
Бедные крестьянки ходили в лаптях, как и мужья их.
Сапоги, чеботы, башмаки, ичетыги были всегда цветные, чаще
всего красные и желтые, иногда зеленые, голубые, лазоревые,
белые, телесного цвета; они расшивались золотом, особенно в
верхних частях на голенищах, с изображениями единорогов, листьев,
цветов и прочего, и унизывались жемчугом; особенно женские
башмаки украшались так- густо, что не видно было сафьяна. В
зажиточных русских домах обувь вообще делалась дома, и для
этого держали во дворе знающих холопов.
Рубахи у простонародья были холщовые, у знатных и
богатых — шелковые. Русские любили красные рубахи и
считали их нарядным бельем. «Домострой» советует обращать
особое внимание на мытье красных рубах как на принад-
1 Опоек — телячья кожа в выделке на сапожный товар.
2 Юфть — кожа рослого быка или коровы, выделанная по русскому
способу, на чистом дегте.
54
лежность лучшей одежды. Русские мужские рубахи делались
широкие и короткие и едва достигали до ляжек, опускались
сверх исподнего платья и подпоясывались низко и слабо
узким пояском, называемым опояскою. В холщовых рубахах
под ' мышками делали трехугольные вставки из другого
полотна, расшитого пряжею или шелком, или же из цветной
тафты. По подолу и по краям рукавов рубахи окаймлялись
тесьмами, расшитыми золотом и шелками, шириною пальца
в два; у знатных и богатых вышивали также рукава и грудь,
и поэтому оставляли рубаху открытою из-под платья. Такие
вышитые рубахи назывались пошевными; Но преимущественно
обращали внимание на .воротник, рубахи, который выпускался
из-под верхних одежд пальца на два и окружал затылок
вроде нынешних мундирных воротников. Этот воротник
назывался ожерельем. Его делали особо от рубахи и
пристегивали к ней, когда было нужно, у богатых золотыми и
серебряными золочеными, у бедняков медными пуговицами,
иногда же вместо пуговок употреблялись запонки с петлями.
Такое ожерелье, кроме вышивки золотом и шелками в виде
разных узоров, унизывалось жемчугом. Это-то ожерелье
собственно в старину называлось рубашкою; но в XVII веке
называли его сорочкою, а рубашкою, или рубахою, одежду,
к которой оно пристегивалось.
Русские штаны, или порты, шились без разрезов, с узлом,
так что посредством его можно было делать их шире и уже.
У бедных они делались из холста, белого или крашеного,
из сермяги — грубой шерстяной ткани; у зажиточных из
сукон; летом богатые надевали тафтяные штаны или из
какой-нибудь другой легкой шелковой материи. У царей
(вероятно, и у бояр) иногда были штаны из тяжелых шелковых
тканей, например, из объяри. Вообще русские штаны были
не длинны и достигали только до колен, делались с
карманами, называемыми зепью, и были разных цветов, например,
желтые, лазоревые и чаще всего красные.
На рубаху и штаны надевались три одежды: одна на другую.
Исподняя была домашняя, в которой сидели дома; если же нужно
было идти в гости или принимать гостей, то надевалась на нее
другая; третья была накидная для выхода. Хотя существует много
названий одежд, но все эти названия относятся к какому-нибудь
из этих трех видов.
Исподняя одежда называлась зипун как у царей, так и
у крестьян. Это было платье узкое, короткое, иногда
достигавшее до колен, редко до икр, но часто не доходившее
даже и до колен, вроде камзола. В кроильной книге царского
двора длина зипуна означена в один аршин шесть вершков1,
когда платье, сделанное на то же лицо во весь рост, имело
в длину два аршина три вершка. У людей простых и
1 Вершок — русская мера длины, равная 4,4 см.
55
небогатых зипуны делались из крашенины, зимние из
сермяги, у людей состоятельных — из легкой шелковой материи;1
например тафты, часто белого цвета, с пуговицами. Иногда1
рукава к нему приделывались из другой какой-нибудь
материи; например, зипун был из белого атласа, а рукава it
нему из серебряной объяри; но часто зипуны были совсем
без рукавов, вроде нынешних поддевок. Воротники делались
узкяе и малые, а иногда к зипунам, как и к рубахе,
пристегивали шитый и разукрашенный жемчугом и камнями
отдельный воротник, называемый обнизью. Таких обнизей
хранилось , много, и их пристегивали по мере надобности
показаться наряднее или проще. Они были разной величины:
большие и малые. Если обнизь употреблялась большая, то к
рубахе вовсе не пристегивалось ожерелье, а если малая, то
из-под нее виднелось ожерелье рубахи. Кроме зипуна в XVI
веке была подобная же комнатная одежда сарафанец,
начавший, как кажется,, выходить из употребления в XVII
столетии; их носили вместо зипуна с обнизями; они были длинны.
На зипун надевали вторую одежду, которая имела
несколько названий; но их различие между собой в отношении
покроя теперь определить трудно. Самый обыкновенный и
повсеместный вид этого рода одежды был кафтан,
достигавший до пят или же только до икр, чтоб оставлять напоказ
раззолоченные сапоги. Иногда сзади делали его на вершок
или на полвершка короче, чем спереди, и по длине различали
два рода кафтанов: кафтаны и кафтанцы. Рукава их были
чрезвычайно длинны, достигали до земли и сбирались в
складки или брыжи, так что ладонь можно было по
произволу закрывать и оставлять открытою, и таким образом концы
рукавов заменяли перчатки. В зимнее время эти рукава
служили вместо муфты от стужи, а рабочие люди
посредством их могли удобно брать вещи, до которых нельзя
касаться голыми руками, например, горячую посуду. В
нарядных кафтанах часть рукава при конце называлась
запястье, вышивалась золотом, украшалась жемчугами и
пристегивалась к кафтану особо. Разрез на кафтане был
только спереди и отсрочивался тесьмою: так же точно
отсрочивался и подол. К этой тесьме прикрепляли металлическое
кружево (золотое или серебряное), сделанное в виде разных
фигур. Вдоль по кафтану, параллельно с разрезом, по обеим
сторонам делались нашивки из другой материи и другого
цвета, в виде четвероугольников или кругов, и на эти
нашивки пришивались завязки с кистями и шнурки, чтобы.
застегивать кафтан; иногда же вместо завязок делали на
одной стороне на нашивках висячие петли, на другой также
к нашивкам прикрепляли пуговицы. В XVI веке кафтаны
застегивались чаще завязками, наподобие татарских; но
русские отличали свои от татарских тем, что застегивали их
не на левой, а на правой стороне. Впоследствии начали
употреблять чаще пуговицы — до двенадцати и до тринадцати
56
на кафтане: они все были на груди: остальная часть разреза
всегда оставалась незастегнутою. Воротники на кафтанах
обыкновенно были узкие и малые; из-под них высовывалась
обнизь зипуна или ожерелье рубахи; но иногда к кафтану,
пристегивалось отложное ожерелье, расшитое золотом и
усыпанное жемчугами.. Изнанка кафтана подбивалась всегда
материями низшего достоинства,, чем лицевая, и сверх того,
кафтаны, кроме тесьмы по подолу, под нею и выше ее,
окаймлялись полосою материи другого цвета, чем кафтан; она
называлась подпушкою. Зимние кафтаны делались и на ме*
хах, но обыкновенно легких, например, на собольих пупках
или на беличьих черевах; такие теплые кафтаны назывались
кожухами.
К этому разряду средней одежды относится чуга — одежда,,
приспособленная к путешествию и верховой езде. Это был узкий
кафтан с рукавами только по локоть и короче обыкновенных каф^
танов, как это видно из кройки его, ибо когда кафтан был длиною
в два аршина шесть вершков, с рукавами длиною в один аршин
пять вершков, чуга для той же особы была длиною в один аршин
с тремя четвертями и с рукавами в девять вершков. Чуга
подпоясывалась поясом, за который закладывался нож и ложка, а на
грудь привешивалась перевязь с дорожною сулеею. Те же
принадлежности, какими украшались кафтаны, — нашивки, кружева,
подпушки, — были, по желанию, и на чугах; чуги всегда
застегивались пуговицами.
Ферезями назывались одежды, надеваемые так же, как и
кафтан, на зипуны; они были с длинными рукавами, широкие в
плечах и уже кафтанов в подоле, почти всегда без кружева и
отложного ожерелья, летом из какой-нибудь легкой материи,
зимою теплые на мехах. Трудно себе представить чем отличалась,
эта одежда от кафтана. У Флетчера при описании русской одежды
она поставлена третьим верхним платьем; первое — зипун, второе,
или среднее, — узкий кафтан с ножом и ложкою за поясом (под
которым англичанин разумел чугу), третье — ферязь, просторное,
платье, окаймленное позументом1. У Олеария, напротив,
говорится, что русские надевали рубаху и штаны, потом зипун, на зипун
ферязь, сделанную из какой-нибудь легкой материи, а на ферязь
кафтан, так что у него выходит четыре одежды (с верхнею, или
накидкою), и ферязью называлась одежда средняя между зипуном
и кафтаном. Все, что можно вывести из сбивчивых известий об
этом роде одежды, это то, что ферязь был более комнатный род
кафтана. Название его персидское и вошло к нам в XVI веке. Оно
было в употреблении как у царей, так и у простого народа. На
ферязях делались нашивки, называемые образцами. Это были
несколько вышитых золотом или шелками небольших мест формы
круглой или четырехугольной, отделенные друг от друга другой
материей. Ферязи застегивались завязками.
1 Позумент — шитая золотом или серебром тесьма для украшения
одежды; галун.
57
Кроме кафтана, чуги и ферязей, к разряду средней одежды
относились: армяк, тегиляй, терлик. Армяки делались с
прорехами, с кружевами, образцами, как ферязи, и с вышитыми
воротниками. Его полы не сходились вместе, а закидывались одна на
другую. Тегиляй была одежда со множеством пуговиц, например
с 68 или с 56 штуками. Особенности покроя его неизвестны, как
и терлика. Впрочем, под последним, кажется, разумели то же, что
и под именем чуги, то есть короткое платье, удобное для верховой
езды; но он носился также разом с кафтаном, как, например, в
одном описании свадеб свадебные поезжане описываются одетыми
в терликах и кафтанах разом.
Верхние, или накидные, одежды были: опашень, охабень,
однорядка, - ферезея, епанча и шуба. Опашень была летняя
одежда, ибо в царских выходах упоминается только летом;
осенью и весною и вообще в ненастную и сырую погоду
надевали однорядку. Как опашень, так и однорядка делались
широкие, длиною до пят, с длинными рукавами, с кружевами
по краям разреза, нашивками по бокам вдоль разреза,
застегивались пуговицами; иногда к воротнику пристегивалось
ожерелье. Опашни делались из* сукна, у богачей нередко из
шелковых материй; однорядка всегда из сукна. Охабень был
плащ с рукавами и с капюшоном сзади. Ферезея — плащ
с рукавами — надевалась во время дороги. Епанча была
двух родов: одна дорожная из верблюжьей шерсти или
грубого сукна, другая нарядная из богатой материи, подбитая
мехом больше для пышности, чем для тепла. Последнего рода
епанчу надевали, когда выезжали верхом и красовались перед
народом; они делались без рукавов и без прорех для рук,
накидывались на. плечи и застегивались на шее пуговицами
или завязками. Шубы были самым нарядным платьем для
русского, потому что русские, при бедности природы своего
отечества, только и могли щеголять перед другими народами,
что мехами. Множество мехов в доме составляло признак
довольства и зажиточности. Случалось, что русские не только
выходили в шубах на мороз, но сидели в них в комнатах,
принимая гостей, чтобы выказать свое богатство. У бедных
были шубы овчинные, или тулупы, и заячьи, у людей
среднего состояния — беличьи и куньи, у богатых .—-
собольи и лисьи разных видов: лисиц черно-бурых, черных,
серых, сиводушчатых1. Делали также шубы из горностаев >
вероятно» только для щегольства. На шубы употребляли
разные части звериного меха, не смешивая одну с другою;
шубы делались на пупках,, черевах и хребтах и имели
поэтому • свои названия: хребтовая шуба, черевая и прочие.
Шубы покрывались обыкновенно сукном, но часто и
шелковыми тканями. На них помещали по бокам разреза нашивки,
но другой материи, а не той, которою покрыта сама шуба,
1 Сиводушчатая лиса, или сиводушка, — северная сибирская порода
красной лисы с темно-сивым горлом и грудью.
58
на эти нашивки пришивались петли и пуговицы, а сам
разрез окаймлялся металлическим кружевом. Ио щегольство
не всегда требовало пышного покрытия и блестящих
украшений для шубы; иногда русские щеголяли одними мехами
и полагали, что достоинство меха выказывается ярче, когда
он лишен всяких посторонних прикрас; таким образом, иногда
ходили просто в нагольных шубах. Так, однажды царь
Михаил Федорович сидел за парадным столом в нагольной шубе.
Вообще шубы различались в этом отношении на нарядные
и санные. В первых только ходили в церковь, в гости да
являлись дома перед гостями напоказ; в последних выезжали
в дорогу.
Для всех вообще мужских одежд, описанных здесь, люди
среднего состояния употребляли сукна, привозимые из-за грани-
цы, зуфь (род камлота)1, а для праздничных платьев шелковые
материи. У людей более зажиточных покрывались шелковыми
тканями и будничные одежды. В старину более употребительными
были шелковые материи: дороги, киндяки, тафта (роды дешевые),
камки, бархат, атлас, объярь, алтабас и зарбев. Тогдашний вкус
требовал самых ярких цветов, как на сукнах, так и на материях.
Черные и вообще темные цвета употреблялись только на
печальных (траурных), или так называемых смирных одеждах. По
понятиям века, ярких цветов платья внушали уважение, и потому
цари приказывали начальствующим лицам в торжественных
случаях, когда надобно было действовать на народ, одеваться в
цветное платье. Служилые . люди во время какого-нибудь
торжественного события, выходящего из повседневной среды,
одевались в цветные одежды. Всевозможные цвета самых ярких
оттенков можно было встретить на русских одеждах, но
преимущественно красные; из них особенно любили червчатый
отлив (красно-фиолетовый). Этот цвет был в таком употреблении,
что один иностранец заметил, что все городские жители
(посадские) носят платье такого цвета. Даже духовные особы носили
рясы красных цветов. За красными цветами в числе более
употребительных были цвета: лазоревый, зеленый и вишневый, за
этими следовали: рудо-желтый, шафранный, лимонный, песочный*
кирпичный, сизовый, сливный, маковый, таусинный2, дымчатый,
ценинный и прочие. Шелковые материи, исключая невысокие
сорта, как, например, дороги, киндяки и тафты, ткались вместе с
золотом и серебром, одни с золотыми и с серебряными узорами
по цветному фону ткани, другие были затканы золотом и
серебром, так что по золотому полю выводились серебряные, а по
серебряному — золотые узоры и фигуры, как, например: чешуи,
большие и малые круги, струи (преимущественно в объяри), реки,
травы, листья, птицы, змейки, изображения людей, и стоящих и
лежащих, и с крыльями,, и прочее и прочее; иногда серебро и
1 Камлот — суровая шерстяная ткань,
2 Таусинный — темно-синий*
59
золото переплеталось с шелками, например, по серебряной земле
(фону) золотые узоры пополам с шелками трех цветов или круги
из золота, переплетенного с зеленым и червчатым шелками,х а
между кругами листья; иногда золотые и серебряные узоры по
ткани чередовались между собою, а иногда по серебряной или по
золотой земле вышивались узоры шелками и выбивался бархат;
иногда золотые и серебряные полосы на ткани чередовались с
шелковыми, например, атлас золотной, а по нему полосы червча-
того, лазоревого и вишневого цветов. Из тогдашних шелковых
материй самые ценные были: бархат, атлас, алтабас и зарбев:
последние два вида привозились с Востока и употреблялись на
самые драгоценные одежды царей и знатных бояр. Золотое платье
считалось атрибутом достоинства у бояр и думных людей,
окружавших царскую особу, и когда принимали послов, то всем, не
имеющим такого рода платьев, раздавали их на время из царской
казны. Особенная драгоценность русских мужских нарядов
заключалась преимущественно в нашивках, ожерельях, запястьях,
кружевах и пуговицах. Нашивки, как сказано, делались всегда из
материи, отличной от той, которая бъша на лицевой стороне всей
одежды, например: при зеленом сукне нашивки красные, при
красном или червчатом нашивки зеленые или голубые. Под цвет
нашивок делались завязки и кисти, называемые ворворки.
Нашивки, ожерелья и запястья у богатых унизывались жемчугом и
драгоценными камнями, на ожерельях, кроме жемчуга и камней,
всегда ставились золотые пуговицы, у бедных для них служили
куски материи, а пуговки на ожерельях были из шелка или из
пряжи. Кружева были разнообразны и носили по своим формам
разные названия, например, кольчатое, коленастое, решетчатое,
плетеное, петельчатое, цепковое; кружево .окаймлялось бахромою.
Пуговицы у богатых делались иногда из жемчужин, и щеголи
отличались тем, что каждая пуговица состояла из одной большой
жемчужины: золотые и серебряные пуговицы носили разные
названия по роду работы, как, например, канфаренные, сканные,
грановитые, или по своей форме, как, например, грушевидные,
остроконечные, прорезные, сенчатые, клинчатые, половинчатые,
желобчатые. Случалось, пришивали вместо металлических
пуговиц плетеные из канители и трунцала1 и хрустальные. Бедняки
носили оловянные пуговицы таких же форм, как и богачи.
Величина их была очень различна, например, иногда они доходили до
размера яйца. Число их было чаще всего 11 и 12 на одежде,
иногда 14 и 15; они пристегивались на нашивках. Только в теги-
ляе, как выше сказано, число их было значительно больше, но они
были малы.
Обыкновенно русские ходили без перчаток, и длинные рукава
одежд заменяли их необходимость. Только цари и знатные особы
надевали персчатые рукавицы, и то преимущественно зимою от
холода, а потому они у них были меховые или отсрочивались
Трунцал — золотая, серебряная канитель.
60
бобром. Зато и простые, и средней руки лица зимою, надевали
рукавицы; у: небогатых ,они были кожаные, у более зажиточных
суконные, цвета червчатого, зеленого и прочее, подложенные ме-
xqm. По величине одни назывались рукавицы, а другие —
поменьше — рукавки.
Все носили пояса, и считалось неприличным ходить без
пояса. Кроме опоясок на рубахе, носили пояса или кущ^ки
по кафтану и щеголяли ими не меньше, как нашивками и
пуговицами. У небогатых людей пояса были дорогильные1 ,и
тафтяные; но у богачей они делались из богатых материй
и украшались разными драгоценностями. В старину наши
князья оставляли пояса своим детям, как лучшую
драгоценность. Они делались полосатые, например, белые с червча-
тыми и лазоревыми полосами поочередно, или, например,
полосы червчатые, лазоревые, и вишневые с золотом и в
каждой полосе своеобразные узоры: в одной змейки, в другой
копытца, в третьей шильца. Пояса украшались золотыми и
серебряными бляхами, которые назывались плащами, , фигуры
круглой, продолговатой, четвероугольной и многоугольной, с
выемками по углам; между плащами накладывались другие
металлические украшения, называемые переченками. На самих
плащах чеканились разные фигуры, как-то: звери, птицы,
всадники, травы. Иногда, на поясах вместо металлических
плащей нашивались косые образцы из материи другого рода,
чем сам пояс. К поясам приделывались крючья, которыми
они застегивались. О величине поясов можно судить по тому,
что у одного боярина в XVII веке был пояс в пять аршин
пять вершков длиною и в шесть вершков шириною.
Русская шапка была четырех родов. Зажиточные люди, следуя
восточным обычаям, укоренившимся в России, носили маленькие
шапочки, называемые тафьями, прикрывавшие только макушку,
расшитые шелками, а у богатых золотом, и унизанные жемчугом.
Их носили и в комнате, а царь Иван Грозный ходил в ней и в
церковь и за это поссорился с митрополитом Филиппом. Другой
вид шапки — остроконечный — назывался колпаком. Богатые нот
сили колпаки из атласа, обыкновенно белого; по его окраине
пристегивался околышек, называемый ожерельем, унизанный
жемчугом и золотыми пуговками, иногда с драгоценными
камнями. Сверх того, на передней стороне колпака прикалывали
золотую запону. Зимою такой колпак подбивался мехом, который
заворачивался наружу широкою полосою. Эти колпаки делались с
продольными разрезами спереди и сзади до половины; разрезы эти
окаймлялись жемчужными нитями и застегивались пуговками.
Этой формы шапки носили и бедные мужики, из сукна или из
войлока, зимою подбитые овчиною или каким-нибудь недорогим
мехом. Третий род шапок был четвероугольная низкая шапка с
мехрвым околышком из. черной лисицы, соболя или бобра: летом
1 Дорогильный — шелковый.
61
этот околышек пристегивался для красоты, а зимою вся шапка
была подбита мехом или хлопчатой бумагой. На ней делались
также прорехи, как и на колпаке, с пуговками, по шести на
каждой прорехе. Вершок ее был чаще всего суконный вишневого, чер-
вчатого, зеленого и часто также черного цвета: избегая черного
цвета на платьях, русские считали его приличным на шапках.
Этого рода шапки носили дворяне, дьяки и бояре, когда не были
в параде. Четвертый род шапок были так называемые гор латные
шапки — исключительная принадлежность князей и бояр.
Одинаковость одежды у всех сословий здесь имела границы, По шапке
можно было узнавать происхождение и достоинство1. Высокие
шапки означали знатность породы и сана. Как бы великолепно ни
оделся посадский, он не смел надеть высокой шапки, и даже в
самих колпаках, обыкновенной народной шапке, вышина
соразмерялась со знатностью носившего шапку.
Горлатная шапка делалась из драгоценных мехов с
суконным верхом, а иногда с меховым. По своей фигуре она
составляла обратную противоположность колпаку, ибо кверху
была шире, книзу уже. Спереди делалась прореха,
окаймленная вдоль образцами или плащами с насечками. На одной
стороне прорехи делались петли, густо обложенные жемчугом,
изображавшие какую-нибудь фигуру, например, в виде
змейки, львиной головы и прочего, на другой стороне
прикреплялись золотые пуговки, иногда с драгоценными камнями в
середине. Во время парада боярин надевал тафью, на тафью
колпак, а на колпак горлатную шапку. Так же и в царских
выходах царям подавались шапки с колпаком. Знатные люди
считали приличием и достоинством своего сана кутать как
можно больше голову, и часто в комнате за нарядными
столами сидели в своих тяжелых шапках. Когда они
возвращались домой, то, сняв шапку, напяливали ее на болванец,
расписанный нарядно иконописцами и составлявший
украшение в доме. Обычай так закутывать голову поддерживался
тем, что русские, по восточному обычаю, очень плотно
стриглись, а иногда даже и брили себе головы. Только те, которые
теряли родных или попадали в царскую немилость,
отращивали на голове волосы в знак печали; без этого все старались
стричься как можно плотнее и перед каждым большим
праздником все считали . долгом непременно стричься. Зато все
носили бороды, и чем борода была длиннее, тем осанка
человека считалась почтеннее и величественнее. Богатый
человек холил ее* берег и расчесывал гребешком из слоновой
или моржовой кости. При Василии Ивановиче начало было
входить в обычай бритье бород, и сам великий князь
последовал этому обычаю; но духовенство вопияло против него,
и Стоглав предал неблагословению Церкви дерзавших
отступать от дедовского обычая. Под влиянием Церкви борода
1 Вероятно, оттуда возникла пословица: по Сеньке шапка. (Прим.
автора).
62
долго сохранялась и почиталась необходимою
принадлежностью человека, и если у кого от природы не росла борода,
к тому имели недоверие и считали его способным на дурное
дело. ,
В довершение блеска своих одежд русские украшали уши
серьгами или одной серьгой и вешали на шею драгоценные
золотые или позолоченные цепи, а к самим цепям
прикрепляли кресты, и такие цепи передавались вместе с крестами
от родителей к сыновьям как залог благословения. Также
цари жаловали ими своих приближенных. Иногда они были
так массивны, что весили до двух фунтов. На пальцы
надевали русские множество перстней с алмазами, яхонтами,
изумрудами и сердоликами, с вырезанными на них печатями-
можно было встретить перстни в золотых ободочках и с
железною печатью. В старину не было наследственных и
гербовых печатей; всякий делал себе произвольно по вкусу
на перстнях печати. Кроме перстня с печатью, на руках у
русского было еще несколько перстней с камнями, так что
иногда трудно было разогнуть пальцы. Обилие камней в
старинном русском туалете не должно изумлять читателей,
потому что по большей части эти камни были низкого
достоинства, так называемое, по тогдашнему образу
выражения, плохое каменье, да и люди с состоянием часто платили
хорошие деньги за дурные камни, потому что не умели
распознавать их достоинства.
Для утирания носа русские носили платки, которые у
зажиточных делались из тафты и отсрочивались золотою бахромою, но
их хранили не в карманах, а в шапках, и когда сидели в гостях,
то держали в руках шапку, а в ней платок.
В довершение русского наряда люди знатные привешивали
шпаги. Это право предоставлялось только служилым и тем,
которые по своему происхождению его заслуживали, именно:
боярам, окольничим, стольникам, иноземцам, начальным
людям, дворянам и детям боярским; простолюдинам, посадским
и крестьянам запрещалось ходить с оружием, зато и знатные,
и незнатные не иначе выходили из домов, как с тростью
или палкою, которая обделывалась точеным набалдашником с
вычеканенным наконечником. Набалдашник раскрашивался или
окладыбался перламутром. Посох служил эмблемою
степенности и важности; от этого цари не иначе выходили из своих
покоев, как с посохом.
Женские одежды, по свидетельству очевидцев, были похожи
на мужские, тем более что последние вообще делались длинные.
Но однако в одеждах двух полов были и особенности, так что
можно было с первого взгляда отличить женщину издали. Не
говоря уже о головных уборах, к самим одеждам, носившим те же
названия, как у мужчин, прибавлялось слово «женский»,
например женская шуба, женский опашень.
Женская рубаха была длинная, с длинными рукавами, цвета
белого или красного: красные рубахи, как и у мужчин, считались
63
нарядным бельем. К рукавам рубахи пристегивались запястья,
вышитые золотом и украшенные жемчугами. Сверх рубашки
надевался летник: одежда эта не была длинна и по крайней мере' не
доходила до пят, как это видно из кроильной книги, где на царицу
Евдокию Лукьяновну полагается для длины летника аршин с
тремя четвертями, тогда как длина другой одежды на ту же особу
простирается до двух аршин с полувершком. Рукава его были так
длинны, как целый летник, и чрезвычайно широки, Например до
13 вершков и даже до 30. Эти рукава назывались накапками: они
вышивались золотом и унизывались жемчугом. Подол обшивался
иною материей с золотою тесьмой, со шнурком и бахромою'. Вдоль
одежды на передней стороне делался разрез, который застегивался
до самого горла, потому что приличие требовало, чтобы грудь
женщины была застегнута как можно плотнее. Зимою летники
подбивались мехом и назывались кортелями.
Принадлежность летника составляли вошвы, то есть вбитые
места; но трудно решить, где именно они вшивались;1 некоторые
полагали, что они пристегивались к рукавам, но так как они были
очень широки, например, 17 вершков, то едва ли была
возможность пришить их к рукавам или накапкам, которые были и без
того широки. Если только они не одно и то же, что накапкй, то,
быть может, они накладывались на полы летника по обеим
сторонам разреза, как нашивки на мужских кафтанах. Эти вошвы были
всегда расцвечены и распещрены разными фигурами в виде
листьев, трав, зверей и тому подобное.
Материи, из которых делались летники, у зажиточных
были по большей части легкие, так, как для мужского
зипуна, например, тафта, но иногда эти одежды делались
также из тяжелых золототканных и сребротканных материй.
На подкладку употребляли менее ценные материи, например,
киндяки или дороги. Цвета их были различны. Упоминаются
летники лазоревые, зеленые, желтые, но чаще всего- червчатые.
Чтобы иметь понятие о наружном виде этой одежда, приведем
несколько примеров летников из богатой материи. Bof летник
червчатого атласа, сотканного пополам с золотом; вошвы
черного бархата с вышитыми узорами. Вот другой летник: он
сделан из червчатой камки с серебряными и золотыми
узорами, поочередно представляющими листья; вошвы' к" нему
из червчатого бархата, расшитого канителью и трунцалом;
подол из лазоревого атласа. Вот третий летник: он из материи
сребротканной пополам с золотом, вошвы к нему черного
бархата с расшитыми по нему узорами. Вошвы чаще всего
были другого цвета, чем сам летник, например: летник-
желтой камки, а вошвы к нему золотого бархата; летник
полосатый, а вошвы черногб бархата; летник червчатый, вошвы
из синего аксамита. Небогатые женщины носили летник -из
зуди, дорогов, киндяков, а вошвы расшивали шелками и
цветною пряжей.
К летникам, как к мужским зипунам, пристегивалось шейное
ожерелье; У женщин оно теснее прилегало к шее, чем у мужчин,
64
и потому иностранцы находили его похожим на собачий ошейник.
Оно состояло из тесьмы, очень часто черного цвета, вышитой
золотом и унизанной жемчугом; к воротнику летника оно
пристегивалось пуговками, обыкновенно числом до пяти.
Верхняя женская одежда была опашень; это была одежда
длинная с частыми пуговицами сверху донизу, у богатых они
были золотые или серебряные вызолоченные, у бедных — оловянные.
Эта одежда делалась из сукна, обыкновенно" красных цветов;
рукава были длинны до пят, но пониже плеча делались прорезы, или
проймы, сквозь которые свободно входила рука, а остальная часть
рукава висела. Таким образом женщина могла показывать не
только широкие накапки своего летника, но и запястья своей рубахи,
шитые золотом. Кругом шеи пристегивался широкий меховой,
обыкновенно бобровый, воротник, называемый ожерельем,
круглого вида, покрывавший грудь, плечи и спину. По прорезу и по
подолу опашни окаймлялись кусками другой материи, расшитыми
шелками и золотом.
Другой вид верхней женской одежды была телогрея. В
подробности отличие покроя ее от опашня неизвестно; в плечах делалась
она уже, к подолу шире; рукава были длинные с проймами, как
в опашне, на краях этих рукавов пристегивалось запястье из
другой материи, обыкновенно вышитое: подол складывался
.(подпушался) широкою полосою другой материи, а разрез, который
застегивался пуговицами, обыкновенно пятнадцатью, окаймлялся
металлическим кружевом или же тесьмою, густо расшитою
золотом. Телогреи были холодные и теплые, например, на куницах
или соболях.
Женские шубы отличались от мужских, ибо упоминается
название «женская шуба». Шуба, по-видимому, у женщин
означала не всегда одно только меховое платье, потому что
встречается название «холодная шуба». Если летник в
женском одеянии соответствовал 'зипуну в , мужском, то опашень
и телогрея соответствовали кафтану, а шуба означала вообще
верхнюю накидную одежду. Кроме шубы, встречаются
названия женских охабней, однорядок, ферязей, которые женщины
носили с поясом; в других случаях эти верхние одежды
вообще назывались шубами. Меховые женские шубы делались
на соболе, куницах, лисицах, горностаях, белках, зайцах,
смотря по состоянию, покрывались сукнами и шелковыми
материями, как-то: объярью, камкою, атласом, тафтою цветов
червчатого, желтого, зеленого и белого; последний цвет на
женских шубах был в употреблении в XVI веке, но в XVII
шубы покрывались часто цветными тканями с золотыми
узорами. Сверху донизу впереди был разрез; он застегивался
пуговицами и окаймлялся кружевом — металлическим,
кованым или плетеным, либо шелковым, расшитым золотом и
усаженным дробницами1. Вдоль разреза по обеим сторонам
1 Дробницы — золотошвейные блестки.
3 Заказ 15 65
делались нашивки с золотыми вышивками и с кистями, а
по шее пристегивалось к шубе ожерелье из другого меха,
например, шуба беличья или лисья, а ожерелье к ней
бобровое. Рукава женских шуб украшались по краям
кружевами, они особливо снимались и хранились, переходя от
матерей к дочерям, как фамильная драгоценность.
В торжественных случаях женщины надевали на
обыкновенные свои платья богатую мантию, называемую по-русски
подволокою или приволокою. Она делалась из шелковой
материи цвета червчатого, белого, но чаще всего из золотой
или сребротканной, с вошвами * (вероятно, вшитыми местами).
Края этой мантии были с особенною нарядностью
разукрашены золотым шитьем, жемчугом и драгоценными камнями;
они пристегивались к подволоке и снимались, когда нужно
было, и назывались подволочным запушьем. На голову
замужние женщины надевали волосники или подубрусники: то
были шапочки наподобие скуфьи из шелковой материи,
нередко из золотой, делались с узлом, посредством которого
можно было их суживать и расширять, и с ошибкою или
оторочкою по краю; эти ошибки унизывались жемчугом и
камнями и перешивались с одного волосника на другой и
таким образом переходили из рода в род.. Волосник играл
большую роль в судьбе замужней женщины, ибо он был
символом брачного состояния и составлял необходимую и
главную принадлежность приданого. По понятиям века для
замужней женщины считалось и стыдом, и грехом оставлять
на показ свои волосы: опростоволоситься (открыть волосы)
было для женщины большим бесчестием. Скромная женщина
боялась, чтобы даже члены семейства, исключая мужа, не
увидали ее волос; а в Новгородской Земле вошло было даже
в обычай замужним женщинам брить себе волосы, но этот
обычай не одобрялся Церковью. Правило скромности
переходило в щегольство, и некоторые женщины, укрывая волосы
под волосником, стягивали их так туго, что едва могли
моргать глазами: это казалось им красиво. Поверх волосника
накладывался платок, обыкновенно белый, и подвязывался под
подбородок; его висячие концы густо усаживались жемчугом.
Этот платок назывался убрусом. Это был обыкновенный
домашний головной убор. Когда женщины выходили в церковь
или в гости, то надевали кику: то была шапка с
возвышенною плоскостью на лбу, называемою кичным челом; чело
было разукрашено золотом, жемчугом и драгоценными
камнями, а иногда все состояло из серебряного листа, подбитого
материей. По бокам делались возвышения, называемые пере-
перами, также разукрашенные; из-под них, ниже ушей,
спадали жемчужные шнуры, числом около четырех или до шести
на каждой стороне, и достигали плеч. Задняя часть кики
делалась из плотной материи или соболиного или бобрового
меха и называлась подзатыльник. По окраине всей кики
пристегивалась жемчужная бахрома, называемая поднизью.
66
Третий род головного убора был кокошник, у богатых также
обложенный жемчугом.
Когда женщина выезжала, то на убрус надевала шляпу
белого цвета с полями, у богатых покрытыми золотыми
материями, жемчужинами и камнями; с этой шляпы * спадали
на спину длинные шнурки; когда шляпа была белого цвета,
шнурки обыкновенно были красные. Также надевали шапки,
очень часто черного цвета, из бархата или другой материи,
отороченные дорогим мехом, иногда с золотою запоною
спереди и с поднизью или кружевом по окраине. Девицы носили
на голове венцы: они имели форму городов и теремов;
например, изображение дома в несколько ярусов,
отделявшихся один от другого жемчужными поясками. У венцов были
поднизи, называемые рясами. У других венцы были проще
фигурою и состояли только из золотой проволоки в несколько
рядов, которые иногда украшались кораллами и камнями.
Девичий венец был всегда без верха, потому что открытые
волосы считались символом девичества. Очень часто эти
венцы состояли из широкой повязки, вышитой золотом и
усаженной жемчугами. Такая повязка суживалась на затылке и
связывалась широкими лентами, иногда вышитыми,
спадавшими на спину; Зимою девицы покрывали голову высокою
шапкой, собольей или бобровою, с верхом из шелковой
материи; она называлась столбунцом; из-под шапки выпадали
на спину одна или две косы, в которые вплетались красные
ленты. Иные вовсе не заплетали себе кос, а носили волосы
распущенными по плечам. Девицы простого состояния носили
повязки, которые спереди были шире, сзади суживались и
наконец спускались на спину длинными концами. В знак
печали женщины и девицы остригали себе волосы, как
мужчины их растили по этому поводу. У детей женского пола
волосы всегда были острижены, точно как и у мальчиков,
и девочку можно было узнать только по небольшим пукам
волос на висках.
Как женщины, так и девицы носили серьги. Как только
девочка начинала ходить, мать прокалывала ей уши и втыкала серьги
или кольца; обычай этот равно сохранялся и у знатных, и у
простых. Самая обычная форма серег была продолговатая; иные
назывались двоичны, то есть двойные, другие одинцы. Вообще серьги
русские были очень длинны. Бедные женщины носили медн-ые,
более зажиточные — серебряные, богатые женщины — золотые с
драгоценными камнями, преимущественно яхонтами и
изумрудами, или золотые со множеством мелких камешков, называемых
искрами. У некоторых были серьги из цельных драгоценных
камней, обделанных в формах: грушевидной, круглой, овальной и
тому подобное^ иногда просверленных насквозь, с двумя
вставленными в дырочки жемчужинами.
На руках женщины носили обручи или зарукавья, то
есть браслеты, также с жемчугами и камнями, а на
пальцах — перстни и кольца, которых нередко было так же
3* 67
много, как и у мужчин. Женские перстни отличались от
мужских между прочим тем, что на них не вырезывалось
печатей и они вообще не были так массивны, как мужские;
перстни эти были большею частью золотые с искрами, то
есть мелкими камешками, или с сердоликами; у небогатых —
серебряные позолоченные, с мелкими жемчужинами. Шея
женщины и девицы была увешана множеством крестов,
образков и несколькими рядами монист жемчужных и золотых,
иногда составленных в виде цепочки, на которых висели
рядами коротенькие цепочки, каждая с крестиком. Кроме
монист, знатные женщины носили золотые и серебряные
позолоченные цепи, на которых висели большие кресты,
отделанные финифтью. Вообще на шеях и на груди знатных
госпож в Московии, как и повсюду, укладывались большие
капиталы. За всякой невестой зажиточного состояния везли
н-а новоселье огромные сундуки с нарядами и, сверх того,
большое количество ссыпного жемчуга, необходимого для
поправки платьев, иногда более пуда. На платьях, которые
надевались в торжественных случаях, накладывалось
невероятное множество украшений. Платье Натальи Кирилловны,
которое на нее надели после взятии во дворец и наречения
царскою невестой, было так тяжело от вышиваний и жемчуга,
что у невесты, когда она поносила его немного, заболели
ноги.
В руках у женщины был платок, называемый ширинкою; у
богатых эти ширинки были шелковые с золотыми каймами и
кистями. Зонтики были в употреблении у знатных госпож; их
носили над ними рабыни.
Бедные поселянки ходили в длинных рубахах; на рубахи
надевали летники иногда белого цвета, похожие также на
рубаху, иногда крашеные, а голову повязывали платком из
крашенины или шерстяной материи, подвязывая его под
подбородок. Сверху всего, вместо накидного платья, поселянки
надевали одежду из грубого сукна или серемяги, называемую
серник. При большей зажиточности поселянки носили на
головах платки шелковые, а сверху летника однорядку из
красной или синей крашенины, зенденя или зуфи; зимою
носили овчинные тулупы. Девицы делали себе кокошники из
древесной коры в виде короны. Впрочем, при малейшей
возможности муж не скупился принарядить свою жену. В
те времена у посадских и у крестьян встречались такие
богатые наряды, каких теперь трудно отыскать в этих
классах. Их дорогие одежды были скроены просто и переходили
из рода в род. По большей части одежды кроились и шились
дома: шить на стороне не считалось даже признаком
хорошего хозяйства.
Как мужские, так и женские дорогие одежды почти всегда
лежали в клетях, в сундуках под кусками кожи водяной мыши,
которую считали предохранительным средством от моли и
затхлости. Только в большие праздники и в торжественные случаи, как,
63
например, свадьбы, их доставали и надевали; в обыкновенные
воскресные дни русские ходили в менее богатом наряде, а в будни
не только простой народ, но и люди обоего пола среднего сословия
и дворяне не щеголяли одеждою. Часто дворяне и их жены ходили
в платьях из грубого холста или сукна, зато когда надобно было
показать себя, русский скидал свои отрепья, вытаскивал из клетей
отцовские и дедовские одежды и навешивал на себя, на жен и на
детей все, что собрано было по частям им самим, отцами, дедами
и бабками. Иметь хорошее платье почиталось необходимым для
сколько-нибудь зажиточного хозяина. Богатая одежда служила
признаком благосостояния и достоинства, и нередко случалось,
что бедняк, когда приходилась ему нужда прикинуться не
бедняком, брал у соседа напрокат платье и платил за это. С этим
взглядом, во время приезда в Москву чужеземных послов правительство
раздавало дьякам, придворным и гостям вышитые золотом
кафтаны, чтобы приезжим чужеземцам показать толпу одетых в золото,
чтобы чужеземцы заключили о России, что эта страна сильная,
богатая и народ в довольстве живет под царским скипетром.
Чтобы дать понятие о гардеробе мужчины среднего сословия,
мы приведем здесь одежду подьячего Красулина, сосланного в
Колу. У него было три однорядки — одна темно-зеленая, две
вишневые, три кафтана: один праздничный камчатный, другой
дорогильный, третий суконный; два были червчатого цвета, а
третий зеленый: штаны красные суконные; красные ферязи; четыре
шубы, из которых одна покрыта камкою с серебряным кружевом
и серебряными пуговицами, а три покрыты дорогами желтого и
красного цветов; два ожерелья стоячих, одно аксамитное, другое
шитое золотом пополам с серебром по черному бархату, третье
простое черное бархатное; два тулупа и несколько лоскутов сукна
и небогатых материй.
X
Пища и питье
Русская кухня вполне была национальная, то есть
основывалась на обычае, а не на искусстве. Лучшая повариха была та,
которая присмотрелась, как готовится у людей. Изменения в
кушаньях вводились незаметно. Кушанья были просты и не
разнообразны, хотя столы русские и отличались огромным количеством
блюд; большая часть этих блюд были похожи одно на другое, с
небольшими различиями. Богатые господа составляли себе
роспись кушаний на целый год; счет шел по церковным праздникам,
по мясоедам и постам; для каждого дня, сообразно со значением
его в церковном круге, назначался заранее стол; впрочем, это не
стесняло возможности выбора кушаний и по охоте, потому что в
росписи писалось множество кушаний, из которых можно было
выбирать.
69
Обычай свято сохранять посты, соблюдаемый как бедными
поселянами, так и царями и боярами, разделял русский стол на два
отдела: скоромный и постный, а по припасам, из которых
готовились кушанья, они могут быть разделены на пять отделов:
мучнистые, молочные, мясные, рыбные и растительные.
Русские ели хлеб преимущественно ржаной; он был
принадлежностью не только убогих людей, но и богатого стола. Русские
даже предпочитали его пшеничному, приписывали ему больше
питательности. Название «хлеб» значило собственно ржаной. Иногда,
впрочем, к ржаной муке примешивали ячневую, но это не могло
быть постоянным правилом, потому что ячменя было мало.
Пшеничная мука употреблялась на просторы, а в домашнем быту на
калачи, которые вообще для простого народа были лакомством в
праздничные дни — от этого и пословица: калачом не заманишь.
Лучший сорт калачей пекся из крупитчатой муки в виде колец
небольшого размера, другой сорт делался из толченой муки,
круглыми булками: эти калачи назывались братскими; был третий
род, называемый смесными калачами: их пекли из пшеничной
муки пополам с ржаною. Это делалось не только от недостатка,
но находили в такой смеси особый вкус: к царскому столу
подавались такие калачи. Вообще хлебы, как ржаные, так и
пшеничные, готовились без соли, и не всегда заботились, чтоб мука была
свежа. «Домострой», образец хозяина в XVI веке, советует печь
хлебы преимущественно из муки, которая уже подвергается
затхлости, и научает давать такую же муку взаймы тому, кто
попросит.
В XVI и XVII веках в большом употреблении в народе было
толокно, приготовленное из овсяной муки с водою; в сухом виде
оно отпускалось служилым людям для продовольствия наряду с
ржаною мукою.
Из кушаний, приготовляемых из теста, занимают первое
место пироги. По способу печения они были пряженые и
подовые. Подовые были всегда из квасного теста, пряженые
иногда из квасного, иногда из пресного. Мука для них
употреблялась пшеничная крупитчатая или толченая, смотря
по важности дня, когда они готовились; пеклись также и
ржаные пироги. Все вообще русские пироги в старину имели
продолговатую форму и различную величину; большие
назывались пирогами, малые пирожками. В скоромные дни они
начинивались бараньим, говяжьим и заячьим мясом,
несколькими видами мяса разом, например, бараниной и говяжьим
салом, также мясом и рыбою вместе с прибавкою каши или
лапши. На масленицу пекли пряженые пироги с творогом и
с яйцами на молоке, на коровьем масле, с рыбой вместе с
искрошенными яйцами или с тельным, как называлось рыбное
блюдо, приготовляемое вроде котлет. В постные рыбные дни
пеклись пироги со всевозможнейшими родами рыб, особенно
с сигами, снетками, лодогой, с одними рыбными молоками
или с визигой, на масле конопляном, маковом или ореховом;
крошеная рыба перемешивалась с кашей или с сарацинским
70
пшеном1. В постные нерыбные дни пеклись они с рыжиками,
с маком, горохом, соком, репою, грибами, капустою, на
каком-нибудь растительном масле или сладкие с изюмом и
другими разными ягодами. Сладкие пироги пеклись и не в
пост вместо пирожных. Вообще пироги, за исключением
сладких, подавались к горячему: меж ух.
Другой вид печенья из теста был каравай — сдобный хлеб с
различными способами приготовления. Был каравай битый,
который взбивался с маслом в сосуде, ставленный — вроде кулича на
молоке; яцкий —- на большом количестве яиц, каравай с сыром,
каравай братский и прочее. Яйца, масло или говяжье сало, сыр
и молоко служили добавкою в каравае, а различные виды его
зависели от того, сколько класть муки и с чем ее клали и в каком
количестве.
К печеньям из теста принадлежали: курник, то есть
паштет, начиненный курицею, яйцами, бараниною с маслом
или говяжьим салом; оладьи, котлома, сырники, блины, хво-
росты, кисели. Оладьи делались из крупитчатой муки, яиц,
коровьего масла, а в постные дни — без яиц с ореховым
маслом и подавались вообще с патокой, сахаром или медом.
Оладьи огромного размера назывались приказными оладьями,
потому что их приносили приказным людям на поминки.
Подобное кушанье составляла котлома, отличавшаяся от
оладий тем, что количество яиц в ней было меньше; она
подавалась с патокой. Сырники готовились из творога, яиц,
молока с небольшим количеством крупитчатой муки. Блины
делались красные и молочные: первые из гречневой, вторые —
из пшеничной муки; молоко и яйца входили в последний
сорт. Блины не составляли принадлежности масленицы, как
теперь, — символом масленицы были пироги с сыром и
хворосты — вытянутое тесто с маслом. Пекли также тестяные
шишки, левашники, перепечи, орешки: все эти виды
подавались в масле; такие же кушанья готовились в пост с
растительным маслом. Кисели делались из овсяной и
пшеничной муки и подавались в скоромные дни с молоком, в
постные — с постным маслом. Каша приготовлялась из круп,
овсяных или гречневых, пшенная каша была редко. Из
молочных кушаний в употреблении была вареная лапша с
подливом в нее свежего топленого молока, варенца, молочная
каша разных видов, губчатый сыр из творога со сметаною,
кислый сыр.
Мясные кушанья были вареные или жареные. Вареные
подавались в щах, ухе, рассоле и .под взварами; щи
забеливались сметаной во время варения, а не при столе.
Обыкновенный приварок к щам была кочанная и крошеная, свежая
и кислая капуста. К щам подавалась гречневая каша. Ухой*
назывался суп или похлебка. Огромное количество разных
Сарацинское пшено — старое название риса.
71
пряностей составляло принадлежность русской ухи в разных
видах: уха с гвоздикою называлась черною ухою, с перцем —
белою, а без пряностей — голою. Рассол был род нынешней
солянки: варилось мясо в огуречном рассоле с примесью
пряностей. Взваром назывался всякого рода соус. Жареные
мясные кушанья были верченые, шестные, печеные,
сковородные. Баранина составляла самый обычный вид мясных
кушаний в скоромные дни с весны до поздней осени.
«Домострой» научает, как поступать с бараньим мясом: купив
целого барана, следовало облупить его и распределить на
несколько дней части его мяса; грудинка подавалась на уху
или щи; лопатки и почки на жареное; крюки подавались
под взваром; ножки начинялись яйцами; рубец кашею;
печенку иссекали с луком и, обернув перепонкою, жарили на
сковороде; легкое приготовляли со взболтанным молоком,
мукою и яйцами; из головы вынимали мозги и делали из них
особую похлебку или соус с пряностями, а из густосваренной
с бараньим мясом ухи, ставя ее на лед, приготовляли
холодный студень. Для говядины служили яловые коровы,
поэтому говядина вообще носила в старину название яловичины.
Яловиц покупали осенью и убивали; мясо солили впрок, а
потроха, к которым причисляли губы, уши, сердце, ноги;
печень, языки, служили для обыденной пищи и подавались
под студнем, под взварами, с кашей, на жареное. Вообще
свежей говядины русские ели мало, а употребляли более
соленую. Многие содержали во дворах своих свиней и
откармливали их в течение года, а перед праздником Рождества
кололи. Свиное мясо солилось или коптилось, и ветчина
употреблялась на зимние щи, а голова, ноги, кишки, желудок
подавались свежими в разных приготовлениях, как-то: голова
под студнем с чесноком и хреном; из кишок делали колбасы,
начиняя их смесью мяса, гречневой каши, муки и яиц.
Русские в старину любили свинину, кажется, больше, чем
теперь. Зайцы подавались душеные (духовые), рассольные (в
рассоле вареные) и под взварами, особенно сладкими. Были
люди, которые считали зайцев нечистыми животными, как и
теперь, но другие объясняли, что зайца есть не грешно,
только надобно смотреть, чтобы он не был задушен во время
травли. Стоглав запрещает продавать на торгах зайцев без
испущения крови. Такое же предостережение было от
московского патриарха в 1636 году; но нигде не видно, чтобы
Церковь вооружалась против употребления зайцев в пищу.
Наравне с зайцами некоторые чуждались или по крайней
мере остерегались оленины и лосины; но мясо этих зверей
составляло роскошь царских и боярских торжеств.
Куры подавались в щах, ухе, рассоле, жаренные на рожнах,
вертелах, называемые по способу их приготовления нарожными и
верчеными. Щи с курицей назывались богатыми щами и всегда
забеливались. К жареной курице обыкновенно подавали
что-нибудь кислое: уксус или лимон. Кура рафленая была употребитель-
72
ной в XVII веке в соусе из курицы с сарацинским пшеном,
изюмом и разными пряностями, кура бескостная в соусе из курицы.
без костей, с начинкою из баранины или яиц с шафранною
похлебкою. За роскошными* обедами подавались особыми блюдами
куриные пупки, шейки, печенки и сердца. Другие птицы,
употребляемые в пищу, были утки, гуси, лебеди, журавли, цапли,
тетерева, рябчики, куропатки, перепела, жаворонки; утки — в щах
и жареные, гуси — шестные1, начинялись гречневой крупой и
приправлялись говяжьим салом; из гусей приготовляли полотки2,
которые ели зимою с хреном и уксусом: гусиные потроха шли в
уху или в особые кушанья под взварами. Рябчики, тетерева и
куропатки — кушанья зимние — обыкновенно подавались: первый
приправленный с молоком, прочие жареные со сливами и другими
плодами. Лебеди во всякое время считались изысканным блюдом:-
их подавали под взваром с топешками, то есть изрезанными
ломтиками калача, опущенными в коровье масло; потроха лебяжьи,.
как и гусиные, подавались под медвяным взваром, иногда же с
говядиной или в пирогах и перепечах. Прочей дичи в Московии
было много и она была дешева, но вообще русские не очень
любили ее и мало употребляли. Каждое мясо имело свои огородные
и пряные приправы; так, репа шла к зайцу, чеснок к говядине и
баранине, лук к свинине.
Исчисляя мясные кушанья, нельзя не упомянуть об одном
оригинальном кушанье, которое называлось похмелье; это
изрезанные ломтики холодной баранины, смешанной с мелко
искрошенными огурцами, огуречным рассолом, уксусом и перцем; его
употребляли на похмелье.
Московское государство изобиловало рыбою, составлявшею
половину года обычную пищу. Употребительные роды рыб были:
лососина, привозимая в Москву с севера из Корелы, осетрина
шехонская и волжская, волжская белорыбица, ладожская ладога
и сырть, белозерские снетки и рыбы всех небольших рек: судаки,
караси, щуки, окуни, лещи, гольцы, пескари, ерши, вандыши,
хохолки, вьюны. По способу приготовления рыба была свежая,
вяленая, сухая, соленая, провесная, ветряная, паровая»
подваренная, впрок щипанная, копченая. По принятому обыкновению
закупать для дома съестные припасы в оптовом количестве везде
продавалось множество рыбы, приготовленной впрок посредством
соли. Домовитый хозяин покупал для домашнего обихода большой
запас и складывал в погреб, а чтобы она не испортилась, выве-
Шивал на воздух, и это называлось выветривать: тогда уже рыба
получила название провесной, а если хорошо выветривалась, то
ветряной. С тех пор рыба складывалась уже не в погреб, а в
сушиле пластами и прутами; пластовая рыба клалась на приде-
1 Шестный — вяленый, воздушный.
2 Полоток — половина распластанной птицы, соленой, вяленой,
копченой, засушенной в печи. Иногда и целая соленая и копченая птица,
из которой вынуты кости.
73
ланных к стенам сушила полицах, а прутовая —• кучею под
рогожами.
При затруднительности путей сообщения свежей рыбой могли
пользоваться только жившие около рыбных мест; в Москву свежая
красная рыба* доставлялась только для царского стола и для
знатных князей и бояр; она привозилась живая и содержалась в
прудах, сделанных нарочно в их садах; масса жителей
довольствовалась соленою осетриною, приготовляемою на
астраханских учугах.
Горячие рыбные кушанья были щи, уха и рассольное.
Рыбная уха делалась из разных рыб, преимущественно
чешуйчатых, а также из рыбьих потрохов, смешанных вместе
с пшеном или с крупами и с большим прибавлением перца,
шафрана и корицы. По способам приготовления в русском
столе различалась уха рядовая, красная, черная, опеканная,
вялая, сладкая, пластовая; в уху бросали мешочки или тол-
ченики, приготовленные из теста с искрошенной рыбой. Щи
делались кислые со свежей и с соленой рыбой, иногда с
несколькими сортами рыб вместе, часто с рыбой сухой вроде
истертой в порошок муки; при этих горячих кушаньях
подавали пироги с рыбными начинками или кашею. Рассольное
приготовлялось обыкновенно из красных рыб: осетрины,
белужины и лососины. При горячих кушаньях подавали
пирожки с разными рыбными начинками и с кашею. В постные
дни летом подавалась ботвинья с луком и разными
кореньями. Из тертой рыбы разных родов, смешанных вместе с
примесью крупы или пшена, приготовлялось кушанье,
называемое рыбная каша; а в скоромные дни примешивали туда
и мяса; такую же кашу клали и в пироги. Приготовляли
из рыб тельное вроде котлет, смешивали с мукою, обливали
ореховым маслом, прибавляли туда пряностей и пекли; это
называлось рыбным караваем. Жареную рыбу подавали
облитую каким-нибудь, цзвдром. Икра была в числе обычных
кушаний: свежая-%'зернистая из осетра и белорыбицы
составляла роскошь; но во всеобщем употреблении была паюсная,
мешочная, армянская — раздражающего свойства и мятая,
самого низшего достоинства, которую покупали бедные
простолюдины. Икру вообще употребляли с уксусом, перцем и
искрошенным луком. Кроме сырой икры, употребляли еще
икру, варенную в уксусе или маковом молоке, и пряженую1:
в посты русские делали икрянки, или икряные блины: это
была взбитая, после продолжительного битья, икра с
примесью крупитчатой муки и потом запаренная.
В те постные дни, когда считалось грехом употреблять рыбу,
пища русских состояла из растительных веществ: ели кислую и
ставленую капусту, свеклу с постным маслом и уксусом, пироги
с горохом, с начинкою из растительных веществ, гречневую и
Пряженый — жаренный в масле.
74
овсяную кашу с постным маслом, луковники» овсяный кисель,
левашники, оладьи с медом, караваи с грибами и с пшеном,
разного рода грибы вареные и жареные (масленики, грузди, сморчки,
рыжики), разные приготовления из гороха: горох битый, горох
тертый, горох цеженый, сыр гороховый, то есть твердосбитый
мятый горох с постным маслом, лапшу из гороховой муки, творог из
макового молока, хрен, редьку и разные овощные приготовления:
взвар из овощей и коливо1. s
Вообще ко всяким кушаньям русские любили примешивать
пряные приправы, а в особенности лук, чеснок и шафран. Эти
два зелья — лук и чеснок — делались как бы предметом первой
необходимости: таким образом, они давались в числе кормов,
которые обязаны были жители давать писцам, посылаемым для
составления писцовых книг. Перец, горчица и уксус ставились
всегда на столе как необходимость обеда; и каждый гость брал
сколько хотел. При изготовлении кушаний обыкновенно не
употребляли соли, как это делается во многих местах и теперь; но из
этого не следует, чтобы русские не любили соленого: это делалось
для того, чтобы каждый гость мог брать сколько хотел, и в те
времена русские не находили разницы во вкусе того, что посолено
во время приготовления кушанья, от того, что солили уже на
столе. .Зато все любили соленое впрок и не только употребляли, как
уже сказано, мясо и рыбу больше в соленом виде, но и заправляли
с солью и уксусом разные овощи и плоды: огурцы, сливы, яблоки,
груши, вишни. У домовитых хозяев всегда стояло несколько
посудин с такими соленьями, нагнетенных камнями и засеченных в
лед. Они подавались к жареному мясному и рыбному, а белая
соленая капуста была обычным запасом на зиму как у богатых,
так и у бедных.
Русские лакомства состояли из плодов свежих или же
приготовленных в патоке, с медом и сахаром. Плоды эти были отчасти
туземного происхождения, отчасти привозные. Хозяева
употребляли яблоки и груши в патоке и в квасе, то есть клали в бочонки и
заливали патокой, потом закрывали, но не плотно, чтобы «кислый
дух выходил», или же, отобравши свежих яблок, прорезали в них
отверстия и наливали туда патоки; из малины делали морс,
употребляемый с водою, из брусники брусничную воду. Было в
обыкновении лакомство, называемое левашами: его делали из Малины,
черники, смородины и земляники. Ягоды сначала уваривали,
потом протирали сквозь сито и вслед за тем варили снова, уже с
патокой, обильно добавляемой во время варения, потом,
выкладывали эту густую смесь на доску, прежде смазанную патокой, и
ставили на солнце или напротив огня; когда она высыхала, то
свертывали ее в трубочки. Другим лакомством была пастила,
приготовляемая из яблок. Яблоки клали в сыту2 и парили, потом
протирали сквозь сито, клали патоку и снова запаривали, мешали,
1 Коливо — род каши.
2 Сыта — медовой взвар, разварной мед на воде.
75
били, мяли, потом выкладывали на доску и давали подняться
вверх, наконец, складывали в медные, луженые творила, давая
закиснуть, и опрокидывали вниз. Пастилу делали также и из
других плодов, например, из калины.
Редьку в патоке приготовляли таким образом: сначала
искрашивали редечный корень в мелкие ломтики, вздевали на спицы,
так, чтобы ломтик не сталкивался с другим ломтиком, и
вывяливали на солнце или в печах после печенья хлебов; когда в
растении не оставалось сырости, толкли его, просевали сквозь сито,
между тем варили в горшочке белую патоку и, уварив, выливали
в редечную муку, прибавляя туда разных пряностей: перца,
муската, гвоздики, и, запечатав горшочек, ставили в печь на два дня
и две ночи. Смесь эта должна быть густа, как паюсная икра, и
называлась мазюней, такую же мазюню приготовляли подобным
способом из сухих вишен. Из арбузов, которые привозились в
Московию с низовьев Волги, приготовлялось такое лакомство:
изрезав арбуз пальца на два от коры кусками не толще бумаги,
клали на сутки в щелок, между тем варили патоку с перцем,
имбирем, корицею и мускатом и потом клали туда арбузы.
Подобным образом приготовляли лакомства и из дынь. Русские варили
в сахаре и в патоке привозные плоды, изюм с ветвями, коринку1
смоквы, имбирь и разные пряности. Обыкновенным русским ла1
комством был взвар, приготовляемый из винных ягод, изюма,
циников, вишен и других плодов с медом, сахаром или патокой, с
большим количеством гвоздики, кардамона, корицы, шафрана,
имбиря и прочего; один род взвара назывался медвяным; другой
квасным. К лакомствам следует отнести также пряники или
коврижки, старинное национальное печенье. Сахар и леденец,
привозимые русским из-за границы, служили предметом лакомств для
богатых. На царских и боярских пирах ставили на стол
приготовленные из сахара изображения орлов, голубей, уток, городов,
башен, теремов, людей и также целые сахарные головы. По способу
приготовления и по цвету различалось несколько видов сахара:
сахар свороборинный, сахар зеренчатый, узорчатый, леденец
белый и красный. Все это привозилось через Архангельск и с
боярских столов переходило в народное употребление.
Напитки, употребляемые русскими в старину, были квас,
морс, пиво, мед, водка и виноградные вина. Квас пили все — от
царя до последнего крестьянина. Повсеместно в посадах можно
было встретить и квасоварные заведения, и квасников, продающих
квас в лавках и квасных кабаках. В монастырях квас был
обычным питьем братии в будни. Квасы были разных сортов: кроме
простого, так называемого житного, приготовляемого из ячменного
или ржаного солода, были квасы медвяные и ягодные. Медвяный
приготовлялся из рассыченного2 в воде меда; процеженного, с при-
2 От слова «рассычать, рассытить», то есть развести на сыте,
1 Коринка — сорт изюма.
2 От слова «рассычать,
разболтать на медовом взваре.
76
месью калача вместо дрожжей. Этот раствор стоял некоторое
время с калачом, потом сливали его в бочки. Его качество зависело
от сорта и количества меда: для царей, например, собирали
лучший мед во всем государстве на квас; такого же рода медвяные
квасы делались в некоторых монастырях, имевших свои
пчельники; и оттого медвяный квас в народе носил эпитет монастырского.
Ягодные квасы делались таким же образом из меда и воды с
добавкою ягод, вишен, черемухи, малины и прочего; этого рода квас
также можно встретить было чаще всего в монастырях, а у
зажиточных людей он служил для угощения людей низшего звания.
Пиво делалось из ячменя, овса, ржи и пшеницы; для народа оно
варилось в казенных пивоварнях при кабаках, а люди
зажиточные, имевшие дозволение приготовлять у себя напитки, делали его
для домашнего обихода в своих дворах и хранили в ледниках под
снегом и льдом. Русское пиво, по замечанию иностранцев, было
вкусно, но мутно. Некоторые хозяева подпаривали его патокою, то
есть готовое пиво сцеживали с дрожжей и сливали в другую
бочку, потом, взявши этого пива ведро, примешав туда патоки,
варили до кипятка, потом простуживали и сливали назад в бочку, а
иногда подбавляли туда ягодных смесей. Последнего рода пиво
называлось поддельным пивом.
Оригинальным и лучшим русским питьем был мед; все
путешественники, посещавшие Московию, единогласно признавали
достоинство нашего меда и расславили его в далеких странах.
Меды были вареные и ставленые; первые варились, вторые
только наливались. Кроме того, по способу приготовления и по
разным приправам меды имели названия: простой мед, мед
пресный, белый, красный, мед обарный, мед боярский, мед ягодный.
Мед, называемый обарным, приготовляли следующим образом:
рассычали медовый сот теплою водою, процеживали сквозь частое
сито так, чтобы мед отделился от вощины, потом клали туда
хмеля, полагая на пуд меда полведра хмеля, и варили в котле,
беспрестанно снимая пену ситом; когда же жидкость уваривалась до
того, что в котле оставалось ее только половина, тогда выливали
из котла в мерник и остуживали не на сильном холоде, бросали
туда кусочек ржаного хлеба, натертого патокой и дрожжами,
давали жидкости вскиснуть, не допуская до того, чтоб она окисла
совершенно, наконец сливали ее в бочки. Боярский мед отличался
от обарного тем, что при рассычении меда бралось медового сота
в шесть раз больше, чем воды; он кис в мерниках неделю, потом
его сливали в бочку, где он стоял другую неделю с дрожжами;
потом уже его сливали с дрожжей, подпаривали патокой и
наконец сливали в другую бочку. Ягодный вареный мед приготовлялся
таким образом: ягоды варились с медом до тех пор, пока
совершенно раскипали; тогда эта смесь снималась с огня; ей давали
отстояться, потом ее процеживали, сливали в мед, уже сваренный
прежде с дрожжами, хмелем, и запечатывали.
Ставленые меды приготовлялись, как квасы, но с дрожжами
или хмелем и потому отличались от квасов своим охмеляющим
свойством. Ставленый ягодный мед был прохладительный и при-
77
ятный напиток. Его делали обыкновенно летом из малины,
смородины, вишен, яблок и прочего. В посудину клали свежих спелых
ягод, заливали ъодою (вероятно, отварною) и давали стоять до тех
пор, пока вода не принимала вкуса и цвета ягод (дня-два или
три), потом сливали воду с ягод и клали в нее отделенного от
воска чистого меда, наблюдая, чтобы выходило по кружке меда на
две или на три воды сообразно желанию придать напитку более
или менее сладости, потом бросали туда несколько кусков печеной
корки, дрожжей и хмеля и, когда смесь эта начинала вскисать,
хлеб вынимали прочь, чтоб она не приняла хлебного вкуса, мед
на дрожжах оставляли от пяти до восьми дней в теплом месте, а
потом- снимали и ставили в холодное. Некоторые бросали туда
пряности: гвоздику, кардамон, имбирь. Мед ставленый держался
в засмоленных бочонках и был иногда до того крепок, что сшибал
с ног.
К разряду прохладительных напитков относится березовый
сок, или березовец, добываемый в апреле из берез.
Русская водка делалась из ржи, пшеницы, ячменя. Водка
вообще называлась вином и разделялась на сорта:
обыкновенная водка носила название простого вина; лучше этот
сорт назывался вином добрым; еще выше -— вином боярским;
наконец, еще более высший сорт было вино двойное,
чрезвычайно крепкое. Некоторые употребляли тройную и даже
четвертную, то есть четыре раза перегнанную водку, и
умирали .от нее. Кроме этих водок делалась водка сладкая,
насыщенная патокой; эта водка назначалась единственно для
женского пола. Хозяева настаивали водку на всевозможнейших
пряностях и разных душистых травах; настаивали на корице,
мяте, горчице, зверобое, бадяге, амбре, селитре, померанцевой
и лимонной корках, можжевельнике и делали наливки на
разных ягодах. Русские пили водку не только перед обедом,
но и во время обеда, и после него, и во всякое время дня.
Иностранные вина в XVI веке употреблялись только в
знатных домах, и то в торжественных случаях; но по мере
того, как торговля стала нас более и более знакомить с
европейскою жизнию, употребление виноградных вин
распространилось между зажиточными людьми, а в XVII веке
явились в Москве погреба, где не только продавали вино,
но куда сходились пить веселые компании. Из вин в большем
употреблении были: греческое, церковное, мальвазия, бастр,
алкан, венгерское, белое и красное французское, рейнское,
романея. Иногда в вина русские примешивали пряности. .
У зажиточных хозяев напитки хранились в ледниках или
подвалах, которых было иногда несколько при доме. Они имели
разные отделы, в которых ставили бочки, летом во льду. Бочки были
беременные или полубеременные. Вместимость тех и других не
всегда и не везде была одинакова, вообще же можно положить
беременную бочку в тридцать, а полубеременную в пятнадцать
ведер. В монастырских подвалах бочки отличались своею огром-
ностию, например, в три сажени в длину и в две в ширину; они
78
никогда не сдвигались со своего места, а питье пропускалось в
них и добывалось из них через отверстие, проделанное в своде
погреба. Напитки наливали из бочки сначала в оловяники или
мерники — большую посуду, потом уже разливали для подачи к
столу в меньшие сосуды.
В числе разных напитков при Михаиле Федоровиче появился
в России, как редкость и новость, чай. Первый раз чай был
прислан в дар Михаилу Федоровичу от монгольского государя. Во
второй половине XVII века знатные лица употребляли его как
лекарство и приписывали ему целительную силу, не предвидя, что
этот напиток отдаленного народа сделается со временем
национальным русским питьем.
XI
Образ домашней жизни
Предки наши, как знатные, так и простые, вставали рано:
летом с восходом солнца, осенью и зимою — за несколько часов
до света. В старину счет часов был восточный, заимствованный
из Византии вместе с церковными книгами. Сутки делились на
дневные и ночные часы; час солнечного восхода был первым часом
дня; час заката-— первым часом ночи. Само собою разумеется,
что при таком времяисчислении количество дневных и ночных
часов на самом деле могло быть одинаково и равно только во время
равноденствия, а потому это время и принималось за норму: из
двадцати четырех суточных часов двенадцать относили к дню, а
другие двенадцать к ночи; несмотря на то, что на самом деле во
время летнего солнцестояния число дневных, а во время
зимнего — число ночных часов доходило' до семнадцати. Седьмой час
утра по нашему часоисчислению был первым часом дня; седьмой
час вечера — первым часом ночи. Исчисление это находилось в
связи с восточным богослужением: на исходе ночи отправлялась
заутреня; богослужебные часы: первый, третий, шестой и девятый
знаменовали равноименные дневные часы, а вечерня — окончание
дня. Русские согласовали свой домашний образ жизни с
богослужебным порядком и в этом- отношении делали его похожим на
монашеский. Разумеется, что такой порядок мог иметь место
только там, где спокойная и обеспеченная жизнь на одном месте
позволяла располагать временем по произволу.
Вставая от сна, русский тотчас искал глазами образ, чтобы
перекреститься и взглянуть на него; сделать крестное знамение
считалось приличнее, смотря на образ; в дороге, когда русский
ночевал в поле, он, вставая от сна, крестился, обращаясь на
восток. Тотчас, если нужно было, после оставления постели
надевалось белье и начиналось умыванье; зажиточные люди мылись
мылом и розовой водой. После омовений и умываний одевались и
приступали к молению.
79
Если день был праздничный, тогда шли к заутрене, и
благочестие требовало, чтобы встать еще ранее и придти в церковь со
звоном еще до начала служения заутрени. Если же день был
простой или почему-нибудь нельзя было выходить, хозяин совершал
должное богослужение по книге, когда умел грамоте.
В комнате, предназначенной для моления, — крестовой или,
если ее не было в доме, то в той, где стояло побольше образов,
собиралась вся семья и прислуга; зажигались лампады и свечи;
курили ладаном. Хозяин как домовладыка читал пред всеми вслух
утренние молитвы; иногда читались таким образом заутреня и
часы, смотря по степени досуга, уменья и благочестия; умевшие петь
пели. У знатных особ, у которых были свои домашние церкви и
домовые священнослужители, семья сходилась в церковь, где
молитвы, заутреню и часы служил священник, а пел дьячок,
смотревший за церковью или часовней, и после утреннего
богослужения священник кропил святою водою.
Окончив молитвословие, погашали свечи, задергивали
пелены на образах и все расходились к домашним занятиям.
Там, где муж жену допускал до управления домом, хозяйка
держала с хозяином совет, что делать в предстоящий день,
заказывала кушанье и задавала на целый день уроки в
работах служанкам. В таких домах на хозяйке лежало много
обязанностей. Она должна была трудиться и показывать собою
пример служанкам, раньше всех вставать и других будить,
позже всех ложиться: если служанка будит госпожу, это
считалось не в похвалу госпоже. При такой деятельной жене
муж ни о чем не заботился по домашнему хозяйству; жена
должна была знать всякое дело лучше тех, которые работали
по ее приказанию: и кушанье сварить, и кисель поставить,
и белье выстирать, и выполоскать, и высушить, и скатерти,
и полавочники постлать, и таким своим уменьем внушала к
себе уважение. Но не всех жен уделом была такая деятельная
жизнь; большею частью жены знатных и богатых людей по
воле мужьев вовсе не мешались в хозяйство; всем заведывали
дворецкий и ключник из холопов. Такого рода хозяйки после
утреннего моления отправлялись в свои покои и садились за
шитье и вышивание золотом и шелками со своими
прислужницами; даже кушанье к обеду заказывал сам хозяин
ключнику. Ключник не всегда спрашивал об этом хозяина, а
знал наперед, что следует готовить по годовой росписи;
обыкновенно в таком случае ключник получал от хозяина деньги
на известный срок и по истечении срока отдавал отчет. В
утреннее время считалось нужным обойти службы. Хозяин
навещал конюшню, ходил по стойлам, смотрел: постелена ли
под ногами лошадей солома, заложен ли им корм, приказывал
пред своими глазами давать лучшим лошадям овса, а
страдным (то есть рабочим) овсяной муки или невейницы,
приказывал проводить лошадей перед собою к желобам,
устроенным вблизи конюшни для водопоя; потом заходил в
хлевы: коровий, свиной, птичий, приказывал скотникам при-
80
гнать несколько отборны* штук скота, кормил их из своих
рук и посыпал зерно курам и гусям, потому что когда сам
хозяин из своих рук кормит их, их плодородие умножается.
Иногда, воротившись после такого обзора, хозяин призывал
дворецкого, заведывавшего всеми кладовыми и надворными
строениями, и слушал его доклады; когда нужно было, то
осматривал с ним что-нибудь, давал распоряжения к
домашним работам, разбирал дела между слугами. После всех
домашних распоряжений хозяин приступал к своим обычным
занятиям: купец отправлялся в лавку, ремесленник брался за
свое ремесло, приказные люди наполняли приказы и
приказные избы, а бояре в Москве стекались к царю и занимались
делами. Приступая к началу дневного занятия, будь то
приказное писательство или черная работа, русский считал при^-
личным вымыть руки, сделать пред образом три крестных
знамения с земными поклонами, а если предстоит случай
или возможность, принять благословение священника.
В десять часов по нашему счету (в шестом часу дня»)
служились обедни. По духу времени в те времена цари в
сопровождении бояр и думных людей всякий день ходили в
церковь, да и частные люди, кроме воскресных и
праздничных дней, при первой возможности хаживали к обедне и в
будни, особенно в пятницы и субботы; всякий же церковный
праздник толпа народа наполняла храмы, но текущие дела,
однако, не прерывались от этого.
В полдень наступало время обеда. Холостые лавочники, парни
из простонародья, холопы, приезжие в городах и посадах
наполняли харчевни: люди домовитые садились за стол дома или у
приятелей в гостях. Цари и знатные люди, живя в особых покоях
в своих дворах, обедали отдельно от прочих членов семьи: жены
с детьми трапезовали особо; но незнатные дворяне, дети боярские,
посадские и крестьяне — хозяева оседлые ели вместе с женами и
с прочими членахми семьи; иногда семейные члены, составлявшие
со своими семьями одно семейство с хозяином, обедали от него и
особо; во время же званых обедов особы женского пола никогда не
обедали там, где сидел хозяин с гостями. Стол накрывался ска-^
тертью, но не всегда это соблюдалось: очень часто люди незнатные
обедали без скатерти и ставили на голый стол соль, уксус, перец
и клали ломтями хлеб. Двое домашних служебных чинов заведы-
вали порядком обеда в зажиточном доме: ключник и дворецкий.
Ключник находился в поварне при отпуске кушаний,,
дворецкий — при столе и при поставце с посудой, стоявшей всегда
против стола в столовой. Несколько слуг носили кушанья из поварни;
ключник и дворецкий, принимая их, разрезали на куски,
отведывали и тогда уже отдавали слугам ставить пред господином и
сидевшими за столом.
В обычном царском быту кушанье прежде всего отведывал
повар в присутствии дворецкого, который являлся за каждою
переменою с толпою жильцов; сдав кушанье жильцам, дворецкий шел
впереди их в столовую и передавал кравчему, который также от-
4 Заказ 15 81
ведывал и ставил пред царем. Обыкновенно кушанье подавали
разрезанное на тонкие куски, так что можно было взять их в руки
и понести в рот; от этого тарелки, поставленные в начале обеда
перед обедавшими, не переменялись, потому что каждый брал
руками с стоявшего пред гостями блюда куски и клал в рот, касатв-
шись своей тарелки только тогда, когда случалось бросать на нее
обгрызанную кость. Жидкое кушанье иногда подавалось на двоих
или на троих человек в одной миске, и все ели из нее своими
ложками.
Прежде всего пили водку и закусывали хлебом, потом
подавали в скоромные дни холодные кушанья, состоящие из вареного
мяса с разными приправами, потом ели горячие, потом жареные,
а далее разные взвары, за ними молочные кушанья, лакомые
печенья и, наконец, овощные сласти. В постные дни тем же
порядком подавали холодную рыбу или капусту, потом жидкие
кушанья, далее жареную рыбу, взвары и, наконец, овощи. На
званых обедах было иногда чрезвычайное множество кушаний — до
сорока и до пятидесяти перемен. Слуги, подававшие кушанья,
назывались стряпчими.
После обеда хозяин пересматривал посуду и, находя все в
порядке, хвалил дворецкого и стряпчих, потчевал их хмельным,
иногда всех дарил, и вся прислуга обыкновенно обедала после
господского стола.
После обычного обеда ложились отдыхать. Это был
повсеместный и освященный народным уважением обычай.
Спали, пообедавши, и цари, спали бояре, спали купцы, затворив
свои лавки; уличная чернь отдыхала на улицах. Не спать
или по крайней мере не отдыхать после обеда считалось в
некотором смысле ересью, как всякое отступление от обычаев
предков. Известно, что в числе подозрений, обличавших в
Самозванце нецарское происхождение и уклонение к
латинской вере, было и то, что он не спал после обеда. Этот
отдых был тем необходимее, что обыкновенно русские люди
любили очень плотно покушать, имея возможность и достаток.
Вставши от послеобеденного сна, русские опять принимались
за обычные занятия. Цари ходили к вечерне, а часов с шести
вечера по нашему счету предавались уже забавам и беседам.
Впрочем, смотря по важности дела, иногда бояре собирались во
дворец и вечером, сидели там за делами часов около трех. В
приказах собирались по вечерам. В 1669 году постановлено правилом,
чтоб приказные люди сидели с первого до восьмого часа ночи, так
как это было зимою, то, вероятно, до десяти часов по нашему
счету, считая первым часом ночи не седьмой час суточного
деления, сообразно восточно-византийскому исчислению, а четвертый,
когда ночь действительно наступала в Москве. Вечер в домашнем
быту был временем развлечений; зимою собирались друг к другу
родные и приятели в домах, а летом в палатках, которые нарочно
раскидывались перед домами. Русские всегда ужинали, а после
ужина благочестивый хозяин отправлял вечернее моление. Снова
затепливались лампады, зажигались свечи перед образами; домо-
82
чадцы и прислуга собирались на моление. После такого молитвос-
ловия считалось уже непозволительным есть и пить: все скоро
ложились спать. Сколько-нибудь зажиточные супруги имели
всегда особые покои с тою целью, чтобы не спать вместе в ночи пред
Господскими праздниками, воскресеньями, средами и пятками и
в посты. В эти ночи благочестивые люди вставали и тайно
молились пред образами в спальнях; ночная молитва считалась
приятнее Богу, чем дневная: «Тогда бо нощию ум ти есть легчае к
Богу и могут тя убо на покаяние обратити нощныя молитвы паче
твоих дневных молеб... и паче дневных молеб приклонит ухо свое
Господь в нощныя молитвы». Впрочем, некоторые старинные
духовные поучения не обязывали супругов удаляться от общего ложа
в посты Петровский и Рождественский: «А в Петрово говенье и в
Филиппово невозбранно мужем с своими женами совокуплятися,
развее блюсти среду, пяток и субботу и неделю и Господских
праздников». На Святой неделе цари обыкновенно опочивали
отдельно от цариц, и когда царю угодно было спать вместе с
царицею, то последней давалось об этом знать заранее и назначалось:
или приходить к царю, или царя к себе ожидать, а на другой день
оба ходили в мыльню. Так наблюдалось между всеми более или
менее и вообще считалось необходимым после ночи, проведенной
супругами вместе, ходить в баню прежде, чем подойти к образу.
Набожные люди почитали себя недостойными, даже и омывшись,
на другой день вступить в церковь и стояли перед дверьми храма,
хотя через это и подвергались двусмысленным взглядам, а иногда
и замечаниям молодых людей, которые догадывались, что это
значило.
Русские вообще ходили в баню очень часто; она была
первою потребностью в домашней жизни, как для
чистоплотности, так и для какого-то наслаждения. Почти в каждом
зажиточнбм доме была своя мыльня, как уже сказано об
этом; сверх того для простонародья и для приезжих всегда
по городам существовали общественные, или царские, мыльни,
где за вход платили деньги, составлявшие во всем государстве
ветвь царских доходов. По известию Котошихина, каждогодно
собиралось таким образом до двух тысяч рублей со всех
мылен, находившихся в ведомстве Конюшенного . дворца.
Мыльни вообще топились каждую неделю один, а иногда и
два раза. В летние жары запрещалось их топить в
предупреждение пожаров, с некоторыми исключениями для больных
и родильниц, по воле воевод. Тогда-то особенно наполнялись
царские мыльни; впрочем, запрещение топить свои
собственные касалось более посадских и крестьян; - люди высшего
значения всегда пользовались исключением. Баня для русского
была такою необходимостью, что по поводу запрещения топить
их жители грозили правительству разбрестись врозь из своих
домов.
Обыкновенно ходили в мыльню после обеда, не страшась от
этого вредных последствий. Жар был нестерпимый. На скамьях и
полках постилалось сено, которое покрывали полотном. Русский
4* 83
ложился на него и приказывал себя бить до усталости, потом
выбегал на воздух и бросался летом в озеро или реку, подле
которых обыкновенно строились мыльни, а зимой катался по снегу
или обливался холодною водою на морозе. Всегда, кто ходил в
мыльню, тот и парился: это было всеобщим обычаем. В
общественных мыльнях было два отделения, мужское и женское; они
отделялись одно от другого перегородками, но вход и в то, и в
другое был один; и мужчины, и женщины, входя и выходя в одну
дверь, встречались друг с другом нагишом, закрывались вениками
и без особенного замешательства разговаривали между собою, а
иногда разом выбегали из мыльни и вместе катались по снегу. В
более отдаленную старину было в обычае и мужчинам, и
женщинам мыться в одной мыльне, и даже чернецы и черницы мылись
и парились вместе.
Жившие в Москве немцы заимствовали от русских их мыльни,
но придали им более комфорта. Эти мыльни приобрели в Москве
славу. Вместо голых скамей у них были тюфяки, набитые
пахучими травами; предбанники были особые и чистые, где можно
было удобно раздеваться и одеваться; такого удобства нельзя было
встретить в русских банях. После мытья обтирали и клали в
постель; тут женщина приносила мед для подкрепления.
Баня была самым главным лекарством от всяких болезней:
коль скоро русский почувствует себя нездоровым, тотчас выпьет
водки с чесноком или перцем, закусит луком и идет в баню
париться.
Для простого народа баня была школой той удивительной
нечувствительности ко всем крайностям температуры, какою
отличались русские, удивляя этим иностранцев. Но что
касается до высших классов общества, то при сидячей жизни
бани порождали бездействие и изнеженность; в особенности
женщины высшего состояния отличались этим и казались
хилыми и брюзглыми.
XII
Здоровье и болезни
■ В русском образе жизни было соединение крайностей,
смесь простоты и первобытной свежести девственного народа
с азиатскою изнеженностью и византийскою
расслабленностью. Когда знатный человек одевался весь в золото и
жемчуг, едал на серебре и заставлял подавать себе десятки
кушаний за раз, деревенский бедняк во время частых
неурожаев ел хлеб из соломы или из лебеды, коренья и
древесную кору. Когда знатные женщины и девицы не
занимались даже хозяйством и, осужденные на бездействие,
только для того, чтобы убить томительную скуку своих горниц
и повалуш, брались за вышиванье убрусов и церковных
84
облачений, крестьянские женщины работали вдвое более своих
мужьев. С одной стороны, достоинством всякого значительного
человека поставлялась недеятельность, изнеженность,
неподвижность; с другой стороны, русский народ приводил в
изумление иностранцев своею терпеливостью, твердостью,
равнодушием ко всяким лишениям удобств жизни, тяжелым для
европейца, умеренно трудолюбивого, умеренно терпеливого , и
знакомого с правильным и расчетливым комфортом. С детства
приучались русские переносить голод и стужу. Детей
отнимали от грудей после двух месяцев и кормили грубою пищей;
ребятишки бегали в одних рубашках без шапок, босиком по
снегу в трескучие морозы; юношам считалось неприличным
спать на постели, а простой народ, как уже было замечено,
вообще не знал, что такое постель. Посты приучали народ
к грубой и скудной пище, состоявшей из кореньев и дурной
рыбы; живучи в тесноте и дыму, с курами и телятами,
русский простолюдин получал нечувствительную, крепкую
натуру. На войне русские удивляли врагов своим терпением:
никто крепче русского не мог вынести продолжительной и
мучительной осады при лишении самых первых потребностей,
при стуже, голоде, зчое, жажде. Подвиги служилых русских
людей, которые открыли сибирские страны в XVII веке,
кажутся невероятными. Они пускались в неведомые края со
скудными запасами, нередко еще испорченными от дороги,
истратив их, принуждены бывали по нескольку месяцев сряду
питаться мхом, бороться с ледяным климатом, дикими
туземцами, зимовать на Ледовитом море, а по возвращении из
такого тяжелого путешествия нередко в благодарность были
обираемы и оскорбляемы воеводами. • Но как ни
противоположным кажется образ жизни знатных и простых, богатых
и бедных, натура и у тех, и у других была одна: пусть
только бедному простаку поблагоприятствует счастье, и он
тотчас усвоит себе неподвижность, тяжеловатость, обрюзглость
богатого или знатного лица; зато знатный и богатый, если
обстоятельства поставят его в иное положение, легко
свыкнется с суровой жизнью и трудами. Прихоти были огромны,
но не сложны и не изысканны. С одинаковым воззрением
на жизнь, с теми же верованиями и понятиями, как у
простолюдинов, знатные люди не успели отделиться от массы
народа и образовать замкнутое в себе сословие. Посты имели
в этом отношении благодетельное влияние на нравственность
и на поддержку основ равенства в народе; посты не давали
богачу утопать в обжорстве и сластолюбии, до невозможности
снизойти к убогому столу простолюдина. В посты царь ел
одну пищу с крестьянином. Небезопасное положение края,
частые войны, неудобства путей и затруднительность
сообщения между частями государства не допускали высшие слои
русского народа опуститься в восточную негу, они всегда
должны ожидать слишком внезапной разлуки с своими
теплыми домами и потому не могли к ним пристраститься;
85
слишком часто приходилось голодать им поневоле, чтоб быть
не в силах обходиться без пряностей и медов; слишком
повсеместно встречали смерть, чтобы дорожить вялою жизнью.
С другой стороны, в простолюдине, даже в его нищете,
проглядывала наклонность к восточной изнеженности и
вялости, одолевавшей богачей: русский мужик любил поспать,
покачаться на печке, понежиться и, если удивлял иностранцев
терпением, то не отличался сознательным трудолюбием.
При способности и готовности переносить труды и
лишения русский народ, хотя не отличался долговечностью, но
пользовался вообще хорошим здоровьем. Из болезней только
эпидемические наносили иногда значительные опустошения,
потому, что меры против них были слабы и ограничивались
неискусным старанием не допустить распространения заразы
с места на место. Моровые поветрия нередко оставляли
ужасные следы по всей России. Из обыкновенных болезней,
которым русские чаще всего подвергались, были
геморроидальные, столь свойственные нашему климату, упоминаемые
в старину под разными наименованиями припадков головной
боли, течения крови, запоров (заклад), болей в спине и тому
подобное. Нервные болезни, если не были слишком часты,
зато обращали внимание своими явлениями: эпилептические,
каталептические, истерические припадки приписывались порче
и влиянию таинственных сил, при посредстве злых духов;
болезни эти имели разные народные наименования, как,
например: камчюг, френьчуг, беснование, расслабление,
трясение, икота и прочее; некоторые случаи происходили от
действительных болезней, иные от воображения. В XVI веке
занесена в Россию сифилитическая болезнь, а в следующем
столетии она довольно распространилась и наносила
опустошения в черном народе. Простудные болезни редко поражали
русского, приученного к переменам воздуха и температуры.
Как особые случаи упоминаются в старину: каменная болезнь,
отек, сухотка, грыжа, зубная боль, глухота, немота, слепота,
шелуди, происходившие от неопрятности, которая нередко
порождала и другие .болезни, так, например, имела вредное
влияние на зрение. Вообще от болезней искали средств более
всего в церковных обрядах и прибегали также к травникам,
составлявшим класс самоучек-лекарей, отдавались им часто с
чрезвычайным легковерием. Ученые медики были иностранцы
и находились только при царском дворе, и то в небольшом
количестве. При Иване Васильевиче лекарь-иноземец был
необходимым лицом для царя, но лечиться у него частным
лицам было можно не иначе, как подавши челобитную об
этом. То же соблюдалось долго и впоследствии, когда число
врачей при дворе увеличилось. При Михаиле Федоровиче в
Москве существовала одна аптека, из которой отпускались
лекарства по челобитным, и притом так, что тем, которые
были не очень значительны, отпускалось и по челобитной не
то, что нужно, а то, что дешевле стоило, не обращая
86
внимания, могло ли оно принести действительную пользу.
Иногда лекари отправлялись на войну с лекарством и там
вообще мало приносили пользы. При Алексее Михайловиче в
Москве были две аптеки, но только из одной продавали
жителям лекарства, и 'то по высоким ценам, а потому эта
аптека гораздо менее приносила дохода казне, чем стоявший
рядом с нею кабак. Разумеется, врачи, призываемые из-за
границы, не всегда были хороши, и по зову русского царя
отважно спешили в Россию шарлатаны. Поэтому было
определено, чтоб врач, приезжающий в Россию, прежде в по-
граничном городе показал степень своего искусства и вылечил
кого-нибудь. Медики, жившие при дворе, были чрезвычайно
стеснены обычаями и предрассудками. В их занятиях не
уважали науки, не ставили их искусства выше знахарского.
Часто сами цари обращались к травникам и знахарям, как
бы в укор медикам, состоявшим при их дворе. Когда медик
пользовал особу женского пола, принадлежащую к царскому
семейству, для него не нарушались строгие восточные
церемонии, всегда окружавшие эту особу. Медик должен был
пользовать больную и угадывать болезнь, не видя ее лично,
а единственно следуя рассказам прислужницы. Если при
таком способе лечения он ошибется, ему ставили ошибку в
вину. Ему не дозволяли узнать действие лекарства на
организм больной: если с одного приема болезнь не облегчилась,
по понятиям русских, это значило, что лекарство не поможет,
медику приказывали давать • другое и не дозволяли повторять
одного и того же несколько раз. Что касается до народа,
то вообще он не верил иноземным врачам. Духовенство
признавало грехом лечиться у человека неправославной веры и
в особенности вооружалось против медиков-евреев, так что в
XVI веке русский за то, что прибегал к пособию еврея,
подвергался отлучению от церкви. Время, однако, брало свое
и в этом отношении: при Алексее Михайловиче, при царе
столь набожном, один из придворных медиков был еврей.
XIII
Семейные нравы
Все иностранцы поражались избытком домашнего деспотизма
мужа над женою. В Москве, замечает один путешественник, никто
не унизится, чтоб преклонить колено пред женщиною и воскурить
пред нею фимиам. По законам приличия, порожденным
византийским аскетизмом и глубокою татарскою ревностью, считалось
предосудительным даже вести с женщиною разговор. Вообще
женщина считалась существом ниже мужчины и в некоторых
отношениях нечистым; таким образом, женщине не дозволялось резать
животное: полагали, что мясо его не будет тогда вкусно. Печь
87
просфоры позволялось только старухам. В известные дни
женщина считалась недостойною, чтоб с нею вместе есть.
В одном старинном поучении так отзываются о
прекрасном поле: «Что есть жена? сеть утворена прелыцающи
человека во властех, светлым лицем убо и высокими очима
намизающи, ногама играющи, делы убивающи, многы бы
уязвивши низложи, темже в доброти женстей мнози
прельщаются и от того любы яко огнь возгорается... Что есть
жена? святым обложница, покоище змиино, диавол увет, без
увета болезнь, поднечающая сковрада, спасаемым соблазн,
безисцельная злоба, купница бесовская». Русская женщина
была постоянною невольницею с детства до гроба. В
крестьянском быту, хотя она находилась под гнетом тяжелых работ*
хотя на нее, как на рабочую лошадь, взваливали все, что
было потруднее, но по крайней мере не держали взаперти.
У казаков женщины пользовались сравнительно большею
свободой: жены казаков были их помощницами и даже ходили
е ними в походы. У знатных и зажиточных людей
Московского государства женский пол находился взаперти, как в
мусульманских гаремах. Девиц содержали в уединении, ук^
рывая от человеческих взоров; до замужества мужчина должен
быть им совершенно неизвестен; не в нравах народа было,
чтоб юноша высказал девушке свои чувства или испрашивал
лично ее согласия на брак. Самые благочестивые люди были
того мнения, что родителям следует бить почаще девиц, чтобы
они не утратили своего девства. Чем знатнее был род, к
которому принадлежала девица, тем более строгости ожидало
ее: царевны были самые несчастные из русских девиц;
погребенные в своих теремах, не смея, показываться на свет,
без надежды когда-нибудь иметь право любить и выйти
замуж, они, по выражению, Котошихина, день и ночь всегда
в молитве пребывали и лица свои умывали слезами. При
отдаче замуж девицу не спрашивали о желании; она сама
не знала, за кого идет, не видела своего жениха до
замужества, когда ее передавали в новое рабство. Сделавшись
женою, она не смела никуда выйти из дома без позволения
мужа, даже если шла в церковь, и тогда обязана была
спрашиваться. Ей не предоставлялось права свободного
знакомства по сердцу и нраву, а если дозволялось некоторого
рода обращение с теми, с кем мужу угодно было позволить
это, то и тогда ее связывали наставления и замечания: что
говорить, о чем умолчать, что спросить, чего не слышать.
В домашнем быту ей не давали права хозяйства, как уже
сказано. Ревнивый муж приставлял к ней шпионов из
служанок и холопов, а те, желая подделаться в милость
господину, нередко перетолковывали ему все в другую сторону
каждый шаг своей госпожи. Выезжала ли она в церковь или
в гости, неотступные стражи следили за каждым ее
движением и обо всем передавали мужу. Очень часто случалось,
что муж по наговору любимого холопа или женщины бил
88
свою жену из одного только подозрения. Даже и тогда, когда
муж поручал жене смотреть за хозяйством, она была не
более, как ключница: не смела ни послать чего-нибудь в
подарок другим, ни принять от другого, не смела даже сама
без дозволения мужа съесть или выпить. Редко дозволялось
ей иметь влияние на детей своих, начиная с того, что
знатной женщине считалось неприличным кормить грудью
детей, которых поэтому отдавали кормилицам; мать
впоследствии имела над ними менее надзора, чем няньки и дядьки,
которые воспитывали господских детей под властью отца
семейства^ Обращение мужьев с женами было таково: по
обыкновению у мужа висела плеть, исключительно назначенная
для? жены и называемая дураком; за ничтожную вину муж
таскал жену за волосы, раздевал донага, привязывал
веревками и сек дураком до крови ~ это называлось учить жену;
у иных мужьев вместо плети играли ту же роль розги, м
жену секли, как маленького ребенка, а у других, напротив,
дубина —• и жену били, как скотину. Такого рода обращение
не только не казалось предосудительным, но еще вменялось
мужу в нравственную обязанность. Кто не бил жены, о том
благочестивые люди говорили, что он дом свой не строит и
о своей душе не радеет и сам погублен будет и в сем
веке, и в будущем, и дом свой погубит. «Домострой»
человеколюбиво советует не бить жены кулаком по лицу, по
глазам, не бить ее вообще железным или деревянным
орудием, чтобы не изувечить или не допустить до выкидыша
ребенка, если она беременна; он находит, что бить жену
плетью и разумно, и больно, и страшно, и здорово. Эта
нравственное правило проповедывалось православною церковью,
и самим царям при венчании митрополиты и патриархи
читали нравоучения о безусловной покорности жены мужу.
Привыкшие к рабству, которое влачить суждено было им от
пеленок до могилы, женщины не имели понятия о возмож7
ности иметь другие права и верили, что они в самом деле
рождены для того, чтоб мужья их били, и даже самые, побои
считали признаком любви. Иностранцы рассказывают
следующий любопытный анекдот, переходящий из уст в уста в
различных вариациях. Какой-то итальянец женился на
русской и жил с нею несколько лет мирно и согласно, никогда
не бивши ее и не бранивши. Однажды она говорит ему:
«За что ты меня не любишь?» «Я люблю тебя», — сказал
муж и поцеловал ее. «Ты ничем не доказал мне этого», —
сказала жена. «Чем же тебе доказать?» — спрашивал он.
Жена отвечала: «Ты меня ни разу не бил». «Я этого не
знал, — говорил муж, — но если побои нужны, чтоб
доказать тебе мою любовь, то за этим дело не станет». Скоро
после того он побил ее плетью и в самом деле заметил,
что после того жена стала к нему любезнее и услужливее.
Он поколотил ее в другой раз так, что она после того
несколько времени пролежала в постели, но однако не роп-
89
тала и не жаловалась. Наконец, в третий раз он поколотил
ее дубиною так сильно, что она после того через несколько
дней умерла. Ее родные подали на мужа жалобу; но судьи,
узнавшие все обстоятельства дела, сказали, что она сама
виновата в своей смерти; муж не знал, что у русских побои
значат любовь, и хотел доказать, что любит сильнее, чем
все русские; он не только из любви бил жену, но и до
смерти убил. Женщины говорили: «Кто кого любит, тот того
лупит, коли муж не бьет, значит, не любит»; пословицы эти
и до сих пор существуют в народе, так же, как и
следующая: «Не верь коню в поле, а жене на воле»»
показывающая, что неволя считалась принадлежностью женского
существа. Иногда родители жены при отдаче ее замуж
заключали письменный договор с зятем, чтобы он не бил
жены. Разумеется, это исполнялось неточно. Положение жены
всегда было хуже, когда у нее не было детей, но оно
делалось в высшей степени ужасно, когда муж, наскучив
ею, заводил себе на стороне любезную. Тут не было конца
придиркам, потасовкам, побоям; нередко в таком случае муж
заколачивал жену до смерти и оставался без наказания,
потому что жена умирала медленно и, следовательно, нельзя
было сказать, что убил ее он, а бить ее, хотя по десяти
раз на день, не считалось дурным делом. Случалось, что
муж таким образом приневоливал ее вступить в монастырь,
как свидетельствует народная песня, где изображается такого
рода насилие. Несчастная, чтобы избежать побоев, решалась
на добровольное заключение, тем более что в монастыре у
нее было больше свободы, чем у дурного мужа. Если бы
жена заупрямилась, муж, чтоб разлучиться с
немилою-постылою, нанимал двух-трех негодяев —- лжесвидетелей, которые
обвиняли ее в прелюбодеянии; находился за деньги и такой,
что брал на себя роль прелюбодея: тогда жену насильно
запирали в монастырь.
Не всегда, однако, жены безропотно и безответно сносили
суровое обращение мужьев, и не всегда оно оставалось без
наказания. Иная жена, бойкая от природы, возражала мужу
на его побои бранью, часто неприличного содержания. Были
примеры, что жены отравляли своих мужьев, и за это их
закапывали живых в землю, оставляя снаружи голову, и
держали в таком положении до смерти; им не давали есть
и пить, и сторожа стояли при них, не допуская, чтобы
кто-нибудь из сострадания покормил такую преступницу.
Прохожим позволялось бросать деньги, но эти деньги
употреблялись на гроб для осужденной или на свечи для
умилостивления Божьего гнева к ее грешной душе. Впрочем,
случалось, что им оставляли жизнь, но заменяли смерть
вечным жестоким заточением. Двух таких преступниц за
отравление мужьев держали трое суток по шею в земле, но
так как они попросились в монастырь, то их откопали и
отдали в монастырь, приказав держать их порознь в уеди-
90
нении и в кандалах. Другие жены мстили за себя доносами.
Как ни безгласна была жена пред мужем, но точно так же
были мужья безгласны пред царем. Голос жены, как и голос
всякого, и в том числе холопа, принимали в уважение, когда
дело шло о злоумышлении на особу царского дома или о
краже царской казны. Иностранцы рассказывают
замечательное событие: жена одного боярина по злобе к мужу, который
ее бил, доносила, что он умеет лечить подагру, которою царь
тогда страдал; и хотя боярин уверял и клялся, что не знает
этого вовсе, его истязали и обещали смертную казнь, если
он не сыщет лекарства для государя. Тот в отчаянии нарвал
каких попало трав и сделал из них царю ванну; случайно
царю после того стало легче, и лекаря еще раз высекли за
то, что он, зная, не хотел говорить. Жена взяла свое. Но
еще случалось, что за свое унижение женщины отомщали
обычным своим способом: тайною изменою. Как ни строго
запирали женщину, она склонна была к тому, чтоб положить
мужа под лавку, как выражались в тот век. Так и быть
должно. По свойству человеческой природы рабство всегда
рождает обман и коварство.
У зажиточных домовитых людей все было так устроено,
что, казалось, невозможно сблизиться мужчине с их женами;
однако примеры измен таких • жен своим мужьям были не
редки. Запертая в своем тереме жена проводила время со
служанками, а от скуки вела с ними, как говорилось,
пустотные речи, пересмешные, скоромные и безлепичные1 и
приучалась располагать свое воображение ко всему
нецеломудренному. Эти служанки вводили в дом разных торговок,
гадальщиц, и в том числе таких женщин, которые назывались
лотворенными бабами, то есть, что «молодые жены с чужими
мужи сваживают». Эти соблазнительницы вели свое занятие
с правильностью ремесла и очень искусно внедрялись в дома,
прикидываясь чем угодно и чем нужно, даже набожными
богомолками. Всегда их можно было застать там, где
женщины и девки сходились, например: на реке, где мылось
белье, у колодца, куда ходили с ведрами, на рынках и тому
подобное. Заводили знакомство со служанками, а через них
доходили' и до госпож; такая искусница, коль скоро вотрется
в дом, непременно наделает там какой-нибудь беды: или саму
госпожу соблазнит, или же девку-служанку подманит
обокрасть госпожу и бежать с любовником, с которым нередко
вместе ограбят ее и даже утопят. Вот такого рода женщины
были пособницами волокит, и случалось так, что разом одна
тайно служила мужу от жены, а жене от мужа.
Хотя блудодеяние преследовалось строго нравственными
понятиями и даже в юридических актах блудники помещались в один
разряд с ворами и разбойниками, очень часто знатные бояре, кро-
От слова «безлепица», то есть нелепица, бессмыслица.
91
ме жен, имели у себя любовниц, которых доставляли им потво-
ренные бабы, да сверх того не считалось большим пороком
пользоваться и служанками в своем доме, часто насильно. По
известиям одного англичанина, один любимец царя Алексея
Михайловича завел у себя целый гарем любовниц, и так как его жена
была этим недовольна, то он почел лучшим отравить ее. Вообще
же мужчине и не вменялся разврат в такое преступление, как
женщине. Многие, чувствуя, что они грешат, старались
уменьшить тяжесть греха сохранением разных религиозных приличий,
-например, снимали с себя крест и занавешивали образа, готовясь
к грешному делу.
Женщина получала более уважения, когда оставалась
вдовою и притом была матерью. Тогда как замужняя не имела
вовсе личности сама по себе, вдова была полная госпожа и
глава семейства. Личность вдовицы охранялась религиозным
уважением. Оскорбить вдовицу считалось величайшим грехом.
«Горе обидевшему вдовицу, — говорит одно старое
нравоучение, — лучше ему в дом свой ввергнуть огонь, чем за
воздыхания вдовиц быть ввержену в геенну огненную».
Впрочем, как существу слабому, приученному с детства к
унижению и неволе, и тут не всегда приходилось ей отдохнуть.
Примеры непочтения детей к матерям были нередки. Бывало,
что сыновья, получив наследство после родителя, выгоняли
мать свою, и та должна была просить подаяния. Это не
всегда преследовалось, как видно из одного примера XVI
века, где выгнанной матери помещиков царь приказал уделить
на содержание часть из поместий ее мужа, но сыновьям,
как видно, не было никакого наказания. Иногда же,, напротив,
овдовевшая поступала безжалостно с детьми, выдавала дочерей
насильно замуж, бросала детей на произвол судьбы и тому
подобное.
Между родителями и детьми господствовал дух рабства,
прикрытый ложною святостью патриархальных отношений.
Почтение к родителям считалось, по нравственным понятиям,
ручательством здоровой, долгой и счастливой жизни. О том,
кто злословит родителей, говорилось: «Да склюют его вороны,
да съедят его орлы!». Была и есть в Руси пословица: «Отчая
клятва иссушит, матерняя искоренит». Впрочем, отец, как
мужчина, и в детском уважении пользовался предпочтением.
«Имей, чадо, — поучает отец сына, — отца своего, аки Бога,
матерь свою, аки сам себе». Несмотря на такие нравственные
сентенции, покорность детей была более рабская, чем детская,
и власть родителей над ними переходила в слепой деспотизм
без нравственной силы. Чем благочестивее был родитель, чем
более проникнут был учением православия, тем суровее
обращался с детьми, ибо церковные понятия предписывали ему
быть как можно строже: «Наказуй отец сына из млада, —
говорит одно старинное поучение, — учи его ранами бояться
Бога и творить все доброе, и да укоренится в нем страх
Божий, а если смолоду не научишь — большого как можно
92
научить». Слова почитались недостаточными, как бы они
, убедительны ни были, нужно учить детей «розгами, да не
приимеши про них ныне от человек сорома и будущих мук»;
и общее нравственное правило отцов в отношении к детям
выражалось в такой формуле; какую передает нам
благочестивый автор «Домостроя»: «Сына ли имаши, не дошед внити
в юности, но сокруши ему ребра; аще бо жезлом биеши
его, не умрет, но здрав будет, дщерь ли имаши • — положи
на ней грозу свою». Этот суровый моралист запрещает даже
смеяться и играть с ребенком.
XIV
Порядок домоправления
При малом развитии городской ремесленности и мелочной
торговли двор зажиточного человека не только в его вотчине,
но и построенный в самой Москве представлял подобие целого
города: там производились всевозможнейшие работы, нужные
для домашнего обихода; там ткали холсты, шили белье,
сапоги, платье, делали мебель и всякую деревянную утварь,
вышивали золотом и шелками. Все нужное для дома
обыкновенно покупалось оптом. Поставы материй и сукон
накоплялись в городских сундуках, так что доставало на много
лет, на целую жизнь и передавалось детям. У расчетливого
хозяина всегда был огромный запас разного съестного: хлеба,
соленого мяса, рыбы, сухарей, толокна, ветчины и прочего.
Благоразумный человек не только ничего не покупал врознь,
но иногда еще и продавал из остатков. Только незначительные
и бедные люди питались с рынка и платили в три раза
дороже, чем богачи, покупавшие все нужное оптом.
Когда у хозяина рождалась дочь, он для нее делал особый
сундучок или короб и откладывал туда каждый год всякого рода
имущество в счет будущего приданого, и в то же время
взращивали на ее долю скотину: все вместе называлось ее наделком. В
случае ее смерти до замужества наделок обращался на
поминовение души усопшей. Таким образом, с самого рождения члена
семейства приготовляли ему запас на жизнь.
Все в таком доме носило характер замкнутости и
разобщения со всем остальным. Все в нем старались покрыть
тайною для чужих. Ворота были заперты и днем, и ночью,
и приходящий должен был, по обычаю времени, постучаться
слегка и проговорить: «Господи Иисусе Христе, помилуй нас!»
•и потом дожидаться, пока ему скажут: «Аминь». По
нравственным понятиям века, честный человек должен был
стараться, чтобы никто не слыхал и не видал, что у него делается
во дворе, и сам не пытался узнавать, как живут в чужих
дворах. Все в доме и кладовых хранилось под замками.
93
Многое известно было одному только хозяину, как, например,
деньги, которые почитались драгоценнее вещей; так что
многие держали их не иначе, как зарытыми в землю, а иные
отдавали на сохранение в монастыри, что называлось
поклажею. Обилие домовитого двора и разобщение домашней жизни
от внешней совпадали с обычаем держать во дворах большое
население. Старинная неделимость семей соединяла иногда
несколько. боковых родственных линий около одного
родственника или старейшины. То были дети, братья, племянники
хозяина и даже более дальние его родственники, жившие с
ними не в разделе, смотря по обстоятельствам и желанию.
По смерти хозяина члены или соглашались продолжать жить
вместе, или старший дядя их отдавал ту часть, какая
следовала членам многочисленного семейства; тогда отделились
другие семьи и образовывали новые дворы. В некоторых
местах России этот обычай наблюдался в большем размере
и строже в своем основании, в других — слабее, так что
наследники спешили делиться и основывать новые семьи. В
новгородских областях дети обыкновенно делились отцовским
имуществом, но оставляли одну часть, общую для всех.
Обычай жить вместе с родственниками наблюдался более или
менее у всех сословий, менее у знатных людей, имевших
способы делиться скорее. У иных родственники, жившие при
дворе, входили в уровень с прислугою. Так, например, один
гость в 1696 году, нанимая сторожа, заключал с ним условие,
что он будет есть и пить с хозяйскими братьями. У крестьян
и у посадских этот обычай соблюдался при значительном
разветвлении рода; тогда, когда связь между родственниками
делалась уже слабою, они расходились, а иногда те, которые
беднели и поставляли себя в обязательное отношение к
главным хозяевам, нисходили на степень подсоседников,
приписанных к семье, но не составляли ее прямых членов.
Несмотря на кровное родство, обыкновенно мало было
ладу в семьях* и все члены большой семьи нередко жили
между собою во вражде. Зато дух общинности, столь
свойственный русскому нраву, не ограничивал таких скупов одним
родством, но соединял людей, не имевших между собою
кровных связей. Так, был пример, что несколько человек
соглашались и покупали один двор, совершив купчую на
общее имя, и двор принадлежал не одному лицу, а всем
вместе. Кроме родственников, при дворе знатного господина,
имевшего у себя домашнюю церковь, жил священник и был
вместе с тем как бы членом семьи. Если он был женат и
имел детей, то жил в особой избе и получал месячный
корм, а если был монах или вдовец, то пользовался обедом
вместе с хозяином. Сверх священника жил в таких дворах
крестовый дьяк домашней церкви, заведовавший ее
устройством. Наконец, в некоторых зажиточных домах жили сироты,
мальчики и девочки, которых благочестивые отцы семейств
воспитывали и обучали какому-нибудь занятию, а по дости-
94
жении совершеннолетия отпускали, что называлось
благословлять в мир.
Все это вместе уясняет систему построек старинных дворов,
заключавших в себе по нескольку изб. Но то, что составляло
общее достояние сколько-нибудь зажиточного человека, — это
множество слуг при дворе.
Богатые и знатные держали у себя огромное число прислуги
мужского и женского пола, иногда число их превышало пятьсот,
а у важных лиц доходило даже до тысячи. Господа измеряли честь
и значение свое огромным количеством дворни. Это были или
вечные проданные холопы, или сами себя с потомством продавшие в
. рабство, или военнопленные, или кабальные, то есть такие,
которые, занимая деньги, обязывались служить вместо платежа
процентов, или отданные в кабалу по суду за неплатеж долга, или
-беглые люди, или служилые и, наконец, чужие холопы и
крестьяне, перебегавшие от одного господина'к другому.
Всякий господин старался населить свой двор
преимущественно мастеровыми и вообще умелыми людьми. По их
занятиям и сведениям давались им должности. То были
повара, приспешники, хлебники, квасовары, портные, столяры,
сапожники, кузнецы, коновалы, швеи, сторожа и прочие. У
знатных господ были люди, вооруженные луками, стрелами
и самопалами, в белых и серых епанчах, в татарских
шапках; они исполняли должность телохранителей. Но кроме
деловых людей, были еще толпы слуг, которые не имели
определенных занятий и в самом деле ничего не делали.
Обыкновенно двое из слуг были главноначальствующими
лицами: ключник и дворецкий. Ключник был главный распо-
. рядитель, иногда значивший у господина больше, чем жена
и" родня, жившая во дворе. Не занимаясь хозяйством,
господин отдавал ключнику на руки все домоуправление. Он
.был приходорасходчик, заведовал клетями и всеми
строениями, держал у себя доверенные ему ключи и от этого получил
наименование своего звания. Господин выдавал ему
содержание иногда за неделю, а иногда за месяц вперед. По
окончании срока господин поверял его, при проверке вычитал
то, что ему следовало на пропитание, и сверх того дарил
за службу. Другое начальственное лицо из двора —
дворецкий, заведовал вообще всеми дворовыми людьми, доносил обо
всем случившемся во дворе господину, разбирал разные
случаи спора между слугами, наказывал их по приказанию
господина. Некоторые из слуг приобретали особенную
доверенность и благосклонность господина; уверившись, что на
них можно положиться, он отправлял своих холопов для
управления вотчинами, делал им поручения по торговле или
по хозяйству. Прислуга женского пола находилась под
управлением хозяйки, если муж доверял ей; в противном случае
ею заведывала какая-нибудь из женщин, обыкновенно жена
ключника. Одна из прислужниц была приближенная к
госпоже и называлась ее постельницей. Кормилицы и няньки
95
детей были большею частью из прислуги и пользовались
пред другими особенным почетом. Одни из служанок —
обыкновенно девицы — занимались исключительно
вышиваньями вместе с госпожою, другие — обыкновенно замужние —
исправляли черные работы, топили печи, мыли белье и
платье, пекли хлебы, приготовляли разные запасы, третьим
отдавалась на уроки пряжа и тканье. У лиц, живущих
нераздельно с хозяином, прислуга была общая. В распорядках
домашнего быта у домохозяев соблюдались такие же обычаи,
как в царской придворной жизни: главный хозяин в своем
дворе играл роль государя и в самом деле назывался
государем: слово это означало домовладыку; другие члены
семейства находились у него в таком же отношении, как
родственники царя; слуги были то же, что служилые у царя,
и потому-то все, служащие царю, начиная от бояр до
последних ратных людей, так как и слуги частного
домохозяина, назывались • холопами. Господин, как царь, окружал себя
церемониями; например, когда он ложился спать, то один
из слуг стоял у дверей комнаты и охранял его особу.
Господин награждал слуг и оказывал им свое благоволение,
точно так же, как поступал царь со своими служилыми:
жаловал им шубы и кафтаны со своего плеча или лошадей
и скотину, посылал им от своего стола подачу, что означало
милость. То же делала госпожа с женщинами: одних при-
молвляла, то есть награждала ласковым словом, других дарила
или посылала им подачу со своего стола. При дворе частных
домохозяев, как и при дворе царском, сохранялся обычай
отличать заслуги и достоинство слуг большим количеством
пищи. При огромном количестве слуг во дворе богатого
господина существовали приказы, такие точно, как в царском
управлении государством, под главным контролем ключника
и дворецкого, как сказано выше. Прислуга вообще
разделялась, как служилые царские люди, на статьи: большую,
среднюю и меньшую. Принадлежавшие к большей статье
получали большее содержание; некоторые получали сверх
одежды денежное жалованье от двух до десяти рублей в тд,
другие же одежду, некоторые одно содержание. «Домострой»
советует, чтобы слуги по возможности были сыты государским
жалованьем и одеты своим рукодельем. Таким образом, им
давалось льготное время, которое служилые люди употребляли
для приобретения себе одежды. Вообще слуги у русских
господ ходили в изорванных одеждах, но когда нужно было
показаться пред гостями, им выдавалось платье, лежавшее в
клетях; ключник по приказу господ выдавал им его, а они
впоследствии обязаны были воротить все в целости, в
противном случае подвергались побоям.
Женатые служилые жили отдельно в избах; несколько
семей помещались в одной и получали на содержание
месячину; холостые и девки обыкновенно жили при господской
поварне, мыльне, конюшне, сараях, в людских избах, для
96
хорошо кормил слуг. Русские не ценили свободы и охотно
шли в холопы. В XVII веке иные отдавали себя рубля за
три на целую жизнь. Получив деньги, новый холоп
обыкновенно пропивал их и проматывал и потом оставался служить
хозяину до смерти. Иные же, соблазнившись деньгами,
продавали себя с женами, с детьми и со всем потомством.
Иногда же бравшие деньги закладывали заимодавцу сыновей
и дочерей, и дети жили в неволе за родителей. Были и
такие, которые поступали в холопы насильно: еще до
воспрещения перехода крестьянам помещик нередко обращал их
в холопы. В XVII веке служилые~ люди торговали самым
возмутительным образом женским полом в Сибири. Они
насильно брали беспомощных сирот-девиц, иногда сманивали у
своих товарищей жен, делали на них фальшивые крепостные
акты и потом передавали из рук в руки, как вещь. Толпы
слуг вообще увеличивались во время голода и войны; во
время голода потому, что многие из-за дневного пропитания
отдавали себя навеки в рабство, а во время войн дворяне
и дети боярские, убегая от военной службы, записывались
в холопы, а те, которые возвращались с войны, приводили
домой военнопленных, которых обращали в рабство: таким
образом в классе холопов было много поляков и литовцев;
их заставляли насильно принимать православие и насильно
женили или выдавали замуж. Правительство в XVII веке
хотело оградить военнопленных от жестокого жребия и потому
запрещало обращать их в рабство. Уложение предоставляет
свободу тем из пленников, которые сами не пожелают
остаться. Раб в полном нравственном смысле этого слова,
русский холоп готов был на все отважиться, все терпеть за
своего господина и в то же время готов был обмануть его
и даже погубить. Когда господа между собою ссорились, их
люди, встретившись где-нибудь в веселом месте, например,
в корчме или в кабаке, заводили споры и драки за честь
своих господ; это принимало иногда большие размеры, когда
людей у господина было очень много или же когда крестьяне
участвовали в ссорах. Люди и крестьяне враждующих между
собою владельцев нападали друг на друга по дорогам, делали
набеги за границы, били друг друга, поджигали,
неистовствовали всякими способами. Зато в то же-.время толпы рабов
были злом для своих господ; в доме они заводили между
собою смуты, драки и убийства, иногда из мщения к
господину доносили на него, обвиняя в злоумышлении на царя,
и даже выдерживали пытку, которой их предавали. Очень
часто холопы обкрадывали господ и убегали; иные молодцы
тем и промышляли, что, давши на себя кабалы, проживали
несколько времени у тех, кому их давали, потом обкрадывали
своих хозяев, убегали от них, приставали таким образом к
другим, к третьим. Правительство приказывало господам не
принимать никого в холопы без отпускных, но этого
приказания не все слушались; притом же многие молодцы являлись
98
того построенных; девушки, занимавшиеся вышиваньем, спали
в сенях и от этого назывались сенными. Господа соединяли
парней и девушек браком, часто против их желания, и
праздновали их свадьбы у себя в доме: это доставляло для
господ развлечение в однообразной их жизни.
Содержать хорошо слуг считалось делом богоугодным наравне
е милостынею. В наших старых книгах благочестивого
содержании были нравоучения такого рода: «Имейте рабы свои, аки
братию и рабыни аки сестры себе, яко и те семя адамле есть». По
большей части прислуга содержалась дурно, даже и там, где
хозяин имел благие намерения в отношении своей дворни, потому
что ключники и дворецкие, выбранные господином из них же,
заведуя их содержанием, старались половину положить в свой
карман. Во многих боярских домах многочисленную дворню
кормили дурно испечедным хлебом и тухлою рыбою, мясо редко они
видели, и сам квас давался им только по праздникам. Голодные и
оборванные и при этом ничем не занятые, они шатались по
городу, братались с нищими, просили милостыни и часто по ночам
нападали на прохожих. с топорами и ножами или запускали в
голову им кистени, производили пожары, чтоб во время суматохи
расхищать чужое достояние. Господа смотрели на такие поступки
своих рабов сквозь пальцы.
Вообще господа обращались со своими слугами
деспотически и охотнее следовали таким пастырским нравоучениям,
как, например: «Аще ли раб или рабыни тебя не слушает
и по твоей воле не ходит, то плети нань не щади», чем
таким, где заповедовалось господам считать рабов за братьев.
Нередко случалось, что господин насиловал своих рабынь, не
обращая внимания на их мужей, растлевал девиц; случалось,
что убивал до смерти людей из своей дворни, все ему
сходило с рук. Сами слуги не имели понятия, чтоб могло
быть иначе; и не оскорблялись побоями и увечьями: за
всяким тычком не угоняешься, гласит пословица; рабу все
равно было, справедливо или несправедливо его били:
господин сыщет вину, коли захочет ударить, говорили они. Те
слуги, которые не составляли достояния господ, кои
присуждены были к работе за деньги или же отдавши себя во
временную кабалу, не только не пользовались особенными
льготами от безусловной воли господ, но даже подвергались
более других побоям и всякого рода стеснениям. У русских
было понятие, что служить следует хорошо тогда только,
когда к этому побуждает страх, — понятие общее у всех
классов, ибо и знатный господин служил верою и правдою
царю, потому что боялся побоев; нравственное убеждение
вымыслило пословицу: за битого двух небитых дают. Самые
милосердные господа должны были прибегать к палкам, чтобы
заставить слуг хорошо исправлять их обязанности: без того
слуги стали бы служить скверно. Произвол господина
удерживался только тем, что слуги могли от него разбежаться,
притом обокравши его. Напротив, господин славился тем, что
97
е нарядными (фальшивыми) отпускными. Нередко тем дело
не оканчивалось, что кабальный обкрадет хозяина да уйдет
от него; удальцы сталкивались с подобными себе приятелями,
поджигали дома и дворы своих господ, иногда убивали или
сожигали их самих с женами и детьми, а потом бежали
на Дон или на Волгу. Когда помещик отправлялся на войну
и оставлял управление своего дома старикам и женщинам,
тут своевольство дворни не находило пределов; часто,
воротившись на родину, помещик их находил весь свой дом в
разорении и запустении. Кроме множества слуг, в господских
дворах проживали иногда нищие, призреваемые из
милосердия, в надежде этим угодить Богу. Они носили название
богомольцев. Этот обычай существовал и у царей, у которых
жили верховые богомольцы, обыкновенно старые, увечные
воины, потешавшие государя в часы вечерних досугов
рассказами о приключениях своей молодости.
Представленная здесь картина домашнего образа жизни
была возможна только у зажиточных господ. Нельзя сказать,
что таких хозяев было много: несмотря на пышность,
господствующую в показанной стороне русской жизни, и
домашней, и общественной, вообще Великая Русь была страна
бедная; ее богатства лежали в земле нетронутые, а те,
которые обращались в обществе, распределялись
неблагоприятным для массы народа образом. Сами бояре и знатные
люди не так были богаты, как то казалось. Для них не
было никакого ручательства против произвола. Грозный у
многих богатых вельмож отнимал родовые имения, чтоб
искоренить в них чувство предковского права, и взамен давал
поместья в отдаленных провинциях, где владельцы не могли
уже получать прежних доходов. Кроме воли царя, всемогущей,
как воля неба, всегда существовали обстоятельства,
неблагоприятные для упрочения состояния. Дворяне и дети боярские
беспрестанно жаловались на тягость службы и разорения
своих имений. Когда приходилось идти на службу, мать или
жена дворянина отдавала в залог свои наряды, чтобы
снарядить на войну мужа или сына. Много обедневших дворян,
детей убитых на царской службе, скитались без насущного
пропитания. Интерес казенный, или царский, поглощал все
интересы. Начнет ли торговый и промышленный человек жить
с устроением (с комфортом), на него навязывают
какую-нибудь разорительную должность вдалеке от его обычного места
жительства. Начнет ли допускать в образе жизни устроение
приказный человек, его подозревают в плутовстве, запутывают
в какое-нибудь дело, касающееся интересов казны, и обирают
или засылают куда-нибудь на службу, где он прослуживается.
Но в особенности тяжело было состояние сельского
крестьянского класса. Пять дней работал крестьянин на господ, а
ему оставался один только день в неделю да праздники, и
поэтому крестьяне находились в плачевном положении, так
что у многих ничего нельзя было сыскать дома, кроме
99
овчинного тулупа, коровы да лошади, и то были люди; #
не последней бедности. На севере три лошаденки и три
коровы были признаком зажиточного поселянина; если же,
кроме этого, крестьянин имел три свиньи, две козы, пар
пять овец да несколько кур и уток, тот уже был богачом.
Летом крестьяне пахали, косили, жали, зимою молотили,
рубили и пилили лес и дрова или скитались и просили
милостыни. Это было обыкновенное явление во время
неурожаев, потому что тогда не принимали никаких мер против
них, а они были часты. Преследуемые налогами, поборами,
гонениями, отдачею людей в войско, разными повинностями,
государственными и владельческими, при случившемся
неурожае они часто умирали с голоду или в отчаянии разбегались
врозь: пустели целые уезды. Многие толпами уходили в
Сибирь. Крестьяне, жившие у детей боярских и у * дворян,
были особенно обременяемы, и зато, когда господа их уходили
на службу, разбегались, и, воротившись в имение со службы,
владелец нередко находил его пустым, Отыскивание крестьян
для владельцев было так °же затруднительно, как и
отыскивание холопов. Повсюду ходили так называемые бобыли или
захребетники, то есть люди, не имевшие у себя ничего,
кроме того, что могло быть носимо за плечами; шатались
не одни крестьяне, шатались и посадские, одни под именем
старцев из монастыря в монастырь, другие под видом нищей
братии, ибо общество, безжалостное к нуждам и скудости
семейств, было милостиво для нищего, хотя неоднократно
случалось, что такая нищая братия сталкивалась с боярскими
холопами и производила пожар, чтоб потом грабить и красть
в суматохе.
XV
Выезд из дома и путешествие
По старинным понятиям русских, ходить пешком для важного
человека считалось предосудительным и неприличным, и хотя бы
нужно было сделать несколько шагов от двора по улице, боярин
или значительный дворянин почитал необходимым для
поддержания своего достоинства ехать, а не идти. Мужчины по городу
ездили, летом верхом, зимою в санях. Русские седла делались из
дерева и сухих жил; они были низкие, плоские, стремена
короткие; седло клалось на чепрак, который накладывался на попону и
покровец. Края попоны или покровда выказывались из-под
чепрака и поэтому красиво убирались; чепрак украшался различно,
смотря по достатку и по случаю выезда. Седла чаще всего были
обиты сафьяном с золотыми узорами, иногда бархатом; луки по-
золачивали. Чепрак покрывался всегда другою материей. Узды
делались с серебряными ухватами и с серебряными оковами на
100
морде лошади и, сверх того, снабжались серебряными, иногда
позолоченными цепочками, издававшими звуки при каждом
движении лошади. Под морду лошади подвешивались ожерелья,
составленные из ремней, унизанных серебряными, у богатых даже
золотыми бляхами; ближе к голове лошади эти ожерелья были
уже, а к концу расширялись до двух пальцев шириною; на ногах,
сверх копыт, у верховой лошади привешивали маленькие
колокольчики, а сзади у седла прикрепляли небольшие литавры,
медные или серебряные: всадник ударял в них бичом для
возбуждения охоты в лошади и для того, чтобы проходящие давали
дорогу. Бичи делались из татарской жимолости (привозимой с
берегов Волги); ручка их обделывалась медью или моржовой
костью. Молодцы, сидя верхом, гарцевали и красовались тем, что,
ударяя в литавры, заставляли лошадь делать внезапный прыжок,
и при этом кольца, цепочки и колокольчики на ногах лошади
издавали звуки.
Зимние мужские сани обыкновенно запрягались в одну
лошадь и покрывались медвежьей шкурой, называемою мед-
ведной, а сверху закрывались полстью. Эта полсть была
часто из простого войлока, а иногда суконная с образцами
или нашивками из бархата и другой какой-нибудь дорогой
материи; к краям полсти привешивались ремни или шнурки
другого цвета, чем сама полсть, и обыкновенно одинакового
с образцами. У знатных сами сани обивались атласом или
адамашкою. На спинку саней, вообще не очень высокую,
клали персидский или турецкий ковер; края его свешивались
назад: в этом поставляли щегольство. Вообще русские сани
были невелики, делались для одного только человека, редко
для двух, но не более; они имели часто форму лодки с
краями, загнутыми и спереди, и сзади. Кучер — обыкновенно
молодой парень — сидел верхом на той же лошади, которая
везла сани, опираясь на дугу, невысокую и наклоненную
назад. Голова лошади убиралась цепочками, колечками,
разноцветными перьями и звериными хвостами — лисьими,
волчьими или собольими. Когда господин усаживался в сани,
то у ног его становились на тех же санях два холопа;
несколько холопов шли по бокам, а сзади бежал мальчик —
казак. Царь Алексей Михайлович ездил парадно к обедне в
санях, представлявших вид длинного ящика, который
суживался к ногам, а в задней части сделаны были уступы, как
полки в бане; сани бь!ли запряжены в одну лошадь,
украшенную разными побрякушками и перьями. Два ближних
боярина стояли на запятках, а два стольника по обеим
сторонам царя, у его ног, на полозьях, и поддерживали
полсть. По сторонам шла толпа придворных и стрельцов с
ружьями. Все были без шапок, и только ближние бояре
держали их в руках.
Кроме обычного старинного способа ездить в санях на
одной лошади, в XVII веке начали ездить в упряжке из
нескольких лошадей в каретах и зимою, и летом. В 1681
101
году было указано, что только бояре могут ездить на двух
лошадях, а в праздники на четырех, во время же свадеб и
сговоров на шести. Все прочие, не исключая и стольников,
должны ездить летом непременно верхом, а зимою в санях
на одной лошади. Вообще езда в санях считалась почетнее
езды на колесах; в торжественных случаях сани
употреблялись и летом, -особливо духовными лицами. Так, патриарх
иерусалимский, приезжавший в Москву для посвящения в
патриархи Филарета, ехал в Успенский собор в санях, хотя
это было 24 июня. Архиереи обыкновенно ездили к обедне
в санях и летом, как и зимою: спереди служка нес. посох;
сзади шли служки.
Жены и особы женского пола семейств боярских и дворянских
ездили в закрытых экипажах и летом, и зимою. Летние
назывались колымаги, зимние — каштаны. Колымаги делались на
высоких осях, иногда с лестницами, иногда же вовсе без ступеней, как
летние, так и зимние. Внутри они обивались красным сукном или
червчатым бархатом и закрывались по бокам суконными или
шелковыми занавесками, иногда с дверцами в них; в эти дверцы
вставлялись маленькие слюдяные окна, задернутые занавесками.
Боковые занавесы пристегивались плотно к краям экипажа так,
чтобы ветер никоим образом не мог распахнуть их, У некоторых
знатных особ такие экипажи б,ыли чрезвычайно богаты; например,
карета боярина Морозова, ограбленная народом во время бунта,
снаружи была обложена золотом, внутри обита соболями высокого
достоинства, колеса ее были окованы серебром.
Закрытая отовсюду знатная госпожа сидела в своей колымаге
или каптане на подушке; у ног ее сидели рабыни. Такую колымагу
или каптану везла обыкновенно одна лошадь; но случалось, что
зЯатные лица ездили и на нескольких: тогда лошади припрягались
одна к другой не рядом, каю делается теперь, а гуськом, одна
спереди другой; постромки между последнею и предпоследнею на
краю поезда были вдвое длиннее, чем между предшествовавшими.
Лошади обвешивались еще наряднее, чем в мужских поездах,
волчьими, лисьими, собольими хвостами, кольцами, цепочками и
круглыми шариками в виде львиной головки и покрывались
попонами из бархата или объяри, обложенными золотою и серебряною
бахромою с кистями по углам. Кучер или сидел верхом на одной
из лошадей, или .шел пешком; вожжей у него чаще всего не было
вовсе, а иногда они привешивались; идя возле лошадей, кучер
помахивал арапником из заячьей кожи с набалдашником из
сайгачьего рога. По бокам шли тридцать или сорок холопов,
называемых скороходами. В числе их 'нередко находились и такие,
которым по приказанию господина поручалась обязанность быть
аргусами1 госпожи и смотреть, чтобы как-нибудь ее взоры чрез
приподнятую занавеску не встретились со взорами молодых
людей, способных при случае на всякую наглость. Если таким об-
1 От имени Аргуса, многоглазого сторожа в древнегреческой
мифологии.
102
разом проезжалась сама царица» то экипаж ее везли двенадцать
лошадей белой масти; с нею сидели боярыни; сзади провожали ее
придворные рабочие женщины и прислужницы (мастерицы и
постельницы), сидя на лошадях верхом по-мужски. Обычай женщин
садиться верхом на лошадь по-мужски был в старину в среднем
классе народа, но стал неупотребительным в XVII веке.
Лошади в Москве были в употреблении татарские,
пригоняемые во множестве из Астрахани и ее окрестностей каждогодно.
Они не отличались ни красотой, ни статностью, напротив, были
даже дурны собою, узкобрюхие, с тяжелой головой, с короткой
шеей, зато очень крепкие, бежали скоро и сносили всякий труд.
Но так как эти достоинства годились не столько для городской
езды, сколько для дорожной, то у богатых были лошади
персидские и арабские, очень красивые, хотя, по замечанию
иностранцев, дурно выезженные. Русские щеголяли особенно белыми
лошадьми. У зажиточных хозяев во дворах было всегда много
лошадей разных разрядов: одни были исключительно верховые; дру-
гие% напрягались в сани и назывались санники; третьи носили имя
колымажных, потому что закладывались только в летние экипажи;
четвертые служили для посылок и разъездов.
В дорогу отправлялись зимою в санях, женщины в
закрытых каптанах; обыкновенно сани везли две лошади.
Протяжения измерялись верстами: в версте считалось 1000
саженей, но в XVII веке возникла новая верста в 700
саженей, кроме того* существовала приблизительная мера
днищами1, употребительная в малонаселенных краях России.
Русские дорожные сани были четвероугольной формы,
напоминавшие собою гроб, сзади шире, спереди уже. Их
делали по большей части из древесной коры или лубья и
предпочитали деревянным по легкости. Собственно мужские
сани были не широки и очень длинны, так что можно было
лечь в них свободно человеку, а иногда и двум рядом. Сзади
их обивали рогожею, на боках кожами и закрывали сверху
мехами. Отправляясь в дорогу, русский одевался как можно
теплее и сверху набрасывал епанчу в предохранение от снега
и дождя; на голове у него была шапка, покрытая и подбитая
мехом, на руках теплые рукавицы, на ногах меховые
ноговицы, а за пазухой на цепочке или на ремке скляница с
вином; сверху он укрывался медведной, или медвежьей
шкурой. Путешественник вылезал из своей берлоги один раз в
сутки поесть. Запасы хранились в тебеньках. Женские
дорожные сани были такой же формы, снабжались по сторонам
жердями, постановленными перпендикулярно со всех сторон
по краям; на них навешивалось сукно; сани закрывались им
сверху и с боков, и только на одной стороне оставалась
для выхода задернутая узкая пола. Сани женские делались
гораздо шире мужских, так что в них можно было сидеть
1 Днище — день пути, дневное расстояние.
103
и лежать двум или трем женщинам вместе, потому что
госпожа не ездила без прислужниц.
Зимний путь считался удобнее и легче летнего, и все
иностранцы отдавали честь скорой езде зимою. Только с
начала зимы встречались неудобства, когда пролагались вновь,
зимние дороги; раз проложенная тропа оставалась в
первоначальном виде на всю зиму. Если мужику случалось
проехать в начале зимы и он выбирал непрямую дорогу, колея
эта не изменялась, потому что искать новых путей по
сугробам было опасно. При езде на ямских упряжки были
очень велики: например, 6070 верст и более; однако русские
ямщики бежали без отдыха, особенно когда возили царских
гонцов. Чтоб частному человеку ехать на ямских, нужно было
взять подорожную: и его везли скоро и дешево, потому что
подорожные в старину наводили страх. Когда ямщики везли
по. подорожной, то кричали и свистали в дудочки, давая
этим знать, чтобы все встречные сворачивали с дороги, а
опоздавшим отвешивали по спинам удары кнутом. Проехавши
каждую версту, ямщик давал об этом знать пронзительным
криком: верста! Подъезжая к яму, начинал ямщик свистать
сквозь зубы и этим подавал знак; при звуке сигнала в яму
начиналась беготня: одни выводили лошадей, другие несли
упряжь. Вообще по подорожной ямщики брали до двух
рублей за 350 верст. Что касается до частных лиц, если они
не имели протекции для того, чтоб приобрести подорожную,
то должны были нанимать частных ямщиков, которых везде
было много; но тогда езда обходилась дороже.
Летом езда была несравненно хуже, ибо русские дороги
представляли во все лето не только неудобства, но и
опасность для жизни, не говоря уже о весне, во время водораз-
лития, когда целые села казались плавающими. Починка дорог
возлагалась на жителей по сошному делению, под надзором
руководителей, называемых вожами, при выборных
целовальниках, они обязаны были мостить мосты и гати, заравнивать
овраги; но повинности эти исправлялись очень небрежно, и
дороги были до крайности дурны. Проезжие летом старались
избегать сухопутных поездок и чрезвычайно мало ездили,
особенно с женщинами; сами ямщики летом пренебрегали
своими обязанностями, и проезжий, достигавший яма, мог
дожидаться несколько часов, пока соберут ямщиков и
приведут лошадей из табуна или с полевых работ. У кого не
было своего летнего экипажа, тому давался воз, покрытый
рогожею; ковер и подушку проезжающий должен был возить
с собою. По причине всех этих неудобств охотнее и чаще
ездили по рекам на судах, которые можно было найти с
гребцами везде, где дорога прилегала к реке; с казенною
подорожной можно было пользоваться казенными стругами и
гребцами точно так же, как ямщиками и их лошадьми.
Величина стругов и количество гребцов на них соразмерялись
с шириною реки и протяжением пути от одной пристани
104
до другой. Струги, на которых усаживалось много
пассажиров, например человек 50 или 60, делались широкие, с
одной мачтой и обыкновенно с шестнадцатью веслами; под
палубой устраивались клетки и перегородки для пассажиров
и их багажа. К мачте привязывался огромный холщовый
парус, распускаемый во время попутного ветра. Вместо руля
употреблялся длинный и широкий шест, опущенный в воду;
другой его конец прикреплялся к шесту, который утверждался
неподвижно на струге. Рулевой шест имел при своем
окончании две рукояти; когда нужно было поворотить струг,
кормщик действовал посредством веревок, которые
обвязывались около этих рукояток. На волоках, то есть на переездах
от одной реки до другой, стояли наготове ямщики для найма
проезжающим и для возки тяжестей.
Величайшим неудобством русских дорог, как зимних, так и
летних, было отсутствие гостиниц и всякого рода пристанищ для
путешественников. Правда, кое-где при монастырях существовали
гостиницы, служившие иногда облегчением для путешественников,
но не могли входить в условия повсеместных дорожных удобств.
Зимою останавливались в крестьянских избах, большею частью
курных, где нестерпимый жар и вонь приводили в трепет
иностранцев, но мало беспокоили русскую натуру. Летом не заходили
в строения вовсе и готовили себе пищу на воздухе. Как зимою,
так и летом проезжий брал с собою большой запас хлеба,
сушеного мяса, рыбы, сала, меду, а другие припасы набирал от города
до города.
XVI
Прием гостей. Обращение
.В приеме гостей русские наблюдали тонкие различия
сословных отношений. Лица высшего звания подъезжали
прямо к крыльцу дома, другие, въезжали на двор, но
останавливались на некотором расстоянии от крыльца и шли к
нему пешком; те, которые почитали себя гораздо низшими
пред хозяином, привязывали лошадь у ворот и пешком
проходили весь двор — одни из них в шапках, а другие,
считавшиеся по достоинству ниже первых, с открытой
головою. В отношении царского этикета были подобные же
различия: одни имели право только въезжать в Кремль, другие
останавливались у ворот царского двора, и никто, под
опасением кнута, не смел провести через царский двор лошади.
Со стороны хозяина встреча гостя также соразмерялась с его
сословным достоинством. Важных гостей сами хозяева
встречали у крыльца, других — в сенях, третьих — в комнате.
Существовал обычай делать несколько встреч прибываемым
гостям. Таким образом, у ворот гостя встречает лицо низшего
105
звания в доме; в другом месте, например у крыльца, другое
лицо, выше первого; в третьем — еще высшее или сам
хозяин. На этом обычае устраивали при дворе почетные
встречи: в одном месте встречал гостя стольник, в другом —
сокольничий, в третьем — боярин. Когда отец Михаила
Федоровича, Филарет Никитич возвратился из плена, то ему
устроено было три встречи на дороге: первая в Вязьме,
вторая в Можайске, третья в Звенигороде, где уже встречал
его сам царь. Так же точно и по приезде его в Москву к
церкви у саней встретили его архиепископ с двумя
архимандритами, у дверей — митрополит с архимандритами и
двумя игуменами, а в церкви — митрополит по степени
достоинства выше предыдущего.
В отношении права входить во дворец одни, ближайшие
люди, пользовались правом входить в комнату государя;
другие, ниже первых, только в переднюю; третьи ожидали
царского выхода на крыльце, а люди меньших чинов не смели
взойти и на крыльцо.
Подобные оттенки различия в приемке гостей наблюдались
у частных лиц. Вообще старшие не ездили в гости к
младшим; на этом основании и царь никогда не посещал
подданного. Но если к хозяину приезжал гость, которого
хозяин особенно чествовал и который по служебным,
семейным или общественным условиям требовал уважения, хозяин
расставлял слуг встречать гостя: например, у ворот его
встречал дворецкий, у крыльца сын или родственник хозяина, а
потом в сенях или передней хозяин в шапке или с открытой
головою,, смотря по достоинству гостя. Других же гостей не
встречали; напротив, сами гости ожидали выхода хозяина в
передней. Вежливость требовала, чтобы гость оставил в сенях
свою палку, и вообще говорить, держа в руке палку, а тем
более опершись на нее, считалось невежеством. Сняв шапку,
гость держал ее в руке с платком в ней. Вошедши в
комнату, гость должен был прежде всего креститься, взирая
на иконы, и положить три поясных поклона, касаясь
пальцами до земли, потом уже кланяться хозяину; в поклонах
ему соблюдалась также степень уважения к его достоинству.
Таким образом, пред одними только наклоняли голову, другим
наклонялись в пояс, пред третьими вытягивали руки и
касались пальцами до земли; те же, которые - сознавали свое
ничтожество пред хозяином или зависимость от него,
становились на колени и касались лбом земли: отсюда выражение
«бить челом». Равные и приятели приветствовали друг друга
подачею правой руки, поцелуем и объятиями, так что один
другого целовали в голову и прижимали* к груди. Хозяин
приглашал гостя садиться или говорил с ним стоя, также
соразмеряя степень его достоинства: на этом основании, не
приглашая гостя садиться, и сам или стоял, или сидел.
Самое почетное место для гостя было под образами; сам
хозяин сидел по правую сторону от него. Гость из сохранения
106
приличия воздерживался, чтоб не кашлять и не сморкаться.
В разговоре наблюдалось то же отношение достоинств гостя
и хозяина; так, приветствуя светских особ, спрашивали о
здоровье, а монахов о спасении; одним говорили вы, а себя
в отношении высших лиц называли мы; произносили разные
записные комплименты, величая того, к кому обращались, а
себя унижая, вроде следующих: «Благодетелю моему и
кормилицу рабски челом бью; кланяюсь стопам твоим, государя
моего; прости моему окаянству; дозволь моей • худости». В
обращении с духовными в особенности изливалось тогдашнее
риторство: говоривши с каким-нибудь архиереем или
игуменом, расточали себе названия грешного, нищего, окаянного,
а его величали православным учителем, великого света
смотрителем и прочее. Вообще, желая оказать уважение, называли
- лицо, с которым говорили, по отчеству, а себя
уменьшительным полуименем. Было в обычае гостю предлагать что-нибудь
съестное во всякое время, а особенно водку и какие-нибудь
лакомства, как, например, орехи, фиги, финики и прочее.
Прощаясь, гость обращался прежде всего к образам, полагал
на себя троекратно крестное знамение с поклонами, потом
целовался с хозяином, как и при входе в дом, если хозяин
его удостоивал этим по достоинству, и, наконец, уходя, опять
знаменовал себя крестом и кланялся образам. По мере
достоинства хозяин провожал его ближе или далее порога.
В русском обращении была смесь византийской
напыщенности и церемонности с татарскою грубостью. В разговоре
наблюдались церемонии и крайняя осторожность; нередко
случалось, что невинное слово принималось другими на свой
счет: отсюда возникали тяжбы, смысл которых состоял только
в том, что один про другого говорил дурно; с другой стороны,
при малейшей ссоре не было удержу в самых грубых
излияниях негодования. Обыкновенно первое проявление ссор
состояло в неприличной брани, которая до сих пор, к
сожалению, составляет дурную сторону наших нравов.
Церковь преследовала это обыкновение, и духовные поучали, чтоб
люди друг друга не лаяли позорною бранью, отца и матерь
блудным позором и всякою бесстыдною, самою позорную
нечистотою языки свои и души не сквернили. Неоднократно
цари хотели вывести, русскую брань кнутом и батогами. При
Алексее Михайловиче ходили в толпах народа переодетые
стрельцы и, замечая, кто бранился позорною бранью, тотчас
того наказывали. Разумеется, эти средства были
недействительны, потому что сами стрельцы в свою очередь не могли
удержаться от крепкого словца. Впрочем, очень часто
вспыхнувшая ссора тем и ограничивалась, что обе стороны
поминали своих родительниц и не доходили до драки; а потому
брань сама по себе не вменялась и в брань. «Красна брань
дракою», — говорит пословица. Если же доходило дело до
драки, тут русские старались прежде всего вцепиться один
другому в бороду, а женщины хватать одна другую за волосы.
107
Поединки на саблях и пистолетах, обычные на Западе, у
русских были совершенно неизвестны. У нас были своего
рода дуэли: поссорившись между собою, люди садились на
лошадей, нападали друг на друга и хлестали один другого
бичами. Другие бились палками и часто друг друга убивали
до смерти; но самая обыкновенная русская драка была
кулачная; противники старались всегда нанести один другому
удары или прямо в лицо, или в детородные части. Смертные
случаи были нередки, но уменьшались с тех пор, как
прекратились судебные поединки на палках и дубинках. Зато
в XVII веке развилось другого рода мщение — доносы,
средство часто очень удачное. Стоило подать на недруга
ябеду, чтобы втянуть его в разорительную тяжбу; хотя и
самому приходилось терпеть, но зато такая. тяжба имела
некоторым образом характер поединка. Иногда из злобы под-
кладывали к недругу вещь, потом подавали челобитную о
пропаже этой вещи и изъявляли подозрение, что она у
того-то; производился обыск, и вещь находилась: тут
начинался длинный процесс тяжбы, сопровождаемый пытками. Во
всех классах народа было множество ябедников и доносчиков.
Одни из них промышляли собственно для себя. Таким
образом посвящали себя этому занятию служащие люди и дети
боярские: они разъезжали по посадам и селениям, заезжали
к богатым жителям, заводили ссоры, потом составляли
челобитные о боях, грабежах и обидах и, запугав крестьян,
брали с них отступное во избежание проволочек и наездов
приставов и рассыльщиков. Другие, напротив, работали для
других и, точно как итальянские bravi, кинжалом, служили
своим искусством тем, которые у них его покупали, Хотя
их и преследовали и клеймили позором, но правительство
вместе с тем покровительствовало само доносам, когда они
касались. его интересов» Таким образом, служилый .человек,
помещик или вотчинник, если открывал за своим товарищем
какие-нибудь уклонения от обязанностей службы, влекущие
потерю поместья, то вознаграждался именно тем самым
поместьем, которое отнималось у того, кого он уличал. Оттого
между служилыми людьми не было трварищества; все друг
другу старались повредить, чтобы выиграть самим. Но всего
действительнее для ябедника, всего опаснее для соперника
было объявление слова и дела государева, то есть обвинение
в нерасположении к царю. Обвиненного подвергали пыткам,
и когда он в бреду страдания наговаривал на себя, то
казнили, мало нужды, что он мог быть невиновен. Дело,
касавшееся высокой особы, было столь важно, что невелика
беда, если за него пострадают и невинные. Нигде не было
откровенности; все боялись друг друга; негодяй готов был
донести на другого: всегда в таком случае можно было скорее
выиграть, чем проиграть; от этого в речах господствовала
крайняя осторожность и сдержанность. Шпионов было
чрезвычайное множество: в ряды их вступали те бедные дворяне
108
и лети боярские, которые за уклонение от службы, тоже по
доносу других, лишались своих поместий; они вторгались
всюду: на свадьбы, на похороны и на пиры — иногда в
виде богомольцев и нищей братии. И царь, таким образом,
многое знал, что говорилось про него подданными.
XVII
Пиршества. Пьянство
Все, что в настоящее время выражается вечерами,
театрами, пикниками и прочим, в старину выражалось пирами.
Пиры были обыкновенною формою общественного сближения
людей. Праздновала ли Церковь свое торжество, радовалась
ли семья или провожала из земного мира своего сочлена,
или же Русь разделяла царское веселие и славу побед —
пир был выражением веселости. Пиром тешились цари; пиром
веселились и крестьяне. Желание поддержать о себе доброе
мнение у людей побуждало каждого порядочного хозяина
сделать пир и созвать к себе добрых знакомых.
Как все в русской жизни, при резкой противоположности
знатности и простонародности, богатства и бедности, носило
одинаковые основания, русские пиры у всех сословий
сопровождались одинаковыми чертами, приемами и обрядами. Русские
пиршества были двух родов: собственно пиры и братчины; первые
давало одно лицо, вторые были складчины многих хозяев и
преимущественно существовали между поселянами. Пиры частных
лиц давались в дни Пасхи, Рождества Христова, Троицы, Нико-
лина дня, Петра и Павла и масленицы, при торжественных
семейных случаях — браках, рождении и крещении детей, при
погребении, поминовении усопших, в день именин, по случаю
новоселья и при вступлении служащего лица в должность.
Царские пиры, кроме семейных случаев и церковных торжеств,
давались по поводу коронации, посвящения митрополитов и
патриархов, при объявлении царевича народу и по случаю приема
иностранных послов.
Когда домовитый хозяин учреждал пир и приглашал гостей,
то звать одних посылал слуг, а к другим ездил сам, различая тех,
кому он делает честь приглашеньем, от тех, у которых он должен
искать чести приезда в его дом. При семейных и приятельских
пиршествах приглашались и жены гостей, но не к мужскому
столу, а к особенному женскому, который жена хозяина учреждала
в то же время гостям своего пола.
Комната, назначенная для пира, заранее убиралась,
устилалась коврами; на окнах висели занавесы, на карнизах клали
наоконники, постилали на столы и лавки нарядные скатерти и
полавочники, заправляли свечи в паникадила и уставляли
поставец посудою. Для пира избиралась обыкновенно столовая, а иног-
109
да назначали для него сени, которые были просторнее всех покоев.
Столы устанавливались вдоль стены перед лавками, а если было
много гостей-t то и рядами; место под образами в углу было для
хозяина, дававшего пир.
Каждый из приглашенных гостей садился в шапке на
место, сообразное своему званию и достоинству. Место по
правую руку от хозяина считалось самым почетным. За ним
другие места нисходили по степеням, так что одно было
ниже другого, и, таким образом, существовало три разряда
мест: высший, средний и низший, как это выражается в
поэме XVII века «Горе-Злосчастие»:
«А идет он в место середнее,
Где сидят дети гостиные!»
Сесть выше другого, считавшего себя выше достоинством,
значило нанести ему оскорбление: на частных пирах наблюдался,
как в царских пиршествах и в боярской думе, обычай
местничества. Скромный и благочестивый человек, исполняя буквально
евангельские слова, садился нарочно на место ниже того, какое
ему следовало, чтоб хозяин перевел его оттуда на высшее.
Напротив, заносчивые люди, встретясь с соперниками, с которыми у
них давно не ладилось, пользовались случаем, чтобы насолить им,
и садились выше их, заводили споры, поставляли хозяина в
затруднение, и нередко доходило до драк.
Перед началом пира выходила жена хозяина и била челом
гостям малым обычаем, то есть кланялась в пояс, потом
становилась у дверей. Господин кланялся им до земли и
просил целовать жену. В ответ на это каждый гость также
кланялся до земли и целовался с хозяйкой, а отошедши от
нее, опять делал поклон. Хозяйка подносила каждому гостю
по очереди чарку вина. Первый гость получал чарку и
отдавал ее хозяину, прося выпить прежде. Хозяин приказывал
прежде начать жене. Та отведывала и отдавала мужу. Муж
выпивал. Тогда уже начинали пить гости, один за другим,
и всякий раз, как только гость пил, хозяин кланялся ему
до земли. Окончив эти церемонии, жена уходила в свое
женское общество. Гости усаживались за столом. Тогда хозяин
разрезал хлеб на кусочки и из собственных рук подавал
гостям, одному за другим, вместе с солью. Этот обряд
символически означал радушие и гостеприимство.
Существовало поверье, что хлеб-соль прогоняет вредное влияние злых
духов. За обедом получать хлеб-соль от хозяина значило
пользоваться его дружелюбием; есть вместе хлеб-соль вообще
означало согласие и любовь. После раздачи хлеба-соли носили
кушанье обычным порядком.
Гости ели обыкновенно по два человека с одного блюда; хотя
пред ними и ставились тарелки, но они не переменялись, как уже
было сказано. Перед почетнейшими гостями ставили опричные
блюда, то есть особые. Хозяину всегда подавали опричное блюдо;
он раздавал с него куски гостям, сидевшим близ него, а тем,
ПО
которым не мог подать, отсылал на тарелках со слугами. Эти
куски означали расположение. В то же время сам хозяин
накладывал кушанья в блюда и тарелки и отсылал отсутствующим,
которые почему-нибудь не могли прибыть. Слуга, поднося подачу
от хозяина, говорил: «Чтоб тебе, государь, кушать на здоровье».
Отвергнуть подачу считалось оскорблением.
Когда был пир во полупире, как выражаются песни, и
приносили круглые пироги — кушанье, составлявшее
необходимую принадлежность пира, тогда двери из внутренних
покоев растворялись; из них выходили жены сыновьев
хозяина, братьев, племянников и вообще родственников, живших
с ним не в разделе, с вином и чарками. Мужья этих
женщин вставали из-за стола, становились у дверей и,
кланяясь, просили гостей целовать их жен. Гости принимали
от женщин чарки с вином и целовались с каждой с
поклонами, как прежде с хозяйкой. У некоторых этот обряд
исполнялся иначе. Жена хозяина не являлась пред началом
пира, а приходила теперь в сопровождении женских особ
семейства и прислужниц, несших вино и сосуды. Хозяйка
подносила почетнейшему гостю вино и немедленно удалялась,
потом приходила снова в другом уже платье и угощала
другого гостя, опять уходила и снова являлась переряженная
в иное платье и потчевала третьего гостя; то же делалось
в отношении всех гостей поодиночке, и каждый раз хозяйка
являлась в новом наряде. Эти переряживанья служили для
показа роскоши и богатства хозяина. Обнесши таким образом
всех гостей, хозяйка становилась у стены, при крае стола,
опустивши голову. Гости подходили к ней и целовались;
иногда после поцелуев она дарила гостей ширинками1,
вышитыми золотом и серебром. Этот обычай целованья с
хозяйскими женами очень древний; еще в XII веке не одобрял
его Иоанн Пророк; он удержался, как памятник древней
славянской свободы женского пола, несмотря на то, что
влияние Византии и татар изменило убеждение русского
народа в этом отношении.
Отличительной чертой русского пиршества было чрезвычайное
множество кушаний и обилие в напитках. Хозяин величался тем,
что у него всего много на пиру — гостьба толстотрапезна! Он
старался напоить гостей, если возможно, до того, чтоб их отвезли
без памяти восвояси; а кто мало пил, тот огорчал хозяина. «Он не
пьет, не ест, — говорили о таких, — он не хочет нас одолжать!»
Пить следовало полным горлом, а не прихлебывать, как делают
куры. Кто пил с охотою, тот показывал, что любит хозяина.
Женщины, в то же время пировавшие с хозяйкой, также должны были
уступать угощениям хозяйки до того, что их отвозили домой без
сознания. На другой день хозяйка посылала узнать о здоровье
гостьи. «Благодарю за угощение, — отвечала в таком случае гос-
1 Ширинка — платок, полотенце, скатерти обычно шитые либо с
кружевом.
111
тья, — мне вчера было так весело, что я не знаю, как и домой-
добрела!» Но с другой стороны, считалось постыдным сделаться
скоро пьяным. Пир был в некотором роде война хозяина с
гостями. Хозяин хотел во что бы то ни стало напоить гостя допьяна;
гости не поддавались и только из вежливости должны были
признать себя побежденными после упорной защиты. Некоторые, не
желая пить, из угождения хозяину притворялись пьяными к концу
обеда, чтобы их более не принуждали, дабы таким образом в
самом деле не опьянеть. Иногда же случалось на разгульных пирах,
что заставляли пить насильно, даже побоями.
Пиршества были длинны и тянулись с полудня до. вечера
и позже. По окончании стола еще продолжалась попойка.
Все сидели на прежних местах. Хозяин наливал в чашу
вина, становился посредине с открытой головою и, подняв
вверх чашу, говорил напыщенное предисловие, а потом пил
за чье-нибудь здоровье: начинали с царя, а потом пили за
членов царского семейства, за бояр, властей и за разных
лиц, смотря по цели, с которою давали пир. Выпив, хозяин
оборачивал чашу вверх дном над головой, чтобы все видели,
что в ней нет ни капли и как он усердно желает добра
и здоровья тому, за кого пьет. После того хозяин возвращался
на свое место и подавал каждому из гостей по очереди
чашу с вином; каждый гость должен был "выходить из-за
стола, становиться посредине, пить за здоровье того, за кого
предлагалось пить; потом все садились на свои места. При
этих заздравных тостах пели многая лета тому, за чье
здоровье пили. Можно представить, как долго тянулась эта
церемония, когда, например, пивши за государя, следовало
произносить его полный титул.
Во время пиров кормили и слуг, приехавших с гостями, и
один доверенный слуга должен был наблюдать, чтобы эти низшего
достоинства гости не передрались между собою и не наделали
чего-нибудь вредного хозяину.
. В обычае было после пира подносить хозяину подарки.
Нередко русский делал пир и щедро поил и кормил гостей
для того, чтоб потом получить от них подарков горазда на
большую сумму, чем стоило ему угощение, Так поступали в
городах воеводы: они учреждали пиры и зазывали к себе
гостей для того, чтобы выманить подарки. Случалось,, . что
гости, не желая, поневоле, в угождение сильному, человеку,
являлись на пиршество. Впрочем, существовал обычай и(
хозяину дарить гостей. Воеводы обратили и такой обычай в
свою пользу. Чтобы более обязать своих гостей, воевода
созывал к себе на пир богатых посадских, сам делал им
подарки, а те должны были отдавать за них вчетверо. Если
же кто-нибудь был невнимателен и оставил без подарка
начальственное лицо, учреждавшее пир, то у него без
церемоний вымогали и насильно, потому что требовать подарков
не считалось предосудительным. Поднося подарок, говорилось:
«Чтоб тебе, государь, здравствовать!» Обычай дарить соблю-
112
дался и в царских пирах; приглашенные на пир во время
царских свадеб или по поводу коронации должны были
подносить царю дары, а на праздничных царских столах
духовные, приглашенные к обеду, получали от царя подарки.
Праздничные и семейные пиршества у степенных и
набожных особ отличались характером благочестия. Обыкновенно
после литургии духовенство приносило в дом крест, иконы,
частицы святых мощей, святили воду, мазали ею в доме все
иконы, кропили во всех покоях, окуривали весь дом ладаном,
иногда же приносили святую воду из церкви и кропили ею
дом. По окончании молитвословия начиналась трапеза.
Духовные лица занимали почетнейшие места между гостями. В
одном старинном поучении говорится: «Посади их и постави
им трапезу, якоже самому Христу; сам же им буди во
службе, и жена твоя, и дети твои, аще ли нужда будет ти
сести, то на нижнем месте сяди, и твори им имя твоя
знаемо, да у олтаря Божия молитва за тя, яко темьян
возносится». На столе, на возвышенном месте, ставили
просфору Пресвятой Богородицы, как это делается в монастырях.
Трапеза начиналась молитвою: «Достойно есть...» При
поставке на столе первого кушанья хозяин приглашал гостей
ласковым и благочестивым словом.- Во время всего пира дьячки
пели духовные песни, приличные празднику или событию,
по поводу которого учреждалась трапеза. В сенях и на дворе
кормили нищих. Пируя с духовенством и гостями, хозяин
высылал своих сыновей и родных угощать эту меньшую
братию. Некоторые очень благочестивые люди даже сажали
нищих за один стол с собою и с гостями. По окончании
обеда возносилась чаша Пресвятой Богородицы; все пили во
славу Божьей Матери, потом пили за здоровье царя, бояр,
за воинство, за хозяина и гостей с пением всем многолетия,
а также и за упокой усопших, если это согласовалось с
целью пиршества или со значением праздника, когда
пиршество отправлялось. После стола хозяин раздавал нищим, у
Него обедавшим, милостыню.
Не таков был характер пиршеств у разгульных людей. На этих
пирах иногда не удаляли и женский пол; мужчины и женщины
подавали друг другу питье и целовались, брались за руки и
играли между собою. Хозяин приглашал гусляров и скоморохов: тут-то
пелись старинные геройские песни; потом, когда хмель далеко
заходил в голову, начинали петь песни удалые, срамные;
скоморохи тешили компанию непристойными фарсами; часто
забавлялись соблазнительными анекдотами, шумели, свистали, плескали
один в другого вином, а иногда и дрались; и часто хозяин рместе
с слугой вытаскивал их, облитых кровью. Случались и убийства,
особенно из-за мест. В начале, когда сходятся на пир, говорит
одно старое обличительное слово, каждому хочется сесть на
высшее место, но надобно же кому-нибудь сидеть и на низшем;
огорченный не хочет и скрывает гнев в сердце, пока трезв; когда же
напьется, то в исступлении ума начинает словами задирать того,
5 Заказ 15 ИЗ
на кого сердится; если тот еще не напился, то промолчит; забияка
отпустит ему еще что-нибудь похуже и доведет до того, что тот
выйдет из себя, начнется брань и один другого шпырнет ножом.
«Где бо слышано инако ножевого убийства, токмо в пьянственных
беседах и играх, паче же о праздницех», — говорит это
обличительное слово. Крестьянские пирушки, даваемые по поводу
семейных праздничных торжеств хозяевами, назывались особым
пивцом, потому что тогда дозволялось им варить пиво, брагу и мед
для домашнего питья. Обыкновенно это позволение делалось
четыре раза в год: на Великий день, Дмитриевскую субботу, на
масленицу и на Рождество Христово или в другой день вместо
какого-нибудь из этих праздников. Право это крестьянин имел на
три дни, иногда же и на неделю; сверх того, такое же разрешение
давалось по поводу крестин и свадеб. Крестьянин должен был
каждый раз испрашивать дозволения начальства, и это дозволение
давалось с разбором — только лучшим людям. По окончании
льготного времени кабацкий голова печатал оставшееся питье до
другого праздника.
Братчины носили название ссыпных братчин, или ссыпчин, и
участники в братчине назывались ссыпцами, вероятно оттого, что
в старину каждый жертвовал на варение пива и браги зерном. Так
как ссыпцов могло быть много, то для распоряжения и соблюдения
порядка выбирался староста. На братчинах происходили разные
происшествия и споры, а потому братчинам издавна давали право
самосуда. Так, в Псковской судной грамоте говорилось: «И
братчины судить, как судили». Это право предоставлялось братчинам
и до конца XVII века. Однако в последнее время уголовные дела
не подлежали их домашнему разбирательству. Братчины
собирались по большей части в праздники и потому назывались именами
праздников, как-то: братчина Николыцина, братчина Покровщи-
на, братчина Рождественская; на Пасху было в обыкновении по
селам учреждать большую братчину в понедельник. В этих
сельских братчинах участвовали не только крестьяне, но и владельцы
вместе с ними зауряд. Братчины еще чаще, чем частные пиры,
сопровождались бесчинствами, и на них нередко происходили
драки и убийства, а потому благочестивые люди не советовали
участвовать на этих складчинах.
Русский народ издавна славился любовью к попойкам.
Еще Владимир сказал многознаменательное выражение: «Руси
веселие пити: не можем без того быти!» Русские придавали
пьянству какое-то героическое значение. В старинных песнях
доблесть богатыря измерялась способностью перепить других
и выпить невероятное количество вина. Радость, любовь,
благосклонность находили себе выражение в вине. Если высший
хотел показать свою благосклонность к низшему, он поил
его, и тот не смел отказываться: были случаи, что знатный
человек ради забавы поил простого, и тот, не смея
отказаться, пил до того, что падал без чувств и даже умирал.
Знатные бояре не считали предосудительным напиваться до
потери сознания и с опасностью потерять жизнь. Царские
114
послы, ездившие за границу, изумляли иностранцев своею
неумеренностью. Один русский посол в Швеции в 1608 году
в глазах чужестранцев обессмертил себя тем, что напился
крепкого вина и умер от того. Как вообще русский народ
был жаден к вину, может служить доказательством следующее
историческое событие: во время бунта в Москве, когда были
убиты Плещеев, Чистов и Траханиотов, сделался пожар.
Очень скоро дошел он до главного кабака... народ бросился
туда толпою; все спешили черпать вино шапками, сапогами,
всем хотелось напиться дарового вина; забыли и мятеж;
забыли и тушить пожар; народ валялся пьяный мертвецки,
и таким образом мятеж прекратился, и большая часть
столицы превратилась в пепел. До того времени, как Борис
введением кабаков сделал пьянство статьею государственного
дохода, охота пить в русском народе не дошла еще до такого
поразительного объема, как впоследствии. Простой народ пил
редко: ему дозволяли сварить пива, браги и меда и погулять
только в праздники; но когда вино начало продаваться от
казны, когда к слову «кабак» приложился эпитет — «царев»,
пьянство стало всеобщим качеством. Размножились жалкие
пьяницы, которые пропивались до ниточки. Очевидец
рассказывает, как вошел в кабак пьяница и пропил кафтан, вышел
в рубашке и, встретив приятеля, воротился снова, пропил
белье и вышел из царева кабака совершенно голый, но
веселый, некручинный, распевая песни и отпуская крепкое
словцо немцам, которые вздумали было сделать ему
замечание. Эти случаи были часты в Москве, и в городах, и в
деревнях — везде можно было видеть людей, лежавших без
чувств в грязи или на снегу. Воры и мошенники обирали
их, и часто после того зимою они замерзали. В Москве на
масленице и на святках в Земский приказ каждое утро
привозили десятками замерзших пьяниц.
Распространению пьянства в народе способствовали кабачные
головы и целовальники, которые прибегали ко всевозможнейшим
мерам, чтобы избавиться от наказания за недоборы в царской
казне, если они держали кабаки на веру, или чтоб воротить
заплаченное в казну, если брали вино на откуп. Они давали пьяницам
в долг как можно поболее, а между тем прибавляли счет,
пользуясь тем состоянием, когда пьяные не в силах уже были ни
размышлять, ни считать; потом, когда искушенные таким легким
средством получать хмельное даже и без наличных денег, пьяницы
порядочно запутываются в расставленной на них сети, кабацкие
головы объявляют, что пора платить; оказывается, что платить
нечем; тогда забирали имущество должников втрое дешевле настоя7
щей его цены; при этом страдали и невинные, жившие не в
разделе с должниками.
Случалось, что люди порядочного происхождения, то есть
дворяне и дети боярские, запивались до того, что спускали
свои поместья и пропивались донага. Из таких-то молодцов
образовался особый класс пьяниц — кабацкие ярыги. У этих
5* 115
удальцов не было ни кола, ни двора. Они жили во всеобщем
презрении и таскались по миру, прося милостыни; они
толпились почти всегда около кабаков и в кабаках, униженно
вымаливая у приходящих чарочку винца Христа ради.
Готовые на всякое злодеяние, они составляли при случае шайку
воров и разбойников. В народных песнях и рассказах они
представляются искусителями молодых неопытных людей.
Некоторые пьяницы оправдывали себя тем, что они, напившись,
ведут себя смирно: «То есть не пьяница, — говорили они, —
иже упився ляжет спати; то есть пьяница, иже упився
толчет, биет, сварится». На это проповедники Церкви отвечали
им: «И кроткий упився согрешает, аще и спати ляжет:
'кроткий убо пьяница, аки болван, аки мертвец валяется,
многажды бо осквернився и домочився смердит, егда убо
кроткий пьяница в святый праздник лежит не могий двиг-
нутися аки мертв, расслабив свое тело, мокр, нальявся яко
мех до горла; богобоязливым же, наслаждающим сердца в
церквах пения и чтения, аки на небеси мнятся стояще; а
пьяница не могий главы своея возвести, смрадом отрыгая от
многа питья, чим есть рознь поганых». Церковные наставники
объясняли, что от пьяного человека удаляется ангел-хранитель
и приступают к нему бесы; пьянство есть жертва дьяволу,
и отец лжи и зла говорит, что ему эта жертва милее, чем
жертва идолопоклонников: «Николи же тако возвеселихся о
жертве поганых человек, яко от пьяных крестьян: в пьяницах
бо вся делеса моего хотенья; лучше ми от поганых крестьян
и запоец, нежели от поганых идоломолец, яко и поганых
Бог соблюдает, а пьяниц ненавидит и гнушается их; аз же
радуются о них, яко мои суть пьяни».
Чтобы положить границы неистовому пьянству в кабаках,
правительство вместо их завело кружечные дворы, где продавали вино
пропорциями не менее кружек, но это не помогло. Пьяницы
сходились в кружечные дворы толпою и пили там по целым дням.
Другие охотники до питья покупали не только кружками, но
ведрами и продавали тайно у себя в корчмах.
Более всего пристанищем самых отъявленных негодяев были
тайные корчмы, или ропаты. Под этим названием разумелись еще
в XVI и XVII веках притоны пьянства, разврата и всякого
бесчинства. Содержатели и содержательницы таких заведений получали
вино в казенных заведениях или курили тайно у себя и продавали
тайно. Вместе с вином в корчмах были игры, продажные
женщины и табак. Как ни строго преследовалось содержание корчем, но
оно было до того выгодно, что многие решались на него, говоря:
барыши, полученные от этого, до того велики, что вознаграждают
и за кнут, которого можно было всегда ожидать, коль скоро
начальство узнает о существовании корчмы.
116
XVIII
Увеселения, игры, забавы
У высших классов порывы всякой веселости были
подчинены правилам церковного порядка. У тех, которые хотели
быть и казаться благочестивыми, церковное пение было
единственным развлечением. В старину существовали для него
школы: мальчики учились у церковных дьячков и составляли
певческие хоры. Нищие, прося милостыню, и колодники,
которых выводили из тюрьмы собирать подаяние, с
жалобными причетами пели песни нравственного и религиозного
содержания и приводили в чувство тогдашнюю публику.
Музыка преследовалась Церковью положительно. Сами народные
песни считались бесовским потешением. Православная
набожность хотела всю Русь обратить в большой монастырь.
Однако русский народ постоянно соблазнялся запрещенным
плодом; даром, что инструментальная музыка возбранялась не
только Церковью, но даже и светской властью, славянская
натура вырывалась из византийской рамки, в которую ее
старались заключить. В поучении Ефрема Сирина,
переделанном на русский лад, говорится, что Христос посредством
пророков и апостолов призывает нас, «а дьявол зовет гусльми
и плесце и песньми неприязненными и свирельми». Бог
вещает: «Приидите ко мне вси», — и никто не двинется; а
дьявол устроит сборище (заречет сбор), и много набирается
охотников. Заповедай пост и бдение — все ужаснутся и
убегут, а скажи «пирове ли, вечеря ли, песни приязны, то
все готовы будут и потекут, аки крылаты». У русских были
свои национальные инструменты: гусли, гудки (ящики со
струнами), сопели, дудки, сурны (трубы), домры, накры (род
литавр), волынки, легки, медные рога и барабаны. Всем этим
тешили православный люд скоморохи, составлявшие у нас в
некотором смысле особенный ремесленный цех, постоянно
преследуемый ревнителями благочестия. Иногда они
образовывали вольную труппу из гулящих людей всякого
происхождения, иногда же принадлежали к дворне какого-нибудь
знатного господина. Они были не только музыканты, но
соединяли в себе разные способы развлекать скуку толпы:
одни играли на гудке, другие били в бубны, домры и накры,
третьи плясали, четвертые показывали народу выученных
собак и медведей. Между ними были глумцы и смехотворцы-
потешники, умевшие веселить народ прибаутками, складными
рассказами и красным словцом. Другие носили на голове
доску с движущимися куклами, поставленными всегда в
смешных и часто в соблазнительных положениях; но более
всего они отличались и забавляли народ позорами или
действами, то есть сценическими представлениями. Они
разыгрывали роли, наряжались в странное (скоморошье) платье
117
и надевали на себя маски, называемые личинами и харями.
Обычай этот, любимый народом, был очень древен, и еще
в XIII веке митрополит Кирилл осуждал «позоры некаки
бесовские, со свистанием, и кличем, и воплем». В числе
таких позоров было, между прочим, вождение кобылки,
какое-то языческое торжество, называемое благочестивыми
лицами бесовским. Без сомнения, все эти позоры заключали в
своих основаниях остатки древней славянской мифологии,
сильно искаженные в продолжение многих веков. Скоморохи
ходили большими компаниями, человек в пятьдесят и более,
из посада в посад, из села в село и представляли * свои
позоры преимущественно в праздники. «Ленивые безумные
невегласы дожидаются недели (воскресного дня), чтоб
собираться на улицах и на игрищах, — говорится в предисловии
к слову о неделе святого Евсевия, — и тут обрящеши ина
гудяща, ина плещуща, ина поюща пустошная, пляшуща", ови
борющася и помизающа друг друга на зло».. В праздничный
день гульба начиналась с самого утра, народ отвлекался от
богослужения, и так веселье шло целый день и вечер за-
полночь; местами представлений были улицы и рынки; от
этого само слово «улица» иногда означало веселое игрище; и
старые и малые глазели на них и давали им кто денег,
кто вина и пищи. Скоморохи возбуждали охоту в зрителях,
и последние сами принимались петь, играть, плясать и
веселиться. Зимою разгулье скоморохов было преимущественно
на святках и на масленице; тут они ходили из дома в дом,
где были попойки, и представляли свои потехи; некоторые,
не совсем разборчивые в средствах возбудить веселие гостей,
приглашали их на свадьбы; когда ехали к венцу, впереди
бежали смехотворцы и глумцы, кричали и кривлялись, а на
свадебном пиру гудочники и гусельники сопровождали
звуками своих инструментов свадебные песни. Вообще же песни
их были большею частью содержания, оскорбляющего
стыдливость; их танцы были непристойны; наконец, их позоры
также имели предметом большею частью что-нибудь
соблазнительное и тривиальное, как это можно видеть из
сохраненных Олеарием изображений скомороха, сидящего верхом
на другом скоморохе и представляющего, как видно, половое
совокупление животных, и другого скомороха в самом
отвратительном и непристойном образе. Веселость неразвитого
человека всегда ищет потешного в том, что образованное чувство
находит только пошлым.
Правительство, следуя внушениям Церкви, не раз
приказывало воеводам ломать и жечь их инструменты и хари и бить
батогами тех, кто созывал к себе песенников и глумцов. При Михаиле
Федоровиче однажды в Москве не только у скоморохов, но и
вообще в домах музыкальные инструменты сожигали; таким образом
их было истреблено пять возов. Лишенные всякого
покровительства власти, скоморохи нередко терпели и от частных лиц: их
зазывали в дома и, вместо того, чтобы давать им, отнимали у них,
113
что они получали, ходя по миру, да вдобавок еще колотили. Эти
случаи побуждали их также прибегать к насильственным
поступкам: принужденные .для своей безопасности ходить большими
ватагами, они также иногда нападали на проходящих и
проезжающих, грабили и убивали их. Было поверье, что под
видом таких весельчаков ходили бесы; «умысли сатана, како отвра-
тити людей от церкви, и собрав беси, преобрази в человеки и
идяше в сборе велице упестрене в град и вси бияху в бубны,
друзии в козици и в свирели и инии, возложьше на яскураты,
идяху на злоумысление к человеком; мнози же оставивши церковь
и на позоры бесов течаху». Прозорливые мнихи видели, как
лукавые бесы невидимо били христиан железными палицами, отгоняя
их от Божьего храма к играм и «ужами за сердце почепивше и
влечаху».
В праздничные дни народ собирался на кулачные и палочные
бои. Эти примерные битвы происходили обыкновенно при жилых
местах, зимою чаще всего на льду. Охотники собирались в
партии, и таким образом составлялись две враждебные стороны. По
данному знаку свистком обе бросались одна на другую с криками;
для возбуждения охоты тут же били в накры и в бубны; бойцы
поражали друг друга в грудь, в лицо, в живот — бились неистово
и жестоко, и очень часто многие выходили оттуда калеками, а
других выносили мертвыми. Палочные бои имели подобие
турниров и сопровождались убийствами еще чаще кулачных боев. Зато
на них-то в особенности русские приучались к ударам и побоям,
которые вообще были неразлучны со всем течением русской
жизни и делали русских неустрашимыми и храбрыми на войне.
Сверх того, молодые люди собирались в праздники —• боролись,
бегали взапуски, скакали на лошадях вперегонки, метали копьем
в кольцо, положенное на земле, стреляли из луков в войлочные
цели и в поставленные шапки. В этих играх победители получали
награды и выигрывали заклады. Вероятно, в старину существовал
обычай увенчивать удалых и ловких, как это показывает
старинная поговорка: «Без борца нет венца». Церковь карала отлучением
предающихся таким забавам; в правиле митрополита Кирилла,
вошедшем в Кормчую и таким образом постоянно служившем
церковным законом, участники таких забав изгонялись из церквей
(да изгнани будут от сынов Божьих церквей)-, а убитые в
примерных схватках, кулачных и палочных боях и вообще заплатившие
нечаянно жизнью за удовольствие потешиться на этих турнирах
«да будут, — сказано в том же правиле Кормчей, — прокляти и в
сей век и в будущий; аще ли нашему законоположению кто
противится, ни приношения из них принимати, рекше просфуры и
кутии, свечи; аще же умрет таков, к сим иерей не ходит и службы
та них не творит». Также, конечно, по церковному взгляду
предосудительны были и все игрища.
Женщины и девицы летом в праздники водили хороводы и
собирались для этого обыкновенно на лугах близ селений. Русские
пляски были однообразны: они состояли в том, что девицы, стоя
на одном месте, притопывали, вертелись, расходились и сходи-
119
лись, хлопали в ладоши, выворачивали спину, подпирались
руками в бока, махали вокруг головы вышитым золотом платком,
двигали в разные стороны головою, подмигивали бровями — все эти*
движения делались под звуки инструмента какого-нибудь
скомороха. В высшем обществе пляска вообще считалась неприличною:
но господа и госпожи по праздникам иногда заставляли пред
собою плясать своих рабов, особенно литовских и татарских
пленников. По церковному воззрению, пляска, особенно женская,
почиталась душегубительным грехом; «о, злое проклятое плясание!
(говорит один моралист) о, лукавые жены многовертимое
плясание! пляшущи бо жена любодейца диавола, супруга адова, невеста
сатанина; вси бо любящий плясание бесчестие Иоанну Предтече
творят — со Иродьею неугасимый огнь и неусыпаяй червь
осудить!» Даже смотреть на пляски считалось предосудительным: «Не
зрите плясания, и иные бесовских всяких игор злых прелестных
да не прельщены будете, зряще и слушающе игор всяких
бесовских; таковыя суть нарекутся сатанины любовницы». Любимым
препровождением времени женского пела во всех классах были
качели и доски. Качели устраивались двумя способами: первого
рода качели делались очень просто: прикреплялась к веревке
доска, на нее садились, а другие веревками качали; другого рода
качели строились сложнее, как и в настоящее время делаются в
городах.
В праздник Пасхи некоторые составляли себе из этого
прибыточный промысел: устраивали качели, пускали качаться
за деньги и за каждый раз брали по серебряной деньге с
лица. Женщины простого звания, посадские и крестьянки,
качались на улицах, а принадлежащие к зажиточным и
знатным семействам — у себя во дворах и садах. Качанье
на досках происходило так: на бревно клали доску, две
женщины становились по краям ее и, подпрыгивая,
подкачивали одна другую, так что, когда одна подымалась, то
другая опускалась. Сверх того, женщины качались как-то на
колесе.
Зимним увеселением мужчин и женщин было катание на
коньках, по льду: делали деревянные подковы с узкими
железными полосами, которые спереди загибались вверх* так
что железо удобно резало лед. Русские катались на коньках
с удивительною легкостью и проворством. Также зимою
катались на салазках. Зимние праздничные вечера проводились
в домашнем кругу и с приятелями: пелись песни, бахары
(рассказчики) рассказывали - сказки, собеседники загадывали
загадки, наряжались, смешили друг друга, девушки гадали.
Вообще и на эти увеселения Церковь смотрела
неблагосклонно: «Не есть закон христианину всякому баснословити, ибо
рече Христос во Евангелии: о всяком глаголе праздне воздадят
слово человеци в день единый». Цари запрещали народу
всякую веселость; но в то же время и царские семейства
забавлялись песнями, которые пели им потешники, сказками,
смотрением на пляску и даже разными действами или сце-
120
ническими представлениями. Во дворце были веселые
гусельники, скрипичники, домрачеи, цимбальники, органисты; штат
двора составляли между прочими дураки-шуты и дурки-шу-
тихи, карлы и карлицы, потешавшие высоких особ своими
шалостями. Это делалось даже и при благочестивом Федоре
Иоанновиче, несмотря на всю монашескую обстановку двора;
точно так же и у знатных господ был свой подобный
придворный штат шутов, шутих, сказочников, песельников,
скоморохов, не знавших никакой другой обязанности, кроме
той, чтобы в часы досуга потешать господ и гостей. Средь
потешников были такие, которых обязанность состояла в том,
чтобы напиваться допьяна и делать всякого рода дурачества
в пьяном состоянии. Строгий и набожный царь Алексей
Михайлович при всем своем аскетическом благочестии в дни
рождения и крещения детей своих устраивал на дворе музыку
из инструментов того времени, несмотря на то, что духовные
называли такие инструменты бесовскими сосудами; а под
конец своего царствования этот государь до того подчинился
иноземному влиянию, что допустил у себя театр; сначала
играли предметы из священной истории, а далее, узнавши,
что другие монархи увеселяются танцами, царь отважился
смотреть на балет «Оршей».
Игры, имевшие целью выигрыш, были в употреблении в
России: зернь, карты, шахматы и тавлеи, или шашки. Зернью
назывались небольшие косточки с белой и черною стороною.
Выигрыш определялся тем, какою стороной упадут они, если
будут брошены; искусники умели всегда бросать их так, что
они падали той стороной, какою хотелось. Эта игра, как и
карты, считалась самым предосудительным препровождением
времени, и в каждом наказе воеводам предписывалось
наказывать тех, кто будет ею заниматься. При Алексее
Михайловиче однажды жадность к деньгам пересилила эту
нравственную боязнь власти; в Сибири, в 1667 году зернь
и карты отданы были на откуп, но в следующем году
правительство устыдилось такого поступка и опять уничтожило
откуп и подвергло их преследованию. Игры эти тем менее
казалось возможным допустить, что они были любимым
занятием лентяев, гуляк, негодяев, развратных людей;
пристанище их было в корчмах или в кабаках, где им для игры
отводили тайные кабацкие бани. Как бывает всегда со всем
запрещенным, по мере больших преследований зернь и карты
более привлекали к себе охотников. Игры эти были
повсеместны, особенно между служащими людьми. Русские рас--
пространили употребление их между инородцами Сибири:
остяками, татарами и другими, и так как русские играли
лучше инородцев, то оставались всегда в выигрыше и
приобретали от них дорогие меха. Карты были в меньшем
употреблении, но как забава были допущены даже при дворе;
так, при Михаиле Федоровиче для забавы маленькому
Алексею Михайловичу со своими сверстниками куплены были
121
карты. Что касается до шахмат, эта игра была любимым
препровождением времени царей и бояр, да и вообще русские
очень любили их в старину, как и тавлеи, или шашки.
Однако благочестие и эти игры причисляло к такой же
бесовщине, как зернь, карты, музыка.
Наряду с зернью и картами считали непозволительным
удовольствием табак; но как ни строго преследовали это бесовское
зелье, однако в XVII веке он был всенародно распространен на
Руси. Русские получали его отчасти от европейских торговцев,
отчасти с Востока от греков, армян, персиян, турок, отчасти от
малороссиян. Были такие охотники до табака, что готовы были
отдать за него последнюю деньгу и всегда почти платили за него
вдвое и втрое против настоящей цены, потому что он был
запрещен. Табаком по России торговали удалые головы, готовые
рисковать и познакомиться с тюрьмою и с кнутом, лишь бы копейку
зашибить. При продаже табака его называли не настоящим
именем, а каким-нибудь условным названием, например: свекольный
лист, толченый яблочный лист. Табак курился не из чубука, а из
коровьего рога, посередине которого вливалась вода и вставлялась
трубка с табаком большой величины. Дым проходил через воду.
Курильщики затягивались до того, что в два или в три приема
оканчивали большую трубку и нередко ослабевали и падали без
чувств. Несколько таких молодцов сходились «попить заповедного
зелья табаку» и передавали друг другу трубку. «Ах, какое чудесное
зелье табак! Нет ничего лучше в свете табаку; он мозг
прочищает!» — говорили они, очнувшись от одурения, сопровождавшего
излишнее курение слишком крепкого табака. Люди благочестивые
и степенные, напротив, остерегали, что, если «который человек
начнет дерзати бесовскую и богоненавистную и святыми
отреченными табаку, то в того человека мозг ускрутит и вместо того мозга
впадет в главу его тая смердящая воня, изгубит в нем весь мозг
его, начнет тако смердящая тая воня пребывати во главе его и
неточию во единой главе его, но и во всех костях его тая
смердящая воня вселится вместо мозгов. И аще ли кий человек которым
ухищрением начнет творити таковое дело бесовское, таковому бо
человеку не подобает в церковь Божию входити, и креста и еван-
гелья целовати, и причастия отнюдь не давати, свещи или
просфоры или ефиману и всякаго приношения, и с людьми ему не
мытися и не ясти, дондеже престанет от таковыя дерзости». В
одной старинной легенде рассказывается, что бес достал семена
табачные из глубины ада и посеял их на могиле блудницы.
Воспитанные разложившимся ее телом адские семена произвели
траву, а бес научил употреблению ее людей, которые, сами того не
зная, отдаются в державу дьявола.
Как зернь и карты, табак при Алексее Михайловиче однажды
несколько времени служил корыстолюбию правительства,и в
Сибири был отдан на продажу от казны, но вскоре опять подвергся
запрещению по убеждению духовенства.
Самою достойнейшею высшего класса забавою считалась
охота, хотя благочестивые ригористы и на нее смотрели
122
неблагосклонно. У нас она не была принадлежностью только
высших классов, как на Западе, потому что зверей было
слишком много; но простолюдины занимались ею для выгод
и как повинностью. В XVI веке тяглые люди обязаны были
ходить на волчьи, лисьи и медвежьи поля, что на тогдашнем
языке значило гоняться за зверем. В XVI и XVII веках не
раз государи выезжали из Москвы охотиться около Можайска,
где было множество зайцев, и около Переяславля. В разных
местах устроены были дворы для содержания собак и
пойманных зверей, приготовленных для примерной травли.
Владельцы имений сбирали соседей, устраивали поля и
приготовляли все необходимое для стола. Государь выезжал
в поле с большою свитой князей и бояр, сам одетый в
золотой терлик или чугу, с двумя продолговатыми ножами и
кинжалом за поясом и с кистенем за спиною; в руках у
него был хлыст длиною в локоть с медным гвоздем на конце;
ближние люди около него держали секиры и шестоперы.
Половина охотников были одеты в черное, другая половина —
в желтое платье. Окружив рощу, все разом вскрикивали и
пускали гончих собак; те выгоняли зайцев, а тут спускали
других собак, называемых курцы (борзые), с пушистыми
хвостами. Когда собаки ловили зайцев, охотники кричали:
«Уй! уй!» Таким образом затравляли до трехсот зайцев зараз.
После того все отправлялись к деревянной башне, около
которой были раскинуты шатры; шатер государя отличался,
как и следовало, особым великолепием. Все входили в свои
шатры. Государь переменил платье и приглашал гостей;
подавали закуску, преимущественно из лакомств; придворные
подносили государю кушанье с подобострастием на коленях;
по обычному столовому этикету государь подавал и посылал
от себя подачи; между закусками подавали напитки. Так
описывается охота Василия Иоанновича. Это описание может
дать понятие о ходе охоты и у частных лиц. Было в обычае
ловить живых медведей и волков тенетами, чтобы потом
устраивать зрелища их травли. Как государи, так и знатные
господа любили эту забаву. По современным известиям, такие
забавы владельцев были нередко очень тяжелы для их людей
и крестьян. Насильно их сгоняли, «неволею было сбираемо
людское множество», держали по нескольку дней, отбивая от
земледельческих работ; приставники, то есть холопы, близкие
к господину, брали с них посулы, чтоб не гонять. И гоняли
тех, кто не мог или не хотел дать; во время охоты,
придираясь к чему-нибудь, били и истязали их; да вдобавок
нередко такие увеселения оканчивались «многообразным
человеком губительством на различных игрищах и в ловитвах; в
лесах и в болотах снегом и студением померзаеми, дождемы
и бурею пореваеми* всяческим же гладом изнуряеми, и мнози
человеци многими виды живота лишаеми, от зверей уязвляеми
и умерщвляеми, и ины многи напасти содевахуся им
таковыми в ловитвах злыми стремлении; их же в гресех непще-
123
ваху, о сем же и вины на ся не полагаху, но паче
радовахуся, во утешение вменяху себе и глаголаху: вельми
утешихомся; еще же и покаяния о сих не поминаху».
Охотники, доставлявшие живых медведей, всегда получали
награждения кубками и одеждами. Пойманных зверей содержали в
клетках, пока господину не вздумается посмотреть на травлю.
Заставляли медведей сражаться с собаками и с людьми. В
последнем случае устраивалась арена, обнесенная стеною, над
которою делались места для зрителей. На эту арену входили
охотники, потом впускали медведя и запирали арену. Зверь
становился на задние лапы и ревел; искусство бойца состояло
в том, чтобы не допустить его броситься на себя;
предупреждая нападение, боец сам бросался на него, поражал
между передних лап рогаткою и упирался в нее ногою;
таким образом случалось, что медведь погибал с первого
удара. Победителя призывали перед господ и давали ему
выпить, а потом жаловали материями или сукном.
Благочестивые пастыри тщетно вопили против таких увеселений и
забав и грозили епитимией не только тем, кто их устраивал,
но и тем, кто на них смотрел: «Аще кто медведя или иная
животная различная игралища прехищряя, и глумы бья, и
на позоры человеки собираяй, и ловитвам прилежаяй, и
ристания творяй на конях и колесницах, и самоборства, и
прочая борения и всякие скоморошества — и не токмо сам
кто сия творяй, но и слушая, и то сих в слабость едино
запрещение имать, еже сих с епитимиею каятися и престати
от таковых».
Соколиная и кречетная охота издавна считалась
благородною забавой князей и царей. Птицы ловились в Сибири и
на берегах Печоры посредством сетей, к которым привязывали
для приманки голубей. Кречеты ценились в особенности; этот
род соколов был огромного роста — до двух футов, с
необыкновенною легкостию в полете, цветов: бурого, пестрого,
серого, красноватого и белого; белые кречеты ценились выше
всех по достоинству. Птиц этих следовало приучать и сделать
ручными, то есть чтоб они, по желанию охотника, слетали
с его руки, хватали на лету добычу и возвращались к нему
с нею. Чтобы довести их до такого состояния, несколько
суток (трое или четверо) не давали им спать: для этого
надевали им на ноги путы и сажали на кольцо, повешенное
на веревку. Как только птица начинала засыпать, сокольник
потрясал кольцо; от этого беспокойства она забывала
прежнюю свободу и впадала в беспамятство. Однако после
некоторого времени птица опять дичала, и снова надобно было
ее приучать. У царей этим занимались сокольники,
составлявшие особый отдел в числе царской дворни. Звание это
существовало в старину при князьях. Еще в XIV веке
великие московские князья по договорам с Великим
Новгородом посылали в Двинскую Землю своих сокольников на
-промысел за птицами. Василий Иоаннович, любитель охоты,
124
брал вместе с собаками на охоту и кречетов. При Иоанне
Васильевиче сокольники получили правильную организацию;
учреждено было звание сокольничего, начальника сокольников.
Из северо-восточной Руси привозили царю каждогодно
кречетов в больших коробах, обитых в середине овчинами. При
царе Борисе охота с кречетами и соколами составляла
обычную царскую потеху. Но никогда соколиная охота не была
в такой чести, как при Алексее Михайловиче. Этот царь
любил ее до страсти. Сокольники поставлены были по
достоинству выше стольников, а сокольничий был царев
любимец. У него был помощник, называемый подсокольничим,' и
начальные сокольники; в ведении каждого из них были
рядовые сокольники, а при них состояли поддатни, или
ученики; царь облекал возведение их в должности
византийскою обрядностью. Каждый из царских кречетов носил особое
название; из таких названий некоторые были и не русские
(Гамаюн, Малец, Беляй, Смеляй, Умор, Ширяй, Промышляй,
Мастер, Арбач, Буян, Армач, Ар дач, Казак, Алай, Адар,
Бумар, Амар, Любава, Людава). Любимое поле охоты у царя
Алексея было в Коломенском селе; но иногда царь ездил с
сокольниками по более отдаленным краям, например, около
Твери И' Владимира. Охотились за всеми птицами; но
преимущественно царь любил охоту за такими, с которыми дело
не обходилось без боя и где его любимые соколы и кречеты
одерживали победы. Каждая такая стычка называлась ставкою,
царь особенно любил ставки с коршунами. Кречеты делали
разные маневры: враги то расходились, то сходились, иногда
воздушное поле битвы простиралось версты на три, и на
этом пространстве происходило до семидесяти ставок в одну
добычь. Случалось, что кречет залетал далеко и пропадал:
тут наступало время досады и гнева; но зато наступало
бремя радости, когда беглец возвращался. Царь записывал
время знатных побед, одержанных кречетами, челигами и
соколами, их полеты кверху и книзу. Иногда царь посылал
своих птиц в подарок посторонним государям, особенно в
Персию, потому что шах персидский их любил. Русские
птицы ценились до 1000 рублей за штуку.
XIX
Праздники
Праздники были временем отклонения от обычного порядка
ежедневной жизни и сопровождались разными обычаями,
укоренившимися в домашней жизни. Благочестивые люди вообще
почитали приличным ознаменовать праздничное время делами
благочестия и христианского благотворения. Ходить в церковь
к установленному богослужению было первой потребностью;
125
кроме того, хозяева приглашали к себе духовенство, служили
в доме молебны и считали долгом кормить нищих и подавать
милостыню. Таким образом, цари учреждали трапезы для
нищих в собственных своих хоромах и, покормивши их, из
собственных рук раздавали деньги, отправлялись в богадельни,
посещали тюрьмы и давали милостыню заключенным. Такие
благотворительные путешествия происходили особенно пред
большими праздниками: перед Пасхою и Рождеством
Христовым, также, на масленице; но совершались и в другие
господские и богородичные праздники. Обычай этот
наблюдался повсеместно знатными господами и вообще зажиточными
людьми. Алчных кормить, жадных поить, нагих одевать,
больных посещать, в темницы приходить и ноги умывать — по
выражению времени, составляло рамое богоугодное
препровождение праздничных и воскресных дней. Были примеры, что
за такие благотворительные поступки цари повышали в чине,
как за службу. Дни праздничные считались приличнейшим
временем для пиров, как уже было сказано выше.
Законодательство русское помогало Церкви, возбранявшей отправлять
житейские труды в праздничное время; запрещало судить и
сидеть в приказах в большие праздники и воскресные дни,
кроме, впрочем, важных нужных государственных дел;
торговые люди должны были прекращать свои занятия накануне
воскресного и праздничного дня за три часа до вечера; и
даже в будни по случаю храмовых праздников и крестных
ходов запрещалось работать и торговать до окончания
богослужения; но эти правила исполнялись плохо, и, несмотря
на строгую подчиненность церковным формам в жизни, к
изумлению иностранцев, они торговали и работали и по
воскресеньям, и по господским праздникам. Зато простой
народ находил, что ничем так нельзя почитать праздника,
как пьянством; чем больше был праздник, тем буйнее был
разгул, тем более выбиралось в казну дохода в кабаках и
кружечных дворах, даже во время богослужения пьяницы уже
толпились около питейных домов; «кто празднику рад, тот
до свету пьян», — говорил и говорит народ великорусский.
В XVI и XVII веках новый год праздновался 1 сентября. Этот
праздник назывался днем летопровождения. В Москве все
духовенство собиралось в Кремль, тысячи народа толпились на площади.
Патриарх с клиром и духовенством выходил на Красную площадь;
выходил царь в сопровождении множества бояр и ближних людей
в великолепных нарядах. Патриарх целовался с царем в церкви,
осенял его благословением, потом осенил весь народ на все
стороны, призывая благословение на предыдущий год. Такое же
благословение торжественно давали и епископы. День этот проводился
весело русским народом.
В неделю перед Рождеством Христовым толпы привлекались
на зрелище пещного действия, которое отправлялось во многих
местах и долее сохранялось в Новгороде. Что оно некогда было и
в Москве, указывает существование «халдеев», которые, по изве-
126
стию Олеария, дурачились по улицам во время святок. Зрелище
происходило в церкви1. Особенностью празднества Рождества
Христова было славить Христа. Священники ходили из дома в
дом. В сам день Рождества было в обычае печь крупитчатые
калачи или перепечи и посылать приятелям в дома. Вечера святок,
как и теперь, были временем гаданий и девичьих забав. В
простонародье сохранились в эти дни заветные обряды язычества. В на-
вечерие Рождества Христова бегали по городу или по селу и
кликали коледу и усень, или таусень; в навечерие Богоявления
кликали плуги2. Эти обычаи наблюдались не только по разным
глухим местам Руси, но и в столице, у подножия Кремля. Вообще
время от дня Рождества Христова до Богоявления проводилось
разгульно; пьянство доходило до бесчинства, тут-то чаще
происходили кулачные бои; по улицам ходили толпы песельников, а халдеи,
отправлявшие перед праздником действо чуда над отроками,
бегали в своих нарядах по городу и обжигали встречным бороды. На
праздник Богоявления некоторые купались в реке после окончания
водоосвящения; в особенности подвергали себя такой пытке те,
которые во время святок позволяли себе разные увеселения и пе-
реряживанья.
На масленице бесчинства было еще более; тогда ночью по
Москве опасно было пройти через улицу; пьяницы приходили в
неистовство, и каждое утро подбираемы были трупы опившихся и
убитых.
В воскресенье, перед постом, родные и знакомые посещали
один другого и прощались3. Равным образом встретясь на
улицах, говорили друг другу: «Прости меня, пожалуй!» Ответ
был: «Бог простит тебя». Тогда после обедни, вспоминая
родителей, ездили по церквам и монастырям и прощались с
гробами усопших. С наступлением великого поста начинались
дни воздержания; те самые, которые в мясоед и на масленице
позволяли себе неумеренность в пище и питье, теперь
питались одним кусочком хлеба с водою в день; мужья избегали
жен; встречаясь друг с другом, знакомые напоминали один
другому о христианском житье и посте в ожидании светлого
праздника. В старину как принадлежность поста существовал
обычай посылать друг другу так называемые укрухи с
разными фруктовыми лакомствами и вином. Это делалось, как
видно, по праздникам и субботам, когда Церковь ослабляет
строгость великого поста. День вербного воскресенья
привлекал зрителей на оригинальную церемонию ведения осла, при-
1 Пещное действие — церковный обряд, представление, содержание
которого заключается в чудесном избавлении от смерти в раскаленной
халдейской печи трех отроков, не пожелавших по приказу вавилонского
царя Навуходоносора поклониться языческому божеству — золотому
истукану.
2 Коледа, или коляда, усень, или таусень; плуги — старинные
обрядовые песни.
3 Прощались — здесь в смысле просили друг у друга прощения.
127
надлежащую к сфере церковных обрядов. Пасха
праздновалась, как и теперь, всю неделю, и крашеные яйца, как. и
теперь, составляли особенность праздника. Всю страстную
неделю повсюду толпились продавцы красных яиц; другие
расписывали их золотом; некоторые яйца были гусиные или
куриные вареные, а иные деревянные; при христосовании
считали необходимым дать яйцо, а если христосовались люди
неравного достоинства, то яйцо давал высший низшему. В
этот праздник существовал обычай, по которому бояре, а за
ними и другие сословия являлись к царю и подносили
подарки; точно так же подносили дары крестьяне господам.
Эти подарки назывались великоденскими припасами; со своей
стороны и господа их дарили, когда целовали. На святой
неделе на улицах городов и посадов господствовала крайняя
пестрота одежд и всеобщее удовольствие; всю неделю звонили
в колокола, веруя, что этот звон утешает на том свете
усопших. Русские, встречаясь между собою, целовались: никто
не мог отказаться от пасхального поцелуя; однако высшие
не всегда дозволяли это низшим себя; так, царь не
христосовался ни с кем, исключая патриарха* а давал целовать
свою руку. В старину существовал обычай христосоваться с
мертвыми, теперь почти уже вышедший из употребления. В
день Пасхи после заутрени ходили' на могилы родителей и
родственников и восклицали: «Христос воскресе!» и бросали
яйцо на могилу. Так точно ,и царь христосовался с усопшими
предками в Архангельском соборе и Вознесенском монастыре.
Благочестивые люди старались святые дни воскресного
праздника провести в делах милосердия и в эти дни особенно
кормили нищих, раздавали милостыню, посылали пособие
заключенным. Но в массе простого народа духовное торжество
воскресения Христова уступало место материальной радости:
толпы наполняли кабаки, на улицах шатались пьяные и так
же, как на масленице, по ночам случались убийства.
Из церковных праздников в простом народе суббота перед
Троицыным днем и рождеством Иоанна Предтечи
сопровождалась полу языческими обрядами. Троицкая суббота, день
всеобщего поминовения усопших, была вместе с тем днем
забав и веселищей. Народ собирался на кладбищах по
жальникам1: сначала плакали, голосили, причитывали по родным,
потом появлялись скоморохи и гудцы и причудницы: плач
и сетование изменялись на веселие; пели песни и плясали.
В праздник Купала во многих местах народ бессознательно
праздновал языческую ночь, проводя ее в забавах. Мы имеем
любопытное описание такого народного праздника в Пскове
в 1505 году. Когда наступал вечер 23 июня, весь город
поднимался; мужчины, женщины, молодые и старые,
наряжались и собирались на игрище. Тут являлись неизбежные
1 Жальник — могила, погост.
скоморохи и гудцы с бубнами, сопелями, дудками и
струнными гудками: начиналось, по выражению современника,
ногам скакание, хребтам вихляние. Женщины и девицы
плясали, прихлопывая в ладоши, и пели песни,
принадлежащие этому празднику. По известию монаха, который считал
эти забавы угождением бесам, в эту ночь происходило много
соблазнительного по поводу сближения молодых людей обоих
полов.
XX
Домашние обряды
Родины и крестины,
брак, новоселье,
смерть, погребение
Пиры и увеселения сопровождали семейные события.
Рождение младенца ознаменовывалось всегда домашним торжеством.
Зажиточные люди учреждали родинные столы, а крестьяне
приготовляли особое пйвцо и брали для того разрешение от
начальства. Родильницы получали от гостей подарки, обыкновенно
деньгами: это соблюдалось и у знатных, но только для исполнения
обычаев, ибо родильнице в доме боярском давали по золотому,
хотя такая сумма не могла чего-нибудь составить для тех, кому
дарили. Русские спешили крестить; и чаще всего крещение
совершалось в восьмой день по рождении, но иногда в сороковой, так
как эти числа напоминали в младенческой жизни Иисуса Христа
события обрезания и сретения; имя нарекали чаще всего
случайно, по-названию святого, которого память случалась в день
крещения. Крещение происходило у всех сословий в церквах и
допускалось в домах только в крайнем случае, по болезни
новорожденного, да и тогда соблюдалось, чтобы обряд происходил
непременно не в той комнате, где дитя родилось. Исстари, как
показывают это вопросы и ответы Кирика1, комната, где родился
младенец, несколько дней считалась оскверненною. Выбор
восприемников падал чаще всего на духовного отца или родственника.
При крещении на младенца надевали крест: медный, серебряный
или золотой, который оставался на нем во всю жизнь как символ
его принадлежности к христианскому обществу. Восприемнику
священник возлагал на шею белый платок и связывал его обоими
концами; а по окончании обряда платок этот снимался и оставался
в церкви. После обряда, в тот же день, учреждался крестинный
стол, и при этом, кроме гостей, кормили и нищих. Царь в день
крещения своего дитяти делал торжественный стол для патриарха,
духовных властей и светских сановников; по окончании обеда ду-
1 Кирик — дьякон новгородского Антониева монастыря в XII веке.
Оставил сочинение «Учение, имже ведати человеку числа всех лет».
129
ховные благословляли новорожденного, а прочие гости подносили
ему дары. В царском быту это был единственный раз, когда
царское дитя показывали до совершеннолетия; с тех пор оно
оставалось на долгое время погребенным в глубине постельных хором.
Крещение царского младенца не ограничивалось одним обычным
крестинным столом. По городам и монастырям ездили жильцы с
грамотами, возвещающими о рождении царского детища, и все
монастыри спешили везти новорожденному подарки; тем, которые
мало давали, замечалось, что они мало желают добра царским
детям. В свою очередь, однако, по случаю рождения дитяти царь
прощал виновных и оказывал различные милости.
Духовное рождение считалось значительнее телесного, и
оттого день рождения оставался незаметным, а день ангела,
или именины, во вето жизнь праздновался каждым, кому
состояние позволяло. С утра именинник или именинница
рассылали гостям именинные пироги; знатность лица,
которому посылались пироги, измерялась величиною посылаемого
пирога. Гости по приглашению сходились на именинный стол
и приносили именинникам подарки; духовные благословляли
именинников образами, а светские подносили материи, кубки
или деньги. В царском быту царь в день своих именин по
выходе из храма от обедни раздавал из своих рук именинные
пироги; то же делала царица у себя на свои именины.
Совершеннолетние царевичи сами за себя раздавали пироги,
а в день именин царевны или малолетнего царевича раздавал
их за именинников царь; но все-таки почиталось
необходимым, чтоб от именинника были розданы пироги. Если боярин
или окольничий был именинник, то являлся с пирогами к
царю; царь принимал пирог и спрашивал именинника о
здоровье, потом именинник представлялся царице и также
подносил ей пироги. С другой стороны царю, как и частным
лицам, на именины подносили подарки, и эти подарки; как
и подносимые царю и в других случаях, уже обратились в
закон. Все торговые люди необходимо должны были поднести
царю подарки, которые отсылались на казенный двор и с
казенного двора продавались; нередко случалось, что купец
покупал на казенном дворе ту самую вещь, которую когда-то
подарил царю, и теперь подносил ее государю второй раз.
За именинными столами приглашенные гости пели многолетие,
а после стола именинник со своей стороны иногда отдаривал
гостей; по крайней мере так водилось у царей.
Несмотря на предпочтение духовного рождения плотскому,
у русских долго было в обычае, кроме христианского имени,
иметь еще прозвище или некрестное имя; обычай этот водился
в удельные времена между князьями, которые, кроме
крещеного имени, всегда имели еще княжье старославянское и
более были известны под последним. В XVI и XVII веках
мы встречаем множество имен или прозвищ, которые
существовали вместе с крещеным именем и употреблялись чаще
последнего, так что и в деловых бумагах назывался человек
130
не христианским своим именем, а прозвищем; например,
Первый, Смирный, Девятый, Злодей, Козел, Паук, Русин,
Злоба, Шестак, Неупокой, Нехорошко, Беляница, Дунай, Май,
Поспелко, Роспута, Мясоед, Кобяк. Даже священники носили
такие имена. Иногда было три имени: прозвище и два
крещеных имени — одно явное, другое тайное, известное
только тому, кто его носил, духовнику да самым близким.
Это делалось по верованию, что лихие люди, зная имя
человека, могут делать ему вред чародейственными способами
и вообще иногда легко сглазить человека3;. Поэтому в глазах
людей прикрывались чуждым именем, скрывая настоящее.
Случалось, что человека, которого все знакомые знали под
именем Дмитрия, после кончины, на погребении, духовные
поминали Федотом; и только тогда открывалось, что он был
Федот, а не Дмитрий. Случалось, что крещеное имя
переменялось на другое по воле царя; например, девицу Марию
Хлопову, взятую в царский двор в 1623 году с намерением
быть ей невестою государя, переименовали в Анастасию; но
когда государь раздумал и не захотел взять ее себе женою,
тогда она опять стала Марией. Другие — особенно беглые —
самопроизвольно переменяли свои имена, прозвища и
оставались навсегда с новыми и так были записываемы. Нередко
цари давали почетные прозвища людям, и эти прозвища
оставались навсегда и потом переходили в фамильные
прозвания; например, в 1564 году одного мордвина царь нарек
Дружиною. Прозвища классические, столь обыкновенные
впоследствии в семинариях, были в употреблении еще в XVII
веке, ибо в 1635 году встречается фамилия Нероновых.
Брак сопровождался самыми затейливыми обрядами, и
никогда семейная жизнь не "облекалась таким блеском, как в эти
торжественные минуты жизни.
Русские женились вообще очень рано. Бывало, что жених
имел от 12 до 13 лет. Русские как будто спешили уйти от
соблазнов холостой жизни. Редко случалось, чтоб русский долго
оставался неженатым, если только не болезнь была этому причиною,
или какое-нибудь горе не мыкало им в разные стороны, или он не
расположен был вступить в монастырь. При ранней женитьбе
совершенно было естественно, что жених и невеста не знали друг
друга до брака: и тот, и другая, будучи еще детьми, играли
страдательную роль под влиянием родителей и удалены были от
людского взора. Вообще нравственные понятия того времени не
позволяли молодым людям обоих полов видеться и уговариваться
между собою. Жених не смел даже сказать, что желает жениться;
родителю предоставлялось распоряжаться его судьбою. Только
тогда, когда жених вступал во второй брак или был уже в зрелых
летах, или не имел родителей, приступ к бракосочетанию делался
им самим лично. Иногда же первый шаг начинался и со стороны
1 Это сведение, как кажется, нигде не напечатанное, открыто
Н. В. Калачовым, сообщившим его мне. (Прим. автора.)
131
родителей невесты. Желая сбыть дочку, родители засылали к
жениху близкого им человека сватом: он обыкновенно начинал речь
похвалою честному имени жениха и невесты, говорил о взаимной
любви двух родов и представлял выгоды, какие могут произойти
от соединения их родством. Если родители жениха соглашались,
то приступали к сватовству обычным порядком. Сами цари
действовали таким образом: Михаил Федорович предлагал дочь свою
за датского принца. Иногда браки начинались по воле высших
лиц, так, цари и великие князья женили своих бояр и ближних
людей и сами выбирали им невест, а господа совершали браки
между своими слугами, также не испрашивая их согласия. При
царе Алексее Михайловиче правительство, желая умножить
народонаселение в Сибири, хотело непременно, чтобы пашенные
крестьяне, там поселенные, отдавали дочерей своих за ссыльных; но
как честные поселяне не хотели брать себе в зятья мошенников; и
воров, то их принуждали к тому силою и брали за ослушание
большую пеню.
Родители, вознамерясь женить сына, советовались с
близкими родственниками и часто не говорили об этом самому
жениху ничего. Избравши дом, с которым нестыдно было
породниться, они посылали к родителям невесты свата или
сваху для предварительного объяснения. Если родители
невесты не желали вовсе отдать дочери за предлагаемого жениха,
то отговаривались обыкновенно тем, что она еще молода или
подобным предлогом. Если же были согласны, то не заявляли
об этом тотчас, но говорили, что посоветуются с роднёю, и
назначали день решительного ответа. Когда наконец давали
согласие, сват или посредник просил дозволения видеть
невесту. Случалось, что такое дозволение не получалось, иногда
от гордости, иногда оттого, что невеста была дурна собою.
Но чаще случалось, что родители дозволяли видеть девицу,
и тогда посылалась какая-нибудь родственница жениха или
же ехала сама его мать: во всяком случае эта женщина
называлась смотрительницею. Показ невесты происходил
различным образом: иногда смотрительницу вводили в убранную
комнату, где невеста стояла в -лучшем своем наряде с лицом,
закрытым покрывалом; иногда же невеста сидела за
занавесом, и занавес отдергивался, когда приближалась
смотрительница. Смотрительница прохаживалась с нею по комнате,
заговаривала с нею, стараясь выпытать, умна ли она, хороша
ли, «не безъязычна ли и речью во всем исполнена». Бывало,
если у родителей дочь-невеста урод, то вместо нее приводили
меньшую и выдавали смотрительнице за невесту, а если не
было другой дочери, то подставляли служанку. Жених не
имел права сам видеть невесты до брака и, следовательно,
должен был довольствоваться теми известиями о ней, какие
передавала ему смотрительница. Он узнавал обман не прежде,
как после венчанья. Обманутый жених мог жаловаться
духовным властям; производился розыск; спрашивали соседей,
знакомых и дворовых людей, и если обман открывался, то
132
виновного наказывали кнутом и брак расторгали; но это
случалось очень редко; гораздо обыкновеннее подводили дело
так, что жених поневоле должен был жить со своею суженой,
и ему тогда говорили позднее нравоучение: «Не проведав
подлинно, не женись!» Зато муж в таком случае в утешение
себе колотил жену, принуждал ее постричься, а иногда тайно
умерщвлял: поэтому некоторые женихи, чувствуя в себе
довольно силы и значения перед семьею невесты, настаивали,
чтобы им самим дозволено было видеть невесту, и родители
дозволяли, если дорожили женихом; но тогда уже отделаться
жениху было трудно. Правда, если невеста ему не нравилась,
он не женился; зато должен был убегать всякого разговора
о своих прошедших отношениях, а иначе родители невесты,
злясь на него, могли подать жалобу духовным властям о
том, что он их бесчестит: дурно говорит о невесте и отбивает
женихов; такая жалоба могла последовать даже и в таком
случае, когда жених вовсе ничего не говорил; жениха
принуждали жениться или заплатить бесчестье, если он уже
успел жениться на другой. Впрочем, если жених и видел
невесту, и тогда он не мог уберечься от обмана, ибо он ее
после того уже не видал более до самой свадьбы, и родители
невесты, если были бесчестные люди, могли все таки
подменить невесту, как и в том случае, когда видела ее
смотрительница. Один молодой человек, вероятно, не имевший
родителей, задумал жениться и поручил свату найти ему
невесту. Приятель условился с одним посадским обмануть
его; у этого посадского была кривая на один глаз дочка.
Родитель этой красавицы обещал приятелю награду, если он
сбудет ее за охотника. Сват отправляется к жениху и
говорит, что он может увидеть невесту из окна, когда она
пройдет по улице. Девицу провели во всем убранстве, и
жених смотрел на нее из окна; девица, идя, держалась так,
чтобы жениху виден был один ее здоровый глаз. Жених не
заметил другого и согласился жениться. Плохое житье было
и мужу, и жене: выиграл зато один сват.
Великокняжеские, а впоследствии царские свадьбы
начинались смотром девиц. Собирали из разных сторон девиц
дворянских фамилий, и царь смотрел на них и выбирал
себе по вкусу. Когда великий князь Василий Иванович
собирался жениться, то на смотр к нему собрали тысячу
пятьсот девиц. Иван Васильевич Грозный приказывал князьям,
дворянам и детям боярским отовсюду свозить дочерей своих —
девок. В Новгородской области из всех пятин должны были"
помещики свозить их в Новгород к наместнику, а наместник
обязан был доставлять их к царю, по требованию. Это была
обязанность всех отцов, и кто оказывался виновным в
непослушании и медленности, тот подвергался опале и казни.
Эта честь вообще не слишком соблазняла отцов, ибо тогда
многие вяземские и дорогобужские дворяне получили выговор
за промедление. При втором бракосочетании царя Алексея
133
Михайловича девицы были собраны в доме Артамона
Сергеевича Матвеева, и царь, в противность принятому издавна
обычаю не посещать домов подданных своих, смотрел на них
в окошко из потаенной комнаты. Он выбрал трех и приказал
доверенным женщинам освидетельствовать их душевные и
телесные достоинства, а потом уже, по рекомендации этих
смотрительниц, избрал Наталью Кирилловну. Избранную
царскую невесту брали во дворец, облекали в драгоценные
одежды, нарекали царевною, и она жила в совершенном
отчуждении от царя до самого брака; ибо и цари, подвергаясь
общим народным нравственным обычаям, дозволяли себе толь-
ко однажды видеть невесту.
После смотра происходил сговор — первая часть брачного
праздника или вступление к торжеству. Сговорный день
назначался родителями невесты. Родители жениха, сам жених
и его близкие родственники приезжали к ним. Это случалось
иногда до обеда, иногда после обеда, вечером, смотря по
тому, как угодно было назначить хозяевам. Тут родители
невесты принимали гостей с почестями, выходили к ним;
навстречу, кланялись друг другу до земли, сажали гостей на
почетных местах в переднем углу, а сами- садились подле
них. Несколько времени они молчали, глядя друг на друга:
так следовало по приличию. Потом женихов отец или его
старый родственник говорил церемониальную речь и в ней
выражал, что они приехали для доброго дела, а родители
невесты отвечали, что рады такому приезду. Тогда составлялся
уговор, писалась рядная запись, где означалось, что обе
стороны постановляли: в такое-то время жених обязывался
взять себе в жены такую-то, а родственники ее должны были
ее выдать и дать за ней такое-то приданое. Сроки были
различные, смотря по обстоятельствам: иногда свадьбы
совершались и через неделю после сговора, а иногда между
сговором и венчанием проходило несколько месяцев. Приданое
всегда было важным условием русской свадьбы и состояло
в постели, платьях, домашней утвари и украшениях, в рабах,
в деньгах и недвижимых имениях, если девица была
дворянского происхождения. От жениха ничего не требовалось-
старинный обычай давать за невесту вено1 в XVI и XVII
веках совершенно исчез. Обыкновенно приданое доставлялось
в дом новобрачным после свадьбы; но недоверчивые родители
жениха нередко требовали, чтобы оно было доставлено до
свадьбы, держась пословицы: «Денежки на стол, девушку за
стол». Все писалось в рядные записи подробным образом, и
в обеспечение верности условий назначалась неустойка, или
попятное. Та сторона, которая отступала, обязывалась платить
известную сумму: такие суммы были велики, смотря по
состоянию, и всегда таковы, что могли быть тягостны для
1 Вено — плата от жениха за невесту.
134
несоблюдаю щего обязательство. Рядную запись писал
подьячий, которого нарочно при этом приглашали, иногда в той
же рядной записи прибавлялось условие, чтоб мужу не бить
жены своей, и в случае нарушения условия ее родители
могли искать судом на зяте, который без того не обязывался
к такой кротости по одному своему званию супруга. Невесты
не было при сговоре. Но по окончании условий одна из
женщин, из семейства или из родни невесты, приносила
жениху и его родственникам подарки от имени невесты.
Сговор имел юридическую силу. Отказаться после него от
брака значило оскорбить семью.
Долго ли, коротко ли было время от сговора до свадьбы,
только жених не видал своей невесты, как выше сказано.
Когда день, назначенный для бракосочетания, приближался,
у жениха и у невесты делались приготовления; собирали
поезжан, снаряжали разные свадебные чины, по духу времени
составлявшие необходимость брачного торжества; они должны
были исполнять разные символические должности как со
стороны жениха, так и со стороны невесты. Свадебные
обряды изображали вступление жениха и невесты в иную жизнь
и представляли как бы торжественное возведение их в новое
достоинство. Они имели подобие с возведением старинных
князей в достоинство их власти, а потому-то жених носил
название князя, а невеста — княгини. Главный чин со
стороны жениха был тысяцкий, точно так же, как некогда
существовала должность с подобным названием во времена
удельно-вечевые. Он сопровождал повсюду жениха, так что
без него жених не ступал шагу. Затем следовали посаженые
отцы и матери, если не было родных; в противном случае
их должность исполняли настоящие родители. Отец и мать
жениха благословляли его на брак; отец и мать невесты
выдавали невесту. С обеих сторон выбирались старшие и
меньшие дружки и две свахи из замужних женщин: одна
сваха женихова, другая невестина. С обеих сторон
выбирались сидячие бояре и боярыни, которые должны были
образовывать почетный совет; также с обеих сторон назначались
свадебные дети боярские или поезжане, сопровождавшие
шествие жениха и невесты и во время церемоний
представлявшие второй класс гостей после бояр. Наконец, к свадебному
чину принадлежали лица, выбранные из прислуги: свечники,
каравайники и фонарщики. Сверх всех свадебных чинов был
один, очень важный, которого должность была отпускать
свадьбу от всякого лиха и предохранять ее от колдовства и
порчи, ибо свадебное время считалось особенно удобным * для
порч и колдовских лиходейств. Он назывался ясельничий или
конюший.
Накануне свадьбы собирались к жениху его гости, а к
невесте гости, составлявшие ее поезд; и те и другие
пировали. В царских свадьбах царь сидел с невестою за одним
столом, и все приносили поздравление. У простых же в эти
135
дни выбранные свадебные чины с обеих сторон находились
отдельно. У посадских и у крестьян велось в обычае, что
жених в то время посылал невесте в подарок шапку, пару
сапог, ларец, в котором находились румяна, перстни,
гребешок, мыло и зеркальце; а некоторые (в XVI веке, а может
быть, также и в XVII) посылали еще принадлежности
женских работ: ножницы, нитки, иглы, а вместе с ними
лакомства, состоявшие в изюме и фигах, и розгу. Это было
символическим знаком1 того, что если молодая жена будет
прилежно работать, то ее станут за это кормить сладостями
и баловать, а иначе будут сечь розгами.
Венчание происходило большею частью вечером. Утром в
день торжества (иногда же накануне) сваха невесты
отправлялась в дом жениха приготовлять брачное ложе.
Существовало верование, что лихие колдуны и колдуньи могут внести
порчу и нагнать злых духов в тот дом, где рядят свадьбу.-
Против этого наблюдали разные средства. Между прочим,
сваха обходила кругом хоромину, где устраивалось брачное
торжество, и кровать, где постилалось брачное ложе, с
рябиною в руках, на которой вырезались символические знаки.
Ее шествие совершалось церемонно. За свахою человек
пятьдесят, а иногда и до ста прислужников несли на головах
разные принадлежности брачного ложа и брачной комнаты.
Брачною комнатою избирался сенник, часто нетопленый.
Необходимо было, чтобы на потолке не было земли, чтоб, таким
образом, брачная спальня не имела никакого подобия с
могилой. Сенник обивался по стенам и устилался по помосту
коврами; под стенами всегда были лавки с полавочниками;
по четырем углам комнаты втыкалось по стреле, а на стрелы
вешали соболей, в княжеских и царских свадьбах по сороку,
а в других — па одному соболю; да сверх того на
оконечность стрелы натыкался калач. На лавках по углам ставили
по оловянику питейного меда; над дверьми и над окнами,
как внутри, так и снаружи, на стенах прибивали по кресту.
Когда в этот покой вносили постель, то впереди несли образа
Спаса и Богородицы и большой крест. Постель приготовлялась
на кровати или на широкой скамье таким образом: сперва
настилали снопы (в царских свадьбах число их было
тридевять, то есть двадцать семь, а в обыкновенных свадьбах —
по сороку: и то и другое число имело символическое значение
и, вероятно, употреблялось по произволу; на снопы клали
ковер, а на него перины: на свадьбе Михаила Федоровича
положено было семь перин, одна на другую; у простых
клали иногда по две перины • и более, по желанию. На
перины клали изголовье и две подушки; на подушки
натягивались шелковые наволоки; постель была застлана шелковою
простыней, на нее сверху постилали холодное одеяло; в
довершение всего клали на подушку шапку, а в ногах теплое
одеяло, соболье или кунье, с оторочкою из более богатой
материи, чем самое одеяло, шубу и ковер и закрывали
136
простынею. Вокруг постели устраивались тафтяные занавеси.
Над постелью ставились образа и крест, те самые, которые
предшествовали при вносе постели. Образа были задернуты
убрусами или застенками, смотря по их величине.- Возле
самой постели ставили кади или открытые бочки с
пшеницею, рожью, овсом и ячменем. Это означало обилие, которого
желали новобрачным в их новом домоводстве. На царских
свадьбах сенник устраивался во дворце. Между тем и у
жениха, и у невесты пекли свадебные хлебы или караваи
и готовили стол.
Когда время венчания приближалось, невесту начинали
одевать в самое лучшее платье и навешивали на нее сколько
возможно более украшений; в это время девицы- пели ей
свадебные песни. Между тем в парадно убранной комнате
ставили столы, накрывали их брачными скатертями, уставляли
уксусницами, солоницами и перечницами, устраивали
поставец, как водилось вообще на пирах, и убирали место для
жениха и невесты на возвышении или рундуке. На этом
месте клали бархатные или камчатные золотые изголовья, а
сверху покрывали их соболями; подле самого места
становилось одно лицо из свадебных чинов: это лицо держало в
руке пук соболей; его должность была опахивать новобрачных.
Перед местом ставили стол, накрытый тремя скатертями, одна
на другой; на них клали соль в солонйце, калач или
перелечу и сыр. Над местом прибивали икону и, кроме того,
в комнате, назначенной для торжества, ставили во всех
четырех углах по одной иконе.
В то же время жених в доме своих родителей собирался
со своими поезжанами. Убравшись в венчальный наряд, он
ожидал, как ему дадут знать, что лора ехать за невестою.
С гостями его находился непременно и свяшенник, который
должен был венчать.
После того, как в доме невесты все было готово и сама
невеста одета, ей на голову возлагали венец — символ
девичества и вели с торжественным шествием в залу, где было
устроено место для нее с женихом. Впереди шли женщины-
плясицы, которые плясали и пели песни. За ними каравай-
ники несли на полках, обшитых богатыми материями,
караваи. На караваях лежали золотые монеты, называемые в
описании царских свадеб пенязями. Потом следовали свечники
со свечами и фонарщики с фонарями для свеч. Как у
жениха, так и у невесты было по свече, два свечника несли
одну свечу, потому что они были массивны, например,
женихова в три пуда, невестина в два пуда. На свечах
надевались серебряные или серебряно-вызолоченные обручи и
бархатные или атласные кошельки. Возле свеч несли
обручальные свечи и богоявленскую (водокрещенную) свечу,
которою зажигали брачные свечи. В царских свадьбах,
отправляемых во дворце, свечи жениха и невесты несли разом
пред будущею царицей. В частных свадьбах жениховы ка-
137
раваи, свечи и фонари несли перед ним, когда он прибывает
к невесте. За каравайниками, свечниками и фонарщиками
невесты шел дружка и нес осыпало: то была большая
металлическая миса; в ней лежали на трех углах хмель,
собольи и беличьи меха, платки, шитые золотом, червонцы
и деньги. Двое по сторонам предшествовали княгине, или
невесте, и держали путь, чтобы, никто не перешел дороги.
За ними две свахи вели невесту в венце, под покрывалом.
За невестой следовали сидячие боярыни, составлявшие ее
свадебный чин: две из них держали по мисе или по блюду.
На одном лежала кика — головной убор замужней женщины
е принадлежностями, как-то: подубрусником, или волосником,
гребешком и чаркою с медом, разведенным в воде или вине.
На другом лежали убрусы, назначенные для раздачи гостям.
Блюдо с осыпалом и с убрусами ставилось на столе перед
главным местом, где лежала перепеча с сыром. По бокам
становились караваиники, .свечники и фонарщики. Невесту
сажали на место, а возле нее сажали какое-нибудь лицо,
чаще всего брата или родственника, иногда мальчика
возрастом. Все, составлявшие чин невесты, садились по своим
местам, каждый по своему чину.
Когда все усаживались, отец и мать невесты, действительные
или нареченные, посылали дружку к жениху. Приходя, он
извещал, что время ему идти по невесту.
Священник первый вставал с места и провозглашал:
«Достойна есть!» Вставали родители, брали по образу и становились
рядом. Жених кланялся им в ноги, целовал образ и получал
родительское благословение. Вслед за тем поезд отправлялся; в
таком торжественном шествии впереди шли караваиники с
караваями, свечники и фонарщики со своими принадлежностями,
потом священник с крестом, потом бояре, а за ними жених, которого
вел под руки тысяцкий, за ними поезжане, то есть все,
составлявшие чин жениха. Они садились на лошадей верхами или в сани.
Когда таким образом шествие достигало двора невесты, родители
невесты выходили к ним навстречу. Они входили в
приготовленный покой, где уже сидела невеста. Жених молился, знаменуясь
крестом, и кланялся образам на все четыре стороны, потом вместе
с дружком подходил к своему месту; следовало выкупать это место
у того мужчины или мальчика, который сидел подле невесты,
последний, получив несколько монет, уступал свое место, и жених
садился подле невесты на одну подушку с нею. В царских
свадьбах лицо, сидевшее подле невесты, сводили с места, взявши под
руки.
Эти обычаи сходки жениха с невестою были одинаковы и в
царских свадьбах, с той разницей, что на свадьбе у царей все это
происходило в одном и том же дворце. Царь собирался в одной из
палат, царица — в другой; сначала царица шла в Грановитую
палату; ей предшествовал священник и кропил святою водой
место, где она садилась. На этом месте лежало сорок соболей,
которые были подняты, когда она садилась: возле нее садился
138
какой-нибудь из знатных князей. Когда все было устроено,
посылали дать знать царю. Царь отправлял прежде своего нареченного
отца; тот, вошедши в царицыну палату, кланялся на все стороны,
ударял челом будущей государыне и садился на большом месте
возле жены своей, если она была здесь. Посидев немного, этот
нареченный отец посылал к царю одного боярина с речью:
«Государь царь и великий князь всея России! Боярин такой-то велел
говорйти: прося у Бога милости, время тебе идти, государю, к
своему делу». Государь вставал, принимал благословение
митрополита и со всем своим поездом шел в Грановитую палату.
Впереди его шли двое духовных особ: благовещенский протопоп с
крестом и крестовый недельный священник. Священники кропили
водою путь, тысяцкий вел царя под руку, за ним следовали
стольник с колпаком и стряпчие. Прибывши в палату и
благословившись, царь подходил к своему месту, большой дружка подымал
посаженное близ невесты лицо, а царь садился на его место возле
будущей жены.
Когда таким образом усаживались, начинали разносить
кушанье и ставить на столы. Гости ели, но, впрочем, как
говорит Котошихин, не для того, чтоб наесться,, а только
для чина. Едва ставили на стод все блюда первого кушанья,
как священник прочитывал: «Отче Наш», потом молитву по-
кровения главы. По окончании последней молитвы сваха
подходила к отцу и матери невесты и просила благословения
невесту чесать и крутить. «Благослови Бог!» •— отвечали
родители. Зажигались свадебные свечи богоявленскими
свечами; свечники, поставив свои свечи, держали протянутый
между женихом и невестою большой кусок. тафты с нашитым
крестом, так что жених и его поезжане, которые сидели на
одной с ним стороне, не могли видеть невесты. Сваха
снимала с невесты покрывало, потом венок; другая женщина
подносила мису с кикой и гребнем. Сваха омачивала гребень
в чарке с медом и расчесывала невесту, потом свивала или
скручивала ей волосы и -надевала волосник, кику и
подзатыльник и наконец закрывала иногда тем же покровом,
который разделял ее от жениха.
Венок отдавался на сохранение на память о девичестве. После
того подносили свахе мису с осыпалом; она осыпала невесту и
жениха и опахивала сорока соболями, которые держал, как выше
сказано, один из свадебных чинов, называемый держальником. У
посадских людей во время расчесывания был такой обычай: когда
жених и невеста сидели, отделенные друг от друга покровом, им
приказывали приложить щеки к покрову. Перед ними держали
зеркальце, и жених здесь мог увидеть в зеркало лицо своей
будущей жены и дружелюбно ей улыбнуться; в то же время один из
гостей подходил к ним в вывороченном шерстью вверх тулупе и
желал невесте столько детей, сколько было шерстинок в тулупе.
Во все продолжение обряда укручивания невесты сидячие
боярыни и девицы пели свадебные песни, а дружка, взяв нож,
подходил к отцу и матери невесты и говорил: «Благословите резать
139
перепечу и сыр». «Благослови Бог!» — отвечали те. Дружка резал
перепечу и сыр на мелкие куски, клал на большое блюдо, накла^-
дывал туда же множество ширинок и отдавал поддружему, или
меньшему дружке; сам получал от невесты вышитый ее руками
убрус и подносил его жениху, а меньшой дружка разносил и
раздавал всем гостям куски перепечи и ширинки, также посылал
отцу и матери жениха, оставшимся в своем доме. В то же время
сваха осыпала свадебных бояр и гостей, то есть бросала в'толпу
их горстями все, что было на осыпале, — серебряные деньги,
хмель, куски материи и прочее, и всяк на лету хватал, что
успевал схватить.
Между тем, подавали другую яству, за нею подавали третью,
как только она появлялась на столе, сваха подходила к родителям
невесты и просила благословения — молодых везти к венцу.
«Благослови Бог!» — отвечали те. Все вставали. Родители брали по
образу, обыкновенно в окладах, с драгоценными украшениями.
Подле них становился священник. Новобрачные кланялись и
принимали благословение. Отец и мать разменивали их кольцами и,
взяв дочь за руку, отдавали ее жениху, взаимно кланяясь друг
другу. Накрнец, отец брал плеть и ударял ею свою дочь, говоря:
«По этим ударам ты, дочь, знаешь власть отца; теперь эта власть
переходит в другие руки; вместо меня за ослушание тебя будет
учить этою плетью муж!» С этими словами он передавал плеть
жениху, а тот, приняв плеть, говорил: «Я не думаю иметь в ней
нужды, но беру ее и буду беречь, как подарок». Он закладывал ее
за кушак.
Между тем, • в продолжение этого обряда каравайники и
свечники выходили. За ними выступали свадебные гости.
Устилался путь кусками материи, и новобрачные шли по
этим кускам к дверям. Женихова и невестина свахи вели
невесту за руки, все еще закрытую. Тысяцкий устраивал
порядок шествия. Между тем, те, которые держали сорок
соболей, взятых с места, где сидели новобрачные, клали их
опять на то же место, а скатерть, на которой резали
перепечу и сыр, складывали и отдавали ключнику.
На дворе перед крыльцом стояло множество оседланных
лошадей и колымаг или каптан. Когда свадьба происходила у бояр,
близких особ царя, то им на этот торжественный день давались
царские лошади и экипажи.
Сани невесты убирались как можно понаряднее, поволакива-
лись атласом, а на седалище клалась бархатная подушка; богатый
ковер спускался со спинки; под дугою привешивались, как
водилось, лисьи и волчьи хвосты. К таким саням подводилась невеста;
в санях сидело другое лицо: его следовало свести точно так, как
сводился сидевший подле невесты вместо жениха. Невеста
садилась в сани вместе с двумя свахами. Над нею держали соболей.
Подобный обряд наблюдался и в отношении жениха: у крыльца
стоял его аргамак, а на аргамаке сидел другой; и, когда являлся
жених, тот вставал и шел пешком, а жених садился на аргамака
и ехал к венчанью. Если же, по причине непогоды, нельзя было
140
ехать верхом, то жених садился е тысяцким в сани или в коляску,
а тот, кто прежде сидел в санях, шел пешком. Жених должен был
ехать со своим поездом вперед и прибыть в церковь ранее невесты.
В самых простых свадьбах новобрачные ездили, а не ходили
пешком. В царском бракосочетании путь до церкви устилался камка-
ми, и двадцать человек детей боярских царицыных наблюдали,
чтобы никто не переходил пути между женихом и невестою. На
простонародных свадьбах впереди поезда пели свадебные песни,
и забавники отпускали шутки. Это не одобрялось церковью, и
духовные называли вообще свадебные песни нелепым криком и
козлогласованием.
Когда молодые входили в церковь, ясельничий со своими
двумя помрщниками стерег коня и сани, чтоб кто-нибудь не
перешел дороги между верховым конем жениха и санями
невесты и чтобы вообще лихие люди не наделали чего-нибудь
дурного колдовством.
Путь от. церковных дверей до аналоя устилался кусками
материи; само место перед аналоем также устилалось и сверх
того на него клали соболей. Когда свадьба была вечером, то
жених и невеста тотчас после прихода в церковь становились
на свои места; но иногда свадьбы бывали после обедни:
тогда жених и невеста становились у церковных столбов,
рлушали литургию, а по окончании ее подходили к аналою.
На царских свадьбах XVI века венчание происходило после
обедни, а в XVII — вечером, и тогда высокая чета венчалась
тотчас по прибытии в храм. После венчания невесту
раскрывали, и священник читал новобрачным поучение: в нем
обыкновенно наставлял их ходить часто в церковь, слушаться
своих духовников, хранить посты и праздники, подавать
милостыню, а. мужу повелевал учить жену палкою, как подобает
главе. Потом он брал жену за руку, вручал мужу и
приказывал им поцеловаться. Жена иногда в знак повиновения
припадала к ногам супруга и касалась челом его сапога,
муж же покрывал ее полою платья в знак будущего
покровительства и защиты. Наконец, священник давал новобрачным
деревянную чашу с вином; муж принимал, отпивал и давал
жене; та отведывала и передавала опять мужу. Таким образом
оба пили три раза, наконец, муж допивал, бросал под ноги
чарку и топтал ее разом с женою, приговаривая: «Пусть так
под ногами нашими будут потоптаны те, которые станут
посевать между нами, раздор и нелюбовь». Существовало
поверье, что кто из супругов прежде успеет наступить ногою
на чашу, тот над другим будет сохранять первенство; но
как ни старались воспользоваться этим жены, однако редко
им удавалось. Подходили свадебные гости и поздравляли
обвенчавшихся, а между тем, тысяцкий уже посылал дружку
вперед к отцам жениха и невесты и к оставшимся в доме
свадебным чинам известить, что молодые обвенчались в
добром здоровье. В то же время дружка разрезал каравай, и
священник отсылал его (вероятно, через того же дружку)
141
отцам обоих сехМейств как символ будущего их свойства и
родственной приязни, и оба рода давали обет быть людьми
одного стола и одного хлеба — хлебосолами и жить дружно,
как зерна одного колоса. Об этом обычае рассказывает Флет-
чер, как о происходившем в церкви, но, как известно,
родители в церкви не бывали, следовательно, обычай
соблюдался через посылку. Впрочем, вероятно, он не всегда
соблюдался, а на царских свадьбах — никогда, ибо там
равенства между семьями не было и быть не могло.
При выходе из церкви сваха осыпала новобрачных семенами
льна и конопли, желая им счастья: другие дергали жену за рукав,
показывая вид, будто хотят разлучить ее с мужем, а жена тесно
прижималась к своему суженому. На знатных свадьбах
существовал обычай бросать окружающим монеты. Из церкви весь поезд
отправлялся в дом мужа, у простого народа со свадебными
песнями, криками и плясками.
После венчания весь поезд отправлялся в дом мужа, а
на царской свадьбе в тот покой, где было окручивание, но
когда в XVI веке свадьбы происходили после обедни, то
царица отправлялась в свои покои; свечи и караваи уносили
в сенник к постели, а царь ездил по монастырям и,
возвращаясь домой, посылал звать жену и всех гостей к обеду.
Вероятно, на свадьбах частных людей, если венчание было
после обедни, новобрачные разъезжались по своим домам, а
уже к вечеру жену привозили в дом мужа, и там
происходило брачное торжество. Если же, как чаще случалось,
венчание было вечером, то все, как выше сказано, ехали
прямо к жениху. Когда поезд прибывал в его дом, навстречу
выходили отец и мать жениха с образом и с хлебом-солью
и благословляли новобрачных. При входе в дом потешники,
по распоряжению ясельничего, играли в сурны и бубны
«чинно, немятежно, благолепно, доброгласно». Тогда
новобрачные садились за стол; все также садились на свои места.
Невеста была уже открыта и должна была непременно
плакать, выражая разлуку с родителями и страх нового образа
жизни, а женщины и девицы пели печальные песни. Ни
жених, ни невеста ничего не должны были есть, хотя перед
ними и ставили кушанья. Когда гостям подавали третью
перемену — лебедя, леред новобрачными ставили жареную
курицу; дружка брал эту жареную курицу и обвертывал
скатертью, второю из трех скатертей, положенных на столе
перед новобрачными до венчанья. Он обращался к отцу и
матери и говорил: «Благословите вести молодых опочивать».
Те отвечали: «Благослови Бог!» — и шли к дверям; отец
останавливался у дверей, а мать уходила к сеннику. Тогда
дружка уносил символическую курицу в сенник, за ним шли
свечники и каравайники и ставили свечи в кадь с пшеницею,
стоявшую у изголовья брачного ложа. Тысяцкий,- дружка,
свахи вставали. Вставали жених и невеста и подходили к
дверям; отец брал за руку невесту и говорил жениху: «Сын
142
наш! Божьим повелением (если же свадьба устраивалась по
приказанию царя, то прибавлялось: и царским жалованьем)
и благословением нашим и матери твоей велел тебе Бог
сочетатися законным браком и понять такую-то; приемли ее
и держи, как человеколюбивый Бог устроил в законе нашей
истинной веры, и святые апостолы и отцы предаша». Сын
брал свою жену за руку, выходил с нею из дверей и шел
до сенника; тут встречала их мать или сваха в вывороченной
вверх шерстью шубе и осыпала новобрачных. Таким образом
новобрачные входили в сенник. Гости уходили в покой,
откуда вышли, и продолжали пировать, а дружка и сваха
вступали с новобрачными в сенн^ик и раздевали их: дружка
жениха, сваха невесту; и сами потом уходили к гостям.
Тогда в старину между женихом и невестою происходил обряд
разувания, очень древний обряд, дошедший к русским от времен
язычества. Он состоял в том, что жена, в знак покорности, должна
была снять с мужа сапоги. В одном из сапог была монета. Если
ей удавалось снять прежде тот сапог, в котором была монета, это
значило, что ей будет счастье; в противном случае значило, что
ей придется угождать мужу и разувать. При этом муж^ в знак
своей власти, ударял будущую сопутницу своей жизни по спине
плетью, полученною от тестя.
Когда молодые были в сеннике, а гости пировали в
комнате, около сенника ходил или ездил ясельничий с
обнаженным мечом для предохранения от всякого лиходейства.
По прошествии некоторого времени отец и мать посылали
дружку узнать о здоровье новобрачных; если жених через
дверь отвечал, что он в добром здоровье, это значило, что
между ними доброе совершилось, и тысяцкий тотчас посылал
к родителям невесты сказать, что новобрачные в добром
здоровье; дружка за то получал подарки, и все свадебные
гости отправлялись в сенник кормить новобрачных. Как
жених, так и невеста ничего не ели в тот день; теперь пищею
для них была та самая курица, которую дружка прежде их
уносил в сенник, обернувши скатертью; кроме этого
символического блюда, давали еще и другие кушанья. На царских
свадьбах государя кормили перед сенником в сенях, а
царицу — в самом сеннике. Взявши курицу, новобрачный
должен был, по старинному обряду, отломить у нее ножку и
крыло и бросить через, плечо назад. По другим известиям,
этот обряд совершался перед положением в постель. Во время
кормления новобрачных муж подавал гостям вино, и все
пили с поздравлениями. Потом новобрачных снова укладывали
в постель, а гости возвращались в прежнюю комнату и
продолжали веселиться: тогда веселие часто переходило в
оргию, и нередко забывались всякие приличия. Музыки не
было; только трубили в сурны, били в бубны и накромы.
На другой день новобрачных вели при звуке сурен и литавр
и пении песен в отдельные мыльни. Жена шла в мыльню со
свахою и матерью жениха и показывала знаки своего девства; с нее
143
снимали сорочку и вместе с простынею прятали как свидетельство
целомудренного поведения. Муж мылся с тысяцким и дружкою;
"тогда молодая жена присылала ему в мыльню сорочку,
обыкновенно унизанную жемчугом. На царских свадьбах цари кушали в
мыльне, а царицы — в избушке. По выходе из мыльни
новобрачный шел вперед в сенник, за ним приходила новобрачная. Тут
являлись женщины, а впереди их сваха несла горшочек или два
горшочка, поставленные на одном блюде и обернутые соболями; в
этих горшках была каша; сваха кормила ею и мужа, и жену;
перед мужем держал горшочек дружка, перед женою — сама
сваха; этот обычай наблюдался и у царей, и у крестьян. На царских
свадьбах происходил в это время обряд раскрыванья; боярин,
нареченный отец царский, раздвигал стрелою покров, заслонявший
' царицу; до того времени даже и после венчания ее никто не видал;
.только после этого обряда все подходили к ней и могли иметь
счастие увидать ее светлые очи. После этого все шли к столу. На
частных свадьбах этот последний обряд не наблюдался; и после
кормления кашей жених вместе со своим родителем, с тысяцким,
дружкою и со всеми свадебными поезжанами ехал к родителям
невесты. Вступая к ним в дом, новобрачный бил челом и
благодарил за то, что они вскормили и вспоили дочь свою, его жену,
и ласково приглашал их к себе на обед со всеми гостями
невестина чина. Тогда у жениха был торжественный пир, называемый
княжьим: это название было и у крестьян, которые никогда не
равнялись князьям, и у царей, которые всегда были выше всех
князей. Когда в конце пира подавали на стол овощи и разные
лакомства, отец и мать благословляли новобрачных образами, и
все гости дарили их разными вещами и тканями. Все ели, пили
в изобилии и веселились. Но если бы случилось, что невеста не
сохранила своего девства, — общее веселие омрачалось.
Посрамление ожидало бедных родителей новобрачной. Отец мужа подавал
им кубок, проверченный снизу, заткнув отверстие пальцем; когда
сват брал кубок, отец жениха отнимал палец, и вино проливалось
на одежду при всеобщем поругании и насмешках, и тогда самая
печальная участь ожидала в будущем их дочь в чужой семье.
Впрочем, этого избегали, если бы так и случилось. Котошихин
говорит, что в подобных случаях новобрачный тайно пенял тестя
и тещу. Вероятнее, что такие случаи не только в высших кругах,
но даже и между посадскими были очень редки, тем более, что
девиц отдавали молодыми.
В этот день новобрачный, если он имел к царю доступ, после
посещения родителей невесты являлся во дворец со всем поездом,
состоявшим обыкновенно из лиц, имевших право являться к
царской особе. Государь принимал их сидя и в шапке. Все кланялись
в землю. Государь милостиво спрашивал их о здоровье (такой
вопрос считался большой милостью), поздравлял жениха с
законным браком, благословлял его с женою образами и жаловал
подарками, состоявшими обыкновенно в соболях и разных материях
или серебряных сосудах, а в заключение приказывал подать всем
по кубку романеи да по ковшу вишневого меда: все выпивали и
144
уезжали домой. Новобрачная не ездила с мужем к царю, а
посылала к царице и царевнам подарки, шитые золотом и серебром
тафтяные убрусы. Царица и царевна, принимая эти знаки
челобитья, спрашивали их о здоровье. Если же бы случилось, что
невеста не сохранила девства, то муж, имевший несчастье взять
за себя такую жену, не смел явиться царю на глаза.
На следующий день, то есть на третий день после брака, было
пиршество у родителей невесты. При окончании стола отец и мать
невесты благословляли новобрачных, а гости дарили их. На
свадьбах редко дарили деньгами, а по большей части вещами, также
скотом и лошадьми. По окончании пиров дары отсылались на
рынок и оценивались, потом жених должен был отдаривать за них
•подарками равного достоинства. Герберштейн говорит, что, по
обычаям, жених должен был в течение года непременно отдарить
всех, которые ему поднесли подарки после свадьбы; иначе же,
если он в продолжении этого времени не исполнил своего долга,
то должен был дарить вдвое. Если же он не отсылал принятых
вещей к ценовщикам, то отдаривал по желанию .тех, которые ему
■дарили. Все эти послесвадебные дни пиршеств невеста почти
ничего не говорила, кроме формальных обрядных речей. Ее мало-
словность считалась достоинством. Зато все другие женщины,
приглашенные на свадебное торжество, пользовались большею
свободою, чем когда-либо, и часто случалось, что доходили до
безумия; женщины, в обыкновенное время скромные и
целомудренные, тогда напивались, позволяли себе смелые выходки и даже
невольно впадали в грешки среди общего смятения. В эти-то
минуты разгула, по народным верованиям, всего удобнее колдуны
могли портить людей, не огражденных молитвою и богомыслием
от их наветов. Тогда вдруг на кого-нибудь находила скорбь. На
одной посадской свадьбе, в XVII веке, мать жениха, а потом и
сноха вдруг начали кликать без ума и памяти. Явился знахарь,
взялся их поставить на прежнюю степень, но, набравши за это
денег, не сделал ничего хорошего, и они подали на него
челобитную.
Царские свадебные торжества продолжались несколько дней.
На другой день отправлялся княжий стол, а на третий — стол от
царицы: нареченные родители благословляли высокую чету, а
гости подносили дары; на четвертый день царь делал стол
духовенству, и при окончании обеда патриарх и власти благословляли
новобрачных образами, и все гости дарили им кубки и ковши, а
потом царь отдаривал их деньгами, тканями и чествовал
подачами. В следующие дни делались столы другим сословиям:
стольникам, стряпчим, дворянам, гостям иноземным, людям и выборным
посадским, которые нарочно к царскому торжеству приезжали с
поздравлениями. Все подносили царю дары. Зато и царь в эти
светлые в его жизни дни изливал обильно щедроты: несколько
дней кормил простое духовенство на дворе, раздавал ему деньги,
посылал в города деньги и молебные прамоты, ездил с молодою
царицей по монастырям, кормил и дарил чернецов; везде чернецы
приветстновали царя и царицу окладными образами и подносили
6 Заказ 15 145
хлеб и соль. Царь не забывал угнетенных и нищих, посещал
богадельни и тюрьмы и отпускал на свободу узников, посаженных
за долги или за неважные преступления. Не всегда, впрочем,
подносимые царям дары принимались: так, при бракосочетании
царицы Натальи Кирилловны царь их не принял.
Свадебные обряды были одинаковы как у первобрачных, так
и у тех, которые женились или выходили замуж в другой и третий
раз; но второй брак не имел уже той святости, какою облекался
первый. Если оба из супругов были вдовцы, то на них не
возлагали венцов на голову, а держали на плечах. Церковный обряд
третьего брака состоял в одном молитвословии, без венчания, и
вообще третий брак не одобрялся церковью. Фотий в одном из
своих посланий, писанных в начале XV века, приказывает
священникам вообще не допускать мирян до третьего брака, приводя
слова Григория Богослова: «Первый брак закон, вторый по нужи
прощение слабости ради человечьскыя, третьи — законопреступ-
ление, четвертый — нечестье, понеже свиньское есть житие».
Несмотря на воспрещение четвертых браков церковью, они
случались, и правительство дозволяло детям, рожденным от
четвертого брака, пользоваться правами законных детей в отношении
наследства. Некоторые сходились для брачного сожития без
всякого благословения церкви, и жены таких назывались
невенчанными. Эти браки были в обычае у казаков. В старину некоторые*
вопреки коренным основаниям христианских понятий о семейной
нравственности, имели у себя две жены разом, вероятно, по
языческому обычаю.
Новоселье в старой русской жизни было торжественным
событием; хозяин, входивший в новопостроенный дом, приглашал
духовенство освящать его и созывал родных и знакомых. Гости
являлись непременно с хлебом и солью — символами желания
обилия и благополучия; русские верили, что приносимый хлеб е
солью в новом доме изгонял влияние злого духа. Люди, не
чуждавшиеся колдовства и ворожбы, напротив, являлись на новоселье
с черною кошкою, с черным петухом, тащили растворенную
квашню и катали три хлеба, а потом замечали, как эти хлебы
ложились, и записывали «на хартиях, и ключи в псалтырь
вложат, оттуду ложная вещующе». Надобно было умеючи выбирать
само место, на котором хотят строить новый дом; для узнания,
хорошо или дурно место, наблюдались разные гаданья: например,
клали дубовую кору и оставляли ее на три дня; на четвертый
поднимали и замечали, что под корой; если там находили паука
или муравья, то считали место лихим; напротив, если находили
червяков или черную мурашку, то можно было ставить дом
безопасно. Гадали еще о том же посредством трех хлебов, которые
спускали на землю из-под пазухи, «если все три хлебца лягут
кверху коркою верхнею, то место добро; тут с Божьею помощью,
ничего не боясь, ставить избу и всякие хоромы; если же лягут
вверх исподнею коркою, тут не ставь и то место покинь. Когда же
только два хлебца лягут кверху верхнею коркою, еще ставь —
добро, а когда же падет один хлебец кверху своим верхом, а два
146 *
к исподу, то не вели ставить на том месте». Во время пиршества
на новоселье комната устилалась травою, и на большом столе,
покрытом скатертью, клали принесенные хлебы и ставили в соло-
ницах соль. После пиршества каждый из гостей должен был что-
нибудь * подарить хозяевам.
Смерть человека сопровождалась заветными обычаями. По
понятию русских, умирать среди семейства в полной памяти
считалось благодатью небесною для человека. Чувствуя приближение
смерти, русский составлял завещание, распределял свое состояние
и вместе с тем назначал для успокоения своей души какие-нибудь
добрые дела. Богоугодными делами, достойными великой минуты
смерти, почиталось раздавание милостыни, наделение монастырей
и в особенности освобождение рабов. Перед смертью
вспоминалось увещание церкви, которая хотя и терпела рабство, но в
сущности не одобряла его и поучала, что «вси есми создание
Господне, вси плоть едина, и вси миром единем помазани, и вси
в руце Господни, его же хощет обнищаваеть». Так, в завещаниях
князей наших всегда почти есть распоряжения об отпуске рабов.
То же соблюдалось до позднейших времен господами. Нередко
господин не только отпускал на волю всех холопов, но еще
раздавал отпущенным по нескольку рублей, что называлось выделкою.
Также благочестивым делом ^читалось платить и лрощать долги.
Иногда умирающий учреждал после себя монастырям кормы и
кормы на нищую братию, сам раздавал священникам разные
вещи и суммы на церкви, назначал по себе чтение псалтыри. Все
это называлось строить душу. Все это соединялось с верованием,
что человек будет осуждаем после кончины по тем поступкам, с
которыми застанет его смертный час: «В коем бо деле вдосить тя
смерть, в том же осужден будеши, ли в посте, ли в бдении, ли в
ясности». Около умирающего собиралось семейство, слуги и
близкие знакомые; ему подносили образа, и он каждого благословлял
особым образом; в числе окружавших его смертную постель
непременно находился духовный отец. Многие для большей верности
спасения души облекались пред смертью в монашескую одежду,
а иные принимали и схиму, как это делали цари. Если больной
после того жил несколько времени, то уже ничего не вкушал и на
земле находился как бы. за пределами земной жизни; и если бы
случилось ему выздороветь, то непременно должен был поступить
в монастырь. Когда начиналось предсмертное томление, тогда
читалась отходная. Когда умирал царь или особа из царской семьи,
звонмли в колокола и пели великий канон; бояре, думные и
ближние люди являлись во дворец в черных платьях.
Как только человек испускал дыхание, на окне ставили
чашу со святой водой и мису с мукой или с кашей
(вероятно, с кутьей). Это был какой-то остаток язычества,
существовавший не у одних русских, но и у татар. Мертвеца
обмывали теплой водой, надевали сорочку и завертывали в
белое покрывало, или саван, обували в сапоги или башмаки,
а руки складывали крестообразно. На царя надевали царское
одеяние, на голову ему возлагали корону.
6* 147
Толпы знакомых и незнакомых стекались в дом умершего;
начинался плач и причитание. Жена покойника обыкновенно
заводила первая, причитывая: «Ах ты, мой милый, мой
ненаглядный! Как же ты меня покинул! На кого меня, сироту,
оставил? Али я тебе не хороша была; али не хорошо
наряжалась и убиралась? али мало тебе детей народила?»
Другие вопили: «Зачем тебе было умирать? Ты был такой
добрый, щедрый! Али у тебя не было чего съесть и спить?
али у тебя женушка некрасива была? Али царь тебя не
жаловал?» Посылали собирать духовенство, и при этом обычай
требовал каждому духовному лицу, приглашаемому на
погребение, послать в подарок водки, меда и пива. Тело лежало
на столе, пока изготовлялся гроб. Обыкновенно гроб делался
деревянный, как у богатых, так и у бедных, с тою разницей,
что у богатых обивался внутри и снаружи материями разного
цвета: например, внутри червчатым, а снаружи вишневым
бархатом. Когда мертвеца клали в гроб, некоторые, по
какому-то поверью, привешивали к гробу кафтан покойника, а
в рот ему клали несколько мелких монет, как будто для
издержек в дальней дороге на тот свет. Летом русские
хоронили очень скоро — обыкновенно в течение двадцати
четырех часов по смерти, и нередко ^кончавшийся утром
был уже погребен при нахождении солнца. Если по
какому-нибудь случаю, например, ожидая прибытия родных,
погребение откладывалось, то труп вносили в ледник для
предупреждения зловония. Мертвеца выносили из дома
закрытым гробовой крышкой, сверху покрытою покровом или же
шубой; так, на погребение князьям Черкасским выдавались
из казны собольи шубы. Гроб не везли, а несли на руках,
обыкновенно шесть человек, и если покойник или покойница
успевали принять монашество, то непременно монахи или
монахини. В таком случае обыкновенно хоронили в
монастырях. Для эффекта нанимались плакальщицы, которые шли
впереди и по бокам похоронного шествия с распущенными
волосами и нарочно искаженными лицами. Они кривлялись
и вопили, то громко вскрикивали и заливались плачевными
причетами, то заводили тихим пискливым голосом, то вдруг
умолкали и потом заводили снова; в своих причетах они
изображали заслуги покойника и скорбь" родных и близких.
Все, сопровождавшие гроб, шли с зажженными свечами,
обвязав платками головы. Мертвого иногда вносили в церковь
и оттуда, по совершении панихиды, выносили на кладбище.
Когда гроб готовились опустить в могилу, крышку
приподнимали, и все должны были подходить к телу и целоваться с
мертвым, впрочем, позволялось прикладываться и к гробу. Жена
должна была вопить и причитывать, а плакальщицы показывали
свое искусство хором. Священник давал в руки мертвого отпусти-
тельную грамоту, которую иностранцы, по неведению, почитали
рекомендательным письмом — сами не знали, к кому, кто
думал — к св. Петру, а кто — к св. Николаю. После опущения гроба
148
в могилу все целовали образа, а потом ели кутью, непременно
каждый три раза, наблюдая такой порядок, что прежде всего
подходила к кутье жена, за нею дети, потом родственники, наконец,
гости, слуги и все посторонние.
Зимою не спешили хоронить; и особенно знатных и богатых
предавали земле не в первый день после смерти. Тело выносили
в холодную церковь и ставили там иногда дней на восемь; в это
время духовенство служило каждодневно литургию и панихиды.
Уже на восьмой день предавали мертвого земле. Для людей
бедного и даже среднего состояния было чрезвычайно дорого
нанимать копать могилу зимою; поэтому мертвецов ставили в
усыпальницы или притворы при колокольнях и там держали до
весны. Весною семейства разбирали своих мертвецов и хоронили
на кладбищах. Должность эту исправляли особые рабочие,
которые назывались гробокопателями. Они получали плату с каждого
погребения. Бедняки, которым не на что было похоронить своих
родных, просили милостыни на погребение, и благочестивые
зажиточные люди считали богоугодным делом похоронить бедняка;
также из христианской благотворительности отправляли
погребение содержавшихся в тюрьмах преступников.
Кладбища располагались отдельно за городом, но часто
хоронили близ церквей в селениях и посадах. По понятию русских,
место для кладбища было свято, и тревожить прах мертвых
считалось преступлением. Так, когда Иоанн III перестроил Москву и
переставляли церкви и монастыри, его поступок возбудил
негодование архиепископа Геннадия. «А ведь тое для, — писал он, —
что будет воскресение, мертвых не велено ни с места двинути,
опричь тех великих святых». Ограды около церкви и кладбища
были лишены деревьев. Это считалось нечестием на основании
слов Второзакония: «Не насадиши садов, ни древа подле требника
Господа Бога твоего».. Неприкосновенность кладбищ долго
наблюдалась свято, и в 1672 году, когда до сведения царя дошло, что в
Архангельске на месте, где было кладбище, поставили торговые
амбары, царь велел их снести. В самой Москве повсюду при
церквах были могилы, и земля под кладбищами считалась церковною:
духовные, пользуясь этим, строили на ней свои лавки и амбары;
но в 1681 году опять велено прекратить такие постройки.
Издавна могилы родителей и предков были святыней для
русского народа, и князья наши, заключая договор между собою,
считали лучшим знамением его крепости, если он будет произнесен
на отцовском гробе.
Утопленников и удавленников не хоронили на кладбищах;
напротив, существовало даже верование, что если где-нибудь
похоронят утопленника или удавленника, то за это весь край постигает
бедствие; на этом основании в старину народ, приведенный в
волнение каким-нибудь несчастием, например неурожаем, выгребал
таких мертвецов из могилы. Но вообще их хоронили в убогом
доме, если они не были самоубийцы. Убогие дома были не только
в Москве, но и в других местах. В них хоронили вообще
отверженных, которые не считались достойными быть погребенными на
149
кладбище. Так, и воров и разбойников, казненных или умерших
от ран, хоронили в убогом доме без отпевания. Самоубийц
зарывали в лесу или в поле, но даже и не в убогом доме.
Царское погребение. совершалось через шесть недель после
смерти. Тело государя шесть недель стояло в домовой церкви в
гробу: крестовые" дьяки денно и нощно читали над ним псалтырь,
и попеременно дневали бояре, окольничие и стольники над
усопшим. Между тем, по всему государству посылались гонцы,
которые во все монастыри и церкви возили деньги для служения
панихид; в праздники при служении панихиды ставили кутью;
эти панихиды по всем церквам и монастырям царства русского
служились в течение шести недель, каждый день, исключая
воскресенья. В сороковой день после кончины совершалось
погребение царственной особы. Отовсюду стекались в Москву духовные
власти, архимандриты и игумены. В погребальной процессии
впереди шло духовенство; наблюдалось, чтобы важнейшие особы,
архиереи и патриарх, шли сзади прочего духовенства, а за
духовными следовали светские сановники, бояре и окольничие, за
ними царское семейство, а за ним боярыни. Множество народа
толпилось за гробом, без чинов и различия достоинства. Прощание
с царственными особами не происходило при опущении гроба; с
ними прощались ближние прежде, при вносе в домашнюю
церковь после кончины. Опустив тело в могилу, не засыпали его
землею, а закрывали каменною доскою. Пышность и издержки на
погребение соразмерялись со значением усопшей особы, так что
погребение царя производилось великолепнее, чем царевичей, а
погребение царевичей великолепнее погребения царевен.
Вообще у всех классов сорок дней после смерти определялись
на поминовение. Семейные нанимали духовных читать псалтырь
по усопшим. Чтение это у иных происходило в двух местах разом:
в доме, где умер покойник, и на могиле; для этого устраивался на
могиле деревянный голубец, покрытый сверху рогожею; там стоял
образ, и каждое утро при зажженной свече монах или церковный
дьячок читал псалтырь. Семейные носили скорбное платье цвета
черного или синего, и непременно худое и изодранное; быть
одетым опрятно и прилично в это время считалось неуважением к
памяти усопшего. Вместе с молитвами об усопших отправляли
кормы, или поминальные обеды: таких было, смотря по
обстоятельствам и желанию семейных, не менее двух и не более
четырех — в третий, девятый и двадцатый и, наконец, очистительный
в сороковой день, так называемой сорочины: тогда снимался
траур. Чаще всего поминали три раза; толковали, что троекратное
поминовение совпадает с переменами, какие испытывает тело
покойника в гробу: в третий день изменяется его образ, в девятый
распадается тело, в сороковой истлевает сердце. Это троекратное
поминовение совпадает с верованием о путешествии души на том
свете: в третий день ангел приводит душу на поклонение: Богу.
«Яко жь бо от царя земнаго послани будут воини привести некоего
и связав ше его поведу ют ему повеление царево, трепещет же и
держащих и ведущих .его немилостивно к путному шествию, аще
150
и ангелы от Бога послани будут пояти душу человечу». Если в этот
третий день совершаются приношения памяти усопшего в церкви,
то душа получает «утешение от скорби прежь бывшия ей от
разлучения телеснаго, и разумеет от водящаго ю ангела, яко память
и молитва ея ради в церкви Божией принесена, и так радостна
бывает». С тех пор начинаются путешествия ее с ангелом, который
показывает ей блаженство рая и муки адд. В девятый день ей
дается отдых. Душа, сохраняя еще земные привязанности, слетает
то к дому, где жила с телом, то к гробу, где лежит тело, в котором
была заключена: душа добродетельная посещает место, где она
«имеяше обычай делать в правду». Тогда душе грешной указывает
ангел места, где она согрешила, и ей необходима для ободрения
молитва церкви. Наконец, в сороковой день ангел приводит ее
снова к Богу, и тогда ей назначается место по заслугам: «Добре
держит святая церковь в четыредесятый день, память сотворяя о
мертвом». Кутья была главною принадлежностью постного обеда.
О кутье говорилось так: «Кутья благоверная святым воня; святии
бо не ядять, не пьють, но вонею и благоуханием тем сыти суть».
Обычай поминовения был и во времена язычества, и потому к
нему примешивались посторонние обряды, не одобряемые
церковью. Так, преподобный Феодосии запрещает ставить по
усопшим обеды и ужины, класть на кутью яйца и ставить воду; без
сомнения, яйца и вода были символами древнего языческого
поминовения.
XXI
Верования
В наших летописях принятие христианства выставляется как
бы без борьбы; кажется, будто Русь, омывшись в купели
крещения, тотчас же забыла свой прежний языческий мир со всеми
творениями его вымысла. Не совсем так было на деле. К
сожалению, до нас дошли такие отрывки духовного противодействия
остаткам язычества со стороны духовных пастырей, что мы по ним
не можем себе уяснить теперь ни сущности языческих верований,
ни степени их перерождения, ни истории их изменений, ни
приложения к.разным видам внутренней и внешней жизни. Духовные
равным образом порицали и преследовали все, что носило на себе
память язычества, — были ли то действительные верования и
убеждения или только наружные обряды, игрушки, забавы,
потерявшие уже прежний смысл и серьезное значение, так точно, как
теперь купальный огонь, вожанье козла на масленице или
малороссийское колядованье. Из многого, что осталось и теперь, мы не
знаем, то ли значение оно имело в XVI и XVII веках, как в XIX.
Выше было показано, что в XVI веке купальское празднество как
народная забава с примесью таинственного верования
отправлялось во всей силе. Точно так же и языческое веселье призывания
151
мертвых выразилось в обряде жечь солому и кликать мертвых,
осуждаемом Стоглавом. В XVII веке во многих местах
отправлялись разные увеселения — остатки язычества. В 1620 году царь
Михаил Федорович велел кликать клич через бирючей, чтобы
люди не ходили с кобылками, не сходились на игрища мирские «и
ко л еды б и овсеня и плуги не кликали». Но соединялся ли с этими
забавами какой-нибудь смысл для народа, и в какой степени, ^~
неизвестно. Долее и полнее всех языческих верований
сохранялись, кажется, остатки поклонения роду и рожаницам. По
свидетельству Домостроя, в XVI веке еще верили в родословие, рекше
в рожаницы. По толкованию в слове св. Григория в сборнике,
хранящемся в Кирилло-Белозерском монастыре, видно, что ученые
люди старого времени признавали род и рожаниц божествами
славян-язычников наравне с упырями и берегинями (известными нам
из чешских памятников), Перуном, Хорсом, Мокошью (о которых
упоминает нам Несторова летопись) и вилами, нимбами, о
которых фантастические предания сохранились у сербов. Обряды,
сопровождавшие поклонение роду и рожаницам, состояли в
приношении этим фантастическим существам в жертву хлеба,
сыра, меда, кур и какого-нибудь смешанного питья. Обряды эти
имели смысл как для рождения, так и для смерти человека. Бабы,
воспринимавшие младенцев, варили кашу на собрание
рожаницам; в честь их стригли первые волосы с детей; а в память
умерших ставили роду и рожаницам особую трапезу. Эта трапеза долго
считалась необходимою, хотя в то же время готовили кутейную
трапезу, принятую церковью. Трапеза называлась трапезою роду
и рожаницам. Из «Слова христолюбца», хранящегося в Румянцев-
ском музее (№ 181), можно заключить, что поклонение роду и
рожаницам сопровождалось разными увеселениями: пляской,
музыкой, песнями, зажиганием огней; по крайней мере об этом
говорится разом: «Не подобает крестьянам игор бесовских играти:
иже есть плясьба, гудьба, песни бесовския и жертвы идольския,
иже огневи молятся и вилам, и Мокоши, и Симу реглу, и Перуну,
и роду, и рожаницам, и всем тем, иже суть им подобна». Что при
поклонении роду и рожаницам действительно пели песни, видно
из Троицкого сборника XVI века, где в укор говоритря: «А вы
поете песнь бесовскую роду и рожаницам». В одном старинном
переводе пророка Исайи, в тех местах, где еврейский народ
порицается за поклонение идолам, эти идолы несколько раз названы
родом и рожаницами с очевидным намерением переводчика
применить слова пророка к современным заблуждениям: это
показывает, что верование роду и рожаницам держалось долго и сильно.
Что собственно разумелось в языческие времена под этими
именами, объяснить трудно и было бы здесь неуместно, если б
существование этого остатка язычества не удерживалось в описываемое
нами время. Под родом, кажется, следует понимать вообще судьбу
или участь — долю. Род употребляется всегда в единственном
числе, и, следовательно, по древнему верованию, существовал один
род для всех; напротив, рожаницы всегда во множественном
числе, и это показывает, что для каждого полагалась своя рожаница.
152
Существовало верование, что в тот день, когда рождался младенец,
по влиянию рожаницы, давался ему норов и осуд. Это верование
совпало с астрологическими верованиями о влиянии планет на
рождение человека; ибо в одном азбуковнике о рожаницах
говорится, что «рожаницами еллины называли семь звезд, называемых
планиты, и кто в какую планиту родился, тот по той планите
любопрятся предвозвещати нрав младенца». Несомненно, что
рожаницы были гении — хранители жизни. Их изображали
кумирами, как это видно из выражения: «Служат Богу и волю его
творят, а не рожаницам — кумирам суетным». Перед этими-то
кумирами отправлялись празднества и трапезы роду и рожаницам.
Что поклонение частным семейным языческим божествам
оставалось долее других верований язычества, то понятно и
естественно, потому что человек из сферы мифологии долее удерживает
то, что относится к его личности и к тесному кругу жизни, и,
напротив, легко забывает предания и склад понятий о существе
мира, творении земли, историю богов и героев. Мы, однако, не
знаем, в какой степени и где именно и между кем в XVI и XVII
веках удерживались эти поклонения старым божествам.
Полнее обрисовываются для нас языческие обычаи у финских
народов, населявших северную Русь. Таким образом, в XVI веке
в Водской пятине (нынешней Санкт-Петербургской губернии)
сельские жители были только по имени христиане. Они
совершали моления деревьям и каменьям и приносили жертвы,
сопровождаемые пированьем. Вместо священников они призывали к себе
чудских колдунов арбу ев: рождался ли младенец — прежде
позовут арбуя, тот наречет новорожденному имя, а потом уже родители
зовут христианских духовных. Не носили хоронить мертвых на
кладбища, а погребали их на курганах и коломищах (?). Эти
полухристиане не соблюдали постов и в особенности не терпели
Петрова поста, вероятно потому, что тут у них было время
языческих празднеств; убегали христианского брака и предпочитали
жить с женщиною по взаимной любви, без венчания. Архиепископ
Макарий обратил внимание на такие уклонения от церкви,
приказывал священникам сожигать мольбища, венчать тех, которые
соединились браком без обряда, освящать их святою водою, как
бы возобновляя утраченную благодать, принятую некогда в
таинстве крещения, и увещевать арбу ев, а непослушных из них
отправлять в Новгород. Дети боярские, поселенные в этих местах,
были обязаны наблюдать, чтобы народ не убегал от церковных
обрядов. В Пермской земле в XVI веке люди ходили на поклонение
истукану — золотой бабе; когда кого постигало бедствие или
болезнь, перед истуканом колотили в бубны и этим думали помочь
своей беде. Таким образом, финские народы на пространном
севере тогдашней России были в таком же положении, как теперь
чуваши и черемисы или как в прежние, более отдаленные, века
были крещеные русские, когда, по свидетельству Иоанна Пророка,
приносили жертвы болотам и колодцам и без благословения
пастырей сходились и расходились с женами. Около Казани и во все
стороны в ее окрестностях в XVI веке так называемые новокре-
153
щенные чуваши, черемисы и вотяки не ходили в церковь, не
соблюдали постов и призывали к родильницам не священников, а
баб; хоронили на кладбищах татарских; по необходимости
повенчавшись в церкви, совершали еще раз брачные обряды дома или
вместо жен держали у себя пленных ливонок.
В описываемое нами время русский народ, если и потерял
старые формы язычества, но сохранял его дух в самих
христианских верованиях. Без знания законов, без малейшего
понятия о существовании их неразвитый человек находится
под влиянием таинственных сил и во всем окружающем ищет
чего-то такого, на что хочет опереться в своем бессилии.
Обычные явления природы наводили страх: явление кометы,
затмение солнца, падающие камни производили волнение умов
и уныние. В народном воображении существовали разные
фантастические существа, помещаемые в природе.
Обыкновенно, отдаленные страны служили для воображения
местопребыванием таких существ и сценою чудесных событий. Так,
на севере России, мрачном, лесистом, суровом, народная
фантазия помещала пещеру змеи-аспиды, змеи крылатой с
птичьим носом и с двумя хоботами, эта пестрая змея живет
в отдаленных печорских горах, не садится на землю, а на
камень, а куда полетит, может всю землю опустошить. Но
есть заклинатели-знахари — обаянники, которые умеют ее
заговаривать.
Пустынные берега широкой Волги также представлялись
в народном воображении в чудесном свете. Говорили, что
выше Саратова есть гора Змиева, где обитал шестиглавый
дракон, налетавший на Русь и причинявший опустошения;
но богатырь убил его, а дракон превратился в камень.
Русские уверяли иностранцев, что в низовьях Волги растет
животно-растение — баранец; оно приносит плод, похожий
на ягненка. Стебель его идет через пупок и возвышается на
три пяди; ноги мохнатые, рогов нет, передняя часть — как
у рака, а задняя — совершенное мясо. Оно живет, не сходя
с места, до тех пор, пока имеет вокруг себя пищу.
Показывали меховые шапки и уверяли западных европейцев, что
эти шапки из меха «баранца».
С утратою мифологических образов, с потерей
антропоморфических представлений о силах природы еще долго
остается прежний взгляд на природу, и народ ищет в
окружающих его явлениях таинственного относительно к себе
смысла, не давая уже себе отчета, откуда истекает этот
смысл, или привязывая его к новым верованиям. На этом
основании удерживаются в народе приметы и гаданья. Можно
сказать, что жизнь каждого русского, по мере большей или
меньшей личной наклонности к мистической созерцательности,
вся была управляема приметами. Предвещательность и
знаменательность явлений для него была так широко развита,
что обратилась в систему. В числе запрещенных книг ходили
по рукам волховники, или сборники примет и гаданий в
154
назидание людям. Вот, например, какого рода приметы имели
знаменательность для воображения: храм трещит (треск в
стене), ухозвон, кости под колпиками свербят — путь будет;
длани свербят — пенязи1 имать; очи свербят — плакать
будут; воронограй, куроклик (пение курицы) — худо' будет;
утица крякнет, гусь гогочет, окомиг (дрожь в ресницах), огнь
бучит (треск дров), пес воет, мышеписк (писк мышей), мышь
порты (платье) грызет, кошка в окне мышца держит, сон
страшен, слепца встретить — изгорит нечто; огонь пищит,
искра из огня, кошка мяукает — падет человек; свеча
угаснет, конь ржет, вол ревет, трава шумит, дерево скрипит,
сорока поцекочет, дятел желна (долбит дерево), стенощелк
(червячки в стенах), жаба воркует. Некоторые приметы
служили к предузнанию погоды и физических явлений: дым
высоко: в избе ходит (в курной) — к погоде; мышь в жилье
высоко гнездо совьет — снег велик будет, и погода будет.
Другие служили признаками войны, голода и иных народных
бедствий; например, «берег подымается и море дичится, и
ветры сухие или мокрые тянут, и облака дождевыя и снеж-
ныя и ветряныя, и гром гремит, и буря веет, и лес шумит,
и древо о древо скрипает, и волки воют, и белки скачут —
мор будет, и война восстанет, и вода пребудет, и плодов в
лете в коем не будет или умалится». Вот сколько примет,
и сверх того втрое было больше, чем здесь означено; а из
них многие сохранились до сих пор. Верили в сон и
составляли обширную систему знаменательных истолкований;
верили в чох, в полаз (вероятно, насекомых, — вывод
предвещаний из различных их движений), верили во встречу, то
есть считали встречу с одними предметами счастливым, с
другими несчастным предзнаменованием. К несчастным в
древности принадлежали: встреча с монахом, с лысым конем,
со свиньею. Преподобный Феодосии в XII веке укорял тех,
которые при таких встречах ворочались назад. Эти примеры
из XII века, без сомнения, существовали в XVI и XVII
веках, потому что сохранились и в наше время. Кроме
множества гаданий, которые и теперь служат святочной
забавой, в старину были целые системы гаданий, записанные
в книгах и гадальных тетрадях. Они носили общее название
«Рафли». К таким книгам принадлежали «Аристотелевы
врата», «Шестокрыл» и астрологические гаданья, занесенные к
нам с Запада: «Острономы», «Зодей», «Альманах», «Звездо-
четье»; сущность последних состояла в отыскании влияния,
какое имели на судьбу человека и на обстоятельства его
жизни небесные светила, дни и часы: «О злых часех и о
нарождении человечестем, в которую звезду или час, добр
или зол, и получая счастков и богатству и нищеты и в
нарождении добродетелем, и злобам, и долголетству жития и
1 Пенязь — деньга, деньги.
155
скращения смерти — и сия вся кошуны и басни суть». В
этих разнообразных учебниках волшебства заключались, по
выражению одного иерарха, такие вещи, «их же не подобает
не точию описывати, но ниже помышляти, ради хулы, и
многие скверности и отступничества». К этой категории
гаданий относились так называемые рождественные волхвования,
которые производили чародеи по призыву матерей над
младенцами, узнавали и определяли- их судьбу. Смелая и суе^
верная женщина, будучи беременна и желая узнать, кого
она родит, давала из рук своих медведю (конечно, ручному-
которых часто водят скоморохи на потеху людям) хлеб и
прислушивалась к голосу, какой издаст зверь: если он
рыкнет — значит, она родит девицу, а если замычит — то
мальчика. Об образовании младенца составились
полуязыческие, полухристианские верования. Одно описание говорит,
что человек состоит из восьми частей: «Сердце от камени,
тело от персти1 кости от облак, жилы' от мглы, кровь от
Чермнаго моря, теплота от огня, очи от солнца, дух от свята
Духа». Другое описание объясняет, что во время беременности
женщины ее ангел-хранитель берет части «у земли, или у
воды, или у железа, или у камени, или у древа, или у
огня, или у всякия вещи смертныя, и возьмет от того ангел
материн и кинет на отроча то, и от того зарождается в
нем дух». Человеческие свойства зависят от преобладания
какой-нибудь из восьми частей состава его тела: «От земли —
тело: тот человек темен, неговорлив; от моря — кровь в
человеце и тот человек прохладен; от огня — жар: тот
человек сердит; от камени — кость: тот человек скуп,
немилостив; от солнца — очи: тот человек богатыреват и
бесстрашен; от ветра — дыхание: тот человек легкоумен; от
облака — мысль: тот человек похотлив; от света — свет:
тот человек свят, не мыслит земного, но мыслит небесная».
К другим гаданьям прибегали в разных предначинаниях,
чтобы узнать, удачно ли они пойдут, в разных неудачах и
бедствиях, чтобы узнать, ем помочь. Один из старинных
родов гаданий назывался «получай». Как он совершался,
неизвестно, но его название заставляет думать, что цель его
была — отыскание средств к приобретению.
Самое распространенное верование было в могущество
человеческой воли и выражающего ее слова. Все собственно
так называемое наше старое чародейство основывалось глав-
ныхм образом на убеждении в силе воли и слова. Волшебник
или чародей в обширном смысле был человек, который силою
своего слова мог производить желаемое, узнавать будущее,
изменять направление обстоятельств, властвовать над судьбою
других людей и даже повелевать силами природы. Заговор,
или примолвление, играл главную роль в волшебстве. Правда,
1 Персть — пыль, прах, земля.
156
волшебники действовали и посредством разных вещей; но
народное понятие? приписывало силу не самим вещам, а
слову, которое им сообщало эту силу. Сила исходила не из
природы, а из человека, из его души. То была сила духовная.
Даже самое лечение или отрава людей посредством трав
приписывались не целебному или вредоносному свойству
самих растений по их природе, а человеку, который сообщал
им это свойство своею волей, и потому лечение травами
преследовалось церковью наравне со всякими другими
волшебствами под именем зелейничества. Полагали, что растение,
совершенно безвредное, может быть убийственно, если
волшебство сообщит ему злокачественную силу. В 1632 году, во
время войны с Литвою, запрещено было ввозить в Московское
государство хмель, потому что лазутчики донесли, что какая-
то4 баба-ведунья наговаривает на хмель, чтобы тем хмелем,
когда он будет ввезен в Московию, произвести моровое
поветрие. Волшебники носили разные наименования, которые
имели свои особые оттенки, хотя часто значение их
смешивалось. Между такими видами волшебников были волхвы,
чародеи, чаровницы, зелейщицы, . обаянники, кудесники,
сновидцы, звездочеты, облакопрогонники, облакохранительники,
ведуны, ведуньи, лихие бабы. Обаянниками назывались
фокусники, которых призывали или посещали, «хотяще некая
от них увидети неизреченная». Они же заклинали змей и
злых животных. Кудесник совершал разные заклинания и
чародейственные обряды (кудесы бьют) и предвещал будущее.
Сновидцы рассевали в народе разные предзнаменования на
основании виденных ими снов и уверяли, что они приняли
извещение свыше. Иногда они толковали сны другим,
приходившим к ним. Иногда рассказывали о собственных
видениях. Во время народных бедствий они толковали народу
причины несчастия, часто указывали на каких-нибудь лиц,
называя их виновниками, и обрекали их народному мщению.
Облакопрогонники, как их называет «Домострой», были
волшебники, которые, по народному понятию, повелевали дождем
и ведром и через то самое могли насылать урожай или
неурожай. Верование это очень древнее, как видно из наших
летописей по рассказу об избиении в Ростове в XI веке и
в Суздале в 1124 году женщин за то, что будто бы они
спрятали в себя хлебное жито и съестные запасы. В XVI
веке рассказывали, что во время осады Казани, в 1552 году,
татарские колдуны и колдуньи, стоя на стенах города, махали
одеждами на русское войско и насылали ветер и дождь.
Столь же древним было верование в волшебников, снедающих
солнце и луну («погибе солнце и бысть яко месяц, его же
глаголит невегласи снедаемое солнце»). В Кормчей книге эти
волшебники называются волкодлаками («влъкодлаци луну изе-
доша или слънце»). Ведунами и ведуньями назывались вообще
лица обоего пола, ведавшие тайную силу управлять
обстоятельствами жизни. Все лица, занимавшиеся волшебством,* со-
157
ставляли в иных местах как бы особые цехи, передавали
одни другим свое искусство и промышляли им, помогая тем,
которые к ним прибегали в житейских нуждах. Иногда этим
занимались и мужчины, но чаще пожилые и старые
женщины. Во всех местах: России можно было отыскать' их.
Особенное уважение существовало к тем, которые жили на
севере в Карельской земле. Там искал их великий князь
Василий Иоаннович, когда, женившись в другой раз на
молодой Глинской, хотел иметь детей и прибегал к чародеям,
чтобы они помогли ему в плодотворении. В самой Москве
жило множество колдуний, и преимущественно в.
Замоскворечье.
Так, в первой половине . XVII века там были известны
женки: Улька, Наська Черниговка, Дунька, Феклйца, Машка
Козлиха, как видно из дела, возникшего в 1638 году по
поводу подозрения в порче царицы Евдокии. Эти чаровницы
предлагали свои услуги посредством наговоров над
какою-нибудь вещью. Таким образом, к московской чародейке Наське
Черниговке прибегали женщины, страдавшие от побоев,
которыми наделяли их мужья. Колдунья должна была «отымать
серцо и ревность у мужьев»; а когда жены жаловались на
«холодность мужьев», приворожить их и отнять «серцо и ум».
Она наговаривала на соль, мыло и белила, приказывала
женщине умываться мылом и белиться белилами, а соль
давать в питье и в еству мужьям, брала у женщины ворот
рубашки и сжигала его, наговаривала на пепле и
приказывала также сыпать его в питье мужу. Завораживая соль,
чародейка говорила: «Как тое соль люди в естве любят, так
бы муж жену любил». Над мылом говорилось: «Коль скоро
мыло с лица смоется, столько бы скоро муж жену полюбил»;
когда сжигался ворот рубашки, колдунья говорила: «Какова
была рубашка на теле, таков бы муж до жены был».
Сожженный ворот рубашки служил также слугам для
умилостивления господ: надобно было этого пепла насыпать на
след, когда господин или госпожа будут идти. Одна из таких
жертв обмана наивно сознавалась, что после того, как она
исполнила над своим мужем все, чему научила ее колдунья,
муж, вместо ожидаемой перемены поведения и ласки, чуть
не убил ее; тогда она, увидя, что нет помощи от чародейства,
бросила с досады наговорные вещи. Ревнивые мужья хотели
от ворожей узнавать о неверности своих жен. Ворожею
призывали в дом, она присматривалась к сердцу женщины,
которую муж подвергал испытанию; если ворожея замечала,
что у жены сердце трепещет, то укоряла ее в неверности
и отдавала невинную на произвольную расправу мужа. Если
в доме случилась пропажа, призванная ворожея пристально
присматривалась к брюху. Другие колдуньи * своими
наговорами помогали купцам, когда у них залеживался товар. Тогда
колдунья наговаривала на мед, приговаривая: «Как пчелы
ярося роятся, так бы к такому-то торговому человеку купцы
158
для его товару сходились». Потом она приказывала торговому
человеку умываться этим медом. Мужчины-колдуны
заговаривали ратным людям от стрельбы и от меча, когда те шли
на войну, «к ласковости от человек», когда подначальный
хотел расположить своего начальника'; охотникам — на лов-
ление зверей, а охотникам до прекрасного пола — на блуд.
Если на кого царь или князь гнев держит, надобно при
себе носить под левою пазухою правое око орла, завязав в
ширинку. Этого орла нужно поймать непременно на Иванов
день о вечерне, понести на распутье между дорог и заколоть
острою тростью. Левый глаз того же орла, смешанный с
коровьей кровью, рекомендовался охотникам и рыболовам:
«Левое око его добро смешать с коровьею кровию и селезневою,
да все то изсуши, да завяжи в синий плат чистый. И когда
хочешь ловить рыбу, и ты привяжи к цепу и наловишь
рыбы много. Та же вещь ко многим ловушкам годна — ко
звериным и птичьим и ко всякой ловле». Начинавший
судиться или позванный через пристава или неделыдика к
судебному ответу спешил к колдуну, который заговаривал
язык и сердце противной стороне. Идя на суд, надобно снять
с березки перепер, который трясется, и говорить: «Так как
сей перепер трясется, так бы мой супостат (имярек) и его
язык трепетался». Когда еще в обычае были судебные
поединки, чародеи являлись на помощь; нередко спорщики готовы
были помириться, но чародеи начинали пред ними бить
кудесы и разжигали снова. Чародеи советовали таким образом
запасаться силою для судебного поединка: «Убей змею черную
саблею или ножом да вынь из нее язык, да вверти в тафту
зеленую и в черную, да положи в сапог в левой, а обуй
на том же месте. Идя прочь назад, не оглядывайся. А кто
тебя спросит, где был ты, и ты с ним ничего не говори.
А когда надобно и ты в тот сапог положи три зубчика
чесноковые, да под правую пазуху привяжи себе утиральник
и бери с собою, когда пойдешь на суд или на поле битвы».
Когда холоп обкрадывал господ и бежал, призывали ворожею,
и она произносила заклятие над бежавшим.
Невозможно перечислить всех вещей, над которыми ведуны
и ведуньи совершали свои таинственные заклинания и при-
молвления, но между прочим они совершались над кореньями,
зельями, водою, огнем, костями, громовыми стрелами,
каменьями, над медвежьим ноготком, над мертвою рукою, над
рубашкой мертвеца, над выбранным из-под человеческой ноги
следом^ над ветром, над зеркалом, над узлами и прочим.
Вера в чудодейственную силу кореньев была распространена
в России повсеместно. Цари и сильные мира боялись от
кореньев не только вреда своему здоровью, но даже
политических перемен. Влюбленные и охотники до прекрасного пола
прибегали к колдуньям просить приворотного корешка или
приворотных зелий, собираемых, как думали, в таинственную
ночь Купала. Приворотный корень называла «обратимом», то
159
есть обращающим. Колдунья давала этот корень женщине, та
должна была положить его на зеркало и смотреться в него.
«Как смотрюсь в зеркало да не насмотрюсь (приговаривалось
при этом), так бы такой-то на меня не насмотрелся». В
одном из травников XVII века подобное приворотное свойство
приписывается нескольким травам, например, траве «кукоос»,
«В ней корень на двое, один мужичок, а другая женочка:
мужичок беленек, а женочка смугла. Когда муж жены не
любит, дай ему женской испить в вине, и с той травы
станет любить». То же приписывалось траве «одолен». «Кто
тебя не любит, то дай пить, — не может от тебя до смерти
отстать; а когда пастух хочет стадо пасти и чтоб у него
скот не расходился — держать при себе, то не будет
расходиться; похочешь зверей приучить, — дай есть, то скоро
приучишь». К числу верований о приворотных средствах
принадлежит одно очень странное — о траве «симтарине»,
которую называли во травах царь-трава, о шести листах:
«Первый синь, другой червлен, третий желт, а четвертый
багров; а брать вечером на Иванов день, сквозь золотую
гривну или серебряную; а под корнем той травы человек,
и трава та выросла уу него из ребр. Возьми человека того,
разрежь ему перси, вынь сердце. Если кому дать сердца
того человека, изгаснет по тебе. Если муж жены не любит,
возьми голову его и. поставь против мужа — только что
увидит, будет любить пуще прежнего. Десная рука его —
добро; если которая жена мужу не верна или муж жене,
стерши мизинным перстом, дать пить». Насылка на ветер и
выбор следа были чародейства злые: они производились с
целью сделать зло человеку, и потому их боялись особенно.
В подкрестных записях на верность царю верноподданный
присягал, между прочим, «ведомством по ветру никакого лиху
не насылати, на следу не вынимати». Насылка по ветру
состояла в том, что лихой колдун, знавший искусство
возбуждать ветры и направлять их куда угодно своими
заговорами, производил ветер, потом бросал по ветру пыль и
примолвлял, чтоб так по ветру понесло пыль на такого-то
человека, чтоб его корчило, мяло, раздувало, сушило и прочее
и прочее. Если обреченная жертва попадалась под такой
ветер, то с ней сбывалось все, чего желал ей колдун. Выбор
следа из-под ноги сохраняется до сих пор. Выбранный след
замазывали в печи или сожигали, и оттого иссыхал тот,
из-под чьей ноги был взят след. Впрочем, выбирали след и
не для злой цели, а для того, чтобы приворожить к себе.
Заговоры над мертвыми человеческими костями, рукою и
зубами совершались на воровство: «На татьбу мертваго зубы
волшвением». Тогда, как и теперь, воры употребляли руку
трупа для усыпления хозяев в доме, когда хотели их
обокрасть. В старину также наговаривали на просфору.
Приносили просфору к ворожее, крторая произносила над ней
примолвления, и этой просфоре сообщалась сила давать успех
160
в делах тому, кто ее держит у себя. Одним из самых
обычных способов передачи- волшебной силы были наузы или
узлы; над ними наговаривали и отдавали желающему: им
приписывали силу предохранять от разных несчастий. Матери
брали от волшебников чародейственные узлы и навязывали
их на детей («Баба начнет на дети наузы класти, смеривати,
плююще на землю, рекше беса проклинать»). Этот древний
обычай высказан в нашей старой летописи, в повествовании
о Всеславе, которого мать даже родила при участии
волшебства (от волхования); ему волхвы навязали науз на голову;
он носил его всю жизнь, и влиянию этого чародейственного
узла приписывались его воинственность и жестокость («того
ради немилостив на кровопролитие»). Многие приходили к
ворожеям и брали от них наузы для предохранения от
всякого рода опасностей («некая бесовская обаяния наюзы»).
В старину узлы навязывали на оружие и думали сообщать
ему твердость и уничтожать силу противного оружия, как
это видно из старинного заговора: «Завяжу я по пяти узлов
всякому стрельцу немирному, неверному на пищалях, на
луках и всяком ратном оружии. Вы, узлы, наградите
стрельцам все пути и дороги, замкните все пищали, спутайте все
луки, повяжите все ратные оружия; в моих узлах сила
могуча!» На этом основании верили, что некоторые из ратных
людей умели так завязывать чужое оружие, что их самих
не брали ни пули, ни сабли. Такое мнение существовало и
сохранилось в предании о Стеньке Разине. Наузы давались
от влияния злых чародеев и от зломыслия врагов вообще*
как видно из заклятий: «Завяжи, Господи, колдуну и
колдунье, ведуну и ведунье и упирцу на раба Божия (такого-то)
зла не мыслити от чернца, от черницы, от красной девицы,
от беловолосого, от черноволосого, от рыжеволосого, от русо^
волосого, от одноглазого, разноглазого и от упирца». Конечно,
от этого старинного верования во всемогущество наузов
осталось выражение: завязать, в смысле не допустить,
преградить. Видно, что наузы давались не столько для того, чтобы
сообщить какую-нибудь силу тому, кому давались, сколько
для того, чтоб предохранить от враждебного действия и
уничтожить его силу. Чаще всего наузы давались против болезней
не как лекарство, а как предохранительное средство.
Народное воображение всегда старалось отыскивать
фантастические причины болезней. Вообще болезни происходили
от влияния злых духов или даже сами были злыми духами,
или от злого умысла и силы слова, которое может управлять
природою человека как на добро, так и на зло. Лихорадка,
обыкновенная болезнь, представлялась бесом-трящею («недуги
лечат чарами и наузы, некоторого беса глаголемаго трящю
прогоняюще»), . Этому бесу-тряще подвластны выходящие из
огненного столба двенадцать (по другим сведениям — семь)
простоволосых девиц, дщерей Иродовых (Невея, Синя, Легкая,
Трясуница, Желтуница, Мученица, Огненная, Аки-лед, Вре-
161
менная, Безымянная, Вешняя, Листопадная). Имена семи —
не русские: Лилия, Хортория, Зьггрея, Невея, Тухия, Нешия,
Жыднея, еще старшая Трясавица; «а иньшии все повинны
нас слушати» (вероятно, каждая из нас). Их прогоняли
заговорами, завязывали наузами и ■ отписывали письменами. В
этих письменах писались эллинские имена лихорадок;
записочки давали носить больным; другие писали имена лихорадок
на яблоке, и яблоко клали в церкви во время литургии;.
Множество разных болезней приписывались урокам, призерам
и сглазам. Под уроками разумелись злодейственные речи; под
последними — недобрые взоры. Лечение состояло в том,
чтобы отогнать и уничтожить действие враждебной
губительной силы. Ворожеи употребляли наузы, примолвления, разные
манипуляции и зелья. Наузы, как выше сказано, были более
предохранительное средство; они не допускали враждебную
силу действовать, когда придет случай («Хотя мало поболим,
или . жена, или дитя, то оставльше Бога, врача душам и
телам, ищем проклятых баб чародейниц наузов... глаголюще
нань наузы навязывати»). Примолвки и заговоры
употреблялись как для предотвращения болезней, так еще более как
прямое средство против недуга, уже поразившего болящего.
Иногда заговоры говорились без особенных обрядов и без
посредства вещей, но чаще ворожеи наговаривали на какие-
нибудь предметы, особенно съедомые и испиваемые, и
сообщали им силою своего желания целительное свойство. Вода
играла в этих случаях главнейшую роль, особенно в тех
болезнях, когда признавалось, что они постигли болящего от
призора или сглаза: тогда надобно было смыть или обрызнуть
прочь призор, то есть влияние дурного взора. Бросив в ковш
с водою три угля, ворожея в своем примолвлении уговаривала
воду обмыть с хворого «хитки и притки, уроки и призоры,
скорби и болезни, щипоты и ломоты, злу худобу и понести
за сосновый лес, за осиновый тын». Кроме целящего свойства,
воде, употребляемой со знаменательными обрядами,
приписывали также и предохранительное; волхвы и бабы-ведуньи
советовали купаться в реках и озерах во время грозы и в
новолуние, умываться с серебра, а потом встречать молодой
месяц, и этими средствами хотели предохранить от недугов
на будущее время. Время пред восходом солнца считалось
особенно знаменательным: тогда ходили купаться, мыли
платье, ткали и пряли, вертели масло и делали другие
домашние работы, думая, что деланное до солнечного восхода
имеет что-то особенно важное. Кроме воды, очень часто
ворожеи наговаривали на вино, на чеснок, на уксус, на
соль; а когда заговаривали грыжу, то употребляли медвежий
ноготок и громовую стрелу, обмывали их и приговаривали:
«Как старой женке детей не раживать, так бы у такого-то
грыжи болезни не было». Громовые стрелки, то есть камешки
наподобие стрел, которые почитались упавшими с неба во
время удара молнии, служили у ворожей средством при
162
многих лечениях; но церковь преследовала их, как и всякие
другого рода средства. «Стрелки, топоры громовныи —
нечестивая, богомерзкая вещь; аще недугы и подсывания и ог-
ненныя болести лечит, аще и бесы изгоняет, и знамения
творит — проклята есть, и ти исцеляеми ею». Если у
кого-нибудь случалась жаба в горле, ворожея лечила тогда
придавливаниями с примолвлениями; когда больной жаловался
на боль в желудке, ворожеи называли это вообще нутряною
болезнью и лечили разными манипуляциями, между которыми
самый обыкновенный способ был накидывать горшки с
примолвлениями. Для всяких болезней были свои особые при-
молвки и свои обряды по правилам патологии знахарей.
Наружное обмывание или мазание больного тела было
обычным приемом волхвов: для мазания употреблялись
всевозможнейшие вещи, какие только могли прийти необузданной
фантазии: «Мастию, коею либо мажут или скипидаром, или
нефтью, или мышьяком, или кровью человеческою, или
млеком женским и скотским, или медом, или росою, или серою,
или дегтем, или хмелем».
К симпатическим средствам принадлежали в XVII веке
орлов камень, рога единорога и змеиные рожки. Орлову
камню, по современному суеверию, «Бог дал дивные угодья
таковы, что несведующим людям нельзя про него и веры
взять». Воображали, что этот камень находят в орловом гнезде.
«А держит орел тот камень в своем гнезде для обереганья
детей своих, потому что тот камень оберегает от всяких
притчей, от поветрия и от всяких зол». Рог единорога
считался редким и драгоценным средством не только для
исцеления от тяжелых болезней, но и для поддержания цветущего
здоровья вообще на всю жизнь. Это верование о роге
единорога распространили иностранцы в XVII веке, и сам царь
Алексей Михайлович в 1655 году соглашался за три такие
рога заплатить десять тысяч рублей соболями и мягкою
рухлядью. Говорили, что он длиною до шести пядей1 и
светел, как светло. Небогатые не могли доставать таких
дорогих средств и употребляли так называемые змеиные
рожки. Их толкли в порошок и давали пить в случае какой-
нибудь «нутряной» болезни. Эти змеиные рожки очень часто
<и вероятно, всегда) были не что иное, как простые кости.
Некоторые предохранительные симпатические средства
назначались для скотины: «Около скота волхвует: и с каменем,
и железом, и сковородою, и с иконами спускают скоты
свои». «Если хочешь скота- много держать, то медвежью голову
пронеси сквозь скот на Иванов день, до солнца и вкопай
посреди двора, и скот будет вестися; а если у кого скот
мрет, и ты с умерлаго вели кожу содрать и продать, и что
возьмешь за кожу, и ты вели на те деньги купить сковороду
1 Пядь — расстояние между. большим и указательным пальцами,
растянутыми по плоскости.
163
железную и вели на ней печь что хочешь, мясо или рыбу,
и ешь с той сковороды что хочешь,, а скот твой, с тех мест
не мрет и здрав будет. Кто животину купит приводную,
мерина или корову, и приведши ко двору, велеть растянуть
пояс женский от вереи1 до вереи, да замок положить к
верее, а колоду замочную к другой верее, и проведши
животину сквозь замок, замкнуть и пояс взять опоясаться, и
через мужской- пояс животину водят же, от вереи до вереи'
растянувши».
К числу чародеев принадлежали, как выше было сказана,-
и зелейщики — знатоки силы трав и кореньев: у них был
свой травник, который они передавали друг другу. Эти
травники переходили из рук в руки в списках. Травы собирались
знаючи, то есть с таинственным уменьем доставать их: в
каких местах, в какое время и каким способом. Купальская
ночь признавалась лучшим временем для этого; некоторые
травы считались целительными в совместных болезненных
припадках. По приказанию Алексея Михайловича один
сибирский знахарь сообщил через воеводу правительству под^
меченные им свойства некоторых трав. Из этих известий и
из других мы узнаем, что у знахарей были травы на все
болезни и на все случаи. Из донесения упомянутого выше
знахаря видно, что при грыже давали семя травы, называемой
зелейщиками елкий, настоенное для взрослых в вине, а для
детей — в молоке, другие советовали пить в уксусе траву
«ушко», при болезнях застоя мочи и при трудных родах
давали в окуневой теплой ухе или в молоке траву колун.
Корень девясила употреблялся для жевания от зубной боли;
ирной корень настаивался на водке и давался от удушья;
от запоров давали губку лиственницы, называемую кимана,
в вине или в горячей воде; от той же болезни сибирский
знахарь рекомендовал корень травы, называемой земляная
свечка. Из травы под названием петушковы пальцы делали
припарку против желваков и других затвердений. От побоев
и ран лечили питьем из зверобоя на водке; в тех же случаях
употребляли винный настой травы излюдин и травы мартя.
По другому травнику от побоев и ран рекомендовали травы:
девятисил (или девясил), хмельник, ужик и попутник. Настой
последней травы давали пить внутрь и примачивали им
больные места снаружи. Иногда знахари лечили микстурой
из разных трав, кореньев и животных веществ; вот, например,
образчик знахарского рецепта: «Знает (она около Якутска,
масло, ростом- кругло, что яблоко большое и малое, ходит
живо, а живет в глухих и глубоких озерах; будет какой
человек болен нутряною красною грыжею или лом в костях,
или мокрота бывает нутряная, и сидети в бане и после того
баннаго сиденья сделать состав: часть того масла, большую
1 Верея — столб, на который навешивается створка ворот.
164
часть нефти, часть скипидару, часть деревяннаго масла, да
добыти полевых кузнечиков зеленых, что по травам скачут,
да наловить коростеликов красных, что летают в полях, и
те статьи положить в горячее вино и дать стоять день
одиннадцать или тринадцать; и после того баннаго сиденья
велеть того больнаго человека тем составом тереть по всему
телу и велеть быть в теплой хоромине, пока тот состав
войдет; а делать так не по одно время; и то масло едят и
пьют от многих нутряных болезней». Некоторым травам
приписывалось чародейственное влияние против душевных недугов
и вредоносного действия зависти одного человека к другому.
Тот же сибирский знахарь советует настаивать на вине или
на уксусе земляные груши и есть их сырые в случае тоски
или сердечной болезни; а против испуга или дурного влияния,
оставленного осуждением завистливого человека, указывает, как
на целительное средство, на траву, называемую ероя: следует
болящего окуривать этой травой, тереть его по лицу и,
намоча в воде, давать есть. Были травы, которым
приписывали значение универсальных лекарств; так, в одном травнике
XVII века о траве излюдин (растет по старым росчистям,
ростом в пядь, собою мохната и листочки мохнаты)
говорится: «Кто тое траву ест, и тот человек, живучи, никакая
скорбь не узрит телу, и сердцу». Трава кудрявой купырь
имела силу предохранять от отравы того, кто ее ел натощак.
О траве плакун говорится, что ее надобно заранее приобресть
для того, чтоб искать всякую другую траву, «а без тое травы
никакой травы не рвет, потому что от них помощи не будет».
Существовало поверье о разрыв-траве, с помощью которой
узники ломали свои оковы и воры отпирали замки. Такая
трава в травнике, о котором упомянуто выше, называется
бель: растет в воде, а коренья добры; возьми и положи в
замок, то отомкнётся. Другим травам приписывали
предохранительную силу; о траве Петров крест говорится, что от нее
«никакая скорбь не ввяжется, помилует Бог от всякия
пакости; а в пир поедешь, возьми ее с собою от еретика и
напрасныя смерти». То же думали о паперте, которую
доставать следовало только в Купальскую ночь и потом носить
всегда при себе; «где пойдет — на того человека никто
сердит не бывает, хотя и не друг, а на зло и не помыслит».
О траве полотой ниве существовало такое наставление:
«Надобно кинуть золотую или серебряную деньгу, а чтоб же-
лезнаго у тебя ничего не было; а как будешь рвать ее, и
ты пади на колено, да читай молитвы, да, стоя на колене,
хватать траву ту, обвертев ее в тафту, в червчатую или
белую, и беречь ту траву от мерзкаго часа; а хочешь идти
на суд или на бой, ино никто тебя не переможет». Траву
осот рекомендовали держать торговым людям: «Хочешь богат
быть — носи на себе, где ни поедешь, и во всяких
промыслах Бог поможет, а в людях честно вознесешися». Зелье
попутник, повешенное на дворе, отгоняло всяких гадов и
165
вредных насекомых. Траве перенос, кроме таких же
предохранительных свойств от укушения гадов и действия нечистых
духов, приписывалась такая сила, что если из нее «сердечко
положи в рот и поди в воду, то от него вода расступитца»;
а травы прострел (сон-трава) и укрой предохраняли дома,
где их держали, от нечистых духов. Когда рвешь прострел,
то следовало положить на то место, откуда взят корень,
великоденское яйцо. Подобные средства употреблялись против
порчи: под этим именем в обширном смысле разумелось
вообще нанесение вреда человеческому здоровью от
злоумышления или зложелательства при участии нечистой силы; но
в тесном смысле сюда относились по преимуществу те
нервные болезни, которые внезапностью и исключительным
ужасом припадков потрясают воображение, настроенное к
таинственным толкованиям. Не только верили, но даже
избегали сомнения в том, что причины таких явлений надобно
искать исключительно во влиянии злых духов, а не в
обыкновенной природе. Очень часто в разных местностях
появлялись беснующиеся и кликуши; в особенности они
толпились там, где была какая-нибудь чудотворная икона или
мощи святого, — вообще места, прославленные религиозной
святостию. Кликушами они назывались оттого, что выкликали
или кликали на кого-нибудь, то есть указывали, что такой-то
их испортил. Припадки их усиливались во время литургий:
тут, по выражению века, они мечтаются всякими казнодей-
ствы. Женщины страдали этим преимущественно. О таких
беснующихся ходили изустные и письменные истории самые
мрачные и вместе с тем самые затейливые. В одном из
сборников XVII века есть замечательная повесть в этом роде
об одной священнической дочери, в первую ночь своего брака
подвергнувшейся власти бесов, потому что муж ее
неосторожно вышел, оставив дверь отворенную и неосененную
крестным знамением. Бесы таскали ее на болото, терзали и
мучили. Она делалась беременною и рождала чудовищ,
наподобие змей, которые сосали ее до крови. После несказанных
мучений эта страдалица исцелилась спасительным влиянием
чудотворной иконы Пресвятой Богородицы. Независимо от
несчастных, которые действительно страдали нервными недугами,
несравненно более было таких, которые • или усвоили себе
эти припадки от воображения, или же притворялись;
выкидывая разные фарсы, показывали толпе вид, будто
пророчествуют. Стоглавый собор просил царя, чтоб он повелел
жителям гонять от себя лукавых пророков и пророчиц,
которые являлись тогда во множестве. То были преимущественно
старые девки: они бегали босые, с распущенными волосами,
тряслись, падали, коверкались, бились и таким образом
предсказывали будущее и возвещали народу разные заповеди,
вроде следующих: «Бабы, не прядите и печей не топите по
средам и по пятницам: святые апостолы и святая пятница
нам являлись и не велели». Другие же подучали людей на
166
всякие пороки. Появление кликуш в городах было истинным
наказанием для всего общества; их указания часто
принимались и преследовались судом. По одному клику беснующейся
женщины брали обвиняемого ею человека и подвергали
пыткам; иногда притворные кликуши служили орудием
корыстолюбивым воеводам и дьякам; последние нарочно подучали их
обвинять богатых хозяев, чтоб потом придираться и обирать
последних; а если кто-нибудь, обезумленный страданиями
пытки, наскажет на себя, что он действительно колдунv того
сжигали в срубе. Между тем, правительство, получив известие
о распространении порчи и появлении кликуш в каком-нибудь
крае, посылало туда нарочных сыщиков отыскивать и
выводить ведунов и ведуний: всеобщее зло удваивалось. Часто
обыкновенная болезнь человека служила началом дела о
колдовстве. Больное воображение искало причин болезни и тотчас
нападало на ту мысль, что болезнь происходит от супостатов.
Томит сухота сердечная, есть-пить не хочется, свет белый
не мил, — верно напустили, может быть, из-под ветру или
са следа, а, может быть, зелья чревоотравного дали, что
чаровница собирала в ночь Купала. Домашние придумывали,
от кого бы могла случиться беда. Они имели право указывать
на ведуна и просить сыску; а нужно, чтоб только
заподозрили в ведовстве — до пытки недалеко, особенно если у
истцов есть средства расположить в свою пользу правосудие.
В 1606 году в Перми производилось дело о том, что
некоторые ведуны напускали на людей икоту. Обвиняемых жгли,
давали на пытках по три встряски, потом сажали в тюрьму.
Если после всех операций подсудимый не признавался, то
наряжали обыск: священники, посадские, старосты и
целовальники с выборными обывателями подавали голоса для
окончательного обвинения или оправдания. И обвинители, и
обвиняемые равно не бесполезны были для воевод и дьяков.
Самый ничтожный факт, если его не могли объяснить, был
достаточен, чтобы обвинить человека в колдовстве. Таким
образом, во время пожара в Москве при Михаиле Федоровиче
хотели сжечь как колдуна одного немца-живописца за то,
что нашли у него череп и никак не могли объяснить себе,
для чего он его держит.
Порча сообщалась через разные предметы. Выше было
упомянуто о том, как наносили порчу здоровью человека
посредством ветра и выимки следа. Равным образом колдуны
пересылали свое зложелательство через подмет разных вещей,
к которым случайно мог прикоснуться тот*, на кого
обращалось злое намерение. Вот, например, в Шуе в 1672 году
производилось уголовное дело о колдовском под мете: один
посадский подал челобитную, что в углу на краю своего
огорода он нашел куски печеного хлеба, калачи и несколько
меда. Волшебство также легко переходило через все, что
принадлежит к конской упряжи и вообще к езде. От этого
К царским лошадям не допускали никого, чтоб «лихой человек
167
не положил зелья и коренья лихова в их государевы седла*
и в узды, и в войлок, и в рукавки, и в наузы, и в кутазы,
и в возки, и в сани, и в полость санную, и в ковер, и
в попонку». В 1598 году русские присягали Борису, своему
государю, «в естве и в питье, и в платье или в ином в
чем лиха напасти не учиняти; людей своих с ведовством,
да и со всяким лихим кореньем не посылати, и ведунов и
веду ней не добывати, на следу всяким ведовским мечтанием*
не испортити, ни ведовством по ветру никакого лиха не.
насылати» и прочее. Во время войны боялись, чтобы чужие
государи не подослали волшебниц испортить государеву
семью, и успехи Самозванца всеобщее мнение ничему другому
не могло приписать, кроме ведовства. Опасение, чтобы лихие
люди не нанесли порчи царю и царскому семейству, не
имело границ. Чуть только случилось прихворнуть государыне
или кому-нибудь из царских детей, сейчас подозревали, что
их испортили, сглазили или напустили на них худобу.
Женщины, составлявшие дворню царицы, жили, по большей
части, в неприязни между собою, соперничали одна с другой
и взаимно одна на другую доносили. Если в домашнем
царском быту возникал какой-нибудь спор между
супругами—и этому искали причины в ведовстве и порче. Болезнь
царского младенца приписывалась сглазу и порче, и оттого
маленьких царевичей и царевен старательно оберегали от
человеческих взоров, полагая, что дурное действие недоброго
глаза легче подействует на малолетнего, чем на взрослого.
То же господствовало и в домах знатных господ; господа,
заболевши, подозревали слуг, что они нанесли им вред
ведовством, а слуги, рассердившись на господ, действительно
прибегали к ведунам и ведуньям, чтоб с помощью их знаний
отомстить господам. Между тем волхвы, знахари, ворожеи,
ведуны пользовались всеобщим легковерием и делались
поверенными в житейских делах всех классов народа; одни
портили, другие снимали порчу, предохраняли от нее или
отгадывали, кто испортил. Таким образом, между чародеями
происходили своего рода поединки, где оружием было их
искусство. Они соперничали друг с другом; один думал своим
ведовством уничтожить ведовство другого, а между тем кто-
нибудь доказывал на них, и. обе стороны попадались в руки
блюстителей порядка и правосудия, собиравших равные плоды
и со злого, и с доброго колдовства, а еще более с тех, кто
прибегал к тому и другому роду колдовства. Церковь строго
преследовала всякое ведовство, не щадя даже и лечения,
принадлежавшего вообще к зелейничеству. В монастырских
имениях волхвов и баб-ворожей считали наравне с ворами
и разбойниками. Правительство в XVI веке определило, следуя
внушениям церкви, преследовать волхвов, чародеев и
звездочетов, как клятвопреступников, хулителей и подстригателей
усов. Не только преступников подвергали кнуту и лишению
имущества, но целая община, где жили чародеи и волхвы,
168
облагалась , денежной пеней. В XVII веке повсеместно
преследовали вертунов, ведуний и зелейников, сажали под стражу
проезжих людей за .то единственно, что находили у них
корешок, заточали в монастырь того, кто вздумал бы попро*
бовать поучиться заговорным словам; сожигали и тех, кто
имел их при себе. Народная месть преследовала колдунов и
колдуний в эпохи общественных бедствий, например засухи,
шли излишней мокроты, вредной для хлеба; тогда делали
заключение, что несчастие происходит от ведунов, умеющих
владеть обилием и скудостью, и обрекали на сожжение тех,
к которым редкий из народа не прибегал прежде в своих
нуждах. Вообще преследовавшие чародейство, как зло, часто
уступали всеобщему суеверию и обращались к нему за
помощью. Сам благочестивый царь Алексей Михайлович, столь
преследовавший ведовство, как богопротивное дело, в 1650
году приказывал стольнику Матюшкину высылать крестьян в
Купальскую ночь искать сераборинного цвета, инпериковой и
мятной трав и дягилу, а перед концом своей жизни, в 1675
году, приказывал воеводам в Сибири, которая по своей
отдаленности представлялась в народном воображении страной
таинственных сил и чудес, собирать знахарей, узнавать от
них о травах и сами травы присылать в Москву.
Благочестивые люди не только -гнушались обращаться к
чародеям, но вообще считали грехом искать в чем бы то
ни было помощи от несчастий, кроме молитвы, и
приписывать их к чему бы то ни было, кроме Божьего гнева.
Во время морового поветрия при Алексее Михайловиче
многие полагали, что бедствие это происходит «от звезд
тлетворных, и воздымлений, и воспарений земных и морских,
и прахов, и зловония мертвечин, и дождев летних»; другие
же укоряли таких толкователей и доказывали, что другой
причины, кроме кары Божьей за грехи, не следует искать.
Патриарх Никон, не отвергая последнего толкования, допускал,
однако, и толкования первого рода и на этом основании
доказывал, что тот не грешит, кто уклонится из города, где
свирепствует зараза, что, напротив, тот, кто подвергает себя
явной опасности, равняется тому, кто сам на себя наложит
оружие. Но так как даже в «Стоглаве» объяснено, что Бог
наказывает страну, человеков и скотов падежом и
тлетворными ветрами, иногда же пожарами, иногда же голодом и
войною за тяжелые пороки и, в том числе, за содомский
грех, то старые благочестивцы вооружались против подобных
умствований и советовали, по примеру святых мужей, Бога
ради переносить с благодарением многоразличные недуги и
болезни.
Убегая чародейства, набожные люди верили его силе в
простоте ума, и если случалось кому заболеть, то хотя и
приписывали свое несчастие напуску или волхованию, однако
не прибегали к добрым колдунам, а искали помощи в
религиозных обрядах и всегда были под страхом влияния
169
таинственных сил; везде видели бесов, которые очень часто
в их воображении походили больше на шалунов, чем на
искусителей к пороку. Духовные лица, благочестивые старики
и старухи сами баялись бесов, а других ими пугали и
требовали, чтоб 'человек был всегда настороже против врагов
человеческого рода> вооруженный молитвою и крестным
знамением. Иногда бесы поселялись во дворах и домах,
производили стук, пугали привидениями и вообще делали разные
шалости. Верившие знахарству употребляли против этого
различные симпатические средства, например, «еожечь совиные
кости и тем дымом храмину свою кадить и двор курить —
и исчезнет бес, а потом -ослиным салом назнаменуй двери,
и всякое зло, которое найдет на двор, исчезнет. Для того
же хорошо держать корольковое каменье: от него нечистый
дух бегает, потому что тот камень крестообразно растет».
Набожные люди прогоняли из домов своих бесов внесением
чудотворных икон, как о том гласит надпись на ограде
церкви Гребенской Божьей Матери в Москве. Ангел-хранитель
всегда стоит на страже вверенной ему души против действия
злого духа, и потому к нему нужно поминутно обращаться.
Каждый день, в первый час дня, ангел-хранитель является
на поклонение Богу и объявляет все дела и мысли
человеческие. Поэтому надобно всегда прилежно молиться и
благодарить Бога в конец дня и в конец . ночи, именно когда
ангелы являются для поклонения Богу.. Этою молитвою человек
предохраняет себя от наветов злых духов. Приступая к
какому-нибудь делу, следовало прежде всего помолиться и
осенить себя крестным знамением; иначе бесы сделают
какую-нибудь пакость. Готовится ли женщина топить печь
или варить еству, или садится она за пяльцы, — следовало
прежде всего умыть * руки, сделать три земных поклона,
проговорить: «Достойно есть», перекреститься и, принимаясь
за саму работу, еще раз призвать Божье благословение,
сказавши: «Господи, благослови!» Если это исполняется, тогда
сами ангелы помогают невидимо, и дело спорится и хорошо
делается, и ества и питье выйдут впрок, и шитво крепко
сошьется. Напротив, если при работе начнутся смехи, игры
и празднословие, тут нечистые духи — бесы радуются и
посмеиваются, а ангелы отойдут в сторону и тоскуют: тогда
и ество плохо сварится, и хлеб дурно спечется, и шитво
сошьется не крепко и не ладно. Идя по воду к источнику
или реке, женщина должна была, опуская в воду ведра,
сказать молитву, а иначе бесы как раз испортят воду. Многие
освящали свою посуду и, принося в церковь, просили
священников окропить ее святою водою, прочитать над ней
молитву и пропеть духовную песнь. После этого надеялись,
что кушанье, сваренное и поданное в такой посуде, будет
и лучше, и неприступнее для шалостей беса. Ложась спать,
следовало окрестить кругом ложе и все углы, чтобы не
дшустить бесов до каких-нибудь проказ над спящим. Суще-
170
ствовали особые молитвы, которым приписывали бесоизгони-
тельную силу. Между прочим, обращались в этом и к
святому врачу Никите таким образом: «За шесть дней бегайте
от меня, бесы, молитвами святаго, славнаго мученика, врача
Никиты^ Благословен Бог во веки, аминь. Сам Господи, блюди
раба своего (имярек) на пути, на постели, у воды, на
встрече и на всяком месте владычествия Его; отпусти, сатана,
и от сего дома, и от всего создания, и от всех сих четырех
=стен и от четырех углов. Зде Святая Богородица Христа
рожает, зде четыре евангелиста почивают, зде святые апостолы
Петр и Павел, зде евятый Кирилл крест держит и хранит
ложение раба Божия < имярек) во имя Отца и Сына и
Святаго Духа. Крест на мне, крест у меня, крест надо
мною, крестом ся огражаю, крестом диавола побеждаю и от
четырех стен, от четырех углов; зде тебе, окаянный диаволе,
ни части, ни места, всегда ныне и присно и во веки веков,
аминь». Перед посевом приносили хлебное зерно в церковь
и святили его; так делали и после жатвы. Во время ества
или питья благочестивые крестились чуть ли не за каждым
глотком, прогоняя дьявола. При выезде из дома непременно
нужно было призвать священника и отслужить молебен; иначе
бесы чего-нибудь настроят в дороге. Когда дворянин
отправлялся в дальний путь на воеводство, тогда уж недостаточно
было моления простого священника; он отправлялся к
архиерею и получал от него благословенную икону. Некоторые
были столь благочестивы, что носили в руках четки и при
всяком свободном случае перебирали их* ходя и сидя,
шептали сряду шестьсот раз: «Господи Иисусе Христе, помилуй
мя грешнаго», а потом сряду сто раз: «Владычица моя
Богородица, помилуй мя грешнаго». Грамотные объясняли, что
если кто так делает три года сряду, то в первый год в
него вселится Христос, во второй год -— Дух Святый, а в
третий год — Сам Бог-отец, Таким образом, при всяком
начинании дела, и важного, и неважного, русский
благочестивый человек всегда прибегал к религиозному обряду. Одно
старинное поучение о крестном знамении говорит: «Без него
ни начинай, ни кончай ничтоже, но и спя, и вставая* и
делая, и путем шествуя, аще или по морю плаваеши, или
рекою возишися — вся своя узы животворящим крестом
утверди, и не причинит тебе зло». Быть благочестивым, по
понятию большинства, значило: знаменоваться крестом, класть
земные поклоны, почитать образа, ходить в церковь с
приношениями, слушаться духовенства и хранить посты.
Чем кто был благочестивее, тем больше у него было в
доме образов, тем наряднее они были украшены. Иконы были
первою необходимостью; где не было икон, тот дом для
русского не мог показаться христианским. Украшения образам
давались часто в благодарность за оказанную помощь:
например, русский купец молится перед образом св. Николая
и просит успеха в торговле; если ему повезет, и он, в знак
171
признательности, делает угоднику золотой или серебряный
оклад. Были и противные случаи.
Если у хозяина дурно идут дела, несмотря на его
усердные молитвы, он, помогая себе в житейских нуждах, снимет
с образа оклад. Повсюду было множество чудотворных
образов. Они являлись где-нибудь на полях и в лесах,
производили чудеса; о них доносили правительству, а правительство
установляло празднество. Кроме таких святых икон, которых
чудотворения признавались церковью, были в частных домах
иконы, которые почитались чудотворными в тесном кругу
семейных знакомых. Молельщик замечал, что желание его
исполняется, когда он молится особенно такому-то образу.
Действие приписывалось не только заступничеству святого*
которого лик изображался на образе, а силе, заключающейся
в самой иконе. Поэтому, если например, русский был с
кем-нибудь в ссоре или тяжбе, то боялся, чтобы соперник
его не помолился этому образу и чтоб таким образом не
получил успеха против него самого. Из уважения к святым
иконам считалось грехом прикоснуться рукою к лику святого,
и это верование было, между прочим, поводом к тому, что
иконы обкладывались одеждою. Когда образ несли, то из
благоговения держали над головою высоко, и всяк, кто
встречался, должен был креститься и кланяться. Если в комнате
совершалось что-нибудь непристойное — образа задергивали
пеленою. Уважение к иконам не дозволяло выражаться, что
образа покупаются; говорили же: меняются; хозяин, желая
променять свой старый образ на новый, приносил его в
иконную лавку, оставлял и клал деньги; если купец находил,
что дают дешево, то, ни слова не говоря, отодвигал от себя
деньги, и покупатель должен был прибавлять, пока купец
находил достаточным. Если образ сгорит, непристойно было
сказать: он сгорел, а следовало выразиться: он выбыл, как
и о сгоревшей церкви, говорилось: она вознеслась, а не
сгорела. Впрочем, старые образа позволялось бросать в реку,
сказавши: прости;, но тот, кто находил образ на воде, почитал
такую находку знаком благодати. Поругание святых икон, по
русским понятиям, наводило гнев Божий на целый край; в
1642 году многие подавали царю совет начать войну с
турками на том основании, что турки овладели в Азове
образом св. Иоанна Предтечи; это внушало опасность навлечь
на всю Россию-* месть святого. В равной степени русские
чествовали книгу святого Евангелия, хотя бы и в частном
доме. Святое Евангелие следовало брать в руки не иначе,
как с благоговением, с поникшею главою и после крестного
знамения.
Святой крест считался знамением мира и союза. Всякий'
договор или обещание по своей важности подтверждались
целованием креста, а нарушение такого договора называлось
преступлением против крестного целования. Каждый имел на
себе непременно крест; духовные запрещали снимать крест
172
с шеи, когда человек идет купаться в реку или мыться в.
мыльне. Коль скоро приводилось что-нибудь важное обещать
или утвердить истину сказанного, снимали его с себя и
целовали. В старину было в обычае меняться грудными
крестами; сделавшие такую мену считали себя обязанными,
быть задушевными друзьями и помогать один другому во
всех случаях жизни.
. Святые мощи были всеобщим предметом поклонения; к
лим стекались болящие и искали исцеления. Независимо от
поклонения мощам, хранившимся в церквах и монастырях,
многие богатые люди имели у себя в доме частицы мощей
в крестах или на образах; возбранялось носить крест с
мощами на шее. Вода, которою обмывали мощи, считалась
целительной и употреблялась набожными людьми при разных
недугах. В старину очень часто появлялись мощи, и кроме
тех, которые были открыты и признаны церковью, возникало
в разных местах поклонение памяти усопших, которые по
образу жизни заслуживали уважение народа. Так, в 1626
году в Пошехонском уезде народ стал собираться около
рябины, которая выросла на могиле убитого разбойниками
инока Адриана, и народный говор гласил, что многие
страждущие получали на этом месте исцеление.
С этими верованиями соединялось уважение к храму
Божьему. Строить церковь считалось делом христианской
добродетели и лучшим средством к спасению и отпущению
грехов. Нельзя было пройти мимо церкви, не сделавши
троекратного знамения с поклоном.
Благочестивый человек считал большим грехом не пойти
в церковь в праздник не только к литургии, но к вечерне
и к заутрене. «Когда вы услышите клепание в церкви, —
говорит одно духовное поучение, — оставляйте всякое* дело
и идите в церковь». Следовало в церкви стоять со тщанием
и трепетом, не обращая взоров, потупив глаза и сложив
крестообразно руки, и не вести друг с другом пустотных
речей; «велико милосердие Божье (говорит то же поучение),
что огонь, — не сойдет с неба и не пожрет ведущих
разговоры во время божественного пения». Склоняться на
стену и переступать с ноги на ногу от усталости считалось
грехом; равным образом считалось недостойно славы Божьей
уходить из церкви прежде окончания служения. Палку
оставляли вне церкви. Во избежание сходства с католиками в
старину православные не становились на колени. Женщины
входили в особые двери и стояли в особом притворе; знатные
госпожи становились в церквах за решетками, стояли, потупя
глаза в землю, и старались особенно показывать вид
скромности, когда мимо них проходил священник. Простые
женщины не так часто ходили в церковь, как мужчины, и
обыкновенно на короткое время, чтобы поклониться иконам.
Всякому сколь-нибудь достаточному человеку вменялось в
благочестивую обязанность явиться в храм Божий с приноше-
173
нием, например со свечою, с просфорою, фимиамом, ладаном,
кутьею или милостыней. По толкованию набожных людей,
дар тогда только принимался Богом, когда было приношение
от праведного имения и когда богомолец не таит .в душе ни
к * кому ни злобы, ни гнева. «Аще кто идет к церкви со
страхом Божиим, со всем сердцем, гнева не имеет, но сияет
душа его яко солнце и восходит молитва его яко темьян:
тогда ангел мой исходит из алтаря, нося кисть* в руку своею
и знаменает его на челе и тако почиет на нем Дух Святый»;
Давать в монастыри считалось особенно спасительным делом:
«Что имате потребно — несите к нам, то бо все в руце
Божий влагаете». Кроме денежных вкладов и недвижимых
имений, некоторые дарили одежды и посылали братии кормы,
то есть съестные припасы. Некоторые знатные люди
доставляли в монастыри каждогодные пропорции. Во время болезни
или перед кончиною страждущие думали уменьшить тяжесть
грехов вкладами в церковь и завещали иногда в разные
церкви и монастыри особые вклады и кормления на братию.
Если умирающий не успевал распорядиться формально, то
наследники, зная его волю, считали долгом поскорее
исполнить ее для успокоения души усопшего.
Нередко старый человек, чувствуя истощение сил,
поступал в иноческий чин и при этом всегда давал дар или
доход; в таких случаях богатые помогали бедным, давая им
на пострижение. По народным понятиям, сделать вклад по
душе значило проложить душе верный путь к спасению, и
это верование было причиною больших богатств
монастырских.
Но уже распространилось достаточно учение о том, что
давать на монастыри недвижимое имение не только не
спасительно, а даже вредно. В книге «Златой Матице» в одном
поучении рассказывается, что некий святой отец имел видение
об одном умершем, которого считали все спасенным, потому
что он записал в монастырь имение, и который, в самом
деле, за то самое был осужден: «И осуждена бысть душа
его мучитися свиатого ради, и молящися Святей Богородице
и Предтече Иоанну о душе той и слышах глас глаголющ:
кто даст село, да отпустят то село от монастыря, тогда душа
отпущена будет от муки».
Священники и монахи были лучшими советниками и
друзьями благочестивых людей. Каждый имел у себя
духовника, к которому прибегал в своих житейских нуждах:
приглашал для совета и утешения во время какой-нибудь печали,
болезни или царской опалы. Для духовника не было скрытой
домашней тайны. Он был наставником и другом, занимал в
доме всегда первое место; для него не щадили приношений;
ему кланялись до земли. Осуждать духовных считалось, по
нравственному учению, большим грехом: «Несть вам подобно
на священники хулы возвещати, — говорит одно поучение, —
ибо по вся дни за тя, и за твою братью, и за вся верныя
174
службу творят и заутра, и в полудни, и в вечер молят
Бога в церкви и в домах, и у креста молитвы творят...
Учения его (священника) слушай, и аще право учит, не
пытай его учения и не укоряй его, добре бо за тя Бога
молит. Клеветы же не принимай ни на единаго чернца
глагол: аще видиши согрешивша, послушай Бога рекшаго: не
осуждайте, да не осужени будете; минувшу же тя на пути
не стьгдися главы своея поклонити». Другое благочестивое
размышление о судном дне восклицает: «О, горе тому
человеку в день судный, аще кто станет попа укоряти: не попа
укоряет, но Церковь Божию». Государи, столь неприступные,
преклонялись перед духовными властями, и Алексей
Михайлович обращался с патриархом Иосифом столь почтительно,
что кланялся ему до земли. Конечно, этот обряд смирения
не мешал царям поступать иногда очень самовластно с
духовными лицами.
После духовных благочестие обращалось к так называемым
юродивым и нищим. В каком почете были в старину
юродивые, видно из того, что сам Иван Васильевич Грозный
терпеливо выслушал горькие речи юродивого, приглашавшего
его в пост поесть мяса, на том основании, что царь ест
человеческое мясо. Кроме юродивых мужчин были также
юродивые женки, ходившие со двора на двор, уважаемые
хозяевами и вместе с тем забавлявшие хозяйских детей.
Иногда юродивые жили при домах, особенно при
архиерейских; так, Никон, когда выезжал в дорогу, то брал с собой
какого-то юродивого Василия Босого.
Вера, что подача нищему есть достойное христианское
дело и ведет к спасению, порождала толпы нищенствующих
на Руси. Не одни калеки и старицы, но люди здоровые
прикидывались калеками. Множество нищих ходило по миру
под видом монахов, и монахинь и странствующих богомольцев
с иконами — просили как будто на сооружение храма, а
в самом деле обманывали. В каждом зажиточном доме
поношенное платье раздавалось нищим. В больших городах на
рынках каждое утро люди покупали хлеб, разрезали на куски
и бросали толпе оборванных и босых нищих, которые таким
образом выпрашивали себе дневное пропитание. Случалось,
что эти самые нищие, напросивши кусков, засушивали их
в печке и после продавали сухарями, а потом снова просили.
Часто дворяне и дети боярские, пострадавшие от пожара или
неприятельского нашествия, просили милостыню, стыдясь
заняться какою-нибудь работой. Если такому попрошаю скажут,
что он здоров и может работать, дворянин обыкновенно^
отвечал: «Я дворянин, работать не привык; пусть за меня
другие работают! Ради Христа, Пресвятыя Девы и святаго
Николая Чудотворца и всех святых подайте милостыню
бедному дворянину!» Часто такие лица, наскуча просить
милостыню, переменяли нищенское ремесло на воровское и
разбойничье. Вообще, прося милостыни, нищие возбуждали
175
сострадание унизительными причетами, например: «Дайте .мне
•и побейте меня. Дайте мне и убейте меня!» Другие читали
нараспев духовные стихи жалобным голосом. Благочестивые
люди приходили в умиление от этого рода песен. Между
нищими вообще было множество злодеев, способных на всякие
беззаконные дела. В XVII веке они крали детей, уродовали
их, калечили руки и ноги, выкалывали глаза и, если жертвы
умирали, то их хоронили в погребах, а, если переживали
муку, то возили по селениям, чтобы возбуждать видом их
страданий участие. Случалось, что вдруг пропадет дитя,
игравшее где-нибудь на улице: его сманивали нищие, соблазняя
яблоками и орехами. В XVII веке рассказывали один
ужасный случай. Пропало у матери дитя. Через несколько времени
в толпе нищих мать услышала жалобный крик: «Мама!
Мама!» Открылось, что эти нищие, числом четверо, отправляли
уже семнадцать лет такую спекуляцию и много детей украли
и изуродовали. Несмотря на такие случаи, расположение к
нищим от этого не охладевало. Русский, видя несчастного,
который просит подаяния во имя Христа и святых, не считал
себя вправе судить его, а полагал, что долг христианина
помочь тому, кто просит; справедливо ли или несправедливо
он просит, и куда бы ни употребил то, что ему дано, —
в этом судит его Бог. На таком основании русские также
сострадательны были к колодникам, преступникам,
содержащимся в тюрьмах, которых посылали со сторожами просить
милостыни для пропитания. Благочестивые люди отправляли
в тюрьмы кормы и раздавали колодникам перед праздниками
одежды. Сам царь в урочные святые дни, когда ради
вселенских церковных воспоминаний кормили нищих и раздавали
им подаяние, отправлялся лично в тюрьмы к заключенным
и подавал им милостыню из собственных рук. Даже иногда
тюремные сидельцы получали сравнительно более, чем
содержавшиеся в богадельнях раненые воины. Иностранцам
казалось странно, что люди, наказанные кнутом, не только не
отмечались народным презрением, но еще возбуждали к себе
участие и внушали даже некоторого рода уважение к .своим
страданиям. Никто не стыдился не только ласково говорить
с ними, но даже вместе с ними есть и пить. С другой
стороны, и палачи не были в презрении; это звание
отдавалось иногда торговым людям и так было выгодно, что его
перебивали друг у друга. Таким образом, всеуравнивающее
сострадательное чувство заставляло в несчастном видеть одно
несчастие и подходить к нему с добрым уважением сердца,
а не с осуждением.
Хранение поста было для всех безусловною обязанностью.
Начиная от царя и доходя &о последнего бедняка, все строго
держались употребления пищи по предписаниям церкви в
известные времена. Великий пост и Успенский, среды и
пятки соблюдались с большею строгостью, а прочие —
Петров и Рождественский (Филиппово заговенье) слабее; лицам,
176
находящимся в супружеском союзе, не предписывается
телесного воздержания в эти посты; ' многие благочестивые
семейства в продолжение Четыредесятницы ели только в
определенные недельные дни, а в другие совсем не вкушали
пищи. Последние два дня перед Пасхою почти повсеместно
проводились без пищи, по церковному уставу. Пост считался
средством умилостивления Божьего гнева и в случаях
общественных бедствий, и в частных несчастиях. В эпоху
Смутного времени, в 1611 году, наложили пост на неделю: в
понедельник, вторник и среду не есть ничего и в четверг
и пятницу — сухоядение. В 1650 году, по поводу съедения
хлеба саранчою, наводнений, пожаров и скотского падежа,
положено в Рождественский пост поститься строже
обыкновенного и ходить каждый день к заутрене, литургии и
вечерне. В некоторых местах всеобщий пост налагался на
жителей в предупреждение бедствий, о которых носились
слухи со стороны; так, в 1668 году, по случаю разнесшейся
вести о землетрясении в Шемахе, в Астрахани и Терке,
наложили строгий пост. Если в какой-нибудь общине,
посадской или сельской, случалась болезнь, скотский падеж,
неурожай или какое-нибудь другое несчастие, жители думали
избавиться от него наложением строгого поста на всех членов
своей общины. Так, например, налагались обетные пятницы,
то есть столько-то пятниц проводить без пищи. Другие, по
благочестию, сверх установленных церковью каждонедельных
постных дней — среды и пятницы, постились постоянно по
понедельникам. Но если, по понятиям маломыслящего, пост
достаточно достигался соблюдением воздержания от пищи и
неотступлением от налагаемых обычаем правил, то для
истинно благочестивого наружный пост был бесполезен без дел
христианской любви. В одном старинном слове «О Хлебе»
говорится: «Кий успех убо человеку алкати плотию, а делы
разоряюще; кий успех человеку от яди воздержатися, а на
блуд совокуплятися; кая убо польза немыющемуся, а нагого
не одежуще. Кая пользу есть плоть свою иссушающему, а
не кормящему алчнаго; кий успех есть уды съкрушати, а
вдовиц не миловати; кий успех есть самому томитися, а
сирот томимых не лзбавляти». Другое поучение с такою
резкостью выражается о бесплодии соблюдения наружного
поста без внутреннего благочестия: «Аще кто не пьеть питья,
ни мяс яст, а всяку злобу держит, то не хуже есть скота;
всяк бо скот не яст мяс, ни питья пьет; аще ли кто на
голе земле лежит, а зломыслит на друга, то ни тако хвалися;
скот бо постели не требует, ни постелющаго имать».
Несмотря на глубоконравственное значение, какое вообще
придавали строгому подчинению церкви, русское благочестие
основывалось больше на внимании к внешним обрядам, чем
•на внутреннем религиозном чувстве. Духовенство почти не,
говорило проповедей, не было училищ, где бы юношество
обучалось закону Божию.
7 Заказ 15 177"
Русские вообще редко исповедывались и причащались;
даже люди набожные ограничивались исполнением этих
важных обрядов только однажды в год — в великую Четыредё-
сятницу. Другие не исповедывались и не подходили к святым
дарам по нескольку лет. Притом исповедь для толпы не
имела своего высокого значения: многие, чтоб избежать
духовного наказания от священников, утаивали свои согрешения
и после даже хвалились этим, говоря с насмешкою: «Что
мы за дураки такие, что станем попу сознаваться». Часто
владыки жаловались на холодность к религии и обличали
мирян в уклонении от правил церкви. В XVI веке митрополит
Макарий замечал, что в Новгородской земле простолюдины
не ходят в церковь, избегают причащения; а если и приходят
когда-нибудь в храм, то смеются и разговаривают между
собою, не показывая вовсе никакого благочестия. В XVII веке
до сведения патриарха Филарета дошло, что в Сибири
русские, сжившись с некрещеными народами, забыли даже
носить на себе кресты, не хранят постных дней и сообщаются
с некрещеными женщинами. Некоторые русские в восточных
провинциях Московского государства, живя в наймах у татар,
соблазнялись увещаниями их хозяев и принимали татарскую
веру. Коль скоро нет внутреннего благочестия, наружное
соблюдается до тех пор, пока действующие извне обстоятельства
поддерживают привычку; в противном случае и самые обряды
не тверды, и человек гораздо легче их нарушает, нежели
как кажется, судя по той важности, какую он придает им.
Сообщники Стеньки Разина ели в пост мясо, бесчинствовали
во время богослужения, кощунствовали над святынею и убили
архипастыря, несмотря на его священный сан; а при
Михаиле Федоровиче Иван Хворостинин, как только
познакомился с литературными трудами Запада, тотчас начал вести
такую жизнь, что навлек на себя укор патриарха в том,
что против Светлого Воскресения был пьян, до света за два
часа ел мясную еству и пил вино.
Отделенные от прочих народов, со своей особой верой,
русские составили себе дурное понятие о других
христианских народах, а долгое страдание под игом нехристиан
укоренило в них неприязненность вообще -к иноверцам. Русские
считали только одних православных в целом мире
христианами и в отношении веры смотрели с презрением на втх
иноземцев; хотя они мало-помалу сближались с ними,
принимали начала их жизни в свою жизнь, но вместе с тем,
чувствуя, что они многому должны от них учиться,
вознаграждали это неприятное сознание национальным
высокомерием. Греция передала нам к мусульманам свою антипатию,
которая еще более усилилась на русской почве, соединившись
с воспоминаниями татарского ига. Все западные христиане
являлись, в понятии русского, под именем немцев; их
признавали некрещеными. По понятию строгого благочестия, не
только дружба с немцами, но самое прикосновение к ним
478
оскверняло православного. На этом основании, когда, великие
князья и цари принимали послов и допускали их к руке,
то обмывали, руку, чтоб стереть с нее оскверняющее
прикосновение еретика. Духовные постоянно остерегали
православных от кумовства и братства с латинами и армянами и
побуждали правительство к мерам, преграждавшим сближение
с иностранцами. В 1620 году духовенство просило не
допускать немцев покупать дворы и держать у себя русских
людей, потому что от этих немцев бывает православным
осквернение. Так, патриарх Никон, человек, возвысившийся
по образованию над своим веком, выпросил у царя изгнание
из Белого города в Москве купцов иностранной веры. В
особенности сильна была в XVI и XVII веках ненависть к
католичеству. Католическая вера называлась не иначе, как
еретическая, проклятая, и католики считались погибшими для
царствия Божия людьми. После Смутной эпохи ненависть эта
усилилась. Русские хотя и считали нехристями протестантов,
но терпели их в своем отечестве, а на католиков не могли
ни смотреть, ни слышать об них; им не дозволялось жить
в пределах Московского государства. Эту ненависть
поддерживали еще поступки католиков в Западной Руси и события
в Малороссии, в которые втянулась Московия. Русские видели
в них прямых врагов своей веры, покушающихся ее
истребить. Когда царь Алексей Михайлович завоевал Вильну, то
почитал себя вправе выгонять всех униатов и требовал, чтобы
те, которые захотят остаться в городе, возвратились к
православию; а когда завоеван был Могилев, то запретили
католикам и евреям быть в нем чиновниками. Народ ненавидел
также наравне с католиками и евреев: ни одному из них
не позволено было жить в Петербурге; а духовные и
благочестивые люди остерегали народ не принимать от евреев,
занимавшихся медициной, лекарств.
С неприязнью к иноземцам соединялось и отвращение ко
всему, что составляло для русских достояние чужеземщины.
Таким образом, русское благочестие почитало преступлением
учиться наукам, искусствам или чужеземным языкам: на это
смотрели, как на колдовство или наваждение дьявола. Сами
вельможи обращались с иностранцами холодно и всегда
старались показать, что они себя считают выше их. Простой
народ верил, что все, что не русское, пропитано дьявольскою
силою, и, когда иностранные послы ехали по Москве, то
мужики, увидя их, крестились и спешили запираться в свои
избы, «как будто бы, — говорит один англичанин, — мы
были зловещие птицы или какие-нибудь пугалы»; только
смельчаки выходили смотреть на иноземцев, как на редкое
произведение природы.
Правительство, хотя поддавалось постоянно невыгодному
взгляду на иноземщину, взгляду, который поддерживало
духовенство, но в то же время пользовалось услугами
иностранцев и привлекало их в свою страну. Этой системе
7* 179
следовали все государи, один за - другим. Иоанн Васильевич
Грозный был расположен к иностранцам, считал их открыто
выше и лучше своего народа, производил себя от немецкой
крови и оправдывал перед ними свои злодейства тем, что,
по его выражению, царствовал не над людьми, а над
дверьми. При Алексее Михайловиче, несмотря на его правоверие^
большая часть военных начальников была из иностранцев, и
наконец при дворе начали входить иноземные обычаи.
Останавливая ненависть народа, правительство неоднократно
издавало указы, чтобы народ не бранил немцев и вообще всяких
иностранцев, в том числе и малороссиян, поносными словами;
а в отношении нехристианских народов, входивших в систему
Русского государства, удерживало фанатизм прозелитизма,
запрещая инородцев крестить насильно и покупать мальчиков
для крещения. Время показывало, что и в народе вообще
неприязнь к иноземщине не так была крепка, как
чрезвычайна. Собственно, в русском народе не существовало
национальной неприязни к иностранцам: она была только
' религиозная, как к иноверцам, и потому иностранец,
принявший русскую веру, пользовался всегда особенным
расположением. Множество пленников входило в число домашних
слуг. Таким образом разные народности на Руси смешивались
с русской народностью, вливая в нее чуждые элементы. В
числе служилых людей повсеместно были немцы, поляки,
литовцы. Сначала сближала с иноземцами торговля: в
Архангельске, главном торговом пункте, браки между
иностранцами и русскими женщинами сделались уже не редким
исключением. Как ни казалась велика неприязнь ко всему
польскому, в Смутное время едва только объявлено было о
воцарении Владислава, многие великорусские дворяне начали
в. письмах своих и официальных бумагах писать полурусским
языком, сбиваясь на лад западнорусской речи.
Семейный быт в произведениях южнорусского
народного песенного творчества1.
Семейный быт народа в его песнях выражается в изображении
любви как между молодыми людьми обоего пола до брака, так и
после брака, со всеми последствиями и условиями домашнего
быта и семейных связей.
Песни этого рода разделяются на два отдела: любовные и
собственно семейные, но строгой грани между теми и другими
провести невозможно, во-первых, оттого, что народные песни в
текущем своем обращении часто смешиваются, во-вторых, не
всегда можно отличить — говорится ли о находящихся в положении
до брака или уже состоящих в брачной связи. Заметим, что песни
свадебные, по своему содержанию, одинаково принадлежат и к
любовным, и к семейным песням. Южнорусские песни,
изображающие любовь между обоими полами, преимущественно поются
женским полом и потому носят на себе отпечаток женственности.
Это особенно надлежит заметить относительно настоящего
времени, когда мужчины перенимают и поют великорусские песни,
искажая их самым безобразным способом2.
1 В 1872 году, в журнале «Беседа», печаталось сочинение:
«Историческое значение южнорусского народного песенного творчества»
(см. том «Славянская мифология» настоящего издания). Продолжение
этого сочинения печаталось в журнале «Русская Мысль» в 1880 и 1883
годах под заглавием «История козачества в памятниках южнорусского
народного песенного творчества». Печатаемое ныне исследование* автор
считал продолжением означенного сочинения. (Примеч. издат.).
2 Для удобства читателей в данном издании песни из сносок
перенесены в основной текст.
181
ГЛАВА I
Народное понятие о любви. — Весна.
Жизнь поселян протекает в постоянной близости с природою,
и эта близость отражается на их песнопениях. Как в природе в
полях, рощах, садах можно проследить периоды прозябания,
роста, цветения, оплодотворения растений, так и в народной
поэзии — проследить историю любви, ее зарождение, развитие,
можно видеть, что по внутренним душевным проявлениям и по
внешним житейским условиям способствовало этому развитию
или задерживало его и — конец, завершающийся или браком, или
разлукою.
Всего вернее и удобнее изучать любовный элемент в песнях
сообразно сопоставлению народной песенности с годовым
течением природы. Вот начинается весна. Сходит снег. Текут воды.
Появляется травка. Потом начинают развиваться и цвести деревья. В
песнях начало весны выражается символическим изображением
жаворонка, прилетевшего из теплых стран, — народного вырья; —
еще виднеются снежные останки и льдины, он будет разгонять их
крылышками и топтать ножками.
— Чом ты, жавороньку,
— Рано з вырья вылитав?
— Ище по гороньках снеженьки лежали,
— Ой ще по долинах крыженьки стояли.
«Ой коли пора прийшла,
Неволенька выйшла.
Ой я тыи крыженьки крыльцами розжену,
Ой я тыи снеженьки нижками потопчу».
Весна приносит тепло и доброе лето:
Ой вынесла тепло и доброе летечко, —
каждому возрасту свое — деткам игры, старикам советы об
общественных делах, старым бабам праздное сиденье, хозяевам
полевые работы, хозяйкам домашнее тканье, а девицам —
гулянье.
Малым деткам — ручечки бити,
А старым дедам — раду радити,
А старым бабам — поседеньнячко,
А господарям — поле орати,
А молодым господыням — кросеньця ткати,
А молодым девонькам — тай погуляти.
Воскресла весна, принесла с собой девичью и молодецкую
красу: девичья краса — коса до пояса, а молодецкая — платок за
поясом, шапка с пучком цветов, а в правой руке —г девица.
Ш
А вже весна вскресла,
Що то нам принесла?
Принесла вам росу,
Девоцькую "I Песня поется дважды, и один раз говорится про
Парубоцькую J ' девоцькую, другой — про парубоцькую.
Девоцькая краса
Коса до пояса,
Парубоцька краса
Хустына до пояса,
За шапкою кветка,
В правий руце девка.
Девицам гулянье — их стихия. Пусть замужняя женщина
ведет беседы с своим мужем, пусть бедная одинокая вдова сидит в.
раздумье, — девице всех лучше на свете; она до поры до времени
гуляет, целую неделю ходит в венке, а придет воскресный день —
идет в хоровод.
Мужняя жона з мужем розмовляе,
Бедная вдова десять думок мае,
А девчиноньце —'- на свете не мае, —
Девчина молодая до поры гуляе,
Целый тыждень у веночку,
Прийде неделя — в таночку! /
Сами родители подсказывают это девицам. Спрашивает дочь
матери: гулять ли ей? Мать отвечает: Гуляй, доченька, сколько
хочешь! Дважды молодою не будешь. Когда замуж пойдешь —
позабудешь, а когда постареешь — вспомнишь про молодость.
Гуляй, доненько, сколько хоч,
Двече молодою не будеш!
Як замуж пойдеш — забудеш,
Як стара станет — згадаеш!
Спрашивают девицы птицу — чижа или воробья — кому на
свете воля, и кому нет воли:
Ой чижичку, воробейчику, скажи мене всю правдочку:
Кому воля, кому нема? —
и получают такой ответ: Девочкам во всем воля: схвати
монисто — да на рынок, венок — да в хоровод, ленту — да
на игрище.
А девочкам — уся волечка,
За намистечко да на местечко,
За веночок да и у таночок,
За стричечку да на улочку,
А замужним нет воли; все их стережет:
А жиночкам вся неволечка:
и кушанье в печи, и поросенок под лавкою, и ребенок в
колыбели;
183
Що в печи огонь горить,,
На припечку горщок кипить,
Под порогом да порося кричить,
А в колисце дитя плаче.
все к ней с требованиями:
Огонь каже: «загреби мене!»
Горщок каже: «помешай мене!»
Свиня каже: «нагодуй мене!»
А тут еще муж или свекор-воркун с своими желаниями:
Воркун каже: «поцелуй мене!»
Дитя каже: «розповий мене!»
Наступает веселая пора игр весенних и пения веснянок или
гаивок, как этого рода песни называются в Червоной Руси. Игры
и песни специально посвящаются весне: Все здесь отзывается
отрочеством, невинностью. Любовь еще не коснулась сердца
девического, голова девическая еще не заволакивалась думами. Из
весенних игр некоторые выказывают в себе мифологический
смысл, теперь уже совершенно или почти утраченный; это остатки
глубокой старославянской языческой старины. Таковы: Костру-
бонько с воспроизведением действа погребения мифического
существа, Воротарь (Володар), где поется о ребенке, которого
подвозят в золотом кресле к дому и отдают хозяйке — должно
быть, символическое изображение наступающего лета, Шум, Бе-
лоданчик, Рожа и Рожина мать — игра, показывающая как бы на
существование легенды, похожей на греческий миф о Прозерпине,
Пылающая дуброва. Вот вариант, слышанный мною на Волыни:
Ишла девочка через двор, через двор,
На ей суконька в девять пол, в девять пол,
Стала суконька сяяти,
Стала дуброва палати.
Другие игры прямо заимствованы из природы. Таковы:
Ласочка, Кот, Перепелка, Коза, Галка, Ворон, Зозуля, Заинька, Горо-
бейко, Козлик, Жук, Мак, Просо, Лен. Есть, наконец, игры,
изображающие сцены из семейной жизни. Например, мать
собирается отдавать дочь замуж и рекомендует ей нескольких женихов,
описывая при этом их хорошие и худые качества; от одних дочь
прямо отказывается, а к другим относится с благорасположением.
Жельман, где представляется, что девицу предлагают отдать за
одного из нескольких женихов, называя их одного за другим по'
их занятиям (за шевця, за кравця, за коваля, за кушнира), и в
заключение дают такой ответ представляющему лицо свата, что
девица еще не подросла. Кривый Танец, где представляется, что
девице рекомендуют женихов, о которых говорят, что они с
разными физическими недостатками (один слепой, другой
кривоногий, третий горбатый, четвертый заиковатый и т. п.). Девица не
хочет выходить ни за одного из них, наконец, ей предлагают
парубка степенного, работящего, и она соглашается.
184
В это время девицы подтрунивают над молодцами. Есть целый
ряд песен, где парубки изображаются в виде смешном или
униженном в сравнении с девицами. Например, парубков гонят
возить навоз, а девиц к нарядам, парубков молотить, а девиц есть
хлеб; парубков рубить лес, а девиц на площадь гулять.
А вы, парубоньки, до гною,
А вы, паняноньки, до строю;
А вы, парубоньки, до цепа,
А вы, паняноньки, до хлеба;
А вы, парубоньки, до леса рубати,
А вы, паняноньки, до места гуляти!
Сопоставляется краса девическая с парубоцкою и первая
сравнивается с летнею, а последняя с зимнею росою:
Та девоцькая краса
Як летняя роса,
Парубоцькая краса
Як зимняя роса.
Девицы представляются одетыми в хороший наряд, а парубки
в отрепьях.
На девочках добре платьтя,
А на парубочках усе шматьтя,
То мех, то ряднина,
То драна кожу шина.
Приглашаются парубки есть мякину вместе с свиньями:
Час вам, девочки, до дому,
Мешати свиням полову.
А вы, хлопце, за нами
Ежте полову з свинями, —
или приготовленных для них лягушек; рассказывается, как
парубки блудили многие годы в хате за печью и на припечке,
наконец заблудились до угольного оконца и просили хлеба у
девиц:
Блудили хлопьята, блудили
Сем лет да по запечку.
А чотыри да по припечку.
Приблудились до польного вокна
Девчаточки, голубочки!
Дайте хлеба хоч скирочку.
Как ездили на охоту и затравили комара, а потом делили
между собою эту добычу:
Поехали на ловы.
Да вловили комаря,
Стали его делити:
Сему-тому по стегну,
А Ивасю тулубець,
А Василю голова,
Що великий без ума, и пр.
185
Чуждою таких веселых юношеских игр представляется в песне
девица-сиротка. Она, бедняжка, берет лен и, припадая к сырой
земле, умоляет принять ее к себе, как уже приняла отца и мать,
Земля ж моя, земля сыренькая,
Мати ж моя ридненькая,
Приняла ж ты отця й пеньку
Прийми й мене молоделысу.
Или с такою же мыслью о .скорой смерти своей обращается
к Богу,
Ой, Боже, взяв есь витця и матенку,.
Возьми и мене бедную сиритку!
Или наконец, пришедши к родительской могиле, просит отца
встать и дать ей добрый совет, но отец из могилы отвечает,
что не пускают подняться дубовые гробовые доски,
притиснувшие ему руки.
Ой рад бы я встати, тобе правду сказати,
Ой сырая земля а все тело приняла;
Дубовый дощечки притиснули рученьки.
Кроме сироты, еще существо девическое чуждо бывает забав:
это дева, не успевшая выйти замуж и уже начинающая увядать.
Ей не досталась добрая доля. Другие девки расхватали добрые
доли, а ее, видно, мать не разбудила вовремя, она опоздала и ее
встретила доля лихая, и проходят напрасно ее лета как маков
цвет, что днем поцветает, а к ночи опадает.
Чужи дйвки рано встали,
Счастьтя-долю разобрали,
Да моя матка, що ты учинила,
Чому рано не збудила?
Я молода, спизнилася,
Лиха доля зустрилася:
Прошли лета, як маков цвит,
Що в день цвите, в ночи пада.
Не гуляла она у родителей, не пришлось ей быть замужем. Не
почем вспомнить протекшие годы.
Отця-матки не зазнала, а мужа не маю,
По чим же вас, лита мои, споминати маю!
Лета мои молодыи, жаль мени за вами,
Що я вас не вгуляла у риднои мамы.
Видит она, как чужой человек пашет, а его подруга помогает
ему, и заплачет она, потому что ей не дано жить в паре. В церковь
ли войдет она, в корчму ли пойдет — везде людей много, все для
нее — чужие, а милого друга нет у ней.
Аж там оре милый плугом,
Чужа мила помогае,
Мое серце омлевае.
Ой вин оре, а я плачу,
186
Лета свои марну трачу.
А в церковце людей много:
Нема мени миленького!
А в корчомце людей билыие:
Мому еерцю жаль ще гирший.
Люди не знают, как она заливается слезами, и даже думают,
что она счастлива. Уже половина лет ее исходит, а ей все нет
счастья: не с кем ни пить, ни есть, не с кем гулять; все только
дума за думою идут об одном и том же, как ей на свете жить.
' Кажуть люди щом счастлива, я с того тешуся,
Най не знають, як я не раз слезами заллюся.
Половина лит минае, я ечастьтя не маю.
Не с ким естиу не с ким пити, не с ким погуляти.
А йде думка за думкою, як на свете жити.
Такая увядшая красота, само собою разумеется, не причастна
девическим забавам; впрочем, и то сказать надобно, что таких
женских личностей в сельском быту встречается редко, так как в
этом быту почти все соединяются браком в молодости.
Кроме сироты — безродной и устаревшей девки, все
родительские дочери девицы спешат участвовать в великом всеобщем
празднике природы. С весенним временем начинаются вечерние и
ночные сборища молодежи обоего пола, называемые «улицами».
Участники в них — парубки и девчата — носят собирательное
название ■— челядь, в старину корогод или хоровод, название и до
сих пор еще не везде и не совсем испарившееся из народной
поэзии.
В древности несомненно существовали священные обряды
составления таких хороводов: на это указывают сохранившиеся до.
сих пор песни с соблюдением некоторых приемов,
показывающихся остатками каких-то действ. Такова песня: А мы просо сеяли,
сеяли! с припевом: Ой деду-ладо! Песня эта употребительна и у
малоруссов, и у великоруссов и одинакова почти дословно. Смысл
ее таков: образуется две группы, одна против другой. Одна сторона
грозит выпустить коней и потоптать посеянное другою просо.
Другая угрожает захватить коней. Первая хочет выкупить их и
обещает сначала сто рублей, потом тысячу, на придачу бабу, потом
молодца; от всего другая сторона отказывается, наконец,
предлагают девицу и девица принимается.
Нам девице надобно.
Другая подобная весенняя песня представляет хоровод девиц в
виде войска, порывающегося на войну. Их не пускают, не
допуская ломать мосты:
Или:
«Пустете нас, пустете нас сей свет воювати!»
— Не пустимо, не пустимо мосты поламати.
«Пуетете нас, пустете нас до Угореькои земли!»
— Не пустимо, не пустимо, поламати мосты!
т
Предлагают за пропуск деньги, наконец, девицу — и на этом
состоит .сделка.
«Заплатимо, заплатимо тым бытым таляром».
— Не хочемо, не хочемо тых бытых талярив.
— Но хочемо, но хочемо хорошои пани,
— В зеленем барвеночку
— В рутянем веночку.
Эти песни с остатками действа, хотя и сохранились, но
прежний смысл их уже утрачен. «Улица» в наше время складывается
сама собою из произвольно набравшейся челяди из односельчан.
«Что ты улица не зелена?» — спрашивается в одной песне. — Как
мне зеленою быть — отвечает улица: — меня девицы топчут
желтыми сапожками, золотыми подковками, а молодцы своею
неуклюжею обувью!
Як мени зеленою бути,
Коли мене девчата зтопчать
Жовтыми чобитками, золотыми пидковками.
Як мени зеленою бути.
Коли мене парубки зтопчать
Постолами-постолищами, волоками-волочищами.
Вот открывается роскошное весеннее торжество, брачное
пиршество природы: разливаются на все стороны воды, —
Розлилися воды на чотыри броды, —
кукует кукушечка, чуя наступление лета, —
Зозуленька куе, бо летечко чуе, —
щебечет соловей в развивающихся садах, —
Соловейко щебече-садки розвивае, —
играет сопелка,, скликая молодежь на игрище, —
Сопилочка грае в улицю скликае, —
приглашаются девицы гулять, потому что зазеленели травы,
наступила красная весна:
Гей девки! Весна красна! Зельля зелененьке.
Но тут уже дает о себе знать будущее, неизбежное для многих,
житейское горе. Девицу отдадут замуж за немилого ей человека,
она плачет, предчувствуя свою горькую судьбу.
Девчинонька плаче за нелюба идучи,
Гей мати лихо знати — за нелюбом жити'
Ее нелюб — пьяница, он пропьет ее приданое, а когда она
придет в гости к своей матушке, станет мать ее спрашивать: где
твои дорогие кораллы? Где твои волы и коровы? — Все пошло к
шинкаркам.
«Деж твои, доню, дороги корали?»
В шинкарки в Парани.
«А деж твои, доню, волы та коровы?»
Гей, мати, лихо знати — в шинкаря в обори.
Неизвестность неизбежного брака тревожит девическое сердце.
Девица боится, как бы с нею не было того', что она уже видела с
другими. Ее беспокоит незнание, за кого-то ее отдадут родители.
Вот она плетет себе венок из барвинка, повесила его на золотом
колке и говорит к нему: если б она знала, что пойдет за милого,
то сплела бы лучше, а если за немилого — она бы заранее порвала
и потоптала его.
Ой венку мий венку, хрещатый барвинку,
Яж тебе звила вчора з вечора,
Дай повесила в тереме да на дереве,
На шовковим шнурку, на золотим килку.
Ой як бы ж я знала, що за милым буду,
Я б ще красчий звила!
Ой як бы ж я знала що за нелюбом буду -—
Я б его порвала руками,
Потоптала ногами.
Между весенними песнями можно отметить целый отдел таких
песен, где девушка мечтает, как ей будет нехорошо, когда ее
отдадут замуж в чужой дом, меж чужих людей; она ожидает худого
себе особенно от будущей свекрови. Эти песни есть выражение
того состояния, когда девица еще не познакомилась с любовным
чувством, отодвигающим на задний план всякие подобные
опасения. Но пока сердце девицы еще свободно от любви, на нее кладет
отпечаток подмеченное с самых детских лет... Теперь она у
родителей, как калина красная, а когда будет замужем, станет, как
береза белая.
Я у батька була червона калина,
Як до свекра пийшла — белая береза.
Теперь у нее всего изобильно, а тогда отрежет ей свекор хлеба
тонкий кусок, не съест она его в хате, а съест за дверьми,
обливши слезами.
Вкроив свекор лусту, як кленового листу.
Чи зъеси, невестко? Не зъем я у хати,
Та зъем за дверима.
Не зъем я сухого — обильлю слизами.
В другой веснянке девица воображает себе, как ее отдадут в
многочисленную семью и там станут помыкать ею, заставляя
исполнять разные домашние работы.
Мене замуж отдала, а в великую семью.
Семья сяде вечеряти, я по воду пойду.
Она все сделает, потом подойдет к окну и услышит, как мужу
ее станут говорить: зачем ты не бьешь своей жены? Зачем не
караешь ее? А муж ответит так: нельзя бить ее, когда надобно с
189
нею жить! Если она сонлива — разбужайте ее. Если она ленива —
научайте ее.
Покиль воду принесла, той вечеря одийшла.
Я ложки помыю, белу постель постелю,
Сама спати пийшла, пид виконце пидийшла.
Ой щось мани .гшорют, мене молоду гудять.
«Чом ты ей не бьеш, чом не караеш?»
— Ой як же мене ей бить, коли треба з нею жить?
— Коли вона сонливая — то збудите ей,
— Коли вона ленивая — научите ей.
Более всего боится девическое воображение свекрови, и в
народной поэзии есть целая группа веснянок, где выражается
опасение девицы испытывать неприятности от будущей свекрови. В
одной повсеместно распространенной песне девица обращается к
дубровной кукушечке, просит не будить ее рано, когда она спит
в родительском гнезде. Придет время, станут будить ее еще
раньше; свекровь не родная мать, станет укорять ее за лень и долгое
спанье, упрекая тем, что она в семье своего мужа не трудящаяся,
не скопидомка.
Ой дибривно да зозуленько, да не куй рано у диброви,
Не збуди мене да молодой,
Избудять мене да ранней тебе...
У .мене свекруха не матонька:
«Уставай невистко, неробитниця,
Та свому роду не кукибниця.
Уже .свыни да й у долини,
Молода невистка спить у перини;
Уже ъивци. на крутий гирци —
Молода невистка спит у комирци».
Во всяком случае, если б ее не ожидали упреки и
неприятности сурового обращения от свекрови, свекра и всей мужниной
родни, все-таки минулось тогда для нее прежнее время девичьего
гулянья: дитя малое не пустит ее.
Месяц над водою, девки на улице,
А я молода крозъ тын выглядаю.
Свекорко батенько! Пусти на улицю.
Хоч свекорко пустит, свекруха не пустить,
Хоч свекруха пустить, деверко не пустить,
Хоч деверко пустить, зовиця не пустить,
Хоч зовиця пустить, милый не пустить,
Хоч милый пустить, дитя не пустить.
Но как бы не беспокоила своего воображения девица
пугливыми образами ожидающих ее неприятностей в замужестве, а
прирожденная потребность любви берет свое. «То мне печаль, —
говорит девица, — что я молода, а у меня милого друга нет.
Една туга — сама молодая,
. Друга туга — милого не маю!
Вон, видит она, играют в реке рыбы — у каждой своя пара, а
у меня только пара черных глаз и черных бровей».
Ж
Щука, рыба в море гуляе да воле,
Щука рыба грае, собе пару мае,
А я стою да думаю, що пары не маю.
Тильки мене пары, що оленьки кары,
Тилька всей любови, що чорныи брови.
Томительно действует на девицу вид постели, на которой ей
надобно спать. Бела постель, нема стена, у которой постель
поставлена. «О сжалься, Боже, — восклицает девица, — сжалься
надо мною, милосердый, ведь я молоденькая! Дала бы я свою
белую руку, да не знаю кому дать ее».
Постелька беленька, а стена неменька —
Сжалься, сжалься, милый Боже, що я молоденька!
Постелька беленька, да все не по тому,
Дала б же я белу ручкуг да, не знаю кому!
Боится она, чтоб не отдали ее за вдовца: он вспомнит
прежнюю жену и станет с нею сурово обращаться.
Ой не пийду за вдивця, буде мене лихо!
А вдовець не молодець все норовы знае,
If згадае першу жинку — нагайкокг вкрае.
Или:
За удивцем хлеб готовый, серце засмучено,
За удивцем хлеб готовый, лишень бы го ести,
Перед бы ся наплакати, ниж до него сести.
Не хочет выходить она за старого, хочет за молодого.
Ой не ходи, старый, коло моий хаты,
Ой не топчи, старый, кудрявой мяты.
Я того старого од роду не любила,
По его следочку каменем покотида.
Ой походи, молоденький, коло моей хаты,
Ой потопчи, молодепький, кудрявой мяты,
Я того да молодого од роду да полюбила,
По его следочку перстником да покотила.
Не хочет за рыжего, а хочет за черноволосого.
Мати моя хорошая, мати моя мила,
Не дай мене за рудого, бо я чорнобрива.
У рудого грошей много, буде мене бити;
Я без того чорнявого не" могу прожити.
Если сильно волнуется сердце у девицы, то еще сильнее
волнуется оно у молодца. Он чувствует грусть одиночества, —
Жаль серцю моему так жити самому, —
отгадывает, чего ему нужно, и просит Бога послать ему в
подруги жизни хорошую девицу.
Боже а неба высокого!
Глянь на мене молодого;
Дай ме що я в тебе прошу:
Дай ме девчину хорошу.
tin
Всего у него вдоволь, и в хате, и в комнате полно всякой
благодати: богатые образа, размалеванные стены, куда ни глянет,
все у него так, как следует быть, недостает только подруги.
Слышимое девическое пение нагоняет на него тоску.
А в тий хати и кимнате у сякой благодати:
Боги в мене дорогии, малеваны стины,
Куды не глянь — все як треба, да нема дружины.
У диброве зелененький дивчина спивае;
Бона ж мени молодому тугу наганяе.
Где она, эта неведомая его суженая? Он пошлет на все
стороны послов искать, где живет она.
На все света стороньки пошлю послоньки, -
Где вона живе, где проживав?
Нехай буду знати, где ей шукати!
Пусть летят ласточки и галки в чужую сторону, пусть
прилетят к нему и принесут весть о ней.
Пошлю жбо я ластивочку на чужую стороночку.
Нехай пролитають, дружины шукають.
Тогда и он оседлает коня, поедет на край Дуная, найдет ту,
которая ему по сердцу, и скажет ей — добрый день, а она даст
ему свою руку.
Сам я коня осидлаю, поеду край Дунаю,
Буду пройзжаты, дружины шукати,
Приезжаю край Дунаю, на день-добрий милий даю,
Милая витае, билу ручку дае.
Вот прилетает к нему галка и приносит весть: его суженая
сидит где-то на берегу моря, умывается морскою водою, утирается
своею русою косою.
Галочко моя, галочка чорненька!
Ты скажи, галочко, где моя миленька?
А твоя миленька в лузе над водою,
Умывается морскою водою,
Утирается русою косою.
В какой очарованный мир заносит молодца воображение!
Какой огонь пылает у него в сердце!
Ой чи не найдеться такого чоловечка,
Щоб розрезав парубкови белый груди!
Поглядев бы подивився на свое серденько,
Як из жару серце молодецьке розотлелось,
Як из поломья воно серце молодецьке розгорелось.
Не знает он, какая судьба ожидает его в грядущем, просит
рыбаков закинуть в море сеть и поймать его долю. Рыбаки
исполнили его желание, но вытащили не его долю, а рыбу. Он видит,
что рыба живет в паре, а у него нет пары, и становится ему еще
досаднее.
192
Хлопци рыболовци, удали молодци!
Вы закиньте сетку через сине море,
Та вытягнить долю мени молодому!
Не вытягли доли, та вытягли рыбу,
Рыба щука грае, соби пару мае,
Мени молодому пароньки не мае.
Что ему в красоте его, когда он не может жениться! Лучше
ему броситься в воду и утопиться.
Чорны брови маю тай не оженюся,
Пийду до реченьки з жалю утоплюся.
Но тут воображению его представляется образ девицы, которая
удерживает его от самоубийства и обещает ему любовь свою.
Или:
Не топись, козаче, не топися, орле:
Хто ж мене дивчину' сей вечир пригорне!
Не топися, милый, марне душу згубиш,
Ой ходимо звинчаймося, коли вирно любиш.
В темную ночь не спится молодцу: ему все мерещится
будущая подруга.
Темна ничка невеличка, и чого-сь не спиться,
Чого сь моя головонька та й морочиться.
Треба мени, моя мати, оженитися,
Перестане головонька морочитися.
Он бежит в рощу. Он просит у нее совета: жениться ли ему
и какую подругу взять себе. Он перебирает всяких: богатую бы
взял — так не захочет трудиться, умную взять — станет умничать,
глупую возьму — с нею будет горе, станут судить люди и не будет
нам житья.
Порадь мене, гаю, що маю робити.
Чи мени жениться, чи так волочиться?
Порадь мене, гаю, яку милу брати!
Узяв бы багату — не схоче робити,
Узяв бы розу мну — буде замышляти,
Узяв бы дурную, горе ж мени буде,
Судитимуть люде: нам житьтя не буде!
Родители посылают его косить, а он бросил косу и стал
плакать.
Яж думала, мий сыночку, що будеш косити,
Аж ты косу приклав до покосу да й став голосити.
На синем море мраморный камень, на нем сидит молодец и
наигрывает на сопелке, Что мне богатство: есть ли оно, нет ли
его — все- для меня едино, говорит он, а с доброю подругою мне
было бы легче.
193
На синему море стоить камень мармуровий;
На ним сидить хлопець чернобровый,
Сидить соби та й в сопилочку грае>
Гирко ему на серденьку, що дружины не мае.
А що мени по худоби, а вже буде чи не буде,
С хорошою дружиною легче буде.
Вот он возвращается домой, кланяется в ноги своей матери и
говорит ей: если б ты знала, матушка, какая мне досада, ты бы
меня женила, чтобы мне было с кем совет держать! Мать отвечает
ему: женись, мой сынок, возьми любимую свою и целуй ее да
милуй, как голубку.
Ой коли: б ты, мати, знала, яка то досада,
То б ты мене оженила, щоб була порада.
Оженися, мий сыночку, возьми соби любку,
Цилуй ей, милуй ей як голуб голубку.
Мать не советует сыну жениться на вдове, —
Не бери вдовоньки, не буде доленьки, —
а советует взять себе в жену сироту:
Возьми собе сиритоньку, будеш мав долейку.
По нравственному народному воззрению, при браке не должно
рассчитывать на богатство. Погибель постигнет того, — говорит
песня, — кто ищет в имуществе сердца.
Но погибель прийде тому,
Хто беду веде до дому,
В женце зарибку шукае,
За маеток серце- маеГ
Жена станет говорить ему: ты убог, а я богата, моя хата, моя
правда! Бедняк станет проклинать себя- за то, что из-за денег
нажил себе хлопот.
Ты убогий, я багата,
Моя правда, моя хата.
Тильки бедный проклинае,
Що за грошит клогтот мае!
Вот я, говорит кто-то в поучение молодежи — взял себе жену
убогую, но живу с нею, слава Богу, и мил мне кусок хлеба,
заработанный ее руками. В погоду ли, в непогоду — иду с нею на,
работу, и в поле мило мне с нею трудиться.
Я собе взяв жинку вбогу,
Жию с нею хвала Богу!
Мене хлеба кусок милый,
Що ей руки заробили.
Чи в погоду, чи то в слоту,
Иду с нею на роботу,
Иду в поле с нею жати,
Мило разом працювати.
194
Если девица, в чаянии будущего брака, пугается
неприятностей, которые могут ее ожидать в новой жизни, то и молодец также
останавливается "перед опасением, что его жизнь с женою станет
для него тяжелым камнем и станет он плакать о своей судьбе, да
не воротит раз потерянной свободы.
Хлопче молодче з карыми очима!
На що тобе женка, камень за плечима?
Будеш колись долю свою проклинати,
Будеш кулаками слезы утирати,
Выплачет очи, да не вернеш доле...
Но и молодца, как девицу, такие страхи не удержат от того,
к чему влечет всех природа и что указано человеку самим Богом.
Видкиль Бог небо створив и свети повстали,
Бог написав на камене, що бы ее кохали.
Первая встреча молодца с девицею, то время, с которого
завязывается между ними любовь, иногда представляется как бы
случайным событием, хотя, разумеется, в сельском быту дети обоего
пола знают друг друга с малых лет. Вот изображается две горы;
между ними в долине всходит заря: то не заря — говорит песня —
то молодая девица шла по воду. Молодец за нею на сером коне
верхом по над Дунаем (т. е. по берегу большой реки). Он догоняет
девицу и просит напоить его коня.
И видтиль гора, и видсиль гора;
Помиж тими крутыми горами сходила ясная зоря;
Я ж думав що зоря зийшла,
Аж то моя дивчинонька по водицю йшла.
А я за нею, як за зорею,
Чистым полем, сивым конем по над Дунаем.
Дивчино ж моя, иапий мого ксшя
3 рубленой та криниченьки, з повного .ведра.
Девица, понимая, как видно, символический смысл такой
просьбы, отказывает ему, потому что еще не принадлежит ему;
она говорит, что ей надобно спешить, потому что у нее дома лежит
больной отец, —
Пусти мене молодую:
В мене батько слабый лежить,
* Холодной воды бажить, —
а молодец научает ее, как отговориться перед матерью, зачем
она замешкалась; налетели де гуси и взмутили воду, а она
подождала, пока вода устоялась.
Надлетели гуси з броду,
Сколотили з песком воду,
А я стала, постояла,
Ним ся вода устояла.
В песнях старого козацкого быта встречаются такие образы:
козак, едучи, встречает девицу, спрашивает у нее дорогу, она «му
195
показывает три дороги — в Польшу, на Дон и к славному
Запорожью, и отсюда завязывается между ними любовь; песня
кончается словами козака к девице: пока жив'— тебя не забуду и по
весне стану тебя сватать.
Як жив буду, до я тебе не забуду,
И на весни сватать буду.
Или — козак заснул в степи под могилою; вдруг является
неизвестно откуда девица, будит козака, потому что идут бусур-
маны, возьмут у него коня, а его изрубят. Девица прибавляет, что
конь может быть и другой, а если козака убьют, то ей жаль станет.
Коня возьмуть, кинь другий буде,
Тебе зарубают — другого не буде,
Мене жаль буде.
Из быта более позднего встречаем в песнях такие образы:
ходила девица по грибы и заблудила в лесной чаще. Там встречает
она молодца, которого принимает за лесничего, и просит вывести
ее на дорогу.
Ой гайдаю, гайдаю, выведи мене з гаю!
Б о справде дороги не знаю!
Молодец говорит, что его следует назвать не лесничим, а своим
«серденьком».
Коли-б же ты дороги не знала,
То ты б мене гайдаем не звала,
То ты б мене серденьком назвала.
Или — молодец пас коз. и, заснувши, потерял козу; он стал
искать ее и наткнулся на спящую девицу; он не будил ее, а стал
целовать ее сонную, пока она не проснулась, не начала кричать,
браниться, а он таки нацеловался вдоволь.
Бегаю по лесе, собою нуджу.
Щось лежить пид садом з далека виджу,
Обачу и з близка дивчину спячу,
Не смею збудити, тильки не плачу,
И стисну дивчине бели ручоньки,
Оглянеться, отворить чорни очоньки;
Кричала, лаяла, я не лякався,
Най же м, оченька, нацеловався.
В распространенной повсюду песне первое сближение изобрат
жено так: девица пахала и не умела кричать на волов, —
Там орала дивчинонька воликом чорненьким,
Орала, орала,-не вмела гукати, —
а потому пригласила молодца — по одним вариантам —
погонять волов, —
Да наняла козаченька волив поганяти, —
по другим — играть на дудочке, —
196
Да наняла дударика у дудочку грати, —
а тот, исполняя свою обязанность, стал в то же время моргать,
неизвестно на что: на волов ли и коров или на белое лицо и
черные брови девицы.
Дударик играе, бровами моргае
Враг же его батька знае, на шо вин моргае:
Чи на мои волы, а чи на коровы,
Чи на мое лице беле да на чорне брови.
В другой песне, без всяких предварительных черт,
изображается, что девица в поле жала хлеб, мимо проехал молодец и сказал
ей: здравствуй, жница, а она отвечала: здравствуй, душа моя! И
с той поры все узнали, что девица козака назвала таким нежным
словом.
Ехав козак дорогою: помогай Биг женче!
* Бона ему видповела: бувай здоров, серце!
А вже тая слава по всем свете стала,
Що девчина козаченька серденьком назвала.
Но прямее, естественнее, и чаще первая встреча любви бывает
на улицах. Такие сходбища на тот конец и составились в
сельском быту, чтоб молодые люди обоих полов сходились между
собой и приготовляли себя к супружеству. Недаром в весенних
песнях молодцы, участвующие на улице или в хороводе,
символически представляются в образе месяцев, —
Три месяце ясных, три молодце красных, —
а девицы в образе звездочек, —
Три зирочки ясных, три девочки красных, —
и каждому месяцу, —
Первый месяченько — молодый (имя-рек), —
и звездочке, —
Першая зирка — молода (имя-рек), —
придаются имена, какие носят молодцы и девицы. Собирается
улица где-нибудь на выгоне, близ села в долине или на холму;
туда из родительских домов выступают девицы гулять, словно
лебеди на тихом Дунае, и пускают голоса, чтоб их услыхали
те, кому это нужно. Весело девице на улице, а ее сердце
порывается туда, где тот, которому она полюбилась.
Ой выйду я за ворота, гуляю, гуляю,
Як билая лебедочка по тихим Дунаю.
Ой выйду я на ярочок та пущу голосочок:
Нехай мене той зачуе, що в поли ночуе...
И се село и те село, мени не весело,
Тильки мени веселенько, де мое серденько.
197
Вот на такую-то улицу стал учащать молодец и все стали
замечать, что он чего-то вздыхает, догадываются, что он уже
полюбил.
Молодици и дивчата стали говорити:
Що так часто на вулицю почав я ходити.
Уся челядь догадалась, чого я зитхаю,
И тепера уси знають, котру я кохаш.
Не может он насмотреться и налюбоваться на нее, когда
пойдет она в танец под звуки скрипки и кажется ему — благоухает
она розою.
Як пийде пид скрипочку то й не надивлюся...
Нема красчои дивчины^ як моя Маруся!
Як пийде пид скрипочку ще й платочком махне,
Такиж моя Маруся аж рожою пахне.
И девица, которой он полюбится, втайне говорит, что нет на
той улице, куда она ходит, красивее молодца, как тот, кого она
удостаивает звать нашим.
На нашей на вулици
Все купалыи молодци,
Ой нема, нема найкупавшого
Над Ивана над нашого.
Она им любуется, когда увидит, что он проехал верхом:
Ой Василю, Василино, любая дитино!
Як ты едеш сивым конем, дивитися мило.
Она ради него идет в гости.
Ой Василю, Василечку, хороший стане,
С ким я в гости пийду, як тебе не стане!
Если случится ей во сне увидеть его — ей делается весело, но,
когда, пробудившись, она поймет, что его нет при ней, ей станет
грустно.
Ой я сплю, милый сниться,
Душа ж моя веселиться.
Прокинуся — аж не мае,
Аж серденько замирае.
Где только увидит, что он идет* ъй показывается, что солнышко
всходит.
Я ж думала, що сонечко сходить,
Аж то милый по рыночку ходить.
Он, с свое^й стороны, полюбивши девицу, воображает себе, как
бы он ее ласкал, берег и баловал* если бы она стала его подругою.
То б я ей циловав, миловав,
И до печи куховарочку нанняв,
И сам бы я по водицю ходив,
А Одарю та за ручечку водив.
Целую ночь гуляет на улице челядь и расходится уже
светом, —
Цвели лозы при дорозе синеньким цветом,.
Иде козак из улице белесенысим светом... —
когда проснутся работящие люди и в селе начнется доение
коров.
Нова церква, нова церква, а стари пороги,
Тощи козак вид дивки йде як доять коровы.
Молодец, залюбезничавшись с девицею, не в силах от ней
оторваться, как и она от него:
Ой як мене, козаченьку, раненько ходити
Бо як визмеш за рученьку — не мусиш пустити!
Таку ж бо я девчиненько натуроньку маю,
Як зийдуся из тобою — про все забуваю.
Петухи ночные поют одни за другими, а он все продолжает
стоять с нею и только тогда, когда наступит ясный день,
пожелает ей доброй ночи, —
Куроньки пиють, я з дивчиною стою,
На день займае, на добранич даю.
А удалившись домой, никак не может удалить от себя ночных
воспоминаний и сам себя не слышит.
Люблю дивчину, та й трудно ей забути,
Прийду до дому — сам себе не чути!
Пока еще он не успел отдать свое чувство исключительно
одной, его сердце, по выражению песни, разбивается на две
половины. Две девицы разом ему нравятся. Одна — дальше, другая —
поближе. У молодца происходит внутреннее борение, а потом и
решимость: ту, которая от него подальше, он подарит людям, а к
другой, которая поближе, пойдет сам.
Одна гора высокая, а другая низька,
Одна мила далекая, а другая близька.
А я тую далекую людям подарую,
А до сей близенькои сам помандрую.
Если одна из этих девиц богата, другая убога — предпочтение
отдается последней.
Багатая губатая, та ще и к тому пышна,
Убогая хорошая як у саду вишня...
Великая худоба то серденьку досада,
А хорошая дружина то еерцю одрада.
Если же молодец начнет ухаживать за девицею только ради
опыта и станет хорохориться перед нею, то подвергается
неприятности быть разгаданным, и девица скажет ему, что коли он ее
любит так, как уверяет, то может сватать ее, —
199
Не козерись, парубоньку, и не копыль губу;
Коли любиш так, як кажеш, то веди до шлюбу.
А иначе должен отцепиться от нее, и если он станет перед
нею говорить, что рад бы жениться, да не велят родители:
Ой рад бы я шлюб узяти
Та не велить мати, —
то она скажет: коли не велят, так и не таскайся на наш край
на улицу.
Як не велить, то й не ходи
На наш край гуляти.
Она- еще пригрозит ему, что расскажет о его ухаживании
около ней всей челяди, чтобы про него сложили веснянку и
приложили бы ему какое-нибудь прозвище.
Ой скажу всем, щоб про тебе
Веснянки спивали,
Що б призвища та прикладки
Тоби прикладали!
Не то отрежет ему и почище.
Ще я таких дурнив з роду не видала,
Я такими дурнями тыны пидпирала.
У городе бузина, на ей листу нема;
Не ходи, не люби, коли хисту нема!
Даже мать молодца станет корить его, если узнает, что он ради
шутки ухаживает за девушкою.
Ой грих, сыночку, в недиленьку снидати,
А ще гирший грех з сироты ся смияти.
Любовные свидания и взаимные нежности молодца и девицы
изображаются в народных песнях с усвоенными в народной
поэзии приемами, часто повторяющимися, хотя и с некоторым
разнообразием. Вот молодец бродит около хаты, где живет девица и
дожидается, пока у ней в хате погаснет свеча и улягутся ее
родители: тогда она выйдет к нему.
Ходить сорока коло потока тай кряче! тай кряче!
Ходить Микола коло виконця та й плаче! та й плаче!
Выйди, Наталко, выйди серденько, та й выйди! та й выйди!
Свечечка горить, то батенько не спить, — не выйду! не выйдуЬ-
Свечечка згасне, батенько засне, то й выйду! то й выйду!
Вот он стоит под окном, окутавшись свитою с капюшоном,
согнулся, ожидает, пока выйдет его Маруся.
Чи не цей-то Микитка, що по локти свитка?
Пид виконцем зигнувся, чи не выйде Маруся.
Он просит выйти скорее, поговорить с ним, пусть сойдутся
они, как месяц с звездою.
200
Выйди, выйди, молода девчино, поговору з тобою
Як мисяць з зорою.
Постой» милый, говорит она: вот я матушке старой изготовлю
ужинать, постелю белую постель, тогда выйду и развеселю тебя.
Чекай, парень, годину,
Нехай своий неньци старий вечероньку зготую,
Билу постель постелю.
Тоди я, молоденька, на всю ниченьку выйду.
Вот она вышла, наконец; как звезда вечерняя осветила все
поле, так она взвеселила сердце молодецкое.
А зиронька зийшла, усе поле освитила,
А дивчина выйшла, козаченька звеселила.
Впрочем, трудно бывает матери удержать дочь, когда она
искренно полюбит молодца. Хоть построй мать для ней особую ко-
мору, хоть запирай ее замками, хоть поставь она караульных
наблюдать за дочерью... дочь все-таки найдет способ выскочить и
проведет ночь с милым своим в вишневом садике, —
Збудуй мени, мати, комору новую,
Та замыкай мене, молодую,
Комора новая, сторожа стояла,
А я молодая в саду ночувала.
Ночувала ничку в вишневим садочку
А с тобою сивый голубочку, —
или в темной роще, —
Ночувала другу в темненьким лугу,
Я с тобою не звинчана буду, —
либо же украдет у матери ключи и впустит к себе молодца.
Вкрала ключи девчинонька, мати не почула,
Бона ж свого миленького до себе кликнула.
Девица блаженствует с милым, сравнивает себя с кукушкою,
а его с соловьем.
Ой прилетив соловейко, щебече гарненько,
Як приехав мий миленький — гулять веселенько!
Нехай тоби зозуленька, мени соловейко,
Нехай тоби там легенько, где мое серденько.
Мени буде соловейко рано щебетати,
Тоби буде зозуленька раненько кувати.
Дорожа своим счастьем, молодец допрашивает ее: любит ли
она его, не разлюбит ли? Девица уверяет его в своей любви,
сознает, что у ней нет ни серебра, ни золота, ничего, кроме любви
к молодцу. Молодец отвечает, что ему и не нужно золота: он
приобретет его, а нужно ему любимую девицу.
«Не маю я срибла, не маю злота;
«Оприч любови що к тоби маю.
«Я всим убога — того не таю».
— Не треба ж мени злота — я и сам придбаю,
— А треба дивчины, що я кохаю.
201
Молодец толкует ей, как будет хорошо, когда она станет его
женою, матерью детей его, слугою родителей его, а между
близкими соседями хозяйкою.
кими соседями хозяйкою.
Будеш ты мени жоною,
А моему батеньку слугою,
Моий матеньци другою,
Моим диткам маткою,
Близким сусидам панею.
Девица уверяет, что их никто никогда не разлучит, кроме
смерти.
Нас не розлучить матуся твоя...
Хиба нас розлучить сырая земля.
Нас не розлучить ни пип, ни громада,
Хиба розлучит сосновая хата.
Иногда, проникнутые мечтательностью, так свойственной
вообще малорусской натуре, они собираются разом умирать, чтобы
их вместе положили в одной могиле и там бы они вели между
собою беседу.
Як ты умреш а з вечора, то я умру рано,
Скажемо-ся поховати обидвое в едну яму;
Скажемо-ся поховати вкупу головами,
Щобы була розмовонька на тим свити меж нами!
Влюбленные угощают друг друга лакомствами. Маруся
выходит из своего дома к возлюбленному с орешками.
И Маруся выходить и горишки выносить,
Чи горишки кусати, чи Марусю цилувати?
Молодец зимою подходит к окну своей возлюбленной с чашею
меда в руке и жалуется, что она медлит выходить к нему; ей тепло
расхаживать по светлице, а ему снег забивает глаза, чаша с медом
от мороза пристает к рукам.
Добре тоби, дивчино, по свитлонце ходити,
Мени тяжко, на морози стоючи,
Чашу з медом держучи.
Чаша з медом до рук прилипае,
Черный очи сниг замитае.
Свидания происходят обыкновенно ночью, чтоб люди их не
увидали и не стали разлучать.
«Не ходи в день, не смеши людей,
Приходь у ночи при ясний свечи,
Що б на нас люде не говорили,
Що б нас з тобою не розлучили».
Девица просит козака не подвергать ее бесславию и
настаивает, чтоб он поскорее ее сватал.
Сватай мене, козаченьку, та не вводь мене в славу.
202
Оригинальная черта в малорусской народной жизни — жени-
ханье, обычай, состоящий в том, что молодые люди обоего пола
ложатся вместе, любезничают и часто засыпают во взаимных
объятиях.
Дай мене, миленький, повечеряти,
Повечерявши да ляжемо спати
Будемо, миленький, правду казати.
Это обычай старый и не раз приводил он в удивление и
возбуждал порицание тех, которые его наблюдали, не будучи са.ми
малорусами; но всего удивительнее казалось всегда то, что при
таком близком обхождении между собою двух полов, редко
нарушалось целомудрие девиц. Малорусские девицы слишком берегли
свою честь, потому что за потерю чести жестоко преследовало
общественное мнение, а по свадебному чину существовали такие
обряды, которые не допускали скрыть от других прежде
содеянный грех, который наказывался унизительными насмешками и
поруганиями, даже и тогда, когда бы сам новобрачный признал,
что грех содеян с ним. Такие жениханья происходят обыкновенно
летом на улицах, где после^ общего гулянья, пения, музыки и
плясок, молодежь расходится парочками, улегаются где попало,
иногда под кустами, под мельницами или другими сельскими
постройками, а иногда просто на дороге.
Стелить, стелить молода дивчина
Билу постиль в дорози,
Твердо стелить, а мягко лежати,
Люблю з нею розмовляти.
Осенью и зимою вместо улиц отправляются вечерницы или
досветки, такие же сборища как и летние улицы, только
происходящие в хате. Обыкновенно хозяйками таких хат бывают вдовы,
преимущественно солдатки. Такая женщина пускает к себе в хату
молодежь: там нередко пьют вино и готовят ужин, состоящий чаще
всего из яичницы, жареных кур и колбас, поют и пляшут под
сельскую музыку. Хозяйка хаты носит всегда название: «досветча-
на маты». На взаимное угощение участники делают складчину, а
хозяйка получает известную долю по уговору в свою пользу за
хлопоты и труды. После гулянья молодцы и девицы располагаются
где попало на земле и женихаются, лежа вместе попарно.
Ой стелить моя чорнявая билу постиль для мене.
Ой стеле вона дви подушки а третю перину.
Девицы на такие сборища отправляются под благовидным
предлогом прясть и каждая берет с собою прядево и гребень, но
само собою разумеется, работа идет плохо.
Де ходив, то ходив, прийшов пид виконце:
Сидите, прядите, дивки волоконце.
А Оксана не пряде, на Ивася дметься,
Вона его вирно любит до его смиеться!
Каждая выглядывает своего милого:
203
Яж думала чужий иде та стала, ховаться,
Аж то мое серденько иде целоваться.
Кто кого любит — стремится к своему предмету:
Сядь, Грицю, коло мене, ще й нижечки пидгорни,
Я ж тебе поцилую, а ты мене обийми.
Обийми ж ты мене, мое серденятко,
Поцилуй же мене, як мати дитятко.
Обнимаются, целуются и наконец укладываются.
Ой девчино, бедна сирото,
Не стели мени постели широко,
Постели мени постель вузеньку,
Та й пригорнися до мене близенько!
Если какой-нибудь молодец отвертывается от девицы, то это
знак, что не любит и презирает ее.
Ой знати знати хто з кого кпиться,
Далеко сидае, чортом дивиться.
Вообще стараются, чтобы все были парами, третьему между
двух быть неуместно.
Ой дес стоить парочка, любая розмова,
Ой як третий умишаеться, то й потеряеться,
Як четвертый прибуде, то все гаразд буде.
Не только на улицах и досветках происходит жениханье. В
одной песне девица впускает к себе возлюбленного тайком от
родителей.
Ой прийди, прийди, впущу до кимнаты,
Та закажу всим в хати, щоб не знала мати.
Ой як впускала — тяженько вздыхала,
Ой як выпускала — то й плакати стала.
В другой козак добивается, чтоб девица пустила его к себе на
ночь, а девица сначала отговаривается, что боится утратить ласки
матери, —
Ой добры — вечор, дивчинонько, пусти мене на нич,
— Ой боюся, козаченьку, бо я сама плачу.
Ой я в своей матусеньки певне ласку втрачу, —
потом соглашается с условием, чтоб- молодец не помял ее руты:
Прошу тебе, козаченьку, не толоч ми руты, —
т. е. не нарушил целомудрия. В строго-нравственной семье
девица приглашает в гости своего возлюбленного и
предупреждает, что можно говорить между собою только шепотом, чтоб
мать не услыхала.
Прийдеш, козаче, сей вечир до мене,
Зготувала стара мати вечерю для тебе,
Як прийдеш до мене, сядь соби на лавци,
Та будем розмовляти, щоб не чула мати.
204
Такая мать не пускает дочери на улицу и на досветки, и
девица говорит своему милому, что только тогда они будут
неразлучны, когда повенчаются.
Ой рада б я зыйти, так неволенька моя,.
Не пускають гулять, що я молода;
Не пускають, не велят
Из тобою, серденько, стоять*
Ой поможи, Боже, нам на рушнику стати,
Тоди не розлучить ни батько, ни мати.
Но есть матери, гораздо снисходительнее относящиеся к
молодежи и ее увлечениям. Дочь поручает матери готовить ужин, а
сама собирается спать, и говорит, что тот,- кому она мила, сам
придет в ее хату.
Вари, мати, вечеряти, а я ляжу спати;
А хто мени любый-милый, най иде до хати.
Другая мать сама научает дочь, как привлечь к себе и
наставляет ее в приемах любовного дела.
«Що то, моя мати, за пташок летае?»
— Дай же ему принадочку, нехай привыкае.
«Яку ж ему, моя мати, принадочку дати?»
— Сыпь пшеныци по колинця, водици по крыльця.
«Козак, мати, коло двора кругом объезжае,
Та на мои воритечка коня навертае».
— Давай, дочко, принадоньку, нехай привыкае.
«Яку ж ему, моя мати, принаду давати?»
— Стели, дочко, билу постиль, лягай из ним спати.
— Одну ручку в головочку, другою обняти,
— Пригорнуться до серденька дай поцилувати.
Однако таким матерям бывает награда за такие уроки, когда
придется им сидеть за печью и качать внуков.
От то тобе, моя мамцю, за твою науку,
Сиди соби у запичку, колыхай унуку.
Такие матери воспитали легкомысленный взгляд на жизнь
девиц: жениханье с разными молодцами попеременно не
представляется предосудительным. Девица приглашает целый кружок
молодцов к себе на ужин, обещая притом и перину с подушками.
Як любила кавалерив, так любити буде...
Там дивчина кавалерив на вечерю просить,
Просить вона на вечерю и рыбку лининку,
На пухову подушечку, биленьку перинку.
Оттого в песнях попадаются такие черты, где девица не
сердится на милого, зная, что он ночует с другою, лишь бы только
опять к ней обратился:
Десь мий милый, чорнобривый з иншою ночуе?
«Ночуй, ночуй, мий миленький, да й не зазнавайся;
Ой як выйдеш на улицю, до мене признайся».
205
А также и парубок дозволяет своей возлюбленной
полюбезничать с другим молодцом, только просит не быть с этим другим
так откровенною, как с ним:
— Пригортайся, дивчинонько, к другому такому,
Та не кажи теи правды, що мени самому.
«Ой як мени, козаченьку, правды не казати,
«Ой як стане пригортати, то стане пытати».
А уходящий в военную службу молодец предоставляет своей
девице гулять по-прежнему со всеми, с кем захочет, только не
с москалями, вероятно, потому, что те, не зная малороссийских
обычаев в их внутреннем смысле, могут их употребить во зло.
«А чи мени за муж ити, чи гуляти?
— Гуляй, молода дивчино, як гуляла,
Збирай челядоньку, як збирала,
Наймай музыченьки, як наймала,
Топчи черевички, як топтала.
Да не гуляй, молода дивчино, з москалями;
Москальчики — обманщики, вони обманять,
У новую комирочку запровадять;
Вони твою русую косу рострепають.
Вони твои билыи руки поламають,
Вони твою билую постил помарають.
Впрочем, такие черты легкомысленного обращения полов в
народных песнях не часты; чаще представляется, что парубки с
девицами женихаются в надежде соединиться вечными узами
супружества. Так молодец говорит, что он ночевал с девицею,
которую хочет посватать, —
Де ж ты, козак, сю нич ночував, що й не роззувався?
—. Ночував я ничку, ночував я й другую
— То все в тыи дивчиноньки, що сватати буду, —
а девица в одной веснянке, на вопрос козака: будет ли она
принимать его к себе на ночь, отвечает: как принимала с
осени, так будет и теперь, что указывает на постоянство связи
и на ее продолжительность.
Обычная и часто повторяющаяся черта в малорусских
любовных песнях — жалобы на врагов, разными средствами
затевающих разлучить любящихся. Первыми такими врагами бывают
нередко родители девицы. Она жалуется своему возлюбленному,
что мать грозит ее бить за то, что она полюбила молодца, и затем
просит козака не ходить более к ней.
«Дивчинонько моя мила,
За що ж тебе мати била?»
— Ще не била, ще не била, хвалилася бити,
— Ой перестань, козаченьку, тай до мене ходити.
Козак просит свою Катрусю выйти на крыльцо и поговорить
с ним, а девица отвечает, что мать не пускает ее к нему.
206
— Катрусю, сердечко! Выйди на крылечко,
— Выйди на крылечко, промов хоть словечко...
«Не выйду, Иваню, мене мати лае,
«Мене мати лае, гулять не пускае.
Нет ничего естественнее, как появление врагов у молодых
людей, между которыми возникают любовные отношения. Начинают
за ними присматривать родные и близкие с обеих сторон, нет
недостатка и в советниках, которые стараются вооружить против
их союза родителей. Поднимаются также толки и сплетни.
Являются, кроме того, соперники и соперницы. Девица жалуется, что
за нею поглядывают и ей невозможно через врагов ходить на
улицу.
Затопила, закурила сырыми дровами,
Нельзя выйти на улицю да й за ворогами.
А я тыи сыри дрова та й повыкидаю;
Вже вороги спать полягли, пойду погуляю.
Хоть полягли, не полягли * дак не будуть спати,
Вони будуть прислухаться — с ким буду стояти,
С ким буду да стояти, да що говорити.
С своей стороны жалуется молодец, что враги не допускают
его проникнуть к милой.
Ой рад бы я прийти, рад бы я приихать,
Кругом тебе стоять вороженьки, да никуды обминати.
Девица прячется с своей любовью и от врагов и от матери;
зазвавши молодца к себе, раньше всех встает, чтобы замести
следы своего милого и не дать врагам повода осуждать их, а матери
своей проклинать ее.
А" я встану ранесенько слиду замитати,
Що б не знали вороженьки ще й ридная мати,
Як узнають вороженьки — будуть осуждати.
Як узнае ридна мати — буде проклинати.
Недоброжелатели стараются между влюбленною парою
посеять раздор: наговаривают девице, будто ее возлюбленный полюбил
другую девушку, — •
Ой я чую через люди, що ты иншую кохаеш, —
а молодец от людей слышит, будто с его девицею проводит
ночи кто-то иной.
Tee я тя скажу, що вид людей чую,
Що у тебе, дивчинонько, инший ночуе.
Молодец и девица взаимно уверяют друг друга, что все это
выдумали враги, и в раздражении против врагов девица
сравнивает их с лающими собаками, —
На що мени собаки тримати,
Есть в мене сусидоньки, що вмиють брехати, —
которые, однако, ничего ей не могут сделать, когда она выйдет
замуж. '
Брешить, брешить, вороженьки, най буде Бог з вами!
Я молода, пийду за миж — товчить головами.
Приходится, однако, девице предупреждать молодца, когда ему
угрожают враги, — " '
Тикай, тикай, козаченьку, хотять тя злапати, —
а ему — ускользать от них и прятаться в траву.
Козак молоденький та й того злякався,
Хильци, хильци по-пид-плотом, та й в зильля сховався.
На улицах поднимаются иногда между молодцами драки. В
одной песне парубок угрожает, что кто прикоснется к его девице,
тому он изломает руки и ноги.
— Нехай моей дивчиноньки нихто не займае —
Бо хто ей займе, биду соби знайде:
Бо поломаю руки, ноги, до дому не зайде.
В другой песне двое молодцев ходили на вечерницы к одной и
той же девушке и рассудили, что лучше приказать сделать гроб и
одному из них достанется этот гроб, а другому девица молодая.
Ой як мы будем до одной ходити,
Наймемо соби тесника домовину зробити.
Ой одному буде домовина новая
А другому буде дивка молодая!
И девице бывает не безопасно от врагов: в одной песне
молодец зовет ее к себе, а она отвечает, что стоит враг и хочет убить
ее.
— Выйди, дивчино, поговоримо з тобою!
«Ой як я маю з тобою говорити:
«Стоить вориженько, хоче мене забити!»
Матери, которая дозволяет дочери половину ночи проводить на
улице, —
Пиють пивни, пиють други, а дочки не мае,
Нехай наша дочка молода трохи погуляе, —
дочь говорит, что на нее находит бесславие, как черная туча,
но она перенесет эту невзгоду, зная, что как за тучею следует
гром и наконец дождь, так и девица не выходит замуж, чтоб
не испытать клеветы и сплетен от врагов.
208
Пид моими воротами чорна хмара стала;
А я тую чорну хмару рукавцем розмаю,
Перебула поговир, перебуду неславу.
Ой не пийде дробен дощик без хмары, без грому,
Ой не пийде дивка за-миж та без поговору.
— Ах враги, враги! — говорит девица: сходитесь себе в
беседу, пейте, гуляйте, только не разлучайте тех, что уже сошлись в
пару, а напротив сводите в пару тех, что еще не сошлись.
Прошу, вороги, на беседу к соби,
И пиите и ежте и беседуйте,
Где двое стоить не розлучайте,
А хто без пары — пары шукайте.
Иногда препятствие к соединению любящих друг друга
исходит от родни молодца; так в одной песне молодец говорит своей
девице, что он рад бы жениться на ней, но мать его не велит:
А рад бы я тебе взяти,
Та не каже ридна мати.
А в другой песне говорит, что сестра его отговаривает.
Не бери, брате, дивча — без доли зросла,
Без доли зросла, без счастьтя родилася,
Вона тоби, брате, дружиною не судилася.
Чаще всего, однако, мать девицы бывает причиною разлуки, и
в одной песне, обращаясь к суровой матери, которая колотит ее
за любовь к молодцу, девица просит лучше повести ее к реке и
утопить.
Ой не бий, мати, и не лай мати, не роби каличеньки,
Завъяжи очи темной ночи, тай веди до риченьки.
А як приведет ты до риченьки, розвъяжи кари очи,
Та нехай же я та й подивлюся, з свитом Божим попрощаюся.
Или же грозит самоубийством если ее станут отдавать
насильно замуж.
Ах волю сама собе смерть зробити,
Як в богатстви з нелюбом жити...
Не дала-сь, мати, его любити,
Не буде твоя дочка в свете жити.
Преследование влюбленных доводит их до мечтательного
желанья смерти. Молодец, которому враги-соседи не дозволяют
ходить к своей милой, собирается умирать и просит свою девицу
посетить его могилу на берегу моря, но не махать рукою, когда
его станут класть в гроб, чтоб не узнали враги, что они любили
8 Заказ 15 209
друг друга и не кидать земли на гроб его, потому что под землею
тяжело
...Сусиди близкий вороги тяжкий,
Не велять ходити, дивчины любити,
А я ей люблю и з любощив возьму
И в скорости помру...
А моя могила край синего моря,
Прийди подивися, любая розмова,
Як будут в труну класти, не махай рукою:
Скажут вороженьки що я жив с тобою!
Ой як будут в гроб пускати не кидай землёю,
Бо, ты сама добре знаеш, як тяжко пид нею.
Встречается только в одной песне такая черта, что молодец,
полюбивши девицу, не решается сватать ее потому, что она бедна,
а бедная девица с презрением относится к такому искателю ее
любви.
— Ой коли б ты, дивчинонько, трошки багатенька —
То взяв бы тебе до себе до свого батенька! —
«Ой як бы ж я, козаченьку, трошки багатенька,
«Наплювала б я на тебе й на твого батенька».
Но чаще в песнях молодец, сообразно усвоенному в народе
нравственному воззрению, не думает о приданом:
Ты думает, ти любляться, що багато грошей,
Я молодый, я здоровый, ще к тому й хороший.
Буду встават я раненько, буду заробляти,
Ты не будеш, дивчинонько, ни в чим нужды знати, —
и даже с пренебрежением относится к богатым девицам,
обличая их в лени и склонности к нарядам из желания
прельщать мужчин.
Засватав я вбогу дивку, нехай багачка плаче,
Бо багачка, вража дочка, не хоче робити;
Начипляе кораликив, що б ей любити.
Начипляе кораликив на билую шию,
Люби мене ты, Семене, або ты, Василю.
В другой песне молодец, встретивши рыжую и некрасивую
девицу, которая хвалится тем, что она дочь богача и чванится
вывешенным на груди червонцем, смеется над нею.
Хоть я руда и погана
Так мий батько багач.
Чорты вбили б твого батька
3 твоим багачем,
Твои волы выздыхають
Ты погана з дукачем.
210
Есть черты, что бедная девушка не хочет выходить за богатого
из-за того, чтоб он впоследствии не пожалел и родители его не
были недовольны таким союзом их сына.
Тепер ты скажет: зиронька ясна!
А потим скажет: доленьва бессчастна.
Хоч не ты скажет, скаже твоя мати:
Було б тоби убогой не брати.
В другой песне девица бедная отвергает руку богача и с
гордостью указывает, что вместо всяких материальных богатств
дорожит своей девической честью.
Ой чи ты, багачу, з розуму зступаеш,
Ой що ты мене за присивки пытает?
В мене присивок — на городи барвинок,
В мене стижочок — на голови виночок.
ГЛАВА II
Разлука. — Тоска девушки без молодца. — Тоска молодца
в разлуке с милою. — Смерть козака при участии
девицы. — Бегство девицы с молодцем. — Девица в отсутствии
милого выходит за другого. — Потеря девической чести. —
Отношения соблазнителя к девице. — Чары. — Отравы.
Разлука любящих друг друга изображается в песнях чаще
всего по поводу отъезда молодца в чужую сторону. Это естественно
в те времена, когда козацкая служба отвлекала здоровых и
молодых людей к походам и битвам. Вот молодец отправляется в поход.
Ему не мило отрываться от своей мирной домашней среды; его
положение сравнивается с сухим (безлистным) дубом, которому
велят развиваться в морозное утро, но козак пересиливает себя.
Розвивайся, сухий дубе, завтра мороз буде!
Убирайся, гожий хлопче, завтра поход буде!
Я морозу не боюся, вранце розивьюся,
Я походу не боюся, зараз уберуся.
Девушка, которая прильнула к нему, как снег в метель
прилипает к дереву, провожает его.
Ой як тая метелиця до дерева липне,
Иван коня наповае, а Палажка хлипне.
Иван коня наповае, а Палажка плаче,
Ой куды ж ты одъезжаеш, серце козаче!
Она ведет ему и седлает коня, подает ему стрелы и лук; дает
ему в воспоминание о себе белый платок. Козак покроет им седло,
а когда платок запылится — это будет ему знаком, что девица без
него тоскует.
8* 211
Ой вывела коня, взяла, привъязала,
И вынесла сиделечко, взяла, осидлала,
Вынесла лучок и стрилочок пучок:
Отсе ж тобе, мий миленький за для билых ручок!
Вынесла хустинку, а як бель биленьку:
Отсе ж тоби, мий миленький, а про недилепьку!
Мени хустоньку в руках не носити,
За для славы козацькои сидельце покрыти
А вже хустинонька тай запылилась —
Либонь моя чорнявая тай зажурилась.
Гляну на сидельце — втишу свое серце,
Гляну на хустыну — згадаю дивчину!
Заботясь о своем милом, девица заявляет страх, что, быть
может, в чужой стороне постигнет его недуг и некому будет без
нее ухаживать за ним.
Не дай, Боже, недуги на тебе:
Хто ж ти буде постилоньку стлати...
Хто ж с тобою буде ничку розмовляти?
Молодец обнимает и целует в последний раз свою
возлюбленную, уверяет, что не забудет ее, хотя бы ему пришлось умирать
в степи. Плохо доверяя постоянству девического сердца, козак
высказывает опасение, что, быть может, оставшись без него, она
его забудет и достанется иному — богатому. Девица, с своей
стороны, уверяет возлюбленного, что будет ждать его возвращения и
никому иному не достанется. — Не одна из вас, красавиц, любила
искренно, а правды не сказала, возражает он ей.
«Прощай, серце-дивчинонько, ты моя не будеш,
Достанется багатому, та й мене забудет!»
— Не бийсь, серце-козаченьку, буду дивовати,
Не достанусь багатому, буду тебе ждати. —
«Не одна з вас, чорнявая, нам свит завъязала,
Не одна щиро любила, правды ж не сказала.
Иной перед отъездом поддается искушению переночевать
последний раз с своею милою, хотя и опасается потерять поход.
Девица обещает разбудить его рано и исполняет обещание.
«Выряжаюсь, моя мила, у велику дорогу!
— Переночуй, мий миленький, хоч цю ничку зо мною!
«Ой рад бы ж я, моя мила, и чотыри ночувати,
Та боюся, мое серце, щоб походу не втеряти.
— Ой не бийся, мий миленький, бо я рано устаю.
А ще раньше тебе, молодого, ище раньше розбужу.
Уставай же, мий миленький, уже свит биленький!
Козак уехал, догоняя своих товарищей, а девице остается
гонять на воду гусей и плакать о разлуке с милым.
Тилько систы и поехати товаришив доганять,
А я пийду, молодая, сирых гусей наповать...
Гиля, гиля, та сирый гуси, та вже ж вы наплавались,
Та вже ж мои каренькии очи та й наплакались.
212
Вырываясь из объятий своей милой, козак завещает ей, ожидая
его возврата, выбегать почаще на дорогу.
Ой перестань, дивчинонько, слизоньками умыватися.
Все козаки в поход пийшли, треба злени поспищатися.
Як будеш, дивчино, з походу сподиватися,
То выбежи в чисте поле на дороженьку.
Помнит она последние слова милого, истаптывает черевика,
выбегая на дорогу, выплакивает глаза, выглядывая своего
возлюбленного.
Вытоптала черевички, на дорогу выбегачи, •
. Выплакала чорни очи, тебе серце выглядаючи.
Она все тоскует, думает о нем каждую минуту, называет себя
сиротою без него.
Ой ты поехав, мене покинув, сироту на чужини.
Плачу, рыдаю, тя вспоминаю в кожнисеньку годину.
Многое напоминает ей прежние утехи с милым и усиливает ее
тоску.
Нема мого миленького, нема моей душки,
Ни с ким лечи выкачяти беленьки подушки.
Нема мого миленького, нема моей кветки,
Стала б его вызирати да не знаю звидки.
Иногда эта тоска разражается отчаянием, доходящим до того,
что девушка бредит самоубийством.
Лучче б було не любиться, чим тепера розлучиться.
Хиба пийду утоплгося* хоч об камень розибьюея.
Песенный мир представляет образчики скорой смерти девицы
от разлуки с милым. Козак, отъезжая в поход, спрашивает девицу:
будет ли она за ним печалиться? Она отвечает, что забудет, как
только он выедет за ворота.
Ой не буду, козаченьку, дале-би не буду,
Як выедеш за нови ворота — я тебе забуду.
Но не успел козак скрыться из вида, как девица не могла ни
спать, ни работать от тоски.
Та не взяли дивчиноньки ни сон, ни робота.
Она посылает свою сестру заворотить своего милого и сказать
ему, что его девица при смерти.
Ой вернися, козаченьку, дивчина вмирае.
213
Когда козак, возвратившись, доезжал до двора, где жила его
возлюбленная, он увидал, что ее несут хоронить.
Не доехав козаченько до новой хаты:
Несуть его дивчиноньку до гробу ховати.
Оставаясь в разлуке с предметом своей любви, девушка
подвергается большим искушениям. Ее родная мать хочет отдать ее
за богатого жениха. Дочь упорствует. Напрасно мать пытается
восстановить ее против избранного ее сердцем, —
Буде тоби, доню, буде лихая година,
Що ты сёго козаченька щиро полюбила! —
напрасно представляет ей, что с этим человеком ей будет худо,
и лучше ей полюбить богатого — девица говорит ей
решительно, что не будет так, как матери хочется, а станется так, как
желает сама дочь.
Але с власной твоей воле нечого не буде,
Бо моего миленького серце не забуде.
Не зная, где ее милый, девица посылает галку принести ей от
него весть.
Як пошлю я чорну галку на Дин рыбы ести.
Ой принеси, чорна галка, од милого вести.
Галка не замедлила доставить ей слово милого: не предавайся
тоске, ты, молодая, пойдешь замуж, а я, молодой, женюсь на тебе.
Полетела чорна галка та й не барилася,
• Та принесла таку звистку, щоб не журилася:
Не журися, дивчинонько, в тугу не вдавайся,
Ты, молодя, замиж пийдеш, а я оженюся.
Девица от такой вести ободрилась, весело стала заниматься
домашними работами. Заметила это мать и спрашивает: что-то она
улыбается? Дочь говорит ей аллегорически: — «Пей, матушка, ту
воду, что я наносила: зови, матушка, того зятем, кого я
полюбила!» — Нет, отвечает мать, не буду я пить этой воды, а начну
разливать ее! Не приму немилого себе зятя — стану разлучать его
с тобою! — Ах, матушка, —• проговорила дочь: — не разливай
воды, ведь ее тяжело носить. Не разлучай меня с милым — тебе
с ним не жить.
Мела хату, мела сини, та й засмиялася,
Выйшла мати воды брати, та й догадалася.
«Чого дочко, чого дочко, та засмиялася?
— Ой пий, мати, тую воду, що я наносила,
Шануй, мати, того зятя, що я полюбила.
214
«Ой не буду воды пити, буду розливати,
Нелюбого зятя маю, буду розлучати!
— Не розливай, мати, воды, бо тяжко носити,
Не розлучай мене з милым, тобе з ним не жити.
— Ну, смотри же, — пугает мать свою дочь: — делай
по-своему, только уже не жалуйся потом на мать свою. — «Не буду,
матушка, на тебя жаловаться; какую бы ни послал Бог мне
судьбу — стану терпеть.
Живи, доню, в свою волю, так як полюбила.
Не жалкуй на свою матир, що тебе згубила!
— Ой не буду жалковати, моя ридна мати,
Яку мени дасть Бог долю — буду горювати!»
У иной девицы рождается подозрение: а что, если в то время,
когда она за милым так плачет, он, быть может, окружен толпою
девушек и изменяет ей! Пусть же, если так, одолеет его тоска
такая, какою томится его возлюбленная, пусть изменит ему та,
которая стала ему всех милее! Пусть узнает на опыте: каково
томиться в разлуке.
Може я за ним дармо плачу...
Може вин мае девчаток громаду,
Може мене любит на яку здраду,
Най му той жаль самый и туга тая,
Щоб здрадила его котра наймилийша.
Тоще вин пизнае що то есть розлука
И жаль правдивый, на серцю мука!
Между тем, козак в чужой стороне также тоскует о своей
милой девице. Он хочет написать к ней письмо, прилить его
слезами и послать с буйными ветрами.
Чи письма писати,
До милой слати.
Напишу перами,
Та прильлю слезами
Та й пошлю витрами.
Ему хотелось бы, чтоб у него были крылья — полетел бы он
соколом во двор своей милой, а та вышла бы из хаты и произнесла
слово сожаления о том, что сокол летает одинок, без пары.
Ой коли б же я мав орловыи крыла...
То б я полинув бы, сив бы у двори:
Чи не выйде моя мила и к мени.
Аж мила выходит из чорными бровами,
Промовляе до мене из дрибными слезами:
Ой ты соколоньку прекрасный,
Який же ты у свете несчастный!
Що кожне древо на весни процвитае,
Що кожная пташка соби пару мае,
А ты, милый, в свете литаеш,
"Да й парочки собе не маеш.
215
Время идет, козак не возвращается. Девица боится, что
сбылось то, что он предрекал о своем возврате в минуты уныния:
Сподевайся мене, серденятко мое, та й у ти поры в гости,
Як пороете трава муравая та у горнице на помости.
Он где-нибудь пал в чужой стороне и его тело расклевали
птицы. Ей хотелось бы в таком случае самой собрать его
останки и похоронить.
Сороки й вороны тило поклювали,
А жовтыи кости по кущам бросали,
Ой я жовтыи кости, кости позбираю,
У тихим Дунаю кости поховаю.
В малорусской поэзии есть целая группа песен о кончине
козака, где таким или иным способом показывается присутствие
и участие девицы. Вот, например, в одной песне рассказывается,
что молодец и девица были долго в разлуке и как свиделись, то
оба заболели.
Ой як ся узрили, обое поболили.
Девица лежала в отцовской коморе, а козак в зеленой дубраве.
За девицею ухаживали домашние и давали ей есть и пить, а козак
просил дать ему хоть бы холодной воды и девица умоляла мать
послать ему пива.
Девчина лежит у батенька в комори,
Молодый козак при з'елений диброви,
Дивчиноньци та е що й ести й пити,
Молодый козак зимнои воды просить:
«Ой мати, мати, пожалуй свою дочку,
Зашли козакови пива коновочку».
Умер козак, умерла и девица, завещавши похоронить себя
вместе с козаком в одной могиле. По девице звонили колокола, над
ее телом пели попы и дьяки, а по козаку шумели леса, кричали
вороны.
А по дивчини дзвоны задзвонили,
А над козаком луга зашумили,
. А над дивчиною попы, дьяки спивають,
А над козаченьком вороны литають.
Есть песня об утонувшем молодце и о плаче по нем девицы:
песня эта очень распространена в разных вариантах не только у
малорусов, но и у других славянских народов, и у немцев. По
одним нашим вариантам, девица ожидает козака из похода и
готовит для него ужин и постель:
Як прийдещ из вечора — вечера готовенька,
Як прийдеш опивночи — постилька биленька,
216
Зажигает перед образами свечи и молит Бога, чтооы козак
благополучно- переправился через реку
Ой засвечу, на божничку восковую свичку,
Хай мой милый перебреде сю быструю ричку.
По другим ~ девица приглашает к себе молодца* по имени
Василя, и дает зарок, что если он не приедет к ней, то утонет.
Як не прийдеш обидати, прийди одвидатй,
Як не прийдеш одвидатй, то грих тоби буде,
Ой утонеш на берези, що й воды не буде!
Козак утонул,
Втонув втонув козаченъко, леш хусточка плавле,
Ходит дивчя по бережку, били ручки ламле.
Девица приглашает рыболовов вытянуть утопленника и
оплакивает его.
— Ой рыбари рыбареньки, дам вам напитися,
Ой вытягнеть Василенька хоть подивитися!
Як вытягли Василечка, вода з рота льеться,
Ходить мила по бережку як горлиця бьеться!
Не менее распространена песня о смерти и погребении козака,
которого девица ожидала к себе из похода в гости. Во многих
вариантах этот козак называется прилуцким полковником, в
иных — просто козаком.
Ждала, ждала, дожидала полковника в гости,
Ждала — ждала не диждала, сама спать лягала.
Девица чернявая-белявая ждала его и не дождалась; а потом
получила весть, что полковник захворал, находится при смерти и
желает ее видеть.
Вранци рано уставала, листы получала:
Занедужав полюбовник, прилуцький полковник,
3 недугу помирае, Дивчины полковник бажае.
Затем — умер пан полковник и не слышно более его
повелительной речи.
Умер, умер пан полковник и гризная мова.
Козаки, собравшись в раду, —
Собирались козаченьки всю раду радити, —
приговорили передать оставшегося после полковника коня
атаману, а вооружение — сотнику, чтобы похоронить полковника
с большим почетом.
217:
Атаману, коня дали, сотникови зброю,
Що б сховали полковника з большою хвальбою.
И вот везут тело умершего, ведут коня, конь склоняет голову;
за ним идет чернявая и от горести ломает себе руки. На целом
свете не найти ей такого возлюбленного.
Тило везуть, коня ведуть, кинь головку клонит,
За ним иде чорнявая, били ручки ломить.
Нехай ломить, нехай ломить, та не зломить пальця,
Весь свит сходить та не найде такого коханця. n
Есть песни, где представляется, что девица уходит против
воли родителей с козаком, которого любит. На пути козак
задремал. Его подруга не дает ему спать, предостерегает, что
за ними отправлена погоня и если их догонят, то ее возьмут,
а его убьют.
Сили спочивати, став козак дримати.
«Не дримай, козаче, не дримай зо мною,
Сам же ты знаешь — погинь за тобою!
Мене, милый, возьмуть, а тебе покинуть,
А тебе покинуть — с плич головку знимуть.
Так и случилось, как показывает окончание песни.
Ой милого коник, та не милый еде,
Милого й сидельце, та не милый-се рце..
Милого й дудочка, та не милый грае,.
Милого писенька, не милый спивае.
В песне, которую, по некоторым повторяющимся там
выражениям, можно считать вариантом предшествовавшей, пара, таким
образом убежавшая с намерением обвенчаться, превратилась в
деревья.
Пойшов козак яром, дивка долиною,
Зацвив козак рожиною, дивка калиною.
Но мы считаем не лишним указать еще на один вариант песни
о побеге молодца с девицею, где молодец погибает не от погони, а
от рук той самой девицы, которая подговорила его к побегу вместе
с собой, стоя у колодца и набирая воду.
На дубовем мости там Ганя стояла,
Там Ганя стояла, воду набирала
Воду набирала, Марка намовляла:
Ой Марку ж, мий Марку, щось маю казати,
Мандруй зо мною молодою!
На дороге, козак, именуемый в песне Марком, задремал, вдруг
девица будит его и велит ему сражаться с нею саблею.
218
Стали спочивати, став дощик накрапати,
Став дощик крапати, став Марко дримати,
«Ой Марку ж, мий ГЙарку, не дримай зо мною,
Наготуй шабельку, та й воюй зо мною».
Она победила Марка, взяла его коня, —
Марка звоювала, коня видобрала,
Коня видобрала, села, поехала, —
и поехала на нем в дом матери Марка объявить ей, что сын
ее Марко женился и взял себе в жены могилу.
А вжеж твий Марко в поли оженився,
А взяв соби панну-паняночку в поли могилочку.
В других песнях о побеге девицы вместе с козаком,
представляются лишения, каким подвергается беглянка с своим
возлюбленным. Где дом его? — В чистом поле, близ Дуная; обставлен
камышом, подперт лебедой.
В чистим полю, край Дунаю
Очеретом обставляю,
Лободою пидпираю.
На чем им вести путь? — Много лошадей в степи; коли
поймаем, то поедем, а не поймаем, пойдем пешком, —
Ой у степу коней много,
Як пиймаем так поедем,
А не пиймем — пешком пийдем, —
отвечает козак. Чем будем одеваться? — Сделаем себе жупаны
из лопуха.
Як пийдемо в долину, да вырвемо лопушину
Да пошием жупанину.
На какой постели спать? — Под бок кулак, а под голову
нагайку подложим.
Булачище пид бочище,
Нагаище в головище.
Разумеется, такие песни о побеге девицы с козаком
изображают исключительные случаи.
Обыкновенно козак отправляется на свои подвиги один, а его
девица возлюбленная остается дома. Иногда, стосковавшись по
своей милой, пытается козак у своего начальника просить
отпуска, но получает отказ. Его не увольняют прежде срока службы.
219
Аж там козак по рыночку ходить,
У гетмана выслуги ся просит:
«Пусти мене, мий пане, до дому,
Затужила дивчина за мною!»
— Не так вона як ты по ней тужиш, ■
Не пущу тя, аж року дослужит.
Если, возвратившись домой, козак находит свою
возлюбленную верною себе, то, разумеется, все кончается благополучно —
свадьбою. Рерная подруга проплакала глаза, выглядывая своего
милого. Она будит слуг, чтоб светили возвратившемуся. Он
похудел в дороге оттого, что долго не видел своей Маруси.
Все свои служеньки позбужовала:
«Встаньте, служеньки, светете свеченьки!
Най ми ся светит як в ден так в ночи,
«Най ся подивлю милому в очи:
«Чи змарнев милый по свете ходячи.
— Кто теперь наградит меня за труды? — спрашивает
козак. — Я, — отвечает ему возлюбленная, — я награжу тебя тем,
что сорок пять раз тебя поцелую и отдам тебе все, что есть для
меня милого и дорогого.
— А хто ж мене нагородит за мои труды?
— Я сама труды нагороджу:
Сорок пять раз тя поцелую,
Що любого, що милого, то те подарую.
Если же молодец ревниво бережет чувство любви к себе и
узнает, что без него девушка играла с другими, то ей это не
обойдется даром.
Хоть радий, не радий, то не буду брати;
. Було б тоби з другими не жартовати. >
Случится, что молодец, возвратившись из далекого похода,
застанет свою дорогую женою другого. Одна из таких оправдывает
себя тем, что ей сказали, будто ее милый умер, и теперь -она у
него просит прощения, говоря, что, отдавши себя иному, она будет
ему верна.
Людьская обмовонька то сь мя обманула,
Що казали, що ты вмер, я той час забула.
Прощай, мий миленький, що я учинила,
Що йншому верне послюбила.
Коли ему послюбила, мушу бути вирна,
Тильки для тебе, мий миленький, инша.
Другая в отсутствие милого своего вышла замуж по
принуждению за немилого ей человека, —
Ой там в темним лесе церковця стояла,
Там-то девчинонька без неволю шлюб брала, —
220
плача и проклиная судьбу свою.
Ой шлюбе мий, шлюбе, примушеный шлюбе,
Та ци горазд мене за тим нелюбом буде?..
Волела бы м, мати, твердый камень глрдати,
Нежли из нелюбом до шлюбу ставати.
«Для чего ж* ты не писала ко мне, когда тебя сватали?» —
спрашивает козак.
Ой як будеш ты, дивчино моя, рушники давати,
Пиши листи на билый бумази, та давай до мене знати.
— Я писала и пересылала, только мои письма не доходили:
мои карие очи исходили слезами. Меня мать отдала за того,
за кого я не хотела! Теперь шумит надо мною нагайка.
Вже ж я писала й пересылала, мои листы не доходять,
Тильки ж мои каренькии очи слизоньками изиходять.
Отдала ж мене мати, за кого я не хтила,
Щумить, гуде нагаечка коло мого тила.
— О милая моя! Дуи*а моя! — восклицает несчастный
молодец. — Я умираю оттого, что не довелось мне быть твоим
мужем, а тебе моею женою.
Милая моя, серденько моё, я вмираю за тобою,
Що не довелось мени буть чоловиком, тоби дружиною.
Тоскует молодец: все ему напоминает прежнюю любовь. Вот
родник, при котором они прежде сходились на свидание; как
голубок там в воде купался, так он женихался с своею милою.
Чи се ж тая криниченька, що голуб купався,
Чи се ж тая девчинонька, що я женихався?
Но его милую повели к венцу; у него сердце болит; не ему
досталась девица.
Досталася девчинонька людям — не мени.
— Горе, — восклицает он: — горе моим ногам, которыми я
ходил к тебе, горе моим рукам, которыми ббнимал тебя, горе
моим бровям, которыми я моргал на тебя, горе моим устам,
которые целовали тебя!" Бог бы тебя покарал за твой грех: я
любил тебя и не взял женою себе.
Шкода ж моих белых нижок що м до тя ходжав,
Шкода ж моих белых ручок щом тя обйймав,
Шкода ж моих чорных бровей що м на тя моргав,
Шкода ж моих красных у сток що м тя целував,
А за тоту провиноньку Бог бы тя скарав,
' Що я тебе верно любив, любив, та не взяв.
Встретятся они и вспомнят о прошлом. — Бог тебе помогай,
друг не суженый! — скажет рна. — Любились мы и матушка того
не знала, а теперь вот разошлись, как черные тучи! Помнишь ли,
221
как я тебя в вишневый сад водила, как там тебя ягодками угощала;
ромнишь ли, как я постель стлала, с тобою спать ложилась, одну
ручку подложивши под голову тебе, а другой обнимала тебя?
Лучше жилось тогда девицею, чем теперь замужнею.
Ой помагай Биг, ты, несуженый друже!
Да здорова, серденько, то ж любилися дуже.
Любилися, кохалися, а матуся й не знала,
А тепера розийшлися як темненька хмара.,
Яж тебе любила, в вишневый сад водила,
Ягодоньки ирвала, я ж тебе годувала,
Билу постиль постилала, с тобою спать лягала,
Одну ручку в голивоньку, а другою обнимала.
Чем ближе к нему живет его бывшая возлюбленная, тем
тяжелее его сердцу.
Не жаль бы мени, коли б в стороны,
А то через двир да й товарищ мий!
Вот она проходит с водою и посылает ему привет:
По воду йде — жалю завдае,
Из водою йде — добри-ден дае, —
и ему так становится досадно, что он готов броситься к ней
и побить у ней ведра.
Чужа, не моя, товаришова!
Через двир не иди, жалю не роби;
Бо я з того жалю видерця побью.
Она просит не делать этого и не наносить ей бесславия.
Ой милый чужий! видерця не бий!
Мени молодой славы не роби.
Тяжелее еще ему сидеть у окна и смотреть, как она идет рука
об руку с своим мужем, его соперником. Так бы вот и выскочил
он и стал допрашивать: зачем, любивши его, оставила?
Жаль в свете одному!
Сижу край виконця — моя милая ходить,
Ворог ей з боку — за рученьку водит.
Ой пийду я приближуся,
На серденьку оживлюся,
Спытаю причины
Милой дивчины:
Дивчинонька мила,
Перш мене любила,
Тепер залишила!
222
Иной молодец в таком положении думает найти утешение в
горелке, но не находит: у него около сердца словно какая-то змея
бьется.
Ой пойду я до корчомки — горелки напьюся,
Ой чого сь мене, братце, горелка не пьеться,
Бо на моем щось серденьку як гадина вьеться.
А все тое мене наробила
Милая девчина, що отдалась за багача сына!
Иной молодец, зная, что причиною разлуки мать девицы,
произносит над нею проклятие перед своею прежнею милой.
Бодай твоя мати на свете не жила,
Що нас молоденьких с тобою розлучила,
Бодай твоя мати в пекли згорила,
Що нас молоденьких на тое пидвела.
Иной, раздраженный неудачею в первой любви говорит, что
пойдет в чужой край; там поищет себе другую, безродную,
убогую, прежняя милая будет вспоминать о нем добрым словом, а он
всплакнет, когда о ней вспомнит.
А я пийду в чужий край, то там буду жити,
Ты не будеш, мила, знати, як я буду ту жити.
Знайду соби другу милу, щоб не мала роду,
Що б не було, як з тобою, жадного заводу.
Спогадаеш мене, мила, милыми словами,
А я тебе спогадаю гиркими слезами.
Иной же в досаде зарекается когда-нибудь любить девиц и
говорит, что не перестанет плакать о прежней возлюбленной.
Ой хто хоче на свете жити,
Най перестане дивчат любити,
Во то есть сгуба цилого света,
Пропали лита и житьтя трачу,
Як спогадаю — гирко заплачу.
Плакав я, плакав, плакати буду,
Поки тя, мила, в вик не забуду.
Напрасно мать его советует идти ему меж челядь и развлечься
от тоски.
«Не плач, козаче, не плач не журися,
Выйдеш за ворота, на челядь дивися».
Молодец собирается умирать, просит похоронить его прилично
в вишневом садике и пусть вся родня пирует, творя поминки о
нем.
— А вже ж мени, мати, челядь не до того,
Ой продавай, мати, коня вороного,
Поший мене, мати, льняную сорочку,
223
- Сховай мене, мати, в вишневим садочку.
Высып мени, мати, высоку могилу,
Посади в головках червону калину,
Збери, мати, всю свою родину, •
То буде родина и пити и гуляти,
Мене молодого будут споминати.
Бывало и так, что в отсутствие молодца его возлюбленную
девицу отдавали за иного замуж по воле пана и вообще высшей
власти: такое событие изображается в песнях в символическом
виде орла или сокола, разгоняющего голубей из пары и
предлагающего голубке семь других голубей на выбор, вместо того,
которого она любила и утратила. Голубка не :кочет никем заменить его
и говорит, что будет вечно горевать о своем милом, —
...Що ся не хоче вже знати з никим,
«Буду тужити поки вик виком», —
у нее такое горе, что от слез на твердых камнях останутся
знаки.
Стану плакати аж мени горе,
Хоч выпадают слёзы на каминьях,
Хоч найтвердийших — пороблять знаки.
В другой подобной песне сизокрылый орел, убивши голубя,
берет голубку не с тем, чтоб отдать ее по выбору другому голубку,
а удерживает ее для себя, сыплет ей пшеницу, старит воду, но она
не прикасается ни к чему, —
Ой де узявся сизокрыл орел,
Голуба убив, голубку влюбив,
Голубку влюбив, узяв пид полу
Узяв пид полу; принис до-дому;
Сыпле пшеници, ставит водици,
Голубка не пье, естоньки не йде, —
чувствует что она в неволе, орла не любит, —
«Ой я ж и в горе я ж у неволи,
Сизокрыл орел не до любови», —
и ходит в вишневый сад плакать о своем милом голубке.
Да все в вишнев сад плакати йде:
«Голубонько мий, коли б же ты жив,
Я б твои крыла позолотила,
Я б твои пирья пожемчужила».
Здесь очевидно изображается аллегорически насилие имею
щих власть над бедною девицею.
224
Но причиною разлуки любящихся пар изображается также
измена одного из них. Вот молодец приходит к своей милой и та
напрямик заявляет ему, что надо перестать им любить друг друга,
мать его этого не хочет.
Перестаньмо ж ся любити,
Сам ты знаеш нам з тобою не жити.
О лучше бы тебе вонзить мне в сердце нож, чем говорить такие
слова, — восклицает молодец.
Волёла ж бы ты ниж в мене вгородити,
Неж маеш мила ти слова говорити.
Этот молодец вынужден покинуть девицу потому, что его мать
произнесла такой приговор: ее материнскому чувству легче
увидать его в солдатах, нежели мужем той, на которой он
хочет жениться.
— Пийду я до неньки, буду ся пытати,
— Чи не позволить ненька тебе взяти.
«Волю ж я тя, сыну, в салдати виддатй,
Ниж я тя маю з тою дивчиною звенчати».
Раздраженный сын произносит проклятие суровости матери.
Бодай же ти, маги, так легко конати,
Як мени легко з дивчиною ся росстати.
Другой молодец заявляет своей милой, что он ее намерен
покинуть, оттого что ее родня наговаривает на него, будто он
пьяница и гуляка.
— Скажу тоби, моя мила, скажу, шо думаю:
Що я тебе, моя мила, покидати маю.
«Скажи мени, мий миленький, що то за причина,
«Чи ты мене сам не хочеш, чи твоя родина?»
— Ой я тебе и сам люблю и рид не боронить —
— Тилько рид твий все говорить, що я пью, гуляю.
Третий, полюбивши новую девицу, приходит к прежней и
говорит ей просто: тебе одна дорога, а мне иная, прощай!
«Тоби дорога, а мени шлячок битый!»
— Як же я буду без тебе, серце, жити?
«Мени дорога ривна, тоби поперечна,
Бувай здорова, моя мила сердечна!».
Иной же не объясняется вовсе, а, спознавшись с другою, идет
мимо двора прежней и дразнит ее тем, что не заходит к ней, а
проходит мимо, напевая песенку и еще говорит ей, чтоб она
обсадила вишнями двор свой, дабы к ней не заходил его голос.
225
«Ой не по правди, мий милый, живеш,
Мимо воротечки, та до иншои йдеш,
А до мене стиха голос подаеш».
— Ой обсади, мила, вишеньками двир,
Ой щоб не зайшов до тебе голос мий.
Иной без всякой по-видимому причины объявляет девице, что
тртт рр.бр. nnnvtnnp.
нашел себе получше
«Ой де ж ты, мий милый, довго забарився?»
— Ходив я по лугу, та найшов соби другу,
В червоним намисти, вона мени по мысли,
У полах мережка, та до ней утоптана стежка,
У байковий юбци, вона мени все на думци.
В одной песне богатый овчар посылает товарищей передать
девице, чтоб она его больше не любила, потому что он ей не пара,
он богат, а она бедна.
Вы молодци, молодци... накажите девочци,
Нехай мене не жде, нехай замуж иде.
Бо я вивчар нетяга, сивковая сермяга,
Сим сот овец у лузи и четверик у плузи.
Девица различно принимает к сердцу заявление молодца о
прекращении любви к ней, смотря по личному характеру. Иная
предоставляет ему поступать, как хочет, только не судить ее
промежду людей, потому что людской суд ей всего страшнее.
Яким схочеш, таким будь,
Меже людьми мя не судь;
Смерть не так страшная,
Як осуда людьская.
Другая — характера решительного и рассудительного —
говорит, что узнавши его неверность сама уже не любит его, будет
любить кого-нибудь другого, а о нем забудет.
Дотим я тебе вирно кохала,
Доким нещиристь твою дознала.
Тепер иншого буду кохати
О тоби завше запоминати.
Гордая показывает к нему презрение и невнимание.
Нехай его тыи просят, що гребли розносять,
Нехай его ти благают, що в болоти грають.
Вольно молодцу искать себе другой девицы, но и девица
найдет себе лучшего молодца, а он тогда поплачет об ней.
Шукай, шукай, парень, дивки, а я соби молодця;
Що ты будеш иты винчаться, а я буду од винця,
Покотяться дрибни слёзы с твого билого лиця.
226
Девушка язвительного характера в ответ молодцу,
извещающему, что он полюбил другую и хочет на ней жениться, говорит:
женись, желаю, чтоб неверного Бог покарал не огнем, не водою,
а лихою подругою.
Женися, женися, поможи тоби Боже!
За мою щиристь покарай тебе Боже!
Не карай, Боже, ни огнем, ни водою,
Но карай, Боже, лихою дружиною!
Иная однако, произнеся проклятие, по свойственному
добродушию тотчас опомнится, просит Бога не послушать ее
проклятия, —
Ой поехав, поехав, не звинчався зо мною,
Бодай же му коник издох, сам положив головою!
Ой не слухай, милый Боже, що я тое говорила,
Бодай мого миленького Пречистая боронила! —
и желает изменнику счастья с его новою возлюбленною.
Будь здоровый и счасливый с тою, що ю маеш,
А еднак же ты над мене щирейшои не знайдеш,
А я усе Бога прошу з вечера до ранку,
Що бы ты мав счастьтя всюда, мий милый коханку.
Она для себя хотела бы только такого зелья, которое бы
помогло ей забыть неверного, —
Як не хочеш, серце, дружиною бути
То дай мени таке зильля, що б тебе забути, —
но теперь же сознается, что такое зелье окажется бессильным
и она забудет только тогда, когда закроет глаза навеки.
Буду пити через силу и капли не пущу,
Тоди тебе я забуду, як очи заплющу.
Но вместе с тем она говорит, что если он и найдет другую с
большими достоинствами, то не найдет такой, которая любила бы
его, как прежняя.
Хочь ты знайдеш на личко билийшу,
То таки не знайдеш над мене мйлийшу...
Хоць ты знайдеш, щоб добре робила,
То таки не знайдеш, щоб тебе любила.
Тоска покинутой милым девицы составляет содержание целой
группы песен любовных. Одинокая, постелет она себе с вечера
постель, одинокая, вставши, садится у окна и видит, как ее милый
гуляет с иною; он ее целует-милует, а если бы она, прежняя,
227
осмелилась выйти и подойти к нему — он бы ее угостил прово-
лочною нагайкою, она же не была еще ни от кого битою.
Постелю билу постиль, сама спати 'ляжу, ч
Та встану раненько, та вмыю личенько,
Сяду соби край воконця та и до сходу сонця.
Та иде мий милый тихою водою,
Та за ипчою милою.
Вин ей целуе, вин ей любуе,
А на мене, мол оду, нагайку готуе.
Нагайка-дротянка, тонким дротом вита, . ;
А я молодая тце й з роду не бита.
Она разражается злостью к сопернице, дает ей эпитеты:
мерзкая, постыдная, —
Сидить стыдко з моим милым да ще й обнялася,
Ой на тобе стыдка брыдка на стан полотенця,
Да не сидизъмоим милым, не режь мого серця, —
мурая, —
Сидить мура з моим милым та й обнялися, —
(т. е. смуглянка) шельма-рязлучница.
Стоить шельма-розлучниця, з милым .обнялася.
Она готова дать этой мурой полотна на рубаху, лишь бы не
видеть ее с своим милым.
Ой на тобе, розлучнице, да ще й на сорочку,
Не стой з моим милым, з моим чернобровым в вишневем садочку.
Ой на тобе, розлучнице, да ще на рукава,
Не стой з моим милым, з моим чорнобровым, погана, лукава!
Вот так и хочется эту разлучницу ударить в щеку, —
Таки тую розлучницю по щоци урижу, —
да нельзя ее бить, когда она сидит с ее милым; —
Сидит мура з моим милым не можно ей бити, —
в запальчивости зарекается покинутая согнать ее со света и
опять сойтись с милым.
А я муру з свита сжену, з милым оженюся.
Нередко такая соперница бывает ее прежняя подруга, которой
она поверяла свои сердечные тайны и которая, сошедщись с ее
228
милым, притворяется перед нею, будто, ее милый спрашивал о
ней, своей возлюбленной.
А в козака та дви дивоньки — одна другу перепытуе:
«Чи була ты, подруженька, чи була ты на улици?
«Чи бачила, подруженько, на улици жениха мого?
— Ой бачила, не бачила, тильки трошки та постояла,
Вин важко здыхав, та про тебе пытав: чом дивчина не выходила?
Уразумевши коварство подруги, девица разражается
проклятием, выражая желание, чтоб комары выели ей глаза за полуночные
беседы с милым.
Бодай тоби, подруженько, та выели комари очи,
Щоб fbi не стояла из моим миленьким из вечора до пивночи.
Бешеная злоба обрушивается на изменника, когда она
услышит, что он смеется над нею. Не смех, — говорит она, — придет
тебе, как будешь ты трястись семь лет, лежать в постели и
просить у своей матери воды; тогда-то пожалеешь, что посмеялся над
красной девицей.
Перечула через люде — ледащо смиеться.
— Ой хоть смийся, хоть не смийся, за смих тоби буде,
— Сим год трясця труситеме, а смерти не буде:
— У постели лежатимеш, смерти бажатимеш,
— У своей ты матери воды прохатимеш:
«Ой дай мени, моя мати, водици с криници,
Насмйявся розсукин сын з красной девици.
Но несмотря на такие проклятия, несмотря ни на то, что она
хочет, чтоб тот, кто был причиною разлуки ее с милым, не видал
ясного солнца, —
Хто був причиною росстання мого,
Щоб мои слёзы упали на него,
Щоб вин не бачив сонця ясного! —
все-таки она сама перед собой сознается, что продолжает его
любить.
Не збуду смутку а ни в день, ни в ночи,
Бо я тебе люблю и любити буду.
Она считает свою судьбу погибшею, верно, мать прокляла ее
в детстве, верно, ее в церковь не носили и не вымолили у Бога
доброй доли.
Пропала моя-доля! Прокляла мене ненька,
Прокляла мене ненька як була я маленька.
Ой на Дунаю пелюшки полоскала:
«Бодай ты, доню, счастьтя-доли не мала!»
Чи ты мене мати в церкву не носила,
Чи ты мени, моя мати, доли не впросила?
229
Напрасно мать уверяет ее, что она и в церковь носила ее
маленькою и доли доброй у Бога ей просила, —
И в церкву тебе носила, Богу — молилася.
она с ропотом обращается к Богу, укоряет, зачем он допускает
спознаваться с тем, с которым не суждено сочетаться
браком, —
Ой, Боже, Боже, дав ся познати,
Коли не судиш нам ся побрати,
Ой коли судиш, чом же не злучиш,
На що ж нас, Боже, даремно мучиш! —
признает себя самою несчастнейшею в мире и думает
утопиться, —
Вже ж я бачу на сим свити, що все мени горе,
Прийдеться утопити в глибокое море!
либо идти в темный лес и отдаться лютым зверям на
растерзание.
А я пийду в темный лис: нехай мене звирь изъисть:
Ой вы звири вы лютый! Не займаете вы мене;
Розорвите мое тило и по маленьким частям,
Рознесите мои кости по рокитовым кущам,
Наберите крови моей близько серденька мого,
Понесите душу мою а до милого мого.
В песнях изображаются случаи, когда разлука происходит от
неверности девицы. Иная, на первое же объяснение в любви
молодца, —
Панно моя, люба мила,
Позволь же ми ся кохати, —
сразу обольет его холодною водою, объявивши, что не любит
его и не может своему сердцу приказать любить:
Рада бы я тя кохати,
Трудно серцю росказати.
А когда молодец, по обычной замашке влюбленных, начнет
говорить, что он убьет себя с горя, —
Ой девчино, серденько! згубиш мою душу,
Як ся з тобою не оженю, то умерти мушу, —
то девица напрямик объявляет ему, что она не будет его женою
и он должен выбить себе из головы мысль об этом:
230
Не чорней, не марней, не нуди собою,
Не будеш ты мене мужом, я тобе жоною.
Иная же девица, более живого нрава, приправит еще свой
отказ шуточным сообщением, что у ней без него найдется
таких молодцев пять', —
Умри, умри, Бог тя бери!
Есть у мене хлопцив штыри,
Есть у мене ще и пьятый
Хоць и зараз показати, —
а он ей кажется нехорошим.
Не ходи, не люби, не залпцяйся,
Не люблю, не пийду, не сподивайся,
Не ходи, не люби, не носи грошей;
Не люблю, не пийду, бо сь нехороший.
Но вот уже, когда между молодцем и девицею возникла
сердечная взаимная вязь, девица вдруг нежданно изменяется. Стал
молодец замечать, что его возлюбленная подолгу стоит на улице с
другими молодцами. Это режет ему сердце.
Не стий, мила, из иншими, не край мого серця,
Бо ты стоиш з иншим, та й думку думаеш,
Та без ножа, без тарилки, мое серце краеш.
Один, не решаясь объясниться с девицею прямо и уличать ее,
передает ей через своего товарища, чтоб она не любила двух, —
Ой, чи буде двох приймати?
Буде ей Бог карати;
Коли любиш — люби гаразд,
А не любиш — кидай зараз, —
другой, подметивши, что у девицы явился новый милый, молча
от нее хочет удалиться:
Ой ще вчора из вечора зийшов мисяц и зора,
* Ой час мени, молодому, мандровати из двора.
И когда девица заворачивает его к себе, —
Ой вернися, любе закоханьня, —
говорит, что незачем ему ворочаться, когда видел сам, стоя у
ней под окном* как она любезничала с другим молодцом.
Не вернуся, любе закоханьня, бо нема до кого,
Ой був я в тебе пид виконцем, а ты мала иншого.
231
Третий является к девице и укоряет ее, что она полюбила
другого, красивейшего.
Бо ты того любиш* що красный из твари. - „ •
Иная девица не отпирается и ссылается на Бога, который
владеет чувством — но и постоянных в любви разлучает.
Трудно занехати — я инчого маю;
Скажи мени, хлопче, що я винна с того?
А вжеж то Господь Бог и а всим тим владае,
Инший вирне кохаеться, вин их розлучае.
Другая же в таком положении начинает оправдываться тем,
что родители ее не хотят, чтоб она любила этого молодца, что
такова уж видно судьба:
Я ж тому невинна, лес тому владае:
Заказуе. ридной отець и мати не дае.
А молодец отвечает, что незачем обвинять судьбу, лучше прямо
сказать, что молодец нехорош, но и молодец найдет себе
другую возлюбленную.
На що ж, невдячнице, на лес нарикати,
Лучше скажи: нехороший — не могу кохати.
Хоць я нехороший, я на то не дбаю,
Будь здорова, моя мила, бо я иншу маю.
Один молодец, которому отказала девушка в любви, желает
достать такого зелья, чтобы забыть ее:
Бона мене одказала щобы, в ней не бути,
Дайте мене таке зильля, щобы ей забути!
А девушка говорит ему, что есть такое зелье, перекати-поле,
двое придут, поцелуют, а третий ее приголубит.
Есть у мене ище зильле — перекоти-поле,
Що два прийде — поцилуе, а третий пригорне.
Бывают приемы отказа в любви грубее: молодец стучится к
своей девице и жалуется, что его чуть не покусали злые собаки.
Девица отвечает: пусть тебя загрызут собаки; у меня сидят
молодцы покрасивее тебя.
Пидийшов я пид синечки — грукнув,
.«Ой одчини, дивчинонько, сини!
Були мене зли собаки зъили».
— Нехай тебе зли собаки едят,
Коло мене кращи тебе сидять.
232
Случается, что девица, простившись с отъезжающим молод-
цем, изменяется к нему в чувствах во время его отсутствия. Козака
известили в чужой стороне, что его возлюбленная обручилась с
другим. Козак возвратился домой и тогда стал упрекать девицу в
измене, припоминая, как она принимала от него подарки.
Взяли ковакове люде поведати
Вже девчина заручена... Девчино, девчино, зъела бы ты витра,
Я не сподевався, що ты така. хитра;
Тогде мене ты кохала,
Коли еь мои дары брала.
Тогда девица предлагает ему обратно его подарки и заявляет,
что она его-никогда не любила.
Забирай си тии дары, тии дары,
А я в дарах не ходила та й ходить не буду,
Тебе не любила и любить не буду.
В другой подобной песне молодой человек, надаривши девушке
жемчугу и кораллов, —
Ой що ж то мени за таки дарунки,
Билы перлы и корали билу шию гнули, —
посылает к ней, по народному обычаю, сватов, а сам
становится под окном ее хаты, чтобы быть незримым для других
свидетелем того, что будет происходить.
Ой пошлю я до дивчины люде,
Ой сам пийду пид виконце, що то з того буде.
Первый же прием показался ему зловещим: ворота на дворе
заперты, двери сенные на засове, а в хате темно.
Прийшли люде до ворит, ворота заперти,
3 того боку, из подвирья остроколом пидперти,
Прийшли люде до синей, сени засунени,
Прийшли люде до хаты, — в хати не видно ся.
У молодца под окном все тело трясется от страха, и видит:
сидит баба за печью, а девка на постели и кобенится; баба гонит
сватов из хаты вон, —-
Сили люде на лавках, взяли говорити,
А взялося на мени все тело тру сити,
Сидит баба на запичку та видповедае:
Идит собе, люде, з хаты, я дивки не маю, —
а девушка встает с своего места, обувается и, увидев чрез окно
молодца, кричит ему: прочь пошел.
233
Сидить' дивка на постели та ся гоноруе...
Взула ся в черевички та й по хати допче:
«Вара, вара з пид виконця, хлопче!».
Молодец говорит, что она тогда не прогоняла, когда брала
подарки, а девушка требует'у матери ключей, чтобы достать
подарки и швырнуть ему их в глаза.
«Чому ж мени, моя мила, тогди вара не сказала,
Як вид мене подарунки брала?»
— Дай же мени, моя мати, золотыи ключи:
— Най я ему кину тыи дарунки в очи!
Отвергнутый и осмеянный девицею молодец иногда также
найдет способ отнестись к ней с презрением. Так молодец,
получивший от матери девицы холодный прием, —
«Добры вечер, удивонько, дай воды напиться,
Пусти дочку на гулянки, хочу подивиться!»
— Стоить вода у синечках, коли хоч напийся,
Сидить дочка в виконечка, коли хоч дивися, —
говорит, что девица ему не нравится и он пойдет ко вдове, у
которой две светлицы, а у девицы одна бедная хатенка и сама
девица убога.
Не вподобав козак дивки, пийде до вдовици,
А в вдовици дви светлицы, а третя кимната,
А в дивчины одна хата, да й та не лрибрата.
Ой тим вона не прибрата, що стеля дубова...
Чом дивчины не сватати? Що дивка убога?
Хоть я и убога, да все-таки отецкая дочь, не для тебя, сякой-
такой, выросла.
Хоч убога, не убога, та в батька дитина,
Не для тебе, сякий сыну, мати породила.
Обменявшись такими нелюбезностями, оба разойдутся и тем
дело кончится. Есть в песнях примеры отчаяния молодца:
испытавши пренебрежение к себе от любимой девицы, которая
выпроваживает его от себя, —
Сидлай коня да едь з двора,
Бо ты не мий, я не твоя! —
молодец собирается ехать к Дунаю и броситься в воду.
Я ж доеду до Дунаю,
Да стану я подумаю.
«Вы, ангели, возьмить душу,
Ты, рыбонько, возьми тило,
Ты, риченько, ты быстрая,
Выкинь кости на сушу!»
234.
Но есть примеры и свирепой расправы козака с изменившею
ему девицею. Приезжает козак к девице и спрашивает: для кого
она устраивала и украшала свой двор. Получивши ответ, что' не
для него, а для другого, кого она полюбила, —
За для того, що вирно кохала, —
козак схватил ее за бока и утопил.
Узяв милый милу за билыи боки,
Кинув милу у Дунай глыбокий.
Есть распространенная повсюду легендарная песня о трое-
зелье, баснословном каком-то растении, в некоторых вариантах
царь-зелье; содержание ее таково: девица Марусенька захворала и
пожелала, чтобы козак достал ей трое-зелье, обещая ему за то
свою руку.
Ой хто мени трой-зильля достане.
То той мени дружиною стане.
Козак отправился за море, нашел там трое-зелье и стал его
выкапывать из земли. Вдруг закуковала кукушка и подала ему
весть, что Марусенька изменила ему и празднует свою свадьбу с
кем-то другим.
Стала зозуля кувати:
Ой не копай, козаче, трой-зильля,
Бо сегодня в Мару си весильля.
Козак немедленно возвратился и доезжая до двора встретил
свадебный поезд своей Мару си. Он приказал играть музыке, а сам
пошел танцевать с Марусею. Он схватил ее за левую руку, а в
правую взял саблю и отрубил ей голову, произнеся: вот тебе,
Маруся, и трое-зелье; не начинай без меня своей свадьбы.
Зострив вин Марусино весильля,
Звелив вин музыки заграти,
А сам пийшов з нею танцювати,
Взяв же ей у ливую руку,
А шабельку у правую руку.
Мы ж думали хмара зашумела,
А ж в Мару се головка злетела,
Отсе тоби, Маруся, трой-зильля
Не зачинай без мене весильля.
Немалочисленный отдел между любовными песнями в
малорусской народной поэзии составляют песни о потере девической
чести. И прежде бывали, и теперь есть молодцы, с эгоистическим
легкомыслием относящиеся к связям с женщинами. Такой молодец
в малорусской песне говорит о себе: хоть свет не мал, а мне в нем
не нашлось четы; я не женился и только подговариваю чужих жен.
235
Ци я несчасливый на сей свет родився?
Який свет не малый, я ще не женився!
А я ходжу та й думаю, чужи жонки пидмовляю.
За то ему и доставалось: много раз его и псами травили, и
подкарауливали, и если бы только поймали, то верно бы и убили.
Не раз стою, та й боюся,
Та як на рожне трясуся,
Не раз, не два, псами чвали,
Та ще сами заседали.
Як бы були ймили
Були бы мя вбили!
У такого молодца разом две возлюбленных: одну он обнимает
и целует, а другая обливается слезами.
Горе ж тому козаченьку, шо дви дивчины кохае.
Ще як одна та чорнявая, а другая та билявая.
А вин с тою чорнявою цилуеться, обнимаеться,
А тая биленька, що серцю миленька, слизоньками обливаеться.
- В старых козацких песнях соблазн девицы козаком
совершается нередко подговором к побегу. Козак описывает
чудеса в том краю, куда хочет увлечь девицу к побегу
вместе с собою.
Мандруй, мандруй, дивча, з нами,
В нас криници рубленый,
В( нас рики медяный,
В нас вербы грушки родять,
В нас дивки в злати ходять.
Глупая девочка послушала соблазнителя, а не вещей кукушки,
которая тогда же предостерегала ее и говорила, что она весь свет
облетала, а того, что козак рассказывает, не видала.
Подлетила зозуленька:
«Не слухай дивчинонько, ;
Бо я весь свит пролитала,
Золотых горив не видала» и пр.
Прошли две горы и вступили в третью; наступает ночь. Козак
приказал девице стлаться. Тут увидала девица, что худо. — Меня
мать не отдавала, чтобы я тебе стлала постель! — сказала она.
Мене мати не давала,
Що б я тоби постиль стлала.
Но уж было поздно. Своя воля погубила ее. Видит она: ходят
в долине девушки и рвут фиалки на венки для себя на
воскресенье. А она, бедная, уже не нужна для девического общества и
недостойна носить венка.
236
Ой там ходят дивочки,
Та збирають фиялочки,
На недилю на веночки.
Я до дивок не потребна,
Я до венка не способна-
Тогда девица написала к родителю письмо, в котором
выразила, что не нужно ей готовить венка: уже она свой венок потеряла,
по своей глупости, под зеленым явором с молодым козаком.
Най ся батько не турбуе,
Най веночка не готуе:
Ой вронила я веночок,
Чрез свий дурный розумочок:
В чистим поли, без неволи,
Пид явором зелененьким,
С козаченьком молоденьким.
Последний прием писания письма к родителям о своем
падении очень любим в народной поэзии и встречается часто. Между
прочим так: девица, потерявшая свое девство, ходит над морем и
сеет долю. Она поплывет по морю и доплывет до куста, где сорвет
листок и на нем напишет письмо к родителям, известивши их о
потере венка своего.
Ходить дивка по над морем,
Сее долю из приполу.
— Пливи, доле, за водою.
Допливемо до кущика,
Та й вырвемо по листочку,
Да спышемо по письмечку,
Пошлемо до отця, неньки,
Нехай много не турбують
И виночка не готують.
Море здесь символ безысходного горя, гибели, как везде в
народной поэзии. В другой песне козак уговорил девицу бежать с
ним, и она терпит всякие лишения. Это выражается в такой
форме: она спрашивает, что они будут постилать, когда придется
спать, —
«Що будемо постилати?»
— Ой у тебе запашина,
— А у мене сирячина, —
чем покрываться, —
«Чим будемо укрываться?»
— Як наступить чорна хмара,
То вона нас покрывае, —
чем, вставши от сна, умоются, —
237
«Ой чим будем умываться?»
— Я вмыюся росоньками,
Ты вмыешься слизоньками.
чем утрутся:
«Чим будемо утираться?»
— Ой я утрусь китайкою,
— Тебе утру нагайкою!
На все получаются ответы, показывающие ожидание
недостатков и лишений, а вдобавок еще и сурового обращения с нею.
Девушку, которую сманил с собою запорожец, он потом водил
босиком по морозу и там с нею любезничал.
Запорожец, моя мамцю, запорожець,
Вывив мене, моя мамцю, на морозець,
Став вин мене пригортати,
Стали мои били нижки примерзати.
Другую, сманивший ее козак привязывает к сосне и зажигает
дерево.
Поедем до лису, нарубаем хмызу,
Запалимо сосну з верху до низу,
А сосонка горить, а дивчина говорить:
«Хто в лиси ночуе, нехай голос чуе,
Сосна догорае, дивчина вмирае».
Обольщение девицы обыкновенно происходит на вечерницах.
Оттуда козак уводит ее в густой лес, поя зеленый явор,
символически изображающийся в песнях свидетелем горя.
Ой зрадив козак молоде дивча
На славных вечорницях:
Та завив ей в густый лисок
Пид явир зелененький.
Употребляется как средство увлечения и вино: козак напоил
девушку медом и вином и увел под белую березу, где она
лишилась невинности.
Гей поставлю я кватирочку меду,
Таки тебе з розуменьку зведу,
Гей я поставлю кватирочку, другую,
Таки тебе зведу молодую...
Ще й девчина меду не допила,
Пид березу головку склонила.
Бедная, опомнившись от своего обольщения, хотела бы иметь
крылья: полетела бы она к родителям, через леса, ломала бы
древесные ветки, залила бы слезами луга, прилетела бы к родному
двору, упала бы она на калину, а с калины перелетела бы на
238
порог родительской хаты; воспоминания о ласках отца, о любви
матери исторгают у ней потоки слез: горькая доля досталась ей в
удел.
Ой колиб я мала Орловы крыла; соловейковы очи,.
Я б полетила до свого батька темненькой ночи.
Лисом летила — гильля ламала,
Лугом летила — луги топила дрибными слезами!
Як прилетила до свого батенька, та й сила на калину,
А с калины та й сила на порози...
Як погадаю батькову щирность, обливають мене слёзы.
Я в батька росла, в матинки ся кохала,
Таки ж бо я лихий доленьци зостала.
Как все изменилось: вчера еще была она, как луговая калина,
как огородная роза — а теперь побледнела она, словно глина,
стала похожа на руту, брошенную в воду.
Вчора була як у лузи калина,
А сёгодне стала як билая глина.
Вчора була як рожонька в городи,
А тепера стала як рутонька в води.
Как такая несчастная открывается матери в своем падении —
об этом существует целая песня, повсюду распространенная.
Мать-вдова сердится на свою дочь и допрашивает ее, где она дела
свой девический венок. Не смея открыться, она говорит, что
уронила его в воду, когда белила полотно. Но когда мать сказала, что
если так, то придется собирать громаду людей, чтоб доставать
упавший в воду венок, девица открывается: ехал, говорит она,
через рощу молодой козак, снял с меня рутяной венок и пустил
его по воде, а девица осталась с бедою.
Удивонька дочку свою била:
«Де ты, доню, венчик загубила?»
— За ричкою полотно белила,
— Там я, мамцю, винчик загубила!
«Суди, Боже, недиле диждати,
Будем, доню, громаду збирати!»
— Шкода, мамцю, людей турбовати;
Волю, мамцю, всю правду сказати:
По пид гаем, гаем зелененьким,
Ехав козак гожий, молоденький;
Изняв з мене винець рутяненький!
Покотив винчик по над водою: (и др. вар. за водою)
Оставайся, дивчино, и з бидою!
О, лучше было бы — говорит девица матери в отчаянии: лучше
было бы меня похоронить маленькою: теперь бы уже мать забыла,
что у ней была когда-то давно дочь.
Ой було ж мене, мати,
Малою поховати,
Под тиею калиною,
Як була дитиною!
Ти б була б и забула,
Що в тебе дочка була.
239
Мы знаем одну только песню (впрочем распространенную во
многих вариантах), где соблазнитель сознается в своей ошибке и
желает загладить ее. Козак, находясь на службе в Польше,
получает письмо и просит пана отпустить его домой, сознаваясь, что
оставил девушку беременною.
Пусти ж мене, пане, с Полыци на Больше,
Пише дивча листы що вже мае сына.
Пан его советует отказаться и сложить вину на кого-нибудь
другого.
Можна, листы взявши та перечитавши, назад одослати,
А тую причину на иншого скласти.
Козак не соглашается и утверждает, что виною не кто-нибудь
другой, а он сам.
«Не можу я, пане, на инчих казати,
Бо моя причина, буде Бог карати!»
Козак едет к девице, находит ее больною, ласкает, целует и
уверяет, что как только она оправится, так тотчас соединится с
нею браком.
Козак приезжае — родина витае,
Козак у свителку — дивчина хоруе.
Козак за рученьку — сердешне жалуе:
«Не журись, дивчино, Господь Бог з тобою!
Як ты выдужаеш, визьму шлюб з тобою!»
Но такой козак в песнях один только и составляет исключение.
Другой еще все-таки, сам будучи богат, —
«Молодый козаче, не зражай дивчины!
Бо тая дивчина бидна сиротина!»
— А я за ту зраду сто червоных кладу, —
хочет вознаградить девушку деньгами.
Ой высыпав на стил карбованцив двисти:
Отсе ж тоби, мила, дорога спидниця.
Но чаще разгульный молодец смеется над жертвою
собственного легкомыслия, —
Будь здорова, моя чорноброва:
Я парубок, а ты бидна вдова.
А тепер же ты ни жинка ни дивка,
А тепер же ты людьска поговирка, —
над ее бесчестием, —
240
Прощай, шельмо, вже я не боюся, —
Покаюся, та ще й оженюся;
Оженюся, возьму соби дивку,
. А на тебе, шельмо, надинуть намитку, —
над ее слезами, —
Плакала, рыдала, слезы утирала,
Русою косою, биндою голубою, правою рукою, —,
да еще хвастает своим подвигом, надеясь еще обмануть десять
таких девиц:
Любив я тя, здрадив я тя, я й сам то знаю,
Хоць я тебе едну здражу, то я десять маю.
Нет удержу вдовиному сыну — поется в одной песне: свел с
ума чужое дитя, сам садится под явором, играет на скрипке и
приговаривает: прощай, прощай, моя приятная беседа! Уж я не
твой, а ты не моя!
Нема впину вдовиному сыну,
Що звив з ума чужую дитину,
Сидить соби на скрипочку грае:
— Будь здорова, любая розмова,
Вже я не твий, ты не моя!
Есть песня, где подобный гуляка* встречая в слезах свою
прежнюю любовницу, им обольщенную, приглашает ее в
насмешку к себе на свадьбу пировать.
За густыми лозоньками,
Плаче дивка слизоньками.
Не плач, мила, не журися;
Ще я молод, не женився:
Ой як буду женитися,
Прийди, серце, дивитися.
Последствием потери девической чести естественно бывает
появление незаконнорожденных детей. Тут положение девицы
становится крайне унизительным и невыносимым, особенно когда на
нее наложат наметку — убор замужней женщины, покроют ей
голову, так как, по народному мировоззрению, девушке,
потерявшей честь, уже не дозволительно ходить с открытыми волосами и
с лентами в косах. Она с этих пор называется покрыткою и
достигнуть такого положения считается, а в старь, еще более чем
теперь, считалось большим срамом. Пока девушка не родила
ребенка, ей возможно утаивать от света свое падение, но тогда уже
скрываться нельзя: надобно показаться покрыткою, чего все
девушки очень боятся. Но молодца-соблазнителя не слишком
огорчала судьба его любовницы с ее порождением. Девица, качая дитя,
9 Заказ 15 241
плачет, а козак смеется над нею, седлая коня, чтобы улепетнуть
подальше от ее упреков и ропота.
Там у лузи при долини
Колыхала дивчина дви дитины,
Колыхала и плакала:
«Чого я, моцный Боже, дождала!»
А вин стоить, ничого не мовить,
Осидлавши коня, смишки строить.
Или:
Плаче дивчина, дитину гойдаючи,
Смиеться козак, коника сидлаючи.
Она требует, чтобы он взял ребенка, иначе грозит кинуть его
под коня.
. Ой на тоби, козаче, дитину,
Бо далебо пуд коника пудкину!
Если козак ей прежде давал подарки, то припомнит их в
такую минуту.
У мила дивчина подарочки брати,
Умий дитину колыхати.
Есть песня, где девушка приносит козаку его дитя и угрожает
закинуть в крапиву, а сама она пойдет на Украину, где ее не
знают и где будут признавать ее за непорочную девицу.
Дивчина з олыыины выходить,
И на ручках дитину выносить.
«Ой на тоби, козаче, дитину,
Як не возьмеш, на межи покину,
Я дитину в кропиву у кину,
Сама пийду у свит на Вкраину,
Та не будуть мене люди знати. .
Будуть мене дивчиною звати».
В другой песне, очень распространенной повсюду в различных
вариантах, козак предлагает такой девушке одно за другим —•
овец, коров, кадь масла, кадь сыра и т. п. с тем, чтобы она
кормила ребенка и не показывала бы на него, а на кого-нибудь
иного — хоть бы на старого деда. Девушка не соглашается^-и
козак должен был все-таки, приплатившись ей, взять на сдое
попечение ребенка, хотя жалуется, что ему за то набьют палками
спину.
Ой там козак дрибны листы пише,
И ногою дитину колише:
Люли, лкши, муй сынку,
Дадут мени сто палок на спинку. ,
242
По последним чертам можно догадываться, что этот козак —
запорожец, так как запорожцев за незаконное сожитие с девушкой
наказывали палками.
В одном варианте этой песни является еще третье лицо — мать
козака, которая загоняет его с сенокоса, где он видался с
девушкою, называемою в этом варианте Марийкою. Мать остерегает его,
что эта Марийка (только что перед тем приносившая к нему на
сенокос ребенка) заберет у него все его достояние. Козак отвечает,
что если и так станется — пусть пропадет его достояние, а он ни
за что не обвенчается с Марийкою.
«Ой сыну Василю, иди ж ты до дому,
Забере Марийка всю твою худобу!»
— Нехай забирае, худобу добуду,
А таки венчатись з Мариею не буду!
В другой песне подобного содержания покинутая девушка с
•ребенком сидит на постели в коморе, клянет свое легкомыслие, —
Що б я була матусеньки слухала,
Була бы я дивонькою гуляла.
Не слуха лам ни матинки, ни отця,
Послухала козаченька — подлеця.
В коморонци кроватонька тисова,
На кроватоньци периночка пухова,
На периночци дивчинонька молода,
Билой ручкой дитя мале взяла, —
и, увидев через окно своего соблазнителя, который гарцует на
коне, обращается к нему с упреком за его к ней невнимание.
Ей посылается насмешливый ответ.
Ой гляну я в новую кватирку,
Десь мий милый на конику выграе,
До мене а ни оком не выгляне.
«Що ж ты, милый, думаеш-гадаеш,
Що до моий кватирочки и не поглядаеш?»
—' Ой я тебе думаю-гадаю,
Що до тебе оком не вгляну!
Девушка разражается отчаянным возгласом: теперь мне хоть
из моста в воду, а уже не войти членом в свою семью
«Тепер мени хоць з мосту та в воду,
А вже ж мени не признаться до роду».
Но козак на это не посмотрит: много ночей провел он без сна,
соблазняя молоденькую девицу; теперь поедет он куда-то прочь, а
девушка пусть трубит себе в кулак.
Не спав ничку, не спав другую,
Извивши з розума дивчину молодую.
А тепер осидлаю коня вороного,
Та й поеду из двора нового.
Тепер, дивчино, затруби соби в кулак,
Що звив з розуму молоденький козак.
9* 243
Останется она живым укором для матерей, чтоб не пускали
своих дочек по ночам и научали бы их не любить Козаков и не
верить их словам, подобным пене на море, —
Ой сусиды ггане-маточки, навчайте свои дочки,
Що б по ночам не ходили, козаченькив не любили...
И вироньки не доймали и правдоньки не казали...
У козака вира, як на мори пена, —
а своим сверстницам девицам послужит она своим
наставительным примером:
Вы, девчата, мои голубочки, не диймайте коза,кам веры,
Я молода веры диймала, тепер же я на веки пропала.
Есть песня, где соблазняет девушку лях с своими
товарищами-земляками. Они увезли ее из родительского дома в Киев, но
мать, спохватившись, что дочери нет, послала в погоню сыновей,
которые догнали сестру в Полтаве и требовали, чтоб она отдала
им на расправу своего ляха и ехала бы с ними к матери.
Що ты, сестро, наробила,
Нашу матер опечалила.
Бона тебе проклинае,
Сама з туги помирае.
Ой велела тобе мати
Недоверка покидати.
Мы тебе к собе приймаем,
А ляшка твого зрубаем.
Девушка умоляла их пощадить ляха, но они не послушали ее,
изрубили ляха и забрали все богатство, какое было с ним.
Що хочете вы робите
Тильки ляшка не рубите.
Братьтя Гали не слуха ли,
Сребло злато все побрали
И ляшенька порубали.
• По всему надобно считать вариантом этой песни и подобную
галицкую песню, где описывается, как сманили девицу не ляхи,
а прямо молодцы, называемые даже козаками. Мать посылает в
погоню сыновей, которые умертвили соблазнителя сестры своей
медленным изрублением, с приговорами: вот тебе за подговор! Вот
тебе за сестру нашу! Вот тебе конец.
Скоро вни го забачили,
Ручку ножку му одтяли,
Як го втяли коло пальця:
«На ж ти, Ясю, намовляньця!» ,
Як го втяли коло пасу:
«На ж ти, Ясю, сестру нашу»
Як го втяли коло шии:
«Наш ти, Ясё, юж не жие!»
244
Стыд, как последствие потери девической чести, приводит
иногда к трагическим событиям детоубийства. В песнях
встречаются эти черты, хотя не в большом количестве. Есть
повсюду распространенная песня о ковалевой дочери
Катерине, песня тем заметная, что одно и то же собственное имя
везде удерживается, тогда как большею частью собственные
имена в песнях видоизменяются. Дочь коваля Катерина
родила сына, тайно утопила его в колодце и обращается к
буйному ветру, чтоб он нанес тучу, из тучи полился бы
дождь и залил все тропинки, чтобы люди не ходили к
колодцу и не будили ее сына. Ее преступление было известно
отцу, так как в песне говорится вначале, что коваль (кузнец)
не работает от тоски.
Ой ты ковалю коваленьку,
Чом ты не куеш рано-пораненьку?
Ой да нихто того горя не знае,
Що коваленька журба обнимае.
Ой Ковалева дочка Катерина
Вона соби сына породила,
В глыбоким колодязи потопила,
Да за ворота право выходила,
3 буйным ветром говорила:
Да повий ветре буйненький,
Да нажени хмарку чорнесеньку,
Да спусти дожчик дрибнесенький,
Да замый стежки й дорожки,
Щоб туды люде не ходили,
3 колодязя воды не носили,
Що б мого сына не будили (в др. вар. не ворушили),
Що б мого серця не сушили.
В другой песне единственная дочь вдовы (вдовы единиця)
родила дитя. Виновник этого козак дает ей корову и червонцы с тем,
чтоб она кормила ребенка.
Ой гуляла единиця рик як годину,
Выгуляла единиця маленьку дитину,
Сидить козак в конце стола, дрибны листы пише,
А вдовина единиця дитину колите.
Ой дам тоби, единице, корову рябую
Годуй, годуй, единице, дитину малую.
Ой дам тоби, единице, червонця на страву,
Годуй, годуй, единице, козацькую славу.
Но когда козак пошел в корчму пить — единица вдовина
понесла топить дитя свое.
Иде козак до корчмы пита,
А вдовина единиця дитину топитй.
Есть у нас еще одна песня об Оленочке, которую в Харькове
ведут в тюрьму за детоубийство, —
245
У городе, у Харькове задзвонили дзвоны,
Що б усе люди, усе паны до церкви ишли
А все люди, усе паны до церкви идут
Молодую Оленочку до турми ведуть.
За нею йде стара мати, все плаче й рыдае... —
и она провожающей ее матери дает совет не пускать на
вечерницы других своих4 дочерей.
Есть у тебе, стара мати, да ще дочек пьять:
Не пускай их на вечернице — нехай дома сплять.
Бо на вечерницах хатка маленька, а все доле сплять,
Биля кажнои дивчиноньки женихев по пьять.
В малорусской любовной поэзии немаловажную роль играют
чары. Народное верование приписывает тайную силу, сообщаемую
чародейством зельям и другим предметам и действующую на
человеческий организм, большею частью зловредно. Отрава всегда
однозначительна с чарами. Женщина, занимающаяся собиранием
трав й знающая их волшебное свойство, называется чаровницею.
Иногда такая чаровница — старуха, иногда же молодая девушка,
употребляющая свое знание таинственных сил над тем, с которым
находится в любовных отношениях. В песнях, преимущественно с
чарами является девица, иногда с целью приворожить молодца, но
чаще с целью отомстить за измену, и в последнем случае чары
выражаются отравою. Самый невинный способ чарования —-
прикрытие следа милого человека: это делается с целью, чтоб его не
полюбили другие особы женского пола, а он бы всецело
принадлежал той, которую полюбил прежде.
Пийду я в лисочок, вырву я листочок,
Я покрыю свого миленького слидочок,
Що б витер не звияв, пташки не склювали,
Що б мого милого инши не сприяли.
В другой песне берут песок из-под ног молодца и производят
над ним чародейственные приемы, чтобы привязать молодца к
девушке.
Брала писок с пид моих нижок, мене чарувати.
В одной песне рассказывается, что козак, бывший в чужой
стороне, возвращается к семье своей, — ,,.,
Есть у мене жинка и маленьки дити, — 7
но случайно встречается с девицею, которая полюбила его и
причаровала, -—
Молода дивчина козака любила
Любила, любила, та й причарувала,
245
с тем, чтобы он уже не ездил к своей семье, а остался бы
навсегда с нею. Скрывая от него свой умысел и видя, что он
торопится к любимой семье, она снаряжает его к отъезду из
ее жилища и подает ему поужинать наскоро хлеба и рыбы.
Та вынесла рыбку ще й хлеба скибку:
Отсе тоби, серденько, вечеря на швидку.
Тут-то и были подданы козаку чары. Он хотел бы к своей жене
и деткам на крыльях лететь, —
Ой рад бы я, серденько, на крылах летити, —
а она ему говорит: далеко к ним на крыльях лететь; оставай-
ся-ко со мною ночевать.
Далеко, далеко крылами летати,
Зоставайся, серденько, зо мною ночувати.
Козак не устоял против искушения, и потом девушка говорит
ему, что теперь уже не летать ему к семье своей, а придется здесь
коротать свой век, и здесь найти козацкую смерть.
Вже тобе, серденько; до их не летати,
Вже тобе, серденько, тут век коротати,
Кучерявым чубом степ устелати,
Своим белым телом ворон годувати,
Жовтою костью мосты вымощати,
Червоною кровью моря доповняти.
Но в песнях главная сила очарования приписывается женской
красоте, так что собственно чародейственные снадобья только как
бы помогают этой естественной силе. В той же песне козак
говорит, что он полетел бы к семье своей, да девица прижгла ему
душу — не огнем, не водою,.а своею красою.
Полетев бы да не мушу,
Припалила девчина душу,
Ой чи огнем, чи водою, чи своею хорошою вродою?
Не огнем, не водою, а своею хорошою вродою.
Так и в другой песне, где девушка очаровывает молодца
выбиранием следа из-под ног его, он говорит ей: ну, очаровывай,
коли так пришлось, когда я полюбил твое белое лицо и черные
брови.
Чаруй, чаруй, молода дивчино, коли довелоея,
Коли твое та биле личко з моим понялося,
Коли ж твои та чорни брови
Прийшлись до любови.
247
Ту же мысль встречаем в одной очень распространенной
песне. Девица, покинутая молодцом, нашла в лесу чародейственный
корень, выкопала и стала варить, но еще не успел вскипеть этот
корень, как уже прилетел козак. Зачем же прилетел, когда не
захотея любить? — спрашивает девица. Как же мне не летать,
когда умеешь чаровать? — сказал молодец. О, есть у меня чары —
белое лицо и черные брови! — отвечала девица.
А ще корин не скипив,
А вже козак ;прилетив.
«Ой чого ж ты прилетив,
Коли любить не схотив?»
— Як же мене не литати
Боли вмиеш чарувати? —
«Ой е в мене чароньки:
Биле личко, бровоньки!»
Употребляются чары не только для того, чтобы приворотить
молодца к девице, но также и с целью отворотить от нее. Так в
одной песне козак, встречая девицу с водою в ведрах, просит
напиться, а она ему отвечает, что мать не велела давать этой воды;
как* принесет она ее домой — примутся чародействовать, а как он
придет к ним вечером, так ему опутают чарами руки, ноги и
глаза, чтоб он не ходил к другой девице и не любил других.
Там дивчина воду несла, коромысло гнеться.
«Дай, дивчино, воды пити, бо серденько бьеться».
— Не казала мени мати сей воды дати,
Як прийдеш у вечери, будем чарувати:
Очаруем руки, ноги и чорныи очи,
Що б не ходив до иншои темненькой ночи.
Бодай тебе, козаченько, ворота прибили,
Що бы тебе писля мене инши не любили...
В другой песне, которая, кажется, измененный по содержанию
вариант предыдущей, несущая воду девица отвечает козаку, что
она опутает его чарами для того, чтоб он к ней не ходил более и
молодец укоряет ее, что прежде ласкали его, а теперь не хотят уже
его видеть, потому что появились другие молодцы.
— Ой дай мила, ой дай мила з видра воды пити,
— Ой чи яж перестану за тобой тужити! —
«Не дам, не дам з ведра воды, не казала мати,
Прийди, прийди сам з вечира, буду чарувати.
Обчарую руки ноги, обчарую очи
Щоб до мене не ходили темненькой ночи».
— Перше-сь мене голубила сама-сь ми мовила,
Тепер хочеш що бы-сь мене бильше не видила,
Як узяли бильше людей к тоби прибувати,
А ты мене, молодого, взяла чарувати.
Опутанный чарами молодец подвергается тоске. Он просит
свою мать положить ему за пазуху руку, не станет ли ему оттого
248
лучше на сердце. Мать отвечает: не поможет тебе и рука моя, что
тебе наделала злодейка девица.
«Ой ты, стара нене, та сядь коло мене,
Заклади ручину та й за пазушину,
Чи не полегчае моему серденьку?»'
— Вже тоби не поможе и моя ручина,
Бо щось учинила та превража дивчина.
Мать узнает, что девица чаровала над песком, взятым из-под
его ног, и поила его водой из зеленого брода.
«А то тоби, мий сыночку, дивчина наробила,
Брала писок з пид билых ног та вычарувала,
Брала воду з зеленого броду, тебе наповала!»
Сама девица сознается, что творила чары и что ей известно
такое зелье, что когда он напьется, те сразу полюбит.
«Чи ты мени зильля дала у горильци спити,
Що я тебе так узявся вирненько любити?»
— Ой яж тоби, мий миленький, зильля не давала,
Слидок брала, к серцю клала, що вирно кохала.
Есть у мене таке зильля, биля перелазу
Як дам тоби напитися* полюбиш од разу.
Существом, занимающимся чародейством, считается цыганка,
и в народном воззрении и в песнях. Молодец просит у ней такого
средства, чтобы девица вступила с ним в супружество и цыганка
стрижет коню гриву, для того, чтобы девицу полюбила вся семья
(вероятно, молодца).
«Цыганочко-вороженько вчини мою волю,
Чи не стане дивчинонька дошлюбу зо мною».
Цыганочка-вороженька волю учинила —
Сивому кониченьку гриву у стригла,
Бодай тебе, дивчинонько, вся семья любила!
В другой песне, очень похожей по складу на первую, девица
прибегает к цыганке с просьбою причаровать к ней молодца.
Цыганочко-вороженько вчини мою волю,
Очаруй ты козаченъка, що б вин жив зо мною...
По одному варианту цыганка, отрезавши у коня часть гривы,
обкуривала девицу, —
Увирвала да с коня гривы, дивчину курила, —
и это произвело такбе действие, что козак стал убиваться за
этой девицей, —
Молоденький козаченько, як рыбонька бьеться,
Молодая дивчинонька з козаченька смиеться, —
249
по другому варианту, цыганка, отрезавши часть русой косы
девицы, напоила ее с коварною целью, чтоб ее не любила ни
челядь на улице, ни родная мать, которая не пускала бы ее
на улицу.
Уризала русой косы, ии напоила
Що б ей молодой челядь не любила;
Не так челядь, як ридная мати,
Не пускае на улицю меж челядь гуляш.
Вечерницы изображаются опасным местом, где чаровницы
наносят вред молодцам своими чарами.
Не иди, сынку, на вечерници,
Де дивчата чаривници,
Держать чары на полици.
Есть очень распространенная песня о Грице, которого девица
зазвала к себе на вечерницы.
«Ой ты, Грицю, дорогий кришталю,
Чи ты не знаеш, де я мишкаю?
Моя хатина близько криници
Прийди до мене на вечериици!»
В песне описывается целая неделя, когда совершается
преступление. В воскресенье, понедельник и вторник приготовляется
отрава, —
В недилю рано зильля копала, —
В понедилок рано зильля пополоскала,
В вивторок рано — зильля варила, —
в среду Гриць отравлен, —
В середу рано Гриця отру ил а., —
в четверг он умер, —
Прийшов четверг — вже Гриць помер, —
а в пятницу его схоронили
Прийшла пьятниця — поховали Гриця.
В субботу мать чаровницы допрашивает ее, за что она свела
со света Гриця, и получает ответ, за то, что Гриць любил двух
девиц, а не одну ее.
В су боту рано мати дочку била:
На що ты, суко, Гриця отруила?
Ох мати, мати, жаль ваги не мае,
Нехай Грицуне нас двох не кохае.
25U
В другой песне ядовитое зелье, которым отравляет девица
молодца, называется «кохан-зельля», т. е. любовное зелье.
Дала дивчинонька казакови кохан-зильля спити,
Що б ему молодому на свити не жити.
Девица подает молодцу отраву то в стакане с медом, —
Соби меду наварю та й у гости позову,
Козаченька молодого на ослинци посажу,
Стакан меду пиднесу, зло-кориньням отрую, —
то в пироге, —
Прийшов Василь до дивчины, тай сив на порозе,
Бона ему дала чары в пшеничным пирози:
В едним рази у пирози шавлия и рута,
В другим рази у пирози проклята отрута
Гадиночка люта, —
то в перепелке, сжаренной в масле:
Ой пислав я до дивчины Насти,
Дала вона мени перепилку в масли.
Ой иззив же я но крыльце и реберце,
Пидперло мене пид груди, пид серце.
В пятой песне, носящей печать влияния великорусского
пошиба, отравленного молодца хоронят, за гробом его с плачем идут
родители, а злодейка стоит у своих ворот и насмехается.
3 вечора удалый молодчик все пив и гуляв,
А к пивночи удалий молодчик Богу душу отдав.
А у недилю в обидню годину везуть хоронить,
За ним иде отець, — ненька розбиваеться,
Стоит шельма на новых воротах — насмихаеться.
В одной галицкой песне отравленный девицею молодец,
чувствуя скорую смерть, просит мать не преследовать отравительницу,
чтобы она его не проклинала, потому что ему тогда будет трудно
умирать.
Як ме дала склянку вина, треба умирати,
Не позывай, моя мати, богацькую дочку,
Богацькая девчинонька буде проклинати,
Буде мне молодому тяжко умирати.
Отрава не всегда влечет после себя скорую смерть. Мать с
дочерью грозят молодцу, что его постигнет такая беда, что он будет
сохнуть-увядать, семь лет лежать в постели и желать смерти, а
смерти ему долго не будет.
Изосохнеш, изовьянеш як рожева кветка,
2SI
У постели лежатимеш смерти бажатимеш,
У своей матусеньки воды прохатимеш.
Сем лет трясця труситеме, а смерти не буде.
Подобно тому в одной песне, молодец, любивший разом трех
девиц, был одною из них отравлен и, хотя не умер сразу, но не
мог от бессилья ни пахать, ни косить, —
Не здужаю, брате, на воли гукати
Не здужаю, брате, косы волочити, —
ни молотить, —
Не здужаю, брате, ципа поднимати, —
и помышлял только о смерти.
На що ж мени, мати, людей старых ськати,
Треба ж мени, мати, заступа, лопаты,
Дубовой хаты, глыбокои ямы.
Это то, что в народном веровании называется «даваньня».
Малороссияне верят, что чародейки находят средства нагнать на
человека тоску, упадок сил и, не причиняя сразу смерти, медленно
уничтожать его телесный организм.
Обыкновенно в песнях представляется, что девица отравляет
молодца из мщения за неверность, но есть песня, где по наущению
молодца, девица отравляет своего брата. Это песня о Сербине.
Девушка говорит молодцу, чтоб он ее сватал, а молодец Сербии
отвечает, что боится ее брата, и если бы она отравила своего
брата, тогда он бы ее сватал.
Ой Сербине, Сербиночку!
Возьми мене дивчиночку!
Взяв бы я тебе небого,
Як счаруеш брата свого.
Девица говорит, что умершие ее родители не научили ее
чародействовать.
А вмер батько, вмерла мати,
Не навчила чарувати.
Тогда Сербии научает ее, как достать змеиного яда.
Ой у лисе на ялини
Ой там висить три гадины,
На гадину сонце пече,
А з гадины ропа тече.
Пидстав, дивча, коновочку
Пид гадючу головочку.
252
В другом варианте вместо Сербина искусителем является
армянин, —
Там вармяне пасли кони,
Пасли ж вони попасали,
Дивчиноньку пидмовляли:
«Мандруй, мандруй дивчя з нами,
3 молодыми вармянами:
— Ой рада б я мандрувати,
— Коли буде мий брат знати.
«Счаруй, дивча, брата свого,
«Иди за мене молодого!», —
а в иных — просто козак.
Ой, козаче, козаченьку
Сватай мене молоденьку.
Девушка к приезду возвращающегося брата наварила пива,
подкинула туда яда и поднесла брату, как только он подъехал к
ее порогу.
Брат приехав з дароньками,
Сестра к брату з чароньками,
«Ой на, брате, сего пива,
Що я вчора наробила».
Як брат пива да й напився,
По конику покотився.
— Що се, сестро, да й за пиво,
Коло серця заварило!
Во многих вариантах фабула оканчивается тем, что
искуситель не женился на преступнице, опасаясь, чтоб- она с ним не
сделала того же, что с братом.
«Ой Сербине, Сербиночку,
Бери мене дивчиночку,
В же ся не бий брата мого,
Строила м го рожоного».
— Не возьму тя, дивчинонько,
Строила сь ты брата свого,
Брата свого рожоного,
Строиш й мене молодого.
Она вышла за нищего и носила за ним мешок с
выпрошенными кусками хлеба, претерпевая подчас от него побои.
Пишла девка за жебрана,
Жебран ходит хлиба просить,
А дивчина торбы носить.
Жебран хлиба що выпросить, то все в торбу,
А дивчину та все в морду.
В варианте галицком выхода в замужество за нищего — нет.
253
Хотя обыкновенно отравительницами в песнях являются
девушки, но видно, что чародейская наука из поколений в поколения
переходит от старых к молодым, и девицы научаются
чародейственным тайнам от женщин-вдов. В одной песне молодец,
невзлюбивши девушки и предпочитая ей вдовицу, говорит, что у вдовицы
стоят на полке приготовленные чародейственные снадобья.
А в вдовици дви свитлици гарни вечерныци,
Стоят чары завъязани в горшку на полици.
В другой песне говорится о трех бабах-чаровницах: из них
одна околдовывала коров (занятие ведьм, по народным
верованиям, портить чужих коров), другая занимается тем, что
расстраивает домашнее житье-бытье, а третья — разлучает девиц с их
милыми.
Ой пийду я на воду — там коло броду,
Там три бабы чаривници набирають воду,
Една бабонька чаривниченька що коровы чаруе,
Друга бабонька чаривниченька що мишканьнячко псуе;
Третя бабонька чаривниченька шо з чорными очима,
Ой тая мене з моим миленьким та и розлучила.
В одной песне указывается на верование, что есть возможность
чародейственным способом устроить на пути преграду между
желающими видаться. Девица говорит своему милому, что ей нет
возможности ни придти к нему, ни поговорить с ним, потому что
тропинка опутана чарами.
Ой горами, мий милый, горами
Перепъята стежка чарами,
А ни прийти, а ни перейти,
Ни с тобою говорити.
Молодец говорит, что когда он поедет на своем коне, тогда
чары потеряют свою силу: вороной конь через них перескочит.
Тогди будеш, мила, говорити,
Як я буду коником ездити.
Тогди горы розийдуться, .
Тогди чары розильлються.
254
ГЛАВА III
Свадьба
Сватовство. — Сговор или заручины. — Суббота. — Гиль-
це. — Коровай. — Девич-вечер. — Расплетание косы. —
Венчание. — Приезд жениха за невестою. —- Игра в
войну. — Брат невесты. — Подарки. — Ужин у невесты. —
Отъезд новобрачных из дома невесты. — Комора. —
Перезва.
Свадьба — эпоха полного расцвета молодости, эпоха высшего
торжества в скромной жизни поселянина, редко выдвигающейся
за пределы однообразного домашнего быта. Свадьба — время
самое веселое, на всю остальную жизнь незабвенное, оно в
малорусской речи даже носит нарицательное имя веселья (весильля).
Некоторые привыкли думать, что вообще в мужицком быту нет
обоюдного выбора в браке и господствует авторитет старших и
насилие. Ошибаются, если полагают, что такое существует во всей
жизни малорусской. Принудительные браки по воле старших, так
часто совершаемые у великоруссов, у малоруссов бывают реже.
Супружества зачинаются чаще всего по взаимному желанию
жениха и невесты, и это вполне естественно там, где существуют
улицы, вечерницы и досветки; все это на тот конец и сложилось,
чтобы молодежь обоих полов знакомилась и сближалась между
собою. Обыкновенно молодец женится на такой девушке, которую
знал уже давно на улицах и вечерницах, а часто на такой, с
которою целый год перед тем или долее женихался и даже
ложился спать вместе. Если такие расходятся и не оканчивают браком
своей любви, то по исключительным каким-нибудь
обстоятельствам.
Когда молодец примет твердое намерение вступить в
супружеский союз, он объявляет об этом родителям. Как смотрят старые
люди в этом случае на брак — показывает песня: сын спрашивает
матери: какую девушку ему сватать. Мать дает совет не сватать
такой, которая выставляется с своими нарядами, а сватать такую,
которая умеет дело делать, а об этом расспрашивать людей.
«Чи ту, мамо, сватать, що головка гладка?»
— Сватай, сынку, й людей пытай, чи метена хатка. —
«Чи ту, мамо, сватать, що намистечко висить?»
— Сватай, сынку, й людей пытай, чи дижу замисыть! —
«Чи ту, мамо, сватать, що дрибненько ходыть?»
— Сватай, сынку, й людей пытай, чи дилечко робить!
Сын говорит, что такая именно у него есть в виду и просит
родительского благословения.
«Робить вона дило, да все хорошенько:
Благослови ж ты, нас, Боже, и ты, матусенька!»
255
Родители жениха переговорят с родителями невесты,
согласятся, условятся, выпьют на радостях горелки и тут вся суть дела.
Устраивается свадьба. Это — народная полу языческая литургия со
множеством крупных и мелких символических приемов,
сопровождаемых исключительно к ним принадлежащими припевками и
песнями. Весь этот обиход, все приемы, обряды, символические
вещественные предметы, песни, припевки, аллегорические речи,
движения — все это сохраняется в народе, как дань уважения к
старине, доходящего во многом до суеверия. На всем лежит
отпечаток седой, можно сказать, доисторической старины. Но на этой
первичной почве видны наслоения последовавших эпох народной
истории. Вообще свадебный малорусский ритуал остается
неизменно одинаковым в своих главных чертах на всем пространстве,
заселенном малорусским племенем, но в подробностях
видоизменяется, не утрачивая нигде своего основного смысла. Вся свадьба
или свадебное действо разделяется на три главные части: сговор
или заручины, девич-вечер и брачное торжество, происходящее в
день венчания. Каждая из этих частей в свою очередь
подразделяется, а в заключении, уже после совершения брачного
торжества, происходит эпилог, так называемая перезва.
Сговор состоит вначале из посещения жениха с толпою своей
родни и с избранными сватами, играющими роль как бы
посредников. Получивши первое согласие, через день или на другой день
происходят заручины или рукодайни. Сваты, по обряду, проводят
речь о князе, который отправившись на охоту, гонялся за куницею
или лисицею. Зверь забежал в этот двор и они затем зашли сюда,
чтобы достать его. Князь-жених в это время.стоить в сенях за
дверьми. Здесь очевидно след звероловного быта. В других
местностях сваты представляют вид, что от них ушла телушка и они
хотят добыть ее к своему бычку. Здесь является уже признак
другого быта, который проходил народ — быта пастушеского.
Хозяева говорят гостям, что они, верно, худые люди, разбойники, и
надобно их перевязать. Это и делается: всех гостей перевязывают
платками и (рушниками) полотенцами. Тогда гости предлагают
окуп. Здесь также следы того давнего времени, когда захожего
иноземца, как чужого человека старались при возможности
обобрать, посягали на его свободу и заставляли откупаться от неволи.
В первое посещение жениха со сватами, невеста обыкновенно
прячется за печь или убегает в сени, где стоит жених, а потом,
возвратившись вместе с ним в хату или сошедши с печи, дает
согласие. Во второе посещение в значении окупа от жениха
предлагается водка и кроме того подарки невесте (сапоги, рубаха и^
разные лакомства). Родители невесты ставят на стоя закуску.
Жениха и невесту заставляют кланяться родителям невесты, а те их,
благословляют хлебом, соединенным из двух слепленных хлебов и
пучком ржи из снопов, заранее приготовленных и расставленных *
по четырем углам хаты. Тогда заранее приглашенные составлять
свадебный поезд невесты начинают запевать свадебные песни*
принадлежащие по обряду именно к этой части свадебного
ритуала. Жениха и невесту сажают на почетное место (на пакуте) в
256
углу под образами, около них садятся гости — обок жениха сваха
и его родители, близь невесты, которую сажают на левую сторону
от жениха — ее дружки, т. е. девицы, составляющие свадебный
персонал невесты1.
Из множества песен; принадлежащих этой части обряда, мы
укажем на более .характеристические. Так в одной песне поется*
что невеста из нескольких претендентов избрала одного, жениха
своего. Трое старост приходило ее сватать; одним она просто
отказала, других угощала, третьим руку подала и подарила по
полотенцу, а жениху (имя-рек) платочек.
Ой прислалося до дивки Маруськи трое етаростив разом:
Первый прийшли — у присинечки ввийшли.
Другыи прийшли — в синечки ввийшли.
Третий прийшли — в свитилоньку ввийшли.
Що в присинечках — тих частовала,
Що в синечках — тим одказала;
Що у свитилоньки — тим ручку давала,
Ще й по рушничку, молодому (имя-рек) хусточку.
Или:
Первый сваты — пид сеньми киньми.
А други сваты в синечки ввийшли,
А третий сваты в свйтилочку ввийшли.
Пид синьми-киньми — хусточку дала,
А що в синечках — перстнечок дала,
А що в свитлоньце — сама молода.
В другой — жених сравнивается с соколом, который ищет себе
черную галку: так и молодец прибыл из чужой стороны, сел за
столом и поглядывает на девиц: все веселы, одна невеста печальна
и плачет.
Налынув сокол из чужих сторон —
Ой прглядае по всех галоньках...
Его галонька найчорнийшая.
Наехав Ивашко из чужих сел,
Ой сив соби в тестя за столом,
И поглядае по всих дивоньках:
Ой вси дивоньки веселеньки,
Его Маруся смутненька сидыть.
1 В дельном и ученом исследовании Харьковского университета
профессора Н. Ф Сумцова, стр. 9—35, о свадебных обрядах,
преимущественно русских, очень удовлетворительно изложены
исторические фазисы прежних эпох народной жизни, как они
выражаются до сих пор в -уцелевших приемах свадебного ритуала,
начиная с первобытного грубого умыканья и кончая более культурными
формами сделок и договоров, под формою купли и продажи невесты.
Это, по нашему убеждению, самое лучшее, до чего дрработалась наша
наука по вопросу об историческом значении свадебного ритуала.
257
Ей жаль своего девичества, не знает она, будут ли ее руки так
белы, как были они у родного батюшки.
Одвидала б чужу сторону.
Не так сторону, не так чужу — як чужого батенька.
Чи вин добрый, чи добровирный,
Як мий ридный?
Или:
Била моя рученька да у батенька,
Чи буде билиша у свекорка.
Она садила у себя сад-виноград, забыла затворить ворота.
Наедет молодец с боярами, вытопчет виноград. Не жалей, говорят
ей, виноградного цвета, жалей о молодых летах: виноградные
цветы обновятся, а молодые лета твои не вернутся.
Забула воротечки зачинити...
Як прииде Иван с боярами,
То вытопче сад-виноград кониками.
— Ой не жалуй, моя доню, Виноградовых квит,
Тилько жалуй, моя доню, молодых лит,
Виновыи левиты обновляться,
Лита твои молодыи не вернуться.
Особенно отличаются глубиною чувства и живостью
поэтических образов песни, которые в этот период свадебной пьесы
поются сироте-невесте. Отвори, Боже, ворота — поется — идет
сирота на посад. Ноет ее сердце, будто ножом его режут: нет у
ней родного батюшки. Господь встречает ее со счастливою долею,
дарует ей добрую семью.
Одчиняй, Боже, ворота:
Иде на посад сирота.
Ные серденько, як ножем крае,
Що батенька не мае.
Стричае ей Господь сам
Из долею счастливою,
Из доброю родыною.
Сирота хотела бы послать соловья и кукушку за родными, но
соловей не возвращается с неба и отец не приходить из рая, а
родных нет из Украины.
Пошлю зозуленьку на Вкраиноньку
По свою родиноньку;
А соловейка выще неба,
Бо мени батенька треба.
Ни соловья з саду, ни батенька з раю,
Ни родыны з Украины.
258
Здесь, как нам кажется, отпечатались те времена, когда
происходили народные переселения на слободы, и много было оставт
шихся в малороссийском крае, лишившихся своих родных,
выселившихся с родины.
Девич-вечер — второй акт свадебного действа. В народной
жизни он обыкновенно бывает в субботу, накануне венчания,
которое почти всегда назначается на воскресенье. Есть две
вещественные символические принадлежности этого субботнего дня:
гильце или вильце и коровай. Гильце —• это ветвь, обыкновенно
сосновая, разубранная цветами, лентами, цветными бумажками,
колосьями, ягодами и пр.; летом или весною употребляют на
гильце ветвь калиновую, вишневую, яблонную, черемушную, иногда в
полном цвету. Но так как большею частью браки совершаются
зимою, то употребление сосновой ветви на гильце представляется
уже как бы неизменным правилом, о чем намекается в песнях.
До бору, старосты, до бору,
Рубайте сосну здорову,
Рубайте сосенку-деревце —
Молодий Маруси на гильце.
Ветвь эту втыкают в хлеб и ставят в таком виде на конце
стола, противоположном тому, который подходит к образному
углу, а сверху ветвь эту подвязывают шнурочком, зацепленным за
гвоздь, воткнутый в потолок. Эта ветвь, украшаемая и вставляемая
на столе с приличными обрядами и песнями, имеет символическое
значение брачного венка, а потому-то говорится: не ставить
гильце, а вить гильце, и притом самое гильце в некоторых вариантах
одной и той же песни заменяется словом барвинковый венок.
Благослови, Боже, и отець и мати,
Своему дитяти гилечко (барвинковый винок) звити.
В других песнях оно неоднократно называется прямо венком.
Благослови, Боже,
Пречиста Госпоже,
Сей виночок звити!..
Ой мы вильце вили,
Да мы меду не пили.
Оно делается в честь как новобрачной, которая называется
княгинею, так и в честь новобрачного, именуемого на обрядном
языке князем.
3 чого мы будем князеви винець плести?
Ой е в городи хрещатый барвинок,
3 того мы будем князеви винець плести
Собственно нормально символическое дерево для гильця, как
видно из песен, есть калина, которая всегда и повсюду в песенном
мире есть символ выходящей в замужество женщины.
259
Як Марусе гильце вили,
То вси лужечки выходили,
Чорвону калину выламали,
Так мы Маруси гильце звили.
Хотя обыкновенно гильце зимою делается из ели или сосны, —
Коли б я знала, коли б я ведала, що елечко буде, —
но как бы в намять того, что настоящим деревом для этого
предмета должна быть калина, —
То б я послала свого батенька да в луг цо калину, —
все деревцо сосновое или еловое сверху донизу унизывается
калиновыми ягодами вместе с символическими травами
барвинком и васильком.
Гильце деревце з ялины
Из червонои калины,
Из хрещатого барвенку,
Из пахнющога васильку;
Гильце деревце — ялина,
Вид верху до споду калина.
Барвинок, как символ любви, противопоставляется руте и мяте,
символам девственности: невеста изображается подходящею к
окну хаты в ю время, когда в этой хате вьют ее гильце, и
она говорит дружкам: мне вейте из барвинка, а себе из руты
и мяты.
Коло свитлоньки, коло новой,
Там Маруся объезжае,
В оконечко заглядае.
Там дивочки гилечко вьють.
Вийте, дивочки, соби й мени,
Соби звийте з руты, з мъяты,
Мени звийте з барвиночку.
В песнях убранство гильця — колосья, —
Пив стога вивса высмыкали,
Закиль свое гильлячко вбрали.
вишня, —
Да вси ж мы сады выходили,
Да вси ж мы вишеньки выгледили,
Одну вишеньку злюбили,
Да^й той вершок зломили.
перья из птиц:
260
Летел шрностай по-над став,
Пускав пирьячко на весь став;
Збирайте пирьячко до пирця
Молодому до гильця.
По окончании приготовления гильця, невеста испрашивает у
родителей благословения идти с дружками по селу и зазывать
гостей на свадьбу.
Благослови, Боже, и отець, и мати,
Своему дитяти на село выхожати.
По выражению песни, матушка, родившая дочь-невесту,
оградила ее месяцем, опоясала солнцем и снарядила в село.
Месяцем обгородила,
Сонячком пидперезала,
На село выряжала.
Во время хождения по селу дружки, сопровождающие невесту,
беспрестанно поют принадлежащие к этому обряду песни.
Подступая к воротам то того, то другого двора, они в песнях
приглашают обметать дворы, застилать столы и встречать радушно
невесту и дружек.
Обмитайте дворы,
Застилайте столы,
Идуть к вам дружечки!
Невеста ведет с собою дружек, как утка утят.
Утинька йде,
Утенята за собою веде;
Да не утка се йде —
То Маръечка йде, соби дружечок веде!
В одной из песен, какие поются во время этого хождения
по селу, изображается, что невеста утопала, звала к себе
на помощь, но к ней не подоспели ни родители, ни братья,
ни сестры, а подоспел и спас ее молодец, за которого она
выходит замуж.
А батенька -
— та на бережку,
А матенка
Е човничок и веселечко:
«Потопай, мое сердечко!»
А Ивась та на бережечку,
Е човничок и веселечко:
Не потопай, мое сердечко!
Но высказывается также сожаление вступающей в брак о
минувших днях девичества: не примут ее в свой круг веселые девицы
в венках и лентах,
261
Як же мени дай не плакати,
Що дивочки гуляють,
Стричечками мають,
А мене не приймають.
Напрасно будут цвести в ее саде розы, барвинок, василек; ей
уже не вить из них себе венка и не мять в руках пахучего
василька.
Вже роженька процвитае,
Хрещатый барвиночек
Встилае садочок,
А запашный василёчок
3 тыном ривняеться.
— Еже ж мени з теи рожоньки
Виночка не носить,
И запашного василёчка
В рученьки не въялить!
Жалко ей и отцовского двора; обошла она все дворы, а как
вернулась и подошла к родительскому, то стало ей грустно.
Молода Маруся вси дворы обходила,
Но нигде слёзы не вронила,
А як прийшла на батькив двир,
То стала, подумала, жалибно заплакала:
«Ой дворе мий, дворе, яке тоби горе;
Не так дворонькови, як своему батенькови».
Во время хождения невесты по селу, которое иногда
продолжается весь день до вечера, происходит в ее доме, как и у жениха,
приготовление короваев. Это старинный обряд — приготовлять и
печь свадебный хлеб, называемый коровай. Обычай этот был, как
кажется, в древности повсеместен у славянских народов. По
крайней мере в оставшихся описаниях свадеб московских государей и
близких к ним лиц всегда упоминаются коровай. Один коровай
жениха, другой — невесты. Эти коровай носились вместе со
.свечами во всех церемониях, приносились в храм во время венчания,
а потом неслись в сенник, приготовленный для брачного ложа. На
свадьбе великого князя Василия Ивановича коровай убирался
двадцатью семью пенязями, а при свадьбе царя Алексея
Михайловича коровай покрыты были: женихов — золотным турским
бархатом, а царицын — золотным атласом; на покровах было нашито
27 пенязей позолоченных. Также точно и в описании свадьбы
вообще великоруссов XVII века, сохранившемся'у Котошихина,
мы видим, что коровай или свадебный хлеб составлял
неотъемлемую вещественную принадлежность свадебного ритуала.
У малорусского народа коровай считается важным и
необходимым, хотя время приготовления его различно: иногда ранее в
пятницу, иногда же утром в воскресенье, но чаще всего в субботу,
в то время как невеста ходит с дружками по селу.
262
Коровай приготовляют (бгають по народному выражению, что
буквально значит заламывают) непременно замужние женщины,
которых Мать невесты для этой цели приглашает, —
Марусина мати по сусидоньци ходить
Сусид своих просить:
Да сусидоньки мои, прибудте к мени,
Да до моей хаты, до мого дитяти,
Короваю бгати, —
и отец жениха представляется делающим для своего сына то
же:
Ивашков татко по юлоньци ходить,
По юлоньци ходить, сусид своих просить,
Не к соби, к дитяти, короваю бгати.
Они просят коровайниц приготовить коровай ясный как месяц.
Та злипить коровай красный, як мисяць ясный!
Коровайницы, явившись к делу, прежде всего желают выпить
горелки.
На Бога ж вы гляньте, та нам горилки дайте.
Коровай должен быть приготовлен из такой пшеницы, которая
уже семь лет стояла в стоге, —
Що в нашем короваю семилитня пшениця, —
а по другому варианту из пшеницы, взятой из семи стогов, —
3 семи стогив пшениця, —
и на воде непременно родниковой, —
Як мы коровай мисили —
3 дунаю воду носили... .
А дунай же к нам промовляв:
Да не берить водици з дунаю,
а наберить водици з криныци.
— по" одному варианту из трех, —
Из трех криниць водиця, —
по другому из семи родников, —
3 семи криниц водиця, —
263
и разубран калиною.
Мовила; говорила червона калина:
Не подоба моя у лузи стояти,
Але подоба моя у коровае сияти.
Или:
Пийдемо до речки калины ламати,
Коровай убирати.
В другой песне, кроме пшеничной муки и родниковой воды, к
короваю считаются нужными масло из молодых коров, яйца из
молодых кур и прозрачная соль.
Ой короваю, короваю,
Мени до тебе кошту треба:
Корець муки пшеничной,
Цебер воды криничнои,
Хваску масла яровых коров,
Копу яець молодых курей,
Гарнець соли ледовой...
Тесто коровая должно так подойти вверх, чтоб быть выше того,
как высоко стояла пшеница, из которой делался коровай, когда
находилась на ниве в снопах и на гумне в стоге.
Густая буйная (пшениця) на ныви,
Частый снопочки на жныви,
Да высоки стоги на гумни,
Выщий наш коровай на столи.
Мать невесты должна подать коровайницам родниковой воды,
чтоб они помыли себе руки перед почином работы.
Марусина мати нехай прийде,
Нехай принесе з криныци водици;
Нехай помыють коровайнички ручки.
Приступают к работе с песнями, в которых призывается
содействие Бога и святых его.
Поможи Боже, Пречиста Мати,
В тым дому на тисовым столу коровай бгати. ,v-
Илй:
Сам Бог коровай мисыть,
Пречистая свитыть,
Анголи воду носять,
Господа Бога просять.
Кроме калиновых ветвей с ягодами, которые вместе
представляются цветущими над тою коморою, где приготовляют
коровай, —
264
Зацвила калина не литом — зимою, над тею коморою
Де коровай вбирають, хорошенько спивають, —
убранство коровая составляют вишни, виноград, —
Свиты, мисяченьку, ясною зорою
Де коровай убирають; вишни як черешни,
Винный ягодоньки, райськии пташоньки,
Де коровай убирають, хорошенько спивають, —
птичьи перышки, —
Летев горностай через сад,
Пустив пирьячко на весь сад:
Ходем, сестрици, зберем
Да хорошенько коровай уберем.
и червонцы, —
Мы ж були коровайнички,
Мы вмили коровай пекти
Около окильцями
В середине червинцями, —
которые действительно клались в царских короваях, а у
малорусов остаются только в песнях, на деле заменяясь копейками.
Коровайницы разрисовывают коровай узорами с изображениями
звездочек и птичек.
В нас хорощинськи (из села Хорощанки) жиночки
Хороше коровай гафтують:
До коло зороньками,
Райскими пташечками.
Они хотят заказать кузнецу особую кочергу для выгребания
золы из печи и особую лопату для посадки в печь своего
коровая, —
Ходим до коваля,
Щоб нам сковав кочергу,
Щоб нам пичку выгребти.
Рано мы, рано ходим до коваля,
Щоб нам сковав лопату
Да широку як лаву,
Спечем коровай на славу, —
да еще меч, которым бы можно было прорубить в печи
отверстие, через которое вставить коровай и дать ему испечься
и выйти из печи в комору.
Да скуй мени, коваленьку, гострый меч,
Да й прорубаю зверху печ,
Щоб наш коровай спужався,
3 печки на вечко собрався,
3 вечком у комору сховався.
265
Проси Бога, Марусенька, поется с обращением к невесте —
проси Бога, чтоб твой коровай вышел прекрасен, как божий день,
как солнышко, что на нас смотрит через окно.
Проси Бога, Марусенько, щоб Бог дав,
Щоб ти ся коровай вдав:
Як ден билый, як Бог милый,
Як яснее сонечко, що светить в виконечко.
Перед посадкою в печь коровая испрашивается благословение
старост, —
«Старосто, пане пидстаросто, благословить коровай у пич посадить!»
— Бог благословить! (отвечает староста).
Потом приглашают двух молодцов, из которых один в пест,
называется кудрявым (кучерявым), а другой богатым, первого
выметать печь, а второго сажать туда коровай.
Кучерявый печ выметае,
А багатый сажае.
Посадивши таким образом коровай в печь1, коровайницы
поднимают трижды квашню, ударяют ей о перекладину потолка,
целуются между собою, обращаясь к печи с просьбой спечь
хорошенько коровай.
Пече ж наша, пече!
Спечи нам коровай с гречи.
Вспоминается и сосна, которая должна гореть, когда будет
печься коровай.
Пич стоит на сохах,
Дижу носят на руках.
Поцилуймося, помилуймося,
Хто кому рад.
* Описание коровая у Чубинского: «Обыкновенная форма коровая —
большой хлеб, но иногда приготовляют его и другим способом. Берут
корж, посыпают его овсом, сверху кладут копейку или больше» (что
заменяет червонцы, о которых поется). «На этот корж накладывают одна
на другую семь паляниц (хлебов пшеничных) и на верхней делают
изображения месяца, а вокруг его располагают пять шишек, обводят
каймой» — это называется пидперезать коровай. «В большую^
находящуюся по середине коровая шишку, втыкают пять слепленных
вместе свечей (восковых) или обтыкают ими вокруг коровай, зажигают
их и вместе с короваем сажают в- печь. Кроме коровая, делают «верч»
(очень похож на коровай): шишки — пшеничные, булочки, снизу
обведенные каймой из теста, а сверху донизу две такие же каймы,
прекращающиеся по середине, где приделывается кусок теста наподобие
сосновой шишки. Две большие шишки красят суриком: они назначаются
для молодых, которые ходят с ними приглашать на свадьбу».
266
Да рубайте сосну здорову,
Да трощите ей на дризки,
Да кладите ей на загнит...
Славный наш коровай на ввесь свит.
Пока коровай печется, коровайницы угощаются горелкою,
которую сами у хозяев выпрашивают:
Мали сваненьки працю,
Замисили муки, мацю,
А вы ся догадайте,
Горилки им дайте!
Или:
Почни, свате, бочку,
Що стоит у куточку,
Поки тебе, короваю, впечемо,
Тебе, бочечко, виточемо.
Подтрунивают друг над другом, и дурачатся.
Губатая вчиняла, горбатая сажала,
Хорошая, румяная у пич заглядала.
Или:
Котра месила — щоб трясця трусила.
Ой де ж тая пийшла,
Що в пич коровай несла?
Сила на рог печи
Коровая стеречи,
Щоб хлопци не вкрали
И за Дунай не задали.
Наконец приходит пора вынимать из печи коровай, и это
делается с обрядною торжественностью.
Час тоби, короваю,
3 кахлевои печи
На дубове вико.
Вынувши из печи коровай, кладут его на крышку от квашни,
покрытую скатертью сверх положенного под-исподь слоя соло-
мъН ставят на столе:
> '" Славляно да прославляно,
< Да на столи поставляио.
На столи-престоли
Славен наш коровай стоить!
Затем уносят на голове в назначенную хозяйкою для хранения
комору.
267
Обицялася мати нам комороньку дата,
Де коровай сховати.
Неся коровай, продолжают величать его в песнях.
Ой Бог нам. дав — коровай нам ся вдав,
Як месяченько, як ясное соненько.
Вийся, короваю, ище высчий вид гаю"*,
Як душенька в раю, як рыбонька по Дунаю.
Тем и кончается обряд приготовления коровая, который
отправляется точно таким же образом и у жениха.
По возвращении невесты с дружками с прогулки по селу,
отправляется девичь-вечер. Невесту сажают на посад, на
почетное место в углу под образами, на котором тогда
простирают тулуп, заменяющий соболей, которые играли
такую роль в старинных свадьбах царей и вельмож московских.
В песнях воображается город с четырьмя стенами, из которых
три каменные, четвертая — золотая; на стене маковка, где
ласточка себе гнездо свила и выплодила двое деток, эти
детки — жених и невеста.
Славный город, да девич-вечер;
Хороше зряжен, та не так зряжен, як обсажен;
Славно ж его збудовано,
На три стины камьяныи,
А четверту золотую.
На тий стини макивочка,
На макивочце ластивочка,
Звила гнездечко з черного шовку
А червоным обвила.
Вывела дитки однолитки:
Перше дитятко роженее,
Другее дитятко суженее.
Роженее — то (имя-рек нев. или жениха)
Суженее — то (имя-рек другого).
Во всех оконцах этого города — ангел Божий, а на дверях сам
Господь стоит и раздает долю.
Ой славен, славен Марусин посад!
По всих виконцях янголи сидять.
Янголи сидять, доленьку судять,
А над дверми сам Господь стоить,
Книжочку читае доленьку роздае.
Родитель невесты стоит со всею роднёю, и все любуются ею.
Села Мариня на посаженьку
Як на роженци квитка, 1- "' -
Ей батенько, ей ридненький,
Не може ся на нюю надивити'.
«Оглянься назад себе,
Стоить родинонька коло тебе,
Склонися, Марисенько, низенько,
«Щоб було родиноньце жалибненько».
268
В песне заставляют невесту кланяться отцу. Он прослезился:
она пойдет из родительского дома и -забудет родителя.
Кланяйся, Марися, старому й малому и батеньку свому.
Бо юж билыие не будеш, а о батеньку забудет.
Теперь она прекрасна, но когда пойдет прочь — исчезнет
красота лица ее.
«Ой мий батеньку, мий голубоньку!
Чи довго я буду такая?»
— Будеш, дитятко, будеш,
Як у мене будеш,
А як пийдеш вид мене —
Спаде красота с тебе,
3 личенька румяного,
Зо стану панянського.
Если невеста сирота, ей приходится кланяться чужим,
названым родителям:
«Кому ж ты ся кланяеш,
Коли батька (или матери) не маеш?»
— Поклонюся чужому,
Буде ми ся видило, що свому.
За то ангелы, сидя на яворе, заботятся о ней, собираются
полететь и посмотреть, как плачет сирота, сидя на посаде.
В лиси на явори сидило два анголи
Сидячи говорили:
Полыньмо, полыньмо, брате, до той сиротоньки,г
Сядем, та послухаем, як сиротонька плаче,
До стола припадае, що батенька не мае.
В песне она представляется взывающею к умершему родителю
или родительнице с приглашением прибыть к ней и подать ей
совет. Умершее лицо отвечает, что это невозможно, потому что
насыпанная земля не пускает встать.
_ г - моя матенько
Приоудь, прибудь мийбатенько тепер и к мене,
Ой дай мене порадоньку, бедний сироте!
Ой рада б я, дитя мое, прибути к тобе,
Склепилися каре очи и уста мои.
Или:
рад бы
Ой -* — я встати к своему дитяти,
рада бы
Сырая земля двери залягла,
Виконця заслонила,
Жовтый песочок залег носочок,
Нельзя продохнути.
269
Душа умершего пред Богом и просит отпустить ее посмотреть
на свое дитя, сидящее на пооаде.
Марусина мати _
., г т да перед Богом стоить,
Марусин батько *
Господа Бога просить:
Та пусти мене, Боже, та з неба на землю,
Да до моей хаты, до мого дитяти
Нехай я подивлюся на свое дитяточко
Чи хороше да наряжена,
Чи в добрый час посажене?
Невесте нельзя сидеть одной, без жениха. Как месяц хочет
взойти разом со звездою, осветить небо и землю, возвеселить и
зверя в поле, и путника в дороге, так и невеста не хочет сидеть
одна, а хочет сесть вместе со своим суженым и возвеселить разом
два рода.
Слала зоря до мисяця:
Ой мисяцю, мий товарищу!
Не зиходь ты раний мене;
Изийдемо обое разом,
Освитемо небо и землю!
Зрадуеться звир у поли,
Звир у поли, гисть у дорози.
Слала Маруся до Ивасечка:
Ой Ивасе, мий суженый,
Не сидай на посаду раний мене.
Обсядемо обое разом,
Звеселимо два двора разом.
Время проходит в пении свадебных песен и в танцах до
прибытия жениха, которого, как князя, сопровождают названые бояре
и музыканты. Дружко взводит на посад князя. Начинается обряд
пришивания цветочной кисти (кветки) к шапке жениха. Жених
входит в хату и садится на посад не иначе как в шапке. Старшая
дружка — лицо важное в свадебном женском персонале стороны
невесты — снимает с головы жениха шапку и прикалывает к ней
«кветку», отколовши у невесты. Дружба (иначе дружко) или
старший боярин, надевает на жениха свою шапку на время, чтобы
жених вовсе не оставался с открытой головою. Поются при этом
полушуточного содержания песни. Пришивалка изломала золотую
иголку и поколола себе руку.
Золотую голочку зломила,
А свою ручечку сколола.
Она именует себя швеею, нарочно приехавшею из Львова,
требует заплатить себе за работу и выкупить шапку, —
Я швачка з Ильвова,
Приихала позавчера,
Привезла голку
И ниточку шовку, —
Квиточку пришивати
И по таляру брати, —
270
надевает эту шапку себе на голову, вскакивает на лаву и поет,
что она теперь — козак, красивее, чем жених, и продолжает
требовать выкупа шапки.
Ой глянь, зятеньку, на мене
Красчий я козак од тебе.
Дружко и жених предлагают ей сумму, она говорит, что
мало, —
Маните не маните —
Шостака не кладите!
Як купкою брязнеш —
Тоди шличок возьмеш!
Посягни в кишеню,
Выйми грошей жменю,
Посыпь на тарели, —
и шутка в песнях превращается в издевки над скупостью и
нищенством жениха и его дружины.
Ой казали люде: зять багатый,
Ой казали люде: грошей мих!
Кладе копийку як на смих!
Убоги, бояре, убоги:
Сим лит по смитьтях ходили,
Черепки збирали,
Да сваей за квитки давали.
Наконец, сделка как будто состоится, и старшая дружка
снимает с головы шапку и кладет на голову жениху. Во все это время
и после того гости танцуют в сопровождении пения песен, в
которых отражаются следы старинного военного быта. В
поэтическом образе представляется, что бояре, танцуя, навели облако
своими жупанами, пустили дождь стрелами 'и произвели сияние
саблями.
Где бояре танцювалю,
Наробили хмарно жупанами,
И спустили дожчик стрелочками,
Наробили ясно шабельками,
Идет разгул: танцы и пение, и углы и лавки — все движется.
пн.., Бийтеся кутки, лавки!
До запичнои бабки!
А вы ся догадайте,
Нам вечеряты дайте!
Настает время ужинать. Невеста с благословения
родителей, —
Благослови Боже, и отець и мати,
Своему дитяти цей рид частувати, —
должна просить гостей, чтоб они были веселы, как весенние
птички.
Проси своих гостей
Щоб вони ели й пили,
И веселеньки були,
Як птичка на весни.
Все садятся ужинать, начинается попойка.
Брязнули да ложечками
Срибными тарилочками,
, Марусина челядь
.Сидае вечерять.
Стань, батенько, проти мене,
Та напийся до мене,
3 повною повночкою,
3 счастливою долечкою.
Поется о разных снедях, составляющих ужин: о капусте, —
Ежте, бояре, капусту,
Наша капуста не пуста, —
похлебке, —
Ежте, бояре, юшку,
Да тягайте петрушку.
У нас юшка горшками,
А петрушка грядками, —
горохе, —
Ой гороше, гороше, сияно тебе хороше, —
каше, —
На Бога гляньте, нам каши дайте! —
жареном мясе, —
На Бога вы гляньте, нам печени дайте! —
которое, разрезывать должен дружба, —
Наш дружбонько чорнобривый,
Не жаль ему дати печеню покраяти! —
борще, —
Добрая господьшя добрый борщ зварила, —-
пряностях, —. ••,*,. .,
272
Же нам готують ести:
Курочку печеную, юшейку перченую,
Чй з перцем, чи не с перцем,
Абы було с щирым серцем, —
пирогах, —
Повидала нам ворона:
— Повна пирогив комора.
А мы поти не пийдемо,
Поки всих не поемо, —
о вине, —
Два голубойки гниздо вьють,
Наши бояри вино пьють, —
горелке и пиве,
Тече горелка з потока,
А мы поти не пийдемо,
Поки всей не выпъемо.
Поведала нам синыця:
— Повная пива пивныця,
А мы поти не поедемо,
Поки всей не выпъемо, —
ко всему соответствующие припевки. При этом допускаются
разные насмешки над боярами, —
Ели бояре юшку да вкрали галушку,
Да в мех, да в рукавици
Девчатам на вечерници, —
дружбою или дружком, —
Крае дружбонька крае,
Дружкам пид стол дае,
За пазуху ховае,
3 пазухи в кишеню
Светильци на вечерю.
светилкою, —
Светилочка пани, вечеряй з нами!
Не велила мати рота раззявляти:
Великий зубы висять через губы, —
над старшею дружкою и вообще над всеми свадебными гость-
ми, уличают их в жадности и обжорстве, —
10 Заказ 15 273
Наша дружка пид сволок, зъела калачив сорок,
Най ся нихто не прогнивить, най ся здорова живить.
Ели бояре, ели, целого вола зъели,
На столе ни кришечки, пид столом ни кисточки.
Только новобрачные изъяты от издевок над ними. Невесте
поется только, что она должна сказать, что будет почитать свекра и
свекровь как родителей.
«Не сиди„ Марусю, розмышляйся,
Чим свого свекорка называть будеш?»
— Назову я свекорка ридным бат,еньком;
«Чим свою свекруху называть будещ?»
— Назову свекруху ридною матинкою.
В одной галицкой песне жених говорит, что ей нечего
уже будет бояться отца, а грозою для ней станет он, ее
будущий муж.
Ой не бийся батенька свого,
Ой бийся мене та й молодого:
Батенько гроза, як литняя роса,
А моя гроза гирше лютого мороза."
После ужина староста выводит новобрачных и гостей,
погулять и потанцевать на дворе.
Ведемо Марьечку з застильля,
На яснее, на краснее подвирья.
Наш староста чорнобровый
Да выведи нас з хаты
На двир погуляти....
На двир танцювати.
В песнях от лица всех выражается благодарность хозяевам за
хлебосольство.
Встаньте, дружечки, встаньте
Честь Богу хвалу дайте...
Потим отцю и матинци,
За хлиб поставленный
За силь положену.
Встаньте, бояре, встаньте
Шапочки поздиймайте и подякуйте.
На другой день после девич-вечера, обыкновенно, в день
воскресный, происходит третий акт свадебной трилогии. Первый
обряд у невесты — расплетание косы ее, совершаемое, холостым
братом ее в кругу подруг невесты, ее дружек свадебных; в
некоторых местностях этот обряд совершается позже, уже после
венчания. Дружки расчесывают невесте косу, —
Труться, мнуться дружечки
Коло ей русой кисочки, —
274
мажут маслом, —
Дай мене, мати, масла,
Давай хоць трошечки
- Помастити косочки, —
медом, вплетают в волосы несколько монет, подаренных
женихом, кусочек хлеба и кусочек чесноку, которому, по суеверию,
приписывается предохранительная сила от заразы и от всякого
зла. Косу снова заплетают в последний раз венком. Из песен,
какие поются при этом обряде, видно, что венком таким
признается венок, сплетенный из барвинка, из калины и руты.
В долину, панянки, в долину
По червону калину,
По хресчатый барвинок
Из руточки дви квиточки.
Расплетание косы — грустная минута для молодой княжны. У
всех подруг ее волосы заплетены в косы, а у ней распущенные
волосы покрыли плечо, а слезы покрывают ей лицо.
Все дивоньки в косах,
А я свою та й роспустила,
Кисоньками да плечи вкрыла,
Слизоньками личенько змыла.
Жаль ей косы, которую она много лет холила, мыла красным
борщом, расчесывала золотым гребешком и в темную ночь при
свече и в день перед окном.
Ой косо, косо золота!
Та не рик я тебе кохала,
Що неделоньку убирала,
Чорвоным борщиком умьгоала,
Золотым гребинцем чесала,
Темной нички до свички,
Ясного сонця до виконця.
Но жалче ей родной матушки, потому что ей никто так'не
услужит, как она, когда рано вставала и загоняла коров.
Та не жаль же мене русой косы, ни девочои красы,
Але жаль мене матиночки, що не мае послугочки,
Що некому рано встати, коровоньки заганяти!
Плачь, Марусенька, — поется ей, — как рано на заре кукует
кукушечка: ведь уж в другой раз девицею не будешь, забудешь
веселые вечерницы.
Чому ты, зозулько, рано не куеш?
На другу весну не будеш,
Зелени гаички забудеш!
Чому ты, Марьечка, не плачеш?
Другий раз девкою не будеш,
Славнии вечерници забудеш!
10* 275
Покидать приходится ленты девические: она просит мать
отдать их девицам —- подругам.
Прийди, матинко, прийди,
Та зними з мене биндьг,
Уже мени в биндах не ходити,
Треба дружок обдилиты.
И брат соблазняет ее не идти замуж, когда кругом все
расцветает — и роза, и кресчатый барвинок, и пахучий василек.
Ой брат сестрицю та росплитае, ''•
Все рожу споминае:
— Та не иди, сестрице, молода замуж.
Як рожа процветае,
А хресчатый та барвиночок устилае садочок,
А запашный та василечок и с тыном ся ривняе.
Она сама чувствует то же, но слишком уж она полюбила
жениха своего.
Хоть не рада та мушу:
Полюбила Ивася як душу.
Вот прибывает жених, молодой князь с своими боярами.
Отправляются пешком или на лошадях, как случится, в церковь.
Волосы невесты развеваются по ветру.
Повий, витре, дорогою за нашою молодою,
Розмай косу по волосу по червоному поясу!
Сами собой открываются церковные двери, сами собой
зажигаются свечи, сами собою читаются книги.
Де-сь та Маруся боярського роду.
Як мы пид церковци приезжали,
То сами ся двери одчиняли,
То сами ся книги читали,
То сами ся свички засвичали,
Сам Господь трижды встречает новобрачных.
Стричай нас, Боже,
Перший раз на дорози,
Другий раз на порози,
Третий раз при шлюби
При Божому суди.
При возвращении с венчания поется, что жених дал обет не
отпускать от себя жену до страшного суда Божия, —
Не забувай отця и матки до суду,
Не пускай Марусины до суду, —
276
а невеста обещала жить не при родителях, а с мужем.
Присягала Марисенька...
При батейку не быти,
Девойков не ходити. .
Новобрачные приезжают в дом. Их встречают с
церемониями, , следует затем обед для гостей, за которым це
участвуют новобрачные. После обеда идут танцевать, поют песни
большею частью шуточного содержания, насмехаясь друг над
другом. Потом жених уезжает домой. Там происходит свой
обед^ Жених садится на почетном месте: он — князь. По
правую руку от него размещаются бояре, по левую —.
старшая и меньшая светилки и две свашки, а напротив жениха
дружко, воЗница и старосты. После этого обеда начинается
собственно народное свадебное действо, древнее языческое
священнодействие, сохранившееся теперь в обломках. На дворе
ставят покрытую чистою скатертью квашню, на нее кладут
хлеб, которым благословили жениха родители, соль и ведро
воды с ковшиком. Перед этим импровизированным алтарем
становится жених со всем своим поездом. Выходит из избы
мать жениха, одетая в тулупе вверх шерстью, на голове у
ней шапка, а в подоле у ней насыпаны орехи, овес,
подсолнечные и тыквенные семена и мелкие деньги, которые
нарочно для этого дня скоплялись со дня рождения сына,
ставшего теперь женихом. Дружко подает ей вилы или
грабли, представляющие в данном случае коня; мать садится на
них как будто верхом на лошади, дружко, ухватившись за
передний, конец, как будто ведет коня под уздцы вокруг
квашни, а другой боярин издали подгоняет бичом
воображаемую лошадь. Мать разбрасывает во все стороны семена,
причем поются присутствующими девицами соответствующие
припевы.
Ой сий, мати, овес,
Та на наш рид увесь*
Щоб наш овес рясен був
Щоб Иванив рид красен був.
Роди, Боже, жито
На новее лито,
Густее, колосистее
На стебло стеблистее,
Щоб наши дити мали
И стоячи жали.
Коло нашои дижки
Зародили сыроежки,
Чи сыроежки брати,
Чи в дорогу ступати,
В дороженьку счастну
По Марьюхну красну.
277
Три раза проведши кругом квашни мать жениха, сидящую
верхом на вилах или граблях, дружко зачерпает из ведра воды и
делает вид, как будто поит воображаемого коня. Во время такого
шествия вокруг квашни, за матерью идет жених с платком в руке;
за платок держится один боярин и несет в руке платок, за" который
держится другой боярин, затем третий и т. д. Позади всех или же
рядом с матерью идет светилка с пучком васильков, в середине
которого вставлены деревянное подобие сабли, зажженная свеча и
кусок хлеба. Древность этого обычая указывается подобием в нем
многих черт с обычаями, о которых остались нам известия в
описании свадеб великокняжеских, царских и боярских. Так в
этих свадьбах постоянно играли роль свечники со свечами — то
же что малорусские светилки — независимо от обручальных свеч.
Обряд осыпания одетой в вывороченной вверх шубе является
также в старинной московской великокняжеской свадьбе1. Светилка
с деревянным мечем и мать, севшая верхом на вилы или грабли,
воображаемые конем, составляют соответствие с московским
конюшим, который ездил с обнаженным мечем в руке вокруг
сенника2. Видно, что основные черты были едины, но потом
разбились и разветвились, тем не менее все-таки видно их древнее
единство. Какое символическое значение имела вода, ставимая в
ведре на квашне и напование ей воображаемого коня, мы с
точностью определить не беремся, но несомненно, что оно в
древности было, и вероятно, состояло в связи * с поклонением воде
языческих славян. По смыслу, который и теперь светится в этом
обряде, можно предположить, что это имеет значение
приготовления к походу князя за своею княгинею, для чего и поят
воображаемого коня, как бы собираясь в дорогу.
Затем поезд с женихом на челе отправляется к невесте. Везут
с собою подарки невесте и ее родителям3. В песне поется, что
1 ...И тысяцкого жена положит на себе две шубы собольи, одну
положит по обычаю, а другую шубу положит на верх, на изворот, шерстью
вверх, да осыпает великого князя и великую княгиню.
2 А в то время на аргамака сел конюший боярин Лыков и ездил
около сенника в то время, как государь был в сеннике с голым мечем.
У Котошихина: как пошел царь с царицею опочивать и в то время
конюший ездит около той палаты на коне, вымя меч наголо, и близко
к. тому месту никто не приходит, и ездит конюший во всю ночь до света.
3 Для невесты и ее матери берут сапоги, для отца — бараньи
рукавицы, для родственниц — свашек, светилок и других — несколько
платков, очипков, для брата невесты складаник (складной нож), для
сестры несколько аршин красной ленты...
Все это несет младший дружба. Старшему дружбе дают гильце
с коровая, а иногда и самый коровай. Молодой берет хлеб, которым его
благословляли, когда он шел к венцу. Едут только в том случае, когда
невеста живет далеко. Обыкновенно идут пешком в следующем порядке:
впереди жених с старшим дружком, за ними все бояре идут попарно,
за последнею их парой — музыка, а за музыкою — родители и
родственники жениха.
273
мать, выпроваживая сына в путь, оградила его месяцем, опоясала
солнышком и снарядила в дорогу за молодою невестою.
Мати Иванка родила,
Мисяцем обгородила, •
Сонечком пидперезала,
В дориженьку выпроважала.
В тую свитлоньку новую.
По тую Марью молодую.
с Отец дал ему девять коней, а десятого вороного под него
самого.
Осидлав ему девьять коней сивых,
А десятого вороного
Пид его молодого.
Мать напекла ему на дорогу девять печей хлеба, а десятую
коровая.
Напекла ему девьять печей хлиба,
А десяту пич — коровая.
Отец велит сыну брать с собою в. путь всю родню свою — и
близкую, и далекую, и богатую, и убогую, богатую ради славы, а
убогую для совета.
Бери, сынку, всю родиноньку
И близькую, и далекую,
И вбогую, и багатую.
Багатую — для славоньки,
Убогую — для порадоньки.
Отец дает сыну заранее такое предостережение: смотри,
сынок, не говори всей правды тестюшке; ведь он тебе все-таки не то,
что родной отец.
Отець сына выряжае, выряжав, наказуе:
Та не кажи, сыну, тестеви всю правду,
Бо тесть тоби не батенько.
Кроме того отец заповедает ему не пить ноднесенной ему
первой чарки, а вылить ее на гриву коню. От этого конь твой пойдет
гордо, и всем боярам твоим будет слава.
Не пий, сынойку, першого напоеньку;
* Ой вылий же го коненькови на гривоньку,
Коничок пийде пид тобою горденько,
То ж то нам буде всим боярам славненько.
Жених князь как бы выезжает на ловитву, —
Наш Ивасенько, наш короленько, на ловы выезджае! —
279
ен будет проезжать зеленым бором* по каменным мостам, будет
1юр шуметь', будет камень звенеть, заслышат люди, дойдет
молва между ними, услышит невеста и возрадуется.
Да будемо ехать бором зеленым,
Бором зеленым, мостом камьяным;
Бор буде шумети, а камень звенети:
Да зачують люде — нам слава буде,
Да зачуе Марусенька — нам рада буде!
На пути жених князь встретит символическую калину и
захочет рубить ее, а она скажет ему» чтоб он не рубил ее:
она не для него посажена, для него — приготовлена молодая
невеста.
По пид лугом стежечка;
Туды ехав молодый Ивасько,
Из-под бока шабельку витягае,
Да на тую калинопьку замеряе.
Стала к ему калинонька промовляти:
Ой стой, Иванко, не рубай!
Не для тебе ся калинонька сажена,
За-для тебе Марусенька зряжена.
Если князь и заедет в чужую сторону, зато с ним вся родня
его, —
А в кого кони — седлайте,
А в кого сыны — выряжайте!
Ой поедемо в чужину, в чужую сторону
Ой не бийсь, Иванко, да не чужа" сторона,
А в нас родина все своя, —
у него конь вороной, с ним боярин молодой, и сваха певунья
и светилка чорнобровая.
...Чи маеш кониченька вороного,
Чи маеш боярина молодого,
Чи маеш сваху спиваху,
Чи маеш светилку-чорнобривку?
Бо чужая сторона, щоб не було нам сорома!
Выезд представляется совершающимся ночью.
Ой ты, Иване, видважный козаче!
Де ся выбирает в дорогу по-ночи?
Князь призывает своих бояр ехать с ним во двор к его тестю,
к своей Марусеньке за стол.
Бояры молодый, учинить мою волю,
Та ходим зо мною до тестенька в двир.
До Марусеньки за стил.
280
. Но недаром батюшка, снаряжая сына-князя, .советовал ему не
вполне доверяться тестю. Придется-таки не легко добывать
красавицу. И вот видим мы в песнях отражение тех давно минувщих
времен, когда при редкости населения, при господстве разных
побуждений у народностей, отделенных друг от друга лесами и
болотами, приходилось действительно подвергаться всяким
неудобствам и опасностям звероловного быта:
Вода луга позаливала, дорога позабирала,
Некуды переехати.
и.
Ездить можно было в путь только с значительным кружком
своих родичей, — тогда дружелюбные связи между родами
устанавливались только после того, как подружившиеся прежде
померяются взаимно между собою удалью и отвагою, — самые
супружеские союзы заключались тогда с бою, о чем говорят
наши старые летописи, сообщая, что у многих племен брака
в нашем смысле еще не образовалось, а было., только умыкание
девиц, а умыкание вело столкновение между родами молодца
и девицы. Вот такое-то умыкание дает о себе вспомнить и в
малорусских свадебных обрядах и песнях. Князь со своими
боярами собирается действовать силою, разбивать каменные
стены, ломать замки, чтобы достать невесту.
Та пийдемо тихим Дунаем до, замку,
Постаемося во три радочки на ганку,
Там будемо билый каминь лупати,
Же бы сь мо могли молоду Марисю пиймати.
По всим селе заграно,
Заграно, забубнено,
Бояры побуджено:
— Встаньте, бояры, встаньте!
Коники поеидлайте,
Сами ся убирайте,
Бо поедемо ранком
По пид высоким замком,
Будем замки ламати,
Марусеньку доставати.
Он. недаром князь. Он — князь времен древних» богатырь-ви-
" тязь, идет с своею боярскою дружиною, по лесам охотятся они за
куницами, в полях за перепелами, через село проедут —
подрубают колья, на двор ли въедут — конь его раскопает землю на дворе,
а сам он в сени войдет — не снимает шапки.
Ой лисом едут — на кунейки стриляють,
Ой полем едуть — перепелоньки имають,
Селом выезжають — колоньки пидтинають,
' На двир приезжае — коничок двир копае,
До сеней входит — шапоньки не здиймае.
281
Он, как ветер, идет с брани: где станет, там земля стонет, куда
глянет — трава вянет, прикажет разбивать Львов, доставать себе
королевну. t
Повее ветер по гори,
Прийшов молодый з войны;
Ой где стане — земля стогне,
Куды гляне — трава въяне,
А каже Львив розбивати
Королевну добувати. i
Но не придется ему прибегать к таким мерам.
И замкив не зламали,
И Марусеньку достали.
В песнях отразилось наслоение последующей эпохи, когда
сила стала заменяться миролюбивыми сделками. Ведь и в те
времена, когда господствовали умыкания девиц, уже летописец
замечает, что умыкали таких, с которыми прежде совещались на
игрищах. Тогда умыкатель примирялся с недовольным родом
умыкаемой девицы посредством даров, откуда и вышел древний
обычай платить вено за невесту. И эта черта есть в наших свадебных
песнях. Князь несет дары и от себя, и от своей матери.
Дары идуть, дары идуть,
Од Ивася молодепького
Од его неньки старенькой.
Невеста уже ожидает его. Отсунь окно, — говорят ей, —
погляди, хорош ли Иван на кони? Хорош, матушка, — отвечает
невеста, — краше всех, стоит на кони, словно солнце, конь его
блестит павшею на него росою, а сам молодец — красотою.
— Чи хорош Ивашко на кони? —
«Та хороший, матинко, красчий всих,
Ой одсуну ж я виконце,
Стоить Ивашко як сонце*
Коничок припав росою,
Сам вин молодый красою.
Прекрасен двор у тестя, в нем трое ворот: в одни входит
месяц, в другие — солнце, в третьи молодец въедет и с ним станет
весело. Идет молодец к девице, словно месяц к звездочке.
А в мого тестенька трое воритець,
В одни воритьци мисяць засвитить,
В други воритьци соненько зийде,
В трети воритьци молодчик въеде.
Месяц засвитить — видненько буде,
Соненько зийде — тепленько буде;
А хлопець въеде — веселенько буде:
Иде хлопец до девки,
Як месяц до зирки.
282
Из девической стыдливости говорит невеста отцу, чтоб
затворили ворота и не впускали молодца.
Просила Марусенька свого татусенька:
«Татунечку мий любый,
Запирай воротечка — не пусти Ивасенька».
Как его не впустить, — отвечают ей, — когда он просится,
расстилаясь хмелем около двора, барвинком в сенях, васильком в
хате, становится соколом за столом.
Як го не пустити, коли вин ся просить,
-Коли вин ся стелеть по подвирью хмелем,
А в синях — барвиночком,
А в хати — василечком,
А за столом — соколом.
Запрячь меня, матушка, — говорит невеста, — в вишневый
садик, обсади вишнями и черешнями.
Уже гости, уже на помести,
В синечки вступають,
«Заховай мене, моя матинко,
В вишневый садочок.
Обсади мене вишнями, черешнями».
Запрячу тебя, — отвечает мать, — за тесовый стол, обсажу
дружками.
Заховаю тебе, моя доненько,
За тесовый столик,
Обсажу тебе, моя доненько, ч
Молодыми дружечками.
В песне приглашается мать невесты встречать зятя уже не
только нареченного, но обвенчанного.
Выйди, мати, з хаты,
Свого зятя витати;
Вчора був нареченый,
А сегодня звинчаный.
Тут в свадебном действии опять вспоминаются времена
отдаленные, времена умыкания и насилия. Поезд жениха должен
некоторое время ждать у ворот. Принадлежащие к поезду невесты
стерегут ворота двора. Происходит как бы примерная битва,
кончающаяся переговорами.
Ехали мы три мили,
Коники попотили;
Ой наш милый свату,
Пусти-ж нас у хату,
Коникам супочити
Нам суконьки посушити!
283;
Мы тебе не докучим, только ночку переночуем, бочонки твои
опорожним и девочку с собой возьмем!
Мы тоби не докучимо,
Сюю ниченьку заночуемо,
И бочечки попорожнимо,
И дивочку собе возьмёмо.
Предлагают водки в качестве окупа за впуск.
Даемо вам горилки
Пускайте нас до дивки.
При этом и подсмеиваются над хозяевами, которые не пускают
гостей.
Ой у нашого свата соломъяна хата:
Боится нас пустити, щоб ей не-розвалити!
Роль примирителей принимают на себя старосты с обеих
сторон. Двое жениховых старост перелезают через ограду во двор, где
уже приготовлена хлеб-соль и там стоят двое невестиных старост.
Старосты обмениваются между собою хлебом, целуются, угощают
друг друга водкой и, наконец ворота открываются: весь поезд
вваливается во двор.
Ой, где ж вы там посланци бували?
Ой, бувалисьмо в тим дому,
Ой, видалисьмо молоду Марисю за столом.
Мать невесты встречает жениха в тулупе, вывороченном
шерстью наверх, как бы думая испугать гостей.
Вбралась теща у вовчинки,
Для зятнёи причинки,
Да хотила зятя злякати,
Не хотила дочки отдати.
Да зять того не боиться,.
Близько киля дочки садовиться.
Она предлагает жениху водки в угощение. Жених, помня
заповедь своего родителя, не должен пить, а должен передать чарку
старшему боярину из своего поезда, а тот выливает водку на гриву
коню, чтобы теща была ласкова к зятю.
Не пий, Ивасю, первого привиту,
Бо перший привит лихий.
Дай старшому свату, родному брату,
Ой нехай выльле конику на гриву...
Щоб у коня срива кудрява була,
Щоб на тебе теща ласкава була.
Что ж ты мне подаришь? — спрашивает зять у тещи.
284
А зять тещу пытае:
«Тещенько, сива голубонько,
Щож ты мени даруеш?»
Теща предлагает одно за другим — пару лошадей, пару волов,
стадо овец, скрыню, перину, — зять от всего отказывается,
наконец теща предлагает дочь и тогда зять говорит, что будет ее
считать за родную мать.
Тещенько, ридна матинко,
Я ж тепера тоби сын буду!
Тогда поется в песне —- теща с своей стороны сознается, что
до сих пор не совсем доверяла ему, но теперь принимает как
милого сына.
Ой зятю ж мий зятю, да милый же ты сыну!
Я ж тебе змовляла да вероньки не ймала,
Тепер вероньку иму, що за зятенька прийму.
Между тем в хате невеста бросается к ногам отца и просит
впустить во двор поезд, а самого жениха ее посадить за стол.
Батеньку до ниг впала:
А мий батеньку ридный,
Пускай бояреньки на двир,
Мого Ивася за тесовый стил!
Вступая в хату, гости обмениваются с принимающими .их
песенными приветствиями.
Добрый вечир тому, хто в цёму дому:
Бодай здорови були, що нас не забули.
За старого й малого, и за Бога святого!
Дружки, сидящие с невестою, должны подвинуться и дать
места боярам.
Посуньтеся, та дивчаточка,
А вид стола да до запичка,
Нехай сяде чужина,
Вся Иванкова дружина.
Но братья невесты сидят около нее с поднятыми палками,
особенно старший брат, сидящий ближе всех к невесте,
принимает воинственный вид. Сама она готова встать приветствовать
жениха и принять его гостинцы, —
Ой устань, Марусю, не лежи,
Ой Иванько йде* гостинце несе,
Ой я встану и приветаю
И гостинце принимаю, —
а братья не сдаются и хотят драться.
285
Не наступай, литва,
Буде меж нами битва;
Будем бити да воювати,
Маруси не давати.
Им предлагают окуп. Брата уговаривают в песне, чтоб он не
продавал сестры.
Не продавай сестры
За гриш за чотыри:
Сестриця родима,
За столом як калина.
Он ее крепко удерживает за руку,
Брат коло сестрице сидить,
Да за рученьку держить,
Да не хоче да попустити
Чужой чужиноньци
Своей родной сестрици.
готов даже защищать ее секирою.
Братчику та, голубчику!
Возьми соби сокирочку.
Сечи, рубай, сестры не дай.
Но потом он прельщается предложениями жениха.
Запродам тебе, сестрице моя,
За сто золотых червоных.
Песня уговаривает жениха не скупиться и заплатить
пощедрее, —
Не стой, зятю, за плечима,
Да не лупай очима,
Клади руку у кишеню,
Да выймай грошей жменю;
Клади на тарелку
За Марьечку девку, —
хотя бы пришлось семь дней молотить, чтобы заработать на
сведение шурина с его места.
Треба сем ден молотити
Щоб шурина з покутя скупити.
Когда, наконец, сделка состоится и шурин сойдет — песни
подсмеиваются над ним, —
Не в правде братко кохався
Що за сестрицю змагався,
Да побачив чарку на тарелце
Пропив сестрицю на горелце, —
286
называют его татарином, —
Татарин братко татарин
Продав сестрицю за таляр,
Русу косу за шостак,
А беле яичко пошло й так.
отсылают его за печь воевать с котами,
В запич, шурине, в запич
С котами воювати,
Не сестру продавати.
Песни шутят и над боярами, и даже над женихом, если он
не сумеет ловко поцеловать своей невесты.
Бояре шляхецькии,
Меж вами женишище,
Як горилее днище.
Боярам свини пасти,
А Ивашку, заганяти,
Що не вмие цилувати.
Во всех описанных нами обрядах отразилась, как мы вообще
заметили, история народа. Вот времена далекие, языческие —
поклонение воде; остатки жертвоприношений, —- вот времена, когда
народ не составлял государственного тела, но был разбит по
селам, разстоявшим одно от другого на немалое пространство,
разбит на роды, или не знавшие один другого по неудобству путей
или враждовавшие между собою. Видим следы умыкания, следы
насильственных похищений. Жизнь, подходившая к жизни
зверей, которых ловил тогдашний человек. Но вот шаг выше на дороге
к образованности. Эпоха примирения между ссорившимися
родами. Эпоха сделок и эта эпоха выработалась главным образом через
женщин, подобно тому, как римляне соединились с сабинянами
через посредство похищенных сабинянок. Вот и эпоха князей,
когда они с набранными из,вольных удальцов дружинами,
рыскали, ища себе столов и власти и заключали ряд с землями, или
бывшими не в силах прогнать их или сами в них находившими
нужду для успокоения внутренних беспорядков у себя. Вот и
память о Литве, которая завоевала когда-то разрозненную Южную
Русь и соединила ее в одно политическое тело, сама
подчинившись ее духовному культурному влиянию. Вот и татары,
торговавшие людьми, вот старый козацкий быт, когда все удалое,
рыцарское, молодецкое облекалось в образ козака.
Что всего замечательнее — это свадебные обряды, с
накопившимися на них слоями разных периодов и укладов народной
истории, наглядно указывают на демократический строй,
господствовавший всегда в сознании этого народа, хотя внешние
условия постоянно препятствовали его водворению и укреплению
в общественной среде. Хотя песни свадебные с принадлежащими
287
к ним приемами и действами — исключительное достояние
мужицкого быта, но многое и представляет черты быта более
высшего, более знакомого с удобствами, жизни: это несомненный
признак, что те же приемы, те же обряды, те же песни были
достоянием и других слоев общества. Так * называемый высший
класс не был в культурном отношении отделен китайскою стеною
от низшего, как теперь. Народ развивался одинаково: если коснели
в темноте, то не один мужик, а также и панок или войсковой
товарищ часто не умел подписать своего имени, за то и мужицкие
дети одинаково учились наравне с панскими, если у родителей их;}
было состояние и круг сведений целого народа расширялся
одинаково. Вот, сообразно этому, в свадебных песнях мы встречаем
черты, указывающие, что эти самые песни пелись не в одних
мужицких хатах, но и в домиках панских.
Следует затем раздача подарков от жениха, —
Ой на двори призьба
На ний рушникив триста,
Пийдите, принесите,
Та бояр прикрасите.
Несите дары за дары,
Да щоб нашыи дары
Да у Киеви стали,
Шовком мережани,
Золохом гаптовани
Свому роду даровани, —
от невесты, с припевами, —
По тихому Дунаечку билила,
По крутому бережку стелила,
А всю свою родиноньку обдарила. i
Тож-то наша Маруся прядка була,
Тож-то вона раненько вставала,
На подарочки напряла
Усю свою родиноньку обдилила, —
потом принос в хату и дележ коровая.
Коровай з шишками,
Розлука з дружками.
Свити» Боже, з раю,
Нашому короваю.
Щоб було виднесенько
Краяти дрибнесенько,
Дрибненько, бояроньку,
Коровай край,
Всю нашу родиноньку обсылай
Нас, дружечок, не забувай!
После раздачи коровая происходит покрывание невесты, а в
некоторых местностях и расплетание косы, которое в других
совершается, как выше показано, перед венчанием. Невеста пред-
288
ставляется в песнях оплакивающею сокрытие своей косы
девической.
Ой жаль мене тебе русявая косо!
Да не рок я тебе кохала,
Що неделоньки вмывала,
За один ранок утеряла.
Мать идет в комору за серпанком или наметкою, которая в
песенной речи носит название завивайла. Последний косник —
л^нта в косе — снимается женихом: это его достояние на память.
Серпанок-завивайло — представляется пугалом. Ехал, —
поется, — за ним дружба за море доставать из под белого камня, но
не поднял камни и не добыл завивайла.
Дружку ехати по завивайло,
Та на море пид бил камень.
Дружко поехав, каменя не зняв,
И завивайла не взяв.
Мать выносит серпанок из коморы. Дружки поют: догадайся,
Маруся, зачем это ходила мать в комору: за рутяным венком или
за белым, как бумага, завивайлом.
Догадайся, Марусе,
Чого мати в комору пийшла?
Чи по рутяный веночок,
Чи по беле завивайлочко?
Беле да белесеньке
До паперу ривненькее.
Дружба принимает от матери серпанок и держит его на
тарелке. Его, — поет песня, — не свеет ветер, не сожжет солнце, не
смоет дождь; его износит молодая Маруся.
Поглянь, Марусю, на .порог
То йде дружбонько ворог твий.
Несе коровай на веце
Беле завивайло на тарелце,
То не ветер его не звее,
Ни сонце его не спале,
Ни дрибный дожчик его не змоче
Молода Маруся износе.
Это белое завивайло будет ей вечное покрывало.
Ой белое завивайло,
Да вечное покрывайло.
Не хочется ей покрываться, не мило ей завивайло, милее —
девичьи ленты, —
Покриванниця плаче — "
Покриватись не хоче.
Серпанки — поганки,
Биндочки — коханки.
Но если б она сильно не хотела, то не шла бы замуж, сидела
бы у батюшки.
Як бы вона не хтила,
Тоб у батенька седила.
Не так ей тяжело покрываться, как разлучаться с подругами.
Не так покрываться,
Як с нами роставаться.
Не об отце и не об отцовском дворе она тоскует: жаль ей русой
косы своей, девической красоты: девицы гуляют,ч колышутся их
косы, а ее в свою среду они уже не примут.
Ой не жаль мене батенька старого,
Тильки жаль мени русой косы,
Дивоцькои красы;
Дивки гуляють, кисками мають,
А мене не приймают.
Мать, —
Покрываю тебе, моя доненько, —
и подруги, —
Мы ж тебе, сестрице, скрываем,
Счастьтям-здоровьем наделяем! —
покрывая ее, желают ей здоровья и красоты.
Будь здорова як вода,
Будь прекрасна як весна.
Но где теперь коса твоя, поется в песне — не полетела ли в
поле? Нет, она свернулась в клубочек.
Где ся косойка дила?
Чи у поле полетила?
Вона в поле не летила
Ено ся в клубойко звила.
Где теперь твой венок девический? Отдала его спрятать под
замок на вечные веки.
Где сь дила свий винойко?
Дала м ю оковати,
До скрынойки сховати,
На вики вичныи.
Как бы играя, в песне говорят ей подруги: не хорошо, не
хорошо тебе в этом наряде! Скинь чепец, брось под печь, скинь
290
кибалку — брось под лавку! Надень опять свой рутяной венок,
уберись в ленты, идем с нами на вечерницы.
Покинь чепець пид печ,
А кибалку пид лавку,
Тобе не подоба,
Бо не пристало до лоба.
Рутяный венок
Склади на головку,
Да надинь стрички и коснички,
Да ходим з нами на вечорнички.
Не будет по-вашему, дается на это приговор в песне: Ивась
сдает свое молодечество, а Маруся свое девичество.
То Иван гомонить — молодесьтво здае,
То Марусенька гомонить — дивованьне здае.
Наступает затем — ужин с припевками. В песнях,
относящихся к этой части ритуала выражается невозвратность положения,
которое потеряла новобрачная. Ей грустно, она склоняет голову,
но все уже напрасно, ни ветер, ни дождь, ни людские языки —
ничто не разорвет союза новобрачных.
«Вже ж ты, Марусю, звинчана:
Буйны витры не розвиють,
Дрибныи дощи не розмыют,
Людьски языки не розмовлять».
И схилилася верба сверха до кореня,
Схилилася Маруся через стил до матинки,
На стил головоньку клоныть,
А под столом слизоньки роныть.
Как селезень с уточкою вместе щиплют водяную травку, так
они сидят вместе парочкою за трапезою.
Де ж був селезень, де ж була утонька?
Селезень — на ставку, утинка — на плаву.
Тепер на одному сидять вони плаву,
Да едять рясочку.
Де ж був Иванко, де ж була Марьечка?
Иванко — у батенька, Марьечка — у матинки;
У одний свитлици едят паляници,
Пьють вони мед-вино из кубка одного.
Вот уже и кони запряжены и возницы сидят на возах,
собираются везти новобрачных в дом мужа.
Вже ж коники позапряганы,
Погоничи на возах сидять.
В песне изображается, как новобрачная кланяется в ноги
родителю и благодарит за то, что, живучи у него, была любима и
не отягощалась излишнею работою.
291
Впала Маруся аж до ниг: , .
— Спасиби тоби, ты мии батенько,
За твое коханнячко,
Що я ж у тебе була, важкого дила не знала.
По окончании ужина начинается отправка новобрачной четы.
Это выражается и в песнях. Новобрачная должна садиться на воз
и покидать привычки житья, какое вела у отца.
Ой садовись, дивочко, на вози,
Да покидай батьковы норовы.
Укладывают на возы скрыню с приданым.
Скрыня моя малевана!
Да не рик не два пряла,
Да не зимочку ткала.
Ну-мо, мамо, дилитися:
Тоби хата, та комирочка,
Мени скрыня, та худибочка.
Песня представляет, что мать, в порыве материнской
нежности, просит дочь переночевать у ней еще одну ночь, потому что
расцветает роза, стелется барвинок. Но дочери уже не украшать
себя розою и барвинком: полюбила она Ивася и не .хочет
расстаться с ним.
Ей матинка просить:
— Молоденька Марисенька,
Переночуй хоч ниченьку,
Бо вже рожа розцветаеться,
Барвиночок росстилаеться!
— Мени в рожи не ходити,
Барвиночку не носити:
Полюбила Ивася,
Та й не.можу одступити.
Так песни до последних минут изображают в невесте
колебания между сожалением о невозвратно преходящем девичестве и
между любовью к своему суженому, и все-таки перевес остается
за этой любовью. Все готово к отъезду. Месяц освещает путь. Брат
провожает сестрицу в дом свекра.
Мисяц дориженьку освитыв;
Брат сестриченьку выпроводыв:
«От тоби, сестрице, дорога,
«Едь до свекорка здорова!
Женихов поезд заранее хвалит житье-бытье, ожидающее ее в
этом доме.
Юж сонце над горами,
Збирайся, Марусю, з нами,
Бо мы добрый люде,
Добре тбби в нас буде:
Вода сама в гарнець тече,
А сонейко хлиб пече.
292
Посылается наперед сокол во двор родителей жениха, чтобы
там дожидались невестки, застилали столы, клали на них
пшеничные хлебы, зажигали свечи.
Наша Маруся од батенька одьизжае,
По переду соколонька посылае:
«Лети, лети, соколоньку, до свекорка в двир,
Нехай дворы вымитають,
Нехай столы тисовый застилають,
Нехай хлибы пшеничный накладають,
Нехай свичи восковыи незгасають,
Нехай мене, молодой, дожидають.
Вот новобрачная в последний раз обращается к родной матери,
кланяется ей в ноги, устилает землю своими косами, слезами
обливает ноги матери.
Яж тоби, матухно, поклонюся,
Кискою земельку устелю,
Слизками нижки обилью.
Жених торопит ее,
Ой, ты Марусю, вбирайся...
Ой сидай, сидай, коханьня мое,
Ниц не поможе плаканьня твое, —
а она хочет вдоволь напрощаться с отцом, с матерью,
Зачекай мене хоч пивтора дня,
_ своему батенькове
Я ще „ не дяковала
своей матинци
Дякую тоби, —^- що ходила в тебе гарно
мамо
А тепер не буду.
даже с порогами, по которым ступали ее ноги и по которым
уже не будут ступать.
Ой дякую вам, пороги,
Де ходили били ноги,
Тепер не будуть.
Не переходите, враги, дороги, пусть ее перейдет сперва Бог, а
потом мои родители, — поет песня.
Пересердиться, вороги, не переходьте дороги;
Нехай же нам перейде Господь Бог, а поели батько мий,
А ясная зора — то мати моя
А ясен Бог — то батько мий.
Вот наконец двинулись, зазвенели колокольчики.
Бряжчали колоколы, брянчалиу
Туды ж нашу Марьечку помчали.
293
Осталась мать. Поглянет в комору — нет скрыни, нет и
вешалки для одежды; посмотрит по светлице — нет ее дитяти, глянет
в окно — там след ее; песня заставляет по дороге уехавшей
новобрачной расти символические васильки.
Пийди, мати, у коморю — скрыни нема!
Ой глянь, мати, на вишалку — одежи нема!
Пийди, мати, у свитлицю — дитины нема!
Ой глянь, мати, у виконце — тилько слид... *•
По дорози василечки поросли,
Куды твою дытыноньку повезли.
Исчез и зятек — истоптавши конскими копытами подворье,
обобравши комору, и взял с собою ее дитя.
Так був зятенько, як не бував,
Тильки мое подвирья киньми стоптав,
Тильки мою комору ограбовав,
Тильки мою дитину соби взяв.
Скучно будет матери без дочки: выйдет она в поле работать,
некому будет помогать, сядет полудновать — не с кем вести
разговор.
«Якого-с буде, якого-сь буде да без донечки жити!»
Пийдеш, матинко, у поле та зеленого жита жати,
Та займет широкую постать — ни з ким жита жати.
Сядеш, мати, да полуднати — ни з ким розмовляти.
Вспомнит она о дочери и жаль ей станет тогда, когда начнет
она растоплять дрова и загребать жар в печи или пойдет к воде с
бельем.
Загрибай, мати, жар, жар,
Буде тоби дочки жаль, жаль,
Як итимеш сорочок прати
Будеш дочку споминати!
На пути к дому жениха поются песни, где говорится о
радости, какая ожидает мать жениха, когда привезут к ней невестку.
Отвори, мати, лиску,
Ведемо ти невистку,
До коморы ключницю,
До поля робитницю.
Ой радуйся, мати, своему дитяти,
Своему рождённому, другому сужденному.
Но, оглядываясь назад к родительскому дому, новобрачной
становится грустно.
Ой плачу я плачу, поки батькив двир бачу.
Вот приехали. Песня приглашает мать жениха выходить и
посмотреть, что привезли ей бояре.
294
Ой выйди, мати, погляди,
Що ж тоби бояре привезли:
Да привезли скрыню кованую
И невесточку коханую.
Новобрачная сравнивается с пугливою тетеркою: не надобно
полошить ее; пусть привыкает к своему дому.
Привезена тетеречка...
Не кишкайте, не полохайте,
Нехай вона к свому дому привикае.
Жених, кланяясь родителю, уверяет, что его подруга будет
угождать ему.
Приихав Ивась с дружиною,
Батенькови в ниженьки вклонывся:
— Не гнивайся, мий батеньку, на мене,
Що приехав з дружиною до тебе!
Моя дружбонька буде тоби годити,
По твоим двори сад-виноград садити!
Есть следы старого военного быта: жених говорит, что он ездил
на войну и полонил хоровод девок, но выбрал себе одну из них.
Що я на войну ездив,
Звоевав да дивок танок;
Выбрав я соби одну дивоньку молодую.
Мать жениха представляется в высшей степени довольною и
говорит, что теперь она радуется паче, нежели тогда, когда родила
своего сына, и расточает похвалы молодой невестке и за ее
красоту, и за походку, и за речь ее.
Рада була, мий сыночку, що ты народывся
А тепера и раднийша, що ты оженывся,
Выбрав соби дивку червону, як калин<£ньку;
Що ступить — не похилиться,
Що скаже — не помылиться.
Уже и сама новобрачная начинает быть довольна своею
переменою: ей стал мил чепец и надоел девический убор.
Отож тебе Господь погодив,
Що ты мене в чипчик нарядив;
Бо вже мени бинда обридла,
А вже ж мени чипчик — прилипчик.
Но тут же проглядывает и опасение, что как зима не будет
такою, каково тихое лето — так и свекор не будет таков, каким
был родной батюшка.
Не буде зима як тихе лито,
Не буде свекорка як ридный батенько.
Новобрачным приготовляют ложе в коморе.
295
Ой хто буде спати,
Будем ему да постиль етлащ, .
Соломки в гбловки,
Сенця пид коленця,
А мяты пид пьяти,
Щоб було мъягко спати.
Между тем все садятся за стол: молодые супруги на посаде в
почетном углу. Но тут поют, что новобрачная не хочет ни пить,
ни есть, а хочет уснуть.
Не ,хочу я естоньки да питоньки,
Бо вже мое тило спати захотило...
Дружко ведет чету в комору. Поются припевы несколько
двусмысленного содержания.
«Ой мамцю, мамцю, до комори ведуть!»
— Цить, доню, тоби меду дадуть!
«Ой мамцю, козак на мене лизе».
— Цить, доню, вин тебе не зариже.
«Ой мамцю, вже й ножик выймае?»
— Цить, доню, вин боже думае.
Потом выводят из коморы чету- и раздаются веселые песни, в
которых величается калина — символ соблюдения девства
невестою и брачного соединения.
Тёмного луга калина, весь луг окрасила,
Доброго батька дитина, весь рид звеселила,
Ничого дивувати: така була ей й мати.
Ветвь калины, воткнутая, у новобрачной за наметку, служит
призывом к всеобщему веселью.
Ой пойду я у луг по калину,
Да выломлю калинову ветку,
* Да застромлю за белу наметку.
Нехай моя калинонька въяне,
Нехай моя родина гуляе.-
Такая же калиновая ветвь, вместе с бутылкою водки,
посылается к родителям новобрачной на знак, что она соблюла
целомудрие.
Калинонька наша Маруея,
Под калиною лежала,
Калину ламала,
До батенька слала:
— От тоби, батенько, от тоби даподарочок*
Чорвоная да калинонька,
Од любой да дитиноньки!
296
Это доставляет большую радость и честь родителям. На знак
торжества мать невесты приглашается в песне обуться в красные
сапожки.
Да не бийся, матинко, не бийся,
В червони чоботки обуйся,
Топчи вороги пид ноги
А супостатам пид пьяты,
: Щбб перестали брехати.
Благодарение вам, — обращается песня к обоим родителям
новобрачной — благодарение за кудрявую мяту, за кресчатый
барвинок, за пахучий василек, за красную калину, за вашу честную
дочь.
„, г таточку ,
* Та добры-день ■*- добры-день,
*^ матинко v
Лучча була ниченька як сей день.
Спасиби тоби, сваточку
За твою кудряву мъяточку,
За хресчатый барвиночок,
За запашненький василечок,
За червону калину,
За твою добру дитину.
По возвращении в дом жениха посольства,
отправлявшегося к родителям невесты, у новобрачного идет ужин, поются
песни, плачут, а новобрачные ужинают особо в коморе и
непременно жареную курицу — символическую яству
брачного часа. Достойно замечания, что и в великорусских
старинных царских и боярских свадьбах, курица является также
символическою брачною яствою1.
Собственно этим и оканчивается ритуал свадебной трилогии.
Затем следует так сказать эпилог. Это в народном песенном языке
называется перезвою. Свадебные торжества, состоящие в
пиршествах, попойках, песнях и плясках, продолжаются несколько
дней — обыкновенно до четверга включительно, как об этом
заявляется выразительно и в песнях.
* ...а сам князь великий вшед в палату сядет на своем месте, а
тысяцкому и дружкам велит сесть по своим местам. Да как изсажает
всех и поставят перед великого князя и перед великую "княгиню куря
печеное, а большой дружка встав обертит куря и с блюдом и с скатертью
верхнею да отнесет к постеле, и с великою княгинею пойдет тысяцкой
и дружки и свахи все (Свадьба великого князя Василия Ивановича). А
после третьей ествы поставили перед царя и великого князя и перед
царицу и великую княгиню куря жаркое, а большой государев дружка,
обертев куря с блюдом и с перепечею и с солонкою скатертью другою,
отнес к сеннику и отдал именно боярину Глебу Ивановичу Морозову. А
после того царь и великий князь из-за стола встав пошел к сеннику и
с царицею и великою княгинею (Свадьба первая царя Алексея
Михайловича).
297
Суботонька — то збирный день,
Недилонька — несильный день,
Понедилок — избавь дивку,
В вивторок — пиймо горилку,
У середу — покатим бочку,
А в четвер — до домочку.
В понедельник старший боярин водружает на большом шесте
красную ткань и вешает такой же кусок на воротах. Старший
боярин обвязывается красною лентою, берет с собою черную
курицу и пирожки, обмазанные медом, за ним следуют опоясанные
через плечо красными лентами дружки, а замужние женщины,
принадлежащие к числу свадебных гостей, называемые приданки,
обвязывают себе красными лентами головы поверх своих
обыкновенных головных уборов; даже бутылки с водкою обвертывают
чем-нибудь красным. Вообще красный цвет — признак свадебного
торжества, если невеста окажется целомудренною. Идут к
родителям новобрачной и жених зазывает их к своим родителям на обед.
Ой зять тещу просить,
У руках шапку носить:
Ох и теща моя,
И голубка моя,
И ходиж до мене.
Есть у мене сим бочок
И полубочок
Да солодкого меду —
Прошу ж тебе та й на беседу.
Тогда происходит раздача подарков новобрачных со стороны
собравшейся родни их.
Ой роде, роде багатый,
Даруй товар рогатый,
А вы, браты,
Даруйте все быки,
А вы, сестрици.
Даруйте все ягници.
Дала мени мати бодню
Да на пъядь не повну,
Да на ти серпаночки
Що здарують приданочки.
Во вторник пируют у родителей новобрачной. В эти дни
свадебные поезжане разгуливают по селу и поют перезвянские песни.
Это короткие припевы, каждый стиха в четыре, а некоторые
только в два, шуточного содержания, не принадлежащие к обряду. Их
бесчисленное множество; они везде импровизируются по
вдохновению. Иные — двусмысленного содержания и даже циничны и
непристойны, если новобрачная окажется потерявшею целомудрие
до брака. В последнем случае — по народному понятию никак
нельзя вспоминать в песнях о калине, которая есть символ иск-
298
лючительно целомудренной женщины. Преступница подвергается
поруганиям и насмешкам, даже побоям от мужа, если она ему
заранее не сознается о своем падении. Не только она, но и даже
ее родители подвергаются поруганиям: на шею отца надевают
хомут, а ворота его двора и стены хаты снаружи и внутри
обмазывают дегтем, о чем есть указание в песнях.
Ой знати знати, где взяли халяву,
Обмазали дёгтем хату и стины, и лаву.
~v Свадебные обряды с их песнями до сих пор повсюду
свято сохраняются, где только живет малорусское племя и
надобно заметить, что свадебные песни уцелели в своей
старой чистоте больше, чем всякие другие. Народ,
по-видимому, дает значение своему свадебному ритуалу более, чем
самому церковному венчанию. Нередко бывает, что церковное
венчание совершается раньше, чем отправляется свадьба или
«весильля», по народному образу выражения. Так до
отправления свадьбы уже обвенчанная невеста живет в родительском
доме, ходит в девическом наряде вместе с девицами, а не
считается замужнею женщиною; в таком положении проходит
времени иногда целый месяц, а иногда и более.
ГЛАВА IV
Супружество. — Согласное житье. — Бедность. —
Женские пороки. — Лень. — Пьянство. — Капризы. — Муж
отучает жену строгостями. — Слабый муж. — Разумная
жена. — Неверность жены. — Недовольство
замужеством. — Чужая сторона. — Муж пьяница. — Муж
ревнивец. — Неверность мужа. — Жестокость. — Отношения
жены к своей родне. —- Отношения жены к родне мужа. —
Злоба свекрови. — Убийство жены мужем. — Смерть
жены. — Смерть мужа. — Вдовство.
Согласное и счастливое супружество в песнях изображается
явлением не частым, по крайней мере число таких песен гораздо
менее, чем песен с противным содержанием. Славу Богу- —
говорит в песне счастливая жена, — у меня муж добр, не ругает меня,
ласкает, как голубку.
Спасиби Богу, що мий чоловек добрый,
Пошли ему, Боже, и счастьте и вик довгий:
Що вин мене не бье, не лае,
Вин мене за голубоньку мае.
Собравшись ехать на работу в поле, подложит мне под голову
подушку или отпустит гулять к моим родным. Гуляй, милая, —
говорит он, — гуляй, пока моя голова жива, а вот как моя голова
299
поляжет, тогда всякое зло тебе себя покажет; когда мои руки
сложатся, тогда вся роскошь жизни минет для тебя.
Сам бере пид пояс пужку,
А мени кладе в головку подушку;
Сам иде в поле орати,
А мени велить с своим родом гул яти.
Та гуляй* мила, поки моя голова жива,
А як моя голова поляже,
То ходи тоби й ледащо докаже;
Як мои ручки згорнуться,
То тоди твои роскоши минуться.
Когда такая чета вместе выйдет в поле и работает — люди,
глядя на нее, завидуют ей, а любящие друг друга супруги желают
всем такого же счастья.
Ой хто ж то рре? То ж Пилипченко,
А ягода смородина — то ж Парасочка.
Да на их люде позавидовали,
Що хороше, да пригоже, да любовно живуть.
Ой ви, люде, не завидуйте;
Сами соби любитеся да любовно живить.
Любящей жене муж дороже всех родных и он более, чем все
они, внимателен к ней. Другие близкие и родные едут мимо нее
и к ней не завернут, а муж непременно к ней завернет, и она
сознает, что ее судьба прекрасна.
Нич моя свитла и зиронька ясна,
Доленька ж моя прекрасна!
Одна беседа с нею так дорога ему, что ради нее он подвергает
себя опасности. Воображает она: плывет лодка; в ней сидят ее
родные, мать, отец, братья, сестры, и никто для нее не
остановится, страшась, чтобы в лодку не набежала вода. Но ее милый не
боится остановиться, лишь бы с нею поговорить, хотя бы.челн
водою наполнялся и погружался в пучину.
— Хоч весь човник воды набижить,
А все ж з тобою буду говорить:
Уже човник воды набира,.
А мий милый зо мною розмовля.
А вже човник у море пурина,
А мий милый зо мною розмовля.
Воображает она себе, что мужа ее берут в рекрутство, которое
представляется неволею. Ни отец, ни мать, ни братья, ни сестры
не хотят сбывать волов, коров, лошадей и золотых перстней, чтоб
его выкупить, а жена будет готова всего лишиться, лишь бы видеть
милого перед собой.
Ой лучче_ ж мени всю худобу из рук избути,
Абы ж мени моро. миленького у вичи видати.
300
Ей так любо пребывать с ним, что всякая разлука томит ее.
Вот он поехал в отдаленное поле орать, а подруга в одиночестве
провела четыре ночи, они показались ей десятью ночами. Ей бы
даже хотелось, чтоб у него волы пристали или изломался плуг,
лишь бы он скорее возвращался домой с работы.
Ой поехав мий миленький у поле орати:
Оре три дни у ярини, а день у толоци,
Выплакала кари очи за чотыри ночи:
Та вже ж мени си чотыри та за десять стали —^
Бодай мого миленького волики пристали!
Бодай волы живи були, а плуг поламався,
Що б мий милый из волами до дому вертався?
В прежние времена, в козацкие, разлука мужа с женой была
чаще и продолжительнее. Оставшись в одиночестве, жена
обращается к ветру и просит сообщить милому, как она тужит за ним.
Повий, повий витроньку,
С Побережа в Литвоньку:
Занеси висть милому,
Що я тужу по нему.
Коли б я крыла мала
То б я за ним литала.
• В одной песне былых времен живописуется картина семейного
быта по поводу возвращения козака. Он везет жене дорогой
гостинец —- шелковый платок, спрашивает ее, как она проводит ночи
без него; она сидит с двумя детьми, указывает мужу воду умыться,
утереться полотенцем, указывает на приготовленный ужин из
рыбы осетрины и приглашает ложиться. Козак говорить ей, что он
бился с турком и татарином, утомил коня своего, и прежде пойдет
привяжет его к белой березе.
Привиз мени гостинчик дорогий:
В ливой руци платочик шовковый...
«Ой здорова, моя мила* чи чуеш?
С ким же ты сюю ничку ночуеш?»
— 3 маленькими диточками ночую...
Стоить вода в видеречку — умыйся,
Висить рушник на килочку — утрися.
Лежить рыба осетрина — кормися.
Стоить кровать пуховая — ложися.
«Ой я с турком, с татарином воював,
Там я свого кониченька стурбовав.
Ой не ляжу, моя мила не ляжу,
Ой пийду до кониченька да до билои березы привъяжу».
Есть трогательная песня о смерти любимой жены, постигшей
ее от несчастливого разрешения от бремени во время отсутствия
мужа, которого в одних вариантах называют королевичем, а в
других просто козаком. Песня эта, преимущественно в вариантах
с наименованием королевича, распространена повсюду и даже
301
зашла в Великороссию, где совершенно обнародилась в
великорусскую песню. Молодец отправился, по одним вариантам на войну,
по другим — на охоту. Там приснился ему сон: из-под одной руки
у него вылетает сокол, из-под другой — кукушка.
С пид правой та рученьки вылинув сокил,
С пид ливои, с пид билои, сива зозуля.
Баба ворожея, к которой он обратился, объяснила ему, что это
значит — у него в доме родилось дитя, а жена его сама умерла.
Бижи, бижи, королевичу, до свого двора...
Учора из вечора сына вродила,
А сегодня к свиту й сама померла!
Молодец спешит домой и находить, что случилось так именно,
как сказала разгадчица. Вошедши в дом, он увидел мамок и нянек
с новорожденным младенцем, —
Аж там мамки, аж там няньки, та дитя колишуть.
«Ой ну люли, мале дитя, шо вчора вранци родилося,
«А сегодня в вечери осиротилося, —
и труп жены своей.
Увиходить королевич у нову светлицю,
Лежить его молода жона на всю скамницю.
Ударивши себя в грудь, он разразился горьким причитанием,
обращаясь к ногам, рукам, глазам и устам своей подруги, которая
окончила свою жизненную работу.
Ударився королевич у билыи груди:
«Нижки мои ризвисеньки, чом не ходите?
Ручки ж мои билесеньки, чом не робите?
Очи ж мои каресеньки, чом не дывитесь?
Уста мои сахарный, чом не мовите?».
Небогатые средства к жизни не мешают согласным супругам
считать себя счастливыми, —
Ой взяв жинку убогую,
Счаслив з нею, слава Богу... —
даже при крайней бедности и горе, —
Чи я яку тугу маю — вона дилить все зо мною! —
и он и она находят как бы утешение в том, что вместе
горюют.
«Жинко моя, жинко, ты моя милая,
3 воли Бога найвысшого така еь несчасная!»
302
Верная и любящая жена навсегда сохраняет горячее чувство к
своему супругу. Есть песня, где изображается, как козак
возвращается после девятилетнего отсутствия и жена, считаемая всеми
вдовою, не узнала его сразу, хотя неизменно любит его и предана
ему. Козак приезжает к ней, как чужой, требует сперва пустить
его на постой, потом овса своему коню, потом себе есть и пить.
Мнимая вдова отвечает, что она не сеет, не косит, не топит, не
варит, —
Я не сию, не орю — де ж я тоби наберу?
Я не топлю, не варю — де ж я наберу? —
живет в горе без мужа уже десятую зиму.
Уже тому девьять лит,
Чоловика дома нит,
А десятая зима,
Як горюю я сама.
Наконец козак приказывает стлать постель и ложиться спать
с гостем.
Стели гостю постилоньку
Давай з гостем спати.
Тогда вдова хотела бежать, вылезши через окно.
Да лучче ис хаты выступати.
В оконечки утикати.
Но тут козак открывается, кто он.
Молодая удивонько, се ж ты не вгадала
Кого, серце, лит за десять в поход выправляла:
Що на ливой на рученци дитину держала,
А правою рученькою очицы втирала.
Ой не есть ты удова, есть ты вирная жона.
Подобная песня есть у великорусов, где представляется солдат,
воротившийся со службы, но обе песни самостоятельны и не
показывают следов заимствования.
Лень и пьянство представляются обычными пороками как
мужчины, так и женщины, подвергаясь в песне насмешке, как
одна из видимых причин обеднения. Жена чистосердечно
сознается, что оба они ленивы.
Серденько мое, ледащо мы обое!
Нехай я, а то й ты, не хочемо робити.
Вот, — говорит она, — если б ты был хозяин — были бы у
тебя волы, я бы сидела дома и глядела за ними, была бы корова —
я бы за нею глядела, были бы овечки — я бы шерсть чесала:
303
Ой коли б ты хазяин, та волики соби мав,
Тоб я дома соби сидила, та волики глядила.
Ой коли б ты хазяин, та коровку соби мав,
Тоб я дома сидила, та коровку глядила.
Ой коли б ты хазяин, та овечки соби мав,
Тоб я дома сидила, вовночку чухрала.
А то люди едут пахать, а мы с тобою в корчму, люди за
дровами, а у нас болят головы, людик — за сеном, а на нас
беда насела! Дрянь мы с тобой, не хотим работать.
Люде едуть орати, а мы в корчму гуляти,
Люде едуть по дрова, а у нас болить голова,
Люде едуть по сино, а на нас лихо насило.
Иногда жена одна подвергается, этому пороку. В одной песне
жена говорит, что мать, выдавая ее замуж, дала ей в приданое
постель и на ее горе пеструю корову: надобно рано вставать, чтобы
доить корову, а ей хочется спать до полудня, и она так исполняет
свои хозяйственные занятия, что доит корову в среду, а цедит
молоко в пятницу и соседки, видя это, восклицают: вот так
хозяйка.
Як отдала мене мати замиж,
Дала мени билу постиль зараз,
Дала мени ще й рябу корову
Та на мою бидну голову.
До коровы треба рано встати,
А я люблю до полудня спати:
У середу корову доила,
А в пьятницю молоко цедила...
Дивуються сусидочки з боку,
Кажуть: буду хозяйка ни-вроку!
Надоела ей возня с коровой, она гонит ее в долину с тем,
чтобы ее съели волки; это случилось, и она очень довольна.
Да пожену корову в долину,
Гей, гей, корово, до вовка!
Добре, добре, що постиг вовчик:
Из коровы голова та хвостик.
Тепер мени пити та гуляти,
Нищо дойти, нищо заганяти!
Такая хозяйка любит посещать шинок и если пойдет из дома
покупать соль, то забредет в шинок, а между тем у ней дома в
окна прыгают свиньи, а ее малые дети, оставшись без матери,
просят есть, и отец сам принужден варить им еству.
А я пийду на базар соли куповати.
Соли не купила, та в шинк заблудила.
Свини в викна скачуть, малы диты плачуть:
«Ой тату ж наш, тату, затопи нам хату,
Та звари нам ести»,
304
Лень и разгул бывает качеством жены там, где бедняк женится
#а богатой, прельстившись ее срстоянием.
Дають плуги, волы сиры,
Сто червонных дають в руки.
Лиш бери биду на вики.
Тут начинаются наряды, шатания; по корчмам и шутки с
молодыми парнями.
И чоботы, и спидныци,
И корали и заушныци,
i Що недили — все музыки.
3 корчмы до корчмы ии водят, ч
За нею хлопци гурмою ходять* ,
Муж хочет ласкою отвлечь ее от этого и, не смея заявлять
слишком резко ревность, просит не давать целовать своего лица
другим.
Да иди, жиночко, да иди до дому,
Не давай личенька целовать никому:
Твое личенько — биле-рамъяне,
Хто, на, его гляне — серденько въяне.
Она или прямо без обиняков напомнит, что он беден, а ей
принадлежит хата, в которой они живут, —
Ой ты вбогий — я багата.
Моя хата, моя й правда, т-
или, подсмеиваясь над ним, велит сделать комору и держать
ее в ней под замком, под сторожею, а она все-таки уйдет.
Зрубай тополю, зроби коморю,
Да купи замочок, замыкай мене,
Сторожа заснула, а я молода, гулять махнула.
Она ругается над бедным мужем, заставит его кудахтать по-
куриному, танцевать до пота, смеяться, когда ему не до смеха, все
на потеху своим гостям: попу, дьяку и разным благородиям,
приказывает покупать себе наряды, а на обед гостям рыбу, мясо и
вино.
Бона его за чуб скубе, а вин бидный плаче.
Як заставить, по курячи Сидир кудкудаче,
Як заставить, то й танцюе, аж пит з лоба льлеться,
Ему уже не до смеху, заставит — смиеться!
Поки Сидор не женився — були в его гроши,
А як же вин ожбнився — капшук загубився.
Бо у жинки що недиля, що праздник, то гости,
Прийде пип, прийде дьяк, прийдут его мости.
Купи плахту, черевики, чоботы сапъянцы,
Треба рыбы, треба мъяса и горилки в шклянци.
11 Заказ 15 305
Он не смеет грубо обойтись с нею, хотя она,по двое суток не
бывает дома и приходит на третьи пьяною.
Ой мий милый, чорнобривый, я не забарюся,
Через два дни, аж на третий день до дому вернуся.
Он сам дает ей похмелиться, просит прибраться, причесаться
и наградить его приятным взглядом.
. Приходь рано на зори ище и похмиляйся,
Да прийди до дому, головку причешет, да вже и не валяйся,
Чепурная, хорошая, на мене дивися.
Только тайком от жены поделится он своею скорбью с родною
матушкою.
Где-сь ты, сынку, да плачет* рыдает*
Где-сь ты у себе доленьки не мает!
Твоя доля у корчми гуляе!
Пийди, сыну, зажени до дому!
По народному воззрению нет ничего достойнее посмеяния и
презрения, как муж, дозволяющий жене помыкать собою и даже
бить себя. В одной песне жена заставляет мужа S угоду себе
называть гречихою ячмень,
Ой посияв мужик ячмин, — жинка каже: гречку,
«Не кажи ж мени ни словечка, нехай буде гречка!»
в другой — жена посылает мужа отыскивать свой чепец,
который она потеряла, таскаясь по шинкам; —
«Ой пила я, пила, чипчик загубила
Прийшла-м до дому, еще мужа била:
Ой иди, мужу, хата вид хаты чипчика шукати.
Пийшов мий муж пидхлипуючи,
Своий жинци чипця видпытуючи», —
в третьей — жена бьет мужа и обливает помоями:
И смих и публика!
Била жинка чоловика,.
Била, била, волочила,
Та в помыях намочила.
Бедняк просит покормить его, m
Ой жинко моя, голубко моя! :' f
Дай мени вечеряти, коли ласка твоя.
а жена указывает ему на борщ, поставленный под лавкою
наравне с помоями.
;№
От там борщ пид лавою,
С хорошою приправою,
Помыйницею накрыто —
Так наежся досыта.
Подобные жены — приманка для волокит. В малорусской
народной поэзии можно отметить группу песен, где является
разгульная женщина, которая заводит себе любовника и проводит
мужа, нередко изображаемого стариком, так как, по народному
воззрению, старик, женившись, скорее всего может быть нелюбим
женою.
Задумав старый женитися, да никого брати,
Що стара не пийде, молода не схоче,
Ой хоч вона пийде дак не ляже спати,
Ой хоч вона ляже, мене не обниме,
Хоч вона обниме да не поцилуе,
Ой хоч поцилуе, дак до долу сплюне.
Молодец заранее говорит, что ему незачем жениться, когда
чернявая, красивая замужняя женщина зазывает его к себе.
На що мени женитися, бувши молодому,
Зазывае чорнявая до своего дому.
Эта женщина, еще будучи девушкою, просила мать отдать ее
за старого мужа, —
Отдай мене, моя мати, замиж за старого,
Буду его шанувати лучче молодого.
Дала мене моя мати за миж за старого;
Сюды-туды повернуся — треба молодого, —
и, ставши женою такого мужа, кличет к себе молодца. Он
сначала боится, чтобы муж не поймал его и не избил, —
«Прийди, прийди, серце мое, в недилю до мене!»
— Ой не пийду я до тебе, маеш чоловика;
Як попаде, буде бити, вмалить мени вика, —
но потом поддается искушению и приходит. Жена заранее
отправила старого мужа ломать калину:
«Пийди старый, пийди старый, калины ламати!»
Ой выскочив сиромаха с конопель до хаты, —
это символическое выражение; калина — символ брачного
соединения, и посылая старого мужа ломать калину, она как
будто с иронией хочет сказать ему, обессилевшему от лет:
найди способность быть супругом! Молодец- садится за стол,
начинает есть курицу — (которая между кушаньями по
народному мировоззрению имеет символическое значение свадебной
и любовной яств.ы.) — и обнимает красивую женщину.
11* 307
Сив вин соби кинець стола, курчя обберае,
А все ей за рученьку к соби пригрртае.
Ее дочь высылается матерью смотреть, чтобы дать знать, когда
отец будет возвращаться: с калиною; дочка хлопает в ладоши,
сообщая, что отца еще нет и мать может себе гулять.'
«Выйди, доню, на улицю, та й стань выгдядати;
А як буде тата ити — давай борзо знати!»
Выйшла доня на улицю, тай в дрлони плеще:
— Гуляй, гуляй, моя мати, не йде тато еще!
Наконец, завидевши в окно подходящего к хате мужа, —,
Ой глянула в кватирочку — калиночку видко;
— Увивався, превражий сын, коло мене швидко.
женщина прячет молодца под кровать, —
Уже старый бородатий двери видчиняе,
Вона свого миленького пид кровать ховае, —
притворяется больною и посылает только что воротившегося с
калиною мужа принести ей медового сота.
Прийшов старый бородатый з калинов до хаты,
Як стояла, так упала, зачала стогнати.
— Чого ж ты* моя мила, так заболила?
• «Не знаю ж я, старый диду, трохи не зомлила!
Пийди, старый, старесенький, та наколупай меду,
То може я, старый дидоньку, головоньку зведу».
Когда старик ушел за медом, она спровадила от себя молодца.
Пийшов старый бородатый меду колупати,
Вона свого миленького за руку та з хаты.
Старый муж возвращается с медовым сотом и догадывается,
что происходило, но открыть и обличить не может.
Иде старый бородатый у тарилки креше:
Ой був же тут, вражий сын, тильки мисце тепле.
Не всякого мужа можно так обманывать. Другая песня
рассказывает, что жена старенького мужа прикинулась больной.
Россердилась мила тана свого мужа,
Полизла на пичь, зробилась недужа.
Ходить милый, ходить, билы руки ломить, ,
Умре моя мила, уже и не говорить! - л ,
Муж сперва тревожится, ухаживает, предлагает ей то пива, то
меду, то горелки, —
Ой устань же, мила> куплю тоби пива...
Ой устань же, мила, куплю тоби меду...
Ой устань же, мила, я куплю горилки... —
308
все напрасно; жена твердит* что умрет и он должен будет
искать себе другую жену.
Ой не встану, милый, шукай собй жинки.
Верно, — говорит она, — ты меня не любишь, когда не
достанешь мне лекарства.
Видай ты мене, милый, не любиш.
Що для мене ликарства не купит.
Муж отправляется искать лекарства, —
Пийшов старый вид хаты до хаты
Молодий жинци ликарста шукати, —
срубил дубину, —
Зрубаеш дубинку милий на спинку, —
нашел дубового сала, намастил им снину своей милой, —
Ой надыбав дубового сала,
Як змастив милу,, аж шкура видстала!
и она стала здорова, села около своего мужа, поела, попила,
как здоровая, и обняла мужа.
Милая устала, край милого сила,
Шматок хлеба изъила,
Воды напилаея, з милым обнялася!
И нарушитель супружеских прав не всегда так легко, как
прежний, избегает расправы. Есть распространенная в разных
вариантах песня о Шмаровозе и дьяке. Шмаровоз — (возомаз, т. е.
чумак) летом и зимою ходит в дорогу, а жена в одиночестве
скучает дома.
Святый Боже, святый крипкий, святый и безсмертный!
Полюбила шмаровоза, треба з жалю вмерти.
Ой як лито так и зима усе по дорогах,
А я бидна несчастлива, погибаю в дома.
Явился развлекать ее от скуки дьяк (дьячок), — он гулящий
человек; он сам набивается к ней ужинать.
о Обизвався пан дяченько, чоловик гулящий,
Прийми мене на вечерю, я в тебе найкрасчий.
Но тут неожиданно возвращается домой хозяин, ездивший в
дорогу. Дьяк прячется под печь. Шмаровоз, допросивши жену и
узнавши все, приказывает зажечь свечу, —
309
«Прошу, милый, сей раз выбачати,
Я приймала дячка панка та до евоий хазы?»
— Ой выбачу, моя мила, выбачу,
Ой засвети ясну свечку, най его зобачу, —
отыскивает дьяка, который сидел за печью, согнувшись, и
уверял, что он невинен: его пригласила хозяйка.
Найшов дячка-неборачка — в куточку зигнувся^
«А хто тебе тут запросив?» — Просила Ганнуся.
или: ,
Ой засвити, Марусенько, восковую свичку,
Нехай же я подивлюся хто сидить в запичку,
Аж там дячок-неборачок у кузуб зогнувся:
«Присяй Богу, я невинен, просила Маруся».
Шмаровоз отвалял дьячка и прогнал его читать азбуку в
школе.
Тай зачали пана-дяка в штыри кии прати:
— А до школы, пане дяче, азбуки читати!
Прибежавши в свою школу, дьячок говорит своей братии
дьячкам: лучше дома есть сухари с водою, нежели пироги у чужой
жены! Вы, дьячки, будете себе петь, а я целый месяц буду лежать.
Лучче було .дома ести сухари з водою,
Ниж в чужой молодыци пироги на столи.
Вы, дячки-неборачки, будете спивати,
А я буду цилый мисяць лежати.
Подобную роль волокиты дьячок играет во многих народных
рассказах1.
Есть немало песен с таким же содержанием, где молодец,
заводя связь с чужою женой, подвергается суровой каре.
Чогось мужик догадався, в синях притаився,
А я хлопець гарный був до жинки згодився.
Мужик думав, що яшный снип, почав молотити,
Побив руки, побив ребра, не можна ходити.
Иногда неверная жена кидает мужа, семью и убегает с
любовником. Такова история Семена и жены его Катерины» о которых
поется повсюду в малорусском народе. Семен выехал в поле
пахать и не мог дождаться жены своей Катерины, которая должна
была принести ему обед.
1 То же повторяется с видоизменениями в малорусских сценических
произведениях, например, в Москале Чаривнике, в Куме Мирошнике, в
Риздеяной ночи — опере Лисенка.
Ope Семен, ope, на шлях поглядае*
Чужи жинки обид носять, а его не мае.
По одним вариантам она гуляла с москалями и ушла с ними
куда-то, —
Его жинка Батеринка гуля з москалями, —
по другим она сама соблазнила сына богатого человека бежать
с нею и найти новоселье в Украине.
Подмовила Катерина багацького сына:
«Покинь отця, матку, я покину детки,
Пийдем в Украину помишканя глядити».
Пришедши домой, Семен узнал от детей, что мать их попро^
щалась с ними и отреклась от них.
«Ой пийшла ж наша мати у луг по калину,
Ой щось вона говорила, що я вас покину.
Ой пийшла ж наша мати у лис по теляты,
Ой щось вона говорила, що не ваша я мати.
Ой пийшла ж наша мати у лис по коровы,
Ой щось вона говорила — бувайте здоровы.
Ее не было; имущество было расхищено.
Узяв Семен ключи, одчиняе скрыни,
Нема сукень, нема платьтя, нема Катерины.
Семен разразился плачем об осиротелых детях и призывал
кару высшего правосудия за свои слезы.
Ударився Семен об полы руками:
— Дитки мои маленький, пропав же я з вами!
Ударьте морозы на сухие лозы!
Побий, Боже, Катерину за Семеновы слёзы.
Тем песня и оканчивается.
В Галичине поется несколько песен, изображающих убийство
женою мужа. Первая из таких песен — о попов ичевой жене Текле.
Событие происходило в Монастырищах. Текля — жена Андруся,
впускает к себе через окно любовника по имени Яненька, вручает
ему топор> а он зарубает, лежащего в постели поповича.
^"* - Ой загубила свого мужа та поповича жинка,
Ой не сама ж вона его загубила,
; Тилько к соби Яненька да викном впустила...
То зараз бо ему сокиру вручила;
Та почав же Яненько та сокирою рубати.
Преступница убежала с своим любовником, но была схвачена
и приведена на суд перед пана Замойского. Ее родитель приносит
Замойскому деньги, умоляя пощадить дочь от смертной казни,
Ш
А Теклин батенько котиком гроши носить, , <
Пана Замийського низьким уклоном просить:
Ой рач же, паноньку, тии таляры взяти,
А мою дочку Теклу вид смерти рятувати.
Это ей не помогло. Текля присуждена к смерти,
Не помогли ей а ни батеньковыи гроши...
От уже ж бо осуджено, щобы Теклу не пущено,
Та щоб ей головку пид меч положено.
А когда ее вывели казнить, мать ее с отчаяния хотела
утопиться, но козаки удержали ее.
Ой в пятницю вывели вже Теклу губити,
А Теклина мати пийшла ся в води втопити.
Ой стойло ж там два козаченьки в броду,
Тако и не пустили Теклиной матки в воду.
Сама Текля бесстрашно встретила смерть, произнося уверения
в любви к своему любовнику и в ненависти к мужу.
А Текла на смерть та спильна поглядае,
До свого Яненька стыха промовляе:
«Чи видиш, Яненьку, там Андрусеву яму?
Я Андруся не любила, з Андрусем не лягну!».
Другая песня — о Парасуне, которая в Голиградах умертвила
своего мужа Иванка, через три дни после свадьбы с ним, находясь
в соумышлении с Семеном Гапюком:
В Голиградах на пущиньня стала ся публика:
Зарубала Парасуня свого чоловика.
Ой у четвер тай шлюб брала, в недилю гуляла,
А з вечера из низненька Иванка зрубала,
Бо с Семеном Гапюком едну раду мала.
Она бросила труп мужа в воду, —
Порубала-сь Иваночка та пустилась в воду, —
но через шесть недель, —
Нема, нема Иваночка цилых нидиль шисть, —
труп выплыл; преступление открылось.
Ой выплынув Иваночко на Деливське поле,
Дають знати до Голиград тай Деливськи люде:
«Семен Гапюк с Параскою несчасливый буде!»
Парасуня, позванная к суду, сначала не сознавалась, —
312
Не хоче ся Парасуня за Иванка признати; —
но когда ее повели в Станислав и передали суду Немцев —
она открыла всю правду, —
Ой узяли Парасуню аж до Станислава,
Аж там буде Парасуни справедлива справа,
Ой казали Парасуни перед Немци стати,
Втогды взяла Парасуня всю правду казати, —
и была повешена за городом.
Повели ю за Станислав да й там повесили.
Третья песня — о шинкарке Явдосе в Тужилове. Она зарубила
своего мужа шинкаре топором. Во время совершения
преступления проснулось дитя; преступница, испугавшись, побежала к
своей матери и в тревоге объявила, будто гайдамаки напали на ее
мужа; Мать догадалась, в чем дело, и сказала, что, верно, она
сама его убила.
Ой лег шенкарь на постеле, шенкарка в запичку.
Не встит шенкарь задремати, вона зажгла свечку...
Ой светиться бела свечка, вна взяла гадати:
«Поможи ж ми, диаволе, шенкаря зрубати»...
Затяла го раз в голову, а двичи у груде...
А дитя ся прохопило: «що то, мамо, буде?..»
Вона була молоденька, того ся злякала,
Вже у двери не трафила — викном утикала.
Ой прибегла до матинки: «пускайте ж до хаты!»
Якись прийш ли. гайдамаки шенкаря рубати!
Ей мамка стара була, та ся здогадала:
«Ведав же ты, Евдоеенько, сама го зрубала!»
Тогда она бросилась на колокольню и стала звонить. Сошлась
на звон тужи лов екая громада, —
Як прибегла да дзвиннице, взяла в дзвоны бити,
А взяла ся Тужиливська громада сходити... —
преступнице, как видно, • не поверили и отправили ее во Львов,
на расправу.
А взялися исходити, взяли суд судити:
Треба тебе, Явдосенько, аж до Львова взяти.
Она жалуется на мать свою, обвиняя ее за то, что ее отправили
во Львов, где ей придется согнить в муках.
Дяковать ти, моя мамко, за таку науку!
Тепер я иду, молоденька, до Львова на муку.
313:
Там постигла ее кара.
Пийшов шенкарь молоденький в сыру землю, гнити,
А шенкарка Явдосенька карами робити!..
Четвертая песня — галицких Лемков1 изображает жену,
которая убивает мужа, и схоронив его в саду, посадила на его могиле
руту (символическое растение одиночества), которая выросла у
ней. под самое окно.
Сошла нам ся новина,
Пани пана забила,
В огородку го сховала,
Рутку на нем посеяла.
А рутка ся сбахтала,
Аж до викна достала.
Приехали братья покойника, спрашивают: где брат? Она
отвечает, что на войну услала его; они обличают ее ложь, говоря,
что они там были сами и видели бы своего брата, если б он поехал
на войну. Потом увидали они кровь по стенам; преступница
сказала, что служанка резала курицу, но братья возразили, что если
б десять куриц зарезали, такой крови бы не было. Наконец, они
замечают, что дети смотрят как-то уныло, будто долго не ели и не
пили. Мы ели и пили, — сказали дети, — но то нам немило, что
отец лежит, а у него нож в сердце.
«Наша невест не мила!
Чом ти дети смутный?
Ци ти хлебец не ели?
Ци ти винце не пили?»
— Ой ели мы, пили мы,
Але нам есть не миле,
Бо наш отець на ложе,
Серденько му на ноже.
Тогда братья повели ее в лес... она говорит, что у ней в
Кракове есть братья и те ее откупят. Братья не хотят ни серебра, ни
золота, а требуют смерти за смерть.
— Ведте же нас без Кракив,
Маю я там трёх братив.
Мене братьтя откуплять! —
«Срибла, злата не хочеме,
Леш смерть за смерть кладеме».
Песня эта чуть не дословно схожий вариант с такою же
польскою, замечательною потому, что она послужила Мицкевичу длк
его баллады «Лилия» — которой названием заменил польский поэт
название слишком простонародной руты.
1 Лемки — один из видов карпатских горцев, живущий в северной
части карпатского подгорья.
314
Из песен такого же содержания, где бы изображалось
убийство мужа, совершенное его женою, в малорусском крае, вошедшем
в пределы Российской Империи, мы не встретили ни одной, если
не считать очевидно заимствованного из Галичины варианта
предшествовавшей песни.
Но есть песня, где жена сводит со света мужа не оружием, не
каким-либо смертоносным веществом, а волшебством слова,
которому вообще народ суеверно приписывает чудодейственные силы.
Выправляя мужа в дорогу, жена прокляла его, пожелав^ чтоб его
конь превратился в холм, его сабля — стала бы дорогою, его
шапка — глыбою земли, его синяя одежда — чистым полем, а он
бы сам — явором.
Що б ему кинь горою став,
А шабелька дорогою,
А шапочка купиною,
А сини сукни чистым полем,
А сам молод — явороньком.
Так и свершилось. Вдова вышла с детьми, стал накрапать
дождик; она хочет укрыться под явором, а явор открывает ей, что
он — отец ее детей.
Дай став дощик накрапати...
Пийшла вдова пид явора:
«Явороньку зелененький,
Покрый диты сиритоньки!»
— Ой и я ж не яворонько,
Яж тым дитям да батенько.
Згадай, як мене выряжала,
Выряжаючи проклинала!
Большинство песен семейных поется женским полом и
сообразно с этим чаще всего в песне говорит и чувствует женская
особь. Немало песен, в которых выражается недовольство
женщины замужеством. Супружество сравнивается с тяжелым
мельничным жерновом.
Який то великий тот каминь млинський,
Який то тяжкий тот стан малженський!
Тот каминь млинський можно обернута;
А стан малженський не можно кинути.
Тот каминь млинеький можно крутити,
А стан малженський не можно лишити.
«Развяжи, матушка, мне свет, который мне завязала, надевши
на меня белую наметку», — говорит отданная замуж своей
матери, -
«Розвъяжи ми, мамко, кветок, як есь завъязала!
Ой мий светку, ой- мий светку, як маковый цветку,
Тосьте ми го завъязали в белу перемитку», —
и мать сознается, что свет развязать, дочери труднее, чем
пустить камень плавать против течения. - ,
«Ой як тяжко каменеви верх воды плавати;
Еще тяжче, моя дочко, светок розвъязати;
Хиба тобе вже розвъяже рыскаль та лопата!».
Впрочем далеко не всегда недовольная замужеством винит
других, а часто сознается, что попала в беду по собственному
неразумию.
Ой мала ж я дурный розум — замуж квапилася,
Не силовав мене отець, ни ридная мати:
Сама м беду полюбила, ни на кого нарикати.
В некоторых песнях причиною недовольства является
пребывание в чужой стороне меж чужими людьми, в удалении от рода.
Вот следы того древнего быта, когда при разъединенности и
разбросанности жительств, действительно вышедшая замуж жила
далеко от тех мест, где проводила девичество, и между чужими, а
иногда и враждебными ее роду людьми. Еще тогда, когда мать
отправляла ее из родного дома в чужую сторону и спрашивала,
когда ее дожидать к себе в гости, дочь с унынием отвечала, что
тогда дожидать ее, когда вырастет трава на помосте.
Выправляла мати дочку в чужу стороночку,
В чужу стороночку, меж чужии люде.
— А хто ж тебе, моя доню, жаловати буде?
«Пожалують, мамцю, чужии люде,
Як у моей головоньци добрый розум буде!..»
— Коли ж тебе, моя доню* сподиваться в гости?
«Як выросте травесенька в хати на помости».
. Она жалуется своему брату, что она плачет на чужой стороне,
прядя чужую кудель, что ее зовут чужестранкою, сравнивает свое
положение с переходом вброд быстрой реки, скорбит об
отсутствии родных, недовольна чужою матерью.
За ричкою, за водою брат сестри покланяеться —
Я до него листы пишу, слёзоньками умываюся.
— Добре тоби, мий братчику, на коньку играючи,
Ой як мене на чужини, чужу кужиль выпрядаючи.
Ой в далекий сторононьци называють заволокою,
Кажуть мени ричку брести широкую та глыбокую.
Нияк ии перебрести, ни перетыкнути,
Прийдеться на чужини без родины загинуты.
Не так мени та чужина, як та мени чужа мати,
Каже мени чужа мати з пид каменя огонь брати.
Не збыткуйся, чужа мати, не збыткуйся надо мною,
Завъяжи мене чорни очи, пускай мене за водою!
Нехай мои чорни очи в сырой земли та писок точять,
Нехай мени чужа мати головоньки та не клопочить.
316
Она бы запела песню в^ свое:утешение, но на чужой стороне
станут над нею смеяться, • ■ .
Ой кувала зозуленька,, теперне чувати: , >■_,
Ой де я ся не родила — мушу привыкати.
Спевала бытм спеваночку, коб то ей вдати,.
Ту чужая сторононька, будут ся смеяти.
. Муж,, стараясь развлечь жену, советует ей дойти к соседке
куме и поговорить с нею, —
Ой жинко моя, дружино моя!
Через улицю -г кума моя,
Огню огреби та й поговори, —
но жена не избавляется таким способом от гнетущей ее тоски.
«Ой я ходила, тай говорила;
Та твоя кума мене осудила».
Около нее все чужие, а ей хотелось бы сообщиться душою с
своими родными. Пошлет она к ним птиц, но птицы не доставят
ей слова от родных.
Накажу я до родоньку свого хочь чорною та вороною,
Ни родины з Украины, ни чорнои та ворононьки,,
Та вже ж мени надокучила а чужая та сторононька.
Щебетала ластивонька зо дна моря вылитаючи,
Та вже ж мени надокучило родиноньки да не маючи.
Она сорвет розовый цветок и бросит в воду; воображает она —
приплывет цветок на ее родину, мать ее выйдет за водою, поймает
цветок, заметит, что цветок завял, и сообразит, что, должно быть,
и дочь ее так вянет, подумает — болела дочь долго, когда
брошенный ей цветок увял на. воде, Нет, матушка, скажет она, я не
болела, не лежала ни дня, ни часа, а от тоски и грусти лицо мое
исхудало.
Вырву ж бо я квитку, та пущу на воду.
Та плыви, та й до роду,
Да буде ненька воды набирати,
Зачерпнула з рожи квитку:
«Чи ты, моя дочко, три годы лежала,
Чи два болида, що квитка зивъяла?
— Не лежала ни дня, ни годины, -
Лиш сухоты, та згризоты на личку змарнили.
Большею частью недовольство замужней женщины на свое
положение представляется происходящим от беспутного поведения
мужа, впадающего в обычный народный порок — пьянство.
Посмотрите, люди добрые, говорится в одной песне — каков
пьяница! Что у него есть? Все тащит он и отдает за водку, все
317
вытряхивает жид из его дома. Лезет, шатаясь, домой из корчмы,
страшен, как клоп, гол, как бык, глуп, как козел, все лицо его
исцарапано, общипали его, как гуся, нагишом пустили,
обливается он слезами: его колотили.
Диветеся люде добри, що пьяниця мае?
А що видить — бере з хаты, за горевку дае,
Затягнувся сам у корчму, тай став голдувати,
А що занис — усе пропив, жид вытрусив з хаты.
Лезе в потич до домочку, страшный як блощиця,
Голый як бык, дурный як цап, подряпани лиця,
Обскубли го як гусака, голого пустили,
Аж го слёзы обливають: от тож то го били!
Вот женщину против ее воли отдала за такого пьяницу мать, —
Мене матюнка не жалувала;
Силомиц замиж отдала
Ддала мене за пьяниченьку!
другая, оставшись круглою сиротою, вышла за пьяницу, —
А на моий голови штыри крушины:
Ой перша крушина — отець-мати померла,
А другая крушина — сестра з братом померла,
А третя крушина — пийшла замуж молода,
Четвертая крушина — за пьяницю пийшла! —
послушавшись совета добрых людей и утопила свою головушку.
А ще к тому прираяли люде:
Пийди за-муж, добре тоби буде,
А я людську воленьку вволнила,
Да навики головоньку втопила.
Третья — не слушала своих старых родителей, полюбила
молодого козака, а теперь водит его из корчмы пьяного, —
Ой дурная ж я й да нерозумна дивчина,
Не слухала тай отця-неньки старого,
И послухала й да козаченька молодого —
Веду ж его й да за рученьку пьяного!
и сожалеет о своей неисправимой ошибке.
Як не силував батько, а ни ридная мати,
Сама пийшла, гирьку долю знайшла — не на кого жалкувати!
Вот одна жена пьяницы идет искать своего мужа, который пьет
без просыпу уже более недели, и не знает она, где отыскать tro, —
Пье пбяниця неделю, пье пьяниця: другую...
Да й забула попытать, де пьяниченьку шукать. .
313
находит его в корчме, —
У шинкарки спить пид лижком, —
он уже весь пропился, и коня, и седло пропил, и штаны, и
рубашку с себя отдал за водку — остался нагишом в шинке.
Пропив коня и сидло,
Пропив штаны, сорочку
_ „ шиночку
Та сив голый у *%
J куточку
Стала было жена его укорять, —
Ой пропою, пропою, пропала я с тобою! —
а он — тотчас стал драться.
Як ударить мене раз,
Покотилась я у грязь,
Як ударить мене вдруге,
Покотилась я меж люде»
Тут является у него какая-то кума, дает ему вина, дает штаны
и сорочку.
Где сь узялася кума, —
Штаны й сорочку дала,
И до дому привела.
Кума в народном образе выражения имеет подозрительный
смысл, если с нею находится в дружбе женатый человек.
Ой кум куму полюбив
По садочку проводив,
Нарвав куме ягидок
Та насыпав в хвартушок.
Ежте, кумо, ягидки,
Который солодки,
Который гиркеньки —
То то ж моий миленький.
Другая жена пьяницы сидит одна дома; возвращается из
корчмы пьяница. Ей велят выходить к нему навстречу» брать его под
руки, раздевать, разувать его, —
Велять мени дай устрич выходить,
н> 1 Велять мени ще й под рученьки брать.
Велить мени розувать-роздягать, —
а ей это противно. Пьяница это знает и, приближаясь к
дверям своей хаты, кричит: отворяй, жена, двери, я твой
милый:
Ой, одчини ж, мила, двери, во я твий миленький..
Его' го лею наводит на нее страх * она хотела бы убежать, но
не успеет:
«И ой не одчинюся, бо дуже боюея* ~
Зачую ж твий голосок, деж подинуся; - ,
В виконце не смию, у дверечки не вшию».
Он является и тотчас ее за косу, —
Мила одчиняе, за двери ступае,
А вин ей бье сердешну, за косы хватае, — '
да в лицо, —-
Вдарив милу по плечи, ще й по билому лицю,
Аж полилась кров чорвона по шитому рукавцю, —
да по голове, хватает плеть и стегает по плечам.
Да взяв милый дротяну плить,
Дай став милую у плеченьки грить.
Она пытается его успокоить, а сама в то время желала бы,
чтобы земля расступилась и укрыла ее от него.
Росступися земле, да росступися ж, мати,
Пойду сама жива в тебе, що б не горювати!
Пьяница велит постлать себе постель, а самой жене готовить
ему есть, —
Загадуе билу постиль стлати,
Загадуб мини снидать готувати, —
иногда же приказывает поцеловать себя, а ей, конечно, не
хочется.
Зараз велить циловати,
Не хочеться цилувати.
Целую ночь бедная жена готовит пьянице завтрак, но что
могло сохраниться в домашнем обиходе у пьяницы! Ставит ему жена
борщ без мяса.
Борщ поставила без мъяеа, ,
Сама сила и пидперлася.
Раздраженный пьяница мечет миску к порогу»
320
Летит миека до порога.
- Ему. хочется похмелиться. Давай, жена, свою наметку
пропить, а не то встану бить тебя, —
«Здиймай, жинко, хоть намитку,
Неси ей за горилку.
А устану — буду бить,
Що ничого буде пить», -~
кричит он. Жена бросается вон из хаты. — Разве ты моего
нрава не знаешь, что убегаешь? — говорит он ей.
«Да чого, мила, за порог утикаеш.
Хиба моих норовив не знаеш?»
— Знаю твой нрав и оттого бегу —- отвечает жена.
— Ой я твои норовоньки знаю,
Що що-день твоих ручок не минаю!
Она по опыту знает, что нагайка — не игрушка, — как
ударит, так и рассядется кожа. Не раз уже приходилось ей, после
напрасных просьб не бить ее, ночевать в вишневом садике,
слушая птичек, —
С хаты виконцем втикала,
В вишневим саду ночувала,
Ризны пташки выслухала,
В саду зозуленька: куку, куку!
А я, молода, терплю муку;
В саду соловей тех, тех.
Котиться слеза як горох, —
или беседуя с ежевичным кустом о своем горе.
Стала мида окном утикати,
3 ожиною стиха розмовляти:
— Ой ожино, ожино синенька!
Пропала ж я тепер молоденька!
Уже не раз приходилось ее белым ножкам ходить по морозу,
а ее русой косе трепаться по двору.
..о Уже мои били нижки по морозу походили...
Г;. Уже моя руса коса по двору помаяла.
Но как ни несносен муж пьяница, а жене бывает жаль его, —
...Оно мни жаль миленького прекрасного молодця, —
и когда ен бьет ее, она напоминает, чтоб он не бил ее, потому
что ему самому, будет, жалко, . когда он протрезвится*
321
Та не бий мене, мий миленький, як ты пьян,
Бо на другий день буде тоби мене жаль!
Приходит к ней родная мать и, узнавши, что пьяница спит,
говорит, что лучше когда бы он не просыпался вовсе, —
— Спить пьяниця в новий комори — гляди его не збуди!
Нехай спить, нехай лежить, та нехай и не встане,
Нехай твоя бидна головонька од журботы одстане, —
но дочь отвечает ей, что если с ним горе, то без него также
будет горе, когда она останется с детьми.
В мене дитки маленький —• горе жити без его!
Поведение мужа гуляки становится более оскорбительным для
жены его, когда он заведет себе куму. Законная жена делается ему
отвратительна, противно ему все, что она делает. Вот жена просит
не бить ее: она в субботу покажет ему свою работу. Муж отвечает,
что работа ее не мила ему, что он будет бить, истязать жену, а в
воскресный день, у него будет иная подруга.
«Не бий мене, мий милый, в суботу
Покажу я тоби всю свою роботу!»
— Нечиста, плюгава, ще й к тому гадлив*
Мене твоя робота жодна не мила;
Буду бита, буду катовати,
Як прийде недиля — буду иншу мати.
Зачем тебе другая? — говорит ему огорченная до ожесточения
жена. — Ты ее до смерти замучишь? — О нет, — говорит муж,
дразня ее, — мучить ее не стану, найму к ней работницу, чтоб
она сама работала только слегка и в добре и холе проживала.
«На що ж тоби, милый, иншои шукати!
Будеш ты ей на смерть забивати!»
— Не буду я ей на смерть забивати,
Буду для ней наймичку держати,
Щоб вона в мене легченько робила,
Щоб вона в мене хороше ходила!
Бедная женщина, после такой выходки мужа, обращается
мысленно, к своей матери и думает, как было бы матери горько
узнать про это.
Коли б тее ридна мати знала,
То б вона по мени з жалю умливала. ^
Иной муж потому возненавидит свою жену, что женился на
ней не по собственному влечению, а по приказанию отца:
«Велив менн батько, щоб я й оженився,
Щоб не ходив в темной ночи, да й не волочився;
Ой я батька послухав и взяв оженився,
Да взяв женку не пид мысли, не хочу з нею жити.
ш
Такой после сам не знает, чтоб с нею сделал, и готов бы
извести ее со света.
Ой жинко голубко!
Ой де мени тебе дйти,
Не хочу глядити!
Чи мени продати,
Чи в службу виддати?
Он заводит себе куму-разлучницу, а покинутая жена
разговаривает с кукушкою и узнает через нее, что ее отсутствующий муж
ходит в городе и покупает подарки не жене, не детям, а
разлучнице:
...По рыночку ходить,
За белу рученьку розлучницю водить;
Мед-горевку носить, кармазин торгуе,
Не мене молоденькей, не детям маленьким,
Но тий разлучнице, що нас розлучила.
Свбей жене он также принесет подарок, но этот подарок —
проволочная плеть.
Мий милый иде, иде, гостинець несе,
А який же гостинець — дротяную плить.
Ты не искренен, душа моя, —
Ой десь у тебе, серденько мое; й уся нещирая правда,
Да и ой ты иншую маеш! —
скажет ему жена, догадываясь, что у мужа есть где-то на
стороне зазнобушка. Муж с донжуановским самохвальством
ответит ей: сколько в степи цветов, столько у меня найдется
милых по белу свету. Ведь у меня и конь вороной, и я сам
молодец, вот только у меня нелюбая жена.
Пойди, мила, в степ, да глянь по степу,
Скилыси в степу билого цвиту?
До стильки в мене чужих милых е по билому свиту!
Коник вороный, сам я молодый — нелюбу жинку маю,
Ой коли б я знав, хорошу б узяв.
Хотя бы их у тебя было двадцать четыре, а я все-таки старше
для тебя всех их: мы ведь в церкви вместе были, венчались,
Единому Богу присягали.
Нехай буде двадцать и штыри,
Таки я старша над ними!
В едний мы церкви бували,
На едким мы рушнику стояли,
Едному мы Богу присягали.
323
Чем более сближается он с разлучницею, тем ненавистнее
станет ему законная жена.
Чужа жинка слаше меду и вина, •
Чужу жинку цилувавбы милував, »..,,;
Свою жинку ростерзав бы, розирвав.
Одинокая, она, как былина в, поле, достелет постель, сама
одна ляжет спать.
Ой сама я сама як былина в поли,
Да никто не порадить мене, молодой...
Постелю постилоньку й сама спати ляжу.
Перед рассветом возвращается муж от своей полюбовницы.
Пид белый свет до дому йде.
Жена хочет его раздеть, разуть^ приласкать, он отталкивает ее
и говорит, что есть другая, которая, как он хотел бы, разденет,
разует и в белое лицо поцелует его., -
Одступися од мене, нелюба,
Тая ж мене роздине, розуе,
Да в билее личкб поцилуе.
Бывает горе замужней женщине и оттого, что муж у ней
окажется ревнивым. Всем угожу, — говорит в песне такая
женщина, — и свекру, и свекрови, а ревнивому мужу никак не угожу,
до тех пор пока не положат его в могилу.
А милому-ревнивому
И по вик не вгожу,
Хиба ж тоди угожу,
Як на лаву положу. \
Сам он пьет, гуляет, а пришедши домой, дуется на жену, не
хочет говорить с нею, не садится с нею есть и пить.
Я выношу ему ести,
Вин ие хоче зо мною сести,
Я выношу ему пити,
Вин не хоче говорити.
Рассердится неведомо за что: верно, — говорит жена: — за то,
что я у кумы сидела, да женатому поднесла стакан меда.
...Иде ревнивый муж до дому,
Несе... три плеточки дротяныи.
Тай не знаю, що и з& що!
Хйба за те що я в кумы гуляла,
Що й жонатому стакан меду пиднесла?
324'
Ей, молодой, хотелось бы погулять, вспомнить свое красное
девичество, —
Хотилось бы молоденький.погулять,
Свое красне дивованьнячко згадать^
но ревнивый муж ей скажет: тогда воротится к тебе гулянье
твое, когда зимою кукушка закукует;
Як зимою зозуленька закуе,
Тоди вернеться гуляньнячко твое.
Пустят ее свекор и свекровь и все прочие члены мужниной
семьи, а муж ревнивый не пустит, да вдобавок, погрозит ей
нагайкою, —
Хоть же я пущу — дак нагайка не пустить! —
а если как-нибудь она самовольно проберется на чужую
свадьбу, то загоняет оттуда батогом.
Людьски жинки пьють, гуляють, мене слёзы обливають.
Своей воли набралася, на весильля погналася,
Иде милый за мною, несе батиг пид полою,
Як взяв мене грити, не знала ж я як гуляти.
Ревнивцу делается досадно даже и оттого, что жена
похорошеет без него, в его отсутствии.
Да приихав мий миленький пизно,
Да роскидав билу постиль ризно.
«На кого ж ты, мий миленький, злуеш,
Що мою билу постиль гайнуеш?»...
— А на тебе, жону молодую,
Що покинув як нитку тоненьку,
А застав як рожу повненьку,
Що покинув як рыбоньку въялу,
А застав як ягодку красну.
Нагайка постоянно висит на крючке для жены и не раз ей в
тело влипает.
Нагайка дротянка с кручка не збувае,
*'Л1 С кручка не збувае, у тило влипае.
Нагайка и побои •— постоянная принадлежность замужества,
если между женою и мужем нет согласия и любви.
Часто жена скрывает свое домашнее горе, так что со стороны
людям кажется, будто она живет благополучно, тогда как она
беспрестанно проливает тайком слезы.
325
Кажуть люде, що пануеться.
Не паную, мамо, я горюю.
Кажуть люде, щом счаслива: я тым веселюся;
Ой не знають як я не раз слезами заллюся.
Когда зимою муж ей под глазами фонарей наставит, она, вы-
шедши на улицу, говорит соседкам, что это ее пчелы покусали,
хотя соседки смеются над этим, зная, что зимою пчелы не жалят.
«А що у тебе синце пид очима?»
— Ой ходила по садочку, пчияка мя вкусила.
Даже родным своим такая не жалуется, а видя летящих гусей,
просит их передать ее родным, что она благоденствует, но отнюдь
не говорит им, что она терпит горе, потому что иначе родные не
станут бывать у ней в гостях.
Не кажите, били гуси, що я тут горюю,
А скажите, били гуси, що я тут паную,
Як будете, били гуси, правдоньку казати,
То не схоче родынонька в гостини бувати.
Это, впрочем, черта не всеобщая: есть много других,
показывающих как несчастная в замужестве хочет поделиться своим
горем с родными, особенно с матерью. Об этом скажем ниже.
Особенно тяжело бывает замужней жить с нелюбым мужем,
если до замужества она любила другого и была им любима.
Ой гаю ж мий гаю, густый — не прогляну!
Пустыла ж я голубонька та вже не пиймаю.
Ой гаю ж мий гаю, цвитеш дуже ридко;
Кого родом я не знала — присудив мя дидько.
Иную сватали женихи получше* а она не пошла, полюбила
негодяя и погубила себя.
Сватали красчи — я за их не пийшла,
Ледачого полюбила
Сама себе погубила,
Така доля моя!
Бывает, что прежний, который любил ее, встретится с нею,
попрекнет ее, —•
Ох держав мене та за рученьку славный парень мий
А державши за рученьку, вин говорить зо мною:
Ой не йти б було, мое серце, за-миж, лучче-б було дивчиною! —
поплачут они вместе, если прежде любили друг друга
взаимно, —
Як зийдуся с ким любилась —. наплачуся стиха, —
щ
иногда пожелают смерти старому мужу, —
Дала ж мене моя мати замуж за старого...
А, Господи милосердный, выдри з дида душу, —
помянет она недобрым словом и мать свою, если она против
ее воли принуждала дочь выходить замуж, —
Кого ж я любила не дав мени Господь.
Не дав мени Господь, мати не казала;
Бодай вона за то тяжко видболила, —
или же попеняет на себя, что сама вышла за немилого по
своей охоте.
Сама пийшла, гирку долю знайшла, — ни на кого жалкувати.
Нет средств оторваться от нелюба. Станет она над водою
вербою, а он явится близь ней тонким верболозом. Станет она в поле
березою — он явором, станет она на ниве пшеницею — он близь
ней куколем.
«Ой стану я стану над водою вербою!»
А нелюб тое чуб пид синцями стоя:
— Ой не збудеш, Катерино, моя будеш,
А я коло тебе тонким верболозом. —
«Ой стану я стану у поли березою»...
— А я коло тебе зеленым явором!
«Ой стану я стану на ниви пшеницею!»...
— А я биля тебе буйным кукильчиком.
Сон не приходит к ней, когда она ночью лежит с своим не-
любом. Что ты вздыхаешь? — спрашивает он: — разве у меня
хлеба-соли нет? — Противна мне хлеб-соль твоя — говорит она.
Нет мне жизни с немилым.
Тай ляжу я спати край свого нелюба.
Вже зиронька зийшла, а я ще не спала,
Другая зийшла, а я вже й устала.
Я вже и устала, тяженько зитхнула.
— Ой чого ж ты, мила, так тяжко здыхаеш. —
Чи ты в мене хлиба и соли не маеш? —
«Ой яж твий хлиб и сил занехаю,
С тобою, нелюбый, я житьтя не маю!».
Не смеет она пожелать ему смерти, иначе тогда люди,
знающие, что между ними нет любви, скажут, что она его извела;
желает она лучше смерти самой себе, чтобы не тяготиться светом.
Ходить смерть-чухна по синокосу.
Тай хвалиться смерть нелюба взять;
— Смерть, чухно-мачухно, та не бери его*
Бо знають люде, що я не любила,
То скажуть що я и з свиту згубила;
Ты возьми мене молоденьку...
Нехай я не буду свитом нудити!
327
Нелюб не хочет, чтоб она видалась с своими родными и
пересказала им о том- что делается с нею, —
Не пустю тя, мила, до броду по воду,
Бо ты выдвидаеш аж до; свого роду,-
Скажет свому роду за свою пригоду, —
и она обещает не говорить, хотя бы ее и спрашивали.
Не скажу я роду за свою пригоду;
Хоць будуть пытати, не буду казати,
Обильлють дрибны слезы, а я выйду с хаты.
Но она воображает, что уходив тайно, садится в лодку, никто
ее не замечает, она плывет к матери и мать* увидавщи,
приглашает к себе.
Сила соби у човничок од берега одплинула,
Оглянулась назад себе, та в долони сплеснула...
Нихто того не почуе, тилько ридная мати;
Одчинила кватироньку: «ходи, доню, до хаты!»
Ах, матушка, дай совет, как уживаться с немилым. Мать
советует посадить его за столом, угощать и называть ясным соколом.
— Порадк мене, моя мати, .
Як з нелюбом житьтя мати! —.
«Ох и сядь же ты, доню, за тисовым столом,
Та называй нелюбонька ясненьким соколом».
Дочь отвечает, что ей легче поднимать камни и есть горький
полынь, чем ласкать немилого и садиться с ним за обед.
— Лучче мени, моя мати, важкий каминь пидняти,
А ниж мени нелюбонька соколоньком назвати.
— Лучче ж мени, мати, гиркий полынь ести,
А ниж мени из нелюбом обидати сести.
И тоска ее разражается бесполезным сожалением, зачем она
вышла замуж.
Кобы я була знала, шо за нелюбом лихо,
Була ж бым сидела, косочки чесала при матусенце тихо!
Все сочувствие женщины, недовольной замужеством, общщ^-
ется исключительно к своему роду, т. е. к своей прежней родде и
к семье, особенно к родителям. Она просит ветер повеять к ней в
светлицу из того края, где ее родина, из того села, где осталась
ее мать.
Повий, витре буйнесенький, на свитлоньку новеньку,
С того краю, де родииу маю,
Повий, витре буйнесенький, на свитлоньку ще й новийшу
С того села де и матинку маю.
328
-. Она посылает туда и плавающих, и. летающих птиц — при-
несть родным вести об ней и пригласить их посетить ее,
Пливи, пливи, утко, проти воды прудко,
Да накажи мому роду, що я умру хутко*
По лени, орле, де батенько оре,
Нехай орать покидав, мене одвидае...
Полетить синыци, дё ридни сестрици,
Нехай мене одвидают мои жалобници.
Сердечнее всех относится она к родной матери. Есть одна
очень распространенная песня о том, как мать приходила в гости
к дочери замужней, — -
Ще сонечко не зиходило;
Щось до мене та приходило,
Приходила моя матюнка,
И правдонька моя вирная.
Бона в,мене не обидала
Тильки мене тай одвидала, —
а та провожала ее» —
Проведу я свою матюнку,
За горы та высокий, —
и при этом намекнула, что жизнь ее спутана.
Ой шо тебе да попутало,
Чи хмель чи паутинонька,
Чи малая да дитинонвька?
В другой песне дочь говорит матери, что она прилетала к ней
голубкою,
— Чи чула ж ты, ненька, як я в тебе була?
Пид причильным виконечком як голубка гула? —
«Ой як бы ж я, доню, твий голос зачула, —
Я б розбила виконечко абы ты влйнула.
Ой як тоби, донько моя, на чужини жити? '
Горе сиротини жити на чужини,
Нихто ей не догляне при лихий години».
В третьей, несомненно очень древней (так как с тем же
содержанием песня есть у великорусов), замужняя дочь превращается
или воображает себе превратившеюся в кукушку, чтобы в таком
виде посетить свою мать и сообщить ей впечатления своего горя.
Мать отдала дочь замуж и не велела бывать у ней ранее семи, лет,
нЪ'^бчь не утерпела и, превратившись в кукушку, прилетает на
тр;Йгий год после своего замужества.
i i ч v
Отдала мене мати на чужу сторононьку меж чужии люде.
Ой як отдавала да и приказывала,
Щоб ты, доню, сем лет не бувала...
Пожила я годок, пожила другий,
А на третий стала искучати.
Обернувшись зозулею да и в год прилетела.
329
Она пролетает через леса, луга, сады, садится на черешне в
родительском саду и начинает куковать, чтобы вызвать свою мать.
Летила степами — степы посушила а все своими та думоньками,
Летила лугами — дуги потопила все своими да слизоньками,
Летила садами — сады звеселила все своими голосочками.
Ой сяду я паду у матинки в саду, та на крайний черешенци,
Буду литати, буду кувати,
Чи не выйде моя мати з новой хаты.
Вышла из хаты мать, вышел потом и отец; оба сказали, что
если эта кукушка — их дочь, то просят ее войти в хату, а если
это просто птица, то пусть себе летит куковать в зеленый лес.
Выйшла моя мати, стала на порозе,
Пригадала собе свою ридну доню, обильляли ей слёзы:
— Если-сь моя доня — прошу тя до хаты,
Але если-сь сива пташка зозуленька — лети в зелен лес кувати...
Выйшов мий батенько, став си на порозе;
«Ах если-сь моя доня — прошу тя до хаты,
Але если-сь сива пташка зозуленька — лети в зелен лес кувати.
Брат хотел было застрелить птицу, —
Та мий братичок по дворику ходить и лучок натягае,
И на сад поглядае, та на тую зозуленьку, —
но она так жалобно стала куковать, —
Як взяла кувати, жалибно спевати,
Аж ся взяли в земле луги калиновы вид голосу розлегати, —
что мать расчувствовалась, остановила сына и велела ему
накормить и напоить кукушку.
А матенька сидить у вйконько глядить, с своим сыном розмовляе:
— Та не бий, мий сыночку, та той зозули, що на крайний
черешенци,
Та той зозулоньци, як моий дочци, у чужой сторононьци;
Та посып, сыну, жемчужного проса, нехай вона надзёвбаеться,
Та постав,- сыночок, водици кубочок, нехай вона напьеться.
По малорусскому варианту песни, кукушка, наклевавшись и
напившись у матери, отлетает восвояси, —
Уже нагостилась, уже набарилась у своий матюнки в гостях, ' л,[,\
Та треба думати, та треба гадати: час-пора до дому спати, —
а по галицкому варианту — она открывается кто она и
сообщает матери на вопросы, сделанные последнею, что ее муж
пьяница, перетаскал в шинок все ее приданое и мучит ее
жестоким обращением.
330
и Случается, что дочь замужняя не всегда с нежностью
относится к своему родителю. В одной песне отец говорит дочери, что он
вскормил ее и выдал замуж, а дочь отвечает, что ему до нее уже
нет дела: она — отрезанный ломоть.
— А я тебе не знаю, не знаю,
Що ты гукаеш сюды та сюды.
«Чи не я тебе годував,
Чинея тебе замиж дав?»
— Та одризана скиба од хлиба —
Та тепер мени нема дела.
Но в другой песне замужняя дочь высказывает уверенность,
что отец о ней вспоминает и сожалеет, что она, живучи у грозного
свекра, рано встает и горько плачет.
Ой далеко, далеко мий батенько од мене,
Ой хоч же вин далеко, таки мене спомъяне,
Таки мене спомъяне й дитятком назове:
Ой дё-сь мое дитятко у тий чужий сторони,
У чужого батенька, у грозного свекорка,
Встае вона раненько, плаче вона ревненько.
Что касается до братьев, то дружеские отношения их к
замужней сестре выражаются тем, что они прибывают к ней в гости и
она их радушно угощает.
Браты мои, браты, сиви соколоньки,
Прибувайте та до мене ой хоть в гостиноньку.
Настою я горилочки у зелений пляшцй:
С перцем, из вербенцем, с своим щирым серцем.
Часто неудачное и тяжелое положение замужней женщины
происходит оттого, что, вышедши замуж, она не сходится с
мужниной семьей и родней. Вообще житье в мужниной семье не то
что прежнее житье у родителей. Тут не станут баловать ее, как
отец и мать, которые берегли ее сон, —
Ой спи, доненько милая!.. —
здесь напротив и свекор, и свекровь, и золовки все укоряют
ее за сонливость.
У нас невистка не робитниця,
Сонливая да дремливая,
На делечко ленивая.
Если муж добр и не хочет бить жены, как ему советуют
родные, то притворно показывает к ней суровость в угоду своей
семье.
А великая семья,
Мого мужа бранить,.
Що не хоче мене бить;
А мий муж говорить:
«За що мени жинку бит:
Вона дело мени робить!»
т
Ой хоч бив, хоч не бив,
Абы семью звеселив. ■ .
Ой бив по стини,
Та казав —• по жони, . •
Самым суровым существом изображается «свекруха»
(свекровь). В песнях — это настоящая мегера, и мы не помним песни,
где бы свекровь являлась с приветливым и дружелюбным
отношением к невестке. Живучи в согласии и в любви с мужем, жена
жалуется ему, что она никак не может угодить его матери.
Яж тоби, миленький, не скажу:
Твоей матери не вгожу:
Напечу хлиба — не вдачный,
Наварю борщу — не смашный,
Помажу комин — не било,
Помыю ложки —• не в дило,
Да "принесу водици — розливае,
Да помыю лавочки — не сяде,
Постелю постель — не ляже,
Спытаю дила — не скаже!
Если невестка взята из бедной семьи, тут представляется
повод злой свекрови издеваться над невесткою. Она рано будит ее и
говорит с иронией, что время доить коров, которых она пригнала
от родителей, и гнать в поле овец, полученных от матери.
Выйшла свекруха та невистки будити:
«Уставай, еуко, корову дойти,
Уставай, невихно, вставай, молодая,
Подий коривки, що од батенька нагнала,
Прожени й овечки, що ненька надавала».
Невестка ответит, что если она не пригнала с собою коров, то
и не застала их в новом дворе своему —
Хоч я не нагнала дак и в вас не застала, —
и при этом заметит, что она не силовала ее сына брать ее
себе в жену, —
Я твого сына не силовала брати, —
и не стояла у ней на пороге, упрашивая, чтоб ее взяли в
семью без коров.
Я ж тоби, свекру хна, у порога не стояла,
Щоб ты мене да без коровок брала.
Свекровь грубо приказывает ей не раскрывать рта и грозит
ударить ее пестом в зубы.
332
Мовчи, невистко, не роздзявляй губы,
Ях ухвачу мъяло, выбью тоби.зубы*
Невестка скажет ей, что свекровь не дала ей зубов и выбивать
не будет, —
Не дала зубив, не будеш выбйвати! '
а свекровь на это произнесет угрозу ударить ее кочергок> и
заставить собирать свои зубы. — У кочерги два конца —
скажет тогда невестка, — будем мерять себе зубы!
«Та цыть, невистко, та не .роспускай губы,
Як бачиш коцюбу, то позбираеш зубы».
Я молоденька у мила отвит дати:
— В коцюби два конци, будемо зубы миряти.
Такую картину домашних дрязг рисуют нам народные песни.
При скудости средств, при тяжелой работе в бедном крестьянском
быту, —
Дала мене мати замуж,
Дала менй горе зараз:
, Треба мени рано встати,
, Хату мести, сини мести,
И до плуга ести нести, —
при постоянной воркотне свекрови, а иногда и свекра, —
Вчора з вечора мене свекор бив,
А побивши мене у шинок пойшов,
А в шинку сидя, похваляеться,
Що добре бити а чуже дитя,
Що не лаеться, не змагаеться,
Тильки слизоньками обливаеться, —
понятно, почему прежде красивая девица, вышедши замуж,
худеет и дурнеет лицом, —
Як я була в батенька молодая,
Да тоди я водици набирала в новии видерця.
И бил ее да личенько умывала;
А як пийшла до свекорка,
^'л Да стало мени билило не мило,
И билее личенько почорнило, —
и приходит в уныние.
Ой пийду я лисом бором,
Да стану я пид явором:
Шумить явор зелененькцй, , .
Пропав мий вик молоденький!
333
Злоба свекрови резко выражается в песнях, где изображаются
трагические события, происходившие в семейной жизни и
оставившие по себе 'память .в произведениях народного творчества.
Вот, например, в одной песне, довольно распространенной, мать
подстрекает сына истязать свою жену.
Пийди, сыну, на ярмарок пишки,
Купи мени реминныи вижки
А ще к тому й дротяну нагайку
Та бий суку з вечора до ранку!
Сын, исполняя материнский совет, заводит жену ночью в ко-
мору и, несмотря на ее трогательные моления, бьет ее до того, что
она вся посинела и к свету испустила дыхание.
Из-вечора да комора звенила,
А пид пивнич мила говорила:
«Не бий, милый, по головци больно,
Не марай билои постели в кров!»
Пид билый свит милая не жива,
Лежить мила як ожина синя!
Стоит милый як полотно -билый.
Мать с своим обычным свекрушичьим ворчанием является
будить невестку и звать ее доить коровы, но сын бледный от ужаса
говорит матери, что теперь уже придется ей самой при старости
доить корову, а ему пусть дает совет, куда схоронить убитую
жену.
Пийшла махи невистки будити:
— Вставай, суко, корову дойти.
«Ще ты, мати, сама не старая,
Да подоиш коровы й самая.
Мати моя, мати, дораднице в хати,
Дорадила, як жинку карати,
Тепер дорадь, де ии сховати!»
По одним вариантам этой песни, мать дает совет сыну скорее
бежать в чужой край,
—- Сидлай, сыну, ворону кобылу,
Тикай, сыну, у чужу краину* —
по другим — похоронить труп- жены под половицей в горенке.
Пийди, сынку, в горняку новую,
Зорви, сынку, нову полюстоньку
Та сховаем чужую дитину.
Сын не принимает ни того, —
Ой некуды, мати, и утикати,
Як заробив требай одвичати, —
334
■да Другого совета —
Нельзя, мати, чуже дитя ховати,
Треба, мати, людям заявляти, —
и отдает себя в руки правосудия.
На милую домовину тешуть,
А милого в три нагайки крешуть,
А милую в гроб опускають,
А милого в Сибир провожають.
«Бодай тобе, мати, так важко конати,
Як тепер мени вику доживати!»
Оставленная дома мужем жена подвергается от свекрови
побоям и оскорблениям. Козак, возвратившись домой, спрашивает
матери: где его Настуся? Мать сначала отлыгается, говоря, что она
в саду, в хате, пошла за водою, но когда козак везде побывал и
не нашел своей Настуси, мать объявила, что увидит ее завтра на
лавке, т. е. мертвую. Свекровь говорит, что заколотила ее за то,
что невестка не называла ее родною матерью.
...«Прийди завтра вранци — побачиш на лавци!»
— Мати ж моя мила, чим Настусю била?
— Била качалкою, що б звала маткою,
Била кочергою, щоб звала ридною.
В другой песне о донце (а по галицкому варианту — о креме-
нюшке), рассказывается, что мать, которой дается эпитет черной
гадины, —
Прилизла к нему чорна гадина;
То не гадина — то мати его, —
встретивши воротившегося из похода сына, сообщила ему,
будто жена его вышяа без него замуж за другого, оставивши
детей сиротами и опустошивши дом его.
Ой уже твий двир-лспустошеный,
Вже твоя жинка за-миж^пийшла,
Вже твои дети посиротилы,
Вже твои слуги без пана живуть,
ээш;у. Вже твои жупаны поношени,
Вже твои меда одпечатани.
Донец, поверивши на слово матери, отрубил жене голову, —
Зустрела его жона молода.
Ой як выхопив да гостренький меч
Да изняв женце головку из плеч, —
но, прибывши домой, увидал совсем не то, что говорила мать
его. Тогда он разразился проклятием: мать моя, змея черная!
Сожрала ты солнце, сожри и месяц, и частые звездочки, мои
милые детушки!
Ой мати моя, моя мати,
Ты не мати -г- чорна гадина,
Зъила сонце, зъиж и мисяця,
Зъиж и зирочки — дрибне диточки!
В другой песне, свекровь, не терпя невестки, угощает
воротившегося из похода сына вином, а невестке подноситхмертельной
отравы. Сын, догадавшись, пьет сам половину того,, что было
предназначено одной жене его.
Да частуе сына горилкою,
Молоду невистку отрутою...
Выпиймо, жинко, да по половинци,
Щоб нас поховали в одний домовинци.
Сына похоронили под церковью, невестку под колокольнею, на
могиле сына вырос явор, на могиле невестки тополь или береза:
Поховали сына та пид церквою.
Нелюбу невистку пид дзвинныцею,
Посадили над сыном зелений явир,
На невистоньци — билу тополю.
Та на сынови явор зеление,
А на невисточци береза билие.
Вершины деревьев стали склоняться друг к другу; могилы
стали присовываться одна к другой. Стала тогда убийца-мать
раскаиваться в своем злодеянии.
Став же той явир та приживатися,
До теи тополи та прихилятися,
Стали их могилы та присуватися.
ИЛИ:
Гилька до гильки схиляеться,
Мати за детьми да побиваеться:
«Коли б я була знала, то дитей не труйла,
Свого серденька да не печалила».
Есть песня, очень похожая по строю на предшествовавшую,
но содержания фантастического. Злая свекровь отправила своего
сына козака в поход, а невестку послала в поле брать лен .и дала
ей заклятие не возвращаться домой, а остаться навсегда в поле,
превратившись в дерево, по одним вариантам, в тополь, —
336
Не выберет лёну, не вертайсь до дому,
Ой стань у поли тонкою тополею! —
а по другим, в рябину, —
Да и стань у бору ребинбю,
Ой ребиною кудрявою, кудрявою, кучерявою!
в граб —
Да и стань у поли грабиною,
Тонкою та высокою, кудрявою, кучерявою! —
или просто в былину.
Стань соби в поли былиною,
Былиною кудрявою, кучерявою!
Сын, возвращаясь домой, увидал на своем поле невиданное
прежде дерево, которое стало склоняться перед ним, когда он
проезжал мимо него.
Ой як ихав миленький с пути-дорожки,
_, былинка ,
Клонилась коню в ножки!
тополинка
Приехавши домой, он объявил матери об этом, а мать
приказала ему срубить дерево.
Ой визьми, сынку, гострую сокиру,
Да зрубай в поли тонку тополину (или былину).
Но когда сын, исполняя материнское приказание, ударил
дерево топором первый раз — оно зашумело, —
Ой цюкнув раз перший — вона зашумела, —
когда ударил в другой раз — из дерева брызнула кровь, —
Другий раз цюкнув — кров дзюрнула, —
а когда ударил в третий раз — оно произнесло: не рубай
меня, я твоя милая. Нам наделала такой беды матушка твоя.
Третий раз цюкнув — промовила:
— Не рубай мене, бо я твоя мила,
То твоя матуся так нампоробила.
В иной песне злая свекровь посылает невестку, по имени Ган-
ну, в воскресный день жать в поле, и тем заставляет ее совершить
12 Заказ 15 337
грех, по народному воззрению очень тяжелый; Послушная
невестка работала до вечера и воротилась, оставивши, по забывчивости,
в поле своего ребенка. Свекровь сама напомнила ей о ребенке;
Ранна побежала за ним, но ей навстречу летит сокол и сообщает,
что ее ребенка растерзали хищные животные, которые в смысле
иронии называются няньками.
Бигла Гандзя, бигла густыми лозами,
Здыбалася она з трома соколами.
— Ой вы, соколоньки, в полю литали,
— Дитины моей чи сь да не видали?
«Ой там твою дитину няньки колысали,
Они твою дитину на три штуки рвали», —
или (по другому варианту):
«Одна нянька очки выбирае,
Друга нянька головоньку ськае,
Третя нянька й кишечки мотае».
Тогда в отчаянии мать прикладывает нож себе к сердцу и
упрекает свекровь, что она наложила на себя три греха: первый
за младенца, второй за невестку, третий за воскресный день.
Приложила ножик до свого серденька:
— Тепер ты, мамцю, аж три грихи маеш,
Еден грих маеш за дитину малую,
Другий грих маеш за Гандзю молодую,
А третий грих — за недилоньку святую!
К ожесточению против злой свекрови дрисоединилось
народное суеверие о ведьме, летающей по воздуху и мечущей из себя
пламя. Жестокая свекровь в наказание невестке за то, что она,
шивши, задремала, заставила ее большим ведром носить воду и
молоть сырую пшеницу. Когда муж, узнавши об этом, пошел jpc-
вободить жену свою от такого утомительного труда, вдруг увидали
они оба свекровь, которая налетала на них: пламя исходило из ее
уст, а дым из ноздрей.
«Глянь, Василю, бижить твоя мати,
3 ей рота поломъячко пыше,
3 ей носа дым кужелем иде!»
По другому варианту этой песни, невестка превращается в
змею, а муж ее в камень; ведьма опускается на камень и
проклинает себя за то, что разогнала детей от себя.
— Зкидай-сь ты, Домно, гадюкою,
— А я молод да билым каменем стану.
Як летила, на камени сила:
«Бодай же я на вики пропала,
Як я своих диток розигнала!»
338
Такими вымыслами утешали себя женщины, терпевшие от
суровости свекровей. В Галичине поется песня, в которой
рассказывается, что молодец, уехавши на семь лет воевать, поручил свою
Марусеньку родной матери своей, но свекровь обращалась с ней
совершенно противно тому, как хотел и просил ее отъезжающий
сын. От такого обращения она умерла. Когда сын возвратился и
не нашел жены, мать объявила ему, что она скончалась. Тогда сын
отправился к могиле жены и спрашивал ее: оставаться ли ему
вдовцом или искать снова жены? Умершая отвечала: — «Я не
запрещаю тебе, но твоя мать — чародейка, она погубит чарами и
другую, как погубила меня, накормивши лютыми ящерицами.
Вдобавок она не наняла звонить по мне, чтобы мне было тяжело
в могиле лежать!»
«Ой, матусю-матусенько, где сь ми дела Марусеньку?»
— А вже в гробе, сынку, лежить, та на охрест ручки держить!
Ой та пийшов Ивасенько на Марусичин гроб,
Да укляк же Ивасенько Марусе до ног:
«Чи кажеш ми, Марусенько, чи кажеш ся женити?
Чи кажеш ми, Марусенько, вдивцем ходити?».
— Ах я ж тобе* Ивасеньку, та й не бороню...
Твоя мати чаривниця счаруе и тоту.
Як вона мня, Ивасеньку, та и счаровала,
Лютыми мня ящурами нагодувала,
Не наймала, Ивасеньку, мене звонити,
Щобы мене, Ивасеньку, тяжко лежати!».
Песен о насильственной смерти жены по вине мужа немало.
В одной, очень распространенной, старой песне, жена просит
мужа не бить ее по голове, иначе она умрет и ему не с кем будет
жить.
Ой там мила з милым говорила:
— Ой ты, милый, ты мий милый друже,
Не бий мене в головоньку дуже,
Як ты будеш в головоньку бити,
Ой я умру, з ким ты будеш жити!
Затем следуют просьбы похоронить ее в буковом (а в других
вариантах — в кедровом) гробе, надеть на нее дорогую покупную
сорочку, но муж отвечает, что негде будет- взять такого дорогого
материала и будет она лежать в посконной сорочке в сосновом
гробе. Наконец, она просит похоронить ее в саду, посадить ей в
головах калину, а в ногах барвинок, и когда он будет женить
сына, то придет на ее могилу за калиною, а когда станет выдавать
замуж дочь, то придет туда рвать барвинок.
— Выкопай же мени глыбоку могилу,
Посади в головках червону калину,
А в ниженьках хрещатый барвинок.
Ой як ты будеш та сына женити,
Прийдеш до мене калины ламати.
Ой як ты будеш дочку отдавати,
Прийдеш до мене барвиночку рвати.
12* 339
Вот восходит солнце. Вдовец ходит с дитятей и взывает к
умершей: встань, милая, встань, дорогая! расплакался наш
ребенок! — Пусть плачет, — отвечает умершая из могилы, он
перестанет, а матушка вовеки не встанет.
А в недилю рано як сонечко сходить,
Милый по садочку з дитиною ходить:
«Ой устань, мила, устань, дорогая,
Росплакалась дитина малая!»
— Нехай плаче, вона перестане,
А матенка до вику не встане!
Часто в пении песня этим и оканчивается, но иногда к этому
прибавляется еще и такая картина: по саду ходит муж уже со
второй женой и вторая жена спрашивает: что это за могила в саду,
а узнавши, что там погребена первая подруга ее мужа, с
презрением говорит, что не следовало ее хоронить в саду, а надобно было
бы, завернувши в худую простыню, отвезти в поле и там
похоронить.
— Було обертиты в подрану ряднину,
Було ей вывезти у степ на долину.
• Муж сердится на свою вторую жену за такую выходку.
«А що б же ты, жинко, того не диждала,
Що бы моя перша на стену лежала!»
Другой муж жестоко и язвительно обращается с женою,
Ой взяв свою миленькую,
За рученьку беленькую,
Повив ей в комирочку,
Положив милу в постилочку;
Сам укрывся кожушками,
Милу укрыв кулачками,
Сам укрывся свитиною,
Милу укрыв дубиною, —
потом еще издевается над нею, спрашивая: не причинил ли
он вреда ее здоровью побоями? Получив отрицательный ответ,
произнесенный от страха, —
«Чого сь моя миленька поблидла?
Чи яж тебе по личеньку вдарив,
Чи я тоби здоровъячка вмаливь?»
— Ой ты ж мене по личеньку не вдарив,
Ой ты ж мене здоровья не вмалив.
он ведет ее на крутизну и сбрасывает ее оттуда в воду.
Повив ей та на крученьки:
Тай кинув ей та из крученьки:
— Плыви, мила, за водою —
Горе мени жить з тобою!
340
Как да общеизвестную песню, содержащую рассказ о
насильственной смерти жены, укажем на песню о Немеривне или Леме-
ривне. Какая-то Немериха (или Лемериха) пропила свою дочь
какому-то Шкандыбенку.
Пил а,, пила Немериха на меду,
Да пропила свою дочку молоду.
* Но сама дочь не любила Шкандыбенка, и когда он привез ее
к себе, она ущла от него пешком ночью и притом босиком.
Шкандыбенко погнался за нею и стал выговаривать: разве у него нет
лошадей, черевиков, дорогих одежд, что она уходит от него
пешком, босиком и в простой мужичьей свитке? Немеривна отвечает,
что все это есть, да только принадлежит ему, а не ей, а он сам
ей не по сердцу.
-Та й сам, молод, не до мыслоньки мени.
или:
А ты, молод, не до красы до моей.
Тогда он хватает ее на коня и везет посреди терновника, —
Як узяв вин Немеривну на коня,
Та й потащив Немеривну по тернах!
а по другому варианту, она побежала сама в терновники, и
он погнался за нею на лошадях.
Ой побигла Лемеривна тернами,
А за нею Шкандыбенко конями.
Она попросила ножа вынуть терновые, иглы, занозившиеся ей
в ноги, но ударила им себя в сердце, предпочитая смерть житью
во дворе Шкандыбенка.
«Ой дай мени Шкандыбенку гострый ниж,
Повыймаю чорный терен з билых ниг!»
Не выйняла чорныв терен з билых ниг,
А встромила проти серця гострый ниж.
Тогда Шкандыбенко привозит ее к теще и с иронией вызывает
ее принять опьяневшую дочь. От чего она упилась? — спрашивает
теща. Упилась от терна, а заснула от ножа, — отвечает зять.
Привиз ей Шкандыбенко до тещеньки в двир:
«Ой одчиняй, моя тещенько, ворота,
де к тобе дочка твоя пьяненька.
— Ой од чого, мий зятеньку, впилася?
Ой од-чого дитя мое заснула?
«Упилася, моя тещенько, од терна,
А заснула, моя тещенько, од ножа».
341
В Галичине поется несколько песен об убийстве жены мужем,
относящихся к местным событиям. Такова песня о Якиме,
который связался с какою-то вдовою и по ее наущению, —
Ой учера из вечера, ще куры не пели,
Пийшов Яким до вдовоньки, люде не видели.
«Добрый вечер, Марисенько, добрый вечер, серце!»
Бона ему рдповела: забий жинку перше!» —
стал бить жену и, несмотря на ее жалобные просьбы о пощаде
ради ее молодости и малого ребенка, заколотил ее кулаком до
смерти, а потом затянул под лавку и прикрыл платками.
Прийшов Яким до дрмоньку тай взяв жинку бити,
Катеринка як зозулька взяла ся просити.
«Не жаль же ми, Якимоньку, щом ся не нажила,
Тильки ми жаль, Якимоньку, що мала дитина».
Ой ударив у грудоньки, решту кулаками,
Дай затягнув пид лавицю, да накрыв платками.
По наущению той же вдовы, похоронивши битую жену, злодей
скоро почувствовал, что ему неудобно жить без жены, —
Нема ж моей Катеринки выпрати сорочку! —
а вдова, искусившая его на злодеяние, отвернулась qt него, —
Не дае ся Марисенька личка целувати, —
и Яким, напившись пьян в корчме, клял вдову Марисю за то,
что она лишила его жены.
Прийшов Яким до корчмоньки, напився горевки,
Выкрикае на Марисю: збавилась ми жинки.
Другая песня о каком-то Кулиниче Степане, который убил
свою жену, дочь какого-то Прокопа. Несчастная молила его
пощадить ее, говорила, что ей с ним жить мило, но злодей в ответ на
такие мольбы обещает истязать ее и исторгать у ней глаза; она
пыталась дать знать своей матери, чтоб та поспешила спасти ее —
все напрасно. Муж зарубил ее топором и сообщил о том своей
матери. Мать дала ему совет скорее бежать в чужой край.
Чи чулы вы, добри люде, таку новиночку,
Ой що забив Кулинич сын Прокопову дочку.
Як вин ею та й забивав, вона ся просила:
— Не бий мене, Степаночку* ще-м ся не нажила!
Не бий мене, Степаночку, ты мий чорнобривый!
Ой бо мене, Степаночку, с тобою свет милый!
«Буду, мила, тя резати, буду пробивати,
Буду твои чорни очи на ниж выбирати.
342
Не нажилась ся, негидна, и не будеш жити;
Ой пийдеш ты еще ныне в сыру землю гнити».
— Бегай, хлопче, бегай, малый, дай до неньки знати,
Ой най же ми вна не дае марно загибати!
Ой як порвав ю Кулинич за белый руки,
Вточив в нею сокироньку, задав ей муки.
Прийшов Степан до домочку, та й взяв поведати;
«Заризав ем, мати, жинку, що маю деяти?»
— Ой у тикай, мий сыночку, в чужу стороночку,
Що бы тебе не зловили на лиху долечку!
Пан эконом отправил за ним в погоню Козаков. Напрасно мать
хотела подкупить их.
Ой нате ж вам по таляру, горевки напийте,
Як найдете мого сынка, не дуже ж го бийте!
Ой нате ж вам по таляру, ще дам по другому,
Як найдете мого сынка, не ведеть до дому!
Преступника схватили и отдали навеки в заточение.
Ой як злапали Степана тай руки звязали,
До тяжкой го неволи на веки виддали.
Укажем еще на одну галицкую песню. Она кажется вариантом
приведенной нами песни о Семене, которого жена, Катерина,
.убежала из дома, покинувши детей. Но конец здесь совсем иной.
Муж, пахавший в поле и не дождавшийся своей жены с
обедом (здесь он называется не Семеном, а Андрейком, а жена •— не
Катериною, а Одокиею), по возвращении домой, не нашедши
жены дома, не ограничился воплями и стенаниями, как Семён, а
погнался за беглянкою и нашел Одокию в доме какого-то Круя с
сыновьями. Он привязал ее за косы к своему коню и потащил с
собою. Встретившиеся с ним жиды просили пощадить ее, но Ан-
дрейко заметил им, что они, жиды, чужой веры, им» как
иноверцам, в семейные дела русских не следует мешаться.
Найшов, найшов Одокийку у Круя з сынами. . i
А присилив Одокийку до коня кисками,
, Поволочив горе, долив, тыми потоками.
Зостречатсе Андрейко з чотырема жиды:
«А дай-ko ты', Андриечку, Одокий жити!» :
А вы, жиды, не руснаки, то не наша- вера.
Притащенная домой полуживая Одокия была положена на
лавке; призвали ее родных и пбхоронили лицом к земле:
Донесли ей до домочку, поклали на лавку,
Издоймили з Одокийки сорочку кривавку;
Издоймили кривавочку, вволокли беленьку,
Та пислали по ей дздя, та по ей неньку.
Пислали по ей дэдя, да по ей брата,
Поховали Одокию та долив лиць хреста.
343
Поется у малорусского народа песня, заимствованная из
великорусского песенного склада, но она значительно обтерлась у
малорусов и приняла много малорусского, так что, не зная в
точности ее происхождения, можно по ошибке признать ее за
чисто малорусскую. Это песня о разбойнике муже, который убил
родных жены своей, и жена в числе привезенной добычи узнает
их одежды и уборы.
— Се ж коники та батенька ж мого,
Се жупаны та братика ж мого,
Се перины та й матинки моей,
Се спидници та й моей сестрици.
Не плачь, — говорит ей разбойник, — по отцу твоему волк
-воет, по матери ворон крякает, по брату вся Украина плачет, а по
сестре ты погрустишь.
По батькови сирый вовчок скиглить,
По "матинци чорный ворон кряче,
По братику вся Вкраина плаче,
По сестрици сама зажурися.
По другому варианту разбойник спрашивает жену: Рада ли
она привезенному серебру и золоту? Рада ли, что он здоров
воротился? Жена отвечает, что не рада она ни серебру, ни золоту, ни
его здоровью. Тогда муж приказывает закопать ее в землю и
посадить на 'могиле ее рябину, подобно тому, как уже над ее
родителем растет елка, а над матерью — калина.
«Ой чи рада, мила, ты золоту й сриблу,
«Ой тце чи радниша моему здоровью?»
— Ой не рада, милый, ни злоту, ни сриблу,
А ще не радниша твоему здоровью!
«Слуги мои, слуги молодыи!
Закопайте милу в глибоку могилу.
На батькови зелена ялина,
На матери червона калина,
Поставте на милу червону рябину».
По смерти жены оставшийся вдовец убивается, не зная, что
ему делать с детьми, но дети утешают отца, что они подрастут и
разлетятся по разным сторонам, обрекая себя и на хорошее и на
худое житье, смотря по тому, в какой край занесет их судьба.
«Диты ж мои, сиротята, пропав же я з вами!»
— Не журися ты батьку наш, не журися ты нами, —
Ой як же мы подростемо, розлетимось сами.
Розлетимось, розбижимось, як кленове листьтя,
Которое на Вкраину, котре на Полисься.
Которое на Вкраину, тому добре буде,
Которое на Полисься, тому горе буде!
А на тий же У крайни жито да пшениця,
А на тому та Полисьси кукиль та метлиця.
344
Хотя вдовец для женского пола не представляется
привлекательным женихом, —
Б о я вдовцю, скурвому сыну, не вмию годити,
Вин мене буде, моя мати, без причиноньки бити, —
но вступление во вторичный брак для вдовца дело кажется
очень легким: один через неделю по смерти жены женился на
другой.
А в су боту заслабила,
В недилю лежала,
-s В понедилок умерла, .
В вивторок ховали,
В среду плакали,
В четвер журився,
В пъятницю голився,
В су боту сватався,
В недилю звинчався.
Дети от первого брака недружелюбно относятся ко вступлению
отца во вторичный брак. Им, плачущим по умершей матери, отец
говорит в утешение, что он им купит три дома новых и возьмет
для них молодую мать. Пусть загорятся твои дома, отвечают
дети — пусть пропадет молодая мать! Не говори нам, чтоб мы звали
ее матерью! Тебе она будет женою, а нам не будет родимой
матушкой.
«Ой не плачте, дити, не плачте сириты,
Куплю я вам, дити, три домы новый,
Возьму я вам, дити, матир молодую».
— Нехай тоби, тату, домы загоряться,
Мати молодая нехай пропадае!
Тоби, тату, мати дружиною буде,
А нас, тату, мати далеби забуде!
Було б тоби, тату, сего не казати,
Як нам твою жинку матерью звати».
Женившись на второй жене, со временем сам он почувствует,
что его положение плохое: разгонит он детей от первого брака и
не соберет к себе, хотя бы и хотел.
Да лучче женка першая,
А неж тая другая.
Из першою дети мав,
А з другою розигнав!
«Да идеть, дити служити,
Чем мачусе годити!»
Да один пийшов до попа,
Другой пийшов до жида,
Третий пийшов до пана —
Щоб мачуха пропала!
Ходить батько по валу,
Кличе детей до дому:
«Да идет, дети, до дому,
345
Не буде вам розгону!»
— Живи, тату, як Бог дав:
Коли ты нас розигнав,
Мы будемо служити
По матери тужити!
Положение вдовы изображается в песнях грустным. В былые
козацкие времена женщина, оставшись с детьми, не знает, где
муж и что с ним творится. Идет она по полю с малым ребенком,
садится опочить и разговаривает с луговыми цветами.
Пийшла вдова долиною,
3 маленькою дитиною,
Пийшла вдова все садами
Розмовляла з билыми цвитами.
«Цвиты мои, биленьки прекрасны,
Дети мои маленьки бесчастны!».
Вдруг летит орел и приносит весть, что он пожирает ее мужа.
Летить орел по-над горою,
Розмовляе з бидною вдовою:
— Не плач, вдова, не журися,
Бо я твого мужа знаю,
Тричи на день одвидаю:
Ой перший раз обидаю,
А другий раз полудную,
А третий раз вечеряю,
На чорный чуб наступаю,
3 лоба очи колупаю.
Умирающий в чужой стороне козак поручает товарищам
сказать жене, чтоб она не ждала его, а выходила замуж: если ей
хорошо будет, то она забудет о нем.
Нехай вона мене не жде,
Нехай за миж иде,
Бо вона мене не диждеться,
Тилько горя-биды набереться.
Як ий добре буде
То мене, и зануде!
А она ждет мужа, ее мужа нет, ведут его коня,
Чужи мужи из полку идуть,
А мого мужа коня ведуть, —
везут его тело. Она чувствует,, что,дети ее стали сиротами, а
у слуг нет более господина.
«Чужи паны из похода идуть,
Твого пана тильки тило несуть».
— Уже ж бо я зовсим удова,
Дети ж мои да сиротята,
Слуги мои да без пана живуть!
346
Горесть вдовы выражается такими чертами: она засеяла поле
своими думами, покропила его слезами, как росою. Что ей в
молодости, когда нет счастья. — Или моя доля в огне сгорела или
в воде утонула!
Засеяла бедна вдова мыслоньками поле,
Чорными очима та й заволочила,
А дрибными слизоньками все поле зросила.
Що ж по моей молодости, я счастьтя не маю;
Доле моя, доле! Где ж ты ся подела?
Чи ты в Дунай утонула, чи в огне згорела?
Она припадает к могиле мужа, своего хозяина, и желала бы,
чтоб земля, принявшая ее милого, приняла и ее с ним.
К сырий земли припадала:
«Земле ты сыровая!
Взяла сь у мя тосподара,
Возьми й мене молодую,
Най на светку не бедую!»
Если у ней есть малые дети, она не соберется с мыслями, что
делать с ними? Не бросить же их в крапиву.
«Поведи их по зеленим садочку,
Покидай их поединце в кропивоньку!»
— Ой зле ты мени, моя мати, порадила,
Най я буду гиренько бидувати,
Тики свои диты дрибненьки годувати.
Пока они малы — малое с ними горе, а горше матери станет,
когда дети подрастут.
Зосталася удовою
3 маленькими деточками,
Умылася слезоньками.
Мале дети — мале лихо,
Побилыпають — погоршають.
Не плачь; не унывай, вдова, вещает ей какой-то утешительный
голос, Бог будет помогать и кормить твоих сирот.
Не журися, вдово, та молися Богу,
Господь буде помогати, сирит годувати!
О матушка-лебедушка, — говорят бедной вдове дети, —
воспитай нас хоть недолго, мы подрастем и разлетимся, тебя, матушка,
покинем.
— Ой матинко — лебйдочко,
Пидгодуй нас хоть тришечки...
Та тоди мы поплынемо,
Тебе, мати, покинемо!
347
- Ей представляется, что она будет когда-то просить их не
покидать ее; она готова быть у них хоть слугою и колыхать им детей.
«Ой диточки-лебидочки
Озьмитб мене ис собою,
Буду я вам хоч слугою.
Буду хату пидмитати,
Мали дити колихати!».
А каково хозяйство у ней: родится пшеница, она сожнет ее,
свозить — нечем, надо работать, чтоб заработать на свозку снопов,
а свозят — тына нет, обгородить нечем, свиньи рвутся и хлеб
портят (на гумне).
Пшениця поепила, пшеницю изжала,
Тай обняла головоньку, тай плакати стала:
«Жать же я сжала, та ничим звозити,
Та все мени, бидний вдови, треба голосити!»
- Волив одробила, пшеницю звозила,
Та и знов бидна вдова дуже затужила:
«Хоть я извозила, та не маю тыну,
То таки я, бидна вдова, на вики загину.
Не маю тыну вже и свини волочать,
Вже мою головоньку на вики морочать».
А в отдаленном будущем ей представляется: тяготят ее,
бедную, людские пересуды и клеветы. Не знает она, как держать
себя, чтоб угодить соседям.
Ой Боже, Боже, коли,той вечер буде,
Коли обо мени наговорються люде!
.Говорють люде старый й малый,
, Та ще й к тому сусидоньки близькии,
Сама не знаю як ворогам годити —
Чи в чорному, чи в билому ходити?
Выйду в чорному — скажуть, що ледащо,
Выйду в билому — скажуть чепуриться,
Сама я не знаю як до нх примириться.
У ней хата окнами на большую дорогу: всякий мимо идущий
заглядывает к ней и судит ее, —
Ой беда беда вдовице небозе,
Що ей хатина викном при дорозе,
Хто еде, хто йде до вдовоньки штурмуе.
Либонь у ней молод козак ночуе, —
а никто не знает, каково ей на сердце.
«Ой удово, вдово, й удово-небога,
Як живеш, бидна вдово, що ворогив много?
— Ой вы дивный люде, що вы пытаете!
На серденьку тяжко-важко, а вы й не знаете.
348
' Она еще молода, ищет родной души; не находит ее — находит
только могилу своей матери, обращается к ней, а мать из
загробного мира говорит ей: живи, дочка, с бедою, живи, как живется,
меня не поднимешь!
Ходе удивонька по полю та збйрае родину,
Та не найшла родины, найшла в поли былину,
Найшла в поли былину, матусину могилу,
До могилы припала, матусеньки гукала.
— Ой куды ты, доню, йшла, що мене тут найшла?
Чи чорною хмарою, чи дрибненьким дощиком,
Чи тыхою водою? — Живи ж, доню, з бидою,
Живи, доню, як живеш, бо ты мене не зведеш!
Природа берет свое. Молодая вдова помышляет о вторичном
замужестве.
А я бидна вдова, мени пары нема,
Або мене, Боже, вмертви, або мени пару знайди.
По народному воззрению, как мы уже приводили, женитьба на
вдове не оправдывается и всегда выставляется молодцу более
подходящим избрать в подруги девицу.
У вдивоньки таке серце, як зимное, каже, сонце:
Ой хоть грее, хоть не грее, то все зимный ветрець вес
У девочки таке серце, як летнее Боже сонце:
Ой хоть грее, хоть не грее, все тепленький ветрец вее.
Брак со вдовою представляется иногда следствием расчета и
при этом жених затрудняется, если у ней есть дети. В одной песне
описывается сватовство на вдове. Сколько у ней того, другого
хозяйского добра? — спрашивает искатель ее руки. Она показывает
достаточное количество хозяйственного изобилия.
А в мене волив на дванадцять плугив,
Ты б им був хазяин, ты б им був гоеподар,
А в мене корив на дванадцять хлевив,
Ты б им був хазяин, ты б им був гоеподар.
А в мене овець повен хливець,
Ты б им був хазяин, ты б им був гоеподар.
Но когда спросили ее: сколько у ней детей и она отвечала, что
их много, —
А в мене диток повен куток,
козак отступается от нее.
Цур тоби, пек тоби, молода вдова,
Да якая же ты хорошая!
Узяв бы тебе, узяв за себе,
Да в тебе детей много.
Но будущий новый муж и тогда очень откровенно высказывает
свою душу и сообщает вдове, чего может она ждать от него для
своих детей и для себя, если станет его женою.
349
— Ой як мени жити, ой як горювати,
Як мени свои дитки тай нагодувати!
Ой озоветься та козак-бурлак:
«Не журися, бидная вдова,
Я твойму добру хазяин буду;
Я твоим диткам батеньком буду;
Я твою худобу попропиваю,
Я твои дитоньки порозгоняю,
Тебе, молоду, побью, щей полаю.
Мы уже говорили, как иногда в песнях вдова представляется
непривлекательном виде.
Оженися, сынку, оженись, небоже,
Та не бери вдовици — не дай тоби, Боже!
Есть повсеместно известная песня о кровосмесителях. Вдова,
вши двух детей мужского пола, пустила их по Дунаю, —
Выйшла вдова молода,
Породила два сына...
На корабель вложила
В тихий Дунай пустила, —
через двадцать лет они, называемые двумя донцами, приплы-
и кораблем к берегу, встретили вдову и один стал предлагать
~й себя в мужья. Она не только согласилась, но предложила
сама отдать за другого свою дочь.
У двадцятому году
Выйшла вдова на воду, . .
Стала воду набирать,
Став корабель приплывать...
А у тому корабле
Два дунця молодци.
— Здорова була вдова,
Чи любиш ты дунця,
Чи пийдеш ты за дунця?
«Ой я люблю дунця, . .
И за дунця пийду, • . .,-.".
За едного сама иду,
За другого дочку шлю».
Тогда донцы ь открываются, кто они такие:
— Ох ты вдова молода,
Дурна твоя голова!
Ты нас сама родила,
В тихий Дунай пустила.
И наконец тот, который становился быть мужем своей матери,
говорит ей: пойди, мать, утопись, а я пойду в темный лес,
чтоб там меня пожрали звери.
350
— Да пийди, мати, утопись,
А я пийду в темный лис,
Нехай мене звир изъисть.
ГЛАВА V
Родители. Братья и сестры
Родители в народной поэтической речи обозначаются
собирательным имедем: отець-мати, или отець-ненька. Было глубокое
верование издавна в силу родительской молитвы, спасающей от
бед, дарующей помощь во всех житейских делах и
способствующей вечному спасению души в будущей жизни. В период козаче-
ства молитва и благословение отца и матери сохраняли козака и
от вражеского смертоносного оружия и от потопления в море во
время козацких походов на Черное море.
От тым бы-то, панове, треба людей поважати
Пан-отця и пане-матку добре шановати.
Бо который чоловек тее уробляе,
Повек той счастьтя собе мае,
Смертельный меч того минае,
Отцева й матчинга молитва зо дна моря выймае,
Од грехов смертельных душу одкупляе,
На поле й на море на помич помагае.
В последующий затем период мирной земледельческой и про1
мысловой жизни не оскудела уверенность в покровительстве Бо-
жием по молитве родителей.
А который чоловик отцеву й матчину молытву чтить-ловажае,
То отцева-матчина молитва зо дна моря вынимае,
В купецстви, в реместви, на поли й на мори помагае.
Хотя вообще отец и мать составляют нераздельную святыню
сердца, но любовь и уважение к матери как-то чаще, резче и
сильнее выказывается в народной поэзии, чем те же чувства к
отцу, может быть, оттого, что в семейных песнях
преимущественно является женское естество. В одной песне мать спрашивает
сына, кто ему дороже: теща, жена или родная мать? Сын отвечает,
что теще он оказывает приветливость, с женою держит- совет, а
родная мать ему дороже всего на свете. Он знает, что когда она
его носила в своей материнской утробе, тогда — свое сердце
томила, когда его, младенца, колыхала, тогда — ночей не досыпала.
Теща для привету,
Женка для совету,
А матенка ридна лучче всего свету,
Як мною ходила —
Свое серце въялила,
Як мене колыхала,
Ночи не спала.
351
Народная поэзия сознает, что любовь материнская бывает
совершенно бескорыстна; мать любит детей даже и тогда, когда дети
поставят себя в такое положение, что не могут уже быть
полезными родителям и воздавать им за их попечения. В аллегорической
песне, в которой мать с малолетними детьми изображается под
видом лебедки с лебедятами, дети просят покормить их с годик,
пока они покроются перьями: тогда они разлетятся в чистое поле
на поживу и мать перестанет печалиться.
Ненька ж наша лебидочко,
Погодуй нас хоть с годочок,
Поки вбьемось у пушочок,
А з пушочку да в пирьячко,
А з пирьячка да в крылечко.
Тоди стрепенем та й полынем,
В чисте поле живитися,
Тогде перестанет, мати, журитися.
Смысл этой песни таков: хоть дети будут далеко от матери, но
мать будет довольствоваться, что ее дети сами могут проживать
без посторонней заботы о них. Материнская любовь так
беспредельна, что не охладевает даже и к дурным детям, которые
оскорбляют родительницу. В одной думе, которую поют в Украине
кобзари и бандуристы, рассказывается, как сыновья, спознавшись
с знатными лицами, прогоняют мать, потому что им становится
стыдно жить с нею перед гостями, с которыми они пируют.
Старший сын до матери мовляе:
Пийди ты, нене, прич од мене,
Будуть, нене, гости в мене,
Паны да князи в жупанах златоглавах,
Будуть пыты й гуляти,
А ты, стара мати, будеш у порога стояти.
Мать-вдова уходит к чужим людям, пригласившим ее жить у
них и ропщет на детей своих.
Скоро близькии су сиди наглядали,
До вдовы промовляли:
«Ой удово, ты старая жоно!
«Пийди ж, ты, у. наш дим жити проживатй!»
«Будемо тебе хлебом соллью годувати!»
То удова тее зачувае,
У чужой дим ухожае, живе проживав,
По ранний вечирний зори спочинку соби николи не мае.
Но вскоре сыновья почувствовали, что Бог стал карать их, а
близкие люди смеяться над ними,
Сталы ти вдовиченьки без отця без неньки пробувати,*
Тогди став их Господь безневинно карати,
• Тогди стали з них близькии и дальний суеиды насмихати.
352
даже и те, которые постоянно пировали с ними, делали
неприятные для них вопросы: отчего они не видят у них их
матери;
Который у их пили та гуляли,
За ворота выйшовши их осужали:
Скильки мы у вас пъемо, гуляемо,
Чому мы у вас старой матери не видаемо.
Чи вы ей завдали, чи запродали,
Чи вона у вас хлиб-силь переила,
Чи вона вас при старости лит осудила.
Это побудило сыновей всех т$)оих очуствоваться. Старший из
них идет в церковь к заутрени и, возвратившись оттуда, как бы
напутствуемый незримою благодатью, подает братьям совет
воротить к себе изгнанную мать, потому что, как замечает он, Бог их
стал карать, хлеба-соли у них стало меньше и порядка в
домашнем строе не достает без старой матери.
Старший брат тее зачувае,
До утрени божественои одхожае,
У сю утреню божественую выслухае,
До господы прибувае,
До братив словами промовляе:
«Братики мои мили, голубоньки сивы!
Нумо думати, гадати,
Як бы нам старую матер у свий дим изъискати;
Став нас Господь, видимо, карати,
Став у поле й доме хлеба-соли збавляти,
Не стало у нас без старой матери порядку доставати!».
Затем все трое пошли просить мать возвратиться к ним,
обещая на будущее время почитать ее.
Тогди вдовиченьки в чужий двир впадалы,
Шапки в руки знималы,
Матери старенький низенько в ноги уклонялыся:
«Иди ты, мати, в свий дом пробувати;
Можем мы тебе за матку старенькую до смерти почитаты».
Дума оканчивается словами всепрощающей детям матери, что
даже и в те минуты, когда мать и проклинала сыновей, она все-
таки в помышлении желала им всякого благополучия, избавления
от бед и царствия небесного.
— Сыны мои, ясны соколы!
Не так то отцевои й матчинои молитвы прохати,
Як ей прогнивляти.
Як удова кляла проклинала,
А все думала, гадала,
3 моря душу выймала,
Од грихив одкупляла,
До царствия небесного провожала.
353
Прекрасная эта дума приводит нам высшую, по народному
миросозерцанию, степень материнской любви, которая
непоколебима никакими огорчениями от детей, что действительно верно и
в человеческой природе. Тот же взгляд просвечивается везде в
народной поэзии. В одной козацкой песни мать гневается на сына,
и тот, чтоб избежать ее беспрестанного ворчанья, хочет уходить
от ней в Украину.
Матуся свого сына била.
А вин молод не гнивився,
Вин матусеньки попросився:
— Годи ж мене, моя мати, грызти,
Пийду з туги на Вкраину жити.
Я и там молод не загину.
Но мать тотчас опомнилась, останавливает его и велит ему
одеться в зеленый жупан, а она полюбуется на его красоту.
Ой стий, сыну, завернися,
Та в зеленый жупан одягнися,
Та я на тебе подивлюся,
Чи е козак на В крайни красчий?
В другой песне, также козацких времен, мать, рассердившись
на сына, прогоняет его и говорит: пусть «го орда возьмет.
Иди, сыну, прич од мене:
Нехай тебе орда возьме!
Но когда сын отвечает, что орда его знает и он ее не
страшится, —
Мене, нене, орда знае,
Среблом, злотом наделяе, —
мать с любовью зовет его к себе и хочет вымыть ему голову —
обычный прием любви малороссиянки-матери к детям.
Вернись, сынку, до домоньку:
Змыю тобе головоньку.
Но по народному верованию, гнев матери на детей бывает
настолько злокачествен, что оставляет на них следы даже и
тогда, когда мать, произнесши слово проклятия, сама потом
раскаивается в своем поступке. Такое верование проглядывает
в думе об Ивасе Коновченке, который погибает в бою
вследствие материнского проклятия, хотя мать, произнесши его,
пожалела и молила Бога не слушать ее.
Мать гордится красотой своего сына и желает, чтоб его любили
женщины.
354
Пийди, сынку, до криници, напийся водици,
Та що б тебе полюбили дивки й молодици.
Пийди, сынку, до криници, умыйся водою,
Та щоб тебе полюбили всею слободою!
Сын обращается к ней за советом, когда думает жениться и
получает совет жениться на той, которая мила его сердцу.
Возьми соби, сыну, тую, що до серця пристала.
Но есть песни, где мать неблагосклонно относится к такому
намерению и советует сыну-козаку довольствоваться дружескою
беседою со своим конем, —
— На що тебе, сынку, молодым женити?
«Прийде ничка темнесенька, ни с ким говорити».
— Есть у тебе, сыну, ерибла-злота много,
Купи соби, сыну, коня вороного,
Коня вороного, — говори до его, —
за что сын раздражается против матери:
— Бодай тоби, мати, так важко конати,
Ой як мени, мати, з конем размовляти.
Иногда это происходит от страха за судьбу сына, так как есть
песня, где изображается, как мать предостерегала сына на счет
девицы, с которою он сошелся, —
— От тож тебе, мий сыночку, своя воленька воле,
Що до тебе, мий сыночку, сама дивчина ходе, —
и когда сын сказал, что она ему будет подругою, мать
предсказала, что она его отравит — и это исполнилось.
«Бона мене молодому та й дружиною буде,
— Вона тебе, мий сыночку, отру тою нагодуе. '
Тогда уже сын сознался, что мать говорила правду; но было
уже поздно — он погиб.
Ой правдрньку, ненько моя, ой правдоньку казала.
Бывает и так, что "мать, не допуская сыновей до женитьбь1,
горько раскаивается впоследствии. Вот орел приносит ей вести
о гибели сына,
— Ой ты орел сивокрилый, высоко литаеш!
Ой чи часто мого сына у вичи видаеш?
«Ой чи часто, чи не часто, таки его бачу:
На чуб, на чуб наступаю, очи колупаю!» —
355
но тогда сын произносит, что виною всему она, не женивши
своих сыновей вовремя.
— Сама-сь, мати, винна, сама провинила
Що нас молодыми та не поженила!
По отношению к дочери — та же материнская любовь. Отдавая
дочь замуж, мать тут же готова вернуть ее к себе в дом, —
Вернися, дочко, вернись, помиркуймося,
Хоч рочок, хоч два у мене покрасуется! —
а если потом станет чем-нибудь недовольна, то не надолго и
всегда с прежним радушием готова принять ее и обласкать.
Ой кажуть люде, що мене маты лае;
А я з-далека иду — ворота одчиняе;
В мене хаточка теплая, веселая,
Та в мене дочка любая, сердешная!
Она приходит к своей дочери посмотреть на ее житье-бытье,
а дочь, как уже говорено было, во время невзгоды ищет утешения
в том, чтобы поделиться своими ощущениями с матерью.
Нигде так трогательно не высказывается материнская любовь
к детям, как в тех песнях, где мать оплакивает сына, умершего в
чужом крае, что так часто случалось во времена козачества. Мать,
сидя у себя дома, как бы внутренним чутьем слышит жалобное
ржание коня своего сына и по нем узнает, что его уже не стало
на свете. Хотела бы она превратиться в кукушку, летать сюда и
туда; она бы узнала могилу своего сына, припала бы к ней своими
крылышками и произнесла бы: куку! мой сынок, подай мне хоть
одну руку! А сын из могилы отвечает: я бы рад был и обе руки
подать тебе, да насыпали на них сырой земли, поднять нельзя, и
глаза мои закрылись, и уста сомкнулись, и уши жались: ни
глянуть, ни услышать, ни произнести слова.
Ой зачула стара мати сидючи в кимнати:
«Та вжеж мого та сынонька на свити не мае!
Ой як бы ж я зозуленька та крылечка мала,
Полетила б сюю-тую сторононьку облитала,
Свого сына Ивана на гробу пизнала,
Села б пала на могили, та й сказала б: куку!
Подай мени, мий сыночку, хоча одну руку!»
— Ой рад бы я, моя мати, обыдви подати,
Насыпано сырий земли, не можно пидняти,
Скренилися уста мои, не могу промовить,
Закрилися ясни очи, не могу проглянуть,
Стулилися чутки уши, не могу прослухать.
Тот же образ повторяется по отношению к сыну-рекруту и к
сыну-чумаку.
356
Также трогательны плачи дочерей над могилою-матери.,В
народной поэзии они, под названием причитаний, составляют
особый отдел, как бы обрядовых песен, какие допустительно петь
только при известных случаях жизни с соблюдением в некотором
роде какого-то священнодействия. Такие плачи или причитанья —
памятники языческой древности, прошедшие в первобытной своей
чистоте через многие века и не принявшие на себе следов
христианства. Так здесь плачущая о потере родительницы дочь в своих
причитаниях ничем не показывает признаков христианских
верований в загробную жизнь, напротив, ее обращение к кукушке дает
ясный намек на языческое олицетворение природы. Сама умершая
воображается как бы пребывающею в земле, куда ее сокрыли и
может, при некоторых не ясно представляющихся условиях,
возвратиться в прежнем виде.
Ой коли нам тебе сподиваться
Що б нам и к тоби прибраться:
Чи к Риздву, чи к Велыкодню, чи к Святий недили?
И к Риздву стежки позамитае,
К Великодню воды порозливае,
А к Святий недили травою позаростае.
И николы тебе не сподеваться!
Коли буде зозуля кувати,
Я буду ей пытати:
Чи не бачила моей неньки ридненькои?
Скажи ей, зозуленько, як мени тошно, як мени гирко
без неньки жити!
Хто завыдить, той мене сиритоньку зобидить,
А зозуленька не буде правды казати!
Де ж, моя ненько, тепер мени счастьтя шукати?
Чи мое счастьтя в огни згорило,
Чи мое счастьтя в води потонуло,
Чи мое счастьтя витром роздуло?
Отец в народной поэзии является с той же любовью к детям,
как и мать, и большею частью в песнях оба родителя, как уже
сказано, изображаются нераздельно под выражением: отець-мати
или отець-ненька. Все, что относится к матери — относится и к
отцу. Разлада между отцом и матерью в песнях мы почти никогда
не встречаем. Где отец, там и мать, где мать, там и отец.
Умирающий в чужом крае козак посылает весть к отцу и к матери, и
оба к нему являются, он просит обоих похоронить его.
Приезжае отець-мати зблизька — здалека,
Прикладае свое личко до его серденька,
•*- Годи, отець, годи мати, годи жалувати,
— Тильки прошу отця-мати хороше сховати.
В другой песне козак разогнался на кони своем на море,
покрывшееся льдом, лед проламывается и он стал тонуть: в это время
он обращается к коню, просит его выбиваться,из-под льда и
принести о его гибели весть обоим родителям.
357
— Быйся ж, коню, быйся выбивайся,
— До батька й до неньки поспишайся,
— Та батькови й неньци покланяйся.
Отец без матери является редко и, вероятно, чаще всего тогда,
когда матери не было на свете. В одной, песне, например, козаку
подается совет не покидать престарелого отца, иначе угрожает ему
гибель.
Не покидай, мий миленький, старенького батька:
Як батька покинеш, сам молод загинеш,
Быстренькою реченькою у Дунай заплынеш.
В аллегорической песне старый козак изображается в образе
сокола, а его дети в образе соколят: он отлетает в чужие края и
оставляет своих соколят на попечение товарищу орлу, ног
воротившись домой, узнает, что его соколят забрали ляхи и отдали
неверному царю. В другом народном произведении, именно в
думе, о которой мы говорили, излагая символику птиц, в виде
соколов, изображаются козаки: отец и сын, из которых первый
освобождает последнего из турецкой неволи. В песнях собственно
семейных и преимущественно женских, но в немногих, является
отец без матери, быть может, тогда, когда матери уже не было,
или в смысле главы семейства и хозяина. Так в одной песне дочь
с восторгом говорит о веселом привольном житье у родителя,
который ласкал и лелеял ее. В колядках изображается, как отец
любуется своей дочерью, которой за красоту все восхищаются.
Рясна калина в лузи,
Ще найкрасча Катерина в батька.
По двору ходыть як мисяць сходыть,
Триски сбирае, як зоря сяе.
Ввийшла в свитлоньку — паны встають,
А еден каже: чия це дочка?
Другий каже; короливночка,
А батько каже: це моя дочка,
Це моя дочка, так як панночка.
По народному воззрению родители учат детей добру, и пороки
молодых людей представляются чаще всего происходящими от
непослушания родителям. Мать — добрая советница детям, и
отправляя сына в дорогу, приказывает ему всегда помнить о Боге.
Будеш, сынку, в дорозе —
Не забудь о Бозе.
Но в виде позорного исключения в песнях упоминаются и^
обратные примеры. Так в одной песне изображается мать,
избаловавшая свою дочь и сделавшая ее ленивою.
Сидить же мати набиваеться,
Своею дочкою выхваляеться:
«Бона у тебе не робитеме,
358
По земли хвартук волочитеме,
А у ней павы тюмыють лавы,
А у ней лиски помыют миски,
Вона хлиба напече,
Водиця в хату сама натече.
В другой песне мать сама подстрекает сына воровать,
похваливая его за каждую кражу, —
Ой украв я, мати, корову рябую,
Ты сказала, мати: украдь и другую...
Ой украв я, мати, аж семеро овец,
Ты сказала, мати, мий сын молодець, —
пока наконец он попал в заключение и тогда уже не шли
выручать его ни мать, ни родные.
Як пиймали, мати, у неволю брати,
Не йшла мене, мати, дай вызволяти,
Ой не йшла ж, мати, не йшла й родинонька,
Не пришла й вирная да дружинонька.
Чувству к родной матери противополагаются отношения к
мачехе и к отчиму. Иметь мачеху для девушки такое же горе, как
для молодца быть отданным в рекруты.
Ой хлопъяча беда — у некруты брати,
А дивчача бида — не ридная мати:
Не пускае мене никуды гуляш.
Мачеха, как вода студеная, которую трудно переходить вброд.
Студена вода, студена вода, тяженько ю ебродити,
Чужий матинце, чужий матинце тяженько догодити.
Чужа матинка, чужа матинка як соломонька в стресе,
Своя матинка, своя матинка як калинонька в лесе.
Мачеха бьет и ругает падчерицу и некому за бедную
заступиться.
В мене мати та не ридная,
;. Головочка моя бидная!
Буде мене бити, ругати,
Я не знаю як одказати.
Сам отец, женившись на второй жене, только сожалеет о детях
от первого брака, видя, как с ними обращается мачеха.
Як ми перша жинка вмерла в зими, поховав емь,
Зисталося двое детий, гирко працював емь...
Нараив ме наш кум реент: «е в дворе девчата;
«Возьми собе з двора девку, буде пан за свата!»
359
Взяв я собе в двора девку, алеж не такая; .
И пещаща, и ледаща, до того й лихая...
Дети ходють як святии и светють коленьми,
Повбивала им мачуха як била поленьми.
Об отчиме в песнях говорится мало: есть, впрочем, дума, где
изображается, как мать выпроваживает из своего дома сына, чтоб
избавить его от неродного, названого отца.
Ой сыну мий, удовиченьку, бездольный, безсча^сный!
Не велю я тоби зо вторым отцем жити-проживатй,
Нехай не буде тебе вторый отець названый клясти-проклинати,
Долю твою козацькую зневажати,
За хлиб-за-силь нарикати, з домивки зганяти;
А велю я тоби в чужу сторону одъизжати.
Братья и сестры в неразрывной связи, пока живы родители, и
дети их составляют единую семью. Брат — защитник и
покровитель сестры. Охранять честь ее — его обязанность.
Рассказывается, как ляхи подговорили к побегу девку Касю.
Пасла Кася кони й волы,
И пасучи, погубила,
Шукаючи, заблудила.
Ой прибилась до рыночку,
Пьють ляшеньки горел очку.
Ой пьют вони, пидпивають,
Касю ехать пидмовляють.
Мать, узнавши об этом, посылает сыновей в погоню.
— Та сыны ж мои и дорогии,
, . Сидлайте кони вороньщ,
Доженить Катю з ляшеньками!
Молодцы догнали беглецов и не внимая жалобам сестры,
изрубили ее соблазнителя.
«Сребло-злото забирайте,
Тильки ляшка не рубайте».
Сребло-злото все забрали,
Й ляшенька зарубали.
На такое покровительство старшего брата над сестрою
указывают и свадебные обряды, о которых мы говорили в своем месте.
Такое покровительство становится полнее, когда не станет
родителей и старший брат занимает их главенство в семье.
В плачах или причитаниях, произносимых сестрою над
могилою умершего брата, та же мысль, и сестра называет его защити-
телем, а себя обзывает сиротою без него. Сестра спрашивает, куда
он отъезжает, говорит, что будет допрашивать кукушку: когда
дожидать ей брата к себе в гости, и прощается с ним в отчаянной
360
уверенности, что не будет уже никогда видеть его и разговаоивать
с ним в жизни.
Ой куды ж ты, братику, выихав в який край,
Що до тебе ни письма написати,
Ни людми переказати?
У якую дороженьку?
Чи до чистого поля, чи до синего моря?
Чи до чорвонои калины, чи до чорнои могилы?
Зозульки будуть кувати, соловейки щёбетати,
А мы свого братика в гости будем дожидати!
На порози стояла, зозуленка кувала, -
А я ж про свого братика в ней пытала:
— Чи не бачила мого братика, чи не йде вин у гостоньки?
• Уже ж мени, мий братику, не розмовляти,
Уже ж мени, мий братику, не видати тебе поки свит сонця.
И в причитаниях сестры над умершим братом, как в
приведенном выше причитании дочери над матерью, нет ни слова о
христианских представлениях.
Когда родители умирают, сыновья поженятся, дочери
повыходят замуж и обзаведутся своими собственными семьями,
тогда связь между братом и сестрою слабеет, хата брата
для замужней сестры не то, что хата родительская. Хоть бы
сам брат лично был приветлив к сестре, но не такова будет
к ней братова жена.
Як батенько умре, гостина минеся, матинка схитнеся.
А пийду я до брата — то не моя хата:
Брат сестру витае, а братова стиха лае.
В песнях можно найти следы возмутительно грубого
обхождения брата с сестрой, особенно когда эта сестра убога,
а брат зажиточен. Увидев из окна хаты едущую к нему
сестру,, он спешит приказать жене убрать со стола хлеб.
Идет сестра, — говорит он, — спрячь хлеб; я ее ненавижу.
Сестра уже в сенях, слышит, что говорится в хате, и
приветствует брата при своем входе в его дом такою речью:
«Не пугайся, братец. Я не обедать к тебе иду; я уже дома
пообедала. И хочу повидать твоих детей, чтоб они знали,
что у них есть, тетка. И заработаю себе на хлеб, да еще
тебя накормлю, когда придешь ко мне».
Одсунув брат кватирочку:
Иде сестра к ему в гостиночку.
А вин каже: «приймай, жинко, хлиб зо стола,
Еде в гости сестра моя.
Ховай, жинко, хлиб у хижу,
Я своей сестры ненавижу.
Сестра к синечкам приезжае,
То братовы слова зачувае:
— Ой стий, брате, не лякайся,
361
3 хлибом-сильлю не ховайся!
Ой я, брате, дома обидала,
А бы тебе одвидала...
Не так тебе, як твоих диток,
Щоб боны знали своих титок.
Ой я, брате, хлйба загорюю,
Та прийди до мене — нагодую».
В другой песне изображается, что брат устраивает у себя в
доме пирушку и зовет в гости двух своих сестер. Одна из них
богата, другая убога. Богатую сажают с почетом за столом,
убогую — у порога, —
Багатую садять у конци стола,
А вбогую садять у порога, —
богатую угощают медом и вином, убогую — горьким пивом;
богатой дают калачи, убогой — сухари.
Напувае багату медом-вином,
А убогу-небогу — гирким пивом,
Закусуе багата калачами,
А убога-небога — сухарцями.
Сидя у порога, убогая, чувствуя свое унижение, заливается
слезами.
Та багатая сестра мед-вино пье
А вбогая у порога слизоньки льле.
Подпивши, богатая сестра начинает издеваться над убогою.
Вот если бы ты, сестра, была такова, как я, то сидела бы теперь
там, где я сижу.
Та багатая сестра пидпивае,
Та до вбогои сестры промовляе:
«Та коли б же ты, сестро, такая ж була,
То б и ты тута посажена була».
Как же мне, — отвечает убогая, — быть такою, как ты?
работаю за чужим делом, выгребаю чужие печи, пряду чужую, пряжу,
наполняю чужие сундуки.
«Як же мени, сестро, такий бути,
Чу же дило роблячи, чужи печи хутруючи,
Чужи мотки одпрядаючи,
Чужи скрини сповняючи».
Тогда богатая делает ей тот упрек, который издавна
обыкли делать богачи беднякам. Не работаешь, оттого и в
отрепьях ходишь. Вставала бы раньше, да пряла
постарательнее.
362
Коли б ты, сестро, так робила,
То б у таких латах не ходила.
Вставай ты, сестро, ранесенько,
Пряди кужилечку тонесенько.
Встаю я, — отвечает убогая, — раньше тебя и пряду много, да
все только приводится мне наполнять чужие сундуки и одевать
чужих детей.
. — Я устаю, сестро, раньше тебе,
Пряду кужилечку тоньше тебе.
А я устаю, сестро, велики починки напрядаю
Да все чужии скрини наповняю,
Да все чужих дитей зодягаю.
В одном из вариантов этой песни изображается разговор обеих
сестер с своею долею. Одной из них доля приготовляет новые
жупаны, а другой — заплаты на сермяге. Богатую провожают с
музыкою, а бедную травят собаками*
Та озвалася доля до багатои*
«Чи вже ж ты жупаны поносила,
Уже ж я тоби сукон накупила».
Озвалася доля до вбогои:
«Чи вже ж ты свитину изодрала,
Бо вже ж я тоби латок назбирала!
Багатую проводют из музыками,
А вбогую цькуют та собаками».
Подобное обращение никак не оправдывается народным
мировоззрением, напротив, недостатку любви между близкими
родными приписываются неурожаи и всякие потери, как наказания от
Бога за грехи людские.
Тим на свити хлиб не родить,
Що брат до сестрици не говорить;
Тим на свити терпеться,
Що брат сестры цураеться,
Тим на свити добра нема,
Що брат сестры за ряд не ма.
Но показываются в произведениях народной поэзии и образцы
участия брата к сестре. В одной, например, песне женщина
терпит горе и говорит, что, видно, мать прокляла ее, когда она была
еще дитятью.
Ой гоя, гоя, несчастлива доля.
Прокляла ненька як булам маленька.
Но у ней есть двое братьев, словно двое голубков. Один из них
говорит к другому: не допустим сестре нашей погибать в чужой
стороне; сестра наша хороша и красива, только судьба ее
несчастна.
363
Там над Дунаем сидить два голуба сивеньких,
Там есть у мене два братчики ридненьких^
Еден голуб воду пье,. другий литае;
Старший брат коня напувае, молодший старшого навчае:
«Не дамо сестри в чужини пропадати,
Бо наша сестра хороша й вродлива,
Тильки ей Бог дав, що доля несчаслива».
В одной аллегорической песне сестра изображается в виде
чайки, а брат в виде журавля, чайка скорбит за своих деток, а
братпжуравдь утешает ее, что ее детки останутся при Божией
помощи целы и будут летать по воле.
Стерегла чаенька маленький дети,
Привела журавля к собе на пораду:
— Брате мий любимый, дай ми яку раду:
Де я маю ти дети подети,
Прийдет ми ся у свет полетети. —
«Не журися, сестро любимая,
Ним жито приспее, Бог старанье мае,
Будуть твои дети до воли гуляти,
Будуть вони як орлы быстрый летати!»
— Бодай твои, брате, слова ся сповнилы,
Щобы мои дети в три час були цилы.
В другой песне брат является в образе соловья, а сестра в
образе кукушки. Соловей скорбит о погибших детях, сожженных
чумаками; прилетает сестра кукушка и говорит, что она
предупреждала его добрым советом мостить себе гнездо в безопасном
месте.
Ой йшли чумаки з Украины,
Дай пустили пожар по долини, —
Соловейковы дити погорили.
Ой и зозуленько, сестро моя,
Пропали диточки, пропаду й я!»
Прилетила сестра з Украины —
— Чй я тоби, брате, не казала,
Не мости гниздечка у лужечку,
Помости гниздечко у садочку,
На высоким древку, на яворку,
Нихто того древка не зрубае,
Соловьёвых диток не займае.
Сестра, заехавшая на житье в далекую Украину, находит себе
только в том и отраду, что получает часто письма от брата,
который с участием обращается к ней.
Ой витер не вие, гильля не колыше,
Тильки брат до сестры часто лысты пише.
Пише на Вкраину, туды их шле швидко.
— Сестро моя, сестро, сестро украинко!
Що мени на свити з тобою робыты,
" Чи привыкла, сестро, на чужини житы? —
364
«Хоча не привыкла, треба привыкати,
Коли уродила без доленьки мати».
Есть большая дума, распеваемая кобзарями, где сестра,
живущая в чужой стороне, обращается к брату и умоляет его посетить
ее, потому что ей в чужой стороне грустно и никто ее знать не
хочет.
Сестра то зачувае, словами промовляе:
Прошу тебе: через быстри рики билым лебедоньком переплыви,
Через широки степы малым невеличким перепелоньком перёбижи,
Через темни луги ясным соколоньком перелити,
А в моим двори сивым голубоньком сядь-пады,
Жалибненько загуды,
Тугу мою, брате, роздилы.
Що тепер, брате, святый день Велыкдень праздник роковый,
Що люды з церкви йдуть,
Як бджилоньки гудуть —
Одно одного на здоровья пытае,
Одно одного на бенкет зазывае,
А мене нихто по родыни не займае,
Будто воно мене та й не знае!
Говоря об отношениях братьев и сестер между собою в
народной поэзии, упомянем, наконец, о легендарной песне,
очень распространенной, где рассказывается о происхождении
цветка: «брат с сестрою», по-русски — Иван-да-Марья (viola
tricolor); мы уже приводили эту песню, излагая символику
растений.
Так выражается семейная жизнь южнорусского народа в
его поэтических созданиях. Народная поэзия представляет
нам в ней последовательное развитие деятельности
одухотворяющего ее начала-любви, которой зарождение видно в
полудетских весенних играх и забавах, дальнейшее
возрастание в юношеских взаимных стремлениях молодых людей
обоего пола: их свидания, сердечные излияния чувств, боязнь
родительского наблюдения, страх посторонних препятствий,
случайные (могущие быть и не быть) явления, как измена,
ревность, отчаяние, ссоры, примирения, злоба, месть, потом
при пережитии всяких неизбежных и случайных явлений —
брак, выражаемый свадебным торжеством. Это, как мы
заметили, самый поэтический момент расцвета жизни, с
которого начинается другой ее период — семейно-родствен-
ный, который также обильно выражается в произведениях
песенного творчества со всеми как присущими и потому
неизбежными, так и случайными явлениями. Читатель может
заметить, что все здесь сообразуется с тем
военно-земледельческим бытом, который народ проживал с разными
формами общественного своего строя многие века и
напечатлел их в своих произведениях. В настоящее время жизнь
народная сузилась в формы земледельческого сельского быта,
365
но в песнях народных, как было нами не раз указываемо,
слишком ярко еще виднеются следы прожитого. Мы считаем
излишним далее и шире распространяться, предоставляя
каждому судить по представленному нами очерку сообразно
поэтическому изображению, сделанному самим народом о
своем быте и жизни.
) РАССКАЗЫ И.БОГУЧАРОВА
(НИКОЛАЯ КОСТОМАРОВА)
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПО СМЕРТИ
(РАССКАЗ ОДНОГО СЛОБОЖАНИНА)
Делалось то, что хочу вам рассказать, в Слободской Украине,
из которой составилась нынешняя Харьковская губерния, а часть
ее отошла в южную часть губернии Воронежской. Малоруссу
всегда суждено быть только мужиком. Он до тех пор и малорусе, пока
мужик; а пока он мужик — его непременно эксплуатируют чужие
люди. В крае, некогда занимаемом Гетманщиной, эксплуататором
малорусса был иудей, а в Слободской Украине такую же роль
захватили великоруссы — москали, как их там называл народ.
Мимоходом заметим, что в Гетманщине москалем называют
исключительно солдата, а в слободах это название удерживает
значение великорусса вообще.
. Едва ли найдете слободу, где бы не было хоть одного
великорусса, а в иных, более многолюдных, играющих роль местечек
или городков, их можно насчитать целые десятки. Москали,
поселившиеся в слободах, никогда почти не занимаются земледелием,
разве когда москаль купит у хохла себе в собственность клочок
полевой земли, да и тогда у москаля работают те же хохлы, только
по найму. Чаще всего водворившиеся в малорусской слободе
москали занимаются торгашеством: иной заведет в слободе шинок
или постоялый двор, пускает обозы извозчиков и всяких
проезжих, держит для них сено, овес, всякую харч и напитки, другой
не держит постоялого двора, а один только шинок, и к нему
собираются пьянствовать; иной заведет лавчонку со всякого рода
съестным и с лакомствами; иной поселяется в слободе за тем
только, чтоб скупать у хохлов сельские произведения и мужичьи
работы и перепродавать их в город купцам тамодлним, служа у
последних как бы комиссионером. Многие москали дают хохлам
деньги за проценты: у москаля всегда бывают деньги, а у хохла
их почти всегда нет, а между тем в них всегда потребность.
Москаль, живущий в слободе, всегда почти нелюбим хохлами, но
хохол без москаля обойтись не, может, потому что у хохла не
достает столько смекалки, сколько ее бывает у москаля, и потому,
хотя хохол москаля не любит, а находится у него в зависимости.
Особенно противен был москаль тем хохлам, которые, по
стесненным обстоятельствам, прибегали к нему за пособиями и, попав-
13 Заказ 15 о<0
шись ему в руки, чувствовали себя от него разоренными и
обнищавшими.
В слободе Б*, населенной войсковыми обывателями,
переименованными в название государственных крестьян, водворилось
несколько москалей, захожих из внутренних губерний, потому что
эта слобода не малая и смахивала на местечко. Между тамошними
москалями был один — Лука Фомич Карманников. Живучи там
уже лет двадцать, он успел уже овладеть почти всею слободою и,-
конечно, власть его была бы и полнее и неограниченнее, если б
не поселились в той же слободе другие москали, соперничавшие
с ним в эксплуатации туземного населения. Чуть не все хохлы
хозяева ему задолжали, и все его ненавидели. Он содержал
постоялый двор и шинок, он отдавал и деньги в рост. В слободе все
считали его богатым, и о его богатстве ходили вести чисто
легендарного свойства. Однажды толпа веселых парубков, поглядывая
на двор этого москаля, -стала, может быть в виде шутки, толковать,
как бы хорошо было обокрасть его. Двум из них такая летучая
мысль засела в голову поглубже, чем прочим, и они, поговаривая
между собою вдвоем, приняли намерение устроить подкоп и
посредством его влезть в хижу или комору Луки Фомича, где у него,
как они догадывались, хранилось всякое добро и, вероятно,
сундучок с деньгами. Они узнали, что эта хижа или комора
(кладовка), стоявшая отдельно от жилой избы хозяина и его семьиу
посещалась исключительно одним Лукою Фомичом, и никто из
домашних им туда не допускался: из этого-то и заключили они,
что в этой коморе есть что-то особенно дорогое хозяину, такое, что
он бережет даже и от своих. Комора или хижа эта примыкала к
забору, огораживавшему двор, а за этим забором начинался
пустырь, весь поросший бурьяном и упиравшийся в болото. На этом
пустыре, не далее, как в шагах десяти, находился курган,
образовавшийся из щебня и мусора от стоявшей там когда-то в давние
годы каменной постройки: этот курган несколько закрывал вид на
пустырь от забора. Парубки воспользовались этим последним
обстоятельством, размерили расстояние, сообразили все
местоположение, как искусные инженеры/ вооружились заступами,
лопатами и тачкою, и, когда смерклось, пришли на пустырь и
стали копать яму под самым курганом, так что, если б кто смотрел
с забора вора Карманникова, то не мог бы их приметить. На
случай, если бы все-таки их преждевременно накрыли на этой
работе, они приготовились сказать, что ищут клада под курганом;
их бы, может быть, и за то не похвалили, но не могли бы уличить
в уголовном преступлений. Выкопали яму в человеческий рост;
потом один из них стал копать в сторону, по направлению к
забору, а другой выносил землю и вывозил на тачке к болоту. Так,
проработали они всю ночь, к утру заложили яму бревнами, приг
сыпали немного землею и ушли, намереваясь продолжать свое
дело в следующую ночь. Но им на беду, ночью пред рассветом
выходил Карманников из избы и уелыхал шум за огорожею своего
двора. Утром пошел он на пустырь, увидал заложенную и сверху
присыпанную яму, увидал рассыпанную по направлению к болоту
370
землю, выпадавшую из тачки и догадался, в чем тут дело. Он сам
не трогал заложенной ямы, никому не сказал о своем открытии, а
на следующую ночь отправился в ту коморку или хижу, которая,
как он был уверен, была целью подкопа. Он взял туда с собою
веревки и железный болт, которым запирались оконные ставни в
избе. В эту ночь продолжали молодцы свою работу и, не
докончивши ее, ушли. Карманников, сидя в своей коморе, все слышал,
все знал и на другой после того день опять-таки никому не сказал.
Наступила третья ночь. Карманников идет снова в комору,
зажигает свечу, дожидается гостей. Шум, слышимый им уже две ночи
сряду, теперь становится все ближе и ближе. Карманников;'
притаивши дыхание и опасаясь кашлянуть, чтобы не известить о
своем пребывании в коморе, сидит да слушает, а в руках у него
болт. Слышит он —. шум уже у него под ногами, земля в коморе
дрожит. Помоста там не было, как большею частью строят хаты
и коморы в Слободской Украине, дорожа лесом и стараясь по
возможности обходиться без него. Вдруг сильный удар... земля
обрушивается, открывается дыра, а из дыры показывается
человеческая фигура. Уже голова высовывается, руки упираются в края
дыры, похититель усиливается выползать; тут Карманников
хватил его железным болтом пот затылку. Вор склоняется лицом к
окраине дыры. Карманников приглядывается и видит: похититель
мертв, мозг у него вышел наружу.
— Убил! убил! — сказал сам себе в тревоге Карманников. —
Что ж теперь делать? Если не скрыть и объявить — станут
производить следствие. Наедет земский суд. Оно, конечно, по закону
я буду прав: убил злодея на месте преступления, сам защищался!
Да разве сразу так и решат? Поди-ко! Знают, чай, что я не беден,
будет с чего им руки погреть! Затаскают, обберут! И черт его
знал, что у него голова такая некрепкая! Лучше спровадить его
отсюда, подкинуть к кому-нибудь другому; пусть тот повозится с
земским судом! Да куда же мне его подбросить? Куда! к Затреп-
кину подкинуть! Ведь он, злодей, у меня барыши перебивает. Да,
да! Пускай Затрепкин повозится с судом. Пусть-ко мошну его
растрясут маненько, а то она у него чересчур рано пухнуть стала.
Молод больно, голубчик, подожди-ко, с мое поживи здесь! А то
поди-ко, лет пять каких-нибудь прошло с той поры, как заведение
свое открыл, а уж в какую славу вошел! Постой-ко! Я вот
приставлю под окно твое этого мертвеца; что-то запоешь ты, брат?
Он вытащил из хижи труп убитого, завернул простынею,
обвязал веревками и вынес со двора. Никто из его домашних не
увидал этого.
Ночь была темная, претемная. Никому нельзя было узнать
Карманникова, когда он шел с своею ношею по улице слободы.
Подошел он к одному домику, выходившему со двора на улицу, с
крыльцом на столбах, развязал и распеленал своего мертвеца,
встащил на крыльцо и прислонил переднею стороною тела к окну,
выходившему на крыльцо. Забравши потом простыню и веревку
Лука Фомич быстро побежал домой, прямо в комору, сжег
окровавленную простыню и веревку, засыпал землею, как мог, наскоро
13* . 371
дыру подкопа, а потом, вышедши на двор, запряг в телегу кобылу
и выехал со двора в намерении отклонить от себя, всякое,
подозрение, так что, если бы открылось убийство, и дошло дело до
расспросов, он имел бы возможность говорить, что в ту ночь, когда
оказался убитый, его, Карманникова, не было в слободе.
, Домик, к которому прислонил Карманников убитого,
принадлежал Фоке Савичу Затрепкину, также заезжему москалю: он в
слободе Б*, завел постоялый двор и шинок и во всех отношениях
соперничал с Карманниковым. Чтоб заманить к себе проезжих, он
отпускал им по более дешевой цене против Карманникова овес, сено
и харч; и вино у него продавалось дешевле, и крестьянам он .деньги
в долг давал за меньшие проценты, чем Карманников, словом,
поступал во всем так, чтоб и проезжим и слобожанам было выгоднее
обращаться к нему, чем к Карманникову. Понятно, что
Карманников ненавидел этого прибыша, как он называл Затрепкина.
Во всем везло, как говорится, этому Затрепкину; одно только
у него в доме было неладно: жена его была, что называется,
гулящая баба. Затрепкин был ревнив, подозрителен и этими
качествами причинял больший вред себе самому; жена его. наперекор и в
досаду ревнивому мужу нарочно любезничала со всяким, кто к
ней подлизывался, а таких было немало: в слободе говорили, что
с Затрепихой разве только тот не был близок, кто сам того не
хотел. В ту ночь, когда совершилось описываемое происшествие,
Затрепкин куда-то ходил в гости и ворочался домой в подпитии.
Взошел месяц. Тучи, заволакивавшие небо, разошлись. Можно
было различать предметы, хотя и не совсем с точностью, так как
месяц был уже на ущербе. Затрепкин, подходя к своему дому,
приметил на крыльце под окном человеческую фигуру,
наклонившуюся, как издали показалось, головою к окну. «А, черт побери!
Это какой-то плёмник подбирается к моей Дуньке! Постой же ты,
непрошеный свояк, я угощу тебяГ» Так сказал он сам-себе и, тихо
взойдя на крыльцо, хватил суковатою палкою по затылку немилого
гостя. Неизвестный повалился. Затрепкин оглядел его и с ужасом
произнес: «Убит! Черт его побери, убит! Вот беда! Вот напасть
нежданная, негаданная! Что я стану теперь делать! Пропал я,
несчастный, пропал!» и при этом, в отчаянии схвативши себя за
голову, разразился он такими выражениями, которые не
употребляются в печати, хотя в разговорном языке без них не обходятся.
После первого припадка отчаянного ужаса, Затрепкии стал
думать, на что ему решиться. «Объявить разве, что вор лез в окно,
и я в это время ударил его» — задавал он себе вопрос и в тот же
миг давал на нзго такой ответ: «Нет, нет! Не поверят! А хоть бы
и поверили, — все-таки суд наедет, станут тело свидетельствовать,
людей созывать да расспрашивать, меня возьмут, в острог посадят!
Ах беда! беда! Притащить его разве, пока еще никто не видал, да
подкинуть к кому-нибудь, чтоб на того и подозрение пало; пусть
другой, а не я рассчитывается с исправниками да с заседателями.
Да к кому же его прикинуть?» Сперва пришла ему мысль отнести
мертвое тело к Карманникову и положить где-нибудь возле его
двора. Но уже начинало рассветать. До Карманникова не так-то
372
было близко от Затрепкина. Люди могли проснуться, и кто-нибудь
мог увидеть, как он понесет мертвеца. Недалеко от двора
Затрепкина была лавка, принадлежавшая третьему москалю, который
скупалг мед, воск, пух и щетину в слободе. Торгаш, в
предшествовавший день, накупивши меду и воску, свалил все, как в
складе, в своей лавчонке, и, выходя из нее, по рассеянности забыл
запереть на замок, а ограничился только тем, что накинул крючок.
Затрепкин в то время проходил мимо и заметил это, но,
подсмеиваясь над рассеянным земляком, не сказал ему об этом. Теперь
он вспомнил незапертую лавчонку, потащил мертвеца и,
отворивши дверь в лавчонке, внес туда труп и всадил ему руки в кадку
с медом, а сам поспешно ушел домой ругаться с своей Дунькой.
Проснулся хозяин лавчонки, вышел на улицу, смотрит — лав-,
чонка его отворена настежь; он туда, видит: неизвестный ему
человек пригнулся к кадке с медом и вложил туда обе руки.
— Ах ты дуралей, мерзавец! Что ты это делаешь? —
вскрикнул хозяин и потянул неизвестного палкою сзади по голове. Труп
опустился на кадку.
Торгаш подошел ближе, присмотрелся и ахнул от ужаса.
— Убит! убит! — возопил он. — И черт его знает, как это
сталось! Кажись, и палка-то не Бог знает какая толстая, а я ему
всю голову раскроил! Как это меня угораздило убить его? Вот,
истинно, бес подвел лукавый! Что теперь я стану делать? Возьмут
меня люди, свяжут, в суд повезут! Пропало все мое состояние,
пропали мои бедные детки, нищими станут, а меня в Сибирь
зашлют. Разве спровадить его куда-нибудь, пока еще народ не
весь поднялся на ноги.
И, не долго думая, прибегнул он к средству, какое
представилось ему с первого раза: отнести мертвеца к реке и бросить его в
воду.
Как только прикоснулся торгаш к трупу, так тотчас заметил,
что труп этот чересчур холоден и тяжел, и тут ему пришло
подозрение: не убит ли он кем-то другим и не подброшен ли к нему
в лавку? Но уже становилось светло; люди просыпались. Нельзя
было тратить времени в размышлениях и догадках. « — Если б и
так, — решил сам в себе, — если б не я его убил, а ко мне его
подбросили, то все-таки мне от беды не уйти. В моих руках
остался мертвец. Сперва меня засадят в тюрьму, а потом уже
начнут разбирать, я ли убил его, или кто другой. А я все-таки до
поры до времени сиди в тюрьме! А у нас так ведутся эти дела,
что иной двадцать лет просидит! Нет! лучше теперь же свалить с
себя с плеч беду!»
И торгаш понес мертвеца через двор, находившийся.как раз
близ его лавочки. За этим двором и за примыкавшим к двору
огородом текла река. На счастье свое не повстречался ни с кем
торгаш, дотащил мертвеца через чужой двор и огород к реке и
хотел, навязавши трупу камень, бросить его в воду. Но с берега
было мелко, а.до стрежня реки довольно далеко. Петухи в слободе
орали напропалую, раздавался и рев скотины, выгоняемой в поле:
надобно было спешить. Торгаш увидал стоявшую у берега лодку
373
с веслом. Он посадил мертвеца в лодку, привязал к руке ему
весло, отпихнул лодку от берега и торопливо, оглядываясь кругом,
побежал, творя молитву и прося всех святых, чтоб никто не
увидал того, что он сделал. Лодка, в которую посажен был мертвец,
принадлежала одному слобожанину* занимавшемуся рыбною
ловлею и жившему далеко оттуда на самом крае слободы. Накануне
он ловил рыбу и покинул свою лодку там, где застала его ночь, а
теперь с наступлением утра, с намерением приняться снова за
свой обычный промысел, шел огородами вдоль берега реки,
направляясь к тому месту, где оставил свою лодку. Вдруг — видит
он, по реке плывет его лодка, а в ней сидит кто-то с веслом.
— Стой! стой! — закричал рыболов. — Зачем лодку взял? кто
позволил? Сюда верни! Слышишь? Отдай лодку!
Сидевший в лодке не слушался и плыл все дальше по течению.
— Стой! говорю тебе! — кричал рыболов. — Поворачивай
сюда, анафема! Лодку мою отдай!
Пловец не повинуется и следует далее.
Рыболов рассвирепел и разразился потоком самой увесистой
ругани.
Пловец не обращает внимания и плывет себе все своим путем.
Тогда хозяин лодки вышел из себя и пустил в него камнем с
берега. Камень попал прямо в затылок. Труп опустился.
— Что это? — в испуге вскричал рыболов. — Я ушиб его! Ах
черт побери! Поделом вору мука! Зачем чужое берет, да еще и не
слушает!
Он поспешно сбросил с себя рубаху и порты, вскочил в воду.
В этом месте реки вода не покрывала человеческого роста с
головою. Рыболов, не прибегая даже к плаванию, добрался до лодки
и, схвативши ее за край, притащил к берегу.
Одевшись наскоро, стал он рассматривать пловца, похитителя
своей лодки.
— Да это мертвый! — воскликнул он в ужасе. — Он убит!
Голова у него прошиблена! Да, затылок пробит, Господи Иисусе!
Что ж это такое? Кто б мог ожидать такой беды!.. Да точно ли я
убил его, — продолжал он, несколько призадумавшись: — Не
иной ли кто его уходил, да мертвого кинул в мою лодку? Вот он
чересчур что-то холоден! Кажись, это кто-то мне на пакость его
прикинул. Впрочем, черт его разберет теперь! Камнем-то я пустил
в него с берега, и камень попал ему в затылок, а затылок пробит.
Объяви я теперь, что вот дескать мертвое тело ко мне в лодку
подбросили, не поверят, а чем докажешь? Да и кто будет искать
того, кто его убил, а мертвое тело все-таки у меня! Свяжут меня,
в земский суд повезут. А там как я стану доводить, что не я убил
его, когда меня с ним привезут! Нет. Спровадить его от себя да
поскорее!
Он с огорода увидал на возвышении по дороге, которая,
извиваясь вела в слободу, телегу с человеком. Этот человек остановился
у одной хаты, стоявшей по соседству с хатою рыболова, сошел с
телеги и вошел в хату. Телега с лошадью стояла близ хаты на
улице. Там не видно было из людей никого. Наш рыболов потащил
374
мертвеца через огород и двор, ни для кого не заметно посадил
мертвеца в телегу, а сам опрометью побежал в свой двор.
Ехавший на этой телеге был не кто иной, как Лука Фомич
Карманников. После расправы с вором, он запряг в телегу кобылу
и выехал со двора, как мы уже говорили. Прокатившись ночью по
дороге, с рассветом он возвращался домой, нарочно стараясь,
чтобы проснувшиеся жители слободы видели, как он ранним утром
возвращается в слободу. У него был такой расчет, что если б
возникли розыски о мертвом теле, он мог бы сказать, что в ту
ночь, когда оно явилось, не был в слободе. Замечая, что на улице
еще все пусто, и никто его не видит, Лука Фомич подъехал к хате,
как будто попросить воды напиться, и завел с хозяевами разговор,
рассказывая, что он вчера еще днем уехал в соседнюю слободу,
отстоявшую от слободы Б*, за десять верст, и теперь ворочается
домой. Он подготовлял себе свидетелей, если б оказались они
нужными. Между тем в это-то время рыболов посадил ему в телегу
мертвеца. Рассказавши все, что нужно было, и напившись воды,
Лука Фомич вышел к своей телеге.
Неожиданная встреча его с убитым им ночью парубком,
очутившимся теперь в его телеге, походила на сцену Макбета с Бан-
ко, когда тень последнего неожиданно явилась среди пирующих
гостей. Разница была только та, что Макбет пересилил испуг от
появления убитого им человека и" успел потом совершить еще
целый ряд злодеяний', а наш Лука Фомич Карманников, как
только увидал, что в телеге, которую он оставил подле хаты пустою,
сидит тот, которого он убил, так тотчас побледнел, затрясся, упал
и испустил дыхание. Сошедшиеся люди увидали разом два трупа,
не могли понять, что это значит, но приставили к ним, на месте,
караул и дали знать в город земской полиции. Наехали чиновные
люди и с ними врач. По осмотру, сделанному врачом, оказалось,
что Лука Фомич Карманников умер внезапно от случившегося
апоплексического удара, а парубок, найденный в его телеге, убит
ударом, нанесенным в голову, но неизвестно кем. Обоих
похоронили рядом на слободском кладбище. О смерти парубка приняты
были самые деятельные меры дознания, но за неотысканием
виновных, случай сей предан воле Божией, дело же зачтено
решенным и сдано в архив.
БОЛЬНАЯ
(РАССКАЗ ВРАЧА)
Я окончил курс в московском университете по медицинскому
факультету. Благодаря моей немецкой фамилии, я был сочтен за
истого немца и получил место врача в имении одного очень
богатого помещика, жившего в Москве в собственном доме. Мне дали
готовое обмеблированное помещение, прислугу, все хозяйственные
принадлежности и определенное количество всякого рода запасов
в той годичной пропорции, в какой получал мой предшественник,
бывший уже настоящим немцем, а не таким названым, каким был
я. При господском дворе находилась аптека и больница: этим
заведовать должен был я же. Я водворился в барском имении, и
хорошо мне жилось в нем. На другой или на третий год моего
пребывания в этом имении — хорошенько не припомню — один
раз утром явилась ко мне женщина, еще далеко не старая, но
чрезвычайно бледная, с каким-то выражением дикости и
убивающей грусти. Страдальческое лицо ее было таково, что, казалось,
забыть его было невозможно всякому, хоть раз увидавшему ее в
жизни. Поклонившись, она сказала, что больна и пришла за
советом. Выговор у ней был малороссийский. Имение, куда я
поступил врачом, населено было пополам великороссиянами и
малороссиянами. Я уже отчасти освоился тогда с малороссийскою
речью, по крайней мере настолько, что в состоянии был понимать
ее.
— Что с тобою? — спрашивал я ее.
— Лихо, лихо, добродию! — произнесла она и грустно качала
головою.
— Какое там у тебя лихо? Что болит? — спрашивал я.
— Да ничего не болит, и все болит! — отвечала она с
загадочным выражением. Измучил меня совсем.
— Кто тебя измучил?
— Муж! — произнесла она с движением странного ужаса.
Я подумал, что это жена какого-нибудь тирана, который бьет
ее и издевается над нею, а таких, как известно, не мало между
нашими простолюдинами.
— Ты пришла лечиться от его побоев? — спросил я.
—- Нет, не то, а бачите, добродею...
376
Я прервал ее и сказал: я пользую от болезней, а если муж
обижает тебя и тебе жить с ним тяжело, так иди к управителю и
доложи ему.
— Да нет, добродею! Не то, — сказала она, — мой муж не
жив уже; его еще весною похоронили; только он не дает мне
покоя — каждую ночь приходит ко мне, наваливается на меня и
давит; так страшно, так страшно, что и сказать нельзя, как
страшно! Как ночь подходит, так уж я себе и жду беды, а утро
придет, так меня будто кат избил!
Я вытаращил на нее глаза и мне, казалось, теперь становилось
понятным, откуда у нее такая дикость во взоре. Она сумасшедшая,
сказал я сам себе и тотчас стал пробовать ей пульс и спрашивать о
разных отправлениях человеческого тела. Она отвечала так же, как
бы и всякая другая, не показывая признаков безумия. Я не стал ее
долго расспрашивать, счел ее больною приливами крови к голове,
дал ей сильное слабительное и велел придти ко мне через неделю.
Прошел указанный срок. Женщина снова явилась ко мне.
— Ну что? — спрашивал я с усмешкой: — мертвый муж не
ходит более к тебе?
— Где там не ходит, сударь?! — отвечала она: — ни одной
ночи не дает мне покоя! Измаял меня совсем, не поем и не
посплю! И работать не подужаю!
Я опять попробовал пульс, как и прежде; он был возбужден.
Я усадил ее и стал расспрашивать.
— Твой муж умер, говоришь ты. Давно он умер?
— В великий пост! — был ответ.
— Ты была на его похоронах?
— Была, ох, — и она стала было рассказывать, как ей было
тяжело тогда, но я перебил ее речь и спрашивал:
— Вы жили долго друг с другом?
— Четыре года прожили.
— И согласно жили?
— Очень согласно, уж так согласно... С того дня, как ттобра-
лись, до самой смерти его, ни разу не поссорились! Он был такой
добрый: не то, чтоб меня бить, и не ругал-то меня никогда. Я от
него худого слова ни одного не слыхала.
Тут она не могла продолжать! У нее навернулись на глазах
слезы, прерывалось дыхание, она готова была разрыдаться.
— Тебе очень жаль было мужа? — спросил я.
На этот вопрос не могла уже отвечать словами моя пациентка,
а разразилась рыданиями. Но спустя минуты две, отершись
рукавом своей рубахи, она говорила:
— Покинул меня, бедную сироту, одну на всем свете! У меня
нет ни батька, ни матери, ни братьев, ни сестер — одним одна!
Сирота я была в девках, выросла у чужих людей, измалка в нужде
и в горе! А он полюбил меня, взял меня за себя замуж; и как
любил, как меня кохал, (лелеял), Госпяди, как кохал! Так бы хоть
и много лет жить, — так вот же Господу неугодно то было: взял
его Господь от меня. Господи Боже! Чем-то я, бедная, согрешила
пред Богом, что так меня покарал!
377
И она снова стала рыдать.
— Теперь с кем ты живешь? — спрашивал я.
— Одна; совсем одна, как есть — одна! Муж покойный мне двор
и хату оставил. Его отец выделил нас особно, как только он на мне
женился. Другие сыновья, двое, братья моего мужа, те с отцом во
дворе остались, а мой покойник со мною особняком стал жить.
— Дети у тебя есть? — спросил я.
— Нет и не было, — отвечала женщина. — Не дал нам Бог
детей. Коли б дети были, то, может быть, теперь и горя меньше
было, — кто его знает! Только детей нет, я одним одна после мужа
осталась.
— Ты говорила: у твоего мужа братьев двое было, — сказал
я, — что, они женаты?
— Один женат, — отвечала она, — другой собирается жениться.
— Отчего ж ты одна живешь, почему не в семье твоего
свекра? — спрашивал я.
— Там не любят меня, — был ответ. — И покойника моего
невзлюбили они за то самое, что на мне женился. Все
отговаривали его: не бери ее, она такая-сякая, бедная, нищенка! А он на
своем стал: люблю, говорит, ее, до сердца она моего подошла. И
мать его очень меня не любила, только батько старый — тот
ничего. Что ж, говорил, коли она ему по сердцу пришлась, пусть
женится! Он-то сына и выделил, на то самое, чтоб не заедалась с
нами его семья! И пока старый батько был жив, то был к нам
милостив, и свекровь, и девери, и невестка не смели нас обижать.
Только батька старого прошлый год не стало, и с той поры к нам
из той демьи никто не ходил. А муж покойный бывало говорит:
что ж? не хотят с нами в дружестве жить, — как знают! Я против
них ничего, люблю их, как родных! Только вот, как муж умер, и
с той поры его родные совсем наплевали на меня! Хоть где
встретятся, так не заговорят, будто не знают, что я им такое.
Я спросил ее прозвище. Оказалось, что из двух деверей ее,
старший был мне знакомый человек: жена его недели две
находилась у меня в больнице, и он тогда ходил к ней.
— Когда муж твой умер, — продолжал я расспрашивать ее, —-
ты с той поры оставалась в том же дворе, где жила с мужем?
Она отвечала утвердительно.
— Жил ли кто с тобой? — продолжал я.
Она отвечала отрицательно.
— А видалась ты после мужа с его роднёю? — спрашивал я.
— Нет! — говорила больная. — С того дня, как покойника
похоронили, никто из них не приходил ко мне. Осмелилась было
я один раз пойти к ним, так свекровь и невестка со двора меня
прогнали! Не ходи» говорят; что, ты объедать нас думаешь, что ли?
А свекровь так напалась на меня, что и Господи! Ты, говорит,
моего сына со света свела! Ты, говорит, сякая-такая волшебница:
ты его причаровала; он ум, какой у него был, потерял, как
женился на тебе. Покойник батька хотел было женить его —- славная
девка находилась, не тебе пара, так он не захотел, за тобой по^
гнался; а все оттого, что ты ему такое снадобье дала. Ты, гово-
378
рит — прирожденная волшебница, и нам хочешь шкоду какую-
нибудь учинить. Не ходи к нам, а станешь лезть, так собаками
затравим! Да так по всему селу разбрехали, будто я волшебница.
Все. по злобе на меня. А я какая волшебница? Ничего такого
волшебного не знаю, никаким таким дурным делам не научилась.
С покойным мужем по закону Божиему жили. И батюшку, отца
Спиридона, спросить извольте. Он скажет, что знает нас, как мы
жили! Мой покойный муж был честная душа, не крал, не
пьянствовал, никого не обманывал, а работящий мужик был. И я
никаким волшебством не занималась. Это все по злобе на меня
сплели и в народе распустили!
— За что ж они так на тебя злобствуют! — спрашивал я, и
мне хотелось добиться, отчего это у этой женщины такой разлад
с мужниною роднёю.
— Не знаю, — отвечала она. — Ничего я им не заподеяла! Не
знаю, за что они так возненавидели меня! Разве за то, что я бедная
сирота.
И она опять зарыдала.
Я дал время пройти ее истерическому воплю, потом продолжал
свои расспросы.
— Как же это муж твой после смерти своей стал ходить к
тебе, говоришь ты! Его зарыли на кладбище, разумеется. Ты к
нему на могилу хаживала? — спрашивал я, догадываясь, не
сделались ли с нею эти галлюцинации от ночных посещений могилы
любимого мужа, а я слыхал уже, что в том крае, куда меня
забросила судьба, подобные чудачества бывают за некоторыми.
Она сказала мне следующее:
— Сперва, как муж умер, я была как безумная, не знала, что
я такое и что кругом меня! И как придет ночь, я не утерплю в
своей хате, сорвусь и бегу на могилу моего пана, сижу там, сижу,
плачу все плачу, да голошу, пока светать станет!
— И долго так ходила ты?
— Да недели четыре.
— И ничего там ты не видала? Не показывался он тебе на
могиле?
— Нет, не показывался. Только вот что я заприметила.
Бывало, на могилах там ночью козы скачут, и мне то показалось как-то
чудно: откуда это козы на кладбище? Днем хоть и пасут там стадо
пастухи, так на ночь в село пригоняют. Отчего ж, думаю, это козы
ночью в таком месте? Только один раз я сидела на могиле, а
кругом меня все козы, так что мне сумно стало, я встала и хочу
ворочаться домой: вдруг сзади меня кто-то как ударит, так что я
на ногах не удержалась и упала. Смотрю, ан это козел меня так
хватил. Я испугалась, насилу домой прибежала. Только после
этого не покаялась и дней через пять опять пошла на могилу. Туда
шла, ничего не видала, и там сидела, гоже ничего не было, а как
ворочалась, ночь была месячная, видная, — смотрю, на ветряной
мельнице на одном крыле стоит козел, да мне локазалось, тот
самый козел, что давеча меня ударил! Я пустилась бежать -*•
откуда у. меня сила тогда взялась, бегу, бегу, а за мною словно
379
кто гонится, так вот и слышу: туп! туп! туп! Прибежала я домой
да с той поры уж перестала ходить ночью на могилу к мужу,
Таково-то перепугало меня тогда! После этого, спустя времени так
с неделю, лежу я ночью одна себе и горько плачу, и слышу что-то
по хате со двора скребет, а потом будто в окно стучится. Я
вскочила, да к окну, ночь была еще месячная, смотрю в окно — никого
не видно, а вдруг слышу, в дверь кто-то стучится. Я,испугалась,
стою да молитву творю. Ан глядь! передо мной стоит муж мой;
дверь не отворилась, а он тут, кто его знает, как и вошел! Я как
стояла, так со страха и повалилась на «пил». Ни жива, ни мертва,
ни крикнуть, ни слова пролепетать не могу! А он подходит ко мне
и говорит тихо, будто шепчет: Ага! перестала ходить ко мне. Козла
испугалась. А знаешь ли, что это за козел такой? Это наш-таки
мертвец с нашего кладбища. Это парубок: на тебя сердится, что
за него не пошла, а за меня вышла! А он умер с тоски по тебе,
очень любил тебя! Теперь нарочно пугать тебя стал, чтоб ты не
ходила ко мне. А коли ты ко мне перестала ходить, так я к тебе
каждую ночь ходить стану. Да с этим как навалится на меня и
давай меня давить. Мне стало так, как бы вам сказать, будто и
приятно, и тяжело, и страшно! А отпихнуть его от себя не могу и
двинуть рукою или ногою не в силах! А тут петух закричал, он
так, кто его знает куда, и делся! С той поры каждую-таки ночь
приходит ко мне, навалится и давит меня, а как петух покричит,
он и пропадет! И после того мне становится так, что я и сказать
не могу как, только такая слабость, все хуже и хуже! Едва ноги
волочу, так он меня измаял!
— И ты все одна спишь в хате? — спросил я.
— То все одна спала, а вот со Спасова дня так невмоготу мне
стало, я позвала к себе ночевать вдову солдатку Егориху, и с той
поры она ко мне каждую ночь ходит.
— И при ней ходит к тебе твой муж? — спросил я.
— И при ней все ходит — как и без нее.
— Скажи: эта солдатка Егориха стала видеть твоего мертвого
мужа с первой ночи, как пришла к тебе, или сперва не видала, а
уж после стала видеть? — спрашивал я.
— Нет. Первую ночь не видала. Ходила ко мне с неделю и все
ничего не видала. Я при ней, бывало, вижу, стоит муж, как был
живой; я ей говорю: видишь, Явдохо, а она — ничего не видит! А
потом и она стала видеть.
— А больше никто не видал?
— Никого я к себе не звала. Я же говорю, барин: у меня ни
роду, ни племени, а мужнина родня от меня отцуралась! круглая
сирота я была; такою муж меня взял. Он у меня был одна родня;
Его не стало, и я опять стала круглая сирота!
И она снова стала рыдать.
— Ты священнику говорила о том, что к тебе умерший муж
ходит? — спрашивал я.
— Говорила, — был ответ. «Это, говорит он, от большой
печали тебе так приключилось. Не надобно грусти предаваться, это,
говорит батюшка, отчаяние, грех великий. Богу надобно молиться.
380
За упокой души твоего мужа подавай часточку! А что, говоришь
ты, привижуется тебе что-то, так ты сходи к доктору: человек он
ученый, может быть, даст тебе лекарство какое, чтоб от головы у
тебя оттянуло, потому что этого на самом деле нет, что ты видишь,
и оно тебе только по твоей болезни представляется!» А наш отец
дьякон говорит, что это от лукавого деется. «Это, говорит, не то,
чтоб муж к тебе ходил, а бес принимает такой образ, чтоб тебя'
тревожить. Кто его знает, что оно такое есть».
Я попробовал дать ей нервоуспокоительное средство и прика^
зал явиться через три дня. Между тем я позвал ее деверя, которого
я прежде знал. Я рассказал ему об этой женщине и стал журить
его и всю родню его, зачем они оставили без внимания и без
призрения в одиночестве эту бедную вдову.
— А вы, барин, — сказал он: — так вот и верите всему, что она
вам говорит! Истинно скажу вам: все это она брешет, ничего она там
не видит, все только выдумывает! Нехорошая это баба! Только на вид
смиренницею прикидывается, а на самом деле она ух какое
недоброе зелье! Она вот такая, что сама на себя вымыслит, что с ней и то,
и другое делается, все затем, чтоб об ней говорили, да ее жалели, да
за ней убивались, а потом выйдет все вздор. Она такая! Через ее нрав
дурной и наш брат в молодых летах помер! •
И мне тогда невольно пришло подозрение. Не блажит ли, в
самом деле, эта баба? Не сочиняет ли она все это про себя? Чего
доброго! Ведь и у них в простонародьи есть такие женщины, как
и у нас в высшем звании, что любят подчас про себя
небывальщину плести, чтоб интересными показаться!
Когда она в определенное время пришла опять ко мне и
объявила, что лекарство мое не действует, и муж по-прежнему к ней
ходит, я сказал ей:
— Слушай, молодица. Я ночью приду к тебе в хату, чтоб
видеть твоего мертвого мужа, Не подумай ничего зазорного. Я,
знаешь сама, человек женатый, притом я и не хочу оставаться с
тобою наедине ночью. Пусть с нами и солдатка будет, что с тобой
обыкновенно ночует.
Она согласилась. Я назначил ей первую за тем ночь.
Первый раз, когда я отправился к ней, я не ощущал ничего,
кроме неопределенного любопытства. Я был сам за себя уверен,
что ничего не увижу и не испугаюсь, напротив, вполне надеялся
убедить и довести обеих баб до сознания, что все видимое ими
есть вздор и что они, собственно, ничего не видят такого, чтоб на
самом деле существовало.
В двенадцатом часу ночи я пришел к ним в хату. Эта хата
была обыкновенная малороссийская хата: вымазана внутри мелом,
в углу стояли на полочке образа, за которыми заткнуты были
засохшие цветы и травы, в стенах три окна неравной величины,
вдоль стен лавки, перед которыми стоял покрытый грубою
скатертью стол с положенным на нем хлебом; от входной двери влево
печь; в углу за нею, между печью и стеною, выходившею на
улицу, «пил», род кровати из помощенных досок, под пилом
скрыня. В хате, кроме пациентки, была солдатка Егориха, женщина
381
лет пятидесяти. Бьь а тогда вторая половина сентября, ночь
темная, безлунная.
Я прежде всего начал разговор с солдаткой, но узнал от нее
не более того, что мне передавала моя пациентка. Но меня
интересовал вообще ход, каким шло то, что она стала видеть
приходившего мертвеца. Она объяснила мне, что несколько ночей' она
ничего не видала; ей было страшно смотреть на свою хозяйку, как
она, по-видимому, терпела, страшно было слышать ее крики;
потом, когда больная говорила, что муж ее идет, и ей, солдатке,
стала показываться как будто тень какая-то; на следующую затем
ночь эта тень показалась человеческим обликом с телом, а в
последующие ночи она ясно узнала покойника в таком виде, каким
знала при жизни, только он был бледен, и нос будто синий.
— ,Ты не боялась его? — спрашивал я.
— Сперва боялась, ух, как боялась, а после уж ничего! Он
меня не трогал, даже как будто не замечал, что я тут есть. Как
будто ему все равно, тут ли я или меня нет! Он свою жену знал,
к ней только и приходил! На меня ни разу не глянул; только один
раз, когда я хотела заступить ее и не допустить его к ней, он
сделал вот так, — она показала жестом, как он удалил ее, — а
сам на меня даже не глянул, так, дескать: не мешайся, не твое
дело, мы с женою про себя знаем! Так после того я в другой раз
уже не загораживала ему хода к жене.
Я закурил сигару, приказал хозяйке заправить свечу и стал
читать принесенную с собой книгу, чтоб как-нибудь убить время.
Едва прошла четверть часа, как моя пациентка стала стонать
и топырить руки, как будто желая отмахнуть от себя что-то
навязчивое.
— Вон идет! — говорила она. — Слышите — уж ветер
поднялся. Это он идет!
Действительно, я услышал шум ветра, глянул на часы: было
ровно полночь. Я знал, что в полночь всегда подымается ветер.
— Скребет, скребет в стену, — кричала пациентка. То же
повторила и солдатка.
И мне как будто показалось, что что-то скребет на наружной
стене хаты.
— Слышите — в окно стучит!
И мне как будто показалось, что сзади меня стекло в окне
брякнуло. Меня против воли одолевал испуг. Но мне тут же
становилось стыдно своего малодушия. Скрести за стеною могла
собака, — объяснял я сам себе, — а брязг стекла мог быть
внезапным плодом моего воображения.
Но вдруг моя пациентка вскрикнула: «аи! идет! Уже здесь! На
меня идет!»
Я бросился с своего места и заслонил собою испуганную
женщину. Она показывала пальцем на воздух и кричала: «вот! вот!
как он сердит на вас, что заступили меня! ух! как зубами
скрежещет! вот, на вас, барин, замахивается кулакомГ Аи! Аи!»
Мне стало невыразимо страшно от этих слов. Но я ничего не
видал перед глазами. Мне тут же входила в голову мысль о смеш-
382
ной стороне моего положения: женщина воображает, что кто-то
мне угрожает, а на самом деле никого нет. Но никакое
размышление не могло преодолеть моего невольного страха. Солдатка все
это время стояла, прислонившись к печи, крестила воздух и
шептала молитву.
Раздался крик петуха. Обе женщины пришли в себя.
— Слава Богу! — произнесла солдатка.
— Нет его больше в хате! — проговорила больная, — как
петух пропоет, так его и не станет, так, кто его знает где и денется!
— Тут никого не было! — сказал я. — Вам он привиживался,
а его не было!
— Как не было? — говорила больная. — Он, видно, вас,
барин, испугался. Хотел, как прежде делал, навалиться на меня, да
увидел вас, посердился и исчез.
— Нет, молодица, — сказал я. — Никого тут не было. Это
представилось тебе. Это вздор. Ты больна, и больше ничего.
Коли б на самом деле кто был здесь, так и я бы видел. А отчего же
я с тобою был, а не видал ничего!
— И я, барин, как вот и вы, первую ночь тоже не видала, да
и вторую тоже ничего не видала, и думала, грешная, что это ей с
тоски или с полума представляется, а опосле мало-помалу и сама
видеть стала. Вот и сейчас видела: хоть под присягу идти, так и
под присягой скажу все тож: видела, как свят Бог, видела!
Извольте, барин, к нам еще другую-третью ночь так пожаловать, так,
может быть, и вы увидите!
— Хорошо, — сказал я,— на следующую ночь я опять об эту
пору к вам приду, чтоб уверить вас, что вы обе только бредите.
Как ни убежден я был, что тут не было ничего существенного,
что видение, о котором говорили эти две женщины, было у них в
мозгу, и как я ни старался в том уверить их, насколько то было
возможно, однако я сам после того на следующий день был в
сильном волнении и меня более всего беспокоило открытие,
произведенное над самим собою: оказывалось, что я принадлежу к
слабым натурам, на которых может переходить суеверный испуг
других. Нет, нет! говорил я сам себе, не дозволю овладеть собою
страху! Иное дело они, простолюдины: понятно, что на них такой
страх действует заразительно; они всякому вздору верят! А я? Я
ведь не верю, чтобы мертвец, погребенный в могиле, мог вставать
и расхаживать по хатам. Фи, какой вздор, какое грубое суеверие!
Материалистом по убеждениям, как и по склонностям я не
был, как многие из моей братии врачей, которые, постоянно
обращаясь только с человеческою плотью, привыкают видеть в
существе человеческом одну только плоть и относятся с
невниманием, а иные даже с враждебностью ко всему, что
утверждает о бытии в нас духа, существа иного мира, не поддающегося
никаким врачебным инструментам. Я сын пастора,,воспитан был
в строго христианском духе и остался навсегда верующим. Когда
мне являлись вопросы, возбуждавшие сомнения, я всегда
рассуждал таким образом: нельзя отвергать и отрицать ничего на том
только основании, что мы в данное время понять этого не можем.
383
Многое также отвергали и отрицали деды наши из того, что теперь?;
нам всем кажется понятным и ясным. Кто поручится, что нацш/
потомки не уразумеют многое из того, что нам пока непонятно и
что мы склонны отвергать? А если иное, быть может, и никогда
не удастся человеку разрешить себе и уяснить, то и с тем 'надобно
мириться. Значит, человек так создан, что это вне сферы его
понимания! Но такая точка зрения успокаивала меня только по
отношению к тому, что было непостижимым в области религии,
тем более, что нравственная высота ее, вполне доступная, заранее
располагала меня к смирению. Такая точка зрения не относилась,-
однако, к области предрассудков и суеверий, господствующие в
простом народе, а в науке не находивших себе никакой опоры.
Тут я с .уверенностью все отвергал и все считал плодом
невежества — не более. Тут не представлялось мне никакой
неразгаданной тайны. Прав ли я был — иной вопрос, но так думал я
искренно и потому был уверен, что мне никак не представится
того, что представляется этим двум женщинам, заранее уже веро^
вавшим в возможность того, чему я положительно не верил.
Наступила ночь, и я отправился к моим женщинам. На пути к
их хате меня тревожило что-то такое, чему я никак не мог дать
ясного отчета, но в предшествовавшую ночь такого я не ощущал. Что-то,
как будто, мне говорило: не надобно ходить туда, чтоб не сталось
чего-то дурного. Я силился преодолеть в себе эту неловкость.
Обе женщины, как и вчера, находились вместе.
—• Вот ветер выть начинает. Так всегда бывает перед тем, как
ему приходить! — заметила с тревогою больная.
Ветер действительно завывал. Я объяснил им, что так всегда
почти бывает в полночь.
— А вот и скребет уже! — с усиливающимся беспокойством
заметила больная.
На этот раз скребло явственнее, чем прежде.
—■ Это верно собака! — сказал я, хотя сам не был убежден,
чтоб это была именно собака.
— У нас и собаки-то нет! — произнесла больная. — Это он
скребет, в хату пробирается. Аи! слышите, как в окошко стучит!
Господи Иисусе!
Брякнуло стекло в окне, как будто его кто разбил, а у меня
против моей воли стал пробираться холод по всему телу.
— Аи, аи, идет! вот он! — крикнули разом обе женщины.
Я глядел по направлению к дверям и ничего не примечал,
кроме двери и полки над нею, на которой расставлена была
домашняя посуда. Но вдруг мне показалось, будто все в хате
покрылось синеватою дымкою или скорее паром, как бывает в бане. Я
чувствовал, что у меня надувались на затылке жилы, кровь
бросалась в голову. Мне трудно было произнести одно слово, что-то
как будто спутывало мне язык, сжимало горло, препятствовало
вольному дыханию. Солдатка продолжала стоять у печи и шепотом
произносить молитвы, несчастная больная, растопыривая руки и
отмахиваясь, кричала: «аи! идет! на меня хочет навалиться.
Давить меня будет!» Я с величайшим трудом сделал напряжение
384
всех мускулов своего тела, чтобы броситься к ней на помощь. Она
уже упала навзничь на пол и стонала, произнося: «навалился!
давит! давит! пусти! Господи Иисусе!» Когда я подошел к ней и
схватил ее за руку — удивительное явление: мне сильно запахло
трупом. Это галлюцинация, — твердил я сам себе: — это вздор,
это нелепое суеверие невежественного простонародья! разве я не
могу с собою совладать? Но несмотря на все усилия, меня
одолевал невыразимый никакими словами ужас... Я чувствовал, что еще
одна минута — и я подвергнусь обольщению этого ужаса и стану
видеть то, что видят они... Но тут прокричал петух. -Больная,
которую я еще держал за руку, приподнялась и сказала:
— Уходит! пропал! Ах, барин, если б вы видели, какой он
злой, как на вас рассердился, когда вы его от меня, отпихнули!
Как он над вами кулак заносил!
— Однако ж не ударил, — говорил я, — и не посмеет ударить,
оттого, что я ему не верю. А вам обеим какая-то,глупость лезет,
вы на себя сами дурман, блажь напустили! Вот что я вам скажу,
мои милые. Я таки постараюсь вас вылечить, хотя бы, может
быть, пришлось и побить вас! Вот что!
Так говорил я и старался придавать своей речи насмешливый
тон, но речь против моей воли путалась, как и мои мысли. Сердце
сильно билось, дрожь ходила по спине и по ногам. Не так скоро
проходит влияние страха, как скоро он овладевает нами. Завтра
приходи ко мне! сказал я ей прощаясь. Мне так было трудно
возвращаться домой, так у меня ноги путались между собою, и в
теле происходила странная смена жара и холода, что я пожалел,
зачем я сюда приходил пешком, и не приказал заложить экипажа,
а пришедши в свое помещение опасался, чтоб со мною не
приключилось чего-нибудь в роде нервного удара.
Тревожно прошел для меня следующий день. Я задумывался,
я не мог совладать с собою. Я начинал сознавать, что взял на себя
предприятие не по силам. Я был уверен, что не испугаюсь, мне
казалось, что я бы не испугался даже и тогда, если бы
собственными глазами увидел что-то чудное, не испугался именно потому,
что не поверил бы в объективность видения. Но какой же я
оказываюсь трус, когда еще ничего не видал, а уже становлюсь ни
на что не похож! Что меня собственно встревожило? Страдания
этих женщин, проистекающие от призраков их собственного
воображения, работающего у них под условием самого крупного,
непроглядного невежества. Зачем же я стал врачом, когда
человеческие страдания меня пугают и при посредстве такого
испуга переводят на меня свое влияние? Врач должен быть всегда
готов переносить зрелище самых ужасных страданий! Я
припоминал виденных мною прежде тяжких больных и находил, что они
не производили на меня такого испуга, как вид этих женщин. А
что такое эти женщины, если не больные? Но больных нужно
лечить, а чтоб их лечить правильно, нужно прежде всего
исследовать и определить их болезнь.
Я начал исследование и не сумею довести его до конца! А
необходимо. Одной представляется мертвец. Это бы еще не важг
385
ность. С ней галлюцинация, и ее следует лечить. Но важно то, что.
и солдатка видит мертвеца! Стало быть, и солдатка больна, и ее
надобно лечить! Значит, тут есть что-то заразительное, что-то
эпидемическое: стало быть, и всех тех, что вообще верят в ходячих
по свету мертвецов' и следовательно способны их видеть, также
надобно лечить! А я вот не верю, да боюсь. Чего ж я боюсь? Боюсь
также увидеть мертвеца! Неужели? Как могу я бояться, когда я
знаю, что мертвецы не могут вставать из могил и ходить между
живыми? Отчего же это я боюсь? Боятся люди того, чему верят:
вот я опасаюсь, чтоб воры меня не обокрали, или разбойники не
убили, потому что я верю и знаю, что есть на свете воры и
разбойники; а как же бояться встающего из могилы мертвеца,
когда я не верю в них и знаю, что такого быть не может. Да ведь
это просто ребячество, малодушие, слабость характера! Надобно
пересилить себя и отогнать от себя пустой страх. Надобно над
собой поработать! На то Бог дал человеку ум и волю.
Так раздумывал я и вместе боролся с полоиною своего
существа. Мой ум говорил: надобно вести исследование до конца, а
что-то иное, чего я назвать себе не умел, говорило мне: оставь, не
отваживайся, сойдешь с ума!
Еще не улеглась во мне эта внутренняя борьба, как вошла моя
пациентка. Я освидетельствовал ее пульс, сделал несколько
вопросов относительно ее желудка и прочего и дал ей опять нервоус-
покоительную тинктуру. После того я дал ей бутылку шампанского
вина, приказал сохранить до моего прихода в холодном месте и
сказал, что ночью опять приду к ней в хату.
Настала ночь. В 12-м часу пришел я к своей пациентке,
приказавши кучеру за собой приехать.
Во все продолжение пути ноги мои спотыкались, волосы на
голове поднимались при малейшем шуме ветра, шатавшего
деревья. Робость одолевала меня против воли, без всякой важной
причины, сколько ни усиливался я владеть собою и не упускать
ни на мгновение той мысли, что обязанность врача собственным
примером действовать на больных, без чего мало действительны
бывают его медикаменты. Никогда это правило не было более
применительно, как теперь.
Надобно было собственным мужеством доказать этим
женщинам, что бояться нечего, что им представляется то, чего быть не
может. Мертвец из могилы встать не может, потому что он сгнил
и превратился в глыбу земли. А глыба земли разве может ходить
по хатам! Надобно было, чтоб эти женщины пришли к такому
сознанию, а они придти к нему не могут, пока будут замечать,
что тот, кто их так поучает, сам, как и они, побаивается мертвеца!
Как только я вошел в ту ночь в хату, так меня и обдало,
воздухом погреба, воздухом сырым, удушливым и спертым, какой
ощущает пришедший со свежего воздуха в подвал, стоящий
пустым. Это я счел также за галлюцинацию, подобно тому как про-
шлою ночью в этой же хате мне запахло трупом. Я принес с
собою штопор, потребовал данную утром бутылку шампанского и
два стаканчика, находившиеся у хозяйки, из которых один был
386
разбит и склеен; а сам я вынул из кармана серебряную чарку.
Открывши бутылку, я пригласил своих собеседниц выпить для
смелости. Выпил и я. Потом я закурил сигару, стараясь казаться
веселым, начал насвистывать песню и, остановившись после двух
стихов, стал просить спеть что-нибудь. Они обе стали смеяться,
что я счел хорошим знаком. Мне удалось-таки солдатку уговорить
запеть песню, которой начало я указал ей. И больная,
по-видимому, развеселившись, слушала не без удовольствия. Я стал
подпевать. Вдруг больная крикнула: «чую, вже йде»!
Песня замерла на устах солдатки. Она стала творить молитву.
Больная тревожно произнесла:
— Уже скребет и в окно стучится!
Мне еще отчетливее, чем вчера, послышалось, что за стеною
скребут и в окно стучатся.
— Ох, уже он в хате! — крикнула хозяйка. — Аи, да как же
страшно он смотрит на вас!
Я выпучил глаза к двери, никого не видал, но кровь приливала
мне в голову, по спине пробегала дрожь, прерывалось дыхание.
— Аи, аи, аи! — кричала больная. — Обходит вас, барин; ух,
как глазами водит...
Я устремил глаза влево к стене и мне показалось, что вдоль
стены и бывших на ней двух окон медленно двигалась
человеческая тень, но без определенного облика.
— Барин, барин! — продолжала больная. — Вам за спину
зашел, вам на голову сзади глядит, губами перебирает, будто
шепчет...
Я с усилием бросился к ней, схватил ее за руку, как
сделал вчера, но тут решительно покинуло меня присутствие
духа. Ноги у меня подломились, я опустился на колени,
закрыл глаза... со мною как будто начинался обморок,
терялось сознание, только еще до ушей долетали жалобные
стоны больной, жаловавшейся, что на нее наваливаются и
давят и призывавшей на помощь Господа Иисуса Христа и
Пречистую Богоматерь. Я пришел в себя только тогда, когда
обе женщины поднимали меня и говорили: «Пропал уже. Нет
его! • петух пропел, он тотчас и исчез!» Я в изнеможении
сел на лавку и думал: нет! нельзя искушать Бога. Недаром
Господь искушавшему его диаволу, советовавшему броситься
с вершины храма в надежде на ангельскую помощь, отвечал:
Писано бо, не искусиши Господа Бога твоего. И нам повелел
Он молиться: не введи нас в искушение. А я стал искушать
Бога: понадеялся на силы свои, на то, что если я не верю
в то, чему верят эти бабы, так мне ничего и не будет!
Конечно, мертвец на самом деле не приходил, но женщина
эта страдает галлюцинацией, и ее галлюцинация перешла на
солдатку. Стала она переходить и на меня.
Я думал, что, коли не верю, так она и не перейдет на меня.
Я ошибался, вижу, что ошибался. Правда, привидение есть во
всяком случае явление субъективное, но всегда ли мы в состоянии
провести границу между субъективным нашим и объективным?
387
Я обратился к больной и сказал ей: молодица! я беру тебя в
больницу и там примусь лечить тебя.
И того же дня поступила женщина эта в больницу, но так как
она могла ходить и легкое работать, то я заставил ее ухаживать
за больными, помещавшимися под моим надзором в больнице, а
между тем сделал распоряжение, чтоб ее кормили наилучшим
образом. Мне хотелось новыми для нее заботами отвлечь от
прежних грустных дум, доведших ее, как я думал, до галлюцинаций.
Что же? В больнице, помещавшейся на барском дворе, в течение
двух месяцев не жаловалась она на посещения мертвеца, а
потом — сошлась с одним парнем во дворе и вышла за него замуж.
ФАИНА
Прошлый год гостил я в деревне у знакомых. Однажды
съехавшиеся к ним в дом гости вечером вели беседу о разных
непонятных, странных и необъяснимых случаях, которые легко могут
быть признаны за так называемые сверхъестественные, где
ожидается или предполагается действие над нашей жизнью высших
не материальных сил. Каждый рассказывал о себе что-нибудь
бывшее с ним в таком роде. Был в числе собеседников некто
отставной майор Василий Варфоломеевич Зотиков. Он заметил,
что и о себе рассказать бы мог кое-что, да не хочет, чтоб его
заподозрили в лганье. Сколько ни просили его, он остался
непреклонен, но потом сказал, что изложит факт, случившийся с ним в
жизни, на письме ко мне. Через неделю я получил от него письмо
такого содержания.
Исполняю обещание, данное на прошлой неделе в пятницу.
Слушайте и размышляйте, мой достопочтеннейший, но не
осуждайте: мой рассказ может быть неумен и неинтересен, зато верен.
Я родился в одной из приволжских губерний от благородных
и не бедных родителей. Отец мой, как большинство наших дворян,
послужив несколько лет в военной службе, вышел в отставку,
женился на девице из дворянского рода в своем уезде и потом,
обленившись, отговаривался болезнями от выборов и жил в своем
родовом имении в блаженном бездействии до кончины, постигшей
его на 73 году жизни.
Был у нас в имении большой двор с примыкавшим к нему
садом, многочисленная дворня, барский дом о двадцати двух
покоях, при котором с южной стороны пристроены были оранжерея
и теплица, составлявшие вместе зимний сад, доставлявшие семье
удовольствие сидеть в зелени в ту пору, когда на дворе бывают
слякоть, мороз или.вьюга. У моих родителей было не мало детей,
но из них остались в живых только сестра, старше меня двумя
годами, я и меньше меня — брат и сестра.
Когда мне исполнилось пять лет, со мной были видения. Мать
и нянька рассказывали (сам, признаюсь, я этого не помню), что
однажды, играя с детьми в саду, я показывал ручкою на вишневый
куст и говорил, что из густоты глядит на меня белокурая девочка
и манит меня к себе. Приглядывались другие и не видали; потом
девочка исчезла. То же самое повторилось там же. Повторилось
389
оно и в третий раз в доме, и это уж я хорошо помню. Была светлая
зимняя" ночь. Я проснулся. Лежа в своей детской кроватке и
бросивши взгляд в окно, освещенное полною луною, я увидал на
внешней стороне за стеклом личико белокурой девочки. Прежде,
когда о"на являлась мне в саду, я, как сказывали мне, ее не боялся,,
а напротив весело улыбался; теперь же эта фигура смотрела на
меня сквозь стекло с таким грустным видом, что я испугался и
крикнул. Спавшая в моей комнате няня пробудилась; видение
исчезло. «Что с тобой, барчук»? спрашивала няня. «Что с тобою,
мой светик»? — Вон! вон! вон там! — кричал я, показывая ручкою
на окно. «Что там? говорила няня. Окно, больше ничего!» — Дитя
какое-то сейчас вот смотрело в окно, девочка! — говорил я.
«Господь с тобой», сказала няня и крестила меня, творя молитвы. «Кто
там смотреть мог? От окна до земли высоко. Как можно оттуда
сюда взлезть, и лестницы нет! Какая сюда девочка заберется! Что
ты, светик! Да ноне и зима, вишь какой лютый мороз. Господь с
тобой!» И она продолжала меня крестить. Утром няня рассказала
моей матери, которая, как провинциальная барыня, не была
свободна от всякого рода суеверий. Сколько я мог тогда заметить,
матушка встревожилась. За столом во время обеда она стала
рассказывать об этом отцу моему, а тот начал говорить, что читал
где-то, что детям нередко представляются видения, и при этом он
делал какие-то физиологические объяснения,- вычитанные им из
каких-то книг, но смысл таких объяснений я по своему
малолетству не мог ни понять, ни удержать в памяти. После того мне уже
не являлась белокурая девочка.
На восьмом году моего возраста пригласили нашего
приходского дьякона учить меня русской грамоте, а гувернантка
швейцарка, взятая к нам в дом для сестры, стала меня учить и
по-французски. Родители объясняли мне, что я по рождению
столбовой дворянин и должен быть непохожим на простого мужика,
поэтому я должен непременно учиться говорить по-французски,
потому что по-русски говорят все, и простые мужики. Слушая
такие наставления, у меня составлялось такое представление, что
французский язык выдуман нарочно для того, чтоб говорили на
нем благородные дворяне и тем отличались от простых мужиков.
На одиннадцатом году моего возраста, меня отвезли в
губернский наш город и отдали в пансион, который содержал заезжий
француз. Пансион этот назывался благородным и вполне
соответствовал своему названию: туда принимались только дети
столбовых дворян и притом не бедных, так как плата была довольно
высокая... Все наши родители еще до поступлениячнашего в
пансион вбили нам в молодые головки, что дворянину, особенно ш
бедному, хоть и следует обучаться разным наукам, но только
потому, что так принято, а от этих наук пользы никакой не будет.
Достаточно только говорить по-французски, уметь танцевать и
вести себя в обществе прилично, на столько, чтоб не походить на
мужика. В этом вся суть воспитания. Француз пансионосодер-
жатель прекрасно понял дух того общества, среди которого
прошла его судьба pour faire sa fortune и вел воспитание детей в своем
пансионе именно в духе российского дворянства. Учение наукам
шло у него в таком неотяготительном размере, что, выходя из
пансиона, все могли про себя сказать словами Пушкина:
Мы все учились понемногу,
Чему-нибудь и как-нибудь!
Самыми приятными днями и часами тех отроческих лет, когда я
учился в этом пансионе, были зимние и летние вакации, когда нас
отпускали к родителям. Зимние вакации считались у нас с 20-го
декабря по 8-е января, но за нами обыкновенно присылали лошадей
из дома числа 16-го или 17-го'декабря, а отвозили обратно числа
10-го или 11-го января. И теперь как любо вспомнить, как бывало
утром декабря числа 16-го, только что мы усядемся за классные
столы, как вдруг француз гувернер провозгласит, назвавши фамильное
прозвище пансионера: on vous a envoye chercher! Счастливец
выбегает в переднюю смотреть на знакомое ему лицо какого-нибудь
Архипа или Семена, посланного господами за барчуком. Радость
невыразимая! Книги в сторону! Счастливец уже в этот день учиться
не хочет! Да и между товарищами его делается при каждом таком
провозглашении гувернера переполох, так что учитель должен
вразумлениями водворять в классе беспрестанно нарушаемый порядок.
Потом, иногда на другой день, а то так и в тот же день на ночь —
прощание и отъезд! Мне приходилось до имения родителей ехать
восемьдесят пять верст, а казалось тогда — невообразимая даль: то и
дело просишь кучера, чтоб ехал скорее! Вот, наконец, и доезжаем:
показались мельницы, выстроенные на выгоне близ того села, где
наше имение. Еще каких-нибудь минут пятнадцать — и увидишь
папашу, мамашу, братцев, сестриц! Ах, какое счастье! Вот....вот...
И заранее переносишься в эмпиреи! Вот и деревья сада виднеются
покрытые инеем, а вот и двор; — въезжаем во двор... собаки
дворняжки бегут с лаем, воображая, что едут чужие, а узнавши своих,
машут хвостами, лащутся, прыгают, визжат с выражением своей
собачьей преданности; вот наши сани подкатили к крыльцу, лошади
остановились. Меня высаживают из саней, вводят в сени, из сеней в
переднюю, раздевают, а тут из залы выбегает братец и обе сестрицы
с гувернанткой, за ними выходят отец и мать... Едва дадут мне снять
верхнее платье и теплую обувь, начинаются объятия, лобызания...
Меня ведут в комнаты, в чайной стоит уже шипящий самовар,
горячий чай с холода — вкусная вещь, а тут еще и мои любимые булочки
с изюмом, теплые, только что испеченные ради моего приезда.
Пойдут расспросы, рассказы! Ах, как весело на душе и на сердце!
Приезд домой на летние вакации не в таком лучезарном виде остался у
меня в воспоминании, даром, что для нас, детей, время летних
вакаций было временем беспрестанных игр на чистом воздухе в саду.
Зимние вакации остались для меня бесценными в памяти именно
оттого, что тут началась моя первая любовь, еще детская и, как
увидите, неудавшаяся.
Было это не в первый год поступления моего в пансион, а уже
в третий. Я был дома уже почти две недели. Пришел последний
391
день отходившего в вечность 1830 года. К нам наехали гости. Все
это были семейства соседних дворян-помещиков; многих из них я
знавал уже, но тут явилось и новое для меня семейство гг. Сен-
тябревых, помещиков, недавно купивших имение в 10 верстах от
нашего. Вошел господин с круглым красноватым лицом, с лысым
лбом и русыми усами; рядом с ним шла барыня в шелковом
коричневом платье, освободившаяся, как я заметил глядя из залы
в переднюю, из бархатной шубки синего цвета. Это была особа
лет тридцати слишком, но с признаками былой и еще не увядшей
совсем миловидности. Она вела за руку белокурую девочку. Как
только взглянул я на эту девочку, так сразу и узнал ту самую,
которая мне представлялась в видении за оконным стеклом в
морозную ночь и в вишневых кустах в саду, как мне рассказывали.
Теперь уже не в мечтательном видении, а наяву увидал я это
личико. Если можно с чем-нибудь сравнить его, то разве с лицами
серафимов, как их рисуют на иконах, поддерживающими престол
Господень. Мягкие, тонкие, блестящие, как китайский шелк,
волосы этой девочки спадали с головы прядями на белые открытые
плечики, ее голубые глазки светились невыразимою добротою и
вместе с тем чем-то таким, чего назвать я не нахожу слов, скажу:
благородством, привлекательностью, но все это, чувствую, будет
не то, что бы мне хотелось сказать! Вся ее осанка так приковывала
к себе мои взоры, что, казалось, никакие силы не были в
состоянии оторвать их от нее; глядя на нее, мне было и необыкновенно
сладко и — страшно! Да отчего же страшно? Оттого, что мне тогда
же невольно лезла в голову мысль, что придется — и очень
скоро — расстаться с блаженством, которое охватывало мое
существо, когда я смотрел на нее!
— Вот вам моя дочка, Фаиночка, — сказала прибывшая
барыня моей матушке, подводя к ней девочку: —- я привезла ее к
вам, пусть познакомится с вашими детьми.
Мать моя расцеловала Фаиночку и сказала ей: «полюби, милая
Фаиночка, моих деток, а они, я уверена, полюбят тебя как
родную!» Потом, обратившись к приезжей барыне, мать моя
прибавила: «Дай Бог, дорогая, многоуважаемая Марья Савишна, чтобы
между нашими детьми завязалось такое же дружеское
расположение, какое, надеюсь, уже существует между нами».
Обе барыни с чувством пожали одна другой руки. Я поц'еловал
ручку Марии Савишны.
— Прекрасное, прелестное у вас дитя! — сказал мой отец
господину, прибывшему с барынею и барышнею. — Как вы
счастливы, достопочтеннейший Осип Акиндинович, что Бог вам
послал такого ангельчика!
Гость отвечал: «Ваше счастье полнее моего. У вас четверо
таких ангельчиков, а у меня один только!»
— Пусть детки наши познакомятся между собою, — сказала
моя мать.
Затем отец и мать пригласили господ Сентябревых в
гостиную, а нас всех с Фаиной Осиповной отправили играть в зимний
сад.
392
Когда мы, дети, очутились в зимнем саду одни, без старших,
моя старшая сестра, которой исходил уже шестнадцатый год,
принялась рассказывать гостье о деревьях и растениях: как и в какую
пору года каждое из них цветет и приносит плоды, в каких краях
растет на открытом воздухе и какими свойствами отличается. И я
тоже вмешивался в эти объяснения и мне было чрезвычайно
приятно, что гостья слушала и меня не без внимания. Скоро мы
ознакомились и стали обращаться развязнее. Известно, что дети
скорее всего пристращаются к сценическим представлениям и
если случается им быть в театре, то у них надолго врезываются в
памяти виденные ими представления и они любят повторять их и
воспроизводить сами. В пансионе, где я учился, нас иногда возили
в театр, существовавший в нашем губернском городе, и на меня
оставили большое впечатление виденные там пьесы, особенно
волшебные и чудесные, которые тогда были в моде: я завел речь о
театре; оказалось, что наша гостья была в этом опытнее меня; она
жила с родителями в Москве, бывала там в театре и видала
гораздо более и лучше, чем то, что случалось видеть мне. Однако было
и не мало такого, что видел и я, и она, и потому удобно было нам
вести об этом разговор. Я вспоминал, как страшно и вместе как
смешно черти в Чертовой мельнице возятся с мешками, а в Лесте
русалки заставляют Тарабара вертеться на крыльях ветряной
мельницы! От рассказов о виденных нами театральных
представлениях мы перешли к жестикуляциям и декламациям, стали
передразнивать артистов, размахивали руками, дергали ногами и
кривлялись всякими способами. Тут, незаметно для нас самих*
стали мы играть пьесу, виденную нами, не помню теперь чью, но
кажется Августа фон Коцебу. Содержание ее состояло в том, что
какой-то тиран похищает красавицу, влюбленный в нее рыцарь
освобождает пленницу и убивает похитителя, а добрый гений
соединяет их нежные сердца. Я был рыцарем, мой братишка —
лютым похитителем, Фаина Осиповна — красавицею, меньшая
сестра моя ее наперсницею, а старшая сестра •— добрым гением.
Я дрался с похитителем на палках, и победивши его, схватил
Фаину за стан и в эту минуту почувствовал такое сладостное
ощущение, какого не испытывал еще ни разу. Но шум,
произведенный нашими криками и беготнёю, привлек в зимний сад
наших матерей. Сначала обе они приняли строгий вид и как будто
собирались давать нам нагоняй за наши шалости, но потом, не
выдержавши роли, обе рассмеялись и спрашивали: «что вы тут
представляете?» Я принялся было с увлечением рассказывать
содержание пьесы, но мамаша остановила меня, сказавши: «Это
после расскажешь!» Нас всех увели в гостиную.
' Это первое знакомство с Фаиною и первое к ней
прикосновение оставило надолго впечатление во всем моем существе... К нам
наехали еще гости с тем, чтоб в нашем доме встречать новый год.
Взрослые уселись за карточные столы, мы, дети, ушли в
другой покой играть в фанты: наше детское общество увеличилось
еще несколькими мальчиками и девочками, приехавшими с
своими родителями.
393
В одиннадцать часов пригласили всех гостей в столовую, и
усадили за стол, уставленный приборами и бутылками. Когда
стенные часы пробили двенадцать, собеседники пили шампанское
и произносили пожелания благополучия — гости хозяевам,
хозяева гостям. Нам, детям, вливали в бокалы шампанского мало, за то
угощали нас обильно всякого рода лакомствами; заметно было,
однако, что многие дети, приученные дома ложиться ранее
старших, дремали сидя за столом. Мне одному спать не хотелось. Я
все смотрел на Фаину и грустное чувство стесняло мне сердце,
когда я думал, что завтра утром Фаина уедет с матерью, а Бог
знает, когда я увижу ее. После ужина нас развели по своим
комнатам.
Настал новый год. Мало было в жизни моей таких дней
наступающего года, о которых можно было мне достойно сказать,
что вот пришел для меня новый год, как 1-го января 1831 г. Новый
период жизни наступал для моего внутреннего бытия, хотя в то
время я не сознавал того. Я был еще отрок. Но и находясь уже в
зрелом возрасте мы часто не в состоянии уловить той минуты,
когда в нас совершается переворот, а сознаем это впоследствии.
После праздника Крещения меня отправили в пансион. Я
никому не говорил о Фаине, хотя вечно о ней думал; я даже
стыдился сам не зная чего, боялся, чтоб кто-нибудь не заметил, что
я думаю о какой-то девочке. Когда между товарищами заходил
разговор о том, кто как из нас провел праздники, я уклонялся от
всего, что бы могло подать повод узнать, что я познакомился с
такою особою женского пола, которая меня занимала; когда,
бывало, в истории, которую преподавал нам сам пансионосодер-
жатель и на французском языке, случалось ему произнести
какое-нибудь собственное имя, похожее на имя Фаины, я краснел
до ушей и внутренне сердился на себя за это: мне казалось, что
по выступившей на моем лице краске догадаются о моей тайне.
Секретно от всех я заглядывал в календарь и в списке имен
употребительных в православной церкви не находил имени
Фаины, но спросить об этом имени у нашего законоучителя
протоиерея Орфографова не решался, чтоб товарищи не сделали из этого
какой-нибудь догадки и не подняли меня на зубок. Даже фамилия
Сентябревых тревожила меня: стоило только кому-нибудь в
разговоре произнести название месяца сентября, как уже краска
вступала мне в щеки. Учу ли урок, туго понимаю, потому что в голову
лезет да все лезет Фаина; лягу ли спать и закрою глаза — мне
представляется милое, улыбающееся личико Фаины, а когда
бывало сквозь окна нашего дортуара светит луна и все мои товарищи
храпят, я один не могу уснуть, лежу с открытыми веками, веб
думаю о Фаине и вздыхаю! Поведут ли нас в церковь — я смотрю
на икону Пресвятой Богородицы и мне представляется Фаина! Ни
днем, ни ночью, ни на одно мгновение, не выходила у меня из
головы Фаина, да и из сердца не выходила она, и хотелось, ух
как хотелось увидеть ее скорее!
Вот прошла зима. Настала весла. На пасху меня домой не
брали за разливом вод. Пришел май; начались экзамены. Я сдавал
394
их не худо, но Фаина у меня все не выходила из головы и я с
нетерпением считал дни до того времени, когда нас распустят и
я поеду к родителям, где надеялся увидеть Фаину. Наконец
пришел июнь; наступили и каникулы! Папаша сам приехал за мною,
потому что у него на то время было 'какое-то дело в губернском
городе. Он отправился домой вместе со мною. Едучи дорогою, я,
притворяясь, как будто поступаю без всякой предвзятой мысли
выведать что-нибудь, спрашивал у своего папаши: кто теперь у
нас бывает? С удовольствием узнал я, что мои родители
сблизились с Сентябревыми и часто бывают, друг у друга. Сам отец
заговорил со мною о Фаине. Какая прелестная дочка у Сентябре-
вых, твоих лет подросточек. Какая умненькая! Как хорошо учится.
У них живет француженка гувернантка — не нахвалится своею
питомицею. Как превосходно играет на рояле: из нее музыкантша
выйдет. Да ты, конечно, помнишь ее, Вася. Они встречали у нас
новый год, когда ты был дома,. Я плутовски показал вид, будто вот
сейчас только вспомнил о ней, когда отец сказал, а на самом деле
именно с того 'вечера под новый год не проходило ни одного часа,
чтоб я не думал о ней; но я не хотел, чтоб отец как-нибудь
догадался, что эта белокурая девочка с ангельским взглядом
перевернула совсем мою детскую голову. Мы приехали домой. Опять
те же встречи, те же родные объятия! Но из моего воображения
не выступал образ Фаины и мне казалось, что уже и братца и
сестер я не люблю так, как прежде любил, но более чем их люблю
Фаиночку.
Несколько дней прошло. Однажды, когда мы, дети, играли в
саду, послышалось: гости! гости! Кто приехал? спросил я у
встретившегося слуги и хотелось мне, чтоб приехала Фаина с
родителями. Желание мое сбылось. Слуга отвечал: господа Сентябревы.
Мы все пошли из сада в дом. Вошли в гостиную. На диване сидела
моя матушка и рядом с нею госпожа Сентябрева. Против них на
кресле перед столом сидел муж последней, а у стены на другом
кресле Фаина. Я покраснел, но, делая над собою усилие, чтоб не
заметили краски на моем лице, поклонился мужу и жене,
поцеловал ручку Марье Савишне, потом поклонился Фаине.», вдруг
Фаина вскочила, сделала шаг ко мне и весело сказала:
здравствуйте! Как я рада, что мы опять увидались! И я очень рад,
проговорил я и посмотрел на мамашу, как бы желая спросить: хорошо
-ли так сказал?
Мать моя, как видно понявши меня, обратилась с
добродушным смехом к Марье Савишне и произнесла: понравились друг
другу молодые дети наши. Нас всех, детей, отправили в сад
играть. Чрез несколько времени и матери наши пошли вслед за
нами.
■. Мы пустились по саду бегать и резвиться. Я хотел показать
Фаине свою прыткость, бодрость молодецкую, вскарабкался на
дерево; а Фаина тревожно произносила: ах, как высоко, смотрите
не убейтесь! Я сделал два прыжка с ветки на ветку, соскочил с
дерева и крикнул: «давайте играть в прятки!» — Давайте,
давайте! — хлопая в ладоши, произносила весело Фаина. Мы понрята-
395
лись в кусты и потом стали выползать из них, подстерегая друг
друга. Прежде всего, как только сделал я несколько* шагов,
бросился на меня брат из другого куста, стоявшего по другую сторону
большой дорожки, проходившей извилисто чрез весь сад, но я
обернулся быстро назад и схватил его поперек. Мы потом
разбежались в разные стороны искать других. Я бежал по большой
дорожке — вдруг с боковой дорожки бежит мне наперерез Фаина,
я в сторону — в вишневый куст; Фаина кидается' туда же, но я,
выбежав из куста в противоположную сторону, обежал кругом
весь куст и снова вбежал в середину этого куста, где была тогда
Фаина. Я схватил ее за стан. Мне стало невыразимо приятно. Мы
оба смеялись. Я не вытерпел и произнес: «Фаиночка! миленькая!
как мне приятно быть вместе с вами!» — И мне также, — сказала
она. «Мне без вас было очень скучно», продолжал я. — И мне без
вас! — был ответ. «Я все об вас об одной думаю», говорил я. — И
я об вас все думаю, — сказала Фаина. «Я вас очень люблю,
Фаиночка!» — сказал я. И я вас очень люблю, Васинька, — был
ответ. Я чмокнул ее в щечку. Она отбежала, погрозила мне
пальчиком и с видом гнева проговорила: — Не смейте этого делать!
Слышите? — Я стоял, как уличенный в преступлении и не
знающий чем оправдаться. Вдруг Фаина подбежала ко мне, чмокнула
меня в щеку и произнесла: Вот вам за это! Потом она с хохотом
побежала. Я догнал ее и, обнявши ее сзади, осыпал дождем
поцелуев. Она уже не грозила-пальчиком, не бежала прочь от меня,
но повисла у меня на шее и впилась губками в мои губы. Потом
Фаина отступила и, как будто чего-то испугавшись,
прислушивалась и произнесла: «идут! бежимте! я вас поймаю!» Я побежал из
куста по дорожке; Фаина бежала за мною. Вдруг навстречу моя
матушка и госпожа Сентябрева. Мать Фаины, на которую я
набежал, переняла меня, остановила и отдала своей дочери, которая
сзади бежала, догоняя меня. «Возьми своего пленника,
Фаиночка!» — сказала она.
Так мы играли и резвились. Поцелуи Фаины привели меня в
неописанный восторг. Фаина была также в веселом настроении
духа. Мы вошли в дом; Фаина, по просьбе моей матушки, села за
рояль. Гувернантка ее, француженка, стояла близ нее и
перевертывала ноты и по временам произносила: excellent! Я стоял по
другой стороне. По окончании игры француженка со всем
риторическим искусством, так свойственным нации, к которой
принадлежала, восторженно расхваливала способности Фаины и от ее
похвал мне было так же приятно, как, может быть, самой Фаине
и ее матери.
Чрез неделю после того мы все поехали в гости к Сентябре-
вым. Я туда явился в первый раз. Мы въехали во двор, густо
застроенный разными службами. На доме была вышка со
стеклами кругом; дом был в два яруса, с балконом, выходившим на двор
и висевшим над большим крыльцом, по которому входили в
первый ярус. Позади дома, как и у нас, зеленел сад. Помню — что
поднявшись по лестнице во второй ярус, мы вошли чрез залу,
освещенную многими окнами, в гостиную, оштукатуренную голу-
396
б>ым цветом, между двумя окнами висели два больших зеркала в
позолоченных рамах, а на других стенах я заметил большой
пейзаж и несколько гравюр, изображавших, как мне объяснили
после, новогреческих героев: Колокотрони, Марка Боцариса,
Бобелину и еще кого-то. Стенки большого палисандрового дивана,
обитого малиновым сафьяном, были украшены позолоченными
барельефами, изображавшими собрание олимпийских богов и
богинь; кресла были обиты так же, как и диван, а на своих стенках
имели позолоченных грифов. У одной стены стоял рояль
палисандрового дерева. На потолке красовались фрески, изображающие
купидонов. На палисандровом восьмиугольном столе*
поставленном, по общепринятому обыкновению, перед диваном, стояли
позолоченные канделябры, поддерживаемые статуэтками кариатид.
Я описываю вам подробно эту комнату потому, что впоследствии,
когда будете читать мое письмо далее, сами увидите, зачем так
нужно. Из гостиной отворялась дверь в сад, куда надобно было
сходить по лестнице прямо со второго яруса.
Сбежавши по этой лестнице в сад, я опять имел возможность
вступить с Фаиною наедине в нежные объяснения, которые,
правду сказать, для нас были еще не по летам и, вероятно, навлекли
бы на нас большие упреки от наших мамаш и папаш, если бы те
нас подслушали.
— Фаиночка, дружочек мой! — говорил я: — как я тебя
люблю. Клянусь тебе, никого в жизни не буду любить так, как тебя!
— Васинька, миленький мой! —- говорила Фаина. — И я тебя
люблю и никого на свете не буду любить так, как тебя. Но ты,
может быть, найдешь себе другую Фаину и полюбишь ее больше,
чем меня.
— Никогда! никогда! — восклицал я. — Другой такой Фаины
на всем свете нет и быть не может. Я тебя обожаю!
— И я тебя обожаю! — сказала Фаина. — Люблю тебя,
Васинька, и никого не полюблю так, как полюбила тебя, мой душенька.
И мы сладко поцеловались.
Но в тот же день приехали к Сентябревым гости, соседнее
помещичье семейство с детьми, в числе которых был мальчик
моих лет, воспитывавшийся домашним способом под надзором
родителей. Семейство это очень подружилось с Сентябревыми, и
Фаина стала показывать мальчику большие знаки внимания. Пока
эти гости не приезжали, Фаина все только на меня глядела,
старалась быть со мною, говорить со мною, смотрела веселою, как
только я приближался к ней; но с приезда мальчика стала как-то
холодна ко мне; все только с ним ходила, с ним бегала; они, как
я заметил, друг с другом перешептывались. Мне стало досадно.
Еще я не понимал, что значит ревность, а это злое чувство
забралось тогда ко мне в сердце. Ух, как противен стал мне этот
мальчик! Ух, как я желал тогда, чтобы он провалился сквозь
землю или разлетелся в воздухе, лишь бы не видеть его близ
Фаины. Так мучился я до ночи, когда пришлось нам уезжать
домой. Фаина, все занятая своим гостем, со мной так-таки не
говорила ни слова.
397
Мы воротились к себе. Мальчик не выходил у меня из головы.
Я сердился на Фаину. Я хотел более не любить Фаины и не
думать о ней. «Она обманщица! говорил я сам себе. — Она мне
говорила, божилась, что не будет никого больше меня любить, а
она любит этого проклятого мальчишку!» Всю ночь я не спал,
заливался слезами, приклонясь щекою к подушке. Утром я стал
молиться Богу, чтоб Он помог мне забыть про Фаину, чтоб Он
прогнал от меня это наваждение, мысль о Фаине, либо удалил бы
от нее этого мальчика. Целый день потом мне было так грустно,
так грустно, что я начинал желать себе смерти. На следующий
затем день я хотя себя и пересиливал, но не мог укрыть от
матушки своей грусти. «Что ты, Вася, все ходишь, понуривши
голову?» спрашивала она. «Уж здоров ли ты!» — «Нет, маменька, я
ничего...» произнес я бодрясь и силясь улыбаться, но мать
заметила и покачала головою. За обедом она сказала отцу: «Наш Вася
стал что-то сам не свой, словно кто его кипятком обварил. Ходит
все, слоняется, места себе не сыщет. И я замечаю: сталось это с
ним после того, как мы побывали у Сентябревых». — «Влюбился
в Фаиночку», сказал шутливым тоном отец. Я вспыхнул от стыда
и, силясь во что бы то ни стало скрыть от родителей то, что во
мне происходило, сказал: «О нет, папаша! Она мне совеем не
нравится!» — «Вот как! сказал папаша тем же тоном: отчего же
это не удостоилась она твоей милости? Дитя прелестное, редко
другую такую девочку встретишь!» Мать перебила его словами:
«Вот и видно, что влюбился! Разве не знаешь, что влюбленные
вначале всегда притворяются и говорят противное тому, что на
самом деле чувствуют? Ты хочешь, чтоб он так вот во всем тебе
сразу и признался и всю правду так вот тут перед тобою и
выложил! Как бы не так! Ему пока стыдно!» От этих слов я сидел как
на иголках, но чувствовал, что мамаша насквозь всего меня
видела. «Что же? произнес папаша: они лет почти одинаковых. Вася
через два года окончит ученье* послужит года два в полку, а как
получит офицерский чин, может и жениться. Фаина рода
честного, дворянского...» — «О том ли теперь ему думать? сказала мать.
Мал больно. О науке пусть думает, а то вот увидал смазливое
личико — оно у него в голове и засело!» — «Мамаша! сказал я.
Фаина совсем не засела у меня в голове. Я об ней вовсе не думаю.
Может быть, она и умна, и хороша, и учится прекрасно, только
мне до нее никакого дела нет!»
Я лгал, бессовестно лгал. Наоборот, мне ни до чего не было
дела, кроме одной Фаины; об ней только я помышлял. Но такое
уж видно скверное животное человек, что с детских лет до
старости все лжет. Недаром и в псалтири сказано: всяк человек ложь!
Прошло еще два томительных дня. Я то злился, то впадал в
уныние. Наконец, приехали к нам Сентябревы. Тогда я улучил
минуту, когда мог очутиться наедине с Фаиною в саду и начал
говорить с ней так:
— Фаиночка! Вы мне говорили, что меня любите и не будете
никого другого любить, как меня. А после того, как приехали к
вам гости и с ними какой-то мальчик, вы с ним все с одним
398
ходили и говорили, а меня как будто около вас не было. Мне
показалось, что вы его любите. Скажите мне по правде, Фаиночка,
любите вы его?
— Люблю! — отвечала Фаина. — Его семья с нашею в
дружбе. Я люблю Колю: он такой прекрасный, добрый!
— А зачем же вы говорили, что любите меня и никого другого
так любить не будете? — спрашиваю я.
— Вот еще! — сказала Фаина с выражением досады: — разве
коли я тебя люблю, так уж другого никого любить нельзя мне.
Коли так, так я разлюблю тебя и буду любить Колю больше тебя,
оттого, что Коля добрый, а ты недобрый! Теперь я тебя люблю
больше, чем его, больше всех на свете; вот тебе крест: ей-Богу
люблю! Коли я тебе это говорю, так верь мне; а не веришь, так я
рассержусь на тебя и уж больше никогда играть с тобой не буду
и слушать тебя не стану, и говорить с тобой не захочу! Бог с
тобой, коли ты такой!
—- Милая Фаиночка! Прости меня! — сказал я. — Мне
показалось, что ты этого Колю больше чем меня любишь. А мне
хочется, чтоб ты меня больше всех любила, как и я люблю тебя
больше всех. Прости меня за то, что мне так показалось.
— Пусть вперед ничего такого тебе не кажется! — сказала
Фаина. — Я тебе сказала, что люблю тебя больше всех на свете. Ну и
верь мне, и будь доволен. А чтоб никого на свете другого не любить,
так разве можно это? Разве ты один на свете хороший и добрый?
Есть и другие хорошие и добрые, и всех их надобно любить.
—- Прости меня, Фаиночка, прости меня! Я не буду больше
так думать! — говорил я.
— Не думай, душенька, не думай! — произнесла Фаина и
поцеловала меня. Я поцеловал ее.
Так кончилась первая и единственная наша размолвка,
возбужденная во мне ревностью, которой я не сознавал по молодости
лет. После того мы были еще раз у Сентябревых. Я встретил у
них того же мальчика, которого ласкала Фаина, но он уже мне
противен не был. Я играл вместе с ним, и он показался мне
хорошим и добрым.
Окончились летние вакации. Отвезли меня в пансион. Мне
было на душе легко и весело. Я был уверен, что Фаина меня
любит, и я внутренне был доволен и гордился своим счастьем.
В следующие зимние вакации, родители не брали меня к себе
в имение, а сами приезжали в губернский город во время святок.
На следующий год после Пасхи, спустя недели три, получил я от
отца письмо и стал читать его в коридоре, откуда был вход в наши
дортуары. В письме этом я прочел:
«У наших добрых соседей Сентябревых случилось ужаснейшее
несчастие. Их прелестная, всеми обожаемая дочка Фаина
Осиповна умерла скоропостижно 30 апреля текущего года»...
Я остановился. В глазах у меня потемнело, в голове
помутилось. Не в силах был я кончить чтения письма. Раздался звонок:
надобно было идти в класс. И я пошел и сидел там, ничего не
видя перед собою, ничего не слыша и с трудом сдерживал себя,
399
чтоб не разлиться потоком слез. К счастью, меня на этот раз не
спрашивали урока. После класса я побежал в сад, старался
укрыться от товарищей и в саду дочитал письмо, в котором далее
были такие строки:
'«Это случилось странно, неожиданно и непонятно. За два дня
до своей смерти была она у нас вместе с своею матерью, была
весела и вспоминала о тебе, допрашивая и упрекая нас: зачем не
послали мы за тобою к светлому празднику. От нас уехала она
совершенно здоровою. На третий день после того, 29 апреля,
вставши от сна утром, пошла она смотреть на посаженные ей на
грядках цветы, но, скоро вернувшись, сказала своей горничной,
что у нее болит голова, и легла. Через чае прибежала горничная
к матери и сказала, что с барышнею что-то дурно делается.
Пришли к дочери отец и мать, увидали, что дочка мечется по постели
и кричит. Стали они у нее спрашивать, что с нею делается, ничего
не могли добиться и послали в город за доктором. К вечеру, когда
доктор не успел еще приехать, с Фаиной сделалось совершенное
беспамятство: она лежала как бревно, не в состоянии будучи
пошевелить ни рукою, ни ногою. Доктор, прибыл уже почти ночью,
осмотрел больную, сказал, что с нею нервный припадок, вовсе
неопасный и по всем признакам, она к утру будет здорова.
Родители, поверив обещаниям доктора, не без труда уговорили его
остаться ночевать, дабы видеть больную утром, когда, по его
ученым соображениям, должна была пройти ее болезнь. На заре 30
апреля Фаина очнулась и произнесла: папа! мама! Женщина, всю
ночь сидевшая у больной, побежала к родителям. Когда те вошли
в комнату больной, Фаина взглянула на них, приподняла голову,
произнесла: «Прощайте, поеду! Я ворочусь!» С этими словами
голова ее опустилась и затем Фаина испустила дыхание. Доктор,
пришедши туда же, попробовал пульс и произнес: — Скончалась!
Болезнь непонятная и смерть непонятная! Доктор подозревал, не
было ли отравы и просил дозволения вскрыть труп. Родители не
противоречили, потому что находились тогда в совершенном
отупении. Доктор не нашел ни малейших признаков отравления и
еще раз воскликнул: — Непонятно, решительно непонятно! Фаину
похоронили близ приходской церкви того села/где живут Сентяб-
ревы. Мы были на погребении. На отца и мать ужасно было
смотреть».
Далее в письме говорилось о других предметах. Я не стал уже
дочитывать его, скомкал, всунул в карман, не пошел уже в класс, а,
проплакав втихомолку в саду, отправился в дортуар и в
изнеможении упал на свою постель. Оказалось, что когда я был в саду,
надзиратель, заметив, что меня в классе нет, искал меня и теперь,
вошедши в дортуар и увидя меня лежащим на постели, спрашивал:
— Где ты был?
«Здесь!» отвечал я.
— Как здесь! Я заходил сюда и тебя здесь не было, — сказал
надзиратель.
«Вы верно приходили сюда, когда я выходил», — сказал я. «Я
очень болен!»
400
Надзиратель, услыхал от меня, что я болен, сказал
пансионосодержателю, а тот немедленно приказал пригласить
врача, постоянно пользовавшего воспитанников нашего пансиона.
Я заболел не на шутку. Со мной сделалось что-то вроде тифа.
Сначала я метался, бредил, никого не узнавал около себя, а потом
лежал как колода в беспамятстве и оцепенении целых две недели;
родители мои, которым тотчас дали знать о моей болезни,
приехали в губфнский город и каждый день попеременно сидели у моей
постели, поставленной в отдельной комнате, а когда я начал
показывать признаки возвращения к жизни и подавать надежду на
выздоровление, меня перевезли в закрытой карете на свою
квартиру. Мое болезненное состояние продолжалось после того еще
около двух месяцев. Причина моей болезни была разгадана
родителями, и они решили долго не возить меня в имение, где бы все
напоминало мне потерю дорогого существа. По совету врачей отец
возил меня на липецкие воды, бывшие тогда в большой моде, а по
окончании курса водяного лечения возвратился со мною в
губернский город, куда к тому времени прибыла и мать моя с
остальными детьми. Родители наняли постоянную квартиру в
губернском городе, так как двух своих детей, братца и меньшую
сестрицу, они отдали в пансион, а старшая моя сестра брала
уроки пения. С тех пор, до окончания курса в пансионе, где я
Продолжал жить уже вместе с братцем, я не бывал в родительской
усадьбе. Отец и мать проживали в городе и только отец по
временам езжал в имение по хозяйственным распоряжениям. После
одной такой поездки, я от него узнал, что госпожа Сентябрева
умерла через четырнадцать месяцев после смерти Фаины, а Осип
Акиндинович, бездетный вдовец, уехал в Петербург, устроивши
наперед свое имение так, что оно не нуждалось в постоянном
пребывании владельца. Уже чрез несколько лет потом узнал я, что
Осип Акиндинович скончался, а его имение по праву наследства
досталось какому-то его дальнему родственнику, которого он
никогда не видал в своей жизни.
Когда мне исполнилось шестнадцать лет, меня отдали в
военную службу. Как ни горестна была для меня потеря Фаины, но
ее снесло с сердца все заглаживающее, все исцеляющее время. Я
втянулся в службу на многие годы и вот, как видите, дослужился
до майора. Родители мои продолжали жить в своем имении. Обе
сестры мои повыходили в замужество за дворян нашего уезда,
брат посвятил себя гражданской службе, и судьба занесла его в
Бессарабию.
Скончался отец в предковском гнезде своем, и мать осталась
одна правительницею имения. Я в продолжение своей службы
посещал родителей два раза, но не надолго и не имел желания бросать
службу. Но мать, в письмах своих ко мне, жаловалась, что лета дают
ей себя знать, что она чувствует — не под силу ей более нести эту
обузу и просила меня выйти в отставку и сменить ее.
Я так и сделал: вышел в отставку, приехал в имение и принял
бразды правления. Матушка советовала мне жениться: и я был не
прочь от того сам, однако не виделось подходящего субъекта. Про-
14 Заказ 15 401
живши полтора года в деревне, я поехал в Москву, не за делом, а
скорее от безделья, как в оное время наш брат провинциальный
дворянин езжал бывало в белокаменную и проживал там по
зимам, не давая себе точного отчета: зачем он это делал?
Зимою 1850-1851 годов я жил в Москве. Что там я делал?
Фланировал, как выражались модники. По утрам обыкновенно я
гулял но Москве и от нечего делать заходил то в церковь, то в
какой-нибудь магазин, то в кондитерскую. Однажды из Охотного
ряда, где я помещался в гостинице Лондон — исстари известный
приют приезжих провинциалов-помещиков, я забрел на Покровку
и вошел в церковь Воскресения в Барашах, поражавшую меня
своею оригинальною неуклюжею архитектурою, а более всего
короною на главе, о происхождении которой я слыхал непечатанные
* еще в те годы анекдоты. Богослужение преждеосвященной
литургии кончилось. Народ выходил из церкви. Я начал рассматривать
внутренность здания, то подымал глаза к сводам, то водил ими по
расписанным стенам, как вдруг до моих ушей доходят слова:
«ворочайтесь, Фаина Осиповна»! Этого имени, некогда для меня
дорогого, я не слыхал с тех пор, как оно сыграло такую роль в
моем отрочестве.
Я оглянулся и увидал даму, которая с такими словами
обращалась к одной из двух дам, стоявших у левого клироса. На этот-
зов мелькнули предо мною две женские фигуры, повернувшиеся
от левого клироса к выходу из храма. Одна из них напомнила мне
госпожу Сентябреву, тем более, что она была одета в шелковое
коричневое платье, выглядывавшее из-под полурасстегнутой
бархатной синей шубки, точь-в-точь как была одета госпожа Сентяб-
рева, когда я в первый раз увидел ее с дочкою в нашем доме.
Другая женская фигура —- не то чтоб напоминала, не то чтоб
походила, а так сказать была как две капли воды — моя Фаина,
та самая Фаина, которая была предметом моей отроческой любви
и так преждевременно и странно умерла к моему великому горю.
Разница между той и этой была только та, что прежняя была
девочка подросток лет тринадцати в то время, как я знал ее, а эта
на вид казалась лет семнадцати или около того, но без сомнения,
Фаина прежняя была бы именно такая, если б дожила до такого
возраста. И у этой были такие же, как у прежней, белокурые
шелковистые волосы, такой же профиль лица, такие же голубые,
умные глаза, светившиеся невыразимою ангельскою добротою.
«Вот я и ворочаюсь»! произнесла она, отвечая звавшей ее даме и
в это время случайно бросила взгляд на меня, и мне показалось,
что невозможно было определить, к кому обращались сказанные
слова — к даме или ко мне. Тут вспомнился мне рассказ
покойника отца моего о последних минутах моей незабвенной Фаины,
когда она, испуская последнее дыхание, произнесла: Поеду! Я
ворочусь! Вот она и ворочается, ко мне ворочается! думалось мне.
Такая нелепость громоздилась мне в голову: это она, Фаина
Осиповна, исполняет свое обещание: она ворочается в здешний мир,
ворочается именно ко мне; ведь она говорила же, что никого
другого так не будет любить, как меня! Если б мог я быть перенесен
402
с земли на луну, едва ли бы я был удивлен и обезумлен более
того, чем теперь, когда я увидел существо, когда-то мною любимое
и меня любившее, но уже давно сошедшее в могилу. Следуя по
зову своей спутницы из церкви, она еще раз как будто оглянулась
ко мне, словно хотела повторить: смотри же, я ворочаюсь! Я даже
порывался подойти к ней и заговорить, как бы я заговорил с
прежней Фаиной, если б, не зная, что она умерла, встретился с
нею так неожиданно^ не видавшись много лет. Присутствие
рассудка меня остановило от поступка, который бы навлек на меня
репутацию помешанного человека. Но я все-таки был выбит из
своей обычной колеи. В сильной душевной тревоге я вышел из
церкви и шел следом за дамами. Они остановились у одного дома
и вошли в подъезд. Я спросил у стоявшего там швейцара: «Что
это за барыни?»
— Это Апрелевы, — отвечал швейцар. — Они квартируют в
этом доме в четвертом нумере. Они теперь говеют. — Как это все
странно! подумал я. Те были Сентябревы, а эти Апрелевы.
Фамильные прозвища их сходны между собою: оба от названия
месяцев. Я не решался ни с сего, ни с того навязываться к ним со
знакомством и пошел к себе домой. Весь день и всю ночь после
того не давали, мне покоя эта загадочная встреча, это странное
сопоставление, это непостижимое сходство физиономий. Утром на
другой день я опять пошел в церковь Воскресения в Барашах.
Богослужение только началось. Две дамы вошли в церковь и стали
у левого клироса. Я не спускал глаз с той, которая, как я услыхал
вчера, называется Фаиной Осиповной, и еще более уверялся в ее
крайнем сходстве с той Фаиной Осиповной же, которая давно
тлела в земле. Дамы простояли часы и ушли, нм разу не
взглянувши на меня. Это мне было досадно. Воротившись домой, я стал
размышлять: что мне делать, предать ли забвению странную
-встречу, или искать знакомства с этими* дамами.
Я было решился на первое. Прошло два дня, а странное
явление не выходило у меня из головы, скажу более: что-то
таинственное как будто меня толкало вперед к цели.
Я снова отправился в ту же церковь Воскресения, но уже в
этот раз не увидал там загадочных дам, прошел раза три мимо
дома, где они жили, отваживался-было уже взойти в подъезд и
искать четвертого нумера, но странность моего положения опять
остановила меня, и я вернулся домой.
Наконец, еще после двух дней раздумья, решился я идти
прямо к этим Апрелевым и объясниться с ними, как бы странною ни
показалась им такая выходка.
И я отправился на Покровку, дошел до дома, где жили
Апрелевы, спросил у швейцара, где четвертый нумер, поднялся по
лестнице в третий этаж и позвонил. Женская прислуга отперла
мне дверь, провела меня в другую комнату и ушла звать хозяев
квартиры. К крайнему моему удивлению, я очутился в давно
знакомой обстановке. Здесь все показалось мне точь-в-точь, как было
когда-то в гостиной Сентябревых и как запечатлелось в моей
памяти. Та же мебель с малиновой сафьяновой обивкой, тот же
14* 403
диван с вызолоченными барельефами олимпийских божеств, такие
же раскидистые кресла с золочеными грифами на спинках, такой
же восьмиугольный стол и на нем такие же канделябры со
статуэтками кариатид, такой же палисандровый рояль с развернутыми
нотами на пюпитре; поднял я глаза к потолку и увидел знакомых
купидонов, виденных на потолке гостиной Сентябревых, а
окинувши глазами стены, узнал я такие же портреты ново-греческих
героев и, в довершение своего изумления, увидал кроме того
писанный масляными красками портрет, в котором узнал Осипа
Акиндиновича Сентябрева. Когда все это я рассматривал, вошла
хозяйка и с нею ее дочь. Я отрекомендовался приезжим в Москву
помещиком, назвал свое имя и фамилию. Хозяйка приветливо
указала мне место и завела разговор о погоде, о Москве, о текущих
событиях, наконец, заметивши, что я начинаю говорить
отрывистыми фразами и видимо желал бы обратить разговор на иное,
спросила меня:
— Чему обязаны мы удовольствием приобресть лестное для
нас ваше знакомство?
Тут наступила для меня решительная минута. Я собрался с
духом и начал:
— Извините, если услышите от меня странные вещи, умоляю,
только, не считайте меня нахалом. Не думайте также, что я к вам
явился с какою-нибудь скрытою целью. Я человек простой, солдат,
быть может, чудак, но смею уверить, человек прямой и открытый.
Еще в детстве, живучи в доме своих родителей в Поволжской
стороне, я был знаком с семейством, в котором была мать и дочь. Обе они
были похожи на обеих вас, сударыни, особенно дочь представляла
не то что подобие, а так сказать тождество с вашею дочерью. Ее
звали Фаиной Осиповной. Она умерла, едва достигши тринадцати лет
от роду. Мать ее скоро последовала за нею в могилу. Отец куда-то
заехал и, как я после услыхал, также уже умер. Теперь, живучи
временно в Москве, в церкви Воскресения в Барашах случайно и
неожиданно услыхал я имя Фаины Осиповны из уст какой-то
неизвестной мне дамы; взглянувши на ту, которую так называли, увидал
я вашу дочь и узнал в ней ту самую Фаину, которая умерла еще в
1832 году тринадцатилетнею девочкою. Я поразился таким
непонятным сходством и осмелился явиться к вам и спросить: не состоите
ли вы в близком родстве с моими давнишними знакомыми? Сентяб-
ревы их фамилия.
И мать и дочь выпучили на меня глаза с изумлением. Ясно
было, что такого посещения они никак не ожидали.
«Бывают сходства поразительные», сказала, одумавшись, мать.
Тут она стала приводить известные ей случаи сходства между
физиономиями. «Но мы» —- продолжала она: — «господ
Сентябревых не знали и даже я не слыхала о такой фамилии. Мы никогда
не бывали в Поволжских краях».
— Позвольте спросить, если это с моей стороны не будет
нескромно: чей это портрет? — сказал я, указывая на портрет,
писанный масляными красками и висевший на стене в золоченой
раме.
404
«Это портрет моего покойного мужа!» — сказала барыня.
— Этот портрет, — сказал я, — чрезвычайно похож на отца
той девицы, о которой я говорил. Его звали Осип Акиндинович.
«И моего мужа покойного звали точно также», — сказала
барыня, почти крикнувши от удивления.
— А ваше имя и отчество, сударыня, позвольте спросить, —
сказал я.
«Марья Савишна», — отвечала она.
. — И госпожу Сентябреву звали точно также^ — воскликнул я.
. «Боже мой! Что за странности! Признаюсь, мне начинает
делаться страшно!» — сказала тревожно барыня.
«А вот я открою и несходство!» — сказала девица. «Ваша
знакомая умерла тринадцати лет от роду, сказали вы. Не так ли?»
— Да! — отвечал я.
«А мне теперь восемнадцать», — продолжала девица. — «Какое
же сходство могли вы найти во мне с тринадцатилетнею
девочкою?»
— Ваши черты, выражение ваших глаз, ваши волосы, а более
всего, извините, та ангельская доброта, которая разлита во всех
чертах ваших — все это совершенно одинаково с моей умершей
знакомой.
В довершение сходства я рассказал о принадлежностях
обстановки покоя, в котором сидел, с тою, какую видел в доме Сентяб-
ревых во времена моего отрочества,
«Как же все это вы объясняете?» — спросила Фаина Осиповна.
— Я не берусь объяснять необъяснимого, — отвечал я.
«А вас это очень занимает?» спросила девушка.
— О, как еще занимает! — воскликнул я. — Вы до того
похожи на ту Фаину Осиповну, которую знавал я в детстве, что...
«Что думаете — это она самая перед вами», сказала девушка
со смехом. «Но сколько лет прошло с тех пор, как она умерла?
Ведь если б она до сих пор оставалась жива, то была бы гораздо
старше меня».
«Дочь моя родилась 31 января 1833 года», сказала барыня.
— А знакомая моя умерла 30 апреля 1832 года, сказал я.
«Посудите же сами» — говорила все-таки, смеясь, девица:
«Если б она была теперь жива, то приближалась бы к летам
моей матери, а не к моим летам!»
— Она, — сказал я, — была бы именно такою, как вы теперь,
если б достигла вашего нынешнего возраста.
«Какая натяжка»! произнесла Фаина Осиповна. «Как же вы
можете знать, какая бы она была, когда бы не умерла и дожила
до моих лет? Разве обстоятельства жизни не изменяют и наш
характер, и наши воззрения и не дают нам нередко совсем иную
физиономию? А вы разве знаете, какие обстоятельства ожидали
вашу знакомую в будущем? Вы тут фантазируете. Вы, мне
кажется, были влюблены в вашу знакомую умершую девушку»?
Я на это сказал: — едва ли возможно говорить о любви между
четырнадцатилетним мальчиком и тринадцатилетнею девочкою.
Но я не скрою, что между нами действительно образовалась хотя
405
и детская, но сильная привязанность; когда я услыхал, что она
умерла и притом странно и скоропостижно, то я заболел и сам
чуть не умер.
— И если б она воскресла, вы были бы очень счастливы? —
сказала девица и в чертах ее я увидал ту незабвенную улыбку,
которая так привлекательно светилась в чертах лица моей
покойной Фаины.
«Это уже случилось! сказал я. Называйте меня безумным, но
я твердо стою на том, что она была вы, а вы — она!»
Фаина Осиповна ничего на это не сказала, но я заметил, что
выражение ее лица, бывшее до сих пор веселым, стало переходить
к задумчивости.
Первый визит мой я не считал уместным тянуть слишком
долго. Барыня приветливо приглашала бывать у них и считать их
дом для себя открытым. Я, разумеется, поблагодарил и снова,
обратясь к девице, сказал:
— Итак, вы мне позволите считать вас тою Фаиною
Осиповною, которую я знавал в детстве.
Она отвечала:
«Если вы точно уверены, что она, в то время когда жила,
была — я, а я — теперь то, что была она, то имеете на то право,
не спрашивая у меня дозволения. Впрочем, я охотно дозволяю —
ваша Фаина не придет со мною считаться за это».
Эти слова сопровождались опять тем очаровательным смехом,
который остался у меня в памяти от прежней моей Фаины.
Воротившись домой, я предался размышлениям. Я таки
немного заглядывал в те французские спиритические книги, в которых
проводилась мысль, что мы, человеки, воплощаемся на земле по
несколько раз и каждый раз приносим с собой следы своего
предшествовавшего воплощения. Меня поразило время рождения
Фаины Осиповны.
Сопоставляя его со днем кончины Фаины Сентябревой, я
нашел между тем и другим промежуток девять месяцев, именно
такой период, в продолжение которого младенец находится в
матерней утробе. Итак, — грезилось мне — тотчас после того как
душа моей Фаины оставила тленную земную оболочку, она стала
входить в иную для новой жизни на земле. Разыгрывалось мое
самолюбие: мне казалось, что Фаина оттого и взята была из этого
мира преждевременно, что не могла быть моею, а теперь,
воплотившись снова, должна стать подругою моей жизни! Такие
скверные эгоистичные мечты лезли мне в голову против собственной
воли и не отвязывались от меня, сколько ни старался я отогнать
их от себя! Я находился тогда в таком возрасте, когда одиночество
дает себя особенно чувствовать. Мне было тогда между 35 и 40
годами возраста. Еще два-три годика и не счуешься, как
поступишь в орден старых холостяков! Я знаю, что у многих моих
бывших товарищей по военной службе были жены и дети, а я
оставался байбаком. Из-за чего? Пусть бы еще такой оставался
одиноким, который не имеет средств содержать семьи, а у меня —
слава тебе Господи! Матушка давно уже уговаривает меня женить-
406
ся. Чего лучше как теперь вступить в брак с Фаиной. Но выйдет
ли за меня эта Фаина? Э! Была не была! Если откажет — это
будет значить, что она вовсе не та, как я думал. А если она примет
мое предложение — это будет значить, что она точно воплощенная
в другой раз та самая Фаина, которую я любил в детстве,
Я оделся в мундир (я был в отставке с мундиром) и вышел
из гостиницы с намерением взять извозчика и ехать к Апрелевым.
Но у подъезда встретил меня почтальон и вручил мне письмо.
Распечатал я письмо. Оно было из. дома. Моя матушка была
опасно больна и уже все близкие съехались к ней. Ждали только
меня.
Нечего было медлить. Пришлось отложить на будущее
неопределенное время попытку сватовства и спешить прежде исполнять
долг сыновний.
Не посещая более Апрелевых, я в тот же день вечером покатил
домой. Старуху матушку я застал еще в живых, но спустя
несколько дней после моего приезда она скончалась. Пошло
погребение, сорокоуст, потом раздел имения: время проводил я в
деревне месяца три, потом захворал и не ранее мог снова ехать в
Москву, как уже в сентябре 1856 года.
Первым делом по приезде в Москву было отправиться на
Покровку к Барашам, но каково было мое изумление, когда на месте
того дома, где весною видался с Апрелевыми, я встретил леса и
начатые постройкою стены нового дома. От дворника я узнал, что
прежний'дом продан, а новым приобретшим его хозяином сломан
и вместо него начат новый. Дворник поступил к новому хозяину
и о прежних жильцах не знал ничего. Встретил я около постройки
ходившего управителя, нанятого также новым хозяином: и тот не
.знал ничего о прежних жильцах в доме. Прежний хозяин в Москве
не жил. Я справлялся в части, и узнал там, что жившие в этом
доме в четвертом нумере Апрелевы еще в мае оставили свою
квартиру и выехали из Москвы в имение, но в какую губернию, было
неизвестно.
С тех пор я не встречал в своей жизни Апрелевых и не знаю
до сих пор, где они, жива ли Фаина Осиповна, не вышла ли
замуж... ничего не знаю. Но сходство ее физиономии с прежнею
Фаиною (Сентябревой), необъяснимое сходство имен отца и
матушки, наконец подобие обстановки в их гостиной с обстановкою
в деревенском доме Сентябревых, виденной мною в детстве — все
это так поразило меня, что я, как вдумаюсь, то fotob подвергнуть
сомнению, что это все действительно случилось со мной, а не
представилось мне в воображении.
ольховняк
(РАССКАЗ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВОРОТИВШЕГОСЯ
НА РОДИНУ ИЗ СИБИРИ)
В молодости я служил в Сибири и. пробыл там
одиннадцать лет. Коренные сибиряки хвалятся климатом своей
родины, превозносят добродушие, понятливость и развитость
своих земляков и уверяют, что всякий, кого занесет в их
край судьба, если, разумеется, не против собственной воли,
привязывается всем сердцем к этому краю. Я же не приобрел
за все время своего там пребывания такой любви к этой
стороне и, сознаюсь, не без удовольствия встретил
возможность променять благословенную Сибирь на Симбирскую
губернию, свою родину, где у меня были близкие родные и
наследственное имение. Незадолго до моего отъезда из Томска,
где я находился на службе, достал я себе служителя,
человека честного, смышленого и очень ко мне расположенного.
Причина последнего' качества была немаловажная. Служитель
этот, Сергей Опенкин, был из сосланных на житье в
Томскую губернию, родом из Симбирской губернии, мой земляк.
Его сослали ошибкою вместо другого, да и преступление
того, за кого он потерпел безвинно, было не Бог знает
какое — путешествие без паспорта и только! Пользуясь
влиянием, какое имел я по своей служебной должности, я оказал
ему услугу. Я, по поводу его ссылки, поднял переписку с
симбирскими властями и довел дело до того, что разъяснилась
ошибка властей, отправивших его в Сибирь вместо другого
лица. Решено было дозволить возвратиться ему на прежнее
место жительства. Он жил у меня и поехал со мною, когда
мне пришлось ехать в Симбирскую губернию.
Уже мы проехали тот город, в уезде которого находилось
имение, куда я держал путь: оставалось до сворота к нему с почтовой
дороги верст сорок. Остановившись на станции, мы принялись
пить чай, так как было к тому обычное время.
Самовар был уже готов прежде нашего приезда, и
станционный смотритель, сидя за ним, разговаривал с каким-то проезжим,
который по наружному виду походил на торгаша или на
приказчика в помещичьем имении.
408
— «Чудно, правда», — говорил смотритель: — «но истинно; не
верите, — спросите во всем нашем околотке кого хотите, все в
одно скажут!» '
— Что же? В ночи это бывает или днем? — спросил другой.
— Да как вам сказать, Федосей Егорович, продолжал
смотритель: — случалось и среди белого дня слыхали страхи, стон и
крик какой-то, а то были смельчаки, что и в глухую ночь нарочно
в лес ходили и ничего не видали, не слыхали. Не постоянно оно,
видите, делается. Проходит иногда долгое время — ничего нет и
уж люди станут забывать, а потом ни с того, ни с сего слышим,
с кем-нибудь и прилучилось!
Мой служитель, нагнувшись ко мне, сказал: «Это они про
Ольховец говорят, такое место тут есть, называется так: Ольховец,
а иные называют его Ольховняк, за тем, что там ольховый лес
растет. Место слывет как бы заклятое!»
— А ты, Сергей, почему это знаешь? — спросил я служителя.
— Есть у меня дедушка, старый-старый, лет ему близко ста
будет, а может быть, и полных сто. Так тот сказывал про это
место!
Станционный смотритель продолжал свою речь, обращенную
к собеседнику, а я, стоя тут же, внимательно слушал.
— Иногда, — рассказывал он, — слышится будто что-то
стонет и воет в том овраге, вот словно как бы человека
душат, или режут, а другие говорили: ночью с дороги видны
бывали какие-то огоньки в том лесном овраге; так вот по
верхам деревьев и перелетывают, словно мухи или птицы, а
потом и нет ничего! А один наш ямщик рассказывал: еду —
говорит — с станции порожняком, отвозил проезжего и назад
ворочаюсь, вдруг слышу в лесу что-то завыло, как бы волков
стая, гляжу — ан из оврага выползает что-то белое, высокое,
вылезло и бежит прямо на дорогу... я по лошадям, а оно
выбежало на дорогу да за мною вслед гонится. Я сильнее
стал стегать лошадей, а оно скорее бежит, вот-вот меня
догоняет, по виду как бы человек, да бледный-бледный, ажио
синий, а у него на шее веревка болтается. А тут лошадки
мои добегают до деревни, версты две оттолева, и в ту пору
петухи запели: оно так и пропало, не знать, где поделось.
Так рассказывал ямщик, а кто его знает, может быть, ему
с испугу то привиделось! Только вот и другой ямщик
сказывал, ехал-де он с барином в вечернюю пору мимо этого
самого оврага; барин слыхал, что тут заклятое место, да
полюбопытствовать захотел, что оно такое, велел остановиться,
сошел с экипажа вместе с своим человеком и пошел в овраг.
Ямщик ждет, только спустя недолгое время оба, и барин и
лакей его, бегут на дорогу, бледные, испуганные. «Ну, кричит
барин — подлинно видно, это чертово место»! Как вошли
они в эту чащу, видят, на ольхе висит человек повешенный!
Барин бросился к нему, а человек останавливает барина: не
трогайте, сударь, неровен час, придерутся, от худа не уйдем!
Лучше, говорит, пойдем отсюда' скорее подальше от греха,
409
не видали, мол, ничего и не слыхали! А барин ему: «как
можно? покрывать преступление? за это перед Богом тяжелый
грех и перед законом будем виноваты. Покличем скорее
г ямщика, чтобы не мы одни свидетели были!» Да говоря эти
речи, он оборотился к тому дереву, где висел человек, а
его уж нет. Так вот и исчезло все, как не бывало! Как
это все барин ямщику рассказал, ямщик привязал лошадей,
да сам пошел в овраг и барин с человеком пошли туда
же, дошли до того места, где показался было человек
повешенный на ольхе: никого и ничего не было! А оба, и барин
и человек, божились, что сами видели — человек висит,
зацеплен за ветвь петлею!
^- А давно это делалось? — спросил я смотрителя.
— Да лет, почитай, пятнадцать, а то, может, и больше! При
мне вот, как я живу на' этой станции смотрителем, прошло уж
восемь лет и такого не случалось. А что вот стоны, да крики
слышались, так об этом была молва и еще такая сказка про то
место сложилась, что иногда едущему мимо того оврага что-нибудь
остановочное подымется: либо ось в колесе сломится, либо упряжь
порвется, либо что-нибудь подобное. А вот на той станции ямщик,
что к нам часто гоняет, лет тому будет пять — сказывал, такое
было ему привидение: ехал, говорит сюда, вез почту. Вдруг из
леса вылетает черная птица, ворон бы сказать, так не ворон, такой
птицы, кажись, у нас нет. Летит да летит все следом за подводой,
то почтальона хочет словно крылом ударить, то вперед лошадей
залетит, то ямщика хочет в бок клюнуть, потом отлетела в сторону
и пропала! В большом удивлении и ужасе были тогда оба, и
почтальон и ямщик. Я сколько раз сам ездил мимо этого ольхов-
няка, да ничего не видал, стон и крик случалось слышать раза
два и сам не разберу откуда! Только всякий раз, как едешь по
дороге мимо этого места, страшно как-то бывает, сам не знаешь
чего!
— Не говорят ли, — спросил я, — старые люди: от чего это
сталось с этим местом? Не говорят ли, быть может, когда-то
страшное дело совершилось в этом лесном овраге?
— Много плетут! — сказал смотритель-. — Да все это вздор.
Мало ли чего старые бабы не выдумают! Верить всему ихнему
рассказу не пристало.
—- А что же говорят старые бабы, как вы их называете? —
спрашивал я, так как меня сильно стали занимать толки об оль-
ховняке.
— Разно выдумывают, — отвечал смотритель. — Проклятое,
говорят, место! лукавый возлюбил его, поселился в тех ольхах и
пугает людей! А иные толкуют: колдуна мертвеца там похоронили,
или колдунью бабу, так проклятый мертвец не найдет себе в
сырой земле покоя, встает и страху наводит! Разно выдумывают.
А достольно правды никто не скажет!
Тут служитель мой Сергей Опенкин отозвался: «Вот, барин,
тот дедушка мой, что я вам докладывал, говорит, что знает про
этот ольховняк такую тайну, которой никто другой не ведает, толь-
410
ко говорит: я того никому не скажу, потому что тайна та не моя,
а чужая. Хоть бы золотом меня всего обложили, чтоб я открыл
кому-нибудь этот секрет, так не открою; и ни по какому
понуждению не открою, вот хоть бы сказали, что с меня кожу сдерут!
— «А дедушка тебя любит»? -— спросил я.
— «Очень любит», — был ответ. «Он мне не дедушка
настоящий, а старше дедушки: мой отец ему внук приходится! Когда
меня взяли, он очень жалел и все отца моего журил, чтобы ехал
в город губернский, хлопотал бы за меня, да отец ничего не смог.
Меня засадили в острог в Симбирске, никого ко мне долго не
пускали и меня не хотели слушать, когда я оправдывался».
— Лжешь, сякой такой сын! кричали на меня. И в Сибирь
заслали! Там бы и пропадать мне, если б вы, барин, меня не
выручили. Как я уж на свободе жил у вас, письмо мне пришло
от отца, дьячок наш писал вместо безграмотного отца моего, и в
нем поклон был от старого дедушки Капельки — так зовут его.
Писали, старик очень обрадовался, как услышал, что я ворочусь.
Хоть бы, говорил, дал мне Бог дожить, чтоб его еще разок
повидать. Очень любит он меня.
Слушая это, мне пришло в голову: если этот прадедушка точно
любит своего правнучка, то будет мне очень благодарен за то, что
я содействовал его выручке из Сибири. Я в вознаграждение себе
упрошу его сказать мне тайну об этом ольховняке.
Мы поехали со станции далее в наш путь. Ожидание скоро
увидеть таинственную местность, о которой наговорили мне три
короба чудес, меня тревожило; сам не знал я отчего, будет,
казалось, что-то такое, чему названия приискать нельзя, страшное ли
и опасное или приятное — неизвестно, но во всяком случае, что-то
необычное. С такими ощущениями поглядывал я по сторонам,
стараясь заметить и запечатлеть у себя в памяти все окрестности.
Я заводил разговор с своим ямщиком, разумеется, об
ольховняке, но он, объявивши, что по этой станции ездит уже третий
год, сказал, что об ольховняке только от других слыхал, что там
когда-то иным что-то чудилось, а сам он ничего не видал и не
испытывал. Этот ямщик был одною из самых прозаических натур
и не склонен был к суевериям, которые, как известно, составляют
поэзию невежества. Он, как видно, был равнодушен ко всему, что
не относилось к гоньбе лошадей или к собственному хозяйству,
содержимому на счет получаемого им жалованья.
Я досадовал на смотрителя за то, что, пощекотавши
своими россказнями мое воображение, не позаботился дать
мне более подходящего ямщика. Солнце было уже на закате:
облачка попеременно то закрывали его, то отходили от него.
В такое время спустились мы в лощину, и ямщик, указывая
рукою влево, сказал:
— Вот, барин, и тот ольховняк, о котором вы спрашивали.
Чрез несколько саженей сделанного пути показались верхи
леса, который, как видно было, рос ниже плоскости, по которой
шла дорога. Когда мы поравнялись с лесом, ямщик сказал:
— Прикажете здесь остановиться?
411
— Остановись! — отвечал я и вышел из брички вместе с свог
им служителем.
— Ты бывал здесь, Сергей, веди, — сказал я ему.
Едва мы сделали несколько шагов, как услышали глухой шум,,
Это родник шумит в лесу, он падает с горы, оттого и шумит! Мы
сделали еще несколько десятков шагов и достигли окраины
пропасти, в которой зеленела густая заросль. Приглядевшись, увидал,
я освещаемый заходящим солнцем поток, вытекавший из ущелья
и образовывавший внизу как бы речку. Пропасть перед нами была
отвесная.
—- Куда зайти вниз? —- спрашивал я. •
— Влево отсюда есть тропинка, — сказал Сергей, — только,
узкая и крутенькая, не упасть бы вам, сударь!
— Ноги у меня крепки, — отвечал я и, уклонившись в
указанную сторону, действительно отыскал змеившуюся между
ольхами тропинку, до того узкую, что по ней невозможно было идти
двум в ряд. Мы благополучно, хотя постоянно удерживаясь за
деревья, спустились по ней в глубину оврага и стали на берегу
потока, образуемого родником. Этот поток был неширок и мелок,
и мы без затруднения перешагнули через него.
— Вот тут, — говорил Сергей, указывая на кучку ольх, —
должно быть, произошло что-то важное и страшное. Так сообразил
я по рассказу дедушки, когда был здесь один раз, едучи в город,
дедушка меня подзадорил... А страшное, говорил он, дело там
совершилось, на том самом месте, где теперь кучка ольх растет
вправо от ручья, как только с тропинки сойдешь. Никто про то
дело на свете не знает окроме меня, и никто не видал, что там
делалось: одни ольхи видали, да уж теперь там не те, что тогда
были: прежние порубили, или сами усохли от времени и постле-
ли. Давно было!
От этих слов меня против моей воли пробирал страх. Что-то
меня за горло давило, что-то, как камень, на грудь наваливалось.
Темные ольхи глядели на меня как-то неприветно, как будто пу*
гать меня, хотели. Оставаться долго в этой трущобе мне было
невозможно. Уже и „солнце скрывалось за гору. Подходила ночь.
-— Надобно убираться! — сказал я Сергею. Сергей указал на
другую тропинку, которая вела вверх по противоположному откосу
оврага. Всходя уже на гору, услыхал я в овраге что-то похожее на
стон. Был ли то голос какой птицы, или что другое, только меня
невольно охватила дрожь, так как я вспомнил, .что говорили: как
в этом овраге слышался по временам какой-то стон. Неуверенный
в том, что я действительно слышал стон, а не представилось мне
в воображении, что я его слышу, я спросил у Сергея: слышит ли
он как будто в овраге что-то простонало.
— Слыхал, — отвечал Сергей, — и все говорят, что это здесь
нередко бывает. И первый раз как я сюда ходил, слышал тоже и
потом пересказал о том дедушке, а дедушка вздохнул,
перекрестился и сказал; это нечистое, дурное дело откликается!..
Обозревая еще раз с вершины окраины площадь заросшего лесом оврага
я опять услыхал глухой стон и мне стало еще более жутко, чем
412
прежде. Все оттуда смотрело на меня как будто чем-то зловещим,
мрачным, тяжелым.
Мы воротились к нашему ямщику. Я сказал о стоне, слышан^
ном в овраге.
— Бают люди, — проговорил он безучастно: — будто там
иногда что-то словно стонет! А кто его знает, что оно такое. Я там
не был, потому что не рука ходить туда.
— А кто же эти тропинки протоптал там? — спрашивал я.
— Козы, должно быть, — отвечал ямщик: — пастухи из той
вон деревушки стадо пасут, и все в той деревушке сказывали, что
как ни пойдут туда, так слышат, будто что-то стонет в заросли,
да не боятся: привыкли уж!
Прибыли мы на станцию. Тамошний смотритель словно
сговорился с прежним и рассказывал о чудесах ольховняка почти
слово в слово то. же самое, но прибавил: — «Оно бы надлежало
крестный ход тут совершить, да воду в ручье освятить и кругом
лес покропить, так все бы исчезло! Только некому: церкви и
духовного чина поблизости нет; а в деревушке той, что версты за
три оттолева, общество не думает учинить освящение, потому что
окроме пастухов со стадом туда редко кто ходит; для валежника
у них есть в другом месте лес»!
Мы поехали далее. Ольховняк не выходил у меня из головы,
и с новым ямщиком попытался я завести разговор об ольховняке.
Этот ямщик оказался пословоохотливее, чем прежний, но сказал,
что хотя слава идет в народе про это местом что там дива какие-то
творятся, а он сам ничего не видал и не слыхал, хоть и часто
мимо него проезжал. — «А вот — прибавил он: был у нас старый
ямщик, прошлый год умер, так тот сказывал: ехал он однова в
глухую полночь и слышал: в овраге том словно молотом бьют, как
бы кузнецкая работа идет и человеческий крик почудился, будто
кого-то давят и душат»!
Мы поехали далее и по утру на другой день прибыли в то село,
где мне приходилось расстаться с своим служителем, ехавшим со
мною из Сибири. В этом селе жила его семья. Мы заехали к ней.
Не стану описывать радости его родителей, братьев и сестер, когда
они увидали Сергея, которого не видали уже более трех лет с того
времени, когда его сослали в Сибирь, и которого не чаяли было
видеть; не стану рассказывать о порывах их благодарности ко мне,
как они кланялись мне в ноги, целовали мне руки и полы моей
одежды, крестились с пожеланиями мне всякого благополучия,
плакали от умиления, не знали, где меня посадить, чем угостить.
Люди они, как показывалось, были не бедные по их
крестьянскому званию: избы, амбары, клети — как полная чаша, на гумне
скирды немолоченого хлеба, в загонах не мало всякой домашней
скотины, при дворе, спускавшемся к реке, был сад и роща с
пчельником: там сидел постоянно престарелый прадед моего
Сергея, тот самый, что знал тайну ольховняка. Не замедлила
появиться и эта еще живая развалина, едва двигавшая ноги, и чуть
различавшая перед глазами предметы. Почтенная была то
развалина. Голова у старика была голая как ладонь, только сзади на
413
затылке торчал клок белых волос, зато седая борода была длинная
и лопатистая. Сам старик был роста приземистого, может быть,
от глубокой старости. Благодарил он меня за правнука еще,
кажется, горячее и умилительнее, чем самые родители последнего, и
я удивлялся, как много в этом обломке сохранилось еще любви,
которая всегда есть признак жизни. Я остался у этих людей на
целый день.
До сих пор я не думал извлекать никакой для себя пользы из
благодарности крестьянской семьи за возвращение своего члена,
считавшегося погибшим* но потом стал по этому поводу
своекорыстным и думал: авось, моя услуга расположит дедушку быть со
мною откровенным, и я узнаю тайну ольховняка.
Вечером я навел разговор на ольховняк.
— Вы, дедушка, — сказал я: — знаете секрет про это урочище?
— Секрет, родимый! — воскликнул старец, качая трясучей
головой. — Это тебе вот этот пострел выболтал! — и он указал на
Сергея.
— Да он, дедушка, ничего не мог выболтать, потому что сам,
как говорит, этого секрета не знает. Он сказал только: «ведом-де
какой-то секрет про этот ольховняк, а какой секрет — он у тебя
спрашивал, но ты ему не сказал».
— Точно так, родимый! — произнес дедушка: - —
спрашивал он у меня, и я ему не сказал, и не велел ему
говорить никому, что я знаю какой-то секрет про это место,
а он вот забыл про мое слово и разболтал. Это нехорошо,
не похвалю его за это. Больно нехорошо. Ну, да для радости
такой, что он воротился из неволи, Бог его проетит, и я
его прощаю.
— Что же, дедушка, это за секрет? Можно у тебя спросить
про него? — сказал я.
— Нет, родимый, — сказал старик: — всем готов я услужить
тебе, и внукам и правнукам завет дам тебе во всем угодить за твою
добродетель, а открыть тебе того секрета никак не можно. Если б
то секрет был мой, тут бы и речи никакой не было, я бы тебе его
сказал, да за мною самим во весь век мой не было ничего, что бы
я держал в секрете и таился от людей. А это секрет не мой, чужих
же секретов открывать я не смею. Сам посуди, дело то было
совсем не мое, притом дело то давнее, давнее. Теперь уже и на
свете мало тех, которые жили в те поры, когда это делалось.
— Так значит, — возразил я, — и секрет тот никому не
повредит, стало быть, и можно его рассказать.
— Тем, что в те времена жили, не повредит он, точно, —
сказал старик.
— Те уж давно в земле, и Господь будет судить их дела, а не
•мы грешные.
— Да остался род их... Понимаешь, хороший мой барин. Они
-того не знают, не ведают, что их предки делали и знать им того
не следует. ^
— Да ведь я, дедушка, — сказал ему я: — не знаю, чай, чей
.такой род, и не буду рассказывать. Коли прикажешь, я пред
414
святым крестом тебе обещание дам, что никому не скажу того, что
ты мне откроешь.
— Барин! — решительно произнес старик, прерывая речь
мою: — великий ты мне благодетель и все мы вечно за тебя
должны Бога молить. Совестно мне, что не могу тебе в этом угодное
учинить. А все-таки последнее мое тебе слово будет: не скажу я
никому в свете секрета про тот ольховняк. Твоя воля, не проси об
этом. Больше тебе скажу: пусть бы от батюшки царя приехали
сюда курьеры и повезли бы меня в Питер и там стал бы сам
государь меня спрашивать, и ему бы не открыл я секрета! Так бы
и сказал: ваше величество, во всем твоя воля, прикажи меня, если
угодно, казнить смертью, а секрета того я не открою. Лучше
смерть приму. Потому я клятву дал, страшную клятву! Не могу!
Эти слова были произнесены таким тоном, что, казалось,
напрасно было более настаивать и убеждать. Я свел разговор на
другое, но все-таки думал: авось старик проговорится и
как-нибудь откроется, выскажет что-нибудь такое, по чему, как
говорится, по клубочку до ниточки доберешься.
— Вы здешний родом, дедушка? — спросил я его.
— Они все здешние, — отвечал дедушка, — а я захожий с
другой стороны!
— А отколе вы, дедушка, пришли? — спрашивал я.
— Издалека, родимый, издалека. Верст почитай сто с лишком
будет отсюда. — И он назвал село, носившее помещичью фамилию,
о которой я где-то слыхивал. — А ты барин, отколева? — спросил он.
—- Я ближе отсюда, верст сорок мое имение, —- сказал я и
назвал свою фамилию. Старик всплеснул руками, но потом, видимо,
сдерживая впечатление, произведенное ее названием, говорил:
— Слыхал, слыхал! Только там нам не рука, так подлинно
мало знаем!
— Вы, дедушка, кажись, были из крепостных? — спрашивал
я. — Давно вас на волю отпустили?
— Да как тебе сказать? — отвечал старик: — люди мы не
грамотные, так подлинно счета годов не упомним. Чаю, лет
восемьдесят будет!
— А вам, дедушка, — продолжал я, — который год будет?
— Считаю так, родимый, что без года сотня будет, — отвечал
старец.
— И с той поры, как сюда приписались, все здесь жили? —
спрашивал я.
— Все здесь, все здесь! — сказал дедушка. — В казенные
крестьяне приписались. Мужицкое дело наше. Хлебопашеством
занимаемся и скотину, благодаря Бога, водим. Я по обществу
выборную службу отправлял. Один одним у меня сын был, и тот
волею Божией, не в старых еще летах умер, оставил внука и
внучку: внучка давно замужем и дети у нее большие, а внук —
он перед тобой с правнучатами. И я при них век доживаю. Пчелки.
Божий полюбил, все за ними хожу. Годов уж двадцать все на
пчельнике сижу, рои собираю!
— А в городе часто бываете? — спрашивал я.
415
— Теперь уж почитай годов двадцать прошло, как не был, а
прежде случалось. Продавать ли что или покупать — все в город;
за всякими делами* своего уездного города не обойти,
— И вы, дедушка, — сказал я, — езжали мимо того ольховня-
ка? Верно,* ездячи в город и секрет про тот ольховняк узнали
такой, что никто окромя вас не знает.
Старик лукаво улыбнулся и, покачивая головою, сказал:
— Ты, барин, кажись, заговариваешь меня с тем, чтоб
я, старый дурак, тебе как-нибудь секрет выявил! Нет,
родимый, с какой стороны ты ко мне не подходи, а секрета
этого не выведаешь. Не мой, говорю, секрет и не скажу.
Вот что барин, благодетель. Если бы ты мне что-нибудь по
секрету сказал, а я бы то другим рассказал, похвалил ли
бы ты меня за то? Чай, не похвалил бы! Не вынуждай же
и меня чужого секрета открывать.
— Да я, дедушка, вовсе не о секрете спрашиваю. Я бы только
хотел слышать от тебя — езжал ты часто мимо ольховняка, так не
привиживалось ли тебе чего-нибудь? Видишь, вон люди про него
какие дива рассказывают!
— Ничего барин не привиживалось, — отвечал дедушка. — А
что люди бают, так мало ли каких пустяков люди не
рассказывают. Всего не переслушаешь.
Не хочет упрямый дед говорить об этом, подумал я сам себе.
Ничего от него не добьешься! И перестал наводить разговор на
ольховняк.
И простился я с дедушкой и с его семьею, и с Сергеем,
которому очень неловко было от того, что дедушка не
возблагодарил меня достойно за благодеяние, оказанное его правнучку.
Приехал я в свое имение. После первых излияний
родственных чувств с родными, не видавшими меня так много лет, я
против собственной воли обратился мь;слию к загадочному ольхов-
няку. Случилось мне быть у нашего приходского священника.
Были именины его жены и к нему съехались из окрестности
духовные с своими семьями. В числе приезжих был священник того
прихода, где жил старик, хранивший тайну об ольховняке. Я
заговорил об этом упрямом дедушке.
— Он точно знает такой секрет, —- сказал священник: — я его
духовник и мне все известно. Секрет точно чужой и открывать его
он, по совести, не смеет, хотя, правду сказать, уже давно нет на
свете тех лиц, которых этот секрет прямо касается, но старик
оберегает честь их рода. Этот старик, по прозванию Капелька,
очень хороший, богобоязливый мужичок. Дай Бог нам побольше
таких. Чище совестью другого такого не найдется у меня в
приходе!
— А насчет того, — спросил я священника: — что в- этом
ольховняке происходят какие-то чудные явления, как о том ходит
молва, какого вы мнения, батюшка?
Священник отвечал:
— Вы, люди ученые, мало верите. У вас все суеверие. Оно,
правда, в народе нашем суеверия немало, но бывает и такое, что
416
вы считаете суеверием, не имея на то достаточного основания, а
оно пока только непостижимое, такое, чего невозможно объяснить
путем разума. Точно, рассказывают люди, будто в этом урочище
происходит что-то странное, а иные говорят, будто привидения им
какие-то показывались. А вот Капелька открыл мне на" духу, что
в этом месте некогда совершилось что-то важное, во ужас
приводящее, и оттого проклятие легло- на этом месте! Кто его знает?
Опровергнуть, что оно было не так, как он, Капелька, говорит, я
не берусь.
— А вы, батюшка, езжали мимо ольховняка? — спросил я.
— Много раз езжал, — отвечал священник: — но видать
ничего не видал, послышалось только раз как будто стон какой-то.
Птица ли то кричала или нечто иное — не знаю!
И я рассказал ему, что слыхал тоже.
— А вам бы, сударь, — продолжал священник: — хотелось
узнать секрет про тот ольховняк? Может быть, составили бы из
того разсказ для печати.
Я сказал священнику об услуге, оказанной правнуку Капельки,
и прибавил, что считаю себя заслужившим доверие прадедушки.
— Это правда, — отвечал священник. — Знаете ли? Я
попытаюсь постараться доставить вам сие удовольствие. Стану
убеждать Капельку открыть вам секрет, если вы наперед дадите слово
не осрамлять того рода, который, как он говорит, причастен к
оному делу.
Я дал слово. Чрез неделю этот самый священник приехал ко
мне и говорит:
— Крутой старик этот Капелька! Уж как я его
упрашивал, уж как представлял, что вы правнуку его добро сделали,
и с его стороны будет грех не возблагодарить вас за то и
не исполнить вашей просьбы! Нет, ни за что, говорит, не
открою! Не мой секрет, а чужой! Я уж ему иерейскою
совестью своею ручался, что вы не обратите этого секрета
во вред и бесчестье тому роду, за который он так опасается.
Так нет! Умру — говорит — и во гроб с собой заберу, а
никому не открою!
Через две недели после того я поехал к тому же священнику
в гости вместе с священником нашего прихода и услышал от
нашего добродушного хозяина такую речь:
— С нашим дедушкой Капелькой сталась болезнь, да такая,
что уж он, кажется, не поднимется, а отойдет на лоно авраамле.
Третьего дня его маслом соборовали, исповедывали и причащали.
Стал я ему говорить: «Зачем, старина, хочешь на тот свет с собою
невыплаченный свой долг унести?» — Как так? — спрашивает. —
А я ему: «Не возблагодарил» — говорю — «барина за спасение
своего правнука».
—- Как же, — говорит он мне, — возблагодарить его за доброе
дело дурным делом? Ведь я дал клятву никому не открывать
секрета, чтоб рода не бесчестить. — На это я ему сказал: «Вот что,
старина, ты боишься, чтоб рода не бесчестить. Хорошо, ты открой
барину секрет, а рода не называй!»
417
Задумался старик, потом говорит: Коли ты, батюшка,
говоришь, что грех мне будет не возблагодарить барина и не сделать
ему угодного по его просьбе — ино так и быть, только с тем, чтоб
он побожился, что не станет ни допрашиваться, ни каким-нибудь
способом доискиваться, какой это род в этом деле замешан!
Я отправился вместе с священником к Капельке.
Он был уже при смерти, и чуть слышным от слабости голосом
проговорил мне: воздай тебе Господь за Сережку!
Потом, обратившись к священнику, он произнес: Батюшка!
скажи барину мой секрет, но рода не называй!
В тот же день уснул навеки столетний старец. Похоронивши
его, священник приехал ко мне и, сидя у меня в кабинете,
рассказывал вот что:
«Деялось то давно, лет тому близко ста. Жил-был барин, такой
барин, каких в те старые времена было немало на Руси. Жесток
он был с своими людьми, рассердится и посылает продавать
людей на ярмарку, и водят их по торжищу на сворах, как собак.
Барин этот был большой охотник до женского естества, и,
управляя своею вотчиною, давал полную волю своим страстям и похо-
тям. Девица ли крестьянская приглянется ему — сейчас прикажет
привести к себе, растлит, а потом поступит с нею как ему
вздумается: либо насильно замуж отдаст за кого-нибудь из своих
людей, либо же пошлет в город продавать как животное. Приглянется
ему замужняя — велит мужу самому вести жену свою к барину
для блудного дела, а коли что не по нем, так продаст отдельно
мужа в одну сторону, а жену в другук). Таков был гусь.
Приглянулась ему одна крестьянская девка паче прочих, до того у него
перебывавших. Других, бывало, растлит, а потом тем или иным
способом удалит от себя, а эту стал держать во дворе, и она ему
родила ребенка, сына. Потом он за что-то прогневался на нее,
приказал вести в город и продать на рынке, а ребенка, своего
побочного сынка, не отдал ей, а оставил у себя во дворе, взял
другую девку из села, и приказал ей ходить за ребенком в
качестве няньки. Скоро, однако, прогнал он и эту девку и уже не брал
другой из села, а женился на девице из дворянской семьи.
Молодая барыня сначала любила побочного сынка своего барина и
ласкала его, но стала холоднее относиться к нему, когда у нее
родился собственный сынок; однако, побочный все-таки рос в
комнатах барских, играл с своим братом, законным сыном; а
когда пришло время, обоих стали учить грамоте, и незаконный
учился не в пример лучше законного; был он очень понятлив и
остроумен до удивления. Тогда барыня из зависти возненавидела
побочного и начала турчать мужу: зачем ты его близко держишь!
Он холоп и должен то знать, что он холоп. Прогони его. Удали от
глаз! Барин во всем потакал барыне и сослал мальчика в людскую
на черную работу. Мальчишка уже был очень избалован, и считал
себя барчонком: сам отец кормил его лакомствами, покупал ему
игрушки и не приказывал пускать его играть с мужицкими
детьми, чтоб не набрался мужицких манер. Теперь же, когда барин
сослал его в людскую, дворовые мальчишки вдоволь издевались
418
над ним, дразнили его, а он то плакал и вопил, то сердился,
дрался и кусался, челядники же за это секли его немилосердно.
Когда законный сынок стал подрастать, барин взял побочного
снова в комнаты, но приказал быть в услужении законному барчонку,
а потом обоих отвез в Питер: законного сына отдал в главное
военное училищное заведение, в шляхетский корпус, как оно тогда
называлось, а незаконного отдал обучаться какому-то мастерству.
Барчук окончил курс своего учения, произведен был в офицерский
чин и стал служить в гвардии в Питере, а его побочный брат, по
окончании своего обучения мастерству, взят был молодым барином
в услужение. Дома барчук не бывал, а старый барин сам раза два
к нему в Питер ездил. Между тем сперва умерла барыня, матушка
барчукова, а потом умер и его родитель. Молодой гвардеец,
узнавши, что делается единственным владетелем богатого имения но
наследству, решился подать в отставку и ехать в симбирскую
нашу глушь вместе с своим слугою, своим побочным братом.
Молодой барин не показывал и тени, что ему известно, от кого
рожден его слуга, хотя знал это хорошо; он, напротив, был с ним
суров и часто твердил ему, что он не должен забываться, а всегда
иметь в памяти своей то, что создан хамом, на служение
господину, и обязан безропотно терпеть от господина и брани и побои.
Слуга же никак не мог забыть, что сам он когда-то в своем детстве
считался барчуком и, подходя к руке старого барина, говорил ему:
папенька! Так между господином и его служителем не могло
образоваться тех патриархальных отношений, которые и в старые
годы смягчали нередко жестокость крепостной зависимости рабов
от своих господ. Слуга, пробывши несколько лет в столице, успел
там научиться тонкому столичному обращению и. всяким
плутовским хитростям, каких здешний наш человек при своей простоте
не смекнет. А главное, смелость у него явилась; страха Божия у
него не было: я, дескать, сам не хуже своего барина, а почитай,
и лучше его! Надобно вам при этом заметить, что барин и слуга
были удивительно до какой степени похожи один на другого, так
что только приглядевшись к ним, можно было заметить, что слуга
был несколько старее барина. В Питере всяк, кто их видывал
вместе, всегда подозревал, что слуга — побочный брат своего
господина.
Поехали они в Симбирскую губернию: свет не близкий; не то
что теперь, и на железных дорогах и на пароходах пути скорые
открыты; тогда из Питера в. Симбирск — да это все равно, что
.теперь в Южную Африку! Ехали они на почтовых почти недели
три. Слуга замыслил, еще будучи в Питере, важное и дерзостное
дело. Вот въехали они в Симбирскую губернию, вот приходится
проезжать им мимо того урочища — ольховняка. Служитель
говорит барину: здесь достопримечательное место, вода катится с
горы; водопад, редкостная вещь в здешнем крае! Барин вышел
вместе со слугою из экипажа, пошли вдвоем в овраг и как сошли
вниз и очутились в лесной густоте, слуга вынул из кармана
приготовленную заранее веревку с петлею,. набросил господину на
шею и потянул вверх, так что господин не мог спохватиться, как
419
уже задохнулся: потом слуга вынул труп из петли, раздел, надел
на себя господское платье, с бумагами, которые там были, потом
достал тут же кол, раскопал бывшую там в лесу яму, бросил туда
труп и завалил землею, гнилыми листьями и ветвями, а сам
прибежал к оставшемуся на дороге ямщику и кричал, что его лакей
вырвал у барина бумажник с деньгами и побежал от него: барин-
де хотел достать его да не смог, беглец куда-то скрылся: надобно
вернуться в город и тотчас подать объявление. Ямщик не
разобрал, что это говорит с ним лакей, переодетый барином, потому
что, как сказано, барин и лакей были очень схожи между собою,
да уж было темно, наступала ночь и, кроме того, ямщик был себе
простачок, как большая часть людей того времени; как бы уж там
ни было, а ямщик счел его за барина, повернул лошадей и погнал
в город. Слуга показал барские документы, которые он добыл у
мертвого барина, выдал себя за барина и подал прошение куда
следовало о преследовании, поимке и отдаче под суд бежавшего
крепостного человека. В городе никогда не видали в лицо барина,
за которого выдал себя лакей, и поверили. После того слуга, под
видом господина, приехал в имение: и там не могли распознать,
что это не настоящий барин, потому что после того, как отец отвез
сына еще в малолетнем возрасте, сын в деревне у отца не бывал;
слугу тоже знали в имении еще тогда, когда он был очень
молодым. Поэтому удачно сошел ему обман и там; приняли его все за
настоящего молодого барина.
Приглашена была земская полиция и исправник; осмотрели
документы, ввели во владение единственного наследника, и
полиция не могла открыть обмана. Слугу, объявленного бежавшим,
искали и, разумеется, нигде не нашли. Вскоре новый господин,
узнавши еще прежде, где находится его настоящая мать,
распорядился теперь найти ее. Когда помещик отправил ее в город на
продажу, там ее купил другой помещик того же уезда и отдал в
замужество за своего псаря. Теперь барин послал этому помещику
предложение отпустить все это семейство за выкуп, приказавши
тайно сказать так, что как женщина эта некогда была любовницею
старого барина, то сыну его не хотелось, чтоб на память его отца
легло какое-нибудь пятно. Вот этот псарь и был отец Капельки.
Отпущенные на волю приписались в том селе, где вы Капельку
видали. Слуга, обманом ставший барином, от всех скрывал тайну,
но открыл ее матери, когда нарочно повидался с нею. Мать, как
мать, разумеется, мирволила сынку, да притом и сама была
сильно озлоблена против старого барина и ненавидела весь род его.
Только не утерпела она и после уже сказала про все своему сыну
от мужа рожденному, Капельке. Вот почему и знал он про ольхов-
няк такой секрет, который никому не был известен.
Слуга, сделавшись господином и не будучи никем узнан,
осмелился ехать к соседям-помещикам и посватался на их дочери;
Родители, нимало не подозревая, чтобы это был не настоящий
барин, согласились, рассчитывая на богатое состояние будущего
зятя. Он женился. Но, видно, пролитая кровь не остается у Бога
без отмщения. Совесть грызла убийцу — и в то время, как молодая
420
жена родила ему сына-первенца, отец сошел с ума. Он бредил все
какою-то ольхою, кричал, что к нему ольха идет- Ездили доктора,
осматривали его, согласились, что он рехнулся, но причины не
узнали. Странное помешательство, — говорили люди, —
представляется ему, что дерево ходит как животное. После судебного
свидетельства учредили над малолетним сыном опеку, а родителя
держали в доме, как безумного, никуда не выпуская. Но недолго
он таким образом пробыл и умер скоро. Его единственный сын
вырос, женился и сделался отцом многих детей, которые в свою
очередь произвели на свет детей и так размножился и разветвился
род этот, и никто из этого рода не знает своего настоящего
происхождения. Вот почему Капелька не хотел никому открывать этого,
чтобы не было бесчестья потомкам, которые сами ничем не
виноваты в преступлении своего предка.
Так рассказал мне с позволения умершего уже Капельки его
заветную тайну священник, не сказавши, какой был это
дворянский род, о котором скрыл Капелька.
Мне почему-то стало казаться, что этот род был наш род.
Подозрение это возникло у меня от того, что когда в разговоре с
Капелькою я назвал свою фамилию, он вдруг сделал движение,
показывавшее, что произнесение моей фамилии его потревожило,
но потом он прикинулся, как будто слышал ее впервые. Я стал
расспрашивать то у того, то у другого из стариков нашего села о
старых временах вообще и от одного услыхал, что в давнее время
носилось такое предание, что один предок наш был сумасшедшим
и ему все представлялось, будто какое-то дерево к нему идет.
Конечно, по этому признаку еще не может быть признано
несомненным тождество нашего предка с самозванцем-лакеем, убившим
своего барина и господствовавшим под его именем, но ведь и в
истории много найдется такого,- что принято считать
несомненным, хотя, руководствуясь строгою историческою критикою,
можно бы сделать против того возражение.
НЕЗАКОННОРОЖДЕННЫЕ
(ИЗ МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ)
В молодости случилось мне быть в Славяносербском уезде,
Екатеринославской губернии. Я гостил у одного помещика и
пожелал посетить Луганский литейный завод. Помещик обязательно
предложил мне съездить туда на его лошадях. Приходилось ехать
верст семьдесят или восемьдесят не по почтовой, а по проселочной
дороге, потому что таким путем было ближе. Дорога эта хотя не
была уставлена верстовыми столбами и не окопана рвом, а потому
не могла носить названия почтовой, но она называлась большою
извозчичьею дорогою, и по ней постоянно сновали обозы. Мне
пришлось ехать по ней, заезжая кормить лошадей в постоялые
дворы, которые назывались также корчмами и шинками, потому
что там продавалось хлебное вино и происходили веселые
сборища простонародья. Следуя по этой дороге, я наехал на постоялый
двор, стоявший на опушке леса. Местоположение было ровное и
пустынное. Кроме огороженного двора, с навесами на внутренней
стороне огорожи, и длинной избы, выступавшей фасадом на
дорогу, не видно было никакой постройки. Но то, был наружный обман.
Стоило только от задней стороны двора пойти в низкорослый лес,
состоявший из кустов орешника и мелкого дубняка, то не далее,
как прошедши сажен пятьдесят, вы очутитесь на краю
обрывистого яра, а в глубине его увидите светлую полосу реки,
пересекаемую там и сям зелеными островками камышей, а за рекою
безобразные кучи соломенных крыш, над которыми возвышалась
церковь с белыми стенами и железною кровлею, окрашенною
зеленым цветом. Едучи по дороге, нельзя было подозревать близость
селения в этой по-видимому пустынной местности.
Было время кормить лошадей. Мы повернули к постоялому
двору. Прямо против него на дороге стоял, остановившись, большой
обоз извозчичьих телег; лошади были распряжены и кормились у
своих телег, а у самых дверей избы сидел кружок извозчиков: они
обедали. Им прислуживали две женские фигуры, обе девушки, судя
по убранству. Одна была высокая, стройная, другая, помоложе
первой, приземистая. По их приемам сразу можно было узнать, что
первая была хозяйка, а вторая работница. Я вышел из экипажа; хозяйка
пригласила нас въехать во двор. Я вошел в просторные'сени: влево
422
помещался собственно шинок, вправо— хозяйское жилье. Я
направился вправо и вошел в избу, разделенную на две половины
перегородкою, не доходившею вверху до потолка. В первой половине был
дубовый стол, закрытый скатертью, и лавки вдоль стен; на стенах не
было никакого убранства, кроме полос, проведенных с верху до низу
желтою охрою, да увядшей зелени за образами. За перегородкою,
сквозь полуотворенную дверь, я увидал висячую колыбель и
мальчишку лет трех или четырех, оставленного в избе качать колыбель,
но на самом деле игравшего чем-то подле колыбели. Хозяйка, долго
занятая раздачею корма извозчикам, вошла наконец в избу, зашла
за перегородку и стала кормить грудью лежавшего в колыбельке
ребенка. Явление это показалось мне странным. Что девушка
родила — это дело было чересчур обычное, — но чтоб девушка, родивши,
продолжала ходить в девическом уборе и в нем кормила своего
ребенка, — это было нарушением народного обычая, по которому такая
особа непременно должна ходить с покрытою головою, как
замужняя. В южной России, где происходило все это, есть даже особая
кличка для таких особ — покрытка. Мое юношеское воображение
уже готово было об этой девушке сочинить целый роман. Я
попытался завести разговор с нею. Показывая вид, будто не понимаю и не
замечаю, что она девушка, я спросил ее: «Ваш муж, хозяюшка,
дома?»
— Мой муж не приезжал еще! — отрывисто отвечала она и
ушла в сени, видимо, желая уклониться от моих дальнейших
расспросов.
Покормивши лошадей и расплатившись за все взятое, я уехал
дальше в свой путь.
Лет через десять случилось мне снова проезжать по той
же дороге и заехать в тот же постоялый двор. Я увидал
там прежнюю хозяйку, но в другом наряде. На ней не было
уже девической повязки и висящей на спине косы: голова
ее была повязана шелковым платком, чрезвычайно пестрым;
сама она была одета в ситцевое платье малинового цвета с
белыми разводами; напереди висел зеленый с желтыми
цветами передник, на груди была голубая косынка, на шее
несколько ожерельев из бус — красных, зеленых, белых,
синих. В ее глазах отражалось что-то нахальное, вызывающее,
что-то свойственное, как и ее одежда, красавицам легкого
поведения. Такою показалась она мне, хотя в обращении со
мною была она суха и неразговорчива. Я заметил, что давно
когда-то проездом я был у нее.
— Это может статься, — отвечала она: — к нам многие
проезжие заезжают.
Двое мальчиков беспрестанно вертелись около нее. Одному
было лет около двенадцати, другому около девяти.
— Это ваши дети? — спросил я.
— Мои! — отвечала хозяйка.
— Вы давно держите здесь постоялый двор? — продолжал
спрашивать я.
— Тринадцатый год пошел, — был ответ.
423
Она затем вышла. Дети остались в избе. Я попытался завести
разговор с ними. Я спросил старшего: «Как тебя зовут?»
— Глеб! — отвечал мальчик.
— А тебя как? — спросил я другого.
— Вак! —- отвечал тот, очевидно произнося неправильно свое
имя, которое было — Вакх.
Тут пришло мне на память, что у сельского духовенства
существует обычай давать при крещении незаконнорожденным
имена мудреные, то есть такие, которые редко даются. Целый
календарь .таких имен сохраняется у них про запас для
незаконнорожденных исключительно. Старший из детей, Глеб, был
красивый мальчик; темнорусые волосики вились у него кудрями по
вискам, глазки были быстрые; живое личико с правильным
очертанием имело в себе что-то привлекательное; постоянная детская
улыбка оживляла его губки; во- взгляде светились признаки ума.
Иным казался Вакх, с красноватыми ресницами, с прищулеваты^
ми глазами, с большими нахмуренными бровями* с рыжеватыми
волосами и с веснушками на лбу; он смотрел как-то неприглядно
и в его чертах заметно было выражение злости.. Я подозвал Глеба
и дал ему пряник. Мальчик, улыбаясь, поклонился и хотел
поцеловать мне руку, которую я отдернул. Вакх следил за движениями
брата, и на лице его заметил я признаки зависти и досады. Но
вслед затем я подозвал Вакха и дал пряник и ему. Вакх, не
поклонившись, убежал опрометью с пряником за дверь в сени,
куда уже прежде вышел его брат. Через минуту я услышал в сенях
спор, крики, затем визг; я отворил дверь и увидал такое зрелище:
меньшой брат отнимал у старшего пряник, старший не отдавал;
меньшой вцепился зубами старшему в руку, а тот, обороняясь,
кричал и визжал от боли, причиняемой кусаньем. Из
противоположной двери, где помещался шинок, вышла хозяйка, вероятно,
встревоженная ссорою детей, дала затрещину Глебу, а потом,
схвативши Вакха за вихор, безжалостно тузила его пинками по
спине.
— Ох ты Боже мой! — вопила она. — Что это такое?
Какая напасть мне с этим ребенком! Уродится же на свет
такое злющее! Еще в люльке лежал — все орал, ни днем,
ни ночью никому покоя не давал: зубки у него начали
пробиваться не по-людски рано, когда ему еще полгода не
было* так он ажио матери груди кусает... а как стал
подрастать, да стали его учить ходить, тут-то с ним было
возни! Ты ему говоришь: становись левой ножкой, а он
нарочно станет правою, будто не понимает! Ты ему говоришь:
не бери этого или другого, а он нарочно возьмет! Огонь
раза два хватал руками, нарочно затем, что ему говорили:
не бери, жижа! А бывало, как станут ему голову мыть —
тут-то и плачу и крику! руками и ногами так и отбивается,
да попадет меня за палец и кусает. И чем больше в роет
шел, тем становился хуже и злее. Один раз — поверите-ли —
пустил в мать нож! Раскапризничался за обедом — не ту,
вишь, ему ложку подала, — а тут ему говорят: вон мама
424
смотрит! Он как закричит: убью маму! да через стол как
кинет ножом! Слава Богу, пролетел нож мимо уха и врезался
в печку, а то ведь и в глаз попасть мог! А он сам после
того еще смеется!
— Без отцовского надзора, видно, рос, — заметил я, стараясь
втянуть ее в речи о таких предметах, о которых она очевидно не
хотела со мною вести разговора.
— Да, со мною нет мужа! — произнесла хозяйка и стреми-
тельнр вышла вон.
Когда пришло время уезжать, я велел позвать хозяйку для
расчета. Взяв все, что ей следовало, она произнесла:
— Барин! Позвольте вас просить об одном деле.
— Извольте; что нужно? — отвечал я.
— Не будет ли милость ваша пожаловать что-нибудь бедному
человеку? Шел анадысь мимо нашего двора какой-то
чужестранный, в Киев ходил на богомолье, да на дороге пристал, а денег у
него нет ни гроша: Христовым именем, видно, питался. Забрел
отсюда в село, да ничего не выпросил, и, идучи из села, с дороги
сбился и далее не мог идти, так и упал... долго не ел! Ребятишки
увидали да собрались около него, и ну смеяться над ним; а я
ездила отсюда — должок нужно было получить, забирали
вином, — да ворочаюсь, а он лежит и стонет! Мне стало его жалко,
я посадила его к себе в повозку и привезла. Как покормила, так
отходился: то было хоть за попом посылай, а теперь уже хотел бы
опять в свой путь следовать, да не с чем. Я бы ему от всей души
пособила, да наши достатки не Бог знает какие. Приезду что-то
вот маловато становится. Явите божескую милость, барин!
Пожалуйте ему, бедняку, что-нибудь на дорогу.
— Где он? — спросил я, заинтересовавшись рассказом
хозяйки.
— Да вон в той избе, где шинок, за перегородкою на печи, я
его уложила. Намедни так был слаб, что еле душа в теле
держалась, через силу говорить мог, а вот пятый день сидит, так
теперь опять молодец, — отвечала мне хозяйка.
Я вошел в другую избу, так называемую черную. Она была
просторнее той, где я поместился. С левой стороны у окна стояла
огромная бочка с медным краном; направо была стойка с рядом полок на
стене, на которых расставлены были штофы, полуштофы, кружки,
стаканы, бутылки... Вся остальная часть избы занята была лавками,
столом и большою печью, выходившею углом в средину избы, от
печи до наружной стены шла перегородка, так же как и в прежней
избе. Из-за перегородки вышел мужик лет пятидесяти, в истаскан^
ном серяке, с русою бородкою. Он поклонился тем благочестивым
поклоном, каким отличаются богомольцы.
— Ты в Киев ходил, дядя? — спросил я.
— В Киев, кормилец! — отвечал он: — а теперь ворочаюсь ко
двору.
— Откудова ты?
— С Дону, кормилец, из-под Ростова.
А„. — Что ж это с тобой, дядя, сталось такое? Дав-но ты в дороге?
425
— С ранней весны, кормилец. Что было с собой из дому взято,
поисхарчился, а как назад пришлось ворочаться, денег не
осталось ни копейки. Христовым именем шел, батюшка! Где покормят,
да милостыньки подадут, тем и жив, а где — ничего не дадут, да
еще и собаками потравят... бывало и такого за грехи наши!
Сказали люди, что по этой вот дороге будет ближе; я и пошел... да
вот по дороге заболел; думал, смерть уже Бог посылает, ан вот
нет! Нашлись добрые люди, пожалели меня!
— Тебя, говорят, дядя, ребятишки обижали? — спросил я.
— О, нет, барин! Ну как там обижали, крысы этакие!
Известно, народ молодой, глупый! Им бы все только смехи да блажь!
И как можно на них сердиться? Грех! Господь сам таких к себе
звал, говорил, что вот такие-то в царствие Божие войдут.
Я дал этому человеку несколько серебряных рублей на дорогу
и пожелал счастливо и благополучно добраться до дому и
встретить там всех своих близких здоровыми.
Когда я собрался уезжать и готов был садиться в экипаж, к
избе подъехала тройка. Из повозки вышел мужчина лет тридцати
или сорока, высокого роста, краснощекий, с маленькою круглою
бородкой, одетый по-купечески. Хозяйка стояла на пороге сеней и
приветствовала приезжего с такими приемами, по которым сразу
можно было видеть, что они друг друга давно знают. Когда я уже
поместился в экипаже, обернувшись к ним, я заметил в этих
приемах такие черты, которые обличали, что между ними были
самые близкие отношения. Как это подмечается — кто его знает,
И объяснять этого я не берусь, но только с детских лет я в
подобном случае всегда угадывал и не ошибался.
Проехавши верст двадцать пять, я снова остановился в другом
постоялом дворе. Виденное на прежнем постоялом дворе не
выходило у меня из головы, и я завел с хозяином разговор, касавшийся
женщины, остановившей мое внимание. Я рассказал историю
подбившегося на дороге богомольца и с похвалою отозвался о
сострадательности и милосердии хозяйки.
Хозяин лукаво улыбнулся и сказал:
— Да-с! Оно точно! Милосердая жена! Вон и купцы проезжие
сказывают — благодетельница-де настоящая. И накормит, и
напоит, и спать с собой положит; пожива, говорят, славная, и плата
не больно дорога... Да-с.
— У нее дети есть, — заметил я.
— Как не быть им! — сказал хозяин: — те, что с ней ночуют,
чай, живые же и здоровые люди! Как не быть детям!
— Кто она такая? — попытался я спросить.
— А кто ее знает! — отвечал хозяин: — мы от нее
далеко живем, знаем только от проезжих, что оттуда сюда,
а отсюда туда ездят. Только-то и знаем, что от них слышим.
Наше дело сторона.
Итак, мне становилось ясно: дети, которых я видел —
произведения разных проезжающих дворянчиков и купчиков... Какой
цинизм! Но как сочетается с ним это христианское милосердие к
несчастным? Тут что-то несовместимое. Хотелось было мне тогда
426
узнать, кто эта женщина и какими путями она дошла до этого.
Однако, я более ничего о ней не узнал, а уехав, забыл о ней.
В 1883 году случилось мне снова побывать в крае, в котором
я живал в юности, и проехать по той же дороге. Когда
приходилось ехать мимо леска, на опушке которого стоял постоялый двор,
я не заметил даже никакого следа его. Вокруг все было пусто. Тут
навстречу ехал кто-то, я остановил его и спросил о постоялом
дворе, стоявшем здесь когда-то — куда он делся, не перенесен ли
в другое место? Мне отвечали, что тут двора не было, и не помнят,
чтоб он был. Мужик, говоривший это, был лет сорока на вид. Меня
так занял тогда этот двор, что я решился завернуть в село,
покормить там лошадей и расспросить об исчезнувшем дворе. Мы
спустились экипажем с горы и очутились в селе. Был воскресный
день, служилась обедня. Прямо против церкви стоял постоялый
двор. Я приказал ехать туда, а сам пошел в церковь.
Священнодействовал старичок лет шестидесяти с лишком, седой, лысый,
зело благообразный. По окончании литургии, я подошел к нему,
отрекомендовался и завел с ним разговор, сделав несколько общих
вопросов; священник любезно пригласил меня к себе пить чай. В
разговоре с священником я сообщил, что заехал в село нечаянно,
потому что не нашел возле дороги постоялого двора, который стоял
на опушке леса.
— О! там давно его нет! — сказал священник: — это, видно,
вы езжали здесь очень давно, тогда еще, когда двор тот держала
Емельяновна.
— Да, — сказал я: — а ее, видно, там уже нет, перешла?
— Перешла! — сказал священник: — да не то что перешла, а
отошла, а куда — то в руце Божией! Царство ей небесное и
прощение бедной грешнице!
— А вы знали ее, батюшка? — спросил я.
— Я не здешний, — отвечал священник: — я из Бахмутского
уезда сюда перевелся. Так я знал ее там еще подростком, —
девочкою, правда, один раз только видел, когда по окончании курса
ездил искать себе невесты, а здесь уж судилось быть ее духовным
отцом.
И рассказал мне священник биографию бывшей
содержательницы постоялого двора. Вот что я узнал от него.
Она была дочь сельского диакона и воспитывалась в тех узких
условиях, в которых заключалась тогда, как в заколдованном
круге, вся жизнь сельского духовенства. Она выучилась читать
гражданской и церковной печати книги, писать по-русски, хотя с
большим незнанием орфографии — и только всего. Скоро она
вступила в тот возраст, когда священнические и дьяконские дочки
ожидают посещения семинаристов, которые, по окончании учения
в семинарии, путешествуют по приходам, выискивая себе и
подходящих невест, и мест.
Но не судилось явиться к молодой дьяконской дочери такому
искателю, а возгорелось ее сердце страстью к молодому
помещичьему сынку,, который, получив первый офицерский чин, испросил
себе отпуск в родительский дом и оставался в нем целых четыре
427
месяца. Отправился один раз этот офицер в церковь, и дьяконская
дочка так умильно посмотрела на него, что на другое воскресенье,
д той же церкви, прапорщик поклонился ей, как уже знакомой, а
при выходе из церкви подошел к ней, завел с нею разговор, хва-
лил ее красоту и так пленил ее, что, прощаясь с ним у ворот
своего домика, Параша (так звали дьяконскую дочь) дала ему
обещание ночью придти в барский сад чрез калитку, у которой он
будет дожидать ее. Такие романические свидания повторялись
несколько раз; офицер давал Параше честное слово, что женится на
ней, но объяснял, что этого нельзя сделать сразу, не подготовивши
своих родителей, и притом необходимо получить по службе
разрешение начальства. Даже и тогда Параша не потеряла веры в
крепость его обещаний, когда он объявил, что должен ехать на
службу, подтверждая уверение в том, что воротится с
разрешением от начальства и тогда уже объявит своим и ее родителям. Он
даже условился писать к ней до того времени и, по ее указанию,
обещал адресовать свои письма ко вдове дьячихе для передачи ей,
Параше. Простодушная Параша свято ему верила, хотя не только
в течение трех месяцев срока, в который он обещал ей
возвратиться, но и в течение полугода она не увидела его и не получила от
него ни одной строчки. Между тем, ночные свидания в барском
саде стали давать о себе знать. Шила в мешке не утаишь, говорит
пословица, а ребенка в утробе матерней тем более — прибавляют
женщины. Надобно было сознаться в своем преступлении
родителям. Подобные события с девицами возмущают всякую семью, к
какому бы сословию она ни принадлежала, но в семьях духовных
лиц они очень редки и потому особенно страшны. От этого кара,
постигающая преступницу, бывает ужаснее, чем в какой бы то ни
было иной семье, хотя бы даже и в дворянской. При деспотизме
владык и при строгости канонических правил, которые владыка
всегда может приложить к делу, если захочет, легко можно такому
духовному лицу потерять свой сан, а извержение из сана часто
для духовного лица равняется осуждению на смертную казнь
посредством голода. Когда Параша упала к ногам отца и матери и
объявила о своем грехопадении, дьякон ничего не сказал, только
потупил голову, потом остановил мановением руки
расходившуюся в проклятиях дьяконицу, сказавши ей: оставь! Вслед затем он
заперся от всех и пробыл один почти сутки. На другой день
дьякон объявил своей жене, что им предстоит разлучиться навеки
с своею дочерью, что она для них навсегда померла; жить с нею,
оставаясь в дьяконском сане, невозможно: языки людские
заклюют, а поп напишет благочинному, и потом, чего доброго, в
правление позовут и удалят от должности. Надобно вооружиться
терпением. Послал-де Господь крест тяжелый за грехи: надобно
его нести. Есть у меня, — говорил дьякон, — деньги ее: с ее
рождения я скапливал на ее долю по десяти рублей в год, и вот
уж набралось семнадцать десятирублевок: отдам ей, и пусть идет
куда хочет! Дьяконица только плакала, но не возражала. Призвали
дочку, вручили ей сто семьдесят рублей и приказали немедленно
уходить из родительского дома и никогда в него не возвращаться.
428
«Не умела ты слушаться родителей, которые тебе добра хотели —
поживи с чужими людьми и их послушайся. Что посеяла, то й
пожинай теперь!» И несчастная вышла и приютилась у той самой
вдовы дьячихи, чрез которую, как надеялась, должна была
получать вести от своего возлюбленного. Решилась было Параша идти
к помещикам-родителям возлюбленного, но ее не только не
допустили к господам, а сказали, чтоб она не смела в другой раз
входить в ворота господского двора, угрожая в противном случае
спустить на нее собак. Между тем пришло определенное природою
время, и Параша разрешилась от бремени дочкою. — Теперь, —
говорила она, — я возьму своего ребенка и понесу в церковь: как
господа будут в церкви, я поднесу барыне или барину ребенка и
закричу на весь народ: «Вот ваша внучка! Принимайте и
воспитывайте! Это от вашего сына!» — Сделала ли бы она такую
отчаянную выходку — неизвестно, но сделать ее не допустила Парашу
сама судьба. Ее девочка умерла на десятый день после своего
крещения. Еще прошло после того несколько времени. Письма от
офицера не было; и Параша и ее покровительница дьячиха
уверились, что его не будет, что молодой барин забыл про свою
Парашу, что у него эта Параша была не только не первая, но,
может быть, уже и не десятая. Надобно было искать средств к
жизни. Посоветовавшись с одним знакомым, человеком бывалым,
и Параша и дьячиха порешили перебраться в соседний
Славяносербский уезд и там где-нибудь открыть постоялый двор и-шинок.
Средства на первое обзаведение могла доставить им продажа
усадьбы дьячихи на прежнем месте и, кроме того, небольшая
сумма, оставшаяся от того, с чем дьякон выпроводил дочь свою из
родительского дома. Так они и поступили. К счастью, им не
нужно было затрачиваться на постройки. Нашли они готовый
постоялый двор, отдаваемый от ближнего села в аренду; надобно было
только внести арендную сумму за год. И поселились они обе в том
дворе, и пошло у них дело недурно. По всей дороге стала известна
Прасковья Емельяновна или просто Емельяновна.
Труден бывает только первый шаг человеку на избранном им
пути, после — все идет как по маслу. Трудно девушке отважиться
на потерю девической чести, а коль скоро раз решится — скоро
войдет во вкус и все ей нипочем. Основалась Параша во дворе,
стала хозяйкою постоялого; ездят по дороге разные господа и
купцы, хоть и не так часто, как по почтовой дороге, а все-таки
ездят — то пристанут лошадей кормить, а то и почивать: хозяйка
молодая, красивая, за охотниками дело не станет, а плата за
удовольствие умеренная, проведешь время в немалом приятстве, а
выкинешь каких-нибудь рублей десять, а то и шесть,' либо даже
пять; хозяйке и барыш перепадает — не то, что с одних
извозчиков за харч да за лошадиный корм — и не скучно ей, потому что
разнообразие! И вот плодом таких знакомств с проезжими было
рождение мальчика, которому поп дал при крещении имя Глеба.
Получивши себе сына, Прасковья Емельяновна потеряла
незаменимого друга — дьячиху, которая, из привязанности к ней, не
желая с нею разлучаться, перебралась с нею в чужой уезд й
429
отдала ей все свое состояние. Будучи уже. немолодою, она не
вынесла постигшей ее болезни и умерла, не проживши и двух лет
на новоселье. Через два года с половиною родился у
содержательницы постоялого двора другой сын, нареченный при
крещении Вакхом. Обоих видел я лично, как уже о том было сказано,
но за Вакхом родилась еще дочь Епистилия, и это произошло уже
после того, как я в последний раз видел двух мальчиков. То, что
.мне самому пришлось заметить между Глебом и Вакхом,
развилось еще сильнее, судя по отзывам священника, сообщившего мне
-о их дальнейшей судьбе. Глеб избегал Вакха и не скрывал своего
отвращения к нему; Вакх постоянно выискивал способы
чем-нибудь напакостить Глебу: то испортит что-нибудь и наговаривает
матери, что это Глеб сделал» то украдет что-нибудь у проезжего-и
подкинет так* чтоб на Глеба пало подозрение. Мать, однако,
изучила привычки своего сынка и не доверяла всему, что тот налыгал
на брата. Время текло, месяцы шли за месяцами, годы за годами.
И вот Глеб достиг уже пятнадцатилетнего, а Вакх —
двенадцатилетнего возраста. никогда друг друга братьями они не звали,
детьми никогда они вместе не играли, а вступив в отроческий возраст
и приучась к работам, никакого дела не делали вместе.
Один раз случилось вот что: Глеб отправился пасти
материнских коров за версту от дороги в ярок; погнал он их до солнечного
восхода, а на солнечном закате должен был пригнать их назад. Но
уже совсем смерклось, а Глеб не возвращался. Коровы сами без
пастуха стали поодиночке приходить домой. Мать встревожилась.
Но тогда на постоялом дворе было много наехавших извозчиков:
нельзя было покидать двора, чтоб идти искать пропавшего Глеба;
надобно было отпускать сено и овес лошадям и корм людям. Ночь
прошла, заря следующего дня занялась; извозчики, ночевавшие на
постоялом дворе, двинулись в свой путь; Глеб не возвращался.
Когда, наконец, взошло солнце, мать послала Вакха отыскивать
брата. Часа через два возвращается Вакх и доносит, что Глеб
лежит в ярку, разметавши руки, и над ним вьются вороны. Мать,
услыхавши такую весть, чуть не упала без чувств на землю, а
Вакх передавал ее матери с таким равнодушием, как будто
извещая, что юс домашняя кошка растерзана чужой собакой.
Нечего было делать. Дали знать земской полиции. Подняли
-труп, освидетельствовали, нашли, что у него была разрублена
топором голова. Кто мог совершить преступление — мать ни на кого
не изъявляла подозрения. Решили труп мальчика похоронить, а
для отыскания виновников убийства его принять деятельные меры.
Во время погребения всех поразило крайнее равнодушие Вакха.
Бывшие там чужие люди невольно плакали о насильственной
безвременной кончине неповинного отрока, но и одной слезинки
никто не заметил на ресницах у Вакха. «Разве тебе не жалко брата?»
спросили его сельские мальчики. — «Какой он был брат мне?
отвечал Вакх: — вот вы двое зоветесь братьями. А отчего? Оттого,
что у тебя и у него один отец и одна мать. А у меня разве один
отец с Глебом? Я спрашивал у мамы: кто наш отец и где он, что
мы его не видим? Она отвечала; у вас разные отцы — проезжие
430
молодцы. Ну, так какой же он был брат мне, когда мама сама
сказала, что у нас разные отцы!»
Осталась мать с одним сыном и с дочерью. Мало
представлялось ей утешения в детях. Вакх день ото дня становился
непочтительнее к матери, грубее и жестче в обращении со всеми. Мать
решительно возненавидела его. Правда, разгульная жизнь по-
прежнему развлекала ее, купчики и господчики по-прежнему
заезжали к ней и угощались ее объятиями, но вдруг ее постигло
новое горе. Она занемогла болезнью, от которой избавиться было
не легко/ особенно в таком захолустье, где не было опытных и
добросовестных врачей. Емельяновна подверглась операциям
сельских бабок, а те не только не восстановили ее здоровья, но
окончательно его испортили. Она похудела, иссохла, подурнела до
безобразия и уже не могла прельщать собою проезжих. Кроме
того, по дороге быстро разнесся слух о подозрительном нездоровьи
Емельяновны; купчики и господчики стали объезжать ее двор.
Наконец, стряслось над нею третье горе. Однажды Епистилия
прибежала домой вся истрепанная, исцарапанная, окровавленная
и с воплями объявила, что Вакх привязал ее в лесу к дереву и
изнасиловал. Мать в ужасе чуть не лишилась рассудка, а бедную
недорослую девочку стыд и боль, причиненная злодеем, довели до
горячки. В то время, когда она металась в бреду, ночью загорелся
постоялый двор. Ее чуть успели вынести. На другое утро пошел
сильный дождь, и бедная страдалица пролежала целые сутки, едва
укрытая наскоро сложенным из соломы шалашиком, который
дождь промачивал насквозь, пока наконец разоренная и лишенная
собственного крова Прасковья Емельяновна с больною дочкою
перебралась в село и приютилась в какой-то мужичьей хате.
Пришлось-таки ей поискать себе новоселья, пока нашлись охотники
принять ее: весть о ее разгульном поведении и о ее болезни
отталкивали от нее степенных хозяев. Епистилия умерла через два дня
после переноса ее в село.
Вакх, после приключения с Епистилиею в лесу, не являлся к
матери и пропал без вести. Прасковья Емельяновна жила около
двух лет у чужих людей работницею: она не успела выхватить из
пожара ничего из пожитков, ни из денег, которые скапливала,
получая их от пользовавшихся ее ласками. Болезнь,- которую не
сумели излечить мудрые жены, развилась снова и свела ее в гроб.
Священник, сообщавший мне о ее судьбе, незадолго до ее кончины
перешел в настоящий приход и напутствовал ее перед смертью. —
Несчастная женщина, — заключил честной отец свое
повествование, — много погрешила в жизни, но и наказание понесла
немалое! Все-таки, однако, не допустил ее Господь дожить до
последнего удара, который ей готовился, но уже не застал ее в
живых.
— Что такое еще? — спросил я.
— Не далее как через полгода после того, как ее прах предали
земле, — говорил священник, — из Харьковской губернии пришла
в здешний суд бумага: у некоего харьковского купца служили
работники и отправились с хозяйским приказчиком, ехавшим по
431
какому-то коммерческому делу.-Приказчик возвращался в Харьков
и денег хозяйских вез с собою немало. Работники, согласившись
между собою, убили приказчика, а деньги себе забрали, только не
успели далеко скрыться, были пойманы и преданы в руки
правосудия. Сначала они, как водится, показывали себя не помнящими
родства бродягами, но когда были уличены в совершенном
преступлении и оправдаться было невозможно, один из них сознался,
что он родом из нашей губернии, нашего уезда, незаконный сын
содержательницы постоялого двора Прасковьи Емельяновой; что,
еще бывши несовершеннолетним, он убил топором своего
единоутробного брата и убийство, по неимению улик, осталось
неоткрытым; потом изнасиловал сестру свою, также незаконную дочь
своей матери, и злобствуя на мать свою, поджег ее двор, а сам
бежал в Старобельский уезд. Там нанялся он служить у
обывателя, обокрал его, бежал далее и пристал к харьковскому купцу;
наконец, вместе с своим товарищем, совершил свое последнее
преступление. По этой бумаге, присланной из Харькова в Славя-
носербск, делали справку в здешней волости — точно ли здесь
был такой, и здешнее волостное правление ответствовало, что все
показанное о себе оным преступником оказывается справедливым.
Эта справка доставлена была в наше село уже по смерти матери
преступника, а я чаю, был бы ей наитягчайший удар, если бы
она была жива. Вот так-то, сударь, карает Бог грехи родителей в
их чадах, и дети, зачатые в разврате и рожденные беззаконно,
носят на себе проклятие; всю жизнь их оно проникает и сами они
становятся порочными.
. — Однако, батюшка, — заметил я, — несмотря на всю
мерзость жития этой женщины, она не была и без некоторых добрых
черт. — Я при этом рассказал священнику о встрече с нищим
богомольцем, к которому она показала когда-то христианское
сострадание.
Священник ударил себя по лбу.
— Вот, сударь мой, — сказал он: — как вы изволили меня
пристыдить! Я услыхал от вас для себя наставление, тогда как,
по сану моему иерейскому, следовало мне вас наставлять.
Истинно так: неисповедимы судьбы Божий, ими же Бог ведет всех ко
спасению! Почему знать: может быть, эта блудная жена, которую
мы знали пребывавшею в беспрестанном отвратительном разврате,
искупила пред Богом свое мерзостное житие одним таким
поступком? Да! А их, может быть, у нее был и не один, и только по
случаю один сделался вам известен! Истинно скажу вам: как бы
ни представлялся нам кто-либо из ближних наших склонным ко
всяким порокам и неспособным к исправлению — поостережемся
произносить о нем суд наш, по той простой причине, что мы не
знаем всего жития его и тем менее его внутренних побуждений,
которые Бог силен направить к добру так, как мы и не
предполагаем.
АВТОБИОГРАФИЯ
Посвящается любимой жинци Галини Леонтьевни
от Iep. Галки1.
Детство и отрочество.
Фамильное прозвище, которое я ношу, принадлежит к старым
великорусским родам дворян, или детей боярских. Насколько нам
известно, оно упоминается в XVI веке; тогда уже существовали
названия местностей, напоминающие это прозвище, — например,
Костомаров Брод на реке Упе. Вероятно, и тогда уже были
существующие теперь села с названием Костомарово, находящиеся в
губерниях Тульской, Ярославской и Орловской. При Иване
Васильевиче Грозном сын боярский Самсон Мартынович
Костомаров, служивший в опричнине, убежал из Московского государства
в Литву, был принят ласково Сигизмундом Августом и наделен
поместьем в Ковельском (?) уезде. Он был не первый и не
последний из таких перебежчиков. При Сигизмунде III по смерти
Самсона данное ему поместье разделилось между его сыном и
дочерью, вышедшею замуж за Лукашевича. Внук Самсона, Петр
Костомаров, пристал к Хмельницкому и после Берестецкого
поражения подвергся банниции и потерял свое наследственное имение
сообразно. польскому праву кадука, как показывает современное
письмо короля к Киселю об отобрании имений, подлежавших
тогда конфискации. Костомаров вместе с многими волынцами, при-
* Литературный псевдоним раннего Н. И. Костомарова, под которым
он публиковал преимущественно свои работы, написанные на
малороссийском (украинском) языке.
15 Заказ 15
433
ставшими к Хмельницкому и поступившими в звание казаков,
ушел в пределы Московского государства. То была не первая
колония из южноруссов. Еще -в царствование Михаила Федоровича
появились малорусские села по так называемой Белогородской
черте, а город Чугуев был основан и заселен казаками,
убежавшими в 1638 году с гетманом Остраниным; при Хмельницком же
упоминаемое переселение казаков на московские земли было,
сколько нам известно, первое в своем роде. Всех перешедших в то
время было до тысячи семей; они состояли под начальством
предводителя Ивана Дзинковского, носившего звание полковника.
Казаки эти хотели поселиться поблизости к украинским границам,
где-нибудь недалеко от Путивля, Рыльека или Вельска, но
московское правительство нашла это неудобным и определило поселить
их подалее к востоку. На их просьбу им дан был такой ответ:
«Будет у вас с польскими и литовскими людьми частая ссора, а
оно получше, как подальше от задора». Им отвели для поселения
место на реке Тихой Сосне, и вслед за тем был построен казачий
городок Острогожск. Из местных актов видно, что название это
существовало еще прежде, потому что об основании этого городка
говорится, что он поставлен на Острогожском городище. Так
начался Острогожский полк, первый по времени из слободских
полков. В окрестностях новопостроенного города начали разводиться
хутора и села: край был привольный и плодородный. Костомаров
был в числе поселенцев, и, вероятно, эта фамилия оставила своим
прозвищем название Костомаровой на Дону, теперь многолюдной,
слободе. Потомки пришедшего с Волыни Костомарова укоренились
в острогожском крае, и один из них поселился на берегу реки
Ольховатки и женился на воспитаннице и наследнице казацкого
чиновника Юрия Блюма, построившего во имя своего ангела
церковь в слободе, им заложенной и по его имени названной Юра-
совкою. Это было в первой половине XVIII столетия. Имение
Блюма перешло к Костомаровой. К этой ветви принадлежал мой
отец.
Отец мой родился в 1769 году, служил с молодых лет в армии,
участвовал в войске Суворова при взятии Измаила, а в 1790 году
вышел в отставку и поселился в своем имении Острогожского
уезда в слободе Юрасовке, где я родился1. Отец мой сообразно тому
времени получил недостаточное образование и впоследствии,
сознавая это, постоянно старался пополнить эту недостаточность
чтением. Он читал много, постоянно выписывал книги, выучился
даже по-французски настолько, что мог читать на этом языке,
хотя и с помощью лексикона. Любимыми сочинениями его были
творения Вольтера, Даламбера, Дидро и других энциклопедистов
XVIII века; в особенности же он оказывал к личности Вольтера
уважение, доходившее до благоговения. Такое направление
выработало из него тип старинного вольнодумца. Он фанатически от-
* Острогожский уезд со всею южной частию Воронежской губернии
в то время принадлежал к Слободско-Украинской губернии — ныне
Харьковской.
434
дался материалистическому учению и стал отличаться крайним
неверием, хотя согласно своим учителям ум его колебался между
совершенным атеизмом и деизмом. Его горячий, увлекающийся
характер часто доводил его до поступков, которые в наше время
были бы смешны; например, кстати и некстати он заводил
философские разговоры и старался распространять вольтерианизм там,
где, по-видимому, не представлялось для того никакой почвы. Был
ли он в дороге — начинал философствовать с содержателями
постоялых дворов, а у себя в имении собирал кружок своих
крепостных и читал им филиппики против ханжества и суеверия.
Крестьяне в его имении были малоруссы и туго поддавались воль-
терианской школе; но из дворни было несколько человек,
переведенных из Орловской губернии, из его материнского имения; и
последние, по своему положению дворых людей имевшие
возможность пользоваться частыми беседами с барином, оказались более
понятливыми учениками. В политических и социальных понятиях
моего покойного родителя господствовала какая-то смесь
либерализма и демократизма с прадедовским барством. Он любил
толковать всём и каждому, что все люди равны, что отличие по
породе есть предрассудок, что все должны жить как братья: но это
не мешало ему при случае показать над подчиненными и
господскую палку или дать затрещину^ особенно в минуту
вспыльчивости, которой он не умел удерживать: зато после каждой такой
выходки он просил извинения у оскорбленного слуги, старался
чем-нибудь загладить свою ошибку и раздавал деньги и подарки.
Лакеям до такой степени это понравилось, что бывали случаи,
когда с намерением его сердили, чтобы довести до вспыльчивости
и потом сорвать с него. Впрочем его вспыльчивость реже
приносила вред другим, чем самому. Однажды, например,
рассердившись, что ему долго не несут обедать, он в припадке досады
перебил великолепный столовый сервиз саксонского фарфора, а
-потом, опамятовавшись, сел в задумчивости, начал рассматривать
изображение какого-то древнего философа, сделанное на
сердолике, и, подозвавши меня к себе, прочитал мне со слезами на глазах
нравоучение о том, как необходимо удерживать порывы страстей.
С крестьянами своего села он обходился ласково и гуманно, не
стеснял их ни поборами, ни работами; если приглашал
что-нибудь делать, то платил за работу дороже, чем чужим, и сознавал
необходимость освобождения крестьян от крепостной зависимости,
в чем и не скрывался перед ними. Вообще надобно сказать, что
если он дозволял себе выходки, несогласные с проповедываемыми
убеждениями свободы и равенства, то они проистекали помимо его
желания, от неумения удерживать порывы вспыльчивости;
поэтому-то все» которые не поставлены были в необходимость часто
находиться при нем, любили его. В его характере не было
никакого барского тщеславия; верный идеям своих французских
наставников, он ни во что не ставил дворянское достоинство и
терпеть не мог тех, в которых замечал хотя тень щегольства своим
происхождением и званием. Как бы в доказательство этих
убеждений он не хотел родниться с дворянскими фамилиями и уже в
15* 435
пожилых летах, задумавши жениться, избрал крестьянскую
девочку и отправил ее в Москву для воспитания в частное заведение, с
тем чтобы впоследствии она стала его женою. Это было в 1812
году. Вступление Наполеона в Москву и сожжение столицы не
дало ей возможности продолжать начатое образование: отец мой,
услыхавши о разорении Москвы, послал взять свою воспитанницу,
которая впоследствии и сделалась его женою и моею матерью.
Я родился 4 мая 1817 года. Детство мое до десяти лет
протекало в отеческом доме без всяких гувернеров, под наблюдением
одного родителя. Прочитав «Эмиля» Жан-Жака Руссо, мой отец
прилагал вычитанные лм правила к воспитанию своего
единственного сына и старался приучить меня с младенчества к жизни,
близкой с природою: он не дозволял меня кутать, умышленно
посылал меня бегать в сырую погоду, даже промачивать ноги, и
вообще приучал не бояться простуды и перемен температуры.
Постоянно заставляя меня читать, он с нежных моих лет стал
внушать мне вольтерианское неверие, но этот же нежный возраст мой,
требовавший непрестанных обо мне попечений матери, давал ей
время и возможность противодействовать этому направлению. В
детстве я отличался необыкновенно счастливою памятью: для меня
ничего не стоило, прочитавши раза два какого-нибудь Вольтерова
«Танкреда» или «Заиру» в русском переводе, прочитать ее отцу
наизусть от доски до доски. Не менее сильно развивалось мое
воображение. Местоположение, где лежала усадьба, в которой я
родился и воспитывался, было довольно красиво. За рекою,
текшею возле самой усадьбы, усеянною зелеными островками и
поросшею камышами, возвышались живописные меловые горы,
испещренные черными и зелеными полосами; от них рядом
тянулись черноземные горы, покрытые зелеными нивами, и под ними
расстилался обширный луг, усеянный весною цветами и
казавшийся мне неизмеримым живописным ковром. Весь двор был
окаймлен по забору большими осинами и березами, а обок
тянулась принадлежавшая ко двору тенистая роща с вековыми
деревьями. Отец мой нередко, взявши меня с собой, садился на земле
под одной старой березой, брал с собою какое-нибудь поэтическое
произведение и читал или меня заставлял читать; таким образом
помню я, как при шуме ветра мы читали с ним Оссиана и, как
кажется, в отвратительном прозаическом русском переводе. Бегая
в ту же рощу без отца, я, натыкаясь на полянки и на группы
деревьев, воображал себе разные страны, которых фигуры видел
на географическом атласе; тогда некоторым из таких местностей
я дал названия. Были у меня и Бразилия, и Колумбия, и Лаплат-
ская республика, а бегая к берегу реки и замечая островки, я
натворил своим воображением Борнео, Суматру, Целебес, Яву и
прочее. Отец не дозволял моему воображению пускаться в мир
фантастический, таинственный, он не дозволял сказывать мне
сказок, ни тешить воображение россказнями о привидениях; он
щекотливо боялся, чтобы ко мне не привилось какое-нибудь
вульгарное верование в леших, домовых, ведьм и т. п. Это не мешало,
однако, давать мне читать баллады Жуковского, причем отец счи-
436
тал обязанностью постоянно объяснять мне, что все это —
поэтический вымысел, а не действительность. Я знал наизусть всего
«Громобоя»; но отец объяснял мне, что никогда не было того, что
там описывается, и быть того не может. Жуковский был любимым
его поэтом; однако же отец мой не принадлежал к числу тех
ревнителей старого вкуса, которые, питая уважение к старым
образцам, не хотят знать новых; напротив, когда явился Пушкин, отец
мой сразу сделался большим его поклонником и приходил в
большой восторг от «Руслана и Людмилы» и нескольких глав «Евгения
Онегина», появившихся в «Московском вестнике» 1827 года. Когда
мне минуло десять лет, отец повез меня в Москву. До того времени
я нигде не был, кроме деревни, и не видал даже своего уездного
города. По приезде в Москву мы остановились в гостинице
«Лондон» в Охотном ряду, и через несколько дней отец повел меня в
первый раз в жизни в театр. Играли «Фрейшютца». Меня до такой
степени перепугали выстрелы и потом сцена в волчьей долине с
привидениями, что отец не дал мне дослушать пьесы и после
второго действия вывел из театра. Несколько дней меня занимало
виденное в театре и мне до чрезвычайности снова хотелось в театр.
Отец повез меня. Давали «Князя Невидимку» — какую-то
глупейшую оперу, теперь уже упавшую, но тогда бывшую в моде.
Несмотря на мой десятилетний возраст я понял, что между первою
виденною мною оперою и второю — большое различие и что
первая несравненно лучше второй. Третья виденная мною пьеса была
«Коварство и любовь» Шиллера. Роль Фердинанда играл
знаменитый в свое время Мочалов. Мне она очень понравилась, отец мой
был тронут до слез; глядя на него, и я принялся плакать, хотя
вполне не мог понять всей сути представляемого события.
Меня отдали в пансион, который в то время содержал лектор
французского языка при университете, Ге. Первое время моего
пребывания после отъезда отца из Москвы проходило в
беспрестанных слезах; до невыносимости тяжело мне было одинокому в
чужой стороне и посреди чужих людей; мне беспрестанно
рисовались образы покинутой домашней жизни и матушка, которой,
как мне казалось, должна была сделаться тяжелой разлука со
мною. Мало-помалу учение начало меня охватывать и тоска
улеглась. Я приобрел любовь товарищей; содержатель пансиона и
учителя удивлялись моей памяти и способностям. Один раз,
например, забравшись в кабинет хозяина, я отыскал латинские
разговоры и в каких-нибудь полдня выучил все разговоры наизусть,
а потом начал говорить вычитанные латинские фразы
пансионосодержателю. По всем предметам я учился хорошо,
кроме танцев, к которым, по приговору танцмейстера, не показывал
ни малейшей способности, так что в одно и то же время одни меня
называли «enfant miraculeux», а танцмейстер называл идиотом.
Через несколько месяцев я заболел; отцу написали об этом, и он
внезапно явился в Москву в то время, как я не ждал его. Я уже
выздоровел, в пансионе был танцкласс, как вдруг отец мой входит
в зал. Поговоривши с пансионосодержателем, отец положил за
благо взять меня с тем, чтобы привезти снова на другой год после
437
вакаций. Впоследствии я узнал, что человек, которого отец оставил
при мне в пансионе в качестве моего дядьки, написал ему какую-
то клевету о пансионе; кроме того я слыхал, что сама болезнь,
которую я перед тем испытал, произошла от отравы, поданной мне
этим дядькой, которому, как оказалось, был в то время расчет во
что бы то ни стало убраться из Москвы в деревню. Таким образом,
в 1828 году я был снова в деревне — в чаянии после вакаций
снова ехать в московский пансион; между тем над головой моего
отца готовился роковой удар, долженствовавший лишить его
жизни и изменить всю мою последующую судьбу.
Выше сказано было, что в имении моего отца было несколько
переселенцев из Орловской губернии; из них кучер и камердинер
жили во дворе, а третий, бывший также прежде лакеем, был за
пьянство изгнан со двора и находился на селе. Они составили
заговор убить моего отца с намерением ограбить у него деньги,
которые, как они доведались, у него лежали в шкатулке. К ним
пристал еще и человек, бывший моим дядькой во время
пребывания моего в московском пансионе. Злодейский умысел крылся уже
несколько месяцев, наконец, убийцы порешили исполнить его 14
июля. Отец мой имел привычку ездить для прогулки в леса на
расстоянии двух-трех верст от двора, иногда со мною, иногда
один. Вечером в роковой день он приказал заложить в дрожки
пару лошадей и, посадив меня с собою, велел ехать в рощу,
носившую название Долгое. Усевшись на дрожки, я по какой-то
причине не захотел ехать с отцом и предпочел, оставаясь дома,
стрелять из лука, что было тогда моею любимою забавою. Я
выскочил из дрожек, отец поехал один. Прошло несколько часов,
наступила лунная ночь. Отцу пора было возвращаться, мать моя
ждала его ужинать — его не было. Вдруг вбегает кучер и говорит:
«барина лошади куда-то понесли». Сделался всеобщий переполох,
послали отыскивать, а между тем два лакея, участники заговора,
и — как есть подозрение — с ними и повар обделывали свое дело:
достали шкатулку, занесли ее на чердак и выбрали из нее все
деньги, которых было несколько десятков тысяч, полученных моим
отцом за заложенное имение. Наконец, один из сельских крестьян,
посланный для отыскания барина, воротился с известием, что
«пан лежит неживый, а у его голова красие и кровь дзюрчить». С
рассветом 15 июля мать моя отправилась со мною на место, и нам
представилось ужасное зрелище: отец лежал в яру с головой
обезображенной до того, что нельзя было приметить человеческого
образа. Вот уже 47 лет прошло с тех пор, но и в настоящее время
сердце обливается кровью, когда я вспомню эту картину,
дополненную образом отчаяния матери при таком зрелище. Приехала
земская полиция, произвела расследование и составила акт, в
котором значилось, что отец мой несомненно убит лошадьми.
Отыскали даже на лице отца следы шипов от лошадиных подков. О
пропаже денег следствия почему-то не произвели.
Многое изменилось с тех пор в моей судьбе. Мать моя не жила
уже в прежнем дворе, а поселилась в другом, находившемся в той
же слободе. Меня отдали учиться в воронежский пансион, содер-
438
жимый тамошними учителями гимназии Федоровым и Поповым.
Пансион находился в то время в доме княгини Касаткиной,
стоявшем на высокой горе на берегу реки Воронеж, прямо против
корабельной верфи Петра Великого, его цейхгауза и развалин его
домика. Пансион пробыл там год, а потом по поводу передачи
дома в военное ведомство на школу кантонистов переведен был в
другую часть города неподалеку от Девичьего монастыря, в дом
Бородина. Хотя из нового помещения не представлялось такого
прекрасного вида, как из предыдущего, но зато при этом доме
находился огромный тенистый сад с фантастическою беседкою; в
«ей молодое воображение учеников пансиона представляло себе
разные чудовищные образы, почерпнутые из страшных романов,
которые были тогда в большой моде и читались с большим
наслаждением тайком от менторов* хлопотавших о том, чтобы
ученики читали только полезные книги. Пансион, в котором на этот
раз мне пришлось воспитываться, был одним щ таких заведений,
где более всего хлопочут показать на вид что-то необыкновенное,
превосходное, а в сущности мало дают надлежащего воспитания.
Несмотря на свой тринадцатилетний возраст и шаловливость я
понимал, что не научусь в этом пансионе тому, что для меня будет
нужно для поступления в университет, о котором я тогда уже
думал как о первой необходимости для того, чтобы быть
образованным человеком. Большая часть детей, обучавшихся в этом
пансионе, принадлежала к семействам помещиков, в которых
укоренено было такое понятие, что русскому дворянину не только
незачем, но даже как бы унизительно заниматься наукою и
слушать университетские лекции, что для дворянского звания
приличная карьера — военная служба, которую можно было
проходить короткое время, чтобы только дослужиться до какого-
нибудь чина и потом зарыться в свою деревенскую трущобу к
своим холопам и собакам. Вот поэтому в пансионе не учили почти
ничему, что нужно было для поступления в университет. Самое
преподавание производилось отрывочно; не было даже разделения
на классы; один ученик учил то, другой иное; учителя приходили
только спрашивать уроки и задавать их вновь па книгам. Верхом
воспитания и образования считалось лепетать по-французски и
танцевать. В последнем искусстве и здесь, как некогда в Москве,
я был признан чистым идиотом; кроме моей физической
неповоротливости и недостатка грации в движениях я не мог удержать
в памяти ни одной фигуры контрданса, постоянно сбивался сам,
сбивал других и приводил в смех и товарищей, и содержателей
пансиона, которые никак не могли понять, как это я могу вмещать
в памяти множество географических и исторических имен и не в
состоянии заучить такой обыкновенной вещи, как фигуры
контрданса. Я пробыл в этом пансионе два с половиною года и к
счастию для себя был из него изгнан за знакомство с винным
погребом, куда вместе с другими товарищами я пробирался иногда
по ночам за вином и ягодными водицами. Меня высекли и отвезли
в деревню к матери, а матушка еще раз высекла и долго сердилась
на меня.
439
По просьбе моей в 1831 году матушка определила меня в
воронежскую гимназию. Меня приняли в третий класс,
равнявшийся по тогдашнему устройству нынешнему шестому, потому что
тогда в гимназии было всего четыре класса, а в первый класс
гимназии поступали после трех классов уездного училища.
Впрочем, принимая меня в гимназию, мне сделали большое
снисхождение: я очень был слаб в математике, а в древних языках совсем
несведущ. Меня поместили у учителя латинского языка Андрея
Ивановича Белинского. То был добрый старик, родом галичанин,
живший в России уже более тридцати лет, но говоривший с
сильным малорусским пошибом и отличавшийся настолько же
добросовестностью и трудолюбием, насколько и бездарностью.
Воспитанный по старой бурсацкой методе, он не в состоянии был
ни объяснить надлежащим образом правил языка, ни тем менее
внушить любовь к преподаваемому предмету. Зная его честность
и добродушие, нельзя помянуть его недобрым словом, хотя, с
другой стороны, нельзя не пожелать, чтобы подобных учителей не
было у нас более. Вспоминая прежние бурсацкие обычаи, Андрей
Иванович серьезно изъявлял сожаление, что теперь не позволяют
ученикам давать субитки1, как бывало на его родине у дьячков,
принимавших на себя долг воспитателей юношества.
Другие учителя гимназии мало представляли из себя
педагогических образцов. Учитель математики Федоров, бывший мой
хозяин в пансионе, был ле.нив до невыразимости и, пришедши в
класс, читал, занесши ноги на стол, какой-нибудь роман про себя,
либо ходил взад и вперед по классу, наблюдая только, чтобы в это
время все молчали; за нарушение же тишины без церемонии бил
виновных по щекам. И в собственном его пансионе нельзя было
от него научиться ничему по математике. Трудно вообразить в
наше время существование подобного учителя, хотя это был
человек, умевший отлично пускать пыль в глаза и тем устраивать себе
карьеру. Впоследствии, уже в сороковых годах, он был директором
училищ в Курске и, принимая в гимназии посещение одного
значительного лица, сообразил, что это значительное лицо
неблагосклонно смотрит на многоучение, и когда это значительное лицо,
обозревая богатую библиотеку, пожертвованную гимназии
Демидовым, спросило его, как он думает, уместно ли в гимназии
держать такую библиотеку, Федоров отвечал: «нахожу это излишнею
роскошью». Этот ответ много пособил ему в дальнейшей его
карьере.
Учитель русской словесности Николай Михайлович Севастиаг
нов был тип ханжи, довольно редкий у нас на Руси, как известно
мало отличающейся склонностью к девотизму; он сочинял
акафисты св. Митрофану, постоянно посещал архиереев, архимандритов
и, пришедши в класс, более поучал своих питомцев благочестию,
чем русскому языку. Кроме того, в своих познаниях о русской
словесности это был человек до крайности отсталый: он не мог
1 Обычай сечь всех учеников по субботам, не обращая внимания,
кто из них в чем виноват или нет.
440
слушать без омерзения имени Пушкина, тогда еще бывшего, так
сказать, идолом молодежи; идеалы Николая Михайловича
обращались к Ломоносову, Хераскову, Державину и даже, к киевским
писателям XVII века. Он преподавал по риторике Кошанского и
задавал по ней писать рассуждения и впечатления, в которых
изображались явления природы — восход солнца, гроза, —
риторически восхвалялись добродетели, изливалось негодование к
порокам и т. п. Всегда плотно выбритый, с постною миною, с
заплаканными глазами, со вздыхающею грудью являлся он в
класс в синем длинном сюртуке, заставлял учеников читать ряд
молитв, толковал о чудесах, чудотворных иконах, архиереях,
потом спрашивал урок, наблюдая, чтобы ему отвечали слово в слово,
а признавая -кого-нибудь незнающим, заставлял класть поклоны.
Учитель естественной истории Сухомлинов, брат бывшего
харьковского профессора химии, был человек неглупый, но мало
подготовленный и мало расположенный к науке; впрочем, так как
он был умнее других, то несмотря на его недостатки как учителя
в полном смысле этого слова, он все-таки мог передать своим
питомцам какие-нибудь полезные признаки знания.
Учитель всеобщей истории Цветаев преподавал по плохой
истории Шрекка, не передавал ученикам никаких собственноустных
рассказов, не освещал излагаемых в книге фактов какими бы то
ни было объяснениями и взглядами, не познакомил учеников даже
в первоначальном виде с критикою истории и, как видно, сам не
любил своего^ предмета: всегда почти сонный и вялый, этот
учитель способен был расположить своих питомцев к лени и полному
безучастию к научным предметам.
Греческий язык преподавал священник Яков Покровский,
бывший вместе и законоучителем. Он отличался только резкими фи-
липпиками против пансионского воспитания, вообще оказывал
нерасположение к светским училищам, восхвалял семинарии и
поставил себе за правило выговаривать так, как пишется, требуя
того же и от учеников, чем возбуждал только смех. Это был
человек до крайности грубый и заносчивый, а впоследствии, как мы
узнали, овдовевши, был судим и лишен священнического сана за
нецеломудренное поведение.
Учитель французского языка Журден, бывший некогда
капитан наполеоновской армии и оставшийся в России в плену, не
отличался ничем особенным, был вообще ленив и апатичен,
ничего не объяснял и только задавал уроки по грамматике Ломонда,
отмечая в ней ногтем места, следуемые к выучке и произнося всем
одно и то же: jiusquici. Только когда припоминались ему по
какому-нибудь случаю подвиги Наполеона и его великой армии,
обычная апатичность оставляла его и он невольно показывал
неизбежные свойства своей национальности, делался живым и
произносил какую-нибудь хвастливую похвалу любимрму герою и
французскому оружию. Считаю при этом кстати вспомнить
случай, происшедший у меня с ним еще в пансионе Федорова, где
он, по выходе Попова, был помощником содержателя и имел
жительство в пансионе. Я не поладил с гувернером, немцем по фа-
441
милии Праль; Журден поставил меня на колени и осудил
оставаться без обеда. Желая как-нибудь смягчить его суровость, я,
стоя на коленях во время обеда, сказал ему: Jourdin, ведь Prahler
по-немецки значит хвастун. «Chut tesez vous!» — прошипел
Журден. Но я продолжал: эти немцы большие хвастуны, ведь как их
Наполеон бил! «Ох как бил!» — воскликнул Журден и, пришедши
в, восторг, начал вспоминать Иенскую битву. Воспользовавшись
его одушевлением, я попросил у него прощения, и строгий капиг
тан смягчился и позволил мне сесть обедать.
Немецким учителем был некто Флямм, не отличавшийся
особым педагогическим талантом и плохо понимавший по-русски,
отчего его предмет не процветал в гимназии. Ученики, как везде
бывало на Руси с немцами, дурачились над его неумением
объясняться по-русски. Так, например* не зная, как произнести
по-русски слово «акцент», он вместо того, чтобы сказать «поставить
ударение», говорил «сделайте удар» — и ученики, потешаясь над
ним, все залпом стучали кулаками о тетрадь. Немец выходил из
<:ебя, но никак не мог объяснить того, что хотел, и весь класс
хохотал над ним.
Остается сказать еще несколько слов о тогдашем директоре
гимназии фон Галлере. Он отличался тем, что каждый ученик,
приезжая с домового каникулярного отпуска, считал обязанностью
своею принести посильный подарок: кто пару гусей, а кто фунт
чаю или голову сахару; директор выходил к ученику в прихожую,
распекал его за дерзость, говорил, что он не взяточник и прогонял
ученика с его подарком; но в сенях, куда уходил с прихожей
ученик, являлась женская прислуга, брала подарок и уносила на
заднее крыльцо. Ученик приходил в класс и замечал, что директор
во время своего обычного посещения классов показывал к нему
особенную ласку и благоволение. Директор несколько лет занимал
лично для себя весь бельэтаж гимназического здания, а классы
помещались по чердакам; это побудило учителей подать на него
донос: приехал ревизор, и директор должен был перейти из
гимназического здания на наемную квартиру. Скоро после того
начальство устранило его от должности.
Число учеников гимназии в то время было невелико и едва ли
простиралось до двухсот человек во всех классах. По
господствовавшим тогда понятиям родители зажиточные и гордившиеся сво-
.им происхождением или важным чином считали как бы
унизительным отдавать сыновей своих в гимназию: поэтому
заведение наполнялось детьми мелких чиновников, небогатых купцов,
мещан и ршночинцев. Плебейское происхождение выказывалось
очень часто в приемах и способе обращения воспитанников, как
равно и в упущенности первичного воспитания, полученного в
родительском доме. Грубые ругательства, драки и грязные забавы
были нипочем в этом кругу. Между учениками было довольно
лентяев, почти не ходивших в гимназию, а те, которые были
поприлежнее, заранее приучены были смотреть на учение только как на
■средства, полезные в жизни для добывания насущного хлеба. Об
охоте к наукам можно судить уже из того, что из окончивших курс
442
в 1833 году один я поступил в университет в том же году, а три
моих товарища поступили в число студентов тогда, когда я был
уже на втором курсе.
Во время своего пребывания в гимназии в вакационные сроки
я езжал домой к матери; иногда за мною тгрисылали своих
лошадей и экипаж, летом — бричку, а зимою — крытые сагни; иногда
же я следовал на почтовых. В том и в другом случае путь лежал
до Острогожска по столбовой почтовой дороге через села Олений
Колодезь, Хворостань и город Коротояк, где переправлялись через
Дон. Не доезжая до Коротояка дорога на протяжении верст сорока
шла в виду Дона на левой стороне; вблизи Хворостани виднелось
живописное село Оношкино, в 1827 году сползшее с горы,
подмытой Доном. Этот феномен природы, как говорят, никому не стоил
жизни, потому что почти все люди были в поле. От Острогожска,
если ехал я на своих лошадях, мне приходилось пробираться до
своей слободы по хуторам, которых множество в этой стороне. До
самой слободы я не встречал ни одной церкви. Хуторки, по
которым я проезжал, все были вольные, населенные так называемыми
войсковыми обывателями, потомками прежних острогожских
казаков и их подпомощников. Весь этот край носил название Рыбьян-
ского, и обитатели хуторов, как и города, как бы в отличие от
прочих малоруссов назывались рыбьянами. У них был отличный
от других говор и костюм. Впоследствии, побывавши на Волыни,
я увидал, что то и другое обличает в рыбьянах чисто волынских
переселенцев, тогда как жители других краев Острогожского уезда
поюжнее обличают своим выговором, одеждою и домашнею
обстановкою происхождение из других сторон Малорусского края.
Рыбьяне жили тогда вообще зажиточно; земли у них было вдоволь,
а иные отправляли разные промыслы и ремесла.
Если приходилось ехать на почтовых, то путь лежал несколько
восточнее, на Пушкин хутор, где переменялись лошади; там была
обывательская почта, и нанявши почтовых, можно было ехать в
Юрасовку. Обыкновенно, выезжая из Воронежа, я достигал Юра-
совки на другой день, но если ехал на почтовых, то и ранее.
Новый дом моей матери был о пяти покоях, крытый камышом и
стоял в оконечности слободы на огромном дворе, где кроме дома,
амбаров, сараев и конюшен было три хаты, а в глубине двора
лежал фруктовый сад, десятинах на трех, упиравшийся в
конопляник, окаймленный двумя рядами высоких верб, за которыми
тянулось неизмеримое болото. Прежде, как говорят, здесь текла
река, но в мое время она вся поросла камышом и осокой, за
исключением нескольких плес, и то летом густо покрытых лататьем1.
В саду было значительное число яблочных, грушевых и вишневых
деревьев, родивших плоды вкусных сортов. В одном углу сада был
омшенник для пчел, которых моя мать очень любила. Сад по
забору был обсажен березами и вербами, а я кроме того насадил
там кленов и ясеней. Любимым препровождением времени во дни
пребывания у матери была езда верхом. Был у меня серый конь,
1 Водяное растение Nymphea — кувшинник. -
44$
купленный отцом на Кавказе, чрезвычайно быстрый и смирный,
хотя и не без капризов: стоило только сойти с него* он сейчас
вырывался из рук, брыкал задними ногами и во всю прыть убегал
в конюшню. Я скакал на нем и по своим, и по чужим полям.
Кроме этой забавы я иногда ходил стрелять, но по своей
близорукости не отличался особенным искусством; притом же мне и жаль
было истреблять невинных тварей. Помню, как один раз я
выстрелил в кукушку и убил ее; мне так стало жаль ее, что несколько
дней меня словно томила совесть. В летние вакации мои
охотничьи подвиги успешнее всего обращались на дроздов, которые
густыми тучами садились на вишни и объедали ягоды. Здесь
незачем было целиться: стоило пустить заряд дроби по вершинам
вишен и подбирать убитых и подстреленных птичек кучами,
отдавая потом их в кухню для приготовления на жаркое.
Кроме охоты и верховой езды меня увлекло плавание по воде.
За неимением настоящего челна я устроил себе корабль
собственного изобретения: то были две связанные между собою доски, на
которых ставились ночвы. Я садился в эти ночвы с веслом и
отправлялся гулять по камышам. Так как вблизи моего дома плеса
не были велики и притом густые корни лататья преграждали путь
моему импровизованному судну, то я перевез его за семь верст в
чужое имение, где река была-шире и чище, ездил туда плавать и
часто проводил там целые дни, нередко забывая и обед.
В 1833 году, когда я ожидал уже окончания курса гимназии,
случилось в моем доме неожиданное и крайне неприятное
событие. Мать моя уехала ко мне в Воронеж на зимних святках. В это
время на наш деревенский дом напали ночью разбойники: связали
сторожа, покалечили нескольких дворовых людей, забивая им под
ногти шилья, жгли свечкою, допрашивая, есть ли у барыни
деньги; потом пошли в дом, поотбивали замки в комодах и шкафах и
ограбили все. Когда начало производиться следствие, оказалось,
что виновником этого разбоя был помещик Валуйского уезда,
отставной прапорщик Заварыкин, а в соумышлении с ним был один
из наших крестьян-малоруссов, другой — из чужих в той же
слободе. Виновные были сосланы в Сибирь.
В тот же год открылась и настоящая причина смерти отца
моего. Кучер, возивший его в лес, явился к священнику и
потребовал, чтобы был собран звоном народ: он на могиле барина
объявит всю правду о его смерти. Так было сделано. Кучер
всенародно, припадая к могиле, находившейся близ церкви,
возопил: «Барин, Иван Петрович, прости меня! А вы, православные
христиане, знайте, что его убили не лошади, а мы, злодеи, и взяли
у него деньги, а ими суд подкупили». Началось следствие, потом
суд. Кучер обличил двух лакеев, которые, однако, от убийства
упорно запирались, но не могли скрыть того, что грабили деньги
и ими подкупали суд. К делу привлечен был и повар, но тот
запирался во всем и за неимением улик был оставлен в покое.
Главнейший же из убийц был уже в могиле. Замечательно, что
когда виновных стали допрашивать в суде, кучер говорил: «Сам
барин виноват, что нас искусил; бывало начнет всем рассказы-
444
вать, что Бога нет, что на том свете ничего не будет, что только
дураки боятся загробного наказания, — мы и забрали себе в
голову, что коли на том свете ничего не будет, то значит все можно
делать». Убийцы сосланы в Сибирь. Члены земской полиции были
также привлечены к ответственности и приняли достойное
наказание, но виновнейший из них, заседатель, во избежание грозящей
судьбы отравился.
II
Студенчество и юность.
Первая литературная деятельность.
По окончании курса гимназии мне шестнадцати лет от роду
приходилось вступать в университет, но тут-то я почувствовал, что
слаб в математике, да и при всем желании не мог быть в ней
силен, когда учитель ничего не преподавал. Я пригласил для своей
подготовки соседа, бывшего инженера, женившегося в то время на
дочери помещика в той же слободе. Мой новый учитель оказался
вполне хорошим, и в продолжение трех месяцев занимаясь
каждый день с утра до вечера, я успел выучить почти весь курс того,
что нужно было для вступительного экзамена в университет.
Учитель прошел со мною и конические сечения, которые тогда
требовались. В половине августа 1833 года со страхом и трепетом я
отправился в Харьков с матерью и моим учителем. Вступительный
экзамен сошел как нельзя более благополучно. Профессор
математики Павловский, отличавшийся, как о нем говорили, большою
строгостью и неснисходительностью, пропустил меня, записавши
мне хороший балл. Радость моя была непомерная. Меня
поместили у профессора латинского языка Петра Ивановича Сокальского.
Я попал к нему совершенно случайно. Не предполагая прежде
поместиться у этого профессора, я отправился к нему вместе со
своим учителем поговорить насчет вступительного экзамена из
латыни, в которой я себя чувствовал недостаточно крепким по'сле
уроков Андрея Ивановича Белинского. И мне и моему учителю
Петр Иванович так понравился, что, выходя от него, мы
рассудили,, что всего лучше мне поместиться у этого профессора.
Передавши нашу мысль моей матери, мы снова отправились к
Сокальскому и договорились с ним о квартире. Окончив
вступительный экзамен по всем предметам, я простился с матерью и
моим деревенским учителем, уехавшими домой, а сам остался в
доме Сокальского. Мне дали отдельную комнату в особом флигеле,
в котором кроме меня было четверо студентов, проживавших у
Сокальского также в отдельных комнатах. Содержание и
обращение с нами было очень хорошее; одно только несколько беспокоило
меня: Сокальский не дозволял курить табак, и это побуждало нас
курить в печную трубу. Однажды я, всунувши для курения трубку
в верхний душник печки, нечаянно зажег сажу и сам испугался;
445
едва потушили и не допустили до пожара, но после того Сокаль-
ский махнул рукою и сказал: «лучше курите, а то вы мне и дом
сожжете!»
В первый год моего пребывания в университете я усиленно
занялся изучением языков, особенно латинского; который я очень
полюбил, и вообще меня стал сильно привлекать антический мир.
Воображение мое постоянно обращалось к Греции и Риму, к их
богам, героям, к их литературе и памятникам искусств. Однажды,
читая «Илиаду» в подлиннике с переводом Гнедича, мне
вздумалось разыграть в лицах сцену, как Ахилл волочил тело Гектора
вокруг стен Илиона. Я подговорил своих товарищей, мы нашли
маленькую повозочку, на которой няньки возили детей Сокальско-
го, я упросил привязать меня за ноги к этой повозочке; один из
моих товарищей стал играть роль Ахилла и потащил меня вниз
по деревянной лестнице флигеля, где мы жили, а двое других,
покрывши головы по-женски, стали на террасе того же флигеля и
представляли Гекубу и Андромаху. Меня поволокли с лестницы по
двору. Стук, гам и крик дошли до ушей Сокальского, который в
то время сидел с гостями; он выбежал на двор, за ним его гости —
процессоры, бывшие у него. Увидавши неожиданную сцену, Со-
кальский сначала принял менторский суровый вид, но потом,
узнавши в чем дело, не вытерпел и захохотал^ во все горло. За ним
начали смеяться и его гости. Меня развязали и заметили, что
голова моя была в крови, как, впрочем, и следовало по Илиаде,
где говорится: «...глава Приамида, прежде прекрасная, бьется во
прахе...»
Когда после того мы пошли к нему обедать, он во все
продолжение стола, глядя на меня, не мог удержаться от смеха и говорил
своим домашним: «вот угостили меня! дали возможность повидать
древность в лицах!»
Семейство Сокальского состояло тогда из жены, трех
малолетних сыновей (из них один теперь харьковский профессор,
Другой — редактором «Одесского вестника» и замечательный пианист,
а третий недавно скончался) и старой тещи, женщины
чрезвычайно доброй и любимой всеми студентами. Эта последняя, по имени
Надежда Емельяновна, осталась у меня в памяти как тип старой
добродушной малороссиянки. Она говорила со всеми не иначе как
по-малорусски, очень заботилась о выгодах квартирантов и по
воскресеньям сама пекла и приносила нам на завтрак превосходные
пирожки. Уже много лет, еще до женитьбы Сокальского на ее
дочери, она содержала у себя квартирантов-студентов и хвалилась
тем, что ее называли «студентська мати». В числе ее бывших
нахлебников был знаменитый Остроградский, о котором она
сохраняла благоговейное воспоминание как о лучшем из юношей, у нее
проживавших.
В то время Харьковский университет был в большом упадке.
Профессорские кафедры занимались отчасти людьми бездарными,
отчасти же хотя и талантливыми, каким был, например, Кроне-
берг, но ленивыми. В нашем историко-филологическом факультете
русская словесность была в руках некоего Якимова. Он в свое
446
время прославился бездарнейшим переводом Шекспира, из
которого студенты приводили места в пример бессмыслицы. Русскую
историю читал Гулак-Артемовский, человек, бесспорно, с
поэтическим дарованием, как показали его малорусские стихотворения,
но в своих лекциях по русской истории отличавшийся пустым
риторством и напыщенностью. Профессор всеобщей истории Цых
был вскоре переведен в Киев. Он читал древнюю историю по Ге-
рену и почти не прибавлял к ней ничего своего. Философию
преподавал некто Чанов, бывший прежде того частным приставом.
Греческий язык читал какой-то немец Маурер, знавший свой
предмет в совершенстве, но плохо владевший русским языком и
даром изложения на каком бы то ни было языке. Французский
язык читал Паки де Совиньи, бывший недавно перед тем
профессором латинского языка. Это был шут в полном смысле слова; на
лекциях он либеральничал в вольтерианском духе, но у него
нельзя было научиться ни его языку, ни литературе; студенты ходили
на его лекции только для потехи. Он представлял, как в праздник
богоявления архиерей святит воду и «суеверы» бросаются к реке
с кувшинами, a «philosophe» думает себе иное; вооружался против
крепостного права и копировал разговор с помещиком таким
образом: «Пожалюйте, за што ви^ бьет ваш мальшик?» «О! он мой
холеп?» «Quest-ce que cest холеп?» Помещик отвечает. «Ми при
государиня Катерина Алексеевна шили и били свой шелювек».
«Ah, monsieur! при Катерина Алексеевна биль одно время,
теперь — другое!» Начинались сто раз повторяемые анекдоты о
Вольтере, о достоинствах его произведений, цитировались стихи
из какой-нибудь «Альзиры», потом снова следовало обращение к
России с указанием разных недостатков ее; впрочем, доставалось
на долю и немцам. Паки де Совиньи как истый француз считал
французский народ самым образованным в свете и говорил, что
хотя у немцев есть стихотворцы, как Шиллер и Гете, но куда им
до Расина, Кребильона и Вольтера. Ему известна была только
старая французская литература, о новой, современной, он не имел
никакого понятия да и знать об ней не хотел.
Попечителем Харьковского университета был тогда некто* Фи-
латьев, который в первых месяцах 1834 года был переведен на
какую-то другую должность и уехал, не подписавши утверждения
в звании студентов более ста лиц, выдержавших вступительный
экзамен в текущем академическом году. В числе этих неутверж-
денных студентов был и я. Сокальский объявил мне, что по силе
университетского устава я не имею права ни слушать лекции, ни
держать переходного экзамена; впрочем, польстил меня надеждою,
что, вероятно, будущий попечитель утвердит нас всех и нам
дозволят держать переходный экзамен. Но так как слушать лекции
более нельзя было, то я уехал из Харькова к матери незадолго до
святой недели и пробыл в деревне до августа того же года. Никогда
в жизни я до такой степени не сближался с сельскою природою,
как в это время, тем более что со времени смерти моего отца
никогда не жил в деревне в весенние месяцы и в начале лета.
Меня занимала каждая травка, каждый цветок, каждая птичка и
447
букашка. Между тем я в деревне продолжал учиться по-латыни и
по-французски, так что в концу лета мог уже свободно читать а
livre ouvert всякие французские книги и прочел в это время «Notre
Dame» Гюго, книгу, известную по трудности языка, наполненного
разными архаизмами. Эта книга сделала на меня большое
впечатление; я полюбил ее автора и принялся жадно за чтение других
его сочинений.
• В августе я отправился в Харьков. Там был уже новый
попечитель граф Головкин, восьмидесятилетний старец, проведший
жизнь за границей и объяснявшийся по-русски очень плохо.
Первым его делом по вступлении было утвердить всех неутвержден-
ных его предшественником студентов. Нам позволили держать
экзамен и через несколько дней я был переведен на второй курс.
В этот академический год я проживал по-прежнему у Сокальского,
хотя уже в другом доме, только что им отстроенном. Любовь к
латинскому языку и античному миру стала у меня охладевать. Я
с жаром увлекся французским языком, а с зимы начал заниматься
и итальянским. Между тем мне пришло желание взяться и за
музыку; я купил себе фортепиано за триста рублей ассигнациями
и договорил себе учителя; но через несколько месяцев желание к
музыке стало проходить, тем более что музыка требовала занятий
по крайней мере на несколько часов в день, а я на то совсем не
имел времени. С большим постоянством я испытывал свои силы
в стихотворстве, которым начал заниматься еще во время своего
пребывания в деревне, куда удалился было, оставшись неутверж-
денным в звании студента. Перед тем любимейшим занятием моим
было изучение древних авторов и особенно Виргилия. Я получил
вкус к античному изображению сельской природы и писал на
русском языке идиллические стихотворения, употребляя
гекзаметр, который из всех размеров мне особенно нравился. Эти
первые опыты остались ненапечатанными, а впоследствии, увлекшись
историей, я совершенно оставил стихописательство на русском
языке.
1835 год был знаменателен в истории Харьковского
университета: в нем показывалось какое-то обновление. По разным
кафедрам присланы были свежие молодые силы, новые люди,
возвратившиеся из-за границы, куда были посылаемы министром
для окончания образования. Наш историко-филологический
факультет был обновлен появлением двух талантливых и ученых
профессоров. Первый был по кафедре всеобщей истории —
Михаил Михайлович Лунин; второй — по кафедре греческой
словесности — Альфонс Осипович Валицкий. Первый был, бесспорно,
один из лучших преподавателей всеобщей истории, какие когда-
либо являлись в наших университетах. Он был вооружен всею
современною ученостию, получив ее в германских университетах,
где несколько лет слушал лекции. Нельзя сказать, чтобы он был
одарен счастливым даром слова; грудь у него была слабая, голос
негромкий, дикция монотонная и будто жеманная; но эти
недостатки выкупались богатством содержания и критическим
направлением, к которому он умел расположить влечение своих
448
слушателей. Его лекции по древней истории, преимущественно
Востока, и по средней истории, особенно лекции о
распространении- христианства и о борьбе его с язычеством, были столько же
глубокомысленны, как и увлекательны. Историю новых веков
читал он слабее и, как кажется, сам менее ею занимался. Вообще
лекции этого профессора оказали на меня громадное влияние и
произвели в моей духовной жизни решительный поворот: я
полюбил историю более всего и с тех пор с жаром предался чтению и
изучению исторических книг. Валицкий менее имел на меня
влияние, чем Лунин, так как я не имел ни надлежащей подготовки,
ни особого стремления, чтобы сделать греческую литературу и
древности для себя специальностью; но я посещал его лекции и
слушал их с большим наслаждением. Заметим, что Валицкий
имел отличный дар слова и был вообще в изложении своето
предмета гораздо живее Лунина.
_ Съездивши на вакации в деревню и приехавши снова в
Харьков в августе 1835 года, я уже не стал жить у Сокальского и
поместился у Артемовского-Гулака. Здесь я с большим увлечением
занимался историею и проводил дни и ночи над чтением
всевозможных исторических книг. Мне хотелось знать судьбу всех
народов; не менее интересовала меня и литература с исторической
точки ее значения.
Двор Артемов ского-Гу лака помещался почти при оконечности
города на одной из улиц, выходивших к полю. Преминувши
несколько дворов, можно было достигнуть старого кладбища с
небольшою церковью; в ясные весенние и осенние дни ходить туда
сделалось для меня обычною прогулкою. Узнавши об этом, мой
хозяин растолковал это припадком меланхолии и стал уговаривать
меня избирать для прогулок более веселые и людные места. Сам
он помещался в одноэтажном деревянном доме, выходившем
фасадом на улицу, а внутри довольно нарядно убранном. Студенты
были размещены в двух флигелях, стоявших на дворе; в одном из
них, состоявшем из двух комнат, жило двое студентов: Деревиц-
кий и я. Вообще во все время своего студенчества я мало
сближался с товарищами, хотя с теми, с которыми случай доставил
возможность быть знакомым, находился в хороших отношениях.
О характере студенческой корпорации того времени можно
заметить, что она не имела крепкой солидарности; кроме слушания
лекций не было между студентами взаимных интересов, и потому
не на чем было образоваться связи, которая бы привязывала
каждого ко всему кругу товарищей по принадлежности его к студен-
тскому званию. Студенты знакомились и дружились между собою
по случаю или по особым личным сочувствиям, и потому можно
было пробыть в университете несколько лет сряду и не быть
знакомым с товарищами одного курса; не говорю уже о студентах
разных факультетов, между которыми не было даже единения по
поводу лекций.
Вообще студентов тогдашних по их склонностям и развитию
можно разделить на следующие разряды: 1) Сынки богатых
родителей, обыкновенно помещенные ими у профессоров и отличавши-
449
еся франтовством и шалопайством; вся цель их состояла в том,
чтобы какими бы то ни было средствами, хотя бы и
недостойными, получить в свое время диплом на степень кандидата или
действительного студента; при господствовавшей издавна
продажности в Харьковском университете это было нетрудно: про-
фессоры были снисходительны к пансионерам своих товарищей,
так как у них самих были пансионеры, нуждавшиеся в
протекции; «Manus manum lavat» (рука руку моет), говаривали они по
этому поводу. Проболтавшись три года в Харькове, батюшкин или
матушкин сынок получал ученую степень, дававшую право на
классный чин, и потом уезжал в родительскую берлогу и
выхлопатывал себе какую-нибудь номинальную должность, например,
почетного смотрителя училищ, либо депутата в дворянском
собрании, или что-нибудь подобное, чем, как известно, была обильна
наша Русь-матушка; иногда же вступал в военную службу,
делался адьютантом у какого-нибудь генерала, а послуживши
несколько, удалялся в свое имение. 2) Молодые люди, видевшие вперед
для себя целью службу; они до известной степени учились
порядочно, но прямой любви к науке у них было мало. Кроме медиков,
которые естественно шли своею дорогою, сюда следует причислить
всех тех, которые по окончании курса шли в гражданскую службу
и стремились в Петербург, который для них был, так сказать,
обетованною землею: Харьковский университет доставлял большой
контингент всяким канцеляриям и департаментам. 3) Молодые
люди, действительно занимавшиеся наукою с любовью; из них,
особенно из казеннокоштных, набирались учителя гимназий. Этого
рода студенты были, так сказать, интеллигенциею университета.
В те времена между ними господствовала наклонность к
идеализму и в большой моде было заниматься философией; успевшие
познакомиться с немецким языком с жадностью читали немецких
философов, хотя — по темноте последних — не всегда ясно
постигали читаемое и увлекались во всевозможные произвольные
толкования и системы. Наконец, 4) люди не настолько богатые,
чтобы помещаться у профессоров, и не настолько трудолюбивые
и даровитые, чтобы успешно заниматься наукою; они жили и вели
себя как попало: многие предавались кутежам всякого рода, иные
сидели скромно за книгами в уютных квартирах, стараясь
пробираться на экзаменах вслед за богатыми пансионерами; их судьба
часто зависела от случая: иному вывозило и он кончал курс
счастливо, другой обрезывался на экзамене и должен был сидеть
лишний год на одном курсе, жалуясь на несправедливость
профессоров, выпускавших в действительные студенты или кандидат
ты профессорских пансионеров и строго относившихся к тем, у
кого не было протекции. Заметим, что в те времена не было между
студентами такой поражающей бедности* какую мы встречаем
теперь, — быть может, по причине сравнительной дешевизны того
времени.
Несмотря на то что я жил у профессора, любовь к занятиям
была у меня настолько сильна, что мне не приходилось
пользоваться протекциею моего хозяина профессора. Я постоянно сидел
450
за книгами, не имел в городе почти никаких знакомых и самих
товарищей принимал редко. Такой образ жизни вел я до самых
рождественских святок, когда отправился в деревню к матери.
Накануне крещения, собираясь возвращаться в Харьков, я поехал в
свой уездный город взять подорожную и, возвращаясь к вечеру в
слободу, почувствовал себя больным. Приехавши домой, я заболел
оспой и пролежал более месяца, а потом выздоравливал до конца
марта. Болезнь моя была так сильна,-что несколько дней боялись
смерти или, что еще хуже, слепоты. Глаза мои, и без того уже
требовавшие очков для близоруких, с этих пор еще более
ослабели. 25 марта я пустился в дорогу еще с красными пятнами на
лице и со слабыми мускулами; меня останавливали, но мне ни за
что не хотелось пропустить экзамена и оставаться в университете
лишний год. Оказалось, что в мое отсутствие разнеслась весть о
моей смерти и какой-то студент в ответ профессору,
перекликавшему студентов на репетиции и упомянувшему мое имя, заявил,
что я умер, а профессор перечеркнул в списке мое имя. После
святой недели я принялся сильно готовиться с экзамену и в июне
выдержал его. Все отметки были вполне удовлетворительны; я был
в уверенности, что получу степень кандидата за отличие.
Вспомню при этом забавный случай, бывший с профессором
Паки де Совиньи. Так как этот наставник по старому
обыкновению своему не преподавал никакой науки, а только
либеральничал в аудитории, то трудно было кому бы то ни было сдавать
экзамен из преподаваемого им предмета. Заведено было, что пред
экзаменом студенты ходили к нему на дом брать «лесоны» и
платили за каждый по красненькой (10 рублей ассигнациями); и я
-отправился к нему брать лесон. Профессор дает мне свою
собственную историю литературы и заставляет меня прочитать одну
страничку, где помещалась рубрика «De la litterature francaise sous
Henri IV». Я прочел и дал ему красненькую. «Bien, monsieur: vous
aurez optime». Но я заметил ему, что «optime» для меня мало, что
для меня нужно «eminenter»,потому что если я получу из
нескольких предметов «optime»1, то мне не дадут степени кандидата; я же
не надеялся получить «eminenter» из греческого языка. Профессор
на это сказал: «pour leminenter il faut prendre encore une lecon». Я
дал ему еще одну красненькую. Паки де Совиньи заставил меня
.прочесть то же самое, что я только что читал, и обещал поставить
«eminenter»; но когда я пришел на экзамен и был вызван, Паки де
Совиньи перепутал мою фамилию с фамилией другого студента и
спросил меня «de la litterature francaise en general». Я
приостановился, а профессора, члены факультета, знавшие проделки
француза, поняли, в чем дело, и начали закрывать себе рты от смеха.
Студенты, сидевшие на скамье сзади меня, также смеялись.
Наконец, постоявши немного молча, я начал говорить ему заданный
мне условно урок о литературе при Генрихе IV. Паки де Совиньи,
как видно, не догадываясь, остановил меня и заметил, что я
говорю не то; я, не обращая внимания, продолжаю заученное, и в
1 Optime — очень хорошо, eminenter — превосходно.
451
заключение профессор хотел писать мне «optime», но декан
факультета, знавший все это, шепнул ему на ухо, и француз только
тогда понял свою ошибку и записал мне «eminenter», насмешивши
и профессоров, и студентов. Но мне не помогло ничто. Когда я в
полной уверенности, что буду кандидатом, уехал домой на
вакацию, Артемовский-Гулак написал мне, что я не получу степени
кандидата, потому что законоучитель, экзаменовавший меня при
переходе из первого курса во второй, записал мне по предмету
богословия «bene» (хорошо), и так как при окончательном
экзамене не спрашивали из богословия, то прежде выставленная
аттестация служила и при окончательном экзамене, а имеющему хотя
одно «bene» не давалась степень кандидата за отличие. Нечего
было делать: приходилось ехать в Харьков и держать особый
экзамен на степень кандидата.
После вакаций я отправился снова, поместился у того же Ар-
темовского-Гулака, но уже на других условиях: он отказался брать
с меня деньги за помещение и предложил мне преподавать
историю его сыновьям. В таком положении я прожил до января 1837
года, когда был подвергнут экзамену. Случилось странное
обстоятельство, показывающее, до какой степени соблюдение
формальностей шло вразрез " с здравым смыслом. Казалось бы, если
богословие помешало мне получить степень кандидата, то стоило
подвергнуть меня экзамену из одного богословия; меня напротив
того экзаменовали изо всех предметов, исключая богословия, так
как последняя наука не входила в программу на степень
кандидата. На этом же экзамене со мною произошел опять забавный
случай. Я экзаменовался из философии. Профессор этого
предмета Протопопов давал студентам свои записки, напичканные
туманными фразами из немецких философов; были места, в
которых по-русски никак нельзя было добраться смысла, а учить
его философию было истинное мучение для студентов. Я в это
время уже немного ознакомился с немецкими философами и часто
между товарищами для потехи говорил по-русски философским
языком совершенную чепуху, показывая, как можно при помощи
этого философского тумана озадачить других и показаться глубоко
ученым именно потому, что слушающий ничего не поймет. Будучи
уверен, что сам многоученый профессор не совсем ясно понимал
то, чему его научили немцы, которых язык он знал с грехом
пополам, я умышленно занес ему на экзамене бессмыслицу,
уснащивая ее всевозможными «абсолютами», «абстрактами» и тому
подобными терминами, бывшими тогда в моде в философском
языке. Протопопов выслушал со вниманием и записал мне
«превосходно», воображая, что я верно говорил ему то, что прочитал в
какой-нибудь немецкой книге.
По окончании экзамена и получив степень кандидата, я уехал
в деревню и вскоре определился в Кинбурнский драгунский полк
юнкером. К этому меня побудило желание узнать людей и всякое
общество, между прочим и военное, мне совершенно неизвестное;
но нести военную службу мне помешало воспрещение носить
очки, и кроме того не прошло еще месяца, как мне уже стали на-
452
доедать военные учения и тогдашние военные товарищи, которых
крайнюю пустоту я увидел. Вдобавок в городе Острогожске, где
стоял тогда полк, был очень богатый архив уездного суда,
сохранивший все старые дела бывшего казачьего полка со времен
основания города. Я стал заниматься этими* делами и увлекся этим
занятием. Это был мой первый опыт в занятиях русскою историею
по источникам и первою школою для чтения старых бумаг.
Археологические занятия стали отвлекать меня от военной службы,
вахмистр жаловался на мое нерадение, наконец, командир полка
п-ригласил меня к себе и советовал оставить военную службу,
представляя, что я не одарен к ней никакими способностями и,
вероятно, принесу более пользы обществу в другой сфере. Я
удалился и всецело принялся за свою археологию. Поработав целое
лето над казачьими бумагами, я составил по ним историческое
описание Острогожского слободского полка, приложил к нему в
списках много важнейших документов и приготовил к печати; но
потом задумал таким же образом перебрать архивы других
слободских полков и составить историю всей Слободской Украины.
Намерение это не приведено было к концу: мой начатый труд со
всеми документами, приложенными в списках к моему обзору,
попался в Киеве между прочими бумагами при моей арестации в
1847 году и мне возвращен не был.
:_ Осенью 1837 года я отправился в Харьков. Чувствуя, что в
моем образовании многое было упущено, и желая дополнить его,
я принялся прилежно слушать лекции Лунина, иногда же я
посещал лекции Валицкого. История сделалась для меня любимым до
етрасти предметом; я читал много всякого рода исторических
книг, вдумывался в науку и пришел к такому вопросу: отчего это
во всех историях толкуют о выдающихся государственных
деятелях, иногда о законах и учреждениях, но как будто пренебрегают
жизнью народной массы? Бедный мужик, земледелец, труженик
как будто не существует для истории; отчего история не говорит
нам ничего о его быте, о его духовной жизни, о его чувствованиях,
способе проявлений его радостей и печалей? Скоро я пришел к
убеждению, что историю нужно изучать не только до мертвым
летописям и запискам, айв живом народе. Не может быть, чтобы
века прошедшей жизни не отпечатались в жизни и воспоминаниях
потомков: нужно только приняться поискать — и, верно, найдется
многое, что до сих пор упущено наукою. Но с чего начать?
Конечно, с изучения своего русского народа; а так как я жил тогда
в Малороссии, то и начать с его малорусской ветви. Эта мысль
обратила меня к чтению народных памятников. Первый раз в
жизни добыл я малорусские песни издания Максимовича 1827 года,
великорусские песни Сахарова и принялся читать их. Меня
поразила и увлекла неподдельная прелесть малорусской народной
поэзии; я никак и не подозревал, чтобы такое изящество, такая
глубина и свежесть чувства были в произведениях народа, столько
близкого ко мне и о котором я, как увидел, ничего не знал.
Малорусские песни до того охватили все мое чувство и воображение,
что в какой-нибудь месяц я уже знал наизусть сборник Максимо-
453
вича, потом принялся за другой сборник его же, познакомился с
историческими думами и еще более пристрастился к поэзии этого
народа. Когда же я прочел «Запорожскую старину» Срезневского
и наивно верил как подлинности помещенных там песнопений под
именем народных, так'и историческим объяснениям издателя этой
книги, то книга эта ввела меня в заблуждение. Впрочем, не меня
одного она соблазнила: многие знатоки и любители народной
поэзии верили в то, что в ней выдавалось за народное произведение
и за историческую истину. При посредстве Амвросия Лукьяновича
Метлинского, с которым сошелся еще живучи у Артемовского-Гу-
лака, где он жил в качестве домашнего учителя, я познакомился^
с издателем «Запорожской старины» Измаилом Ивановичем
Срезневским, тогда уже получившим должность адьюнкт-профессора
по статистике в университете. Знакомство это возымело надолго
сильное на меня влияние. Измаил Иванович, в то время хотя еще
очень молодой человек, был глубоко начитан, замечательно умен
и с большим жаром и охотою к научному труду. Я стал часто
посещать его, и дом его сделался для меня любимым местом
отдыха и обмена мыслей. И. И. Срезневский жил тогда за Лопанью
в доме Юнкфера вместе с матерью, женщиною очень развитою,
доброю, гостеприимною и хорошею музыкантшею. Хотя
специальностью его была статистика, но он не чуждался изящной
литературы и поэзии, питал особенную любовь к славянским языкам и
литературам, любил также малорусскую народность, с которою
имел случай близко познакомиться, находившись перед тем
учителем у одного помещика Екатеринославской губернии, Подо-
льского* недалеко от днепровских порогов. Вообще сближение мое
с этим человеком сильно содействовало моему стремлению к
изучению малорусской народности. В это время от народных
малорусских, песен я перешел к чтению малорусских сочинений,
которых, как известно, было в то время очень мало. До тех пор я
не читал ни одной малорусской книги, кроме «Энеиды» Котлярев-
ского, которую еще в детстве, при отце, вздумал было читать, но,
мало понимая, бросил ее. Теперь, вооружившись новыми
взглядами, я достал повести Квитки, изданные в то время под
псевдонимом Грицька Основьяненка. Мое знание малорусского языка была
до того слабо, что я не мог понять «Солдатского портрета» и очень
досадовал, что не было словаря; за неимением последнего служил
мне мой слуга, уроженец нашей слободы по имени Фома Голуб-
ченко, молодой парень лет шестнадцати. Кроме того, где только я
встречался с коротко знакомыми малороссами, то без церемонии
осаждал их вопросами: что значит такое-то слово или такой-то
оборот речи. В короткое время я перечитал все, что только было
печатного по-малорусски, но этого мне казалось мало; я хотел
поближе, познакомиться с самым народом не из книг, но из живой
речи, из живого обращения с ним. С этой целью я начал делать
этнографические экскурсии из Харькова по соседним селам, по
шинкам, которые в то время были настоящими народными
клубами. Я слушал речь и разговоры, записывал слова и выражения,
вмешивался в беседы, расспрашивал о народном житье-бытье, за-
454
писывал сообщаемые мне известия и заставлял себе петь песни.
На все это я не жалел денег и если не давал их прямо в руки, то
кормил и поил своих собеседников.
Зимою съездил я из Харькова в Полтаву, осмотрел город и
лосетил его окрестности. Тогда же обозрел я поле сражения со*
шведами, сходил на шведскую могилу, где стоял крест с
написанными на нем словами, произнесенными Петром Великим в день
Полтавской битвы: «а о Петре ведайте, что ему жизнь недорога,
только бы жила Россия, слава, честь и благосостояние ваше».
Прямо против могилы находился шинок, содержимый евреем.
Заехавши туда, встретил я старика, служившего некогда, как он говорил,
в ополчении 1812 года. Этот старик повел меня к огромному дубу,
под которым по преданию отдыхал Петр после Полтавской битвы.
Оттуда проехал я в Диканьку, имение Кочубея. Меня влекло туда
то обстоятельство, что в то время я начал писать драму, которой
сюжет составляла известная история Матрены Кочубей. В Дикань-
ке священник показал мне рубашку с кровавыми пятнами, снятую
с тела Василия Леонтьевича Кочубея в день его мученической
смерти. Эту вещь хранили потомки как святыню, но никаких
преданий, относящихся к трагическому событию, тогда меня
занимавшему, я не услыхал. В Диканьке случилось со мною
происшествие, характерное как черта народных приемов
малороссов. Я приехал в село поздно и нигде не мог допроситься ночлега;
между тем мороз был жестокий, приходилось замерзать на улице,
и я обратился к сельскому начальству с просьбой доставить мне
какой-нибудь приют. Сельский старшина отвел мне помещение в
хате одного крестьянина, но меня упорно не хотели пускать и
только при настоянии начальства должны были пустить. Хозяин,
лежа на лечи, ворчал; хозяйка смотрела на меня исподлобья и ни
за что не хотела разложить огня и сварить мне яиц; но,
расположившись против их воли в их хате, я пытался разговориться с
неприветливым хозяином и это мне удалось не иначе как после
долгого упрямства с его стороны. Мало-помалу он разговорился, и
дело кончилось тем, что мы с ним подружились и сама суровая
хозяйка стала радушною, гостеприимною. Уже было около полуно-
ни, и сами хозяева предложили развести огонь и сварить мне
вареников. Вдобавок у хозяина нашлась водка; мы с ним выпили
и закусили, а на другой день хозяева стали ко мне еще
услужливее и при выезде из села прощались дружески и просили не
забывать их, если мне случится быть в Диканьке.
О прошедшей истории Малороссии я имел сведения
преимущественно по Бантышу-Каменскому. Несмотря на малое
знакомство мое с малорусскою речью и народностию я задумал писать
по-малорусски и начал составлять стихи, которые впоследствии
явились в печати под названием «Украинских баллад». Когда я
пробовал читать мои произведения знакомым малоруссам,
бывшим своим товарищам, то встретил очень неодобрительные
отзывы; одни смеялись над моим малознанием и указывали мне
промахи, другие поднимали на смех самую идею писать на
малорусском языке. Замечательно, что Амвросий Лукьянович Метлин-
455
ский, который сам впоследствии писал и печатал по-малорусски^
был в числе противников моих идей о малорусском писательстве.
Я не поддавался ничему и, напротив, увлечение более и более
овладевало мною.
В феврале 1838 года я принялся писать драматическое
произведение и в течение трех недель сотворил «Савву Чалого», взявши
содержание из известной народной песни, но сделал большую
историческую ошибку, произвольно отнесши событие, воспеваемое в
этой песне, к первой половине XVII века, тогда как оно относилось
к первой половине XVIII. Когда я прочел своего «Савву Чалого»
И. И. Срезневскому в присутствии нескольких знакомых мало-
руссов, он очень похвалил мое произведение, а другие находили
в нем разные промахи.
Вслед за тем, не печатая своих малорусских произведений,
раннею весною 1838 года я отправился в Москву вместе с Мет-
линским, получившим какую-то командировку по должности
библиотекаря, которую он занимал в Харьковском университете.
Пребывание мое в Москве продолжалось несколько месяцев. Я
слушал университетские лекции тамошних профессоров и имел
намерение держать экзамен на степень магистра русской
словесности; но отложивши этот план на будущее время, в начале лета
отправился вместе с Метлинским в Воронежскую губернию,
пробыл недели две у матери; потом, проводивши от себя Метлинского,
остался в слободе и с жаром принялся учиться немецкому языку,
в котором чувствовал себя малознающим. Я занимался очень
прилежно все лето, выучил всю грамматику и целый словарь, так что
мог утешать себя, раскрывая наудачу книгу и поверяя знание
немецких слов, встречающихся в словаре. Вооружившись таким
приобретением, я стал читать Гете и в продолжение двух месяцев
прочел его всего в парижском издании в 1/8 л. в два столбца. То
же сделал я и с сочинениями Шиллера.
Между тем наступала осень; я снова отправился в Харьков и
принялся печатать своего «Савву Чалого». Печатание протянулось
почти всю зиму, а я в это время учился по-польски у одного
студента и по-чешски — самоучкой, причем тогда же перевел
малорусскими стихами старочешские стихотворения, известные
тогда под именем Краледворской рукописи.
За «Саввой Чалым» я отдал в печать и свои стихотворения,
давши им общее название украинских баллад, название, не
вполне подходившее к содержанию всех помещенных там
стихотворений. Обе книги после всех цензурных мытарств явились в свет
весною 1839 года. Любовь к малорусскому слову более и более
увлекала меня; мне было досадно, что такой прекрасный язык
остается без всякой литературной обработки и сверх того
подвергается совершенно незаслуженному презрению. Я повсюду
слышал грубые выходки и насмешки над хохлами не только от
великоруссов, но даже и от малоруссов высшего класса,
считавших дозволительным глумиться над мужиком и его способом вьн
ражения. Такое отношение к народу и его речи мне казалось
унижением человеческого достоинства, и чем чаще встречал я по-
456
добные выходки, тем сильнее пристращался к малорусской
народности. Ездя из Харькова в свое имение и обратно в Харьков, я по
дороге завел себе в разных местах знакомых поселян, к которым
заезжал и при их помощи сходился с народом. При этом я
записывал множество песен и сведений о народных обрядах и обычаях.
Летом 1839 года начался со мною ряд несчастий, значительно
подорвавших мое здоровье. Вместе с И. И. Срезневским и
несколькими знакомыми из бывших моих товарищей и молодых
профессоров я был в женском монастыре Хорошеве, в 18 верстах от
Харькова, окруженном красивою рощею. Мы пробыли там двое
суток и лунные ночи проводили на воздухе; вследствие этого я
схватил горловую болезнь и, возвратившись в Харьков, обратился
к неизвестному мне медику, жившему в одном дворе со мною. До
тех пор в Харькове я никогда не болел и потому не запасся
постоянным врачом; тот же, которому я себя вверил, был
отъявленный шарлатан и, осмотревши меня, нашел во мне какие-то
ужасные болезни, страшно напугал меня и начал пичкать
лекарствами, приказавши мне сидеть дома и на строжайшей диете.
Через четыре дня зашел ко мне случайно один молодой доктор,
преподававший в университете, и увидя, что я сижу в духоте, стал
расспрашивать, а когда я ему сообщил то, что мне наговорил мой
эскулап, он расхохотался, уверил меня, что делаюсь предметом
эксплуатации для шарлатана, и убедил бросить все лекарства,
покинуть назначенную мне строгую диету и вместе с ним идти
гулять в сад. Я послушался, пошел в сад, а оттуда, желая более
рассеять меня от внушенных страхов, он пригласил меня в
ресторацию, где мы вместе поужинали и выпили вина. На другой день
мой эскулап, узнавши об этом, сказал мне: «Ну, теперь вы
пропали; через месяц увидите, что с вами будет!» Это запало мне в
воображение.
Со мною долго не было ничего дурного и я отправился в свое
имение; но как только кончился месяц и наступил роковой срок,
назначенный эскулапом, так мне начали представляться самые
возмутительные болезненные признаки. Я обратился к одному
полковому врачу, который мне сказал то же, что и харьковский
профессор. Недовольный этим, я прибегнул к совету другого
врача—и тот сказал мне то же. Я обратился к третьему, который
нашел у меня такие же болезни, как и харьковский эскулап. Тут
уже ничто не могло победить моей мнительности; я поторопился
в Харьков, начал обращаться то к одному, то к другому из
медицинских профессоров, наконец, один из них принялся лечить
меня и поручил наблюдать за мною какому-то студенту из евреев.
Попринимавши пилюли с месяц, я узнал, что мне не давали
лекарств, а считая болезнь мою плодом воображения, пичкали
совершенно невинными средствами. Мнительность опять одолела
меня. Я еще раз обратился к новому врачу, который уже начал
меня лечить действительно. От его лечения не произошло ничего.
Мне все казалось, что я болен. Весною 1840 года, готовясь к
экзамену на степень магистра, я обратился еще к одному медику,
который закатил мне такую кладь, что после нее у меня сделались
457
частые головные боли. Наконец, я перестал лечиться, испытавши,
что ничто не помогает тем недугам, которые мне тогда
представлялись.
Все лето 1840 года я провел в Харькове, занимаясь историей
с целью держать экзамен на степень магистра, сидел буквально
дни и ночи и, наконец, подал прошение о допущении меня к
экзамену, и в то же время печатался новый сборник моих
украинских стихотворений под названием «Ветка». Меня позвали в
заседание 24 ноября. Профессор Лунин экзаменовал меня из
всеобщей истории очень строго; испытание продолжалось час и
три четверти; я выдержал счастливо. Затем Артемовский-Гулак
экзаменовал меня из русской истории до такой степени
поверхностно, что я мог бы, не прочитавши ни одной книги, отвечать на
его вопросы. Через десять дней позвали меня снова на экзамен из
прибавочных предметов: политической экономии и статистики. Из
первой экзаменовал меня Сокольский, из второй — мой товарищ
по студентству Рославский. Из обоих предметов я отвечал
удовлетворительно. За экзаменом следовало письменное испытание;
меня заставили во время заседания совета в университетском зале
сочинить два рассуждения на заданные темы, одно по всеобщей,
другое по русской истории. Во время писания я случайно был
свидетелем чрезвычайно скандальной сцены. В заседании совета
профессор Лунин сцепился с Артемов ским-Гу лаком и наговорил
ему таких резких, обличительных замечаний, что мне показалось
странным, как Артемовский-Гулак мог отбиваться от него своею
обычною высокопарною риторикою. Наконец, заметивши мое
присутствие и находя неуместным допускать постороннего свидетеля
таким семейным сценам в ученом сословии, мне велели уйти в
другую комнату. Мои письменные ответы были признаны
удовлетворительными, и мне дозволили писать и представить
диссертацию на избранную мною самим тему. Я избрал о значении унии
в истории Западной Руси и весною 1841 года подал написанную
диссертацию в факультет. Отдавши свое сочинение на
рассмотрение, я отправился в Крым для морского купанья, так как по совету
врачей недавние изобильные приемы лекарств и усиленная
головная работа по приготовлению к магистерскому экзамену
требовали поправления моего здоровья.
Я купался в Феодосии, где испытал ужаснейшую скуку, тем
более что в то время я не мог найти удобного помещения в городе
и жил в очень плохой гостинице. Протерпевши четыре недели, я
отправился на Южный берег верхом с проводником татарином,
имел намерение объехать весь берег до самого Севастополя, но,
доехавши до Ялты, утомился и поворотил назад к Алуште; оттуда
ездил на вершину Чатырдага и, спустившись с горы, проехал в
Симферополь, посетивши по указанию моего проводника исток
Салгира.
В первый раз в жизни видел я высокие горы и морские берега.
Восхождение на Чатырдаг оставило на мне неизгладимое
впечатление. На вершине горы представился мне поразительный вид
горных вершин Яйлы и безбрежной синевы Черного моря. Несмотря
458
на то что день был ясный и очень знойный, на вершине Чатырдага
меня пробирал такой холодный ветер, что впору было надевать
теплое платье. Пробывши там несколько часов, я стал спускаться
уже при солнечном закате и когда был на половине спуска с горы,
небо уже темнело. Спускаться с Чатырдага для непривычного
человека кажется очень страшно: склона горы не видно сверху вниз
и беспрестанно кажется, как будто летишь в пропасть. Потерявши
из вида своего проводника, я до того пришел в страх, что соскочил
с лошади и намеревался сходить пешком; лошадь карабкалась по
каменной почве такими неровными шагами, что казалось — вот
упадет и я с нее полечу вниз; но мой татарин, завидя, что со мною
делается, подъехал ко мне, помог снова сесть на лошадь и
успокоил меня, уверяя, что крымские лошади привыкли, как кошки,
лазить по горам и никогда не сбросят седока. В темноте съезжать
«было бесстрашнее, потому что глаз не видел пред собою мнимой
пропасти. Съехавши с крутизны, приходилось пробираться лесом,
и тут новое неудобство: древесные ветви больно стегали меня по
лицу. Дорога, ведущая от Чатырдага к Симферополю, пробирается
посреди высоких гор, затейливо поросших кустарниками и
деревьями. На дороге встречались фонтаны, устроенные благочестивыми
мусульманами, так как вообще по мусульманской вере постройка
фонтана на дороге считается богоугодным делом. Из Симферополя
я съездил в Бахчисарай, обозрел тамошний дворец, который тогда
содержался бережно и красиво; комнаты были меблированы в
восточном вкусе; меня в особенности пленил огромный зал с тремя
фонтанами, из которых один был знаменитый «Фонтан слез»,
воспетый Пушкиным. Рядом с этим залом — павильон из
разноцветных стекол с большим фонтаном посредине, а из павильона —
выход к каменному бассейну, куда втекала чрезвычайно холодная
вода из двух фонтанов, устроенных один против другого на
противоположных краях бассейна. Вся стена около этого бассейна
покрыта вьющимся виноградом, а по берегу бассейна посажены
мирты. Я с удовольствием выкупался в" этом бассейне, бывшем
некогда ханскою купальнею. В Бахчисарае я познакомился с
одним греком, занимавшим должность учителя и смотрителя в
уездном училище, и вместе с ним совершил путешествие верхом в
Чуфут-Кале. Двухдневное пребывание в Бахчисарае оставило
следы в моей литературной деятельности: я написал несколько
малорусских стихотворений, из которых два «До Марьи Потоцький» и
«Аглаэ-Чесме» напечатаны были (?) в «Молодике» Бецкого.
Воротившись снова в Симферополь, я поехал оттуда в Керчь.
Здесь я с любопытством осматривал боспорские могилы и музей,.
в котором в то время хранилось множество древностей,
впоследствии пересланных в императорский Эрмитаж. Керченские
могилы и найденные в них остатки сильно заняли мое воображение: я
написал по-малорусски стихотворение, напечатанное
впоследствии в «Молодике» Бецкого1. Я изобразил блуждающую тень одного
из боспорских царей, которого прах выбросили из могилы древлё-
1 «Пантикапея».
459
искатели, и тень не находит себе покоя, что представлено
сообразно известному антическому верованию о беспокойном
блуждании умерших, лишенных погребения. Случайно познакомившись
в Керчи с тамошними обывателями, я услыхал возмутительные
вещи о злоупотреблениях, совершавшихся при раскопке
керченских курганов. Так, например, рассказывали, что, раскопавши
«Золотой курган», но не выбравши из него всех вещей, оставили
на ночь без караула, и толпа жителей, проведавши это, бросилась
туда и разграбила сокровища, которых не успели прежде вынести
археологи. Говорили, что после иудеи продавали обломки
украшений, куски разрубленного золотого царского скипетра и множество
золотых монет. Кроме того о самих археологах, раскапывавших
курганы, ходили неодобрительные отзывы. Говорили, будто бы они
утаивали найденные в курганах- драгоценности и тайно продавали
их англичанам.
Из Керчи я поплыл пароходом до Таганрога, где оставались
мои лошади, и поехал сухопутьем в свое имение, из которого
скоро опять выехал в Харьков. По приезде в Харьков я узнал, что
моя диссертация утверждена факультетом, но не всеми его
членами. Ее не нашли достойною Артемовский-Гулак и профессор
Протопопов. Первый из них находил, что само заглавие ее по близости
к современным событиям не должно служить предметом для
ученой диссертации; но так как большинство членов утвердило ее, то
она была признана и я начал ее печатать. В это время я сблизился
с. целым кружком молодых людей, так же, как и я, преданных
идее возрождения малорусского языка и литературы; это были:
Корсун, молодой человек, воспитанник Харьковского
университета, родом из Таганрога, сын довольно зажиточного помещика;
Петренко, бедный студент, уроженец Изюмского уезда, молодой
человек меланхолического характера, в своих стихах всегда почти
обращавшийся к месту своей родины, к своим семейным
отношениям; Щоголев, студент университета, молодой человек с большим
поэтическим талантом, к сожалению, рано испарившимся; его
живое воображение чаще всего уносилось в старую казацкую жизнь;
Кореницкий, сельский дьякон, в его стихотворной поэме «Вечер-
ници» заметна сильная склонность к сатире и влияние «Энеиды»
Котляревского; самое его произведение написано тем же размером
и складом, как «Энеида»; наконец, семинарист Писаревский, сын
священника, уже написавший по-малорусски и издавший драму
«Купала на Ивана»; этот молодой человек владел хорошо языком,
стих его был правилен и звучен, но большого творческого таланта
он не показывал. Корсун затеял издание малорусского сборника
(«Снип») и наполнил его стихами, как собственными, так и своих
сотрудников; самому издателю принадлежали стихотворные
рассказы, взятые из народного вымысла о хождении Христа с
апостолом Петром по свету и о разных приключениях,
происходивших с ними; рассказы переданы верно, но цензура не
дозволила печатать имен Христа и апостола Петра, и Корсун
должен был заменить их именами Билбога и Юрка. Я поместил там
перевод нескольких «Еврейских мелодий» Байрона и трагедию
460
«Переяславська нич», написанную пятистопным ямбом без рифм,
не разбивая на действия, со введением хора, что придавало ей вид
подражания древней греческой трагедии. Сюжет трагедии взят из
эпохи Хмельницкого при самом начале его восстания, но мне
значительно повредило доверие, оказанное таким мутным
источникам, как «История руссов» Конисского и «Запорожская старина»
Срезневского; кроме того я уклонился от строгой сообразности с
условиями века, который взялся изображать, и впал в
напыщенность и идеальность, развивши в себе последнюю под влиянием
Шиллера. Вслед за тем явился другой деятель по части
возрождающейся малорусской словесности: то был некто Бецкий,
приехавший в Харьков из Москвы. Он начал готовить сборник, который
предполагал наполнить статьями, писанными по-малорусски или
относящимися к Малороссии. Познакомившись со мною, он
заявил доброе желание собрать воедино рассеянные силы духовных
деятелей и направить-их к тому, что имело бы местный
этнографический и исторический интерес. Я обрадовался такому
появлению, видя в этом зарю того литературного возрождения,
которое давно уже стало моею любимою мечтою. В это время я
познакомился с Григорием Федоровичем Квиткою и стал довольно
часто ездить к нему в село Основу вблизи Харькова, где он жил
в имении своего брата, сенатора, занимая небольшой домик,
стоявший отдельно от господских построек. Я очень полюбил этого
старика, искренним сердцем любившего свою народность; равным
образом его жена сделала на меня приятное впечатление: она не
была уроженкой Малороссии, но отзывалась не иначе как с боль-
шой любовью обо всем малорусском. Иногда я ездил к нему с
Бецким, иногда с Корсуном. То было время самого большого
развития таланта Квитки, поступившего в малорусские писатели уже
около шестидесяти лет от рождения. Кроме повестей, изданных в
двух частях, он готовил к печати третью часть, где, как и в первых
двух, предполагалось поместить три повести. Одна из этих
предполагаемых повестей — «Сердешна Оксана» явилась в альманахе
«Ластивка», напечатанном Гребенкою в Петербурге; другая —
«Покоти-поле» отдана была Бецкому, и третья — «Божьи дити»
напечатана в переводе в «Современнике», а по-малорусски никогда
не выходила. Кроме того у Квитки была в то время в рукописи
большая повесть «Щира любовь», из которой он составил
драматическое произведение, игранное на харьковском театре и
напечатанное в позднейшем издании сочинений Квитки. Была у него
шуточная комедия под названием «Бой-жинка», которой
содержание взято им из народной сказки и состоит в том, что жена
дурачит и проводит ревнивого и глуповатого мужа. Пьеса эта, как
и «Щира любовь», игралась когда-то на харьковском театре, но
большого успеха не имела.
Независимо от этого круга украинских деятелей я имел круг
других близких знакомых. И. И. Срезневского долго не было в
Харькове: он был за границею, куда отправился для изучения
славянских языков; из других близких со мною личностей,
принадлежавших к университетскому кругу, я вспомню профессора
461
Александра Петровича Рославского-Петровского, с которым я
проживал несколько лет на одной квартире и держал с ним общий
стол. В то время он читал статистику, уже после моего отъезда из
-Харькова взялся за историю, был несколько времени ректором и
■скончался не в очень старых летах. Это был человек с большою
начитанностью-, огромною памятью, но ленивый, рассеянный и
'преданный карточной игре, зато очень добросовестный и
правдивый. А. Л. Метлинский читал в то время русскую словесность; он
был очень трудолюбив, но неталантлив и притом болезнен,
страдал грудью и говорил тихо и вяло. Как профессор он не
пользовался большим уважением. Прежде постоянно споривший со мною
против моих идей об украинской литературе, он, наконец,
поддался той же идее, стал писать малорусские стихи и напечатал их
-под псевдонимом Амвросия Могилы, назвавши свой сборник
«Думки и писни, та еще де що». Стихи его казались хорошими,
плавными, но творческого таланта за ним не признавали. К таким
же близким знакомым надобно причислить Поликарпа
Васильевича Тихоновича, бывшего тогда учителем латинского языка в
Первой гимназии, человека трудолюбивого, отлично знающего как
латинскую, так и греческую словесность, и превосходного
педагога. Последний хотя был со мною постоянно дружен, но оставался
•совершенно холоден к украинской народности и, занятый своим
античным миром, как будто ни во что не ставил все современное.
Это был классик в полном смысле этого слова. Впоследствии он
был профессором в университете и в настоящее время занимает
должность директора той гимназии, в которой начал свое
учительство.
В 1842 году, в то время как я готовил кое-что для Бецкого в
предполагаемый сборник, печаталась моя диссертация, и на
шестой неделе поста назначено было ее защищение. В это же время
перевели куда-то харьковского архиепископа Смарагда, и вместо
него прибыл в Харьков архиереем знаменитый духовный оратор
Иннокентий Борисов. Ко мне приезжает декан историко-филоло-.
•гического факультета Валицкий, и сообщает, что Иннокентий,
узнавши о моей диссертации, выразил какое-то неудовольствие и
неодобрение; затем Валицкий советует мне ехать вместе с ним к
архиерею, поднести ему экземпляр моей диссертации и в
разговоре проведать, в чем состоит его недовольство. Мы поехали.
Иннокентий сказал, что уже читал ее и заметил несколько мест, о
которых может сказать, что лучше было бы, если бы их не было.
На одно место указал он, где о споре константинопольского
патриарха с папою было сказано, что властолюбие иерархов посеяло
вражду и раздвоение в миролюбивой церкви Христовой. Это
показалось архиерею несправедливым: о папе можно так говорить,
но о патриархе не следует. В другом месте его неприятно задело
то, что я напомнил о безнравственности духовенства в Западной
Руси пред унией, о тяжелых поборах, которые брал с русских
-константинопольский патриарх; наконец, не понравилось ему и
то, что я выразился, что уния принесла отрицательную пользу
православию именно потому, что возбудила против себя оппози-
462
цию, которая произвела Петра Могилу и всю его
преобразовательную реформу. Я начал доказывать историческую справедливость
моих мнений, а Валицкий спросил Иннокентия, как понимать его
возражения — в цензурном или же только в ученом смысле.
Иннокентий сказал, что единственно в ученом, а никак не в
цензурном. Тогда, отвечал Валицкий, дефенденту предоставляется
защищать свои положения на кафедре во время защиты. Тем и
кончилось первое свидание. Иннокентий, увидевши меня потом в
церкви, пригласил меня к себе и начал толковать снова, советуя
мне после защищения диссертации ехать в Петербург и посвятить
свои труды на более дельную и ученую разработку вопроса об
унии. Я сказал, что намерен заниматься другим, но с той поры
стал бывать у архиерея, который вообще был человек
разносторонне образованный и очень приятный в беседе, не говоря уже о его
проповеднической деятельности, которая с его приезда вдруг
оживила Харьков. Толпы публики всякого звания и воспитания
стекались в церковь к его служению, и я также не упускал случая
слушать его проповеди, произносимые с признаками большого
таланта.
Между тем наступал день защищения моей диссертации.
Накануне этого дня является прибитое к стенам университета
объявление, в котором говорится, что по непредвиденным
обстоятельствам защищение диссертации Костомарова отлагается
на неопределенное время. Декан факультета на мой вопрос об
этом сообщил мне, будто Иннокентий написал какую-то бумагу
помощнику попечителя, в которой предлагает остановить мое
защищение до сношения с министром. Так как тогдашний
попечитель граф Головкин был очень стар и не занимался делами, то все
управление делами округа находилось в руках его помощника
князя Цертелева. Я отправился к нему и узнал, что действительно
Иннокентий сделал такое заявление. Я обратился к Иннокентию.
Архиерей сказал мне, что он не имеет против меня ничего в
цензурном отношении, а только готовится оспаривать меня ученым
образом. Я видел в словах архиерея скрытность. Прошло между
тем более месяца; меня известили, что министр народного
просвещения, которым был тогда граф Сергей Семенович Уваров,
прислал написанный профессором Устряловым разбор моей
диссертации и вместе с тем предписал уничтожить все
экземпляры, которые были напечатаны, а мне дозволить писать иную
диссертацию. Так как кроме профессоров и коротких знакомых я не
успел ее пустить в публичную продажу, то мне поручили самому
объездить всех тех, у кого находилась или могла найтись моя
диссертация, отобрать все экземпляры и представить в совет
университета для сожжения. Все это я сделал; но большая часть
профессоров, к которым я ездил, отговорились неимением у себя
экземпляров под разными предлогами, и вместо ста экземпляров,
которые были розданы, мне удалось возвратить в правление менее
двадцати. Все возвращенные были преданы огню. Я был в полной
уверенности, что все это дело Иннокентия, и в такой уверенности
Оставался очень долго; в Петербурге же в шестидесятых годах мне
463
говорили занимавшиеся архивными делами в министерстве
Уварова, что не Иннокентий был причиною сожжения моей
диссертации, а один из харьковских профессоров, пославший на меня
извет министру. Однако из биографии Иннокентия, напечатанной-
в «Русской старине» 1878 года, оказывается главное участие
преосвященного Иннокентия в тогдашнем задержании моей
диссертации. Будучи в то время убежденным в виновности Иннокентия, я>
однако, не прекратил с ним знакомства; он говорил мне, что ни-
- мало не причастен в этом деле, был со мною постоянно ласков и
приглашал к себе. Так было до моего выезда из Харькова.
Мне позволили писать новую диссертацию, я выбрал тему «Об
историческом значении русской народной поэзии». Предмет этот
был давно уже близок моему сердцу; уже несколько лет я
записывал народные песни, и у меня их накопилось довольно. Теперь-
то я предположил провести мою задушевную мысль об изучении
истории на основании народных памятников и знакомства с
народом, его преданиями, обычаями и способом выражения мыслей
и чувствований. Я подал свою тему в факультет и тотчас встретил
неодобрительные отношения к ней некоторых лиц. Профессор
философии. Протопопов первый не одобрил ее и находил, что такой
предмет, как мужицкие песни, унизителен для сочинения,
имеющего целью приобретение ученой степени; но всего страннее
покажется, что против этой темы был и Артемовский-Гулак,
несмотря на то что по правде считался лучшим знатоком
малорусской народности, как это и доказывали его собственные
малорусские сочинения. Он писал их еще в молодости, в конце 20-х годов,
а потом совершенно оставил этот род занятий до глубокой
старости, когда опять написал несколько малорусских стихотворений,
но уже с меньшими признаками таланта. Одним из
превосходнейших его малорусских произведений была басня «Пан та собака»,
явно обличавшая темные стороны тогдашнего крепостного права.
По поводу этого сочинения кто-то, желая подсмеяться над ним,
как бы в пародию того, что говорилось некогда о Хераскове по
поводу его поэм, написал такое четверостишие:
Пускай в Зоиле сердце ноет,
Но Гулаку оно вреда не нанесет.
Рябко его хвостом покроет
И в храм бессмертия введет.
Написанное в насмешку, мимо желания автора насмешки
сделалось лучшею оценкою и похвалою поэтического таланта Гула-
ка-Артемовского. Старавшись целый век играть какую-нибудь
роль, — как профессор русской истории, как ректор университета
и как попечитель двух женских институтов, — он не достиг своей
цели: он не приобрел ни знаменитости, ни памяти потомства на
этом поприще, но остался бессмертен как народный малорусский
поэт; никто не превзошел его в знании всех изгибов малорусской
народности и в неподражаемом искусстве передавать их
поэтическими образами и превосходным народным языком. А между тем
во всю свою жизнь он и не подозревал, в чем действительно мог
464
быть он выше всех и приобрести знаменитость как литератор!
Свои малорусские стихотворения писал он ради шутки и считал
их не более как шуткою. Артемовский-Гулак как поэт и человек
был иное лицо, чем профессор. Верный старым предрассудкам,
он не понимал, что история как наука обязана заниматься более
народною жизнью, чем внешними событиями. Протест Артемов-
ского-Гулака был, однако, не настойчив, и когда я подал свою
диссертацию уже написанную, он был в числе утвердивших ее.
Профессор Протопопов, напротив, продолжал оставаться при
прежнем взгляде и выразился, что считает даже неприличным
ходить на защищение такой диссертации.
С целью увеличить средства к жизни, которые оказывались
недостаточными от присылок из материнского имения, я начал
искать себе службы и определился в должность помощника
инспектора студентов в Харьковском университете. Помощников было
пять, и мне приходилось не более одного раза в неделю ходить на
дежурство в корпус казеннокоштных студентов и пробывать там
" целые сутки, от утра одного дня до утра другого* все остальное
время я употреблял на писание своей диссертации. В это время я
квартировал вместе с профессором Рославским-Петровским в доме
Альбовской, недалеко от театра; но квартира моя, находясь в
нижнем этаже, оказалась сырою и нездоровою; тем не менее я пробыл
в ней всю осень и зиму. При этом я считаю нелишним вспомнить
о тогдашнем театре в Харькове. Еше ранее, до 1840 года, театр
помещался в деревянном здании на длинной площади, носившей
название Театральной. Труппу содержал сначала Штейн, а потом
передал ее Млотковскому. С 1840 года театр стал помещаться во
вновь отстроенном каменном здании на другом конце той же
площади и находился под заведыванием дирекции. Во все
продолжение времени пребывания моего в Харькове я довольно часто
посещал спектакли, а во время моей службы помощником
инспектора даже по обязанности должен был часто бывать в них.
Харьковский театр во все известные мне годы не лишен был
появлявшихся на его сцене более или менее даровитых актеров и
актрис. Между ними стоит вспомнить Млотковскую, прекрасно
игравшую в комедиях и водевилях, но иногда не без успеха
бравшуюся и за драматические роли. Соленик был артист, который
занимал бы блестящее место и на столичной сцене, и держался в
Харькове единственно потому, что был харьковский домовладелец
и вступил на сцену из любви к искусству. Он был превосходен
во всяких комических ролях и несколько напоминал московского
Шумского, появившегося на сцене в более позднее время. Не
лишен был дарования и Домбровский, также комический актер,
особенно отличавшийся в малорусских ролях. Надобно отдать честь
режиссерам харьковской сцены, что пьесы, назначаемые для
представлений, брались большею частию сообразно местным условиям
театра; не решались представлять того, что по средствам театра
трудно было поставить надлежащим образом, как это обыкновенно
делалось в провинциальных театрах других городов, где нипочем
казалось угощать публику такими спектаклями, которые и по де-
16 Заказ 15 465
корациям, и по музыке, и, наконец, по костюмам и искусству
артистов не подходили к провинциальной сцене.
Весною 1843 года моя диссертация была готова и подана на
факультет. Тогда же Бецкий выпустил в свет одну за другою три
книжки своего «Молодика». Первая из них заключала в себе
беллетристические сочинения, стихотворные и прозаические, на
русском языке; там я не поместил ничего. Вторая вмещала в себе
исключительно сочинения в стихах и прозе на малорусском
языке; здесь поместил я свои стихотворения, написанные в Крыму, и
перевод нескольких пьес из старочешской Краледворской
рукописи. Третья, на которой означен был уже 1844 год, посвящена была
русским статьям, относящимся к истории и этнографии
Малороссии; здесь появились мои первые исторические опыты,
касавшиеся прошедшей судьбы Малороссии: описание восстания
Наливайка и биографический очерк фамилии князей Острожских.
Находя, наконец, для себя нездоровым оставаться в сырой
квартире, я расстался с Рославским и нанял себе квартиру за
Лопанью, в доме одной священнической вдовы, недалеко от церкви
Благовещения. Это была моя последняя квартира в Харькове и
самая лучшая; я занимал две светлых комнаты во дворе,
засаженном большими деревьями, при фруктовом саде, за которым
начинался луг. Это был конец города. В это же время я вынужден был
подать в отставку из должности помощника инспектора, к которой
не чувствовал ни способностей, ни расположения. Задумавши
жениться на гувернантке в доме г-жи Тизенгауз, я вызвал на дуэль
моего соперника, отбившего у меня невесту и затем покинувшего
эту девицу: понятно, что такому пылкому господину не сочли
возможным доверять наблюдение за студентами. Я занялся
преподаванием истории в мужском пансионе Зимницкого, а между тем
тогда же мне явилась мысль писать историю эпохи Богдана
Хмельницкого. В мае 1843 года я начал работать над нею. Харьков
не представлял богатых источников для такого труда, и я
принужден был ограничиваться печатными польскими, русскими и
латинскими сочинениями, но уже случайно приобрел и несколько
рукописных. Таким образом один из моих знакомых, Сементов-
ский, сообщил мне Грабянкину летопись в двух частях: первая,
называвшаяся «История о презельной брани», заключала в себе
повествование о войнах Хмельницкого до его кончины, вторая
начиналась гетманством Выговского и велась до 1721 года. Заметно
было, что эти две части составлены были различными лицами, да
и в летописи, которая мне досталась, вторая была писана иною
рукою, чем первая. Списки принадлежали, как показывал почерк,
к первой половине XVIII века. Учитель Второй гимназии.
Третьяков, бывший мой товарищ, уделил мне другую летопись, также в
списке XVIII века; то был Самовидец. Затем я получил несколько
рукописных источников от И.И. Срезневского; то были те, которые
впоследствии Бодянский напечатал в «Чтениях», именно:
Симоновский, Зарульский и повесть «Еже содеяся», или сказание о
гетманах малорусских до Богдана Хмельницкого; наконец,
большое сочинение Ригельмана, которое также впоследствии появилось
466
в печати в «Чтениях»: «Летописное повествование о Малой
России». В библиотеке Харьковского университета я нашел также
несколько рукописных летописей и один рукописный сборник актов,
относящихся к истории Малороссии. От моего знакомого Варзина
я достал список Конисского. С таким незначительным запасом
источников принялся я описать своего Богдана Хмельницкого.
Работа увлекла меня в сильной степени, и, вспоминая это время, я
могу назвать его одним из приятнейших в жизни. По временам я
прочитывал написанные части моего сочинения своим знакомым,
в числе которых первое место занимал И.И. Срезневский,
воротившийся из-за границы и вступивший тогда на кафедру
славянских наречий. Так прожил я до конца 1843 года. Диссертация моя
была рассмотрена, одобрена и зимою напечатана. По ее поводу я
сошелся с профессором Луниным; хотя прежде я часто слушал
его на лекциях и глубоко уважал, но домашним образом не был с
ним знаком. Теперь меня свело с ним то, что моя диссертация ему
особенно понравилась и он вполне сочувствовал моей мысли о
введении народного элемента в науку истории. Как человек с
европейским образованием, он способен был смотреть шире других
ученых мужей старого закала.
День защищения моей диссертации назначен был 13 января
1844 года. Моими оппонентами были профессоры Якимов и
Срезневский. Якимов, вырвавши из моей диссертации два песенных
стиха, потребовал от меня доказать, что здесь есть какая-нибудь
поэзия. Прежде чем я собрался отвечать ему, Лунин засмеялся и
сказал: «Это все равно, если бы рассечь человека по частям и
потребовать, чтобы показали, где у него душа; ни в ноге, ни в
руке, ни в ухе, ни в носу нет души, а весь человек живой — с
душою». В конце защищения прибыл преосвященный Иннокентий,
вмешался в спор и начал приводить сравнения народной поэзии
вообще с Библиею; но Артемовский-Гулак, бывший ректором,
сделал такое замечание: «Ваше преосвященство! евреи были народ,
состоявший под особым покровительством божиим, а потому мы о
нем и его поэтических произведениях касаться считаем
неуместным». После официальных диспутов профессор ботаники Черняев
вступил в толкование названий растений, которые встречались в
моем сочинении в качестве народных символов, но ректор
заметил, что диссертация моя не по предмету ботаники и вдаваться
собственно в ботанические прения здесь неуместно. По окончании
защищения меня провозгласили получившим степень магистра
исторических наук.
Пущенная в публику, моя диссертация получила
сочувственный отзыв только в одном «Москвитянине», в статье, написанной
Срезневским; в других журналах — «Библиотеке для чтения» и
«Отечественных записках» — ее приняли не так ласково. В
«Библиотеке для чтения», которою заправлял тогда Сенковский, мои
мнения о важности народной поэзии для историка подали только
возможность поглумиться „и позабавиться над моею книгою; в
«Отечественных записках» перо знаменитого тогда Белинского
выразилось, что народная поэзия есть такой предмет, которым может
16* 467
заниматься только тот, кто не в состоянии или не хочет заняться
чем-нибудь дельнее. Видно было, что знаменитый и впоследствии
так прославленный русский критик не в состоянии был видеть
важности народной поэзии, важности, в наше время уже
безусловно признанной наукою. Впрочем замечательно, что тот же
Белинский, еще в 1839 году разбирая в «Отечественных записках»
моего «Савву Чалого» и «Украинские баллады», отнесся обо мне
совсем иначе и признал за мною несомненный талант.
III
Учительство и профессура в Киеве.
После защищения диссертации я несколько месяцев
продолжал оставаться в Харькове и занимался обработкою истории
Богдана Хмельницкого. Это занятие, увлекая меня, внушало сильное
желание побывать в тех местностях, где происходили
описываемые мною события, и с этою целью я обратился к князю Церте-
леву с просьбою написать киевскому попечителю о моем желании
получить место в Киевском учебном округе; вместе с тем я просил
прописать главную ученую цель этого желания. По такой просьбе
в конце сентября 1844 года князь Цертелев известил меня, что
киевский попечитель предлагает мне взять на первых порах
должность учителя истории в ровенской гимназии и для этого
предоставляет мне приехать в Киев. Я тотчас списался с матерью,
известил ее, что через две недели уеду в Киев; мать моя
поспешила приехать в Харьков. 7 октября вечером я выехал из Харькова
на почтовых, провожаемый матерью и толпою харьковских знако--
мых, изъявлявших мне желание найти счастие в ином крае.
По прибытии в Киев явился я к попечителю Давыдову, но тот
на мое объяснение о приглашении меня сказал, что ничего об этом
не знает, и поручил обратиться к его помощнику Юзефовичу. Я
отправился к последнему. Он принял меня радушно, говорил, что
читал мою диссертацию, наговорил по ее поводу множество
комплиментов и подтвердил о назначении меня учителем гимназии в
Ровно, где свободное от преподавания время я могу посвятить на
обзор исторических местностей и памятников местной истории. Во
время моего посещения входит молодой человек, которого Юзефо-
вич знакомит со мною. То был Пантелеймон Александрович
Кулиш. Разговор зашел об источниках малорусской истории, и мы
обоюдно с удовольствием узнали, что нам обоим были знакомы
одни и те же источники. Выходя от Юзефовича вместе с Кулишом,
я отправился в соборную церковь св. Софии и осматривал ее с
большим любопытством; в то время она еще не была
реставрирована, старые фрески не были открыты, а стены ее были
испещрены живописью на штукатурке, которую впоследствии ободрали;
только в некоторых местах начато было открытие фресков; правая
лестница на хоры со стенными изображениями старинной княже-
468
ской жизни не была вовсе открыта для публики. Походивши в
Софиевском соборе, я отправился к Кулишу, который занимал
тогда должность смотрителя уездного училища на Подоле. Когда
мы заговорили о собрании песен, Кулиш вынул огромный ворох
бумаг: то было его собрание народных песен. Сам я в ожидании
подорожной и подъемных денег для следования в Ровно поселился
на Подоле у какого-то мещанина, неподалеку от Братства. С тех
пор я виделся с Кулишом почти каждый день; мы ходили с ним
по Киеву и осматривали разные киевские достопримечательности;
он же познакомил меня с М. А. Максимовичем, жившем на
Старом городе, близ упраздненной ныне церкви св. Троицы, занимая
небольшой деревянный домик с садом.
Припоминая тогдашнее мое обозрение Киева, я не могу без
удивления не заметить, какую разницу представлял этот город в
то время с тем видом, какой он имеет в настоящее время. Печерск
был центром торговой деятельности; в той местности, которая
теперь вошла в крепость, были ряды лавок, наиболее посещаемых
публикою; университет стоял почти в поле, посреди неудобопро-
ходимых бугров и песчаных насыпей; Старый город был немощен,
усеян некрасивыми мазанками и лачугами и кроме того
представлял большие пустыри; Крещатик не имел тогда ни магазинов, ни
лавок, ни отелей. Большая часть построек была деревянная,
мостовой совсем не было, в сырое время была там большая грязь и
слякоть. Набережной по Днепру вовсе не было; берег его от
Подола под горою был буквально непроходим, и я, затеявши пойти по
берегу с Подола с намерением добраться до Лавры, принужден
был воротиться за невозможностию идти по косогору, особенно в
дождливое осеннее время. Город плохо освещался, так что ходить
ночью было истинным наказанием. Мне, приехавшему из
Харькова, Киев показался как город гораздо хуже последнего.
Пробывши в Киеве дней десять и получив третное жалованье
не в зачет, я отправился в Ровно. Дорога шла посреди дремучих
лесов; погода была все время необыкновенно дождлива; от Киева
до Ровно я не видал солнца, и платье мое не обсыхало; несмотря
на то я остановился в Корце, где обозрел развалины старого
замка, — потом был в Остроге. Здесь я ходил в развалины
иезуитского монастыря, сходил в двойное подземелье и видел там множество
разбросанных скелетов; некоторые удивительно сохранили на себе
кожу и засохшее тело. Квартировавшие в Остроге солдаты ходили
в эти развалины и обдирали с мертвецов платье, отдавая его своим
женам на одежду. Затем я посетил капуцинский монастырь,
который не дошел еще до таких развалин, как иезуитский. Монахи
были удалены из него недавно; костел оставался с деревянною
утварью, образами и лавками, хотя служить в нем уже было
некому; я застал в средине его прогуливающегося в шапке иудея,
который оказался снимавшим от казны монастырский сад, и здесь
я спускался в погреб, служивший некогда усыпальницею.
Вошедший туда прежде меня солдат отбивал одну могилу, замурованную
в стене; по надписи видно было, что здесь была погребена г-жа
Сосновская, умершая в 1633 году. Солдат отбил доску и вытащил
469
гроб, открывавшийся с одной стороны как сундук: предо мною
лежала особа средних лет в плотном шелковом платье вишневого
цвета; не прошло трех минут, как образ ее изменился, рассыпался
прахом — остался один скелет. Шелковое платье удивило меня
чрезвычайною плотностию ткани:, оно было по толстоте похоже на
драп. Из капуцинского монастыря я отправился на гору, где
стояли развалины православной церкви Богоявления, а около нее
башни, бывшие по ограде двора князей Острожских, и остаток их
дома, занимаемый тогда каким-то присутственным местом. На
церкви не было крыши, и самые стены во многих местах грозили
падением, так что ходить между этими развалинами было
небезопасно. На вершине башен живописно поросли случайно насеяв-
шиеся деревья. Говорили, что под холмом находятся подземные
ходы, но я не нашел никого, кто бы меня повел туда. Осмотревши
Острог, я отправился далее в путь и в тот же день ночью прибыл
в Ровно. Этот грязный иудейский городок, где суждено мне было
проживать, с первого же вида показался мне очень
неприветливым, особенно при страшной грязи и при совершенном отсутствии
наемных лошадей; к счастию, он так мал, что куда бы ни пойти,
все не будет далеко.
Наутро явился я директору Абрамову, будущему моему
начальнику, был им принят довольно сухо, хотя и вежливо,
и принялся искать себе квартиры для помещения. Хозяин
единственной гостиницы, куда я пристал, порекомендовал мне
еврея-фактора, а последний известил, что можно иметь
квартиру со столом у некоего пана Самарского, которого 'дочь
находилась замужем за учителем гимназии Епифановичем и
жила вместе с мужем во дворе отца. Отправившись с иудеем,
я завел с ним разговор и услышал от него забавные сведения
о его житье-бытье. «Я, — говорил он, — был богатый
торговец, торговал шелковыми материями, да пан асессор
(исправник) меня обобрал до нитки, поймавши в контрабанде;
уже два раза я был в переделке и после третьего раза
приходилось идти в Сибирь, поэтому асессор что хотел, то
и мог с меня сорвать; с нами, с жидами, все так поступают:
асессоры следят за нами, дадут время навозить контрабанды
и обогатиться, а потом накроют и оберут; потом снова
пускают наживаться, а как наживемся, они снова накроют
и снова оберут, и так мы работаем на них». Этот иудей
довел меня к Самарским. Я нашел очень приветливых хозяев,
старика и старуху, говоривших чистым малорусским языком;
с ними в одном дворе, только в другом доме жил их зять,
учитель латинского языка. Я нанял квартиру, которая
поразила меня необыкновенною дешевизною: с меня взяли десять
рублей в месяц за две комнаты со столом и стиркою белья.
Когда я перебрался в свое новое помещение и отправился
к моим новым хозяевам на трапезу, меня поразило обилие
яств и радушие хозяев. Каждый раз было разливное море
«старой водки» и домашней наливки превосходного качества;
кушанья были приготовлены довольно грубо на. сале, но в
470
большом изобилии и из хорошего материала. Так начал я
жить изо дня в день, посещая уроки.
В гимназии было до трехсот учеников; большинство
составляли поляки или местные уроженцы римско-католического испове-
* дания, православных было всего тридцать пять человек, но они по
образу первоначального воспитания, кроме вероисповедания,
ничем не отличались от остальных. Сверх того было несколько
учеников иудейского происхождения. Большая часть училась хорошо,
лентяи составляли значительное-меньшинство, все вели себя
благочинно: не происходило никаких грязных шалостей, которыми,
как известно, отличались многие гимназии в центре России.
Учеников польского происхождения, живших в пансионе или на
общих квартирах, устроенных при гимназии, обязывали непременно
говорить ме>хду собою по-русски, но это соблюдалось ими только
по нужде и с явною неохотою. Учителя все были русские,
исключая немца и француза; большая часть учителей принадлежала к
малорус сам левой стороны Днепра.
Иногда для развлечения я ходил с товарищами-учите#лями
играть на биллиарде в ресторацию. Из учителей я сблизился
наиболее с учителем латинского языка Чуйкевичем и математики —
Яновским; первый знал много малорусских песен и, часто
приходя ко мне, пел их, доставляя мне большое удовольствие, а
последний почти каждый день играл со мною на биллиарде. На
рождественских святках, сговорившись со священником
единственной ровенской церкви Омелянским, я совершил в несколько
дней путешествие по соседним местностям, известным по истории,
а именно: посетил Дерманский монастырь, в котором проживал
Отрепьев, и Гощу, где в XVI веке в имении Гойского был главный
притон арианской секты с училищем в духе арианского учения и
где в числе учеников был и наш Самозванец. Затем я посетил
Пересопницу, бывшую когда-то удельным княжением, Межирич и
Тайкуры с развалинами замков.
Возвратившись в город, я снова принялся за свое
педагогическое дело, а перед праздником пасхи 1845 г. предпринял новое
путешествие уже подальше. Я нанял пару лошадей у еврея; со
мной поехал учитель Маловский, уроженец тамошнего же края и
потому знакомый как с местностию, так и с житейскими
обычаями. Мы приехали в Кременец в день великой пятницы. Первым
делом моим было взойти пешком на вершину крутой и высокой
горы, где виднелся обвалившийся замок, приписываемый
преданием королеве Бонне, жене короля Сигизмунда I. Всход был
труден и утомителен. Достигши вершины, я увидел великолепное
зрелище раскинутого у подножия города, а вдали рассыпались
разнообразные холмы горных вершин, покрытые лесом. Ко мне
доносился звон колоколов в церквах, призывавший к вечерне.
Ветер на горе был так силен, что едва можно было устоять на ногах.
Я осматривал кратер колодца, как говорят местные жители,
неимоверной глубины; по их словам, смельчаки пробовали спускаться
в это отверстие в корзинах на цепях, доходили до такой глубины,
что могли среди солнечного дня видеть звезды, но до дна не до-
471
стигли. Издавна уже существовал обычай приходящим бросать в
этот колодезь камни, чтобы соображать о глубине по времени до-
летаемого от падения звука. Не видно никакого следа сруба, и
трудно решить, был ли в самом деле это колодезь или же
подземелье для тайника. Приступ на вершину горы более удобен в од- *
ном только месте, где существовал подъемный мост. Пространство,
занимаемое замком,, не очень велико и все изрыто буграми,
обличающими былые строения. В полуобвалившихся стенах и башнях
устроены амбразуры для стрельбы из пушек и пищалей.
Возвратившись с горы, я отправился осмотреть бывший Кременецкий
лицей, обращенный в православную семинарию. Один из
учителей, брат ровенского учителя, моего товарища Тихомирова,
снабдил меня рекомендательным письмом к архимандриту в Почаев,
куда я намеревался следовать из Кременца. Переночевавши на
постоялом дворе, утром в великую субботу я отправился к
заутрени в собор, обращенный недавно перед тем из францисканского
католического монастыря. В тот же день я выехал в Почаев.
Дорога шла по живописной местности; по бокам виднелись холмы,
покрытые рощами, это были отроги Карпатских гор, заходящие из
Галиции в наши пределы. К вечеру мы прибыли в Почаев,
остановились в жидовском постоялом дворе и отправились к
архимандриту. Архимандрит был веселый, радушный старик; некогда он
-занимал место протоиерея в Каневе и, овдовевши, поступил в
монашество. С первого раза он разговорился о местной старине, о
постройке Почаевской обители, воздвигнутой старостою каневским
Потоцким, известным безобразником и забиякою. По рассказу
архимандрита Потоцкий однажды ехал по горе в виду Почаева,
видневшегося издали, вдруг кучер его по неосторожности перевернул
его экипаж. Рассерженный пан приказал кучеру остановиться,
взял ружье и хотел стрелять в него; кучер в ужасе обратился к
видневшемуся монастырю и начал просить спасения у Почаевской
божией матери. Пан спустил курок, сделалась осечка; пан снова
взвел курок, спустил его — в другой раз осечка. Это поразило
буйного пана; он бросил ружье и начал у кучера допрашивать,
кто такая эта Почаевская богородица, которую тот призывал. Пан
мало занимался предметами благочестия, а потому и не имел
понятия о чудотворной иконе, существовавшей в монастыре,
находившемся недалеко от него. Когда кучер, чудесно избавленный от
смерти, сказал ему все, что знал и насколько умел, пан пришел
в задумчивость. Внезапно пробудилась в нем совесть, начал он
скорбеть о множестве совершенных им в жизни бесчинств и
злодеяний, явилась наклонность к покаянию. Он велел везти себя в
Почаевский монастырь и поклонился чудотворной иконе. С этих
пор чувство раскаяния овладело им более и более; гнусною
показалась ему протекшая жизнь, и он принял намерение окончить ее
где-нибудь в монастыре; но чтобы испытать, в какой монастырь
укажет ему идти высший промысел, он нарядился нищим и в
таком виде посетил несколько католических монастырей. Везде его
принимали дурно, ограничиваясь ничтожным подаянием; но когда
он явился в Почаевский униатский монастырь, бывший беднее
472
других, там его приняли радушно, накормили, напоили, дали
приют для ночлега. Потоцкий счел это небесным указанием и через
несколько времени прибыл туда, только уже не в нищенском
платье, а в великолепной карете, и принес большую сумму на
построение каменного храма — того самого, который существует
до сих пор. Здесь он и поселился в качестве послушника,
произвольно смирял себя, исполнял черные работы, но иногда невольно
выказывал и прежние панские замашки: так, например, подметая
коридоры келий, он будил к заутрени монахов, и чуть только
заметит в ком-нибудь леность, того потянет по спине метлою. Здесь
он умер и был погребен в церкви; тело его, долго оставаясь
нетленным, показывалось богомольцам, одетое в польский кунтуш и
обутое в огромных сапогах. После обращения монастыря в
православие это тело повелено схоронить и не показывать никому,
чтобы народ не признавал его святынею.
Архимандрит приглашал нас прибыть ночью к
богослужению, а после обедни разговляться вместе с братиею в трапезе.
В полночь мы отправились в церковь и прослушали пасхальную
заутреню. Напев в Почаевском монастыре показался мне
отличным от обыкновенного русского, он был особенно веселый и
напоминал- мне мотивы экоссеса, знакомые с детства. Церковь
почаевская — одна из просторнейших, какие я видел в
России, — сохранила сильные следы прежнего католичества. За
низеньким иконостасом, приделанным по присоединению к
православию, виднелся высокий католический иконостас; по другую
сторону престола, у капитальной стены, во многих местах у
столбов стояли алтарики, употребляемые католиками и униатами
для тихой обедни и никак не мыслимые в православном храме,
так как они обращены были не на восток, и самый престол
примыкался прямо к стене, а вместо образов были скульптурные
вещи; на хорах оставался еще большой орган, хотя совершенно
без употребления. После обедни вслед за архимандритом мы
пошли в обширную залу с накрытыми столами, на которых
были расставлены пасхальные снеди, но без мясных кушаньев.
После хорового пения «Христос воскресе» все принялись
закусывать, а потом тут же начался обед, несмотря на то что было
время только солнечного восхождения. Обед состоял из двух
рыбных кушаньев и сливочного крема; я заметил, что братия,
которой я насчитывал восемнадцать человек, ничего не ела.
После обеда архимандрит пригласил нас в келию, и там
увидали мы расставленный на столе обильный запас всяких
мясных кушаньев, колбас, поросят, индеек и множество бутылок с
наливкою и вином. Архимандрит объяснил нам, что * у них
трапеза бывает только для приличия, а все они утешаются по
кельям; при этом он объяснил, что в западном крае, где еще
свежи униатские и католические обычаи, такое нарушение
принятых в православном монашестве обычаев и терпится, и
дозволяется. После того мы пробыли в монастыре трое суток и
испытали большое гостеприимство и радушие от архимандрита
и братии. В понедельник мы обедали у архимандрита в его
473
келье и должны были отдать честь его повару, изготовившему
очень вкусный обед. Монахи, которых большая часть была из
уроженцев великорусских губерний, зазывали нас поодиночке
друг перед другом и старались угостить как можно обильнее,
так что мы принуждены были отделываться от них. Я осмотрел
монастырскую библиотеку, которая оказалась очень богатою
старопечатными русскими книгами благочестивого содержания, но
я не имел времени ознакомиться с ними подробнее.
В главной почаевской церкви показывают стопку божией
матери; из этой стопки сочится вода; чтобы видеть эту стопку,
надобно наклониться и вложить голову в отверстие, находящееся в
стене ниши. По сведению, сообщенному архимандритом, этой во-'
ды насочится в день половину чайной ложечки, иногда немного
больше; а так как богомольцев приходит много и много желающих
иметь эту воду, то мы, как говорит архимандрит, прибегаем к
гомеопатическим растворениям и впускаем пол-ложечки
чудотворной воды в целую кадь с обыкновенною простою водою. Предание
говорит, что еще в то время, когда не существовало монастыря, в
XIII веке, какие-то пастухи увидали на том месте, где теперь
стопка, стоящую божию матерь. След ноги от изображения остался на
земле и из него начала сочиться вода. Монастырь построен на
скале, воды кругом близко нет, и появление воды в стопке
признается удивительным делом. В большом коридоре, идущем от
главной церкви, по стене написана история чудесного
освобождения Почаева в 1672 году от турецкого нападения. Монастырь в то
время еще был православный, игуменом там был Иов Зализо;
турецкий паша сделал нашествие на польские пределы, множество
соседней шляхты убежало в Почаевский монастырь, решаясь там
давать отпор неприятелю, но осажденные стали терпеть недостаток
съестного и в отчаянии решились выйти, вступить в бой с врагами
и погибнуть в сече. Отец Иов служил последнюю обедню,
приготовляя осажденных к их решительному подвигу. В эту самую
минуту, когда он провозгласил «изрядней о пресвятей, пречистей и
преблагословенней, славней владычице нашей богородице», на
кресте монастырского храма явилось изображение божией матери:
она грозила рукою турецкому войску. Турки по приказанию
своего паши пустили в изображение ядро, но это ядро обратилось
назад и положило многих турок. Событие это произвело такой
панический страх, что все турецкое войско убежало, а польское,
ободрившись, стало его преследовать и нанесло ему поражение
под Вишневцом. В том же монастыре показывают яму,
вырубленную в скале, куда преподобный Иов иногда влезал, желая
предаться уединенному богомыслию.
Почаевский монастырь пользуется большим уважением не
только у православных, но и у католиков и униатов. Я видел там
множество пришельцев обоего пола из Галиции, заговаривал с
ними и нашел, что у них наречие и говор ничем не отличаются от
волынцев. Почаев лежит на границе Австрии. С монастырской
террасы живописно виднеется Подкамель с католическим
монастырем, находящимся уже в пределах Галиции.
474
Из Почаева мы направились в Вишневец с целью осмотреть
там замок, замечательную картинную галерею с фамильными
портретами князей Вишневецких, библиотеку с рукописями и
множество древних вещей.
Выехавши из Почаева рано утром, мы были в Вишневце к
полудню, так как до него от Почаева не более двадцати верст с
небольшим. В то время Вишневец принадлежал графу Мнишку:
после прекращения фамилии князей Вишневецких в половине
XVIII века их имение пошло в раздел между разными
наследниками, и главное их гнездо с фамильным замком досталось
фамилии Мнишков, которая несколько раз уже роднилась с
Вишневецкими и тогда находилась с ними в самом близком
родстве. Замок составляет большое каменное здание в два этажа с
заворотами. Я имел рекомендательное письмо к владельцу его,
полученное мною от- владельца Ровно, князя Любомирского. Первый
предмет, поразивший меня при входе в сени замка, было
несколько громадных картин, выставленных на стене и изображавших
сцены из жизни нашего Самозванца. Тут было первое появление
его у Мнишка, обручение с Мариною и, не помню, еще что-то;
надобно было обратить особое внимание на эти картины,
очевидно, старые и снять с них копии, тем более что они совсем не те,
какие хранятся в Оружейной палате и изображают сцены,
происходящие в Москве. Граф Мнишек допустил нас к себе, принял
довольно холодно и на просьбу мою осмотреть его замок сказал,
что там нет ничего любопытного; потом призвал служителя и,
отдав ему ключи, велел вести нас по комнатам замка, но приказал
не заводить нас в библиотеку, где, как он сказал, рукописи
находятся в беспорядке. Это мне показалось очень прискорбным; я
понял, что не увижу того, что меня особенно интересовало и
побудило искать знакомства с польскими магнатами. Нас повели по
комнатам, расположенным анфиладою; комнаты были
однообразно убраны зеркальными стенами, на дверях и окнах висели
шелковые портьеры, вышитые, как говорил проводник, последнею из
Вишневецких, оставшеюся в девицах и до смерти проживавшею в
этом замке. С особенным любопытством и с участием
рассматривал я портреты Вишневецких, развешанные по зеркальным
стенам, и с сердечным участием встречал многие знакомые мне по
истории лица. В угольной комнате, которою кончалась эта
анфилада, показывали вырезанные на зеркале слова: comte du Nord; эта
надпись сделана была императором Павлом Петровичем, который,
будучи еще великим князем, путешествовал под именем Северного
графа и заезжал в Вишневец, где не застал хозяев.
Обойдя замок, насколько это было позволено, мы отправились
к хозяину и получили приглашение идти к нему в сад, • куда он
ушел. Этот сад был некрасив и запущен. Мнишек сидел под
деревом с книгою в руках, выслушал мою благодарность и
пригласил к четырем часам обедать. Время, оставшееся до обеда, я
употребил на осмотр старой православной церкви, где погребен
Михаил Вишневецкий, последний из Вишневецких, умерший в
православной вере: это был отец знаменитого Иеремии и муж Ра-
475
ины Могилянки, родственницы митрополита Петра Могилы и
ревностной православной, основавшей Густынский монастырь в
Црилукском уезде Полтавской губернии. Эта деревянная церковь
в Вишневце хотя не отличается большим благообразием, но и не
имеет того нищенского вида, какой я встречал по деревянным
православным церквам Волыни в тогдашнее время. Оттуда я
отправился в другую церковь — каменную, обращенную из бывшего
некогда иезуитского монастыря, где в склепе находится
усыпальница князей Вишневецких со времени их обращения в
католичество. Священник этой церкви сказал мне, что, поступивши на это
место, он представлял архиерею, что с обращением костела в
православную церковь нужно выбросить из склепа прах Иеремии
Вишневецкого, заявившего себя жестоким фанатикоми
непримиримым врагом православной веры и русского народа; но
представление священника не было уважено и ему сделали замечание, что
не следует трогать мертвых.
Мы отобедали у графа Мнишка не в парадных комнатах
замка, а в пристройке, сделанной внизу к первому этажу, где он
постоянно помещался; с нами обедал один из сыновей его. После
обеда хозяин завел со мною разговор об истории эпохи
Хмельницкого и изъявлял мнение, что польские историки неверно относятся
к этой эпохе и что Хмельницкий вовсе не такой дурной человек,
каким его представляли поляки по причине бывшей вражды. Он
велел принести портрет Хмельницкого и уверял, что это самый
вернейший, какой где-либо найти можно. Замечательно, что когда
переходя то к той, то к другой эпохе русской и польской истории
я коснулся Самозванца, ему, как видно, было неприятно говорить
об этом предмете уи он вполголоса сказал: «это было уж очень
давно!» Прощаясь со мною, Мнишек сообщил мне, что в Кременце
есть некто Радзиминский, которого отец занимался специально
эпохою Хмельницкого и оставил рукописные сочинения. Мнишек
советовал мне обратиться к Радзиминскому и попытаться
узнать — не сохранилось ли в бумагах отца каких-нибудь
любопытных материалов, могущих служить источниками для истории
казацкой революции.
Из Вишневца я направился обратно в Кременец и посетил
Радзиминского по рекомендации Мнишка. К моему удивлению, в
Радзиминском я встретил человека, который от моей просьбы
познакомить меня с сочинениями его отца пришел в испуг; он
рассказал мне, что по какому-то доносу о существовании этой
истории, писанной его отцом, его арестовали, взяли его бумаги и
повезли самого в Киев, держали несколько месяцев, потом
возвратили ему отцовскую рукопись и отпустили домой; но по приезде
он узнал, что его беременная жена в испуге за участь мужа
заболела и преждевременно разрешилась мертвым младенцем. Я
уверял его, что вовсе не принадлежу к администрации и обратился
к нему с чисто ученым намерением, да притом и не осмелился бы
обратиться, если бы знал, что рукопись, о которой идет речь,
оставляет для него такое тяжелое воспоминание. Лицо
Радзиминского несколько прояснилось, он предложил мне завтрак, но не-
476
смотря на мою повторенную просьбу не показал мне отцовской
рукописи. Впрочем, по тем сведениям, которые на основании этой
рукописи мне передавал Радзиминский, я могу заключить, что и
не нашел бы в ней много нового и интересного," так как
Радзиминский, уверяя, что его отец был великий ученый, говорил на
основании отцовских показаний, что Хмельницкий принял турецкую
веру.
Из Кременца мы отправились в Берестечко, куда и
прибыли на другой день рано утром. Местность знаменитой
битвы Хмельницкого была мне очень известна по письменным
источникам, и я с особенным рвением старался поверить
мои о ней представления, старался отыскать следы давно
минувших событий, о которых столько читал, писал и думал.
Берестечко лежит на равнине вдоль реки Стыри — реки,
чрезвычайно извилистой; в нее впадает, версты за четыре не
доезжая местечка, болотистая речка Пляшева, известная
гибелью казацкого войска, которого множество потонуло при
беспорядочном переходе через нее во время несчастного
бегства из лагеря. Приближаясь к местечку и переехавши уже
через Пляшеву, я наткнулся на старую линию окопов в виде
полумесяца и понял, что это следы бывшего польского лагеря,
сделанного тогда, когда поляки перешли с правой стороны
Стыри на левую. Вправо от дороги змеилась извилистая
Стырь, налево — глаза упирались в густой высокий лес.
Прибывши в местечко, мы остановились в жидовской корчме.
Я вынул из портфеля свои бумаги и начал толковать с
товарищем о Хмельницком; потом позвал иудея и просил его,
нельзя ли достать мне старых людей, знающих хорошо
местность, чтобы они показали мне поле и разные признаки
на нем. Иудей посмотрел на меня подозрительно и исчез.
Я продолжал свой разговор с товарищем, пока спустя полчаса
не вошел к нам в комнату господин в мундирном сюртуке
с красным воротником, при шпаге; он потребовал от нас
паспорты и увидавши из них, кто мы такие, ласково сказал:
«Вам, господа, угодно осмотреть поле битвы, происходившей
между казаками и поляками; я могу доставить все, что вам
нужно и покорнейше прошу перебраться ко мне в дом, у
меня вам будет спокойнее и удобнее». Меня очень удивила
уверенность, с какою этот господин выразился, что ему
вполне известно, зачем мы приехали и чего ищем. Мы вышли
с ним и сели в его экипаж, иудей по его приказанию
положил туда же все наши пожитки. Дорогою этот господин
объяснил нам, что он становой пристав и, предуведомленный
.иудеем о прибытии каких-то господ, желающих зачем-то
осматривать поле, пришел к нам в намерении, если окажется
нужным, арестовать нас; но, подслушавши наш разговор,
понял, что мы не какие-нибудь польские эмиссары, которых
ему предписывали беречься, а ученые, отыскивающие следы
давно минувших событий. Мы нашли у него самый
гостеприимный прием, вместе с ним объезжали поле и все окре-
477
стности Берестечка и через его посредство делали расспросы
и вели беседы с народом. Поехавши снова на поле, где
была битва, я увидел ясно на одной стороне ближе к лесу
небольшое возвышение, где стоял крымский хан, а вправо
от него, через дорогу, ближе к Стыри — следы кругловвдных
окопов, где был казацкий лагерь, укрепленный после ухода
Хмельницкого за ханом. Тут я нашел и остров на Стыри,
тот самый, где, по известию Пастория, защищались триста
храбрых казаков, не хотевших сдаться врагам и мужественно
погибших в упорной битве. Этот остров весь порос большим
лесом; вправо от него, при впадении реки Пляшевы было
место рокового перехода казаков через реку — перехода, в
котором потонуло множество казацкого войска. Что это
событие происходило именно в этом месте, я заключил по
поводу собранных известий, что до сих пор в упомянутом
месте на дне реки отыскиваются обломки седел, оружия,
стремян и перетлевшие куски попон. Все это, как известно,
бросали казаки в воду, чтобы устроить плотину для своего
перехода. На противоположной стороне Стыри, за местечком
Берестечком находится холм со сложенною из кирпича
часовнею, в которой поставлена статуя св. первомученицы
Феклы. Здесь, по преданию, погребена толпа женщин, убежавших
из окрестностей под защиту польского войска и остававшихся
на правой стороне Стыри в то время, когда поляки выступили
в бой на левой стороне той же реки. Татары неожиданно
перешли реку и перебили всех этих женщин, которых число
предание показывает до трех тысяч. На самом деле, вероятно,
холм с часовнею есть место, где погребены были польские
воины, убитые в бою. На этой же стороне Стыри, версты
за две от местечка стоит высокий памятник, поставленный,
как гласит на нем надпись, над телом князя Пронского,
умершего в 1533 году. Он, как говорит предание, был еретик
и, зная, что по смерти достанется во власть дьяволу и будет
ходить мертвецом, пугая живых людей, приказал прибить
свой гроб во внутренности верхней части памятника на
цепях. Я влезал по подставленной лестнице в отверстие,
пробитое в этой верхней части, и видел действительно
обломки цепей со вбитыми в своды кольцами. Этот князь
Пронский был один из рязанских князей, бежавший в Литву
после насильственного завладения Рязанской землею со
стороны Москвы. Само собою разумеется, что народная легенда
о его еретичестве не имеет исторического основания.
Осмотревши Берестечко, мы через два дня выехали назад
в Ровно, напутствуемые добрыми пожеланиями гостеприимного
нашего хозяина и снабженные от него на дорогу съестными
припасами.
Наступил в гимназии экзамен, и тут я получил из Киева
известие, что меня переводят учителем истории в Первую киевскую
гимназию. Приходилось прощаться с Ровно и Волынью. Я уехал
оттуда с большим ворохом народных песен и записанных пре-
478
даний и рассказов; некоторые были собраны мною лично, другие
доставлялись моими учениками, которых я заохотил по случаю
поездок их к родным на вакационное время собирать и доставлять
мне народные памятники.
Приехавши в Киев, я узнал, что уже все было сделано
относительно моего перевода, и, пользуясь наступлением летних
вакаций, отправился в Воронежскую губернию к матери на почтовых
через Глухов и Курск.
Во время вакаций я съездил в Дивногорский монастырь,
расположенный в чрезвычайно красивой местности над Доном, близ
устья Тихой Сосны. Это одна из живописнейших местностей,
которые мне случалось встречать в России. Меловые горы,
составляющие берег Дона, по своей природной конструкции приняли
здесь фантастические фигуры столбов, колонн, каменных скамей,
пристенков, башен и т. п. В меловых горах тянется углубление,
покрытое лесом; здесь построен монастырь. Он был беден и
заключал в себе не более пяти братии, из которых один, бывший
некогда армейским капитаном, теперь иеромонах, носил звание
настоятеля. В меловой горе, выше леса, которым обросла ее
подошва, есть пещера, выкопанная в виде коридора; начало ее по
преданию относится к XVII веку. Настоятель, показывая мне эту
пещеру, рассказал мне, что на Троицын день в Киево-Печерской
лавре было чудное видение: во время обедни явилась Богородица
за престолом и осенила народ крестным благословением. Говорили
ему об этом богомолки, недавно прибывшие из Киева, и уверяли,
что сами были в церкви и видели явление Богородицы. Я объяснил
ему, что сам на первый день Троицы был у обедни в лавре и,
однако, не видал Богородицы. «Значит, Господь не сподобил вас
увидеть чудо, а женщины его увидали», сказал настоятель.
В августе я отправился снова в Киев и по приезде туда
вступил в свою новую должность учителя Первой киевской гимназии.
Сначала я поместился на Старом Городе, потом перешел на Кре-
щатик и нанял квартиру вместе со студентом Афанасием Марке-
вичем, горячим любителем южнорусского языка и ревностным
местным этнографом. Прошло несколько месяцев. В ноябре я по-,
лучил от матери письмо, в котором она жаловалась на упадающее
здоровье и изъявила желание продать имение и переехать ко мне
в Киев. Я сообразил, что держать имение за девятьсот верст от
Киева и ездить в него на перекладных не совсем удобно, и
предположил продать имение в Острогожском уезде, а вместо него
купить где-нибудь по соседству с Киевом. С этою целью я
отправился к матери в декабре 1845 года. Медлить было нечего,
потому что находился хороший покупщик имению. По приезде в
свою слободу я немедленно послал нарочного к помещику,
желавшему купить имение, а тот прислал ко мне своего поверенного,
дворового человека, с деньгами. Мы отправились в Воронеж и в
течение нескольких дней совершили купчую крепость.
Возвратившись назад, я попрощался с углом, который считал своим много
лет, и отправился на почтовых через Харьков в Киев. На дороге
между Полтавою и Киевом я простудил себе горло и получил на-
479
рыв; в таком состоянии прибыл я в Киев на первый день
Рождества. Квартира моя оказалась нетопленою: товарища моего Марке-
вича не было в городе, и я принужден был приютиться в какой-то
грязной гостинице, находившейся на Крещатике на углу
Бессарабской, площади. 'Здесь мой знакомый, проживавший в Киеве
кандидат Дерптского университета Н. И. Гулак, пригласил меня
переехать к нему и жить до приезда ко мне матушки, после чего
я собирался уже отыскать себе особую квартиру. Болезнь горла
потребовала операции, мне сделал ее профессор Караваев,
проколовший нарыв в горле, и я оставался в квартире у Гулака до
февраля. Так как выздоровление не позволяло мне выезжать, то я
проводил время с Гулаком и учился вместе с ним сербскому
языку. К нам часто приходил наш общий приятель Василий
Михайлович Белозерский, по окончании курса в университете
проживавший в Киеве в надежде найти себе служебное место.
Потом стал ходить к нам Афанасий Маркевич, возвратившийся в
город от брата, у которого несколько времени гостил. Наши
дружеские беседы обращались более всего к идее славянской
взаимности. Надобно сказать, что то было время, когда сознание этой
идеи было еще в младенчестве, но зато отпечатлевалось такою
свежестью, какую она уже потеряла в близкое к нам время. Чем
тусклее она представлялась в головах, чем менее было обдуманных
образов для этой взаимности, тем более было в ней
таинственности, привлекательности, тем с большею смелостью создавались
предположения и планы, тем более казалось возможным все то,
что при большей обдуманности представляло тысячи препятствий
к осуществлению. Взаимность славянских народов в нашем
воображении не ограничивалась уже сферою науки и поэзии, но стала
представляться в образах, в которых, как нам казалось, она
должна была воплотиться для будущей истории. Мимо нашей воли
стал нам представляться федеративный строй как самое
счастливое течение общественной жизни славянских наций. Мы стали
воображать все славянские народы соединенными между собою в
федерации подобно древним греческим республикам или
Соединенным Штатам Америки, с тем чтобы все находились в прочной
связи между собою, но каждая сохраняла свято свою отдельную
автономию. Федерация только по одним народностям не оказалась
для нас вполне удобною по многим причинам, а в особенности по
количественному неравенству масс, принадлежавших к
народностям. Какое в самом деле союзничество на основаниях взаимного
равенства могло существовать между ничтожными по количеству
лужичанами и огромною массою русского народа с неизмеримыми
пространствами его отечества? Мы пришли к результату, что с
сохранением права народностей необходимо другое деление частей
будущего славянского государства для его федеративного строя.
Таким образом составилась мысль об административном
разделении земель, населяемых славянским племенем, независимо от
того, к какой из народностей принадлежит это племя в той или
другой полосе обитаемого им пространства. Мы не могли уяснить
себе в подробности образа, в каком должно было явиться наше
480
воображаемое федеративное государство; создать этот образ мы
предоставляли будущей истории. Во всех частях федерации
предполагались одинакие основные законы и права, равенство веса,
мер и монеты, отсутствие таможен и свобода торговли, всеобщее
уничтожение крепостного права и рабства в каком бы то ни было
виде, единая центральная власть, заведующая сношениями вне
союза, войском и флотом, но полная автономия каждой части по
отношению к внутренним учреждениям, внутреннему управлению,
судопроизводству и народному образованию. Ближайшим и
вернейшим путем к достижению этой цели в далеком будущем
предполагалось воспитание общества в духе таких идей, а потому
считалось необходимым, чтобы в университетах и прочих учебных
заведениях были люди искренно преданные этим идеям и
способные внедрять их в юные поколения. С этою целью явилась мысль
образовать общество, которого задача была бы распространение
идей славянской взаимности — как путями воспитания, так и
путями литературными. В виде предположения мною начертан был
устав такого общества, которого главными условиями были:
полнейшая свобода вероисповедания и национальностей и отвержение
иезуитского правила об освящении средств целями, а потому
заранее заявлялось, что такое общество ни в коем случае не должно
покушаться на что-нибудь имеющее хотя тень возмущения против
существующего общественного порядка и установленных
предержащих властей. Изучение славянских языков и литератур
ставилось главнейшим делом в образовании. Товарищи мои искренно
приняли эти идеи; самому обществу предположено было дать
название общества св. Кирилла и Мефодия, славянских апостолов.
Мысль об основании общества вскоре была забыта после того как
я, оправившись от недуга, стал ездить в гимназию на должность
и с приездом ко мне матушки на постоянное жительство нанял
другую квартиру; но мысль о славянской взаимности и
славянской федерации глубоко оставалась у всех нас как заветная в
жизни.
1 февраля 1846 года мать моя приехала в Киев, и с этих пор
начался для меня иной род домашней обстановки. Вместе с
матушкой я поселился на Крещатике в доме Сухоставской. Через
несколько домов, на противоположной стороне, в той самой
гостинице, куда я прибыл на праздник рождества по возвращении с
продажи моего имения, квартировал Тарас Григорьевич
Шевченко,, приехавший тогда из Петербурга в Малороссию с намерением
приютиться здесь и найти себе должность. Узнавши о нем, я
познакомился с ним и с первого же раза сблизился. Тогда была
самая деятельная пора для его таланта, апогей его духовной силы.
Я с ним видался часто, восхищался его произведениями, из
которых многие, еще неизданные, он дал мне в рукописях. Нередко
мы просиживали с ним длинные вечера до глубокой ночи, а с
наступлением весны часто сходились в небольшом садике Сухо-
ставских, имевшем чисто малорусский характер: он был насажен
преимущественно вишнями; было там и несколько колод пчел,
утешавших нас своим жужжанием.
481
Кроме Шевченко частыми собеседниками моими были Гулак,
Белозерский, Маркевич и учитель Пильчиков; нередко заходил ко
мне старый профессор бывшего Кременецкого лицея Зенович,
добродушный старичок, занимавшийся химиею и некогда
сочинивший какую-то теорию о сотворении мира посредством
электричества и магнетизма; он имел слабость проповедывать ее
кстати и некстати всякому встречному и поперечному. Кулиша в
то время не было в Киеве: он находился в Петербурге.
В конце мая меня известили, что университет св. Владимира
желает избрать меня в преподаватели русской истории вместо
недавно умершего Домбровского, но с тем чтобы я.прочитал в совете
пробную лекцию, так как большая часть членов меня не знала и
даже не видала в глаза. Я согласился на это условие. 4 июня меня
пригласили в заседание совета и предложили мне прочитать
лекцию о том, с какого времени следует начинать русскую историю.
Я прочитал. Содержание моей лекции основывалось на том, что
история русская есть история славянского племени, живущего в
России, и потому начинать ее надобно с тех времен, в которые
являются признаки поселения славян на русском материке.
Задача моя повлекла меня в эпоху владычества готов и гуннов. Я
изложил со своей точки зрения теорию происхождения гуннов от
смеси разных племен, обитавших в России, и в том числе славян,
порабощенных готами и бежавших в заволжские степи вместе е
беглецами из других племен. Так как я недавно перед тем читал
Аммиана Марцеллина, Иорнанда, Лиутпранда, Приска и других
писателей древнего времени, оставивших повествование о гуннах,
то лекция моя вышла настолько богата сведениями, сколько и
примерами свидетельств, приводимых мною в подлинниках: она
произвела самое хорошее впечатление. По удалении моем из зала
совета произведена была баллотировка, а через час ректор
университета, профессор астрономии Федоров прислал мне записку, в
которой известил, что я принят единогласно и не оказалось ни
одного голоса, противного моему избранию. То был один из самых
светлых и памятных дней моей жизни. Университетская кафедра
давно уже для меня была желанною целью, которой достижения,
однако, я не надеялся так скоро.
Через день или два после моего избрания я переехал на
другую квартиру, на Старый Город, на Рейтарскую улицу и,
оставивши в ней свою матушку, отправился на почтовых в Одессу с
целью морского купанья. Я пробыл в Одессе до половины августа
и возвратился в Киев, а через несколько дней был приглашен
читать вступительную лекцию в университете. Моя первая лекция
прошла как нельзя лучше; слушателей было огромное число,- и
кроме того ее посетили несколько профессоров университета.
Так началась моя кратковременная профессорская карьера. С
тех пор я начал жить в совершенном уединении, погрузившись в
занятия историею; время мое поглощалось писанием лекций по
русской истории, которых надобно было каждую неделю
приготовить четыре. Кроме того я иногда принимался за Богдана
Хмельницкого, дополняя написанное мною некоторыми источниками,-
482
отысканными в университетской библиотеке. Потом я принялся
писать «Славянскую мифологию», что, впрочем, было частию
читаемых мною лекций. Вместе с гимназическими уроками покинул
я бывшие у меня уроки в пансионах, оставивши за собою только
один из уроков в Образцовом пансионе г-жи Де-Мельян. За то
профессор Иванишев, бывший вместе инспектором Института
благородных девиц, уговорил меня читать две лекции в этом
заведении, на что я согласился с большою неохотою.
N В кругу профессорском я вообще мало вращался, будучи
сильно поглощен кабинетною деятельностью. О тогдашнем состоянии
университета св. Владимира могу сказать только, что он в то
время не избегал недостатков, общих всем нашим провинциальным
университетам того времени, но в нем меньше вкралось той
нравственной язвы, которая одолевала Харьковский университет, где
большая часть профессоров держали у себя на квартирах
студентов, брали с них тройную цену и за то проводили их на степени
обыкновенно недостойным образом, так как всегда почти у
профессоров квартировали плохие студенты. Нельзя сказать, чтобы
Киевский университет был совсем чист от этих злоупотреблений,
но в меньшей степени был заражен ими, чем Харьковский: по
крайней мере, число профессоров, державших у себя на
квартирах студентов, в Киеве не составляло большинства, как в
Харькове. Собственно по отношению к достоинству преподавания в Киеве
можно было указать на несколько бездарностей, но также отметить
между профессорами и несколько лиц, с честью занимавших
кафедры. В нашем факультете нельзя было без уважения отнестись
о профессоре Нейкирхе, читавшем греческий язык и греческую
словесность; это был истинный немец, «Gelehrter», вечно
преданный науке, честный человек и чрезвычайно строгий ценитель
студентских дарований и успехов. Студенты, занимавшиеся его
предметом, очень уважали эту личность. Почти то же можно
сказать о профессоре латинского языка, также немце, Деллене.
Русская словесность была в руках Селина, ученика и последователя
Шевырева; он высказывал московско-славянофильские идеи,
которые, впрочем, мало находили себе сочувствия у его слушателей,
а тон его чтения, постоянно старавшийся казаться восторженным,
принимался за аффектацию. Профессор всеобщей истории Став-
ровский был человек, обладавший большою памятью, но почти не
знакомивший своих слушателей с современными способами
обработки истории и критикою источников; в его преподавании, как
замечали студенты, слышалось что-то семинарское. Профессор
философии Новицкий пользовался между студентами хорошею ре-
путациею знатока своего предмета и способного передавателя
сведений. Бывший профессор русской словесности М. А. Максимович
в то время уже выбыл из университета, но, живя в своем хуторе
близ Золотоноши, часто приезжал в Киев, где виделся со мною.
Это был человек, правду сказать, небольшой учености, но очень
умный и беспристрастный в яех частях, которые были ему хорошо
знакомы. Беседы с ним был* вообще приятны и вовсе не давали
повода сделать такой приговор о бездарности, каким уже после его
483
смерти так несправедливо угостил его Кулиш, имевший, по
личным отношениям к нему, менее, чем кто-нибудь, права наложить
на него серое пятно бездарности. В юридическом факультете
видное место занимал Иванишев, впрочем, не столько по
преподаванию, сколько по издательской своей деятельности, так как он
занимался редакцией) письменных памятников, которые начала
печатать Временная комиссия для разбора актов, учрежденная в
Киеве при генерал-губернаторе, которой членом сделан был и я*
взявши на себя издание летописей Величка. Попечителем
университета был генерал Траскин, ничем особенно не выдававшийся, а
помощником его — Юзефович, малорусе, любивший свою
старину, но с дворянским чиновническим пошибом. Студенты по
своему настроению резко выделялись .в две партии: русскую и
польскую. Симптомы национальной враждебности, которые так
резко отличали Киевский университет впоследствии, тогда еще
были в зародыше или по крайней мере не смели проявляться
слишком рельефно при зорком наблюдении генерал-губернатора
Д.Г. Бибикова.
Однажды этот генерал-губернатор на университетском акте
после ухода из зала публики приказал остаться всем,
принадлежавшим к составу университета, как профессорам, так и
студентам, и проговорил грозную и вместе странную речь. Он объявил,
что до него дошли слухи о тайных собраниях студентов,
дерзающих обсуждать политические вопросы, и по этому поводу делал
угрозы, что если он еще услышит что-либо подобное, то по
данному ему от государя праву закроет университет, а виновных
разошлет в ссылку. При этом он шутя советовал студентам вместо
политических вопросов заниматься лучше женщинами и
кутежами, и что за это он не будет никого преследовать. Эту милую
шутку, выраженную, правда сказать, довольно цинически,
университетская молодежь приняла вовсе не так сочувственно, как,
по-видимому, ожидал оратор; напротив, когда студенты
расходились по домам, то я слышал между ними замечания о
совершенной непристойности такой выходки из уст начальника края в
стенах высшего учебного заведения.
Тогдашнее стремление правительственных элементов к
обрусению края произвело то, что поляки не смели себя называть
поляками, а называли католиками, что выходило забавно: слово
«католики» в Киевском крае теряло свое повсеместное значение
вероисповедания и стало означать как бы какую-то
национальность; но, отличая себя католиком, поляк, однако, ни за что бы
не назвал себя русским, потому что в этом крае и слово
«русский», наоборот, перешло как бы в значение вероисповедания.
Этим, собственно, только и ограничивалось тогдашнее обрусение.
Поляки все-таки исключительно говорили по-польски и не хотели
знать по-русски; приобретая знание русского языка поневоле в
училище, поляк считал как бы нравственною необходимостью
поскорее забыть его. Интеллигентный язык во всем крае был
исключительно польский, и даже крестьяне поневоле должны были
усваивать его. Иначе и быть не могло там, где огромная масса
484
малорусского православного народа оставалась в порабощении у
польских панов-католиков и где самый закон империи давал
последним столько прав над первыми.
Судя по экзаменам, как вступительным, так и переводным, я
имел случай вывести заключение, что поляки вступали в
университет с лучшею подготовкою, чем русские, и это зависело уже не
от школьного учения, а от первоначального домашнего воспитания.
Малорусское юношество, уроженцы левой стороны Днепра, за
исключением немногих, одаренных особыми выдающимися
талантами, отличались какою-то туповатостью, ленью и апатиею к
умственному труду. Вообще киевские студенты того времени мало
принимаемы были и в обществе, за исключением немногих
сыновей богатых помещиков или влиятельных особ. Между
профессорами и студентами также мало было интимного сближения, да и
начальство, видимо, не желало его, а поддерживало в профессорах
потребность держать себя с начальническим тоном. Были даже
примеры, что профессорам делались замечания, что они
обращаются запанибрата со студентами, указывалось профессорам, что
этим они роняют свое достоинство. Такое замечание получил и я
вследствие того, что начал приглашать к себе по вечерам студен-
тов; в которых замечал особую склонность к читаемому мною
предмету. Причиною тому был господствующий тогда дух
субординации и боязнь возникновения политического вольнодумства,
которое, как полагали начальствующие лица, могло явиться в
молодежи, близко познакомившейся с духом и задушевными идеями
своих наставников. Понятно, что при таком натянутом отношении
между профессорами и студентами нельзя было ожидать никакого
утешительного влияния наставников на учащихся. Профессор
довольствовался тем, что отбарабанил свою лекцию, мало обращая
внимания, как легла на душу слушателей эта лекция и что она
пробудила в их сердце и уме, а студент считал себя выполнившим
свою обязанность тем, что вызубрил записанную им
профессорскую лекцию и буквально проговорил ее на экзамене или на
репетиции. Таким образом, из этого очерка духа, господствовавшего
в университете того времени, даже и при некоторых профессорах,
отличавшихся дарованием и преданных науке, не могло
возникнуть ничего живого и богатого задатками для будущего.
Наступили рождественские святки. В Киев приехал
старинный мой знакомый, бывший некогда студент Харьковского
университета Савич, помещик Гадячского уезда. Он ехал в Париж. В
первый день рождества мы сошлись с ним у Гулака.на Старом
Городе в доме Андреевской церкви. Кроме него гостем Гулака был
Шевченко. Разговоры коснулись славянской идеи; естественно
выплыла на сцену заветная наша мысль о будущей федерации
славянского племени. Мы разговаривали не стесняясь и не
подозревая, чтобы наши речи кто-нибудь слушал за стеной с
целью перетолковать их в дурную сторону, а между тем так было.
У того же священника квартировал студент по фамилии Петров;
он слушал нашу беседу и на другой же день, сошедшись с Гула-
ком, начал ему изъявлять горячие желания славянской федерации
485
и притворился великим поборником славянской взаимности. Гу-
лак имел неосторожность со своей стороны открыть ему
задушевные свои мысли и рассказал о бывшем нашем предположении
основать общество. Этого только и нужно было. Около этого же
времени я написал небольшое сочинение о славянской федерации,
старался усвоить по слогу библейский тон. Сочинение это я
прочитал Гулаку; оно ему очень понравилось и он списал его себе, а
потом, как я узнал впоследствии, показал студенту Петрову.
Белозерского уже не было в Киеве; он отправился в Полтаву
учителем в кадетский корпус. У него был также список этого
сочинения.
Около этого же времени познакомился со мною известный
польский археолог, граф Свидзинский, и, узнавши, что я
занимаюсь Хмельницким, привез мне в подлиннике и в списке с
подлинника летопись Иерлича, позволив мне пользоваться ею для своей
истории, а затем дал обещание и на будущее время доставлять
мне рукописные материалы, относящиеся к истории казаков, а
этих материалов у него было много.
В конце января я расстался с Гулаком и с Шевченко; первый
уехал в Петербург с намерением держать там магистерский
экзамен, второй — к своему приятелю Виктору Забелле в Борзну.
Февраля 13-го я обручился с девицею Алиною Леонтьевною
Крагельскою, которую знал еще в пансионе г-жи Де-Мельян, где
преподавал с 1845 года. После выхода ее из пансиона увиделся я
с нею и познакомился с ее матерью в Одессе, куда летом ездил
купаться в 1846 году, а по возвращении в Киев несколько времени
посещал их дом, сблизился и узнал ее покороче. Свадьба наша
назначена была после пасхи в Фоминое воскресенье, 30 марта
1847 года.
Между тем в начале марта приехал в Киев Кулиш, который
перед тем только что женился на девице Белозерской, сестре моего
приятеля Василия. За Кулишом через несколько времени приехал
из Полтавы и Белозерский; он покинул должность учителя в
корпусе и вместе с Кулишом собрался ехать за границу, куда
Кулиша посылали от Академии наук для изучения славянских языков
с целью подготовления его к кафедре. Оба, пробывши несколько
дней в Киеве, уехали в предначертанный путь через Варшаву.
Находя бывшую свою квартиру тесною и неудобною для
предстоящей семейной жизни, я перешел на другую на Старом же
Городе, в дом Моньки, близ Андреевской церкви. Квартира эта
отличалась превосходным видом, с галереи открывался
прекрасный пейзаж; внизу расстилался Подол, далее — светлая полоса
Днепра, а за нею — обширная панорама лугов и лесов. Дом этот,
деревянный, был только что отстроен.
Наступила пасха. Весна была в то время ранняя:
благовещение приходилось во вторник пасхи и уже в то время можно было
ходить в одних сюртуках; луга зеленели, развивались вербы.
Приближался день моей свадьбы, и я к нему готовился не подозревая,
что над моей головой собирается туча, из которой должен
постигнуть меня удар.
486
IV
Арест, заключение, ссылка.
В пятницу на пасхе вечером я ездил в университет и дал
экзекутору деньги для освещения церкви на время моего венчания,
которое должно было совершиться в предстоящее воскресенье.
Возвратившись оттуда домой и напившись чаю, я отправился в свою
спальню, но не успел раздеться, как вошел ко мне помощник
попечителя учебного округа Юзефович и сказал: «На вас донос, я
пришел вас спасти; если у вас есть что писанного, возбуждающего
подозрение, давайте скорее сюда». За свои бумаги в кабинете мне
нечего было бояться, но я вспомнил, что в кармане моего
наружного пальто была черновая полуизорванная рукопись того
сочинения о славянской федерации, которую еще на святках я сообщил
для переписки Гулаку. Я достал эту рукопись и искал огня, чтобы
сжечь ее, .как вдруг незаметно для меня она очутилась в руках
моего мнимого спасителя, который сказал: «Soyez tranquille,
ничего не бойтесь». Он вышел и вслед за тем вошел снова, а за ним
нахлынули ко мне губернатор, попечитель, жандармский
полковник и полицеймейстер. Они потребовали ключей, открыли мой
письменный стол в кабинете, и попечитель, увидя в нем огромный
ворох бумаг, воскликнул: «Mon Dieu! il faut dix ans pour dechiffrer
ces brouillons». Потом забрали мои бумаги и, завязавши их в
потребованные простыни, опечатали кабинет, вышли из моей
квартиры и велели мне ехать вместе с ними. Я едва успел подойти к
матери, поцеловать ее оледеневшую от страха руку и сказать
«прощайте». Я сел в дрожки вместе с полицеймейстером Галяткиным.
Меня привезли на квартиру губернатора и сказали: «Вы знаете
Гулака?» Знаю, отвечал я. «Он сделал на вас донос, явился в III
отделение собственной его величества канцелярии и представил
рукопись, в которой излагалось о будущем соединении славян». Я
не знаю этой рукописи, сказал я. Но черновая рукопись, взятая у
меня помощником попечителя, предстала предо мною в обличение
моих слов: улика была налицо. Меня отправили в Подольскую
часть и посадили в отвратительной, грязной комнате, поместивши
меня с двумя полицейскими солдатами. Через день, в воскресенье
утром, полицеймейстер Галяткин вошел ко мне и, злобно потирая
руки, сказал: «Каково тут вам, г. профессор, не совсем удобно?
Оно было бы приятнее дома с молодой женой». Частный пристав
Подольской части обращался со мною добродушнее и принимал
во мне сердечное участие. Вечером в воскресенье меня повезли в
закрытом экипаже на мою квартиру, где я простился с матерью
и невестою. Сцена была раздирающая: мне неожиданно
приходилось ехать в неведомый путь и на неведомую судьбу в то самое
время, когда, по моему ожиданию, должно было происходить в
церкви мое венчание. Затем я воротился в часть: немедленно меня
посадили на перекладную и повезли в Петербург. Моими
провожатыми были квартальный надзиратель Старокиевской части Ло-
487
бачевский и жандарм из нижних чинов, родом малорусе. Меня
везли через Могилев и Витебск на перекладных. Состояние моего
духа было до того убийственно, что у меня явилась мысль во время
дороги заморить себя голодом. Я отказывался от всякой пищи и
питья и имел твердость проехать таким образом пять дней.
Слабость телесных сил дошла до такой степени, что я не мог без
чужой помощи ни встать с повозки, ни влезть на нее; но мы
скакали день и ночь, уже до Петербурга оставалось недалеко, и я
увидел, что не буду иметь возможности умереть до приезда в
столицу. Мой провожатый квартальный, заметивши, что я ничего не
ем, понял, что у меня на уме, и начал советовать оставить
намерение. «Вы, — говорил он, — смерти себе не причините, я вас
успею довезти, но вы себе повредите: вас начнут допрашивать, а
с вами от истощения сделается бред и вы наговорите лишнего и
на себя, и на других». Я поддался этому совету и в Гатчине
позавтракал в первый раз после пятидневного поста. Через несколько
часов меня привезли в Петербург. Это было 7 апреля. Здесь еще
стояла зима, мы въехали на санях; не только Нева, но еще и
Фонтанка, по берегу которой шел наш путь, не трогалась с места.
Меня привезли прямо в III отделение канцелярии его величества,
ввели в здание и длинными коридорами провели в комнату, где
кроме кровати с постелью стояла кушетка» обитая красною
шерстяною материею, а между двумя окнами помещался довольно
длинный письменный стол. Первым делом было раздеть меня
донага; мое платье унесли, а меня одели в белый стеганый пикейный
халат и оставили под замком. В верхней части двери были стекла,
за которыми виднелись стоявшие на часах жандармы с ружьями.
Не прошло и часа, как вахмистр принес мое платье, велел
одеваться и объявил, что меня требует к себе граф Алексей
Федорович Орлов, бывший тогда шефом жандармов. Меня повели в один
зал, где я увидал великорослого красиво сложенного старика,
увешанного орденами. «Государь очень жалеет, — сказал он, — что
вы попались в эту неприятную историю, тем более что мы
получили от вашего начальства самый лестный об вас отзыв; но я
надеюсь, что вы оправдаетесь; конечно, вы награды от государя не
получите, потому что вы все-таки виноваты: у вас взяли гнусную
вещь». Затем он начал вкратце излагать содержание рукописи,
взятой у меня в Киеве. «Что же за такие штуки? — прибавил
он. — Эшафот! Но я уверен, что не вы написали эту мерзость;
будьте откровенны и дайте возможность спасти вас. У вас есть
старуха-матушка, подумайте о ней; да вы же притом и жених; от
вас будет зависеть снять со своей спины хотя половину той кары,
которую вы заслужили». Близ него стоял генерал-лейтенант
Дубельт, человек лет пятидесяти с седыми бакенбардами и усами, с
кругловатым лицом и с бегающими глазами, возбуждавшими с
первого раза неприятное впечатление. Меня увели вновь в мой
нумер, а вслед за тем принесли на бумаге вопросные пункты. С
этого дня начались допросы. От меня добивались: знаю ли я о
существовавшем обществе Кирилла и Мефодия. Я отвечал, что не
считаю его существовавшим когда-либо иначе как только в пред-
488
положении, которое могло сбыться и не сбыться; я давал ответы,
что такого общества не знаю и что только говорено было о пользе
учреждения учено-литературного общества, а само общество не
сформировалось; но оказывалось, что от нас хотели непременно
признания в том, что общество было, и потому, видимо, были
недовольны моими ответами.
Скучая в заключении, я однажды воспользовался посещением
Дубельта, обходившего наши камеры, и просил его дозволить мне
читать книги и газеты. «Нельзя, мой добрый друг, — сказал он, —
вы чересчур много читали, «у а когда кто обопьется воды, надобно
давать уже понемногу;' вы, мой добрый друг, много знаете, больше,
чем сколько следует, и хотите все больше и больше знать».
«Адамов грех, ваше пр-во!» — сказал я. Ни книг, ни газет мне все-таки
не дали. Из Киева присылали в III отделение разные вырезанные
части моих бумаг и в том числе университетские лекции; это были
места, которые, по взглядам местных властей, возбуждали
сомнение в моей благонамеренности. По поводу одного такого места,
соблазнившего генерала Дубельта, он призвал меня в канцелярию
и, указывая на мое писание, говорил: «А ваши лекции, мой
добрый друг, хороши?! — вишь, какие завиральные идеи! Читали
бы им (студентам) грамматику да арифметику, а то занесли им
какие премудрости!»
В числе таких бумаг было четверостишие начатого мною и
никогда не оконченного стихотворения:
Где ты, Новограда память нетленная,
Слава полунощных стран?
Встань, пробудись, старина незабвенная,
Древняя вольность славян!
И это не обошлось без обличительного замечания.
В начале мая делопроизводитель в канцелярии с разрешения
Дубельта принес ко мне показание Белозерского и объяснил, что
такого рода показание понравилось моим судьям, а потому и мне
следует написать в таком духе. Собственно, Белозерский говорил
сущность того же, что и я, но выразился, что общество было,
однако не успело распространиться. Видя, чего хотят от нас, и
сообразив, что плетью обуха не перешибешь, я написал в новом
своем показании, что хотя мне казалось, что нельзя назвать
обществом беседу трех человек, но если нужно назвать его таким об-
- разом ради того, что оно было как бы в зародыше, то я назову его
таким образом. Я изменил свое прежнее показание, тем более что
оно было написано под влиянием сильного нравственного
потрясения и, как находили мои судьи, заключало в себе невольное
противоречие. Затем мне делали вопросы относительно колец с
именем Кирилла и Мефодия, найденных у меня, Гулака и
Белозерского. Я объяснил, что это не имело никакого отношения к
предполагаемому обществу и кольца надеты были только из
уважения к священной памяти просветителей славянства. Обратила
внимание и найденная у меня печать с текстом из Евангелия от
Иоанна, глава 8, стих 32; но на той же печати поставлен был год,
489
показывавший, что печать сделана была в начале сороковых годов,
то есть гораздо ранее того времени, когда предполагалось
учреждение общества. Вопросы об этих двух знаках были оставлены
по-видимому, им не придавали большого значения.
Мая 15-го созвали нас на очные ставки. Здесь увидел я
студента Петрова, который наговорил на меня, между прочим, что я
в своих лекциях с особенным жаром и увлечением рассказывал
будто бы такие события, как убийства государей. На это я дал
ответ, что, читая русскую историю, я не имел возможности
заявить в своих чтениях того, в чем меня обвиняют^ потому что читал
историю древнюю, а в те времена кроме Андрея Боголюбского,
умерщвленного одною партиею, никто из князей не был убит
народом и не происходило таких событий, о которых толкует мой
обвинитель. Мой ответ был до того логичен, что не возбудил от
моих судей никакого возражения. Здесь я встретил другого
студента, Андрузского, уже не в звании обвинителя, но в качестве
соучастника, по неизвестной мне причине привлеченного к
следствию. Этот студент, молодой, низенького роста и с больными
глазами, написал в своем обо мне показании множество самых
ужасных и до крайности нелепых вещей; между прочим, обвинял
меня в намерении восстановить Запорожскую Сечь; но когда его
показание было прочитано и я при нем объявил, что все это ложь
и бред больного воображения, он заплакал и произнес: «Все это
ложь, я сознаюсь в этом».
Третья очная ставка была иного рода — между мной и Гула-
ком. Я писал, что дело наше ограничивалось только
рассуждениями об обществе, и найденные у нас проект устава и сочинение
о славянской федерации признал своими. Вдруг оказалось, что в
своих показаниях Гулак сознавался, что и то и другое было
сочинено им. Видно было, что Гулак, жалея обо мне и других, хотел
принять на себя одного все то, что могло быть признано
преступным. Я остался при прежнем показании, утверждая, что рукопись
дана была Гулаку мною, а не мне Гулаком. Гулак на очной ставке
упорствовал на своем, и граф Орлов с раздражением сказал о нем:
«Да это корень зла!» Впоследствии Гулак написал, что рукопись
действительно написана была не им, так как принимая чужую
вину на себя, он уже не мог сделать никакой пользы другим. Тем
не менее его попытка выгородить товарищей принята была за
обстоятельство, увеличивавшее его преступление, и он был
приговорен к тяжелому заключению в Шлиссельбургской крепости на три
с половиною года. Как бы ни судить справедливость или
несправедливость наших тогдашних убеждений, подвигнувших нас на
неосторожное и, главное, на несвоевременное дело, всякий
честный человек не может не признать в этом поступке молодого
человека этого порыва самоотвержения, побудившего его для
спасения друзей с охотою подвергать себя самого страданиям
наказания. Он был настоящий практический христианин и
осуществил в своем поступке слова Спасителя: «Больше сея любви
никто же имать, да аще положить душу свою за други своя». С
прочими лицами очной ставки для меня не было. Из всех привле-
490
ченных к этому делу и в этот день сведенных вместе в комнате
перед дверью, той, куда нас вызывали для очных ставок,
Шевченко отличался беззаботною веселостью и шутливостью. Он
комически рассказывал, как во время возвращения его в Киев арестовал
его на пароме косой квартальный; замечал при этом, что недаром
он издавна не терпел косых, а когда какой-то жандармский
офицер, знавший его лично во время его прежнего житья в
Петербурге, сказал ему: «Вот, Тарас Григорьевич, как вы отсюда вырветесь,
то-то запоет ваша муза», — Шевченко иронически отвечал: «Не
який чорт мене сюди зашс, коли не .та б1сова муза». Когда нас
разводили по номерам, Шевченко, прощаясь со мною, сказал: «Не
журись, Микола, ще колись будем у куш добре жити». Эти
последние слова, действительно, через много лет оказались
пророческими, когда последние годы своей жизни освобожденный поэт
проводил в Петербурге и часто виделся со мною.
30 мая утром, глядя из окна, я увидал, как выводили
Шевченко, сильно обросшего бородой, и сажали в наемную карету вместе
с вооруженными жандармами. Увидя меня в окне, он приветливо
и с улыбкой поклонился мне, на что я также отвечал знаком
приветствия, а вслед за тем ко мне вошел вахмистр и потребовал к
генералу Дубельту. Пришедши в канцелярию, я был встречен от
Дубельта следующими словами: «Я должен объявить вам не
совсем приятное для вас решение государя императора; но надеюсь,
что вы постараетесь загладить прошлое вашею будущею
службою». Затем он развернул тетрадь и прочитал мне приговор, в
котором было сказано, что «адьюнкт-профессор Костомаров имел
намерение вместе с другими лицами составить украино-славян-
ское общество, в коем рассуждаемо было бы о соединении славян
в одно государство, и сверх того, дал ход преступной рукописи
«Закон Божий»1, а потому лишить его занимаемой им кафедры,
заключить в крепость на один год, а по прошествии этого времени
послать на службу в одну из отдаленных губерний, но никак не
по ученой части, с учреждением над ним особого строжайшего
надзора». Сбоку карандашом рукою императора Николая было
написано: «В Вятскую губернию».
По прочтении этого приговора меня вывели, посадили в
наемную карету и повезли через Троицкий мост в Петропавловскую
крепость. Прежде всего ввели меня к коменданту, которым был
тогда старый безрукий генерал Скобелев. Он передал меня
смотрителю Алексеевского равелина, не менее коменданта старому и
седому майору, который и повел меня мимо Монетного двора в
калитку, сделанную в воротах; за калиткою я очутился на мосту,
устроенном через один из протоков, проведенных в Неву, а за
мостом было каменное одноэтажное здание совершенно круглого
1 Это была рукопись, взятая у меня помощником попечителя и
отысканная, кроме того, в иных списках у Гулака и Белозерского; но
почему она названа «Закон Божий» и кто назвал ее таким образом, мне и
до сих пор не известно, потому что о таком названии я и услышал впервые
в III отделении.
491
вида с садом внутри. Меня повели по каменному помосту
коридора, освещенного рядом окон, сделанных вверху и выходивших в
сад, и привели в седьмой нумер. Это была просторная комната с
койкой, простым дубовым столом, покрытым грубою скатертью, и
с деревянным стулом при столе. Комната эта тускло освещалась
одним окном, замазанным снаружи белилами; только два верхних
стекла оставлены были незамазанными. На окне стояла большая
оловянная кружка для воды с вырезанными на ее крышке буквами
А. Р. Стены комнаты были чрезвычайно толсты. Меня заперли в
.этой комнате, а часа через два вошел помощник смотрителя,
офицер внутренней стражи, с четырьмя солдатами* и велел
раздеваться. С меня сняли все платье и белье, не оставили даже и очков,
нарядили в казенное толстое белье с огромными чулками и
туфлями; сверху белья надели полосатую пестрядинную блузу, а на
голову — длинный белый колпак. В таком костюме меня и
оставили. На другой день привели цирюльника, который меня обрил
и остриг чрезвычайно плотно, а потом повели в баню. По
возвращении из бани солдат, вскочивший наскоро, принес мое платье и
велел одеваться; вслед за ним вошел смотритель и объявил, что я
должен идти к коменданту. Я отправился за ним в комендантский
дом и увидел там свою матушку; потом вышел комендант и
сказал, что мне позволяют видеться с матерью, но только в
присутствии коменданта. В определенный недельный день, а именно по
пятницам, будет ко мне приходить матушка, а смотритель будет
меня приводить в комендантский дом на свидание с нею.
14 июня меня снова позвали к коменданту; я увидел опять
свою матушку и вместе с нею мою бывшую невесту, приехавшую
в Петербург со своею матерью. Мне дозволили проститься с нею.
Мать моей невесты утешала меня надеждами, что брак мой
состоится* когда окончится срок моего заточения в крепости; невеста
же, уезжая из Петербурга, передала моей матери записку ко мне,
в которой умоляла меня беречь свое здоровье и надеяться. К
сожалению, надежды наши не состоялись — никак не по ее вине.
С тех пор потекли дни за днями, недели за неделями, месяцы
за месяцами. Комендант — в качестве особого ко мне
снисхождения — разрешил мне пить чай, курить сигары и читать книги,
которые доставлялись мне матушкой. Каждую пятницу приходила
ко мне матущка и видалась со мною сперва в комендантском доме,
а потом в другом, по соседству с комендантским, в присутствии
смотрителя равелина. Писать чернилом мне не дозволяли, но
дозволили писать карандашом. По ночам у меня в комнате
зажигался ночник, от которого шла нестерпимая вонь. На содержание
отпускалось мне по чину двадцать копеек в день; мне давали один
раз щи, другой раз суп; иногда к этому прибавлялась каша с
маслом, а по праздникам пирог. За недостатком привычного стола
я стал пить чай в двенадцать часов дня и с той поры приучил
себя к- этому так, что не только по выходе из крепости, но и до
настоящего времени питье чая в полдень стало для меня обычным
делом. До февраля 1848 года я был здоров и занимался греческим
языком, в котором чувствовал себя и прежде слабым: мне хотелось
492
пополнить этот недостаток в моем образовании. После усилий,
продолжавшихся несколько месяцев, я наконец дошел до того, что
читал свободно Гомера, хотя по временам заглядывал в
подстрочный латинский перевод в издании Дидо. В то же время в виде
отдыха от головоломки над греческим языком я занимался
испанским языком и при сравнительной его легкости успел прочитать
несколько пьес Кальдерона и почти всего «Дон Кихота». В феврале
меня одолела невыносимая головная боль и нервные припадки,
сопровождаемые галлюцинациями слуха. К этому, как кажется,
расположило меня то, что, бывши перед тем в бане, я по совету
смотрителя дозволил окатить себе голову ледяной водой и в то же
самое время — парить свое тело вениками. Доктор, призванный
ко мне, сказал, что по моем освобождении мне будет полезно
гидропатическое лечение холодной водой, а я, не желая откладывать
надолго такого рода пользование, стал лечиться водою в крепости.
Каждый день меня выпускали в сад на полчаса, а потом и на
долее; я раздевался, становился под желоб и пускал себе водяную
струю на спину. Смотритель, большой поклонник гидропатии, не
только не препятствовал мне делать эти эксперименты, но еще
одобрял их, — ив самом деле, в марте здоровье мое стало
поправляться. Этому пособило еще и то, что по совету доктора я перестал
заниматься греческим языком как занятием чересчур тяжелым для
заключенного, и стал читать французские романы. Я прочел тогда
все сочинения Жорж Санд. Весною, с появлением зелени мне еще
стало лучше и я с нетерпением ожидал 30 мая, когда оканчивался
срок моего заточения и меня, как я надеялся, должны были
вывести из крепости.
Долгожданный день наступил. Часов в семь утра ко мне в
комнату принесли мой чемодан; пришел смотритель и предложил
расписаться в обратном получении моих вещей и утверждении
счета издержкам, делаемым из находившихся у него моих денег,
потраченных на сахар, чай, сигары, сливки и хлеб к чаю. По
окончании расчетов смотритель объявил, что пора ехать. Мы
вышли, перешли мост, за воротами равелина стояла уже карета; мы
сели в нее и поехали, направляясь к III отделению. Это был
праздник Св. Троицы. Мы застали в канцелярии делопроизводителя
секретной экспедиции, который объявил мне, что я пробуду
несколько дней в III отделении, а потом буду отправлен к месту
ссылки. Мне отвели в верхнем этаже светлую комнату, хорошо
меблированную, с окном, выходящим на улицу. За дверьми в
коридоре посадили солдата, но без ружья. Через час посетил меня
генерал Дубельт. Здесь я прожил четырнадцать дней. Каждый
день ко мне приходила матушка. Стол давали мне хороший, из
лучшего ресторана; за каждым обедом приносили хорошее вино;
дали также целый ящик гаванских сигар. Окно было постоянно
отворено.
Однажды позвали меня в канцелярию и сказали, что
император изволил приказать графу Орлову спросить меня, не хочу ли
я куда-нибудь потеплее вместо Вятки и не нужно ли мне денег. Я
поблагодарил и сказал, что если такова милость государя, то я бы
493
просил отправить меня в Крым, так как по совету врача для моего
здоровья было бы полезно морское купанье. Эта просьба передана
была графу Орлову, а потом мне объявили, что граф сказал: «Там
поэзии много, пусть лучше едет по выбору в какой-нибудь из
четырех городов Юго-Восточной России: Астрахань, Саратов,
Оренбург или Пензу». Подумавши, я избрал Саратов, так как
сообразил, что там пригоднее будет купаться. Мне дали триста
рублей вспоможения. При заключении меня в крепость матери
моей выдали уже сумму, составляющую мое годовое жалованье по
должности адьюнкт-профессора.- В день назначенный к отъезду,
генерал Дубельт призвал меня в свой кабинет и показал
отношение обо мне к саратовскому губернатору, в котором после
официального содержания было прописано рукою графа Орлова:«Прошу
вас быть к нему милостиву, он человек добрый, но заблуждался,
но теперь искренно раскаялся». Затем генерал Дубельт сказал
мне, что если я где захочу остановиться, то могу. Я изъявил ему
желание остановиться в Новгороде, которого я никогда не видал и
который привлекал меня своим историческим значением. Дубельт
передал мое желание офицеру, назначенному для поездки со
мною, и приказал остановиться в Новгороде на столько времени,
на сколько я сочту нужным для его обозрения, и со своей стороны
велел употребить все зависящие меры для доставления мне
возможности видеть все, что я сочту интересным.
Прощаясь со мною, Дубельт сказал: «Для вас сделали все, что
могли, но, конечно, вы не должны ожидать себе больших благ.
Знаете, мой добрый друг, люди обыкновенные, дюжинные
стараются о собственной пользе и потому добиваются видных мест,
богатств, хорошего положения и комфорта; а те, которые преданы
высоким идеям и думают двигать человечество, те, вы сами знаете,
как сказано в священном писании: ходят в шкурах козьих и
живут в вертепах и пропастях земных».
15 июня в четыре часа пополудни я простился с матушкой,
условившись с нею, что она приедет в Саратов вслед за мною. Я
поехал с офицером и жандармским солдатом на перекладной.
Только что я выехал из Петербурга, как на моем лице показались
капли крови: то было следствие долговременного сидения взаперти
и малого пользования свежим воздухом. В Новгороде мы
остановились и отправились в Софийский собор, где осматривали
ризницу; потом — Юрьев монастырь, где делали то же; затем сделали
экскурсию по разным городским церквам, достопримечательным в
истории, и объехали весь город. По краткости времени я не имел
возможности познакомиться с Новгородом так основательно, как
имел случай впоследствии, но посещение этого старого города
сильно охватило мое воображение, так что я тогда же написал
гекзаметром стихотворение, в котором изобразил явление разных
исторических лиц страннику, взошедшему на Ефимьевскую коло-
" кольню. Стихотворение это я тогда же прочитал своему
проводнику (оно не сохранилось).
В этот же год (1848) по всей России свирепствовала холера.
В Твери при моих глазах умер привезший нас на станцию ямщик,
494
с которым на дороге сделался холерный припадок. Въезжая в
Москву, мы встретили целый обоз с покойниками. Везде по дороге
тревожили нас угрожающие известия о холере. В некоторых селах
слышали мы благовест, и на вопросы наши ямщики говорили, что
«люди умирать собираются и богу каются».
24 июня вечером мы прибыли в Саратов. Офицер,
провожавший меня, привез меня прямо к губернатору Кожевникову и
получил от него квитанцию в передаче такой казенной вещи, какою
я тогда сделался. Уже более года я находился под присмотром
дядек и по выходе из губернаторского дома очутился, наконец, с
правом находиться без конвоя. Офицер, привезший меня,
приглашал ехать с ним в гостиницу, но я так обрадовался своей
физической свободе, что захотел прежде побегать по незнакомому
городу и потом уже явиться в гостиницу. Так я и сделал и, не
зная города, забрел совсем в другую сторону от места, где была
гостиница, и потом уже по расспросам нашел ее. Провожавший
меня до Саратова жандармский офицер на другой день уехал. Я
остался один в совершенно неведомом городе, в чужом крае, где у
меня не было ни близких, ни знакомых Несколько дней я прожил
в гостинице и в это время за стеною моего номера услышал
однажды шум, суетню и стоны; потом мне объяснили, что в
соседстве со мною заболел холерою и, проболевши два часа, скончался
приезжий из Петербурга флигель-адыотант Столыпин. Этот
случай очень поразил меня. Когда я выходил гулять и заходил в
церковь, то глаза мои неприятно поражались видом приносимых
гробов, а на мои вопросы мне сообщали, что в городе свирепствует
сильная холера, но не такая, какая была здесь прошлый год:
умирает человек до ста в день, тогда как прошлый год число
умиравших доходило до нескольких сот в день; зато в настоящий год
заболевших смерть постигает скорее, чем прошлый год. Я не очень
боялся холеры, покупал себе ягоды и ел их со сливками, что
считалось тогда опасным.
Через несколько дней я начал искать себе квартиру и нашел.
Жизнь в Саратове.
В Саратове я был определен в должность переводчика при
губернском правлении с жалованьем 350 рублей в год; переводить
было нечего, и я только числился на службе. Губернатор поручил
мне в своей канцелярии заведование сначала уголовным столом, а
потом секретным; в последнем производились дела
преимущественно раскольничьи, что для меня было довольно любопытно. Тут
я увидел строгие преследования и стеснения раскольников,
бывшие в силе при архиерействе Иакова, недавно перед тем
переведенного в Нижний. Занятие сектантскими делами влекло меня к
ознакомлению с миром раскольничьим, но это было не так-то лег-
495
ко: с одной стороны, при крайней сосредоточенности, какою
отличаются сектанты в сношениях с чиновниками; с другой — при
моем положении ссылочного близкие сношения с раскольниками
могли бы возбудить подозрение начальства. Я успел, однако, на
первых'порах познакомиться с одним раскольничьим семейством,
имевшим под городом сад, куда я стал ездить для прогулки.
Раскольники эти принадлежали к поморской секте, и здесь-то я
впервые узнал об основаниях, на которых держится эта секта и вообще
вся беспоповщина.
Мало-помалу случай сводил меня на знакомство с жителями
города, в среде которых нашел я несколько образованных семей,
где были люди с университетским образованием. На следующий
год я познакомился и сошелся с кружком сосланных поляков. Эти
были люди развитые, и мне было приятно в их обществе, хотя их
польский патриотизм не раз наталкивался на мои русские
симпатии и подавал повод к горячим, хотя и приятельским, спорам.
Один из этих поляков, Мелянтович, стал моим задушевным
приятелем, потому что в нем одном польский патриотизм уступал
место идее славянской взаимности и не доходил до той
враждебности ко всему русскому, какою вообще отличались поляки. Этот
молодой человек, впоследствии умерший от холеры, не
дождавшись своего освобождения, представлялся мне типом того поляка,
который, как мне казалось, мог быть только до введения иезуитов,
исказивших польское воспитание и создавших в поляках хитрость
и двоедушие, что так несвойственно было их прежней славянской
натуре.
Между тем пришла мне мысль продолжать историю Богдана
Хмельницкого, и я написал письмо к графу Свидзинскому, зная,
что он имеет богатую библиотеку, и просил его* присылать мне
материалы для окончания известного ему моего труда. Граф
принял мою просьбу так любезно, как я и не надеялся: присылал мне
одну за другою из своей библиотеки латинские и польские книги,
служащие источниками для эпохи Хмельницкого. С помощью этих
сочинений я имел возможность не только продолжать свое
историческое сочинение, но даже и привести его в такой вид, в каком
оно нуждалось только в дополнительной обработке, а это последнее
дело я оставлял на то время, когда буду свободен и найду
возможность ехать в такие места, где находятся библиотеки и архивы.
Несмотря на все тогдашние занятия я сильно хандрил, и
хандра отозвалась на моих нервах: у меня возобновилась прежняя
мнительность и наклонность преувеличивать свои недуги или же
даже создавать небывалые. Я стал лечиться; но так как в Саратове
не было опытных и искусных врачей, то я попадался в руки таким
эскулапам, которые стали меня пичкать произведениями
латинской кухни, и я от страха болезней, каких у меня не бывало,
нажил себе действительные болезни — неизбежные следствия
ядовитых веществ, какими меня угощали. Таким образом однажды
мне дали чай из валерианы; после двух стаканов у меня началось
головокружение; я выскочил на воздух и упал на землю; кругом
меня все вертелось: крыши домов, вершины колоколен и даже от-
496
даленные горы; на мое счастие, шедшая мимо женщина
догадалась, что мне дурно, и дала мне несколько ударов в спину; со
мною началась сильная рвота, возобновлявшаяся раза четыре, и
только это спасло меня — иначе, как говорили потом врачи, у
меня сделался бы прилив крови к мозгу и апоплексический удар.
С этих пор на некоторое время я устранил себя от занятий
историею, вдался в чтение физических и астрономических
сочинений, прочел с большим наслаждением Гумбольдта и до
крайности увлекся астрономиею. Весною в 1852 году я познакомился с
Анной Никаноровной Пасхаловой, впоследствии вышедшей замуж
за Д. Л. Мордовцева. Это была женщина чрезвычайно
любознательная и увлекающаяся; ее, как и меня, занимала в то время
астрономия. К нашему удовольствию, в Саратове временно
проживал странствующий оптик Эдельберг (в настоящее время
жительствующий в Харькове). У него, между прочим, был очень
хороший астрономический телескоп, и, пользуясь этим
обстоятельством, мы ездили к нему практически наблюдать и поверять
прочитанные нами сведения о строении и течении небесных тел.
Летом по представлению губернатора я был отпущен в Крым, чем
был обязан милости нынешнего государя императора, который во
время отсутствия родителя управлял делами государства. Я ехал
через Таганрог, где, опоздавши к отплытию парохода, принужден
был дожидаться нового пароходного рейса целых десять дней. На
пароходе от Таганрога до Керчи я встретил харьковского
профессора-медика Альбрехта с одним французом, пансионосодер-
жателем в Харькове, и с одним помещиком из Харьковской
губернии. Мы условились проехать вместе по Южному берегу; к
нам пристал учитель французского языка в екатеринодарской
гимназии Аморетти, родом итальянец из Милана, приехавший в
отрочестве в Россию и потом учившийся в Харьковском
университете. Он владел в совершенстве русским языком, познакомился
с малорусскою народностью и сердечно полюбил ее.
В Керчи мы остановились на четыре дня и получили
приглашение присутствовать при раскопке одного древнего кургана.
Раскопкой заведовал тогда художник Бегичев; при той же раскопке
был приехавший в Керчь одесский профессор Н. Н. Мурзакевич.
. Когда раскопан был один курган и открылся в глубину его склепа
узкий вход, через который можно было только пролезть ползком,
я вместе с Мурзакевичем спустился туда. Мы очутились в
подземном склепе, настолько высоком, что можно было безопасно стоять
в нем; мы увидали груду жженных костей, разложенных на
земляном прилавке; в головах скелета была глиняная амфора,
которую мы вынесли с собою и передали Бегичеву для музея. Более
ничего там не найдено. Мы объездили окрестности Керчи,
посетили Царский курган, давно уже разрытый, и входили в его
средину, представляющую пещеру с винтообразным сводом; потом
посещали Золотой курган, находящийся за городом на
противоположной стороне от Царского, но не могли спуститься в его
внутренность, потому что она недавно завалилась. Разъезжая по
окрестностям Керчи, мы заехали в Еникале, где попробовали зна-
17 Заказ 15 497
менитого еникальского балыка, который действительно отличается
'необыкновенно хорошим вкусом. Из Керчи отправились мы в
Феодосию, где пробыли только несколько часов, и следовали далее
по морю до Ялты. Не останавливаясь в этом городе, мы взяли
почтовую тройку, наняли сверх того верховых лошадей и
двинулись в путь на запад, предположивши заезжать в более
живописные дачи, расположенные по берегу Черного моря.
Первым местом, куда мы заехали, была Ливадия,
принадлежавшая тогда графу Северину Потоцкому; дворец его был устроен
и убран в античном, греческом вкусе. Перед крыльцом дворца был
разведен цветник, чрезвычайно богатый видами растений и
изящный. Из Ливадии мы проехали в обе Ореанды, заехали на дачу
князя Мещерского, где гостеприимный хозяин угостил нас
завтраком, а оттуда прибыли в Алупку. В то время не было, еще там
построенной после гостиницы; содержал нечто в роде таверны
какой-то француз, страдавший страстью к запою. Здесь с нас
содрали неимоверно дорогую цену за плохо приготовленный обед и
за ночлег на сене и соломе. Наше неудобство помещения
выкупалось наслаждением, какое мы испытывали в превосходном саду,
устроенном чрезвычайно изящно и с соблюдением
необыкновенной близости к природе и совершенного отсутствия
искусственности. Я пожалел только, что не мог остаться в этом очаровательном
месте по крайней мере на несколько дней. На другой день, еще
раз обошедши значительную часть сада и полюбовавшись всеми
его прелестями, мы отправились на почтовых далее и таким
образом проехали через Байдарские ворота и Байдарскую долину до
Балаклавы, куда прибыли -на восходе солнца в следующий день.
Наша медленность произошла оттого, что мы в дороге почти на
каждом сколько-нибудь живописном месте вставали и любовались
видами. Взошедши на гору в Балаклаве, мы осмотрели стоящие на
ней генуэзские башни; потом спустились вниз, искупались в
заливе и, севши на тележку, отправились в Севастополь.
В этом городе мы нашли самый радушный прием;
познакомившийся с нами на пароходе во время плавания от Керчи до Ялты
лейтенант Варницкий (впоследствии убитый во время войны), сын
одного из адмиралов, доставил нам возможность осмотреть
несколько кораблей. На каждом из них мы были приветствуемы
обществом флотских офицеров, оказывавших нам чрезвычайное
радушие и внимательность. Затем мы осмотрели библиотеку и
обсерваторию; потом обходили сухие доки и пошатались по улицам.
Город был красив, хотя белая пыль, покрывавшая его улицы,
невольно наводила скуку. Никто из нас не мог в то время
предчувствовать, что от всего виденного нами через тритода'не останется
ничего, кроме развалин и печальных следов разрушения, какие
мне привелось увидеть спустя после того восемнадцать лет.
Харьковские товарищи моего путешествия уплыли из Севастополя в
Одессу, а я вместе с Аморетти уехал на почтовых в Бахчисарай,
где мы переночевали и, осмотревши ханский дворец, пустились в
Феодосию. У Аморетти там жили родные, а я хотел там купаться.
Мое купанье в Феодосии продолжалось, однако, недолго: скука и
498
грусть, возбуждаемые чрезвычайным зноем, одиночеством и
пустынною местностью, до того вывели меня из терпения, что я
покинул купанье и уехал через Керчь и Таганрог назад в Саратов,
куда и прибыл в первых числах августа.
По приезде' в Саратов симпатии мои от астрономии
обратились к этнографии, и мы с г-жою Пасхаловою вздумали собирать
местные народные песни. Таким образом во мне разом
пробудилась склонность к тому, к чему я с таким же увлечением
предавался назад тому лет десять в другом крае. Я очень часто ездил
к г-же Пасхаловой в деревню, отстоявшую от города за восемь
верст, где мы приглашали простонародных мужчин и женщин,
заставляли петь песни и записывали их; кроме того, в самом
городе я преусердно ходил всюду, где только мог найти себе
песенную добычу, и таким образом познакомился с народною
великорусскою поэзие.ю, которую до того времени знал только по
книгам.
Весною 1853 года Анна Никаноровна уехала в,Петербург, а я
с тех пор принялся за иную работу; я перебрал все, что мог найти
печатного из актов и документов, касающихся внутреннего
русского быта прошедших времен, и делал выписки и заметки на
особых билетах, составляя из них отделения, касающиеся разных
отраслей исторической жизни. Это занятие потянулось на года и
увлекало меня до конца моего пребывания в Саратове. В это время,
по случаю продажи дома моим бывшим хозяином, я перешел на
иную квартиру, в дом консисторского чиновника Прудентова, и
оставался там уже до конца, занимая за сто рублей серебром в
год шесть светлых комнат во втором этаже с прекрасным видом
на Волгу и на далекое живописное городище бывшего некогда
татарского города Увека или Укека. Моя квартира вся была
заставлена превосходными тепличными растениями: бананами,
спарманиями, пальмами и другими; все это я купил в прекрасной
оранжерее Стобеуса и довольно дешево, как и вообще жизнь в
Саратове отличалась чрезвычайною дешевизною. Ассигнуя какой-
нибудь рубль, можно было иметь отличный обед с ухой из свежих
стерлядей, с холодной осетриной, жареными цыплятами и
фруктами для десерта. Стерляди и осетры продавались живыми.
С 1853 года начались для меня некоторые неприятности. В
Саратове произошло замечательное событие: пропало один за
другим двое мальчиков, оба найдены были мертвыми с видимыми
признаками истязания: один в марте на льду, другой — в апреле
на острове. Всеобщее подозрение падало на евреев, вследствие
старинных слухов о пролитии евреями христианской детской крови.
Присланный из Петербурга по этому делу чиновник Дурново
потребовал от губернатора чиновника, знающего иностранные языки
и кроме того знакомого с историей. Губернатор откомандировал к
нему меня. Прежде всего мне дали для перевода странную книгу:
это были переплетенные вместе печатные и писанные отрывки
неизвестно откуда на разных языках, заключавшие в себе
официальные документы о необвинении иудеев в возводимом на них
подозрений в пролитии христианской крови. Тут были и папские
17* 499
буллы, и декреты разных королей, и постановления сенатов, и
циркуляры министров. Книгу эту нашли у одного еврея. После
перевода этой книги меня просили составить ученую записку —
опыт решения вопроса: есть ли какое-нибудь основание
подозревать евреев в пролитии христианской детской крови. Так как для
этого нужны были пособия, то при посредств.е Дурново я и
получил их от саратовского преосвященного Афанасия. Рассмотрев
предложенный мне вопрос, я пришел к такому результату, что
обвинение евреев хотя и поддерживалось отчасти фанатизмом
против них, но не лишено исторического основания, так как еще до
христианской веры уже существовало у греков и римлян подобное
подозрение, как это показывают свидетельства Анпиона,
говорившего, что Антиох Епифан, сирийский царь, нашел в
иерусалимском храме греческого мальчика, приготовляемого иудеями к
~ жертвоприношению, состоявшему в источении крови из жертвы,
и Диона Кассия, по известию которого в городе Кирене, в Африке,
греки перебили евреев за то, что последние крали греческих
мальчиков, приносили их в жертву, ели их тело, пили их кровь. Я
указал сверх того на то обстоятельство, что евреи еще в
библейской древности часто отпадали от религии Моисея и принимали
финикийское идолопоклонство, которое отличалось священным
детоубийством. Наконец, я привел множество примеров,
случавшихся в .средние века и в новой истории в разных европейских
странах, когда находимы были истерзанные дети и всеобщее
подозрение падало на евреев, а в некоторых случаях происходили
народные возмущения и избиения евреев. Множество папских
булл и королевских декретов, которые евреи собирали и хранили
так усердно, показывает, что было нечто такое, что вынуждало
явления этих документов, тем более что значительная часть этих
официальных памятников, которыми евреи себя оправдывали,
давалась тогда, когда дававшие их явно нуждались в деньгах, и т. д.
Но когда губернатор узнал о том, что я написал, то призвал меня
к себе и начал грозить, что он меня засадит в острог и напишет
куда следует о моей неблагонадежности, чтобы меня послали
куда-нибудь подальше и в худшее место. Дело в том, что губернатор
допустил противозаконно проживать евреям в великорусской
губернии, где им не дозволялось жительствовать, опасался со
стороны присланного чиновника под себя подкопа и не хотел, чтобы
правительство признало подозрение на евреев сколько-нибудь
основательным. В то же .время он написал к Дурново отношение, в
котором очернил меня и поставил ему в непристойность доверие
ко мне как к лицу, дурно себя заявившему и находящемуся под
надзором полиции. Я принужден был оставить еврейский вопрос.
На следующий год в саратовской администрации произошла
большая перемена: губернатор был отставлен; за ним то же
последовало со многими другими чиновниками; приехал новый
губернатор Игнатьев и новый вице-губернатор; последним назначен тот
же самый Дурново, который в предшествовавшем году производил
следствие; к достижению этой должности ему, как я слышал,
помогло мое сочинение, которое в министерстве признали за его соб-
500
ственное и сочли его ученым человеком. Но в должности
вице-губернатора ему пришлось быть недолго: не более как через год он
был замещен другим.
В 1854 году надо мною собиралось новое несчастие, которое,
однако, миновало меня. Я отдал напечатать собранные мною
песни в «Саратовские губернские ведомости», не подписывая моего
имени. Печатание всех песен еще не было окончено, как вдруг из
Петербурга получается бумага, где извещается, что высшая
правительственная власть заметила, что в «Саратовских губернских
ведомостях» печатаются некстати народные песни непристойного
содержания, причем против одной песни было замечено:
«мерзость, гадость; если такие песни существуют, то дело губернского
начальства искоренять их, а не распространять посредством
печати». Это замечено против следующих стихов в одной песне:
Девчоночка молода раздогадлива была,
Черноброва, черноглаза парня высушила,
Присушила русы кудри ко буйной голове,
Заставила шататися по чужой стороне,
Приневолила любити чужемужних жен.
Чужемужни жены — лебедушки белы,
А моя шельма жена — полынь горькая трава.
Вследствие этолэ повелено было цензора, пропустившего
песни, отставить от должности с лишением пенсиона. Цензором был
директор саратовской гимназии, который, однако, сумел
отписаться и оправдаться. Я думал, что доберутся и до меня, но меня не
спрашивали. Вслед за тем случились новые неприятности.
Приехал в Саратов новый полицеймейстер, отличившийся тем, что на
первых же порах, желая угодить начальству, неблагосклонно
взглянувшему на песни, ездил по городу с казаком и приказывал
бить плетью людей, которых заставал с гармониками поющих
песни. В начале 1855 года вскоре после своего приезда он приказал
собраться в полицию всем состоящим под ее надзором; я был
позван в числе прочих и увидел кроме знакомых мне сосланных
поляков несколько мужчин и женщин, содержавшихся под
надзором не за политические дела, но за всякого рода преступления и
проступки. Тут были, как я узнал, и содержательницы домов
терпимости, и оставленные в подозрении по разным уголовным
делам, между прочим, и по тому еврейскому делу, которое не так
давно принесло мне столько неудовольствия. Полицеймейстер, во-
шедши с грозным начальническим видом, начал читать всем
составленные им правила, заключавшие в себе разные наставления
о добропорядочном поведении, например: не ходить по кабакам,
по зазорным домам, не буянить, не пьянствовать до безобразия и
т. п.; но вместе с тем навязывал на всех обязанность не выезжать
за городскую черту, ни с кем не сноситься и не вести
корреспонденции иначе как с его ведома и разрешения. Прочитавши такое
нравоучение, он требовал, чтобы все давали подписку в
соблюдении начертанных им правил. Призванные стали подписываться.
К удивлению моему я увидал, что поляки, содержавшиеся по пол-
501
итическим делам, также безропотно подписывались. Когда же
очередь дошла до меня, я сказал, что давать такой подписки не стану,
потому что хотя я и состою под надзором, но под особым, и по
высочайшему повелению определен на службу, в которой я
нахожусь. «Все ваши товарищи подписали», — загремел
полицеймейстер, указывая на собранную им разнообразную публику.
«Я не могу, — сказал я, — обязываться не выезжать без вашего
позволения из города, когда, быть может, губернатор пошлет меня
по какому-нибудь делу, секретному и для вас; также и переписки
своей не буду открывать вам». Полицеймейстер разъярился и
затопал на меня ногами, но я сказал ему:* «Г. полицеймейстер, вы
на меня не топайте; я вижу, что вы не совсем понимаете вашу
обязанность по отношению ко мне: я прислан сюда под особый
надзор и в совершенном секрете, следовательно, вы можете
секретно следить за мною, но не должны были призывать меня сюда
в присутствии многих незнакомых мне лиц и таким образом
публиковать о моем секретном нахождении под надзором; если вам
угодно, спросите прежде губернатора, и когда мне он прикажет
давать вам какую-нибудь подписку, тогда дело иное». «Поедемте к
губернатору», — сказал он, вышел, мы сели с ним в сани и
отправились к губернатору Игнатьеву. Полицеймейстер вошел к
нему в кабинет, оставив меня в зале. Через несколько минут вышел
губернатор и пригласил меня в кабинет, а полицеймейстер уехал.
Губернатор принял меня ласково и просил извинить
полицеймейстера, «который еще внове и не знает вашего положения»,
сказал он. Затем губернатор предложил мне принять на себя
звание делопроизводителя статистического комитета, что мне должно
было дать 300 рублей прибавки к получаемому мною содержанию.
В заключение всего губернатор по моей просьбе обещал
исходатайствовать мне если не совершенную свободу от всякого надзора,
то по крайней мере право съездить в Петербург на четыре месяца
для получения денег моей матери, хранящихся в Опекунском
совете. Надобно сказать, что еще в 1848 году мать моя положила в
Опекунский совет 1500 рублей; в то же время какой-то
крестьянин Правдин, стоявший за нею, увидал нумер безыменного билета
и подал объявление о его утрате, будто бы случившейся в самом
Опекунском совете в день взятия билета. Пошло уголовное дело и
кончилось в пользу моей матери. Постановлением уголовной
палаты определено было отдать билет моей матери. Теперь надлежало
взять из уголовной палаты копию с решения дела и с этой копией
потребовать денег из Опекунского совета с накопившимися
процентами.
После этого свидания с губернатором я начал заниматься ста-т
тистикою Саратовского края в звании делопроизводителя
статистического комитета, а между тем продолжал мои занятия по
внутренней русской истории, по-прежнему выписывая места из
актов и всяких документов, какие только мог найти в печатном
виде в Саратове. Тогда же я занялся разбором рукописей,
находившихся в саратовском соборе, забранных в разное время у
раскольников, и е числе этих рукописей нашел превосходный и
502
полный список «Стоглава», самый старейший и самый
правильный из всех, какие мне случалось видеть после того. В мае, в том
же году, возвратилась из Петербурга моя давняя знакомая Анна
Никаноровна, уже не г-жа Пасхалова, а г-жа Мордовцева; она
приехала с молодым мужем, только что кончившим курс в
С.-Петербургском университете с званием кандидата и с золотою
медалью. Первое знакомство с ним сделало на меня самое приятное
впечатление; я скоро с ним сблизился и навсегда подружился.
Близость наша поддержалась тогда и тем, что он скоро после
своего приезда получил место помощника делопроизводителя в
статистическом комитете, а как делопроизводителем был я, то у нас
явились общие интересы.
В июле того же года Саратов был поражен замечательным
несчастием. 21 июля разнесся в городе слух, что город будут жечь
в продолжение недели и сожгут дотла. И в самом деле,.24 числа
вспыхнул пожар на краю города у машинной фабрики, и не
успела пожарная команда явиться туда, как огонь показался на
противоположной части города разом в нескольких местах. С восьми
часов утра до четырех часов вечера истреблено было 500 дворов.
Это произвело такой панический страх на жителей, что они стали
выбирайся из домов и располагаться за городом в поле, а
некоторые — в лодках на Волге. Рано утром 25 числа вспыхнул пожар
рядом с моей квартирой, и дому, где я жил, угрожало пламя. Моя
матушка, подчиняясь общему страху и желая спасти более
ценную движимость, вместе с прислугою выехала в поле, а я пока
остался в квартире. В тот же день было несколько пожаров в
разных местах города. 26 июля на солнечном восходе опять
загорелось по соседству со мною, в том же дворе, где и прежде, но в
другом строении. На этот раз пламя уже достигло до окон моей
квартиры. Ко мне вбежали незнакомые люди, предлагая выносить
пожитки, но в моей квартире оставалось только немного мебели и
кадки с растениями; я не позволил ничего выносить, соображая,
что если растения вынесут, то их переломают и они все равно
пропадут. Ожидая с секунды на секунду, что огонь ворвется ко
мне в окно, я связал свои бумаги, именно: тетрадь с историею
Хмельницкого и кипу выписок из актов, и собирался уходить со
своею ношею за город к матушке, как прибежали ко мне
несколько знакомых; они удивлялись, что я так хладнокровно остаюсь в
своем помещении, когда мне угрожает огонь, но я, засмеявшись,
указал им на свои бумаги и припомнил известное выражение
бежавшего из пылающего города греческого ученого: «Omnia mea
mecum porto» (все свое несу с собою). Однако пожар был
потушен; дом, в котором я жил, не сгорел. Я вышел на улицу и был
свидетелем забавной сцены: частный пристав рассказывал народу,
что пожары призводят враги наши «англо-французы» и что одного
англо-француза поймали на прибывшем пароходе. Народ слушал
с доверчивостью, воображая, что в самом деле существует народ,
называемый англо-французы.
В течение этого дня опять случилось несколько пожаров. Часов
в шесть пополудни я отправился купаться и на улице встретил
503
дикую толпу мещан, которые вели связанным какого-то молодого
человека, избитого и залитого кровью. Двое из этих мещан, жи-.
тельствовавших на одной со мною улице, знали меня и обратились
ко мне в качестве посредника или третейского судьи в их деле.
По расспросу моему оказалось, что избитый и связанный молодой
человек был грузин, учившийся в саратовской семинарии; он был
именинник, пригласил к себе товарищей и начал с ними кутить;
хозяйка дома вошла к веселой компании и начала читать
нравоучения, что грешно пить и веселиться в то время, когда всех
постигло божие посещение; горячий грузин не вытерпел и начал ее
выталкивать; она подняла тревогу, сбежался народ, несчастного
грузина сочли поджигателем, «англо-французом», и увидя, что в
одном месте начинается пожар, вели его туда с намерением, как
сами сознавались, бросить его в огонь, а по дороге к месту
расправы наносили ему удары. Я объяснил им, что нельзя так само-
вольствовать, что если они его, подозревают, то должны
препроводить к начальству — и то без побоев; начальство
разберет, виноват ли он, и если окажется виновным, то виновного и
постигнет наказание, указанное законом. Мои слова подействовали
на разъяренную толпу более, чем я хотел: грузина развязали и не
повели в полицию, но отпустили на свободу, наградивши его
только крепкими русскими словами.
Пожары стали прекращаться только в начале августа. На
счастие, приехал в Саратов новый полицеймейстер, человек очень
энергический, принявшийся за дело спасения города усерднее,
чем это делалось прежде. Подкидывались записки такого рода:
«Сергей Иванович! (один из купцов-домовладельцев). Хоть стереги
свой дом, хоть не стереги, а мы тебя сожжем. Васька-белый писал
рукой смелой». Однако дом этого Сергея Ивановича остался цел.
Из произведенного следствия открылось только два поджога: один
произвел мальчик, учившийся у сапожника; перелезши через
забор в соседний двор, он воткнул спичку с огнем в ясли, где было
положено сено; произошел пожар. Впоследствии мальчик,
обличенный другим мальчиком, которому он открыл о своем
преступлении, показал, что он сделал это для того, чтобы посмотреть и
полюбоваться как будет гореть. В другом доме пожар был
произведен четырнадцатилетней девочкой, которую барыня жестоко
избила, и та в припадке досады сделала поджог на чердаке дома
своей барыни. Не найдено было никакого следа партии
каких-нибудь злоумышленников, действующих заговором по
предначертанным целям. В народе, с голоса полицейских чиновников,
толковали об англо-французах, а в высших кругах подозревали
поляков. Один господин, занимавший тогда должность советника;
находясь в одном доме, изъявлял подозрение на меня, хотя никогда
не видал меня в глаза, как и я его, и когда ему сказали, что я не
поляк, он отвечал, что наверное знает, что я поляк и притом
католического исповедания.
Осенью на представление губернатора прислано было
дозволение отправиться мне в Петербург во временный отпуск для
окончания моих дел. С первым зимним путем я пустился в дорогу
504
вместе с одним чехом, занимавшим до того времени должность
управляющего в одном имении Саратовской губернии. Мы ехали
на почтовых через Пензу, Арзамас, Муром и Владимир до Москвы,
а оттуда по железной дороге в Петербург. С нами съезжались на
почтовых станциях всякого рода лица, заводили разговоры и
знакомства. Это было время всеобщих надежд на обновление России,
которого все тогда чаяли при наступившем новом царствовании;
толковали о скором заключении мира и об обращении
деятельности правительства и общества ко внутреннему благоустройству
России. Это было истинно поэтическое время; казалось, всякие
эгоистические стремления улеглись, люди переставали думать о
собственных выгодах, у всех на уме и на языке было возрождение
русского общества к иной жизни, которой- оно только желало, но
еще не испытывало. У всех слышалась вера в доброжелательство
и ум нового государя, и уже тогда наперерыв говорили как о
первой необходимости об освобождении народа из крепостной
зависимости. В одном месте на дороге с нами встретился помещик
Нижегородской губернии, который сознавался, что если последует
освобождение, то оно принесет дворянству сильный удар и
подорвет его материальные выгоды; но «нечего делать», говорил он,
«надобно принести в жертву все для пользы народа; ведь
жертвовали же и достоянием, и самою жизнью в минуты угрожавшей
отечеству опасности, тем более обязаны послужить ему в таком
важном деле, которое обновит его на многие поколения». Говорили
даже о заведении школ для народа и считали дело народного
образования столько же важным, как и дело освобождения. По
приезде в Петербург я поместился в chambres garnies на Малой
Морской в доме Митусова и за 25 рублей в.месяц получил удобно
меблированную комнату с перегородкой для спальни и с
прислугою. Дело моей матери было окончено скоро, и я получил
следуемые ей деньги.
Важнейшим моим занятием я положил себе привести в
окончание свою историю Хмельницкого и дополнить новыми
выписками из книг и рукописей Публичной библиотеки давно уже
собираемые мною данные для «внутреннего быта древней России».
С декабря 1855 года я начал ходить в императорскую Публичную
библиотеку, занимался печатными источниками в отделении
Rossica и рукописями славянскими и польскими. Не проходило
дня, в который бы я не сидел в библиотеке, отправляясь туда к
десяти часам утра и возвращаясь вечером, обыкновенно, в девять
часов, если не посвящал вечера на посещение театра. На обед
тратил я не более получаса, отправляясь из библиотеки в один из
ближайших ресторанов. Так прошло до четырех месяцев. Я почти
ни у кого не бывал и погрузился всецело в мир минувшего. Таким
образом в этот период моей жизни я успел перечитать множество
томов и брошюр по истории Малороссии при Богдане
Хмельницком, пересмотрел несколько книг, польских рукописей и перебрал
путешественников, писавших о России, из которых сделал tce6e
отметки, относившиеся к чертам нравов и быта, подмеченным
путешественниками.
505
В марте 1856 года я отнес экземпляр истории Богдана
Хмельницкого к цензору Фрейгангу, как вдруг неожиданно для меня
услыхал от него, что при покойном государе состоялось секретное
запрещение допускать мои сочинения к напечатанию. Я
отправился к генералу Дубельту с просьбою об исходатайствовании снятия
с меня этого запрещения. Дубельт принял меня очень ласково,
обнадежил исполнением моего желания и обещал поговорить с
цензором, чтобы он был ко мне снисходителен. Когда через неделю
после того приехал я к Фрейгангу, он сообщил мне, что Дубельт
призывал его и толковал с ним обо мне, но не просил, как обещал,
быть ко мне снисходительным, а напротив, предостерегал быть
особенно строгим и внимательным; тем не менее разрешение было
мне выдано и путь к литературной деятельности открыт.
Моего «Богдана Хмельницкого» я предназначал для печатания
в «Отечественные записки», которые цензировал Фрейганг.
Верный наставлению Дубельта, этот цензор был действительно ко мне
очень строг: вымарал множество мест, не представлявших ничего
подозрительного, если не прилагать особого желания толковать их
с натяжкою в дурном смысле. Мой «Богдан Хмельницкий»,
однако, прошел и поступил в распоряжение Краевского, издателя
«Отечественных записок». В то же время я поместил в «Современнике»
статью о «Горе-Злочастии», изложив содержание этого памятника
великорусской поэзии XVII века, отысканного при моих глазах А.
Н. Пыпиным в одном из погодинских сборников. Обделав свои
дела и не дожидаясь напечатания «Хмельницкого», которое должно
было идти на многие месяцы, с весною я уехал в Саратов, где
принялся приводить в порядок собранные в Публичной библиотеке
выписки о внутренней истории древней России и стал
обрабатывать, как одну часть обширного труда, историю русской торговли
XVI и XVII века, уделяя, кроме того, время и на занятия
статистикою Саратовской губернии, как того требовала занимаемая
мною должность делопроизводителя статистического комитета. В
этом звании по поручению губернатора съездил я в город Вольск,
осмотрел его и составил его описание, которое было напечатано в
1857 году в «Саратовских ведомостях» и перепечатано в
«Памятной книжке Саратовской губернии» Мордовцевым.
Пришла очередь и песням, собранным' некогда в Волынской
губернии; я передал их Мордовцеву для напечатания в
«Малорусском сборнике», который он тогда задумал издать. К сожалению,
цензор Мацкевич, которому Мордовцев послал мою рукопись,
обошелся с песнями истинно вандальским способом: все, что ему не
нравилось, он марал без зазрения совести, не обращая внимания
на то, что песня иногда теряла через то мысль. Кажется*
приключение с моими саратовскими народными песнями было ему
известно и послужило для него как бы нравоучением, потому что этот
цензор затирал красным чернилом особенно такие места, которые
могли бы показаться неудобными для чтения молодых девиц.
Песни эти жестоко пострадали и хотя были напечатаны, но я остался
до крайности недоволен такого рода изданием собранных мною
народных памятников.
506
В том же «Малорусском литературном сборнике» поместил я
несколько малорусских стихотворений под псевдонимом Иеремии
Галки, оставшихся от ранней эпохи моего писательства.
VI
Освобождение. Поездка за границу. Возвращение.
Участие в трудах по крестьянскому делу.
Высочайший манифест, последовавший после коронации
государя императора, освободил меня от надзора, под которым я
находился со времени моего прибытия в Саратов. Необыкновенно
радостною и памятною останется для меня та минута, когда меня
пригласили в канцелярию губернатора и дали прочесть
присланную обо мне бумагу от министра внутренних дел, в которой было,
однако, сказано в конце, что «прежнее распоряжение в бозе
почившего государя о воспрещении Костомарову служить по ученой
части должно оставаться во всей силе». Итак, я стал свободен, не
привязан более к одному месту и мог ехать куда угодно. Первым
желанием моим в то время было поехать за границу. Я условился
ехать на следующую весну с доктором Стефани, имевшим тогда
служебное место в Саратове. До того времени я не. считал нужным
куда-нибудь ехать, так как хотел окончить и приготовить к напе-
чатанию мой «Очерк торговли». Это занятие поглотило у меня всю
зиму.
В начале мая 185-7 года я вместе со Стефани отправился
сначала в Петербург, с тем чтобы там устроить к напечатанию мое
сочинение. Так как в то время я чувствовал глазные боли, то,
проезжая через Москву, обратился за советом к доктору
Иноземцеву, и тот, осмотревши мои глаза, сказал, что у меня начинается
катаракт. Это привело меня в испуг. По приезде в Петербург я
обратился к окулисту Кабату, и тот сказал то же, что Иноземцев,
что я должен ожидать себе катаракта. Свидетельства двух
знаменитых врачей надобно было считать очень вескими
доказательствами, и я вместо того, чтобы ехать за границу для отдыха и
прогулки, должен был ехать для лечения, с тем чтобы искать
спасения от угрожающей мне слепоты. И Кабат, и Иноземцев, как
бы сговорившись, советовали мне попользоваться киссингенскими
водами, а потом ехать купаться на море. Я отправился на
пароходе в Швецию вместе с доктором Стефани.
Прежде всего привелось мне посетить Ревель, а оттуда плыть
в Гельсингфорс. Там я пробыл только одну ночь, не успевши
ничего видеть, а наутро пароход поплыл в Або. Путь наш лежал
посреди бесчисленного множества островков, между которыми
попадались довольно высокие, утесистые и живописные. Некоторые
из них были покрыты зеленью, другие представляли собою дикие
скалы. Так плыли мы до самого вечера и на солнечном закате
повернули в залив, в котором расположен город Або. На левой
507
стороне входа в залив лучи заходящего солнца золотили стены
старого замка, известного в истории тем, что он был некогда
темницей низложенного шведского короля Эрика XIV. Город Або не
представляет ничего особенно красивого по своей постройке, но
бросается в глаза своим живописным местоположением
совершенно в северном вкусе. На берегу реки, впадающей в залив,
возвышаются горы, покрытые между камнями яркою зеленью,
свойственною холодным краям, и кое-где кустарниками. Мне
удалось немного походить по городу и его окрестностям уже почти
ночью, которая была до того светла, что, казалось, можно было
читать.
Утром я снова пошел знакомиться с местоположением города,
но погода была хотя ясная, но очень холодная, несмотря на то что
тогда был конец мая. Около полудня мы отправились в путь. До
вечера мы продолжали плыть между островами, что было очень
удобно потому, что по этому пути качки не бывает. К ночи мы
достигли Аландских островов, и там пароход остановился на
якоре. На другой день утром мы плыли уже по открытому морю в
Ботническом заливе и около часа пополудни увидали шведский
берег, а потом в зрительную трубу можно было разглядеть
Стокгольм. Приближаясь к берегу, пароход зашел в ворота,
образуемые двумя скалами, а за этими воротами расстилалось опять
открытое море — сплошь до самого стокгольмского берега. Через
час мы пристали к Стокгольму. Пристань расположена в средине
столицы, почти против королевского дворца, и, вступая на берег,
путешественник очутится в самой лучшей ее части. Гостиниц в
Стокгольме в то время было немного; все они расположены на
пристани и были до того переполнены, что я не нашел себе ни в
одной нумера и остановился поблизости в chambres garnies,
содержимых одною старою шведкою. Мое положение было незавидно: я
не знал шведского языка, а бывшая в кармане у меня книжечка
со шведскими словами и разговорами недостаточно меня
приготовила для того, чтобы не встречать больших затруднений в
неизвестном крае. На мое счастие, в то время когда пароход приставал
к берегу, я познакомился с пономарем русской церкви,
исполнявшим в то же время должность секретаря у русского консула и
вместе с последним приезжавшим на пароход для
освидетельствования паспортов. Этот господин с обязательною любезностию сам
вызвался быть мне во всем полезным и служить мне проводником
и указателем в Стокгольме, который был ему хорошо известен, так
как он жил здесь уже двенадцать лет и женился на шведке. На
другой день я отдавал хозяйке свое белье для мытья: нечаянно она
увидала, на мне крест, радостно вскрикнула «catholique» и
немедленно принесла ко мне в комнату и поставила у моей постели
гравюру Благовещения. Не владея шведским языком, я не понял
ее речей, но заметил, что она произносила их со взволнованным
видом; когда же пришел ко мне мой добрый пономарь, то,
поговоривши с хозяйкой, объяснил мне, что она католичка, а так как
католики в Швеции не пользуются никакими гражданскими
правами и подвергаются угнетениям и презрению от народа, фанати-
508
чески преданного лютеранизму, то это заставляет их особенно
сочувственно относиться к тем иностранцам, которых они признают
за своих единоверцев. Старуха сочла меня католиком, и хотя
впоследствии ей объяснили, что я русский и православный, но
религиозные познания моей хозяйки не простирались так далеко,
чтобы отличать православие от католичества, и она продолжала
меня считать единоверцем.
При помощи русского посланника князя Дашкова я получил
доступ в шведский государственный архив и занимался там
русскими бумагами, оставшимися с того времени, когда Новгород с
частию своих земель находился под властию шведской короны; но
в этих бумагах, правду сказать, я нашел мало любопытного.
Гораздо интереснее показались мне кое-какие латинские,
французские и немецкие бумаги, относившиеся к эпохе Северной войны.
Тут я пожалел, что заранее не учился по-шведски. Доступ в архив
был открыт самым гостеприимным образом; чиновники так были
любезны, что старались услужить чем-нибудь, и, кроме того,
посланник передал меня особому покровительству одного из
служивших там, бывшего профессора Нордстрема, знавшего порядочно
по-французски и потому дававшего мне возможность вести с ним
беседы. При его посредстве я съездил в Упсалу и осмотрел
тамошний музей древностей местной истории.
Замечу при этом следующий случай, очень занимательный и
поучительный. Всем известно предание о таинственном видении,
бывшем с королем Карлом XI: много раз было писано о нем.
Рассказывали, что этот король, занимаясь наблюдением звезд, увидал
свет, выходивший из пустой залы Национального собрания.
Король отправился туда, нашел двери запертыми и, отомкнувши их,
увидел сидящих за столом, покрытым черным сукном,
неизвестных лиц, показавшихся ему судьями. В залу ввели какое-то лицо;
один из судей прочитал приговор; осужденному отрубили голову,
и кровь с его отрубленной головы брызнула на башмак короля.
Сидевший за столом председатель суда сказал королю: «То, что
ты видел, случится не с тобою, а с одним из твоих преемников».
Вслед за тем все исчезло, король остался в темноте, но кровавое
пятно на его башмаке было свидетельством, что король видел это
не во сне; и этот башмак, как писали, сохраняется в Упсале.
Когда я, вспомнивши о читанном мною, стал спрашивать о
башмаке, на мой вопрос засмеялись и отвечали, что эту сказку
выдумали не в Швеции, а где-то на континенте, и никакого башмака
не было в Упсале, и ни о каком видении не записывалось в
шведских бумагах. «Правда, — говорили мне, — что нынешние камер-
лакеи во дворце, подделываясь ко вкусу путешественников,
покажут вам то окно во дворце, чрез которое король Карл XI
увидал таинственный свет, но это не более как повторение
чужеземной сказки, зашедшей к нам из иностранных книг». И в самом
деле, потом я осматривал в Стокгольме королевский дворец, и
придворный служитель показал мне это окно, точно так же, как в
Москве показывают в Кремлевском дворце окно, откуда будто бы
выскочил Самозванец, тогда как здание нынешнего Кремлевского
509
дворца в его настоящем виде — произведение эпохи императора
Николая.
Стокгольм разделяется на три части, составляющие каждая
как бы отдельный город. Одна из них, где находится королевский
дворец, носит название Норд-Мальм. Это лучшая часть города.
Здесь находится театр и разные торговые помещения. Начиная от
площади до оконечности города тянется самая красивая улица
Стокгольма, Дротинг-Гатинг (улица королевы). Южная часть
города, рассыпанная по полугоре, Зюд-Мальм, не имеет таких
красивых построек; мостовая в ней неудобная, но зато здесь глаз
встретит множество старинных средневековых построек. Третья
часть — на острове, образуемом озером Мелар. Здесь находится
дом Национального собрания — красивое большое здание,
выкрашенное красною краскою, — любимый цвет шведов. Из церквей
бросается в глаза по своей относительной старине собор св. О
лафа, построенный в XIII веке знаменитым правителем Швеции
Биргер Ярлом. Обычным гуляньем для столиц служит
находящийся за городом сад, называемый Дир-Гарден, с огромными
вековыми деревьями и со множеством аллей, из которых по одним можно
ходить, а по другим и ездить экипажами. Достаточно пожить в
Стокгольме недели две, чтобы признать за шведами
характеристические их качества: большое трудолюбие и опрятность почти
щепетильную. В продолжение всей недели не заметишь на улице
праздной толпы, но зато в воскресный день все высыпают гулять
в Дир-Гарден, а иные прохлаждаются катаньем на лодках по
озеру и морю, причем раздаются веселые песни. Тогда, как мне
объяснил мой указатель, было в моде распевать патриотическую
песню, в которой шведы прославляли свою Скандинавию. Если бы
меня не тревожило угрожающее положение моих глаз, я бы,
вероятно, остался в Швеции надолее и принялся бы основательно
изучать шведский язык; но предписания врачей, назначивших мне"
киссингенские воды, торопили меня в Германию. Мое незнание
шведского языка на каждом шагу служило'мне источником
неприятностей и однажды заставило меня проночевать на улице под
ночным холодом. Когда я выходил из своей квартиры, хозяйка
дала мне какой-то ключ; не разобравши, что она говорила и не
понимая, зачем мне этот ключ, я повесил его на колку, вбитом в
стену в своей комнате; когда же, воротившись поздно домой, я
начал звонить у ворот подъезда, мне не отпирали; я слышал голос
дворника, по которому понял, что он сердится. Нечего было
делать, я отправился на площадь, лег у памятника Густава Адольфа
и пролежал там всю ночь до солнечного восхода. Потом уже
пономарь, поговоривши с хозяйкой, объяснил мне, что по здешнему
обычаю всякому жильцу дается ключ от ворот подъезда и он
может, никого не беспокоя, отпереть подъезд и, вошедши, запереть
его снова.
Покидая Стокгольм, я решился плыть на купеческом пароходе,
отправлявшемся в Любек, и нанял себе место в первом классе
этого парохода. Пассажиров было немного, и все без исключения
шведы, не умевшие говорить иначе как на своем языке, которого '
510
я не понимал. Путь оказался очень медлен: отплывши утром в
субботу, к вечеру мы прибыли в Норд-Чопинг, самый
промышленный город во всей Швеции, прозванный за то шведским
Манчестером. Шведы чрезвычайно строго соблюдают воскресные дни,
и потому пароход должен был стоять на якоре до понедельника.
От нечего делать утром в воскресенье я вышел на берег и пошел
странствовать по незнакомому городу. Увидя церковь, красиво
обсаженную деревьями, я вошел в нее и сел на лавку. Через
несколько времени раздался колокольчик; сторож сделал какой-то
оклик, которого я по незнанию шведского языка не понял;
некоторые вышли из церкви, а я продолжал оставаться на своем месте.
Церковь заперли на засов. Взошел пастор на кафедру, начал
читать проповедь, в которой я ничего не мог уразуметь, кроме
долетавших до моего слуха имен Иисуса Христа и апостола Павла. Я
было попытался уйти, но придверник меня не пустил. Тут я
понял, что у них в обычае запирать церковь во время проповеди и
до ее окончания никого не выпускать из церкви и никого не
впускать, а оклик, которого я не понял, был предложением тем,
которые не желают слушать проповеди, уйти заранее. Я сел на свое
место и протомился битых полтора часа, зевая под звуки
неизвестных мне слов. Наконец, пастор произнес давно жданное мною
«amen», церковь отперли, и я поскорее выскочил из нее. Долго
ходил я по городу, видел множество фабричных строений с
трубами, остававшихся в бездействии по причине воскресного дня,
наконец, почувствовал голод и стал отыскивать какой-нибудь
ресторан. Я встретил их несколько, но ни в один меня не впустили:
в воскресные дни они запираются так же, как и лавки;
встречались вывески с кондитерскими, но и там двери были заперты. И
так проходил я по плохо вымощенным улицам Норд-Чопинга до
солнечного заката и, решившись возвратиться на свой пароход,
стал искать выхода из города. В это время увидел я одну открытую
кондитерскую и зашел туда. Первый предмет, попавшийся мне на
глаза, был кипящий самовар; русская надпись, вырезанная на его
крышке: «Иван Прокофьев в Туле», повеяла на меня дорогим
отечеством. Я попросил чаю, но увы! шведка приготовила мне такой
ужасный напиток, которого я при всем томившем меня голоде не
мог пить. Явно было, что в Норд-Чопинге не имеют понятия о
русском чае. Заплатив деньги ни за что ни про что, я вышел из
кондитерской и уже не искал более никакой яствы в
Норд-Чопинге, а спешил на пароход, куда и добрался уже ночью.
Отплывши утром далее, я воспользовался двухчасовым
стоянием парохода в Кольмаре и посетил тамошний собор, знаменитый
в истории заключением Кольмарской унии. Здание это с толстыми
черными стенами и узкими длинными окнами — не готической
архитектуры своды его имеют закругленную форму. Обозреть
город не доставало времени, и, осмотревши собор, я отправился на
пароход. Будучи всегда восприимчив к морской болезни, я
подвергся ей в жестокой степени. Мы плыли всю ночь, потом целый
день, и только к вечеру другого дня качка стала утихать. Мы
прошли мимо острова Рюгена, и я с большим любопытством смот-
511
рел на белый высокий берег — место, где когда-то находилась
божница Свантовита, важнейшее религиозное место языческого
славянства, столь наглядно описанное у Саксона Грамматика и
Адама Бременского. Мне было жаль, что я не имел возможности
взойти на берег и посмотреть на это священное место наших
предков. С солнечным заходом мы вступили уже в Травемюнде —
залив с зелеными берегами, по которому пришлось нам плыть с
добрый час. Наконец, стало смеркаться, пароход засвистал и
бросил якорь.
Мы прибыли в Любек. Ночь была значительно темнее
шведских ночей; чувствовалось, что мы далеко отшатнулись к югу.
Взявши извозчика, я приказал везти себя в одну из гостиниц,
которой адрес узнал по своему печатному путеводителю. Мне
отвели удобную, покрытую коврами комнату. Утром вставши, я
пошел ходить по городу. Первое, что поражает путешественника в
Любеке, это средневековый характер постройки многих из его
домов, из которых иные сооружены в XIII и даже XII веке и
оставались до сих пор без значительных перестроек. Впоследствии,
через несколько лет удалось мне посетить Нюренберг, и я могу
сказать, что два города, Любек и Нюренберг, особенно
замечательны архитектурным средневековым характером своих домов. Я
посетил ратушу, бывшее место главного управления всего
Ганзейского союза, которого столицею был Любек в течение
нескольких веков, заходил в Maria-Kirche, бывший некогда патро-
нальный храм Любека во время его величия. Церковь построена в
готическом стиле, очень высока и светла. Мне показали две
картины Овербека, несколько картин Гольбейна — образцы
старонемецкой живописной школы и одну замечательную фреску, на
которой изображен танец смерти. Этот сюжет встречается на
многих старых церквах Германии, но нигде я не видал его в такой
полноте и с яркостию красок, как в Любеке. Представляется
смерть в обычном виде скелета: множество раз она танцует с
разными лицами, и под этими лицами подписывается их звание и
положение в свете. Смерть танцует с императором, епископом,
монахами разных орденов, с рыцарем, с дамою, с бургомистром,
с мещанином, мещанкою, со старыми и малыми, со знатными и
с нищими. Всякое лицо, танцующее со смертию, одето в
принадлежащий ему парадный костюм, и потому-то этого рода
средневековое изображение составляет очень важный материал для
средневековой археологии, давая возможность изучать уборы всех
сословий средневекового общества. Церковь св. Марии
установлена множеством статуй, которые не были уничтожены и изгнаны
во время обращения ее в лютеранство. Вообще это один из
замечательных храмов средневекового зодчества в Германии.
Вечером в тот же день я выехал из Любека в Гамбург и,
простоявши там сутки, поглазел по городу, который отличается
богатством домов, но мало заключает в себе остатков старины. Я
двинулся из Гамбурга чрез Ганновер вплоть до Кельна и прибыл
в этот город утром на рассвете. Величественная, хотя и
безобразная издали масса недостроенного Кельнского собора виднелась
512
уже на железной дороге и представлялась вдали каменною горою.
Первым делом моим было по приезде в город бежать в собор. Был,
кстати, воскресный день. Я отслушал обедню, которую отправлял
тогда архиепископ. Один из служивших при церкви, заметивши,
что я иностранец и с любопытством осматриваю собор, пригласил'
меня взойти на хоры, поближе к органу. Обедня служилась с
большим торжеством: кроме органа был целый оркестр
музыкантов и большая стройная певческая капелла. По окончании
богослужения архиепископ с духовенством отправился процессией по
городу. Я пошел за толпою и увидел множество молодых девочек
в белых платьицах с венками на головах из живых цветов; они
несли впереди образа и разные священные вещи. Я узнал, что это
был день публичного экзамена в городском училище. Пообедавши,
я отправился снова в собор и на этот раз сошелся с одним
русским, уроженцем Курляндии, исправлявшим при соборе
должность в роде сторожа или швейцара; он начал обводить меня по
всем закоулкам и водил на самый верх, откуда чрез отверстие
недостроенного свода приятно долетали снизу звуки органа и
церковное пение отправлявшейся вечерни. С вершины собора глаз
видит весь Кельн как на ладони. Мой путеводитель указал мне
разные церкви, рассеянные по городу. Спустившись вниз в собор,
я начал осматривать ризницу, которую путешественникам
доказывал священник; здесь множество драгоценной утвари,
подаренной в разные времена в собор императорами. Привыкши в
отечестве слышать рассказы о богатствах наших монастырей и
церквей и повидавши это богатство, я был поражен тем, что
увидел в Кельнском соборе. Все наши церковные богатства так же
мелки и ничтожны перед здешними, как мелка архитектура
наших наиболее знаменитых храмов перед поражающим величием
готического собора. Один из самых замечательных предметов
кельнской ризницы — мощи трех волхвов, поклонявшихся Христу
при его рождении в Вифлееме. Когда я заметил священнику, что
те же мощи показываются и в Константинополе, он объяснил, что
эти самые были когда-то в Константинополе, но перевезены и
поставлены в Кельнском соборе императором Фридериком
Барбару ссою. Самая внутренность собора представляет в начале по обе
стороны готическую колоннаду со сложными колоннами, так, что
несколько колонок, соединенных одна с другою, составляют одну
целую. Вверху эти колонны соединяются между собою
стрельчатыми перемычками. Собор освещен разрисованными стеклами в
больших окнах; на левой стороне живопись старая, средневековая,
а на правой — новая, дар баварского короля Людовика,
отличается превосходною работою. Готическая колоннада приводит к
капелле, освещенной огромным куполом с цветными окнами,
устроенными между колонками и арками готического стиля. По
всей капелле вокруг стен устроены кругообразно покрытые
коврами места для сиденья; прямо перед алтарем род скамей; алтарь
во время богослужения очень обильно освещался большими
свечами; над капеллою прямо против алтаря — хоры с органом, на
котором, как говорили мне, некогда играл знаменитый Бетховен.
513
Нельзя представить себе что-нибудь изящнее, великолепнее этого
собора. Религиозное благоговение невольно овладевает душою при
входе в это святилище.
Из собора я с одним молодым человеком, студентом одного из
немецких университетов, с которым случайно разговорился и
познакомился в соборе, отправился в одну из церквей, где
показывали мне в сделанных в стене нишах за стеклом множество
человечьих костей, уверяя, что это остатки девиц, избитых
гуннами во время нашествия Атиллы. Оттуда студент провел меня
взглянуть на здание кельнской гимназии, которой внутренность
отделана в готическом стиле; наконец, по его же предложению
отправился в театр, где играли недавно появившуюся оперу
Вагнера «Лоэнгрин». Как на одну из особенностей Кельна можно
указать, что в нем на каждой улице можно видеть несколько вывесок,
гласящих, что здесь находится фабрика одеколона под фирмою
«Johann-Maria Farina». Невольно придешь в тупик, где же между
этими Фаринами настоящий Фарина? Мне объяснили, что из них
нет ни одного настоящего, что настоящая фирма давно уже
прекратила свое существование, а теперь кто хочет, тот и употребляет
ее; в достоинстве же они все равны и все хороши. Обилие
одеколона не мешает, однако, улицам Кельна отличаться нечистотами
и даже вонью, что составляет признак прирейнских городов,
вообще уступающих в чистоте городам Северной Германии. Враги
католичества, указывая на этот признак, приписывают его, между
прочим, более низкому уровню образованности в католическом
обществе пред протестантским. Как бы ни было, но мне лично в
Кельне, как и вообще в католических городах, казалось гораздо
отраднее, чем в протестантских, где господствует какая-то сухость
духовной жизни. Быть может, это происходит от относительной
близости католичества с нашим русским православием; по
крайней мере, как только приедешь в католический город и услышишь
звон, то чувствуешь что-то родное, близкое сердцу. -
На другой день я сел на пароход и поплыл вверх по Рейну,
взявши билет до Майнца. Путь по Рейну шел в виду
необыкновенно живописных гор с обеих сторон реки, усеянных
развалинами рыцарских замков. Нельзя * сказать, чтобы по красоте самой
природы рейнские берега представляли что-то невиданное и ни с
чем не сравнимое: я думаю, у нас на Руси Жигули на Волге
(ме.жду Симбирском и Саратовом) и днепровский берег от Киева
до Черкасс не уступают рейнским берегам, не говоря уже о
южном береге Крыма, который несравненно изящнее десяти Рейнов;
но чего у нас нет и что составляет неотъемлемую прелесть при-
рейнского края — это его полуобвалившиеся замки с их
историческими и легендарными воспоминаниями. Плывя по Рейну, я
имел в руках купленные в Кельне «Rhein-Sagen» и читал их,
поверяя упоминаемые в них местности на самой природе. Так
проплыли мы величественный Драхенфельс, отпечатленный в
народной немецкой поэзии битвою со змеем; Фюрстенберг, где
являлась умершая мать лелеять свое дитя, доставшееся сменившей
ее мачехе, — замок, куда приплыл таинственный рыцарь на чел-
514
не, везомом белым лебедем; «Кошку» и «Мышку» — две
развалины, стоящие одна близ другой, о которых сохранилось предание,
что здесь жили непримиримые враги и вели между собою долгие
взаимные драки; Зоненштейн-Зоннек, возобновленный в недавнее
время; Иоганнесберг с еш вином, пользующимся всесветною зна-
менитостию; наконец, уже близ Майнца — Мышиную башню,
соединенную с историей епископа Гаттона, воспетою немецким
поэтом Уландом и всем нам знакомую по прекрасной переделке
Жуковского.
Наконец, мы прибыли в Майнц. На другой день я побежал
осматривать Майнцский собор, драгоценный памятник X века
романской архитектуры, и накупивши себе на память рейнских
видов, отправился по железной дороге во Франкфурт, а оттуда в
дилижансе в Киссинген — место, назначенное для моего лечения.
В Киссингене я пробыл пять недель, аккуратно пивши «Рагоцци»
и «Пандура» и каждый день принимая ванну. Несмотря на
убийственную скуку — неразлучную спутницу немецких водяных
лечений, я насколько можно разнообразил свою жизнь прогулками
по обширному и прекрасному лесу, окружающему холмистые
окрестности Киссингена. По истечении срока лечения отправился я
снова во Франкфурт, где сошелся снова с доктором Стефани, с
которым расстался еще в Стокгольме, и вместе с ним поехал в
Париж. Там пробыл я около месяца, каждый день без устали
осматривая всякого рода достопримечательности. Я не стану
распространяться о своем пребывании в Париже, так как все виденное
мною было сто раз описано и многим из читателей известно по
личному опыту. I
В последних числах июля расстался я снова с Стефани,
который направил путь свой в Швейцарию, условившись съехаться
со мною в определенный срок в Люцерне, а я отправился для
морских купаний в Дьепп. Проезжая через Руан, я не утерпел,
чтобы не выйти из вагона и не остаться здесь на полдня, осмотрел
город и между прочим площадь, на которой некогда происходило
сожжение Орлеанской девы. Оттуда я приехал в Дьепп. Этот
небольшой городок живет почти исключительно купающимися, так
что большинство домов круглый год стоят пустыми и отдаются
только на время купального сезона, продолжающегося
какой-нибудь месяц с небольшим. Купанье в море здесь хорошо, но
каменистое дно у берега и сильный прибой волн океана часто
заставляют приостанавливать купанье, что возвещается снятием
флага. Здесь встретил я несколько русских, подобно мне
приехавших пользоваться морскою водою, и с некоторыми познакомился.
Пробыв в Дьеппе месяц, я уехал снова в Париж, где обратился к
одному окулисту, который напугал меня тем .же, чем и русские
врачи. Не доверяя, однако, французскому окулисту, который по
своим приемам и чрезвычайному самохвальству сделал на меня
неприятное впечатление, я решился отправиться в Гейдельберг к
доктору Хелиусу и поехал чрез Страсбург, позволив себе на пути
в этом городе осмотреть собор и взойти на его знаменитую
колокольню. Через несколько часов после того я был уже в Гейдель-
515
берге. Доктор Хелиус произвел посредством беллядонны
расширение моего зрачка, чем сначала страшно напугал меня; но когда
через день мои зрачки пришли в нормальное положение* он очень
утешил меня, сказавши, что никакого расположения к катаракту
не видит, и советовал мне ехать в Италию, уверяя, что как только
я перевалюсь через Альпы, тотчас почувствую облегчение. Мои
боли в глазах он приписывал геморрою. Я пробыл в Гейдельберге
четверо суток, гуляя по превосходным окрестностям этого города
и два раза посетивши его знаменитый замок, которого развалины
сохранились в лучшем виде, чем большая часть средневековых
замков Германии.
Из Гейдельберга я поехал в Швейцарию. Уже от самого Ба-
ден-Бадена можно чувствовать и наблюдать приближение к горной
полосе Альп: почва становится более и более неровною и
холмистою, и с каждым шагом горы становятся выше и выше. Я прибыл
в Базель, бегло осмотрел его и приехал в Люцерн. Своего
товарища доктора я не застал по обещанию, и в надежде, что он
постарается прибыть сюда через день или через два, решился
употребить свое одиночество на плавание по озеру Четырех
лесных кантонов. Виды на этом озере показались мне до того
живописны, что воображение едва ли могло создать что-либо
прекраснее. Нанятые мною лодочники возили меня на пункты, с
которыми соединялись исторические предания, священные для
памяти швейцарцев: место, где, как говорят, собирались заговорщик
ки, предпринявшие дело освобождения отечества, и капеллу
Вильгельма Телля, построенную на том месте, где это лицо, чуть
не мифическое, взятое в неволю, успело соскочить с лодки и
выпрыгнуть на берег. Вслед за тем мне захотелось совершить
восхождение на вершину Риги, высокой горы над Швицом: я нанял
лошадь с проводником за двадцать франков и поехал. Путь,
лежащий туда, чрезвычайно живописен. Взъехавши на высоту, но
еще не достигая вершины, можно любоваться бесконечною грядою
Альп с самыми разнообразными очертаниями их снежных верхов;
но когда мы начали подыматься уже к самой вершине Риги, нас
покрыло густое облако и, достигши вершины, мы ничего не могли
видеть. У построенной там гостиницы встретил я целый табор
путешественников-англичан обоего пола, приехавших сюда за тем
же, за чем и я, так же, как и я, обманутых в своих надеждах. В
гостинице не было для меня помещения, и потому, не оставаясь
там ночевать, я повернул с горы и уже поздно прибыл в Швиц,
где остановился в очень плохой гостинице, а переночевавши там,
на пароходе поплыл в Люцерн. Там встретился я с ожидаемым
товарищем, и мы в тот же день отправились по озеру на Флюэллеш
и там наняли себе экипаж, который должен был нас провезти
через Альпы до берега Лаго-Маджиоре. Мы проехали через Альт-
дорф, где увидели статую Вильгельма Телля, поставленную на том
месте, где по преданию он по приказанию Геслера стрелял из лука
в яблоко, положенное на голову своего сына. К вечеру мы достигли
до Чертова моста, столь знаменитого в русской истории по
переходу Суворова. Местность чрезвычайно мрачная и дикая: с горных
516
вершин бьет водопад, шум которого слышен за несколько верст;
вокруг на скалах нет ни стебелька. Подвигаясь все выше и выше,
мы начали чувствовать сильный холод и к свету были на вершине
Сен-Готарда. С солнечным восходом увидали мы, что стоим на
ледяной коре, а по всем сторонам розовый блеск восходящего
солнца румянил снежные вершины Альп. На несколько времени мы
пристали к францисканским монахам, содержавшим там нечто
вроде пристанища для путников. Несмотря на солнечный свет,
холод был до того пронзителен, что напоминал нам конец русского
ноября. С этих мест дорога наша пошла вниз и делалась особенно
привлекательною; беспрестанно съезжая с Альпийского хребта,
мы следовали зигзагами, и нередко мне казалось, что мы летим в
пропасть, так как внизу ничего не было видно и гора
представлялась отвесною; но сделавши несколько шагов, в виду падения мы
всегда останавливались и потом поворачивали, делая угол для
того, чтобы снова, видимо, падать и опять останавливаться. Вместе
с тем пред нашими глазами проходили один за другим разные
климаты: находясь на горных вершинах, мы видели только мох и
лишаи на камнях; спустившись пониже, мы ехали посреди
мелкорослого кустарника северных пород, какие можно встречать
только в Лапландии; спустившись ниже, мы очутились посреди
хвойных деревьев; еще ниже — появились березы и осины;
потом — липы, клены, наконец дубы, а еще ниже — буки, чинары
и виноградные лозы. Температура все делалась выше и выше. При
солнечном восходе было так холодно, что впору было одеться в
шубу, а в полдень солнечный зной возбуждал жажду.
Мы ехали по Тессинскому кантону, населенному итальянским
народом, хотя принадлежавшим по политической связи к
Гельветическому союзу; проминули живописную Беллинсону,
красовавшуюся своим средневековым замком; наконец, все спускаясь ниже
и ниже, уже после солнечного заката прибыли мы в Лугано на
самом берегу Лаго-Маджиоре. Мы поместились в гостинице, где
нам дали хорошо убранные комнаты со стеклянною дверью на
балкон, выходивший прямо на озеро. Полная луна осеребрила
волны озера; в городке отправлялся какой-то национальный праздник;
слышно было веселое пение, разгульные крики; пели какую-то
хоровую песню, которой куплеты оканчивались много раз
повторяемым припевом:
Noi siamo piccoli,
Ma grande le nostra liberta1.
При этом раздавались звуки инструментов. Целую ночь
продолжалась эта народная гулянка. Утром, проснувшись, я был
поражен великолепнейшим зрелищем голубых волн озера и яркою
зеленью, покрывавшею холмы, окаймлявшие его берег. Отсюда мы
поплыли по озеру до Лявино — городка, находящегося в Италии.
Из Лявино мы сделали поездку на Барромейские острова и там
осматривали замок, принадлежавший князьям Барромеям. Здесь в
1 Мы малы, да велика наша свобода.
517
первый раз я увидел апельсинные и лимонные деревья, которые
могут расти в этой местности благодаря тому, что она защищена
с севера Альпами, тогда как на равнине Ломбардии они уже не
растут. Вода в Лаго-Маджиоре, как и во все^ч озерах Северной
Италии и Швейцарии, до того светится голубым отливом, что он
заметен даже и в стакане, если в него зачерпнуть этой воды.
Отсюда мы поплыли на Комское озеро, которое хотя и уже
Лаго-Маджиоре, но отличается еще более красивыми берегами, живописно
усеянными затейливыми виллами разнообразной постройки. Мы
причалили к Комо и здесь сели в вагон железной дороги, которая
часа через три доставила нас в Милан. Пробыв в Милане три дня,
полюбовавшись Миланским собором с его затейливою
архитектурою и тремя тысячами мраморных статуй, уставленных на краю
его мраморных стен, мы всходили на вершину его купола под
колоссальную статую богородицы, посетили также церковь
Амвросия, в которой нам показывали за деньги мощи св. епископа этого
имени, побывали в громадном театре Delia Scala и пустились в
Верону. Здесь было также кое-что посмотреть. Нас водили в дом,
где жил Данте, показывали его карету, указали на дом, в котором
будто бы жили Капулетти, но всего интереснее было обозреть
огромнейший римский амфитеатр, сохранившийся в целости со
всеми признаками старой архитектуры этого рода зданий; весь он
представляет полукруглую каменную лестницу, которой ступени
служили для зрителей; внизу было открытое место для арены, а
под нею подземелье, из которого выпускали зверей и выводили
несчастных осужденных драться с ними и утешать дикую
римскую публику своими страданиями.
Из Вероны мы отправились в Венецию, прибыли в нее
железною дорогою по великолепному мосту, устроенному через море.
Наступала уже ночь. Высадившись из вагона, мы достигли в
гондолах до площади св. Марка, которая в то время была освещена
множеством разноцветных огней, кишела бесчисленными толпами
веселившегося народа и оглашалась оркестром, увеселявшим
танцующих на мостовой под открытым небом. Луна была в своем
полном блеске, и ее свет, сливаясь со светом городских и
увеселительных огней, представлял необычное, удивительное зрелище.
Я пробыл в Венеции пять дней. Нельзя себе представить города,
к которому так трудно было приучиться; чуть не на каждом шагу
мостики через каналы, витые узкие улицы с такими огромными
домами, что солнцу невозможно проникать между ними, и — ни
одной лошади. Первым делом моим было пойти в церковь св.
Марка, и мне представилось в ней что-то давно знакомое: это мозаика
стен, припоминавшая мне киевскую Софию, но несравненно в
богатейшем виде. На наружных стенах входа и в сенях —
символические изображения, относящиеся собственно к Венеции.
Венеция изображена в виде женщины-красавицы, la bella Venetia дает
власть своему дожу. Архитектура церкви византийская и
напоминает нашу православную церковь. Все ее столбы и стены покрыты
мозаикою превосходной работы. -В числе священных вещей
показывают кусок исписанного пергамента и говорят, будто это часть
518
собственноручного Евангелия св. Марка. Я всходил на
колокольню, куда всход очень отлог и потому удобен. На вершине
колокольни увидел я всю чудную Венецию с бесчисленным
множеством каналов и островков, ее окружающих. Палац дожей,
находящийся близ самой церкви, был также обойден мною. Кроме
превосходной галереи живописи и портретов всех венецианских
дожей, за исключением Марино Фальери, казненного и потому
выброшенного из списка дожей, видел я залу «совета пятисот»,
страшную комнату «совета десяти». Внизу здания — темные
«pozzi» — тюрьмы, где содержались преступники; близ этих
тюрем — выход в море, куда по приговору суда выводили их топить,
а вверху здания дворца не менее ужасные «piombi» — низкие
чердаки под свинцовою крышею, куда в виде пытки засаживали
осужденных и томили невыносимою духотою от раскаленной
металлической крыши. Осмотревши все достопримечательности и
прокатившись на гондоле вдоль Canale Grande, унизанного
торчащими в воде дворцами с крыльцами, на которые плескала вода
канала, я сел на пароход и отплыл в Триест.
Город этот показался мне с типическим характером новых
торговых городов и во многом напомнил мне нашу Одессу. Италиан-
ский язык в нем господствует повсюду. На улицах поразили меня
ехавшие на волах поселяне, по костюму и всему наружному виду
похожие на наших малорусских чумаков. Остановившись, я
прислушался к их речи, но услыхал италианский язык. Из
расспросов о том, кто они, я узнал, что они славяне из окрестных
селений, усвоившие при частом посещении города италианский
язык. Пробыв в Триесте день, я выехал на ночь и взял нарочно
место в вагоне III класса, чтобы находиться в общении с простым
народом, так как знал, что путь лежал через славянский край, и
мне хотелось видеть не публику, везде одинаковую, но народ,
удерживающий признаки своих вековых особенностей. Я не
обманулся. В вагон беспрестанно прибывали и убывали из него лица
обоего пола, принадлежащие к местному народу. Я повсюду
слышал славянскую речь, которой, однако, хорошо понимать не мог,
так как все говорили на местном иллирском наречии, а я ему
-никогда не учился. Тем не менее невыразимо приятно после
долгих месяцев пребывания в краях, говорящих языками чужих
корней, услышать более или менее родные слова, по крайней мере
предметов общих, как, например, название воды, хлеба и т. п. Что
мне бросилось особенно в глаза, это была опрятность в «одежде
иллирских славян и замечательная красота лиц молодых женщин
и девиц. Тогда мне пришло в голову, что славянское племя,
должно быть, самое красивое между европейскими племенами, и это
бросалось в глаза особенно после Италии, где простонародные
женщины никак не могут пощеголять ни красотою, ни
опрятностью.
Я остановился на день в Любляне, носящей по-немецки
название Лайбаха. Город лежит на значительной высоте от уровня моря,
и потому в нем показалось мне прохладнее, чем того можно было
ожидать сообразно с первою половиною сентября. Я зашел в
519
книжную лавку и стал спрашивать славянских книг.
Книгопродавец был, как видно, ультра-немец и окинул меня подозрительным
взглядом, насмешливо сказал: «Oh! die slawischen Dummheiten sind
schon langst vorbei!»1 Однако же он дозволил мне самому отобрать
что мне угодно на указанной им полке, где лежали книги на
местном славянском наречии. Я отобрал себе несколько брошюр и
отправился из лавки бродить по городу. Все отзывалось здесь
неметчиной; но когда я забрел на рынок, там увидал толпу просто-
народия в тех же одеждах, с которыми познакомился на железной
дороге, и услыхал хотя почти незнакомую, но все-таки не
совершенно чуждую мне славянскую речь. И так я понял, что
славянство не умерло здесь, но прозябает в одной низменной сфере
рабочего народа — удел, одинакий для многих из славянских
народностей.
Я выехал из Любляны в Гратц, остановился там на полдня и
отправился в Вену. Путь лежал через знаменитый Земмеринг.
Железная дорога подымается на огромную высоту, и ряд вагонов идет
по окраине пропастей, в которые заглянуть так страшно, что
делается головокружение. Я воображал себе, что должно было
сделаться со всеми нами, если бы в этих местах вагоны сошли с
рельсов. Но все обошлось благополучно, как всегда, и достигши
самой большой высоты, мы стали спускаться. Этот подъем на
неприступные высоты и спуск с них показались мне дивом
современного искусства. Наконец, я достиг Вены. В Вене я пробыл две
недели, каждый день осматривая всякие достопримечательности,
которые описывать считаю лишним как более или менее
известные; скажу только, что меня особенно поразило в столице
Австрийской империи необыкновенные для большого города чистота и
свежесть воздуха. Дни были ясные и теплые, и несмотря на
приближение к концу сентября я каждое утро ходил из «Мачакер-
гоф» — гостиница, где я остановился, купаться в «Дианабад» —
превосходное заведение с большим бассейном, разнообразными
душами и паровыми банями. Пропотевших в этих банях пускают
под холодные души.
Из Вены отправился я в Прагу, где пробыл около недели.
Здесь первым делом моим было обратиться к почтенному
блаженной памяти патриарху чешского славянства Вячеславу
Вячеславовичу Ганке. Узнавши, что я русский и притом припомнивши мою
фамилию как переводчика на малорусский язык Краледворской
рукописи, Ганка принял меня как самого близкого человека, водил
меня по всей Праге, ездил со мною на Петчин любоваться видом
на город, в Градчин, где мы с ним осматривали собор св. Вита^е
могилами чешских королей, дворец, находящийся близ собора,
посетили вместе с ним университетскую библиотеку, побывали и в
чешском театре. Тогда Прага казалась еще совершенно немецким
городом; не было в ней и тени той славянской или, лучше сказать,
славянствующей физиономии, какую она приняла после
последней конституции и какую я застал в ней, вторично посетивши ее
* «Эти славянские глупости давно уже прошли!»
520
в 1864 году. По-славянски никто не отваживался говорить, и
большинство считало это признаком невоспитанности. В. В. Ганка
любезно наделил меня всеми своими произведениями и изданиями,
а я вдобавок накупил чешских книг и отправился в Дрезден. Здесь
сошелся я с моим товарищем доктором, с которым расстался еще
в Триесте. Мы вместе осмотрели дрезденские
достопримечательности: картинную галерею и «Зеленый свод» (Grime Gewoelbe) —
хранилище разных регалий и королевских украшений, и затем
отправились в Берлин, а через неделю уехали из Берлина в
Штеттин, где сели на русский пароход, доставивший нас благополучно
в Петербург.
Первою и отрадною вестью, приятно поразившею меня в
отечестве, был слух о том, что готовится освобождение крестьян от
крепостной зависимости и что на днях должен выйти манифест
об учреждении по этому предмету комитетов во всех губерниях.
Пробывши в Петербурге неделю, я уехал в Москву и там
согласился со встретившимся саратовским купцом ехать вместе с ним
до Саратова. В назначенное заранее время мы поехали туда на
половинных издержках в его экипаже, и ехали медленно, хотя и
на почтовых, потому что дорога, как и надобно было надеяться,
по причине поздней осени была до крайности негостеприимна. В
городе Саранске я встретил на станции случайно проезжавшего
жителя того края, который рассказал мне событие, случившееся в
Саранском уезде во время Пугачева. Один боярин заколотил свою
жену для того чтобы иметь возможность жениться на своей
любовнице. В то время когда жена лежала мертвая на столе, прибыл
к отцу в гости сын, служивший где-то в полку, и, догадавшись,
что мать его умерла насильственною смертию от руки отца,
решился мстить отцу: ушел к разбойникам, сделался предводителем
шайки и ночью напал на отцовский двор. Предуведомленный
заранее отец успел убежать с новою женою, а сын в досаде сжег
отцовскую усадьбу, но скоро был застигнут войском, взят в плен
и казнен. Рассказчик объяснил мне, что двор, в котором все это
происходило, находился за несколько верст от Саранска, и я, еду-
чи туда, проминул это место. Рассказ этот внушил мне мысль
изложить это событие в виде повести, но отнести его вместо XVIII
века в XVII, к эпохе Стеньки Разина, для того чтоб иметь
возможность изобразить быт и нравы XVII века, мне более знакомого по
занятиям, чем XVIII.
Наконец, я прибыл в Саратов. Не стану описывать радости
свидания с матерью после долгой разлуки. От матушки я узнал,
что в мое отсутствие проезжал через Саратов и заезжал ко мне
освобожденный из ссылки Шевченко. Спустя немного времени до
меня дошла весть, что его не пустили в Петербург, а велели ему
оставаться в Нижнем Новгороде. Члены пароходной компании там
его дружелюбно приняли и приютили.
В Саратове я принялся за свои обычные занятия и,
перебравши свои выписки о внутренней истории древней России, начал
писать очерк домашнего быта и нравов великорусского народа,
чем и занимался всю зиму. В апреле 1858 года я принялся писать
521
«Бунт Стеньки Разина», а в мае, согласившись с директором
саратовской гимназии Мейером, предпринял путешествие на юг
губернии. Мы прибыли в Дубовку, проехавши туда по немецким
колониям, которых было так много, что мне показалось, будто я
очутился в Германии. В Дубовке меня увлекло знакомство с
раскольниками разных толков и преимущественно с молоканами.
Хозяин, у которого мы квартировали, познакомил меня с тамошним
купцом Онуфрием Ивановичем Козеевым, который был некогда
главою молокан, но потом обратился в православие и, по
свидетельству местного протоиерея^ был человек примерного
благочестия и нравственности. Я нашел в этом купце необыкновенно
умного и глубоко начитанного в священном писании старика лет
шестидесяти с лишком. Он сознавался, что был ревностнейший
молокан и своими убеждениями совратил очень многих в свою
секту; прочитал мне сочиненное им некогда прошение государю
Александру Павловичу от лица всего молоканского общества о
позволении молоканам свободно отправлять свою религию и послать
в Дерпт молодых людей для изучения богословия в протестантском
духе. «Однажды, — говорил он, — узнавши, что сарептские немцы
верят подобно нам, я ездил в Сарепту потолковать с тамошним
пастором; но пастор, выслушавши меня, сказал: ты мужик — и
никакой науке не учился, а рассуждаешь о том, чего сам не
понимаешь; какой веры быть приказывает тебе царь, такой и будь;
нам позволяет царь быть своей веры, а вам не позволяет, — стало
быть, вам и не нужно, и что приказывает тебе царь, то и делай,
а на нас не смотри: мы — немцы, иностранцы, у нас своя вера,
а у вас своя, русская, и вы не затевайте иной, а верьте так, как
вам велят верить». Времена царствования Александра I были
блаженными временами для сектантов; но с наступлением нового
царствования стали их стеснять и преследовать. Многих,
объявленных распространителями лжеучения, высекли кнутом,
пометили клеймами и сослали в каторгу; других за упорство стали
выселять на Кавказ. Тем, которые оставались пока на родине,
запрещалось выезжать далее тридцати верст, записываться в
гильдии, отдавать детей в училища; не принимали их свидетельств в
судебных делах. Козеев — из страха, чтобы не открылись его дела
по совращению православных, принял православие сам, но потом,
мало-помалу, вошел во вкус к новому своему вероисповеданию и
пришел к убеждению," что многое, за что стоят молокане, хотя
имеет основание, но вполне совместимо с православием, а иное
толкуется молоканами превратно. В порыве своей преданности к
православию Козеев написал большое сочинение о необходимости
принимать обрядовое крещение и привел в своем сочинении из
священного писания Ветхого и Нового Завета множество мест, где
говорится о воде. Он читал мне свое сочинение. Я заметил, что
иные места приведены им совсем некстати, так что хотя там и
говорится о воде, но ко крещению это не имеет никакого
отношения. Относительно ненависти, какую молокане питают к святым
иконам и вообще к признакам наружного благочестия, Козеев стал
на такую точку зрения, что хотя считал дозволительным и не про-
522
тивным христианству то, что в этом случае допускает
православная церковь, но не признавал внешности главным делом спасения
и называл невежеством те взгляды на наружное благочестие,
которые распространены в массе православного простонародия. Из
всего оказывалось, что хотя Козеев искренно обратился к
православию, но его православие осталось сильно пропитанным
взглядом секты духовных христиан, как называют себя молокане.
Кроме Козеева познакомился я с молоканским домом купцов
Крючковых, от которых слышал горькую жалобу на клеветы,
какими чернят молокан, рассказывая, будто их учение дозволяет
делать фальшивую монету и передерживать беглых солдат, а также
будто молокане по принципу не признают достойными уважения
никаких властей. В опровержение этих клевет мне указали на
дубовского молокана, возвратившегося с Крымской войны с
Георгиевским крестом, полученным при обороне Севастополя. «Вот, —
говорили они, — наш человек, а служил государю и защищал
отечество». Кроме молокан я имел случай познакомиться с
раскольниками других сект. Приводили ко мне одного субботника,
рыбного торговца, большого фанатика, доказывавшего, что теперь
следует совершать ветхозаветные жертвы; потом одного табачного
торговца, рассказывавшего, что, углубившись в размышления о
духовных вопросах, он переходил из одной секты в другую, пока
наконец ему бог послал видение: явилась божия матерь — и ум
его направился к православию.
Потолковавши несколько дней с дубовскими сектантами, мы
отправились в Царицын, где я забрал по поручению губернатора
дела, относящиеся к эпохе пугачевского бунта. Услыхавши, что за
несколько верст от Царицына живет престарелый поселянин более
ста лет от роду, бывший уже взрослым во время Пугачева и
видавший лично этого знаменитого мятежника, я отправился к нему
и увидел истинную ходячую древность. Он рассказал, что помнит
тот день, когда Пугачев прибежал в Царицын, пытался его взять,
но храбрый комендант Цыплятов отбил его шайку, уже по пятам
преследуемую Михельсоном, и как Пугачев со своими товарищами
переправлялся на другой берег Волги. Когда я завел речь о
Стеньке Разине, старик сообщил мне слышанные им давно уже
предания, помещенные мною в конце моей книги. Какая-то старуха,
сидевшая здесь в качестве гостьи, услышавши, что я спрашиваю
о Стеньке Разине, принялась было лгать и уверять, что видела
Стеньку Разина, не зная, как видно, подлинно, когда это известное
народу лицо жило на свете.
Из Царицына поехали мы в Сарепту. Эта гернгутерская
колония представляет необыкновенное зрелище: посреди калмыцких
степей — дикой пустыни пред вами как из-под земли вырастает
чисто немецкий городок, красивый, благоустроенный, с улицами,
обсаженными тополями, со сквером и фонтаном посреди его, с
чистыми домами немецкой архитектуры и с европейским
хозяйством огородов и принадлежащих колонии полей. Мы остановились
в гостинице, устроенной от общества и содержимой на
общественный счет. В этой гостинице стол очень удовлетворителен, но нас
523
мучили всю ночь клопы, чего я никак не мог ожидать, так как,
путешествуя по немецкой земле, нигде не попадал на это
насекомое и привык воображать, что у немцев не может быть такого
признака неопрятности. Утром в воскресный день я отправился в
церковь, построенную в форме дома против тенистого сквера с
фонтаном. Там узнал я, что в этот день будет отправляться
погребение скончавшегося форштегера колонии. Походивши по колонии
и дождавшись начала богослужения, я направился к церкви, но
не мог в нее пробраться: тело усопшего форштегера уже внесли
туда, и за ним толпами валили колонисты в своих праздничных
и как бы форменных нарядах: мужчины были одеты в черных
сюртуках и белых панталонах и жилетах, женщины — в голубых
юбках, белых пелеринках и чепчиках с голубыми лентами. На
паперти я разговорился и познакомился с директором училищ
колонии, который предложил мне осмотреть мужское и женское
училища. Мы отправились в их помещение. Судя по предметам
преподавания оба училища имели вид гимназий и содержались в
большой опрятности; все учебные пособия были разложены и
сберегаемы в образцовом порядке. Преподавание шло по-немецки, но
на русский язык обращалось большое внимание, и его
основательное знание признавалось необходимым для получения аттестата.
Сам директор говорил правильно по-русски и объяснял мне
некоторые особенности религиозного и общественного быта гернгуте-
ров. Секта эта ведет свое начало не от лютеровской реформации,
а от Гуса, и поэтому у них празднуется день сожжения Гуса.
Главным основанием их учения есть братская любовь. Прежде у
них общество держалось на коммунистических началах: не было
собственности; все должны были трудиться в пользу общества и
получать от него средства к жизни; брак считался необходимым
делом, а вступавший в него получал от общества дом со всем
хозяйством и за то был обязан работать на общество сообразно
своей подготовке; в случае смерти хозяина вдова его если не
выходила замуж в другой раз, помещалась на жительство во вдовьем
доме; безбрачными оставались только больные или слабоумные. В
прежние времена браки у них совершались не по взаимному
желанию, а по жребию: пастор вынимая из урны написанные имена
юношей и девиц, и чьи имена совпадали при вынутии их, те
обязаны были сочетаться браком. Такой странный для нас способ
соединения оправдывался тем взглядом, что все люди — братья,
все равны между собою и не должны предпочитать одних другим,
а в устроении своей судьбы должны положиться на волю Бога,
который лучше нас самих устроит для нас то, что нужно для
нашего спасения. Не допускались никакие суды и тяжбы, кроме
приговора пастора или целого общества; впрочем, при отсутствии
собственности тяжбы становились немыслимыми. Труд считался
делом необходимым для христианина; все дни в неделе, исключая
воскресенья, гернгутер обязан был работать без устали; всякие
светские забавы возбранялись вступавшему в братство: ни
театров, ни танцев не позволялось; даже чтение легкого содержания
книг считалось неодобрительным делом. Чистота такого обще-
524
ственного строя не могла удержаться долго и уже нарушилась:
сохранялась, более одна формальность старых принципов;
существовал, правда, общественный капитал, употребляемый по
приговору общества, но многие из братьев завели на собственный счет
хозяйственные и ремесленные заведения и вели сами свою
торговлю. Общество разлагалось не без важных злоупотреблений:
бывали случаи, что члены братства, получивши от общества
какое-нибудь поручение, вместо того чтобы трудиться для
общественных выгод, стали обращать в свою пользу то, что должно
было вноситься в общественный склад, и такие случаи подали
повод к тому, что гернгутеры утратили прежнее доброе о себе
мнение; их стали называть протестантскими иезуитами и
ханжами, так как в наружном виде гернгутера и в речах его все,
по-видимому, дышало благочестием, а тайные поступки его часто были
вовсе не благочестивы. Теперь в колонии есть и богатые и бедные,
а многие ведут промыслы чисто от самих себя. Зато и самая
культура колонии с падением строгой общинности значительно
умалилась; лет сорок, например, назад колония славилась
производством бумажных тканей, по всей России известных под
именем сарпинок; в колонии в большом изобилии работалась гли-*
няная посуда очень красивой отделки; оттуда вывозились пряники,
славившиеся своим вкуром, — теперь все это упало, тем более что
и в других колониях, Не гернгутерских, стали производить то же.
В старину был в большой славе сарептский табак курительный и
'нюхательный, теперь эта промышленность также упала; осталось
в более цветущем состоянии одно: добывание и приготовление
горчицы и горчичного масла, но и этим занимается менее общество,
чем один из членов его, Глич, ведущий дела на собственный счет.
Колония существует уже более ста лет,-но ее население почти не
увеличивается, потому что очень многие, нажившись, выходили из
братства, заводили себе торговлю по разным городам, а иные
уезжали за границу. Самое образование юношества хотя ведется в
порядке, но уже не с таким блеском, как бывало прежде. Некогда
сюда отдавали учиться детей богатые русские помещики — теперь
это совершенно прекратилось. Директор сообщил мне, что это
произошло оттого, что правительство стало смотреть неблагосклонно
на такие случаи, опасаясь, чтобы гернгутеры не совращали
русское юношество с православия. Гернгутеры, поселившись в Сареп-
те, думали принять на себя миссию распространения
христианства между калмыками, но и того правительство им не
дозволило, желая, чтобь( калмыки, если захотят креститься,
поступали в православную церковь, а не в иноверческую.
.Потолковавши с директором и осмотревши училище, я снова
направился к церкви и дождался, пока тело форштегера вынесли
из нее. Вслед за ним и за шедшим позади тела пастором шли
попарно колонисты обоего пола на кладбище, находящееся
неподалеку от церкви и огороженное каменною стеною. Мне
представился ряд могил на равном одна от другой расстоянии, с
одинаковыми камнями, на которых вырезаны были слова,
заключавшие имя погребенного, потом год и день его рождения и кон-
525
чины. Усопшего форштегера опустили в могилу и стали зарывать
землею; пастор отправился в церковь, а за ним все братья. И я
вошел туда же. Церковь представляла- вид университетской
аудитории: посреди стояла кафедра, амфитеатром устроены были
лавки с приделанными к ним столами; вверху на хорах был орган.
Когда все уселись, девушки, опрятно одетые, стали разносить
кофе с сухарями и сливками; подали пастору, потом подавали
слушателям. Пастор, обмакая сухари в кофе, говорил с жаром и
аффектациею что-то вроде проповеди, восхвалял добродетели
усопшего форштегера, уверял, как хорошо ему будет на том свете,
и всех добрых христиан уговаривал принять его за образец
честной и трудолюбивой жизни, чтобы по кончине сподобиться
вечного блаженства. По окончании речи пастор встал, за ним встали
все предстоящие, заиграл орган, все стали молиться; тем и
кончилось это оригинальное богослужение. «Что значит этот кофе?» —
спросил я потом у директора. «Это поминовение, —- сказал он. —
Братья собрались вместе почтить беседою покойника, а при
беседе, вспоминая его, выпили кофе от трудов; вот и все».
Из Сарепты мы уехали обратно в Саратов прежнею дорогою.
В июне 1858 года я усиленно занимался окончанием «Бунта
Стеньки Разина». Написавши его вчерне и оставляя на
дальнейшее время дополнять и поправлять свое сочинение, я отправился
в июле в Петербург через Нижний, до которого прибыл с одним
саратовским купцом, ехавшим на Нижегородскую ярмарку. В
Нижнем я пробыл несколько дней, с любопытством осматривая
помещение ярмарки, которая только что начиналась. Я прибыл в
Петербург 20 июля и через два дня по приглашению Николая
Васильевича Калачева переселился в его квартиру, так как,
отправивши семейство за границу, он жил один. Каждый день ходил я
в библиотеку и занимался там рукописями с целью дополнить мой
очерк домашнего быта и нравов великорусского народа. Вечера
проводили мы вместе с Н. В. Калачевым в беседах, постоянно
касавшихся русского старинного быта, которым он занимался и был
замечательным знатоком его. Суждения и замечания Зтого
археолога были всегда полезны по причине его рассудительного и
трезвого взгляда. В то же время, подстрекаемый Николаем
Васильевичем, я начал писать своего «Сына», обещавши поместить
его в издаваемом Калачевым журнале, называемом «Архив
исторических и практических сведений, относящихся до России».
Между тем, узнавши, что Шевченко живет в Академии
художеств, где ему отвели мастерскую комнату, я в одно утро после
купанья отправился к нему. Здание академии было мне в то время
еще не знакомо, и я долго путался по его коридорам, пока достиг
цели. Мастерская Шевченко находилась рядом с академической
церковью, была просторная светлая комната, выходившая окнами
в сад. «Здравствуй, Тарас», — сказал я ему, увидевши его за
работой в белой блузе с карандашом в руках. Шевченко выпучил на
меня глаза и не мог узнать меня. Напрасно я, все еще не называя
себя по имени, припомнил ему обстоятельство, которое,
по-видимому, должно было навести его на догадку о том, кто пред ним.
526
«Вот же говорил ты, что свидимся и будем еще жить вместе в
Петербурге — так и сталось!» Это были слова его, произнесенные
в III отделении в то время как после очных ставок, на которые
нас сводили, мы возвращались в свои камеры. Но Шевченко и
после того не мог догадаться: раздумывая и разводя пальцами,
сказал решительно, что не узнает и не может вспомнить, кого
перед собою видит. Должно быть, я значительно изменился за
одиннадцать лет разлуки с ним. Я, наконец, назвал себя.
Шевченко сильно взволновался, заплакал и принялся обнимать меня и
целовать. Через несколько времени, посидевши и поговоривши о
нашей судьбе в долгие годы ссылки и о том, как я отыскивал его
в Нижнем, где и узнал о его переселении в Петербург, мы
отправились пешком в ресторан завтракать и с тех пор несколько раз
сходились то у него, то у меня, а чаще всего в ресторане Старо-
Палкина.
Незаметно прошло время до 22 августа. В этот день приехал
ко мне саратовский губернский предводитель дворянства князь
Владимир Алексеевич Щербатов и стал приглашать меня от имени
саратовского дворянства взять временно место делопроизводителя
в предполагавшемся тогда губернском комитете по улучшению
быта крестьян. Мне предложили за мой труд три тысячи рублей
серебром и сверх того по двести рублей в месяц на канцелярию
во все время существования комитета, которому надлежало
открыться на шестимесячный срок. Условия показались мне
выгодными; я согласился и через несколько дней отправился в путь. В
Нижнем я сел на пароход, который возил на буксире баржи. В то
время легких пароходов не случилось, и мне пришлось проскучать
в бездействии на пароходе десять дней. К счастию, капитан
парохода Иванов был человек очень любезный и занимательный
собеседник, прослуживший много лет в американской компании в
Ситхе и посетивший Сандвичевы острова, о которых сообщал
очень любопытные сведения. В первых числах сентября
причалили мы к Саратову, и на другой же день я вступил в исправление
своей новой должности. Каждый день приходилось мне со своей
квартиры, бывшей в доме Прудентова почти на краю города,
ездить в Дворянское собрание, где отправлялись заседания
комитета: там у меня была канцелярия, состоявшая из двух писцов и
одного помощника. Комитет продолжался вместо шести месяцев
семь. Членов комитета — относительно их убеждений и способов
заявления мнений о предлежавших вопросах — можно было
разделить на три рода. Первые — строгие защитники дворянских
интересов, имевшие в виду исключительно выгоду дворянства;
вторые — умеренные либералы, которые хотя и стояли за
дворянские выгоды, но показывали заботы и о том, чтобы и крестьянам
было по возможности выгодно; третьи — составлявшие, как и
везде, меньшинство, стояли за крестьян с готовностью принести
жертвы и со стороны дворянства. Но справедливость требует заметить,
что из последних были и такие, которые, прослышавши наперед
о том, что правительство дает крестьянам свободу, поспешилк
предложить крестьянам свободу сами, постаравшись удержать за
527
собою землю и освободивши крестьян на таких условиях, на
каких сами крестьяне спустя несколько месяцев позже не
согласились бы принять этой свободы. С другой стороны, можно было
указать и на таких, которых во время комитетских заседаний,
судя по их отзывам, надобно было поместить в число крайних
крепостников, но которые впоследствии рассчитались со своими
крестьянами самым гуманным образом и даже безденежно
подарили им земельный надел. Видя это близко, я вполне убедился,
что русский человек способен действовать по сердцу так
человеколюбиво, как не способен по своим убеждениям. Вообще же
саратовский комитет постановил отпустить безвозмездно всех
дворовых людей и не удерживать крестьянского имущества в
пользу дворянства.
VII
Избрание на петербургскую кафедру.
Переезд в Петербург. Приготовление к профессуре.
Профессорская карьера.
Литературные занятия эпохи петербургского
профессорства. Вторая поездка за границу.
Уже в апреле 1859 года, когда саратовский комитет по
освобождению крестьян приводил к окончанию свои занятия, я
получил приглашение от Петербургского университета занять кафедру
русской истории после удалившегося в отставку профессора Уст-
рялова. Радость моя была чрезвычайная. Покончивши в последних
числах апреля все заседания и отпраздновавши с членами
закрытие комитета, я снарядился в путь, предполагая проститься с
Саратовом на этот раз уже навсегда. Накануне моего отъезда
архимандрит саратовского монастыря (ныне уфимский епископ)
пригласил меня к себе в монастырь на вечер, куда позвано было
большое общество моих знакомых. Прекрасную весеннюю лунную
ночь мы провели вместе. Угощение было обильное, а добрые
знакомые усердно пили за мое здоровье и за благополучное течение
нового жизненного пути, который предстоял мне. На другой день
я уехал, провожаемый до монастыря большою группою знакомых,
и, заехавши в монастырь в последний раз, отслушал в нем
напутственный молебен. Этот монастырь был мне особенно дорог: со
времени моего первого приезда в Саратов любимым моим летним
препровождением времени было ездить в монастырскую рощу с
самоваром и книгами и пребывать там по несколько часов.
Я простился со своею матерью, которую обещал пригласить к
себе, когда совершенно устроюсь в Петербурге. На пути, едучи
через Коломну, я осмотрел полуразрушенные стены старого
города. Местные жители сообщали мне, что по преданию здесь в
подземелье была заключена и умерла Марина Мнишек после поимки
528
ее на Яике с Заруцким; но это сведение едва ли верно, так как в
одном ответе, данном русскими послами польским панам,
говорится, что Марина умерла в Москве с тоски по своей воле.
В Москве остановился я на несколько дней, чтобы порыться в
Архиве иностранных дел с целью отыскать кое-что .для истории
бунта Стеньки Разина. Я нашел несколько бумаг более или менее
любопытных; но нельзя сказать, чтобы тогдашнее начальство
архива, которым заправлял покойный князь Михаил Андреевич
Оболенский, было особенно милостиво к моим просьбам. В половине
мая я прибыл в Петербург и остановился в гостинице,
существовавшей в доме Балабина, рядом с императорской Публичной
библиотекой.
Первым делом моим было отправиться к министру народного
просвещения Евграфу Петровичу Ковалевскому, который принял
меня очень любезно, однако сказал, что он уже представлял
государю о снятии с меня наложенного еще в 1847 году запрещения
служить мне по ученой части и утвердить меня в звании
профессора Петербургского университета, который меня тогда избрал.
Государь император сказал, что ему сообщили, будто я написал
какую-то неблагонамеренную книгу о Стеньке Разине. Когда
министр представил, что это сочинение вовсе не отличается дурным
направлением, то государь император сказал, что сам прочтет эту
книгу, и приказал доставить ее к себе. Таким образом, дело мое
остановилось. Дожидаясь решения судьбы своей, я погрузился в
занятия рукописями и книгами императорской Публичной
библиотеки и благодаря любезности библиотекарей и тогдашнего
директора библиотеки барона Модеста Андреевича Корфа получил
такой доступ в отделение библиотеки, что сделался в ней
домашним человеком. Пользуясь близостью помещения, каждое утро из
нумера своей гостиницы, находившейся рядом с библиотекой,
уходил я туда и несмотря на длинные летние дни просиживал там до
ночи. Так как у меня в виду было преподавание науки в
университете, то я читал все, что только могло по моим соображениям
послужить мне для будущих лекций. Так прошло лето. Ни одного
дня не пропустил я, чтобы не посещать библиотеки; читал много
и печатного, и рукописного. Занятия эти до того меня увлекали,
что я не находил времени нанять себе квартиру и оставался в
гостинице, где, однако, мне было неудобно, потому что за стеною
моего нумера, в трактире, играл день и ночь орган, и в это время
некоторые музыкальные пьесы, как, например,«La donna e mobile»
из «Риголетто» или «Addio, Lenora» из «Trovatore», до того мне
омерзели, что я долго без содрогания не мог их услышать. Моими
частыми собеседниками в эти дни были: книгопродавец Кожанчи-
ков, которому я продал «Бунт Стеньки Разина» (первое издание
его явилось в «Отечественных записках» еще в конце 1858 года),
Котляревский — впоследствии профессор, тогда еще молодой
человек, отличавшийся чрезвычайною любознательностию и
большими сведениями в библиографии, и поляк Виктор Калиновский,
занимавшийся по целым дням в библиотеке польскими
рукописями и скоро наживший себе от усиленных занятий чахотку, поло-
18 Заказ 15 529
жившую его- в гроб. Мне не случалось в жизни видеть человека, с
таким увлечением преданного археографии и истории, впрочем,
только в специальном смысле. Его знания не шагали дальше
Литвы и Польши, но зато его можно было назвать ходячим каталогом
самых мелочных сведений о минувшем быте этих краев. Человек
этот отличался сверх того большим добродушием и бесконечною
услужливостью. Памятником знакомства с ним осталось у меня
богатейшее собрание выписок с указанием на нумера и форматы
тех рукописей, из которыхони извлечены. Родной брат его
впоследствии попался в польском мятеже, как один из важнейших
деятелей в Литовском крае, и был повешен;'мой же приятель был
человек иного закала: он весь жил в прошедших веках и почти не
интересовался текущими событиями. Будучи знаком с историею
своего отечества гораздо глубже тех верхоглядных патриотов,
которые, не изучая основательно прошедшего, составляли себе о нем
мечтательные образы, Калиновский в обществе своих
соотечественников возбуждал даже неудовольствие за то, что смело говорил
такие вещи, которые тогдашним польским патриотам были не по
вкусу. Всегда в истасканном платье, питавшийся скудною
трапезою у какой-то польки-кухмистерши, Калиновский мало заботился
о своем житейском комфорте и, можно сказать, во всех
отношениях был человек «не от мира сего».
С сентября, когда в столицу возвращались с дач, с деревень
и со всяких поездок, круг знакомых стал для меня расширяться.
Из близких, старых знакохмых явились в то время в город
Белозерский и Шевченко; последнего видел я еще в мае, но потом он
уехал в Малороссию и возвратился к осени. По-прежнему стал он
мне близким человеком. Хотя после своего освобождения он
вдавался в большое употребление вина, но это не вредило никому,
разве только его физическому здоровью. Напрасно г. Кулиш в
последней своей книге «История воссоединения Руси»
презрительно обругал музу Шевченка «пьяною» и риторически заметил, что
тень поэта «на берегах Ахерона скорбит о своем прежнем
безумии». Муза Шевченка не принимала на себя ни разу печальных
следствий, расстраивавших телесный организм поэта; она всегда
оставалась чистою, благородною, любила народ, скорбела вместе
с ним о его страданиях и никогда не грешила неправдою и без-
нравственностию. Если упрекать Шевченка за то, за что его
наказывало некогда правительство, изрекшее потом ему прощение,
то уже никак не г. Кулишу, который был соучастником Шевченка
и в одно с ним время подвергся наказанию от правительства, хотя
и в меньшей противу Шевченка степени.
Белозерский тогда уже делал предположения об издании
журнала «Основа», надеясь на материальную помощь, обещанную
родственником его жены Н. И. Катениным.
Наконец, я дождался решения своего дела. В октябре министр
народного просвещения Е. П. Ковалевский пригласил меня к себе
и сообщил мне, что государь император изволил разрешить мне
служение по ученой части и что поэтому я буду утвержден в
звании экстраординарного профессора при С.-Петербургском уни-
530
верситете. Мне особенно было приятно, что государь император,
как сказал мне министр, отозвался очень одобрительно о моем
сочинении «Бунт Стеньки Разина», которое прочитал.
Готовясь вступить на кафедру, я продолжал сидеть по целым
дням в Публичной библиотеке. Ноября 20-го назначена была мне
вступительная лекция в университете. Стечение публики было
большое; несколько государственных лиц посетили мою лекцию.
По окончании чтения последовали громкие рукоплескания, а
потом толпа молодых людей подхватила меня на руки и вынесла из
университетского здания к экипажу. Тут встретил я одного
молодого доктора, который служил в Саратове и был там со мною
знаком. Мы поехали вместе. «Вот, — говорит он, — совершилась
такая минута, которой никто из нас не воображал, когда мы жили
с вами в Саратове; вот как судьба играет человеком. Сравните
теперь то положение, когда вас унижал саратовский
полицеймейстер, поставивши вас наряду с содержателями публичных
домов и называя их, а также и поклонников Бахуса, вашими
товарищами; сравните е'го с настоящею минутою вашей жизни,
которой очень многие позавидовали бы, а иные согласились бы
перетерпеть все то, что вы перетерпели, лишь бы ее пережить». В
тот же вечер мы вместе с ним были в итальянской опере. Давали
«Пророка».
Во время сцены в соборе я обратился к своему товарищу и
•сказал: «Видите, что значит овации толпы? Что если и со мною
после нынешнего утра будет что-либо подобное, напоминающее
расположение публики к этому пророку? Не нужно придавать
большого значения никаким заявлениям симпатии толпы, а
надобно помнить, что всяк человек ложь, как сказано в священном
писании».
«Вы никого не надували, — отвечал мне товарищ, — не
выставлялись тем, чем на самом деле не были, а потому вам и не
угрожает судьба Иоанна Лейденского».
С тех пор начались мои обычные чтения лекций. Стечение
публики не только не умалялось, но с каждою лекциею
возрастало: аудитория моя всегда была битком набита лицами всякого
звания, и между ними было множество женщин и девиц. Я
продолжал заниматься и в Публичной библиотеке: готовил лекции
и писал другие сочинения. Моя вступительная лекция отдана была
для напечатания в журнал «Русское слово». В «Современник»
отдал я отрывок из своих лекций «О начале Руси». Кроме того я по
читанным тогда лекциям предположил составить статью о русских
инородцах, изложив их историю и настоящее этнографическое их
положение. Я начал с литовцев, изложив древнюю историю
событий, составил описание внутреннего быта литовского племени и
приложил разбор их современной народной поэзии. Статья эта
отдана была в «Русское слово», где и напечатана в следующем
году.
Вступая на кафедру, я задался мыслию в своих лекциях
выдвинуть на первый план народную жизнь во всех ее частных
видах. Долговременное занятие историею развило во мне такие
18* 531
взгляды. Я видел, что государства являлись более случайным
плодом завоеваний, чем необходимым последствием географических и
этнографических особенностей народной жизни. Всегда почти
поэтому государство составлялось не из одной народности;
сильнейшая подавляла слабейших, стремилась подчинить, а иногда и
ассимилировать их, считала за собою право власти над ними,
которое освящалось давностию, допускала над ними насилие и.
всякую с их стороны попытку к самосохранению признавала
преступлением. Жизнь, однако, продолжала развиваться иным путем,
и государство оставалось только внешнею формою объединяющей
полицейской власти. Там, где не было завоевания или где оно не
являлось достаточно могучим, там не могло составиться и
государство. Свободные человеческие общества ради взаимных выгод, а
более всего ради собственной защиты стремились к союзности
(федерации). Так мы видим в Древней Греции. Отдельные
небольшие республики стремились войти между собою и удерживать
взаимную племенную связь на основании сходств языка, религии,
общественного и домашнего быта, но согласия между ними не
было: сколько мы знаем, все они исстари между собою вели
войны. Вероятно, причиною тому было, что они не додумались до
центрального соединительного органа, который бы прочно их
связывал между собою. Олимпийские игры, которые считают
обыкновенно одним из таких органов, не имели юридического
значения, а Амфиктионово судилище было бессильно и
малообязательно в вопросах, порождавших междоусобия, и оттого,
вероятно, деятельность его нам слишком мало известна. Как бы то ни
было, из греческих земель две — Афины и Спарта — проявили
стремление властвовать над другими и оттого между собою
находились в соперничестве, порождавшем кровопролитные распри.
Ни Афины, ни Спарта не сделались, однако, всегреческим
государством. Государство составилось только со вступлением
Македонии в число частей Греции из завоеваний Филиппа и
Александра. Что в древнем мире являлось в формах республик,
то в новом, христианском мире явилось в форме отдельных
земель, подвластных в большей или меньшей степени мелким
владетелям. Отсюда — на западе Европы — феодальная система
баронов, а в славянском мире — земель с избранными князьями.
И те, и другие вели между собою распри, при недостатке и
слабости связывающих их органов, пока, наконец, сильнейшие из
них завоеванием подчинили слабейших, и так составлялись
государства, которые потом преобразовывались и переделывались
большею частию случайно, на правах большей силы. И русская
история представляла то же, хотя с своеобразными особенностями.
Русское государство складывалось из частей, которые прежде
жили собственною независимою жизнию, и долго после того жизнь
частей высказывалась отличными стремлениями в общем
государственном строе. Найти и уловить эти особенности народной жизни
частей Русского государства составляло для меня задачу моих
занятий историею. Насколько это могло мне удаться — должен был
показать опыт, но я взял на себя задачу чрезвычайно трудную и,
532
как показалось мне самому на деле, малоудобоисполнимую по
причине моей малой подготовки к работам над этой задачей. Меня
утешало только то, что я мог хотя сделать мало, но по крайней
мере наметить дорогу другим, более меня способным и сведущим.
Во всяком случае я был уверен, что и любой из наших ученых не
был еще в состоянии более меня приняться за это дело. В таком
духе я и начал читать свои лекции, обративши внимание на черты
местной истории русских земель и княжеств и на отличную жизнь
инородцев, вошедших в состав Русской державы.
В последних месяцах 1859 года я через посредство Шевченка
познакомился с домом покойного вице-президента Академии
художеств графа Федора Петровича Толстого и нашел там самый
любезный прием. Трудно представить себе старика более доброго,
горячо преданного искусству и неравнодушного к всему
входящему в область умственного труда. В то время он, хотя и старый, за
80 лет, но еще был бодр и свеж, и его дом был постоянным местом
соединения художников и литераторов. Одновременно случай свел
меня с другим старцем, столько же почтенным, хотя совершенно
в другой сфере: это был граф Димитрий Николаевич Блудов,
тогдашний председатель Государственного совета, человек столько же
развитой и хорошо образованный, как и вполне прогрессивный,
преданный душою делу возрождения России — делу, которое тогда
было в умах и сердцах всех развитых людей. Мне часто случалось
обедать у графа и после обеда просиживать до поздней ночи. Его
разнообразные познания, близость к русским литераторам
прежних времен, многолетний опыт, здравый ум и замечательное
остроумие оживляли беседу и заставляли всех посещавших его дом
вспоминать с большим удовольствием о минутах, проведенных с
этим стариком. Его дочь, графиня Антонина Дмитриевна, особа
очень начитанная, увеличивала своим присутствием приятность
таких бесед. В доме Блудова можно- было встретить как
государственных людей, так и ученых, к которым покойный граф
Димитрий Николаевич питал большое сочувствие.
В 1860 году напечатанная в первом номере «Современника»
моя статья «Начало Руси» вооружила против меня Михаила
Петровича Погодина. Старый ветеран истории никак не мог
переварить смелости, с какою я отважился на разбитие системы
происхождения Руси из норманнского мира. Он прибыл в
Петербург и, встретив меня в Публичной библиотеке, предложил мне
вступить с ним в публичный диспут по этому вопросу. Я,
погорячившись, тотчас согласился, хотя ^впоследствии и не вполне был
доволен тем, что позволил себе выставить такой специальный
предмет на праздную потеху 'публики. Некоторые приятели тогда
уже говорили мне об этом, но, давши слово и допустивши огласить
в печати наше намерение, я не мог выдумать какие-нибудь
предлоги к тому, чтобы это намерение не исполнилось; притом же
доход с билетов, которые будут браться на этот диспут,
предназначался в кассу для бедных студентов: самое наше намерение
представлялось полезным делом в благотворительном отношении.
Диспут наш состоялся 19 марта. Как и следовало ожидать, он
533
кончился ничем: каждый из нас остался при своем мнении;
впрочем, как я имел случай слышать мнение публики, большинство ее
склонялось на мою сторону, тем более что покойный Добролюбов
напечатал в «Свистке», составлявшем приложение к
«Современнику», очень остроумное'и. едкое описание нашего диспута,
выставляя на вид несостоятельность норманнской системы и стараясь
представить самого Погодина в комическом виде. М. П. Погодин
был очень недоволен этим и даже винил меня, подозревая, как
будто бы у меня была какая-нибудь солидарность с тем, что
печаталось о нем в «Свистке», которого сотрудникам он дал тогда
печатно кличку «рыцарей свистопляски». Собственно говоря, ни
Погодин, ни я не были абсолютно правы, но на моей стороне было
по крайней мере то преимущество, что я понимал чтение
летописей в более прямом смысле и притом таком, какой, по предмету
нашего спора, существовал издавна и какой, вероятно, имелся у
самых летописцев. Впоследствии, вдумавшись в состав наших
летописей, как и в дух сообщаемых ими известий, я пришел к
такому результату, что самая история призвания князей есть не что
иное как басня, основанная на издавна внедрившихся взглядах,
почерпнутых из мифического сказочного мира. Моя теория о
происхождении Руси из литовского мира если и не имела за собой
неоспоримой исторической истины, по крайней мере доказывала
норманистам, что происхождение князей наших и их дружин еще
с большею вероятностию, чем из Скандинавии, можно выводить
из других земель, и таким образом подрывала авторитет мнений,
до того времени признававшихся неоспоримыми и занесенных в
учебники как,несомненная истина.
В апреле я был приглашен сделаться членом
Археографической комиссии и принять на себя специально издание актов,
относящихся к Южной и Западной России. В том же месяце я был
приглашен в действительные члены Русского географического
общества.
В мае того же года ко мне в Петербург прибыла матушка,
изъявившая желание оканчивать век свой при мне. Из гостиницы,
находившейся в доме Балабина, я должен был теперь перейти на
квартиру и устроиться в ней хозяйством, а потому и принялся
искать себе удобного помещения. Случайно нашел я квартиру на
Васильевском острове в 9 линии, в доме, принадлежавшем Кар-
манову, и 1 июня перебрался на новоселье. Квартира была в
бельэтаже, довольно поместительна, но имела тот недостаток, что в ней
сильно отражались звуки городского шума в летнюю пору,
мешавшие заниматься. Установившись в новом помещении и положивши
начало домашнему хозяйству, я уехал на дачу к Толстым близ
Выборга и пробыл там до гюловины июля, по временам приезжая
к матушке. В конце июля я съездил в Новгород и, познакомившись
там с известным в то время знатоком местной старины Иваном
Куприяновичем Куприяновым, в течение десяти дней осматривал
город, посетил все его церкви, обозрел в них все остатки старины,
отыскивал следы старинной типографии Новгорода для того, чтобы
уяснить себе состояние города в древности, так как я намеревался
534
читать курс о Новгороде и Пскове и потом составить их историю.
Возвратившись в Петербург, я через несколько дней, в начале
августа, снова ездил в Новгород и дополнял в нем осмотр того,
чего не успел окончить в первый приезд. По возвращении из
Новгорода я начал по-прежнему заниматься в библиотеке, перебирая
старорусские рукописи Погодинского собрания; а после 15 числа
прибыли в Петербург Толстые из выборгской дачи и, собираясь
уезжать за границу, пригласили меня проводить их до Пскова.
Первый раз в жизни отправился я в знаменитый древний русский
город, осмотрел его стены, его церкви и три старых дома,
составляющие большую драгоценность в-своем роде при недостатке
такого рода архитектурных памятников. Расположение домов этих
описано мною в «Севернорусских народоправствах».
По возвращении из Пскова, занявшись еще с неделю в
библиотеке, я отправился в Москву, а оттуда в Троицко-Сергиеву лавру
с намерением познакомиться с рукописями как этого монастыря,
так равно и Волоколамского, которого рукописное собрание было
привезено в Московскую духовную академию. Почтенный
профессор академии, ныне умерший ее ректор Александр Васильевич
Горский любезно пригласил меня поместиться у него в казенной
квартире и там заниматься рукописями. Я пробыл у него без
малого три недели и могу сказать, что об этом времени осталось у
меня самое приятное воспоминание. Мой любезный хозяин был
такой знаток богословской литературы вообще и русских
рукописей в особенности, какому подобного едва ли где можно сыскать.
Недаром подарил он русской литературе свое знаменитое
описание синодальных рукописей. Меня в то время интересовали черты,
пояснявшие быт, нравы, понятия, взгляды и приемы жизни наших
предков. Всего этого можно было более, чем где-нибудь, отыскать
в таких рукописях, которые не пользуются авторитетом
богословской истины, и даже в таких сочинениях, которые отвержены
церковью и носят в литературе название «отреченных». К ним в то
время я преимущественно обращался. Тогда, между прочим, меня
занимало не признанное церковью «Житие блаженного Нифонта»,
славянский перевод которого, писанный в Ростове в первых годах
XIII века, находился в библиотеке Троицке-Сергиевой лавры,
писанный на пергаменте уставом и сохранившийся в замечательной
целости. Хотя произведение это не русское, но оно, несомненно,
было очень знакомо русским: отрывки из него расходились во
множестве и теперь встречаются в различных сборниках всех
веков; но экземпляр, которым я пользовался, составлял целостное
сочинение. Перевод сделан с греческого языка, и в Синодальной
библиотеке хранится один старый рукописный список
подлинника, как говорят, не позже VIII века. Содержание этого сочинения
в высшей степени замечательно и занимательно; это, так сказать,
роман, где представлено внутреннее действие человеческой души,
ее борьба со всякого рода дурными помыслами и с неверием. Эта
борьба представлена в фантастическом образе борьбы со злыми
духами, или бесами. Я тогда же сделал из этого сочинения
извлечение и, описав его содержание, поместил в статье под названием
535
«Мистическая повесть о Нифонте», которая была потом напечатана
в журнале «Русское слово».
По возвращении из Троицко-Сергиева монастыря в Москву 'я
посвятил там несколько дней на занятия рукописями в
Синодальной библиотеке и в Архиве иностранных дел, где' перебрал дела,
относящиеся к истории Малороссии после Богдана Хмельницкого,
и по распоряжению Археографической комиссии назначил их к
отправке в комиссиях. Затем я возвратился в Петербург.
Я принялся за издание «Памятников старинной русской
литературы» по предложению покойного графа Григория
Александровича Кушелева-Безбородко, помещая там по своему усмотрению
рукописные статьи, отыскиваемые в письменных хранилищах.
Первый том этих «Памятников» вышел в 1860 году, второй
готовился выйти на следующий год. Это занятие побуждало меня для
искания памятников испросить у с.-петербургского митрополита
дозволения перебрать хранящиеся .в Духовной академии рукописи,
привезенные туда из новгородского Софиевского собора и из
библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря. Несмотря на мои
усиленные занятия, каких требовало чтение лекций об истории
Новгорода и Пскова, чрезвычайно мало разработанной и
вызывавшей на основательное ознакомление со множеством источников,
писанных на старом нижненемецком наречии, которому я должен
был тогда же учиться, я в те дни, когда не читал лекций, совершал
путешествия с Васильевского острова в Александро-Невскую
лавру, при которой находится Духовная академия, являлся туда
часам к девяти утра и просиживал за разбором рукописей до пяти
часов пополудни. Так продолжалось осенью и зимою 1860-61
годов. Я имел возможность сделать там множество выписок из
рукописей на отдельных листочках, надписывая на них, к какой
стороне жизни относится выписка. Иные пригодились мне для
дополнения к «Очерку быта и нравов великорусского народа», а
другие были оставлены до будущего времени, чтобы послужить
источниками для дальнейших занятий по внутренней русской
истории.
Принявши на себя звание члена Археографической комиссии
и выписав из Москвы дела бывшего Малороссийского приказа, я,
пригласивши к участию с собою явившегося в Петербург
П. А. Кулиша, приступил к изданию актов, относящихся к эпохе
Хмельницкого, отдал их сначала для переписи, а потом, постоянно
выбирая из них более годные, отсылал постепенно в печать.
Между тем другие акты, которые относились к годам, последующим за
смертию Богдана Хмельницкого, я взял себе за источник для
написания статьи о Выговском, которую предполагал читать на
рождественских святках в виде публичных лекций.
Обращение моих занятий отчасти к Малороссии вызвало у
меня появление напечатанной в «Современнике» небольшой статьи
«О казачестве», где я старался установить надлежащий взгляд на
это историческое явление и опровергнуть возникавшее в тогдашней
литературе мнение о том, что казаки сами но себе были обществом
антигосударственным, что душою этого общества была анархия, и
536
потому на попытки как Польши, так впоследствии и России,- к
обузданию казацкой воли надобно смотреть как на защиту
государственного элемента против вторжения диких, разрушительных
побуждений. Такая точка зрения, давно уже поддерживаемая
поляками, начинала переходить и 'в русскую ученую литературу, и
я принимал на себя призвание доказать ее несостоятельность и
уяснить, что казачество при всех временных уклонениях было
последствием идей чисто демократических. Статья моя возбудила
против меня возражения в польских повременных изданиях, и
тогда особенно выступило против меня лицо, укрывавшееся под
псевдонимом Зенона Фиша. Его возражения вызвали с моей стороны
новую статью в защиту своего мнения. Поляк хотел доказать, что
отношения польской народности к южнорусской были
нравственно благодетельны, что задача польского шляхетства была «ушля-
хетнение» русского народа; а я возражал, что это «ушляхетнение»
вело не более как к порабощению народа^ Замечательно, что наши
русские ученые, задаваясь идеею государственности, невольно в
то время совпадали с польскими учеными; а я, защищая
законность и плодотворность побуждений, двигавших народною массою
независимо от государственных условий, возбуждал против себя
обвинение в так называемом «казацком взгляде», как некоторые
тогда выражались, не желая вникнуть в вопрос поглубже
рутинных форм, которых привыкли держаться.
В первых числах января 1861 года я читал публичные лекции
в университетском зале в пользу бедных студентов. Содержанием
этих лекций была история эпохи гетманства Выговского. Всех
лекций было четыре. Несмотря на страшный мороз, доходивший в те
дни до 30, лекции мои были посещаемы значительным приливом
публики.
С этого года начала издаваться «Основа», и я сделался одним
из ревностнейших и плодовитейших ее сотрудников. Я поместил
здесь несколько статей по русской истории, написанных на
основании того, что я имел случай читать в университете. Таковы
статьи «О федеративном начале древней Руси», «Две русские
народности», «Черты южнорусской истории»; последняя из них
заняла несколько нумеров и заключала в себе сплошное
историческое повествование событий удельно-вечевого периода в
Южной Руси до татар.
Там же в «Основе» помещены были две моих полемических
статьи против краковской газеты «Czas» и французского журнала
«Revue Contemporaine». Эти статьи имели целью опровергнуть
лживые польские теории о неславянском происхождении всего
великорусского народа, теории, опиравшиеся, как известно, на
учение Духинского, получившее в свое время большое значение во
Франции. Правду сказать, Духинский брался не за свое дело и
вовсе не был подготовлен к решению таких важных вопросов: он
вовсе не был знатоком ни финских наречий, ни восточных языков,
ни русской археологии, тогда как основательные познания во всем
этом были делом первой необходимости для решения тех задач, за
какие принялся автор. Его теории льстили польским мечтаниям,
537
и потому неудивительно, что принимались с большою верою
поляками, которые в ту эпоху национального раздражения склонны
были ухватиться за все, что, по их мнению, набрасывало какую
бы то ни было тень на русский народ. Теории Духинского нашли
себе сочувствие и в Западной Европе, особенно во Франции, и это
доказывало только невысокий уровень сведений, которыми
обладали вообще о нашем отечестве многие из ученых людей Западной
Европы. Я имел целью доказать всю слабость и неосновательность
исторических взглядов на наше прошедшее и в особенности на
основание и состав великорусского народа — взглядов, в то время
довольно укрепившихся в Европе. Но если приходилось мне
писать в «Основе» то, что должно было раздражать поляков, то не
обошлось и без того, чтобы тогдашнее перо мое не возбуждало
против моих писаний многих умов и в нашем русском обществе.
Мои статьи «О федеративном начале древней Руси», «Две русские
народности» и, наконец, «Черты южнорусской истории», статьи,
написанные на основании задачи, которую я предположил себе в
чтении лекций по русской истории, возбудили против меня
невыгодные толкования, проявившиеся не раз в печати впоследствии.
Моя идея о том, что в удельном строе Руси лежало федеративное
начало, хотя и не выработалась в прочные и законченные формы,
заставляла подозревать — не думаю ли я применять эту идею к
современности и не основываю ли на ней каких-нибудь
предположений для будущего. Это подозрение много раз высказывалось
там и сям намеками, большею частью неясными, потому что не у
всякого доставало отваги обвинять меня в том, .на что я сам не дал
явных указаний. Независимо от печатных, намеков, появлявшихся
кстати и некстати в периодических наших изданиях, я тогда же
получал письма с укором за мою статью и с отысканием в ней
такого смысла, какого я не заявлял и какого она, конечно, не
имела. Еще более возбуждала раздражение моя статья «Две
русские народности», которую через несколько лет, вспомнивши о
ней, «Русский вестник» назвал «позорною». Дело в том, что много
открылось политических мыслителей, хотевших во что бы то ни
стало, чтобы на Руси существовала только одна русская
народность, и не терпевших, если им указывали^ не одну, а несколько,
хотя бы даже существовавшие в прошедшие времена. Привычка
отыскивать в рассуждении о прошедшем быте каких-нибудь
отношений к настоящему или будущему заронилась в некоторой части
читающего русского общества. Это было естественно при
цензурной строгости, когда многие писатели поневоле принуждены
бывали не досказывать своих мыслей, предоставляя читателям читать
их у себя между строками. Эта привычка послужила против меня
источником уже крайне смешных и нелепых догадок по поводу
моей литовской системы происхождения Руси; она же действовала
и по поводу мыслей о двух русских народностях. Впрочем, после
выхода моей статьи в первое время не раздавалось крупных
обвинений в «сепаратизме», которыми так щедро награждали меня
после того как вспыхнуло польское восстание и русские стали
горячо хвататься за идею своего национального единства. Многие
538
часто не знали, что, говоря об Украине, повторяли сказанное их
врагами-поляками по отношению к себе. Пока польское восстание
не встревожило умов и сердец на Руси, идея двух русских
народностей не представлялась в зловещем виде и самое стремление к
развитию малорусского языка и литературы не только никого не
пугало признаком разложения государства, но и самыми
великороссами принималось с братскою любовью. Притом же
содержание моей статьи о двух русских народностях ясно отклоняло от
меня всякое подозрение в замыслах «разложения отечества», так
как у меня было сказано и доказываемо, что две русские
народности дополняют одна другую и их братское соединение
спасительно и необходимо для их обеих. Достойно замечания, что через
пятнадцать лет после того патриотический «Киевлянин», обличая
меня в «украинофильстве», в виде нравоучения и в назидание
своих читателей привел мою мысль (выдавая ее за собственную) о
необходимости и пользе соединения двух русских народностей из
моей же статьи «Две русские народности» и притом почти
буквально в тех же выражениях, в каких эта мысль была высказана
у меня. В таком же духе, нимало не обличая меня в
украинофильстве и даже относясь с сочувствием к малорусской народности,
высказался Юрий Федорович Самарин в своем дневнике.
Читая в это время в университете историю Новгорода и
Пскова, я между прочим занимался печатанием некоторых статей и
сочинений в журналах. Так, в «Современнике» печатался тогда
мой «Очерк быта и нравов великорусского народа в XVI и XVII
столетиях», сочинение, написанное мною еще в Саратове и только
дополненное в Петербурге; в «Архиве Калачева» печаталась
повесть «Сын»; в «Русском слове» — «Русские инородцы» и «Повесть
о Нифонте». Мои лекции о Новгороде и Пскове привлекали в мою
аудиторию слушателей еще более, чем в прошлом 1860 году, что
меня чрезвычайно радовало и обязывало с большим рвением
предаваться своему труду: я видел, что в публике зародилась серьезная
любовь к отечественной истории, а не пустая мода, как толковали
многие. В самом деле, едва ли мода могла бы на данное время
увлекать к слушанию предметов, не представляющих ничего для
праздного развлечения и, напротив, неизбежно возбуждавших
скуку во всяком, кто приступал к ним без расположения и без
подготовки. Притом же в то время не у одного меня стекались толпы
слушателей: некоторые другие профессора также привлекали их
своими чтениями. В то горячее время моих разносторонних
занятий меня часто отвлекали посещения студентов, появлявшихся ко
мне под разными предлогами и в разное время дня. Чтобы
избавиться от таких несвоевременных посещений, я выставил на
входной двери моей квартиры такое объявление: «Елицы от юнейшия
братии честныя науковещательницы сущия во граде сем восхощут,
некоего ради орудия, прийти в дом мой, да благоволят посетити
мя в дни... и часы...» Здесь я указал определенные часы.
В феврале, на день, назначенный для университетского акта
(8 числа), на мою долю выпало читать речь. Я взял себе
предметом «О значении в обработке русской истории трудов Константина
539
Аксакова», перед тем недавно умершего. Перед самым актом
помощник попечителя И.Д. Делянов сообщил мне, что министр не
желает, чтобы я читал свою речь на акте, а что, если мне угодно,
то я могу ее прочесть на каком-нибудь литературном вечере.
Причиной такого распоряжения со стороны 'министра было, как мне
сказано, желание не слишком утомлять университетским актом
старых архиереев, приглашенных на акт. Когда я вошел в актовый
зал в день отправления акта, г. Делянов, подошедши ко мне,
просил меня удалиться, не показываясь на глаза студентам. Я
поступил так, как мне было сказано, а потом узнал, что после моего
ухода в университетском зале произошел большой беспорядок.
Студенты подняли шум, стук, требовали чтение моей речи и
просили явиться ректора и дать им ответ. Бывший тогда ректором
Плетнев явился по такому требованию на кафедру и объяснил
студентам причину, побудившую начальство отложить чтение
моей речи, причем уверил их, что речь моя будет прочитана на
днях на публичном литературном вечере. Действительно, спустя
три или четыре дня я читал публично свою речь при
многочисленном стечении публики, министр слушал мою речь. Между тем
тогда же до меня дошло, что во многих высших кругах общества
беспорядок, произведенный студентами на акте по поводу отмены
чтения моей речи, возбудил неодобрительные толки, возымевшие
влияние на правительственные лица, и что вследствие этого
события правительство вознамерилось принять меры к обузданию
своевольства студентов и учредить для хода университетских лекций
более строгие правила. Через несколько времени произошло в
Петербурге событие, подавши больший повод к желанию обуздать
студентов. В Варшаве происходили уличные беспорядки,
последствием которых были выстрелы со стороны войска, положившие
на месте пятерых поляков. В Петербурге поляки устроили по
этому поводу в костеле св. Екатерины на Невском* проспекте
панихиду по убиенным, которая должна была служить демонстрациею
против мер. правительства. Желая привлечь в костел побольше
публики, поляки заманивали ее туда под разными предлогами. В
то время я занимался в Публичной библиотеке. Кулиш передал
мне, что общий наш знакомый, поляк Круневич, сообщил ему, что
в костеле будут кого-то хоронить и итальянские певцы будут петь
«Requiem» Моцарта. Так как этой музыкальной пьесы я никогда .
не слыхал, то и поспешил в костел. К моему удивлению я услыхал
там не «Requiem» Моцарта, а революционные песни, которые пели
хором стоявшие на коленях поляки. Не желая быть участником
какой бы то ни было демонстрации и не сочувствуя им вообще, я
поспешил уйти; но не без труда выбрался из костела, пробираясь
между стоящих на коленях. Тотчас после того началось
производство следствия. Меня видели в костеле, и Делянов приехал ко мне
с расспросами. Я рассказал ему как было. Правительство не
наложило на меня подозрения, тем более что и некоторые
государственные лица подобно мне были завлечены в костел ложными
слухами об итальянском пений музыкального произведения
Моцарта.
540
Над студентами началась переборка, и некоторые из них, не
поляки, но чисто русские, позволяли себе ради бравады дерзкие
ответы. Так, например, один студент, спрошенный — был ли он
в костеле и пел ли, — ответил «был, но не пел, потому что не знаю
по-польски, а если бы знал, то непременно бы пел».
Правительство прекратило следствие, однако дерзкие ответы, данные
студентами, не могли не отозваться дурно вообще на мнении о студентах
и укрепили желание правительства ввести в университете строгие
правила.
Через несколько дней после события в костеле, 25 февраля,
скончался Тарас Григорьевич Шевченко. Смерть его была
скоропостижная. Уже несколько месяцев страдал он водянкою. Не без
основания говорили врачи, что болезнь эту нажил он от
неумеренного употребления горячих напитков, особенно рома, который он
очень любил. Накануне его смерти я был у него утром; он
отозвался, что чувствует себя почти выздоровевшим, и показал мне
купленные им золотые часы. Первый раз в жизни завел он себе
эту роскошь. Он жил в той же академической мастерской, о
которой я говорил выше. На другой день утром Тарас Григорьевич
приказал сторожу поставить ему самовар и, одевшись, стал'
сходить по лестнице со своей спальни, устроенной вверху над
мастерской, как лишился чувств и полетел со ступеней вниз.
Оказалось по медицинскому осмотру, что водянка бросилась ему
к сердцу. Сторож поднял его и дал знать его приятелю, Михаилу
Матвеевичу Лазаревскому. Тело Шевченка лежало три дня в
церкви Академии художеств. В день погребения явилось большое
стечение публики. Над усопшим говорились речи по-русски,
по-малорусски и по-польски. Я также произнес небольшое слово
по-малорусски. Из речей особенно обратила всеобщее внимание
польская речь студента Хорошевского. «Ты не любил нас, —
говорил он, обращаясь к усопшему, — и ты имел право; если бы
было иначе, ты бы не был достоин той любви, которую заслужил,
и той славы, которая ожидает тебя как одного из величайших
поэтов славянского мира». Гроб Шевченка несли студенты
университета на Смоленское кладбище. По возвращении с похорон
бывшие там малороссы тотчас порешили испросить у правительства
дозволение перевезти его тело в Малороссию, чтобы похоронить
так, как он сам назначал в одном из своих стихотворений:
Як умру, то поховайте
Мене на могили
Серед степу широкого"
На Вкраини милий;
Щоб ланы широкополи,
И Днипро, и кручи
Були видни...
В то время видно было большое сочувствие и уважение к
таланту скончавшегося украинского поэта. Большинство
окружавших его гроб состояли из великоруссов, которые относились к
нему, как относились бы к Пушкину или Кольцову, если бы про-
541
вожали в могилу последних. В марте в университетском зале на
литературном вечере, устроенном в память Шевченка, я читал
статью «Воспоминание о двух малярах», из которых один был
знакомый мне в юности крепостной человек, лишенный
возможности по поводу неволи развить данный ему от Бога талант, а
второй был недавно скончавшийся Шевченко. Статья эта принята
была публикой с восторгом и напечатана вслед за тем в «Основе».
Бедный Шевченко несколькими днями не дождался великого
торжества всей Руси, о котором только могла мечтать его долгостра-
давшая за народ муза: менее чем через неделю после его
погребения во всех церквах Русской империи прозвучал
высочайший манифест об освобождении крестьян от крепостной
зависимости. Этот манифест давно уже был готов, но опубликование его
приостановлено до поста, чтобы дать народу возможность
отпраздновать великое событие не в кабаках, а в церквах и в домашних
кружках. Вспоминая эти минуты, могу сказать, что тогда была
видима и ощущаема безмерная радость между людьми всякого
звания и образования: чувствовалось, что Россия свергала с себя
постыдное бремя, висевшее на ней в продолжение веков, и
вступала в новую жизнь свободной христианской нации. Казалось,
после отдаленной от нас эпохи крещения при Владимире еще не
переживал русский народ такой важной минуты. После того
оставалось желать одного — просвещения освобожденного народа, и
действительно, это желание слышалось в устах всех образованных
людей той эпохи.
Пришел праздник пасхи. Лекции мои были закончены;
студенты держали экзамены, и мой предмет был один из ранних. Я
предполагал ехать за границу и заранее подал об этом прошение.
В конце апреля я получил из Новгорода просьбу прочитать
публичную лекцию в пользу народного училища. Я согласился и
отправился в Новгород. Замечательно, что училище, для которого
мне пришлось читать лекцию, было устроено в башне, по
преданию, той самой, где некогда висел вечевой колокол и
помещалась вечевая изба, то есть канцелярия. Лекцию мою «О значении
Новгорода в русской истории» я прочитал в зале Дворянского
собрания 30 апреля. Она была принята с большим сочувствием. На
другой день я отплыл из Новгорода, торопясь ехать за границу.
В первых числах мая, простившись с матушкою, я отправился
с П. А. Кулишом в Берлин, а оттуда, спустя один день, мы
направили путь наш к Швейцарии через Лейпциг, Нюренберг и Ауг-
сбург. В Нюренберге мы остановились на два дня и осматривали
этот замечательный город, в котором все дышит средними веками,
как едва ли в каком-нибудь другом городе Германии. Я
познакомился на железной дороге с одним немцем — студентом, ехавшим
к родным, у которых был свой дом в Нюренберге. Обязательный
молодой человек предложил мне доставить способ побывать в
нескольких домах, в которых сохранилась не только средневековая
постройка, но и средневековая мебель и обстановка. Мы заходили
также в знаменитую пивную, помещаемую в нижнем этаже
средневекового здания, где посетителей угощают превосходнейшим
542
старым пивом, но не продают ни одной бутылки на вынос. Сам
Нюренберг разделяется на две части: средоточие его — старый
город — окружен каменною стеною со множеством башен и весь
наполнен старыми зданиями; город, лежащий за пределами
стены, — Нейштадт, носит противоположный характер нового города.
В старом городе не только дома и церкви построены в средние
века, но и самая мостовая улиц — памятник прошедших времен.
Из Нюренберга мы отправились на Констанцское озеро и
пароходом прибыли на швейцарский берег в Рорбах. На самом берегу
озера нашли мы прекрасное помещение в гостинице. В нашем
нумере был балкон, выходивший прямо к озеру. Хозяин
гостиницы, венский уроженец, был прежде хозяином гостиницы в Милане
и сообщил нам любопытный рассказ о подробностях возмущения
в этом городе в 1859 году, когда из него фанатически изгоняли
всех немцев, и немец, хозяин гостиницы, понес большие убытки,
потому что толпа итальянцев ворвалась к нему и истребила у него
всю буфетную и кухонную посуду. Как истый немец, он старался
нас уверить, что Ломбардия пользовалась большим
благоденствием под австрийским владычеством, чем теперь, после поступления
ее под власть сардинского короля, провозглашенного королем всей
Италии. О Гарибальди этот немец отзывался не иначе как об
атамане разбойников.
Полюбовавшись прекрасным вечером и переночевавши, мы
пустились поутру железною дорогою в Кур — главный городок
Граубинденского кантона и пробыли в нем два дня. Трудно себе
представить местность более поэтическую и приятную для жизни:
воздух дышит особенною свежестью и прохладою с высоких гор,
окружающих город; шум горных потоков приятно щекочет ухо и
располагает к сладкой дремоте и мечтательности. За маленьким
городком тянется живописная роща, усеянная красивыми
швейцарскими хуторками и водяными мельницами, построенными на
потоках. Простой народ говорит здесь своеобразным местным
наречием латинского корня, известным под именем романского.
Попытавшись заговорить с крестьянином, я не мог разобрать его,
хотя несколько произнесенных им слов напоминали латинские и
итальянские.
Так как я имел в виду купанье в море, то не решался надолго
останавливаться в этой местности, оставившей по себе
чрезвычайно милое воспоминание. В Куре наняли мы лошадей с экипажем
и отправились, по пути в Италию, по дороге, которая носит
название «Via mala»,то есть дурная дорога. Несмотря на такое
название дорога эта своим устройством не соответствовала ему. Это
один из самых живописных путей по швейцарским горам. Мы
встречали затейливые вершины с глетчерами и множество
шумевших водопадов. Вспоминая дорогу через Сен-Готард, по которой я
проезжал в 1857 году, я должен был отдать преимущество — по
красоте представляемых впечатлений — пути, по которому ехал
теперь. Так как в то время был еще конец мая, то снега не
вершинах не успели растаять, и когда мы достигли верхних слоев
горного хребта, то в одной устроенной там гостинице извозчик
543
достал полозья, прикрепил их к экипажу, и мы покатили на
санях. Кругом была необозримая снежная равнина, напоминавшая
нашу Русь в зимние месяцы. Мороз пробирал нас, так как мы
были одеты по-летнему. Проехавши таким образом версты
полторы, мы встретили швейцарскую таможню, где с нас потребовали
паспорта, записали их и взяли с нас по два франка. Собственно,
в Швейцарии не нужно никаких паспортов, но этот прием
выдумало швейцарское союзное правительство для того, чтобы иметь
особого рода доход с путешественников. Оттуда немного спустя
снег исчезал; полозья отвязали, и мы снова поехали на колесах,
уже направляясь под гору. Мы ехали сутки и на следующее утро
приблизились к Комскому озеру; там сели на пароход и поплыли
по голубой воде озера в виду живописнейших гор, окаймлявших
озеро с обеих сторон и усеянных множеством разбросанных дач
самой затейливой постройки. Подплывая ранним утром то к той,
то к другой даче или городку, корабельщики по приказанию
капитана стреляли из пушек. Наш пароход был увит разноцветными
флагами; такие же флаги встречали мы на дачах и городках. На
вопрос мой, что это значит, нам объяснили, что наступил день
годовщины освобождения Италии, и в Милане будет отправляться
большое национальное торжество. Приставши к городу Комо, мы
увидали повсюду флаги, праздничную обстановку и праздничный
шум, несмотря на то, что было тогда не позже семи часов утра.
Севши на железную дорогу, мы прибыли через полтора часа
в Милан, и первое, что мы встретили на городских улицах, по
которым с дебаркадера поехали в гостиницу, было множество
флагов на домах. Национальная гвардия спешила в собор в красивых
мундирах; повсюду раздавалась музыка. Наша гостиница
«Великобритания» находилась недалеко собора, мимо которого мы к ней
ехали и встретили на соборной площади большую толпу
сновавшего народа. На соборном портале крупными буквами
красовалась надпись патриотического содержания, в которой
прославлялась память участвовавших в великом деле
освобождения отечества. Приставши в гостиницу, первым делом нашим
было спешить в собор, где уже раздавался звон колоколов,
призывавший народ к обедне. В главном входе собора нас
остановили полицейские и вежливо объявили, что дверь, куда мы
входим, назначается исключительно для официальных лиц и
национальной гвардии. Полицейские вызвались сами проводить
нас другою дверью и поместить так удобно, чтобы нам было видно
все богослужение и церемония. Место, избранное нами, было тем
удобно, что мы стали на стулья, за которые, однако, с нас не
брали денег, как это делается во Франции, где в церквах
производится настоящая торговля стульями. Церковь была блистательно
освещена; священнодействовал миланский архиепископ с
огромным клиром. Кроме обычных лавок и стульев, наполнявших
широкую площадь внутренности собора, у стен его и у колонн были
устроены ложи, где сидело множество нарядно одетых дам. По
окончании литургии архиепископ благословлял народ, а
национальная гвардия разразилась шумною военною музыкою. Около
544
часа пополудни кончилось богослужение со всеми церемониями
молебствия, и мы отправились в свою гостиницу. На дороге
пристал к нам какой-то молодой человек и завел разговор о текущих
событиях. Я выразил ему, что это торжество освобождения народа
до такой степени трогательно, что я, пришелец из далекой России,
невольно проникаюсь тем чувством, которое в настоящее время
волнует сердца итальянского народа. При этом я заметил еще, что
великая историческая судьба Италии по своим воспоминаниям
принадлежит не только одной Италии, но и всему образованному
миру, сообразно тем плодам умственного и общественного труда,
которые оставила Италия, для истории просвещения всего
человеческого общества. Мой собеседник заговорил не совсем таким
восторженным языком, какого я ожидал от него. Он объявил, что он
приезжий неаполитанец и что Ломбардия не его отечество. При
этом он сообщил, что был студентом и готовился к духовному
званию. Когда мы сели вместе обедать, он, продолжая этот
разговор, высказал себя клерикалом, не совсем довольным тем
либеральным направлением умов, которое тогда охватывало
итальянское общество, причем заметил, что служивший в соборе
архиепископ должен поневоле играть роль патриота в сардинском
духе и в угоду графу кГавуру, а сам совершенно других
чувствований. После обеда мы снова отправились в собор, ходили по его
внутренности, любовались цветною живописью его стекол на
окнах, а потом взошли на его мраморную крышу и по узкой
лестнице поднялись на вершину башни, увенчанной статуею
богородицы, и там на память записали наши имена и день нашего
посещения.
Пробыв в Милане два дня, мы посетили несколько церквей и
слушали богослужение, побывали в картинной и скульптурной
галереях, где повидали недавно выставленную мраморную статую
символического изображения Италии в виде женщины, изящно
сделанную современным художником. Миланское богослужение в
церквах сильно бросается в глаза своею особенностью: здесь
отправляется необычная католическая обедняj а литургия св.
Амвросия (местного святого и патрона Ломбардии) ближе подходящая
к нашей православной обедне. Как еще в то время мало
укоренилось в итальянцах чувство национального единства — кроме
беседы с молодым неаполитанским клерикалом меня поразил разговор
с торговками, продававшими на рынке ягоды. Показывая мне
землянику, на вопрос мой: как называется у них эта ягода, «mayale»
ли, она отвечала: «так по-итальянски она называется, а у нас,
по-ломбардски — «mayuste». Таким образом, простой народ
считал себя ломбардцами и не сознавал итальянцами.
Из Милана по железной дороге поехали мы в Геную. Сначала
у меня была мысль там купаться, но через день я должен был
оставить ее: в Генуе нет вовсе купален, потому что дно моря у
пристани чрезвычайно глубоко. На вопрос мой об этом у одного
лодочника он отвечал, что здесь глубины будет «одиннадцать
человек» (undici huomini) — старинный способ определять глубину,
представлением о том, сколько бы могло стать людей на головах
545
один у другого. Вместо купален на берегу устроены только
купальные заведения «stabilimenti» с мраморными ваннами в комнатах,
куда проводится вода с моря. Вдобавок итальянцы так боятся
холода, что в гостинице на мои вопросы о купанье мне сказали: «как
можно теперь купаться, еще холодно», хотя ощущения моего тела
не соглашались с таким замечанием.
Не останавливаясь более в Генуе, мы отправились на наемных
лошадях в Ниццу. Дорога шла по Корнишу, посреди множества
лимонных и апельсинных садов. Что касается до живописности
Корниша, приобревшего, как известно, всемирную славу, то мне
показалось, что итальянский Корниш в этом далеко уступает
нашему крымскому берегу. Только ночи представлялись там чем-то
волшебным от множества летающих ярко-зеленых огоньков: то
были насекомые, издающие свет, напоминающий свет наших
ивановских червячков. Ницца была для меня целью морского
купанья; но вскоре я увидел, что слишком много доверился тому,
что читал и слыхал о ней. Трудно найти место более скучное и
более некрасивое, как Ницца летом. Морской берег лишен всякой
растительности: жар невыносимый, белая пыль,- портящая платье
и производящая глазные болезни, а в середине городка —
нестерпимые миазмы: совершенное отсутствие пресной воды; наконец,
самое купанье в море вовсе не представило мне того, чего я желал
и ждал: почва под водою у берега камениста; можно пройти
безопасно только несколько шагов, и то держась за канат, чтобы не
быть отброшенным волною и не удариться о камень. Мы
поместились у берега близ купальни в так называемом пансионе, как во
Франции называются квартиры, отдаваемые жильцам с обедом,
кофе, завтраком и прислугой. Плата была вообще умеренная, стол
хороший, но скука неодолимая. Я протерпел в Ницце три недели,
наслушавшись возмутительнейших рассказов о свирепстве
Наполеона III, тайная полиция которого почти каждую ночь делала у
жителей обыски и многих по одному лишь подозрению увозила
невесть куда без суда и следствия, заставляя покидать и
семейство, и хозяйство. Достаточно было малейшего подозрения на
тамошнего уроженца, что он недоволен присоединением Ниццы и
Савойи ко Французской империи — и подозреваемый мгновенно
исчезал. Со времени пребывания покойной императрицы
Александры Федоровны Ницца год от году более и более делалась
любимым местопребыванием русских аристократов и становилась, так
сказать, русскою колониею, в особенности в зимнее время. Летом
там оставалось русских немного. Это расположение русских к
Ницце подало повод к построению там русской православной
церкви. Она очень красива: благодаря изобилию мрамора в Италии
церковное крыльцо и сени выстроены из этого камня; в средине
иконостас резной работы; мраморный пол устлан коврами. Цер^
ковь помещается в верхнем этаже, а в нижнем — помещение для
священника.
После трехнедельного купанья в Ницце мы для разнообразия
переселились в Монако, бывшее тогда маленьким независимым
княжеством. Главный доход владетеля этого княжества составляла
546
рулетка, привлекавшая туда праздношатающихся и разных
искателей фортуны в зимнее время; зато летом Монако остается почти
пустынею, и именно такой вид имел он, как я посетил его.
Местоположение его гораздо красивее Ниццы. С одной стороны он
примыкает к Средиземному морю,' берег которого густо покрыт
темною зеленью безобразных рожковых деревьев и лесом кактусов;
с другой — под городом простирается залив моря,
превращающийся как бы в озеро и зеленеющий множеством водорослей. Сход
к этому заливу от города идет по очень крутой горе. По причине
летнего времени и обычной в это время пустоты мы нашли себе
помещение за баснословно дешевую цену: за один червонец в
месяц мы имели три прекрасных комнаты Со входом на террасу,
которая тянулась под тенью огромных перцевых деревьев над ли-
монною и апельсинною рощею, которой верхи достигали террасы.
С этой террасы открывается безбрежный вид Средиземного моря.
Дневной зной был невыносим, зато ночи, необыкновенно ясные,
освещаемые полною луною, были очаровательны. Только глубокая
тишина, царствовавшая и в воздухе и в воде, возбуждала какое-то
томительное, тяжелое чувство и невольно наводила меланхолию и
грусть. Проживши десять дней в Монако, мы ушли оттуда, боясь,
что если поживем там долее, то наши нервы придут в такое
расстройство, что нам, как фиваидским пустынникам, будут пред^
ставляться какие-нибудь привидения. Мы вернулись в Ниццу, а
через несколько дней отправились в Геную для перемены места.
На этот раз я пробыл в Генуе две недели, каждый день
купаясь привязанным к канату, который держал лодочник.
Однажды, выкупавшись и одеваясь, я позабыл в лодке мешок с
червонцами, который всегда носил при себе за границей. Я
спохватился, пришедши домой, и в испуге побежал к берегу.
Вдруг на дороге встречает меня лодочник, у которого я купался,
w несет мой мешок с червонцами; он слыхал, что, разговаривая
со своим товарищем, я часто упоминал название «Hotel Smitt»;
он понял, что мы квартируем в этом отеле и нес туда мои
деньги. Я выразил ему свое удивление и уважение к такой
честности, но лодочник, по наружности казавшийся с первого
раза свирепым разбойником, с гордостью ударил себя в грудь
и произнес: «Да ведь я служил в войсках Гарибальди!», давая
тем знать, что человек, служивший у такого великого героя, не
может сделать такого бесчестного дела.
Мы посетили знаменитый сад Паллявичини, приобревший
европейскую славу. Этот сад отличается большими вычурами; в
таких местах, где вы никак не могли подозревать появления воды,
начинают под вашими ногами брызгать фонтаны; вы встречаете
сталактитовые гроты, в которые плывете на лодке, и тому
подобные фокусы; но этот сад, как мне показалось, далеко уступал
Воррнцовскому саду в Алупке, в котором искусство, богато
расточенное, превосходно укрылось под обликом природы, так что вы
готовы признать, что здесь вовсе не работала рука человеческая,
а все, что видится теперь, исключая строений, также было и при
сотворении мира.
547
Оставивши П. А. Кулиша в Генуе, я отправился с одним
русским офицером в Пизу, а потом во Флоренцию; бегло осмотрел
тамошние достопримечательности, хотел ехать в Рим, но
ужасающий жар отбил у меня эту охоту и я отложил поездку в Вечный
город до того времени, когда в состоянии буду поехать зимою.
Меня манило поскорее куда-нибудь в холод, и вместе с моим
товарищем я поехал по железной дороге к Лаго Маджиоре и оттуда,
нанявши пару лошадей с итальянским «vetturino» — через Альпы,
пробираясь к Женеве. Проехавши сутки, терпя обычный южный
зной, я наконец добрался до холодного пояса гор и на заре прибыл
в бернардинский монастырь, где встречен был монахами в черных
одеяниях с белыми поясами и стаею огромных собак, приобрев-
ших всемирную славу спасителей путешественников, застигнутых
снегами в Альпийских горах. Близ самого монастыря видна
пещера, в которой недавно погребались несчастные путешественники,
найденные уже мертвыми. Самая окрестность, чрезвычайно
угрюмая и дикая, носит зловещее прозвище Долины мертвых (Valee
des morts). Я пробыл в монастыре несколько часов, угощаемый
молоком и сыром. Это было в июне. Почва была покрыта
льдинами; кругом, кроме жалкого мха, не было никакой растительности;
но внизу гор были монастырские дачи, откуда доставляются в
монастырь всякого рода припасы. Путь из монастыря шел вниз;
-повторялись те же виды и те же приемы езды, какие встречал я в
прежнюю свою поездку по Альпам. К двум часам пополудни мы
были уже в городе Сионе, где собирались сесть в вагон железной
дороги, ведущей к берегам Женевского озера. Так как нам
оставалось ждать еще два часа прибытия поезда, то мы отважились
употребить это время на осмотр развалин старого замка,
живописно гнездившихся на высокой горе. Мы пошли туда пешком по
старой, давно уже оставленной дороге, ведущей вверх крутой горы
и огражденной справа парапетом, за которым шла вниз
совершенно отвесная скала чрезвычайной высоты. В одном месте парапет
обломился и надобно было перешагнуть почти через пропасть. Идя
вверх, я не ощутил никакого страха, сделал один шаг и потом
пошел безопасно, так как по правую сторону защищал меня
парапет. Мой товарищ последовал за мною. Мы взошли на гору,
посмотрели на развалины замка, от которого торчало несколько
башен и стен, и стали искать иного схода с горы; но оказалось,
что на вершину этой горы не было иного пути кроме того, по
которому мы прошли, и нам приходилось нехотя идти назад.
Только что я дошел до того места, где парапет обломился и нужно было
сделать один шаг через пропасть, я никак не имел смелости этого
сделать, тем более что руками нельзя было придержаться ни за
что. Сколько я ни пробовал, каких усилий ни делал, снимал даже
с себя сапоги — никак не мог перейти: едва я заносил ногу, как
чувствовал, что силы меня оставляют, голова кружится, ноги
дрожат -ия полечу в пропасть. Товарищ мой сначала похрабрился
и, как военный человек, хотел показать свою удаль; но отвага
оставила его, как только он занес ногу над пропастью. На счастье
наше мы увидали внизу женщину, которая махала нам платком и
548
шла к нам по дороге вверх. «Вы не можете сойти, — сказала
она, — вьг уже не первые; дайте я вас сведу». Спасительница
наша оказалась дряхлая старушка, лет около восьмидесяти. Она
взяла у меня руку, велела, обратившись к горе, не оглядываться
назад и сделать движение ногою. Я послушался ее и перешагнул;
товарищ мой сделал то же, и мы благополучно сошли вниз и
прибыли в свое помещение; но последствия этого приключения
мне суждено было чувствовать еще продолжительное время. Когда
я сидел в вагоне, едучи по дороге в Веве, воображение мое
беспокоил образ страшной пропасти, которая невольно представлялась
мне в мысли за стеною вагона. На дороге разговорился я с
ехавшим лозаннцем, который убедил меня выйти из вагона, чтобы
осмотреть на дороге Шильонский замок, уверяя, что мы найдем
там лодку, на которой благополучно доберемся до Веве по озеру.
Я так и поступил и вместе с лозаннцем, взявшимся быть моим
путеводителем, сошел у Шильона и отправился в замок через
узенький мостик, которым соединялся с берегом замок,
построенный на острове Женевского озера.
Шильонский замок — одно из любопытнейших мест в Европе,
драгоценных в историческом и археологическом отношениях. Мне
показывали страшные и затейливые орудия пыток и казней,
некогда здесь совершавшихся. На одном деревянном столбе осталось
видно обугленное дерево — следы огня, которым припекали
подвергнутых пытке. В одном месте пред моими глазами открыли
люк, в котором была устроена лестница, опускавшаяся в волны
озера. Преступника посылали сходить вниз по этой лестнице; ее
ступени внезапно прекращались; нежданно для осужденного он
оступался и летел вниз в воду, а в воде были устроены длинные
железные полосы острою стороною кверху, несчастный падал на
них и был разрезываем на куски. Показавши в замке разные
памятники прошедшего варварства, меня повели в подземелье — то
самое, которое так поэтически описал Байрон. У семи толстых
колонн остались кольца, на которых некогда висели цепи. Около
одной; колонны земля была глубоко вытоптана. Здесь, говорили,
страдал прикованный Боннивар. Я подымался до небольшого окна,
устроенного вверху подземелья, и, глянувши туда, встретил тот
самый ландшафт, который, по описанию Байрона, увидал его
страдалец, когда, освободившись от цепи, ходил уже неприкован-
ный по своей темнице. Обок темницы, служившей местом
заключения Боннивара с братьями, находится темный застенок с
каменною лежанкою. Мне объяснили, что здесь проводили
последние ночи те заключенные, которым на следующее утро грозила
смертная казнь. По осмотре Шильона я поплыл на лодке по озеру.
До Веве будет от Шильона добрых верст десять. Мы плыли вдоль
берега в виду живописных мест, с которыми соединялось столько
поэтических воспоминаний; проплыли мимо байроновой отели,
мимо Монтре — любимого местопребывания Жан-Жака Руссо и
мимо Кляранса, где воображение Руссо поместило его Новую Эло-
изу; наконец, прибыли в Веве, где мне пришлось поместиться в
отвратительном нумере одной из незначительных гостиниц. При-
549
езжих было чрезвычайно много, и трудно было найти порядочное
помещение. Посещение Шильона еще более расстроило мои
нервы, уже сильно потрясенные приключением в Сионе. Со
вступлением в свой нумер я был сам не свой. Страшная пропасть не
выходила у меня из головы, а шильонские пытки, которых следы
я только что видел, до того сделали впечатление на мое
воображение, что в моем теле чувствовались те ощущения, которые
переносили некогда страдальцы. К ночи я заболел — и не на шутку.
В теле у меня делались судороги; жар томил мою голову; начался
бред. Я прохворал несколько дней и не могу при этом забыть
обязательного моего соседа англичанина, который, услыша мои
стоны, прибежал ко мне в нумер и принимал живое и
христианское участие в моем положении. Когда мне стало лучше, я выехал
из Веве в Женеву, пробыл там три дня, а потом отправился в
Россию через Баден, Франкфурт и Берлин. В Берлине я
обратился к знаменитому окулисту Греффе, которого не удалось мне
увидать в первую мою поездку за границу. Осмотревши мои глаза, он
совершенно успокоил меня? уверивши, что у меня не было
никакого предрасположения к катаракту, которым так напугали меня;
он нашел глаза мои сильно утомленными, переменил мне очки и
дал примочку, которая тогда же оказала спасительное действие на
мои больные глаза. Затем я воротился в Петербург. Было начало
августа. Я недолго на этот раз оставался в Петербурге, и 15 числа,
встретившись в библиотеке С.-Петербургской духовной академии
с московским профессором Тихонравовым, отправился вместе с
ним в Москву для занятия рукописями в Синодальной библиотеке
и в Архиве иностранных дел. В этот приезд я прожил в Москве
до 20 сентября, изо дня в день занимаясь то в Синодальной биб-.
лиотеке, то в архиве.
YIII
Студенческие смуты. Закрытие университета.
Публичные лекции. Скандал в Думе.
Выход в отставку от университетской кафедры.
Я возвратился в Петербург 20 сентября. Еще на дороге я
услыхал, что в Петербургском университете, как и в учебном округе,
произошли важные перемены. Министр Ковалевский удалился в
отставку, за ним последовал и попечитель Петербургского округа
И. Д. Делянов. Между студентами распространилось сильное
волнение. На другой день после моего приезда я отправился в
университет с целью начинать курс, но, к удивлению, заметил, что
аудитория моя не в пример против прошлого года была бедна
слушателями, да и те, которых я застал, стали расходиться один
за другим.
Я узнал, что в это самое время в университетском парадном
зале происходила бурная сходка; студенты выломали дверь и
550
шумно требовали отмены установленных для них стеснений,
объясняясь с новым ректором И. И. Срезневским, заступившим
место выбывшего и уехавшего за границу Плетнева. На другой день
произошло знаменитое, наделавшее в свое время шуму
путешествие нескольких сот студентов в Колокольную улицу, в квартиру
нового попечителя университета Филипсона, которого студенты
потянули за собой через весь Невский проспект до университета.
На следующий день новый министр народного просвещения граф
Путятин сделал распоряжение о временном закрытии
университета.
Более двадцати студентов, сочтенных зачинщиками, были
арестованы и посажены в крепость. С этих пор в Петербурге чуть не
каждый день повторялось волнение молодежи, выражавшееся
сходками на улицах, которые разгонялись солдатами. Дух
волнения, выходя из Петербургского университета, сообщался в другие
высшие заведения столицы и отражался на провинциальных
русских университетах. Между профессорами университета также
господствовали недоразумения и несогласия. Дело в том, что
летом, во время бытности моей за границей, образована была из
•профессоров комиссия для составления правил, имевших целью
приведение всей корпорации студентов к подчинению и порядку.
Люди, враждебные лицам, составлявшим эту комиссию, упрекали
их за начертания правил, произведших волнение, а сами эти лица
объясняли, что правила, которые были ими написаны, явились
измененными от начальства. Как бы то ни было, студентов
приводили в негодование некоторые новые распоряжения, а именно:
1) назначение ценза для поступления в университет,
простиравшегося до пятидесяти рублей ежегодного взноса без всякого
изъятия для бедных, так что в университет могли поступать только
люди зажиточные; 2) запрещение студенческих сходок и
уничтожение студенческих касс для вспомоществования бедным
студентам; 3) запрещение устраивать в здании университета концерты,
спектакли и литературные вечера с целью пополнения
студенческой кассы; 4) закрытие университетских аудиторий для особ
женского пола и допущение посторонних мужчин не иначе как с
особою платою и особыми билетами; 5) обязательство,
возложенное на студентов, при вступлении в университет брать печатные
правила, называемые матрикулами. Студентам до крайности были
не по сердцу эти распоряжения, в которых они видели стеснение
своей свободы.
Ожесточение их дошло до такой степени, что многие толпами
собирались на улицах, с тем чтобы их арестовали и увели в
крепость, что и делалось чуть ли не каждый день, а 12 октября
громадная толпа студентов, человек более трехсот, у здания
университета была окружена войском и отправлена в казематы,
причем двум студентам нанесены были удары в голову. В
Петропавловской крепости недостало места, и половина арестованных
была отправлена в Кронштадт. Я не принимал ни малейшего
участия в тогдашних университетских вопросах, и хотя студенты
часто приходили ко мне, чтобы потолковать со мною, что им делать,
551
но я отвечал им, что не знаю их дел, что знаю только науку,
которой всецело посвятил себя, и все, что не относится
непосредственно к моей науке, меня не интересует. Студенты были очень
недовольны мною за такую постановку себя к их студенческому
делу,"но мне не удалось тогда уйти от клевет, ничем не
заслуженных. Однажды я пришел по обыкновению заниматься в
Публичную библиотеку, и там один ученый-немец сообщил мне, что в
каком-то немецком периодическом издании описываются
петербургские смуты и в этом описании мое имя играет незавидную
роль: «Professor Kostomaroff die Studenten aufwiegelt» (профессор
Костомаров волнует студентов). Такая весть очень меня
растревожила, тем более что с моей стороны не подано к тому никакого
повода. Закрытый университет был вновь открыт для тех, которые
покорились воле правительства и взяли матрикулы, повинуясь
предписанным в них правилам, которые не принявшими матрикул
считались стеснительными. Таких — противники их прозвали
матрикулистами. Количество покорных властям не составляло и
трети студенческого сословия, да и взявшие матрикулы не
посещали аудитории, так что хотя университет объявлен был
открытым, но читать в нем было не для кого.
Между тем грозные слухи приходили о студентских смутах,
совершающихся в других университетских городах. В Москве
волнение перешло из университетских стен на улицы. Народ,
рассерженный слухами, будто бы студенты, дворянские дети, оказывают
недовольство против правительства за уничтожение крепостного
права, поколотил некоторых студентов на улице, а иных даже
изувечил. В Харькове и Казани, как слышно, происходили
большие волнения в стенах университетов. В университете св.
Владимира студентский вопрос сталкивался уже с национальным,
примешивая вражду между поляками и русскими. Впоследствии
явилось мнение, что и в Петербурге волнению молодежи
содействовали поляки, готовившие у себя восстание и желавшие
произвести всеми силами беспорядок в русском обществе. Насколько я
мог следить и заметить, это мнение едва ли основательно.
Польская молодежь держалась в стороне от русской и при всяком
удобном случае не скрывала национальной антипатии ко всему
русскому. Притом же в русских умах, как и в русской литературе
того времени, было и без польского влияния достаточно
либеральных тенденций, которые могли вскружить головы молодым
русским людям и довести их до непослушания и беспорядков. Почти
одновременно с студентским волнением стали появляться
печатные листки, имевшие смысл прокламаций, призывающих
общество к политическим и социальным переменам, иные по своему
содержанию были проникнуты умеренным либерализмом, в
других делались воззвания к революции и даже к резне. Судя по
шрифту, эти прокламации печатались в России, хотя, как говорят,
впоследствии были попытки производить их за границею и
привозить в пределы империи контрабандным способом. В самом
Петербурге эти прокламации разносились по домам молодыми
людьми, которые или затыкали их за двери квартир, или же, по-
552
звонивши, передавали печатные листки прислуге, приказывали
подать хозяину, а сами немедленно убегали на улицу. Что в
составлении и распространении таких прокламаций вовсе не было
польского влияния, как некоторые подозревали, это всего лучше
показывает содержание русских прокламаций, в которых никогда
не заявлялось симпатий к Польше и, напротив, они были
проникнуты таким духом, который совершенно был не свойствен ни
польским сочувствиям, ни польским привычкам. Поляки того
времени при всем своем кажущемся либерализме и патриотизме не
могли ни на шаг отрешиться от католицизма, тогда как русская
молодежь отличалась не только холодностию к вопросам религии,
но и склонностию к отрицанию всякого догматического
авторитета. Поляки при всех своих тенденциях к восстановлению отечества
были всегда шляхетны: у них много говорилось о народе, но под
народом разумелось дворянство или люди, приближающиеся к
дворянам, тогда как русский, если был либерален, то вместе с тем
делался ярым демократом и относился к дворянскому достоинству
не только презрительно, но даже с ненавистью. Поляки хорошо
понимали бездну, разделявшую их от русских по понятиям и
симпатиям, и потому совершенно справедливо со своей точки зрения
задавались необходимостию провести строгую, непроходимую
межу между Русью и Польшею, приписывая, впрочем, своей Польше
всю ту часть Руси, в которой успели провести свой шляхетский
элемент. Каков бы ни был москаль, либерален ли он или
консервативен — для них было все равно: достаточно того, что он
москаль и не католик — он уже им чужой. При таком положении дел,
при совершенном отчуждении поляков от русских можно ли
приписывать какие бы то ни было явления в русской жизни
польскому влиянию? С другой стороны, и у русских не видно было
большой охоты к сближению с поляками и сердечной любви к
ним. Несмотря на то что в русских университетах уже давно
преподавали славянские наречия, очень мало можно было встретить
молодых людей из великоруссов, сколько-нибудь знающих по-
польски и интересующихся польскою литературою. Гораздо чаще
можно было найти молодого человека, учившегося по-сербски, по-
чешски, но не по-польски. Правда, в начале последнего польского
восстания, когда поляки тайными убийствами вооружили против
себя русское общество, русские либералы были того мнения, что
Польше в пределах ее народности следует предоставить
самобытное развитие, но с этим вместе не соединялось ни малейшего
желания заимствовать что-нибудь для себя из явлений польской
жизни. Что же касается до известных польских претензий на
принадлежность к Польше всего западнорусского края и даже таких
коренных русских местностей, как Киев или Смоленск, то уже и
тогда русская молодежь вооружилась против этого с известною
долею фанатизма. Мне рассказывали бывшие в заключении в
Кронштадтской крепости студенты, что у них там происходили
беспрестанные столкновения с поляками, готовые даже
разразиться дракою, если бы начальство не принимало мер к прекращению
споров и ссор. Студенческое дело производилось до конца 1861
553
года. В декабре произошли две важные-перемены в
администрации. Министр народного просвещения Путятин удалился от
должности; вместо него назначен Головнин, и в то же время
с.-петербургским генерал-губернатором сделался светлейший
князь Суворов. С тех пор наступил решительный поворот в
вопросе о студенческих волнениях и об университетских порядках.
За несколько дней до праздника рождества Христова университет
вторично был закрыт и уже на долгое время.
Головнин предложил посредством выборных.лиц ученого
сословия составить новый университетский устав, намереваясь дать
университетам возможно большую автономию. Всех студентов,
заключенных в крепости, освободили и дозволили им держать
окончательные экзамены, что неизбежно подало повод к большому
злоупотреблению, так как молодые люди, не выслушавшие всего
курса наук, являлись на окончательный экзамен и были
пропускаемы со степенью кандидата: от начальства было сообщено
профессорам, чтобы они были возможно снисходительнее к этим
юношам. Я сам экзаменовал этих недоучившихся юношей и не
мог без смеха слушать их ответов, обличавших такое невежество,
какое непростительно было бы и для порядочного гимназиста. Так,
например, один студент, сознавшийся, что слушал в прошедшем
году мои лекции о Новгороде и Пскове, не мог ответить, на какой
реке лежит Новгород; другой не слыхал никогда о существовании
самозванцев в русской истории; третий (это был впоследствии
составивший себе известность в литературе Писарев) не знал о
том, что в России были патриархи, и не мог ответить, где
погребались московские цари. Кандидаты Петербургского университета
1861 года составили надолго своего рода знаменитость в истории
русского просвещения. Правительство было чрезвычайно щедро и
к материальным нуждам выпущенных из крепости студентов;
каждый недостаточный студент, отправляясь по случаю закрытия
университета к родителям, получал из рук генерал-губернатора до
ста рублей вспомоществования.
Министр Головнин вскоре по своем вступлении в должность
пожелал со мной познакомиться и пригласил вечером к себе. Я
нашел в нем очень образованного и благонамеренного деятеля;
лично же ко мне он был чрезвычайно любезен. Так как
университет был закрыт и неизвестно было, когда он откроется, то, желая
сохранить за мною профессорское содержание, министр Головина
оставил меня при должности члена-редактора в Археографической
комиссии с сохранением профессорского жалованья на три года.
В то же время я познакомился с князем Суворовым, который
принимал меня очень радушно. К университетскому делу князь
относился с особенным добродушием.
В начале 1862 года студенты, выпущенные из крепости,
составили план публичных лекций. Устроено было так, чтобы эти
лекции не представляли чего-нибудь отрывочного, но имели бы вид
полного университетского курса. Несколько профессоров, а в том
числе и я, согласились читать лекции, каждый по своему
предмету в определенные часы в неделю и без всякого вознаграждения
554
за труд, принося таким образом свои ученые занятия в
пожертвование в пользу бедных студентов; слушатели из общества
обязывались платить по два рубля за весь курс каждого предмета, а
посещение одной лекции по билету стоило 25 копеек. Весь этот
сбор шел в студенческую кассу, которою заведовали десять
распорядителей лекций из бывших студентов. С февраля я начал
чтение русской истории с периода XV века, именно с того
периода, до которого довел свое чтение в прошлом году в университете.
Вообще я разделял русскую историю по времени на два отдела:
первый заключал историю Руси удельно-вечевого уклада;
второй — обнимал Русь единодержавную. Первый отдел был уже
мною прочитан в университете, теперь я предложил читать второй
отдел. Лекции читаемы были в большом зале городской Думы,
очень просторном и светлом, в два света, с галереями наверху.
Таким образом, после закрытия университета сам собою возникал
новый, совершенно свободный университет, открытый для лиц
обоего пола всех званий и без всякого официального начальства.
Февраль прошел благополучно, но в начале марта наступило
неожиданное потрясение. В доме Руадзе на Мойке происходил
литературный вечер 5 марта. На этом вечере между прочими
участниками читал небольшую статью профессор Платон Васильевич
Павлов. Статья называлась «Тысячелетие России1» и была
небольшим сокращением той статьи, которая в том же году была
напечатана в календаре1. Перед началом вечера Павлов, увидя меня,
подошел ко мне и дал мне прочитать написанную им статью,
спрашивая моего мнения, годится ли она для чтения на вечере.
Пробежавши ее, я отвечал, что, по моему мнению, она не
заключает в себе ничего, способного обратить неблагосклонное
внимание властей, и что я вполне разделяю его взгляд на русскую
историю. Когда Павлов взошел на кафедру читать свою статью,
студенты и другие лица из публики встретили его такими
громкими рукоплесканиями, которые с первого раза показывали
чрезвычайное сочувствие публики к его личности, сочувствие,
которого, правду надобно сказать, он вполне заслуживал как по
своей многолетней профессорской деятельности, так и по
направлению в науке, весьма нравившемуся тогдашней публике, в
особенности же молодой. Профессор несколько раз был
останавливаем и прерываем рукоплесканиями, более на таких
местах, которые могли иметь либеральный смысл и которые могли
подать повод к толкованиям в дурном смысле. По окончании
чтения, когда Павлова стали вызывать, он произнес текст из
Евангелия: «имеющие уши слышати, да слышат». Это до чрезвычайности
понравилось публике: его наградили самыми бешеными
рукоплесканиями, которые побудили его в другой раз повторить то же
изречение. На другой же день мы все узнали, что Павлов
арестован и ссылается в Кострому. Студенты-распорядители
заволновались и стали ходить к профессорам, представляя, что по этому
поводу в виде демонстрации следует прекратить чтение лекций.
* «Академический месяцеслов» за 1862 год.
555
Некоторые профессора поддались голосу студентов, но я
энергически доказывал и тем и другим, что прекращение лекций не
имеет никакого смысла, тем более что Павлов навлек на себя
нерасположение правительства вовсе не за эти лекции, а по поводу
тона чтения, не имевшего к лекциям никакого прямого отношения,
и что делать демонстрации вообще в нашем положении нелепо. Я
успел отклонить некоторых профессоров от прекращения лекций;
по поводу этого вопроса студенты-распорядители собирали
несколько раз профессоров в их квартирах и уговаривали
прекратить лекции; но я и некоторые другие профессора, принявшие мое
мнение, упорно не хотели поддаваться студентам. Тогда студенты-
распорядители сильно озлобились против меня, видя, что я
становлюсь их главною помехою к произведению демонстраций, до
которых у них родилась большая охота со времени студенческих
смут, поведших к закрытию университета. Надобно заметить, что
я, некогда пользовавшийся у студентов большою любовью, стал
уже.прежде терять многое в глазах их. Меня почему-то считали
вначале отъявленным либералом, даже революционером, и это
было одною из причин того горячего сочувствия, каким я пользовался
у молодежи. Вероятно, к тому мнению обо мне располагало
молодежь мое долгое пребывание в ссылке за политическое дело,
которого значения они хорошо не знали.
Еще в предшествовавшем году после святой недели ко мне
явилась странная депутация из студентов с требованием
объяснения: что значит, что они видели меня в день великой субботы
прикладывавшимся к плащанице и причащавшимся св. тайн.
«Неужели, — спрашивали они, — я поступал с верою?» Я отвечал им
тогда же, что ничто не дает им права вторгаться в мою духовную
жизнь и требовать от меня отчета, а их вопрос: поступал ли я так
с верою и сознанием, меня огорчает потому, что я не из таких
людей, которые бы без веры и убеждения притворялись для
каких-то посторонних целей в священной сфере религии. Студенты
объяснили, что они обратились ко мне с таким вопросом оттого,
что мои лекции, пропитанные свободными воззрениями,
слушанные ими долгое время, не заключали в себе ничего такого, после
чего можно было бы ожидать от меня уважения к церковным
обрядам, свойственного необразованной толпе. На это я заметил им,
что читал им русскую историю, а не церковную и еще менее
богословие, следовательно, не мог по совести высказать им
относительно своей собственной веры никаких ни приятных для них,
ни неприятных убеждений; если же, по их словам, мои лекции
отличались свободными воззрениями, то это одно понуждает меня
требовать от них уважения к свободе совести. Я прибавил, что
если меня возмущали и теперь возмущают темные деяния
католической инквизиции, преследовавшие безверие, то еще более
возмущала бы наглость безверия, преследующая, как нравственное
преступление, всякое благочестивое чувство. «Если вы, господа,
сторонники свободы, то научитесь сами уважать ее для тех
мнений, которые вам не нравятся и которых вы опровергнуть
положительно научным способом не в состоянии». Эта выходка
556
студентов уже показала, что они во многом ошиблись
относительно моей личности. Не нравилось им и то, что в моих лекциях они
не могли отыскать никаких признаков либеральничанья,
намекающего на что-либо современное, так как все лекции мои имели
строго научный характер. Наконец, строгое'неучастие мое в
недавних их студенческих смутах и много раз заявленное нежелание
входить в рассмотрение вопросов, их волновавших, еще более
вооружили против меня молодежь. Теперь мое нежелание
прекращать лекции и мое увещание, обращенное к профессорам, о том
же сделали меня в глазах молодежи решительным противником
всякого модного либерализма. Затаивши против меня злобу,
студенты-распорядители сказали мне, что они покинули свое
намерение прекратить публичные лекции, и, обнадеженный их
уверениями, я приехал 9 марта на свою лекцию.
На лестнице при входе в зал один из молодых профессоров
сообщил мне, что студенты, злясь на меня, устраивают противу
меня какой-то скандал. Назад я уже не мог воротиться и смело
вошел в зал. Вступая, на кафедру, я был озадачен вопросом одного
из распорядителей, Утина: «Все Ваши товарищи согласились
прекратить лекции, и мы сегодня заявим об этом публично; как
угодно будет Вам?» «Если вы заявите публично, — отвечал я, — то и
я со своей стороны заявлю публике собственное мнение». Я
взошел на кафедру и прочитал лекцию о «Стоглаве», известивши
публику в конце о том, какого содержания будет моя следующая
лекция. Не успел еще я сойти с кафедры, как на нее вскочил один
из распорядителей и объявил публике, что по поводу арестации
профессора Павлова все профессора единогласно порешили
прекратить чтение публичных лекций. Мое положение было
странное — после того, как я за минуту перед тем объявил публике, в
чем будет состоять содержание моей следующей лекции. Притом
заявление о прекращении лекций всеми профессорами,
читавшими в этом зале, было несправедливо, так как мне было достоверно
известно, что многие подобно мне не соглашались из угождения
студентам-распорядителям прекращать свое чтение. Наконец, я
считал себя и не вправе по воле каких-нибудь десяти человек-
лишать многочисленную публику возможности слушать мой курс,
который был почтен большим сочувствием. Я объявил с кафедры,
что другим как угодно, а я не считаю себя вправе прекращать
чтение иначе как только тогда, когда услышу от публики желание
этого прекращения. На мое заявление раздалось множество
голосов: «читайте, непременно читайте»; но в это же время раздались
студенческие свистки и посыпались ругательные слова. Давши
время этому шуму успокоиться, я сказал публике: «Эти крики и
свистки меня не огорчают; я служу науке и высоко ценю всякую
свободу мнений, но подчиняюсь законным действиям; но я не могу
сочувствовать этому псевдолиберализму, который пытается
насиловать совесть и убеждения других. Скажу вам, милостивые
государи, что эти либералы, которые так меня награждают, не более
как Репетиловы, из которых лет через десять выйдут Расплюевы».
Снова раздались свистки и ругательства, но их заглушали руко-
557
плескания и одобрительные возгласы публики. Я вышел из зала
провожаемый и тем и другим: в одном месте я слышал: «браво,
Костомаров», в другом — ругательства.
Вышедши из здания, я отправился вместе с профессором
Бекетовым в трактир Балабина пить чай, куда пришел также
книгопродавец Кожанчиков. Не успели мы усесться, как является
обер-полицеймейстер Паткуль и требует меня к
генерал-губернатору. Я вышел, полицеймейстер предложил мне сесть в его сани:
я догадался, что он меня считает арестованным. Когда я вошел в
квартиру князя Суворова, генерал-губернатор, рассмеявшись,
сказал по-латыни: «Quousque tandem abutere, academia Petropolitana,
patientia nostra!» (Доколе, Петербургский университет, будешь ты
употреблять во зло наше терпение!). «Что у вас там вышло? Ко
мне приехал голова и наговорил мне такого, что я понять не мог».
Я рассказал ему все как было. Через несколько минут явился шеф
корпуса жандармов князь Долгорукий и, увидевши меня, стал
также расспрашивать. Я рассказал и ему как было дело. Он требовал
назвать имена распорядителей, угрожая посадить их тотчас в
крепость. Тогда я стал просить князя не делать этого, так как весь
этот беспорядок произошел из-за меня. Студенты стали мною
недовольны и хотели учинить собственно мне пакость — и если по
такому поводу, да еще вследствие моих показаний их заключат в
крепость, то у меня это будет на совести, и, кроме того^ на мейя
падет незаслуженное и ничем не смываемое пятно. Поэтому я
просил, если нужно по поводу случившихся беспорядков предпринять
что-нибудь, то, по крайней мере, отстранив совершенно из
следствия случай, происшедший со мною, и'не поставив им в виду
нанесенное мне оскорбление. Князь Долгорукий сказал» что из
уважения к моей просьбе он не предпримет следствия,
касающегося собственно того, что произошло по поводу моей лекции, но
если узнает что-нибудь за ними, не относящееся ко мне, то не
оставит их без преследования. Оказалось, что после моего ухода
из зала беспорядок продолжался: кто-то из молодежи говорил
пламенную речь, в которой требовал предать меня суду общественного
мнения и наказать всеобщим презрением. Наконец, составляли
какую-то подписку о подаче адреса в пользу Павлова. Князь
Долгорукий исполнил свое обещание: ни один из
студентов-распорядителей не был арестован и даже привлечен к расспросам насчет
случившихся на моей лекции беспорядков. Между тем несколько
профессоров составили адрес и подали его министру Головнину.
В этом адресе просили снисхождения их товарищу Павлову; текст
адреса был написан мною, и я вместе с двумя профессорами
ездил к министру подать его. Ходатайство наше не имело успеха,
хотя министр отнесся с большим сочувствием к судьбе
осуждаемого профессора. Князь Суворов также уверял нас, что при всем
его желании не в его силах добиться возможности спасти Павлова
от ссылки. Спустя несколько недель Павлов был отправлен на
жительство под надзор полиции в Кострому.
Я собирался продолжать свои публичные лекции и только
искал места для чтения, так как Дума после случившегося скандала
558
не соглашалась уступать своего зала. Тут приехал ко мне
Чернышевский и стал просить меня не читать лекций и не раздражать
молодежь, потому что, как ему известно, молодежь, сильно негодуя
против меня, собирается устроить мне в моей аудитории скандал
похуже прежнего. Я отвечал, что если ему это известно, то гораздо
справедливее было бы обратиться не ко мне, а к тем, которые
думают устроить скандал, и уговорить их не делать этого.
Чернышевский уехал от меня рассерженный и сказал, что постарается
приостановить мои лекции просьбою у министра и у
генерал-губернатора. Я заявил ему, что если правительственные лица,
облеченные правом, приостановят чтение лекций во избежание
беспорядков, то я подчиняюсь этому; притворяться же больным,
когда я не болен, не стану, потому что это значило бы, заявивши
публике о будущем моем чтении, вдруг испугаться молодежи и
волею-неволею примкнуть к их партии и участвовать в программе
их действий. Через день после этого я получил от министра
извещение о том, что чтение публичных лекций приостанавливается.
Мне неизвестно: сделано ли это было при ходатайстве ЧернышеЕ-
ского или без него, но дело тем для меня не кончилось. Я начал
получать одно за другим анонимные письма, составляемые с
явным желанием оскорбить и раздразнить меня. -S них, между
прочим, меня укоряли в том, что на желание студентов закрыть
лекции я не поддался с намерением подделаться к правительству
в милость и получить орден. Кроме того в газетах начали
появляться летучие статейки, в которых задевали меня, иногда даже
не касаясь происшедшего в Думе беспорядка, а придираясь то к
тому, то к другому из моей литературной деятельности с явным-
желанием, тем или другим задеть и уязвить меня. Наконец, все
незаслуженные укоры и клеветы, распространяемые про меня и
доходившие до моего слуха, привели меня в такую досаду, что я
поехал к министру и объявил ему о своем нежелании быть более
профессором Петербургского университета. Тогда я невольно
вспомнил день, в который читал вступительную лекцию в
университете, а вечером был в театре на представлении «Пророка» и
заметил тогда же моему знакомому доктору, что не следует
слишком обольщаться расположением толпы, которая легко может
нанести незаслуженное оскорбление тому, кого недавно возносила,
если услышит от него неприятный ее самолюбию голос правды.
Министр принял от меня прошение, заметивши, что, быть может,
я передумаю, и во всяком случае он будет иметь меня в виду для
одного из русских университетов. Несмотря на оскорбления,
нанесенные мне университетской молодежью, я тогда же получил
свидетельство о том, что направление, заявленное этою же
молодежью, не разделяется публикою, и, напротив, много таких лиц,
которые иными глазами смотрят на мои действия. Ко мне
принесли адрес, подписанный более чем двумястами особ ебоего пола,
бывших моими слушателями в зале городской Думы. Между ними
было большинство студентов. В этом адресе сознавали
справедливость моего поступка и изъявляли, что оценили мою любовь к
науке и мою готовность служить всеми средствами обществу.
559
Впоследствии я -узнал, что этот адрес подписал в числе прочих
один из бывших студентов, награждавший меня свистками и
ругательствами. Он сам сознавался мне в прежней своей проделке
против меня и объяснял ее тем, что товарищи возымели над ним
влияние, постаравшись представить меня в дурном свете — как
заклятого врага молодежи и всех современных прогрессивных
движений. Эта думская история оставила на меня глубокое
впечатление, которое переменило многое в моих убеждениях. Я увидел, что
большинство русской того времени молодежи, в научные силы
которой я простодушно верил, легко могло быть увлекаемо
трескучими фразами, шумихой, но оно мало ценило посвящение себя
науке.
Все это делалось в эпоху самого крайнего развития
либерального движения умов в России. В образованной молодежи
начиналось направление, которое так характеристично прозвано
нигилизмом. То было недовольство всем существующим
общественным, семейным и политическим строем, у иных
переходившее уже в мечтания о перестройке общественного здания, — у
других ограничивалось либеральными осуждениями всего того, что
нравилось правительству и пожилым людям. Начало этого
направления можно проследить еще с 50-х годов — в период
предшествовавшего царствования. Сочинения Прудона читались с
наслаждением мыслящею молодежью. Собственно, Црудон не мог
своим влиянием повести к созданию какой бы то ни былб
общественной теории; Прудон был только критик общества, критик
часто ловкий и безжалостный, но он был настолько благоразумен,
что, указывая болезненные стороны общественного быта, не
решался прописывать против них лекарства, не в состоянии будучи
сказать наверное, что такие лекарства окажутся действительными.
В этом-то отсутствии утопий и заключается сила и достойная
уважения сторона французского мыслителя; зато, не прописывая сам
целебных средств против общественных язв, но открывая пред
взорами всех эти язвы, Прудон подал широкий повод другим брать
на себя должность общественных врачей и создавать всякого рода
мечтательные теории об улучшении условий жизни человеческого
общества. В предшествовавшее царствование при чрезвычайном
стеснении мысли в печати навеянные чтением Прудона идеи не
смели явно кружиться в публике. Настало новое царствование, а
с ним — иные времена. Само правительство рядом предначатых
реформ показало, что у нас накопилось много' требующего
изменения. Русские умы стали проникаться мыслию, что в России
слишком много дурного и наше общество требует радикального
возрождения. Как всегда и везде бывает, мыслящая молодежь
несётся без удержу вперед; все, что делается вокруг нее хотя бы с
явными целями улучшений, ей кажется малым, недостаточным; ей
хотелось бы видеть совершившимся в несколько месяцев то, на что
по неизменным законам истории потребны годы, десятки лет и
даже века! «У нас все дурно!» — такая фраза сделалась модною
и стереотипно произносилась всяким, кто не хотел быть или
казаться отсталым. Что в нашем общественном строе, как и вообще
560
во всех человеческих обществах, есть темные стороны — это ни
для кого не новость, и иначе быть никогда не могло, пока
человечество проходит свое земное поприще; но пылкая молодежь редко
умеет отличать злоупотребления от сущности того, чем
злоупотребляет, склонна бывает смешивать то и другое, и вместо того
чтобы обрезывать ветви дерева, мешающие его росту, посягает на
самый корень. В ту эпоху, о которой идет речь, молодежь стала
попирать все, пред чем старое поколение благоговело: религию,
государственность, нравственность, закон, семейство,
собственность, даже искусство, поэзию и таланты. Наука имела для нее
важность только в утилитарном отношении, насколько она могла
содействовать улучшению материального быта человека. Все, что
прежде считалось достоянием духовного мира, отвергалось как
праздное занятие, и самый духовный мир назывался мечтою. Нет
сомнения, что во всех исчисленных сферах были всегда и везде
темные стороны, возбуждавшие ум к критике. Религия, в
вульгарном смысле, нисходила до ханжества или бессмысленной
приверженности к символической букве; государственность, как
показывала история, нередко являлась в форме бессмысленного
насилия над массами народа, люди государственные придавали
ореол святости тому, что держалось на обмане, создавали права,
основанные вначале на дикой силе, закон часто выказывался
бессильным против людских пороков или служил им благовидною
прикрышкой; права собственности, упорно защищаемые
собственниками, обличали свою несостоятельность, как только
подвергались критике средства возникновения и упрочения собственности;
семейство представляло слишком частые случаи, показывающие,
что на деле происходило совсем не то, что; признается
предрассудками общества; нравственность вообще имела очень шаткое и
неточное применение: что в одно время или. в одном месте
считалось нравственным, то в иных временах й местах признавалось
противным; наконец, искусство, поэзия и свободная наука
оказывались по большей части привилегиями счастливцев мира сего,
эксплуатировавших бедную, невежественную массу народа. Такой
мрачный взгляд не человеческие отношения не был новостью: сам
Спаситель Христос положил ему начало для своих последователей.
Его пламенная проповедь против фарисеев была осуждением и
приговором для ханжества всех веков. В противоположность
земному величию владык и царей, требовавших себе поклонения,
Спаситель указал правила признавать старшим над всеми того,
кто будет всем слугою.
Как мало Спаситель ценил важность наших имущественных
прав, которые мы привыкли считать делом первой важности,
показывает ответ его человеку, просившему его разрешить спор о
наследстве. Суровость и вместе несостоятельность карательного
правосудия наглядно обличены Христом в его приговоре над же-
ною-прелюбодейницею. Слова, сказанные Петру, хотевшему в
порыве любви защищать ножом своего учителя,' послужили
решительным неодобрением всякого военного права. Наконец,
христианское общинное устройство, возникшее у Христовых по-
19 Заказ 15 561
следователей в первый же день основания Христовой церкви, ког-
да все имущие сносили свое достояние к ногам апостолов, — все
это признаки, показывающие, что в духе христианства лежало
иное начало общественного строя, что цель Христовой проповеди
была радикальное возрождение человека или, как выражался
апостол; преобразование ветхого человека в нового. Но в том-то и
высота христианского учения, что оно, указывая человеку идеал,
с одной стороны, не думает принуждать его насилием к
воспринятою этого идеала на земле, но показывает только путь к
достижению его на небе, а самое стремление к нему на земле ставит
только условием к получению небесного блаженства. Христос как
богочеловек знал слишком человеческую натуру и не задавал для
нее несбыточных утопий; напротив, в своих предсказаниях о
будущей судьбе человечества напоминал, что в мире всегда будут и
войны, и всякие физические бедствия, нарушающие материальное
благосостояние человека. От этого, если черты, показывавшие, что
христианство требовало от человеческого общества иных условий
против тех, с какими оно существовало прежде, ласкали
воображение голов, задававшихся всякими мечтаниями о преобразовании
человеческих обществ, то, с другой стороны, строгий и
нельстивый приговор Христа о непрекращаемости всякого рода бедствий,
мешавших полному счастию на земле, отталкивал их от
Христовой веры. Так случилось на Западе в XVIII веке; тот же процесс
происходил и у нас в описываемое время. Наши либералы стали
с первого -же раза во враждебное отношение к христианству и
всем его догматам и нравственным правилам, тем более что
положительная религия в форме церкви освящала законность всех
условий общественного и политического быта, в которых виделись
темные стороны. С отвержением христианства отвергалась идея
будущей жизни; человек признавался существующим только на.
земле до могилы, и вся цель его ограничивалась материальным
миром. Мыслящая молодежь наша пропиталась самым крайним
господством материалистических учений и побуждений, С
отвержением бога и духовного мира не оставалось уже вечных
нравственных исторических законов; все казалось возможным в
человеческом мире по желанию человека. Не нужно было ни
постепенности, ни разъяснения подробностей, при которых могло
совершаться возрождение общества. «Мы хотим; нужно только
внушать^ чтобы и другие того же хотели, чего мы, —- а кто станет
упорствовать, того большинство, склоненное к нам, станет
безжалостно истреблять». Такой был девиз тогдашних либералов,
возомнивших стать преобразователями общества. Им дали кличку
«нигилистов», и сами они не стыдились этой клички, а еще
хвалились ею.
Нигилизм сильно стал охватывать умы молодежи, и каждый
день увеличивались сотнями полки его последователей. От
прежних либералов нигилисты, как я сказал уже выше, стали
отличаться крайним неуважением к положительной науке, признавая
полезным только утилитарную часть реальных наук,
содействующих материальному благосостоянию человека. Отсюда возникла в
562
молодежи видимая наклонность к естествознанию, но эта
наклонность мало произвела между ними полезных деятелей в сфере
естественных наук. Возникла мода заниматься естествознанием;
но замечательно, что никто столько не возмущался этой модой и
не признавал за нею дурных сторон, как люди, действительно
посвятившие себя специальному изучению естествознания в
различных его сферах. Гимназисты и недоросшие девочки с
увлечением бросались собирать насекомых и изучать формы и названия
растений, но действительного плодотворного изучения природы за
ними не было. Это была какая-то игра в естествознание.
Задавались мыслью, что общественные связи и условия подлежат
коренному изменению; молодежь бросилась на мечтания об общинном
житии. Стали заводиться кружки, куда входили молодые лица
обоего пола, и составляться коммуны, где жили общим трудом и
общими средствами мужчины и женщины. Несостоятельность
такого способа жития сказалась на первых же порах, так что
большая часть этих коммун расстраивалась сама собою скоро после
своего основания. Брак признавался делом эгоистичным и потому
безнравственным. Девицы стали переходить от сожития с одним
к сожитию с другим без всякого стеснения совести и даже
хвастаясь этим, как прдвигом нового строя жизни, достойным
человеческой природы. Возникли мечтания о расширении
нигилистического учения в массе, и средством для того считали
тайное печатание и распространение листков, или прокламаций,
призывавших общество к преобразованию путем кровавой
революции. Молодое поколение при таком -направлении, естественно,
становилось вразрез со старым; отсюда начались враждебные
отношения детей к родителям и вообще молодых к старым. Вместе
с тем в молодежи развивалась мысль, что для благой цели
общественного преобразования не нужно стесняться ни в каких
средствах; все меры признавались хорошими, если только в виду
имелась желанная цель. Это была самая черная и возмутительная
сторона современного нигилизма. Пусть бы у нигилистов были
какие угодно идеалы об устройстве общества, но если бы путь к
достижению этих идеалов согласовался со враждебными душе
человека принципами нравственности, нигилисты не представляли
бы слишком опасных элементов, так как ничто не может
поставить отпора беспощадной силе логики и убеждений. Что бы ни
взяло верх в человеческом обществе, со всем пришлось бы
мириться, лишь бы только это совершилось тою неотразимою силою
признанной истины, которая всегда двигала и вечно будет двигать
историею рода человеческого; но как скоро допустится столь
известное у иезуитов правило — для доброй цели позволять дурные
средства, то самая добрая цель превращается во вредную, а злые
меры, от которых общество не в силах будет уберечься, принесут
свои злые плоды, и последние непременно окажут вредоносное
влияние, хотя бы и временное. Впрочем, все эти нигилистические
теории и попытки, тем или другим способом применяемые к
жизни, не могли иметь слишком продолжительного и
широковлиятельного последствия на дух и жизнь русского народа. Они были
19* 563
вредны и опасны потому, что увлекали интеллигентное юношество
обоего пола в те нежные годы жизни, когда приобретаются
научные знания и устанавливаются воспитанием нравственные
жизненные приемы. Вместо полезных общественных деятелей в той
или другой форме вырабатывались разные либеральные болтуны,
заносчивые хвастуны, воображавшие за собою такие достоинства,
каких на самом деле не было, а в конце концов — вредные
ленивцы, твердившие о труде, а на самом деле бегавшие истинно
полезного труда или своим порочным отношением портившие его,
когда за него принимались. Венцом всего был страшный эгоизм,
выразившийся впоследствии тем, что значительная часть таких
юных преобразователей общества, возмужавши, переродилась в
биржевых игроков и эксплуататоров чужой собственности всеми
возможными средствами; те же, которые остались энергически
преданными своим нигилистическим теориям, оправдывающим
всякое средство для цели, нравственно произвели поколение
безумных фанатиков, отваживающихся проводить свои убеждения
кинжалами и пистолетами. Таковы были неизбежные последствия
учения, главным образом задававшегося материализмом и
отвержением нравственного закона, вложенного в сердце человека
высочайшим вечным разумом, управляющим по неведомым нам
путям всею судьбою истории человечества.
IX
Петербургский университет началд 1860-х годов.
Измаил Иванович Срезневский некогда был в Харькове и в
очень близких со мной отношениях. По прибытии в Петербург я
узнал, что при предложении меня на кафедру он, как человек,
знавший меня, отнесся обо мне очень одобрительно вместе с
профессором Сухомлиновым, поэтому я и хотел сойтись с
Срезневским по прежним дружеским отношениям, но скоро заметил
некоторую холодность в отношении ко мне или недостаток той
сердечности, какую я привык в прежней харьковской жизни
встречать в нем к себе. Это невольно положило между нами
какую-то тонкую преграду. Впрочем, он никогда не заявлял
чего-нибудь неприязненного или враждебного ко мне, но отношения его
выражались, например, так, -что я бывал у него часто, а он у меня*
редко; иногда в разговорах принимал какой-то педантический тон,
который мне не нравился, и я мало-помалу начал расходиться ^
ним. Мне не нравилось в нем направление или желание сделать
науку, которою он занимался, не только сухою, но и набором
подробных фактов без одухотворения; внушалась боязнь
мышления. Например, он нападал на современную молодежь,
занимавшуюся наукою и ставил ей в виду охоту к размышлению .и к
составлению выводов, оправдывая это тем, что при
недостаточности подготовки и обработки фактов можно впадать в ошибочные
564
заключения. В сущности это было верно, и он справедливо
нападал на тех, которые с малым количеством знаний свысока обо
всем судили. Но все имеет свою крайность. Ему не нравились
легкие мыслители, недостаточно углубляющиеся в изучение
фактов, но, покровительствуя противоположное направление, он
распложал пустых кропателей над мелочами. Молодые люди даже
смеялись над ним и говорили, что можно написать диссертацию,
в которой бы у автора не было никакой руководящей идеи, а зато
было бы много выписок, свидетельств, ссылок, сопоставлений. По
его харьковской жизни я знал, что он нередко брался сам за такие
предметы, которые недостаточно изучил, и умело прикрывал это
ученою мантиею, что нетрудно было, когда в те времена так мало
находилось конкурентов, занимавшихся тем же предметом. В
Петербурге ясно было видно, что он относился к делу
фундаментальнее и при его несомненных способностях ума приобрел более
действительных знаний, но вдался в академическую сухость
подробностей и мелочей, как мне казалось, именно потому, что на
этом пути мог быть первым и руководить другими. Это сделалось
особенно после 1862 года, когда вследствие студенческих
беспорядков между серьезными людьми, так сказать, распространилась
мода уважать особенно сухие исследования. Срезневский, каким
я его знал и смолоду и впоследствии, был всегда человек
самолюбивый и честолюбивый; его, как видно, утешало признание за ним
достоинства строго научного труженика, и, надобно сказать, что
многие с этой стороны стали ему курить фимиам. Я помню уже
в более позднее время, в 1870 году, когда у графа Уварова было
предварительное совещание об археологическом съезде в
Петербурге, уважение к Срезневскому доходило до того, что когда он
пришел вечером к графу и несколько опоздал, то профессор
Бестужев-Рюмин требовал, чтоб было перечитано вновь уже
прочитанное, в видах того что Срезневский этого не слышал, и Бестужев
адресовался к нему с таким почтением, которое уже переходило в
раболепство. Очень многие относились к нему точно так же, и,
как казалось, это ему нравилось. Из профессоров филологического
факультета один только Орест Миллер стоял как-то ребром к
нему. Срезневский был человек очень ловкий и изворотливый, умел
в университете держать своих товарищей так, что некоторые, даже
вообще недолюбливая его, в сущности ему повиновались.
Тайна этого состояла в том, что он подмечал слабые стороны
других, и именно такие, которые старались скрыть, а он как бы
мимоходом давал замечать, что понимает их, и таким образом
держал других в некоторого рода страхе, как бы угрожая сказать
более того, что он сказал и чего другие не хотели слушать.
К студентам он был вообще добр и только во время своего
кратковременного ректорства вооружил против себя молодежь тем,
что, исполняя волю начальства, хотел проводить принятые
последним меры, не нравившиеся студентам. О доброте его замечу, что
во время студенческих экзаменов, бывши у меня ассистентом, он
постоянно просил прибавлять студентам баллы, хотя в то же время
очень преследовал на словах легкость молодежи в занятиях нау-
- 565
кою.'Это же добродушие проявилось в нем в отношении к моей
покойной матери, когда она проживала в Петербурге, во время
моего годичного заключения в крепости, за что я всегда был и буду
ему благодарен.
Михаил Иванович Сухомлинов был в отрочестве моим
учеником в харьковском пансионе Зимницкого, где я когда-то в начале
40-х годов давал уроки. Сухомлинов тогда уже был одним из
лучших учеников и с первого раза был заметен по дарованиям и уму.
В университете он, как я слыхал от многих, был лучшим
студентом. Выехавши из Харькова, я встретился с ним лет через
шестнадцать в Петербурге, где он уже занял кафедру после
возвращения своего из-за границы. Преподавая русскую
словесность в Петербургском университете, Сухомлинов занимался
учено-литературными трудами, и все, что* написал и издал,
отличается безукоризненною дельностию в обработке предмета и
в правильности взгляда. Я встретился с ним как со старинным
знакомым и неизменимо находился с ним в самых приятных
отношениях. В числе его качеств как человека я заметил в нем
постоянное желание ладить со всеми, для чего он иногда прибегал
и к тонкой лести, готов был из желания сохранить хорошие
отношения похвалить то, чему на самом jxtnt не сочувствовал, сказать
только вполовину и смолчать там, где можно было ожидать его
возражения. Но это делалось всегда без ущерба правде и
добросовестности.
Николай Михайлович Благовещенский, профессор латинской
словесности. После поступления моего на кафедру я сблизился с
ним довольно дружески. Это был человек честный и прямой, очень
любезный в обращении, без всякого педантства, знал свой
предмет, но занимался им без увлечения, которое вообще не было у
него в природе. Его постоянная любезность обращения со всеми
усвоила ему некоторую манерность: покойный поэт Ник. Фед.
Щербина постоянно подтрунивал (за глаза, разумеется) над его
светкостию, которая при его происхождении из духовного звания
нередко невольно возбуждала насмешку. Щербина дал ему кличку
Marquis de Blagowestschensky, и эта кличка пришлась, как
говорится, по шерсти. Петербургские либералы недолюбливали его и
считали его одним из искателей карьеры, угождающим сильным
мира сего, старались даже умалить его ученое значение. Что
касается до последнего, то при его несомненном знании в его
отношении к науке проглядывала всегда сухость и прозаичность. Что
же касается до пролагания себе дороги нечестными путями, то это
совершенная ложь. Напротив: когда университет находился в коь
лебавшемся положении и бывший временно министром народного
просвещения адмирал Путятин ни к селу ни к городу созвал
профессоров и начал читать им выговор, один Благовещенский не
смолчал и ответил ему чрезвычайно резко. Министр сказал в
заключение своей речи: «Я с вами, господа, говорю откровенно».
Благовещенский ответил: «Уж чересчур, ваше сиятельство, только
мы к такого рода откровенностям не привыкли и привыкать к ним
не желаем». Путятин побледнел от злости. Такой поступок не по-
566
казывает скромного угодника сильных мира и гоняющегося за их
милостями. Благовещенский в разговорах всегда был неумолимым
врагом недозрелого либерализма, господствовавшего в юном
поколении, сторонником порядка и законности, но это происходило у
него из внутреннего твердого убеждения, а не из какого-нибудь
искания доброго о себе мнения властей. Впоследствии он перешел
в Варшавский университет, сделан был там ректором, и надобно
сказать, что тут он стал истинно на своем месте. Всегда любезный
и мягкий в обращении, но вместе с тем твердый в убеждениях и
неуклонный в мерах, он был более, чем кто-нибудь, пригоден для
поляков, с которыми всегда следовало обращаться крайне вежливо,
но вместе и твердо. Поэтому он, как я слышал от многих,
приобрел там всеобщее уважение русского и польского общества.
Алексей. Николаевич Савич — профессор астрономии,
познакомился со мной через общего знакомого Василия Васильевича
Тарновского, бывшего членом редакционной комиссии. Несмотря
на различие наших специальностей я сошелся с ним
самым,близким образом и нашел в нем чрезвычайно умного и всесторонне
образованного человека, каких вообще редко встретить. Его
познания в своей науке признаются единогласно всеми занимающимися
ею, но кроме того я сам испытал, что он имеет редкий дар
излагать астрономические истины так ясно, талантливо, живо и для
всех увлекательно, что не раз с особенным удовольствием я
вызывал его на научные беседы и всегда слушал их с жадностью и
наслаждением. Все, кого я знал, относились к нему в этом
отношении точно так же. Но Савич не был узким специалистом. Он
имел основательные сведения в других науках, совершенно
далеких от его математико-астрономических знаний, и между прочим
в истории. Он знал ее, любил, все замечательное в ее области
читал и произносил замечательно верные суждения и взгляды.
Природный малороссиянин, он усвоил с детства и сохранил до
старости тот простодушный юмор, который составляет
характеристическую черту малоросса. И это качество постоянно в нем
высказывается и придает его беседе особую живость и
увлекательность. Он даже в выговоре своем остался малороссом,
несмотря на то что получил воспитание в Дерпте, жил несколько
раз с ученою целью в Германии, Франции и Англии, был женат
на немке и многими взглядами не нравился нашим квасным
патриотам, которые обвиняли его за то в пристрастии к иноземщине.
Этот человек в жизни своей испытал чрезвычайно много семейного
горя: потерял сначала замужнюю дочь и зятя, оставивших на его
попечении двоих сирот, потом потерял взрослого сына, уже
окончившего курс в университете и державшего экзамен на магистра,
наконец, любимую жену, с которой дружно прожил 30 лет.
Несмотря на эти удары судьбы, глубоко им чувствуемые, он
все переносил со стоическим терпением и после
непродолжительного периода горести обращался неутомимо к своим занятиям. Во
внешности Алексея Николаевича было чрезвычайно много
странного. Он был одет всегда так дурно, как последний бедняк, хотя
имел всегда очень хорошее состояние, владел поземельною собст-
567
венностию в Малороссии, большим домом в Петербурге и
капиталами в разных процентных бумагах. Это возбуждало смех.
Однажды на пожаре в'Петербурге его схватили и заставили его качать
воду, принимая за чернорабочего; другой раз в церкви, во время
причащения в великий пост, солдат, указывая на него в то время
как он подходил к теплоте (?), сказал другому солдату: «Видишь
ты этого михлютку? Ведь генерал!» «Что ты?!» — с удивлением
спросил другой. «Ей-богу! Три звезды у него!» — отвечал солдат.
О нем ходили слухи, что это происходит от чрезвычайной
скупости. И в самом деле это было так. Он был до крайности скуп,
совершенное подобие гоголевского Плюшкина, но что всего
страннее — при чрезмерной скупости, которая заставляла его трястись
над двадцатью копейками, он готов был тратить, для пользы
других бескорыстно большие суммы. Так, например, мне известно,
что он помогал бедным студентам, давая им по 25 и по 50 рублей,
не ожидая отдачи. Когда я был болен тифом в 1875 году, лежал
без памяти и в полном одиночестве, потому что в это же время
скончалась моя мать, за мною ухаживали чужие добрые люди.
Денег у меня нашли всего 80 рублей. Получить из банка можно
было только подписавши чек, а я, находясь в беспамятстве,
подписать его не мог. Доктора находили болезнь мою до того опасною,
что считали выздоровление почти невозможным. Является Савич.
Окружавшие меня люди заявляют ему, что нечем ни лечить меня,
ни похоронить мою мать. Савич тотчас предлагает брать у него
денег сколькЪ надобно, хотя бы и более тысячи рублей. Ему
заметили, что я могу умереть и потом денег, этих не с кого получить.
Савич не останавливается и говорит, что если бы и так было, то
он не пожалеет из желания спасти мне жизнь. Случилось так, что
тогда же нашли другой источник, отдавши редактору «Вестника
Европы» для напечатания рукопись «Кудеяра», уже мною
запроданного до болезни редактору. Но Савич не знал этого и предлагал
деньги тогда, когда более вероятия было их потерять, нежели
возвратить. Эти черты составляют просто непонятное противоречие с
его несомненною скупостью. Он постоянно следил за всеми
современными явлениями во всех сферах жизни — и политической, и
общественной, и торговой, и правительственной, и ученой, и
юридической — всегда с верным и метким суждением, пропитанным
никогда не покидающим его юмором. Помню, как он в 1861 году,
когда студенты волновались и толковали, брать ли им
навязываемые начальством матрикулы или вести оппозицию до крайних
пределов, Савич сказал им: «Вы чего, господа, хотите? Чтобы этих
матрикулов не было? Не так ли? Ну так покоряйтесь, берите — и
их не будет. У нас все так делается: прикажут, послушают
приказания, а потом оно забудется, никто его исполнять не будет и
никто за неисполнение не будет преследовать. Если бы мне
приказали: поезжай на Луну! Я бы не стал доказывать, что туда
добраться невозможно, а сказал бы «слушаю» и, конечно, не
исполнил бы, и никто бы меня за то не преследовал, зная, что этого
нельзя сделать». Другой раз он, встретившись с одним сектантом,
стал его уговаривать «заявить согласие с господствующим учени-
568
ем». «Но ведь это будет против моего убеждения, — сказал
сектант, — все равно, если б вас, профессор, принуждали говорить,
что Солнце меньше Земли. Разве вы бы сказали?» «Сказал бы, —
отвечал Савич, — когда бы этого силою потребовали: оно от того
меньше не будет!» — и при этом привел в пример Галилея. В его
суждениях везде проявляется строгий критический взгляд. Во всем
он ловко отыщет слабую и смешную сторону, что, однако, нимало
не мешает ему указать на стороны положительные. В некоторых
суждениях, однако, проскакивают у него взгляды, которые можно
назвать отсталыми в наше время. Так, например, он не придает
никакого значения стремлению, явившемуся в последнее время в
женщине, — приобретать серьезное ученое образование, и думает,
что женщина должна ограничиваться узкою сферою кухни и
салона; я объясняю это немецким влиянием, внедрившимся от
воспитания в Дерпте и от сожительства в женою-немкою.
Константин Дмитриевич Кавелин. С ним я познакомился в
1855 году, и с тех пор он долго производил на меня очень
симпатичное впечатление; человек живого нрава, увлекающийся
современными вопросами, с поэтическим отблеском, человек много
читавший, а еще более много думавший. Он особенно остался у
меня в памяти, когда осенью 1857 года, возвращаясь из-за
границы, я прожил в Петербурге в гостинице Демута недели две, и
однажды ночью, часов в 11, заехал ко мне Кавелин, и мы с ним
просидели почти до рассвета один на один. Это было время благих
ожиданий: готовилось уничтожение крепостного права, и вся
мыслящая Россия от мала до велика только о том постоянно и думала.
И у нас с Кавелиным тогда беседа вращалась преимущественно
около этого вопроса. В 1859 году, когда меня избрали на кафедру,
Кавелин был одним из ревностнейших друзей, проводивших мое
избрание, и в октябре этого года, когда последовало высочайшее
утверждение меня в должности, он первый прибежал ко мне в
гостиницу Балабина, где я жил, с таким радостным чувством, как
будто бы дело шло о нем самом. Студенты его чрезвычайно
любили. Он читал государственное право. На его лекциях всегда было
много посторонних слушателей, потому что он отличался
прекрасным даром слова, ясностью изложения, быстротою выражения и
большим остроумием; в нем казалось нечто французское. И в
самом деле, как мне говорили, его мать была француженка по
происхождению. Во время студенческих смут 1861 года Кавелин
невольно стал в какое-то неловкое и, так сказать, фальшивое
положение. Когда правительство, находя, что между студентами
явилась распущенность, задумало установить дисциплинарные
правила для студентов, составлена была комиссия из
профессоров, и в этой комиссии был Кавелин и, как рассказывают, играл
там роль заправщика. Эти дисциплинарные правила,
составленные комиссией, но несколько измененные высшим начальством, и
послужили поводом к смутам между студентами. Профессора
много раз собирались в совет, и в этих заседаниях сами разделились
на три партии. Одна старалась угождать видам правительства в
его предначертаниях, другая составляла оппозицию и, естествен-
569
но, пользовалась сочувствием студентов, третья старалась по
возможности не приставать ни туда, ни сюда и уклониться от
участия в вопросах, тогда возбуждаемых. Кавелин стал, так сказать,
главою и душою второй из этих партий; между профессорами
многие не принимали во внимание представлений и мнений этой
партии, и Кавелин, как ее глава, в частных собраниях,
собиравшихся то у того, то у другого из профессоров, предложил выйти
в отставку en masse. К нему тотчас пристали Стасюлевич, Пыпин,
Борис Утин и Спасович. Они хотели нравственным давлением
побудить к тому же и других профессоров из круга тех, которые
прямо не поддерживали правительственных распоряжений, в том
числе и меня, и притом налегали на меня более, чем на всякого
другого. Я уперся, и это было началом охлаждения между мною
и Кавелиным. И других сотоварищей я удерживал от этого
предприятия, представляя, что может все перемениться, студентов,
которых тогда не десятками, а сотнями засадили по крепостям,
скоро выпустят, переменят главное начальство, откроют опять
университет, и снова пойдет все по-прежнему. Вышеозначенные
профессора подали в отставку, а между мною и ими пробежала,
как говорится, черная кошка. Через месяц или через два Кавелин
получил место в Департаменте неокладных сборов. И другие,
исключая А. Н. Пыпина, не потеряли материально от своего выхода
в отставку. Стасюлевич и Утин были лица с собственным
обеспеченным состоянием, а Спасович только разгласил, что он подал в
отставку, но как-то устроил свои дела так, что прошение его не
пошло в ход, а потом, когда министром народного просвещения
сделан был Головнин, он хлопотал о получении кафедры
ординарного профессора в Казани (в Петербурге был он только
экстраординарным), и уже был почти туда назначен, но государь
император лично не велел определять его за какие-то найденные
в сочинениях Спасовича об уголовном праве мысли о том, что
бывают случаи, когда лица, признаваемые виновными
юридически, с нравственной точки бывают не только правы, но чуть не
святы, а в пример приведены были поляки, осужденные русским
правительством за проявления любви к своему отечеству.
Впоследствии хотя с Кавелиным я встречался дружелюбно, но уже
прежнего дружеского сближения между нами не было. Ни он у меня,
ни я у него не бывали.
Владимир Данилович Спасович — бывший профессор
уголовного права, а потом приобревший всеобщую известность адвокат.
Знакомство мое с ним началось в 1857 году весною, когда я ехал
через Петербург за границу и оставался в Петербурге две или три
недели. Знакомство мое с ним совпало разом с целым кружком
лиц из польской нации, и потому, говоря о нем, придется сказать
разом и о других. В бытность мою в Петербурге в вышеозначенное
время пришли ко мне три неизвестных лица, рекомендуясь от
имени моих знакомых Белозерского и Кулиша. Один был Желе-
ховский, поэт, известный в польской литературе под псевдонимом
Антона Совы; другой — Сераковский, только что освобожденный
из тяжелой ссылки в Оренбургский батальон, где он сблизился с
570
Шевченком, с которым пришлось ему тянуть солдатскую лямку;
третий — Спасович, тогда только что поступавший в адьюнкты
Петербургского университета. Они знали обо мне как о человеке,
пострадавшем за славянскую идею, и тотчас завели со мною о том
беседу. Так как я в то время был сильно проникнут идеею
славянской взаимности во всех ее видах, то, естественно, между нами
наступило тотчас же самое дружеское сближение. Я способен был
увлекаться и верить, а потому, так сказать, влюбился во всех
трех, тем более что все они со свойственною полякам любезностью
рассыпались в самых нежных чувствах ко мне; все трое были,
однако, различны по характеру и приемам. Желеховский, человек
лет около 30-ти, изящно одетый, довольно красивый собою, с
речью, исполненною чувства, имел такие признаки, по которым
человека можно назвать сахарным. Он тогда же начал с
одушевлением читать мне свои польские стихи, которые мне
понравились, быть может, подкупив меня своим содержанием,
касавшимся любимой моей идеи. Другой — Сераковский — по
приемам и манерам своим был совершенный огонь. Он говорил с
пафосом, не мог ни полминуты усидеть на месте, метался из
одного угла комнаты в другой и декламировал так, как будто был на
трибуне. Он мне особенно тогда понравился. По рассказам его,
ркончивши курс в Петербургском университете, он был арестован
за какие-то политические писания и отправлен в тяжелую ссылку,
где пробыл 10 лет, а только что воротившись в офицерском чине,
получил надежду быть принятым в военную академию. Третий
был Спасович, человек кроткого вида, менее прочих
разговорчивый, погруженный по виду более в науку, чем в современные
вопросы, он только как бы вскользь и спокойно показывал, что
разделяет с другими одинакие взгляды. С этого дня началось мое
знакомство с этими людьми. Желеховский, пробывши в
Петербурге после того около трех лет, часто виделся со мною у
Белозерского, с которым был дружен, и неоднократно вместе с ним посещал
меня. Он читал свои польские стихотворения, сколько помнится,
драматической формы, и при этом чтении не раз присутствовал
Шевченко. Скоро, однако, сошелся он с какою-то госпожою,
которую я раза два видел у Белозерских, и в 1860 году вместе с нею
отправился за границу и совершенно исчез из вида. После я
услышал, что он умер в Женеве. Сераковский, поступив в военную
академию, скоро произвел там фурор необыкновенными своими
способностями. В 1860, 61 и 62 годах я с ним нередко видался в
Публичной библиотеке и у себя дома и, наконец, в ресторанах,
куда мы неоднократно ходили вместе обедать. Его политические
убеждения приводили меня в совершенный восторг. Он казался
врагом польско-шляхетских патриотических тенденций;
сознательно говорил, что Польша может быть восстановлена только в
славянской федерации и притом радикально изменившись,
поставивши своею задачею пользу не одного какого-нибудь класса, как
прежде было, а целой массы народной. Он казался пламенным
поборником демократических идей, стремления даровать простому
народу свободу и возвышать его умственный и материальный уро-
571
вень путем правильного просвещения. Он говорил именно то, чего
не было в старой Польше. Никто, казалось, так беспристрастно не
относился к темным сторонам прошедшего, и никто, казалось, так
не сознавал их. Мои задушевные славянские стремления нашли,
по-видимому, в этом человеке самого рьяного поборника.
Неприятно иногда щелкали мое ухо как бы невзначай делаемые выходки
в духе старошляхетской Польши, но я извинял это тем, что трудно
человеку вполне отрешиться от усвоенных с матерним молоком
предрассудков. Но вспыхнуло польское восстание 1863 года, и
Сераковский неожиданно для меня явился совсем в другом свете.
Не знаю, какими путями случился крутой поворот в нем, но видно
было, что у него в душе происходило, такое, чего мне не
открывалось. С необыкновенною скоростью по службе благодаря своим
талантам он получил чин полковника генерального штаба и
отправился по делам службы в Вильну, где и женился. Говорили, что
в Вильне он жил немалое время в доме генерал-губернатора
Назимова и внушил ему полную уверенность в своем неодобрении
польских замыслов и в своей преданности России, как вдруг он
пристает к мятежу, революционный жонд назначает его виленским
воеводою и главным предводителем литовского восстания.
Сераковский выступает открыто врагом России, командует
повстанцами и, что всего страннее, приказывает расстреливать русских
пленных. Вспоминая о том, что он мне говорил в прежние времена
нашего сближения, я бы ни за что не поверил, что Сераковский
был способен на подобные поступки. Однако это было так. Банда
его была разбита, и он, раненый, взят в плен. Муравьев приказал
его прежде вылечить, а потом повесить. По свидетельству
очевидцев, он умер совсем не героем. Когда его подвели к виселице, он
начал ругать Россию, а потом бить палача. Ясно было для всех,
что этим неистовством пытался он заглушить в себе трусость пред
неминуемою смертью. Барабанный бой прекратил его проклятия,
а палач в отмщение за нанесенные побои повесил его так, что
несчастный умирал в медленных муках. Узнавши о судьбе его, я
должен был сознаться в своей непростительной наивности и
легковерии, с которым принимал за чистую монету то, что мне
говорили наши общие враги поляки.
С поступления своего в университет я сошелся с Спасовичем
довольно по-приятельски, хотя наши занятия и не дозволяли нам
видеться очень часто. Спасович был большой знаток польской
литературы и был мне очень полезен. Не раз я обращался к нему с
разными вопросами, чтобы отыскать сведения, которые
оказывались нужными для русской истории по тесной связи, какую имел
польский мир с русским. В политических убеждениях Спасович
казался человеком умеренным, противником всяких
патриотических увлечений, свойственных его землякам; в особенности он
показывал большое уважение к деятельности маркиза Велеполь-
ского, поставившего себе задачею примирение поляков с русскими
на принципах славянской взаимности, что совершенно совпадало
с моими заветными мечтами. Родом из Белоруссии, он был сын
доктора в Речице, русского по вере и по происхождению, но ма-
572
тери-польки, однако не таился предпочтением всего польского.
Относительно религии он не придавал католичеству значения
национальной польской религии и постоянно указывал на
исторические примеры тех русских православных панов, которые
заявляли себя верными слугами Польши; впрочем, он не только
не проявлял какой-нибудь враждебности к русским — напротив,
с чувством толковал о примирении. Это был человек очень умный,
талантливый, казался чуждым всякого своекорыстия, горячо
преданным идее. Неудивительно, что я полюбил его, высоко уважал
и с негодованием слушал от некоторых замечания, что это человек
двуличный. Студенты очень любили его, не только поляки, но и
русские, тем более что никто из профессоров не заботился так
сердечно и горячо о их нуждах: если приходилось составить
какой-нибудь литературный вечер, спектакль, концерт или
.что-нибудь иное в пользу существовавшей тогда кассы для поддержания
бедных студентов, Спасович был всегда главным учредителем и
заохочивал к участию литераторов и ученых.
Когда начались студенческие волнения, Спасович был в числе
профессоров, настаивавших на подаче об отставке, но тут же
сделал маленькую хитрость: он подал прошение об отставке, и это
сделалось известным между студентами и профессорами, но потом
взял назад свое прошение, продолжая считаться профессором, и
получал жалованье, а когда с января 1862 года поступил в
министерство Головнин, то исходатайствовал для себя перевод в
Казанский университет. Но тут какие-то стоявшие высоко
недоброжелатели его повредили ему, представивши государю о его
неблагонадежности, которая, по их мнению, высказалась в его
диссертации по уголовному праву, где он проводил мысль, что
могут быть поступки, признаваемые преступлениями, а в
сущности благородные, добродетельные. К таким поступкам
принадлежали случаи всякой оппозиции покоренных ' национальностей
против покорительной силы. Эта мысль очень не понравилась,
потому что здесь ясно увидели, что идет дело о Польше и польских
стремлениях... Государь не разрешил оставлять Спасовича в
профессорском звании, и Спасович, выбитый из своей обычной
колеи, бросился в адвокатуру, чем материально приобрел себе
большую выгоду. Несколько лет спустя, встретившись со мной, он
говорил, что успел уже нажить себе большой капитал, тогда как
если бы оставался с профессурою, то должен был бы
ограничиваться сравнительно скудными средствами.
Летом 1862 года я ездил в Вильно и на железной дороге
встретил Спасовича, едущего туда же. Мы приехали вместе в Вильно,
и: он меня познакомил с тамошним ученым кругом, но сам от этого
круга удалялся; он, как рассказывал, приезжал к своему другу
Оскерко и остановился у него. Этот Оскерко впоследствии был
одним из главнейших руководителей восстания и был сослан в
каторгу. Тогда же не только русские, но поляки указывали на него
как на ярого польского патриота, руководившего духом
начинавшегося восстания. Когда в 1863 году вспыхнуло решительное
восстание, Спасович, живя в Петербурге, всегда говорил об этом с
573
сожалением и с неодобрением, между тем в обществе не только
русском, но и польском говорили в одно, что он один из
важнейших участников восстания. Это казалось вероятным особенно
тогда, когда открылось участие Огрызка, директора акцизных сборов,
закадычного друга Спасовича. Тем не менее Спасовича закон не
преследовал, потому что он держал себя осторожно. Но что он
сочувствовал восстанию — в этом едва ли можно было
сомневаться, когда в его кабинете вся стена увешена фотографическими
карточками польских повстанцев, потерпевших смерть или ссылку
за восстание. Он нигде не скрывал своего сочувствия ко всему
польскому и даже в своих судебных речах не раз это высказывал.
По причине разных путей жизни мы виделись с ним редко, но
при всякой встрече относились друг к другу приятельски.
Однажды он мне откровенно сказал, что желает, нажившись
адвокатурой, переселиться в Австрию, где единственно польской
национальности льготно. С ним жил постоянно его друг, адвокат
Борщов, также русский по отцу, но рожденный от матери-польки.
Он не менее Спасовича был горячий приверженец всего польского,
а сестра Спасовича, которую я случайно увидел у брата, даже не
знала ни слова по-русски, несмотря на то что крещена в
православной вере. Эти примеры показали мне, до какой степени
сильно нравственное влияние польской женщины и как энергически
умеет она поддерживать и распространять свою народность. В
последнее время, уже когда началась восточная война, я вступил
было в печатную полемику с Спасовичем, но удержался от
дальнейших толков. Дело шло о том, что некоторые поляки в это время
начали писать в русских газетах заявления о необходимости и
желании примирения польской национальности с русской. Как ни
любезна для меня издавна эта идея, но я видел в польских
писаниях безыменных писателей ложь и коварство, что слишком ясно
сквозило в их приемах... Я стал обличать этих писак и начал
статьею «Полякам-миротворцам». Спасович восстал против меня в
числе других очень резко и даже сравнивал меня с сельскою
вздорною бабою, которая не дает примириться ссорящимся
братьям. Я печатно заявил; что уже все сказавши, не желаю более
бесполезно писать об этом. Конечно, Спасович, сочувствуя в это
время идее примирения русской и польской национальностей, был
верен тому, что высказывал всегда прежде, но дело в том, что
поляки-миротворцы в своих статьях думали нас обмануть;
истинного желания мира у них не было, и, видя это, я никак не мог
простодушно восхищаться их нежными уверениями. Я всегда
думал, что такое примирение может только состояться на принципе
славянской взаимности. И миротворцы говорили то же за своих
братии; но как мало принцип этой взаимности развился у
поляков, показывало их безучастие к славянам в такую эпоху, когда
наступало освобождение славян от турецкого ига. Поляки не
только не помогали своим братьям-славянам, но очутились в рядах
турок. Понятно, что возгласы о примирении, раздававшиеся в то
же время, были лживы, и сам Спасович, ставший тогда в ряды
таких миротворцев, мог только возбуждать к себе недоверие: мы
574
видали предыдущую связь его с врагами России. Мы не ставили
и не ставим ему в укор, как и всем вообще полякам,, их
нерасположение к нам, но пусть же они поступают прямо и искренно.
Будем уважать честных врагов и прострем к ним объятия, если
они действительно перестанут быть нашими врагами, но пусть же
и в первом и в доследнем случае поступают они искренно.
Александр Николаевич Пыпин. Знакомство с ним соединено
для меня со знакомством с Чернышевским; поэтому, говоря о Пы-
пине, я не мог прежде всего не сказать о Чернышевском. Я
познакомился с Чернышевским в 1851 году в Саратове. Отец
Чернышевского — протоиерей и первенствующий член
консистории — воспитывал детей своей свояченицы, многочисленное
семейство, в числе которого был и Ал. Ник. Пыпин, учившийся
тогда в Петербургском университете. На каникулы он приезжал к
родным, и здесь в первый раз я его увидал. Это был молодой
человек, всецело преданный науке и тогда уже думавший заняться
ученым образом изучением русских сказок. В 1853 г. кончил он
курс, и когда я в конце 1855 года посетил Петербург, то нашел
его живущим вместе с Чернышевским. Он тогда напечатал свое
ученое рассуждение о сказках — первый капитальный
литературный труд его, который тогда же обратил на себя должное
внимание всего ученого мира. Живя с Чернышевским, Пыпин
подвергался влиянию его атеистической и социальной пропаганды,
но не вдавался в нее, так что видно было — ему более по вкусу
приходилось серьезное занятие наукою. Он постоянно ходил в
библиотеку, пересматривал внимательно русские старые рукописи
и однажды здесь при моих глазах отыскал в одной рукописи
Погодинского древнехранилища и мне первому показал
«Горе-Злочастие» — старинное поэтическое произведение, никому до того
времени не известное, о котором я тогда же напечатал в
«Современнике» статью. В последующие годы Пыпин был отправлен от
университета за границу и пробыл там около трех лет. По
возвращении он в звании адьюнкта начал читать в Петербургском
университете курс всеобщей литературы; несколько лекций я его
слушал и могу сказать, что они отличались дельностию, осмыс-
ленностию, отсутствием всякого педантизма и многословия, и мне
очень понравились. Между тем Пыпин занимался и печатал в
журналах свои изыскания о масонских ложах и о масонском
учении, заключавшие в себе много совершенно нового, хотя
неизбежно вдавался в подробности, которые подчас были утомительны. Он
продолжал жить с Чернышевским, пока наконец женился, а
Чернышевский скоро после того подвергся своей печальной судьбе. Во
время студенческих смут Пыпин, настроенный Кавелиным и Спа-
совичем, пристал к демонстрации и вышел в отставку; он один из
всех вышедших тогда профессоров действительно потерпел много,
и будучи лишен средств к жизни, начал заниматься переводами
разных исторических сочинений. Собственно, эту работу
исполняли другие, а Пыпин только просматривал переводы и давал
свою фирму. После ссылки Чернышевского на Пыпина со стороны
высших властей стали смотреть подозрительно, не давали ему хо-
575
да, стесняли в печати, подозревая в нем агитатора. Мне случилось
слышать самые дурные и несправедливые отзывы о нем от людей
литературного круга, которые его вовсе не знали. Были даже
такие, как, например, Лохвицкий, которые считали почему-то Пы-
пина круглым невеждой и шарлатаном. Так было до появления
«Вестника Европы». Любя Пыпина, я первый настроил Стасюле-
вича принять его в сотрудники; последний решился на это весьма
неохотно, боясь, с одной стороны, компрометировать себя связью
с другом Чернышевского, а с другой, считал самого Пыпина мало
способным писать сколько-нибудь интересно и признавал его
трудолюбивым, но не даровитым гелертером. Время показало, что
Стасюлевич в этом сильно ошибся и впоследствии сам в этом
сознавался.
Пыпин, занявшись писанием в «Вестнике Европы», скоро стал
там не только необходимым, но и наилучшим, даровитейшим
писателем. Предметы, которых он касался, были разнообразны, но
более всего остановился он на славянском мире. Еще во время
своего путешествия за границей он познакомился со славянскими
учеными, изучил в совершенстве славянские наречия и, живя в
Петербурге, составил историю славянских литератур совместно со
Спасовичем, которому, впрочем, предоставил одну польскую, а все
прочие удержал за собою. По отношению к так называемым
славянофилам московской партии Пыпин в своих статьях стоял не
только не солидарно с ними, но совершенно противоречиво, хотя,
правду сказать, по своим сведениям во всем, касавшемся
славянского мира, стоял гораздо выше многих из них. Его статьи в
«Вестнике Европы» получили незаменимое достоинство особенно
тогда, когда славянский вопрос начал переходить из области
науки на поле политики и когда судьба славян балканских стала,
так сказать, злобою дня. Чрезвычайно верный взгляд, глубокие
сведения в умственной и общественной жизни славян, живость
изложения, задушевная любовь и сочувствие к славянским
несчастиям — все это придает статьям Пыпина высокое достоинство.
Его вполне оценили болгары, приславши ему благодарственный
адрес, подписанный от лица членов Национального собрания
экзархом Анфимом.
В частной жизни и в отношениях с людьми я знал его всегда
как чрезвычайно честного и доброго человека. Он сохранил самую
нежную привязанность к Чернышевскому, посылал ему в ссылку
пособия, насколько мог уделять их от своих ограниченных
средств, будучи сам обременен семейством, и воспитывал в своей
семье и на свой счет сыновей Чернышевского, считая себя нрав^
ственно обязанным в признательность за свое собственное
воспитание, полученное на счет родителей Чернышевского. Это
непоколебимое дружелюбие к Чернышевскому служило для него
самого источником многих неудобств и гонений. В 1871 году по
поводу смерти Устрялова в Академии возникла мысль заместить
умершего. Некоторые предлагали меня, другие Пыпина — и так
как на стороне последнего был академик Куник, специально
посвятивший себя русской истории, то Пыпин взял перевес. Это
576
нимало не поставило нас с ним в неприязненные отношения
соперников. Я тогда же всем говорил, что если только зависело бы
от меня, то я бы охотно уступил ему свою кандидатуру, признавая
вполне, как выразился академик Куник, что Пыпин более, чем
Костомаров, обещает свежие и молодые силы. Но когда дело дошло
до министра гр. Толстого, то он сильно воспротивился избранию
Пыпина и заявил, что представит государю о невозможности
допустить «такого» человека к академическому креслу. Не знаю,
входил ли он действительно с таким представлением к государю, но
Пыпин не был избран — и здесь министр действовал по общему
предубеждению, признавая, что Пыпин как близкий родственник
и, так сказать, воспитанник Чернышевского не мог не иметь
одинакового направления с Чернышевским. Время покажет и потомки
скажут, что современники ошибались насчет А.Н. Пыпина.
Каковы бы ни были его задушевные убеждения, он не вносил в свои
ученые труды ничего, кроме строгой добросовестности и полезной
разработки научных вопросов, и если ему не удается при жизни
занимать место в ареопаге русской науки, то его сочинения дадут
ему блестящее место в ряду русских подвижников на поприще
умственной и ученой деятельности.
Что касается до Чернышевского, о котором выше было
сказано, то судьба поставила меня с ним в самые близкие
дружественные отношения, несмотря на то, что в своих убеждениях я с ним
не только не сходился, но был в постоянных противоречиях и
спорах. Близость с ним сложилась в Саратове и продолжалась в
Петербурге до тех пор, пока события по поводу студенческих
демонстраций не развели нас совершенно. Чернышевский был
человек чрезвычайно даровитый, обладавший в высшей степени
способностию производить обаяние и привлекать к себе
простотою, видимым добродушием, скромностию, разнообразными
познаниями и чрезвычайным остроумием. Он, впрочем, лишен был
того, что носит название поэзии, но зато был энергичен до фана--
тизма, верен своим убеждениям, во всей жизни и в своих
поступках стал ярым апостолом безбожия, материализма и ненависти ко
всякой власти. Это был человек крайностей, всегда стремившийся
довести свое направление до последних пределов. Учение, которое
он везде и повсюду проповедовал, где только мог, было таково:
отрицание Божества; религиозное чувство в его глазах было
слабость суеверия и источник всякого зла и несчастия для человека;
Бог нашей религии — это отвлеченная идея, олицетворяемая
сообразно той степени человеческого развития, при какой творились
языческие божества* олицетворяемые физические и нравственные
силы природы, Бог наш — идея верховного блага и мудрости,
заключающихся, собственно, только в человеческом естестве. Это то
же, что какой-нибудь Зев с-Громовержец, Посейдон — колебатель
мира, Плутон — властитель недр земли, Аполлон и Афина —
выражения человеческого творчества в области науки и искусств.
Такое олицетворение отвлеченных понятий было неизбежно в
период юности человеческой мысли, но стало излишним и вредным,
когда человек расширил кругозор своих взглядов, точно так, как
577
детские воззрения уместны для ребенка, но неуместны и вредны
для взрослого; продолжительность таких воззрений в человеческом
обществе поддерживали злые люди, видевшие в этом возможность
держать своих ближних в невежестве, в страхе пред
вымышленным могуществом и эксплуатировать их для своих эгоистических
целей. К христианству Чернышевский относился с уважением, но
не иначе как только к историческому явлению, которого сила
совершенно испарилась от времени. Когда я указывал, что великие
истины, проповедуемые Христом, не осуществились еще и доныне,
он давал мне такой ответ: «Оно мне напоминает египетскую
пшеницу, найденную в мумиях. Когда ее бросили в землю, то она
произвела стебель с несколькими колосьями, наполненными
крупными зернами, и тогда подумали, что произойдет переворот в
сельском хозяйстве и восстановится древняя производительность
хлебных растений; но оказалось не то: посеянные вновь зерна этой
пшеницы давали уже меньше колосьев и зерно было щуплее, а
через несколько посевов сравнялось с обыкновенною нашею
пшеницею. Так и христианство. Сначала оно заключало в себе
великую двигательную силу для обновления человечества, но потом
попалось в руки жрецов под названиями пап, митрополитов,
всякого рода архиереев, попов и монахов, которые завернули его в
папильотки идолопоклоннического символизма, а земные цари и
властители употребили его как орудие для порабощения людей и
для оправдания всяких насилий. Теперь оно не может приносить
ничего, кроме вреда, потому что истины, действительно в нем
заключающиеся, и без того уже вошли в сознание. Бессмертие души
есть вредная мечта, удерживающая человека от прямого пути к
главнейшей цели жизни — улучшения собственного быта на
земле. Нас манят какими-то фантастическими, ни для кого не
понятными надеждами вечного блаженства за гробом и заставляют ради
него терпеть на земле всякую неправду и страшиться противостать
-против зла». Отсюда истекало у Чернышевского и отрицание
святости всяких властей, всего того, что имело поползновение
стеснять свободу человеческой жизни. Весь общественный порядок,
удерживающийся до сих пор, есть великое зло, которое
разрушится при дальнейшем развитии человеческой мысли. Никакое из
правительств, существовавших в различных формах, не может
называться хорошим: все носят в себе зародыши зла, и нам нужен
радикальный переворот. Прудоново положение, что собственность
есть зло, Чернышевский развивал до крайних пределов, хотя
сознавался, что идеал нового общественного строя на
коммунистических началах еще не созрел в умах, а достичь его можно только
кровавыми разрушительными переворотами. Чернышевский на
Руси, можно сказать, был Моисеем-пророком наших социалистов,
в последнее время проявивших свою деятельность в таких
чудовищных формах.
Между тем Чернышевский в своей частной жизни, в своих
приемах казался в высшей степени мягким, добродушным,
чистосердечным, любвеобильным. И в самом деле, он истинно желал
человечеству добра и если в своих теориях заблуждался, то посту-
578
пал искренно. Эта-то искренность и привязывала меня к нему.
Один саратовский архимандрит, Никанор (который впоследствии
сам отчасти подвергался влиянию Чернышевского)» очень ловко по
поводу его вспомнил легенду о том, как бес принимает на себя
самый светлый образ ангелов и даже самого Христа, и тогда-то
бес наиболее бывает опасен. В самом деле, припоминаю себе
многое из жизни, когда Чернышевский как бы играл из себя настоя-
щего беса. Так, например, обративши к своему учению
какого-нибудь юношу, он потом за глаза смеялся над ним и с
веселостью указывал на легкость своей победы. А таких жертв у
него было несть числа. Саратовская гимназия была им совершенно
переделана, и так ловко, что директор и инспектор, люди
положительно другого направления, не могли даже уследить за ним и за
свою простоту подвергались от него же насмешкам. То же было и
в Петербурге* где он сделался, так сказать, идолом молодежи.
Даже люди солидные, никак не соглашавшиеся с его крайностями,
относились к нему с уважением, ценили в нем искренность и
спорили, оставляя за ним свободу мысли, потому что преследовать
мысль, хотя бы противную нам, считалось делом дурным и
бесчестным.
Сообразно своим материальным убеждениям Чернышевский
написал диссертацию на степень магистра, в которой проводил
мысль, что в поэзии и в искусстве совсем нет творчества, которого
привыкли искать в великих произведениях, и что нам нравится в
них только верное подражание природе, только припоминание
того, что мы встречали в жизни. Идея эта была совсем не новость
и много раз была высказана и развита в сочинениях французских
материалистов XVIII века; но для ученых голов, проникнувшихся
воззрениями немецкой философии, она стала чересчур дикою —
и диссертация Чернышевского не была одобрена факультетами,
тем не менее, однако, профессора отзывались с большим
уважением о таланте, с которым она была написана. Молодежь
ухватилась за нее как за великую мудрость, и с его легкой руки начались
в литературе оплевания признанных прежними поколениями
поэтических талантов.
В 1862 году я виделся с ним в последний раз и разошелся с
ним совершенно по поводу студенческой истории, о которой я
писал выше. Чернышевский в том же году был арестован и
обвиняем в участии в составлении какой-то революционной
прокламации, которую он передал одному офицеру по фамилии Костомаров
с письмом к писателю Плещееву. Этот Костомаров был арестован
по политическому делу и скоро под арестом умер. Для меня
осталось неизвестным, взята ли была эта прокламация у него против
его воли, как уверял потом брат его, или же сообщена она была
правительству в качестве доноса, как говорили некоторые. Как бы
то ни было, но Чернышевский был посажен в крепость, где
просидел два года. Его содержали там сначала до того льготно, что
даже дозволили написать и отправить в «Современник» для напе-
чатания повесть «Что делать», где в повествовательной форме
выражались его заветные идеи. Эта повесть как художественное
579
произведение была ниже критики, но по тем идеям, которые в ней
проводились, пришлась донельзя по сердцу молодому
либеральному поколению. Его так хвалили, что даже нельзя было говорить с
поклонниками ее автора. Но правительство увидело в ней новый
несомненный довод зловредности направления Чернышевского. С
этих пор его стали содержать строже. Говорят, будто к нему не
допускали видеться жену его, и он, настаивая на свидании с нею,
отказывался от пищи в продолжение недели и тем принудил-таки
дозволить ему это свидание. Чернышевский был обвинен, хотя ни
в чем не сознался, и эксперты, приглашенные для сличения
прокламации с почерком Чернышевского, не признали окончательно,
чтобы она была писана им. Тем не менее Чернышевского осудили
как государственного преступника главным образом потому, что
считали его крайне зловредным по его направлению. Об этом
говорили мне знающие близко это дело лица: кн. Суворов, бывший
тогда генерал-губернатором петербургским, и Авраам Сергеевич
Норов, член Государственного совета и председатель
археологической комиссии, человек очень религиозный и потому
ненавидевший Чернышевского, но тем не менее сознававшийся, что по
совести нельзя было обвинить его в факте прокламаций. В мае
1864 года его вывели на Конную площадь, прочитали приговор,
осуждавший его на ссылку в каторжные работы на 8 лет. Я не
был тогда в Петербурге, находясь за границею, но слыхал, что
когда по прочтении приговора его посадили в карету и увезли в
крепость, какая-то девица бросила на пути его букет цветов,
выражая тем уважение к нему. Он сослан был в Нерчинск. Жена
его отправилась к нему, но, проживши вблизи его около месяца,
возвратилась назад: одни говорят, что он сам услал ее от себя,
другие, — что ей показалось слишком трудно разделять участь
ссыльного. По окончании лет каторги его сослали на поселение в
Вилюйск, в место поистине ужасное, куда почта приходит только
4 раза в год. Главною причиною такого строгого отношения к нему
было то, что имя его продолжало служить знаменем
развивавшейся в России революционной пропаганды, и были неоднократные
покушения освободить его и увезти за границу. Надобно сказать,
что никто в России не имел такого огромного влияния в области
революционных идей на молодежь, как Чернышевский, и
несмотря на изменения, каким подвергалось революционное направление
в умах русской молодежи, Чернышевский для всех
революционеров наших остался каким-то патриархом, и даже в нынешней
подпольной литературе усвоено за ним имя мученика Николая.
Михаил Матвеевич Стасюлевич. Я познакомился с ним после
поступления на профессуру, но начал сближаться во время
студенческих смут в 1861 году; до того времени отношения мои К:
нему ничем не разнились от отношений со всеми профессорами
вообще, т. е. ограничивались обменом первоначальных визитов и
обоюдным произнесением нескольких общих фраз при встрече. Во
время студенческой истории он в числе некоторых других стал со
мною в диаметрально противных отношениях, так как он считал
нужным подать в отставку в смысле демонстрации против прави-
580
тельства в сочувствии к студентам; я же, напротив, был в числе
не находивших уместною такой выходки. То же случилось и во
время закрытий студентами публичных лекций, читанных в Думе.
Стасюлевич считал лучшим идти профессорам в этом отношении
заодно со студентами, я же противился; однако это не помешало
мне вместе с ним составить тогда адрес от имени всех
профессоров к правительству в защиту Павлова и подать этот адрес
министру Головнину. После этого адреса (не имевшего никакого
влияния, так как Павлов все-таки был сослан) я долго совсем не
видался со Стасюлевичем, и оставление мною профессуры почти
раззнакохмило меня с ним. Так было до осени 1865 года, когда
Спасович, приехавши ко мне, начал от имени Стасюлевича
просить меня принять на себя совместное с ним редакторство
«Вестника Европы». С этих пор я тесно сблизился со Стасюлевичем.
Мы начали издавать «Вестник Европы» в 4-х книгах в год на его
счет с тем, что редакторство всего помещавшегося по русской
истории принадлежало мне. За это Стасюлезич обещал мне в случае
успеха журнала 15 процентов с чистого дохода. Два года шло у
нас дело согласно и отлично, но на третий год Стасюлевич
изменил свой журнал, переделав его в ежемесячный, и допустил
беллетристику и переводы, что прежде не допускалось. Тогда, как я
заметил, он нашел меня лишним и искал случая устранить меня
от соредакторства. Случай скоро нашелся. Кулиш прислал из
Варшавы статью для напечатания. Я, опираясь на состоявшийся со
Стасюлевичем договор, по которому право одобрения или
неодобрения статей по русской истории принадлежало исключительно
мне, написал Кулишу, что статья его будет напечатана, и послал
ее в печать, как вдруг Стасюлевич не велел ее набирать и объявил,
что она не годится к напечатанию. Кулиш, ссылаясь на то, что я
дал ему обещание, написал мне дерзкое письмо и потребовал
рукопись назад. Меня так взорвало это, что я отказался от
соредакторства и разорвал написанный между нами взаимный договор.
Несмотря на это я не отказался участвовать в журнале, но уже на
праве постороннего сотрудника, а не соредактора, и в 1869 году
начал печатать там «Последние годы Речи Посполитой». Причина
этому была та, что не было другого журнала, в котором бы я мог
поместить это сочинение, тем более что «Отеч. записки»,
перешедши в руки Некрасова, из либеральничанья кокетничали с
поляками и остерегались брать у меня сочинение, зная, что я не буду
натягивать истины для либеральных тенденций. Тогда же, как я
дал уже слово Стасюлевичу, Некрасов присылал ко мне Сергея
Васильевича Максимова, намереваясь склонить меня к
нарушению данного Стасюлевичу слова прибавкою полистной платы. Я,
разумеется, отказал ему, и Стасюлевич, узнавши об этом, сам
предложил мне в виде прибавки напечатать бесплатно 1500
оттисков моего сочинения в мою пользу. Вообще, как редактор,
Стасюлевич отличается похвальными качествами: чрезвычайной
аккуратностью, своевременностью выхода книжек и верною
расплатою с сотрудниками, но в то же время он не лишен и
некоторой неискренности, которая мне в нем всегда не нравилась. Таким
581
образом, если он с чем был не согласен, то не высказывал прямо
своего мнения, а отговариваясь обиняками так, чтоб заставить
другого понять, что он думает или чего хочет. Как профессор
всеобщей истории, он не пользовался большим уважением
слушателей, хотя сильно старался об этом и всегда давал своим лекциям
якобы художественную отделку. Слушатели, однако, находили в
этом более ученую риторику, чем глубину знания, мысли и
таланта. В выборе статей для своего журнала он с самого начала
задавался погонею за авторитетными именами, и оттого в его журнал
трудно было попасть всякому новому имени, хотя бы человеку с
истинным дарованием; и с другой стороны, туда стали попадать
• сочинения хотя ученые, но бездарно написанные и потому совсем
непригодные для всеобщего чтения. В беллетристике было то же
самое. Правда, что там помещались повести Тургенева, Гончарова,
Потехина, бесспорно даровитые, но они попадали туда только по
приобретенной славе своих авторов. Зато журнал наполнялся
нередко и посредственностью, которая попадала туда единственно
потому, что имела претензию на какую-нибудь тенденцию или же
по личному знакомству с редактором. При этих и еще других
слабых сторонах все-таки за Стасюлевичем останется честь
отличного редактора-издателя, умевшего в известный период нашей
литературы сгруппировать разрозненные писательские силы.
X
Поездки с ученою целью.
Издание «Севернорусских народоправств».
Литературно-ученые занятия. Третья поездка за границу.
В мае того же 1862 года я напечатал в «Основе» коротенькую
статью о малорусском писательстве, которая более, чем какая
другая, была оценена публикою и откликнулась полным сочувствием.
Я доказывал в этой статье, что мысль о выработке литературного
малорусского языка тем путем, какой велся до сих пор, едва ли
осуществима, и если может быть справедливым и полезным
писать и печатать по-малорусски, то единственно книги, имеющие
целью народное образование и заключающие в себе элементарные
сведения в науках, которые бы расширяли кругозор народной
умственной жизни. Мысль моя до того понравилась публике, что я
начал получать отовсюду горячую благодарность и предложение
взять на себя издание таких популярных книжек, которые бы
содействовали указанной мною цели. Некоторые стали присылать
мне деньги на печатание таких книг. Всего более изъявлялось
желание перевести по-малорусски священное писание Нового Завета,
и многие присылали деньги с тем, чтобы я употребил их не иначе
как на это предприятие. Деньги присылались преимущественно из
Малороссии, с левой стороны Днепра и особенно из Харьковской
губернии; но замечательно, что я получил несколько приглашений
582
на подобное дело из великорусских губерний, из Сибири и
Кавказа, но ни единого рубля не получил с Правобережной
Малороссии, где, как известно, вся интеллигенция была в руках поляков.
Между тем впоследствии, когда по этому поводу поднялась против
меня буря обвинений в «сепаратизме», то печатно заявлялось
мнение, что намерение издавать популярные малорусские книги
научного содержания есть плод польской интриги. Тогда же в
«Основе» напечатана была по-малорусски моя драматическая
пьеса «Загадка», написанная уже несколько лет тому назад и
оставшаяся в рукописи. Это была переделка или изложение в
драматической форме известной малороссийской сказки «Про див-
ку-семилитку», которой содержание состоит в том, что пан
загадывает своим подданным мудреные загадки, их отгадывает девочка
и делается через то женою пана.
В конце мая Петербург был встревожен пожаром,
истребившим Апраксинский двор и Министерство внутренних дел.
Носились зловещие слухи об умышленных зажигательствах,
предпринимаемых будто бы русскими либералами с целью
возбудить волнение в народе и довести его до революционных вспышек.
Толковали об открывшихся будто бы намерениях покуситься на
сожжение разных общественных построек и заведений, как,
например, Гостиного .двора, императорской Публичной библиотеки
и т. п. Рассказывали, что в существовавших тогда воскресных
школах самозваные наставники народа толковали, что в настоящее
время пожары должны быть полезны, потому что они
способствуют к равномерному распределению собственности. В какой
степени справедливы были эти подозрения, мне осталось неизвестно,
но примеры, которые передает нам история и которых я отчасти
сам был свидетелем во время моего жительства в Саратове,
указали мне на возможность появления у нас пожарных эпидемий,
когда без видимой причины возникал пожар за пожаром в течение
некоторого времени. Петербургские пожары, казалось,
принадлежали к таким же эпидемиям, столь частым в нашей общественной
истории с древних времен. В 1862 году они навели на жителей
столицы гораздо более страха, чем сколько произошло от них
вреда. Подозрение в том, что пожары производятся молодежью,
проникнутою крайними революционными мнениями, оправдывалось
распущенною перед тем печатною прокламациею, в которой
проповедовалась всеобщая дикая резня и истребление всех
зажиточных людей.
Оставивши Петербург с его пожарами, я выехал 31 мая в
Вильну с намерением осмотреть старинный город, богатый
историческими памятниками. Я приехал туда во время самого горячего
волнения умов, готовившихся произвесть польское восстание: По
улицам города иудеи открыто продавали конфедератки, крестики
и перстни с символическими знаками и даже печатные
прокламации и революционные стихотворения на польском языке. Толпа
народа обоего пола, стоя на коленях на улице перед Остробрам-
скою богородицею, голосно распевала самые патриотические
песни, в которых поляк грозил водрузить победоносное знамя на груде
583
московских трупов. Никто не преследовал за пение таких песен.
Во время крестного хода, отправлявшегося в день
римско-католического праздника Тела господня, мужчины, женщины и дети
были одеты в траур, причем заметно было, что молодежь щеголяла
этой одеждой. Какой-то гимназист во время крестного хода облил
купоросным маслом голубое шелковое платье одной русской дамы,
проезжавшей через Вильну за границу и полюбопытствовавшей
поглядеть на процессию.
Я познакомился с некоторыми людьми, принадлежавшими к
кругу литераторов и ученых, между прочим со стариком
Малиновским, со старым поэтом Одынцем, еще не старым в то время,
другим поэтом Сырокомлею, с издателем «В и ленского курьера»
Киркором, с графом Евстафием Тышкевичем и другими. Этот
круг литераторов был в большой немилости у тогдашних рьяных
польских патриотов, смотревших на них как на изменников
общему делу. Малиновский был старик лет семидесяти с больными
глазами, совершенный кандидат на слепоту, которая и постигла
его спустя несколько лет. Он был знаток польской и литовской
истории, старинного польского права и древностей; в своих
суждениях отличался беспристрастием и трезвым взглядом на
старину. Ему не по душе были обычные в польской литературе
самовосхваление и пустое риторство. «У нас, — говорил он, — то
беда, что за какую историческую книгу ни возьмись, все
военачальники —г храбрые полководцы, все сенаторы — великие
государственные умы, все духовные — образцы христианских
добродетелей и, наконец, весь польский народ — самый честный
и беспорочный в мире: таким историям благоразумный читатель
не может верить, зная, что человек родится со слабостями и самый
добродетельный не может быть изъят от каких бы то ни было
пороков». К польским мечтаниям о восстановлении старой
независимости он относился с презрительным сожалением, заявляя
сознание, что Польша погибла безвозвратно, потому что дошла до
такого положения, в котором не могла существовать. За то и
патриоты не любили его и даже рассказывали, что на его жизни
лежало какое-то страшное преступное дело отравления одной
знатной госпожи.
Одынец, человек также старый, носил черный парик, который
придавал его лицу несколько комическую фигуру, не гармонируя
с морщинистым лицом, явно указывавшим на те почтенные годы,
когда уже не бывает вполне черных волос. Одынец казался
человеком тех времен, когда уважали и любили искусство для
искусства, поэзию ради самой поэзии. Современные жизненные
вопросы и политика его, по-видимому, не занимали; он вращался
постоянно в мире изящного, вспоминал о былых временах своей
дружбы с Мицкевичем, к которому питал большое уважение и
сочувствие, расточал чувствительные мечтания о братской любви
славянских народов и в приемах своего обращения отличался тою
сахарною любезностью, которая так свойственна полякам и
которая приходится не по вкусу нашей русской мужиковатой натуре.
Познакомившись со мною, Одынец подарил мне свои последние
584
произведения, между прочим две драматические пьесы; сюжет
одной составляла личность Варвары Радзивилловны — жены короля
Сигизмунда Августа, сюжет другой — история Юрия Любомир-
ского и его восстания против короля Яна-Казимира. Прочитавши
эти пьесы, я нашел, что поэт был более в цвете своего дарования,
когда писал назад тому лет тридцать мелкие стихотворения, мне
давно уже известные.
Сырокомля (настоящая фамилия его Кондратович) был поэт
другого закала; это был по своим убеждениям и симпатиям
настоящий демократ, любивший всею душою простого мужика,
какой бы нации он ни был, и с большим восторгом
увлекавшийся совершившимся недавно освобождением крестьян на
Руси. Польские патриоты того. времени не прощали ему
сочувственные отношения к русскому правительству по поводу
дарованной крестьянам свободы. Впрочем надобно сказать, что
талант Сырокомли в это время уже склонялся к упадку;
говорили, что он предан был неумеренному употреблению вина,
которое потом вскоре и свело его в гроб.
Издатель «Виленского курьера» Киркор был человек лет за
сорок, очень живой и деятельный, и в то время отличался большим
польским патриотизмом, что совсем не вязалось с последующим
его отношением к этому вопросу, когда он находился в милости у
М. П. Муравьева, а потом, переехавши в Петербург, сделался
издателем русской газеты. Он знал местную археологию и написал
по-польски «Путеводитель по Вильне» — дельную и
занимательную книгу, полезную для того, кто, приехавши в край, хочет
ознакомиться, но запас его сведений за пределами Литвы был
небогат.
Граф Евстафий Тышкевич был один из двух братьев, равным
образом приобревших себе репутацию в тогдашнем
интеллигентном мире Западной Руси. Старший брат его Константин был
страстный археолог, известный копатель курганов в Литовском крае,
издавший любопытное сочинение о своих раскопках. Меньшой —
Евстафий — также был любителем истории и археологии и
сделался председателем археографической комиссии в Вильне в то
время. Это был старообразный человек невысокого роста, с лысою
головою, и казался на вид лет шестидесяти, но на самом деле ему
было не более сорока пяти. Говорили, что он прежде вел
разгульную жизнь, подорвавшую разом и его состояние, и его здоровье.
Впрочем, он в своих приемах был жив, любезен и весел. Заведуя
историческим музеем, состоявшим при виленской
археографической комиссии, он преимущественно обращал внимание на
памятники времен господства польского элемента в Литве, и от этого в
последующее время русские люди, занимавшиеся литовской
археологией, были им недовольны и говорили, что он умышленно
старался оставить в тени и забытьи все, что напоминало о бывшем
некогда господстве православной веры и русского языка в Вильне.
Справедливо ли такое составившееся о нем мнение — я не беру
на себя решать. В музее, при котором состоял отдел
археографической комиссии, все было направлено к тому, чтобы удалить вос-
585
поминание о господствовавшем некогда русском элементе края и
утвердить всеобщее мнение, что он искони был польским и не
должен быть иным. В заседаниях комиссии употреблялся
исключительно польский язык. Председатель комиссии граф Е.
Тышкевич любезно возил меня по городу и его окрестностям; потом
пригласил в заседание комиссии как ее члена, каким я считался.
Когда я вступил в зал, все члены комиссии встали со своих мест,
и председатель обратился ко мне с речью, исполненною
любезностей и похвал: говорил, что мои беспристрастные ученые труды,
чуждые всяких национальных видов, высоко поставили мое имя у
всех славянских народов и тем более у польского, которого
истории я так часто касался в своих трудах, и т. п. Его длинная речь
произнесена была по-польски. Я отвечал также по-польски,
изъявил глубокую признательность за доброе внимание к моим ученым
трудам и выразил, что считаю такую оценку моей деятельности
выше моих заслуг. Впоследствии мне печатно ставили в вину то,
что я отвечал по-польски, а не по-русски; но я исполнял в то
время не более как долг вежливости в отношении людей так
любезно меня принимавших, тем более что и со стороны
правительства в то время не было никаких распоряжений об
исключительном употреблении русского языка в Западном
крае, — и в комиссии, имевшей официальное значение, как в
разговорах, так и в печатных ее протоколах допускался польский
язык. Если бы ко мне обратились с немецкою или французскою
речью, я бы точно так же счел долгом вежливости отвечать, как
сумел бы, на том языке, с которым ко мне обращались. Привычка
отвечать на том языке, которым к нам обращаются, если мы сами
знаем этот язык, присуща всем, и, без сомнения, никто бы не
обратил внимания на мой польский ответ, если бы не произошло
печальных обстоятельств, впоследствии так взволновавших
Западный край.
Из Вильно вместе с Киркором и некоторыми его приятелями
я совершил путешествие в Троки, где осмотрел любопытные
развалины Витовтова замка, построенного на озере. В этом замке, как
говорят, честолюбивый литовский великий князь делал свое
знаменитое угощение владетельных особ, намереваясь получить
корону великого литовского княжения отдельно от Польского
королевства, на троне которого сидел тогда его двоюродный брат
Владислав Ягелло. На полуобвалившихся стенах за-мка видны еще
древние фрески, которых значение до сих пор осталось не
разобранным как следует. Виленские ученые, издавая альбом своих
местных достопримечательностей, воспроизвели там изображение
этих фресок, но допустили в своих изображениях большие
неточности и неверности. Так, например, в изображении князя,
делающего рукою крестное знамение, они не удержали старинного
двухперстного перстосложения, явно не понимая того значения,
какое имел этот прием в нашей церковной истории. Есть одна
фреска, возбуждающая невольное любопытство: изображено лицо
в княжеском одеянии, сидящее в темнице, а близ него с ласковым
видом стоит женщина. Невольно бросается мысль: не изображает
586
ли эта фреска один из памятных моментов в жизни князя Витовта,
когда он сидел в тюрьме и к нему приходила жена, чтобы спасти
его, оставшись самой вместо супруга в тюрьме? Среди стен
обрушившегося замка стоит очень высокая башня, или донжон, с
лестницею внутри его, идущею вверх. В Троцком костеле осматривал
я икону богородицы в блестящем золотом окладе, пользующуюся
большим уважением в католическом мире. Там же есть
любопытная караимская синагога, хотя деревянная, но старинная. Еще со
времен Витовта живут здесь караимы, составляющие колонию
посреди чуждого им населения; как въезде, и здесь они пользуются
хорошим мнением о своей честности и добронравии.
Познакомившись с Вильно и его окрестностями, я уехал в
Псков и при содействии тамошнего вице-губернатора Родзянки
предпринял путешествие по Псковской губернии с целью обозреть
местоположения и остатки пригородов древнего Пскова. Таким
образом, вместе с профессором семинарии Князевым я ездил в Виц-
борск, осмотрел сохранившиеся там каменные стены города, а в
двух верстах от них земляной вал более древнего Изборска, где,
по преданию, жил будто бы князь Трувор. Здесь нашел я древнюю
церковь со старинными надписями. Из Изборска отправился я в
псковский Печерский монастырь, расположенный в живописном
ущелье, образуемом тремя крутыми холмами, поросшими лесом;
ходил в пещеры, где до сих пор погребают умерших, и так как
гробы их не закапываются в землю, а ставятся на уступах, то в
пещерах нестерпимая вонь от мертвых тел. Путешествие в эти
пещеры оказалось вовсе не безопасным: в одном месте пещерного
коридора мы встретили обвал. Монах, провожавший нас,
объяснял, что этого обвала не было еще вчера; такой обвал мог
произойти при нас в то время, когда мы успели бы пройти далее, и, таким
образом, мы бы остались во мраке, без возможности воротиться
назад, и даже могли быть убитыми. Причина этому была песчаная
почва пещер, поэтому вовсе не похожих на пещеры киевские, где
каменистая почва не представляет этой опасности. Кроме пещер в
монастыре очень замечательна ризница, в которой хранится
множество вещей, подаренных царем Иваном Васильевичем Грозным,
посещавшим этотш монастырь и убившим своим жезлом тамошнего
игумена Корнилия. Мощи самого Корнилия почивают в церкви, а
на его гробе надписано, что «он предпослан царем земным к Царю
Небесному». Из Псково-Печерского монастыря я воротился во
Псков~и на другой же день отправился в два соседних монастыря:
Елеазара и Саввы Крипецкого. Монастырь Елеазара лежит на
берегу небольшого озера в еловой роще. Близ монастыря показывают
пень, изгрызенный богомольцами, верующими, что он имеет
чудодейственную силу спасать от зубной боли. Подле пня лежит
камень, который ради монашеских подвигов таскал на себе св.
Елеазар. Самая личность св. Елеазара, иначе в монашестве Еф-
росина, знаменательна в нашей истории тем, что ему
приписывалось введение «сугубого аллилуйя», составившего один из важных
признаков старообрядческого раскола, но действительно ли Ефро-
син в этом был виновен, это остается нерешенным, тем более что
587
повесть о нем, записанная в XVI веке каким-то Василием,
признана неверною на соборе, осудившем при Алексее Михайловиче
старообрядческий раскол. Осмотревши два монастыря, я
отправился с делопроизводителем статистического комитета Бочковым
по другим псковским пригородам, переезжая из одного в другой
проселочными путями на обывательских лошадях. Я посетил
деревню Выбор, где обозрел следы древнего пригорода, состоявшие
из земляного вала и четырех фундаментов церквей; город Опочку,
где за городом над рекою виден высокий вал, служивший оградою
древнему пригороду. Неподалеку от него в диком лесу на крутой
горе есть следы другого пригорода — Коложе. Оттуда мы
отправились осмотреть Врев, теперь село, недавно еще принадлежавшее
баронам Вревским. Древний город был построен наверху высокого
крутого холма, и городские окопы на вершине холма до сих пор
видимы, а в средине бывшего города стоят живописные развалины
готической церкви, построенной одним из помещиков и
обрушившейся. Тамошний священник принял нас замечательно любезно и
показал, что он человек любознательный и неравнодушный к
русской истории. Здесь, между прочим, сохраняется предание о
периодическом появлении какой-то девушки, выходящей из
земляного вала и исчезающей от глаз всякого, кто к ней захочет
приблизиться. Из Врева мы поехали в Велио. Здесь нашли мы
также старый вал с остатком на нем фундамента кирпичной
стены, несколькими старыми могильными памятниками и с
церковью. В селе нам указали огромный холм, наполненный
человеческими костями. Это, как говорили, памятник мора,
свирепствовавшего когда-то в крае и истребившего все население
пригорода Велио. Рассказывают, что эти кости несколько раз сами
появлялись рассеянными по земле в разных местах села. Это
приписывали чуду; но очень может быть, что их растаскивали собаки
из холма, в котором они навалены, и тем более это правдоподобно,
что мне стоило покопать зонтиком, чтобы вытащить череп или
ручную кость. Из Велио я поехал в Вороноч, на берегу реки Со-
роти — место очень живописное. Чрезвычайно высокий вал
старинного городка сохранился вполне; внутри вала — церковь с
жильем для священника. Когда я прогуливался jno этому валу, ко
мне подошел один поселянин и начал рассказывать, что в средине
этого вала бывают слышны страшный гром и стук, и один раз, в
ночь пасхи, люди видели, как из-под земли выскочили двенадцать
жеребцов и начали играть и бегать, а потом все провалилось
сквозь землю. Это, объяснял он, был клад, сохраняющийся в
глубине этого вала. Рядом с Вороночом — имение, принадлежавшее
некогда поэту Пушкину, который погребен в отстоящем отсюда]'За
пять верст Святогорском монастыре. Желая поклониться праху
поэта, я отправился в этот монастырь утром на заре.
Местоположение монастыря довольно живописное; он лежит на высокой
горе, покрытой лесом. За алтарем, в тени дерев, над самым скатом
с горы стоит могила поэта; на ней памятник белого мрамора, с
прорезною аркою, в средине которой выработана белая мраморная
урна с перекинутым из нее покровом. Надпись гласит: «Александр
588
Сергеевич Пушкин». Близ памятника мы встретили кучу
ребятишек, игравших песком, и тут невольно вспомнили стихи поэта:
И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.
Кстати, было прекрасное летнее утро, и лучи восходящего
солнца весело переливались в яркой зелени окрестностей.
Из монастыря отправился я в Красный, где нашел также
вал — остаток древнего приговора, с остатком фундамента
кирпичной стены и несколькими надгробными камнями, на которых
надписи трудно было разобрать. Этим завершил я осмотр
псковских пригородов, которых описание занес после в свою историю
Новгорода и Пскова. Характеристическою чертою Псковского края
можно считать то, что нигде почти не встречается церкви посреди
жилых местностей, но они расположены вдали; близ церкви —
дома священнослужителей и причетников, а также кладбище: это
называется погост. Колокольни при церквах имеют своеобразную
форму в виде линии, составленной из продолговатых арок, в
средине которых вешаются колокола.
Я воротился в Псков и занялся там осмотром городских
памятников старины. Едва ли в России есть другой губернский
город, в котором бы так много сохранилось таких памятников.
Кроме нескольких церквей, основанных в XIV и XV веках и
сохраняющих много из своего первоначального вида, вдоль реки
Великой тянется высокая старая стена, в одном месте с проломом:
это тот самый пролом, который сделали поляки, осаждавшие
Псков под предводительством своего короля Батория и гетмана
Яна Замойского, когда у них шла ожесточенная война с царем
Иваном Васильевичем Грозным. Другая стена, примыкающая к
первой, идет вдоль реки Псковы, а обломки ее заворачиваются в
поле и огибают почти весь город. На Завеличье — части города за
рекою Великою — два старых монастыря: один из них, женский
Предтечинский, замечателен по старинной внутренней постройке;
другой, знаменитый своею древностию Мирожский монастырь,
основанный в XII веке, был весь расписан фресками, впоследствии
забеленными, но, к счастию, так дурно, что их легко можно
отмыть. Это и сделалось в алтарной стене, где появились на свет
старые изображения, так хорошо сохранившиеся, как едва ли где-
нибудь в другом месте. Кроме церквей во Пскове сохранилось
несколько мирских зданий старой постройки, и в этом отношении
Псков для русской археологии представляет такие сокровища,
каких не имеет никакой другой старый город на Руси, не исключая
и Киева, где при драгоценном Софийском соборе, превосходящем
по древности все русские церкви, не осталось никаких следов
старых жилищ. Из псковских зданий самое обширное — Поган-
кины палаты, принадлежавшие жившему в XVII в. купцу Поган-
кину, или Поганке. Во время моего посещения здание это
занимаемо было каким-то провиантским магазином; входя в сре-
589
дину его представляется анфилада больших покоев с большими
окнами и с аркообразными дверьми, соединяющими эти покои.
Пройдя несколько покоев идет поворот комнат вправо; под
низом — подвалы, служившие, как говорят, кладовыми для товаров
купца-хозяина. Не менее любопытны другие, хотя и меньшие,
старые дома, принадлежащие частным владельцам и описанные
мною в «Севернорусских народоправствах». Отличительною
характеристикою псковских старых зданий — то, что они строились
в три этажа, которые сообщались друг с другом посредством
витых лестниц, сделанных в толстых стенах, — наподобие тех,
какие делаются в колокольнях; покоев немного, но они обширны и
светлы. Кроме этих домов, сохранившихся вполне с каменными
внизу подвалами, внимание путешественников привлекают
развалины старого дома, который, по преданию, был временным
жилищем псковского Самозванца. Не знающие истории обыватели
Пскова говорят, что вместе с ним жила здесь и Марина; но это
несправедливо: если действительно показываемые развалины дома
служили жилищем Самозванца, то разве третьего — вора Сидор-
ки, с которым, однако, никогда не жила Марина, бывшая во время
его появления в лагере под Москвою вместе с Заруцким.
Осмотревши Псков, я отправился домой. Через две недели я
выехал снова и направился в Новгород, где, пригласивши с собою
бывшего учителя новгородской гимназии Отто, я пустился пешком
для осмотра Ильменского побережья; я желал ознакомиться с
бытом и наречием паозерцев, как называются жители этого края,
говорящие своим особым говором, в котором справедливо видят
остаток древнего новгородского наречия. Мы переходили из
деревни в деревню, отстоящие одна от другой на несколько верст,
заходили в избы, вели разговоры с хозяевами, осматривали их
житье-бытье. Их домики большею частью двухэтажные; жилье
составляет верхний этаж, а нижний служит для подклета, или
кладовой. Живут они замечательно опрятно, очень добродушны и
приветливы. Дворы у них вообще крытые; громадные ворота с
навесом. Наречие их, как я заметил, имеет следующую
особенность: 1) буква о никогда не изменяется в а; 2) е всегда
выговаривается за и; 3) окончание т в изъявительном наклонении
глаголов всегда выбрасывается не только в единственном, но и во
множественном числе, например:«даю» вместо «дают», «положу»
вместо «положут»; 4) полногласие сильнее, чем в обыкновенном
русском языке, например: «веремя» вместо «время», «верех» вместо
«верх»; 5) употребляется много слов, неупотребительных чв
великорусском языке, но существующих в малорусском, например:
шукать, хилить, шкода, «що» вместо «что», «жона» вместо «жени»,
«человик», вместо «человек»; л вместо а, например: «девиця, тра-
виця».
На пути мы посещали монастыри преподобного Михаила
Клопского и Прокопия Верендинского и нашли эти монастыри
вообще беднЫхМи; братия — в незначительном числе,
невежественная и не пользуется у жителей большим уважением по своей
нравственности и благочестию. Воротившись в Новгород, мы поехали
590
на обывательских лошадях по дороге вдоль реки Шелони и,
прибывши вечером в ям Мшагу, случайно Наткнулись на
оригинальную личность. В окне одного домика увидали мы старика,
читающего газету, и, разговорившись с ним, по его приглашению
зашли к нему в дом пить чай. Оказалось, что'этот старик лет
шестидесяти, почтенной наружности с очень умным выражением
лица, был некогда ямщиком и при врожденной любознательности
получил вкус к чтению книг. У него увидали мы большой шкаф
с библиотекою; в ряду книг красовалась история Карамзина и
Соловьева и сочинения Пушкина. Хозяин был человек в такой
степени развитой, каким быть пристало бы человеку,
окончившему курс гимназии. Недостаток учебной подготовки он дополнил
осмысленным чтением, размышлением и житейскою
наблюдательностью. Ему не чужды были современные вопросы общественной
и политической жизни; он имел здравое понятие о европейских
государствах, о их образе правления и особенностях общественной
жизни. Он знал хорошо судьбу прошедшей русской- жизни,
минувшие события отечества и с сочувствием относился к недавно
состоявшемуся освобождению народа от крепостной зависимости
и сознавал необходимость всеобщего народного образования как
первейшего блага, без которого не принесут пользы никакие
благодетельные реформы. Беседа с этим умным стариком до того
заинтересовала нас, что мы отложили выезд до утра и остались по
его приглашению ночевать у него. В его домике оказалась особая
чистенькая комната; невестка его приготовила нам постели со
свежим бельем безукоризненной чистоты, а старик, после ужина
уложивши нас, продолжал вести с нами беседу еще около часа. На
другой день поутру, когда мы встали, нам уже был готов чай со
сливками и опрятно приготовленный завтрак. Провожаемые
гостеприимным хозяином, мы уехали от него, унося с собою
приятнейшее воспоминание о его образе, как бы служившем
свидетельством —- чем может быть и чем должен быть
неиспорченный русский человек, если в нем пробудится священный огонь
любознательности и страсти к умственным интересам.
Мы ехали вдоль реки Шелони, отыскивая место, где
происходила роковая Шелонская битва, погубившая республиканскую
свободу Великого Новгорода. В руках у нас была летопись.
Присматриваясь к местности, мы делали соображения, обращались с
разными вопросами к жителям, но не так легко могли достичь
желаемого. В Велебицах мы подъехали к старой каменной церкви,
построенной, как говорили нам,, великим князем Иваном III или,
кда другие утверждали, его внуком, царем Грозным. В этой церкви
происходило служение не более двух раз в год, и она была
приписана к другому приходу. Мы вызвали оттуда священника,
который отпер нам церковь. Ее архитектура несомненно старинная,
никак не позже XVI века. Проехавши несколько верст, на
песчаном берегу, поросшем кустарниками, мы нашли большой,
довольно высокий холм, и когда стали зонтиками копать на нем землю,
то увидали, что весь этот холм состоит из человеческих костей.
Тут текла почти высохшая речка Дрань, впадающая в Шелонь. Я
591
сообразил, что этот могильный холм есть место погребения
новгородцев, разбитых на берегу Шелони несколько выше этого места
и бежавших до реки Драни, где в другой раз бегущим нанесено
было окончательное поражение. Взявши на память два черепа, мы
поехали далее и прибыли к часовне, под которою была могила
павших в бою воинов; ежегодно совершается над ними панихида.
Здесь, вероятно, погребены были московские воины, бившиеся
против Новгорода; их похоронили с честью и построили над ними
часовню, а трупы бедных новгородцев сложили грудою на берегу
Драни и только присыпали песком. Мы доехали до посада Сольцы
и стали расспрашивать о местных памятниках у духовенства
одной из тамошних церквей; но оказалось, что духовные совсем не
интересовались историею и не знали о Шелонской битве и о
древней судьбе Новгорода даже настолько, насколько могла им
сообщить история Карамзина. Возвращаясь назад, мы, осматривая
русло Шелони с обоими ее берегами, пришли к тому заключению,
что переход московских войск через Шелонь произошел немного
ниже местности, на которой ныне лежит посад Сольцы, и
новгородцы, сбитые с позиции на берегу реки, бежали, преследуемые
москвичами, до роковой для них реки Драни, где и лежат их
кости, прикрытые песком, развеваемым ветрами. Мы повернули
назад к Новгороду, осмотрели церковь Рождества, где было старое
кладбище и где некогда нищий старец Жегальцо погребал
несметное число утопленных и замученных новгородцев, сделавшихся
жертвою свирепости Ивана Грозного. Весь двор этой церкви
оказался наполненным человеческими костями; и там — стоило
только копнуть зонтиком — и тотчас находились либо череп, либо
рука, либо нога. В самой церкви Рождества есть другой остаток
более близкой к нам старины: гробы двух князей Долгоруких,
казненных при Анне Иоанновне; над ними ежегодно в день их
кончины служатся панихиды.
Из Новгорода вместе с Отто я отправился по Волхову с
намерением ехать в Петербург; но когда мы пристали к берегу в Со-
сновском посаде и стали дожидаться железнодорожного поезда,
Отто вдруг переменил свое намерение. Считаю не лишним сказать
несколько слов об этой оригинальной личности. Он был немец по
происхождению и по религии, но по своим национальным
симпатиям — глубоко русский человек, много раз более русский, чем
значительная часть людей, принадлежащих к русской крови. Как
учитель гимназии, он пользовался хорошей репутацией толкового
преподавателя и основательно знающего свой предмет — историю,
но в его личности было что-то странное. Когда он поехал со мною
на пароходе, вдруг затосковал и на мои вопросы объяснил мне,
что его беспокоит какое-то предчувствие о судьбе своих родных,
живших в Петербурге. Казалось бы, при таком настроении духа
ему оставалось спешить туда, куда уже и без того мы собирались
ехать; но когда мы прибыли в Сосновку, мой товарищ со слезным
жалобным голосом объявил мне, что не поедет в Петербург, боясь
узнать что-нибудь дурное о своей семье, и действительно покинул
меня и воротился на пароходе в Новгород. Эта странность очень
592
меня тогда поразила. Отто казался мне одним из симпатичнейших
людей, с какими мне случалось встречаться; я его полюбил от
души и мне стало жаль его; я недоумевал, что с ним происходило,
но достаточно было видеть, что он был грустен. Через несколько
лет до меня дошли слухи, объяснившие мне случай в Сосновке:
Отто впал в душевную болезнь и был заключен в дом
умалишенных, но, к счастию, скоро умер.
По отъезде Отто и по прибытии поезда из Москвы я
отправлялся уже в Петербург, как вдруг встретился с одним знакомым*
Недоборовским, и уговорился с ним совершить путешествие вверх
по Волхову в Старую Ладогу, чтобы осмотреть тамошние
развалины и достопримечательности. Мы сели на пароход и плыли до
Гостинополья. Выше плыть уже было нельзя по причине порогов.
Мы наняли лошадей и поехали по берегу в виду порогов. Они не
представляют ничего великолепного: шум их слышен только по
приближении к ним; вода мутная, как вообще в Волхове, который,
как гласит древняя хронография,. носил даже прежде название
Мутной реки.* Мы достигли цели нашей поездки. При самом
приближении к селу Старой Ладоге взор поражается рядом больших
земляных насыпей, или курганов, на высоком берегу Волхова. Так
и тянет порыть их и поискать в их недрах каких-нибудь остатков
доисторической старины. В самой Старой Ладоге внимание
прежде всего приковывается к полуобрушившимся стенам древней кре*-
пости, которую называют Рюриковою. Я обошел всю эту стену по
вершине ее; в некоторых местах есть внутри стены углубления и
лесенки, идущие вверх и вниз. В средине крепости — церковь
великомученика Георгия, построенная в XII веке; на ее
внутренних стенах и на своде сохранилось много старинных изображений
стенного иконописания, но некоторые были в последнее время
искажены и зарисованы новыми. Василий Александрович Прохоров
в своем археологическом повременном издании приложил рисунки
фресок этой церкви и подробно описал ее архитектуру. Из
крепости я отправился в Никольский монастырь и по обозрении его в
сопровождении монаха пошел пешком в упраздненный женский
Ивановский монастырь и там услышал такую легенду. Несколько
лет тому назад один схимник Никольского монастыря задумал
удалиться в пустой Ивановский монастырь и жить в совершенном
уединении. Спустя два месяца он услыхал ночью за дверьми своей
комнаты, выходившими в церковные стены, женский голос:
«впусти меня!» Схимник принял это за бесовское искушение и не
отворял дверей. На другую ночь он слышит тот же голос и говорит:
«Господи Иисусе Христе, боже наш, помилуй нас!» Ему отвечают:
«аминь». Схимник отворил дверь, и мимо ног его вкатился в келию
сухой женский череп. Отшельник поставил его у себя на верхней
лежанке своей печи. После того с ним еще случались какие-то
странные видения, но какие именно, мне не объяснили. Наконец
отшельник дошел до уныния и, желая избавиться от него, перешел
в свой монастырь. Оставленный им в келий череп был погребен
другими монахами, приходившими в покинутое жилище
схимника. В этом монастыре была некогда заточена несчастная царица
20 Заказ 15 593
Евдокия, покинутая Петром Первым и содержавшаяся сначала в
Суздале, а потом переведенная в Ладогу после суда над сыном ее
царевичем Алексеем; но никаких следов пребывания ее там не
осталось. В самой церкви монастыря, приписанной к мужскому
Никольскому, производится богослужение только раз в год, в
храмовой праздник Иоанна Предтечи. Церковь довольно просторная
и светлая. Осмотревши все древности Старой Ладоги, я уехал
назад и возвратился в Петербург.
В это время я начал печатать свои лекции об истории
Новгорода и Пскова, читанные в университете, продав издание Кожан-
чикову. Всю осень и зиму тянулось это печатание. Между тем я
напечатал в «Отечественных записках» исследование об Иване
Сусанине, которое навлекло на меня целый поток печатных
замечаний со всевозможными шпильками. Так как я доказывал, что
история Сусанина украсилась разными добавлениями досужей
фантазии и событие не могло происходить в таком виде, в каком
привыкли видеть его и даже читать в учебниках, то сейчас
нашлись ревнители патриотической славы, старавшиеся увидеть из
этого моего поступка что-то неблагонамеренное. Началась
составляться обо мне молва, будто я задаю себе задачу унижать
доблестные русские личности и, как говорили, сводить с пьедестала и
развенчивать русских героев. Укоры эти много раз заявлялись в
литературе, расходились в обществе и повторялись даже такими
людьми, которым, собственно, не было ни тепло ни холодно от
того, будет ли прославлен или унижен какой-либо из деятелей,
русской истории минувших веков. До меня доходили слухи, что
люди высокопоставленные в чиновной иерархии оскорблялись
моим критическим взглядом на личность Сусанина и говорили, что
я человек злонамеренный, желаю во что бы то ни стало унижать
великие личности русской истории. Иные толковали это тем, что
я, как малорусе, хочу выставлять напоказ лица южнорусской
истории и в противоположность им унижать севернорусских героев.
Забавно было слышать мне, что такое мнение обо мне заявлено
было одним князем, который, будучи воспитан заграничным
способом, плохо знал по-русски, несмотря на то что занимал такое
место, которое не должен был бы принимать с плохим знанием
русского языка и русской жизни. И этот князь, конечно, не читал
моих сочинений, но, повторяя слышанное от других, считал обя-
занностию чернить меня. Мнение таких лиц, как этот князь,
ничуть меня не беспокоило и мало интересовало; но прискорбно
было испытать, что люди, заявившие себя специально
занимавшимися русской историей, люди, хотевшие во всем быть русскими,
также повторяли и словесно и печатно эти клеветы против меня.
Их выходки служили. доказательством еще не прекратившегося
господства детских взглядов и раболепства перед рутинными
убеждениями, основанными на ложном патриотизме. Считали как
бы вывескою благонамеренности в науке непременно восхвалять
признанные доблести и в каждом критическом отношении к ним
отыскивали что-то затаенное, нерасположенное к славе и чести
отечества. Между тем истинная любовь историка к своему отече-
594
ству может проявляться только в строгом уважении к правде.
Отечеству нет никакого бесчестия, если личность, которую прежде по
ошибке признавали высокодоблестною, под критическим приемом
анализа представится совсем не в том виде, в каком ее
приучились'видеть. Притом же не следовало забывать, что безусловно
добродетельных и безупречных людей на свете не бывает и прежде
не было. Все люди — с ошибками и пороками, и если мы не в
состоянии .указать на их темные стороны, то это служит только
признаком нашего недостаточного уразумения этих личностей.
Наконец, все века имели свои заблуждения и слабости, и великие
люди этих веков часто не были чужды этих заблуждений и
слабостей. Показывать в истории те и другие — не значит унижать
самые исторические личности; напротив, чем личность
прошедшего времени представится нам со всеми своими сторонами, как
светлыми, так и темными, тем яснее станет пред нашими глазами
и тем нагляднее мы можем рассмотреть ее и оценить. Но всего
несправедливее ставить историку в вину, если он ни в каком
случае не унижал исторической личности, которой привыкли оказыт-
вать уважение, а только старался установить правильный взгляд
на ее действительное историческое значение и снять с нее
вымышленные черты, созданные или народным воображением под
влиянием протекших веков, или фантазиею писателей, как это и было
относительно личности Сусанина. Что касается до толкования тех,
которые объясняли мои исторические приемы умышленным
желанием выставить в темноте великорусские личности с целью
придать больше света малорусским, то это ребяческое толкование
опровергалось как нельзя более теми моими сочинениями, которые
относились к истории Южной Руси. Касаясь южнорусских героев,
я нигде не скрывал черт их слабостей, пороков, заблуждений и
ошибок, что и доказывается тем, что никто из критиков не в
состоянии был указать на такие места моих исторических трудов,
где бы я преднамеренно скрыл дурные стороны южнорусских
знаменитых людей или представил их безупречными вопреки
несомненным историческим данным, обличающим мои неправильные
или пристрастные взгляды.
В тех же «Отечественных записках», где помещен был
«Сусанин», напечатал я статью «Великорусские вольнодумцы XVI века».
Это было историческое исследование о признаках религиозного
волнения умов в Московской Руси в царствование Ивана Грозного,
выразившегося мнениями Матвея Башкина, игумена Артемия,
дьяка Висковатого и Феодосия Косого. Из них, собственно, только за
Косым можно было признать действительные еретические мнения;
другие лица осуждены были в. ереси отчасти по недоразумению,
отчасти по невежеству судей. Я старался разъяснить это и в
особенности относительно Артемия, в чем и не ошибся, потому что
впоследствии, уже по напечатании моего означенного сочинения,
имел случай видеть в московской Публичной библиотеке послание
Артемия, писанное им после бегства в Литву, — послание,
несомненно указывающее на твердость в православии этого мнимого
московского еретика.
20* 595
В этом же году напечатана была моя драма «Кремуций Корд>^
написанная еще в 1849 году и остававшаяся в рукописи. Кроме
того я напечатал несколько статей в «Основе», имевших
современный характер. Так, по поводу поднятых против меня в Москве
возражений на мои исторические взгляды я написал статью
«Правда москвичам о Руси», по поводу новых польских выходок
там же напечатал «Правду полякам о Руси». Вслед за появлением
этой статьи я стал получать из разных мест анонимные письма от
поляков с угрозами смерти; одно из этих писем заключалось
словом «готовьтесь!» По поводу вопроса об отношениях иудеев к
русскому и преимущественно малорусскому племени в «Основе» же
я напечатал статью «Иудеям». Последняя статья задела за живое
некоторых лиц иудейского племени, и я получил из Киева от
одного из них укорительное, хотя и дружелюбное письмо, в котором
автор письма доказывал, что иудеи — сущие благодетели малорус-
сов, и огорчался тем, что я дозволил себе употреблять название
«жиды». Я отвечал этому господину, что сомневаюсь насчет
благодетельности иудеев, а что касается до слова «жиды», то обещаю
вперед не употреблять этого слова, а писать «иудеи». Мой
корреспондент отвечал мне, что таким названием вполне будет довольно
иудейское племя, живущее в России, но впоследствии оказалось,
что его мнение не разделялось некоторыми из пишущей братии;
отыскались русские люди, которые замечали мне в литературе
свое неудовольствие по поводу употребления мною слова «иудеи»,
между тем как я был убежден, что слово «еврей» не вполне
выражало желаемое понятие: иудеи, к которым принадлежат живущие
у нас исповедники Моисеева закона, составляют вид еврейского
племени; сказать о них «евреи» — то же самое, что назвать
русских славянами, что будет родовое, а не видовое название.
Печатая мою историю Новгорода и Пскова, я в ту же осень
принялся заниматься историею Смутного времени Московского
государства в начале XVII века, и каждый день посещая Публичную
библиотеку, изучал источники эпохи, которую предполагал
обработать. Во всей древней севернорусской истории не было такого
другого периода, в котором бы народ был до такой степени
предоставлен самому себе и собственными силами должен был
отстаивать свое политическое, общественное и религиозное
существование от внешних нападений и внутренних неурядиц и
где он невольно должен был показать весь запас собственных
духовных сил, необходимых для своего спасения. Эпоха эта,
страшная и кровавая, заключала в себе утешительного то, что народ»
перенесший ее, вышел из нее с торжеством, отстоявши по крайней
мере свою независимость и свой общественный строй с теми ш-
чалами, с какими установился прежде. Мое давнее желание —
обрабатывать в истории главным образом течение народной
жизни —- влекло меня к этой эпохе. Притом же и в нашей научной
литературе эпоха Смутного времени заключала много
привлекательного. Многие вопросы не были окончательно разъяснены,
другие даже почти не затрагивались, не все источники послужили для
научной обработки. Богатая рукописная и печатная сокровищница
596
Публичной библиотеки манила к себе мое воображение: я
надеялся, порывшись в ней, найти что-нибудь новое; думал также
после петербургской Публичной библиотеки порыться в других
книгохранилищах и архивах и с помощью всего, что они могут
мне открыть, представить живое и наглядное описание событий
того времени, к которому интерес не переставал, как мне казалось,
возбуждаться в умах публики, читающей отечественную историю.
Приступая к Смутному времени я был верен себе и своей задаче
работать над историею народа. Я работал над эпохою
Хмельницкого и Выговского, где главным образом выказывалась
деятельность народной массы; меня увлекала история Новгорода и
Пскова, где также на первом плане была народная масса; меня
заняла сильно эпоха дикой самодеятельности народа,
проявившейся в бурное восстание Стеньки Разина. Точно по тем же
побуждениям изучать и выражать в» истории народную жизнь принялся
я и за Смутное время Московского государства в начале XVII века.
В начале 1863 года я съездил на непродолжительное время в
Москву, где систематически осмотрел все монастыри и много
церквей, имевших историческое значение, а по возвращении оттуда
выпустил в свет свою историю Новгорода и Пскова, давши ей
название «Севернорусские народоправства». По напечатании этого
сочинения я встретил небольшое недоразумение со стороны
духовной цензуры. Получив прорецензированную рукопись во время
печатания, я нашел нужным заменить несколько слов другими,
однозначительными. Когда печатание было окончено и сочинение
представлено в цензуру для выпуска в свет, цензор, которым был
архимандрит Макарий, заметивши изменения, не хотел его
подписывать к выпуску. Я отправился к нему и стал убеждать, что не
изменил смысла своими переменами слов. Он принужден был
согласиться с этим, но тем не менее начал условливаться со мною,
желая непременно, чтобы я перепечатал хотя одну страницу, лишь
бы вышло «по его»... Я заметил ему, что это выходит по
малорусской пословице: «абы мое було зверху» — и все-таки должен был
уступить и согласиться на перепечатку одной страницы ради ка^-
ких-то двух незначительных слов. Видно было, что цензора задело
честолюбие и он во что бы то ни стало хотел показать свое право.
Между тем сделанные им перемены, которые он принудил меня
вставить в текст моего сочинения, совсем не сходились с моим
слогом. Вот образчик того, как авторы вынуждены были уступать
требованиям цензоров и допускать в свои сочинения выражения,
вовсе не сходные с тоном, господствующим в целом сочинении и
вовсе не изменяющие их мысли. О названии моего сочинения по
выпуске его в свет я получил от некоторых знакомых мне ученых
лиц замечание, что название «Севернорусские народоправства»
слишком вычурно, с чем1 я мало-помалу согласился и
впоследствии перепечатал заглавный листок, давши этому сочинению
другое название, гораздо проще: «История Новгорода, Пскова и
Вятки». Впрочем, первоначальное название остается для меня
предпочтительнее. Сочинение это встречено от некоторых с
похвалою, от других с упреками; иные видели у меня исключительное
597
пристрастие к Новгороду,-поклонение его свободе, других
коробило то, что я указывал на сходство древнего новгородского наречия
с малорусским и на этом основании делал предположение о
древнем сродстве новгородцев с южнорусским племенем.
Весною я занимался историею Смутного времени; лето 1863
года я проводил на даче в Павловске вместе с редактором
«Основы» Белозерским, не переставая ездить в Петербург для занятий в
Публичной библиотеке историею Смутного времени. Тогда же
поднялась в «Московских ведомостях» буря против малорусского
литературного движения, коснувшаяся меня тем более, что в этой
газете имя мое было выставлено на позор, как одного из
преступных составителей замыслов, по мнению противников, грозивших
опасностью государственному порядку. Пошли в ход слова:
сепаратизм и украинофильство. Инсинуации давались
преимущественно из Киева. Я видел ясно, что господа, толковавшие о
сепаратизме и пытавшиеся совместить украинофильство с
польским мятежом, сами того не знали, что повторяли выходки
поляков, которым литературное украинское движение давно уже стояло
костью в горле, так как оно более всего служило опровержением
польским теориям о том, что Южная Русь — законная
принадлежность Польши, а южнорусский язык есть не более как наречие
польского языка. Мысль эта была выражена особенно рельефно во
французском сочинении Владислава Мицкевича, сына
знаменитого польского поэта Адама, и разгуливала в русских газетах почти
в тех же выражениях, в каких изложил ее первоначально
польский патриот, с тою только разницею, что в наших газетах
применялось к России то, что поляки применяли к Польше. На
обвинения «Московских ведомостей» я написал большое опровер-
' жение, но цензура его не пропустила. Тогда я обратился лично к
министру внутренних дел Валуеву, который назначил мне
свидание на своей даче на Аптекарском острове и сообщил мне, что
хотя мысль о написании популярных сочинений по-малорусски с
целью распространения в народе полезных знаний не только не
преступна, но и похвальна, однако в настоящее время
правительство по своим соображениям считает нужным приостановить ее,
чтобы не подать повода злонамеренным людям воспользоваться для
иных целей и под видом дозволенного распространения в народе
популярно-научных книг не дать им возможности распространять
законопреступных подущений к мятежам и беспорядкам. Вслед за
тем я узнал, что состоялось запрещение печатания по-малорусски
книг, имеющих учебное значение. Я успел выпустить только
первый выпуск «Священной истории» Опатовича, у которого остались
готовые два другие, и арифметику Конисского. Печатались еще
два жития святых и остались также невыпущенными. Министр
народного просвещения Головнин относился совершенно
беспристрастно к вопросу о малорусской литературе и говорил, что если
действительно существует у малоруссов потребность учиться на
своем местном наречии и если это наречие настолько да'леко от
литературного русского языка, что малоруссь!, не учась
последнему, не в состоянии понимать написанного на нем, то издание
598
малорусских книг научного содержания — дело полезное и неоо-
ходимое. По его предложению я напечатал в «Журнале
Министерства народного просвещения» статью об особенностях
малорусского наречия, дающих ему право самобытности в ряду
славянских языков и не дозволяющих признать ^его ни
видоизменением великорусского, ни польского.
В это время я получил из Киева приглашение поступить на
кафедру русской истории в университете св. Владимира, давно
уже оставленную Павловым, и сначала я было согласился, но
потом, узнавши, что тогдашний генерал-губернатор Юго-Западного
края заявлял университету о своем нежелании в видах
политических допускать меня к Киевскому университету по причине
возникших на меня обвинений в так называемом «украинофильстве»,
сам устранился от предлагаемой мне чести, а Киевский
университет св. Владимира прислал мне в знак уважения к моей ученой
деятельности диплом доктора истории — на основании правила,
предоставляющего университетам давать ученые степени без экза.-
мена и диссертации, за труды по части науки.
Осенью в сентябре я отправился снова в Москву, занимался в
Архиве иностранных'дел, в Синодальной библиотеке и съездил за
семь верст в село Тушино, где осматривал следы бывшего лагеря
второго Самозванца; все они заключаются в окопах, протянутых
от реки Всходни до реки Москвы, куда впадает также Всходня,
делая загиб. Я пытался услышать что-нибудь от местных жителей,
но услышал очень мало. Сохранилось предание, что здесь стоял
когда-то царик с литвою, а делалось это во время литовского
разорения, когда на Руси было такое ужасное время, что из всех
живых людей едва уцелела только десятая часть. Самого этого
царика народное предание смешивает с личностью Гришки
Отрепьева. «Был, — говорят, — Отрепкин — такое уж ему и
прозвище было; был он нищий, и когда жизнь ему надоела, отправился
он под Москворецкий мост топиться в проруби; является к нему
бес и говорит: Гришка Отрепкин! Зачем тебе топиться? Лучше
отдай мне душу, на что она? Гришка сказал: отдам, если ты меня
сделаешь царем. Сделаю, сказал бес, и Гришка разрезал себе руку
и подписал бесу кровью договор». Бес начал ему помогать и довел
до того, что Гришка всем москвичам показался царевичем
Димитрием, уже убитым, и вся Москва признала его и посадила на
престол. Но тут какой-то святой сумел отчитать народ, обаяние
пропало, глаза открылись, все увидели, что Гришка — не царевич
Димитрий и казнили его. «Так вот этот-то Гришка, — говорили
мне крестьяне, — стоял в нашем селе, пока не взял Москвы. У
него была жена, злая ведьма Маринка-безбожница, которая
превратилась в сороку в то время, когда убивали Гришку в Москве,
она улетела на Волгу и долго разбойничала, пока, наконец, на нее
наложили проклятье, уничтоживши все ее волшебство, и привезли
в Москву». В таком-то виде перешли к народу воспоминания о
бурной эпохе Смутного времени. В настоящее время жители села
Тушина ведут большую торговлю молоком, привозя его продавать
в Москву в Охотном ряду. Крестьяне, рассказывавшие мне обо
599
всем этом, прибавили, что до сих пор в Москве подчас дразнят
тушинцев «тушинскими ворами», особенно когда заметят какое-
нибудь плутовство в торговле. Мне особенно бросилось в глаза
большое количество распивочных продаж в Тушине: чуть не в
каждом доме кабак, и так как во время моего приезда в село там
был храмовой праздник чудотворца Сергия, то я, заходя из избы
в избу, с трудом мог отыскать трезвых людей, способных отвечать
на мои вопросы.
В Москве, в Архиве иностранных дел, я нашел два статейных
списка эпохи Смутного времени и распорядился об отсылке их в
нашу комиссию. Запасшись всем, чем успел, для своего нового
труда, я возвратился в Петербург — и на всю зиму засел самым
усиленным образом за Смутное время. Между тем я продал
госпоже Ахматовой, издательнице Собрания романов, право на изда^
ние моего «Сына», появившегося в периодическом издании
Калачева. В мае 1864 года книга эта была выпущена в свет.
В этом же 1864 году по приглашению Академии наук в
издаваемом от Академии Календаре напечатал я исторический очерк
Куликовской битвы. Статья эта не менее «Ивана Сусанина»
навлекла на меня разнородные обвинения в надостатке патриотизма
и в злонамеренности моих способов обращаться с событиями
русской истории. Дело было в том, что я, руководясь источниками,
указал на такие черты в личности Димитрия Донского, которые
противоречили сложившемуся о нем и ставшему как бы казенным
мнению как о доблестном и храбром герое княжеских времен.
Против меня поднялась целая буря патриотического негодования.
Бывший тогда председатель Археографической комиссии Авраам
Сергеевич Норов, старик хотя добрый и образованный, но
считавший нравственным долгом казаться завзятым патриотом, так
озлобился против меня за эту статью, что почти не мог выносить моего
присутствия в заседаниях Археографической комиссии. В ученом
отношении эти попытки оказывались очень слабыми, потому что
за них брались люди, заслуживавшие одобрение только за свой
патриотизм, а никак не за ученость. К ним следовало отнести и
Погодина, который писал на меня в газете «День» ряд статей,
главным образом указывая на мою склонность к какому-то
недоброжелательству к России — унижать великих людей русской
истории. Я защищался против него на страницах газеты «Голос»; но
правду надобно сказать, что в ту пору я еще не освободился
вполне от старой привычки слепо и с верою держаться известий в том
виде, в каком они передаются летописными источниками, мало
вникая в то, что самые источники по разным причинам нередко
являются лживыми/даже без умышленного обмана. Так
произошло и в вопросе о Димитрии Донском. Погодину и другим моим
противникам очень не нравилось известие летописной повести о
том, что Димитрий Донской перед Куликовской битвой надел свое
великокняжеское платье на своего боярина Бренка, а сам в одежде
простого воина в конце битвы, очутился лежащим под срубленным
деревом. Это имело вид, как будто великий князь Московский,
желая сохранить собственную жизнь, выставил на убой своего
600
верного слугу, а сам оказался в самой .битве трусом. Погодин
силился всеми натяжками объяснить это событие в хорошую для
Димитрия сторону и, конечно, не мог; я же старался показать
истинный смысл, какой представляло летописное повествование;
но ни я, ни Погодин не обратили внимания, "что самая эта
летописная повесть не выдерживает критики и должна быть
отвергнута, о чем я и заявил уже впоследствии в своей «Русской истории
в жизнеописаниях». Впрочем, трусость Дмитрия Донского,
которою так оскорблялись Погодин и другие мои противники, кроме
этого события, не выдерживающего критики, неоспоримо
доказывается постыдным бегством Московского великого князя из
столицы во время нашествия на нее Тохтамыша.
В конце мая того же года .я отправился за границу. Я посетил
Дрезден, Прагу, Регенсбург, Мюнхен, Зальцбург, Вену, где
прожил около трех недель и затем лустился на юг до Дуная и прибыл
в Белград. Впечатление, произведенное на меня сербскою
столицею, было своеобразно. Город не представлял ничего похожего на
европейские города, которые мне случалось проезжать, хотя, с
другой стороны, я не заметил там почти ничего азиатского.
Больших каменных домов в нем очень мало; большая часть строений
состоит из низеньких домиков, обсаженных деревьями; широкие,
не освещенные фонарями улицы поросли травою; по улицам ходят
босые люди и пасутся животные. У ворот повсюду раздаются
песни, и что меня особенно поразило — песни духовного содержания:
церковные тропари, кондаки и ирмосы. Мне объяснили, что это
происходит оттого, что православное церковное песнопение имеет
для сербов не только религиозный, но и национальный характер
вследствие их продолжительной борьбы с неверными турками. Я
познакомился здесь с тремя профессорами сербской Главной
школы, людьми очень развитыми и отлично знающими по-русски, так
как они получили образование в русских университетах.
Пробывши с неделю в Белграде, я поплыл по Дунаю до Вены, а оттуда
пустился по железной дороге в Остенде с целью выдержать курс
морского купанья. Проезжая через Брюссель, я остановился там
на три дня, осматривал город и его достопримечательности и был
чрезвычайно поражен, увидевши на паперти одной церкви густую
толпу народа и прочитавши приклеенную к церковным дверям
афишу, где извещалось, что по случаю юбилея какого-то римско-
католического святого папа приглашает верных католиков
исповедаться и причаститься и совершить несколько благочестивых
подвигов и за то получить отпущение грехов, пользуясь особенно
благоприятным для этого временем юбилея святого. Огромное
стечение народа показывало, что вера в отпущение грехов сильно
сохраняется в этой стране, и мне пришло в голову: едва ли бы
нашлось много таких благочестивых фанатиков в моем русском
отечестве, если бы в церкви провозглашена была надежда на
отпущение грехов по поводу, какого бы то ни было воспоминания о
лице, прославившемся своею святостию. Здесь действует,
очевидно, старый католический догмат, что святые мужи совершили в
своей жизни более праведных дел, нежели сколько нужно для их
601
личного спасения, и лишние дела составляют церковную
сокровищницу, из которой церковь может раздавать благодать
отпущения грехов верующим чадам своим. В Остенде я пробыл месяц,
постоянно купаясь в море. Местоположение этого города
чрезвычайно скучно и однообразно. Самое купанье представляет то
неудобство, что по причине мелководия на берегу купающихся вводят
в подвижные клетки на колесах и возят их до глубоких мест.
Частые дожди и ветры не делают климата этой местности
особенно приятным; прогулки здесь невозможны, так как в самом городе
и его окрестностях нет никаких рощ. Окончивши свое лечение, я
воротился в отечество через Берлин в первых числах сентября и,
установившись в Петербурге, принялся снова за Смутное время.
В 1864 году я напечатал в журнале «Библиотека для чтения»
сочинение «Ливонская война» и приготовил для напечатания в
следующем году в том же журнале другое — из истории Южной
Руси конца XVI века. В это же время я получил от Харьковского
университета приглашение занять кафедру русской истории; но
министр Головнин объявил мне, что по причине возникших в
некоторых русских газетах обвинений меня в «украинофильстве», он
не советует мне принимать кафедры в Малорусском крае и
предложил испросить высочайшего утверждения за мною
пожизненного профессорского содержания, уже прежде предоставленного мне
только на три года. Согласно совету и предложению министра я
отказался от чести занять кафедру в Харьковском университете.
XI
Занятия Смутным временем.
Археологические поездки на север. Поездка в Варшаву.
«Вестник Европы». Печатание «Смутного времени».
Всю зиму с-1864-го на 65-й год и весну 1865-го я продолжал
ревностно трудиться над эпохою Смутного времени; занятия эти
так увлекали меня, что нередко я проводил целые ночи, не в
состоянии будучи оторваться от исследования лиц этой
знаменательной в истории русского народа эпохи. Эти бессонные ночи
расстроили мой организм до того, что хотя .я после дневного и
вечернего труда над «Смутным временем» ложился в постель для
ночного отдыха, но не мог пользоваться благотворным сном: нервы
мои были сильно возбуждены — меня беспокоили галлюцинации
зрения и слуха. Я решился прервать на время эти занятия, чтобы
совершить некоторые поездки с археологическою целью. Летом
1865 года я отправился для обозрения нескольких исторических
местностей на север от Москвы. Путь мой лежал по железной
дороге до Твери и на этот раз ознаменовался для меня событием,
чуть не стоившим мне жизни. Недалеко от Волховской станции
поезд сошел с рельсов на краю насыпи, так что вагоны
наклонились уже набок и готовы были полететь с насыпи вниз. В перепо-
602
лохе пассажиры метались как безумные. Я выскочил из вагона и
покатился вниз по скату насыпи. Мне казалось, что вагон,
наклонившийся набок; упадет за мною вслед и раздавит меня, но, на
счастье, успели остановить его ход в самое то мгновение, когда он
уже наклонился и готовился упасть. Случай этот произошел от
того, что в одном месте изломались рельсы и завернулись вверх,
чуть не пробивши вагона. Мы прождали часа полтора в поле,
покрытом кустарниками, пока поставили вагоны на рельсы. Из
Твери я поплыл на пароходе до Рыбинска, пересел на другой и
поплыл по Шексне. Берега этой реки мне показались грустными
и пустынными: они были низки, большею частию покрыты вербо-
лозом, и только изредка мелькали жилые места, и то вдали. Так
было до самого Череповца, где надобно было пересаживаться на
другой, меньший пароход, следовавший до Ниловецкой пристани.
Отсюда берега Шексны делаются лесисты. Из Ниловец пришлось
ехать на наемных лошадях вплоть до самого монастыря и посреди
кустарников. Кирилло-Белозерский монастырь стоит в уездном
городе Кириллове, на берегу озера. Кирпичные стены монастыря
напоминают ограду Троицко-Сергиевой Лавры, хотя несколько
ниже, со множеством башен. Входя в главные ворота, встречаешь
большой двор, засаженный монастырскими огородами; за ним
следует другая, внутренняя стена, за которою уже монастырские
постройки и церкви. Главная церковь, где стоит гроб чудотворца
Кирилла, не представила мне ничего особенного. Мощи святого
под спудом и никогда не открываются; пол церкви чугунный, от
чего чувствовался большой холод, хотя тогда был июнь; печей в
церкви нет, и можно вообразить себе, какой нестерпимый холод
должны чувствовать здесь богомольцы зимою в таком суровом
климате. Близ главной церкви стоит другая, небольшая, построенная
над могилами князей Воротынских и Одоевских. Здесь погребены
две жертвы свирепства Ивана Грозного, который впоследствии в
своем послании к игумену этого монастыря упрекал его, что гроб
Воротынского поставлен в большем почете, чем гроб чудотворца
Кирилла. Богатая библиотека этого монастыря уже в то время
была вывезена в Петербург, но оставалось еще много рукописей-,
относившихся собственно к делам монастыря, и сверх того
большой запас старого оружия для ратных людей, которые
помещались в военное время в монастыре, имевшем значение крепости.
Здесь можно было видеть и мечи, и бердыши, и копья, и старого
калибра пушки, и ружья. Не менее любопытна монастырская
ризница, где хранится множество даров московских царей и цариц,
оказывавших с самого Ивана Грозного особое расположение к
этому монастырю. Между прочим, в ризнице показывают полотняную
ризу св. Кирилла, его одежду, железные вериги, которые он
надевал на голое тело, и его деревянный ковш, с которым он ходил в
путь. На противоположной стороне ворот из монастыря выход к
берегу озера, а на противном берегу его виднеется женский Го-
рицкий монастырь; над волнами озера вьется множество чаеку
наполняющих воздух пронзительным грустным криком. По
преданию, к этому месту любил ходить и просиживать на берегу
603
озера сосланный в монастырь при императрице Анне киевский
митрополит Ванатович, пробывший здесь в заточении целых
десять лет. Кирилло-Белозерский монастырь был не раз местом
ссылки разных исторических лиц. В настоящее время в нем было
до ста человек братии со служками. Осмотревши' монастырь, я
съездил в Горицы, в знаменитый женский монастырь, где при
Иване Грозном заточены были две княгини и потом утоплены в
Шексне, как гласит его помянник. Здесь погребена была мать
царевича Димитрия, постриженная в упраздненном ныне
монастыре на Выксине (Череповецкого уезда). В Торицах она
построила придел во имя своего сына Димитрия после причисления его
к лику святых. Горицкий монастырь был неоднократно местом
ссылки исторических русских женщин, между прочим — невесты
Петра II Долгорукой. В настоящее время в нем более пятисот
сестер, из которых многие занимаются искусным шитьем и продают
свои произведения приезжим, но не за дешевую цену. При таком
процветании женских работ ризница монастыря чрезвычайно
богата разнообразными и великолепными священническими
одеждами, в чем едва ли может соперничать с Горицким какой-нибудь
другой монастырь. Возвратившись в Кирилло-Белозерский
монастырь, я простился с тамошним архимандритом и отправился
осматривать другие; посетил Нилову пустынь, с которою связано
воспоминание знаменитого в нашей духовной литературе Нила Go-
рского, но в этом монастыре нет более ничего древнего. Здалия
новые и деревянные, самое местоположение его непривлекательно.
Гораздо красивее смотрит монастырь Кирилла Новоезерского,
поставленный посреди озера на острове, где также есть мощи
местного чудотворца, другого Кирилла. Я посетил церковь бывшего
Ферапонтова монастыря, теперь уже упраздненного. MecTQ это
замечательно тем, что сюда сослан был низложенный патриарх
Никон и пробыл здесь в заточении несколько лет, после чего был
переведен в Кирилло-Белозерский, где и получил известие о своей
свободе, которою, однако, ему не удалось вполне воспользоваться.
Край, по которому я ездил, замечателен чрезвычайным
множеством озер больших и малых, повсюду обросших лесом, и вообще
повсюду видно изобилие лесов. Густые рои мошек и комаров на
каждом шагу тревожат путешественника; природа угрюма, но
между жителями везде заметно довольство; они большею частию
судостроители и рыболовы. Население здесь вообще
немногочисленно: вероятно, неудобства к земледельческому производству
заставили жителей в прежние времена постоянно выселяться в
другие места. Возвратившись обратно по Шексне на Волгу, я
поплыл на пароходе до Костромы, миновавши Ярославль и
предположивши осмотреть его после.
По приезде в Кострому первым делом было съездить в
знаменитый Ипатьевский монастырь, лежащий за городом на
западной, стороне. Здесь мне показали дом, где жила Марфа
Ивановна со своим царственным сыном и откуда была вызвана
с ним на монастырский двор: там происходили переговоры с
послами, приехавшими от московского Земского собора просить
604
шестнадцатилетнего Михаила на царство. В доме этом мне не
могли ничего показать помнившего славное время, кроме стен,
но в ризнице показали много вещей, подаренных Михаилом
Федоровичем, и, между прочим, его палку, которую он оставил
здесь на память, когда вместо *нее принял предложенный ему
скипетр Русского государства. Икона, находившаяся в то время
у его матери, поставлена в Костромском соборе и там пребывает
до сих пор; народ приписывает ей чудотворное свойство, она
известна под именем Феодоровской Божией Матери. На одной
из площадей Костромы красуется памятник Сусанину; на
памятнике сделано барельефами изображение убиения его
поляками в лесу, в том виде, в каком рассказывается это событие под
влиянием книжных вымыслов.
Из Костромы я воротился в Ярославль, а оттуда поехал в
Ростов, посетил тамошние церкви, гроб и келию св. Димитрия
Ростовского. В его келий видел я замечательную картину,
изображающую (масляными красками) как Димитрий
испрашивает у родителей благословения идти в монахи. Его отец, мать
и сестры изображены в старых малорусских костюмах того
вре'мени. Картина эта принадлежала самому святому и
сохранялась им как памятник величайшего события в его жизни. Из
Ростова я поехал на перекладных в Переяславль-Залесский и
думал пробраться оттуда в Александров, чтобы посмотреть на
знаменитую в истории тиранствами царя Ивана Васильевича
Грозного Александровскую слободу, но тут на дороге у меня в
правой ноге сделалась невыносимая боль* побудившая меня
отложить это намерение и ехать к Троицко-Сергиевой лавре, где
бы я мог получить медицинское пособие. Внезапная боль эта
была до того нестерпима, что я без крика не мог сидеть на
телеге и сойти с нее. Когда меня привезли в Троицкий Посад,
первым делом моим было обратиться к знакомому мне ректору
Академии Александру Горскому с просьбою снабдить меня
врачом. Александр Васильевич привел ко мне монастырского
врача, какого-то немца, поклонника гидропатии. Врач этот
назначил мне ездить по два раза в день в его монастырскую
больницу, чтобы пользоваться водяным лечением. В больнице
был монах, приученный доктором обращаться с
гидропатическими приемами. После нескольких дней лечения холодными
душами и ваннами доктор приказал мне сделать несколько
соленых ванн и через неделю позволил мне ехать в Петербург,
давши совет постоянно, купаться до глубокой осени и несмотря
ни на какие перемены погоды. Я воротился в Петербург и в
продолжение двух месяцев купался по два и по три раза в день.
В сентябре ноге моей стало значительно легче, хотя боль не
совсем прошла.
Я отправился в Варшаву с целью познакомиться там с
рукописными памятниками, относящимися к Смутному времени и,
приехавши туда, поселился у моего приятеля, бывшего редактора
«Основы», Белозерского, поступившего туда на службу в
Учредительный комитет. Живучи у него, я каждое утро ходил в баню
605
продолжать холодное лечение своей ноги, *а потом отправлялся
заниматься. Первым и важнейшим местом моих занятий была
библиотека Красинских, бывшая покойного графа Свидзинского. В
этом книгохранилище я нашел большое количество рукописных
источников, относящихся к обрабатываемой мною эпохе, и
заметил, что еще большее богатство материалов выпало здесь на долю
периода казацкой истории; но обращая в то время все внимание
на Смутное время, я отложил всякие другие занятия до иной поры.
Кроме занятий в библиотеке Красинских я ездил несколько раз в
библиотеку Вилляновскую, отстоящую верст за десять от
Варшавы, в имении графов Потоцких, и там много для себя любопытного
нашел я благодаря ласковому приему библиотекаря Пшиленского
и его двух дочерей, хорошо знавших польскую историю и с
любовью помогавших мне в отыскании материалов. В свободное
время от занятий я посещал варшавские церкви, театры, кладбища
и, прибывши на Повонзковское кладбище, увидал множество
памятников на могилах лиц, знаменитых в польской истории
последнего времени, эпохи падения польской независимости. Здесь
явилось у меня намерение заняться обработкою этой эпохи. Мне
казалось, что недостаток исторической обработки этой эпохи
составляет один из важнейших пробелов в нашей истории, и стоило
приложить труд, чтобы его пополнить. Долгое время занятие ис-
ториею падения Польши было почти немыслимо, потому что
большая часть важнейших источников, относящихся к этому
знаменитому событию, не только не была напечатана, но и самый
доступ к пользованию ими не был дозволен. В нашей русской
литературе, кроме «Истории падения Польши» Соловьева, не было
ничего сколько-нибудь разработанного по этой части. Польская
литература также мало могла похвалиться чем-нибудь
капитальным в научном отношении. Правда, в последнее время в ней
появлялись один за другим более или менее важные мемуары
участников великого события, но они не были еще надлежащим
образом разобраны и освещены критикою, притом же сами по себе
не составляли еще всего богатства источников, нужных для
обработки эпохи, В заграничных литературах также нельзя было
указать на обилие сочинений по этой эпохе. Во французской
литературе сочинения по этому вопросу все почти составлялись со
слов поляков, искажавших истину под обаянием патриотизма.
Немецкая литература представляла несколько почтенных явлений,
как например: «История России» Германа, творения Знбеля,
биография Суворова, написанная Шмидтом, но авторы их занимались
вопросом только с известных немногих сторон, оставляя или даже
упуская другие, не менее важные. От этого — относительно
вопроса о причинах падения польской Речи Посполитой, а равно и о
характере событий, сопровождавших это падение, — можно было
постоянно и повсеместно встречать самые сбивчивые, а нередко и
самые уродливые сведения. Прежнее правительство наше долгое
время считало изучение падения Польши как бы запретным
плодом, и неудивительно, если польская молодежь, начитавшись об
этом кое-чего из заграничных книг или из произведений польских
606
эмигрантов, да вдобавок поддаваясь внушениям своих старых
соотечественников, расхваливавших старое время и вздыхавших об
уничтожении старых порядков, воображала себе бог знает сколько
хорошего в том, чего не знала обстоятельно. Таким образом,
Конституция 3 мая являлась их воображению таким
безусловно-благодетельным актом народной мудрости, какому подобного едва
можно отыскать во всей истории человечества, а эпоха восстания
Костюшки представлялась доблестным всенародным движением за
дело всеобщей свободы и всеобщих прав человечества. С другой
стороны, политические силы, содействовавшие падению Польского
государства, воображались в самом возмутительном виде, и факт
раздела Польши казался самым гнуснейшим актом насилия и
коварства. Этот взгляд проповедовался поляками и между
русскими — и те из русских, которых коробило от польских речей, не в
состоянии были делать на них возражения, так как сами не менее
поляков находились в неведении об этих вопросах. Незнание
поляками своей истории, незнание, поддерживаемое долго боязливо-
стию нашего прежнего правительства, привело к тому печальному
результату, что в польских головах не сложилось правильного
представления о народе: поляк часто употреблял это слово, а
между тем разумел под ним совсем не то, что оно должно было
означать по здравому смыслу. Поляк твердил о польском народе, а
разумел под ним одну шляхту, и положение всего прочего
большинства народа, осужденного на крайнее рабство под
республиканским правлением Польши, ему было или неизвестно, или он
прикидывался, что не знает о нем. От этого в последнее время,
незадолго до восстания шестидесятых годов, русская молодежь в
известной степени симпатически относилась к польским
политическим мечтаниям: находились русские, не только учившиеся
истории, но и сами писавшие исторические статьи, которые по
неведению местных вопросов, относящихся к Польше и вообще к
Западному краю, склонны были верить, что Польша была
демократична — и вместе с тем готовы были признавать справедливость
польских замашек — считать несомненною принадлежностию
Польши такие древние русские области, которые играли самую
видную роль в русской истории дотатарского периода. Последнее
восстание поляков просветило русский взгляд; сочувствие к
польским претензиям уничтожилось после бесцеремонных выходок
поляков, но правильного взгляда на своих враго*в-соседей русские
все-таки не получили. В патриотических статьях тогдашних
русских газет это ярко выказывалось. Поляки возбуждали в русском
обществе негодование, доходившее до ненависти, но полякам
приписывали такие качества, каких вовсе не было в польской
народности. Отдельные исключительные случаи, или признаки, общие
всем народам в периоды мятежей и восстаний, провозглашались
за характеристические черты польской народности. Чтобы
поставить русское читающее общество на настоящую точку воззрений,
надобно было представить ему беспристрастную картину старой
польской жизни и событий, сопровождавших прекращение
самобытности Польши. Эту-то задачу я задумал взять на себя в то
607
время, как памятники Повонзковского кладбища расстилались
перед моими глазами с воспоминаниями эпохи конца польской
независимости.
Встретившись в Варшаве случайно со Всеволодом
Крестовским, занимавшимся раскопками в подземельях варшавских
монастырей, я получил от него приглашение сопутствовать ему в его
подземных путешествиях и увидел много такого, о чем никак не
догадывался. Спустившись в подземелье одного из монастырей, мы
заметили, что в кирпичной глухой стене, в которую упиралось это
подземелье, есть пустота; приказали разбить стену и вошли в
огромный длинный коридор, наваленный остатками перетлелых
гробов и человеческих костей. Прошедши по этому коридору, мы
наткнулись на другую стену, за которою также заметили пустоту;
приказали проломить ее и вступили в новый коридор, также
переполненный развалинами гробов и костей. Оказывалось, что
коридоры эти шли под улицами Варшавы, и над нашими головами
мы слышали езду экипажей. Почти в каждом монастыре мы
встречали усыпальницы с гробами то замурованными в стену, то
стоявшими на земле. В монастыре капуцинов на Медовой улице
нашел я несколько трупов, высохших и сохранивших
человеческий вид. Один из этих трупов, какой-то панны Кицкой, лежал в
гробе без одежды, обтянутый большим куском белого атласа, и
чрезвычайно хорошо сохранился. Рядом с нею в другом гробу
лежал какой-то епископ, а подалее — какой-то капитан гвардии в
больших черных сапогах и в красной шапке с аером. Варшавские
монастыри перед временем моего приезда в Варшаву были
упразднены; оставшиеся монахи и монахини развезены по монастырям
вне Варшавы, которых существование было до поры до времени
дозволено, а их прежние помещения предполагалось обратить на
разные полезные общественные заведения. Таким образом, капу-
цинский монастырь на Медовой улице переделывался в то время
в женскую гимназию. Замечательно, что эта мера не возбуждала
неудовольствия в поляках. Люди образованные сознавались, что
это дело полезное; вздыхали только старые девотки.
В Варшаве, я имел случай познакомиться с несколькими
почтенными учеными, между прочим с Мацеиовским, добродушным
стариком уже преклонных лет, но с юношеским увлечением
преданным славянским древностям, которыми он так небесплодно
занимался в своей жизни; с Войцицким, едва ли не лучшим
знатоком быта польского простонародия; с издателем «Варшавской
библиотеки» Бартушевичем; с библиотекарем библиотеки Красин-
ских Хоментовским, не столько знающим свою отечественную
историю, сколько любезным для меня указателем варшавских
достопримечательностей; и с некоторыми другими учеными и
литераторами. Случайно встретил'я здесь своего давнего знакомца —
поэта Одынца, переехавшего на жительство из Вильны в Варшаву.
Меня предупреждали, что поляки, ненавидя «москалей»,
обращаются чрезвычайно нелюбезно с русскими, но я на опыте увидел
совсем не то, чего мог ожидать по рассказам и, приглядевшись к
жизни и быту Варшавы того времени, сделал такой вывод, что за
608
исключением, разумеется, ярых фанатиков своей национальности,
большая часть образованных поляков относилась с
беспристрастною любезностью к русским путешественникам. В свободные
вечера я посещал варшавские театры. Собственно польский,
национальный театр по достоинству артистов стоял тогда на
высокой степени, в особенности когда игрались пьесы, в которых
выводился национальный польский быт. В городе еще. видны были
следы недавних беспорядков: жителям запрещалось ходить ночью
без фонарей, и это представляло значительное неудобство для
путешественника, так как надобно было постоянно держать в руке
фонарь с горящею свечою.
Я возвратился в Петербург во второй половине октября и
принялся приводить в порядок сделанные мною выписки из
рукописных источников для эпохи Смутного времени и заносить в
составленный текст сочинения вновь добытые сведения.
Вскоре после того обратился ко мне Михаил Матвеевич Ста-
сюлевич с предложением принять участие в издании
предполагаемого .им журнала. По моему совету Михаил Матвеевич согласился
дать заглавие журналу «Вестника Европы» и тем воскресить
прекрасное воспоминание в русской литературе о литературной
деятельности таких корифеев русского слова, как Карамзин и
Жуковский. На первое время предполагалось издавать журнал нам
двоим — по четыре книжки в год — и посвятить его
исключительно истории. Это было бы нечто вроде немецкого «Historishe
Zeitschrift», издаваемого тогда Зибелем. Впоследствии
издательская деятельность осталась за одним Стасюлевичем, так как он
вносил для издания собственный капитал, а я не мог туда ничего
внести, кроме своего труда. Первым вносом моим в новый журнал
было мое «Смутное время». Кроме того я обязывался вести
постоянно рецензии всех выходящих как в России, так и за границею
книг, относящихся к истории. Первый номер журнала выходил в
марте 1866 года, и в нем появилось в свет начало моего «Смутного
времени». Печатание этого сочинения лродолжалоеь в течение
почти двух лет, 1866—1867-го. Между тем, пока сочинение мое
печаталось, я принялся за «Последние годы Речи Посполитой» и
усиленно занимался чтением источников в Публичной библиотеке,
начиная с моего приезда из Варшавы — сплошь всю зиму и весну.
В апреле 1866 года Петербург был взволнован покушением на
жизнь государя. В этот день я условился с М. М. Стасюлевичем
быть в Александрийском театре и хотел прийти туда к началу
представления из Публичной библиотеки. Выйдя из библиотечного
здания, я заметил на улице какое-то волнение в народе и услышал
толки о том, что в государя стреляли. Я пытался расспросить, где
и что произошло такое* но не мог получить ничего
удовлетворительного. Прибыв в ложу Александрийского театра, я слышал
доходившие до меня из партера шумные разговоры о случившемся
событии и мог из них только понять, что злодеяние не удалось и
было отвращено каким-то простолюдином. Вдруг в первом
антракте вышел за занавес один из артистов и возвестил публике, что
спаситель государя — мещанин Зайчиков. Последовали рукопле-
609
екания, и имя Зайчикова начало возноситься с похвалами.
Поднялся занавес» начали играть и петь «Боже, царя храни», и по
требованию публики наш народный гимн несколько раз
повторялся и в других антрактах. Весь театр был иллюминован. Когда я
возвращался из театра домой* весь Невский проспект был залит
огнями иллюминации. Наутро из газет узнал я настоящее имя
случайного спасителя жизни государя; но имени преступника
никто еще не знал, потому что сам он не объявлял его. Повсюду в
публике и в народе несколько дней только и речи было, что о
случившемся событии, но за неведением настоящего имени
преступника делались различные предположения, а главное,
большинство думало, что преступник должен быть поляк. В таком
убеждении была публика в один из следующих за тем вечеров,
когда в Мариинском театре дан был торжественный спектакль в
присутствии некоторых членов августейшего дома. Комисарова с
его женою поместили в одной из лож бельэтажа рядом с парадною
царскою ложею. Публика много раз обращалась к нему с громким
криком «у pal». Один из представителей русской поэтической
литературы, А. Н. Майков, читал со сцены стихи, в которых
выражал от имени русского народа негодование к гнусному злодеянию
и делал намеки, что если преступник неизвестен, то по крайней
мере все уверены, что он не русский. Что подозрение падало на
поляков, это выразилось в том, что публика с негодованием
зашикала, когда во втором действии дававшейся тогда оперы «Жизнь
за царя» стали танцевать полонез; то же шиканье раздалось и в
третьем действии, когда в избу Сусанина вступили поляки.
Комисарова провели из ложи на сцену и поставили перед публикой в
то время, когда пелся хор «Славься, славься», и вместо имени
Сусанина произносилось имя Комисарова. Через несколько дней
наконец узнали, что преступник — уроженец Саратовской
губернии и бывший студент Московского университета. Но и тогда
патриотическое русское чувство возмущалось мыслью, что на такое
злодеяние отважился чисто русский человек, и были попытки
доказывать, что фамилия Каракозов не русская, а армянская. Эти
попытки оказались неудачными и с негодованием были
опровергнуты защищавшими свою честь армянами, доказывавшими, что на
армянском языке нет слов для произведения этой фамилии. Когда
следствие по совершенному преступлению было поручено М.Н.
Муравьеву, на литературный петербургский круг нашел безотчет^-
ный страх. Пошли носиться слухи, что будут привлечены к
следствию все, которые в своих сочинениях и статьях чем-нибудь
навлекли на себя подозрение в неблагонамеренности и
неодобрении правительственных действий, — и в самом деле начались
аресты пишущей братии. Тогда — не знаю у кого — появилась мысль
подать правительству адрес от литераторов, заявлявший о
негодовании их к преступлению. Такой адрес приносили и ко мне с
предложением подписать его; но так как в нем было сказано, что
его подают люди различных политических мнений и убеждений,
то я отказался его подписывать, объяснив, что, не занимаясь
современною политикою, а посвящая себя исключительно исследа-
610
ванию прошедшего быта отечественной истории, я не могу себя
причислить ни к какому политическому мнению и убеждению;
притом же такое неопределенное выражение давало повод
предполагать, что в числе людей «различных» мнений и убеждений могли
быть люди, избравшие себе целью оппозиции против
правительства, а я по своей специальности не мог себя причислить ни к
какой партии. И я не ошибся: намерение подавать такой адрес
вовсе не нашло себе сочувствие в сфере высших властей.
В это время произошли важные перемены в администрации:
князь Суворов оставил свою должность, и самое звание, генерал-
губернатора было упразднено в Петербурге. Шеф жандармов князь
Долгорукий также выбыл, а министром народного просвещения
вместо бывшего Головнина назначен граф Дмитр. Андр. Толстой.
Его товарищем стал бывший некогда попечитель Петербургского
учебного округа, директор императорской Публичной библиотеки
И. Д. Делянов.
В мае я занимался редакциею сочинений Т. Г. Шевченко,
которых издание взял на себя книгопродавец Кожанчиков.
XII
Поездка в Саратов. Лечение в Старой Руссе.
Занятия историею последних лет Речи Посполитои.
Командировка в Несвиж.
Печатание «Последних лет Речи Посполитои».
Публичные лекции в клубе художников.
В конце июня 1866 года я отправился на двадцать дней по
Волге в Саратов. Еще во время моего жительства в этом городе
остался мне должным один тамошний житель, уже умерший. Дело
об уплате долга производилось со времени моего первого
пребывания в Петербурге и, наконец, решилось тем, что Гражданская
палата назначила к продаже его дом, но за неявкою покупателей
на торгу предоставила этот дом мне во владение. Недвижимая
собственность в такой далекой от моего жительства местности была
для меня бременем; к счастию, я получил письмо от одного
саратовского жителя, извещавшее меня о желании купить
присужденный мне дом, уплатив мне состоявший на нем долг. Я прибыл в
Саратов и на пароходной пристани встретил моего покупщика,
который в продолжение двух часов покончил со мною счеты,
выпросив от моего имени доверенность своему знакомому на
совершение купчей крепости. Пользуясь случаем, приведшим меня
снова в край, в котором я некогда проживал, я несмотря на
нестерпимый зной объехал город, посетил мою любимую
монастырскую рощу, куда так часто ездил пить чай, повидался с моими
приятелями Мордовцевыми, с моим старым слугою Фомой и на
другой день рано утром пустился в обратный путь, а по возвра-
611
щении в Петербург отправился в Старую Руссу и там в
продолжение двух недель купался в соленом озере. Уже давно страдал я
разнообразными нервными болезнями, время от времени прибегал
к различным пособиям медицины, много раз при усилившемся
нездоровье решился испытать действие соленых озер. Это купанье
произвело на меня благодетельное влияние, по крайней мере на
время.
Воротившись в Петербург, я имел случай быть свидетелем
мрачной сцены смертной казни преступника Каракозова,
совершенной 2 сентября на Смоленском поле. Я решился пойти на это
потрясающее зрелище для того, чтобы быть однажды в жизни
очевидным свидетелем события, подобные которому мне беспрестанно
встречались в описаниях при занятии историей. Меркантильное
направление Петербурга поспешило из этого извлечь для себя
выгоду: продавались довольно дорогою ценою скамьи, с которых
удобно было видеть совершаемую казнь. Преступник, которого я
до тех пор не видел, оказался молодым человеком лет 25-ти,
чрезвычайно' бледный и до такой степени истощенный, что когда его
ввели на эшафот и привязали к позорному столбу, он не устоял
на месте и упал, но был поднят палачами. При вступлении на
эшафот он положил на себя крестное знамение. Полицейский
чиновник прочитал приговор, слова которого не доходили до моих
ушей. Потом взошел к нему на эшафот священник, протоиерей
Полисадов, бывший прежде профессором в университете,
прочитал над ним отходную, дал ему поцеловать крест и удалился.
Палачи стали надевать на него рубашку с колпаком, закрывавшим
голову. Преступник сам помогал надеть на себя эту роковую
рубашку. Палачи туго завязали ему назад руки, свели с эшафота и
повели к виселице, сделанной глаголем и поставленной вправо от
эшафота. Когда его подвели к петле, палач сделал ему два удара
петлею по затылку, потом накинул ему петлю на шею и быстро
поднял вверх по блоку. Я посмотрел на часы и заметил, что в
продолжение четырех минут повешенный кружился в воздухе, бил
ногою об ногу и как бы силился освободить связанные руки; затем
движения прекратились, и в продолжение получаса преступник
посреди совершенно молчавшей толпы висел бездвижно на
виселице. Через полчаса подъехал мужик с телегой, на которой был
простой некрашенный гроб. Палачи сняли труп и положили в
гроб. Отряд солдат с ружьями провожал его в могилу,
приготовленную где-то на острове Голодае. Толпа разошлась. Публика, как
я заметил, относилась к этому событию совершенно
по-христиански: не раздалось никакого обвинения и укора; напротив, когда
преступника вели к виселице, множество народа крестилось и
произносило слова: «Господи, прости ему грех его и спаси его
душу!» Я достиг своей цели: видел одну из тех отвратительных
сцен, о которых так часто приходится читать в истории, но
заплатил за то недешево: в продолжение почти месяца мое
воображение беспокоил страшный образ висевшего человека в белом
мешке — я не мог спать. Успокоившись, я принялся за свои
обычные занятия историею последних лет Речи Посполитой и разбирал
612
материалы, хранящиеся в Литовской метрике при
правительствующем Сенате.1 Здесь я нашел чрезвычайно богатый запас
источников: все дела четырехлетнего сейма, Стражи, учрежденной
после Конституции 3 мая, Высочайшего совета, существовавшего
в Варшаве в эпоху Костюшки, и судные дела Индигационной
комиссии над лицами, навлекшими на себя подозрение у патриотов,
защищавших независимость Польши. Все это послужило мне с
незаменимою пользою для моего труда. Между тем занятия мои
обращались также и к Археографической комиссии, где я уже в
продолжение нескольких лет печатал один за другим томы Актов
Южной и Западной России, почти каждый год выпускай по тому.
В следующем 1867 году, весною, однообразие петербургской
жизни было нарушено приездом славянских гостей, подавших
повод к угощениям, празднествам и овациям, в чем участвовали
преимущественно лица, принадлежащие к ученому литературному
кругу; но я не принимал в этом никакого участия и виделся только
с несколькими знакомыми чехами и галичанами, посетившими
меня во время своего кратковременного пребывания в русской
столице. Я был тогда весь погружен в занятие историею падения
Польши и так дорожил своим временем, что не решался отвлекать
его ни на что другое. В июне того же года Археографическая
комиссия дала мне командировку в город Несвиж для
рассмотрения находящегося там архива князей Радзивиллов. Я поехал через
Вильно, где увидел совсем не то, что было в прежний мой приезд.
Музей находился уже в русских руках и содержался в русском
духе. Католическая святыня повсюду уступала место
православной. Поляки, устрашенные энергическими мерами недавно еще
правящего здесь Муравьева, присмирели, боялись публично
говорить по-польски и щеголяли русскою речью, часто коверкая ее
самым забавным образом. Многих из прежних моих знакомых я
не встретил здесь более: иные померли, другие удалились.
Попечителем Виленского учебного округа был тогда Корнилов, человек
энергически предавшийся мысли о -просвещении простого
белорусского народа и о заведении в крае повсеместных народных
училищ. Это была одна из симпатичнейших личностей, какие мне
приходилось встречать в жизни, Здесь я узнал, что некто Гогель,
служивший при Муравьеве, написал какое-то историческое
известие1 о бывшем польском мятеже в Литовском крае и
легкомысленно запятнал мое имя, сообщая, будто бы я, сочувствуя
польскому мятежу, говорил польские речи, носил польский траур
и пел с поляками в костелах революционные песни. Самого автора
этой клеветы я не видал, но мне передало одно официальное лицо,
что Гогель оправдывал свои против меня выходки тем, будто бы
он нашел эти обо мне сведения в официозных источниках;
официозными же источниками называл он письма, взятые у польских
преступников во время производства суда над ними в Вильне.
Всякий здравомыслящий человек может пожалеть об уме и степе-
1 «Иосафат Огрызко и Петербург, революцион. ржонд в деле поел,
мятежа». Вильно, 1866 (Прим. А.Л. Костомаровой).
613
ни-добросовестности этого Гогеля, называвшего официозными
источниками переписку политических преступников: не нужно
большой сообразительности, дабы понять, что подобная переписка
менее, чем что-нибудь, может внушать к себе доверие,' так как
поляки в пылу своего патриотического фанатизма; естественно,
старались представить свое дело как можно более в виде,
внушающем надежды, и не останавливались тогда, когда им
приходилось оговорить в связи с собою кого-нибудь из русских, чтобы
таким образом выказать, что их польское дело до того справедливо,
что возбуждает сочувствие даже у русских людей.
В виленской публичной библиотеке я нашел очень
подходящую к предмету, которым я тогда занимался, рукописную книгу.
Это был сборник всякого рода статей — как имевших официозный
характер, так и чисто литературный и относящийся к эпохе 1794
года. Корнилов дозволил мне взять на время эту книгу в
Петербург. Пробывши в Вильне дня четыре, я отправился к месту моей
командировки и, проезжая через Лиду, осматривал очень
любопытные и живописные развалины находящегося там замка, от
которого уцелело много стен, но без кровли. Проезжая через
Новогрудек, я осмотрел в окрестностях его разрушенный замок,
построенный на берегу озера. Как кажется, это тот замок, который
послужил Мицкевичу сюжетом для его повести «Гражина».
Наконец я прибыл в Несвиж и, остановившись в местечке,
отправился в княжеский замок, построенный на острове, лежащем
посреди пруда. На замке возвышалась башня, на которой
красовался герб Радзивиллов. Перед самым островом, еще на твердой
земле, в конце местечка я увидел костел, под помостом которого
находятся гробницы всех лиц княжеской фамилии Радзивиллов. В
то время в костеле был храмовой праздник Петра и Павла и
совершалось богослужение. Я заходил в этот костел и увидал очень
богатые образа и облачения на престоле и на ризах. Замок
построен четвероугольником, образуя в средине замкнутый двор.
Сторона обхода над воротами вся занята архивом; прямо против
нее внизу помещается управляющий, а вверху комнаты оставлены
пустыми. Вход к ним ведет по широкой лестнице, в некоторых
местах от времени уже обветшалой; свод над нею расписан
фресками, изображающими разные мифологические предметы.
Вправо в верхнем этаже —- картинная галерея портретов князей
Радзивиллов и разных панов, находившихся с ними в свойстве.
На левой стороне верхний этаж совсем внутри обвалился. Там
были покои, в которых известный князь Карл Радзивилл,
оставивший по себе прозвище Panie kochanku, давал блистательные
угощения польскому • королю Станиславу Августу, а под низом
кладовые, где, между прочим, находились старые заржавленные
пушки. По распоряжению, присланному от владельца замка,
жившего в то время в Берлине, меня пригласили поместиться в замке
в пустых комнатах, находившихся над помещением
управляющего, и я, перебравшись туда, тотчас занялся рассмотрением
архивных бумаг, К сожалению, оказалось, что большая половина этих
бумаг была уже отправлена в Берлин по требованию владельца. Я
614
нанял писца для составления каталога документов, находившихся
в наличности в архиве, и стал их рассматривать. Тогда же в
Несвиже жило двое чиновников, служивших при виленском музее
и отправленных Корниловым для той же цели, но для видов
Археографической комиссии. Независимо от работ над архивом я
при содействии помощника архивариуса Шишко осматривал
усыпальницу Радзивиллов в их костеле, построенном за воротами
замка. Несколько гробов были при мне открываемы; более древние
представляли безобразную груду костей и кусков согнившего
платья и обуви. Б таком виде предстали мне: Николай Чорный,
свояк короля Сигизмунда Августа, и князь Криштоф, сват
Константина Острожского. В гробах времен более близких к нам
сохранилось более человеческого образа. Так, одна из супруг
Иеронима Радзивилла, жившего в XVIII веке и оставившего по
себе большой дневник, хранящийся в архиве, представилась с
телом белого цвета, как будто окаменелым и одетым в богатое
белое атласное платье. В гробе Карла Радзивилла (Panie
kochanku) я увидел скелет, одетый в нижнее платье синего цвета,
большие сапоги и желтоватый кунтуш с андреевскою лентою через
плечо. Облик его черепд сохранился настолько, что можно было
по нем представить себе фигуру князя сообразно с портретом его,
находящимся в галерее фамильных портретов. Между множеством
гробов, поставленных в усыпальнице, есть маленькие гробы
умерших княжеских малолетков. Гроб Радзивилла, известного под
именем «сиротки» и оставившего после себя описание своего
путешествия в Святую землю, сохраняется в особом отделении:
«сиротка» чествуется как бы святой. В портретной галерее, между
прочим, я встретил портрет во весь рост Богдана Хмельницкого,
зашедший сюда, вероятно, по родству его сына, женатого на
молдаванской княжне, свояченице князя Януша Радзивилла. Быть
может, там • же где-нибудь есть портрет и самого Тимофея
Хмельницкого, так как о многих портретах, висящих в галерее,
мне не дали объяснения, кого изображают эти портреты.
Из рассмотренных' мною бумаг я нашел собственно немного
нового, что меня особенно занимало. В числе множества писем,
сохраняющихся в архиве, я отыскал целую кучу писем Юрия
Мнишка к одному из Радзивиллов, и эти письма тем более
возбуждали любопытство, что многие писаны в эпоху заключения
Мнишка в Московском государстве; но из тех, которые мне
удалось разобрать, я не нашел ничего относящегося к московским
смутам; остальные, написанные бледными чернилами и крайне
неразборчивым почерком, остались мною неразобранными. По
украинской истории особенно обратило мое внимание одно письмо
Юрия Хмельницкого, показывающее, что этот гетман уже после
своего примирения с поляками под Слобод ищем питал к полякам
непримиримую ненависть, которая отчасти объясняет
последовавшее за тем взятие его и 'заточение в Мариенбургскую крепость.
Я осмотрел также местность, где находился поселок шляхты,
которую держал при себе Карл Радзивилл (Panie kochanku).
Поселок этот носил название Альба. Шляхтичи, жившие там, поль-
615
зовались от. князя содержанием и всякими выгодами, а за эти
должны были, как он выражался, отбывать панщину. Панщина же
эта состояла в том, чтобы есть и пить вместе с князем, когда ему
захочется, и ездить с ним на охоту, а подчас и быть готовыми на
всякие подвиги дебоширства, каким отличался затейливый князь.
Старик архивариус, человек лет восьмидесяти, помнящий во
времена своего нежного еще детства личность Panie kochanku,
рассказывал мне, что, как бывало, на кого-нибудь разгневается князь,
тотчас собирает своих альбанцев и посылает наделать пакостей
сопернику; альбанцы нападут на имение последнего, истребят на
полях хлеб, перебьют скот и птицу, а иногда по приказанию
своего патрона сожгут деревню и усадьбу враждебного помещика.
Panie kochanku отличался чрезвычайною щедростью и
расточительностью, — но чуть только что-нибудь не по нем, он ничем не
сдерживался и позволял себе делать самые немыслимые вещи,
будучи уверен, что в Польше нет силы, которая бы могла поставить
его в границы. Был — рассказывал архивариус ■— у князя
приятель, который умел его забавлять и приобрел через та большую
любовь князя; но однажды, развлекая князя шутками, он сказал
что-то невпопад. Князь ударил его в лицо. Оскорбленный в порыве
гнева вызвал князя на поединок, а Радзивилл за такую предерзость
созвал своих альбанцев, приказал разостлать ковер и высечь на
нем неосторожного приятеля. Приятель после такого бесчестия
подал на Радзивилла иск в суд. Тогда по приказанию князя
альбанцы напали на его усадьбу, сожгли ее и даже перебили несколько
человек прислуги. Шляхтич, видя, что нет возможности искать
управы на Радзивилла, решился поладить с ним и избрал такую
выходку: улучивши время, когда Радзивилл был именинник и в
несвижском замке по этому поводу должен был происходить бал
и большой наезд гостей, он прибыл в Несвиж, остановился на
постоялом дворе, оделся щеголем и отправился в замок. В то время
там происходил бал в полном разгаре. Явившись нежданно
посреди гостей, он подошел к князю и сказал: «Я прибыл заявить вашей
княжеской милости, что на свете существуют два великих дурака:
первый дурак я, а второй ваша княжеская милость». Радзивилл,
увидя его, пришел в исступление; f по словам архивариуса, у него
«najezyli sie wlosy, prawa noga wystapila, zakrecil wasa i powied zial:
со to jest, Panie kochanku?»* Смельчак отвечал ему: «Ваша
княжеская милость осмелились идти против Екатерины и принуждены
были искать примирения с нею, а я осмелился идти противу
вашей княжеской милости и теперь прибыл просить примирения с
вами». Радзивиллу очень понравилась эта выходка. «Zgoda , Panie
kochanku», закричал он, приказал подать вина и начал пить ми-*
ровую, а потом велел подать счет всему, что разорили его
альбанцы, и тотчас дал обещание заплатить за все втрое. Теперь на
месте, где была Альба, видны" только поросшие сорной травой
1 Наежились волоса, правая нога выдвинулась вперед, закрутил усы
и сказал: что это значит, Panie kochanku?
2 Мировая.
616
фундаменты печей и погребов, и все это место покрыто
кустарниками.
Пересмотревши архивные бумаги и получивши список
названий бумаг, пересланных в Берлин, я простился с Несвижем и
вернулся в Петербург, а через пятнадцать дней поехал в Москву
заниматься бумагами Архива иностранных дел, относящимися к
эпохе падения Польши. Я пробыл в Москве половину осени,
прилежно посещая архив и рассматривая в нем донесения русских
послов: Штакельберга, Булгакова, Сиверса и Игельстрома, на что
прежде приобрел дозволение от канцлера благодаря содействию
его товарища Вестмана. Запасшись всем, что мне было нужно, я
воротился домой и снова принялся за свою историю, продолжая
посещать как Публичную библиотеку, так и Литовскую метрику,
и занимаясь там делами, относящимися к Польше описываемого
мною времени. Так прошла зима, которая в Петербурге в этот год
отличалась редкою суровостью: мороз доходил до 30 градусов и
ниже: летающие птицы погибали в воздухе.
Весною 1868 года я на несколько времени прервал свои
занятия историею Польши, приготрвляя к печати для помещения в
«Вестнике Европы» монографию о гетманстве Юрия
Хмельницкого, составленную по делам московского архива, и статью о первом
разделе церквей при патриархе Фотии, написанную по поводу
вышедшей тогда немецкой книги Гергенретера. Обе статьи
помещены в «Вестнике Европы» в том же году.
Настало лето, замечательное по необыкновенному зною и
удушливому воздуху, происходившему от дыма, долго
распространявшегося по всему протяжению столицы от горевших кругом
лесов. Думая усиленно заниматься историей Польши, я не нан*ял
себе дачи и оставался в городе, чтобы постоянно пользоваться
источниками, и мне пришлось в это лето перенести тяжелое
состояние. В сентябре окончились пожары лесов, и жители Петербурга
избавились от зноя и дыма. Всю осень и следующую зиму я
посвящал свои занятия исключительно «Последним годам Речи По-
сполитой»; наконец, в 1869 году приступил к печатанию моей
истории в «Вестнике Европы». Оно тянулось целый год и перешло
еще в следующий. В этом году С.-Петербургский университет
оказал мне честь, удостоив принятием в число своих почетных
членов, и ректор выдал мне диплом на это звание. Зимою с 1869 на
1870 год меня пригласили читать публичные лекции русской
истории в клубе художников. Не выходивши уже много лет в
публику, я принужден был побороть в себе эту отвычку, и это
совершилось для меня не без труда. Лекции мои, которых числом
было двадцать, сначала посещались большим стечением публики,,
но потом моя аудитория ограничилась только теми, которые
действительно имели умственный интерес к науке; впрочем, число
таких постоянных слушателей простиралось сот до четырех. Я
успел прочитать половину русской истории до усиления
Московского великого княжества и падения удельного порядка, обращая
преимущественно внимание на историю церкви, умственной
жизни, нравов, понятий и литературы. В то время как я читал эти
617
лекции, в Киеве, в университете св. Владимира, опять порешили
пригласить меня в этот университет на кафедру русской истории;
состоялся единогласный выбор и был представлен на утверждение
министра; но граф Д. А. Толстой нашел более удобным оставить
меня в Петербурге при Археографической комиссии и, не желая
лишить меня тех материальных средств, которыми бы я
воспользовался при поступлении на кафедру, исходатайствовал у
государя императора мне ежегодное содержание, равное окладу
ординарного профессора. Это ходатайство графа Димитрия
Андреевича было для меня истинным благодеянием и внушило мне
чувство глубокой благодарности к нему: во-первых, я получил
возможность остаться в столице и иметь под рукою более средств для
учено-литературной деятельности, составляющей цель и
наслаждение моей жизни; а во-вторых, я приобрел постоянную
поддержку своего материального быта, что освободило меня от
необходимости быть в постоянной зависимости и подчиненности
от издателей и журнальных редакторов.
В апреле я окончил свой курс или, лучше сказать, половину
курса публичных лекций по русской истории.
XIII
Поездка в Крым. Учено-литературные труды.
Поездки с археологическою и этнографическою целью.
В июне я отправился в Крым, где купался сначала в
Феодосии, потом в Ялте, в Алупке, в Севастополе и> наконец, в
Евпатории. Посещение Севастополя произвело на меня потрясающее
впечатление. Припоминая то время, когда я видел его еще
населенным и кипевшим жизнью городом со множеством кораблей и
судов, окруженным садами и рощами, — теперь въехал в
совершенные развалины. Бывшая лучшею часть города представляла
ряды домов и стен без кровлей, со следами пушечных выстрелов.
Не было и следа существовавших прежде сухих доков; огромные
матросские казармы на горе представляли громадную массу
развалин. В городе только одна часть, юго-западная, несколько
начинала отстраиваться, но и там торчало много непоправленных
домов. Первым делом по приезде в Севастополь было посетить
Малахов курган, где изрытая земля свидетельствовала о недавно
пронесшейся буре, потрясавшей этот край. Множество пуль
валялось еще по земле. Затем я посетил знаменитое стотысячное
кладбище,- где погребены массы защитников Севастополя. Иные
могилы принадлежали единичным лицам с надписями их имен;
на других огромные плиты носили на себе вырезанное название
«братская могила». Здесь тела убитых сваливали вместе, без
гробов, в одну яму. Все кладбище засажено молодыми айлантусами,
еще не успевшими в то время разрастись. Только что
достраивалась великолепная церковь, снаружи в виде конусообразного па-
618
мятника, а внутри представляющая ротонду в старом
византийском вкусе, несколько похожую на петербургскую греческую
церковь, — постройка чрезвычайно оригинальная: смотря на здание
снаружи, никак нельзя предполагать такого устройства внутри.
Обращаясь от воспоминаний близкого к нам времени к более
давним векам, я ездил в Херсонес и Инкерман. В Херсонесе
замечательными показались мне недавно откопанные мраморные
фундаменты существовавших там некогда православных
византийских церквей и множество обвалившихся мраморных колонн,
пьедесталей и капителей. В монастыре, недавно там заложенном,
строилась церковь во имя св. Владимира, и в ней сделано было
каменное место в виде бассейна: здесь, как догадывались,
совершилось крещение великого князя Владимира. Самая местность
Хе,рсонеса довольно скучная и однообразная. Путь в Инкерман
совершил я на лодке сначала по бухте, потом по Черной речке.
Здесь замечательны пещеры в горах; из них одна, находящаяся
против монастыря, на противоположном берегу Черной речки,
очень просторна, представляет большой идущий вверх коридор и
приводит к высеченной в горе комнате с фресками,
свидетельствующими, что там некогда существовала церковь; другие,
находящиеся на той стороне Черной речки, где монастырь,
свидетельствуют о более древнем быте неизвестных народов,
обитавших в этом крае в незапамятные времена и, вместо домов,
укрывавшихся в пещерах* высеченных в каменных горах. Ход в
последнего рода пещеры очень затруднителен, потому что
путешественнику приходится идти к ним с полверсты по узенькой
тропинке на краю отвесной пропасти. Есть пещеры в два яруса с
внутренними каменными ступенями, ведущими из нижнего яруса
в верхний. Инкерманский монастырь устроен в большой пещере
горы; из церкви по узкой лестнице идет выход на вершину горы,
где видны развалившиеся стены древнего города, как полагают,
греческого или еврейского.
Из Севастополя я совершил путешествие на перекладной в
Бахчисарай, осмотрел в третий уже раз в жизни тамошний дворец
и нашел в нем большую перемену против прежнего. Он носил
следы опустошения, так как во время Крымской войны уже не
сохранялся бережно, как делалось прежде, но обращен был в
военный госпиталь. Из Бахчисарая отправился я верхом в Чуфут-
Кале, где уже прежде бывал в 1841 году. Теперь это знаменитое
жилище евреев незапамятной старины было совершенно пусто.
Все евреи в недавнее время переселились оттуда в разные
крымские города; оставался на жительстве с семьею один только зять
ученого раввина Фирковича, обогатившего Публичную библиотеку
множеством драгоценных рукописей. Зять Фирковича, живучи в
уединении, весь был обложен рукописями и, принявши меня
любезно, водил меня в синагогу, показал старинную Библию,
существующую уже много веков, водил в пещеру, служившую когда-то
тюрьмою, где видны были вбитые в стену кольца и на них остатки
цепей; потом показал памятник, построенный, по преданию, на
могиле ханской дочери, убежавшей тайно от родителей с одним
619
чужеземцем и здесь застигнутой погонею; она вместе со своим
возлюбленным бросилась с вершины горы и погибла. За
исключением долины, где жил зять Фирковича, все прочие строения
Чуфут-Кале представляли такие же пустынные развалины, как и
Севастополь, хотя от других причин: древние еврейские колонии
не разорял в последнее время никакой неприятель, но сами
обитатели покинули гнездо своих предков. Въезд в Чуфут-Кале
ведется по краю такой ужасной пропасти, что нужно большой
смелости, чтобы проехать мимо ее, не отворотивши от ней головы.
Я возвратился из Чуфут-Кале другим спуском, идущим посреди
таких же пещер, как в Инкермане, и также принадлежащих
незапамятному доисторическому времени. Съехавши с горы, я
направился в Иосафатову долину; так называется еврейское
кладбище, очень древнее и обширное, обсаженное множеством
вековых деревьев. Здесь в числе памятников есть очень древние.
Один из них поставлен в год рождения Иисуса Христа. На воз^
вратном пути заезжал я в Успенский монастырь, церковь которого
высечена в горе; в этом монастыре любопытны могильные
памятники и камни, поставленные на места погребения христиан,
которых было много в Крыму уже во времена владычества татар и
которых потомки, умышленно оставленные в крайнем невежестве,
перешли в магометанство. Келий монашествующей братии
Успенского монастыря почти все высечены в скале, и для зрителя,
находящегося по. другой стороне оврага, представляются в виде гнезд
ласточек, приютившихся в безыскусственном величавом здании,
воздвигнутом самой природой.
Воротившись в Бахчисарай, я снова поехал назад в
Севастополь и два раза присутствовал на очень любопытном добывании
затопленных во время прошедшей войны корабельных снастей и
других предметов. Занимающиеся этим промыслом опускают
одного из товарищей на дно муоря под воздушным колоколом,
образующим чехол или род шапки на его голове. Опущенный на дно
видит там все, что может вытащить, а когда воздух, вдыхаемый
им через трубку, проведенную до поверхности воды, начинает
портиться, дает знать движением, и тогда его поспешно
поднимают вверх. При мне таким образом вытащено было несколько
медных и железных вещей, принадлежавших к устройству корабля.
Пребывание в Севастополе, продолжавшееся у меня десять
дней, представляло мало удобств, так как недавно возобновленная
гостиница не отличалась изобилием и доброкачественностью
своих материалов по причине необходимости доставлять все издалека.
Тогда я решился уплывать из Севастополя в Евпаторию, пона^
деявшись на вывешенные объявления о прибытии парохода из
Ялты «Общества пароходства и торговли» на Черном море; в три часа
пополудни я поспешил расплатиться в гостинице и приказал
нести свои вещи к пристани, находившейся в развалинах, но вместо
назначенного времени я прождал пароход до шести часов
следующего утра. Идти в гостиницу было уже невозможно, потому что
мой нумер при моем выходе из него был занят другим лицом, —
и мне пришлось сидеть несколько часов под палящим солнцем, а
620
потом ночевать на голом камне под открытым небом. Когда я
вступил на пароход и стал выговаривать капитану, что такая
неаккуратность наносит большие беспокойства пассажирам, он грубо
ответил мне, что и за то пассажиры должны быть благодарны, что
есть на чем плыть. Когда мы поплыли, я увидал; что пассажиры,
заплатившие заранее за места в первом классе, не находили там
приюта и постелей по крайней тесноте и были принуждены либо
уходит-ь во второй класс, либо размещаться на палубе. Никаких
разговоров и объяснений от них не хотели слушать. Часа в два
мы прибыли в Евпаторию. Я сошел на берег и, чтобы не
подвергаться новой случайности, спросил капитана, долго ли пароход
будет здесь стоять. Капитан грубо ответил: «Вам до этого нет дела;
сколько захотим — столько и будем стоять». При самом сходе на
берег пассажиров окружила наглая толпа цыган, они насильно
выхватывали вещи и спешили их нести неизвестно куда;
носильщики, занимавшие эту должность от «Общества пароходства и
торговли», отнимали у них вещи и били их самих. Пассажиры в
недоумении и незнании, что станется с их вещами, должны были
дожидаться окончания этой возмутительной борьбы.
Я решился пробыть в Евпатории дня два или три, чтобы
познакомиться как с городом, так и с тамошним купаньем, и
приютился в каком-то подобии гостиницы, носившей громкое имя
«Афины». Гостиницу эту содержал евпаторийский грек. Комнаты
были до крайности бедны и неопрятны, но кушанье хозяин давал
вкусно изготовленное из свежих материалов и за умеренную цену.
Я пробыл в Евпатории трое суток и ходил купаться по несколько
раз в день. Море на далекое пространство мелко, и можно ходить
далеко от берега, но в некоторых местах путь затрудняется
морскими растениями. Вообще евпаторийское купанье хуже
феодосийского: лучше последнего я не встречал нигде — ни у нас, ни
за границею. Самый город Евпатория заселен главным образом
караимами. Рынок евпаторийский изобилует громадным складом
всякого рода местных плодов, но в городе нет ни общественных
садов, ни деревьев, под которыми можно было бы укрыться от
томительного зноя. Говорят, впрочем, что караимы внутри своих
дворов разводят садики, но они составляют их семейное достояние.
Караимы здесь, как и везде в Крыму, живут закрыто, но в общем
мнении пользуются хорошею репутациею и составляют
совершенную противоположность евреям-талмудистам, в народе
называемым жидами. Караима в Крыму никто не назовет жидом.
После краткого обозрения Евпатории я отправился на
пароходе в Одессу, куда после небольшой качки и прибыл утром другого
дня.-Город Одесса, где я был назад тому 24 года, теперь показался
мне $о того изменившимся, что едва можно было узнать в нем ту
Одессу, которую я прежде видел. Вся она отстроена как любой
европейский город; освещение газом не уступает петербургскому,
а мостовая лучше столичной. Ректор Одесского университета Ле-
онтович, познакомившись со мною на пароходе во время плавания
в Евпаторию, пригласил меня поместиться в его квартире в здании
университета, так как сам он проводил лето на даче. Посещая его
621
дачу и других знакомых, живших по дачам, я изумился
чрезвычайной скудности растительности одесского климата:
искусственные цветники и тощие кусты айлантуса да акаций составляли всю
обстановку дачной жизни. Только дача графини Ланжерон,
обычное общественное загородное гулянье на берегу моря, да немецкая
колония Люстдорф, где, между прочим, устроено водолечебное
заведение, — несколько живые и сравнительно приятные местности.
Университетские профессора заметили, что меркантильное
направление одесского общества, проникая в круг студентов,
препятствует расширению среди них той любви к науке, без которой
университет делается бездушным трупом. Здесь все гоняется за
личною выгодою, все прежде всего думают о наполнении своего
кармана; иудеи составляют самый сильный класс общества,
владея капиталами и торговлею. За ними стоят греки, не уступающие
иудеям в меркантильности, но не в силах будучи состязаться с
ними в первенстве, остаются их вечными непримиримыми
врагами, и эта-то вражда разразилась теми бурными явлениями,
которые недавно перед тем потрясали одесские улицы и которых
возобновления ожидали в Одессе снова при первом удобном
случае. По поводу беспрестанно томящего жара в летнее время Одесса
живет и веселится только по ночам; весь приморский бульвар
кишит разнородною толпою, которая наиболее стекается в
кондитерские есть мороженое, что дает Одессе характер итальянского
города.
Пробыв неделю в Одессе, я отправился в Петербург по
железной дороге через Киев, в котором остановился на сутки и, наняв
извозчика с шести часов утра до отхода железнодорожного поезда,
я объехал весь Киев, захватив даже часть его окрестностей, и
нашел его еще более Одессы изменившимся после того, как я
оставил его назад тому 23 года. Из Киева, нигде не
останавливаясь, я возвратился в Петербург в начале августа. Вскоре по
возвращении домой я получил ревматическую боль в затылке,
которая с тех пор мучила меня почти два года, мешая много моим
занятиям. Только в свободные от этой боли часы я мог предаваться
прежнего рода трудам. В это время я написал и поместил в
«Вестнике Европы» статью «Начало единодержавия в древней Руси».
Эта статья была сокращением мыслей, изложенных в более
подробном виде в моих публичных лекциях, читанных в клубе
художников в 1869-70 годах, и по своей задаче составляла как бы
продолжение статьи «О федеративном начале», появившейся
некогда в «Основе». Я доказывал, что'единодержавие у нас, как и
везде в свете, явилось вследствие факта завоевания страны.
Завоевателями нашими были татары — и первыми единодержавными
обладателями Русской земли и ее народа были татарские ханы.
Тогда вместо общинного старинного быта, не прекратившегося в
удельные времена при князьях Рюрикова дома и выражавшегося
автономическим значением земель или городов, появился
своеобразный феодализм. С падением могущества золотоордынских
ханов роль единодержавных обладателей стала переходить на их
главнейших подручников — великих князей, которыми, по утвер-
622
ждении великокняжеского достоинства в Москве, делались один за
другим князья московские, разрушая феодальные элементы и
сосредоточивая верховную власть в одни руки. Я старался вывести
характер московского владычества из самой истории его
образования.
В 1871 году я напечатал в «Вестнике Европы» три статьи.
Первая из них — «История раскола у раскольников» — заключала
разбор неизвестного в печати исторического сочинения Павла
Любопытного. В этом разборе я избрал себе задачею объяснить
культурное значение великорусского раскола в духовной жизни
русского народа. Другая статья — «О личности Ивана
Грозного» — написана по поводу речи К Л. Бестужева-Рюмина, где
почтенный петербургский профессор вознес царя Ивана до небес как
великого человека. Тогда же напечатано было там же рассуждение
«О личностях Смутного времени». В этой статье я указывал на то
неприятное обстоятельство, что многие важнейшие личности
знаменитейшего периода нашей истории, как, например, Михайло
Скопин-Шуйский, Минин и Пожарский, представляются с такими
неясными чертами, которые не позволяют историку уразуметь и &
точности очертить их характеры. Статья эта вооружила против
меня Ивана Егоровича Забелина и дала повод на его возражение
писать в опровержение новую статью в 1872 году. Г. Забелин
сообщал такой взгляд, что в России главную роль играл народ всею
своею массою, а не типичными личностями, и потому историку
не нужно гоняться за отысканием заслуг отдельных исторических
лиц. Собственно, в назидательном мнении И.Е. Забелина я не
нашел для себя ничего нового или противоречащего моим
взглядам, много раз мною уже заявленным и в особенности
сказывающимся в сочинении моем «Смутное время Московского
государства», но г. Забелин как будто не хотел обратить внимание
на главную мысль моей статьи: именно на то, что источники по
своей скудности или краткости представляют мало черт для
уразумения характеров тех лиц, которых он сам признает важными
деятелями. Впоследствии на меня начал за то же нападать в
московских газетах и Погодин, но последний прямо хотел доказать,
что личности, за которыми я признавал неясность по источникам,
напротив, очень ясны, и при этом приводил разные летопис'ные
похвалы, желая показать, что это именно те черты, в которых я
как бы преднамеренно не усматривал никаких характеров.
Возражения Погодина отзывались устарелостью, так как при
современном состоянии науки всякий занимающийся ею легко мог понять,
что чертами характеров нельзя называть похвалы летописцев,
расточаемые обыкновенно по общим, предвзятым для всех приемам.
Известно, что летописец о редком старинном нашем князе не
наговорит несколько лестных слов в похвалу его добродетелям, но
приводит обыкновенно такие черты, которые не представляют
ничего присущего отдельному лицу, независимо от нравов того
времени.
С половины 1871 года я принялся за большой труд — писать
сочинение «Об историческом значении русского песенного народ-
623
ного творчества». Это было расширение того давнего моего
сочинения, которое некогда служило мне магистерской диссертацией.
В 1872 году я начал помещать его в московском журнале «Беседа»,
издаваемом Юрьевым, но печальная судьба этого журнала,
присужденного по не зависящим от редакции причинам прекратить
преждевременно свое существование* лишила меня возможности
окончить печатание моего труда. Я успел выпустить в свет только
черты древнейшей русской истории доказацкого периода
южнорусской половины, насколько она выразилась в народной песен-
ности.
. В том же 1871 году в Петербурге отправлялся Второй
археологический съезд,* на котором я был депутатом от
Археографической комиссии, но лично не принимал в нем никакого участия
своими рефератами. В 1872 году, продолжая в «Беседе» печатание
моего сочинения о русской песенности, я начал писать статью
«Предания первоначальной русской летописи», стараясь
доказывать, что на события русской истории, до сих пор считаемые
фактически достоверными, надобно смотреть более как на выражение
народной фантазии, облекшейся в представления о фактах, долго
признаваемых на самом деле случившимися.
В мае по приглашению некоторых моих знакомых в
Малороссии я отправился в Киевскую губернию с целью осмотреть
несколько местностей, имевших значение в истории казачества и
которых мне не удалось видеть прежде. Собравшись вместе с
малорусским этнографом Павлом Платоновичем Чубинским, я
посетил Корсунь, где кроме прекрасного сада, принадлежавшего князю
Лопухину, осмотрел знаменитый «Ризаный яр», или, как некогда
он назывался, «Крутую балку» — место поражения, нанесенного
Богданом Хмельницким 16 мая 1648 года польскому войску,
бывшему под начальством гетманов Потоцкого и Калиновского. И
теперь еще, глядя по долине вдоль ее, можно заметить проведенную
на скате горы линию, ясно свидетельствующую о том, что здесь
был сделан облом горы с намерением прекратить путь польскому
обозу. Поляки, уходя от преследовавших их казаков и татар,
наткнулись невзначай на это роковое для них место, и множество
их возов попадало в овраг, устроенный заранее казаками,
высланными Хмельницким, руководившим этою военною хитростию.
Польская конница, увидя на пути своем неожиданную пропасть,
пустилась врассыпную вправо и влево вдоль горы, гонимая
казаками и татарами. Оба гетмана и другие знатные паны захвачены
были в своих каретах. Местоположение в то время было лесистое,
и теперь еще, вправо, есть не старые остатки леса, среди которых
торчат огромные пни прежних дерев. Село Гроховцы, откуда, как
говорят современники, вышли поляки, приближаясь к роковому
месту своего поражения, теперь уже не существует, и имя его не
сохранилось в народной ламяти. В самом местечке Корсуне есть
следы старинного казацкого города с окопами. В доме князя
Лопухина сохраняется несколько древних вещей* выкопанных в
Корсуне и его окрестностях. Между ними есть остатки оружия и
сбруи, найденных в «Ризаном яру», несомненно, принадлежавших
624
разбитым в этом месте полякам. Из Корсуня мы ездили в
монастырь, отстоящий от местечка в^ нескольких верстах, -— тот самый,
гд,е Юраско Хмельницкий принял пострижение в монашество. В
этом монастыре, нет ничего древнего, церковь и келий деревянные,
недавней постройки. Вся дорога к Корсуню идет по берегу реки
Роси, где встречается множество старых городищ и курганов, еще
не обследованных археологией. Затем совершена была нами
поездка в монастыри Мошнинский и Виноградский; последний
расположен в очень красивой роще и хотя не имеет никаких старых
вещей, но архимандрит его сообщил мне кучу письменных
пергаментных и бумажных документов, которые, впрочем, были уже
недавно напечатаны в небольшой • брошюре, изданной
монастырскими средствами.
После этих осмотров мы направились к Чигирину, осмотрели
Лебединский монастырь, прежде бывший мужским, а теперь
перестроенный в женский, проехали через местечко Жаботин, где
до сих пор показывают хату сотника Харька, убитого поляками
перед началом восстания малоруссов, известного в истории под
названием Колиивщины, или Уманской резни. Из Жаботина мы
приехали в Матронинский монастырь, приобревший громкую
известность в XVIII веке как деятельностию своего архимандрита
Мельхиседека, так и казацким восстанием, которым руководил
бывший послушник этого монастыря Максим Зализняк.
Матронинский монастырь с его деревянною церковью и деревянными
келиями помещается в большом лесу, который надобно проехать
на протяжении восьми верст, прежде чем добраться до монастыря.
В этом лесу видны два высоких вала, один за другим на
расстоянии нескольких верст между собою обходящих кругом
пространство, в котором заключается посреди лесной заросли
монастырское строение. Приехавши в монастырь, я в
сопровождении одного монаха отправился за версту от монастыря в лесное
ущелие, называемое «Холодный яр». Здесь была стоянка
гайдамаков, собиравшихся учинить восстание народа против Польши. На
ямы, которыми изрыта вся эта местность, указывают как на
остатки пещер, в которых скрывались гайдамаки. Архимандрит
показал мне в келий портрет Максима Зализняка в звании
послушника Матронинского монастыря, с коротенькою «люлькою»
в зубах; и сверх того показал мне несколько золотых и серебряных
монет, выкопанных в валу, окружающем монастырь. Монеты эти
византийские, первых веков существования Византийской
империи. Они заставляют предполагать, что в эти далекие времена на
месте, окаймленном один за другим валами, существовало
поселение, входившее в торговые связи с византийским миром. Недурно
было бы, если бы археология наша обратила внимание на этот
любопытный уголок. Из Матронинского монастыря мы
отправились в Субботово — местопребывание Богдана Хмельницкого,
имевшего там хутор, из-за которого вспыхнуло восстание,
освободившее казаков от польского панства. На дороге мы посетили Мед-
ведовский монастырь, к которому гетман Богдан Хмельницкий
питал особое уважение и где погребен был его сын Тимофей, но
21 Заказ 15 625
не нашли там архимандрита и ничего не видали, хотя, судя по
рассказам, нам и не пришлось бы ничего особенного увидеть.
В Субботове мы пристали к почтенному и доброму
священнику, отцу Роману, который издавна пользуется большою любовью
прихожан и 'наилучшею репутациею в окрестностях. В его очень
чистеньком домике первый предмет, попавшийся нам на глаза,
был портрет Богдана Хмельницкого. Против самого домика
священника увидали мы деревянную церковь троечастную, как
большею чаетию строились старинные малорусские храмы. Из окон
его домика виднелись на холме белые стены другой церкви,
которой архитектура несколько напоминала римско-католические
костелы в этом крае. То была церковь, построенная самим Богданом
и послужившая временным местом его погребения. Отец Роман
повел нас в эту церковь. Она невелика, сделана
четвероугольником, с небольшими узкими ^окнами и необыкновенно толстыми
стенами, в средине которых проведены каменные лестницы,
ведущие на хоры. Внутри этой церкви на правой стороне прибита
доска с надписью, гласившею, что здесь было погребено в 1657
году тело гетмана Богдана Хмельницкого, выброшенное из могилы
на поругание псам польским полководцем Чарнецким в 1664 году.
Недалеко от церкви можно видеть фундаменты построек,
составлявших двор Хмельницкого. Теперь остались только развалины
погребов, но священник сообщил нам, что лет около двадцати
назад здесь стояли еще довольно высокие стены, разобранные
впоследствии крестьянами на свои домашние нужды в разные времена.
Близ самого места построек находится овраг, образовавшийся
полою водою, а в глубине этого оврага идет дорога. Образование
этого оврага и проведение по нем дороги способствовали
искажению двора, Хмельницкого.
Разговорившись с тамошними крестьянами, я услыхал от
одного из них рассказ о том, как Хмельницкий отнял у Барабаша
привилегию. Рассказ этот носит ту же редакцию, какая
напечатана в «Записках о Южной Руси» Кулиша. По словам этого
крестьянина, «Хмельницкий був князь и гетьман на всю Украину,
большой враг панов и жидов», как увидит где жида, сейчас велит
поймать его и прибить гвоздем ермолку к его голове, а панам,
которых приводили к нему казаки, Хмельницкий приказывал
рубить головы около «каменной бабы», которая стоит на улице, на
дороге, ведущей от деревянной церкви к каменной. У
Хмельницкого голос был такой громкий, что, бывало, выйдет на крыльцо
своего дома и, увидев с него казаков, косивших сено на лугу за
Тясьмином версты за три, крикнет: «Хлопци, идить горилку пить,
жинка вже борщу наварила»; казаки слышат его, покидают работу
и спешат к его дому. О сыне Хмельницкого Юрии сохранилось
предание, что «он принял бусурманскую веру и навел турок на
Украину; когда они подошли к Субботову, турецкий паша сказал
Юрию: «Если ты нас не обманываешь и на самом деле стал
человеком нашей веры, то выстрели из пушки и сбей крест с той
церкви, которую твой батько построил. Хмельницкий так сделал,
и турецкое ядро ударило прямо в крест субботовской церкви. За
626 S
это бог сказал с небеси: «Юрашко, за такое дело земля тебя не
примет, и будешь ты ходить по земле до скончания века, до
Страшного суда»; и с тех пор Юрашко Хмельницкий скитается по
земле, и чумаки его видели. О времени, когда жили Хмельницкие,
у народа сохранились сбивчивые понятия: смешивается эпоха
Хмельницкого с близкою для народа эпохою падения Польши.
Рассказывают, что поляки стали жестоко ,стеснять православный
народ и делать над ним разные пакости: остригали девок и из кос
их делали вожжи, из церковных риз делали попоны, а церковными
восковыми свечами погоняли лошадей; когда же православные
поднимали ропот, то поляки устраивали над ними такого рода
истязания: ставился у пана деревянный столб со ступенями, одна
выше другой; поставят человека к ступени, привяжут к столбу и
в таком положении оставляют на долгое время, так что стоящие
вверху принуждены испускать нечистоты на головы поставленных
ниже. Наконец, когда не стало терпения, православные отправили
к царице одного архимандрита просить, чтобы царица
заступилась за них и взяла их край от Польши. У царицы был тогда
любимец Потемка. Сперва он заступался за народ, а потом .отдал
дочь свою за польского пана Браницкого и стал мирволить поля^
кам. Тогда за народ заступились генералы Чорба и Хмельницкий.
Хмельницкий ездил к польскому королю и выпросил у него
бумагу, но один казацкий чиновник, приятель Потемки, украл у него
эту бумагу и держал у себя. Затем следует рассказ о похищении
привилегии и бегстве Хмельницкого в Запорожскую Сечь. Далее:
«Генерал Чорба вызвал Потемку на поединок; оба стали на двух
могилах (курганах); выстрелил Потемка и убил Чорбу, но в то же
время успел выстрелить и Чорба; Потемка забежал далеко, в
Херсон, и там превратился в медную статую. Ездили в Херсон чумаки
и сами видали — стоит там медный Потемка до сих пор; а
Хмельницкий побил ляхов и стал князем на всю Украину, и ничего с
ним царица не могла сделать. Что ни пошлют против него
москалей, он перехитрит их, не допустит до себя, разобьет и прогонит,
а кого в плен возьмет — в тюрьме держит. И таков был он до
смерти. Потом уже сын его передался туркам и поступил в
турецкую веру». Такие сбивчивые слухи сохранились о Хмельницком
на его родине.
Из Субботова мы отправились в Чигирин. Трудно представить
себе город с более красивым местоположением. Он лежит на
самом берегу Тясьмина, а над ним возвышаются живописные
разнообразные горы. На этих горах видны остатки старого замка и
во многих местах следы земляных рвов и окопов — свидетельство
той эпохи, когда Чигирин при царе Федоре Алексеевиче
выдерживал два нападения от турок. Самый городок сохраняет чисто
малорусский характер. В нем нет ни одного поляка и очень мало
иудеев. У жителей заметна особая любовь к садам, которых здесь
изобилие; домики чистые и отзываются сельскою простотою. Как
в Чигирине, так и в его окрестностях выкапывают много
бронзовых стрелок, памятников доисторической старины. Вся околица
покрыта множеством больших и малых курганов, придающих
21* 627
>краю своеобразный поэтический вид. Из. Чигирина я выехал на
станцию Знаменку и оттуда по железной дороге без остановки
пустился до Петербурга.
На пути между Москвою и Петербургом ночью, в то время как
я заснул, отворенные окна вагона наделали сквозного ветру,
который мгновенно возобновил в моем затылке прежние припадки
боли. По приезде домой я почти целый месяц чувствовал усиление
этой боли, стараясь облегчать свои страдания холодными купань*
ями и компрессами. Занятия мои пошли слабее. Так всегда делат
лось со мною в эпоху моей петербургской жизни. Разные газетные
нападки и всякого рода печатные и словесные клеветы мало меня
раздражали и вообще почти не мешали ходу моих ученых и
литературных занятий, но нервные боли, проявлявшиеся прежде, как
и теперь, преимущественно, головными и глазными страданиями,
составляли для меня постоянное несчастие. Я чувствовал, что под
гнетом этих болей мои умственные силы ослабевали, пропадала
энергия, мучило невольное бездействие, а если брал над собою
волю, то это стоило мне больших усилий и я сознавал, что
физические страдания отпечатлевались на моих произведениях, а перо
мое делалось вялым, — по крайней мере, как я чувствовал,
лишено было той живости, какую имело бы при. более нормальном
состоянии моих телесных сил. Еще более наводила на меня страх
и уныние грустная мысль, что в будущем я должен ожидать себе
худшего состояния и быть лишенным зрения, а с ним и
возможности заниматься наукою, тогда как занятие это стало для меня
необходимым как воздух. В июле я ездил постоянно на дачу в
Ораниенбаум, где надеялся, что купанье там будет лучше, но
очень ошибёя, так как дно моря в Ораниенбауме оказалось очень
мелко. Здесь любимым местом моих уединенных прогулок был
полуразрушенный дворец, построенный Петром III, где этот
государь думал было защищаться, но потом бежал оттуда в
Кронштадт. Дворец этот двухэтажный и стоял в то время совершенно
покинутым. Внутри его полы были сняты, лестницы разломаны,
стекла выбиты. Такое состояние разрушения имело для меня что-
то привлекательное, па целым часам просиживал там с книгою в
руках — или даже без книги с думами о прошедшем.
XIV
Премия. Глазная болезнь.
«Русская история в жизнеописаниях».
Поездка в Екатеринослав и Киев.
В сентябре 1872 года мне была присуждена премия за мое
сочинение «Последние годы Речи Посполитой». Еще в конце
прошлого года я представил его в Академию наук для соискания
премии. Академия поручила составить разбор моего сочинения
Иловайскому. Д. И. Иловайский, писавший сам уже после, меня
628
о той же эпохе, к которой относилось мое сочинение, присудил
мне малую премию. Не вполне довольная рецензией Иловайского,
Академия отправила мое сочинение для нового разбора марбург^
скому ученому, профессору Герману, автору «Истории России»,
писанной на немецком языке, но владеющему хорошо русским
языком. Тогда многие, услыхавши об этом, находили такой постук
пок Академии как бы унизительным для русской науки. Значило,
как будто, что в России нет ученых, способных оценить труд,
предлагаемый на соискание премии. Иные предсказывали, что не-
Мёцкий ученый умышленно не признает достойным русского
сочинения." Разбор моего сочинения, составленный Германом, был
прислан в Академию. Немецкий ученый не только не
руководствовался какими-нибудь предубеждениями противу русского ума,
но оказался ко мне внимательнее самого Иловайского — русского
человека: Герман присудил мне за сочинение большую премию.
Однако Академия рассудила не дать ее мне, а наградить малою —
на том основании, что в то время было представлено на соискание
премий несколько сочинений, признанных достойными малой
премии, но так как всех удовлетворить было невозможно по
недостатку сумм, то и положили отнять у меня две трети суммы, слег
дуемой мне по приговору Германа. Сверх того принималось во
внимание, как мне лично сказали в Академии, и то, что я человек
бессемейный и бездетный, а следовательно, не нуждающийся в
средствах, которые более необходимы для людей> обремененных
семейством. Надобно было скрепя сердце повиноваться, но по
внутреннему убеждению я не мог согласиться с справедливостию
таких воззрений. Если недоставало денег для вознаграждения
других лиц малыми премиями, то отсюда не вытекала необходимость
вознаграждать их на мой счет. Что же касается до принятия во
внимание семейных дел особ, подающих сочинения на премию,
то ясно, что Академия не может быть благотворительным
заведением, и правила раздачи премий установлены вовсе не в видах
благотворительности: Академии надлежало ценить прямо одно
лишь сочинение, а не семейную обстановку автора. Цель, с какою
установлено давать большие и малые премии, совершенно
нарушается такими взглядами: всегда есть возможность явиться в
изобилии сочинениям, достойным малых премий, и если для
удовлетворения их авторов признается необходимым отнимать две
трети большой премии у того, кто заслужил ее, то не следовало и
установлять большой премии. Да и самая благотворительность
Академии наук может быть несостоятельна: ученый, имеющий
большое семейство, может нуждаться гораздо менее ученого
одинокого, если имеет взрослых детей, совершенно пристроенных и
помогающих родителю своими трудами или своими личными
средствами к содержанию; ученый семейный может при
счастливой семейной жизни обладать хорошим здоровьем, а ученый
одинокий может при своих трудах и безотрадной жизни расстроить
свое здоровье и потерять зрение, не имея ни в ком поддержки.
Наконец, часто ученый семейный может владеть имуществом,
превосходящим состояние ученого одинокого. Не входя в объяснения
629
с Академией по этому предмету, я получил малую премию — с
полною решимостию никогда уже не представлять на премии
моих сочинений в то учреждение, которое в раздаче лремий не
сообразуется с приговором лиц, которым доверяло разбор
сочинений, а руководствуется особыми, никем официально не
установленными взглядами, не выраженными в правилах о премиях.
В октябре я отправился в Москву для осмотра малорусских
бумаг, хранящихся в сенатском архиве. Около месяца рассматри?
вал я эти бумаги и, выбравши из них то, что по моим соображе*
ниям годилось к ближайшему напечатанию в «Актах Южной и
Западной России», указал все это к пересылке по почте в
Археографическую комиссию. Когда я воротился в Петербург и за мною
вслед присланы были в Комиссию эти отобранные бумаги* я
предпринял составить по ним монографию о гетманстве Дорошенка,
которая составляла бы продолжение тех монографий, какие были
уже написаны мною по истории Малороссии. Я надеялся мало-
помалу написать таким образом всю историю Малороссии,
обрабатывая ее по периодам. Теперь очередь была за эпохою
Дорошенка, и я принялся приводить в порядок и изучать добытые
мною источники.
В это время в отчете Академии наук был напечатан
составленный Германом разбор моего сочинения «Последние годы Речи По-
сполитой». Из отчета было видно, что Академия посылала на
просмотр немецкому ученому рецензию, написанную на мое
сочинение Иловайским. Герман отверг эту рецензию и не
соглашался с замечаниями Иловайского. Немецкий ученый, знающий
хорошо русский язык, в рецензии своей сознавался, что не зная
польского языка, не в состоянии проверить моего способа
обращения с польскими источниками, особенно теми, которые лежали в
рукописях в петербургском и московском архивах. Относительно
моих взглядов Герман находил у меня некоторую долю русского
патриотизма, помешавшую мне с полным беспристрастием
отнестись к польским событиям. Между прочим, почтенный немецкий
ученый заявляет свое несогласие относительно моего взгляда на
Конституцию 3 мая и на Тарговицкую конфедерацию. В этом
случае я готов поспорить с достоуважаемым профессором. Нет
сомнения, что в Конституции 3 мая находятся черты, вполне
заслуживающие сочувствия, и при благоприятном стечении
обстоятельств они могли бы принести хорошие плоды, но историк не
должен останавливаться над тем, что могло бы выйти, если бы
обстоятельства сложились иначе, а должен иметь в виду
состоятельность или несостоятельность учреждений при тех
обстоятельствах, какие действительно сложились в истории. С другой
стороны, не следует чересчур обвинять членов Тарговицкой
конфедерации за то, что их действия оказались пагубными: они были
дети своего века, выступали на историческое поприще с
понятиями, усвоенными из поколения в поколение. Был ли виноват поляк
в том, что, считая республику лучшим учреждением в мире,
понимал ее в том образе, в каком видел с детства и в каком научился
понимать от своих родителей и наставников? В конце XVIII века
630
люди еще не доросли до сознания той истины, что те или другие
политические формы сами по себе не важны, а их хорошие или
дурные последствия зависят от степени нравственного и
умственного развития общества. Идеи Французской революции,
провозгласившие великую и святую истину равенства всех людей пред
законом, в то время еще нигде не понимались. Все правительства
Европы, боясь страшного пугала якобинства, прилагали все
старания не допустить в управляемых ими обществах господства этих
идей, тем €олее что это господство представлялось как бы
связанным с господством безбожия и уничтожения положительной
религии. Удивительно ли, что воспитанные в строго католическом духе
польские паны боялись того же, а при долговременной
политической своей невоспитанности простодушно поверили в искренность
монархов, поддерживающих старое республиканское правление в
Польше? Наконец, даже те из них, которые действовали с явными
видами удовлетворения личных выгод и тщеславия, — пред
историческим судом находят для себя известную долю оправдания в
недостатке воспитания и господстве общественных предрассудков
своего времени. То же остается мне сказать и относительно того
взгляда на национальный характер поляков, в чем меня упрекал
не только Герман, но и некоторые из наших критиков. Указывая
на те черты польского характера, с которыми явилась польская
жизнь в своей истории, я не смотрю на этот характер как на
что-то свыше определенное судьбою, а как на результат тех
явлений исторической жизни, которые сложились в незапамятной
древности и не могут быть обследованы мною при недостатке
источников. Если кто. другой найдет возможным их обследовать —
тем лучше. Одно только я принимаю во внимание и намечаю себе
для будущей переработки моего труда, если доживу до
возможности этой переработки: это то, что многое, составлявшее как бы
отличительные черты польской общественной жизни, не
принадлежало исключительно Польше, а составляло достояние всей
Европы в прошлые времена; но и тут все такие общие признаки
выражались в каждой стране с чертами, ей одной свойственными.
Так, например, всем известное порабощение простого класса
народа в Польше, в сущности своей, не составляло исключительной
принадлежности польской нации: те же начала мы видим и в
других странах Европы; а только в Польше при ее
республиканском образе правления эти начала принесли своеобразные и более,
чем где-нибудь, печальные плоды. Наконец, уродливое безобраз-
ничанье и самодурство, которыми так отличались польские паны
старого времени, нельзя в принципе приписывать характеру одних
поляков и условиям их общественной жизни, потому что подобных
черт можно легко отыскать и в тогдашней Германии в быте
тамошних князей и рыцарей; только в Польше менее, чем
где-нибудь, было удержу необузданным выходкам зазнавшегося
привилегированного сословия.
В декабре 1872 года у меня начали болеть глаза, а доктор, к
которому я обратился, не зная моей мнительности, до того напугал
меня, что я впал в уныние, покинул работу над Дорошенком и
631
долго не мог ни за, что приняться. Глазам моим от напряжения
делалось все хуже и хуже. Другие врачи сказали мне, что
единственным спасением моим от слепоты будет, если я на
продолжительное время стану воздерживаться не только от разбора, старых
бумаг, но даже и вовсе от чтения и письма. Я чувствовал в глазах
страшную ломоту, доводившую меня иногда до крика; боли
усиливались по вечерам; когда нужно было употреблять свечи, —
лампы уже давно стали невыносимы для моих глаз. „При таком
состоянии моего зрения, при болях, невозможность предаваться
любимым трудам по исследованию занимавших меня научных
вопросов повергала меня в сильнейшую тоску, окончательно
разбившую мою нервную систему. Я положительно пропадал от
бездействия. Тогда по совету многих знакомых я решился приняться
за составление «Русской истории в жизнеописаниях ее
главнейших деятелей», предназначая эту историю для популярного
чтения. Мысль эта уже много раз была настойчиво сообщаема мне
знакомыми, но я не поддавался ей будучи постоянно увлекаем
другими вопросами отечественной истории. Теперь по причине
решительной невозможности заниматься чтением источников и
вообще тою подготовительною работою, какой требуют новые
научные исторические труды, я решился последовать внушаемому мне
намерению и приступил к составлению «Русской истории в
жизнеописаниях». Отдаленные периоды русской истории с ее
деятелями были уже во многих частях изучены, мною при отдельных
исследованиях, и потому предпринимаемая задача не
представлялась трудною и беспокойною для моих нервов. Для сбережения
глаз я пригласил жену моего бывшего приятеля г-жу Белозерскую
читать мне вслух места, которые я укажу в источниках, и писать
текст по моей диктовке. Ее сестра, г-жа Кульжинская, изъявила
желание быть издательницею моей «Истории». Таким образом, я
принялся за труд, подходивший к тому состоянию зрения, в каком
оно у меня находилось. В мае 1873 года был уже готов первый
выпуск моей «Истории». Отдавши ее в печать, я тотчас принялся
за другой и тем же способом работал над ним.
Между тем на короткое время я обратился снова к эпохе
Смутного времени. Появившаяся в «Журнале Министерства народного
просвещения» статья Е. А. Белова силилась доказывать, что
царевич Димитрий не был никем умерщвлен, а действительно сам себя
зарезал в припадке падучей болезни, как показывается в
следственном деле, которое после его смерти производил в Угличе князь
Василий Шуйский. Статья Белова представляла новую попытку
вносить в историю Смутного времени парадоксальные понятия, и
я счел нужным опровергнуть ее и разобрал следственное дело об
убиении царевича Димитрия, чтобы показать несостоятельность
вытекающих из него заключений. По мнению, которое я изложил
в тогдашней статье, царевич Димитрий был несомненно убит, но
действительно ли Годунов давал приказание убить его, или его
клевреты заблагорассудили сами угодить ему втайне и совершили
убийство без его приказа, но с явным сознанием, что совершенное
ими злодеяние будет ему приятно и полезно, — это остается в
632
неизвестности. Что же касается до производства следствия
Шуйским/ то этот князь, собственно, и не мог по следствию отыскать
убийц Димитрия: их уже не было на свете; оставалось'поставить
дело так, чтобы угодить сильному Годунову, иначе Шуйский не
мог бы сделать последнему ничего особенно вредного, но вооружил
бы его против себя напрасными попытками сделать ему вред.
В конце июля по приглашению гг. Кульжинских отправился
к.'Я в Екатеринослав. Я ехал по железной дороге, а потом по Днепру,
i Проживши с неделю у моих знакомых в Екатеринославе, я поехал
хна обывательских вниз по Днепру для обозрения порогов и
берегов. Много описаний читал я прежде об этих местностях и давно
уже порывался их видеть; наконец, удобный случай представился
исполнить мое давнее желание. Днепр и его берега показались мне
живописнее и поэтичнее того, как я рисовал их себе в
воображении. На протяжении всего течения Днепра по порогам оба берега
становятся высокими; шум прорывающихся через пороги волн
слышен более чем за версту. В особенности живописны пороги
Ненасытецкий и Вольникский. У самого Ненасытецкого порога на
высоком правом берегу лежит имение Синельниковых. Гул
бегущей с порогов воды, достигая села, так силен, что мешает
расслышать слова в разговоре. К сожалению, я путешествовал в такое
время года, когда вода значительно спала, но ранее — в мае и в
июне, как говорят, гул порогов еще бывает громче и вообще
местность эта кажется более привлекательною. Здесь я узнал, что в
селе проживает старый слепой бандурист по имени Архип,
знающий много старых казацких дум и песен, но его не могли найти
для меня: он отправился в Новомосковск на ярмарку по своему
песенному промыслу. Жители здесь, как и вообще на днепровском
берегу около порогов, малоруссы, и если отличаются от жителей
более верхнего края Малороссии, то разве сравнительно более
сохранившеюся чистотою малорусской речи, большею опрятностью
в домашней жизни, зажиточностью и ношением бород.
Путь южнее Вольникского порога по правому берегу Днепра
идет еще в виду нескольких порогов, одного за другим, но здесь,
между порогами, являются на Днепре острова, заросшие лесом.
Остров Княжий и остров Виноградский — самые обширные из
этих островов. Кроме порогов, которых числом тринадцать, я
встречал две заборы. Так называются тоже пороги в меньшем
размере; но, по известию жителей, они не только небезопаснее для
плавающих по Днепру, но даже представляют чаще случаев
разбития челнов. Плавание между порогами опасно только при спу-
щении челна через падение порога, но рыбаки без всякого
опасения пускаются посреди порогов поперек Днепра ловить
рыбу, которой, говорят, здесь изобилие. Последний, самый южный
из порогов носит местное название Гадючий, почти такой же
шумный, как Вольник и живописен по береговым окрестностям. Через
несколько верст ниже его Днепр суживается; по обеим сторонам
его берега очень высоки и круты; жители уверены, что здесь в
незапамятные времена река пробила гору и нашла себе выход.
Быть может, именно на это место намекает песнь о походе Игоря,
633
выражаясь обращением к Днепру: «Ты пробил еси горы каменные
сквозь землю Половецкую». Выступая из ущелья, Днепр широко
разливается, и первый предмет, поражающий глаза, — остров
Хортица, протяжением на двенадцать верст, с высокими берегами,
поросший лесом. Этот остров в древности носил название
Варяжского и в XVI веке был первым поселением запорожцев под
начальством князя Димитрия Вишневецкого, но ненадолго. По
жалобе крымского хана король Сигизмунд Август велел свести
казаков с острова, а через несколько лет запорожцы заложили себе
новое поселение пониже Хортицы, на острове Томаковке. Теперь
на Хортице заложена немецкая колония меннонитов, а на правом
берегу Днепра, почти против Хортицы, несколько севернее
находится другая меннонитская колония Кичкас. Проезжая через
последнюю колонию, я осмотрел житье-бытье меннонитов и был
изумлен чрезвычайно цветущим состоянием их быта. Дворы их
обсажены садами, домики просторны и светлы, хотя крыты
соломой и носят на себе характер малорусского жилья, только
несравненно культурнее и богаче. Везде в домиках деревянные полы,
чисто вымытые; заборы и все хозяйственные постройки
содержатся в порядке, и нигде не видно того неряшества и беспечности,
какими страдают наши русские деревенские постройки. Меннони-
ты разводят у себя виноград и шелковицы и добывают шелк; в
одном меннонитском дворе я застал семью, работающую над
вываркою шелковичных кокон. Близ самой колонии красуется
прямой превосходный лес, сеянный назад тому двадцать лет.
Меннониты с гордостью уверяют, что это предрассудок, будто
край t Екатеринославской губернии по своей природе безлесный.
Все они грамотны, отдают детей в свои училища и не чуждаются
туземного языка. Разговорившись с меннонитами, я с удивлением
услышал из их уст безукоризненно правильную малорусскую
речь.
От Кичкаса отправился я вниз до Никополя. При устье
«Конской реки», впадающей в левый берег Днепра, виднелся остров
Томаковка, где была Запорожская Сечь до перехода своего пониже
и где теперь село Капуловка. Здесь-то, на Томаковке, укрывался
Богдан Хмельницкий, когда убежал от польской погони и здесь
собирал беглецов из Украины, чтобы грянуть весною на польских
гетманов. Днепр изменяет свой характер, разбиваясь на
множество рукавов, текущих посреди островков, называемых здесь
плавнями и большею частию заливаемых весеннею водою. По
приближении к Никополю' я свернул на почтовую дорогу и
случайно встретил на ней крытую телегу со слепым бандуристом,
ехавшим с женою и детьми. Остановившись, я подозвал его и стал
расспрашивать, что ему известно, а потом заставил петь, пытаясь
услышать от него что-нибудь для меня неизвестное в области
малорусской песенности. Бандурист перебрал с десяток дум, но все
это были давно известные и много раз напечатанные; даже
варианты его не представляли таких черт, на которые следовало бы
обратить внимание. Этот бандурист подтвердил мне слышанное
мною близ Ненасытецкого порога об Архипе, которого называл
634
своим учителем и говорил, что Архип знает много таких дум,
которые теперь уже всеми забыты, и, между прочим, думу о
подвигах атамана Сирка. Расставшись с бандуристом, я прибыл в
Никополь, где кроме грязной почтовой станции нигде не мог
приютиться. Днепр в Никополе также покрыт рядом зеленых плавней,
обросших верболозом. Отсюда отправился я на почтовых на то
место, где была долгое время Запорожская Сечь, разоренная при
Петре Великом. Запорожцы ушли после того ниже к Алешкам, а
через сорок лет возвратились на прежнее пепелище и пребывали
здесь до последнего уничтожения запорожской общины в 1775
году.
Следуя в виду Днепра по правому его берегу, прибыл я в село
Капуловку и здесь наткнулся на каменный могильный крест. По
надписи я увидел, что здесь погребено было тело одного
запорожского воина, скончавшегося в тридцатых годах XVIII века. Мне
сообщили, что прежде было таких крестов много, но мало-помалу
они разнесены жителями на разные хозяйственные
принадлежности и теперь осталось их уже немного, в том числе каменный
крест на могиле знаменитого Сирка, находящейся в огороде одного
жителя. Я проехал через Капуловку в смежное с нею село Покров -
ское осмотреть запорожскую церковь. -Я обратился там к священ-.
нику, который хотя и повел меня по желанию моему в церковь,
но не показал большой любезности при ее осмотре. В церкви
иконостас новый, только остались почетные места для кошевого и
писаря в виде прилавочек, подобно тем, какие делаются иногда в
монастырях. На хорах церкви свалены грудою остатки прежнего
иконостаса, бывшего еще при запорожцах. Осматривая там
образа, я не нашел ничего особенно выдающегося; видно было, что
иконостас этот делался не в Запорожье, а приобретен от
художников, живших в других местах. Возвращаясь в Капуловку, я
заходил в одну хату, построенную еще в запорожские времена
одним из запорожских товарищей. Имя этого строителя хаты
вырезано им ножом на сволоке. Дерево, употребленное для
постройки хаты, отличается массивностью и большою крепостью;
внутренность хаты не представляет ничего особенного в сравнении
в нынешними хатами; она невелика — об одном только покое —
и не имеет комнаты, как иногда бывает в малорусских хатах
зажиточных людей. Осмотревши эту хату, отправился я на могилу
Сирка. Огород, в котором находится этот исторический памятник
запорожской старины, принадлежит одной крестьянской вдове,
• недавно потерявшей мужа. Я увидел холм, обросший со всех
сторон посаженными подсолнечниками; на нем возвышался серый
каменный крест с надписью, гласившей, что здесь погребен Иоанн
Димитриевич Сирко, кошевой атаман войска запорожского; далее
следует день его преставления. Мне пришло сомнение —
действительно ли здесь сокрыты бренные останки славного казацкого
героя, и не поставили ли запорожцы этот крест только в память о
нем, так как из бумаг, хранящихся в Архиве иностранных дел, я
знал, что Сирко в последние годы своей жизни проживал близ
Харькова в селе Мерефе, в имении, пожалованном ему царем
635
Алексеем Михайловичем. Впрочем, летописец Величко говорит,
что он умер у себя на пасеке близ Сечи и тело* его было привезено
казаками в челне для погребения в Сечь.
Обозревая с днепровского берега вид на Днепр, я был-
поражен обильною и яркою зеленью плавней и лугов,
раскинутых на необозримые пространства. Между множеством
островков, поросших верболозом, вились ярко блестевшие против
солнца протоки Днепра. Один из островков до сих пор носит
название Сечь. По преданию, здесь в укреплении находилась
запорожская «скарбница». Следы окопов видны до сих пор, хотя
берега этого островка, сильно подмытые водой, утратили свой
первоначальный вид.
Я простился с бывшим жилищем запорожских казаков и
отправился в обратный путь в Екатеринослав, а через неделю — по
Днепру в Киев, куда должен был спешить по командировке от
Археологической комиссии для присутствия в предварительном
комитете, собиравшемся в Киеве, по устройству Третьего
археологического съезда, назначенного в этом городе на 1874 год. На пути
туда я испытал, что значит путешествовать с иудеями. В первом
классе на пароходе, где я занял место, расположилась их целая
толпа. Когда я вышел на палубу и потом воротился, в свою каюту,
то увидел, что один иудей без церемонии сбросил на землю мой
дорожный мешок и улегся на принадлежащее мне место,
подмостивши себе под ноги мою подушку. Я просил его сойти. Он не
обращал внимания, а другие иудеи напустились на меня: как я
смею трогать спящего. Я обратился к капитану; последний вошел
в каюту, разбудил спящего и заставил его перейти на свое место;
но на другой день, уже недалеко от Киева, я вышел на палубу и,
возвратясь в каюту, увидал, что на моей койке залег другой иудей,
так же, как и первый, употребивши мою подушку себе под ноги.
Я снова отправился к капитану. Опять капитан пришел
освобождать мою койку, но тогда другой, не спавший иудей, придрался
ко мне и начал говорить дерзости, замечая, что если бы его
побеспокоили таким образом, так он не посмотрел бы на то, что я
пожилой человек и употребил бы в дело свои кулаки. Я обратился
к капитану и просил сообщить мне имя оскорбляющего меня
господина, обещая по приезде в Киев искать судебной управы на
оскорбителя. Капитан потребовал от нас обоих паспорты. Иудей,
увидевши из паспорта мой чин и звание командированного
должностного лица, вдруг смирился и начал просить извинения, но я
сказал ему, что по приезде в Киев первым моим делом будет
наказать судебным порядком наглое нахальство. Когда пароход
проплывал под железнодорожный- мост, иудей пытался заводить со
мною разговор насчет искусства, с которым построен мост, а я
вместо ответа припомнил ему уже выраженное раз твердое
намерение разделаться с ним судом. Наконец, когда мы причалили к
Подолу, иудей стал предлагать мне свой услуги относительно
найма извозчика и рекомендовать помещение в городе. Я снова
припомнил ему его дерзость, сделал ему внушение и, не принявши от
него никаких услуг, поехал в гостиницу.
636
. ..На другой же. день в университете, св. Владимира начались
совещания членов предварительного комитета под председательст-,
вом графа Алексея Сергеевича Уварова и продолжались, девять
дней. Намечены были темы рефератов, предполагавшихся к
чтению на съезде; назначено разделить съезд на отделения;
предположено, кроме обычных заседаний, дать членам возможность
осмотреть все памятники киевской старины, сделать примерную
раскопку курганов в одной из окрестностей Киева и совершить
путешествие по Днепру вверх до Вышгорода и вниз до Канева.
Перед отъездом из Киева я отправился вместе с П. П. Чубин-
ским посетить Братский монастырь и, возвращаясь с Подола через
Старый город, проехал мимо домика, в котором 26 лет назад была
последняя моя квартира в Киеве, где я был арестован. На окне
того домика оказался выставленным билет, объявляющий, что
квартира отдается внаем; я увидел возможность войти в нее и
вместе с Чубинским вступил во двор. Все было здесь так, как
четверть века тому назад, только деревья, окаймлявшие забор, во
время оно молодые, теперь стали большими и тенистыми. Я
позвонил в задней половине дома; вышла хозяйка, молодая женщина
лет тридцати, и на мои вопросы о квартире повела нас в нее. Я
вошел в стеклянную галерею, которую узнал с первого раза, вошел
в комнаты — все было здесь по-прежнему, словно как будто
событие, так потрясшее мою жизнь, происходило вчера.
Заговоривши с хозяйкой, я узнал в ней дочь хозяина, которая во время моего
житья в их доме была маленькой девочкой. Ее родителя теперь
уже не было в живых. Только разница в цене, за которую шла
теперь эта квартира, указывала на большой промежуток времени,
отделявший меня от той эпохи, куда неслись мои воспоминания.
За квартиру, которую отдавали мне прежде за триста рублей в
год, просили теперь семьсот.
Я вышел из этого места с невольною грустью. Товарищ мой,
видя это, стал расспрашивать о подробностях моих последних
дней в Киеве в оное время и по поводу воспоминания о предстою
ящем в то время моем браке спросил меня, имею ли я сведения о
судьбе той особы, которая была моею невестою. Я отвечал, что, к
сожалению, нет. Вечером в тот же день, когда я уже собирался
спать, явился ко мне Чубинский и сообщил мне, что случайно
узнал о бывшей некогда моей невестой особе, что она живет подле
Прилук в деревне, овдовела, имеет трех детей и что в настоящее
время ее ждут в Киев. Во мне еще живее пробудились
воспоминания молодости; мне сильно захотелось еще хотя раз в жизни
увидеть Алину Леонтьевну и узнать о ее судьбе. Я написал к ней
письмо, которое просил Чубинского доставить по назначению. На
другой день письмо мое было доставлено; она только что приехала
из имения. К вечеру я получил ответ — она разделяла мое
желание повидаться с ней и пригласила меня посетить ее. Вместо
молодой девушки, как я ее оставил, я нашел пожилую даму и притом
больную, мать троих полувзрослых детей. Наше свидание было
столько же приятно, сколько и грустно: мы оба чувствовали, что
безвозвратно прошло лучшее время жизни в разлуке, тогда как
637
некогда оба надеялись, что оно пройдет вместе. В настоящее время
она страдала жестокою хроническою болезнью, от которой искать
исцеления приехала в Киев, надеясь получить советы от местных
врачей, а вместе с тем и привезла после каникул детей своих для
помещения в учебные заведения, где они воспитывались. Мне было
приятно по крайней мере то, что на старости лет я мог находиться
в прежних дружеских отношениях с тою, которую не переставал
любить и искренно уважать. Пробыв в Киеве еще два дня, я уехал
в Петербург.
XV
Занятия и поездки. Болезнь. Тяжкая потеря. Отдых...1
По возвращении в столицу я принялся за свою «Русскую
историю в жизнеописаниях» еще с большим рвением, чем прежде,
потому что моим глазам становилось несколько лучше, и я иногда
мог читать и писать сам. С наступлением темных дней глазам
приходилось плохо, но к весне они снова оправились, и я мог
снова читать и писать, хотя с большею противу прежнего умерен-
ностию и вполне убеждаясь, что зрение мое все более и более
ослабевает. К весне 1874 года было у меня готово уже четыре
выпуска моей «Истории». В апреле я поехал в Полтавскую
губернию в имение особы, бывшей некогда моей невестой, с
намерением встретить у нее весну, которой я уже так давно не видал в
Малороссии. Я пробыл в сельце Дедовцах (Прилукского уезда)
три недели, пользуясь всеми очарованиями весенней малорусской
природы. Здесь в первый раз в жизни я имел случай посетить
малорусскую крестьянскую свадьбу, которая меня очень заняла
как новое для меня зрелище: обращаясь долго с народом в
молодости, я никак не мог встретить случая повидать самое живое
торжество народных увеселений и знал свадебную поэзию только
по печатным и в разных местах записанным песням.
В половине мая получил я от матушки письмо, понуждавшее
меня скорее возвращаться в Петербург, так как хозяин дома, в
котором я жил, собирался сделать перестройки и надобно было
куда-нибудь выбираться. Я поспешил домой. Предстояло либо
искать другой квартиры, либо временно перейти на дачу, а на зиму
воротиться в прежнюю, вновь отделанную квартиру. Мой хозяин
надстраивал у себя в доме четвертый этаж и для этого счел
необходимым утолщить стену третьего этажа, в котором я жил.
Некоторые знакомые предупреждали меня, что после такого изменения
оставаться в этой квартире значит рисковать здоровьем. Чтобы
решить этот вопрос, я обратился к одному знакомому архитектору,
* Это — намеченное карандашом оглавление, которое
предполагалось дополнить или изменить при продолжении текста. (Прим.
А. Л: Костомаровой.)
633
и он уверил меня, что утолщение стен будет так незначительно,
что успеет за одно лето просохнуть и не будет никакого риска для
здоровья. Положившись на-мнение архитектора, я решился
удержать за собою квартиру, тем более что к ней я слишком привык,
а переход на другую сопрягался для меня с чрезвычайными труд-,
ностями: приходилось, во-первых, искать квартиры, что не совсем
легко в Петербурге для небогатых людей, желающих иметь
просторный кабинет для помещения в нем библиотеки; во-вторых,
перевозка самой библиотеки — труд немалый и отвлекающий
надолго от обычных занятий. Оставив за собою квартиру, как
оказалось впоследствии, — себе на горе, я переехал на дачу на
Петровском острове близ самого места, ведущего с Петровского
острова на Крестовский. Дача эта хотя была на сыром месте, но
нравилась мне своим превосходным видом на Неву, протекающую
у самого балкона дачи. Так как мои глаза в это время несколько
оправились, то я, поселившись на даче, принялся писать
собственноручно историческую повесть Кудеяра, взявши сюжет из
эпохи Ивана Грозного. Сверх того здесь же я написал статью
«Царевич Алексей Петрович», помещенную в открывшемся после
того журнале Древняя и новая Россия». Дачное время проходило
для меня очень приятно: меня посещали добрые знакомые, с
которыми по вечерам играл я на биллиарде и вел дружескую беседу;
из них чаще всего посещали меня старинный приятель Данило
Лукич Мордовцев и Димитрий Ефимович Кожанчиков. В
последних числах июля с этой дачи я отправился в Киев на
археологический съезд, назначенный с 1 по 20 августа, оставивши матушку
на даче и предоставив ей перебраться в конце августа на
отделанную нашу городскую квартиру.
Третий археологический съезд из всех происходивших до сих
пор был самый замечательный и интересный. Граф Алексей
Сергеевич Уваров постарался заранее пригласить к нему иностранных
славянских ученых из Чехии, Сербии и Франции. Местное
археологическое богатство города Киева придавало этому ученому
собранию живой интерес. В здании университета устроена была
археологическая выставка разных вещественных памятников
старины, но, к сожалению, распорядители не успели составить
вовремя подробного и отчетливого каталога. Каждый день было по два
заседания утром и вечером; на этих заседаниях читались
рефераты по разным отраслям археологической науки. В назначенные
заранее дни члены съезда совершали ученые поездки по Киеву для
осмотра старинных церковных зданий и местностей, для
уразумения положения древнего Киева. Когда мы таким образом приехали
в Киево-Софийский собор, один из местных протоиереев встретил
ученую братию таким вопросом: «Не пожаловали ли вы сюда
отыскивать доказательства, что человек происходит от обезьяны?» На
это граф Уваров, председатель съезда, ответил: «Мы не шагаем в
такую даль».
Совершались путешествия и за пределы города Киева. Первое
направлено было в село Гатное, где совершена была раскопка двух
древних курганов, поросших лесом. В этих курганах найдено было
639
несколько скелетов и глиняных сосудов. Через несколько дней
члены съезда отправились на пароходе по Днепру вниз,
останавливались и делали раскопки в селе Витичеве на месте древнего
города, но ничего не нашли там; можно было видеть только следы
старинных окопов и кирпичные остатки каких-то построек. Более
интереса представило посещение Трехтемирова, где находилась
когда-то главная столица малороссийского казачества и где
существовал монастырь, в котором хранилась казацкая казна и погре-*
бались трупы умерших казацких товарищей. Теперь нет никаких
остатков этого монастыря, но зато в нагорной почве местности, где
он находился, отыскивается чрезвычайное множество
человеческих костей. Недалеко от бывшего монастыря есть старые пещеры,
которые обвалились: невозможно было определить, к какому
времени они относятся. На возвратном пути из Трехтемирова члены
съезда проминули Киев и направились к Вышгороду. Здесь
осмотрели место, где находился Спасо-Межигорский монастырь,при^-
надлежавший запорожцам, посетили межигорскую фаянсовую
фабрику и направились к старой церкви древнего Вышгорода,
стоящей на высокой горе. Местный священник сообщил, что здесь
отыскивалось несколько старых вещей в могилах погребенных там
в древние времена людей. Члены принялись тотчас разрывать
почву около церкви и увидали на довольно большом пространстве
кирпичные фундаменты, показывавшие, что здесь находились
когда-то значительные каменные постройки. Местоположение
Вышгорода замечательно своею красотою и прекрасными видами с
вершины холмов на Днепр и его левые берега. Возвращаясь из
Вышгорода уже ночью, пароход наткнулся на какой-то плот и чуть
было не потонул; поспешили наскоро выливать воду,
наполнившую каюту, и гнать пароход к берегу Подола, чтобы успеть
достигнуть его прежде чем пароход мог опуститься на дно. -
Из рефератов, читанных в заседаниях съезда,^ любопытны
были особенно те, которые относились к земляным раскопкам,
совершенным в юго-западном крае России, и из них первое место
занимали труды варшавского профессора Самоквасова,
производившего поиски в окрестностях Чернигова и привезшего на съезд
множество разных металлических, костяных и каменных вещей,
вырытых из могил языческого периода. По признакам найденных
вещей видно было, что трупы покойников подвергались сожжению
вместе с их вооружением, и при этом, как должно думать, на их
могилах убивались домашние животные и рабы. О времени, к
которому принадлежали эти курганы, можно приблизительно
судить только по двум византийским монетам VIII и IV века,
найденным в раскопанных могилах. Судя по искусству обработки
вещей, здесь отысканных, они должны быть туземными
произведениями или, быть может, полученными из северной России.
Кроме рефератов, относившихся к курганным древностям,
замечательны были рефераты местных ученых, касавшиеся
казацкой истории края и его этнографии. Из них учитель киевской
гимназии Житецкий читал любопытный реферат о Пересопницком
Евангелии, памятнике XVI века, замечательном по языку; перевод
640
сделан на местное наречие, очень похожее на нынешнее
-малорусское; Bf^eere*e тем тот же референт сообщил ученые исследования
об истории образования и изменения малорусского наречия.
Столько же важными были рефераты профессора Киевского
университета Драгоманова, касавшиеся малорусских дум и
исторических песен, которые пред тем явились на свет в издании
профессоров Киевского университета Драгоманова и Антоновича.
Профессор Петербургского университета Миллер вступил с ними
в оживленный спор относительно малорусских дум и их связи с
великорусскими былинами: Для большого ознакомления членов
съезда с местною народною поэзиею приглашен был народный
певец-бандурист Вересай. Многие из членов первый раз в жизни
познакомились с приемами малорусского исторического пения, и
вообще это пение имело важное значение, потому что сам Вересай
был уже один из очень немногих певцов, знавших старинные
казацкие думы и сопровождавших пение игрой на бандуре:
бандуристы во всей Малороссии в настоящее время почти совершенно
исчезают. Всякому беспристрастному слушателю было понятно и
должно было показаться вполне естественным и, так сказать,
законным, если на Киевском археологическом съезде историческая
народная поэзия казацкого периода составляла один из
крупнейших предметов ученой обработки; но не так взглянули на это
газеты, привыкшие везде отыскивать политические цели, и даже
там, где, по-видимому, странно было искать их. По окончании
съезда в киевской газете «Киевлянин» начались печататься разные
толки об украинофильстве, приписывались референтам,
читавшим о малорусской поэзии, посторонние цели; с их голоса о том
же заговорили столичные газеты, особенно «Голос», так что сам
противник киевских ученых на съезде профессор Миллер
принужден был стать в печати защитником своих бывших противников.
Подозрения, взводимые тогда на киевских ученых, были до
крайности неуместны и вредны в том отношении, что на будущее
время стесняли свободу выбора предметов, касавшихся местной
истории, литературы и этнографии: после того каждому
становилось опасно пуститься на съездах в толкования о подобных
предметах науки, чтобы не подать повода к подозрениям в подобном
роде, а между тем, если археологические съезды предположено
собирать по очереди в разных краях России, то, естественно,
надобно ожидать и желать, чтобы наибольшая и наилучшая часть
рефератов относилась к предметам местной истории и археологии.
Я со своей стороны выразил участие свое на этом съезде чтением
реферата об образовании княжеской дружины, о ее значении в
древнее время и о ее изменениях в последующем быте русского
народа. Этот реферат не был напечатан, и самая рукопись моя
оказалась затерянною.
По окончании съезда я отправился в село Дедовцы и,
прогостивши несколько дней у Алины Леонтьевны, возвратился в
Петербург. Со мною приехала в Петербург двенадцатилетняя дочь
Алины Леонтьевны, София, которую я вызвался швезти--в
Воспитательное общество благородных девиц (Смольный институт), ку-
641
да она была принята по баллотировке. Я навещал ее по
праздничным дням в течение осени и 'первой половины зимы'. Продолжая
во все это время заниматься «Русской историей в
жизнеописаниях», я уже принялся за шестой ее выпуск, как стал замечать
какое-то утомление и чрезмерную раздражительность — и во
второй половине января 1875 года захворал тифом. В самый тяжкий
период развития моей болезни, 1 февраля, скончалась моя
матушка — также от тифа, осложнившегося крупозным воспалением*
легких. Я был в то время в беспамятстве. Происходили
консультации врачей, пользующихся заслуженною известностию; они
находили мое состояние безнадежным. Попечения и уход за мною
Николая Ивановича Катенина и доктора Димитрия Андреевича
Муринова спасли меня от смерти. С беспредельной благодарно-
стию вспоминаю о доброте, терпении и самопожертвовании этих
лиц, а также и многих других приятелей и знакомых,
великодушно принявших в то время на себя труд ухаживания за мною и
моей матерью.
Тоска по матушке замедляла ход моего выздоровления, силы
восстановлялись вяло, зрение упало совершенно. Врачи
предписали мне безусловный покой и отдых, запретили какое бы то ни
было напряжение мысли и зрения и в половине апреля услали
меня из Петербурга на поправку в деревню.
9 мая 1875 года я обвенчался с Алиной Леонтьевной в селе
Дедов цах.
К моим трудам над шестым выпуском «Русской истории в
жизнеописаниях» я приступил только в конце 1875 года.
В июне 1876 года предпринял я путешествие в
монастыри, находящиеся на Ладожском озере, куда уже мне давно
хотелось поехать. Я отправился вместе с приятелем своим
Д.Г. Лебединцевым 18 июня на пароходе «Коневец» с
пристани близ Смольного. Этот пароход не. отличается ни
удобством помещения, ни опрятностью, ни правильностью хода;
несмотря на его небольшую величину в нем набилось такое
множество пассажиров, что на палубе так же трудно было
протолпиться, как в церкви во время праздничного
богослужения, и как только толпа пассажиров скучивалась в одну
сторону палубы, так пароход наклонялся и пугал
погружением; капитан беспрестанно кричал со своей вышки, чтобы
публика отходила в другую сторону. Вонь была нестерпимая.
Большинство пассажиров принадлежало к простонародию и
состояло главным образом из богомольцев, но в числе
плывшего народа было достаточное число чухон, так как пароход
имел крайним пределом своего плавания Сердоболь, куда
чухны, возвращавшиеся из Петербурга, намеревались пристать,
чтобы оттуда отправиться внутрь Финляндии — куда кому
было нужно. В первом классе было несколько дам, главным
образом из купеческого быта. Когда мы поплыли по Неве,
я увидел большую перемену на ее берегах, после того как
642
я видал их десять лет тому назад; по крайней мере верст
на двадцать от Петербурга все было заселено и представляло
как бы непрерывное продолжение города; кроме фабрик и
заводов здесь виднелось множество дач, между которыми
попадались лавочки, очевидно, заведенные торгашами с целью
снабжать дачников припасами. Между фабриками и заводами
всего более бросались в глаза фарфоровый и два литейных
завода на левом берегу Невы; на том же берегу возвышались
опустелые огромные постройки закрытой Александровской
мануфактуры, еще так недавно снабжавшей Россию ситцевыми
изделиями. После пятичасового плавания вверх по течению
мы прибыли в Шлиссельбург, который, сколько мог я
заметить с палубы парохода, не представлял никаких изменений
против того вида, в каком я знал его прежде; но когда мы
проминули один за другим два ладожские канала — старый
Петровский, или Миниховский, и новый, уже сделанный в
нынешнее царствование ближе к берегу озера, и вступили в
широкую гладь Ладожского озера, нам предстала крепость —
хотя с вида такая же мрачная и унылая, но уже далеко
не такая страшная и зловещая. Я узнал, что она в недавнее
время совсем упразднена и все крепостные орудия сняты со
стен ее.
Плавание наше по озеру до Коневецкого монастыря не совсем
было приятно: сделалась качка, многие подверглись морской
болезни, в том числе и я. Лимоны, которыми я по данному мне
совету запасся как предохранительным средством от влияния
качки, мне нимало не помогли. Мы плыли по открытому озеру; только
вдали, по крайней мере верстах в двадцати, виднелись по
временам финляндские берега. Мы прибыли в Коневец позже, нежели
пароход обыкновенно пристает к этому монастырю; было уже де-.
сять часов вечера. Монастырь стоит возле самой пристани, и за
его оградою, над берегом, построен трехэтажный дом
монастырской гостиницы. Все пассажиры по прибытии к берегу
отправились туда по довольно красивой аллее. Гостиница так обширна,
что могла поместить не только такое количество пассажиров,
которое в тот день привез наш пароход, но если бы нужно было, и
вдвое более. Нам отвели комнату довольно опрятную, потому что
гостиница построена недавно, но постельное белье не
удовлетворяло вкусу, сколько-нибудь привыкшему к чистоте. Утром, часа в
три, всех поместившихся пассажиров начали будить звонки,
приглашавшие благочестивых людей к заутрени; звонили так сильно
и так долго, что спать долее было невозможно. Одевшись, я
отправился по указанию служителя из монастырских послушников
купаться, пробрался через еловую рощу и спустился с песчаного и
довольно крутого берега к озеру, куда указал мне совет
послушника; место было очень мелкое, дно каменистое, а вода до того
холодная, что едва можно было продержаться две минуты в воде.
Воротившись с купанья, я отправился в церковь, прослушал
раннюю обедню, и так как до- отплытия парохода оставалось еще
несколько времени, то мы отправились смотреть на знаменитый
643
«Конь-камень», давший название и-острову, и построенному на
нем монастырю. Мы шли стройным еловым лесом с лерсту и
набрели на гранитную скалу, на вершине которой построена была
деревянная часовня с ведущей к ней по скале деревянной
лестницей. Об этой скале сохранилось такое предание. В те времена,
когда христианство не успело.еще распространиться в этих
пределах, здесь было языческое мольбище; пребывавшие во мраке.,
язычества чухны приходили сюда совершать требы своим богам ,щ I
приносили им в жертву жеребят. Боги эти, как вообще понимали*
христиане, языческие божества, были на самом деле бесы и
творили перед своими поклонниками ложные чудеса, или «мечты
бесовские». Пришел на остров святой пустынник Арсений и своею
молитвою изгнал бесов; со страшным громом, повинуясь святому
мужу, удалились они и покинули остров, где основалась
христианская обитель. Это относят к концу XIV века. Мощи
преподобного Арсения лежат, как говорят, в монастыре, но под спудом; на
месте, где предполагают его погребенным, поставлена серебренная
рака очень изящной работы с вычеканенным изображением св.
Арсения на верхней доске. Гроб этот стоит в нижней церкви
монастыря. Там же находится икона Богородицы, принесенная, по
преданию, этим Арсением и признаваемая чудотворною. Оставив
дальнейшее обозрение Коневца на будущее время, когда придется
возвращаться из Валаама, мы сели на пароход в 8J/2 часов утра и
поплыли далее.
Пространство между Коневцом и Валаамом менее того, которое
мы проплыли от Шлиссельбурга до Коневца вместо ста двадцати
верст, сделанных в предшествовавший,день, нам предстояло
проплыть только семьдесят — и в час пополудни мы увидели берега
Валаамских островов. Это архипелаг, состоящий из сорока
островков, из которых только два имеют несколько значительное
протяжение; другие до того малы, что простираются не более как на
несколько саженей. Они расположены близко друг от друга и
разделены между собою извилистыми проливами; берега этих
островов чрезвычайно живописны и могут служить самым лучшим
образчиком той северной своеобразной красоты, которая дает
право Финляндии назваться одною из живописнейших стран в
Европе. В местоположениях Валаамских островов чувствуется что-то
величественное и даже страшное. Гранитные камни,
нагроможденные природою друг на друга, усеяны бесчисленным множеством
елей, растущих причудливо с таким малым запасом земли для
корней, что невольно удивляешься — как могли они существовать;
кое-где попадается рядом с темною елью белая береза. Очертания
скал и растущих на них дерев предстдвляют такое разнообразие,
что невольно забывается однообразность материалов, образующих
эти дивные виды. Не менее придает прелести кривое направление
проливов между островками. Капитан из любезности к
пассажирам поплыл к монастырю не ближайшим прямым путем, а
ломаными линиями проливов, мимо нескольких скитов с
возвышавшимися на скалах церквами и в разных местах
поставленными часовнями и крестами. Наконец, мы вошли в самый
644
большой пролив и пред нами на возвышении скалы предстала-
главная монастырская церковь, покрытая белою жестью. У самого
монастыря сделана пристань, и едва мы причалили к берегу, как
на пароход вскочила толпа послушников с готовностью забирать
наши вещи и провожать нас в*гостиницу. Мы поднялись на скалу
по гранитной лестнице и очутились в монастырском дворе. Рядом*
недалеко от ворот внутреннего двора, где была церковь и
иноческие келий, построена монастырская гостиница, еще обширнее
Коневецкой и, как казалось, гораздо удобнее. Нас поместили в
чистой и светлой комнате: постельное белье здесь было
безукоризненной чистоты. На стене вывешены были писанные правила,
служащие наставлением для посетителей: как им жить и вести
себя во время пребывания в монастыре. Каждый посетитель
делался на это время как бы членом монашеской общины и должен
был подчиняться установленной дисциплине. Объявление это
гласило, что никто не должен без игуменского благословения ходить
по острову. Запрещалось стрелять, разводить огонь и курить
табак. Никто из посетителей не должен давать монахам и
послушникам ни денег, ни каких-либо вещей, не мог привозить с собою
съестного, а наипаче вина и мяса, и должен был довольствоваться
монастырскими яствами. Так как время было обеденное, то нам
предложили вкусить от монастырской трапезы, принесли куски
черного и белого хлеба, щи с кислой капустой, гречневую кашу с
постным маслом и что-то вроде ухи с рыбой, а для питья
поставили монастырского квасу и воды со льдом. Кушанье, несмотря
на крайнюю простоту, показалось мне вкусным, тем более что
постное масло для каши было безукоризненной свежести и весь
обед был сервирован очень опрятно.
После обеда молодой послушник, явившись к нашим услугам
специально по назначению от игумена, предложил нам посетить
один из скитов; толпа пассажиров потянулась из гостиницы к
пристани и разместилась в трех больших монастырских лодках.
Мы сели вместе с нашим проводником в одну из них, выбравши
самую немноголюдную, и направились к Никольскому скиту
проливом, в виду живописных извилистых берегов, проплыли мимо
трех островков, расположенных один за другим и покрытых
кустарниками. Мы прибыли к Никольскому скиту, находящемуся на
высоком острове; церковь здесь новая, построенная назад тому не
более пятнадцати лет. Начали служить молебен Николаю
Чудотворцу. Фигура святого сделана деревянною статуею, одетою в
архиерейское облачение, в расшитых шелковых башмаках. Статуя
эта напоминала что-то католическое, но разница была та, что в
католических церквах статуи обыкновенно стараются делать с
соблюдением по возможности изящных форм, — эта же деревянная
статуя в православном храме могла назваться скорее куклою, и
для глаз, сколько-нибудь привыкших требовать правильности или
изящества, представлялась безобразною и невольно наводила на
грешные мысли о подобии с языческим истуканом. Богомольцы из
простонародна не сознавали этого и с благоговением становили
перед нею свечи. Я не мог удержаться, чтобы не заметить прово-
645
жавшему нас послушнику, что православная церковь вовсе не
одобряет не только таких безобразных, но и никаких горельефных
изображений; он пожал плечами и должен был согласиться е
этим, но в извинение монастыря сказал, что это — благочестивое
приношение того христолюбца, который по своему усердию
построил этот храм. Церковь обсажена березами.
Мы возвратились тем же путем в монастырь, и проводник
провел нас по террасе, устроенной над крутым обрывом скалы, чтё
напомнило мне Георгиевский монастырь в Крыму, с тою
разницею, что в последнем морские волны ближе подходят к подножию
террасы, чем здесь озеро. Мы дошли этим путем на монастырское
кладбище; несколько гранитных плит с надписями положены
были на могилах иноков* и надписи на них свидетельствовали о
долговечности здесь погребенных. Таким образом, из десяти
лежащих в ряд большая часть дожила до 80-ти лет, а немногие умерли
между 75 и 80-ю, один же скончался. 83-х лет. В числе могил
послушник указал нам на мифическую могилу шведского короля
Магнуса, о котором, как известно, сложилась легенда, будто этот
король после несчастливой для себя войны с новгородцами
приплыл к Валаамскому монастырю, обратился в православие и
принял схиму. Легенда эта давно уже опровергнута еще Карамзиным,
тем не менее монахи считают несомненным историческим фактом
эту сказку и опираются главным образом на то, что некогда
какому-то чухонцу во сне явился король Магнус и приказал идти на
Валаам и поклониться его могиле.
Обошедши кладбище, мы возвратились в гостиницу, а вскоре
потом ударили ко всенощной. Мы отправились в церковь. Сколько
я мог помнить, никогда еще не доводилось мне стоять такой
длинной всенощной, она продолжалась четыре с половиною часа.
Впрочем, в церкви устроено довольно мест для сиденья старикам
и слабым телом. Пение на Валааме оригинальное, дышит
стариною и несколько напоминает старообрядческое. Нельзя сказать,
чтобы при этой продолжительности чтение кафизм и всего другого
отличалось особенною внятностью и изяществом произношения;
читают здесь тем же способом, как везде дьячки, и даже довольно
скоро, так что хотя я находился недалеко от чтеца, но с трудом
мог следить за содержанием того, что он читал.
Продолжительность богослужения происходит оттого, что здесь пунктуально
соблюдается вся формалистика обрядов, например: там, где по
уставу следует произнести сорок раз «Господи, помилуй»,
считается грехом пропустить какой-нибудь раз, а иное поется сообразно
уставу по три раза сряду; также замедляет богослужение обычай
канонархации стихирей; каждое выражение стихиря сперва
громко произносит канонарх, а потом уже со слов его поет клир. В
Петербурге в церквах нет ничего подобного: здесь вместо
восемнадцати псалмов, назначенных в двух кафизмах, читают не более
шести, а иногда только три, да и то не доканчивают, а
останавливаются на средине псалма; здесь, в Петербурге, извиняют себя
известным наставлением апостола Павла, который говорит, что
лучше пять слов произнести со смыслом и чувством, чем расто-
646
чать пустое многоглаголанье, да и слова самого Христа: во многом
глаголании нет спасения — приводятся в оправдание отступлений
от формалистики устава; на Валааме же думают угодить богу и
соблюсти обет благочестия строгим исполнением в рей этой
формалистики. По выходе из церкви наместник игумена, отец Виктор,
сказал мне, что на Валааме есть монах, бывший некогда моим
слушателем в Петербургском университете, и игумен благословил
ему повидаться со мною. Этот монах не замедлил явиться. Я не
припомнил его. По его словам, он по окончании курса возжелал
удалиться от мира и поступил в строжайший из русских
монастырей; его зовут отец Пимен. Это человек между тридцатью и
сорока годами, красивой наружности, но сильно исхудавший,
вероятно, от постов и общего удручения плоти. Он обратился ко мне
с любовным расположением и сказал, между прочим, что когда в
1875 году я был болен тифом, то из газет узнали об этом в
монастыре и с благословения игумена молились о моем выздоровлении.
Сам отец Пимен заведует монастырскою канцеляриею.
На другой день после ранней обедни мы сказали нашему
послушнику, чтобы он испросил благословения игумена отправиться
нам по острову в ближайший из скитов. Через несколько минут
этот послушник известил нас, что игумен благоедовляет; мы
отправились за монастырские ворота по дороге сначала мимо садов,
потом через лес. Здесь мы увидали, что окрестность монастыря
обработана превосходно, это доказывало множество плодовых
деревьев, какие только могут, хотя бы*и с трудом, прозябать в этом
негостеприимном климате; самый лее, по которому мы прошли
версты три, не ограничивался здесь обычными хвойными
деревьями и березами — мы встречали здесь посаженные дубы, липы,
клены, кедры и даже каштаны. Вся дорога была тщательно убита
песком. Роща эта представляла вид благоустроенного парка. Скит,
куда мы направились, был заперт, и, прошедши по той же дороге
еще с версту, мы воротились назад, потому что мошки решительно
не давали возможности следовать далее. Не успели мы достигнуть
до своей гостиницы, как наш послушник, встретив нас на пути,
пригласил нас от имени игумена, отца Дамаскина, к нему и при
этом сказал, что игумен, узнавши, что мы отправились
«самочинно» в лес, был этим очень недоволен.«Да не вы ли сами сказали,
что игумен дал свое благословение?» — заметил я послушнику.
«Да, — отвечал послушник, — но вы пошли сами в лес, не взявши
меня; игумен позволил, а потом верно забыл, только нас за то
распекал». «Вы бы ему объяснили», — сказал я. «Мы не смеем
отговариваться и оправдываться,» — ответил послушник.
Пришедши к игумену, мы увидали восьмидесятилетнего
старца, от слабости едва державшегося на ногах и постоянно
подпиравшегося палкою. Он принял нас ласково, но не мог долго вести
разговора по причине старческой слабости, только наделил нас
образками святых Сергия и Германа, просфорами и экземплярами
составленного от его имени описания Валаамского монастыря в
1/8 долю листа с картинами, изображавшими вид Валаама.
Сколько можно было судить по собственным его приемам и по
647
отзьщам,об:аем братии,.это человек в высокой,
степени.замечательный как организатор и.пр.авитель. Он игуменствует на Валааме с
1839 года и успел поставить себя так, что вея братия ему
безусловно повинуется и пред ним благоговеет. Важное его достоинство
то, что он человек безукоризненно честный, прямой и чрезвычайно
трудолюбивый. Это не из рода тех настоятелей, которые, пользуясь
людской властью, обращают брата и послушников в своих рабов,
содержат их впроголодь и впрохолодь, а сами пользуются всеми
благами, какие могут доставить им монастырские доходы, да еще
наделяют ими свою родню,1 а иногда и племянников
подозрительного свойства. Он никогда не имел своего отдельного стола и
обедал всегда с братнею на трапезе, только в последние годы по
крайней слабости ему стали приносить пищу в келию., но все-таки
от общей трапезы. Принуждая всех монахов трудиться, сам отец
Дамаскин не только не уклонялся от равного с ними труда, но
всегда первый брался за всякую работу, показывая всем пример.
Так, во время покоса вся братия должна идти с косами и
граблями, и сам игумен первый начинал покосную работу; также
неутомимо он занимался садоводством, которое особенно любил. Его
стараньем построена новая гостиница, проведена вода из озера
вверх через подземные трубы, учрежден целый корпус
ремесленников, занимающихся различными искусствами. Монастырь
принимает к себе мальчиков и выпускает их, обучивши разным
ремеслам, смотря по способностям каждого. В настоящее время
таких учеников в монастыре до тридцати человек,
преимущественно из чухон. В особом здании помещаются чернорабочие, большею
частию также чухны. Монастырь принимает их всех охотно,
несмотря на то, что они большею частию лютеране, только с
непременным условием не курить табаку. Отец Дамаскин запрещает
братии заводить с иноверцами, посещающими монастырь,.суетные
прения о вере, хотя с радостию принимает того, кто добровольно,
по собственному убеждению присоединяется к православной
церкви. Вообще отец Дамаскин довел монастырь до того, что он
составляет такую строгую общину, что подобной едва ли где можно
найти. Всякий поступающий в монастырь лишается права иметь
какое бы то ни было достояние, а должен получать все нужное из
общины по распоряжению игумена. Одежда, обувь и белье всем
выдается из монастырской кладовой; едят все за общим столом
трапезы, а старцам отпускается в келию по четверть фунта чаю
и по одному фунту сахара в месяц и по свече в келию на вечер.
Постриженному монаху дается одна келия, а послушники
помещаются по два человека в келий. Все должны повиноваться
игумену беспрекословно* и кроме тех, кого он удостоит приглашением
к совету с ним, никто не смеет заявлять пред ним своего мнения;
•никто не смеет без его благословения ни куда-нибудь выйти, ни
что-нибудь делать. Самовольство, называемое на монашеском,
языке «самочинность», считается тяжким грехом, как равно и всякое
бездействие. Все обязаны с благословения игумена что-нибудь
делать, не оставаясь ни полчаса праздно. В монастыре есть
порядочная библиотека, состоящая главным образом из духовных книг,
648
но есть немало и светских, впрочем, старых, так что даже история
Соловьева по своей относительной новости не оказалась в
библиотеке. Все книги дозволено читать не иначе как с благословения
и по указанию отца игумена. Монастырь выписывает газеты и
журналы, но этого уже никто не читает, кроме игумена и тех,
кому он соблаговолит дать для прочтения. Письма, адресованные
монахам, проходят непременно через руки отца игумена. Купаться
'монахам отнюдь не дозволено, да и для посторонних посетителей
тет купален; отец Дамаскин, впрочем, в видах соблюдения
чистоты завел баню, куда монахи могут ходить, но не иначе как с его
благословения. Все это устройство приведено в порядок еще в
прошлом веке игуменом Назарием, постриженником Саровской
пустыни, оттуда и взял этот игумен устав для Валаамской обители.
Помещенная в описании, подаренном мне отцом Дамаскином,
история Валаамской обители заключает много драгоценных
фактов, важных не только для местного быта, но и вообще для хода
духовной жизни в России. Надобно, однако, заметить, что
составители ее не слишком критически относились как к письменным,
так и к устным источникам монастырского прошлого. Таким
образом здесь дается полная вера какой-то рукописи, называемой
оповедЬу тогда как известия, сообщаемые из этой оповеди, ясно^
показывают, что это сочинение наполнено вымыслами и бреднями,
подобными тем, какие встречаются в наших хронографах. Между
прочим, на основании этой оповеди и других легендарных
сказаний дается вера тому, что основатели Валаамской обители, святые
Сергий и Герман, устроили монастырь еще до принятия
Владимиром святого крещения. Так же точно в книге, подаренной мне
отцом Дамаскином, не только признается фактически достоверною
легенда о шведском короле Магнусе, но даже с некоторым
озлоблением порицаются те, которые осмеливались на основании
несомненных исторических данных отрицать правдивость события,
рассказываемого в этой легенде.
Во время поздней обедни мы сделали на лодке путешествие по
извилистому заливу внутри острова и посетили так называемый
«Большой скит», где нашли красивую церковь с куполом
византийской архитектуры, каменные келий, трапезу живущих в скиту
монахов и садик, обделываемый их руками. Мы хотели посетить
еще скит Иоанна Предтечи, где живущие монахи отличаются
особенным постничеством и строгостью жизни; они, как говорил нам
послушник, — молчальники, давшие обет ни с кем не говорить ни
слова и погруженные в совершенное уединение. Но краткость
времени не допустила нас отправиться туда, потому что в два часа
должен был прийти из Сердоболя пароход, на котором мы
предполагали плыть в обратный путь. Мы воротились в монастырь и
после обеда отправились на пароход. Можно сказать, что о
монастыре Валаамском мы вынесли самое уважительное впечатление,
хотя в сущности не могли вполне узнать его, так как для этого
потребно было бы время и беседы не с монахами, а с теми
рабочими, которых мы видели только изали. Мы должны были
довольствоваться только тем, что нам передавал приставленный к нам от
649
игумена послушник. Мимо воли приходило в голову, что все,
сообщаемое нам, преднамеренно было окрашено в такой цвет, каким
покрыло его рассказы благословение отца игумена.
К вечеру в шесть часов в тот же день мы обратно прибыли в
Коневец и, пользуясь временем, начали совершать прогулку по
острову, посетили один скит недалеко от монастыря и застали в
нем в церкви монаха, который, не обращая внимания на всех
приходивших и уходивших, читал по своей обязанности синодик
усопших. В этом ските в особой часовне мы видели деревянный
крест, изгрызенный зубами благочестивых богомольцев: этот крест
приписывают святому Арсению Коневскому и уверяют, что он
имеет чудотворную силу исцелять зубные боли. Из скита мы в
другой раз посетили скалу, называемую «Конь-камень», и * здесь
случайно встретили женщин, из которых одна назидательно
рассказывала другим легенду об этой скале, но страшно изуродовала
ее содержание. Она говорила, например, что в настоящее время
каждый год здесь убивают жеребенка для того, чтобы нечистая
сила не пугала посетителей, без этого тут был бы гром и разные
страсти; другие женщины слушали с легковерием эту дребедень и
потом боялись идти вверх по лестнице к часовне, но рассказчица
успокоила их, сказавши, что после убиения жеребенка целый год
здесь безопасно.
Воротившись в гостиницу, мы попробовали ужина от
монастырской трапезы, но решительно не могли ничего есть — так
плохо было все приготовлено. Мы отправились вдоль по берегу
озера к новой церкви, которую, как говорили, собираются
освящать в июле, и здесь услыхали такого рода легенду. Во время
Крымской войны в Керчи англичане сожгли один дом, которого
хозяин, находясь в военной службе, был убит под Севастополем.
Вдова его, лишившись мужа, а потом дома, скоро умерла;
осталась дочь, девица, имевшая тогда от роду 14 лет. Эту сироту
поразил паралич в ногах. Она жила Христа ради у чужих людей; и
вот ей снится: подходит к ней старик-монах и говорит: «Иди на
Ладожское озеро в Коневецкий монастырь и у гроба моего отслужи
молебен Коневецкой Божией Матери». Девица эта была
католического исповедания и не знала святых православной церкви. Долго
не могли ей объяснить русские люди, которым она рассказывала
свое сновидение, наконец, какой-то священник сказал ей, что
действительно есть такой святой, и больная каким-то путем добралась
в Петербург, а оттуда в Коневец. Как только у раки преподобного
Арсения она отслужила молебен Божией Матери, тотчас
почувствовала, что ноги ее стали здоровы. Она отправилась восвояси, и
вскоре ее обстоятельства пошли лучше. Спустя много лет видит
она во сне опять того же Арсения, который приказывает ей
отправиться на Коневец и построить церковь на том месте, где когда-то
Арсений по приходе своем на Коневец поставил небольшую
деревянную церковь, но по причине болотистого леса избрана была
другая местность — та самая, где и теперь стоит монастырь.
Особа эта отправилась по назначению. Церковь была заложена, и так
как у самой строительницы недостало капитала, то церковь была
650
достроена пожертвованиями от доброхотных дателей. Место, где
стоит эта только что отстроенная, но еще не освященная церковь,
чрезвычайно неудобно: тотчас за стенами церкви идет такое
болото, что, как говорят, может засосать каждого, кто будет иметь
неосторожность ступить туда.
Переночевавши в Коневце, мы отслушали литургию* а потом
в нижней церкви молебен Богородице. Во время молебна был
отворен подлинный образ Коневецкой Божией Матери, писанный на
дереве и сильно потертый от времени. Он постоянно покрыт
окладом, который отворяется во время молебна, служимого для
путешественников. Архимандрит Конев-ецкого монастыря такой же
старик, как и игумен Валаамского, и хотя в Коневецком
монастыре также установлено общежительство, но архимандрит не
стесняет братии и позволяет имущим на свой счет кое-какие удобства
в жизни.
Оставивши Коневец после молебна, мы к семи часам вечера
воротились в Петербург.
8 июля 1877 года, отправившись в гости к одному из наших
знакомых, А. Л. Боровиковскому, на дачу близ Меррекюля, в
18-ти верстах от Нарвы, мы вместе с нашим обязательным хрзя- '
ином съездили нарочно в Нарву, которая давно уже занимала мое
воображение своим историческим значением. Прежде всего мы
осмотрели Ивангород, построенный в XV столетии на самой окраине
тогдашних владений Московского государства. В виду этого
последнего русского пункта возвышались уже твердыни Нарвы,
крайнего укрепленного города владений Ордена меченосцев. До
сих пор сохранились огромные массивные каменные стены,
неправильными линиями расположенные на площади довольно
высокого холма. Эти стены по верху окаймлены зубцами и снабжены
круглыми башнями с остроконечными кровлями; башни
расположены по углам, перескающим линии. В одной из этих башен по
направлению к югу есть нижняя каменная пристойка, где, как
сказывают, остались следы хода, ведущего в подземелье,
проведенное будто бы под реку Нарову. Замок разделен поперечною стеною
на две неравные половины, показывающие, что, вероятно, этот
замок строился не в одно время и что прежде он был мал, а потом
расширен. Из-за этого замка в 1558 году началась перепалка
русских с немцами вследствие случайной ссоры, за чем последовало
завоевание Нарвы, которое повлекло за собою Ливонскую войну,
окончившуюся падением Ливонского ордена. Успехи русского
оружия, как известно, были уничтожены победами Стефана Батория;
завоевания царя Ивана достались польской Речи Посподитой, а в
половине XVII века были отняты у ней шведами и остались за
последними до Северной войны, пока в начале XVIII века не по-
карены были Россиею. Видно, что шведы, присоединившие к
доставшейся им от полякоа Ливонии древние русские владения
вдоль берега Финского залива, заботились о поддержании и
улучшении находившихся там твердынь. Таким образом, Ивангород-
651
екая стена была перестроена ими, о чем гласит сохранившаяся
над воротами надпись, означающая год этой перестройки — 1613.
В средине замка, в более обширной половине его находится
церковь с двумя остроконечными куполами; в ней и до сих пор
отправляется богослужение, но священник живет в городе Нарве.
Сторож — единственное лицо, которое мы увидали в Ивангороде
кроме часовых, — не мог гам сообщить никаких достоверных
сведений об этой церкви, хотя и уверял, что она построена при царе
Иване Васильевиче Грозном. Иконостас в ней новый, немногие
иконы в церкви, судя по письму, принадлежат к XVI веку. В
ризнице мы видели кучу старопечатных богослужебных книг,
выброшенных их шкафа за негодностью к употреблению в настоящее
время, в числе их бросаются в глаза Евангелие, печатанное при
патриархе Никоне. Ниже главной церкви расположена зимняя
церковь в виде пристройки, куда надобно сходить из главной
церкви по небольшой узенькой лестнице, ведущей вниз; впрочем, в
эту зимнюю церковь есть другой, главный вход со двора. Вблизи
церковь стоит здание другой маленькой церкви с круглым
византийским куполом. Сторож говорил, что несколько лет тому назад
приезжали какие-то (как он выразился) инженеры, забрали оттуда
всю утварь и иконы и заперли церковь, объявивши, что ее будут
починять, но с тех пор никаких починок там не производилось.
Церковь стоит запертою и ни для кого непроницаемою. Против
этих церквей, во внутренней стороне внешней стены существуют
еще пещеры с широкими аркообразными входами; там, как гово-.
рят, были когда-то конюшни, а в опустелом каменном отдельном
строении находилась, как должно думать, в старое время
«государева зелейная казна» (склад пороха и.огнестрельных снарядов)...
СОДЕРЖАНИЕ
Домашняя жизнь и нравы великорусского народа в XVI и
XVII столетиях (очерк) , 5 .
I. Жилые местности 7
IL Города 10
III. Москва 17
, IV. Посады 23
V. Слободы 27
VI. Села и деревни 28
VII. Дворы и дома 32
VIII. Домашняя мебель и утварь 43
IX. Одежда 53
X. Пища и питье 69
XI. Образ домашней жизни 79
XII. Здоровье и болезни 84
XIII. Семейные нравы 87
XIV. Порядок домоправления 93
XV. Выезд из дома и путешествия , 100
XVI. Прием гостей. Обращение 105
XVII. Пиршество. Пьянство 109
XVIII. Увеселения, игры, забавы 117
XIX. Праздники 125
XX. Домашние обряды. Родины и крестины, брак,
новоселье, смерть, погребение 129
XXI. Верования 151
«Семейный быт в произведениях южнорусского народного
песенного творчества» 181
Рассказы И.Богучарова (Николая Костомарова)
Приключения по смерти (Рассказ одного слобожанина) 369
Больная (рассказ врача) N.... 376
Фаина 389
Ольховняк (Рассказ из воспоминаний воротившегося на
родину из Сибири) 408
Незаконнорожденные (Из моих воспоминаний) 422
Автобиография 433
Н.И.Костомаров
Русские нравы.
Исторические монографии и исследования.
(Серия «Актуальная история России»)
Редактор П.Ульяшов
Художник В.Бобров
Сдано в набор 4.02.95. Подписано в печать 9.02.95. Формат 84*1083/32. Бумага тип. № 2
Гарнитура Тайме. Печать высокая. Печ. л. 20,5. Усл. печ. л. 34,44. Тираж 15 000 экз.
Заказ № 15. Цена договорная.
Фирма «Чарли»
113035, Москва, ул. Пятницкая, дом 20
Отпечатано с готовых диапозитивов.
Оригинал-макет (диапозитивы) подготовлены ТОО «Макет».
141700, г. Долгопрудный Моособл., ул. Первомайская, 21, к. 17
Тел.: (095) 408-71-63
АООТ «Рыбинский Дом печати»
152901, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8
ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Откуда пошло и кто у кого "украл" название Русь?
Как закладывалась у самых истоков федерация русских народов?
Чем отличается по своему менталитету южнорусская и
великорусская народности, в прошлом "составлявшие одно тело"?
Как и почему центр из Киева сместился к восточным русским
землям?
Каковы истоки бесконечных междоусобий на российском
пространстве, дающих знать о себе.и сегодня?
Когда и по каким причинам возникает Смутное время на Руси?
Кто был Стенька Разин — народный заступник или жестокий
разбойник, вор, как говорили в старину?
Совершал ли свой подвиг Иван Сусанин?
Как русские еще до Петра пытались "прорубить окно" в Европу?
Был ли знаменитый разбойник Кудеяр братом Ивана Грозного?
Богдан Хмельницкий и Иван Мазепа: как оценивать эти
личности в истории взаимоотношений России и Украины?
Скольких усилий стоило России преодоление векового
враждебного окружения, угрожавшего ее существованию?
/ Кто и когда ввел на Руси крепостное право?
Как проходил и чем закончился исторический спор между
Россией и Польшей за главенство в славянском мире?
Чем закончилась история Ливонского Ордена?
Когда в последний раз татары сожгли Москву?
Чем завершилось следственное дело по поводу убиения
царевича Димитрия?
Кто такие казаки, как они появились и какую роль сыграли в
истории России и Украины?
Раскол: по какой линии проходил он в православной церкви и
в обществе?
Чем отличается восточная церковь от западной?
Что помешало России пойти по пути "народоправства", то есть
демократического развития, если у нее уже был опыт вечевого
правления в Новгородской республике?
Как жили в быту, веселились, пели и торговали на Руси?
Какие уроки мы можем извлечь из исторического опыта наших
предков?
На эти и другие вопросы нашего прошлого и дня сегодняшнего
вам помогут ответить труды выдающегося русского и украинского
историка Николая Ивановича Костомарова. Современному
русскому читателю доступна лишь незначительная часть его
работ - большинство из них не переиздавались с начала века.
Впервые после Октября в нашей стране выходит практически
полное собрание исторических и художественных сочинений
Н. И. Костомарова в 15 книгах. В его основу легло санкт-
петербургское издание 1903-1906 г. г. "Монографий и исследований"
историка, только существенно дополненное.
ЧИТАЙТЕ В 1995 ГОДУ,
ВЫПУЩЕННЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ "ЧАРЛИ"
В СЕРИИ "АКТУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ" (АИР)
СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ СОЧИНЕНИЙ
Н. И. КОСТОМАРОВА:
"СМУТНОЕ ВРЕМЯ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА"
"БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ"
"КУДЕЯР"
"БУНТ СТЕНЬКИ РАЗИНА"
"РУССКИЕ НРАВЫ" ("Очерк домашней жизни и нравов
великорусского народа в XVI и XVII столетиях", "Семейный быт в
произведениях южнорусского народного песенного творчества",
"Рассказы И.Богучарова", "Автобиография")
"РАСКОЛ" ("История раскола у раскольников", а также
"Личность царя Ивана Грозного", "Екатерина Г1, "Самодержавный отрок"
и другие сочинения)
"РУИНА" ("Руина." "Мазепа и мазепинцы")
"КАЗАКИ" ("О казаках", "О казачестве", "Первые войны
малороссийских казаков с поляками", "Черноморские казаки",
"Переписка турецкого султана с запорожцами в XVII столетии", "Иван
Свирговский, украинский казацкий гетман в XVI веке", "Гетманство
Выговского", "Богдан Хмельницкий — гетман Оттоманской Порты",
"Гетманство Юрия Хмельницкого", "Гоголь Н.В. Тарас Бульба",
роман "Черниговка")
"РУССКАЯ РЕСПУБЛИКА" (История Новгорода, Пскова и Вятки)
"СТАРЫЙ СПОР" ("Последние годы Речи Посполитой")
"СЛАВЯНСКАЯ МИФОЛОГИЯ" ("Славянская мифология",
"Историческое значение южнорусского народного песенного
творчества", "Великорусская народная песенная поэзия")
"ЗЕМСКИЕ СОБОРЫ" ("Старинные земские соборы", "Очерки
торговли Московского государства в XVI и XVII столетиях", "Начало
Руси", "Правда полякам о Руси", "Правда москвичам о Руси",
"Иудеям", "Украинский сепаратизм", "Давно ли Малая Русь стала
писаться Малороссиею, а Русь Россиею", "Русские инородцы" и
другие сочинения)
"РУСЬ КРЕЩЕНАЯ" ("Господство дома Св. Владимира")
"ГОСУДАРИ И БУНТАРИ" ("Господство дома Романовых от
Михаила Федоровича до Петра I")
"ОКНО В ЕВРОПУ" ("Господство дома Романовых от Петра
Великого до Екатерины Великой")
По вопросам приобретения и реализации
книг сочинений Н.И.Костомарова
обращаться по адресу:
113035, Москва, ул.Пятницкая, д.20, стр.3.
Фирма и издательство "Чарли'*.
Контактный телефон: 233^08-07.