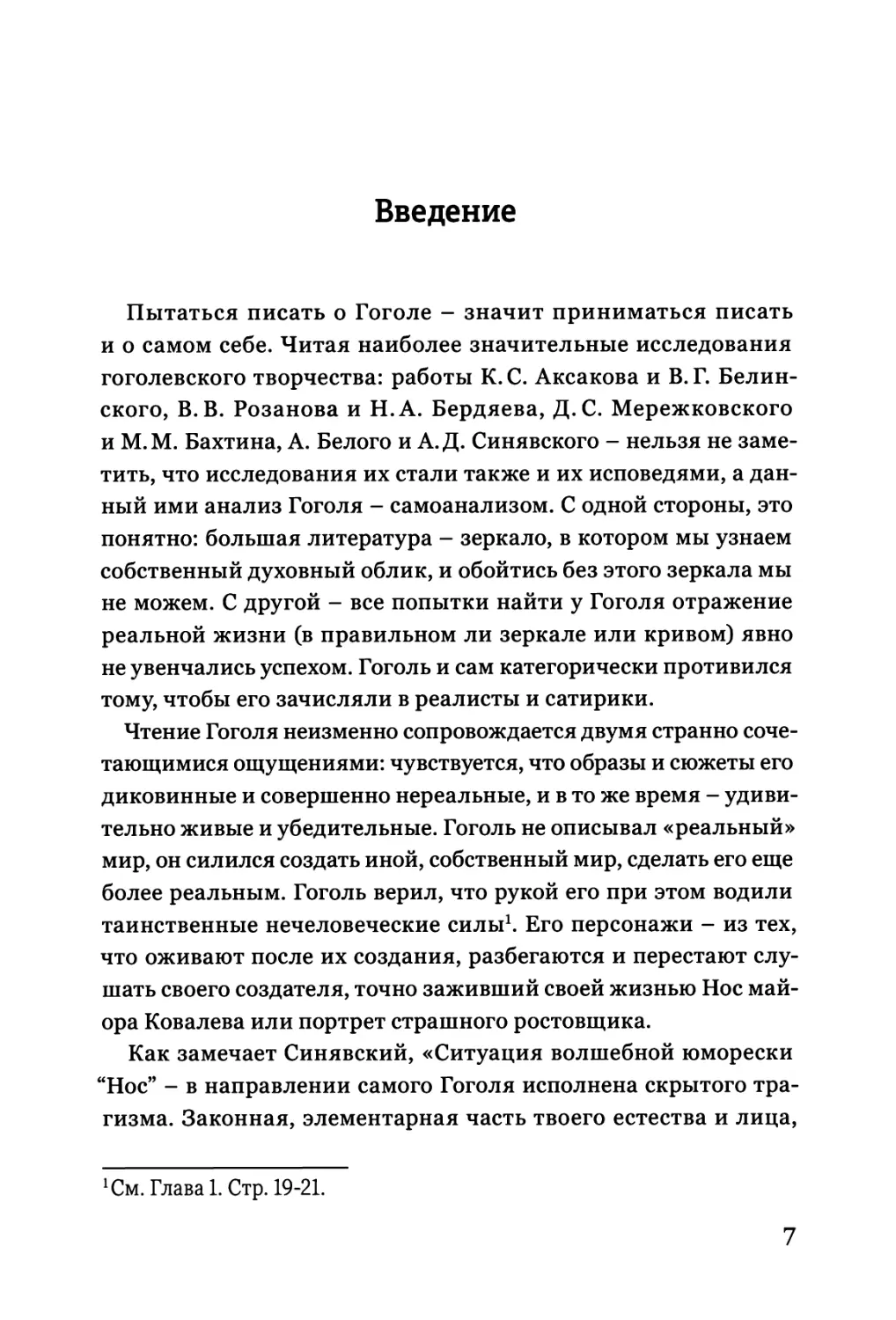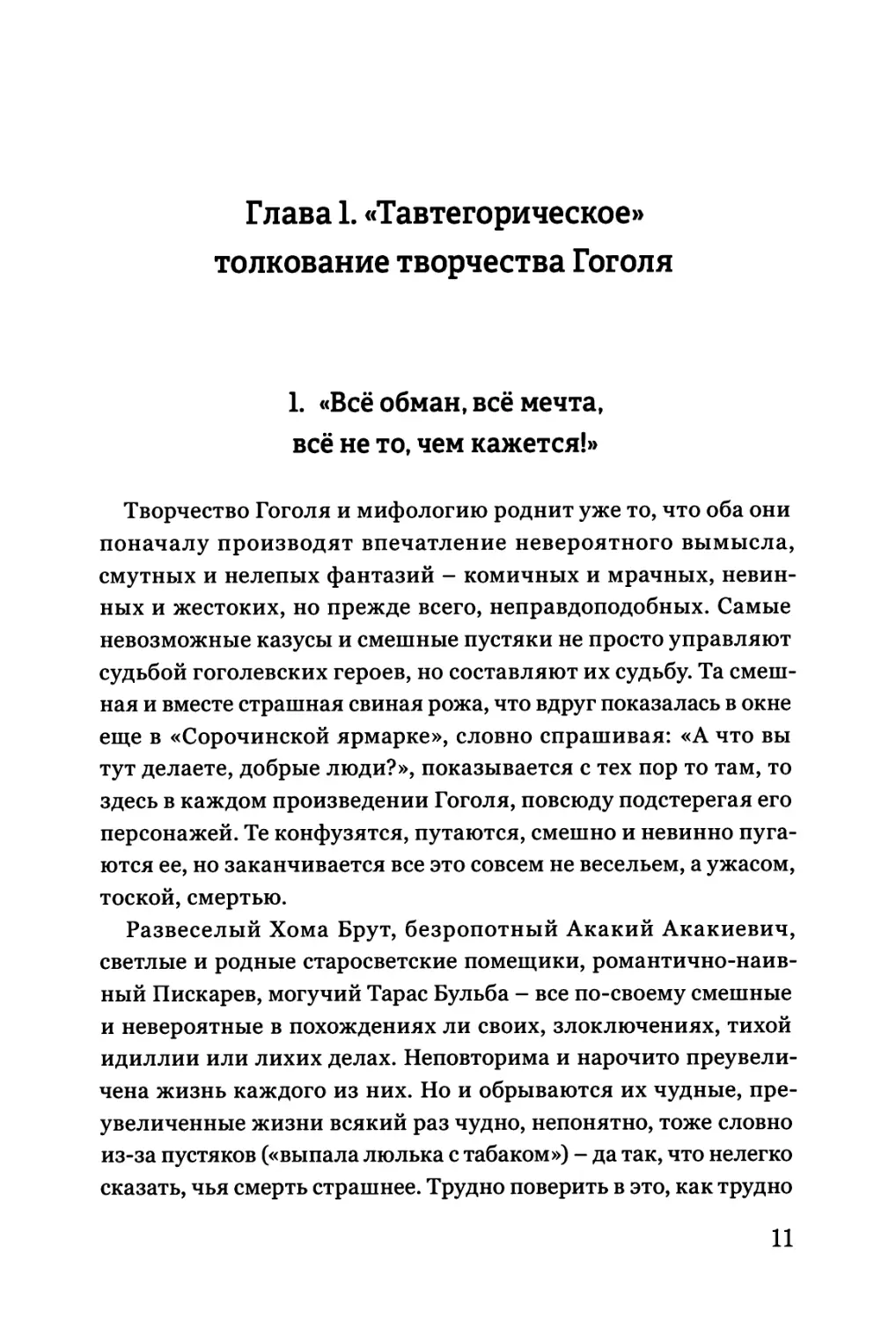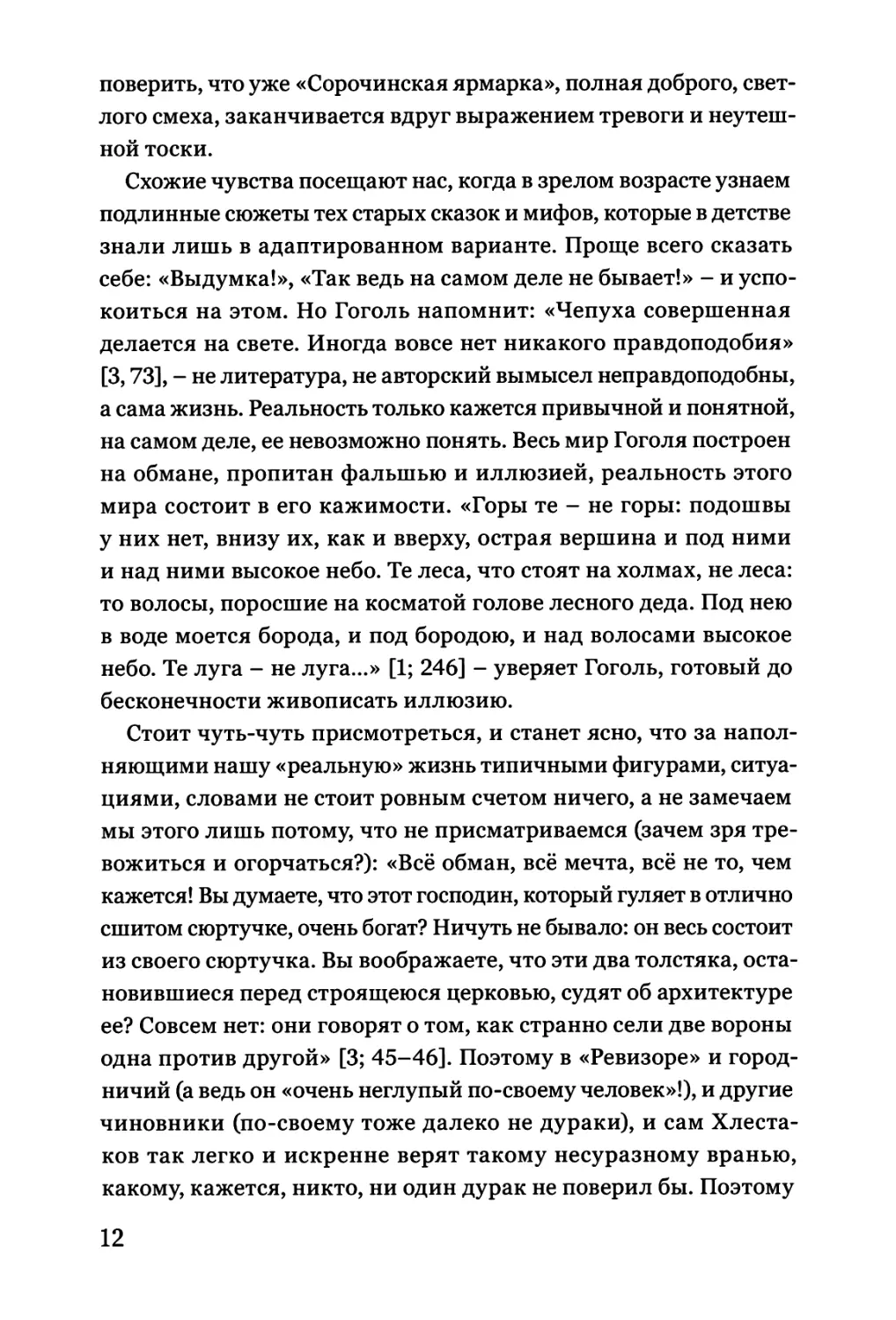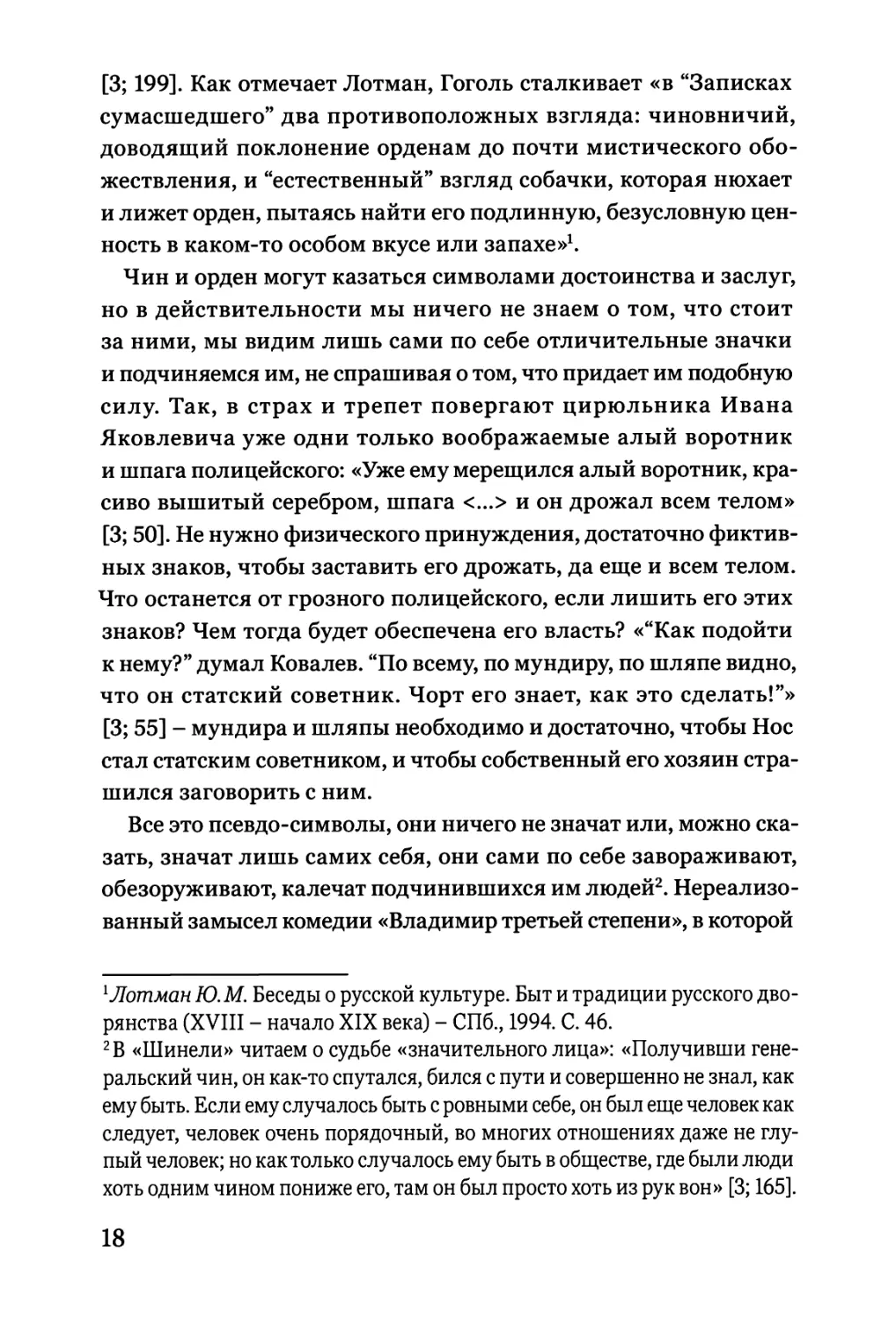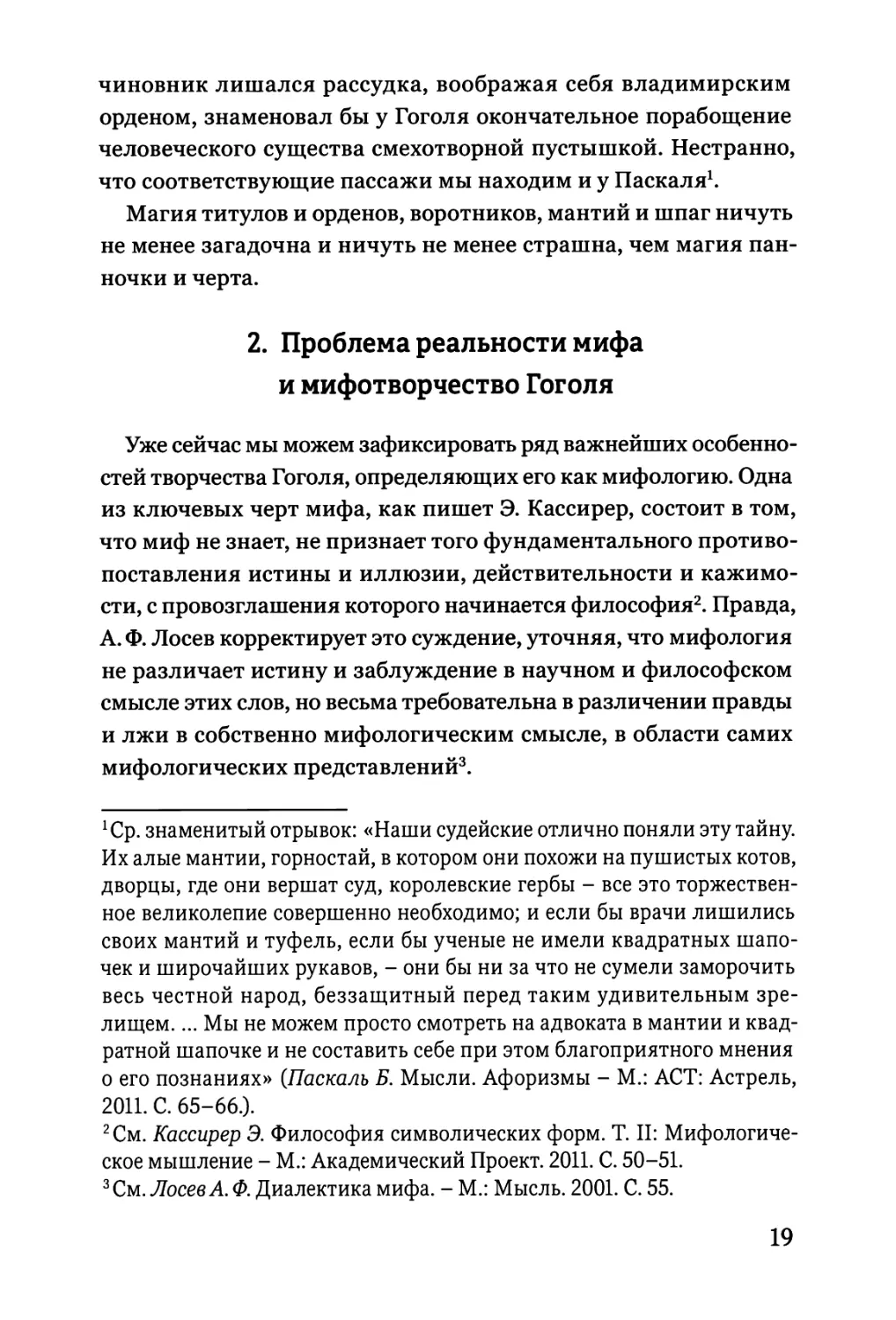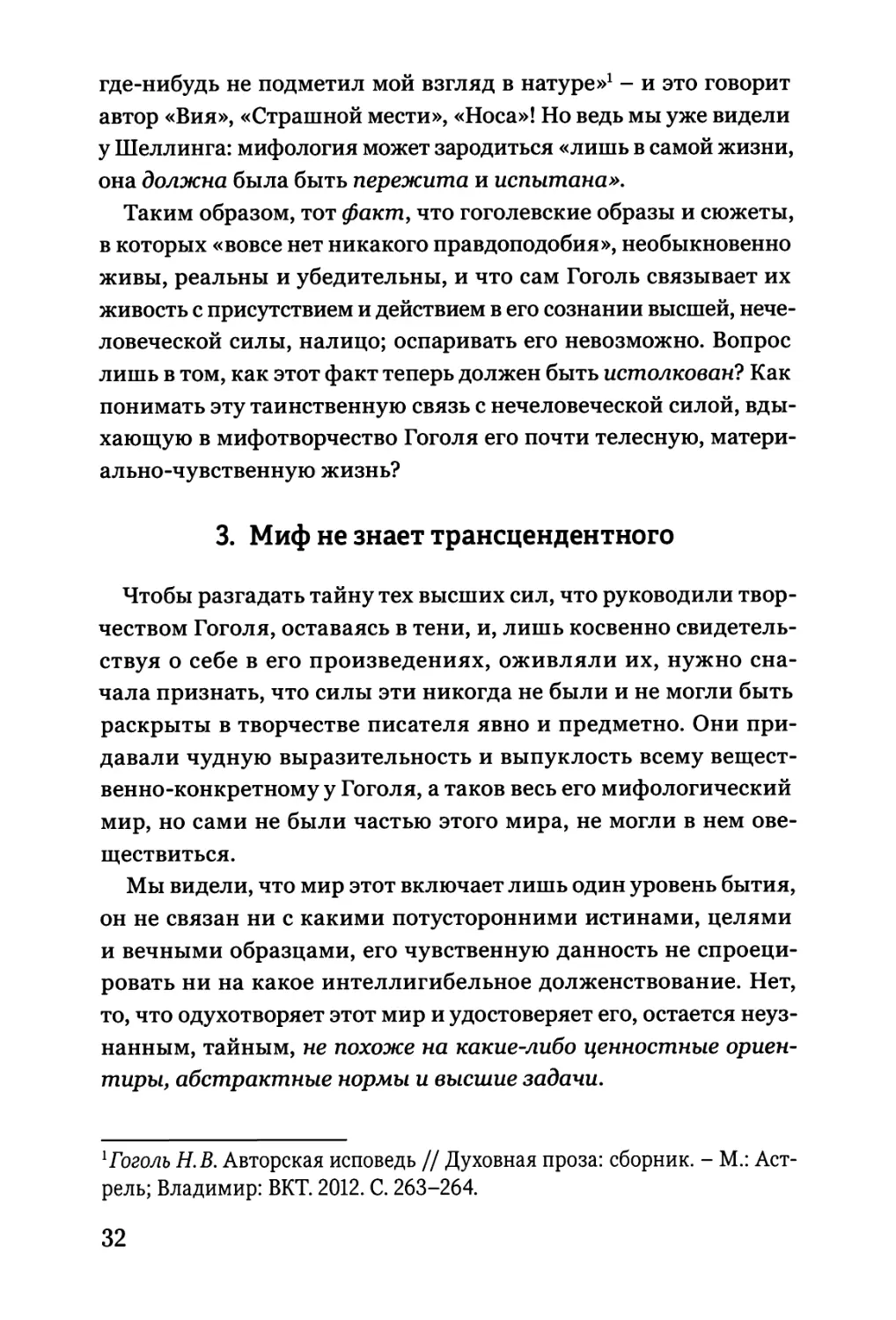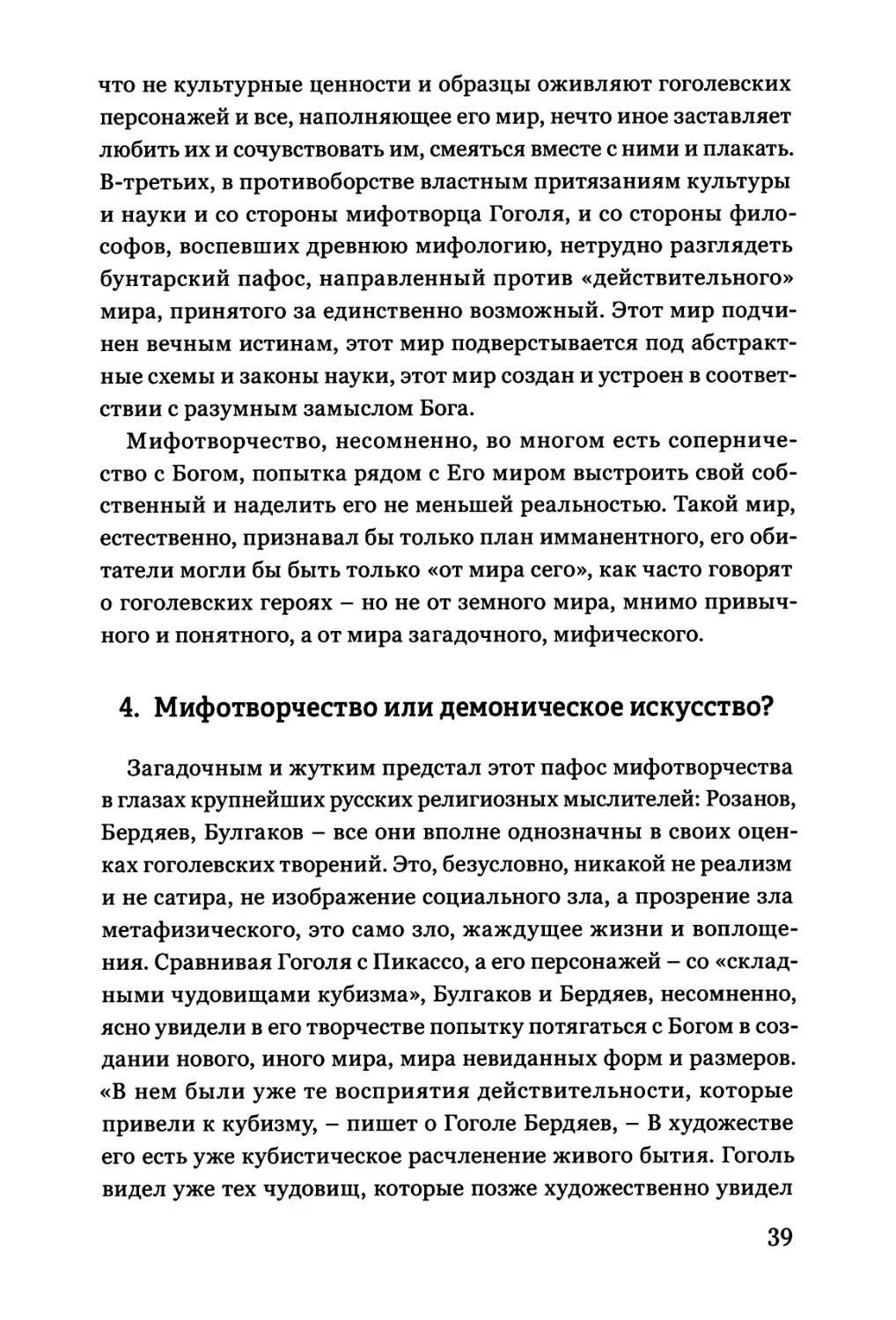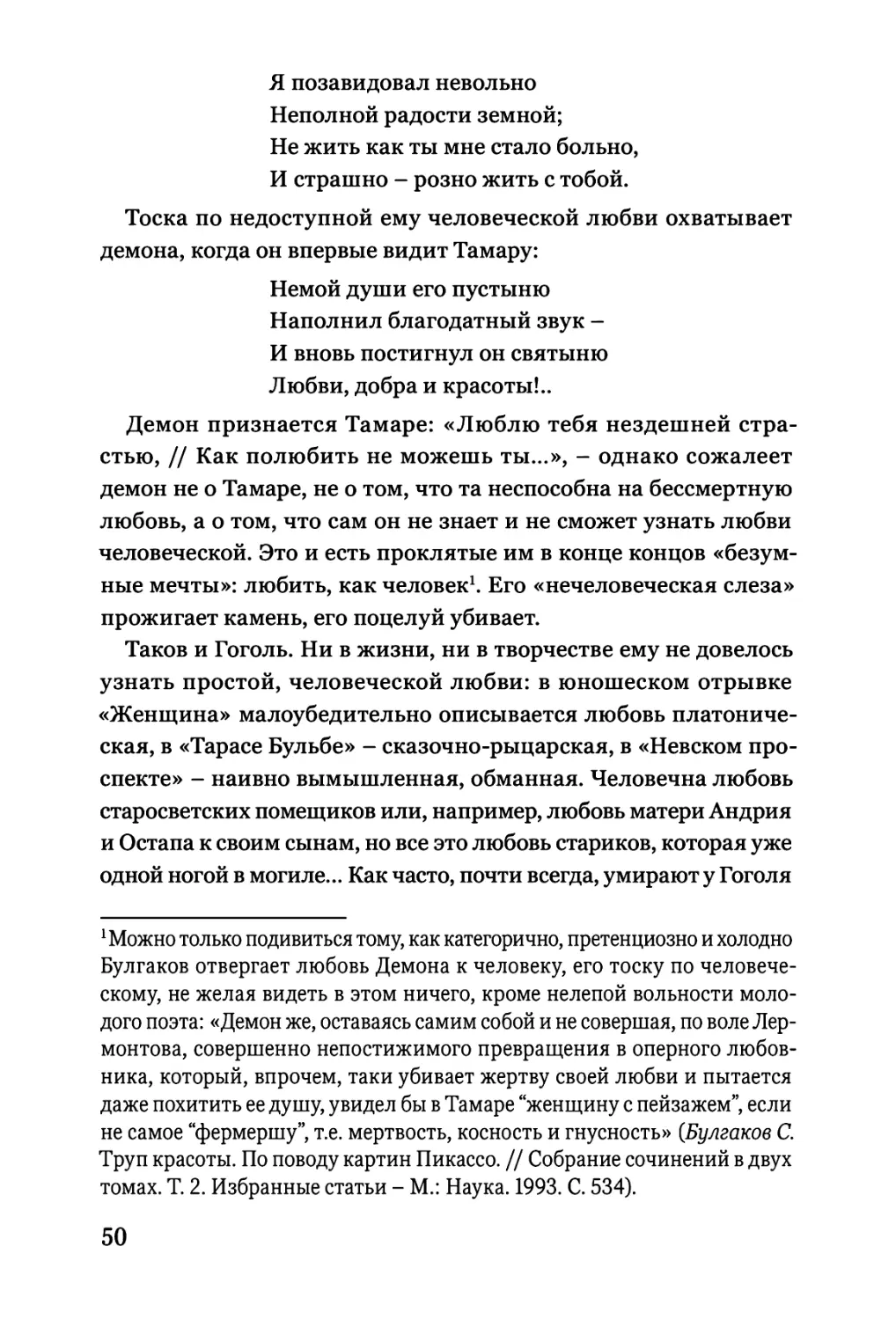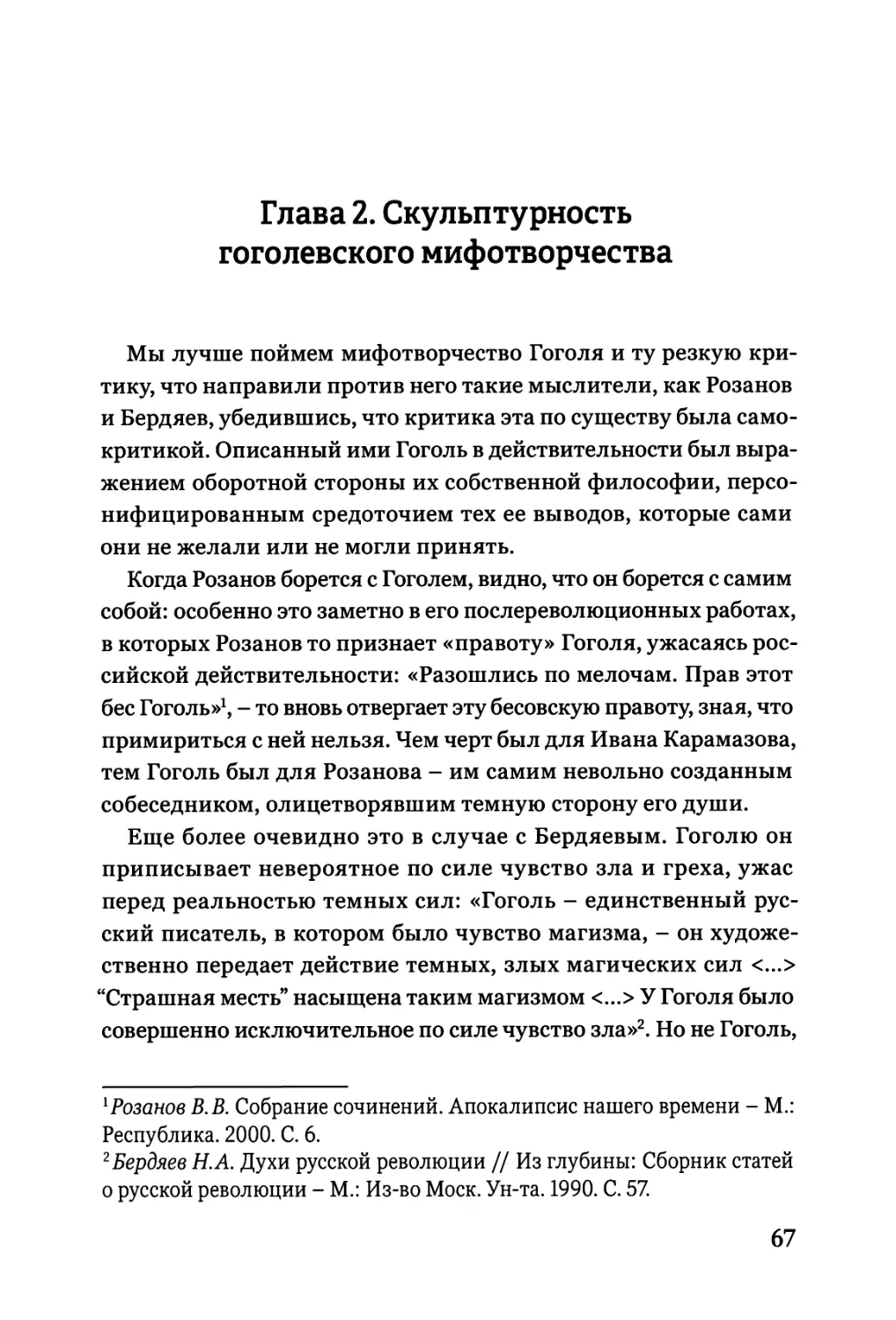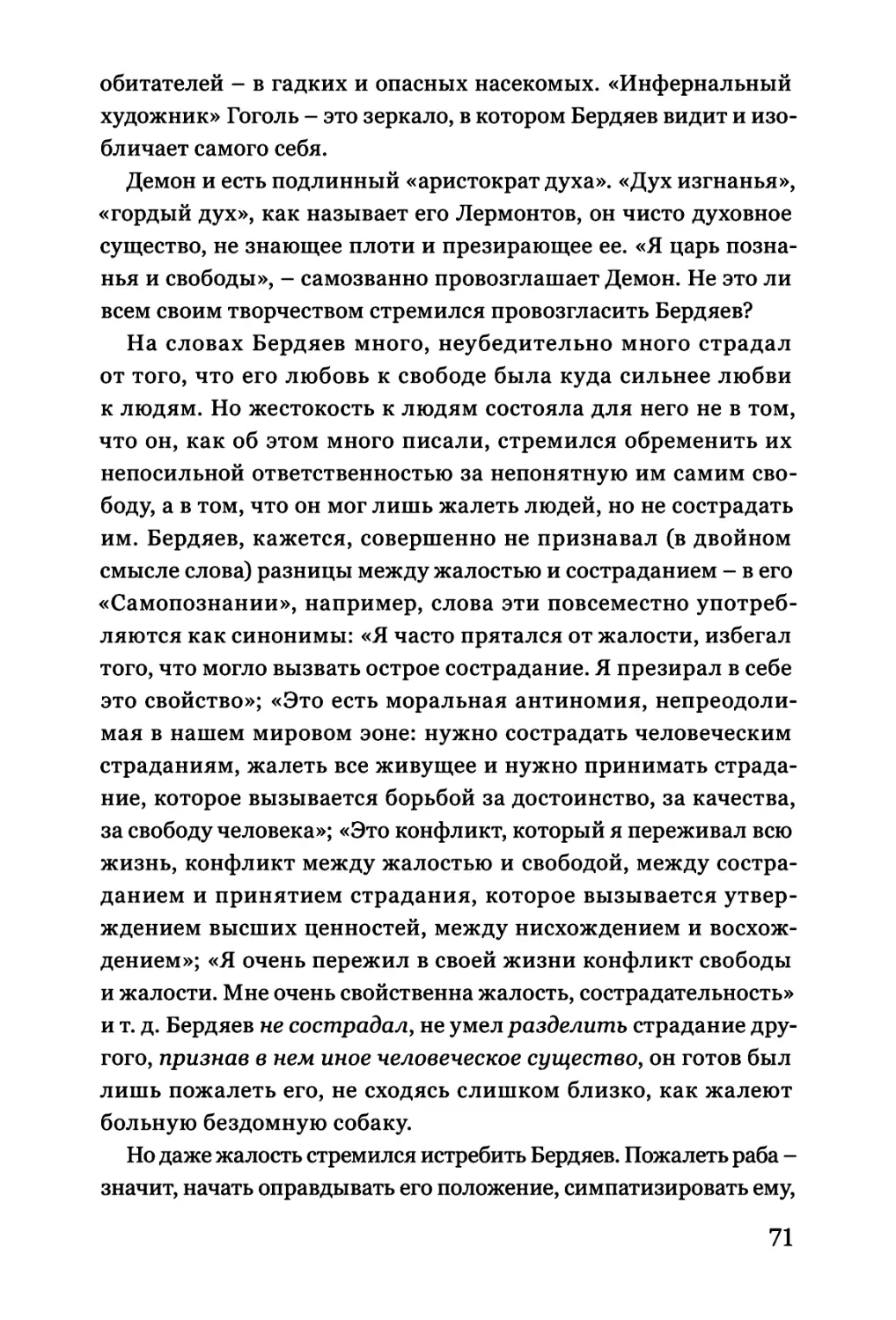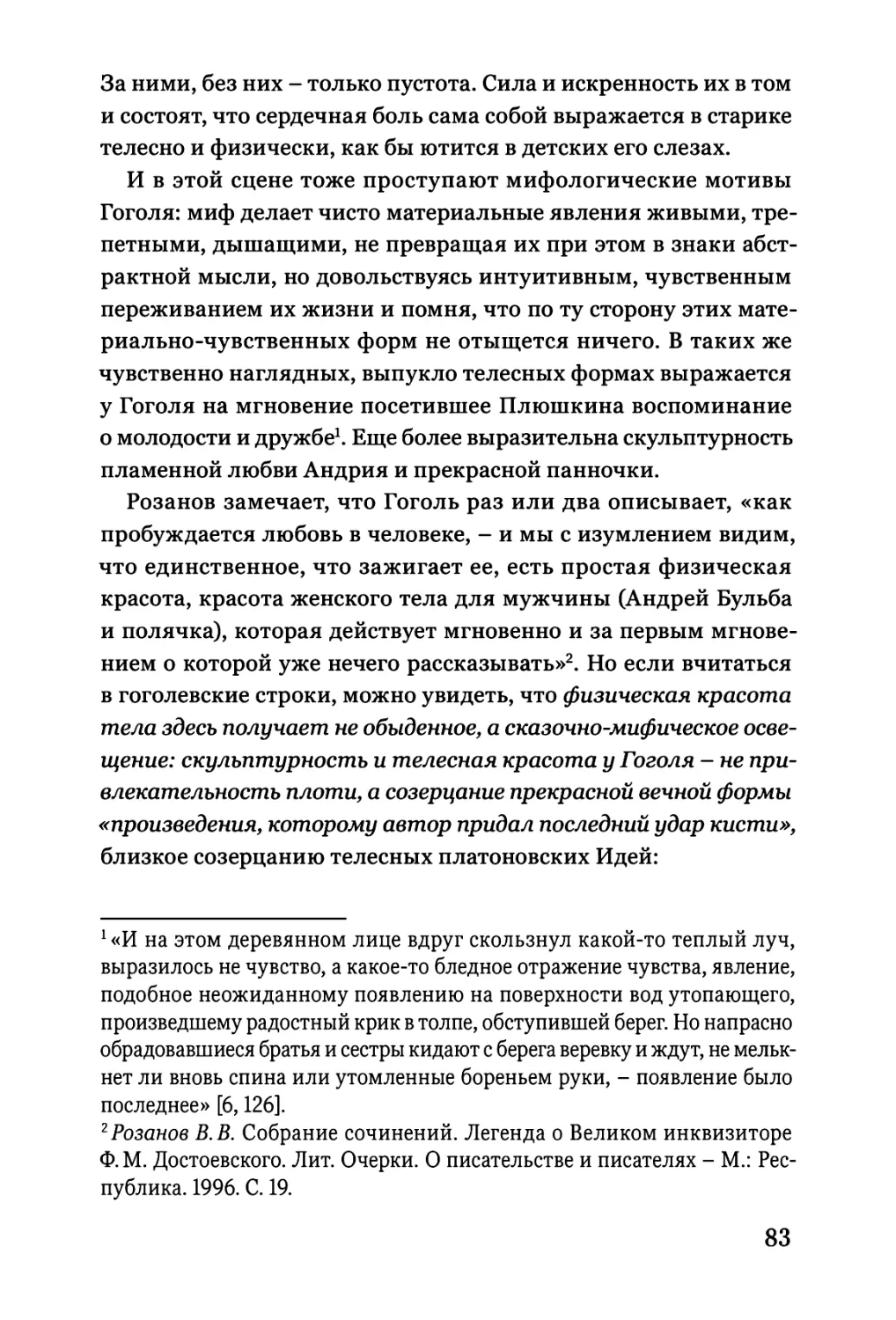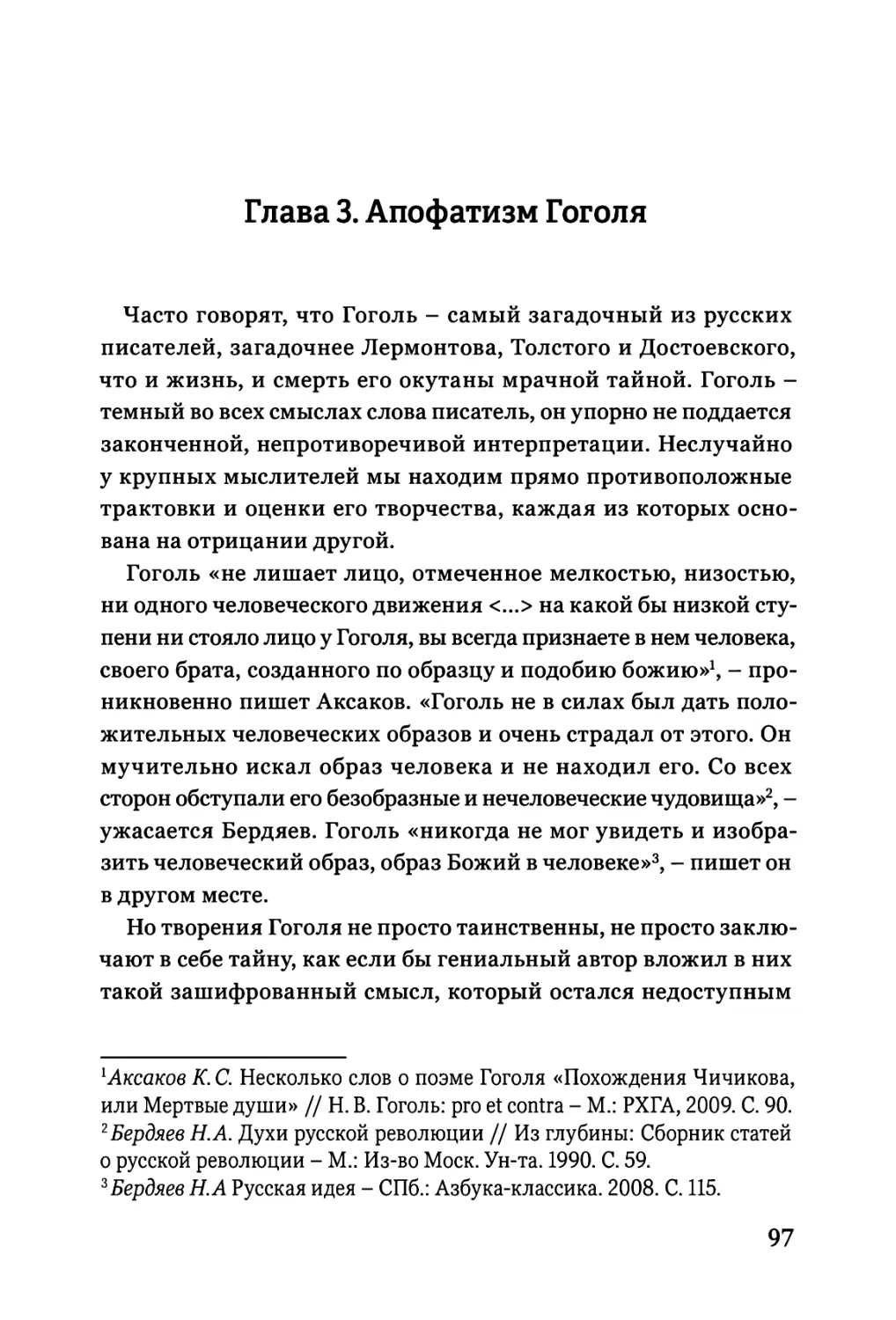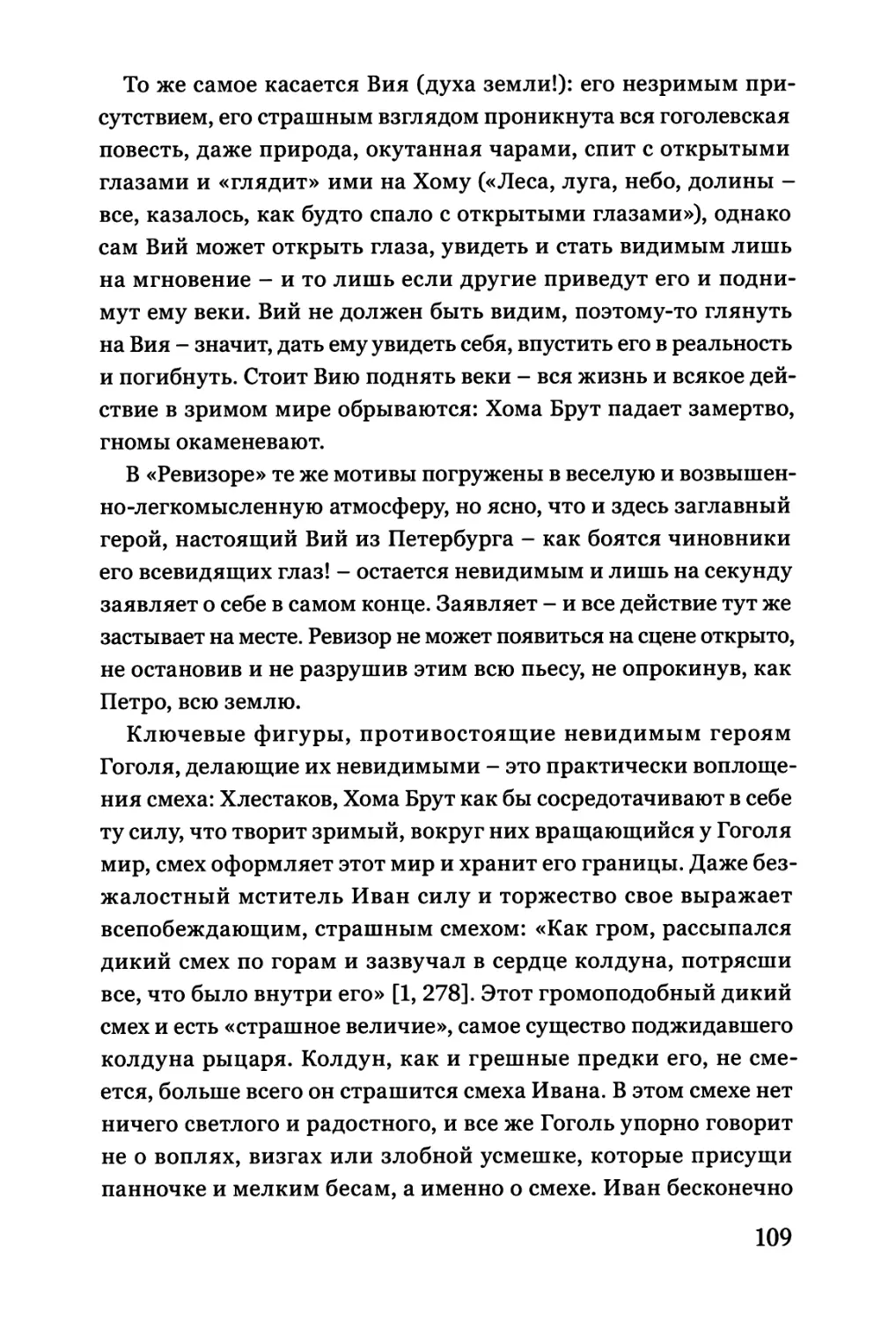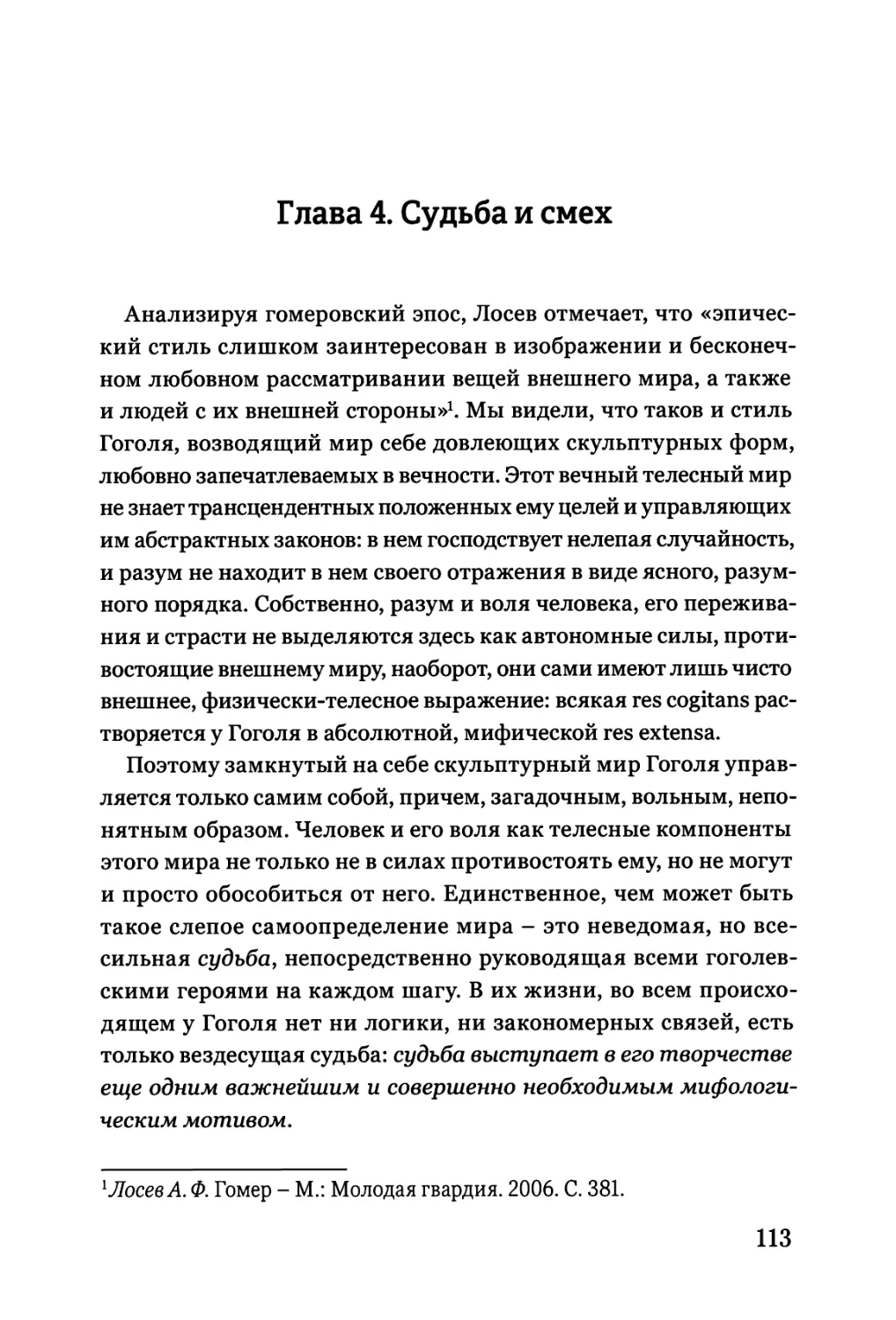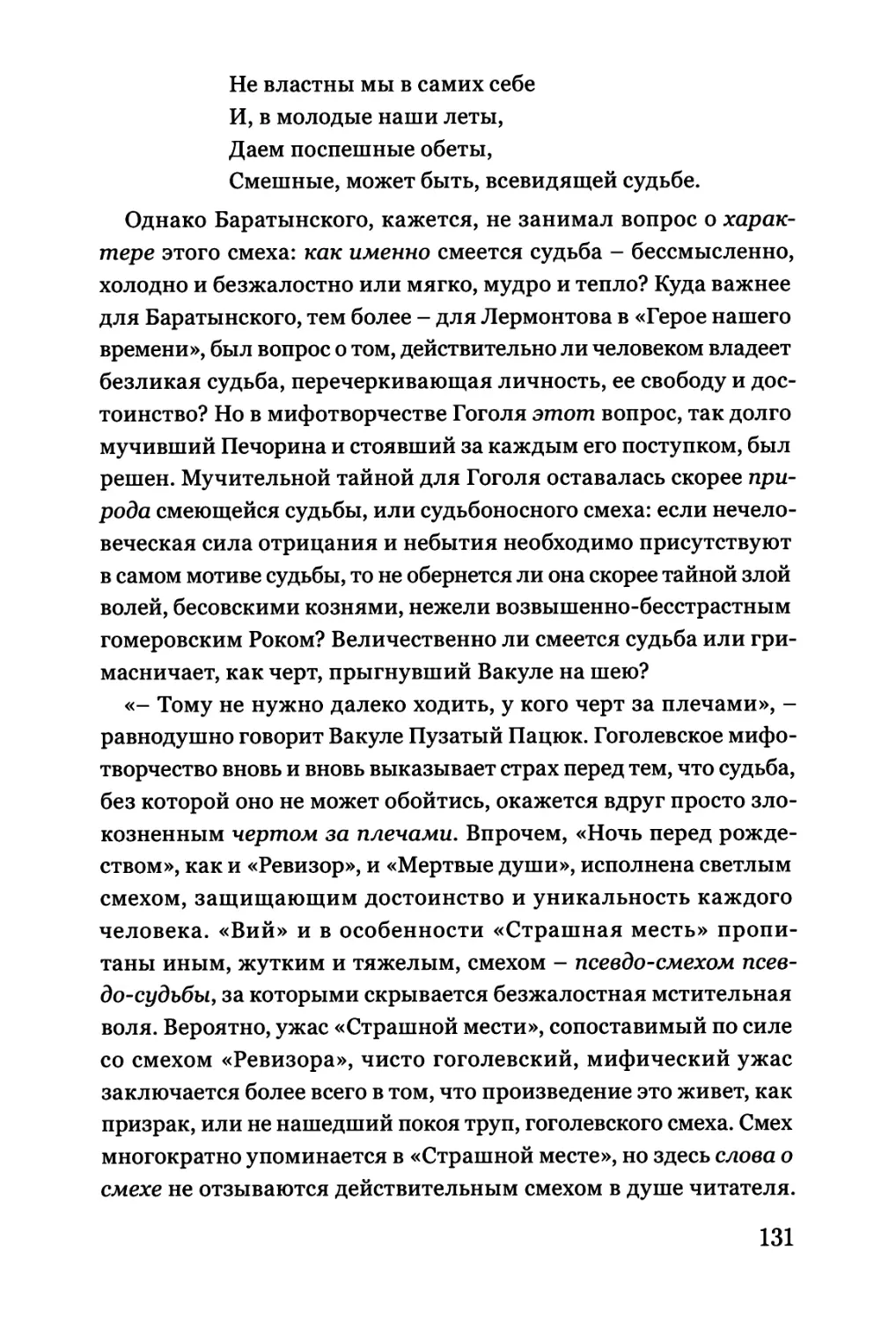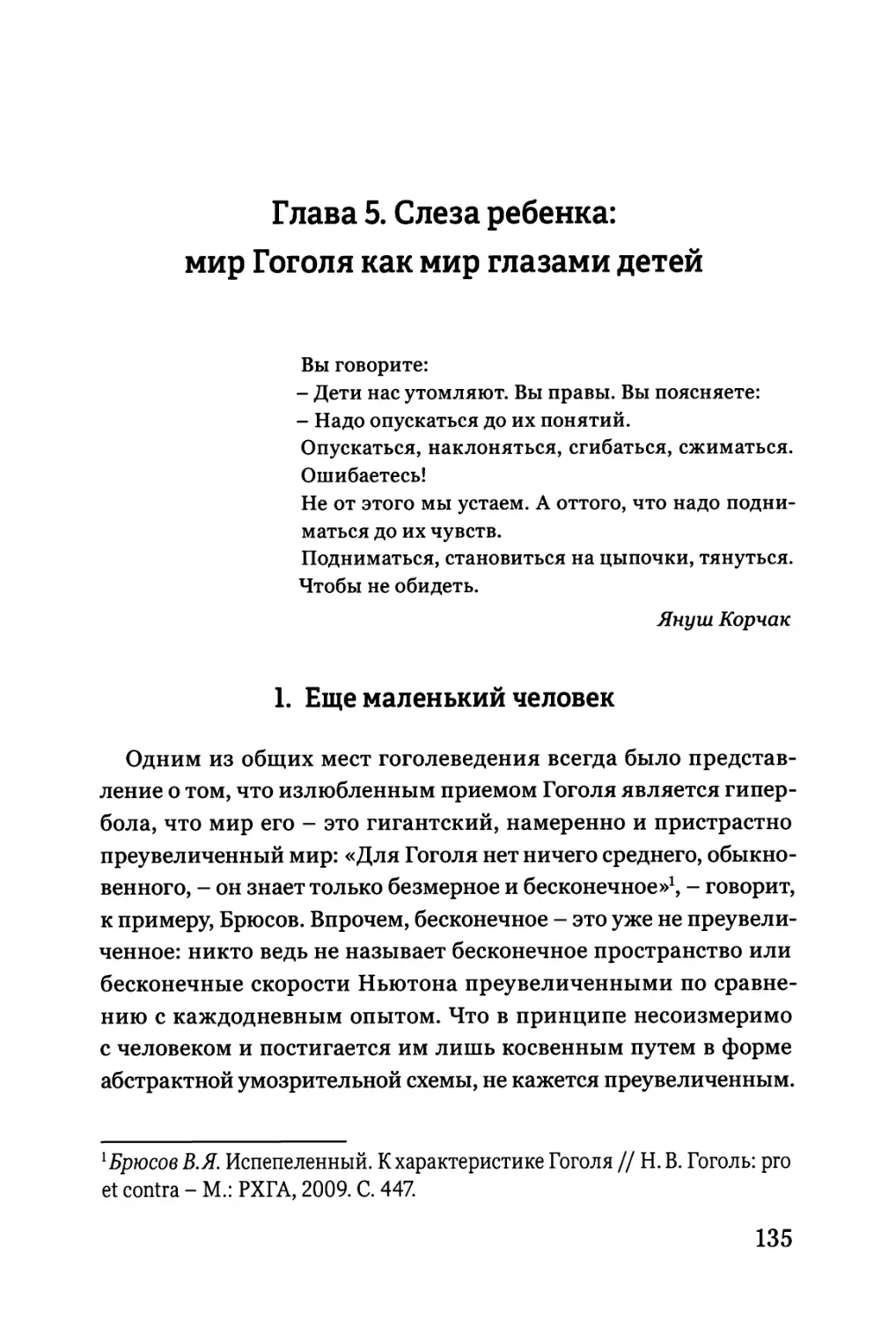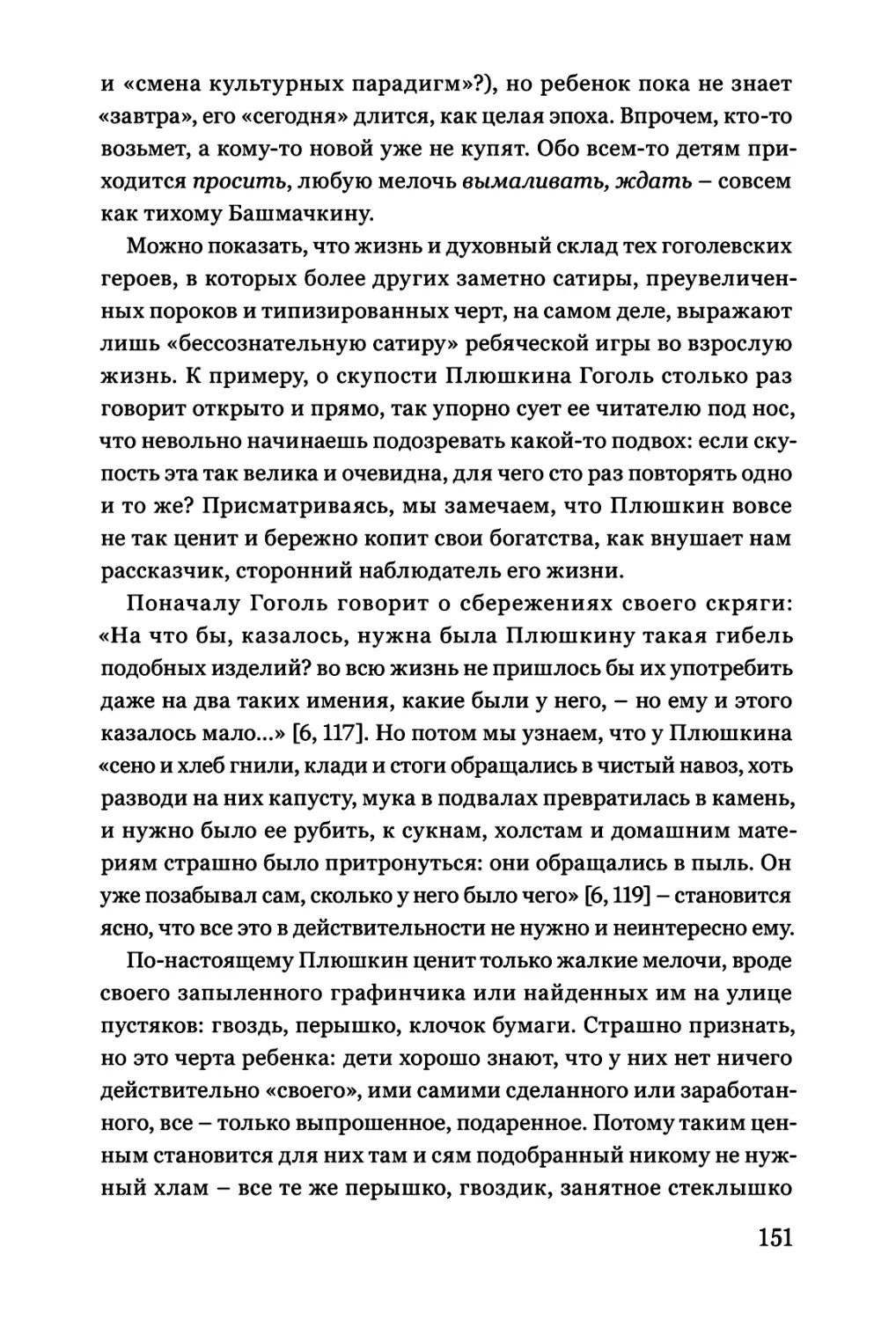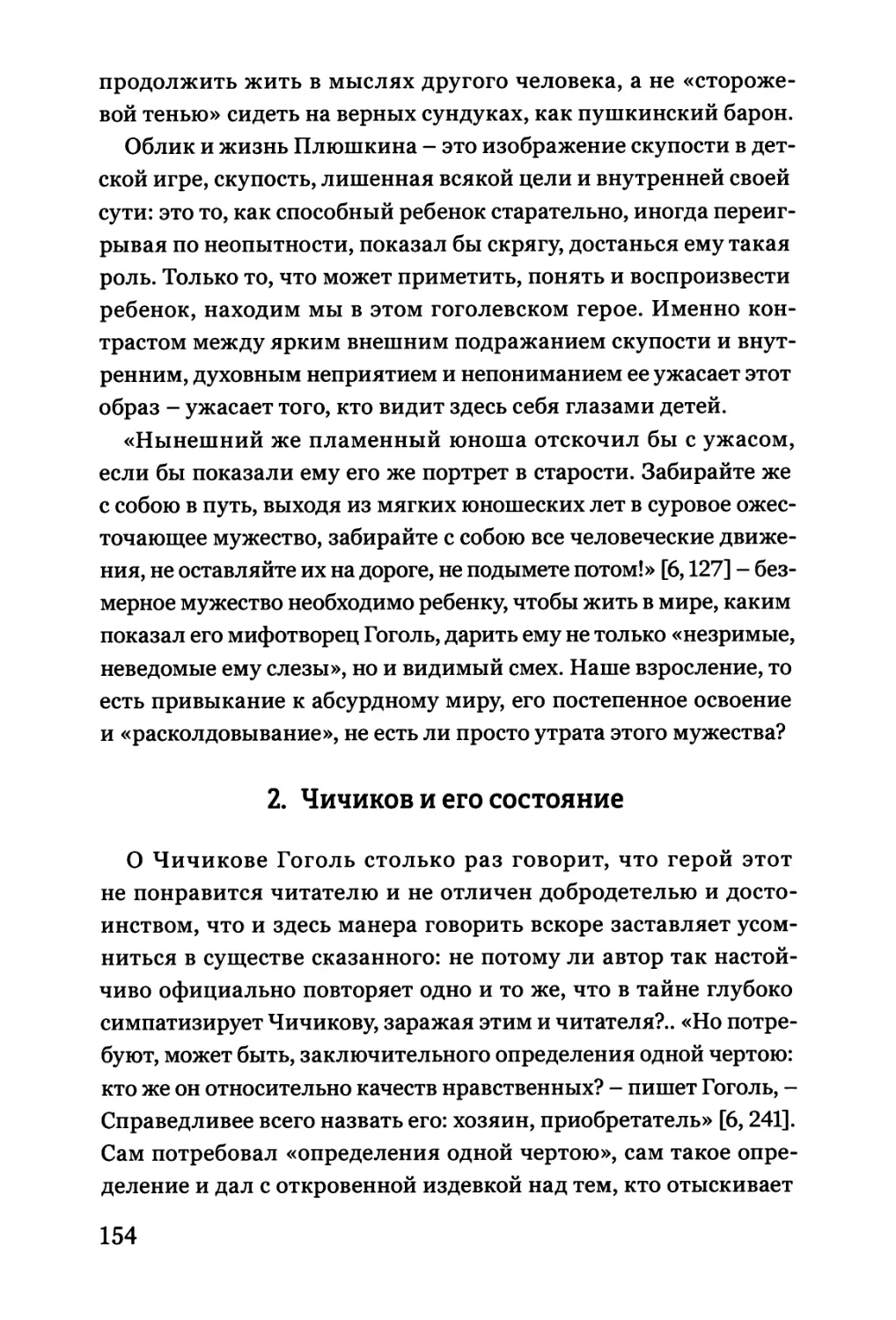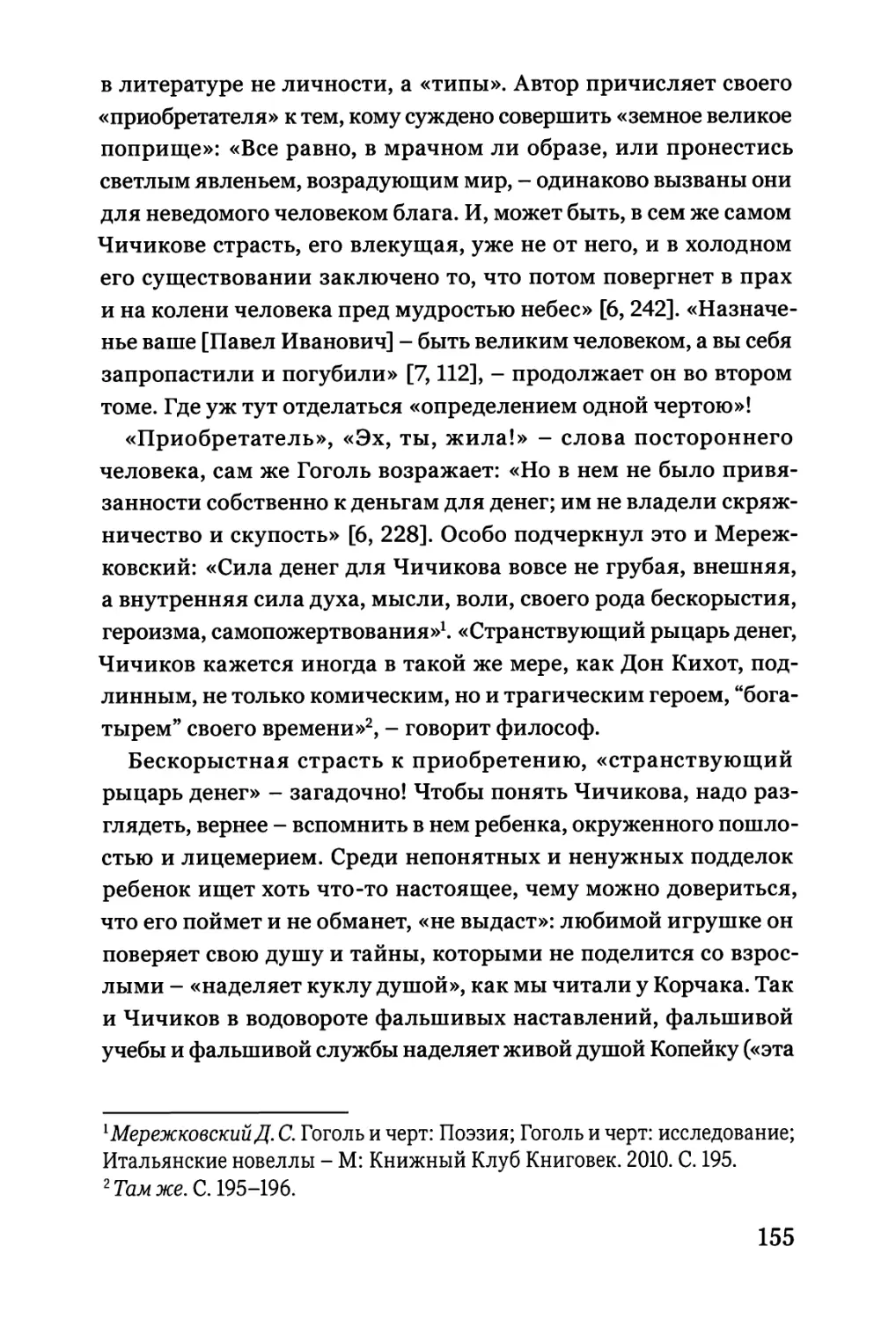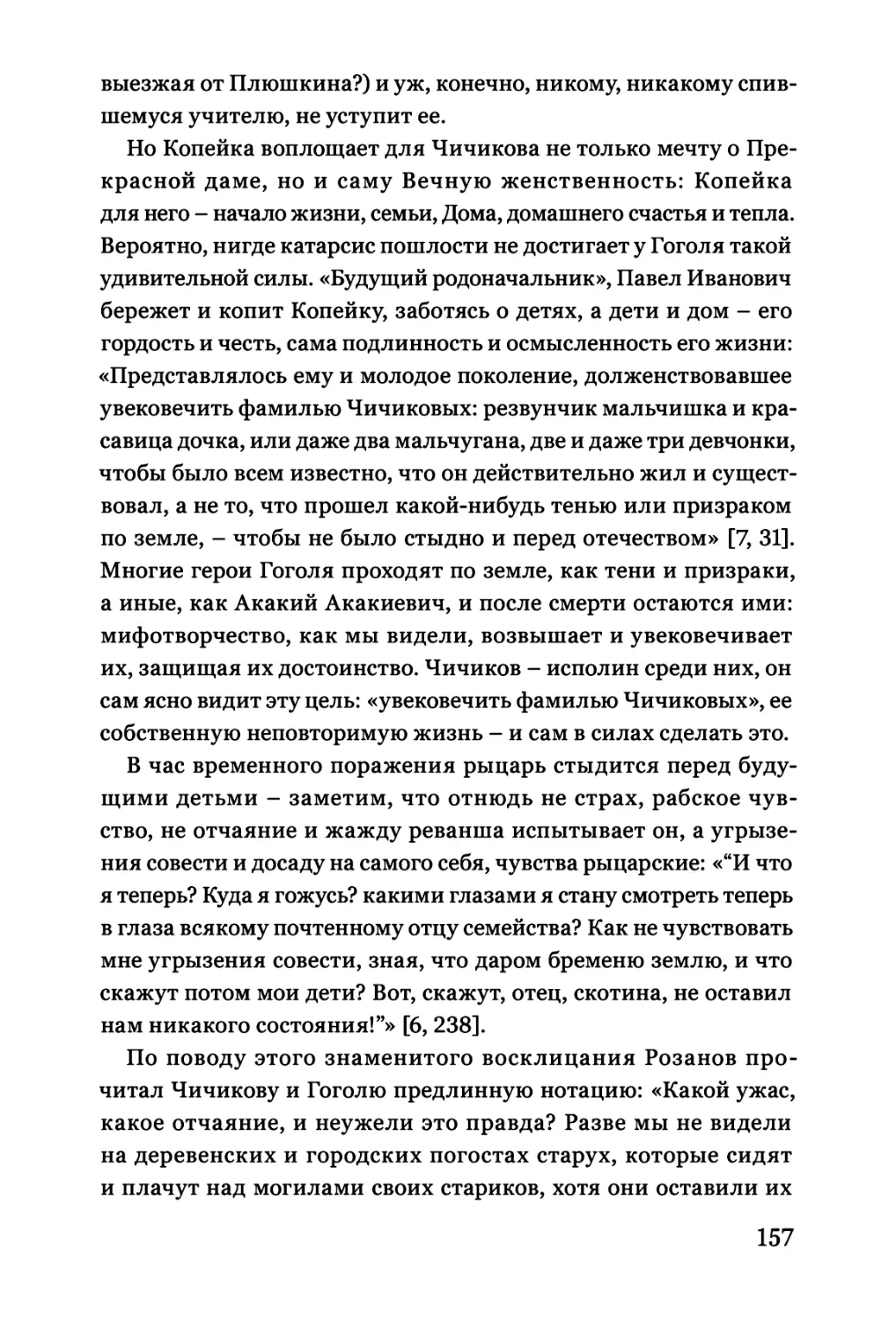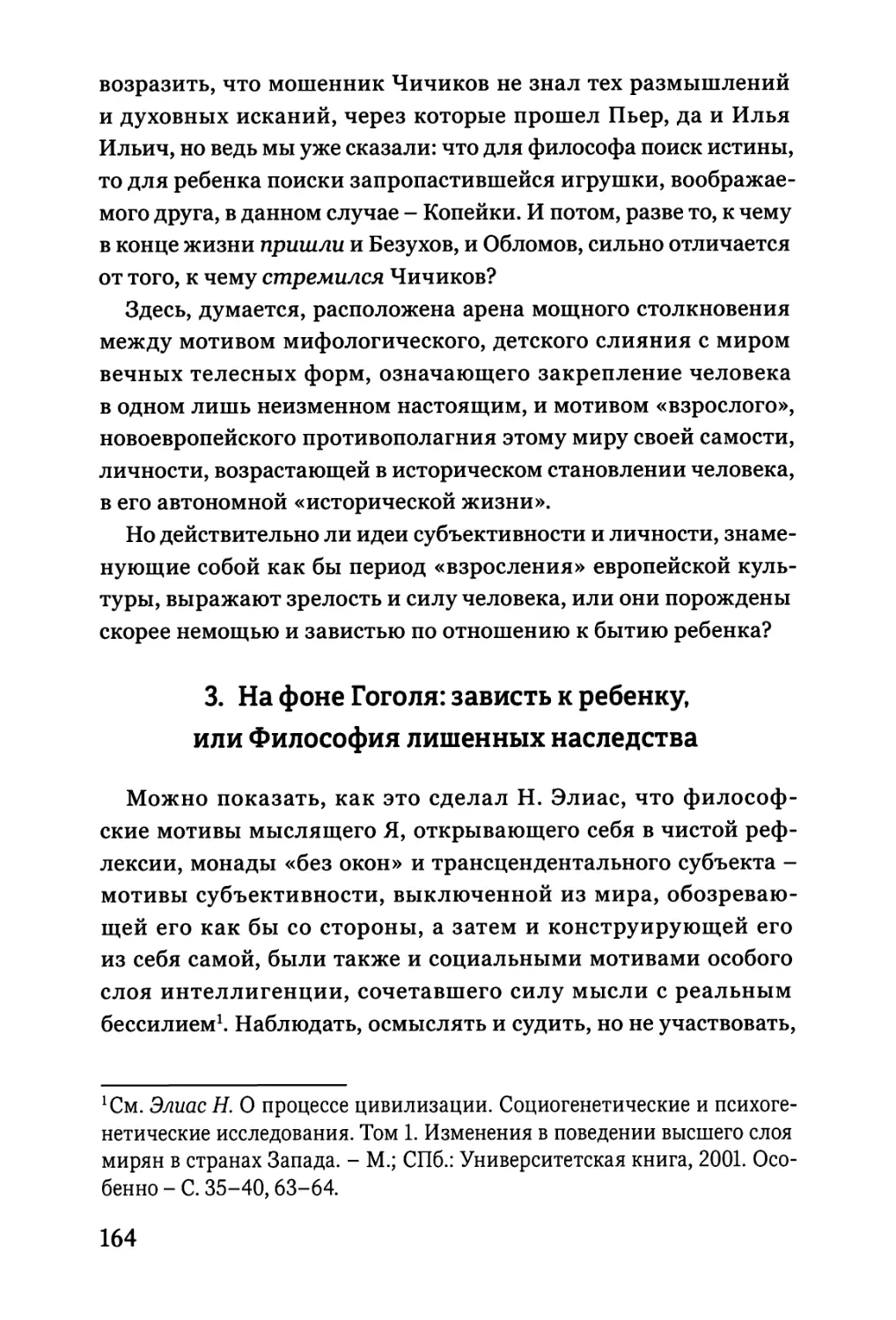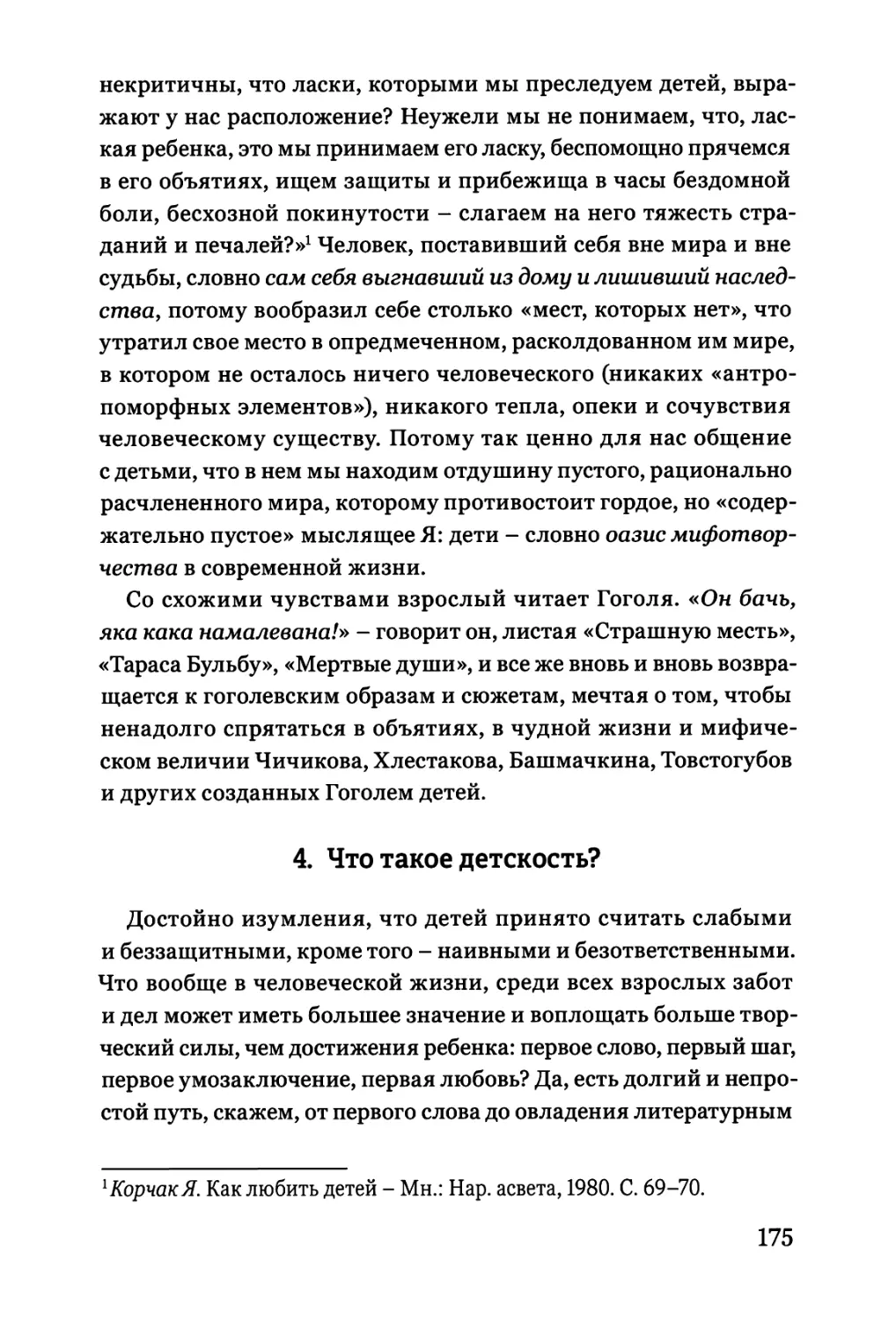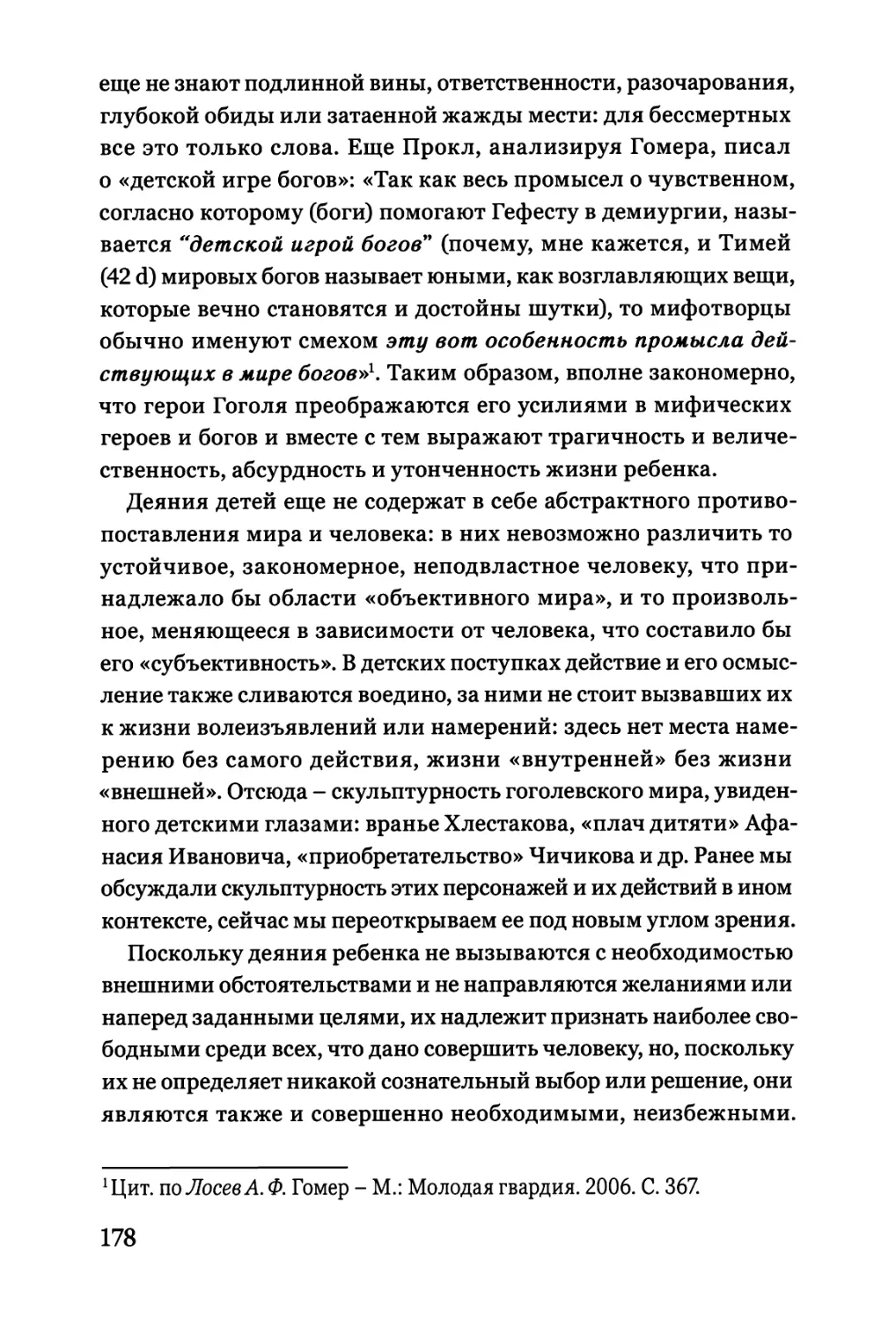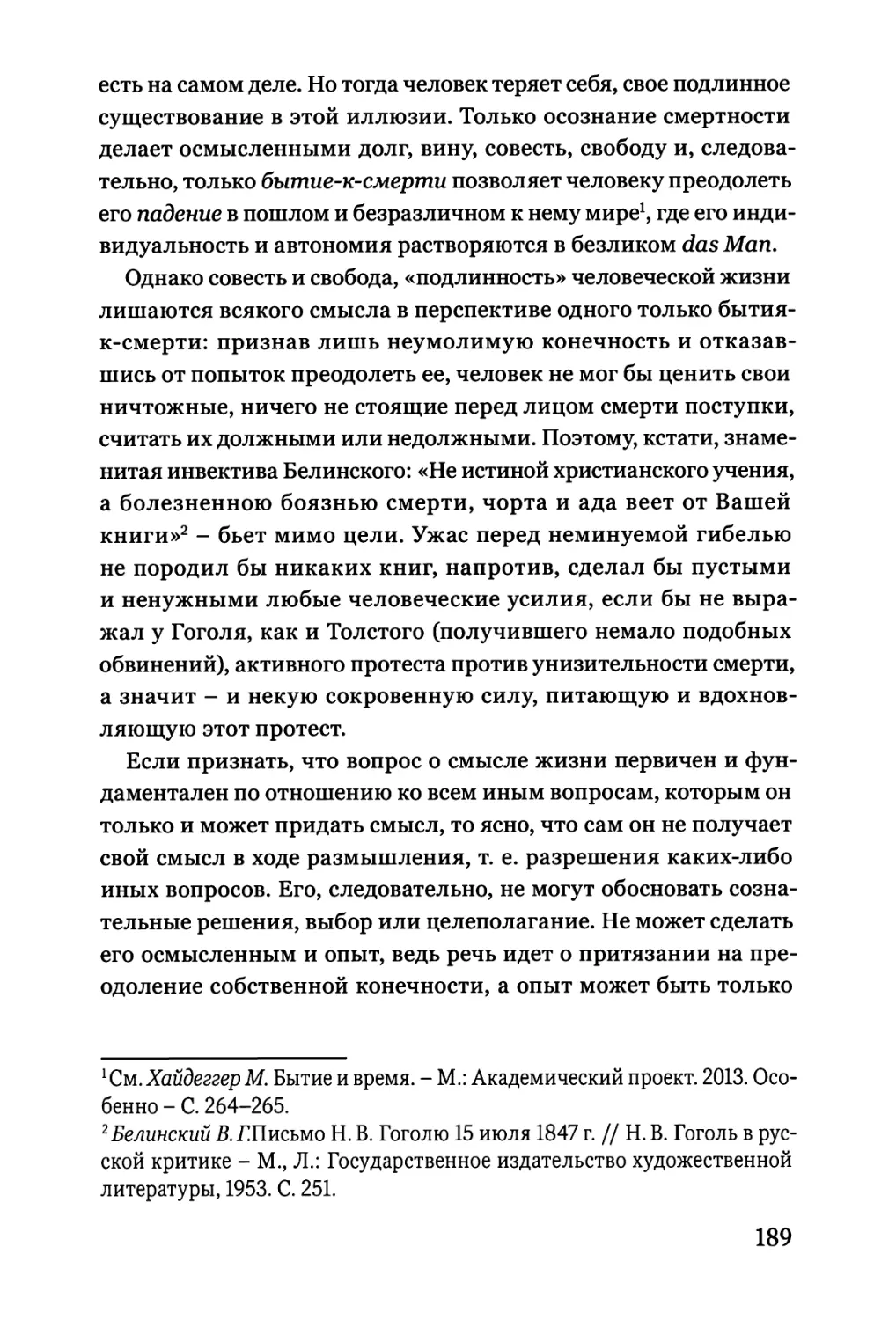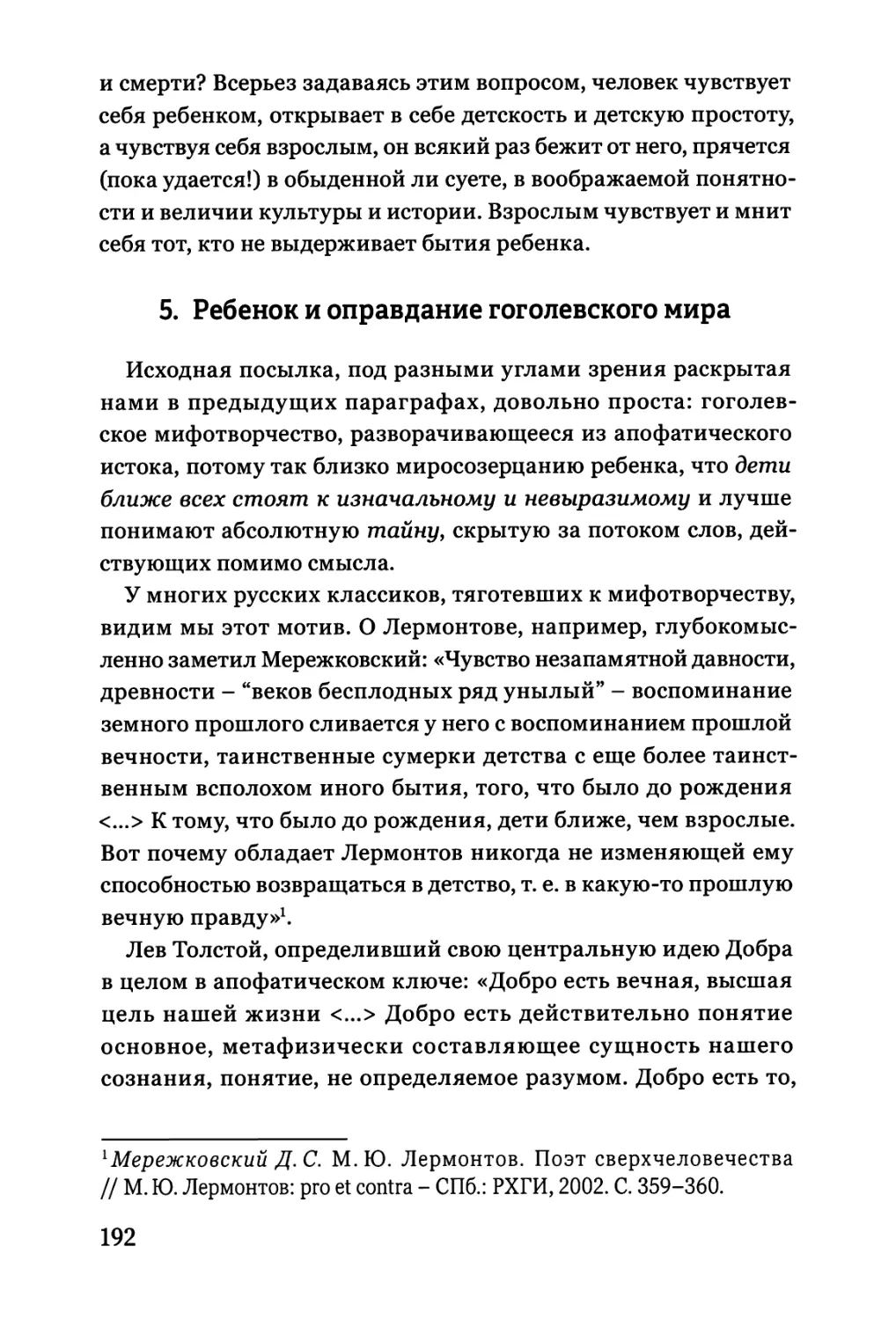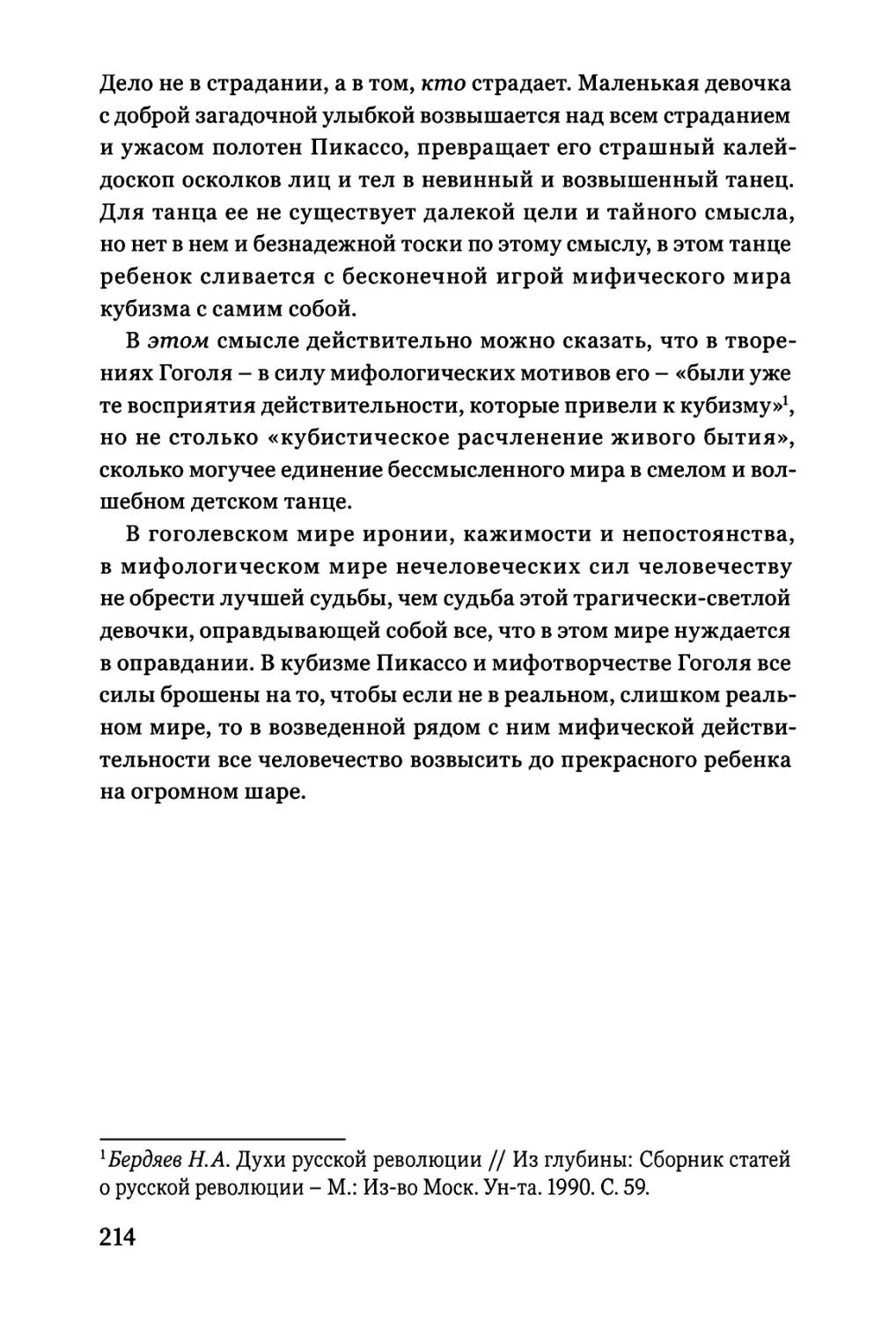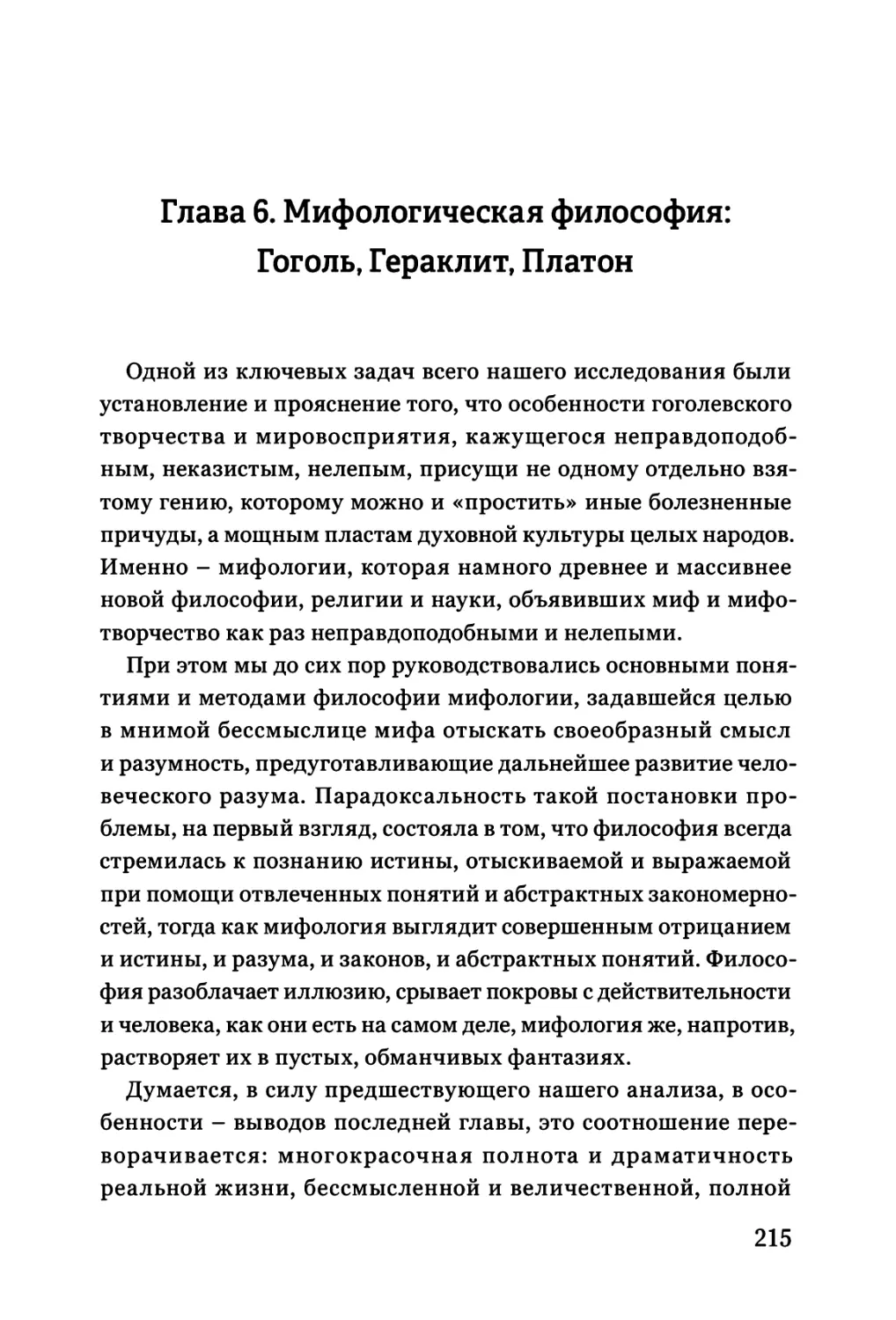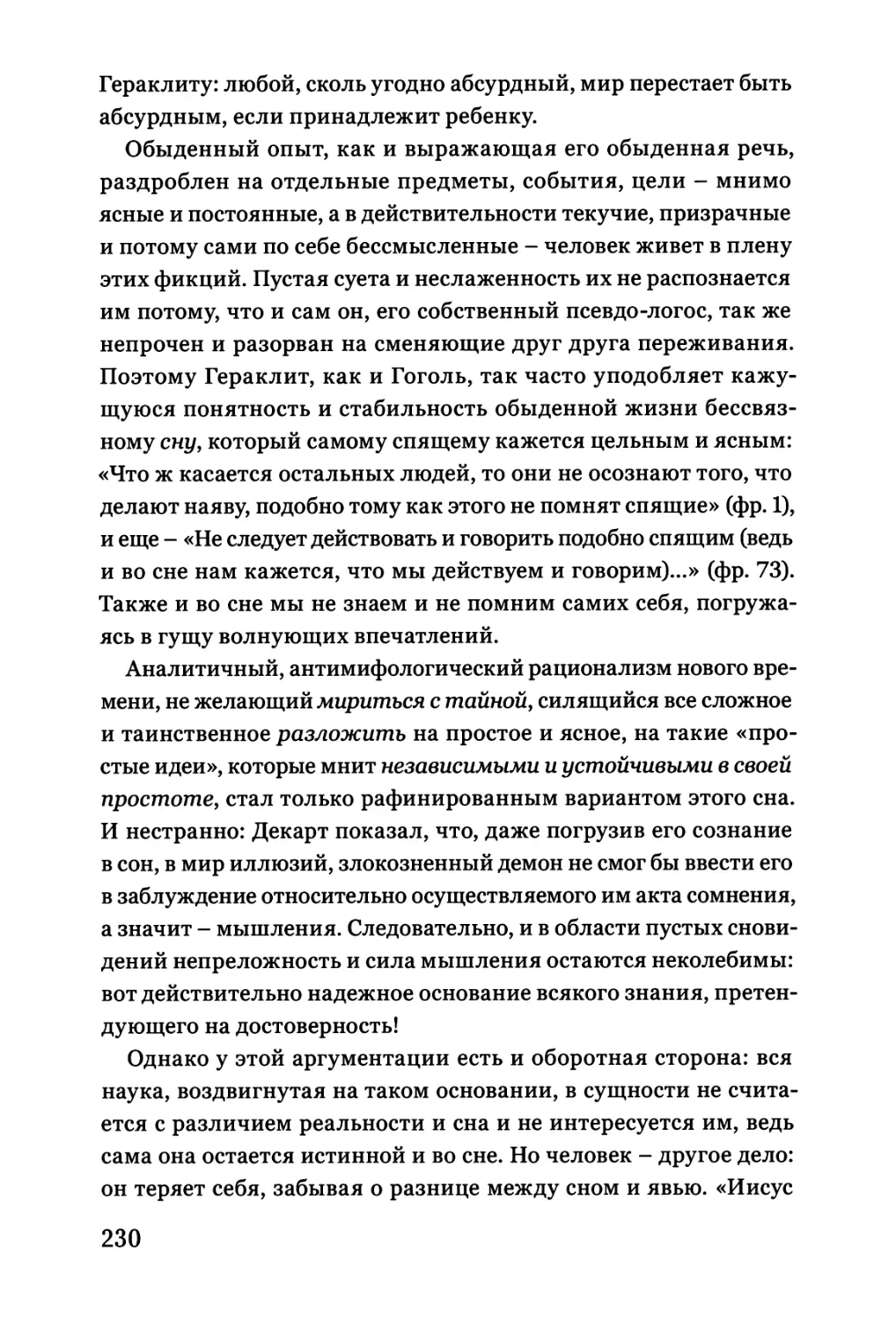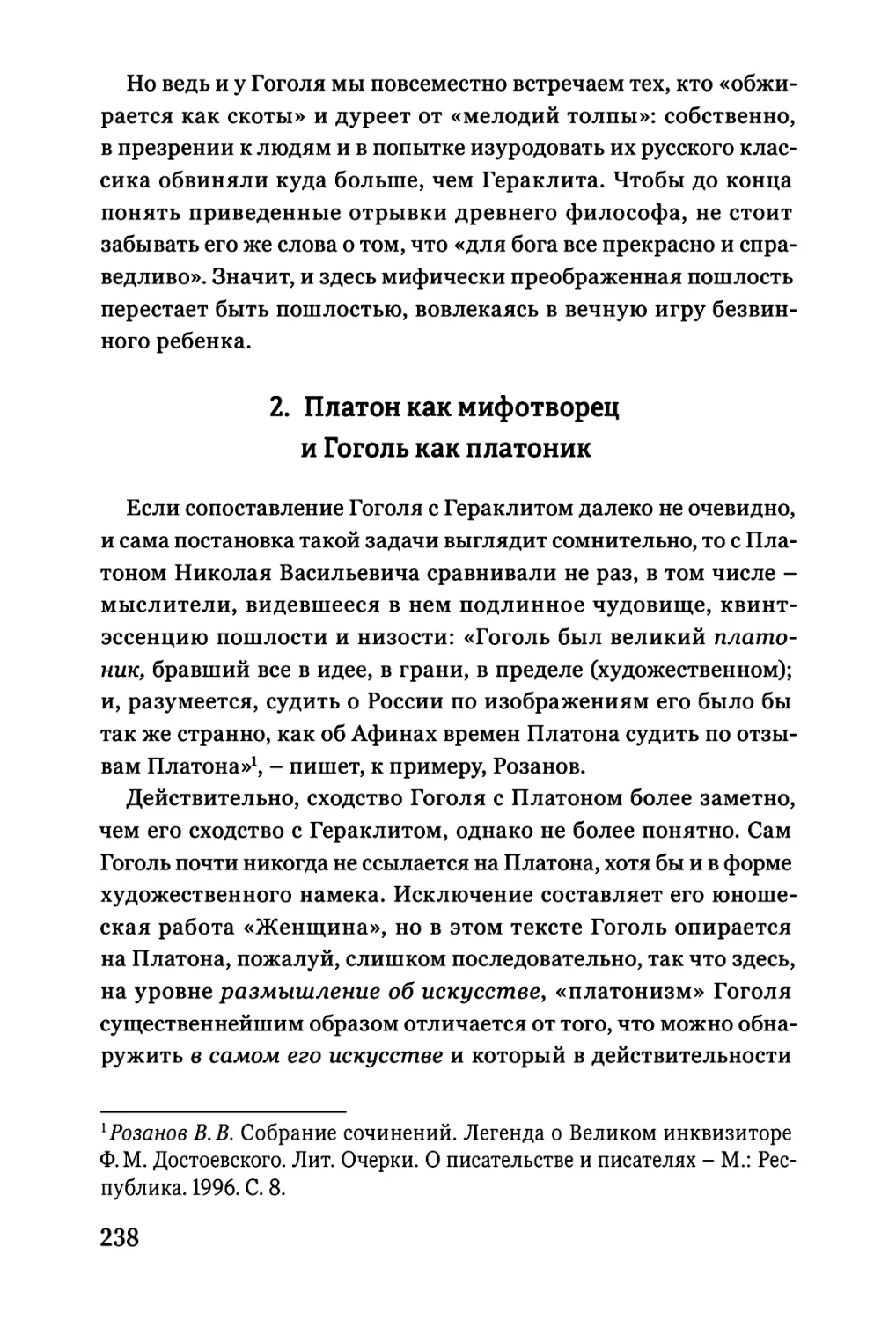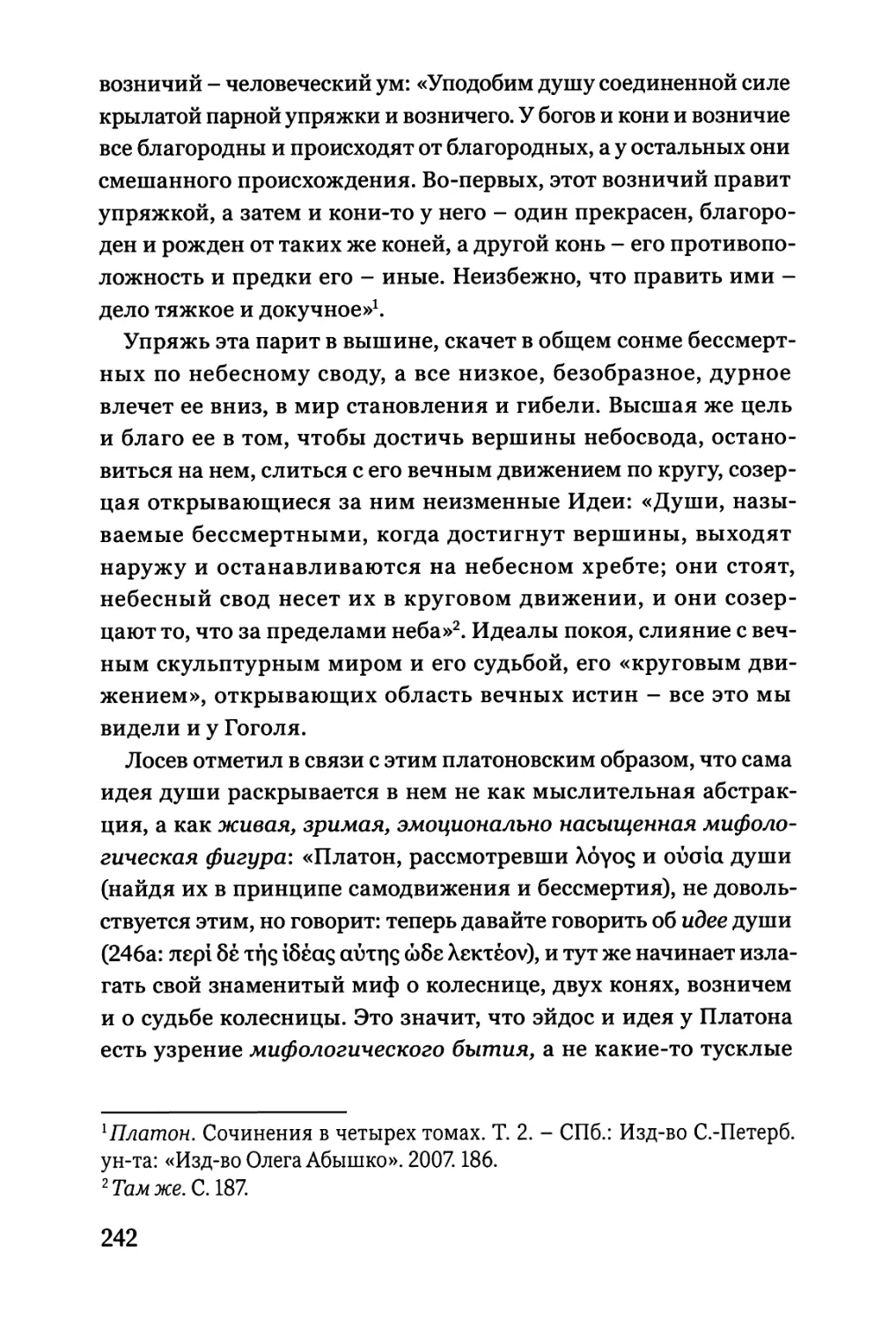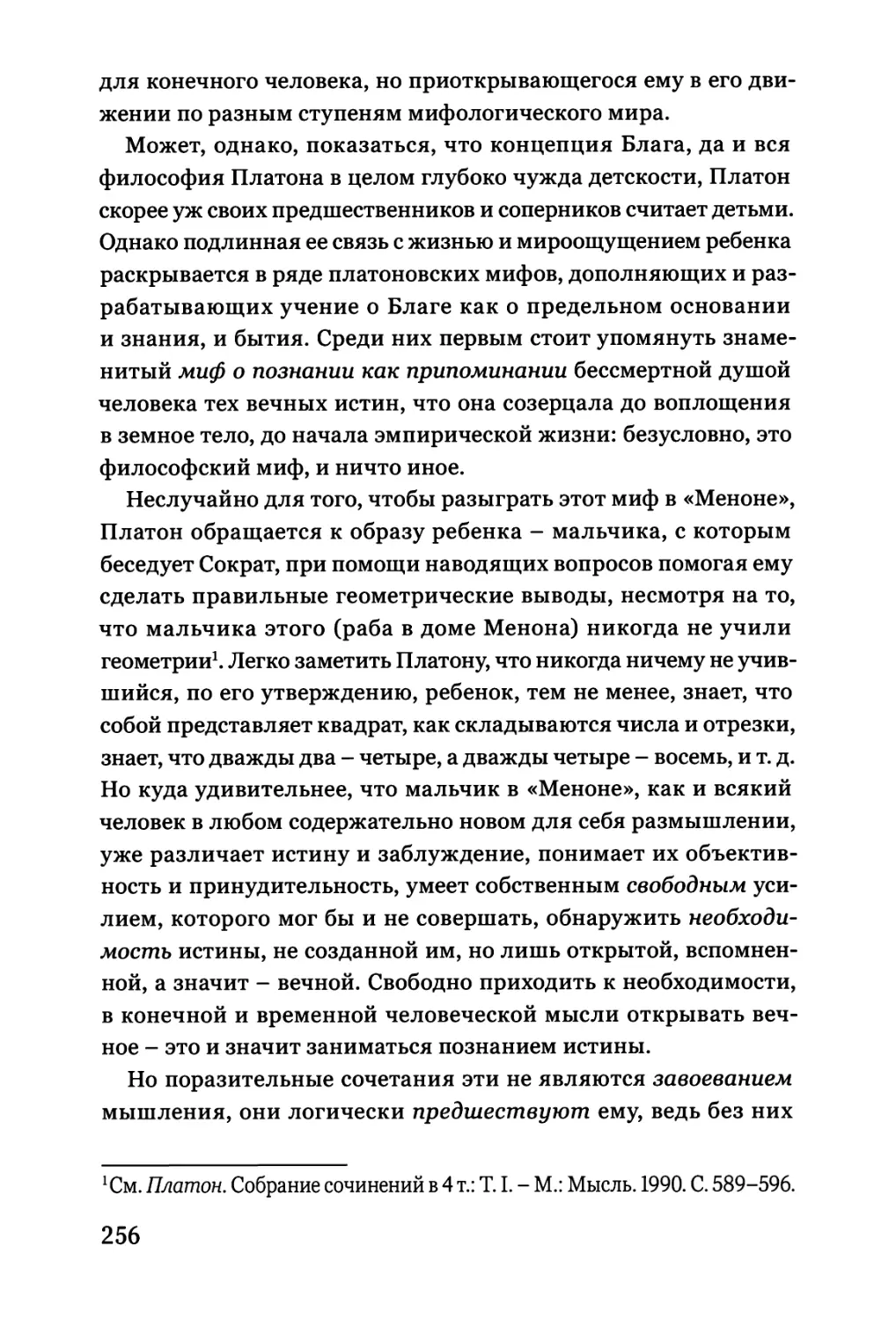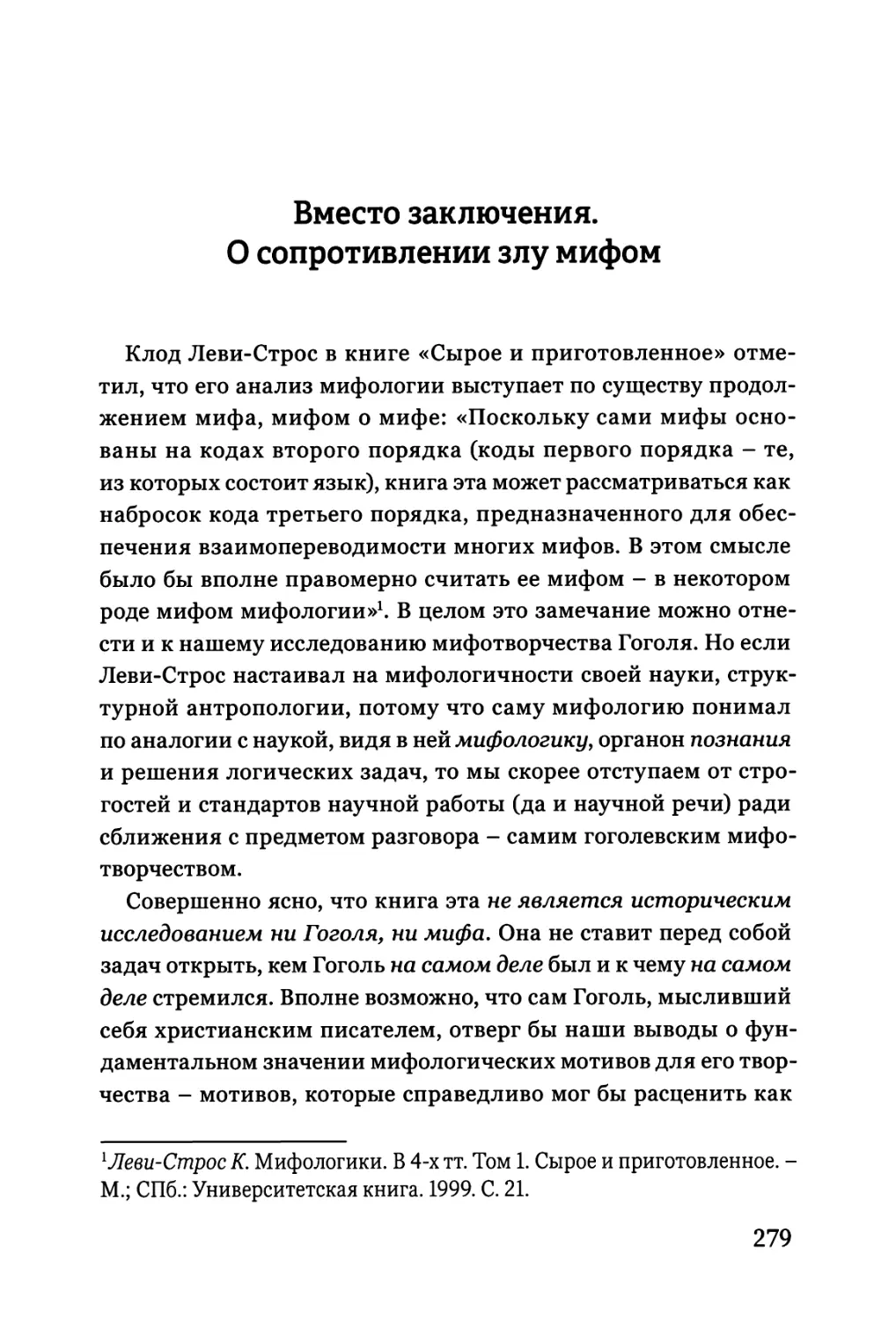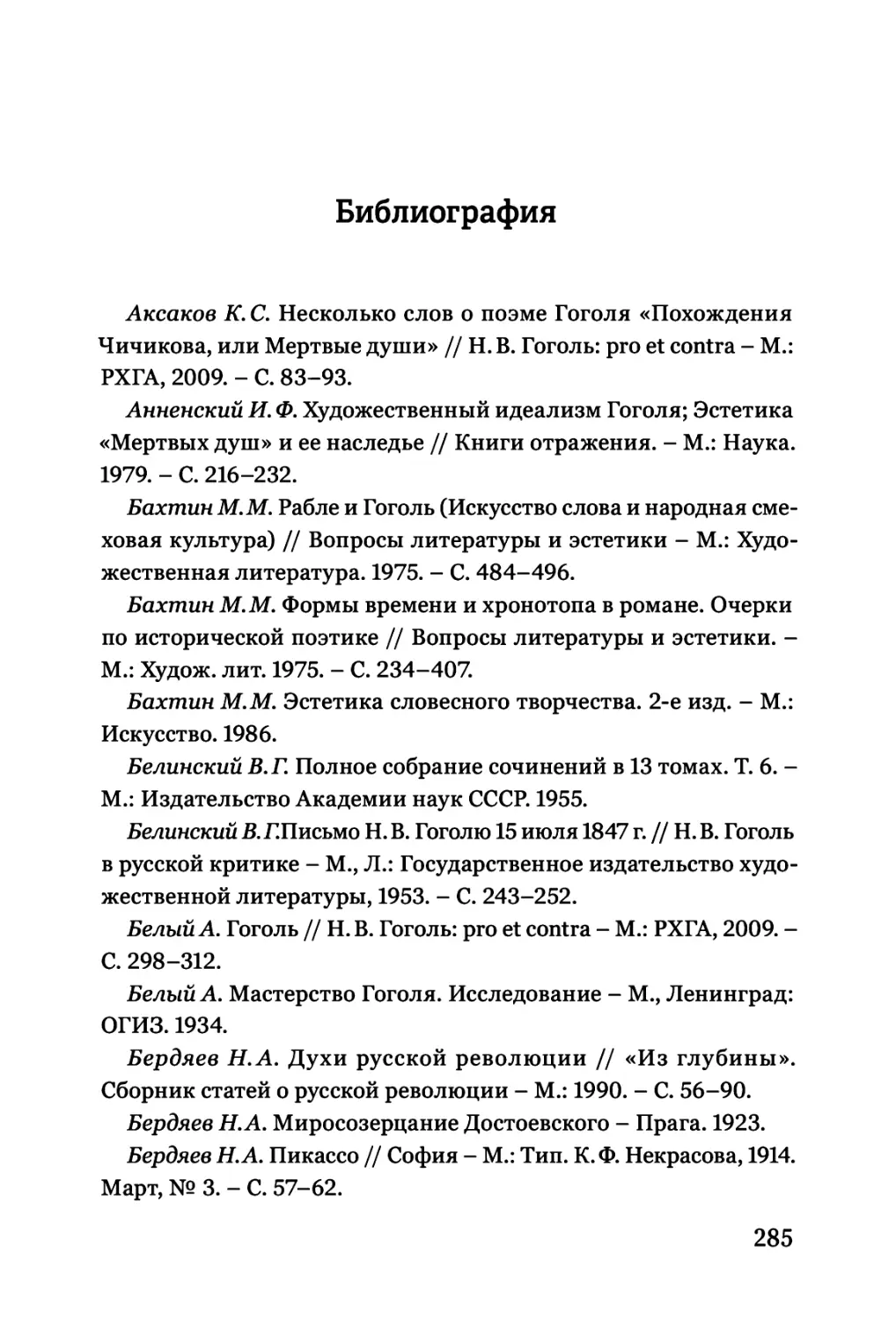Автор: Куликов А.К.
Теги: русская литература история и критика мировой литературы и литературы отдельных стран философия мифология литературоведение
ISBN: 978-5-00165-094-2
Год: 2020
Текст
НЕЗАВИСИМЫЙ
АЛЬЯНС
ГААЕТЕЙЯ1
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
А. К. КУЛИКОВ
МИФОЛОГИЧЕСКИЕ
МОТИВЫ
В ТВОРЧЕСТВЕ
н.в. ГОГОЛЯ
ФИЛОСОФСКИЙ
АНАЛИЗ
Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2020
УДК 821.161.1 Гоголь.07
ББК 83.3(2Рос=Рус)1-8Гоголь Н.В.
К 903
Рецензенты:
доктор философских наук, профессор O.A. Жукова
доктор философских наук, профессор С. А. Никольский
Куликов А· К.
К доз Мифологические мотивы в творчестве Н.В. Гоголя.
Философский анализ / А. К. Куликов. - СПб.: Алетейя,
2020. - 294 с.
ISBN 978-5-00165-094-2
Монография посвящена мифологическим мотивам
творчества Н. В. Гоголя, отличающим его от простого художественного
вымысла и делающим творения писателя не аллегорическим
изображением реальности, но автономной реальностью
мифотворчества. Методологической базой исследования выступает
классика философии мифологии - основополагающие труды
Ф. В.Й. Шеллинга, Э. Кассирера, А.Ф. Лосева и др. В работе
отстаивается «тавтегорическое» (по Шеллингу) толкование
гоголевского мифотворчества, противостоящее всем попыткам
найти в нем реалиста и сатирика; подробно разбираются
проблемы кажимости, скульптурности, судьбы, смеха, апофатизма
в произведениях Гоголя. Особое внимание уделяется ключевому
для мифотворчества мотиву детскости: мир Гоголя понимается
как мир, увиденный детскими глазами. В работе также
предпринята попытка связать творения Гоголя с древней философией
(на примере Гераклита и Платона), еще не размежевавшейся
с мифом и черпающей в нем свое вдохновение: тем самым можно
показать, что особенности Гоголя не странности и причуды
его гения, а конститутивные черты мощного пласта духовной
культуры целых народов - мифологии.
Книга адресована философам, литературоведам,
культурологам и всем, кто любит и ценит творчество Н. В. Гоголя.
УДК 821.1б1.1Гоголь.07
На лицевой стороне обложки: Л.С. Бакст, ББК 83.3(2P0C=Pyc)l-8 ГОГОЛЬ Н.В.
иллюстрация к повести Гоголя «Нос», 1904 г.;
на обороте обложки и контртитуле: иллюстрации
Даниила Соложева к повести «Тарас Бульба»
9 м785001 мб50942
© А. К. Куликов, 2020
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2020
Вместо предисловия
С Антоном Куликовым мы встретились около десяти лет назад.
Я тогда был председателем жюри Всероссийской олимпиады
школьников по обществознанию, а он - девятиклассник - стал ее
победителем. Потом он еще дважды побеждал на последующих
олимпиадах, и этот рекорд, насколько мне известно, еще никому
не удалось повторить. Побить же его и вовсе невозможно, пока
существует нынешняя система школьного образования.
Антон талантлив. Этим сказано многое, но не все. Две черты
его характера очевидны. Он бесконечно влюблен в философию,
влюблен до самозабвения. И любовь его деятельна, она - в
каждодневной трудной работе. Я иначе не могу назвать его
студенчество, которое вот-вот успешно завершится в магистратуре,
продолжится в аспирантуре, но никогда не закончится - быть ему
Студентом всю оставшуюся жизнь, чего я ему от всего сердца желаю.
Талант и молодой смелый труд позволили возникнуть этой
книге. Такого Гоголя, каким он предстал в ней, мы еще не знали.
Возможно, кто-кто из мэтров литературоведения, авторов книг
и статей о творчестве великого писателя, познакомившись с тем,
что написал Антон, пожмет плечами: можно ли мерить
художественную литературу философским аршином, не притянуты ли
за уши категории философской антропологии и философии
мифа, чтобы в их сеть уловить гоголевскую тайну. Пусть так
и будет. Я надеюсь, что внимание, привлеченное этой книгой,
создаст новую ситуацию в философии литературы и в
философии человека. Пора им прийти в новое движение,
преодолеть инерцию застоя, и славно, что толчок этому движению
дает молодой исследователь. Кому же, как не таким, как он, это
сделать? И в добрый час!
5
Выверенная чувством мысль этой книги трогательна своей
искренностью. Говорят, что всякий подлинный философский
текст - есть самоотчет души философа. Я бы подписался под этим.
А книга Антона Куликова - иллюстрация к этому тезису. Его
профессия - оболочка жизни его души. Возможно, он прав,
называя Гоголя мифотворцем, вооружившимся против зла
не силой, но жертвенностью и смирением, детским смехом и
слезами, способными не умножить зло, но перерасти его в вечности.
С этим поспорят многие, и это понятно. Тема вечная и важнее
ее, пожалуй, нет во всей философской истории. Сам Антон
берет на себя роль того, кто стремится понять тайну
гоголевского мифотворчества, сопереживая ей, а не сводя ее до
филологической головоломки. Я бы хотел, чтобы и его книгу
прочитали точно так же.
В.Н.Порус
Москва, 15 ноября 2019 г.
6
Введение
Пытаться писать о Гоголе - значит приниматься писать
и о самом себе. Читая наиболее значительные исследования
гоголевского творчества: работы К. С. Аксакова и В. Г.
Белинского, В.В. Розанова и H.A. Бердяева, Д.С. Мережковского
и М.М. Бахтина, А. Белого и А. Д. Синявского - нельзя не
заметить, что исследования их стали также и их исповедями, а
данный ими анализ Гоголя - самоанализом. С одной стороны, это
понятно: большая литература - зеркало, в котором мы узнаем
собственный духовный облик, и обойтись без этого зеркала мы
не можем. С другой - все попытки найти у Гоголя отражение
реальной жизни (в правильном ли зеркале или кривом) явно
не увенчались успехом. Гоголь и сам категорически противился
тому, чтобы его зачисляли в реалисты и сатирики.
Чтение Гоголя неизменно сопровождается двумя странно
сочетающимися ощущениями: чувствуется, что образы и сюжеты его
диковинные и совершенно нереальные, и в то же время -
удивительно живые и убедительные. Гоголь не описывал «реальный»
мир, он силился создать иной, собственный мир, сделать его еще
более реальным. Гоголь верил, что рукой его при этом водили
таинственные нечеловеческие силы1. Его персонажи - из тех,
что оживают после их создания, разбегаются и перестают
слушать своего создателя, точно заживший своей жизнью Нос
майора Ковалева или портрет страшного ростовщика.
Как замечает Синявский, «Ситуация волшебной юморески
"Нос" - в направлении самого Гоголя исполнена скрытого
трагизма. Законная, элементарная часть твоего естества и лица,
*См. Глава!. Стр. 19-21.
7
нос ... отделилась и объявила себя независимым господином,
персоной грата, отняв у тебя спокойствие и достоинство, сделав
прежнего полноценного человека - хозяина, автора -
униженным искателем взбунтовавшегося придатка»1. Один из
ключевых мотивов бесконечных самоистолкований Гоголя -
обуздание этих взбунтовавшихся творений.
При этом Гоголь много раз признавался, что герои его - плоть
от плоти он сам: действительно, в нем легко узнать черты
Хлестакова («Право, есть во мне что-то Хлестаковское»), Чичикова,
Башмачкина, страшного колдуна, чей «нос вырос и наклонился
на сторону», и многих других. Получалось, что образы эти
существовали сами по себе и в то же время не отделились еще от своего
создателя, не покинули его сознания, но жили в нем, как
поселенцы. Как какие-то реальные силы и события они скорее сами
овладевали сознанием писателя, чем подчинялись ему и
создавались им. Автономная реальность гоголевских сюжетов и
персонажей делала их уже не произвольными аллегориями и
иносказательными описаниями жизни, остающимися чисто
условным обозначением чего-то иного, но буквально происходящими
с писательским сознанием событиями.
И не только с писательским. «Всякий хоть на минуту, если
не на несколько минут, делался или делается Хлестаковым»2, -
говорит Гоголь в знаменитом письме. Всякий не узнает себя,
преувеличенного, в Хлестакове, в его манерах и поступках, а именно
«делается Хлестаковым», когда его сознание захватывает этот
образ. Потому и изучать Гоголя - все равно, что изучать себя:
его персонажи, как живые, овладевают сознанием читателя,
включая его в гоголевский мир, становятся самой реальностью
этого сознания.
1 Терц А. В тени Гоголя - London: Overseas Publications Interchange. 1975.
С. 514-515.
2Гоголь H. В. Полное собрание сочинений в 14 томах. Т. 4. - М.; Л.:
Издательство Академии наук СССР. 1938. С. 100. В дальнейшем все ссылки
на это издание даются прямо в тексте с указанием тома и страницы.
8
Своим невероятным, но все же реальным, не вымышленным,
сюжетам и героям Гоголь приносил столь же реальные жертвы
и отречения. Творимый им и в то же время словно
впитывающий его в себя мир перестает казаться просто художественным
произведением, литературным вымыслом. Он ближе иной, еще
более древней, области человеческого духа - мифологии.
Именно мифу, не создаваемому ничьими сознательными
усилиями, индивидуальными или коллективными, и потому
не заключающему в себе никаких иносказаний и внешних
отсылок, но властвующему над сознанием людей, присущи и
гоголевское неправдоподобие, и гоголевская живость. Мир Гоголя
полон обмана, несуразности, нередко - жестокости, страданий
и смерти, причем едва ли ни случайных, несправедливых, пустых.
И все же это мир не только невидимых слез, но в еще большей
степени - видимого смеха, мир невинный и беспечный: горе,
грех, даже смерть здесь как бы не реальны, похожи на какую-то
таинственную игру. Этот детский по своей духовной
настроенности мир и есть мир мифологии - не мир с точки зрения мифа,
а сам миф как особый реальный мир.
Если ключевые черты творчества Гоголя присущи не только
одному конкретному гениальному писателю, но и огромным
пластам духовной культуры целых народов: мифам, что веками
владели и владеют их сознанием - то мифологические мотивы
и истоки гоголевского творчества требуют и заслуживают
всестороннего, философского анализа. Чтобы всегда иметь эти
мотивы в виду, мы далее будет говорить о мифотворчестве
Гоголя: слово это кажется удобным для того, чтобы отличать
творения Гоголя как от пассивного восприятия мифического
рассказа, так и от литературного сочинительства в традиционном
смысле самовыражения писателя, художественного запечатле-
ния его мыслей и чувств, ясно отличимом от действительности.
Словосочетание «философия мифологии» всегда казалось
в высшей степени спорным и сомнительным, ведь философия
и в историческом, и в систематическом отношениях возникала
и прокладывала себе путь в борьбе со старыми мифологическими
9
преданиями1. Философия занята разумным познанием истины,
а мифология выглядит полной противоположностью и истины,
и разумности. Так же и с Гоголем: дать философскую
интерпретацию его мифического мира - значит, отыскать в нем своего
рода разум и осмысленность, хотя мир этот всячески
противится таким поискам.
Это дает основание и повод подступиться к изучению Гоголя
с тем инструментарием, что был разработан крупными
мыслителями в их усилиях философски осмыслить мифологию -
Ф. В. И. Шеллингом, Э. Кассирером, А. Ф. Лосевым и др. Но
намерение наше состоит не в том, чтобы сделать с Гоголем
примерно то же, что Шеллинг или Лосев сделали с мифом, а в том,
чтобы с их помощью понять древние истоки гоголевского
мифотворчества, понять, что мнимые причуды одного загадочного
писателя только кажутся причудами, а на деле присущи
многовековым духовным традициям. Мифотворчество в этом плане
старше любой философии и науки и, как мы увидим, способно
продемонстрировать их недостаточность и не автономность.
Мне хотелось бы выразить глубокую признательность
моим наставникам и старшим коллегам, которые, несмотря
на огромную загруженность работой, активно способствовали
данному исследованию ценными советами и дружественной
критикой, поддерживали меня не только как профессионалы
и опытные ученые, но и как мудрые, заботливые, отзывчивые
люди: Владимиру Натановичу Порусу, Петру Владиславовичу
Резвых, Ольге Анатольевне Жуковой.
Юб этом см. особенно Кассирер Э. Философия символических форм. Т. II:
Мифологическое мышление - М.: Академический Проект. 2011. С. 14-17.
10
Глава 1. «Тавтегорическое»
толкование творчества Гоголя
1. «Всё обман, всё мечта,
всё не то, чем кажется!»
Творчество Гоголя и мифологию роднит уже то, что оба они
поначалу производят впечатление невероятного вымысла,
смутных и нелепых фантазий - комичных и мрачных,
невинных и жестоких, но прежде всего, неправдоподобных. Самые
невозможные казусы и смешные пустяки не просто управляют
судьбой гоголевских героев, но составляют их судьбу. Та
смешная и вместе страшная свиная рожа, что вдруг показалась в окне
еще в «Сорочинской ярмарке», словно спрашивая: «А что вы
тут делаете, добрые люди?», показывается с тех пор то там, то
здесь в каждом произведении Гоголя, повсюду подстерегая его
персонажей. Те конфузятся, путаются, смешно и невинно
пугаются ее, но заканчивается все это совсем не весельем, а ужасом,
тоской, смертью.
Развеселый Хома Брут, безропотный Акакий Акакиевич,
светлые и родные старосветские помещики,
романтично-наивный Пискарев, могучий Тарас Бульба - все по-своему смешные
и невероятные в похождениях ли своих, злоключениях, тихой
идиллии или лихих делах. Неповторима и нарочито
преувеличена жизнь каждого из них. Но и обрываются их чудные,
преувеличенные жизни всякий раз чудно, непонятно, тоже словно
из-за пустяков («выпала люлька с табаком») - да так, что нелегко
сказать, чья смерть страшнее. Трудно поверить в это, как трудно
11
поверить, что уже «Сорочинская ярмарка», полная доброго,
светлого смеха, заканчивается вдруг выражением тревоги и
неутешной тоски.
Схожие чувства посещают нас, когда в зрелом возрасте узнаем
подлинные сюжеты тех старых сказок и мифов, которые в детстве
знали лишь в адаптированном варианте. Проще всего сказать
себе: «Выдумка!», «Так ведь на самом деле не бывает!» - и
успокоиться на этом. Но Гоголь напомнит: «Чепуха совершенная
делается на свете. Иногда вовсе нет никакого правдоподобия»
[3,73], - не литература, не авторский вымысел неправдоподобны,
а сама жизнь. Реальность только кажется привычной и понятной,
на самом деле, ее невозможно понять. Весь мир Гоголя построен
на обмане, пропитан фальшью и иллюзией, реальность этого
мира состоит в его кажимости. «Горы те - не горы: подошвы
у них нет, внизу их, как и вверху, острая вершина и под ними
и над ними высокое небо. Те леса, что стоят на холмах, не леса:
то волосы, поросшие на косматой голове лесного деда. Под нею
в воде моется борода, и под бородою, и над волосами высокое
небо. Те луга - не луга...» [1; 246] - уверяет Гоголь, готовый до
бесконечности живописать иллюзию.
Стоит чуть-чуть присмотреться, и станет ясно, что за
наполняющими нашу «реальную» жизнь типичными фигурами,
ситуациями, словами не стоит ровным счетом ничего, а не замечаем
мы этого лишь потому, что не присматриваемся (зачем зря
тревожиться и огорчаться?): «Всё обман, всё мечта, всё не то, чем
кажется! Вы думаете, что этот господин, который гуляет в отлично
сшитом сюртучке, очень богат? Ничуть не бывало: он весь состоит
из своего сюртучка. Вы воображаете, что эти два толстяка,
остановившиеся перед строящеюся церковью, судят об архитектуре
ее? Совсем нет: они говорят о том, как странно сели две вороны
одна против другой» [3; 45-46]. Поэтому в «Ревизоре» и
городничий (а ведь он «очень неглупый по-своему человек»!), и другие
чиновники (по-своему тоже далеко не дураки), и сам
Хлестаков так легко и искренне верят такому несуразному вранью,
какому, кажется, никто, ни один дурак не поверил бы. Поэтому
12
в «Мертвых душах» чиновники так долго и всерьез обсуждают
самые неправдоподобные версии относительно личности
Чичикова, вплоть до «переодетого Наполеона». Дело в том, что ложь
и абсурд - самые естественные вещи в их жизни, это основание
и сущность всего, что они делают и претерпевают. Чем нелепее
становится вранье, тем проще им его принять.
Очень показательна в этом плане пьеса «Игроки», подробно
анализируемая Ю.М. Лотманом в его работах о Гоголе. Сюжет
и действующие лица этой комедии выглядят сперва нарочито
простыми и привычными, говорит Лотман, они кажутся
типизированными, одномерными драматическими характерами,
«типичными представителями», каждого из которых нетрудно описать
одной чертой: честный отец, неопытный юноша, обманывающий
его мошенник. Все это должно бы закончиться разоблачением
обмана и вознаграждением добродетели. Но на деле обманут
оказывается только сам обманщик, он - жертва, остальные -
лжецы, что обводят его вокруг пальца. Здесь не сценическое
действие пародирует жизнь, а жизнь оказывается нелепее всех
традиционных пародий, она спектакль, в котором каждый носит
маску, причем иногда сам не знает об этом или думает, что знает,
но ошибается1.
Под одной маской оказывается другая, тоже маска, и больше
ничего. Например, маска честного отца - обман, но и само
«истинное лицо» надевшего ее обманщика - тоже обман, лицо
обмана. И вот отлично знакомая ситуация вдруг оказывается
совершенно неясной и запутанной. Как такое возможно? Кто
здесь настоящий лжец? Все? Как с этим быть? Выходит
подлинный парадокс лжеца: мнимый обманщик, сам того не ведая,
лжет о том, что он лжет, с другой стороны, он единственный
«говорит правду» - правду о том, что он лжет (он ведь сразу
и открыто показан лжецом), значит, он действительно лжет, то
есть лжет, что лжет... и т. д. Все как в «заколдованном месте»,
^м. Лотман Ю.М. О «реализме» Гоголя // Труды по русской и
славянской филологии. - Тарту: Тартуский университет, 1996. С. 18-24.
13
на котором «взойдет такое, что и разобрать нельзя: арбуз
не арбуз, тыква не тыква, огурец не огурец... черт знает что
такое!» [1; 316].
Как в «Игроках» Гоголь переворачивает привычные
литературные маски, так повсюду он переворачивает привычный порядок
вещей, саму жизнь (не случайно он так любит изображать мир,
«отдающийся» в воде, висящий вниз головой), и при этом у него
уже не отличить игры от жизни, абсурдной фантазии от
абсурдной действительности. В этом и состоит «реализм» Гоголя,
для которого «Вий» и «Страшная месть» ничуть не менее
реалистичны, чем «Ревизор» и «Мертвые души».
Все, на что Гоголь бросает свой взгляд, теряет мнимые свои
основания, повисает в воздухе, кажется призрачным, будто бы
несуществующим. «И Петербург остался без Акакия Акакиевича,
как будто бы в нем его и никогда не было» [3; 169] - так умирает
Башмачкин. «Все вдруг пропало, как будто не бывало» [1; 248] -
так поднимаются из земли и вновь исчезают мертвецы в
«Страшной мести». «И долго все присутствовавшие оставались в
недоумении, не зная, действительно ли они видели эти
необыкновенные глаза или это была просто мечта, представшая только
на миг глазам их, утружденным долгим рассматриванием
старинных картин» [3; 137] - так незаметно пропадает
демонический портрет. Все так живо у Гоголя, выпукло, реально и в то же
время все как будто не существует!
В основание гоголевского мира положен чистый произвол,
случайность, этот мир лишен устойчивости и прочного
единства, им ведь правит нечисть, ее черная магия и черная воля.
«Мышление Гоголя как бы трехмерно, оно все время включает
в себя модус: "а если бы произошло иначе", - отмечает Лотман, -
реальность для Гоголя - всегда одна из многих тысяч
возможностей, случайно выхваченных жизнью из бесконечного
пространства ее потенций»1. В «Старосветских помещиках», например,
читаем: «По странному устройству вещей, всегда ничтожные
1Там же. С. 11.
14
причины родили великие события, и наоборот - великие
предприятия оканчивались ничтожными следствиями» [2; 28], -
и потом в «Невском проспекте»: «Как странно, как
непостижимо играет нами судьба наша! Получаем ли мы
когда-нибудь то, чего желаем? Достигаем ли мы того, к чему, кажется,
нарочно приготовлены наши силы? Все происходит наоборот»
[3; 32]. Удивительным образом именно ничтожные случайности,
жалкие мелочи оказываются для персонажей Гоголя также
и железной необходимостью, необоримой силой, играющей их
судьбой. Хорошо известно, например, как в силу смешных
случайностей «произошел Акакий Акакиевич», случайности эти
сами по себе легковесны, но человеку они не оставляют выбора.
Гоголь пишет: «Имя его было Акакий Акакиевич. Может быть,
читателю оно покажется несколько странным и выисканным,
но можно уверить, что его никак не искали, а что сами собою
случились такие обстоятельства, что никак нельзя было дать
другого имени» [3; 142].
Затем писатель повторяет: «Мы привели потому это, чтобы
читатель мог сам видеть, что это случилось совершенно по
необходимости и другого имени дать было никак невозможно» [3; 143], -
повтор не только создает комический эффект (выражая как бы
неверие самого Гоголя в то, о чем он говорит), но призван
показать, что случившееся случилось просто потому, что случилось
и не могло не случиться. Случившееся нельзя объяснить и
обосновать, можно только увидеть, как это произошло, и самому
убедиться в неизбежности всего произошедшего. Гоголевский повтор
подсказывает, что произвол, определяющий судьбу человека,
закрепляется в силу простой привычки, повторения его в
каждодневной жизни, ведущего к тому, что он перестает
распознаваться в качестве произвола: человек забывает о том, что жизнь
его могла бы сложиться иначе. «Когда и в какое время он поступил
в департамент и кто определил его, этого никто не мог
припомнить. Сколько не переменялось директоров и всяких
начальников, его видели всё на одном и том же месте, в том же
положении, в той же самой должности, тем же чиновником для письма,
15
так что потом уверились, что он, видно, так и родился на свет
уже совершенно готовым, в вицмундире и с лысиной на голове»
[3; 143]. Как все это сложилось, «никто не мог припомнить»
потому, что и припоминать нечего: за тем, что случается в мире
Гоголя, на самом деле ничего не стоит.
Гоголя много раз сравнивали с Эрнстом Гофманом и
Эдгаром По, но, думается, наиболее близок и конгениален он
видению мира Блеза Паскаля. Также и Паскаль подчеркивает, что
нет в человеческой истории никакого разумного смысла, что
ею правят ничтожнейшие случайности, пустяки: «Это
"неведомо что", эта малость, которую и определить-то невозможно,
сотрясает землю, движет монархами, армиями, всем миром. Нос
Клеопатры: будь он чуть покороче, весь облик Земли был бы
сегодня иным»1. Как по-гоголевски звучит это «неведомо что»!
Не из мира ли Гоголя этот нос Клеопатры? Также и у Паскаля
читаем о произволе и бессмыслице всей мнимо понятной и мнимо
разумной жизни - спрашивать об ее основаниях значило бы как
раз не понимать ее: «Закон сводится к самому себе. Он закон -
и ничего больше. Кто захочет выяснить его побудительную
причину, тот обнаружит, что она крайне легковесна и неразумна»2.
Ясность и отчётливость были для классической философии
твердой гарантией истины, для Паскаля и Гоголя - это верный
знак фальши и ненадежности.
В спасительном вихре забот и развлечений, в
безостановочной и нелепой активности «Ревизора», «Невского проспекта»,
«Носа», человек скрывается от самого себя, от зрелища
внутренней, духовной нищеты, которые открыли бы ему
размышление и покой.
Человек во всех смыслах слова развлекает себя ослепительным
блеском культуры и общества, их мнимо грозными и мнимо
величественными символами, хотя в действительности это не более,
чем пустые, ничего не значащие значки. «Зачем много мудрить
1 Паскаль Б. Мысли. Афоризмы - М.: ACT: Астрель, 2011. С. 78.
2 Там же. С. 70-73.
16
с майором Ковалевым и приписывать ему какой-то таинственный
смысл, если сбежавший нос его есть уже некая нулевая
безмерность, если Гоголя занимали вообще - лицо без носа, женитьба
без жениха, самодержец без царя в голове, ревизор без прав
и намерений производить ревизию? Гоголя интересовало
присутствие некоего отсутствия в мире, отчего всё неуклонно
проваливается в ничто, в никуда, пусть и содержит одновременно
нечто весьма примечательное»1, - пишет Синявский.
Взгляд гоголевского сумасшедшего на «реальный» мир
оказывается самым верным и проницательным: Поприщин,
несомненно, из тех сказочных чистосердечных «дураков», которые
на деле мудрее мудрых. «Они не внемлют, не видят, не слушают
меня. Что я сделал им? За что они мучат меня? Чего хотят они
от меня, бедного? Что могу дать я им? Я ничего не имею» [3; 214], -
беспомощно протестует его душа против бессмысленного
насилия, что в равной степени мучило его и в сумасшедшем доме,
и за его пределами, в мире, который сам смахивает на огромный
сумасшедший дом. Л. Шестов во многом прав, говоря, что Гоголь
чувствовал себя в этом мире, как те его мертвецы, что
поднимались из могил со страшным криком: «Душно мне!»2.
Подлинное сумасшествие Поприщина в том, что он не готов,
неспособен понять и принять сумасшествия «нормальной» жизни,
власти ее фикций и мишуры: «Что же из того, что он
камер-юнкер. Ведь это больше ничего, кроме достоинства; не какая-нибудь
вещь видимая, которую бы можно взять в руки. Ведь через то, что
камер-юнкер, не прибавится третий глаз на лбу. Ведь у него же
нос не из золота сделан, а так же, как и у меня, как и у всякого;
ведь он им нюхает, а не ест, чихает, а не кашляет. Я несколько раз
уже хотел добраться, отчего происходят все эти разности. Отчего
я титулярный советник и с какой стати я титулярный советник?»
1 Терц А. В тени Гоголя - London: Overseas Publications Interchange. 1975.
С. 528.
2 См. Шестов Л. Сочинения в 2-х томах. Т. 2. На весах Иова (Странствие
по душам) - М.: Наука. 1993. С. 50-51.
17
[3; 199]. Как отмечает Лотман, Гоголь сталкивает «в "Записках
сумасшедшего" два противоположных взгляда: чиновничий,
доводящий поклонение орденам до почти мистического
обожествления, и "естественный" взгляд собачки, которая нюхает
и лижет орден, пытаясь найти его подлинную, безусловную
ценность в каком-то особом вкусе или запахе»1.
Чин и орден могут казаться символами достоинства и заслуг,
но в действительности мы ничего не знаем о том, что стоит
за ними, мы видим лишь сами по себе отличительные значки
и подчиняемся им, не спрашивая о том, что придает им подобную
силу. Так, в страх и трепет повергают цирюльника Ивана
Яковлевича уже одни только воображаемые алый воротник
и шпага полицейского: «Уже ему мерещился алый воротник,
красиво вышитый серебром, шпага <...> и он дрожал всем телом»
[3; 50]. Не нужно физического принуждения, достаточно
фиктивных знаков, чтобы заставить его дрожать, да еще и всем телом.
Что останется от грозного полицейского, если лишить его этих
знаков? Чем тогда будет обеспечена его власть? «"Как подойти
к нему?" думал Ковалев. "По всему, по мундиру, по шляпе видно,
что он статский советник. Чорт его знает, как это сделать!"»
[3; 55] - мундира и шляпы необходимо и достаточно, чтобы Нос
стал статским советником, и чтобы собственный его хозяин
страшился заговорить с ним.
Все это псевдо-символы, они ничего не значат или, можно
сказать, значат лишь самих себя, они сами по себе завораживают,
обезоруживают, калечат подчинившихся им людей2.
Нереализованный замысел комедии «Владимир третьей степени», в которой
1 Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского
дворянства (XVIII - начало XIX века) - СПб., 1994. С. 46.
2 В «Шинели» читаем о судьбе «значительного лица»: «Получивши
генеральский чин, он как-то спутался, бился с пути и совершенно не знал, как
ему быть. Если ему случалось быть с ровными себе, он был еще человек как
следует, человек очень порядочный, во многих отношениях даже не
глупый человек; но как только случалось ему быть в обществе, где были люди
хоть одним чином пониже его, там он был просто хоть из рук вон» [3; 165].
18
чиновник лишался рассудка, воображая себя владимирским
орденом, знаменовал бы у Гоголя окончательное порабощение
человеческого существа смехотворной пустышкой. Нестранно,
что соответствующие пассажи мы находим и у Паскаля1.
Магия титулов и орденов, воротников, мантий и шпаг ничуть
не менее загадочна и ничуть не менее страшна, чем магия
панночки и черта.
2. Проблема реальности мифа
и мифотворчество Гоголя
Уже сейчас мы можем зафиксировать ряд важнейших
особенностей творчества Гоголя, определяющих его как мифологию. Одна
из ключевых черт мифа, как пишет Э. Кассирер, состоит в том,
что миф не знает, не признает того фундаментального
противопоставления истины и иллюзии, действительности и
кажимости, с провозглашения которого начинается философия2. Правда,
А. Ф. Лосев корректирует это суждение, уточняя, что мифология
не различает истину и заблуждение в научном и философском
смысле этих слов, но весьма требовательна в различении правды
и лжи в собственно мифологическим смысле, в области самих
мифологических представлений3.
^р. знаменитый отрывок: «Наши судейские отлично поняли эту тайну.
Их алые мантии, горностай, в котором они похожи на пушистых котов,
дворцы, где они вершат суд, королевские гербы - все это
торжественное великолепие совершенно необходимо; и если бы врачи лишились
своих мантий и туфель, если бы ученые не имели квадратных
шапочек и широчайших рукавов, - они бы ни за что не сумели заморочить
весь честной народ, беззащитный перед таким удивительным
зрелищем. ... Мы не можем просто смотреть на адвоката в мантии и
квадратной шапочке и не составить себе при этом благоприятного мнения
о его познаниях» (Паскаль Б. Мысли. Афоризмы - М.: ACT: Астрель,
2011. С. 65-66.).
2 См. Кассирер Э. Философия символических форм. Т. II:
Мифологическое мышление - М.: Академический Проект. 2011. С. 50-51.
3См. Лосев А. Ф. Диалектика мифа. - М.: Мысль. 2001. С. 55.
19
Однако нам здесь особенно важно то, что миф знает лишь один
план бытия, один уровень реальности: все, о чем в нем вообще
может идти речь, в равной степени налично и существует в
принципиально одних и тех же формах, а именно - формах
чувственно-конкретных и телесных. Именно таков «кажущийся», «как бы
не существующий» мир Гоголя: все в нем обманчиво и фиктивно,
и в то же время все, до мельчайших деталей и пустяков,
существенно, живо и реально ощутимо в конкретных, чувственных
своих чертах. Мир истины здесь не противостоит миру «мнения»,
реален лишь один мир, за которым уже ничего нет, он реален
в своем неправдоподобии.
Одной и той же реальности с равным правом принадлежат
сон и явь: вспомнить хотя бы «Портрет» и «Страшную месть»
(«Правдив сон твой, Катерина!»), бытие живых и бытие мертвых -
слова Кассирера о том, что мифу труднее принять и объяснить
скорее смертность, чем продолжение жизни после смерти1,
вряд ли чем-то подтверждаются лучше, чем произведениями
Гоголя.
Как мы видели, у Гоголя сливаются случайность и
необходимость подобно тому, как это происходит в мифе, где случайность
сама по себе случайна, уникальна, ни на чем, кроме самой себя,
ни на каком общем законе и требовании, не основана, а в
мифическом мировом порядке как в целом она оборачивается
необходимостью и судьбой2. Если наука отыскивает необходимость и дает
причинные объяснения повторяющимся явлениям, рассуждает
*См. Кассирер Э. Философия символических форм. Т. II:
Мифологическое мышление - М.: Академический Проект. 2011. С. 68.
2 Лосев, например, пишет о постоянно смеющихся гомеровских богах:
«Ясно, что или никаких богов нет или, если они есть, то и смех их тоже
характеризует собою их вечность, их мудрое и мощное содержание,
которое и является их сущностью. В вечности, в идеальном не может
быть разницы между существенным и несущественным, необходимым
и случайным, вечным и временным. Тут все одинаково вечно, одинаково
существенно, одинаково необходимо» (Лосев А. Ф. Гомер - М.: Молодая
гвардия. 2006. С. 366).
20
Кассирер, то миф скорее стремится объяснить события
уникальные и невероятные, причем, объяснением ему служат не
абстрактные законы, а только намерение и деяние чьей-то могучей
воли, только зримый, телесный персонаж1. Таков миф о
Прометее и освоении огня, таков рассказ о начале Троянской войны
у Гомера: цепь кажущихся случайностей, начинающихся с того,
что Зевс по научению Геи, утомленной заселившими землю
людьми, подбрасывает на пиру трем богиням яблоко раздора,
неведомо для участников событий оборачивается
неизбежностью, за которой стоит не то воля прародительницы богов, не то
сами же прогневавшие ее люди. Собственно, все это и не
объяснения, а только повествование. Так и у Гоголя: чепуху, которая
делается на свете, невозможно объяснить, ее случайность и ее
судьбоносность можно только показать.
Миф также делает живыми и зримыми все те свойства и
отношения, которые философия и наука превращают в чистые
абстракции. Очевидно это и у Гоголя: например, душа Катерины
в «Страшной мести» изображается им в конкретно-телесной
форме, сам Бог не раз получает у него телесные, человеческие
черты. Заблуждение и обман предстают не иначе, как козни
нечистого, как «черт за плечами». Д. С. Мережковский отмечает,
что в «Ревизоре» «ежели не зрители, то действующие лица
чувствуют какую-то ошеломляющую сонную мглу,
фантастическое марево черта»2. Действительно, «Что за черт! <...> До сих
пор не могу прийти в себя. Вот подлинно, если Бог хочет
наказать, то отнимет прежде разум»; «Уж как это случилось, хоть
убей, не могу объяснить. Точно туман какой-то ошеломил, черт
попутал», - недоумевают чиновники.
Различные наклонности, мысли и черты характера тоже живут
и действуют здесь как особые реальные существа, соседствующие
1 Кассирер Э. Философия символических форм. Т. II: Мифологическое
мышление - М.: Академический Проект. 2011. С. 68-70.
2 Мережковский Д. С. Гоголь и черт: Поэзия; Гоголь и черт: исследование;
Итальянские новеллы - М: Книжный Клуб Книговек. 2010. С. 189.
21
в одном человеке. Примечательно, что Лосев, говоря о мифоло-
гичности житейских психологических соображений, ссылается
именно на «Ревизора»: «В гоголевском "Ревизоре" почтмейстер,
распечатавши письмо Хлестакова, так описывает свое состояние:
"Сам не знаю. Неестественная сила погубила. Призвал было уже
курьера с тем, чтобы отправить его с эштафетой, но
любопытство такое одолело, какого еще никогда не чувствовал. Не могу,
не могу, слышу, что не могу! Тянет, так вот и тянет! В одном ухе
так вот и слышу: "Эй, не распечатывай! Пропадешь как курица";
а в другом словно бес какой шепчет: "Распечатай, распечатай,
распечатай!" И как придавил сургуч, - по жилам огонь, а
распечатал - мороз, ей-Богу, мороз. И руки дрожат, и все помутилось".
Конечно, самому почтмейстеру принадлежит только выбор между
двумя советниками и последующие ощущения, но сами эти два
советника - отнюдь не он сам, а, несомненно, другие существа.
Почтмейстер сравнивает одного из них с бесом. Я лично думаю,
что если это бес, то какой-нибудь из мелких, так, из шутников
каких-нибудь»1. Даже отдельные части тела человека, коль скоро
о них у Гоголя заходит речь, получают независимое
равноправное с самим человеком существование: глаза сами по себе живут
на портрете страшного старика, Нос Ковалева и вовсе не
считается со своим хозяином и т. д.
Миф не есть вымысел, процесс и продукт простого
фантазирования, он является автономной, себе довлеющей
реальностью, носит событийный характер - эта мысль
отстаивается у многих крупных мыслителей, стремившихся дать
философский анализ мифа, начиная с грандиозного проекта Ф.
В. И. Шеллинга. Для самих носителей мифологического
сознания миф не иносказательное описание жизни, не средство ее
«донаучного» познания и не отвлеченная поэзия, а сама жизнь
в ее реальности и конкретике. Шеллинг подтверждает это
в частности указанием на факты совершения мифологических
обрядов, связанных с тяжелыми испытаниями и лишениями,
1 Лосев А. Ф. Диалектика мифа. - М.: Мысль. 2001. С. 105-106.
22
на жертвоприношения1. В случае Гоголя этот довод приобретает
зловещий оттенок: сожжение рукописи второго тома «Мертвых
душ», совершенное в «Выбранных местах» отречение от всего
более раннего творчества2 - все эти драматичные жертвы,
вероятно, более всего подтверждают жизненную реальность и
жизненную значимость его творений. Это именно те реальность
и значимость, которыми обладает миф.
Миф не аллегория, доказывает Шеллинг, подлинное его
толкование - тавтегорическое: мифологические образы не
отсылают ни к чему внешнему по отношению к мифу, не обозначают
ни абстрактных нравственных или научных понятий, ни явлений
обыденной жизни, они обозначают только самих себя3. Это
очень важно и для понимания Гоголя. Наивное представление
о Гоголе как о сатирике и бичевателе пороков, с которым
писатель не раз боролся и сам, сегодня можно считать
развенчанным и отброшенным: его произведения не басни,
иносказательно изображающие достоинства и недостатки человека
и общества. Но не менее глубоко укоренено иное, хотя и близкое
по духу, заблуждение, которое можно назвать аллегорическим
1 Подлинное объяснение мифологии, подчеркивает Шеллинг, должно дать
ответ на вопрос: «как возможно то, что народы древности вполне
доверяли религиозным представлениям, которые кажутся нам нелепыми и
неразумными, что они не только доверяли им, но и приносили им самые
суровые и нередко тяжкие жертвы?» {Шеллинг Ф.В. Й. Сочинения. Т. 2. -
М.: Мысль. 1989. С. 324). См. также Резвых П. В. Шеллинг и Лосев //
Бюллетень Библиотеки «Дом А. Ф. Лосева», Вып. 12. - М.: Водолей. 2010. С. 107.
2 «Мне хотелось, - пишет Гоголь, - хотя сим искупить бесполезность
всего, доселе мною напечатанного, потому что в письмах моих, по
признанию тех, к которым они были писаны, находится более нужного для
человека, нежели в моих сочинениях» {Гоголь Н. В. Выбранные места
из переписки с друзьями // Духовная проза: сборник. - М.: Астрель;
Владимир: ВКТ. 2012. С. 7).
3 «Мифология - не аллегорична, она тавтегорична. Боги для нее -
действительно существующие существа, которые вовсе не что-то иное, которые
не значат ничего иного, но значат лишь то, что они есть» {Шеллинг Ф.В.
Й. Сочинения. Т. 2. - М.: Мысль. 1989. С. 325).
23
толкованием гоголевских персонажей. Одним из первых его
создал и закрепил своим авторитетом В. В. Розанов, видевший
в Гоголе чудовище, уничтожающее и унижающее человека:
герои Гоголя, пишет он, это карикатуры, построенные на
безмерном преувеличении одной какой-нибудь человеческой черты1.
«Все герои Гоголя напоминают эти призраки, пригрезившиеся
Эдгару По, - у всех у них чудовищно, несоразмерно развита одна
часть души, одна черта психологии. Создания Гоголя - смелые
и страшные карикатуры, которые, только подчиняясь гипнозу
великого художника, мы в течение десятилетий принимали
за отражение в зеркале русской действительности»,2 -
подхватывает эту мысль В. Я. Брюсов.
Здесь стоит вспомнить известное письмо Гоголя, написанное
после премьеры «Ревизора»: «У Хлестакова ничего не должно
быть означено резко» [4; 100], - говорит автор о своем герое,
сокрушаясь именно по поводу превращения его в карикатуру.
Там же Гоголь пишет о Бобчинском и Добчинском: «Эти два
человечка, в существе своем довольно опрятные, толстенькие, с
прилично-приглаженными волосами» [4; 102], а вовсе не
гиперболизированные неряхи и страшилища, «...всё-таки я думал, что их
наружность и положение, в котором они находятся, их
как-нибудь вынесет и не так обкарикатурит. Сделалось напротив: вышла
именно карикатура» [4; 103], - и путаница эта, так
раздосадовавшая Гоголя, явно не изжита до сих пор.
Розанов и Брюсов отвергают истинность, правомерность
гоголевских «аллегорий», но верят, что они были попытками
таких аллегорий, что Гоголь стремился выдать их «за
отражение в зеркале русской действительности». Отсюда вырастают
1«... в карикатуре взята одна черта характера, и вся фигура отражает
только ее - и гримасой лица, и неестественными конвульсиями тела.
Она ложна и навеки запоминается. Таков и Гоголь» (Розанов В. В.
Собрание сочинений. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского.
Лит. Очерки. О писательстве и писателях - М.: Республика. 1996. С. 20).
2 Брюсов В.Я. Испепеленный. К характеристике Гоголя // Н. В. Гоголь: pro
et contra - Μ.: РХГА, 2009. С. 448.
24
представления о персонажах Гоголя как о социальных и
психологических «типах», обычно малоприятных, как бы обобщенно
выражающих черты социальных или профессиональных групп.
В. Я. Пропп, к примеру, находит в этом одну из особенностей
«сатирического комизма» Гоголя: «У Гоголя Чичиков, Собаке-
вич, Ноздрев, Плюшкин и все другие созданные им яркие
зрительные образы не только портреты, но типы, которых мы видим,
как живых; они - представители социальных и
психологических категорий людей той эпохи»1. Однако мы уже видели, что
над подобными литературными «типами» Гоголь скорее смеялся,
для него они были одной из иллюзий понятности и привычности
такой жизни, в которой все обманчиво и совершенно непонятно.
Знаменитое описание Манилова как нельзя лучше показывает,
что в персонажах Гоголя нет ничего «типичного», вернее - их
типичность иллюзорна, поверхностна, она не то, чем кажется:
«Гораздо легче изображать характеры большого размера: там
просто бросай краски со всей руки на полотно, черные палящие
глаза, нависшие брови, перерезанный морщиною лоб,
перекинутый через плечо черный или алый, как огонь, плащ - и портрет
готов; но вот эти все господа, которых много на свете, которые
с вида очень похожи между собою, а между тем как
приглядишься, увидишь много самых неуловимых особенностей, - эти
господа страшно трудны для портретов. Тут придется сильно
напрягать внимание, пока заставишь перед собою выступить
все тонкие, почти невидимые черты, и вообще далеко придется
углублять уже изощренный в науке выпытывания взгляд» [6;
23-24]. Мнимо яркий и неповторимый характер на самом деле,
банален и типичен, а мнимо безликий и пустой Манилов в
действительности требует «далеко углублять уже изощренный
в науке выпытывания взгляд»! Достаточно перечитать те
«Замечания для господ актеров», которые сделал Гоголь в начале
«Ревизора», чтобы понять, что и здесь его герои не аллегории,
1 Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха. Ритуальный смех в фольклоре
(по поводу сказки о Несмеяне). - М.: Лабиринт. 1999. С. 57.
25
а уникальные, прелюбопытные личности, замечательные сами
по себе, а не потому, что они кого-то или что-то «изображают».
Итак, творения Гоголя, как и мифология, тавтегоричны. Это
означает, что основание свое и гарантию внутреннего
единства, насколько тут можно говорить о таком единстве, они
могут обрести лишь в самих себе. Гоголевские и
мифологические сюжеты разворачиваются, конечно, лишь в сознании, лишь
в области представлений, но не являются простой выдумкой
сознания, как если бы оно каким-то образом существовало и до
мифологии, а затем лишь извлекало бы ее из себя: становление
мифа - это и есть становление сознания. Драматургия
мифологического процесса, отношения и борьба сменяющих друг друга
богов - это само развитие сознания, это события,
происходящие не столько даже в сознании, сколько с сознанием. Шеллинг
подчеркивает: «У мифологии нет иной реальности, кроме
сознания, - да, это так; вся мифология исчерпывается
определениями сознания, т. е. его представлениями, однако сам процесс,
эта последовательность представлений - они-то не могут в свою
очередь быть просто воображаемыми, они-то должны были
реально иметь место, действительно происходить в сознании»1.
Любопытно, какие доводы направляет Шеллинг против любых
попыток представить мифологию произведением, созданным
усилиями отдельного человека или целого народа: не народ
измышляет себе мифы, а мифология только и делает простое
физическое скопление людей народом, способным обладать
коллективными представлениями и творить их, ибо общность народа - это,
прежде всего, общность сознания. «Однако, - продолжает
Шеллинг, - в чем искать нам эту самую общность, в чем - основание
ее, если не в общности взгляда на мир, а этот последний - в чем
изначально содержится он, в чем дан он народу, если не в
мифологии? ... Все это представляется невозможным, потому что
немыслимо, чтобы народ был и чтобы у него не было своей мифологии»2.
1 Шеллинг Ф.В. Й. Сочинения. Т. 2. - М.: Мысль. 1989. С. 264.
2 Там же. С. 211.
26
Шеллинг усиливает свои выводы: «...народ обретает мифологию
не в истории, наоборот, мифология определяет его историю, или,
лучше сказать, она не определяет историю, а есть его судьба»1.
Речь, конечно, идет не о том, что развитие мифологии
не зависит от внешних обстоятельств, например, климатических
и социальных, а о том, что сознание охваченных мифом людей
не существует до и независимо от мифологии, а напротив,
неотличимо от нее. Именно потому, что мифология не является чьим-
либо вольным изобретением и, следовательно, возникает
необходимо и объективно для охваченного мифом сознания, понять
ее можно только тавтегорически. Дело обстоит не так, что
сознание сначала располагает набором более или менее
абстрактных идей и смыслов и лишь затем почему-то облекает их в
диковинную аллегорическую форму. Мифологические представления
и сюжеты возникают в и для сознания неизбежно, помимо его
воли и желания, и значит, с самого начала необходимо
обладают именно мифологической формой. Их «смысл» и «форма»
в равной степени непроизвольны, смысл мифа не может явиться
сознанию вне всякой формы, поэтому в той форме, в которой он
возникает в сознании изначально, он может выражаться лишь
буквально, непосредственно-открыто. Вернее - смысл
мифологии просто невозможно обособить от ее формы, они рождаются
одновременно: ее форма - это и есть ее смысл2.
В стиле самого Шеллинга, часто поясняющего свои сложные
спекулятивные конструкции антропоморфными примерами,
можно сказать, что писатель и его художественный взгляд на мир
тоже не существуют как таковые до того, как создан их особый
мир художественных образов, только в нем и его внутренней
1 Гамаке. С. 213.
2 «Поскольку мифология - это нечто возникшее не искусственным, но
естественным путем, а при наличии данной предпосылки - и возникшее
с необходимостью, то в мифологии невозможно различать содержание
и форму, материал и облачение. Представления не наличествуют
поначалу в какой-либо иной форме, но они возникают именно в такой форме
и, следовательно, вместе с нею» (Там же. С. 324).
27
динамике писатель становится писателем. Сопротивление самого
Гоголя попыткам заменить его конкретно-чувственные, живые
образы абстрактными карикатурами, изобличающими мирскую
неправду - это сопротивление убийственному расчленению его
мифотворчества на абстрактный, якобы подлинный, «смысл»,
в частности - социальный, и иносказательную,
художественную «форму». При таком расчленении (предполагаемом
аллегорическим толкованием) чисто абстрактный смысл оказывается
банальным и пустым, образность - внешней, легковесной и
произвольной. В действительности богатство образности у Гоголя -
это и есть богатство ее конкретного смысла. Поэтому смысл этот
не имеет и в принципе не может иметь для Гоголя некоего
до-мифологического и до-художественного выражения, но возникает
в сознании писателя как всегда уже мифологически оформленный.
Можно с уверенностью сказать, что мифология Гоголя - это
и есть его судьба. «Мифология... могла зарождаться лишь в самой
жизни, она должна была быть пережита и испытана»1, - пишет
Шеллинг. «И долго еще определено мне чудной властью итти
об руку с моими странными героями, озирать всю
громадно-несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и
незримые, неведомые ему слезы!» [6,134] - подтверждают его мысль
гоголевские строки.
В философии, заметим, существует определенная традиция
усматривать мифотворчество и мифологические мотивы в
художественных произведениях таких авторов, которые сторонились
простого описания и осмысления реальности, но явно
стремились создать собственную реальность при помощи уникального
своего поэтического языка. Шеллинг не раз писал в таком духе
о Данте и даже измерял величие писателя его способностью
создавать мифы2. Курт Хюбнер начинает свой анализ «истины
мифа», во многом опирающийся на Шеллинга и Кассирера,
1 Там же. С. 265.
2 См. Шеллинг Ф.В. Й. Философия искусства. - М.: Мысль. 1966.
Особенно - С. 447.
28
с рассмотрения мифологического творчества Гёльдерлина. Все
сказанное им о немецком поэте можно было бы с уверенностью
сказать и о Гоголе: «Особенность Гёльдерлина состоит именно
в том, что он понимает поэтический опыт как мифическое и это
последнее он ищет и обнаруживает в его чистом, ничем не
запятнанном и не искаженном виде <...> Более всего он жаждет тау-
тегорического, то есть как раз того самого
поэтически-мифического, которое понимается не как аллегория или простое
сравнение и тем самым, подобно всякому сравнению, отсылает
к какой-то иной реальности, но, напротив, как нечто, имеющее
совершенно особенную, поэтическую реальность и именно в ее
контексте долженствующее быть принятым полностью и всерьез.
Настоящий поэт должен "учить" людей видеть эту реальность,
и ему не следует довольствоваться профанным и
повседневным подобно "газетному писаке", "точно излагающему факты"»1.
Стоит отметить в связи с этим, что учительство и морализм
позднего Гоголя были именно такими попытками «научить» людей
видеть сверхобыденную реальность, вроде той чисто
мифической России, которая описана в «Выбранных местах» и которая,
конечно, не могла наивно предполагаться им для практического
воплощения в «реальной» жизни.
С. Н. Булгаков, опираясь на Шеллинга, развивает его
философию мифа: «Если же миф есть событие, то и мыслить его
надо сугубо реалистически: иначе сказать, в мифе речь идет
не об отвлеченных понятиях, но о самих реальностях <...>
Подлежащее мифа, его субъект, может быть обозначено только
"собственным", а не "нарицательным", родовым именем»2.
Применительно к Гоголю мы уже могли убедиться в этом раньше: вопреки
распространённому мнению, Чичиков, Хлестаков, Башмачкин
и многие другие - вовсе не нарицательные, а именно что
собственные имена.
1Хюбнер К. Истина мифа. - М.: Республика. 1996. С. 14.
2 Булгаков С. Первообраз и образ: сочинения в двух томах. Т. 1. Свет
невечерний. - СПб.: ИНАПРЕСС, М.: Искусство. 1999. С. 72.
29
Стоит рассмотреть в этой связи отрывок из гоголевского
письма, который, по видимости, препятствует такому выводу.
Гоголь говорит о Хлестакове: «Молодой человек, чиновник,
и пустой, как называют, но заключающий в себе много качеств,
принадлежащих людям, которых свет не называет пустыми <...>
пусть всякий отыщет частицу себя в этой роли, и в то же время
осмотрится вокруг без боязни и страха, чтобы не указал
кто-нибудь на него пальцем и не назвал бы его по имени. Словом, это
лицо должно быть тип многого разбросанного в разных русских
характерах, но которое здесь соединилось случайно в одном лице,
как весьма часто попадается и в натуре. Всякий хоть на минуту,
если не на несколько минут, делался или делается
Хлестаковым» [4; 100]. Однако если вчитаться в эти строки, станет ясно,
что Хлестаков - «тип» не в смысле абстрактного обобщения
схожих черт и пороков, повторяющихся у множества людей:
каждому тут предлагается найти среди его «многих качеств»
что-то свое, особенное. Хлестаков - личностно-конкретный
мифологический образ, порой овладевающий сознанием
каждого из нас.
Булгаков далее пишет: «Миф есть, или, вернее, должен быть,
поэтому отрицанием всякого субъективизма или психологизма
<...> Напротив, сознание, что в человека входит нечеловеческая
сила и в нем совершаются превышающие его собственную меру
события, одно только и создает жизненную убедительность
мифа»1. Философ сравнивает мифологическое сознание с
сознанием художника, доказывая, что литературные образы
обладают для писателя той же реальностью, что и миф, и даже
утверждает, что «нельзя художественно солгать, и нельзя мифотворе-
чески покривить душой: не человек создает миф, но миф
высказывается чрез человека»2.
Именно это сознание вхождения в человека нечеловеческой
силы (конечно, ее реальность не покидает границ сознания,
1 Гол* же. С. 72-73.
2 Там же. С. 76.
30
но для самого сознания ее присутствие абсолютно реально
и объективно) отражается у Гоголя на каждой странице.
Брюсов приводит множество примечательных в этом плане
отрывков из гоголевской переписки: «"Кто-то незримый пишет передо
мною могущественным пером", - говорит он, в одном письме,
в 1835 г. "Чувствую, что не земная воля направляет путь мой", -
говорит он в 1836 г. Еще определеннее выражается он в письме
к Данилевскому в 1841 г.: "Создание чудное творится и
совершается в душе моей, и благодарными слезами не раз теперь полны
глаза мои. Здесь ясно видна мне святая воля Бога; подобное
внушение не происходит от человека; никогда не выдумать ему
такого сюжета"»1
Схожие пассажи, посвященные реальности
художественных образов, завладевающих человеком, проникающих в его
сознание и поселяющихся там как могучие чужеродные силы,
находим и в морализаторских письмах Гоголя, толкующих о
значении искусства: «Знайте, что все те идеалы, которыми
напичкали головы французские романы, могут быть выгнаны
другими идеалами. И образы их можно произвести так живо, что
они станут неотразимо в мыслях и будут преследовать человека
в такой степени, что львицы возжелают попасть в другие львицы.
Способность созданья есть способность великая, если только
она оживотворена благословеньем высшим Бога» (А. О.
Смирновой, 22 февраля н. ст. 1847 г.); «Человек, мною
изображенный, оставался, как гвоздь, в голове, и образ его так казался
жив, что от него трудно было отделаться» (М.А. Константинов-
скому, 12 января н. ст. 1848 г.)2
Наконец, в «Авторской исповеди» не без изумления читаем:
«Воображенье мое до сих пор не подарило меня ни одним
замечательным характером и не создало ни одной такой вещи, которую
1 Брюсов В.Я. Испепеленный. К характеристике Гоголя // Н. В. Гоголь: pro
et contra - Μ.: РХГА, 2009. С. 466.
2 Цит. по Терц А. В тени Гоголя - London: Overseas Publications Interchange.
1975. С. 482.
31
где-нибудь не подметил мой взгляд в натуре»1 - и это говорит
автор «Вия», «Страшной мести», «Носа»! Но ведь мы уже видели
у Шеллинга: мифология может зародиться «лишь в самой жизни,
она должна была быть пережита и испытана».
Таким образом, тот факт, что гоголевские образы и сюжеты,
в которых «вовсе нет никакого правдоподобия», необыкновенно
живы, реальны и убедительны, и что сам Гоголь связывает их
живость с присутствием и действием в его сознании высшей,
нечеловеческой силы, налицо; оспаривать его невозможно. Вопрос
лишь в том, как этот факт теперь должен быть истолкован? Как
понимать эту таинственную связь с нечеловеческой силой,
вдыхающую в мифотворчество Гоголя его почти телесную,
материально-чувственную жизнь?
3. Миф не знает трансцендентного
Чтобы разгадать тайну тех высших сил, что руководили
творчеством Гоголя, оставаясь в тени, и, лишь косвенно
свидетельствуя о себе в его произведениях, оживляли их, нужно
сначала признать, что силы эти никогда не были и не могли быть
раскрыты в творчестве писателя явно и предметно. Они
придавали чудную выразительность и выпуклость всему
вещественно-конкретному у Гоголя, а таков весь его мифологический
мир, но сами не были частью этого мира, не могли в нем
овеществиться.
Мы видели, что мир этот включает лишь один уровень бытия,
он не связан ни с какими потусторонними истинами, целями
и вечными образцами, его чувственную данность не
спроецировать ни на какое интеллигибельное долженствование. Нет,
то, что одухотворяет этот мир и удостоверяет его, остается
неузнанным, тайным, не похоже на какие-либо ценностные
ориентиры, абстрактные нормы и высшие задачи.
1 Гоголь Н.В. Авторская исповедь // Духовная проза: сборник. - М.: Аст-
рель; Владимир: ВКТ. 2012. С. 263-264.
32
M. M. Бахтин указывает, что гоголевский гротеск выражает
«не простое нарушение нормы, а отрицание всяких абстрактных,
неподвижных норм, претендующих на абсолютность и вечность»1.
Действительно, все подобные нормы оказались бы миражом
и пустышкой в гоголевском мире, не устояли бы перед его
иронией и отрицанием, впрочем, обретя власть над этим миром
и его обитателями, они могли бы только унизить и опрокинуть
его, только зря замучить тех, кто не соответствует и не может
соответствовать этим нормам.
С. Л. Франк выражает, кажется, общее мнение, говоря, что
была одна вещь, которая никак не давалась невиданной
творческой мощи Гоголя - всякий образ величественного и
прекрасного бесконечно проигрывает у него по своей силе и живости
всевозможным свиным рожам и безобразным харям: «При всякой
попытке изобразить эстетически и нравственно прекрасное,
возвышенное и благородное, он становился риторичен, и его
искусство теряло свою убеждающую силу»2. Это правда, но не вся.
Читая сохранившиеся отрывки второго тома «Мертвых душ»,
действительно трудно не согласиться с тем, что Гоголь
становился чуть ли не беспомощен, когда изображал честь, величие
и благородство. «Эстетически и нравственно прекрасное» - это
и впрямь слишком громкие, неправдоподобные слова для его
мира, в котором, впрочем, встречаются образы не
величественные, но милые и родные: Вакула с Оксаной или Афанасий
Иванович с Пульхерией Ивановной.
Дело в том, что Гоголь добр к живым людям, но безжалостен
к абстрактным идеалам. В частности, «прогресс» для него -
лишь высокомерная фикция: «Видит теперь все ясно текущее
поколение, дивится заблуждениям, смеется над неразумением
1 Бахтин М.М. Рабле и Гоголь (Искусство слова и народная смеховая
культура) // Вопросы литературы и эстетики - М.: Художественная
литература. 1975. С. 495.
2 Франк. С. Л. Религиозное сознание Гоголя // Н. В. Гоголь: pro et contra -
Μ.: РХГА, 2009. С. 637.
33
своих предков, не зря, что небесным огнем исчерчена сия
летопись, что кричит в ней каждая буква, что отовсюду устремлен
пронзительный перст на него же, на него, на текущее поколение;
но смеется текущее поколение и самонадеянно, гордо начинает
ряд новых заблуждений, над которыми также будут смеяться
потом» [6; 204]. Возьмем прогресс в науке, ценности познания
и истины. Все тот же произвол, беспочвенность, скрываемые
постепенно вырабатываемой привычкой и пустозвонкими
словами, царят здесь. Гоголь и в этом отношении очень близок
Паскалю: «Привычка - наша природа, - писал тот, - кто
привыкает к вере, тот ее исповедует и уже не может не бояться ада
и не верит ни во что другое. Кто привык верить, что король
грозен, и т. д. Кто же усомнится, что наша душа, привыкнув видеть
число, пространство, движение, верит в это и ни во что иное»1.
Так, в «Мертвых душах» Гоголь открыто ставит знак
равенства между научными изысканиями и сплетнями двух светских
дам, говоря о том, как самое неправдоподобное предположение
бывает вскоре раздуто и принято за истину лишь в силу простого
его повторения, провозглашения в книгах и ex cafedra:
«Цитирует немедленно тех и других древних писателей и чуть только
видит какой-нибудь намек или просто показалось ему
намеком, уж он получает рысь и бодрится, разговаривает с древними
писателями запросто, задает им запросы и сам даже отвечает
за них, позабывая вовсе о том, что начал робким
предположением; <...> Потом во всеуслышанье с кафедры, - и
новооткрытая истина пошла гулять по свету, набирая себе последователей
и поклонников» [6; 188]. Если каждая научная теория - лишь
гипотеза, которая неизбежно неполна, сомнительна и
безусловно будет со временем отброшена и заменена другой гипотезой,
если каждый раз ученый сознает свою погрешимость и не знает,
как выглядит абсолютная истина, то чем, в конечном счете, его
привычка «видеть число, пространство, движение»
значительнее какого-нибудь закрепившегося в светском обществе слуха?
1 Паскаль Б. Мысли. Афоризмы - М.: ACT: Астрель, 2011. С. 174.
34
Мы сознаем, что и над современными теориями «также будут
смеяться потом», отвергая их, будущие поколения. Говорить
о росте и совершенствовании знаний имело бы смысл только
в том случае, если бы у нас была непогрешимая шкала, по которой
можно было бы откладывать достижения ученых, такая шкала,
которая годилась бы для всех исследователей, причем
годилась бы и вчера, и сегодня, и завтра. Ясно, что такой шкалы нет.
Чем в таком случае научная гипотеза, пусть даже исполненная
самозабвенной любви к знанию и человечеству, наука для науки,
принципиально отличается от самозабвенной, глубоко
бескорыстной лжи Хлестакова? О ней Мережковский, например,
замечает, что это «ложь для лжи, искусство для искусства. Ему в эту
минуту ничего не надо от слушателей: только бы поверили. Он
лжет невинно, бесхитростно и первый сам себе верит, сам себя
обманывает - в этом тайна его обаяния»1. Таково и обаяние
ученого-исследователя. Или - чем честный, одержимый жаждой
знаний исследователь в сущности отличается от гоголевского
почтмейстера, вскрывающего чужие письма не корысти ради
и не для доносов, а из невинного, чисто исследовательского
любопытства человека из глубинки: «Смерть люблю узнать, что есть
нового на свете»?
Но наука вовсе не так чистосердечна и проста, как
Хлестаков, и не так невинна, как почтмейстер: фикции достижений
и величия и здесь уродуют, порабощают человека не меньше,
чем в чиновничьем мире рангов и наград. И здесь мания славы
и обладания ради пустых символов и слов разрушают
человеческое в человеке: «Не приведи бог служить по ученой части! Всего
боишься: всякий мешается, всякому хочется показать, что он
тоже умный человек», - правдиво говорит смотритель училищ.
Об Акакии Акакиевиче Гоголь пишет: «существо, никем
не защищенное, никому не дорогое, ни для кого не интересное,
даже не обратившее на себя внимания и естествонаблюдателя,
1 Мережковский Д. С. Гоголь и черт: Поэзия; Гоголь и черт: исследование;
Итальянские новеллы - М: Книжный Клуб Книговек. 2010. С 184.
35
не пропускающего посадить на булавку обыкновенную муху
и рассмотреть ее в микроскоп» [3; 169]. Гоголю по-своему
родственен руссоистский пафос, перенятый позже и усиленный
Львом Толстым: наука, как и иные фикции культуры, равнодушна
к человеку, ей дороже муха, ей нет дела до жизни и смерти
Акакия Акакиевича. Желая служить абстракциям истины и знания,
а не конкретным людям, наука оказывается нелепой и
бесчеловечной. Не для того ли нужна она, чтобы отвлечь
избранное меньшинство ученых от зрелища мира не просто
недоступного разумному познанию, но высмеивающего и отвергающего
всякую разумность, того мира, в котором живут Башмачкин,
Поприщин, Ковалев...?
Все сказанное в «Выбранных местах» об изучении грамоты
и образовании крестьян по существу уже содержалось в
художественных произведениях Гоголя. Для чего крестьянам осваивать
грамоту? - размышляет Гоголь. Понять великую литературу,
творения больших философов и поэтов, они все равно не
смогут, так как для этого нужна не просто грамотность, а
всестороннее, систематическое образование, нужно свободное время
и желание, готовность читать, нужен и просто доступ к такой
литературе. Но этого у крестьян нет и не будет, пока они
останутся крестьянами. А чтение легких и пустых книжек во всех
отношениях менее полезно, чем работа в поле. Библию же
местный священник объяснит крестьянам доходчивее любых
книг1. Аналогично, все, что сказано у позднего Гоголя
относительно либеральных идеалов и реформаторских начинаний,
просто и сжато представлено уже в концовке «Старосветских
помещиков», в которой описывается, как быстро
новоприбывший «страшный реформатор» разрушил покойный
идиллический мир уединенной деревни: реформатор этот «так хорошо
распорядился, что имение через шесть месяцев взято было
в опеку» [2; 38].
1 См. Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями // Духовная
проза: сборник. - М.: Астрель; Владимир: ВКТ. 2012. С. 135-136.
36
Между более ранними, художественными, произведениями
Гоголя и «Выбранными местами» нет принципиальных
разрывов и больших скачков, как нет их между романами и поздней
моралистикой Толстого. «Выбранные места» лишь продолжают
мифологический процесс гоголевского творчества, выступают
одним из многих равно значительных и необходимых звеньев
этого процесса.
Весьма любопытно, что в философии мифологии мы находим
немало нападений на науку, часто предстающую здесь лишь
абстрактным обеднением, убийственной схематизацией мифа:
«Опознав категориальные основы мифического понимания
причинности и выразив в понятиях все элементы его, нельзя не
согласиться с тем, что состав его несравненно богаче, чем состав
современного научного понимания причинности: научное
миропонимание сохранило только порядок событий во времени и
отвлеклось от всего остального сложного содержания причинности;
оно есть плод чрезвычайно далеко идущей абстракции»1, -
пишет Н.О. Лосский, комментируя Кассирера. Лосев
обрушивается на геометрию Евклида и механику Ньютона, описывая
ее как «мифологию нигилизма» 2.Шеллинговед П. В. Резвых
1 Лосский Н. О. «Мифическое» и современное научное мышление // Путь.
№ 14. С. 43.
Переход от телеологии мифа к механицизму науки Лосский также
рассматривает как обесценивание описанного наукой бытия: «Отбросив деятеля,
действование и цели, т. е. те моменты, которые существенно необходимы
для идеи личности, современная наука сосредоточивается на таких
аспектах бытия, которые, будучи взяты сами по себе, имеют безличный
характер. Но ценности и смыслы существуют лишь в связи с личным бытием.
Отсюда понятно, что современная наука, отвлекшись от личного бытия,
отвлекается также от ценности и осмысленности возникновения новых
событий» (Там же. С. 42).
2 «Механика Ньютона построена на гипотезе однородного и бесконечного
пространства. Мир не имеет границ, т. е. не имеет формы. Для меня это
значит, что он - бесформен. Мир - абсолютно однородное
пространство. Для меня это значит, что он - абсолютно плоскостей,
невыразителен, нерельефен. Неимоверной скукой веет от такого мира. Прибавьте
37
сообщает, что, согласно слушательской записи Эрлангенского
курса 1820/21 гг., Шеллинг также атаковал мифологическую
по существу ньютоновскую науку, видя в ней неестественную
систему «всеобщей низости»1.
Все это очень близко Гоголю: «Нередко бывало по всему миру,
что земля тряслась от одного конца до другого: то оттого
делается, толкуют грамотные люди, что есть где-то близ моря гора,
из которой выхватывается пламя и текут горящие реки, - с
загадочной иронией пишет он в «Страшной мести», - но старики,
которые живут и в Венгрии и в Галичской земле, лучше знают
это и говорят: что то хочет подняться выросший в земле великий,
великий мертвец и трясет землю» [1; 278]. Гоголевское
мифотворчество более реально, чем наука, оно лучше знает реальный
мир, больше того - оно и есть подлинная реальность.
Мы по многим причинам подробно остановились на
гоголевском отношении к науке, к идеалам просвещения, познания
и истины, в разных формах запечатленном в его творчестве.
Во-первых, это пример, показывающий, какова в
мифотворчестве Гоголя судьба трансцендентного, судьба всех бесконечно
далеких ценностных ориентиров, притязающих на то, чтобы
подчинить себе человеческую жизнь. Миф не знает
трансцендентного и не нуждается в нем. Во-вторых, мы убеждаемся в том,
к этому аосолютную темноту и нечеловеческий холод
междупланетных пространств. Что это как не черная дыра, даже не могила и даже не
баня с пауками, потому что и то и другое все-таки интереснее и теплее и
все-таки говорит о чем-то человеческом. Ясно, что это не вывод науки, а
мифология, которую наука взяла как вероучение и догмат.... Итак,
механика Ньютона основана на мифологии нигилизма» (Лосев А. Ф.
Диалектика мифа. - М.: Мысль. 2001. С. 45.).
1 «Согласно этой системе существует, строго говоря, только всеобщий низ,
и нет никакого истинного верха. Если земля притягивается к солнцу, то
ведь и солнце тоже притягивается к земле, и таким образом все есть только
всеобщее стремление вниз, всеобщая низость (allgemeines Trachten nach
Unten, eine allgemeine Niederträchtigkeit). Эта система неестественна» (Цит.
по Резвых П. В. Шеллинг и Лосев // Бюллетень Библиотеки «Дом А. Ф.
Лосева», Вып. 12. - М.: Водолей. 2010. С. 108-109).
38
что не культурные ценности и образцы оживляют гоголевских
персонажей и все, наполняющее его мир, нечто иное заставляет
любить их и сочувствовать им, смеяться вместе с ними и плакать.
В-третьих, в противоборстве властным притязаниям культуры
и науки и со стороны мифотворца Гоголя, и со стороны
философов, воспевших древнюю мифологию, нетрудно разглядеть
бунтарский пафос, направленный против «действительного»
мира, принятого за единственно возможный. Этот мир
подчинен вечным истинам, этот мир подвёрстывается под
абстрактные схемы и законы науки, этот мир создан и устроен в
соответствии с разумным замыслом Бога.
Мифотворчество, несомненно, во многом есть
соперничество с Богом, попытка рядом с Его миром выстроить свой
собственный и наделить его не меньшей реальностью. Такой мир,
естественно, признавал бы только план имманентного, его
обитатели могли бы быть только «от мира сего», как часто говорят
о гоголевских героях - но не от земного мира, мнимо
привычного и понятного, а от мира загадочного, мифического.
4. Мифотворчество или демоническое искусство?
Загадочным и жутким предстал этот пафос мифотворчества
в глазах крупнейших русских религиозных мыслителей: Розанов,
Бердяев, Булгаков - все они вполне однозначны в своих
оценках гоголевских творений. Это, безусловно, никакой не реализм
и не сатира, не изображение социального зла, а прозрение зла
метафизического, это само зло, жаждущее жизни и
воплощения. Сравнивая Гоголя с Пикассо, а его персонажей - со
«складными чудовищами кубизма», Булгаков и Бердяев, несомненно,
ясно увидели в его творчестве попытку потягаться с Богом в
создании нового, иного мира, мира невиданных форм и размеров.
«В нем были уже те восприятия действительности, которые
привели к кубизму, - пишет о Гоголе Бердяев, - В художестве
его есть уже кубистическое расчленение живого бытия. Гоголь
видел уже тех чудовищ, которые позже художественно увидел
39
Пикассо»1. И далее - «Гоголь подверг аналитическому
расчленению органически-цельный образ человека. У Гоголя нет
человеческих образов, а есть лишь морды и рожи, лишь чудовища,
подобные складным чудовищам кубизма. В творчестве его есть
человекоубийство»2.
Фантастической гордыней исполнена всякая попытка
соперничества с Богом, считают эти мыслители, подлинно
демонической гордыней: она присуща тому самозваному сопернику
Творца, который сам неспособен на творчество и в силах являть
себя, лишь коверкая, калеча Божественное творение, насмехаясь
над ним. Нелепая, уродливая и пустая копия Божьего мира - вот
единственное, что демон может противопоставить Богу в своем
заведомо безнадежном бунте против него. Именно такой
безобразной копией, созданной в насмешку над образом и подобием
Бога, увидели религиозные философы миры Гоголя и Пикассо.
Отсюда взялись, по их мнению, все Хлестаковы, Чичиковы, Ноз-
древы и Собакевичи.
Булгаков пишет, что в творческой судьбе Пикассо «въяве
происходит история гоголевского "Портрета" и написавшего его
художника»: также и здесь рукою живописца тайно управляет
сам по себе бесплодный гордый дух цинизма и отрицания,
ищущий собственного воплощения в жизнь, «отравляющий самые
истоки творчества, повреждающий художественный глаз и оле-
деняющий сердце. Гоголь знал (откуда? не по себе ли?), что это
возможно, и понимал, как это возможно»3. Произведения Гоголя -
«демоническое искусство» (Булгаков), их автор -
«инфернальный художник» (Бердяев).
Гордыня демона убивает способность любить и созидать,
демон никого и ничего не ценит, кроме себя, демон не желает
1 Бердяев H.A. Духи русской революции // Из глубины: Сборник статей
о русской революции - М.: Из-во Моск. Ун-та. 1990. С. 59.
2 Там же.
3 Булгаков С. Труп красоты. По поводу картин Пикассо. // Собрание
сочинений в двух томах. Т. 2. Избранные статьи - М.: Наука. 1993. С. 535.
40
действительного творения («Желанья были ему чужды», -
читаем в одном из черновых вариантов лермонтовского
«Демона»), ему желанна лишь его «бунтующая,
самопоедающая самость, существующая только в субъективном
сознании, только для себя, а не о себе и не для другого»1. Поэтому
мир предстает ему пошлым, низменным, мертвым и пустым.
Пикассо, по убеждению Булгакова, «художественно
показывает, каким мир является для демона, чем представляется ему
Женственность, как ощущается им плоть мира. Беспредельная,
поистине черная тоска, испытываемая на грани бытия и тьмы
"кромешной", тьмы небытия, а вместе хула, застывающая в
бессильной муке, мистическая судорога духа»2. Такова и «скука»
Гоголя, считает философ («скучно на этом свете, господа»), это
демоническая, описанная Лермонтовым скука, заставляющая
художника видеть вокруг себя одни только хари, свиные рыла
и мертвые души.
Женщина у Гоголя непременно несет не жизнь и тепло, а гибель,
обман, совращение, всякий раз она оказывается ведьмой,
русалкой, проституткой. Мнимо живой, дышащий, теплый человек
на деле - «одно только бездушное тело». Пошлость,
принимаемая порой за сатиру в гоголевском творчестве - лишь следствие
гордыни, именно гордость демона опошляет увиденный им мир.
Розанов писал об этом со всей резкостью: «Мертвым взглядом
посмотрел Гоголь на жизнь и мертвые души только увидал он
в ней»3. Гоголь, по его слову, был «гением формы», как никто
убедительно изобразивший внешние, телесные формы жизни,
но не вложивший в них никакого внутреннего содержания,
ни одной живой души: «Содержания почти нет, или - пустое,
ненужное, неинтересное. Не представляющее абсолютно никакой
1Там же. С. 533.
2 Там же.
3 Розанов В. В. Собрание сочинений. Легенда о Великом инквизиторе
Ф.М. Достоевского. Лит. Очерки. О писательстве и писателях - М.:
Республика. 1996. С. 20.
41
важности. Форма, то, как рассказано, - гениальна до степени,
недоступной решительно ни одному нашему художнику»1. Проза
Гоголя воплощает такую странную живость, «почти
скульптурность, что никто не заметил, как за этими формами ничего,
в сущности, не скрывается, нет никакой души, нет того, кто бы
носил их»2.
Конечно, не просто сомнительными, но в высшей степени
спорными станут все подобные выводы о Гоголе как о
«художнике зла», если вспомнить «Старосветских помещиков», «Ночь
перед рождеством», «Шинель» и многое другое в его творчестве.
Разве гордыня и презрение к человеку продиктовали эти
произведения? Разве нет здесь человеческого лица и живой души?
Неужели демоническая ненависть и презрение звучат, например,
в «Ревизоре»? Городничий, говорит автор, «очень неглупый
по-своему человек. Хотя и взяточник, но ведет себя очень солидно;
довольно сурьезен; несколько даже резонер; говорит ни громко,
ни тихо, ни много, ни мало. Его каждое слово значительно»,
Хлестаков полон «чистосердечия и простоты», Бобчинский и Доб-
чинский, как уже мы уже цитировали, «два человечка, в
существе своем довольно опрятные, толстенькие, с
прилично-приглаженными волосами» и т. д. - ни свиных рыл не видно здесь,
ни складных чудовищ.
И все же в том толковании Гоголя, которое дали самые видные
русские мыслители, затронуты такие струны души и такие
мрачные тайны его творений, что это прикосновение уже не удается
забыть, просто перечитав самые светлые и добрые гоголевские
страницы. Мифотворчество Гоголя действительно несло в себе
нечто демонически гордое и бесовски пошлое: Гоголь не знал,
какие именно нечеловеческие силы выражаются, выражают
1 Розанов В. В. Собрание сочинений. О писательстве и писателях - М.:
Республика. 1995. С. 347.
2 Розанов В. В. Собрание сочинений. Легенда о Великом инквизиторе
Ф.М. Достоевского. Лит. Очерки. О писательстве и писателях - М.:
Республика. 1996. С. 18.
42
себя в его мифологии - светлые и созидательные или
насмешливые и губительные. Вернее - он явно чувствовал присутствие
тех и других, одновременно допущенных им в свои творения.
В этом можно убедиться, читая, например, сочиненные им
молитвы: «Верю бо, яко Ты един в силах поднять меня; верю, яко
и сие самое дело рук моих, над ним же работаю ныне, не от моего
произволения, но от святой воли Твоей. Ты поселил во мне
и первую мысль о нем; Ты и возрастил ее, возрастивши и меня
самого для нее; Ты же дал силы привести к концу Тобой
внушенное дело, строя все спасенье мое: насылая скорби на умяг-
ченья сердца моего, воздвигая гоненья на частые прибеганья
к Тебе и на полученье сильнейшей любви к Тебе, ею же да
воспламеняет и возгорится отныне вся душа моя, славя
ежеминутно святое имя Твое, прославляемое всегда ныне, и присно,
и во веки веков. Аминь.
Боже, благослови!
Да появится в настоящем году созрелый и полный плод!»1
Чувствуется что-то неестественное, а затем что-то жуткое
в этих словах: не молитва звучит в них, а повелительное
заклинание. И себя, и даже Бога заклинает Гоголь, уверяя и уверяясь
в том, что именно Бог вдохновляет его произведения и
руководит им, заклинанием же пытается он вызвать все никак не
дающийся ему труд, словно предлагая обменять его на молитвы
и любовь (или скорее - на слова о любви?). Зачем так много
говорить о вере, если она искренне переживается всем существом
человека? Зачем так много повторять слова о божественности
своего вдохновения - в статьях, в письмах, в молитвах?
Повторяем мы только то, в чем уверены не слишком твердо. Как много,
к примеру, говорит о музыке пушкинский Сальери: естественно,
жить искусством ему не дано, остается лишь разговор об
искусстве; у Моцарта слов куда меньше!
1 Гоголь Н.В. Молитвы, написанные Гоголем // Избранное [Электронный
ресурс «Православная библиотека»: https: // pravoslavie.ru/put/biblio/gogol/
gogol28.htm] (дата обращения: 28.04.19).
43
В той же молитве Гоголь говорит: «Боже, дай полюбить еще
больше людей! Дай собрать в памяти своей всё лучшее в них,
припомнить ближе всех ближних и, вдохновившись силой любви,
быть в силах изобразить! О, пусть же сама любовь будет мне
вдохновеньем!»1 Даже горячо любящий Гоголя Синявский
иронизирует по поводу этих слов: «Не будет! Не дадут! Быть может,
потому не дадут, что о любви не просят ради того, чтобы ею
вдохновляться и быть в силах изобразить, - ишь нашелся охотник,
любви ему захотелось - для книги... Только чтобы дописать
"Мертвые души", разыскать засыпанную кощеем бессмертным
душу Собакевича (кто засыпал? - ты и засыпал!)»2. Однозначно
есть во всем этом что-то от демонической бездарности и
демонического одиночества.
Гоголю был отлично знаком и понятен тот ужас, что
испытали перед его творениями русские философы: ужас перед
парадоксальной реальностью зла в его произведениях, реальностью
того, что «как будто не существует» - отсюда незабываемые
строки в «Портрете»: «Это было уже не искусство: это
разрушало даже гармонию самого портрета. Это были живые, это
были человеческие глаза! Казалось, как будто они были
вырезаны из живого человека и вставлены сюда. Здесь не было уже
того высокого наслажденья, которое объемлет душу при взгляде
на произведение художника, как ни ужасен взятый им
предмет; здесь было какое-то болезненное, томительное чувство
<...> Это уже не была копия с натуры, это была та странная
живость, которою бы озарилось лицо мертвеца, вставшего
из могилы» [3; 88]. Гоголевская нечисть (внешне порой
похожая на человека) - это именно что не «копия с натуры», это
не аллегорическая, а совершенно реальная бесовщина и
трупная гниль: реальной она становится в и через зараженное ею
сознание художника.
1 Там же.
2 Терц А. В тени Гоголя - London: Overseas Publications Interchange. 1975.
С. 318.
44
Ужас Гоголя сродни тому, что выразил Мартин Хайдег-
гер, говоря о «ничтожающем» ничто, абсолютном небытии,
которое означает не отсутствие чего-либо конкретного и
особенного, а полное отрицание всякого бытия. Как чистый обман,
сплошное отрицание, растление и гибель нечисть сама по себе
не может обладать никакой позитивной реальностью,
мыслимой, зримой, телесной - она, напротив, несет в себе одну только
нереальность, ничтожение, небытие. Андрей Белый обращает
внимание на то, что колдун в «Страшной мести» описан чисто
негативно, при помощи бесконечных «не» и «ни»: «Явленью
колдуна на пире предшествует рассказ о том, как не приехал
на пир отец жены Данилы Бурульбаша, живущего на том берегу
Днепра: гости дивятся белому лицу пани Катерины; "но еще
больше дивились тому, что не приехал... с нею старый отец";
он многое мог бы рассказать про чужие края: "там все не так:
люди не те, и церквей... нет! ... Но он не приехал" (СМ). Отец
подан при помощи "не"»1. И далее - «"Ни", "не" дорисовывают
негатив; психологический силуэт отца выщерблен изъятием
из него всего конкретного; он - яма в быте; кто он сам в себе, -
неизвестно»2. Колдун парадоксальным образом бытийствует
только как провал в небытие, он не имеет никакой
конкретной формы, отрицает и хулит ее.
Нечисть не преломляется в сознании Гоголя как следы неких
реально наличных недостатков человека и общества (да и как
недостаток может быть чем-то наличным?), она есть в этом
сознании, есть само это сознание, его совершенно реальные
образы и видения.
Конечно, образы эти не воплощают нечисть открыто и прямо:
нечисть не может воплотиться буквально - а косвенно
свидетельствуют о ней, намекают на ее присутствие. Нечисть лишь
просматривается сквозь гоголевские произведения, глядит сквозь
1 Белый А. Мастерство Гоголя. Исследование - М., Ленинград: ОГИЗ. 1934.
С. 57.
2 Там же. С. 60.
45
них, как сквозь демонический портрет: «Женщина,
остановившаяся позади его, вскрикнула: "Глядит, глядит", - и
попятилась назад» [3; 82].
«Подымите мне веки: не вижу!» - это говорят отрицание
и небытие, иллюзия и обман: разумеется, «говорят» только через
писателя, его устами.
И при этом его человеческая речь начинает походить на
взвизгивающие заклинания вставшего из гроба трупа: «В судорогах
задергались его губы, и, дико взвизгивая, понеслись
заклинания» - со страшным напряжением и судорогами, «ударяя
зубами ряд о ряд», силится говорить через гоголевский образ
само по себе немое небытие. Его жизнь не жизнь, а только
уродливая имитация жизни, подобная той, что видится у Гоголя
в неестественных, механических движениях ожившего
мертвеца. Отрицание и абсурд сами по себе не могут говорить,
глядеть, даже ходить, они вступают в гоголевское творчество и тем
самым - в реальность, как Вий, тяжело, «поминутно оступаясь»:
они ждут, чтобы их «привели», «подвели под руки». Лицо у них
железное, веки «опущены до самой земли»: они ждут, чтобы
им подняли веки...
Нелепые, невозможные и вместе жуткие глаза повсюду глядят
у Гоголя: «Из глаз вытягиваются клещи...»; «очи дико
косились; страшный огонь пугливо сыпался из очей»; «Вмиг умер
колдун и открыл после смерти очи. Но уже был мертвец и глядел
как мертвец. Так страшно не глядит ни живой, ни
воскресший» («Страшная месть»); «сквозь сеть волос глядели страшно
два глаза, подняв немного вверх брови»; «глаза ее сверкнули
каким-то необыкновенным блеском» («Вий») и т. д. «Это
ростовщик, который недавно умер; да это совершеннейшая вещь. Ты
ему просто попал не в бровь, а в самые глаза залез. Так в жизнь
никогда не глядели глаза, как они глядят у тебя» [3,131], - говорит
создателю «глядящего» портрета его приятель.
Через страшные глаза Вия, колдуна, старухи-ведьмы,
портрета ростовщика безобразные, не имеющие своего образа
обман и Ничто силятся «вытянуть клещи», вцепиться ими
46
в реальность, влезть в нее и удержаться в ней, мучительно
и безнадежно рвутся они заполучить реальность и себе. Именно
такую казнь, страшную месть, уготовил Иван Иуде-Петро:
«А Иуда Петро чтобы не мог подняться с земли, чтобы рвался
грызть и себе, но грыз бы самого себя, а кости его росли бы,
чем дальше, больше, чтобы чрез то еще сильнее становилась
его боль» [1; 281-282]. Как «дивный рыцарь» Иван «чует, как
лежащий под землею мертвец растет, гложет в страшных муках
свои кости и страшно трясет всю землю...» [1, 282], так Гоголь
чувствует, как подспудно растет демоническая пустота, не
находящая себе выхода, но страшно сотрясающая его творения, его
сюжеты и язык, так что те опрокидываются, надламываются
и принимают невиданные обличил.
По остроумному замечанию Синявского, слово «Вий» звучит
как глагол в повелительном наклонении, как бесовская озвучка
церковно-славянского «виждь»1. Гоголевский портрет, колдун,
ведьма не видят, а именно «вият»: сквозь их глаза в мир вият,
веют опустошение и фальшь.
«Не гляди!» - это предостережение творцу, который взглядом
своим мог бы сделать зло и ложь зримыми, реальным: взглянуть
на них - значит, косвенно впустить их в реальность в форме своих
творений, дать им псевдо-реальность, иллюзию жизни, стать их
1 «Мания и магия зрительного чувства и зрительного внушения становятся
скрытой, подспудной, собственно-гоголевской темой повести. Поэтому она
и называется - "Вием". Это повесть о страшном искушении и о страшной
опасности - взглянуть и увидать. "Вий" (звучит как глагол в
повелительном наклонении) - это "вой" и "вей" в применении к зрению, к "видеть".
"Вий" - это бесовское (и художническое) "виждь!" (вместе с обратным,
предостерегающим голосом человеческого инстинкта и совести: "не гляди!").
От глаз Вия (согласно народным повериям), когда он их подымает, летят
молнии и вихри. Теми вихрями и стрелами пронизана повесть Гоголя,
и хотя она почти ничего не рассказывает о Вие как каком-то подземном,
фантастическом существе и тот не занимает в ней существенного места,
она покрывается этим названием и повелением - "Вий" в более широком,
всеобщем, зрительном смысле» (Терц А. В тени Гоголя - London: Overseas
Publications Interchange. 1975. С. 500).
47
медиумом и проводником. Это значит - дать им разорвать себя,
подобно тому, как псевдо-сущие, окаменевающие от крика петуха
чудовища набросились на Хому Брута. Обман и Ничто сами
по себе не есть, они видят нас только тогда, когда мы, не
удержавшись, сами бросаем на них взгляд. Взгляд человека дает им
выход, поселяет их в мире, неявно проносит их в область бытия,
ведь и Хома Брут, как отмечает Синявский1, сам «гальванизирует»
труп ведьмы, нет-нет да и бросая на него любопытные,
несдержанные взгляды: «Он подошел ко гробу, с робостию посмотрел
в лицо умершей и не мог не зажмурить, несколько вздрогнувши,
своих глаз ...он не утерпел, уходя, не взглянуть на нее и потом,
ощутивши тот же трепет, взглянул еще раз», потом - «Однако же,
перелистывая каждую страницу, он посматривал искоса на гроб»
[2; 206-207]. «Ну, если подымется?..» - труп не подымется сам
по себе, только тот нескромный взгляд, который заражен
бесовщиной и фалыней, оживляет его.
Трагедия Гоголя состояла в том, что, правдиво изображать
ложь, абсурд и кажимость «реальной» жизни - значило для него
преумножать эту ложь, оживлять взглядом художника страшные
трупы, которые в жизни оставались неподвижными и немыми,
давать им возможность увидеть нас. Правдивость в его
творчестве оборачивалась невольной некромантией, демонизмом,
воспроизводством обмана и зла. Но изображать правдивый и
беззлобный мир было бы еще более опасным обманом2. Поэтому
попытки Гоголя вовсе уйти от творчества, «не глядеть», были
неизбежны.
Как пишет об этом Синявский, «Взглянуть - сгинуть. Потому
что взглянуть, увидать (тем более изобразить) - это значит -
прорезать глаза в невидящей, мертвой материи и попустить
им увидеть тебя, настигнуть, убить: " - Глядит!" В художнике
(во всяком художнике - всмотритесь) есть какая-то обреченность
*См. Там же. С. 508.
2 Об этом см., н., Лотман Ю.М. О «реализме» Гоголя // Труды по русской
и славянской филологии. - Тарту: Тартуский университет, 1996. С. 31.
48
("глядит!"). Подобно тому, как зримое становится зрячим
в искусстве, так художник в Гоголе пойман в ковы
изображений: преследуют. "Не гляди!" - сказанное философу Хоме Бруту
потаенным, внутренним шепотом, в позднем Гоголе громко
отозвалось: "не пиши!"»1. Слова Вия, считает Синявский,
произносит искусство, оно требует поднять ему веки, «оно хочет
и умеет смотреть», но воля к зрению всегда сочеталась в нем
с заповедью «Не гляди!».
Гоголь, как известно, хотел посмеяться над чертом, выпороть
его, но, как и преуспевший в этом Вакула, Гоголь сам
изобразил черта, как никогда живого и убедительного, глянул на него.
«"Уже с давних пор я только и хлопочу о том, чтобы вволю
насмеялся человек над чертом", - вот главное, что было в душе его, -
пишет Мережковский, - Удалось ли это ему? В конце концов, кто
над кем посмеялся в творчестве Гоголя - человек над чертом
или черт над человеком?»2 Но дело даже не в том, что Гоголь
изобразил черта, впустив его в свое тавтегоричное
мифотворчество, и не изобразил образ и подобие Бога в человеке, о чем
сам много сокрушался и о чем много писали русские мыслители.
Подлинная реальность зла в творчестве Гоголя не предметна,
она не заключается в отдельных, «отрицательных», образах, она
есть скорее само отрицание, одна из нечеловеческих сил,
присутствие которых лишь «виет» в каждом его творении,
мифотворчество само по себе тяготеет к демонизму.
Но приписывая творениям Гоголя демонические черты, стоит
внимательнее присмотреться к демону, каким его изобразил
болезненно устремленный к нему поэтический гений. Демон знает
не только холодную зависть и ненависть к твореньям Бога своего,
не только гордое отрицание и опустошающую скуку. Демон
тоскует по человеческому, земному:
1 Терц А. В тени Гоголя - London: Overseas Publications Interchange. 1975.
С. 493.
2 Мережковский Д. С. Гоголь и черт: Поэзия; Гоголь и черт: исследование;
Итальянские новеллы - М: Книжный Клуб Книговек. 2010. С. 212.
49
Я позавидовал невольно
Неполной радости земной;
Не жить как ты мне стало больно,
И страшно - розно жить с тобой.
Тоска по недоступной ему человеческой любви охватывает
демона, когда он впервые видит Тамару:
Немой души его пустыню
Наполнил благодатный звук -
И вновь постигнул он святыню
Любви, добра и красоты!..
Демон признается Тамаре: «Люблю тебя нездешней
страстью, // Как полюбить не можешь ты...», - однако сожалеет
демон не о Тамаре, не о том, что та неспособна на бессмертную
любовь, а о том, что сам он не знает и не сможет узнать любви
человеческой. Это и есть проклятые им в конце концов
«безумные мечты»: любить, как человек1. Его «нечеловеческая слеза»
прожигает камень, его поцелуй убивает.
Таков и Гоголь. Ни в жизни, ни в творчестве ему не довелось
узнать простой, человеческой любви: в юношеском отрывке
«Женщина» малоубедительно описывается любовь
платоническая, в «Тарасе Бульбе» - сказочно-рыцарская, в «Невском
проспекте» - наивно вымышленная, обманная. Человечна любовь
старосветских помещиков или, например, любовь матери Андрия
и Остапа к своим сынам, но все это любовь стариков, которая уже
одной ногой в могиле... Как часто, почти всегда, умирают у Гоголя
1 Можно только подивиться тому, как категорично, претенциозно и холодно
Булгаков отвергает любовь Демона к человеку, его тоску по
человеческому, не желая видеть в этом ничего, кроме нелепой вольности
молодого поэта: «Демон же, оставаясь самим собой и не совершая, по воле
Лермонтова, совершенно непостижимого превращения в оперного
любовника, который, впрочем, таки убивает жертву своей любви и пытается
даже похитить ее душу, увидел бы в Тамаре "женщину с пейзажем", если
не самое "фермершу", т.е. мертвость, косность и гнусность» (Булгаков С.
Труп красоты. По поводу картин Пикассо. // Собрание сочинений в двух
томах. Т. 2. Избранные статьи - М.: Наука. 1993. С. 534).
50
те, кого он любит и жалеет: Афанасий Иванович с Пульхерией
Ивановной, Акакий Акакиевич, Пискарев, Катерина с ее
малышом... А в «Мертвых душах» и умирать было некому. Увы, нередко
и любовь, и слезы его были смертельными, демоническими -
человек не мог вынести их прикосновения.
Демон презирает землю, потому что на самом деле не знает ее.
Он «ничтожной властвует землей», но это не та теплая, родная
земля, которую знает человек, а та роскошная и пустая
фантасмагория, которую демон обещает Тамаре за ее любовь: «Я дам
тебе всё, всё земное - // Люби меня!..». Но ясно, что в посулах
его нет ничего по-настоящему земного:
Толпу духов моих служебных
Я приведу к твоим стопам;
Прислужниц легких и волшебных
Тебе, красавица, я дам;
И для тебя с звезды восточной
Сорву венец я золотой;
Возьму с цветов росы полночной;
Его усыплю той росой;
Всечасно дивною игрою
Твой слух лелеять буду я;
Чертоги пышные построю
Из бирюзы и янтаря;
Я опущусь на дно морское,
Я полечу за облака...
Удивительно, насколько точно все это передает дух
гоголевских произведений - все это было подвластно Гоголю: толпа
духов, магическое великолепие природы, пышные чертоги,
дивная игра, море, облака. Но все оказывалось у него не
человеческим, а каким-то невиданным, фантастическим, чрезмерным.
Андрей Белый проницательно заметил, что Гоголь не знал землю:
«Людей - не знал Гоголь. Знал он великанов и карликов; и землю
Гоголь не знал тоже - знал он "сваянный" из месячного блеска
туман или черный погреб <...> Кто-то из-под ног его выдернул
51
землю; осталась в нем память о земле: земля человечества
разложилась для него в эфир и навоз»1. Гоголь, во всех отношениях
«дух изгнанья», использовал все свои магические силы для того,
чтобы в его мифическом мире возник настоящий, земной человек,
чтобы суметь заплакать, как он, и полюбить, как он («Твоей
любви я жду, как дара, // И вечность дам тебе за миг»). Живого
человека не было в «реальном» мире, не могли дать его и далекие,
абстрактные идеалы, трансцендентные цели: только миф был
небезнадёжен в деле поиска живой души. Поздняя моралистика
и в особенности «Выбранные места» были только продолжение
этого поиска, также и в них Гоголь как бы не знает ни человека,
ни земли и хочет сам соткать их из мифических материй. Его
исповедь вновь напоминает демона:
Хочу я с небом примириться,
Хочу любить, хочу молиться,
Хочу я веровать добру.
Слезой раскаянья сотру
Я на челе, тебя достойном,
Следы небесного огня -
И мир в неведеньи спокойном
Пусть доцветает без меня!
Эти слова могли бы стать неплохим эпиграфом к «Выбранным
местам». Насколько искренне и правдиво говорит это демон?
Думается, настолько искренним был и кающийся Гоголь.
И все же есть одна фундаментальная черта, отличающая
демона от Гоголя: демон никогда не смеется. Смех Гоголя - это,
конечно, смех сквозь слезы, но демон знал только слезы, причем
нечеловеческие, смеха не знал он. Говорят, смеяться вообще
могут только люди. Наверное, это правда. Как известно,
Христос никогда не смеялся, также как Богоматерь и святые -
смеющихся икон не существует. Не смеется и нечисть: она строит
рожи и насмехается, как, например, в «Пропавшей грамоте»
(«Дурень! Дурень!»), но не смеется. Тамара умирает со «странной
1 Белый А. Гоголь // Н. В. Гоголь: pro et contra - Μ.: РХГА, 2009. С. 302.
52
улыбкой» на устах, хотя в остальном ее труп очень напоминает
труп панночки:
Навек опущены ресницы...
Но кто б, о небо! не сказал,
Что взор под ними лишь дремал
И ничего в ее лице
Не намекало о конце
В пылу страстей и упоенья;
И были все ее черты
Исполнены той красоты,
Как мрамор, чуждой выраженья,
Лишенной чувства и ума,
Таинственной, как смерть сама.
Улыбка странная застыла,
Мелькнувши по ее устам.
О многом грустном говорила
Она внимательным глазам:
В ней было хладное презренье
Души, готовой отцвести,
Последней мысли выраженье,
Земле беззвучное прости.
Та же ледяная мраморная красота, та же странная живость,
но панночка никогда не улыбалась - ни до, ни после смерти: ее
«уста - рубины, готовые усмехнуться», но не улыбнуться. Улыбка
Тамары может показаться следом демонского поцелуя, ведь в ней -
«хладное презренье», но демон презирал и ненавидел без всякой
улыбки. Впечатляет, что такие философы, как Бердяев и Лосев,
увидели демонизм и в другой, еще более известной,
загадочной улыбке... Мона Лиза улыбается «мелкокорыстной»,
«бесовской» улыбкой, пишет, например, Лосев1, собственно и не улы-
1В «Эстетике Возрождения» находим: «...стоит только всмотреться в глаза
Джоконды, как можно без труда заметить, что она, собственно говоря,
совсем не улыбается. Это не улыбка, но хищная физиономия с холодными
53
бается, а хищно приманивает жертву. И в этой улыбке сквозит
демоническая гордость, холодность и презрение, бунт
титанической самости, телесной и бездуховной, существующей только
для себя и в конечном счете пожирающей себя. Интересно, что
Чертков, глядя на купленный им портрет, источающий
«болезненное, томительное чувство», предполагает, что это
произведение Леонардо да Винчи.
Но что загадочного может быть в таком случае в этой
дьявольской улыбочке? В том, как у Гоголя гримасничает нечисть,
нет никакой загадки, как нет ее, скажем, в злой усмешке
«Женщины с веером» Пикассо. Будь таинственная улыбка Джоконды
хищной и бесовской, будь улыбка Тамары демонической, они
стали бы как панночка в своем гробу: «Рубины уст ее, казалось,
прикипали кровию к самому сердцу» [2; 199]. Но в этом вампир-
стве - ужас, а не загадка.
Странная улыбка, в которой - «Земле беззвучное прости»,
как бы парит над всем мифотворчеством Гоголя. Сама
загадочность ее, тайна гоголевского смеха означает, что мир Гоголя
не был в действительности миром, увиденным глазами демона,
«мертвыми глазами». Для демона нет загадок и нет ничего
смешного. Одна из ключевых гоголевских сентенций относительно его
смеха - это знаменитое: «Чему смеетесь? Над собою смеетесь!».
И читатель Гоголя, и он сам всегда смеются, в первую очередь,
над самими собой. А смеяться над собой злобно и демонически
невозможно: демон, смеющийся над собой - такое немыслимо
даже в мире Гоголя! Потому смех этот обладает огромной силой:
«Нет, несправедливы те, которые говорят, будто возмущает смех.
глазами и с отчетливым знанием беспомощности той жертвы, которой
Джоконда хочет овладеть и в которой кроме слабости она рассчитывает
еще на бессилие перед овладевшим ею скверным чувством. Едва ли в этом
можно находить вершину Ренессанса. Мелкокорыстная, но тем не менее
бесовская улыбочка выводит эту картину далеко за пределы Ренессанса,
хотя и здесь общевозрожденческая личностно-материальная
направленность все же остается непоколебимой» (Лосев А.Ф. Эстетика
Возрождения - М.: Мысль. 1978. С. 427).
54
Возмущает только то, что мрачно, а смех светел. Многое бы
возмутило человека, быв представлено в наготе своей; но,
озаренное силою смеха, несет оно уже примиренье в душу» [5; 169].
Смех у Гоголя - искупление демонизма, противоядие от него.
Бердяев, правда, увидел в гоголевском смехе лишь обманку,
маску проступающего в его произведениях зла: «Гоголь ввел
в обман, так как прикрыл смехом свое демоническое созерцание»1.
Розанов и вовсе считал этот смех разрушительным и
оскорбительным для человека: Гоголь, пишет он, совпал «с цинизмом,
с даром издевательства у русских, с силою гогочущей толпы,
которая мнет сапожищами плачущую женщину и ребенка, мнет
и топчет слезы, идеализм и страдание»2.
Для Розанова смех Гоголя был банальным идиотизмом,
циничным осмеянием всего святого. Поверхностный и бездумный, этот
смех выражает пренебрежение и нелюбовь к человеку,
несовершенному, даже порочному, но все же человеку - прежде всего,
человеку. Он мешает разглядеть в человеке трагичность его
недостатков и значительность достоинств - в «Апокалипсисе», к
примеру, читаем: «несмотря на побои, как они [евреи] часто любят
русских и жалеют их пороки, и никогда "по-гоголевски" не
издеваются над ними. Над пороком нельзя смеяться, это - преступно,
зверски»3. Даже смерть у Гоголя бывает смешной - как же можно
хохотать над гибелью человека?! Здесь Розанов, как и повсюду,
вопреки собственным заявлениям, не перестает видеть в Гоголе
реалиста: гоголевские смех, слезы, смерть - все это Розанов
воспринимает буквально-реалистически как отражение реальной
жизни и как буквальное выражение отношения к ней.
В «Мимолетном» Розанов говорит: «...всерусские прошли через
Гоголя ... Каждый отсмеялся свой час... "от души посмеялся",
1Бердяев H.A. Духи русской революции // Из глубины: Сборник статей
о русской революции - М.: Из-во Моск. Ун-та. 1990. С. 59.
2Розанов В. В. Мимолетное - М.: Республика. 1994. С. 117.
3Розанов В. В. Собрание сочинений. Апокалипсис нашего времени - М.:
Республика. 2000. С. 36.
55
до животика, над этим «своим отечеством», над "Русью"-то, ха-
ха-ха!! - "Ну и Русь! Ну и люди! Не люди, а свиные рыла. Божьи
создания??? - ха! ха! ха! Го! го! го!.." Лиза заплакала. Я заплакал. -
Лизанька, уйдем отсюда. Лиза, не надо этого. Своя земля. В эту
землю похоронят тебя и меня похоронят. Можно ли лечь в
смешную землю... Лиза, Лиза, тот свет не смешон. Не смешна смерть.
Лиза, Лиза, что же мы и туда предстанем, поджимая животики?..
Смеясь жили, смеясь умрем, народим смешных детей и от
смешного мужа ... Умереть лучше, легче, чем жить с Гоголем, читать
Гоголя, вторить Гоголю, думать по Гоголю»1. Но и смех, и смерть
в творчестве Гоголя мифологичны: гоголевский смех, как и
гоголевское изображение смерти, нельзя правильно понять, не
учитывая мифологические и магические истоки этого смеха.
Смех здесь не нелепая пассивно-идиотическая реакция
на смерть, а активная сила, противоборствующая смерти,
защищающая перед ее лицом живую душу человека. У самых разных
народов мы находим мифические представления о том, что смех
запрещается в мире мертвых, мертвые неспособны смеяться,
а живые, оказавшись в загробном мире, смеяться не должны,
ведь смехом они выдают себя, чужаков, не принадлежащих еще
царству смерти. Поэтому многие обряды, связанные со смертью
или символизирующие схождение в загробный мир (в
особенности - обряды посвящения и инициации юношей), включают
в себя испытание, в ходе которого участникам не дозволяется
смеяться. И наоборот - многие сюжеты, повествующие о
возвращении к жизни (скажем, о чудесном спасении из чрева
чудовища), связаны с безудержным смехом, как и те ритуалы, что
символизируют рождение или возврат к жизни. Такова, например,
якутская обрядовая трапеза, следующая за рождением ребенка
и посвящаемая богине Ийехсит, в ходе которой одна из участниц
должна начать хохотать, остальные - подхватить ее смех: общая
радость предвещает скорое появление ребенка у той женщины,
которая засмеялась первой.
1Там же. С. 40.
56
Владимир Пропп, подробно анализируя этот и другие
подобные обряды, в которых смех выступает как жизнеда-
телъ, как подлинный источник и символ жизни, отмечает:
«Потому ли богиня (непосредственно или "навестив" будущую
мать) смеется, что рождается ребенок, или, наоборот, зачатие
и роды происходят по причине смеха? Такой вопрос,
кажущийся очень важным для современного мышления, не имеет
никакого значения для мышления более раннего, не
знающего категорий причины и следствия и отождествляющего
их. По материалам Ястремского видно, что "сначала насильно
смеются" (Ястремский, 199). "Наконец, и вправду разбирает их
сильный смех". Это означает, что смех здесь первичен, а
беременность вторична, т. е. смеются, чтобы вызвать беременность,
а не наоборот. В этом - магия смеха»1. Таков и магический смех
Гоголя, способный оживлять неживое: Нос майора Ковалева,
заживший собственной жизнью, «поющие» на разные голоса
двери в доме старосветских помещиков, стулья Собакевича,
заговорившие о себе: «И я тоже Собакевич» и т. д. Каждый раз
смех скорее дает жизнь, нежели выражает реакцию на уже
произошедшее оживление, или вернее - он и есть та мифическая
жизнь, которая поселяется здесь в неживых предметах - стоит
отнять у них комичность, и они окажутся самыми
обыкновенными безжизненными вещами.
Еще более значителен и глубок смех, сопутствующий гибели
человека. Смех (конечно, сквозь слезы, но все же смех) и
элементы комизма сопровождают смерть Тараса Бульбы, Акакия
Акакиевича или, например, прокурора в «Мертвых душах»,
о котором только после его кончины «с соболезнованием узнали,
что у покойника была, точно, душа, хотя он по скромности своей
никогда ее не показывал» [6, 210]. Как пишет Бахтин, веселая
гибель у Гоголя понятна только в перспективе связи его
произведений с «народной смеховой культурой», которая приобщает
1 Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха. Ритуальный смех в фольклоре
(по поводу сказки о Несмеяне). - М.: Лабиринт. 1999. С. 235.
57
гоголевское творчество и изображенную им «современность»
к большому времени.
Бульба, остановившийся поднять люльку с табаком, Коробочка,
обеспокоенная, как бы ей «не понести убытку», продавая мертвых,
рассуждения Собакевича о том, что в живых мало проку, да и вся
насквозь комичная скупка мертвых душ - все это, по слову
Бахтина, « карнавал изированное осмеяние» смерти, игра, в которой
смех побеждает все: страшное перестает быть страшным, пошлое
облагораживается, а все конечное и временное перерастает свою
конечность. Сама по себе торговля людьми ушла в прошлое, она
принадлежит малому времени, но Чичиков, Плюшкин, Собаке-
вич и другие пребывают в вечности1. Магический смех Гоголя
оживляет их, в мире мертвых им нет места, там они чужие. Смех -
это субстанция, самое само гоголевских образов. Комичность
его героев не внешняя и наносная, а основополагающая, она
не эхо, а подлинное основание всего, что происходит с ними.
Ясно, что такие персонажи не обитатели «действительного» мира
реалиста или уродливо гиперболизированного мира сатирика:
эти миры неизбежно злободневны, временны и в основе своей
далеко не смешны - гоголевские герои обитают только в
вечном мире мифа.
Во многих мифах высшей храбростью и достоинством человека
предстает способность рассмеяться в лицо смерти: конечно, это
означает не избегнуть смерти, но встать вровень с ней. Ведь смерть
не застает врасплох того, кто над ней смеется: в ожидании смерти
он оказывается не тождественен своему неизбежному,
необоримому умиранию и как бы дистанцируется от него, превосходит
собственную гибель, иронизируя над ней, подобно тому, как
смеющийся над своей жизнью оказывается благодаря смеху
неравен своим обстоятельствам и, смотря на них со стороны,
возвышается над ними. Гамлет, размышляя о страхе перед смертью,
1 Бахтин М.М. Рабле и Гоголь (Искусство слова и народная смеховая
культура) // Вопросы литературы и эстетики - М.: Художественная
литература. 1975. С. 494-495.
58
говорит, что смерть страшна, потому что заключает в себе
абсолютно непроницаемую мрачную тайну: «Какие сны приснятся
в смертном сне?». Но жизнь, увиденная Гоголем, ничуть не более
понятна: с одной стороны, это означает, что жизнь может быть
так же страшна, как «смертный сон» (отсюда - гоголевский
ужас), но с другой - что смерть и те сны, которые она принесет,
могут оказаться такими же комичными, как нынешняя жизнь
(отсюда - веселость смерти).
Это мироощущение совершенно мифологическое: оно
принадлежит человеку, знающему о неизбежности и внезапности
смерти и не пытающемуся проникнуть в ее тайну, но знающего,
что и его обыденная жизнь ничуть не яснее и ничуть не более
подвластна ему, чем его гибель, которая, впрочем, может
оказаться не страшнее, а смешнее самой жизни. Относиться к смерти
с той же иронией, что и к жизни, в определенном смысле, значит
чувствовать себя и действительно становиться бессмертным.
Опять же это не чисто «вымышленное» и не «настоящее»,
физическое бессмертие, это тавтегорическое бессмертие мифического
сознания: для самого сознания, охваченного мифом оно не
иносказательно, а совершенно буквально.
Такую мифическую вечную жизнь перед лицом смерти Гоголь
описывает в «Старосветских помещиках», в которых
безоблачное, тихое счастье сочетается с приступами ужаса перед
зовом с того света: «Вам, без сомнения, когда-нибудь
случалось слышать голос, называющий вас по имени, который
простолюдины объясняют тем, что душа стосковалась за человеком
и призывает его, и после которого следует неминуемо смерть ...
Я помню, что в детстве часто его слышал: иногда вдруг позади
меня кто-то явственно произносил мое имя. День
обыкновенно в это время был самый ясный и солнечный; ... но,
признаюсь, если бы ночь самая бешеная и бурная, со всем адом
стихий, настигла меня одного среди непроходимого леса, я бы
не так испугался ее, как этой ужасной тишины среди
безоблачного дня» [2, 37]. Но здесь и к самой смерти относятся
просто и идиллически-спокойно: «Нет, Афанасий Иванович, я уже
59
знаю, когда моя смерть. Вы, однако ж, не горюйте за мною: я уже
старуха и довольно пожила, да и вы уже стары, мы скоро
увидимся на том свете» [2, 31].
Поэтому Афанасий Иванович любит, смеясь, попугать
Пульхерию Ивановну расспросами о возможных несчастьях среди их
мирной, счастливой жизни1: и несчастье, и смерть вполне могут
нежданно-негаданно нагрянуть к ним, но могут и не нагрянуть,
жизнь и счастье могут продолжаться вечно - и после смерти
тоже. Смех - квинтэссенция этой философии, сама сущность
вечной жизни, в которой и для которой все в конечном счете
становится смешным.
Неслучайно мы находим схожие мотивы в древней
философии Демокрита, мифологичной, несомненно, и по
средствам выразительности своим, и по существу. Демокрит -
смеющийся философ: описанный им мир определяется вечным
движением бесчисленных атомов, у движения этого нет конечной
цели и смысла. В таком мире бесполезно вопрошать: Зачем?
За что? Для чего это нужно?.. Это мир, который может
распасться на отдельные частички, но может и вновь собраться из них
в самые прекрасные формы. Человек, с одной стороны, более чем
смертен: в любой момент его тело может рассыпаться на атомы
и собраться во что-то совсем иное. Но если движение атомов
вечно, то ведь рано или поздно они снова должны собраться
в его тело, а потом - еще и еще раз: значит, с другой стороны, он
бессмертен? Смех Демокрита объемлет такой мир, составляет
саму его природу2. Также дело обстоит и с миром
«Старосветских помещиков», «Ревизора», «Мертвых душ».
1 «- Это все выдумки. Так вот вдруг придет в голову, и начнет
рассказывать, - подхватывала Пульхерия Ивановна с досадою. - Я и знаю, что он
шутит, а все-таки неприятно слушать. Вот эдакое он всегда говорит, иной
раз слушаешь, слушаешь, да и страшно станет. Но Афанасий Иванович,
довольный тем, что несколько напугал Пульхерию Ивановну, смеялся,
сидя согнувшись на своем стуле» [2,26].
2 См. у Лосева об атомизме: «Человек, верящий в такого рода картину
мира, в своих утешениях всегда остается скорбным, но зато и во всякой
60
Анализируя знаменитый сардонический смех,
сопровождавший на Сардинии ритуальные убийства стариков, Пропп говорит:
«Мы видели, что смех сопровождает переход из смерти в жизнь.
Мы видели, что смех создает жизнь, он сопутствует рождению
и создает его. А если это так, то смех при убивании превращает
смерть в новое рождение, уничтожает убийство. Тем самым
этот смех есть акт благочестия, превращающий смерть в новое
рождение»1. Розанову смех Гоголя казался именно
сардоническим смехом, граничащим со зверским безумием. Но и тот,
и другой смех, понятые, исходя из их мифологического истока
и значения, оказываются, как мы можем заключить, не
уничтожением и уничижением человека, а напротив - возрождением
и защитой человечности в абсурдном мире. Каждое свое
«убийство» Гоголь совершает со смехом, который отменяет убийство -
действительно отменяет, если мы научаемся видеть его
мифическую действительность.
Правда, Пропп трактует ритуально-мифологический смех,
в конечном счете, в духе функционализма как средство решения
жизненно-практических задач, как нечто функциональное и
утилитарное. Он пишет, например, о смехе, обращенном к убитому
на охоте животному: «В свете уже изложенного материала мы
вправе предположить, что смеялись ради возрождения
убитого зверя к новой жизни и вторичной его поимки, т. е.
смеялись "к рождению" зверя, точно так же как якуты смеялись
своей скорби всегда утешен, всегда весел, всегда бодр и лишен
болезненных настроений. Такой человек если и умирал, то умирал с улыбкой на
устах, и его смерть была для него его утешением, впрочем, таким же, как
и жизнь. Впоследствии из этого мировоззрения родится замечательная
поэма Лукреция. Но подобного рода мировоззрение достаточно ярко
выражено уже и у атомистов периода греческой классики. Недаром Демокрита
называли "смеющимся философом", а Цицерон приписывает ему
постоянный смех наряду с величием его души» (Лосев А. Ф. История античной
эстетики. Ранняя классика - М.: ACT 2000. С. 489).
1 Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха. Ритуальный смех в фольклоре
(по поводу сказки о Несмеяне). - М.: Лабиринт. 1999. С. 237.
61
"к рождению" ребенка»1. На это необходимо возразить, что
мифический смех вовсе не нуждается в подобной функциональности,
ведь и наше, «современное», общество знает множество обрядов,
связанных со смехом, в которые мы, однако, не вкладываем
буквального утилитарного смысла2. Убийство зверя сопровождается
смехом не ради того, чтобы потом, на другой охоте, добыть этого
зверя еще раз. Смех есть само существо и условие возможности
такого восприятия смерти, для которого она также является
новым рождением. Комичность смерти и возвращение к жизни
здесь нельзя разделить по аналогии с различением средства
и цели или инструмента и его функции.
Мифический, магический смех тавтегоричен: это не смех
над чем-то самим по себе комичным и лишь вызывающим смех,
не смех как некий инструмент, наивно предполагаемый
пригодным для извлечения практической полезности. Это
преобразующий мир смех, вернее - смех, лежащий в основании мира
и составляющий единственный нерушимый оплот человечности
1Там же. С. 239.
2 Сошлюсь в этой связи на Л. Витгенштейна и его критику попыток
Дж. Фрэзера усмотреть в архаичной магии и мифах примитивную форму
научного познания. «Фрэзер, - пишет Витгенштейн, - дикарь в большей
степени, чем любой из его дикарей, потому что они отошли от
понимания обстоятельств, имеющих отношение к духовным данностям, не так
далеко, как англичанин XX в.» (Витгенштейн Л. Заметки о «Золотой
ветви» Дж. Фрезера // Историко-философский ежегодник. - М. 1989.
С. 256). Как типичный теоретик, Фрэзер не желает и не может
заметить туземные, ритуальные практики в наших собственных действиях,
столь же мало связанных с какими-либо познавательными намерениями
и рационально продуманными целями, сколь и аналогичные практики
архаичных народов. «Сжечь чучело. Поцеловать портрет возлюбленной.
В основе этого, разумеется, не лежит вера в то, что это будет иметь
какое-то определенное воздействие на изображаемый предмет. Такие
действия нацелены на получение удовлетворения и достигают этого. Или
скорее они вообще ни на что не нацелены: мы просто поступаем таким
образом, а потом чувствуем удовлетворение» (Там же. С. 255), -
подчеркивает Витгенштейн.
62
в нем, даже саму человечность. Этим смехом смеется мифотво-
рец Гоголь, на этом смехе стоит его мифический мир.
Крайне любопытно, что говорит о смерти и смехе
Джонатан Свифт в пьесе Г. Горина «Дом, который построил Свифт»:
«Сегодня в полночь, когда зазвонит колокол на соборе, я отплыву
в страну, где до меня побывал разве что один Данте, - диктует
он доктору Симпсону, - Данте дал гениальное описание этой
страны, но, увы, чересчур мрачное! Уверен, что и там есть много
забавного и нелепого, просто это не каждому дано увидеть.
Смерть боится казаться смешной! Это ее уязвимое место... Того,
кто над ней смеется, она обходит стороной...»1. Свифта с Гоголем
сравнивали не раз: Лотман, например, пишет, что Гоголю присущ
тот же взгляд на мир, выглядящий давно знакомым, но на деле
оказывающимся чужим, неведомым, населенным самыми
диковинными созданиями. Однако Свифту для того, чтобы увидеть
такой мир, приходится отправиться в дальнее плаванье, а Гоголь
открывает его, не покидая не только России, но даже Невского
проспекта2.
Свифт в произведении Горина - это, конечно, русский Свифт.
Намекал ли сам Горин на Гоголя или нет, но слова о
путешествии в страну мертвых, что он вложил в уста декана собора
св. Патрика, несомненно, куда лучше передают дух и замысел
«Мертвых душ», чем замысел «Приключений Гулливера». Как
известно, Гоголь действительно опирался на «Божественную
комедию» Данте, намереваясь изобразить русские ад,
чистилище и рай, правда, полностью получился у него только ад
(хотя гоголевским раем при желании можно счесть
«Выбранные места»). «Мертвые души» - это и есть путешествие
в страну мертвых, в которой обнаруживается «много
забавного и нелепого», много смешного. Русский Свифт Гоголь говорит
всей своей поэмой: «Смерть боится казаться смешной! Это ее
1 Горин Г. Дом, который построил Свифт - М.: Стоок. 1997. С. 61.
2 См. Лотман Ю.М. О «реализме» Гоголя // Труды по русской и
славянской филологии. - Тарту: Тартуский университет, 1996. С. 13.
63
уязвимое место... Того, кто над ней смеется, она обходит
стороной...». Как мы видели, человек смеющийся становится равен
смерти, он пребывает в мифическом бессмертии. В точности
как Свифт у Горина, Гоголь и сам умирал всю жизнь, объявлял
о своей кончине во всеуслышание и каждый раз продолжал
жить, как бы в насмешку над смертью.
Если гоголевский мир мертвых опознается в его творчестве
как таковой, то только потому, что отличается от мира живых,
а значит у Гоголя есть основание для их различения. Розанов
называет Гоголя «гением формы», увидавшим одни только
мертвые души в русской жизни, но формы еще нужно
увидать, почувствовать, запечатлеть, а мертвые неспособны на это,
смерть - скорее отрицание всякой формы, чистая
бесформенность, пустота. Смерть и царство смерти нельзя было бы
увидать, если бы миф не позволял нам их себе представить, т. е. -
поставить перед собой, тем самым отграничив их от себя. Мы
видели, что границей мертвого мира является смех, именно он
у Гоголя придает границы и формы всем образам и событиям
в этом мире, который сам по себе мог бы быть только
безобразным и бессобытийным, чистым отсутствием всего, что можно
увидеть и изобразить. Страшное отсутствие, правда, постоянно
мерещится в «Мертвых душах»: «Ничего не было в нем ровно:
ни злодейского, ни доброго, и что-то страшное являлось в сем
отсутствии всего» [6, 229], но из чистого отсутствия не
возникло бы ничего отличного от отсутствия, никакой поэмы
не возникло бы.
Мир мертвых, таким образом, может увидать и выразить только
живой человек, удостоверяющий жизнь своим смехом, кредо
Гоголя могло бы звучать так: «смеюсь, следовательно,
существую» - ведь перестав смеяться, человек утратил бы
существенное свое отличие от мертвых, и сами мертвые немедленно
утратили бы для него любые представимые формы. Больше того -
человек смеющийся пребывает в вечности и полагает вечные
границы между жизнью и смертью, ведь вечное и безмерное само
по себе не бывает смешным: не смешны сами по себе теоремы
64
Евклида или кантовское звездное небо. Смешно только то, что
соразмерно человеку и подобно ему, только временное и
преходящее может быть смешным, но если смех и в мифе, и у Гоголя
есть полагание границ между жизнью и смертью, то
парадоксальным образом подчиняющаяся смеху и ограничиваемая им
смерть оказывается преходящей, а отличный от нее смеющийся
человек - вечным. Подробнее мы раскроем этот аспект
гоголевского смеха в главе 4.
Ясно, что, подобно демоническому отрицанию, под
воздействием которого мир Гоголя повисает в беспочвенности,
как бы не существует, созидательный магический смех,
благодаря которому этот мир все же существует как мир выпуклых,
в высшей степени выразительных форм, не может быть явлен
в мифотворчестве предметно, не может овеществиться. Если он
всегда уже предполагается в мифе как сила, создающая любую
форму и любую жизнь, то сам по себе мифический смех никогда
не заключается, не выражается без остатка в какой-либо форме.
Уже сейчас можно сказать, что соприсутствие в мифе и
мифотворчестве Гоголя двух этих предметно невыразимых сил
является не механическим, а органическим: они не просто соседствуют
и состыкуются между собой, но требуют друг друга. Чистое
отрицание и небытие не выразилось бы ни в чем отличном от
небытия, не знало бы никакой формы, если бы смех не
противополагал ему живое человеческое существо и не придавал ему тем
самым формы и границы. С другой стороны, смех был бы
невозможен, если бы в нем не заключалось с самого начала
сознание неполноты, непрочности, невечности того, что он освещает
и возвеличивает: это особенно ясно в случае с человеком,
смеющимся над самим собой - а значит, сила смеха необходимо
связана с силой беспочвенности и опустошения. Так Вакуле нужен
был черт, а черту - Вакула.
Поэтому мотивы демонизма не только не исчерпывают
гоголевское творчество, но вообще присутствуют в нем лишь в
необходимой связи с чуждым демонической гордыне созидательным
смехом. Демоническая пустота, небытие и светлый гоголевский
65
смех оказываются двумя противостоящими друг другу, но также
и взаимосвязанными нечеловеческими силами, присутствие
которых в человеке дает мифу, по слову Булгакова, его
жизненную убедительность, его тавтегорическую реальность1.
Далее мы увидим, что если две эти силы взаимосвязаны,
и связь их не механическая, а органическая, то и сама она может
быть только еще одной, особенной силой, также лишь косвенным
путем заявляющая о себе в мифотворчестве Гоголя. Очевидно, что
мы приходим здесь к некоему варианту шеллинговской теории
потенций, лежащих в основании его философии мифологии.
Этой апофатической философии мы, несомненно, следуем если
не в предметно-содержательном плане, то в основных методах
и приемах, т. е. в плане ее общей духовной настроенности.
^м. выше, стр. 19-20.
66
Глава 2. Скульптурность
гоголевского мифотворчества
Мы лучше поймем мифотворчество Гоголя и ту резкую
критику, что направили против него такие мыслители, как Розанов
и Бердяев, убедившись, что критика эта по существу была
самокритикой. Описанный ими Гоголь в действительности был
выражением оборотной стороны их собственной философии,
персонифицированным средоточием тех ее выводов, которые сами
они не желали или не могли принять.
Когда Розанов борется с Гоголем, видно, что он борется с самим
собой: особенно это заметно в его послереволюционных работах,
в которых Розанов то признает «правоту» Гоголя, ужасаясь
российской действительности: «Разошлись по мелочам. Прав этот
бес Гоголь»1, - то вновь отвергает эту бесовскую правоту, зная, что
примириться с ней нельзя. Чем черт был для Ивана Карамазова,
тем Гоголь был для Розанова - им самим невольно созданным
собеседником, олицетворявшим темную сторону его души.
Еще более очевидно это в случае с Бердяевым. Гоголю он
приписывает невероятное по силе чувство зла и греха, ужас
перед реальностью темных сил: «Гоголь - единственный
русский писатель, в котором было чувство магизма, - он
художественно передает действие темных, злых магических сил <...>
"Страшная месть" насыщена таким магизмом <...> У Гоголя было
совершенно исключительное по силе чувство зла»2. Но не Гоголь,
1 Розанов В. В. Собрание сочинений. Апокалипсис нашего времени - М.:
Республика. 2000. С. 6.
2Бердяев H.A. Духи русской революции // Из глубины: Сборник статей
о русской революции - М.: Из-во Моск. Ун-та. 1990. С. 57.
67
для которого зло реально в своей ирреальности и все же скорее
призрачно, «как будто не существует», а сам Бердяев выразил
и провозгласил метафизическую реальность и
фундаментальное значение зла и страдания.
Зло для Бердяева - свидетельство и едва ли не гарантия
свободы, сохранение которой означает также и возможность зла: зло
и страдания обладают высшим, сокровенным смыслом защиты
человеческого достоинства, их тайна - это недоступная
человеческому, «евклидовому», уму тайна свободы. В этом теодицея
и одновременно антроподицея Бердяева: «поистине, можно
принять Бога и принять мир, сохранить веру в Смысл мира, если
в основе бытия лежит тайна иррациональной свободы. Тогда
только может быть постигнут источник зла в мире и оправдан
Бог в существовании этого зла. В мире так много зла и страдания,
потому что в основе мира лежит свобода»1. Свобода выше бытия,
выше самого Бога, Бог есть потому, что есть свобода.
В заведомо добром мире Бог был бы ни к чему, такой мир
сам был бы Богом, только существование зла, означающее
свободу человека, делает Бога необходимым: «Бог именно потому
и есть, что есть зло и страдание в мире, существование зла
есть доказательство бытия Божьего»2. Но такая теодицея до
боли напоминает софистику булгаковского Сатаны: «Что бы
делало твое добро, если бы не существовало зла, и как бы
выглядела земля, если бы с нее исчезли тени?» Творчество Гоголя
разрывает подобные связи между свободой и злом, злом и
человеческим достоинством. Зло, творимое колдуном и его
«нечестивыми дедами» в «Страшной мести», вовсе не
свидетельствует об их свободе, наоборот, ими владеет неведомая им злая
воля, преследовавшая колдуна с самого рождения: «Говорят,
что он родился таким страшным... и никто из детей сызмала
не хотел играть с ним» [1, 246]. Мы видели, что гоголевскими
героями и их судьбой играют жалкие случайности - зло и обман,
1 Бердяев Н.А Миросозерцание Достоевского - Прага. 1923. С. 84-85.
2 Там же. С. 86.
68
от которых они страдают и соучастниками которых сами
становятся, невозможно считать личной виной и ответственностью
кого-либо из них. Некого объявить виновным и потому
свободным ни в «Записках сумасшедшего», ни в «Шинели», ни в
«Невском проспекте». Не говоря уже о «Ревизоре» и «Мертвых душах».
Для Гоголя зло реально без всякой свободы, тем более -
достоинства человека, оно вовсе не нуждается в существовании Бога
и не выражает сокровенного, искупительного смысла истории:
величайший ужас обмана, страданий и зла - в их
бессмысленности и безосновности. Бердяев считает, что человеческие
страдания не имеют смысла только для такого последовательного
рационалиста, как Иван Карамазов, знающего лишь
объективированную действительность истории, действительность фактов
и необходимостей, обладающих внешней принудительной силой
по отношению к человеку. Однако зло и добро не существуют вне
личности и независимо от нее, человек сознает себя свободным,
когда перестает противополагать себе «объективную»
реальность истории и понимает свое творческое, активное участие
в ней, принимая всю безмерную ответственность за это участие.
В центре учения Бердяева - личность, которая не противостоит
истории и культуре как набору внешних ограничений и пассивно
воспринятых образцов, а участвует в сотворении культурных
ценностей и идеалов и добровольно подчиняет себя им.
Естественно, эта творческая свобода личности отличается от простого
произвола в создании и смене культурных фикций только тогда,
когда связана с высшим, несотворенным идеалом, устремлена
к сверхличным ценностям: «Поистине личность и сверхличная
ценность неразрывно связаны. Личность потому только и
существует, что в ней есть сверхличное, ценное содержание, что она
принадлежит к иерархическому миру, в котором существуют
качественные различения и расстояния. Природа личности не выносит
смешения и бескачественного уравнения»1. Полная страданий,
1 Бердяев H.A. Духи русской революции // Из глубины: Сборник статей
о русской революции - М.: Из-во Моск. Ун-та. 1990. С. 80.
69
человеческая история непонятна, исходя из нее самой, она
обретает смысл только в эсхатологической перспективе.
Лишь конец истории и выход в «сверхисторическое время»,
лишь преодоление мира объективации, «царства кесаря», ради
царства свободного духа делает понятным и оправданным зло
как порождение свободы.
Но если разящая реальность зла принадлежит эмпирическому
«миру сему», то оправдать и побороть его туманными ссылками
на трансцендентный конец истории, на царство «не от мира
сего» - значит, гнаться за тенью. Зло связано с конечными
жизнями конкретных людей, и силиться разглядеть его сверхсмысл
с точки зрения вечности нелепо. Скорее существование и
бессмысленность зла в имманентном мире надо признать со столь же
имманентной точки зрения, оправдать и осмыслить их - если это
вообще возможно - можно только средствами этого мира, в нем
самом надлежит отыскать нечто такое, что могло бы
перевесить господствующие здесь зло и обман. Таков путь
мифотворчества Гоголя.
Бердяев видел в этом отрицание божественной природы
человека, уничтожение его личности: «Трагедия Гоголя была
в том, что он никогда не мог увидеть и изобразить человеческий
образ, образ Божий в человеке»1. Но нет, не Гоголь, неизменно
теплый и ироничный в отношении своих «странных героев»,
а сам Бердяев, стремясь спроецировать реальную историю
на трансцендентные идеалы «рыцаря свободы» и «аристократа
духа», не умел разглядеть в большинстве людей ничего, кроме
восставшей «массы», «унизительно счастливого стада», «сытых
и довольных рабов». Не любовь и забота о людях продиктовали
его философию, а страх и гордыня: точка зрения абсолютно
свободной, творческой личности не от мира сего, противостоящей
законам и необходимостям этого мира и притязающей на
внутреннюю связь с вечным - вот поистине демонический взгляд
на мир, превращающий его в социальный муравейник, а его
1 Бердяев И.А Русская идея - СПб.: Азбука-классика. 2008. С. 115.
70
обитателей - в гадких и опасных насекомых. «Инфернальный
художник» Гоголь - это зеркало, в котором Бердяев видит и
изобличает самого себя.
Демон и есть подлинный «аристократ духа». «Дух изгнанья»,
«гордый дух», как называет его Лермонтов, он чисто духовное
существо, не знающее плоти и презирающее ее. «Я царь позна-
нья и свободы», - самозванно провозглашает Демон. Не это ли
всем своим творчеством стремился провозгласить Бердяев?
На словах Бердяев много, неубедительно много страдал
от того, что его любовь к свободе была куда сильнее любви
к людям. Но жестокость к людям состояла для него не в том,
что он, как об этом много писали, стремился обременить их
непосильной ответственностью за непонятную им самим
свободу, а в том, что он мог лишь жалеть людей, но не сострадать
им. Бердяев, кажется, совершенно не признавал (в двойном
смысле слова) разницы между жалостью и состраданием - в его
«Самопознании», например, слова эти повсеместно
употребляются как синонимы: «Я часто прятался от жалости, избегал
того, что могло вызвать острое сострадание. Я презирал в себе
это свойство»; «Это есть моральная антиномия,
непреодолимая в нашем мировом зоне: нужно сострадать человеческим
страданиям, жалеть все живущее и нужно принимать
страдание, которое вызывается борьбой за достоинство, за качества,
за свободу человека»; «Это конфликт, который я переживал всю
жизнь, конфликт между жалостью и свободой, между
состраданием и принятием страдания, которое вызывается
утверждением высших ценностей, между нисхождением и
восхождением»; «Я очень пережил в своей жизни конфликт свободы
и жалости. Мне очень свойственна жалость, сострадательность»
и т. д. Бердяев не сострадал, не умел разделить страдание
другого, признав в нем иное человеческое существо, он готов был
лишь пожалеть его, не сходясь слишком близко, как жалеют
больную бездомную собаку.
Но даже жалость стремился истребить Бердяев. Пожалеть раба -
значит, начать оправдывать его положение, симпатизировать ему,
71
снимать с него ответственность, считал философ, раба нужно
безжалостно поднять с колен, вбить в его голову идею свободной
личности. Разглядеть же собственную ценность в жизни и в
усилиях того, кто менее силен, менее ответственен, менее
амбициозен в своих духовных устремлениях, Бердяев не хотел. Он
не чувствовал того, что человеку нужен человек, что сам по себе
человек много ценнее и дороже всех умозрительных идеалов.
Он не увидел, что подлинно человеческие идеалы могут быть
скрыты не где-то в бесконечности, а совсем рядом с нами, что
величие и сила рыцаря свободы могут оказаться куда
беспомощнее доброй простоты гоголевских персонажей.
Тот, кто признает личность лишь в связи со сверхличной
ценностью и принадлежностью к «иерархическому миру», не сможет
полюбить старосветских помещиков, не заметит в Хлестакове
чистосердечие и простоту, не сможет сострадать Акакию
Акакиевичу или несчастному Поприщину. «"Оставьте меня, зачем вы
меня обижаете?" - и в этих проникающих словах звенели другие
слова: "Я брат твой"» («Шинель»), «Матушка, спаси твоего
бедного сына! урони слезинку на его больную головушку! посмотри,
как мучат они его! прижми ко груди своей бедного сиротку! ему
нет места на свете! его гонят! Матушка! пожалей о своем больном
дитятке!..» («Записки сумасшедшего») - страшно звучат эти слова
для такой философии, как бердяевская: чего стоят в сравнении
с ними абстрактный конец истории и гордая свобода избранных
личностей?.. Разве все написанное Бердяевым, вся его
стремительная патетика может перевесить спотыкающееся, неловкое
бормотание одного только Акакия Акакиевича?
Философия Бердяева требует презреть, возненавидеть и
отвергнуть фальшь, унижение, рабство в человеческой жизни,
вознегодовать на них, но для человека, вся жизнь которого
пропитана насилием, несправедливостью и обманом, который ничего
иного не знал в жизни - словом, для человека, выведенного
у Гоголя, все это могло бы означать лишь ненависть и
презрение к самому себе. А возненавидеть себя не значит обрести
свободу и достоинство.
72
Мы видели, какова судьба всех сверхличных ценностей в мире
Гоголя. Определить их содержательно и предметно, так чтобы они
могли служить ориентиром в сем, эмпирическом мире - значит,
сделать их частью этого мира, такой же эфемерной и обманчивой,
как и он сам. Поместить их в область чистой трансцендентности,
видеть в них выражение бесконечных задач в духе кантовских
трасцендентальных идей - значит, лишить реального,
конечного человека возможности сообразовывать с ними свою жизнь,
сделать из них чисто абстрактный воображаемый источник
презрения к реальному миру и живым людям. Сокровенный смысл
истории, иррациональная тайна свободы - все это может быть
оправданием бичевания человека, но не путеводной нитью его
совершенствования.
Бердяев много говорит об иерархиях, относительных
ступенях, качественной дифференциации и т. п. - но все эти ступени
имеют значение только если ясна конечная их цель, если
существует понятный смысл всей их иерархии. Но знать подобный
смысл с самого начала - значило бы уже обладать им, тогда
не нужны были бы ступени.
В гоголевском мифотворчестве нет места таким
устремлениям к далеким и неясным идеалам, его «Выбранные места»
Бердяев счел утопией, то есть просто изображением
очередного идеала: «Утопия Гоголя низменная и рабья. Нет духа
свободы, нет горячего призыва вверх. Все проникнуто
невыносимым мещанским морализмом»1. Но это был миф, а не
утопия, в нем действительно отвергается бесконечное стремление
вверх как непонятное и пустое. В частности, у Бердяева
свобода есть и цель истории, и условие возможности достижения
этой цели: преодолеть мир необходимостей и объективации
и тем достигнуть свободы человек может только сам
творческим, а значит - свободным усилием. То есть свобода есть
свобода. Так и говорит Бердяев: «Свобода не может быть
отождествлена с добром, с истиной, с совершенством. Свобода имеет
1 Бердяев Н.А Русская идея - СПб.: Азбука-классика. 2008. С. 117.
73
свою самобытную природу, свобода есть свобода, а не добро»1.
Но в таком случае «свобода» - просто эмоциональное слово,
смысл которого остается неясен.
Неслучайно всякий раз, пытаясь указать сколько-нибудь
конкретный путь к достижению своих идеалов, пытаясь исходить
не из того, что мнит должным гордая рыцарская совесть, а из того,
что есть, Бердяев становился банален и бессилен2.
Бердяевская философия воплощает нищету
аристократизма. Определить свои ценности позитивно, содержательно
она не может, все ценности ее основаны на гордом отрицании:
свобода и творчество отрицают необходимости и объективации,
аристократ духа - довольного раба. Это философия гордого
одиночества, она не знает смеха, потому что не ценит человеческое
существо и действительную его жизнь, она всегда серьезна и
жестока. Она не может просто по-человечески говорить, ей нужно
задыхаясь выкрикивать, она не любит, а осуждает и требует -
осуждает спокойного, заботящегося о ближнем человека и
требует одного лишь Богочеловечества.
Мы подробно остановились на противостоянии Гоголя и
Бердяева, потому что оно многое проясняет в самом гоголевском
мифе. Можно довольно уверенно сказать, что в этом мифе
ниспровергается все, что утверждается у Бердяева, а возвеличивается то,
1 Бердяев Н.А Миросозерцание Достоевского - Прага. 1923. С. 67.
2 Вспомнить хотя бы его надежды на то, что проложить и безопасно пройти
путь к новой морали, ставящей личность во главу угла, позволят право и
полиция, консолидирующие общество и защищающие его от
«трансцендентных экспериментов» Раскольниковых: «Самым роковым вопросом
остается как сделать трансцендентное имманентным, как нести в мир
новую правду. Как укрепить и устроить человеческое общество на таких
дезорганизующих и проблематических моральных основаниях? Думаю,
что регулировать человеческие отношения может право, за которым
скрывается ведь трансцендентное чувство чести. Можно отрицать этические
нормы, но признавать нормы юридические, которые призваны охранять
человеческую индивидуальность» (Бердяев H.A. Трагедия и обыденность
/Бердяев H.A. Философия творчества, культуры и искусства в двух томах.
Т. 2. М.: «Искусство», 1994. С. 245).
74
что в глазах Бердяева выглядит жалким и пустым. Много
говорилось, в частности, о том, что Гоголь не знал и не изображал
человеческого лица, что в произведениях его нет личности. На это
надо заметить, что личности в бердяевском смысле у Гоголя
действительно нет, но в мифотворчестве ее отсутствие означает
не уничижение, а, напротив, обогащение человека, защиту его
достоинства.
Человек у Гоголя не противостоит миру как свободная личность
или себе тождественная самость, он скорее органично вписан
в этот мир, что также является важной чертой мифа. В
мифологическом сознании, как подчеркивает Кассирер, человек
чувствует себя по преимуществу частью природного, в особенности -
вещного и животного мира, не изымая из него еще один,
«внутренний», мир своего Я1. Поэтому гоголевский абсурдный мир
непохож на мир Кьеркегора, Камю или Шестова - на
безжалостный и равнодушный по отношению к человеку мир
абстрактных необходимостей и фактов, в который человек заброшен
против своей воли, в котором он задает терзающие его вопросы:
«Зачем?..» или «Какой смысл?..» - а небеса молчат.
Абсурд Гоголя не таков: в его мире лишь редкий герой
чувствует себя «посторонним», в основном же этот мир тепло приемлет
населяющих его людей. Конечно, невозможно забыть о мольбах
Поприщина: «Спасите меня! возьмите меня! дайте мне тройку
быстрых, как вихорь, коней! Садись, мой ямщик, звени, мой
колокольчик, взвейтеся, кони, и несите меня с этого света!», о
возгласах «Душно мне!» и «скучно на этом свете, господа» - но Гоголь
не констатирует безнадежную абсурдность мира в качестве
неумолимого факта, он готов бороться с нею, зачаровать и превратить
ее в бессмысленность невинную и родную.
1 Очевидные примеры - тотемистические и фетишистские верования, а
также мифы, приписывающие богам не только человеческие, но и
животные черты, как в древнеегипетской мифологии (см. Кассирер Э.
Философия символических форм. Т. II: Мифологическое мышление - М.:
Академический Проект. 2011. С. 200-203).
75
Прежде всего, заметим, что «внешний» мир повсеместно
очеловечивается у Гоголя. С одной стороны, людям у него
неизменно приписываются черты животных и вещей, с другой -
вещи оживают и приобретают личностные, человеческие черты.
Цирюльник похож у него на «сухарь поджаристый», «бревно
глупое», директор - на пробку, «которою закупоривают бутылки»,
начальник отделения - на пузырек аптекаря, Собакевич -
«на средней величины медведя» (он и косолапит, и носит фрак
«медвежьего цвета» и пр.) и т. д. В то же время у Гоголя, как
уже упоминалось, поют на разные голоса двери, стул заявляет:
«И я тоже Собакевич», среди дудок шарманки Ноздрева одна
оказывается особенно бойкой и желает свистеть дольше других,
стенным часам Коробочки приходит «охота бить» и т. д. ad infinitum.
Пропп находит в этом скорее сатиру, насмешку над пустыми
и порочными людьми, теряющими человеческий облик и
превращающимися в вещи1. Но достаточно признать, что светлый
смех Гоголя ничего общего не имеет с насмешкой и высмеиванием,
чтобы понять, что происходит здесь как раз обратное: не человек
распадается на вещи и опускается до животного, а вещный
и животный мир обретает черты человеческой жизни и
характера, становится понятным человечным миром. Если в мире
гоголевского смеха Оксана может носить «черевики, которые носит
царица», то это украшает и облагораживает Оксану, а не
унижает государыню.
А. Бергсон в своей книге о смехе особо отмечает, что «не
существует комического вне собственно человеческого. Пейзаж может
быть красивым, привлекательным, величественным,
невыразительным или безобразным; но он никогда не будет смешным.
Если мы смеемся над животным, то потому, что нас поразила
в нем свойственная человеку поза или человеческое выражение»2.
Но это также значит, что быть смешным не только не то же,
1 Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха. Ритуальный смех в фольклоре
(по поводу сказки о Несмеяне). - М.: Лабиринт. 1999. С. 55-56.
2 Бергсон А. Смех - М.: Искусство. 1992. С. 11.
76
что - униженным и осмеянным, но как раз напротив: смеются
лишь над тем, в ком видят и признают человека. «Если
неподвижный человек изображается как вещь, то человек в движении
изображается как автомат»1, - замечает о Гоголе Пропп. Об этом
писали много. Андрей Белый подробно анализирует
механические, неестественно прерывистые и как бы отдельными порциями
совершаемые действия в «реалистических» произведениях Гоголя:
эти атомизированные движения выполняют скорее машины, чем
люди2. Синявский указывает на ту же особенность в движениях
панночки и нечисти3.
В этой связи крайне важно и любопытно, как Пропп отвечает
на соответствующий пассаж Бергсона: «Здесь опять можно
привести мнение Бергсона: "Позы, жесты и движения человеческого
тела смешны постольку, поскольку тело вызывает в нас
представление о простой машине". Это мнение ошибочно. Сердце
бьется и легкие дышат с точностью механизма, но это не смешно.
Нисколько не смешны, а скорее страшны совершенно
ритмические конвульсии эпилептика. Движущийся автомат может быть
не смешон, а страшен»4. Несомненно, не смешно, а жутко видеть
1 Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха. Ритуальный смех в фольклоре
(по поводу сказки о Несмеяне). - М.: Лабиринт. 1999. С. 57.
2 См. Белый А. Мастерство Гоголя. Исследование - М., Ленинград:
ОГИЗ. 1934. Особенно - С. 161-164.
3 «От панночки, шастающей по церкви, остается ощущение, что ею
управляет какой-то опытный кукловод за сценой. Она движется прерывистым,
дергающимся рисунком: "Она ударила зубами в зубы и открыла мертвые глаза
свои" и т. д. Перед нами, в полном значении обоих слов, оживающий мертвец,
сохраняющий за собою особенности противоположных, исключающих друг
друга состояний... Ближе всего подойдет ей сравнение с заводным
механизмом, принцип устройства которого неясен и полон внезапностей. Она может
лежать годами в летаргическом напряжении и вдруг вскочить из гроба и
впиться вам в горло. Но не таковы ли, в принципе, все персонажи Гоголя?
В них прослеживаются черты блуждающего по ночам мертвеца» (Терц А.
В тени Гоголя - London: Overseas Publications Interchange. 1975. С. 517-518).
4Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха. Ритуальный смех в фольклоре
(по поводу сказки о Несмеяне). - М.: Лабиринт. 1999. С. 57.
77
механическую имитацию жизни в отрывочных движениях
поднявшего из гроба трупа, тем более - узнавать ее в
движениях героев «Мертвых душ». Но смех Гоголя, как мы видели,
не реакция на действительность, а мифическая сила,
преобразующая и творящая эту действительность, сила, дающая жизнь.
Поэтому вместо того, чтобы испуганно и бессильно умолкнуть
при виде людей-автоматов, смех этот обращается к ним и
одухотворяет их, отграничивает и защищает живых людей в
«Ревизоре», «Женитьбе» и «Мертвых душах» от судьбы не знающих
смеха мертвецов «Страшной мести» и «Вия».
Итак, личность у Гоголя не противопоставлена миру как
довлеющая себе абстрактная трансцендентность, а органично
вписана в этот мир, даже растворена в нем, так что
человеческое Я не оформлено здесь как автономный смысловой центр
действий и мыслей, а лишь узнается во всех наполняющих мир
вещах и явлениях, оно запечатлено как бы в самом порядке
вещей. Так что мир приобретает чисто мифическое внутреннее
единство, становясь своего рода всеохватной вечной
личностью, а человек перерастает границы своей
индивидуальности и конечности, увековечивается в единстве и постоянстве
очеловеченного мира. Поэтому образы Гоголя обретают
эпический характер героев древних мифов и гомеровских поэм,
о чем вдохновенно писал К. Аксаков1. Тарас Бульба, Чичиков
или Хлестаков словно бы присутствуют повсюду в том мире,
куда их поместил мифотворец, встают вровень с целым миром
и остаются в нем вечно.
Как пишет Лосев, мифу присуще выхватывать привычные
вещи из обыденного контекста их существования и
использования и ставить на них печать сверхобыденного, придавать им
загадочную живость и тайный смысл, за счет чего они образуют
новое смысловое единство - но не в абстрактных схемах и
функциональных зависимостях, как в науке, а в непосредственной
1 См. Аксаков К. С. Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова,
или Мертвые души» // Н. В. Гоголь: pro et contra - Μ.: РХГА, 2009. С. 85-87.
78
чувственной своей конкретике: «Миф тоже вырывает вещи из их
обычного течения, когда они то несоединимы, то непонятны, то
не изучены в смысле их возможного дальнейшего
существования, и погружает их, не лишая реальности и вещественности,
в новую сферу, где выявляется вдруг их интимная связь,
делается понятным место каждой из них и становится ясной их
дальнейшая судьба»1.
Ясно, что все это мы видим и у Гоголя - начиная с мелочей,
вроде оживающих дверей и часов, и заканчивая такими
предметами, которые становятся у него полноправными
литературными героями - Нос Ковалева или в особенности «светлый гость
в виде шинели»: «С этих пор как будто самое существование его
сделалось как-то полнее, как будто бы он женился, как будто
какой-то другой человек присутствовал с ним, как будто он был
не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним
проходить вместе жизненную дорогу, - и подруга эта была не кто
другая, как та же шинель на толстой вате, на крепкой подкладке
без износу» [3,154].
В том, как человеческий мир выражается посредством образов
и аналогий мира природного, а мир природы
очеловечивается, раскрывается та скульптурность гоголевского творчества,
о которой писал Розанов (не замечая, однако, ее
мифологических истоков): бытие и мира, и человека исчерпывается здесь
их внешними чертами и телесными формами, их физическими
претерпеваниями и физическими деяниями - их бытие
скульптурно. Все сводится к одному, имманентному, уровню
реальности, позади которой уже нельзя обнаружить трансцендентный
«внутренний», или духовный, мир.
Действительно, если миф не знает трансцендентного и не
связывает личность, духовную конституцию человека со
сверхличными ценностями, то душа и внутренний мир мышления,
чувствования и воления как особые автономные субстанции
немедленно теряют всякую прочность и гарантии своей реальности.
1 Лосев А. Ф. Диалектика мифа. - М.: Мысль. 2001. С. 93.
79
За внешней деятельностью тела здесь невозможно усмотреть
как бы вызывающую ее к жизни и руководящую ею внутреннюю
деятельность души: переживания, мысли и устремления не
причина внешних действий, а сами действия, они растворяются
в этих последних и не имеют иной реальности, кроме телесной.
Ранее мы видели, что сконцентрировать специальное внимание
на душевных движениях, особых мыслях и побуждениях человека
и миф, и мифотворчество Гоголя согласны лишь посредством их
олицетворения, превращения в особых мыслящих и волящих
существ, также чисто телесных.
Любопытно, что Давид Юм, исходя из во многом схожих
мотивов, отверг трансцендентность и субстанциальность Я, заменив
их чисто имманентным потоком перцепций. Но для Юма такое
сведение к одному плану бытия и к одному способу
рассмотрения всего «внешнего» и «внутреннего», душевного и
физического означало, что установить связи между феноменами
душевного и телесного опыта человека так же невозможно, как между
любыми двумя феноменами, данными в опыте лишь как
соседствующие и сменяющие друг друга, но не как взаимосвязанные
и требующие друг друга. Мифическое и магическое
представление связано скорее с противоположным выводом: если воля
и мысль человека непосредственно присутствуют в его телесном
поведении и не существуют как нечто обособленное от него, то
такое же их присутствие, имманентную связь с ними можно
уверенно полагать для любого явления внешней жизни, для всей
телесной действительности1.
^м. об этом у Кассирера: «Тот факт, что моя воля движет моей рукой
- объясняет Юм - ничуть не более постижим и "понятен", чем если бы
она смогла остановить движение Луны по ее орбите. Однако магическое
миросозерцание переворачивает это отношение: раз моя воля движет
моей рукой, то столь же надежная и столь же понятная связь
существует и между ней и всеми прочими событиями "внешней" природы. Для
мифологического воззрения, которое как раз тем и характеризуется,
что для него не существует твердого разделения объектных областей,
не намечен анализ элементов действительности, это "умозаключение"
80
Волшебная «воля», заставляющая вареники прыгать прямо
в рот, прячущая в рукав звезды или ворующая месяц, «воля»,
увиденная колдуном в преследовавших его деревьях,
звездах и самой дороге, несшейся по его следам, ничуть не менее
реальна и понятна, чем «воля», управляющая банальным
движением руки. Наоборот, дела, казалось бы, самых обычных
людей вдруг встречают у Гоголя больше препятствий на своем
пути, оказываются менее правдоподобными и простыми, чем
любая магия: Афанасий Иванович не может сам попасть вилкой
в цыпленка, Акакий Акакиевич сам противится своему
повышению, Чичиков и Манилов не могут войти в дом, раскланиваясь
и пропуская друг друга вперед и т. д. Магией пронизана не
связанная ни с каким целеполаганием и расчетом ложь Хлестаков,
как типичное заклинание, непосредственно воздействующая
на чиновников: «Мне даже на пакетах пишут "ваше
превосходительство"», - достаточно сказать вдохновенному вруну, чтобы
заставить слушателей трепетать и заикаться: «Ва-ва-ва... шество,
превосходительство, не прикажете ли отдохнуть?..». Магически
непосредственно действует на Башмачкина натренированный
взгляд «значительного лица».
Во всех этих случаях убрать собственно телесное,
внешне-физическое осуществление колдовской или обыденной воли -
значило бы не оставить от нее и от происходящего вообще ничего.
Мифический мир Гоголя удерживается непосредственными
телесными связями, сам этот мир - одно огромное живое тело,
в котором устранены различные типы символического и
абстрактно-мыслительного опосредования. В нем нет места
трансляции кодируемых и декодируемых смыслов, сознательному пола-
ганию целей и подбору средств, в нем все связи конкретно
чувственны, наглядно предъявлены во внешней жизни. Его
причудливая внешняя телесность - это и есть единственный его смысл.
обладает поистине обязательной силой» (Кассирер Э. Философия
символических форм. Т. II: Мифологическое мышление - М.:
Академический Проект. 2011. С. 217).
81
Все это не означает вовсе, что чувства и помыслы людей,
заключаясь в мифе и у Гоголя в одни только телесные и физические
формы, становятся поверхностными и пустыми. Скорее здесь они
теряют ложную глубину трансцендентных абстракций и много
выигрывают в живости и силе, интуитивно ясно являясь в
прорисованных Гоголем самых тонких внешних чертах. Причем это
относится и к людям, и к очеловеченным вещам - Лосев
замечает, анализируя миф как «личностную форму»: «Миф, если
выключить из него всякое поэтическое содержание, есть не что
иное, как только общее, простейшее, до-рефлективное,
интуитивное взаимоотношение человека с вещами. Реально
ощутить эту до-рефлективную реакцию можно на примерах нашего
повседневного общения с чужой психикой. Вот человек плачет
или смеется. Как мы это воспринимаем? Взглянувши на лицо
человека, мы сразу, без всякого вывода, - можно сказать, почти
мгновенно - схватываем это страдание или этот смех. В нас еще
нет мысли о страдании, но мы уже точнейшим образом
констатировали страдание этого человека»1.
Так, «плач дитяти», сами собой текущие слезы
Афанасия Ивановича не некое бледное и далекое отражение едкой
боли его сердца, а непосредственное физическое явление этой
боли: «Несколько раз силился он выговорить имя покойницы,
но на половине слова спокойное и обыкновенное лицо его
судорожно исковеркивалось, и плач дитяти поражал меня в самое
сердце. Нет, это не те слезы, на которые обыкновенно так щедры
старички, представляющие вам жалкое свое положение и
несчастия; это были также не те слезы, которые они роняют за
стаканом пуншу; нет! это были слезы, которые текли не спрашиваясь,
сами собою, накопляясь от едкости боли уже охладевшего сердца»
[2,36]. С одной стороны, боль сердца и слезы как чисто
физическое, чувственное явление не одно и то же, с другой - что
останется от боли, если попытаться отделить ее от этих слез и всех
иных ее внешних проявлений в жизни несчастного старика?
1 Лосев А. Ф. Диалектика мифа. - М.: Мысль. 2001. С. 92-93.
82
За ними, без них - только пустота. Сила и искренность их в том
и состоят, что сердечная боль сама собой выражается в старике
телесно и физически, как бы ютится в детских его слезах.
И в этой сцене тоже проступают мифологические мотивы
Гоголя: миф делает чисто материальные явления живыми,
трепетными, дышащими, не превращая их при этом в знаки
абстрактной мысли, но довольствуясь интуитивным, чувственным
переживанием их жизни и помня, что по ту сторону этих
материально-чувственных форм не отыщется ничего. В таких же
чувственно наглядных, выпукло телесных формах выражается
у Гоголя на мгновение посетившее Плюшкина воспоминание
о молодости и дружбе1. Еще более выразительна скульптурность
пламенной любви Андрия и прекрасной панночки.
Розанов замечает, что Гоголь раз или два описывает, «как
пробуждается любовь в человеке, - и мы с изумлением видим,
что единственное, что зажигает ее, есть простая физическая
красота, красота женского тела для мужчины (Андрей Бульба
и полячка), которая действует мгновенно и за первым
мгновением о которой уже нечего рассказывать»2. Но если вчитаться
в гоголевские строки, можно увидеть, что физическая красота
тела здесь получает не обыденное, а сказочно-мифическое
освещение: скульптурность и телесная красота у Гоголя - не
привлекательность плоти, а созерцание прекрасной вечной формы
«произведения, которому автор придал последний удар кисти»,
близкое созерцанию телесных платоновских Идей:
1 «И на этом деревянном лице вдруг скользнул какой-то теплый луч,
выразилось не чувство, а какое-то бледное отражение чувства, явление,
подобное неожиданному появлению на поверхности вод утопающего,
произведшему радостный крик в толпе, обступившей берег. Но напрасно
обрадовавшиеся братья и сестры кидают с берега веревку и ждут, не
мелькнет ли вновь спина или утомленные бореньем руки, - появление было
последнее» [6,126].
2 Розанов В. В. Собрание сочинений. Легенда о Великом инквизиторе
Ф.М. Достоевского. Лит. Очерки. О писательстве и писателях - М.:
Республика. 1996. С. 19.
83
«Не такою воображал он ее видеть: это была не она, не та,
которую он знал прежде; ничего не было в ней похожего на ту;
но вдвое прекраснее и чудеснее была она теперь, чем прежде;
тогда было в ней что-то неконченное, недовершенное; теперь
это было произведение, которому художник дал последний удар
кисти <...> Полное чувство выражалось в ее поднятых глазах,
не отрывки, не намеки на чувство, но все чувство <...> казалось,
все до одной изменились черты ее. Напрасно силился он
отыскать в них хоть одну из тех, которые носились в его памяти, -
ни одной. Как ни велика была ее бледность, но она не
помрачала чудесной красы ее, напротив, как будто придала ей что-то
стремительное, неотразимо победоносное. И ощутил Андрий
в своей душе благоговейную боязнь и стал неподвижен перед
нею» [2,103].
Конечно, скульптурность чувства неизбежно несет в себе
холодность, отстраненность, как и сравнение с произведением
художника - чувство здесь как бы подменяется рассуждениями о
чувстве. Но Гоголь создает миф, и человеческую любовь он
запечатлевает в вечности. В скульптурности его образов действительно
останавливается мгновение, а любящие становятся подобны
бессмертным богам (чье главное отличие от людей в
мифологии состоит именно в бессмертии их тел): «И ощутил Андрий
в своей душе благоговейную боязнь и стал неподвижен перед
нею» - точно перед изваянием божества. Пылко влюбленный
любит так, как будто он бессмертен - гоголевское изображение
любви передает не столько ее реальность, сколько ее мифологию.
Скульптурность есть увековечение. Этот мотив крайне
важен для Гоголя. Его мифологическое созерцание времени
наиболее близко по духу египетским мифам и в меньшей
степени - даосской мистике в их стремлении сохранить в
неизменном виде настоящее так, чтобы это сплошное настоящее
переросло в вечность1. В древнеегипетских верованиях, например, эта
Юб этом см. Кассирер Э. Философия символических форм. Т. II:
Мифологическое мышление - М.: Академический Проект. 2011. С. 135-139.
84
великая задача решается посредством буквального физического
сохранения человеческого тела (отсюда - традиция
мумификации) и души, представленной в телесной форме статуи,
помещавшейся в месте захоронения рядом с мумией. Пластическое
искусство и архитектура Египта также повсеместно стремятся
к максимальной статичности и устойчивости, с несравненной
силой проявленным в египетской пирамиде.
Гоголевское мифотворчество чуждо устремлению в будущее:
мы видели, например, что прогресс для него - лишь
выспренняя выдумка. Произведения его вновь и вновь рисуют суетную
безостановочную активность, вихрь забот и развлечений, пустых
страхов и пустых надежд - непрестанно сменяют друг друга
мелкие житейские цели, но этим лишь скрывается
фундаментальная тщета всей этой суеты. У нее нет конца, а, значит, не может
быть цели и смысла. В «Невском проспекте», например, читаем:
«В это время чувствуется какая-то цель, или, лучше, что-то
похожее на цель, что-то чрезвычайно безотчетное; шаги всех
ускоряются и становятся вообще очень неровны» [3,15]. Неровное
нескончаемое движение, направляемое, как мы видели, самыми
жалкими случайностями, не только бессмысленно, но очень
опасно: ему ничего не стоит обмануть и, как бы невзначай,
погубить Пискарева или Башмачкина, так что, никто и не заметит,
не успеет заметить их гибели.
В «Тарасе Бульбе» ужас перед этим бесцельным, но полным
страданий и жестокости движением звучит с особой,
мифической, силой: «Напрасно некоторые, немногие, бывшие
исключениями из века, являлись противниками сих ужасных мер.
Напрасно король и многие рыцари, просветленные умом
и душой, представляли, что подобная жестокость наказаний
может только разжечь мщение казацкой нации. Но власть
короля и умных мнений была ничто пред беспорядком и
дерзкой волею государственных магнатов, которые своей
необдуманностью, непостижимым отсутствием всякой
дальновидности, детским самолюбием и ничтожною гордостью превратили
сейм в сатиру на правление» [2,164], - жестокость рождает
85
новую жестокость, мщение с необходимостью отзывается еще
более страшным мщением - достаточно вспомнить, какие
устроил Бульба «поминки по Остапе»!
Запечатлеть в скульптуре, в вечной величественной
телесности и человека, и мир - значит, освободиться от этого
безжалостного гнета времени и растянутой в нем напрасной
суетности, сулящей одни лишь пустые страдания. Гоголь, как мы
убедились ранее, с одной стороны, безжалостен к тому, что
претендует на вечность и нерушимость своего бытия: там, где
принято искать ясные и надежные символы, ценности, нормы
и цели, он находит бесполезные условности, подверженные
непрестанным возникновению и уничтожению. Можно
подумать, что от человека в его мире остается одна только пустая
телесная оболочка, но мы показали, до какой степени эта
«оболочка» не пуста - ее и стремится сохранить в статичной
неразрушимой форме гоголевская мифология.
Лотман отмечает, что «у Гоголя понятие красоты почти всегда
скульптурно, т. е. включено в некое трехмерное пространство. Это
была попытка побороть в себе образ хаотического мира,
рассыпающегося на несоединимые части»1. Знаменитый образ
несущейся тройки лишь по видимости выражает бесконечное быстрое
движение, на самом деле, по точному замечанию Синявского,
гоголевская тройка, как типично мифический образ,
пребывает в вечности2. Она не принадлежит какому-либо конкретному
1 Лотман Ю.М. О «реализме» Гоголя // Труды по русской и славянской
филологии. - Тарту: Тартуский университет, 1996. С. 32.
2 «Гомер подвел итоги греческой мифологии, Гоголь творил миф.
Гоголевская птица-тройка, несмотря на лирическую нитку, из которой она
соткана, стала едва ли не прасимволом русского сознания. К ней
обращались, ее беспрестанно перефразировали и перелицовывали русские
авторы Достоевский, Блок, Бунин... К ней еще вернутся. Вокруг нее
суждено вращаться русской словесности, как вокруг какого-нибудь Троянского
коня. В ней судьбоносная стихия России достигла обратимой выпуклости
мифологемы... Самый полет птицы-тройки, кажется, застыл в воздухе на
века. Эпос Гоголя не только безгеройный, но и, допустимо заметить, бес-
86
времени и столь же реальна и непосредственно понятна сегодня,
как в эпоху Гоголя. Летящая без остановок в неведомую даль,
она в действительности застыла вне времени, как мастерски
выполненная схваченная в стремительном порыве конная
статуя. И таковы все мифологемы Гоголя.
Символом полного торжества его скульптурного
мифотворчества над нескончаемой пустой суетой и сопровождающей ее
болтовней можно считать венчающую самую суетную пьесу
Гоголя немую сцену. Здесь настоящее как бы отрезается от
прошлого и будущего, здесь прекращается всякая подвижность
и суесловие. Немая сцена словно вызволяет персонажей Гоголя
из сетей нелепого фальшивого действия, в которое они были до
этого вовлечены, и помещает их в вечности, где они и остаются
в восприятии зрителя. Зрителю не дано увидеть расправы, что
учинит чиновникам настоящий ревизор (впрочем, кто знает,
что это за ревизор на самом деле?), в зрительских глазах немая
сцена хранит героев Гоголя от этой незримой угрозы.
«Выбранные места» были попыткой всю Россию раз и навсегда погрузить
в непрерывную немую сцену и уберечь ее тем самым от
надвигавшихся и уже объявивших о себе из-за кулис катастроф.
Нельзя, однако, не заметить, что немая сцена очень похожа
на царство мертвых: Гоголь изобразил, по меньшей мере, еще одну
немую сцену - концовка «Вия» представляет собой как бы
бесовский вариант финала «Ревизора». Вместо жандарма -
петушиный крик, вместо остолбеневших чиновников - навсегда
застрявшая в стенах и в окнах нечисть. Анализируя «Божественную
комедию», Шеллинг отмечает, что «Ад» отличается «внешней
формой изложения», это «царство образов», «пластическая
часть поэмы»1: дантовский ад - мир чисто телесный,
скульптурный, и вечные муки его - муки тела. Гоголь, отталкивавшийся
событийный, статичный, обращенный не к развитию, но к неподвижным
состояниям жизни, к ее извечным субстанциям» (Терц А. В тени Гоголя -
London: Overseas Publications Interchange. 1975. С. 450,453.).
1 Шеллинг Φ.В. Й. Философия искусства. - М.: Мысль. 1966. С. 454-455.
87
от Данте, изобразил в своей поэме русский ад, который тоже
мог бы оказаться скульптурным миром вечных страданий. Такова
была грозная оборотная сторона немой сцены. Только смех,
освещающий и концовку «Ревизора», и похождения Чичикова,
отличает гоголевский ад от дантовского, смешную и потому светлую
немоту вечных скульптурных форм - от их столь же вечной
безнадежной, мертвой немоты.
Итак, к скульптурному мифическому миру Гоголя не
применимы какие-либо внешние меры и ориентиры, он не
выражает никакой умозрительный внеположенной ему истины, он
сам есть своя истина и свое основание. Его внешние формы
и физические черты не скорлупа какого-либо уже не
мифического смысла или бытия, а автономная, себе довлеющая
реальность. Гоголь не силится обозреть свой физически-телесный мир
с трансцендентной ему точки зрения и подчинить его
беспорядочное движение умозрительным целям и образцам. Он
стремится навечно сохранить его физически, обессмертить его как
телесно прекрасную величественную скульптуру, лишь
задержав, остановив в неизменных формах этой скульптуры
беспорядочную активность человека.
Бахтин отмечает, что время в творениях Гоголя - это
житейское, бытовое время: «Приметы этого времени просты, грубо
материальны, крепко срослись с бытовыми локальностями: с
домиками и комнатками городка, сонными улицами, пылью и мухами,
клубами, бильярдами и проч. и проч. Время здесь бессобытийно
и потому кажется почти остановившимся. Здесь не происходят
ни "встречи", ни "разлуки". Это густое, липкое, ползущее в
пространстве время»1, - со всеми этими наблюдениями нельзя
не согласиться, особенно в том, что касается бессобытийности
и остановки времени в пространственных формах. Усомниться
стоит только в знаке: Бахтин ставит «минус» там, где у Гоголя
1 Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по
исторической поэтике // Вопросы литературы и эстетики. - М.: Худож. лит. 1975.
С. 396.
88
стоял «плюс» - останавливающееся в пространстве время было
у него не обыденным, пошлым и липким, а мифологически
переживаемым временем. В мифотворчестве оно становится
сверхобыденным, величественно скульптурным, не опошляющим,
а возвышающим и оберегающим человека.
Шеллинг подчеркивает, что мифология неизбежно окажется
иллюзией и бессмыслицей для того, кто подходит к ее анализу
с универсальными абстрактными схемами и чуждыми самому
мифу задачами, с раз и навсегда принятыми идеалами
разумности и смысла. Миф несет в себе свою собственную, особую
осмысленность: «именно в этом кажущемся неразумии надо
открыть разум, в этой кажущейся бессмыслице - смысл, причем
не так, как пытались делать прежде, когда, рискнув считать
что-то разумным или осмысленным, именно это
провозглашали существенным, все же остальное объявляли случайным,
относящимся к облачению или к искажению сущности.
Намерение, напротив, должно быть таким, чтобы и форма явилась
как необходимая и постольку разумная»1. Шеллинг замечает,
что и обыденный мир, в частности - привычные нам картины
природы в рамках каждодневной рутины кажутся предельно
простыми, понятными и банальными, но в ином состоянии
духа они вдруг являются нам таинственными,
захватывающими и величественными2.
Так именно и поступает Гоголь в своем мифотворчестве,
на что бы ни было направлено оно: на украинскую природу
или бумажную работу в департаменте, жизнь Невского
проспекта или богом забытой глубинки - все приобретает у него
сверхобыденную мифическую силу и скульптурную
выразительность. Мифологизация телесных форм жизни - возможно,
1 Шеллинг Ф.В. И. Сочинения. Т. 2. - М.: Мысль. 1989. С. 347.
2 «Природа не вызывает удивления у человека бездумного, чей взгляд
притупился от каждодневного наблюдения ее, а между тем мы вполне можем
представить себе такое духовное и нравственное настроение, для какого
эта же природа явится не менее невероятной, удивительной и странной,
чем сама мифология!» {Там же. С. 347-348).
89
единственный способ сохранить их и в них самих найти свою
красоту и достоинство. Объявить их пустышками абсурдного
мира, которым правят произвол и закрепляющая его привычка,
или увидеть в них лишь промежуточный этап на пути к
трансцендентной цели (или, скажем, саму по себе малоинтересную
условную репрезентацию высших смыслов) - в равной степени
значило бы растворить и обесценить имманентный телесный
мир людей.
Гоголь не только не закрывает глаза на фальшь, насилие и
произвол этого мира, но с невиданной силой выставляет их напоказ:
его мифология - титаническое усилие пересоздать
человеческий мир, сохранив все, что в нем есть, но, в то же время,
придав ему героику, загадочность и величие древнего мифа. Ничто,
ни одна мелочь, не должна быть забыта: все что ни есть на свете,
до последней люльки и зубочистки, проходит у Гоголя через это
мифическое преображение1.
Говоря о скульптурности античной культуры, культуры
космической, видевшей в космосе величайшее произведение искусства
и прекраснейшее живое тело, а в человеке - лишь слепок,
уменьшенную телесную копию космоса, так что и вся жизнь человека
была для нее телесной и физической2, Лосев отмечает: «Могут
Живописец так наставляет у Гоголя своего сына: нет художнику
«низкого предмета в природе. В ничтожном художник-создатель так же велик,
как и в великом; в презренном у него уже нет презренного, ибо сквозит
невидимо сквозь него прекрасная душа создавшего, и презренное уже
получило высокое выражение, ибо протекло сквозь чистилище его души.
Намек о божественном, небесном рае заключен для человека в искусстве,
и по тому одному оно уже выше всего» [3,135].
2 «Космос есть тело абсолютное и абсолютизированное. Оно само для
себя определяет свои законы. А что такое человеческое тело, которое
зависит лишь от себя, прекрасно только от себя и выражает только себя?
Это - скульптура. Только в скульптуре дано такое человеческое тело,
которое ни от чего не зависит. Так утверждается гармония
человеческого тела. Поэтому суждение о том, что античный космос -
произведение искусства, вскрывает очень многое ... античная культура
основана на внеличностном космологизме» (Лосев А. Ф. Двенадцать тези-
90
сказать: ведь этого же мало. Неужели личность сводится к одним
физическим претерпеваниям? А я спрошу: но разве мало того,
что это исходит от неба? Мало того, что это есть результат
эманации, истечения небесного космоса? Мало того, что это -
излияние небесного эфира? Если вам этого мало, тогда вам нечего
делать в античной культуре»1. Эти слова могут многое
прояснить в мифотворчестве Гоголя.
Человек у него скульптурен, но в своей скульптурности он
подобен вечному высокому небу, также предстающим у Гоголя
пластически-телесным: уже в «Сорочинской ярмарке» небо -
это прекрасный купол, всеохватный архитектурный шедевр,
венчающий и объединяющий все иные, более мелкие и сами
по себе менее прочные, архитектурные и скульптурные формы:
«Как томительно жарки те часы, когда полдень блещет в тишине
и зное и голубой неизмеримый океан, сладострастным
куполом нагнувшийся над землею, кажется, заснул, весь потонувши
в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях
своих! На нем ни облака. В поле ни речи. Все как будто умерло;
вверху только, в небесной глубине, дрожит жаворонок, и
серебряные песни летят по воздушным ступеням на влюбленную
землю, да изредка крик чайки или звонкий голос перепела
отдается в степи» [1,111].
Эта картина в огромной степени - предвосхищение
дальнейшего творчества Гоголя и заодно предуведомление
читателя: в моем мире, заклинает автор, «все как будто умерло»,
но - именно что как будто, в действительности же все
обретает вечную жизнь неба под сенью его архитектурного
величия, небо словно дарит, эманирует «по воздушным ступеням»
свою телесную, зримую вечность всем обитателям
влюбленной земли.
сов об античной культуре // Лосев А. Ф., Тахо-Годи A.A. и др.
Античная литература: Учебник для высшей школы - 5-е изд., дораб. - М.:
ЧеРо. 1997. С. 486-487).
1Там же. С. 491.
91
Тавтегоричностпъ мифотворчества Гоголя непосредственно
переходит в его скульптурность. Тавтегоричны у него именно
телесные образы, означающие только самих себя и не
отсылающие ни к чему иному и уже не телесному, только в своей
вечной телесной форме обретающие мифическую живость и
полновесность.
Сама удивительная проза Гоголя, впервые созданная им
проза, скульптурна по сути своей: мы и здесь имеет дело как бы
с пустой оболочкой, внешней формой («форма, то, как
рассказано», по слову Розанова), в которой не выражено почти
никакого осмысленного содержания, с невообразимым
нагромождением невиданных и порой просто неправильных,
безграмотных языковых конструкций. Сюжета тут в сущности нет: одни
неправдоподобные, без всякой логики сменяющие друг друга
происшествия. Бесцеремонно нарушаются все законы
литературных жанров (например, автор непрестанно отвлекается
на такие подробности и таких персонажей, о которых потом
и не вспоминает, которые кажутся просто лишними,
ненужными для развития сюжета) - словом, Гоголь пишет так, как
нельзя писать.
И все же именно эта довлеющая себе невероятно
выразительная и чувственно-богатая проза «гения формы»,
совершенно бессмысленная перед лицом абстрактных требований
и стандартов, никуда не годная как трансляция
универсальных ценностей и образцов, становится единым живым телом
гоголевского мифа.
Было бы неверно сказать, что такая проза - единственно
приемлемая форма выражения присущего Гоголю взгляда на мир,
бессмысленный и неказистый, но преобразующийся у него
в «произведение, которому художник дал последний удар кисти»:
на самом деле, сам этот мифический мир телесных форм и есть
гоголевская проза - в мифотворчестве реальность и
изображение реальности не могут быть различены.
Синявский подробно исследует особенности бессюжетной,
телесно объективированной прозы Гоголя, напоминающей
92
архитектурное сооружение или лишенный динамики, словно
схваченный на полотне пейзаж: сад Плюшкина - вот
подлинный символ этой прозы1. Невероятная гоголевская речь -
это «чистый факт языка», это речь ради речи. Всевозможные
излишества, бесконечные отвлеченные замечания и случайные
детали перегружают эту в-себе и для-себя существующую речь:
она говорит, кажется, обо всем на свете и в то же время
практически ни о чем - многое, но не много.
Возьмем пример Синявского - «Повесть о капитане Копей-
кине», гоголевскую поэму в поэме, это ведь именно поэма в том
возвышенном и вместе комическом, величественно-нелепом
смысле, который Гоголь и его персонаж вкладывают в это слово:
«"Ну, можете представить себе: этакой, какой-нибудь, то есть,
капитан Копейкин, и очутился вдруг в столице, которой подобной,
так сказать, нет в мире! Вдруг перед ним свет, относительно
сказать, некоторое поле жизни, сказочная Шехеразада,
понимаете, этакая. Вдруг какой-нибудь этакой, можете представить
себе, Невский прешпект, или там, знаете, какая-нибудь
Гороховая, чорт возьми, или там этакая какая-нибудь Литейная; там
шпиц этакой какой-нибудь в воздухе; мосты там висят этаким
чортом, можете представить себе, без всякого, то есть,
прикосновения; словом, Семирамида, судырь, да и полно!.." Перед нами
1 «Стиль Гоголя ищет прямых уподоблений в ландшафте, чтобы
удостоверить себя в материально-осязаемом образе, - пишет Синявский, -
поэтому сад Плюшкина не столько сад Плюшкина, сколько сад языка
Гоголя или образ его прозы. Понятно, всякий абзац у всякого писателя
может стать таковым ознаменованием собственного слога. Но у Гоголя
оно как бы вынесено над текстом в вещественное свидетельство речи, в
некую шапку его изобразительно-картинной манеры, так же как
присущей автору наклонности объективировать свой внутренний мир в
зримом виде природы, человеческих лиц и вещей. Ландшафт, менее других
компонентов повествования непосредственно связанный с развитием
действия, предоставлял ему широкие возможности чистой демонстрации
языка и обращался подчас в застывший, объективированный символ его
стиля» (Терц А. В тени Гоголя - London: Overseas Publications Interchange.
1975. С. 342).
93
опять-таки, с позволения выразиться, чистый факт языка,
существующий самодеятельно и самоценно»1.
Фактический характер гоголевской прозы, о котором говорит
Синявский, в высшей степени напоминает раскрытый у таких
философов, как Шеллинг и Булгаков, событийный характер
мифа2. Как миф не аллегория и не абстрактная выдумка, а
реальное конкретное событие, происходящее с сознанием,
делающее само сознание возможным, так и проза Гоголя не
изложение сюжетов и абстрактных смыслов, а автономная
фактичность, реальные самодеятельные и самоценные события,
действительно происходящие с художником и, собственно говоря,
делающие его художником. Поэтому его творчество и
становится мифотворчеством, тавтегоричность прозы - тавтегорич-
ностью мифа.
Стоит отметить, что в этом Гоголь весьма близок многим своим
персонажам: все они художники и мифотворцы, их собственная
речь участвует в создании гоголевского мира: это, несомненно,
также самодостаточные факты языка и события мифа,
событийные компоненты этого мира. Фантасмагорическое,
лишенное всякого правдоподобия, но захватывающее и
очаровывающее вранье Хлестакова, околесица Ноздрева, «которая не только
не имела никакого подобия правды, но даже просто ни на что
не имела подобия», и в которой «подробности дошли до того, что
уже начинал называть по именам ямщиков», сбивчивые рассказы
Добчинского и Бобчинского, все время отвлекающихся на
пустяки и не сообщающих в результате самое главное, странная,
полная лишних, бессмысленных, но по-своему
выразительных слов речь Акакия Акакиевича, «в некотором роде целая
поэма» почтмейстера о капитане Копейкине и многое другое
(не забывая о заклинаниях панночки и колдуна!) - во всем этом
легко узнать черты гоголевского слога. Причем, все они перешли,
несомненно, и в позднее мифотворчество Гоголя, и прежде
1 Гам лее. С. 463-464.
2 См. Глава!. Стр. 14,18-20.
94
всего - в «Выбранные места из переписки с друзьями». И
Хлестаков, и Акакий Акакиевич, и почтмейстер, и колдун, которому
казалось, что все смеются над ним - все они как будто
приложили руку к созданию этой книги.
Смех Гоголя над скульптурной, словно из пустых скорлупок
составленной речью своих героев - это, как и всегда у Гоголя,
не издевка, а смех над самим собой, смех, вдыхающий жизнь
во все эти статуи и здания из слов. Мифотворчество здесь
едва ли не коллективное: факты языка его персонажей не менее
реальны, чем факты языка их создателя. Ведь это именно
мифические, т. е. абсолютно реальные для мифологического
сознания, а не «выдуманные», литературные, герои.
Синявский много пишет о стремлении Гоголя к магии, к
превращению своей загадочной прозы в поток заклинаний -
действительно, создается впечатление, что Гоголь стремится так
перегрузить свою речь, чтобы персонажи его и весь их
чудаковатый мир выпали бы, наконец, из книги в реальность,
просто не смогли бы поместиться на плоских страницах и
вырвались бы в трехмерное пространство действительности: «Лишь
темная область священных формул и магических заклинаний,
ворожбы и колдовства способна сколько-нибудь
удовлетворительно ответить на вопрос, чего же добивалась в крайних своих
устремлениях, не ведая о том, гоголевская проза,
балансирующая на стыке переполнения и пустоты, величия и ничтожества,
мирообъемлющего эпоса и бессмысленной абракадабры»3.
Причем, как мы видели, магия Гоголя не только созидающая
и увековечивающая, но в ином отношении - обесценивающая,
унижающая, переворачивающая вверх ногами. Дело в том, что
не одна, а несколько органично связанных между собой
нечеловеческих сил незримо стоят за этой магией и действуют в ней -
именно взаимосвязь их вытекает в мифотворчестве «гения
формы» в создание скульптурного мира как будто мертвых
3 Терц А. В тени Гоголя - London: Overseas Publications Interchange. 1975.
С. 469.
95
и бездушных, но на самом деле вечно живых
материально-чувственных людей, мира немой сцены под вечным куполом
высокого неба. Чтобы прояснить этот решающий момент,
необходимо проанализировать апофатизм гоголевского
мифотворчества. Ранее, особенно - в конце предыдущего параграфа, мы уже
затрагивали этот вопрос, говоря о трех нечеловеческих силах,
придающих мифу его тавтегорическую реальность и живость,
делающих его возможным в качестве мифа, но при этом никогда
не присутствующих в самом мифе предметно и открыто. В этом
и состоит гоголевская апофатика - теперь мы готовы
приступить к ней вплотную.
96
Глава 3. Апофатизм Гоголя
Часто говорят, что Гоголь - самый загадочный из русских
писателей, загадочнее Лермонтова, Толстого и Достоевского,
что и жизнь, и смерть его окутаны мрачной тайной. Гоголь -
темный во всех смыслах слова писатель, он упорно не поддается
законченной, непротиворечивой интерпретации. Неслучайно
у крупных мыслителей мы находим прямо противоположные
трактовки и оценки его творчества, каждая из которых
основана на отрицании другой.
Гоголь «не лишает лицо, отмеченное мелкостью, низостью,
ни одного человеческого движения <...> на какой бы низкой
ступени ни стояло лицо у Гоголя, вы всегда признаете в нем человека,
своего брата, созданного по образцу и подобию божию»1, -
проникновенно пишет Аксаков. «Гоголь не в силах был дать
положительных человеческих образов и очень страдал от этого. Он
мучительно искал образ человека и не находил его. Со всех
сторон обступали его безобразные и нечеловеческие чудовища»2, -
ужасается Бердяев. Гоголь «никогда не мог увидеть и
изобразить человеческий образ, образ Божий в человеке»3, - пишет он
в другом месте.
Но творения Гоголя не просто таинственны, не просто
заключают в себе тайну, как если бы гениальный автор вложил в них
такой зашифрованный смысл, который остался недоступным
1 Аксаков К. С. Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова,
или Мертвые души» // Н. В. Гоголь: pro et contra - Μ.: РХГА, 2009. С. 90.
2 Бердяев H.A. Духи русской революции // Из глубины: Сборник статей
о русской революции - М.: Из-во Моск. Ун-та. 1990. С. 59.
3Бердяев Н.А Русская идея - СПб.: Азбука-классика. 2008. С. 115.
97
его читателям. Гоголевское мифотворчество основано на тайне,
оно не содержит в себе тайну - оно есть тайна: в
принципиально неразрешимой загадке скрываются его истоки и сущность,
источник его убедительности и художественной мощи.
В общих чертах нам ранее удалось установить, что питающие
его и незримо присутствующие в нем, как во всяком мифе,
нечеловеческие силы (продолжим пользоваться этим выражением
Булгакова) делают возможным гоголевский мир кажущихся,
ирреальных и в то же время до ужаса выразительных, словно
выпрыгивающих из книги скульптурных форм. Однако силы эти, коль
скоро они всегда предшествуют любой возможной в этом мире
форме, всегда уже предполагаются ею, сами никогда не обретают
здесь законченной формы, не могут получить исчерпывающего
предметно-содержательного выражения.
К таким силам мы отнесли чистое отрицание,
опустошение, которыми «виет» у Гоголя абсолютное небытие,
лишающее его мир всяких твердых оснований, делающих его
обманным и призрачным. Но небытие само по себе не породило бы
ничего отличного от небытия, если бы ему не полагала границ,
а значит - формы, иная присутствующая в мифе сила: как мы
видели, таким полаганием границ между бытием и его
отрицанием, между миром живых и миром мертвых в мифологии
самых разных народов выступает смех, смех как жизнедатель.
Мы убедились в том, что именно этими двумя силами
определяется мифотворчество Гоголя, и что силы эти необходимо
ссылаются друг на друга и всегда друг в друге нуждаются. Это, в свою
очередь, означает, что их органическая связь не случайна и
вторична по отношению к ним, но сама есть еще одна, третья, сила,
образующая с остальными неделимое на механические части
смысловое целое.
Если нечеловеческие силы, питающие мифотворчество,
сами не могут быть в нем исчерпывающим образом выражены
и предъявлены, а всегда лишь просматриваются сквозь него
как сквозь среду-медиум, значит, они не создаются
писательской фантазией, а необходимо предшествуют ей, они не продукт
98
творчества, а его объективное условие. Ясно также, что эти силы
и вовсе не могли бы о себе свидетельствовать в
мифотворчестве, не были бы даже опознаваемы как таковые, если бы
оставались в чистой неразличенности с самими собой. Отрицание
и небытие сами по себе не могут иметь никакой выражающей
их формы, такая форма должна быть положена им как
отличная от них и в то же время косвенно о них свидетельствующая
и от них неотделимая в том смысле, что представить их себе
непосредственно, вне этой формы, нельзя. То же самое касается
смеха, всегда полагающего различие и дистанцию между
смеющимся и тем, над чем он смеется (смеяться над собой, в частности,
значит смотреть на себя со стороны) - смех также не существует
и не опознается вне смешной, выражающей его, но необходимо
отличной от него формы.
Следовательно, если присутствие нечеловеческих сил в
мифотворчестве необходимо, то и различение этих сил и
выражающих их форм, выражение сил в формах отличных, но не
отделимых от них, также необходимо. С другой стороны, если ни одна
форма не может вместить в себя эти силы полностью, а лишь
косвенно намекает на них, то никакая их форма не может стать
окончательной. Они с равной необходимостью требуют какой-то
отличной от них самих формы и ни β какой форме не могут
навсегда остаться, не могут удовольствоваться ею, но нуждаются
во все новых и новых формах. Причем, неизбежность присутствия
нечеловеческих сил в мифе заставляет считать столь же
необходимой и их органическую взаимосвязь, которая должна
преломляться в их необходимом, но всегда недостаточном оформлении.
Все это означает, что мифотворчество как действие и
раскрытие нечеловеческих сил в человеке есть необходимый процесс их
выражения в различных формах, в частности - художественных
образах и сюжетах, которые необходимо сменяются все новыми
формами выражения, причем так, что в их смене содержатся
взаимосвязь и взаимообусловленность этих сил. На этом этапе
анализа мы вновь возвращаемся к Шеллингу и его теории
мифологического процесса.
99
Апофатизм нечеловеческих сил в мифотворчестве
неразрывно связан с тавтегорическим толкованием последнего.
Ведь именно апофатизм в мифотворчестве не позволяет
считать его вольным изобретением для иносказательного
выражения какого-либо не мифологического смысла: смысл мифа
не создан и не распознан в самом мифе, но необходимо
полагается в череде репрезентирующих его
конкретно-чувственных форм, таких, что смысл мифа не существует как нечто
абстрактное и отличное от этих форм и в то же время никогда
не исчерпывается ими. Так что сам процесс мифотворчества -
это и есть его смысл.
Шеллинг, анализируя генезис политеизма, отмечает, что
действительное, предметное полагание первого бога,
открывающего политеизм в мифологическом сознании, возможно
только благодаря связи этого сознания с его
до-мыслительным субстратом, с такой реальностью, которая
предшествует всякому мышлению и впервые делает его возможным.
И как условие возможности мышления она никогда не может
стать одним из его предметов, т. е. она всегда должна сначала
существовать, чтобы потом стать мыслимой. В этом надысто-
рическом, по выражению Шеллинга, состоянии сознание еще
не является действительным сознанием, не представляет себе
бога как нечто оформленное и от самого этого сознания
отличное, оно скорее еще слито с богом, переживает его
существование, его реальное присутствие, но пока не может помыслить
его содержательно.
Однако в мифе мы застаем сознание всегда уже
перешедшим от этого надысторического процесса к процессу теогони-
ческому, к действительному сознанию сменяющих друг друга
божеств (выступающих в конечном счете лишь как моменты
единого процесса раскрытия одного первоначального Бога).
Этот переход совершается незапамятным образом, уже
совершив его однажды, сознание не в силах вернуться назад1.
^м. Шеллинг Ф.В. Й. Сочинения. Т. 2. - М.: Мысль. 1989. С. 321-322.
100
У Гоголя связь его мифотворчества с таким незапамятным
бытием, с нечеловеческими силами, предшествующими
сознанию и делающими его возможным, транспонируется в
непосредственную связь апофатизма мифотворчества с его
скульптурностью. Гоголевский мир и гоголевская проза скульптурны,
составлены из нескончаемых телесных форм, способных
произвести впечатление пустых, лишенных внутреннего
содержания оболочек, именно потому, что формируют его такие
нечеловеческие силы, которые не могут быть представлены в нем
явно и открыто, но лишь заявляют о себе в череде
мифологических фигур. Ни одна из них не может включить в себя эти силы
целиком, и только весь бесконечный, безудержный процесс
нагромождения все новых скульптурных форм выступает их более или
менее адекватным выражением и коррелятом.
Формы эти потому и выглядят чисто внешними и пустыми
(в особенности, если рассматривать их самих по себе, в отрыве
от всего процесса мифотворчества), что их источник и
смысловое содержание апофатичны, превосходят возможности всякого
представления и мышления, предшествуя им. Отсюда у Гоголя
вытекает нескончаемое умножение подробностей, изображение
деталей, как бы вовсе не относящихся к существу повествования,
и особенно - бесконечная вереница имен и названий: это попытка
высказать то, что не может быть полностью высказано,
перечислить все бесконечные имена того, что не может быть
окончательно выражено никакими именами.
Брюсов, например, замечает, что Гоголь «без меры нагромождал
свои наблюдения в одном месте, как бы оглушая читателя
номенклатурой <...> при посещении собачника Ноздрева Гоголь
упоминает "всяких собак, и густопсовых, и чистопсовых, всех возможных
цветов и мастей: муругих, черных с подпалинами, полво-пегих,
муруго-пегих, красно-пегих, черноухих, сероухих"»1. Синявский
пишет, что имя для Гоголя обладает магической силой вызывать
1 Брюсов В.Я. Испепеленный. К характеристике Гоголя // Н. В. Гоголь: pro
et contra - Μ.: РХГА, 2009. С. 458.
101
поименованную вещь из небытия, закрепить за нею реальность
в его собственном, гоголевском, мире: «Он не имел такой
возможности, но в восполнение пробела его творение дышит старанием
изназвать доскональное всё, что ни есть на свете, и тем исчерпать
этот свет раз и навсегда, покончив счеты с мертвым, призрачным
существованием. Его поэма - это купчая крепость, заключенная
на освобождение человечества от смерти, на овладение миром
с помощью слова»1. Нельзя не упомянуть о той сцене, в которой
Чичиков, разбирая свои бумаги, по одним лишь именам
записанных у него мужиков (и техническим мелочам, вроде помарок
и сокращений) бойко реконструирует их пестрые жизни: назвать
человека по имени - значит, вызвать его из страшной пустоты,
воспроизвести, проиграть заново его судьбу. Имя - как
волшебный ларец, в котором хранится уже угасшая будто бы
человеческая жизнь и из которого ее вновь можно извлечь во всех
убедительных и памятных подробностях.
Несомненно, чисто мифологический мотив магии имени,
непосредственно связанного с его обладателем2, увязан здесь
с гоголевским апофатизмом. Нечеловеческие силы
присутствуют в мифотворчестве благодаря намекающим на них именам,
остающимся чисто скульптурными именами, словесными
скорлупками, потому что силы эти не существуют в мифе как нечто
отличное от указывающих на них словесных форм. В этом смысле
имена для мифа суть стоящие за ним силы, но сами эти силы
никогда не суть стремящиеся выразить их имена. Такая
асимметрия имен и нечеловеческих сил в мифотворчестве и создает
магию имени, которое оказывается чем-то значительно большим,
чем слово в обыденном его понимании и в то же время никогда
не перерастает границы слова, оно несет в себе бесконечную
1 Терц А. В тени Гоголя - London: Overseas Publications Interchange. 1975.
С. 476.
2 Вспомнить хотя бы известный египетский миф о том, как богиня Исида
хитростью выманила у солнечного бога Ра его тайное имя, тем самым
заполучив власть над ним и над менее могущественными богами.
102
тайну, и всякий раз приоткрывая ее, в то же время вновь ее
запечатывает.
Неслучайно сам Гоголь столько раз комментировал, толковал
и перетолковывал собственные произведения, вновь и вновь
пытаясь раскрыть то, что за ними стоит, силясь каждый раз
по-новому, в новой форме сказать о том же самом. Кажется, более
всех произведений Гоголя такими авторскими комментариями
и самоинтерпретациями оброс со временем «Ревизор»,
написанный еще в молодости за два месяца, но много лет потом
отзывавшийся у своего создателя заметками и разъяснениями, по
объему много превысившими саму комедию - в переписке, в
«Театральном разъезде», в «Выбранных местах» и т. д.1
Подобно тому, как Гоголь не устает изобретать все новые детали
и имена, скульптурные формы и «чистые факты языка»,
комментарии и примечания к собственным творениям, он
неутомим в экспериментировании с новыми жанрами и формами
самовыражения: начав со стихов, Гоголь сочиняет рассказы,
повести, «поэмы» в прозе, пьесы, некоторые из которых
становятся диалогами в духе Платона, искусствоведческие и
исторические статьи и лекции, морализаторские и философские
письма, проповеди, трактаты, даже молитвы. Его произведения -
мистические, «реалистические», исторические, бытовые... Все
это - моменты его нескончаемого мифотворчества, попытки
Синявский пишет об этом: «В своем творческом переполнении
"Ревизор" превосходит Гоголя, который, его накатав в небывало короткие сроки,
потом на долгие годы остался к нему прикованным и всё прикидывал
объяснения и примечания к "Ревизору", целый лес подпорок,
контрфорсов, набрав их на новый том - театральных разъездов, развязок, поправок
к своей неуемной комедии. Сочиненные им долговременные
комментарии, порой не лезущие ни в какие ворота, также указывают на
невыносимость задачи - понять, что же все-таки написалось в итоге его
скоропалительной пьесы. Была бы она хоть темна по своему смыслу, сложна по
построению! Но проще простого, яснее ясного, а вот выскальзывает, не
умещается в уме и нарушает законные рамки» (Терц А. В тени Гоголя -
London: Overseas Publications Interchange. 1975. С. 133).
103
выразить то невыразимое, что лишь во всей динамике
сменяющих друг друга и друг на друга ссылающихся выразительных
средств может быть приблизительно раскрыто.
Именно в этом состоит тайна всего сказанного у Гоголя -
в стремлении высказать и назвать то, что и само требует от
мифологического сознания говорить о себе, и в то же время всегда
остается не высказанным. Это не тайна чего-то, не какой-то глубоко
зарытый у Гоголя клад, который однажды удастся откопать, это
чистая, себе довлеющая тайна, которая магически придает
гоголевским творения их выразительность и жизнь именно потому,
что всегда остается тайной.
Булгаков писал, что апофатизм мифа ведет его не к немоте,
а напротив, к рождению новых словесных форм, ведь если и верно,
что «мысль изреченная есть ложь», то, с другой стороны,
простое молчание, неизреченная мысль еще не есть мысль: «Миф
в полноте своей не есть мысль, как не есть мысль и символика
художественного произведения, однако он просится и в мысль,
и становится мыслью, облекаясь в слово. Неизреченность не есть
синоним бессловесности, алогичности, антилогичности, скорее
наоборот, она-то и есть непрерывная изрекаемость,
рождающая словесные символы для своего воплощения»1. Именно так
и рождаются творения Гоголя - во взаимном переходе и
согласии апофатизма и «непрерывной изрекаемости».
Впрочем, на пике своих выразительных сил Гоголь обычно
умолкает, открыто признаваясь в невыразимости того, к чему
он стремился подступиться - в самых ярких и запоминающихся
его пассажах впечатляющие образы отступают, в конце концов,
перед молчанием. Так описывает Гоголь нечеловеческий ужас
колдуна, несущегося навстречу своей гибели: «Не мог бы ни один
человек в свете рассказать, что было на душе у колдуна <...> То
была не злость, не страх и не лютая досада. Нет такого слова
на свете, которым бы можно было его назвать» [1,277]. Не в силах
1 Булгаков С. Первообраз и образ: сочинения в двух томах. Т. 1. Свет
невечерний. - СПб.: ИНАПРЕСС, М.: Искусство. 1999. С. 81.
104
оказывается рассказать его перо (даже его!) и о том, как
вспыхивает любовь Андрия и дочери польского воеводы: «И пусть бы
выразило чье-нибудь слово... но не властны выразить ни резец,
ни кисть, ни высоко-могучее слово того, что видится иной раз
во взорах девы, ниже того умиленного чувства, которым объем-
лется глядящий в такие взоры девы» [2,103]. Потоки речи ради
самой речи у Гоголя в пределе переходят в свою
противоположность - в безмолвие, теряются в его апофатизме.
Лосев, связывая свое понятие смысловой энергии сущности
с шеллинговским учением о потенциях, подчеркивает
различие между апофатизмом и агностицизмом: сущность не есть ее
энергии, в которых она только и может быть нам дана, однако
никакого иного, непосредственного, доступа к их сущности у нас
нет, поэтому «в свете энергии и все, что есть в сущности, дано
энергийно»1. Весьма удачно было бы сказать, что нечеловеческие
силы присутствуют у Гоголя именно энергийно: энергией смеха,
его «электричеством», как говорил сам Гоголь, пропитан
«Ревизор», энергией отрицания, небытия «виют» страшные глаза Вия,
сатанинского портрета, колдуна - этими взглядами
наэлектризованы «Вий», «Портрет», «Страшная месть».
Шеллинговские потенции также в значительной степени
близки раскрывающимся в мифотворчестве Гоголя
нечеловеческим силам. Не вдаваясь сейчас в тонкости сложных
построений позднего Шеллинга, укажем на те аспекты его философии,
которые помогут лучше понять Гоголя. В 10-й, 11-й, 12-й лекциях
«Философии откровения» Шеллинг развивает учение о трех
принципах, лежащих в основании мышления о бытии (затем
показывается, что значимость их преодолевает границы чистого
мышления). Первый - «могущее быть», чистая потенция бытия, уже
готовая к непосредственному переходу в него, которую
невозможно зафиксировать саму по себе (мы застаем ее лишь всегда
уже перешедшей в бытие), всякий акт ее существования
отменяет потенцию. Второй - «чисто сущее», это напротив, чистый
1 Лосев А. Ф. Форма. Стиль. Выражение - М. Мысль. 1995. С. 190.
105
акт, исключающий потенцию и переход к бытию, оно замкнуто
на самом себе и ничего иного не желает. Их необходимым
синтезом, в котором акт не отменял бы потенцию, а потенция - акта,
выступает третий момент: «сущее как таковое». Если первое -
абсолютный субъект, второе - абсолютный объект, то третье -
субъект и объект одновременно1.
Три эти требующие друг друга определения выступают тремя
различными ликами единого абсолютного духа: его постепенное
самораскрытие в мифологии и составляет логику развития
мифологического процесса. Шеллинговские принципы при переходе
из сферы мышления в сферу реальности, совершаемом, в
частности, в мифологии, предстают как различные действующие
в этой реальности причины: Шеллинг опирается здесь на
Аристотеля. Первой такой причиной, «материальной», является
чистая возможность бытия, в себе бытие, примерно
соответствующее чисто сущему, второй «действующей», причиной -
необходимость бытия, бытие для себя, соответствующее могущему
быть, третьей, «целевой», причиной - долженствование бытия,
бытие у себя. Ключевые фигуры мифологического процесса,
«формальные» боги, о борьбе которых повествуют
мифологические предания, суть репрезентации этих причин, или
потенций, выражение их взаимосвязи и борьбы.
Две нечеловеческие силы гоголевского мифотворчества,
определенные ранее нами как небытие в смысле чистого отрицания
бытия и созидательный смех, во многом напоминают первые две
шеллинговские потенции. Чисто сущее, или в себе бытие, занятое
лишь собой и не переходящее ни в какое действительное бытие,
довольно близко силе отрицания - неслучайно в конкретных
мифах, разбираемых Шеллингом, первая потенция связывается
с силами хаоса и разрушения.
Впрочем, Шеллинг, несомненно, мыслит еще в духе
классической философии: ключевой его вопрос - это вопрос об основаниях
jCm. Шеллинг Ф.В. Й. Философия откровения. Т. 1. - СПб.: Наука. 2000.
Особенно - С. 290-303.
106
бытия и достоверного знания о нем: в конечном счете, именно
таким требуемым и необходимым основанием выступают его
потенции. Относительно же Гоголя сложно сказать,
принадлежит ли его мышление философской классике, но мир его, как
мы видели, не знает твердых оснований. В классическом лейб-
ницевом вопросе «Почему вообще есть сущее, а не наоборот -
ничто?», которым занят Шеллинг, для самого Шеллинга акцент
стоял на первой части, для Гоголя - скорее на второй. Гоголевское
сущее несравненно более зыбко, чем шеллинговское. Если
считать силу небытия, силу нечисти и пустоты, у Гоголя
приблизительным аналогом первой потенцией Шеллинга, то нужно
признать, что в гоголевском мире она проявлена куда более мощно,
чем в шеллинговском.
У Гоголя две уже знакомые нам нечеловеческие силы
предстают в основном в соотношении невидимых (или возникающих
лишь на мгновения) персонажей, выражающих силы небытия,
и персонажей наиболее зримых, выпуклых и живых, как бы
насквозь пронизанных гоголевским смехом и из него
сотканных. Причем, первые оказываются невидимыми именно потому,
что зримы и выразительны вторые - несомый ими смех словно
загоняет небытие и пустоту в особый, невидимый, мир. Однако
существовать эти смехотворные и сотворенные смехом
персонажи могут лишь до тех пор, пока невидимыми остаются герои,
несущие в себе отрицание и небытие.
Схожим образом и Шеллинг описывает драматургию
мифологического процесса, в котором бог-носитель первой потенции
оказывается побежден второй потенцией и вытеснен ею в область
незримого мира или абсолютного прошлого, причем другие боги
могут возникнуть лишь потому, что вытеснена первая потенция,
чистое бытие в себе.
Так соотносятся, например, Тифон (Сет) и Осирис в
египетской мифологии1. Но наиболее ярко это соотношение сил
1 «Тифон, который, однако, поскольку он теперь всецело подчинен более
высокой потенции, полностью обращен благодаря Осирису, сам становится
107
и образов представлено в мифологии античной: «Только
благодаря тому, что он в своей непреклонности, в своем
сопротивлении второй потенции преодолевается, таким образом, только
благодаря тому, что он становится невидимым, может
возникнуть тот синхронный политеизм, вершиной которого является
греческий Зевс. Это множество богов или весь греческий Олимп
(сам Зевс) покоится на том, что Аид стал скрытым, невидимым.
Он именно в них стал невидимым, если бы он опять стал
видимым, они бы исчезли <...> об этом жилище Аида говорится, что
его самого страшатся боги; ведь если бы он из этого места смог
подняться и выступить вновь, весь мир внешних богов опять
был бы уничтожен»1.
Впечатляет, насколько близки эти слова тому, что сказано
у Гоголя, например, о «великом мертвеце» Петро, напрасно
силящимся подняться из земли и лишь страшно трясущим всю
землю - так небытие не может обрести собственного выражения
в реальности, собственной зримой и телесной формы и
выражается в мифотворчестве лишь сотрясая и коверкая видимый
мир, а открытое проникновение его означало бы лишь полное
отрицание, ничтожение этого мира: «Еще один, всех выше,
всех страшнее, хотел подняться из земли; но не мог, не в силах
был этого сделать, так велик вырос он в земле; а если бы
поднялся, то опрокинул бы и Карпат, и Седмиградскую и Турецкую
землю; немного только подвинулся он, и пошло от того трясение
по всей земле» [1, 278]. Иные персонажи и, прежде всего,
стоящий на высочайшей горе «дивный рыцарь» Иван, вдруг
ставший видимым всему миру в финале «Страшной мести»,
действуют на земле, в зримом мире лишь потому, что Петро не может
подняться из земли - в них и из-за них он остается невидимым.
Осирисом, Тифоном он является только в противоположность Осирису,
а после того как последний осуществил себя в нем, он сам есть Осирис,
и только как такой обращенный в Осириса Тифон он невидим, является
повелителем невидимого царства, подземного мира, в свое в себе
отступившим богом» (Там же. С. 485).
1Там же. С. 491-492.
108
То же самое касается Вия (духа земли!): его незримым
присутствием, его страшным взглядом проникнута вся гоголевская
повесть, даже природа, окутанная чарами, спит с открытыми
глазами и «глядит» ими на Хому («Леса, луга, небо, долины -
все, казалось, как будто спало с открытыми глазами»), однако
сам Вий может открыть глаза, увидеть и стать видимым лишь
на мгновение - и то лишь если другие приведут его и
поднимут ему веки. Вий не должен быть видим, поэтому-то глянуть
на Вия - значит, дать ему увидеть себя, впустить его в реальность
и погибнуть. Стоит Вию поднять веки - вся жизнь и всякое
действие в зримом мире обрываются: Хома Брут падает замертво,
гномы окаменевают.
В «Ревизоре» те же мотивы погружены в веселую и
возвышенно-легкомысленную атмосферу, но ясно, что и здесь заглавный
герой, настоящий Вий из Петербурга - как боятся чиновники
его всевидящих глаз! - остается невидимым и лишь на секунду
заявляет о себе в самом конце. Заявляет - и все действие тут же
застывает на месте. Ревизор не может появиться на сцене открыто,
не остановив и не разрушив этим всю пьесу, не опрокинув, как
Петро, всю землю.
Ключевые фигуры, противостоящие невидимым героям
Гоголя, делающие их невидимыми - это практически
воплощения смеха: Хлестаков, Хома Брут как бы сосредотачивают в себе
ту силу, что творит зримый, вокруг них вращающийся у Гоголя
мир, смех оформляет этот мир и хранит его границы. Даже
безжалостный мститель Иван силу и торжество свое выражает
всепобеждающим, страшным смехом: «Как гром, рассыпался
дикий смех по горам и зазвучал в сердце колдуна, потрясши
все, что было внутри его» [1, 278]. Этот громоподобный дикий
смех и есть «страшное величие», самое существо поджидавшего
колдуна рыцаря. Колдун, как и грешные предки его, не
смеется, больше всего он страшится смеха Ивана. В этом смехе нет
ничего светлого и радостного, и все же Гоголь упорно говорит
не о воплях, визгах или злобной усмешке, которые присущи
панночке и мелким бесам, а именно о смехе. Иван бесконечно
109
сильнее всей нечисти на свете, грозный рыцарь именно смеется,
каждое решающее деяние свое, всю свою месть он сопровождает
смехом. В этом мстительном смехе (рассыпающемся по горам
с вершины мира!), оборотной стороне того вечного, высокого
и очеловечивающего смеха, что присущ Гоголю обычно, скрыта
какая-то мрачная тайна.
Очень непросто определить, какова третья апофатическая сила,
стоящая за мифотворчеством Гоголя. Ясно, что она необходима,
как органическая связь и сопряжение первых двух: небытия
и смеха - связь, без которой ни одна из них не могла бы быть
определена как таковая, и стало быть, существующая наравне с ними,
а не в качестве их деривата. Ясно также, что связь эта должна
удерживать две эти силы как бы в одном фокусе, должна
соединять в себе мотивы абсурдного, хрупкого, лишенного всяких
оснований и правдоподобия мира, которым правят случайность и
простая привычка, в котором более чем реальны нечисть и черная
магия, и мира по-своему величественных вечных скульптурных
форм под куполом прекрасного неба.
Это должен быть такой взгляд, для которого удивительным
может оказаться любая из перечисляемых Гоголем мелочей,
а обычно почитаемые знаки силы и власти, вроде орденов
и мантий - никчемной мишурой. Такой - которому горе, грех
и сама смерть словно незнакомы: здесь они в основном
карнавальные, как говорил Бахтин, ненастоящие. Но в то же время
любая неправда и несправедливость выглядят огромными,
неописуемо нелепыми для этого взгляда, с великой
искренностью и почти наивностью ищущего правды и добра. Впрочем,
в добро он верит также буквально, как в ведьму и черта. Любая
банальная ложь для него столь же непонятна и отвратительна,
как лезущий из земли мертвец. Все самое обычное ему кажется
огромным, неведомым и чудным, с равной легкостью
вызывающим и искренний смех, и глубокие слезы.
Таков мифологический мир Гоголя, таким его делают
взаимосвязанные тайные превосходящие сознание человека и
предшествующие ему силы. Мне думается, что точнее всего описать таким
ПО
образом увиденный и мифологически воссозданный мир можно
как мир ребенка, а тот взгляд на него, что обобщает
беспочвенность и величие, вечное отрицание и вечный смех - как детский
взгляд. Мир Гоголя - это мир, увиденный ребенком. Конечно,
образ ребенка нельзя считать апофатическим, но у Гоголя
практически нет образов детей, которые открыто были бы описаны
как дети. Дети Манилова, например, мало чем отличаются от их
взрослых родителей, это дети, увиденные как маленькие
взрослые, какие-то искусственно выведенные пером дети. Скорее все
гоголевское мифотворчество и все конкретные его образы носят
на себе отпечаток детского отношения к миру и к людям. Также
как смех и небытие, ребенок не появляется у Гоголя в явном
и законченном изображении, в его мире он также - всюду
и нигде: как синтетический взгляд на этот мир он не может
оказаться простой его частью. Далее мы вернемся к анализу этой
апофатической силы мифотворчества Гоголя: к детскому
видению мира как к неисчерпаемому в слове и в образе источнику
загадочности и одновременно убедительной реальности
гоголевских произведений.
Итак, апофатизм - предельное основание и синтез всех
ключевых мотивов гоголевского мифотворчества. Мифотворчество
не изобретение человеческого сознания, скорее действующие
в нем силы сами делают сознание возможным. Именно в апо-
фатике трех нечеловеческих сил, косвенно
свидетельствующих о себе в творениях Гоголя, последние становятся
мифологией: не аллегорическим изображением «реального» мира,
а тавтегорическим мифотворчеством, не странным или
карикатурным удвоением реальности, а самостоятельной
реальностью, сюжеты и образы которой означают лишь самих себя. Их
форма - это и есть их подлинный смысл, хотя, с другой стороны,
их смысл никогда не есть одна какая-нибудь форма, что
необходимо выражается в нескончаемой череде сменяющих друг друга
образов и форм. Формы эти скульптурны, неизменно телесны,
миф вообще знает лишь один план бытия: он весь сводится
к чисто внешним, физическим чертам и телесным обличиям.
111
Дело в том, что стоящие за всем процессом мифотворчества
нечеловеческие силы, хотя и нуждаются в выражении в чем-то
отличном от них самих, не могут получить здесь
исчерпывающего представления, или воплощения, поэтому
мифологические образы не отсылают к какому-либо абстрактному
содержанию и смыслу, которые можно было бы помыслить отдельно
от их телесного выражения в мифе. В самих этих телесных
формах, в имманентном мире без отсылок к неведомым
трансцендентным целям и образцам, гоголевское мифотворчество
стремится разглядеть величие и осмысленность, запечатлевая их
в вечности, подобной куполу неба.
112
Глава 4. Судьба и смех
Анализируя гомеровский эпос, Лосев отмечает, что
«эпический стиль слишком заинтересован в изображении и
бесконечном любовном рассматривании вещей внешнего мира, а также
и людей с их внешней стороны»1. Мы видели, что таков и стиль
Гоголя, возводящий мир себе довлеющих скульптурных форм,
любовно запечатлеваемых в вечности. Этот вечный телесный мир
не знает трансцендентных положенных ему целей и управляющих
им абстрактных законов: в нем господствует нелепая случайность,
и разум не находит в нем своего отражения в виде ясного,
разумного порядка. Собственно, разум и воля человека, его
переживания и страсти не выделяются здесь как автономные силы,
противостоящие внешнему миру, наоборот, они сами имеют лишь чисто
внешнее, физически-телесное выражение: всякая res cogitans
растворяется у Гоголя в абсолютной, мифической res extensa.
Поэтому замкнутый на себе скульптурный мир Гоголя
управляется только самим собой, причем, загадочным, вольным,
непонятным образом. Человек и его воля как телесные компоненты
этого мира не только не в силах противостоять ему, но не могут
и просто обособиться от него. Единственное, чем может быть
такое слепое самоопределение мира - это неведомая, но
всесильная судьба, непосредственно руководящая всеми
гоголевскими героями на каждом шагу. В их жизни, во всем
происходящем у Гоголя нет ни логики, ни закономерных связей, есть
только вездесущая судьба: судьба выступает в его творчестве
еще одним важнейшим и совершенно необходимым
мифологическим мотивом.
1 Лосев А. Ф. Гомер - М.: Молодая гвардия. 2006. С. 381.
113
Судьба приобретает здесь, прежде всего,
художественно-эстетическое содержание: она придает таинственные, но всеобщие
и непосредственные связность и гармоничность гоголевскому
миру, отвергающему всякую иную гармонию - логическую или
моральную. К схожим выводам приходит Лосев в исследованиях,
посвященных Гомеру: «Судьба как эстетическая идея есть не что
иное, как обоснование видимой, осязаемой,
живописно-пластической и блестящей действительности ею же самой, без
возведения ее к каким-то еще другим более высоким началам»1.
Неслучайно «поэму» Гоголя с поэмой Гомера сравнили
незамедлительно после ее появления - по мнению самого Гоголя, сравнили
поспешно, но в целом верно: гомеровский эпос был не
результатом, а целью гоголевского творчества, до древнего эпоса ему еще
предстояло дорасти2.
Константин Аксаков как бы сразу раскрыл тайные замыслы
Гоголя, противопоставив его «эпическое миросозерцание»
анекдотической по духу романистике, ставящей во главу угла
увлекательные сюжеты и логику стремительно сменяющих друг
друга событий: «И вдруг среди этого времени возникает древний
эпос со своею глубиною и простым величием - является поэма
Гоголя. Тот же глубокопроникающий и всевидящий эпический
взор, то же всеобъемлющее эпическое созерцание»3, - пишет
он о «Мертвых душах». Как и эпос Гомера, эта поэма
«представляет вам целую сферу жизни, целый мир, где опять, как у Гомера,
свободно шумят и блещут воды, всходит солнце, красуется вся
природа и живет человек, - мир, являющий нам глубокое целое,
глубокое, внутри лежащее содержание общей жизни,
связующий единым духом все свои явления. Но нам не того надо: нам
нужно внешнего содержания, анекдота, шарады, - и дичится
1 Там же.
2 Об этом см. Терц А. В тени Гоголя - London: Overseas Publications Interchange.
1975. С. 447-448.
3Аксаков К. С. Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова,
или Мертвые души» // Н. В. Гоголь: pro et contra - Μ.: РХГА, 2009. С. 85.
114
давно избалованное эстетическое чувство, как ребенок,
которого сажают за дело. В поэме Гоголя является нам тот древний,
гомеровский эпос; в ней возникает вновь его важный характер,
его достоинство и широкообъемлющий размер»1. Действительно,
у Гоголя нет как таковых сюжетов, в которых одно деяние или
событие поясняло бы и требовало другое, здесь каждое
происшествие находит свое основание не в связи с другими
происшествия, а словно в самом себе и непосредственно в том глубинном
мировом целом, о котором пишет Аксаков2.
Это глубинное целое, эпическое миросозерцание Гоголя и есть
судьба, пришедшая из древней мифологии и нашедшая здесь
эстетическое воплощение в прекрасном скульптурном мире.
«Некоторым может показаться странным, что лица у Гоголя
сменяются без особенной причины, - продолжает Аксаков, - это им
скучно; но основание упрека лежит опять в избалованности
эстетического чувства, у кого оно есть. Именно эпическое
созерцание допускает это спокойное появление одного лица за другим,
без внешней связи, тогда как один мир объемлет их, связуя их
глубоко и неразрывно единством внутренним»3. Правда, слова
1 Там же.
2 В «Театральном разъезде» Гоголь сам указывает на то, что
художественное творение должно быть всеохватным по своему замыслу и
устройству - в нем нет главного и второстепенного, великого и незаметного:
все частности должны быть отмечены и облагорожены причастностью к
целому и только в целом становиться понятными и значительными: «...
вообще ищут частной завязки и не хотят видеть общей. Люди
простодушно привыкли уж к этим беспрестанным любовникам, без женитьбы
которых никак не может окончиться пьеса. Конечно, это завязка, но какая
завязка? - точный узелок науглике платка. Нет, комедия должна вязаться
сама собою, всей своей массою, в один большой, общий узел. Завязка
должна обнимать все лица, а не одно или два, - коснуться того, что
волнует более или менее всех действующих. Тут всякий герой; течение и ход
пьесы производит потрясение всей машины: ни одно колесо не должно
оставаться как ржавое и не входящее в дело» [5,142].
3Аксаков К. С. Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова,
или Мертвые души» // Н. В. Гоголь: pro et contra - Μ.: РХГА, 2009. С. 86.
115
Аксакова были несколько абстрактными и слишком
восторженными, чтобы быть принятыми всерьез: славянофил
прочувствовал, но не прояснил мифологический смысл и мифологические
истоки этого глубокого внутреннего единства гоголевского мира.
Именно миф - та общая почва, то единое «незапамятное бытие»,
что лежит в основе гомеровского и гоголевского миросозерцания.
Стоит устранить или не заметить эту связь с общим истоком -
и сравнение с Гомером потеряет всякую убедительность. Так,
к примеру, весьма едко отреагировал на работу Аксакова
Белинский, для которого различия в содержании двух поэм - одной,
повествующей о великих войнах, героях и Богах, и другой,
изображающей бытовую пошлость и мошенничество проныры-
дельца - были слишком очевидны и велики, чтобы усмотреть
в «Мертвых душах» возрождение древнего эпоса. Не героизм
человека перед лицом грозного романтического Рока
описывает Гоголь, а его низость, невзрачную бытовую безысходность:
Гомеру здесь места нет, все место занимает один только Гоголь1, -
иронизирует знаменитый критик.
Аксаков настаивал на том, что сравнение с Гомером у него
не касается содержания, но имеет в виду только общий взгляд
на мир2, который, впрочем, способен производить духовную
перечеканку содержания - такую что любая мелочь, вроде колеса,
мухи и масти лошади, начинает жить у Гоголя своей собственной,
особой и таинственной жизнью3. Но замечания эти, весьма
^м. Белинский В.Г. Полное собрание сочинений в 13 томах. Т. 6. - М.:
Издательство Академии наук СССР. 1955. С. 416-417.
2 Он пишет: «Мы видим разницу в содержании поэм; в "Илиаде"
является Греция со своим миром, со своей эпохой, и, следовательно,
содержание само уже кладет здесь разницу; конечно, "Илиада" именно эпос, так
исключительно некогда обнявший все. не может повториться; но эпическое
созерцание, это говорим мы прямо, эпическое созерцание Гоголя - древнее,
истинное, то же, какое и у Гомера» (Аксаков К. С. Несколько слов о поэме
Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые души» // Н. В. Гоголь: pro
et contra - Μ.: РХГА, 2009. С. 85).
3 См. Там же. С. 87.
116
близкие тем выводам, что ранее сделали мы, сами по себе явно
оставались абстрактными и недостаточными для отклонения
простых и емких доводов Белинского. Сходство с Гомером
проясняется лишь тогда, когда мы распознаем в нем действие общих
мифологических мотивов, когда помещаем его в сложный
контекст гоголевского мифотворчества в целом. И, вероятно,
важнейшим из этих мотивов выступает мотив таинственной, но
всепобеждающей судьбы.
Инвективы Розанова, указывающего на анекдотический
характер произведений Гоголя, также бьют мимо цели, раскрывая
скорее гоголевское отношение к «реализму», к попыткам
изобразить якобы понятную «реальную» жизнь и «логику»
человеческих поступков: «В сущности, везде Гоголь рисует анекдот и
"приключение", даже в "великой русской поэме" своей ("Мертвых
душах"); за черту передачи "бывшего случая", т. е.
совершенных по сюжету пустяков, вот именно только "анекдота", душа
его не поднимается!..»1. По меркам «реализма» творчество
Гоголя именно таково, но все дело в том, что оно высмеивает
и отменяет подобные мерки. Розанов упускает из виду, что
растворяющаяся у Гоголя логика сюжета, как бы распадающегося
на отдельные дурно связанные пустяки и «анекдоты»,
сменяется иной, мифологической, их связью. Нелепый пустяк в
обыденной жизни оборачивается могучей судьбой в скульптурном
мире мифотворчества.
Как и в иных мифологических мотивах, в судьбе у Гоголя в
равной мере присутствуют нечеловеческие силы ничтожения,
небытия и созидательного смеха. Беспочвенными и бессвязными
делаются все события в гоголевском мире, однако, осененные смехом,
они приобретают выразительную скульптурную форму и
увековечиваются в ней. Эта внешняя форма, которая единственная
служит основанием и скрепой всего происходящего в
мифотворчестве Гоголя, и воплощает слепую, ни с чем не считающуюся,
1 Розанов В. В. Собрание сочинений. О писательстве и писателях - М.:
Республика. 1995. С. 226.
117
судьбу как имманентное единство замкнутого на себе телесного
мира: каждое событие непосредственно подчинено здесь
всевластной судьбе - и только ей.
С гомеровским эпосом произведения Гоголя сравнивает и
Брюсов, уподобляя событиям «Илиады» поистине эпические
картины сражений и воинских доблестей «казацкого рыцарства»
в «Тарасе Бульбе»: «В какую эпоху совершаются эти
героические деяния? - В Малороссии XVI века или в мифические
времена похода под Трою? Кто это рубит врагов надвое, один
одолевает пятерых, в ужас приводит всех нечеловеческим криком? -
запорожцы или герои Гомера, богоподобный Диомед, сын богини
Ахилл, пастырь народов Агамемнон?»1. Конечно, более поздние
произведения Гоголя производят впечатление скорее пародии
на героику поэм Гомера. Таково, например, мнение Синявского:
Гоголь, считает он, движется от низкого к высокому, от быта
к героизму, от пародии к мифу.
Гоголь создает бессобытийный эпос, эпос без эпоса, в котором
величественная форма обходится без величественного
содержания: «Благодаря контрасту со своим содержанием эпическое
созерцание Гоголя выигрывает в громадности, в своей
самоценной значимости и представляется шире, эпичнее всего, что мы
знаем и помним, наводя на память единственного в этом роде
поэта - Гомера. В значительной мере это продукт аберрации,
мираж, последствие разрыва эпического созерцания с эпосом»2, -
пишет Синявский. Однако в ином месте он отмечает, что и герои
«Мертвых душ» могут предстать как характеры эпические,
как сказочные герои и богатыри: «Гоголь возлагал надежды
не на лучшее, а на худшее в России. Посмотрите, какие
богатыри, силачи, мастера, фокусники и кудесники своего дела - эти
Чичиков, Ноздрев, Собакевич, Плюшкин... (Наименее вредный
1 Брюсов В.Я. Испепеленный. К характеристике Гоголя // Н. В. Гоголь: pro
et contra - Μ.: РХГА, 2009. С. 453-454.
2 Терц А. В тени Гоголя - London: Overseas Publications Interchange. 1975.
С. 453.
118
из них - Манилов - и меньше всех обнадеживает). Если
отрешиться от преходящего помещичьего племени, заменить пеньку
да сало чем-то посущественнее, переместить какой-то невидимый
рычажок в их застывших организмах и нажать курок, -
совершенно неизвестно, что в результате получится»1.
Юмористическое изображение этих богатырей не означает
их осмеяния, не кажет их аллегорическими псевдо-богатырями,
напротив, юмор и делает их самыми настоящими богатырями,
сродни гомеровским героям и богам. Ведь и они изображены
у легендарного поэта юмористически - как подчеркивает Лосев,
у Гомера «хохот блаженных небожителей не есть их
какой-нибудь несущественный признак, даже не есть их существенный
признак, их акциденция. Это самая их субстанция, внутренняя
форма их бытия. Хохот - это не "орегаге" богов, но их подлинное
"esse", их квинтэссенция»2. Однако гомерический хохот, на первый
взгляд, кажется весьма далеким от гоголевского смеха.
У Гомера боги смеются потому, что они боги: они бессмертны
и совершенны, и перед лицом их бессмертия все происходящее
в мире становится смешным. Люди рождаются, влюбляются,
устраивают войны, в которых богам бывает занятно
поучаствовать, страдают и умирают - богам забавно на это
посмотреть, для них все это лишь мелькающие, незапоминающиеся
мгновения. Глупости и мудрые слова, хвалы и оскорбления,
прекрасные и низкие поступки в вечности сливаются воедино:
Зевс и Гера, Посейдон и Афина на протяжении вечности
бесчисленное количество раз будут правы и неправы, мудры и нелепы,
справедливы и несправедливы, они без конца будут ссориться
и мириться, менять союзников и любимцев среди богов и людей.
Им не о чем жалеть, все их деяния еще миллион раз успеют
отмениться другими деяниями, все происходящее для них мимолетно,
несерьезно, поэтому божественность есть юмор, абсолютный,
не знающий преград смех.
1 Гам же. С. 401.
2Лосев А. Ф. Гомер - М.: Молодая гвардия. 2006. С. 358.
119
Гоголевские герои сами смеются редко, но смехом пропитана
их жизнь, смеется скорее сама судьба, господствующая в
гоголевском мире - вечная, себе довлеющая, как и сам этот мир.
Синявский считает, что к персонажам «Мертвых душ» у автора
и читателя складывается отношение презрительного равнодушия,
но любопытно, что более развернутое описание этого отношения
в его книге начинает напоминать отношение гомеровских богов
к миру и человеку: «спокойствие и бесстрастие дышат у Гоголя
не благостным примирением с жизнью и сочувствием к равно-
достойным избранникам рока, но презрительным безучастием
к одинаково пошлым хозяевам, продавцам и покупателям
мертвого груза. Нам всё равно, кто кого обыграет в шашки, кто кого
надует или поймает на надувательстве. Нас ничто не умиляет,
нам никого не жаль в гоголевском обществе»1. Так и у
хохочущих богов смех не связан со сколько-нибудь глубоким
умилением или жалостью - им тоже в конечном счете все равно, кто
кого в данный момент одолеет в войнах смертных и богов, ведь
в вечности расклад сил будет меняться снова и снова.
Боги смеются над людьми, потому что те пытаются жить,
любить, мыслить и воевать так, как будто они бессмертны.
Но боги смеются и друг над другом, а вот над камнями или
червяками не смеются: смешно то, в чем боги признают
божественность или ее подобие. Как мы видели, гоголевский смех
возвеличивает человека над его судьбой и его смертностью: человек
смеющийся возвышается над выпавшей ему участью, он не в силах
освободиться от судьбы и побороть ее, но смехом своим он
провозглашает и доказывает, что он и его судьба не одно и то же.
Смех отличает человека от «камня, наделенного сознанием»:
камень существует, но не знает, что он существует, не знает
управляющих им законов необходимости и конечной цели своего
движения, однако камню все равно, он слит со своей судьбой.
Человек тоже не знает своей судьбы и конечной цели, не знает
1 Терц А. В тени Гоголя - London: Overseas Publications Interchange. 1975.
С. 454.
120
сил, приводящих его в движение, но человеку смеющемуся не все
равно, он знает о своем существовании - знает именно потому,
что, смеясь, способен дистанцироваться от него.
Судьба и смертный час неведомы человеку, а смех
освобождает его от гнета этой мрачной тайны, на которую он, смеясь,
просто и спокойно смотрит как бы со стороны - таковы и
гомеровские герои. Лосев пишет об античном героизме: «Все
определяется судьбой? Прекрасно. Значит, судьба выше меня? Выше.
И я не знаю, что она предпримет? Если бы я знал, как судьба
обойдется со мной, то поступил бы по ее законам. Но это
неизвестно. Значит, я все равно могу поступать как угодно. Я - герой»1.
Поэтому в мире, которым правит судьба, человек смеющийся
и обретает жизнь сравнимую с божественной.
Гоголевские богатыри принадлежат вечности, их
скульптурные формы освобождаются от времени, от бессмысленной
подвижности и суеты, а потому их мироощущение близко
божественному у Гомера: и в том, и в другом случае смех защищает
достоинство бога или уподобляющегося богу человека перед
лицом в равной степени управляющей ими судьбы. Смех и есть
их достоинство, он не имеет аллегорического смысла - к
примеру, морально-осудительного или социального - это чистый
смех, источник которого заключен не в мире и его недостатках,
а в самой человечности, это «тот смех, который весь излетает
из светлой природы человека, излетает из нее потому, что на дне
ее заключен вечно биющий родник его» [5,169].
Если у Гомера боги смеются, потому что они вечны и
могущественны, то у Гоголя, скорее, наоборот - человек достигает
вечности и силы перед лицом судьбы, потому что способен
рассмеяться («засмеяться добрым, светлым смехом может только
одна глубоко добрая душа» [5,170]). Неслучайно, говоря о
гоголевской «пародии» на эпос Гомера, Синявский отмечает, что
1 Лосев А. Ф. Двенадцать тезисов об античной культуре // Лосев А. Ф., Тахо-
Годи A.A. и др. Античная литература: Учебник для высшей школы - 5-е
изд., дораб. - М.: ЧеРо. 1997.486.
121
«пародия здесь больше служит формой прикровенного
влечения к высокому подлиннику и говорит о стремлении встретиться
с ним на иной, противоположной основе»1. Также и здесь, в
вечном скульптурном мире под прекрасным небом, смех «Сорочин-
ской ярмарки», «Старосветских помещиков», «Ревизора», «Носа»
или «Мертвых душ» выражает «чистое искусство
юмористической самозначимости жизни», как Лосев сказал о жизни
греческих богов.
Конечно, смех и у Гомера, и у Гоголя связан с невидимыми
человеческими слезами, с бессмысленными страданиями и нелепой
смертью, но у обоих мифотворцев смех создает такой образ мира,
в котором трагическая судьба человека отступает перед самим
человеком, преобразуется смехом и перестает быть только
трагической. Лосев так подытоживает свой анализ гомерического
хохота: «Гомеровские боги, как и всякие боги, управляют миром.
Но мир у них получается довольно ущербный и полный всяких
недостатков. А им, бессмертным, это и не важно, даже вполне
безболезненно и ни к чему их не обязывает. У них ведь
универсальная и вечно движущаяся полнота универсальной энергии,
а в мире, которым они управляют, все погибает, то рождаясь, то
умирая, и потому все плачет. Вот и получается и хохот и
трагедия, космический хохот и космическая трагедия. Получается
мистерия и оперетта одновременно, трагедия и юмор в их полной
одновременности и даже неразличимости»2. Но ведь именно
таким предстает нам созданный Гоголем мир: мир «Ревизора»,
«Носа» и «Мертвых душ» - ущербный и полный всяких
недостатков, однако вполне безболезненный, даже милый и родной.
Насколько, казалось бы, безнадежны и «Мертвые души»,
и «Ревизор»! Здесь - мошенник Чичиков остается
единственным, кто еще способен двинуться с места, остальным ехать уже
некуда: Манилову, Собакевичу, Плюшкину незачем садиться
1ТерцА. В тени Гоголя - London: Overseas Publications Interchange. 1975.
С. 449.
2Лосев Α. Φ. Гомер - Μ.: Молодая гвардия. 2006. С. 368-369.
122
в «рессорную бричку, в какой ездят холостяки». Там - все от мала
до велика воры и подлецы без капли совести, нет на них управы,
некому защитить справедливость, и сам ревизор - пустая
подделка. И все же не ужас и нравственное негодование перед
«космической трагедией», но скорее «космический хохот»
охватывает нас при чтении этих шедевров мифотворчества. Как пишет
о «Ревизоре» Синявский, «...и нет ни малейшего выхода, как
если бы в целой России не нашлось ничего достойного, ни одной
светлой точки. А нам море по колено, мы катаемся от хохота,
веселимся, как на своих именинах, и не испытываем, признаться,
никаких в душе угрызений. Боже мой, это же смешно!»1 Вот это
и есть подлинно гомеровское миросозерцание в мифотворчестве
Гоголя. Правда, Синявский считает, что персонажи «Мертвых
душ» лишаются того светлого беззаботного очарования, который
смех придает героям и событиям «Ревизора», но это
противопоставление кажется искусственным.
Смех у Гоголя повсеместно отстаивает человеческое
достоинство, даже самое незначительное и невзрачное человеческое
существо он способен сделать эпическим героем мифа. Именно
гоголевский смех позволяет, например, Бобчинскому заявить
о себе: «Я прошу вас покорнейше, как поедете в Петербург,
скажите всем там вельможам разным: сенаторам и адмиралам, что
вот, ваше сиятельство или превосходительство, живет в таком-то
городе Петр Иванович Бобчинский. Так и скажите: живет Петр
Иванович Бобчинский... Да если этак и государю придется, то
скажите и государю, что вот, мол, ваше императорское
величество, в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский» [4,
66-67]. Он и сплетник, и дурачок, но все же и он вправе сказать:
«живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский» - и я тоже
существую, и я тоже человек! Смех сатирика растоптал бы это
комичное притязание на собственное достоинство,
мифологический смех призван обессмертить его.
1 Терц А. В тени Гоголя - London: Overseas Publications Interchange. 1975.
С. 109.
123
Фантазии Хлестакова и городничего, Ляпкин-Тяпкин,
берущий взятки борзыми щенками, сумасшествие Поприщина,
вообразившего себя «королем испанским Фердинандом VIII»,
преображение безропотного Акакия Акакиевича в грозного
мстителя, возвышение прохвоста Чичикова до мифического героя,
вечно скачущего на свой неудержимой тройке, как на сказочной
колеснице, до «Дон Кихота», «странствующего рыцаря денег»,
как сказал о нем Мережковский - все это
сказочно-мифическое воплощение несказанных слов Акакия Акакиевича: «Я брат
твой», я тоже совершенно особенная, по-своему удивительная
и значительная личность.
Смех заставляет весь мир, все человечество обратить внимание
на конкретного, никем не замеченного человека, ставшего теперь
вровень с вечным человечеством - так, ко всему миру
обращается Городничий: «Вот смотрите, смотрите, весь мир, всё
христианство, все смотрите, как одурачен городничий!» [4,93]. В его
словах действительно звучит «космическая трагедия»,
неотделимая от «космического хохота» - трагедия в древнем,
аристотелевском, очищающем и величественном смысле: неслучайно
Бахтин пишет, что «смеющийся сатирик не бывает веселым. В
пределе он хмур и мрачен. У Гоголя же смех побеждает все. В
частности, он создает своего рода катарсис пошлости»1.
Мережковский полагает, что «Записки сумасшедшего»,
«Шинель» и «Ревизор» исполнены призрачным
самоутверждением в действительности беспомощных, «пустейших» людей:
«Во всех трех случаях личность мстит за свое реальное
отрицание; отказываясь от реального, мстит призрачным,
фантастическим самоутверждением. Человек старается быть не тем, что есть
во всякой человеческое личности и что кричит из нее к людям,
к Богу: я - один, другого подобного мне никогда нигде не было
и не будет, я сам для себя все - "я, я, я!" - как в исступлении
1 Бахтин М.М. Рабле и Гоголь (Искусство слова и народная смеховая
культура) // Вопросы литературы и эстетики - М.: Художественная
литература. 1975. С. 495.
124
кричит Хлестаков»1. Но в мифе нет различий между
«фантастическим» и «реальным»: не персонажи Гоголя прячутся в своих
фантазиях, защищаясь ими от суровой реальности, но сам Гоголь
создает особую, автономную реальность мифа, в которой мелкие
чиновники и дельцы становятся героями, даже богами,
живущими вечно.
Смех Гоголя создает катарсис, очищающее сопереживание
перевернутого, нелепого мира, уподобляющегося вечному
куполу неба2 - и в высшей точке этого сопереживания смех уже
не противостоит силе судьбы, а сливается с ней в
нерасторжимое целое. Осененный смехом мир прекрасен и вечен, а значит
и участь человека как части этого мира так же прекрасна: смех
не внешнее расположение к миру, а само основание его,
внутренний его порядок, ведь, как мы видели, только смех и придает
ему его устойчивые скульптурные формы, смех - это его судьба.
Получается, что смеющаяся душа человека сливается с судьбой,
дающей основание и единство всему происходящему в этом мире,
становится столь же могучей и вечной, как сама судьба. Поэтому
слабый, казалось бы, гоголевский герой и «возрастает, как
исполин, среди бед», вырастает до размеров целого мира, который он,
как городничий, призывает в свидетели своего существования.
Думается, именно так стоит понять знаменитые слова
«Театрального разъезда» - в смехе человек сливается с огромным
смехотворным миром, с его комизмом и величием, его силой
и бессмертием: «Что признавалось пустым, может явиться
1 Мережковский Д. С. Гоголь и черт: Поэзия; Гоголь и черт: исследование;
Итальянские новеллы - М: Книжный Клуб Книговек. 2010. С. 182.
2 Цитируя «Сорочинскую ярмарку», Синявский отмечает: «"Небо, зеленые
и синие леса, люди, возы с горшками, мельницы - всё опрокинулось,
стояло и ходило вверх ногами, не падая в голубую прекрасную бездну".
Таков юмор Гоголя - любовь в нем вторит смеху и опрокинутая
действительность кажется небом, в котором всё, стоя на голове, настраивает на
возвышенный лад, смешит и восхищает, запечатленное в странном ракурсе
и мигом перешедшее в образ оформленного уже совершенства» (Терц А.
В тени Гоголя - London: Overseas Publications Interchange. 1975. С. 140).
125
потом вооруженное строгим значеньем. Во глубине холодного
смеха могут отыскаться горячие искры вечной могучей любви.
И почему знать - может быть, будет признано потом всеми, что
в силу тех же законов, почему гордый и сильный человек
является ничтожным и слабым в несчастии, а слабый возрастает,
как исполин, среди бед, - в силу тех же самых законов, кто льет
часто душевные, глубокие слезы, тот, кажется, более всех
смеется на свете!..» [5,171]. Неслучайно Гоголь в изображении своего
вечного скульптурного мира под сенью светлого смеха начинает
неожиданно напоминать Спинозу.
Казалось бы, нет ничего столь противоположного друг другу
и друг друга исключающего, как миры Гоголя и Спинозы -
абсурдный мир случайностей, недоступный никакой
рациональности и смеющийся над нею, и мир нерушимых логических
законов, абсолютно разумный и рационально-прозрачный. Мир
Гоголя невозможно понять, только видимый смех и невидимые
слезы могут подступиться к нему; у Спинозы, на первый взгляд,
все наоборот: не плакать, не смеяться, не ненавидеть, но
понимать - требует он. Однако эта популярная формулировка крайне
неточна, в действительности в «Политическом трактате» сказано:
«Я постоянно старался не осмеивать человеческих поступков,
не огорчаться ими и не клясть их, а понимать»1. В «Этике»
Спиноза подчеркивает: «Между осмеянием (которое, как я сказал
в кор. 1, дурно) и смехом я признаю большую разницу. Смех точно
так же, как и шутка, есть чистое удовольствие, и, следовательно,
если только он не чрезмерен, сам по себе (по т. 41) хорош»2. Чистый
смех не один из спинозовских аффектов, он не вступает в
конфликт с чистым разумом, напротив, сопутствует ему.
У Спинозы порядок непротяженного мышления и порядок
протяженных вещей суть две транскрипции одного логически
нерушимого порядка, два атрибута одной субстанции, безличного
1 Спиноза Б. Избранные сочинения в двух томах. Т. 2. - М.:
Государственное Издательство политической литературы. 1957. С. 288.
2 Спиноза Б. Сочинения. В 2-х томах. Т. I. - СПб.: Наука, 1999. С. 426.
126
спинозовского Бога, воплощающего собой чистый разум. Поэтому
в чистом мышлении человек не просто постигает разумность Бога,
неотличимую от разумности мира, но непосредственно
соучаствует в ней, сливается с божественным бытием. Его удел в мире
разумной необходимости открывается ему как столь же
разумный и единственно верный, как и все то логическое целое мира
и Бога, которому он безраздельно принадлежит. В области
чистого разума поэтому свобода человека поистине есть познанная
необходимость (свобода не иллюзия, она есть) в смысле
соединения со своей разумной судьбой, вся мощь которой при этом
питает и хранит человека.
У Гоголя же схожий идеал увековечивания человека в
мировом целом достигается не в чистом мышлении, а в чистом смехе,
воплощенном, с одной стороны, в скульптурном мире, с другой -
в смеющейся душе человека. Для разума судьба не более, чем
набор неразумных случайностей, темных и чужих, но чистому
смеху она глубоко конгениальна, в смехе и благодаря ему человек
становится столь же комически-величествен, как и весь
объемлющий его смехотворный, но подобный небу гоголевский мир.
Абсолютная рациональность Спинозы сменяется здесь
абсолютной иррациональностью смеха, но результаты во многом схожи:
две грандиозные вселенные замирают в скульптурной вечности -
как достоверное знание Спинозы есть знание sub specie aeternitatis,
так и светлый смех Гоголя есть смех sub specie aeternitatis.
Неслучайно у Гоголя все простые аффекты, вроде страхов
и надежд, все волнения, стремления, молитвы и покаяние
отступают и улетучиваются перед силой его смеха так же, как
отступали они перед силой чистой мысли у Спинозы. Надеяться,
страшиться, молиться и каяться, считал философ, вдвойне глупо
и безнравственно - все это значит не понимать своей судьбы как
единственно возможной и единственно разумной. У Гоголя же все
это становится вдвойне пустым и нелепым в совершенно
неразумном мире, которым управляет смеющаяся судьба - в этом
мире никто не кается, но и призвать к покаянию некого, и даже
самый мрачный ужас, в конечном счете, уступает место комизму,
127
как беспомощные мольбы Поприщина (безличную судьбу молить,
конечно, бесполезно) оканчиваются вдруг знаменитым
замечанием: «А знаете ли, что у алжирского дея под самым носом
шишка?».
Действительно, все гоголевские герои-богатыри: Чичиков,
Ноздрев, Собакевич, Плюшкин и другие не знают ни покаяний,
ни молитв, ни страхов, ни надежд (чувства их, как мы видели
чисто скульптурны), они гармонично величественны и спокойно
соразмерны вечной судьбе, царящей в их нелепом мире.
Определенно, есть в этих богатырях немало от
интеллектуально-нравственного идеала Спинозы.
Как у Спинозы неразличимы разум, Бог и мировой порядок,
так что творение мира и чистое мышление sub specie aeternitatis
суть в сущности одно и то же, так у Гоголя смех и созидание мира
в сущности не различаются, его мифотворчество - это
пантеизм смеха. Бахтин говорит об этом словами, напоминающими
статью Аксакова: «Гоголь глубоко чувствовал
миросозерцательный и универсальный характер своего смеха и в то же время
не мог найти ни подобающего места, ни теоретического
обоснования и освещения для такого смеха в условиях "серьезной"
культуры XIX века <...> Гоголь невольно снижал, ограничивал,
подчас искренне пытался заключить в официальные рамки ту
огромную преобразующую силу, которая вырвалась наружу в его
смеховом творчестве»1.
Пропп приводит множество примеров мифологических
сюжетов и мотивов, связанных с сотворением мира смеющимся
Богом - причем божественный смех не сопровождает творение
мира, смех и есть само творение: «В греко-египетском трактате
о создании мира говорится: "Семь раз рассмеялся бог, и
родились семеро охватывающих мир богов. В седьмой раз
рассмеялся он смехом радости, и родилась психе" (Нор., с. 66; Ферле,
1 Бахтин М.М. Рабле и Гоголь (Искусство слова и народная смеховая
культура) // Вопросы литературы и эстетики - М.: Художественная
литература. 1975. С. 490.
128
с. 2). В гекзаметрическом гимне некоего платоника на Гелиосе
говорится: "Твои слезы - полный боли род людей. Смеясь
произвел ты на свет священный род людей" (Нор., с, 66). И, наконец,
в лейденском папирусе III века н, э. говорится: "Бог засмеялся,
и родились семь богов, которые управляют смертью... Когда он
засмеялся, появился свет... Он засмеялся во второй раз, все стало
водой. С третьим раскатом смеха появился Гермес" и т. д. (Рей-
нак, с. 112). Мы видим, таким образом, что божество, смеясь,
создает мир или смех божества создает мир»1. Несомненно, эти
отрывки, как нельзя более точно, передают характер
мифотворчества Гоголя2. Его вечный смех как бы заступает место спино-
зовского Бога, так что все мнимо отдельные и особенные вещи
и явления этого мира, на самом деле, являются только
модусами этой бесконечной субстанции мифологического смеха.
Показать это очень просто, и во многом мы сделали это в
предыдущих главах: достаточно взять любую гоголевскую сцену,
скажем, знаменитое начало «Мертвых душ», разговор двух
мужиков по поводу колеса чичиковского экипажа, или сцену
игры в шашки Ноздрева и Чичикова, любой очеловеченный
у Гоголя предмет, вроде часов Коробочки, шарманки Ноздрева
или стульев Собакевича, наконец, любого персонажа, чтобы
понять, что вне объемлющих их комизма и смеха все они
немедленно потеряли бы всякую выразительность и индивидуальность.
Только миросозерцательный смех и придает им убедительную
неповторимость и незабвенность. Гоголь смеется - и смех этот
раскрывается в мире бесконечных удивительных, внешне
разрозненных происшествий и форм, увязанных, однако, этим смехом
в одно прочное целое, из которого их уже невозможно изъять.
Гоголь смеется - и перед нами возникает гомеровский по духу
эпос и миф, в котором мелкие мошенники и мелкие чиновники
1 Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха. Ритуальный смех в фольклоре
(по поводу сказки о Несмеяне). - М.: Лабиринт. 1999. С. 236.
2 Схожие выводы делает Синявский - см. Терц А. В тени Гоголя - London:
Overseas Publications Interchange. 1975. С. 136-138.
129
становятся исполинами, их невзгоды и преступления -
достойными эпоса деяниями.
Как пишет Синявский, «одно дело - кто-то берет взятки, как
берут их все, выступая в безличном, собирательном значении
"взяточника", и совсем иное дело, принципиально иное, как
справедливо утверждает Аммос Федорович, судья Ляпкин-Тяпкин, - когда
кто-то берет их борзыми щенками. Это уже не просто порок, но зов
души и поэма сердца - не маска, но состроенная из-под
общечеловеческой маски живая рожа - лицо»1. И схожие трансформации
смех совершает у Гоголя практически со всеми его персонажами.
Многие гоголевские сцены и герои совершенно не нужны
для развития сюжета, они абсолютно бессодержательны и никак
не связаны с повествованием в целом - как знаменитый учитель
истории, ломающий от увлечения стулья и строящий с кафедры
невообразимые рожи, лишь на миг появившийся в «Ревизоре»,
а потом напрочь забытый повествователем, но навсегда
запомнившийся читателю. Все подобные герои и эпизоды - лишь
модусы бесконечного смеха, ему, а не «логике» сюжета обязаны
они своим существованием и своей исключительностью. Это
возвращает нас к Аксакову: увиденное и описанное им эпическое
миросозерцание Гоголя, придающее его мифотворчеству
глубинное внутреннее единство, не зависящее от сюжета, есть
одновременно мифическая судьба и мифический смех, в которых
совпадают комичность и величественность, беспомощность и
богатырство гоголевских героев.
Судьба была одной из центральных проблем в творчестве
великих современников Гоголя: можно уверенно сказать, что
все зрелые произведения Пушкина, Лермонтова или
Баратынского в огромной степени написаны о судьбе. Отсюда их
бесконечные дуэли, карты: все это лишь разные способы испытать
судьбу, встретиться с ней лицом к лицу. Нередко и им
всесильная и вечная судьба виделась смеющейся над человеком,
силящимся управлять своей жизнью:
1Тамже.СЛ27.
130
Не властны мы в самих себе
И, в молодые наши леты,
Даем поспешные обеты,
Смешные, может быть, всевидящей судьбе.
Однако Баратынского, кажется, не занимал вопрос о
характере этого смеха: как именно смеется судьба - бессмысленно,
холодно и безжалостно или мягко, мудро и тепло? Куда важнее
для Баратынского, тем более - для Лермонтова в «Герое нашего
времени», был вопрос о том, действительно ли человеком владеет
безликая судьба, перечеркивающая личность, ее свободу и
достоинство? Но в мифотворчестве Гоголя этот вопрос, так долго
мучивший Печорина и стоявший за каждым его поступком, был
решен. Мучительной тайной для Гоголя оставалась скорее
природа смеющейся судьбы, или судьбоносного смеха: если
нечеловеческая сила отрицания и небытия необходимо присутствуют
в самом мотиве судьбы, то не обернется ли она скорее тайной злой
волей, бесовскими кознями, нежели возвышенно-бесстрастным
гомеровским Роком? Величественно ли смеется судьба или
гримасничает, как черт, прыгнувший Вакуле на шею?
«- Тому не нужно далеко ходить, у кого черт за плечами», -
равнодушно говорит Вакуле Пузатый Пацюк. Гоголевское
мифотворчество вновь и вновь выказывает страх перед тем, что судьба,
без которой оно не может обойтись, окажется вдруг просто
злокозненным чертом за плечами. Впрочем, «Ночь перед
рождеством», как и «Ревизор», и «Мертвые души», исполнена светлым
смехом, защищающим достоинство и уникальность каждого
человека. «Вий» и в особенности «Страшная месть»
пропитаны иным, жутким и тяжелым, смехом - псевдо-смехом псев-
до-судъбы, за которыми скрывается безжалостная мстительная
воля. Вероятно, ужас «Страшной мести», сопоставимый по силе
со смехом «Ревизора», чисто гоголевский, мифический ужас
заключается более всего в том, что произведение это живет, как
призрак, или не нашедший покоя труп, гоголевского смеха. Смех
многократно упоминается в «Страшной месте», но здесь слова о
смехе не отзываются действительным смехом в душе читателя.
131
«Не мог бы ни один человек в свете рассказать, что было на душе
у колдуна; а если бы он заглянул и увидел, что там деялось, то
уже не досыпал бы он ночей и не засмеялся бы ни разу» [1,277], -
так и человек, заглянувший в «Страшную месть», не в силах
смеяться, слыша властвующий в ней нечеловеческий смех.
Загадочный рыцарь, взирающий с вершины мира на
неотвратимо свершающуюся свою месть - один из самых мощных
символов судьбы у Гоголя: «И то все так сбылось, как было
сказано: и доныне стоит на Карпате на коне дивный рыцарь, и видит,
как в бездонном провале грызут мертвецы мертвеца, и чует, как
лежащий под землею мертвец растет, гложет в страшных муках
свои кости и страшно трясет всю землю...» [1, 282]. Судьба,
оборачиваясь жестокой волей мстителя, и здесь сливается у Гоголя
со смехом - но со смехом диким, невыносимым. С самого
рождения несчастный колдун проклят именно смехом: «Слушай, пан
Данило, как страшно говорят: что будто ему все чудилось, что все
смеются над ним. Встретится ли под темный вечер с
каким-нибудь человеком, и ему тотчас показывалось, что он открывает
рот и выскаливает зубы. И на другой день находили мертвым
того человека» [1,246-247].
Грозная сила дивного рыцаря - это сила его смеха,
искалечившего колдуна и влекущего его к вечной гибели: «Нет, нет!
ты смеешься, не говори... я вижу, как раздвинулся рот твой: вот
белеют рядами твои старые зубы!..» [1,277], - бесовская насмешка
встречает иступленного убийцу вместо святости старого
схимника. Каждое деяние Ивана, вся его страшная месть воплощают
его дикий, громоподобный смех и от него получают свою
неотвратимость: «...недвижный всадник шевелится и разом открыл
свои очи; увидел несшегося к нему колдуна и засмеялся. Как
гром, рассыпался дикий смех по горам и зазвучал в сердце
колдуна, потрясши все, что было внутри его. Ему чудилось, что будто
кто-то сильный влез в него и ходил внутри его и бил молотами
по сердцу, по жилам... так страшно отдался в нем этот смех!»;
«Еще раз засмеялся рыцарь и кинул ее [свою добычу-колдуна]
в пропасть» [1, 278].
132
Также и здесь у Гоголя смех не второстепенная, внешняя
черта, но сама сущность непобедимого рыцаря и его вечного
мщения: мщение это не просто сопровождается диким смехом,
но и не существует вне его. Также и здесь это скульптурный,
себе довлеющий, тавтегоричный смех, не означающий ничего,
кроме самого себя. Смех мстителя не отклик на беспомощность
колдуна, а причина ее, не внешнее выражение воли Ивана, а ее
разящая реальность.
Даже собственный конь колдуна смеется над его
безнадежным бегством от судьбы: «Уже он хотел перескочить с конем
через узкую реку, выступившую рукавом середи дороги, как
вдруг конь на всем скаку остановился, заворотил к нему морду
и - чудо, засмеялся! белые зубы страшно блеснули двумя рядами
во мраке» [1, 276]. У Гомера кони Ахилла предупреждают его
об опасности и стремятся сберечь от страшной участи, но герой
все равно отправляется на встречу всесильной, но неведомой
судьбе, он готов, пусть и напрасно, противопоставить ей
собственную волю. Колдун, напротив, напрасно пытается скрыться
от столь же неведомой ему участи, и злая насмешка коня
встречает его вместо мудрого совета. Иступленный колдун - как бы
бесовская карикатура на Ахилла, это Ахилл - но такой, каким
его видит бес, каким древний герой стал бы в мире, в котором
бесстрастный неведомый Рок оказывается неведомой злой волей,
а гомерический хохот вечных богов - безжалостным смехом
вечного мщения.
Эпическое миросозерцание «Страшной мести», ее
«космический хохот» и «космическая трагедия», ничуть не менее
величественны, чем в иных произведениях Гоголя. «Страшная месть»
выражает тайный ужас писателя перед тем, чем могли бы
обернуться судьба и смех в его мифотворчестве, в созданном им
выпукло-реальном мире. Практически во всех иных творениях
Гоголя смех, как мы видели, воплощает человечность,
достоинство человеческого существа, сливающегося в вечности с до
смешного абсурдным, но светлым и по-своему очаровательным миром.
Нечеловеческий смех «Страшной мести», напротив, разрушает
133
человечность, здесь не абсурдный, безжалостный мир
очеловечивается и потому тепло приемлет человека, а человек теряет
человеческие черты и в бесчеловечном абсурде, в бессмысленной
злобе своего существования сливается со злым миром.
Можно без преувеличения сказать, что светлый смех
«Ревизора», высокая мудрость «Театрального разъезда», тихая
идиллия «Старосветских помещиков», трагикомедия «Шинели»,
«Носа» и «Мертвых душ», серьезность «Выбранных мест» - все
это, прежде всего, различные попытки Гоголя противопоставить
дикому смеху «Страшной мести» нечто столь же
могущественное, равное ему по силе. Это великие усилия доказать, что магия
Гоголя не бессильная и жестокая в своем бессилии ворожба
колдуна, что созданный им мифический мир, управляемый судьбой
и божественным смехом, не мир, подвластный воле и смеху
неизвестного мстителя.
Гомеровский Рок или черт за плечами? Судьба или страшная
месть? - на эти вопросы в мифотворчестве Гоголя нет
окончательного ответа. Эта зловещая тайна - цена отказа от
трансцендентного и допущения нечеловеческих сил в сознание человека,
становящегося тем самым мифотворческим сознанием, цена
возрождения в скульптурной, зачастую бессодержательной прозе
эпического миросозерцания древних мифов. В дальнейшем мы
увидим, что схожая тайна, вернее - тайный страх, были
оборотной стороной еще одного важнейшего мифологического
мотива в творениях Гоголя, связанного, согласно нашим
выводам, с третьей из питающих эти творения нечеловеческих сил:
эпическое миросозерцание в мифотворчестве Гоголя - это
миросозерцание ребенка. Судьба и смех, как и опасность их жуткого
перерождения в «Страшной мести», становятся до конца понятны
лишь в этом, наиболее весомом, мифологическом мотиве
гоголевского творчества: мифический мир Гоголя - это мир,
увиденный детскими глазами.
134
Глава 5. Слеза ребенка:
мир Гоголя как мир глазами детей
Вы говорите:
- Дети нас утомляют. Вы правы. Вы поясняете:
- Надо опускаться до их понятий.
Опускаться, наклоняться, сгибаться, сжиматься.
Ошибаетесь!
Не от этого мы устаем. А оттого, что надо
подниматься до их чувств.
Подниматься, становиться на цыпочки, тянуться.
Чтобы не обидеть.
Януш Корчак
1. Еще маленький человек
Одним из общих мест гоголеведения всегда было
представление о том, что излюбленным приемом Гоголя является
гипербола, что мир его - это гигантский, намеренно и пристрастно
преувеличенный мир: «Для Гоголя нет ничего среднего,
обыкновенного, - он знает только безмерное и бесконечное»1, - говорит,
к примеру, Брюсов. Впрочем, бесконечное - это уже не
преувеличенное: никто ведь не называет бесконечное пространство или
бесконечные скорости Ньютона преувеличенными по
сравнению с каждодневным опытом. Что в принципе несоизмеримо
с человеком и постигается им лишь косвенным путем в форме
абстрактной умозрительной схемы, не кажется преувеличенным.
1 Брюсов В.Я. Испепеленный. К характеристике Гоголя // Н. В. Гоголь: pro
et contra - Μ.: РХГА, 2009. С. 447.
135
Только то, что все же остается соразмерным ему и, при всей своей
необычности, непосредственно знакомым в
конкретно-чувственных формах, может служить гиперболой.
Мифотворчество Гоголя строится, как мы видели, именно
так: обыденное и ясное делается в нем огромным и
загадочным, никогда, однако, не перерастая чувственность и
телесность. Такой мифически преображенный, непонятный и вместе
выпукло-реальный, чувствами понятый мир, в котором все
предстает гигантским и диковинным - это мир, каким его
видят и познают дети: «В области чувств дети намного богаче
нас, они чувствами мыслят»1, - писал Януш Корчак. Для них
и «шаровары шириною в Черное море», и «вареники величиной
с шляпу», и «редкая птица долетит до середины Днепра», и «нет
ничего в мире, что бы могло прикрыть Днепр», и небольшое
имение сойдет за целый мир, как в «Старосветских помещиках»2,
и несколько минут составят вечность. Это детский взгляд
населяет мир нечистой силой, но он же оживляет двери, шарманки,
часы, обыденность превращает в эпос, а казаков и помещиков,
чиновников и воришек - в мифических героев, богатырей.
В своих творениях Гоголь не только отстаивает
мироощущение ребенка, но и наступает, разоблачает, требует именем его.
«Горы те - не горы: подошвы у них нет, внизу их, как и вверху,
острая вершина <...> Те леса, что стоят на холмах, не леса: то
волосы, поросшие на косматой голове лесного деда. Под нею
в воде моется борода, и под бородою и над волосами высокое
небо. Те луга - не луга: то зеленый пояс, перепоясавший
посередине круглое небо...» [1; 246], - несомненно, это говорит, вернее -
упрямо возражает, ребенок. Уже в «Вечерах на хуторе»
знаменитая полная феерических преувеличений картина украинской
1КорчакЯ. Воспитательные моменты. Как любить ребенка. Оставьте меня
детям (Педагогические записи) - М.: ACT. 2017. С. 21.
2 Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна в тихом своем мире
напоминают маленькую Рони в сказке Астрид Линдгрен, думавшую в раннем
детстве, что каменный зал в замке отца - это и есть весь мир.
136
ночи: «Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете
украинской ночи!» - это открытое соперничество с самим Пушкиным.
Поэт писал:
Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут
Сребристых тополей листы.
Луна спокойно с высоты
Над Белой Церковью сияет.
Сравнивая спокойную ясность Пушкина с напряженной
мистической преувеличенностью Гоголя, Брюсов отмечает: «У
Пушкина ночь "тиха", у Гоголя она "божественная"; у Пушкина луна
"спокойно сияет", у Гоголя она "посреди неба заслушалась грома
соловья"; у Пушкина воздух "дремлет", у Гоголя он "полон неги
и движет океан (непременно, океан!) благоуханий"; у Пушкина
звезды "блещут", у Гоголя "вверху все дивно, все торжественно"»1
и т. д. Примечательно, что Мережковский, схожим образом
противопоставляя поэзию природы, неба Пушкина и
Лермонтова, говорил о простоте Пушкина как о воплощении взрослого
взгляда на мир, а о тревожной глубине чувства Лермонтова -
как об ощущении ребенка: «Пушкина я тогда не любил, -
рассказывает философ, - он был для меня взрослый; Лермонтов
такой же ребенок, как я.
В то утро был небесный свод
Так чист, что ангела полет
Прилежный взор следить бы мог.
Вот чего Пушкин не сказал бы ни за что. Взор его был слишком
трезв, точен и верен действительности. Он говорит просто:
Последняя туча рассеянной бури,
Одна ты несешься по ясной лазури.
1 Брюсов В.Я. Испепеленный. К характеристике Гоголя // Н. В. Гоголь: pro
et contra - Μ.: РХГА, 2009. С. 456.
137
Но эта пушкинская «ясная лазурь» по сравнению с
бездонно-глубоким лермонтовским небом казалась мне плоской, как
голубая эмаль»1.
Несомненно, и для Гоголя тихая ночь и прозрачное небо
Пушкина были слишком верны действительности - той взрослой,
плоской, как эмаль, «действительности», вопреки которой он
выстроил свое мифотворчество: здесь-то, напротив, «сыплется
величественный гром украинского соловья, и чудится, что
и месяц заслушался его посреди неба». Не только в содержании
и духовном настрое, но и в самой манере этого возражения
Пушкину («О, вы не знаете украинской ночи!») сразу же чувствуется
много детского. Однако, читая «Майскую ночь», мы понимаем,
что одиночества и тревоги, недоверия и какой-то тайной обиды
здесь куда больше, чем счастливого любования.
«"Божественная ночь! Очаровательная ночь!" (Майская ночь).
"Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской
ночи", - восхищается Гоголь. И подлинно: многие ли знают
такие ночи, когда воды превращаются в сверкающую "волчью
шерсть", а травы кажутся "дном... какого-то светлого моря"?
И все же чудится нам, что этот восторг и радость эта - "к худу":
и все такие ночи худо кончались для Гоголя»2, - заметил Андрей
Белый. Миросозерцание ребенка далеко не беззаботное: его
мир огромен и непредсказуем, подвластен неведомым, часто
злым, силам, от которых можно ожидать всего3. Абсурд, обман,
1 Мережковский Д. С. М.Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества
// М. Ю. Лермонтов: pro et contra - СПб.: РХГИ, 2002. С. 349.
2 Белый А. Гоголь // Н. В. Гоголь: pro et contra - Μ.: РХГА, 2009. С. 308.
3 «- Что это, почему, зачем?
Пьяный еле держится на ногах, слепой нащупывает посохом дорогу,
эпилептик падает на тротуар, вора ведут, лошадь подыхает, петуха режут.
- Почему? Зачем все это
- Что это? Почему?
Ребенок не смеет спрашивать.
Чувствует себя маленьким, одиноким и беспомощным перед борьбой
таинственных сил», - читаем у Корчака (КорчакЯ. Как любить детей -
138
несправедливость - в его глазах они таковы, какими их
показывает Гоголь: преувеличенные, невообразимо нелепые - ребенок
еще не знает, не понимает и не готов принять их.
Мрачная правда: ребенок в нашем мире - это и маленький,
и лишний, и новый человек. Если к Гоголю и применимы эти
школьные клише, то лишь понятые буквально: ребенок еще мал,
поэтому увиденный им мир безмерно велик. Чувства и душа его
еще не приспособлены к этому миру, потому они выглядят
нелепыми и несерьезными, лишними в мире взрослых, «больших».
Да и сам ребенок - еще только новый, пока не состоявшийся,
человек, словно бы он еще не есть, а только будет.
Преувеличенные смех и слезы Гоголя - это детские смех
и слезы. Причем дети как никто чувствуют разницу между смехом
и осмеянием, любят, когда смеются с ними и над ними, но больше
всего боятся быть осмеянными - они знают, что играть со смехом
опасно, что в глубине его скрыта какая-то разрушительная сила:
все это чисто гоголевские черты. Дети чаще смеются и чаще
плачут, чувства их еще не пресыщены и не притуплены
обыденностью: поэтому, кстати, им присуща совершенно особая
наблюдательность, подмечающая то, что выпустит из внимания взрослый.
Корчак писал об этом: «На экране кинематографа потрясающая
драма. Вдруг раздается звонкий возглас ребенка:
- Ой, собачка...
Никто не заметил, а он заметил <...> Не охватывая целого,
не вдумываясь в непонятное содержание, ребенок, счастливый,
приветствует знакомую, близкую деталь»1. Не таков ли и Гоголь?
Никто не заметил на проходящем мимо молодом человеке
тульской булавки с бронзовым пистолетом, а он в «Мертвых
душах» заметил; никто не расслышал, как дверь поет: «батюшки,
я зябну!», а он в «Старосветских помещиках» расслышал
Мн.: Нар. асвета, 1980. С. 49). Та же атмосфера, те же вопросы, которые
обычно и не смеют озвучивать гоголевские герои, царят в «Страшной
мести» и «Записках сумасшедшего», «Шинели» и «Невском проспекте».
хКорчакЯ. Как любить детей - Мн.: Нар. асвета, 1980. С. 29.
139
и т. д. Гоголевская манера сообщать о неожиданных и как будто
ненужных деталях, о которой мы говорили ранее - важный
элемент мировосприятия детей.
И разве не схожим образом никто не заметил смерти Акакия
Акакиевича и Поприщина, не заметил серьезности и ума
городничего, чистосердечия и поэзии Хлестакова? А Гоголь заметил -
наблюдательным взглядом ребенка, для которого, как для
художника, нет «низкого предмета в природе <...> в презренном у него
уже нет презренного, ибо сквозит невидимо сквозь него
прекрасная душа создавшего, и презренное уже получило высокое
выражение, ибо протекло сквозь чистилище его души» [3,135].
У Гоголя наблюдательность ребенка лишает человеческий
мир той ложной глубины, что мнит в нем серьезность взрослых,
которая, конечно, сама сформирована этим миром. Неслучайно
наблюдения и замечания Алисы в сказке Льюиса Кэрролла
на самом комичном и абсурдном судебном процессе, явившемся
ей во сне, так напоминают те, что делают герои Гоголя в «Носе»,
«Записках сумасшедшего» и иных его творениях: «Раньше Алиса
никогда не бывала в суде, хотя и читала о нем в книжках. Ей было
очень приятно, что все почти здесь ей знакомо. - Вон судья, -
сказала она про себя. - Раз в парике, значит судья»1. Мы видели, что
точно так рассуждает, к примеру, Ковалев о собственном Носе:
«По всему, по мундиру, по шляпе видно, что он статский
советник», - и к этим детским умозаключениям нечего добавить,
в них сказано то, что социокультурный мир хотел бы утаить2.
Более всего легковесность и иллюзорность увиденного Гоголем
мира напоминают полный странных происшествий сказочный
сон маленькой Алисы.
Мифологический мир Гоголя с детством особенно роднит
реальность его ирреальности, живость и убедительность его
неправдоподобия, ведь и жизнь детей не менее реальна и полна,
1 Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране Чудес; Алиса в Зазеркалье -
Мн.: Юнацтва; Ижевск: Урал-БиСи, 1992. С. 80.
2 См. Глава!. Стр. 9-11.
140
чем жизнь «больших», и все же она вечно видится и видит себя
лишь кажущейся, ненастоящей жизнью: «Половина человечества
как бы не существует. Жизнь ее - шутка, стремления - наивны,
чувства - мимолетны, взгляды - смешны. Да, дети отличаются
от взрослых; в жизни ребенка чего-то недостает, а чего-то больше,
чем в жизни взрослого, но эта их отличающаяся от нашей жизнь -
действительность, а не фантазия»1. «Как бы не существует» - нет
ничего случайного в том, что Корчак избрал здесь те же слова,
что были одним из рефренов Гоголя: в них смыкаются детство
и мифотворчество.
Редок у Гоголя такой персонаж, в котором не заметен был бы
ребенок - например, об Афанасии Ивановиче читаем: его
любопытство «несколько похоже на любопытство ребенка, который
в то время, когда говорит с вами, рассматривает печатку ваших
часов. Тогда лицо его, можно сказать, дышало добротою»;
«Афанасий Иванович рыдал, как ребенок»; плач его - «плач дитяти»;
«он покорился с волею послушного ребенка»; «Вы как дитя
маленькое: нужно, чтобы любил вас тот, кто будет ухаживать
за вами», - говорит ему Пульхерия Ивановна. Акакий
Акакиевич разговаривает не только сбивчиво и мягко, как дети, но и -
«почти умоляющим голосом ребенка».
Что уж говорить о Хлестакове и встречающих его
чиновниках - даже Мережковский, увидевший в Хлестакове самого черта,
не мог не обратить внимания не детские его черты: «Если бы
стали обличать его, он сначала просто не понял бы, а потом
с чувством высшей поэтической правды и правоты презрел бы
столь низменную точку зрения. Беззащитно и беззлобно
огорчился бы, как обиженный ребенок, как оскорбленный чернью
поэт. Недаром утверждает Гоголь, что одно из главных свойств
Хлестакова - "чистосердечие и простота". У этого гения лжи, как
у всякого истинного гения, - почти детская простота и ясность»2.
1КорчакЯ. Как любить детей - Мн.: Нар. асвета, 1980. С. 11.
2 Мережковский Д. С. Гоголь и черт: Поэзия; Гоголь и черт: исследование;
Итальянские новеллы - М: Книжный Клуб Книговек. 2010. С. 185.
141
Дела и свершения, тайные личные победы ребенка выглядят
жалкими, неинтересными: сам завязал шнурки, открыл
дверной замок, сам держит ложку и т. п. Так показаны нам и
свершения гоголевских персонажей: один с тихим торжеством красиво
выводит любимые буквы, другой сам наконец попадает вилкой
в цыпленка и проносит кусок не мимо рта и т. п. «Там, в этом
переписыванье, ему виделся какой-то свой разнообразный и
приятный мир, - рассказывает Гоголь об удовольствии, которое
отыскал для себя ребенок, заваленный бумажной работой, -
наслаждение выражалось на лице его; некоторые буквы у него были
фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой:
и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице
его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую
выводило перо его» [3,144]. В одной повести Корчака находим сцену,
удивительно напоминающую гоголевское изображение светлой
стороны жизни Акакия Акакиевича:
«Марыня положила эту открытку, этот сверток, в муфточку
и спрашивает:
- Ты какую букву больше всего любишь писать?
Я говорю:
- Заглавное "Р".
- А я заглавное "В". Дай бумаги, я тебе напишу. Но карандашом.
Посмотрим, кто красивее пишет.
И она написала. И я тоже. Только я не старался, хотел, чтобы
у нее вышло красивее. Она говорит:
- Ну, чья красивее?
Смеется, а зубки у нее беленькие, ровные-ровные. И говорит:
- На открытке ты красивее написал!
Я покраснел и говорю:
- Когда удастся, а когда и нет...»1
Впрочем, не только светлой стороны - трагический финал
этой повести также напоминает судьбу Башмачкина: «Я осажден
со всех сторон ...Никого и ничего у меня нет... Остался один... Все
1КорчакЯ. Когда я снова стану маленьким - М.: Детгиз. 1961. С. 76-77.
142
меня покинули. Повсюду измена. Я побежал наверх, на чердак,
и сел на ступеньку перед дверью. Во мне пустота, и вокруг
пустота. Ни о чем не думаю»1. Потому и пустота, что дела и заботы
ребенка кажутся игрушечными и простыми, что разбираются
с ними мимоходом и невзначай. Потому и кричит ребенок
испуганно в точности, как Хлестаков: «Я, я, я...», или, как Акакий
Акакиевич, старается, но не смеет сказать нам: «Я брат твой!» -
безудержное хвастовство и безропотная покорность, Хлестаков и Баш-
мачкин, суть только разные выражения одиночества и пустоты
жизни ребенка. Как часто он бывает Хлестаковым на виду и Баш-
мачкиным наедине, в тайне. Рассуждения о детском эгоцентризме -
не проявление ли еще большего эгоцентризма взрослых?
Как мнимая шалость и дурной поступок ребенка при чутком
отношении к ним зачастую оказываются лишь внешним
проявлением красивого движения души или глубокого
разочарования и одиночества, а вовсе не злой воли и минутного плохого
настроения, так кажущиеся преступления и пошлые глупости
гоголевских героев под мудрым его взором оборачиваются, как
мы видели, жаждой знаний (Почтмейстер), велением доброго
сердца (Ляпкин-Тяпкин), поэтической мечтой (Хлестаков).
Ребенок изображает прихрамывающего и кряхтящего старика
не для издевки, а ради освоения и понимания окружающего мира
и его удивительных обитателей. Пытается дотянуться языком до
носа не по глупости, а чтобы проверить свои силы, которые еще
плохо себе представляет. Не слушает и делает то, что не велят,
не назло старшим, а чтобы на опыте убедиться в их правоте, ведь
и так многому приходится верить на слово. Задирает нос и
дерзит, чтобы компенсировать неопытность и неуверенность в себе:
грубит, а сам в тайне страдает и кричит о помощи. Именно так
изображает Гоголь своих персонажей, так и совершается у него
катарсис пошлости.
Злодейства гоголевских героев зачастую тоже ребяческие,
только окрашенные в разные оттенки: кража месяца, взятки
1Там же. С. 93.
143
борзыми щенками, пакости и насмешки чиновников над Акакием
Акакиевичем: «Молодые чиновники подсмеивались и острились
над ним, во сколько хватало канцелярского остроумия,
рассказывали тут же пред ним разные составленные про него истории;
про его хозяйку, семидесятилетнюю старуху, говорили, что она
бьет его, спрашивали, когда будет их свадьба, сыпали на голову
ему бумажки, называя это снегом» [3,143], - разве так ведут себя
настоящие чиновники, и разве такие обиды наносят они друг
другу? Нет, это не чиновники, просто невоспитанные дети. Хотя
так ли это просто? - нет ведь такой полиции и таких судов, что
защищали бы детей от малолетних хулиганов, от чинимых ими
унижений и обид (как будто это пустяки): маленькие и слабые,
действительно маленькие люди, дети беззащитны перед ними.
Еще сложнее понимать и ценить детские разговоры и
размышления, ведь дети говорят и мыслят на особом языке, лишь
по видимости похожем на взрослый - в этом они очень близки
персонажем Гоголя и ему самому. Едва ли не все самые известные
диалоги в его произведениях чрезвычайно похожи на
разговоры детей - странные, как будто бесполезные и
беспредметные: «"Вишь ты, - сказал один другому, - вон какое колесо! что
ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или
не доедет?" - "Доедет", - отвечал другой. "А в Казань-то, я думаю,
не доедет?" - "В Казань не доедет", - отвечал другой. Этим
разговор и кончился» [6,7]. Никогда нельзя понять у Гоголя, в чем
интерес таких споров для тех, кто их затевает, и на чем
основываются они в своих выводах. Так и с детьми, с их спорами о том,
когда выпадет снег, куда летит мелькнувшая в небе птица, или
скоро ли сломается новая игрушка, если так с ней играть.
Но ведь и взрослые любят потолковать о политике, курсе
валют или причинах изменения цен в магазине в точно такой же
манере1. А смысл и полезность ученых споров по поводу гипотезы
jCm. у Корчака: «Я тоже слушаю и вспоминаю, что ведь и взрослые в
кондитерской часто ссорятся: не из-за снега, а из-за политики. Совершенно
так же. И так же говорят:
144
Римана или трансцендентальной апперцепции непосвященным
понятны еще менее, чем смысл и интерес разговоров детей и
персонажей Гоголя - разве меньше недоумения и смеха встречают
дискуссии философов?
Комичные для постороннего взгляда требовательность,
упорство, серьезность, с которой спорят чиновники в «Мертвых
душах», чтобы доискаться, не есть ли Чичиков переодетый
Наполеон, а чиновники в «Ревизоре» обсуждают свои грешки и
опасения, тоже чисто детские упорство и серьезность. И хвастают,
и жалуются, и обвиняют, и оправдываются они, как дети:
«Аммос Федорович. Что ж вы полагаете, Антон Антонович,
грешками? Грешки грешкам - рознь. Я говорю всем открыто,
что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем
иное дело.
Городничий. Ну, щенками, или чем другим - все взятки.
Аммос Федорович. Ну нет, Антон Антонович. А вот, например,
если у кого-нибудь шуба стоит пятьсот рублей, да супруге шаль...
Городничий. Ну, а что из того, что вы берете взятки
борзыми щенками? Зато вы в бога не веруете; вы в церковь никогда
не ходите; а я, по крайней мере, в вере тверд и каждое
воскресенье бываю в церкви. А вы... О, я знаю вас: вы если начнете
говорить о сотворении мира, просто волосы дыбом поднимаются.
Аммос Федорович. Да ведь сам собою дошел, собственным
умом» [4,14].
Смешон, конечно, ребенок-городничий, напускающий на себя
серьезность и точно малыш, подражающий взрослым,
принимающийся рассуждать, предполагать, давать советы и указания,
делая порой оговорки и пояснения: один учитель «никак не может
обойтись без того, чтобы взошедши на кафедру, не сделать
гримасу, вот этак (делает гримасу), и потом начнет рукою из-под
галстука утюжить свою бороду. Конечно, если ученику сделает такую
- Бьюсь об заклад, что президент не примет отставки! А здесь:
- Бьюсь об заклад, что снега не будет!» (КорчакЯ. Когда я снова стану
маленьким - М.: Детгиз. 1961. С. 8).
145
рожу, то оно еще ничего: может быть, оно там и нужно так, об этом
я не могу судить; но вы посудите сами, если он сделает это
посетителю, - это может быть очень худо: господин ревизор или другой
кто может принять это на свой счет» [4,15]. Но разве не более
комичны и вместе опасны те серьезность и рассудительность,
с которыми взрослые говорят настоящие глупости - скажем, когда
они со всей солидностью полагали, что в XX веке не будет никаких
больших войн, раз изобрели такое страшное оружие, как пулемет?
Брюсов с какой-то дивной наивностью писал: «"Тридцать пять
тысяч курьеров", "Были вчера ниже ростом? - Очень может быть",
"В один вечер все написал", "Мы удалимся под сень струй", - это
все не подслушано в жизни, это - реплики, в действительности
немыслимые, это - пародии на действительность»1. В
действительности можно подслушать реплики в миллион раз хуже! Вот
Хлестаков говорит Анне Андреевне: «Это ничего! Для любви нет
различия; и Карамзин сказал: "Законы осуждают". Мы удалимся
под сень струй... Руки вашей, руки прошу!» [4, 76]. «Под сень
струй» - бессмыслица, составленная кое-как из романтических
штампов расхожей поэзии той эпохи: «речные струи» и
«древесная сень» - поясняет литературоведение. Но разве не
бессмысленнее не первое столетие называть Гоголя реалистом и
сатириком самодержавия - автора «Вия», автора «Выбранных мест»?
Кстати, многие ли из нас читали повесть Н. Карамзина, которую
цитирует здесь «пустейший» Хлестаков? Так и дети, если
прислушаться к ним, говорят о вещах не менее серьезных и не более
абсурдных, чем мы сами, и при этом часто больше знают стихов,
лучше умеют рисовать, мастерить, играть в шашки, не говоря
уже о том, чтобы любить, прощать, понимать, лечить душевные
раны. Чьи реплики и поступки - действительность, а чьи -
пародия, далеко не очевидно.
Как напоминает Корчак, «мы видим детей в бурных проявлениях
радости и печали, когда дети отличаются от нас, и не замечаем
1 Брюсов В.Я. Испепеленный. К характеристике Гоголя // Н. В. Гоголь: pro
et contra - Μ.: РХГА, 2009. С. 450.
146
внешне резко не выраженных настроении: тихой задумчивости,
глубокой растроганности, горького недоумения, мучительного
подозрения и унизительного сомнения, в которых на нас похожи.
"Настоящим" ребенок бывает не только тогда, когда скачет на одной
ножке, но и когда задумывается над сказкой жизни»1. Ребенок
у Гоголя не только без меры хвастающий Хлестаков, но и
трагически мыслящий Поприщин, с чисто детской простотой,
наивностью и упрямством требующий ответа на вопросы, от которых
уходит стремительная суета жизни взрослого: «Что же из того,
что он камер-юнкер. Ведь это больше ничего, кроме
достоинства; не какая-нибудь вещь видимая, которую бы можно взять
в руки. Ведь через то, что камер-юнкер, не прибавится третий
глаз на лбу. Ведь у него же нос не из золота сделан, а так же, как
и у меня, как и у всякого; ведь он им нюхает, а не ест, чихает,
а не кашляет. Я несколько раз уже хотел добраться, отчего
происходят все эти разности. Отчего я титулярный советник и с какой
стати я титулярный советник?» [3, 205-206]. Мрачная аналогия,
но мы и в самом деле склонны детские вопросы и ответы
принимать за записки сумасшедшего - сколько хохота и издевательских
комментариев получают они от нас!
Нестранно, что и крик ужаса Поприщина - крик ребенка:
«Матушка, спаси твоего бедного сына! урони слезинку на его
больную головушку! посмотри, как мучат они его! прижми
ко груди своей бедного сиротку! ему нет места на свете! его гонят!
Матушка! пожалей о своем больном дитятке!..» [3, 214]. Вполне
возможно, что крикливое вранье Хлестакова, его «Я, я, я...» -
просто иная транскрипция этого беспомощного крика,
безнадежной мольбы затравленного ребенка, хотя ребенок
Хлестаков может до поры сам не понимать этого, на свое счастье.
Интересно, поверили бы чиновники Поприщину, если бы тот приехал
к ним из Петербурга и рассказал, что он король Испании? А
Хлестаков не оказался бы на месте Поприщина, если бы все так же
заврался в столице?..
1КорчакЯ. Как любить детей - Мн.: Нар. асвета, 1980. С. 44.
147
Сюжеты Гоголя неизменно напоминают детскую игру, учиться
видеть в них трагичность, глубокий смысл и душевную смуту -
значит, открывать их и в «забавах» ребенка. Игра его всегда
обречена казаться и быть лишь имитацией взрослой жизни, лишь
в этой кажущейся жизни ребенок более или менее свободен
и предоставлен самому себе: «Сколько в ребячьих играх
горького сознания недостатков подлинной жизни, сколько
мучительной по ней тоски! Палка для ребенка не лошадь, но, не имея
настоящей лошади, приходится мириться и с деревянной. И если
дети плывут на перевернутом стуле по комнате - это не катание
на лодках на озере...»1, - писал Корчак.
Кто согласится отдать лошадь за палку? А кто согласится быть
генералиссимусом на словах и в чудном воображении слушателей,
а не на деле? Кто променяет настоящие владения на
воображаемые земли и леса Ноздрева? Кто примет фиктивные богатства,
существующие лишь по купчим крепостям, которые повсюду
приобретает Чичиков, вместо настоящих богатств? Думается,
тайная тоска персонажей Гоголя по подлинному - одна из причин
очеловечивания предметов и животных в его произведениях,
превращения стульев, колес, часов, дверей и прочего в подобие,
словно бы живых, детских игрушек: «Это одиночество ребенка
наделяет куклу душой. Жизнь ребенка не рай, а драма»2. Шинель
не «светлый гость» и не жена, она только игрушечный друг еще
маленького человека.
Мы лучше поймем странное соседство самых ярких образов
и фантасмагорических сюжетов, безудержного смеха и
горьких слез со скукой и бесконечной однообразной тоской в
гоголевском мифотворчестве, если будем исходить из того, что мир
Гоголя увиден детскими глазами. Ясно, что всяческая
чрезмерная активность ребенка часто - лишь амальгама его скуки. Еще
мало, что деяния, слова, мысли и даже слезы его - все
«понарошку», но и рассказать об этом некому, ведь все равно не поймут,
1 Там же. С. 34.
2 Там же. С. 35.
148
да и слушать не станут - сразу поставят собственный диагноз, как
поступают с персонажами Гоголя: «лентяй», «зазнайка»,
«эгоист» и пр. Вот и молчит ребенок или болтает совсем не то, а
чувство и мысль забились и спрятались в нем: остается только ждать,
когда же наконец вырастет... Когда герои Гоголя смеются, нам
ничуть не смешно, а когда смеемся мы, что бывает гораздо чаще,
им не до смеха: не так ли у нас и с детьми? Их веселье нам
малопонятно, а их серьезность и заботы - смешны. Ребенку «скучно
на этом свете, господа»!
Возможно, ничьи герои в мировой классике не подвергались
таким упорным упрощениям и убогим типологизациям, как
гоголевские: мы видели, что даже исследователи такого ранга, как
Розанов, Брюсов или, например, Пропп, без тени сомнения делают
из них характеры плоские и одномерные, каждый из которых
можно с успехом описать одним каким-нибудь эпитетом. Скряга,
грубиян, слащавый мечтатель, обжора, пустой хвастун,
безответный тихоня, изредка - добрая хозяйка и отважный юноша
(«рыцарь», художник). Думается, эти и подобные им ярлыки
потому так легко и естественно наклеиваются на персонажей
Гоголя, что мы давно привыкли так же обходиться и с детьми:
ведь точно такие психологические и нравственные «типы» мы
почти автоматически отыскиваем в компании ребятишек - так
нам, конечно, куда проще и удобнее их «понимать».
Как «отличник» отмалчивается, обижаясь на то, что к нему
теперь предъявляют более высокие требования, раз он
«отличник», а «троечник» тянет руку, хочет ответить вопреки тому, что
от него ждут, так и гоголевские персонажи странными
оправданиями и поступками своими (и сам писатель в письмах и
комментариях к собственным творениям) изо всех сил протестуют
против подобных ярлыков, против превращения детей в каких-то
одномерных человечков.
Детская игра - одно из самых правдивых зеркал, в которых мы
можем разглядеть собственный духовный облик, игры
показывают, какими дети видят нас. Корчак писал: «Играя, дети
высказывают свои истинные взгляды, подобно тому, как автор в романе
149
или пьесе развивает главную мысль. Поэтому часто видишь здесь
бессознательную сатиру на взрослых: дети играют в школу,
наносят визиты, принимают гостей, угощают кукол, покупают и
продают, нанимают и увольняют прислугу...»1. Такая бессознательная
сатира ребенка на взрослую жизнь - это единственная «сатира»,
которую можно приписать Гоголю и которая далека от
изобличения и осмеяния пороков. Ребенок в игре вовсе не стремится
издевательски преувеличить и в карикатурном виде выставить
напоказ то, что сочтет неправдой жизни взрослых, напротив, он
силится передать эту жизнь как можно более честно и точно, чтобы
действительно чувствовать себя «большим». В том только и дело,
что эти милые ухищрения и сама необходимость прибегнуть к ним
неявно напоминают ему, что вся его затея - это лишь фикция,
такая же непрочная и недолговечная, как многие другие его затеи.
В игре ребенок неосознанно показывает, какой жизнь взрослых
открывается им самим во время критического осмысления ее,
безнадежного поиска прочных ее оснований. Лишь в подобные
кризисные моменты взрослые как следует понимают, что значит
быть детьми - персонажами Гоголя. В. Н. Порус, например,
пишет о попытках николаевского режима административными
мерами спасти погружающуюся в кризис культуру: «Режим-то
отчасти был похож на Петровича из гоголевской "Шинели", что
все чинил да чинил протертую шинель - российскую культуру -
пока заплаты ("духовные скрепы") еще как-то держались. Нужна
была "шинель" с другими ценностными принципами и
идеалами. Но они-то и были под подозрением, скроить из их ткани
новую культуру казалось опасным для существования Империи»2.
Так и ребенок борется за любимую игрушку, за свою «шинель»,
без которой, как ему кажется, не сможет жить, хоть и знает, что
это лишь игрушка. Да, это ему только кажется - сегодня он
поплачет, а завтра возьмет другую игрушку (не так ли происходит
1Там же. С. 35.
2 Порус В. Н. Человек лишний // Гуманитарные исследования в Восточной
Сибири и на Дальнем Востоке. № 3.2014. С. 122.
150
и «смена культурных парадигм»?), но ребенок пока не знает
«завтра», его «сегодня» длится, как целая эпоха. Впрочем, кто-то
возьмет, а кому-то новой уже не купят. Обо всем-то детям
приходится просить, любую мелочь вымаливать, ждать - совсем
как тихому Башмачкину.
Можно показать, что жизнь и духовный склад тех гоголевских
героев, в которых более других заметно сатиры,
преувеличенных пороков и типизированных черт, на самом деле, выражают
лишь «бессознательную сатиру» ребяческой игры во взрослую
жизнь. К примеру, о скупости Плюшкина Гоголь столько раз
говорит открыто и прямо, так упорно сует ее читателю под нос,
что невольно начинаешь подозревать какой-то подвох: если
скупость эта так велика и очевидна, для чего сто раз повторять одно
и то же? Присматриваясь, мы замечаем, что Плюшкин вовсе
не так ценит и бережно копит свои богатства, как внушает нам
рассказчик, сторонний наблюдатель его жизни.
Поначалу Гоголь говорит о сбережениях своего скряги:
«На что бы, казалось, нужна была Плюшкину такая гибель
подобных изделий? во всю жизнь не пришлось бы их употребить
даже на два таких имения, какие были у него, - но ему и этого
казалось мало...» [6,117]. Но потом мы узнаем, что у Плюшкина
«сено и хлеб гнили, клади и стоги обращались в чистый навоз, хоть
разводи на них капусту, мука в подвалах превратилась в камень,
и нужно было ее рубить, к сукнам, холстам и домашним
материям страшно было притронуться: они обращались в пыль. Он
уже позабывал сам, сколько у него было чего» [6,119] - становится
ясно, что все это в действительности не нужно и неинтересно ему.
По-настоящему Плюшкин ценит только жалкие мелочи, вроде
своего запыленного графинчика или найденных им на улице
пустяков: гвоздь, перышко, клочок бумаги. Страшно признать,
но это черта ребенка: дети хорошо знают, что у них нет ничего
действительно «своего», ими самими сделанного или
заработанного, все - только выпрошенное, подаренное. Потому таким
ценным становится для них там и сям подобранный никому не
нужный хлам - все те же перышко, гвоздик, занятное стеклышко
151
или камешек. На удивление старших, подобная ерунда, которую,
однако, ребенок нашел и добыл себе сам, без нашей помощи,
бывает для него куда ценнее дорогого подарка.
Взрослый, в самом деле одержимый жаждой обогащения
и обладания, любой ценой стремится преумножить свое
богатство и сохранить его - Плюшкин же все пускает на самотек
и только украдкой, тайком подбирает то, что плохо лежит, как
ребенок, стесняясь при этом своих поисков и своих подлинных
«сокровищ», даже не смея открыто настаивать на их
присвоении: «Случилось проезжавшему офицеру потерять шпору, шпора
эта мигом отправилась в известную кучу; если баба,
как-нибудь зазевавшись у колодца, позабывала ведро, он утаскивал
и ведро. Впрочем, когда приметивший мужик уличал его тут же,
он не спорил и отдавал похищенную вещь; но если только она
попадала в кучу, тогда все кончено: он божился, что вещь его,
куплена им тогда-то, у того-то или досталась от деда» [6,117].
Как по-детски, неубедительно, нелепо выглядит его убожество!
И как непохоже все это на настоящего скрягу - скажем, на
пушкинского скупого рыцаря, безжалостно отбирающего у вдовы
последний дублон, убивающего и пускающего по миру, лишь бы
в свой сундук «горсть золота накопленного всыпать»! Он говорит:
Да! если бы все слезы, кровь и пот,
Пролитые за все, что здесь хранится,
Из недр земных все выступили вдруг,
То был бы вновь потоп...
Ничего похожего не скажешь о кладовых Плюшкина. Соба-
кевич, правда, утверждает, что крестьяне его мрут, как мухи,
да и Гоголь пишет о его имении: «Какую-то особенную
ветхость заметил он [Чичиков] на всех деревенских строениях:
бревно на избах было темно и старо; многие крыши сквозили,
как решето; на иных оставался только конек вверху да жерди
по сторонам в виде ребр...» [6,111] и т. д. Однако же после нам
говорят: «А между тем в хозяйстве доход собирался по-прежнему:
столько же оброку должен был принесть мужик, таким же
приносом орехов обложена была всякая баба, столько же поставов
152
холста должна была наткать ткачиха, - все это сваливалось
в кладовые» [6,119]. Стало быть, крестьянам есть чем платить
немалый оброк и есть на что жить при этом. Кстати, за мертвые
души Собакевич-то заламывает немыслимую цену, по сто рублей
за душу, а Плюшкин упрашивает дать лишь «по сорока копеек».
Скупой рыцарь внешне чем-то похож на Плюшкина: «В нето-
пленной конуре // Живет, пьет воду, ест сухие корки», но рыцарь
при этом мнит себя властелином мира: «Отселе править миром
я могу», - и далее:
Я царствую!.. Какой волшебный блеск!
Послушна мне, сильна моя держава;
В ней счастие, в ней честь моя и слава!
Плюшкину неведомы подобные чувства, мелкое
накопительство свое он не облачает в поэзию алчности, в философию
скупости и превосходства. Плюшкин не знает этого мрачного
наслаждения, подлинной прелести (во всех смыслах слова) богатства
и власти, как ребенок, он в сущности не умеет вести хозяйство
и не понимает, что может быть в этом нужного и хорошего. В его
лохмотьях, имении и репликах, явно сказанных на публику1,
чувствуется очень много театрального, постановочного.
«Особенная ветхость» его деревни и его «странного замка»
производят впечатление пустой, хотя и искусной декорации. Неслучайно
сквозь все декорации порой можно разглядеть живую душу этого
человека: тепло вспоминает он давнего друга, а об уехавшем
Чичикове думает с благодарностью: «"Я ему подарю, - подумал
он про себя, - карманные часы: они ведь хорошие,
серебряные часы, а не то чтобы какие-нибудь томпаковые или
бронзовые <...> Или нет, - прибавил он после некоторого
размышления, - лучше я оставлю их ему после моей смерти, в духовной,
чтобы вспоминал обо мне"» [6,130]. После смерти он надеется
Например, Чичикову помещик говорит: «В город? Да как же?., а дом-то
как оставить? Ведь у меня народ или вор, или мошенник: в день так оберут,
что и кафтана не на чем будет повесить» [6,126], - искренне ли тревожится
о ворах тот, у кого в кладовых и так «все становилось гниль и прореха»?
153
продолжить жить в мыслях другого человека, а не
«сторожевой тенью» сидеть на верных сундуках, как пушкинский барон.
Облик и жизнь Плюшкина - это изображение скупости в
детской игре, скупость, лишенная всякой цели и внутренней своей
сути: это то, как способный ребенок старательно, иногда
переигрывая по неопытности, показал бы скрягу, достанься ему такая
роль. Только то, что может приметить, понять и воспроизвести
ребенок, находим мы в этом гоголевском герое. Именно
контрастом между ярким внешним подражанием скупости и
внутренним, духовным неприятием и непониманием ее ужасает этот
образ - ужасает того, кто видит здесь себя глазами детей.
«Нынешний же пламенный юноша отскочил бы с ужасом,
если бы показали ему его же портрет в старости. Забирайте же
с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое
ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие
движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом!» [6,127] -
безмерное мужество необходимо ребенку, чтобы жить в мире, каким
показал его мифотворец Гоголь, дарить ему не только «незримые,
неведомые ему слезы», но и видимый смех. Наше взросление, то
есть привыкание к абсурдному миру, его постепенное освоение
и «расколдовывание», не есть ли просто утрата этого мужества?
2. Чичиков и его состояние
О Чичикове Гоголь столько раз говорит, что герой этот
не понравится читателю и не отличен добродетелью и
достоинством, что и здесь манера говорить вскоре заставляет
усомниться в существе сказанного: не потому ли автор так
настойчиво официально повторяет одно и то же, что в тайне глубоко
симпатизирует Чичикову, заражая этим и читателя?.. «Но
потребуют, может быть, заключительного определения одной чертою:
кто же он относительно качеств нравственных? - пишет Гоголь, -
Справедливее всего назвать его: хозяин, приобретатель» [6,241].
Сам потребовал «определения одной чертою», сам такое
определение и дал с откровенной издевкой над тем, кто отыскивает
154
в литературе не личности, а «типы». Автор причисляет своего
«приобретателя» к тем, кому суждено совершить «земное великое
поприще»: «Все равно, в мрачном ли образе, или пронестись
светлым явленьем, возрадующим мир, - одинаково вызваны они
для неведомого человеком блага. И, может быть, в сем же самом
Чичикове страсть, его влекущая, уже не от него, и в холодном
его существовании заключено то, что потом повергнет в прах
и на колени человека пред мудростью небес» [6,242].
«Назначенье ваше [Павел Иванович] - быть великим человеком, а вы себя
запропастили и погубили» [7,112], - продолжает он во втором
томе. Где уж тут отделаться «определением одной чертою»!
«Приобретатель», «Эх, ты, жила!» - слова постороннего
человека, сам же Гоголь возражает: «Но в нем не было
привязанности собственно к деньгам для денег; им не владели
скряжничество и скупость» [6, 228]. Особо подчеркнул это и
Мережковский: «Сила денег для Чичикова вовсе не грубая, внешняя,
а внутренняя сила духа, мысли, воли, своего рода бескорыстия,
героизма, самопожертвования»1. «Странствующий рыцарь денег,
Чичиков кажется иногда в такой же мере, как Дон Кихот,
подлинным, не только комическим, но и трагическим героем,
"богатырем" своего времени»2, - говорит философ.
Бескорыстная страсть к приобретению, «странствующий
рыцарь денег» - загадочно! Чтобы понять Чичикова, надо
разглядеть, вернее - вспомнить в нем ребенка, окруженного
пошлостью и лицемерием. Среди непонятных и ненужных подделок
ребенок ищет хоть что-то настоящее, чему можно довериться,
что его поймет и не обманет, «не выдаст»: любимой игрушке он
поверяет свою душу и тайны, которыми не поделится со
взрослыми - «наделяет куклу душой», как мы читали у Корчака. Так
и Чичиков в водовороте фальшивых наставлений, фальшивой
учебы и фальшивой службы наделяет живой душой Копейку («эта
1 Мережковский Д. С. Гоголь и черт: Поэзия; Гоголь и черт: исследование;
Итальянские новеллы - М: Книжный Клуб Книговек. 2010. С. 195.
2 Там же. С. 195-196.
155
вещь понадежнее всего на свете»: прочее превратилось в пустые
слова) и истинно по-рыцарски служит ей, своей игрушечной
Прекрасной даме. Копейка не разменная монета, а символ и
средоточие всего истинного и ценного, всего, что придает смысл его
жизни. Что для художника поиск гармонии и красоты, для
философа - мудрости и правды, что для ребенка поиск
запропастившейся или спрятанной кем-то игрушки, то для ребенка
Чичикова добывание Копейки.
Действительно, этот приобретатель живет не только по
заветам отца, но и прямо-таки по «Заповеди» Р. Киплинга:
Умей поставить в радостной надежде
На карту все, что накопил с трудом,
Все проиграть и нищим стать как прежде
И никогда не пожалеть о том.
Так и Чичиков, потерпев крах в очередном своем
предприятии, ни секунды не жалеет о том и лишь принимается за новое
дело: «"Ну, что ж! - сказал Чичиков, - зацепил - поволок,
сорвалось - не спрашивай. Плачем горю не пособить, нужно дело
делать". И вот решился он сызнова начать карьер, вновь
вооружиться терпением, вновь ограничиться во всем, как ни привольно
и ни хорошо было развернулся прежде» [6, 233].
Правда, Чичиков сетует на судьбу после неудачи с
контрабандистами, но в словах его нет ни жалости к себе, ни сожаления
о материальных потерях - он негодует лишь на
несправедливость, на мирскую неправду, хоть и говорит о них уж как умеет:
«Почему ж я? зачем на меня обрушилась беда? Кто ж зевает
теперь на должности? - все приобретают. Несчастным я не сделал
никого: я не ограбил вдову, я не пустил никого по миру,
пользовался я от избытков, брал там, где всякий брал бы; не
воспользуйся я, другие воспользовались бы. За что же другие
благоденствуют, и почему должен я пропасть червем?» [6,238]. Как и Дон
Кихот (величайший мнимо сатирический образ ребенка),
Чичиков готов отчаянно защищать взлелеянную им сказку, сказку
о Копейке, рисковать самой жизнью ради этой воображаемой
возлюбленной (не ей ли, своей Дульсинее, он поет «серенаду»,
156
выезжая от Плюшкина?) и уж, конечно, никому, никакому
спившемуся учителю, не уступит ее.
Но Копейка воплощает для Чичикова не только мечту о
Прекрасной даме, но и саму Вечную женственность: Копейка
для него - начало жизни, семьи, Дома, домашнего счастья и тепла.
Вероятно, нигде катарсис пошлости не достигает у Гоголя такой
удивительной силы. «Будущий родоначальник», Павел Иванович
бережет и копит Копейку, заботясь о детях, а дети и дом - его
гордость и честь, сама подлинность и осмысленность его жизни:
«Представлялось ему и молодое поколение, долженствовавшее
увековечить фамилью Чичиковых: резвунчик мальчишка и
красавица дочка, или даже два мальчугана, две и даже три девчонки,
чтобы было всем известно, что он действительно жил и
существовал, а не то, что прошел какой-нибудь тенью или призраком
по земле, - чтобы не было стыдно и перед отечеством» [7, 31].
Многие герои Гоголя проходят по земле, как тени и призраки,
а иные, как Акакий Акакиевич, и после смерти остаются ими:
мифотворчество, как мы видели, возвышает и увековечивает
их, защищая их достоинство. Чичиков - исполин среди них, он
сам ясно видит эту цель: «увековечить фамилью Чичиковых», ее
собственную неповторимую жизнь - и сам в силах сделать это.
В час временного поражения рыцарь стыдится перед
будущими детьми - заметим, что отнюдь не страх, рабское
чувство, не отчаяние и жажду реванша испытывает он, а
угрызения совести и досаду на самого себя, чувства рыцарские: «"И что
я теперь? Куда я гожусь? какими глазами я стану смотреть теперь
в глаза всякому почтенному отцу семейства? Как не чувствовать
мне угрызения совести, зная, что даром бременю землю, и что
скажут потом мои дети? Вот, скажут, отец, скотина, не оставил
нам никакого состояния!"» [6,238].
По поводу этого знаменитого восклицания Розанов
прочитал Чичикову и Гоголю предлинную нотацию: «Какой ужас,
какое отчаяние, и неужели это правда? Разве мы не видели
на деревенских и городских погостах старух, которые сидят
и плачут над могилами своих стариков, хотя они оставили их
157
в рубище, в котором и сами жили? Разве, видя отходящим своего
отца, где-нибудь дети подходят к матери и спрашивают:
"Остаемся ли мы с состоянием"? Разве ложь и выдумка - вся
несравненная поэзия наших народных причитаний, нисколько не
уступающая поэзии "Слова о полку Игоря"? Какие образы, какая
задушевная грусть, какие надежды и воспоминания! И каким
тусклым, безжизненным взглядом нужно было взглянуть на
действительность, чтобы просмотреть все это, не услышать этих звуков,
не задуматься над этими рыданиями»1 и т. д. Какая, однако,
прелесть наши философы, пишущие о «поэзии народных
причитаний»: можно подумать, они весь век свой проводят на
деревенских погостах, слушая старух и крестьянских детей, а главное -
так глубоко задумываясь «над этими рыданиями»!
Действительно понять угрызения совести Чичикова в этом
фрагменте можно, если вспомнить, что собственного отца,
который «был сведущ только в совете копить копейку, а сам
накопил ее немного», он никогда не считал скотиной. Ни злого
чувства, ни пошлости нет в его словах: они выражают лишь внешне
комичную фантазию ребенка, воображающего себе собственных
детей, однако содержание ее серьезно. Состояние, о котором
говорит Чичиков - это бесконечно больше, чем материальная
обеспеченность: это его наследие, труд всей жизни, собрание
всего значительного, что ему удалось создать и скопить. Семья,
дети - и высшая цель, и средоточие этого состояния, защита
и увековечивание жизни родоначальника.
Чичиков на своем языке, конечно, на языке Копейки и
капитала, говорит о том, что поэт назвал: «Самостоянье человека,
// Залог величия его». Поистине, чичиковское состояние
и пушкинское самостоянье очень близки, ведь и Пушкин имел
в виду частный мир Дома и семьи, своих детей, свой род - свою
главную никогда вполне не сбывшуюся мечту о семейном счастье.
1 Розанов В. В. Собрание сочинений. Легенда о Великом инквизиторе
Ф. М. Достоевского. Лит. Очерки. О писательстве и писателях - М.:
Республика. 1996. С. 19-20.
158
«Любовь к родному пепелищу, // Любовь к отеческим гробам» -
наше наследство, то состояние, на которое мы живем. Именно
домашние боги учили поэта науке первой «Чтить самого себя»:
жизнь в доме и для семьи, а не для себя - залог величия человека,
его достоинство, достояние. Свой Дом, свое Состояние
защищал Пушкин на Черной речке. А фразу «Вот, скажут, отец,
скотина, не оставил нам никакого состояния!» вполне можно
представить себе в его записях, дневниках или письмах: поэт поэтов
выражался и покрепче.
Чичиковскую мечту о наследниках (и стало быть - о
наследстве, которое можно было бы им оставить) выражает - на суде
перед Богом! - и другой гоголевский рыцарь: «человек без
честного рода и потомства, что хлебное семя, кинутое в землю и
пропавшее даром в земле. Всходу нет - никто и не узнает, что кинуто
было семя» [1,281], - говорит Иван. Жестокого мстителя никак
нельзя заподозрить в стремлении к обогащению, в мещанском
обожании комфорта и приличного достатка «господина средней
руки» - в той меркантильной всеобщей усредненности, торжестве
приземленности и пошлости, в которых критика всегда обвиняла
Чичикова. Мечта о «честном роде и потомстве» у Гоголя далеко
не только «человеческая, слишком человеческая», она
исполнена мифической силы запечатления жизни в вечных телесных
формах и слияния с огромным скульптурным миром, о которых
мы говорили выше.
В Чичикове эта сила проявлена необычайно, Копейка же -
лишь ее прибежище, ее единственно возможное имя,
символическое выражение в таком мире, в котором все знаки, кроме
денежных, лишились прежних смысла и власти и не
воспринимаются более всерьез. «Пропал бы, как волдырь на воде, без
всякого следа, не оставивши потомков, не доставив будущим детям
ни состояния, ни честного имени!» [6, 89] - переживает
приобретатель, унося ноги от Ноздрева. Можно подумать, это дурная
пародия на «Страшную месть»: как и Иван, в минуту
смертельной опасности он боится не за себя, а за потомков. Иван и
Чичиков - словно аналогичные мифологические персонажи из двух
159
различных эпосов: трагико-героического и комически-бытового.
Два титана из двух разных миров: судьбы их, как и наше отношение
к ним, различны, но идеалы их схожи, а силы - поистине огромны.
Неслучайно и величайшее зло в произведениях Гоголя,
исполненное древнего, мифологического ужаса - это зло против детей
и потомков. Сыноубийцей называет он Тараса Бульбу, и, кажется,
нет у Гоголя слова страшнее этого; провозглашая свою месть,
Иван обрекает на бесконечные муки, прежде всего, детей Петро,
«все его потомство» и т. д.
Религиозные мыслители, такие как Бердяев или
Мережковский, видели в чичиковских, и шире - гоголевских, идеалах
провозвестие утопии Великого инквизитора, полного растворения
личности в роевой жизни единого социального тела, в
природном, животном существовании «тысячи миллионов счастливых
младенцев». «Умеренная сытость, "спокойное довольство" всего
человечества в комфортабельных "алюминиевых дворцах", в
вавилонской башне социал-демократии есть не что иное, как царство
Чичикова, всемирного и вечного, Чичикова sub specie aeterni, ибо
царство его и есть именно царство "от мира сего": "в Чичикове, -
говорит Гоголь, - было все, что нужно для этого мира"»1, - пишет
Мережковский. И потом - «Умереть, не родив, все равно, что
совсем не жить, потому что всякая личная жизнь есть "волдырь
на воде"; волдырь лопнет, умрет человек - и ничего не останется
кроме пара. Личная жизнь имеет смысл только в семье, в роде,
в народе, в государстве, в человечестве, как жизнь полипа, пчелы,
муравья только в полипняке, улье, муравейнике»2.
Но странно: какое состояние и наследство могут быть в
рамках общинной, роевой жизни, в «вавилонской башне
социал-демократии»? В «социальном муравейнике» коллективизма или
племени не бывает приобретателей и родоначальников: там все
принадлежит общине, и нет господ ни средней, ни большой руки.
1 Мережковский Д. С. Гоголь и черт: Поэзия; Гоголь и черт: исследование;
Итальянские новеллы - М: Книжный Клуб Книговек. 2010. С. 197.
2 Там же. С. 200.
160
Планы Чичикова напоминают скорее идиллию «Старосветских
помещиков»: «ему мерещилась впереди жизнь во всех довольствах,
со всякими достатками; экипажи, дом, отлично устроенный,
вкусные обеды - вот что беспрерывно носилось в голове его» [6,228], -
в сущности, чичиковская идиллия даже более живая, ведь у Товсто-
губов никогда не было детей. Кстати, Афанасий Иванович в
молодости чем-то напоминает Павла Ивановича (уж не братья ли они?):
«Афанасий Иванович женился тридцати лет, когда был молодцом
и носил шитый камзол; он даже увез довольно ловко Пульхерию
Ивановну, которую родственники не хотели отдать за него» [2,16] -
тоже проявил «прямо русскую изобретательность».
Мы подробно говорили о том, что гоголевское мифотворчество
не растворяет личность в безликом природном или социальном
мире, в жизни муравейника или рода, но очеловечивает этот мир,
наделяет его «личностной формой» (как Лосев говорил о мифе),
так что вечный мир здесь не подчиняет, а питает и хранит
индивидуальность человека, его самостоянье. Теперь мы также
понимаем, что именно взгляд ребенка одухотворяет и очеловечивает
гоголевский мир: детское «Я» еще не противостоит миру как
автономная сила и смысловое целое, а существует лишь во внутреннем,
имманентном единстве с семьей, Домом и природой - но не в
обыденном или научном, а в величественно-мифологическом смысле.
Детское мировосприятие и детские ценности Чичикова или
старосветских помещиков - как бы персонифицированное выражение
ключевых мотивов мифотворчества.
Процитируем Хюбнера, чьи выводы относительно стихов Гёль-
дерлина, в частности речь идет о «Картине предка», удивительно
точно согласуются с нашими заключениями относительно поэмы
Гоголя и мифологического мировоззрения Чичикова - семья,
в которую погружено человеческое Я, здесь предстает источником
мифического чувства времени, останавливающего и
удерживающего прошлое в обогащенном им настоящем: «Семья - это
совместное жилище и его окружение; это родители и дети,
оберегающая любовь, кормящий труд и сознавание себя в качестве члена
совместной цепи родства; семья - это определенная, теснейшая
161
жизненная связь, целостность которой воспринимается как
единичная сущность, называемая Гёльдерлином "ангелом дома". Это
представление, очевидно, развивает далее то мифическое
отношение к времени, которое выражает Гёльдерлин в своем
стихотворении. Если память о прошлом, и именно о предках,
принадлежит к сознаванию себя как семьи, то эта память выражает
также в определенном смысле и реальность семьи, то есть еще
продолжающееся, действенное настоящее. Идеальное (память)
и материальное (реальное настоящее) здесь сливаются;
идеальное как раз представляет собой в этом случае связь,
поглощающую индивидуальное Я, которая, как некая реальная
субстанция, соединяет семью в ее развитии»1.
Рыцарь печального образа - это не рыцарь, лишенный
наследства: напротив, жить своей собственной сказкой и беречь ее
ребенок, как Чичиков или Афанасий Иванович, может только
благодаря своему состоянию, единству с мифологически
увиденным миром и семьей.
Несомненно, мотив судьбы как слепого самоуправления чисто
телесного мира Гоголя и мотив прекращения исторического
движения, сохранения этого мира в неизменном настоящем (если
хотите - отрицания «исторической жизни») также становятся
понятны в связи с детским взглядом на мир: жизнь ребенка
совершается волей неведомой судьбы, он не знает еще
трансцендентных целей и ценностей, не понимает истории, не верит в
реальное, невымышленное прошлое и будущее: его время - это и есть
вечное настоящее. Корчак писал: «Ребенок не понимает будущего,
не любит родителей, не догадывается о родине, не постигает
бога, никого не уважает и не знает обязанностей. Говорит "когда
вырасту", но не верит в это, зовет мать "самой-самой любимой",
но не чувствует этого; родина его - сад или двор. Бог для него
добрый дядюшка или надоеда-ворчун»2. Ясно, кстати, что даже
Бог у Гоголя (в «Страшной мести»), предлагающий Ивану самому
1Хюбнер К. Истина мифа. - М.: Республика. 1996. С. 18.
2КорчакЯ. Как любить детей - Мн.: Нар. асвета, 1980. С. 27.
162
выбрать казнь Петро, а затем изумляющийся и ужасающийся
замыслу Ивана, но все же исполняющий его, больше похож
на персонажа страшной детской сказки.
Удивительно, сколько нравственного негодования и
обвинений навлекают на себя те немногие персонажи русской классики,
которые имели детей и обретали семейное счастье, становились
родоначальниками - скажем, Обломов или Безухов. Причем винят
их все в том же: в отказе от деятельной жизни, от «исторических
задач» ради успокоения в каком-то аморфном азиатском
недеянии, в котором христианское видение истории, неповторимой
и осмысленной, заменяется бессмысленной природной
цикличностью мифа, в языческом почитании рода, еды и сна, в забвении
трансцендентных целей ради имманентного «мира сего» и более
всего - в усыплении своей личности неотделимой от
исторического и культурного мира. Однако нельзя не признать, что
персонажи эти относятся к числу наиболее приятных и
привлекательных в мировой литературе: сколько бы недостатков и «отказов»
ни приписывали им, они все равно остаются лучше и выше всех.
Чичиков - один из них. Не только во внешнем облике,
но и в душевном складе их немало общего: все та же детская
сказочность окружает их, нередко нелепых и чудаковатых на фоне
привычного хода вещей, изумляя и волнуя окружающих1. Можно
внешняя активность и предприимчивость Чичикова лишь на первый
взгляд отличают его от Обломова. На самом деле, как мы видели, его
стремительная птица-тройка замирает в скульптурной вечности и
принадлежит тому же сказочно-мифическому миру недеяния и тишины, что и
сонное царство Ильи Ильича. Никогда не прекращающаяся деятельность
Чичикова не знает конца, а значит - подлинной цели и смысла: вот
поистине странный сон, в который погружено суетное человечество. Покой и
неизменность всегда были признаками совершенства, движение и
стремление к чему-то внешнему - спутниками недостачи: мнимо подвижный
Чичиков - как бы несовершенная, незавершенная еще копия
неподвижного Обломова, Обломов ведь в сущности и был идеалом Чичикова. Так
вещи в мире становления у Платона суть лишь приблизительные
хрупкие копии неколебимых Идей из мира бытия. В «Выбранных местах»
последние черты этого несовершенства были устранены.
163
возразить, что мошенник Чичиков не знал тех размышлений
и духовных исканий, через которые прошел Пьер, да и Илья
Ильич, но ведь мы уже сказали: что для философа поиск истины,
то для ребенка поиски запропастившейся игрушки,
воображаемого друга, в данном случае - Копейки. И потом, разве то, к чему
в конце жизни пришли и Безухов, и Обломов, сильно отличается
от того, к чему стремился Чичиков?
Здесь, думается, расположена арена мощного столкновения
между мотивом мифологического, детского слияния с миром
вечных телесных форм, означающего закрепление человека
в одном лишь неизменном настоящим, и мотивом «взрослого»,
новоевропейского противополагния этому миру своей самости,
личности, возрастающей в историческом становлении человека,
в его автономной «исторической жизни».
Но действительно ли идеи субъективности и личности,
знаменующие собой как бы период «взросления» европейской
культуры, выражают зрелость и силу человека, или они порождены
скорее немощью и завистью по отношению к бытию ребенка?
3. На фоне Гоголя: зависть к ребенку,
или Философия лишенных наследства
Можно показать, как это сделал Н. Элиас, что
философские мотивы мыслящего Я, открывающего себя в чистой
рефлексии, монады «без окон» и трансцендентального субъекта -
мотивы субъективности, выключенной из мира,
обозревающей его как бы со стороны, а затем и конструирующей его
из себя самой, были также и социальными мотивами особого
слоя интеллигенции, сочетавшего силу мысли с реальным
бессилием1. Наблюдать, осмыслять и судить, но не участвовать,
*См. Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и
психогенетические исследования. Том 1. Изменения в поведении высшего слоя
мирян в странах Запада. - М.; СПб.: Университетская книга, 2001.
Особенно - С. 35-40,63-64.
164
достигнуть интеллектуальной автономии ценой отказа от
властных амбиций - эта социальная судьба философа и
философии открытым текстом описана, например, И. Кантом в
«Конфликте факультетов»1.
Гоголю нередко приписывают экзистенциалистские
переживания, атмосферу «страха и трепета», одиночества и
заброшенности в абсурдный мир2. В этой связи стоит показать, что
исторически экзистенциализм связан с мотивами скорее
противоположными гоголевскому мифотворчеству. Экзистенциализм
означает крайний субъективизм, это мучительная судорога
одинокого, замкнутого на себе духа, гордо поставившего себя вне
мироздания и над ним и потому изнемогающего от своей
внутренней нищеты.
Ж.-П. Сартр, к примеру, довел субъективизм до логического
конца, а разлад между мыслью без власти и властью без мысли -
до последнего мучительного предела. Разочарование
молодого интеллектуала, открывающего незначительность своей
социальной судьбы (например, философа-нормальенца,
вынужденного, в конце концов, стать простым учителем в средней
школе) ярко выражено в его «Тошноте»: «Я тоже хотел БЫТЬ.
Собственно, ничего другого я не хотел - вот она, разгадка моей
жизни; в недрах всех моих начинаний, которые кажутся
хаотичными, я обнаруживаю одну неизменную цель: изгнать из себя
существование <...> Можно даже облечь это в притчу: жил
1 Кант изумительно превращает слабость и безвластие в предмет
гордости, если не сказать - спеси, объясняя, почему философский факультет
занимает низшее положение в университетской иерархии: «то, что такой
факультет, несмотря на большое преимущество (свободу), все же
именуется низшим, объясняется особенностями человеческой природы:
тот, кто может приказывать, хотя бы он был смиренным слугой другого,
воображает себя более важным, чем другой, который, правда, свободен,
но не может никому приказывать» (Кант И. Сочинения. В 8-ми т. Т. 7. -
М.: Чоро. 1994. С. 61).
2 См., н., Франк. С. Л. Религиозное сознание Гоголя // Н. В. Гоголь: pro et
contra - Μ.: РХГА, 2009. С. 635.
165
на свете бедняга, который по ошибке попал не в тот мир, в какой
стремился»1. Мир буржуазии, мир силы и твердых социальных
позиций (сартровское абсолютно плотное «Бытие») был
недоступен этим нелегитимным буржуа, случайно попавшим в
господствующий класс и обреченным на легковесность и
неопределенность «существования».
«Тошнота» выражает их мечту о том, чего не может быть
(«история, какая не может случиться, например, сказка»), о
преодолении подвешенного состояния интеллектуала, обманутого
в своих ожиданиях и лишенного конкретного будущего2. Это
мечта о том, чтобы, наконец, «прекрасно вписываться в
окружающий мир, не хуже любого добропорядочного буржуа»
(курсив мой - А. К.). Мечта, перерастающая в ressentiment, более или
менее сублимированное смешанное чувство презрения и зависти
по отношению к буржуазии и всем, чувствующим себя на своем
месте, кому выпало счастье и проклятье не мыслить, но быть:
«Каким далеким от них я чувствую себя с вершины этого холма.
Словно я принадлежу к другой породе. После рабочего дня
они выходят из своих контор, самодовольно оглядывают дома
и скверы, и думают: "Это НАШ город, красивый буржуазный
город". Им не страшно, они у себя. Воду они видят только
прирученную, текущую из крана...»3 и т. д.
На этом фоне становится яснее и то мироощущение, которое
Сартр приписывает Декарту и отчасти действительно наследует
от него: «Ученый сознавал во все времена: что он есть только
чистое ничто, только взгляд, устремленный на неподатливую,
вечную, бесконечно весомую истину»4, - и его истолкование
1 Сартр Ж.-П. Тошнота - СПб.: Азбука-классика. 2006. С. 424.
2 Мучительная незавершенность подстерегает героя Сартра повсюду: «Так
и хочется им сказать: "Ну, решайтесь же, СТАНЬТЕ, наконец,
фиолетовыми, и покончим с этим". Так нет же, они - ни туда, ни сюда, они
запнулись в своем незавершенном усилии» (Там же. С. 50).
3Там же. С. 383-384.
4 Сартр Ж.-П. Картезианская свобода // Проблемы метода. Статьи - М.:
Академический Проект. 2008. С. 206.
166
картезианского сомнения как «разрыва контакта с бытием».
Чтобы обрести свободу, человек, по Сартру, сначала «предстает
перед самим собой как чистое ничто», отрывается от
фактически наличного мира и удостоверяет свою собственную истину
лишь в себе самом. По существу, это нигилистическая
философия, философия отрицания и расплавления всего объективного
и постоянного: для сартровского субъекта нет ничего
действительного, всякая действительность оборачиваются тем
отношением к ней, которое выбирает для себя абсолютно свободный
человек. Если она мучительная, радостная, поэтичная, пошлая -
это означает лишь, что человек решил так отнестись к ней1.
Свобода человека означает, что он остается без прошлого,
без привычек и без всяких универсальных правил и
подсказок, он не только есть то, что он из себя сделал, но и то, во что
он в любой момент может переделать себя2. Как картезианский
Бог, он непрестанно создает мир заново в новых актах свободного
самополагания: «в каждом мгновении нашей сознательной жизни
открывается нам творение ex nihilo»3. Таким образом, субъект
становится абсолютным, а избираемые им культура и эпоха -
чисто относительными: «Выбирая себя, я созидаю всеобщее. <...>
Экзистенциализм и хочет показать эту связь между абсолютным
характером свободного действия, посредством которого каждый
Действительно, так и описывается сущность свободы в «Бытии и ничто»:
«Поэтому здесь нужно изменить общее мнение и признать, что не
длительность ситуации или страданий, которые она вызывает, является
мотивом для понимания другого положения вещей, где будет лучше всем;
напротив, начиная с того дня, когда смогли постигнуть другое положение
вещей, новый свет падает на наши мучения и страдания, и мы решаем,
что они невыносимы» (Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт
феноменологической онтологии - М.: ACT, 2017. С. 654).
2 «... трус делает себя трусом и герой делает себя героем. Для труса всегда
есть возможность больше не быть трусом, а для героя - перестать быть
героем». {Сартр Ж.-П. Экзистенциализм - это гуманизм // Сумерки
богов - М.: Политиздат. 1989. С. 334-335).
3 Сартр Ж.-П. Трансценденция Эго. Набросок феноменологического
описания - М.: МОДЕРН. 2011. С. 78.
167
человек реализует себя, реализуя в то же время определенный
тип человечества, - действия, понятного любой эпохе и любому
человеку, и относительностью культуры, которая может явиться
следствием такого выбора»1.
Какую нелепую беспомощную гордыню источает каждая
сентенция этой истерической философии! И какой контраст сар-
тровский экзистенциализм составляет с гоголевским
мифотворчеством: мир тошноты - с миром детского смеха и детских
слез! Гоголь всюду стремится к катарсису пошлого и мелкого,
к возвеличиванию любого, даже «пустейшего», человеческого
существа, тут, напротив, с каким-то сладострастием
опошляется и умаляется все великое и вечное, а человек и вовсе
превращается в «чистое ничто». В мифотворчестве увековечивается
живая, будто дышащая плоть мира и человека, их прекрасная
материально-чувственная телесность, здесь же царит какая-то
иссушенная, словно мумия, духовность, разлагающая всякую
телесность и плоть, видящая их материальное бытие липким,
расползающимся, тошнотворным.
Ressentiment аристократов духа, не допущенных в
настоящую аристократию, философия лишенных наследства,
патетика самодовлеющей самости (разочарованной в себе, даже
презирающей себя и все же не желающей ничего другого),
отринувшей внутреннее единство с мифологическим миром,
с питающими его нечеловеческими силами. В ней выражен,
впрочем, лишь апофеоз (в самом деле, «апофеоз
беспочвенности»!), неизбежное завершение того духовного движения
новоевропейской культуры, что строилось через отрицание
мифологического мира, мира глазами детей. Конечно, это не
хронологическое его завершение, но точка высшего напряжения,
к которой антимифологическое мировоззрение подвели
невиданные ранее культурные и как следствие - политические
катастрофы двадцатого века.
1 Сартр Ж.-П. Экзистенциализм - это гуманизм // Сумерки богов - М.:
Политиздат. 1989. С. 337.
168
Мифологическое единение человека с загадочным, но
антропоморфным миром и вытекающее из этого единения принятие
судьбы мира, новоевропейская наука и философия отрицали
при помощи опредмечивания мира, ставшего рационально-
прозрачным ценой исключения из него всех «антропоморфных
элементов», как говорил М. Планк, и противостоящего отныне
человеку, поставившего себя вне этого мира и его законов за счет
ряда сложных абстракций: «мыслящее Я», «трансцендентальный
субъект», «чистое сознание», «трансцендентность Эго» и прочее.
Об этом написано очень много. Подчеркнем лишь главное:
как исторически, так и систематически, это духовное движение
было именно антимифологическим. Ключевыми мотивами его
были отрицание, абстрагирование и аналитическое расчленение
всего унаследованного от мифа, этой действительно «детской»
формы культуры - детской не в смысле наивности или
недостаточности, а в смысле той трагической глубины и вместе
радостного богатства жизни ребенка, что переданы в мифотворчестве
Гоголя. Элементы синтеза и созидания в новом,
антимифологическом миропонимании (например, упорядочивание явлений
природы согласно математическим правилам) становятся
возможны лишь благодаря отрицанию и абстракции,
направленным против мифа в попытке отвоевать у него и присвоить себе
околдованную им вселенную, потому от начала и до конца это
миропонимание носит негативный характер.
Экзистенциализм просто наиболее последовательно
проводит в жизнь этот исходный пафос отрицания и критики,
который, начав с «картезианского ниспровержения» всего
действительного, субстанциальности мира и человека,
ниспровергает наконец и самого себя, как это превосходно видно в
самоотменяющих понятиях Сартра о «чистом ничто», которое в любой
момент может стать чем угодно, о проекте, субъекте, его свободе
и ответственности1. Отрицательный характер «новой философии»
1 Картезианское сомнение и картезианская свобода в понимании Сартра
позволяет человеку смотреть на свое прошлое, свои привычки, на свой
169
не только в истерии экзистенциализма, но и всегда сочетался
в ней с тайной тоской по отвергнутому единству, устойчивости
и богатству мифологического мира, по зримо-телесной, прочной
действительности, которой наделяло человека органичное
слияние с ним.
Эта тоска выразилась, к примеру, во многих попытках
достигнуть такой ступени познания, на которой предмет и знание
о нем сливались бы воедино и более не различались: Cogito ergo
sum и Esse estpercipi суть тождества, в которых меняются только
переменные, но не ключевой мотив. В двадцатом веке Э.
Гуссерль, стремясь сохранить рационализм любой ценой, не мог
удовольствоваться мыслительной абстракцией
«трансцендентального Эго»1 и попытался связать рационализм с дорефлексивным
мир как бы со стороны, обособляясь и освобождаясь от них. Поэтому
каждую секунду его выбор самого себя оказывается ничем заранее не
предрешенным. Неудивительно, что идеи Паскаля, развитые в полемике
с Декартом, основателем «новой философии», приобретают особую силу
применительно к субъективизму Сартра, слишком последовательной
и потому радикальной форме этой философии. Паскалевское
рассуждение о пари, жесткая ирония, с которой философ предлагает «ставить
на Бога», может быть направлена и против сартровского учения о
свободном выборе. Паскаль высмеивает нелепое представление о вере в силу
решения, о решении верить. Если вера опирается на решение и расчет, она
перестает быть верой. Если бы мы поверили в силу каких-либо внешних
соображений, то, чтобы действительно верить, нам затем потребовалось
бы забыть об этих соображениях, забыть об акте решения и верить
просто в силу самой веры. Не говоря о том, что любой осознанный,
ответственный выбор должен руководствоваться некоторым принципом его
совершения - откуда он берется? В результате еще одного акта выбора?
То же самое касается сомнения, всякий раз предполагающего некоторое
основание для сомнения, которое само этому сомнению не подлежит. Так
получается, что картезианская свобода в сартровском смысле
оборачивается лишь воображаемой свободой.
1В «Кризисе европейских наук» Гуссерль отмечает, что
трансцендентальное Эго, описанное в более ранних его трудах как результат
картезианского эпохе, редукции, то есть ниспровержения и отрицания, само по себе
кажется «содержательно пустым Эго» (весьма примечательное выра-
170
«жизненным миром», с областью допредикативного, донаучного1,
а значит на самом деле - мифологического, опыта.
Мне думается, Шеллинг руководствовался схожими
соображениями, противопоставляя негативную философию, остающуюся
в области чистого мышления и потому постигающую лишь
возможное, абстрагируясь от реальности и в сущности не
интересуясь ею, и философию позитивную, исходящую из
действительного, из такой реальности, что предпосылается всякому
мышлению. Философия Нового времени, открываемая рационализмом
Декарта, была негативной философией, постепенно
расплавлявшей всю действительность в чистых понятиях, тоже своего рода
мифологией, но мифологией в дурном смысле закрепощения
сознания искусственными абстракциями при невыполнимых,
жение!), учение о жизненном мире призвано восполнить эту пустоту (см.
Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная
феноменология: Введение в феноменологическую философию - СПб.: Владимир
Даль. 2004. С. 209).
Наиболее последовательно Гуссерль проводил этот замысел в своих
исследованиях по генеалогии и обосновании логики. Результаты его ранних
«Логических исследований» были по преимуществу негативными'.
Гуссерль много и убедительно сказал о том, чем логика не является - она
не зависит от психологии и антропоморфизма и в себе самой находит
свой фундамент, то есть логика есть логика, и ничего больше. Но в эпоху
«кризиса европейских наук» негативный результат оказался
недостаточным: «отказ от психологического обоснования норм, прежде всего норм
истины самой по себе, ни к чему не привел» {Гуссерль Э. Кризис
европейского человечества и философия // Культурология. XX век - М.: Юрист.
1995. С. 324). То, что раньше мыслилось автономией логики, теперь
оказывается вдруг ее беспочвенностью. Сказать, что основания логики - это она
сама, все равно что сказать, что у нее нет оснований. Поэтому в поздних
своих работах: в «Формальной и трансцендентальной логике» и в
особенности в - «Опыте и суждении», Гуссерль стремился связать логику
с до-мыслительными ее истоками, с допредикативным опытом,
снабжающим основную форму суждения, S есть Р, необходимым
субстратом, только и делающим эту форму понятной (см. Husserl Ε. Experience
and Judgment: Investigations in a Genealogy of Logic - London: Routledge and
Kegan Paul. 1973. P. 19-31).
171
согласно посылкам самой этой философии, притязаниях
на познание не только возможного, но и действительного1.
Завершением, поп plus ultra негативной философии,
необоснованно возомнившей себя также и позитивной, Шеллинг считал
систему Гегеля2: в его панлогизме мышление исчерпало все свои
возможности и теперь ясно видит их недостаточность, свою
внутреннюю неполноту. Позитивная философия возникает как
усилие преодолеть эту неполноту, связав мышление с его
до-мыслительным, событийным истоком, путь к которому пролагает
«Философия мифологии».
Эта тоска по уже утраченному единению человеческого
сознания с его до-мыслительным субстратом, с нечеловеческими
силами, по превосходящей человека, но приемлющей его
реальности мифа очень близка тоске взрослого человека по
утраченному бытию ребенка - тоске по тому миру, что создан
мифологическим гением Гоголя.
Одно из очевидных и наиболее значительных сходств мифа
и детства - это сходство в пренебрежительном отношении к ним
со стороны взрослых и «взрослой» европейской культуры, всегда
склонных видеть и в мифологии, и в жизни ребенка лишь
нелепый вымысел, несерьезные фантазии, как бы ненастоящую жизнь,
которой еще только предстоит состояться: отсюда все
наиболее популярные аллегорические толкования мифа как
примитивной науки, примитивного искусства и т. д. Так и в ребенке
зачастую видят лишь будущего ученого, будущего художника
Несмотря на лозунг «существование предшествует сущности»,
экзистенциализм не только по выводам своим, но и по общему духовному настрою
принадлежит негативной философии, поскольку все действительное, как
мы видели, превращается для него в чисто абстрактные возможности
абсолютно свободного субъекта, эта философия знает лишь
умозрительный, воображаемый, трансцендентный мир, вроде того
трансцендентного социума, что изображен в «Критике диалектического разума».
2 См. Шеллинг Ф.В. Й. Сочинения. Т. 2. - М.: Мысль. 1989. С. 496-498.
И особенно - Шеллинг Ф.В. Й. Философия откровения. Т. 1. - СПб.: Наука.
2000. С. 119-120.
172
и т. п. - как и миф, он представляет интерес и ценность не сам
по себе, не такой, каков он есть, а только в перспективе того,
чем он, по мнению взрослых, должен стать. Властно
навязываемая мифу телеология, измышленная внешним
наблюдателем, который сам исключен из мифологического процесса,
ставящая подлинный смысл этого процесса вне его самого (этого
не избежал и Шеллинг), очень легко и охотно распространяется
нами на детей.
Легко понять, что эта пренебрежительность не только
выражает исходное отвержение мифа «взрослеющей» европейской
культурой, но и компенсирует зависть и тоску по нему, равно
как и многие усилия демонизировать мифологию и уже ее саму
описать в негативном ключе1, будто некое сплошное отрицание
науки, религии и философии Нового времени. Вне сомнений,
такой компенсацией являются и многочисленные попытки
демонизировать мир Гоголя, совершавшиеся с самых разных
позиций: Белинским - с одних, Розановым и Бердяевым - с
совершенно иных и т. д. Что есть склонность видеть в Гоголе
сатирика, «художника зла», а в его персонажах - плоские «типы»,
хари и свиные рыла, как не сублимированная зависть к
гоголевским героям, ко всем этим мифическим богатырям? Зависть
к ребенку - источник этой склонности.
И все же редко покидающая нас любовь к гоголевским
персонажам напоминает нам, что по ту сторону атмосферы скуки и
безнадежности, пошлости и страха, которой окружила Гоголя
критика и которая, при всей совей искусственности, была и остается
Например, как бы ни старался Кассирер следовать основной своей
установке на равноправие и равнозначность всех символических форм, нельзя
не заметить, что миф он описывает в основном по контрасту с наукой,
зачастую - через простое отрицание основных черт научного познания,
выдавая тем самым свое неявное «просветительское» представление о
мифологии как о дурной, несовершенной науке, заслуживающей
внимания лишь при сопоставлении с последней (об этом см. Франк С.Л.
Новокантианская философия мифологии // Путь: Орган русской
религиозной мысли. № 4. Июнь-июль 1926. С. 190-191).
173
в некотором смысле естественной для нас, для нашего
антимифологического мировоззрения - что по ту сторону ее хранится
нечто очень нам дорогое, чего нам очень не достает. Нам нечего
предложить Хлестакову, Чичикову или Вакуле - действительно,
что мы могли бы для них сделать? Не мы им, а они нужны нам:
это важно осознать - гоголевские образы не показывают в нелепо
преувеличенном виде наши пороки, а напротив, таят в себе нечто
такое, чего у нас нет, но чего нам не хватает. Так относимся мы
к мифу, так втайне завидуем детям и ищем в любви к ним
спасения от бесприютности и тоски.
Здесь стоит вспомнить концовку «Ночи перед рождеством»: «...
на стене сбоку, как войдешь в церковь, намалевал Вакула черта
в аду, такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо;
а бабы, как только расплакивалось у них на руках дитя,
подносили его к картине и говорили: Юн бань, яка кака намалевана!" -
и дитя, удерживая слезенки, косилось на картину и жалось к груди
своей матери» [1, 243]. «Он бань, яка кака намалевана!» -
незамысловатые слова современного человека, свысока бросающего
взгляд на мифологию и мифотворчество Гоголя, слова
новоевропейской науки, философии, религии, выстроенных на
отрицании мифа, слова Белинского и Розанова, Бердяева и Булгакова.
Это слова взрослого, чья жизнь и ценности основаны на
неприятии детского, мифологического по существу взгляда на мир,
на тайной зависти к ребенку, которого он стремится с помощью
этих слов сделать похожим на себя, напугать и отвратить от
мифического мира, внушить и ему свои неприятие и зависть. Но еще
больше в этих словах испуга и разочарованности, неявной мольбы
о помощи и защите, обращенной к ребенку под видом стремления
помочь ему. Дитя жмется к груди своей матери, но кто напугал
его - не сама ли мать? Разве не потому она показывает ребенку
намалеванного черта, что сама ищет детских объятий?
В ласке, заботе и умилении, что мы дарим детям, мы не столько
защищаем их от того, что сами же нарекаем пошлостью и злом,
сколько ищем спасения в их внимании и доверии, в искренности
и полноте детского чувства. Корчак писал: «Неужели мы столь
174
некритичны, что ласки, которыми мы преследуем детей,
выражают у нас расположение? Неужели мы не понимаем, что,
лаская ребенка, это мы принимаем его ласку, беспомощно прячемся
в его объятиях, ищем защиты и прибежища в часы бездомной
боли, бесхозной покинутости - слагаем на него тяжесть
страданий и печалей?»1 Человек, поставивший себя вне мира и вне
судьбы, словно сам себя выгнавший из дому и лишивший
наследства, потому вообразил себе столько «мест, которых нет», что
утратил свое место в опредмеченном, расколдованном им мире,
в котором не осталось ничего человеческого (никаких
«антропоморфных элементов»), никакого тепла, опеки и сочувствия
человеческому существу. Потому так ценно для нас общение
с детьми, что в нем мы находим отдушину пустого, рационально
расчлененного мира, которому противостоит гордое, но
«содержательно пустое» мыслящее Я: дети - словно оазис
мифотворчества в современной жизни.
Со схожими чувствами взрослый читает Гоголя. «Он бачь,
яка кака намалевана!» - говорит он, листая «Страшную месть»,
«Тараса Бульбу», «Мертвые души», и все же вновь и вновь
возвращается к гоголевским образам и сюжетам, мечтая о том, чтобы
ненадолго спрятаться в объятиях, в чудной жизни и
мифическом величии Чичикова, Хлестакова, Башмачкина, Товстогубов
и других созданных Гоголем детей.
4. Что такое детскость?
Достойно изумления, что детей принято считать слабыми
и беззащитными, кроме того - наивными и безответственными.
Что вообще в человеческой жизни, среди всех взрослых забот
и дел может иметь большее значение и воплощать больше
творческий силы, чем достижения ребенка: первое слово, первый шаг,
первое умозаключение, первая любовь? Да, есть долгий и
непростой путь, скажем, от первого слова до овладения литературным
1КорчакЯ. Как любить детей - Мн.: Нар. асвета, 1980. С. 69-70.
175
языком, но есть еще путь от ничто до первого слова. В первом
случае человек в целом уже понимает и что есть слово, и что оно
вообще есть, и что овладение им возможно и нужно. Во втором -
впервые завоевывает это понимание.
Здесь действительность раньше возможности, деяние
раньше его осмысления, ведь до тех пор, пока ребенок не начнет
говорить, ничто в его молчаливом бытии не намекнет ему даже
на возможность овладения словом. Правда, рядом с ним говорят
взрослые, но взрослые много чего делают - это еще не означает,
что он и сам может говорить. Выбор: говорить или хранить
молчание, как и вопрос о том, нужно ли говорить и если нужно - то
для чего, могут возникнуть лишь после того, как ребенок
действительно заговорил. Первое слово должно на деле состояться,
чтобы обнаружилось, что оно могло состояться, а могло бы и нет.
Первое слово, таким образом, не только открывает всю
последующую речь человека, но содержит ее в себе in potentia, в
качестве отныне возможной речи. То же самое касается первого
чувства, мысли, шага и т. д.
Действительно, искренние и доверчивые, но также серьезные
и смелые, дети и есть подлинные мыслители, впервые
решающиеся «пользоваться собственным умом». Кроме того, они
вынуждены на ходу создавать такой новый для себя язык (никто
не сочиняет столько новых слов, сколько дети), что позволил бы
им говорить о делах непривычных, взрослым несвойственных
и непонятных, выражать личные, уникальные мысли и
переживания, а значит - противодействовать инерции обыденного,
общеупотребительного языка. Но создавать новый уникальный
язык в противодействии обыденному - дело поэта. Значит, дети
не только философы, но и поэты.
Гоголь писал: «Бесчисленны, как морские пески,
человеческие страсти, и все не похожи одна на другую, и все они, низкие
и прекрасные, вначале покорны человеку и потом уже становятся
страшными властелинами его <...> Но есть страсти, которых
избранье не от человека. Уже родились они с ним в минуту
рожденья его в свет, и не дано ему сил отклониться от них. Высшими
176
начертаньями они ведутся, и есть в них что-то вечно зовущее,
неумолкающее во всю жизнь» [6,242]. Такую высшую,
неизбранную страсть Гоголь видит в Чичикове, нетрудно разглядеть ее
и во многих иных его героях: Хлестакове, Тарасе Бульбе, Акакии
Акакиевиче - не меньше ее и в их создателе (мы помним, как
настойчиво сам Гоголь связывает свое творчество с высшими
силами и предначертаниями). Эта страсть, более всего
проявленная в деяниях детей (мы только что убедились, что именно
в них действительно есть «что-то вечно зовущее, неумолкающее
во всю жизнь»), и есть третья из описанных нами
нечеловеческих сил, действующих в гоголевском мифотворчестве, нерушимо
связывающая его с детством и синтезирующая первые две силы:
отрицания, небытия и формообразующего, созидательного смеха.
Синтез их выразителен и важен в таких деяниях ребенка, как
первое слово или первый шаг. Особенность его деяний состоит
даже не в том, что совершаются они в неизведанном и непонятном
пока мире, а в том, что, благодаря им, мир ребенка только и
начинает формироваться в качестве мира на фоне чистого небытия.
Ребенок не входит в некий уже готовый и каким-то образом
явленный ему (хотя пока и мало освоенный) мир, своим вступлением
в мир, своим первым словом, первым жестом, первым
переживанием он только и вызывает этот мир из небытия, ведь, как было
сказано, деяния эти не предуготованы для него в виде
абстрактных возможностей их совершения. Напротив, «мир» как
сложный комплекс таких возможностей только и возникает для него
вследствие реального совершения этих деяний. Поэтому, точно
смеющиеся божества многих мифологий или мифотворец Гоголь
в своих произведениях, дети творят мир бесцельными, в
некотором смысле - беззаботными, как божественный смех,
действиями, за которыми не стоит и не может стоять никаких целей
и разумных планов.
Аналогию эту стоит развить: поскольку ребенок, как мы
говорили, не знает будущего, живет настоящим днем подобным
вечности, его мироощущение сродни божественному, бессмертному
взгляду на мир. Поэтому, как боги и как персонажи Гоголя, дети
177
еще не знают подлинной вины, ответственности, разочарования,
глубокой обиды или затаенной жажды мести: для бессмертных
все это только слова. Еще Прокл, анализируя Гомера, писал
о «детской игре богов»: «Так как весь промысел о чувственном,
согласно которому (боги) помогают Гефесту в демиургии,
называется "детской игрой богов" (почему, мне кажется, и Тимей
(42 d) мировых богов называет юными, как возглавляющих вещи,
которые вечно становятся и достойны шутки), то мифотворцы
обычно именуют смехом эту вот особенность промысла
действующих в мире богов»1. Таким образом, вполне закономерно,
что герои Гоголя преображаются его усилиями в мифических
героев и богов и вместе с тем выражают трагичность и
величественность, абсурдность и утонченность жизни ребенка.
Деяния детей еще не содержат в себе абстрактного
противопоставления мира и человека: в них невозможно различить то
устойчивое, закономерное, неподвластное человеку, что
принадлежало бы области «объективного мира», и то
произвольное, меняющееся в зависимости от человека, что составило бы
его «субъективность». В детских поступках действие и его
осмысление также сливаются воедино, за ними не стоит вызвавших их
к жизни волеизъявлений или намерений: здесь нет места
намерению без самого действия, жизни «внутренней» без жизни
«внешней». Отсюда - скульптурность гоголевского мира,
увиденного детскими глазами: вранье Хлестакова, «плач дитяти»
Афанасия Ивановича, «приобретательство» Чичикова и др. Ранее мы
обсуждали скульптурность этих персонажей и их действий в ином
контексте, сейчас мы переоткрываем ее под новым углом зрения.
Поскольку деяния ребенка не вызываются с необходимостью
внешними обстоятельствами и не направляются желаниями или
наперед заданными целями, их надлежит признать наиболее
свободными среди всех, что дано совершить человеку, но, поскольку
их не определяет никакой сознательный выбор или решение, они
являются также и совершенно необходимыми, неизбежными.
ЧДит. по Лосев А. Ф. Гомер - М.: Молодая гвардия. 2006. С. 367.
178
Их справедливо считать как действиями, свободно
совершаемыми детьми, так и событиями, происходящими с ними
независимо от их ведома и согласия. Свобода и необходимость,
действие и событие здесь так же пребывают в полной неразли-
ченности. Ясно, что вкупе с неразличенностью мира и человека,
это единство необходимости и свободы означает принятие своей
судьбы в рамках судьбы мирового целого, органичное слияние
с нею. Все это мы ранее показали на многих примерах из
гоголевского творчества, теперь же мы приходим к тем же выводам,
в частности - относительно природы и значения судьбы в
мифотворчестве Гоголя, с точки зрения третьей, ранее не
исследованной нами нечеловеческой силы, в которой все мифологические
мотивы Гоголя достигают высшего, окончательного единства.
Весьма поучительно, как Фридрих Шиллер связывает
детскость с кантовской аналитикой возвышенного - детскость
и есть то, что превосходит всякую человеческую способность
представления, потому что являет собой не конкретный
предмет, определенный и ограниченный, не ту или иную уже
ставшую жизнь взрослого, а такую еще только разворачивающуюся
творческую силу, которая может воплотиться в любую жизнь.
Детскость потому и есть то безграничное могущество, с которым
Кант связал свой анализ «динамически возвышенного»1 -
могущество, превышающее пределы человеческого воображения
и открывающееся лишь в игре воображения и разума, в которой
воображение признает свое бессилие охватить и
схематизировать, т. е. опредметить, сверхчувственные идеи разума. Только
это признание возвышает человеческую душу, которая, с одной
стороны, смиряется перед тем, что бесконечно превосходит
человека, а с другой стороны чувствует себя достаточно сильной,
чтобы в игре способностей, некоторым загадочным, не вполне
понятной ей самой образом все же соучаствовать и
сопереживать этому могуществу.
jCm. Кант И. Критика способности суждения - М.: Искусство. 1994.
Особенно - С. 130-131.
179
Шиллер пишет о возвышающем сопереживании бытия ребенка:
«это такое чувство, которое скорее смиряет, чем поощряет наше
самолюбие; и если здесь может идти речь о преимуществе, то оно
во всяком случае не на нашей стороне. Нас охватывает
волнение не потому, что мы взираем на ребенка сверху вниз, с высоты
нашей силы и совершенства, но потому, что мы, сознавая
ограниченность, неотделимую от уже достигнутого нами состояния
определенности, глядим снизу вверх на безграничную
возможность определений в ребенке и на его чистую невинность. Наше
чувство в такие мгновения слишком явно смешано с грустью,
чтобы мы могли ошибиться в его источнике. Ребенок воплощает
в себе склонности и человеческое предназначение, мы же
воплощаем осуществление, которое всегда остается бесконечно ниже.
Поэтому ребенок олицетворяет для нас идеал, но не
осуществленный, а начертанный; и нас трогает отнюдь не представление
о недостаточности и ограниченности, а совсем напротив -
представление о чистой и свободной силе, о целостности, бесконечности.
И вот почему для человека, одаренного нравственностью и
восприимчивостью, ребенок всегда будет священным объектом, то
есть таким, который величием идеи уничтожает величие опыта»1.
Для нас крайне важен тот последний вывод, который сам
Шиллер не делает из своего анализа (потому что у него иная цель),
но который естественно вытекает из связи детскости и
возвышенного в кантовском смысле. Вся «Критика способности
суждения», и аналитика возвышенного в особенности, призваны
у Канта дать ответ на вопрос о том, как можно систематически
связать теоретическую и практическую философию, железную
причинную необходимость, господствующую в эмпирически
данной природе, и абсолютную свободу личностей,
достигаемую лишь в области чистого разума и благодаря ему.
Возвышенное для Канта - это такой удивительный
феномен, в котором сплетаются чувственная данность, и вместе
1 Шиллер Ф. Собрание сочинений в 7 томах. Т. 6. - М.: Государственное
Издательство художественной литературы. 1957. С. 388-389.
180
с тем - необходимость природы (ведь связь с некоторым
чувственным субстратом неизбежно сохраняется в возвышенном -
при любовании звездным небом, грозным морским простором
и т. п.) и сверхчувственная свобода разума, позволяющего
возвыситься от простой данности до такого безмерного могущества,
которое открывается лишь на фоне чувственности, но никогда
ею не исчерпывается. Внятно объяснить и каким бы то ни было
образом познать достигаемое в возвышенном единение
природной необходимости и превышающей природу человеческой
свободы - абсолютной необходимости и абсолютной свободы! -
невозможно, можно лишь осознать или пережить это единство
как загадочно наличное в возвышенном. Что оно есть, можно
испытать, а что оно есть по существу и благодаря чему оно есть,
мы не вправе спрашивать.
Но что, как не детскость и образ ребенка, чьи деяние, как мы
сказали, надлежит признать и самыми свободными и
совершенно необходимыми одновременно, есть выражение этой
тайны? В эпическом миросозерцании Гоголя: возьмем ли мы
«Ревизора», «Мертвые души» или даже «Страшную месть» -
в его гиперболизированном мире, увиденном детскими
глазами, практически все становится кантовским возвышенным,
и все несет на себе печать таинственного единства природной
необходимости и человеческой свободы. Оно заметно и в
возвышенном (в кантовском смысле безмерной силы,
превышающей любую неизбежно конечную чувственную данность) вранье
Хлестакова, и в возвышенном странствии Чичикова, и в
бесконечном могуществе грозного мстителя, поднятого на
высочайшую гору. Мир детей, смешной и страшный, есть возвышенный
мир мифотворчества.
Думается, именно неразличимость в деяниях детей тех
моментов, чья противоположность доставляет немало мучений
взрослым, единство тривиальных бинарных оппозиций,
электризующих взрослую жизнь, составляет многократно воспетую
простоту ребенка, саму детскость, тайну его неотразимого
очарования. Эта простота - предмет скрытой зависти к ребенку
181
и выражающей его бытие мифологии. Зависть эта - источник
всех попыток очернить, вывернуть наизнанку детскую
простоту, простоту персонажей Гоголя, выдав ее за
безответственность, какую-то примитивную одномерность и слабость, а себя
на фоне этого очернения и благодаря ему - за воплощение силы,
за многомерного человека, за «взрослого». Но не основано ли все
это на не недоразумении?
Действительно, мы ведем, а порой тащим детей на концерты,
в музей, в театр, наконец, в школу и университет. Нас манят
далекие идеалы и ими мы пытаемся соблазнить детей. Ради этих
далеких идеалов происходит немало волнений и беготни, им
приносятся в жертву время и силы, иногда - сама жизнь. Но разве
лицо ребенка для матери с отцом, да и просто для
здравомыслящего человека не прекраснее картины Рафаэля? Его первое
слово разве не дороже им всех слов Пушкина или Гоголя? Разве
ребенок в блокадном Ленинграде, жертвовавший своей пайкой
хлеба ради больной матери, понимал добро и нравственность
хуже Канта? Трудно понять те бесконечные задачи и
абстрактные образцы, которым мы пытаемся подчинить свою жизнь или
чаще делаем вид, что пытаемся. Не надо делать вид: наша жизнь
не где-то в бесконечности, она здесь, наш идеал не в дали, он
рядом с нами. Как писал Толстой, «Ребенок живет, каждая
сторона его существа стремится к развитию, перегоняя одна другую,
и большей частью самое движение вперед этих сторон его
существа мы принимаем за цель и содействуем только развитию,
а не гармонии развития. В этом заключается вечная ошибка всех
педагогических теорий. Мы видим свой идеал впереди, когда он
стоит сзади нас»1.
Впрочем, на все сказанное давно уже хочется возразить:
ребенок развивается не в вакууме, а в социокультурном мире, и,
если бы не взрослые его воспитатели, он никогда не сказал бы
членораздельного слова, не начал бы говорить и мыслить, как
1ТолстойЛ.Н. Полное собрание сочинений в 90-томах. Т. 8. - М., 1928—
1958. С. 321.
182
человек - об этом говорят факты. Все так. Но есть великая
разница между постепенным освоением человеческой речи после
выучивания первых слов и освоением их самих. Дело в том, что
самые азы человеческого общения ребенок постигает поначалу
в том же ключе, что и общение животных, деревьев, ветра - то
есть очеловечиваемого им нечеловеческого мира: на этом стоит
задержаться.
Давно замечено, что в общении матери с малышом не только
ребенок пытается копировать мимику и слова своей мамы,
но и она сама оставляет язык взрослого человека и переходит
на так называемое «гульканье», подражая звукам детской речи.
Оба они, малыш и его мать, как бы обмениваются языками, желая
понять друг друга1. При этом удивительным образом они
оказываются в схожем (по существу, детском) положении и в этом
смысле понимают, или чувствуют, друг друга именно потому, что
между ними сохраняется неустранимый и незабвенный барьер
непонимания.
Мать не начнет видеть, чувствовать мир, как ее малыш, от того,
что будет подражать его жестам и лепетанию, и хорошо это
знает. Так же и ребенок, впервые внятно произнося перенятые
у взрослых слова, еще не чувствует и не мыслит при этом того,
что эти слова означают во взрослом мире (среди тех слов, что
ребенок выучивает раньше прочих - «любовь», «мама», «Бог»,
«мир», «война», «жизнь», «смерть» и т. п.), и знает, что мир этот
ему, маленькому, пока недоступен. Речь взрослых для него
примерно то же, что детское «гульканье» - для его матери. И в том,
и в другом случае слова действуют помимо смысла,
существуют и ценятся сами по себе. Они приоткрывают перед матерью
и ребенком тайну другого человеческого существа и
связанного с ним совершенно иного мира, но в то же время
запечатывают эту тайну, напоминают о ее непроницаемости. Смысл этих
слов - они сами, или иначе говоря, их смысл - это бесконечная
Юб этом см., в.,Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек - текст -
семиосфера - история. - М.: Языки русской культуры. 1996. С. 193-194.
183
загадка, с которой и мать, и малыш имеют дело ради нее самой,
а не для того, чтобы однажды окончательно ее разгадать.
Мы без труда узнаем здесь ключевые черты скульптурной
и апофатической гоголевской прозы, его причудливой
довлеющей себе речи, составленной из «чистых фактов языка» и
силящейся во все новых и новых словесных конструкциях косвенно
выразить невыразимое, намекая на ту особую реальность, что
никогда полностью не может быть схвачена в слове и в то же
время не существует и не действует для нас вне своего
словесного оформления. Речь ребенка - во всей ее подлинной
глубине и творческой мощи! - совершенно естественно становится
у Гоголя единственно адекватным выражением его
мифотворчества, погруженного в атмосферу мироощущения детей.
Это одна из разгадок гоголевского языка. И кроме того -
гоголевского антропоморфизма: дело в том, что слова,
действующие помимо смысла, ребенок умеет слышать не только в речи
взрослых, но и во всем, что окружает его - в лае собаки,
журчании ручья или скрипе снега. Малыш перенимает их звучание
не хуже, порой лучше, чем то, что слышит от взрослых, и сам
примечает в них человеческие интонации, словно и они в ответ
его вниманию подражают ему. Ребенок угадывает за
животными или вещами ту же тайну, которую чувствует в постепенно
осваиваемых им словах взрослых. Точно Гоголь или его герои,
он слышит, о чем поют двери, тикают часы, говорят стулья и т. д.
Бахтин отмечает, что «в известной мере можно говорить
одними интонациями, сделав словесно выраженную часть речи
относительной и заменимой, почти безразличной. Как часто
мы употребляем не нужные нам по своему значению слова или
повторяем одно и то же слово или фразу только для того, чтобы
иметь материального носителя для нужной нам интонации»1.
Дети и персонажи Гоголя преимущественно так и говорят:
одними интонациями - и не только с людьми, но и со всем миром.
1 Бахтин М.М. К методологии гуманитарных наук // Эстетика словесного
творчества. 2-е изд. - М.: Искусство. 1986. С. 389.
184
Кстати, «не нужные нам по своему значению слова» и постоянные
повторы - тоже чисто гоголевские черты: не так ли и ребенок
бессмысленно, на первый взгляд, повторяет одну и ту же фразу
ради самого ее произнесения, ради чистой интонации? Эти
чистые интонации роднят его с огромным миром, даже делают
соразмерным ему.
В сказке Памелы Трэверс о Мэри Поппинс есть удивительная
по глубине мысли глава, рассказывающая, как малыши Джон
и Барбара Бэнкс до того, как сами начали говорить, умели
понимать не только смысл человеческой речи, но и смысл пения птиц,
шелеста листьев, завываний вьюги. А научившись выговаривать
первые слова, забыли языки своих прежних собеседников, больше
того - забыли и о самом этом забвении, о том, что когда-то они
могли говорить с ветром и птицей. Это один из многих
примечательных параллелизмов, что можно усмотреть между
гоголевскими героями, гоголевским миром и образами детей,
изображением их мира в большой литературе. Один из ключевых
моментов детской простоты, утрата которой называется
взрослением - это единство слов и смысла, неразличенность
интонации, звучания слов и их значения.
Когда отношение слова и смысла начинает мыслиться как
внешнее, а значит - условное, конвенциональное, будто
отношение двух различных вещей обыденного опыта, человек быстро
перестает понимать тех, кто не знает конвенционального языка.
Сам же этот язык с самого начала оказывается отравлен
произволом: однажды признанное конвенциональным, соотношение
слова и смысла неизбежно рано или поздно предстает
искусственным и фиктивным, надламывается и забывается. Слова
остаются без смысла, превращаются в заболтанные «симуля-
кры», а смысл - без словесного выражения, и тогда до него уже
вовсе нельзя достучаться, о нем напоминает только какая-то
беспредметная, безмолвная тоска, от которой порой спасает
общение с детьми.
Если Чехов выразил пустоту обессмыслившегося языка,
болтовни, соседствующей с тоской, которую уже не выскажешь
185
(главный ужас рассказа «Тоска»)1, изобразил трагический итог
языка взрослых, созданного ценой дробления и расслоения речи
ребенка, то Гоголь в своем мифотворчестве воссоздает
магическую силу детского слова, заповедное царство не
коррумпированного, не профанированного еще языка. Чехов спасался в своем
молчании (отсюда его лаконизм), Гоголь, напротив, шел к
чрезмерной высказанности, в которой чудаковатыми детскими
словами охватилось бы все и вся2.
Однако нельзя до конца понять значение простоты ребенка
в гоголевском мифотворчестве, если не учитывать, помимо
детских слез и детского смеха художественных творений писателя,
детскую серьезность «Выбранных мест». Зачин этой книги
раскрывает ее подлинные пафос и цель. Цель ее - ответ человека
на вызов смерти: можно ли придать жизни такие достоинство
и смысл, которые не уничтожились бы всесильной
неотвратимой смертью?
Гоголь пишет: «Я был тяжело болен; смерть уже была близко.
Собравши остаток сил своих и воспользовавшись первой
минутой полной трезвости моего ума, я написал духовное завещание,
в котором, между прочим, возлагаю обязанность на друзей моих
издать, после моей смерти, некоторые из моих писем <...>
Небесная милость Божия отвела от меня руку смерти. Я почти
выздоровел; мне стало легче. Но, чувствуя, однако, слабость сил моих,
которая возвещает мне ежеминутно, что жизнь моя на волоске и,
приготовляясь к отдаленному путешествию к Святым Местам,
необходимому душе моей, во время которого может все
случиться, я захотел оставить при расставанье что-нибудь от себя
моим соотечественникам»3. Если все дела и достижения человека
Юб этом см. Порус В.Н. Тоска по бытию (А. П. Чехов и философия
культуры) // Перекрестки методов. Опыты междисциплинарности в
философии культуры - М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация». 2013. Особенно -
С. 100-103.
2 Подробнее см. Глава 3. Стр. 72-74.
3 Гоголь К В. Выбранные места из переписки с друзьями // Духовная проза:
сборник. - М.: Астрель; Владимир: ВКТ 2012. С. 7.
186
смерть растворяет в вечном забвении и небытии, что может после
нее оставить человек? Как доказать, что он не просто пропал
«как волдырь на воде, без всякого следа», что действительно жил
«в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский»? Вопросы эти
отлично знакомы персонажам Гоголя, в особенности -
Чичикову, но близки они и крупнейшим мыслителям. Ведь именно
этим вопрос открывается, к примеру, философия Льва Толстого
в его «Исповеди»1. И неслучайно Толстой искал ответа на него
в общении с крестьянскими детьми.
Бессилие перед абсолютной непроницаемостью и
неизбежностью смерти и протест против нее, вызвавшие к жизни
исповеди Гоголя, Толстого и многих других, с самого начала
роднят их с мироощущением ребенка. Перед лицом смерти
практически любой человек возвращается в детство. Мне
приходилось видеть, как люди умирают. Последним словом почти всегда
бывает «мама», а последними словами, обращенными к
умирающим - «Мой маленький...», «Мой милый...», хотя
обращаются с ними к глубоким старикам. Ребенку бывает непонятно,
почему его иногда наказывают и бранят, почему нужно ложиться
спать, когда хочется играть, но протестовать он не в силах, и
приходится подчиняться, закатывая тихий ли, открытый ли плач.
Но и сами мы так же беспомощно противимся необоримым
и непонятным для нас силам и обстоятельствам -
несправедливым страданиям, потерям, смерти, и мы так же плачем,
воздеваем руки к небу, устраиваем истерики миру, Богу, судьбе: «Мы так
похожи на ребят, // Что спать ложиться не хотят». Вопрос Гоголя
о смысле жизни, о таком состоянии, что не забрала бы у человека
^р. «Я не мог придать никакого разумного смысла ни одному поступку,
ни всей моей жизни. Меня только удивляло то, как мог я не понимать
этого в самом начале. Все это так давно всем известно. Не нынче завтра
придут болезни, смерть (и приходили уже) на любимых людей, на меня,
и ничего не останется, кроме смрада и червей. Дела мои, какие бы они
ни были, все забудутся - раньше, позднее, да и меня не будет. Так из чего
же хлопотать?» (Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений в 90-томах.
Т. 23. - М., 1928-1958. С. 13).
187
и его потомков смерть, делает спрашивающего ребенком: только
тот, кто принимает детский взгляд на мир, может до конца понять
этот вопрос и осмысленно искать на него ответа.
Ранее мы связали детство с бессмертием мифических богов,
теперь же говорим о нем как о столкновении с
неотвратимостью смерти. Однако для мифотворчества здесь нет
противоречия: страх смерти еще не сама смерть и не пассивная
беспомощность перед нею, это переживание непрочности, мимолетности,
бессмысленности всего, что окружает человека и составляет
его жизнь. Это переживание всюду проникает и в мире Гоголя,
и в жизни ребенка, и в вечной жизни смеющегося божества, ведь
только мир, исполненный абсурда и нелепостей, допускает смех
и роднится с ним, в мире стабильной прозрачной
рациональности, твердых оснований и смысла смех был бы совершенно
неуместен. Смех - это, как мы видели, и есть сама
божественность: именно смех боги противопоставляют бессмысленности
неумолимой судьбы, только благодаря ему они и перерастают
конечность и легковесность жизни человека.
Таким образом, и здесь мы видим нерасторжимую связь
и взаимообусловленность сил смеха и небытия в
мифотворчестве. Не только смех предполагает действие отрицания, ничто-
жения в человеческой жизни, что без них не была бы смешной.
Но и ничтожность конечной жизни не была бы мучительной
проблемой, с которой упрямо не готов примириться человек, если бы
он не имел в себе сил стремиться за пределы этой конечности,
если бы не знал откуда-то, что притязание на бессмертие
имеет смысл и даже требуется его человеческим достоинством.
Мартин Хайдеггер учил, что «трансцендентальная
конечность» - это самая основа человеческого бытия. Величайшая
ложь культуры, которой окружил себя человек - иллюзия
бессмертия, считал философ. Эта иллюзия, обеспечиваемая
символами, идеями и другими суррогатами вечного в конечном
человеческом существовании, помогает противостоять ужасу,
вызванному пустотой жизни, возникшей после «смерти Бога».
Это позволяет человеку представить, что он намного больше, чем
188
есть на самом деле. Но тогда человек теряет себя, свое подлинное
существование в этой иллюзии. Только осознание смертности
делает осмысленными долг, вину, совесть, свободу и,
следовательно, только бытие-к-смерти позволяет человеку преодолеть
его падение в пошлом и безразличном к нему мире1, где его
индивидуальность и автономия растворяются в безликом das Man.
Однако совесть и свобода, «подлинность» человеческой жизни
лишаются всякого смысла в перспективе одного только бытия-
к-смерти: признав лишь неумолимую конечность и
отказавшись от попыток преодолеть ее, человек не мог бы ценить свои
ничтожные, ничего не стоящие перед лицом смерти поступки,
считать их должными или недолжными. Поэтому, кстати,
знаменитая инвектива Белинского: «Не истиной христианского учения,
а болезненною боязнью смерти, чорта и ада веет от Вашей
книги»2 - бьет мимо цели. Ужас перед неминуемой гибелью
не породил бы никаких книг, напротив, сделал бы пустыми
и ненужными любые человеческие усилия, если бы не
выражал у Гоголя, как и Толстого (получившего немало подобных
обвинений), активного протеста против унизительности смерти,
а значит - и некую сокровенную силу, питающую и
вдохновляющую этот протест.
Если признать, что вопрос о смысле жизни первичен и
фундаментален по отношению ко всем иным вопросам, которым он
только и может придать смысл, то ясно, что сам он не получает
свой смысл в ходе размышления, т. е. разрешения каких-либо
иных вопросов. Его, следовательно, не могут обосновать
сознательные решения, выбор или целеполагание. Не может сделать
его осмысленным и опыт, ведь речь идет о притязании на
преодоление собственной конечности, а опыт может быть только
1Сы.ХайдеггерМ. Бытие и время. - М.: Академический проект. 2013.
Особенно - С. 264-265.
2 Белинский В.Г.Ижьмо Н. В. Гоголю 15 июля 1847 г. // Н. В. Гоголь в
русской критике - М., Л.: Государственное издательство художественной
литературы, 1953. С. 251.
189
конечным. Притязание это имеет силу и смысл для человека
только благодаря связи с домыслительной реальностью, где
действительность предшествует абстрактным возможностям,
которыми занято мышление, и впервые полагает их. Человек
сначала должен действительно превзойти свою конечность,
чтобы потом осознать, что он мог это сделать, и чтобы
придать смысл вопросу о том, как именно надлежит сделать это.
Такой незапамятной реальностью для человека является
простота ребенка, детскость, которая, как мы говорили, воплощается
в незапамятно совершенных достижениях ребенка, и которую
мышление застает всегда уже утраченной. Мы сказали, что
деяния ребенка - это всякий раз путь от ничто к первому слову ли,
мысли, шагу, и что при совершении их ребенок пребывает в
увековеченном настоящем, ведь с будущим эти деяния не связывают
еще никакие цели, а с прошлым - никакие принятые решения
или воспоминания. Поэтому в детских достижениях и
совершается преодоление небытия и закрепление человека в
вечности, они - это подлинный, всегда уже данный, но и всегда
уже забытый человеком ответ на вызов смерти, это ответ,
данный до всякого вопроса, только и делающий сам вопрос
возможным. Только связь с детством, неявное присутствие детской
простоты и детского взгляда на мир как третьей из апофатиче-
ских сил, действующих в мифологическом сознании, позволяет
спрашивать о смысле жизни, обосновывает исповеди и искания
Гоголя и Толстого.
Знаменитое «знающее незнание» Сократа, впервые
поставившего во главу угла вопрос о том, что есть человек, и как он
должен жить, выражает именно эту имплицитную связь человека
с такой домыслительной действительностью, которая всегда
превосходит возможности мышления, никак не может втиснуться
в него в качестве его предмета. Сократ задавал вопрос о человеке
не для того, чтобы однажды получить на него ответ. Напротив,
успокоиться, остановиться на каком-либо мнимо окончательном
ответе - значило бы окаменеть в нем, превратиться в простой
«камень, наделенный сознанием», утратить саму человечность.
190
Смысл жизни нельзя найти в готовом виде, как какую-то уже
существующую хорошо спрятанную вещь, его нельзя узнать
у наставника или в мудрой книге, человек должен выстрадать,
самостоятельно создать смысл своей жизни. Отсюда - и
требование Сократа познать самого себя, и неразрывно связанное с ним
кредо философа, не дающего себе и другим духовного покоя:
«А без испытаний и жизнь не жизнь для человека». Поэтому
монологизм старшей натурфилософии сменяется у Сократа
диалогом, нескончаемым испытанием. Только приняв это
испытание, отказавшись от притязаний на вечность и
универсальность ответов на сократовские вопросы, но напротив - признав
за каждым человеком право и даже нравственный долг
самостоятельно всю жизнь отвечать на них, можно отстоять
человеческое достоинство.
Так поступает Гоголь со всеми разнообразнейшими
характерами, выведенными в его произведениях - в жизни
каждого из «странных героев» своих он готов разглядеть особый,
им самим созданный смысл, каким бы мелким и нелепым тот
ни казался на первый взгляд, и в то же время ни на одном таком
смысле писатель не готов остановиться, посчитав его
окончательным. Потому одни яркие, нарочито преувеличенные образы
без конца сменяются другими, подобно именам, деталям,
сюжетам и жанрам, с которыми Гоголь не устает экспериментировать.
Ранее мы видели, что силы небытия и созидательного смеха
нуждаются в том, чтобы быть выраженными в формах отличных
от них самих, но ни одной формой не могут быть исчерпаны
и потому требуют бесконечной череды сменяющих друг друга
форм. Лишь вся эта бесконечность, будь она реально достижима,
могла бы стать полным выражением и адекватным коррелятом
двух обсуждавшихся нечеловеческих сил. Теперь мы приходим
к тем же выводам относительно третьей силы, связующей две
первые и обуславливающей центральную проблему
«Выбранных мест», присутствующую, конечно, во всем гоголевском
мифотворчестве, но особенно заостренную именно в этом
трактате - что противопоставить абсурдному миру напрасной суеты
191
и смерти? Всерьез задаваясь этим вопросом, человек чувствует
себя ребенком, открывает в себе детскость и детскую простоту,
а чувствуя себя взрослым, он всякий раз бежит от него, прячется
(пока удается!) в обыденной ли суете, в воображаемой
понятности и величии культуры и истории. Взрослым чувствует и мнит
себя тот, кто не выдерживает бытия ребенка.
5. Ребенок и оправдание гоголевского мира
Исходная посылка, под разными углами зрения раскрытая
нами в предыдущих параграфах, довольно проста:
гоголевское мифотворчество, разворачивающееся из апофатического
истока, потому так близко миросозерцанию ребенка, что дети
ближе всех стоят к изначальному и невыразимому и лучше
понимают абсолютную тайну, скрытую за потоком слов,
действующих помимо смысла.
У многих русских классиков, тяготевших к мифотворчеству,
видим мы этот мотив. О Лермонтове, например,
глубокомысленно заметил Мережковский: «Чувство незапамятной давности,
древности - "веков бесплодных ряд унылый" - воспоминание
земного прошлого сливается у него с воспоминанием прошлой
вечности, таинственные сумерки детства с еще более
таинственным всполохом иного бытия, того, что было до рождения
<...> К тому, что было до рождения, дети ближе, чем взрослые.
Вот почему обладает Лермонтов никогда не изменяющей ему
способностью возвращаться в детство, т. е. в какую-то прошлую
вечную правду»1.
Лев Толстой, определивший свою центральную идею Добра
в целом в апофатическом ключе: «Добро есть вечная, высшая
цель нашей жизни <...> Добро есть действительно понятие
основное, метафизически составляющее сущность нашего
сознания, понятие, не определяемое разумом. Добро есть то,
1 Мережковский Д. С. М.Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества
// М. Ю. Лермонтов: pro et contra - СПб.: РХГИ, 2002. С. 359-360.
192
что никем не может быть определено, но что определяет все
остальное»1, - совершенно естественно связал это Добро
с жизнью и душой ребенка. Толстой пишет: «Учить и
воспитывать ребенка нельзя и бессмысленно по той простой
причине, что ребенок стоит ближе меня, ближе каждого взрослого
к тому идеалу гармонии, правды, красоты и добра, до которого
я, в своей гордости, хочу возвести его»2. В одном из его
педагогических сочинений читаем: «Я убежден, что воспитатель
только потому может с таким жаром заниматься воспитанием
ребенка, что в основе этого стремления лежит зависть к
чистоте ребенка и желание сделать его похожим на себя, то есть
больше испорченным»3.
Этот тезис мы формулировали и отчасти обосновывали ранее,
отталкиваясь от Гоголя и философии мифа. «Взросление»
культуры и окультуренного ею человека, его «историческая жизнь»
основаны на зависти к ребенку и тайной тоске по его простоте
и скрытой в ней силе. Такие утверждения легко могут создать
неточное или даже неверное впечатление о том, что пафос
мифотворчества (у Гоголя, Толстого и других) - это пафос гордого
отвержения культуры, негодования перед ее беспочвенностью,
насильственностью и обманом, какого-то мальчишеского бунта
против нее. Но речь идет о другом.
На попытки подобного бунта не раз справедливо отвечали:
культуру надлежит хранить не потому, что она сама по себе так
уж хороша (нет, она и вправду зиждется на произволе и насилии,
она пропитана условностями и фальшью), а просто потому, что
она все же бесконечно выше и лучше контркультурного
бунтарства, которое на деле рождает куда больше насилия и обмана.
Какой бы испорченной ни была культура, в ней все же можно
1 Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений в 90-томах. Т. 30. - М., 1928—
1958. С. 78.
2 Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений в 90-томах. Т. 8. - М., 1928—
1958. С. 323.
3 Там же. С. 216.
193
жить, хранить жизнь и достоинство человека, которые неизбежно
обесцениваются и погибают вместе с ней: этому учит история.
Эта скромная и внятная кулыпуродицея весьма убедительна.
Но мифотворчество строится не как отказ или бунт, напротив,
оно исходит из позитивной реальности, предшествующей ему
и дающей ему творческие силы: как мы теперь понимаем, особое
место здесь - за детскостью и детскими достижениями. Напротив,
как мы немало говорили, взросление культуры и человека - это
путь отрицания, обедняющего расчленения мифологии и
детскости. Причем, совершаются они в легко узнаваемой логике
ницшевского ressentiment.
Так, историческое закрепление чистого произвола, лежащего
в основании социокультурной жизни, накопление привычек
и ограничений (как в объективности социальных институтов, так
и в субъективности схем восприятия и оценивания этих
институтов), из-за которых произвол со временем начинает казаться
чем-то естественным и даже разумным, постепенные утрата
и забвение возможностей устроить жизнь совершенно иначе - все
эти типично старческие слабости никак нельзя было бы выдать
за типично старческую гордость за «историческую
преемственность», «исторический опыт», «историческую жизнь», если бы
не подпирающее эту гордость коверкание ясности ума и
творческой энергии ребенка.
Дети еще не имеют привычки к бессмыслице и произволу,
которая одна удерживает «как бы не существующий» мир Гоголя,
одна придает воображаемое величие исторически сложившимся
иерархиям чинов, орденов и сословий, укладам жизни в
канцелярии, департаменте, на Невском проспекте или в помещичьей
усадьбе - всего этого могло бы и не быть, все это могло бы
сложиться совершенно иначе и ничего не имеет под собой, кроме
привычки и воображения. Нареките неопытностью, невежеством,
несамостоятельностью детское непонимание и неприятие этих
произволов и привычек, детскую невинность и свободу - и вы
без малейших усилий возвеличите то, что означает их утрату:
историю или даже «смысл и назначение истории».
194
Шиллер отмечает, что детский поступок, кажущийся нам
наивным, есть мощный, хотя и молчаливый, упрек той
исторически сложившейся взрослой жизни, в которой для
незамутненного детского взора нет еще ничего естественного и разумного:
«Например, отец рассказал своему ребенку, что некий человек
погибает в бедности, и ребенок идет к этому бедняку и приносит
ему кошелек отца; ребенок наивен, потому что в нем действовала
сама здоровая природа, и в мире, где господствовала бы здоровая
природа, он имел бы неоспоримое право поступить именно так.
Лишь потребность и ближайшее средство к ее удовлетворению
были перед его взором; растяжимое понимание права
собственности, обрекающее часть человечества на гибель, не коренится
в самой природе. Таким образом поступок ребенка - укор
действительному миру; это подтверждает и наше сердце тем
удовольствием, которое оно чувствует по поводу этого поступка»1.
Нельзя не упомянуть в этой связи одно из лучших замечаний
Толстого о детях: «Отчего дети нравственно выше
большинства людей? Оттого, что разум их не извращен ни суевериями,
ни соблазнами, ни грехами. На пути к совершенству у них ничего
не стоит. Тогда как у взрослых стоят грехи, соблазны и суеверия.
Детям надо только жить, взрослым надо бороться»2. История
обращается с человеком, точно учитель Чичикова - со своими
подопечными: «Надобно заметить, что учитель был большой
любитель тишины и хорошего поведения и терпеть не мог умных
и острых мальчиков; ему казалось, что они непременно должны
над ним смеяться <...> "Способности и дарования? это всё вздор",
говаривал он: "я смотрю только на поведенье. Я поставлю полные
баллы во всех науках тому, кто ни аза не знает, да ведет себя
похвально; а в ком я вижу дурной дух да насмешливость, я тому
нуль, хотя он Солона заткни за пояс!" Так говорил учитель»
1 Шиллер Ф. Собрание сочинений в 7 томах. Т. 6. - М.: Государственное
Издательство художественной литературы. 1957. С. 393.
2 Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений в 90-томах. Т. 42. - М., 1928-
1958. С. 23.
195
[6,226]. К сожалению, этот учитель - один из немногих
гоголевских героев, в которых нет ничего преувеличенного.
Дело в том, что любая педагогика, берущаяся оценивать и
ранжировать учащихся, воспитывать их по известным «образцам»,
отличающая «правильные» ответы и работы от
«неправильных» (а любая оценка предполагает претензию на знание того,
чтпо правильно), абсолютно ничем не отличается от методики
чичиковского ментора. Требование вытверженных «правильных»
ответов (т. е. таких, которые данные учителя в данное время
считают правильными) - это лишь вариант требования
«благонадежного поведения» (т. е. такого, которое здесь и сейчас
считается благонадежным). И в том, и в другом случае «правильно»
то, за что хвалят «учителя и начальники», приучающие детей
к тому, к чему когда-то примерно тем же порядком приучили их1.
1 Говоря о генеалогии таких понятий, как «вина» и «нечистая совесть»,
Ф. Ницше писал: «На протяжении длительнейшего периода
человеческой истории наказывали отнюдь не оттого, что призывали зачинщика
к ответственности за его злодеяние, стало быть, не в силу допущения, что
наказанию подлежит лишь виновный, - скорее, все обстояло аналогично
тому, как теперь еще родители наказывают своих детей, гневаясь на
понесенный ущерб и срывая злобу на вредителе, - но гнев этот удерживался
в рамках и ограничивался идеей, что всякий ущерб имеет в чем-то свой
эквивалент и действительно может быть возмещен, хотя бы даже путем
боли, причиненной вредителю» {Ницше Ф. Сочинения в 2 т. Т. 2. - М.:
Мысль, 1990. С. 444). Аналогия эта мрачная в своей правдивости. Дело
не только в том, что для детей как бы не действует замечание Канта: «Разве
быть добродетельным только потому хорошо, что существует тот свет?
Или, наоборот, не потому ли будут вознаграждены наши поступки, что
они были хороши и добродетельны?» - детей наказывают и
вознаграждают, как раз не предполагая у них представлений о хорошем и дурном,
напротив, прививая эти произвольные представления посредством
наказаний. Больше того - двойной произвол этой процедуры состоит в том,
что представления взрослых навязывается детям не просто насильно
и чисто произвольно, но и так, что произвол этого навязывания
скрывается в ходе привыкания к нему и не кажется уже произволом: дети и сами
начинают мучить, наказывать себя за то, за что привыкли получать
нагоняй от взрослых. Это действие привычки к наказаниям, ставшей второй
196
Пока педагогика всерьез воспринимает свои оценки и образцы,
все слова о критическом, самостоятельном или творческом
мышлении, взятые ею на вооружение, остаются пустыми
словами. Коль скоро у нас нет никаких средств доказать
объективное превосходство одного типа и способа воспитания над
другими, и мы открыто признаем, что наши педагогические взгляды
и оценки далеко несовершенны и, вероятно, ошибочны, то уже
поэтому любое воспитание необходимо считать чистым
произволом и насилием, больше того - признать, что никакое
воспитание никогда не было и не будет ничем иным, кроме как
произволом и насилием1.
Что мы видим здесь, в истории образования, то несложно
обнаружить и во всякой истории - политической,
хозяйственной, военной... Подобные выводы легко упрекнуть в
чрезмерной претенциозности и максимализме. Скажут, к примеру,
что различные формы образования возникают и сменяют друг
друга не случайно, а в соответствии с требованиями времени,
натурой повзрослевшего ребенка, и зовется нечистой совестью. В
двойном произволе воспитания легко опознать зависть к утраченной простоте
ребенка, не ведающего еще разрывов и противоречий хорошего и
дурного, добра и зла, знающего только добро первых своих свершений. Дети
действительно еще не знают зла, они действительно не могут обладать
злой волей или злопамятностью, потому что само понятие о зле (и как
следствие - сознательное причинение зла и стремление к нему)
возникает лишь в ходе воспитания с его насилием и наказаниями.
Перефразируя Гераклита, можно сказать в духе предшествующих наших
размышлений: для детей все прекрасно и справедливо, взрослые же одно
объявили справедливым, другое - несправедливым.
1 См. у Толстого: «Вопрос поставлен так: имеет или нет один человек право
на воспитание другого? Нельзя отвечать - нет, но однако же...
Необходимо ответить: да или нет. Если да, - то жидовская синагога, дьячковское
училище имеют столь же законное право существования, как все ваши
университеты. Если нет, то и ваш университет, как воспитательное
заведение, столь же незаконен, если только он не совершенен, и все не
признают его таковым. Я не вижу средины, и не по одной теории, но и в
действительности» (Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений в 90-томах.
Т. 8. - М., 1928-1958. С. 217).
197
с конкретными историческими условиями, и потому каждая
из них выступает оправданной для своей эпохи или своей
культуры. Но историческими условиями можно объяснить многое -
например, начало войны и рост преступности: подобные
объяснения вовсе не означают, что война и преступления в
определенные эпохи хороши и необходимы.
Скажут: что же, если из педагогики, тем более - из истории,
нельзя исключить сразу весь произвол и весь обман, лучше
вовсе отказаться от педагогики и истории? Однако притязания
на постепенное устранение произвола, нелепых случайностей
и насилия связаны с не меньшим максимализмом. При
сравнении Гоголя с Бердяевым мы уже отмечали, что
прохождение промежуточных этапов, относительных ступеней в
историческом развитии может получить позитивный смысл только
при определении цели всей последовательности этих ступеней,
только при проецировании эмпирического движения истории
на ее умозрительное долженствование. Иными словами, чтобы
оценивать постепенно преодолеваемые относительные этапы
совершенствования и вообще опознавать их как этапы,
необходимо абсолютное мерило, или шкала, совершенства. Но
обладать им означало бы не меньше, чем безошибочно определить
смысл всей истории, уже сегодня знать ее конец и обозревать ее
с точки зрения вечности.
Это была бы воображаемая история философов, история,
не переписанная даже, а просто написанная, ведь, будучи
написанной, она перестает быть историей. Хаотические
столкновения интересов и воль, череда бессвязных и часто кровавых
случайностей, не имеющая конца и смысла, от которой человека
и хочет уберечь скульптурное мифотворчество Гоголя, будучи
изложенная как цепь взаимосвязанных событий, в логике
причин и следствий или целей и средств, конечно, уже не
выглядит бессмыслицей. Обозревая теоретиком, пришедшим post
factum и выключенным из реально-практического течения
времени, история легко приобретает убедительную направленность
и завершенность.
198
Можно без преувеличения сказать, что все попытки
приписать истории телеологию и разумный смысл были попытками
культуродицеи, оправдания исторической и культурной жизни
взрослых. У Лейбница, Канта, Гегеля, Бердяева и многих других
мы видим стремление разглядеть как бы позади исторической
сумятицы такой скрытый смысл, что показывал бы ее в
совершенно ином свете, случайности и жестокости делал бы
«хитростями разума», а ужасные мучения окутывал бы «сокровенным
искупительным смыслом». Огромные усилия, тысячи станиц
положены на эту алхимию, обещающую сор когда-нибудь да
превратить в золото. Мифотворчество не просто фактически
не знает трансцендентного, не знает умозрительной телеологии,
но и принципиально отвергает ее: зло и абсурд человеческой
жизни нельзя выворачивать наизнанку и приукрашивать силой
мысли, их надо видеть во всей их страшной реальности. В
мифотворчестве они понимаются тавтегорически, как и все остальное,
именно тавтегоризм мифа исключает телеологию, не позволяет
надеяться, что в конце концов изваянный в нем бессмысленный
мир каким-то чудом окажется не тем, чем выглядит сегодня.
Здесь мы принципиально расходимся с Шеллингом,
которому следуем во многих иных вопросах философии
мифологии. Для Шеллинга взаимодействие трех его потенций
образует именно телеологию мифологического процесса, так что
подлинный смысл мифа в нем, конечно, присутствует, но им
самим не опознан и не раскрыт, он открывается лишь по
окончании развития мифологии, при венчающем ее переходе к
подлинному монотеизму (в его отличии от «относительного
монотеизма») и Откровению.
Мне трудно понять, как совмещал Шеллинг эту
важнейшую свою установку с замыслом тавтегорического толкования
мифа: если мифологические фигуры и сюжеты означают только
самих себя, если форма и выраженный ею смысл здесь
сливаются воедино, то как может смысловой центр мифологии
помещаться вне ее самой, в какой-либо внеположенной ей и
домысленной философом тайной ее цели? Думается, в целом нужно
199
согласиться с Кассирером, что шеллинговское представление
о мифологии как о частном моменте «саморазвертывания
Абсолюта» препятствует постижению ее автономии и
самостоятельной ценности1. Телеологии Шеллинга мы противопоставляем
статику, скульптурность и увековечивание в гоголевском
мифотворчестве, а истории - его вечное «сегодня».
Культуродицея мифотворчества, оправдание гоголевского
мира, смотрит не в будущее, а в настоящее. Конечно, оно не ставит
перед собой безумных и неосуществимых задач снести все
исторически сложившееся здание культуры до основания или
остановить движение истории. Оно создает рядом с исторической
действительностью особый, мифически преображенный мир,
который стал бы не менее действительным. Речь не о бегстве
от реальности в мир грез, а о событийной реальности самих этих
«грез», о которой мы много говорили в первой главе, которая
была бы сопоставима по силе и значимости своей со всем
царящим в реальности абсурдом, со всеми ее бессмысленными
страданиями и могла бы дать человеку то, ради чего стоит принять
и стерпеть их все.
Ребенок в гоголевском мифотворчестве, детскость,
объемлющая его - это и есть его фундаментальное оправдание. Ведь
кроме огромных по масштабам бессмыслицы и зла, в нем есть
и неприметные рядом с ними искренность, доверчивость, любовь
маленького ребенка - только они и превращают у Гоголя даже
самый абсурдный мир в мир теплый и родной. И потому узнать
их можно в каждом его сюжете, в каждом образе, на каждой
странице.
Неотразимая их сила, живая и очищающая, состоит в том,
что искренность, смелость, доверчивость ребенка безусловны
и в этом смысле просты. Поскольку деяния его, как мы
говорили, не предвосхищаются абстрактным планированием или
пустым, оторванным от действия волением, то в них не может
*См. Кассирер Э. Философия символических форм. Т. II:
Мифологическое мышление - М.: Академический Проект. 2011. С. 21-23.
200
еще возникнуть зазора между действительностью и помыслом,
между внешней жизнью и тайными, скрытыми за нею
движениями души. В первых своих словах, мыслях и чувствах ребенок
искренен и честен не потому, что мог бы быть и неискренним,
но сознательно избегает этого, а потому что знает только
искренность, не связанную для него ни с какими
противоположностями и альтернативами: действительная, всегда уже
достигнутая искренность его еще не обеднела до пустой возможности
быть искренним. По справедливому замечанию Шиллера,
безусловная искренность детей лишь в силу недомыслия и зависти
может быть понята как «детская» наивность, тогда как
действительная наивность ребенку еще совершенно чужда: «Детские
поступки и речи производят на нас впечатление чистой
наивности лишь до тех пор, пока мы не помним, что ребенок не способен
быть искусственным, и вообще пока мы принимаем во внимание
лишь контраст между нашей искусственностью и его
естественностью. Наивное - это детскость, которая проявилась там, где ее
уже не ждут, и поэтому наивное в строгом смысле слова не может
быть приписано настоящему детству»1.
Да, ребенок - это тысяча масок, меняемых от случая к случаю,
но, как в мифологии нет вымысла, так в этом «маскараде» нет
лицемерия, нет умысла и расчета, есть только творческая радость,
претворяемая в жизнь ради нее самой. Цритворство
начинается тогда, когда иссякает творчество, когда жизнь приучает
ребенка пользоваться уже готовыми масками для достижения
уже известных целей. Мифологическое сознание еще не может
лгать, потому что содержание его не может быть предъявлено
in abstracto, независимо от его мифической формы, но
неразрывно связано с нею, точно так же детское сознание еще не может
покривить душой. Этим и подкупают нас болтовня Хлестакова,
молчание Башмачкина, мечтательство Пискарева, раздумья
Поприщина и другие формы детскости, показанные Гоголем.
1 Шиллер Ф. Собрание сочинений в 7 томах. Т. 6. - М.: Государственное
Издательство художественной литературы. 1957. С. 391.
201
Не зная неискренности, ребенок не знает и недоверия.
Недоверие к другому - проекция трусости и неумения доверять себе,
а они растут из сознания собственной нечестности и
ненадежности, из опыта самообмана. Но этого опыта еще нет и не может
быть у ребенка. Мы и не замечает порой, как много доверия
дарят нам дети - именно дарят, ведь у них (уже по одной только
неопытности) нет никаких резонов доверять нам, больше того -
наша жизнь им непонятна и чудна, но их безусловной
доверчивости и безусловной смелости ничего не нужно от нас, чтобы нам
довериться: они просто не умеют иначе. Поэтому так легко дети
умеют прощать и ни на кого долго не держат зла и обид.
«Та мука для него будет самая страшная: ибо для человека нет
большей муки, как хотеть отмстить, и не мочь отмстить» [1,282], -
говорит у Гоголя страшный мститель. Источник мести -
слабость. Обида и мстительность питаются унизительным
разрывом между идеалами и реальностью, унылой неспособностью
скоро достигнуть желанного и должного, бессмысленным
ожиданием каких-то смутно воображаемых побед. Но ребенок живет
действительным, а не возможным, настоящим, а не прошлым
и будущим. В детских достижениях деяние и результат скорее
предшествуют появлению желаний и долга, действительность
первых слов или шагов предвосхищает сознательное
устремление к каким-либо идеалам. Потому даже возможность
сколько-нибудь глубокой, не мимолетной мстительности и
злорадства не понимают дети. Поэтому «Страшная месть» так жутка
на фоне прочих творений Гоголя и так не похожа на них общим
своим настроем. И поэтому так чуждо Гоголю сатирическое
унижение, бичевание человека: мировосприятие ребенка
несовместимо с ними, оно, напротив, легко и охотно дарит учтивое
внимание, теплое доверие любому человеческому существу.
Беззаветная любовь, не замутненная рассудочностью и
расчетом, не следствие даже, а сама природа детскости и детской
простоты. Любовь есть преодоление самодовольства и замкнутости
на себе, потребность в другом и потому - смирение перед этим
другим. На каждом шагу ребенок встречается с непроницаемыми
202
для него тайнами - тайнами взрослых, вещей, животных и т. д.
и в каждом поступке своем, в каждом усилии по освоению
неведомого мира смиряется перед этими тайнами, но не бежит от
непонятного, а стремится к нему. Это смирение отнюдь не в смысле
слепой покорности, но скорее в смысле творчества, ведь и оно
направляется устремлением к тому, чтобы на свете
существовало что-то иное, что-то, кроме самого творца, а значит -
смирением перед своим творением.
Само мифотворчество Гоголя выстроено на таком смирении -
перед нечеловеческими силами, перед объективным ходом
мифологического процесса, перед сюжетами и образами,
завладевающими человеческим сознанием и даже не слушающимися своего
создателя1. Это одна из ключевых черт мифотворчества,
роднящих его с жизнью детей. Мы видели, что в достижениях своих
ребенок впервые открывает, даже творит для себя неведомый
и уж вовсе неподвластный ему мир, которому еще не
противопоставляет собственное Я: огромное смирение и огромная
творческая сила сплавлены здесь воедино детской любовью.
В детях давно замечена способность безошибочно распознавать
и отвергать обман и зло. Это неправда, что детей легко обмануть:
они не сумеют объяснить, в чем состоит зло или фальшь, с
которыми столкнутся, потому что не знают их, но никогда не примут
их без сопротивления. Толстой, к примеру, писал: «Дети знают
истину так же, как часто люди знают иностранный язык, хотя
и не умеют говорить на нем. Они не сумеют сказать вам, в чем
добро, но безошибочно отвернутся от всего недоброго.
Притворство в чем бы то ни было может обмануть самого умного,
проницательного человека, но самый ограниченный ребенок, как бы
оно ни было искусно скрываемо, узнает его и отвращается»2.
Ребенок отвергает зло не потому, что сознательно
противопоставляет ему добро и к этому добру стремится, и не потому, что
*См. Глава 1. Стр. 14,16-20.
2 Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений в 90-томах. Т. 42. - М., 1928—
1958. С. 24.
203
узнает зло и бежит от него в страхе: он не ведает зла и не
страшится его, зло просто несовместимо с детьми по самой их
природе, тайну которой мы попытались приоткрыть. Неслучайно
и в гоголевском мире, увиденным ребенком, зло, как было
сказано, не имеет никакой позитивной реальности и проникает
в него лишь косвенно как чистое отрицание его видимых форм,
само же оно загнано в невидимый мир1.
Такова в общих чертах культуродицея и одновременно
антроподицея мифотворчества, призванная и способная оправдать
в человеке «всю глубину его настоящей мерзости», настоящей
беспочвенности и мучительности его жизни и истории: рядом
с ней открывается здесь иная глубина - глубина детской
доверчивости и любви.
Мережковский красиво сравнил творческий и жизненный
жребий Гоголя с судьбой Кая, похищенного в сказке Андерсена
Снежной королевой: «Судьба Кая - судьба Гоголя: кажется, и ему
попал в глаз и в сердце осколок проклятого зеркала. И его
бесконечная возня со своими добродетельными правилами, тоже
своего рода "правильными остроконечными льдинами",
безнадежное "устроение души своей" - что-то вроде "китайской
головоломки". И он, сидя на обледенелых развалинах его же
собственным смехом разрушенного мира, складывает и не может
сложить из плоских льдин то, что ему особенно хотелось бы, -
слова Вечность, Вечная Любовь»2. Но поразительно, что
Мережковский ни слова не сказал о самом главном в этой сказке - о
подлинной ее концовке (не потому ли, что не верил в нее и не
принимал всерьез?): все безмерное, на первый взгляд, зло упадает
перед слезой маленькой девочки, перед ее горем и ее любовью.
У Андерсена слеза Герды спасает ее названного брата от осколка
дьявольского зеркала, а льдинки «китайской головоломки» сами
собой складываются при этом в слово «Вечность».
*См. Глава 1. Стр. 30-32 и Глава 3. Стр. 76-78.
2 Мережковский Д. С. Гоголь и черт: Поэзия; Гоголь и черт: исследование;
Итальянские новеллы - М: Книжный Клуб Книговек. 2010. С. 211.
204
В этом смысле судьба Кая - действительно судьба Гоголя: слеза
ребенка спасала его и весь созданный им мир от пустоты, скуки
и пошлости свиных рож, от ужаса, трупной гнили и железной
тоски, охватывавшей его уже в «Сорочинской ярмарке». Чтобы
правильно понять наш вывод, стоит заострить внимание на том,
что именно здесь, в понимании и оценке слезы ребенка,
мифотворчество более всего расходится с философией бунта.
Ведь именно слезы невинного ребенка предъявил Иван
Карамазов мировой истории, на них он основал свой богоборческий
бунт небывалой нравственной силы. Его гордый и трагический ум
(но прежде всего - гордый и лишь во вторую очередь -
трагический) изведал всю мрачную глубину того вопроса, что он ставит
перед Алешей: «Скажи мне сам прямо, я зову тебя - отвечай:
представь, что это ты сам возводишь здание судьбы
человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир
и покой, но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы
замучить всего лишь одно только крохотное созданьице, вот того
самого ребеночка, бившего себя кулачонком в грудь, и на
неотомщенных слезках его основать это здание, согласился ли бы ты
быть архитектором на этих условиях, скажи и не лги!»
Но Иван не понял, отказался понять, что рядом с этим
вопросом стоит и другой: «миллионы, биллионы, несметное
множество осколков» дьявольского зеркала до сих пор носятся
по свету, но разве могут они, пусть даже все вместе взятые,
поразить хотя бы одного маленького ребенка, разве слеза всего лишь
одной девочки не сильнее их всех во много раз? И разве
значимость и тайная сила ее слезок не соразмерны «всему страданию
человеческому», не могут уравновесить его и искупить, так что
все это страдание можно вытерпеть и не раз вытерпеть ради них
и благодаря им?
Весьма примечательно, что на пике той мрачной и неистовой
страсти, которой исполнена его «исповедь», Иван Карамазов
говорит именно о «неотомщенных слезках» замученного ребенка,
о слезках, которые «остались неискупленными». Не с самими
мучениями ребеночка и даже не с их бессмысленностью, а с их
205
«неотомщенностью» не может примириться Иван: «Не хочу я,
наконец, чтобы мать обнималась с мучителем, растерзавшим ее
сына псами! Не смеет она прощать ему! Если хочет, пусть
простит за себя, пусть простит мучителю материнское безмерное
страдание свое; но страдания своего растерзанного ребенка она
не имеет права простить, не смеет простить мучителя, хотя бы
сам ребенок простил их ему!» - провозглашает он.
Жажда отмщения, непрощающего возмездия, подлинной
страшной мести - настоящий исток и смысл бунта Ивана. Есть
что-то мистическое, по-гоголевски жуткое в том, что философ-
богоборец носит у Достоевского имя беспощадного гоголевского
мстителя, не простившего предателю и убийце гибели своего
ребеночка, безвинного «младенца-сына»! «Дивный рыцарь»
Иван - зримое воплощение ужасной духовности Ивана
Карамазова: именно так из бездны боли и отчаянья желал бы он взойти
на философскую вершину своей самозваной нравственной
требовательности, чтобы вместо Бога измыслить и свершить с нее
свою казнь. Иван отвергает высшую гармонию, не желает истины,
счастья и прощения, коль цена их так высока - все это хотел бы
он «ухватить страшною рукою» и сбросить в «безвыходную
пропасть», чтобы отмстить за те страдания, что были им принесены.
«Пусть будет всё так, как ты сказал, но и ты сиди вечно там на коне
своем, и не будет тебе царствия небесного, покаместь ты будешь
сидеть там на коне своем!» [1,282] - не ему ли сказаны эти слова?
«Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Матф. 6:21).
Вся эта философски обоснованная воля к мести совершенно
чужда ребенку: он знает светлые, горькие, безвинные слезы,
но «неотомщенных слезок» не знает он. Не о детских страданиях
и слезах, а о непонятной детям и глубоко чуждой им
унизительности неотомщенных и невознагражденных страданий взрослых
(в том числе, конечно, своих собственных) говорит Иван. Мнимая
любовь к детям - лишь прикрытие и оправдание его бунта и
гордыни: дети для него не цель, а средство, слеза ребенка - только
оружие, с помощью которого бунтарь жаждет уничтожить
культуру и историю, свести с ними свои счеты. Иван гордо убежден,
206
что жалеет несчастных детей куда больше Бога, но, как и всякий
гордец, в действительно жалеет только себя и для пущей жалости
неявно отождествляет себя с ребенком, в ребеночке пытается
разглядеть собственные муки. О бунте Ивана справедливо писали,
что в нем много демонстративной сентиментальности
(естественное следствие гордыни), но нет подлинной любви.
Точно такая дурная сентиментальность присуща уголовному
фольклору с его неизменными жалостливыми песнями о бедном
«маленьком мальчонке», в которых ищет своего отражения
и оправдания ущербная психология преступника.
Возвышенный философский бунт Ивана имеет немало общего с пошлой
сентиментальностью уголовников: недаром оборотной
стороной его «исповеди» оказывается убийство, совершенное лакеем.
Действительные же страдания детей ему малоизвестны и
малоинтересны. Как бы странно и вызывающе это ни звучало, Иван
Карамазов не преувеличивает, а скорее недооценивает страдания
ребенка, видит лишь малую часть этих страданий.
Чтобы ребенок бил себя кулачком в грудь, чтобы сердце его
колотилось неистово и страшно, чтобы безвинная боль, обида
и отчаянье застилали его глаза, вовсе не нужно тех зверств,
о которых говорит Иван - не нужно травли собаками или
зловонной конуры. Для этого достаточно одного глупого слова,
неосторожного взгляда или случайно забытого и невыполненного
обещания. Большая часть страданий и унижений детей (не менее
подлинных и не менее страшных, ведь не бывают неподлинными
боль и отчаянье!) совершенно не впечатляет взрослых,
незнакома им - Иван говорит лишь о тех муках и унижениях, которые
взрослые разделяют с детьми и понимают хорошо, ведь в этом
случае они легко и охотно узнают в ребеночке себя.
В этом состоит соблазн мнимой человечности, мнимой
сострадательности карамазовского бунта, легко производящего
неизгладимое, но вместе с тем - дешевое впечатление, позволяющего
принять позу высокоморального обличителя без всяких
реальных жертв и без всякого настоящего труда. Ведь ясно, что бунт
Ивана не может действительно помочь ни одному несчастному
207
ребенку, не ради детей затеян он, а ради самого бунтаря: «Не хочу
гармонии, из-за любви к человечеству не хочу. Я хочу оставаться
лучше со страданиями неотомщенными. Лучше уж я останусь
при неотомщенном страдании моем и неутоленном негодовании
моем, хотя бы я был и неправ. Да и слишком дорого оценили
гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход.
А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно. И если
только я честный человек, то обязан возвратить его как можно
заранее. Это и делаю. Не Бога я не принимаю, Алеша, я только
билет ему почтительнейше возвращаю», - все, что говорит Иван,
он говорит лишь о себе и для себя.
Поэтому философия бунта видит в слезе ребенка одно лишь
неотомщенное страдание, отчаянное, унизительное
бессилие и совсем не видит возвышенной ее силы. Вероятно, в этом
заключается решающее отличие бунтарской
сентиментальности от любви. Иван Карамазов не сумел бы объяснить, почему
слеза маленькой Герды - исполненная горя и отчаянья! -
спасает ее брата от могущественного зла, проникшего даже в самое
его сердце. Иван не поверил бы этому.
Как писал С. Л. Франк, бессмысленность культуры и истории,
полной несправедливых человеческих мучений, может быть
пережита нами как бессмысленность, только если мы способны
противопоставить ей веру в Смысл, нечто сокровенное внутри
нас самих, что еще не потеряло своей значимости1. Слеза ребенка
и есть эта живая и негасимая вера в добро, в смысл и
достоинство человеческой жизни, не обернувшаяся еще простым словом.
Именно детская слеза несет в себе и пробуждает в нас
непримиримый протест против абсурда и несправедливости, не
умолкающий и тогда, когда мы сами готовы были бы примириться.
Если бы не слезы детей, если бы на земле осталось одно только
вечное взрослое человечество, наш древний «исторический опыт»
и «историческое наследие» давно убедили бы нас забыть о добре,
jCm. Франк. С. Л. Смысл жизни // Духовные основы общества - М.:
Республика, 1992. Особенно - С. 174-175.
208
достоинстве и справедливости, их неестественность и слабость
давно вошли бы в твердую привычку.
Стоит разглядеть не только те страдания детей, о которых
говорит Иван, но и всю полноту обыденных, каждодневных их
страданий, о которых молчат «бунтари и поэты», чтобы понять:
не беспомощность, а несгибаемая воля и сила духа
(действительно не подкрепленная физической силой, но тем более
могучая духовно!) рождают слезу ребенка, выносящего все эти
страдания, и неотразимо действуют в ней. В огромном мире
непонимания, бессмыслицы, унижения и боли беззащитный ребенок
не теряет себя, не пропадает и не склоняется перед этим миром,
а сопротивляется ему чистой слезой своей: кто в детстве
заходится плачем, обычно вырастает человеком могучей воли и
проницательного ума. Удивительна стойкость духа и добра в этом
маленьком еще человеке! Всякий, кому доводилось не
поверхностно, а хорошо узнать «испорченного», или «трудного», ребенка,
узнать, через что тому пришлось пройти, узнать его тайную,
недоступную для посторонних глаз жизнь, мог с изумлением
убедиться в том, как все же мало испорчен этот ребенок! Легко
заметить это и в детях-персонажах Гоголя.
По мудрому слову Корчака, «Громко говорят о себе плохие
поступки и плохие дети, заглушая шепот добра, но добра в тысячу
раз больше, чем зла. Добро сильно и несокрушимо. Неправда, что
легче испортить, чем исправить»1. Слезы детей - это и есть те
«горячие искры вечной могучей любви», которые Гоголь стремился
отыскать «во глубине холодного смеха». «Кто льет часто
душевные, глубокие слезы, тот, кажется, более всех смеется на свете!..»
[5,171], - конечно, это сказано, прежде всего, о детях, это им долго
еще определено чудной властью «озирать всю
громадно-несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и незримые,
неведомые ему слезы!» [6,134]. Союз «и» здесь крайне важен:
именно в слезе ребенка искрится самая сильная его любовь,
из слез возникает светлый детский смех - все мифотворчество
1КорчакЯ. Как любить детей - Мн.: Нар. асвета, 1980. С. 75.
209
Гоголя основано на этом. Нельзя противопоставлять детские
слезы детской любви и смеху, нельзя спрашивать, сопоставимы ли
любовь и смех ребенка с его слезами, или - оправдывают ли они,
искупают ли пролитые ребенком слезы? Уже самой постановкой
подобного вопроса - в духе Ивана Карамазова - разрывается
простота ребенка, уничтожается и отвергается сама
детскость. В таком вопросе нет понимания детей, нет любви к ним.
Мы видим, что бунтарский пафос отнюдь не близок
мифотворчеству, выражающему скорее оправдание мира, чем восстание
против него, скорее - умиротворение и гармоничное единство
человека, чем неустранимые разрывы и противоречия в духе
«проклятых вопросов». Мифотворчество вообще в целом
синтетично, а не аналитично. Теперь мы понимаем, что его
примиряющий синтез (человека и скульптурного мира, человека
и судьбы и т. д.) связан, прежде всего, с детскостью, с
мироощущением ребенка как с третьей из формирующих мифотворчество
сил, с самого начала определенной нами как синтез первых двух.
В заключение интересно вернуться к многократно
проводившемуся сопоставлению Гоголя и Пикассо. Мы видели, что крупные
религиозные мыслители (в особенности - Булгаков и Бердяев)
считали общим истоком и сущностью творений этих художников
«демоническое искусство», возводящее хулу на Божий мир,
разлагающее его и насмехающееся над ним. Но, как типичное
доктринерство, эта интерпретация грешит односторонностью и опасным
обеднением своего предмета. В частности, Булгаков совершенно
игнорирует детские образы Пикассо1, как будто в них кисть его
не «подлинно могуча», и не проявляет «настойчивость великого
единственное вскользь упомянутое Булгаковым полотно Пикассо,
изображающее ребенка - «Старый еврей с мальчиком»: о картинах того
периода его творчества философ говорит лишь, что они «отличаются
острой, нечеловеческой почти тоской в глазах и какой-то музыкой тоски
в фигурах» (Булгаков С. Труп красоты. По поводу картин Пикассо. //
Собрание сочинений в двух томах. Т. 2. Избранные статьи - М.: Наука. 1993.
С. 529). И сразу переходит к «демоническим образам» кубизма,
утверждая - но никак не доказывая - что именно они «производят наиболее
210
мастера». Читая работы Булгакова о Пикассо, нельзя не заметить,
что он приписывает художнику собственное мистическое чувство
«нарастающей тоски и ужаса бытия», нельзя не задаться простым,
даже наивным вопросом: разве «Мальчик с собакой» - это тоже
«злобный цинизм и вызов растления, бунт трупности и гнили»?
«Девочка на шаре» тоже «вся - тяжесть и косность» и тоже
составлена «из нескольких геометрических булыжников»?
По любопытнейшему замечанию Корчака, «лишь художник-
футурист может изобразить нам младенца таким, каким он себя
видит: пальцы, кулачок, менее четко ноги, быть может, животик,
быть может, даже и голова, но только пунктирной линией, как
на карте Заполярья»1. Именно в этом ключевом моменте, в
чувстве детскости и живописании мироощущения ребенка, наиболее
ярко и отчетливо проступает духовное родство Гоголя и Пикассо.
Кубизм Пикассо с его сочетанием тяжести и хрупкости в образах
и телах, распадающихся на абстрактные части и лишь ценой
колоссального усилия слагающихся в приблизительное целое,
близок гоголевскому мифотворчеству, потому что близок миру
детей, еще не заключенному в четкие формы и границы. Мир
кажимости, за мнимой тяжеловесностью которого нет ничего
устойчивого, непонятный, изменчивый и непредсказуемый -
это мир, в котором ребенок силится сложить из отдельных
впечатлений и событий собственную жизнь, настоящую и
целостную. В каждом из затронутых нами детских по существу
персонажах Гоголя легко увидеть то же стремление воплотиться,
перерасти простую игру, обрести наконец весомую реальность:
Чичиков, Хлестаков, Башмачкин, Поприщин и др. - сложно
сказать, в ком это стремление проявлено больше.
Здесь нет противоречия с тем, что мы говорили о детской
простоте: множественность и раздробленность форм в кубизме
не исключают ее, а органично с нею связаны. Как мы говорили,
сильное впечатление и составляют пока кульминационный пункт
творчества художника» (Там же).
хКорчакЯ. Как любить детей - Мн.: Нар. асвета, 1980. С. 16.
211
бессмысленность и раздробленность не могли бы опознаваться
как таковые, не имели бы никакого внятного, в особенности -
художественного, выражения, если бы им не
противопоставлялась вера в смысл и цельность, негасимое устремление к ним.
Простота ребенка и есть это устремление, она заключается не в уже
достигнутом бытии или форме жизни, а в деяниях детей, в чистом
усилии тех, кто впервые вступает в бытие, впервые обретает
собственную форму.
Во всех инвективах, адресованных кубизму (марксисты были
не менее щедры на них, чем религиозные философы), можно
заметить все ту же зависть к ребенку, его свободному взгляду
на мир и его творческим возможностям. Реален лишь один мир -
раздраженно наставляет критика - ему присущи известные
формы и закономерности, четкие и неизменные: других не может
быть, потому что не может быть никогда. Таким мир предстаем
взрослым, но для детей он еще не застыл в подобную глыбу,
завершенную и неколебимую, для них он еще может принимать
самые причудливые очертания, как это и происходит у Гоголя
и Пикассо1. Реальность детей много богаче и интенсивнее: для них,
как и для мифа, все свободно являющиеся, даже просто
мелькающие в опыте видения или тела в равной степени
действительны, еще не разрезаны на абстрактные уровни более и менее
действительного, как это свойственно мировоззрению взрослого.
1В этой связи любопытно замечание Ницше: «Вникнем же наконец в то,
какая наивность вообще говорить: "человек должен бы быть таким-то и
таким-то!" Действительность показывает нам восхитительное богатство
типов, роскошь расточительной игры и смены форм; а какой-нибудь
несчастный подёнщик-моралист говорит на это: "Нет! человек должен
бы быть иным"?..» (Ницше Ф. Сочинения в 2 т. Т. 2. - М.: Мысль, 1990.
С. 576). Вполне очевидно, что вдвойне произвольное навязывание детям
тех или иных представлений о том, что «человек должен бы быть таким-то
и таким-то», о котором мы говорили ранее, выражает ту же зависть к ним,
что побуждает взрослых навязывать представление об одном-единствен-
ном реальном мире, обрекая любое иное мировосприятие (в частности -
кубизм и мифотворчество) прозябать в нереальности, нелепом
фантазировании или даже опасном бунтарстве против реальности.
212
Бердяев подчеркивает: «Тяжесть, скованность и твердость
геометрических фигур Пикассо лишь кажущаяся. В
действительности геометрические тела Пикассо, складные из кубиков скелеты
телесного мира, распадутся от малейшего прикосновения»1. Это
правда, но не вся. Мир Пикассо, как и мир детей, действительно
мог бы рассыпаться «от малейшего прикосновения», но тем
значительнее и чудеснее, что он все же не рассыпается, что сила,
скрытая в нем, напротив, творит незабвенные пластические образы.
Детскость как перерастание небытия, детское усилие и
страдание очень мощно выражены Пикассо. Его «Девочка на шаре» -
одно из самых изумительных изображений бытия ребенка:
легкое, воздушное и непритязательное со стороны, а на самом деле -
полное тяжелейшего труда, высшего напряжения всех духовных,
интеллектуальных и физических сил. В отличии от взрослых
зрителей, ребенок, отважный эквилибрист, не может забыть
о неустойчивости, зыбкости нашего мира, культурного,
социального - мира, который все время находится на грани падения
и лишь чудом сохраняет устойчивость. Изящный танец девочки
на шаре - так привыкли видеть его мы, кубизм и гоголевское
мифотворчество передают, как в тайне от нас ощущает мир она
сама. Могучий атлет с лицом полным тяжелого драматизма -
словно неожиданное отражение этой девочки, ее неизвестной
нам жизни: не зря этот силач повернут к зрителям спиной.
«Про Пикассо нельзя сказать, что он пошляк, - пишет
Булгаков, - ибо для этого он слишком страшен и слишком страдает,
однако, транспонированное на несколько тонов, его искусство
определенно ведет к пошлости, т. е. к ничтожеству, уже не
ощущающему своего ничто, своей пустоты, но чувствующему ее
полнотой»2. Но разве «слишком страдать» достаточно для того,
чтобы избежать пошлости, не упав до ничтожества и пустоты?
1 Бердяев H.A. Пикассо // София - М.: Тип. К.Ф. Некрасова, 1914. Март,
№ 3. С. 58.
2 Булгаков С. Труп красоты. По поводу картин Пикассо. // Собрание
сочинений в двух томах. Т. 2. Избранные статьи - М.: Наука. 1993. С. 535.
213
Дело не в страдании, а в том, кто страдает. Маленькая девочка
с доброй загадочной улыбкой возвышается над всем страданием
и ужасом полотен Пикассо, превращает его страшный
калейдоскоп осколков лиц и тел в невинный и возвышенный танец.
Для танца ее не существует далекой цели и тайного смысла,
но нет в нем и безнадежной тоски по этому смыслу, в этом танце
ребенок сливается с бесконечной игрой мифического мира
кубизма с самим собой.
В этом смысле действительно можно сказать, что в
творениях Гоголя - в силу мифологических мотивов его - «были уже
те восприятия действительности, которые привели к кубизму»1,
но не столько «кубистическое расчленение живого бытия»,
сколько могучее единение бессмысленного мира в смелом и
волшебном детском танце.
В гоголевском мире иронии, кажимости и непостоянства,
в мифологическом мире нечеловеческих сил человечеству
не обрести лучшей судьбы, чем судьба этой трагически-светлой
девочки, оправдывающей собой все, что в этом мире нуждается
в оправдании. В кубизме Пикассо и мифотворчестве Гоголя все
силы брошены на то, чтобы если не в реальном, слишком
реальном мире, то в возведенной рядом с ним мифической
действительности все человечество возвысить до прекрасного ребенка
на огромном шаре.
1 Бердяев H.A. Духи русской революции // Из глубины: Сборник статей
о русской революции - М.: Из-во Моск. Ун-та. 1990. С. 59.
214
Глава 6. Мифологическая философия:
Гоголь, Гераклит, Платон
Одной из ключевых задач всего нашего исследования были
установление и прояснение того, что особенности гоголевского
творчества и мировосприятия, кажущегося
неправдоподобным, неказистым, нелепым, присущи не одному отдельно
взятому гению, которому можно и «простить» иные болезненные
причуды, а мощным пластам духовной культуры целых народов.
Именно - мифологии, которая намного древнее и массивнее
новой философии, религии и науки, объявивших миф и
мифотворчество как раз неправдоподобными и нелепыми.
При этом мы до сих пор руководствовались основными
понятиями и методами философии мифологии, задавшейся целью
в мнимой бессмыслице мифа отыскать своеобразный смысл
и разумность, предуготавливающие дальнейшее развитие
человеческого разума. Парадоксальность такой постановки
проблемы, на первый взгляд, состояла в том, что философия всегда
стремилась к познанию истины, отыскиваемой и выражаемой
при помощи отвлеченных понятий и абстрактных
закономерностей, тогда как мифология выглядит совершенным отрицанием
и истины, и разума, и законов, и абстрактных понятий.
Философия разоблачает иллюзию, срывает покровы с действительности
и человека, как они есть на самом деле, мифология же, напротив,
растворяет их в пустых, обманчивых фантазиях.
Думается, в силу предшествующего нашего анализа, в
особенности - выводов последней главы, это соотношение
переворачивается: многокрасочная полнота и драматичность
реальной жизни, бессмысленной и величественной, полной
215
неожиданностей и тяжелых испытаний, принадлежит
невымышленной реальности мифа вместе с мифологическим
оправданием этой жизни. Оправдывают ее, переданную Гоголем,
детский смех и детские слезы. Новоевропейская философия,
наоборот, предстает теперь обманчивым в своей
претенциозности усилием придать реальному миру такой абстрактный
разумный порядок, которым он не обладает, за счет
обеднения, омертвления мифа, подчинить этот мир ложной строгости
и ложной понятности своих искусственных мыслительных
абстракций. Место путеводной звезды философия мифологии
уступает, таким образом, мифологической философии, еще всецело
стоящей на почве мифологии и видящей в ней не
специфический предмет своего мышления, а его домыслительный,
незапамятный источник.
Именно такой, еще не размежевавшейся с мифом, древней
философии оказывается наиболее близко гоголевское
мифотворчество. В рамках данной здесь интерпретации Гоголя его
творчество можно назвать мифологической философией
приблизительно с тем же правом, с каким творчество таких
мыслителей античности, как Гераклит и Платон, можно считать
мифотворчеством - равно отличным и от простого усвоения мифа,
и от чисто философского или научного исследования, и от
художественного вымысла.
Сопоставление с философами древности не только укрепит
нашу уверенность в укорененности мировосприятия и
творений Гоголя во многовековой культурной традиции, не только
продемонстрирует, что к схожему видению мира приходили
авторы, имевшие дело с совсем иными задачами и
историческими реалиями, но при этом черпавшие вдохновение в том же,
мифологическом, истоке, но и позволит прояснить те
внутренние затруднения, которые сохранялись в ходе интерпретации
литературного наследия Гоголя. Что в интерпретации
мифологического по духу литературного творчества остается
загадочным и смутным, при переходе к мифологической
философии уточняется под иным углом зрения и в ином содержании.
216
1. Гоголь и мифотворчество Гераклита
Нестранно, что именно Гераклиту, нареченному Темным,
самому загадочному, впечатляющему и неоднозначному
мыслителю древности, оказывается более всех родственен столь же
темный Гоголь, «самый загадочный русский писатель».
Диковатое и исторически неправдоподобное сравнение их вскоре
становится понятным и даже естественным, если только рискнуть
всерьез его раскрыть. Идеи Гераклита несут в себе то же
будоражащее внутреннее напряжение, ту же оживляющую их
контрастность, что легко усмотреть в мифотворчестве Гоголя,
оглядываясь на пройденный нами путь.
Мы нашли, что мир Гоголя - это в высшей степени
непостоянный, хрупкий, иллюзорный мир и в то же время убедились,
что это мир вечных и нерушимых скульптурных форм. В нем
царят произвол и нелепость, непрестанно сменяют друг друга
случайные происшествия, и в то же время им правит всесильная
судьба, неведомая неотвратимость. Ужас, пошлость, страшные
муки и смерть соседствуют в нем с радостным и беззаботным
самоутверждением жизни, даже вечной жизни и т. п. Но все то же
самое открывается нам и в афоризмах Гераклита.
Никто не запечатлел с такой незабвенной силой изменчивость
и хаотичность бытия, мимолетность и разлаженность
человеческой жизни, как Гераклит: «На входящих в те же самые реки
притекают в один раз одни, в другой раз другие воды» (φρ. 12)1;
«Солнце новое ежедневно. Солнце, дойдя до западного моря
и погрузившись в него, гаснет, а затем, пройдя под Землей
и достигнув востока, вспыхивает опять, и так происходит
вечно» (фр. 6); «В одну и ту же реку входим и не входим, мы
есть и нас нет» (фр. 49а) и т. д. Каждая вещь, мнимо устойчивая,
ясно очерченная и себе тождественная, под взором Гераклита
1 Здесь и далее фрагменты Гераклита приводятся по Лебедев А. В.
Фрагменты ранних греческих философов (Часть I). От эпических теокосмого-
ний до возникновения атомистики - М.: Наука. 1989. С. 189-255.
217
превращается в текучий процесс, в обманчивое непостоянство:
«Холодное нагревается, горячее охлаждается, влажное сохнет,
иссохшее орошается» (фр. 126), кроме того - в пучок
противоречий: «Море - вода чистейшая и грязнейшая: рыбам - питьевая
и спасительная, людям - негодная для питья и губительная»
(фр. 61). Безропотный Башмачкин, ставший
призраком-мстителем, наивная жертва, обернувшаяся в «Игроках» коварным
мошенником, черт, выставленный на посмешище, и все прочие
гоголевские герои, как и сама гоголевская проза, исполнены
гераклитовской изменчивости и калейдоскопической игры
противоположностей.
Но в то же время никто не был настойчивее и
торжественнее Гераклита в провозглашении единства,
структурированности и вечности всего сущего, подчиненного гармонии и мере
вместо того, чтобы быть игрушкой в руках неведомых,
потусторонних сил: «Этот космос, один и тот же для всех, не создал
никто из богов, никто из людей, но он всегда был, есть и будет
вечно живой огонь, мерно возгорающийся, мерно угасающий»
(фр. 30); «Солнце не преступит [положенных] мер, а не то его
разыщут Эринии, союзницы Правды» (фр. 94); «Сопряжения:
целое и нецелое, сходящееся расходящееся, созвучное
несозвучное, из всего - одно, из одного - все» (фр. 10) и т. д.
Совершенно ясно, что это не те гармония и мера, что
искусственно и насильно делают непонятный и непредсказуемый мир
рационально прозрачным, изгоняют из него мрачную тайну
хаоса и непредсказуемости, здесь они, напротив, органично
сочетаются с текучим беспорядком и силой неведомой судьбы.
«Людей ожидает после смерти то, чего они не чают и не
воображают» (фр. 27), - мрачно напоминает Гераклит.
«Прекраснейший космос [~ украшение] - словно слиток, отлитый как попало»
(фр. 124) (в другом переводе - даже «куча сора, насыпанного как
попало»), - загадочно говорит он. Как и у Гоголя, мы находим
у него стремление не отвергнуть и отменить тот реально
наличный мир, чья реальность - это «слиток, отлитый как попало»,
не заменить его неслаженность и раздробленность простотой
218
и вечностью Бытия, добытого элеатами ценой абсолютной
мыслительной абстракции от мира, но в самом этом неказистом
слитке разглядеть «прекраснейший космос». Мы много
говорили, что именно так Гоголь поступает со «всей
громадно-несущейся жизнью» и со своими «странными героями».
В этом состоит высшее напряжение мировоззрения
Гераклита: ни на минуту не забыть о царящих в мире жестокой
распре и пошлой сумятице, непрестанных изменениях и разладах,
но именно в них и благодаря им утвердить вечную гармонию:
«Враждебное ладит. Наилучшая гармония - из разнящихся
[звуков]. Все происходит через распрю» (фр. 8). Нередко
показывается у Гераклита хорошо знакомая нам по Гоголю свиная,
скотская рожа: «Свиньи грязью наслаждаются больше, чем чистой
водой» (фр. 13); «Свиньи - грязью, а домашние "птицы моются
пылью"» (фр. 37); «Ослы солому предпочли бы золоту» (фр. 9) -
торжественная поэзия и пошлость неразлучны в его взгляде
на мир, точно так же, как трагичность и какая-то жестокая
беззаботность, подобная той, что проскальзывает в детских играх
в войну и смерть: «Луку имя - "жизнь", а дело - смерть» (фр. 48),
сказано в одном из поразительных фрагментов.
Лосев поясняет: «Здесь Гераклит имеет в виду то, что
греческое слово "биос" с ударением на первом слоге значит "жизнь",
а с ударением на последнем слоге значит "лук" в смысле
орудия стрельбы и смерти»1. Поистине, не так ли праздник, пляска,
лихое веселье и богатырские дела в «Сорочинской ярмарке»,
«Тарасе Бульбе», «Вие», деловитая суета в «Невском проспекте»,
тихое счастье в «Старосветских помещиках» с равным правом
носят имя жизни, провозглашают и на разные лады
прославляют жизнь, но на деле обрываются горем и смертью?.. Только
древняя тайна мысли Гераклита, сочетающая мрачность с
горделивой наивностью, наслаждающейся игрой красок и
противоречий в мире, подобном дрожащим языкам пламени, сопоставима
1 Лосев А. Ф. История античной эстетики. Ранняя классика - М.: ACT. 2000.
С. 419.
219
по силе с тайной гоголевской пляски жизни, переходящей
внезапно в пляску смерти.
Один из неожиданных фрагментов «плачущего философа»
Гераклита гласит: «Не годится быть настолько смешным, чтобы
самому казаться достойным осмеяния» (фр. 130). Но значит,
в некоторой мере и в некотором отношении смешным быть стоит,
только бы не опуститься до осмеяния. Плачущий Гераклит, как
и плачущий Гоголь, чуждается лишь насмешки, но не смеха:
действительно, во всех приведенных нами отрывках, торжественно-
тревожных и скорбно-угрожающих, звучат отголоски его
мифического смеха. Можно посмеяться над солнцем, которое «правит
космосом согласно естественному порядку, будучи шириной
[всего лишь] в ступню человеческую» (фр. 3), да и над самим
космосом, «отлитым как попало». Этот смех не унижает их, а
позволяет верно понять их трагикомическую природу.
Но познавший слезы знает: смеяться над войной, которая
«одних объявляет богами, других - людьми, одних творит
рабами, других - свободными» (фр. 53), или над луком,
носящим имя жизни, но несущим смерть, столь же опасно, как
смеяться над чертом. Ужасное и отвратительное зло порой лишь
кажет себя смешным, а в тайне само насмехается над человеком,
впустившим это смешное зло в свою жизнь. Не стань сам
«достойным осмеяния», учат Гераклит и Гоголь, не перейди меры
смеха, обозревая вокруг себя один лишь всесильный,
всепожирающий и совершенно бесцельный «вечно живой огонь, мерно
возгорающийся, мерно угасающий».
Однако какие же вечность и меру, какое внутреннее единство
Гераклит надеялся открыть в трепещущем огне и в «слитке,
отлитом как попало»? Как мировая распря может быть в то же время
прекрасной мировой гармонией, как того требует знаменитая
философема лука и лиры: «враждебное находится в согласии
с собой: перевернутое соединение (гармония), как лука и лиры»
(фр. 51)? «Многознание» ученых, например, Пифагора в этом
плане «уму не научает» (фр. 40): мир нельзя понять как
сложным образом уложенную мозаику отдельных фактов и явлений,
220
связанных между собой абстрактными рассудочными правилами
в духе числовых соотношений пифагорейцев или современной
науки. Это была бы ложная, «явная», гармония строгих
закономерностей и логических выводов - слишком строгая и слишком
логичная для действительного огнеподобного космоса. «Тайная
гармония лучше явной» (фр. 54), - говорит Гераклит: тайна лука
и лиры должна оставаться тайной. Сопережить и постигнуть
эту вечную тайну ради нее самой, не выдумывая фиктивных
и искусственных ее разгадок - значит наиболее полно и
глубоко постичь космос Гераклита, которому и в этом отношении
так близок космос Гоголя.
Есть лишь одна область духа, способная передать «тайную
гармонию» гераклитовского мира становления и борьбы: язык,
а вернее - устная речь, занимавшая совершенно особое место
в древнегреческой культуре. Чтобы правильно понять учение
Гераклита о логосе, нужно учитывать, что это не просто
величественно осмысленное и омысленное Слово, но также
материально звучащее Слово живой речи. Что софистике виделось
ущербностью языка, делающей его скорее преградой на пути
познания и взаимопонимания людей, чем познавательным
инструментом: многозначность и расплывчатость, изменчивость
и мимолетность всех звучащих слов - то Гераклиту
открывается как несравненная сила и глубина устного логоса. В устной
речи каждое отдельное слово рождается для того, чтобы тут же
умолкнуть, улетучиться и смениться другим в общем потоке
говорения, границы его смысла аморфны и неоднозначны, разными
людьми оно толкуется и употребляется по-разному - но ведь
именно такова судьба каждой мнимо отдельной и мнимо
устойчивой вещи или явления в едином потоке становления у
Гераклита. Границы ее текучи, жизнь мимолетна, значимость
противоречива и изменчива.
Только вся устная речь как сложное и загадочное целое всех
этих мерно возгорающих и мерно угасающих слов, хитро и
незаметно перетекающих друг в друга, как их неточная, условная
перекличка, как свободная игра нюансов их интонаций, намеков
221
и смысловых акцентов может быть адекватным выражением,
действительным и вместе с тем доступным человеку
воплощением гераклитовского мира, его гармонии и его внутреннего
противоборства. Только в целом весь становящийся, но никогда
не ставший противоречивый мир Гераклита может быть
гармоничным вечным единством, и только живая речь как
аналогичное целое, не дробящееся на отдельные, самостоятельные слова,
позволяет человеку прикоснуться к этому единству,
прочувствовать его. Поэтому «выслушав не мою, но эту-вот Речь (Логос),
должно признать: мудрость в том, чтобы знать все как одно»
(фр. 50). Текучий логос противостоит точному многознайству
ученых, «ибо Мудрым [Существом] можно считать только одно:
Ум, могущий править всей Вселенной» (фр. 41). Логос есть
единственно верное воплощение этого ума.
Как и единый гераклитовский космос, логос может явить свое
вечное бытие лишь в непрестанном становлении быстро
сменяющих друг друга слов, гармоничное единство - в их неизбежной
множественности, постоянство - в чистой изменчивости.
Гераклит еще не знает подобных противопоставлений, но не потому,
что пока «не дорос» до них, а потому что принципиально чужд
им и в них не нуждается. Но и логос подвержен риску стать
всего лишь «явной» гармонией, пытаясь зафиксировать точный
смысл отдельных своих слов и проводя между ними четкие
различия: вечная распря противоположностей в мире
преломляется в языке игрой противоречий. Как пишет об этом Кассирер,
«Только в подвижном и многообразном слове языка, постоянно
словно прорывающем свои собственные границы, отображается
полнота созидающего мир логоса. Все барьеры, которые язык
воздвигает и должен воздвигать, должны быть им самим
опознаны как временные и относительные, которые сам он потом
и уничтожает, как только подвергает предмет рассмотрению
с новой точки зрения»1.
1 Кассирер Э. Философия символических форм. Т. I: Язык. - М.:
Академический Проект. 2011. С. 54.
222
Поэтому «Бессмертные смертны, смертные бессмертны, [одни]
живут за счет смерти других, за счет жизни других умирают»
(фр. 62); «Одно и то же в нас - живое и мертвое, бодрствующее
и спящее, молодое и старое, ибо эти [противоположности],
переменившись, суть те, а те, вновь переменившись, суть эти» (фр. 88);
«Путь вверх-вниз один и тот же» (фр. 60) и т. д. - без конца играет
противоречиями Гераклит. Только когда логос связывает каждое
отдельное слово с противоположным по смыслу словом и тем
самым нейтрализует его ограниченность и односторонность,
когда сама речь вбирает в себя ту же бесконечную тайну, что
хранит раздробленный, но все же не рассыпающийся на части
гармоничный космос - только тогда язык раскрывает у
Гераклита свою подлинную миросозидательную мощь.
Стоит ли говорить о том, насколько близок Гоголю и
гоголевскому языку этот материально воплощенный (подобный огню)
гераклитовский логос, из самого себя творящий мир и
правящий им, выступающий единственной силой, удерживающей этот
нелепый мир в целостности и гармонии? Так и у Гоголя весь мир
раскрывается только в скульптурной его прозе, в неиссякаемом
потоке слов, нередко невообразимом и малопонятном, не
считающимся ни с какими законами логики или литературных
жанров, подчиняющимся только самому себе - ничто, кроме
самого языка Гоголя, не придает слаженность и устойчивость
его «как будто не существующему» миру, однако волей и силой
этого языка его мир сохраняется в вечности.
Мировая гармония не может быть предъявлена у Гераклита
как нечто отличное от всего живого потока слов в едином его
логосе, но ни в одном из этих стремительно проносящихся слов
она не выражается сразу и сполна, поэтому никогда эта
гармония не может быть раскрыта окончательно как нечто ставшее
и вполне проясненное. Отдельное слово перерастает свои
подвижные границы в речи и сливается с другими словами, намекая
на них - гармония же («как лука и лиры») обнаруживается
как хитрая, довольно запутанная, но увлекательная сеть этих
намеков во всем устном логосе. Она не столько символически
223
репрезентирована этим логосом (как если бы она существовала
и постигалась как нечто независимое от него и лишь
иносказательно им переданная), сколько прямо показана им в самом его
звучании, в его реально-чувственном изречении. Чистая форма
языка, «то, как рассказано», не нуждающееся ни в какой вне-
языковой реальности и не отсылающее к ней - вот что
связывает прозу Гоголя и логос Гераклита.
Слово Гераклита, как и слово Гоголя, довлеет самому себе и,
как оно же, всякий раз приоткрывает вечную тайну космоса,
«отлитого как попало» и тут же вновь ее запечатывает,
нуждаясь во все новых и новых словах для овладения ею. По мысли
Гераклита, «Природа любит прятаться» (фр. 123) - только
«спрятанной» знает и показывает ее логос, но именно в этом его
безусловная правдивость и безошибочность. Поэтому он подобен
«Владыке, чье прорицалище в Дельфах», который «и не говорит,
и не утаивает, а подает знаки» (фр. 93). Все сказанное ранее
о скульптурности и апофатизме гоголевского языка может
служить развернутым комментарием к этому фрагменту.
Ясно поэтому, что знаменитый «темный» стиль Гераклита, как
и невообразимость гоголевского языка (порой просто
неграмотного, но гениального именно в неграмотности своей!), не прихоть
его личности, а объективное требование его мышления,
единственное адекватное ему выражение.
Чисто гоголевское чувство магизма, заклинательной силы
языка с мистической глубиной предвосхитил Гераклит,
сравнивая логос с Сивиллой: «Сивилла же бесноватыми устами,
по Гераклиту, несмеянное, неприкрашенное, неумащенное
вещает [в другом переводе - «Сивилла неистовыми устами
произносит угрюмое, неприкрашенное и неподмазанное»], и голос
ее простирается на тысячу лет. Сивилла [про] рекла будущее
не человеческим образом, а с помощью бога» (фр. 92). Как
похоже все это на заклинания Панночки, творимые ее
«бесноватыми устами»! «Глухо стала ворчать она и начала
выговаривать мертвыми устами страшные слова; хрипло всхлипывали
они, как клокотанье кипящей смолы. Что значили они, того
224
не мог бы сказать он, но что-то страшное в них заключалось.
Философ в страхе понял, что она творила заклинания» [2,210],
и потом - «зубы его [мертвеца] страшно ударялись ряд о ряд,
в судорогах задергались его губы, и, дико взвизгивая,
понеслись заклинания» [2, 216].
Мы видели, что у самого Гоголя даже описания подобны этим
диким заклинаниям: «"Глаза... с пением вторгавшиеся в душу"
(Вий). Всадник, "отдающийся" (вместо отражающийся) в водах
(Страшная месть). "Полночное сиянье... дымилось по земле"(Вий).
"Рубины уст... прикипали... к сердцу" (Вий). "Блистательная песня
соловья" (Майская ночь). "Волосы, будто светло-серый туман"
(Страшная месть). "Дева светится сквозь воду, как будто бы сквозь
стеклянную рубашку" (Страшная месть). <...> Что за образы?
Из каких невозможностей они созданы? Все перемешано в них:
цвета, ароматы, звуки. Где есть смелее сравнения, где
художественная правда невероятней?»1 - писал Андрей Белый. «Верьте
словам моим!» - нередко начинает свое вещание Гоголь.
«Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в
суровое ожесточающее мужество, забирайте с собою все
человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом!»
[6,127] - действительно, будто сама Сивилла пророчит и грозит
в поэме Гоголя. Сивиллой, предрекшей своими «бесноватыми
устами» трагическую судьбу России, считали Гоголя Розанов
и Бердяев.
Логос есть судьба, бесцельно и безвинно управляющая герак-
литовским космосом: «Ибо [все?] предопределено судьбой
всецело. Судьба - разум (логос), творящий [все] вещи через [их] "бег-
в-противоположные-стороны"» (фр. 137). Это и понятно: ранее
мы описали судьбу в мифотворчестве Гоголя как слепое
самоуправление скульптурного мира, не знающего
трансцендентных целей, логических или моральных законов. Судьба,
говорили мы, есть чисто внутренняя связность всего происходящего
в этом замкнутом на себе телесном мире, не опосредованная
1 Белый А. Гоголь // Н. В. Гоголь: pro et contra - Μ.: РХГА, 2009. С. 298-299.
225
никакими законами и не подчиненная никаким внешним целям1.
Но ясно, что скульптурный язык Гоголя, из которого изваян его
мир, как раз и есть это непосредственное внутреннее единство:
поток становления и поток речи, «чистых фактов языка» суть
один поток. У Гоголя, как и у Гераклита, «все предопределено
судьбой всецело», а сама судьба неотличима от «логоса,
творящего [все] вещи через [их] "бег-в-противоположные-стороны"».
Итак, логос Гераклита и Гоголя есть мистический намек на то,
что просматривается за ним, на такое домыслительное и досло-
весное бытие, которое не есть логос, но которое никак не может
быть явлено в формах от него отличных, поэтому он так же тав-
тегоричен, так же не знает различия между смыслом и формой
его выражения, как мифология в учении Шеллинга. Как мы
говорили, смысл не может быть предъявлен вне всякого
оформления, поэтому первая положенная ему форма, которой
совершенно объективно выступает мифология, в принципе не может
быть от него отличена, пока не сменится иной, уже не
мифологической, формой. Но именно таким изначальным воплощением
«Ума, могущего править всей Вселенной», еще неотличимым
от него самого, является гераклитовский логос: он есть
подлинное мифотворчество древнего мыслителя.
Отсюда - и материально-чувственная реальность логоса,
воплощающая тайну космоса в самом своем звучании, то
идеально-вечное, о чем вещается - в том чувственно-переменчивом, как
это вещается: думается, и о логосе Гераклита можно сказать, что
он «говорит одними интонациями». Это соображение позволяет
разобраться в, на первый взгляд, сбивающих с толку замечаниях
Гераклита: «Что можно видеть, слышать, узнать, то я
предпочитаю» (фр. 55), - говорит он, но добавляет в другом фрагменте,
что «Воображение [или самомнение] - падучая [сумасшествие].
Зрение лжет» (фр. 46). И еще: «Глаза и уши - дурные свидетели
для людей, если души у них варварские» (фр. 107). Как здесь
связать одно с другим?
^м. Глава 4. Стр. 81-83.
226
Коль скоро всякое мышление осуществляется в знаках и
благодаря им, а любая интерпретация знака сама состоит из знаков,
как напоминает Бахтин, то первые шаги в мышлении, равно как
и любая достигнутая в нем ясность, не нуждающаяся в
дальнейшем разъяснении, представлена такими знаками, которые уже
не требуют толкования, чья чувственно воспринятая материя
понятна сама по себе без обращения к какому-либо
сверхматериальному ее смыслу. Мышление, таким образом, всегда движется
в своего рода чувственности и не может ее покинуть, но напротив,
только предельная ясность этой чувственности (чувственно
воспринимаемых знаков) и преследуется в мышлении, в ней обретает
оно последнее основание и желанный результат. Ясно мыслить
и убедительно излагать - значит, чувственно воспринимать или
чувственно производить такие знаки, которые понятны уже в силу
самого звучания или начертания их, т. е. понимаются тавтегори-
чески, точно мифология или скульптурная гоголевская проза.
Таков и логос Гераклита: его предельная отчетливость и
непроницаемая загадка, гераклитовская «темнота», сливаются в его
живом, чувствами постигнутом звучании. Логос есть
первоначальное, в основе всего лежащее осмысленное слово, поэтому
в звучании его нет еще различия между смыслом и самим словом.
И поэтому он есть то, «что можно видеть, слышать, узнать»,
но в то же время он не может быть воспринят чувствами в том же
ключе, что и вещи обыденного опыта: он раскрывается в
мифически преображенной, одухотворенной чувственности,
приобретшей «личностную форму» (ведь и логос, и космос Гераклита - это,
кроме всего прочего, живые разумные существа). Поэтому «глаза
и уши - дурные свидетели для людей, если души у них варварские».
Эти выводы позволяют лучше понять слова Хайдеггера,
посвященные Гераклиту - на первый взгляд, столь же темные, как
стиль самого великого эфесца: «Мышление есть слушание (ein
Erhören), которое рассматривает. В мышлении для нас
пропадают обычные слух и зрение потому, что мышление переносит
нас в некое слушание и рассматривание (in ein Erhören und
Erblicken). Это удивительные и все же очень старые установления.
227
Если Платон называет то, что составляет в сущем его самое
подлинное, идеей (ιδέα), т. е. лицом сущего и тем, что нами в нем
зримо, а Гераклит еще раньше назвал его λόγος, т. е. речением
сущего, которому мы, слушая, соответствуем, то оба эти
свидетельства дают нам понять, что мышление является неким
слухом и неким зрением»1.
Ранее мы сравнивали мифотворческий язык Гоголя с речью
ребенка - закономерно, что и логос Гераклита обнаруживает все
те же черты детского языка. И в том, и в другом случае родной,
первоначальный «язык» космоса сближается с истинно родной,
первоначальной речью человека - с языком мифа и языком
ребенка. Детская речь подлинно мифична и тавтегорична.
Именно поэтому ей, как и гераклитовскому логосу, присуща
безусловная и вместе сокровенная осмысленность: она
осмысленна не потому, что отличается и отграничивается от
бессмысленной речи, а потому что еще вовсе не знает различение
бессмыслицы и смысла. Поскольку в ней не распадаются еще
звучание речи и ее смысл, то логосу Гераклита, как и ребенку, и мифу,
в принципе непонятно, как одно может здесь остаться без
другого. Как мы говорили, лишь развитие взрослого,
конвенционального языка приводит к этим разрывам и как следствие -
к появлению вообще-то совершенно удивительного и,
по-видимому, не такого уж старого феномена бессмысленной речи,
строго отличаемой от осмысленной.
Нет ничего неожиданного в том, что мифологическая
философия Гераклита, как и мифотворчество Гоголя в нашей
интерпретации, венчается образом ребенка: «Век - дитя играющее, кости
бросающее, дитя на престоле! [доел. "Эон - ребенок, играющий
в пессейю, ребенку принадлежит царская власть"]» (фр. 52) -
гласит самый прекрасный и глубокий афоризм древнего
мыслителя. Космос Гераклита, как и космос Гоголя, принадлежит
1Хайдеггер М. Положение об основании. Статьи и фрагменты. - СПб.:
Лаборатория метафизических исследований философского факультета
СПбГУ; Алетейя, 2000. С. 89.
228
ребенку. Действительно, почему или ради чего играет этот вечный
ребенок? Не почему и не для чего: он играет ради самой игры.
Каковы основания его игры? Никакие: она основывается на себе
самой. По каким правилам играет ребенок? Ни по каким: он сам
толком не знает этих правил и может менять их уже в ходе игры.
Безосновность, бесцельность, безвинность этого мира, всесилие
слепой судьбы, но также изящность и человечность - все
мифологические мотивы Гераклита и Гоголя сосредоточены и
переплетены в этой окончательной философеме (и мифологеме, конечно)
беззаботной детской игры, которая правит миром, даже создает его.
«Игра мирового хаоса с самим собою, - пишет об этом Лосев, -
есть нечто совершенно природное, естественное, безболезненное,
невинное и чистое. Она отнюдь не результат космического
грехопадения, как учит иудаизм и христианство; не результат
внутреннего надрыва, пессимизма, артистического демонизма, которым
любили блеснуть художники нового времени. Это - вполне
естественное состояние мира, вполне безобидное и невинное, чистое
и даже милое, улыбчивое. Злой мировой хаос, сам себя
порождающий и сам себя поглощающий, есть в сущности только милые
и невинные забавы ребенка, не имеющего представления о том,
что такое хаос, зло и смерть»1. Льюис Кэрролл, со сказками
которого нам уже приходилось сравнивать гоголевское
мифотворчество, писал в одном послании о самом главном во всей
фантазийной его вселенной - о ребенке, для которого она была
создана: Алиса «отчаянно любопытная и жизнерадостная той
жизнерадостностью, какая дается лишь в детстве, когда весь мир
нов и прекрасен и когда горе и грех - всего лишь слова, пустые
звуки, не означающие ничего!»2 Крупнейший знаток
античности не зря теми же словами описал ребенка, представившегося
1ЛосевА. Ф. История античной эстетики. Ранняя классика - М.: ACT. 2000.
С. 393.
2 Цит. по Заходер Б. Глава никакая // Кэрролл Л. Алиса в стране чудес. Пер.
Б. Заходера [Электронный ресурс] Lib.Ru. URL: http: // lib.ru/CARROLL/
alisa_zah.txt (дата обращения 02.10.2019).
229
Гераклиту: любой, сколь угодно абсурдный, мир перестает быть
абсурдным, если принадлежит ребенку.
Обыденный опыт, как и выражающая его обыденная речь,
раздроблен на отдельные предметы, события, цели - мнимо
ясные и постоянные, а в действительности текучие, призрачные
и потому сами по себе бессмысленные - человек живет в плену
этих фикций. Пустая суета и неслаженность их не распознается
им потому, что и сам он, его собственный псевдо-логос, так же
непрочен и разорван на сменяющие друг друга переживания.
Поэтому Гераклит, как и Гоголь, так часто уподобляет
кажущуюся понятность и стабильность обыденной жизни
бессвязному сну, который самому спящему кажется цельным и ясным:
«Что ж касается остальных людей, то они не осознают того, что
делают наяву, подобно тому как этого не помнят спящие» (фр. 1),
и еще - «Не следует действовать и говорить подобно спящим (ведь
и во сне нам кажется, что мы действуем и говорим)...» (фр. 73).
Также и во сне мы не знаем и не помним самих себя,
погружаясь в гущу волнующих впечатлений.
Аналитичный, антимифологический рационализм нового
времени, не желающий мириться с тайной, силящийся все сложное
и таинственное разложить на простое и ясное, на такие
«простые идеи», которые мнит независимыми и устойчивыми в своей
простоте, стал только рафинированным вариантом этого сна.
И нестранно: Декарт показал, что, даже погрузив его сознание
в сон, в мир иллюзий, злокозненный демон не смог бы ввести его
в заблуждение относительно осуществляемого им акта сомнения,
а значит - мышления. Следовательно, и в области пустых
сновидений непреложность и сила мышления остаются неколебимы:
вот действительно надежное основание всякого знания,
претендующего на достоверность!
Однако у этой аргументации есть и оборотная сторона: вся
наука, воздвигнутая на таком основании, в сущности не
считается с различием реальности и сна и не интересуется им, ведь
сама она остается истинной и во сне. Но человек - другое дело:
он теряет себя, забывая о разнице между сном и явью. «Иисус
230
будет терпеть муку до скончания света. Все это время не должно
спать!»1 - еще в семнадцатом веке требовал великий критик
Декарта. Основанная на принципах рационализма культура
действует на человека усыпляюще и, как всякий подлинный сон
разума, «рождает чудовищ» тоталитаризма, концентрационных
лагерей, оружия массового поражения...
Разрозненности вещей и бесконечной веренице отдельных
событий Гераклит противопоставил замкнутость языкового
смысла. Философема круга: «Совместны у [окружности] круга
начало и конец» (фр. 103) - выражает у него множество важных
перекликающихся между собой идей. Это и замкнутость себе
довлеющего логоса, в котором «совместимы» смысл и звучание,
и подчиненность космоса вечной мере, а потому - цикличности
и повторению, и абсолютная устойчивость этого космоса,
распадающегося на противоположности лишь потому, что в них-то
и обнаруживается подлинное его единство, установленное в нем
самом, а не в области домысленных сверх него абстракций. Уже
знакомые нам устойчивость и замкнутость скульптурного мира
Гоголя - прямой аналог гераклитовского космоса, подобного
нерушимо цельному кругу.
Сравнивая учение Гераклита с буддизмом, Кассирер писал:
«Подобно Будде, Гераклит, чтобы выразить содержание своего
учения, часто прибегает к образу круга. "Совместны у круга
начало и конец", - гласит один из фрагментов. Однако если
у Будды круг выступает символом бесконечности, а тем самым
бесцельности и бессмысленности становления, то у Гераклита
он - символ завершенности. Замыкающаяся линия
свидетельствует о совершенности формы, о структурности как
определяющем законе универсума - подобно тому, как и Платон, и
Аристотель с помощью образа круга придавали окончательную форму
своей интеллектуальной картине космоса»2.
1 Паскаль Б. Мысли. Афоризмы - М.: ACT: Астрель, 2011. С. 134.
2 Кассирер Э. Философия символических форм. Т. II: Мифологическое
мышление - М.: Академический Проект. 2011. С. 145.
231
Однако в анализе Гераклита надлежит избегать
анахронистического перевода древнего мыслителя на язык философии нового
времени, который позволяет себе Кассирер: «Сенека сохранил
одно из высказываний Гераклита, гласящее, что каждый день
подобен другому: unus dies par omni est (fr. 106). Это не означает
некую одинаковость содержания событий, которое, напротив,
меняется не только со дня на день, но с часа на час, каждый
момент, но речь идет о всегда тождественной самой себе форме
мирового процесса, одинаково определенно проявляющейся
и в малом, и в большом, и в простейшей точке настоящего,
и в бесконечной длительности времени <...> Кто в созерцании
времени больше не привязан к содержанию событий, а
постигает его чистую форму - для того это содержание в конце концов
растворяется в форме, материя бытия и событий растворяется
в игре»1, - говорит неокантианец, пользуясь языком своего
великого предтечи.
Однако материально-чувственный логос Гераклита вовсе
не растворяет содержание, или материю, событий в «форме
мирового процесса», он чужд подобным оппозициям. Скорее
напротив, Гераклит стремится сохранить всю содержательную
полноту космоса как она есть, не заставляя ее говорить на
чуждом ей языке абстрактных «форм» - но не потому, что отвергает
форму ради содержания, а потому что логос как родной язык
космоса еще не может распасться на первую и второе. Каждый
день подобен другому не потому, что в каждом из них
отпечатана некая общая форме времени, а потому что все дни в
замкнутом круге Гераклита сливаются в один вечный день. Это и есть
вечное «сегодня» Гоголя, один бесконечный сегодняшний день
ребенка. Игра ребенка у Гераклита не особая форма времени,
а отрицание времени, выход в одно только сплошное детское
«настоящее», в бессобытийную гоголевскую вечность.
Однако более всего логос Гераклита близок жизни ребенка
(а значит - и гоголевскому мифотворчеству) как безусловное,
1Там же. С. 145-146.
232
предельное основание мира. Исходная действительность логоса,
который «не создал никто из богов, никто из людей», делает
возможным все происходящее в космосе. Как и
проанализированное нами деяние ребенка, этот логос не опирается на
предшествующие ему абстрактные основания, вроде еще не
реализованных, но лишь предстоящих реализации планов, целей и
решений, он сам есть свое основание. В этом смысле он действует
без основания, но не потому, что безосновность его отличается
от обоснованности, а потому что в нем еще нет места их
противоположности. Ребенок должен действительно начать играть,
говорить, мыслить, чтобы вопрос об основании его деятельности
получил смысл, поначалу же он действует без всякого вопроса,
без «почему?». Мы видели, что цельность гераклитовского логоса,
полностью аналогичная простоте ребенка, совершенно так же
проступает в не-различении бессмыслицы и смысла.
Так мы можем истолковать и попытку Хайдеггера связать
лейбницево положение об основании с логосом Гераклита и его
образом ребенка: «Почему играет увиденный Гераклитом в αιών
великий ребенок мировой игры? Он играет, потому что он играет.
Это "потому" погружается в игру. Игра есть без "почему". Она
играет, пока она играет. Она остается только игрой: чем-то
высочайшим и глубочайшим.
Но это "только" есть Все, Единое, Единственное.
Ничто не есть без основания. Бытие и основание: то же самое.
Бытие как основывающее не имеет никакого основания, играя
как без-дна ту игру, которая в качестве посыла судьбы бросает
нам в руки бытие и основание»1.
Но Гераклит прочувствовал и выразил также и оборотную
сторону детской простоты своего логоса. Как по совершении
деяния ребенка неведомые ранее противоположности и
разлады становятся возможны, так и гераклитовский логос сам
1Хайдеггер М. Положение об основании. Статьи и фрагменты. - СПб.:
Лаборатория метафизических исследований философского факультета
СПбГУ; Алетейя, 2000. С. 190.
233
распадается на противоположности, которые, однако, опознает
как временные и условные, благодаря своей связи с
детскостью. Один из фрагментов гласит: «Называет же он его [огонь]
недостатком и избытком. Недостаток есть, по учению его,
образование мира, мировой же пожар - избыток» (фр. 65).
Образование содержательно сложного мира множественности и
распри есть недостаток детскости, того исходно простого усилия,
что открывает мир, даже творит его, как мы говорили в
предыдущей главе1. Возвращение к детскости видится Гераклиту
трагически возвышенным (вот здесь уместен термин Канта!)
пожаром, в котором стираются противоречия жизни взрослых,
выросшие из неприятия бытия ребенка, из бессилия вынести
его и остаться с ним.
Лосев пишет: «Другими словами, мир появляется только
тогда, когда первоогонь начинает испытывать ущерб,
изнуряется и истощается, так что мир есть детище нужды и вечной
неудовлетворенности; когда же мир гибнет в мировом пожаре,
то первоогонь насыщается, восстанавливается и возвращается
к своей полной и бесконечной силе. Это величественно и красиво.
И это - мировая трагедия»2. Ранее мы стремились показать, что
мир «взрослеющий» новоевропейской культуры есть именно
такое «детище нужды и вечной неудовлетворенности»: детище
зависти к мифологической жизни ребенка и тоски по его
простоте. В этой связи мы уже ссылались на знаменитый афоризм:
«Для бога все прекрасно и справедливо, люди же одно признали
несправедливым, другое - справедливым» (фр. 102), сравнивая
деяния ребенка с деяниями божества3. Как видим, мы при этом
в сущности ничего не меняли в мысли Гераклита.
В этой связи становится понятна еще одна удивительная
запечатленная у него черта детскости: в деяниях детей нерасторжимо
*См. Глава 5. Стр. 129-130.
2Лосев А. Ф. История античной эстетики. Ранняя классика - М.: ACT. 2000.
С. 419.
3См. Глава 5. Стр. 143.
234
связаны бытие и долженствование. Деяния эти, как мы
говорили, с равным правом можно признать и абсолютно
свободными и совершенно неотвратимыми, совершенными по воле
судьбы - если при этом ребенок не знает зла, противостоящего
добру, но знает только добро, то для него Эринии, силы судьбы,
поистине суть также «союзницы Правды». Размежевание их,
само представление о злой судьбе, разошедшейся с Правдой,
возникает лишь в ходе взросления и служит одним из
наиболее мощных источников зависти к простоте ребенка,
компенсируемой пренебрежительностью по отношению к его
«наивности» и «неопытности».
Если выводы наши верны, то мысль Гераклита не может
быть выражена в понятии или суждении: скульптурный логос
и его безусловная осмысленность, как мы истолковали их ранее,
нельзя адекватно разъяснить с помощью отвлеченных
категорий и терминов - что это такое, должно быть сначала реально
испытано, чтобы потом все отвлеченные рассуждения на этот
счет стали возможны. Специфическое понимание логоса должно
носить характер события, происходящего с человеком - события,
при котором сознание его испытывало бы связь с силой,
бесконечно его превосходящей. Это со всей очевидностью возвращает
нас к понятию мифотворчества.
Именно мифотворческими надлежит считать афоризмы
Гераклита и его философемы: мистические намеки Гераклита - это
избранный им способ заставить мышление столкнуться с такой
реальностью, что полностью в нем и в оформляющем его
суждении не умещается, но каждый раз просвечивает сквозь
суждение, оставаясь, как сам афоризм, открытой для бесконечных
новых интерпретаций. Поэтому и образы Гераклита не условны,
а совершенно реальны, тавтегоричны, ведь образы эти не
иносказательное выражение того, что может быть предъявлено и
буквально, без всякой иносказательности, а единственные
доступные человеку явления (в том смысле, в каком говорят о явлениях
в театральном представлении) логоса, происходящие в
человеческом сознании.
235
Несомненно, Лосев прав, настаивая на том, что наследие
Гераклита нельзя считать ни поэзией (как мы сказали, образы его
не художественно условны, или метафоричны, а совершенно
реальны), ни философией, если понимать под философией
систематическое размышление при помощи абстрактных понятий
и специальных терминов, ставящее мировоззренческие вопросы
и аргументированно отвечающее на них1. Лосев не согласен
считать его и мифологией: гераклитовское творчество «от
мифологии отличается только антиантропоморфизмом»2, - говорит он.
Гераклит скорее издевается над народной мифологией греков:
«Одно-единственное Мудрое [Существо] называться не желает
и желает именем Зевса» (фр. 32) и т. п. Лишь изредка он
упоминает антропоморфных ее персонажей (например, Эриний),
предпочитая им, по видимости, абстрактные философско-эстетиче-
ские понятия меры, порядка, гармонии, логоса и т. п. Причем, как
мы видели, логос и мера для Гераклита куда сильнее и старше
мифических богов.
Но сам же Лосев замечает: «В то же время эти
абстрактно-всеобщие понятия являются здесь овеществленными,
одушевленными, разумными, роковыми, т. е. им свойственна вся старая
мифичность с тем существенным отличием, что теперь
мифическим богом стали уже не Apec и не Афродита, а космическая
гармония и космический ритм. Вполне целесообразно писать эти
слова с большой буквы, хотя они и не есть имена богов и героев
в обычном смысле слова»3. Уже приводившееся нами замечание
Булгакова о том, что миф оперирует лишь именами
собственными, остается, таким образом, в силе и для Гераклита.
Отвлеченные понятия в его афоризмах никак не отделены от
материально-телесных антропоморфных мифических созданий. Чтобы
разрешить возникающее тут затруднение, Лосеву приходится
*См. Лосев А. Ф. История античной эстетики. Ранняя классика - М.:
ACT. 2000. С. 407.
2 Там же. С. 395.
3Там же. С. 416.
236
изобрести диковинный, явно искусственный термин:
«абстрактно-всеобщая мифология» - так, по его мнению, следует
охарактеризовать специфику творчества Гераклита.
Слово «всеобщая» здесь и вовсе загадочно, а слово «абстрактно»
противоречит тому, что Лосев не раз писал о чувственной
конкретике и субстанциальной реальности мифа, да и самой философии
Гераклита. Думается, куда точнее и уже без подобных натяжек эту
философию можно описать как мифотворчество в том смысле,
в каком мы говорили о мифотворчестве Гоголя. Все ключевые
присущие ему мифологические мотивы и - что особенно
примечательно - β точно такой же синтетической связи мы
обнаруживаем и у Гераклита. Требующие друг друга тавтегоризм,
скульптурность, апофатизм его логоса, всевластие слепой судьбы и
венчающая его мировоззрение детскость - все это и создает у
Гераклита фантасмагоричный, но при этом выпукло-реальный,
бессмысленный, но возвышенный, хрупкий и изменчивый, но вечный
и замкнутый на себе мир. Именно такой мир выводит и
мифотворчество Гоголя, вернее - и у него, и у Гераклита, само
мифотворчество и есть этот мир, его постепенное само-развертывание.
Один мотив Гераклита, по видимости, препятствует его
сближению с Гоголем: гордый аристократизм его философии и открытое
презрение к большинству людей, которое, по его слову,
«обжирается как скоты» (фр. 29), «следует певцам деревенской черни
и поет мелодии (номосы) < толпы>, того < не> ведая, что многие -
дурны, немногие - хороши» (фр. 104). Страх и ненависть
аристократа (Гераклит происходил из древнего рода царей-жрецов)
нередко звучат у эфесского мыслителя: «Эфесцы заслуживают
того, чтобы их казнили всех поголовно, а город оставили на
безусых юнцов за то, что они изгнали Гермодора, < мужа> из них
наилучшего, со словами: "Среди нас никто да не будет
наилучшим, а коли есть такой, быть ему на чужбине и с другими!"»
(фр. 121). Гоголя же мы ранее истолкователи как защитника
человеческого достоинства, стремящегося облагородить и
возвысить даже «пустейшего» человека, а его мифотворчество - как
«катарсис пошлости».
237
Но ведь и у Гоголя мы повсеместно встречаем тех, кто
«обжирается как скоты» и дуреет от «мелодий толпы»: собственно,
в презрении к людям и в попытке изуродовать их русского
классика обвиняли куда больше, чем Гераклита. Чтобы до конца
понять приведенные отрывки древнего философа, не стоит
забывать его же слова о том, что «для бога все прекрасно и
справедливо». Значит, и здесь мифически преображенная пошлость
перестает быть пошлостью, вовлекаясь в вечную игру
безвинного ребенка.
2. Платон как мифотворец
и Гоголь как платоник
Если сопоставление Гоголя с Гераклитом далеко не очевидно,
и сама постановка такой задачи выглядит сомнительно, то с
Платоном Николая Васильевича сравнивали не раз, в том числе -
мыслители, видевшееся в нем подлинное чудовище,
квинтэссенцию пошлости и низости: «Гоголь был великий
платоник, бравший все в идее, в грани, в пределе (художественном);
и, разумеется, судить о России по изображениям его было бы
так же странно, как об Афинах времен Платона судить по
отзывам Платона»1, - пишет, к примеру, Розанов.
Действительно, сходство Гоголя с Платоном более заметно,
чем его сходство с Гераклитом, однако не более понятно. Сам
Гоголь почти никогда не ссылается на Платона, хотя бы и в форме
художественного намека. Исключение составляет его
юношеская работа «Женщина», но в этом тексте Гоголь опирается
на Платона, пожалуй, слишком последовательно, так что здесь,
на уровне размышление об искусстве, «платонизм» Гоголя
существеннейшим образом отличается от того, что можно
обнаружить в самом его искусстве и который в действительности
1 Розанов В. В. Собрание сочинений. Легенда о Великом инквизиторе
Ф.М. Достоевского. Лит. Очерки. О писательстве и писателях - М.:
Республика. 1996. С. 8.
238
куда ближе Платону, чем юношеские мысли этой работы. Гоголь
пишет: «И если ненароком ударят в нее очи жарко понимающего
искусство юноши, что они ловят в бессмертной картине
художника? видят ли они вещество в ней? Нет! оно исчезает, и перед
ними открывается безграничная, бесконечная, бесплотная идея
художника»1. Читая Платона, мы быстро убеждаемся в том, что
его Идеи вовсе не бесплотны и не лишены вещественного
наполнения. Напротив, об их телесности и зримости историками
философии сказано так много, что едва ли сегодня это
нуждается в обстоятельном доказательстве. Многократно
отмечавшаяся скульптурность и многокрасочная выразительность
платоновских Идей, их пластическое богатство, а не мнимая их
бесплотность, роднят их с мифологией в целом и с
мифотворчеством Гоголя в особенности.
Лосев писал: «Миф и логос дополняют у Платона друг друга.
Строжайший аналитизм, присущий рассуждающему логосу, слит
у Платона с вымыслом мифа и его беспредельной
изобретательностью. Платон был настоящим теоретиком и создателем
философских идей, как это понимали именно греки. Их "теория" (theôria)
означает не отвлеченное созерцание, а "видение". Слово же "идея"
(idea) есть предмет видения. И если герои Гомера "мыслят
глазами", так как древний поэт не разделяет процессы умственной
или психической и физиологической деятельности, то
классический грек Платон все еще сохраняет непосредственность и
свежесть поэтического мышления древних, занятый как бы
умственным созерцанием или делая объектом ученого рассуждения
не абстрактную, а "видимую" им предметность, то есть идею»2.
Но «теория» в смысле конструирования видимой, скульптурно
выразительной реальности, складывающейся во всякий раз
новые формы, благодаря «беспредельной изобретательности»
мифа - это и есть мифотворчество.
1 Гоголь Н.В. Женщина // Литературная газета, 1831, № 4. С. 28.
2 Лосев А. Ф., Тахо-ГодиА.А. Платон. Аристотель. - 3-е изд., испр. и доп. -
М.: Молодая гвардия. 2005. С. 129-130.
239
В самом деле, кто как не Платон всю силу своего гения бросает
на то, чтобы рядом с миром ложных оче-видностей, миром
переменчивого чувственного опыта и произвола, возник мир вечных,
всегда себе тождественных скульптурных форм, в котором
прекратилось бы суетное и бессмысленное движение эмпирической
жизни человека? Этот мотив мы нашли одним из важнейших
и в мифотворчестве Гоголя.
При чтении Платона мы сталкиваемся и с одним из
ключевых затруднений мифотворчества, которое ранее обнаружили
у Гоголя - с парадоксальной реальностью того, что «как будто
не существует». Мир кажимости и становления, мир текучих
чувственных вещей у Платона не более, чем пустая видимость,
которая обладает каким-то зыбким существованием лишь потому,
что соотносится с миром Идей. Однако последний философу
открывается как преодолевающий или даже отрицающий
становление чувственного мира, тогда как для философа как человека
путь к Идеям начинается с вещей и ничем иным начинаться
не может: это путь от вещи к Идее, а не наоборот. В этом плане
перспектива мироздания и платоновского Демиурга
противоположна перспективе человека. Но это означает, что чувственный,
человеческий и даже слишком человеческий мир тоже обладает
у Платона весьма весомой реальностью: это нелепая реальность
пустоты и обмана, которую он, как и мифотворец Гоголь, не мог
не впустить в свое творчество.
Больше того, этот иллюзорный мир полон несправедливых
страданий, пошлости, неправды - в сущности только рядом
с ними и вопреки им выстроена теория совершенных Идей.
Будь человеческий мир вечным и прекрасным сам по себе, Идеи
были бы ему не нужны, такой мир сам был бы Идеей. Причем,
тогда он перестал бы быть человеческим, человек в нем
растворился бы в Идее. Это и ненужно, и невозможно. Поэтому уже
самим противоборством неправде и злу философия Платона
признает их силу и разящую реальность, да и нелепо было бы
считать пошлость и зло простой иллюзией. Тогда зло надлежит
считать либо порождением Идей, либо такой самостоятельной
240
реалией, которая от Идей не зависит и может существовать
вопреки им. Но ни то, ни другое для платонизма неприемлемо.
Существует ли Идея безобразного или, скажем, Идея
несправедливости? - подобные вопросы Платону адресовали все его
критики, начиная с Аристотеля. Мы говорили, что с точно такими же
проблемами сталкивается Гоголь. Правдиво изображать зло
и обман - означало для него преумножать зло, даже
увековечивать его, включая его в возведенный Гоголем мифический мир.
Такая правдивость в мифотворчестве нелепо, но неумолимо
оборачивается умножением обмана.
Поэтому запрет на художественное творчество, выводящее
рядом с Идеями нечто «человеческое, слишком человеческое»,
был так хорошо знаком и так мучительно пережит обоими
мифотворцами. Как Гоголь советует Хоме Бруту «не глядеть»,
а себе потом заповедует не писать, замахиваясь в «Выбранных
местах» на все предшествующее свое творчество, так и Платон
изгоняет из своего идеального полиса поэтов, несомненно,
стремясь при этом изгнать поэта и из самого себя, а в известных
пассажах «Федра» и седьмого письма провозглашает ложным
всякое письменное слово. Этот внутренний разлад,
драматическое столкновение поэта и философа в синтезирующем их
мифотворце хорошо известны из истории большой литературы:
судьбы Лермонтова, Достоевского, а тем более - Толстого,
проникнуты этим разладом.
Некоторые аналогии при сопоставлении Платона и Гоголя
напрашиваются сами собой. У Гоголя Русь, с точки зрения
стороннего «созерцателя», несется в неведомую даль
неудержимой «птицей тройкой», запряженной, как у Чичикова, и
«почтенным», и своенравным конем, но, как мы видели, на деле
замирает в вечном покое и неподвижности по воле мифотворца:
когда-то Николай Кузанский справедливо заметил, что движение
с бесконечной скоростью неотличимо от абсолютного покоя.
А в знаменитом месте платоновского «Федра» душа человека
уподобляется стремительной колеснице, запряженной и
благородным, и скверным конем, с которыми силится совладать
241
возничий - человеческий ум: «Уподобим душу соединенной силе
крылатой парной упряжки и возничего. У богов и кони и возничие
все благородны и происходят от благородных, а у остальных они
смешанного происхождения. Во-первых, этот возничий правит
упряжкой, а затем и кони-то у него - один прекрасен,
благороден и рожден от таких же коней, а другой конь - его
противоположность и предки его - иные. Неизбежно, что править ими -
дело тяжкое и докучное»1.
Упряжь эта парит в вышине, скачет в общем сонме
бессмертных по небесному своду, а все низкое, безобразное, дурное
влечет ее вниз, в мир становления и гибели. Высшая же цель
и благо ее в том, чтобы достичь вершины небосвода,
остановиться на нем, слиться с его вечным движением по кругу,
созерцая открывающиеся за ним неизменные Идеи: «Души,
называемые бессмертными, когда достигнут вершины, выходят
наружу и останавливаются на небесном хребте; они стоят,
небесный свод несет их в круговом движении, и они
созерцают то, что за пределами неба»2. Идеалы покоя, слияние с
вечным скульптурным миром и его судьбой, его «круговым
движением», открывающих область вечных истин - все это мы
видели и у Гоголя.
Лосев отметил в связи с этим платоновским образом, что сама
идея души раскрывается в нем не как мыслительная
абстракция, а как живая, зримая, эмоционально насыщенная
мифологическая фигура: «Платон, рассмотревши λόγος и ουσία души
(найдя их в принципе самодвижения и бессмертия), не
довольствуется этим, но говорит: теперь давайте говорить об идее души
(246а: περί δέ της ιδέας αύτης ώδε λεκτέον), и тут же начинает
излагать свой знаменитый миф о колеснице, двух конях, возничем
и о судьбе колесницы. Это значит, что эйдос и идея у Платона
есть узрение мифологического бытия, а не какие-то тусклые
1Платон. Сочинения в четырех томах. Т. 2. - СПб.: Изд-во С.-Петерб.
ун-та: «Изд-во Олега Абышко». 2007186.
2Тамже.СЛ87.
242
и скучные "гипостазированные понятия"»1. И дело здесь,
безусловно, не в том, что Платон еще не может «размежеваться»
с мифом и «подняться» над ним, а в том, что драматичная
мифологема - куда более адекватное выражением судьбы души, чем
абстрактное понятие.
Впрочем, слово «уподобим» в приведенном отрывке может
навести на мысль о чисто аллегорическом характере этого
и иных созданных Платоном мифов. У Кассирера, например, мы
находим именно такую их интерпретацию: миф для Платона,
считает он, оставался лишь средством выразительности,
формой его мысли, тогда как содержание и обоснование ее - чисто
философские, от мифа не зависящие и в нем не нуждающиеся.
«Возможно, взгляд на человеческое Я теснее и крепче привязан
к элементам и предпосылкам мифологического мировоззрения,
нежели созерцание мира предметного, - пишет Кассирер, - ведь
еще у Платона проблема Я настолько прочно связана с
проблемой души, что даже философский язык Платона не знает иных
форм выражения человеческой субъективности, нежели так или
иначе соотносимых с основным значением понятия ψυχή (душа).
У самого Платона это соотношение создает поле постоянного
смыслового напряжения, которое пронизывает его учение с начала
и до конца <...> Определение понятийного смысла и усмотрение
содержащегося в нем принципа необходимости осуществляется
в терминах платоновской доктрины припоминания; различение
видов и степеней достоверности знания находит свое
воплощение в выделении отдельных частей души»2 и т. д.
По мнению Кассирера, это «постоянное смысловое
напряжение» возникает из-за несоответствия философского
содержания и мифологической формы, бессильной выразить всю
полноту этого содержания, а главное - его сложное обоснование.
1Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. - М.: Мысль.
1993. С. 235.
2 Кассирер Э. Индивид и космос в философии Возрождения - М.; СПб.:
Центр гуманитарных инициатив. 2013. С. 143.
243
Однако, коль скоро мысль Платона не знает иного выражения,
кроме мифологического, то выражение это не выступает
просто иносказательным ее пояснением: если между нею и
мифологическим ее изложением у Платона и есть какое-то
«смысловое напряжение», то это не конфликтное соприкосновение двух
различных по природе пластов, или уровней, его творчества.
Скорее, это напряжение похоже на то, которое мы усмотрели
в апофатизме гоголевского мифотворчества, где одна
мифологическая фигура сменялась другой, поскольку ни одна из них
не могла вместить в себя и адекватно передать постепенно
раскрывающееся в них (и не существующее отдельно от них)
содержание. Так и у Платона размышления, скажем, о душе не
исчерпывается одной мифологемой, а последовательно
разворачивается во множестве сменяющих друг друга мифических образов
и сюжетов - в «Федре», в «Теэтете», в «Государстве», в «Тимее»...
Платон «уподобляет» душу колеснице не в том смысле, что душа
ему понятна и доступна и без этого образа: в таком случае и
уподоблений было бы ненужно. Мыслитель сознает его
недостаточность и не отождествляет душу с одной лишь этой мифологемой,
но требует дополнить ее многими другими, каждая из которых
в отдельности остается только уподоблением, неточным намеком.
Внутреннее напряжение и динамика мифотворчества связаны
с его тавтегоризмом, с его буквальной реальностью, поэтому
и о Платоне можно сказать вслед за Лосевым, что излагаемые им
мифы «меньше всего носят характер поэтического украшения,
понятного для читателя объяснения или какой-нибудь
иллюстративной значимости. Аллегориями эти мифы тоже трудно
назвать, поскольку содержащиеся в них картины весьма близки
к буквальному, а не к переносному изложению. Это заставляет
нас считать их, скорее, весьма глубокими символами, которые
иной раз даже трудно отделить от объективно-онтологического
рассуждения»3.
3Лосев А. Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. - М.:
ACT.; Харьков: Фалио. 2000. С. 665.
244
Более проблематично для истолкования платоновской
философии как мифотворчества иное наблюдение Кассирера: Платон
выступает последовательным критиком мифологии, при этом
он не только разоблачает народные мифы, но и указывает мифу
определенное место и определенную функцию в системе всех
возможных форм постижения мира. Миф становится для него
единственно пригодным способом описания ущербного мира
становления и мнения1, но миру Бытия и знания он чужд, тем
более странно было бы все мировоззрение Платона описывать
как мифологическое.
Но если мы бросим хотя бы беглый взгляд на самые известные
и значительные платоновские мифы: о душе как колеснице,
поднимающейся по небосводу к миру Идей, о пещере, из которой
философ высвобождается, чтобы открыть для себя царство
вечных истин, о создании мира Демиургом,
руководствующимся этими истинами как безусловными образцами и т. д. - мы
сразу же заметим, что описывают они вовсе не только
эмпирический мир становления. Скорее, в них всякий раз выстраивается
связь между становящимся миром обыденного опыта и
ставшим миром Идей, пролагается путь от первого ко второму,
устанавливается их внутренняя связь в едином космическом целом.
Иными словами, миф у Платона не частный, критикуемый
им и наименее ценный компонент его философии, а источник
1 «Философское "спасение" мифа, одновременно равнозначное его
философскому упразднению, заключается теперь в том, что он понимается как
одна из форм и ступеней самого знания - и притом как та, что с
необходимостью соответствует определенной предметной области, являясь ее
адекватным выражением. И для Платона миф таит в себе определенное
понятийное содержание: ведь он является тем понятийным языком, в
котором только и может выразиться мир становления <...> Тем самым миф
выходит за пределы любого чисто субстанциального значения; он
мыслится при этом как определенная и необходимая на своем месте функция
постижения мира» (Кассирер Э. Философия символических форм. Т. II:
Мифологическое мышление - М.: Академический Проект. 2011. С. 15-16).
См. также Кассирер Э. Индивид и космос в философии Возрождения - М.;
СПб.: Центр гуманитарных инициатив. 2013. С. 143-144.
245
и выражение ее смыслового единства, гарантия ее целостности,
без которой иерархически выстроенный в его понимании космос
распался бы на несоотносимые, отрицающие друг друга куски.
В этом отношении крайне важно и любопытно другое, само
по себе вполне справедливое, замечание Кассирера: Платон и сам
по праву ставит свое учение выше всей старшей греческой
натурфилософии, потому что в нем философия впервые опознает и
выражает свое собственное Я, критически анализируя ключевые свои
понятия, цели и основания. В частности, вместо того, чтобы вести
полумифический рассказ о бытии, Платон приступает сначала
к анализу самого понятия о бытии, к вопросу о том, как и за счет
чего можно бытие мыслить: «Бытие, которое в форме отдельного
сущего принималось за твердый исходный пункт, впервые
осознается им как проблема. Платон уже не задается вопросом о
делении, образовании и структуре бытия, а спрашивает о его
понятии и смысле. По сравнению с этим острым вопросом и строгим
требованием ранние попытки мирообъяснения выглядят просто
как повествования, мифы о бытии»1. Действительно, сам Платон
гордо противопоставляет свое учение более ранним попыткам
философского повествования о мире как простым сказкам, или
мифам, в некотором смысле считая себя и действительно
выступая более зрелым, антимифологическим мыслителем.
В его «Софисте» читаем: «Чужеземец. Мне кажется, что
Парменид, да и всякий другой, кто только когда-либо
принимал решение определить, каково существующее
количественно и качественно, говорили с нами, не придавая значения
своим словам.
Теэтет. Каким образом?
Чужеземец. Каждый из них, представляется мне,
рассказывает нам какую-то сказку, будто детям...»2 Весьма примечательно,
1Кассирер Э. Философия символических форм. Т. I: Язык. - М.:
Академический Проект. 2011. С. 12.
2Платон. Сочинения в четырех томах. Т. 2. - СПб.: Изд-во С.-Петерб.
ун-та: «Изд-во Олега Абышко». 2007. С. 370.
246
что философ, создавший столько незабываемых мифов и так
активно использовавший образы народной мифологии
греков, пренебрежительно нарекает «какой-то сказкой» учение
самого Парменида. Эта «сказка», стало быть, в корне отлична
от мифологем самого Платона. В «Софисте» критикуется
учение элеатов о тождестве бытия и мышления: именно чистая
мысль, возомнившая себя также и бытием, непосредственным
и полным его выражением, оказывается лишь сказкой, или
мифом - но мифом уже в дурном смысле слова - с которого
начинается вся традиция западного рационализма.
Неслучайно эта тематика обсуждается Платоном в диалоге, исходная
цель которого - определение софиста: как остроумно замечает
Шеллинг, «лишь тот правильно понял Платона, кто осознает,
сколь близки и внутренне родственны друг другу у Сократа
софисты и элеаты»1.
Софистическая игра с мыслью и словом, пренебрежение
к истине - оборотная сторона такого рационализма, который
полагает исчерпать бытие одним лишь мышлением (ясно, что
попыткой такого исчерпания были и усилия картезианцев понять
человека как мыслящее Я, а природу - как чисто
умозрительную геометрически описываемую протяженность). Замкнутая
на себе и себя обосновывающая мысль мало отличается от
остроумных сказок софистов. Мы уже говорили, что для Шеллинга
рационалистическая традиция, открытая элеатами, была
негативным мышление о возможном, но не о действительном: для нас
это означает, что она порывает с мифологическими истоками,
с древним мифическим миром, существовавшим для человека
задолго до начала его логического анализа. Абстрактное знание
о возможном, по мнению Шеллинга, и есть то незнающее знание,
которое Сократ разделяет с элеатами, но которое совершенно
иначе трактует и оценивает: «Знание, которое у Сократа, по его
словам, общее с другими, но которое он почитает за незнание,
возможно, есть именно наука чистого разума, каковую он знал
1 Шеллинг Ф.В. Й. Философия откровения. Т. 1. - СПб.: Наука. 2000. С. 138.
247
так же хорошо, даже лучше, чем элеаты, но отличался от них
именно тем, что они хотели превратить логическое знание в
знающее знание, тогда как оно, по мнению Сократа, может считаться
лишь незнающим»1.
Сказке элеатов о простом тождестве бытия и мышления,
равно как и софистике2, Платон противопоставил свою насквозь
1 Там же. СЛ40.
2 Во всех столкновениях Платона с софистикой, разворачивающихся
на страницах его диалогов, нетрудно разглядеть борьбу со своего рода
рационализмом, принимающим в расчет лишь то, что реально налично
в области фактов, которые способен обозреть и потому готов принять
человеческий разум. Таков, например, знаменитый спор Сократа с Фра-
симахом в начале «Государства» о природе и основании
справедливости: для софиста справедливость - лишь изменчивая историческая
фикция, просто звучное слово, которому мы напрасно пытаемся придать
какой-то устойчивый внятный смысл, ведь представления о
справедливости меняются от эпохи к эпохе и от государства к государству, поэтому
на деле справедливостью всякий раз признается просто «то, что
пригодно сильнейшему» (см. Платон. Собрание сочинений в 4 т. Т. 3. - М.:
Мысль. 1994. Особенно - С. 93-94.). И простая эта аргументация
несокрушима для того, кто готов считаться лишь с фактами, доступными
человеческому уму, и лишь им подчиняет свои выводы: факты на
стороне Фрасимаха. Вывод софиста - это вывод чистого разума,
отвергающего любые мифы. Каким бы странным ни казалось на первый взгляд это
заключение, но рациональности софистов Платон противопоставляет
свой миф - в частности, важнейший миф о справедливости и
совершенном обществе. Защитить вечную справедливость Платон может, лишь
выведя ее основание из области открытых мышлению фактов и учреждая
его в предшествующей всякому мышлению и лишь косвенно
проступающей в нем реальности - в «старшей», как он говорил, Идее Блага,
придающей смысл и легитимность всем остальным Идеям, но ни в одной из них
не схваченной и не отображенной до конца. Только перестав мерить
справедливость меркой реального и доступного мышлению, но понимая, что
все реальное и мыслимое остается таковым лишь потому, что
справедливо, можно отклонить циничный рационализм софиста. Как и всякий
миф, это учение нельзя доказать логически: сила и убедительность его
измеряются тем, чем мифотворец готов ради него пожертвовать.
Мифотворчество не может быть «для всех и ни для кого»: оно у каждого свое,
248
мифологическую теорию Идей, укореняющую мышление в его
домыслительном основании. Правда, тому, кто видит в
платоновских Идеях только «гипостазированные понятия», эта теория
неизбежно покажется лишь развитием негативного мышления
элеатов, сохраняющим основной его мотив. Такой ее трактовки
не избежал и Шеллинг - об описанной Платоном причастности
(μέθεξις) чувственно воспринимаемой вещи умозрительной Идее
он писал: «Если μέθεξις превращается в объяснение становления,
действительного возникновения вещей либо рассматривается
или используется как достаточная для этого причина, в таком
случае, разумеется, возникает та ошибка, что при помощи
имеющего лишь логическое значение делают попытку дать реальное
объяснение»1. По мнению немецкого классика, Платон в
основном держится негативного, чисто логического мышления и только
в «Тимее» «становится историчным и прорывается, правда лишь
насильно, в позитивное, а именно таким образом, что след
научного перехода вряд ли или с большим трудом можно обнаружить -
это скорее обрывание предыдущего (т. е. диалектического), чем
переход к позитивному»2.
Этот вывод вдвойне сомнителен. Во-первых, исторический
генезис и бытия, и мышления, связанных у Платона общим
корнем, представлен не только в «Тимее», но и во всех
упоминавшихся нами платоновских мифологемах: именно в них, как
мы сказали, динамически раскрывается загадочная
причастность становящихся вещей их идеальным прообразам, поэтому
причастность носит у Платона не логический, а
мифологический характер. Во-вторых, если их мифическая «историчность»
и каждый раз за реальность его приходится платить самым дорогим
(об этом не раз говорил Лотман - см. Лотман Ю.М. На пороге
непредсказуемого // Воспитание души. - СПб.: Искусство-СПБ. 2005. С. 299-
300). Все, что написано самыми разными исследователями о «жизненной
драме Платона», повествует о тех жертвах, которыми афинский философ
удостоверил свое мифотворчество.
1 Шеллинг Ф. В. Й. Философия откровения. Т. 1. - СПб.: Наука. 2000. С. 143.
2 Там же. С. 142.
249
и противостоит простому тождеству вечного бытия элеатов, то
в ином отношении она оказывается скорее антиисторичной:
установка Платона на неподвижность, на неисторию, роднящая
его с мифотворчеством Гоголя, совершенно очевидна, например,
в его политических диалогах. В «Тимее» же осмыслению
космоса предпосылается пересказ «Государства», и именно в
качестве вечного образца политического устройства полиса
рассматривается устроение космоса Демиургом1.
Именно в учении о причастности наиболее отчетливо
проявляется сходство между мифотворчеством Гоголя и мифологической
философией Платона. Дело в том, что причастность, придающая
целостность и единство различным формам бытия в учении
Платона, неожиданным образом становится вполне понятной лишь
в свете платоновского анализа языка. Только язык,
обеспечивающий и гоголевскому миру его гармоничность и устойчивость,
дает ключ к тайне причастности вещей Идеям.
На первый взгляд, метафизика Платона и выстроенные им
иерархии различных форм познания отводят языку самую
незначительную роль. Иерархии эти, описанные, например,
в «Теэтете» и «Государстве», несколько преобразуются в
седьмом письме Платона. В этом письме различаются пять
неравноценных форм знания, из которых средствами языка достигаются
лишь первые две, менее всех способные претендовать на
достоверность. Седьмое письмо, несомненно, развивает результаты
«Кратила», более ранней платоновской работы, в которой было
высмеяно и отвергнуто наивное представление Кратила о
естественной, непреложной связи между словом и его смыслом. Если
выводы «Кратила» в основном негативны, то систематический
анализ языка как средства познания в седьмом письме
дополняет их сложными позитивными результатами: место
природной, непосредственной и потому немыслимой связи между
мимолетным словом и вечной Идеей, между текучим материальным
звучанием слов и их идеальным значением в седьмом письме
!См. Платон. Собрание сочинений в 4 т. Т. 3. - М.: Мысль. 1994. С. 430-431.
250
заступает сложным образом опосредованная и потому - более
правдоподобная их связь.
«Для каждого из существующих предметов, - указывает
Платон, - есть три ступени, с помощью которых необходимо
образуется его познание; четвертая ступень - это само знание,
пятой же должно считать то, что познается само по себе и есть
подлинное бытие: итак, первое - это имя, второе - определение,
третье - изображение, четвертое - знание»1. Первые четыре
ступени, как и принцип их иерархизации, прописаны у
Платона ясно, пятая же довольно загадочна. Слово лишь именует
предмет знания, например, круг, обособляя его от всех иных
предметов, но ничего содержательного еще о нем не сообщает.
С именем далее можно связать словесное определение (скажем,
«то, крайние точки чего повсюду одинаково отстоят от центра»),
которое уже объединяет и приписывает предмету ряд свойств,
но делает это еще крайне неточно и недостоверно, ведь
начертание или звучание слов еще менее прочно и однозначно, чем
чувственный образ предмета и еще дальше этого образа отстоит
от его Идеи.
На основе определения конструируется изображение или
модель: круг чертится на доске или вытачивается из камня,
но все подобные чувственные изображения неизбежно
несовершенны и ненадежны, ведь чертеж можно стереть, модель -
сломать, потому никаких гарантий достоверного знания, никакой
твердой истины они в себе не содержат. Однако чувственный
образ предмета вкупе с предшествующим словесным
описанием его подводят к четвертой и пятой ступеням познания -
к знанию умозрительному, уже не подверженному неточности
и переменчивости чувственного опыта и слов. Четвертая
ступень - «истинное мнение», т. е. такое умозрительное знание,
которое еще нуждается в ряде предпосылок, в нем самом не
проясненных и не обоснованных, иными словами, это истинное
знание, не знающее, почему оно истинно. Можно, к примеру,
1 Платон. Собрание сочинений в 4 т. Т. 4. - М.: Мысль. 1994. С. 493-494.
251
правильно решить массу геометрических задач о круге,
попросту запомнив, что π есть величина постоянная, равная
приблизительно 3,14, не помня или даже не зная, как это
приблизительное значение получается. О пятой ступени Платон
говорит здесь лишь: «то, что познается само по себе и есть
подлинное бытие».
Для понимания того, что эти слова означают, стоит для начала
с уверенностью сказать о том, чего они не означают. Речь не идет
о таком содержательно новом предметном знании, которое
определялось бы и обосновывалось независимо от первых четыре
ступеней познания, так что по достижении пятой ступени их можно
было бы отбросить за ненадобностью: «Если кто не будет иметь
какого-то представления об этих четырех ступенях, он никогда
не станет причастным совершенному познанию пятой»1, - говорит
Платон. Далее он добавляет: «Лишь с огромным трудом, путем
взаимной проверки - имени определением, видимых образов -
ощущениями, да к тому же, если это совершается в форме
доброжелательного исследования, с помощью беззлобных вопросов
и ответов, может просиять разум и родиться понимание каждого
предмета в той степени, в какой это доступно для человека»2.
Иными словами, познание не одностороннее и необратимое
прохождение этих пяти ступени от низшей к высшей, оно
состоит в их динамичном соотнесении и неустанной взаимной
проверке. Действительно полное знание о предмете есть вся их
иерархия, в которой предмет последовательно раскрывается
как бы под разными углами зрения - как слово, как
определение, как образ и т. д.
Пятая же ступень не носит содержательного характера
(поэтому Платон и не описывает ее содержательно), она
выступает скорее основанием соотнесения и упорядочивания всех
остальных ступеней, делающим всю их последовательность
не просто наличной, но должной и благой. Эта последняя
1Там же. С. 494.
2 Там же. С. 496.
252
ступень, несомненно, связана у Платона с его центральной
Идеей Блага, надстраивающейся над всеми остальными Идеями,
над всяким мыслимым содержанием, придающей
мышлению единство и оправдание, но не являющейся уже простой
его частью, одним из возможных его предметов. В
«Государстве» читаем: «В том, что познаваемо, идея блага - это предел,
и она с трудом различима, но стоит только ее там различить,
как отсюда напрашивается вывод, что именно она - причина
всего правильного и прекрасного»1.
Трудноразличимый предел познания - весьма примечательное
выражение. Мы помним, что Идеи у Платона всегда отчетливо
зримы, рационально-прозрачны, старшая же из них напротив -
трудно различима, предельна. В ней основание мышление,
предшествующее ему и делающее его возможным, смыкается
с основанием бытия, но не в простом тождестве бытия и
мышления, как у элеатов, а незапамятным образом, так что Благо
всегда уже стоит за созерцанием Идей, просматривается сквозь
них, а косвенно - и сквозь иные формы знания, но никогда ими
не исчерпывается.
Никакие выстраиваемые одной только мыслью объяснения
не могут удовлетворить Платона. Точное и полное знание
о предмете достигается только в силу связи мышления с этим
домыслительным истоком, удостоверяющим вечные истины
мышления, которые сами по себе оставались бы только
абстрактными истинами о возможном, в области
действительного, показывая, что они не просто есть, но что им должно
и справедливо быть. В «Федоне», к примеру, говорится, что,
как нельзя объяснить поведение Сократа, остающегося в
темнице, одними только движениями его тела, но необходимо
учесть также нравственные его мотивы, принуждающие
философа подчиниться законам, точно так нельзя объяснить
положение Земли в космическом пространстве никакими вихрями
и иными причинами физического порядка, но необходимо
1 Платон. Собрание сочинений в 4 т. Т. 3. - М.: Мысль. 1994. С. 298.
253
понимать, почему ей должно висеть без всякой опоры в центре
вселенной1.
Ясно, что объяснить это чисто логически, силами мышления
невозможно, платоновское Благо может лишь косвенно
свидетельствовать о себе, с трудом различаться сквозь всю
динамичную связь проверяющих друг друга типов знания,
по-разному намекающих на скрытое за ними высшее
долженствование, но никогда не бывающих достаточными по
отдельности. Теперь добавим к этому выводу то, что вся иерархия форм
знания у позднего Платона предстает, как мы убедились, лишь
детальным прояснением связи слова и смысла. Только частными
моментами этой связи оказывается здесь и определение, и не раз
описанные Платоном в иных контекстах чувственное знание
и истинное мнение. Но седьмое письмо - это не переосмысление
или отмена прежней платоновской философии, а только
прояснение ее ключевого момента.
Действительно, учение о причастности всегда опиралось у
Платона на тонкое понимание основного конститутивного момента
языка: отнесенность вещи к Идее обеспечивается не образным
и приблизительным их подобием (наглядно-образного сходства
меж ними нет), а чисто смысловой связью. Вещь не образ, а знак
Идеи, понимаемый по аналогии с языковым знаком: вещь
относится к Идее, как звучащее слово - к своему идеальному смыслу2.
^м. Платон. Сочинения в четырех томах. Т. 2. - СПб.: Изд-во С.-Петерб.
ун-та: «Изд-во Олега Абышко». 2007. С. 70-71.
2 В частности, знаменитый и наиболее сильный аргумент, направленный
в «Пармениде» против дуализма Идеи и вещи (широко известный как
аргумент о «третьем человеке»), отклоняется именно потому, что
причастность Идее в нем неявно трактуется как отношение подобия, а не как
чисто смысловая связь. Согласно этому аргументу, если переменчивая
вещь причастна вечно тождественной себе Идее, но в то же время
принципиально отличается от нее, то между ними должен быть связующий их
посредник, но между ним и опосредуемыми им противоположностями в
свою очередь должны встать еще два посредника и т.д. до бесконечности.
Довод этот работал бы, если бы между Идеей и вещью полагалось
образное сходство, если бы связывали их такие содержательно общие черты,
254
Поэтому анализ языка в поздней работе философа так органично
и точно вписывается в его теорию познания в целом.
Таким образом, язык, не допущенный, казалось бы, даже
на порог метафизики Платона, при ближайшем рассмотрении
обретает в ней колоссальную, мирообразующую силу: лишь
возможности языка и формирующие его смысловые связи позволяют
обосновать теорию Идей, отстоять как дуализм Идеи и вещи, так
и подвластность Идей, а при их посредстве - всего мироздания,
старшей Идее Блага. Можно сказать, что весь многообразный
платоновский мир, в котором причастны друг другу слова, вещи,
Идеи - это сложно устроенный, но единый язык, на котором
Благо говорит с человеком. Ранее мы много говорили о том, что
таким языком, в котором раскрывают себя апофатические истоки
мифотворчества, был и мир Гоголя. Гоголевский апофатизм
нечеловеческих сил, действующих в сознании человека, но
бесконечно превышающих его, в мифотворчестве Платона вполне
аналогичен апофатизму Блага, также вечного и неисчерпаемого
что просто повторялись бы и в первой, и во второй. Тогда между Идеей
и вещью и впрямь вставало бы нечто третье, а именно - сами общие
черты, абстрагируемые от обеих и определяемые при сравнении вещи
с Идеей уже независимо от них. В таком случае нужны были бы новые
посредники и т. д. Но связь слова и смысла уже не предполагает никаких
общих черт, не связана с чувственным подобием и потому не нуждается
в посредниках. Платон пишет:
« - Следовательно, ничто не может быть подобно идее и идея не может
быть подобна ничему другому, иначе рядом с этой идеей всегда будет
являться другая, а если эта последняя подобна чему-либо, то - опять
новая, и никогда не прекратится постоянное возникновение новых идей,
если идея будет подобна причастному ей.
- Ты совершенно прав.
- Значит, вещи приобщаются к идеям не посредством подобия: надо искать
какой-то другой способ их приобщения» (Там же. С. 424).
Этот «другой способ их приобщения» был подсказан Платону языком,
образующими его совершенно особыми символическими соотношениями,
которые нельзя понять по аналогии с чем-либо иным, будь то отношения
подобия или физического взаимодействия.
255
для конечного человека, но приоткрывающегося ему в его
движении по разным ступеням мифологического мира.
Может, однако, показаться, что концепция Блага, да и вся
философия Платона в целом глубоко чужда детскости, Платон
скорее уж своих предшественников и соперников считает детьми.
Однако подлинная ее связь с жизнью и мироощущением ребенка
раскрывается в ряде платоновских мифов, дополняющих и
разрабатывающих учение о Благе как о предельном основании
и знания, и бытия. Среди них первым стоит упомянуть
знаменитый миф о познании как припоминании бессмертной душой
человека тех вечных истин, что она созерцала до воплощения
в земное тело, до начала эмпирической жизни: безусловно, это
философский миф, и ничто иное.
Неслучайно для того, чтобы разыграть этот миф в «Меноне»,
Платон обращается к образу ребенка - мальчика, с которым
беседует Сократ, при помощи наводящих вопросов помогая ему
сделать правильные геометрические выводы, несмотря на то,
что мальчика этого (раба в доме Менона) никогда не учили
геометрии1. Легко заметить Платону, что никогда ничему не
учившийся, по его утверждению, ребенок, тем не менее, знает, что
собой представляет квадрат, как складываются числа и отрезки,
знает, что дважды два - четыре, а дважды четыре - восемь, и т. д.
Но куда удивительнее, что мальчик в «Меноне», как и всякий
человек в любом содержательно новом для себя размышлении,
уже различает истину и заблуждение, понимает их
объективность и принудительность, умеет собственным свободным
усилием, которого мог бы и не совершать, обнаружить
необходимость истины, не созданной им, но лишь открытой,
вспомненной, а значит - вечной. Свободно приходить к необходимости,
в конечной и временной человеческой мысли открывать
вечное - это и значит заниматься познанием истины.
Но поразительные сочетания эти не являются завоеванием
мышления, они логически предшествуют ему, ведь без них
!См. Платон. Собрание сочинений в 4 т.: Т. I. - М.: Мысль. 1990. С. 589-596.
256
оно не могло бы даже начаться. К тайне вечного и необходимого
не подводит и опыт, всегда условный, переменчивый и
ограниченный во времени. Поэтому любой осмысленный поиск вечных
истин предполагает тайную связь с незапамятным истоком,
в котором свобода и необходимость, временность и вечность еще
не различались и не противопоставлялись бы. Ранее мы нашли,
что именно таким истоком выступает детскость и деяния детей.
Платоновское припоминание и есть мифологически
запечатленное обращение к всегда уже состоявшейся, но и утраченной,
забытой детскости - к бытию ребенка до начала
артикулированного, содержательного мышления.
Читая «Менона», мы замечаем, что мальчик под руководством
Сократа не вспоминает ничего содержательного, не делает
каких-либо конкретных математических выкладок, он лишь
признает или отвергает (но не механически, а осмысленно) то,
что предлагает его рассмотрению философ. Содержание
мышления предоставляет взрослый, образованный Сократ,
совершаемое же ребенком припоминание состоит в том, что
содержание это выстраивается в единое размышление и доводится до
последних, надежно обоснованных его выводов. Таким образом,
припоминание как связь с детскостью есть не само познание
истины, а необходимое условие и основание его. Само усилие
мыслить, открывающее мышление и сопутствующее ему, есть
всегда уже такое припоминание. Поэтому простота «трудно
различимого» Блага - это и есть простота ребенка. Мальчику
припомнить ее, конечно, проще, чем нам, но философ для
Платона - тот, кто упражняется в этом припоминании и потому
выступает подлинным ребенком в том смысле, в каком ребенок,
согласно нашим выводам, дает жизнь всему мифотворчеству -
как у Гоголя, так и у Платона.
В «Пире» миф о припоминании связывается с другим, хорошо
знакомым нам по Гоголю, мифическим мотивом -
увековечиванием человека, преодолением его конечности. Сама любовь
к мудрости здесь предстает любовным устремление к вечной
истине и прежде всего - к вечному Благу, а потому выражает
257
попытку приобщиться к вечному, слиться с ним. Это
протест человека против неумолимой смертности, унизительной
мимолетности его жизни. Человек стремиться продолжить
жизнь в своих делах, ведь «это та доля бессмертия и вечности,
которая отпущена смертному существу. Но если любовь, как
мы согласились, есть стремление к вечному обладанию благом,
то наряду с благим нельзя не желать и бессмертия. А значит,
любовь - это стремление и к бессмертию»1. Платоновское
припоминание - кульминационный момент этой любви, какой ее
знает смертный: «...упражнение, заставляя нас вновь
вспоминать забытое, сохраняет нам знание настолько, что оно кажется
прежним. Так вот, таким же образом сохраняется и все
смертное: в отличие от божественного, оно не остается всегда одним
и тем же, но, устаревая и уходя, оставляет новое свое подобие».
Таким образом «приобщается к бессмертию смертное - и тело,
и все остальное»2.
«Уходя, оставить свое подобие» - и телесно, и духовно -
увековечив свою жизнь и достоинство - мы видели, как близко это
и Гоголю, и его персонажам: Чичикову или даже Бобчинскому.
И мы связывали уже этот мотив с припоминанием детскости,
которая единственная позволяет человеку сопротивляться
неизбежному небытию в устремлении к вечному, превозмогать свою
конечность, да и просто опознавать ее и тяготиться ею3. Опять же
само усилие преодолеть ее есть всегда уже такое припоминание.
В упомянутой работе, вдохновленной Платоном, Гоголь писал:
«Что такое любовь? - Отчизна души, прекрасное стремление
человека к минувшему, где совершалось беспорочное начало его
жизни, где на всем остался невыразимый, неизгладимый след
невинного младенчества, где всё родина»4. Как видим, мудрые
1Платон. Сочинения в четырех томах. Т. 2. - СПб.: Изд-во С.-Петерб.
ун-та: «Изд-во Олега Абышко». 2007. С. 140.
2 Там же. С. 142.
3См. Глава 5. Стр. 138-139.
4Гоголь Н.В. Женщина // Литературная газета, 1831, № 4. С. 29.
258
слова эти действительно восходят к «Пиру» и иным
платоновским размышлениям о любви.
Нестранно, что и Благо в этом диалоге Платон описывает как
безусловное благо и безусловную красоту, являющиеся
таковыми безотносительно к чему-либо иному, не связанными уже
со своими противоположностями в виде дурного или
безобразного и не нуждающиеся в них: это, говорит Платон, «нечто,
во-первых, вечное, т. е. не знающее ни рождения, ни гибели,
ни роста, ни оскудения, а во-вторых, не в чем-то прекрасное,
а в чем-то безобразное, не когда-то, где-то, для кого-то и
сравнительно с чем-то прекрасное, а в другое время, в другом месте,
для другого и сравнительно с другим безобразное»1. Слова эти
в высшей степени точно соответствуют тому, что мы ранее
описали как безусловную искренность, доверчивость и доброту
ребенка, не связанные ни с какими альтернативами,
выражающие его сокровенную простоту. Также и здесь Благо есть такие
действительная красота и действительное добро, которые
не обеднели еще до простых возможностей быть и не быть
добрым или красивым: уровень этих возможностей - уровень
временных, чувственных вещей, подобно тому как уровень
растянутых во времени деяний тех, кто уже утратил детскость и лишь
с трудом может припомнить ее.
Путь любовного восхождения к Идеям и Благу, путь человека,
возвеличивающий и хранящий его, интересует Платона даже
больше, чем обратный путь нисхождения, или эманации (говоря
языком неоплатоников) от Блага к Идеям и от Идей к вещам,
который, на первый взгляд, организует все его мировоззрение.
Весь ход мифотворчества Платона, все мифологемы его ведут
человека от пошлой обыденности в скульптурную вечность -
чем бы ни была занята мифологическая его мысль, она при этом
всякий раз занята, прежде всего, человеком. Это та же
мифическая человечность, которой пропитаны произведения Гоголя:
1 Платон. Сочинения в четырех томах. Т. 2. - СПб.: Изд-во С.-Петерб.
ун-та: «Изд-во Олега Абышко». 2007. С. 145.
259
истинно эпические картины «Федра», «Государства», «Тимея»
сменяются у Платона своего роды бытовым эпосом «Пира» или
«Менона», но сам по себе эпический, монументально-вечный
характер никогда не покидает его повествования о человеке.
Мы видели, что именно к таким вершинам древней культуры
стремится многоликий эпос Гоголя - веселый или трагический,
героический или бытовой.
Сам диалогизм Платона, основной метод и форма изложения,
унаследованные им от Сократа и развитые со всем
художественным и диалектическим его мастерством, является у него
средством самопознания и увековечивания человека. Ведь истина
о человеке в отличие от чисто объективных истин математики
и естественных наук, не существует сама по себе, до и
независимо от диалога, будто заранее готовая и лишь хорошо
спрятанная вещь, которую остается просто отыскать. Только в самом
диалоге впервые раскрывается и испытывается человек, явно
формулируются и проверяются его мысли и переживания: истина
о человеке может быть только диалогичной. На примере
общения матери с ребенком мы ранее показали, что в диалоге,
объединяющем различных людей, стремящихся понять друг друга,
участники начинают обмениваться языками, пытаясь
принять иной, на деле недоступный им язык собеседника. Поэтому
для каждого из них иное человеческое существо
приоткрывается как неисчерпаемая тайна, к которой только диалог
позволяет прикоснуться, напоминая в то же время о
непроницаемости этой тайны.
Сократический диалог Платон превращает в эпос и миф.
Все мироздание, весь процесс познания и устройство его
становятся для Платона диалогичны, а значит - антропоморфны:
ко всему миру Платон подходит с тем же приемом и с той же
мерой, которые его учитель отыскал для постижения человека.
Только так ему удается всякий раз, в каждом произведении своем
удержать связь с высшей тайной Блага, избегая грубого и
наивного опредмечивания его: Благо всегда приоткрывается Платону
под тем или иным углом зрения, фундируя его размышления,
260
но никогда не исчерпывается в них до конца, тайна остается
тайной. Какова бы ни была тематика конкретного
платоновского диалога, она всегда остается в сущности лишь
содержательным наполнением тех нескончаемых испытаний и само-ис-
пытаний человека, что завещал Сократ. В диалоге «драма идей -
это драма людей»1: справедливость, красота, истина или
космический порядок не сами по себе важны для Платона, иначе он
представил бы их в форме подробно разработанных трактатов,
чьи точные и ясные формулировки не допускали бы никаких
разночтений. Ученику Сократа важнее сам диалог,
самораскрытие и самообогащение человека в работе с тем или иным
философским вопросом.
Таким образом, диалог у Платона очеловечивает мир,
пронизанный смысловыми энергиями Блага, позволяет слышать его
и говорить с ним. Но и сам человек в этом мифологически
понятом мире становится вровень с целым космосом, сливается с его
эпическим величием и тайной. Все то же самое, хотя и
достигнутое иными средствами, мы нашли и в мифотворчестве Гоголя.
Поэтому невозможно согласиться с попытками многих видных
философов - к примеру, Кьеркегора или Ницше - представить
платоновскую мысль бесчеловечной, стремящейся подчинить
человеческую жизнь абстрактной идее, а в идеале - растворить
ее в этой абстракции.
Будь Идеи Платона такого рода абстрактными, заведомо
недосягаемыми идеалами, и будь в его словаре
«Справедливость», «Красота» и «Благо» - нарицательными, а не
собственными именами, они действительно могли бы быть лишь
воображаемым основанием для презрения к реальной
человеческой жизни, для бесполезного и безжалостного бичевания
ее. Но тогда не нужны были бы ни диалог, ни созданное с его
помощью мифотворчество Платона, в которых Идеи, напротив,
мифологически живы, чувственно-конкретны, соразмерны
человеку и близки ему.
1 Насколько мне известно, это выражение принадлежит Даниилу Данину.
261
Диалог, драматически разыгрывающий, а не просто
систематически излагающий учение Платона, для читателей
философа носит событийный характер - тем более, что в античном
мире читать было принято только вслух, произведения
Платона предназначались для тех, кто будет их слушать, а не читать
собственными глазами. Диалог не просто воспринимается, он
происходит с тем, кто интеллектуально соучаствует в нем,
изучая платоновское наследие. Поэтому диалог у Платона, как
афоризм у Гераклита, выступает формой вовлечения
слушателя или читателя в реально происходящее духовное действие,
в котором сознание человека на деле становится частью того, что
куда больше и древнее его, на деле сталкивается с
непроницаемой тайной другого человека, но и себя обнаруживает такой же
тайной перед лицом другого.
Мифотворчество и не может быть просто аргументированно
и последовательно изложено, объяснено, оно может лишь
совершиться, произойти с человеком: в этом его решающее отличие
от философии и художественной литературы - поэтому диалог
так важен для мифотворца Платона. Монологические же поэмы
предшественников и трактаты наследников его, утрачивая
характер события, которое реально происходит с читателем и в котором
тот сам волей-неволей участвует, утрачивают при этом и
мифическую позитивную реальность, неизбежно тяготея к
абстрактному, негативному мышлению, отдаляющемуся от
действительности и замыкающемся на самом себе. Скульптурная, до ужаса
выразительная и часто непостижная уму гоголевская проза была
иной формой мифотворчества, также призванной реально
захватить читательское сознание, произойти с ним вместо того, что
быть им воспринятой и понятой: как раз понять Гоголя нередко
невозможно, можно только отдаться движению его мифических
сюжетов, разворачивающемуся в его произведениях
«мифологическому процессу».
Нельзя, впрочем, не заметить одной черты, на первый взгляд,
крайне резко отличающей Платона от Гоголя: в диалогах
Платона почти нет места смеху, разве только редкой издевке
262
над каким-нибудь самоуверенным заблуждением, в целом же
Платон всегда серьезен. Более того, в «Государстве»
налагается строгий запрет на гомерический хохот и даже вовсе
запрещается Гомер, безответственно изображающий Богов
смеющимися и смешными, а ведь Гомер, гомеровский эпос и смех очень
близки, как мы видели, мифотворчеству Гоголя:
« - Но наши юноши не должны также быть и чрезмерно
смешливыми: почти всегда приступ сильного смеха сменяется потом
совсем иным настроением.
- Да, и мне так кажется.
- Значит, нельзя допускать, чтобы изображали, как 389 смех
одолевает достойных людей и уж всего менее богов.
- Да, это уж всего менее.
- Следовательно, мы не допустим и таких выражений Гомера
о богах:
Смех несказанный воздвигли блаженные жители неба,
Видя, как с кубком Гефест по чертогу вокруг суетится.
Этого, по твоим словам, нельзя допускать»1.
Но даже эта заповедь Платона, «наши юноши не должны
также быть и чрезмерно смешливыми: почти всегда приступ
сильного смеха сменяется потом совсем иным настроением»,
звучит очень по-гоголевски - мифотворец, посмеявшийся
над чертом, понимал это, как никто. Платон, по видимости,
не смеется, но в произведениях его немало смешных
эпизодов, интермедий и реплик, выдержанных в явно
юмористическом ключе, как, скажем, яркая сцена в заключительной части
«Пира», в которой к мирно беседующим мыслителям - сразу
после величественной речи Сократа! - врывается вдруг с целой
ватагой бузотеров изрядно нетрезвый Алкивиад, тут же
берущийся сказать похвальное слово Сократу, а затем
принимающийся спорить с другими собеседниками философа о том, кто
из них имеет право возлечь рядом с великим старцем, а кому
стоило бы потесниться и т. д.
1 Платон. Собрание сочинений в 4 т. Т. 3. - М.: Мысль. 1994. С. 152.
263
Сам Сократ нередко излагает мудрые мысли с улыбкой
на устах - например, в известной сцене «Федра», в которой
Федр и Сократ прогуливаются по окрестностям города, и Сократ
принимается восхищаться открывающимся им пейзажем. Федр
недоумевает:
«Федр. А ты, поразительный человек, до чего же ты странен!
Ты говоришь, словно какой-то чужеземец, нуждающийся в
проводнике, а не местный житель. Из нашего города ты не только
не ездишь в чужие страны, но, кажется мне, не выходишь даже
за городскую стену.
Сократ. Извини меня, добрый мой друг, я ведь
любознателен, а местности и деревья ничему не хотят меня научить, не то
что люди в городе»1.
Нередко платоновские собеседники перешучиваются
и без всякой тайной мысли, причем высокий художественный
слог Платона перемежается при этом словами
простецки-разговорными, как это часто бывает и у Гоголя:
«Сократ. Что ты думаешь, Никий, о словах Лахета? Кажется,
он говорит что-то дельное.
Никий. Да, что-то он говорит, но не истину.
Сократ. Как так?»2 и т. п.
Наконец, целые пассажи у Платона оказываются
совершенно бессодержательными, а отчетливый иронический
оттенок показывает, что бессодержательность эта допущена
намеренно, причем в самых важных, кульминационных сценах его
диалогов. Так, в «Государстве» основное определение
справедливости, долгожданный итог всего диалога, предваряется
таким разговором:
«Вдруг, заприметив что-то, я воскликнул: "Эй, Главкон, какая
радость! Пожалуй, мы напали на ее след, мне кажется, она
недалеко от нас убежала!"
1Платон. Сочинения в четырех томах. Т. 2. - СПб.: Изд-во С.-Петерб.
ун-та: «Изд-во Олега Абышко». 2007. С. 167.
2 Платон. Собрание сочинений в 4 т.: Т. I. - М.: Мысль. 1990. С. 287
264
- Благие вести! - сказал Главкон.
- Однако и ротозеи же мы!
- Как так?
- Милый мой, она чуть ли не с самого начала вертится у нас
под ногами, а мы на нее и не смотрим - просто смех! Это вроде
того как иной раз ищешь то, что у тебя в руках: вот и мы
смотрели не сюда, а куда-то вдаль, где она будто бы от нас укрылась.
- Как это ты говоришь?
- А вот как: по-моему, в нашей беседе мы сами себя не поняли,
то есть не сообразили, что уже тогда мы каким-то образом
говорили именно о справедливости.
- Слишком длинное предисловие, когда не терпится узнать!»1
Беседа вполне сопоставимая по своему характеру с той,
которая открывает «Мертвые души»! Как видим, Платон
отнюдь не чужд «чистым фактам языка», выстреливая порой
целым фейерверком восклицаний, поэтичных и бранных
слов, не сообщая при этом ничего содержательного или
полезного для развития философского своего сюжета, тем более -
для основных выводов.
Сократическая ирония, конечно, вовсе не ирония в
современном смысле слова и не связана напрямую с подшучиванием
и смехом: ирония Сократа - это его умолчание, уход от ответа.
Мы говорили, что Сократ ставит свои вопросы, выводящие
собеседников из самодовольства и благодушного покоя, не для того,
чтобы дать на них окончательный ответ. От этого ответа уходит
Сократ, ведь каждый человек обречен сам всей жизнью своей
отвечать на эти вопросы, вырабатывая и всю жизнь проверяя
свой ответ.
Но именно в этом ключевом моменте ирония Сократа
оказывается близка иронии и смеху Гоголя, что и находит отражение
в забавных и бессюжетных отрывках у Платона. У Сократа
ирония делает человека человеком, не позволяет ему остановиться
и окаменеть духом в каком-нибудь раз и навсегда принятом
1 Платон. Собрание сочинений в 4 т. Т. 3. - М.: Мысль. 1994. С. 204.
265
убеждении относительно блага, истины или красоты - человеком
он остается до тех пор, пока не устает спрашивать себя об этом,
не бежит от сомнений и духовной борьбы. В противном случае он
мало чем отличается от простой вещи или гоголевского
«бездушного тела». У Гоголя же, как подробно говорилось ранее,
мифотворческий смех создает границу между миром живых и миром
мертвых, провозглашает и удостоверяет человеческую жизнь,
возвышает ее над простой чередой случайных обстоятельств,
заключая ее в мощные телесные формы и загоняя силы
разрушения, небытия в бесформенный «невидимый мир». Так что
и здесь ирония ограждает человека от участи вещи,
безжизненного тела, которым «хоть забор подпирай», отстаивает
человеческое достоинство - прежде всего, перед лицом абсурда и смерти.
Поэтому вполне естественно, что смеющийся Гоголь не только
в «Выбранных местах», но и повсеместно задается сократовскими
вопросами: вопросами «Пира», «Федра», «Федона»... - а Сократ
у Платона сопровождает свое умолчание иронической улыбкой
и беззлобным смехом.
Стоит ли говорить, что Платон, влюбленный в утраченное
прошлое и мрачно описывающий вырождение современного
ему общества, был также и горьким, порой страшным
мыслителем, что смешное на его страницах соседствует с напряженно-
трагическим? Улыбка и смех платоновского Сократа, конечно,
видны сквозь его слезы, а невинно-забавные фрагменты
соседствуют у Платона с тяжелыми и пугающими - совсем как в «Вие»,
«Тарасе Бульбе», «Невском проспекте»...
В уста своего учителя наравне с великими размышлениями
об истине, справедливости и любви Платон влагает речи о
необходимости сознательного обмана простого населения
правящими философами, о нерушимом кастовом строе, об
искусственном отборе людей. В «Законах» он подробно описывает
несколько видов тюрем и применяющиеся в них наказания - нет
сомнений, что в «идеальном государстве» Платона реальному
Сократу не дали бы возможности выступить со своей
апологией, там неисправимый вольнодумец был бы казнен без долгих
266
разговоров. «Самое главное здесь следующее: никто никогда
не должен оставаться без начальника - ни мужчины, ни
женщины. Ни в серьезных занятиях, ни в играх никто не должен
приучать себя действовать по собственному усмотрению, - так
учит Платон в своем политическом завещании, - и на войне,
и в мирное время - надо жить с постоянной оглядкой на
начальника и следовать его указаниям <...> Словом, пусть
человеческая душа приобретет навык совершенно не уметь делать
что-либо отдельно от других людей и даже не понимать, как
это возможно»1. Вдумываясь еще раз в платоновские образы,
изображающие душу несущейся колесницей, запряженной
борющимися меж собой конями, или уподобляющие ее
обществу, разделенному на строго разграниченные касты, вспомнив
об изгнании поэтов и многих иных отказах и отречениях
Платона, мы поймем, какую мучительную борьбу с самим собой
его гений воплотил в своем мифотворчестве.
Трудно не заметить, как близко все это было и Гоголю:
неустранимый внутренний разлад, самоизгнание из своей страны
и из художественного творчества, лишения, отказы, а главное -
чисто платоновское сознание своего бессилия исправить
реальное человеческое общество и предотвратить его
катастрофические перемены. Все это побудило великих мифотворцев создать
рядом с реальным миром мир мифа, перенеся в него и
разрешив в нем неразрешимые иначе противоречия и муки. Только
в древнем мифе веселость и жестокость, смех и слезы, радостные
достижения и мучительные отречения, возвышенные и
пугающие слова могут так странно соседствовать и сменять друг друга,
как в произведениях Платона и Гоголя.
Нестранно, что одним из важнейших их мифологических
мотивов была судьба, самое реальное, что есть в мирах
Платона и Гоголя, как и в самой их жизни. Высказываний и
раздумий о судьбе у Платона великое множество: в «Федре»
воспарение души к «полям истины», как и утрата ею отяжелевших
1 Платон. Собрание сочинений в 4 т. Т. 4. - М.: Мысль. 1994. С. 406.
267
крыл и падение в земной мир предрекает «закон Адрастеи»1, то
есть неотвратимости. В «Горгии» встречаем такую чисто
античную заповедь: «Человеку истинно мужественному такие заботы
не к лицу, не надо ему думать, как бы прожить подольше, не надо
цепляться за жизнь, но, положившись в этом на божество и
поверив женщинам, что от своей судьбы никому не уйти, надо искать
способ провести дни и годы, которые ему предстоят, самым
достойным образом»2. В «Критии», излагая свой миф об Атлантиде,
служащей одним из древних образцов его собственного
идеального государства, философ отмечает, что жители этой страны
«блюли истинный и во всем великий строй мыслей, относились
к неизбежным определениям судьбы и друг к другу с
разумной терпеливостью»3. Подобных пассажей в диалогах Платона
десятки.
Но все они бледнеют рядом с незабываемой картиной
возглавляемого Ананкой суда мертвых, эпическим полотном
развернутой в десятой книге «Государства». Сначала Платон описывает
восемь небесных сфер, которые вращает «веретено Ананки».
«Сверху на каждом из кругов веретена восседает по Сирене, -
продолжает он, - Около Сирен на равном от них расстоянии сидят,
каждая на своем престоле, другие три существа - это Мойры,
дочери Ананки: Лахесис, Клото и Атропос; они - во всем белом,
с венками на головах. В лад с голосами Сирен Лахесис
воспевает прошлое, Клото - настоящее, Атропос - будущее <...> Так
вот, чуть только они пришли туда, они сразу же должны были
подойти к Лахесис. Некий прорицатель расставил их по порядку,
затем взял с колен Лахесис жребии и образчики жизней, взошел
на высокий помост и сказал: "Слово дочери Ананки, девы Лахесис.
Однодневные души! Вот начало другого оборота, смертоносного
для смертного рода. Не вас получит по жребию гений, а вы его
хСм. Платон. Сочинения в четырех томах. Т. 2. - СПб.: Изд-во С.-Петерб.
ун-та: «Изд-во Олега Абышко». 2007. С. 188.
2Платон. Собрание сочинений в 4 т.: Т. I. - М.: Мысль. 1990. С. 558.
3Платон. Собрание сочинений в 4 т. Т. 3. - М.: Мысль. 1994. С. 515.
268
себе изберете сами. Чей жребий будет первым, тот первым пусть
выберет себе жизнь, неизбежно ему предстоящую. Добродетель
не есть достояние кого-либо одного, почитая или не почитая
ее, каждый приобщится к ней больше либо меньше. Это - вина
избирающего, бог не виновен"»1.
Существует целая традиция интерпретировать эту
впечатляющую сцену в духе высвобождения человека из-под власти
безликой и слепой судьбы, провозглашения личной свободы и
ответственности каждого за свой жизненный выбор. Так, к примеру,
истолковал ее Кассирер: «В этой величественной картине, где
еще раз концентрируется вся сила мифологического творчества,
свойственного грекам и прежде всего Платону, мы, тем не менее,
находимся уже за пределами мифа. Ведь против мысли о
мифологической вине и мифологическом роке здесь возвышается
основная мысль Сократа, мысль о собственной нравственной
ответственности <...> как у Парменида время и судьба
преодолеваются чистым мышлением, здесь они преодолеваются
нравственной волей»2.
Лосев еще более категоричен в оценки этого платоновского
мифа: «Свободу воли Платон безусловно признает. Когда
в загробном мире душам приходится выбирать свою новую
судьбу перед новым перевоплощением, то у Платона так и
говорится, что они сами выбирают свою судьбу, и это подчеркивает
сама же богиня судьбы Лахесида (R. Р. X 617е-620е), и притом
не раз»3. Но к чему было бы так подробно и красочно
живописать эту мифическую сцену, будь выводы Платона так просты
и однозначны? На самом деле, в словах прорицателя Ананки
с самого начала заметна загадочная, настораживающая
двусмысленность: «Чей жребий будет первым, тот первым пусть
1Там же. С. 416-417.
2 Кассирер Э. Философия символических форм. Т. II: Мифологическое
мышление - М.: Академический Проект. 2011. С. 142-143.
3Лосев А. Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. - М.:
ACT.; Харьков: Фалио. 2000. С. 667.
269
выберет себе жизнь, неизбежно ему предстоящую» -
«однодневные души» выбирают неизбежное!
Начинается этот выбор с того, как каждому случайно, или
волею судьбы, выпадает порядковый номер в общей очереди
к выложенным образчикам жизни, среди которых один ему
надлежит выбрать для себя, для будущей своей жизни: «Сказав это,
прорицатель бросил жребии в толпу, и каждый, кроме Эра,
поднял тот жребий, который упал подле него, Эру же это не было
дозволено. Всякому поднявшему стало ясно, какой он по счету
при жеребьевке»1. Значит, выбор каждой следующей в этой
очереди души становится все более скудным, однако много важнее
замечание Платона о том, что выбор свой они совершают
сообразно опыту и привычкам прежней жизни: «Стоило взглянуть,
рассказывал Эр, на это зрелище, как разные души выбирали
себе ту или иную жизнь. Смотреть на это было жалко, смешно
и странно. Большей частью выбор соответствовал привычкам
предшествовавшей жизни»2. Разве это не значит, что выбор
своей судьбы сам предопределен судьбой? Действительно,
сознательный выбор должен опираться на какой-нибудь внятный
принцип совершения выбора, который сам при этом выбору
и сомнению уже не подлежит. Тогда откуда он берется? Был ли он
сам когда-то избран свободно и сознательно? Так мы попали бы
в дурную бесконечность.
Рационально-прозрачный, свободный и ответственный выбор -
это бессмыслица, он невозможен, ибо сами основания для
совершения выбора, предопределяющие его исход, нельзя избирать
бесконечно. Наше трудно припоминаемое прошлое, неявно
присутствуя в настоящем, определяет будущее - так и у
Платона «большей частью выбор соответствовал привычкам
предшествовавшей жизни», причем неявно для самих избирающих.
«Поэтому - говорит философ, - а также из-за случайностей
жеребьевки для большинства душ наблюдается смена плохого
1 Платон. Собрание сочинений в 4 т. Т. 3. - М.: Мысль. 1994. С. 417.
2 Там же. С. 419.
270
и хорошего»1. Слова Кассирера или Лосева о свободной воле, или
нравственной воле, преодолевающей судьбу и освобождающей
человека от неведомой ее силы - это наивные слова
новоевропейской культуры: понятия свободного выбора, рационального
выбора как типичные антимифологические абстракции,
основанные на голом отрицании мифического чувства судьбы и не
обладающие никаким позитивным содержанием, не выдерживают,
как видим, и пяти минут критической рефлексии, если только
решиться подвергнуть их этой рефлексии.
Противопоставление свободной воли и судьбы Платону, как мы
понимаем из приведенных фрагментов, глубоко чуждо: человек
выбирает неизбежное, не самонадеянное собственное
разумение, возомнившее себя в новое время автономным и
самодостаточным, а единение с судьбой ведет его к уготованной жизни.
Все то же самое мы встречаем у Гоголя. Именно такова жизнь
его «странных героев»: Башмачкина, Поприщина, Хлестакова
или Тараса Бульбы, ведомых таинственной судьбой - на той или
иной стезе стремящихся к неизбежному и избегающих
невозможного. Об этом мы достаточно говорили ранее.
Платон описывает честолюбца, которому выпало выбирать
свой жребий первым: поспешно взяв себе жребий
могущественного тирана, тот не рассудил вовремя, сколько страха и невзгод,
боли и потерь таит в себе эта участь: «Когда он потом, не торопясь,
поразмыслил, он начал бить себя в грудь, горевать, что, делая свой
выбор, не посчитался с предупреждением прорицателя, винил
в этих бедах не себя, а судьбу, богов - все что угодно, кроме себя
самого»2. Но ясно, что невозвратимый, раз и навсегда сделанный
выбор, легкомысленный, поспешный, во многом, в том числе -
в самом легкомыслии своем, продиктованный «привычками
предшествовавшей жизни» - это и есть судьба. Так что теперь
винить себя прошлого, уже совершившего этот выбор - все равно
что винить судьбу, что, конечно, лишено всякого смысла.
1Там же. С. 418.
2 Там же. С. 418.
271
Удивительный финал этого шедевра мифотворчества
подтверждает наши выводы. Именно здесь платоновское
понимание судьбы раскрывает подлинную свою силу и
глубинную связь с мифотворчеством в целом. После избрания новой
жизни и незыблемого закрепления ее нити прикосновением
Клото и Антропос души должны испить воды из реки забвения,
прежде, чем родиться вновь для воплощения избранной участи,
чтобы сам выбор изгладился навечно из их памяти и лишь
неведомо для них руководил новой их жизнью на земле1. Поэтому
каждый земной, мнимо свободный выбор на самом деле уже
совершен - совершен поистине незапамятным образом. Этот
открывающий человеческую жизнь изначальный,
незапамятный выбор, в котором еще не различаются неизбежность и
свобода, лишь после начала новой жизни выходящие из
равновесия и начинающие свое противоборство, вновь отсылает нас
к бытию ребенка, предшествующему всякому сознательному
выбору.
Чтобы вообразить себе свободный и сознательный выбор,
надо утратить и забыть детскость, порвать с мифологическим
истоком своей жизни и стать при этом чем-то вроде человека-
автомата, совершающего странные отрывочные, чисто
механические движения, совсем несвойственные человеку, какие
подметил в гоголевских героях Андрей Белый2. Об умершем и вновь
родившемся на земле человеке, не помнящем, согласно Платону,
что жизнью его руководит «выбор», сделанный когда-то на том
1 «Отсюда душа, не оборачиваясь, идет к престолу Ананки и проходит
через него. Когда и другие души проходят через него, они все вместе
в жару и страшный зной отправляются на равнину Леты, где нет ни
деревьев, ни другой растительности. Уже под вечер они располагаются
у реки Амелет, вода которой не может удержаться ни в каком сосуде <...>
Когда они легли спать, то в самую полночь раздался гром и разразилось
землетрясение. Внезапно их понесло оттуда вверх в разные стороны, к
местам, где им суждено было родиться, и они рассыпались по небу, как
звезды» (Там же. С. 420.)
2 См. Глава 2. Стр. 54.
272
свете, можно сказать то же, что Синявский сказал о
гоголевском ожившем мертвеце: чисто механическая схема,
покрывшаяся подобием человеческой плоти, совершающая дикие,
прерывистые движения машины, «управляемой из ада по радио».
Мифотворчество Платона, в особенности - финальная сцена
«Государства», несомненно, выступает столь же мощной
критикой «реализма» (например, софистического реализма,
отвергающего вечную истину именно из-за не реалистичности ее), сколь
и мифотворчество Гоголя. «Был или не был Гоголь реалистом, -
пишет Синявский, - он, как никто в России, раскрыл генезис
этого надменного, современного ему, направления, обнажил
пружины и скрепы, на которых то зиждется, выдавая мнимость
за истину, куклу за живую натуру. Не думайте, что реализм -
это подлинные лица, портреты, характеры, человек в
естественных обстоятельствах, - возглашает нам Гоголь своими
образами. Реализм - это черная масса и ворожба новейшей
марки, это автоматы и трупы, имеющие вид человека,
управляемые из ада по радио...»1. Все это было бы верно и
применительно к Платону.
Диалог Платона, воплощающий, берегущий саму
человечность и на весь мир распространяющий ее, бесконечные
мифологемы, пролагающие путь от становящегося к вечному - все
это магия, призванная преобразить, излечить забывшего себя
человека, оживить «трупы, имеющие вид человека, управляемые
из ада по радио». Однодневные души! - так обращается к людям
в «Государстве» Платон устами прорицателя Ананки. Мертвые
души! - усиливает прорицатель Гоголь. Светлый смех
«Ревизора», идиллия «Старосветских помещиков», мудрость
«Театрального разъезда», морализм «Выбранных мест» и все иные
формы его мифотворчества суть гоголевские доказательства
бессмертия души, первые же такие доказательства восходят
к платоновскому «Федону».
1 Терц А. В тени Гоголя - London: Overseas Publications Interchange. 1975.
С. 524-525.
273
Нельзя, наконец, не обратить внимания на то, что и Платон,
и Гоголь завершают свое мифотворчество своего рода
политической и социальной мифологией. «Государство» и «Законы»,
с одной стороны, и «Выбранные места», с другой, роднит не только
общий мифопоэтический характер и основной мотив
противодействия историческому движению, превращения неподвижной,
тихой идиллии в эпос и вечный миф. Немало меж ними и
удивительных содержательных сходств: от освещенных божественной
волей неограниченной власти мудрых правителей и
устойчивого сословного строя до предельного сокращения специально
отобранных этими правителями произведений искусства, что
без всяких изменений и дополнений передаются из поколения
в поколение. Платон в «Законах» берет за образец Египет,
восхищаясь великой стабильностью и статичностью его древней
культуры. Египтяне - это, конечно, очередной миф - избрали
несколько старинных образцов искусства, хороводы и песни,
запретив как-либо изменять их, а тем более - создавать что-то
новое:
«Клиний. Какие же законы относительно этого существуют
в Египте?
Афинянин. Даже слышать о них удивительно! Искони, видно,
было признано египтянами то положение, которое мы сейчас
высказали: в государствах у молодых людей должно войти в
привычку занятие прекрасными телодвижениями и прекрасными
песнями. Установив, что прекрасно, египтяне объявили об этом
на священных празднествах и никому - ни живописцам, ни
другому кому-то, кто создает всевозможные изображения, ни вообще
тем, кто занят мусическими искусствами, - не дозволено было
вводить новшества и измышлять что-либо иное, не
отечественное. Не допускается это и теперь»1.
Так что в Египте песни, поющиеся ныне, ничуть не отличаются
от тех, что пели десять тысяч лет назад. Как заметил по поводу
этого мифа Лотман, «Не случайно идеальным воплощением
1 Платон. Собрание сочинений в 4 т. Т. 4. - М.: Мысль. 1994. С. 104-105.
274
искусства для Платона являются "древние священные
хороводы". Замкнутый хоровод - символ циклического повторения
в природе - становится для Платона идеальным воплощением
искусства»1.
Схожим образом и Гоголь считал, что человеку вполне
достаточно двух древних книг: Библии и гомеровской «Илиады».
А в «Выбранных местах» находим рассуждение, очень
напоминающие платоновский миф о египтянах: «Учить мужика грамоте
затем, чтобы доставить ему возможность читать пустые
книжонки, которые издают для народа европейские человеколюбцы,
есть действительно вздор <...> Ты и сам будешь делать то же,
когда станешь почаще наведываться на работы. Деревенский
священник может сказать гораздо больше истинно нужного
для мужика, нежели все эти книжонки. Если в ком истинно уже
зародится охота к грамоте, и притом вовсе не затем, чтобы
сделаться плутом-конторщиком, но затем, чтобы прочесть те книги,
в которых начертан Божий закон человеку, - тогда другое дело.
Воспитай его как сына и на него одного употреби все, что
употребил бы ты на всю школу. Народ наш не глуп, что бежит, как
от черта, от всякой письменной бумаги. Знает, что там притык
всей человеческой путаницы, крючкотворства и каверзничеств.
По-настоящему, ему не следует и знать, есть ли какие-нибудь
другие книги, кроме святых»2.
Примечательно сходство той либеральной критики, что в
разное время адресовали и Платону, и Гоголю. Знаменитое письмо
Белинского, ставшее в царской России настоящим
либеральным символом веры, и общим настроем своим, и частными
замечаниями очень напоминает столь же знаменитую книгу
Карла Поппера «Открытое общество и его враги». Прискорбная
наивность обоих либералов состояла в том, что мифотворчество
1Лотман Ю.М. Культура и взрыв. - М.: Гнозис; Издательская группа
«Прогресс». 1992. С. 49.
2Гоголь Н.В. Выбранные места из переписки с друзьями // Духовная проза:
сборник. - М.: Астрель; Владимир: ВКТ. 2012. С. 135-136.
275
было воспринято ими как описание реального положения
дел и вместе с тем - как политическая программа,
предназначенная для воплощения на практике. В действительности
из Гоголя, конечно, такой же «проповедник кнута, апостол
невежества, поборник обскурантизма и мракобесия»1, как из
Платона - пращур «тоталитаризма» и изобретатель
концентрационных лагерей2.
Я далек от того, чтобы обвинять Поппера в анахронизме,
что последнее время стало делом столь же популярным, сколь
и дурным: настаивать на том, что, вопреки Попперу,
«тоталитаризм» - исключительное явление двадцатого века, связанное
с современными политическими и технологическими реалиями,
а потому не имеющее отношения ни к Спарте, ни к государству
Платона - значит лишь впустую спорить о словах. Ошибка,
допущенная Поппером в его анализе платоновских диалогов, точно
та же, что допустил Белинский - причем не только в своем
анализе «Выбранных мест», но и в интерпретации и оценке
художественных произведений Гоголя. Ошибку их правильнее всего
было бы назвать своего рода аллегорическим толкованием
мифотворчества, согласно которому мифологемы Платона и Гоголя
на сей раз выражают стоящие за ними политические замыслы
и проекты, тогда как на деле, подобно всем мифологемам, они
выражают лишь самих себя. Неверно видеть в мифотворчестве
попытку воздействовать на реальный социальный мир: вопреки
расхожему мнению, «Государство» Платона и «Выбранные
места» Гоголя - вовсе не утопии, а мифы.
Как и у всяких мифов, у них, по слову Шеллинга «нет иной
реальности, кроме сознания»: им и не нужно иной реальности,
напротив, они встают рядом с этой, вне сознания положенной,
1 Белинский В. Г. Письмо Н. В. Гоголю 15 июля 1847 г. // Н. В. Гоголь в
русской критике - М., Л.: Государственное издательство художественной
литературы, 1953. С. 245.
2См. Поппер K.P. Открытое общество и его враги. Т. 1: Чары Платона. -
М.: Феникс, Международный фонд «Культурная инициатива». 1992.
С. 7,66 и др.
276
«реальностью» и стремятся стать еще более реальной, чем она.
Особый мир мифа возникает рядом с реальным миром не как
недосягаемый и потому напрасно мучающий его идеал, а как
прекрасное дополнение и главное - прекрасное оправдание его
и проходящей в ней человеческой жизни. Реальность сама по себе,
без встающего рядом и вровень с нею мифотворчества, была бы
примерно такой, какой она предстает у софистов:
равнодушной к человеку, холодной, пустой, и в конечном счете -
тошнотворной, как у Сартра, великого софиста, умевшего любое бытие
превратить в «чистое ничто», и обратно. Мифологемы Платона
и Гоголя, как и любые другие, не были простым вымыслом или
вольностью гениального ума, они были вызваны действием тех
нечеловеческих сил, что объективно присутствуют в
мифологическом сознании и что закономерно вели мифотворцев к тав-
тегоризму, скульптруной вечности, антиисторизму и
детскости, воплотившихся в частности в «Государстве» и
«Выбранных местах».
Неслучайно мифологемам, заключенным в этих
произведениях, их авторам пришлось принести отнюдь не вымышленные
жертвы (прежде всего, в виде отречения от своего
художественного гения), а потом - не раз обуздывать эти мало подвластные
им детища собственного мифотворчества, договариваться и
примиряться с ними: Платону - в «Политике» и «Законах», Гоголю -
в «Авторской исповеди» и переписке.
В определенном смысле Розанов совершенно прав, называя
Гоголя платоником, «бравшим все в идее, в грани, в пределе» -
но только не в идее как абстрактном логическом Понятии
в духе Гегеля, а в Идее, путь к которой пролагает
сократический диалог, очеловечивающий саму Идею, скульптурную,
зримую, живую. Быть платоником - значит быть «неисправимым
мечтателем», готовым к тяжелым испытаниям и жертвам, как
писал о Платоне Лосев1 - мечтателем, который хранит связь
1 См. Лосев А. Ф., Тахо-ГодиА.А. Платон. Аристотель. - 3-е изд., испр.
и доп. - М.: Молодая гвардия. 2005. С. 128.
277
с детскостью и мифологическим миром детей, чья нерушимая
вера в вечные и вместе человечные Благо, Истину и Красоту
(называемые собственными именами!), вопреки видимости,
ничего общего не имеет с наивностью и максимализмом. Ведь
детям, как мы говорили, чужда подлинная наивность и
непонятен максимализм. Таким платоником был Гоголь. Именно
детскость мифологической философии Платона и
мифотворчества Гоголя рождает глубокое очарование при чтении их работ,
вопреки всем кажущимся нелепостям и неправдоподобиям их,
присущим на деле не им одним, но и тысячелетним
мифологическим традициям.
278
Вместо заключения.
О сопротивлении злу мифом
Клод Леви-Строс в книге «Сырое и приготовленное»
отметил, что его анализ мифологии выступает по существу
продолжением мифа, мифом о мифе: «Поскольку сами мифы
основаны на кодах второго порядка (коды первого порядка - те,
из которых состоит язык), книга эта может рассматриваться как
набросок кода третьего порядка, предназначенного для
обеспечения взаимопереводимости многих мифов. В этом смысле
было бы вполне правомерно считать ее мифом - в некотором
роде мифом мифологии»1. В целом это замечание можно
отнести и к нашему исследованию мифотворчества Гоголя. Но если
Леви-Строс настаивал на мифологичности своей науки,
структурной антропологии, потому что саму мифологию понимал
по аналогии с наукой, видя в ней мифологику, органон познания
и решения логических задач, то мы скорее отступаем от
строгостей и стандартов научной работы (да и научной речи) ради
сближения с предметом разговора - самим гоголевским
мифотворчеством.
Совершенно ясно, что книга эта не является историческим
исследованием ни Гоголя, ни мифа. Она не ставит перед собой
задач открыть, кем Гоголь на самом деле был и к чему на самом
деле стремился. Вполне возможно, что сам Гоголь, мысливший
себя христианским писателем, отверг бы наши выводы о
фундаментальном значении мифологических мотивов для его
творчества - мотивов, которые справедливо мог бы расценить как
1Леви-Строс К. Мифологики. В 4-х тт. Том 1. Сырое и приготовленное. -
М.; СПб.: Университетская книга. 1999. С. 21.
279
языческие, а не христианские. Наша интерпретация его
творений сама является своего рода мифом о Гоголе как мифо-
творце, и дело для нее в не том, о чем Гоголь мыслил когда-то,
а в том, о чем имеем право мыслить сегодня мы, когда читаем
Гоголя. Но миф о Гоголе - вовсе не насилие над Гоголем: если
мы порой и приписываем классику нечто такое, чего он сам
фактически не говорил, то во всяком случае нигде не заставляем его
сказать то, чего он сказать не мог. Мифологична и глава о
детскости: в ней высказано немало соображений, которые с
научных позиций оспорили бы психология и педагогика и по-своему
были бы правы, если, конечно, принять эти позиции и
поставить науку судьей над мифотворчеством.
У мифотворчества нет и не может быть той
принудительной силы, которой вооружена наука, ее аргументы и
доказательства. Мифотворчество не может побороть реальность,
удостоверенную наукой, оно не может принудить согласиться
с собой и принять себя. Мифотворчество скорее выражает
смирение перед реальностью, то мудрое недеяние,
непротивление, воспетое древней (особенно - восточной) философией,
которое мы нашли в скульптурной неподвижности
гоголевского мира и которое ничего общего не имеет с безвольной
апатией. Наоборот, именно смирение мифотворчества
наделяет его такой творческой силой, которой хватает на создание
рядом с реальным миром еще одного, мифического, мира вечных
форм, недоступного реальности, ее уродству и суете, но
оправдывающего ее самим своим присутствием. Это сила, благодаря
которой смех и доброта Гоголя, спокойная и тихая, как жизнь
старосветских помещиков, всегда будут много сильнее всех
аргументов ополчившихся против него критиков и философов.
Благодаря ей мифическое сонное царство и молчаливая
философия Обломова, философия непротивления и покоя, намного
сильнее и величественнее беготни и прагматичных наставлений
Штольца. И благодаря ей та сказка, что рассказывал детям Кор-
чак на пути к газовой камере, все же бесконечно выше и
могущественнее всей погубившей их реальности.
280
Недооценено было, не понято и даже просто не принято
всерьез это древнее учение о непротивлении, что в русской
культуре от мифотворчества Гоголя перешло к Обломову и Льву
Толстому. Критика, адресованная Толстому целой плеядой русских
философов1, не понимала, как связано непротивление злу силой
с мифотворчеством и детскостью. У ребенка нет никакой силы -
ни физической, ни интеллектуальной - но ни той, ни другой
и не дано победить зло, ведь подлинное зло не в мире, а в самом
человеке, в его трусости и гордыне, в неумении доверять себе,
а потому и другим. Зло скрыто в том, как видят наши глаза, как
чувствует наше сердце, пораженные, как в сказке Андерсена,
осколками дьявольского зеркала. Не чья-либо великая сила,
а слеза маленькой девочки спасает от этих осколков. Искренняя
и беззаветная любовь и доверчивость ребенка, не замутненные
расчетливостью, способные и в нас вызывать ответные любовь
вспомнить хотя бы Владимира Соловьева («Три разговора») и Ивана
Ильина («О сопротивлении злу силою»). Доводы их по существу состоят
в следующем: насилие отвратительно и греховно, но порой необходимо
пойти на грех, чтобы избежать большего греха - необходимо применить
силу, чтобы вырвать жертву из рук злоумышленника, защитить свою
семью и родину от нашествия врагов. Стремление же не пачкать свои руки
ценой страданий и жизни других рождено бездеятельной гордыней, а не
любовью и добром. Читая это, можно только развести руками: видимо, по
мысли критиков, банальности эти были выше понимания автора «Войны
и мира»! На деле сопротивление злу силой оборачивается таким
столкновением двух сил, которое происходит уже по ту сторону добра и зла: добро
может одержать в нем верх, но вовсе не потому, что оно добро, а потому,
что в данный момент сила оказалась на его стороне. Такая победа
фактически непрочна, а нравственно не оправдана. Если же признать, что
оправданно скорее стремление к победе добра, чем она сама, что
сопротивляться злу силой необходимо не ради успеха, а ради самого
сопротивления, то непонятно, чем в конечном счете это напрасное насилие выше
ненасилия перед лицом зла. Непротивление силой не означает полного
непротивления и простой безропотности. Чего другого, а насилия в
социокультурном мире хватает, дело добра состоит скорее в том, чтобы
привнести в этот мир нечто иное, что смогло бы перевесить и оправдать
неустранимое из него насилие. А это и есть дело мифотворчества.
281
и доверие к нему, на деле сильнее любой силы, которая в этом
мире всегда на стороне зла.
Сила оружия и сила научной истины гораздо чаще служат злу,
что совершено естественно для силы. Ведь сама природа добра,
равно как и творчества - отказ от насилия, смирение и
питаемая им любовь. Сила призрачна и переменчива, действие и успех
ее всегда лишь временны, поэтому у Гоголя и многих других ей
противостоит вечное непротивление мифотворчества. Вечность
мифотворчества не принудительна и не равнодушна к человеку,
как вечные истины науки, наоборот, вечную истину мифа
человеку еще нужно смиренно заслужить, выстрадать самой дорогой
ценою.
Как мудро напоминает Лотман, «мы хотим получить истину
как можно быстрее, как готовые ботинки, сшитые на "никого".
А истина дается только ценой жертвы самого дорогого. По сути
дела, получить истину можно только ради нее погубив себя.
Истина не бывает "для всех и ни для кого". Рылеев максимально
жертвовал, когда пошел на эшафот, а Пушкин, - когда не пошел
на эшафот. Истину надо найти для себя свою...»1. Вы погубили
себя! - именно так говорили Гоголю, потом Обломову и Толстому,
говорили и Корчаку. Говорили, не понимая, что только так,
погубив себя, можно действительно бороться со злом -
сопротивляться злу мифом, в котором зло возможно лишь как
нереальность, и который сам обретает невымышленную, не
игрушечную реальность только тогда, когда ему приносятся
невымышленные жертвы.
Значимость и подлинность мифотворчества измеряются тем,
чем мифотворец готов за него заплатить. Здесь, кажется,
и пролегает граница между мифотворчеством, с одной
стороны, наукой2 и простым художественным вымыслом - с другой.
1 Лотман Ю.М. На пороге непредсказуемого // Воспитание души. - СПб.:
Искусство-СПБ. 2005. С. 300.
2 Впрочем, лишь самый наивный взгляд на науку видит силу ее знания в
такого рода «объективности», что не зависит от личности ученого и потому
282
Вымысел не делается автономной, тавтегоричной реальностью
мифа, остается условным или иносказательным, если создатель
его полагается только на себя, не допуская в сознание и
творчество свои превышающие его, нечеловеческие, силы. Но
реальность этих сил в сознании и для сознания связана с отказом
от той «истинной» реальности, что вне сознания, с готовностью
«погубить себя» ради истины мифа.
Далекое не всякое выдающееся художественное произведение
есть мифотворчество. Гений Пушкина, к примеру, был слишком
взрослым для этого: художественную реальность он всегда
хорошо отличал от жизни и «правды жизни». Его гимны Петру
Великому и Петербургу в «Медном всаднике», «Полтаве» и т. д.
в широком смысле слова были, конечно, мифами, но мифами
рассудочными, созданными намеренно, так что сам поэт прекрасно
понимал их поэтическую условность, их отличие от
исторической реальности. Чтобы убедиться в том, как сильно реальный
Петр отличался в глазах Пушкина от «строителя чудотворного»
как персонажа его поэм, достаточно посмотреть пушкинские
для всех ученых остается в равной степени достоверной. Вспомнив лишь
самые известные дискуссии в истории науки: Лейбница и Кларка,
Эйнштейна и Бора, Гильберта и Брауэра и т.д. - мы поймем, что и здесь, на
вершинах науки, «истина не бывает "для всех и ни для кого"», у каждого
ученого, не только мифотворца, она своя и каждому «дается только ценой
жертвы самого дорогого». Суждение Кассирера относительно эпохи
«кризиса оснований» математики, столкновения формалистов и интуициони-
стов может служить превосходным тому подтверждением: «Современная
математика сталкивается здесь с подлинной методологической
дилеммой. Каким бы ни было ее решение, от чего-то математике придется
отказываться. Если она желает сохранить за собой прежнюю славу
"очевидности", то это, кажется, может быть достигнуто только за счет возврата
к первоистоку этой очевидности, к фундаментальной интуиции целого
числа. Но в то же самое время этот возврат возможен лишь за счет
значительных интеллектуальных жертв: математике грозит утрата обширных
и плодоносных областей, которые шаг за шагом отвоевывались
классическим анализом» (Кассирер Э. Философия символических форм. Т. III:
Феноменология познания. - М.: Академический Проект. 2011. С. 292).
283
наброски к «Истории Петра I». Мифотворцем не был и
Достоевский, загонявший мифотворчество в «подполье» и
видевший в нем скорее бунт против реального, то есть Божьего, мира.
Не был им Чехов - тоже слишком взрослый писатель, чтобы
позволить своим героям и читателям находить отдушины
детскости и мифа в безнадежной, скорбно молчащей, как сам Чехов,
действительности. Его «Тоска», «Дама с собачкой», «Чайка»,
«Дядя Ваня», не говоря уж о «Палате № 6», суть, скорее,
антимифологические творения: мифотворчество для Чехова больше
походило не на защиту и возвеличивание человека, а на попытку
спрятать его от жизни в очередной футляр.
Мифотворчество Гоголя не бунт против подобной, взрослой,
жизненной правды: мы уже говорили об этом. Скорее это
сопротивление злу мифом, а не силой: подлинную творческую его силу
питают именно смирение и жертвенность мифотворца. Было бы
неверно считать мифотворчество наивной попыткой вернуться
в воображаемый «золотой век» детскости и невинности, скрыться
в нем от всех проблем «взрослеющего», давно утратившего эту
невинность европеизма. Миф, как и детство, по слову Корчака,
«не рай, а драма». Это не попытка заговорить, смягчить,
зачаровать уродство и абсурдность действительной жизни, наоборот,
здесь, как это особенно характерно для Гоголя, они выставлены
напоказ во всей их потрясающей нелепости. Но удивительным
образом смех и слезы мифотворца, детские смех и слезы,
позволяют вынести, принять, пережить действительность, нимало
не смягчая, не игнорируя ее абсурдность и даже не восставая
против нее силой, что было бы напрасной тратой сил. Едва ли
возможно познать и прояснить, как это детское непротивление,
непротивление смеха и слез оказывается сильнее любого зла,
перерастает его в вечности своей, но нельзя не видеть, не
ощущать этого. Главная из тайн мифотворчества должна
оставаться тайной для исследователя, стремящегося сопережить
его и таким образом понять.
284
Библиография
Аксаков К. С. Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения
Чичикова, или Мертвые души» // Н. В. Гоголь: pro et contra - M.:
РХГА, 2009. - С. 83-93.
Анненский И. Ф. Художественный идеализм Гоголя; Эстетика
«Мертвых душ» и ее наследье // Книги отражения. - М.: Наука.
1979. - С. 216-232.
Бахтин М.М. Рабле и Гоголь (Искусство слова и народная сме-
ховая культура) // Вопросы литературы и эстетики - М.:
Художественная литература. 1975. - С. 484-496.
Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки
по исторической поэтике // Вопросы литературы и эстетики. -
М.: Худож. лит. 1975. - С. 234-407.
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. 2-е изд. - М.:
Искусство. 1986.
Белинский В. Г. Полное собрание сочинений в 13 томах. Т. 6. -
М.: Издательство Академии наук СССР. 1955.
Белинский В.Г.Писъмо Н. В. Гоголю 15 июля 1847 г. // Н. В. Гоголь
в русской критике - М., Л.: Государственное издательство
художественной литературы, 1953. - С. 243-252.
Белый А. Гоголь // Н. В. Гоголь: pro et contra - M.: РХГА, 2009. -
С. 298-312.
Белый А. Мастерство Гоголя. Исследование - М., Ленинград:
ОГИЗ. 1934.
Бердяев H.A. Духи русской революции // «Из глубины».
Сборник статей о русской революции - М.: 1990. - С. 56-90.
Бердяев H.A. Миросозерцание Достоевского - Прага. 1923.
Бердяев НА. Пикассо // София - М.: Тип. К.Ф. Некрасова, 1914.
Март, № 3. - С. 57-62.
285
Бердяев H.A. Русская идея - СПб.: Азбука-классика. 2008.
Бердяев H.A. Философия творчества, культуры и искусства
в двух томах. Т. 2. - М.: «Искусство», 1994.
Бергсон А. Смех - М.: Искусство. 1992.
БлокА.А Дитя Гоголя // Собрание сочинений: В 8-ти т. Том 5.
Проза 1903-1917. - М.-Л.: Художественная литература. 1962. -
С. 376-380.
Брюсов В. Я. Испепеленный. К характеристике Гоголя
// Н. В. Гоголь: pro et contra - Μ.: РХГА, 2009. - С. 445-469.
Булгаков С. Первообраз и образ: сочинения в двух томах. Т. 1.
Свет невечерний. - СПб.: ИНАПРЕСС, М.: Искусство. 1999.
Булгаков С. Труп красоты. По поводу картин Пикассо. //
Собрание сочинений в двух томах. Т. 2. Избранные статьи - М.:
Наука. 1993. - С. 527-546.
Витгенштейн Л. Заметки о «Золотой ветви» Дж. Фрезера
// Историко-философский ежегодник. - М. 1989.
Гиппиус В. Гоголь; Зеньковский В. Н.В. Гоголь - СПб.: Logos.
1994.
Гоголь Н.В. Духовная проза: сборник. - М.: Астрель;
Владимир: ВКТ. 2012.
Гоголь Н.В. Женщина // Литературная газета, 1831, № 4. -
С. 27-29.
Гоголь Н.В. Молитвы, написанные Гоголем // Избранное
[Электронный ресурс «Православная библиотека»: https: // pravoslavie.
ru/put/biblio/gogol/gogol28.htm] (дата обращения: 28.04.19).
Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений в 14 томах. - М., Л.:
Издательство Академии наук СССР. 1938.
Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная
феноменология: Введение в феноменологическую философию -
СПб.: Владимир Даль. 2004.
Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия
// Культурология. XX век - М.: Юрист. 1995. - С. 297-331.
Заходер Б. Глава никакая // Кэрролл Л. Алиса в стране чудес.
Пер. Б. Заходера [Электронный ресурс] Lib.Ru. URL: http: // lib.
ru/CARROLL/alisa_zah.txt (дата обращения 02.10.2019).
286
Кант И. Критика способности суждения - М.: Искусство. 1994.
Кант И. Сочинения. В 8-ми т. Т. 7. - М.: Чоро. 1994.
Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. - М.: Гардарика. 1998.
Кассирер Э. Индивид и космос в философии Возрождения -
М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив. 2013.
Кассирер Э. Философия символических форм. Т. I: Язык. - М.:
Академический Проект. 2011.
Кассирер Э. Философия символических форм. Т. II:
Мифологическое мышление - М.: Академический Проект. 2011.
Кассирер Э. Философия символических форм. Т. III:
Феноменология познания. - М.: Академический Проект. 2011.
Кассирер Э. Язык и миф. К проблеме именования богов
// Избранное: Индивид и космос. - М.; СПб.: Университетская
книга. 2000. - С. 327-391.
Короленко В. Г. Трагедия писателя (Несколько мыслей о Гоголе)
// Н. В. Гоголь: pro et contra - Μ.: РХГА, 2009. - С. 523-537.
Корчак Я. Воспитательные моменты. Как любить ребенка.
Оставьте меня детям (Педагогические записи) - М.: ACT. 2017.
Корчак Я. Как любить детей - Мн.: Нар. асвета. 1980.
Корчак Я. Когда я снова стану маленьким - М.: Детгиз. 1961.
Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране Чудес; Алиса в
Зазеркалье - Мн.: Юнацтва; Ижевск: Урал-БиСи, 1992.
Лебедев А. В. Фрагменты ранних греческих философов (Часть I).
От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики -
М.: Наука. 1989.
Леви-Строс К. Мифологики. В 4-х тт. Том 1. Сырое и
приготовленное. - М.; СПб.: Университетская книга. 1999.
Леви-Строс К. Структурная антропология - М.: ЭксмоПресс.
2001.
Леви-Строс К. Тотемизм сегодня. Неприрученная мысль - М.:
Академический проект. 2008.
Лосев А. Ф. Гомер - М.: Молодая гвардия. 2006.
Лосев А. Ф. Двенадцать тезисов об античной культуре
// Лосев А. Ф., Тахо-Годи A.A. и др. Античная литература: Учебник
для высшей школы - 5-е изд., дораб. - М.: ЧеРо. 1997. - С. 483-493.
287
Лосев Α. Φ. Диалектика мифа. - M.: Мысль. 2001.
Лосев А. Ф. История античной эстетики. Ранняя классика. -
М.: ACT. 2000.
Лосев А. Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ.
Платон. - М.: ACT.; Харьков: Фалио. 2000.
Лосев А. Ф. Мифология греков и римлян. - М.: Мысль. 1996.
Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. - М.:
Мысль. 1993.
Лосев А. Ф. Форма. Стиль. Выражение - М. Мысль. 1995.
Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения - М.: Мысль. 1978.
Лосев А. Ф., Тахо-ГодиА.А. Платон. Аристотель. - 3-е изд., испр.
и доп. - М.: Молодая гвардия. 2005.
Лосский Н. О. «Мифическое» и современное научное
мышление // Путь. № 14.
Лотпман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции
русского дворянства (XVIII - начало XIX века) - СПб., 1994.
Лотпман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек - текст -
семиосфера - история. - М.: Языки русской культуры. 1996.
Лотпман Ю.М Воспитание души. - СПб.: Искусство-СПБ. 2005.
Лотпман Ю.М. Культура и взрыв. - М.: Гнозис; Издательская
группа «Прогресс». 1992.
Лотпман Ю.М. О «реализме» Гоголя // Труды по русской и
славянской филологии. - Тарту: Тартуский университет. 1996. -
С. 11-35.
Мережковский Д. С. Гоголь и черт: Поэзия; Гоголь и черт:
исследование; Итальянские новеллы - М: Книжный Клуб Кни-
говек. 2010.
Мережковский Д. С. М.Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества
// М. Ю. Лермонтов: pro et contra - СПб.: РХГИ, 2002. - С. 348-386.
Ницше Ф. Сочинения в 2 т. Т. 2. - М.: Мысль, 1990.
Паскаль Б. Мысли. Афоризмы - М.: ACT: Астрель. 2011.
Платон. Собрание сочинений в 4 т.: Т. I. - М.: Мысль. 1990.
Платон. Сочинения в четырех томах. Т. 2. - СПб.:
Изд-во С.-Петерб. ун-та: «Изд-во Олега Абышко». 2007.
Платон. Собрание сочинений в 4 т. Т. 3. - М.: Мысль. 1994.
288
Платон. Собрание сочинений в 4 т. Т. 4. - М.: Мысль. 1994.
Пору с В.Н. Человек лишний // Гуманитарные исследования
в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. № 3.2014. - С. 115-124.
Порус В.Н. Тоска по бытию (А.П. Чехов и философия
культуры) // Перекрестки методов. Опыты междисциплинарности
в философии культуры - М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация».
2013. - С. 94-112.
Поппер K.P. Открытое общество и его враги. Т. 1: Чары
Платона. - М.: Феникс, Международный фонд «Культурная
инициатива». 1992.
Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха. Ритуальный смех
в фольклоре (по поводу сказки о Несмеяне). - М.: Лабиринт.
1999.
Резвых П. В. Шеллинг и Лосев // Бюллетень Библиотеки
«Дом А. Ф. Лосева», Вып. 12. - М.: Водолей. 2010.
Розанов В.В. Мимолетное - М.: Республика. 1994.
Розанов В. В. Собрание сочинений. Апокалипсис нашего
времени - М.: Республика. 2000.
Розанов В. В. Собрание сочинений. Легенда о Великом
инквизиторе Ф. М. Достоевского. Лит. Очерки. О писательстве и
писателях - М.: Республика. 1996.
Розанов В. В. Собрание сочинений. О писательстве и
писателях - М.: Республика. 1995.
Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической
онтологии - М.: ACT, 2017.
Сартр Ж.-П. Картезианская свобода // Проблемы метода.
Статьи - М.: Академический Проект. 2008. - С. 197-219.
Сартр Ж.-П. Тошнота - СПб.: Азбука-классика. 2006.
Сартр Ж.-П. Трансценденция Эго. Набросок
феноменологического описания - М.: МОДЕРН. 2011.
Сартр Ж.-П. Экзистенциализм - это гуманизм // Сумерки
богов - М.: Политиздат. 1989. - С. 319-344.
Спиноза Б. Избранные сочинения в двух томах. Т. 2. - М.:
Государственное Издательство политической литературы. 1957.
Спиноза Б. Сочинения. В 2-х томах. Т. I. - СПб.: Наука. 1999.
289
Терц А. В тени Гоголя - London: Overseas Publications Interchange.
1975.
Толстой Л. Η. Полное собрание сочинений в 90-томах -
М. 1928-1958.
Франк С.Л. Новокантианская философия мифологии // Путь:
Орган русской религиозной мысли. № 4. Июнь-июль 1926. -
С. 190-191.
Франк. С. Л. Религиозное сознание Гоголя // Н. В. Гоголь: pro
et contra - Μ.: РХГА, 2009. - С. 633-644.
Франк. С. Л. Смысл жизни // Духовные основы общества - М.:
Республика, 1992. - С. 147-217.
ХайдеггерМ. Бытие и время. - М.: Академический проект. 2013.
Хайдеггер М. Положение об основании. Статьи и фрагменты. -
СПб.: Лаборатория метафизических исследований философского
факультета СПбГУ; Алетейя. 2000.
Ходасевич В. Ф. Памяти Гоголя // Собрание сочинений: В 4 т.
Т. 2. Записная книжка. Статьи о русской поэзии. Литературная
критика 1922-1939. - М.: Согласие. 1996. - С. 146-150.
Хюбнер К. Истина мифа. - М.: Республика. 1996.
Чижевский Д. Неизвестный Гоголь. // Новый журнал. - Нью-
Йорк. 1951. XXVII. - С. 126-159.
Шеллинг Ф.В. Й Сочинения. Т. 2. - М.: Мысль. 1989.
Шеллинг Ф.В. Й. Философия искусства. - М.: Мысль. 1966
Шеллинг Ф.В. Й. Философия откровения. Т. 1. - СПб.: Наука.
2000.
Шестов Л. Сочинения в 2-х томах. Т. 2. На весах Иова
(Странствие по душам) - М.: Наука. 1993.
Шиллер Ф. Собрание сочинений в 7 томах. Т. 6. - М.:
Государственное Издательство художественной литературы. 1957.
290
Содержание
Вместо предисловия (В. Н. Порус) 5
Введение 7
Глава 1. «Тавтегорическое» толкование творчества Гоголя 11
1. «Всё обман, всё мечта, всё не то, чем кажется!» 11
2. Проблема реальности мифа и мифотворчество Гоголя 19
3. Миф не знает трансцендентного. 32
4. Мифотворчество или демоническое искусство?. .39
Глава 2. Скульптурность гоголевского мифотворчества. .67
Глава 3. Апофатизм Гоголя .97
Глава 4. Судьба и смех. 113
Глава 5. Слеза ребенка: мир Гоголя как мир глазами детей 135
1. Еще маленький человек 135
2. Чичиков и его состояние 154
3. На фоне Гоголя: зависть к ребенку,
или Философия лишенных наследства 164
4. Что такое детскость? 175
5. Ребенок и оправдание гоголевского мира. 192
Глава 6. Мифологическая философия:
Гоголь, Гераклит, Платон. .215
1. Гоголь и мифотворчество Гераклита. 217
2. Платон как мифотворец и Гоголь как платоник. .238
Вместо заключения. О сопротивлении злу мифом .279
Библиография .285
291
Куликов Антон Кириллович
МИФОЛОГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ Н.В. ГОГОЛЯ.
Философский анализ
Главный редактор издательства
Игорь Александрович Савкин
Дизайн обложки И. Н. Граве
Оригинал-макет Ю. А. Кореневская
Корректор С. А. Семенов
ИД № 04372 от 26.03.2001 г.
Издательство «Алетейя»
Заказ книг: тел. +7 (921) 951-98-99,
e-mail: fempro@yandex.ru, Савкина Татьяна Михайловна
192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 86 А, оф. 536, 532
Редакция: тел. (812) 577-48-72, e-mail: aletheia92@mail.ru,
191015, г. Санкт-Петербург, ул. 9-ая Советская, д. 4, офис 304
www.aletheia.spb.ru
Книги издательства «Алетейя» можно приобрести
в Москве:
«Библио-Глобус», ул. Мясницкая, 6. www.biblio-globus.ru
Дом книги «Москва», ул. Тверская, 8. Тел. (495) 629-64-83
«Русское зарубежье», ул. Нижняя Радищевская, 2. Тел. (495) 915-27-97
«Фаланстер», М. Гнездниковский пер., 12/27. Тел. (495) 749-57-21, 629-88-21
«Циолковский», ул. Б. Молчановка, 18. Тел. (495) 691-51-16
Книжная лавка «У Кентавра». Миусская площадь, д. 6, корп. 6
Тел. (495) 250-65-46, +7-901-729-43-40, kentavr@kpole.ru
в Киеве:
«Книжный бум». Тел. +38 067 273-50-10, gronllll@mail.ru
β Минске:
«Трэгросс-Бук», ул. Казинца, д. 123, оф. 4.
Тел. +37 517 338 95 23, www.tregross.com
в Варшаве:
«Centrum Nauczania Jçzyka Rosyjskiego»,
ul. Ptasia 4. Tel. +48 (22) 826-17-36, szkola@jezykrosyjski.com.pl
в Риге:
«Intelektuäla grämata»
Riga, Kr. Barona iela 45/47. Tel. +371 67315727, info@merion.lv
Интернет-магазин: www.ozon.ru
Формат 60x88 Мб. Усл. печ. л. 17,84. Печать офсетная. Тираж 500 экз.
Заказ №
®