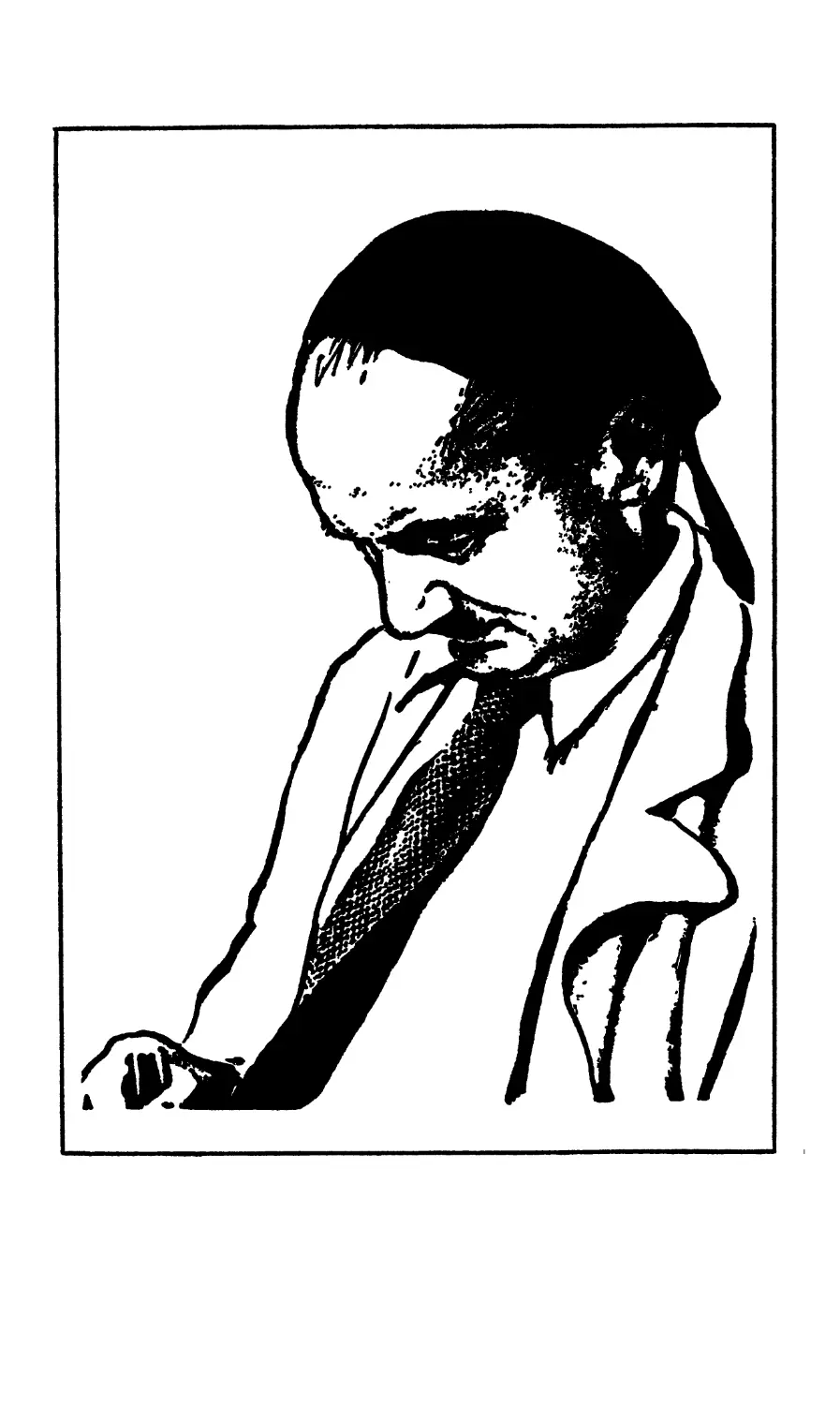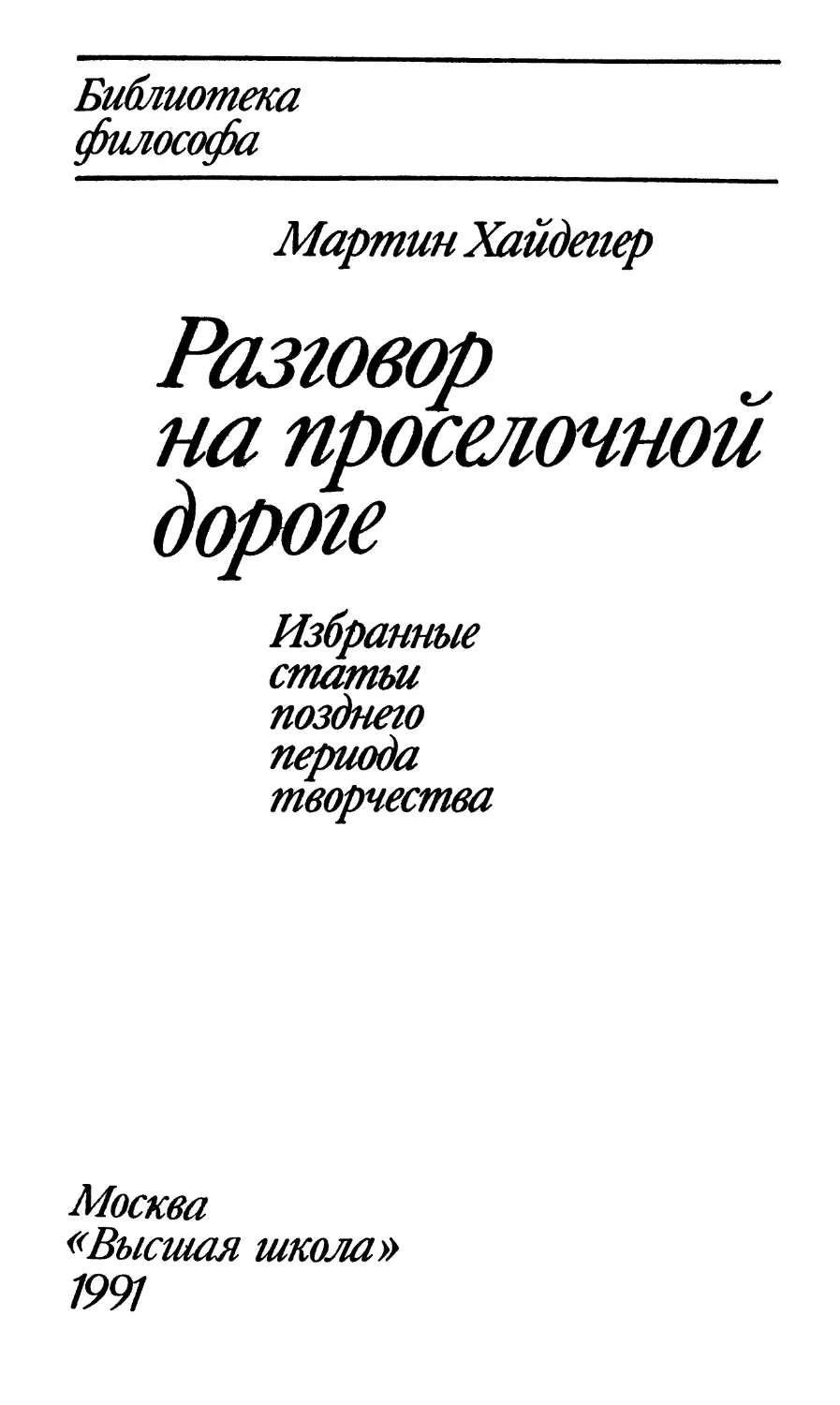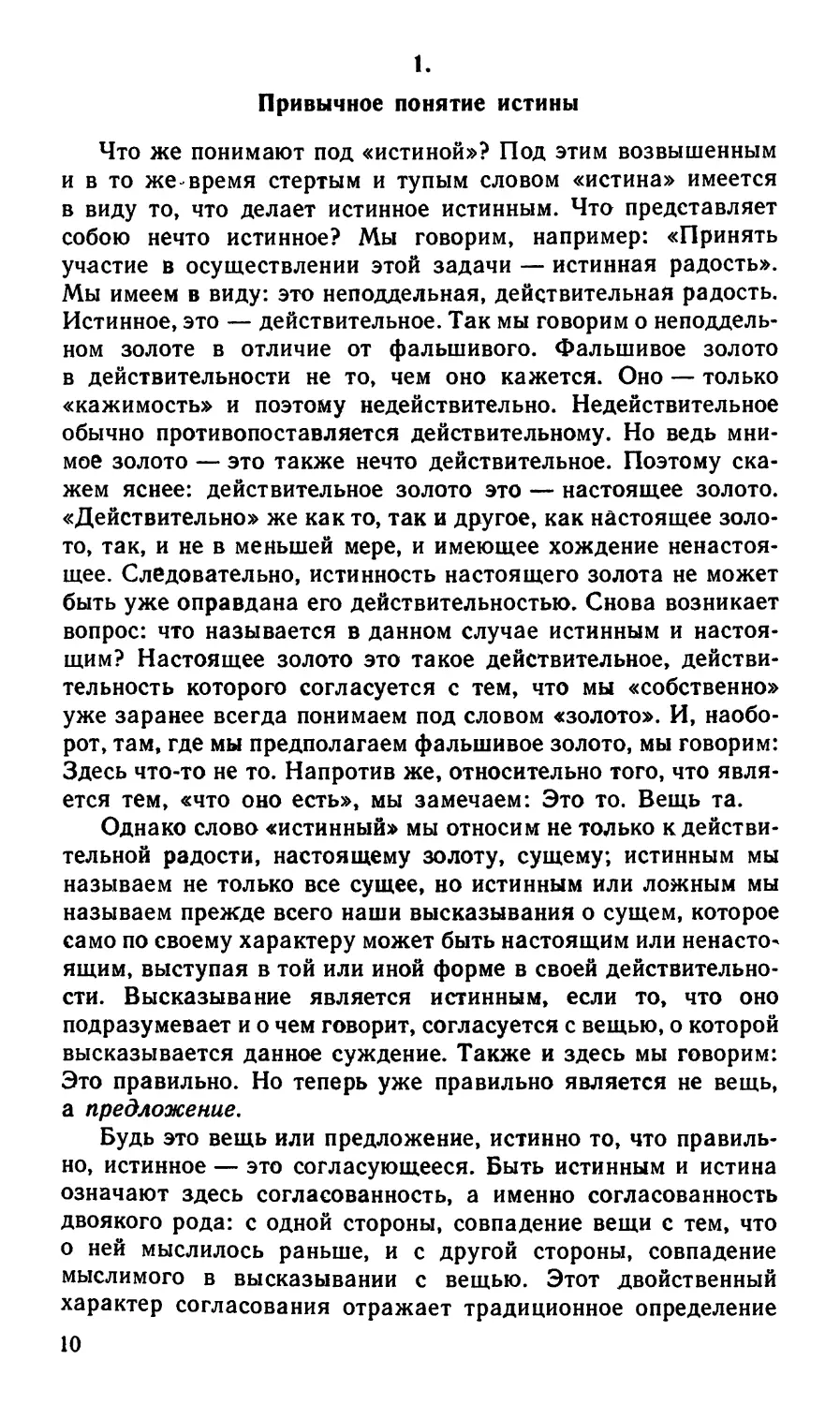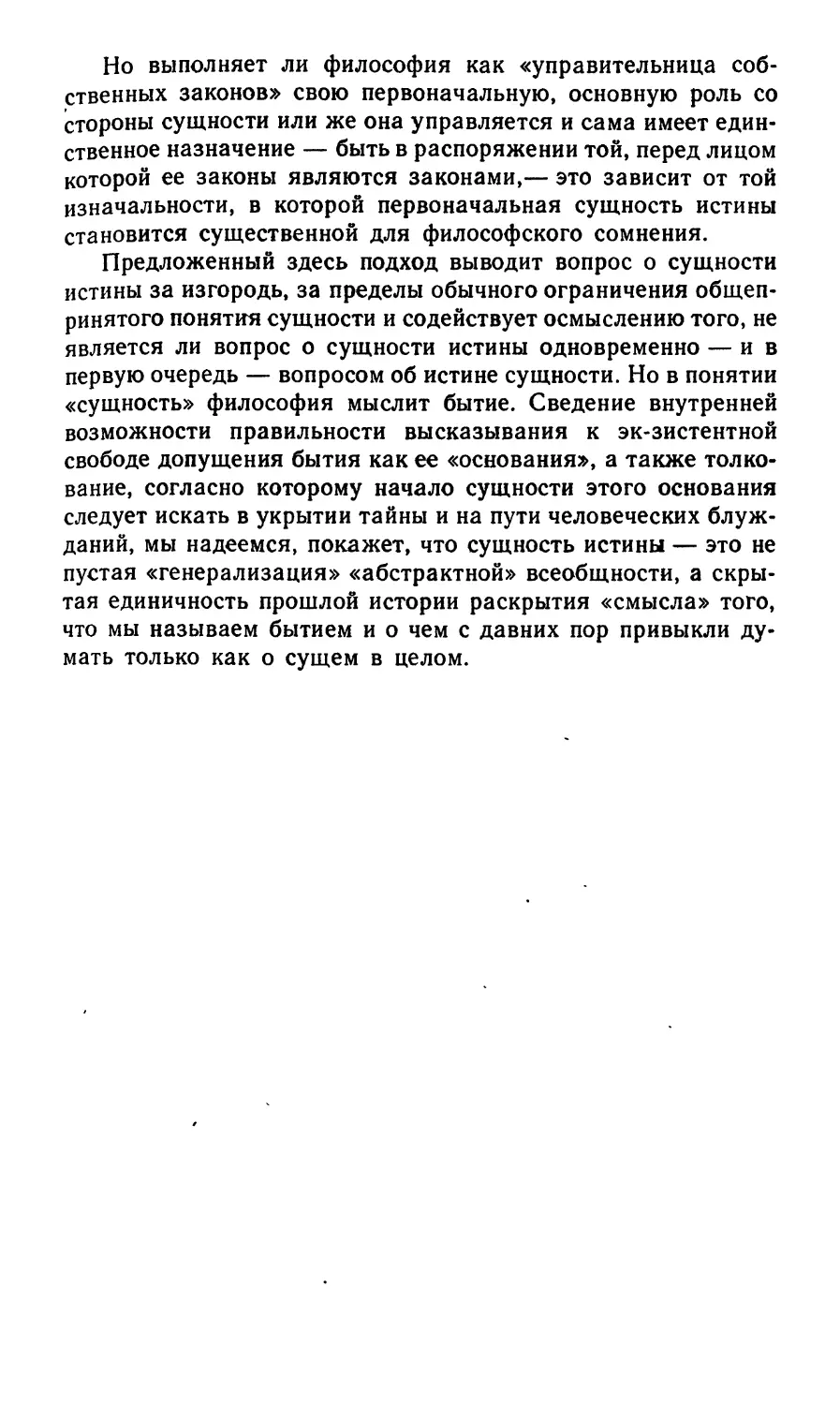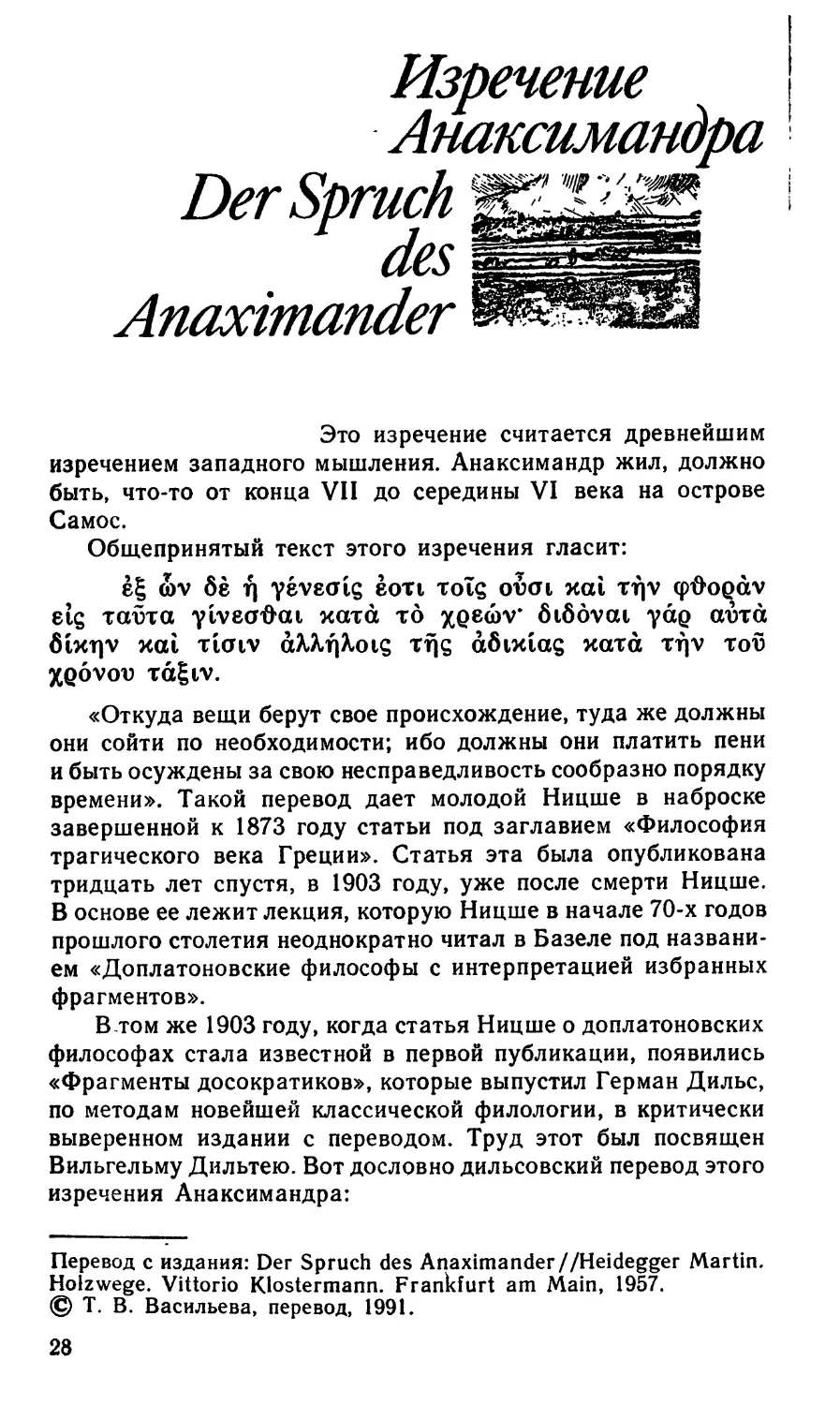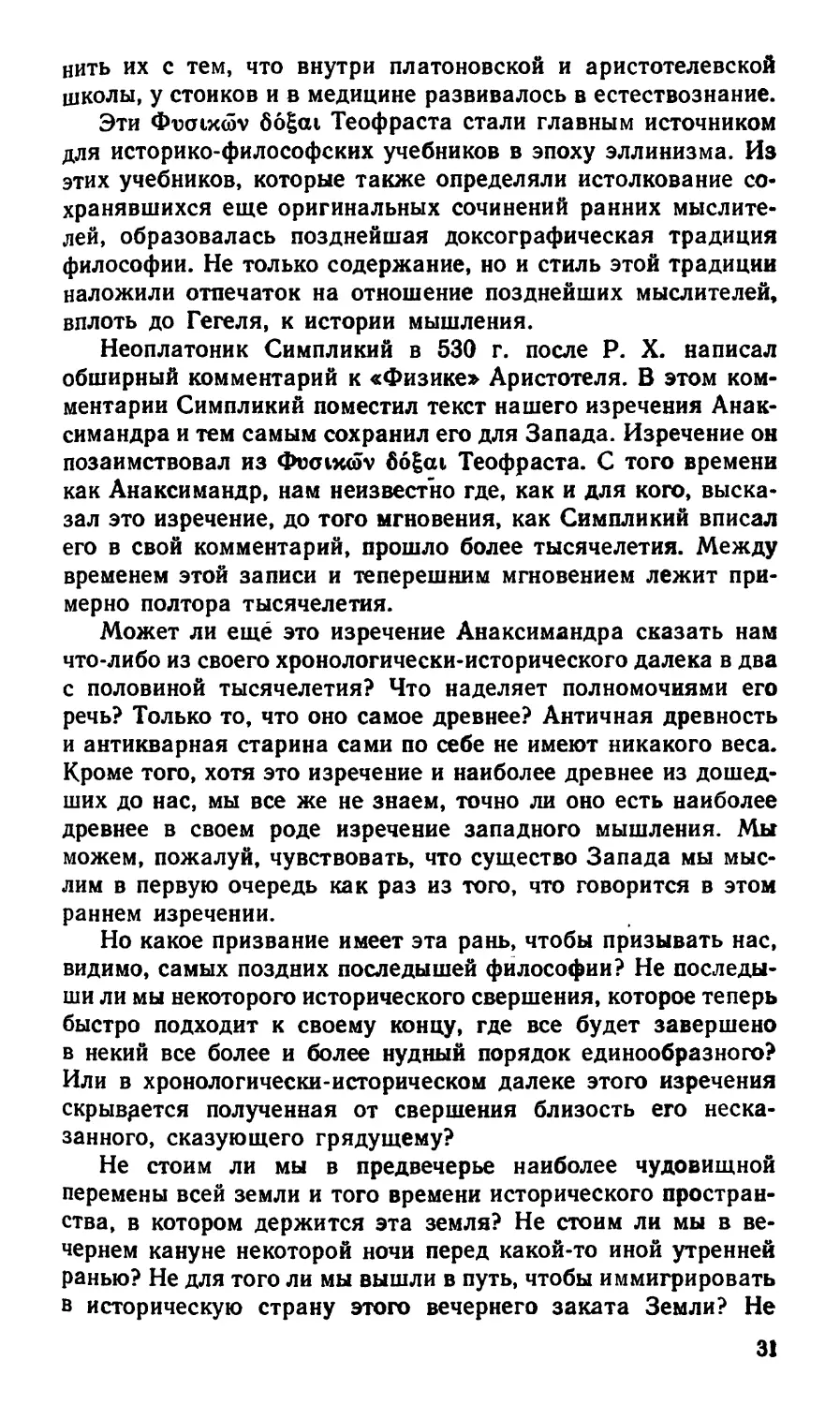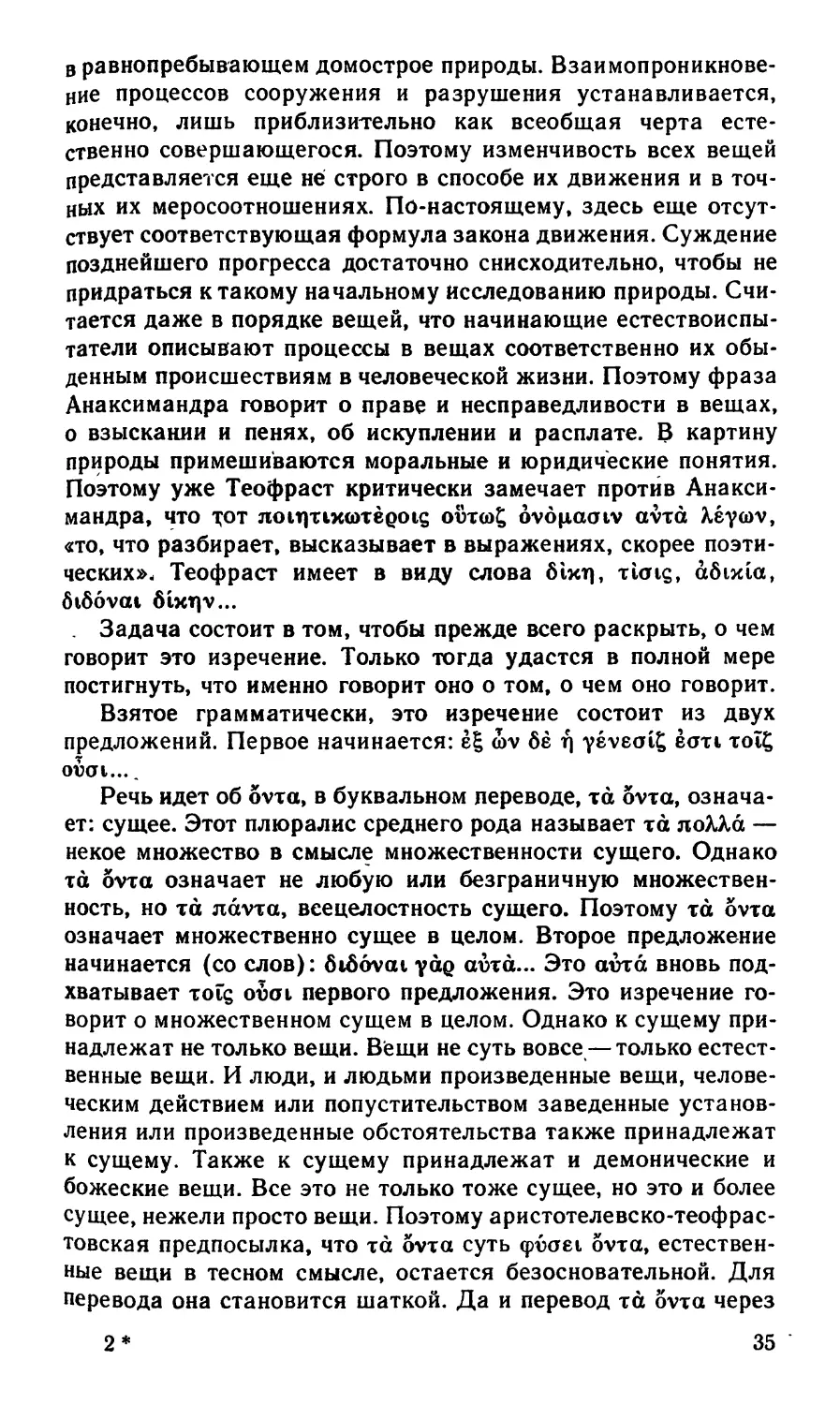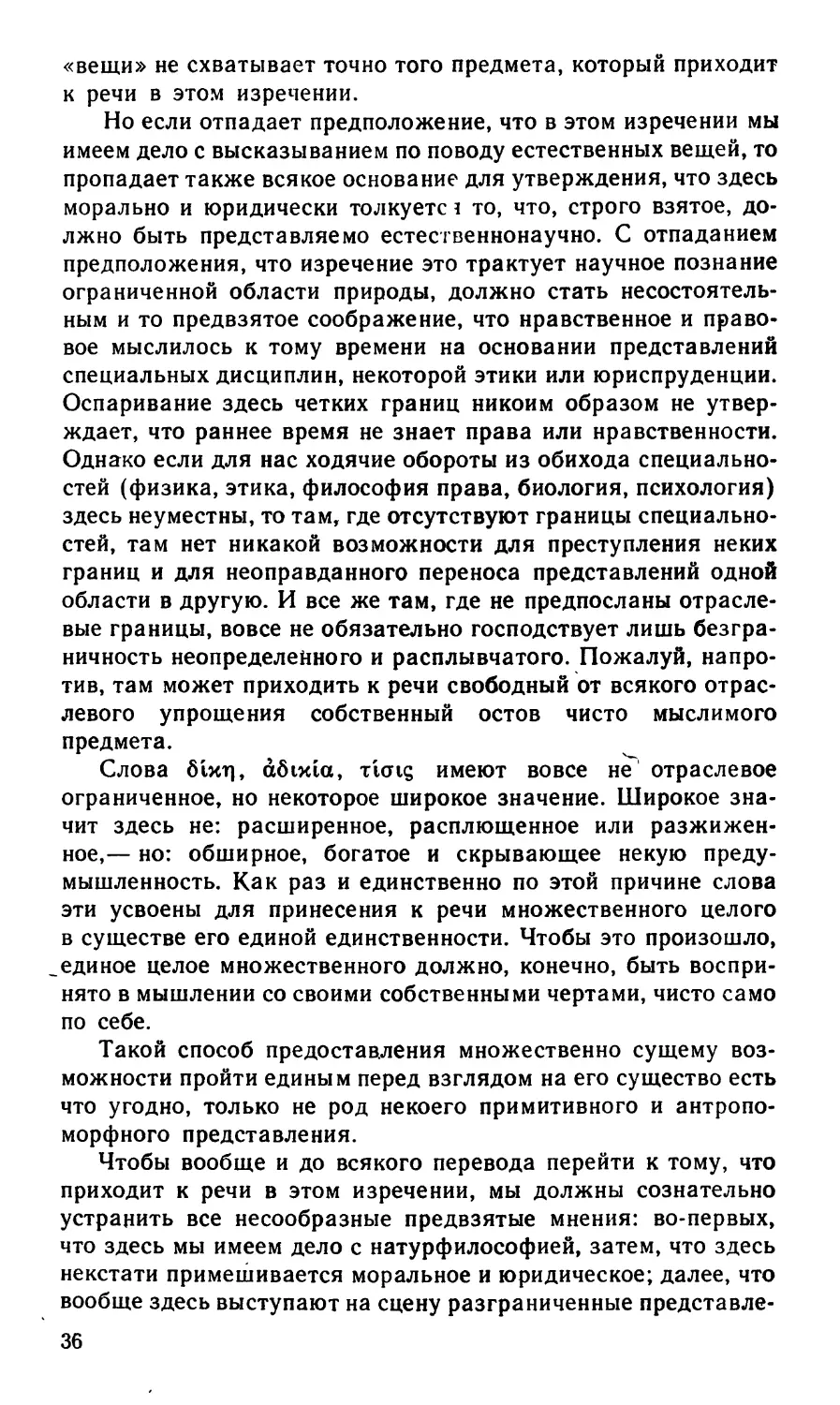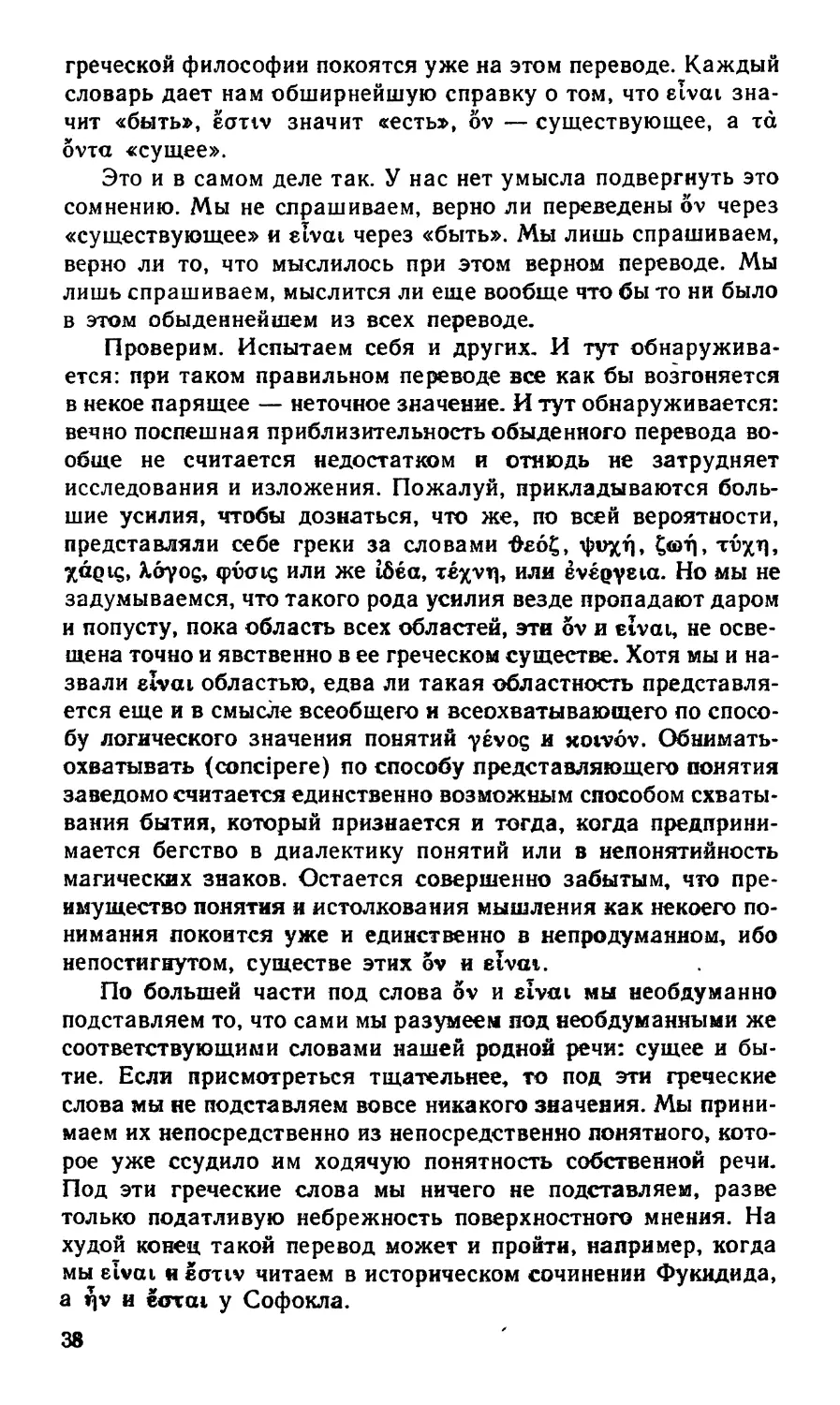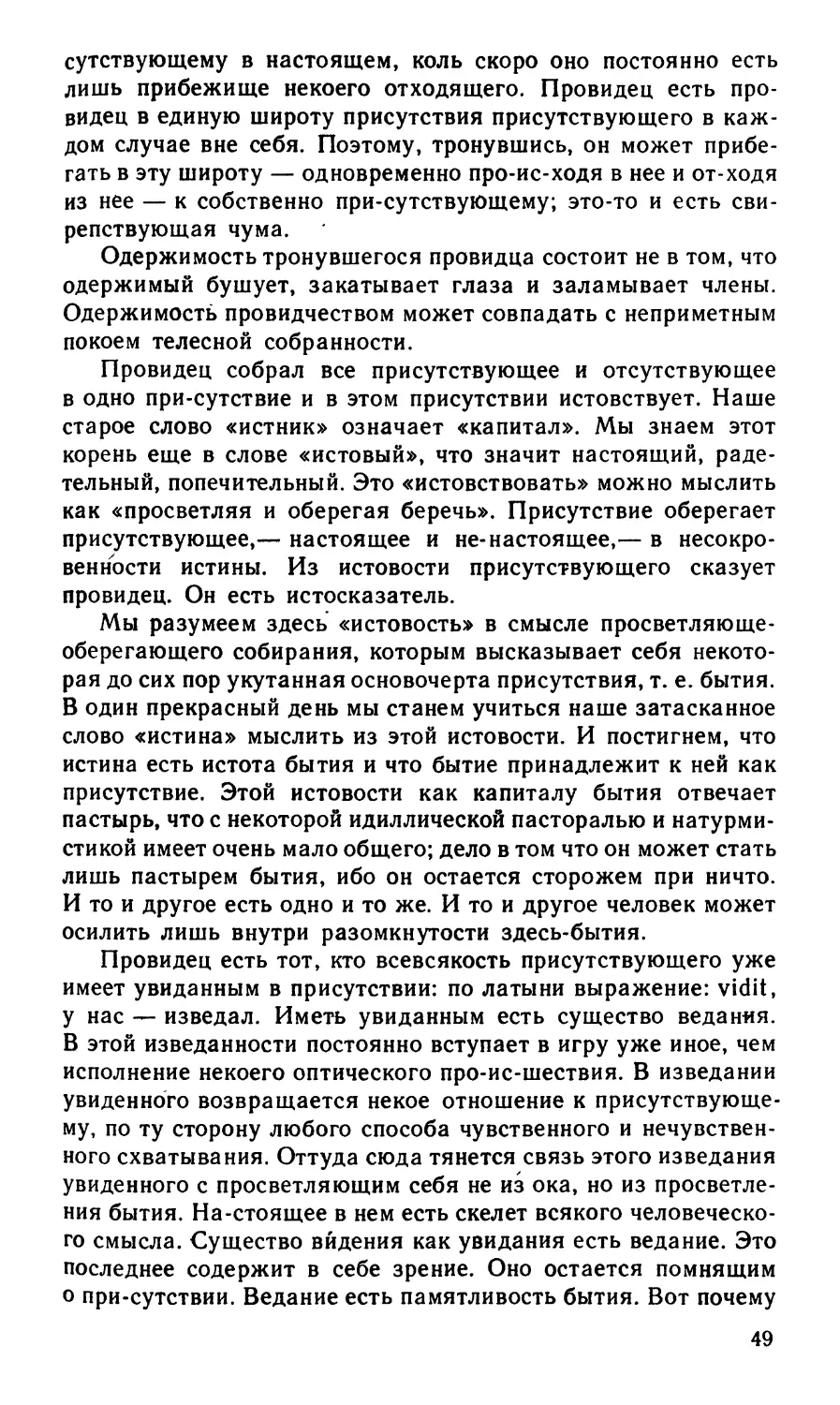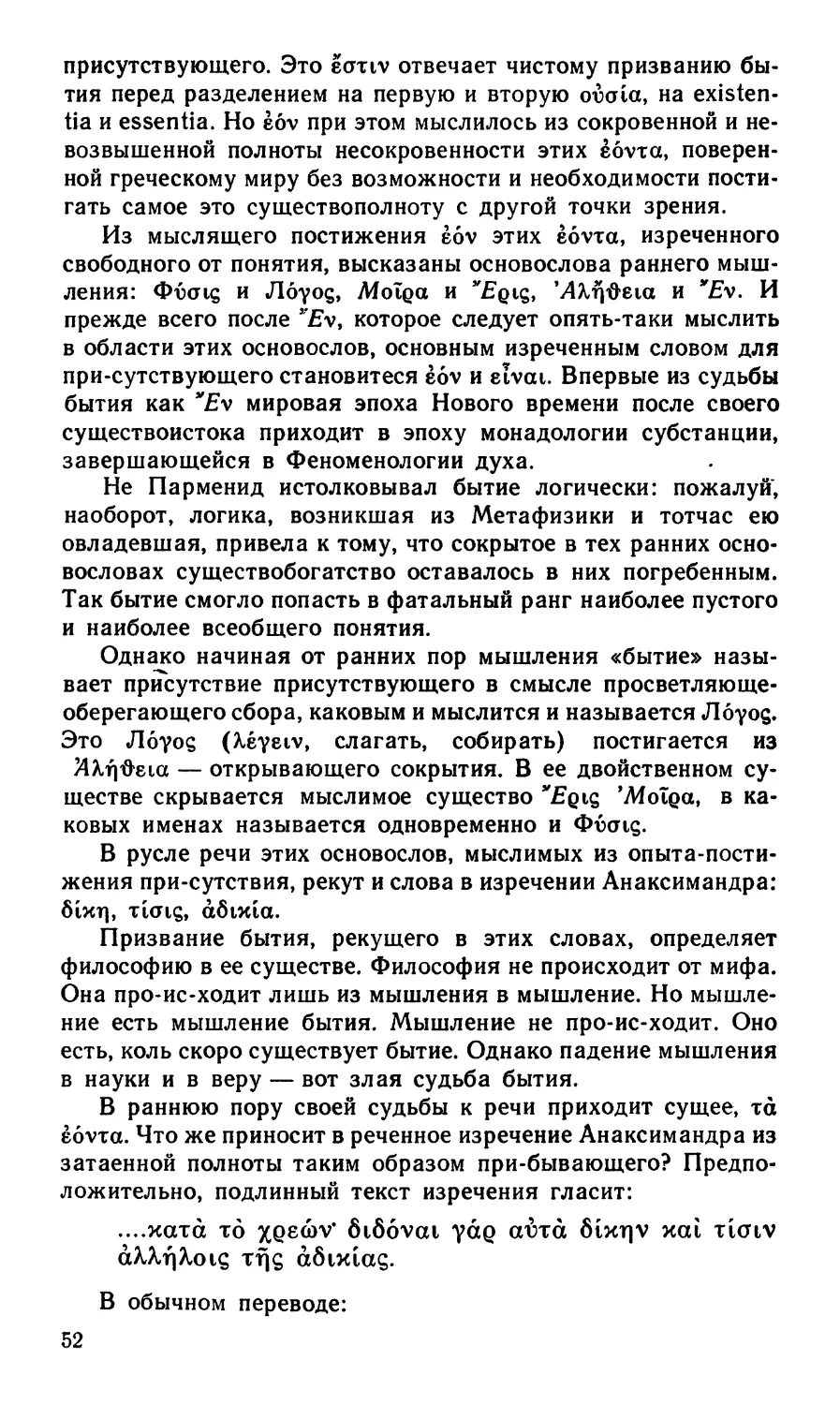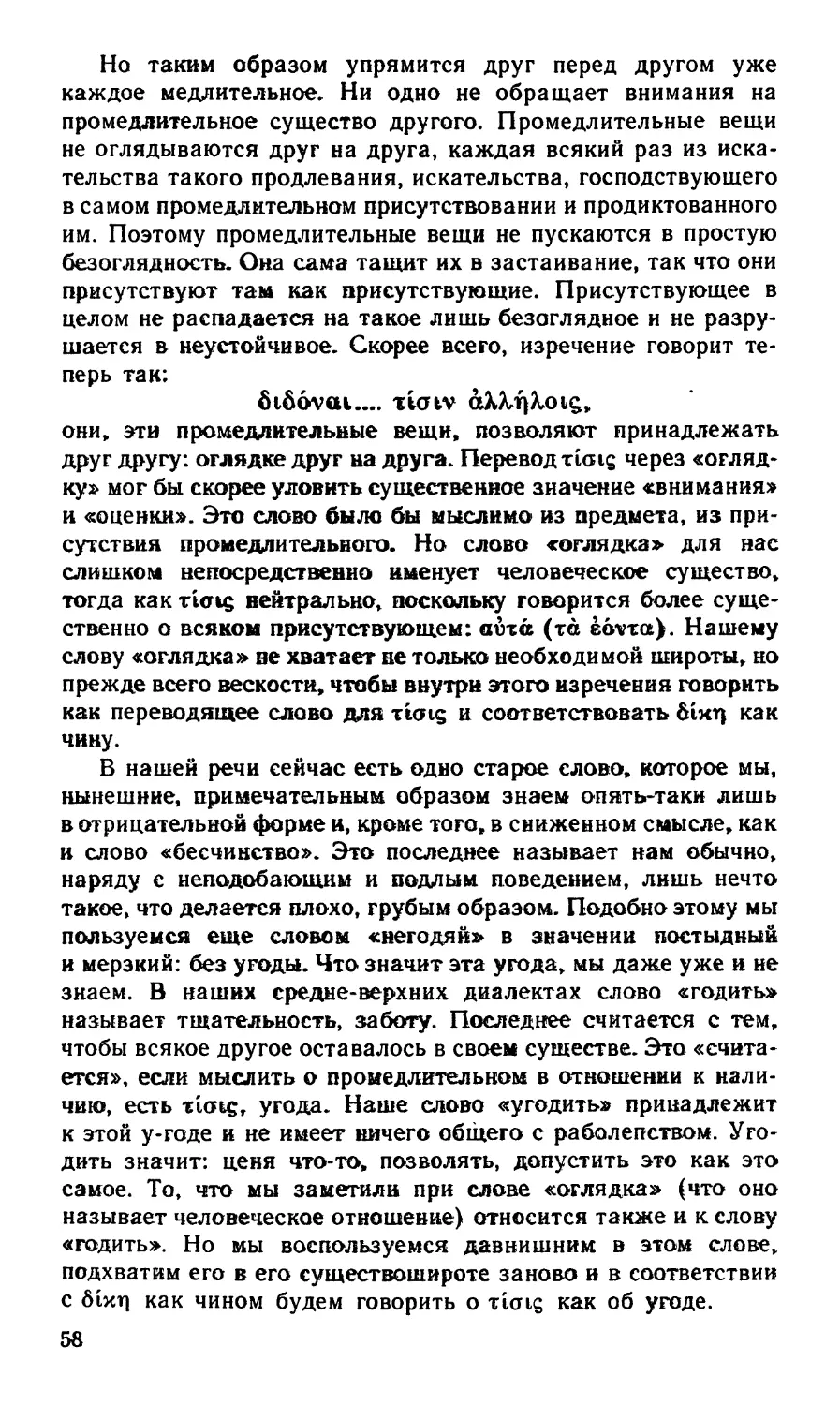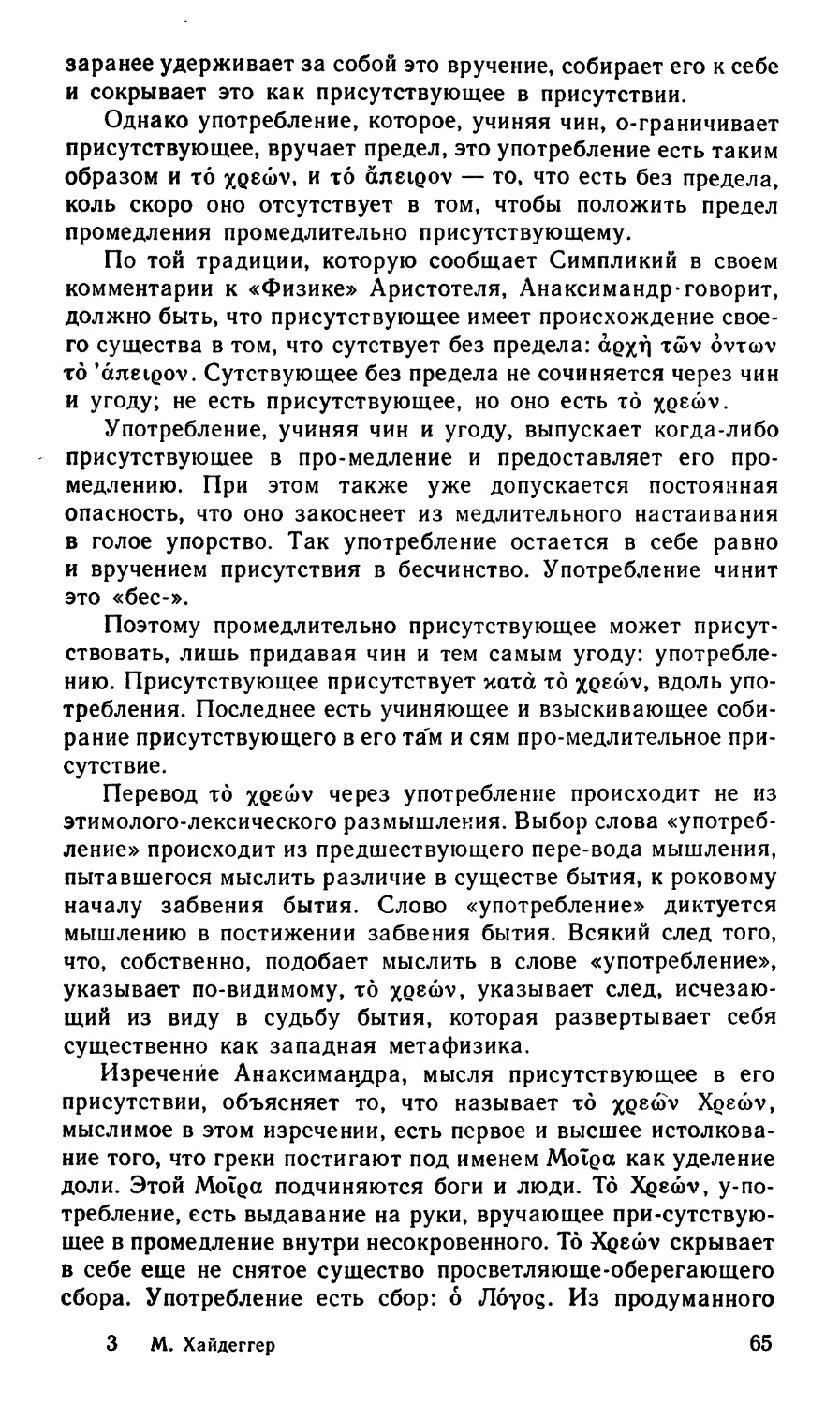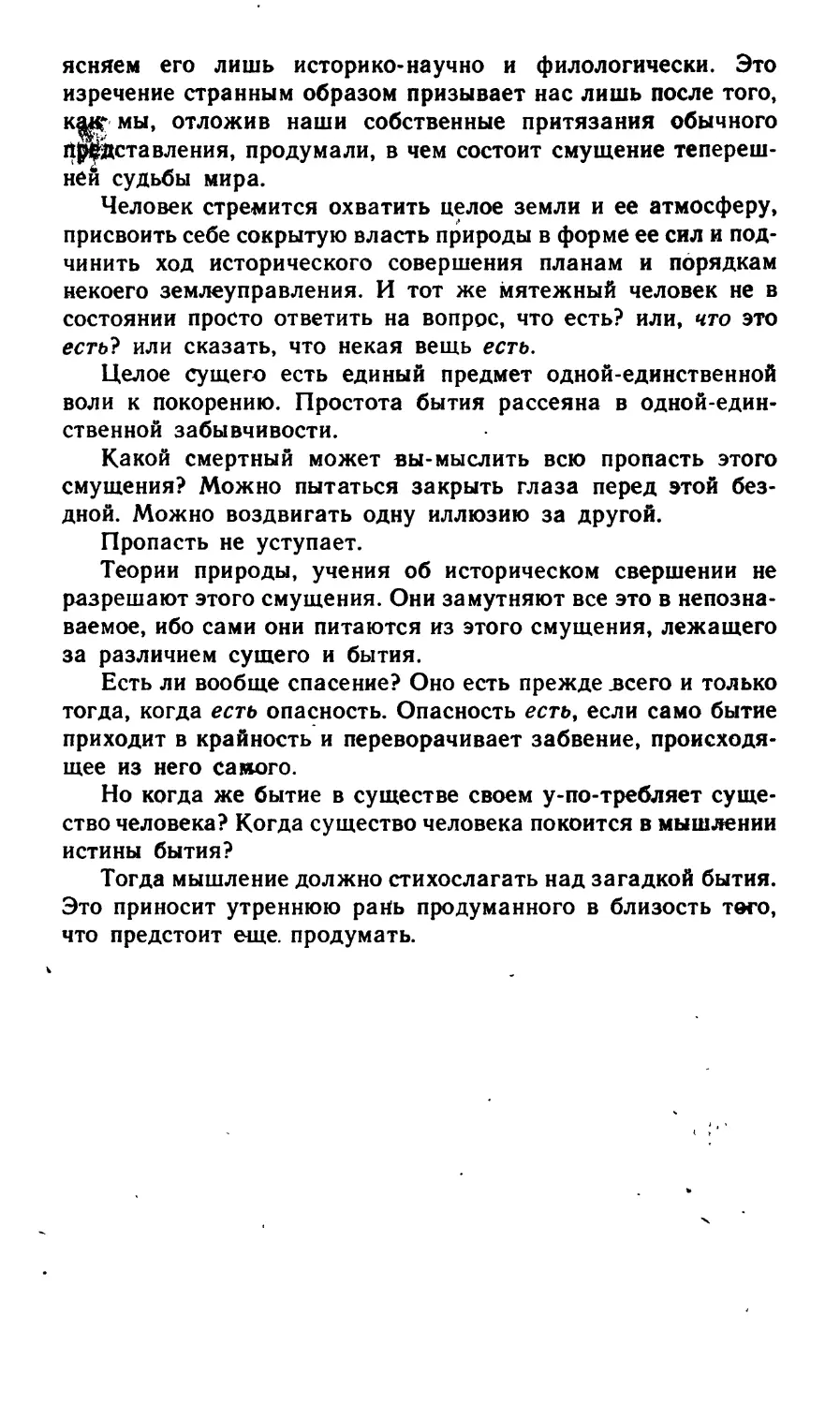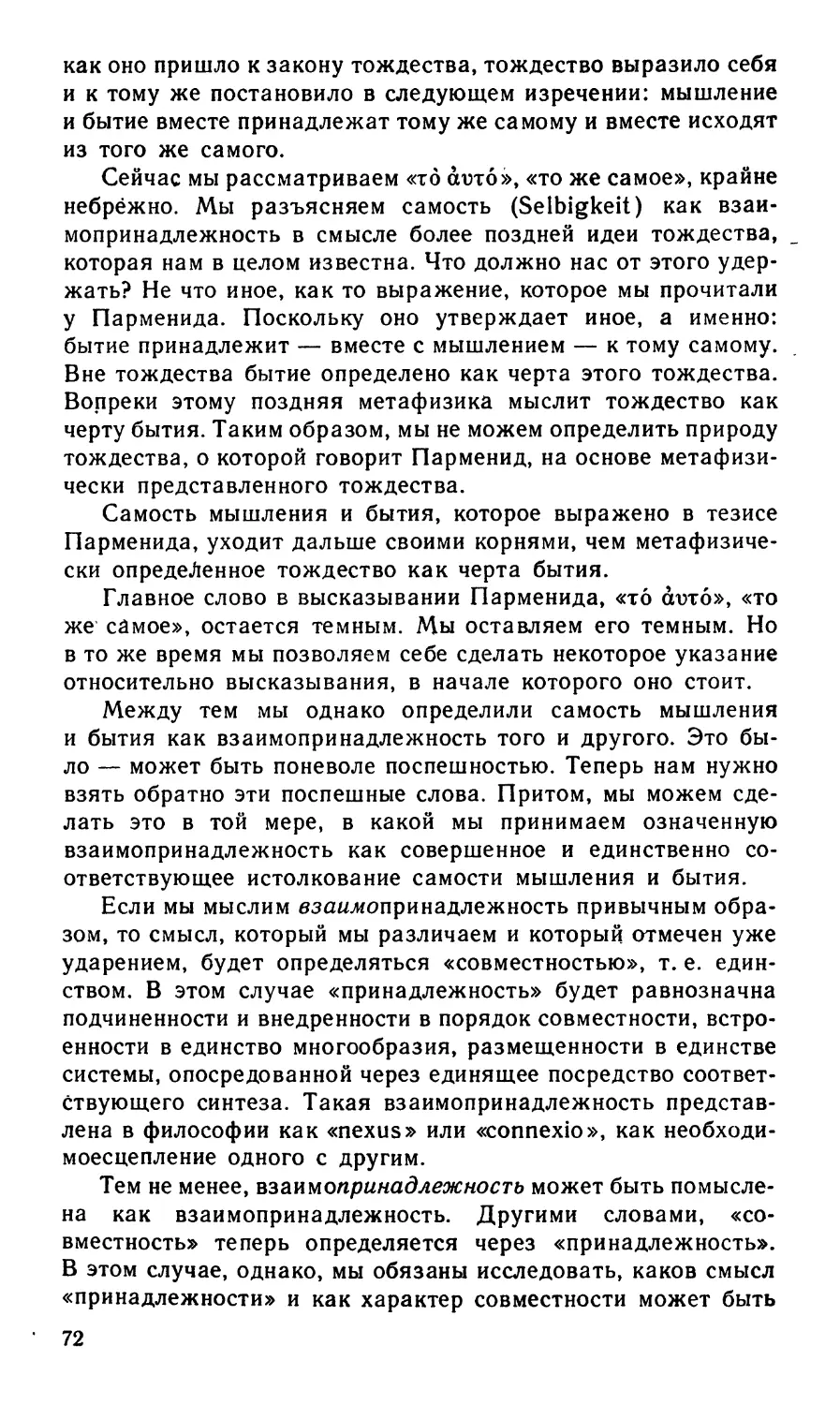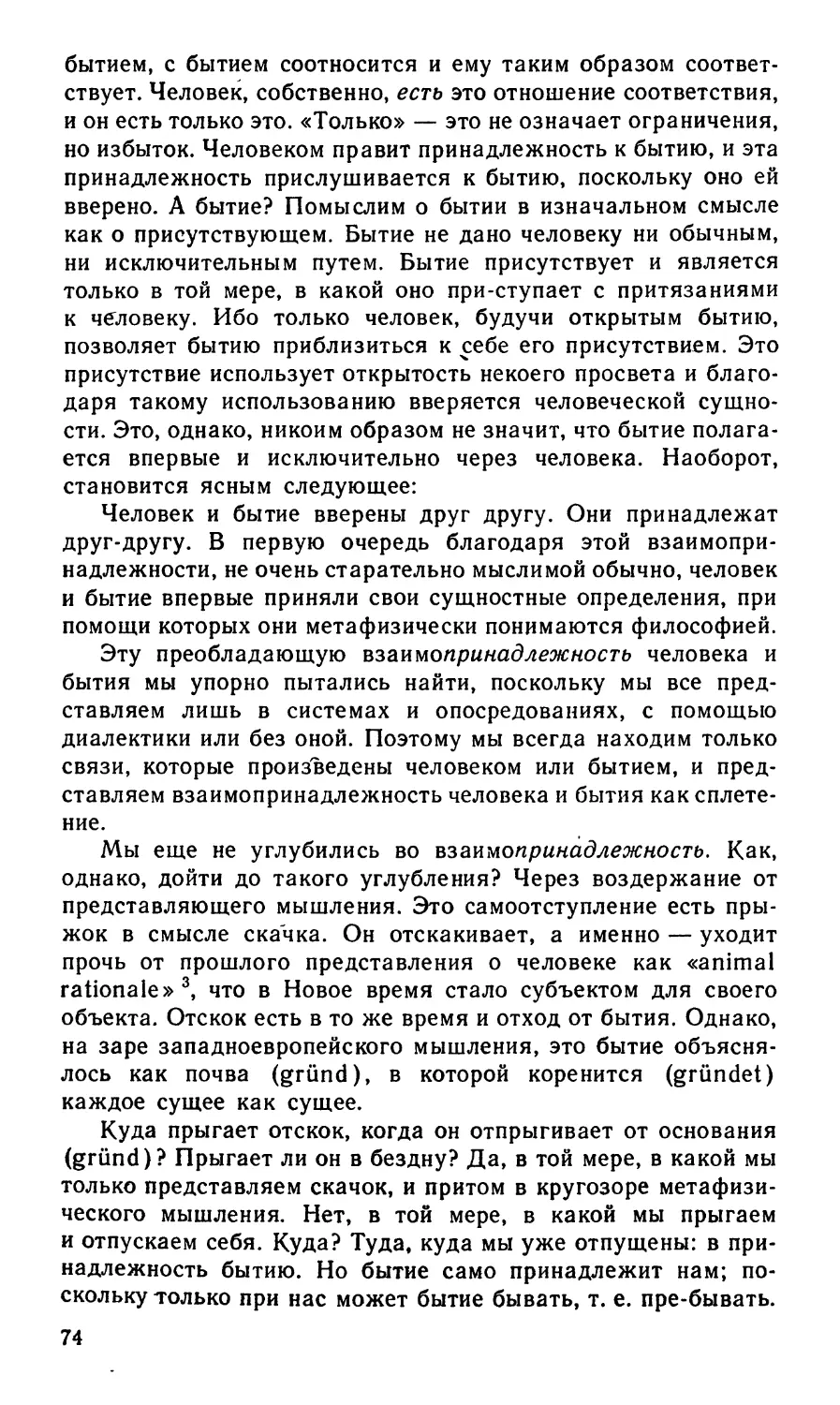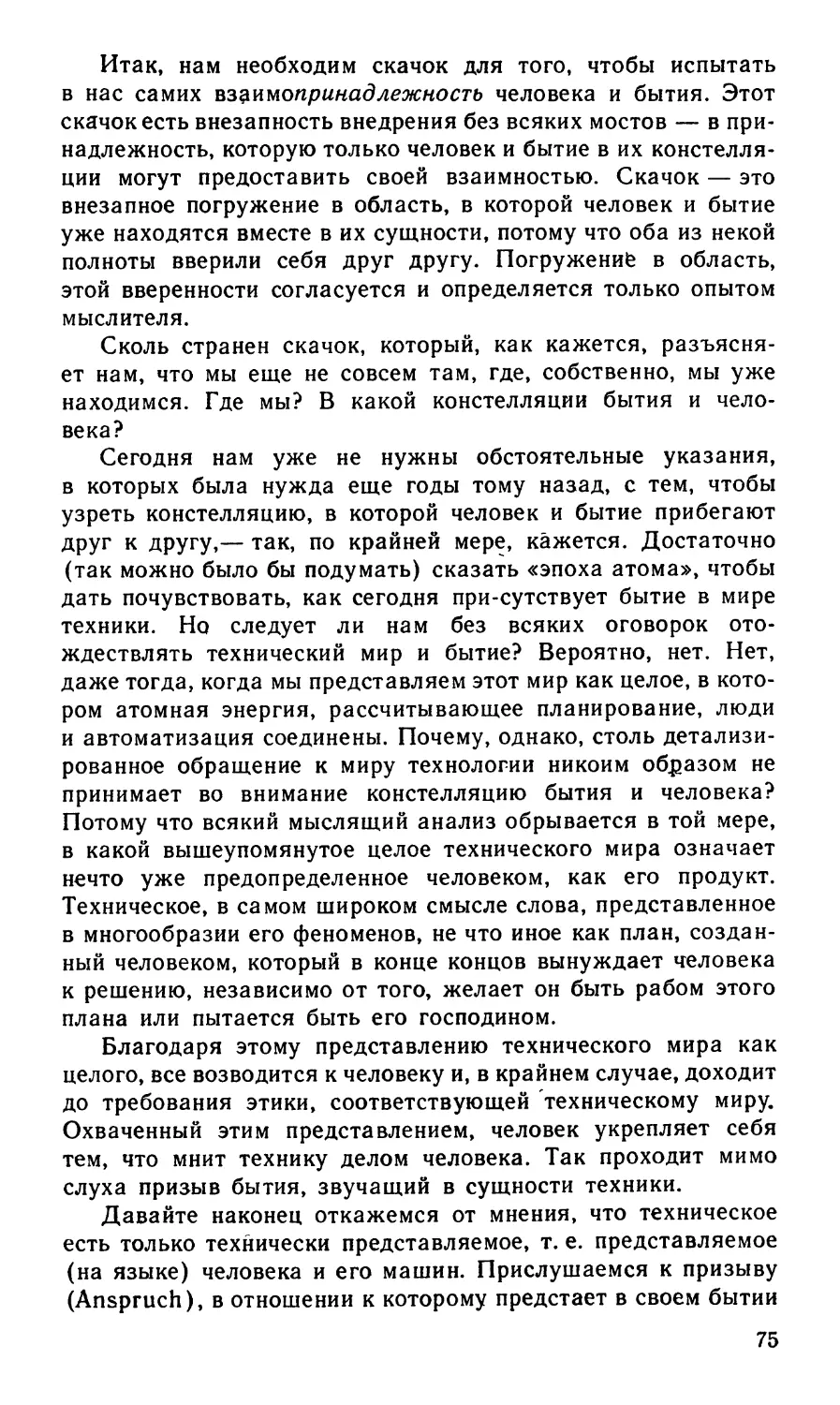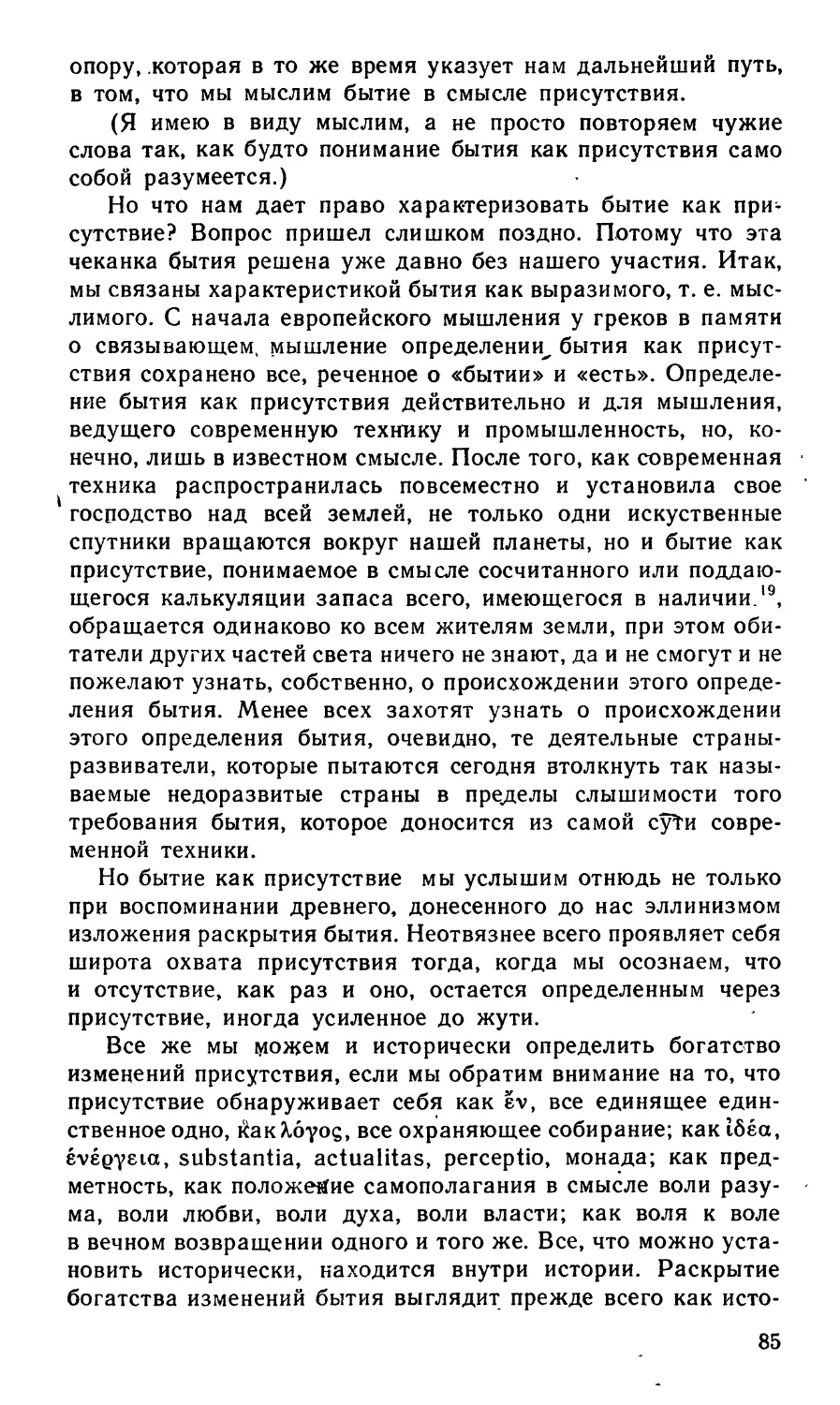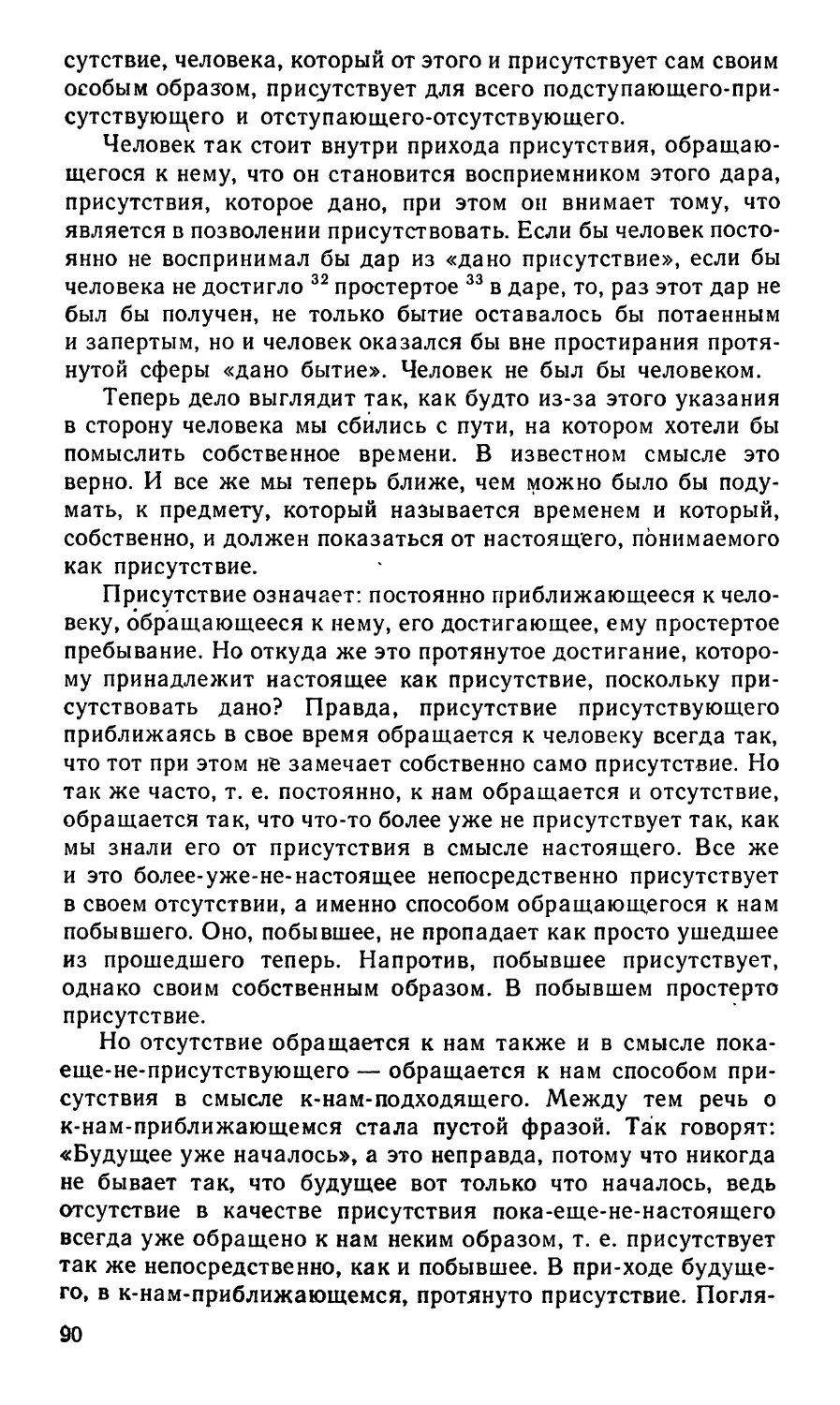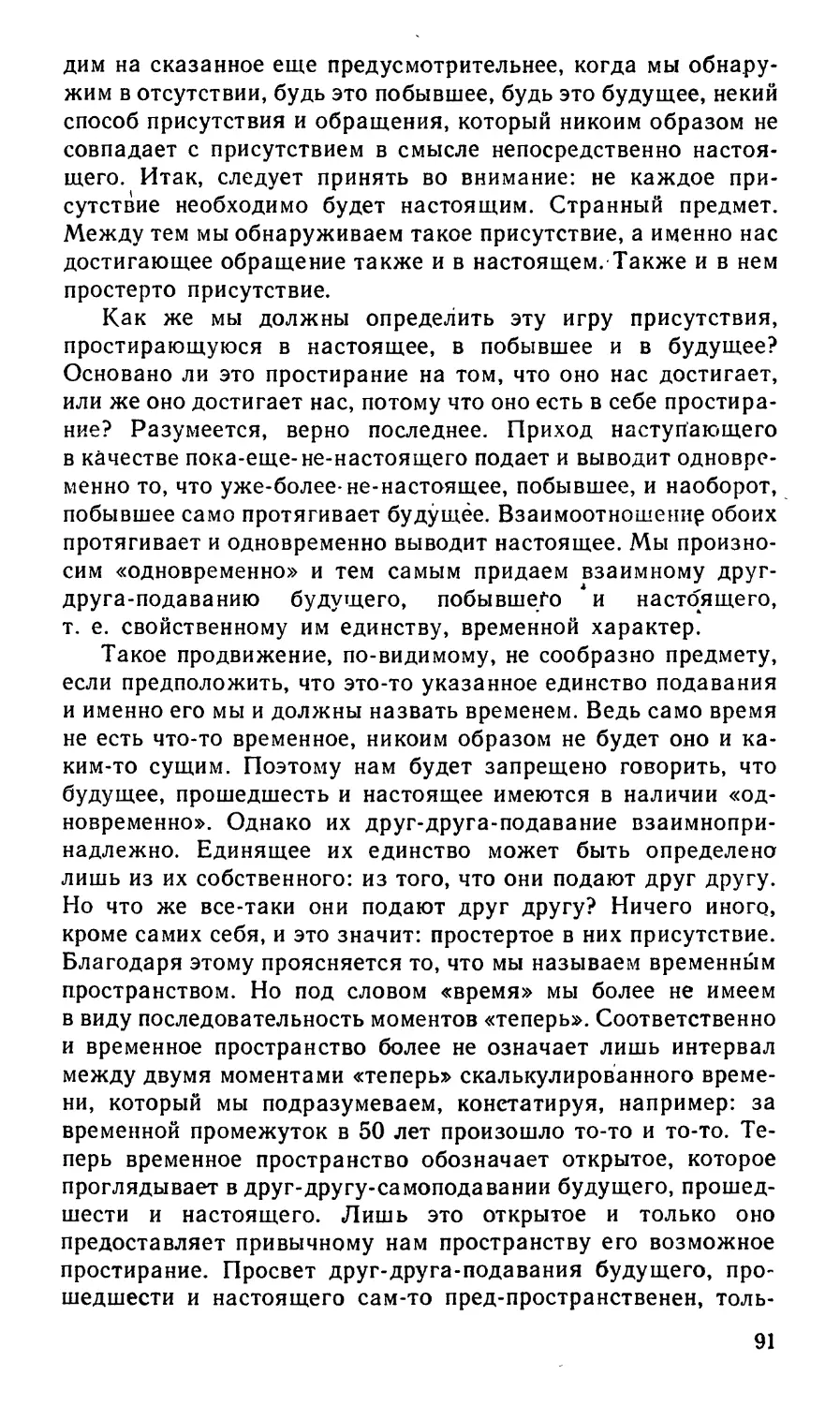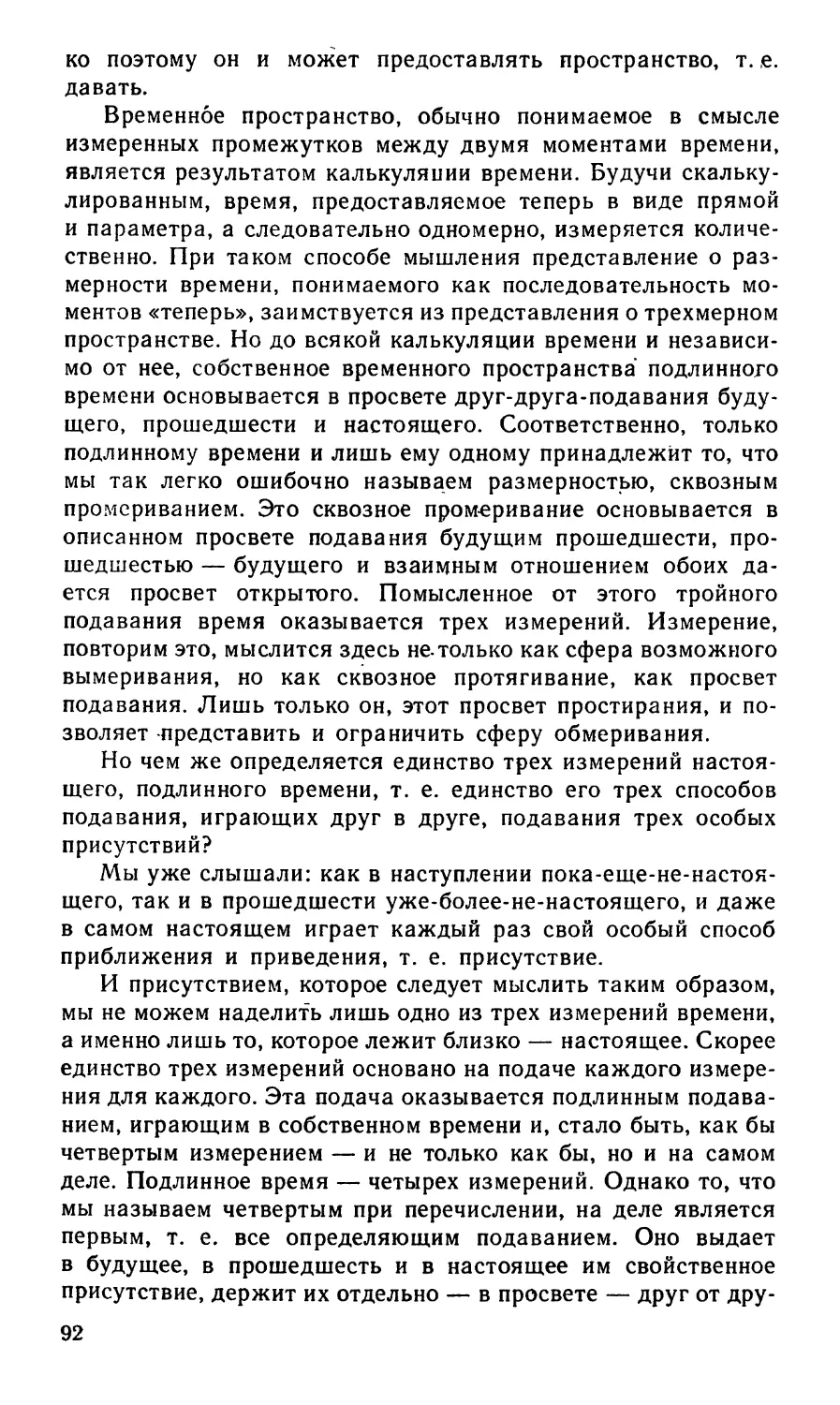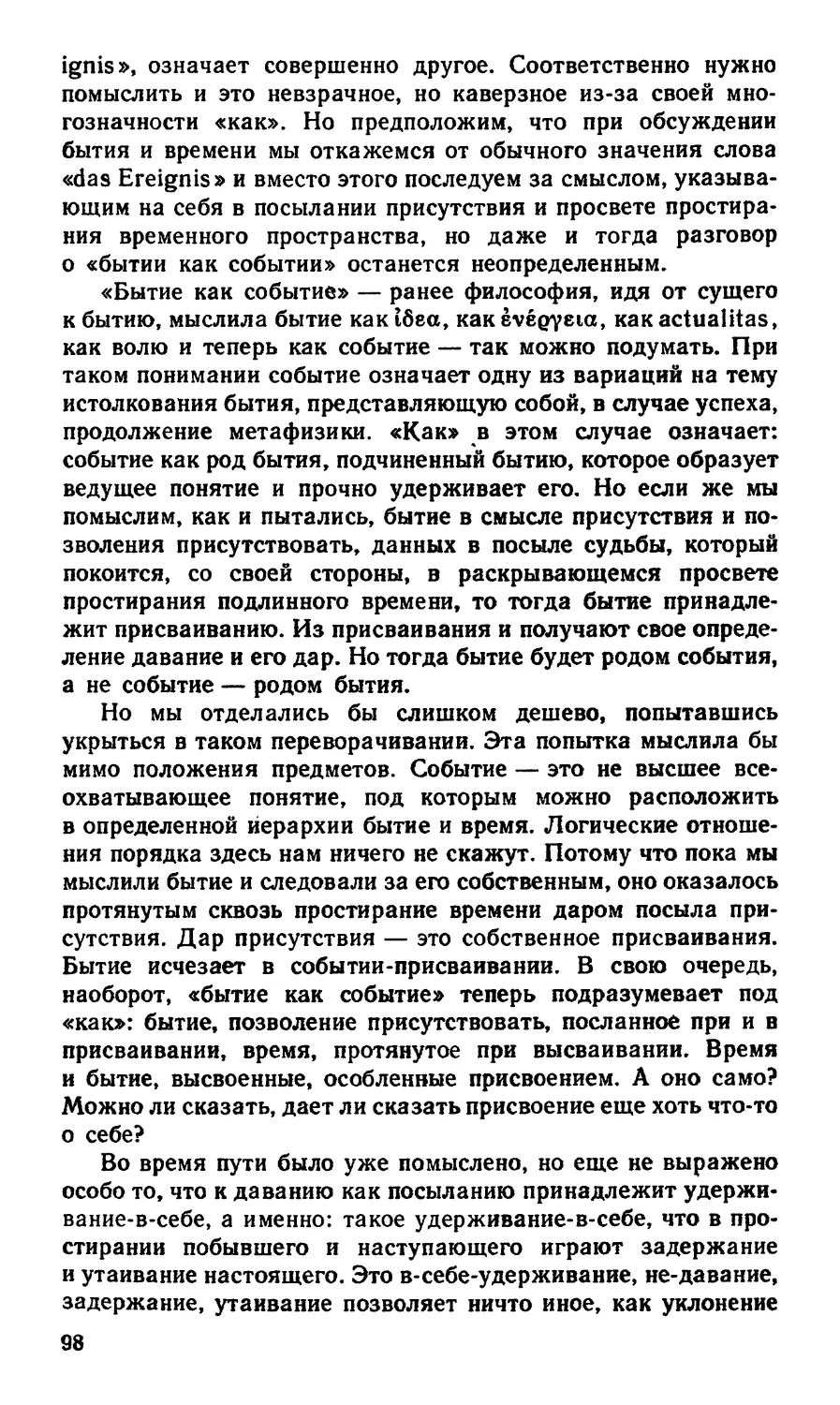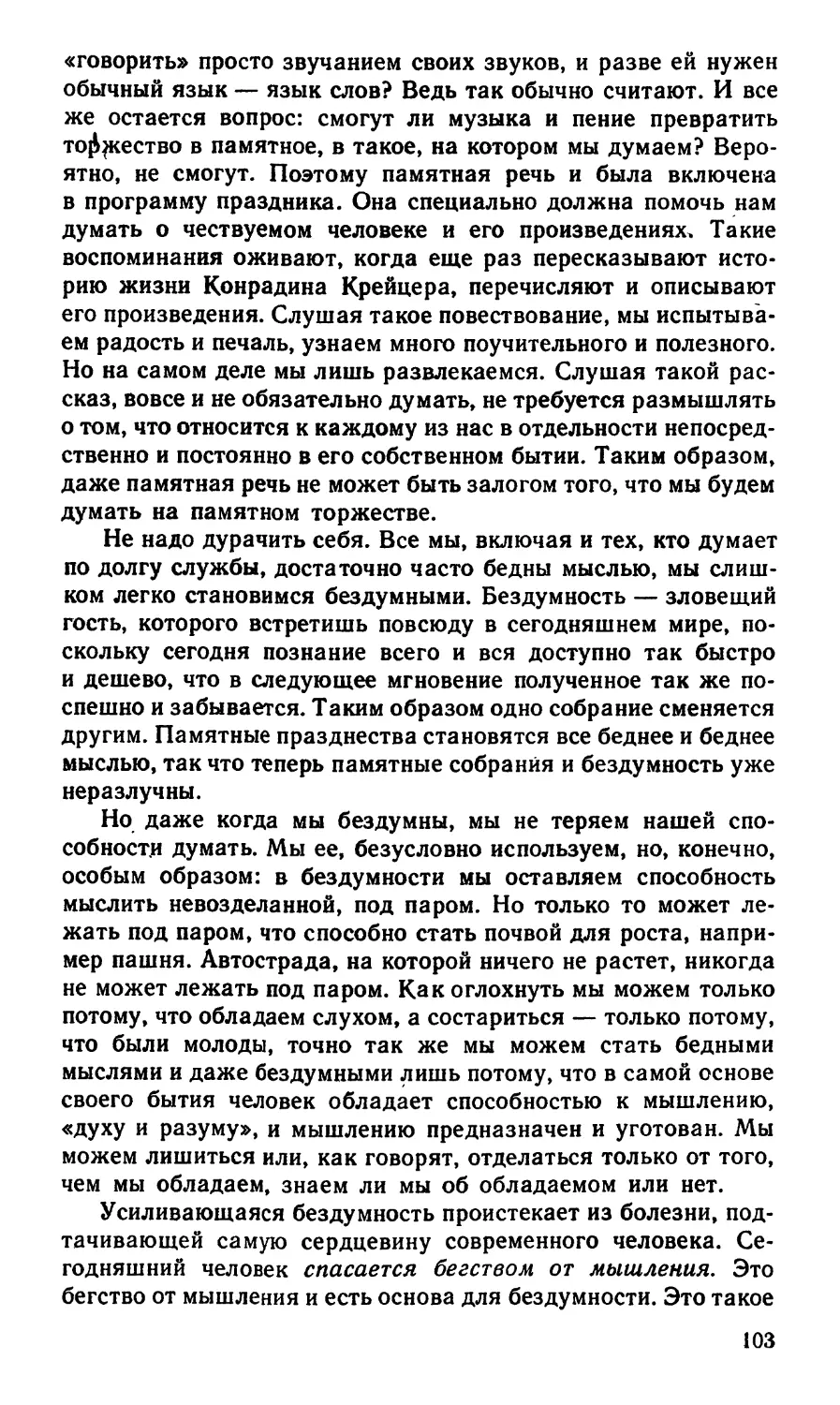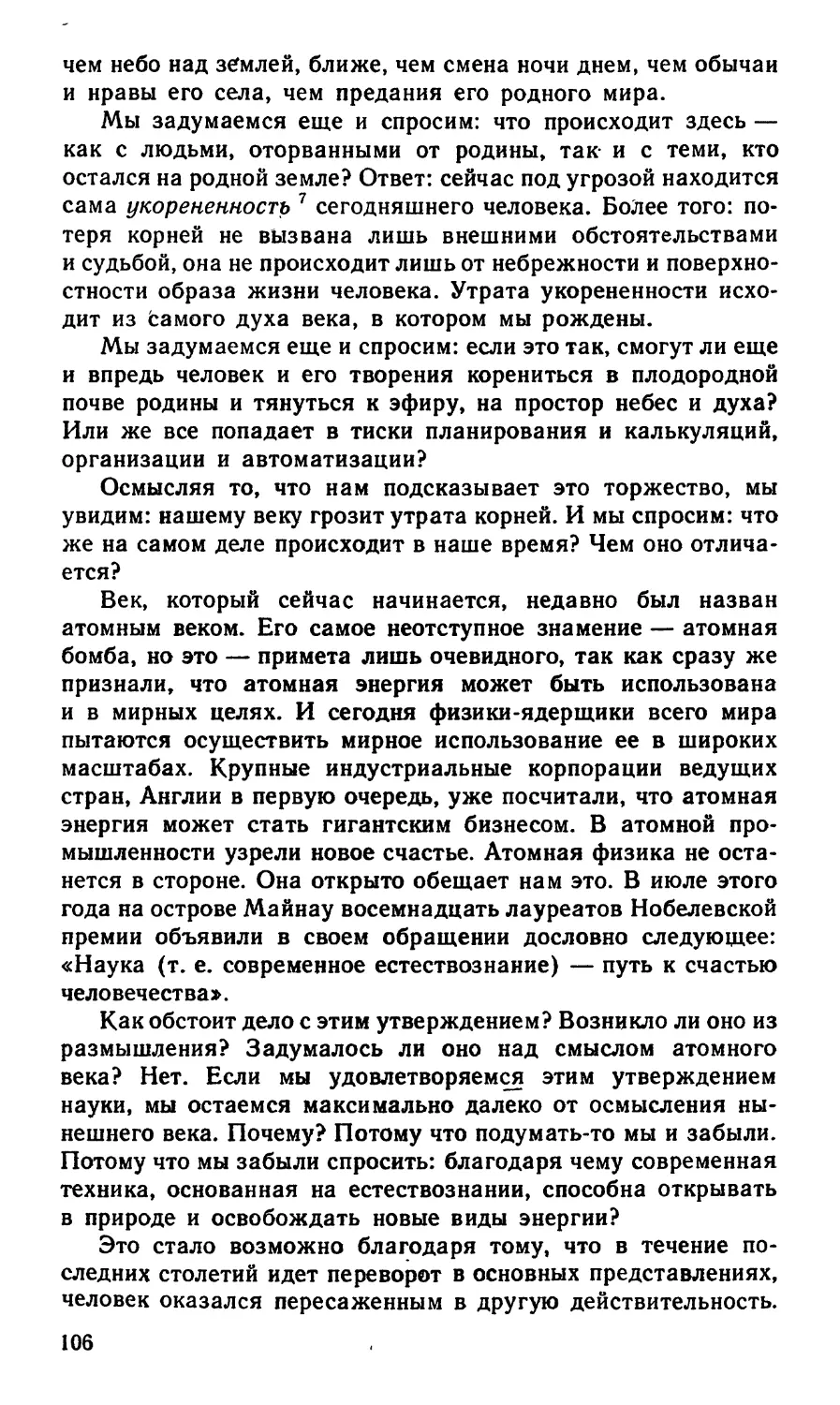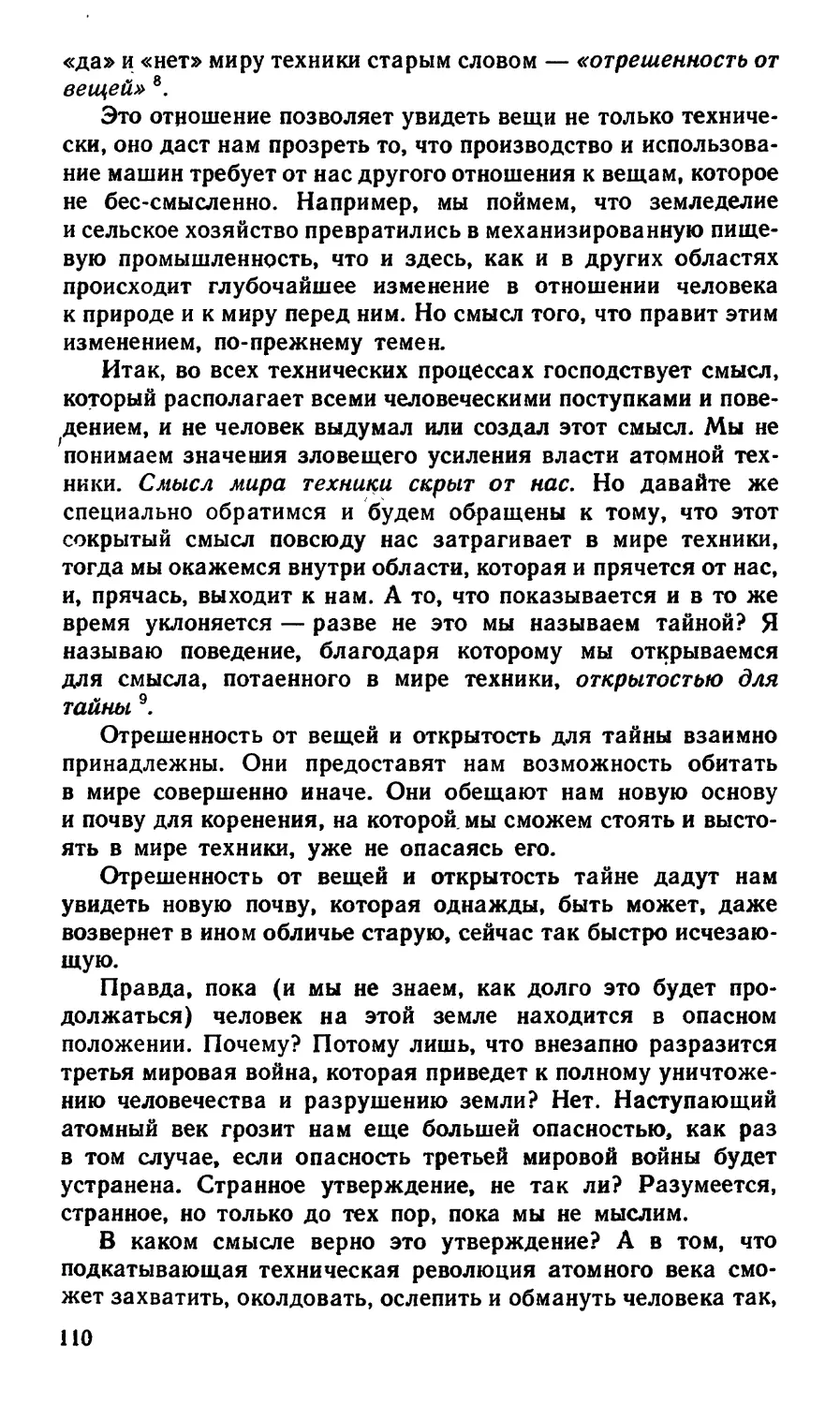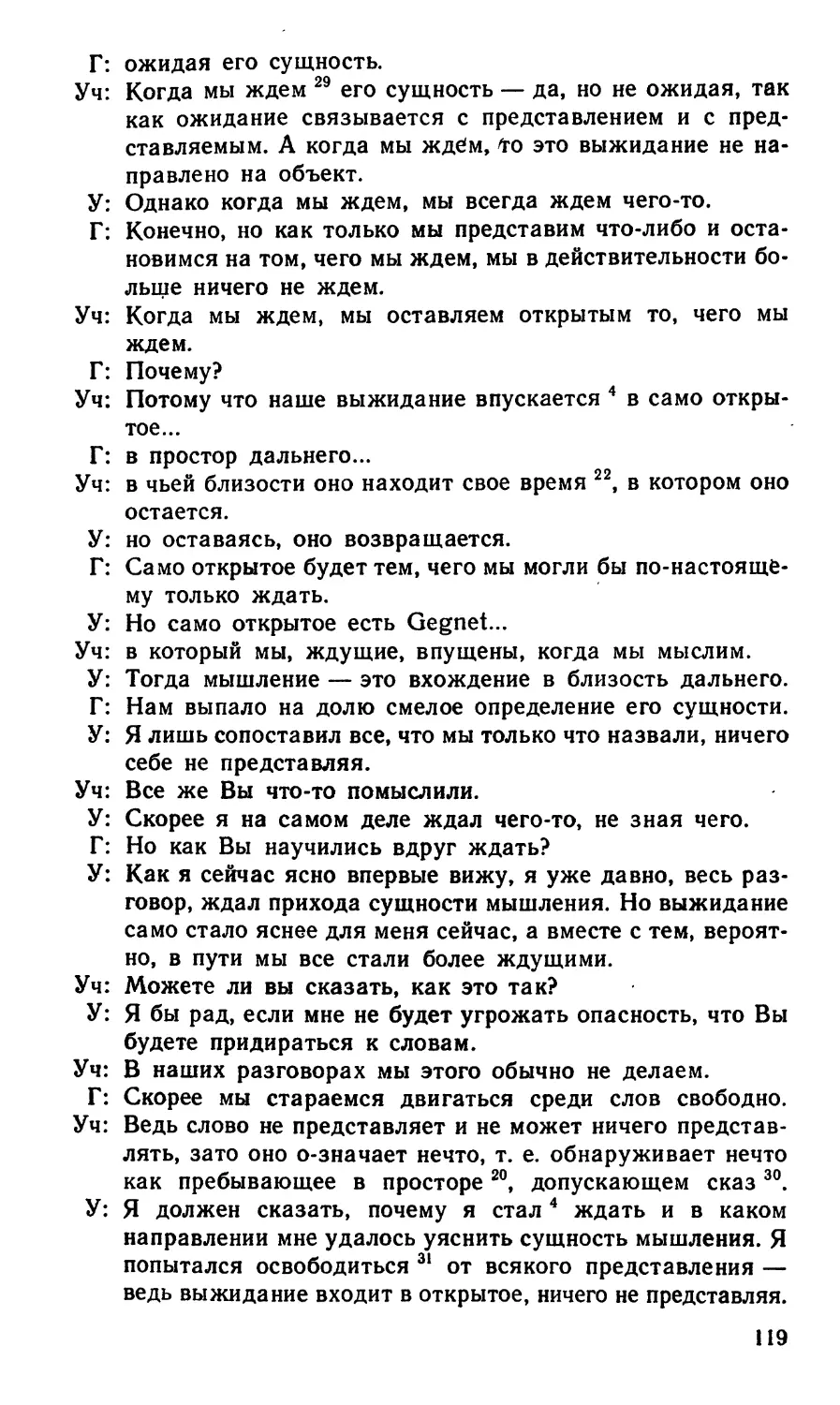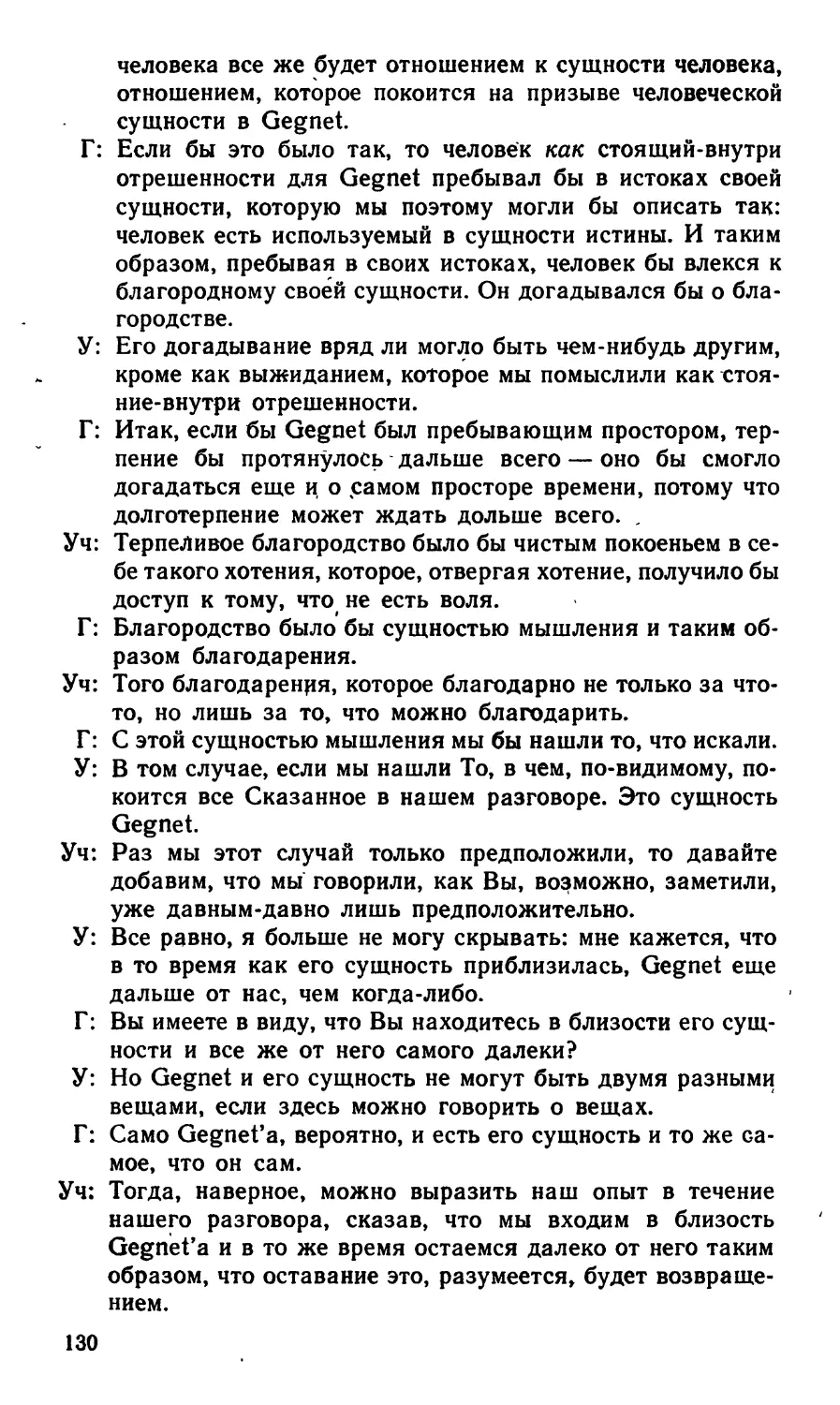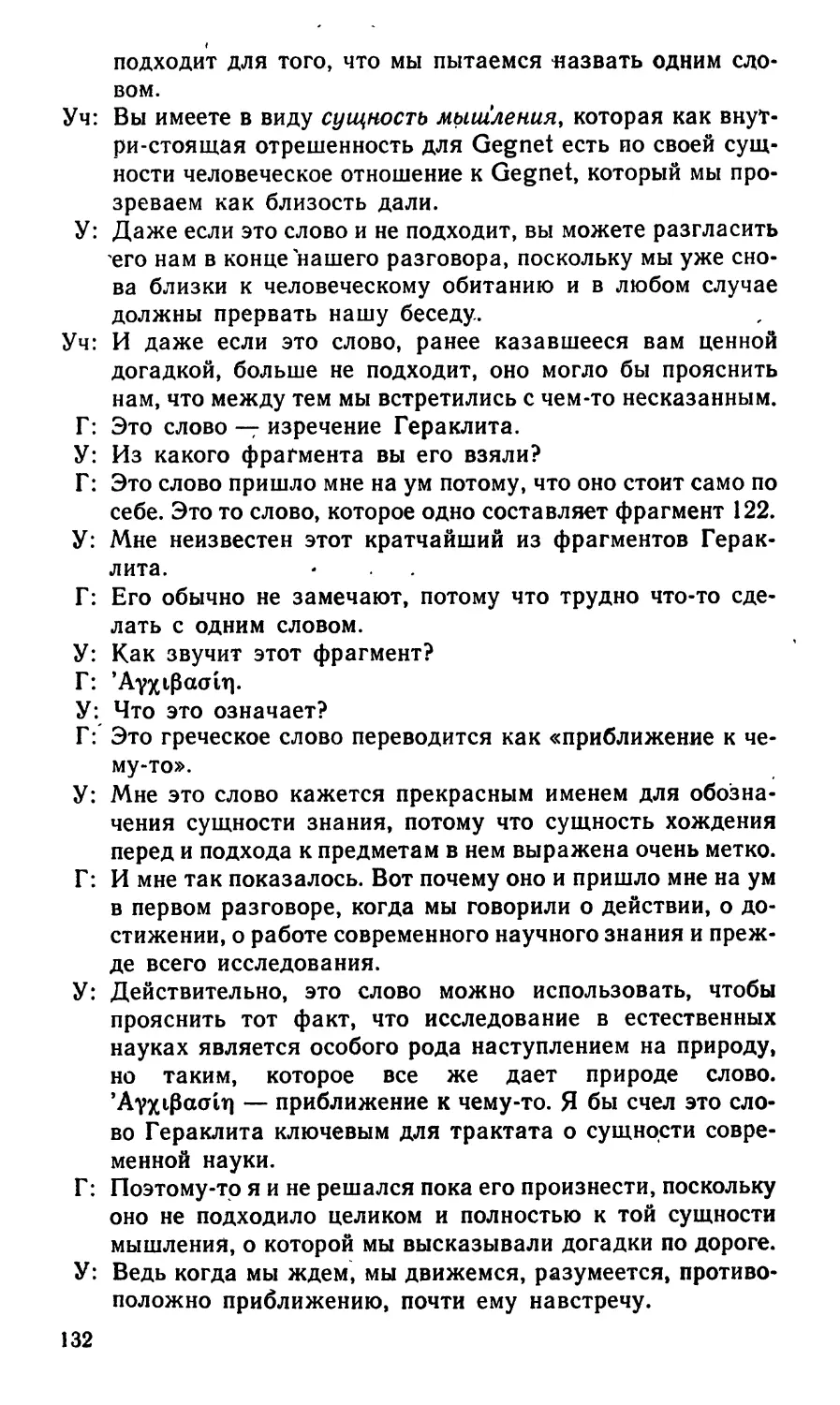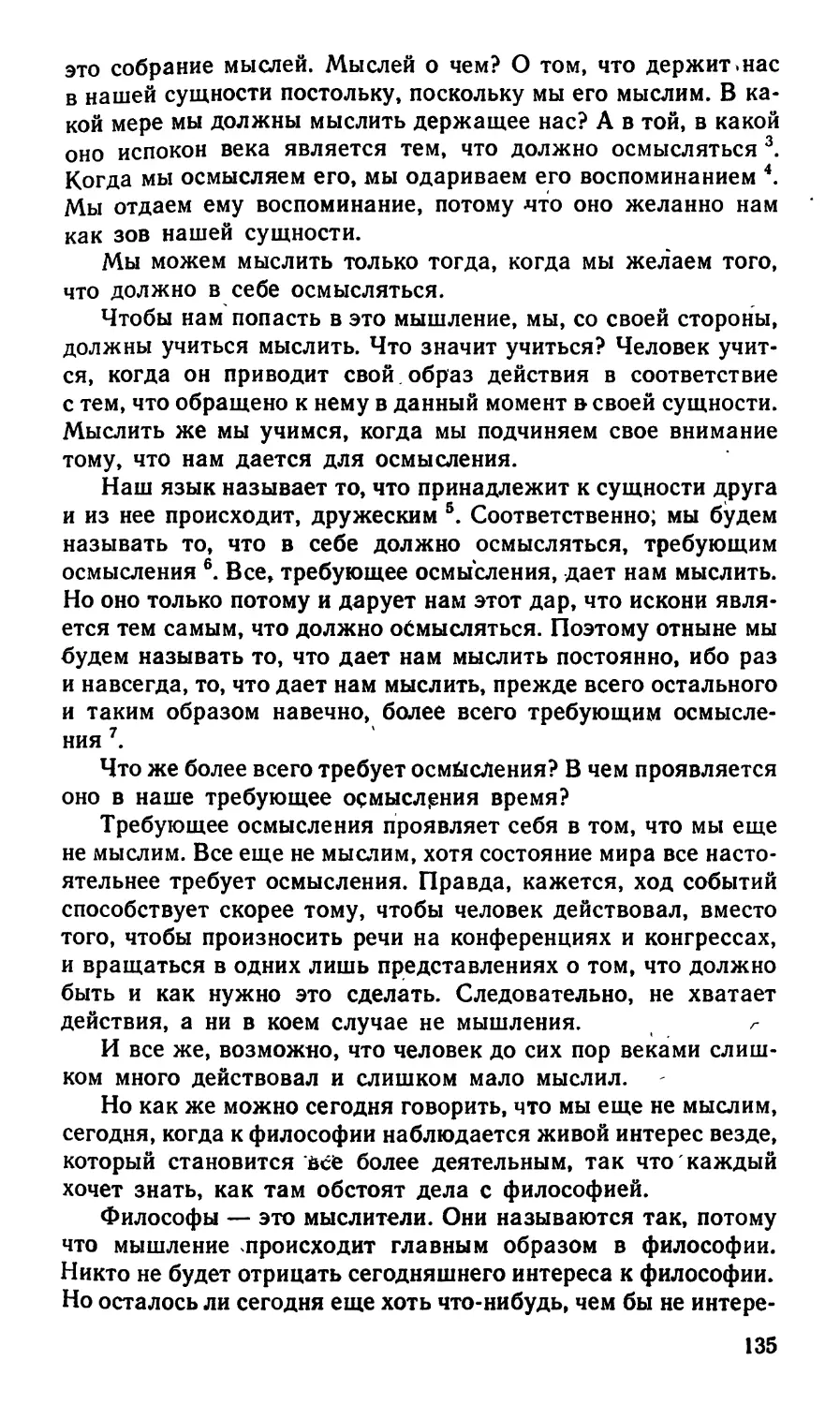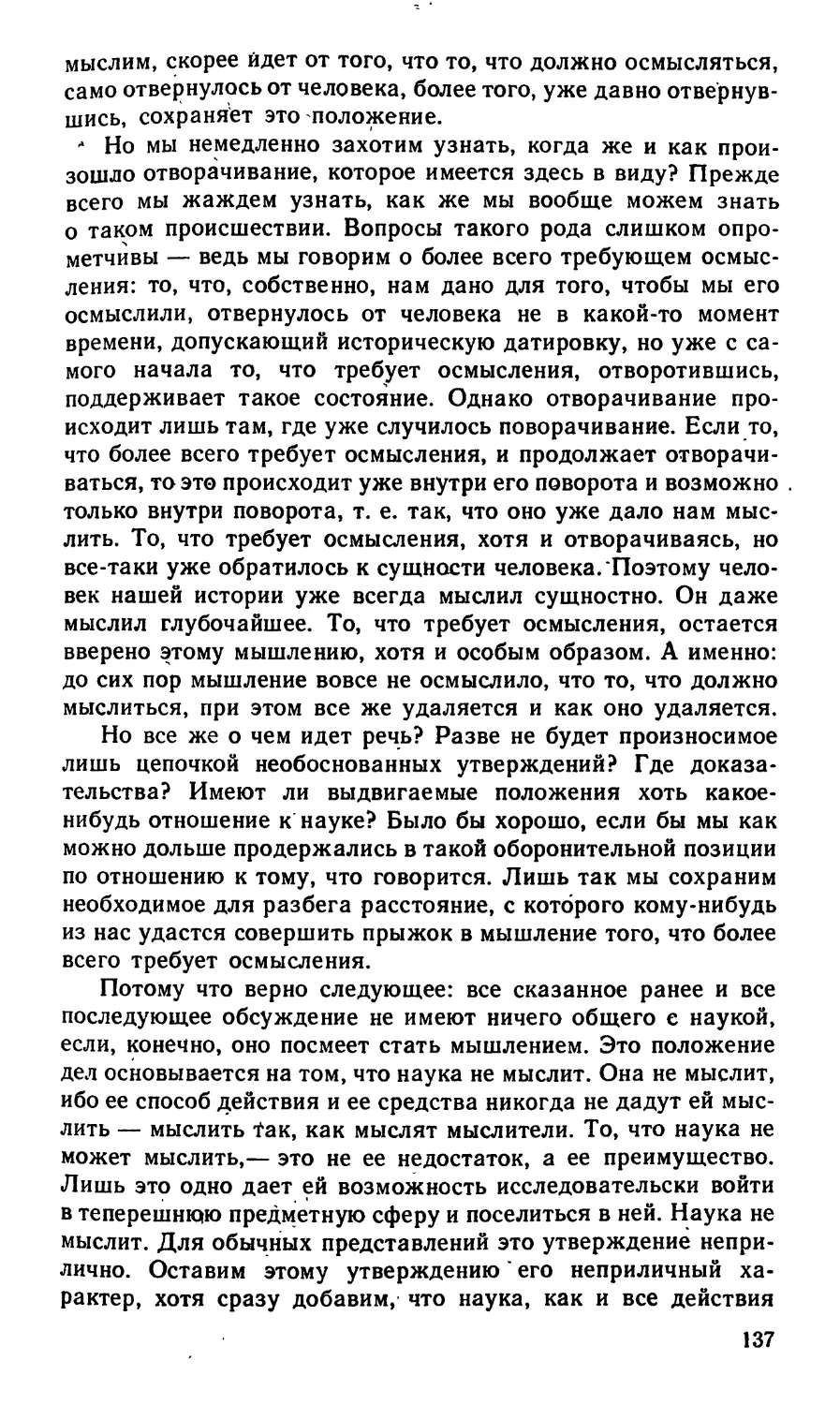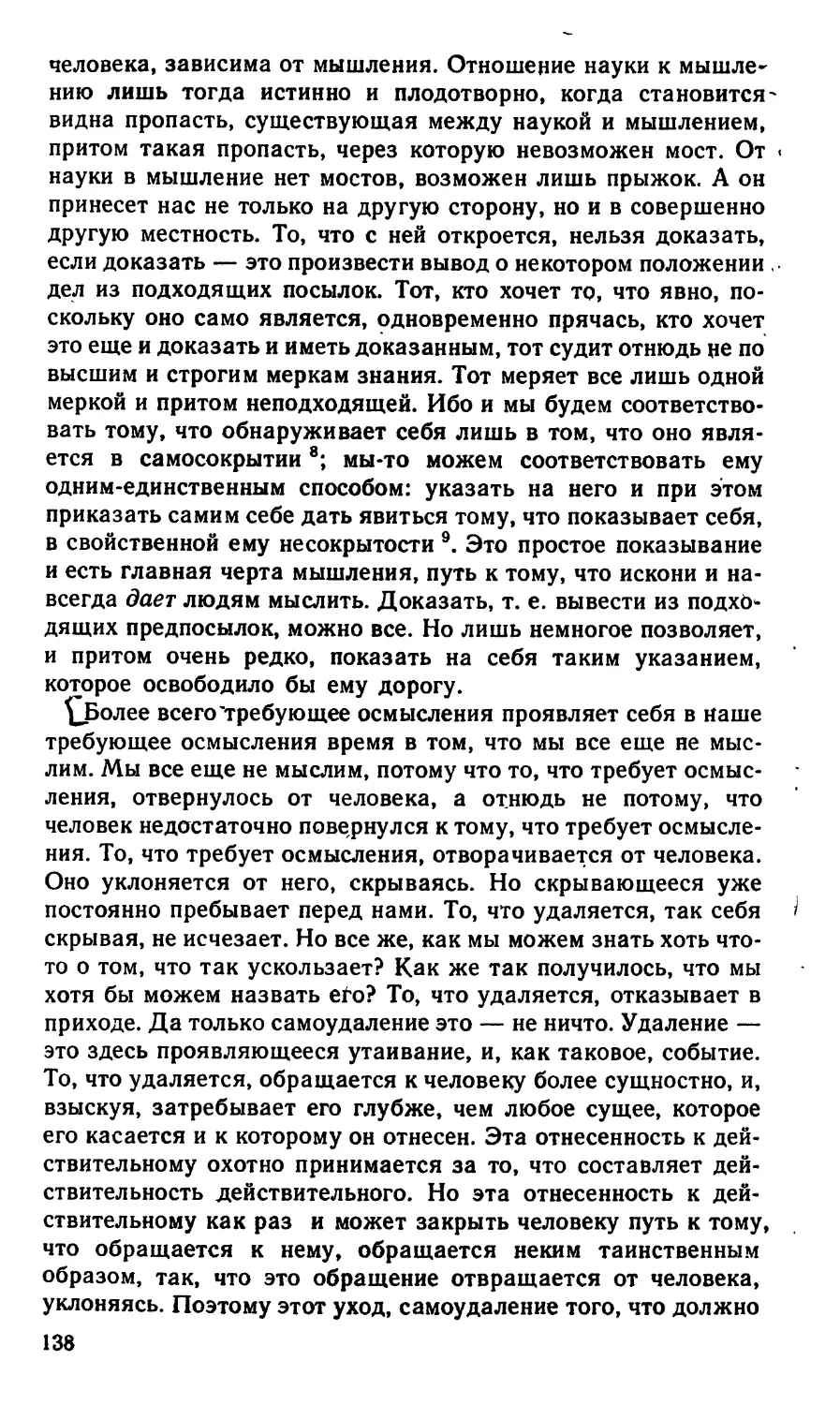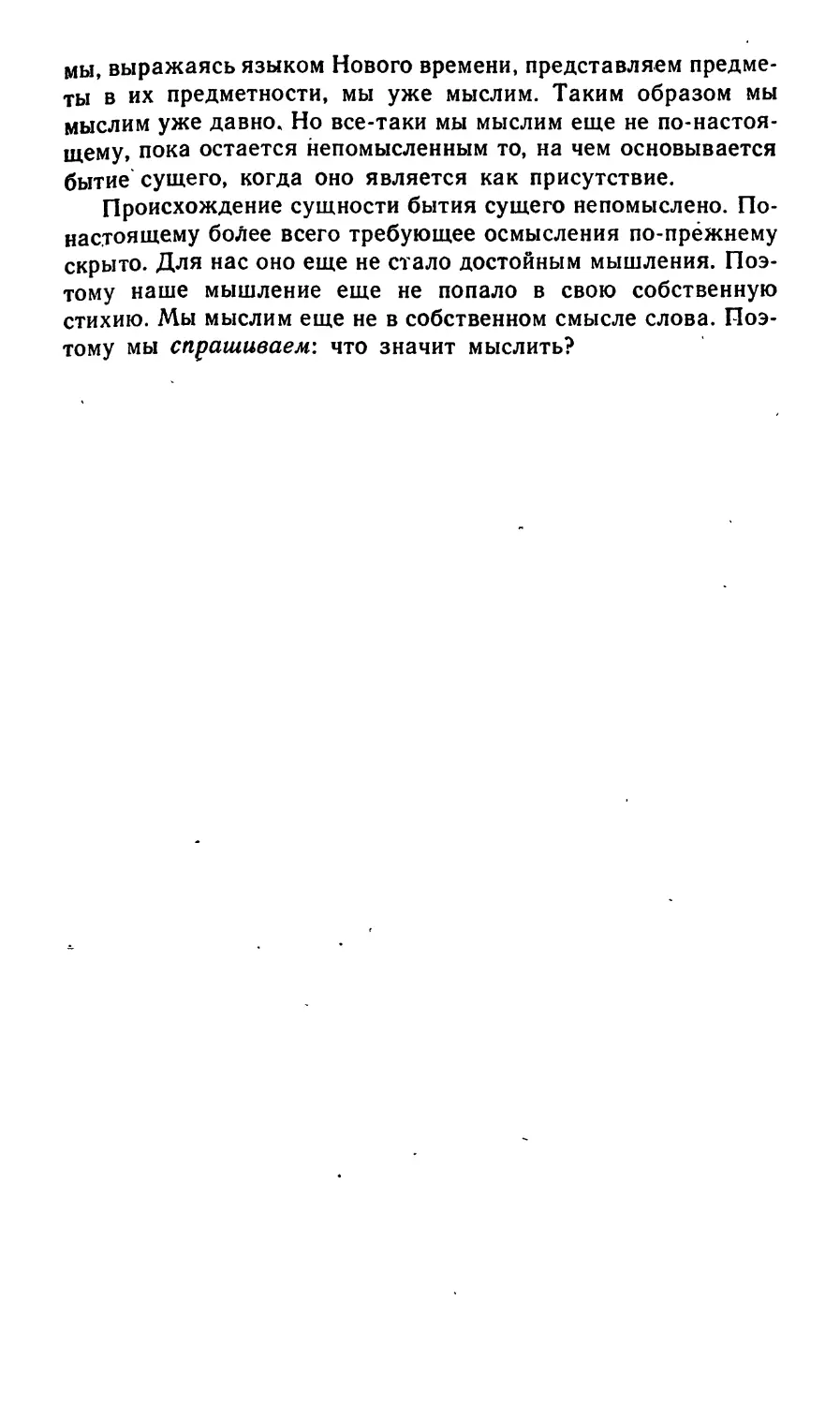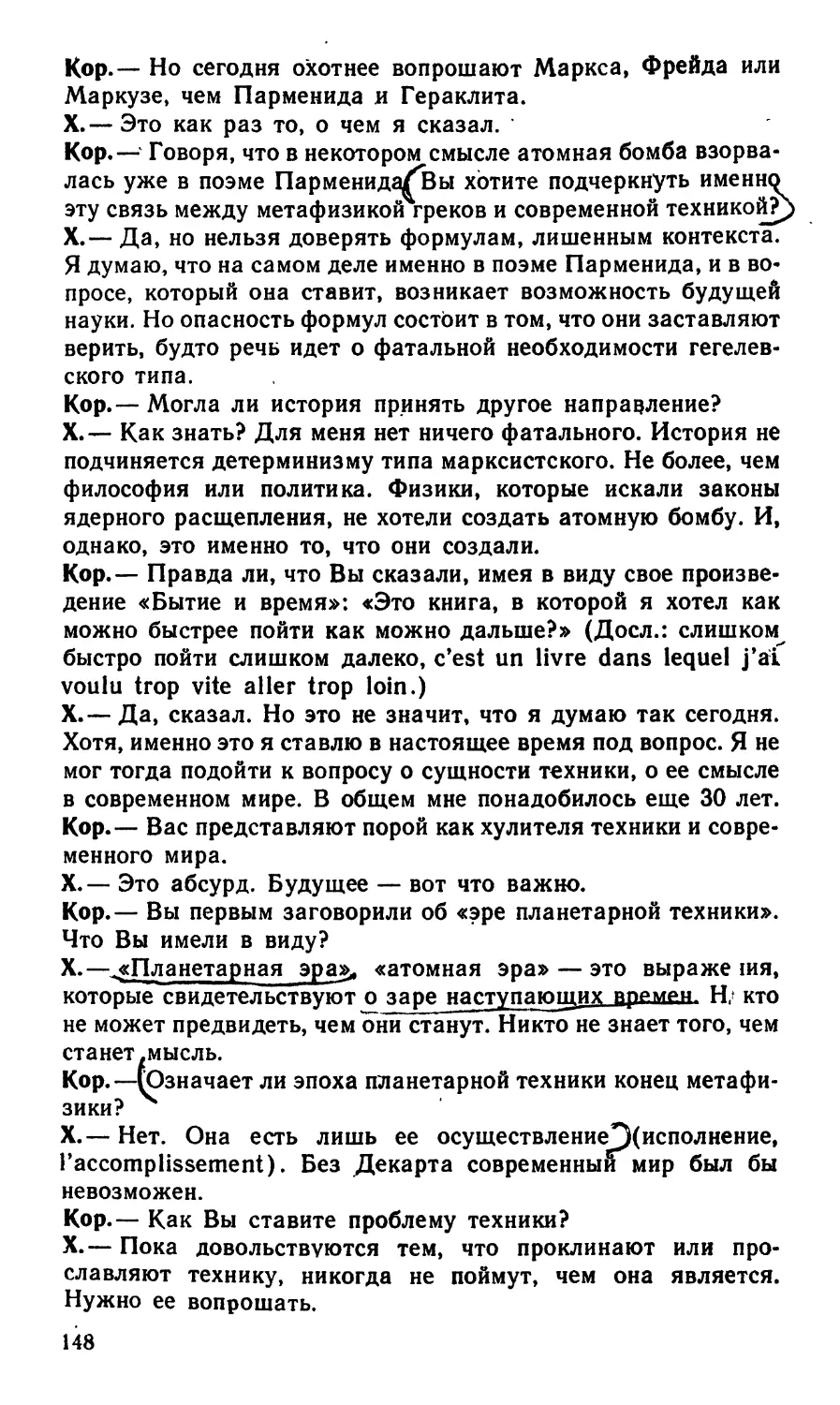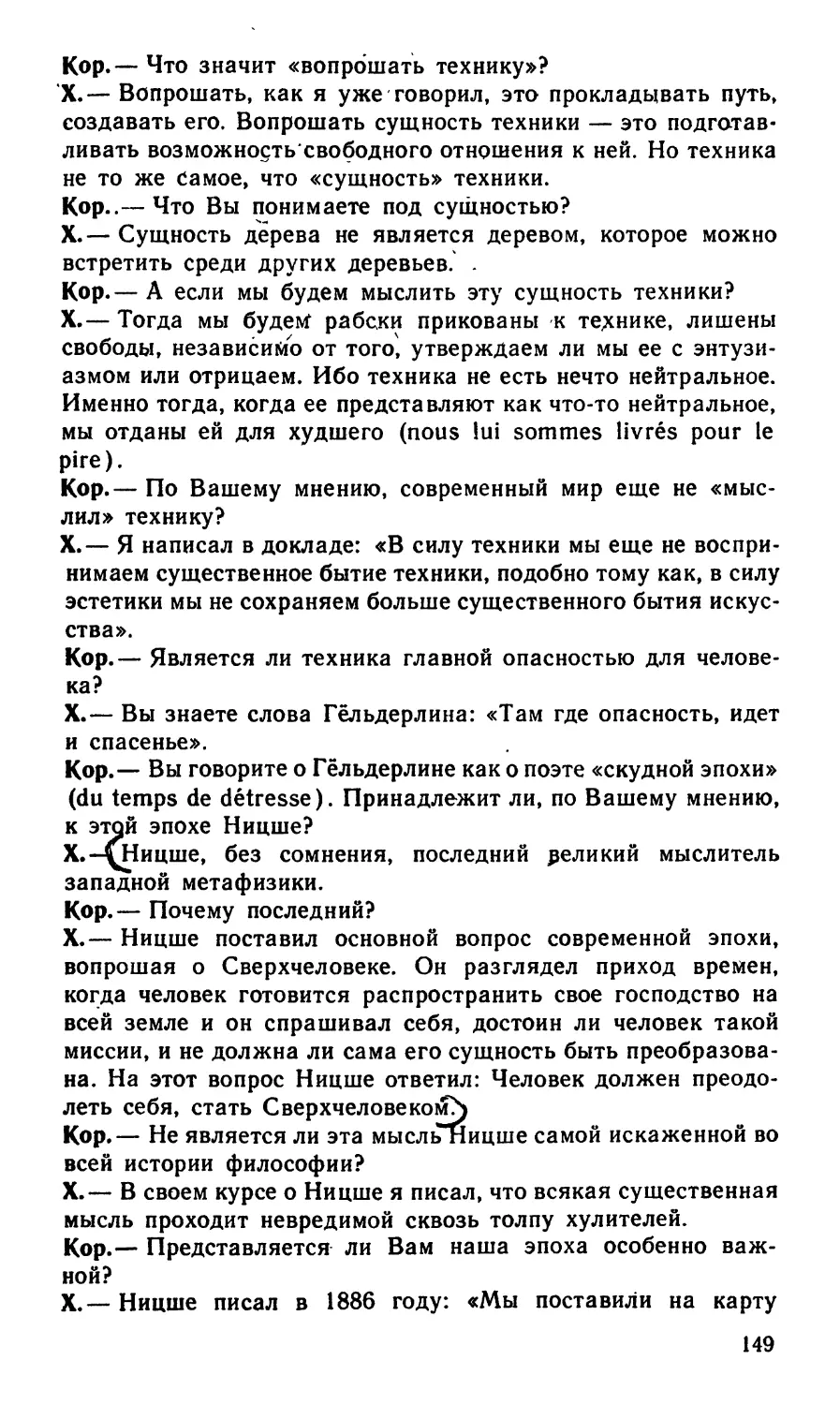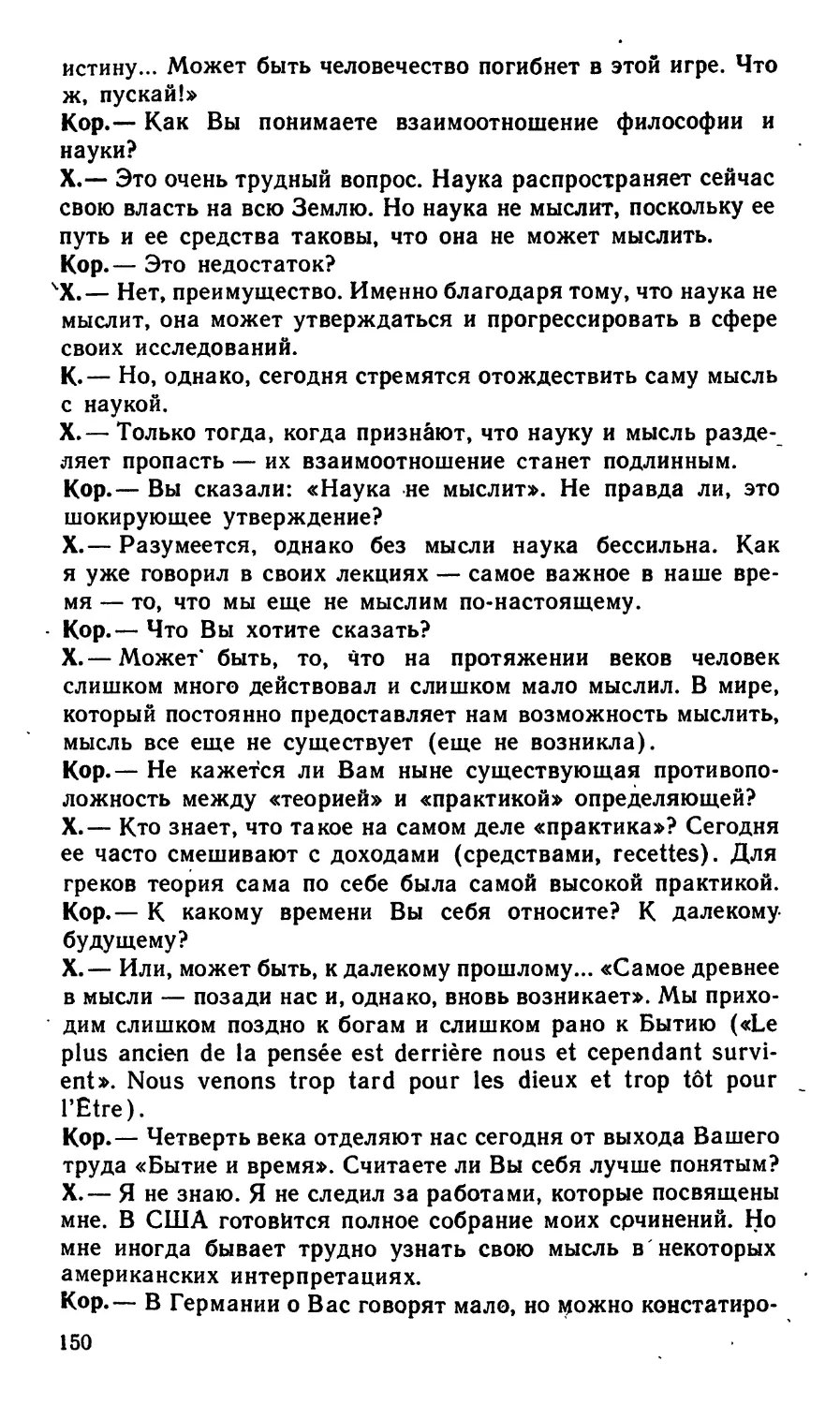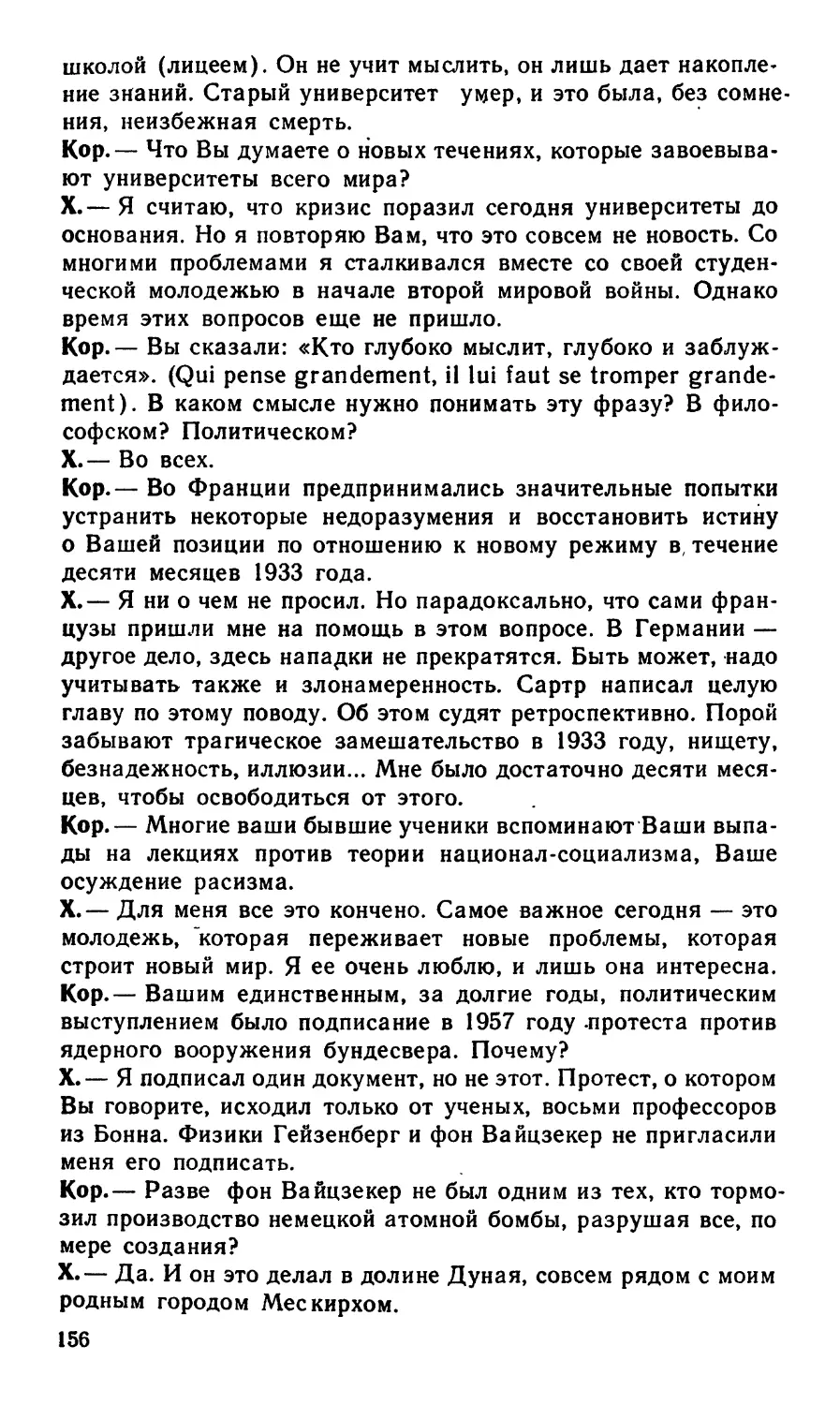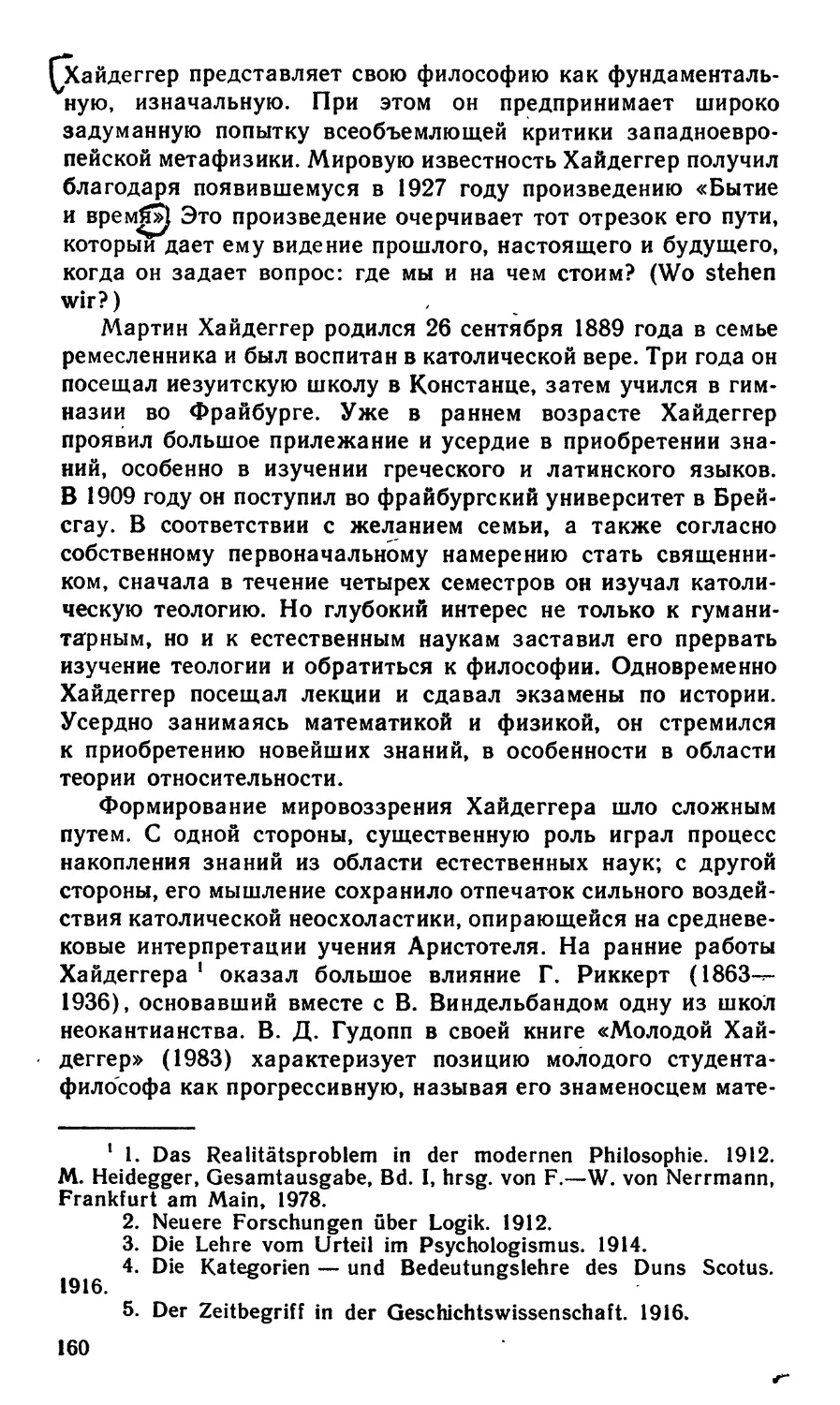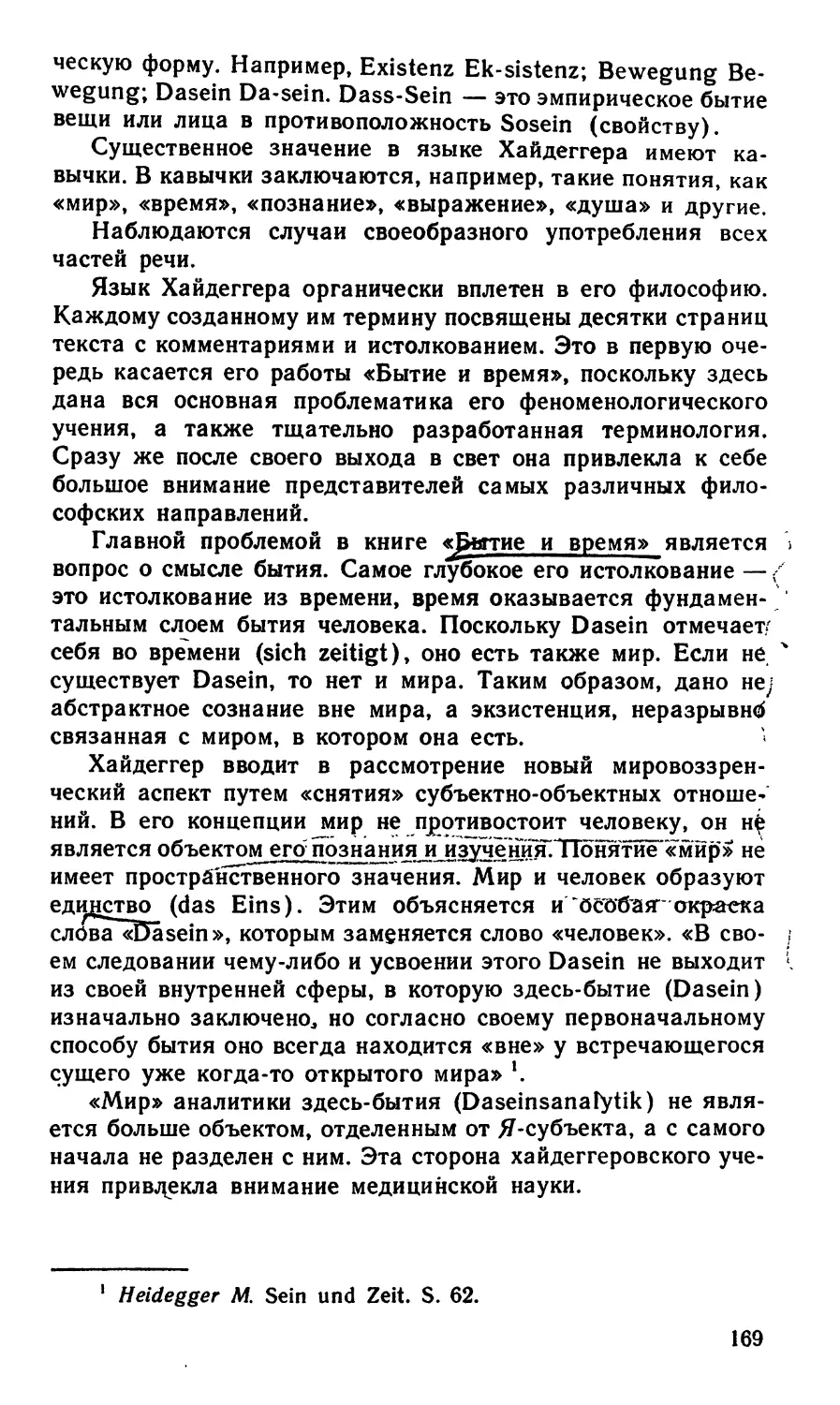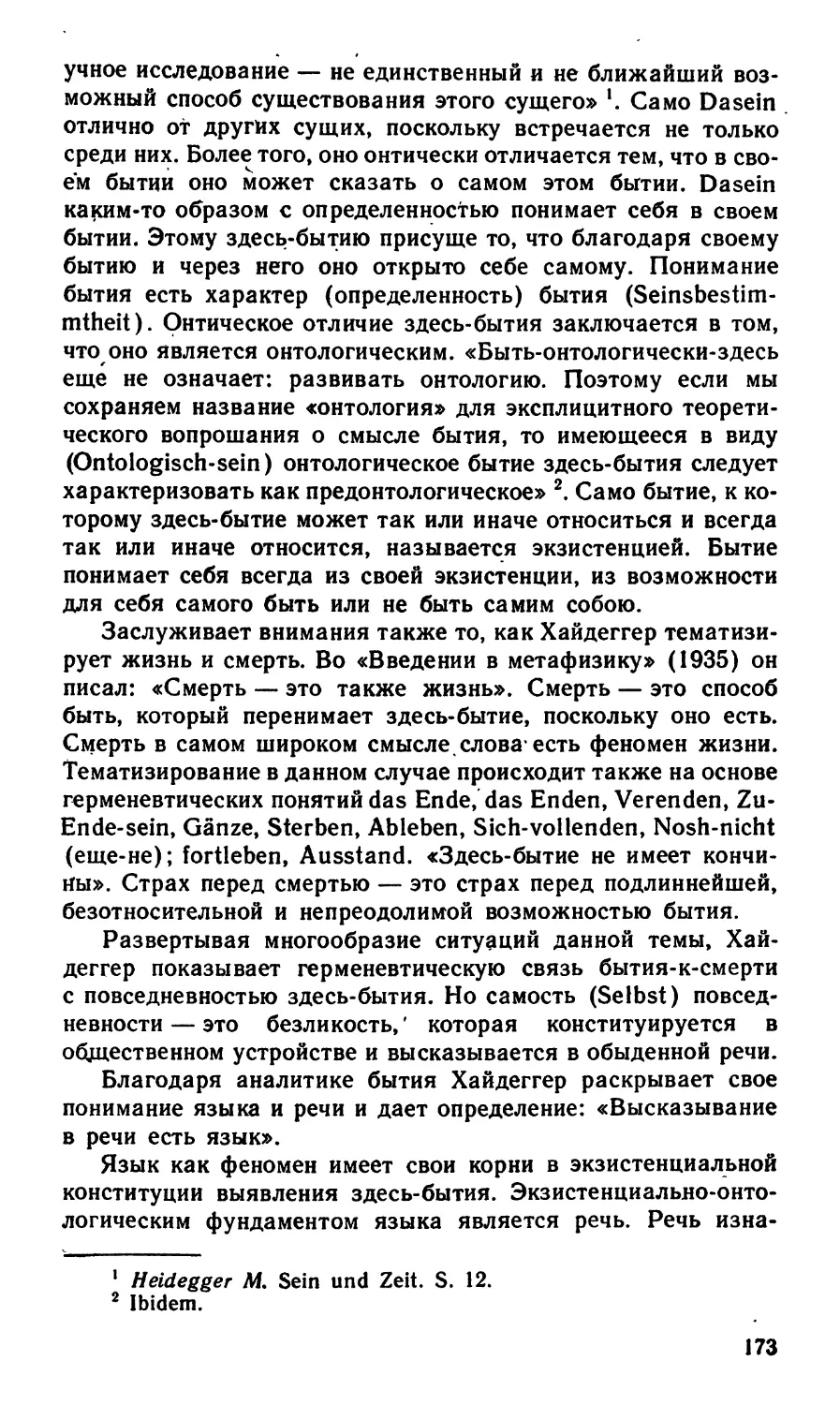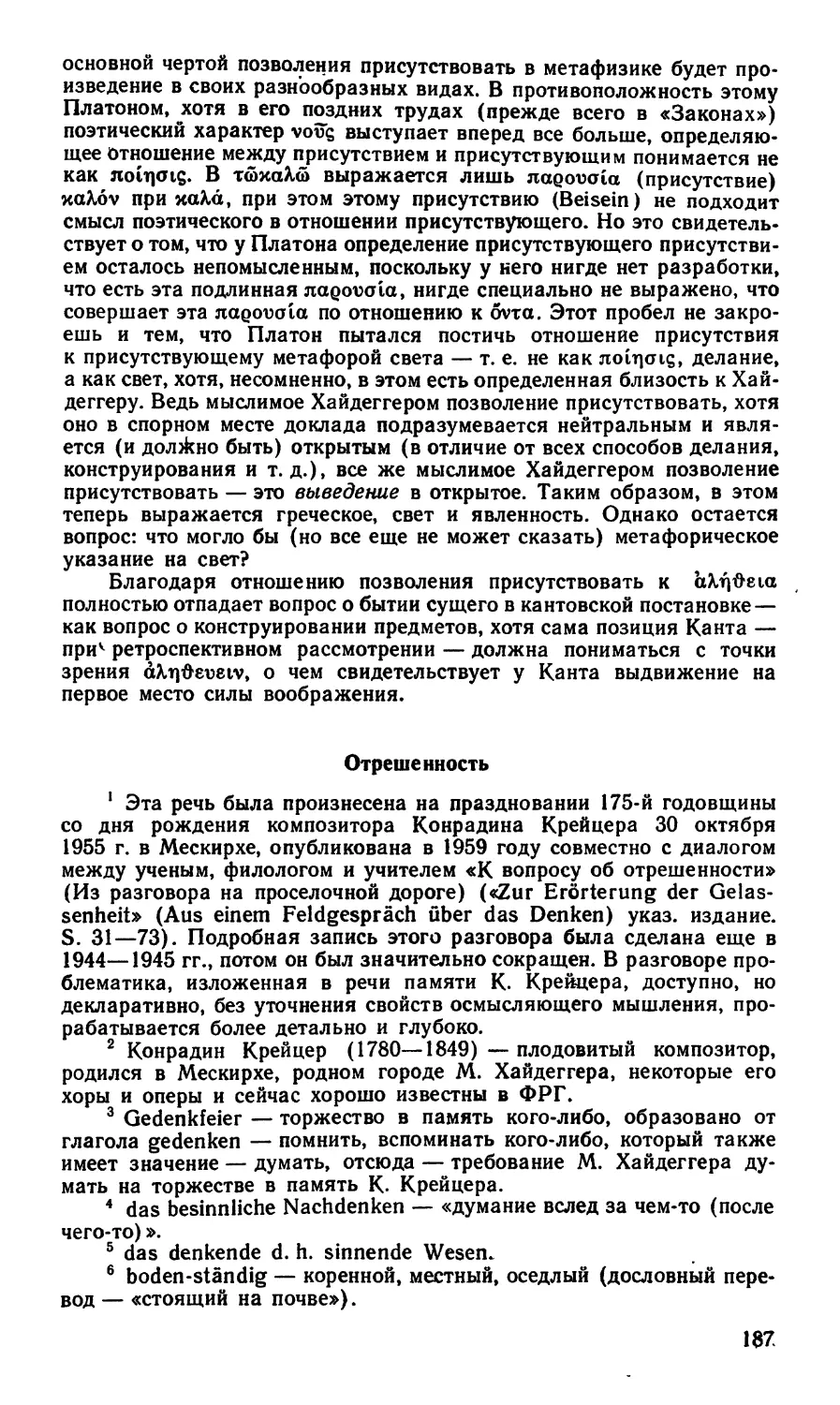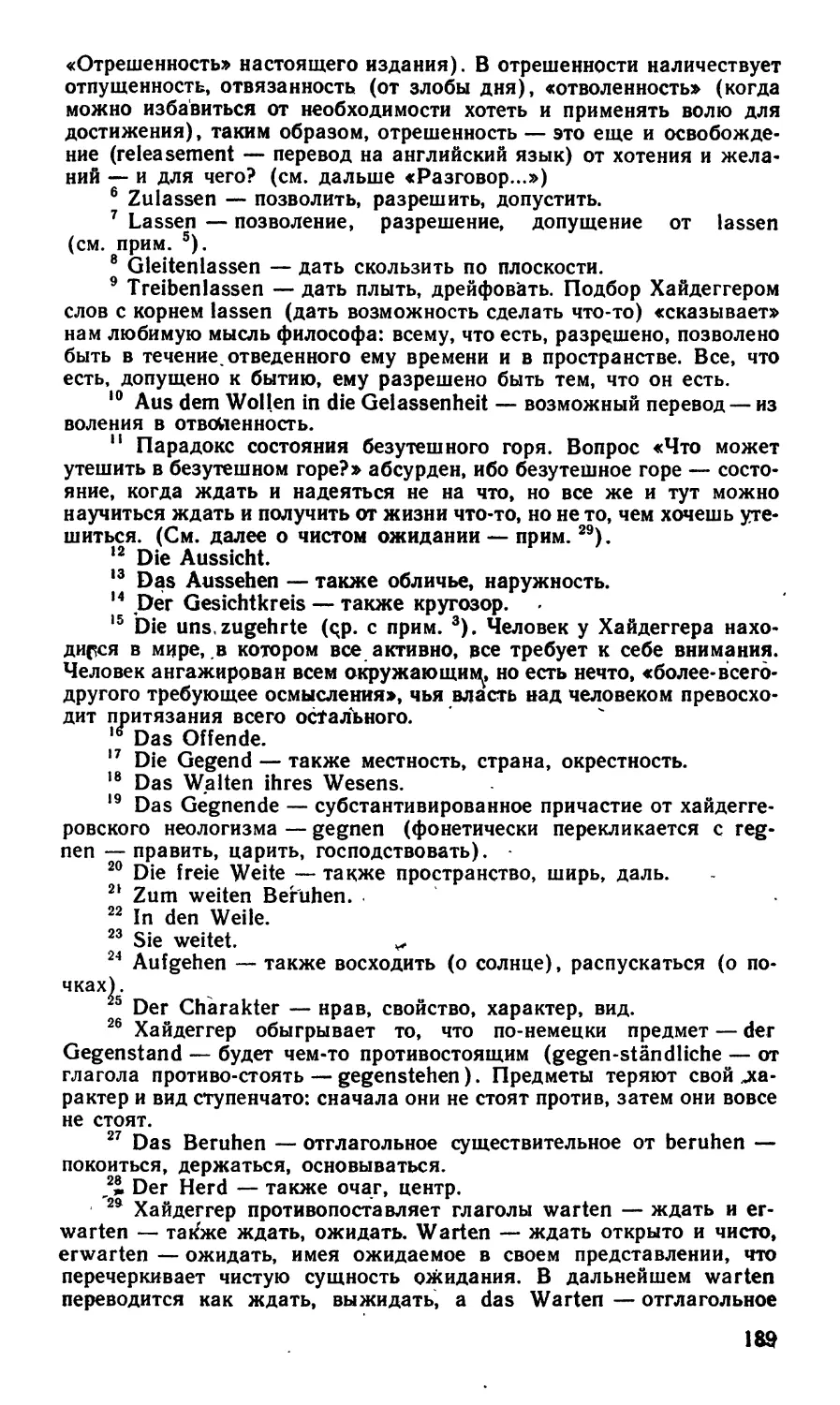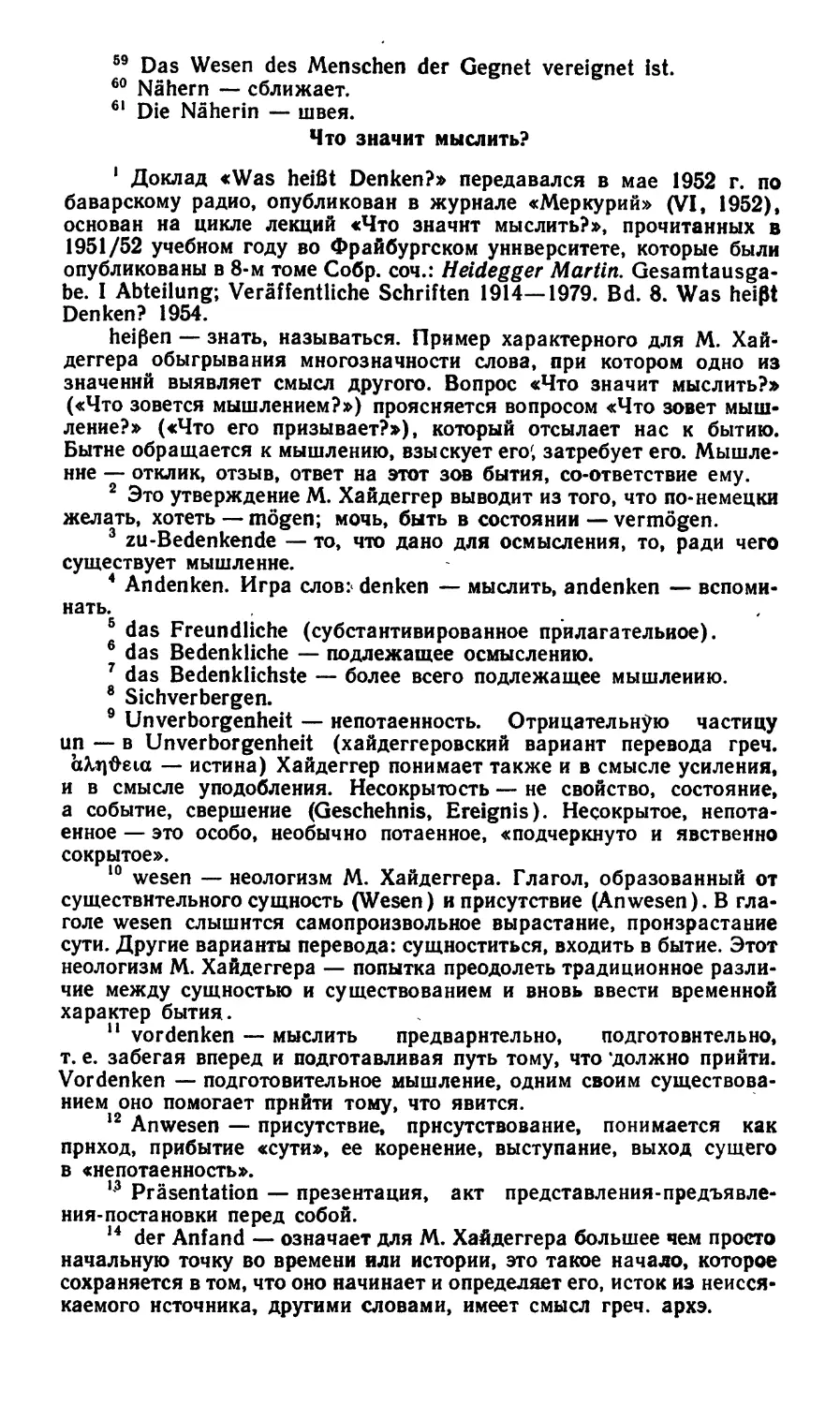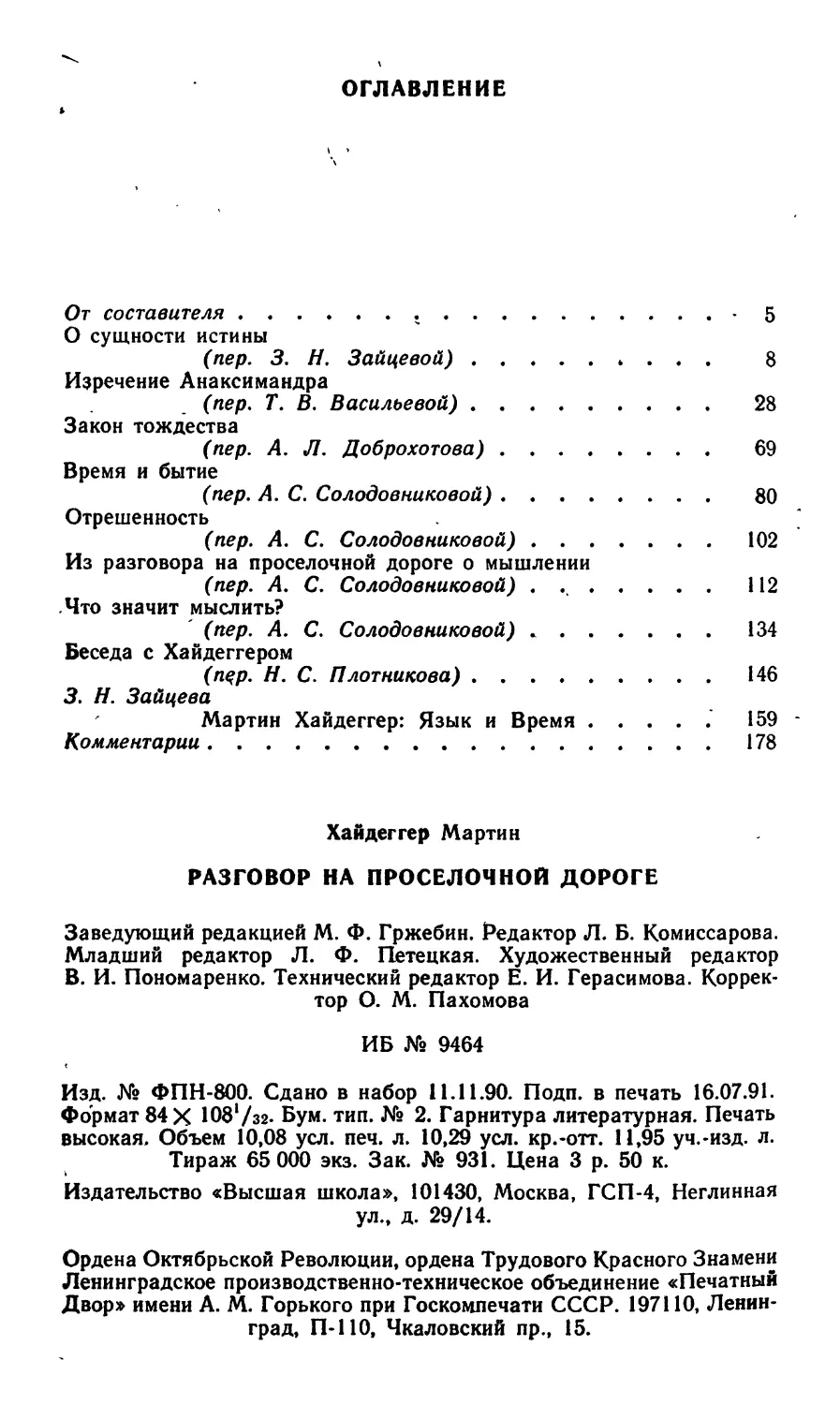Текст
Мартин Хаидтер
Разговор на проселочной дороге
Библиотека
философа
Мартин Хайдеггер
Разговор
на проселочной
дороге
Избранные
статьи
позднего
периода
творчества
Москва
«Высшая школа»
1991
ББК 87.3(4/8)
X 12
Перевод Т. В. Васильевой, А. Л. Доброхотова, 3. Н.
Зайцевой, Н. С. Плотникова, А. С. Солодовниковой.
Рекомендовано Государственным комитетом СССР по
народному образованию
Хайдеггер М.
X 12 Разговор на проселочной дороге: Сборник:
Пер. с нем./ Под ред. А. Л. Доброхотова.— М.:
Высш. шк., 1991.— 192 с. (Б-ка философа)
ISBN 5-06-002425-3
Издание представляет собой сборник впервые публикуемых на
русском языке статей немецкого мыслителя Мартина Хайдеггера
(1889—1976), одного из самых знаменитых философов XX века,
вокруг идей которого не перестают кипеть интеллектуальные страсти.
Статьи, собранные в книге, дают представление о позднем периоде
творчества Хайдеггера. В них ставятся вопросы о сущности
мышления и бытия, о тайне творчества, о судьбе европейской культуры
и кризисе современной эпохи.
0301030000(4309000000)-364 ББК 87.3(4/8)
001(01)—91 *ь—*»—i—w 1ф
ют^хт ,- ™ ллл.л © А. Л. Доброхотов, составление, 1991
ISBN 5-06-002425-3 © 3. Н. Зайцева, послесловие, 1991.
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Мартин Хайдеггер, столетие со дня
рождения которого отмечалось в 1989 году, остается одним из
самых авторитетных философов XX века. Его идеи повлияли
на судьбы не только новейшей западной философии, но и на
весь спектр гуманитарных наук. Главная причина
влиятельности его философии в том, что она серьезно и глубоко
проанализировала самые больные духовные проблемы времени и
сделала выводы, впечатляющие своей нетрадиционностью и
радикальностью.
Работы Хайдеггера, соединенные в одно целое в. этом
сборнике, представляют средний и поздний периоды его
творчества, которые привлекают особенно пристальное внимание
современных комментаторов и критиков.
Сборник составлен так, чтобы читатель — в первую
очередь студент-гуманитарий — мог представить себе философию
Хайдеггера во всех основных аспектах и тенденциях. В статьях
звучат темы философии бытия, истории западноевропейской
цивилизации, гуманизма, сущности мышления, природы
художественного творчества, философии языка. В сборник
включено и интервью с Хайдеггером, позволяющее как бы услышать
его живой голос.
Трактат «О сущности истины» — работа переходного пери-,
ода — представляет знаменитое учение Хайдеггера об истине
как «открытости» в противовес классической интерпретации
истины как соответствия объекта интеллекту.
Прекрасный образец хайдеггеровского анализа
античности, которая, как известно, притягивала внимание философа
на протяжении всей его творческой жизни, дает статья
«Изречение Анаксимандра». В ней присутствуют все характерные
черты хайдеггеровского стиля: тщательное исследование
языковой формы, проникновение в дух древнего мышления,
смелые переходы от древности к актуальным проблемам
новейшей истории. Кроме того, здесь содержится краткая, но
выразительная формулировка основ герменевтического
метода, который был создан Хайдеггером (наряду с Гадамером)
в противовес сциентизму.
Работа «Закон тождества» звучит как непосредственный
рассказ об интеллектуальном переживании, которое вызвано
кризисом рационалистической традиции Запада и ростом
отчуждения человека от духовных продуктов своей деятельно-
5
сти. Хаидеггер не случайно надиктовал эту статью на
пластинку: она затрагивает самые сокровенные темы его философии.
Статья «Время и бытие» является программным
изложением наиболее глубоких и определяющих концепций мыслителя.
Она раскрывает тот своеобразный путь интерпретаций
феноменологии, который Хаидеггер выбрал еще в довоенные годы.
Эта статья как бы дополняет и переосмысливает самую
знаменитую книгу раннего Хайдеггера — «Бытие и время». В полной
мере она дает представление о стиле мышления и методе
анализа центральных философских категорий, которыми
немецкий философ так резко выделяется из классической традиции
европейского академизма.
Юбилейная речь «Отрешенность» говорит об отношениях
человека, культуры и техники. Хаидеггер призывает
человечество вновь укорениться в почве, из которой его вырвало
ставшее неуправляемым развитие технической цивилизации.
Продолжает эту тему диалог (жанр, характерный для
Хайдеггера) «Из разговора на проселочной дороге...», где
сталкивается несколько позиций — эстетическая,
естественнонаучная, философская и собственно хайдеггеровская. Как это
часто бывает у Хайдеггера, диалог не заканчивается никакими
определенными выводами, но сама атмосфера беседы и
настойчиво звучащие вопросы, которые заставляют в конце
концов задуматься о самых глубоких корнях теоретического
мышления, создают определенное духовное настроение,
располагающее к вслушиванию в сущность языка.
Интересен небольшой радиодоклад «Что значит
мыслить?», где Хаидеггер популярно излагает свою книгу с тем же
названием. Из доклада становится ясным, почему философия,
с точки зрения Хайдеггера, должна занимать среднее место
между поэзией и наукой, не подчиняясь ни тому, ни другому
способу мышления.
Заключает сборник интервью, данное Хайдеггером
популярному французскому журналу. Здесь в живой форме беседы
затронуты важные вопросы, волновавшие не только
философов, но и широкие слои западной общественности: проблемы
мира, соотношения человека и техники, мышления и
художественного творчества. Хаидеггер повторяет свой тезис о том,
что «атомная бомба уже взорвалась в поэме Парменида»,
т. е. что западная цивилизация, выбравшая путь развития,
основанный на беспощадной эксплуатации природы, на
бесконечном ускорении технологического прогресса, не
корректируемого моральными нормами, была заложена — как растение
в семени — в самых первых философских системах Запада,
противопоставивших субъект и объект.
6
В целом статьи сборника дают достаточное представление
о круге идей крупнейшего западного мыслителя нашего века,
обрисовывают контуры его философских построений,
показывают его прихотливый ход мыслей, знакомят с
выразительными образцами его языка. В сборнике отражено единство тем
хайдеггеровскои философии, кажущихся на первый взгляд
разнородными. Философия человека и философия языка,
критика техницизма и критика метафизики, призывы к новой
мифологии и эстетическое толкование поэтических текстов —
все это вырастает из основной задачи философии Хайдеггера:
свернуть с ошибочного пути западной цивилизации и
вернуться к забытым истокам мышления, к подлинному бытию.
Именно эта сердцевина построений позднего Хайдеггера
привлекла к нему многочисленных последователей и критиков.
В последнее время резко возрос интерес к Хайдеггеру
и в нашей стране. После периода многочисленных
студенческих работ и научных статей, после публикации переводов
в ведомственных изданиях начинается издание его трудов для
широкой публики. Споры о хайдеггеровскои философии
попали даже на страницы популярных газет. И это не случайно:
современный читатель остро ощущает недостаток
полноценных источников по западноевропейской философии, и даже то
немногое, что до него доходит, стимулирует желание понять,
поспорить, высказать свое мнение. В ближайшее время можно
ожидать появления новой острой темы: «Хайдеггер и русская
философия». Появление материалов по русской философии
начала XX века обнаружило параллелизм, а иногда и
совпадение ряда поставленных вопросов и предложенных путей ответа
у Хайдеггера и русских мыслителей.
Статьи сборника следуют не в хронологическом порядке,
а так, чтобы выстроилась последовательность путевых вех: от
новой установки («О сущности истины») и опыта ее
применения к истории духа («Изречение Анаксимандра») — к
решительному повороту в мышлении («Закон тождества», «Время
и бытие»), далее — к неспешному развертыванию
открывшегося ландшафта («Отрешенность», «Разговор на проселочной
дороге») и наконец — к простым и емким формулам
наметившихся итогов («Что значит мыслить?», «Интервью»).
Собранные вместе работы по своей общей тональности — это
именно разговор, вдумчивая, без словесной суеты, беседа не
столько единомышленников, сколько попутчиков, которые уже
далеко от начала, но еще не видят очертаний конца:
обдумывая свой путь, они ориентируются на указания, скрытые
в самой звучащей речи собеседников.
О сущности
истины
Vom Wesen
der Wahrheit
1. Привычное понятие истины.
2. Внутренняя возможность согласованности.
3. Основание для того, чтобы правильность стала
возможной.
4. Сущность свободы.
5. Сущность истины.
6. Неистина как сокрытость.
7. He-истина как поиски.
8. Вопрос об истине и философия.
О сущности истины пойдет речь. Для
вопроса об истине безразлично, идет ли речь в том или
ином случае об истине практического, жизненного опыта
или экономического расчета; это может быть истина
технического порядка или истина, характеризующая политический ум,
в частности, та или иная истина может относиться к сфере
художественного творчества, это может быть даже истина
мысленного воспоминания или культурной веры. Вопрос о
сущности оставляет все это в стороне и затрагивает только то,
что отличает всякую истину как таковую.
Но не соскальзываем ли мы с вопросом о сущности в
пустоту всеобщего, от которого задыхается всякое мышление? И не
показывает ли это соскальзывание при такого рода вопросах
беспочвенность всей философии? Ведь обращенное к
действительности мышление, если оно имеет глубокие корни, должно
Перевод с издания: Heidegger Martin Vom Wesen der Wahrheit.
Frankfurt am Main, 1961.
© 3. H. Зайцева, перевод, 1991.
8
прежде всего — и без всяких отступлений — устремиться к то*
му, чтобы повернуть действительную истину, служащую для
нас на сегодняшний день мерилом и точкой опоры, против
путаницы мнений и вычислительных операций. Что может дать
действительной необходимости отрешенный от всякой
действительности («абстрактный») вопрос о сущности истины? Не
является ли вопрос о сущности самым несущественным и ни
к чему не обязывающим вопросом?
Никто не уйдет от настойчивой убедительности этих
сомнений. Никто не смеет просто так игнорировать настойчивую
серьезность этих сомнений. Но кто стоит за этими сомнениями?
«Здравый» человеческий рассудок. Он стучит в дверь, за
которой скрывается осязаемая полезность, и усердствует
против знания о сущности сущего, которое как существенное
знание с давних пор называется «философией».
Обыденный человеческий рассудок имеет свою
собственную необходимость: он утверждает свое право с помощью
только ему одному подвластного оружия. Это — ссылка на
свои претензии и сомнения как на нечто «само собою
разумеющееся». Но философия никогда не сможет опровергнуть
обыденный рассудок, так как он глух к ее языку. Она не
посмеет пожелать когда-нибудь его опровергнуть, потому что
обыденный рассудок слеп, чтобы видеть то, что она открывает
взору, созерцающему сущность.
Вот почему мы считаем, что находимся в согласии с
обыденным рассудком, поскольку полагаем, что уверены в
многообразных «истинах» жизненного опыта и поведения, научного
исследования, художественного воображения и веры. Мы сами
поощряем сопротивление «само собою разумеющегося»
против всякого притязания со стороны сомнения.
Поэтому, если уж и должен быть поставлен вопрос об
истине, то он требует ответа на вопрос, где мы находимся на
сегодняшний день. Хотят знать, как обстоит дело с нами.
Вопрошают о цели, которая поставлена перед человеком в его
истории и перед историей. Хотят обладать действительной
«истиной». Следовательно, опять-таки истиной!
Те, которые взывают к действительной «истине»,
по-видимому, уже все-таки знают, что такое истина вообще. Или же
знают об этом «по чувству» или «в общем»? Однако не
будет ли такое «примерное» знание и такое безразличие еще
беднее, чем простое незнание сущности истины?
9
1.
Привычное понятие истины
Что же понимают под «истиной»? Под этим возвышенным
и в то же-время стертым и тупым словом «истина» имеется
в виду то, что делает истинное истинным. Что представляет
собою нечто истинное? Мы говорим, например: «Принять
участие в осуществлении этой задачи — истинная радость».
Мы имеем в виду: это неподдельная, действительная радость.
Истинное, это — действительное. Так мы говорим о
неподдельном золоте в отличие от фальшивого. Фальшивое золото
в действительности не то, чем оно кажется. Оно — только
«кажимость» и поэтому недействительно. Недействительное
обычно противопоставляется действительному. Но ведь
мнимое золото — это также нечто действительное. Поэтому
скажем яснее: действительное золото это — настоящее золото.
«Действительно» же как то, так и другое, как настоящее
золото, так, и не в меньшей мере, и имеющее хождение
ненастоящее. Следовательно, истинность настоящего золота не может
быть уже оправдана его действительностью. Снова возникает
вопрос: что называется в данном случае истинным и
настоящим? Настоящее золото это такое действительное,
действительность которого согласуется с тем, что мы «собственно»
уже заранее всегда понимаем под словом «золото». И,
наоборот, там, где мы предполагаем фальшивое золото, мы говорим:
Здесь что-то не то. Напротив же, относительно того, что
является тем, «что оно есть», мы замечаем: Это то. Вещь та.
Однако слово «истинный» мы относим не только к
действительной радости, настоящему золоту, сущему; истинным мы
называем не только все сущее, но истинным или ложным мы
называем прежде всего наши высказывания о сущем, которое
само по своему характеру может быть настоящим или
ненастоящим, выступая в той или иной форме в своей
действительности. Высказывание является истинным, если то, что оно
подразумевает и о чем говорит, согласуется с вещью, о которой
высказывается данное суждение. Также и здесь мы говорим:
Это правильно. Но теперь уже правильно является не вещь,
а предложение.
Будь это вещь или предложение, истинно то, что
правильно, истинное — это согласующееся. Быть истинным и истина
означают здесь согласованность, а именно согласованность
двоякого рода: с одной стороны, совпадение вещи с тем, что
о ней мыслилось раньше, и с другой стороны, совпадение
мыслимого в высказывании с вещью. Этот двойственный
характер согласования отражает традиционное определение
10
сущности истины: Veritas est adaequatio rei et intellectus. Этр
может означать: Истина есть приравнение вещи к познанию.
Но это может также говорить следующее: Истина есть
приравнение познания к вещи. Действительно, приведенное
определение сущности обычно дают в формуле: Veritas est
adaequatio intellectus ad rem. Однако, так понимаемая истина, истина
предложения, возможна только на основе истины вещей:
adaequatio rei ad intellectual. Оба понятия сущности Veritas
всегда подразумевают ориентацию по ... и мыслят вместе с тем
истину как правильность.
Однако речь идет не о простом переходе одного в другое.
Более того, intellectus и res — в каждом отдельном случае
имеется в виду различное. Чтобы убедиться в этом, мы должны
свести привычную формулу, принятую для определения
понятия истины к ее ближайшему (средневековому) источнику.
«Veritas als adaequatio rei ad intellectum» — заключает в себе
не трансцендентную идею Канта, согласно которой «предметы
считаются с нашим познанием»,— эта идея возникла уже
позднее и стала возможной лишь благодаря признанию
субъективности человеческого существа,— а теологическую веру
христианства в то, что вещи, если они существуют в том виде,
каковы они суть, существуют только постольку, поскольку они,
будучи когда-то созданы, как таковые (ens creatum),
соответствуют предначертанной в intellectus divinus, т.е. в духе
божием, idea, и поэтому отвечают требованиям идеи
(правильны) и в этом смысле являются «истинными». Ens creatum есть
также intellectus humanus, который как данная богом
человеку способность является достойным его idea. Но рассудок
удовлетворяет требованиям идеи только благодаря тому, что
он в своих предложениях осуществляет приравнивание мысли
к вещи, которая, в свою очередь, сообразуется с idea.
Возможность истины человеческого познания, если все сущее
является «сотворенным», основывается на том, что вещь
и предложение равным образом отвечают требованиям идеи
и поэтому соотносятся друг с другом в единстве божественного
созидания. Veritas как adaequatio rei [creandae] ad intellec-
tum [divinum] дает свободу для Veritas как adaequatio
intellectus [humani] ad rem [creatam]. Veritas в сущности
всегда подразумевает convenientia, соглашение сущего — как
сотворенного — с творцом, «согласие» на основе
согласованности божественного порядка.
Но этот порядок, если выбросить из него идею сотворения
мира, можно представить себе, наконец, в общей и
неопределенной форме так же, как мировой порядок.
Вместо теологического представления о творческом акте
11
предполагается планомерность всех предметов через мировой
разум, который сам устанавливает себе законы, а поэтому
и претендует на непосредственную доступность своих
свершений (на то, что считают «логическим»). То, что истинность
предложения состоит в правильности высказывания, больше
не требует никакого особого обоснования. Даже и в том
случае, когда делают напрасные попытки объяснить
происхождение правильности, ее ставят условием как сущность истины.
Подобным образом предметная истина означает совпадение
наличной вещи с «разумным» понятием ее сущности.
Создается видимость, что это определение сущности истины как
будто бы остается независимым от толкования сущности
бытия всего сущего, которое включает в себя
соответствующее толкование сущности человека как носителя и
исполнителя. Так формула сущности истины (veritas est adaequ-
atio intellectus et rei) приобретает свою ясную для всех
обычную значимость.
Во власти простоты данного понятия истины едва
обращают внимание на эту простоту как нечто само собою
разумеющееся в его существе: также воспринимают как нечто само
собою разумеющееся и то, что истина имеет свою
противоположность и что имеется также неистина. Неистинность
предложения (неправильность) есть несогласованность
высказывания с вещью. Неистинность вещи (неподлинность) означает
несовпадение сущего со своей сущностью. Неистинность
можно каждый раз понимать как несовпадение.
Последнее выпадает из сущности истины. Поэтому там, где
имеет значение восприятие чистой сущности истины,
неистинность, как противоположность истины, может быть устранена.
Но требуется ли вообще особое освещение сущности
истины? Не достаточно ли представлена чистая сущность
истины в том общезначимом понятии, которое не обременено
никакой теорией и защищено своей простотой. Если мы к тому
же примем такое сведение истинности предложения к
истинности вещей за то, что оно показывало вначале, за теологическое
объяснение, и если мы получим в чистом виде философское
определение, оградив его от вмешательства теологии, и
ограничим понятие истины истинностью предложения, то мы
встретимся также, если не с древнейшей, то с древней
традицией мышления, согласно которой истина есть
согласованность высказывания с вещью. Что остается теперь еще
неясным, если- предположить, что мы знаем, что
означает согласованность высказывания с вещью? Знаем ли мы
это?
12
2.
Внутренняя возможность согласованности
О согласованности мы говорим в разном значении.
Например, о лежащих на столе двух пятимарковых монетах мы
можем сказать: они одинаковы. Обе монеты сходятся в одном:
в том, как они выглядят. Поэтому общим для них является их
внешний вид, и следовательно они в этом отношении подобны.
Далее мы говорим о согласованности в том случае, когда мы,
например, высказываем суждение относительно одной из
наличных пятимарковых монет: эта монета круглая. Здесь
высказывание согласуется с вещью. Теперь существует
отношение не между вещью и вещью, а между высказыванием
и вещью. Но в чем же следует искать согласованность между
вещью и высказыванием, если то и другое явно отличны друг
от друга? Монета сделана из металла. Высказывание же
вообще не является вещественным. Монета — круглая.
Высказывание же вообще не имеет пространственного характера.
На монету можно что-то купить. Высказывание о ней никогда
не бывает платежным средством. Но, несмотря на все
различия того и другого, приведенное высказывание, как истинное,
согласуется с монетой. И это совпадение, согласно обычному
понятию истины, считается сходством. Каким образом нечто
совершенно непохожее, т. е. высказывание, оказывается
приравненным к монете? Ведь оно должно было бы тогда
превратиться в монету и таким образом целиком и полностью
отказаться от самого себя. Но это высказыванию никогда не
удается. Если^ы это удалось, то в тот же самый момент выска
зывание как таковое не смогло бы больше согласовываться
с вещью. Высказывание остается всегда только
приравниванием и, даже более того, только в этом подобии оно и может стать
тем, чем оно является. В чем состоит его сущность, абсолютно
отличная от всякой иной вещи? Каким образом высказывание
оказывается способным, утверждая именно свою сущность,
в то же самое время уподобляться другому, вещи?
Уподобление следует понимать здесь не в том смысле, что
разного рода вещи становятся вещественно одинаковыми.
Сущность уподобления, приравнивания определяется скорее
видом той связи, которая является господствующей в
отношении между высказыванием и вещью. Пока эта «связь»
остается неопределенной и не раскрытой в ее сущности, весь спор
о характере и степени уподобления остается пустым.
Но высказывание относительно монеты относится —
относит «себя» — к этой вещи, как только оно представит себе ее
и о пред-ставленном сможет сказать, чем следует руководство-
13
ваться каждый раз при подходе к нему. Суждение, в котором
дано представление, высказывает повествуемое о
представляемой вещи так, как она существует как таковая. Это «так-как»
касается пред-ставления и пред-ставляемого им. Пред-ставле-
ние здесь,— при условии, что будут исключены все
«психологические» и «теоретико-познавательные» — заранее
составленные — мнения, означает «допущение, что вещь
расположена перед нами», что и есть предмет. То, что стоит перед нами
как нечто, поставленное именно так, а не иначе, должно пройти
через все, что ему открыто напротив. Но при этом все же
остаться самим собой и показать себя как нечто устойчивое.
Обнаружение вещи в ее движении к противостоящему
осуществляется в сфере такой открытости, простота которой не
только создана, но и каждый раз ставится в связь и
воспринимается как сфера соотнесенности. Связь содержащего
представление высказывания с вещью — это осуществление того
отношения, которое дает толчок поведению и каждый раз
выступает как таковое. Но все поведение имеет то отличие, что
оно, будучи открытым, держится открытости как таковой.
Только такую открытость в строгом смысле этого слова
западноевропейское мышление в раннюю пору своего развития
воспринимало как «присутствующее» и называло «сущим».
Поведение находится в постоянной доступности сущему.
Всякое открытое отношение есть поведение. В зависимости от
характера сущего и формы поведения открытость для
человека различна. Любое дело и свершение, любая деятельность
и любой расчет — все это существует и держится на
открытости той сферы, в границах которой сущее как то, чем оно
является и как оно существует, может (пред) ставить себя
в своей собственной сущности как то, о чем может быть
сказано. Но это только в том случае, если сущее само становится
представляемым в представляющем высказывании, так что
последнее подчинено указанию — давать сущее в
высказывании таким, каково оно есть. Следующее указанию такого
высказывания, направляется к сущему. Исходящее из такого
указания (вы)сказывание правильно (истинно). Сказанное
подобным образом есть правильное, истинное.
Высказывание должно заимствовать свою правильность
у открытости: ибо вообще только благодаря ей открытое
может стать руководящим началом для представляющего
уподобления. Открытое поведение само должно
руководствоваться этой мерой. Это означает: оно должно взять на себя
передачу руководящего начала для всего процесса представления.
Это относится к открытости поведения. Если же правильность
(истина) высказывания становится возможной только благо
14
даря открытости поведения, тогда то, что делает эту
правильность только возможной, имеет большее право считаться
первоначальным, чем сущность истины.
Вместе с этим отпадает господствующее традиционное
мнение, согласно которому сущность истины дана только
в предложении. Истина не изначально обрела себе место
в предложении. Одновременно возникает вопрос об основе
внутренней возможности открытого поведения и меры
поведения, ставящего требования,— возможность, которая
единственно и придает предложению, его правильности силу,
позволяющую ему вообще выполнять роль сущности истины.
3.
Основание для того, чтобы правильность стала возможной
Откуда берет представляющее высказывание указание —
ориентироваться по предмету и согласовываться с
правильностью? Почему эта согласованность не определяет сущность
истины? Как же может происходить нечто такое, как
предварительное задание направления как руководства и
установление указательных вех для согласования? Только так, что этот
процесс задавания наперед свободен для открытого и
господствующего в нем откровения, которое вносит связь в процесс
представления. Отдать себя в распоряжение связующих
правил — это возможно только в значении быть свободным для
открытого откровения. Такое высвобождение открывает
завесу над до сих пор непостижимой сущностью свободы.
Открытость поведения как внутренняя возможность для
правильности имеет основу в свободе. Сущность истины есть свобода.
Но не подменяет ли это положение о сущности
правильности само собою разумеющееся чем-то иным. Чтобы быть
в состоянии совершить какое-нибудь действие, а
следовательно и действие высказывания, заключающее в себе
представление или даже действие как согласие или несогласие
относительно «истины», действующее лицо должно быть, во всяком
случае, свободно. Но это положение, конечно, не означает, что
для совершения высказывания, для его сообщения и усвоения
необходимо непринужденное действие; оно говорит: свобода
есть сущность самой истины. «Сущность» при этом понимается
как основа внутренней возможности того, что как в отдельном,
так и в общем признается известным. Но ведь в понятии
свободы мы не мыслим истину, а тем более ее сущность. Поэтому
утверждение, что сущность истины (правильность
высказывания) есть свобода, должно казаться странным. Поместить
15
сущность истины в свободу — не значит ли это — отдать
истину на усмотрение человека. Можно ли глубже похоронить
истину, чем в том случае, если оставить ее на произвол этого
«колеблющегося тростника»? То, что уже в предыдущем
изложении все время навязывалось здравому суждению,
отчетливее обнаруживается лишь теперь. Истина принижается здесь
до субъективности человеческого субъекта. Хотя для субъекта
достижима объективность, однако, последняя вместе с
субъективностью остается человеческой и в распоряжении
человека.
Конечно, ложность и искажение, ложь и заблуждение,
обман и видимость,— короче говоря, все виды неистины
относят к человеку. Но ведь неистина это также
противоположность истины, из-за чего она и остается за чертой того круга,
в котором заключен вопрос о чистой сущности истины. Ведь
человеческий характер происхождения неистины
подтверждает только из противоречия господствующую «над» человеком
сущность истины «в себе».
Истина имеет значение в метафизике как нечто
непреходящее и вечное, которое никогда не может основываться на
мимолетности и бренности человеческого существа. Каким же
путем сможет сущность истины обрести в свободе человека
свою наличность и обоснование?
Возражение против утверждения, согласно которому
сущность истины — это свобода, опирается на установившиеся
мнения, из которых самое упорное гласит: Свобода — это
качество человека. Сущность свободы не нуждается ни в каких
дальнейших вопросах и не терпит их. Что такое человек —
знает каждый.
4.
Сущность свободы
Однако указание на связь сущности истины как
правильности с сущностью свободы лишает основания ранее усвоенные
мнения, правда, при условии, если мы готовы изменить
мышление. Определение сущностной связи между истиной и свободой
приводит нас к вопросу о сущности человека в том
направлении, которое гарантирует нам опыт скрытой основы сущности
человека (des Daseins), так что он приведет нас прежде всего
в сферу первоначальной сущности истины. Здесь
обнаруживает себя и свобода. Свобода является основанием внутренней
возможности для правильности лишь в силу того, что она
получает свою собственную сущность от более первоначаль-
16
ной сущности единственно существенной истины. Свобода
сначала была определена как свобода для откровения
открытого. Как следует понимать эту сущность свободы? Очевидно
то, к чему приравнивается высказывание и что заключает
в себе представление как правильное, это — встречающееся
каждый раз в открытом поведении простое сущее. Свобода
к очевидности простоты позволяет каждому сущему быть
сущим. Свобода раскрывается теперь как допущение бытия
сущего.
О допущении бытия мы говорим обычно, когда мы,
например, стоим в стороне от намеченного мероприятия. «Мы
допускаем нечто в его бытии» — означает: мы больше не
касаемся этого и нам нечего здесь больше делать. Допущение
бытия чего-либо имеет здесь отрицательный смысл
невнимания к чему-либо, отказа от чего-либо, равнодушия и даже
пренебрежения.
Однако, нужные нам здесь слова — допущение бытия
сущего — обозначают здесь не упущение или безразличие,
а как раз наоборот. Допустить бытие — это значит принять
участие в сущем. Правда, это понимается опять-таки не только
как хлопоты, ограждение от чего-нибудь, забота или
планирование каждый раз встречающегося или отыскиваемого
сущего. Допущение бытия — сущее именно как сущее, которое
является таковым,— означает: подойти к простоте простого
(открытому открытость), в которой находится всякое сущее
и которая равным образом несет его в себе.
Западноевропейское мышление понимало сначала это открытое как та'аА/п-
veia, несокрытое. Если мы это греческое слово переведем не
словом «истина», а словом «несокрытость», то этот перевод не
только будет «буквальным», но и будет содержать указание на
то, чтобы переосмыслить привычное понятие истины в духе
правильности высказывания и перенести назад к беспонятий-
ности обнаружения и раскрытия сущего. Это допущение бытия
к обнаружению сущего не теряется в последнем, а переходит
в отступление перед сущим, для того чтобы оно открылось
в том, что оно есть и каково оно есть, и сделалось бы
руководством при уподоблении представления вещи. Сущее в такой
форме, как допущение бытия, предстает перед сущим как
таковым и переносит все поведение в простое. Допущение
бытия, т. е. свобода, является вы-ставляющей, эк-зистентной.
Сущность истины, которую можно увидеть со стороны
сущности свободы, проявляет себя как вхождение (в-ставление)
в сферу обнаружения сущего.
Свобода — это не только то, что здравый смысл охотно
принимает за значение этого слова: появляющееся иногда
17
желание отказаться от. выбора того или иного предложения.
Свобода — это не несвязанность действия или возможность не
выполнить что-ли0о, ко свобода это также и не только лишь
готовность выполнять требуемое и необходимое (и, таким
образом, в какой-то мере сущее). Свобода, предваряя все это
(«негативную» и «позитивную» свободу), является частью
раскрытия сущего как такбвого. £амо обнаружение даноъ эк-
зистентном участии, благодаря которому простота простого;
т.е. «наличие» (das «Da»), есть то, что оно есть. ВЧ5ытии
последнего человеку дана долгое время остающаяся
необоснованной основа сущности, которая позволяет ему эк-зистиро-
вать (ek-sistieren). «Экзистенция» не означает здесь existentia
в смысле события и «наличного бытия» сущего.
«Экзистенция» — здесь также и не «экзистенциальный» в смысле
нравственных усилии человека, направленных на самого себя
и основанных на его телесной и психической структуре.
Экзистенция, уходящая своими корнями в истину, как в свободу,
представляет собой в-ход в обнаружение сущего как такового.
Не нуждаясь еще ни в понятийности, ни даже в обосновании
сущности, эк-зистенция исторического человека начинается
в тот момент, когда первый мыслитель, вопрошая,
останавливается перед лицом несокрытости сущего с вопросом, что же
такое сущее. С помощью этого вопроса впервые узнают не-
сокрытость. Сущее в целом раскрывается как cpvatg,
«природа», которая здесь понимается еще не как часть сущего, а как
сущее в целом, как тиковое, в значении зарождающегося
присутствия. Лишь там, где само сущее собственно
возвышается до своей несокрытости и сохраняется в ней, лишь там, где
это сохранение постигается из вопрошания о сущем,
начинается история.
Первоначальное раскрытие сущего в целом, вопрос о
сущем как таковом и начало западноевропейской истории —
это одно и то же, они также одновременны во-«времени»,
которое само, будучи неизмеримым, только теперь открывает
простоту для какого-либо измерения.
Если же эк-зистентное наличное бытие как допущение
сущего освобождает человека для его «свободы» лишь
благодаря тому, что она — свобода — вообще лишь только
предоставляет ему выбор возможного (сущего) и предлагает
ему необходимое (сущее), то человеческая воля не
располагает свободой. Человек обладает свободой не как свойством,
а как раз наоборот: свобода, эк-зистентное, раскрывающееся
бытие наличного владеет человеком и притом изначально, так
что исключительно она гарантирует человечеству
соотнесенность с сущим в целом как таковую, соотнесенность, которая
18
обосновывает и характеризует историю. Только эк-зистентный
человек историчен. «Природа» не имеет истории.
Но свобода, понимаемая как допущение сущего, наполняет
сущность истины и подчиняется этой сущности в смысле
раскрытия сущего. «Истина» — это не признак правильного
предложения, которое человеческий «субъект» высказывает об
«объекте» и которое «действительно» где-то — неизвестно,
в какой сфере: истина есть высвобождение сущего, благодаря
чему (т. е. высвобождению) осуществляет себя простота
(открытость). В ее открытости — все человеческие
отношения и его поведение. Поэтому человек есть способ эк-зистен-
ции.
Так как йсякое человеческое отношение имеет свой
собственный способ обнаружения и настраивается на то, к чему
оно относится, момент допущения бытия, т. е. свобода,
очевидно, наделяет его (отношение) богатством внутренней ори-1
ентации, необходимой для того, чтобы уподоблять
представление тому или иному сущему. Человек эк-зистирует — теперь
следует понимать так: история сущностных возможностей
исторического человечества сохранена для него в
обнаружении сущего в целом. Из способа осуществления сущим его
первоначальной сущности возникают редкие и обычные
исторические события.
Однако так как истина состоит в сущности свободы,
исторический человек в допущении сущего может также
допустить, чтобы сущее было не таким сущим, каково оно есть.
Сущее в таком случае закрывается и искажается. Кажимость
становится господствующей. При осуществлении этого
господства выступает несущность истины. Но так как свобода
в качестве сущности истины не является свойством человека,
а, наоборот, человек эк-зистирует только как собственность
этой свободы и таким образом становится способным на
историю, поэтому возможно, что и несущность истины не
обязательно возникает лишь в результате неспособности или
небрежности человека. Более того, неистина должна возникать
из сущности истины. Только потому, что истина и неистина
в сущности не безразличны друг другу, а связаны друг с
другом, истинное предложение может вообще обойти остроту
противоположности и соответственно перейти в неистинное
предложение. Вопрос о сущности истины достигает поэтому
первоначальной сферы того, о чем спрашивается, только
тогда, когда при учете всей полноты сущности истины, в
раскрытие сущности включается также проверка неистины.
Обсуждение неистины это не дополнительное заполнение
образовавшегося пробела, а существенный момент при определе-
19
нии достаточности основания для постановки вопроса о
сущности истины. ч
И все-таки, как уловить неистину в сущности истины? Если
сущность истины не исчерпывается правильностью
высказывания, то и неистину нельзя приравнивать к неправильности
суждения.
5.
Сущность истины
Сущность истины открывается как свобода. Свобода есть
экзистентное, высвобождающее допущение бытия сущего.
Всякое открытое отношение парит в сфере допущения бытия
сущего и всякий раз соотносится с тем или иным сущим. Как
момент допущения к раскрытию сущего в целом как такового
свобода уже привела к согласию с сущим в целом. Однако, эту
согласованность никогда нельзя понимать как «переживание»
и «чувство», ибо в таком случае она лишится своей сущности
и получит свое истолкование на основе того, что само только
как видимость может претендовать на право быть сущностью,
и-это только до тех пор, пока представление и неправильное
толкование согласованности допускают это. Согласованность,
т. е. эк-зистентный момент выхода в сущее как целое, может
«переживаться» и «чувствоваться» только потому, что
«переживающий» человек, не имея никакого понятия о
согласованности в каждый такой момент уже допущен в сферу
согласованности, раскрывающей сущее как целое. Всякое
отношение исторического человека, подчеркнуто оно или нет,
постигнуто или не постигнуто, всегда согласовано и этой
согласованностью включено в сущее в целом. Откровение сущего
в целом не совпадает с суммой, в которую входит каждое
отдельное сущее. Напротив: там, где сущее человеку
малоизвестно и едва — может быть, только в самом начале —
затронуто наукой, откровение сущего в целом может
оказывать более существенное действие, чем в тех случаях, когда то,
что познано или в любое время может быть познано, стало
легко обозримым и больше не в состоянии сопротивляться
знанию, в то время как техническое овладение вещами
выступает в форме безграничности. Как раз в тиши и глади, где
царит только познанное и только знание, откровение сущего
мельчает до превращения в кажущееся ничто, забытое, но уже
более не безразличное.
Допущение бытия сущего как настроение проникает во все
переплетения открывающихся в нем отношений и забегает
вперед. Все поведение человека согласовано открытостькН
20 ^
сущего в целом. Но это «в целом» выступает с точки зрения
повседневного расчета и других дел как неисчислимое и
непостижимое. Как раз из открытого сущего, относится ли оно
к природе или истории, его нельзя понять. Правда, когда все
согласуется, остается ведь то несогласованное и
неопределяемое, которое затем снова совпадает с повседневным и
непродуманным. Однако согласующееся есть не ничто, а укрытие
сущего в целом. Как раз тем, что допущение бытия в
отдельном акте каждый раз допускает бытие сущего, к которому оно
относится, и тем самым доказывает его бытие, оно (допущение
бытия) укрывает сущее в целом. Допущение бытия есть в то
же время укрытие. В эк-зистентной свободе наличного бытия
человека укрывается сущее в целом, в ней есть скрытость.
Неистина как сокрытость
Сокрытость лишает ЬХч\Ыш открытости и не допускает ее
еще как 6тер.т]оче лишение чего-нибудь, а сохраняет ей ее
подлинность как собственность. Тогда сокрытость, мыслимая
со стороны истины как раскрытость, есть нераскрытость и
таким образом, собственно, самая близкая, присущая сущности
истины не-истина. Сокрытость сущего в целом никогда не
бывает лишь дополнительным результатом являющегося
всегда частичным познания сущего. Сокрытость сущего в целом,
т. е. подлинная не-истина, древнее, чем всякое откровение того
или иного сущего. Она древнее также и самого допущения
бытия, которое, раскрывая, уже скрывает и относится к сокры-
тости. Что сохраняется при допущении бытия в этой
соотнесенности с сокрытием? Не более и не менее, как сокрытие
сокрытого в целом, сущего как такового, т. е. тайна. Не
отдельная тайна чего-либо, а только одна-единственная тайна о том,
что вообще тайна (сокрытие сокрытого) ка# таковая царит
над наличным бытием человека.
В раскрывающем и одновременно скрывающе-м допуске
бытия сущего в целом совершается то, что сокрытие выступает
как первично сокрытое. Наличное бытие человека, поскольку
оно наделено эк-зистенцией, сохраняет первейшую и самую
конечную не-раскрытость, подлинную не-истину.
Подлинная не-сущность истины — это тайна. Не-сущность
не означает здесь еще падения до сущности общего (xoivov,
Vevog), его possibilitas (возможности) и основания для нее.
He-сущность здесь в таком смысле это пред-сущность..
«Несущность» означает здесь, однако, в первую очередь и в
большинстве случаев искажение уже падшей сущности.. Не-с^щ-
21
ность в каждом из этих значений — в той или иной своей
форме — обязательно остается для сущности существенной
и никогда не становится несущественной в смысле
безразличия. Но такое высказывание относительно несущности и
неистины жестоко оскорбляет привычное мнение и отвергается
как передержка грубо вымышленного «парадокса». Только
потому, что эту видимость трудно устранить, отказываются от
этой лишь для обычного мнения Doxa парадоксальной речи.
Но для сведущего человека это не — из слова, обозначающего
первоначально не-сущность истины как не-истины, указывает
путь в неисследованное царство истины бытия (а не только
сущего).
Свобода как допущение бытия сущего есть отношение,
заключающее в себе решимость, а не замкнутость. Все
поведение основывается на этом отношении и получает от него
указание для сущего и его раскрытия. Но это отношение к
раскрытию сущего само себя скрывает, так оно отдает
предпочтение забвению тайны и исчезает в этом забвении. Хотя
человек в своем поведении всегда имеет отношение к сущему,
однако, он изменяет также в большинстве случаев свое
отношение к тому или иному сущему и его проявлению. Человек
всегда остается в обыденном и легкопреодолимом, остается
также и тогда, когда речь ид$т о первоначальном и конечном.
И когда он собирается расширить, изменить, вновь освоить
и закрепить сферу обнаружения сущего в самых различных
областях своей деятельности и своих возможностей, он
руководствуется при этом указаниями, которые определяются
кругом повседневных намерений и потребностей.
Погружение в повседневность, однако, само по себе
свидетельствует о том, что в данном случае не допущено господство
тайны тайн. Правда, в повседневности также имеется
невыясненное, нерешенное, сомнительное. Но самые надежные из
поставленных ею вопросов представляют собою лишь
переходы и промежутки в лабиринтах повседневности, а поэтому они
не существенны. Там, где допускается сокрытость сущего,
причем только как время от времени появляющаяся граница,
сокрытие тайны, как основное событие, погружено в забвение.
Однако забытая тайна наличного бытия человека никогда
не устраняется забвением, но забвение придает кажущемуся
исчезновению забытого собственное присутствие в настоящем.
Тем, что тайна отказывается от забвения и перестает служить
ему, она оставляет человека в его повседневности, под его
собственными сводами. Итак, покинутые люди дополняют себе
свой «мир» все новыми и новыми потребностями и
намерениями и наполняют их своими замыслами и планами. И тогда
22
человек пользуется" последними для двоих измерениями,
предав забвению сущее'в цело ад. Основываясь на них, этих
последних, человек создаёт все новые и новые меры, не
задумываясь об обосновании самой меры и о сущности ее
установления. Несмотря на непрерывное движение вперед к новым
измерениям, человек приобретает свои измерения в чистоте
сущности. Человек теряет самого себя, ему не хватает
человека, и это тем в большей степени, чем исключительнее он делает
себя как субъект мерой всего сущего. Измеренное
повседневностью забвение человека покоится на своей собственной
уверенности, в основе которой лежит когда-то прежде
доступная еще повседневность. Эта уверенность имеет
неосознаваемую им самим опору в отношении, в качестве какового
наличное бытие человека не только является эк-зистентным,
но одновременно и ин-зистентным, т. е. таким, которое в своей
окаменелости основывается на том, что представляет собою
сущее в себе и как открытое.
Наличное бытие человека эк-зистентно, и в то же время ин-
зистентно. В ин-зистентной экзистенции также господствует
тайна, но только как забытая и, таким образом, ставшая
«несущественной» сущностью истины.
7.
He-истина как поиски
Инзистентен человек тогда, когда он обращен к.ближай-,
шей повседневности сущего. Но он инзистентен только как уже
обращенный к эк-зистенции, поскольку он руководствуется
сущим как таковым при установлении своих измерений. Но
при установлении своих измерений человечество
отворачивается от тайны. )Таким образом, то инзистентное обращение
к повседневному и этот эк-зистентный отход от тайны,
непосредственно авязаны'друг с другом, Они одно и то же. Однако,
будь то обращение^или отход от тайны,— оба эти момента
следуют зЗ своеобразными изменениями, в наличном бытии
человека. (Сутолока, в которой человек удаляется от тайны
~*4*апргавлении к повседневному, а затем от одной обыденной
вещи к другой — мимо тайны,— это поиски.
Человек блуждает. Человек не просто только вступает на
* путь блужданий. Он находится всегда на пути блужданий,
потому что он экзистентно ин-зистентен и, следовательно, уже
находится в блуждании. Путь блужданий, которым идедчело-
век, нельзя представлять себе как нечто, равномерно
презирающееся возле человека, наподобие ямы, в которую1 он
иногда попадает; блуждание принадлежит к внутренней кон-
Г" '" Чз
ституции бытийности, в которую допущен исторический чело-
векДБлуждание — это сфера действия того круговорота, в ко-
тором ин-зистентная эк-зистенция, включаясь в круговорот,
предается забвению и теряет себя. Сокрытие сокрытого сущего
в целом господствует в обнаружении всякого сущего, которое
(обнаружение) как забвение сокрытия превращается в
блуждание.
Блуждание является существенным антиподом по
отношению к первоначальной сущности, истине. Блуждание
открывается как открытость для всякого действия, противоположного
существу истины. Блуждание — это открытое место и причина
заблуждения. Заблуждение -^ это не отдельная ошибка, а
господство истории сложных, запутанных способов процесса
блуждания. Всякое отношение сообразно своему выявлению
и своей связи с сущим в целом имеет каждый раз свой особый
способ как своеобразный момент блуждания. Заблуждение
образует ряд от обычного проступка, недосмотра или просчета
до скольжений и промахов в важных поступках и решениях.
Однако, то, что обычно — это относится также и к
философским учениям — считают ошибкой — неправильность
суждения и ложность познания,— это только один из моментов
{способов) процесса блуждания, притом самый
поверхностный. Путь блужданий, которым в зависимости от
обстоятельств должно идти историческое человечество, чтобы его
поступь была ошибочной, составляет существенную часть
открытости наличного бытия человека. Путь блужданий
увлекает человека, окутывая его ложью. Окутывая человека
ложью, заблуждение, однако, в то же время создает
возможность, которую человек способен выделить из эк-зистенции,
а именно не поддаваться заблуждению, в то время как он сам
узнает его, не проникая в тайну человека.
И так как ин-зистентная эк-зистенция человека идет путем
блужданий, и так как блуждание как обман так или иначе его
угнетает и он в силу этой угнетенности доходит до тайны,
тайны забвения, человек в эк-зистенции своего наличного
бытия одновременно подвластен силе тайны и угнетенности
заблуждения. Он — в тисках принуждения как со стороны
тайны, так и со стороны заблуждения. Сущность истины,
заключающая в себе в своей полноте самую близкую ей, свою
собственную ближайшую несущность, этим своим постоянным
изменением колебаний держит человека в принуждении. |Бы-
тийность — это скатывание к принуждению. От наличного
бытия человека, и только от него одного, исходит раскрытие
необходимости и как ее следствие^ возможное перенесение
в неизбежность/ .
24
Раскрытие сущего как такового само по себе есть
одновременно сокрытие сущего в целом. Через одновременность
раскрытия и сокрытия властно пролегает путь блужданий.
Сокрытие сокрытого и путь блужданий сходятся у истоков
первоначальной сущности истины. Свобода* постигаемая из
ин-зистентной эк-зистенции человека, является сущностью
-истины (в смысле правильности пред-ставления) только
потому, что сама свобода происходит из первоначальной сущности
истины, из господства тайны на пути блужданий человека.
Допущение бытия сущего совершается в открытом отношении.
Однако, допущение бытия сущего как такового в целом
происходит сообразно с сущностью лишь тогда, когда она, как это
иногда бывает, перенимается в ее изначальной сущности.
Тогда уже близится рас-крытость тайны. Тогда вопрос о
сущности истины звучит как вопрос о ее происхождении. Тогда
становится ясной основа переплетения сущности истины с
истиной сущности. Проникновение в тайну блужданий есть не
что иное, как постановка единственного вопроса, вопроса
о том, что такое сущее как таковое в целом. Этот вопрос
мыслится как допускающий много блужданий вокруг своей
сущности и поэтому в силу своей многозначности еще
недостаточно отшлифованный, вопрос о бытии сущего. Мышление
о бытии, из которого изначально возник такой вопрос, начиная
с Платона, понимается как «философия», а позднее
называется «метафизикой».
8.
Вопрос об истине и философия
В осмыслении бытия слово получает освобождение
человека для экзистенции, с которого начинается его история; но это
слово — не только «выражение» мнения, а хорошо
сохраненная структура истины сущего в целом. Многие ли имеют
слух для того, чтобы услышать это слово, этому счет не
ведется. Кто те, которые могут слышать это слово? — этот
вопрос определяет место человека в истории. Однако в тот
самый — для мира определенный — момент, который
значится как начало философии, как раз и начинается ярко
выраженное господство обыденного рассудка (схоластика).
Он ссылается на несомненность очевидного открытого
сущего. Всякий вопрос относительно мышления он толкует как
нападение на здравый человеческий рассудок и его
злополучную чувственность.
25
Но вопрос о том, что такое философия по определению
здравого рассудка, оправдывающего себя в своей сфере, не
касается сущности философии, которую можно определить
только из соотнесенности с первоначальной истиной сущего
как такового в целом. Но так как истина в ее полноте включает
в себя неистину и, предваряя вся и все, властвует как сокрытие
(тайны), философия как выяснение этой истины находится
в разладе с самой собой. Ее мышление — это спокойствие
кротости, которая не изменяет сущему в целом в его сокрыто-
сти. Ее мышление может стать также решимостью,
характеризующей строгость, которая не взрывает укрытие, а
принуждает беззащитную сущность выйти в простоту понятийного
и таким образом в ее собственную истину.
В мягкой строгости и строгой мягкости своего допущения
бытия сущего как такового философия в целом становится
сомнением, которое не может придерживаться исключительно
сущего, а также не может допустить и властной сентенции
извне. Кант угадал внутреннюю трудность мышления; ибо он
говорит о философии: «Hier sehen wir num die Philisophie in
der Tat auf einen misslichen Standpunkt gestellt, der fest sein
soil, unerachtet er weder im Himmel poch auf der Erde an etwas
gehangt oder woran gestutzt wird. Hier soil sie ihre Lauterkeit
beweisen als Selbsthalterin ihrer Gesetze, nicht als Herold der
jenigen, welche ihr ein eingepflanzter.Sinn oder wer weiss wel-
che vormundschaftliche Natur einflustert...» («И вот теперь мы
видим, что философия на самом деле поставлена в
сомнительную, щекотливую позицию, которая должна быть тверда;
непризнанная, философия не может ни зацепиться ни за что на
небе, ни подпереться ничем на земле. И тут она должна
доказать свою честность, сама соблюдая свои законы, а не
выступая глашатаем тех законов, которые ей нашептывает
внушенное чувство или, может быть, опекающая природа»)
(Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Werke. Akademiea-
usgabe IV, 425).
При таком толковании сущности философии Кант, труд
которого знаменует последний поворот в западноевропейской
метафизике, устремляет свой взор в ту сферу, которую он,
правда со своей позиции субъективности и только с таковой,
смог, однако, понять и должен был понять ее как
правительницу собственных законов. Однако, взгляд на сущность при
определении философии достаточно широк, чтобы отвергнуть
всякое подчинение философского мышления, наиболее
беспомощный вид которого заключается в попытке заставить
смотреть на философию как на «выражение» «культуры»
(Шпенглер) и как на украшение созидающего человечества.
26
Но выполняет ли философия как «управительница
собственных законов» свою первоначальную, основную роль со
стороны сущности или же она управляется и сама имеет
единственное назначение — быть в распоряжении той, перед лицом
которой ее законы являются законами,— это зависит от той
изначальности, в которой первоначальная сущность истины
становится существенной для философского сомнения.
Предложенный здесь подход выводит вопрос о сущности
истины за изгородь, за пределы обычного ограничения
общепринятого понятия сущности и содействует осмыслению того, не
является ли вопрос о сущности истины одновременно — ив
первую очередь — вопросом об истине сущности. Но в понятии
«сущность» философия мыслит бытие. Сведение внутренней
возможности правильности высказывания к эк-зистентной
свободе допущения бытия как ее «основания», а также
толкование, согласно которому начало сущности этого основания
следует искать в укрытии тайны и на пути человеческих
блужданий, мы надеемся, покажет, что сущность истины — это не
пустая «генерализация» «абстрактной» всеобщности, а
скрытая единичность прошлой истории раскрытия «смысла» того,
что мы называем бытием и о чем с давних пор привыкли
думать только как о сущем в целом.
Изречение
Аиаксимандра
DerSpruch |
des
Anaximander
Это изречение считается древнейшим
изречением западного мышления. Анаксимандр жил, должно
быть, что-то от конца VII до середины VI века на острове
Самос.
Общепринятый текст этого изречения гласит:
г\ wv бе f| yeveatg ёоп тоТд ovai xai rf|v cpOogav
etg таота yiveoftai хата то %Qe(i>v 6i66vai y<xq aura
fiixrjv xai tiatv aM,f|A,oiQ Tfjg d6ixiag хата tt|v тояЗ
XQovov ragiv.
«Откуда вещи берут свое происхождение, туда же должны
они сойти по необходимости; ибо должны они платить пени
и быть осуждены за свою несправедливость сообразно порядку
времени». Такой перевод дает молодой Ницше в наброске
завершенной к 1873 году статьи под заглавием «Философия
трагического века Греции». Статья эта была опубликована
тридцать лет спустя, в 1903 году, уже после смерти Ницше.
В основе ее лежит лекция, которую Ницше в начале 70-х годов
прошлого столетия неоднократно читал в Базеле под
названием «Доплатоновские философы с интерпретацией избранных
фрагментов».
В том же 1903 году, когда статья Ницше о доплатоновских
философах стала известной в первой публикации, появились
«Фрагменты досократиков», которые выпустил Герман Дильс,
по методам новейшей классической филологии, в критически
выверенном издании с переводом. Труд этот был посвящен
Вильгельму Дильтею. Вот дословно дильсовский перевод этого
изречения Аиаксимандра:
Перевод с издания: Der Spruch des Anaximander//Heidegger Martin.
Holzwege. Vittorio Klostermann. Frankfurt am Main, 1957.
© Т. В. Васильева, перевод, 1991.
28
«Из чего же вещи берут происхождение, туда и гибель их
идет по необходимости; ибо они платят друг другу взыскание
и пени за свое бесчинство после установленного срока».
Переводы Ницше и Дильса исходят из разных побуждений
и намерений. И все же они едва ли отличаются друг от друга.
Перевод Дильса в некотором отношении более дословен. Но
коль скоро перевод только дословен, он не обязательно будет
точным. Точным он бывает лишь тогда, когда его дословность
становится из речи самого предмета рекущей словесностью.
Общего созвучия этих переводов важнее положенное в
основу их понимание Анаксимандра. Ницше причисляет его
к доплатоникам, Дильс — к досократикам. Оба наименования
говорят примерно одно и то же. Необъявленное мерило такого
толкования и такого суждения о ранних мыслителях есть
философия Платона и Аристотеля. Оба рассматриваются как
такие философы, которые задают правило измерения для
предшествующего периода Греции. Пройдя через
христианскую теологию, это воззрение утвердилось как некоторое
общее и до сих пор непоколебимое убеждение. Даже и там, где
филологическое и историческое исследование при всем при том
более обстоятельно занимается философами до Платона и
Аристотеля, руководство к интерпретации дают платоновские
и аристотелевские представления и понятия в их новейшем
видоизменении. Даже и там, где изыскание отвечает
требованиям классической археологии или исторического
литературоведения, можно услышать об архаическом в раннем
мышлении. Это сохраняется и в классических и в классицистических
представлениях. Ведется речь об архаической логике, и никто
не задумывается над тем, что с логикой мы впервые
сталкиваемся лишь внутри платоновской и аристотелевской школы. Ни
к чему не приведет, если мы попросту отвернемся от
позднейших представлений, не посмотрев прежде, как обстоит дело
с тем предметом, который в переводе должен быть переведен
с одного языка на другой. Здесь же предмет есть предмет
мышления. При всем усердии к филологическому прояснению
речи мы должны в переводе прежде всего думать о предмете.
Поэтому в попытках перевести изречение этого раннего
мыслителя помочь нам может только мыслитель. Правда, если мы
станем озираться в поисках такой помощи, поиски наши будут
напрасны.
Молодой Ницше хотя и выигрывает по-своему в некотором
живом отношении к индивидуальности доплатоновских
философов, однако его интерпретации текстов вполне традиционны,
если даже не поверхностны. Единственный западный
мыслитель, мысля постигший историю мышления,— это Гегель. Он
29
же как раз ничего не говорит об атом изречении Анаксиман-
дра. Кроме того, Гегель разделяет господствующее убеждение
относительно классического характера платоновской и
аристотелевской философии. К тому мнению, что ранние философы
были доплатоники и досократики, он впервые прибавил также
основания и для того, чтобы понимать их как доаристотеликов.
Гегель же говорит в своих лекциях по истории греческой
философии в том месте, где он ведет речь об источниках для
изучения древнейшей эпохи философии:
«Аристотель — богатейший по содержанию источник. Он
строго и основательно изучил древних философов и главным
образом (и особенно многосторонне) в начале своей
«Метафизики» говорит о них в исторической последовательности. Он
столь же философичен, сколь и учен; мы можем ему
довериться. Для греческой философии нет ничего лучше, как
проштудировать первую книгу его «Метафизики» (W. W. XIII. S. 189).
Тому, что Гегель рекомендует своим слушателям в первые
десятилетия XIX века, уже последовал во времена Аристотеля
Теофраст, его ученик и первый преемник в руководстве
перипатетической школой. Теофраст умер в 286 г. до Р. X. Он
оставил сочинение под названием Ownxwv 66£ai — «Мнения
тех, кто говорит ocpwei ovxa». Аристотель называет их также
<ри(поХ6уо1. Имеются в виду ранние мыслители, которые
занимались естественными вещами. Фиочд подразумевает небо
и землю, растения и животных, а также известным образом
и человека. Это слово означает некую особую область сущего,
которая у Аристотеля, как и в школе Платона, остается
отграниченной, собственно говоря, от fjOog и Хоуод. Эта срйочд еще не
имеет широкого значения всецелостности сущего. Род сущего
в смысле <pu(T8i ovra в начале тематического рассматривания
«Физики», т. е. онтологии того, что есть <puoei ovra,
отграничивается у Аристотеля от tsxvtj ovra. Первое есть то, что само
производит себя из себя самого, последнее производится по
мере того, как человек это пред-ставляет и по-ставляет.
Когда Гегель говорит об Аристотеле, что он столь же
философичен, сколь и учен, это значит: Аристотель видит
ранних мыслителей исторически в поле зрения и в масштабе
своей физики. Для нас это значит: Гегель понимает доплато-
новских и досократовских философов как до-аристотеликов.
Отсюда в последующее время некоторое двоякое мнение
утвердилось как общее воззрение на философию до Аристотеля
и Платона: 1) ранние мыслители, задаваясь вопросом о
первых началах сущего, предметом своего рассмотрения брали
прежде и более всего природу; 2) их высказывания по этому
предмету остаются делом случая и недостаточны, если срав-
30
нить их с тем, что внутри платоновской и аристотелевской
школы, у стоиков и в медицине развивалось в естествознание.
Эти 4>vaix<5v 66£ai Теофраста стали главным источником
для историко-философских учебников в эпоху эллинизма. Из
этих учебников, которые также определяли истолкование
сохранявшихся еще оригинальных сочинений ранних
мыслителей, образовалась позднейшая доксографическая традиция
философии. Не только содержание, но и стиль этой традиции
наложили отпечаток на отношение позднейших мыслителей,
вплоть до Гегеля, к истории мышления.
Неоплатоник Симпликий в 530 г. после Р. X. написал
обширный комментарий к «Физике» Аристотеля. В этом
комментарии Симпликий поместил текст нашего изречения Анак-
симандра и тем самым сохранил его для Запада. Изречение он
позаимствовал из Ouaixav 66gai Теофраста. С того времени
как Анаксимандр, нам неизвестно где, как и для кого,
высказал это изречение, до того мгновения, как Симпликий вписал
его в свой комментарий, прошло более тысячелетия. Между
временем этой записи и теперешним мгновением лежит
примерно полтора тысячелетия.
Может ли ещё это изречение Анаксимандра сказать нам
что-либо из своего хронологически-исторического далека в два
с половиной тысячелетия? Что наделяет полномочиями его
речь? Только то, что оно самое древнее? Античная древность
и антикварная старина сами по себе не имеют никакого веса.
Кроме того, хотя это изречение и наиболее древнее из
дошедших до нас, мы все же не знаем, точно ли оно есть наиболее
древнее в своем роде изречение западного мышления. Мы
можем, пожалуй, чувствовать, что существо Запада мы
мыслим в первую очередь как раз из того, что говорится в этом
раннем изречении.
Но какое призвание имеет эта рань, чтобы призывать нас,
видимо, самых поздних последышей философии? Не
последыши ли мы некоторого исторического свершения, которое теперь
быстро подходит к своему концу, где все будет завершено
в некий все более и более нудный порядок единообразного?
Или в хронологически-историческом далеке этого изречения
скрывается полученная от свершения близость его
несказанного, сказующего грядущему?
Не стоим ли мы в предвечерье наиболее чудовищной
перемены всей земли и того времени исторического
пространства, в котором держится эта земля? Не стоим ли мы в
вечернем кануне некоторой ночи перед какой-то иной утренней
ранью? Не для того ли мы вышли в путь, чтобы иммигрировать
в историческую страну этого вечернего заката Земли? Не
31
восходит ли еще только эта страна закатного Запада? Не
становится ли только еще этот Запад от Окцидента до Ори-
ента, включая всю так называемую Европу, местностью
грядущего изначально вершимого свершения? Не принадлежим ли
мы Западу в некотором смысле, который только еще восходит
в нашем переходе к ночи мира? Как все эти, одной только
исторической науке известные философии исторического
свершения, лишь ослепляющие обозримостью историко-научно
преподнесенного материала, могут объяснить нам историю-
свершение, если они не будут мыслить фундаменты своих
объяснительных оснований из существа свершения, а
последнее — из самого бытия? Точно ли мы последыши, как это есть?
А не равно ли мы предтечи утренней рани совершенно иного
мирового века, который оставил за собой наши сегодняшние
историко-научные представления об историческом свершении?
Ницше, по чьей слишком грубо понятой философии
Шпенглер вычислил свой Закат Европы в смысле западного мира
былого, пишет в своей статье «Странник и его тень»,
появившейся в 1880 году (Aph. 125): «Возможно некоторое более
высокое состояние человечества, при котором Европа народов
оказывается темным забвением, но при котором, однако,
живет Европа в тридцати очень старых, никогда не
устаревающих книгах»
Всякая историческая наука вычисляет грядущее из своих
определенных настоящим образов прошедшего. Научная
история есть постоянное разрушение будущего и исторического
отношения к прибытию сужденного. Историзм сегодня не
только не преодолен, он еще лишь вступает на стадию своего
распространения и утверждения. Техническая организация
мировой общественности через радио и уже отстающую печать
есть собственная форма господства этого историзма.
Можем ли мы, однако, составить и предоставить
представление о раннем утре мирового века иначе, нежели на путях
исторической науки? Пожалуй, историческая наука есть для
нас все еще необходимое средство онастоящивания
исторического свершения. Однако это никоим образом не означает, что
историческая наука, взятая сама по себе, в состоянии
образовывать в буквальном смысле до-статочную связь со
свершением внутри исторического обзора.
Та древность, которая определяет изречение Анаксиман-
дра, принадлежит к утренней рани вечернего Запада. Но
каким образом, если утренняя рань значительно опередила
всякое позднее, а самое раннее еще дальше отстоит от
позднего? Это «однажды» утра судьбы пришло бы тогда как такое
«однажды» к последнему крайнему (sa%axov)t т. е. к отлуче-
32
нию доныне закутанной судьбы бытия. Бытие сущего
собирается (кгугоЪси, А-оуос;) в крайности своей судьбы. Прежнее
существо бытия закатывается в свою еще закутанную истину.
Былое бытия собирается в это отлучение. Собирание в это
отлучение как сбор (к6уо<;) самой крайности (eaxaxov) —
своего прежнего существа есть эсхатология бытия. Само по
себе бытие как принадлежащее свершению эсхатологично.
Это слово «эсхатология» внутри сочетания «эсхатология
бытия» мы понимаем не как наименование некоторой
теологической или философской дисциплины. Эсхатологию бытия мы
мыслим в том соответствующем смысле, в каком сообразно
свершению бытия следует мыслить «феноменологию духа».
Она (феноменология духа) сама образует некоторую фазу
в эсхатологии бытия, коль скоро бытие как абсолютная
субъективность беспредметной воли к воле собирает себя в
крайности своего прежнего, метафизикой запечатленного, существа.
Если мы будем мыслить (исходя) из эсхатологии, то мы
должны ожидать когда-то того утреннего «однажды» в
«однажды» грядущего и учиться сегодня обдумывать это
«однажды» не только «от», но и «к».
Если мы будем в состоянии слушать это изречение как
такое «однажды», то оно звучит для нас не более как
некоторое научно-исторически давно прошедшее время. И в таком
случае оно не может также ввести нас в напрасное искушение
историко-научно, т. е. филологически и психологически,
вычислить, что действительно наличествовало в человеке по
имени Анаксимандр из Милета как рас-положение его
представления о мире. Что же, однако, коль скоро изреченное этого
изречения мы слышим как такое «однажды», связывает нас
в попытке его перевести? Как нам достичь изреченного в этом
изречении, чтобы перевод был сохранен от произвола?
Мы связаны языком этого изречения, нашим родным
языком,' мы связаны с двух сторон существенным образом
и в речи и в постижении ее существа. Эта связанность
простирается дальше и она сильнее, но также и неприметнее, чем
нормативность всякого филологического и
научно-исторического факта, который имеет свою фактичность лишь как
ленное право от нее. Пока мы не постигнем эту связанность,
любой перевод этого изречения должен казаться чистым
произволом. В том же случае, когда мы связаны изреченным этого
изречения, не только перевод, но и сама эта связанность
сохраняет видимость известного насилия. Равно как испытывает
неизбежное насилие и то, что надлежит здесь услышать и
сказать.
Изречение мышления поддается переводу лишь в собеседо-
2 М. Хайдеггер
33
вании мышления с его изреченным. Мышление, однако, есть
стихослагание, причем не только некий род поэзии в смысле
стихотворчества или песнопения. Мышление бытия есть
изначальный способ стихослагания. В нем прежде всего речь
только и приходит к речи, а это значит — приходит в свое
существо. Мышление сказует диктат истины бытия. Мышление
есть изначальное dictare. Мышление есть прапоэзия, которая
предшествует всякому стихотворчеству, равно как и всякому
поэтическому в искусстве, поскольку то выходит в творение
внутри области речи. Всякое стихослагание, в, этом более
широком и более тесном смысле поэтического, в основании
своем есть мышление. Стихослагающее существо мышления
хранит силу истины бытия. Поскольку мыслящий перевод тем
самым стихослагает, стихотеснит, постольку перевод, которым
могло бы высказаться это древнейшее изречение, оказывается
необходимо насильственным.
Мы пытаемся перевести это изречение Анаксимандра. Для
этого требуется, чтобы сказанное по-гречески мы перевели I
к нашей речи. Для этого необходимо, чтобы еще до перевода
наше мышление было пере-веде но к тому, что сказано по-
гречески. Такой мыслящий пере-вод к тому, что в этом
изречении приходит к своей речи, есть прыжок через некий ров.
Последний никоим образом не состоит лишь в историко-хроно-
логическом отстоянии на два с половиной тысячелетия. Ров |
этот шире и глубже. Он труден для перепрыгивания прежде
всего тем, что мы твердо стоим на своем краю. Мы так близки
к этому рву, что не можем взять сколько-нибудь достаточного I
разбега для отскока и дальнего прыжка и поэтому легко прыг-1
нуть слишком коротко, если вообще недостаток в удовлетвори- j
тельном прочном базисе позволит сделать хоть какой-то
отскок.
Что приходит к речи в этом изречении? Вопрос этот не-
сколько двусмыслен, а потому неточен. Вопрос этот может
стоять так: о чем говорит нечто это изречение. Он (этот во- I
прос) может подразумевать и само это .сказанное. В
дословном переводе изречение это гласит: I
«Из чего же происхождение (есть у вещей), туда также |
происходит их пропадание по необходимому; а именно, они !
выдают друг другу право и пени за несправедливость по по-
рядку времени».
В распространенном понимании это предложение говорит
о происхождении и гибели вещей. Оно характеризует род этого (
процесса. Происхождение и гибель возвращаются туда, отку-
да они пришли. Вещи развиваются и разрушаются вновь, i
Поэтому они являют некий род плодосеменного хозяйства j
34
в равнопребывающем домострое природы.
Взаимопроникновение процессов сооружения и разрушения устанавливается,
конечно, лишь приблизительно как всеобщая черта
естественно совершающегося. Поэтому изменчивость всех вещей
представляется еще не строго в способе их движения и в
точных их меросоотношениях. По-настоящему, здесь еще
отсутствует соответствующая формула закона движения. Суждение
позднейшего прогресса достаточно снисходительно, чтобы не
придраться к такому начальному исследованию природы.
Считается даже в порядке вещей, что начинающие
естествоиспытатели описывают процессы в вещах соответственно их
обыденным происшествиям в человеческой жизни. Поэтому фраза
Анаксимандра говорит о праве и несправедливости в вещах,
о взыскании и пенях, об искуплении и расплате. В картину
природы примешиваются моральные и юридические понятия.
Поэтому уже Теофраст критически замечает против
Анаксимандра, что тот JioiYrrixcoTeQOig ойтоо£ ovonaaiv avxa Aivwv,
«то, что разбирает, высказывает в выражениях, скорее
поэтических»- Теофраст имеет в виду слова 61кп, xiaig, a6ixia,
6t66vat 6txriv...
. Задача состоит в том, чтобы прежде всего раскрыть, о чем
говорит это изречение. Только тогда удастся в полной мере
постигнуть, что именно говорит оно о том, о чем оно говорит.
Взятое грамматически, это изречение состоит из двух
предложений. Первое начинается: eg civ бё r\ ysveait, e<m то!£
OWL...
Речь идет об ovxa, в буквальном переводе, та ovxa,
означает: сущее. Этот плюралис среднего рода называет та яоХЯа —
некое множество в смысле множественности сущего. Однако
та ovra означает не любую или безграничную
множественность, но та лаута, веецелостность сущего. Поэтому та ovxa
означает множественно сущее в целом. Второе предложение
начинается (со слов): 5i66vai v<zq a&rd... Это avra вновь
подхватывает Tofg ovai первого предложения. Это изречение
говорит о множественном сущем в целом. Однако к сущему
принадлежат не только вещи. Вещи не суть вовсе — только
естественные вещи. И люди, и людьми произведенные вещи,
человеческим действием или попустительством заведенные
установления или произведенные обстоятельства также принадлежат
к сущему. Также к сущему принадлежат и демонические и
божеские вещи. Все это не только тоже сущее, но это и более
сущее, нежели просто вещи. Поэтому аристотелевско-теофрас-
товская предпосылка, что та ovxa суть cpvaei ovxa,
естественные вещи в тесном смысле, остается безосновательной. Для
перевода она становится шаткой. Да и перевод та ovxa через
2*
35
«вещи» не схватывает точно того предмета, который приходит
к речи в этом изречении.
Но если отпадает предположение, что в этом изречении мы
имеем дело с высказыванием по поводу естественных вещей, то
пропадает также всякое основание для утверждения, что здесь
морально и юридически толкуете i то, что, строго взятое,
должно быть представляемо естественнонаучно. С отпаданием
предположения, что изречение это трактует научное познание
ограниченной области природы, должно стать
несостоятельным и то предвзятое соображение, что нравственное и
правовое мыслилось к тому времени на основании представлений
специальных дисциплин, некоторой этики или юриспруденции.
Оспаривание здесь четких границ никоим образом не
утверждает, что раннее время не знает права или нравственности.
Однако если для нас ходячие обороты из обихода
специальностей (физика, этика, философия права, биология, психология)
здесь неуместны, то там, где отсутствуют границы
специальностей, там нет никакой возможности для преступления неких
границ и для неоправданного переноса представлений одной
области в другую. И все же там, где не предпосланы
отраслевые границы, вовсе не обязательно господствует лишь
безграничность неопределенного и расплывчатого. Пожалуй,
напротив, там может приходить к речи свободный от всякого
отраслевого упрощения собственный остов чисто мыслимого
предмета.
Слова 61хт], &6txia, т'ющ имеют вовсе не отраслевое
ограниченное, но некоторое широкое значение. Широкое
значит здесь не: расширенное, расплющенное или
разжиженное,— но: обширное, богатое и скрывающее некую
предумышленность. Как раз и единственно по этой причине слова
эти усвоены для принесения к речи множественного целого
в существе его единой единственности. Чтобы это произошло,
единое целое множественного должно, конечно, быть
воспринято в мышлении со своими собственными чертами, чисто само
по себе.
Такой способ предоставления множественно сущему
возможности пройти единым перед взглядом на его существо есть
что угодно, только не род некоего примитивного и
антропоморфного представления.
Чтобы вообще и до всякого перевода перейти к тому, что
приходит к речи в этом изречении, мы должны сознательно
устранить все несообразные предвзятые мнения: во-первых,
что здесь мы имеем дело с натурфилософией, затем, что здесь
некстати примешивается моральное и юридическое; далее, что
вообще здесь выступают на сцену разграниченные представле-
36
ния из обособленных областей природы, нравственности,
права,— наконец, что здесь еще преобладает примитивное
переживание, которое истолковывает мир некритически,
антропоморфно и поэтому прибегает к помощи поэтических
выражений.
Но и устранения этих неоправданно примысливаемых
предпосылок недостаточно, если мы будем пренебрегать тем,
чтобы, вслушиваясь, обратиться к тому, что в этом изречении
приходит к речи. Только в таком прислушивании удается
собеседование между нами и раннегреческим мышлением.
В собеседование входит и то, что его беседа говорит от себя,
а именно от этой отнесенности — прислушивания к себе.
Буквально текст этого изречения говорит об ovra. Здесь
высказывается, что есть с ними и как это с ними есть. О сущем
говорится тем, что из-рекается бытие сущего. Бытие приходит
к речи как бытие сущего.
На высшую точку завершения западной философии
приходится такое высказывание: «Запечатлеть на становлении
характер бытия — вот высочайшая воля к власти». Так пишет
Ницше в заметке, озаглавленной «Рекапитуляция». По
характеру почерка этого манускрипта мы должны отнести эту
заметку к 1885 году и тому времени, когда после «Заратустры»
Ницше планировал свой систематический метафизический
шедевр. «Бытие», которое мыслит здесь Ницше, есть .«вечное
возвращение подобного». Оно есть тот способ утверждения,
в котором изволяет себя сама воля к власти и обеспечивает
свое собственное присутствие как бытие становления. В самом
высшем завершении метафизики бытие сущего приходит к
этому высказыванию.
Раннее изречение мышления раннего времени и позднее
изречение мышления позднего времени приносят к речи то же
самое, однако высказывают они не подобное. Но где в
неподобном может быть из-речено то же самое, там как бы само
собой исполняется основное условие для мыслящего
собеседования позднего времени я раннего.
Или же это одна лишь видимость? Не скрывается ли за
этой видимостью пропасть между речью нашего мышления
и-речью греческой философии? Но коль скоро та ovxa означает
«сущее», а elvai не что иное как бытие, то не существуем ли
мы поверх любой пропасти и, при всей несходности веков,
^области того же самого, что и ранние мыслители? В этом нас
заверяет перевод та ovra nelvai через «сущее» и «бытие». Или
же для доказательства неопровержимой правильности такого
перевода мы должны еще сначала предъявить пространный
перечень текстов греческих философов? Все истолкования
37
греческой философии покоятся уже на этом переводе. Каждый
словарь дает нам обширнейшую справку о том, что eivai
значит «быть», eaxiv значит «есть», ov — существующее, а та
б via «сущее».
Это и в самом деле так. У нас нет умысла подвергнуть это
сомнению. Мы не спрашиваем, верно ли переведены ov через
«существующее» и eivai через «быть». Мы лишь спрашиваем,
верно ли то, что мыслилось при этом верном переводе. Мы
лишь спрашиваем, мыслится ли еще вообще что бы то ни было
в этом обыденнейшем из всех переводе.
Проверим. Испытаем себя и других. И тут
обнаруживается: при таком правильном переводе все как бы возгоняется
в некое парящее — неточное значение. И тут обнаруживается:
вечно поспешная приблизительность обыденного перевода
вообще не считается недостатком и отнюдь не затрудняет
исследования и изложения. Пожалуй, прикладываются
большие усилия, чтобы дознаться, что же, по всей вероятности,
представляли себе греки за словами т>£о£, ф1>хл* £©"4» ^ХЛ>
%&qi<Z, А.670С,, «ргкпс, или же 1бёа, тгууц, или evegveia. Но мы не
задумываемся, что такого рода усилия везде пропадают даром
и попусту, пока область всех областей, эти ov и eivai, не
освещена точно и явственно в ее греческом существе. Хотя мы и
назвали eivai областью, едва ли такая областность
представляется еще и в смысле всеобщего и всеохватывающего по
способу логического значения понятий уёуод и xotvov. Обнимать-
охватывать (concipere) по способу представляющего понятия
заведомо считается единственно возможным способом
схватывания бытия, который признается и тогда, когда
предпринимается бегство в диалектику понятий или в непонятийность
магических знаков. Остается совершенно забытым, что
преимущество понятия и истолкования мышления как некоего
понимания покоится уже и единственно в непродуманном, ибо
не постигнутом, существе этих ov и eivai.
По большей части под слова ov и sivai мы необдуманно
подставляем то, что сами мы разумеем под необдуманными же
соответствующими словами нашей родной речи: сущее и
бытие. Если присмотреться тщательнее, то под эти греческие
слова мы не подставляем вовсе никакого значения. Мы
принимаем их непосредственно из непосредственно понятного,
которое уже ссудило им ходячую понятность собственной речи.
Под эти греческие слова мы ничего не подставляем, разве
только податливую небрежность поверхностного мнения. На
худой конец такой перевод может и пройти, например, когда
мы eivai и laxiv читаем в историческом сочинении Фукидида,
а ^v и eorai у Софокла.
38
Но как быть, когда та ovra, ov и elvai звучат в речи как
основные слова мышления и не просто одного какого-либо
мышления, но как главные слова всего западного мышления?
Тогда испытание переводящего речеупотребления
обнаруживает следующее положение предмета: не является ясным
и обоснованным ни то, что же мы сами мыслим при словах
нашей собственной речи: сущее бытие;
ни то не является ясным и обоснованным, точно ли
схватывает нами мыслимое то, что греки нарекли словами ov и eivai
также и то не является ясным и обоснованным, что вообще
высказывали тогда слова ov и elvai, мыслимые по-гречески;
а также и то — при таком положении предмета — не
позволяет себя прояснять, может ли и до какой степени наше
мышление соответствовать грекам.
Эти простые соотношения совершенно перепутаны и
непродуманны. Однако внутри них в воспаряя поверх их широко
распространяется некая безбрежная молва о бытии.
Просочившись сквозь путаное положение предмета, она вводит нас
в заблуждение — в союзе с формальной правильностью
перевода ov и elvat через «сущее» и «быть». И в этом затмении
заблуждаемся не только мы, нынешнее поколение. В этом
затмении уже тысячелетия пребывает в отлучении всякое
представление и предоставление, передающее философию
греков. Эта спутанность покоится не в простой неряшливости
филологии или в неудовлетворительности исторического
исследования. Она происходит из пропасти того соотношения,
в котором выступает бытие к существу западного человека.
А посему эта спутанность не позволяет себя устранить тем, что
на пути какой-либо дефиниции мы раздобудем для слов ov
и eivat, сущее и бытие, точное значение. Скорее, напротив,
попытка неотступно проследить эту спутанность и привести
к исходу ее ценную силу может однажды стать поводом к
разрешению какой-то иной судьбы бытия. Одно приуготовление
такого повода в достаточной степени было бы необходимостью
еще внутри длящегося затмения завести диалог между нами
и ранним мышлением.
Если мы так упорно настаиваем на том, чтобы мышление
греков мыслить по-гречески, то происходит это никоим
образом не от намерения дать более соразмерную с некоторой
точки зрения картину греческого мира как некоего
прошедшего человеческого мира.
Мы ищем греческое и не ради греков, и не ради улучшения
науки, и даже не только ввиду более вразумительного
собеседования, но единственно ввиду того, что в таком
собеседовании может быть принесено к речи, в случае если оно исходит
39
в речь от себя самого. Это и есть то самое, что различным
образом затрагивает греков и нас в нашей судьбе. Это и есть
то, что утром мышления приносится в судьбу вечернего
Запада. Через эту судьбу греки только и стали, греками в том
историческом смысле, когда история есть свершение и судьба.
В нашем слоге греческое не означает ни этнического или
национального, ни какого-либо культурного или
антропологического своеобразия; греческое есть раннее утро, когда само
бытие проясняет себя в сущем и принимает в свое призвание
существо человека, которое, как причастное судьбе, имеет ход
своего свершения в том, как оно сохраняется в бытии и как,
упущенное из него, оно никогда не бывает им захвачено.
Греческое, христианство, Новое время, планетарное и,
в обозначенном смысле, Западное мы мыслим из некоторой
основочерты бытия, которую оно, как 9Aki\Qeia в Jlr\ftr\,
скорее скрывает, нежели разоблачает. Но это сокрытие своего
существа и существоистока есть та черта, в которой бытие
изначально себя проясняет так, однако, что мышление не
следует ему прямо. Сущее само не выступает в этом свете
бытия. Несокровенность сущего, ему предоставленное
освещение, затмевает свет бытия.
Бытие, раскрывая себя в сущем, уклоняется. Таким
образом, просветляя его, бытие смущает сущее заблуждением.
Сущее достигается в том заблуждении, в котором оно
блуждает вокруг бытия, и тем самым это заблуждение, выражаясь
языком князей и стихотворцев, устрояет. Оно, заблуждение,
есть существенное пространство былого. В нем заблуждается
существенное исторического свершения, минуя тождественное
бытие. Поэтому то, что исторически восходит, необходимо
получает ложное толкование. Через и сквозь это ложное
истолкование судьба ожидает, что будет из ее посева. Она приносит
то, что она затрагивает, к возможности судного и не-судного.
Доля испытывает себя на деле. Самоослепление человека
соответствует самораскрытию просветления бытия.
Без заблуждения не было бы никакого отношения у
дельности к доле, не было бы свершения. Хронологические дистанции
и каузальные выстраивания хотя и принадлежат к научной
истории, они, однако, не суть свершение. И мы, коль скоро мы
принадлежим к этому свершению, ни на большую, ни на малую
дистанцию не отстоим от греческого.
Но мы заблуждаемся относительно него. Бытие
уклоняется, раскрывая себя в сущем.
Таким образом, бытие имеет дело со своей истиной в себе.
Это в-себе-удержание есть ранний способ его раскрытия.
Ранний знак такого в-себе удержания есть' Л-A/nOeia. Принося
40
несокровенность сущего, она впервые учреждает
сокровенность бытия. Сокрытие же, однако, остается в черте в-себе-
удерживающего отказа. Мы можем это просветляющее в-себе-
удержание с истиной его существа назвать ело%ц бытия.
Однако это слово, заимствованное из речеупотребления Стой,
не называет здесь, как у Гуссерля, методического прерывания
(Aussetzung) тетического акта сознания в опредмечивании.
Эпоха бытия принадлежит ему самому. Она мыслится из
опыта забвения бытия.
Из эпохи бытия происходит эпохальное существо его
судьбы, в которой существует собственно свершение мира.
Всякий раз, когда бытие в своей судьбе в-себе-удерживается,
внезапно и неожиданно развертывается мир. Каждая эпоха
свершения мира есть эпоха заблуждения. Эпохальное
существо бытия принадлежит к сокровенному временному
характеру бытия и обозначает мыслимое в бытии существо бытия.
А то, что представляется за этим именем обычно,— есть лишь
пустота взятой на предметно-мыслимом сущем видимости
времени. Экстатический характер здесь-бытия есть, однако,
для нас прежде всего опытно постижимое соответствие
эпохальному характеру бытия. Эпохальное существо бытия
наступает к экстатическому существу здесь-бытия. Эк-зистенция
человека стоит вне экстатического и хранит таким образом
эпохальность бытия, к существу которого принадлежит это
«здесь», а тем самым и «здесь-бытие».
В том, что мы называем «греческое», лежит эпохально
мыслимое начало эпохи бытия. Само это долженствующее
эпохально мыслиться начало есть утренняя рань судьбы в
бытии из бытия.
Мало зависит от того, что, собственно, мы представляем
или предоставляем о прошлом, однако многое зависит от
способа, каким мы памятуем судьбу. Может ли это свершаться
без некоего мышления? Однако если это свершается, то
давайте откажемся от претенциозного призывания близорукого
мнения и откроем себя для призвания судьбы. Не она ли
говорит в раннем изречении Анаксимандра?
Мы не уверены в том, что ее призвание говорит в нашем
существе. Остается сомнительным, ударяет ли взор бытия —
именно это подразумевает молния (Гераклит. Фрагм. 64) —
в наше отношение к истине бытия или это всего лишь слабая
зарница некой давно удалившейся грозы приносит свое слабое
мерцание от ее блеска в наше знание бывшего.
Изрекает ли нам это изречение o6ovxa в их бытии?
Внимаем ли мы его изреченному, elvat сущего? Пробивается ли еще
к нам хоть один блик света через эту смущенность заблужде-
41
ния из того, что ovxa и elvai высказывали по-гречески? Только
в блеске этого светлого блика мы еще можем совершить
перевод к изреченному этого изречения, чтобы затем перевести его
в собеседование мышления. Возможно, что это смущение,
пронизывающее употребление слов ovxa и elvai, сущее и
бытие, менее происходит оттого, что речь не все может высказать
удовлетворительно, а гораздо более от того, что мы
недостаточно толково мыслим предмет. Лессинг где-то говорит: «Речь
может выразить все, что мы мыслим толково». Вот почему от
нас зависит, будем ли мы внимательно следовать той верной
возможности, позволяющей нам толково мыслить тот предмет,
который это изречение приносит к Речи.
Мы склонны усматривать искомую возможность в
изречении Анакеимандра. В этом случае мы пока еще допускаем
недостаток той проницательности, которой требует путь
перевода.
Тогда, в первую очередь, необходимо от истолкования
этого изречения с помощью не одного лишь этого изречения
совершить пере-вод к тому, откуда приходит к речи изреченное
в этом изречении, пере-вод к та ovxa. Это слово называет то,
о чем речет изречение, не только лишь то, что оно изрекает.
То, о чем оно речет, уже до своего изречения есть изреченное
греческой речи в ее обыденном словоупотреблении, низменном
и высоком. Поэтому ту возможность, которая позволила бы
нам совершить перевод туда, мы должны искать прежде всего
вне изречения, чтобы постичь таким образом, что высказывает
та ovxa, мыслимое по-гречески.
Кроме всего прочего, мы должны оставаться вне изречения
еще и потому, что мы еще даже не ограничили дословный текст
этого изречения. Это ограничивание в конечном счете, т. е. в
нашем предмете, управляется в первую очередь веданием того,
что мыслилось и было мыслимо под дословным звучанием
приходящего здесь к речи в раннее время в отличие от
господствующих представлений позднего времени.
Предложенный и приведенный выше текст по обыкновению
принимается из комментария Симпликия к «Физике» как
изречение Анакеимандра. Однако комментарий цитирует не
так однозначно, чтобы можно было с уверенностью решить,
где начинается изречение Анакеимандра и где оно
оканчивается. Еще сегодня выдающиеся знатоки греческого языка
принимают текст нашего изречения в том виде, в каком оно
было приведено в начале нашего рассуждения.
Но уже Джон Барнет, признанный и влиятельный знаток
греческой философии, которому мы обязаны оксфордским
изданием Платона, в своей книге «Начала греческой филосо-
42
фии» выразил сомнение в том, что цитату из Симпликия
следует начинать так, как это обычно делается. Кроме того,
Барнет высказывается против Дильса (ср. 2-е изд. 1908,
немецкий перевод 1913. С, 43. Прим. 4): «Дильс допускает, что
фактически цитата начинается со слов: eg <ov бе r| yevEoit,...
Греческий обычай вплетать цитаты в текст говорит против
этого. Только изредка греческий писатель непосредственно
начинает какую-либо буквальную цитату. Кроме того,
выражения Yeveaic, и фОора в том смысле, который они как termini
technici имеют у Платона, осмотрительнее было бы не
приписывать Анаксимандру». На основании этого сомнения Барнет
допускает, что слова Анаксимандра начинаются лишь с хата
то xqswv. За исключение предшествующего этим словам
говорит и то, что Барнет высказывает о греческом цитировании
вообще. От подобного исключения удерживает его мысль
о сомнительности того, что именно в этой форме стояло
выражение, затрудненное терминологическим употреблением слов
yeveaig и <pOogd. Действительно, yeveoiq и <p#oQa у Платона
и Аристотеля суть точные обозначения понятий и становятся
впоследствии школьными терминами. Но yiveaic, и фФора суть
старые слова, которые знал уже Гомер. Анаксимандр не
должен употреблять их как обозначения понятий (термины). Он
даже еще не умеет их так употреблять, так как речь понятий
необходимо остается чужой ему. Поскольку она становится
возможной лишь на основании истолкования бытия как 1бёа,
постольку, разумеется, тогда и с тех пор она становится также
неизбежной. Все же предложение, стоящее до хата то xqswv —
и по строению и по звучанию граздо скорее, вероятно,
аристотелевское, нежели архаическое. Подобную же позднейшую
черту выдает также это xaxd ttjv tov %qovov xagiv на конце
обычно принятого текста. Кто склонен зачеркнуть кусок
текста, подвергнутый сомнению у Барнета, тот не может также
сохранять и конец общепринятого текста. Пусть же остается
тогда как исконное слово Анаксимандра лишь это:
...хата то %Qe<bv 6i66vai y«Q айта 6ixr|v xai xiaiv
aKXr\Koi^ xfjg aStxiag.
«...по необходимости; так как они платят друг другу штраф
и пени за свою несправедливость».
Кроме того это как раз те слова, относительно которых
Теофраст замечает, что Анаксимандр изрекает в некоторой
излишне поэтической манере. С тех пор как несколько лет
назад я неоднократно рассматривая этот вопрос в своих
лекциях, целиком его продумал, я склонен только эти слова
принимать за непосредственно подлинные слова Анаксиман-
43
дра, разумеется, при условии, что предшествующий текст
будет не просто исключен, но утвержден на основе строгости
и силы своей мысли как некий посредствующий знак Анакси-
мандрова мышления. Для этого требуется, чтобы именно
слова yeveoi$ и epOogd мы понимали так, как они мыслятся по-
гречески, будь это до-понятийные слова или платоново-аристо-
телевские термины. Сообразно этому yeveoic, никоим образом
не означает что-то генетическое в смысле развития, как его
представляет новое время; ффора не предполагает
противоположного развитию явления, как-то раз-образование,
свертывание или захирение. Скорее уечгон; и ффора должны
Мыслиться из фйац; и внутри нее: как пути самопросвечивающего
про-исх-хождения и за-хода. Пожалуй, мы могли бы перевести
yevEoic, как вы-ступление, но при этом выступление мы должны
мыслить как вы-текание, которое каждому выступающему
позволяет утечь из сокровенности и про-ис-течь в несокрове-
ние. Пожалуй, ффора мы можем перевести через пре-хожде-
ние, но мы должны при этом мыслить пре-хождение как такое
хождение, которое вы-ступает обратно и с-ходит в сокровение
и от-ходит.
Предположим, Анаксимандр изрек нечто о yeveoic, и фб-ора.
Остается под вопросом, совершилось ли это в форме
традиционного предложения, хотя столь парадоксальная словесная
структура, как уечгон; ecrxtv (так мог бы я тогда прочитать)
и ффора Yivexai: «Выступление есть» и «пре-хождение
выступает», говорит против того, что это древняя речь, yeveoiq
есть про-ис-текание и при-текание в несокровенное, ффора
означает: «как там при-текшее из несокровенного от-ходит
в сокровение». «Проис-в» и «от-к» существуют внутри
несокровенного между скрытым и несокрытым. Они касаются
притекания и схождения от притекшего.
Анаксимандр говорит, должно быть, о названном в словах
Yeveaig и ффора. Может оставаться открытым, назвал ли он
при этом та ovxa; против этого ничто не говорит. Слово агтга
во втором предложении во всей широте своего речения и
вследствие обратной связи второго предложения с хата то
XQEcov может называть не что иное, как до-понятийно
постигнутое сущее в целом: та лоМ,а, та jiavxa, «сущее». Мы все еще
продолжаем говорить о та ovxa, не выяснив, что называют
имена ov и sivai, мыслимые по-гречески. А между тем обретено
более свободное поле для попытки этого разъяснения.
Исходили мы из обычно принятого текста изречения.
В предварительном взгляде на него мы забраковали обычные
предустановления, определяющие его интерпретацию. При
этом некоторый намек — указание из того, что приходит здесь
44
к речи, из yevEGic, и (pftoga. Изречение речет о том, что
проистекая притекает в несокрытое и, сюда притекшее, отсюда от-
исходящее, сходит.
Однако то, что таким образом имеет свое существо в
присутствии и сходе, мы скорее могли бы назвать становящимся
и преходящим, т. е. преходящим, но не сущим, так как мы
издавна привыкли противопоставлять становление бытию,
равно как издавна считается простым занудством вопрос —
верно ли, что становление есть ничто и тем самым не
принадлежит бытию. Однако коль скоро становление есть, мы должны
мыслить бытие существенным образом так, чтобы оно не
обнимало становление в пустом понятийном полагании, но чтобы
оно несло и запечатлевало это становление (vevsaig — cpftoQa)
сообразно бытию только в существе.
Вот почему теперь подлежит обсуждению не то,
представляем ли мы и с каким правом это становящееся как
переходящее, но то, какое существо бытия мыслили греки,
когда в области та ovxa они постигали проистекание и отход
как основные черты при-сутствия. Что приходит к их речи,
когда греки говорят: та ovxa? Где, помимо этого изречения
Анаксимандра есть некоторое сопровождение, которое нас
туда пере-ведет? Поскольку это стоящее под вопросом слово
и его производные: eaxiv, rjv, eaxai, eivat речь проговаривает
повсюду,— пусть даже еще раньше мышление избрало это
слово специально своим основным словом,— необходимо
использовать возможность, которая в отношении предмета,
времени и сферы лежит вне философии и, на мой взгляд,
предшествует сказанию мышления.
Такую возможность мы усматриваем у Гомера. Благодаря
ему мы располагаем некоторым местом, причем не просто
местом, в котором слово выступает лишь лексически. Гораздо
более это есть место, поэтически приносящее к речи то, что
называет слово ovxa. Поскольку всякая Ke%iq лексического
обусловливает мыслимое своего key6[ievovt мы отказываемся
от пустого нагромождения доказывающих мест, которое часто
в таких случаях доказывает лишь то, что ни одно из этих мест
не продумано. От этой охотно используемой методы ожидают,
что через сдвигание одного необъясненного места с другим
необъясненным местом вдруг проистечет какая-то ясность.
Место, которое мы комментируем, находится в начале
первой книги Илиады, стихи 68—72. Оно дает нам
возможность перевода к тому, что греки называли ovxa, в случае если
мы позволим себе перевод на берег высказанного предмета
через посредничество поэта,
Для последующей ссылки необходимо предварительное
45
примечание из истории языка. Оно не притязает на то, чтобы
коснуться или даже разрешить предложенную здесь
языковедческую проблему. У Платона и Аристотеля мы встречаем
слова ov и ovxa как обозначения понятий (термины).
Позднейший титул «онтический» или «онтологический»
образован в соответствии с этим. Однако в языковом отношении ov
и ovxa суть предположительно, каким-то образом сглаженные
формы первоначальных слов eov иeovxa. В буквальном
звучании этих слов как раз присутствует отзвук того, что мы
высказываем в словах !<jtiv и elvai. Это е в eov и eovxa есть е корня
во — в словах est, esse и «есть».
Напротив, слова ov и ovra являют собой как бы
бескорневые причастные окончания, равно как сами по себе они
и должны, собственно, называть то, что мы имеем помыслить
в словоформе, истолкованной позднейшими грамматиками как
^ето/т),: причастные к вербальному (глагольному) и
номинальному (именному) значению слова.
Итак, ov высказывает «сущее» в смысле: быть неким
сущим: ov, однако, называет одновременно и некое сущее,
которое есть. В двойственности этого партиципиального (при-
частительного) значения ov открывается различие между
«будучи» и «сущее». Выявляющееся здесь как некоторая
грамматическая хитрость есть поистине загадка бытия.
Причастие ov есть слово для того, что в метафизике обнаруживает
себя как трансцендентальная и трансцендентная трансценден-
ция.
Архаический язык, так же как Парменид и Гераклит,
постоянно пользуется словами eov и eovxa. Однако eov,
«сущее» — не есть лишь единственное число причастия «сущая»,
но это eov называет просто единственное число, которое в
своем единственном числе единственно есть едино единящее
Единое прежде всякого числа.
Мы можем с преувеличением, но в той же мере (с таким же
успехом) и поистине утверждать: участь европейского Запада
зависит от перевода слова eov, при том условии, что перевод
покоится в переводе к истине пришедшего к речи в этом eov.
Что говорит нам Гомер для этого слова? Нам известно
положение ахейцев под Троей в начале Илиады. Уже девять
дней в стане греков свирепствует чума, посланная Аполлоном.
Перед собранием войска Ахилл призывает провидца Калхаса
истолковать гнев богов:
Tofai б' aveaxr)
KaXxag eeaTOQifirjs ouovojtoXwv ox agiaxoc,
og fji6r| xa x* eovxa xa x' eaaojieva ядо х' eovxa
xai vf|eacr Tivfjaax' Vtyatuv IXiov eiaco
46
f|v бмх p,avTOovvt]v, xfrv oi jioqe ФоТ^ос,
'ArcoMuov •
Наш переводчик переводит так:
...снова поднялся
Калхас, Тестора сын, мудрейший птицегадатель,
Знающий то, что есть, что будет иль прежде что было.
Тот, кто сюда под Трою привел данайские судна
Духом мудроречивым, что Феб Аполлон ему в честь дал.
(перевод В. В. Вересаева)
До того как Гомер предоставляет слово Калхасу, он
представляет его как провидца. Принадлежащий к
провидчеству есть тот, ос, t|i6t|... который изведал: щЬг\ есть
плюсквамперфект к перфекту olfiev,— он увидел. Лишь когда кто-то
увидел, тогда он собственно видит. Видеть есть иметь
увиденным. Увиденное есть прибывшее и остается у него перед
взором. Провидец всегда уже увидел. Заранее увидевший, он
смотрит вперед. Он видит футурум из перфекта. Когда поэт
повествует о провидении как о том, что провидец имеет
увиденным, он должен это увиденное провидцем сказать в
предпрошедшем: t]i6t|, он имеет узренным. Чего же этот провидец
заранее стал зрителем? Очевидно, лишь того, что присутствует
в свете, пронизывающем его зрение. Зримое такого видения
может быть лишь в несокровенном при-сутствующее. Что же,
однако, при-сутствует? Поэт называет нечто троякое: та т
eovTa,— «как и сущее», та т eaaojieva,— «так и становящееся
сущим» — «так и прежде бывшего сущим» —яро т eovTa.
Первое, что мы извлекаем из этого поэтического слова, то,
что та eovra отличается от та eooopeva и j%qo eovra. Поэтому
та eovra называет сущее в смысле настоящего. Когда мы,
позднейшие, говорим о «настоящем», то мы разумеем либо
теперешнее и представляем его как что-то внутривременное.
Это «теперь» расценивается как некая фаза в течении времени.
Либо мы ставим «настоящее» в отношение к предметному
(объективному). Это последнее соотнесено как объективное
с представляющим субъектом. Но коль скоро мы «настоящее»
применяем к ближайшему определению eovra, тем самым мы
обязаны настоящее понимать из существа eovTa, а не
наоборот. Но эти eovra суть также и прошедшее и будущее. Оба
суть некоторые виды присутствующего, а именно
присутствующего не в настоящее время. Присутствующее в настоящее
время греки называли также еще разъяснительно та jiapeovTa;
пада означает как раз «при», а именно при-бы в шее в
несокровенность. Это «на» в «настоящем» разумеет не «на-против» по
47
отношению к субъекту, но голую наружность несокровенности,
внутри которой пребывает суразным в нее прибывающее.
Поэтому «настоящее» означает определяемый через eovxa
характер несокровенности, равно как прибывающую в су-
разность ее наружности. Это eovxa, сказанное вначале и
поэтому с ударением, отличается вместе с тем специально от
Eaaojieva и npoeovxa и называет для греков при-сутствующее,
коль скоро оно — в разобранном выше смысле — прибыло
в наружную су-разность несокровенности. Такое прибытие
есть, собственно, при-бытие, есть присутствие собственно
присутствующего. И прошедшее и будущее есть при-сутствующее,
а именно вне несокровенной наружности. Не-в-настоящем
при-сутствующее есть отсутствующее. Как таковое оно
остается существосообразно связанным с при-сутствующим в
настоящем, коль скоро оно либо про-ис-ходит в наружную
область несокрытости, либо отходит прочь от нее. Также и это
отсутствующее есть присутствующее, и как отсутствующее из
несокровенности, оно есть при-сутствующее в ней. И
прошедшее и будущее также суть. Вот почему eov означает:
присутствующее в несокровенность.
Из такого разбора слова eovxa получается, что и внутри
греческого постижения-опыта при-сутствующее остается
двузначным. Во-первых, та eovxa означает при-сутствующее в
настоящем, а, во-вторых, также и всякое присутствуйте: в
настоящем и не в настоящем существующее. Это в широком смысле
при-сутствующее. Мы, однако, никогда не должны
представлять— по привычке нашего понятийного полагания
(разумения) — как общее понятие присутствующего в отличие от
некоторого особого присутствующего, т. е. настоящего,—
поскольку на деле это присуствующее (в широком смысле) есть
как раз в настоящем присутствующее и в нем
владычествующая несокровенность, которая раздвигает существо
присутствующего как и не в настоящем присутствующего.
Провидец стоит перед лицом присутствующего, в его
несокровенности, которая одновременно просветляет
сокровенность присутствующего как отсутствующего. Провидец
видит, поскольку он все имеет увиденным как присутствующее:
xai — и поэтому прежде всего vf|eaa' г\уцоат\— он способен
довести корабли ахейцев до Трои. Он способен это сделать
через уделенную ему от бога iiavroovvx]. Провидец, 6 p,avxtg,
ecTbp,atv6jxevog, одержимый. В чем, однако, состоит существо
одержимости? Одержимый есть вне себя. Он тронулся. Мы
спросим: тронулся куда? и тронулся откуда? Тронулся прочь
от голого напора пред-лежащего, при-сутствующего только
в настоящем, тронулся к отсутствующему и тем самым при-
48
сутствующему в настоящем, коль скоро оно постоянно есть
лишь прибежище некоего отходящего. Провидец есть
провидец в единую широту присутствия присутствующего в
каждом случае вне себя. Поэтому, тронувшись, он может
прибегать в эту широту — одновременно про-ис-ходя в нее и от-ходя
из нее — к собственно при-сутствующему; это-то и есть
свирепствующая чума.
Одержимость тронувшегося провидца состоит не в том, что
одержимый бушует, закатывает глаза и заламывает члены.
Одержимость провидчеством может совпадать с неприметным
покоем телесной собранности.
Провидец собрал все присутствующее и отсутствующее
в одно при-сутствие и в этом присутствии истовствует. Наше
старое слово «истник» означает «капитал». Мы знаем этот
корень еще в слове «истовый», что значит настоящий,
радетельный, попечительный. Это «истовствовать» можно мыслить
как «просветляя и оберегая беречь». Присутствие оберегает
присутствующее,— настоящее и не-настоящее,— в
несокровенности истины. Из истовости присутствующего сказует
провидец. Он есть истосказатель.
Мы разумеем здесь «истовость» в смысле просветляюще-
оберегающего собирания, которым высказывает себя
некоторая до сих пор укутанная основочерта присутствия, т. е. бытия.
В один прекрасный день мы станем учиться наше затасканное
слово «истина» мыслить из этой истовости. И постигнем, что
истина есть истота бытия и что бытие принадлежит к ней как
присутствие. Этой истовости как капиталу бытия отвечает
пастырь, что с некоторой идиллической пасторалью и натурми-
стикой имеет очень мало общего; дело в том что он может стать
лишь пастырем бытия, ибо он остается сторожем при ничто.
И то и другое есть одно и то же. И то и другое человек может
осилить лишь внутри разомкнутости здесь-бытия.
Провидец есть тот, кто всевсякость присутствующего уже
имеет увиданным в присутствии: по латыни выражение: vidit,
у нас — изведал. Иметь увиданным есть существо ведания.
В этой изведанности постоянно вступает в игру уже иное, чем
исполнение некоего оптического про-ис-шествия. В изведании
увиденного возвращается некое отношение к
присутствующему, по ту сторону любого способа чувственного и
нечувственного схватывания. Оттуда сюда тянется связь этого изведания
увиденного с просветляющим себя не из ока, но из
просветления бытия. На-стоящее в нем есть скелет всякого
человеческого смысла. Существо видения как увидания есть ведание. Это
последнее содержит в себе зрение. Оно остается помнящим
о при-сутствии. Ведание есть памятливость бытия. Вот почему
49
MvTiiioauvTi есть матерь муз. Ведание не есть чего-то ведение
в смысле науки Нового времени. Ведание есть мыслящее
попечение об истовости бытия.
Куда перевело нас слово Гомера? Keovxa. Греки постигли
сущее как присутствующее в настоящем, не в настоящем
отсутствуя в несокровенности. Наше слово «сущее» как
перевод слова ov уже не так плоско; «быть» как перевод elvai
и само это греческое слово не суть больше небрежно
употребленные псевдонимы для любого произвольного шаткого
представления о чем-то неопределенно-всеобщем.
Одновременно обнаруживается, что бытие как присутствие
присутствующего уже есть в себе истина, коль скоро мы
мыслим ее существо как просветляюще-оберегающий сбор,— при
условии, что мы держим себя свободными от позднейших
и самопонятных сегодня предрассудков метафизики —
обнаруживается, что истина есть некое свойство сущего или бытия,
пока это бытие (это слово теперь употребляется как
продуманное) есть eivai как присутствие, т. е. сокровенным
образом некое свойство истины, не истины, разумеется, как некоего
характера познания, божеского или человеческого, и не
свойство, разумеется, в смысле некоего качества. Далее, стало
ясно: та eovxa называет двузначно присутствующее и в
настоящем и не-в-настоящем, последнее, понятое исходя из первого,
есть отсутствующее. Однако в настоящем присутствующее не
лежит как отрезанный кусок между (двумя) отсутствующими.
Когда присутствующее заранее стоит в зрении, все существует
вместе, одно приносит с собой другое, одно другое выпускает.
В настоящем при-сутствующее в несокровенности медлит в ней
как в голой наружности. То, что в настоящем в этой области
медлит, происходит в нее из сокровенности и в
несокровенность прибывает. Но прибытийно медлительно есть
присутствующее, коль скоро оно также отходит из несокровенности
в сокровенность. В настоящем присутствующее медлит в про-
ме-длении. Оно медлит в про-ис-хождении и в от-ходе. Это
промедление есть переход от прибытия к ходу.
Присутствующее есть про-медлительное. Медля переходно, оно медлит еще
в про-ис-хождении и уже в от-ходе. Промедлительно
присутствующее, настоящее, существует из отсутствия. Как раз
о собственно при-сутствующем следует сказать, что наше
обычное представление может отвлекаться от всякого
отсутствия.
Td eovxa называет единую множественность промедлитель-
ного. Каждое присутствующее таким образом в
несокровенности при-сутствует по-своему промеж любого другого.
В заключение, из этого места у Гомера мы извлекаем вот
50
еще что: та eovra, это так называемое сущее, разумеет вовсе не
естественные вещи. Словом eovta поэт называет в
предложенном случае положение ахейцев перед Троей, гнев
божества, свирепство чумы, погребальные костры, беспомощность
князей и прочее. В языке Пиндара eovta есть не философский
термин, но продуманное и с мыслью сказанное слово. Оно не
есть название ни для одних лишь естественных вещей, ни для
всяких объектов вообще, противостоящих человеческому
представлению. Человек /гоже принадлежит к eovra; он есть
тот присутствующий, который просветленно-внимая и тем
самым собирая, позволяет присутствующему как таковому
существовать в несокровенности. Когда в поэтической
рекомендации Калхаса при-сутствующее мыслится в связи с
видением провидца, это значит, если мыслить по-гречески, что
провидец как увидавший-изведавший, есть при-сутствующий,
принадлежащий к целому при-сутственного в некотором
отличительном смысле. Но это не значит, что присутствующее есть
и всего лишь есть объективное в зависимости от субъективите-
та провидца.
Td eovra, в настоящем и не в настоящем при-сутствующее,
есть неназванное имя того, что, собственно, приходит к речи
в изречении Анаксимандра. Это слово именует то, что еще не
изречено, неизреченное в мышлении, каждому мышлению
подсказывает. Эта слово называет то, что впредь, изреченное или
нет, занимает все западное мышление.
Изреченными же как основные слова западного мышления
слова eov (при-сутствующее) и eivai (присутствие) стали
целое столетие спустя после Анаксимандра, впервые у Парме-
нида. Произошло это, конечно, не потому, что Парменид, как
учит еще и сегодня ходячее заблуждение, толковал сущее
«логически», исходя из повествовательного предложения и
связки (copula). Так далеко в пределах греческого мышления
не заходил даже Аристотель, мысливший бытие сущего из
KaxrjYOQia. Аристотель воспринимал сущее как уже
предлежащее высказыванию, т. е. как несокровенно промедлительно
присутствующее. Аристотель даже не имел необходимости
блохеLu.evov, субстанцию, толковать из субъекта повестова-
тельного предложения, так как существо субстанции, ovaia,
по-гречески,— в смысле jtapovaia — было уже явным.
Присутственное™ присутствующего, однако, Аристотель мыслил
уже не из предметности подлежащего, но как evepyeia,
которая, разумеется, остается отделенная пропастью от actualitas
acti puri средневековой схоластики.
У Парменида же eaxiv не разумеет «есть» как связку
(copula) в предложении. Оно называет eov, «присутствуя»
5J
присутствующего. Это eativ отвечает чистому призванию
бытия перед разделением на первую и вторую ovaia, на existen-
tia и essentia. Но eov при этом мыслилось из сокровенной и
невозвышенной полноты несокровенности этих eovta,
поверенной греческому миру без возможности и необходимости
постигать самое это существополноту с другой точки зрения.
Из мыслящего постижения eov этих eovta, изреченного
свободного от понятия, высказаны основослова раннего
мышления: ФЪощ и Лоуод, Molpa и v£qi£, ТЩфеш и *Ev. И
прежде всего после 3Ev, которое следует опять-таки мыслить
в области этих основослов, основным изреченным словом для
при-сутствующего становитеся eov и etvai. Впервые из судьбы
бытия как v£v мировая эпоха Нового времени после своего
существоистока приходит в эпоху монадологии субстанции,
завершающейся в Феноменологии духа.
Не Парменид истолковывал бытие логически: пожалуй,
наоборот, логика, возникшая из Метафизики и тотчас ею
овладевшая, привела к тому, что сокрытое в тех ранних осно-
вословах существобогатство оставалось в них погребенным.
Так бытие смогло попасть в фатальный ранг наиболее пустого
и наиболее всеобщего понятия.
Однако начиная от ранних пор мышления «бытие»
называет присутствие присутствующего в смысле просветляюще-
оберегающего сбора, каковым и мыслится и называется Лоуод.
Это Лоуод (^eveiv, слагать, собирать) постигается из
/4Xf|^eia — открывающего сокрытия. В ее двойственном
существе скрывается мыслимое существо v£gtg 'MoTga, в
каковых именах называется одновременно и Ovaig.
В русле речи этих основослов, мыслимых из
опыта-постижения при-сутствия, рекут и слова в изречении Анаксимандра:
6Ыт], xiaig, d6ixia.
Призвание бытия, рекущего в этих словах, определяет
философию в ее существе. Философия не происходит от мифа.
Она про-ис-ходит лишь из мышления в мышление. Но
мышление есть мышление бытия. Мышление не про-ис-ходит. Оно
есть, коль скоро существует бытие. Однако падение мышления
в науки и в веру — вот злая судьба бытия.
В раннюю пору своей судьбы к речи приходит сущее, та
eovta. Что же приносит в реченное изречение Анаксимандра из
затаенной полноты таким образом при-бывающего?
Предположительно, подлинный текст изречения гласит:
....хата то %qe<qV 6i66vai Y&Q <хйта 8ixrjv xai xiatv
akkr\Xoi$ Tfjg a6ixiag.
В обычном переводе:
52
«...по необходимости; поскольку они платят друг другу
штраф и пени за свою несправедливость».
И теперь это изречение все еще состоит из двух
предложений: от первого сохранились только последние слова. Мы
начнем с разбора второго предложения.
Слово айта устанавливает связь с названным в
предыдущем предложении. Может иметься в виду лишь: та ovxa,
присутствующее в целом, в настоящем и не в настоящем в не-
сокрытости присутствующее. Ясно или нет названо это слово
eovxa, за ненадежностью текста это может оставаться
открытым; auxa называет все присутствующее, существующее по
способу про-медлительного; богов и людей, храмы и города,
море и землю (сушу), орла и змею, дерево и куст, ветер и свет,
камень и песок, день и ночь. Все вместе присутствующее
принадлежит одному присутствию, пока каждое при-сутствует при
каждом в промедлении, про-медляя с другими. Слово «многие»
(яоШс) не есть череда разрозненных предметов, за которыми
что-то стоит, что их не-понятийно охватывает. Скорее в
присутствии как таковом владычествует друг-при-друге-промед-
ление некоего сокрытого сбора. Вот почему Гераклит,
обозревая это собирающе-единящее и рас-крывающее существо
в при-сутствии, называет это "Ev (бытие сущего) логосом
(Яоуос).
Но как прежде всего постигает Анаксимандр всецелое
присутствующего, про-медлительно прибывшего друг подле друга
в несокрытии? Что повсюду в основании пронизывает
это^присутствие? Последнее слово изречения высказывет это. С него
и должны мы начать перевод. Оно называет основную черту
присутствующего: f) d6ixia. Буквально это переводят как
«несправедливость». Но есть ли буквальное также уже и
дословное? Иными словами: считается ли это переводящее слово
с тем, что приходит к речи в этом изречении? Стоит ли здесь
перед глазами это avxa, целое промедлительно в
несокровенности при-сутствующего?
Как далеко зашло в несправедливости это
присутствующее? Что в этом присутствующем несправедливо? Разве это не
право присутствующего, что оно время от времени про-медля-
ет и мешкает и таким образом исполняет свое присутствие?
Прежде всего слово <x-6ixia говорит о том, что 6ixtj
остается в стороне. Д'ьхт^ по обыкновению переводят как «право».
Поэтому в переводах этого изречения стоит даже слово
«штраф». Если мы оставим наши юридические и моральные
представления, если мы будем держаться приходящего здесь
к речи, то тогда a6ixia высказывает то, что там, где она
владычествует над вещами, не все в порядке. Это значит: что-то
53
«расчинилось». О чем же идет речь? О про-медлительно
присутствующем. Но где же у при-сутствующего могут быть
«сочинения»? И где там хотя бы одно сочинение? Как может
оказаться присутствующее без сочинения, afiixov, и как оно
может расчиниться? Изречение недвусмысленно говорит, что
присутствующее есть в a6ixia, т. е. расчинилось. Однако это не
может означать, что оно больше не есть при-сутствующее. Но
это говорит также и не только, что при-сутствующее случайно
или, возможно, по причине каких-то свойств расчинилось: Это
изречение высказывает: присутствующее как таковое
присутствующее, каково оно есть, расчинилось. К присутствию как
таковому должны принадлежать эти сочинения вместе с
возможностью расчиняться. Присутствующее есть промедлитель-
ное. Промедление существует как переходное прибытие в
отход. Промедление существует между про-ис-хождением и
отходом прочь. Между этим двояким отсутствием существует
присутствие всякого медлительного. Это «между» начинено
про-медлительным. «Между» есть то сочинение, сообразно
которому медлящее «учиняется» от происхождения сюда к
отходу прочь. Присутствие медлящего вклинивается в «сюда»
происхождения и «отсюда» отхода. Присутствие обеих сторон
сочинено с отсутствием. Присутствие существует в таком
сочинении. Присутствующее происходит от прибывания и
переходит в отход, и то и другое одновременно, а именно, коль
скора оно — про-медляет. Промедление существует в
сочинении.
Но тогда промедлительное как ра£ есть в сочинении своего
присутствия и никоим образом — теперь мы можем сказать —
не в бес-чинстве, не в a6ixta. И все же изречение высказывает
так. Из постижения сущего оно изрекает, что &6ixia есть
основочерта этих eovra.
Промедлительное существует как медлящее в сочинении,
сочиняющем присутствие с двояким отсутствием. Но как
присутствующее промедлительное, именно оно и только оно,
может в то же время замедлить себя в своем промедлении.
Прибывающее может даже на-стаивать на своем
промедлении, во-первых, чтобы через это оставаться при-сутственнее
в смысле прочного (устойчивого). Промедлительное
настаивает на своем присутствии. Таким образом оно измывает себя из
своего переходного промедления. Оно упирается в
своенравной настойчивости. Оно больше не у-ступает другому
присутствующему. Оно упорствует, как будто это и есть
замедление, в устойчивости простаивания.
Существуя в сочинении промедления, присутствующее
выходит из него и как промедлительное присутствующее есть
54
в бесчинстве. Всякое промедлительное стоит в бесчинии.
К присутствию присутствующего, к eov этих eovxa
принадлежит &6ixia. Тогда стоять в бесчинии было бы существом
всякого присутствующего. Таким образом, в раннем изречении
мышления проявилось бы бессистематическое, чтобы не
сказать нигилитическое, в греческом постижении бытия.
Значит, это изречение высказывает, что существо
присутствующего состоит в бесчинии? Оно и говорит это и не
говорит этого. Изречение, действительно, называет бесчиние
как основную черту присутствующего, но с тем лишь, чтобы
сказать:
6i66vai y&Q olvt& 6ixT|v....Tr]g a6ixiag.
«Они должны платить пени» — переводит Ницше, «они
платят штраф» переводит Дильс,— за свою несправедливость.
Однако о платеже нигде нет и речи, равно как о штрафе или
пенях и о том, что нечто подлежит штрафу или должно быть
отомщено по разумению того, кого в первую очередь касается
отмщение за праведное.
Между тем бессмысленная присказка «несправедливость
вещей» уже прояснилась из продуманного существа промед-
лительно присутствующего как бесчиние в промедлении.
Бесчиние состоит в том, что про-медлительное стремится
закоснеть в промедлении лишь как в устойчивом. Промедление
как упорство, если мыслить его из сочинения промедлительно-
го, есть восстание в одно голое продление. В своем
присутствии, замедляющем присутствующее в наружной
несокровенности, восстает некое наивное выстаивание. Через это
повстанческое промедление промедлительное настаивает на
голой устойчивости. Присутствующее существует тогда без
сочинения, свойственного промедлению, и в
противоположность ему. Изречение не высказывает, что промедлительно
присутствующее расточается в бесчинии. Изречение
высказывает, что это промедлительное ввиду бесчиния 6i66vai Ыкг\у
дает сочинение.
Что значит здесь «давать»? Как, спрашивается,
промедлительное, существующее в бесчинии, может давать сочинение?
Может ли оно дать то, чего оно не имеет? Если оно дает, то не
отдает ли как раз оно это сочинение? Куда и как дают
сочинение промедлительно присутствующие? Мы должны вопрошать
толковее, т. е. из предмета.
Каким образом присутствующее как таковое должно
давать сочинение своего присутствия? Названное здесь «давать»
может покоиться лишь в способе присутствия. Давать есть не
только отдавать. В более изначальном смысле давать есть при-
55
давать. Такое «давать» позволяет, чтобы свойственное чему-то
как принадлежное принадлежало чему-то другому.
Принадлежащее к присутствующему есть сочинение его промедления,
сочиняющее его с происходящим и отходом. В этом сочинении
промедление содержит свое промедлительное. Таким образом,
оно стремится не прочь в бесчиние голого упорствования.
Сочинение принадлежит промедлительному, подлежащему в
сочинение. Сочинение есть чин.
д1хт], мыслимое из бытия как присутствия есть чиняще-
сочиняющий чин. M6ixict, бесчиние есть бесчинство. Остается
только необходимость это слово, капитально написанное,
также и мыслить капитально из полной его речевой силы.
Промедлительно присутствующее присутствует, поскольку
оно медлит, медля про-ис-ходит и от-ходит. Это про-медли-
тельное выстаивание перехода есть чинная устойчивость
присутствующего. Она не настаивает как раз на простом упор-
ствовании. Она не подпадает бесчинию. Она преодолевает
бесчинство. Медля свое промедление, промедлительное
позволяет чину принадлежать к своему существу как присутствию.
Слово 6i66vai называет такое позволение принадлежать.
Взятое для себя, не в a8ixia, не в бесчинстве состоит присутствие
присутствия, но в 6i66vai 6ixT]v....Tfjs &6ixias, в том, что
присутствующее время от времени позволяет принадлежать чину.
В настоящем присутствующее не протиснуть между не в
настоящем присутствующим отрезанно от него. В настоящем
присутствующее есть настоящее постольку, поскольку оно
позволяет себе принадлежать в не-настоящее.
6i86vai....aoTa 6lxr|v....Tfjg a8ixlac;,
они, те самые, позволяют принадлежать чину (в преодоление)
бес-чинства.
Приходящее здесь к речи постижение сущего в его бытии
не пессимистично, не нигилистично, оно также и не
оптимистично. Оно остается трагическим. Однако это слово
высокопарно. Но, предположительно, мы нападаем на след существа
трагического не тогда, когда мы объясняем его психологически
или эстетически, но когда мы прежде задумываемся над его
способом существования, над бытием сущего, думая:
8i86vai 8ixrrv ....Tfjg a6ixiag.
Промедлительно присутствующее, та eovxa присутствует
постольку, поскольку оно позволяет принадлежать чинящему
чину. Чему принадлежит чин сочинения и чему он подлежит?
Когда промедлительно присутствующее дает чин и каким
способом? Изречение непосредственно об этом ничего не вы-
56
сказывает, по крайней мере, пока мы до сих пор обдумывали
его слова. Однако если мы будем следить за еще не
переведенным, то оно, кажется, недвусмысленно высказывает то,
к кому или к чему направляется 6i66vcti:
SiSovat yaQ aura 8ixr]v xai xiaiv akkr\koi$.
Промедлительно присутствующее позволяет принадлежать
чину аккцкон; — друг другу. Так обыкновенно сплошь и рядом
читают этот текст: аккцкощ связывают с eixTjv и xiaiv, в
случае если вообще более или менее толково это себе
представляют и специально называют, как Дильс, в то время как Ницше
даже опускает это при переводе. Мне же непосредственная
связь akkr\koi$ с 8i66vai не кажется ни языково-необходимой,
ни, прежде всего, оправданной предметно. Поэтому, исходя из
предмета, остается задать вопрос, непосредственно ли k6ixt|v
или же скорее к непосредственно предшествующему xiaiv
только может относиться это akkr\kotq. Такое различение
связано здесь с тем, как мы переведем xai, стоящее между
6£xt|v и xiaiv. А это, в свою очередь, определяется тем, что
здесь высказывает xiaig. Как правило, xiaiv переводят словом
«пени». Поэтому для 6i66vai напрашивается истолкование:
«платить». Промедлительно присутствующее платит пени,
вносит его как штраф (6ixt|). Суд правомерный, тем более что нет
недостатка в этой несправедливости, о которой, конечно, никто
не умеет сказать правильно, в чем должна она состоять. Хотя
и может xiaig означать пени, но, однако, не должно, поскольку
при этом не называется существенное и изначальное его
значение. Ибо xiais значит «оценка». Ценить что-то значит:
почитать что-то и таким образом удовлетворять этому ценимому.
Существоследование этого «ценить», «удовлетворять» в добре
может совершаться как благодеяние, в отношении же к
дурному как пени. Однако такое простое объяснение слова ничего не
дает нам для предмета этого слова в изречении, если мы не
мыслим уже, как при aoixia и 6ixt], из предмета, приходящего
к речи в этом изречении.
За этим словом стоит auxa (ха eovxa), промедлительно
присутствующие в бесчинстве существа. Пока они медлят, они
промедляют. Они коснеют. Ибо в переходе от происхождения
к отходу робко проходят они этот про-межуток. Они коснеют,
они упираются. Коль скоро про-медлительно медлящее
коснеет, оно, коснея, следует одновременно склонности
застаиваться в этой косности — и даже настаивать на ней. Они
опираются на эту устойчивую длительность и не считаются с 6Ыг\%
чином промедления.
Но таким образом упрямится друг перед другом уже
каждое медлительное. Ни одно не обращает внимания на
промедлительное существо другого. Промедлительные вещи
не оглядываются друг на друга, каждая всякий раз из
искательства такого продлевания, искательства, господствующего
в самом п роме длительном присутствовании и продиктованного
им. Поэтому промедлительные вещи не пускаются в простую
безоглядность. Она сама тащит их в застаивание, так что они
присутствуют там как присутствующие. Присутствующее в
целом не распадается на такое лишь безоглядное и не
разрушается в неустойчивое. Скорее всего, изречение говорит
теперь так:
fiifiovcu.... xtatv aX%,f|koi&,
они» эти промедлительные вещи» позволяют принадлежать
друг другу: оглядке друг на друга. Перевод тинд через
«оглядку» мог бы скорее уловить существенное значение «внимания»
и «оценки». Это слово было бы мыслимо из предмета, из
присутствия промедлительиого. Но слово «оглядка» для нас
слишком непосредственно именует человеческое существо»
тогда как rung нейтрально» поскольку говорится более
существенно о всяком присутствующем: «гита (та eovra). Нашему
слову «оглядка» не хватает не только необходимой широты» ко
прежде всего вескости, чтобы внутри этого изречения говорить
как переводящее слово для типе, и соответствовать 61нт| как
чину.
В нашей речи сейчас есть одно старое слово, которое мы,
нынешние, примечательным образом знаем опять-таки лишь
в отрицательной форме и, кроме того, в сниженном смысле, как
и слово «бесчинство». Это последнее называет нам обычно,
наряду с неподобающим и подлым поведением, лишь нечто
такое, что делается плохо, грубым образом. Подобно этому мы
пользуемся еще словом «негодяй» в значении постыдный
и мерзкий: без угоды. Что значит эта угода» мы даже уже и не
знаем. В наших средне-верхних диалектах слово «годить»
называет тщательность, заботу. Последнее считается с тем,
чтобы всякое другое оставалось в своем существе. Это
«считается», если мыслить о промедлительном в отношении к
наличию, есть Tiatg, угода. Наше слово «угодить» принадлежит
к этой у-годе и не имеет ничего общего с раболепством.
Угодить значит: ценя что-то, позволять, допустить это как это
самое. То, что мы заметили при слове «оглядка» (что оно
называет человеческое отношение) относится также и к слову
«годить». Но мы воспользуемся давнишним в этом слове,
подхватим его в его существошироте заново и в соответствии
с 6ixt] как чином будем говорить о xiaic, как об угоде.
58
Коль скоро эти про-медлительные вещи не полностью
разрушают себя в беспредельном своенравии упорства ради
попросту коснеющего простаивания, чтобы таким образом
в подобном искательстве теснить друг друга из
присутствующего в настоящем, то они придают чин, 6i66vai дЫг\х. Коль
скоро эти промедлительные вещи дают чин, то одновременно
всякий раз при этом они также придают угоду друг другу,
6i66vai..xai xiaiv &M,f|Xoic,. Лишь когда мы помыслили та
eovxa прежде всего как присутствующее, а это последнее как
целое промедлительного, только тогда к akKr\koiq примысли-
лось то, что оно называет в изречении какое-либо одно
медлительное в присутствии ради другого медлительного внутри
голой наружности несокрытого. Пока мы не продумали та
eovxa, слово aMfjXois оставалось именем для неопределенного
взаимоотношения внутри расплывчатой множественности.
Чем строже мы мыслим в акЩкок; множественность
промедлительного, тем определеннее становится необходимая связь
aXkr\koiq с типе,. Чем определеннее выступает эта связь, тем
яснее мы узнаем, что o46ovai..T«nv аЯЯ,г}Я,огс,,— придавать
друг другу угоду,— есть способ, каким вообще медлят
промедлительные вещи как при-сутствующие, т. е. o466vai
6Cxtjv — придавая чин.
xai между Ынцу и xiaiv есть не пустое, всего лишь
нанизывающее «и». Это xai означает существоследование. Когда
присутствующие придают чин, то совершается это таким образом,
что они как про-медлительные дают друг другу угоду.
Преодоление бесчинства совершается, собственно, через придавание
угоды. Это значит: в afiixia лежит как существоследование
бесчинства — негодное... они придают чин и тем самым также
и угоду друг ради друга (в преодолении) бесчинства.
Это придавать,— о чем говорит xai, есть нечто
двойственное. Ибо двойственно определено существо eovxa. Про-
медлительное при-сутствует из сочинения между
происхождением и отходом. Они присутствуют в «про-меж> некоего
двоякого отсутствия. Про-медлительные присутствуют в от-
и до- своего про-медления. Они пря-сутствуют как в
настоящем присутствующее. Ввиду своего промедления дают они
угоду, а именно, одно промедлителъное другому. Кому, однако,
придают эти при-сутствующие чии сочинения?
На этот вопрос второе предложение изречения, теперь уже
объясненное, не отвечает. Но это предложение дает нам
некоторый намек,— дело в том, что одно слово пока еще у нас
пропущено: «6i£6vai ущ atrra,.. а именно, они придают...» Это
ущ — «ибо», «именно» — вводит некоторое обоснование. Во
всяком случае, второе предложение разъясняет, до какой
59
степени так обстоит дело в предыдущем предложении, как там
сказано.
Что высказывает переведенное второе предложение этого
изречения? Оно говорит об еогта, о при-сутствующем, что оно
как промедлительное в негодном бесчинстве предоставлено
самому себе и как оно, будучи так при-сутствующим,
преодолевает бесчинство тем, что придает чин и угоду друг ради
друга. Это «придает» есть способ, которым медлит
промедлительное и таким образом при-сутствует как присутствующее.
Второе предложение этого изречения называет
присутствующее в способе его присутствия. Это изречение говорит о
присутствующем про его присутствие. Оно ставит его под
освещение помысленного.
Второе предложение дает разъяснения по присутствию
присутствующего. Поэтому первое предложение должно
называть само это присутствие, а именно, насколько оно определяет
присутствие как таковое, ибо лишь в этом случае и лишь
настолько второе предложение,— в обратной связи через y&Q
с первым,— может объяснить присутствие от
присутствующего. Присутствие в отношении к присутствующему всегда есть
то, сообразно чему существует присутствующее. Первое
предложение называет присутствие, сообразно которому от
первого предложения сохранились только последние три слова:
....хата то xQ£<ov.
Переводят: по необходимости. Сначала мы оставляем то
XQewv непереведенным. И все-таки даже так мы уже можем
двояким способом мыслить по поводу то xqe&v исходя из
разъясненного второго предложения и из рода его обратной
связи с первым. Во-первых, что оно (то xpewv) называет
присутствие при-сутствующего,- во-вторых, что в этом xqe&v,
когда оно мыслит присутствие присутствующего, каким-то
образом мыслится связь присутствия с присутствующим,
поскольку иначе связь бытия с сущим может происходить лишь
из бытия и покоиться в существе бытия.
Этому то xQscov предпослано хата. Ката означает: сверху
вниз, поверх. Ката отсылает назад к такому, от которого как от
высоты существует нечто'нижнее под ним и вслед за ним. То,
в обратной связи с чем сказано хата, имеет в себе уклон, по
которому то или иное событие может стрястись.
В уклоне откуда и вслед чему, однако, может существовать
присутствующее как при-сутствующее, если не вслед и не
в уклоне присутствия? Про медлительно присутствующее
медлит хата то xqswv. Как бы ни должны мы были мыслить то
XQecbv, это слово есть самое раннее имя для продуманного eov
60
этих eovxa; то xqb&v есть наиболее древнее имя, в котором
мышление приносит к речи бытие сущего.
Промедлительно присутствующие вещи присутствуют,
пока они преодолевают негодное бесчинство, <z6ixia, которое как
существовозможность владычествует в самом промедлении.
Присутствие присутствующего есть такое преодоление. Оно
исполняется через то, что промедлительные вещи придают чин
и тем самым угоду друг ради друга. Ответ на вопрос, кому
придается чин, дан. Чин принадлежит тому, вдоль чего
присутствие, и тем самым преодоление, существует. Чин есть хата
то %Qe6)v. Таким образом высвечивается, хотя еще только
в далекой дали, существо xpecov. Поскольку оно как существо
присутствия существенно связывается с присутствующим,
постольку в этой связи должно заключаться, что то %Qeu>v
учиняет чин и тем самым также и угоду.
XQecov учиняет, чтобы вдоль него присутствующее
придавало чин и угоду. XQecov доставляет такое учинение
присутствующему и уделяет ему таким образом способ его при-бытия как
промедление промедлительного.
Присутствующее присутствует, преодолевая бес- в
бесчинстве, эту a — в a6ixia. Это апо в a6ixa' соответствует иата
в xpewv. Переходное yap во втором предложении напрягает
тетиву от одного к другому.
До сих пор мы пытались мыслить лишь то, что то xqe&v
называет, судя по напряженному в обратной связи с ним
второму предложению изречения, не задаваясь вопросом о самом
этом слове. Что значит то xQewv? Мы объясняем первое слово
изречения в последнюю очередь, так как оно по предмету есть
первое.- По какому предмету? По предмету присутствия
присутствующего. Но предмет бытия есть быть бытием сущего.
Речевая форма этого загадочно многозначного генетива
называет генезис, происхождение присутствующего из
присутствия. Однако существом обоих остается скрыть и
существо этого происхождения. Не только оно, но даже и связь
между присутствием и присутствующим остается
непродуманной. От раннего времени кажется, будто присутствие
и присутствующее есть как бы каждое само по себе.
Непредвиденно и само присутствие становится присутствующим.
Представленное от присутствующего, оно становится
присутствующим поверх всего и тем самым высшим присутствующим.
Когда называется присутствие, уже представляется
присутствующее. В самой основе присутствие как таковое не
отличается от присутствующего. Оно считается лишь наиболее
общим и высшим присутствующим и тем самым считается
присутствием как таковым. Существо присутствия, а с ним
61
и отличие присутствия от присутствующего остается забытым.
Забвение бытия есть забвение различия бытия и сущего.
Однако это забвение различия никоим образом не есть
следствие некоей забывчивости мышления. Забвение бытия
принадлежит к укутанному в самом этом забвении существу
бытия. Оно принадлежит к судьбе бытия столь существенно,
что раннее утро этой судьбы начинается как разоблачение
присутствующего в его присутствии. Это значит, свершение
бытия начинается с забвения бытия, с тем чтобы бытие с его
существом, с его отличием от сущего, удерживать при себе.
Различное выпадает. Оно остается забытым. Впервые
раскрывается различие, присутствующее и присутствие, но не как
различное. Скорее этот ранний след различия даже стирается,
через то, что присутствие самоявляется как присутствующее
и находит свое происхождение в некоем высшем
присутствующем.
То забвение различия, с которого начинается, чтобы в нем
завершиться, судьба бытия, не есть все же недостаток, но есть
богатейшее и огромнейшее происшествие, в котором решается
мироистория. Это есть про-ис-шествие метафизики. Теперь то,
что есть, уже стоит в тени предшествовавшей судьбы забвения
бытия.
Однако различие бытия и сущего тогда лишь может прийти
в постижение-опыт как нечто забытое, когда оно уже
разоблачило себя перед присутствием присутствующего и таким
образом запечатлело след, сохраняющийся в речи, к которой
приходит бытие. Так размышляя, мы смеем предположить, что
различие высветило себя скорее в более раннем слове бытия,
чем в позднем, не будучи, однако, когда-либо названным как
таковое. Поэтому просветление различия не может значить
также и то, что различие являет себя как различие. Пожалуй,
напротив, в присутствии как таковом может
свидетельствоваться связь с присутствующим, но так, однако, что
присутствие приходит к слову как такая связь.
Именно это называет раннее слово бытия, то xQ8(*>v.
Правда, мы обманывали бы самих себя, если бы хотели
полагать, что расчленяя значение слова xq&<ov достаточно далеким
этимологизированием, мы могли бы таким образом точно
уловить это различие и раскрыть его существо. Только когда
непродуманное забвение бытия мы постигнем как
долженствующее мыслиться из былого и давно постигнутое постигнуто
нами как можно далее из судьбы бытия, тогда, возможно, это
раннее слово сумеет призвать позднее припоминание.
Обычно слово xeewv переводят как «необходимость». При
этом разумеют принуждающее, неизбежное долженствование.
62
Однако мы заблуждаемся, окончательно останавливаясь на
этом производном значении. В xqz&v лежит XQ&co, xQaop.ai
Отсюда берет значение и rj %z'iq рука. %Qa<a значит: я
прикладываю руку к чему-то, а много позднее, я затрагиваю что-то
или иду к нему в руки. Таким образом, xqcho значит также
«давать в руки», «вручать» и «выдавать на руки», предоставлять
некоторому при-надлежанию. Это вручение есть, однако,
такого рода, что оно держит в руке это предоставление, а вместе
с ним и предоставляемое. В причастии xQecbv поэтому
первоначально ничего не сказано о принуждении или
долженствовании. И столь же мало это слово означает прежде всего и в
целом некое попустительство или распоряжение.
Тем более если мы примем во внимание, что нам следует
мыслить слово из Анаксимандрова изречения, то слово это
может называть лишь «сутствующее» в присутствии
присутствующего, т. е. ту связь, которая довольно темно
высказывается в этом генетиве. Тогда то xqe&v есть вручение
присутствия, вручение, вручающее присутствие присутствующему
и таким образом присутствующее как таковое удерживающее
в руке, т. е. взыскивающее его в присутствии.
В существе самого присутствия владычествующая связь
с присутствующим есть одна-единственная. Она остается
совершенно несравнимой с какой-либо другой связью. Она
принадлежит к единственности самого бытия. Таким образом,
чтобы назвать это сутствующее бытия, речь должна найти
нечто единственное, это единственное слово. При этом легко
вычислить, сколь рискованно каждое мыслящее слово,
присуждаемое бытию. И все же это рискованное (слово) не
невозможно, так как бытие говорит повсюду и всегда, через
всякую речь. Трудность лежит не столько в том, чтобы найти
в мышлении слово бытия, сколько, скорее, в том, чтобы
найденное слово удержать чистым и в его собственном
помышлении.
Анаксимандр говорит: то xq8o>v. Мы отваживаемся на
перевод, который звучит странно и поначалу остается
необъяснимым: то xqs&v — употребление.
В таком переводе мы льстимся мыслью, что греческое слово
может иметь значение, не чуждое самому этому слову и не
противоречащее тому предмету, который оно называет в
изречении. При всем том такой перевод прелестен. И он ничего не
теряет от этого характера, даже если мы помыслим, что всякий
перевод в поле мышления столь же пре-лестен.
В какой же мере то %qb<ov есть употребление? Странность
такого перевода смягчается, если мы вдумчивее истолкуем
слово нашего языка. Обычно мы понимаем «употребляться»
63
в смысле «использоваться» и внутри такого использования
быть необходимым. В обыкновении такого использования
необходимое становится необходимым. В обыкновении такого
использования необходимое становится употребительным. Это
потребное и есть в употреблении. Но не в этом обычном и
производном значении должно мыслиться здесь «употребление»
как перевод слова то xQe<bv. Мы настаиваем скорее на
коренном значении: потреблять есть требити, как латинское frui,
сравни наше «фрукт» и «утроба». Мы переводим frui как
«вкушать», однако «вкушать» значит: веселиться
(радоваться) какому-то предмету и таким образом иметь это в у-по-
треблении. Вкушать разумеет лишь в производном значении
голое поглощение и хлебание. Названное основозначение
«потребления» как frui встречается у Августина, когда он говорит:
Quid enim es aliud quod dicimus frui, nisi praesto habere, quod
diligis? (De moribus eccl. lib. I. C. 3; vgl. de doctrina Christiana
lib. I. c 2—4).
В слове frui лежит praesto habere; praesto, praesitum
называется по-гречески urcoxeiiievov, в несокрытом уже
предлежащее, ovaia, т. е. промедлительно присутствующее.
Поэтому «употребляться» свидетельствует: нечто присутствующее
допущено присутствовать как присутствующее: frui, требити,
употреблять, употребление означают: что-то вручать его
собственному существу и взыскательно удерживать это в руке
как таким образом присутствующее.
В переводе слова то xqe&v употребление мыслится как
сутствующее в самом бытии. Требити,frui, говорится уже не об
одном лишь поведении вкушающего человека и тем самым
в отношении какого-то сущего, будь это даже высшее сущее
(fruitio Dei) как beatitudo hominis, но употребление называет
теперь способ, каким сутствует само бытие, будучи связано
с присутствующим и каким бытие затрагивает и обрабатывает
присутствующее как присутствующее: то xqe&v.
Употребление вручает присутствующее в его присутствие,
т. е. в промедление. Употребление предоставляет
присутствующему долю его промедления. Уделяемое промедление про-
медлительного покоится всякий раз в сочинении, сочиняющем
присутствующее в промежуток между двояким отсутствием
(происхождение и отход). Это сочинение промедления
ограничивает и о-пределяет присутствующее как таковое.
Предварительно при-сутствующее,— та eovTa, отсутствует на пределе
(лерад).
Употребление как уделение доли сочинения есть имеющее
быть уделенным сочинительство: учйнение чина, а с ним и
угоды. Употребление вручает чин и угоду таким способом, что оно
64
заранее удерживает за собой это вручение, собирает его к себе
и сокрывает это как присутствующее в присутствии.
Однако употребление, которое, учиняя чин, о-граничивает
присутствующее, вручает предел, это употребление есть таким
образом и то xQ£<bv, и то cwxeioov — то, что есть без предела,
коль скоро оно отсутствует в том, чтобы положить предел
промедления промедлительно присутствующему.
По той традиции, которую сообщает Симпликий в своем
комментарии к «Физике» Аристотеля, Анаксимандр* говорит,
должно быть, что присутствующее имеет происхождение
своего существа в том, что сутствует без предела: ад%ц tcov ovtcov
то 'drceiQov. Сутствующее без предела не сочиняется через чин
и угоду; не есть присутствующее, но оно есть то %qe<uv.
Употребление, учиняя чин и угоду, выпускает когда-либо
присутствующее в про-медление и предоставляет его
промедлению. При этом также уже допускается постоянная
опасность, что оно закоснеет из медлительного настаивания
в голое упорство. Так употребление остается в себе равно
и вручением присутствия в бесчинство. Употребление чинит
это «бес-».
Поэтому промедлительно присутствующее может
присутствовать, лишь придавая чин и тем самым угоду:
употреблению. Присутствующее присутствует хата то xpecov, вдоль
употребления. Последнее есть учиняющее и взыскивающее
собирание присутствующего в его та'м и сям про-медлительное
присутствие.
Перевод то %qe6>v через употребление происходит не из
этимолого-лексического размышления. Выбор слова
«употребление» происходит из предшествующего пере-вода мышления,
пытавшегося мыслить различие в существе бытия, к роковому
началу забвения бытия. Слово «употребление» диктуется
мышлению в постижении забвения бытия. Всякий след того,
что, собственно, подобает мыслить в слове «употребление»,
указывает по-видимому, то xQscbv, указывает след,
исчезающий из виду в судьбу бытия, которая развертывает себя
существенно как западная метафизика.
Изречение Анаксимандра, мысля присутствующее в его
присутствии, объясняет то, что называет то xqe&v Xgecov,
мыслимое в этом изречении, есть первое и высшее
истолкование того, что греки постигают под именем МоТра как уделение
доли. Этой МоТра подчиняются боги и люди. То Xgewv,
у-потребление, есть выдавание на руки, вручающее
присутствующее в промедление внутри несокровенного. То Xgecov скрывает
в себе еще не снятое существо просветляюще-оберегающего
сбора. Употребление есть сбор: 6 Лбуо^. Из продуманного
3 М. Хайдеггер
65
существа этого Лоуос, определяется существо бытия как един-
ствующего единого: "Ev. To же "Ev мыслит и Парменид. Он
мыслит единство этого единствующего в конечном счете как
МоГра (Фр. VIII, 37). МоГра, мыслимая из существопостиже-
ния бытия соответствует Jloyog Гераклита. Существо этих
МоГра и Лоуод пред-умышлено в Xpewv Анаксимандра.
Прослеживать зависимости и влияния между мыслителями
есть недоразумение мышления. Каждый мыслитель зависим,
а именно от призвания бытия. Простор этой зависимости стоит
до свободы вводящих в заблуждение влияний. Чем
пространнее эта зависимость, тем могущественнее свобода мышления,
тем сильнее для него опасность блуждая, промахнуть мимо
однажды уже помысленного, и тем не менее, а возможно, как
раз только так, помыслить то же самое. Мы, поздние, прежде
всего должны помыслить в памяти, конечно же, это изречение
Анаксимандра, чтобы обдумать промысленное у Парменида
и Гераклита. При этом расшатывается то ложное требование,
по которому философия первого должна быть учением о
бытии, а философия второго — учением о становлении.
Но, чтобы мыслить изречение Анаксимандра, нам
необходимо прежде всего вновь и вновь совершать односложный
шаг, посредством которого мы пере-ступаем к тому, что
вообще высказывает неизреченное слово eov, eovxa, elvai. Это
слово высказывает: присутствие в несокровенности. В этом
скрывается еще: присутствие само приносит с собой не
сокровенность. Несокровенность сама есть присутствие. Оба суть то
же самое, но не суть подобное.
При-сутствующее есть в настоящем и не в настоящем
сутствующее в несокрытости. Вместе с \АА,с 'Феш, принадлеж-
ной к существу бытия, совершенно непродуманной остается
Лг|дт1, а как следствие этого также и «в настоящем» и «не в
настоящем», т. е. та округа голой наружности, в которую
прибывает каждое присутствующее и внутри которой
разворачивается и ограничивает себя друг-ради-друга-присутствие про-
медлительных вещей.
Пока сущее есть присутствующее способом промедлитель-
ного, оно может являть себя, прибыв в несокрытость и про-
медляя в лей.4 Самоявление есть существоследование
присутствия и его способа. Являющее себя и только оно впервые
обнаруживает, все еще мыслимое как присутствие, лик и вид.
Лишь то мышление, которое заранее мыслит бытие как
присутствие в несокрытости, может мыслить присутствие и
присутствующее как i6ea. Но промедлительно присутствующее
медлит также и как выводимое в несокрытость. Оно выводится
в то же время как оно, восходя от себя самого, само себя выво-
66
дит. Оно выводится, в то же время как оно про-из-водится
человеком. С обеих точек зрения прибывшее в несокрытость
есть известным образом epyov, мыслимое по-гречески:
произведение. Присутствие присутствующего, ввиду этого в свете
присутственности мыслимого epyov — характера, может
постигаться как сутствующее в про-из-веденности. Это и есть
evepveia.
Та evegveia, которую Аристотель мыслит как основочерту
присутствия этого eov, та i6ea, которую Платон мыслит как
основочерту присутствия, тот Ло-рос,, который как основочерту
присутствия мыслит Гераклит, то Xgecov, которое Анаксимандр
мыслит как сутствующее в при-сутствии, называют то же
самое. В сокрытой области того же самого есть единство един-
ствующего единого, "Ev мыслимое каждым мыслителем по-
своему.
А между тем вскоре наступает такая эпоха бытия, в
которой evepveta переводится через actualitas. Греческое
рассыпается и являет себя вплоть до наших дней лишь в римской
чеканке. Actualitas становится действительностью.
Действительность становится объективностью. Но и она, в свою
очередь, чтобы остаться в ее существе, нуждается еще в
предметности, в характере присутствия. Это есть презенция в реп-
резенции представления. Решающий поворот в судьбе бытия
как evepveia лежит в переходе к actualitas.
Может быть, это вызвано просто переводом? Лучше,
пожалуй, поучимся думать, что может случиться в переводе.
Эта поистине роковая встреча в историческом свершении есть
безмолвное событие. Но в нем говорит судьба бытия. В какую
речь пере-водит нас вечерний Запад?
Попытаемся теперь перевести это изречение Анаксиман-
дра:
.... хата то %qe6)V. 6/66vai yap айта 6ixt]v ка1 xiaiv
aMfjXoig ttjs d6ixiag.
«...вдоль употребления: а именно, они придают чин и тем
самым также угоду одно другому (в преодоление)
бесчинства».
Мы не умеем доказать этот перевод научно и не смеем
верить ему, опираясь на какой-либо авторитет. Научное
доказательство было бы слишком плоским. Вере уже нет места
в мышлении. Этот перевод позволяет лишь мыслить себя,
причем в мышлении этого изречения. Мышление же есть сти-
хослагание истины бытия в исторически-былом собеседовании
мыслящих.
Вот почему это изречение не призовет нас, пока мы разъ-
3*
67
ясняем его лишь историко-научно и филологически. Это
изречение странным образом призывает нас лишь после того,
как» мы, отложив наши собственные притязания обычного
проставления, продумали, в чем состоит смущение
теперешней судьбы мира.
Человек стремится охватить целое земли и ее атмосферу,
присвоить себе сокрытую власть природы в форме ее сил и
подчинить ход исторического совершения планам и порядкам
некоего землеуправления. И тот же мятежный человек не в
состоянии просто ответить на вопрос, что есть? или, что это
есть? или сказать, что некая вещь есть.
Целое сущего есть единый предмет одной-единственной
воли к покорению. Простота бытия рассеяна в
одной-единственной забывчивости.
Какой смертный может вы-мыслить всю пропасть этого
смущения? Можно пытаться закрыть глаза перед этой
бездной. Можно воздвигать одну иллюзию за другой.
Пропасть не уступает.
Теории природы, учения об историческом свершении не
разрешают этого смущения. Они замутняют все это в
непознаваемое, ибо сами они питаются из этого смущения, лежащего
за различием сущего и бытия.
Есть ли вообще спасение? Оно есть прежде зсего и только
тогда, когда есть опасность. Опасность есть, если само бытие
приходит в крайность и переворачивает забвение,
происходящее из него самого.
Но когда же бытие в существе своем у-по-требляет
существо человека? Когда существо человека покоится в мышлении
истины бытия?
Тогда мышление должно стихослагать над загадкой бытия.
Это приносит утреннюю рань продуманного в близость тего,
что предстоит еще. продумать.
Закон
тождестве
DerSatz
der Identitat
Закон тождества обычно выражается формулой А = А.
Этот закон считается высшим принципом мышления. Об этом
законе мы попробуем немного поразмышлять. Ведь благодаря
этому закону мы могли бы узнать, что такое тождество.
Когда мышление, побуждаемое своим предметом,
исследует его, может случиться так, что оно изменится по пути.
Поэтому благоразумнее будет в дальнейшем обращать больше
внимания на путь, чем на содержание. Застрять на содержат
нии нам не позволит уже сам дальнейший ход доклада.
Что утверждается формулой А = Л, которой обычно
выражают закон тождества? Эта формула утверждает равенство
Л и Л. Для равенства требуются по крайней мере две стороны.
Одно Л равно другому. В самом ли деле закон тождества хочет
это выразить? Очевидно нет. Тождественное, .по-латински
«idem», по-гречески значит «то агэто». В переводе на нашу
немецкую речь «то аито» значит «das Selbe». Если некто
говорит то же самое, например, «растение есть растение», он
произносит тавтологию. При этом нечто может быть тем же
самым, обходясь только одной стороной. Ему не нужна вторая,
как в случае с равенством.
Формула А = А говорит о равенстве. Она не обозначает
Л как то же самое. Из этого следует хорошо известная
формулировка закона тождества, точно раскрывающая то, что закон
хотел бы выразить: Л есть Л, т. е. всякое Л само есть то же
самое.
Описывая таким образом тождественное, мы слышим
звучание старого высказывания, которым Платон разъяснял
Перевод с издания: Heidegger Martin. Identitat und Differenz. Pfullin-
gen, 1978'.
© А. Л. Доброхотов, перевод, 1991.
69
тождественное, высказывания, восходящего к чему-то еще
более древнему. ПлГатон говорит в диалоге «Софист»-(254d)
о aftxaaig» и «xivrjaic;», о покое и движении. У Платона в этом
мес^е чужеземец говорит: «ovxovv auxwv exaaxov xolv ^ev
6\)oiv exeoov eoxiv, auxo б'ёагггсо xauxov». «Теперь каждое
из двух, несомненно, есть иное, однако само в себе — то же
самое». Платон говорит не только, что каждое само по себе есть
то же самое, «exaaxov avxo xauxov», но и что каждое по
отношению к себе есть то же самое, «exaaxov eauxco xavxov».
Датив «eavxw» означает: всякое нечто само по себе
обращается на себя, всякое нечто само по себе есть то же самое —
именно для себя и к себе. Наш немецкий язык одаряет тем же
преимуществом, что и греческий, разъясняя, что такое
тождественное, в тех же словах, что и греческий язык, но на иной
лад, при помощи ряда образов.
Наиболее сообразная формулировка закона тождества
Л = Л гласит, между прочим, не только, что каждое Л само по
себе есть то же самое, но, более того, что каждое Л само по
себе есть то же самое по отношению к себе. В самости
содержится отношение «с», и таким образом мы имеем
опосредование, связь, синтез: единение в единстве. Отсюда проистекает,
что тождество в истории западного мышления выявляется
в характере единства. Но это единство никоим образом не есть
скудная пустота того, что остается без внешних связей в
постоянной монотонности. Однако западному мышлению
понадобилось более, чем 2000 лет, чтобы это соотношение с собой,
которое уже присутствует в тождестве и звучало в более ран- ^
ние времена, было определенно выявлено и хорошо раскрыто
как процесс опосредования, и более того, прежде, чем
человеческий ум стал восприимчивым к идее выявления
опосредования через тождество. Это случилось не ранее, чем философия
секулятивного идеализма после того, как Лейбниц и Кант
проложили ей путь, в лице Фихте, Шеллинга и Гегеля
приютила у себя синтетическую по своей природе сущность
тождества. Мы не будем здесь вдаваться в детали. Следует заметить
лишь одно. После эпохи спекулятивной философии уже нельзя
мыслить единство тождества как монотонный повтор или
отрицать опосредование, господствующее в тождестве. Если
все же это сделать, тождество предстанет перед нами лишь
абстракцией.
Даже в улучшенной формулировке «А есть А» дает лишь
очевидность абстрактной тождественности. Действительно ли
этого мы стремились достичь? Разве закон тождества не
говорит нечто о тождестве? Нет, по крайней мере — не
непосредственно. Пожалуй, закон определяет, что мы зовем тожде-
70
ством и к какой категории это принадлежит. Но как мы
получим знание в отношении этого определения? Закон
тождества дает нам знание, когда мы прислушиваемся к его
основному тону и размышляем о нем вместо того, чтобы поверхностно
твердить его. Собственно говоря, он звучит так: Л есть А. Что
мы слышим? Этим «есть» закон выражает присущее всему
существующему, а именно: оно само с самим собой — то же
самое. Закон тождества выражает нечто относительно бытия
сущего. В качестве закона мышления он имеет значение
только в той мере, в какой он есть закон бытия, говорящий:
всякому сущему как таковому присуще тождество, единство с самим
собой.
То, что закон тождества сообщает, когда мы
прислушиваемся к его основному тону, это как раз то, о чем мыслило все
западно-европейское мышление: единство тождества — это
основная черта бытия сущего. Неважно, где и как мы
встречаемся с сущим, но тождество окликает нас. Не будь этого
окликания, сущее никогда бы не явилось в своем бытии. И
вследствие этого не было бы науки. Ибо наука не была бы тем,
что она есть, если бы самотождественность ее объекта, чем бы
он ни был, не была обеспечена с самого начала. Благодаря
этой гарантии утверждается возможность научного
исследования. Тем не менее, это главенствующее представление
тождества объекта не имеет ощутимой пользы для науки.
Поэтому успех и плодотворность научного знания основаны на
чем-то бесполезном. Призыв тождества объекта взывает
независимо от того, воспринимают ли науки этот призыв или нет,
внимают ли они пристально тому, что воспринимают, или
смущены этим.
Оклик тождества исходит от бытия сущего. Но там, где
бытие сущего в западном мышлении на его раннем этапе
начинает получать выражение, а именно — у Парменида, там
«то оито», тождественное, заявляет о себе с почти
безграничной широтой. Одно из речений Парменида гласит: «то уад
ш?т6 voelv eaxiv те xai sivai» 2 «Одно и то же — внимать
(мыслить) и быть».
Различное — бытие и мышление — мыслятся здесь как то
же самое. Что это значит? Нечто совершенно отличное от того,
что мы признавали как учение метафизики о принадлежности
тождества бытию. Парменид говорит: бытие принадлежит
тождеству. Что же здесь подразумевается под тождеством?
Что сообщается словом «то аито», «то же самое» в изречении
Парменида? Парменид не дает нам ответа на этот вопрос. Он
задает нам загадку, от которой мы не должны уклоняться. Мы
должны признать: в раннюю пору мышления, задолго до того,
71
как оно пришло к закону тождества, тождество выразило себя
и к тому же постановило в следующем изречении: мышление
и бытие вместе принадлежат тому же самому и вместе исходят
из того же самого.
Сейчас мы рассматриваем «то аито», «то же самое», крайне
небрежно. Мы разъясняем самость (Selbigkeit) как
взаимопринадлежность в смысле более поздней идеи тождества, _
которая нам в целом известна. Что должно нас от этого
удержать? Не что иное, как то выражение, которое мы прочитали
у Парменида. Поскольку оно утверждает иное, а именно:
бытие принадлежит — вместе с мышлением — к тому самому.
Вне тождества бытие определено как черта этого тождества.
Вопреки этому поздняя метафизика мыслит тождество как
черту бытия. Таким образом, мы не можем определить природу
тождества, о которой говорит Парменид, на основе
метафизически представленного тождества.
Самость мышления и бытия, которое выражено в тезисе
Парменида, уходит дальше своими корнями, чем
метафизически определенное тождество как черта бытия.
Главное слово в высказывании Парменида, «то оито», «то
же самое», остается темным. Мы оставляем его темным. Но
в то же время мы позволяем себе сделать некоторое указание
относительно высказывания, в начале которого оно стоит.
Между тем мы однако определили самость мышления
и бытия как взаимопринадлежность того и другого. Это
было — может быть поневоле поспешностью. Теперь нам нужно
взять обратно эти поспешные слова. Притом, мы можем
сделать это в той мере, в какой мы принимаем означенную
взаимопринадлежность как совершенное и единственно
соответствующее истолкование самости мышления и бытия.
Если мы мыслим взаижопринадлежность привычным
образом, то смысл, который мы различаем и который отмечен уже
ударением, будет определяться «совместностью», т. е.
единством. В этом случае «принадлежность» будет равнозначна
подчиненности и внедренности в порядок совместности, встро-
енности в единство многообразия, размещенности в единстве
системы, опосредованной через единящее посредство
соответствующего синтеза. Такая взаимопринадлежность
представлена в философии как «nexus» или «connexio», как необходи-
моесцепление одного с другим.
Тем не менее, взаимопринадлежность может быть помысле-
на как взаимопринадлежность. Другими словами,
«совместность» теперь определяется через «принадлежность».
В этом случае, однако, мы обязаны исследовать, каков смысл
«принадлежности» и как характер совместности может быть
72
ею обусловлен. Ответ на этот вопрос ближе к нам, чем мы
думаем, хотя и не под рукой. Достаточно будет,
руководствуясь этим указанием, отметить возможность того, что
принадлежность более не представляется происходящей из
единства совместности, но узнать, что эта совместность выводится
из взаимности. Однако, можно задать вопрос, не является ли
эта предполагаемая возможность лишь игрой слов, которая
вызывает в воображении нечто нуждающееся в
подтверждении более предметной ситуации?
Так это выглядит, пока мы не посмотрим на предмет
попристальней и не позволим высказаться самому предмету.
Мысль о взаимопринадлежности в смысле принадлежности
друг другу возникла при учете означенной ситуации. На ней
трудно сосредоточить внимание из-за ее простоты. Тем не
менее это положение вещей станет нам понятнее, если мы
примем во внимание следующее: когда мы обсуждали
взаимопринадлежность как взш/жопринадлежность, мы уже имели
в виду, благодаря намеку Парменида, что мышление так же
как и бытие принадлежат друг другу в том же самом.
Если мы поймем мышление как отличительную черту
человека, то мы разберемся в том, что касается
взаимопринадлежности человека и бытия. Перед нами предстает во всей
его наготе вопрос, что такое бытие? Кто или что есть человек?
Всякий легко поймет, что без удовлетворительного ответа на
этот вопрос мы будем нуждаться в основании, опираясь на
которое мы сможем отыскать нечто соответственное во взаи-
мопринадлежности человека и бытия. Однако, в той мере,
в какой мы спрашиваем данным образом, мы обречены на
попытку представить совместность человека и бытие как
соподчинение, а также уяснить и уладить ее как проистекающую
или из человека, или из бытия. В этом деле традиционные
полятия человека и бытия служат нам опорой для
соподчинения того и другого.
Однако, как могло получиться, что мы, вместо того, чтобы
упорно усматривать соподчинение того и другого, стали искать
единства человека и бытия и вовлеченности в это единство
в той или иной манере и самого начала принадлежности-
одному-к-другому. Остается даже возможность увидеть, хотя
лишь издалека, взаимопринадлежность человека и бытия
в традиционных определениях их сущности. Но сколь далеко?
Очевидно, что человек есть нечто сущее. Как таковой он
принадлежит, вместе с камнем, деревом, орлом к цельности
бытия. «Принадлежать» — все еще значит здесь: быть
внедренным в бытие. Но отличительная черта человека в том, что
он, как мыслящая сущность, открытая бытию, стоит перед
73
бытием, с бытием соотносится и ему таким образом
соответствует. Человек, собственно, есть это отношение соответствия,
и он есть только это. «Только» — это не означает ограничения,
но избыток. Человеком правит принадлежность к бытию, и эта
принадлежность прислушивается к бытию, поскольку оно ей
вверено. А бытие? Помыслим о бытии в изначальном смысле
как о присутствующем. Бытие не дано человеку ни обычным,
ни исключительным путем. Бытие присутствует и является
только в той мере, в какой оно при-ступает с притязаниями
к человеку. Ибо только человек, будучи открытым бытию,
позволяет бытию приблизиться к себе его присутствием. Это
присутствие использует открытость некоего просвета и
благодаря такому использованию вверяется человеческой
сущности. Это, однако, никоим образом не значит, что бытие
полагается впервые и исключительно через человека. Наоборот,
становится ясным следующее:
Человек и бытие вверены друг другу. Они принадлежат
друг-другу. В первую очередь благодаря этой
взаимопринадлежности, не очень старательно мыслимой обычно, человек
и бытие впервые приняли свои сущностные определения, при
помощи которых они метафизически понимаются философией.
Эту преобладающую взаимопринадлежность человека и
бытия мы упорно пытались найти, поскольку мы все
представляем лишь в системах и опосредованиях, с помощью
диалектики или без оной. Поэтому мы всегда находим только
связи, которые произЪедены человеком или бытием, и
представляем взаимопринадлежность человека и бытия как
сплетение.
Мы еще не углубились во взаимопринадлежность. Как,
однако, дойти до такого углубления? Через воздержание от
представляющего мышления. Это самоотступление есть
прыжок в смысле скачка. Он отскакивает, а именно — уходит
прочь от прошлого представления о человеке как «animal
rationale»3, что в Новое время стало субъектом для своего
объекта. Отскок есть в то же время и отход от бытия. Однако,
на заре западноевропейского мышления, это бытие
объяснялось как почва (grtind), в которой коренится (grtindet)
каждое сущее как сущее.
Куда прыгает отскок, когда он отпрыгивает от основания
(grtind)? Прыгает ли он в бездну? Да, в той мере, в какой мы
только представляем скачок, и притом в кругозоре
метафизического мышления. Нет, в той мере, в какой мы прыгаем
и отпускаем себя. Куда? Туда, куда мы уже отпущены: в
принадлежность бытию. Но бытие само принадлежит нам;
поскольку только при нас может бытие бывать, т. е. пре-бывать.
74
Итак, нам необходим скачок для того, чтобы испытать
в нас самих вз$имопринадлежность человека и бытия. Этот
скачок есть внезапность внедрения без всяких мостов — в
принадлежность, которую только человек и бытие в их
констелляции могут предоставить своей взаимностью. Скачок — это
внезапное погружение в область, в которой человек и бытие
уже находятся вместе в их сущности, потому что оба из некой
полноты вверили себя друг другу. Погружение в область,
этой вверенности согласуется и определяется только опытом
мыслителя.
Сколь странен скачок, который, как кажется,
разъясняет нам, что мы еще не совсем там, где, собственно, мы уже
находимся. Где мы? В какой констелляции бытия и
человека?
Сегодня нам уже не нужны обстоятельные указания,
в которых была нужда еще годы тому назад, с тем, чтобы
узреть констелляцию, в которой человек и бытие прибегают
друг к другу,— так, по крайней мере, кажется. Достаточно
(так можно было бы подумать) сказать «эпоха атома», чтобы
дать почувствовать, как сегодня при-сутствует бытие в мире
техники. Но следует ли нам без всяких оговорок
отождествлять технический мир и бытие? Вероятно, нет. Нет,
даже тогда, когда мы представляем этот мир как целое, в
котором атомная энергия, рассчитывающее планирование, люди
и автоматизация соединены. Почему, однако, столь
детализированное обращение к миру технологии никоим образом не
принимает во внимание констелляцию бытия и человека?
Потому что всякий мыслящий анализ обрывается в той мере,
в какой вышеупомянутое целое технического мира означает
нечто уже предопределенное человеком, как его продукт.
Техническое, в самом широком смысле слова, представленное
в многообразии его феноменов, не что иное как план,
созданный человеком, который в конце концов вынуждает человека
к решению, независимо от того, желает он быть рабом этого
плана или пытается быть его господином.
Благодаря этому представлению технического мира как
целого, все возводится к человеку и, в крайнем случае, доходит
до требования этики, соответствующей техническому миру.
Охваченный этим представлением, человек укрепляет себя
тем, что мнит технику делом человека. Так проходит мимо
слуха призыв бытия, звучащий в сущности техники.
Давайте наконец откажемся от мнения, что техническое
есть только технически представляемое, т. е. представляемое
(на языке) человека и его машин. Прислушаемся к призыву
(Anspruch), в отношении к которому предстает в своем бытии
75
в нашу эпоху не только человек, но и все сущее\ природа и
история.
Какой призыв мы имеем в виду? Цельность нашего
существования находится повсюду: то играющая, то в толкотне, то
в суете, то протискивающаяся,— все планируя и рассчитывая.
Что звучит в этом вызове? Есть ли это лишь самосозданное
настроение человека? Или мы в самом деле озабочены
существованием самим по себе, к тому же так, что оно взывает
к нам своей плавностью и расчетливостью. Если дело обстоит
так, то не будет ли исходить призыв от самого бытия к
проявлению всего сущего в сфере исчисляемости? В самом деле,
это так. Более того. В той же мере, в какой бытие обращает
призыв к человеку, взывает и человек, т. е. устанавливается
так, чтобы человек мог обеспечить наличность своих планов
и расчетов и вывести их в необозримость, как сущее, к
которому он заинтересованно приступает.
Имя, которое мы выбираем для этой целокупности
призыва, составляющего вместе человека и бытие так, что они могут
устанавливать друг друга,— остов (ge-stell). Это
словоупотребление может вызвать возражения. Но мы же говорим
вместо «ставить» также «полагать», и не находим при этом,
что употребляем слово «положение» (ge-setz). Почему бы и не
остов, если этого.требует суть дела?
То самое, в чем и откуда человек и бытие в техническом
мире при-ступают друг к другу, взывает на манер остова. Во
взаимном сопоставлении человека и бытия мы становимся
восприимчивыми к зову, который определяет констелляцию
нашей эпохи. Остов непосредственно затрагивает нас повсюду.
Остов,— если позволить себе употреблять этот термин,—
существеннее, чем вся атомная энергия, все машины,
существеннее, чем сила организации, информации и
автоматизации. В той мере, в какой мы не встречаемся в кругозоре нашего
представления с тем, что назвали остов, в кругозоре,
позволяющем мыслить бытие сущего как присутствие, (остов не
приступает к нам более, как нечто присутствующее), остов
представляется нам на первых порах чем-то странным.
Странным остов остается прежде всего потому, что он есть не нечто
последнее, но лишь подводит нас к Тому, что, собственно,
распространяет власть констелляции бытия и человека.
Взаимопринадлежность человека и бытия посредством
обмена призывами ошеломляюще приближает нас к тому, что
и как отчуждает (vereignet) человек от бытия, а бытие
посвящает (zugeeignet) все же человеческому существу. В остове
властвует странное Отчуждение и Посвящение. Речь о том, что
надо попросту испытать, т. е. обратиться к тому Собственному
76
(Eignen), в котором человек и бытие друг к другу при-спо-
соблены (ge-eignet), к тому, что мы называем Событие
(Ereignis) 4. Слово «Событие» выросло из органичности
языка. Er-eignen [происходить, случаться] изначально значит ег-
augen, т. е. замечать, приближать к себе во взгляде,
присваивать. Слово «Событие» мы должны теперь использовать как
ведущее слово в деле мышления, имея в виду все, что было
о нем сказано. Как понятое таким образом ведущее слово, оно
так же непереводимо, как греческое ведущее слово «логос»
и китайское «дао». Слово «Событие» означает лишь то, что мы
порой называем «случай» или «происшествие». Здесь мы
употребляем это слово лишь в «Singulare tantum» 5. To, что им
обозначается, имеет место лишь как единичное, нет, не
одноразовое, но единственное. То, что мы исследуем в остове как
констелляцию бытия и человека посредством современного
технического мира, есть прелюдия того, что мы зовем
Событие. Co-бытие, однако, не содержится необходимо в своей
прелюдии. Поскольку из События говорит возможность того,
что в первоначально сбывающемся хлопочет лишь власть
остова. Такое развитие остова от Co-бытия приносит
событийный отход (никогда не исходящий от одного лишь человека)
мира техники от господства к служению в той сфере, в которой
человек вовлекает себя в Со-бытие.
Куда ведет путь? К возвращению нашего мышления в то
Простое, которое мы в узком смысле слова называем
Событием. Похоже на то, как если бы мы избегали опасности слишком
беззаботного превращения нашей мысли в некую
всеобщность, но на самом деле Ближайшее из Близкого
непосредственно призывает нас к тому, чего мы уже придерживаемся,
к тому, что мы хотели выразить словом Co-бытие. Ибо что
может быть нам ближе, чем то, что сближает нас в том, чему
мы принадлежим, ближе, чем Со-бытие?
Co-бытие есть внутренне мерцающая область, в которой
соприкасаются человек и бытие в своей сущности и достигают
своей сущностной природы, избавляя себя от
обусловленности, вкладываемой в них метафизикой.
Мыслить Событие как Со-бытие, значит доводить до
строения мерцающее в себе царство. Материал для
самосозидания этого парящего строения мышление берет из языка. Ибо
речь есть наиболее нежное и восприимчивое всепроникающее
вибрирование в парящем здании сбывающегося. Поскольку
наша сущность обособилась (vereignet) в языке, мы обитаем
в Событии.
На нашем пути мы достигли такого пункта, на котором нас
настигает грубый, но неизбежный вопрос: «Какое отношение
77
имеет Событие к тождеству?» Ответ: никакого. Наоборот,
тождество имеет много отношений, если не все, к Событию.
Как так? Мы ответим, кратко проследив наши шаги.
В Событии человек и бытие обособляются (vereignet)
в своей сущностной совместности. Первый неуклюжий
проблеск Сбывающегося видим мы в остове. Этот остов
конструирует сущность современного мира технологии. В остове мы
схватываем прозрение взаимопринадлежности человека и
бытия, в которой принадлежность обусловливает способ
совместности и его единство. В качестве введения в проблему
взаимопринадлежности, в которой мы даем принадлежности
преимущество перед совместимостью, мы взяли изречение
Парменида: «То же самое суть мышление и бытие». Вопрос
о смысле самости есть вопрос о сущности тождества. Учение
метафизики представляет тождество как основную черту
бытия. Теперь оказывается: бытие и мышление принадлежат
вместе — тождеству, сущность которого выводится из
обусловленности взаимопринадлежности, которую мы называем
Событием. Сущность тождества есть собственность С-бываю-
щегося.
На случай необходимости дать для нашего мышления
указание места, в котором коренится сущность тождества, как
должны мы осветить заглавие этой лекции? Смысл заглавия
«Закон тождества» должен претерпеть изменения.
Закон прежде всего представляется в форме аксиомы,
в которой допускается тождество как черта бытия, т. е. как
основание сущего. В ходе нашего обсуждения этого принципа
он декларативно определялся как что-то вроде скачка, в
смысле броска вперед, который отрывается от бытия в качестве
основы (grund) сущего и прыгает в бездну (Abgrund). Однако
эта бездна — не пустое ничто, и не темная мешанина. Это —
Co-бытие. В Событии мы обретаем сущностное мерцание того,
что изрекается речью, того, что было однажды названо домом
бытия. И теперь закон тождества говорит: скачок,
устремляющийся к сущности тождества, поскольку это требуется,
должен дотянуться до существенности сбывающегося взаимоп-
ринадлежания человека и бытия.
На пути от закона как высказывания о тождестве к закону
как скачку, в почве сущности тождества мысль претерпевает
изменения. Поэтому становится видной, смотря навстречу
современности, ситуация человека, запрятанная за
констелляцией бытия и человека, из того, что тому и другому подсобно,
из Со-бытия.
Допустим, что мы встретились с ожидавшей нас
возможностью остова (т. е. со взаимным призывом человека и бытия
78
исчесть исчислимое) вовлечь нас в Событие, через которое
впервые человек и бытие обособляются (Enteignet) в свое
Собственное. В этом случае для человека открылся бы путь
опыта более изначального в отношении цельности
современного мира технологии, природы и истории, до всякого их бытия.
До той степени, до какой мы осмысливаем мир атомной
эпохи, со всей серьезностью и чувством ответственности,
удовлетворяясь стремлением к использованию атомной энергии
в мирных целях, мышление наше останавливается на пол-пути.
Эта половинчатость будет ныне и присно обеспечивать
метафизическое превосходство технического мира.
Однако, кто решил, что природа всегда будет оставаться
той природой, с которой имеют дело современные физики,
а история будет оставаться объектом исторической науки?
Пожалуй, мы не можем не отбросить современный мир
технологии как дьявольское создание, ни уничтожить его, если он
сам не позаботится об этом.
Еще менее мы должны тащиться за мнением, что мир
технологии таков, что в нем запрещен освобождающий скачок.
Такое мнение одержимо представлением об актуальности как
единственной реальности. Это мнение во всех отношениях
фантастично, и ничего общего не имеет с предварительной
мыслью, забегающей в то, что притягательно идет к нам на
встречу как сущность тождества человека и бытия.
Более двух тысяч лет мышление старалось постичь столь
простую связь как опосредование тождества. Должны ли мы
полагать; что возвращение мысли в сущностный исток
тождества может однажды осуществиться? Дело именно в том, что
это возвращение нуждается в скачке, для которого пришло
время, время мышления, отличное от исчисления, которое
сегодня отовсюду протискивается в наше мышление. Сегодня
мыслящие машины делают тысячу операций в секунду. Но
вопреки своей полезности они не существенны (wesenlos).
Что бы и как бы мы не пытались помыслить, мы мыслим
в поле традиции. Она не дозволяет нам больше планировать,
если уводит нас от запаздывающего обмысливания к
предвосхищающему мышлению.
Пока мы не возвратимся к тому, что уже было помыслено,
мы не обратимся к тому, что все еще следует помыслить.
79
Время
и бытие
Следующий доклад требует краткого
предисловия.
Если бы сейчас, например, нам показали две картины
Пауля Кле, написанные им в последний год жизни, акварель
«Святые в окне» и темперу на холсте «Смерть и огонь», то мы
бы долго стояли перед ними, отказавшись от каких-либо
требований непосредственной понятности.
Если бы сейчас, например, нам прочитали стихотворение
Георга Тракля «Седьмая песнь смерти», пусть это сделал бы
даже сам поэт, то мы бы слушали и слушали его, отказавшись
от каких-либо требований непосредственной понятности.
Если бы сейчас, допустим, Вернер Гейзенберг захотел
ознакомить нас с каким-то звеном своих теоретических
размышлений, которые привели его к знаменитой формуле, то
в лучшем случае два или три слушателя смогли бы следить за
ним, а мы же, остальные, без возражений откажемся от каких-
либо требований непосредственной понятности.
Но с мышлением, называемым философией, дело обстоит
иначе. Ибо от нее ждут «мировой мудрости», если уж и не
прямо «наставления для блаженной жизни». Но возможно, что
теперь такое мышление придет к осмыслению того, что отстоит
далеко от мудрости, полезной для жизни. Возможно,
понадобится такое мышление, которое должно будет помыслить то,
что дает определение даже упомянутой живописи, и поэзии,
и физико-математической теории. Тогда нам и в философии
придется отказаться от требований непосредственной
понятности. При этом мы все же должны прислушаться, так как речь
Перевод с издания: Heidegger Martin. Zeit und Sein//Zur Sache des
Denkens. Max Niemeyer. Tubingen, 1969. S. 1—25 l.
© А. С. Солодовникова, перевод, 1991.
80
идет о том, чтобы мыслить хотя и предварительное, но
неизбежное.
Поэтому неудивительно, что этот доклад оттолкнет
большинство слушателей. Однако неизвестно, подвигнет ли этот
доклад на мышление хотя бы единиц — сразу же или позднее.
Речь будет идти о попытке мыслить бытие, не принимая во
внимание обоснование бытия сущим. Эта попытка — мыслить
бытие без сущего — становится необходимой, так как иначе,
как мне кажется, не остается возможности для того, чтобы
ввести в поле зрения собственно бытие того, что сегодня есть
на всем земном шаре, и тем более нельзя определить
отношение людей к тому, что до сих пор называлось «бытием».
Относительно слушания доклада можно дать такой совет:
дело не в том, чтобы просто прослушать ряд предложений,
необходимо следовать за ходом являющегося.
Что дает повод назвать время и бытие вместе? С самого
начала западноевропейского мышления и до сегодняшнего
дня бытие означает то же, что и присутствие 2. Из присутствия,
присутствования 3 говорит настоящее. Согласно привычным
представлениям, настоящее вместе с прошлым и будущим
образует характеристику времени. Бытие как присутствие
определяется через время. Этого уже достаточно, чтобы
постоянно производить в мышлении беспорядки. Эти
беспорядки усиливаются, как только мы начинаем размышлять о
том, каким образом дано это определение бытия через
время.
Каким образом? — это вопрос о том, каким образом,
почему и отчего в бытии говорит нечто такое, как время.
Любая попытка помыслить отношение между бытием и временем
с помощью распространенных и приблизительных
представлений о бытии и времени сейчас же запутывается в путаном
сплетении слабопродуманных отношений.
Мы называем время, когда говорим: всему — свое время 4.
Это означает, что все, все сущее, приходит и уходит вовремя,
в свое время и остается в течение отмеренного ему времени.
Каждой дещи — свое время.
Но является ли бытие вещью? Находится ли бытие, как
и все наличное сущее, во времени? А, вообще, есть ли бытие?
Если оно есть, то мы должны неизбежно признать, что оно
какое-то сущее, и, следовательно, искать его среди прочего
сущего. Этот лекционный зал есть. Он освещен 5. Мы признаем
без разговоров и колебаний этот лекционный зал
существующим. Но где во всем зале найдем мы это «есть»? Нигде среди
вещей не найдем мы бытия. Каждой вещи — свое время. Но
бытие не вещь, не что-то, находящееся во времени. Несмотря
81
на это, бытие по-прежнему определяется как присутствие, как
настоящее через время, через временное.
То, что находится во времени и таким образом
определяется через время, называют временным. Когда человек
умирает и отбирается от здешнего, здесь существующего, мы
говорим: «Он благословил временное» 6. Временное означает
преходящее, такое, что протекает в течение времени. Наш язык
говорит еще точнее: такое, что проходит со временем 7,
поскольку само время проходит. Но между тем как время
постоянно проходит, оно все же остается временем.
Оставаться означает не исчезать, а прибывать в присутствие 8. Таким
образом, время определяется через бытие. Но как же тогда
должно бытие оставаться определенным через время? Из
постоянства ^преходящности 9 времени говорит бытие. Все же
мы нигде не обнаружим время как какое-то сущее, как вещь.
Бытие — это никакая не вещь, следовательно, бытие не
будет ничем временным, но при этом бытие все же
определяется как присутствие через время. .
Время — это никакая не вещь, следовательно, ничто
сущее, но остается в своей преходящности постоянным, не
будучи само, в отличие от сущего во времени, чем-то
временным.
Бытие и время определяются взаимно, однако так, что
о каждом из них нельзя говорить следующим образом: о бытии
нельзя говорить как о временном, а о времени нельзя говорить
как о сущем. Обдумывая все это, ходим мы вокруг да около
противоречащих высказываний.
(Для таких случаев в философии известен выход.
Противоречие оставляют, даже заостряют и пытаются это
противоречащее и из-за этого распадающееся высказывание собрать
в некое всеохватывающее единство. Этот метод называют
диалектикой. Предположим, что можно привести в согласие
противоречащие друг другу высказывания о бытии и времени
через их охватывающее единство, тогда это был бы, конечно,
выход, т. е. ход, уводящий от вопроса, от положения вещей,
так.как этот ход не вел бы ни к бытию как таковому, ни ко
времени как таковому, ни к их взаимному отношению. Здесь
совершенно исключается вопрос о том, является ли взаимное
отношение бытия и времени связью, которую можно в таком
случае составить через взаимное сопоставление, или же бытие
и время называют такое положение вещей, из которого лишь
только и получаются как бытие, так и время.)
Но все же как мы должны войти в названное положение
вещей через названия «Бытие и время», «Время и бытие»?
Ответ: а так, что мы должны следовать мыслью за на-
82
званными предметами предусмотрительно.
Предусмотрительно — это означает прежде всего: не нападать опрометчиво на
эти предметы с помощью непроверенных представлений, а,
напротив, тщательно размышлять о них.
Но должны ли мы бытие, должны ли мы время выдавать за
предметы? Они никакие не предметы 10, если «предмет»
означает какое-то сущее. Слово «предмет», «какой-то предмет»
должно означать для нас теперь то, о чем идет речь, должно
иметь особый смысл, отныне руководящий, поскольку в нем
скрывается нечто непреодолимое. Бытие — некий предмет,
вероятно, предмет мышления.
Время — некий предмет, вероятно, предмет мышления, раз
в бытии как присутствии говорит нечто такое, как время.
Бытие и время, время и бытие называют такое положение дел,
такое взаимное отношение п обоих предметов, которое несет
оба предмета друг к другу и выносит их отношение. Следовать
мыслью за этим положением дел, за этим отношением
предметов — вот что задано мышлению, при условии, что оно по-
прежнему готово стойко ждать свои предметы.
Бытие — некий предмет, но никакое не сущее.
Время — некий предмет, но никакое не временное.
О сущем мы говорим: оно есть. В отношении предмета
«бытие» и в отношении предмета «время» мы останемся
предусмотрительными. Мы не скажем: бытие есть, время есть,
а будем говорить: даноДытие и дано время 12. Этой переменой
мы изменили лишь словоупотребление. Вместо «есть», мы
говорим «дано».
Чтобы добраться через языковые выражения к самим
предметам, мы должны, показать, как это «дано» дает себя
увидеть и испытать. Подходящий путь туда будет таков, что
мы должны разобрать, что же дается в этом «дано», что
означает бытие, которое дано, что означает время, которое дано.
Соответственно, мы попытаемся взглянуть на это Es, которое
дает 12 нам бытие и время. Взглянув на него, мы станем
предусмотрительными и в другом смысле. Мы попытаемся ввести
в поле зрения это Es и его давание и напишем это «£s» с
большой буквы.
Сначала мы последуем мыслью за бытием, чтобы
помыслить его самого в его собственном 13.
Затем мы последуем мыслью за временем, чтобы
помыслить его самого в его собственном.
- Через это должен показаться способ, которым дано бытие,
которым дано время. В этом давании станет видно, как должно
определяться то дающее, которое как отношение прежде всего
несет их друг другу и их вы-дает 14.
83
Бытие, благодаря которому все сущее отчеканено как
именно такое сущее, бытие означает присутствие. В отношении
помысленного присутствующего присутствие обнаруживает
себя как позволение присутствовать 15. Но теперь-то речь идет
о том, чтобы специально помыслить само это позволение
присутствовать, поскольку присутствие позволено. Позволение
присутствовать проявляет свое собственное в том, что оно
выводит в несокрытое ,6. Позволить присутствовать
означает — раскрыть, ввести в открытое. В раскрытии играет
давание, а именно то самое давание, которое в позволении
присутствовать 17 дает присутствие, т. е. бытие.
(Предмет «бытие», чтобы мыслить собственно его, требует,
чтобы наше размышление последовало за указанием,
проявляющимся в позволении присутствовать. Это указание в
позволении присутствовать выявляет раскрытие. Но из этого
раскрытия говорит давание, дано.)
При этом для нас по-прежнему остается неясным
как названное давание, так и это названное здесь Es, которое
дает.
Бытие, если мыслить его само, собственное его, требует,
чтобы мы отказались от того бытия, которое исследуется
и истолковывается всей метафизикой из сущего и для сущего
в качестве основы сущего. Чтобы мыслить собственное бытие,
требуется оставить его как основу сущего в пользу играющего
давания, скрытого в раскрытии, т. е. ради дано. Бытие
принадлежит этому дано в давании как дар. Бытие как дар не
откалывается от давания. Бытие, присутствие лишь
преображается. В качестве позволения присутствовать оно
принадлежит раскрытию и, будучи даром раскрытия, удерживается
в давании. Бытие не есть. Бытие дано, дано как раскрытие
присутствия.
Чтобы это «дано бытие» смогло показать себя еще яснее,
последуем еще решительнее за этим даванием, о котором идет
речь. Нам удастся это в том случае, если мы обратимся к
богатству изменений того, что довольно неопределенно называют
бытием — того, что не узнают в его особости 18, пока
продолжают считать его пустейшим из пустых понятий. От этого
представления о бытии как о совершенной абстракции не
отказались даже в принципе, более того, это представление
только подтверждается, когда бытие как совершенно
абстрактное снимается в совершенно конкретной действительности
абсолютного духа — это происходит в самой сильной мысли
нового времени — в гегелевской спекулятивной диалектике
и так это излагается в его «Науке логики».
Попытка помыслить богатство изменений находит первую
84
опору, которая в то же время указует нам дальнейший путь,
в том, что мы мыслим бытие в смысле присутствия.
(Я имею в виду мыслим, а не просто повторяем чужие
слова так, как будто понимание бытия как присутствия само
собой разумеется.)
Но что нам дает право характеризовать бытие как
присутствие? Вопрос пришел слишком поздно. Потому что эта
чеканка бытия решена уже давно без нашего участия. Итак,
мы связаны характеристикой бытия как выразимого, т. е.
мыслимого. С начала европейского мышления у греков в памяти
о связывающем, мышление определении^ бытия как
присутствия сохранено все, реченное о «бытии» и «есть».
Определение бытия как присутствия действительно и для мышления,
ведущего современную технику и промышленность, но,
конечно, лишь в известном смысле. После того, как современная
техника распространилась повсеместно и установила свое
господство над всей землей, не только одни искуственные
спутники вращаются вокруг нашей планеты, но и бытие как
присутствие, понимаемое в смысле сосчитанного или
поддающегося калькуляции запаса всего, имеющегося в наличии.19,
обращается одинаково ко всем жителям земли, при этом
обитатели других частей света ничего не знают, да и не смогут и не
пожелают узнать, собственно, о происхождении этого
определения бытия. Менее всех захотят узнать о происхождении
этого определения бытия, очевидно, те деятельные страны-
развиватели, которые пытаются сегодня втолкнуть так
называемые недоразвитые страны в пределы слышимости того
требования бытия, которое доносится из самой сути
современной техники.
Но бытие как присутствие мы услышим отнюдь не только
при воспоминании древнего, донесенного до нас эллинизмом
изложения раскрытия бытия. Неотвязнее всего проявляет себя
широта охвата присутствия тогда, когда мы осознаем, что
и отсутствие, как раз и оно, остается определенным через
присутствие, иногда усиленное до жути.
Все же мы можем и исторически определить богатство
изменений присутствия, если мы обратим внимание на то, что
присутствие обнаруживает себя как ev, все единящее
единственное одно, йак^оуод, все охраняющее собирание; как 1бёа,
evegyEw,, substantia, actualitas, perceptio, монада; как
предметность, как положение самополагания в смысле воли
разума, воли любви, воли духа, воли власти; как воля к воле
в вечном возвращении одного и того же. Все, что можно
установить исторически, находится внутри истории. Раскрытие
богатства изменений бытия выглядит прежде всего как исто-
85
рия бытия. Но у бытия нет истории, такой, как у города или
народа. То, что есть исторического в истории бытия, очевидно,
определяет себя из того и только из того, как бытие
происходит, а это означает, в соответствии с вышеизложенным, из того
способа, которым бытие дано.
Правда, в начале раскрытия бытия мыслится не это
«дано», а бытие, eivai, eov. Вместо этого «дано», Парменид
говорит: готг уйд eivai — «Это есть ведь бытие» 20.
Много лет тому назад (в 1947 г.) в «Письме о гуманизме»
по поводу этого изречения Парменида было сказано (с. 23):
«Изречение Парменида ест v<xq eivai сегодня еще не
осмыслено». В этом указании мне хотелось бы подчеркнуть по крайней
мере то, что мы не имеем права опрометчиво приписать
упомянутому изречению «Это ведь есть бытие» слишком понятный
смысл (пусть он и напрашивается!), который бы сделал
недоступным мыслимое в этом изречении. Все, о чем бы мы не
сказали, что оно есть, представляется, благодаря этому, как
какое-то сущее. Но бытие — это ничто из сущего. Поэтому не
может быть так, что усиленное 21 Парменидом ecrci
представляет бытие (которое оно называет) как какое-то сущее.
Правда усиленное гать при дословном переводе означает: «Это
есть». Одно это усиление, само по себе, уже дает услышать то,
что еще тогда мыслилось греками в усиливаемом и что сегодня
мы можем описать с помощью «Это может» 22. Причем ни
смысл этого можествования, ни это «Это» (Es), которое
может бытие, не были помыслены ни тогда, ни позднее. Мочь
бытие означает: выдать бытие и дать его. В eaxi скрывается
«дано». В начале западноевропейского мышления мыслится
бытие, но не «дано» как таковое. Последнее уклоняется в
пользу дара, который дан, дара, который мыслится отныне
исключительно как бытие при взгляде на сущее и в отношении
к сущему и так переводится в понятие.
Давание, которое дает только свой дар, однако при этом
удерживается и уклоняется, такое давание мы назовем
посылом. В соответствии с" мыслимым таким образом смыслом
давания, бытие, которое дается этим даванием, будет
ниспосланным 23. Ниспосланным, таким образом, останется и
любое из его изменений. Историческое же истории бытия
определяет себя из ниспосылаемого в каждом посыле, а не из смутно
представляемого события истории 24.
История бытия означает ниспослание бытия, в котором как
посыл, так и Это (Es), которое посылает, удерживает в себе
свое проявление. Удерживать в себе будет по-гречески ёяохл-
Отсюда -- речь об эпохах судьбы бытия. Эпоха означает здесь
не временной период в происходящем, а главную черту посы-
86
ла — непременное себя-удержание-от-проявления 25 в пользу
воспринимаемости дара, т. е. бытия при взгляде на сущее
с целью его, сущего, обоснования. Не будучи случайной,
последовательность эпох в судьбе бытия все же не- позволяет
рассчитать себя как необходимую. Но все же посылаемое
находит проявление в посыле, а во взаимной принадлежности
эпох — их содержание. Эпохи налагаются друг на друга так,
что первоначальное посылание бытия как присутствия
закрывается все больше и больше. Лишь снятие этих завес — а это
и означает «деструкция» — даст мысли пред-варительно
заглянуть в то, что снимет с себя покровы, оказавшись посылом
бытия.
Поскольку посыл бытия повсеместно представляется как
история, а последняя — как событие истории, постольку и
безуспешны все попытки объяснить это происходящее из того,
что сказано в «Бытии и времени» об историчности здесь-бытия
(Dasein), а не бытия. Вместо этого остается лишь
один-единственный путь для дальнейшего продвижения от уже
мыслимого в «Бытии и времени» — это продумывание до конца того,
что изложено в «Бытии и времени» относительно деструкции
онтологического учения о бытии сущего.
И если Платон представляет бытие как i6ea и KaKxotvcovia
идей, Аристотель — как evkgyeia, Кант — как полагание,
Гегель — как абсолютнбе понятие, Ницше — как волю к власти,
то это не случайно выдвинутые учения, а ответные слова бытия
на обращение, исходящее от самого себя скрывающего
посылания, от «дано бытие». По мере того, как каждый раз бытие
удерживается уклоняющимся посылом, оно раскрывается
мышлению со всей эпохальной полнотой своих изменений.
Мышление остается связанным традицией эпох посыла бытия
еще и тогда (и как раз именно тогда!), когда памятуется о том,
каким образом и откуда само бытие получает каждый раз свое
собственное определение, а именно когда памятуется «дано
бытие». Давание проявляется как посыл.
Но как следует мыслить это Это (Es), которое дает бытие?
В вводных замечаниях к сопоставлению Времени и Бытия
указывается на то, что бытие отчеканено как присутствие,
настоящее, в некотором еще неопределенном смысле,
благодаря временному характеру и таким образом благодаря времени.
Это и заставляет предположить, что Это (Es)9 дающее бытие,
определяющее бытие как присутствие и разрешение
присутствовать, быть может, даст обнаружить себя в том, что
называется в заголовке «Время и бытие» «временем».
Мы следуем за этой догадкой и мыслим время. Как и
«бытие», «время» знакомо нам лишь по ходячим представлениям
87
о нем, и оказывается, мы только принимаемся за то, чтобы
установить собственное времени, что оно, как и бытие, нам
неизвестно. Только что, когда мы мыслили бытие, оказалось:
собственное бытия, то, чему оно принадлежит и чем постоянно
удерживается, проявилось как посыл в «дано» и его давании.
Собственное бытия не бытиеподобно. Когда мы мыслим бытие
само по себе, сам предмет уводит нас известным образом от
бытия и мы мыслим посыл, бытие как данный дар. Учитывая
это, будем готовы к тому, что и собственное времени более не
даст определить себя с помощью ходячих характеристик
обычно представляемого времени. Однако сопоставление времени
и бытия содержит указание — устанавливать собственное
времени , не упуская из виду сказанное о бытии. Бытие означает
присутствие, позволение присутствовать. Например, мы
читаем где-то сообщение: «В присутствии многочисленных гостей
было отпраздновано торжество». Предложение могло бы
звучать и так: вместе или совместно с многочисленными гостями.
Настоящее время — едва лишь мы его назвали, как сразу
подумали о прошедшем и о будущем, о более раннем и о более
позднем, в отличие от «теперь». Однако настоящее,
понимаемое из «теперь», это вовсе не то присутствие26 в смысле
присутствия гостей. Ведь мы же никогда не говорим, да и
нельзя так сказать: «В «теперь» многочисленных гостей было
отпраздновано торжество». Тем не менее, если нам нужно
обозначить время от настоящего, то мы понимаем настоящее как
«теперь», в отличие от уже-более-не-(теперь) прошедшего
и пока-еще-не- (теперь) будущего. Но настоящее означает
одновременно присутствие. Между тем не принято определять
собственное времени, идя от настоящего "в смысле
присутствия. Наоборот, время — единство настоящего, прошедшего
и будущего — представляется от «теперь». Уже Аристотель
говорит: то, что от времени есть, т. е. присутствует, это
«теперь» сия секунды. Прошедшее и будущее — это \ir\ ovxi —
нечто несуществующее, правда, не просто ничто, а скорее
присутствующее, которому чего-то недостает, и этот
недостаток называется с помощью «уже-более-не» и «пока-еще-
не»-теперь. При таком рассмотрении время представляется
чередой моментов теперь, следующих друг за другом, причем
едва пытаешься назвать какой-то момент, как оказывается,
что он уже исчез в только что прошедшем «теперь» и
преследуется следующим «теперь». О времени в таком представлении
Кант говорит: «Оно имеет только одно измерение» («Критика
чистого разума», А 31, В 47). При измерении и калькуляции
имеется в виду время, знакомое нам лишь как череда
следующих друг за другом моментов «теперь». Кажется, что скальку-
88
лированное время прямо перед нами и его можно пощупать,
когда мы одеваем на руку часы, хронометр, смотрим на
положение стрелок и определяем: «Сейчас 20 часов 50 минут». Мы
говорим сейчас, теперь, и имеем в виду время. Но нигде не
найдем мы времени на часах, которые показывают нам время,
ни на циферблате, ни в часовом механизме. С тем же успехом
мы будем искать время и на современных хронометрах.
Неизбежно напрашивается следующее: чем точнее, с технической
точки зрения, и исчерпывающее измерения хронометра, тем
меньше прибор дает повод задуматься собственно о времени.
Но где же находится время? Везде ли оно или у него есть
какое-то место? Очевидно, время не нечто. Поэтому мы,
оставаясь предусмотрительными, и говорили: время дано. Мы
будем еще предусмотрительнее и внимательно посмотрим на
то, что является нам как время, при этом не будем упускать из
виду бытие в смысле присутствия, настоящего. Однако
настоящее в смысле присутствия настолько глубоко отлично от
настоящего в смысле теперь, что настоящее в смысле
присутствия никоим образом не даст определить себя через
настоящее как теперь. Скорее кажется возможным обратное
(ср. «Бытие и время», § 81). Будь это так, настоящее в смысле
присутствия и все, что к такому настоящему принадлежит,
и должно было бы означать подлинное время, пускай у него,
времени, и не было бы ничего похожего на обычно
представляемое время в смысле допускающей калькуляции
последовательности теперь, идущих друг за другом.
Однако до сих пор мы так и не показали ясно, что же
означает настоящее в смысле присутствия. Через настоящее
в смысле присутствия бытие определяется однообразно как
прибытие сути и позволение присутствовать, т. е. как
раскрытие. Что за предмет мы мыслим, когда говорим
присутствие? Сущностйться (wesen) означает длиться (wahren)
Однако при этом мы слишком скоро успокоимся, истолковав
wahren просто как продолжаться и продолжительность,
согласно обычным представлениям о времени как временном
отрезке от одного «теперь» до следующего. Речь же о
присутствии требует, чтобы мы в wahren как в an wahren (во
вхождении в длительность 27) слышали нахождение 28 и
пребывание 29. Присутствие отправилось к нам, идет к нам,
обращаясь 30, настоящее означает: вхождение-в-пребывание-на-
встречу-к-нам 31, к нам — людям. Кто мы? Отвечая, останемся
предусмотрительны, потому что может оказаться так, что то,
что отличает людей как людей, зависит как раз от того, что мы
должны обдумать здесь. А мы должны обдумать здесь
человека — человека, к которому приближается, обращаясь, при-
89
сутствие, человека, который от этого и присутствует сам своим
особым образом, присутствует для всего
подступающего-присутствующего и отступающего-отсутствующего.
Человек так стоит внутри прихода присутствия,
обращающегося к нему, что он становится восприемником этого дара,
присутствия, которое дано, при этом он внимает тому, что
является в позволении присутствовать. Если бы человек
постоянно не воспринимал бы дар из «дано присутствие», если бы
человека не достигло 32 простертое 33 в даре, то, раз этот дар не
был бы получен, не только бытие оставалось бы потаенным
и запертым, но и человек оказался бы вне простирания
протянутой сферы «дано бытие». Человек не был бы человеком.
Теперь дело выглядит так, как будто из-за этого указания
в сторону человека мы сбились с пути, на котором хотели бы
помыслить собственное времени. В известном смысле это
верно. И все же мы теперь ближе, чем можно было бы
подумать, к предмету, который называется временем и который,
собственно, и должен показаться от настоящего, понимаемого
как присутствие.
Присутствие означает: постоянно приближающееся к
человеку, обращающееся к нему, его достигающее, ему простертое
пребывание. Но откуда же это протянутое достигание,
которому принадлежит настоящее как присутствие, поскольку
присутствовать дано? Правда, присутствие присутствующего
приближаясь в свое время обращается к человеку всегда так,
что тот при этом не замечает собственно само присутствие. Но
так же часто, т. е. постоянно, к нам обращается и отсутствие,
обращается так, что что-то более уже не присутствует так, как
мы знали его от присутствия в смысле настоящего. Все же
и это более-уже-не-настоящее непосредственно присутствует
в своем отсутствии, а именно способом обращающегося к нам
побывшего. Оно, побывшее, не пропадает как просто ушедшее
из прошедшего теперь. Напротив, побывшее присутствует,
однако своим собственным образом. В побывшем простерто
присутствие.
Но отсутствие обращается к нам также и в смысле пока-
еще-не-присутствующего — обращается к нам способом
присутствия в смысле к-нам-подходящего. Между тем речь о
к-нам-приближающемся стала пустой фразой. Так говорят:
«Будущее уже началось», а это неправда, потому что никогда
не бывает так, что будущее вот только что началось, ведь
отсутствие в качестве присутствия пока-еще-не-настоящего
всегда уже обращено к нам неким образом, т. е. присутствует
так же непосредственно, как и побывшее. В при-ходе
будущего, в к-нам-приближающемся, протянуто присутствие. Погля-
90
дим на сказанное еще предусмотрительнее, когда мы
обнаружим в отсутствии, будь это побывшее, будь это будущее, некий
способ присутствия и обращения, который никоим образом не
совпадает с присутствием в смысле непосредственно
настоящего. Итак, следует принять во внимание: не каждое
присутствие необходимо будет настоящим. Странный предмет.
Между тем мы обнаруживаем такое присутствие, а именно нас
достигающее обращение также и в настоящем. Также и в нем
простерто присутствие.
Как же мы должны определить эту игру присутствия,
простирающуюся в настоящее, в побывшее и в будущее?
Основано ли это простирание на том, что оно нас достигает,
или же оно достигает нас, потому что оно есть в себе
простирание? Разумеется, верно последнее. Приход наступающего
в качестве пока-еще-не-настоящего подает и выводит
одновременно то, что уже-более-не-настоящее, побывшее, и наоборот,
побывшее само протягивает будущее. Взаимоотношение обоих
протягивает и одновременно выводит настоящее. Мы
произносим «одновременно» и тем самым придаем взаимному друг-
друга-подаванию будущего, побывшего *и настоящего,
т. е. свойственному им единству, временной характер.
Такое продвижение, по-видимому, не сообразно предмету,
если предположить, что это-то указанное единство подавания
и именно его мы и должны назвать временем. Ведь само время
не есть что-то временное, никоим образом не будет оно и
каким-то сущим. Поэтому нам будет запрещено говорить, что
будущее, прошедшесть и настоящее имеются в наличии
«одновременно». Однако их друг-друга-подавание взаимнопри-
надлежно. Единящее их единство может быть определено
лишь из их собственного: из того, что они подают друг другу.
Но что же все-таки они подают друг другу? Ничего иного,
кроме самих себя, и это значит: простертое в них присутствие.
Благодаря этому проясняется то, что мы называем временным
пространством. Но под словом «время» мы более не имеем
в виду последовательность моментов «теперь». Соответственно
и временное пространство более не означает лишь интервал
между двумя моментами «теперь» скалькулированного
времени, который мы подразумеваем, констатируя, например: за
временной промежуток в 50 лет произошло то-то и то-то.
Теперь временное пространство обозначает открытое, которое
проглядывает в друг-другу-самоподавании будущего, прошед-
шести и настоящего. Лишь это открытое и только оно
предоставляет привычному нам пространству его возможное
простирание. Просвет друг-друга-подавания будущего, про-
шедшести и настоящего сам-то пред-пространственен, толь-
91
ко поэтому он и может предоставлять пространство, т. е.
давать.
Временное пространство, обычно понимаемое в смысле
измеренных промежутков между двумя моментами времени,
является результатом калькуляции времени. Будучи
скалькулированным, время, предоставляемое теперь в виде прямой
и параметра, а следовательно одномерно, измеряется
количественно. При таком способе мышления представление о
размерности времени, понимаемого как последовательность
моментов «теперь», заимствуется из представления о трехмерном
пространстве. Но до всякой калькуляции времени и
независимо от нее, собственное временного пространства подлинного
времени основывается в просвете друг-друга-подавания
будущего, прошедшести и настоящего. Соответственно, только
подлинному времени и лишь ему одному принадлежит то, что
мы так легко ошибочно называем размерностью, сквозным
промсриванием. Это сквозное пром-еривание основывается в
описанном просвете подавания будущим прошедшести, про-
шедшестью — будущего и взаимным отношением обоих
дается просвет открытого. Помысленное от этого тройного
подавания время оказывается трех измерений. Измерение,
повторим это, мыслится здесь не.только как сфера возможного
вымеривания, но как сквозное протягивание, как просвет
подавания. Лишь только он, этот просвет простирания, и
позволяет представить и ограничить сферу обмеривания.
Но чем же определяется единство трех измерений
настоящего, подлинного времени, т. е. единство его трех способов
подавания, играющих друг в друге, подавания трех особых
присутствий?
Мы уже слышали: как в наступлении пока-еще-не-настоя-
щего, так и в прошедшести уже-более-не-настоящего, и даже
в самом настоящем играет каждый раз свой особый способ
приближения и приведения, т. е. присутствие.
И присутствием, которое следует мыслить таким образом,
мы не можем наделить лишь одно из трех измерений времени,
а именно лишь то, которое лежит близко — настоящее. Скорее
единство трех измерений основано на подаче каждого
измерения для каждого. Эта подача оказывается подлинным подава-
нием, играющим в собственном времени и, стало быть, как бы
четвертым измерением — и не только как бы, но и на самом
деле. Подлинное время — четырех измерений. Однако то, что
мы называем четвертым при перечислении, на деле является
первым, т. е. все определяющим подаванием. Оно выдает
в будущее, в прошедшесть и в настоящее им свойственное
присутствие, держит их отдельно — в просвете — друг от дру-
92
га и в такой близости друг к другу, из которой эти три
измерения накладываются друг на друга. Поэтому мы называем
первое, первоначальное, в буквальном смысле слова
начальное подавание, на котором основано единство подлинного
времени, сближающей близостью (Nahheit — близь, старое, еще
Кантом используемое слово). Но она сближает наступление,
прошедщесть и настоящее друг с другом тем* что она удаляет.
Ибо она оставляет побывшее открытым, тем что она
отказывает ему в наступлении в качестве настоящего. Это сближение
близости оставляет открытым приход из будущего, тем что оно
задерживает настоящее в его ходе. Сближающая близость
имеет характер отказа и задержания. Она заранее держит
в единстве способы подавание прошедшести, наступления и
настоящего.
Время не есть. Время дано. Дающее, которое дает время,
определяется из отказывающе-задерживающей близости. Оно
предоставляет открытое временного пространства и укрывает
то, чему отказано,— в побывшем, то, что задержано — в
будущем. Мы называем дающее, которое дает подлинное время,
скрывающим просветом простирания. Поскольку само
простирание есть дающее, в подлинном времени скрывается дающее
давания.
Но где дано время и временное пространство? Каким бы
неотвязным ни казался этот вопрос, нам больше нельзя
спрашивать таким образом о каком-то «где», о месте времени.
Потому что само подлинное время, сфера тройного
простирания, определяемого через сближающую близость, само время
будет пред-пространственной местностью, благодаря которой
лишь только и дано возможное «где». Правда, философия
с самого своего начала каждый раз, когда она мыслила время,
спрашивала всегда, чему оно принадлежит. При этом прежде
всего имелось в виду скалькулированное время как ход череды
моментов «теперь», следующих друг за другом. Объяснялось,
что не может быть сосчитанного времени, времени, с помощью
которого мы считаем, без фи^Л» без animus, без души, без
сознания, без духа. Времени нет без человека. Но все же что
же означает это «нет без»? Будет ли человек * раздатчиком
времени или же его восприемником? И если он его
восприемник, то как воспринимает он время? Будет ли человек
сначала человеком, чтобы затем, когда-нибудь случайно, т. е. в
какое-нибудь время, установить прием времени и отношение
с ним? Подлинное время является близостью присутствия,
объединяющей своим тройным просветом простирание из
настоящего, прошедшести и будущего. Эта близость уже
захватила человека как такового так, что он может быть человеком
93
только тогда, когда он стоит внутри тройного простирания
и выносит эту определяющую простирание отказывающе-
задерживающую близость. Время не сделано человеком,
человек не поделка времени. Здесь вообще нет никакого делания.
Есть лишь давание в указанном смысле, просвет во временном
пространстве простирания.
Однако допуская, что способ давания, которым дано
время, и требует представленных характеристик, мы
по-прежнему стоим перед загадочным «Это» (Es)y которое мы
называем, говоря: дано время, дано бытие. Растет опасность
того, что мы произвольно подводим под это название (Es)
неизвестную силу, которая и должна совершить все давание
бытия и времени. Однако при этом мы сможем избежать
неопределенности и произвола, пока будем держаться за то
определение давания, которое мы пытались показать, а
именно: провидя бытие как присутствие и время как сферу
простирания просвета множественного присутствия.
Давание в «дано бытие» проявило себя как посыл и как
судьба присутствия в своих эпохальных изменениях.
Давание в «дано время» проявило себя как просвет
простирания четырехмерной области.
Поскольку в бытии как присутствии обнаруживает себя
ничто иное, как время, усиливается уже упомянутое
подозрение, что подлинное время — четверное простирание
открытого — даст опознать себя как это Это (Es), которое дает бытие,
т. е. присутствие. Кажется, что это предположение еще больше
подтверждается, если мы учтем, что и отсутствие каждый раз
проявляет себя как некоторый способ присутствия. Итак,
в побывшем, дающем присутствовать уже-более-не-настояще-
му, благодаря отказу от настоящего, в к-нам-подходящем,
дающем присутствовать пока-еще-не-настоящему, благодаря
задержанию настоящего, проявляется тот род просвета
простирания, который дает все присутствие в открытое.
Итак, подлинное время явилось нам как Это (Es), которое
мы называем, говоря: дано бытие. Посыл, в котором дано
бытие, основывается в простирании времени. Оказалось ли
в результате этого замечания время этим Это (Es), которое
дает бытие? — Ничего подобного. Ведь само время остается
даром этого дающего «дано», чье давание указывает ту сферу,
в которой простерто присутствие. Таким образом, Это
(Es) по-прежнему остается неопределенным и загадочным.,
а сами мы — по-прежнему перед загадкой. В таком случае
целесообразно отныне определять Это (Es), которое дает, из
уже охарактеризованного давания. Давание проявляет себя
как посыл бытия и как время в смысле просвета простирания.
94
(Или же наша растерянность есть лишь результат того, что
язык или, точнее говоря, грамматическое истолкование языка,
ввели нас в заблуждение и застыв в этом заблуждении, мы
оцепеневши смотрим на это Это (Es), которое должно давать,
но само-то при этом как раз и не дано? Если мы говорим «дано
бытие», «дано время», то мы произносим предложения. С
точки зрения грамматики, предложение состоит из субъекта
и предиката. Субъект предложения не обязательно должен
быть субъектом в смысле какого-нибудь Я или лица. И поэтому
грамматика и логика понимают предложения с «£s» как
безличные предложения, предложения без субъекта. В других
индоевропейских языках, в греческом и в латыни, это «Es»
отсутствует, по крайней мере как особое слово и фонетическое
образование, однако это не означает, что при этом не мыслится
подразумеваемое в «£s»: в латыни pluit (идет дождь,
«дождит»), в греческом языке %qt\ (нужно, необходимо,
требуется) . Но все же что означает это «£s»? Наука о языке и
философия языка много думали об этом, но'действительное разъ-
' яснение так и не было найдено. Область значений, которые
подразумеваются под «£s», простирается от незначительного
до демонического. Произносимое в «дано бытие», «дано
время» «Es» называет, вероятно, что-то превосходное, во что мы
здесь еще не вошли. Поэтому удовлетворимся
принципиальными соображениями. С точки зрения логики и грамматики, то,
о чем что-то говорится, являет себя как субъект: ujtoxei це-
vov — уже пред-лежащее, каким-то образом присутствующее.
То, что приписывается субъекту в качестве предиката, являет
себя как со-присутствующее, присутствующее совместно с уже
присутствующим, GUfiPeQiixoc;, accidens: этот лекционный зал
освещен. В этом «£s» в «дано бытие» говорит некое
присутствие того, что отсутствует — стало быть в известном смысле
тоже бытие. Если мы поставим бытие на место «£s», то
предложение «дано бытие» говорит: Sein gibt sein (бытием дано
бытие, бытие дает бытие), что снова отбросит нас к
упомянутым в начале доклада трудностям: бытие есть. Но бытие «есть»
в той же малой степени, в какой «есть» время. Поэтому
откажемся от этой попытки определить это «Es» им самим. Однако
не будем упускать из виду: это «Es» называет — во всяком
случае это объяснение первым приходит на ум — присутствие
отсутствия — прибытие отсутствия. Ввиду того, что в
предложениях «дано бытие», «дано время» речь идет не о сущем,
а пропозициональная структура предложений была
унаследована нами от греко-римских грамматиков исключительно для
высказываний о сущем, ввиду этого, нам и следует принять во
внимание возможность того, что высказывания «дано бытие»,
95
«дано время» — это не те предложения, которые навсегда
застыли в пропозициональной структуре
субъектно-предикатных отношений. Но все же как иначе должны мы ввести в поле
зрения это «£s», которое мы произносим, говоря «дано бытие»,
«дано время»? Именно так, что мы отныне мыслим это «£s» по
способу давания, которое принадлежит ему: давание как
посыл, давание как просвет простирания. Оба они взаимопри-
надлежны, поскольку посыл основывается в просвете
простирания.)
В посыле судьбы^бытия, в простирании времени проявляет
себя некое присвоение, некий перевод в свою собственность —
чего? — бытия как присутствия и времени как сферы
открытого, бытия и времени в их собственном. То, что определяет их
обоих — и время, и бытие — в их собственном, а это значит
в их взаимопринадлежности, мы назовем: особляюще-высвоя-
ющим присвоением 34 das Ereignis. To, что называет это слово,
мы можем помыслить теперь из того, что проявляет себя в
провидении бытия как посыла судьбы и времени как
простирания — из того, чему принадлежит бытие и время. Бытие
и время, их обоих, мы назвали предметами. «И» между ними
оставляет их отношение друг к другу в неопределенности.
Теперь обнаруживается следующее: то, что дает обоим
предметам принадлежать друг другу, то, что не только приводит их
обоих в их собственное, но и хранит их в их
взаимопринадлежности и держит в ней, соотношение обоих предметов,
положение предметов — это .особляюще-высвояющее присвоение —
das Ereignis. Взаимоположение предметов, осабливая, высва-
ивает бытие и время из их соотношения в их собственное,
а происходит это благодаря тому, что в посыле судьбы и в
просвете простирания скрывает себя особляюще-высвояющее
присвоение. Следовательно, это «Es», которое дает в «дано
бытие», «дано время», подтверждается как
особляюще-высвояющее присвоение. Это высказывание правильно и в то же
время неверно, т. е. оно скрывает от нас взаимоположение
предметов, поскольку мы невольно представили его как какое-
то присутствующее, в то время как мы-то как раз пытаемся
мыслить присутствие как таковое. Но, возможно, мы одним
ударом избавимся от всех сложностей, от всех обстоятельных
и, по-видимому, бесплодных объяснений, задав уже давно
назревший простой вопрос и ответив на него: Это присвоение,
а что это такое?
По этому поводу да будет мне позволено вставить один
вопрос: что значит здесь «ответить» и «ответ»? Ответ означает
высказывание, которое со-ответствует мыслимому здесь
положению предметов, т. е. присвоению. Но если положение
96
предметов запрещает говорить о себе языком предложений, то
мы должны отказаться от ожидаемого в поставленном вопросе
утвердительного предложения. Но это означает, мы должны
признать невозможность со-ответствующе мыслить то, что
здесь должно мыслиться. Или же целесообразнее отказаться
не от ответа, а от самого вопроса? Как там обстоит дело с этим
ясным и законным, естественно возникающим вопросом? Что
такое присвоение? Для этого мы спросим о чтойности (das
Was-sein), о сущности, о том, как присвоение сущностится,
т. е. прибывает в присутствие 35. Этим на вид безобидным
вопросом «Что такое присвоение?» мы требуем сведений о
бытии присвоения. Если же теперь само бытие оказывается тем,
что принадлежит присвоению и получает из него определение
присутствия, то этот вопрос отбрасывает нас назад — к тому,
что требует определения прежде всего остального: бытия из
времени. Это определение показалось нам при
предварительном взгляде на это «Es», которое дает, при взгляде насквозь
через располагающиеся друг в друге способы давания —
посыл и простирание. Посыл бытия покоится в
раскрывающемся просвете простирании множественного присутствия
в открытой сфере временного пространства. Простирание же,
нераздельно с посылом, покоится в присваивании 35.
Присваивание, т. е. собственное присвоения, определяет также и смысл
того, что означает здесь «покоиться».
Только что сказанное позволяет, даже известным образом
заставляет сказать, как не следует мыслить присвоение das
Ereignis. Мы не можем представлять то, что названо именем
«das Ereignis», руководствуясь общепринятым значением
слова, — «событие», поскольку «das Ereignis» понимается обычно
в смысле случая и происшествия, а не из «das Eignen», (свое-
ние) 36, принимаемого как просвет укрывающего простирания
и посыла.
Так недавно было объявлено, что согласие, достигнутое
внутри европейского экономического сообщества, является
европейским событием всемирно-исторического значения.
Если в контексте обсуждения бытия разделяется слово «das
Ereignis», которое воспринимается в своем общепринятом
значении, то становится прямо-таки необходимым поговорить
о таком событии, как бытие, о событии бытия. Потому что без
бытия ни одно сущее не может быть таким, как оно есть.
Соответственно, бытие можно провозгласить высшим, самым
значительным событием.
Но не заключается ли единственная цель этого доклада как
раз в том, чтобы ввести в поле зрения само бытие как событие?
Несомненно. Но только то, что называется словом «das Ere-
4 М. Хайдеггер
97
ignis», означает совершенно другое. Соответственно нужно
помыслить и это невзрачное, но каверзное из-за своей
многозначности «как». Но предположим, что при обсуждении
бытия и времени мы откажемся от обычного значения слова
«das Ereignis» и вместо этого последуем за смыслом,
указывающим на себя в посылании присутствия и просвете
простирания временного пространства, но даже и тогда разговор
о «бытии как событии» останется неопределенным.
«Бытие как событие» — ранее философия, идя от сущего
к бытию, мыслила бытие как t6ea, как svegveia, как actualitas,
как волю и теперь как событие — так можно подумать. При
таком понимании событие означает одну из вариаций на тему
истолкования бытия, представляющую собой, в случае успеха,
продолжение метафизики. «Как» в этом случае означает:
событие как род бытия, подчиненный бытию, которое образует
ведущее понятие и прочно удерживает его. Но если же мы
помыслим, как и пытались, бытие в смысле присутствия и
позволения присутствовать, данных в посыле судьбы, который
покоится, со своей стороны, в раскрывающемся просвете
простирания подлинного времени, то тогда бытие
принадлежит присваиванию. Из присваивания и получают свое
определение давание и его дар. Но тогда бытие будет родом события,
а не событие — родом бытия.
Но мы отделались бы слишком дешево, попытавшись
укрыться в таком переворачивании. Эта попытка мыслила бы
мимо положения предметов. Событие — это не высшее
всеохватывающее понятие, под которым можно расположить
в определенной иерархии бытие и время. Логические
отношения порядка здесь нам ничего не скажут. Потому что пока мы
мыслили бытие и следовали за его собственным, оно оказалось
протянутым сквозь простирание времени даром посыла
присутствия. Дар присутствия — это собственное присваивания.
Бытие исчезает в событии-присваивании. В свою очередь,
наоборот, «бытие как событие» теперь подразумевает под
«как»: бытие, позволение присутствовать, посланное при и в
присваивании, время, протянутое при высваивании. Время
и бытие, высвоенные, особленные присвоением. А оно само?
Можно ли сказать, дает ли сказать присвоение еще хоть что-то
о себе?
Во время пути было уже помыслено, но еще не выражено
особо то, что к даванию как посыланию принадлежит удержи-
вание-в-себе, а именно: такое удерживание-в-себе, что в
простирании побывшего и наступающего играют задержание
и утаивание настоящего. Это в-себе-удерживание, не-давание,
задержание, утаивание позволяет ничто иное, как уклонение
98
(себя), короче говоря — побег, уход. Поскольку определенные
через этот побег и уход способы давания — посыл и
простирание — покоятся в присваивании, поскольку и этот побег и уход
должны также принадлежать к собственному присвоения. Но
объяснение этого уже не будет предметом данного доклада.
Вкратце, как принято в докладе (что явно недостаточно),
укажем на собственное присвоения.
Посылание в судьбе бытия было охарактеризовано как
давание, причем само посылающее удерживается в сефе и. в
удержании-в-себе избегает раскрытия.
В подлинном времени и его временном пространстве
проявляет себя простирание побывшего, а значит
уже-более-ненастоящего — задержание последнего, а в простирании
будущего, а значит пока-еще-не-настоящего — укрытие
последнего. Задержание и укрытие обнаруживают ту же черту, что
и в-себе-удержание в посылании, а именно самоизбегание.
Поскольку теперь посыл судьбы бытия покоится в
простирании времени, а оба они — в присвоении, постольку в
присваивании обнаруживается особое: высваивающе-особляющее
присваивание охраняет свою сердцевину от безудержного
раскрытия. Мыслимое от присваивания это означает:
присваивание от-сваивает, отчуждает в названном смысле самое себя.
К присвоению как таковому принадлежит и отсвоение,
отчуждение 36. Благодаря ему высваивающее присвоение не выдает
себя, но сберегает свое собственное.
Как только мы обдумаем уже сказанное достаточно ясно,
нам станет видно и другое особое присвоения. В бытии как
присутствии проявляет себя касание, которое так обращается
к нам — людям, что и отличие нашей человеческой сущности
мы получили, воспринимая и принимая его. Но этот прием
обращения присутствия покоится во внутристоянии в сфере
простирания, которым нас достигло четырехмерное подлинное
время.
Поскольку бытие и время даны лишь в освояющем
присваивании, то к нему принадлежит и то особое свойство, что оно
высваивает человека как того, кто воспринимает бытие стоя
внутри подлинного времени, приводит человека к его
собственному. Таким образом высвоенный и присвоенный
событием и входит человек в его принадлежность.
Эта принадлежность покоится в отличающем событие
присвоении — затребовании в свою собственность.
Посредством его человек впускается в событие. В этом заключается
причина того, что мы не можем поставить событие-присвоение
перед нами — ни напротив нас, ни вокруг нас, как
всеохватывающее. Поэтому представляюще-обосновывающее мышление
4*
99
соответствует событию так же плохо, как и повествовательное
предложение.
Поскольку как время, так и событие как дары
присваивания следует мыслить только из него, постольку и отношение
пространства к событию-присвоению должно обдумать
соответствующе. Однако это может удасться, лишь если мы
поймем, как мы это однажды уже осознали, происхождение
пространства из достаточно помыслеиного особого свойства
места (ср. Bauen Wohnen Denken, 1951 в «Vortrage und Aufsa
tze» 1954. S. 145 и далее).
Попытка же, сделанная в «Бытии и времени», § 70, свести
пространственность здесь-бытия (Dasein) к временности, не
получилась.
Теперь, правда, стало видно то, что говорит «событие»,
стало видно, благодаря взгляду насквозь через само бытие,
через само время, стало видно, благодаря заглядыванию
в посыл бытия и в простирание временного пространства,.
Однако достигли ли мы на этом пути хоть чего-нибудь, кроме
одних лишь мыслительных конструкций? Из засады этого
подозрения говорит мнение, что событие-присвоение должно
«быть» каким-то сущим. В то время как: событие-присвоение
не есть, как и событие-присвоение не дано. Сказать как первое,
так и второе — означает извратить положение вещей, как если
бы мы хотели вывести источник из реки. Что остается сказать?
Лишь одно: Das Ereignis ereignet — Присвоение
присваивает 37. Этим мы говорим о том же самом, исходя из того же
самого — для того же самого. Но лишь по видимости кажется,
что здесь ничего не сказано. И здесь действительно ничего не
сказано, если мы продолжаем слышать произносимое просто
как предложение и устраивать ему допрос логикой. И что если
мы примем сказанное единым потоком как опору для
дальнейшего мышления? Но что если мы при этом подумаем, что это то
же самое не будет ни в коем случае чем-то новым, а, наоборот,
самым старым старого в западноевропейском мышлении:
сверхстарым, скрывающим себя в имени а—ArjOeia? Из того, что
подсказывается этим началом всех ведущих мелодий
мышления, говорит обязательство, которое связывает любое
мышление, при условии, что оно настроено в тон тому, что должно
мыслиться.
Речь шла о том, чтобы помыслить бытие в его собственном,
смотря на него сквозь подлинное время — от
события-присвоения,— не принимая во внимание отношение бытия к сущему.
Мыслить бытие без сущего: мыслить бытие, не считаясь
с метафизикой. В намерении же преодолеть метафизику
господствует уважение к ней. Вот почему дело заключается в том,
100
чтобы оставить преодоление метафизики и предоставить
метафизику самой себе.
Все равно остается необходимость в преодолении (но уже
не,метафизики): оно необходимо такому мышлению, которое
впущено в событие-присвоение — для него, изнутри и к нему,
т. е. преодоление необходимо сказу.
Дело в том, что постоянно приходится преодолевать
различные препятствия, которые так легко делают недостаточным
этот сказ.
Препятствием такого рода будет и то, что о событии-
присвоении сказывает доклад. Доклад говорит только
повествовательными предложениями.
Отрешенность
Gelassenheit
Первое, что я могу сказать своему
родному городу,— это слова признательности. Я благодарю
мою родину за все, что она дала мне в дальний путь. Что это за
приданое, я пытался объяснить на страницах статьи
«Проселочная дорога» в юбилейном сборнике, появившемся к
столетию со дня смерти Конрадина Крейцера2. Я благодарю
господина бургомистра Шюле за его сердечное приветствие
и за ту честь, которую мне оказали, поручив выступить с
памятной речью на сегодняшнем торжестве.
Уважаемое собрание!
Дорогие соотечественники!
Мы собрались здесь на торжестве, посвященном нашему
земляку, композитору Конрадину Крейцеру. Чтобы чествовать
такого человека — творческую личность, нужно прежде всего
оценить по достоинству его произведения. А значит, чтобы
чествовать музыканта, надо слушать его музыку.
Сегодня мы услышим произведения Конрадина
Крейцера — его песни и хоры,, камерную и оперную музыку. В этих
звуках присутствует сам композитор, так как по-настоящему
мастер присутствует лишь в своей рйботе. И если это
действительно большой мастер, то его личность полностью исчезнет за
его работой.
Певцы и музыканты, участвующие в сегодняшнем
празднестве, будут гарантами того, что произведения Конрадина
Крейцера прозвучат сегодня для нас.
Но будет ли это торжество в то же время и памятным? Ведь
торжество в память кого-либо означает, что мы думаем 3. Так
о чем же мы должны думать и говорить на чествовании памяти
композитора? Разве музыка не отличается тем, что она может
Перевод с издания: Heidegger Martin. Gelassenheit. Gunther Neske.
Pfullingen, 1959. S. 11—28'.
© А. С. Солодовникова, перевод, 1991.
102
«говорить» просто звучанием своих звуков, и разве ей нужен
обычный язык — язык слов? Ведь так обычно считают. И все
же остается вопрос: смогут ли музыка и пение превратить
тожество в памятное, в такое, на котором мы думаем?
Вероятно, не смогут. Поэтому памятная речь и была включена
в программу праздника. Она специально должна помочь нам
думать о чествуемом человеке и его произведениях, Такие
воспоминания оживают, когда еще раз пересказывают
историю жизни Конрадина Крейцера, перечисляют и описывают
его произведения. Слушая такое повествование, мы
испытываем радость и печаль, узнаем много поучительного и полезного.
Но на самом деле мы лишь развлекаемся. Слушая такой
рассказ, вовсе и не обязательно думать, не требуется размышлять
о том, что относится к каждому из нас в отдельности
непосредственно и постоянно в его собственном бытии. Таким образом,
даже памятная речь не может быть залогом того, что мы будем
думать на памятном торжестве.
Не надо дурачить себя. Все мы, включая и тех, кто думает
по долгу службы, достаточно часто бедны мыслью, мы
слишком легко становимся бездумными. Бездумность — зловещий
гость, которого встретишь повсюду в сегодняшнем мире,
поскольку сегодня познание всего и вся доступно так быстро
и дешево, что в следующее мгновение полученное так же
поспешно и забывается. Таким образом одно собрание сменяется
другим. Памятные празднества становятся все беднее и беднее
мыслью, так что теперь памятные собрания и бездумность уже
неразлучны.
Но даже когда мы бездумны, мы не теряем нашей
способности думать. Мы ее, безусловно используем, но, конечно,
особым образом: в бездумности мы оставляем способность
мыслить невозделанной, под паром. Но только то может
лежать под паром, что способно стать почвой для роста,
например пашня. Автострада, на которой ничего не растет, никогда
не может лежать под паром. Как оглохнуть мы можем только
потому, что обладаем слухом, а состариться — только потому,
что были молоды, точно так же мы можем стать бедными
мыслями и даже бездумными лишь потому, что в самой основе
своего бытия человек обладает способностью к мышлению,
«духу и разуму», и мышлению предназначен и уготован. Мы
можем лишиться или, как говорят, отделаться только от того,
чем мы обладаем, знаем ли мы об обладаемом или нет.
Усиливающаяся бездумность проистекает из болезни,
подтачивающей самую сердцевину современного человека.
Сегодняшний человек спасается бегством от мышления. Это
бегство от мышления и есть основа для бездумности. Это такое
103
бегство, что человек его и видеть не хочет и не признается
в нем себе самому. Сегодняшний человек будет напрочь
отрицать это бегство от мышления. Он будет утверждать обратное.
Он скажет — имея на это полное право, что никогда еще не
было таких далеко идущих планбр, такого количества
исследований в самых разных областях, проводимых так страстно, как
сегодня. Несомненно, так тратиться на хитроумие и
придумывание по-своему очень полезно и выгодно. Без такого
мышления не обойтись. Но при этом остается так же верно и то, что
это лишь частный вид мышления.
Его специфичность состоит в том, что когда мы планируем,
исследуем, налаживаем производство, мы всегда считаемся
с данными условиями. Мы берем их в расчет, исходя из
определенной цели. Мы заранее рассчитываем на определенные
результаты. Это рассчитывание является отличительной
чертой мышления, которое планирует и исследует. Такое
мышление будет калькуляцией даже тогда, когда оно не оперирует
цифрами и не пользуется калькулятором или компьютером.
Рассчитывающее мышление калькулирует. Оно беспрерывно
калькулирует новые, все более многообещающие и выгодные
возможности. Вычисляющее мышление «загоняет» одну воз*
можность за другой. Оно не может успокоиться и одуматься,
прийти в себя. Вычисляющее мышление — это не
осмысляющее мышление, оно не способно подумать о смысле, царящем
во всем, что есть.
Итак, есть два вида мышления, причем существование
каждого из них оправдано и необходимо для определенных
целей: вычисляющее мышление и осмысляющее раздумье 4.
Именно это осмысляющее раздумье мы и имеем в виду,
когда говорим, что сегодняшний человек спасается бегством
от мышления. Все же можно возразить: само по себе
осмысляющее размышление парит над действительностью, оно
потеряло почву. Оно не поможет нам справиться с повседневными
делами. Оно бесполезно в практической жизни.
И, наконец, говорят, что чистое размышление, стойкое
осмысление «выше» обычного рассудка. В последней
отговорке верно только то, что осмысляющее мышление само не
получается, впрочем как и вычисляющее. Для осмысляющего
мышления подчас необходимы высшие усилия. Оно требует
более длительного упражнения. Для него нужна еще более
чуткая забота, чем для любого другого настоящего ремесла.
А еще оно должно уметь ждать, как ждет крестьянин, взойдет
ли семя, даст ли урожай.
И все же каждый может выйти в путь размышления по-
своему и в своих пределах. Почему? Потому что человек — это
104
мыслящее, т. е. осмысляющее существо 5. Чтобы размышлять,
нам отнюдь не требуется «перепрыгнуть через себя».
Достаточно остановиться на близлежащем и подумать о самом
близком", о том, что касается каждого из нас — здесь и сейчас,
здесь, На этом клочке родной земли, сейчас — в настоящий час
мировой истории. . v
На какие мысли наведет нас этот праздник, конечно, в том
случае, если мы готовы одуматься? Мы увидим, что
произведение искусства созрело на почве своей родины. Если мы
задумаемся над этим простым фактом, то мы обязательно подумаем
и о том, что за последние два столетия Швабия породила
великих поэтов и мыслителей. Если мы будем размышлять
далее, то окажется, что Центральная Германия такая же
земля, ровно как и Восточная Пруссия, Силезия и Богемия.
Мы задумаемся и спросим:ча может быть, любое настоящее
творение коренится в почве своей родной земли? Иоган Гебел
однажды написал: «Мы растения, которые — хотим ли.мы
осознать это или нет — должны корениться в земле, чтобы,
поднявшись, цвести в эфире и приносить плоды» (Werke,
ed. Altwegg, III, 314).
Поэт хочет сказать: чтобы труд человека принес
действительно радостные и целебные плоды, человек должен
подняться в эфир из глубины своей родной земли. Эфир здесь означает
свободный воздух небес, открытое царство духа.
Мы задумаемся еще сильнее и спросим: а как обстоит
сегодня дело с тем, о чем говорил Иоган Петер Гебел? По-
прежнему ли человек тихо обитает между небом и землей? По-
прежнему ли царит на земле осмысляющий дух? Есть ли еще
родина, в почве которой — корни человека, в которой он
укоренен? 6
Многие немцы лишились своей родины, им пришлось
оставить свои города и села, их изгнали с родной земли.
Многие другие, чья родина была спасена, все же оторвались от нее,
попавши в ловушку суеты больших городов, им пришлось
поселиться в пустыне индустриальных районов. И сейчас они
чужие для своей бывшей родины. А те, кто остался на родине?
Часто они еще более безродны, чем те, кто был изгнан. Час за
часом, день за днем они проводят у телевизора и
радиоприемника, прикованные к ним. Раз в неделю кино уводит их
в непривычное, зачастую лишь своей пошлостью,
воображаемое царство, пытающееся заменить мир, но которое не есть
мир. «Иллюстрированная газета» доступна всем. Как и все,
с помощью чего современные средства информации ежечасно
стимулируют человека, наступают на него и гонят его — все,
что уже сегодня ближе человеку, чем пашни вокруг его двора,
105
чем небо над землей, ближе, чем смена ночи днем, чем обычаи
и нравы его села, чем предания его родного мира.
Мы задумаемся еще и спросим: что происходит здесь —
как с людьми, оторванными от родины, так и с теми, кто
остался на родной земле? Ответ: сейчас под угрозой находится
сама укорененность 7 сегодняшнего человека. Более того:
потеря корней не вызвана лишь внешними обстоятельствами
и судьбой, она не происходит лишь от небрежности и
поверхностности образа жизни человека. Утрата укорененности
исходит из самого духа века, в котором мы рождены.
Мы задумаемся еще и спросим: если это так, смогут ли еще
и впредь человек и его творения корениться в плодородной
почве родины и тянуться к эфиру, на простор небес и духа?
Или же все попадает в тиски планирования и калькуляций,
организации и автоматизации?
Осмысляя то, что нам подсказывает это торжество, мы
увидим: нашему веку грозит утрата корней. И мы спросим: что
же на самом деле происходит в наше время? Чем оно
отличается?
Век, который сейчас начинается, недавно был назван
атомным веком. Его самое неотступное знамение — атомная
бомба, но это — примета лишь очевидного, так как сразу же
признали, что атомная энергия может быть использована
и в мирных целях. И сегодня физики-ядерщики всего мира
пытаются осуществить мирное использование ее в широких
масштабах. Крупные индустриальные корпорации ведущих
стран, Англии в первую очередь, уже посчитали, что атомная
энергия может стать гигантским бизнесом. В атомной
промышленности узрели новое счастье. Атомная физика не
останется в стороне. Она открыто обещает нам это. В июле этого
года на острове Майнау восемнадцать лауреатов Нобелевской
премии объявили в своем обращении дословно следующее:
«Наука (т. е. современное естествознание) — путь к счастью
человечества».
Как обстоит дело с этим утверждением? Возникло ли оно из
размышления? Задумалось ли оно над смыслом атомного
века? Нет. Если мы удовлетворяемся этим утверждением
науки, мы остаемся максимально далеко от осмысления
нынешнего века. Почему? Потому что подумать-то мы и забыли.
Потому что мы забыли спросить: благодаря чему современная
техника, основанная на естествознании, способна открывать
в природе и освобождать новые виды энергии?
Это стало возможно благодаря тому, что в течение
последних столетий идет переворот в основных представлениях,
человек оказался пересаженным в другую действительность.
106
Эта радикальная революция мировоззрения произошла в
философии Нового времени. Из этого проистекает и совершенно
новое положение человека в мире и по отношению к миру. Мир
теперь представляется объектом, открытым для атак
вычисляющей мысли, атак, перед которыми уже ничто не сможет
устоять. Природа стала лишь гигантской бензоколонкой,
источником энергии для современной техники и
промышленности. Это, в принципе техническое, отношение человека к
мировому целому впервые возникло в семнадцатом веке и притом
только в Европе. Оно было долго незнакомо другим
континентам. Оно было совершенно чуждо прошлым векам и
судьбам народов.
Сила, скрытая в современной технике, определяет
отношение человека к тому, что есть. Ее господство простирается по
всей земле. Человек уже начинает свое продвижение с земли
в мировое пространство. Благодаря открытию атомной
энергии, за какие-нибудь двадцать лет стали известны такие
колоссальные источники энергии, что в обозримом будущем
мировые потребности в энергии любого рода будут
удовлетворены навсегда. Скоро производство энергии, в отличие от
добычи угля, нефти, древесины, более не будет привязано
к какой-то определенной стране или континенту. В обозримом
будущем в любом месте земного шара можно будет построить
атомную электростанцию.
Таким образом, теперь основная проблема науки и техники
заключается уже не в том, где достать достаточное количество
топлива. Сейчас решающая проблема звучит так: каким
образом мы сможем обуздать и как мы научимся управлять этими
невероятно гигантскими атомными энергиями так, чтобы
гарантировать человечеству, что эти громадные энергии
внезапно — даже в случае отсутствия военных действий — в
каком-нибудь месте не вырвутся, «не удерут» и не уничтожат
все?
Если обуздание атомной энергии будет успешным,— а оно
будет успешным! — то в развитии технического мира начнется
совершенно новая эра. То, что нам сейчас известно как
техника фильмов и телевидения, транспорта, особенно воздушного,
средств информации, медицинская и пищевая
промышленность, является, вероятно, лишь жалким началом. Грядущие
перевороты трудно предвидеть. Между тем технический
прогресс будет идти вперед все быстрее и быстрее и его ничем
нельзя остановить. Во всех сферах своего бытия человек будет
окружен все более плотно силами техники. Эти силы, которые
повсюду ежеминутно требуют к себе человека, привязывают
его к себе, тянут его за собой, осаждают его и навязываются
107
ему под видом тех или иных технических приспособлений,—
эти силы Давно уже переросли нашу волю и способность
принимать решения, ибо не человек сотворил их.
Но к новому миру техники принадлежит также и то, что его
достижения самым быстрым образом становятся всем
известны и привлекают всеобщий интерес. Так сегодня все могут
прочитать то, что говорится в этой речи о технике в любом
умело издаваемом иллюстрированном журнале, или услышать
эту речь по радио. Но одно дело услышать или прочитать,
т. е. просто узнать что-то, другое дело — осознать, т. е.
осмыслить то, что мы услышали или прочитали.
Этим летом в очередной раз состоялась международная
встреча лауреатов Нобелевской премии 1955 года в Линдау.
Американский химик Стэнли сказал на ней следующее:
«Близок час, когда жизнь окажется в руках химика, который
сможет синтезировать, расщеплять и изменять по своему
желанию субстанции жизни». Мы приняли к сведению это
утверждение, мы даже восхищаемся дерзостью научного
поиска, при этом, не думая. Мы не останавливаемся, чтобы
подумать, что здесь с помощью технических средств готовится
наступление на жизнь и сущность человека, с которым не
сравнится даже взрыв водородной бомбы. Так как даже если
водородная бомба и не взорвется и жизнь людей на земле
сохранится, все равно зловещее изменение мира неизбежно
надвигается вместе с атомным веком.
Страшно на самом деле не то, что мир становится
полностью технизированным. Гораздо более жутким является то,
что человек не подготовлен к этому изменению мира, что мы
еще не способны встретить осмысляюще мысля то, что в
сущности лишь начинается в этом веке атома.
Затормозить исторический ход атомного века или же
направить его не может ни один человек, ни одна группа
людей, ни одна комиссия выдающихся государственных
деятелей, ученых и инженеров, ни одна конференция ведущих
деятелей промышленности и торговли. Ни одна человеческая
организация не способна подчинить себе этот процесс.
Так будет ли человек, отдан во власть неудержимых сил
техники, неизмеримо превосходящих его силы, растерянным
и беззащитным? Это и произойдет, если человек
окончательно откажется от того, чтобы решительно противопоставить
калькуляции осмысляющее мышление. Но лишь только
осмысляющее мышление пробуждается, оно должно работать
непрерывно, по любому, самому незначительному поводу — так же
и здесь, и сейчас, на этом памятном собрании, поскольку оно
дает нам возможность осмыслить то, что находится под особой
108
угрозой в атомный век, а именно: укорененность произведений
человека.
Поэтому мы задаем такой вопрос: сможет ли человек
с утратой старой укорененности обрести новую почву для
коренения и стояния, такую почву и основу, на которой будут
по-новому процветать сущность человека и все его труды даже
в атомный век?
Что же станет основой и почвой для будущего коренения?
Возможно, то, что мы ищем, очень близко, так близко, что мы
его просто проглядели. Ведь путь к тому, что близко, для нас,
людей, всегда самый дальний и потому самый трудный. Это
путь размышления. Осмысляющее мышление требует от нас не
цепляться односторонне за какое-то одно представление, сойти
с привычной мысленной колеи, по которой мы мчимся все
дальше и дальше. Осмысляющее мышление требует от нас,
чтобы мы занялись тем, что, на первый взгляд, вовсе не имеет
к нему отношения.
Давайте испытаем осмысляющее мышление.
Приспособления, аппараты и машины технического мира необходимы нам
всем — для одних в большей, для других — в меньшей мере.
Было бы безрассудно вслепую нападать на мир техники. Было
бы близоруко проклинать его как орудие дьявола. Мы зависим
от технических приспособлений, они даже подвигают нас на
новые успехи. Но внезапно, и не осознавая этого, мы
оказываемся настолько крепко связанными ими, что попадаем к ним
в рабство.
Но мы можем и другое. Мы можем пользоваться
техническими средствами, оставаясь при этом свободными от них, так
что мы сможем отказаться от них в любой момент. Мы можем
использовать эти приспособления так, как их и нужно
использовать, но при этом оставить их в покое как то, что на самом
деле не имеет отношения к нашей сущности. Мы можем
сказать «да» неизбежному использованию технических средств
и одновременно сказать «нет», поскольку мы запретим им
затребовать нас и таким образом извращать, сбивать с толку
и опустошать нашу сущность.
Но если мы скажем так одновременно «да» и «нет»
техническим приспособлениям, то разве не станет наше отношение
к миру техники двусмысленным и неопределенным? Напротив.
Наше отношение к миру техники будет чудесно простым и
спокойным. Мы впустим технические приспособления в нашу
повседневную жизнь и в то же время оставим их снаружи,
т. е. оставим их как вещи, которые не абсолютны, но зависят от
чего-то высшего. Я бы назвал это отношение одновременно
109
«да» и «нет» миру техники старым словом — «отрешенность от
вещей» 8.
Это отношение позволяет увидеть вещи не только
технически, оно даст нам прозреть то, что производство и
использование машин требует от нас другого отношения к вещам, которое
не бес-смысленно. Например, мы поймем, что земледелие
и сельское хозяйство превратились в механизированную
пищевую промышленность, что и здесь, как и в других областях
происходит глубочайшее изменение в отношении человека
к природе и к миру перед ним. Но смысл того, что правит этим
изменением, по-прежнему темен.
Итак, во всех технических процессах господствует смысл,
который располагает всеми человеческими поступками и
поведением, и не человек выдумал или создал этот смысл. Мы не
понимаем значения зловещего усиления власти атомной
техники. Смысл мира техники скрыт от нас. Но давайте же
специально обратимся и будем обращены к тому, что этот
сокрытый смысл повсюду нас затрагивает в мире техники,
тогда мы окажемся внутри области, которая и прячется от нас,
и, прячась, выходит к нам. А то, что показывается и в то же
время уклоняется — разве не это мы называем тайной? Я
называю поведение, благодаря которому мы открываемся
для смысла, потаенного в мире техники, открытостью для
тайны 9.
Отрешенность от вещей и открытость для тайны взаимно
принадлежны. Они предоставят нам возможность обитать
в мире совершенно иначе. Они обещают нам новую основу
и почву для коренения, на которой мы сможем стоять и
выстоять в мире техники, уже не опасаясь его.
Отрешенность от вещей и открытость тайне дадут нам
увидеть новую почву, которая однажды, быть может, даже
возвернет в ином обличье старую, сейчас так быстро
исчезающую.
Правда, пока (и мы не знаем, как долго это будет
продолжаться) человек на этой земле находится в опасном
положении. Почему? Потому лишь, что внезапно разразится
третья мировая война, которая приведет к полному
уничтожению человечества и разрушению земли? Нет. Наступающий
атомный век грозит нам еще большей опасностью, как раз
в том случае, если опасность третьей мировой войны будет
устранена. Странное утверждение, не так ли? Разумеется,
странное, но только до тех пор, пока мы не мыслим.
В каком смысле верно это утверждение? А в том, что
подкатывающая техническая революция атомного века
сможет захватить, околдовать, ослепить и обмануть человека так,
110
что однажды вычисляющее мышление останется
единственным действительным и практикуемым способом мышления.
Тогда какая же великая опасность надвигается тогда на
нас? Равнодушие к размышлению и полная бездумность,
полная бездумность, которая может идти рука об руку с
величайшим хитроумием вычисляющего планирования и
изобретательства. А что же тогда? Тогда человек отречется и отбросит
свою глубочайшую сущность, именно то, что он есть
размышляющее существо. Итак, дело в том, чтобы спасти эту
сущность человека. Итак, дело в том, чтобы поддерживать
размышление.
Однако отрешенность от вещей и открытость для тайны
никогда не придут к нам сами по себе. Они не выпадут на нашу
долю случайно. Они уродятся лишь из неустанного и
решительного мышления.
Возможно, сегодняшнее памятное собрание подвигнет нас
на это мышление. И если- мы откликнемся на этот призыв, то
мы будем думать о Конрадине Крейцере, размышляя об
истоках его творчества, о его корнях, которые питала силами его
родина. И это именно мы мыслим, когда мы осознаем себя
здесь и сейчас людьми, призванными найти и подготовить путь
в атомный век, через него и из него.
Если отрешенность от вещей и открытость для тайны
пробудятся в нас, то мы выйдем в путь, который ведет нас
к новой почве для коренения и стояния. На этой почве
творчество может пустить новые корни и принести плоды на века.
Так в другой век и несколько по-другому сбываются вновь
слова Иогана Петера Гебела:
«Мы растения, которые — хотим ли мы осознать это или
нет — дрлжны корениться в земле, чтобы, поднявшись, цвести
в эфире и приносить плоды».
Из разговора ^
на проселочной
дороге
о мышлении
Am егпет
Feldroeggesprach
uber das Denken ^
К вопросу об отрешенности
Ученый — У "*
Учитель — Уч
Гуманитарий — Гх
У: В прошлый раз мы пришли к тому, что вопрос о сущности
человека — это не вопрос о человеке:
Уч: Я лишь сказал, что нужно выяснить, обязательно ли
вопрос о его сущности — это вопрос о нем самом.
У: Пусть так, все же непостижимо, как можно обнаружить
сущность человека, отвернувшись от него.
Уч: И мне это непонятно, поэтому я и пытаюсь выяснить,
насколько это возможно или, быть может, даже необходимо.
У: Как? Увидеть сущность человека, не смотря на него!
Уч: Почему бы и нет? Если именно мышление отличает
человека, то, конечно, сущность его природы, а именно
природы мышления, можно рассматривать, лишь отвернувшись
от мышления.
Г: Но ведь мышление, понимаемое традиционно как
представление, является особого рода хотением, волением, вот
и Кант также понимает мышление, характеризуя его как
самопроизвольность. Мыслить — значит хотеть, а
хотеть — значит мыслить.
Перевод с издания: Heidegger Martin Oelassenheit. Gunther Neske.
Pfullingen, 1959. S. 31—73.
© А. С. Солодовникова, перевод, 1991
112
У: Тогда утверждение, что сущность мышления это нечто,
отличное от мышления, означает, что мышление это нечто
иное, чем хотение.
Уч: Вот почему на Ваш вопрос, чего же я собственно хочу от
нашего размышления о сущности мышления, я и ответил:
я хочу не-хотения.
У: Между тем выражение это кажется нам
двусмысленным.
Г: He-хотение означает все еще хотение, еще одно хотение,
правда такое, в котором действует отрицание, и отрицание
это направлено на само хотение и отказывается от него.
Таким образом не-хотение означает — охотно
отказываться от хотения. Кроме того, выражение не-хотение
означает нечто, что остается совершенно за пределами
любой воли 2.
У: А потому оно никогда не может быть исполнено и
достигнуто волением.
Уч: Но возможно мы подойдем к нему ближе, если будем
хотеть не-хотения в первом смысле слова.
Г: А Вам видно отношение между первым и вторым
смыслами не-хотения?
Уч: Мне оно не просто видно, но я должен признаться, что с
тех пор как я пытаюсь помыслить, что же движет наш
разговор, это отношение прямо-таки лезет мне в глаза 3,
только что не окликает меня.
У: Правильно ли предположить, что одно не-хотение
находится к другому в следующем отношении: Вы хотите
нехотения в смысле отказа от хотения, чтобы через это
нехотение мы получили доступ 4 к искомой сущности
мышления, которое не есть хотение, или по крайней мере
приготовились бы к этому.
Уч: Вы правы, клянусь богами, сказал бы я, если бы они не
ускользнули от нас, более того, Вы обнаружили нечто
существенное.
Г: Если бы кому-нибудь из нас вообще подобало раздавать
похвалы и если бы это не было противно стилю наших
разговоров, то я бы сейчас сказал, что вы своим
толкованием двусмысленности не-хотения превзошли и нас, и себя
самого.
Уч: То, что мне это удалось, заслуга не моя, а наступившей
между тем ночи, которая подчиняет сосредоточению без
принуждения.
Г: Она оставляет нам время для размышления, замедляя
наш шаг.
Уч: Вот почему мы все еще так далеки от обитания человека.
113
У: А я все безогляднее доверяю тому вожатому, который,
охраняя, незаметно берет нас за руку, или лучше сказать
за слово, в этом разговоре.
Г: И нам нужны это водительство и эта охрана, потому что
разговор наш становится все труднее.
Уч: Если под трудным Вы понимаете то непривычное, которое
состоит в том, что мы отвыкаем от воли 2.
Г: От воли, Вы говорите, а не просто от хотения...
У: И говоря так Вы выдвигаете волнующее и дерзкое
требование.
Уч: Ах, если бы у меня была настоящая отрешенность б, тогда
бы я вскоре был избавлен то этого отвыкания.
Г: По крайней мере, поскольку мы отучимся от хотения, мы
поможем пробудить отрешенность.
Уч: Скорее не проспать ее.
Г: Но почему не пробудить ее?
Уч: Потому что сами мы у себя отрешенность не пробудим.
У: Таким,образом, причина отрешенности приходит откуда-
то извне.
Уч: Не причина, а позволение6.
Г: Хотя я еще не знаю, что означает слово отрешенность, но
догадываюсь примерно так: отрешенность пробуждается,
когда нашей сущности позволяется 6 вступить 4 в нечто,
что не есть хотение.
У: Вы все время говорите о позволении 7, так что возникает
впечатление, что подразумевается некая пассивность.
И все же я думаю, что речь идет вовсе не о том, чтобы
бессильно скользить 8 по плоскости или отдаться течению
волн 9.
Г: Возможно, в отрешенности таится действие, высшее, чем
все дела мира и происки рода человеческого.
Уч: Чье высшее действие все же не активность.
У: Тогда отрешенность лежит — если можно говорить о
лежании — за пределами различения активности и
пассивности...
Г: Потому что отрешенность и не принадлежит к области
воли.
У: Что мне кажется сложным, так это переход из хотения в
отрешенность 10.
Уч: Как же иначе, если сущность отрешенности все еще
сокрыта от нас.
Г: А сокрыта сущность отрешенности прежде всего оттого,
что отрешенность продолжают мыслить в пределах
воли,—- как это происходит у старых мастеров мышления,
например, у Мейстера Экхарта.
Уч: У кого, тем не менее можно многому поучиться.
Г: Конечно, но то, что мы назвали отрешенностью, все же,
по-видимому, не означает отбрасывания греховного
себялюбия и отказа от собственной воли ради воли божьей.
Уч: Да, это что-то другое.
У: Чего для нас не должно означать слово отрешенность, во
многих отношениях мне ясно, но в то же время я все
меньше и меньше понимаю, о чем мы говорим. Ведь мы
пытаемся определить сущность мышления. Какое отношение
отрешенность имеет к мышлению?
Уч: Никакого, если мы постигаем мышление с помощью
принятого до сих пор понятия — в качестве представления.
Все же возможно, что сущность мышления, которую мы
ищем, впущена 4 в отрешенность.
У: Как я ни хочу, не могу я представить себе эту сущность
мышления.
Уч: Это-то ваше хотение и ваше обыкновение мыслить
представляя и мешают.
У: Но что же мне тогда делать?
Г: И я себя об этом спрашиваю.
Уч: Делать ничего не надо — остается лишь ждать.
Г: Это плохое утешение.
Уч: Да мы и не должны ждать никакого утешения — плохого
ли, хорошего ли. Вот погрузившись в безутешное горе —
что бы мы еще сами могли бы сделать? п
У: Скоро я уже совсем перестану понимать, где я и кто я.
Уч: Этого и мы все не знаем, как только перестаем себя
обманывать.
Г: Но все же у нас есть свой путь?
Уч: Разумется, когда же мы забываем его слишком быстро,
мы отказываемся от мышления.
У: Но о чем же мы должны думать, чтобы совершить переход
и вступить в до сих пор не испытанную сущность
мышления?
Уч: О том, откуда только и может произойти такой
переход.
Г: У Вас получается, что можно было бы оставить и прежнее
толкование сущности мышления?
Уч: А Вы забыли, что я говорил в нашем прошлом разговоре о
том, что революционно?
У: Мне кажется, что забывчивость особенно опасна в таких
разговорах.
Г: Теперь, если я правильно понимаю, мы должны увидеть
связь того, что мы назвали отрешенностью, с
обсуждаемой сущностью мышления, хотя мы едва знакомы с этой
115
отрешенностью, а главное не знаем, куда ее следует
поместить.
Уч: Именно это я и имею в виду.
У: В прошлый раз мы рассматривали мышление как транс-
. цендентально-горизонтальное представление.
Г: -Это представление помещает перед нами то, что есть,
например, деревьева в дереве, кувшинова в кувшине,
чашкова в чашке., каменного в камне, растительного в
растении, звериного в звере, как ту перспективу ,2, в которую
мы заглядываем, когда что-то одно противостоит нам в
виде ,3 дерева, что-то другое в виде кувшина, что-то в виде
чашки, многое в виде камня, многое в виде растения и
многое в виде зверя.
У: Горизонт, который вы еще раз описали,— это поле
зрения |4, которое окружает перспективу вещи.
Уч: Он, горизонт, превосходит внешний вид предметов ,3.
Г: Горизонт так же, как и трансцендентность переходит за
границы восприятия предметов.
Уч: Таким образом, мы определяем то, что называется
горизонтом и трансцендентностью, словами превышает и
переходит границы...
Г: которые отсылают нас назад к предметам и к
представлению предметов.
Уч: Таким образом горизонт и трансцендентность видны лишь
с высоты предметов и нашего представления и
определяются лишь в отношении к ним.
Г: Почему Вы делаете на этом ударение?
Уч: Чтобы таким образом подчеркнуть, что нам еще просто не
встретилось то, что позволяет горизонту быть тем, чем
он является.
У: О чем Вы думаете, говоря это?
Уч: Мы говорим, что мы заглядываем в горизонт.
Следовательно, поле зрения u является чем-то открытым, но
открытость эта вызвана не тем, что мы глядим в него.
Г: Также и не мы помещаем в это открытое внешний вид 13
предмета, вид, который представляет нам перспектива 12
поля зрения м...
У: а наоборот, внешний вид предмета выходит нам навстре-
Уч: Таким образом, очевидно, что горизонтность — это
лишь только одна, обращенная 15 к нам сторона некоего
открытого ,6, окружающего нас, открытого, которое
заполнено перспективами ,2 видов |3 того, что нашему
представлению кажется предметом.
У: Итак, горизонт — это еще что-то, кроме того, что он есть
116'
горизонт. В соответствии с тем, что было сказано, это
что-то является другим самому себе и поэтому тем самым,
что оно есть. Вы говорите, что горизонт —- это
окружающее нас открытое. Но что такое это открытое само по себе,
помимо того, что оно может являться нашему
представлению как горизонт? #.
Уч: Для меня оно выступает как край ,7, который своими
чарами возвращает все, что ему принадлежит, туда, где оно
покоится.
Г: Я не уверен, что я хоть что-то понимаю в том, о чем вы
говорите. »
Уч: Я тоже не понимаю, если под словом понимать вы имеете
в виду способность представлять предлагаемое нам как
бы укрытым среди привычного и тем самым находящимся
в безопасности. Тогда и мне не хватает чего-то
привычного, в которое я бы мог поместить то, что я пытался сказать
об открытом как о крае.
У: Вероятно, это потому и невозможно, что названное Вами
краем и будет тем самым, что прежде всего предоставляет
все укрытия.
Уч: Примерно это я и имею ввиду, но не только это.
Г: Вы говорили о каком-то крае, в котором все возвращается
к себе. Строго говоря, край для всего этого — это не один
край среди многих других, но Край всех краев.
Уч: Вы правы, речь идет об этом Крае.
У: И чары этого Края — это власть 18 его сущности, «край-
ствование» ,9, если мне позволительно так именовать это.
Г: Как говорилось, Край будет то, что встречает нас, но ведь
и о горизонте мы говорили, что из очерченной им
перспективы выходит нам навстречу внешний вид предметов.
Если теперь мы поймем горизонт исходя из Края, то
постигнем сам Край как выходящий нам навстречу.
Уч: Таким образом мы опишем Край через его отношение к
нам, как мы только что сделали с горизонтом, в то время
как мы-то ищем, чем будет нас окружающее Открытое
само по себе. Если мы теперь говорим, что это Край, и
говорим это с целью, которую только что оговорили, то слово
это должно означать еще кое-что другое.
У: Более того, выхождение нам навстречу не будет его
главной чертой, а уж подавно и самой главной. Что означает
это слово — Край?
Г: Его старая форма — «Gegnet» — означает открытый
простор 20. Можно ли из этого что-нибудь узнать
относительно сущности того, что мы могли бы именовать Краем?
Уч: Край собирает, как если бы ничего не происходило, всякое
И7
ко всякому и все друг к другу в покоящееся пребывание в
самом себе. Крайствование 19 — это собирание и вновь
укрытие для просторного покоенья 21 всего в течение
отпущенного ему времени 22
Г: Итак, Край сам по себе одновременно будет простором и
временем. Он пребывает в просторе покоенья. Он
простирается 23 во времени того, что свободно повернулось к
себе. Чтобы подчеркнуть этот смысл, мы могли бы
говорить «Gegnet» вместо привычного имени «Край».
Уч: Gegnet — это пребывающий простор, который все
собирает. Он открывает себя так, что в нем открытое
останавливается и задерживается, позволяя всему открываться 24
в своем покое.
У: Насколько мне видно, Gegnet скорее удаляется, чем
выходит нам навстречу...
Г: так что и вещи, которые появляются в Gegnet больше не
имеют свойства ^° предметов.
Уч: Они нам не только больше не противостоят 26, они вообще
больше не стоят.
У: Лежат они, что ли? Как там обстоит с ними дело?
Уч: Да, лежат, если мы под этим подразумеваем тот отдых,
который упоминался, когда шла речь о покоеньи27.
У: Но где они отдыхают? И в чем состоит этот отдых?
Уч: Они отдыхают в возврате ко времени 22 простора 20 своей
самопринадлежности.
Г: Какой же может быть отдых и покой в этом возвращении,
которое все же будет движением?
Уч: А вот и может,— в том случае, если покой — это
средоточие 28 любого движения и господство 18 над ним.
У: Должен признаться, что я не вполне могу представить
себе все то, что вы говорите о Крае, о просторе и о
времени 22, о возвращении и покоеньи.
Г: Возможно, это вообще нельзя представить, поскольку в
представлении все становится предметом, который
противостоит нам в определенном горизонте.
У: Тогда мы по-настоящему не можем описать то, что
назвали?
Нет. Любое описание показывает называемое предметно.
Г: Тем не менее называемое позволяет себя назвать и таким
образом думать о себе, названном...
Уч: в том случае, если мышление не будет больше
представлением.
У: Но чем же тогда оно должно быть?
Уч: Возможно, мы сейчас близки к тому, чтобы быть
впущенными 4 в сущность мышления...
118
Г: ожидая его сущность.
Уч: Когда мы ждем 29 его сущность — да, но не ожидая, так
как ожидание связывается с представлением и с
представляемым. А когда мы ждём, то это выжидание не
направлено на объект.
У: Однако когда мы ждем, мы всегда ждем чего-то.
Г: Конечно, но как только мы представим что-либо и
остановимся на том, чего мы ждем, мы в действительности
больше ничего не ждем.
Уч: Когда мы ждем, мы оставляем открытым то, чего мы
ждем.
Г: Почему?
Уч: Потому что наше выжидание впускается 4 в само
открытое...
Г: в простор дальнего...
Уч: в чьей близости оно находит свое время 22, в котором оно
остается.
У: но оставаясь, оно возвращается.
Г: Само открытое будет тем, чего мы могли бы
по-настоящему только ждать.
У: Но само открытое есть Gegnet...
Уч: в который мы, ждущие, впущены, когда мы мыслим.
У: Тогда мышление — это вхождение в близость дальнего.
Г: Нам выпало на долю смелое определение его сущности.
У: Я лишь сопоставил все, что мы только что назвали, ничего
себе не представляя.
Уч: Все же Вы что-то помыслили.
У: Скорее я на самом деле ждал чего-то, не зная чего.
Г: Но как Вы научились вдруг ждать?
У: Как я сейчас ясно впервые вижу, я уже давно, весь
разговор, ждал прихода сущности мышления. Но выжидание
само стало яснее для меня сейчас, а вместе с тем,
вероятно, в пути мы все стали более ждущими.
Уч: Можете ли вы сказать, как это так?
У: Я бы рад, если мне не будет угрожать опасность, что Вы
будете придираться к словам.
Уч: В наших разговорах мы этого обычно не делаем.
Г: Скорее мы стараемся двигаться среди слов свободно.
Уч: Ведь слово не представляет и не может ничего
представлять, зато оно о-значает нечто, т. е. обнаруживает нечто
как пребывающее в просторе20, допускающем сказ30.
У: Я должен сказать, почему я стал4 ждать и в каком
направлении мне удалось уяснить сущность мышления. Я
попытался освободиться 3l от всякого представления —
ведь выжидание входит в открытое, ничего не представляя.
119
А раз Gegnet открывает открытое, то я попытался,
освободившись от представления, предоставить 32 оставаться
одному Gegnet.
Уч: Следовательно, если я правильно понял за, Вы пытались
войти 4 в отрешенность.
У: Честно говоря, об этом-то я как раз и не думал, хотя перед
этим речь шла об отрешенности. К тому, что я стал 4
ждать так, как мы говорили; меня побудило 34 не
представление отдельных обсуждаемых предметов, а скорее
сам ход35 нашего разговора.
Г: Едва ли можно найти лучший повод 36 для достижения37
отрешенности.
Уч: Особенно, если повод этот так неприметен, как
безмолвный ход разговора, ведущего нас.
Г: Но это означает, что он выводит нас в путьг который
оказывается ничем иным, как отрешенностью...
Уч: которая есть нечто вроде покоя.
Г: С этого места мне вдруг стало яснее, как это
движение выходит из покоя и все же остается впущенным 4 в
него.
Уч: Тогда отрешенность будет не только путем, но и
движением.
Г: Куда идет этот странный путь? И где покоится
соответствующее ему движение?
Уч: Где же, как не в Gegnet, в отношении к которому
отрешенность и является тем, что она есть.
У: Наконец, я должен вернуться назад и спросить: а вообще
была ли это отрешенность, тем, во что я пытался
попасть 4?
Г: Этот вопрос ставит нас в затруднительное положение.
Уч: Но на нашем пути мы постоянно оказываемся в таком
положении.
У: Как это так?
Уч: А так, что если мы обозначили нечто каким-то словом, это
имя на нем никогда ярлыком не висит.
У: То, что мы назвали каким-то словом, было до того
безымянным. Это верно и для того, что мы назвали
отрешенностью. Что же теперь нас направит и даст оценить, как
хорошо имя соответствует обозначаемому?
Г: Или, быть может, каждое обозначение остается
произвольным актом по отношению к безымянному?
Уч: Но точно ли установлено, что безымянное вообще
существует? Есть много такого, что мы не можем сказать 30 лишь
потому, что нам не приходит на ум имя, принадлежащее
предмету.
F: Но в силу какого называния предмет будет обладать
именем?
Уч: Возможно, эти имена произошли не от какого-то
называния. Они обязаны существованием такому называнию, в
котором одновременно высваиваются м называемое, имя
и названное.
У: То, что Вы говорите о назывании, мне пока неясно.
Г: Возможно, это связано с сущностью слов.
У: Однако я понял то, что Вы сказали об обозначении и о
том, что нет ничего безымянного.
Г: А ведь мы могли бы проверить это утверждение и для
имени «отрешенность».
Уч: Или уже проверили.
У: Как это так?
Уч: Что это такое, что Вы назвали отрешенностью?
У: Но позвольте, не я, а Вы употребили это имя.
Уч: Как и Вы, я в столь же малой степени ответственен за
называние.
Г: Кто же это тогда был? Ни один из нас?
Уч: Вероятно, нет. Ведь в крае, в котором мы пребываем,
только тогда все в лучшем порядке, когда за называние
никто не отвечает.
У: Загадочный край, в котором не за что отвечать.
Уч: Ведь это край слов, который лишь сам перед собой держит
ответ.
Г: Нам остается лишь слушать ответ, соответствующий
слову.
Уч: Этого достаточно, даже если мы говорим что-то, что
будет лишь пересказом услышанного ответа...
У: тогда не важно, первый ли это пересказ и кто его делает,
тем более, что человек часто сам не знает, кому он
пересказывает свой сказ.
Г: Поэтому давайте не будем спорить, кто первый ввел в
разговор слово отрешенность, давайте лучше подумаем,
что это такое, что мы так назвали.
У: Как говорит мой опыт, это выжидание.
Уч: Следовательно, это не нечто безымянное,1 но что-то уже
названное. Что такое это выжидание?
У: Поскольку оно относится к открытому, а открытое —
это Gegnet^ постольку мы можем сказать, что
выжидание —- это некоторое отношение к Gegnet.
Уч: Возможно, это даже единственное отношение к Gegnet,
ведь выжидание впускается в Gegnet и при этом впуске 37
дает ему господствовать по-настоящему как Gegnet.
Г: Тогда некоторое отношение к чему-Либо будет настоящим
121
отношением, если оно будет вестись в собственной
сущности того, к чему это отношение ведется.
Уч: Отношение к Gegnet — это выжидание, а ждать
означает — получать доступ 4 в открытое Gegnet.
Г: Следовательно: входить 39 в Gegnet.
У: Это звучит так, как если бы до этого мы были за
пределами Gegnet.
Уч: Это так и в то же время не так. Мы не были и быть не
могли вне Gegnet, ведь мы — мыслящее бытие, т. е. бытие,
которое в то же время и трансцендентально
представляющее, мы пребываем в горизонте трансцендентности.
Но все же горизонт — это лишь сторона Gegnet,
обращенная к нашему представлению. В качестве горизонта
Gegnet окружает нас и показывает нам себя как горизонт.
Г: Мне кажется, как горизонт Gegnet скорее закрывает 40
себя.
Уч: Конечно, но мы все равно находимся в Gegnet, когда
трансцендентально представляя, мы переходим через
горизонт. И все же мы вне его, ведь мы еще в Gegnet как
в таковой не вошли 4.
У: Это и происходит, когда мы ждем.
Уч: Как Вы уже сказали, когда мы ждем, мы освобождены 31
от нашего трансцендентального отношения к горизонту.
У: Эта избавленность 41 от него — лишь первый момент от
решенности, она не постигает и уж, конечно, не
исчерпывает сущности отрешенности.
Г: А почему нет?
Уч: Потому что для настоящей отрешенности необязательно,
чтобы ей предшествовало такое избавление от
горизонтальной трансцендентности.
Г: Если настоящая отрешенность состоит в
соответствующем отношении к Gegnet и если такое отношение
определяется целиком тем, к чему оно есть отношение, то настоя^
щая отрешенность должна покоиться в Gegnet и из него
получать движение к самому Gegnet.
Уч: Отрешенность приходит из Gegnet, ведь она состоит в том,
что человек остается отпущенным 5 для Gegnet, и притом
самим Gegnet. Он отпущен ему в своем бытии, ведь он
изначально принадлежит Gegnet. Он принадлежит Gegnet,
потому что он изначально приспособлен 42 для него, и
притом самим Gegnet.
Г: В самом деле, выжидание — конечно, если оно сущностно,
т. е. все определяет — основано на том, что мы
принадлежим тому, чего мы ждем.
Уч: Из опыта выжидания, причем выжидания самооткрытия
122
Gegnet, и в отношении к такому выжиданию можно
говорить о выжидании как об отрешенности.
Г: Поэтому выжидание Gegnet названо адекватно.
У: Но если до этого господствующей сущностью мышления
было трансцендентально-горизонтальное представление,
от которого отрешенность избавляется, благодаря
принадлежности Gegnet, то теперь мышление превращается
из представления в выжидание Gegnet.
Уч: Все же сущностью этого выжидания будет отрешенность
для Gegnet. Но поскольку именно Gegnet дает
отрешенности принадлежать себе, т. е. в себе покоиться, то
сущность мышления покоится, если так можно сказать, во
властвовании 43 Gegnet в отрешенности.
Г: Мышление — это отрешенность для Gegnet, потому что
его сущность покоится во властвовании над
отрешенностью.
Уч: Но, следовательно, вы утверждаете, что сущность
мышления определяется не самим мышлением и не
выжиданием самим по себе, но чем-то другим, нежели самим
собой, а именно Gegnet, который сущностится и правя 43
сбывается 44.
У: Я могу проследить все, что мы сказали об отрешенности,
Gegnet и властвовании, но при этом я себе ничего не могу
представить. •
Г: Вы и не должны ничего представлять, если Вы помыслите
сказанное в соответствии с его сущностью.
У: Вы имеете в виду, что мы ждем в соответствии с
измененной сущностью мышления.
Г: Ждем призыва 45 Gegnet, чтобы он впустил нашу
сущность в Gegnet, т. е. в свою принадлежность.
Уч: Но если мы уже приспособлены 42 для Gegnet?
У: Разве нам это поможет, если мы по-настоящему-то не
годимся?
Уч: Мы и годимся, и не годимся.
У: Снова бесконечное колебание взад-вперед между да и нет.
У: Мы как бы подвешены между да и нет.
Уч: Наше пребывание в этом промежутке и есть
выжидание.
Г: Сущность отрешенности заключается в том, что в
отрешенности Gegnet43 управляет 43 человеком для Gegnet.
Мы прозреваем сущность мышления как отрешенность.
Уч: Чтобы снова забыть отрешенность так же быстро.
У: Ее, которую я испытал как выжидание.
Уч: Если подумать, то получится, что мышление ни в коем
случае не будет отрешенностью ради нее самой. Отрешен-
123
ность для Gegnet будет мышлением лишь как призыв 4б
отрешенности, впускающий отрешенность в Gegnet.
Г: Но Gegnet дает и вещам покоиться в своем времени
простора. Как же мы можем назвать власть 43 Gegnet по
отношению к вещам?
У: Это не может быть призыв 4б, ведь призыв — это
отношение Gegnet к отрешенности, а отрешенность должна
укрывать в себе сущность мышления, ведь вещи сами не
мыслят.
Уч: Как обнаружилось в нашем прошлом разговоре о
пребывании кувшина в просторе Gegnet, вещи открываются как
вещи, благодаря власти 43 Gegnet. Но одна власть Gegnet
будет причиной вещей в столь же малой степени, как не-
будет верно и то, что Gegnet — причина отрешенности.
Так же как Gegnet в своей власти не является горизонтом
для отрешенности, так не будет он горизонтом и» для
вещей, испытываем ли мы их как предметы или же как
стоящие за предметами «вещи-в-себе».
У: То, что Вы говорите, кажется мне настолько решающим,
что я хочу попытаться закрепить это в ученой
терминологии. Я, конечно, знаю, что мысли застывают в ней, но она
же и возвращает им ту многозначность, которая
неизбежно присуща обиходным выражениям.
Уч: После этой ученой оговорки вы можете спокойно говорить
по-ученому.
Г: Согласно вашему изложению, отношение Gegnet к
отрешенности не является ни причинно-следственной связью,
ни трансцендентально-горизонтальным отношением. Если
сказать короче и в более общей форме, то отношение
между Gegnet и отрешенностью нельзя мыслить ни как
онтическое, ни как онтологическое...
Уч: а только как призыв 45.
У: Точно так же отношение между Gegnet и вещами не будет
трансцендентально-горизонтальным, как не есть оно и
каузальная зависимость. Таким образом, это отношение
также не будет ни онтическим, ни онтологическим.
Г: Но, очевидно, отношение Gegnet к вещи также и не
призыв 45 — призыв относится к сущности человека.
Уч: Но как же тогда мы должны назвать отношение Gegnet
к вещам, при котором он дает им пребывать в нем самом
в качестве вещей?
У: Gegnet обусловливает вещь ради вещи — овеществляет 46
ее.
Г: Тогда лучше всего назвать этЬ отношение
овеществлением 47.
124
У: Но овеществлять — это не вызывать и не делать
возможным в трансцендентальном плане...
Уч: а только овеществлять.
У: Что значит овеществлять, мы еще должны научиться
мыслить...
Уч: учась испытывать сущность мышления...
Г: а следовательно выжидая овеществления и призыва.
У: Для внесения ясности в это множество отношений такое
называние полезно. Все же остается неопределенным
отношение, которое касается меня больше всего. Я имею
в виду отношение человека к вещи.
Г: Почему Вы так настойчиво интересуетесь этим
отношением?
У: Ранее мы стали освещать отношение между Я и
предметом, исходя из фактического отношения мышления в
физических науках к природе. Отношение между Я и
предметом, часто называемое субъектно-объектным
отношением, которое я считаю самым общим, очевидно,
является лишь одним из исторических вариантов отношения
человека к вещи, поскольку вещи могут стать
предметами...
Уч: даже уже стали ими — до того, как достигли 48 своей
сущности.
Г: То же самое произошло и с историческим превращением
человеческой сущности в Я-кость49...
Уч: что произошло точно так же до того, как сущность
человека смогла вернуться к себе...
У: конечно, если мы не станем рассматривать в качестве
окончательной такую чеканку сущности человека как
animal rationale — разумное животное...
Г: что вряд ли возможно после сегодняшнего
разговора.
У: Я не решаюсь разделаться с этим вопросом слишком
быстро. Но что еще мне стало ясно: в отношении Я к
предмету скрыто что-то историческое, что-то
принадлежащее к истории человеческой сущности.
Уч: Поскольку сущность человека получила свою чеканку
не от человека, но от того, что мы называем Gegnet и его
призывом, и происходит 50 история, прогреваемая Вами
как история Gegnet.
У: Так далеко за Вами я еще не могу последовать. Я доволен
уже и тем, что устранена неясность в отношении между Я
и предметом, благодаря пониманию исторического
характера этого отношения! Когда я высказался в пользу
методологического аспекта анализа математического есте-
125
ствознания, Вы сказали, что это рассмотрение должно
быть историческим.
Г: Против этого Вы очень возражали.
У: Теперь-то я вижу, что подразумевалось. Проект
математики и эксперимент коренятся в отношении человека
как Я к вещи как объекту.
Уч: Более того, они-то и составляют это отношение и
развертывают его исторический характер.
У: Если каждое рассмотрение, направленное на
историческое, называется историческим, то действительно,
методологический анализ физики будет историческим.
Г: Здесь понятие исторического означает способ знания и
понимается широко.
Уч: Вероятно, понимается как направленное на историческое,
которое состоит не в случившихся событиях и не в
действиях людей.
Г: И не в культурных достижениях человека.
У: Но в чем же тогда?
Уч: Историческое покоится в Gegnet и в том, что сбывается б0
как Gegnet, который посылая себя человеку,
осуществляет власть над его сущностью.
Г: Эту сущность мы едва ли еще испытали, если, конечно,
она не исполнилась целиком и полностью в
рациональности животного.
У: В таком положении мы можем лишь ждать сущности
человека.
Уч: Ждать в отрешенности, в которой мы принадлежим
Gegnet, все еще скрывающему свою сущность.
Г: Отрешенность для Gegnet мы прозреваем как искомую
сущность мышления.
Уч: Когда мы получаем доступ к отрешенности, мы хотим
нехотения!
У: В действительности отрешенность — освобождение себя
от трансцендентального представления и таким образом
отказ от хотения горизонта. Такой отказ происходит не от
хотения, а если поводом для такого вхождения в
принадлежность Gegnet и должны быть следы желания, то
следы эти в этом впуске исчезают и в отрешенности
стираются совсем.
Г: Но как соотнесена отрешенность с тем, что не есть
хотение?
Уч: После всего, что мы сказали о пребывании в длящемся
просторе, о позволении покоиться в возвращении, о
власти Gegnet, с трудом можно говорить о Gegnet как о воле.
Г: Уже то, что призыв Gegnet и овеществление и всякое
126
произведение и причинение в своей сущности исключают
друг друга, показывает, как решительно чуждо все это
сущности воли.
Уч: Потому что любая воля хочет действовать и желает
действительности в качестве своего элемента.
У: Если бы кто-нибудь нас теперь услышал, то у него легко
бы создалось впечатление, что отрешенность парит в
недействительности и таким образом в ничтожестве и,
будучи сама лишенной силы действовать, является
безвольным позволением всего на свете и в своем основании
отказом от воли к жизни!
Г: Вы считаете необходимым противостоять этому
превратному толкованию отрешенности, показав, насколько в ней
царит нечто, вроде энергии и решимости?
У: Да, я имею в виду это, хотя и понимаю, что все эти имена
неверно обозначают отрешенность как сообразную с
волей.
Г: Тогда надо мыслить, например, слово решимость так, как
это делается в «Бытии и времени» — как
преднамеренную открытость здесь-бытия для открытого...
Уч: которое мы мыслим как Gegnet.
Г: Если в соответствии с греческим способом говорить и
мыслить мы познаем сущность истины как несокры-
тость51, то мы вспомним, что Gegnet, вероятно,— это
сокрытое сбывание 52 истины.
У: Тогда сущность мышления, а именно отрешенность, для
Gegnet, будет решимостью к сбывающейся истине.
Уч: В отрешенности может быть сокрыта такая выдержка 63,
которая основана просто на том, что отрешенности
становится все яснее ее собственная сущность, и отрешен-
во
ность, выдерживая °° ее, стоит на этом.
Г: Это было бы поведение, при котором не важничаешь, но
собираешься в себе, чтобы продолжать свое ведение в
отрешенности.
Уч: Проведенная с такой выдержкой отрешенность была бы
восприятием призыва Gegnet.
У: Это поддерживаемое терпение53, благодаря которому
отрешенность покоится в своей сущности, было бы тем,
чему могло бы соответствовать высшее хотение, и все же
ему оно не должно соответствовать. Для этого покоя
отрешенности в себе самой, который дает ей принадлежать
прямо призыву Gegnet...
Уч: и также некоторым образом овеществлению...
Г: для этой выдержки в себе покоящейся принадлежности
Gegnet у нас все еще нет слова.
127
Г: Возможно слово стояние-внутри могло бы .кое-что
назвать. У одного моего знакомого я как-то прочитал,
несколько строк, которые он где-то списал. Они содержат
объяснение этого слова. Я их запомнил. Они звучат так 54:
Стояние-внутри 55
Не что-то одно истинное,
Но целая для восприятия
Сбывающаяся истина
Для просторного постоянства б6
Приглашает мыслящее сердце
В простое долготерпение
Единственного великодушия
Благородного вспоминания.
Уч: Тогда стояние-внутри отрешенности для Gegnet было бы
истинной сущностью самопроизвольности мышления.
Г: И как следует из цитированных строк, мышление будет
вспоминанием, близким благородному.
Уч: Стояние-внутри отрешенности для Gegnet будет само
благородство.
У: Мне кажется, что эта невероятная ночь соблазнила вас
обоих — помечтать.
Уч: Конечно, если под мечтаньем вы понимаете выжидание,
в котором мы становимся более ждущими и
незаполненными.
Г: Беднее снаружи, но богаче для случая.
У: Пожалуйста, скажите мне в своей странной
незаполненности вот что ещё: каким образом отрешенность может
быть близка благородному?
Г: Благородный это тот, кто имеет происхождение.
Уч: Не только его имеет, но в этом происхождении и
пребывает его сущность.
У: Настоящая же отрешенность состоит вот в чем: человек
в своей сущности принадлежит Gegnet, т.«. оставлен ему.
Г: Не по случаю, а — как мы это скажем — прежде всего
остального.
У: Изначально, с того начала, о котором мы в
действительности не можем мыслить...
Уч: потому что сущность мышления начинается там.
У: Так в незапамятном б7 сущность человека оставлена
Gegnet.
Г: Вот почему мы также сразу добавляем: и притом им
самим.
128
f
Уч: Gegnet приспособил 58 сущность человека для своей
власти.
У: Итак, мы прояснили отрешенность. Но все же мы еще кое-
что упустили обдумать и меня это сразу же удивило:
почему сущность человека приуготована 59 для Gegnet?
Г: Очевидно, сущность человека оставлена Gegnet потому,
что она так сущностно принадлежит Gegnet, что без
сущности человека Gegnet не может сбываться так, он
сбывается.
У: йто трудно помыслить.
Уч: Возможно, этого вообще нельзя помыслить, если мы все
еще хотим представлять это, а именно насильно поместить
перед нами как предметно существующее отношение
между предметом, называемым человеком и предметом,
называемым Gegnet.
У: Возможно, это так. Тем не менее не остается ли, хотя мы
и обратили на это внимание, еще непреодоленная
трудность в утверждении о сущностном отношении сущности
человека к Gegnet? Мы только что охарактеризовали
Gegnet как сокрытую сущность истины. Если' для
краткости мы поставим вместо Gegnet слово истина, то
предложение об отношении между Gegnet и сущностью
человека будет звучать так: сущность человека передана в
собственность истине, потому что» истина нуждается в
человеке. Но разве отличительное свойство истины, а
именно в отношении к человеку, не заключается в том, что
истина независимо от человека есть то, что она есть?
Г: Вы здесь затрагиваете трудность, которую мы сможем
обсудить лишь после того, как мы объясним собственно
сущность истины и определим яснее сущность человека.
Уч: Мы теперь на пути и к тому, и к другому, тем не менее я
бы попытался перефразировать утверждение об
отношении истины к человеку, чтобы стало еще яснее, о чем мы
должны еще поразмышлять, если мы рассмотрим это от-;
ношение само по себе.
У: Но то, что вы сейчас скажете об этом, будет всего лишь
утверждением.
Уч: Несомненно, я это и имею в виду: сущность человека
впущена в Gegnet и соответственно используется последним,
только потому, что человек сам по себе не властен над
истиной и истина остается независимой от него. Истина
может выступать независимо от человека только потому,
что сущность человека как отрешенность для Gegnet
используется последним как в призыве, так и для
сохранения овеществления. Очевидно, независимость истины от
5 М. Хайдеггер
129
человека все же будет отношением к сущности человека,
отношением, которое покоится на призыве человеческой
сущности в Gegnet.
Г: Если бы это было так, то человек как стоящнй-внутри
отрешенности для Gegnet пребывал бы в истоках своей
сущности, которую мы поэтому могли бы описать так:
человек есть используемый в сущности истины. И таким
образом, пребывая в своих истоках, человек бы влекся к
благородному своей сущности. Он догадывался бы о
благородстве.
У: Его догадывание вряд ли могло быть чем-нибудь другим,
кроме как выжиданием, которое мы помыслили как tn-оя-
ние-внутри отрешенности.
Г: Итак, если бы Gegnet был пребывающим простором,
терпение бы протянулось дальше всего — оно бы смогло
догадаться еще и о самом просторе времени, потому что
долготерпение может ждать дольше всего. ,
Уч: Терпеливое благородство было бы чистым покоеньем в
себе такого хотения, которое, отвергая хотение, получило бы
доступ к тому, что не есть воля.
Г: Благородство было бы сущностью мышления и таким
образом благодарения.
Уч: Того благодарения, которое благодарно не только за что-
то, но лишь за то, что можно благодарить.
Г: С этой сущностью мышления мы бы нашли то, что искали.
У: В том случае, если мы нашли То, в чем, по-видимому,
покоится все Сказанное в нашем разговоре. Это сущность
Gegnet.
Уч: Раз мы этот случай только предположили, то давайте
добавим, что мы говорили, как Вы, возможно, заметили,
уже давным-давно лишь предположительно.
У: Все равно, я больше не могу скрывать: мне кажется, что
в то время как его сущность приблизилась, Gegnet еще
дальше от нас, чем когда-либо.
Г: Вы имеете в виду, что Вы находитесь в близости его
сущности и все же от него самого далеки?
У: Но Gegnet и его сущность не могут быть двумя разными
вещами, если здесь можно говорить о вещах.
Г: Само Gegnet'a, вероятно, и есть его сущность и то же Ga-
мое, что он сам.
Уч: Тогда, наверное, можно выразить наш опыт в течение
нашего разговора, сказав, что мы входим в близость
Gegnet'a и в то же время остаемся далеко от него таким
образом, что оставание это, разумеется, будет
возвращением.
130
Г: Но Вашими словами была бы названа лишь сущность
выжидания и отрешенности.
У: Но как тогда обстоит дело с близостью и далью, внутри
которых Gegnet дает просвет и закрывается,
приближается и удаляется?
Г: Эта близость и даль не могут быть вне Gegnet'a.
Уч: Потому что Gegnet, управляя всем, собирает все друг
к другу и дает всему вернуться к себе самому в своем
покоении в том же самом.
У: Тогда Gegnet был бы самим Приближающимся и
Удаляющимся. v
Г: Gegnet был бы самой близостью дали и далью
близости...
У: причем это свойство не следует мыслить диалектически...
Уч: а как?
У: В соответствии с сущностью мышления как
определяемого единственно из Gegnet'a.
Г: И таким образом ждущего, стоя-внутри отрешенности.
Уч: Но что же тогда было бы сущностью мышления, если
— это близость дали?
Г: Возможно, на это нельзя ответить одним словом. Правда,
я знаю одно слово, которое до последнего момента
казалось мне подходящим для наименования сущности
мышления и соответствующего этому знания.
У: Хотелось бы его услышать.
Г: Это слово пришло мне в голову еще при нашем первом
разговоре. Эту догадку я и имел в виду, когда заметил
в начале нашего сегодняшнего разговора, что нашему
первому разговору на проселочной дороге я обязан
ценным толчком. И несколько раз в ходе сегодняшнего
разговора меня таки тянуло предложить это слово, но каждый
раз мне казалось, что оно все меньше и меньше подходит
для того, что приближалось к нам как сущность
мышления.
У: Вы говорите о своей догадке так таинственно, как будто
не хотите выдавать раньше времени нечто
Самообнаруживающееся.
Г: Слово, о котором я думаю,^я не сам открыл, это просто
домысел гуманитария.
У: И таким образом, если можно так сказать, историческое
вспоминание?
Г: Если вам так угодно. Это вспоминание было бы вполне в
стиле нашего сегодняшнего разговора, в ходе которого мы
часто привлекали слова и предложения, происходящие из
' мышления античности. Но теперь это слово больше не
5*
131
подходит для того, что мы пытаемся «азвать одним
словом.
Уч: Вы имеете в виду сущность мышления, которая как
внутри-стоящая отрешенность для Gegnet есть по своей
сущности человеческое отношение к Gegnet, который мы
прозреваем как близость дали.
У: Даже если это слово и не подходит, вы можете разгласить
его нам в конце'нашего разговора, поскольку мы уже
снова близки к человеческому обитанию и в любом случае
должны прервать нашу беседу.
Уч: И даже если это слово, ранее казавшееся вам ценной
догадкой, больше не подходит, оно могло бы прояснить
нам, что между тем мы встретились с чем-то несказанным.
Г: Это слово -г изречение Гераклита.
У: Из какого фрагмента вы его взяли?
Г: Это слово пришло мне на ум потому, что оно стоит само по
себе. Это то слово, которое одно составляет фрагмент 122.
У: Мне неизвестен этот кратчайший из фрагментов
Гераклита.
Г: Его обычно не замечают, потому что трудно что-то
сделать с одним словом.
У: Как звучит этот фрагмент?
Г: 'Аухфшпг).
У: Что это означает?
Г: Это греческое слово переводится как «приближение к
чему-то».
У: Мне это слово кажется прекрасным именем для
обозначения сущности знания, потому что сущность хождения
перед и подхода к предметам в нем выражена очень метко.
Г: И мне так показалось. Вот почему оно и пришло мне на ум
в первом разговоре, когда мы говорили о действии, о
достижении, о работе современного научного знания и
прежде всего исследования.
У: Действительно, это слово можно использовать, чтобы
прояснить тот факт, что исследование в естественных
науках является особого рода наступлением на природу,
но таким, которое все же дает природе слово.
'AvxiPctairj — приближение к чему-то. Я бы счел это
слово Гераклита ключевым для трактата о сущности
современной науки.
Г: Поэтому-то я и не решался пока его произнести, поскольку
оно не подходило целиком и полностью к той сущности
мышления, о которой мы высказывали догадки по дороге.
У: Ведь когда мы ждем, мы движемся, разумеется,
противоположно приближению, почти ему навстречу.
132
Г: Если не сказать, что мы покоимся в ответ на приближение.
Уч: Или просто покоимся. Окончательно ли установлено, что
*Ay%i^aair\ означает приближение к чему-то?
Г: Дословно оно означает «хождение-вблизи»?
Уч: Но ведь можно подумать о нем как о «вхождении-в-бли-
зость».
У: Вы имеете в виду, что это буквально в смысле «впускаясь-
в-близость»?
Уч: Примерно так.
Г: Тогда это слово все же могло бы сгать именем и,
возможно, наилучшим для того, что мы обнаружили.
Уч: Но что в его сущности мы все еще ищем.
Г: 'AvxiPaoHri — «вхождение-в-близость». Скорее это слово
могло бы быть, как мне теперь кажется, именем для нашей
прогулки по проселочной дороге.
Уч: Которая увела нас глубоко в ночь...
У: сияющую все великолепнее...
Г: и удивляющую своими звездами...
Уч: потому что ночь сближает ь0 их в небесах...
У: по крайней мере для наивного наблюдателя, хотя и не для
точного ученого.
Уч: Для ребенка в человеке ночь всегда останется швеей 6!
звезд.
Г: Она сшивает их без швов, без рубцов и ниток.
У: Она швея, потому что она работает только с близостью.
Г: Если она вообще работает... Уж скорее отдыхает...
Уч: удивляясь при этом глубинам высот.
Г: Тогда удивление может открыть закрытое?
У: В соответствии с выжиданием...
Уч: если оно отпущено...
Г: и если человеческая сущность остается годной для того...
Уч: откуда мы все вызваны.
Что значит
мыслить?
Washeifit
Denken?
Мы попадаем в то, что называется
мышлением, когда мыслим сами. Чтобы нам это удалось, мы
должны быть готовы учиться мыслить.
Как только мы принимаемся за это учение, мы сразу
понимаем, что мыслить мы не можем. Но все же человек
считается, и по праву, таким существом, которое может мыслить.
Ибо человек — это существо разумное. Но разум, ratio,
развертывается в мышлении, Будучи существом разумным,
человек должен уметь мыслить, раз уж он хочет этого. Однако
человек хочет мыслить, но не может. Пожалуй, человек своим
хотением мыслить хочет слишком много, и поэтому может
слишком мало.
Человек может мыслить, поскольку он имеет возможность
для этого. Но одна лишь эта возможность еще не гарантирует
нам, что мы можем мыслить. Потому что мочь что-то — значит
допустить это что-то в его сущность и неотступно охранять
открытым этот доступ. Однако мы можем всегда лишь то, что
нам желанно 2, то, к чему мы так расположены, что его
допускаем. На самом деле нам желанно лишь то, чему мы сами
желанны, желанны в нашей сущности. При этом это что-то
склоняется к нашей сущности и таким образом затребывает
ее. Эта склонность — обращение. Оно зовет нашу сущность,
вызывает нас в нашу сущность и таким образом держит нас
в ней. Держать означает собственно охранять. Но то, что
держит нас в нашей сущности, держит нас лишь пока мы,
с нашей стороны, сами удерживаем держащее нас. А мы
удерживаем его, пока мы не выпускаем его из памяти. Память —
Перевод с издания: Heidegger Martin. Was heifit Denken? // Vortrage
und Aufsatze. Gunther Neske. Pfullingen, 1954. S. 129—143 '.
© А. С. Солодовникова, перевод, 1991.
134
это собрание мыслей. Мыслей о чем? О том, что держит>нас
в нашей сущности постольку, поскольку мы его мыслим. В
какой мере мы должны мыслить держащее нас? А в той, в какой
оно испокон века является тем, что должно осмысляться 3.
Когда мы осмысляем его, мы одариваем его воспоминанием 4.
Мы отдаем ему воспоминание, потому что оно желанно нам
как зов нашей сущности.
Мы можем мыслить только тогда, когда мы желаем того,
что должно в себе осмысляться.
Чтобы нам попасть в это мышление, мы, со своей стороны,
должны учиться мыслить. Что значит учиться? Человек
учится, когда он приводит свой образ действия в соответствие
с тем, что обращено к нему в данный момент в своей сущности.
Мыслить же мы учимся, когда мы подчиняем свое внимание
тому, что нам дается для осмысления.
Наш язык называет то, что принадлежит к сущности друга
и из нее происходит, дружеским 5. Соответственно; мы будем
называть то, что в себе должно осмысляться, требующим
осмысления 6. Все, требующее осмысления, дает нам мыслить.
Но оно только потому и дарует нам этот дар, что искони
является тем самым, что должно осмысляться. Поэтому отныне мы
будем называть то, что дает нам мыслить постоянно, ибо раз
и навсегда, то, что дает нам мыслить, прежде всего остального
и таким образом навечно, более всего требующим
осмысления 7.
Что же более всего требует осмысления? В чем проявляется
оно в наше требующее осмысления время?
Требующее осмысления проявляет себя в том, что мы еще
не мыслим. Все еще не мыслим, хотя состояние мира все
настоятельнее требует осмысления. Правда, кажется, ход событий
способствует скорее тому, чтобы человек действовал, вместо
того, чтобы произносить речи на конференциях и конгрессах,
и вращаться в одних лишь представлениях о том, что должно
быть и как нужно это сделать. Следовательно, не хватает
действия, а ни в коем случае не мышления. г
И все же, возможно, что человек до сих пор веками
слишком много действовал и слишком мало мыслил.
Но как же можно сегодня говорить, что мы еще не мыслим,
сегодня, когда к философии наблюдается живой интерес везде,
который становится бее более деятельным, так что каждый
хочет знать, как там обстоят дела с философией.
Философы — это мыслители. Они называются так, потому
что мышление происходит главным образом в философии.
Никто не будет отрицать сегодняшнего интереса к философии.
Но осталось ли сегодня еще хоть что-нибудь, чем бы не интере-
135
совался человек в том смысле, в котором понимается
сегодняшним человеком слово «интересоваться»?
Inter-esse значит: быть среди вещей, между вещей, нахо- •
диться в центре вещи и стойко стоять при ней. Однако
сегодняшний интерес ценит одно лишь интересное. А оно таково,
что может уже в следующий момент стать безразличным
и смениться чем-то другим, что нас столь же мало касается.
Сегодня нередко люди считают, что, находя какую-то вещь
интересной, они удостаивают ее своим вниманием. На самом
же деле такое отношение принижает интересное до уровня
безразличного и вскоре отбрасывает как скучное.
Интерес, проявляемый к философии никоим образом не
свидетельствует о готовности мыслить. И то, что мы годами
упорно занимаемся сочинениями великих мыслителей, еще не
гарантирует того, что мы мыслим или хотя бы готовы учиться
мыслить. Занятие философией может даже создать нам
стойкую иллюзию того, что мы мыслим, раз мы «философствуем».
Все же утверждение, что мы еще не мыслим, кажется
дерзким. Однако оно звучит иначе. Оно говорит: более всего
требующее осмысления проявляется в наше требующее
осмысления время в том, что мы все еще не мыслим. В этом
утверждении указывается, что более всего требующее осмысления
проявляет себя. Это утверждение ни в коем случае не догова*
ривается до того, что видит повсюду лишь господство
бездумности. Утверждение, что мы еще не мыслим, не хочет и
заклеймить какое-то упущение. Требующее осмысления — это то, что
дает мыслить. Оно зовет нас, чтобы мы к нему повернулись,
а именно — мысля. Требующее осмысления ни в коем случае
не создается нами. Оно ни в коем случае не основано на том,
что мы его представляем. Требующее осмысления дает — оно
дает нам мыслить. Оно дает нам то, что имеет в себе. Оно
имеет то, что есть оно само. То, что более всего из себя самого
дает нам мыслить, более всего требующее осмысления, должно
проявлять себя в том, что мы все еще не мыслим. Что же теперь
говорит нам это? Оно говорит: мы еще не попали намеренно
в сферу того, что исконно может мыслиться прежде всего
остального и для всего остального. Почему же мы туда еще не
попали? Быть может, потому, что мы, люди, еще недостаточно
повернулись к тому, что по-прежнему требует осмысления?
Тогда то, что мы еще не мыслим, было бы только упущением со
стороны людей. Тогда нужно было бы устранить этот
недостаток применением к человеку надлежащих мер.
То, что мы все еще не мыслим, никоим образом не
обусловлено лишь тем, что человек недостаточно повернулся к тому,
что может мыслиться от него самого. То, что мы все еще не
136
мыслим, скорее идет от того, что то, что должно осмысляться,
само отвернулось от человека, более того, уже давно
отвернувшись, сохраняет это положение.
- Но мы немедленно захотим узнать, когда же и как
произошло отворачивание, которое имеется здесь в виду? Прежде
всего мы жаждем узнать, как же мы вообще можем знать
о таком происшествии. Вопросы такого рода слишком
опрометчивы — ведь мы говорим о более всего требующем
осмысления: то, что, собственно, нам дано для того, чтобы мы его
осмыслили, отвернулось от человека не в какой-то момент
времени, допускающий историческую датировку, но уже с
самого начала то, что требует осмысления, отворотившись,
поддерживает такое состояние. Однако отворачивание
происходит лишь там, где уже случилось поворачивание. Если то,
что более всего требует осмысления, и продолжает
отворачиваться, то это происходит уже внутри его поворота и возможно
только внутри поворота, т. е. так, что оно уже дало нам
мыслить. То, что требует осмысления, хотя и отворачиваясь, но
все-таки уже обратилось к сущности человека. Поэтому
человек нашей истории уже всегда мыслил сущностно. Он даже
мыслил глубочайшее. То, что требует осмысления, остается
вверено этому мышлению, хотя и особым образом. А именно:
до сих пор мышление вовсе не осмыслило, что то, что должно
мыслиться, при этом все же удаляется и как оно удаляется.
Но все же о чем идет речь? Разве не будет произносимое
лишь цепочкой необоснованных утверждений? Где
доказательства? Имеют ли выдвигаемые положения хоть какое-
нибудь отношение к науке? Было бы хорошо, если бы мы как
можно дольше продержались в такой оборонительной позиции
по отношению к тому, что говорится. Лишь так мы сохраним
необходимое для разбега расстояние, с которого кому-нибудь
из нас удастся совершить прыжок в мышление того, что более
всего требует осмысления.
Потому что верно следующее: все сказанное ранее и все
последующее обсуждение не имеют ничего общего с наукой,
если, конечно, оно посмеет стать мышлением. Это положение
дел основывается на том, что наука не мыслит. Она не мыслит,
ибо ее способ действия и ее средства никогда не дадут ей
мыслить — мыслить так, как мыслят мыслители. То, что наука не
может мыслить,— это не ее недостаток, а ее преимущество.
Лишь это одно дает ей возможность исследовательски войти
в теперешнею предметную сферу и поселиться в ней. Наука не
мыслит. Для обычных представлений это утверждение
неприлично. Оставим этому утверждению * его неприличный
характер, хотя сразу добавим, что наука, как и все действия
137
человека, зависима от мышления. Отношение науки к
мышлению лишь тогда истинно и плодотворно, когда становится-
видна пропасть, существующая между наукой и мышлением,
притом такая пропасть, через которую невозможен мост. От «
науки в мышление нет мостов, возможен лишь прыжок. А он
принесет нас не только на другую сторону, но и в совершенно
другую местность. То, что с ней откроется, нельзя доказать,
если доказать — это произвести вывод о некотором положении .
дел из подходящих посылок. Тот, кто хочет то, что явно,
поскольку оно само является, одновременно прячась, кто хочет
это еще и доказать и иметь доказанным, тот судит отнюдь не по
высшим и строгим меркам знания. Тот меряет все лишь одной
меркой и притом неподходящей. Ибо и мы будем
соответствовать тому, что обнаруживает себя лишь в том, что оно
является в самосокрытии 8; мы-то можем соответствовать ему
одним-единственным способом: указать на него и при этом
приказать самим себе дать явиться тому, что показывает себя,
в свойственной ему несокрытости 9. Это простое показывание
и есть главная черта мышления, путь к тому, что искони и
навсегда дает людям мыслить. Доказать, т. е. вывести из подхо*
дящих предпосылок, можно все. Но лишь немногое позволяет,
и притом очень редко, показать на себя таким указанием,
которое освободило бы ему дорогу.
^Более всего "требующее осмысления проявляет себя в наше
требующее осмысления время в том, что мы все еще не
мыслим. Мы все еще не мыслим, потому что то, что требует
осмысления, отвернулось от человека, а отнюдь не потому, что
человек недостаточно повернулся к тому, что требует
осмысления. То, что требует осмысления, отворачивается от человека.
Оно уклоняется от него, скрываясь. Но скрывающееся уже
постоянно пребывает перед нами. То, что удаляется, так себя I
скрывая, не исчезает. Но все же, как мы можем знать хоть что-
то о том, что так ускользает? Как же так получилось, что мы
хотя бы можем назвать его? То, что удаляется, отказывает в
приходе. Да только самоудаление это — не ничто. Удаление —
это здесь проявляющееся утаивание, и, как таковое, событие.
То, что удаляется, обращается к человеку более сущностно, и,
взыскуя, затребывает его глубже, чем любое сущее, которое
его касается и к которому он отнесен. Эта отнесенность к
действительному охотно принимается за то, что составляет
действительность действительного. Но эта отнесенность к
действительному как раз и может закрыть человеку путь к тому,
что обращается к нему, обращается неким таинственным
образом, так, что это обращение отвращается от человека,
уклоняясь. Поэтому этот уход, самоудаление того, что должно
138
осмысляться, быть может, в настоящее время современнее как
событие, чем все актуальное.
Правда то, что избегает нас описанным способом, уходит
от нас. Но оно как раз увлекает и нас за собой и по-своему
притягивает нас, пленяя. То, что уклоняется, кажется
совершенно отсутствующим. Но эта видимость вводит в
заблуждение. То, что удаляется, прибывает 10, а именно.таким образом,
что оно притягивает нас, пленяя, замечаем ли мы это сразу или
вообще не замечаем. То, что нас притягивает, уже исполнило
приход. Когда мы попадаем в тяготение ухода, мы
оказываемся в тяге к тому, что нас притягивает, уклоняясь при этом.
Но раз мы втянуты в тяг к... тянущему нас, то и сущность
наша уже отчеканена, а именно: через это «в тяге к...».
Отчеканенные так, сами мы указываем на самоудаляющееся. И
вообще мы только тогда есть мы, мы сами, такие, какие мы есть,
когда мы указываем в это самоудаление. Это указывание —
наша сущность. Мы есть, тем что мы указываем в уход. Как
указывающий туда, человек есть указатель. И притом дело
обстоит не так, что человек есть прежде всего человек, а потом,
помимо этого, ещё случайно и указатель, но втянутый в
самоудаление, в тяг в него, и таким образом указывая в уход,
впервые и становится человек человеком. Его сущность
основывается в том, чтобы быть таким указателем.
То, что само по себе, по своему глубочайшему составу,
является чем-то указывающим, мы называем знаком.
Втянутый в тяг самоудаления, человек есть знак.
Однако этот знак указывает на то, что уклоняется, поэтому •
этот указатель не может непосредственно обозначить то, что
отсюда удаляется. Так знак остается без толкования.
В наброске к одному гимну Гельдёрлин говорит:
«Знак бессмысленный мы,
Мы не чувствуем боли и почти
Потеряли язык на чужбине».
Наброски к этому гимну носят такие названия, как:
«Змея», «Нимфа», «Знак», а также «Мнемозина». Мы можем
перевести,это греческое слово на немецкий язык как «память».
В немецком языке слово «память» среднего рода. В немецком
языке слова «die Erkenntnis» (сознание), «die Befugnis»
(право) — женского рода, а слова «das Begrabnis» (могила)
и «das Geschehnis» (происшествие) — среднего. У Канта
слово «Erkenntnis» (познание, сознание), то женского рода, («die
Erkenntnis»), то среднего рода («das Erkenntnis»). Мы,
следовательно, можем без особого насилия перевести \ivr\yioavvr\
139
в соответствии. с греческим женским родом как «die Geeta
clitnis» (память — с артиклем женского рода).
Это греческое слово \ivr\\ioovvr\ — имя одной'из тит'анид.
Она дочь неба и земли. Мнемозина как невеста Зевса в девять
ночей стала матерью муз. Драма и танец, пение и поэзия
вышли из чрева Мнемозины, памяти. Очевидно, это слово
называет нечто иное, чем просто психологически понимаемую
способность удерживать прошедшее в представлении. Память
мыслит о помысленном. Но имя матери муз означает не любое
мышление о чем угодно, что можно помыслить. Память
здесь — это собрание мыслей о том, что помысленно уже
заранее, ибо оно может мыслиться постоянно и прежде всего
остального. Память — это собрание воспоминаний о том, что
должно осмысляться прежде всего другого. Это собрание
прячет в себе и укрывает у себя то, что всегда следует мыслить
в первую очередь, все, что существует и обращается к нам,
зовет нас как существующее или побывшее. Память,
собранное воспоминание о том, что требует осмысления,— это
источник поэзии. Соответственно этому, и сущность поэзии имеет
основание в мышлении. Об этом говорит нам миф, т. е.
сказание. Его сказывание называет самое старое, самое раннее не
только в смысле отсчета времени, но и потому, что оно по
самой своей сущности было, есть и будет более всего
достойным мышления. Конечно, пока мы представляем мышление со
слов логики, пока мы всерьез не поймем, что сама логика уже
основывается на определенном виде мышления, до тех пор нам
не удастся увидеть, каким же образом поэзия основывается
в воспоминании.
Все, сказанное в поэзии, берет начало из вспомянутого
воспоминания. Под заголовком «Мнемозина» Гельдерлин
говорит:
«Знак бессмысленный мы...»
Кто — мы? Мы, сегодняшние люди, люди сегодня, которое
длится уж с давних пор (и еще долго продлится), с таких
давних пор, что история уже не может указать границу —
начало. В том же гимне «Мнемозина» говорится «Давно
длится время» — а именно то время, когда мы — знак
бессмысленный. Разве недостаточно дает помыслить то, что мы —
знак и при этом бессмысленный? Возможно, эти последующие
слова Гельдерлина относятся к тому же, в чем показывает нам
себя более всего требующее осмысления, к тому, что мы все
еще не мыслим. Тогда то, что мы еще не мыслим, основано на
том, что мы — знак бессмысленный и не чувствуем боли, или,
быть может, мы — знак бессмысленный и не чувствуем боли,
140
поскольку мы еще не мыслим? Если^ верно последнее, то
мышление оказалось бы тем, через что первоначально смертным
была бы дарована боль и через мышление получил бы смысл
знак, которым они являются. Это мышление впервые ввело бы
нас в диалог с поэзией и поэтами, чьи изречения, как ничто
иное, ждут отклика в мышлении. Но если мы и отважились
ввести слово поэзии Гельдерлина в сферу мышления, то нам
все же следует остеречься того, чтобы необдуманно
приравнивать то, что сказано в поэзии Гельдерлина, и то, что мы соби-
рались помыслить. Сказанное поэтом и сказанное мыслителем
никогда не одно и то же. Но и то, и другое могут говорить
различными способами одно. Это удается, правда, лишь тогда,
когда пропасть между поэзией и мышлением зияет ясно и
определенно. Это происходит, когда поэзия высока, а мышление
глубоко. Что об этом знал Гельдерлин, мы можем заключить
из двух его строф, озаглавленных
«Сократ и Алкивиад»
«Почему преклоняешься ты, о блаженный Сократ,
Перед юношей этим? Неужели на свете благороднее нету
его?
Почему же с любовью, как на бога,
На него ты взираешь?»
Ответ дает вторая строфа:
«Лишь тот, кто глубины помыслил, полюбит живое, v
Высокую юность поймешь лишь тогда, когда свет
поглядишь.
И часто к исходу склоняется мудрый к прекрасному.»
К нам имеет отношение строка:
«Лишь тот, кто глубины помыслил, полюбит живое». Но мы
слишком легко можем пропустить в этой строчке
по-настоящему сказывающие и потому главные слова. Сказывающие
слова — это глаголы. Мы сможем их услышать, если сделаем
на них ударение иным, не обычным для слуха способом:
«Лишь тот, кто глубины помыслил, полюбит живое».
Непосредственная близость глаголов «мыслит» и «любит»
образует середину строки. Следовательно, любовь основана на
том, что мы помыслили глубочайшее. Такая помысленность
происходит, вероятно, из той памяти, на мышлении которой
основывается даже поэзия, а вместе с ней и все искусства.
Однако, что же значит мыслить? Что значит, например,
плавать, мы узнаем не из руководства по плаванию. Что значит
плавать, нам скажет прыжок в реку. Только так мы впервые
141
и узнаем стихию, в которой должно происходить плавание. Но
какова же та стихия, в которой" происходит мышление?
Если верно утверждение, что мы ещё не'мь1сли№,~то оно
говорит в то же время и то, что наше мышление еще не
двигается специально в свойственной ему стихии, а именно потому,
что то, что требует осмысления, уклоняется от нас. То, что
таким образом от нас скрывается и поэтому остается непо-
мысленным, сами мы не можем заставить явиться, даже в том
благоприятном случае, если мы уже отчетливо предуготовили
мыслью пути и тому, что от нас утаивается.
Итак, нам остается лишь одно, а именно: ждать, пока то,
что должно мыслиться, обратится к нам. Однако ждать здесь
никоим образом не означает, что мы пока еще откладываем
мышление. Ждать здесь означает: в уже помысленном
высматривать непомысленное, которое все еще скрыто внутри
уже помысленного. Если мы так его ждем, то мы уже мыслим
находясь в пути к тому, что должно мыслиться. На этом пути
можно и заблудиться. Но все же лишь один этот путь настроен
так, чтобы отозваться тому, что дано нам для осмысления.
Но все же почему мы вообще должны заметить то, что
с самого начала, прежде всего остального дает человеку
мыслить? Как может показать себя нам более всего требующее
осмысления? А сказано было: более всего требующее
.осмысления проявляет себя в наше требующее осмысления время
в том, что мы все еще не мыслим, не мыслим так, чтобы
специально отозваться тому, что более всего требует осмысления.
До сих пор мы не вошли в собственную сущность мышления,
чтобы поселиться там. В этом смысле мы еще не мыслим по-
настоящему. Но это как раз означает: мы уже мыслим, но нам,
вопреки всей логике, еще не доверена собственно стихия,
в которой по-настоящему мыслит мышление. Поэтому мы
знаем еще недостаточно, в какой же стихии происходит до сих
пор мышление, поскольку оно является мышлением. Главная
черта мышления, существовавшего до сих пор,— это
восприятие. Способность к этому называется разумом.
Что же воспринимает разум? В какой стихии пребывает
восприятие, так что через него происходит мышление?
Восприятие — это перевод греческого слова voerv, что означает:
заметить какое-то присутствующее, замечая, взять его перед
собой и принять как присутствующее. Это берущее-перед-
собой-восприятие есть представление в простом, широком
и одновременно сущностном смысле, в котором мы даем
присутствующему стоять и лежать перед нами так, как оно стоит
и лежит.
В трактовке мышления Парменидом (тем раннегреческим
142
мыслителем, который до сих пор в значительной степени
определяет сущность западноевропейского мышления) на первом ,
месте ни в коем случае не стоит то, что единственно мы бы
и назвали мышлением. Напротив определение сущности мыш-^
л»ения основывается прямо на том, что отныне будет
решающим дли его сущности, на том, что воспринимает мышление
как восприятие, а. именно на сущем в его бытии.
Парменид говорит (Фрагм. VIII, 34/36):
TOOXOV 6*80X1 V081V Т8 XCW oSv8X8V 80~Tt
voT)|xa. ov уад avev Той eovxog, ev cot леерах ia
\ievov eaxiv, eugfjaeig то voexv.
«Ведь то же самое есть восприятие и то,
ради чего оно (восприятие) есть.
Ибо без бытия сущего, в котором
сказалось оно (т. е. восприятие),
восприятия тебе не найти».
Из этих слов Парменида выходит на свет следующее:
мышление получает свою сущность — восприятие — из бытия
сущего. Но что же означает бытие сущего? Что же означает
оно и здесь, и для греков, и для всего западноевропейского
• мышления — до самой последней поры? Ответ на этот вопрос,
который до сих пор не был поставлен из-за того, что он
слишком прост, звучит так: бытие сущего означает присутствие !2
присутствующего, наличие наличествующего. Этот ответ —
прыжок в неизвестное.
То, что воспринимает мышление как восприятие,— это
наличествующее в его наличии. По нему — наличию —
мышление и снимает мерку для своей сущности — для восприятия.
Следовательно, мышление — это предъявление 13
наличествующего, которое вручает нам присутствующее в его
присутствии и ставит его перед нами, чтобы мы могли стоять перед
присутствующим и стойко выносить это стояние внутри
присутствия. Как такое предъявление, мышление вручает нам
присутствующее, восстанавливает его в отношении к нам.
Поэтому предъявление — это ре-презентация. Слово гергае-
sentatio — это более позднее общепринятое название для
представления.
Главная черта существовавшего до сих пор мышления —
это представление. По древнему учению о мышлении,
представление происходит в Xovog, это слово здесь означает
высказывание, суждение. Поэтому учение о мышлении, о
^vog, называется логикой. Кант просто принимает традици-
143
онную характеристику мышления — представление, когда он
определяет основной акт мышления, суждение как представле:.
ние представления предмета (Критика чистого разума.» А. 68,
В. 93). Например, когда мы высказываем суждение «Этот путь
„ каменист», в этом суждении представление предмета, т. е.
пути, представляется с определенной стороны представления,
а именно со стороны каменистости.
Главная черта мышления — это представление. В
представлении развертывается восприятие. Само представление —
это ре-презентация. Почему же мышление основывается на
восприятии? Потому ли, что восприятие развертывается в
представлении? Почему представление — это ре-презентация?
Философия ведет себя так, как будто бы здесь не о чем
спрашивать.
Но то, что мышление до сих пор основывается на
представлении, а представление — на ре-презентации, все это
имеет давнее происхождение. Оно скрывается в невзрачном
событии: в начале истории Западной Европы бытие сущего
явилось для всего ее течения как наличность, как присутствие.
Это явление бытия как присутствие присутствующего само
и есть начало ,4 западноевропейской истории, если, конечно,
мы представляем историю не как одни только происшествия,
а мыслим ее прежде всего в соответствии с тем, что с самого
начала послано через историю и господствуете© всем
происходящем.
Бытие означает присутствие. Но эта легкопроизносимая
главная черта бытия, присутствие, через мгновение снова
становится таинственной, лишь только мы пробуждаемся и
обращаемся к тому, к чему отсылается наше мышление тем, что
мы называем^присутствием.
Присутствующее — это длящееся, которое входит в не-
сокрытость и сущностится внутри нее. Присутствие
происходит лишь там, где уже царит несокрытость. Но
присутствующее есть постольку, поскольку оно, в качестве настоящего,
продлевается в несокрытость.
Поэтому к присутствию принадлежит не только
несокрытость, но и настоящее. Господствующее в присутствии
настоящее — это свойство времени, сущность которого, однако,
никоим образом не дает себя постичь в традиционном понятии
времени.
Но в бытии, явившемся как присутствие, по-прежнему не
помыслены ни царящие в нем несокрытость, ни царящая
в нем сущность настоящего и времени. Вероятно,
несокрытость и настоящее как сущность времени взаимно принадлеж-
ны. Поскольку мы воспринимаем сущее в его бытии, поскольку
144
мы, выражаясь языком Нового времени, представляем
предметы в их предметности, мы уже мыслим. Таким образом мы
мыслим уже давно. Но все-таки мы мыслим еще не
по-настоящему, пока остается непомысленным то, на чем основывается
бытие сущего, когда оно является как присутствие.
Происхождение сущности бытия сущего непомыслено. По-
настоящему более всего требующее осмысления по-прёжнему
скрыто. Для нас оно еще не стало достойным мышления.
Поэтому наше мышление еще не попало в свою собственную
стихию. Мы мыслим еще не в собственном смысле слова.
Поэтому мы спрашиваем: что значит мыслить?
БЕСЕДА С ХАЙДЕГГЕРОМ
«PExress» 20—26 oct. 1969, p. 79—85;
корреспонденты: Фредерик Товарницки — сотрудник
журнала, Жан-Мишель Пальме — автор книги
«Политические произведения Хайдеггера».
Корреспондент.— Вас, мсье,(считают последним философом
западной традиции, который завершает ее и вместе с тем
пытается открыть новый способ вопрошания.
Сегодня кризис университетов сопровождается недоверием
к самому смыслу философии. Для большинства она не имеет
права на существование, она стала бесполезной.
Хайдеггер.-(Это как раз то, о чем я всегда думал. В своем
курсе 1935 года «Введение в метафизику» я уже это утвер--
ждал| философия всегда несвоевременна!}Это безрассудство
(сумасбродство, une folie).
Коруг- Безрассудство?
X.—(философия несвоевременна по своей сущности, ибо она
принадлежит к тем редким явлениям, судьба которых в том
и состоит, что они не могут встретить непосредственный от-
клик^
Кор-—- Итак, что представляет собой философия?
Х.-\^Это одна из редких возможностей автономного и
творческого существования. Ее изначальная задача — делать вецш=-^-
более тяжелыми (трудными), более сложными?) *■-*
Кор.— Может ли она, по Вашему мнению, играть роль в
преобразовании мира, как этого хотел Карл Маркс?
X.— Философия никогда не может непосредственно придавать
силы или создавать формы действия и условия, которые
вызывают историческое событие.
Кор.— Но тогда каков ее смысл?
X.— Она не есть «знание», которое можно достичь и сразу
использоватьУЬна касается всегда только ограниченного
числа людей и не может быть оценена^ помощью общих
критериев^ С этим ничего нельзя поделать:)ведь именно она делает из
© Н. С. Плотников, перевод, 1991.
146
нас что-то, если мы ею занимаемся (c'est elle qui fait quelque
chose de nous si Ton s'y engage).
Кор.— Не могли бы Вы уточнить, что Вы хотите этим сказать?
X.— Bd время своего исторического развития народы задают
себе всегда очень много вопросов. Но только один вопрос:
«Почему вообще есть сущее, а не, наоборот, ничто?» (Pourquoi
у a-t-il de l'etant et non pas rien) — предрешил судьбу
западного мира, и именно начиная с ответов, которые давали
досократовские философы две с половиной тысячи лет назад.
Однако сегодня смысл этого вопроса никого не тревожит.
Кор.— Вы утверждаете, что быть внимательным к сущности
сегодняшнего мира — это значит размышлять над
изречениями досократиков: Парменида, Гераклита...
X.— Да, но сегодня ни в Германии, ни в других местах их
совершенно никто не читает.
Кор.— Какая, по вашему мнению, связь соединяет нас с этими,
столь далекими мыслителями?
X.—(В своем курсе «Введение в метафизику» я показал,
почему все философские вопросы начинаются с^ них. В их
поэтических изречениях рождается западный мир?)
Кор.— И современная техника?
X.— Я уже писал, что современная техника, хотя она
полностью чужда античности, имеет в ней свое существенное
происхождение.
Кор.— Правда ли, что начиная с 1907 года Вы не менее чем по
часу в день читаете греческих мыслителей и поэтов: Гомера,
Пиндара, Эмпедокла, Софокла, Фукидида?
X.—Да, за исключением военных лет.
Кор.-—Думаете ли Вы, что нужно вернуться к источникам
греческой мысли?
X.— Вернуться? Современное возрождение Античности? Это
было бы абсурдно, да и невозможно. Греческая мысль может
быть только исходным пунктом. Однако, связь греческих
мыслителей с нашим современным миром никогда не была
столь очевидной.
Кор.— Не зависит ли это забвение вопрошания традиции от
нужд современного мира? /
X.— Каких нужд?
Кор.— В частности, от той радикальной противоположности,
которая, начиная с Маркса, отделила теоретическое видение
мира от практического, стремящегося этот мир
преобразовать?
X.— 11-й тезис Маркса о Фейербахе? Сегодня одно лишь
действие без первоначального истолкования мира не изменит
положения в этом мире.
<\ / ш
Кор.— Но сегодня охотнее вопрошают Маркса, Фрейда или
Маркузе, чем Парменида и Гераклита.
X.— Это как раз то, о чем я сказал.
Кор.— Говоря, что в некотором смысле атомная бомба
взорвалась уже в поэме Парменида/'Вы хотите подчеркнуть именно
эту связь между метафизикой греков и современной техникой?])
X.— Да, но нельзя доверять формулам, лишенным контекста.
Я думаю, что на самом деле именно в поэме Парменида, и в
вопросе, который она ставит, возникает возможность будущей
науки. Но опасность формул состоит в том, что они заставляют
верить, будто речь идет о фатальной необходимости
гегелевского типа.
Кор.— Могла ли история принять другое направление?
X.— Как знать? Для меня нет ничего фатального. История не
подчиняется детерминизму типа марксистского. Не более, чем
философия или политика. Физики, которые искали законы
ядерного расщепления, не хотели создать атомную бомбу. И,
однако, это именно то, что они создали.
Кор.— Правда ли, что Вы сказали, имея в виду свое
произведение «Бытие и время»: «Это книга, в которой я хотел как
можно быстрее пойти как можно дальше?» (Доел.: слишком^
быстро пойти слишком далеко, e'est un livre dans lequel j'a'f
voulu trop vite aller trop loin.)
X.— Да, сказал. Но это не значит, что я думаю так сегодня.
Хотя, именно это я ставлю в настоящее время под вопрос. Я не
мог тогда подойти к вопросу о сущности техники, о ее смысле
в современном мире. В общем мне понадобилось еще 30 лет.
Кор.— Вас представляют порой как хулителя техники и
современного мира.
X.— Это абсурд. Будущее — вот что важно.
Кор.— Вы первым заговорили об «эре планетарной техники».
Что Вы имели в виду?
X.—^«Планетарная эра», «атомная эра» — это выраже шя,
которые свидетельствуют о заре наступающщиаррмен. Н; кто
не может предвидеть, чем они станут. Никто не знает того, чем
станет.мысль.
Кор.—Юзначает ли эпоха планетарной техники конец
метафизики?
X.— Нет. Она есть лишь ее осуществление^исполнение,
raccomplissement). Без Декарта современный мир был бы
невозможен.
Кор.— Как Вы ставите проблему техники?
X.— Пока довольствуются тем, что проклинают или
прославляют технику, никогда не поймут, чем она является.
Нужно ее вопрошать.
148
Кор.— Что значит «вопрошать технику»?
X.— Вопрошать, как я уже говорил, это прокладывать путь,
создавать его. Вопрошать сущность техники — это
подготавливать возможность свободного отношения к ней. Но техника
не то же Самое, что «сущность» техники.
Кор..—Что Вы понимаете под сущностью?
X.— Сущность дерева не является деревом, которое можно
встретить среди других деревьев. .
Кор.— А если мы будем мыслить эту сущность техники?
X.— Тогда мы будем^ рабски прикованы к технике, лишены
свободы, независимо от того, утверждаем ли мы ее с
энтузиазмом или отрицаем. Ибо техника не есть нечто нейтральное.
Именно тогда, когда ее представляют как что-то нейтральное,
мы отданы ей для худшего (nous lui sommes livres pour le
pire).
Кор.— По Вашему мнению, современный мир еще не
«мыслил» технику?
X.— Я написал в докладе: «В силу техники мы еще не
воспринимаем существенное бытие техники, подобно тому как, в силу
эстетики мы не сохраняем больше существенного бытия
искусства».
Кор.— Является ли техника главной опасностью для
человека?
X.— Вы знаете слова Гёльдерлина: «Там где опасность, идет
и спасенье».
Кор.— Вы говорите о Гёльдерлине как о поэте «скудной эпохи»
(du temps de detresse). Принадлежит ли, по Вашему мнению,
к этой эпохе Ницше?
Х.-^Ницше, без сомнения, последний великий мыслитель
западной метафизики.
Кор.— Почему последний?
X.— Ницше поставил основной вопрос современной эпохи,
вопрошая о Сверхчеловеке. Он разглядел приход времен,
когда человек готовится распространить свое господство на
всей земле и он спрашивал себя, достоин ли человек такой
миссии, и не должна ли сама его сущность быть
преобразована. На этот вопрос Ницше ответил: Человек должен
преодолеть себя, стать Сверхчеловеком^
Кор.— Не является ли эта мысльНицше самой искаженной во
всей истории философии?
X.— В своем курсе о Ницше я писал, что всякая существенная
мысль проходит невредимой сквозь толпу хулителей.
Кор.— Представляется ли Вам наша эпоха особенно
важной?
X.—Ницше писал в 1886 году: «Мы поставили на карту
149
истину... Может быть человечество погибнет в этой игре. Что
ж, пускай!»
Кор.— Как Вы понимаете взаимоотношение философии и
науки?
X.— Это очень трудный вопрос. Наука распространяет сейчас
свою власть на всю Землю. Но наука не мыслит, поскольку ее
путь и ее средства таковы, что она не может мыслить.
Кор.— Это недостаток?
ЧХ.— Нет, преимущество. Именно благодаря тому, что наука не
мыслит, она может утверждаться и прогрессировать в сфере
своих исследований.
К.— Но, однако, сегодня стремятся отождествить саму мысль
с наукой.
X.— Только тогда, когда признают, что науку и мысль
разделяет пропасть — их взаимоотношение станет подлинным.
Кор.— Вы сказали: «Наука не мыслит». Не правда ли, это
шокирующее утверждение?
X.— Разумеется, однако без мысли наука бессильна. Как
я уже говорил в своих лекциях — самое важное в наше
время — то, что мы еще не мыслим по-настоящему.
Кор.— Что Вы хотите сказать?
X. — Может' быть, то, что на протяжении веков человек
слишком много действовал и слишком мало мыслил. В мире,
который постоянно предоставляет нам возможность мыслить,
мысль все еще не существует (еще не возникла).
Кор.— Не кажется ли Вам ныне существующая
противоположность между «теорией» и «практикой» определяющей?
X.— Кто знает, что такое на самом деле «практика»? Сегодня
ее часто смешивают с доходами (средствами, recettes). Для
греков теория сама по себе была самой высокой практикой.
Кор.— К какому времени Вы себя относите? К далекому
будущему?
X.— Или, может быть, к далекому прошлому... «Самое древнее
в мысли — позади нас и, однако, вновь возникает». Мы
приходим слишком поздно к богам и слишком рано к Бытию («Le
plus ancien de la pensee est derriere nous et cependant survi-
ent». Nous venons trop tard pour les dieux et trop tot pour
l'Etre).
Кор.— Четверть века отделяют нас сегодня от выхода Вашего
труда «Бытие и время». Считаете ли Вы себя лучше понятым?
X.— Я не знаю. Я не следил за работами, которые посвящены
мне. В США готовится полное собрание моих срчинений. Но
мне иногда бывает трудно узнать свою мысль в некоторых
американских интерпретациях.
Кор.— В Германии о Вас говорят мало, но можно констатиро-
150
вать, что Вы продолжаете сохранять существенное влияние.
Его можно обнаружить во многих исследованиях, но Вас почти
не цитируют.
X.— Тем лучше. Это не имеет значения. Мой брат смеется над
этим. Он называет это клептоманией.
Кор.— В библиографии, вышедшей в 1945 году, где
перечисляется более 820 работ, посвященных Вам, редактор
предсказывал, что интерес, который вызывает Ваше творчество в мире,
постепенно ослабевает.
X.— Да, и поэтому забавно, что число книг, посвященных мне,
с того времени утроилось. Мне говорили, что оно превышает,
кажется, три тысячи.
Кор.— Вы следили за исследованиями своего бывшего
студента Герберта Маркузе?
X.— Маркузе подготовил во Фрайбурге, под,моим
руководством, диссертацию о Гегеле, в 1932 году. Это была очень
- хорошая работа. Потом я следил не за всем, что он пишет.
Я читал «Одномерного человека».
Кор.— Некоторые считают возможным находить взаимосвязь
между вопросами, которые ставит Маркузе, и Вашей
проблематикой.
X.— В этом нет ничего невозможного.
Кор.—Маркузе признает, например, что современная
техника — не простое накопление машин, а планетарный закон; что
человек сегодня вовлечен в него, не имея вдобавок, никакой
реальной власти над ним.
X.—Я часто писал такое.
Кор.— Вопрос, который ставит Маркузе,— это вопрос о
судьбе человека, порабощенного этим порядком. Техника для
него — форма мирового существования, которая подчиняет
жизнь труду.
X.— Да, это похоже на Хайдеггера. Я писал, в том смысле, что
тоталитаризм — это не просто форма правления, но следствие
необузданного господства техники. Человек сегодня
подвержен безумию (vertige) своих произведений (fabrication).
Кор. — Считаете ли Вы, что Маркузе продумал в целом,
в революционной перспективе то, что думали Вы сами о
господстве планетарной техники?
X.— Без сомнения. Но не следует ли вместе с тем поставить
вопрос о сущности техники?
Кор.— Возможна ли связь Маркса и Хайдеггера?
X.— На почве моей проблематики, думаю, нет. Вопрос о
Бытии — не вопрос Маркса. Это не должно означать, что
творчество Маркса менее важно, чем творчество Гегеля, или, что оно
чуждо метафизике. Бытие мыслится Марксом как Природа,
151
которой нужно овладеть и управлять. Маркс остается самым
крупным гегельянцем.
Кор.—Ьы все еще читаете Маркса?
X.—Я недавно перечитывал его-юношеские произведения.
Впрочем, я следил за работами моего ученика Ландсхута,
который их опубликовал в 1932 году. У меня было намерение
посвятить прошлым летом этим текстам факультативный
семинар с преподавателями из стран народной демократии,
которые меня просили об этом.
Кор.— А Фрейд?
X.— Психоанализ — очень важная дисциплина. Я считаю ее,
скорее, терапевтической. Но ее философские позиции
несостоятельны.
Кор.— Почему?
X.— Потому, что она биологизирует сущность человека.
Перечитайте «По ту сторону принципа удовольствия» Фрейда.
Кор.— Сегодня эта практика интересует людей значительно
больше, чем размышления о сущности человека.
X.—Я это прекрасно знаю.
Кор.— Еще раз, думаете ли Вы, что между Вашей мыслью
и марксизмом могут возникнуть в будущем «точки
соприкосновения».
X.— Может быть, почему бы и нет? Но я еще не могу сказать
какие. Я получаю письма и принимаю гостей из-
социалистических стран: чехов, поляков, югославов, русских...
Кор.— Вы сказали однажды: «Что касается будущего, то
я больше верю в социализм, чем в американизм»; Сейчас Вы
думаете так же? х
X.— Разумеется.
Кор.— Вас как-то раз спросили, напишете ли Вы «Этику»,
доктрину действия?
X.— «Этику»? Кто может себе это позволить сегодня и от
имени какого авторитета предложить ее миру?
Кор.— Вы написали: «Человеческое существование есть его
собственная возможность». Эта тема была развита Жан-
- Полем Сартром в его «Бытии и ничто».
X.— Порой Сартр интерпретировал мою мысль в
марксистском духе. (Ьеловек есть собственная возможность, но он не
может сам себя «творить^)
Кор.— Вас иногда упрекают в том, что Вы соблюдаете как бы
некоторую дистанцию по отношению к событиям мировой
истории.
X.— Мысль — всегда немного одиночество. Когда ее
вовлекают (engage), она может отклониться (devier). Я знаю это.
Я понял это будучи ректором в 1933 году в трагический момент
152
V
немецкой истории. Я ошибся. Остается ли философией
вовлеченная (engage) философия? Что знает философ о том
способе, которым философия реально воздействует на людей
и историю? Философия не поддается организации.
Кор.— Часто говорили.о влиянии на Вас, и особенно во время
создания «Бытия и времени», творчества венгерского
марксиста Георга Лукача.^
X— Мне кажется, Лукач меня недолюбливает...
Кор.— Однако в Париже был прочтен курс по теме «Хайдеггер
и Лукач. Точки совпадения и расхождения».
X.— Я был удивлен. Это забавно, вед!дЛукач в мартовском
номере «Шпигеля» за 1966 год назвал меня фашистским
философом) Впрочем, я не помню, читал ли я Лукача до написания
«Бытия времени». Нет, я его не читал.
Кор.— А он, читал ли он Вас?
X.— Этого я не знаю.
Кор.— Часто ли Вы подвергались нападкам?
X.— В чисто философской форме, увы, очень редко! Я
спрашиваю себя, останется ли после вот таких нападок хоть одна
стоящая работа. Вы знаете слова Валери: «Когда не могут'
нападать на мысль, нападают на мыслителя».
Кор.— Продолжаются ли еще эти столкновения?
X.— Они утихнут после моей смерти. В конце концов
Хайдеггер не имеет никакого значения. Будущее — это артель
поисков (equipe de recherches). Кто знает, например, имена
строителей соборов? Но сегодня бы никто не прочел ни одну из
моих книг, если бы она не была подписана — Хайдеггер.
Большинство людей, впрочем, думает, что я уже умер.
Недоразумений всегда много. Писали даже, что я сочинил «Что такое
метафизика», катаясь на лыжах в Шварцвальде.
Кор.— Беспокоят ли Вас эти недоразумения?
X.— У меня такое впечатление, что Хайдеггер — вот кто
(меня) беспокоит (j'ai Timpression que c'est Heidegger qui
gene).
Кор.— Что Вы хотите сказать?
X.— Главное, чтобы моя работа продолжала свой путь. Не
важно, будут ли знать мое имя. Важно, останется или исчезнет
в будущем то, что ценно в моей мысли.
Кор.— Всю жизнь, Вы ставили только один вопрос, вопрос
о Бытии. Как Вам кажется, является ли этот вопрос сегодня
таким же изначальным?
X.— Да, он сохраняет весь свой смысл.
Кор.— Вопрос о Бытии предрешил путь Вашего мышления.
Как определялся этот путь?
X.— Я не знаю, как мне самому ответить. Другие пытались это
153
{
сделать. Но не знаю, правы ли они в том, что говорят обо мне.
Кор.— Можно ли повторить Хайдеггера?
X.— Ни в коем случае. Нужно, чтобы не мне подражали,
а ставили бы свои собственные вопросы. Нет ничего
интересного в том, чтобы следовать за Хайдегтером. Нужно или
развивать мою проблематику в других направлениях, или же
возражать ей.
Кор.— «Нужно мыслить Хайдеггера против Хайдеггера»,—
говорили Вы в своих лекциях.
X.— Именно это я всегда старался делать сам! На протяжении
30 лет я не прочел ни одного курса о Хайдеггере.
Кор.— И однако, говорят о «хайдеггеровской философии»?
X.— Я уже сказал — хайдеггеровской философии не суще-*
ствует. Вот уже шестьдесят лет я пытаюсь понять, что такое
философия, а не предлагать свою.
Кор.— Иногда пытаются приблизиться к Вашей мысли,
исходя из тех влияний, которые Вы испытали. Что Вы об этом
думаете? i.
X.— На меня, разумеется, оказала влияние вся традиция. Но
этот способ разъяснения является типично университетским:
«Хайдеггер и Гегель», «Хайдеггер и Шеллинг»... Если верить
некоторым комментаторам, Вы берете Аристотеля, Гуссерля,
Канта, Брентано, все это перемешиваете и выходит «Бытие
и время». Смешно.
Кор.— Как Вы понимаете задачу, стоящую сегодня перед
мыслью?
X.— Мне трудно излагать эту тему, поскольку все, что я
написал о ней, не опубликовано. Вернуться к изначальному вопросу
0 Бытии, таков был путь, который привел к созданию «Бытия
и времени». Вторая часть должна была называться «Время
и бытие». . . .
Кор.— Часто удивляются тому резкому перелому, который
произошел в Вашем творчестве/Говорят даже о Хайдеггере
1 и Хайдеггере II. Внезапно прЬисходит изменение стиля.
Кажется, Вы покидаете бесплодную почву метафизического
исследования и начинаете вопрошать поэтов: Гёльдерлина,
Мёрике, Геббеля, Рильке, и особенно Тракля£>
X.— Я писал Об этом-^филогофия и поэзия гтоят ня протияопо-
ложных вершинах, но говорятодно и то ^ке— ~~^ ""'
Кор.— Считаете ли Вы возможным разделить Хайдеггера
I и Хайдеггера II, как это делают американские
комментаторы?
X.— Ни в коем случае. Хайдеггер II возможен только
благодаря Хайдеггеру I, а Хайдеггер I уже включал
Хайдеггера II.
154
Кор.— А Ваш новый способ вопрошания после «Бытия и
времени», который можно назвать поэтическим?
X.— Это был лишь поворот. Моя лекция «О сущности истины»
является, в каком-то смысле, поворотным пунктом. Поставив
в этом произведении первый вопрос, я еще не знал, как будет
поставлен второй.
Кор.-— Правда ли, что Вы сказали однажды: «Меня начнут
читать с охотой, не раньше, чем через триста лет»?
X.— Вполне возможно. Но какой смысл имеет этот вопрос?
Кор.— Скажем прямо, многие студенты открывают сегодня
Ваши книги и чувствуют, что встретились с очень сложной
и непривычной мыслью, которая, как им порой кажется,
исследует проблемы в смысле, противоположном традиционному
образованию. Вы так долго храните молчание. Не кажется ли
Вам, что наедине с Вашими книгами студенты могут оказаться
в растерянности.
X.— К сожалению, да. Но что делать? Существует также
и проблема переводов. Как следить за ними? Я уже был
вынужден отказаться следить за переводами на японский. Что же
касается студентов, то они подчас только выхватывают знания
то здесь, то там. Но что другое могут делать они сегодня в
университете?
Кор.— Вы не читаете больше лекции, не руководите
семинарами. Остаются только Ваши книги.
X.— Мне больше всего недостает диалога на семинаре с
десятком студентов. Только тогда можно «научить видеть»,
показать, о чем действительно вопрошает философия.
Кор.— Это кажется Вам существенным?
X.— Я полагаю, что во Франции.совсем не практикуется такой
способ работы: диалог, который шаг за шагом, в процессе
постоянного взаимного обмена приводит всех участников к
обнаружению философского вопроса. Заметьте, что на
семинарах бывали и слепые, т. е. те, которые этого не достигали. Они
говорили, иногда даже больше всех. Я их спрашивал: «Зачем
вы нам здесь это рассказываете?» Тогда они уходили, уходили
в другое место и больше не, возвращались. Сегодня очень
много говорят, что когда кто-нибудь осмелится начать
мыслить, на него покажут пальцем и скажут: «Он погружается
в абстракции».
Кор.— Вы следили за всемирным университетским движением
и дискуссией по поводу университетов?
X.— Эти проблемы университета я разбирал уже в 1929 году
в работе «Что такое метафизика?». Сегодня студенты бунтуют.
Это хорошо. Но понимают ли они реально, чего они хотят?
Я знаю с давних пор, что университет стал обыкновенной
155
школой (лицеем). Он не учит мыслить, он лишь дает
накопление знаний. Старый университет умер, и это была, без
сомнения, неизбежная смерть.
Кор.— Что Вы думаете о новых течениях, которые
завоевывают университеты всего мира?
X.— Я считаю, что кризис поразил сегодня университеты до
основания. Но я повторяю Вам, что это совсем не новость. Со
многими проблемами я сталкивался вместе со своей
студенческой молодежью в начале второй мировой войны. Однако
время этих вопросов еще не пришло.
Кор.— Вы сказали: «Кто глубоко мыслит, глубоко и
заблуждается». (Qui pense grandement, il lui faut se tromper grande-
ment). В каком смысле нужно понимать эту фразу? В
философском? Политическом?
X.— Во всех.
Кор.— Во Франции предпринимались значительные попытки
устранить некоторые недоразумения и восстановить истину
о Вашей позиции по отношению к новому режиму в, течение
десяти месяцев 1933 года.
X.— Я ни о чем не просил. Но парадоксально, что сами
французы пришли мне на помощь в этом вопросе. В Германии —
другое дело, здесь нападки не прекратятся. Быть может, надо
учитывать также и злонамеренность. Сартр написал целую
главу по этому поводу. Об этом судят ретроспективно. Порой
забывают трагическое замешательство в 1933 году, нищету,
безнадежность, иллюзии... Мне было достаточно десяти
месяцев, чтобы освободиться от этого.
Кор.— Многие ваши бывшие ученики вспоминают Ваши
выпады на лекциях против теории национал-социализма, Ваше
осуждение расизма.
X.— Для меня все это кончено. Самое важное сегодня — это
молодежь, "которая переживает новые проблемы, которая
строит новый мир. Я ее очень люблю, и лишь она интересна.
Кор.— Вашим единственным, за долгие годы, политическим
выступлением было подписание в 1957 году .протеста против
ядерного вооружения бундесвера. Почему?
X.— Я подписал один документ, но не этот. Протест, о котором
Вы говорите, исходил только от ученых, восьми профессоров
из Бонна. Физики Гейзенберг и фон Вайцзекер не пригласили
меня его подписать.
Кор.— Разве фон Вайцзекер не был одним из тех, кто
тормозил производство немецкой атомной бомбы, разрушая все, по
мере создания?
X.— Да. И он это делал в долине Дуная, совсем рядом с моим
родным городом Мескирхом.
156
Кор.—АВаши произведения считаются одними из самых
сложных в наше время. И, однако, они находят во всем мире,
несмотря на идеологические барьеры, толкователей и защит-
ников^Как Вы относитесь к тому, что Ваше творчество
привлекает такое внимание.
X.— Невозможно обойти те вопросы, которые я поставил.
Кор.—(Японские мыслители говорят, что обнаружили в
результате многолетних исследований глубокие аналогии между
Вашей философией Бытия и восточной мыслью^
X.—Это так. Некоторые приезжали сюда. Их подход меня
очень интересует. Многие даже писали, что мое/творчество
представляет для них нить, связующую Восток и Зйпад, Азию
и Европу?)
Кор.— Вы в курсе современных философских исследований во
Франции?
X.— У. меня, к сожалению, нет времени читать все книги,
которые я получаю. И потом, проблемы с языком. Сартр
раньше навещал меня.
Кор.— Благодаря его книге «Бытие и ндато» многие узнали
о Вас во Франции после освобождения.^ также
экзистенциализм, отцом которого считают Вас.
X.— Экзистенциализм, это в некотором роде бессмыслица^ Но
Сартр не ответствен ва нее. Я его очень ценю. Для немецкого
философа поразительно — чтобы человек мог выразить себя
одновременно и в философской форме, и в форме романа,
пьесы, эссе. Я очень уважаю эту способность французов. Один
японский принц, который работал со мной около 1929 года,
передал мое произведение Сартру. В свою очередь, я смог
прочесть «Бытие и ничто» только в 1945 году.
Кор.— Интересовались ли Вы другими философскими
работами?
X.— Сегодня то, что называют философией, редко бывает чем-
либо иным, кроме как отпечатком технической идеологии,
заимствующим методы, свойственные физике и биологии. Это
не является подлинным философским вопрошанием.
Кор.—ТТе, кто следует Вашему подходу, говорят о Вас: «То,
к чему стремится Хайдеггер прежде всего,— это научиться
мыслить. Мыслить со всей строгостью, подобно Сократу.
И в этом заключается главное его достоинство»!
X. ■— Может быть. "*■*
Кор.— Почему среди поэтов Вы особенно интересуетесь Гёль-
дерлином?
X.— Потому что Гёльдерлин — это не только один из великих
поэтов. Он, в каком-то смысле, поэт самой мощности поэзии.
Кор.— Какой французский поэт нравится Вам больше всего?
157
X.— Рене Шар. Он прислал мне недавно сборник своих стихов
с иллюстрациями Джакометти.
Кор.— А искусство, кажется ли оно Вам важным?
X.— Вспомните слова Ницще, которые я уже цитировал: «Нам
остается искусство, чтобы не погибнуть перед истиной».
Кор.— Среди современных художников кто, Вам кажется,
внес что-то существенное?
X.— Мне кажется, нечто началось с Сезанна. Я очень люблю
Ван Гога, Брака... Однажды он подарил мне рисунок.
Кор.— Художники охотно говорят сегодня о новом союзе
искусства и техники.
X.—Искусство и техника — это огромная проблема. В
греческом искусстве эта мысль уже заключалась.
Кор.— В современном искусстве начинают использовать
кибернетику.
X.— Осторожнее с кибернетикой. Вскоре поймут, что это не
так просто.
Кор.— Говорят, что есть две темы, по поводу которых Вы
отказываетесь отвечать на вопросы: то, над чем Вы работаете,
и проблема Бога.
X.— Я предпочитаю, чтобы читали мои сочинения.
Кор.— Почему Вы живете так уединенно?
X.— Потому, что я работаю.
Кор.— Вы не любите, когда о Вас говорят?
X.— Чтобы попасть на большую арену, в театр или на
карнавал бесполезных сплетен? Не в этом главное.
Кор.— Вы окончательно отказались от общественной жизни?
X.— Меня часто приглашают на конгрессы, коллоквиумы
и даже на некоторые официальные церемонии. Я вынужден
всем отказывать. Я прочитал свою последнюю лекцию об
искусстве в Афинах за шесть дней до военного переворота.
Большинство моих слушателей, должно быть, находятся в
тюрьме. Здесь же посетители часто звонят в мою дверь. Я живу
уединенно, но одиночество — не значит озлобленность.
Кор.— Вы охотно говорите, что сегодня истинные вопросы
остаются незамеченными, существенные проблемы еще не
поставлены. Считаете ли Вы, что в будущем их поставят?
Хайдеггер — Кто знает? Быть может, через два или три
столетия...
МАРТИН ХАЙДЕГГЕР:
ЯЗЫК И ВРЕМЯ
^С^артин Хайдеггер, видный
представитель западноевропейской философии XX века, столетие со дня
рождения которого отмечалось в сентябре 1989 года, оставил
большое наследие: оно составляет, включая его посмертно
вышедшие работы, около 100 томов^
Дать его творческий портрет, который запечатлел бы его
образ как мыслителя, а также осветить путь создания
оригинального (в представлении одних — высокого и глубокого,
в представлении других — обыденного учения) весьма трудно.
Учение Хайдеггера испытало взлеты и подверглось жестоким
нападкам. Никакая другая философия в XX веке не получила
столько самых противоположных оценок со стороны
профессиональных философов и интересующейся философией
общественности, как мышление фрайбургского ученого,
умершего в 1976 году. В сборник воспоминаний о Мартине
Хайдеггере ! вошли статьи немецких, французских, китайских,
японских и американских авторов. В его создании участвовали
профессора, пасторы и журналисты, которые сообщали о
своих встречах с немецким философом. Идеи Хайдеггера глубоко
проникли также в научную сферу в Швейцарии (медицина)
и в Англии (языково-аналитическая философская школа).
В споре философов о личности Хайдеггера к нерешенным
загадкам относится тот факт, что в то время, когда в Германии
его иногда представляли провинциальным философом
патриархального уклада, за ее пределами он завоевал большой
авторитет. С ним поддерживали дружеские связи современные
писатели, художники. Писали о нем и многие индийские
философы. В Советском Союзе интерес к философии Хайдеггера
стал особенно заметен в 50-х годах после перевода его работы
«Что же такое философия?» и некоторых других. Этот интерес
поддерживается в настоящее время выпуском книг и статей
о Хайдеггере, переводом его работ на русский язык. В чем же
состоит притягательная сила хайдеггеровской 'философии?
1 Erinnerungen an Martin Heidegger. Pfullingen, 1977
159
Хайдеггер представляет свою философию как
фундаментальную, изначальную. При этом он предпринимает широко
задуманную попытку всеобъемлющей критики
западноевропейской метафизики. Мировую известность Хайдеггер получил
благодаря появившемуся в 1927 году произведению «Бытие
и времй^ Это произведение очерчивает тот отрезок его пути,
который дает ему видение прошлого, настоящего и будущего,
когда он задает вопрос: где мы и на чем стоим? (Wo stehen
wir?)
Мартин Хайдеггер родился 26 сентября 1889 года в семье
ремесленника и был воспитан в католической вере. Три года он
посещал иезуитскую школу в Констанце, затем учился в
гимназии во Фрайбурге. Уже в раннем возрасте Хайдеггер
проявил большое прилежание и усердие в приобретении
знаний, особенно в изучении греческого и латинского языков.
В 1909 году он поступил во фрайбургский университет в Брей-
сгау. В соответствии с желанием семьи, а также согласно
собственному первоначальному намерению стать
священником, сначала в течение четырех семестров он изучал
католическую теологию. Но глубокий интерес не только к
гуманитарным, но и к естественным наукам заставил его прервать
изучение теологии и обратиться к философии. Одновременно
Хайдеггер посещал лекции и сдавал экзамены по истории.
Усердно занимаясь математикой и физикой, он стремился
к приобретению новейших знаний, в особенности в области
теории относительности.
Формирование мировоззрения Хайдеггера шло сложным
путем. С одной стороны, существенную роль играл процесс
накопления знаний из области естественных наук; с другой
стороны, его мышление сохранило отпечаток сильного
воздействия католической неосхоластики, опирающейся на
средневековые интерпретации учения Аристотеля. На ранние работы
Хайдеггера ' оказал большое влияние Г. Риккерт (1863-—
1936), основавший вместе с В. Виндельбандом одну из школ
неокантианства. В. Д. Гудопп в своей книге «Молодой
Хайдеггер» (1983) характеризует позицию молодого студента-
философа как прогрессивную, называя его знаменосцем мате-
1 1. Das Realitatsproblem in der modernen Philosophic 1912.
M. Heidegger, Gesamtausgabe, Bd. I, hrsg. von F.—W. von Nermann,
Frankfurt am Main, 1978.
2. Neuere Forschungen uber Logik. 1912.
3. Die Lehre vom Urteil im Psychologismus. 1914.
4. Die Kategorien — und Bedeutungslehre des Duns Scotus.
1916.
5. Der Zeitbegriff in der Geschichtswissenschaft. 1916.
160
риализма. Вопреки самым влиятельным направлениям
официальной философии в Германии своего времени, Хайдеггер
защищал позицию теоретико-познавательного реализма: вне
нашего сознания имеется объективная реальность, и она
познаваема. Он пытается увидеть связь философской теории
познания с развитием естественных наук и устранить
имеющиеся между ними противоречия. В этой связи он одобрительно
цитирует О. Кюльпе: «Только тот, кто верит в определяемость
реальной природы, приложит свои силы для ее познания» 1.
В то же время Гудопп высказывает мнение, что, хотя было
бы неправильным игнорировать открыто защищаемую
прогрессивную позицию молодого Хайдеггера, все-таки было бы
опрометчиво абсолютизировать указанную тенденцию в
развитии его мировоззрения. Здесь необходим более
внимательный подход, в связи с чем возникает вопрос о характере
«критического реализма», к которому Хайдеггер считал себя
причастным.
Для мировоззрения Хайдеггера определяющими были
также дальнейшие философские связи. Речь идет о широко
понимаемом направлении, представителями которого были
философ и психолог О. Кюльпе, философ и психолог Э. Бэхер,
историк и психолог А. Мессер. Интересовался Хайдеггер
и работами своего современника Е. Ласка, пытавшегося дать
новое обоснование метафизики. Наиболее сильное влияние из
названных представителей этого течения оказал на
Хайдеггера Освальд Кюльпе.
В то время во Фрайбургском университете разгорелась
дискуссия между психологами и логиками, мимо которой не
прошел и Хайдеггер. Именно гносеологическое направление
Кюльпе в рамках «критического реализма»,
соответствовавшее общему характеру западноевропейской философии
с преобладанием в ней неокантианства и неопозитивизма,
и нашло отражение в развернувшейся университетской
дискуссии. Гудопп замечает, что сочинение Хайдеггера, в
котором он дает свое понимание реальности, кажется на первый
взгляд очень близким к тем положениям, которые развивал
В. И. Ленин в своей книге «Материализм и
эмпириокритицизм». Можно предположить, что Хайдеггер был знаком с этой
работой В. И. Ленина, но прямых доказательств этому нет.
Хайдеггер писал: «Вероятно, фактическое, данное и образует
материальную основу нашего мышления через проявившуюся
1 КШре О. Erkenntnistheorie und Naturwissenschaft. Leipzig,
1910. S. 38.
6 M. Хайдеггер 161
в нем реальность. И определение мышления, а не только
реальности, как явления есть цель науки» '.
Исследование по проблемам реальности Хайдеггер
написал в 1912 году. В том же году он опубликовал работу
«Новейшие исследования по логике». Хотя в этой работе
Хайдеггер рассматривает различные направления в области
логики, в центре его внимания находится ^.Гуссерль, учение
которого занимает важное место, когда"мы обращаемся к
истокам философии Хайдеггера. На данном этапе оно было
важно для преодоления им психологизма. Продолжая работу
над этой темой, Хайдеггер закончил в 1914 году во Фрайбурге
свою диссертацию на тему «Учение о суждении в
психологизме» 2.
Уже в работе «Учение о суждении в психологизме»
становится отчетливо видно основное русло развития
мировоззрения Хайдеггера. Такие понятия, как бытие, смысл, сущность,
предмет, предметность, объект, познание, значение,
значимость и другие, позднее войдут в философский язык
Хайдеггера, получив герменевтическое значение.
Из критически рассмотренных психологических учений
наибольшее влияние на Хайдеггера оказало учение Ф. Брента-
но (1838—1917), основателя психологии как учения'о психи-
ческих феноменах (представлениях, суждениях и душевных
переживаниях). Отличительным признаком психического
Брентано считает интенциональность, свойство сознания быть
направленным на некий объект, не нуждающийся, впрочем,
в реальном существовании. У раннего Брентано все предметы
интенционального аспекта существуют таким образом, что
происходит своеобразное удвоение мира,— концепция,
которую приняли почти все его ученики, в том числе и Э. Гуссерль.
Согласно этой концепции каждый психический феномен
содержит в себе нечто как объект: в представлении нечто
представлено, в высказывании нечто высказано, в любви —
любовь, в ненависти — ненависть и т. д. Именно это понятие
интенциональности оказалось важным для дальнейшего
развития воззрений Хайдеггера. Характерные для Брентано
тавтологические фразы были также заимствованы и
преобразованы Хайдеггером.
Исследование вопроса о том, какое место занимает
«смысл», его «действительная форма» в сфере сущего,
Хайдеггер продолжает в своей докторской диссертации «Учение ,
1 Heidegger M. Gesamtausgabe. Frankfurt am Main. 1978. S. 10.
2 Heidegger M. Die Lehre vom Urteil im Psychologismus. Leipzig,
1914.
162
Дунса Скотта о категориях и значении» (1915). Здесь он
ставит вопрос о смысле сущего (ens). Теология и метафизика
средневековья — это очень существенный источник
философских воззрений Хайдеггера вообще и его воззрений по
проблемам языка в частности. Рассматривая спекулятивную
грамматику средневекового трактата, Хайдеггер развивает идею
«чистой грамматики». Он ставит вопрос о связи предмета,
значения и знака и приходит к постановке проблемы более
широкого плана, к «учению о категориях». Категория
значения слова — одна из основных в учении раннего Хайдеггера,
и роль этой категории в его философии позднее не только не
уменьшится, но и станет определяющей.
К этому же периоду относится работа Хайдеггера
«Понятие времени в исторической науке» (1916). Подобно тому, как
в логике Хайдеггер с позиций антипсихологизма хотел
освободить логическую форму от реального содержания, в истории
философии он пытался отделить реальный ход истории от
философского содержания, выделить чисто философское.
Известно, что понятие времени является одним из основных
понятий хайдеггеровской философии. Он вводит время как
принцип интерпретации и характеризует его как горизонт
всякого понимания бытия, а вместе с тем и понимания человека.
В работах раннего периода Хайдеггер приходит к выводу,
что «остается открытым только один пу*гь—^то наиболее
точное описание того, что означает слово^«смысл^. Описав
разные ситуации употребления этого слова (например: отказ
от не имеющего смысла предприятия, суждение о глубоком
смысле произведения искусства, о подарке, который
преподносится юбиляру с определенным смыслом, о прямой линии,
которая заключает в себе определенный смысл с точки зрения
математика), Хайдеггер, оставаясь здесь в рамках
рационального мышления, утверждает, что «о смысле можно
каждый раз говорить только тогда, когда мы имеем дело с
обдумыванием, соображением, конструированием, определением.
Смысл находится в тесной связи с тем, что мы в самом общем
смысле называем мышлением, причем под мышлением мы
понимаем не представление в широком смысле этого слова,
а мышление, которое может быть правильным или
неправильным, истинным или ложным. Каждому суждению имманентно
присущ определенный смысл. Форма, в которой смысл
выступает в действительности — это значимость, т. е. форма
процесса суждения» 2.
1 Heidegger M. Die Lehre vom Urteil im Psychologismus.
2 Ibid. S. 96.
6*
163
Итак, Хайдеггер утверждает, что смысл олицетворяет
логическое и ставит вопрос о «структуре смысла». При этом
намечается то направление, которое постепенно формируется
в его учении как герменевтический анализ, а в конечном счете
как герменевтика — философский метод исследования. При
обосновании этого метода Хайдеггер вновь обращается к
творчеству своего учителя Э. Гуссерля, ассистентом которого он
был в 1919 году во Фрайбургском университете, куда он
вернулся после участия в первой мировой войне.
В феноменологии Гуссерля большую роль играет теория
языка, 'которая и по сей день привлекает к себе внимание
изучающих его философию. Феноменологический метод
является основой для теории значения в логике и языке. От
сложного сплетения двух моментов — сверхчувственного и
эмоционального — и протягиваются нити к учению Хайдеггера в
целом, к его учению о языке в частности. Конечно, Хайдеггер по-
своему применил выводы своего учителя. Гуссерль ставил себе
целью исследование вопроса об идеальных условиях вообще,
которые необходимы для того, чтобы стала возможной наука
и теория как таковая. Им решается задача, состоящая в
определении и фиксации чистых категорий в значении
предметности. Речь идет о реальной предметности, как ее понимает
интенциональная теория. С гуссерлевской категорией интен-
циональности созвучно понятие трансценденции, которое
является одним из исходных понятий хайдеггеровской
философии. Искусственные абстракции Гуссерля сливаются со
сферой подсознательного. Именно здесь находит Хайдеггер то, что
он принимает в свое будущее учение, то, чего нельзя
постигнуть ни чувствами, ни разумом. Особенно привлекательной
для Хайдеггера оказалась идея, что древний мир и
средневековье были ближе к познанию существенной структуры вещей.
Принцип Гуссерля «Назад к сущности!» является для
Хайдеггера тем отправным пунктом, с которого позднее он начал
свои поиски «бытия сущего». Как для Гуссерля, так и для
Хайдеггера характерно то, что поиски сущности сводились
в конечном счете к интерпретации значения.
Для Гуссерля было важно проникнуть к самим вещам
и благодаря этому видеть и понимать данное без всяких
предпосылок. Эта данность характеризуется как феномен, как
непосредственно обнаруживающееся. Феноменологический
метод и состоит в показе и объяснении того, что дано.
Предметом феноменологической философии являются сущностные
связи; ее метод — это описание сущности. Для нее речь идет
не просто о чувственном и опытном видении, а о постижении,,
сущности себя-показывающего (sich-Zeigenden). Но эта сущ-
164 ♦
ность в большинстве случаев скрыта и должна раскрываться
герменевтически. Такая цель реализуется Хайдеггером в его
фундаментальной онтологии, которая изложена в его
основном труде «Бытие и время» (1927).
Своей задачей Хайдеггер ставит по-новому обосновать
учение о бытии и сущем, о смысле бытия. Как решает
Хайдеггер эту программную задачу, каким инструментарием он
при этом пользуется?
В философии Хайдеггера большое место занимает
проблема языка; она существенно определяет характер его учения
в целом. Дело не только в том, что он, как и многие
представители других направлений философии, широко использует
лингвистическую проблематику, обращаясь к тем или иным
фактам и выводам из анализа естественных языков и науки
о языке. Связь с языковой проблематикой носит в данном
случае еще более глубокий характер. Оригинальность усилий
Хайдеггера состоит в том, что, разрабатывая свое
философское учение, он создает своеобразную концепцию языка и речи.
Понимая, какое большое значение имеют категории для
обоснования философского мировоззрения, он доводит до
логического конца свои выводы по проблемам языка и достигает
виртуозности в разработке «словесной техники» для защиты
своих взглядов. При ознакомлении с работами Хайдеггера
читатель сразу же попадает в плен его сложной, подчас
чрезвычайно запутанной терминологии, которая представляет
большую трудность не только для тех, кто стоит перед
необходимостью поиска соответствующих эквивалентов в родном
языке. С трудностью сталкиваются и те, для кого немецкий
язык является родным. В любом случае очевидно, что мы
имеем дело с философским языком, созданным им самим.
Что же это такое — «хайдеггеровский язык», каковы его
характерные черты и можно ли установить какие-либо
закономерности образования создаваемых им конструкций и правила
их расшифровки? Без решения этих вопросов нельзя дать
всесторонней оценки философии Хайдеггера. Используя
разные аспекты теории и практики языка, он не дает в каждом
случае специальных разъяснений относительно авторских
неологизмов и правил построения языковых конструкций.
Философский язык Хайдеггера выступает как способ
корректировки, уточнения понятий, соответствующих значениям
слов современного языка. Этому и служит принцип так
называемой деструкции. Кроме того, при создании своего
философского языка Хайдеггер стремится к реконструкции
философских понятий. Основную роль при этом играет его
толкование категории значения слова. Освободившись от привычных
V 165
представлений, привычных сочетаний слов и их отдельных
компонентов, что отвечает требованиям «деструкции»,
Хайдеггер получает возможность свободно и во многих случаях
весьма произвольно оперировать словосочетаниями, словами
и словообразовательными элементами немецкого языка. В
результате возникают конструкции, которые даже самыми
некритичными из его учеников характеризуются как рискованные.
При чтении хайдеггеровских работ трудность для
понимания составляют не только новообразования, но и коренные
слова немецкого языка в тех случаях, когда автор придает им
особый смысл.
Приступая к созданию новых языковых конструкций для
изложения своего учения, Хайдеггер очищает себе путь от
традиционных понятий и выражающих их терминов, которые,
по его мнению, утратили всякую ценность из-за отсутствия
подлинного смысла. Сюда он относит в первую очередь такие
понятия, как «субъект», «познание», «техника»,
«действительность», «дух», «личность», «жизнь», «отражение»,
«противоречие» и т. д. Он пытается также исключить из своего научного
лексикона все слова, имеющие какое-либо отношение к
средствам массовой коммуникации: «газета», «радио», «фильм»,
«пресса» и т. п. Этот факт объясняется особым отношением
Хайдеггера к технике. Слова, характеризующие технический
прогресс, в его концепции не относятся к подлинному языку,
а являются изделием человеческих рук, результатом
рационального мышления. Слово «Technik» он заменяет им самим
сконструированным словом «Gestell». На наш взгляд,
предлагаемое для перевода слово «постав» не облегчает понимания,
хотя оно связано с глаголом stellen — ставить. Но ведь Хай*
деггер подчеркивает глагол her-stellen, когда он объясняет
этот неологизм.
Важно отметить, что как «пустое» характеризуется и слово
«человек», обозначающее целый комплекс понятий, поскольку
оно относится к самым различным сферам научных знаний —
истории, физиологии, психологии и др. В соответствии со своей
концепцией языкового мышления Хайдеггер вынужден искать
и ^конструировать заменители для многих терминов, которые
он исключил из своей «фундаментальной онтологии». Это
в первую очередь относится к понятию «человек» (ft* *nc/»h)
которое он заменяет словом Dasein (бытие, существование,
наличное бытиеТГ"^ "" ""
1Г$илософии Хайдеггера Dasein приобрело новое
значение. Быхи_е человека, поскольку оно для нашего сознания
является самым доступным и близким, путем
герменевтического анализа используется для раскрытия пр^1С^тствующих
166
в челсщ^ческом существовании сущности и смысла бытия.
В языковомкЭрпусе, тщательно разработанном Хайдеггером,
Dasein занимает центральное место.
Для понимания функционирования философского языка
Хайдеггера необходимо обратить внимание также на его
семантико-синтаксические особенности. Анализ хайдеггеров-
ских Понятий требует, как правило, их всестороннего
рассмотрения с учетом эволюции взглядов философа. При разработке
своей теории языка, языковых конструкций и терминологии
Хайдеггер обращается к источникам на немецком и греческом
языках. Этим и объясняется влияние греческих текстов,
сказавшееся на выборе им синтаксических сочетаний и
логических форм. Устойчивость в употреблении некоторых
типичных форм выражения философского содержания придает
философскому языку Хайдеггера эмоциональность,
вычурность и выразительность. Говоря о выразительности языка
Хайдеггера, мы имеем в виду не доходчивость и яркость стиля,
а броскость и эффективность воздействия языковых средств,
достигаемые определенными методическими приемами.
Постоянно4 повторяемые типичные модели действуют
настойчиво и даже назойливо, мимо них нельзя пройти,
поскольку они затрудняют проникновение в лабиринт его
категорий.
Одной из излюбленных форм изложения в работах
Хайдеггера являются его «гераклитизмы». Придавая большое
значение фразеологии древних греков, Хайдеггер берет за образец
способ выражения Гераклита, который становится в его
текстах одной из распространенных моделей высказывания.
В качестве примера могут служить антиномии в немецком
переводе: Unsterbliche sterblich, sterbliche unsterblich; Lebend
jener Tod, jener Leben ader sterbend. Liebe ist letztlich ein
Hassen, Hass ein Lieben. (Бессмертные смертны, смертные
бессмертны; того смерть живет, а тот живет умирая. Любовь
в конечном счете ненависть, ненависть — любовь).
Непрерывно повторяющиеся ряды противопоставлений создают
картину своеобразной диалектики.
Для философского языка Хайдеггера также очень
характерна тавтологичность. Тавтологию образует сочётажег~
в котором даны существительное и глагол родственного
этимологического значения. В немецком языке такие сочетания
v встречаются часто, однако они не могут быть образованы
свободно. Тавтология имеет своим назначением только
констатировать то, что все остается без изменения, по-старому.
В философском языке Хайдеггера эта конструкция несет на
себе очень большую нагрузку. Такая модель используется
167
у него очень свободно, без каких-либо ограничений. Она может
выражать любое отношение: die Welt weltet (мир мирует), die
Sprache spricht (язык говорит), die Dinge dingen (вещи
действуют как вещи), das Wesen west (сущность осуществляет
себя), das Un-wesen west nicht (не-сущность себя не
осуществляет), die Einigkeit einigk (единство объединяет) и
т. д. Мы видим, что здесь при переводе на русский язык
возникают трудности, не говоря уже о том, что между русским
и немецким языками в значении глагола и существительного
нет соответствия. Кроме того, такие тавтологичные сочетания,
как, например, der Raum raumt или das Wort wortet, не
являются привычными. Глубокое содержание имеет
герменевтический круг, вариантами которого могут служить выражения:
«Das Wesen der Sprach-die Sprashe des Wesens» («Сущность
языка — язык сущности»); «Das Wesen der Wahrheit ist die
Wahrheit des Wesens» («Сущность истины есть истина
сущности»); «Der Grund des Satzes — der Satz des Grundes»
(«Основание положения — положение основания»).
Герменевтический круг рассматривается как структура каждого
человеческого акта понимания вообще. Эта форма выступает
как основная структура понимания самых разных содержаний.
Ее особенность состоит в том, что она не всегда бросается
в глаза со стороны языкового выражения. Понимание,
толкование феномена возможно, по Хайдеггеру, только тогда, когда
понимающий уже заранее имеет представление о данном
феномене. Он не может рассматривать тот или иной феномен
с нейтральной точки зрения. Герменевтический круг играет
большую роль^в современной герменевтике, выявляя
диалектические моменты ряда реальных проблем. Среди них —
проблема значения скрытых подтекстов для правильной
оценки произведения и проблема способов их выявления. Круг
в герменевтике исследуется в различных вариантах и имеет
большое значение для искусства перевода. Хайдеггеровский
герменевтический круг нашел свое развитие в построении
герменевтики Х.-Г. Гадамером К
Хайдеггер использует также систему знаков препинания.
Они имеют у него смыслоразличительную функцию. Так,,
особое значение он придает дефису в середине слова. Для
Хайдеггера — это средство расчленения слова с целью
обнаружения этимологических связей. Дефис как бы дополняет
и уточняет содержание значения слова, показывая его лекси-
1 Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герме»
невтики. М., 1988.
168
ческую форму. Например, Existenz Ek-sistenz; Bewegung Ве-
wegung; Dasein Da-sein. Dass-Sein — это эмпирическое бытие
вещи или лица в противоположность Sosein (свойству).
Существенное значение в языке Хайдеггера имеют
кавычки. В кавычки заключаются, например, такие понятия, как
«мир», «время», «познание», «выражение», «душа» и другие.
Наблюдаются случаи своеобразного употребления всех
частей речи.
Язык Хайдеггера органически вплетен в его философию.
Каждому созданному им термину посвящены десятки страниц
текста с комментариями и истолкованием. Это в первую
очередь касается его работы «Бытие и время», поскольку здесь
дана вся основная проблематика его феноменологического
учения, а также тщательно разработанная терминология.
Сразу же после своего выхода в свет она привлекла к себе
большое внимание представителей самых различных
философских направлений.
Главной проблемой в книге «|>агтие и время» является >
вопрос о смысле бытия. Самое глубокое его истолкование — /
это истолкование из времени, время оказывается
фундаментальным слоем бытия человека. Поскольку Dasein отмечает/
себя во времени (sich zeitigt), оно есть также мир. Если не ч
существует Dasein, то нет и мира. Таким образом, дано не;
абстрактное сознание вне мира, а экзистенция, неразрывно^
связанная с миром, в котором она есть.
Хайдеггер вводит в рассмотрение новый
мировоззренческий аспект путем «снятия» субъектно-объектных отноше*
ний. В его концепции мир не противостоит человеку, он н£
является объектол^пэ^о^ не
имеет пространственного значения. Мир и человек образуют
едщство (das Eins). Этим объясняется и бсоТЗаяг окраска
слова «Dasein», которым заменяется слово «человек». «В сво- /
ем следовании чему-либо и усвоении этого Dasein не выходит к
из своей внутренней сферы, в которую здесь-бытие (Dasein)
изначально заключено,, но согласно своему первоначальному
способу бытия оно всегда находится «вне» у встречающегося
сущего уже когда-то открытого мира» К
«Мир» аналитики здесь-бытия (Daseinsanafytik) не
является больше объектом, отделенным от Я-субъекта, а с самого
начала не разделен с ним. Эта сторона хайдеггеровского
учения привлекла внимание медицинской науки.
1 Heidegger M. Sein und Zeit. S. 62.
169
Как новое звено в изучении психики человека
рассматривалась аналитика Хайдеггера и со стороны психоанализа. Это
влияние на психопатологические исследования обнаружилось
уже с 1933 года. Связь медицинской науки с философскими
воззрениями Хайдеггера нашла свое выражение в первую
очередь в швейцарской психиатрии. Здесь работа Хайдеггера
«Бытие и время» стала исходным пунктом
психотерапевтических взглядов на отношение души и тела, на сущность
человека и его бытие-в-мире (In-der-Welt-Sein).
Основателями этой школы стали ученики 3. Фрейда, известные психиатры
Л. Бинсвангер и Босс, принявшие философию Хайдеггера.
Бинсвангер защищал тезис, что психическое «не есть
объективируемое», что никогда нельзя овладеть психическим,
душевным состоянием, если рассматривать его как природный
объект. Обращаясь к работам Бинсвангера, мы убеждаемся
в том, что его трактовка экзистенциалов Хайдеггера
представляет интерес и в настоящее время, поскольку здесь они
раскрываются во всей их сложности, так как их применение
в медицинской практике делает их более доступным, чем в
интерпретации других научных направлений.
Следует отметить, что хайдеггеровские экзистенциалы
трудно ограничить количественно. К ним относятся,
собственно, все понятия, созданные или, скорее, сконструированные
самим философом, а также взятые им из основной лексики
немецкого языка и переосмысленные в духе его концепЦии. Их
можно констатировать, описывать, расчленять и,
истолковывая, воспринимать в их связях. Важно иметь в виду, что
экзистенциалы органически связаны с соответствующими
языковыми понятиями, которые могут быть рассмотрены как
самостоятельные структуры. Так Хайдеггер различает
подлинное и неподлинное бытие, подлинный и неподлинный язык.
Поэтому все понятия могут быть подразделены на
экзистенциалы и категории. Первые характеризуют подлинное бытие
и направление к нему, последние относятся к характеристике
мира вещей (Dinge), которому Хайдеггер противопоставляет
индивидуальный внутренний мир человека с его неповторимой
экзистенцией.
•^ Бытие (Sein) выступает как всеобъемлющая, непостижи-
\ мая, таинственная сущность. Смысл бытия покрыт мраком.
\ Эта тайна и есть путь к истине. По Хайдеггеру, этот путь —
«путь бесконечный». Весь смысл бытия, по сути дела, и
заключается в сохранении «тайны бытия». Понятие «бытие» не
может быть определено. В то же время бытие — это само
{собою разумеющееся понятие. В любом высказывании, во
всяком отношении это понятие находит себе применение, так
170
что выражение «бытие» становится доступным и понятным без
всяких объяснений. Однако «эта средняя понимаемость
демонстрирует лишь непонимаемость» !. Бытие «освещает»,
«светит» в своем бытии. Оно раскрывает себя. Понятие
«бытие» отождествляется также и с другими категориями, как-то:
«основание», «событие», «игра», «самость», «истина»,
«судьба» и другие. Бытие анализируется в непосредственной связи
с сущим (Seiendes): сущее это то, что тем или иным способом
определено через бытие. Сущее — это Кто (экзистенция) или
Что (наличность в самом широком смысле). Сущность
большей частью скрыта и должна раскрываться
герменевтически, через язык, проникновением в его сущность. Это
и означает обратиться к «самим вещам». Обращение к «самим
вещам» у Хайдеггера означает возможность овладения
«понятийно ясной проблематикой» или, говоря языком самого
философа, возможность «философствовать».
Раскрытие философских понятий происходит через
раскрытие языковых понятий, что находит свое выражение в
этимологизировании, в обнаружении лексической формы слова, в
обращении к истории языка. Сущность языка представляется
как язык сущности. Сущность языка — это недосягаемая
высота, до которой не может подняться ни одна наука,— таков
исходный тезис Хайдеггера. Он противопоставляет свое учение
языкознанию, психологии, истории, философии, логике,
которые включают язык в число объектов исследования и делают
попытку установить связь между языком и действительностью.
Как и бытие, сущность языка — это тайна всех тайн, хотя она
и определяет науки и все существующее. Поэтому Хайдеггер
останавливается перед вопросом: «Как же мы можем
постигнуть то, что определяет нас самих?» — и особенно
выразительно подчеркивает, чтомш «метафизика», ни «диалектика»
в их стремлении найти «исторический» подход к языку как
к «объекту» не достигают своей цели, они совершают грубую
ошибку, поскольку не видят того, что язык имеет
«монологический характер»; язык —1 монолог, он говорит только сам
с собой?)
Поскольку язык — это некая непознаваемая^трансценден-
тная сущность, доступ к нему закрыт: о нем ничего нельзя
сказать, если он сам о себе не скажет. Никакая наука, в том
числе и логика, не может правильно охарактеризовать язык,
понять его сущность. Поэтому язык должен сам, своими
собственными средствами, только ему одному присущим способом
1 Heidegger M. Sein und Zeit. S. 4.
171
выразить свою сущность, выявить ее* Таким образом,
сущность языка состоит в ее выявлении. Но далее оказывается, что •
этот «первоисточник» мы не можем ни услышать, ни прочесть.
Оказывается, мы только потому и не можем подойти к языку
и его сущности как к объекту, что она, «языковая сущность»/
находится в нас самих, мы «принадлежим ей», относимся
к ней. Где же все-таки «осуществляет себя язык как
'сущность», а «сущность обнаруживается как язык»?
Индивидуальное самосознание — вот где скрывается сущность языка
или язык сущности. При этом мы должны отказаться от
понятий, отражающих объективное содержание вещей, и следовать
за Хайдеггером по пути интуитивного восприятия языка,
которое трудно или вообще невозможно выразить словами.
. Язык, по Хайдеггеру, это в первую очередь способ
существования индивидуального самосознания. «Говорить на
языке» означает «перенестись в область сущности языка»,
«попасть на то место, где обитает сущность». Язык сущности
это и есть подлинный язык (die Sprache, die Sage), в то время
как неподлинный язык — это обыденный язык (das Gerede).
Например, Angst zum Tode относится к подлинному языку,
поскольку речь идет о подлинном бытии, a Furcht (боязнь)
входит в состав неподлинного языка, поскольку оно
характеризует повседневность. Частица таинственной сущности языка
(и бытия) заложена в каждом индивиде, однако он не в
состоянии подойти к ней со стороны, так как она «возвышается» над
его разумом. Язык сущности это царство языка (и бытия).
Подлинный язык — это нечто большее, чем доступный нам
человеческий язык. Историческая языковая сущность, язык
как таковой — это то идеальное царство, из которого человек
вышел, но к которому он прикован незримыми цепями.
«Человек есть человек, поскольку он отдан в распоряжение языка
и используется им (языком) для того, чтобы говорить на
нем» К О человеке можно судить: «он есть», и это только
потому, что его человеческая сущность заключается в языке.
Итак, Хайдеггер вплотную подходит к решению вопроса
о смысле бытия, которое он определяет через структуру здесь-
бытия (Dasein), т.е. через то единственное и отличное от
других сущее, которое способно само поставить вопрос о
бытии. Человек обладает изначальным пониманием бытия; это
специфическая черта человека и не встречается ни в неживой
природе, ни в животном, ни в растительном мире. «Это сущее
(Mensch) мы определяем терминологически как Dasein. Ha-
1 Heidegger M. Unterwegs zur Sprashe. 1960. S. 241.
172
учное исследование — не единственный и не ближайший
возможный способ существования этого сущего» 1. Само Dasein
отлично от других сущих, поскольку встречается не только
среди них. Более того, оно онтически отличается тем, что в
своем бытии оно может сказать о самом этом бытии. Dasein
каким-то образом с определенностью понимает себя в своем
бытии. Этому здесь-бытию присуще то, что благодаря своему
бытию и через него оно открыто себе самому. Понимание
бытия есть характер (определенность) бытия (Seinsbestim-
mtheit). Онтическое отличие здесь-бытия заключается в том,
что оно является онтологическим. «Быть-онтологически-здесь
еще не означает: развивать онтологию. Поэтому если мы
сохраняем название «онтология» для эксплицитного
теоретического вопрошания о смысле бытия, то имеющееся в виду
(Ontologisch-sein) онтологическое бытие здесь-бытия следует
характеризовать как предонтологическое» 2. Само бытие, к
которому здесь-бытие может так или иначе относиться и всегда
так или иначе относится, называется экзистенцией. Бытие
понимает себя всегда из своей экзистенции, из возможности
для себя самого быть или не быть самим собою.
Заслуживает внимания также то, как Хайдеггер тематизи-
рует жизнь и смерть. Во «Введении в метафизику» (1935) он
писал: «Смерть — это также жизнь». Смерть — это способ
быть, который перенимает здесь-бытие, поскольку оно есть.
Смерть в самом широком смысле слова есть феномен жизни.
Тематизирование в данном случае происходит также на основе
герменевтических понятий das Ende, das Enden, Verenden, Zu-
Ende-sein, Ganze, Sterben, Ableben, Sich-vollenden, Nosh-nicht
(еще-не); fortleben, Ausstand. «Здесь-бытие не имеет
кончины». Страх перед смертью — это страх перед подлиннейшей,
безотносительной и непреодолимой возможностью бытия.
Развертывая многообразие ситуаций данной темы,
Хайдеггер показывает герменевтическую связь бытия-к-смерти
с повседневностью здесь-бытия. Но самость (Selbst)
повседневности — это безликость,' которая конституируется в
общественном устройстве и высказывается в обыденной речи.
Благодаря аналитике бытия Хайдеггер раскрывает свое
понимание языка и речи и дает определение: «Высказывание
в речи есть язык».
Язык как феномен имеет свои корни в экзистенциальной
конституции выявления здесь-бытия.
Экзистенциально-онтологическим фундаментом языка является речь. Речь изна-
1 Heidegger M. Sein und Zeit. S. 12.
2 Ibidem.
173
чально связана с чувствованием и пониманием. Речь — это
артикуляция пони мае мости, поэтому она лежит в основе
высказывания и толкования. Артикулируемое в высказывании
и речи Хайдеггер называет смыслом. Расчлененность в речевой
артикуляции как таковая называется целокупностью
значения. Значения как результат артикулируемого всегда
наполнены смыслом. Словесная целокупность, в которой речь имеет
свое собственное бытие, может разбиваться на отдельные
слова-вещи. К речевому говорению относятся слушание и
молчание. Только при этих феноменах становится понятной
конститутивная функция речи для экзистенциальности
экзистенции. Связь речи с пониманием проясняется из относящейся
к самой речи экзистенциальной возможности, из слушания. Не
случайно, если мы «не расслышали», то говорим, что «не
поняли». Слушание является конститутивным для процесса речи.
Как языковая озвученность основана на речи, так
акустическое восприятие — на слушании. На основе этой первичной
экзистенциальной способности к слушанию возможно
прислушивание, как нечто такое, что само по себе феноменально
еще первичнее, чем то, что в психологии «сначала» определяют
как слушание, ощущение тонов и восприятие звуков.
Прислушивание также имеет способ бытия (Seinsart)
понимающего слушания. Мы никогда не слышим сначала шумы и
комплексы звуков, но слышим скрипящий вагон, мотоцикл,
колонну на марше, северный ветер, стучащего дятла,
потрескивающий огонь. Хайдеггер пишет, что «нужно обладать очень
искусной и сложной ориентацией, чтобы «слышать «чистый
шум». Так же и при слушании речи другого, мы сразу
понимаем сказанное, точнее, мы уже заранее с этим другим возле
сущего, о котором идет речь» '. Даже там, где говорение
неясно или речь ведется на чужом языке, мы сразу слышим
незнакомые и непонятные слова, а не чистые звуковые
сочетания. Говорение и слушание основываются на понимании.
Тот же экзистенциальный фундамент имеет и другая
разновидность речи — молчание. Тот, кто молчит в обоюдном
говорении, может дать понять больше, чем тот, кто
беспрерывно говорит. Напротив, пространная речь ведет к неясности
понятого. Чтобы уметь молчать, здесь-бытие должно уметь
что-то сказать, т. е. обладать собственной и богатой раскры-
тостью самого себя. Здесь-бытие имеет язык. Человек (Dase-
in) показывает себя как сущеб (Seiendes), которое обладает
речью.
1 Heidegger M. Sien und Zeit. S. 164.
174
Интересна хайдеггеровская концепция языка как
поэтического мышления. Он говорит, что первоначальный язык,
праязык,— это поэзия, как «утверждение бытия»,
«утверждение истины». «Поэзия есть изначальное называние бытия».
«Мышление есть поэзия». Оно состоит в том, что дарит,
основывает и дает начало. Так постигаем мы подлинный смысл
бытия. «Язык в чистом виде — это стихотворение» '.
Хайдеггер пытается показать, что стихотворение и есть та
сфера, где пребывает мышление, выполняя свое собственное
назначение. При этом он предупреждает, что, говоря о связи
поэтического языка и мышления, он отнюдь не
руководствуется какими-либо методологическими соображениями, он
просто приглашает следовать за ним по пути, ведущему в
царство языка: этот путь и есть «образность речи», которая
характеризует поэзию. «Поэзия движется в стихии (вы) ска-
зывания и мышления». Эта стихия нас питает, однако
существо этого единства остается непонятным, и Хайдеггер
оставляет открытым вопрос о том, что составляет основу единства
высказывания, т. е. повествования как такового, и мышления,
которое всегда следует за высказыванием (Sage, Sagen).
Высказывание у Хайдеггера — это сама форма поэтического
творчества, но не сам язык. Мышление, связанное с этой
формой языка, также еще не дает нам сущности языка, оно лишь
показывает путь к этой непостижимой в своих истоках
сущности. Высказывание есть показывание, утверждает он, часто
подчеркивая также и в другой связи ту мысль, что в процессе
говорения люди становятся на путь движения к сущности
языка, к языку как таковому. Но только поэт способен
постигнуть силу, заключенную в языке, использовать могущество
и ценность слова. Слово — это такое благо, которое дано
только поэту, постигающему его тайну особым, необычным
путем благодаря своей профессиональной способности,
которую он получил свыше. Поэт, утверждает Хайдеггер, не только
достигает знания, но и проникает в отношение между словом
и вещью. Однако это не такое отношение, в котором, с одной
стороны, выступает слово, а с другой — вещь. Это отношение
сводится к тождеству: нет слова, нет и вещи, вещь есть только
там, где есть слово. Поэт своим творческим дарованием
проникает в тайну тайн, приоткрывая завесу над той загадкой,
которая не может быть решена разумом. И Хайдеггер делает
вывод: «Итак, остается загадкой: слово языка и его отношение
1 Heidegger M. Unterwegs zur Sprache. S. 16.
175
к вещи, ко всякой, которая существует;— существует ли оно
и как оно существует» '.
Язык как таковой начинает говорить именно тогда^ когда
мы. не находим подходящего слова, чтобы назвать что-либо
очень сильно нас захватывающее, то, чем мы взволнованы до
глубины души. И здесь на помощь нам приходит слово поэта.
В то время как в повседневном языке на первый план
выступает то, о чем мы говорим: вопрос, обстоятельство, намерение
и т. п., поэтический язык позволяет постигнуть сущее. Только
поэт, благодаря своему высокому дарованию, способен
проникнуть в недра языка и приоткрыть завесу его сущности,
заставить сам язык заговорить.
Хайдеггер говорит о смешении языка и мышления, из-за
которого так трудно отделить их друг от друга; в результате
и благодаря их сложному переплетению мы имеем язык,
наделенный мыслью, осмысленное употребление языка. Но для .
осмысленного употребления языка, предупреждает Хайдеггер,
главным является не то, что мыслится при его обычном
употреблении, не его обычный смысл, а то, что является
неприкосновенным в сокровищнице языка, то, что скрыто в его
глубинах. Из этой сокровищницы и черпает поэт. Мышление
и поэзия робко «заимствуют» друг у друга. Но определить,
в чем же состоит различие между ними, по мнению Хайдеггера,
совершенно невозможно, это — тайна слова. Одно он считает
установленным: поэтический язык л мышление — это два
способа высказывания. При этом он многократно предупреждает,
что опасно путать высказывание в естественной речи и поэзии
(die Sage) с высказыванием, общепринятым в логике (Die
Aussage); последнее пугает его своей связью с рациональным
мышлением, а ведь, по его утверждению, именно то
обстоятельство, что считать мышление рациональным, т,. е.
математическим, стало вековой традицией, нарушает единство языка
и мышления, незаконно вторгаясь в установившиеся
представления об их «соседстве» и «близости» 2.
Отвечая на вопрос, поставленный им самим, чем
определяется доминирующая сторона высказывания (Die Sage),
Хайдеггер говорит, что высказывание — это не только
питательная среда для поэзии и мышления, оно непосредственно
связано с сущим, с языком сущности. Высказывание как
звучание, будучи связано с сущностью вещей, позволяет нам
увидеть эту сущность. Целью высказывания, в сфере которого
1 Heidegger М. Unterwegs zur Sprache. S. 165.
2 Ibid. S. 173.
176
движутся мышление и поэзия, по Хайдеггеру, является
«соответствие» (Ent-sprechen) языку, т. е. сущности.
Важно отметить, что понятийная группа entsprechen, Ent-
sprechen, Ent-sprechung играет существенную роль. Так,
Хайдеггер писал: «Специально усвоенное и развивающееся
соответствие (Ent-sprechung), которое отвечает требованию
бытия сущего, есть философия» *.
Путем описания формальных структур здесь-бытия как
«потока» сознания человек через внутреннее бытие мира (1п-
der-Welt-sein) дает картину человеческого существования.
Человек представляется как сущее в мире, в своем бытии
связанное с космосом, землей, в своей глубочайшей основе
настроенное, понимающее существо, призванное смертью к
своей подлиннейшей возможности бытия. В любом поведении
здесь-бытия заключена забота, сущностью которой является
забегание вперед (Sich-vorweg-schon-sein). Оторвавшись от
корней своего подлинного бытия, человек тем не менее
обращен к прошлому, к своей сущности, к истине бытия. Этот поиск
истины осуществляется через язык, дающий просвет к
сущности человека, поскольку он имеет корни в его
экзистенциальной структуре.
Хайдеггер не согласен с приписыванием ему понимания
истины как несокрытости. Истина в одно и то же время и
«открыта», и «сокрыта». Полагая, что своим учением он снимает
основной вопрос философии, Хайдеггер, в то же время не
считает, что на поставленный вопрос о смысле бытия им
найден ответ. Он неуклонно проводит ту мысль, что человек
постоянно находится на пути к языку, к сущности бытия.
3. Н. Зайцева
1 Heidegger M. Unterwegs zur Sprache. S. 17J
КОММЕНТАРИИ
Закон тождества
1 Содержание издания, по которому
сделан перевод, отражено в нижеследующем предисловии Хайдеггера.
«Закон тождества» содержит неизмененный текст лекции,
прочитанной 27 июня 1957 г. на Дне факультета, в ходе празднования
500-летия Фрайбургского (Брайсгау) университета.
«Онто-теологическая сущность метафизики» — частично
пересмотренное исследование, представляющее собой резюме семинара по
гегелевской «Науке логики», который проводился в зимнем семестре
1956—1957 гг. Доклад был прочитан в Тодтнауберге 24 февраля
1957 г. «Закон тождества» смотрит вперед и назад. Вперед в область,
на которой основывается обсуждение в докладе «Вещь». Назад, в
область происхождения сущности метафизики, чья сущность
определяется через «различие».
Взаимопринадлежность «тождества» и «различия» представлена
в данной публикации как предмет размышления.
До какой степени сущность различия проистекает из сущности
тождества, должен решить сам читатель, прислушиваясь к
согласованности, царящей между Событием (Ereignis) и Решением
(Austrag).
Доказать в этой области нельзя ничего, но можно кое-что
показать.
Тодтнауберг, 9 сентября 1957 г.
Доклад «Вещь», на который ссылается Хайдеггер (издан в
1954 г. в сборнике «Vortrage und Aufsatze»), опубликован у нас в
переводе В. В. Бибихина (см. «Историко-философский ежегодник 89»
М., 1989).
2 Фрагмент В 3 в собрании Дильса (у Маковельского — В 5).
3 «Животное разумное» (лат.). f
4 Слово Ereignis, которое Хайдеггер делает ключевым в этой
работе (и — в известной мере — во всем своем позднем творчестве)/
вряд ли целесообразно переводить на другие языки, на что указывает
и сам философ, сравнивая его с китайским понятием-символом «Дао».
В то же время оставить в тексте перевода «Ereignis» нельзя, поскольку
это нарушило бы единство языковой ткани статьи. (Хайдеггер
недаром начитал эту работу на пластинку: в ней важны и ритм и
интонации). Предлагаемый мною перевод дает самое общее значение
Ereignis: Событие. Но какая-то часть семантической игры при этом
сохраняется. В слове Событие звучат и «бытие», и «собственность»,
и «собирание», и обращение к «себе». Оппозиция Ereignis-Enteignis
и вся игра с «eigen», на которую, конечно, надо направлять внимание
при чтении оригинала, к сожалению при этом не передается. Однако,,
слово Событие все же позволяет размышлять о связи свершения
178
и отвержения, обретения и отъятия, освоения и отчуждения овладения
и изъятия, события и за-бытия.
6 Singularia tantum (лат.) — слова, которые употребляются
только в единственном числе.
Время и бытие
1 Доклад «Время и бытие» был прочитан 31 января 1962 г. в
возглавляемой Е. Финком школе Studium Jenerale в университете
г. Фрайбурга. Заключенный в скобки текст был написан одновременно
с основным текстом доклада, но не был произнесен в 1962 г. Впервые
текст доклада (вместе с параллельным французским переводом) был
опубликован в юбилейном сборнике «Стойкость мысли» в честь Жана
Бофрэ (которому в 1946 г. было адресовано и знаменитое «Письмо
о гуманизме») — «L'endurance de la pensee». Paris, 1968.
«Время и бытие» — так в основном сочинении раннего творчества
«Бытие и время» Хайдеггером был озаглавлен в набросках
ненаписанный тогда третий раздел первой части. Как признавался сам
философ (см.: Heidegger M. Zur Sache des Denkens. Tubingen, 1969.
S. 91): «Достаточная разработка указанной в названии «Время и
бытие» темы в то время оказалась автору не по плечу. Публикация
«Бытия и времени» была в этом месте прервана. То, что содержит
сейчас, спустя три с половиной десятилетия, написанный текст
доклада, нельзя просто добавить к тексту «Бытия и времени». Правда,
остался ведущий вопрос, что все же лишь означает, что он стал еще
более достойным вопрошания и еще более чуждым духу времени».
Свою задачу в «Бытии и времени» философ формулировал так: «Есть
ли у нас сегодня ответ на вопрос, что мы на самом деле понимаем под
словом «бытие»? Нет. Поэтому так нужно, чтобы мы снова подняли
вопрос о смысле бытия... прежде всего необходимо пробудить
понимание смысла этого вопроса. Моей задачей и будет поставить вопрос
о смысле бытия и поставить его конкретно» (Heidegger M. Sein und
Zeit. Tubingen. 1929. S. 3). Отказ от публикации «Времени и бытия»
в составе «Бытия и времени» в 1927 г. исторически засвидетельствовал
неадекватность метода и категорий раннего — экзистенциального —
периода творчества философа для выхода мышления к бытию.
Используемый в «Бытии и времени» феноменологический метод,
выделяющий из многообразия опыта человека трансцендентальные или же,
по Хайдеггеру, онтологичные структуры, хотя и обнаружил временной
характер человеческого бытия, но не дал перейти собственно к бытию.
Трансцендентальные структуры все же остались структурами челове-ч
ческого опыта, очертив горизонт человеческой свободы,
раскрывающей темпоральностьОаэет.они по-прежнему выражали лишь
человеческую точку зрения — субъективную, пусть не только
гносеологическую, но и экзистенциальную. Хайдеггер описал неудачу своего
«гигантского эксперимента» в «письме о гуманизме» такЛМышление
не достигло своей цели с помощью языка метафизикой (Heidegger
М. Ober den Humanismus. Frankfurt am Main, 1975. S. 12£)гЬ позднем
же периоде творчества Хайдеггер, осознавая себя неметафизическим
мыслителем, уже не претендует на преодоление метафизики, о чем он
заявил в раннем периоде (таким образом, использованный ранее
метафизический язык явился для него ненужным, даже опасным
аппендиксом), философ уже просто предлагает «предоставить метафизику
самой себе, оставив ее». Путь к бытию (если сойти с «тупикового» пути
метафизики, означает для Хайдеггера прежде всего отказ от
общепринятой в «цехе» философов терминологии и создание собственного
179
философского «жаргона», затрудняющего восприятие
непосвященными мыслей автора, поскольку для этого «жаргона» к тому же
характерна программная неконцептуальностьЛЭтот новый философский
язык, который часто называют поэтическим или мифо-поэтическим,
отличается этимологизированием (не всегда законным, с точки зрения
филологов-специалистов), любованием сокровенным корнем слова,
а значит и намеренной многозначностью,— она является для Хай-
деггера той стихией, в которой должна двигаться мысль, чтобы
оставаться строгой. Во введении к данному докладу Хайдеггер,
отвоевывая право мыслителя говорить непонятно, пытается уйти в новые
реальности — дальше слоя видимости (общепринятых
представлений). Традиционная западноевропейская субъективность
(нацеленность на субъект, рассмотрение субъекта как точки отсчета)
«раннего» Хайдеггера, не позволила ему выйти к бытию как таковому, своей
«негодностью» обусловила переход к объективности, к безличностно-
объективистскому языку, на котором философ теперь (во «Времени
и бытии») строит безличностно-бытийственную картину мира —
скорее ие мира, а слабо и по-новому расчлененного универсума, в котором
«правит» свой новый — он же архистарый — «владыка», и в котором,
по Хайдеггеру, найдется место и истине, и человеку (ему нужно
сделать себя агентом этого универсума, подключиться к нему, войти
в него так, чтобы сделаться его органом).
2 Anwesen — в современном немецком языке имеет значение
«небольшое владение, земельный участок, хутор», при
переосмыслении Хайдеггером этого слова все же сохраняется старый оттенок места
для житья, для обитания, места, куда кто-то приходит, чтобы жить.
Хайдеггер понимает Anwesen как присутствие (Anwesenheit) глаголь-
но от wesen «существовать сущностно, сущности иться, сутьствовать»
(существовать как данная вещь, явление, не просто быть, а быть чем-
то — какой-то определенной для каждого случая сущностью).
Образованный с помощью приставки an (указывает на приближение,
начало действия, прикрепление), глагол anwesen—«выходить в
существование как такая-то сущность, развернуть свою сущность,
прибывать, входить в присутствие» — призван Хайдеггером, чтобы
освободиться от традиционной статичности сущности и присутствия и
прорваться через их разграничение и разведение к их первоначальному
единству, вернуть временной характер бытию.
Anwesen — присутствие {пребывание и постоянное прибывание,
прилив сущности). Anwesen — сущность по-гречески понятого бытия
(haQovoia) представляется философом как действие присутствова-
ния, выступания сути, выхождение из «потаенности», «сокрытности»,
самопроизвольное вырастание. Anwesen, как и русское слово
«присутствие»— калька с латинского «praesentia», которое переводит,
в свою очередь, греческое «Яадогэоча». Смысл anwesen становится
более явным при перекличке с abwesen — отсутствие, уход из
присутствия, уход в Gewesen — побывшее, прошедшее (результат
действия глагола wesen, понимаемого как переходный — как дать
существовать)
3 Динамика Anwesen лучше передается как «присутствование»
(действие присутствия), статичность Anwesenheit — как
присутствие.
4 Jedes Ding Hat seine Zeit — ср. русскую пословицу «Всякому
овощу — свое время».
5 «Der Horsaal ist beleuchtet» — дословный перевод: «Этот
лекционный зал есть освещенный».
6 Er hat das Zeitliche gesegnet.
180
vergehen — проходить, протекать, постепенно уходить,
прекращаться, пропадать.
• Bleiben heipt: Nicht — Verschwinden, also Anwesen.
Vergehen — протекание, прохождение, уход.
10 «Sache» — вещь, предмет, дело, вопрос. Хайдеггер понимает
«Sache», как то, что спорно, что под вопросом: «Выражение «Sache»,
«Sache des Denken» (тема мышления) означает, если исходить из
старого смысла слова (Sache—судебное дело, судебная тяжба),
спорное дело, нечто спорное, то, в чем дело, то, о чем идет речь. Die
Sache должно означать для все еще неопределенного мышления zu
Denkende — то, что должно мыслиться, из чего мышление получает
свое определение» (Heidegger M. Protokoll zu einem Seminar fiber den
Vortrag «Zeit und Sein» // Zur Sache des Denkens. Tubingen, 1969.
S. 41).
1 das Ver haltnis — соотношение, связь, отношения, условия,
понимается Хайдеггером как результат (приставка ver — выражает
постепенное прекращение действия) действия halten — держать,
содержать, уметь, удерживать. Дословный вариант перевода: бытие
и время, время и бытие называют такое держание обоих предметов,
такое взаимодержание дел, которое держит оба предмета друг к другу
и выдерживает их.
12 Es gibt Sein, es gibt Zeit — безличный оборот Es gibt
(дословный перевод — оно (это) дает) — дано, имеется, есть (в
наличии). Дальнейшее продвижение рассуждения Хайдеггера строится на-
истолковании этого «Es» — неопределенно-личное местоимение,
которое (при дословном переводе) «дает».
13 in Sein Eigenes. Das Eigenes — субстантивированное
прилагательное от eigen — собственный, личный, свойственный,
своеобразный, особенный. Das Eigenes — хайдеггеровское обозначение
сущности, того, что для вещи будет своим.
14 er-geben — составлять, давать в итоге (получать).
15 das Anwesenlassen — отглагольное существительное от anwe-
senlassen — позволить присутствовать, разрешить присутствовать,
пустить и отпустить в присутствие.
16 das Unverborgene — непотаенное (хайдеггеровское понимание
греч. aA/f|#eia обычно переводят как «истина»). Несокрытое,
непотаенное — это особо, необычно потаенное, «подчеркнуто и явственно
сокрытое», но вместе с тем и открытое (какой-то стороной),
приоткрытое (отрицательная частица un понимается и как усилительная, и как
уподобительная).
17 das Anwesen-lassen lassen выделяется курсивом, чтобы наше
внимание обратилось от присутствия присутствующего к тому, что
присутствующее впущено в присутствие, допущено в него, что
присутствующее в своем присутствии позволено (Хайдеггер любил
вспоминать слова Шеллинга, что основной вопрос метафизики: почему
вообще есть сущее, а не, наоборот, ничто?). Хайдеггер, различая
Anwesenlassen (позволение присутствовать присутствующему) и
Anwesenlassen (позволение присутствовать) (т. е. мышление идет
в направлении к das Ereignis — событию), писал: «В первом случае
присутствие (как позволение присутствовать) относится к сущему,
к присутствующему, следовательно, подразумевается лежащее в
основе метафизики различие между бытием и сущим и отношение обоих.
Lassen при этом означает, исходя из первоначального смысла слова:
выпускать (отправлять), отпускать, отложить (от себя), дать уйти,
т. е. освободить, дать путь в открытое. Оставленное этим «пусть»
позволения присутствовать присутствующее впускается в открытое
181
соприсутствующего прежде всего как присутствующее для себя.
Несказанным и достойным вопрошания при этом остается, откуда и как
дано «открытое».
Но теперь, если мыслится собственно позволение присутствовать,
это позволение касается уже не присутствующего, а самого
присутствия. Соответственно этому и слово в дальнейшем пишется так: das
Anwesen-Lassen — Позволение присутствовать. В таком случае
Lassen означает: допускать, давать, протягивать, посылать, дать
принадлежать. В этом позволении и через него присутствие (Lassen)
допущено Чуда, куда оно принадлежит.
Определяющий все двойной смысл присутствует таким образом
в Lassen — позволении, а стало быть, соответственно этому, и в Anwe-
sen — присутствии. Не лишено трудности соотношение двух
противопоставленных с помощью «Но теперь» и расположенных в разных
абзацах частей, между которыми есть определенная связь. Говоря
формально, между обоими членами противопоставления существует
отношение определения (одного через другое): «Лишь поскольку дано
позволение присутствия, и возможно позволить присутствующему
присутствовать. Но как мыслить собственно это отношение, как
определять засвидетельствованное различие, исходя из das Ereignis —
события, было лишь намечено» (Heidegger M. Protokoll zu einem
Seminar fiber den Vortrag «Zeit und Sein». S. 40).
18 in seinem Eigensten. Das Eigenste — (субстантированное
прилагательное — превосходная степень OTeigen. Das Eigenste чего-то —
особеннейшая, глубочайшая собственность, сердцевина сущности,
самое собственное, самое личное, самое свое, самое его, самое
«хвойное» (см. также прим. 13).
19 der Bestand — в современном немецком языке имеет значение
«состояние, наличность, запас, фонд, состав, поголовье», принимается
Хайдеггером как то, «что выступает благодаря производящему по-
ставлению... Его во всех случаях заставляют установленным образом
стоять в распоряжении, а именно с установкой на его предоставление
для дальнейшего поставляющего производства. То, что поставлено
таким образом, стоит на своем особом положении. Назовем его
наличным составом (Bestand)» (Хайдеггер М. Вопрос о технике//
Проблема объекта в современной науке. Реф. сб. ИНИОН АН СССР.
М., 1980. С. 180).
20 Обычно это изречение Парменида переводят: «(Только) бытие
есть», «Бытие ведь есть», «Одно существует лишь бытие» (Парменид.
Фрагменты о природе// Фрагменты ранних греческих философов.
Ч. I. С. 288).
21 v«Q (греч.) —ведь, же (усилительное, выделяющее слово).
22 Es vermag — безличный оборот (обычно переводится
«возможно», ср. прим: 12).
23 das Geschichte — субстантивированное страдательное
причастие от глагола «schicken» — посылать, обозначает результат
посылания, посланное, «послание». В связи с руководящим, путеводным
(leitende) смыслом das Geschick (судьба, рок) переводится как посыл,
посыл судьбы, отправление (ср. русское выражение «что пошлет нам
судьба?»).
24 Geschehen — то, что происходит, событие, происходящее.
25 An-sich-halten seiner selbst — себя-самого-в-себе-сдерживание
(удерживание, не-выпускание, охранение, сохранение).
6 die Gegenwart. Одна из специфических трудностей текста
проистекает из того, что по-немецки присутствие может выражаться
с помощью как «Anwesenheit», так и «Gegenwart» (другое — и рав-
182
ноправное значение■»— современность, настоящее). Хайдеггер
обыгрывает эту ситуацию, в свою очередь, истолковывая «Gegenwart» как
«идти пребывать нам навстречу» (см. прим. 31).
27 anwahren — глагол, образованный от wahren — продолжать-
ся, длиться — с помощью приставки приближения и начала действия
an. В wahren Хайдеггером слышится перекличка с gewahren —
исполнять, предоставлять (die Gewahr — гарантия, ручительство,
поручительство) и с wahren — хранить, беречь, охранять (wahr — истинный,
настоящий, действительный). Таким образом, длящееся — это
исполненное, истинное и хранимое, то, за что поручаются и о чем пекутся.
28 das Weilen — субстантивация глагола weilen — находиться,
длиться, в котором «слышится» покой (die Weile — некоторое время,
досуг). В «Положении об основании» Хайдеггер писал: «Weilen
(длиться) означает: продолжаться (wahren), оставаться спокойным,
в самом себе и соблюдать себя именно в покое» (Heidegger M. Der
Satz vom Grund. Pfullingen, 1957. S. 208).
29 das Verweilen — существительное, образованное от глагола
verweilen пребывать (ver — указывает на постепенное прекращение
действия или состояния, weilen — находиться, длиться). Пребывание
как результат прекращения усилий, которые необходимы для
поддержания чего-то как длящегося, находящегося, усилий на
преодоление неустойчивости, временности дления, ослабление и замирание этих
усилий — переход из дления в пребывание.
30 Anwesen gent uns an — обыгрывание многозначности глагола
an gene n — обращаться, касаться, иметь отношение к кому-то,
затрагивать кого-то, иметь дело до кого-то (буквально слышится:
приближаться, идти к кому-то, отправиться к кому-то). Это предложение
можно перевести и так: присутствие обращается к нам, приближаясь;
присутствие касается нас, приближаясь.
31 uns entgegenweilen.
32 erreichen.
33 das Gereichte.
34 das Ereignis — обычный перевод «событие» — понимается
Хайдеггером как присвоение (oTeignen — годиться, подходить), a
ereignen -— как присваивать (в современном немецком глаголы с корнем
eignen имеют значение различных действий с собственностью,
например, ubereignen — передавать, переводить что-то в собственность).
Присвоение же переосмысляется Хайдеггером (в соответствии с
eigen — свой, собственный, личный, особый) как вы-своение, о-собле-
ние, обособление. Таким образом действие ereignen дает всему
возможность быть самим собой, что означает для сущего — быть
особью, особенным, присутствию — «присутствовать», времени —
«времениться». Das Ereignis — событие, которое дает возможность
всему быть самим собой, позволяет всему идти к себе, высваивая это
нечто, о-сваивая его, о-собляя его, приводя его в его собственность
и через это присваивая его (это нечто) как это нечто, как таковое.
55 Ereigen — отглагольное существительное, образованное от
ereignen. Это ereignen в действии: присваивание через вы-сваивание,
о-собление. Доклад «Время и бытие» примечателен тем, что в нем
«Es» (из «Es gibt Sein» — дано бытие, «Es gibt Zeit» — дано время)
понимается и раскрывается как Ereignis. В «Письме о гуманизме»
(1946) Хайдеггер еще не отличает «Es» от бытия: «Это «Es», которое
здесь gibt (дает), есть само бытие. В этом случае «gibt» именует
сущность бытия как дающую, предоставляющую свою истину. Отдавание
себя (Sichgeben) в открытое... есть само бытие» (Heidegger M. Ober
den Humanismus Frankfurt am Main, 1975. S. 23).
183
36 Enteignis. Epteignis проявляет себя как забвение бытия (Se-
insvergessenheit): Г«Метафизика— это история «чеканок» бытия,
т. е. история того, сточки зрения Ereignis (присвоения), как
посылающее уклонялось в пользу данных в посылах посланий действующего
позволения присутствовать присутствующему. Метафизика — это
забвение бытия и, таким образом, история скрывания и ухода того, что
дает бытие. Заход (die Einkehr) мышления в Ereignis (присвоение)
равнозначен в таком случае концу этой истории ухода. Забвение
бытия «снимает» себя, пробуждаясь в Ereignis (присвоении).
Но скрывание, которое принадлежит метафизике в качестве ее
границы, должно быть собственностью самого Ereignis (присвоения).
Это означает, что уход, который в виде забвения бытия отличал
метафизику, теперь проявляет себя как измерение самого скрывания.
Только теперь это скрывание себя не скрывает (что верно скорее не
для него самого, а для вслушивающегося мышления^
Таким образом, лишь с заходом мышления в Ereignis
(присвоение) выходит присущий ему способ сокрытия. Das Ereignis (высвое-
ние) есть в самом себе Enteignis (отчуждение), это слово вбирает
в себя раннегреческое Му&ц в смысле присваивающего (ereignishaft)
сокрытия (Heidegger M. Protokoll zu einem seminar fiber den Vortrag
«Zeit und Sein»//«Zur Sache des Denkens». Tubingen, 1969. S. 44.).
37 Das Ereignis ereignet —• Событие бытийствует. Событие
сбывается. Событие свершается. Освоение осваивает. Высвоение высваива-
ет. Особление особляет. Трудность описания Ereignis: оно не знает ни
времени, ни пространства, исключает множественное число, оно одно,
это то, что позволяет всему быть собой.
Протокол к семинару по докладу
«Время и бытие» (отрывок) *
В других работах Хайдеггер раскрывал, «что присваивается
присвоением, т. е. что приводится в свое собственное (ins Eigen) и
сохраняется в im Ereignis (присвоении): а именно —
взаимопринадлежность бытия и человека. В таком случае в этой взаимопринадлежности
взаимопринадлежащими будут уже не бытие и человек, а в качестве
присвоенных — смертные Биквадрате мира. О присвоенном, о квадрате
каждый раз по-разному говорят доклады «Земля Гель дер л и на и небо»
(Гёльдерлинский ежегодник, 1960, с. 17 и далее) и «Вещь». К этому же
относится и все сказанное о языке как сказе.
Таким образом в мышлении Хайдеггера уже много было сказано
о том и для того, что присваивает присвоение, пусть лишь
предварительно, в виде преднамека. Поскольку для этого мышления дело
заключается прежде всего лишь в подготавливании захода в
присвоение, то, что о присвоении остается сказать,— лишь, что «Присвоение
присваивает», и таким образом не исключает, а как раз включает це-
* Перевод с издания Heidegger M. Protokoll zu einem seminar
fiber den Vortrag «Zeit und Sein»//«Zur Sache des Denkens». Tubingen,
1969. S. 45—50. Текст «Протокола...» был записан его участником
А. Гуццони, а затем проверен и дополнен самим Хайдеггером. Семинар
(6 заседаний) проводился в сентябре 1962 г. в Тоднауберге
(Шварцвальде) .
184
лое богатство того, что должно мыслиться в самом присвоении. Тем
более что в отношении к человеку, вещи, богам, земле и небу, стало
быть, в отношении к присвоенному, всегда остается осмыслить, что к
присвоению сущностно принадлежит отсвоение, отчуждение (Enteig-
nis). Но Enteignis — заключает в себе такой вопрос: отчуждение
куда? Направление и смысл этого вопроса более не обсуждались.
В начале четвертого заседания ведущим опять был вопрос,
направленный на дальнейшее осмысление цели доклада.
В «Письме о гуманизме» (издание Клостерманна, с. 23) говорится
следующее: «Поскольку это Es, которое здесь дает, есть само бытие».
Это недвусмысленное высказывание приводилось как свидетельство,
не согласующееся с докладом «Время и бытие», цель которого —
мыслить бытие как событие (Ereinis) — вела к преобладанию
события, к исчезновению бытия. Исчезновение бытия не согласуется не
только с этим местом в «Письме о гуманизме», но и с тем местом
самого доклада (с. 22), в котором говорится, что единственная цель
доклада заключается в том, чтобы «ввести в поле зрения само бытие
как событие (Ereignis).
По этому поводу было сказано, что событие (Ereignis), во-
первых, называется, именуется титулом «само бытие» в упомянутом
месте «Письма о гуманизме», вызывающем вопросы (и так почти
везде). «Отношения и связи, составляющие сущностную структуру
события, были разработаны между 1936 и 1938 годом.) С другой
стороны, дело заключается в том, чтобы увидеть, что в то время как бытие
входит в поле зрения как событие, оно исчезает как бытие. Между
этими высказываниями нет никакого противоречия. Оба называют
разными способами выражения то же самое положение дел.
С тем же успехом можно сказать, что исчезновению бытия
противоречит название доклада — «Время и бытие». Это название
хочет стать указанием для дальнейшего продвижения от «Бытия
и времени». Оно не означает, что «бытие» и «время» будут удержаны
и в конце доклада о них как о таковых снова должна идти речь.
В противоположность этому событие (Ereignis) надо мыслить
так, чтобы оно не могло удержаться ни как бытие, ни как время. Оно
как будто «нейтральное tantum», нейтральное «и» в заголовке «Время
и бытие». Однако это не исключает того, что в событии сомыслятся
также и посылание, и простирание, так что известным образом бытие
и время остаются «существовать».
Также слушателям напомнили о тех местах «Бытия и времени»,
в которых уже употреблялось «дано», при этом оно не мыслилось
прямо в направлении события. Сегодня эти места выглядят как
половинчатые попытки разработки вопроса о бытии, попытки указать
этому вопросу соответствующее направление, попытки, которые еще
остались в недостаточном. Поэтому дело заключается в том, чтобы
увидеть в них ту тематику и мотивы, которые указывают на вопрос
о бытии и им определяются. А то при исследовании «Бытия и времени»
слишком легко начинают рассматривать отдельные части как
самостоятельные вещи, которые в таком случае будут явно недостаточно
завершенными. Так, например, вопрос о смерти исследуется лишь в
тех пределах и исходя из тех мотивов, которые были определены
конкретной целью — разработкой временности.
Сегодня уже трудно представить, как велики были трудности,
стоявшие на пути вопрошания вопроса о бытии, на пути к тому, чтобы
начать вопрошание и провести его. Философия в рамках тогдашнего
неокантианства должна была быть услышана как философия, которая
удовлетворяет требованию мыслить по-кантиански, критически, тран-
185
сцендентально. Онтология была предосудительным словом. Сам
Гуссерль, который в своих «Логических исследованиях» — прежде всего
в IV части — подошел к подлинному вопросу о бытии, не смог этого
выдержать в тогдашней философской атмосфере. Он, действуя под
влиянием Наторпа, совершил поворот к трансцендентальной
феноменологии, достигшей своей высшей точки в «Идеях». Но тем самым
Гуссерль отказался от принципа феноменологии. Это вторжение в
феноменологию философии (в виде неокантианства) имело своим
следствием то, что Шелер и многие другие расстались с Гуссерлем, пусть
при этом и остается открытым вопрос, было ли это отделение (и каким
образом) результатом следования «К предмету мышления».
Все это было упомянуто ради прояснения возможного вопроса
о способе продвижения в докладе. Это продвижение может быть
названо феноменологическим, поскольку под феноменологией
понимается не какой-то особый способ и направление философии, а что-то,
что правит в каждой философии. Это что-то лучше всего можно
назвать известным выражением «К самому предмету». Именно в этом
смысле исследования Гуссерля резко выделялись на фоне способа
продвижения неокантианства как что-то новое и неслыханно
возбуждающее, как это первым увидел Дильтей (1905). В этом смысле
и про Хайдеггера можно сказать, что он сохранил подлинную
феноменологию. На самом деле без феноменологической основной установки
вопрос о бытии не был бы возможен.
Поворот Гуссерля к проблематике неокантианства в «Философии
как строгой науке» (Логос I, 1910(11) (важная работа, которой
сегодня уделяется явно недостаточное внимание), этот поворот
свидетельствовал о разрыве с Дильтеем (и тот факт, что Гуссерлю не
хватало живого отношения к истории, способствовал этому). В этой
связи среди всего прочего было также упомянуто, что Гуссерль
воспринял «Бытие и время» в рамках своей концепции региональных
онтологии как региональную онтологию исторического.
Четвертое заседание проходило как обсуждение вопроса,
относящегося к уже приведенному выше важному месту на с. 5 («Бытие,
благодаря которому...» до «...т. е. дает бытие»). Этот вопрос об
отношении бытия и времени к событию спрашивал, имеется ли между
названными понятиями — присутствование, присутствие, раскрытие,
давание и присвоение — дтношение ступенчатого роста все большей
изначальности (первоначальности) от присутствия через позволение
присутствовать и т. д. Будет ли движение в вызывающем вопросы
разделе доклада (до введения термина «присваивание») сведением к все
более первоначальному (на каждом этапе) основанию.
И если речь идет не о все большей изначальности, то встает
вопрос, каково различие и отношение между названными понятиями.
Эти понятия представляют собой не ступени лестницы, а остановки на
пути, который открывается благодаря предварительному забегу в
присвоение.
^1оследовавшее за этим обсуждение в сущности касалось смысла
того, как внутри метафизики присутствие определяет присутствующее,
благодаря этому в снятии должно стать яснее, какой характер имеет
обратное движение, которое слишком легко можно принять за
подготовку все более первоначального основания.
Присутствие присутствующего — т. е. позволение
присутствовать присутствующему — понималось Аристотелем как I7oir\aiq.
Последнее, впоследствии истолкованное как creatio, шло по линии все
возрастающей значительной простоты к полаганию, которым и
является трансцендентальное создание предметов. Так проявляется то, что
186
основной чертой позволения присутствовать в метафизике будет
произведение в своих разнообразных видах. В противоположность этому
Платоном, хотя в его поздних трудах (прежде всего в «Законах»)
поэтический характер vovg выступает вперед все больше,
определяющее Отношение между присутствием и присутствующим понимается не
как яоtreats. В тсохаА,© выражается лишь nagovoia (присутствие)
xaA,6v при хаАдх, при этом этому присутствию (Beisein) не подходит
смысл поэтического в отношении присутствующего. Но это
свидетельствует о том, что у Платона определение присутствующего
присутствием осталось непомысле иным, поскольку у него нигде нет разработки,
что есть эта подлинная jiaQovoia, нигде специально не выражено, что
совершает эта Jiagovaia по отношению к ovra. Этот пробел не
закроешь и тем, что Платон пытался постичь отношение присутствия
к присутствующему метафорой света — т. е. не как noir\ois, делание,
а как свет, хотя, несомненно, в этом есть определенная близость к Хай-
деггеру. Ведь мыслимое Хайдеггером позволение присутствовать, хотя
оно в спорном месте доклада подразумевается нейтральным и
является (и должно быть) открытым (в отличие от всех способов делания,
конструирования и т.д.), все же мыслимое Хайдеггером позволение
присутствовать — это выведение в открытое. Таким образом, в этом
теперь выражается греческое, свет и явленность. Однако остается
вопрос: что могло бы (но все еще не может сказать) метафорическое
указание на свет?
Благодаря отношению позволения присутствовать к aXr\fteia
полностью отпадает вопрос о бытии сущего в кантовской постановке —
как вопрос о конструировании предметов, хотя сама позиция Канта —
при4 ретроспективном рассмотрении — должна пониматься с точки
зрения d^Tifteueiv, о чем свидетельствует у Канта выдвижение на
первое место силы воображения.
Отрешенность
1 Эта речь была произнесена на праздновании 175-й годовщины
со дня рождения композитора Конрадина Крейцера 30 октября
1955 г. в Мескирхе, опубликована в 1959 году совместно с диалогом
между ученым, филологом и учителем «К вопросу об отрешенности»
(Из разговора на проселочной дороге) («Zur Ererterung der Gelas-
senheit» (Aus einem Feldgesprach uber das Denken) указ. издание.
S. 31—73). Подробная запись этого разговора была сделана еще в
1944—1945 гг., потом он был значительно сокращен. В разговоре
проблематика, изложенная в речи памяти К. Крейцера, доступно, но
декларативно, без уточнения свойств осмысляющего мышления,
прорабатывается более детально и глубоко.
2 Конрадин Крейцер (1780—1849) — плодовитый композитор,
родился в Мескирхе, родном городе М. Хайдеггера, некоторые его
хоры и оперы и сейчас хорошо известны в ФРГ.
3 Gedenkfeier — торжество в память кого-либо, образовано от
глагола gedenken — помнить, вспоминать кого-либо, который также
имеет значение — думать, отсюда — требование М. Хайдеггера
думать на торжестве в память К. Крейцера.
4 das besinnliche Nachdenken — «думание вслед за чем-то (после
чего-то)».
5 das denkende d. h. sinnende Wesen.
6 boden-standig — коренной, местный, оседлый (дословный
перевод — «стоящий на почве»).
137
7 die Bodenstandigkeit — оседлость, существительное,
образованное от bodenstandig.
8 die Gelassenheit zu den Dingen — неологизм М. Хаидеггера.
Современное значение Gelassenheit — спокойствие, хладнокровие,
невозмутимость (образовано от глагола lassen оставлять, давать
возможность, позволять, разрешать кому-либо делать что-то), в
средневековой немецкой мистике оно использовалось в смысле «оставить мир
в покое, таким, какой он есть, не мешать естественному течению вещей
и предаться богу» (так использовал это слово Мейстер Экхарт (1260—
1228). Другие варианты перевода: освобожденность, освобождение,
свобода от вещей (техники).
9 Die Offenheit fur das Geheimnis.
Из разговора на проселочной, дороге о мышлении
1 Der Fachmann — ученый-специалист в какой-то узкой,
конкретной области, der Gelehrer — ученый-эрудит, напичканный ученостью,
зачастую оторванный от жизни, начетник. В реалиях нашего общества
самое близкое соответствие — гуманитарий, тогда как стремление все
разложить по полочкам, а также интерес к отношению между
человеком и вещью в науках о природе и в технике соответствует
«представителю научно-технической интеллигенции» (естественнику или
«технарю») Роль же учителя (der Lehrer) — направляющая и
синтезирующая: он как бы знает за ход вперед (за мыслительный ход — шаг
разговора), что требуется найти, осмыслить, что «должно быть
поставлено под вопрос». Вспоминается Сократ платоновских диалогов,
однако роль собеседников учителя у Хаидеггера представляется более
активной и независимой от ведущего, чем у Платона, у которого
зачастую реплики хдругих участников лишь «диалогически» обрамляют
монолог Сократа. Утверждение же Сократа, что до начала беседы он
сам не знает, к чему он придет, что он может выяснить что-то лишь
в ходе диалога, верно для считанного числа диалогов. Обычно же
Сократ довольно «принудительно» ведет своих собеседников к тому,
что уже открыто ему самому.
2 Игра слов: der Willen — воля, das Wollen — субстантивация
глагола wollen — хотеть, желать, волить,— хотение, волвние.
3 Aussprechen. Дословно — обращено ко мне, обращается ко мне.
Перевод усиливает любимую мысль Хаидеггера об особой миссии
человека помыслить, а именно дать место в своем сердце и памяти
всему, что его окружает, всему, что должно быть помыслено и
осмыслено.
4 Sich anlassen — пускаться на что-то, принимать участие в чем-
то, der Einlap — впуск, доступ, допуск, einlassen — впустить,
запустить, дать войти внутрь.
5 Die Gelassenheit — спокойствие, хладнокровие,
невозмутимость — субстантивация состояния, выраженного причастием gelas-
sen от глагола lassen — 1) оставлять, бросать, переставать, 2) дать
(возможность) делать что-то, позволить, разрешить, не мешать. Весь
этот куст значений присутствует в Gelassenheit — в состоянии, в
котором человек оставляет «вещи в покое», сам остается в покое, оставляет
все идти своим ходом (имеется в виду скорее не «оставим кесарю
кесарево», а недеяние даосов, познавших путь мира — дао). Вещи и д£ла
мира наконец оставляют человека в покое не потому, что человек
изымается из переплетения цепей, а* благодаря тому, что человек
занимает другую позицию по отношению к ним (см. юбилейную речь'
188
«Отрешенность» настоящего издания). В отрешенности наличествует
отпущенность, отвязанность (от злобы дня), «отволенность» (когда
можно избавиться от необходимости хотеть и применять волю для
достижения), таким образом, отрешенность — это еще и
освобождение (releasement — перевод на английский язык) от хотения и
желаний — и для чего? (см. дальше «Разговор...»)
6 Zu lassen — позволить, разрешить, допустить.
7 Lassen — позволение, разрешение, допущение от lassen
(см. прим. 5).
8 Gleitenlassen — дать скользить по плоскости.
9 Treibenlassen — дать плыть, дрейфовать. Подбор Хайдеггером
слов с корнем lassen (дать возможность сделать что-то) «сказывает»
нам любимую мысль философа: всему, что есть, разрешено, позволено
быть в течение, отведенного ему времени и в пространстве. Все, что
есть, допущено к бытию, ему разрешено быть тем, что он есть.
10 Aus dem Wollen in die Gelassenheit — возможный перевод — из
воления в OTBoVieHHOCTb.
11 Парадокс состояния безутешного горя. Вопрос «Что может
утешить в безутешном горе?» абсурден, ибо безутешное горе —
состояние, когда ждать и надеяться не на что, но все же и тут можно
научиться ждать и получить от жизни что-то, но не то, чем хочешь
утешиться. (См. далее о чистом ожидании — прим.29).
12 Die Aussicht.
13 Das Aussehen — также обличье, наружность.
14 per Gesichtkreis — также кругозор.
15 Die unszugehrte (qp. с прим. 3). Человек у Хайдеггера
находился в мире, в котором все активно, все требует к себе внимания.
Человек ангажирован всем окружающим^ но есть нечто, «более-всего-
другого требующее осмысления», чья власть над человеком
превосходит притязания всего остального.
,<J Das Offende.
17 Die Gegend — также местность, страна, окрестность.
18 Das Walten ihres Wesens.
19 Das Gegnende — субстантивированное причастие от хайдегге-
ровского неологизма — gegnen (фонетически перекликается с reg-
nen —править, царить, господствовать).
20 Die freie Weite — также пространство, ширь, даль.
21 Zum weiten Beruhen.
22 In den Weile.
23 Sie weitet. ^
24 Aufgehen — также восходить (о солнце), распускаться (о
почках).
Der Charakter — нрав, свойство, характер, вид.
26 Хайдеггер обыгрывает то, что по-немецки предмет — der
Gegenstand — будет чем-то противостоящим (gegen-standliche — от
глагола противо-стоять — gegenstehen). Предметы теряют свой jca-
рактер и вид ступенчато: сначала они не стоят против, затем они вовсе
не стоят.
27 Das Beruhen — отглагольное существительное от beruhen —
покоиться, держаться, основываться.
% Der Herd — также очаг, центр.
29 Хайдеггер противопоставляет глаголы warten — ждать и ег-
warten — так^же ждать, ожидать. Warten — ждать открыто и чисто,
erwarten — ожидать, имея ожидаемое в своем представлении, что
перечеркивает чистую сущность ожидания. В дальнейшем warten
переводится как ждать, выжидать, a das Warten — отглагольное
189
существительное от warten — как выжидание (для
противопоставления das Erwarten — ожиданию — отглагольному существительному
от erwarten).
30 Sagbar — могущий быть выраженным. Хайдеггер
рассматривает возможность называть н выражать что-либо как миростроитель-
ную силу (см. далее «Из разговора на проселочной дороге...» о
назывании).
31 Loslassen.
32 Uberlassen также побудить.
33 Vermuten — также догадываться, подозревать. Хайдеггер
всегда противопоставляет предположительность, пробный характер
поисков истины автоматизму выводов рационального мышления и
обеспечению постава в технике.
34 Veranlassen — также возбудить, вызвать. '
35 Der Gang ernes Gespraches — в представлении Хайдеггера сам
ход разговора, как и поступь прогулки, удаляющейся от места
обитания человека, обладают громадной провокативной для мышления
силой.
36 Die Veranlassung — также побуждение, инициатива.
37 Das Sicheinlassen — получение доступа, впускание себя
(см. прим. 4).
33 Ereignen (sieh). Зачастую сохраняя общеупотребительный
смысл (происходить, случаться), философ придает ему новое
значение — высваиваться, обособляться, произведя его от eignen (sich) —
годиться, подходить.
39 Eingehen.
40 Verhullen (sich) — также закутываться, покрываться,
окутываться (туманом).
41 Gelassensein — можно перевести как бытность в отпущенностн
(ср. с Gelassenheit — отрешенность, спокойствие: прочно, если и не
окончательно обретенное состояние).
42 Eignen (sich) — приспособиться, годиться, подходить.
43 Vergegnen — еще один неологизм Хайдеггера, переводится как
управлять, господствовать, властвовать. Die\ Gegend vergegnet —
возможный перевод — Почва почвует.
44 Die Gegend west.
45 Die Vergegnis — отглагольное существительное со значением
результата от vergegnen (прим. 43). В дальнейшем переводится как
призыв.
46 Bedingen — обусловливать, перекликается с das Ding^ вещь.
47 Die Bedingnis — отглагольное существительное, результат
действия глагола bedingen. Другой перевод — обусловливание.
48 Erreichen.
49 Ichkeit.
60 Ereignen (sich) — в данном случае вершится, сбывается,
свершается (см. прим. 38).
61 Die Unverborgenheit und Entbergung.
52 Das Verborgen Wesende der Wahrheit.
53 Die Ausdauer от глагола ausdauern — терпеть, выносить,
выдерживать.
54 автоцитата Хайдеггера. ^
65 Das verborgen Wesende der Wahrheit
66 Fur weite Bestandnis.
57 Im UnvordenkHchen дословно в непомыслимом, в
пред-мыслимом.
58 Hfnzufugten.
190
59 Das Wesen des Menschen der Gegnet vereignet 1st.
60 Nahern — сближает.
61 Die Naherin — швея.
Что значит мыслить?
1 Доклад «Was heifit Denken?» передавался в мае 1952 г. по
баварскому радио, опубликован в журнале «Меркурий» (VI, 1952),
основан на цикле лекций «Что значит мыслить?», прочитанных в
1951/52 учебном году во Фрайбургском университете, которые были
опубликованы в 8-м томе Собр. соч.: Heidegger Martin. Gesamtausga-
be. I Abteilung; Veraffentliche Schriften 1914—1979. Bd. 8. Was heiftt
Denken? 1954.
heipen — знать, называться. Пример характерного для М. Хай-
деггера обыгрывания многозначности слова, при котором одно из
значений выявляет смысл другого. Вопрос «Что значит мыслить?»
(«Что зовется мышлением?») проясняется вопросом «Что зовет
мышление?» («Что его призывает?»), который отсылает нас к бытию.
Бытне обращается к мышлению, взыскует его; затребует его.
Мышление — отклик, отзыв, ответ на этот зов бытия, со-ответствие ему.
2 Это утверждение М. Хайдеггер выводит из того, что по-немецки
желать, хотеть — mogen; мочь, быть в состоянии — vermogen.
3 zu-Bedenkende — то, что дано для осмысления, то, ради чего
существует мышление.
4 Andenken. Игра слов:' denken — мыслить, andenken —
вспоминать.
5 das Freundliche (субстантивированное прилагательное).
6 das Bedenkliche — подлежащее осмыслению.
7 das Bedenklichste — более всего подлежащее мышлению.
8 Sichverbergen.
9 Unverborgenheit — непотаенность. Отрицательную частицу
un — в Unverborgenheit (хайдеггеровский вариант перевода греч.
ixXqueux — истина) Хайдеггер понимает также и в смысле усиления,
и в смысле уподобления. Несокрытость — не свойство, состояние,
а событие, свершение (Geschehnis, Ereignis). Несокрытое,
непотаенное — это особо, необычно потаенное, «подчеркнуто и явственно
сокрытое».
10 wesen — неологизм М. Хайдеггера. Глагол, образованный от
существительного сущность (Wesen) и присутствие (Anwesen). В
глаголе wesen слышится самопроизвольное вырастание, произрастание
сути. Другие варианты перевода: сущноститься, входить в бытие. Этот
неологизм М. Хайдеггера — попытка преодолеть традиционное
различие между сущностью и существованием и вновь ввести временной
характер бытия.
11 vordenken — мыслить предварительно, подготовительно,
т. е. забегая вперед и подготавливая путь тому, что 'должно прийти.
Vordenken — подготовительное мышление, одним своим
существованием оно помогает прийти тому, что явится.
12 Anwesen — присутствие, прнсутствование, понимается как
приход, прибытие «сути», ее коренение, выступание, выход сущего
в «непотаенность».
13 Presentation — презентация, акт
представления-предъявления-постановки перед собой.
14 der Anfand — означает для М. Хайдеггера большее чем просто
начальную точку во времени или истории, это такое начало, которое
сохраняется в том, что оно начинает и определяет его, исток из
неиссякаемого источника, другими словами, имеет смысл греч. архэ.
■^
От составителя . - 5
О сущности истины
(пер. 3. Н. Зайцевой) » . . . 8
Изречение Анаксимандра
(пер. Т. В. Васильевой) 28
Закон тождества
(пер. А. Л. Доброхотова) 69
Время и бытие
(пер. А. С. Солодовниковой) 80
Отрешенность "
(пер. А. С. Солодовниковой) 102
Из разговора на проселочной дороге о мышлении
(пер. А. С. Солодовниковой) . .. 112
Что значит мыслить?
(пер. А. С. Солодовниковой) * 134
Беседа с Хайдеггером
(пер. Н. С. Плотникова) 146
3. Н. Зайцева
Мартин Хайдеггер: Язык и Время ..... 159 -
Комментарии 178
Хайдеггер Мартин
РАЗГОВОР НА ПРОСЕЛОЧНОЙ ДОРОГЕ
Заведующий редакцией М. Ф. Гржебин. Редактор Л, Б. Комиссарова.
Младший редактор Л. Ф. Петецкая. Художественный редактор
В. И. Пономаренко. Технический редактор Е. И. Герасимова.
Корректор О. М. Пахомова
ИБ Кя 9464
Изд. № ФПН-800. Сдано в набор 11.11.90. Подп. в печать 16.07.91.
Формат 84 X Ю8!/з2. Бум. тип. № 2. Гарнитура литературная. Печать
высокая. Объем 10,08 усл. печ. л. 10,29 усл. кр.-отт. 11,95 уч.-изд. л.
Тираж 65 000 экз. Зак. № 931. Цена 3 р. 50 к.
Издательство «Высшая школа», 101430, Москва, ГСП-4, Неглинная
ул., д. 29/14.
Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени
Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный
Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197110,
Ленинград, П-110, Чкаловский пр., 15.