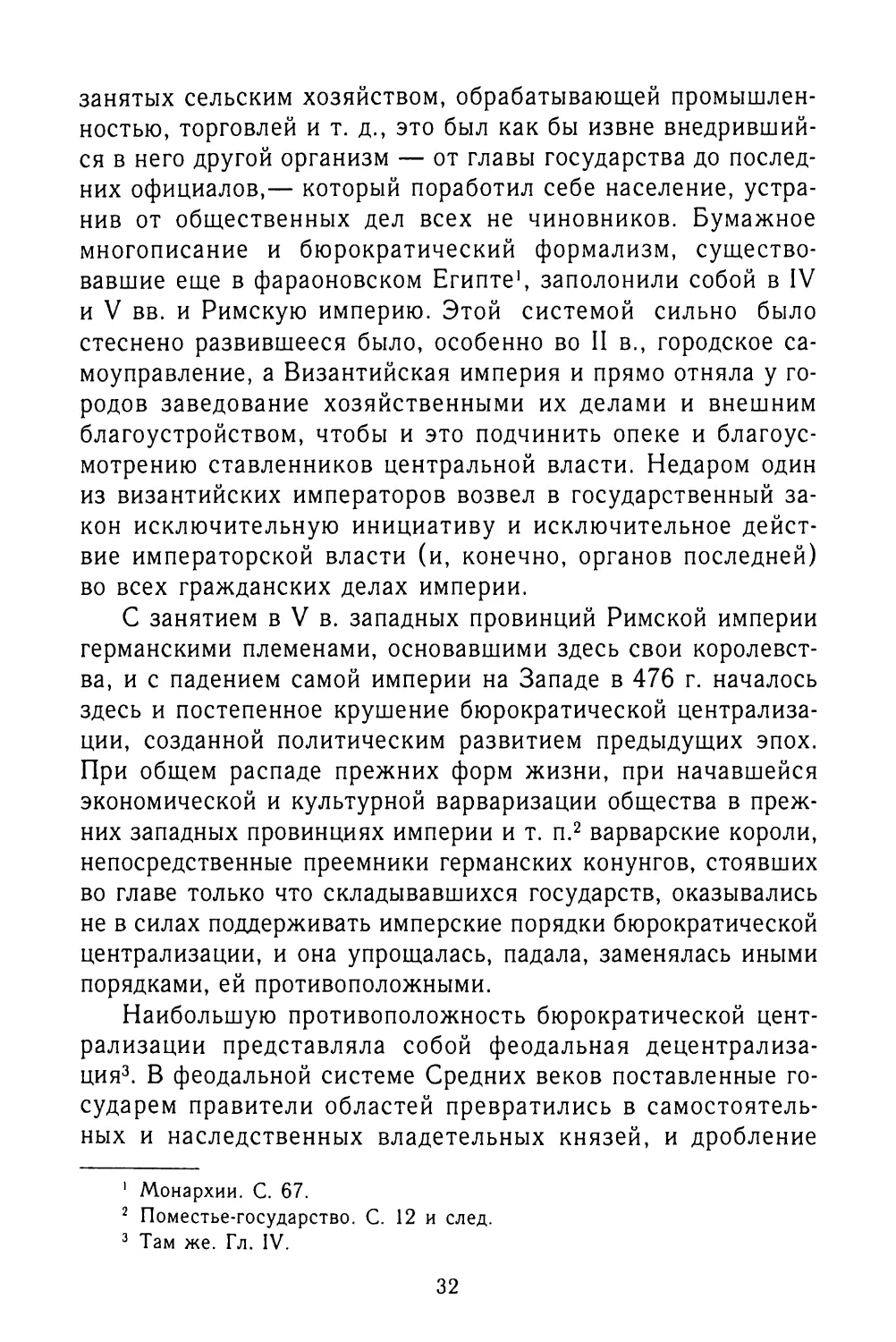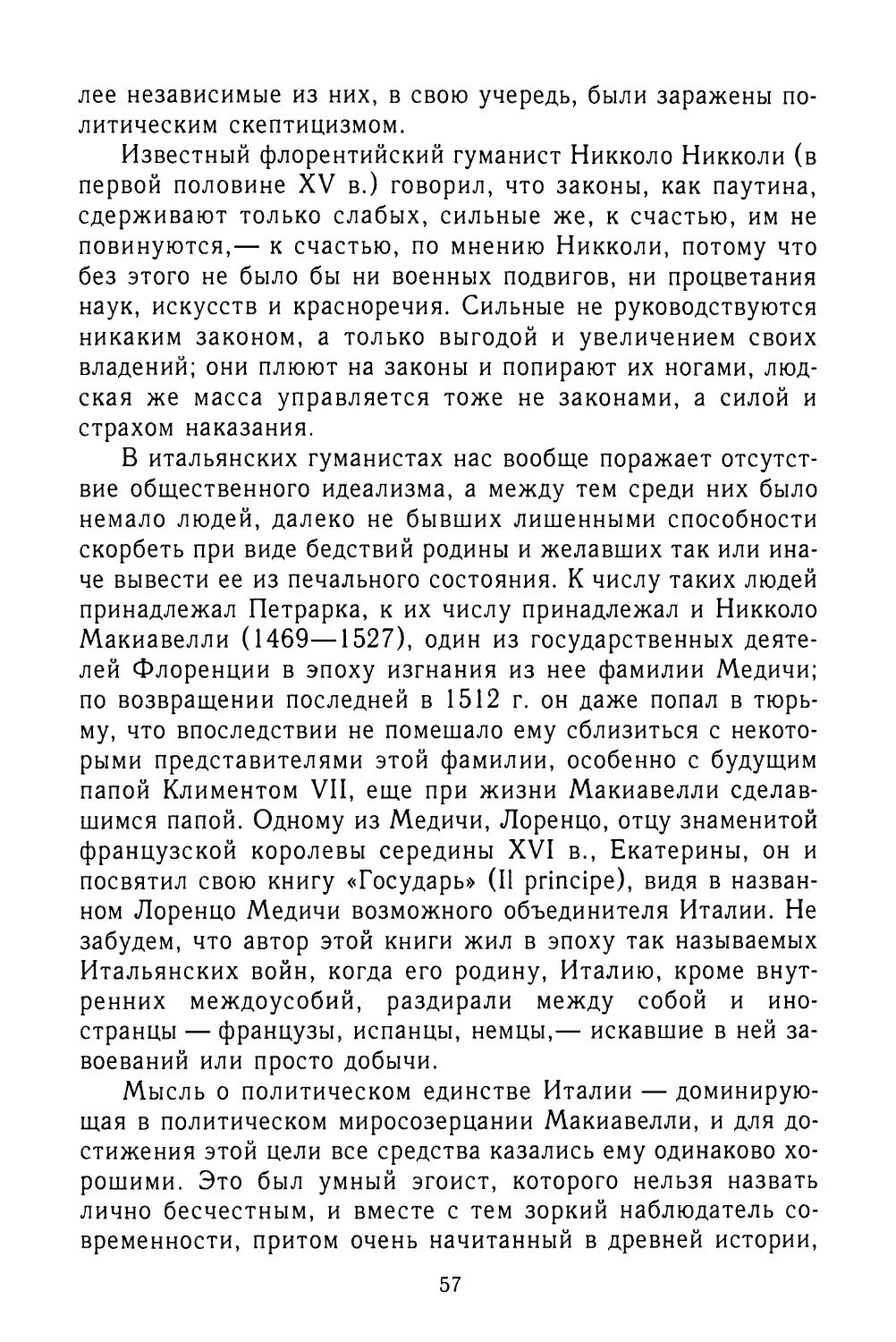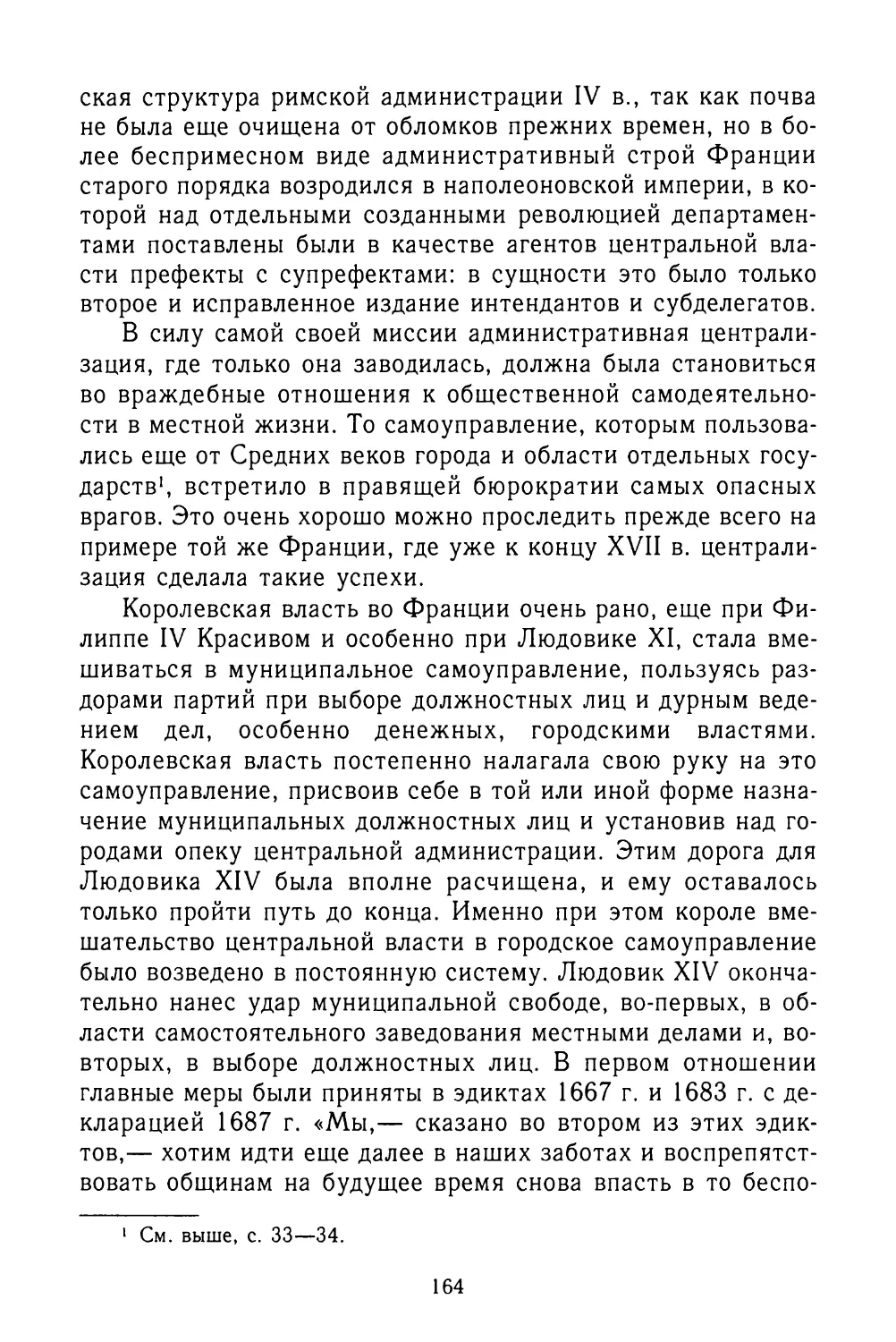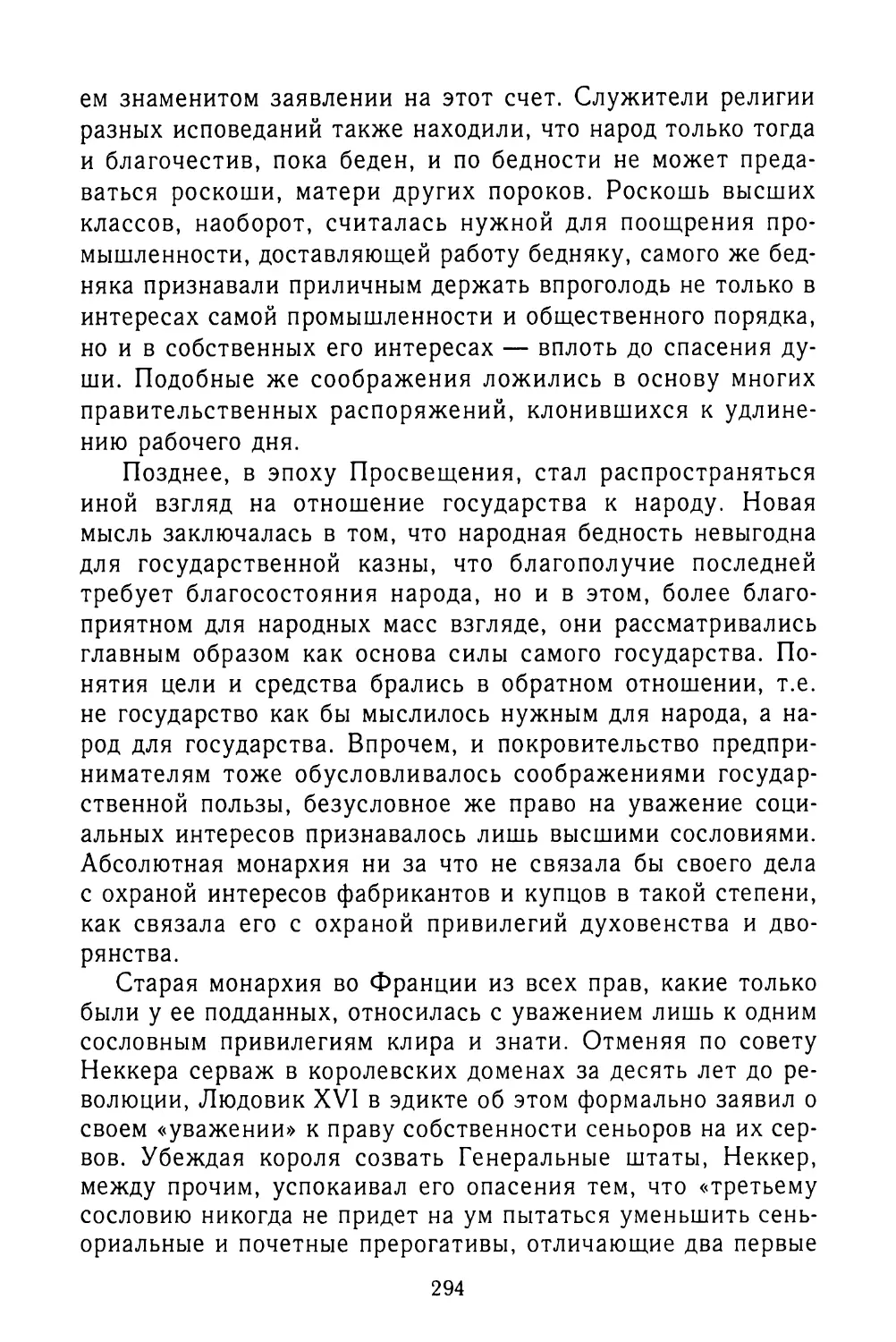Автор: Кареев Н.И.
Теги: всеобщая история история исторические науки западная европа монархия
ISBN: 978-5-85209-228-1
Год: 2009
Текст
Н. И. Кареев
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ
АБСОЛЮТНАЯ
МОНАРХИЯ
XVI-XVIII
ВЕКОВ
Государственная публичная историческая
библиотека России
В помощь студенту-историку
Н. КАРЕЕВ
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ
АБСОЛЮТНАЯ МОНАРХИЯ
XVI, XVII и XVIII веков
Общая характеристика бюрократического
государства и сословного общества
«старого порядка»
Москва
2009
УДК 94(4)"04/14"+94"15/18"
ББК 63/3(0)4+63/3(0)5
К22
Печатается по изданию: Кареев Н. Западноевро-
пейская абсолютная монархия XVIf XVII и XVIII
веков: общая характеристика бюрократического го-
сударства и сословного общества «старого поряд-
ка»/ Н. Кареев,—СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича,
1908.— 452 с.
Кареев Н.
К 22 Западноевропейская абсолютная монархия XVI, XVII и
XVIII веков: общая характеристика бюрократического госу-
дарства и сословного общества «старого порядка»/Н. Кареев;
Гос. публ. ист. б-ка России.— М., 2009.— 463 с.— (В помощь
студенту-историку).
ISBN 978-5-85209-228-1
В книге известного русского историка Н. И. Кареева (1850—
1931) всесторонне рассматривается западноевропейский абсолю-
тизм, прослеживается его юридическая и идеологическая связь с
институтами Римской империи и Европы раннего Средневековья.
Автор стремится понять, как именно соотносились в Европе
XVI—XVIII вв. историческая действительность и идеологическое
обоснование абсолютизма, обнаружить в бюрократических схемах
государственного устройства отражение магистральных истори-
ческих процессов и проследить эти процессы в историческом кон-
тексте западноевропейской цивилизации.
Общедоступная форма изложения в сочетании с глубиной
интерпретации исторического материала делает фундаменталь-
ную монографию Кареева интересной и полезной как для студен-
тов, так и для специалистов-историков.
Исторической библиотекой были изданы труды Н. Кареева
«Две английские революции XVII в.» (2002), «Великая француз-
ская революция» (2003), готовится к печати книга «Происхожде-
ние современного народно-правового государства».
УДК 94(4)”04/14”+94”15/18”
ББК 63/3(0)4+63/3(0)5
ISBN 978-5-85209-228-1 © Государственная публичная истори-
ческая библиотека России, 2009
© Оформление ЗАО «Репроникс», 2009
Предисловие1
Это предисловие — общее для двух книг, одновременно выходя-
щих в свет: для «Западноевропейской абсолютной монархии XVI—
XVIII веков» и для «Происхождения современного народно-правово-
го государства».
Обе эти книги стоят в самой тесной связи между собой, прежде
всего потому, что входят в общую серию «Типологических курсов
по истории государственного быта». В 1902 г., приняв на себя пре-
подавание всеобщей истории на экономическом отделении С.-Пе-
тербургского политехнического института, я задумал прочесть, на-
писать и издать ряд исторических курсов, из которых каждый был
бы посвящен отдельному типу государственного устройства. Приве-
дением в исполнение этого моего плана было появление в свет книг:
«Государство-город античного мира» (1903), «Монархии Древнего
Востока и греко-римского мира» (1904) и «Поместье-государство и
сословная монархия Средних веков» (1906). Теперь появляются в
печати сразу два новых «типологических курса» под указанными
выше заглавиями. Что касается идеи типологического изучения ис-
тории, то она была мной разъяснена как в самих этих курсах, так
и в особой статье «Всемирно-историческая и типологическая точки
зрения в изучении истории»2.
Первые два курса были посвящены Древнему миру. Держась ис-
торической последовательности, я должен был бы посвятить третий
курс «варварским королевствам начала Средних веков»,— эта тема
еще стоит у меня на очереди,— но я занялся в нем феодализмом
(«поместьем-государством») и сословной монархией, к которым те-
перь естественно примыкают и абсолютизм Нового времени, и со-
временное конституционное государство, причем история одного и
другого в теперь выходящих курсах поставлена в особенно тесную
связь и между собой: это — как бы лишь две части общей истории
1 К изданию 1908 г. (Примеч. изд-ва).
2 Появилась в «Известиях С.-Петербургского политехнического инсти-
тута» и вышла в свет отдельной брошюрой.
3
политических учреждений и учений Нового времени, в то же время
находящиеся одинаково в связи с курсом, вторая половина которого
имеет предметом сословную монархию. Ближайшая связь «Абсо-
лютной монархии» и «Народно-правового государства» явствует из
рассмотрения трех последних глав первой книги и III и XII глав вто-
рой. Да и вообще, кроме того, нередко в одной книге коротко гово-
рится о том, что более подробно рассматривается в другой.
Во всех пяти курсах я держался одной основной идеи — рас-
сматривать каждый политический тип, иллюстрируя общие положе-
ния частными примерами из истории разных государств, освещая ис-
торию учреждений историей идей и ставя все это в необходимую
связь с историей экономического быта и классовых отношений. Это,
однако, не вынуждало меня держаться в построении отдельных ти-
пологических курсов какого-либо общего для всех шаблона. И науч-
ные, и педагогические соображения заставляли меня разнообразить
сами планы моих типологических курсов. Например, из двух первых
в одном была особенно подчеркнута типологическая точка зрения,
тогда как в другом я вынужден был особенно выдвинуть вперед точ-
ку зрения всемирно-историческую. Читатель увидит, что оба новые
мои курсы составлены даже прямо по очень непохожим один на дру-
гой планам.
Основная задача «Абсолютной монархии» — дать общую харак-
теристику западноевропейского абсолютизма. Первые четыре главы
книги имеют значение вступления, две следующие — истории уста-
новления и утверждения абсолютизма, а с седьмой главы начинает-
ся сама характеристика, распределенная по рубрикам династиче-
ских интересов, придворных влияний, форм законодательства и су-
да, военного и финансового дела, экономической и социальной
политики, отношения власти к религии и другим сторонам духовной
культуры и, наконец, политических теорий абсолютизма. Всему это-
му посвящено двенадцать глав, занимающих 223 страницы из 463. К
ним можно причислить и главу XIX, дающую общую характеристику
просвещенного абсолютизма, следующие же три главы рассматрива-
ют уже эпоху постепенного падения абсолютизма, начиная с Фран-
цузской революции.
«Народно-правовое государство» написано по другому плану. Во-
первых, в этой книге не делается таких экскурсов из области поли-
тики в области администрации и финансов, сельского хозяйства,
промышленности и торговли или экономической политики, при-
дворных нравов и сословного быта, религии и духовной культуры,
какими полна книга об абсолютной монархии. В книге о конституци-
онном государстве все внимание сосредоточено на истории индиви-
дуальной свободы, гражданского равноправия и народного предста-
вительства без экскурсов, за немногими лишь исключениями, в дру-
гие области. Задачей первой книги было дать изображение
результатов рассматриваемой в ней системы, задачей второй —
представить генезис другой системы, сменившей или сменяющей
4
рассмотренную в первой. Если бы, далее, я стал во второй работе,—
подобно тому, как это было сделано в первой,— располагать свой
предмет по таким, например, рубрикам, как гарантии индивидуаль-
ной свободы, избирательные системы, организация представительст-
ва, компетенция представительных учреждений и проч, и проч., то в
результате получился бы курс конституционного права, вроде «по-
литико-морфологического обзора», изданного в 1907 г. С. А. Котля-
ревским1, а не истории кунституционного государства, как одного
из общих типов государственного устройства.
Итак, вот в чем разница между обеими книгами с этим общим
для них предисловием. В первой преобладает характеристика дан-
ного политического строя с его результатами, по возможности, во
всех сторонах исторической жизни, во второй на первом плане —
эволюция только основных особенностей другого политического
строя. Употребляя термины контовской социологии, я бы сказал, что
в одной господствует статическая точка зрения, примененная к об-
щему consensus'y общественных явлений, в другой — динамиче-
ская и в применении лишь к одному изолированно взятому вопро-
су. Сделано мной это вполне сознательно и преднамеренно по сооб-
ражениям отчасти научного, но более педагогического характера.
По истории абсолютной монархии и конституционного государ-
ства написаны мной не только эти две книги: их история заключает-
ся и в пяти томах моей «Истории Западной Европы в Новое время»,
доведенной до того же момента, как и «Народно-правовое государст-
во». В этом большом труде, возникшем из университетских курсов в
Московском (1878—1879), Варшавском (1879—1884) и Петербург-
ском университетах (1885—1898), прошлое абсолютизма и консти-
туционализма было вдвинуто, так сказать, в общие рамки всего исто-
рического движения Нового времени в таких его проявлениях, как
гуманизм, Реформация, Просвещение XVIII в. и т. п., с повествова-
тельными и биографическими элементами2. Ни биографических, ни
повествовательных элементов совсем нет в обоих типологических
курсах из истории Нового времени, но зато в них дано немало тако-
го, что или совсем отсутствует в «Истории Западной Европы», или
затронуто в ней только вскользь3. Целые, в высшей степени важные
1 Копгляревский С. А. Конституционное государство. СПб., 1907.
2 Общие рамки эти очерчены еще в двух небольших моих книжках:
«Философия культурной и социальной истории Нового времени» и «Общий
взгляд на историю Западной Европы в первые две трети XIX века»; с пер-
вой из них, в смысле изображения одной и той же эпохи, стоит в связи
«Абсолютная монархия», со второй — «Народно-правовое государство». Об-
щий характер обеих — абстрактный, резюмирующий.
3 В «Абсолютной монархии» (с. 13) на это указано. Вообще, в этой
книге особенно пополнен фактический материал, касающийся разных сто-
рон государственного и общественного быта в XVI—XVIII вв., а в «Народ-
5
стороны исторической жизни, с другой стороны, обоими типологиче-
скими курсами совсем не рассматриваются. Особенно это приходит-
ся сказать о «Народно-правовом государстве», сосредоточенном, по
самой своей теме, исключительно на одной политике и потому лишь
в очень ограниченных размерах касающемся истории экономических
отношений, социальных движений и социалистических учений. Что
автор придает этой стороне истории XIX в. очень важное значение,
видно уже из того, что в двух посвященных XIX ст. томах «Истории
Западной Европы» всему этому отведено столько места, как ни в од-
ном подобном общем труде на каком бы то ни было языке1, но в «На-
родно-правовом государстве» автор намеренно ограничил себя тремя
темами — индивидуальной свободы, гражданского равноправия и
народного представительства — по мотивам, изложенным в первой
же главе названной книги. Отмечаю это во избежание могущих быть
упреков в том, будто я игнорирую одну из важнейших сторон исто-
рии XIX в., хотя всякий внимательный читатель, конечно, сам не
пропустит сделанных в разных местах заявлений об односторонно-
сти того направления общественной мысли, которое ограничивалось
одними политическими реформами без реформ социальных.
Для того, чтобы не увеличивать еще более объема обеих книг,
я не даю в них обзоров литературы предмета, тем более что при-
шлось бы выписывать все библиографические указания из той же
«Истории Западной Европы». Исключение я делаю лишь для немно-
гих общих трудов, имеющих своим предметом абсолютную монар-
хию. Равным образом не прилагаю я к этим книгам и исторических
карт, какие были помещены в первых трех типологических курсах в
совершенно специальных целях.
Н. Кареев
1 января 1908 г.
но-правовом государстве» фактических дополнений, сравнительно с «Исто-
рией Западной Европы», меньше, хотя они встречаются и здесь. Главные из
них — вся VII глава и последние отделы в XIX и XXIII главах.
1 В четвертом томе гл. XXII—XXVII, занимающие около четверти тек-
ста (163 с. из 661) и гл. V (торжество буржуазии после 1830 г.), IX—XI,
XIII, XVI (по социальной истории между 1830 и 1848 гг.), XXX (о крестьян-
ских реформах) и XXXI (о социальном движении в 60-х гг.), в общей слож-
ности составляющие тоже около четверти текста (более 200 с. из 886).
Глава I
ЧТО ТАКОЕ «СТАРЫЙ ПОРЯДОК»?
Предмет настоящей книги.— Отношение ее к дру-
гим типологическим книгам автора.— Двоякого рода го-
сударства — с участием и без участия независимых об-
щественных сил в делах управления.— Периоды истории
западноевропейского государства.— Происхождение и
значение термина «старый порядок».— Разновремен-
ность происхождения отдельных сторон «старого по-
рядка».— Базис и надстройка в «старом порядке».— От-
ношение настоящей книги к соответственным местам
«Истории Западной Европы в Новое время»
Предмет настоящей книги — бюрократическое государст-
во и сословное общество в Западной Европе в период време-
ни между концом средневековой сословной монархии и нача-
лом новейшего конституционного государства. В хронологи-
ческом отношении, главным образом, это — политический и
социальный строй большей части западноевропейских стран
в XVI, XVII и XVIII ст.1 с ближайшими к ним десятилетиями
XV в., с одной стороны, и XIX в., с другой. Не указывая пока
на предел взятой нами эпохи, отграничивающий ее от более
раннего времени, отметим только, что переход Западной Ев-
ропы от абсолютизма к конституции затянулся на три чет-
верти века — от 1789 г., когда вспыхнула Французская рево-
1 Поместье-государство и сословная монархия Средних веков. СПб.,
1906. С. 193 и 345.
7
люция, до 1860 г., когда началась конституционная жизнь
Австрии.
В только что обозначенных хронологических границах
мы будем в настоящей книге изучать бюрократическое госу-
дарство и сословное общество, как известный исторический
тип, подобно тому, как это уже сделано в других книгах: «Го-
сударство-город античного мира», «Монархии Древнего Вос-
тока и греко-римского мира» и «Поместье-государство и со-
словная монархия Средних веков», т. е. к рассмотрению аб-
солютной монархии XVI—XVIII ст. здесь применяется та
типологическая точка зрения1, с которой были рассмотрены
в названных книгах греческие политии с Римом, пока он ос-
тавался городовым государством, деспотии Древнего мира,
начиная фараоновским Египтом и кончая Римской империей,
феодальные сеньории, княжества и королевства и сословные
монархии конца Средних веков. Если стать на точку зрения
хронологической последовательности, эта книга является не-
посредственным продолжением «Поместья-государства и со-
словной монархии», но с точки зрения типологических кате-
горий «бюрократическое государство и сословное общество»
следует поставить в ближайшую связь с «Монархиями Древ-
него Востока и греко-римского мира», потому что и в Европе
XVI—XVIII вв., и в древности мы в сущности имеем дело с
одной и той же — при всех ее разновидностях — политиче-
ской формой.
Я именно выдвигаю на первый план политическую форму,
а не социальный строй, который может существовать при раз-
ных политических формах. Сословное общество мы находим
не только при бюрократическом государстве абсолютной мо-
нархии, но и при средневековых представительных («сослов-
но-представительных») учреждениях, и при полном развитии
феодализма и т. д., все более и более подвигаясь в глубь веков.
Каковы бы ни были сословные и классовые отношения в обще-
стве, последнее или принимает участие в делах государства,
или, наоборот, в этих делах участия не принимает. В первом
случае мы имеем дело с народными вечами, племенными или
1 См. мою брошюру «Всемирно-историческая и типологическая точки
зрения в изучении истории».
8
городскими, со съездами знати, с представительными собрани-
ями сословного или бессословного состава, и если в государст-
ве существует единый глава, т.е. князь или король, то он так
или иначе делится властью с общественными силами — с на-
родом, со знатью, с сословиями, с народным представительст-
вом, и эти общественсые силы принимают то или другое уча-
стие в делах правления. Другое дело — государства, где обще-
ственные силы исключены из участия в политической жизни,
где вся власть сосредоточивается в одном лице и где единст-
венными представителями и проводниками этой власти в
жизнь общества являются слуги верховного носителя вла-
сти,— чиновничество, бюрократия. В «Монархиях Древнего
Востока и греко-римского мира» было указано, что государст-
во такого типа сложилось еще в фараоновском Египте1, что в
том же направлении развивались и другие восточные царства2,
что форму восточной деспотии приняли и эллинистические мо-
нархии, образовавшиеся из империи Александра Македонско-
го3, и что римское государство, созданное завоевательной го-
родовой республикой, равным образом в конце концов превра-
тилось в обширную бюрократическую деспотию, причем было
отмечено в процессе этого превращения и общее влияние вос-
точно-эллинистических начал, и специальное влияние птоле-
меевского Египта4. Византия в своем тысячелетнем существо-
вании (395—1453) была такой же бюрократической деспо-
тией, ибо была лишь продолжением Римской империи и
притом как раз там, на Востоке, откуда вел свое историческое
начало абсолютизм. Другим средневековым продолжением во-
сточной деспотии был арабский халифат, наследник Новопер-
сидского царства Сасанидов5 и предшественник позднейших
Турции и Персии, которые и в Новое время были для европей-
ских наций наиболее типическими представительницами «ази-
атского деспотизма».
Эпоха абсолютной монархии на европейском Западе была
как бы возвращением к политическим формам императорско-
1 Монархии. Гл. V.
2 Там же. Гл. VI и IX.
3 Там же. Гл. XII.
4 Там же. Гл. XVI.
5 Там же. С. 351—352.
9
го Рима. В тысячелетний период истории Запада, известный
под названием Средних веков, там господствовали иные по-
литические формы, сначала так называемое варварское коро-
левство1, потом феодализм, возникший из разложения вар-
варского королевства и давший начало своеобразной форме
феодальной монархии, и, наконец, монархия сословная, к
концу Средних веков начавшая уступать место абсолютизму,
бывшему, как сказано, возвращением той неограниченной
монархии, какую представляла собой Римская империя.
Таким образом, деспотии Древнего Востока, эллинистиче-
ские царства и Римская империя с Византией и с параллель-
ными образованиями царства Сасанидов, халифата, Турецкой
империи и новой Персии (прибавлю и Китай), с одной сторо-
ны, и абсолютные монархии европейского Запада (с Россией
XVI—XIX вв.), с другой, могут быть названы явлениями одно-
го и того же политического порядка, и в этом смысле настоя-
щая книга, хронологически, как мы видели, примыкающая к
книге, где трактуется сословная монархия, в типологическом
отношении примыкает к другой книге, к той, где речь идет о
древних монархиях, начиная фараоновским Египтом и кончая
Римской (и параллельной с нею Сасанидской) империей. Об-
щее тут — большее или меньшее устранение общественных
сил от дел правления, сосредоточение неограниченной власти
в лице главы государства, управление государством исключи-
тельно при помощи государевых слуг.
С другой стороны, однако, западноевропейская абсолют-
ная монархия так хронологически далека от древней Рим-
ской империи, что между ними наблюдаются и многие черты
несходства.
В 1789 г., с Великой французской революции, начинается
период крушения абсолютизма на Западе и крушения, вме-
сте с тем, сословного строя, образовавшегося на феодальной
основе Средних веков, и на смену старой государственной и
общественной формы приходит другая — форма народно-
правового государства и бессословного общества2. Когда на-
чалась эта революция, то новому политическому и социаль-
1 Этой форме будет впоследствии посвящена особая книга.
2 Этому тоже нами посвящается особая книга.
10
ному строю все, чему он приходил на смену, дано было во
Франции название «ancien regime», «старый порядок», и это
название включено, нами в подзаголовок настоящей книги.
«Старый порядок» — это те учреждения и отношения, ко-
торые господствовали в дореволюционной Франции, им ана-
логичные или с ними тожественные, которые одновременно
существовали в других государствах и продолжали еще су-
ществовать в первой половине XIX в., например, в «домар-
товское»1 время в Германии, или те учреждения и отноше-
ния, крушение которых в России началось в 1905 г.
В другом месте, именно в первом отделе т. 3 своей «Ис-
тории Западной Европы в Новое время», я уже говорил о
«старом порядке», определяя этот термин в смысле «соедине-
ния политического абсолютизма с социальными привилегия-
ми», что является только другим выражением мысли, заклю-
чающейся в подзаголовке настоящей книги. О том, в каком
отношении находится содержание последней к указанному
отделу моей «Истории Западной Европы», я скажу несколько
дальше, а тут остановлюсь на самом употреблении термина
«старый порядок».
Именно в подзаголовке книги я предпочел его чисто хро-
нологическому обозначению, которое было мной дано в нача-
ле настоящей главы. «Старый порядок» — это исторический
термин, приобретший прочное право гражданства в научной
литературе, термин, конечно, как и многие другие, более или
менее случайного происхождения и условный, но тем не ме-
нее очень удобный, так как с ним ассоциируется целый ряд
более или менее определенных представлений об известном
устройстве государства и состоянии общества. Когда мы про-
износим эти два слова, мы разумеем под ними и старое абсо-
лютное, бюрократическое, полицейское государство, и его
систему всепроникающей опеки с недоверием к проявлениям
общественной самодеятельности и личной инициативы под-
данных, и его вероисповедную политику, исходившую из
взгляда на религию как на орудие власти, и его преклонение
перед идеей государственности в ущерб правам и интересам
1 Немецкий термин «vormarzlich», т.е. бывший до марта 1848 г., когда
произошла в Германии большая революция.
11
граждан, и охрану им сословных привилегии, раз они не ме-
шали абсолютизму власти, с особым покровительством дво-
рянству и принесением в жертву как ему, так и государству
крестьянской массы, связанной путами крепостничества, и
т.д. и т.д. «Старый порядок», это, одним словом,— особый
строй жизни, между отдельными проявлениями которого на-
блюдается известный consensus — в силу полного отрицания
за населением «прав человека и гражданина», личной и об-
щественной свободы, равно как гражданского равенства.
Многое в этом комплексе учреждений и отношений, взгля-
дов и привычек, обычаев и принципов, который мы вообще на-
зываем «старым порядком», имеет происхождение более ста-
рое, чем рассматриваемая в книге эпоха. В общем социальная
сторона «старого порядка», т. е. дворянские привилегии, при-
ниженное положение средних классов, бесправность и даже
крепостное состояние крестьянской массы, имеет более древ-
нее происхождение, нежели сторона политическая, т.е. коро-
левский абсолютизм, бюрократическая централизация и поли-
цейская опека или подчинение церкви государству, и потому
со многими чертами «старого порядка» читатель может позна-
комиться и по «Поместью-государству и сословной монар-
хии»1. То, что есть верного в учении экономического материа-
лизма, так это — различие в исторической жизни народа бази-
са и надстроек: таким базисом «старого порядка» было
сословное общество, одной из надстроек — бюрократическое
государство, которое, однако, в лице своего главы и его слуг
обнаружило в эту эпоху стремление к тому, чтобы сделаться
самодовлеющею силой, интересам и целям которой должны
были подчиниться все общественные элементы. Абсолютизму
эта задача удавалась, но только в известной мере и до поры до
времени: рано или поздно общественный «базис» стремился
выбиться из-под гнета государственной «надстройки», и тогда
происходила политическая революция, во время которой со-
вершалась и перестройка самого этого базиса. В «старом по-
рядке» более древнее сословное общество, бывшее его бази-
1 Ссылки на эту книгу в соответственных местах и делаются, а здесь
специально указываю в ней на гл. XXVI (Остатки социального феодализма
и сословного строя при абсолютной монархии).
12
сом, срасталось в одну довольно стройную, проникнутую об-
щим духом систему с бюрократическим государством, играв-
шим роль надстройки, но когда между ними начался разрыв,
новые общественные силы, выросшие под старыми формами,
стали искать для себя и новых форм, не только политических,
но и социальных.
Задача настоящей книги — изучение «старого порядка»
как особого исторического типа, родственного типу древних
монархий, но и отличного от них типа, который в новой исто-
рии Европы представлен был главным образом Францией, Ис-
панией, Австрией, Пруссией и другими менее важными госу-
дарствами, каковы итальянские и германские княжества, Да-
ния, отчасти Швеция и т. д. Материал, который положен в
основу этой книги, отчасти тот же, какой имеетея в соответст-
венных отделах «Истории Западной Европы в Новое время»,
отчасти новый, именно привлекаемый к делу потому, что здесь
приходится подробнее останавливаться на некоторых сторонах
предмета, в «Истории Западной Европы» не разработанных,
или накопившийся в исторической литературе уже после на-
писания названного моего труда. С другой стороны, и обработ-
ка данного материала здесь иная, как сказано выше, типологи-
ческая, располагающая материал в ином порядке, дающая
большее количество обобщений и освещающая весь предмет с
более общей, социологической точки зрения1.
1 Ввиду этого иное в настоящей книге излагается полнее, иное, наобо-
рот, много короче, чем в «Истории Западной Европы». В последнем случае
за фактическими справками пришлось бы отсылать читателя постоянно к
этому труду, в котором, кроме указанного отдела в т. III о «старом порядке»
(гл. 2—4 и 6—10), ближайшее отношение к предмету настоящей книги име-
ют: т. I, гл. 10 (Королевская власть во Франции), 18 и 19 (Цехи и денежное
хозяйство), 24 (Политическая оппозиция католицизму), 32 (Гуманистиче-
ская политика); т. II, гл. 12 и 13 (Немецкие князья, лютеранская Реформа-
ция и император), 17 (Монархические реформации первой половины
XVI в.), 21 (Общий взгляд на католическую реакцию), 30 (Утверждение аб-
солютизма во Франции), 31 (Организационная работа французской монар-
хии), 40—43 (Главы о Людовике XIV) и дополнительная глава (об экономи-
ческой истории XVI в.); т. III, кроме отмеченных выше: гл. 19—28 (Отдел
о просвещенном абсолютизме) и 30—32 (Царствования Людовика XV и Лю-
довика XVI до 1789 г.); т. IV, гл. 7 (Внутренняя политика Консульства и
империи), 9—10 (Разложение «старого порядка» в Германии и особенно в
Пруссии), 13 (Происхождение и характер реакционных стремлений эпохи
Реставрации), 16 (Победа партикуляризма и реакции в Германии); т. V, гл. 8
13
Глава II
ОБЩИЙ ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ АБСОЛЮТИЗМА
Историческая распространенность неограниченной
монархической власти.— Раннее появление ее в исто-
рии— Древневосточный взгляд на божественность цар-
ской власти.— Греческие и римские взгляды на монархи-
ческую власть в республиканскую эпоху.— Античная
тирания.— Начало идеализации монархии в IV в. до
Р.Х.— Царская власть при Александре Македонском и в
эллинистических монархиях.— Римский цезаризм и его
теоретические объяснения.— Теократический характер
империи Диоклетиана,— Царская власть в учении церк-
ви.— Императорская власть в Византии.— Влияние
римских и византийских традиций на новые народы.—
Живучесть традиций абсолютизма в средневековой по-
литической литературе.— Роль средневековых легистов
в истории утверждения абсолютизма в Западной Европе
Неограниченная монархическая власть является в исто-
рии одной из наиболее распространенных форм, и притом
формой весьма древней. Мы встречаем ее как в древнем, так
и в новом мире, в государствах как малых, так и больших
размеров, на разных ступенях культуры, у разных рас, в об-
ществах разного устройства. И в настоящее время почти вся
Азия живет, а еще недавно и решительно вся жила под вла-
стью неограниченных государей, и не так давно почти вся
Европа тоже состояла из абсолютных монархий. Свободные
формы в истории скорее являются исключениями из общего
правила, и это были или только что складывавшиеся госу-
дарства, в которых едва только формировалась власть, как
это было у евреев в эпоху судей, у греков гомеровской эпо-
хи, в тацитовской Германии и т. п., или немногие пункты
вроде государств-городов Древней Греции или Рима в эпоху
республики, где устанавливался общинный строй, или во
времена разложения государственности, когда верховная
власть расходилась по рукам помещиков, или когда, наконец,
(Реакция тридцатых годов в Германии), 18 (Состояние Западной Европы на-
кануне 1848 г.) и 25 (Общая реакция пятидесятых годов XIX в.).
14
особые исторические обстоятельства, и в частности особые
условия общественности и культуры, создавали такие формы
государства, как сословная или конституционная монархия.
Распространенности неограниченной монархии соответ-
ствует и ее древность. То, что мы знаем из Библии и от Ге-
родота о начале царской власти у евреев и у мидян, свиде-
тельствует нам о том, как быстро единоличная власть, воз-
никшая у того или другого народа древности, делалась
деспотической1, каковой и оставалась до конца существова-
ния каждого государства. Египет, древнейшее большое госу-
дарство мира, насколько лишь мы можем проследить вглубь
его историю, является нам характерной деспотией, распоря-
жающейся всей народной жизнью при помощи многочислен-
ных чиновников2. Большие монархии Передней Азии, оба
Вавилонские царства, т.е. и старое времен Хаммурапи, и
новое эпохи Навуходоносора, равно как Мидия и Лидия, а
потом и Персия, всех их поглотившая, были тоже деспоти-
ями3.
Могущество восточного деспота опиралось не только на
материальную его силу, на его богатства и на его воинов, но
и на его моральный авторитет в сознании подданных: ему по-
истине повиновались не только за страх, но и за совесть. Но-
сители древнейшей царской власти были не только правите-
лями-судьями и военачальниками народа, но и его высшими
жрецами, посредниками между людьми и богами4, от кото-
рых они получали свою власть над себе подобными: недаром
же даже древние греческие цари, никогда не бывшие неогра-
ниченными повелителями своих народцев, назывались 8ю-
YEvee^ и ЗютрЕфЕЕ^, т.е. рожденными и вскормленными вер-
ховным богом, Зевсом5. Это царское звание было не только
священным в силу своего жречества, но и божественным по
самой своей природе. Египетский фараон был сам богом и
верховным жрецом собственной своей божественности6. Это
1 См.: Монархии. С. 33—34.
2 Там же. С. 62 и след.
3 Там же. Гл. VI и IX.
4 Государство-город. С. 37—38; Монархии. С. 35, 37—38.
5 Государство-город. С. 58.
6 Монархии. С. 60—61.
15
было уже настоящее обоготворение царской власти, которое,
начавшись в фараоновском Египте, пережило его националь-
ную самостоятельность, нашло себе применение в монархии
Александра Великого и его преемников, а затем утвердилось
и в Римской империи в известном культе цезарей1. Подчине-
ние восточному взгляду на власть, как на нечто божествен-
ное, со стороны потомков тех самых греков и римлян, кото-
рые гордились своей свободой в смысле отсутствия у них ца-
рей, было явлением глубоко знаменательным в истории
античного государства.
В эпоху наибольшего расцвета республиканских учреж-
дений Греции и Рима единовластие, действительно, счита-
лось несовместимым с гражданской свободой. Так, на-
пример, у Еврипида мы читаем следующие заявления: «Ни-
что не может быть гибельнее для государства, как
господство одного человека; где нет общего закона, там есть
господин, который в себе заключает весь закон, так что оди-
накового права уже быть не может», и «Наше государство не
управляется одним человеком, но свободно, ибо граждане в
нем ежегодно по очереди сменяются у власти». В том же
смысле и Цицерон писал, что, «свобода может существовать
только в таком государстве, в котором верховная власть на-
ходится в руках народа»2.
Впрочем, и греческие государства-города не чужды были
по временам форм абсолютной монархии. Я говорю здесь о
тирании, которая была единоличным захватом верховной
власти, опиравшимся на военную силу, захватом притом в
личных же интересах узурпатора. Здесь тем более уместно
об этом упомянуть, что древнегреческая тирания повтори-
лась на исходе Средних веков в итальянском принципате,
одной из ранних форм западноевропейского абсолютизма
Нового времени3. Известно, как смотрел Аристотель на про-
исхождение и значение тирании. По его мнению, древней-
шей формой государственного устройства было царство
(PaotXeia), за которым следовала олигархия, в свою очередь
1 Монархии. С. 152, 231 и след.
2 Там же. С. 141.
3 Об этом см. ниже, в гл. V.
16
смененная тиранией, причем царство он относит к числу
правильных форм, а тиранию — к числу неправильных, раз-
личая между ними в зависимости от того, совершается ли
властвование в интересах общего блага или в своекорыстном
интересе властвующих1. Известна и та общая характеристи-
ка тирании, которую мы находим у Аристотеля и которой
впоследствии широко воспользовались противники абсолю-
тизма в Новое время, известные под названием монархома-
хов. Именно основными чертами политики тиранов великий
философ называет недоверие ко всяким собраниям и сообще-
ствам граждан, развитие соглядатайства, отнятие у народа
оружия, образование наемной охраны, а также стремление к
тому, чтобы народ постоянно чувствовал нужду в самом пра-
вителе как оберегателе граждан и от внешних врагов, и от
внутренних противников2. Противополагая вообще правиль-
ные формы неправильным, «басилию» — тирании, аристок-
ратию — олигархии, политию — демократии, Аристотель на-
ходил, что из правильных форм первая могла бы быть вооб-
ще наилучшей, если бы единоличной властью пользовался
идеальный государь3.
Нужно, однако, заметить, что Аристотель жил уже в ту
эпоху греческой истории, когда прежний республиканский
идеал значительно потускнел и когда среди таких людей, как
Ксенофонт, Демосфен или Исократ, обнаруживались извест-
ные монархические тенденции4. С этой эпохи стала даже
разрабатываться особая политическая теория идеальной мо-
нархии, правления одного человека, имеющего право на
власть не потому, что он был божественного происхождения
или сам был богом, а потому, что природа его наделила вы-
сшими качествами ума и воли. Власть такого «царственного
мужа», по этому воззрению, могла быть абсолютной, лишь
бы внутренний закон разума и добродетели устранял при
этом в деятельности правителя всякий произвол и всякую
несправедливость: в этом случае государь был бы сам «жи-
вым законом» и мог бы без вреда для свободы и благополу-
1 Ср.: Государство-город. С. 93 и 96.
2 Ср.: Там же. С. 109.
3 Там же. С. 96.
4 Монархии. С. 142.
чия граждан стоять выше закона1. В эпоху Александра Маке-
донского и эллинистических царств, вплоть до возникнове-
ния в Риме императорской власти, представители разных
греческих философских школ писали трактаты, каковы дол-
жны быть единоличные правители государства, обладающие
неограниченной, «безответственной властью» (avimetiOwog
ap%f|). Они по-прежнему различали басилию и тиранию не по
способу приобретения власти законным путем или узурпа-
цией, не по объему власти, так или иначе ограниченной или
безграничной, а смотря по тому, пользуется ли государь этой
своею властью в интересах государства или в своих личных
интересах. Греческий писатель Дион Хризостом, живший
уже во II в. по Р. X., настаивавший на том, что есть царская
власть и есть тирания, за первой тем не менее признавал
безответственность и неограниченность в деле издания зако-
нов, ибо «царь выше законов» (pei^covTcov vopcov) и сам закон
является не чем иным, как выражением царской воли, догма-
том царя (6 Зе vopog paoiXecog Зоура). Идеальный царь Диона
должен был быть «отцом граждан и подвластных» и не же-
лать называться господином по отношению не только к сво-
бодным, но и к рабам. В этом своем представлении Дион
охотно возвращается к древнегреческому взгляду на богода-
рованность царской власти, ибо качества, необходимые для
идеального правителя, может дать только великий Зевс, об-
щий отец богов и людей2.
Все это были, конечно, только благие пожелания, кото-
рым отнюдь не соответствовала действительность. Когда
Александр Македонский покорял персидскую монархию, его
учитель Аристотель советовал ему сделать в способе управ-
ления государством различие между греками и варварами.
Философ, вообще думавший, что одни люди по природе сво-
бодны, а другие по природе же рабы, смотрел на эллинов
как на людей, которыми можно управлять только «гегемони-
чески», варвары же, по его мнению, должны были управ-
ляться «деспотически». «Варвары,— писал он,— по природе
своей суть люди более рабского характера» и «деспотиче-
1 Монархии. С. 143.
2 Там же. С. 260—262.
18
ское правление переносят без неприязни», тогда как добро-
вольное же подчинение власти есть одно из необходимых
условий существования басилии как таковой, в отличие ее
от тирании1. Александр Македонский не послушался на-
ставлений своего учителя, и его монархия для греков была
не греческой басилией, а восточной деспотией2. Власть
Александра была не чем иным, как продолжением власти
персидского царя со всеми вавилоно-ассирийскими и египет-
скими элементами, которые она в себя впитала, и, в частно-
сти, провозглашение нового владыки Египта сыном Аммона
было возвращением к традициям фараонизма. Империя ма-
кедонского завоевателя распалась, но существо «деспотиче-
ской» его власти сохранилось и в эллинистических царст-
вах: общая их черта — «та, что в них власть принадлежала
неограниченному государю, который видел в государстве
свою наследственную собственность, управляя ею при помо-
щи исключительно от него зависевших агентов и опираясь
главным образом на военную силу, и который в глазах сво-
их подданных являлся своего рода земным богом»3. Когда
возникла единоличная власть в Римской республике, вос-
точно-эллинистические порядки и воззрения и на нее также
потом оказали свое влияние.
Римская императорская власть, сделавшаяся очень быст-
ро абсолютной и в конце концов принявшая сама формы во-
сточной деспотии, была происхождения гораздо более слож-
ного, чем власть царей Египта, Ассиро-Вавилонии, Персии
и даже Александра Македонского с его преемниками4. Рим-
ский цезаризм был, во-первых, как бы повторением — толь-
ко в больших размерах — греческой тирании, захвата вла-
сти одним лицом, опиравшимся на демократию в ее борьбе
с аристократией, и притом после длинного периода граж-
данских междоусобий, подрывавших республиканскую кон-
ституцию государства. Во-вторых, новая власть,— принци-
пат, как мы ее называем,— образовалась путем сосредото-
чения в одних руках разных республиканских должностей,
1 Монархии. С. 376—377.
2 Там же. Гл XI.
3 Там же. С. 159.
4 Ср. там же, гл. XIV.
19
выделившихся из первоначальной единой царской власти, с
присоединением к ним еще должности плебейского трибуна,
принявшей к концу республики демагогический характер.
Принципат был, так сказать, чрезвычайной республикан-
ской магистратурой, чем-то вроде постоянной диктатуры.
В-третьих, в руках того же лица сосредоточивался весь «им-
перий» римского государства, т.е. державная власть римско-
го народа над завоеванными областями, провинциями. До
того времени этот imperium был разделен между многими
наместниками, которые в провинциях, бывших раньше элли-
нистическими царствами, являлись наследниками прежних
царей, так что когда один из граждан Рима, сделавшийся по
отношению к своим согражданам принцепсом (Аристотель
сказал бы «гегемоном»), вместе с тем получил и державную
власть Рима над провинциями, то произошло в его пользу
как бы восстановление старой царской власти, которой об-
ладали преемники Александра, сам Александр, основатели
персидского могущества Кир, Камбиз и Дарий со всеми их
ассиро-вавилонскими и египетскими предшественниками.
Наконец, не забудем еще, что основатель принципата, Окта-
виан Август, был предводителем частного наемного войска,
т.е. своего рода кондотьером.
Сложившаяся из таких разнородных элементов, из дема-
гогии и кондотьерства, из республиканской магистратуры и
наместнических полномочий в провинциях, из чисто рим-
ских и восточно-эллинистических начал, эта римская импе-
раторская власть в своем развитии, как известно, все более
и более получала объем и приобретала характер эллинисти-
ческой басилии, т. е. обожествленного абсолютизма, неогра-
ниченной и безответственной власти, дарованной ее носите-
лю свыше.
Уже век спустя после образования принципата упомяну-
тый выше Дион Хризостом видел в этой власти отнюдь не ре-
спубликанский магистрат (аркт|, по его терминологии), но
или басилию, или тиранию, смотря по тому, как, т.е. хорошо
или дурно, пользовался принцепс своей властью1. Какими бы
политико-юридическими определениями ни была обставлена
1 Монархии. С. 262.
20
в самом своем начале римская императорская власть и как
бы Август, в противоположность Цезарю, ни старался зама-
скировать ее царский характер, фактически эта власть была
абсолютной. Знаменитая «lex de imperio Vaspasiani» фор-
мально передавала императору «право и власть делать и со-
вершать все, что он сочтет нужным в интересах государства,
божеских и человеческих, общественных и частных дел», с
прибавлением к этому указания на законность и обязатель-
ность всего, что будет «сделано, совершено, решено или при-
казано императором либо кем-либо иным по его повелению
или поручению», как если бы все это исходило из воли само-
го народа. Юристы II и III вв. уже прямо ссылались на «цар-
ственный закон о верховной власти» (lex regia de imperio),
которым римский народ переносил на принцепса «все свое
право и державство» (omne suum jus et omne imperium), и в
силу этого называли закон волеизъявлением государя: «Что
благоугодно государю, имеет силу закона» (quod principi
placuit legis habet vigorem), говорили юристы1, повторяя в
сущности учение Диона о законе как «догмате» царя, ибо
греческое слово Збуца значит между прочим: все найденное
хорошим, то, что заблагорассудилось (quod placuit), предпи-
сание, правило.
Римские политические писатели довольно долго и упорно
старались проводить известную границу между принципатом
и восточно-эллинистической басилией, но фактически пер-
вый все более и более сливался со второй. Если Август, по
словам греческого историка Диона Кассия, протестовал, ког-
да его называли господином, т.е. по-гречески деспотом, и
слово «princeps» переводил на греческий язык словом «геге-
мон» (fiyepcov), то уже ближайшие преемники Августа отбро-
сили всякую щепетильность относительно титулов и форм,
прямо подражая восточным царям и громко заявляя, что им
«позволено все и по отношению ко всем», что, другими сло-
вами, цезарь «все может», и требуя себе божеского поклоне-
ния2. Воспитатель будущего императора Нерона, Сенека, пи-
сал, что «в руке цезаря находится решение, у кого какая бу-
1 Монархии. С. 254—255.
2 Там же. С. 240—251 и 259.
21
дет судьба и положение», что судьба через цезаря распреде-
ляет между смертными свои определения, или что «к нему
никто не обратится с запросом» (об основаниях решения) и
т. п. Все различие царской власти и тирании для Сенеки за-
ключалось в том, что царь пользуется властью разумно и
справедливо, тогда как тиран ею злоупотребляет, по харак-
теру же положения (spesie fortunae) и по неограниченности
прав (licentia) оба вида власти — одно и то же1. Пусть после
убиения Домициана, объявившего себя «владыкой и богом»,
произошла реакция и в так называемый счастливый период
империи (от Нервы до Марка Аврелия включительно) сами
императоры смотрели на себя не как на господ, а как на
уполномоченных государства, по отношению к которым у
них есть свои обязанности2, сущности дела это не изменяло,
и Римская империя была то монархией, то деспотией, смотря
по тому, управлял ли ею Траян или кто-либо, подобный Не-
рону, Домициану, Коммоду. Правда, в эту эпоху Плиний
Младший пытался доказать, что принципат не есть «домина-
ция», т.е. деспотия, и что в этом смысле он не тожествен с
царской властью (regnum), находящеюся вообще в родстве
со всем тем, что порождает несвобода (captivitas), но и он,
полагая, что государь (princeps) не есть господин (dominus),
тем не менее находил, что в принципате «все находится под
изволением (sub arbitrio) одного, который ради общей пользы
взял на себя заботы и труды всех». Плиний хвалил Траяна за
то, что он «занимает положение принцепса, чтобы не было
места для господина», идеалом же его был такой порядок ве-
щей, при котором управляемые, подчиняясь государю, в сущ-
ности подчинялись бы законам и в его власти видели бы
только человеческое учреждение, созданное для сохранения
людей3.
Постепенное превращение полуреспубликанского, полу-
монархического (в теории больше, чем на практике) принци-
пата в откровенную деспотию по восточному образцу совер-
шилось при Диоклетиане, на рубеже III и IV вв. нашей эры.
1 Монархии. С. 259—260.
2 Там же. С. 251—252.
3 Там же. С. 264—265.
22
Это было постепенное внедрение ориентальных начал в рим-
ские формы, и недаром, например, современные историки в
римском понятии «величества» (majestas), перенесенном с
народа на принцепса, видят, с другой стороны, отголосок во-
сточного взгляда на государя как на существо высшего по-
рядка1. Культ императоров в Риме имеет свою историю, и ка-
ких бы для него объяснений мы ни искали в прошлом самого
Рима, в конце концов мы обязаны признать, что он сложился
в Римской империи под эллинистическими влияниями, кото-
рые, в свою очередь, были не чем иным, как продолжением
древневосточных традиций, в особенности египетского фара-
онизма. Мало того: по отношению к тому теократическому
характеру, который при Диоклетиане принял римский абсо-
лютизм, можно прямо сказать, что многие формы его прояв-
лений были прямо заимствованы из придворной жизни в сто-
лице Сасанидов, преемников великих царей Персии. Начи-
ная с Диоклетиана, к особе монарха и всего, что его
окружало, стали прилагаться предикаты божественности и
святости/ это был «божественный самодержец» (истое;
аитократсор), «святой царь» (aytog РааЛеид) и т. п.; это бы-
ло существо, которому подобает оказывать «богоравное»
(iooOeog) поклонение в формах славословий (епфтцллох) и па-
дения ниц (7ipogKovT|oig) пред лицом его и т. п.2 С другой сто-
роны, императорский дворец, «палаций» (palatium), бывший
центром имперского управления, тоже получает название
«священного» (sacrum), и этот же предикат давался высшим
чинам государства, каковы были квестор «священного» двор-
ца, нечто вроде первого министра, или управляющий «свя-
щенными» щедротами (comes sacrarum largitionum), министр
финансов3. Прибавим, что с самого же начала римский импе-
ратор был не только глава государства, но и глава религии в
качестве верховного жреца (pontifex maximus), титул кото-
рого императоры сохраняли даже в начальную эпоху христи-
анизации империи, так что в римской императорской власти
1 Монархии. С 232.
2 Там же. С. 247—238.
3 Там же. С. 275—276.
23
снова соединилась с гражданским и военным ее значением и
древняя религиозная функция жречества1.
Христианская церковь, со своей стороны, тоже признала
эту власть. Какие бы взгляды ни возникали в богословской
литературе по вопросу о взаимных отношениях церкви и го-
сударства, духовной и светской власти, по отношению к по-
следней духовенство проповедовало безусловное повинове-
ние, «несть бо власти аще не от Бога, сущие же власти от
Бога учинены суть, тем же противляйся власти, Божию про-
тивится установлению», как сказано у апостола Павла в По-
слании к римлянам. Великий отец западной церкви, блаж.
Августин, правда, видел в установлении власти в человече-
ском обществе наказание за грехопадение, но это не только
не мешало ему, но прямо заставляло и его требовать от ве-
рующих смиренного подчинения власти. Даже злым тиранам
следует, по его словам, повиноваться, ибо и им дается власть
господствовать лишь Божиим соизволением (nisi Dei provi-
dential Император, как он говорит, не подчинен тем же за-
конам, как и остальные люди, и может издавать другие зако-
ны. Амвросий Медиоланский в своем учении о власти ссы-
лался на слова пророка Даниила: «Всё царства от Бога, и он
раздает их, кому хочет» и на известный текст о воздаянии
кесарева кесарю и находил, что «царю, действующему вла-
стью, полученной от Бога, и повиноваться надлежит, как са-
мому Богу». Блаж. Иероним, равным образом, упоминая
предписание апостолов, требует совершенного повиновения
царям и вообще всяким властям предержащим.
В настоящей книге, посвященной более близким к нам
XVI—XVIII вв., я дал этот беглый очерк абсолютной монар-
хии в древности и, в частности, римской императорской вла-
сти как преемницы ориентальных и эллинистических царей,
ввиду того, что с падением Римской империи античный абсо-
лютизм не кончил своего существования: кое-что из него
продолжало жить в жизненных традициях и порядках вар-
варских королевств, а вся его сущность и приобретенные им
формы во всей неизменности целое тысячелетие сохранялись
в Византии, откуда оказывали влияние на новые нации; мно-
1 Монархии. С. 233—234 и 346.
24
гое из него, наконец, возродилось на Западе в общественном
сознании, когда жизнь постепенно привела средневековые
сословные монархии к порогу нового абсолютизма.
История царской власти в Византии может служить од-
ним из лучших доказательств живучести известных форм
при необычайно частых переворотах, когда они направлены
против лиц, а не против порядков. Положение византийского
автократора на престоле было по временам крайне непрочно,
но сама автократия зато стояла незыблемо, как это, впрочем,
часто случалось и в других деспотиях, европейских и азиат-
ских, древних и новых. В течение всего существования Ви-
зантийской империи царствовавший государь почитался ли-
цом священным, его власть — божественной, и вся его жиз-
ненная обстановка указывала на его связь с религиозными
святынями — и тронный зал, где хранились священные ре-
ликвии, и рядом с троном другой трон, на котором клалось
иногда Евангелие или икона, и царское облачение, напоми-
навшее священнические ризы, и придворные церемонии,
имевшие вид богослужебных обрядов, и проч., и проч. Боже-
ские почести воздавались даже царским изображениям, а
так называемые хрисовулы (царские грамоты с золотой пе-
чатью) могли прочитываться только после исполнения перед
ними особых обрядностей, которые должны были выражать
подобающее к ним почтение.
Независимо от византийских влияний, в Средние века по-
литические традиции римского абсолютизма продолжали жить
в тогдашней ученой литературе путем непосредственных заим-
ствований из древних книг. В одних случаях было заимствова-
ние политических теорий из богословской литературы, кото-
рая, как мы видели, проповедовала повиновение властям пре-
держащим, в других — из того, что было еще доступно из
римской литературы. В источниках обеих категорий средневе-
ковые писатели находили обычные указания на то, что наибо-
лее естественной и вместе с тем самой совершенной формой
нужно считать монархию, и именно неограниченную, причем
аргументы в пользу этого мнения, довольно разнообразные,
неизменно переходили от одного писателя к другому1. В этом
1 Поместье-государство. С. 207—208.
25
же направлении высказывался и великий Данте в своей книге
«De Monarchia», написанной в начале XIV в., когда уже начи-
нала, однако, развиваться теория сословной, ограниченной
представительными сеймами монархии1.
Кроме этой литературной традиции, которую можно на-
звать схоластической, была еще и другая традиция, юридиче-
ская, тоже проводившая в сознание средневекового обще-
ства принципы римского абсолютизма. Известно, что в Ита-
лии в XII в. началось изучение римского права, и что оттуда
оно стало распространяться в другие страны, вслед за чем
произошла так называемая рецепция римского права, т.е
введение его в жизнь. Уже в XII в., отстаивая права свет-
ской власти против папских притязаний, Гогенштауфены
пользовались услугами юристов. В XIII в. французские «ле-
гисты» тоже явились помощниками королевской власти в ее
борьбе с феодализмом. Все они были проникнуты монархиче-
скими тенденциями императорского Рима и стремились про-
водить в жизнь основной принцип абсолютизма: «quod prin-
cipi placuit legis habet vigorem».
Глава III
ПРОИСХОЖДЕНИЕ БЮРОКРАТИЧЕСКИХ ПОРЯДКОВ
Слабость центральной власти в раннем государ-
ственном быту — Замена родовых или племенных глава-
рей и местных господ ставленниками центральной вла-
сти.— Бюрократический строй Древнего Египта.—
Организация персидской монархии — Внедрение бю-
рократических порядков в греко-римский мир.— Диок-
летиано-константиновская реформа.— Неспособность
варварских королей справиться с бюрократической
централизацией.— Феодальная децентрализация — Суд
и управление в феодальном обществе.— Управление в со-
словной монархии
Ранний государственный быт всегда отличается слабостью
центральной власти. В периоде своего образования государст-
1 Поместье-государство. С. 210—215.
26
во является результатом срастания,— притом постепенного и
часто с перерывами,— более мелких групп, сохраняющих на
более или менее продолжительное время свою самостоятель-
ность под начальством собственных местных главарей с впол-
не независимыми от начинающей устанавливаться общей вла-
сти правами1. Эти более мелкие союзы, срастающиеся в госу-
дарство, могут быть обозначены как родовые и племенные
общины с их старейшинами и князьями, достигающими иногда
положения своего рода местных господ, прототипа феодаль-
ных сеньоров, и усиление центральной власти обыкновенно со-
стоит в том, что эти второстепенные местные главари уступа-
ют место ставленникам общего главы государства, короля,
князя или как бы он еще ни назывался. Процесс государствен-
ной интеграции состоит в том, что создается постепенно цент-
ральная власть сначала снизу, путем выделения из местных
главарей кого-либо одного, который из первого между равны-
ми и общего вождя делается мало-помалу их начальником и,
достигнув известной высоты на пути усиления своей власти,
начинает объединять полусамостоятельные части государства
в одно более сплоченное целое, заменяя прежних, более неза-
висимых главарей своими ставленниками с прямой задачей
быть проводниками единой воли в отдельных частях государст-
ва. Этот процесс, лишь общая схема которого, в виде движе-
ния сначала снизу вверх, а потом сверху вниз, выражена в по-
следних словах, крайне разнообразится в действительности в
зависимости от массы побочных условий. Можно было бы
классифицировать разные случаи превращения федераций в
единые и нераздельные целые и, с другой стороны, привести
немало разнородных примеров того, как целое, в свою очередь,
сверху разделяется и подразделяется на части, управляемые
свыше поставленными местными властями, вполне подчинен-
ными центральной власти.
С заменой младших товарищей, или вассалов, ставленни-
ками и наместниками мы встречаемся уже в Древнем Егип-
те2. Здесь монархия сложилась из более мелких политиче-
1 Государство-город. Гл. II и IV; Монархии. Гл. III; Поместье-государст-
во. Гл. II — IV.
2 Монархии. Гл. V.
27
ских организмов, которые нам известны под греческим на-
званием «номов» с их номархами во главе, причем в устрой-
стве страны происходили колебания, позволяющие новым
историкам Египта говорить то о существовании в нем бюрок-
ратической централизации, то о существовании политиче-
ского феодализма. Египетская история так длинна и сложна,
что мы можем в ней предполагать множество остающихся
нам неизвестными процессов, когда центральная власть то
усиливалась, то ослабевала, в соответствии с чем и местные
власти получали тот или другой характер по категориям бю-
рократической централизации или феодальной децентрализа-
ции. В той связи, в какой мы здесь касаемся истории Древ-
него Египта, нас могут интересовать лишь результаты на-
блюдаемой в нем политической интеграции, когда царство
фараонов достигало наибольших единства и цельности и мог-
ло бы служить для нас прототипом позднейшей централизо-
ванной и бюрократической Византии, в которой и на самом
деле мы видим продолжение многих явлений, зародившихся
еще при древних фараонах. Историки уже не раз высказыва-
ли предположения о том, что толкало население долины Ни-
ла к объединению общественных усилий и к сосредоточению
власти в особе царя-бога и приводило к системе управления
из центра целой армией царских писцов, этого прототипа чи-
новничества всех стран и народов: именно это была необхо-
димость общих и планомерных работ по регулированию раз-
ливов Нила, а везде и всегда всякая планомерность действий
создавала и соответственную организацию, в которой един-
ство направляющей воли с подчиненными ей агентами и со-
средоточение общественной силы с зависящими от нее про-
водниками ее велений играют первенствующую роль. Абсо-
лютная власть одного лица без централизации и бюрократии
возможна только на очень ограниченном пространстве от-
дельного поместья или города; чуть только государство раз-
растается, центральная власть нуждается в наместниках и
чиновниках. Система местного самоуправления в большом
едином государстве может устанавливаться на более высо-
ких ступенях развития или при особенно счастливых обсто-
ятельствах.
28
Другой крупный пример государственного строительства
сверху в истории Древнего Востока — это организация Пер-
сидского царства при Дарии1. Сложившаяся при Кире, Кам-
бизе и самом Дарии из нескольких царств и земель, монар-
хия «великого царя» подверглась сверху планомерному
делению на большие наместничества, или сатрапии, с подчи-
ненными им номархами, суффетами, тиранами, причем в
каждой такой «сатрапии» военная власть была отделена от
гражданской, для сношений центрального правительства с
его представителями на местах были учреждены почтовые
дороги и станции и особая курьерская служба, а для контро-
ля над деятельностью местных властей посылались ревизо-
ры, бывшие «глазами и ушами царя». Александр Македон-
ский в общем сохранил эту систему2, которая удержалась по-
том и в Сирийском царстве Селевкидов3, в то время как
птолемеевский Египет продолжал пользоваться порядками
еще более древнего, фараоновского времени4.
В государствах-городах классических народов развива-
лась иная система управления, система выборных и притом
краткосрочных должностей, но и здесь, когда отдельные об-
щины становились во главе более обширных территорий,
они вынуждались ставить над ними своих наместников. Та-
ковы были спартанские гармосты в подчиненных общинах,
разные агенты державной власти афинского демоса в союз-
ных городах вроде эпимелетов и епископов, и в особенности
римские проконсулы и пропреторы в провинциях державного
города5. Эта наместническая власть в римском государстве
послужила материалом, из которого постепенно создалась
бюрократическая централизация империи. Отправлявшийся
в провинцию наместник, получая ее в сущности в полное
распоряжение, увозил с собой целый штат служащих, при
помощи которых должен был проявлять свою власть6. Это
была так называемая преторская когорта, в составе которой
1 Монархии. С. 119 и след.
2 Там же. С. 155.
3 Там же. С. 164.
4 Там же. С. 163—164.
5 Государство-город. С. 255, 267—268 и 301.
6 Монархии. С. 188.
29
были и высшие, и низшие должностные лица, писцы, состав-
лявшие канцелярию правителя провинции. Сначала между
отдельными областными управлениями не было никакой свя-
зи, т.е. империй римского народа был децентрализован, но
именно необходимость в децентрализации империи и была
одной из причин возникновения императорской власти1, а
последняя внесла в дело управления провинциями извест-
ную систему, мало-помалу и завершившуюся бюрократиче-
ской централизацией диоклетиано-константиновской эпохи.
Порядки, найденные новой властью в восточных провинциях,
особенно в Египте, послужили при этом императорам образ-
цами планомерной организации как центрального, так и об-
ластного управления2. Старые формы, выработавшиеся в
древних деспотиях Востока, перешли постепенно в греко-
римский мир, т.е. и в эллинистические царства, и в мировую
державу, созданную Римом.
Диоклетиан и Константин Великий превратили империю
в правильно расчлененное и иерархически построенное
бюрократическое государство. Именно империя была разде-
лена на четыре общие наместничества, или префектуры, из
которых каждая разделялась на более мелкие области, диэ-
цезы, подразделявшиеся на еще более дробные части, про-
винции, числом более ста во всей империи. Префектам в
иерархическом порядке были подчинены их заместители, ви-
карии, правившие отдельными диэцезами и имевшие под
собой ректоров (или корректоров) провинций, а в более поз-
днее время и во главе отдельных городов являются так назы-
ваемые комиты (comites civitatum). При этом военное управ-
ление (с магистрами милиции и с дуксами и комитами воен-
ного дела) было строго отделено от гражданского3. Такова
была централизация в Римской- империи. Уже Август начал
заводить в ней (по египетскому образцу) бюрократические
порядки, но сначала императорское чиновничество по-старо-
му должно было проходить военную карьеру, и только во
II в. Адриан (по египетскому же образцу) стал требовать на
1 Монархии. С. 197 и след.
2 Там же. С. 270, 273 и др.
3 Там же. С. 269.
30
гражданской службе юридического образования. При Адриа-
не же создался (напоминающий собой птолемеевский сине-
дрион) императорский совет, как правильно организованное
учреждение, а придворные канцелярии, в которых прежде
несли службу вольноотпущенники императора, преврати-
лись в государственные учреждения с персоналом из так на-
зываемого всаднического сословия. Диоклетиан и Констан-
тин окончательно систематизировали центральные учрежде-
ния империи, т.е. императорский совет, отдельные ведомства
с министрами во главе и канцелярии, или скринии, получив-
шие это название от сундуков или шкафов, в которых храни-
лись дела. Все эти учреждения заправляли общегосударст-
венными делами и надзирали через особых агентов за тем,
что делалось местными властями, для сношений с которыми
существовала и правильно устроенная почта1. Диоклетиано-
константиновская реформа страшно увеличила чиновничий
штат империи и усилила тем самым административное воз-
действие власти на население, причем в основе всего управ-
ления лежало недоверие власти к населению и к собствен-
ным же ее агентам на местах. Государство покрылось целой
сетью канцелярий, или официев (т.е. служб), наполненных
легионами мелких чиновников, сторожей, рассыльных и т.п.,
которые получали жалованье из Государственной казны и
исключительно зависели от своего начальства. В IV и V вв.
крупное и мелкое чиновничество совершенно обособилось от
гражданского общества и даже стало смотреть на него не
только как на совокупность людей, управляемых им от име-
ни государства, но и как на бесправную массу, существую-
щую для доставления средств к жизни чиновничьему правя-
щему классу2. Эта бюрократическая организация властвова-
ния, совершенно обособившаяся от населения, как нечто
самодовлеющее, в себе самом носящее цель своего существо-
вания, как могучий дуб, глубоко пустила свои корни с мель-
чайшими их разветвлениями в общественную почву, извле-
кая из нее все соки для своего питания. В общественном ор-
ганизме, состоящем из отдельных экономических классов,
1 Монархии. С. 274—276.
2 Там же. С. 362—363.
31
занятых сельским хозяйством, обрабатывающей промышлен-
ностью, торговлей и т. д., это был как бы извне внедривший-
ся в него другой организм — от главы государства до послед-
них официалов,— который поработил себе население, устра-
нив от общественных дел всех не чиновников. Бумажное
многописание и бюрократический формализм, существо-
вавшие еще в фараоновском Египте1, заполонили собой в IV
и V вв. и Римскую империю. Этой системой сильно было
стеснено развившееся было, особенно во II в., городское са-
моуправление, а Византийская империя и прямо отняла у го-
родов заведование хозяйственными их делами и внешним
благоустройством, чтобы и это подчинить опеке и благоус-
мотрению ставленников центральной власти. Недаром один
из византийских императоров возвел в государственный за-
кон исключительную инициативу и исключительное дейст-
вие императорской власти (и, конечно, органов последней)
во всех гражданских делах империи.
С занятием в V в. западных провинций Римской империи
германскими племенами, основавшими здесь свои королевст-
ва, и с падением самой империи на Западе в 476 г. началось
здесь и постепенное крушение бюрократической централиза-
ции, созданной политическим развитием предыдущих эпох.
При общем распаде прежних форм жизни, при начавшейся
экономической и культурной варваризации общества в преж-
них западных провинциях империи и т. п.2 варварские короли,
непосредственные преемники германских конунгов, стоявших
во главе только что складывавшихся государств, оказывались
не в силах поддерживать имперские порядки бюрократической
централизации, и она упрощалась, падала, заменялась иными
порядками, ей противоположными.
Наибольшую противоположность бюрократической цент-
рализации представляла собой феодальная децентрализа-
ция3. В феодальной системе Средних веков поставленные го-
сударем правители областей превратились в самостоятель-
ных и наследственных владетельных князей, и дробление
1 Монархии. С. 67.
2 Поместье-государство. С. 12 и след.
3 Там же. Гл. IV.
32
государственной власти пошло еще дальше, так как она разо-
шлась по рукам всех вообще крупных землевладельцев,
помещиков, так называемых сеньоров. Вместо иерархии чи-
новников, из которых одни были начальниками других, обра-
зовалась лестница помещиков-государей, из коих одни были
сеньорами, другие их вассалами. Отправление той или дру-
гой должности утратило характер службы, так как вошло в
комплекс прав каждого более или менее крупного земле-
владельца, владетельного князя или простого барона. Госу-
дарство раскрошилось на сеньории, и для прежней бюрокра-
тической сети, его опутывавшей, уже не было более места,
потому что отдельные местности зажили своей особой, само-
стоятельной жизнью. Если Римская империя в конце своего
существования совершенно закрепостила общество государ-
ству, отожествив последнее с правящей бюрократией, то в
феодализме, наоборот, государство растворилось в обще-
стве, и каждое поместье сделалось своего рода маленьким го-
сударством, причем узы, которые, как-никак, связывали все-
таки эти поместья-государства в одно более крупное полити-
ческое целое, основывались на обоюдном договоре сюзерена
и вассала, на договоре, какой может заключаться лишь меж-
ду самостоятельными, хотя и не равными по силе властями.
Одним словом, феодализация была особым видом дебюрокра-
тизации государства, как потом, наоборот, процесс его дефе-
одализации сопровождался его бюрократизацией — в эпоху
абсолютной монархии, вернувшейся в сущности, как мы уви-
дим, к формам Римской империи.
Источником, из которого вышла бюрократия Нового вре-
мени, было внутреннее управление феодального поместья-го-
сударства1. Феодальный сеньор, как землевладелец, ведший
свое сельское хозяйство, как носитель прав верховной вла-
сти над населением, как господин, наконец, крепостных, не
мог все делать сам, а нуждался в дворецких, старостах, при-
казчиках, а если у него было не одно поместье, не один хо-
зяйственный хутор, то ему нужен был и особый управляю-
щий и т. п. Феодальный король, как известно, сам был тоже
крупный помещик, имевший в своих поместьях и над ними
1 Поместье-государство. С. 119.
33
различного рода агентов своей сеньориальной власти, ста-
рост (мэров) и управляющих (превотов), и по мере того, как
«первый между равными» помещик-государь вырастал посте-
пенно в абсолютного монарха, воплощавшего в себе все го-
сударство (по формуле Людовика XIV: «I’etat, c’est moi»), и
помещичьи приказчики вырастали в государственных чинов-
ников.
Этим агентам центральной власти, по мере ее роста и
усиления, все более приходилось подчинять своему надзору
и руководству не только агентов сеньориальной власти, но и
те органы самоуправляющихся союзов, которые возникали
по мере того, как, с одной стороны, из-под феодальной вла-
сти выбивались отдельные общины (города), а с другой —
являлась потребность в решении некоторых общих дел от-
дельных местностей общими же силами самостоятельных
элементов их населения. Период сословной монархии вооб-
ще характеризуется развитием сословного участия в мест-
ных делах в форме ли городского, или в форме областного
самоуправления. Во Франции, например, в эпоху Генераль-
ных штатов мы встречаем не только штаты в отдельных про-
винциях, т.е. более крупных делениях государства, но и в де-
лениях более мелких1. Подобное положение дел просущест-
вовало в некоторых случаях до очень позднего времени, и в
Австрии, например, как мы это увидим в своем месте, со-
словное управление стало систематически заменяться в от-
дельных областях чиновничьим только в середине XVIII в.,
при Марии-Терезии. Многие функции государства в эпоху
сословной монархии, таким образом, отправлялись не аген-
тами центральной власти, а выборными должностными лица-
ми местных союзных организаций, городских и областных.
1 Поместье-государство. С. 240.
34
Глава IV
СУДЬБЫ КОРОЛЕВСКОЙ ВЛАСТИ НА ЗАПАДЕ
В СРЕДНИЕ ВЕКА
Переход власти западно-римских императоров к гер-
манским королям.— Характер власти последних на ро-
дине.— Смешение римских и германских начал в варвар-
ских королевствах.— Попытка восстановления Римской
империи при Карле Великом.— Политическая феодализа-
ция.— Что такое феодальная и сословная монархия?—
Ранние проявления абсолютизма на Западе: Англия при
нормандских королях и первых Плантагенетах и Ко-
ролевство обеих Сицилий в эпоху нормандской династии
Г огенштауфенов
Ближайшей задачей нашей, в этой и следующей главах,
будет проследить судьбы королевской власти на Западе, от
падения Римской империи до возрождения абсолютизма в
Новое время.
Прежде всего нужно указать на двоякий источник королев-
ской власти в государствах, основанных германцами в отдель-
ных провинциях Римской империи1. С одной стороны, для ста-
рого, туземного населения короли пришельцев сделались на-
следниками неограниченной власти римских императоров,
тогда как, с другой, по отношению к самим пришельцам они
являлись лишь преемниками племенных вождей, не обладав-
ших такой неограниченной властью. Этому двойственному
происхождению королевской власти соответствовала и двойст-
венность в организации всего королевского управления.
В настоящее время исторической наукой твердо установле-
но, что территория Западной Римской империи была занята
германцами, лишь за некоторыми исключениями, мирным об-
разом, с согласия, хотя бы и вынужденного, со стороны импер-
ской власти, так что первые варварские королевства были сво-
его рода вассальными владениями под верховной властью им-
ператора. Первым таким королевством было Вестготское,
первоначально в Аквитании и только позднее в Испании. В на-
1 Для последующего см.: Поместье-государство. Гл. II, III и IV.
35
чале V в. вестготский король, оставаясь племенным вождем
пришельцев, получил от империи, в качестве главнокомандую-
щего и гражданского правителя, области, соответственные ти-
тулы magister militum и patricius, ставши, таким образом, на-
местником императора занятой вестготами территории. Толь-
ко во второй половине V в., когда фактически императорская
власть обнаружила полное свое бессилие, один из вестготских
королей (Эйрих) стал править своей областью по собственно-
му праву, suo jure, как выражается готский историк Иорнанд.
Аналогичное явление мы наблюдаем и в государстве бургун-
дов, король которых тоже был по отношению к старому насе-
лению занятой этим племенем области и воинским магистром,
и патрицием. В Италии, когда находившиеся там на службе
империи варварские отряды провозгласили своим королем
Одоакра, с отстранением от власти западного императора Ро-
мула-Августула, установился такой же порядок вещей, как и в
обоих только что названных варварских королевствах, т.е. гер-
манский вождь сделался наместником восточного, теперь об-
щего для обеих половин империи императора, и все с тем же
титулом патриция. Когда в очень скором после того времени
остготский король Теодорих с согласия главы империи отнял у
Одоакра Италию, то положение дел сохранилось прежнее, т.е.
одно и то же лицо, оставаясь народным вождем пришельцев,
вместе с тем по отношению к туземному населению вступило
во все права старой имперской власти. Наконец, и франкский
король, подчинивший себе в конце V в. и начале VI в. всю Гал-
лию, тоже смотрел на себя как на законного носителя импер-
ской власти и принимал, в соответствии с этим, римские титу-
лы рядом со своим званием короля франков. Таков был один
источник прав варварских королей; перейдем теперь к дру-
гому.
У германцев времен Цезаря и Тацита, оставивших пер-
вые о них сведения, т.е. в I в. до Р. X. и I в. по Р. X. госу-
дарственность только что начинала складываться, что, как
известно, позволяет даже проводить аналогию между бытом
германцев и тем ранним греческим бытом, который отразил-
ся в поэмах Гомера1. При Цезаре то, что можно назвать гер-
1 Государство-город. С. 17 и след.
36
манским государством (а их было очень много), еще не веда-
ло в мирное время какого-либо общего правителя: «in расе
nullus est communis magistratus», как выразительно замечает
сам Цезарь, и только на время войны выбирался, по его же
свидетельству, общий начальник, имевший власть над жиз-
нью и смертью (vitae necisque potestatem). То же самое мы
видим у многих германских племен и в эпоху Тацита; исто-
рик называет такого временного воеводу латинским терми-
ном dux, но в то же время указывает среди германских пле-
мен и такие, которые имеют уже постоянную королевскую
власть (nationes quae regnantur). Так как война сделалась
хроническим состоянием германских племен, начавших при
этом соединяться в более обширные союзы, то власть вре-
менных первоначально герцогов, как назывались по-герман-
ски тацитовские duces, стала превращаться во власть уже
постоянных королей, или конунгов, как они назывались у са-
мих германцев. Тацит, однако, подчеркивает, что власть этих
королей отнюдь не была безграничной или произвольной
(пес regibus infinita aut libera potestas): главная сила принад-
лежала самому народу, собиравшемуся на веча для решения
наиболее важных дел всей государственной общины. Основ-
ной характер ограниченности королевская власть у герман-
ских народов сохраняла и долго спустя после того, как Тацит
описывал быт этих народов, хотя, конечно, по мере того, как
власть упрочивалась за одним родом и этот род становился
все более сильным экономически, а главное — по мере того,
как государство увеличивалось в своем объеме, власть коро-
лей постепенно усиливалась. Если, например, существенные
черты прежнего народного устройства государства продол-
жали сохраняться в быту англосаксов, занявших в середине
V в. Британию, то у готов, наоборот, замечается значитель-
ное усиление королевской власти еще до занятия ими от-
дельных провинций империи.
История этой власти после укрепления отдельных гер-
манских народностей в бывших римских областях характери-
зуется, так сказать, смешением и взаимодействием римских
и варварских начал. Внутри старого государства или, вернее
говоря, известного его обломка, возникало другое государст-
во с совершенно особенной организацией власти, и эти два
37
государства должны были начать одно к другому приспособ-
ляться, одно с другим сливаться, что не могло не сопровож-
даться как варваризацией старой имперской власти, с одной
стороны, так и романизацией власти германского короля, с
другой. Романизация последней заключалась главным обра-
зом в том, что неограниченность своих прав, как наследники
римских императоров, варварские короли распространяли и
по отношению к германцам, что не мешало, однако, варвари-
зации приемов управления и по отношению к коренному на-
селению бывших провинций империи. Теодорих Великий не
принял только титула императора, ограничившись лишь зва-
нием romarius princeps, но зато усвоил, вместе с порфирой и
другими знаками царственного сана, самую суть автократи-
ческой идеи Рима. «Только собственная воля наша нас свя-
зывает, отнюдь не условия, ставимые другими, ибо, по мило-
сти Божией, мы можем все, хотя и полагаем, что лишь одно
похвальное нам приличествует»,— такова была приблизи-
тельно эта идея в сознании и в заявлениях остготского коро-
ля. Немудрено, что при таких отношениях права народного
собрания должны были перейти к королю, который правил
страной при посредстве служилых людей, хотя бы уже и не
чисто бюрократического, а полудружинного типа. Что сказа-
но здесь об остготском королевстве, может быть одинаково
сказано и о других варварских государствах на римской по-
чве: организация управления варваризировалась, но сама ко-
ролевская власть все более и более проникалась римскими
традициями абсолютизма и даже стремилась сохранять
внешние формы старой неограниченной и священной власти.
Особенно интересны для истории королевской власти
первой половины Средних веков ее судьбы в королевстве
франков, восстановивших при Карле Великом Западную
Римскую империю. На истории этой монархии мы можем
лучше всего изучать взаимодействие и смешение римских и
германских начал, их боръбу и, так сказать, совершавшиеся
между ними компромиссы. В общем это была все большая и
большая утрата королевской властью того характера, кото-
рый она имела у германцев, все большее и большее прибли-
жение ее к абсолютизму, шедшее, однако, рука об руку,—
при Меровингах по крайней мере,— с постепенным отреше-
38
нием от государственной идеи в пользу взгляда на положе-
ние короля как на положение главы большого частного хо-
зяйства, заботящегося исключительно о своем личном или
фамильном интересе:
Дело в том, что варваризация обломков Римской импе-
рии, каковыми являются все эти германские королевства,
выразилась и в том, что королевская власть, бывшая в них
носительницей государственности, уже вполне окрепшей в
Римской империи и только что складывавшейся у самих гер-
манцев, но все-таки государственности, в меровингскую эпо-
ху все более и более принимала, так сказать, домохозяйст-
венный характер — употребляя термин Аристотеля, разли-
чавшего среди известных ему монархий такие, в которых
власть царя соответствует власти домохозяина1. Частный,
домохозяйственный взгляд на государство — явление вооб-
ще довольно распространенное в абсолютных монархиях, и в
древности мы встречаемся с ним и в фараоновском Египте,
где царь был собственником всей земли2, и в самой Римской
империи, когда в ней пало первоначально различение между
государевой и государственной собственностью и, следова-
тельно, между частным хозяйством государя и государствен-
ным хозяйством3. При Меровингах эта черта получила осо-
бое развитие, и империя Карла Великого была как раз воз-
вращением к началам государственности, и притом в
римском ее понимании и с возложением на государство еще
религиозной миссии, так как «боговенчанный великий и ми-
ротворный император», как титуловал себя Карл Великий,
включал в свой титул и звание «защитника церкви» (Augus-
tus a Deo coronatus magnus et pacificus imperator romanorum,
defensor Ecclesiae). Но общественный строй и вся система
управления при Карле Великом были уже не те, с которыми
вместе возникла и развилась прежняя императорская власть.
Карлу Великому пришлось организовать одно великое госу-
дарственное целое из стран, в которых уже давно совершал-
ся процесс феодализации, потом и приведший к распадению
1 Монархии. С. 377.
2 Там же. С. 61.
3 Там же. С. 321 и др.
39
империи на массу княжеств и сеньорий с совершенно особы-
ми, необычайно своеобразными чертами политического су-
ществования.
Здесь не место рассматривать, в чем вообще заключался
весьма сложный и многосторонний процесс феодализации1.
Отметим только, что одним из результатов этого процесса
было раздробление государственной власти, так сказать, ра-
зошедшейся по рукам местных правителей и помещиков,
причем домохозяйственный интерес у феодальных сеньоров
совершенно вытеснил какую бы то ни было государствен-
ную идею. Каждая феодальная сеньория была маленьким по-
добием абсолютной монархии, поскольку ее владелец был
неограниченным владыкой большей части ее населения, и
его помещичий интерес был главным руководящим принци-
пом его внутренней «политики»2. При таком порядке вещей
сама королевская власть должна была феодализироваться,
если только еще сама сохранялась. В Италии преемники
Карла Великого не пережили процесса феодализации, и ес-
ли, наоборот, в Германии королевская власть удержалась в
наибольшей силе и даже сохранила за собой, с середины
X в., императорский титул, то в конце концов феодальные
порядки одолели и ее. Во Франции, с новой династией Ка-
петингов, вступившей на престол в конце X в., король сде-
лался только «первым между равными» (primus inter pares),
и большим прогрессом его власти было признание крупны-
ми феодальными князьями своей от него зависимости, как
от высшего феодального сеньора, главы всей лестницы вас-
салитета3. Самое характерное в феодальной монархии —
это, во-первых, то, что король прежде всего такой же госу-
дарь-помещик, или вотчинный князь, как и другие сеньоры,
и что, во-вторых, отношения государя и подданных заменя-
ются здесь отношениями сюзеренства и вассальства, осно-
ванными на частном договоре4. Даже то средневековое коро-
левство, которое менее других подверглось распаду и ранее
других развило у себя начала государственности, Англия, и
1 См.: Поместье-государство. Гл. II, III и IV.
2 Там же. Гл. VIII.
3 Там же. Гл. XIII (Феодальная монархия).
4 Там же. С. 111.
40
оно не избежало подчинения феодальным формам, хотя в
этой стране, с другой стороны, сам феодализм должен был
нести на себе государственную службу1. Как бы там ни бы-
ло, после распадения империи Карла Великого до эпохи
Крестовых походов на Западе происходил процесс феодали-
зации монархии, который в одном отношении был не чем
иным, как переходом неограниченной и безусловной коро-
левской власти в ограниченную и условную. О феодальных
королях можно сказать то же самое, что Тацит говорит о
древнегерманских конунгах: «пес regibus infinita et libera po-
testas»2. У феодального короля могли быть подданные, над
которыми у него была такая же неограниченная власть, как
и у любого другого сеньора, но это была власть скорее по-
мещичья, доманиальная, чем государственная, политиче-
ская; в государственном же быту господствовали отношения
вассалитета, создававшиеся обоюдным договором, налагав-
шим на обе стороны известные обязанности и ограничивав-
шим права старшего над младшим3. В известных случаях
вассал мог дезавуировать своего сеньора, т.е. правомерно
отказать ему в повиновении и даже решать спор с ним вой-
ной, что прямо признавалось некоторыми феодальными гра-
мотами, например, английской «Великой хартией свободы»
в первой ее редакции4. Сообразно со всем этим феодальный
король нуждался в согласии своих вассалов при обложении
их денежными взносами или в случаях необходимости при-
нять какие-либо общие меры, исполнение которых было бы
немыслимо без согласия вассалов.
«Nec infinita et libera potestes»,— эти слова Тацита можно
было бы повторить, характеризуя королевскую власть на Запа-
де и в эпоху так называемой сословной монархии, когда ко-
роль должен был в известной мере делиться властью с вырос-
шими на феодальной почве сословными сеймами, на которых
тоже заключались договоры духовенства, дворянства и горо-
1 Поместье-государство. Гл. XIV (Особенности феодальной монархии в
Англии).
2 См. выше, с. 37.
3 Поместье-государство. Гл. XI (Сущность феодальных отношений в
тесном смысле).
4 Там же. С. 162.
41
жан между собой и всех этих трех сословий с королем относи-
тельно налогов, законов и управления государством вообще1.
Сословная монархия имела своих теоретиков, особенно отме-
чавших ограниченность королевской власти в деле издания за-
конов. Принципу: «то, что благоугодно государю, имеет силу
закона» они противополагали другой. «Силу закона,— писал
английский юрист XIII в. Брайтон,— имеет то, что правильно
постановляется королевской властью (auctoritate regis) с сове-
та и согласия вельмож и общего соглашения всей земли». Дру-
гой английский юрист, Фортескью, двумя столетиями позже,
различавший между королевским правлением (абсолютной мо-
нархией) и правлением политическим (республикой), находил,
что его собственная родина управляется одновременно и по-
королевски, и политически и что в этом заключается третий
вид — ограниченная монархия.
Таковы были судьбы королевской власти на Западе, и об-
щая схема ее истории может быть выражена так: приход гер-
манцев в Римскую империю не уничтожил в ней абсолютной
государственной власти, и, наоборот, германская королевская
власть под влиянием римских порядков сделалась неограни-
ченной, хотя в то же время приобретала еще более и более до-
мохозяйственный характер; совершавшийся одновременно
процесс феодализации, наконец, разложил государство, и в
своей новой форме феодальной монархии оно уже знает толь-
ко ограниченную власть сюзерена над своими вассалами,
покоющуюся на обоюдном договоре, с каковым характером ог-
раниченности она существует и в эпоху возникновения и про-
цветания сословных государственных сеймов. Новый запад-
ноевропейский абсолютизм в большинстве случаев вырастает
уже на развалинах сословно-государственных учреждений.
Самым важным для нас примером раннего установления
абсолютного правления в средневековом государстве являет-
ся пример Англии после нормандского завоевания. Объеди-
нение нескольких англосаксонских государств в единую Ан-
глию, совершившееся в первой половине IX ст., было резуль-
1 Поместье-государство. Гл. XVII, XVIII и XXII и, в частности, о фран-
цузских Генеральных штатах (гл. XIX) и английском парламенте (гл. XX—
XXI).
42
татом борьбы как между ними, так и с внешними врагами,
датчанами, т.е. вытекало не столько из внутренних причин
развивающейся общественной жизни, сколько из явлений
более внешнего порядка, а потому само было более внеш-
ним, что, однако, ставило перед государственной властью
все-таки довольно обширные и трудные задачи, которые при-
ходилось разрешать, наоборот, крайне недостаточными и са-
мыми простыми средствами элементарной государственно-
сти. Результатом было, как и в варварских королевствах на
материке, то, что государство оказывалось не в силах спра-
виться со своим делом, и в стране довольно быстрым темпом
шел процесс феодализации1. В конце концов он должен был
бы привести к тому же самому, что произошло на континен-
те, где феодализм раздробил целые большие страны на массу
мелких политических организмов с превращением крупных
землевладельцев в подобие государей и с установлением
между ними чисто договорной связи сеньоров и вассалов, но
этот процесс был прерван в 1066 г. нормандским завоевани-
ем, превратившим Англию в государство, наименее феодаль-
ное среди других в те времена, потому что хотя Вильгельм
Завоеватель и ввел в стране феодальные порядки по конти-
нентальному образцу, но в то же время заставил их служить
чисто государственным целям2. Известно, что он потребовал
верноподданнической присяги от всех свободных людей ко-
ролевства, а не от одних своих непосредственных вассалов,
и принял меры к тому, чтобы ни у одного из его вассалов не
скопилось в одном месте слишком много земли, и чтобы не
развилась их судебно-административная власть на счет вла-
сти государства. В середине XI ст. в Англии были еще живы
старинные германские учреждения, на континенте давно
уже исчезнувшие, и Завоеватель их теперь оживил, укрепил,
усилил в интересах не только населения, но и своей собст-
венной власти, для которой он создал тем самым настоящую
национальную опору. С другой стороны, завоевание достави-
ло Вильгельму громадные материальные средства в виде мас-
сы перешедших в его распоряжение поместий, не говоря уже
1 Поместье-государство. С. 150—151.
2 Там же. С. 153—156.
43
о том, что он очутился и в обладании тех доходов, какие в
Англии все-таки еще поступали от населения в королевскую
казну; кроме того, он имел право на получение чисто фео-
дальных взносов от вассалов, державших от него поместья.
Вместе с этим воинской повинностью в Англии были по от-
ношению к королю обязаны не одни непосредственные его
вассалы, но и все держатели феодов, от кого бы они их ни
держали, равно как все вообще свободные и достаточные лю-
ди, издавна составлявшие народное ополчение. Благодаря
этому здесь военная служба сделалась исключительно коро-
левской службой и феодальные землевладельцы лишены бы-
ли возможности заводить свои военные дружины.
И это еще не все. Вследствие конфискаций, распростра-
нившихся чуть не на всю поземельную собственность Анг-
лии, Вильгельм, оставивший много земель за собой, сделал-
ся de facto верховным собственником вообще всех земель,
какие были в завоеванном им королевстве: держателями зе-
мель от него считались не только непосредственные его вас-
салы, так называемые бароны, но в последней инстанции все
вообще землевладельцы страны. Пожалуй, это было строгим
проведением на практике именно феодального принципа, но
в наиболее феодализированных странах как раз он и не был
последовательно проведен, тогда как в Англии последова-
тельное его проведение, обязывая всех землевладельцев
службой королю, только шло на пользу государственной вла-
сти, объединявшей в своих руках королевство. Очень важно,
что на основании того же общего принципа существовала в
Англии и вся поземельная собственность церкви, что стави-
ло тамошнее духовенство в большую зависимость от свет-
ской власти, чем то было в других местах.
Прибавим ко всему сказанному, что значение королевской
власти усиливалось и тем, что пришельцы, устроившиеся
очень хорошо в материальном отношении среди завоеванного
населения, естественно должны были видеть в короле своего
главу, за которого им следовало держаться в собственных же
интересах, тогда как и туземцы, по отношению к которым
Вильгельм Завоеватель был лишь преемником прежних закон-
ных королей, тоже нуждались в его власти ради той защиты,
какую она могла бы давать против обид и насилий со стороны
44
завоевателей. Все это вместе взятое и привело к тому, что ко-
ролевская власть сделалась в Англии во второй половине XI в.
такой реальной силой, какой она в это время нигде не явля-
лась на материке, и поэтому английская государственность
той эпохи могла ставить и решать многие задачи, бывшие со-
вершенно не по плечу настоящей феодальной монархии с ее
характером простого сюзеренитета над массой мелких полити-
ческих организмов.
Правда, при преемниках Завоевателя феодальные эле-
менты английского общества сделали было попытку установ-
ления в стране подобия континентальных порядков1, но в
борьбе королевской власти с мятежными баронами на сторо-
не первой были и народ, и духовенство. Народная масса ви-
дела, что королевская власть борется с теми же враждебны-
ми ей силами, которые угнетали и саму народную массу, а
духовенство было на стороне короля не только в силу своей
материальной от него зависимости, но и потому, что Виль-
гельм Завоеватель создал для церкви особое привилегиро-
ванное положение и тем самым отделил интересы клира от
интересов светских баронов.
Известно, что феодальная анархия, раздиравшая Англию
в первой половине XII в., окончилась со вступлением на пре-
стол, в 1154 г., династии Плантагенетов. Первый же госу-
дарь этой династии, Генрих II, деятельно и весьма успешно
принялся за реставрацию поколебленной в эпоху феодаль-
ных смут английской государственности, имея на своей сто-
роне и сочувствие, и содействие народа. Им была объявлена
беспощадная война всему, что противоречило государствен-
ному принципу, что претендовало на обладание самостоя-
тельной политической мощью, которая была бы совершенно
независима от королевской власти. У Генриха II была целая
программа государственных преобразований, им неуклонно и
проводившаяся в жизнь,— преобразований, клонившихся к
укреплению центральной власти, к сплочению центра с от-
дельными частями государства на почве общегосударствен-
ных задач, к объединению страны в административном, фи-
нансовом и судебном отношениях, к укреплению и местной
1 Поместье-государство. С. 157—158.
45
самостоятельности, но не феодальных элементов, а находив-
шихся в антагонизме с ними областных групп народного,
всесословного и, следовательно, антифеодального состава.
Некоторыми своими реформами первый Плантагенет строил
фундамент для будущего развития государственности в
направлении усиления в ней начал правового порядка и са-
моуправления, но непосредственным результатом всей его
политики было установление в Англии настоящего абсолю-
тизма. Народ шел за королем и помогал ему, видя в осуще-
ствлении его мероприятий самую действительную гарантию
против возвращения к феодальной анархии, и терпеливо пе-
реносил те невзгоды, какие ему самому приходилось испыты-
вать со стороны слишком властного и требовательного госу-
даря. Генрих II пользовался этим настроением и вытекавшим
отсюда поведением массы для возведения своего здания в ду-
хе настоящего абсолютизма. В сущности, он восстановил,
укрепил и углубил ту неограниченность королевской власти,
которая создалась вследствие завоевания Англии Вильгель-
мом I. При нем эта власть уже имела в своем распоряжении
хорошо по тому времени организованные и до известной
степени планомерно и успешно действовавшие центральные
учреждения, так что уже во второй половине XII ст. Англия
была правильно централизованным государством, которое в
общем весьма недурно справлялось со своими администра-
тивными, финансовыми, судебными и военными задачами
под неограниченной властью короля. Но в то же время эта
власть очень рано стала обнаруживать склонность к превра-
щению в самый необузданный деспотизм, что и заставило в
начале XIII в. все бывшие дотоле разрозненными элементы
английского общества сплотиться для борьбы с королевской
властью.
Уже второй король нормандской династии, сын и преем-
ник Завоевателя, Вильгельм II Рыжий, царствование которо-
го приходится на последние годы XII в., проявил самый без-
удержный деспотизм, не считавшийся ни с чем и не знавший
никаких границ, тем более что его поддерживали англосак-
сы, враждовавшие с нормандцами, хотя его тирания ложи-
лась тяжелым бременем не на одних баронов и духовных.
Только стрела, неизвестно кем пущенная в короля на охоте,
46
положила конец этому деспотическому царствованию. Вто-
рой сын Генриха II, Иоанн Безземельный, как бы повторил
собой через сто лет Вильгельма Рыжего, но на этот раз ко-
ролевский деспотизм встретился с энергичным отпором со
стороны всех деятельных элементов тогдашнего общества.
Хотя этот король и был вынужден ограничить свою власть
Великой хартией вольностей, но в царствование его сына
Генриха III опять были поставлены на карту все права анг-
лийской нации, так как и этот король правил страной совер-
шенно произвольно, пока не вспыхнула борьба, приведшая к
образованию парламента. Как это часто бывает в подобных
случаях, деспотически настроенный Генрих III охотно окру-
жал себя иностранными выходцами, которым раздавал самые
важные государственные должности и которые не стесняли
себя никакими законами, во всеуслышание иногда заявляя,
что единственным источником всякого права и всякого зако-
на в Англии являются королевская власть и воля.
Говоря об установлении в Англии в XI—XII вв. абсолю-
тизма, необходимо принимать в расчет, что и на родине за-
воевателей, в Нормандии, благодаря образованию и этого
герцогства путем занятия его территории военной дружиной,
уже существовала весьма сильная княжеская власть, какой
мы не находим в других крупных владениях феодальной
Франции X и XI вв. Кроме Англии, нормандцы, как известно,
завоевали еще Сицилию и Южную Италию, где тоже основа-
ли свое Королевство двух (или, как у нас принято говорить,
обеих) Сицилий. И здесь королевская власть получила боль-
шое развитие, а именно, все графы и бароны считались не-
посредственными вассалами короля, все замки находились в
его исключительном распоряжении и охранялись королев-
скими гарнизонами, правосудие в уголовных делах отправля-
лось только королевскими агентами и т. п., так что глава
этого наскоро сколоченного королевства был самым абсо-
лютным государем во всей Западной Европе. Нормандские
короли обеих Сицилий сознательно и неуклонно стремились
к абсолютизму, с одной стороны, опираясь на порядки, заве-
денные в эпоху арабского владычества, с другой, пользуясь
принципами возрождавшегося в это время римского права.
Сменившие нормандскую династию Гогенштауфены, особен-
47
но в лице императора Фридриха II (по Сицилии Фридриха I),
в первой половине XIII ст., продолжали абсолютистскую по-
литику своих предшественников. Сам король этот был ти-
пичным воплощением самодержавного монарха в духе своего
рода просвещенного абсолютизма, а кодифицированные им и
его канцлером, Петром а-Винеа, «сицилийские конституции»
(1231) были настоящим завершением системы строгой бю-
рократической централизации. Как и в Англии, абсолютизм
извлекал здесь силу из раздоров в населении, в котором бы-
ли, кроме романской национальности, и греческие, и араб-
ские элементы.
Не в Англии и не в обеих Сицилиях, однако, столь ран-
ний по отношению к остальной Европе абсолютизм достиг
наибольшей силы. Англия с середины XIII в. пошла в своей
политической истории совсем другой дорогой, Королевство
же обеих Сицилий в эпоху наибольшего развития абсолют-
ной монархии было только придатком к одному из более об-
ширных и могущественных государств.
Глава V
ВОЗВЫШЕНИЕ МОНАРХИИ В КОНЦЕ СРЕДНИХ ВЕКОВ
Эпоха силы и эпоха упадка средневековых сословно-
представительных учреждений — Общие причины этого
исторического явления.— Зарождение нового абсолю-
тизма без феодальной и сословной основы в Италии.—
Введение в употребление нового термина для обозначе-
ния государства.— Политические воззрения гумани-
стов.— Книга Макиавелли «Государь» и ее влияние на
правителей XVI в.— Испания Фердинанда Католика и
Изабеллы Кастильской.— Франция от Карла VII до
Франциска /.— Англия после Войны Алой и Белой розы
и династия Тюдоров.— Эпохи западноевропейского абсо-
лютизма
Государственной формой, которую непосредственно сме-
нил на Западе абсолютизм, была сословная монархия, в кото-
рой королевская власть действовала в сотрудничестве с госу-
дарственными сеймами, представлявшими главные сословия
48
населения. Можно без большой ошибки для отдельных случа-
ев сказать, что эпохой наибольшего развития сословно-пред-
ставительных учреждений были XIV и XV вв., ибо в XVI ст.
они находятся в упадке, а в XVII и XVIII вв. уже господствует
абсолютизм1. В истории отдельных стран мы можем различать
времена большего и времена меньшего значения, какое имели
в государственной жизни эти сеймы, не говоря уже о том, что
и в различных странах они имели далеко не одинаковое значе-
ние. В последнем отношении английский парламент, добив-
шийся с конца XIII в. до середины XV в. весьма существенных
прав, и французские Генеральные штаты, из всех сословных
сеймов игравшие наименьшую роль, были как бы двумя поляр-
ными явлениями, между которыми располагались все осталь-
ные учреждения этой категории2, но и оба столь несходные
между собой по своей силе учреждения во второй половине
XV в. и в течение всего XVI в. испытывают одинаковую судьбу
вплоть до XVII ст., когда прекратился созыв Генеральных шта-
тов во Франции и чуть было не случилось того же самого и с
английским парламентом. Если в других местах созыв сеймов
и не прекращался, то все-таки они уже никоим образом не ог-
раничивали королевской власти, играя роль совершенно по-
слушного орудия в их руках3.
Причины непрочности сословно-представительных уч-
реждений были довольно сложны. Прежде всего это не было
представительство всенародное. Общим правилом сословных
сеймов было полное исключение из представительства широ-
ких народных масс, которые, таким образом, не имели ни ма-
лейшего основания поддерживать эти учреждения. Мало то-
го: общая политика сеймов, где особенно видную роль игра-
ло феодальное дворянство, да и другие сословия проявляли
большое своекорыстие, не внушала доверия народным мас-
сам, например, крестьянству4, и они весьма естественно ста-
1 Поместье-государство. С. 192—193.
2 Там же. С. 224—225, 249—252 и 282, где проводится параллель меж-
ду Генеральными штатами и парламентом.
3 Там же. Гл. XXV (Упадок сословно-представительных учреждений в
Новое время).
4 Там же. Гл. XXIII (Сеньориальный режим в эпоху сословной монар-
хии).
49
новились на сторону королевской власти, как-никак ограни-
чивавшей своеволие аристократии. В свою очередь, когда в
этих массах происходило брожение, внушавшее опасения
имущим классам, последние тоже готовы были содейство-
вать усилению власти, которая их оберегала бы от социаль-
ной опасности. Такова была, например, одна из причин пол-
ной покорности английского парламента при Тюдорах1.
Далее, те общественные классы, которые были представ-
лены в государственных сеймах, делились на враждебные
друг другу сословия, очень часто занимавшиеся сведением
счетов между собой, вместо того чтобы отстаивать свои об-
щие интересы и права против стремившейся к абсолютизму
королевской власти. Сословно-представительные учреж-
дения были политической надстройкой над социальным ба-
зисом, каким являлось возникшее в феодальных рамках об-
щество, расчленявшееся на отдельные сословия с разными
правами и привилегиями2. Королевская власть искусно экс-
плуатировала сословные интересы в свою пользу, опираясь
на одну какую-либо силу против другой, не говоря уже о
том, что внутренние трения и распри сословий на собраниях
государственных чинов делали эти собрания прямо-таки не-
работоспособными, что относится, например, к французским
Генеральным штатам 1614—1615 гг., после чего они не были
созываемы почти два века3. В иных случаях абсолютизм ус-
танавливался путем государственных переворотов, в кото-
рых королевская власть пользовалась прямой поддержкой го-
родского сословия против дворянства4.
Особую сторону в истории сословно-представительных
учреждений представляют собой взаимные отношения цент-
ральных, общегосударственных и местных, областных сей-
мов. Кроме редких случаев, когда,— как это было в Анг-
лии,— между теми и другими устанавливалась полная гар-
мония, областные сеймы выступали большей частью в роли
конкурентов сеймов общегосударственных, что подрывало
авторитет последних и не давало им возможности усилиться
1 Поместье-государство. С. 280—281 и 356—357.
2 Там же. Гл. XVI (Сословный строй феодального общества).
3 Там же. С. 247.
4 Там же. Гл. XXV.
50
настолько, чтобы занять прочное, никем не оспариваемое по-
ложение1. Сословная монархия выросла на почве «собирания
земли» после феодального разложения государства, и общие
сеймы иногда, как это особенно можно сказать о француз-
ских Генеральных штатах2, служили делу политического
объединения страны; нередко в интересы королевской поли-
тики даже входило создавать общие представительные съез-
ды от отдельных сеймов, но местный сепаратизм боролся
против таких тенденций королевской власти, и, например,
ни в Испании, ни в Австрии, составившихся каждая из не-
скольких сословных монархий, не образовалось общего пред-
ставительства3. В моменты внутренних кризисов королям
оказывалось весьма выгодным, опираясь на одни «провин-
ции», подавлять оппозиционные выступления в других.
Таким образом, разрозненность общественных сил, быв-
ших представленными в государственных сеймах, сослужила
по отношению к последним плохую службу.
С другой стороны, напротив, сила королевской власти ор-
ганизовалась. Она действовала постоянно, тогда как государ-
ственные сеймы — лишь в периоды своих сессий, бывших в
общем весьма непродолжительными и отделявшихся одни от
других большими промежутками времени. Арагонская «депу-
тация королевства», выбиравшаяся кортесами и имевшая
своей задачей от одного собрания до другого оберегать воль-
ности и заведовать государственной казной, или арагонский
верховный судья, тоже охранявший конституцию от всяких
на нее посягательств, сам находясь под надзором особых вы-
бранных кортесами «инквизиторов»4, принадлежат к числу
исключительных явлений в строе сословной монархии; об-
щим же правилом было то, что сословные сеймы не имели
своих постоянных органов в стране, какие бы попытки в
этом направлении в отдельных случаях ни делались5.
Вся организация сословных сеймов была плохо приспособ-
лена к удовлетворению постоянно возраставших потребностей
1 Поместье-государство. С. 236, 238, 286, 296 и др.
2 Там же. С. 223.
3 Там же. С. 298 и 352.
4 Там же. С. 287—288.
5 Там же. С. 235, 237, 278, 285, 294.
51
новой государственности. Как общегосударственные, так и об-
ластные сеймы, редко и на короткий срок собиравшиеся, очень
часто не умевшие подняться над уровнем узко-сословных или
узко-местных интересов, традиций и предрассудков, обнару-
живали и нежелание, и неумение организовать надлежащим
образом удовлетворение нужд государства, усложнение жизни
которого требовало умножения и усиления правительствен-
ных функций, создания особого государственного хозяйства,
отличного от прежнего почти исключительно вотчинного хо-
зяйства королей, и образования новой военной силы, вместо
не соответствовавших более запросам времени феодальных
дружин и городских милиций. Сила сословных сеймов заклю-
чалась в их праве давать королю деньги, а жизнь государства
развивалась как раз в таком направлении, что королевская
власть делалась все менее зависимой от чинов в деле добыва-
ния материальных средств, с которыми можно было иметь
вполне зависимые от правительства чиновничество и войско1.
Мы еще увидим в своем месте, как развитие денежного хозяй-
ства с торговыми пошлинами и кредитными операциями отра-
зилось на государственных финансах2, а равно и то, как усили-
ла королевскую власть религиозная Реформация XVI в.3, меж-
ду прочим, обогатившая многих государей на счет церкви и
монастырей.
Рассматривая установление абсолютизма при переходе
от Средних веков к Новому времени, мы должны различать
две категории случаев, а именно: с одной стороны, случаи
возникновения совершенно новой власти без традиционных
корней в самой общественной жизни и, с другой, случаи пре-
вращения в неограниченную прежней более или менее огра-
ниченной королевской власти времен процветания сословно-
представительных учреждений. В случаях первой категории
мы имеем дело с чистым абсолютизмом без всякий феодаль-
ной примеси, в случаях второй категории старые феодальные
взгляды и порядки более или менее примешиваются к ново-
му строю, возникшему на развалинах сословной монархии.
1 Поместье-государство. С. 343—344.
2 См. ниже. Гл. XII.
3 См. ниже. Гл. XVI.
52
Первая категория политических фактов, подлежащих те-
перь нашему рассмотрению, обобщается под названием
итальянского принципата конца Средних веков и начала Но-
вого времени. Италия, как известно, в Средние века не име-
ла политического единства, раздробившись, кроме южной
своей части, на массу феодальных владений, которые в эпо-
ху Крестовых походов сменились новой формой политическо-
го быта, развитием городских республик, распространивших
свою власть и на окрестные территории. До известной степе-
ни Италия этой эпохи повторила то, что мы наблюдаем в
Древней Греции, когда она сплошь состояла из государств-
городов. Здесь проявляется тот же партикуляризм, в силу
которого каждый город обособлялся в отдельную политиче-
скую общину и если выходил, так сказать, из тесных преде-
лов своей территории, то только для того, чтобы властвовать
над соседними деревнями и более слабыми городскими об-
щинами. Полноправные граждане дорожили своей политиче-
ской свободой и республиканской формой правления, но
только для себя, не заботясь ни о населении подвластных
территорий, ни о всей стране. В сущности и круг полноправ-
ного гражданства был довольно-таки замкнутым, так что, на-
пример, в эпоху наибольшего процветания республиканской
Флоренции лишь 3% населения подвластной ей территории
пользовались политическим полноправием. К тому же италь-
янская городская республика была своего рода соединением
разных более мелких союзов и корпораций, не всегда ладив-
ших между собой и часто вступавших в яростную партийную
борьбу, как это было в эпоху гибеллинов и гвельфов, споры,
ссоры и раздоры которых наполняли внутреннюю жизнь го-
родов вечными междоусобиями. Одну из главных ролей в со-
циальной жизни этих городовых республик играли торговые
интересы купеческого класса, доминировавшие в вопросах
как внутренней, так и внешней политики. Но особенно дава-
ла себя знать происходившая в этих городах социально-поли-
тическая борьба, напоминающая борьбу аристократии и де-
мократии в античном мире. Как и в Древней Греции, она
приводила к установлению и в средневековой Италии тира-
нии, т.е. к захвату власти влиятельными честолюбцами, час-
то прибегавшими к прямому насилию, тем более что среди
53
этих новых «принципов», или князей, иные раньше были кон-
дотьерами, предводителями наемных войск, поступавших на
службу к городским республикам против их соседей. Наси-
лие играло вообще такую роль в тогдашней политике, что
знаменитый Гвичардини обобщал это явление, признавая,
что насилием живут все государства (tutti gli stati sono vio-
lent!).
Каждый такой principe был абсолютным монархом в ми-
ниатюре. Княжеская власть, являвшаяся наследницей рес-
публиканских учреждений средневекового государства-горо-
да, не имела основы, как это мы наблюдаем у феодальных
герцогов и графов, ни в крупном землевладении, ни в вас-
сальных отношениях. Если какая-либо фамилия и достигала
власти без прямого насилия, только благодаря своему влия-
нию в родном городе, то большей частью здесь сказывалась
не власть земли, как в феодальном строе, а власть денег, ста-
вившая в прямую и косвенную зависимость от богача массу
людей и позволявшая ему тратить большие суммы на приоб-
ретение влияния и власти, чему лучшим примером служит
возвышение фамилии флорентийских банкиров Медичи. Ка-
ково бы ни было в каждом отдельном случае происхождение
тирании, это была власть без традиций, без исторических
корней в жизни, власть людей без роду и племени, без пред-
ков, нередко даже прямо чьих-либо внебрачных сыновей,
обязанных всем лично себе, полагавшихся поэтому только
на себя, да и думавших и заботившихся только о себе же.
Лишь полная дезорганизованность общества и разрознен-
ность общественных сил создавали почву для успеха пред-
приимчивых честолюбцев, которые, в свою очередь, кроме
инертности народных масс, пользовались, как средствами
для захвата и удержания власти, насилием, заговором, тер-
рором и шпионством.
Кто хочет иметь более обстоятельную характеристику
итальянской тирании, разцветшей особенно в XV ст., тому
можно рекомендовать обратиться хотя бы, например, к изве-
стным книгам Буркгардта и Ф. Монье1, где читатель найдет
1 Буркгардт. Культура Италии в эпоху Возрождения; Монье Ф. Кват-
троченто. Опыт литературной истории Италии XV века. СПб., 1904.
54
и некоторые фактические подробности об отдельных князь-
ях, об их политическом искусстве, придворной роскоши, ме-
ценатстве и т. п. Для нашей цели пока совершенно достаточ-
но указать на то, что итальянский принципат был явлением,
не заключавшим в себе никаких элементов феодализма или
сословной монархии, чистым абсолютизмом, напоминающим
греческую тиранию и римский цезаризм,— последний, ко-
нечно, взятый в сильно уменьшенном масштабе, имея в виду
не качественную, а количественную сторону явления. Италь-
янская тирания также была результатом внутренних смут,
но, знаменуя в общем победу над аристократией, она в то же
время была поражением демократии, которой в настоящем
смысле слова, собственно говоря, и не существовало. Тиран,
подводивший всех под одну мерку, чтобы самому оставаться
выше всех, пожалуй, и опирался на народ, но сам народ этой
эпохи в глазах таких наблюдательных людей, как Гвичарди-
ни, казался лишь многоголовым чудовищем, исполненным
невежества и заблуждений (im monstro pieno di confusione e
di errori), пустые мнения которого всегда очень далеки от ис-
тины. При таком положении дел народ, общество, государст-
во были ничем, а всем был только князь, государь, и недаром
в эту эпоху политическая литература была больше заинтере-
сована именно государем, а не государством. В эту же эпоху,
однако, возник, с другой стороны, и тот термин status (итал.
stato, франц, etat, англ, state, нем. Staat), которым стали
обозначать понятие, выражавшееся прежде словом respub-
lica не в смысле определенного образа правления (не монар-
хического), а в более общем смысле государства. Основной
смысл термина — состояние, установление, устройство, по-
рядок, но ранее всего он стал обозначать государство в Ита-
лии, где разнообразие форм политической жизни требовало
некоторого обобщающего термина. Первым, кто ввел его в
научный обиход, признается Макиавелли, но в других стра-
нах (особенно в Германии) слово status сохраняло и другие
значения1.
1 Ср. Генеральные и провинциальные штаты (штат — «чин»), состав
или персонал учреждения (придворный штат, военный штат), штаты в
смысле провинций или областей с особым устройством.
55
В Италии же в указанную эпоху возродилась и политиче-
ская литература в духе абсолютизма, причем главными ее
деятелями были гуманисты, очень часто, как известно, быв-
шие на службе у тирании.
Первый же гуманист, Петрарка, лично как индивидуа-
лист очень любивший свободу, всю свою жизнь служил де-
спотизму, в котором лишь и видел одно спасение от тогдаш-
ней анархии. Будучи в философии прежде всего моралистом,
он, однако, свою нравственную мерку не прилагал к действи-
ям правителей, когда от их деятельности ожидал пользы для
Италии, так как в политике искал преимущественно такой
силы, которая могла бы прекратить междоусобия, раздирав-
шие его родину. Одно время, в самой середине XVI в., он ув-
лекался «римским трибуном» Кола ди Риенци, потом ожидал
спасения от императора Карла IV, пока не без колебаний и
к большому неудовольствию своих друзей не стал служить
итальянским князьям, представлявшим собой единственную
реальную силу в Италии, одному из которых и посвятил свой
трактат «De republica optime administranda» (О наилучшем
управлении государством).
Это — ряд политических советов, замечательных тем,
что в них предвосхищена точка зрения, на которую через
полтора века стал Макиавелли. Теологические соображения
Средних веков уже отсутствуют в политическом миросозер-
цании Петрарки и всех последующих гуманистов, и на пер-
вый план у них выдвигается принцип пользы. Если гумани-
стическая мораль утверждала права личности, то в политике
итальянские гуманисты утверждали права государства и,
между прочим, свободу светской власти от власти духовной.
Известно, однако, что в гуманистической этике почти совсем
не отводилось места альтруизму и социальным инстинк-
там,— это был индивидуализм эгоистический,— но совер-
шенно так же и в гуманистической политике не было ни ка-
кого-либо основного морального принципа, ни определенного
политического идеала. Великое множество гуманистов при-
надлежало к индифферентистам и оппортунистам, занимав-
шим хорошие места при княжеских дворах, служивших
князьям и их прославлявшим. Тип придворного гуманиста —
довольно распространенный в Италии эпохи Ренессанса. Бо-
56
лее независимые из них, в свою учередь, были заражены по-
литическим скептицизмом.
Известный флорентийский гуманист Никколо Никколи (в
первой половине XV в.) говорил, что законы, как паутина,
сдерживают только слабых, сильные же, к счастью, им не
повинуются,— к счастью, по мнению Никколи, потому что
без этого не было бы ни военных подвигов, ни процветания
наук, искусств и красноречия. Сильные не руководствуются
никаким законом, а только выгодой и увеличением своих
владений; они плюют на законы и попирают их ногами, люд-
ская же масса управляется тоже не законами, а силой и
страхом наказания.
В итальянских гуманистах нас вообще поражает отсутст-
вие общественного идеализма, а между тем среди них было
немало людей, далеко не бывших лишенными способности
скорбеть при виде бедствий родины и желавших так или ина-
че вывести ее из печального состояния. К числу таких людей
принадлежал Петрарка, к их числу принадлежал и Никколо
Макиавелли (1469—1527), один из государственных деяте-
лей Флоренции в эпоху изгнания из нее фамилии Медичи;
по возвращении последней в 1512 г. он даже попал в тюрь-
му, что впоследствии не помешало ему сблизиться с некото-
рыми представителями этой фамилии, особенно с будущим
папой Климентом VII, еще при жизни Макиавелли сделав-
шимся папой. Одному из Медичи, Лоренцо, отцу знаменитой
французской королевы середины XVI в., Екатерины, он и
посвятил свою книгу «Государь» (Il principe), видя в назван-
ном Лоренцо Медичи возможного объединителя Италии. Не
забудем, что автор этой книги жил в эпоху так называемых
Итальянских войн, когда его родину, Италию, кроме внут-
ренних междоусобий, раздирали между собой и ино-
странцы — французы, испанцы, немцы,— искавшие в ней за-
воеваний или просто добычи.
Мысль о политическом единстве Италии — доминирую-
щая в политическом миросозерцании Макиавелли, и для до-
стижения этой цели все средства казались ему одинаково хо-
рошими. Это был умный эгоист, которого нельзя назвать
лично бесчестным, и вместе с тем зоркий наблюдатель со-
временности, притом очень начитанный в древней истории,
57
только подводивший итоги под всем виденным, слышанным,
читанным, чтобы из этого вывести практические советы, как
поступать для достижения известных целей. Он сам говорил,
что предпочитает «при описании какого-либо предмета рас-
сматривать его сущность, а не отдаваться мечтательным ув-
лечениям». Это был до мозга костей политический реалист,
находивший неуместным «изображать государей и республи-
ки такими, какими их никому и никогда не удавалось встре-
чать в действительности». Подобные мечтания, думает Ма-
киавелли, годны лишь на то, чтобы вести себя и других к
прямой гибели. «Человек,— аргументирует он,— желающий
в наши дни быть во всех отношениях чистым и честным, не-
избежно должен погибнуть в среде громадного бесчестного
большинства». Крайне пессимистический взгляд на челове-
ческую природу проходит красной нитью через весь трактат
о государе, да и сам автор не высоко ставил нравственное со-
вершенство, оценивая все политические явления с точки
зрения выгоды. Для него конечная цель политической дея-
тельности — общее благо, для осуществления которого пра-
вительство не должно останавливаться ни перед какими
средствами: если нельзя действовать добром, действуй злом,
ибо средний путь ведет только к погибели. «Люди, говоря во-
обще,— думал Макиавелли,— неблагодарны, непостоянны,
лживы, боязливы и алчны» и «скорее бывают готовы оскор-
блять тех, кого любят, чем тех, кого боятся»; вообще «лю-
бовь держится на тонкой основе благодарности, тогда как
страх наказания никогда не оставляет человека».
Одним словом, и для «освобождения Италии от варва-
ров», и для обуздания злой природы людей Макиавелли оди-
наково считал нужным установление сильной власти, дейст-
вующей сильными же средствами. Республику он считал год-
ной лишь тогда, когда политическая деятельность должна
была быть направлена только на поддержание существующе-
го, но когда государство едва созидается или преобразовыва-
ется, когда нужно объединить страну, когда существует сво-
евольная аристократия, властвующая над народом, а сам на-
род морально испорчен, тогда Макиавелли рекомендует
монархию. С политической объективностью, ужасающей
своей откровенностью, он рассказывал, как создаются, под-
58
держиваются и управляются государства, независимо от об-
раза их правления, и как в них приобретается, сохраняется
и применяется верховная власть,— и выводил отсюда прави-
ла политического поведения. Государь, желающий удержать-
ся, может и не быть добродетельным, но непременно должен
приобрести умение казаться или не казаться таковым, смот-
ря по обстоятельствам. Он не должен опасаться осуждения
за те пороки, без которых невозможно сохранение верховной
власти, так как, изучив подробно разные обстоятельства,
легко понять, что существуют добродетели, обладание кото-
рыми ведет только к гибели лицо, ими обладающее, и есть
пороки, усваивая которые государи могут только достигнуть
безопасности и благополучия. Одна из глав трактата (XVII)
посвящена вопросу о том, лучше ли государю пользоваться
любовью своих подданных или возбуждать к себе страх. «Я
нахожу нужным,— отвечает Макиавелли на этот вопрос,—
чтобы государи достигали того и другого, но так как осуще-
ствить это трудно, и государям приходится обыкновенно вы-
бирать, то в видах личной их выгоды замечу, что полезнее
держать подданных в страхе».
Государство Макиавелли есть государство совершенно
светское, как это и приличествует гуманистической эпохе.
Секуляризация государства вообще сопровождалась перене-
сением на него того высшего на земле авторитета, каким для
средневекового католического миросозерцания была цер-
ковь. Макиавелли католической церкви ставил даже в вину
то, что Италия его времени не имела общей республикан-
ской или монархической власти, ибо никогда духовная
власть, приобретшая и мирские владения, по его словам, не
была настолько могущественна и достойна, чтобы занять всю
Италию, и вместе с тем мешала в этом всякому другому, по-
стоянно призывая к себе для этого какую-нибудь внешнюю
помощь. Вообще Макиавелли видел в религии главным обра-
зом одно из сильных орудий власти, т.е. подчинял религию
политике, как это было в античном мире. В своих «Рассуж-
дениях о первой декаде Тита Ливия» (Discorsi sopra la prima
decade di Tito Livio) он одну главу посвятил религии римлян,
где рассматривает религиозные установления второго из ле-
гендарных римских царей, Нумы Помпилия, как «средство
59
прежде всего необходимое для насаждения гражданского бы-
та». Нума, говорит он, основал религию так, что в течение
многих веков нигде не было такой богобоязненности, как в
этой республике, и это облегчало все предприятия сената и
великих римских мужей. Изучая римскую религию, можно
увидеть, какую пользу оказывала религия для начальствова-
ния войском, для соглашения народа, для поддержания до-
брых граждан и для посрамления злых. Где нет религиозного
страха, там государство или распадается, или должно сохра-
няться боязнью к государю, который в этом случае заменяет
религию. Поэтому, по мнению Макиавелли, «государи и ре-
спублики, желающие сохранить государство от порчи, долж-
ны прежде всего соблюдать в чистоте религиозные обряды и
всегда поддерживать уважение к ним... и вообще поощрять и
поддерживать все, что благоприятствует религии, хотя бы
даже считали все это обманом и ложью». Будучи сам рацио-
налистом, Макиавелли даже прибавляет, что «чем более пра-
вители мудры, чем более сведущи в познании природы, тем
более обязаны поступать таким образом», и что откуда бы ни
возникла существующая во всех религиях вера в чудеса,
«мудрые всегда ее поддерживают, и авторитет их внушает
доверие остальных»1.
Уже давно общим местом даже исторических учебников
сделалось указание на то громадное влияние, которое «Госу-
дарь» Макиавелли оказал на правителей XVI в., для которых
трактат стал своего рода, как говорится, настольной книгой.
При той распространенности по всей Западной Европе в
XVI в., какой отличалась итальянская культура, с одной сто-
роны, и при тех абсолютистических стремлениях, которыми
характеризуется королевская политика этой эпохи, нет ниче-
го удивительного, что книга флорентийского политика сыгра-
ла роль учебника абсолютизма, и в этом отношении важны
не только обычные ссылки на отдельных государей, читав-
ших Макиавелли, но и некоторые менее известные факты
вроде того, что знаменитый Томас Кромвель, названный «мо-
1 Выдержки из «Государя», которыми я уже пользовался в главе XXXII
1-го тома «Истории Западной Европы», сделаны по русскому переводу под
редакцией Н. Курочкина, изданному в 1869 г.
60
лотом монахов» за энергичное содействие Генриху VIII при
секуляризации собственности монастырей, еще задолго до
своего возвышения рекомендовал кардиналу Реджинальду
Полю взять за руководство в политике практические советы
Макиавелли. Вместе с тем понятно и то, что защитники по-
литической свободы в XVI в. выступали полемистами против
автора книги «Государь».
Итальянский принципат сам по себе был не в состоянии
создать что-либо прочное вследствие отсутствия историче-
ских корней и какой бы то ни было связи с идеей националь-
ности, тем более что лишенная политического единства Ита-
лия как раз в эпоху развития в ней тирании сделалась добы-
чей иностранных завоевателей. Совсем другое мы видим в
странах, где уже образовались национальные государства с
королевской властью, имевшей глубокие корни в прошлом,
т.е. не бывшей результатом временного захвата верховенст-
ва над страной. В Испании, во Франции, в Англии и других
местах абсолютизм не возникал, как совершенно новая
власть без непосредственных исторических прецедентов, а,
так сказать, прививался к старой, уже издавна существовав-
шей власти, которая если со времен феодализации и не поль-
зовалась неограниченными правами, то не порывала свои
связи, по крайней мере в теории,— с традициями абсолютиз-
ма. Мы и рассмотрим теперь, как около 1500 г. абсолютизм
установился в государственной жизни Испании, Франции и
Англии. При всем разнообразии отношений в этих трех стра-
нах история водворения в них королевского самодержавия
представляет немало общих, типических черт.
Известно, что Испания составилась из соединения коро-
левств Кастилии и Арагона, начало которому было положено
браком кастильской королевы Изабеллы с арагонским коро-
лем Фердинандом в 1469 г. Соединение это не было, однако,
полным слиянием, и как Кастилия, так и Арагон сохранили
свою особность, свои отдельные конституции, свои местные
сословно-представительные учреждения, кортесы, как сохра-
нили их Каталония и Валенсия, еще ранее лишившиеся зна-
чения самостоятельных государств. Главное различие между
обеими главными частями новой монархии заключалось в
том, что кастильская конституция отличалась большим де-
61
мократизмом и меньшим ослаблением королевской власти,
арагонская, наоборот, большим аристократизмом при более
значительном ограничении королевской власти. Соединение
обоих королевств под одним скипетром давало возможность
общему правительству пользоваться силами одной части мо-
нархии против другой, что и наблюдается во время кастиль-
ского движения против усиления королевской власти в
1521 г. и аналогичного движения в Арагоне в 1590 г. Кас-
тильцы и арагонцы были как бы двумя отдельными нацио-
нальностями, не имевшими общих политических интересов.
Если что и спаивало их в единую испанскую нацию, то это
был воинствующий католицизм, выработавший в испанцах
во время многовековой борьбы их с маврами страстный рели-
гиозный фанатизм. В 1492 г. Фердинанд и Изабелла положи-
ли конец последнему мусульманскому владению на юге полу-
острова, Гренаде, что страшно подняло национальное значе-
ние испанской королевской власти. Особенно знаменательно
то, что кортесы самой значительной и сильной из областей
монархии, Кастилии, не принимали в этом деле никакого
участия, потому что с 1480 г. по 1498 г. даже не были ни ра-
зу собраны, как без их же согласия Испания приняла уча-
стие и в Итальянских войнах.
Пореже созывать сословно-представительные собра-
ния— такова была вообще политика всех королей, стремив-
шихся к абсолютной власти. Почти полные два десятилетия
без созыва государственных чинов, и притом в такой важный
момент национальной жизни, как окончательное освобожде-
ние последнего куска испанской территории от мавританско-
го владычества,— факт весьма, конечно, знаменательный.
Но королевская политика повсеместно пускала в ход и дру-
гие меры — ограничение компетенции чинов и извлечение
для себя выгод из сословного антагонизма. Вступление Иза-
беллы на трон кастильских королей сопровождалось анар-
хией, и в конце концов сама королева была обязана своим
упрочением на престоле кортесам1. Вся политика Изабеллы
1 О кортесах вообще «Поместье-государство», с. 283 и след., об их
упадке, с. 345 и след. Собственно говоря, брак Изабеллы с Фердинандом
предшествовал вступлению обоих на их престолы (1474 и 1479).
62
была направлена к тому, чтобы ослабить сословия, пользу-
ясь одним против другого. Духовенство в кастильских корте-
сах не играло особенно важной роли, и его скоро удалось
сделать послушным орудием королевской власти. Конкордат,
заключенный в 1482 г. с папством, даровал короне право
представления на высшие духовные должности, что открыва-
ло перед властью возможность огромного влияния на состав
клира, а это при тесном слиянии в Испании политики, рели-
гии и национального патриотизма само по себе давало коро-
левской власти большую силу. На почве этого же единения
государства, церкви и нации выросло и учреждение инквизи-
ции, направленной сначала против иноверцев и инородцев
(евреев и мавров), против вероотступников и еретиков, но
мало-помалу и притом довольно-таки скоро превратившейся
в чрезвычайное судилище и по делам государственной изме-
ны. Первый инквизиционный трибунал был учрежден в Се-
вилье в 1480 г., и не прошло много времени, как таких суди-
лищ было основано еще тринадцать, и даже их деятельность
была объединена под главенством знаменитого Торквемады.
Инквизиция сделалась весьма сильным орудием власти про-
тив всякой оппозиции, и конфискация имуществ осужденных
превратилась в один из источников обогащения королевской
казны. В начале XVI в. в руки инквизиции была передана и
книжная цензура. Церковь, в лице папы, оказала еще одну
услугу испанскому абсолютизму. В Кастилии существовали
три духовно-рыцарских ордена, обладавших весьма больши-
ми материальными средствами, и вот Изабелла выхлопотала
у папы буллу, делавшую на вечные времена великое маги-
стерство в этих орденах достоянием кастильской короны.
Сила светских сословий тоже была ослаблена. Против
знати корона оперлась на городское сословие, пользовавше-
еся в Кастилии большим влиянием, благодаря внутреннему
самоуправлению городов и влиятельному участию в корте-
сах. Издавна города вступали между собой в союзы, назы-
вавшиеся эрмандадами (hermandad), чем для утверждения
своей власти против мятежных грандов и воспользовалась
Изабелла, организовав общую эрмандаду, которая помогла
ей сурово подавить аристократическую смуту. Городское же
сословие помогло королеве на собрании кортесов отнять у
63
грандов неправильно захваченные ими королевские домены,
лишить их прав (чисто феодальных) войны и чеканки монеты
и т. п. С другой стороны, католические супруги привлекали
знать ко двору, осыпая наиболее покорных и угодливых вся-
кими милостями и раздавая им разные важные должности,
между прочим, наполняя грандами и свой главный прави-
тельственный совет. Впрочем, в последнем численное преоб-
ладание принадлежало не знати, а классу летрадов, ученых
юристов, пропитанных монархическими принципами римско-
го права,— факт аналогии которого мы встречаем и в других
странах1. Старый антагонизм монархии и феодализма не по-
мешал образованию в Кастилии около 1500 г. союза между
государственной властью и знатным дворянством, и власть
сумела использовать начавшееся сближение, когда против
нее поднялись города.
Значение и роль кастильских городов при Изабелле уже
клонились к упадку. Королевская власть еще раньше, с
XIV в., стала стеснять городское самоуправление назначени-
ем над городскими общинами особых контролеров, или кор-
рехидоров (corregidores). Притом города сами ослабляли
свою силу в кортесах тем, что семнадцать из них, наиболее
значительных, добились признания только за собой права
представительства, причем нередко посылали в кортесы сво-
ими представителями дворян, переселившихся в города, при-
обретших там права, но не отказавшихся от своих дворян-
ских привилегий. Выше было сказано, что в начале царство-
вания Изабеллы кастильские города заключили между собой
союз, назвавшийся даже «священной эрмандадой», обладав-
ший вооруженной силой и творивший суд и расправу над мя-
тежниками. Былой независимости старых эрмандад, боров-
шихся большей частью против знати, но иногда и против ко-
ролевской власти, этот городской союз 70-х гг. XV в.,
однако, уже не имел, сыграв роль только общественного ору-
дия королевской власти. Изабелла воспользовалась кортеса-
ми, когда ей нужно было утвердить свои права против дру-
гих претендентов на корону и подавить внутреннюю смуту, в
которой участвовала знать, но это не значило, что кортесы и
1 См. ниже, в гл. IX.
64
города стали пользоваться при ней влиянием и властью. Ког-
да кортесы собирались, от них стали требовать, чтобы все
происходящее в их заседаниях, бывших до того времени тай-
ной самих чинов, доводилось до сведения власти, а председа-
тельствовать в собраниях должен был ex officio, назначав-
шийся короной председатель упомянутого уже правительст-
венного учреждения, «королевского совета правосудия», в
котором преобладание принадлежало абсолютистам-летра-
дам. Что касается до внутреннего самоуправления городов,
то ему был нанесен чувствительный удар распространением
на все без исключения города Кастилии должности коррехи-
доров, имевшей раньше скорее исключительный характер.
Из супружеской «четы» католических государей первой
умерла Изабелла (1504), оставив наследницей своих коро-
левских прав в Кастилии дочь Иоанну, получившую в исто-
рии прозвище Безумной. Эта принцесса была выдана замуж
за Филиппа Красивого, сына императора Максимилиана I и
обладательницы «бургундского наследства» Марии, дочери
Карла Смелого. В 1500 г. от этого брака родился в Брюсселе
будущий король Испании Карл I, он же Карл V как «римский
император». Ребенку было только шесть-семь лет, когда
умер его отец (1506), и его поспешили провозгласить коро-
лем Кастилии. Вопреки обычаю, на это не было испрошено
согласия кортесов, и только по смерти Фердинанда (1516),
да и то некоторое время спустя, после долгих пререканий с
обеих сторон, кастильские кортесы согласились признать
своим королем молодого Карла (1518). Арагонские чины по-
шли дальше и сначала упорно, в течение нескольких меся-
цев, отказывались признать Карла, пока жива была его ду-
шевнобольная мать; только с великим трудом удалось их
уломать и вынудить у них вотирование субсидий. Еще несго-
ворчивей были чины маленькой Каталонии, с которыми Карл
бился целый год, пока не достиг некоторой денежной помо-
щи. Чины Валенсии обнаружили также крайне оппозицион-
ный дух. Между тем в Германии умер другой дед Карла, им-
ператор Максимилиан, и курфюрсты выбрали его преемни-
ком молодого испанского государя. Кастильские кортесы
протестовали против отъезда Карла в Германию и наотрез
отказали в субсидиях, так что только подкупом одних и на-
65
силиями над другими советникам Карла удалось кое-чего до-
стигнуть. Эти советники были фламандцы или бургундцы,
сильно раздражавшие гордых кастильцев. В 1521 г., в отсут-
ствие Карла, произошло знаменитое восстание коммунеров,
направившееся и против дворянства, что заставило это со-
словие стать на сторону королевской власти. Как известно,
восстание было подавлено, и вместе с ним окончилась поли-
тическая роль кастильских городов, а вместе с ними и корте-
сов, в которых им принадлежало первенствующее место. В
1538 г. Карл запретил дворянам, как таковым, появляться на
кортесах, и последние превратились в односословную палату
депутатов от 17 привилегированных городов, среди которых
было немало дворян, представлявших городское сословие и
тем охотнее соглашавшихся на субсидии, что сами, как дво-
ряне, были свободны от налоговой тяжести. Против Касти-
лии правительству Карла помогли силы Арагона, как семьде-
сят лет спустя сыну Карла, Филиппу II, силы Кастилии при-
шли на помощь против Арагона1.
Одновременно с Испанией переходит к абсолютизму во
второй половине XV в. и в первой половине XVI в. и Фран-
ция. История королевской власти в этой стране представля-
ет большой интерес, ибо на этой истории мы можем просле-
дить с особой наглядностью, как весьма незначительная и
очень слабая власть чисто феодального сеньора, владевшего
небольшой областью на среднем течении Сены, преврати-
лась в неограниченную королевскую власть над целой об-
ширной страной2. В этом затянувшемся на несколько столе-
тий процессе следует различать две стороны, которые можно
обозначить как стороны количественную и качественную,
т.е. расширение территории, находившейся под непосредст-
венным верховенством французского короля, и усиление той
власти, какой он пользовался над этой территорией.
1 Против Филиппа II в конце его царствования в Арагоне произошло
восстание, после подавления которого верховный судья, страж вольностей
страны, превратился в королевского чиновника, значение кортесов было
урезано и около столицы (Сарагосы) была воздвигнута крепость для Кас-
тильского гарнизона.
2 Факты из политической истории Франции, на которые здесь делают-
ся ссылки, см.: Поместье-государство. С. 135 и след., 229 и след.
66
В первом отношении, если мы сопоставим и сравним, на-
пример, исторические карты Франции, на которых обозначе-
ны границы королевского «домена» в конце XII в., еще до
крупных присоединений, начало каковым было положено
приобретением Нормандии, и в середине первой половины
XIV в., когда на престол вступила династия Валуа, то уви-
дим, как за эти полтора века вырос королевский домен: в
1180 г. это — узкая территория около Парижа и Орлеана,
едва переходящая на север за среднее течение Сены и на юг
за среднее течение Луары, а в 1328 г. домен охватывает поч-
ти всю страну от Ламанша до Средиземного моря, хотя боль-
шею частью без западных и восточных окраин и с вкраплен-
ными в домен владениями некоторых феодалов1. Столетняя
англо-французская война второй половины XIV в. и первой
половины XV в. задержала было это «собирание» Франции
ее национальными королями, но едва англичане были изгна-
ны, как процесс собирания возобновился путем браков с на-
следницами крупных феодов, всякого рода сделок с вассала-
ми, присоединений к домену выморочных владений, конфи-
скаций, завоеваний. Еще в XVI в. Франция, однако, не была
еще окончательно объединена, и в ней различали домен ко-
роны и феодальные земли, но первый был неизмеримо боль-
ше вторых, находившихся притом большей частью в руках
принцев крови и все более и более пользовавшихся внутрен-
ней автономией лишь номинально. Постепенность и неравно-
мерность процесса собирания Франции отразилась впослед-
ствии на крайней пестроте ее провинциальных вольностей,
привилегий, прав и вообще учреждений.
Другим процессом было усиление самой власти. Из всех
средневековых сословно-представительных учреждений наи-
меньшую политическую роль играли, в самой незначительной
степени ограничивая королевскую власть, как раз француз-
ские Генеральные штаты2. О них можно даже сказать, что они
скорее помогали королевской власти в деле сплочения страны
и подчинения местных властей королевскому авторитету, чем
ограничивали королевские права. Сословное устройство пред-
ставительства с вытекавшими из него последствиями, сопер-
1 См.: Поместье-государство. Карты IV и V.
2 Там же. С. 222 и 244—245.
67
ничество с Генеральными штатами провинциальных штатов,
неопределенность состава штатов, способов совещания, самой
их компетенции, отсутствие каких-либо прочных гарантий —
все это делало штаты довольно-таки бессильным учреждени-
ем. Наоборот, идея королевской власти, как высшей носитель-
ницы законности и справедливости, давно жила в народном со-
знании. Французской нации пришлось отстаивать свою неза-
висимость от дерзких иноземцев англичан, раздиравших
страну, мучивших население, и в этой борьбе с внешним вра-
гом король являлся национальным вождем, который один мог,
по народному представлению, прогнать иноземцев, усмирить
внутренних насильников, установить мир, порядок и закон-
ность. Благополучное окончание Столетней войны,— которая
к тому же ослабила силы феодалов, своими распрями услож-
нивших эту тяжелую для населения борьбу,— весьма зна-
чительно содействовало подъему королевского престижа.
Карл VII, Людовик XI, Карл VIII, Людовик XII, один за другим,
каждый по-своему пользовались настроением народной массы,
видевшей в сильном правительстве лучшее средство против
внутренней анархии и своеволия знати, как пользовались и ан-
тагонизмом высших сословий, и разрозненностью оппозицион-
ных сил, чтобы постепенно укреплять уже занятые королев-
ской властью позиции и занимать новые позиции в ущерб и
феодальному раздроблению, и сословному представительству,
и областному или муниципальному самоуправлению.
Еще Карл VII довольно часто созывал штаты, нуждаясь 5
общественном содействии для уврачевания бедствий, причи-
ненных Франции Столетней войной, но большей частью это
были крайне неудачные собрания, не умевшие справиться с
теми задачами, которые им надлежало разрешать1. Штаты
этой эпохи не сумели даже удержать за собой то право, от-
носительно которого наименее было сомнений, право уста-
новления налогов, и даже составилось такое представление,
что в 1439 г. штаты, собранные в Орлеане, дали формальное
согласие на установление постоянной королевской талии,
т.е. налога, назначением которого было содержание постоян-
ного королевского войска2. При Людовике XI штаты были со-
1 Поместье-государство. С. 241.
2 Там же. С. 242. Объяснение термина талия там же, с. 75.
68
браны уже только один раз, в 1468 г., да и те лишены были
какого бы то ни было серьезного значения. Затем штаты со-
бираются все реже и реже, в конце XV в. только один еще
раз, в 1484 г., и в начале XVI ст. тоже только один раз, в
1506 г., таким образом, с промежутками в 16 лет и 22 года,
после чего следует еще один очень длинный промежуток,
почти в полустолетие, так как вторыми по счету штатами
XVI в. были те, которые были собраны в 1548 г., что состав-
ляет перерыв в 42 года. Когда короли этой эпохи нуждались
в совете и содействии общественных сил, они, начиная с Лю-
довика XI, прибегали к созыву сведущих людей, или так на-
зываемых нотаблей, т.е. лиц из всех трех сословий королев-
ства, но в очень ограниченном числе, по королевскому выбо-
ру и с весьма ограниченной компетенцией (для совещания по
каким-либо частным вопросам). Некоторые из указанных со-
браний штатов, по отзыву французских историков, скорее
были похожи на съезды приглашенных королем лиц, чем на
настоящие Генеральные штаты; особенно это относится к со-
бранию 1506 г. В царствование Франциска I уже ни разу не
происходило созыва сословных представителей. Правда, в
середине второй половины XVI в. и в начале XVII в., при
Генрихе II, Франциске II, при Генрихе III, в малолетство Лю-
довика XIII снова возобновился созыв штатов,— опять, впро-
чем, с очень большими перерывами,— но ни при Карле IX,
ни при Генрихе IV их тоже не было, а после 1614 г. они не
созывались вплоть до 1789 г., т.е. 175 лет.
Генеральные штаты умерли во Франции не от внешнего
насилия, т.е. не от какого-либо государственного переворота
или разгона, а естественной смертью, от действия внутрен-
них причин, от действительной, самой исторической наукой
признанной неработоспособности. И в 1789 г. они сделались
способными к работе только после того, как перестали быть
сословными Генеральными штатами и превратились в бес-
сословное Национальное собрание. В лучшие еще времена
штаты доставляли правительству материал для его законода-
тельных мероприятий и административных распоряжений,
но с середины XV в. королевская власть во Франции все бо-
лее и более работает лишь с разными советами, ни в чем не
ограничивавшими власти короля, имевшими чисто деловой
характер и своей деятельностью только содействовавшими
69
централизации управления страной. В них деятельную роль
играли воспитанные на изучении римского права юристы,
прямые преемники средневековых легистов, и случалось, что
их чуть не целыми партиями выписывали в Париж из южной
Франции, бывшей, как известно, страной «писанного права»
(pays du droit ecrit) в отличие от севера с его обычным пра-
вом. Эти высшие советы в XV—XVI вв. плодились, соединя-
лись, разделялись и все более и более делали ненужными
штаты, взяв на себя и законодательные, и финансовые фун-
кции.
Конечно, не одни отдельные личности королей строили
во Франции здание абсолютной монархии на развалинах со-
словно-представительного строя, никогда в этой стране и не
получавшего особого развития. Тем не менее нельзя не отме-
тить, что среди французских королей от окончания Столет-
ней войны до начала религиозных войн мы встречаемся с
крупными представителями абсолютистических стремлений,
не чуждых и итальянского влияния. Первая такая фигура —
Людовик XI, которого у нас одно время была своего рода мо-
да сравнивать с Иваном Грозным, как тоже деспота и тира-
на. Для современного ему английского теоретика сословной
монархии Фортескью1 этот французский король был типич-
ным представителем неограниченного государя, воплощени-
ем произвольной и насильственной власти. Правление его
преемников Карла VIII и Людовика XII, получившего от шта-
тов 1506 г. титул «отца народа», было более патриархаль-
ным, но недаром оно получило одобрение от Макиавелли, ав-
тора «Государя». Следующий за ними король, Франциск I,
блестящий кавалер, покровитель классического Возрожде-
ния, новой науки и нового искусства, является уже настоя-
щим абсолютным государем, на котором уже лежит отпеча-
ток итальянского принципата. Франциск I первым стал под-
писывать свои указы ссылкой на то, что так ему, королю,
благоугодно: «саг tel est notre plaisir»,— формула, находящаяся
в несомненной идейной связи с учением юристов: «quod prin-
cipi placuit legis habet viogorem», для которого был и фран-
цузский перевод (si veut le roi, si veut la loi). Абсолютизм
1 Поместье-государство. С. 213—215.
70
власти короля Франции был отмечен и за ее пределами, и,
например, венецианский посол при дворе Франциска I писал
своему правительству, что во Франции королевская воля от-
ныне все, «даже в правосудии,— прибавляет он,— потому
что не найдется никого, кто решился бы слушаться своей со-
вести, раз это было бы ослушанием воли короля». В свою
очередь президент Парижского парламента, высшего судеб-
ного учреждения в стране, говорил однажды от его имени
своему государю, что он выше законов и что ордонансы не
имеют для него обязательной силы.
Одновременно с Испанией и Францией абсолютизм уста-
новился и в Англии, именно в царствование династии Тюдо-
ров (1485—1603). Мы видели1, что в Англии ранний абсо-
лютизм был следствием ее завоевания нормандцами во вто-
рой половине XI в., но что в XIII ст. деспотизм королевской
власти вызвал против себя всесословную оппозицию, ре-
зультатом чего было образование парламента, в конце кон-
цов ограничившего королевскую власть. История английско-
го парламента есть история упорной борьбы с абсолютисти-
ческими стремлениями королей, двое из которых в XIV ст.
(Эдуард II в 1327 г. и Ричард II в 1399 г.) даже лишились
короны и жизни, а в последнем случае, по воле парламента,
произошла и перемена династии. В XIV и XV вв. парламент
приобрел право установления налогов, издания законов
(притом по его собственной инициативе) и суда над дурны-
ми советниками короля2. Важное значение, какое получил в
Англии парламент, явствует и из того, что в XIV в. и пер-
вой половине XV в. он созывался почти ежегодно. В середи-
не XV в., однако, начался постепенный упадок этого учреж-
дения, на что указывают и более редкие, чем прежде, его
собрания, когда, например, при Эдуарде IV (1461 —1483) за
22 года было только четыре созыва парламента, после чего
вообще собрания сделались более редкими. Дело в том, что
это было время великой династической и феодальной усоби-
цы, известной под названием Войны двух роз (Алой и Бе-
1 См. выше, с. 42 и след.
2 Об английском парламенте в Средние века см.: Поместье-государст-
во. Гл. XX и XXI.
71
лой), находившихся в гербах двух враждебных одна другой
ветвей королевского дома, и именно эта война много повре-
дила парламенту.
Прежде всего аристократическое междоусобие нанесло
страшный удар значению и силе самой английской знати,
на которых и держалось все значение самого парламента.
Целые большие дворянские фамилии погибли, и число свет-
ских лордов к началу династии Тюдоров донельзя уменьши-
лось (до каких-нибудь неполных трех десятков). Каждая
партия в моменты своей победы созывала парламент, делав-
шийся простым орудием в руках победителей для наказания
побежденных смертью, конфискацией имуществ и т. п., и
потом парламентам уже трудно было возвратить себе бы-
лую независимость. Нация, утомленная междоусобием и
анархией, страстно стремилась к восстановлению спокойст-
вия и порядка, а потому сама шла навстречу образованию
сильной власти. Особые обстоятельства в жизни отдельных
сословий тоже содействовали усилению правительства. Со
времен проповеди Виклифа и лоллардов духовенство искало
сближения с королевской властью, надеясь на ее защиту
против своих врагов. Только тем союзом, который образо-
вался в Англии между монархией и клиром, и можно объяс-
нить легкость, с какой, по инициативе Генриха VIII, англий-
ский король объявлен был главой церкви. Отобрание этим
королем в казну всей монастырской собственности дало ему
возможность отчасти менее нуждаться в парламентских
субсидиях, отчасти создать новую поземельную знать, на-
граждая вновь назначаемых лордов поместьями из секуля-
ризованных монастырских имуществ. Таким образом, цер-
ковная Реформация в XVI в. связала с королевской властью
интересы духовной и светской аристократии. Кроме того, и
вообще имущие классы в эту эпоху были за сильную
власть, так как под влиянием экономического переворота,
вызванного переходом монастырских земель в светские ру-
ки и введением в них новых форм хозяйства, в стране раз-
вился пауперизм со всеми его опасными для общественного
спокойствия и неприкосновенности частной собственности
последствиями. В середине XVI в. в восточной части Анг-
72
лии было даже серьезное крестьянское восстание, подавлен-
ное только военной силой.
На почве этого усиления королевской власти развивает-
ся и личный деспотизм отдельных королей. Особенно в этом
отношении рельефно выдвигается вперед фигура современ-
ника Карла I в Испании и Франциска I во Франции, второго
из династии Тюдоров, Генриха VIII. Это был настоящий де-
спот, отличавшийся капризным своеволием и не останавли-
вавшийся перед мстительными казнями и кровавым терро-
ром. Противник сначала религиозной Реформации, он сам
потом начал ее в Англии, никак, однако, не будучи в состо-
янии остановиться на чем-нибудь определенном и беспре-
станно меняя новые формулы веры. Парламент, давно при-
выкший к послушанию, делал все, что ему приказывалось
свыше, вследствие чего Генрих VIII даже и не остерегался
собирать его сравнительно часто. Если его отец в тринад-
цать последних лет своего царствования созывал палаты
лишь два раза, а его дочь, Елизавета, за сорок пять лет —
лишь тринадцать раз, то Генрих VIII за тридцать семь лет
собирал парламент двадцать один раз. Услужливые палаты
и объявляли его главой церкви, и позволяли ему отобрать у
монастырей их земли со всем, что на них находилось, и ут-
верждали те или другие желательные ему формулы веры,
дальше чего уже нельзя было идти в потакании королевско-
му деспотизму. Английский абсолютизм XVI в. даже не
стремился к уничтожению народного представительства, раз
оно было покорным и удобным орудием в руках королев-
ской власти. Только в XVII в., при династии Стюартов, ког-
да в парламенте снова стал развиваться оппозиционный
дух, сделана была попытка управления без созыва парла-
мента, окончившаяся, однако, как известно, неудачей.
Итальянские влияния тоже не миновали Англии, и упоми-
навшийся выше поклонник Макиавелли — Томас Кромвель
был лишь одним из первых «италионатов», сочувствовавших
в Англии идеям абсолютизма.
73
Глава VI
ЭПОХА РАСЦВЕТА АБСОЛЮТНОЙ МОНАРХИИ
Абсолютная монархия в эпоху Итальянских войн.—
Образование универсальной монархии Карла V.— Сопер-
ничество Карла V и Франциска Упадок центральной
власти в Германии.— Религиозная Реформация XVI в. и
ее влияние на королевскую власть — Абсолютизм и ка-
толическая реакция.— Религиозные войны второй поло-
вины XVI в. и первой половины XVII в.— Французский аб-
солютизм XVII в.— Историческая роль Ришелье и его
подражатель Страффорд.— Век Людовика XIV и его вли-
яние на Европу.— Усиление абсолютизма во второй
половине XVII в. (Дания, Швеция, Венгрия).— Начало
прусского абсолютизма.— Общие итоги
Конец XV в. и начало XVI в. — эпоха, до которой дове-
ден в предшествующей главе очерк установления абсолютиз-
ма в Западной Европе,— были ознаменованы большими, пер-
выми вообще в истории Западной Европы международными
войнами, которые из-за раздробленной и обессиленной сво-
им раздроблением Италии вели между собой большие наци-
ональные монархии, объединенные под властью ставших или
становившихся абсолютными королей. В Средние века меж-
дународные войны были редки и не втягивали в разрешение
спорных вопросов с оружием в руках одновременно такого
числа государств, как это было в период так называемых
Итальянских войн. Недаром поэтому с этих войн начинают
обыкновенно совершенно новый период в истории западно-
европейских международных отношений. Это было, действи-
тельно, началом совершенно новой политики, в которой вид-
ную роль стали играть переменчивые международные комби-
нации, охватывавшие сразу несколько больших стран, союзы
одних государств против других, коалиции против нарушите-
лей «политического равновесия» и проч., и проч., что не мог-
ло обходиться без постоянных и правильных сношений меж-
ду собой отдельных правительств, без посольств, как посто-
янного учреждения, без дипломатической переписки, без
особых политических искусников в ведении переговоров, в
74
устройстве соглашений, в изобретении разных уловок и под-
вохов для достижения заранее поставленных целей.
Настоящей родиной этого нового политического искусст-
ва была все та же Италия, в которой многие характерные яв-
ления последующей западноевропейской истории намеча-
лись ранее, чем в других странах. Итальянские государи и
республики уже задолго до появления на полуострове ино-
странных армий с завоевательными целями находились в об-
ладании всеми главнейшими средствами ведения сложной
международной политики, и государям остальной Европы и в
этом отношении было чему поучиться у итальянских прави-
тельств XV—XVI вв. Итальянское политическое искусство
касалось не одних внутренних отношений, но и отношений
внешних, и, где нельзя было взять силой, там умели дости-
гать цели своих стремлений дальновидным расчетом, хоро-
шим знанием слабых сторон противника, разного рода про-
исками, хитростями и другими подобными же средствами
практического макиавеллизма. Итальянские войны, в кото-
рых приняли участие Франция, Испания, император, Анг-
лия, Швейцария, распространили действие системы полити-
ческого равновесия и нового дипломатического искусства на
всю Западную Европу, но, конечно, участие в этих войнах не
могло пройти бесследно и для внутренней истории отдель-
ных стран, игравших роль в этой крупной международной
войне. Война всегда требует чрезвычайного напряжения на-
родных сил и заставляет отдельные нации усиливать свой
правительственный аппарат, который в свою очередь нужда-
ется для ведения своих внешних предприятий и в большом
количестве денег, и в увеличении военных сил. В эту эпоху,
как мы уже знаем, государи Западной Европы не особенно
охотно созывали государственные сеймы, вотировавшие суб-
сидии, и мы еще увидим, какими путями они добывали в это
время материальные средства1: именно это были денежные
займы у тогдашних финансовых тузов. И о военной силе
этой эпохи будет идти речь особо в своем месте2, здесь же
ограничимся лишь указанием на то, что война вызывала не-
1 См. ниже, в гл. XII.
2 См. ниже, в гл. XI.
75
обходимость в увеличении армий, и что те же армии могли
при надобности играть роль физической силы для сокруше-
ния и внутренних оппозиционных движений против устанав-
ливавшегося абсолютизма.
Итальянские войны начались с нападения на Неаполь,
совершенного в 1494 г. французским королем Карлом VIII,
мечтавшим после завоевания этого итальянского королевст-
ва и об изгнании турок из Европы, и об освобождении Иеру-
салима из рук неверных. Предприятие против Неаполя име-
ло временный успех, в значительной мере благодаря союзу
французов с миланским герцогом, но затем против завоева-
телей Неаполя образовался из итальянских государств союз
с целью изгнания их из Италии, союз, в котором, кроме папы
(Александра VI) и Венеции, участвовал и недавний союзник
Карла VIII, миланский герцог. Эта коалиция нашла поддерж-
ку в Фердинанде Арагонском и императоре Максимилиане,
чем в начавшуюся борьбу были втянуты еще силы Испании
и Германии. Французы после этого были не в состоянии де-
ржаться на полуострове и должны были очистить Неаполи-
танское королевство, но преемник Карла VIII, Людовик XII,
не захотел примириться с таким печальным исходом пред-
приятия и возобновил завоевательную авантюру своего пред-
шественника. Произошло новое вторжение в Италию фран-
цузских войск, как и в первый раз имевшее успех, но и те-
перь папе (Юлию II) удалось образовать под названием
«священной лиги» большую коалицию против французов. В
ней приняли участие, как главные ее силы, Венеция, Швей-
цария, император Максимилиан, Фердинанд Арагонский и
даже отдаленная от театра событий Англия. Французы снова
были выбиты из вторично занятой было в Италии позиции, а
в выигрыше оказался Фердинанд, который овладел Неапо-
лем, сделавшимся, таким образом, составной частью испан-
ской монархии. Следующий за обоими французскими коро-
лями, потерпевшими неудачу в своих итальянских планах,
Франциск I равным образом не хотел примириться с таким
исходом дела. «Священная лига», как союз, заключенный
для достижения только определенной цели, раз эта цель бы-
ла достигнута, стала распадаться, и это создало благоприят-
ные условия для временного успеха и третьего вторжения
76
французов в Италию в первый же год нового царствования
во Франции. Французы одержали на этот раз одну из самых
блестящих побед над нанятыми миланским герцогом швей-
царцами, славившимися своей непобедимостью, но опять
против победителей образовался большой союз, поставив-
ший своей целью также вытеснить французов из Италии.
Главную роль в новой коалиции играл преемник Фердинанда
в Испании и Максимилиана в Германии, их внук, молодой
Карл, но когда он нанес Франциску I поражение, прежние
его союзники, в том числе папа и английский король, пере-
шли на сторону побежденного в войне Франциска I.
Рассказанные события от вторжения Карла VIII в Ита-
лию (1494) до поражения Франциска I Карлом (1525) охва-
тывают период времени в три десятилетия. Исходным пунк-
том всей этой первой общеевропейской войны был завоева-
тельный план Карла VIII, направленный на Неаполь. Когда в
исторической науке началась — в общем весьма справедли-
вая — реакция против старого способа объяснять великие
события из личных стремлений государей, то и для войн, ко-
торые предпринимались по их прихоти, хотели всегда нахо-
дить какие-либо разумные основания, ссылались ли при этом
на защиту каких-либо реальных интересов, или на выполне-
ние каких-либо национальных традиций более идеального ха-
рактера. Несомненно, однако, что войны войнам рознь и что
в истории, кроме войн, так сказать, бывших необходимыми и
даже в известном смысле полезными, часто бывали войны
более или менее случайного происхождения, совершенно
для народа, их начинавшего, бесполезные и потому ли-
шенные всякого политического смысла. Война, которую Фер-
динанд и Изабелла вели в Испании против Гренады, была,
действительно, выполнением национальной традиции кас-
тильцев и государственной потребностью объединявшейся
Испании, давно уже стремившейся сделаться хозяйкой в юж-
ной части своего полуострова, но для французов конца
XV ст. и начала XVI ст. господство их короля в Неаполе или
в Милане было совершенной ненужностью.
Даже строго держась той точки зрения, что политические
события в последнем счете зависят от классовых соотноше-
ний, существующих в известном обществе, можно не выводить
77
возникновение тех или других войн непосредственно из каких-
либо конкретных соотношений между отдельными классами,
потому что достаточно, например, знать, что на почве данных
соотношений выросла такая власть, которая по собственному
почину может и произвольно совершать важные политические
акты, чтобы без всякого противоречия с теорией зависимости
политических событий от социального состояния страны
иметь право говорить о возникновении очень крупных между-
народных осложнений единственно в зависимости от прихоти
власть имущих1. К почину французской политики в истории
возникновения Итальянских войн это общее соображение мо-
жет быть применено всецело, как и ко многим другим случаям
воинственной деятельности абсолютизма. Не так давно автор
V тома «Истории Франции», выходящей в свет под общей ре-
дакцией Лависса, Анри Лемоннье, подверг пересмотру вопрос,
насколько французское вмешательство в итальянские дела в
конце XV в. соответствовало интересам, или по крайней мере
традициям французской нации, как это утверждали многие
французские историки. Новейший историк приходит к диамет-
рально противоположному взгляду и, разбивая аргументацию
критикуемых им авторов, на основании фактических данных
приходит к тому выводу, что у Карла VIII было много реально-
го дела и дома, и за границей, вместо того чтобы пускаться в
политику приключений. «В самом деле,— говорит он,— нужно
было иметь больное воображение с пережитками в придачу
средневековых идей и химер, чтобы среди таких обстоятельств
хлопотать о восстановлении прав Анжуйского дома на Неа-
поль и мечтать о завоевании Константинополя»2.
1 Г-н Тарле в своей книге «Падение абсолютизма в Западной Европе»
(ч. I), стоящий на точке зрения, близкой к экономическому материализму
(с. 3), признавая, что «абсолютизм в свое время создавался и креп на внеш-
них войнах» (с. 92), совершенно верно в данном случае не считает нужным
выводить ведшиеся абсолютизмом войны непосредственно из «социально-
экономических условий общества в данный исторический момент», так как
во многих случаях непосредственной их причиной бывали «психологиче-
ские свойства самого абсолютизма» (с. 90—91). Для лиц, не стоящих на
точке зрения экономического понимания истории, это должно быть еще бо-
лее понятным.
2 Lavisse Е. Histoire de France. Т. V par Henry Lemonnier. P., 1903.
4. I. C. 13—16.
78
Это же общее рассуждение позволительно применить и к
политике императора Карла V, этого интернационального го-
сударя первой половины XVI в., который тоже вел свою лич-
ную политику в духе абсолютизма, хотя в некоторых своих
государствах он и был формально связан сословно-предста-
вительными учреждениями, политику, отличавшуюся притом
принесением в жертву личным целям государя интересов от-
дельных его стран.
Мы видели уже, как произошло соединение Кастилии и
Арагона в испанскую монархию, которая вскоре затем овла-
дела Королевством обеих Сицилий и, сверх того, расширила
свои владения в только что открытом (1492) Новом Свете.
Мы упоминали также о тех обстоятельствах, которые сопро-
вождали воцарение внука Фердинанда и Изабеллы в объеди-
ненной их браком Испании1, но, кроме того, Карл по смерти
своего отца, Филиппа Красивого, получил богатые Нидер-
ланды, в которых находился главный торговый центр чуть не
всего Запада, Антверпен. Смерть его другого деда, Максими-
лиана I, открыла ему путь и к императорскому престолу в
Германии. Императорское достоинство было, как известно,
избирательным, и правом замещения вакантного трона поль-
зовались так называемые курфюрсты, князья-избиратели в
количестве семи. В 1519 г. претендентами на императорскую
корону выступили,— факт весьма характерный,— короли
Испании, Франции и Англии. Последний, правда, отстал до-
вольно скоро, но соперничество между Карлом и Франци-
ском было довольно упорным, причем оба претендента не
жалели, в виде аргументов в свою пользу, больших денеж-
ных выдач. Ни для Испании, ни для Франции вовсе не было
нужно, чтобы король этой или другой страны сделался импе-
ратором в Германии, и, например, в Королевском совете
Франции прямо раздавались голоса, доказывавшие, что из-
брание Франциска I в императоры вовсе не соответствовало
бы истинным интересам королевства, но Франциск I был че-
столюбив и хотел добиться своего; только получив известие
об избрании Карла, он, по-видимому, согласился с тем, что
1 См. выше, с. 65.
79
его неудача, пожалуй, была благом и для него самого, и для
его королевства.
Под скипетром Карла V создалась обширнейшая импе-
рия, опираясь на силы которой новый император мог играть
первенствующую роль в международной политике, большей
частью, однако, не соответствовавшую стремлениям и инте-
ресам подвластных ему стран. О Карле V принято говорить,
что он не принадлежал ни к какой национальности, и на са-
мом деле это был государь международный, вдохновлявший-
ся притом средневековым идеалом универсальной Священ-
ной Римской империи. Отдельные страны, входившие в со-
став его монархии, рассматривались им лишь с точки зрения
той выгоды, какую можно было извлечь из той или этой для
осуществления универсальных задач императорской власти
в том их понимании, которое было у самого Карла. Еще до
избрания своего на императорский престол он уже успел
возбудить неудовольствие среди своих испанских подданных
тем, что поручал важнейшие государственные дела фламан-
дцам и бургундцам, как в конце своего царствования сумел
раздражить и немцев тем, что начал диктовать свою волю в
Германии при помощи введенных в нее, вопреки условиям
избрания, испанских войск.
При Карле V и Франциске I Итальянские войны перешли
в сопернические войны двух династий — Валуа и потом Бур-
бонов, царствовавших во Франции, и Габсбургов, в облада-
нии которых были целые, когда-то самостоятельные, коро-
левства. В поводах к войнам и вообще в причинах столкно-
вений между Франциском I и Карлом V не было недостатка,
как, с другой стороны, не было недостатка в причинах и по-
водах к тому, чтобы в борьбе принимали участие и другие
политические силы того времени, а именно: папа и Венеция,
швейцарцы и Англия, немецкие имперские князья и турки. И
в эту эпоху наблюдается то же явление, которое было отме-
чено для предыдущей: первоначально союзники были глав-
ным образом у Карла V, но когда победа перешла на его сто-
рону, некоторые из его сторонников, боясь его чрезмерного
усиления, стали оказывать помощь Франциску I. Когда этот
король умер, борьбу продолжал его сын Генрих II, воевав-
ший потом и с сыном Карла V Филиппом И.
80
Эта международная борьба, наполняющая собой всю пер-
вую половину XVI в., не могла не отразиться по выше ука-
занным причинам на внутренней истории стран, в ней участ-
вовавших; особенным же образом повлияла она на внутрен-
нюю историю Германии.
В то время, как произошло политическое объединение
Испании и Франции под властью национальных королей,
Германия, подобно Италии, хотя и не в такой степени, оста-
валась раздробленной в политическом отношении. Здесь не
место останавливаться на причинах этого явления, и доста-
точно указать, что в Германии на счет единой центральной
власти развились власти местного характера и двоякого при-
том рода: княжеская власть и республиканский строй в неко-
торых, более значительных городах, единство же этому кон-
гломерату княжеств и так называемых имперских городов,
кроме императора, как общего их главы, придавал импер-
ский сейм (рейхстаг), бывший съездом самостоятельных но-
сителей указанной местной власти. Империя находилась как
бы в неустойчивом равновесии, и внутренние раздоры ее
страшно обессиливали, так что все более и более в разных
кругах германской нации возникал вопрос о необходимости
реформы государства на новых началах. Князья стремились
придать империи правильный федеративный строй, но это не
входило в планы императора. Не имея возможности сделать-
ся тем, чем были национальные короли других стран, общий
государь Германии предпочитал видеть силы князей разроз-
ненными, что ему, как одному из таких князей, казалось не-
измеримо выгоднее, нежели считаться с более или менее
прочным имперским строем. Политика императоров со вто-
рой половины XIII в. состояла в том, чтобы усиливать свои
наследственные княжества, хотя бы и с потерей прежнего
значения за самой избирательной королевской властью. Габ-
сбурги, из которых с середины XV в. неизменно стали изби-
раться императоры, особенно вели искусно политику увели-
чения своих наследственных владений. Перед избранием на
престол Карла V, Габсбурга по отцу и по деду с отцовской
стороны, внутренний политический вопрос Германии особен-
но обострился, и особенно сильно чувствовалась и вместе с
тем особенно настойчиво пропагандировалась необходимость
81
общей реформы империи. У князей были свои интересы и
стремления, свои — у имперских городов, боявшихся захва-
тов со стороны князей, во владениях которых города («зем-
ские» в отличие от «имперских») не пользовались такой сво-
бодой, какая принадлежала имперским городам. Особое по-
ложение занимало в Германии так называемое имперское
рыцарство, феодальное дворянство, сохранившее независи-
мость от князей и не желавшее подчиниться судьбе земского
дворянства в отдельных княжествах. Сильное брожение со-
вершалось и в массе сельского населения, положение кото-
рой и в юридическом, и в экономическом отношениях посто-
янно ухудшалось по причинам, о которых здесь не место рас-
пространяться. В 1519 г., когда умер Максимилиан, и кур-
фюрсты избрали в преемники ему Карла V, и в следующих
затем годах все сторонники государственной реформы возла-
гали надежды на то, что найдут сочувствие, поддержку и со-
действие своим планам в молодом императоре, являвшемся,
так сказать, центром тяготения всех общественных элемен-
тов, которые более или менее были недовольны князья-
ми,причем каждый по-своему строил идеал будущей Герма-
нии с единым императором во главе. Но Карл V был челове-
ком, наименее подходившим к роли, которую ему пришлось
бы играть, если бы он взял на себя исполнение задач общей
государственной реформы. Национальные интересы и стрем-
ления его германских подданных ему были чужды, и Герма-
ния в общей политической его системе была лишь одним из
средств для достижения универсальных целей. Он только на
короткое время, в 1521 г., приехал в Германию, успев за
этот приезд оттолкнуть от себя и силу начинавшейся в стра-
не религиозной Реформации, которой некоторые его совре-
менники, наоборот, сумели воспользоваться для усиления
своей власти.
Надежды на реформу пали, и в Германии произошла ре-
волюция, произошла в то самое время, когда Карл V вне Гер-
мании был занят другими своими делами и главным образом
войной с Франциском I. Императору удалось приехать снова
в Германию лишь тогда, когда революция в стране была по-
давлена и были побеждены все те силы, которые могли бы
быть опорой центральной власти в борьбе с княжеским мел-
82
кодержавием. Самым бурным временем были годы 1522 —
1525, годы начала религиозного движения, отторгшего потом
от католицизма половину Германии, годы восстания импер-
ских рыцарей, годы великой крестьянской войны. Князья по-
одиночке разбили и рыцарей, и крестьян и сумели извлечь
для себя пользу из церковной Реформации. Сам реформатор,
старавшийся сначала склонить на свою сторону императора,
в эти бурные годы германской революции решительнейшим
образом перешел на сторону князей, которым и подчинил ос-
нованную им церковь. Князья, принявшие его реформу, осво-
бодились от папской власти, подчинили себе местное духо-
венство, отобрали в свою казну церковные и монастырские
земли, и, чтобы удержать от перехода в протестантизм дру-
гих князей, папы пошли по отношению к ним на разные ус-
тупки. В тридцатых годах Реформация делала в Германии
все новые и новые успехи, и княжеская власть еще более
консолидировала свои победы. К середине 40-х гг. стала
даже выясняться серьезная опасность для династических ин-
тересов Габсбургов в Германии: из семи курфюрстов, имев-
ших право избирать императора, трое уже были протестанта-
ми, и переход на сторону Реформации еще одного грозил об-
разованием в коллегии курфюрстов некатолического
большинства. Только это заставило Карла V вмешаться в
германские дела — через двадцать с лишком лет после того,
как князья подавили революцию. Произошло на этот раз
столкновение между императором и князьями.
Победа была сначала на стороне Карла V, но ею он был
обязан не поддержке со стороны нации, а разрозненности
среди самих князей, главное же — своему испанскому вой-
ску. В 1548 г. Германия была у ног победителя, и он считал
себя вправе диктовать ей свою волю и по разделявшему на-
цию религиозному вопросу. Но это торжество было только
временным: нация не хотела чужеземного деспотизма, спаси-
телями от которого могли явиться теперь князья, и они на
этот раз не только более сплотились, но даже вошли в согла-
шение с французским королем, обещая ему территориальное
вознаграждение («три епископства»: Мец, Туль и Верден) за
помощь против императора. Известно, чем кончилось дело.
Карл V вынужден был признать себя побежденным, а побе-
83
дителями над императорской властью были те же самые кня-
зья, которые за тридцать лет перед тем усмирили рыцарское
и крестьянское восстание. За все это время от внутренних
германских дел Карла V отвлекали перипетии его борьбы с
французским королем, и новое монархическое начало, водво-
рившееся в жизни народов Запада на почве сословных анта-
гонизмов и национальной защиты, воплотилось в Германии
не в королевской, а в княжеской власти. В 20-х гг. XVI в.
князья разбили отдельно рыцарство, угнетавшее крестьян-
скую массу, потом крестьянство, ненавидевшее рыцарей, а
через два с небольшим десятилетия они сыграли роль защит-
ников национальности от испанского деспотизма. Правда,
пока эти князья сами не были еще абсолютными государями
в своих землях, над ними все-таки еще были общие учрежде-
ния империи, а внутри отдельных княжеств мы все еще ви-
дим ландтаги, или земские сеймы, т.е. собрания местных чи-
нов, но и здесь дело шло к тому, чтобы и князьям Германии
превратиться в подобие абсолютных королей. Одним из важ-
ных моментов в истории развития княжеской власти в Гер-
мании на пути ее превращения в абсолютизм было принятое
Аугсбургским религиозным миром 1555 г. постановление,
признававшее за князьями право менять веру, но вместе с
тем обязывавшее их подданных следовать религии князя.
Это — знаменитое «cujus regio, ejus regio», т.е. чья страна,
того и вера,— правило, действовавшее потом в Германии
около столетия.
Следя за успехами абсолютизма в XVI ст., не следует за-
бывать, что это был век не только крупных международных
войн, но и век религиозной Реформации и последовавшей за
ней католической реакции и что как Реформация, так и реак-
ция не прошли бесследно для развития абсолютизма.
В истории религиозного движения XVI в. следует разли-
чать два периода, которые для упрощения общей его схемы
мы можем назвать периодом реформаций монархических и
периодом реформаций монархомахических, заимствуя по-
следний термин из обозначения целой полосы в истории по-
литической литературы второй половины XVI в., когда вы-
ступил целый ряд теоретических противников абсолютиз-
ма— монархомахов. К монархическим реформациям мы
84
должны отнести те, которые совершились в доброй половине
германских княжеств, в Герцогстве Прусском, в Швеции, в
Дании, в Англии, хотя реформация и проводилась в них с со-
гласия и при содействии государственных сеймов, в них су-
ществовавших. Результат всех этих реформаций был тот, что
в названных странах монархическая власть не только осво-
бождалась от власти папской, но как бы сама становилась до
известной степени на ее место (в Англии король прямо объ-
явлен был «главой церкви») и подчиняла себе духовенство,
делая тем самым из церкви орудие государственной власти.
Секуляризация церковной и монастырской (в Англии одной
монастырской собственности) тоже усиливала государей, по-
скольку, впрочем, они добровольно или в силу необходимо-
сти не делились своей добычей с дворянством.
Иной характер имели реформации народные, в политиче-
ском отношении получавшие монархомахический характер.
В Шотландии, во Франции, в Нидерландах протестантизм
сделался знаменем политического протеста против королев-
ского абсолютизма в эпоху той борьбы, которую вели здесь
за свои права и высшие сословия, и народ (последний не вез-
де), равно как и сословное представительство, государствен-
ные чины. Здесь власть, наоборот, искала поддержки в ста-
рой церкви, в свою очередь поддерживая ее против натиска
со стороны «ереси». Для католических королей протестан-
тизм казался явлением политически опасным, и они против
него боролись в союзе с церковью, находившей поэтому вы-
годным для себя содействовать усилению власти. Католиче-
ская реакция везде была в союзе с абсолютизмом, где только
он был сколько-нибудь силен, и этот союз алтаря и трона яв-
ляется одним из важных фактов в истории абсолютной мо-
нархии на Западе.
Такое соединение реакционного католицизма с абсолю-
тизмом проходит красной нитью через всю историю абсолют-
ной монархии на Западе. Самыми яркими примерами в этом
отношении являются габсбургские государства, где особенно
рельефно сплетались в королевской политике светский де-
спотизм с религиозным фанатизмом.
Карл V еще в начале своего царствования в Германии от-
дал австрийские наследственные земли своему брату Ферди-
85
нанду I, сделавшемуся в 1526 г. еще обладателем корон
Св. Вацлава (чешской) и Св. Стефана (венгерской). Вследст-
вие этого династия Габсбургов и разделилась по смерти Кар-
ла V на старшую, испанскую ветвь, потомство самого Карла V,
и младшую, австрийскую, потомство Фердинанда I, сделавше-
гося после отречения брата от престола императором. Обе эти
ветви Габсбургов, одна раньше, другая позже, стали на сторо-
ну католической реакции, в свою очередь поддерживавшей аб-
солютизм и в Испании, и в Австрии. Менее постоянна была
связь абсолютизма с католической реакцией во Франции, где
королевская власть по временам умела освобождаться от слу-
жения интересам католицизма, но в конце концов и здесь уста-
новилось единение между алтарем и троном, особенно при
Людовике XIV. Даже Англия, в первой половине XVI в. от-
торгшаяся от Рима, не избежала участи видеть соединение аб-
солютистической политики с вожделениями реакционного ка-
толицизма. В 1685 г., когда во Франции Людовик XIV наносил
удар существовавшей в ней веротерпимости, английский пре-
стол занял католик Яков II, мечтавший о низвержении англий-
ской конституции и реставрации католицизма, за что, впро-
чем, и поплатился своей короной.
Итак, главными представителями строго католического
абсолютизма были испанские и австрийские Габсбурги. На-
чиная с Филиппа II Испанского, целый ряд государей из этой
династии ведет войны, в которых немалое значение принад-
лежит борьбе с протестантизмом, желанию доставить торже-
ство единой спасающей церкви. Религиозными войнами на-
полнены вторая половина XVI ст. и первая половина
XVII ст., вплоть до Вестфальского мира 1648 г., окончивше-
го Тридцатилетнюю войну. Эти войны были и внутренними,
гражданскими междоусобиями, и войнами международными,
в которых продолжалась и борьба между Габсбургами и
французской династией. Конечно, общее влияние их на исто-
рию абсолютизма было такое же, какое принадлежит Италь-
янским войнам и соперническим войнам Франциска I и Кар-
ла V, но в некоторых отдельных случаях они получали и со-
вершенно особое значение.
Францию религиозное междоусобие раздирало в течение
почти всей второй половины XVI в. Это было эпохой времен-
86
ного ослабления королевской власти при последних Валуа,
трех сыновьях Генриха II, т.е. Франциске II, Карле IX и Ген-
рихе III. Во Франции при них оживилось оппозиционное на-
строение знати и буржуазии, стали снова созываться Гене-
ральные штаты, заговорившие языком политической свобо-
ды, и появилась монархомахическая литература. Но, как и
прежде, штаты второй половины XVI в.,— да и по тем же,
что и прежде, причинам, ничего не создали, и политическая
борьба выродилась в феодальную анархию, так как губерна-
торы отдельных провинций не прочь были превратиться в на-
следственных правителей своих областей, а более мелкие
сеньоры воскресили худшие времена угнетения народной
массы. Это ослабление королевской власти и даже распаде-
ние государства было, однако, кратковременным, и основате-
лю новой династии, Генриху IV Бурбону, удалось, менее чем
в десять лет, при сочувствии и содействии народных масс,
снова воссоздать разрушавшееся государство. Феодальная
анархия и на этот раз только послужила вящему укреплению
королевской власти как гарантии внутреннего спокойствия и
порядка. Так как во французское междоусобие вмешалась
испанская политика, начавшая даже грозить независимости
Франции, то и с этой стороны в нации произошла спаситель-
ная для государства и выгодная для королевской власти ре-
акция, еще раз позволившая этой власти сыграть роль за-
щитницы национального достоинства и независимости от
иноземного покушения.
К усилению абсолютизма привело и великое религиозное
междоусобие в Германии, которое называется Тридцатилет-
ней войной. В самом начале событий, носящих это название,
произошел разгром Чехии, после знаменитой Белогорской
битвы (1620). Чехия в составе Священной Римской империи
германской нации, и с 1526 г. в составе монархии австрий-
ских Габсбургов, была отдельным королевством с особой
конституцией типа сословной монархии1. Здесь в начале
XVII в. произошло оппозиционное движение, во главе кото-
рого стояли земские чины, но оно было подавлено военной
силой, и Чехия лишилась своих политических вольностей и
1 См. о чешской конституции: Поместье-государство. С. 293—296.
87
своих старых национальных прав. С другой стороны, в Трид-
цатилетней войне снова стал на очередь вопрос об импера-
торской и княжеской властях в Германии. Был момент,—
когда именно у императора была в распоряжении большая
военная сила под начальством знаменитого Валленштейна,—
был такой момент, что готово было повториться торжество
императорской власти над князьями, как в конце 40-х гг.
XVI в. при Карле V. Князья, однако, до этого не допустили,
и в конце концов Тридцатилетняя война привела к еще боль-
шему раздроблению Германии, к еще большему усилению
княжеской власти. Вестфальский мир признал за князьями
верховные права над их территориями и дозволил им заклю-
чать союзы не только между собой, но и с иностранными го-
сударями, лишь бы это не делалось против империи и импе-
ратора. За время столь продолжительного междоусобия, в
которое вмешивались разные иностранные правительства,
становившиеся на сторону и католиков, и протестантов, им-
перские князья, которым приходилось отражать эти внешние
вторжения, привыкли собирать налоги без согласия земских
сеймов, организовали постоянные войска, строили крепости
и т. п., словом, делали то же самое, что делалось и госуда-
рями больших стран в эпохи военного напряжения. Княже-
ская политика в Германии в XVII в. развивалась совершенно
в том же направлении, в каком развивалась современная им
королевская политика: все различие было в титуле да в ве-
личине территории, и если уже нужно назвать кого-либо из
германских князей еще первой половины XVII в., на которо-
го можно было бы указать как на типичного вообще предста-
вителя абсолютизма и так называемого полицейского госу-
дарства, то достаточно вспомнить только главу католической
лиги и главного противника замыслов Валленштейна, бавар-
ского герцога Максимилиана, этого видного деятеля всей
Тридцатилетней войны. Он действительно заслуживает быть
особо отмеченным в истории установления княжеского абсо-
лютизма в Германии, не в одном только качестве фанатика
католической реакции.
Так постепенно абсолютизм в XVII в. делал все новые и
новые завоевания. Нигде, однако, в этом веке не получил он,
как известно, такого сильного развития, как во Франции в
88
царствование новой династии Бурбонов. В дальнейших гла-
вах, в которых рассматриваются отдельные стороны западно-
европейской абсолютной монархии, нам особенно много при-
дется ссылаться на примеры, заимствованные именно из ис-
тории Франции при Бурбонах, что позволяет нам здесь быть
особенно краткими в изложении фактов.
Генрих IV ни разу не созывал Генеральных штатов, и после
него они были собраны только один раз, в малолетство Людо-
вика XIII. Это были Генеральные штаты 1614—1615 гг., со-
званные для прекращения беспорядков в управлении. На них
третье сословие представило целый план реформ, но так как
многие из них были направлены против привилегий духовенст-
ва и дворянства, то план этот не только не вызвал сочувствия
в представителях привилегированных сословий, но даже вы-
звал в них особенно сильное раздражение. Ничего не сделав,
даже не обнаружив намерения что-либо сделать, штаты были
распущены, и Франции пришлось после этого ждать около 175
лет до нового созыва штатов. Если страна и стала выходить из
того хаоса, в какой ее повергали аристократические распри, то
лишь благодаря тому, что в ней находились государственные
люди, умевшие пользоваться властью для удовлетворения на-
зревших нужд и посредством этого удовлетворения усиливав-
шие эту самую власть. Конечно, здесь на первом плане должна
быть поставлена фигура главного министра Людовика XII, кар-
динала Ришелье.
Особое значение Ришелье в истории французского абсо-
лютизма заключается в создании для фактически сделавшей-
ся неограниченной королевской власти недостававших ей по-
стоянных центральных и местных органов, при помощи кото-
рых эта власть могла бы непрерывно и успешно действовать.
Это был какой-то выродок из своего сословия, дворянства,
отличавшегося величайшим своеволием и часто склоняв-
шегося перед королевской властью, когда за повиновение
ему платили деньги. Высокий сановник католической церк-
ви, он, с другой стороны, был очень далек и от служения ка-
толической реакции. Прежде всего это был великий «госу-
дарственник», человек, ставивший выше всего государство,
все ему подчинявший, стремившийся устранить из жизни
все, что противоречило интересам государства, воплощенно-
89
го в абсолютизме центральной власти, для чего ему и были
нужны соответственные центральные и местные учрежде-
ния, которые действовали бы постоянно в одном направле-
нии и были бы послушными орудиями в руках высшей вла-
сти. Если можно так выразиться, Ришелье принадлежит по-
чин систематизации абсолютизма, и он создал целую школу,
из которой вышло немало крупных деятелей абсолютизма.
К последователям Ришелье нужно отнести, например, со-
ветника английского короля Карла I, графа Страффорда. Мы
видели, на чем держался и в чем выразился абсолютизм ди-
настии Тюдоров1. Стюарты, наследовавшие им в 1603 г., по-
лучив в свои руки сильную правительственную власть, стали
и в теории проповедовать крайний абсолютизм, подвергая
сомнению все старые вольности нации. Второй король из
этой династии, Карл I, как известно, после неудачных опы-
тов с тремя несговорчивыми собраниями парламента, в тече-
ние одиннадцати лет (1629—1640) не созывал парламента, и
в это-то время наиболее влиятельным его советником сде-
лался граф Страффорд. В настоящее время едва ли может
подлежать сомнению, что решимость действовать напролом
как у Страффорда, так и у Карла I явилась под влиянием
сильного впечатления, произведенного на обоих успехами
политики Ришелье. Как и другие абсолютисты, Страффорд
очень хорошо понимал, что самую надежную опору для вла-
сти может составить только войско, и, будучи назначен на-
местником в Ирландии, где перед этим произошло восста-
ние, он занялся там составлением военных отрядов как кад-
ров будущей королевской армии. В управление Ирландией
лорд-наместник тоже ввел новые приемы, напоминающие
внутреннюю политику Ришелье. Но Англия не была Фран-
цией: как-никак парламент не был совсем отменен, в графст-
вах существовало самоуправление с выборными должност-
ными лицами, и в стране действовал независимый суд, кото-
рому были подсудны и действия королевских чиновников, да
и не было той анархии, которая оправдывала во Франции
введение суровых приемов управления. Попытка Страффор-
да не удалась, а сам он сложил голову по приговору Долгого
1 См. выше, с. 71—73.
90
парламента за попытку введения неограниченной королев-
ской власти.
На попытки Стюартов установления абсолютизма Англия
ответила двумя революциями, совпадающими по времени с
полным торжеством абсолютизма во Франции при Людо-
вике XIV. Нам еще не раз в последующих главах придется го-
ворить об этом одном из наиболее типичных представителей
абсолютной монархии; здесь мы только отметим, что «век»
этого короля был как раз временем, когда абсолютизм сделал
наибольшее количество успехов. При Людовике XIV Франция
была самым могущественным и влиятельным государством и
ее правительственная система сделалась во многих странах
предметом подражания. Карл II Стюарт, выросший во время
изгнания при французском дворе, заключил, уже в качестве
английского короля, тайный договор с Людовиком XIV, по ко-
торому обязывался принять католицизм и помогать Франции в
ее завоеваниях, за что сам получал французскую пенсию. Его
брат, Яков II, вел себя как настоящий вассал французского ко-
роля. Людовику XIV подражали, даже в мелочах придворного
быта, и германские имперские князья. Одним словом, этот ко-
роль задавал тон всей Западной Европе, и ничто так не харак-
теризует абсолютную монархию на Западе, как царствование
именно Людовика XIV во Франции.
Усиление королевской власти и торжество абсолютизма
мы наблюдаем вообще в целом ряде случаев в истории вто-
рой половины XVII в. Неудача абсолютизма в Англии была
лишь исключением из общего правила для этой эпохи.
В 1660 г., в год реставрации Стюартов в Англии, про-
изошло установление абсолютизма в Дании1, и притом (ред-
кий случай) путем государственного переворота. В этой чис-
то средневековой сословной монархии главная сила принад-
лежала дворянству, которое с каждым царствованием
увеличивало свои права в ущерб королевской власти, так
как от каждого нового короля требовалось формальное со-
гласие на условия его избрания на престол, и в эти условия
аристократия стремилась вносить новые требования в свою
пользу. Дело дошло до того, что датский король стал больше
1 Поместье-государство. С. 300.
91
походить на простого председателя Государственного совета.
Захватывая все более и более власть в свои руки, датское
дворянство, понятно, пользовалось ею в своих сословных ин-
тересах, что вооружало против него и духовенство, и горо-
жан, и крестьян, тем более что по отношению к сельской
массе правящий класс держался самой крепостнической по-
литики. Вместе с тем аристократическое хозяйничанье дове-
ло государство до крайнего расстройства: казна была пуста,
и ее задолженность сделалась неоплатной. Нужно было так
или иначе выйти из тяжелого финансового кризиса, но на
сейме 1660 г. дворянство сумело только указать на необхо-
димость введения новых налогов с других сословий, на что
духовенство и горожане ответили протестами против дворян-
ской привилегии не платить налогов, против дешевой аренд-
ной платы с доменов, эксплуатировавшихся дворянами, и во-
обще против того положения, какое дворянское сословие за-
няло в государстве. Все зло протестанты усматривали в
ограничении королевских прав и потому потребовали введе-
ния наследственной монархии с отменой избирательной ка-
питуляции. Натиск был произведен такой сильный, что дво-
рянство вынуждено было покориться, и во главе управления
стали новые люди, противники прежней олигархии, напол-
нившие и преобразованный Государственный совет, и другие
правительственные коллегии. Царствовавший тогда король,
Фридрих III, поручил одному из монархически настроенных
юристов составить особый «королевский закон», обязывав-
ший его преемников свято и ненарушимо блюсти на вечные
времена неограниченную королевскую власть. Обнародова-
ние этого документа произошло при коронации нового коро-
ля Христиана V (1665), а один копенгагенский профессор,
Вандаль, написал и ученый трактат о правах абсолютной ко-
ролевской власти. Лишившись своих политических прав,
датское дворянство сохранило, однако, свои социальные при-
вилегии — обычное явление в истории установления абсо-
лютизма.
В Швеции произошла такая же перемена, как и в Дании,
только несколькими годами позже. И здесь дворянство хо-
зяйничало вовсю, сосредоточив всю власть в чисто аристо-
кратическом Государственном совете, расхитив массу корон-
92
них земель и т. п. Карл XI, вступивший на престол в 1660 г.,
поставил своей задачей отобрать у знатного дворянства зем-
ли, принадлежавшие раньше казне, и нашел сочувствие и
поддержку не только в других сословиях, но и в менее бога-
тых слоях самого дворянства. Королю удалось превратить
Государственный совет в королевский, а сейм 1682 г. торже-
ственно заявил, что королю в Швеции всецело принадлежит
законодательная власть, без участия государственных чинов.
Другой сейм при Карле XI, собиравшийся в 1693 г., сделал
такие постановления, которыми еще точнее определялись
права королевской власти: государь объявлялся верховным
главой и правителем страны, которого никто не может огра-
ничивать или стеснять в его бесспорном праве собственной
властью издавать законы, и признавался вовсе не обязанным
созывать сейм и потому ни перед кем не ответственным за
то, как управляется государство. Карл XII, воевавший с Пет-
ром Великим, уже совершенно деспотически пользовался
своей властью, и только смерть его вызвала в стране ари-
стократическую реакцию, приведшую к реставрации олигар-
хического строя (1618), пока новый государственный перево-
рот (1772) не вернул страну к монархическим порядкам.
В монархии австрийских Габсбургов сословные вольно-
сти после разгрома в 1620 г. Чехии держались только в Бель-
гии, отошедшей к Австрии от Испании в начале XVIII в., да
в Венгрии, где королевская власть была ограничена еще Зо-
лотой буллой Андрея II в 1222 г.1 Вошедшая в состав габс-
бургской монархии в 1526 г. Венгрия с самого же начала
стала ощущать на себе, что значило иметь государей, обла-
давших многими другими странами, и в борьбе с надвигав-
шимся абсолютизмом она даже прибегала к помощи турок,
которые в течение большей части XVI в. и почти всего
XVII в. были даже настоящими господами Венгрии2. De jure
королевская власть в этой стране была избирательной, и
венгры этим даже очень дорожили, но de facto Венгрия нахо-
дилась под властью одной и той же династии, с 1526 г. Габ-
1 О средневековой венгерской конституции см.: Поместье-государство.
С. 298—299.
2 Окончательное вытеснение турок из Венгрии произошло лишь в
1699 г.
93
сбургов, как это вообще часто бывало в средневековых по
своему устройству монархиях. Фердинанд III, выбранный
сеймом на венгерский престол еще при жизни своего отца,
Фердинанда II, предложил было сейму 1655 г. сделать коро-
ну Св. Стефана наследственной, но это предложение было
отвергнуто, что не помешало, однако, избранию преемником
названного государя его сына Леопольда I, сделавшегося в
1657 г. императором. При этом последнем государе Венгрия
пережила тяжелый политический кризис, потому что загово-
ры и попытки восстания некоторых магнатов дали повод ав-
стрийскому правительству подвергнуть всю вообще страну
сильнейшим репрессиям, от которых особенно пострадали
протестанты, так как габсбургская политика в Венгрии вооб-
ще велась вполне в духе католической реакции. Когда наци-
ональное недовольство разразилось здесь, наконец, большим
восстанием Эммерика Текеля в союзе с турками, осадивши-
ми даже Вену (1683), Леопольд I напряг все силы для подав-
ления этого восстания и, достигши своей цели, вынудил у
сейма 1687 г. отказ от права избрания государей и от освя-
щенного веками права вооруженного сопротивления захва-
там со стороны королевской власти. Формально, однако, аб-
солютизм в Венгрии не был введен, хотя старым вольностям
и был все-таки нанесен удар.
Особо должно быть отмечено здесь еще введение абсолю-
тизма в монархии Гогенцоллернов, которая в начале XVIII в.
была повышена в ранге и стала называться королевством
Пруссией. Зерном этого королевства, как известно, было
маркграфство Бранденбургское, доставшееся Гогенцоллер-
нам еще в начале XV в. Один из членов этой фамилии, Аль-
брехт, сделался гроссмейстером Тевтонского ордена, превра-
щенного им потом в светское владение под названием гер-
цогства Пруссии в ленной зависимости от Польши, а когда
его потомство на прусском престоле прекратилось, герцогст-
во получило нового государя в лице тогдашнего бранденбург-
ского маркграфа (Иоанна Сигизмунда). Это произошло в
1618 г., и таким образом Гогенцоллерны очутились в облада-
нии двумя значительными, но чересполосными княжествами,
Бранденбургом и Пруссией (в 1660 г. освободившейся от
ленной зависимости от Польши). Кроме того, Гогенцоллерны
94
приобрели еще несколько земель, особенно по Вестфальско-
му миру, и царствовавший во второй половине XVII в. в
Бранденбурге-Пруссии князь Фридрих Вильгельм, прозван-
ный «Великим курфюрстом», уже мог играть очень значи-
тельную роль в международной политике эпохи, а сын его
приобрел — по Пруссии — королевский титул (1701).
Правление Великого курфюрста и было в монархии Гоген-
цоллернов началом того военно-хозяйственного абсолютизма,
который характеризует Пруссию XVIII в. Это государство со-
стояло из нескольких отдельных княжеств, имевших отдель-
ные сословно-представительные учреждения и даже отделен-
ных иногда одно от другого чужими владениями. Прусское гер-
цогство отделялось от Бранденбурга и непосредственно к нему
примыкавших земель польской территорией, а на западе от
центральной части лежали тоже чересполосные Минден и вла-
дения у Рейна. Все эти области не чувствовали себя членами
одной монархии, и местные земские чины обнаруживали поэ-
тому чисто партикуляристические стремления. Это обстоя-
тельство особенно было неприятно энергичному курфюрсту,
которому нужно было много войска для одной уже простой ох-
раны неприкосновенности гогенцоллернских владений и много
денег для содержания большого войска. Когда бранденбург-
ский ландтаг воспротивился увеличению налогов, курфюрст
силой сломил его оппозицию, и с 1653 г. ландтаги в маркграф-
стве более не собирались. В Пруссии герцогская власть была
тоже ограничена сеймом из представителей дворянства и го-
родского сословия, находившимся под покровительством поль-
ского короля, как сюзерена герцогства. Вот почему прусский
сейм в 1661 г. даже протестовал против отторжения Пруссии
от Польши, на которое у сословий не было испрошено согла-
сия. Началась между курфюрстом и прусскими чинами борьба:
Фридрих Вильгельм не хотел подтверждать привилегии чинов
и требовал от них присяги, а чины добивались того, чтобы их
собрания происходили каждые два года, даже и в том случае,
если бы государь не стал их созывать, и чтобы без согласия чи-
нов он не начинал войны, не заключал союзов, не вводил в
страну иностранных войск и, конечно, не установлял новых
налогов. Оппозиция была так упорна, что в 1663 г. курфюрст
пошел на уступки, не думая, однако, на деле исполнять свои
95
обещания. С чинами других своих земель курфюрст церемо-
нился также очень мало. В 50-х гг. чины герцогства Клеве жа-
ловались на него в имперский сейм, но проиграли в этой инс-
танции свое дело, так как рецессом 1661 г. за ними было при-
знано только право вотирования налогов, на которые потом
они постоянно и соглашались, но отвергнуто было их желание,
чтобы курфюрст не смел вербовать в герцогстве солдат и вво-
дить в него извне войска. При том же государе чины других
областей (Марка, Померании, Магдебурга, Гальберштадта)
лишились заведования местными финансами, перешедшими в
управление княжеских чиновников.
Задачей двух последних глав было дать общий и по необ-
ходимости беглый очерк установления абсолютизма на запа-
де Европы. Мы видели, как постепенно падали ограничения
королевской (и княжеской) власти, заключавшиеся в сослов-
но-представительных учреждениях, и видели равным обра-
зом, как эта власть пользовалась раздорами сословий, угне-
тением народных масс, внутренними смутами, с одной сторо-
ны, и национальной защитой от опасностей извне, с другой,
для того чтобы все более и более расширять свои права. В
этом процессе усиления центральной власти сыграли свою
роль и другие факторы: и местный партикуляризм, раздроб-
лявший силы оппозиции, и большие международные войны,
заставлявшие государей увеличивать свои военные силы и
искать новых источников для пополнения казны, и, наконец,
во многих случаях религиозная Реформация XVI в., где она
принимала монархический характер, или католическая реак-
ция, приводившая к объединению стремлений и интересов
монархии и церкви. В XV ст. намечаются первые крупные
успехи абсолютизма, в XVI в. он делается в наиболее важ-
ных в политическом отношении государствах господствую-
щей формой правления, в XVII в. — достигает полного про-
цветания, распространяясь и на второстепенные страны, и
долго стоит еще на значительной высоте в XVIII ст., особен-
но во вторую его эпоху, носящую название периода «просве-
щенного абсолютизма»; но этот же XVIII в., особенно во
Франции, был свидетелем и начала внутреннего разложения
абсолютизма.
96
Глава VII
ДИНАСТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
Установление на Западе наследственной монар-
хии.— Династический характер основных законов в эпо-
ху абсолютизма.— Образование новых европейских на-
ций и роль государственного начала в этом процессе.—
Династические объединения и династические войны.—
Роль династии Габсбургов в XVI и XVII вв.— Стремления
к политической гегемонии.— Внешняя политика Людо-
вика XIV.— Бурбоны вне Франции в XVII в.— Войны за
наследства в XVIII в.— Политика разделов.— Продолже-
ние ее в эпоху революции и при Наполеоне.— Принцип ле-
гитимизма на Венском конгрессе.— Отношение абсо-
лютной монархии к революциям и к формам правления в
других государствах
Следя за историей королевской власти на Западе с появ-
ления германцев, мы наблюдаем в истории этой власти борь-
бу начал избирательной и наследственной монархии. В гер-
манском мире мы не находим строгого проведения ни одного
из этих принципов: обычай избрания королей сохраняет дол-
го свою силу, но и право быть избранным принадлежит не
безразлично всем, а только членам королевского рода. Вско-
ре после распадения монархии Карла Великого в Германии
принцип избирательной монархии восторжествовал над
принципом монархии наследственной, и с начала X в. до кон-
ца XVIII в. государи Германии избирались, хотя большею ча-
стью из отдельных фамилий, Гогенштауфенов, Габсбургов и
т. п. Во Франции с выбором в короли Гугона Капета тоже ус-
тановилась избирательная королевская власть, но, как изве-
стно, первые же Капетинги ввели в обычай добиваться, еще
при жизни, избрания в преемники себе своих сыновей, что
мало-помалу превратило Францию в наследственную монар-
хию, так сказать, по преимуществу. Феодализм, основанный
на смешении частно-правовых и публично-правовых отноше-
ний и понятий, вообще благоприятствовал наследственности
высшей власти, но в средневековых монархиях сословных
очень часто замечается тенденция в сторону превращения
королевского сана, хотя бы и в принципе только, в чисто из-
бирательный, что давало большую возможность требовать от
97
нового государя подтверждения старых вольностей. Наибо-
лее известные примеры этого мы видим в Венгрии, в Чехии,
в Польше, в Дании и т. п. В общем, однако, за очень редкими
исключениями, и здесь одерживал победу принцип наследст-
венности высшей власти, и там, где устанавливался абсолю-
тизм, иначе и не могло быть, как признавать переход власти
от отца к сыну. Абсолютизм Нового времени в этом отно-
шении отнюдь не идет в сравнение с римским принципатом
первых веков империи, когда de jure не было наследственной
передачи власти1: в рассматриваемом отношении он напоми-
нает нам, наоборот, порядок, господствовавший в древневос-
точных и эллинистических царствах. Другими словами, но-
вый абсолютизм получил строго династический характер.
Между прочим, это выразилось и в том, что в эпоху раз-
вития абсолютизма под основными законами государства
многие были склонны видеть только законы, касавшиеся
внутренних распорядков царствующих династий. Конечно,
не это соответствовало нашему понятию основных законов
во времена сословной монархии2, когда королевская власть
не была абсолютной и существовали государственные чины,
обладавшие известными правами, но так как в большинстве
случаев взаимные отношения политических сил страны опре-
делялись обычным, а не писаным правом, то в этой области
всегда было много неясного и спорного, и одну и ту же кон-
ституцию в Англии, например, при Стюартах королевская
власть и парламент понимали разно3. Особенно своеобраз-
ным должно было сделаться понимание основных законов
1 Монархии. С. 245—246.
2 Понятие «основного закона» (lex fundamentalis) появляется впервые
в XVI в. у монархомахов, защищавших права сословий против абсолютиз-
ма. В эпоху Генриха IV Луазо писал, что основные законы государства за-
ключают в себе границы королевской власти. Из Франции этот термин рас-
пространился и по другим странам, но, например, германским государствен-
ным правом он был усвоен лишь в эпоху Вестфальского мира.
3 В Англии первый стал ссылаться на «fundamental laws» только
Яков I, толковавший их, однако, в смысле своего божественного права, но
парламент стал вкладывать в это понятие совсем другое содержание, и, на-
пример, в 1641 г. Страффорд был осужден за попытку введения абсолютиз-
ма, как за покушение на «древние и основные законы и правление королев-
ства». Около этого времени Гоббс признавался, впрочем, что он не нашел
ни у одного писателя объяснения значения термина «основной закон».
98
там, где политическое право было только у короля, а у под-
данных были только политические обязанности: приводимый
нами пример из истории Франции лучше всяких общих рас-
суждений объяснит, в чем тут было дело.
В XVI и XVII вв. во Франции под «основными законами»
(lois fondamentales) разумели приблизительно то же самое,
что теперь разумеется под словом «конституция». Парламен-
ты и другие высшие учреждения страны, считавшие себя
стоящими на страже законов, видели в них, этих «lois fonda-
mentales», некоторый комплекс принципов публичного пра-
ва, обязательных для государя и отличающих французскую
монархию от деспотизма на турецкий манер; в этом смысле
прямо делалось различие между «законами короля», изменя-
емыми по королевской воле, и «законами королевства», недо-
сягаемыми для королевского произвола: законы последней
категории и были «основными». К несчастью, государствен-
ное право старой монархии во Франции никогда не устанав-
ливало сколько-нибудь определенным и точным образом, что
же в сущности было содержанием этих «основных законов».
Смотря по тому, кто пытался составить перечень этих зако-
нов,— отдельные попытки их сформулировать давали далеко
неодинаковые результаты. С точки зрения парламентов, об-
ладавших правом одобрения или проверки королевских ука-
зов1, оно-то и было одним из главных основных законов, осо-
бенно обязательных для королевской власти: по мнению чле-
нов парламентов, это был самый священный закон, и короли
должны были знать, что, «нарушая его, они нарушали бы тот
самый закон, который их сделал королями». Другие видели
самый первый из основных законов в существовании Гене-
ральных штатов, совершенно не упоминаемых в выходивших
из парламентской среды перечислениях основных законов.
Противники воцарения во Франции протестанта Генриха IV
утверждали, что, по основным законам королевства, король
должен быть католиком, но это, наоборот, отрицалось сто-
ронниками Генриха IV, говорившими, что такого основного
закона вовсе нет, пока только переход Генриха IV в католи-
цизм не положил конец этой контроверзе. Королевская
1 См. ниже, в гл. IX.
99
власть, в свою очередь, пользовалась крайней расплывчато-
стью и неопределенностью этого понятия, чтобы сократить
число основных законов до минимума и признать значение
таковых лишь за наследственностью королевской власти, за
исключением женщин и младших сыновей из права наследо-
вания короны, за неотчуждаемостью королевских доменов и
т. п. Людовик XIV уже никогда совсем и не ссылался на ос-
новные законы, а в отдельных случаях и прямо их нарушал.
Самый разительный пример полного пренебрежения к ним —
это его духовное завещание, устанавливавшее дальнейший
переход короны, права на которую он между прочим признал
и за своими внебрачными сыновьями. Это распоряжение ко-
роной по своей единоличной воле, кассированное, как изве-
стно, Парижским парламентом тотчас же после смерти Лю-
довика XIV, показывает, что он не считал для себя обяза-
тельными и те принципы, которые лежали в основе своего
рода обычного права самой династии.
Случай, представляемый духовным завещанием Людови-
ка XIV, весьма характерный для этого короля, был все-таки
исключительным, потому что в громадном большинстве случа-
ев абсолютизм уважал основные принципы тесно связанного с
ним династического права. Каждая царствующая фамилия
признавала известные внутренние распорядки, имевшие то
или другое политическое значение, каковы законы или обы-
чаи, которыми регулировалось право престолонаследия, уч-
реждение опеки или регентства по случаю малолетства госуда-
ря, объявление его совершеннолетним и проч., и проч., и эти
чисто династические законы, имевшие несомненное политиче-
ское значение, смешивались с другими фамильными обычая-
ми, касавшимися имуществ или частных отношений царствую-
щего дома. Нередко на этой почве возникали фамильные дого-
воры, получавшие значение и силу основных законов
государства, раз последнее рассматривалось как простой объ-
ект властвования и единственным субъектом государственного
права являлся царствующий дом1.
1 Ср.: Монархии Древнего Востока. С. 161, где указывается на то, что
наследственное право царей в эллинистических монархиях было построено
по аналогии с частным греческим правом.
100
Чем более в абсолютизме проявлялась его внутренняя
сущность, тем все более содержание обычного или традици-
онного государственного права отдельных монархий своди-
лось к внутренним распорядкам, принятым в силу старых
обычаев или фамильных договоров царствовавшими в них
династиями. Вообще этого династического права не следует
упускать из виду при изучении политической истории Запа-
да, так как правами, притязаниями, традициями и интереса-
ми отдельных династий создавались целые государственные
территории и определялись на долгие времена те или другие
общие направления внешней политики отдельных госу-
дарств.
Причины образования больших государственных терри-
торий из менее значительных по размерам областей путем
соединения их под одной властью бывают вообще весьма
различные и в каждом отдельном случае представляют собой
более или менее своеобразные комбинации. Конечно, важны-
ми моментами в истории политических объединений являют-
ся моменты географический и этнографический, т.е. непо-
средственное соседство соединяющихся в одно целое обла-
стей и племенное родство, главным образом близость между
собой по языку, населения этих областей со всеми вытекаю-
щими из всего этого последствиями политического, экономи-
ческого и культурного порядка. Территориальное и нацио-
нальное единство, например, Франции, создававшееся века-
ми из хаоса феодального раздробления, было в общем
результатом действия указанных географического и этногра-
фического моментов, как условий, благоприятствовавших
указанной политической интеграции, но настоящим факто-
ром, непрерывно действовавшим в процессе собирания зем-
ли, была династия, родоначальником которой был граф Па-
рижский, Гугон Капет. В Германии, где тоже была сплошная
территория, населенная близкими по языку друг к другу пле-
менами, историческое развитие получило другое направле-
ние, вследствие того, что в стране не удалось упрочиться ни
одной из царствовавших в ней династий. Единая, компактная
в территориальном отношении, все более и более становив-
шаяся однородной в отношении национальном Франция была
как бы прямым созданием своей династии, которая из быв-
101
шего сначала лишь чисто теоретическим обладания короной1
сделала одну из самых ярких исторических реальностей.
Не все страны Западной Европы повторили в этом отноше-
нии историю Франции, не везде возникли национальные госу-
дарства. Италия даже до второй половины XIX в. оставалась
только «географическим понятием», а чем это не совершенно
обособленная страна, и чем итальянцы не один народ? О Гер-
мании приходится сказать почти то же самое. И вот в то вре-
мя, когда, несмотря на благоприятные для объединения геогра-
фические и этнографические условия, ни Италия, ни Германия
не достигли этого единства, создавались, однако, большие го-
сударственные территории при совершенной чересполосности
и разноплеменности населения только потому, что возникали
и действовали те или другие династические комбинации.
Главный пример здесь — монархии австрийских и испан-
ских Габсбургов. Недаром в свое время об Австрии состави-
лось известное двустишие, приглашавшее ее предоставить
войны другим, а самой вступать в выгодные браки (Bella gerant
alii, tu, felix Austria nube, Nam quod Mars aliis, dat tibi Venus),
так как путем брачных уз Габсбурги искусно соединяли под
одним скипетром многие земли. Еще, когда мы видим, как к се-
веру и к югу от среднего Дуная в состав вошли три большие
территориальные группы с немецким, чешским и мадьяро-сла-
вянским населением, мы можем объяснить себе это соедине-
ние под общей высшей властью эрцгерцогства Австрии с при-
лежащими к ней немецкими областями, королевства Св. Вац-
лава, состоявшего из Чехии с Моравией, Силезией и
Лузацией, и королевства Св. Стефана, с которым соединена
была Хорватия, потому что к этому результату названные
страны приводились общими политическими интересами, эко-
номическими отношениями и т. п. Но брачная политика Габс-
бургов доставила династии территории и вне обозначенного
комплекса земель. Равным образом нам кажется весьма есте-
ственным соединение Кастилии и Арагона в одну испанскую
монархию, но когда мы видим, что в состав общей монархии ее
государя входят территории с населением итальянским, фран-
цузским, фламандским, немецким, притом еще и чересполос-
1 Поместье-государство. С. 135 и след., особенно с. 140—142.
102
ные, мы говорим уже о силе династического принципа как объ-
единяющего политического фактора.
Другой пример чисто династического объединения в одну
монархию хотя и однородных по племенному составу населе-
ния, но географически разобщенных территорий — государ-
ство Гогенцоллернов. Как единую Францию создала ее дина-
стия, так и единая Пруссия, состоявшая сначала из череспо-
лосных кусков, была созданием своих Гогенцоллернов. Не
забудем, что для устранения чересполосности в этом госу-
дарстве потребовалось около ста лет, от первого раздела
Польши (1772), результатом которого было восполнение тер-
риториального разрыва между провинцией Пруссией и Бран-
денбургом, до австро-прусской войны 1866 г., после которой
уничтожился такой же территориальный разрыв между вос-
точной и западной половинами королевства.
Династии не только объединяли нередко разнородное, но
и разъединяли однородное: образование в Германии несколь-
ких княжеских династий сделалось одной из помех для ее
объединения. Иногда таким образом династические отноше-
ния совпадали с национальными стремлениями, иногда, нао-
борот, шли им наперекор.
И в истории международных отношений Нового времени
мы также можем различать действие разных интересов, как
факторов, вызывавших войны и коалиции одних государств
против других, интересов чисто политических и коммерче-
ских, национальных и вероисповедных, но многое объясняется
также действием династического фактора, когда на первый
план выдвигались не интересы государства, хорошо ли, худо
ли они понимались, а именно династические права. Мы уже
знаем, что вторжение Карла VIII в Италию было основано на
чисто династическом притязании1, как, впрочем, и Столетняя
англо-французская война второй половины XIV в. и первой по-
ловины XV в. В соперничестве Франциска I и Карла V тоже
известная роль принадлежала династическим счетам из-за
бургундского наследства: еще Людовик XI включил в состав
Франции часть владений, принадлежавших прадеду Карла V,
1 См. выше, с. 79.
103
Карлу Смелому, и Карлу V хотелось эту часть наследства воз-
вратить своей династии.
Владения династии Габсбургов распались на испанскую и
австрийскую части, но династическое родство государей обе-
их ветвей этой фамилии продолжало сказываться в том, что
мадридский и венский дворы были в общем солидарны в сво-
их международных выступлениях. Обе габсбургские монар-
хии, одна на западе, другая на востоке объединенного като-
лической культурой исторического мира, вели в сущности
одну и ту же политику в духе католической реакции. Поли-
тическое преобладание Габсбургов, с которым были в борьбе
короли Франции при последних Валуа и при Бурбонах, окон-
чилось лишь в середине XVII ст., когда роль первой полити-
ческой силы стала играть Франция Людовика XIV, но и при
нем, и после него все еще одним из направляющих течений
международной политики была борьба между Габсбургами и
династией, царствовавшей во Франции.
Абсолютизм не довольствовался в некоторых случаях
господством в том или другом национальном государстве, но
стремился нередко к тому, что в наше время называется им-
периализмом, а в свое время называлось универсальной (или
всемирной — в условном, конечно, смысле слова) монар-
хией. Идея такой монархии, правильнее — европейской геге-
монии, каждый раз возникала, как только то или другое го-
сударство получало звачительный перевес над другими. Уже
Карл V видел свою задачу в превращении средневековой
фикции Римской империи в настоящую реальность, и для до-
стижения этой цели он был готов жертвовать не только ре-
альными интересами отдельных своих стран, но даже не ме-
нее реальными интересами своей власти в этих странах, как
мы то видим особенно по отношению к Германии1. Такую же
роль не прочь был разыграть и Франциск I, добивавшийся
тоже получить императорскую корону; когда же внутренний
упадок Испании и Тридцатилетняя война в Германии обесси-
лили обе ветви династии Габсбургов, за установление своей
гегемонии в Европе взялся Людовик XIV, который одно вре-
мя равным образом мечтал и о том, чтобы возложить на свою
1 См. выше, с. 81 и след.
104
голову императорскую корону, сделавшуюся как бы наслед-
ственным достоянием Габсбургов.
Вообще внешняя политика Людовика XIV в высшей степе-
ни характерна для абсолютизма. Сколько бы мы ни искали в
ней отражения национальных, политических и экономических
интересов самой Франции, доминирующей нотой этой полити-
ки были могущество и слава самого короля и преобладание его
династии над всеми другими царственными домами Европы. В
отдельных случаях войны Людовика XIV могли вытекать из то-
го или другого понимания интересов государства, даже, пожа-
луй, совпадать с ними, но общая основа его внешней политики
была порождением психологии абсолютизма, в котором инте-
ресы самой власти объединялись не столько с интересами на-
ции, сколько с интересами династии.
Первую свою завоевательную войну Людовик XIV напра-
вил на Испанские Нидерланды, т.е. на Бельгию, притязание на
которую он выводил из мнимого права своей жены, испанской
принцессы, обладать названной страной по смерти ее отца,
Филиппа IV. Эта попытка вызвала против Франции значитель-
ную коалицию, какие составлялись против нее и потом. В вой-
нах, вызванных завоевательными планами Людовика XIV, уча-
ствовали, большей частью против него, Голландия, Англия,
Швеция, Австрия, Испания, Бранденбург, Савойя и т. п., а ког-
да в Испании прекратилась династия Габсбургов со смертью
бездетного Карла II, Людовик XIV задумал овладеть всем ос-
тавленным им государственным наследством для одного из
своих внуков. Это, как известно, тоже вызвало против Фран-
ции большую коалицию, и произошла знаменитая война за ис-
панское наследство, в которой приняла участие вся Западная
Европа. Дело кончилось тем, что внук Людовика XIV, под име-
нем Филиппа V, как потомок испанских королей по матери,
воцарился-таки в Мадриде, получив при этом и все испанские
колонии, но отказавшись от Бельгии, Ломбардии и Неаполи-
танского королевства, отошедших к австрийским Габсбургам.
Впрочем, последние не удержались в Королевстве обеих Сици-
лий, уступленном в скором времени (уже после смерти Людо-
вика XIV) одному из сыновей испанского короля, тогда как
другому было отдано герцогство Парма, после чего Бурбоны
105
оказались царствующими, кроме Франции, в Испании, в Неа-
поле и в Парме.
Людовик XIV, как король Франции, считал себя истин-
ным наследником короля франков Карла Великого, восстано-
вителя Римской империи на Западе, и сам не прочь был быть
избранным в императоры германскими курфюрстами, а наем-
ные публицисты доказывали его права и на такие страны, ко-
торые никогда не были под властью каких бы то ни было его
предшественников, или, например, проводили ту мысль, что,
как наследственный и абсолютный монарх, французский ко-
роль неизмеримо выше императора, избираемого князьями и
ограниченного в своей власти. Людовик XIV стремился к
первенству даже в мелочах: от Англии он, например, добил-
ся обещания, что ее корабли первыми будут салютовать
французским судам при встречах в море; Испания тоже усту-
пила первенство французским послам перед своими в разно-
го рода церемониях и т. п. В других странах, как и у себя,
Людовик XIV хотел видеть строгое господство абсолютизма,
вследствие чего особенно ненавидел Голландию и Англию с
их свободными учреждениями. После второй Английской ре-
волюции он даже провозгласил королем Англии сына Яко-
ва II под именем Якова III. Известен, кроме того, целый ряд
совершенно произвольных поступков Людовика XIV по отно-
шению к более слабым соседям, вроде захвата среди мира и
присоединения к Франции имперского города Страсбурга,
бомбардировки Генуи за то, что, вопреки желанию Франции,
она увеличивала свой флот, и т. п. Внешнее величие, могу-
щество и слава Людовика XIV льстили национальному тще-
славию французов. Не в одной, конечно, Франции, да и в ней
не при одном Людовике XIV, «любовь к отечеству» принима-
ла вид «народной гордости», предметом которой было поли-
тическое преобладание национального короля. Национализм
времен абсолютной монархии находил свое выражение в
культе королевской власти, а она в свою очередь широко
пользовалась этой формой патриотизма для того, чтобы де-
лать искусственно популярными даже те войны, которые
имеди чисто династический характер. Каждый раз, как абсо-
лютизм особенно рельефно проявлялся в честолюбии того
или другого государя, оно направляло его деятельность на
106
внешние предприятия, для которых всегда находились доста-
точные основания в тех или других интересах государства,
особенно в интересах торговых, действительно с конца Сред-
них веков игравших большую роль в истории международной
политики. Но и в тех случаях, когда эти интересы, на самом
деле, принимались в расчет, они рассматривались через
призму обогащения прежде всего государственной казны, в
представлении абсолютных королей составлявшей их личное
достояние, все равно что частное богатство самого монарха.
Разорительность войн для подданных в расчет не принима-
лась, тем более что в обществе везде и всегда были войнолю-
бивые элементы по непосредственному влечению к ратной
жизни, по стремлениям к легкой наживе, к добыче, по расче-
ту выгоды от займов и поставок, неизбежных при всякой
войне. Средневековые военные нравы были еще очень силь-
ны в дворянстве XVI—XVIII вв., особенно во Франции, где
еще итальянские походы Карла VIII и Франциска I пользова-
лись большой популярностью среди дворян.
Цель, какую ставил себе Людовик XIV, посылая своего
внука в Испанию, была отчасти достигнута. Габсбурги удержа-
ли из большого испанского наследства в конце концов только
Бельгию и Ломбардию, а в Испании, в Неаполе, в Парме воца-
рились потомки Людовика XIV. Как в XVI и XVII вв. династи-
ческая солидарность габсбургских дворов играла роль одного
из важных условий международной политики того времени,
так устанавливалась и династическая солидарность в XVIII в.
между бурбонскими дворами, принявшая в середине этого сто-
летия форму особого «фамильного договора» (pacte de famille),
само название которого в высшей степени характерно для вре-
мен династической политики, превращавшей государственные
дела в семейные дела государей.
Для XVIII в. характерно и то, что разные войны, проис-
ходившие в это время, получали название войн за наследст-
во. Открывался целый ряд наследств, становившихся пред-
метом спора, и когда не приходили к полюбовному соглаше-
нию насчет дележа, начинали воевать, защищая свои
наследственные права, т.е. в сущности права, которые веда-
ются гражданским правом. Людовик XIV в своем первом по-
кушении на часть испанского наследства в виде Бельгии
107
прямо применил к политике один закон частного наследст-
венного права, существовавший в одной местности Испан-
ских Нидерландов. Там именно был принят порядок, в силу
которого дети от второго брака при существовании детей от
первого брака не были наследниками своего отца. Людо-
вик XIV, женатый на дочери Филиппа IV от первого его
брака, стал оспаривать у его преемника Карла II, бывшего
сыном от второго брака, право на переход к нему всей Бель-
гии, которую и объявил на основании указанного «деволю-
ционного» права собственностью своей супруги. Так еще в
60-х гг. XVII в. был поставлен на очередь вопрос об испан-
ском наследстве, которому в полном объеме суждено было
решаться через сорок лет. Был момент, когда возникла ком-
бинация раздела наследства между разными на него претен-
дентами по соглашению между Францией, Голландией и Ан-
глией, бывшими заинтересованными торговлей монархии,
но Людовик XIV в конце концов предпочел добиться состав-
ления Карлом II духовного завещания, передававшего всю
монархию нераздельно французскому принцу, внуку Людо-
вика XIV. Во всей этой истории с испанским наследством
здесь должно обратить на себя наше внимание то обстоя-
тельство, что целое большое государство рассматривалось
как частное имение, которое может быть предметом духов-
ного завещания по усмотрению своего владельца, предметом
дележа между разными претендентами и т. п. Аналогичный
характер с испанским наследством имели и другие наслед-
ства, из-за которых возникали войны, получавшие иногда
общеевропейский характер,— наследства австрийское, поль-
ское, баварское. В 1740 г. прекратилась со смертью импера-
тора Карла VI и австрийская линия Габсбургов, но у Кар-
ла VI осталась дочь, объявленная его наследницей с согла-
сия разных местных чинов, что не помешало -явиться
претендентам и на разные части тогдашнего владения авст-
рийского дома. Таково было происхождение войны за авст-
рийское наследство, происходившей через сорок лет после
войны за испанское наследство и позволившей Фридриху II
Прусскому отторгнуть от Габсбургов Силезию.
При таком взгляде на государственные территории, как
на объект права с характером почти частной собственности,
108
легко могло возникнуть и другое явление в международной
политике того века — обмен одной территории на другую.
Так произошла мена Сардинии на Сицилию в начале
XVIII в., а в середине — мена Лотарингии на Тоскану. Вхо-
дившее в состав империи Герцогство Лотарингское принад-
лежало Францу-Стефану, мужу Марии-Терезии, сделавше-
муся впоследствии по избранию курфюрстов императором. В
эпоху войны за польский престол в 30-х гг. XVIII в., когда на
него явилось два претендента, сын прежнего польского коро-
ля Август III, курфюрст Саксонский, и поляк Станислав Ле-
щинский, сделавшийся зятем французского короля Людови-
ка XV, и в спорный вопрос вмешались другие державы, Ав-
стрия нашла нужным отклонить от себя войну с Францией,
уступив тестю короля Франции, лишившемуся польской ко-
роны, Лотарингию под условием перехода ее к самой Фран-
ции по смерти Станислава Лещинского, а Франц-Стефан за
уступку этого владения получил Тоскану, где около этого
времени прекратилась династия Медичи. В эпизоде, извест-
ном под названием баварского наследства, в 70-х гг. того же
века мы имеем дело с аналогичным фактом. В Баварии воз-
ник вопрос о наследстве, и этим обстоятельством задумал
воспользоваться Иосиф II Австрийский, чтобы обменять че-
респолосную Бельгию на непосредственно примыкавшую к
габсбургским владениям Баварию, что чуть было не привело
к новому немецкому междоусобию.
В XVIII в. вообще охотно занимались дележом чужих
территорий и тогда, когда не открывалось никакого наслед-
ства. В эпоху великой Северной войны разделу подлежали
владения Швеции, в эпоху войны Семилетней — владения
Пруссии, и еще очень рано был поставлен вопрос о разделе
Польши, осуществившийся в последней трети XVIII в. Фран-
цузская революция и империя Наполеона I, в сущности,
только продолжали политику разделов, сделавшуюся одним
из характернейших явлений международной политики абсо-
лютизма в XVIII в. Особенно когда Наполеон делил и пере-
делял территории и сажал своих братьев или зятьев на пре-
столы Голландии, Неаполя, Вестфалии, Испании, он только
действовал в духе традиций королевской политики XVIII в.
Династия Бонапартов, вышедшая из революционного кризи-
109
са Франции, шла, в сущности, по стопам легитимных дина-
стий Габсбургов и Бурбонов, и империя Наполеона I была
повторением — только в гораздо больших размерах — «все-
мирной монархии» Карла V и Людовика XIV. Когда эта узур-
паторская империя пала и Венский конгресс должен был
снова переделывать карту Европы, на нем тоже одним из ру-
ководящих принципов в этом деле был признан династиче-
ский принцип, получивший тогда название легитимизма.
Бурбоны снова были восстановлены, кроме Франции, в Ис-
пании и в Неаполе, Габсбургам были возвращены и Ломбар-
дия (с придачей Венеции), и Тоскана (с прибавкой Пармы),
и получили обратно свои владения наиболее важные герман-
ские княжеские династии (в Ольденбурге, Ганновере, Гес-
сен-Касселе и др.). В династическом легитимизме прямо за-
ключалось отрицание национального принципа, который в
некоторых случаях был раньше как раз одним из базисов аб-
солютизма. Отсюда — то довольно обычное явление, что в
целых государствах власть принадлежала династиям ино-
странного происхождения.
Оканчивая общую характеристику внешней политики аб-
солютных монархий, нельзя не остановиться еще на одном
важном явлении. В эпоху религиозных войн второй полови-
ны XVI в. и первой половины XVII в. до известной степени
международная политика руководилась конфессиональными
соображениями и потому могла иметь принципиальную окра-
ску защиты католицизма и протестантизма. Равным образом,
с эпохи Французской революции, и особенно после Венского
конгресса, принципиальную окраску внешней политике евро-
пейских монархий давала борьба с революцией и защита аб-
солютизма. В XVIII ст. такой принципиальности в монархи-
ческой политике не было. «Все формы правления,— говорит
Сорель в своей «Европе и Французской революции»,— суще-
ствовали в Европе, и все они считались равно законными.
Идея приписать какому бы то ни было государственному ус-
тройству безусловное превосходство над другими, возмож-
ность идеального устройства, которое было бы применимо ко
всякой стране, и в особенности идея сделать из него предмет
пропаганды, не приходила на ум государственным деятелям.
Слова «республика» и «демократия» не связывались с идеей
но
переворота. Полагали, что республика и демократия пригод-
ны только для небольших государств: они вели за собой мир-
ные нравы и сдержанную политику»1. «Революций,— гово-
рит тот же историк в другом месте,— было немало в Европе,
но никто даже не воображал, чтобы можно было выделить
идею революции из частных событий, среди которых проис-
ходили все эти прежние революции»2. Установился даже
взгляд, что республиканская форма в чужом государстве
представляет большие выгоды, так как республики не склон-
ны к завоевательной политике и внутри подвержены смутам,
ослабляющим государство. Примеры Швеции при олигархи-
ческом устройстве и сделавшейся совершенно анархической
Польши служили хорошими аргументами этого взгляда, а по-
тому правительства считали даже выгодным для себя, если у
соседей происходили бунты и усобицы, готовы были их под-
держивать и даже вызывали их нарочно. Так вела себя
Франция по отношению к Английской революции, Испа-
ния — по отношению к смутам Фронды во Франции, Россия,
Австрия и Пруссия — по отношению к польской анархии,
Пруссия — по отношению к венгерской оппозиции при
Иосифе II и т. п. Россия и Пруссия обязались также одна пе-
ред другой не допускать восстановления самодержавия в
Швеции, и Густав III должен был оправдываться перед пе-
тербургским двором в том, что произвел монархический пе-
реворот 1772 г. Только Французская революция, да и то не
в самом своем начале, напомнила европейским государям,
что «их ремесло быть роялистами», по выражению, приписы-
ваемому тогдашнему королю прусскому. Старые привычки,
однако, брали свое, и, начиная с Базельского мира между ре-
волюционной Францией и абсолютистской Пруссией (1795),
европейские монархи вступали в соглашения и союзы и с ре-
волюцией, и с узурпаторской империей ради тех или других
выгод, и только падение этой империи через двадцать лет да-
ло им возможность действовать сообща для защиты принци-
пов династического легитимизма.
1 Сорель А. Европа и Французская революция. I. 11 —12.
2 Там же. I. 43.
111
Глава VIII
ПРИДВОРНЫЙ БЫТ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ДВОРА
ПРИ «СТАРОМ ПОРЯДКЕ»
Раннее образование средостений между властью и
подданными.— Palatium Римской империи и император-
ский двор в Византии.— Первоначальная нерасчленен-
ность дворцовой службы и несения обязанностей по цен-
тральному управлению государством.— Выделение двора в
особую общественную категорию.— Развитие придвор-
ной жизни в Италии эпохи Ренессанса.— Черты придвор-
ной жизни при абсолютной монархии.— Особое развитие
придворной жизни при Людовике XIV.— Громадность
расходов на придворный быт во Франции в XVIII в.— Об-
щее подражание версальскому двору в XVIII в.— Союз ко-
ролевской власти и привилегированных.— Роль придвор-
ных сфер во Франции в эпоху революции
Одной из характерных особенностей абсолютной монар-
хии новых веков является развитие придворного быта, с вли-
ятельным положением королевского двора в самом государ-
стве, развитие направляющей роли придворных сфер во
внутренней и внешней политике правительства. Если бюро-
кратию называют «средостением» между властью и народом,
то с еще большим правом можно называть тем же именем
придворный быт старого порядка, являвшийся именно глав-
ным средостением между монархом и остальным государст-
вом, включая сюда иногда даже и все управление последним.
Подобного рода придворные средостения — одно из древ-
нейших явлений истории. Рассказывая о том, как возникла
царская власть у мидян, Геродот, между прочим, отмечает, что
первый мидийский царь,— которого он называет Дейоком,—
окружил себя копьеносцами и построил для себя и для них
дворец, окружив и его целым рядом стен, где и заперся, так
что никто не мог больше его видеть, и все сносились с ним
лишь посредством вестников1. Называя до сих пор древнего
египетского царя библейским именем фараона, мы не подозре-
ваем, что, собственно, это было у самих египтян названием не
1 Монархии. С. 36.
112
их владыки, а его жилища, его «высокого дома» (пер-аа), или
царского дворца*. При царе состоял огромный придворный
штат, постоянно его окружавший, и лишь в торжественных
случаях фараон показывался народу. В других восточных де-
спотиях мы видим то же, и чем выше поднимался царь, тем
значительнее, роскошнее и влиятельнее становился его двор,
как главное средоточие всей государственной жизни. Формы
придворного быта из этих деспотий перешли в эллинистиче-
ские царства и в саму Римскую империю.
Выше уже пришлось упомянуть о палации римских импе-
раторов1 2. Сначала это было жилище принцепса на Палатин-
ском холме в Риме, но потом название это стало обозначать
императорский дворец и сосредоточенное при нем общее уп-
равление страной. Когда императорская власть только что
устанавливалась в Риме, двор или дом принцепса отличался
таким же частным характером, какой имели дома и других
знатных особ, причем в нем несли домашнюю службу и ис-
полняли разные поручения по ведению государственных дел
императорские рабы и вольноотпущенники, но по мере со-
средоточения при дворе всего государственного управления
слугами императора, исполнявшими и придворные, и госу-
дарственные обязанности, делаются не только свободные, но
и знатные лица, для которых создана была пышная титулату-
ра светлостей, сиятельств, превосходительств и т. п.3 Визан-
тийский двор сохранил эти формы придворного быта, и им
подражали впоследствии варварские и феодальные короли,
для которых высшим идеалом царственности всегда оставал-
ся новый Рим на берегу Босфора4. Придворный обиход Мос-
ковской Руси был тоже сколком с тех порядков, которые гос-
подствовали в Царьграде.
На протяжении всей истории придворного быта абсолют-
ных монархий мы наблюдаем одно из характернейших явле-
ний, относящихся к области смешения домохозяйственных и
государственных отношений: то мы видим, как домовым слу-
гам государя поручаются те или другие чисто государствен-
1 Монархии. С. 59.
2 См. выше, с. 23.
3 Монархии. С. 276.
4 Ср. выше, с. 25.
113
ные функции, то видим, наоборот, что должностные лица го-
сударства исполняют те или другие придворные обязанно-
сти, и невольно вспоминается недавний эпизод из жизни
прусского двора, когда министры, т.е. государственные са-
новники, должны были в особых придворных костюмах ис-
полнять какой-то традиционный придворный танец, держа в
руках подсвечники с зажженными свечами.
Полное смешение придворных и государственных должно-
стей, конечно, может существовать лишь при более примитив-
ных порядках. Возьмем для примера центральное управление в
королевстве Меровингов, которое, как мы упоминали, отлича-
лось особенно домохозяйственным характером1. Во главе при-
дворной прислуги стоял сенискальк, что значит набольший
над рабами, и откуда произошло позднейшее «сенешал», одно
из званий, с которым мы еще будем встречаться; другим его
названием было майордом, старший дворецкий,— должность,
которая потом играла столь важную роль во франкском коро-
левстве, когда майордом, управлявший дворцом и государст-
вом (palatium et regnum), сделался своего рода вице-королем
(subregulus) и когда сенешалами стали называться другие при-
дворные сановники без определенной функции. Раб, который
заведовал дворцовой конюшней, назывался марискальк, отку-
да позднейшее «маршал» (причем французское marechai имеет
и значение кузнеца), и синонимом для обозначения этой долж-
ности, когда она приобрела государственное значение, было
наименование comes stabuli (откуда потом «коннетабль»), т.е.
конюший, хотя ему поручались посольства и военное началь-
ство на войне. Это были высшие должности, на которые мож-
но было попасть с низших, к числу каковых относилась, на-
пример, должность виночерпия, или чашника (pincerna, prin-
ceps pincernarum, der Schenk) и т. п. Некоторые из этих
придворных титулов носили впоследствии курфюрсты Свя-
щенной Римской империи германской нации, т.е. семь владе-
тельных князей, которым по Золотой булле 1356 г. принадле-
жало право избирать императора2: так, король богемский поль-
зовался званием чашника.
1 См. выше, с. 39.
2 Поместье-государство. С. 147.
114
Конечно, с большим развитием государственной жизни
должно было произойти обособление разных ведомств цент-
рального управления от королевского двора в тесном смысле
этого слова. Так, например, из съезда вассалов при дворе
французского короля, или королевской курии (curia regis),
возникло особое судебно-административное учреждение, по-
лучившее в XIII ст. название Парижского парламента и про-
существовавшее до самого конца старой монархии во Фран-
ции1. Однако это отделение центрального управления от дво-
ра нисколько не ослабило политического значения двора и
привилегированности тех лиц, которые, занимая разные при-
дворные должности, особенно близко стояли к королю. Если
в эпоху Тацита у германцев существовала родовая знать, ос-
нованная на происхождении, то в эпоху варварских коро-
левств, когда возросло значение конунга, близость к нему
сделалась главным основанием привилегированного проис-
хождения в государстве2, прецеденты чего наблюдались еще
в эпоху Тацита, который отметил, что у племен, уже имею-
щих королевскую власть3, вольноотпущенники возвышаются
и над простыми свободными, и над знатными. Развитие абсо-
лютизма влекло за собой аналогичные последствия. Конеч-
но, по общему правилу, сам факт нахождения среди королев-
ской прислуги не создавал никакой знатности, и для занятия
высших придворных должностей нужно было «благородство»
в смысле дворянского происхождения, да и сам доступ ко
двору был открыт лишь для дворян (только благородный был
hoffahig), тем не менее пристроиться ко двору сделалось
целью множества честолюбивых и корыстолюбивых дворян-
ских исканий, потому что это был лучший путь личного воз-
вышения и обогащения. Королевская власть даже сознатель-
но стала пользоваться придворным бытом как приманкой для
феодальной знати, не желавшей забыть своих былых полити-
ческих вольностей, и в свою очередь эта знать, наполнявшая
королевский двор, сообщила ему значение главного оплота
социального консерватизма по отношению к сословным при-
1 Поместье-государство. С. 143. О нем еще будет идти речь подробнее
в следующей главе.
2 Там же. С. 184.
3 In gentibus quae regnantur. Ср. выше, с. 36—37.
115
вилегиям дворянства. Здесь, в придворной обстановке de
I’ancien regime осуществился союз абсолютной монархии с
дворянскими привилегиями, составляющий одну из основ-
ных черт «старого порядка»1.
Как во многих других отношениях, так и в истории при-
дворного быта абсолютной монархии общий тон выработке его
форм с XVI в. задавала Италия, где одной из особенностей гос-
подствовавшей в ней княжеской тирании было широкое разви-
тие придворной жизни. Итальянские принципы эпохи Ренес-
санса весьма охотно окружали себя роскошью и блеском, уст-
раивали в своих дворцах и садах постоянные праздники и
увеселения, держали при себе ученых, поэтов, художников,
стягивая к своим резиденциям все, что только было в окружа-
ющем обществе побогаче, познатнее, позначительнее и чем
только можно было пользоваться с большим или меньшим
удобством для проведения своих политических видов. Внеш-
ние формы этой придворной жизни легко воспринимались вне
Италии государями других стран, и в распространении их по
Европе фактор подражания вообще играл большую роль. Если
французский двор, начиная с Франциска I, воспринял весьма
многое из Италии, то позднее такой же законодательницей в
формах придворной жизни сделалась Франция Людовика XIV,
которому наперерыв подражали в своем домашнем быту совре-
менные ему даже имперские князья Германии. Итальянский
абсолютизм был, таким образом, прототипом абсолютизма в
других странах и по отношению к соединенному с ним нераз-
дельно придворному быту.
Особым блеском отличался в эпоху Ренессанса двор
самой старой абсолютной монархии в Италии, двор неапо-
литанский. Жилище короля, «Reggia», считалось храмом
правосудия, центром просвещения, где сияло божество одно-
го неограниченного короля. «Мы,— писал некто Майо, автор
трактата о величии,— веруем во единого Бога во славе и ви-
дим одно солнце на небе и обожаем на земле нашей единого
короля». «Вокруг монарха,— говорит один из новейших ис-
ториков,— составляя рамку для него и отражая его свет,
1 См. выше, с. 11 —12 и ниже, в главе XV, где говорится о социальной
политике абсолютизма.
116
склоняется пышный двор. В актах и летописях неаполитан-
ской жизни мы встречаем одни громкие имена. Это — важ-
ные сановники, гроссмейстеры, главные судьи, великие сене-
шали, великие адмиралы. Они разодеты, вылощены, в вы-
шивках, в галунах, в золоте. Родиться для жизни — значит
родиться для двора. Быть патриотом — значит быть лояли-
стом. Существовать — значит быть придворным. Все здесь
крупнее, шире, звучнее, нежели в других местах. Арагонцы1
держат вина в серебряных бочках, одевают свою милицию в
шелк и золото. Они устраивают пиры на 30 000 персон, тра-
тят 200 000 дукатов на один праздник, 17 000 дукатов на по-
хороны одной из своих принцесс. Во что бы то ни стало надо
ослеплять, поражать воображение чем-либо грандиозным,
изумлять его и овладевать им посредством чего-нибудь ги-
гантского и колоссального. Залы высоки, как церкви; сады
обширны, как леса; чувства беспрерывно вздымаются на хо-
дули. Никакой задушевности, никакого уединения, ничего
такого, что успокаивает, ничего, чтобы отдохнуть от этой ве-
ликолепной внешности, от постоянных церемоний, от вечно-
го представительства и официальности. Жизнь проходит на
глазах у всех, размеренно и с помпой, в показной обстановке
и для показной обстановки. Галуны и перья, парадные кос-
тюмы, велеречивые речи. И повсюду, во всем,— в архитек-
турных сооружениях, в празднествах, в трауре, в идеях и в
обычаях, в обстановке королевского ложа и в словах,— вез-
де показная сторона, парад, красноречие, рисовка, выставка
напоказ,— словом, то, что будет вскоре отмечено словом
«teatralita»2.
Пышностью и блеском, в особенности же строжайшим
этикетом, отличался двор испанский, по образцу которого
сложился и двор младшей линии Габсбургов в Австрии. При
испанском дворе особенно развились строгая торжествен-
ность и чопорная неподвижность церемониала, которому был
подчинен весь обиход королевской жизни, превратившийся
сам мало-помалу в полурелигиозный обряд. Последние Габс-
бурги на испанском престоле показывались своим поддан-
1 Арагонская династия.
2 Монье Ф. Кваттроченто. С. 536—538.
117
ным раз в неделю, чтобы лично принимать от них прошения,
и этикет требовал от государя неподвижности в позе и выра-
жении лица: это требование не распространялось только на
глаза и губы. При приемах грандов царствовали строго раз-
меренный порядок, тишина и безмолвие, причем и кавалеры,
и дамы должны были преклонять перед королем колени и це-
ловать его руку. Все времяпрепровождение короля было под-
чинено правилам, строжайшим образом соблюдавшимся те-
ми, кому надлежало следить за этикетом придворной жизни.
Вечером, отходя ко сну, король шествовал в покои королевы
в особом церемониальном костюме, состоявшем из черного
плаща и туфель, причем в одной руке он должен был де-
ржать шпагу, в другой щит. При Филиппе II королевской ре-
зиденцией был знаменитый Эскориал, своей мрачностью на-
поминавший не то тюрьму, не то монастырь, но его преемни-
ки устроили себе более удобные резиденции, сначала в
Вальядолиде, потом в Мадриде. Привлечение к королевско-
му двору аристократии началось в Испании еще при Ферди-
нанде и Изабелле, но особое развитие придворная жизнь по-
лучила в XVII ст., когда число лиц, живших на счет двора,
достигло чуть не 10 000 человек. В середине этого века двор
поглощал между прочим на придворные жалованья, пенсии,
подачки, удовольствия и т. п. более 1,5 млн дукатов, что рав-
няется 25—30 млн р. на теперешние деньги.
Во Франции сознательно политику привлечения феодаль-
ной знати к королевскому двору стал проводить Франциск I,
при котором впервые создается громадный и блестящий при-
дворный штат, при дворе появляются дамы, устраиваются
увеселения, но в то же время вводится церемониальный эти-
кет. Высшей точки своего развития придворный быт, как из-
вестно, достиг во Франции во второй половине XVII в., при
Людовике XIV. «Король-солнце» для своего двора создал да-
же целый город, Версаль, который должен был жить только
двором и для двора. Знаменитый Версальский дворец и его
громадный парк были окончены только в двадцать лет, не-
смотря на то, что ежегодно работали над королевскими соо-
ружениями десятка по два, по три рабочих, солдат и сосед-
них крестьян. В свой дворцовый город Людовик XIV сумел
привлечь все, что было наиболее знатного в тогдашней фео-
118
дальней аристократии, отводя своим гостям даровые кварти-
ры, создавая для них все новые и новые придворные должно-
сти с громадными окладами, раздавая пенсии, подарки и
т. п., доставляя им всевозможные удовольствия и развлече-
ния. Жизнь в Версале сделалась сплошным праздником, не-
прерывным пиром, все более и более заставлявшим старую
знать забывать родовые замки и поместья, а с ними и тради-
ции былых времен, когда каждый сеньор сам был маленьким
королем в своем поместье. Прежняя феодальная гордость со-
вершенно выветрилась в душах французевой знати и уступи-
ла место раболепству — из-за пустых титулов, почетных
должностей в королевской передней, в королевской кухне,
за королевским столом, в королевской опочивальне, из-за
пенсий и подарков, из-за простого доступа к обрядам, сопро-
вождавшим весь день короля от пробуждения до отхода ко
сну, из-за милостивого слова, наконец, из-за благосклонной
улыбки или кивка головой.
Стоит только у любого историка «старого порядка» во
Франции, касавшегося этого предмета, прочесть описание
того, как король просыпался, вставал с постели, одевался,
завтракал, обедал, ужинал, ложился спать, чтобы вполне со-
гласиться с шуткой Фридриха II, сказавшего, что, будь он
королем Франции, он назначил бы особого еще короля спе-
циально для проделывания требований придворной жизни.
Совершенно верно и замечание одного историка, нашедшего,
что после Людовика XIV король из когда-то «первого между
равными» среди феодальных герцогов и графов превратился
в первого придворного1. «Точно говоря,— по словам Тэна,—
ремесло короля — это ремесло актера, которому приходится
не сходить весь день со сцены», и одну церемонию вставания
короля и его утреннего выхода историк остроумно называет
«целой пьесой в пять актов». Мы знаем этот церемониал по-
тому, что он излагался в официальном ежегоднике «Etat de
la France», занимая в нем 50 страниц при 700 страницах, на
которых были расписаны все придворные чины. Даже пред-
метам королевского обихода требовалось оказывать особое
1 Отсылаю к известному труду: Тэн. Происхождение общественного
строя современной Франции. Т. I, кн. 2, гл. 1.
119
почитание. Так, привилегия подавать королю сорочку при-
надлежала только «детям и внукам Франции» (т.е. ближай-
шим родственникам короля) или принцам крови. Другой при-
мер — процессия, в которой несли «говядину Его Величест-
ва» из кухни на королевский стол: впереди шли два
гвардейца с метрдотелем между ними, затем дежурный ка-
мергер, затем несколько придворных чинов, несших само
блюдо, и все шествие замыкалось опять двумя гвардейцами.
Для приема королем лекарства устраивалась тоже церемо-
ния большого выхода, т.е. оповещались придворные, в при-
сутствии которых король и принимал прописанное ему сна-
добье. Все это Людовик XIV находил весьма естественным и
понятным и даже защищал с теоретической точки зрения не-
обходимость подобной обрядности. «Грубо ошибаются те,—
читаем мы в его собственных записках,— которые вообража-
ют, что это — простые церемонии. Народы, над которыми мы
царствуем, не умея проникнуть в суть дела, судят обыкно-
венно по внешности и большею частью соразмеряют свое
уважение и послушание с местом и рангом. Так как для об-
щества важно быть управляемым одним, то важно также,
чтобы тот, кто исполняет эту должность, был так возвышен
над остальными, дабы не было никого другого, с кем его
могли бы смешивать и сравнивать. Нельзя, не нанося вреда
государственному телу, лишить его главу мельчайших при-
знаков его превосходства, отличающего его от других чле-
нов».
С развитием придворной жизни Версаль поглощал чуть
не ежегодно все большие и большие суммы денег. Одно ко-
нюшенное ведомство обходилось Людовику XVI в 1775 г. в
4600000 ливров, а в 1787 г.— уже в 6 200 000 ливров, да
охота стоила около миллиона ста или двухсот тысяч. На стол
королевской семьи и всего персонала, находившегося в
непосредственном услужении у короля, уходило более
3 600000 ливров, причем одно вино стоило до 300 000 лив-
ров. На ремонт одной меблировки в 1778 г. потребовалось
почти 2 млн ливров. Громадные суммы поглощали еще коро-
левские щедроты в виде пенсий, рент, воспособлений, подар-
ков и т. п. Со своей стороны, придворные платили за все эти
милости самой приторной лестью. «Не довольствуются,—
120
писала знаменитая г-жа Севинье,— сравнивать его (Людови-
ка XIV) с Богом; его сравнивают еще таким образом, что яс-
но видно, что сам Бог — только копия».— «Кто примет в
расчет,— писал Лабрюйер,— что лицезрение государя со-
ставляет все блаженство придворных, тот немножко поймет,
каким образом лицезрение Бога составляет всю славу и все
блаженство святых». Герцог Ришелье однажды писал Людо-
вику XIV, что на коленях просит его дозволить являться вре-
мя от времени ко двору, «потому что,— мотивировал он
свою просьбу,— мне легче умереть, чем не видеть Ваше Ве-
личество в течение двух месяцев».
В царствование Людовика XIV Франция, как было уже
сказано, задавала тон всей Европе, и придворный быт рези-
денции французского короля сделался предметом подража-
ния даже для менее важных германских владетельных кня-
зей, строивших тоже свои Версали, заводивших у себя ту же
роскошь, тративших на нее равным образом большие суммы
и равным образом стремившихся приручить к придворной
службе местное дворянство. Военно-хозяйственный и не осо-
бенно расточительный ради придворного блеска абсолютизм
Гогенцоллернов в Пруссии был своего рода исключением из
общего правила, хотя и здесь приходится отметить Фридри-
ха I, первого короля Пруссии, как государя, тоже тянувшего-
ся за Людовиком XIV в устройстве своего придворного быта.
Понятно, что там, где король поистине делался первым
придворным, он не мог иначе смотреть на вещи, как глазами
придворного мира, совершенно оторвавшегося от остальной
нации, чтобы вести свою особую, прежде всего беспечную и
веселую жизнь. Монтескье находил, что монархия вырожда-
ется в деспотию, когда король стягивает всю страну к столи-
це, столицу — ко двору, двор — к своей личности, и это,
действительно, было одной из великих опасностей абсолют-
ной монархии. «Двор,— писал д’Аржансон,— в этом слове
заключается все зло. Двор превратился в сенат нашего госу-
дарства: самый ничтожный лакей в Версале — сенатор; гор-
ничные участвуют в управлении страной; если они и не из-
дают указов, то, по крайней мере, мешают исполнению зако-
нов и уставов, а из этих помех выходит то, что мы не имеем
ни законов, ни уставов, ни распорядителей. При Генри-
121
хе IV,— продолжает он,— придворные жили каждый в сво-
ем собственном доме и не были обязаны входить в разори-
тельные издержки, чтобы состоять при дворе, а потому ко-
роль не был обязан расточать им милости, как нечто долж-
ное, что мы видим теперь. Двор,— прибавляет еще с грустью
д’Аржансон,— это могила нации».
Двор, действительно, составлял ту среду, которая непосре-
дственно окружала носителя верховной власти, влияла на него
беспрерывно, внушала ему преувеличенные представления о
его власти, о его правах, о его личных качествах, развивала в
нем наклонности к своеволию и произволу, заставляла его
смотреть на государственные и общественные вопросы с изве-
стных, крайне узких точек зрения, внося дух интриги в дела
как внутренней, так и внешней политики. На дипломатиче-
ском языке XVIII в. слово «двор» сделалось синонимом «прави-
тельства» или «кабинета». Одним словом, это была весьма
видная политическая сила, направлявшая в ту или другую сто-
рону государственные дела, лучшим же определением того, в
каком направлении вершились дела в зависимости от придвор-
ных влияний и воздействий, будет указание на политическое
значение двора, как учреждения, самым фактом существова-
ния которого знаменовался союз политического абсолютизма
королевской власти с социальными привилегиями дворянства,
столь характерный, как мы знаем, вообще для всей внутренней
политики «старого порядка».
Другими словами, двор сам делался одним из главных оп-
лотов «старого порядка». Известно, каких опасных и влия-
тельных врагов встретил в придворных сферах министр-ре-
форматор Людовика XVI, Тюрго. Известно, что Неккер пал
потому, что в своем финансовом отчете обнародовал цифры
придворных трат. При версальском дворе прямо даже сложи-
лось убеждение, что иного порядка жизни, как установив-
шийся, и быть не может, и в конце концов двор сделался оча-
гом политического легкомыслия. «Невозможно,— писал уже
в эпоху революции известный английский агроном Артур
Юнг, посетивший Францию в эти годы,— найти такой безза-
ботности и такой глупости, какие обнаруживает здешний
двор. Настоящий момент требует самого внимательного об-
суждения и самой серьезной решимости, а между тем, вчера,
122
в то самое время, как обсуждают вопрос, оставаться ли ко-
ролю по-прежнему королем Франции или же превратиться в
нечто вроде венецианского дожа, этот король находился на
охоте». Понятно, что при этом дворе иначе не могли отне-
стись к перестройке внутренних отношений Франции, нача-
той в 1789 г., как с величайшей неприязнью. Здесь и образо-
вался, как известно, главный штаб контрреволюции, защит-
ников абсолютизма, являвшегося в глазах придворных и
привилегированных обеспечением того, что все выгоды, свя-
занные с придворным бытом и принадлежностью к дворян-
скому сословию, останутся неприкосновенными, если только
королевская власть сохранит свою неограниченность. Не
подлежит сомнению, что вмешательство в события 1789 и
следующих годов со стороны придворных сфер было одной
из причин бурного поворота, принятого этими событиями.
Глава IX
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АБСОЛЮТНОЙ МОНАРХИИ
Эпохи обычного права и законодательной деятельно-
сти государства.— Участие обществе/нных сил в законо-
дательном творчестве и законодательство бюрократи-
ческое.— Роль средневековых сословно-представитель-
ных учреждений в издании новых и отмене старых
законов.— Рецепция римского права и влияние последне-
го в новой Европе.— Правило «quod principi placuit, legis
habet vigorem».— Порядки издания законов в разных го-
сударствах Западной Европы в эпоху абсолютной монар-
хии.— Роль французских парламентов в истории законо-
дательной деятельности королевской власти.— Главные
недостатки этих порядков и попытки их реформиро-
вать.— Законодательные порядки XIX в. до введения но-
вых конституций.— Развитие юриспруденции и кодифи-
кационные попытки при «старом порядке»
Абсолютная монархия утверждалась на Западе в такие
эпохи жизни отдельных его народов, когда более или менее
совершающаяся перестройка внутренних отношений обще-
123
ства постоянно сопровождалась значительным ростом всяко-
го рода в них осложнений, что требовало от государства уси-
ленной законодательной деятельности.
На ранних ступенях быта, отличающихся простотой и не-
сложностью общественных отношений и относительной не-
подвижностью общего уклада жизни, для государственного
законодательства нет и не может быть места. В жизни каж-
дого народа мы всегда с большей или меньшей, хотя бы и
приблизительной только точностью, можем отметить мо-
мент, когда государство начинает законодательствовать и к
обычному праву, сложившемуся путем постепенно накопляв-
шихся прецедентов, которые в общественном сознании полу-
чали нормативный характер, присоединяется еще государст-
венный закон, имеющий свой источник в сознательном и
преднамеренном волеизъявлении власти в целях определен-
ного воздействия на общество1. В своей законодательной ро-
ли государство на первых порах ограничивается лишь пись-
менным закреплением обычного права, что, однако, не обхо-
дится без известного пересмотра отдельных его норм и без
внесения в него тех или других частных изменений, диктуе-
мых теми или другими потребностями жизни. Несмотря на
всю свою, если так можно выразиться, текучесть, в противо-
положность отверженности продуктов государственного за-
конодательствования, обычное право отличается большим
консерватизмом, как и всякая иная народная традиция, сло-
жившаяся чисто эволюционным путем, особенно если тради-
ция получает религиозную санкцию, что всегда более или
менее присуще и обычному праву2. На первых порах сама го-
сударственная власть находится под влиянием правовых
обычаев и преданий общества и своим отвержением их в
письменном виде только стремится сохранить их силу и на
будущее время. Таково происхождение всех ранних писаных
законов, этих своего рода кодексов обычного права, начиная
с древнейшего из них, какой мы только знаем, сборника за-
конов вавилонского царя Хаммурапи3, и кончая теми средне-
1 Государство-город. С. 48 и след.
2 Там же. С. 50—51.
3 Монархии. С. 70.
124
вековыми «варварскими правдами»1, к числу которых можно
отнести и нашу Русскую Правду. Нет нужды, что такие сбор-
ники могли иногда возникнуть по частной инициативе, ибо
самое важное здесь’— это признание их, хотя бы и молчали-
вое, со стороны государственной власти, как действующего
права. И с началом уже чисто государственного законода-
тельствования, какое мы наблюдаем, например, в деятельно-
сти греческих эсимнетов2 или децемвиров для написания за-
конов в Риме3, чисто обычное право продолжает существо-
вать и регулировать важные гражданские отношения.
Особенно велика всегда его сила в жизни сельского населе-
ния страны, и, например, весь средневековой крестьянский
строй, вся социальная сторона феодализма находилась под
властью обычного права, весьма притом разнообразного по
местам и большей частью остававшегося вне сферы какого
бы то ни было воздействия со стороны государства4. Каждая
деревня, каждое поместье могли иметь свои особые обычаи,
которые и возникали, и падали не в силу формальных поста-
новлений какой-либо предержащей власти, а так, как нарож-
даются и исчезают всякие иные обычаи, путем накопления
или убывания прецедентов. Лишь в самом конце Средних ве-
ков обычное право стало фиксироваться, самым рельефным
примером чего является редактирование так называемых ку-
тюм во Франции, начавшееся в середине XV в. по инициати-
ве центрального правительства5.
Об обычном праве можно еще сказать, что его твцрит
сам народ. Конечно, это не следует понимать так, как/пони-
малось оно в старой исторической школе юриспруденции,
полагавшей, что в народном духе изначально заложены ка-
кие-то высшие начала правды, составляющие содержание
всего народного правосознания и лишь постепенно раскрыва-
ющиеся с дальнейшим движением жизни. Нет, данное поло-
жение нужно понимать в том смысле, что творчество права
здесь еще не оторвано от деятельности самого народа и не
1 Поместье-государство. С. 16.
2 Государство-город. С. 80.
3 Там же. С. 82—83.
4 Поместье-государство. С. 100.
5 Там же. С. 308 и ниже в этой же главе.
125
сосредоточилось в каком-либо совершенно от него обособ-
ленном и вне его поставленном органе. Пусть в создании
обычного права главная и руководящая роль,— по крайней
мере в известных его сторонах, принадлежит лишь более со-
знательной, более влиятельной, более организованной и бо-
лее активной части общества, какому-либо одному сословию
или классу1, но это все-таки есть само общество, а не кто-то
вне его и над ним стоящий, имеющий право ему приказы-
вать. Тот же характер народного, или общественного (хотя
бы и классового) участия в творчестве права сохраняется за
последним и тогда, когда начинается сознательная и предна-
меренная законодательная деятельность государства, раз
только само государство построено на участии в его работе
самих управляемых. Одним из признаков человека, который
у древних греков носил почетное звание гражданина, Ари-
стотель в своей «Политике» прямо считает участие в законо-
дательной власти2, и одна из существеннейших сторон поли-
тической свободы состояла в том, что сам народ, в смысле
совокупности полноправных граждан, давал себе законы:
стоит только вспомнить афинское вече, экклесию, в которой
существовала даже строго выработанная законодательная
процедура3, или римские народные собрания, комиции, где
тоже принимались законодательные постановления, т.е. за-
коны в тесном смысле (leges), или так называемые плебисци-
ты, имевшие такую же силу, как и законы4. Правда, в Риме
право творили еще и некоторые должностные лица, магист-
раты, в особенности преторы5, равно как специальные знато-
ки права, юриспруденты6, но первые, т.е. магистраты, полу-
чали свои полномочия от народа и могли действовать только
в рамках закона, тогда как вторые, юриспруденты, пользова-
лись авторитетом опять-таки лишь в силу общественного к
ним доверия. Только с установлением в Риме империи изме-
нилось такое положение дел. С прекращением комиций пре-
1 Государство-город. Гл. X.
2 Там же. С. 124—126.
3 Там же. С. 338—341.
4 Там же. С. 144—145.
5 Там же. С. 46. Преторы издавали эдикты; Монархии. С. 294.
6 Монархии. С. 296.
126
кратилась и законодательная деятельность народа1, и его ме-
сто в деле издания законов заступает император, на которого
даже формально было перенесено право делать постановле-
ния, имеющие силу настоящих законов2. Действия новой
власти не избегли и те старые органы правосозидания, каки-
ми были преторы и юристы. Своим фиксированием претор-
ского эдикта император Адриан остановил дальнейшее его
развитие3, а тем, что право давать авторитетные ответы и
тем определять правовые нормы стало рассматриваться как
специальная привилегия, даваемая тем или другим правове-
дам лишь по усмотрению императора, и свободе ученого за-
коноведения был нанесен удар4. Для последних времен импе-
рии не может быть уже и речи о каком бы то ни было уча-
стии независимых общественных сил в законодательной
деятельности государства, ибо законом становится лишь то,
что исходит из воли самого государя5. Понятно, однако, что
император не мог отправлять законодательную функцию го-
сударства единолично: чтобы издать какое-либо общее поста-
новление, которое распространялось бы на всю империю, он
нуждался в советниках, в помощниках, в особой канцелярии,
где новый закон был бы составлен, подвергнут обсуждению,
получил бы окончательную редакцию6. В истории римского
законодательства эпоха империи была эпохой его постепен-
ной бюрократизации, т.е. перехода этой важнейшей отрасли
государственной деятельности в руки чиновничества, без ка-
кого бы то ни было участия независимых общественных сил.
Высшим проявлением этой бюрократизации законодательст-
ва мы, конечно, должны признать ту комиссию, которая по
повелению Юстиниана Великого под председательствомуТри-
бониана собрала римские законы в одно целое, названное
впоследствии «Corpus juris civilis»7. В абсолютной монархии,
пожалуй, и не может быть иного способа издания законов,
1 Монархии. С. 240.
2 Там же. С. 253 и след.
3 Там же. С. 295.
4 Там же. С. 297.
5 См. выше. С. 21.
6 Монархии, с. 300—301, 274 и след.
7 Там же. С. 301.
127
как этот, чисто бюрократический, способ, и нашей задачей в
настоящей главе будет рассмотреть, как справлялась с этим
трудным делом западноевропейская абсолютная монархия
Нового времени.
Если мы отвлечемся на минуту от истории Запада, что-
бы взять для примера более известные нам русские анало-
гии, то невольно вспомним, с одной стороны, «Свод законов
Российской империи», составленный Сперанским при Нико-
лае I, а с другой — «Соборное уложение» царя Алексея Ми-
хайловича, самым своим названием указывающее на небю-
рократическое свое происхождение. В XVII в., когда было
составлено это Уложение, Московское государство было
своего рода сословной монархией1, в которой было особое
представительное учреждение, Земский собор, в данном
случае и принявшее участие в законодательном уложении.
То же самое было и на Западе, где в эпоху сословной мо-
нархии законом считалось только то, что принималось с об-
щего согласия государя, знати и народа2. Английский судья
Брайтон уже в эпоху возникновения парламента определял
закон как постановление, принятое королевской властью с
совета и согласия вельмож и народа (legis habet vigorem
quidquid de consilio et consensu magnatum et reipublicae com-
muni sponsione auctoritate regis juste fuerit definitum), и дву-
мя столетиями позже, т.е. в XV в., то же самое повторил
и развил в целую теорию ограниченной монархии другой
англичанин, Фортескью, в своей «Похвале английским за-
конам»3. Этот принцип участия общественных сил в зако-
нодательстве только что названный писатель прямо про-
тивополагал принципу неограниченной монархии, формули-
рованному римскими юристами императорского периода и
принимавшемуся французскими законоведами, современни-
ками Фортескью. В Германии в эпоху процветания ландта-
гов тоже считалось за очевидную истину, что новые законы
могут устанавливаться (и отменяться старые) только по со-
вету и с согласия чинов (mit Vollwort und Rath der Stande)
1 Поместье-государство. C. XLIX—LII особой нумерации.
2 Там же. С. 202 и др.
3 Там же. С. 210 и 213—215.
128
или «с ведома и по воле земли» (mit Wissen und Willen der
Landschaft). Французским Генеральным штатам не удалось
добиться прочного участия в законодательной деятельности,
но и в них по временам обнаруживалась тенденция рассмат-
ривать себя как учреждение, без согласия с которым король
не имеет права издавать законы. Например, во второй поло-
вине XVI в., когда Генеральные штаты совершенно явно вы-
ступили против королевского абсолютизма, развивалась та
мысль, что нужно различать между законами короля и зако-
нами государства, что первые суть только временные распо-
ряжения, тогда как вторые имеют значение постоянных по-
становлений, и что раз относительно таких законов состоя-
лось соглашение между тремя чинами государства, нет
никакой нужды в подтверждении их еще и королем.
Какие различия ни существовали бы между отдельными
сословно-представительными учреждениями конца Средних
веков, они, эти учреждения, давали возможность участво-
вать общественным силам в законодательной деятельности
государства. Нужно, однако, с другой стороны, отметить, что
это участие в громадном большинстве случаев было плохо
организовано. Начать с того, что по общему, так сказать,
правилу собрания государственных чинов пользовались
лишь совещательным голосом, причем законодательная ини-
циатива существовала только в форме прошений (петиций) к
королевской власти. Менее всего в законодательном отноше-
нии имели значения французские Генеральные штаты, влия-
ние которых на действия правительства выражалось разве
лишь в том, что в жалобах и пожеланиях штатов правитель-
ство находило известный материал, которым и пользовалось
потом при составлении по собственному усмотрению своих
ордонансов1. Далее, даже в тех случаях, когда за сословиями
не оспаривалось право принимать влиятельное участие в из-
дании законов, как это было, например, в Англии, с парла-
ментскими статутами конкурировали, в качестве общеобяза-
тельных постановлений, королевские указы: известно, сколь-
ко из-за этого еще в XVII в. английскому парламенту
пришлось бороться с королевской властью, считавшей своим
1 Поместье-государство. С. 239.
129
правом, сверх этого, временно приостанавливать действия
законов («суспендивная власть») или делать из них частные
изъятия для отдельных лиц или категорий населения («дис-
пенсивная власть»). Наконец, опыт современных представи-
тельных учреждений учит нас, какое громадное значение
имеет техническая сторона законодательства, а она-то имен-
но особенно и хромала в средневековых сословных сеймах.
Из всех этих учреждений один только английский парламент
выработал прочную и определенную процедуру законода-
тельной работы1: та или другая палата составляет готовый
законопроект (билль), который, будучи принят обеими пала-
тами, восходит на королевское утверждение, причем король
может отказать в своем на него согласии, но не имеет права
делать в нем какие бы то ни было изменения.
Общие недостатки, присущие сословно-представитель-
ным учреждениям2, отразились и на их законодательной де-
ятельности: их строго сословный состав, их отчужденность
от народных масс, конкуренция с ними местных сословных
сеймов, краткость сроков, на какие они созывались, а неред-
ко и продолжительность промежутков времени между двумя
созывами — все это делало их мало работоспособными в
вопросах, в которых нужно было возвышаться над сословны-
ми и местными интересами и предрассудками во имя общего
блага и которые требовали долговременной, постоянной и
непрерывной работы. Там, где общественные силы действо-
вали плохо или бездействовали вовсе, работу брала на себя
нарождавшаяся бюрократия, менее считавшаяся с сословны-
ми и местными привилегиями, а потому и менее во многих
вопросах консервативная, более свыкавшаяся с требования-
ми новой государственной жизни, а главное — прочно орга-
низованная и дисциплинированная, призванная к непрерыв-
ному и постоянному действованию, дававшему опытность в
делах, развивавшему известные навыки, коих были лишены
представители общественных сил. Государственная служба
на известных ступенях чиновничьей иерархии требовала
юридических знаний, а их можно было почерпнуть только из
1 Поместье-государство. С. 277—278.
2 Там же. С. 199 и след.
130
изучения римского права, преподававшегося в университе-
тах. В конце Средних веков на Западе,— где раньше, где по-
зже,— происходила так называемая рецепция римского пра-
ва, когда вслед за включением его в круг предметов высшего
преподавания оно стало применяться и в самой жизни. Обе
первенствующие системы Средних веков — католицизм, от-
рицавший самостоятельность государства своим требовани-
ем подчинения светской власти главе церкви, и феодализм,
разлагавший государство на почти суверенные поместья,—
нашли в «законниках» (легистах, как их называли во Фран-
ции) принципиальных противников, поскольку каждой из
указанных систем наносился удар государственному началу
и умалялись права государственной власти в римском ее по-
нимании. Юристы, смотревшие на происхождение закона
глазами Брайтона и Фортескью, были редким исключением,
да и то оба названные юристы были уроженцами страны, ко-
торой миновала рецепция римского права. На император-
ской, королевской или княжеской службе новые законники в
качестве их советников, чиновников, судей и т. п. проводили
идею монархической власти как единственного в светских
делах источника всякого права и всякого закона. То самое
побуждение, которое заставляло некоторых религиозных ре-
форматоров XVI в. или некоторых представителей «филосо-
фии» XVIII ст. искать, для проведения в жизнь своих идей1,
покровительства и помощи государей, действовало и в дан-
ном случае, т.е. приводило юристов, изучавших римское пра-
во, к мысли о необходимости работать заодно с монархией,
укрепляя ее, с одной стороны, и пользуясь ею, с другой сто-
роны, для проведения в жизнь чуждых католико-феодально-
му строю юридических начал.
Сословно-представительные учреждения были большей
частью лишены этого интеллектуального сотрудничества:
оно почти всецело было на стороне королевской власти, ко-
торая, в свою очередь, нуждалась в знающих и умелых слу-
гах, одинаково притом в деле законодательства как более
опытных, так и более податливых, нежели сословные пред-
ставители. Вся основа их политической теории заключалась
1 См. ниже, в гл. XVI—XIX.
131
в признании за государем значения высшего источника вся-
кого права в духе изречения: «Quod principi placuit legis
habet vigorem». В XV в. английский юрист Фортескью, вос-
питанный в совершенно ином круге понятий, косвенно поле-
мизировал против своих континентальных товарищей по
профессии, а они, со своей стороны, плохо понимали иное
представление о законе. Мало-помалу римский принцип
восторжествовал в жизни континентальных государств, но
для практического осуществления этого принципа требова-
лись особые, исключительно или, по крайней мере, главным
образом для законодательства созданные, учреждения, к об-
зору которых по разным странам мы теперь и перейдем.
Во Франции при старой монархии особого учреждения, ко-
торое ведало бы только одно законодательство, равно как и
единого порядка издания законов, не существовало1. Королев-
ские указы, т.е. ордонансы и эдикты, и вообще все акты, не-
посредственно исходившие от верховной власти, обыкновенно
переходили через руки канцлера, который вместе с тем боль-
шей частью был и «хранителем (большой и малой) печатей»
короля (garde des sceaux), решались же дела королем самыми
различными способами и по совещании то с одними лицами, то
с другими. Королевский, или Государственный, совет (conseil
du roy, conseil d’etat) не только менялся в своем составе по ро-
ду рассматриваемых дел, но даже получал различные наимено-
вания, как, например, в случае обсуждения чисто политиче-
ских дел он назывался «высшим советом» (conseil d’en haut),
«тесным советом» (conseil etroit), «тайным советом» (conseil se-
cret), «кабинетским советом» (conseil de cabinet), а не то все
эти «советы» заменялись частными совещаниями двух-трех
министров, королевских фаворитов и т. п., что вообще нередко
лишало правительственные мероприятия внутреннего единст-
ва или строгой последовательности.
Аналогичное явление совещания короля лишь с несколь-
кими приближенными, фаворитами данной минуты, мы на-
блюдаем и в Англии в эпоху Стюартов, когда королевская
1 Специально о законодательной власти во Франции см.: Petiet. Du
pouvoir Idgislatif en France ddpuis I’avenement de Philippe le Bel jusqu’ en
1789.
132
власть стремилась обходить старинный Тайный совет (privy
council) с его независимыми по своему положению в государ-
стве участниками, для того чтобы следовать советам более
угодливых и послушных любимцев. Правда, в Англии законо-
дательная функция принадлежала парламенту, но очень мно-
гие важные дела по обычаю решались в Тайном совете, быв-
шем поэтому главным центром управления. В числе причин
неудовольствия Стюартами их пренебрежение к Тайному со-
вету даже играло некоторую, и притом не второстепенную
роль, а с другой стороны, выделение из Тайного совета более
ограниченного состава советников под названием «кабинета»
подготовило образование того министерства, которое в
XVIII в. сделалось органом парламентского большинства1.
Во Франции тоже значение главных советников короны пе-
решло от Королевского совета к немногим должностным ли-
цам, в ведении которых очутились отдельные отрасли управ-
ления. Особенно в этом отношении сильно сказалось на
судьбах Королевского совета продолжительное нахождение
у власти, в качестве не только первого, но и единственного
министра, кардинала Ришелье.
Именно одной из мер кардинала по отношению к Коро-
левскому совету было сокращение в нем числа тех членов,
которые в нем заседали не по королевскому назначению, а
по праву рождения или по высокой государственной должно-
сти, и соответственное увеличение числа советников, назна-
чавшихся самим королем2. При своем властном характере
кардинал наполнял совет людьми, первым качеством кото-
рых было послушание, и, конечно, при таком составе он не
только не урезывал компетенции совета, но даже охотно ее
расширял. Усиление значения совета, но как вполне зависи-
1 Народно-правовое государство. С. 61, 71 и след.
2 Аналогичное явление представляет собой история Королевского сове-
та и в Испании. Первоначально он состоял из главных сановников (граж-
данских и военных), должности которых передавались по наследству. Фер-
динанд и Изабелла, оставляя за грандами их должности и титулы, стали
действительные правительственные функции поручать чиновникам из лет-
радов (см. выше, с. 64), назначавшихся королевской властью. Мало-пома-
лу, еще при Фердинанде и Изабелле, число их стало превышать в Королев-
ском совете число грандов, и совет превратился в послушное орудие вы-
сшей власти.
133
мого органа королевской власти, имело своим результатом и
превращение прежних канцелярских чиновников совета, на-
зывавшихся Государственными секретарями (secretaires
d’etat), с течением времени, в руководителей самого совета,
как бы настоящих министров1.
Рассматривая здесь некоторые факты из истории Коро-
левского совета во Франции, мы касаемся не только вопроса
об организации во Франции законодательной власти, но и
вопроса о центральном управлении вообще. Дело, однако, в
том, что эти две области не были одна с другой разграниче-
ны, и следовательно, один вопрос нельзя совершенно отде-
лить от другого. Мало того, историю законодательной власти
во Франции совершенно нельзя отделить и от истории выс-
ших судебных учреждений в этой стране, известных под на-
званием парламентов. В их организации и компетенции мы
наблюдаем в высшей степени своеобразные черты, которые
делают из них явление, довольно-таки исключительное, ни-
коим образом не типичное, что, однако, не мешает нам здесь
остановиться на истории этого учреждения ввиду того, что
оно приобрело и даже сохранило в эпоху королевского абсо-
лютизма право на некоторое участие в законодательстве,
правда, не в качестве даже совещательного органа, а органа,
имевшего возможность тормозить правильное течение зако-
нодательной деятельности государства.
Парламентами во Франции назывались высшие судебные
палаты, из которых самой важной по своему значению была
столичная палата, знаменитый Парижский парламент, имен-
но и игравший роль тормоза в законодательной процедуре.
Это учреждение и его роль так характерны, что на них сле-
дует остановиться несколько дольше, хотя функции парла-
мента были более широкими, чем функция законодательного
тормоза.
Парижский парламент возник из «королевской курии»
феодальной эпохи, т.е. из съезда ко двору короля его васса-
лов для важных совещаний и высшего суда2. При Людови-
ке IX, значит, еще в середине XIII в., из королевской курии
1 См. в след, главе.
2 Поместье-государство. С. 143.
134
выделяется чисто судебное учреждение, которое и получает
название парламента. Любопытно, что в то же самое время
это слово, обозначавшее место, или собрание, «где гово-
рят», было применено в Англии к «великому совету» коро-
ля, из которого впоследствии образовалась верхняя палата
английского парламента, а в Италии — к непосредственным
собраниям граждан. Постоянным учреждением, а не собра-
нием, созывавшимся по мере надобности, Парижский парла-
мент сделался в самом же начале XIV ст. и весьма скоро,
благодаря увеличению и усложнению своей деятельности,
разделился на три отдельные палаты: так называемую
«большую палату» (grand’ chambre), бывшую апелляцион-
ной инстанцией для низших судов, рекетную палату (cham-
bre de requetes), судившую в известных случаях в качестве
первой инстанции, и «анкетную палату», подготовлявшую
дела для «большой». Чисто судебный характер учреждения
потребовал постоянного присутствия в нем юристов, и дей-
ствительно, в состав парламента вошли «легисты», законни-
ки, специалисты по вопросам права1. Сначала это были
здесь лишь юрисконсульты и составители докладов по де-
лам, рассматривавшимся в парламенте, потом — уже прямо
королевские судьи, когда сеньоры поняли, что судебные
тонкости им самим не по плечу. Как носители судебной вла-
сти, имевшей свой источник в короле (toute justice emane
du roi), эти судьи стали одеваться в широкие одеяния, робы
(robes), красного цвета с горностаевой отделкой, бывшие
как бы подобиями царственной порфиры короля. В сущно-
сти, легисты скоро совершенно заполонили парламент, ибо
прежние его феодальные члены, «пэры»2, стали появляться
в заседаниях лишь в особо торжественных случаях, да ког-
да судился кто-либо из их товарищей. Так как парламент-
ские легисты были настоящими королевскими чиновниками
(gens du roi), мы имеем право сказать, что первая важная
перемена в истории Парижского парламента заключалась в
превращении его из феодального учреждения — в учрежде-
ние бюрократического характера. Скоро установилась связь
1 Ср. выше, с. 70.
2 Поместье-государство. С. 123, 142 и 143.
135
между парламентскими легистами и теми легистами, кото-
рые занимали на королевской службе административные
должности превотов, бальивов, сенешалов, и благодаря их
стремлениям парламент как раз и сделался апелляционной
инстанцией для всех местных судов, в том числе и феодаль-
ных. Таким образом, Парижский парламент сыграл важную
роль в истории централизации власти во Франции. По об-
разцу Парижского парламента в XV в. были основаны про-
винциальные, каковы тулузский, гренобльский, бордоский,
дижонский и др.1, но подчиненные их юрисдикции области
были гораздо меньшими, чем территория парламента сто-
личного.
Учреждение судебное по преимуществу, Парижский пар-
ламент играл некоторую роль и в административном отно-
шении2, и им же также пользовалась королевская власть
для объявления своих ордонансов (указов). Здесь произво-
дилась и их регистрация, т.е. они заносились в особый спи-
сок; это было одной из обязанностей парламента, на кото-
рую сам он стал потом смотреть как на свое право (droit
d’enregistrement). В Средние века обычные факты вообще
делались прецедентами, становившимися, в свою очередь,
основанием для возникновения какого-либо права. Так про-
изошло и в данном случае. «Королевские люди», заседавшие
в парламенте, прониклись убеждением, что парламент есть
старинная королевская курия, с которой государь должен
советоваться. Если членам парламента принадлежит право
регистрации королевских ордонансов, то он, значит, может
им в этом и отказывать, конечно, под условием представле-
ний, или «ремонстранций» (remonstrances) королю, где объ-
яснялось, например, что указ противоречит другим законам
или заключает в себе такие-то и такие-то неудобства. Так
как короли иногда принимали подобные возражения, то и
это сделалось правом (droit de remonstrances). Когда, одна-
ко, король настаивал на своем, для принуждения парламен-
та к регистрации устраивалось торжественное тронное засе-
1 Начало основания провинциальных парламентов было положено Кар-
лом VII, что было сделано к великому неудовольствию Парижского парла-
мента.
2 См. ниже в гл. X.
136
дание, известное под названием «lit de justice»1; король, ок-
руженный пэрами парламента, высшими сановниками и
придворными чинами, лично являлся в «большую палату» и
приказывал исполнить высочайшую волю; в таком случае, в
присутствии короля, члены парламента, как бы на время те-
ряя принадлежащую им власть, источником которой был ко-
роль, должны были беспрекословно повиноваться. Первый
случай такого тронного заседания относится еще к XIV в.,
последний был накануне революции, т.е. обычай просущест-
вовал около четырех с половиной веков.
По мере того как усиливалась королевская власть2, она
все более и более стремилась отнять это право парламента
вмешиваться в законодательную деятельность. Например,
однажды (1462) Людовик XI прямо напомнил парламенту,
что он учрежден для отправления правосудия и потому не
должен касаться других дел. Когда к Франциску I явилась
парламентская депутация с протестом против заключенного
этим королем в Болонье конкордата с папой Львом X (1516),
Франциск I ей заявил, что он король и требует, чтобы ему
повиновались, и что если посланные немедленно не доведут
до сведения своих товарищей об его непреклонной воле, то
он посадит их в тюрьму. Ришелье в своем «Политическом за-
вещании»3 писал, что «судьи должны судить и только» и что
«нельзя позволять им вмешиваться в законодательство госу-
дарственное». Рассказ о появлении Людовика XIV в охот-
ничьем костюме и с хлыстом в руках в парламенте, отказы-
вавшем ему в повиновении, относится к числу легенд, но
факт все-таки такой был, что еще при жизни Мазарини
юный король очень строго заявил членам парламента, что он
не потерпит обсуждения ими правительственных мероприя-
тий. В 1665 г. парламент задумал было воспользоваться сво-
им правом протеста и не решился: члены собрались, но, бо-
ясь арестов и ссылок, никто не осмеливался заговорить, так
1 Буквально «ложе правосудия», так как в заседание приносилось для
короля подобие дивана с подушками, почему по-русски иногда переводят
этот термин как «подушечное заседание».
2 В книге Hitier «La doctrine de 1’absolutisme» (1903) есть интересная
глава (с. 138—151) под названием: «L’absolutisme et les parlements».
3 См. о нем в гл. XVIII.
137
что посидели-посидели молча, и когда один из членов встал
и вышел, то и другие последовали его примеру. Через не-
сколько лет после этого Людовик XIV и формально запретил
парламенту делать ремонстранции.
Тем не менее Парижский парламент и в XVIII в. продол-
жал еще играть роль и даже вступал в острую борьбу с ко-
ролевской властью. Нужно заметить, что, начиная с Франци-
ска I, который, нуждаясь в деньгах, продавал государствен-
ные должности в собственность, парламенты стали
превращаться из бюрократических учреждений в наследст-
венно-аристократические: можно было за деньги купить дол-
жность члена парламента, как любую собственность, кото-
рая затем могла переходить по наследству, завещаться, про-
даваться и т. п. Благодаря этому во Франции рядом со
старой, феодальной или военной знатью, «знатью шпаги»
(noblesse d’epee), образовалась новая знать, «знать робы»
(noblesse de robe), наследственная магистратура, отличи-
тельным признаком которой была упомянутая выше роба.
Эта перемена создала для высшего судебного сословия одно
из важнейших условий судейской независимости — несме-
няемость. Неограниченная монархия, таким образом, вынуж-
дена была терпеть около себя самостоятельные корпорации
наследственных судей: каждого из них и всех их вместе
можно было, пожалуй, сослать куда угодно, но прогнать с
занимаемого места было нельзя, потому что это значило бы
отнять наследственную должность, нарушить право собст-
венности. Этой своей несменяемостью члены парламента
пользовались в XVIII в. широко, прибегая к настоящим заба-
стовкам, когда в чем-нибудь не ладили с правительством, как
это случалось и при Людовике XV, и при Людовике XVI.
Опираясь на старые традиции «регистрации» и «ремонстран-
ций», при обоих этих королях парламенты то и дело вступа-
ли в борьбу с правительственной властью, сплошь и рядом
тормозя ее законодательную деятельность.
Сознательно определенную политическую роль Париж-
ский парламент задумал играть еще в малолетство Людови-
ка XIV, когда происходили смуты так называемой «Фронды».
По старому закону о продаже должностей король в случае
покупки должности одним лицом от другого получал от про-
138
давца треть цены, и если продавец умирал раньше сорока
дней после состоявшейся сделки, должность возвращалась к
королю. В начале XVII в. это ограничение было уничтожено
под условием ежегодной пошлины в одну шестидесятую (не-
много более 1,5%) дохода от должности1. В малолетство Лю-
довика XIV правительство за подтверждение этой привиле-
гии потребовало большой платы, и тогда парламент, Счетная
палата (cour de comptes), Податная палата (cour des aides) и
еще одно подобное же центральное учреждение, сродные по
устройству парламенту и титуловавшиеся «cours sou-
veraines», т.е. «верховными куриями», заключили между со-
бой в 1648 г. союз (arret d’union), к которому примкнула и
провинциальная «noblesse de robe», с целью заступить в стра-
не место Генеральных штатов. Из попытки этой ничего не
вышло; наследственная магистратура скоро пошла на миро-
вую с правительством и не настаивала более на своем проек-
те, но в сущности этот проект был не чем иным, как намере-
нием ограничить королевскую власть в пользу наследствен-
но-чиновничьей олигархии. Мы только что видели, что затем
Людовик XIV совершенно смирил парламент: при нем «вер-
ховные палаты» даже утратили это свое название, чтобы
превратиться в простые только «высшие палаты» (cours
superieures, а не cours souveraines).
Парижский парламент тем не менее продолжал смотреть
на себя как на учреждение с политическими правами, заме-
няющее собой Генеральные штаты. На самом деле ему до
этого было далеко, раз в нем заседали не выборные предста-
вители сословий, а члены особого наследственного сословия,
«noblesse de robe», и раз по самому существу дела это было
учреждение судебное, а не законодательное. Едва не стало
«короля-солнца», как парламент кассировал его духовное за-
вещание2 и распорядился регентством за малолетством коро-
левского правнука, Людовика XV. Объявленный регентом
герцог Филипп Орлеанский возвратил парламенту право де-
лать ремонстранции, чем тот и не замедлил воспользоваться.
1 По имени лица (Paulet), предложившего этот налог, он стал назы-
ваться поллетой (la paulette).
2 Ср. выше, с. 100.
139
Начались столкновения между наследственной магистрату-
рой и властью, столкновения, приводившие, с одной сторо-
ны, к арестам и ссылкам, а с другой, к забастовкам. В общей
политике эпохи парламенты занимали консервативную пози-
цию, и немало сочинений «философов» XVIII в. было сожже-
но, по приказанию парламента, рукой палача, но вместе с
тем они все более и более делались оппозиционными, неред-
ко ставя препоны всем хоть сколько-нибудь прогрессивным
мероприятиям правительства. В середине XVIII в. состави-
лась даже целая теория, рассматривавшая все парламенты
как солидарные между собой отделения, или «классы» едино-
го для всей страны учреждения, без согласия которого не мо-
жет быть издано ни одного закона, и даже писались сочине-
ния, доказывавшие изначальность прав парламента чуть не
со времен самого основания франкской монархии. В 1763 г.
Парижский парламент, протестуя против новых эдиктов о
налогах, прямо объявил, что обложение, вынужденное в
тронном заседании (lit de justice), есть не что иное, как пол-
ное ниспровержение самых основных законов королевства1.
Особенно резкий характер приняло столкновение 1770—
1771 гг.2, когда парламент по одному частному поводу проте-
стовал против стремления двора «низвергнуть старое госу-
дарственное устройство и лишить законы их равной для всех
силы», а Людовик XV издал грозный эдикт против узурпации
парламентами не принадлежащих им прав с запрещением
парламентам сноситься между собой и прерывать отправле-
ние правосудия. «Мы,— говорил Людовик XV в этом эди-
кте,— держим власть нашу исключительно от Бога, и право
издавать законы, которыми должны управляться наши под-
данные, принадлежит нам вполне и безраздельно». Так как
парламент опять протестовал, то канцлер Мопу (Мореои) ре-
шился на полную отмену парламента и на учреждение на его
место новых судов. Эта радикальная мера была одинаково
непопулярна и в консервативных, и в прогрессивных кругах
общества: для одних парламент был оплотом всяких приви-
легий, для других — все-таки сдержкой деспотизма, бывшие
1 Об основных законах см. выше, с. 99.
2 Рассказ о нем: История Западной Европы. Т. III. С. 416 и след.
140
же члены парламента большей частью отказывались от пред-
лагавшегося им выкупа у них казной утраченных ими долж-
ностей.
Людовик XVI, как известно, по вступлении на престол, в
виде меры, долженствовавшей снискать ему особую попу-
лярность в нации, восстановил парламенты, но едва ми-
нистр-реформатор Тюрго приступил к реформам, как со сто-
роны парламента оказано было сопротивление, и, чтобы сло-
мить его, пришлось прибегнуть к lit de justice: один из его
эдиктов, при помощи этой меры, проведенной в Париже, так
и остался не занесенным в регистры шести провинциальных
парламентов. В конце своего существования Парижский пар-
ламент был главным тормозом тех преобразований, на кото-
рые соглашалось само правительство, и оппозиции сочувст-
вовали как все, стоявшие за старый порядок, так и все, во
имя новых идей восстававшие против правительственного
произвола. Сам парламент, отстаивая консервативные инте-
ресы, все более и более переходил на точку зрения новых по-
литических идей, подготовивших Французскую революцию.
В 1787 г. в Парижском парламенте уже говорилось, что
только одни Генеральные штаты имеют право давать согла-
сие на новые налоги. Дело дошло до новой коллективной
ссылки Парижского парламента и временной приостановки
деятельности провинциальных парламентов.
Эта история взаимных отношений королевской власти и
парламента во Франции в высшей степени поучительна. Пар-
ламент был обломком политического феодализма: возникши
из феодальной курии, он сначала бюрократизировался, но
потом снова аристократизировался на почве продажности
должностей, возникшей под влиянием чисто феодального
смешения понятий власти и собственности1, т.е. королевская
власть сама рассматривалась как личная собственность коро-
ля, который имеет право отчуждать ее частицы (должности)
в другие руки. Это создало наследственную магистратуру,
получившую возможность оказывать явное сопротивление
государственной власти. Ни в каком современном государст-
ве, с самым либеральным устройством, правительство не по-
1 Поместье-государство. С. 54.
141
терпит, чтобы должностные лица судебного ведомства вме-
шивались в законодательную деятельность государства и ус-
траивали общие забастовки судебных учреждений; абсолют-
ная же монархия последних двух Бурбонов должна была это
терпеть и ничего с этим не могла поделать. Неограниченный
монарх издавал закон, а учреждение, обязанное его опубли-
ковать во всеобщее сведение, отказывалось это делать, пока
король не являлся лично, чтобы настоять на своем. С другой
стороны, парламент должен был стоять на страже законно-
сти1, но в этом смысле он представляет собой явление, до-
вольно одиноко стоящее среди всех учреждений абсолютной
монархии на Западе2.
Представленные нами черты из истории законодательной
деятельности государства во времена абсолютной монархии
во Франции, конечно, не могут быть обобщены и распростра-
нены на другие страны, но при всем своеобразии некоторых
из этих черт главное во Франции делалось так же, как и в
других странах. Этим общим явлением была невыделенное™
законодательной функции из управления вообще при крайне
неопределенном и изменчивом составе лиц, по совету с кото-
рыми верховная власть принимала свои решения. Законода-
тельная путаница была более или менее присуща всем госу-
дарствам старого порядка. В этом отношении не составляла
исключения, например, и лучше многих других стран управ-
лявшаяся Пруссия. Здесь, как и в других государствах, когда
ими правили особенно энергичные и работящие короли, все
1 Теоретик конституционной монархии Монтескье, получивший по за-
вещанию должность в бордоском парламенте и спустя несколько лет ее
продавший, видел в парламенте «хранилище законов» (depot les lois), не-
обходимое в монархии для того, чтобы она моглд быть монархией, а не де-
спотией (ср. изложение его взглядов на этот счет ниже, в гл. XXII). Обя-
занность этой корпорации — объявлять законы, когда они составлены, и
напоминать о них, если они забываются. «Невежество, свойственное дво-
рянству, его нерадивость, его презрение к гражданской службе требуют,
чтобы существовала корпорация, которая постоянно извлекала бы законы
из-под пыли, грозящей в противном случае их под собой похоронить». Мон-
тескье отстаивал и продажность должностей, «ибо она,— говорит он,— за-
ставляет исполнять, в качестве фамильного ремесла, то, что не стали бы де-
лать вследствие доблести, предначертывает каждому его обязанность и по-
зволяет распоряжениям государства быть более прочными».
2 В России эту роль должен был играть Сенат.
142
зависело от личного усмотрения государя, и чем больше го-
сударь делал все сам, тем менее оставалось дела какому-ли-
бо учреждению. Особенно это последнее замечание относит-
ся к царствованию Фридриха Великого, в конце которого,
именно с 1781 г., законодательные вопросы даже системати-
чески перестали рассматриваться Королевским советом, по-
тому что перешли в ведение особой комиссии, где, однако,
возникали большей частью довольно-таки случайно, в зави-
симости главным образом от личного усмотрения того или
другого администратора, так что скорее она была создана
как бы для устранения настоящей законодательной инициа-
тивы. Один из государственных деятелей Пруссии конца
XVIII в. и начала XIX в., Струензе, младший брат знамени-
того датского министра, жаловался на трудность проведения
каких бы то ни было реформ при тогдашнем строе управле-
ния, прибавляя, что «с этим никому не справиться, разве
только поможет сильный толчок извне, или путаница в веде-
нии дел достигнет до такого предела, когда люди перестанут
понимать друг друга и придут к сознанию, что необходимо
обратиться к более простым началам». Настоящий Государ-
ственный совет с законосовещательным характером возник в
Пруссии только в 1808 г.
В монархии Габсбургов Государственный совет был создан
только в царствование Марии-Терезии, а раньше обходились
без этого учреждения, да и потом, при преемнике этой госуда-
рыни, Иосифе II, тоже обходились без него. Иосиф II предпо-
читал или решать дела без советников, или совещался лишь
частным образом с отдельными членами Государственного со-
вета. Если и отсылались некоторые вопросы на обсуждение в
Государственный совет, то на его мнения потом не обращалось
очень часто ни малейшего внимания. Для выработки какого-
нибудь более значительного преобразования более верным пу-
тем считалось образование специальной комиссии, которой по
общим указаниям власти и поручалось составление соответст-
венного проекта. В следующей главе мы познакомимся с неко-
торыми случаями такого комиссионного законодательства.
Учреждение специальных комиссий, особенно по каким-
либо крупным законодательным вопросам, вызывалось имен-
но отсутствием или крайним несовершенством государствен-
ных установлений, которые особливым образом ведали бы
143
законодательную часть. Развитие, в XVII и XVIII вв., ученой
юриспруденции делало возможной и более плодотворную
комиссионную разработку законопроектов, но в тогдашней
юриспруденции было слишком много схоластических и чисто
педантических черт, а ее представители были слишком чи-
новниками, оторванными от запросов живой действительно-
сти,— для того, чтобы из их работ могло выходить что-либо
важное и великое.
Только в XIX в. абсолютная монархия стала деятельно
упорядочивать свою законодательную деятельность, и в дан-
ном случае пример для подражания был подан наполеонов-
ской Францией, где по Конституции VIII (1799) г. был уч-
режден Государственный совет со специальной функцией со-
ставления законопроектов. По этой конституции последние
должны были идти на обсуждение и на голосование в Трибу-
нате и Законодательном корпусе, но и там, где не было пред-
ставительных собраний, возможно было создание бюрокра-
тического учреждения для выработки законов, издаваемых
от имени неограниченного монарха. Такое значение получил,
например, в начале XIX в. Государственный совет в Прус-
сии, рассмотрению которого обязательно подлежали все за-
конопроекты. Хотя ведению этого совета подлежали и дру-
гие дела (например, жалобы на министров, междуведомст-
венные пререкания и т. п.), но развилась особенно именно
его законодательная деятельность, пока введение в Пруссии
конституции не лишило здесь Государственный совет почти
всякого значения. Вообще везде, где вводилось народное
представительство, законосовещательные Государственные
советы новейшей формации утрачивали свое значение, пре-
вращаясь, например, в инстанции для предварительного
только рассмотрения законопроектов. Как бы там ни было,
учреждение подобных законосовещательных органов было
все-таки шагом вперед в сравнении с тем хаосом, который
нередко царствовал при полном господстве старого порядка.
Принципиальному единству государственной воли, вопло-
щенной в лице монарха, далеко не соответствовало то, что
происходило в реальной законодательной деятельности госу-
дарства, раз для нее не было твердо и прочно организованно-
го, хотя бы и на чисто бюрократических началах, органа.
144
В полном соответствии с указанным недостатком законода-
тельной деятельности абсолютизма находилось и само матери-
альное право по своей разрозненности и по своим несходствам
в разных частях одного и того же государства. Политически
объединенная и административно централизованная Франция
в правовом отношении до самой революции представляла со-
бой комплекс провинций, в которых действовали неодинако-
вые местные законы, или так называемые кутюмы1. Правда,.в
каждой провинции существовал свой кодекс кутюмного права,
но в этих сборниках, редактированных большей частью еще во
второй половине XV в. и в XVI в., закреплены были понятия и
отношения еще феодальной эпохи. Старая монархия так-таки
и не вносила никаких изменений в действующее гражданское
право. Она оказалась бессильной также и создать общий для
всей Франции кодекс, чего, например, требовали еще Гене-
ральные штаты второй половины XVI в. Ученые юристы XVII и
XVIII вв. предпринимали частные предварительные работы в
этом направлении, но пригодились они на практике только тог-
да, когда революция уже более решительно поставила на оче-
редь вопрос об общем кодексе, тем самым положив начало де-
лу, законченному только при Наполеоне.
Удачливее в этом отношении, нежели Франция, были не-
которые другие абсолютные монархии, хотя и в них кодифи-
кационная работа была явлением более позднего времени. В
Пруссии составление проекта кодекса было поручено только
Фридрихом II, в 1747 г., ученому юристу Самуилу Кокцеи,
но он не успел окончить свою работу за смертью: дело было
даже как бы отложено вообще, пока в 1780 г. не было вновь
поручено особой комиссии из семи ученых юристов, среди
которых особенно выдвигался Суарец. Сам Фридрих II не до-
ждался окончания этой работы, так как кодекс был оконча-
тельно готов только к 1794 г., когда и стал действовать под
названием «Общего земского права Пруссии» (Allgemeines
Landrecht fur preussische Staaten). Около того же времени,
как в Пруссии, предприняты были кодификационные работы
и в Австрии, о которых еще придется говорить в следующей
главе2, но завершения их пришлось ждать еще дольше, чем в
1 Поместье-государство. С. 100.
2 В связи с вопросом о судебном устройстве.
145
Пруссии, так как «Общий гражданский кодекс« (Allgemeines
burgerliches Gesetzbuch) был издан лишь в 1811 г. Быстро
была сделана аналогичная работа лишь в Баварии («Макси-
милианов кодекс», начатый в 1751 г. и оконченный в 1756 г.).
Глава X
УПРАВЛЕНИЕ И СУД ПРИ «СТАРОМ ПОРЯДКЕ»
Нейтрализационная работа абсолютной монар-
хии,— Ее отношение к местным вольностям,— Случаи
отсутствия внутреннего единства в ведении государст-
венных дел,— Центральные учреждения эпохи в отдель-
ных странах,— Областные правители и их полномочия
во Франции,— Судьбы областного и общинного самоуп-
равления во Франции,— Централизационная работа в
Австрии при Марии-Терезии и Иосифе И,— Общая роль
бюрократии в проведении в жизнь принципов абсолютиз-
ма,— Значение термина «полицейское государство»,—
Роль и полномочия полиции,— Взаимные отношения ад-
министрации и суда,— Судебные порядки разных стран
и реформы в этой области с попытками кодификации за-
конов,— Гражданские и уголовные законы и судебные
злоупотребления эпохи
Западноевропейские монархии сложились постепенно из
отдельных феодальных княжеств и даже целых королевств,
разными способами подпадавших под власть той или другой
династии. Нередко присоединение к государству новой про-
винции заключалось в том, что все в ней оставалось по-ста-
рому, т.е. и общее устройство, и отдельные учреждения, и
местные законы, а только верховная власть переходила в но-
вые руки. Самым рельефным примером такого образования
единой монархии из когда-то бывших совершенно отдельны-
ми государств является история Австрии, государь которой
до начала XIX в. даже не носил никакого общего титула по
своим наследственным землям1. Титул «австрийский импера-
тор» возник только в 1806 г., а до того времени император-
1 Об этом см.: Berger. Der grosse Titel des Kaisers von Oesterreich in se-
inem historichen Aufbau. 1907.
146
ское достоинство принадлежало государям, царствовавшим в
Австрии, лишь в качестве их значения в Германии, т.е. как
императорам «Священной Римской империи германской на-
ции», по отношению же к своей монархии они были «короля-
ми богемскими и венгерскими, эрцгерцогами австрийскими,
графами тирольскими и проч., и проч.». Даже нераздель-
ность этой монархии установилась только в XVII ст., в эпоху
Тридцатилетней войны, и еще в XVIII в. монархия обознача-
лась как «les etats de la maison d’Autriche». Такое же множе-
ственное число в слове «государство» для обозначения одной
монархии мы встречаем и в применении к Пруссии, к этим
«etats de la maison de Brandebourg», к этим «preussischen
Staaten», которые мы находим в заголовке к «Общему зем-
скому праву» 1794 г.1 И в габсбургских, и в гогенцоллерн-
ских «штатах» мы находим местные чины, в каждой «земле»
свои особые, свою администрацию, свои порядки. В единой
Испании Кастилия и Арагон продолжали тоже оставаться
резко обособленными странами. Даже Франция, достигшая
при абсолютной монархии гораздо большего национального
и политического единства, во многих отношениях сохраняла
следы былой своей раздробленности и разобщенности. Здесь
в'одних провинциях существовали местные штаты, в других
нет; в одних действовали кутюмы, допускавшие существова-
ние крепостничества, в других не допускавшие; в одних ку-
тюмное право признавало возможность независимой от сень-
оров, «алодиальной» земельной собственности, в других не
признавало и т. п.
Общей тенденцией абсолютизма было, однако, по воз-
можности все приводить к одному знаменателю, вносить по-
всюду дух централизации и однообразия. Конечно, делалось
это исподволь и постепенно, и охота делать дальнейшие ша-
ги развивалась по мере того, как уже закреплялись сделан-
ные централизацией завоевания. Прежде всего и главным об-
разом свою централизационную работу абсолютизм направ-
лял на те проявления местной жизни, которые являлись
помехой для самого абсолютизма, и, наоборот, он сравни-
тельно мало обращал внимания на те местные особенности,
от которых, собственно, для власти не проистекало никаких
1 Ср. выше, с. 145.
147
неудобств, хотя бы местное население или национальные ин-
тересы и страдали от этих особенностей. Во Франции до са-
мой революции не было единства мер и веса, что очень вред-
но отражалось на внутренней торговле, но для устранения
этого неудобства ничего не было предпринято. Внутренние
таможни тоже изолировали одни провинции от других в го-
сударстве, в иных отношениях стоявшем на точке зрения
строгого единства: уже в XVI в. девизом монархии было
единство короля, закона и веры (un roi, une loi, une foi)1.
Раз централизационная работа абсолютной монархии
имела в виду главным образом повсеместное утверждение
единой и всеуравнивающей перед самой собой правительст-
венной воли, общим направлением политики абсолютизма
было стремление к подчинению всех частей государства
агентам власти, исключительно зависимым от центра, забо-
тящимся лишь об интересе целого и действующим по указа-
ниям тех, которые их послали. Между тем в Средние века
везде выработались известные порядки общественного уча-
стия в местных делах, порядки городского и областного са-
моуправления с выборными должностными лицами и с пред-
ставительными собраниями. Когда государство еще не имело
вполне развившейся административной машины, оно даже
поручало местным общественным органам отправление неко-
торых чисто государственных функций, но с течением време-
ни, по мере того, как росла и крепла бюрократическая систе-
ма, центральная власть начинала налагать свою руку и на ве-
дение обществом своих собственных дел чисто местного
интереса. Как в Римской империи одно время императорский
абсолютизм мирился с муниципальным строем, а потом заме-
нил его бюрократической централизацией2, так и западноев-
ропейская абсолютная монархия в конце концов всюду стре-
милась к уничтожению самоуправления.
Идеалом бюрократической централизации в эпоху гос-
подства абсолютной монархии было полное единство направ-
ляющей власти наверху, как результат сосредоточения всей
1 На самом деле, как мы видели, единства в области законодательства
не было, а об единстве веры речь будет еще впереди (см. гл. XVI). Нельзя
не отметить родство этого принципа с принципом Византийской империи
при Юстиниане.
2 См.: Монархии. С. 282.
148
государственной воли в одном месте, и безусловное исполне-
ние внизу, в самой жизни отдельных местностей, велений
этой власти, как небходимое требование господства общего
порядка. Конечно,, действительность была очень далека от
этого идеала, потому что и действия высшей власти далеко
не всегда отличались внутренним единством, и ее органы,
как центрального, так и местного значения, равным образом
по многим причинам далеко не всегда, хоть сколько-нибудь,
соответствовали требованиям системы.
Единство, последовательность и цельность в деятельно-
сти правителя вообще возможны лишь при наличности изве-
стных качеств ума и характера, какие вообще не могут счи-
таться обычным уделом большинства людей. История запад-
ноевропейского абсолютизма, конечно, насчитывает среди
государей или таких первых министров, как Ришелье, нема-
ло людей, обладавших проницательным взглядом и твердой
волей, но еще больше, пожалуй, встретится среди правите-
лей этой эпохи людей, политическое поведение которых
было лишено каких бы то ни было единства, последователь-
ности и цельности. Этих качеств нечего искать в распоряже-
ниях людей слабовольных, несамостоятельных, легко подчи-
нявшихся посторонним, часто случайным и противоречивым
влияниям, или у людей порывистых, своенравных, каприз-
ных, хотя бы и способных к очень энергичным выступлени-
ям. Там, где менее всего приходится говорить о роли учреж-
дений, а главным образом приходится искать объяснения
правительственной политики в психике отдельных лиц, сто-
явших у власти, чаще всего, конечно, и встречаешься со слу-
чаями противоречивости, непоследовательности или общей
несуразности в ведении государственных дел. Влияния от-
дельных фаворитов и целых кружков лиц, подводимых те-
перь обыкновенно под понятие «камарильи»1,— влияния,
между собой перекрещивающиеся и потому противоречивые,
всякого рода интриги и контринтриги, без которых в случаях
подобного рода совершенно не может обходиться дело,— ко-
нечно, не могут вносить в правительственную деятельность
1 Слово «камарилья» в указанном смысле стало употребляться впервые
в Испании при Фердинанде VII (1814—1833), в передней которого всегда
толпились придворные, пользовавшиеся наибольшим влиянием на этого ти-
пичного представителя реакционного абсолютизма начала XIX в.
149
никакой цельности. Некоторые отдельные случаи могут счи-
таться классическими образцами той, выражаясь вульгарно,
сумбурности, какой в иные эпохи истории тех или других
стран отличалась правительственная политика абсолютной
монархии. Ограничимся двумя примерами из XVIII в.
Первый из них — это царствование Людовика XV во
Франции. Остановимся хотя бы на знаменитом «королевском
секрете», которому не так давно де Бройль (de Broglie) по-
святил целую книгу. Оказывается, что при этом короле су-
ществовала двойная дипломатия, одна явная, официальная,
другая, наоборот, тайная, бывшая личным «секретом» короля
и потому совершенно закулисная, и если официальные пред-
ставители Франции при заграничных дворах получали от
своего правительства одни инструкции, то закулисным аген-
там могли даваться и давались другие, и в результате полу-
чалась интрига со стороны власти против собственных же
своих агентов. Разумеется, это чудовищное явление — и
вследствие именно своей чудовищности — было исключи-
тельным, но оно в высшей степени характерно для эпохи,
когда циническое легкомыслие и бесхарактерность высшего
носителя власти вообще вносили в управление государством
одну путаницу.
Другой пример касается истории Пруссии в самом конце
XVIII в. Управление этим государством при Фридрихе II счи-
талось у современников образцовым, и ему в некоторых
странах прямо даже стремились подражать, но в сущности
все в этой монархии держалось на личности самого короля.
Стоило только Фридриху II умереть, как в управлении стра-
ной начался настоящий хаос. Человек нравственно распу-
щенный, суеверный, малообразованный, неопытный в делах,
Фридрих Вильгельм II, сменивший на прусском престоле ко-
роля-философа, более всего стал заботиться об охранении
своей самостоятельности от посторонних влияний, но имен-
но этой слабостью короля и пользовались разные интриганы,
чтобы путем лести и потакания недальновидному и слабо-
вольному государю забрать его в свои руки и пользоваться
им как орудием своих видов. Фридрих Вильгельм II очутился
в полной власти кружка фаворитов, интриговавших против
министров, как последние в свою очередь интриговали про-
150
тив отдельных частных советчиков короля. В какие-нибудь
десять лет все внутреннее управление было вследствие этого
расшатано, и сын Фридриха Вильгельма II, Фридрих Виль-
гельм III, даже избегал личных сношений с министрами, за-
нимаясь вершением дел с неофициальными советчиками, ни
перед кем не отвечавшими за свои ошибки. Конец XVIII в. и
начало XIX в. были в Пруссии эпохой настоящей правитель-
ственной анархии, когда между отдельными агентами власти
и целыми правительственными ведомствами утратилась вся-
кая связь и соперничество между ними доходило до прямого
противодействия одних другим1.
Если мы сопоставим факты подобного рода с той неорга-
низованностью законодательной деятельности, о которой
шла речь в предыдущей главе2, то увидим, что все это — со-
вершенно однородные явления, вытекавшие из одной и той
же общей черты абсолютизма, а именно слишком большой
роли, отводившейся личному началу, слишком, наоборот, ма-
лого значения, придававшегося учреждениям. Последние
признавались лишь в роли слепых орудий, чисто исполни-
тельных органов власти, за одной собой оставлявшей и ини-
циативу, и общее руководство, но очень часто и почин, и
общее направление политики только призрачным образом
1 Резкую критику этой системы в 1806 г., незадолго до катастрофы, по-
стигшей Пруссию при Иене, представил Фридриху Вильгельму III знамени-
тый барон Штейн, которому после 1807 г. Пруссия была обязана многими
реформами. Эта критика заключалась в «Записке о неудовлетворительной
организации кабинета и о необходимости учредить конференцию минист-
ров», но король ею остался недоволен, и вскоре Штейн получил отставку,
чтобы снова быть призванным к власти только тогда, когда нужно было на-
чать реформы. Находя, что «Пруссия не имеет государственного устройст-
ва» (Staatsverfassung), в смысле, близком к конституции, он рекомендовал,
по крайней мере, введение правильной организации правительства
(Regierungsverfassung), что и было им сделано в 1808 г. особым узаконени-
ем, до сих пор лежащим в основе внутреннего управления в Пруссии. Ус-
тарелая генеральная директория была уничтожена, и во главе управления
поставлено было пять министров (внутренних дел, финансов, иностранных
дел, военный и юстиции), число которых потом увеличилось,— реформа,
благодаря коей делопроизводство стало разделяться по предметам, а не по
провинциям, как прежде. Тогда же был организован законодательный Госу-
дарственный совет, о чем выше, с. 143.
2 См. особенно с. 130 и след.
151
находились в руках высшего носителя власти; в действитель-
ности же дела возникали и решались путем закулисных вли-
яний, интриг и соперничеств. Даже в тех случаях, когда,
по-видимому, в жизнь проводилась последовательно одна ка-
кая-либо правительственная система, одной рукой разделы-
валось то, что делалось другой. Лучший пример — внутрен-
няя политика Карла I Стюарта, утверждавшего в Англии
королевский абсолютизм. Как известно, главным его помощ-
ником в этом деле был граф Страффорд, во многом подра-
жавший политике Ришелье1. Одной из особенностей этой
политики было — избегать религиозных, вероисповедных
столкновений, стоять на чисто светской точке зрения, и
Страффорд действовал именно таким образом. Но у Карла I
был еще другой советник, архиепископ Кентерберийский Ло-
уд, толкавший короля на путь религиозной нетерпимости, и
именно церковные мероприятия, присоветованные Лоудом
этому королю, вызвали так некстати для успеха абсолютиз-
ма в Англии шотландское восстание, заставившее короля со-
звать знаменитый Долгий парламент.
Теоретики государственного права в XVII в. стали разли-
чать между законодательной и исполнительной властями, от-
дельную категорию от которой стали потом полагать и во
власти судебной, причем каждому виду власти должны были
соответствовать и особые учреждения. Абсолютной монар-
хии такое разделение властей оставалось чуждым, и те пра-
вительственные советы, о которых говорилось в предыдущей
главе, ведали и законодательство, и верховное управление, и
даже в известных случаях дела судебного характера. По-
добное смешение функций влекло за собой проникновение
особенностей, свойственных административным распоряже-
ниям, и в область законодательства, и в область суда, что,
однако, далеко не гарантировало за самими административ-
ными распоряжениями достаточной общей упорядоченности.
В XVIII в. одна Англия со своим конституционным стро-
ем выработала правильную систему управления государст-
вом посредством внутренне единого и солидарного министер-
ства (кабинета). Говоря это, я имею здесь в виду не то, что
1 Ср. выше, с. 90.
152
такое министерство сделалось связующим звеном между го-
сударем и народным представительством и взяло при этом на
себя ответственность перед последним за все действия ис-
полнительной власти: это — основная черта министерства
никак не в абсолютных монархиях, где нет народного пред-
ставительства и министры должны ответствовать только пе-
ред монархом. Но и в абсолютных монархиях деятельность
отдельных министерств все-таки может быть объединенной,
дабы во всех ведомствах господствовало некоторое общее
направление, без чего и возникает та правительственная
анархия, пример которой представляет нам прусская исто-
рия конца XVIII в. и начала XIX в. Вот этой-то объединенно-
сти управления в большинстве случаев и не хватало абсо-
лютной монархии. Вся власть сосредоточивалась в государе,
и только лицо монарха или временщика, никак не какого-ли-
бо учреждения, объединяло деятельность отдельных ве-
домств, между которыми могли даже возникнуть антагониз-
мы и конфликты. Нет ничего естественнее, чтобы сложное
дело управления государством расчленялось на отдельные
ведомства с самостоятельным устройством под управлением
отдельного лица или отдельной коллегии, которые в данном
случае и играют роль посредствующих звеньев между вер-
ховной властью и органами подчиненного управления, как
нет ничего естественнее, чтобы власть возлагала подобного
рода функции на особенно доверенных лиц из ближайших
своих советников, а иногда и из придворных чинов. Минист-
ры в этом смысле слова существовали еще в монархиях
Древнего Востока и в Римской империи1. Должности, соот-
ветствующие министерским, могли совпадать2 и не совпа-
дать с придворными и возникать весьма различными путями,
иногда совершенно своеобразными, как это мы в своем месте
видели по отношению к французским Государственным сек-
ретарям3, но для нас здесь главный интерес темы заключает-
ся в том, что, раз возникши, отдельные ведомства начинали
жить обособленной жизнью, связанные между собой общей
1 Монархии. С. 65, 78, 175—176.
2 См. выше, с. 114.
3 См. выше, с. 133.
153
подчиненностью монарху, но очень часто оставаясь вне вся-
кой другой, сколько-нибудь органической связи с другими
ведомствами. Тенденцией каждого из них было сделаться
своего рода «государством в государстве», положив в основу
своего внутреннего устройства начала иерархической цент-
рализации. Министр должен был быть как бы неограничен-
ным властителем своего ведомства, облеченным со стороны
монарха всей полнотой власти, не зависящим от какого-либо
выше его стоящего учреждения и ведущим вверенное ему де-
ло по своему усмотрению. Государь узнавал, что делается в
той или другой отрасли управления, только из докладов со-
ответственного министра и часто давал те или другие дирек-
тивы только по совещании опять-таки с этим же министром.
Такая система развилась особенно во Франции в царствова-
ния Людовика XV и Людовика XVI. Если Фридрих II нахо-
дил, что король Франции должен был бы назначить для ис-
полнения королевских обязанностей при дворе особое лицо1,
так Иосиф II называл «рабством» положение французского
короля, при котором первенствующую роль в управлении иг-
рали министры. Настоящие «деспоты», конечно, не примиря-
лись с таким положением дел, стремясь входить во все сами
и быть собственными своими министрами и пользуясь
отдельными министрами как простыми исполнителями не-
посредственных своих повелений, своего рода простой пере-
даточной инстанцией. Целый ряд государей XVI—XVIII вв.
держался такой политики, а не то выдвигался какой-либо
первый министр, временщик вроде Ришелье. Все зависело от
личных свойств государя, от случайных обстоятельств, и ес-
ли не было властной, всенаправляющей руки наверху, каж-
дое ведомство приобретало полную самостоятельность. Ре-
зультатами в случаях последнего рода были или та прави-
тельственная анархия, какую мы наблюдаем в Пруссии при
Фридрихе Вильгельме II и в начале царствования его преем-
ника, или то явление в истории Франции перед революцией,
которому современники давали характерное название «мини-
стерского деспотизма» (le despotisme ministriel). К этим ре-
зультатам неминуемо влекла с усложнением государствен-
1 См. выше, с. 119.
154
ной жизни сама система абсолютизма: если по тем или дру-
гим причинам одно лицо (монарха или временщика) не могло
непосредственно управлять всем, это дело попадало в руки
нескольких отдельных лиц, министров, которые и станови-
лись в своих ведомствах настоящими самодержцами.
В таком общем обзоре, как настоящая книга, конечно,
нельзя входить в детали истории административных учреж-
дений в отдельных странах, и потому остается только вы-
брать несколько разрозненных фактов, которые с той или
другой стороны характеризовали бы порядки абсолютной мо-
нархии в эпоху ее наивысшего развития.
В XVIII ст. образцовым устройством государственного
управления считалось прусское, особенно в царствование
Фридриха II. В сущности, многое в успешном ведении прус-
ским правительством своих дел объясняется не столько
якобы совершенством учреждений, сколько личными качест-
вами главы государства, и система оказалась вовсе уже не
такой образцовой, как только умер Фридрих II, а через двад-
цать лет после его смерти в числе важных реформ, которые
были тогда намечены под влиянием разгрома Пруссии Напо-
леоном, далеко не последнее место занимала и общая рефор-
ма управления1. Если тем не менее прусские административ-
ные порядки были предметом зависти в некоторых странах,
то это только свидетельствует о том, что в последних соот-
ветственные порядки были много хуже. Правда, в монархии
Гогенцоллернов было одно весьма важное преимущество, за-
ключавшееся в практичности, деловитости, бережливости и
вышколенности ее бюрократии, воспитавшейся в общем во-
енно-хозяйственном направлении, какое приняла в своей де-
ятельности сама царствовавшая в Пруссии династия. Госу-
дарство Гогенцоллернов и в центре, и на местах держалось
начала коллегиальных учреждений, между которыми не бы-
ло, однако, последовательно установленной связи. Краткий
очерк этого устройства, даваемый нами в следующих стро-
ках, должен показать, что и в образцовом по своему управ-
лению государстве далеко не все соответствовало идеалу на-
стоящей бюрократической централизации.
1 Ср. выше, с. 142—143.
155
Выше уже было упомянуто, что в Пруссии существовал,
как и повсеместно, «тайный совет» с назначением, между
прочим, объединять управление. Задача эта, однако, с тече-
нием времени отошла на задний план, когда Тайный совет
прямо разделился на три совершенно самостоятельных де-
партамента: один для иностранных дел, другой для юстиции
и третий, сделавшийся главным органом всего управления,
для внутренних дел. Этот последний департамент был обра-
зован в первой половине XVIII в. Фридрихом Вильгельмом I
из соединения «генерального военного комиссариата» и «ге-
неральной дирекции финансов» и носил длинное название
«генеральной высшей директории финансов, военных дел и
доменов» (General-Ober-Finanz-Kriegs-und-Domanen-Directo-
rium), название, указывающее на общее военно-хозяйствен-
ное направление прусской внутренней политики, начиная
еще с Великого курфюрста. Этому центральному учрежде-
нию в отдельных провинциях были подчинены лишь военные
и доманиальные палаты, надзиравшие за ведением военного
и доманиального хозяйства, а рядом стояли особые «земские
советники», «ландраты», полусословные, полубюрократиче-
ские должностные лица, назначавшиеся королем из дворян,
рекомендованных дворянскими же сословными собраниями.
Ландраты председательствовали на этих последних и вместе
с особыми дворянскими комитетами ведали дела своего со-
словия, будучи в то же время органами центральной власти
в таких общегосударственных делах, ках заведование поли-
цией, рекрутские наборы, взимание налогов. Местный со-
словный быт поддерживал партикулярные стремления обла-
стей, особенно тех, которые позже других вошли в состав
монархии, тем более что по тогдашнему устройству между
более мелкими административными единицами и централь-
ным правительством на самом деле не существовало почти
никакой связи. Одни только города находились в полной опе-
ке у генеральной директории, у военных и доманиальных па-
лат и податных советников, поставленных над городскими
магистратами, члены которых назначались правительством и
отдавались под ближайшую опеку этих податных советни-
ков: данная им инструкция прямо сравнивала их с ротными
командирами, обязанными насквозь знать каждого своего
солдата. Королевские домены, рыцарские поместья и свобод-
156
ные крестьянские общины находились уже совсем в ином по-
ложении: в доменах полиция вместе с другими доходными
статьями отдавалась на откуп; помещики обладали вотчин-
ными юстицией и полицией и патронатом над церковью и
школой; в свободных крестьянских общинах были свои ста-
росты и шеффены, выбиравшиеся сельским сходом или зани-
мавшие свои должности по имущественному цензу, часто да-
же по наследству.
Эта административная машина, во многих отношениях
неуклюжая, с плохо иногда прилаженными одна к другой ча-
стями, должна была, однако, точно и аккуратно исполнять
желания того, в чьих руках был главный ее рычаг. Чиновни-
ки обязаны были повиноваться, как на войне, и главное —
должны были «не рассуждать» (nicht raisonnieren!). Еще чле-
ны высшей директории могли это немножко делать. «Вы,—
говорил им Фридрих Вильгельм I,— каждый раз и по каждо-
му делу должны прилагать ваши мнения, но я остаюсь госпо-
дином и королем и поступаю, как мне угодно». Чиновникам
меньших степеней уже решительно не полагалось иметь сво-
его мнения. Вышколенность административного персонала и
была одной из тех черт прусского управления, с какими мы
далеко не везде встречаемся, и этим же свойством отлича-
лись в общем и сословные ландраты, так как Гогенцоллерны
сумели превратить свое дворянство в род служилого сосло-
вия, в целом же, как система учреждений, прусское управле-
ние было сложено из очень диспаратных элементов и потому
стояло очень далеко от какой бы то ни было стройности.
Последним качеством вообще не отличались администра-
тивные учреждения старой абсолютной монархии. Это не бы-
ли учреждения, созданные по одному плану с какими-либо
общими, в основу его положенными принципами. Государст-
венная власть не заменяла прежних учреждений, когда они
уже не соответствовали условиям и потребностям времени,
совершенно новыми учреждениями. Старые порядки, старые
должностные лица, старые учреждения, старые деления тер-
ритории нередко оставлялись чуть не во всей своей непри-
косновенности, а для новых отношений и новых задач над
прежним зданием делались своего рода надстройки, с ко-
торыми это здание сливалось в одно целое, часто довольно
157
хаотическое и нередко в отдельных своих частях только де-
лавшее работу центрального правительственного аппарата
более трудной. Таким именно зданием и была прусская орга-
низация управления, но самый рельефный пример сохране-
ния в организации управления последовательных наслоений,
оставшихся от разных эпох, представляет нам собой админи-
стративная организация дореволюционной Франции.
В том здании, с которым можно сравнить организацию
местного управления во Франции в последние времена «ста-
рого порядка», основы были положены еще Капетингами.
Сначала королевский домен управлялся такими же сень-
ориальными приказчиками, какие были и в других феодаль-
ных поместьях и княжествах под названиями мэров и прево-
тов, бальивов и сенешалов, и с теми же административно-су-
дебными функциями, какие им принадлежали везде1. По
мере того, как разрастался королевский домен, в нем, конеч-
но, увеличивалось и число административных единиц, назы-
вавшихся бальяжами (на севере) и сенешальствами (на юге),
пока домен не охватил собой всю Францию. В качестве су-
дебных округов бальяжи и сенешальства сохранились во
Франции до самой революции. Сами выборы в Генеральные
штаты 1789 г. были произведены именно по этим судебным
округам. Постепенно, историческим путем складывавшееся
деление государства на бальяжи и сенешальства, конечно,
не могло отличаться ни однообразием, ни стройностью, при-
сущими теперешнему делению на департаменты, которое ве-
дет свое начало от революции. Известно, что Учредительное
собрание разделило Францию на 83 департамента, стараясь
при этом выкроить по возможности равновеликие террито-
рии и с одинаковой по возможности населенностью. В баль-
яжном делении Франции была даже некоторая путаница, ко-
торой объясняется тот недавно сделавшийся известным
факт, что в 1789 г. центральное правительство плохо разби-
ралось в вопросе, сколько же в стране было бальяжей и
какие — главные, какие — второстепенные2. В этот первый
1 Поместье-государство. С. 102. О происхождении названия «сенешал»
см. выше, с. 114.
2 Должность бальи существовала в XVIII в. как чисто почетная, без ре-
ального значения.
158
период областного устройства Франции центральная власть
охотно назначала на должности областных правителей
(бальивов и сенешалов) легистов, товарищи которых с
XIII в. наполняли-Парижский парламент. Это учреждение,
развившееся из феодальной королевской курии в высшее су-
дебное учреждение, сделалось естественным центральным
учреждением и для всей областной администрации. Мы зна-
ем, что через парламент совершалось обнародование коро-
левских ордонансов, и одно это делало из парламента своего
рода посредствующее звено между королем и областными
правителями. Эта последняя функция парламента не получи-
ла формального развития, но в свое время парламент все-та-
ки сыграл некоторую роль в истории административной цен-
трализации Франции.
Таков был первый этаж (или этап) в деле административ-
ного объединения Франции. Это было, так сказать, наслое-
ние еще феодального происхождения, но многое в нем уже
не соответствовало потребностям власти, когда она фактиче-
ски сделалась абсолютной. Одно из неудобств средневековой
организации управления заключалось в том, что королевские
чиновники (officiers) или люди (gens du roi) на местах, «ко-
ролевские судьи» или «казначеи Франции», одновременно с
членами парламента, поделались наследственными обладате-
лями своих должностей. Новое административное наслоение
началось во Франции, когда появилась постоянная долж-
ность генерал-губернаторов (gouverneurs generaux), что слу-
чилось при Франциске I. До этого короля существовали
лишь временные генерал-губернаторы, назначавшиеся при-
том только в пограничных провинциях, а Франциск I уже
разделил всю страну на двенадцать больших округов, во гла-
ве которых были поставлены генерал-губернаторы, представ-
лявшие на местах королевскую власть и бывшие непосредст-
венными ее органами. Ввиду важного значения, какое при-
шлось придать этой должности, для сообщения ей большей
авторитетности в глазах местных дворянских обществ, гене-
рал-губернаторами назначались лица из высшей знати, а
иной раз и принцы крови. Но эти новые областные правите-
ли часто никак не могли отрешиться от феодальных тради-
ций и начали стремиться к наследственной передаче своих
должностей сыновьям или другим родственникам. Фран-
159
циск I однажды прямо хотел показать, что этого не должно
быть, и сразу сменил всех генерал-губернаторов в королевст-
ве, тем самым дав понять, что и генерал-губернаторы долж-
ны всецело зависеть от королевской воли. В эпоху религиоз-
ных войн второй половины XVI в. генерал-губернаторы, тем
не менее, сделались почти независимыми владетельными
князьями, и основателю династии Бурбонов, Генриху IV, сто-
ило немало труда привести их к покорности и военной си-
лой, и дипломатическими соглашениями, и простыми денеж-
ными выкупами. Этот эпизод свидетельствует о том, как еще
трудно было в XVI в. создать во Франции настоящую адми-
нистративную централизацию, но и как в то же время мало
было условий для восстановления былого политического фе-
одализма. Генрих IV восстановил во Франции единство и не-
ограниченность государственной власти, хотя и после него, в
начале XVII ст., все еще правительству приходилось бороть-
ся с феодальными притязаниями и замашками своих област-
ных правителей. В это время генерал-губернаторы были
главнокомандующими в своих округах, заведовали в них
всей полицией безопасности и пользовались правом высшего
надзора по отношению ко всем местным властям, представ-
ляя, кроме того, особу короля в сношениях с провинциаль-
ными штатами и парламентами. Должность эта в XVII в. ут-
ратила, однако, всякое реальное значение, превратившись в
почетную и доходную синекуру для лиц из придворной зна-
ти, в каком виде затем и сохранилась во Франции до самой
революции с соответственным разделением страны на преж-
ние генерал-губернаторства.
Падение прежнего значения должности генерал-губернато-
ра началось при Ришелье, который был инициатором нового
административного устройства Франции, бывшего третьим и
последним при старой монархии наслоением в истории этого
устройства. Так как генерал-губернаторы нередко отлучались
из своих областей, то на время их отсутствия в качестве их за-
местителей назначались временные провинциальные главноко-
мандующие (commandants en chef dans les provinces), которых
всегда можно было сместить и которые брались из высших
офицеров армии, преимущественно из небогатых и незнатных
и притом долго несших действительную службу королю в вой-
ске. Вместе с этим правительство не только не ставило ника-
160
ких преград частым отлучкам генерал-губернаторов из их об-
ластей, но даже старалось всячески этому способствовать, так
что мало-помалу должность и превратилась в синекуру, не тре-
бовавшую непременного пребывания на месте службы. Посте-
пенно действительная власть перешла к помощникам или за-
местителям генерал-губернаторов, и процесс этот совершался
так незаметно, что историки долгое время его даже не замеча-
ли1. Столь же постепенно, путем правительственной практики,
и равным образом преимущественно по инициативе Ришелье,
возникла в провинциях должность интендантов. Параллельно
с генерал-губернаторством в провинциях существовали особые
финансовые присутствия, члены которых, как и генерал-губер-
наторы, делавшиеся пожизненными, если даже не наследст-
венными, носили название «казначеев Франции». Мало-пома-
лу значение этих присутствий стало падать ввиду появления
рядом с ними так называемых интендантов. Еще в XVI в. пра-
вительство стало посылать по временам в некоторые провин-
ции секретарей Королевского совета (maitres des requetes) в
качестве ревизоров или специальных комиссаров для проведе-
ния в жизнь тех или других правительственных предначерта-
ний. К исходу XVI в. эти королевские комиссары стали уже ре-
гулярно в известные сроки объезжать провинции, что не иск-
лючало и продолжения прежней практики чрезвычайных
командировок. Историки этого учреждения справедливо срав-
нивают таких комиссаров с «ушами и очами царевыми» в Пер-
сии времен Дария Гистаспа или с «государевыми посланцами»
(missi dominici) Карла Великого. Долгое время эти, так ска-
зать, высшие чиновники для особых поручений не имели да-
же особого названия и обозначались весьма различно, пока
за ними не утвердился титул интенданта или суперинтенден-
та, к которому прибавлялось и указание на данное каждому
поручение: это были интенданты или финансов, или юсти-
ции, или армии и т. п. Из этого-то персонала Ришелье и со-
здал постоянную должность интендантов путем продолже-
1 Заслуга выяснения этого явления принадлежит профессору П.Н. Ар-
дашеву, в его книге «Провинциальная администрация во Франции в послед-
нюю пору старого порядка. Провинциальные интенданты» (1900); отсылаю
к кн. I, гл. VI. См. также с. 141 —142 его книги «Абсолютная монархия на
Западе» (1902).
161
ния на более длинные сроки или без обозначения срока пол-
номочий, которые давались отдельным интендантам. Этот
процесс превращения прежних временных ревизоров-комис-
саров в постоянные органы центрального правительства на
местах совершался довольно медленно, так как завершение
его следует отнести лишь ко второй половине XVII в. По-
следней получила такого постоянного администратора Бре-
тань только в 1696 г. Мало-помалу также сложился и тот
длинный титул, который официально носили новые провин-
циальные правители, называвшиеся именно «интендантами
юстиции, полиции и финансов и комиссарами для исполне-
ния королевских повелений». В XVIII в. интендантов по объ-
ему той власти, какой они пользовались, охотно сравнивали
с персидскими сатрапами или турецкими пашами.
В конце XVII в. уже во всех областях Франции существо-
вали интенданты, и рядом со старыми делениями территории
образовалось новое — так называемые «генеральства»
(general!tes), каковых насчитывалось более тридцати1. При
каждом интенданте образовалась, разумеется, своя канцеля-
рия, сосредоточившая в себе ведение всех местных дел; цен-
тральными же учреждениями, в подчиненное отношение к
которым стали эти интендантские канцелярии, сделались
канцелярии отдельных Государственных секретарей2, пре-
имущественно же канцелярия постепенно выдвинувшегося
из их среды вперед так называемого «суперинтендента фи-
нансов» (surintendant des finances). В 1661 г. эта должность,
правда, была уничтожена или, скорее, переименована, так
как ее функции перешли к одному из его прежних помощни-
ков, называвшемуся «генерал-контролером финансов»
(controleur general des finances). Первым, кто занял эту дол-
жность, был знаменитый Кольбер, и с его легкой руки долж-
ность генерального контролера получила первенствующее
значение в центральном управлении всеми важнейшими сто-
ронами государственной жизни.
1 Собственно, вполне новым его назвать нельзя, так как первое обра-
зование «генеральства относится к середине XIV в., но только с учрежде-
нием интендантов это деление получило свое настоящее значение в общей
системе управления.
2 Ср. то, что сказано выше (с. 133—134) об этой должности.
162
Самое существенное, что здесь нужно отметить в долж-
ности генерал-контролера, это то, что он сделался главным
начальником всех провинциальных интендантов. Большей
частью они и назначались по представлению генерал-контро-
лера; только интенданты в пограничных генеральствах полу-
чали места по представлению военного министра. В провин-
циях интенданты совершенно вытеснили генерал-губернато-
ров, сохранившихся до революции только в виде простой
декорации. При Людовике XIV все они уже жили при дворе,
и им без специального королевского разрешения было даже
запрещено отлучаться в свои области. Только в провинциях,
сохранивших местные штаты, во время их сессий генерал-гу-
бернаторы продолжали еще представлять особу короля. У
интендантов были, далее, помощники, носившие название
«субделегатов» (subdelegues), и другие подчиненные им аген-
ты, которые и являлись последними исполнителями велений,
исходивших от центральной власти. Прежние финансовые
присутствия остались существовать, но уже или как органы,
сделавшиеся, в сущности, совершенно излишними, или в
лучшем случае только второстепенными колесами машины.
Чем далее развивался и укреплялся этот административный
механизм, тем все больше и больше расширяли интенданты
свою компетенцию, захватывая постепенно в сферу своих
полномочий все проявления жизни общества, а вместе с
этим все более и более создавались и такие условия, при ко-
торых центральная власть могла вмешиваться иногда даже в
мелочи управления.
Стоит только сравнить прусскую систему с французской,
чтобы сразу видеть, насколько последняя более подходила к
идеалу административной централизации, нежели первая.
Весьма естественно, что в XVIII в., когда где-либо предпри-
нималась административная реформа, в конце концов прото-
типом новых учреждений являлась французская система. В
свою очередь, из всех порядков управления местными дела-
ми из центра, какие только существовали при старом поряд-
ке, она наиболее напоминает диоклетиано-константиновскую
реформу в Римской империи1. Конечно, во Франции XVIII в.
мы не видим той стройности, какой отличалась иерархиче-
1 См. выше, с. 30.
163
ская структура римской администрации IV в., так как почва
не была еще очищена от обломков прежних времен, но в бо-
лее беспримесном виде административный строй Франции
старого порядка возродился в наполеоновской империи, в ко-
торой над отдельными созданными революцией департамен-
тами поставлены были в качестве агентов центральной вла-
сти префекты с супрефектами: в сущности это было только
второе и исправленное издание интендантов и субделегатов.
В силу самой своей миссии административная централи-
зация, где только она заводилась, должна была становиться
во враждебные отношения к общественной самодеятельно-
сти в местной жизни. То самоуправление, которым пользова-
лись еще от Средних веков города и области отдельных госу-
дарств1, встретило в правящей бюрократии самых опасных
врагов. Это очень хорошо можно проследить прежде всего на
примере той же Франции, где уже к концу XVII в. централи-
зация сделала такие успехи.
Королевская власть во Франции очень рано, еще при Фи-
липпе IV Красивом и особенно при Людовике XI, стала вме-
шиваться в муниципальное самоуправление, пользуясь раз-
дорами партий при выборе должностных лиц и дурным веде-
нием дел, особенно денежных, городскими властями.
Королевская власть постепенно налагала свою руку на это
самоуправление, присвоив себе в той или иной форме назна-
чение муниципальных должностных лиц и установив над го-
родами опеку центральной администрации. Этим дорога для
Людовика XIV была вполне расчищена, и ему оставалось
только пройти путь до конца. Именно при этом короле вме-
шательство центральной власти в городское самоуправление
было возведено в постоянную систему. Людовик XIV оконча-
тельно нанес удар муниципальной свободе, во-первых, в об-
ласти самостоятельного заведования местными делами и, во-
вторых, в выборе должностных лиц. В первом отношении
главные меры были приняты в эдиктах 1667 г. и 1683 г. с де-
кларацией 1687 г. «Мы,— сказано во втором из этих эдик-
тов,— хотим идти еще далее в наших заботах и воспрепятст-
вовать общинам на будущее время снова впасть в то беспо-
1 См. выше, с. 33—34.
164
рядочное состояние, из которого мы их вывели, ограничивая
хорошим законодательством слишком большую свободу, ка-
кой эти города и общины в прошлом пользовались в делании
долгов». Чрезмерная задолженность городов вообще и рань-
ше была, а теперь решительно стала одним из главных моти-
вов вмешательства королевской власти в муниципальную
жизнь, хотя в значительной мере этой задолженности содей-
ствовали, по признанию самого же Людовика XIV (только не
в эдиктах), большие налоги. Кольбер был сильно озабочен
ликвидацией старых их долгов, а новые правила были созда-
ны для избежания этого зла в будущем: лучшим средством
для достижения такой цели было установление над городами
правительственной опеки в лице интенданта, совершенно
убившее в жителях городов всякий интерес к местным де-
лам, всякий общественный дух, но зато возложившее на цен-
тральную власть и ее органы совершенно непосильную зада-
чу. Другую меру Людовика XIV по отношению к городам
представляет собой эдикт 1692 г., которым уничтожались
выборы в должность мэра или консула, превращавшуюся, та-
ким образом, в чисто коронную. Предлогом этого распоряже-
ния были случавшиеся во время выборов интриги и распри
(la cabale et les brigues), но при этом городам предлагалось,
буде пожелают, выкупить у казны право выбирать своих дол-
жностных лиц. При вновь установившемся порядке муници-
пальные должности сделались продажными: стоило тому,
кто желал приобрести, говоря по-нашему, например, долж-
ность городского головы или члена городской управы, лишь
заплатить более или менее приличную сумму, и он мог рас-
считывать на получение любой вакансии. Уплата городом
выкупа на право иметь выборные городские должности от-
нюдь не спасала, однако, от возможности лишиться со вре-
менем этой привилегии, и тогда приходилось платить и во
второй, и в третий раз. В общем с конца XVII в. до начала
последней четверти XVIII ст. правительство семь раз, т. е. в
среднем чуть не каждые десять лет, заставляло города или
платить, или управляться должностными лицами, купившими
свои места у короны. Эта черта «старого порядка» во Фран-
ции указывает на чисто фискальный характер того отноше-
ния, в какое власть стала к городам. Об этом же свидетель-
165
ствует и то, что еще при Ришелье были взяты в казну так на-
зываемые «октруа» (octrois), т. е пошлины, бравшиеся на го-
родских заставах с ввозимых в города продуктов. Эти пошли-
ны составляли изрядную часть муниципальных доходов, а
иногда чуть не вся муниципальная касса наполнялась только
такими поступлениями, и если города делали займы или от-
чуждали свое имущество, то главная причина этого, по край-
ней мере со времени Ришелье, заключалась в том, что преж-
ние городские доходы сильно сократились и чуть даже со-
всем не иссякли1.
Столь же неблагоприятным было отношение королевской
власти во Франции и к тем местным сословно-представитель-
ным собраниям, которые назывались провинциальными шта-
тами. Это учреждение возникло и развилось одновременно с
Генеральными штатами, с которыми местные собрания чинов
даже нередко вступали в конкуренцию2. Перед самой рево-
люцией провинциальные штаты сохранялись еще в некото-
рых провинциях, вследствие этого называвшихся «странами
с штатами» (pays d’etats), тогда как другие области, утратив-
шие штаты, носили труднопереводимое название «pays
d’election»3. В XVII ст. les pays d’election занимали около
двух третей территории Франции, и лишь треть приходилась
на провинции, обладавшие штатами, тогда как раньше, в
XVI ст., отношение было гораздо более благоприятное для
второй категории провинций. Сокращение числа последних
1 Подобной же политики правительство держалось и относительно
сельских общин, но здесь не было ни октруа, ни охотников покупать долж-
ность старост.
2 Поместье-государство. С. 240 и след.
3 Термин имеет довольно длинную историю. Еще в Средние века для
финансового управления возникла должность так называемых «выборных»
(elus), довольно рано превратившаяся в должность по назначению, а потом
в покупную. По имени этого должностного лица подведомственный ему ок-
руг назывался election, причем эти округа не совпадали с прежними баль-
яжами и сенешальствами. Когда позднее стали составляться «генеральст-
ва», они обыкновенно формировались из соединения нескольких таких elec-
tions. Так как, притом, elus существовали только в провинциях без штатов,
то последние и стали обозначаться, как «pays d’election». По-видимому,
впрочем, в этом термине election обозначало собой не округ, а коллегию,
состоявшую из elus и тоже называвшуюся election: штатам и противопола-
гались такие коллегии.
166
падает главным образом на середину XVII в. Еще Ришелье
уничтожил их в Дофине, временно отменял в Провансе и в
Нормандии, сильно .урезал их права в Лангедоке, а в конце
правления Мазарини и вскоре после его смерти (в 1651 —
1663 гг.) штатов лишился целый десяток провинций в раз-
ных частях Франции. Что касается Людовика XIV, то он
большей частью оставлял существовать штаты там, где они
уже были до него, но зато всячески сокращал их привиле-
гии. Нужно заметить, что иногда этому королю предлагали
уничтожить некоторые штаты, как учреждение стеснитель-
ное для королевских чиновников, в особенности для интен-
дантов, находивших в них «опасный дух», но Людовик XIV и
без формальной отмены штатов считал возможным свести на
нет все их значение. Главнейшей привилегией провинциаль-
ных штатов было вотирование так называемого «доброволь-
ного дара» (don gratuit), хотя с давних уже времен это вовсе
не был дар «добровольный»: Людовик XIV даже специально
объяснял дофину, чтобы он как-нибудь не поймался на это
слово. Сущность дела сводилась к тому, что правительство
запрашивало у штатов, где они были, больше, чем на самом
деле желало от них получить, и тогда начинали торговаться,
причем дело велось интендантом, которому давались особые
суммы для подкупа сословных представителей и который
снабжался, кроме того, приказами об аресте наиболее несго-
ворчивых из этих представителей. Сам Людовик XIV нахо-
дил, что «штаты пользуются своей свободой только для того,
чтобы сделать для него более приятным свое подчинение».
Для достижения своей цели правительство тоже очень не-
редко прибегало к тому же средству, каким раньше пользо-
валось по отношению к Генеральным штатам, т.е. поддержи-
вало рознь сословий1. Кроме вотирования добровольного да-
ра, штаты занимались еще некоторыми местными делами,
особенно публичными работами, но и тут правительство по-
стоянно вмешивалось, то находя ассигнованные суммы слиш-
ком большими из боязни, что провинция не будет в состоя-
нии уплатить в казну столько, сколько следует, то, наоборот,
предписывая произвести такие-то и такие-то работы, о кото-
1 Поместье-государство. С. 234, 237, 247 и др.
167
рых местные чины совсем и не думали и на которые у них не
было достаточных средств. В XVIII ст., перед революцией,
провинциальные штаты из больших провинций существовали
только в Лангедоке, Провансе, Бретани и Бургундии, из бо-
лее мелких — в Артуа, Эно (Hainaut), Камбрези и Фланд-
рии, да в некоторых еще крохотных округах, из которых,
например, четыре едва равняются теперь одному департа-
менту Ain. Какую роль они должны были играть в XVIII ст.,
об этом судить можно уже хотя бы по одному тому, что тре-
тье сословие было в них представлено главным образом не
выборными членами, большей частью мэрами городов, а
выборы среди двух привилегированных сословий обыкновен-
но подтасовывались путем чисто административных воздей-
ствий.
Таково было административное устройство во Франции
старого порядка. Из всех больших абсолютных монархий
эпохи ни одна не была так далека от такой бюрократической
централизации, как в высшей степени пестрая по своему со-
ставу монархия австрийских Габсбургов1. Это, как мы виде-
ли, не было даже государство: это были государства, соеди-
ненные под одной верховной властью, причем в каждом из
них существовали (со значением провинциальных, по отно-
шению ко всему целому, штатов) земские сеймы, отправляв-
шие и многие общегосударственные функции. Нельзя ска-
зать, чтобы Габсбурги, начиная еще с Фердинанда I, не стре-
мились слить все свои земли в единую централизованную
империю2, но это было дело слишком трудное, и в большин-
стве случаев им приходилось довольствоваться своим факти-
ческим абсолютизмом в отдельных «землях»; только во вто-
рой половине XVIII в., при Марии-Терезии и особенно при
Иосифе II, сделаны были решительные попытки к введению
в монархии бюрократической централизации. «Следует,—
говорил Иосиф II,— раз навсегда положить конец зависти и
соперничеству между провинциями, поставить выше всего
1 Ср. выше, с. 102.
2 Поместье-государство. С. 352. Речь идет о попытке организовать об-
щий делегатский съезд от отдельных земель, бывших под властью Габсбур-
гов, что могло бы быть только первым шагом к объединению монархии об-
щими учреждениями.
168
общее благо, установить единение между ними, дабы добить-
ся крупных выгод, равно касающихся всех». В проявлениях
провинциального патриотизма он усматривал поэтому только
«ложно понятую свободу, распущенность и самомнение». Он
не хотел смотреть на себя как на короля чешского и венгер-
ского, эрцгерцога австрийского, графа тирольского и т. п., и
совершенно игнорировал права и привилегии отдельных зе-
мель монархии, чтобы неограниченно править ею как единой
страной. Поэтому, вопреки провинциальным конституциям,
он нигде не короновался и инсигнии всех земель велел пере-
везти в Вену, и вместе с тем желал сделать государственным
языком монархии язык немецкий, за исключением двух
стран, Ломбардии и Бельгии, с их старой романской культу-
рой: поплатиться национальными правами должны были
мадьяры и разные славянские племена. «Всякий,— сказано
было в одном из эдиктов Иосифа И,— без труда поймет, ка-
кой это будет выигрыш для общего блага, раз повсеместно
во всем государстве дела будут вестись на одном и том же
языке: тогда все части монархии крепче будут одна к другой
привязаны братскими узами любви, доказательством чему
могут служить французы, англичане и русские». «Однако,—
совершенно верно замечает по поводу централистических
мер Иосифа II автор новейшего труда об этом государе,— он
не был германизатором в новейшем смысле этого слова, ка-
кими, например, в настоящее время являются пруссаки в По-
знани, Шлезвиге или Эльзасе... Издавая свои указы, он пре-
следовал не расовые, националистические, а чисто политиче-
ские цели: он думал этим средством положить конец
сепаративным стремлениям, упростить администрацию и
суд, улучшить благосостояние подданных. Уничтожить наци-
ональную культуру отдельных народов, бывших под его ски-
петром, он и не хотел»1. Сообразно с общим своим взглядом
на государство, предприняв новое административное разде-
ление монархии, он «ради ближайшей связи и большей про-
стоты административного производства» не принимал в рас-
1 Митрофанов П. Политическая деятельность Иосифа II, ее сторонни-
ки и ее враги. СПб., 1907. С. 237. У автора, вместо Шлезвига, названа Гол-
штиния, где население и без того немецкое.
169
чет ни исторических традиций, ни местного патриотизма от-
дельных земель монархии.
Централизаторская политика Иосифа II с подготовившей
ее деятельностью его матери составляет такой важный при-
мер одной из наиболее характерных сторон западноевропей-
ского абсолютизма, что нам следует на нем остановиться не-
сколько дольше. Уже с самого начала XVII в. политическое
значение местных чинов в немецких землях монархии Габс-
бургов стало приходить в упадок, но, как говорит упомяну-
тый автор русской книги об Иосифе II1, «в руках штатов,
лишившихся политического могущества и надежды на авто-
номию, все же оставались важные правительственные функ-
ции: финансовое управление, поставка рекрутов, почти весь
суд и местная администрация ведались их чиновниками, вы-
бранными на ландтагах. Насколько,— прибавляет он,— это
управление было хорошо и целесообразно, доказала война за
австрийское наследство, поставившая Марию-Терезию на
край гибели», когда ей «пришлось бороться не только с
внешними врагами, но и с инертностью и полной беспомощ-
ностью своих же органов власти в провинциях». Мария-Тере-
зия заменила орудие, оказавшееся негодным, другим, кото-
рое обещало лучшие результаты. Именно к концу ее царство-
вания «важнейшие,— говоря словами того же автора,— и
существеннейшие функции государственного управления бы-
ли сосредоточены в руках коронных чиновников, но фор-
мально штаты не были уничтожены и продолжали влачить
свое существование. Каждый год собирались они, почти
всегда осенью перед началом военного года, чтобы выслу-
шать запросы двора, который «приказывал им добровольно
согласиться на его требования»... Эти, читаем мы далее, «те-
ни прежних штатов несли тяжелые денежные повинности и
служебные обязанности, которые правительство взваливало
на них, считая для себя отяготительными некоторые функ-
ции управления. Таковы были расквартирование войск, забо-
ты об уплате процентов по займам, содержание в исправно-
сти дорог и мостов, составление и ректификация земельного
1 Митрофанов П. Политическая деятельность Иосифа II, ее сторонни-
ки и ее враги. СПб., 1907. С. 215 и след.
170
кадастра, вознаграждение за убытки, причиненные стихий-
ными бедствиями и войнами, раскладка податей, взимание
прямых и некоторых косвенных налогов, заведование благо-
творительными учреждениями, выбор кандидатов на школь-
ные стипендии, опекунские дела, внесение кандидатов в дво-
рянские книги, управление недвижимым имуществом, при-
надлежавшим провинциальным чинам in согроге». Я нарочно
сделал эту выписку с длинным перечнем предметов ведения
провинциальных сеймов, чтобы показать и большое количе-
ство, и разнообразие этих предметов. Конечно, общие со-
брания чинов, продолжавшиеся лишь несколько дней, имели
в своих руках только общие руководство и надзор, работали
же выборные комитеты, обыкновенно состоявшие из шести
членов и имевшие под своим начальством низших служа-
щих. «Чины,— говорит только что цитированный автор,—
утратившие при Марии-Терезии какое бы то ни было полити-
ческое значение, играли все-таки видную роль в государст-
венной жизни, вполне сохранив за собой первенство и в
жизни общественной. Крушение, во всяком случае, не было
полным». Ее преемник, Иосиф И, пошел далее. Указом
1788 г. ландтагам разрешалось собираться лишь с особого
соизволения монарха и рассматривать лишь дела, указывае-
мые каждый раз правительством. Еще раньше, в 1784 г., вы-
борные комитеты были уничтожены, и вместо них ведение
дел переходило к двум утвержденным правительством чле-
нам, считавшимся состоящими на государственной службе,
наравне с другими чиновниками. Получая жалованье из зем-
ской кассы, они входили в состав бюрократического губерн-
ского присутствия. В провинциях, кроме того, прежде суще-
ствовали выборные почетные должности, как их называли
вообще — «земских офицеров» (Landesofficieren), в частно-
сти маршалов и вице-маршалов, президентов рыцарского со-
словия и провинциальных гауптманов и т. п. Правительство
теперь по произволу меняло состав собраний или избирате-
лей, вместе с тем нимало не заботясь о том, чтобы справ-
ляться с мнениями и желаниями собраний.
Иосиф II не остановился и перед тем, чтобы аналогичную
реформу провести в Венгрии, где комитатские сеймики, т.е.
собрания привилегированных лиц каждого графства, играли
171
большую роль и где существовал стоявший с ними в связи
общий государственный сейм, один только с английским пар-
ламентом не разделивший общей судьбы сословно-предста-
вительных учреждений1. Правда, он созывался очень редко,
при Марии-Терезии за сорок лет ее царствования всего толь-
ко три раза (в 1741, 1751 и 1763 гг.), но каждый раз он про-
являл свою живучесть, а комитатские сеймики и по-прежне-
му собирались, часто делая оппозицию правительству.
Иосиф II ни разу не созвал сейма во все свое царствование2,
а сеймики всячески ограничил целым рядом мер, почти унич-
тоживших их прежнее значение.
Заменой прежних учреждений в наследственных немец-
ких землях монархии были во главе каждой провинции гу-
бернатор с находившимся под его начальством земским прав-
лением (Landesgubernium), с двумя непременными членами
от чинов в своем составе, причем в ведении этого областного
начальника находились все дела области: администрация и
полиция, церковное благочиние и благотворительность, шко-
ла и цензура, взимание податей, торговля и промышлен-
ность, надзор за благоустройством в городах и за взаимными
отношениями помещиков и крестьян в деревнях, равно как
разные дела, например, сиротские, тюремные, еврейские,
для которых, как и для некоторых других, раньше существо-
вали особые комиссии. Губернаторам, имевшим большую
власть, но находившимся под бдительным надзором особых
«фискалов», были подчинены «окружные комиссары» (Kreis-
kommissaren), сосредоточивавшие в своих руках всю мест-
ную власть в округах. Эта должность существовала и раньше
и была выборной от чинов, но Мария-Терезия превратила ее
в коронную с расширением ее компетенции в ущерб преж-
ним сеймовым комитетам и комиссиям, а Иосиф II поставил
этим окружным начальникам прямо необъятные задачи: зна-
ние всего, что касается местного населения, его численно-
сти, занятий, настроения и т. п., заботу по комплектованию
войска, по квартирной и подводной повинностям, по поимке
1 Ср. о венгерском сейме и сеймиках: Поместье-государство. С. 298—
299.
2 Ср. редкие созывы государственных чинов в других странах, предше-
ствовавшие иногда их полному упразднению. См. выше, с. 62, 68—69, 71 и
др.
172
дезертиров, по обеспечению бессрочно-отпускных воинских
чинов; надзор за духовенством, школами, благотворительны-
ми учреждениями, тюрьмами, господскими судами, продо-
вольственными магазинами, дорогами и т. п. (все это называ-
лось «Politicum»); им же поручались взимание повинностей
и защита крестьян от помещиков. Аналогичные учреждения
мы видим и в землях короны Св. Стефана, и в Бельгии, и в
Ломбардии.
«Административное устройство при Иосифе II,— говорит
новейший его историк,— получило такую стройность и закон-
ченность, что оно могло смело поспорить даже с прусским,
считавшимся в то время образцовым»1. Один современный
публицист писал, что Иосиф «хочет буквально превратить
свое государство в машину, душу которой составляет его еди-
ноличная воля». Австрийский государственный деятель Кау-
ниц говорил французскому послу, что «император так устроил
всю машину, что он лично ею управляет, и что поэтому все
должно остановиться в ту минуту, когда он не будет больше в
силах справиться с громадной работой». Он, как мы уже виде-
ли2, считал совершенно несоответственным с званием госуда-
ря тот порядок, который во Франции, при всей неограниченно-
сти королевской власти, позволял министрам играть господст-
вующую роль и давать общее направление политике. Такой
«министерский деспотизм», как он был назван во Франции,
Иосиф II считал равносильным рабству самого государя. В
сущности, однако, по отношению к подчиненным и Иосиф II
своим министрам давал самые широкие полномочия.
Во всех государствах, где только устанавливалась админи-
стративная-централизация, развивалась параллельно с ней и
бюрократия, в разных странах, конечно, имевшая не всегда
одинаковый облик, но в существе дела везде игравшая одну и
ту же роль, как главная сила, проводившая в жизнь разных
классов населения одни и те же начала неограниченности го-
сударственной власти и потому полного бесправия перед ней и
перед ее агентами одинаково всех общественных элементов.
1 Митрофанов П. Политическая деятельность Иосифа II, ее сторонни-
ки и ее враги (СПб., 1907). С. 245. Компетенция французских интендантов
была не менее всеобъемлющей.
2 См. выше, с. 154.
173
Сословная монархия, выросшая на почве феодальных и
коммунальных учреждений, была тесно связана с системой
местных самоуправлений, в которых главную роль играли со-
словные и корпоративные организации, часто совершенно
игнорировавшие то, что было или считалось интересом всего
государства. Усиление королевской власти шло рука об руку
с постепенным внедрением чиновничества в частным обра-
зом управляемые и самоуправляющиеся миры поместий, го-
родских общин с их корпорациями, провинций с их сослов-
ными сеймами, и там, где чиновничество внедрялось, оно
стремилось вытеснить из их позиций и поместного владель-
ца, и городское выборное начальство, и собрания провинци-
альных чинов. Подкапываясь под старые общественные си-
лы, оно пользовалось неорганизованностью новых, чтобы
сделаться всем во всем, самому сделаться особым обще-
ственным классом и захватить в свои руки монополию управ-
ления обществом, не допуская, конечно, к государственному
делу и новые общественные силы. Своим призванием в жиз-
ни общества оно считало и думать за него и за отдельные со-
словия, его составляющие, и действовать, чтобы везде утвер-
ждать единую власть государства и его главы. Для успешно-
го проведения в жизнь такого стремления чиновничество
должно было в себе самом создать известные порядки иерар-
хической организации, при которой сам король превращался
лишь в объединяющее завершение и направляющую силу
всей организации.
Как в католицизме церковь все более и более делалась
синонимом духовенства, так и в абсолютной монархии госу-
дарство все более и более отожествлялось с административ-
ным механизмом1. Чиновничество выделилось, таким обра-
зом, в самостоятельную общественную силу, поглощавшую
собой государство. Оно судило и рядило подданных, и обыва-
телю жаловаться на чиновника можно было не в суд, а преж-
де всего его начальству, которое могло покрыть своего под-
чиненного, не согласиться на его судебное преследование, а
если и подвергало его дисциплинарному взысканию, то по
своему усмотрению, а не на основании общего закона. Вме-
1 См. об этом в гл. XX, где речь идет о политических теориях эпохи.
174
сте с общественным самоуправлением падал и обществен-
ный контроль. Ответственность существовала лишь по отно-
шению к непосредственному начальству и так далее до само-
го верха служебной лестницы, до никем не ограничиваемого
главы государства, безответственность которого чиновниче-
ство стремилось распространить и на себя. Орудие власти,
оно в силу вещей само становилось властью, желая разде-
лить между отдельными членами «сословия» и ее прерогати-
вы. Нередко бюрократия прямо расхищала самодержавие ко-
ролей, превращая его в настоящую фикцию или, по крайней
мере, по-своему преломляя в своей среде намерения и веле-
ния носителя верховной власти. Если, по Аристотелю, пра-
вильные формы правления отличаются от неправильных тем,
что в первых власть одного или многих пользуется своими
правами в общих интересах, а в последних — в видах исклю-
чительно своекорыстных,— на чем он и основывал различие
между властью царя и тирана1,— то совершенно такая же
вещь могла случиться и с чиновничьим классом: из класса
государственных слуг он мог превратиться и превращался в
своего рода самодовлеющее сословие, для которого неогра-
ниченная власть короля, как источника всех прав и привиле-
гий бюрократии, была только ярлыком, покрывавшим ее соб-
ственный абсолютизм.
Надлежащее устройство административной машины госу-
дарства было делом сложным и трудным. Система везде со-
здавалась без общего плана, по частям и по мере надобности
в отдельных органах, из довольно разнородных элементов и
не всегда по одним и тем же принципам, что мешало пра-
вильности и последовательности действия машины и вноси-
ло путаницу в дела. В государственном управлении весьма
естественно образовывались и обособлялись отдельные ве-
домства, каждое под начальством отдельного лица, и между
ними иногда возникали несогласия, раздоры и острая борьба,
как это бывало, например, и между отдельными монашески-
ми орденами католической церкви. Эти ведомства тоже хоте-
ли быть самостоятельными и самодовлеющими организация-
ми и, как все чиновничество вообще, стремились всячески
1 Государство-город. С. 96.
175
все более и более захватывать власти над обществом, вместе
с тем все более и более ослабляя контроль над собой, кото-
рый шел сверху, со стороны центральной власти. Когда ве-
домства успевали в этом стремлении, начиналась правитель-
ственная анархия, по временам, как мы видели1, встречавша-
яся в истории абсолютной монархии при всей видимости
единства власти.
Есть еще одно, принятое в науке государственного права,
обозначение описанных порядков, лучше всего характеризу-
ющее их значение в жизни общества в смысле совокупности
простых обывателей. Обозначение это, принятое особенно в
Германии, есть «полицейское государство» (Polizeistaat).
Государство, которое мы называем теперь полицейским,
стремилось подчинить своей опеке и руководительству всю
общественную жизнь во всех ее проявлениях, дабы всех и
вся направить к единой цели водворения в обществе надле-
жащего порядка. Оно брало на себя и задачи педагогическо-
го свойства с целью превращения всего населения в благо-
нравных подданных, понимающих, в чем их истинное благо-
получие, и умеющих повиноваться не за страх только, но и
за совесть. Оно бралось руководить и промышленной дея-
тельностью населения, уча и здесь его, как ему достигать ис-
тинного благосостояния и служить в то же время интересам
государственной казны. Оно глубоко не доверяло самому че-
ловеку и обществу, и раз замечалось в ком-либо не особенно
большое желание с безропотной готовностью повиноваться
предписаниям благодетельного начальства, то предполага-
лось, что корнем оппозиции может быть или злая воля, или
тупая косность, или глупое невежество, неспособность по-
нять мудрость начальственных мероприятий. Сообразно с
этим придумывались и пускались в ход меры правительст-
венного воздействия на дурных подданных. Когда в обществе
возникали новые потребности, которые не могли быть удов-
летворены никакими существующими и получившими при-
знание со стороны государства средствами и способами, ког-
да выступала на сцену личная инициатива или общественная
самодеятельность, это тоже прежде всего казалось наруше-
1 См. выше, с. 132, 143, 149—151.
176
нием полицейского благочиния, если бы в этом даже и не за-
ключалось прямой опасности государственному благоустрой-
ству. Чем далее развивалось полицейское государство в сво-
ем одностороннем направлении, тем все более и более поли-
ция привыкала смотреть на себя как на главную силу,
поддерживающую и чуть не создающую благоустройство го-
сударства и благосостояние его населения, благонравие это-
го населения и общее благочиние в его жизни,— силу, в
сущности благожелательную и благодетельную, чего не мо-
гут понимать разве только злые, упрямые и невежественные
люди. Чтобы, однако, эта сила действовала сообразно со сво-
им назначением, ей необходимо было обладать самыми ши-
рокими полномочиями по отношению к опекаемому населе-
нию. Мелочная регламентация общественной жизни была
необходимым следствием всей этой системы опеки, налагав-
шей ограничения решительно на все деятельности, какие
только существовали в обществе. В эпоху полицейского го-
сударства полиции именно и принадлежали всеобъемлющие
функции, и трудно указать такие сферы жизни, которые так
или иначе не подлежали бы ведению полиции, под понятие
которой подводилось вообще все, что касается общественной
безопасности, общественного порядка, благосостояния, бла-
гочиния, благонравия и т. п.1 Можно даже исторически про-
следить, как постепенно все более и более умножались пред-
меты, входившие в круг компетенции полиции, и как органы
полицейской деятельности все более и более получали чисто
государственный характер, тогда как в Средние века о сколь-
ко-нибудь правильной организации полиции можно только
говорить лишь по отношению к городам2. Начало развития
полиции, как государственного учреждения, относится глав-
1 Любопытно, что слово «politia» было не чем иным, как аристотелев-
ской «политией» (Государство-город. С. 96) в смысле, однако, только хоро-
шего управления и добрых нравов (ср.: Поместье-государство. С. 239, где
говорится о «bonne policie»), откуда прилагательное «police» в значении,
близком к нашим терминам «культурный», «цивилизованный» и т. п.
2 Напомню для примера строго полицейский режим, установившийся в
Женеве при Кальвине, вовсе не бывший исключением из общего правила
городской жизни, а только разве доведенный до крайности преувеличением
тенденций, более или менее присущих всем городским властям.
177
ным образом к XVII в., и одной из первых стран, получивших
настоящий полицейский кодекс, была Бавария, где в 1616 г.
известный реакционный деятель Тридцатилетней войны, гер-
цог Максимилиан I, издал правительственный устав под
длинным названием «Landrecht-, Polizei-, Gerichts- und Male-
fiz-Ordnung». Особое развитие получила полиция и во Фран-
ции при Людовике XIV, который пользовался ее услугами и
в деле перлюстрации частной переписки («черный кабинет»),
и в надзоре за всеми неблагонадежными элементами обще-
ства и т. п., вплоть до цензуры книг. В Пруссии введение
особенно строгого полицейского режима относится к царст-
вованию отца Фридриха II, когда надзору и опеке властей
были подчинены даже мелочи обывательской жизни, особен-
но в столице государства, на глазах самого короля, не тер-
певшего проявлений легкомыслия, праздношатания, роско-
ши и т. п. В Австрии полицейский режим был усилен и сис-
тематизирован особенно при Иосифе II.
Усиление бюрократического и полицейского начал в го-
сударственной жизни не могло, конечно, не отозваться и на
области суда. Принцип отделения суда от администрации
вообще был формулирован в политических теориях сравни-
тельно поздно, и обе эти сферы вообще между собой смеши-
вались, но до начала бюрократизации государства суд всег-
да отправлялся при общественном участии, какие бы формы
это участие ни принимало. Заимствованный многими евро-
пейскими странами из Англии суд присяжных является од-
ним из лучших наследий средневековой старины, конечно,
сильно видоизмененным и усовершенствованным, тенден-
цией же абсолютизма было всегда устранять из отправле-
ния правосудия общественные элементы и ставить судей
все в большую и большую зависимость от предержащей
власти.
Одной из главнейших гарантий независимости судей от
начальнического давления в настоящее время признается су-
дейская несменяемость, и известно, например, что в Англии
Стюарты особенно хлопотали о том, чтобы обходить ставший
законом обычай несменяемости судьи, раз он добросовестно
исполнял свои обязанности, ради чего в эту эпоху прави-
тельство прибегало к замещению судейских мест не постоян-
178
ними судьями и, так сказать, исправляющими должность1.
Во Франции принцип несменяемости судей провозглашался
еще в XIV в., но больше в смысле особой приманки для ко-
ролевских слуг в борьбе с феодализмом. Людовик XI в
1467 г. даже издал ордонанс о пожизненном оставлении в
должности не только судей, но и чиновников вообще, на
деле же короли превосходно нарушали судейскую неприкос-
новенность, когда им это было нужно, ссылая и сажая в
тюрьмы неугодных им судей. Однако, как мы видели, про-
дажность должностей создала во Франции особое наследст-
венное судейское сословие, пользовавшееся вследствие это-
го большой независимостью и даже смотревшее на себя как
на главных оберегателей законности от произвола власти2.
Когда правительству волей-неволей приходилось мириться с
таким положением дел, оно в случае надобности прибегало к
другому средству: судьи оставались на своих местах и спо-
койно делали свое дело, но известные процессы изымались
из их ведения и передавались для постановления по ним при-
говоров в какие-либо другие учреждения, действовавшие не
столько по закону, сколько по политическим соображениям.
Во Франции изъятие из-под суда «естественных судей»
вытекало из принципа, делавшего короля источником право-
судия («toute justice emane du roi») и, следовательно, сосре-
доточивавшего в особе короля целиком всю судебную
власть. Если король и делегировал судьям известные полно-
мочия, источник которых был в нем самом, то вместе с тем
в каждый данный момент он считал себя вправе и взять на-
зад это делегирование, и распоряжаться своей судебной вла-
стью как-нибудь иначе, т.е. он или отдавал то или другое де-
ло на рассмотрение одного из своих советов3, или учреждал
1 См.: Народно-правовое государство. С. 62. Судьи назначались с ого-
воркой о возможности отозвания по усмотрению, так что судья сохранял
свою должность, пока это было благоугодно королю (durante bene placito,
during our pleasure), и только закон 1701 г. положил конец такому произ-
волу. Там же. С. 70.
2 См. выше, с. 139 и 141 —142.
3 Это называлось «evocation». Отметим кстати, что интенданты во
Франции, как показывает само их название (см. с. 161), пользовались и су-
дебной властью. Они прежде всего были именно «интендантами юстиции»,
и их юрисдикции подлежали очень многие дела. Это было полное смешение
администрации и суда.
179
специальный суд, причем, сверх того, могло назначаться, в
случае осуждения, и более сильное наказание, нежели то, к
какому подсудимый приговаривался. Король был волен в
жизни и смерти своих подданных, как волен был и в их сво-
боде, откуда и развилась практика «lettres de cachet». В эпо-
ху Фронды сделана была попытка обеспечить во Франции
личную свободу от произвольных арестов и судов, но с побе-
дой королевской власти все осталось по-старому, и практика
«lettres de cachet» получила особое развитие. В чем она за-
ключалась, это хорошо известно даже из элементарных учеб-
ников истории: в сущности это была только одна из форм
применения общего всякому абсолютизму неуважения к лич-
ной неприкосновенности и свободе. Что касается до чрезвы-
чайных судов временного или постоянного состава, то в ис-
тории абсолютной монархии они всегда играли видную роль,
вспомним ли мы при этом испанскую инквизицию1 или «звез-
дную палату» и «верховную комиссию» в Англии времен Тю-
доров и Стюартов и т. п.2 Абсолютизм вообще отличался
склонностью смотреть на суд как на одно из орудий, которы-
ми власть должна и имеет право пользоваться в исключи-
тельных интересах самой же власти. Идея правосудия при-
носилась при этом в жертву требованиям государственной
необходимости или престижа власти, и суд делался лишь од-
ним из административных ведомств, мало чем отличавшимся
от такого, например, ведомства, каким была полиция.
Даже в эпоху просвещенного абсолютизма, когда стало
распространяться и отчасти проводиться в жизнь более вы-
сокое представление о значении суда, правительства тех
стран, где новое направление в значительной мере проявля-
ло свою силу, не умели и не хотели отказываться на практи-
ке от применения мер чисто административного усмотрения
к таким случаям, которые должны были подлежать ведению
суда, строго применяющего только одни существующие зако-
ны. В этом отношении особенно интересен пример прусской
практики XVIII в. Здесь именно все было смешано в одно: ад-
министрация, полиция, суд и т. п., и власть заявляла, что
она может делать все, что хочет. Фридрих Вильгельм I вме-
1 См. выше, с. 63.
2 Народно-правовое государство. С. 62.
180
шивался непосредственно в правосудие, делал выговоры
судьям, указывал им, как они должны решать дела, заменял
состоявшиеся уже приговоры касательно наказаний други-
ми, нередко более суровыми и прямо жестокими и т. п. Его
сын, «король-философ», держался других взглядов и в своей
судебной реформе прямо проводил принцип независимости
суда от администрации, заявляя со своей стороны, что
«судьи не должны обращать внимания на рескрипты, хотя бы
они выходили из королевского кабинета». Реформированные
Фридрихом II суды сами стали проникаться этим взглядом, и
один случай показал, что новый принцип создал доверие к
судам и в народе. Известен анекдот о потсдамском мельнике,
не желавшем снести по требованию короля свою мельницу
около его загородного дворца и пригрозившего жалобой в
суд: король уступил упрямому мельнику, сказав, что, значит,
«в Берлине есть судьи» (П у a des juges a Berlin). Но в исто-
рии с другим мельником, Арнольдом, тот же Фридрих II по-
вел себя совершенно иначе. Ему показалось, что судьи реши-
ли дело Арнольда несправедливо, и потому он отменил их
приговор, самих же их за неправильное решение дела поса-
дил в крепость. И это был не единственный случай королев-
ского воздействия на правосудие: история с Арнольдом толь-
ко наделала в свое время много шуму и потому попала во все
биографии Фридриха II, хотя вообще, конечно, королевский
произвол в его царствование и не проявлялся в области пра-
восудия так часто и так грубо, как при его отце.
Итак, судебная власть в абсолютной монархии вполне со-
ответствовала общему духу ее других учреждений, и, конеч-
но, прежде всего государственная власть пользовалась су-
дом, как безусловно от нее зависимым орудием, в делах,
имевших политическое значение. Сами реформы в области
суда, предпринимавшиеся правительствами этой эпохи, на-
правлялись в значительной мере в сторону превращения су-
дов в более удобные и послушные орудия политических ви-
дов государственной власти, хотя, конечно, многое в этих ре-
формах вытекало из крайней неудовлетворительности самих
судов, унаследованных абсолютной монархией от Средних
веков. Выше мы уже говорили о том, что в XVIII в. абсолют-
ная монархия в разных местах прибегала к преобразованиям
181
в области действующего права1, с чем обыкновенно тесно
были связаны реформы и в судебном устройстве. В обоих от-
ношениях абсолютизму предстояло совершать очень слож-
ную и трудную работу, и достаточно будет одной ссылки на
пример Австрии, чтобы можно было судить о том, насколько,
действительно, работа была сложна и трудна2.
В Австрии до середины XVIII в. в области суда царила
средневековая путаница — без общего порядка не то что для
всего государства, но даже для отдельных округов или горо-
дов одной и той же провинции, равно как для отдельных со-
словий и корпораций, причем отдельные судебные учрежде-
ния или заезжали одно в компетенцию другого, или спихива-
ли одно другому дела, занимаясь, наконец, не одним судом,
но и деланием разных распоряжений по подведомственной
части. Что касается до того, в какие инстанции по каким
случаям можно было приносить апелляционные жалобы, это
был уже такой мудреный вопрос, что часто оставался на
практике совершенно неразрешимым. Само материальное
право было чем-то хаотическим, так как представляло собой
бесформенную массу часто противоречивых законов самого
несходного происхождения, какую-то кучу, в которую были
свалены нормы и канонического, и римского, и феодального
права со всем его разнообразием по отдельным местностям.
Да и судебный персонал был донельзя плохой, юридическое
образование судей неважное, добросовестность их и чест-
ность такая, что за ними в народном мнении утвердилось
представление как о пьявицах. Судопроизводство отличалось
при всем том страшной медленностью, и остряки говорили о
настоящем «бессмертии процессов»; само ведение дел, вдо-
бавок, было крайне дорого. Все это дополнялось жестоко-
стью уголовного права с его пытками и казнями.
Начало реформы судебной части в монархии Габсбургов
было положено только при Марии-Терезии, за исключением
Венгрии, где сейм и комитатские сеймики упорно отстаивали
старину, бывшую выгодной для привилегированных сосло-
1 См. выше, с. 145.
2 Берем примером Австрию, где судебная часть была особенно хаотич-
на.
182
вий. Мария-Терезия учредила, именно в 1749 г., особое, со-
вершенно отделенное от администрации «наивысшее присут-
ственное место по юстиции» (Oberste Justiz-Stelle), соеди-
нявшее в себе функции Министерства юстиции с функциями
высшего апелляционного судилища. В отдельных провинци-
ях суд тоже был отделен от администрации, т.е. провинци-
альные управления должны были ведать лишь администра-
цию, а суд отошел к юстиц-сенатам, все-таки, однако, быв-
шим в подчинении у губернаторов, все же низшие коронные
суды были объединены в земские суды, действовавшие от
имени высочайшей власти, но состоявшие, по-старому, из су-
дей, которые назначались и смещались городскими магистра-
тами и землевладельцами и от них же получали жалованье.
Вскоре (в 1753 г.) была учреждена еще особая комиссия для
кодификации («компиляции») общеавстрийского гражданско-
го и уголовного права. В 1767 г. она представила императри-
це на утверждение нечто среднее между собранием и сводом
законов, восьмитомный «Терезианский кодекс», потребовав-
ший, однако, переделки в другой комиссии. Годом позже был
утвержден императрицей выработанный тоже особой комис-
сией уголовный кодекс, известный под названиями «Терези-
анской Немезиды» и «Терезианского уголовного уложения».
С современной точки зрения, это было нечто невозможное,
так как для подсудимого не полагалось никаких гарантий: су-
допроизводство совершалось при закрытых дверях, чисто бу-
мажным образом, с массой ненужных формальностей, при-
чем коронный судья был и прокурором, и адвокатом, и су-
дьей, решавшим одновременно как вопрос о факте, так и о
мере наказания.
Компиляционная комиссия действовала и при Иосифе II.
В 1784 г. она представила императору доклад, в котором со-
вершенно справедливо указывала на то, что «для монарха
опасно предоставлять частным лицам1 и их служащим такую
важную функцию государственной власти, как судебная» и
что «опасно также допускать до исправления судебных дол-
жностей таких лиц, которые даже не подвергались экзамену
и которые смотрят на свои обязанности как на нечто второ-
1 Речь идет о помещичьем суде над крестьянами.
183
степенное». Иосиф II, разумеется, не мог с этим не согла-
ситься, и потому все его усилия были направлены к огосу-
дарствлению суда, которое не могло, однако, при тогдашних
взглядах быть чем-либо иным, кроме его бюрократизации.
Между прочим, «как не заслуживающие доверия правитель-
ства и народа», император совсем упразднил господские су-
ды по уголовным делам. Жизнью и свободой подданных дол-
жны были впредь распоряжаться только правительственные
судьи. С другой стороны, от судей требовались юридическое
образование и служебная опытность. Та же самая комиссия
занялась и решением вопроса, издать ли новый уголовный
кодекс или только исправить Терезианский, и дело было в
конце концов решено в первом смысле. В 1787 г. были изда-
ны «Всеобщий законник о преступлениях и наказании оных»
(Allgemeines Gesetzbuch liber Verbrechen und derselben
Bestrafung), и «Всеобщий гражданский законник» (Allgeme-
ines Gesetzbuch), целью которого было «ввести однообразное
цивильное право во всех наследственных немецких землях»,
хотя при добровольном согласии сторон дозволялось пользо-
ваться и местными обычаями, существующими «с молчали-
вого согласия государя страны».
Говоря обо всех этих мероприятиях австрийского прави-
тельства второй половины XVIII в. в области суда, нельзя не
упомянуть еще об одной стороне дела, характерной вообще
для эпохи абсолютной монархии, хотя эту сторону и нельзя
поставить в вину исключительно самому абсолютизму. Речь
идет именно о страшном варварстве уголовных законов вплоть
до середины XVIII в., когда впервые началось их смягчение, не
бывшее, однако, настолько решительным, чтобы и о реформи-
рованном уголовном праве нельзя было сказать, что оно было
страшно жестоко. Только что названная «Терезианская Неме-
зида» была вся построена на принципе устрашения, дабы, как
у нас говорилось в старину, другим неповадно было. Этот уго-
ловный кодекс был, так сказать, битком набит казнями, и от-
дельные его статьи заключали в себе даже подробности, как
их совершать в случаях сожжения, четвертования, сажания на
кол и других подобных приемов. Самые жестокие казни были
для религиозных и политических преступлений. К чести Иоси-
фа II нужно отметить, что он в качестве соправителя своей ма-
184
тери настоял на отмене пытки и на неприменении на практике
наиболее мучительных казней.
По вступлении на престол Иосиф II фактически отменил
смертную казнь секретным циркуляром судам от 9 марта
1781 г., где предписывалось только объявлять, но не приво-
дить в исполнение смертные приговоры. По уголовному его
законодательству 1787 г. смертная казнь, в крайних случаях,
могла применяться только при введении военного положе-
ния. Другие наказания, впрочем, были оставлены по-прежне-
му довольно жестокие. Только по преступлениям против ре-
лигии прежние тяжкие наказания заменялись срочным, хотя
и очень строгим тюремным заключением1.
Глава XI
АБСОЛЮТНАЯ МОНАРХИЯ И ПОСТОЯННЫЕ АРМИИ
Роль материальной силы в утверждении абсолютиз-
ма.— Упадок феодальных дружин и муниципальных ми-
лиций,— Начало наемничества и кондотьерства.— Сис-
тема постоянных армий.— Состав и способы набора
войска при «старом порядке».— Роль войска в поддержа-
нии внутреннего спокойствия.— Образование особого
бюрократического ведомства военных дел.— Военное ис-
кусство и специальное военное образование.— Проникно-
вение духа военной дисциплины в гражданскую службу.—
Милитаризм при «старом порядке»
Одной из сил, помогших утвердиться королевскому абсо-
лютизму, и одним из предметов, на которые были направле-
ны особые заботы абсолютной монархии, было войско. С са-
мого начала государственной жизни глава государственной
общины,— князь, царь, король,— является вместе с тем и
главным военным вождем, распорядителем всей материаль-
ной силы, какую только народ может собрать как для защи-
1 Кое в чем, но очень далеко не во всем, в этом кодексе сказалось вли-
яние гуманных идей Беккариа, бывшего австрийским подданным и занимав-
шего университетскую кафедру в Милане, столице габсбургской же Лом-
бардии.
185
ты своей от внешних врагов, так и для нападения на своих
соседей1. Обладание такой силой, как войско, дает возмож-
ность главе государства угрожать и в случае победы дикто-
вать свою волю не только соседям, но и самому населению
страны, находящейся в его управлении, и таким образом си-
ла, созданная народом для внешней борьбы, нередко направ-
ляется против него самого. Известно, какую роль сыграло
войско в установлении империи в Риме: недаром само слово
imperator, бывшее только одним из почетных званий воена-
чальника, сделалось титулом для обозначения высших носи-
телей государственной власти2.
С другой стороны, возможность превращения войска в
орудие власти для чисто внутреннего употребления предпо-
лагает уже в значительной мере подвинувшийся вперед про-
цесс дифференциации общества на мирных обывателей и во-
енную силу, от них отличную. Когда нет постоянной ар-
мии,— из кого бы она ни состояла, из пришлых чужеземцев
или природных жителей страны, из наемников или граждан,
обязанных отбывать воинскую повинность,— и в чьем бы
распоряжении она ни была,— т.е. зависела ли бы она от го-
сударства или от частных предпринимателей военного де-
ла,— когда, другими словами, нет обособленной от народа
постоянной военной организации чисто профессионального
характера, в которой человек обучается военному ремеслу,
проникается и чисто военным духом, в смысле известных ин-
стинктов, взглядов и правил и подчиняется сугубо строгой
дисциплине, до тех пор власть, в сущности, не располагает
вполне послушным и совершенно пассивным орудием для
проведения в жизнь общества своих требований.
В Средние века на Западе существовало военное сословие
в виде феодального дворянства, для которого военное дело бы-
ло, пожалуй, своего рода профессией, но эта профессия была
скорее только придатком к землевладению, чем вполне само-
стоятельным занятием3, и люди, занимавшиеся военным де-
лом, не составляли постоянных армий. Феодальное войско —
1 Государство-город. С. 36 и след.; Монархии. С. 35, 37 и др.
2 Монархии. С. 198 и след.
3 Поместье-государство. С. 106 и след., 122—123.
186
это само же феодальное общество сеньоров с их вассалами и
слугами, собирающееся в случае нужды по зову высшего сень-
ора, большей частью на непродолжительный срок и снова рас-
творяющееся в той общественной среде, из которой перед тем
выделилось. Тут нет генералов, штаб- и обер-офицеров и рядо-
вых солдат, а есть только сеньоры, вассалы, подвассалы, до-
машняя челядь, т.е. люди разных рангов по своему значению в
гражданской жизни, а не в военной службе, с ее производст-
вом в высшие чины из низших. То, что в Средние века можно
назвать армией (правильнее, ополчением), есть не что иное,
как временная совокупность феодальных дружин, этих чисто
местных организаций общественных сил для военных целей.
Феодальному распаду государства вполне соответствовала и
эта децентрализация военной защиты, предоставлявшая каж-
дому поместью, каждому селению заботиться о себе, как мо-
жет и как умеет: являлось общее предприятие — местные ми-
ры выставляли свои дружины, и ранги, занимавшиеся их вож-
дями в гражданском обществе, определяли то положение,
какое каждый из них должен был получить в большом ополче-
нии. Когда из феодального строя стали выделяться городские
общины, достигавшие иногда полного внутреннего самоуправ-
ления,— все эти французские коммуны, немецкие имперские
города, итальянские городовые республики и т. п.,— они тоже
организовали свое военное дело на феодальный манер — в ви-
де гражданских милиций, которые в общем военном строе по-
лучили такое же приблизительно значение, как и феодальные
дружины, в смысле чисто местных организаций. С разложени-
ем средневековых политических форм, в эпоху образования
более крупных государств, стали приходить в упадок и фео-
дальные дружины с коммунальными милициями, уже не соот-
ветствовавшие более потребностям государства, так как оно
уже переросло старые рамки, в которые стискивалась жизнь
феодальным и коммунальным строем, и на сцену, при переходе
от Средних веков к Новому времени, выступили наемные вой-
ска, продававшие свои услуги тому, кто щедрее за них запла-
тит.
Военное наемничество относится к числу древнейших яв-
лений истории, причем уже в очень ранние времена наемные
войска набирались большей частью из чужеземцев. Так, в фа-
187
раоновском Египте мы встречаемся, например, с наемными
войсками, состоявшими сначала из азиатских семитов, потом
из греков1; последние вообще очень охотно шли в военные на-
емники к азиатским царям, между прочим и к владыкам Пер-
сии в последние времена существования этой монархии2. Фи-
никийцы и карфагеняне пользовались исключительно наемни-
ками в тех войнах, которые им приходилось вести. Играло
большую роль наемничество и в царствах, возникших из мо-
нархии Александра Македонского. С наемничеством, далее,
тесно связано и другое явление, которое мы называем кондоть-
ерством, образовав этот термин из итальянского слова condot-
tiere, получившего значение предводителя наемного войска.
Кондотьер — частный человек, нанимающий простых солдат
на свою службу и сам вместе с тем к кому-либо нанимающий-
ся со своим отрядом. И кондотьерство было уже известно ан-
тичному миру; некоторые греческие полководцы, нанимавшие-
ся со своими отрядами на службу разным государствам, даже
прославили свои имена в качестве специалистов военного де-
ла. Кондотьерство начинало развиваться также и в Риме в эпо-
ху гражданских войн, и, например, Август еще юношей стоял
во главе совершенно частного войска, состоявшего из наемни-
ков3. Конечно, позднее, когда в Риме возникла новая власть,
ревниво оберегавшая свои прерогативы, такие частные войска
сделались немыслимы.
Вот эти два явления, т.е. наемничество и кондотьерство,
и получили большое развитие на Западе в переходную эпоху
от Средних веков к Новому времени, когда, с одной стороны,
прежние феодальные дружины и коммунальные милиции
уже не соответствовали более условиям и потребностям вре-
мени, а с другой, государство еще не успело организовать
свою постоянную армию. В Италии XIV и XV вв. были эпо-
хой наибольшего развития кондотьерства, игравшего тогда
даже самостоятельную роль в политике. В XV и XVI ст. на-
емничество сделалось одним из отхожих промыслов для на-
селения Швейцарии, откуда чуть не ежегодно уходили на
1 Монархии. С. 67, 92 и др.
2 Там же. С. 123, 127 и др.
3 Там же. С. 228.
188
службу к иностранным государям целые толпы наемных сол-
дат. Знаменитый Франц фон Зиккинген, предводитель вос-
стания германского имперского рыцарства в 1522—1523 гг.,
был наполовину средневековым рыцарем, наполовину кон-
дотьером, а в следующем столетии Германия выдвинула и
настоящего кондотьера, одного из самых крупных в истории,
в лице знаменитого героя Тридцатилетней войны Валленш-
тейна, образовавшего из самого разнообразного сброда гро-
мадную для того времени армию. Ниже, из истории возник-
новения постоянной армии во Франции, мы увидим, что и в
этой стране кондотьерство играло немалую роль.
Наемные войка, состоявшие нередко из иностранцев и во
всяком случае из людей, не связанных никакими узами с мес-
тным населением, из людей, искавших личной выгоды, не оду-
шевленных никакими высшими чувствами или принципами,
были в глазах государей, стремившихся к абсолютизму, гораз-
до более желательной организацией военной силы, чем преж-
ние феодальные и коммунальные ополчения, с их чисто мест-
ным патриотизмом, с их технической, притом, отсталостью и
т. п. Наемники были особенно превосходным орудием в руках
власти в ее борьбе с теми, кого она считала своими внутренни-
ми врагами, с кондотьерством же власть могла мириться толь-
ко как с неизбежным в известных случаях злом, ибо предводи-
тели наемных войск нередко обнаруживали слишком большое,
а иногда и прямо опасное своекорыстие. История Италии зна-
ет случаи, когда кондотьеры двух враждебных государств вхо-
дили между собой в сделку во вред тем, у кого нанимались на
службу, или когда кондотьер делался тираном, в греческом
смысле слова1. Точно так же честолюбие Валленштейна по ме-
ре его военных успехов приняло такие размеры, что не на шут-
ку встревожило императора, у которого этот полководец со
своей наемной армией находился на службе, и только траге-
дия, разыгравшаяся в Эгере в 1634 г. (убиение Валленштейна
заговорщиками), положила конец тревоге императора. Част-
ные наемные войска имели и то неудобство, что они отлича-
лись насильническими и грабительскими наклонностями по
отношению к мирному населению того же самого государства,
1 Ср. выше, с. 54.
189
главе которого служили за деньги. Избежать неудобств, свя-
занных с кондотьерством, можно было только путем найма
солдат непосредственно самим государством без кондотьерско-
го посредничества, т.е. образования государственных постоян-
ных армий, хотя бы созданных, в сущности, по образцу кон-
дотьерских войск. Настоящая абсолютная монархия в принци-
пе не должна была мириться с существованием в стране
независимых от власти военных организаций, но и она вынуж-
далась иногда прибегать к мелкому кондотьерству даже в та-
кие времена, когда уже существовали постоянные армии: в во-
енное время войска нередко не хватало, и тогда приходилось
прибегать к частному предпринимательству как к необходимо-
му вспомогательному средству.
В истории военной организации западноевропейских го-
сударств переход от одной системы к другой совершался по-
степенно, и новые формы возникали в то время, когда еще
существовали старые, которые, в свою очередь, не сразу ис-
чезали при господстве новых форм и продолжали иногда еще
играть некоторую, хотя бы только второстепенную и чисто
вспомогательную роль. Наемничество стало развиваться еще
в эпоху, когда господствующей формой была феодально-ком-
мунальная организация, и кондотьерство не совсем исчезло в
те времена, когда уже первенствующее значение принадле-
жало постоянным армиям. Говоря о последних, мы прежде
всего должны иметь в виду, что они могли пополняться или
так, как пополнялись кондотьерские войска, т.е. путем вер-
бовки охотников, или так, как пополнялись феодальные дру-
жины и коммунальные милиции или народные ополчения,
участие в которых было прямо обязанностью известных ка-
тегорий лиц. Второй из этих двух способов образования во-
енной силы государства, принятый в настоящее время в
большей части европейских государств, был вообще и более
древним способом, но это еще не значит, чтобы именно он
был положен в основу новых постоянных войск. Военная
служба в королевской постоянной армии на первых порах не
была отбыванием вассальной обязанности по отношению к
сеньору1 или повинности защищать сеньорию, лежавшей на
1 Монархии. С. 123.
190
средневековых крестьянах1, не была вообще чем-либо похо-
жим на воинскую повинность: она была лишь родом добро-
вольно заключенного с государством на известных условиях
договора найма, аналогичного с тем, какой заключался с лю-
бым кондотьером. В данном случае само государство стано-
вилось кондотьером, как в других случаях становилось про-
мышленным предпринимателем и купцом2 3. Воинская повин-
ность этим самым как бы снималась с тех, которые прежде
обязаны были ее нести, и для защиты государства население
должно было только платить деньги, чтобы правительство
могло нанимать охотников участвовать в его войнах. Нечто
подобное происходило всегда, когда вводилось военное наем-
ничество, частный же пример этого представляет собой за-
мена личной военной службы английских баронов за полу-
ченные ими от короля феоды особым денежным взносом, из-
вестным под названием скутагия2.
Давая такую схему, в которой этапами в эволюции воен-
ной организации являются сначала ранние народные ополче-
ния, потом феодальные дружины и муниципальные милиции,
за ними наемные кондотьерские отряды и лишь позднее по-
стоянные государственные армии, пополняющиеся на пер-
вых порах охотниками (вербовка) и только впоследствии
людьми, обязанными идти в военную службу, мы, конечно,
не будем утверждать, чтобы эта последовательность и стро-
го, и однообразно проходилась военным устройством всех
стран. Во-первых, уже было отмечено, что одни формы начи-
нали входить в употребление, когда другие, более ранние,
еще продолжали существовать,— и, в свою очередь, не со-
всем сходили со сцены, когда появлялись и укреплялись в
жизни новые формы. В связи с этим стоит, во-вторых, и то
обстоятельство, что нередко одновременно состав войска по
способу его пополнения оказывался довольно-таки пестрым.
В-третьих, наконец, каждая отдельная страна в развитии
своих военных сил шла своим собственным путем, несколько
1 Монархии. С. 99.
2 См. ниже, в гл. XIII.
3 Монархии. С. 158, 161.
191
отличным от путей, по которым шли другие страны, что за-
висело от массы различных чисто местных условий.
Во Франции начало постоянной армии относят обыкновен-
но к середине XV в. и называют творцом ее Карла VII1, но в
действительности зародыши ее существовали еще раньше, так
как уже в XIV в. королевская власть восполняла недостатки
феодально-муниципальной организации наймом в военную
службу дворян и простолюдинов не только из Франции, но
также и из чужих стран. Начавшаяся в середине этого века
Столетняя англо-французская война особенно заставляла ко-
ролей Франции хлопотать об образовании хорошего войска и
довольно-таки часто прибегать к созыву всенародных ополче-
ний как к крайнему средству борьбы с внешним врагом. Глав-
ная забота правительства уже тогда была направлена на то,
чтобы всегда иметь наготове «отряды вооруженных людей»
(compagnies de gens d’armes), и вот в это-то время появляются
во Франции «капитаны» таких «компаний», поступающие на
королевскую службу со своими солдатами2. Правительство
стремилось внести некоторый порядок в службу этих банд, ор-
ганизовать их в более крупные военные единицы под общею
командой, но это плохо удавалось, так как «компании» предпо-
читали вести партизанскую войну на свой страх и в собствен-
ных интересах. Можно указать на целый ряд королевских ор-
донансов, стремившихся к установлению в таком хаотическом
войске определенного порядка, известной дисциплины и даже
настоящей иерархии более важных и менее важных военных
начальств, т.е. военных чинов с соответственными им должно-
стями, но это тоже не особенно удавалось ввиду нежелания
разных лейтенантов (Пеи1епап15=наместники), коннетаблей,
маршалов и т. п. повиноваться королевской воле. Введение в
военное дело в XIV в. огнестрельного оружия и возникновение
артиллерийского искусства, в свою очередь, должны были про-
извести целый переворот в организации военных сил, а с этим
вместе должны были произойти и соответственные изменения
в сооружении крепостей: старые феодальные замки уже не
могли играть прежней роли при существовании осадной артил-
1 Ср. выше, с. 68.
2 Это было также своего рода кондотьерство.
192
лерии. Кое-как налаженная новая военная сила в начале XV в.
пришла, однако, в полное расстройство, отразив на себе об-
щую анархию, господствовавшую тогда в стране: «капитаны»
разных рангов вели себя, как независимые от своих начальни-
ков военные вожди, а их «компании» занимались простым гра-
бежом, тем более что казна очень плохо выплачивала жалова-
нье людям.
Лишь после освобождения территории Франции от внеш-
него врага королевская власть получила возможность заняться
организацией своей военной силы. Карл VII и занялся этим де-
лом, к которому приступил на орлеанских Генеральных шта-
тах 1439 г., но которое завершил много позднее. Из всех капи-
танов и солдат были отобраны лучшие, а остальные отпущены
на все четыре стороны, и прежние компании были реформиро-
ваны, получив при этом название «compagnies d’ordonnance»,
так как были приказаны (ordonnees) самим королем, а не со-
ставлены по произволу того или другого капитана. Для рас-
квартирования солдат были назначены определенные города,
содержаться же эти солдаты должны были на счет провинций,
чем на их жителей возлагалась постойная повинность, а на ме-
стные власти обязанность доставлять солдатам провиант
(вскоре, впрочем, замененный денежным жалованьем). Всякие
нарушения дисциплины стали после этого строго наказывать-
ся, и начальники должны были отвечать за порядок во вверен-
ных им частях. Для содержания новой регулярной армии был
введен специальный налог (taille des gens de guerre), что сдела-
ло эту реформу не особенно популярной в населении.
Не следует, однако, представлять себе эту древнейшую на
Западе постоянную армию как чисто национальное войско. В
ее составе были и отряды, состоявшие сплошь из иностранцев,
например, из шотландцев или испанцев, из швейцарцев или
немцев,— черта, которая характеризует французскую армию
до самой революции: не забудем, что последними защитника-
ми павшей 10 августа 1792 г. монархии были швейцарцы. Пер-
воначальное ядро этой постоянной армии составляла конница,
но около того же времени, когда она организовалась, в сороко-
вых годах XV в., было положено начало и постоянной пехоте,
хотя и в очень ограниченном количестве. В организации пехо-
ты было принято за основу начало обязательной военной по-
193
винности, которую должны были отбывать каждые пятьдесят
дворов (feux), давая в королевскую армию по одному «свобод-
ному стрелку» (franc-archer); при Карле VII их было только
8000, им тоже платилось жалованье, а свободными они назы-
вались потому, что освобождались от подушного налога. Орга-
низуя таким образом постоянную армию, Карл VII не отказы-
вался от своего права созывать и феодальное ополчение, но яв-
лявшиеся на королевскую службу сеньоры теперь тоже
получали известное денежное вознаграждение. Перед револю-
цией французская армия все еще резко делилась на регуляр-
ные полки и провинциальные милиции.
Таково было начало постоянного королевского войска
во Франции. Общеевропейские войны, начавшиеся около
1500 г., заставили вообще все большие государства того вре-
мени завести у себя регулярные войска, хотя пример Валлен-
штейна показывает, что еще в XVII в. в Германии существова-
ли условия, благоприятные для кондотьерства. Примеру круп-
ных государств стали подражать мелкие, и одним из следствий
Тридцатилетней войны для Германии было то, что и ее импер-
ские князья обзавелись постоянными войсками. Развитие кня-
жеского деспотизма в Германии, между прочим, привело к то-
му, что во время северо-американской войны за независимость
некоторые немецкие государи продавали целые военные отря-
ды Англии, у которой не было достаточно своих военных сил
для подавления восстания американских колонистов. Герма-
ния даже сделалась в XVII—XVIII вв. типичной страной по-
полнения войсковых частей посредством вербовки, возведен-
ной на степень своего рода искусства. Для этого существовали
специалисты-офицеры, жившие постоянно в определенных
пунктах или разъезжавшие по стране, даже заглядывавшие за
ее границы и занимавшиеся улавливанием в войска охотников,
причем нередко они прибегали к спаиванию молодежи, к обма-
нам и т.п. Из всех немецких княжеств особенно большое взи-
мание на образование крепкой постоянной армии было обра-
щено во второй половине XVII в. в Бранденбурге, превратив-
шемся в начале следующего столетия в Прусское
королевство1. Известно, какую важную роль играла Пруссия в
1 См. выше, с. 95.
194
европейской политике при Фридрихе II: ее войско считалось
образцовым, и при военных реформах в других государствах
многое делалось в виде простого подражания прусским поряд-
кам, а между тем больше половины армии Фридриха II состоя-
ло из навербованных солдат, и только меньшая часть — из ре-
крутов, поставлявшихся населением. Одной из особенностей
этой армии было то, что в ней охотно служило землевладель-
ческое дворянство: это была почти обязательная служба, к че-
му стремился во Франции еще Ришелье, но чего ему достиг-
нуть не удалось. То обстоятельство, однако, что и в эпоху наи-
большего развития системы вербовки солдат правительства не
отказывались от пополнения армии и рекрутами, обязательно
поставлявшимися населением, указывает на недостаточность
одной этой системы. Никогда, при каких бы то ни было поряд-
ках, не забывалось изначальное воззрение, в силу которого за-
щита государства лежит на обязанности подданных, и было бы
особенно странно, чтобы в эпоху, когда правительства наибо-
лее были склонны видеть в каждом подданном только служеб-
ную часть государства, они не стали бы обращаться к населе-
нию с требованием поставки солдат в армию. Тем не менее си-
стема вербовки дожила до конца XVIII в., и только
Французская революция положила начало новой, конскрипци-
онной системе.
Этот краткий и по необходимости отрывочный очерк по-
стоянных армий на Западе в эпоху абсолютных монархий
можно закончить указанием на то, что уже Австрия при
Иосифе II начала решительно переходить к новой системе.
Дело в том, что в монархии Габсбургов неудовлетворитель-
ность старой военной организации сказалась во время войны
за австрийское наследство, когда, вместо 140 000 солдат, чис-
лившихся по бумагам, в наличности оказалось только 40 000,
да и то очень плохих и по выучке, и по дисциплине, и по воо-
ружению. В промежуток времени между обеими войнами, ко-
торые велись Марией-Терезией, были предприняты некоторые
реформы; между прочим, поставка рекрутов и провианта была
изъята из ведения областных чинов и отдана в ведение прави-
тельственных чиновников, но неудачный исход Семилетней
войны заставил Иосифа II, вскоре по ее окончании сделавше-
гося соправителем матери, особенно приналечь на военную ре-
195
форму — по прусскому образцу. При этом, однако, вербовка,
до того времени, как и в Пруссии, особенно бывшая в ходу,
была заменена системой конскрипционной, и наемные солда-
ты, бывшие и в Австрии часто чужеземцами, уступили место
рекрутам, которых поставляли в армию местные жители: к
каждому округу был приписан тот или другой полк, пополняв-
шийся новыми солдатами из населения округа. От несения во-
инской повинности освобождались духовные, дворяне, чинов-
ники, более почетные бюргеры («honoratiores»), все обладав-
шие недвижимой собственностью и нужные в земледелии и
промышленности, наконец, евреи, для которых военная служ-
ба считалась слишком большой честью (с них за освобождение
брались, однако, деньги), так что в армию брались почти иск-
лючительно крестьяне, не бывшие собственниками своих уча-
стков, дворянская челядь, чернорабочие, поденщики, город-
ская прислуга и мелкие мещане.
Система наемных войск и позднейшая система вербовки,
стоящая с первой в непосредственной связи, в истории органи-
зации военных сил на Западе Европы имеют более или менее
эпизодический характер и представляют собой слишком, прав-
да, долго затянувшийся момент перехода от системы тесного
соединения отбывания воинской повинности с землевладени-
ем к системе отбывания этой повинности, как личной обязан-
ности подданных по отношению к своему отечеству. Введение
рекрутских наборов было первым приступом к той реформе,
завершением которой была прусская всеобщая воинская по-
винность начала XIX в. Одной из особенностей последней бы-
ло то, что к отбыванию повинности были привлечены все клас-
сы населения, тогда как прежние рекрутские наборы распрост-
ранялись только на простонародную массу, а
привилегированные от обязательного несения воинской обя-
занности освобождались. Дворянин мог служить и не
служить, ибо феодальное землевладение, сохранив многие из
своих прав, мало-помалу освободилось от главной своей обя-
занности отбывать военную службу государству. В военной
организации времен абсолютизма дворянство удержало за со-
бой только привилегию в виде исключительного или преиму-
щественного права на занятие офицерских мест, что придава-
ло тогдашним армиям аристократический характер. Дворянст-
196
во фактически вообще долго еще оставалось военным сослови-
ем по преимуществу, и далеко не сразу даже исчезло его фео-
дальное право содержать частные дружины, как мы это видим,
например, во Франции в эпоху Столетней войны с англичана-
ми, так что и монополия государства содержать войско устано-
вилась тоже не сразу. И до тех пор, пока эта монополия не ут-
вердилась окончательно, королевская власть не могла считать-
ся вполне абсолютной.
Одной из функций постоянных армий было поддержание
внутреннего порядка. Необходимость такого органа государст-
венного воздействия на общество вытекала из того состояния
чисто феодальной анархии, в какое по временам впадали от-
дельные страны в периоды внутренних смут. Образование по-
стоянных вооруженных сил для службы государству вообще
сыграло большую роль в истории борьбы государственности
Нового времени со средневековым феодализмом, но те же воо-
руженные силы были и орудием королевской власти в борьбе
с оппозицией, которая проявлялась в обществе. Некоторые
факты такого рода были уже приведены выше, и нам будет по-
нятно, почему главный вдохновитель абсолютистских стремле-
ний Карла I Стюарта, граф Страффорд, придавал такое важное
значение образованию в Англии большой королевской армии1.
Столь же понятно также и то, почему Долгий парламент на-
стаивал на ограничении королевских прав по отношению к во-
оруженным силам и почему в знаменитой Декларации 1689 г.
после второй Английской революции было признано незаконо-
мерным «собирание и содержание армии в королевстве без со-
гласия парламента»2.
По мере того как совершался рост постоянных армий, до-
бывание средств для их содержания все больше и больше де-
лалось предметом особых правительственных забот. В эпоху
Тридцатилетней войны и первой Английской революции 50-
тысячные армии Валленштейна и Кромвеля считались уже
очень крупными, а вскоре во Франции Людовика XIV воору-
женные силы выросли до 450 000. Содержание постоянных
армий требовало от правительств вообще немало забот и
1 См. выше, с. 90.
2 Народно-правовое государство. С. 67.
197
хлопот, которые на первых порах нередко разделялись с ним
местными сословными сеймами, как это было, например, в
XVII в. во владениях Гогенцоллернов,1 или в XVIII в. в Авс-
трии2. Подобно тому, как и в других отраслях управления,
так и в деле комплектования и расквартирования армии,
снабжения ее провиантом, амуницией и вооружением и т. п.,
можно проследить постепенное развитие бюрократической
централизации с выделением всех вопросов, касающихся
комплектования армии, военного хозяйства и т. п., в особое
ведомство. Среди французских Государственных секретарей,
игравших роль теперешних министров3, были два, заведовав-
шие сухопутными и морскими силами государства, именно
«secretaires d’etat de la guerre» и «de la marine». Если военное ко-
мандование в провинциях находилось в руках так называе-
мых «commandants en chef dans les provinces»4, то все другие
стороны военного быта, соприкасавшиеся с гражданским уп-
равлением, состояли в ведении местных интендантов, кото-
рые были не только органами министра финансов (генераль-
ного контролера), но и военного министра. Интендант на-
блюдал за исполнением правил о вербовке солдат и
утверждал отдельные обязательства, которые подписывались
поступавшими на службу, занимался набором в так называ-
емые провинциальные милиции, распоряжался материальной
частью передвижения войск (подводы, фураж, провиант) и
их расквартированием, ловил дезертиров, обладал высшей
полицией и судебной юрисдикцией во всем, что касалось во-
енных госпиталей, и проч., и проч. Большое развитие воен-
ная администрация получила и в Пруссии, где тоже возник-
ло своего рода особое Военное министерство и где бюрокра-
тические палаты по войсковым делам имели немалое
значение в общей системе областного управления5. В Авст-
рии военное ведомство тоже было обособлено, и например,
при Марии-Терезии находилось под высшим управлением
сначала ее супруга, а потом сына, Иосифа II.
1 См. выше, с. 95—96.
2 См. выше, с. 170—171.
3 См. выше, с. 134.
4 См. выше, с. 160.
5 См. выше, с. 156.
198
Развитие военного искусства в эпоху почти беспрерыв-
ных войн, какие велись в XVI—XVIII вв., тоже поглощало
много средств и создавало немало забот и хлопот Военным
министерствам абсолютной монархии. Имена некоторых во-
енных организаторов перешли даже в учебники, каковы, на-
пример, имя военного министра при Людовике XIV, Лувуа,
при котором строятся первые казармы, вводится однообраз-
ное обмундирование отдельных войсковых частей и т. п., или
инженера Вобана (в то же царствование), прославившегося
фортификационными работами. Начало обучения войск по-
средством специальной муштровки тоже относится к этой
эпохе, достигши своего апогея в Пруссии XVIII в., короли ко-
торой были особыми любителями военных экзерциций, смот-
ров и парадов, механизировавших, так сказать, все движе-
ния отдельных солдат в общем строю. Раньше военные зна-
ния приобретались путем опыта, но с развитием военного
искусства, с возникновением своего рода и теоретического
отношения к военному делу должна была почувствоваться
потребность в особых военных школах, как более общего,
так и более специального характера (артиллерийских, инже-
нерных). Развитие военно-учебных заведений относится
главным образом ко второй половине XVII ст. и к XVIII ст.
Одним из первых государств, которое организовало у себя и
низшее, и высшее военное образование, была Пруссия1.
Пруссия и в другом еще отношении шла в XVIII в. впере-
ди других современных ей государств Запада. Обладая для
своего времени самой благоустроенной армией, прусское
правительство не только ставило заботы об армии на первый
план во всей своей системе управления, но и всячески поощ-
ряло военную службу, окружая военное звание разными пре-
имуществами, выдвигая офицерство вперед сравнительно с
гражданскими чиновниками. Оно заботилось еще и о том,
чтобы дух военной дисциплины, которым была проникнута
вся армия от самых высших до самых низших чинов, царст-
вовал и в бюрократических канцеляриях, сосредоточивав-
ших в себе управление гражданскими делами. Вышколен-
ность прусской бюрократии вошла в поговорку и нередко со-
1 Основание Великим курфюрстом первой кадетской школы в 1653 г.,
устройство Фридрихом II Военной академии в Берлине и т. п.
199
ставляла предмет зависти для других правительств. В Авст-
рии, например, чисто военную дисциплину прусского образ-
ца стремился ввести в бюрократические канцелярии
Иосиф II, строгость которого в этом отношении создала не-
мало недовольных и в чиновничьей среде.
Прусские военные порядки были, в сущности, однако,
только первым проявлением того общего милитаризма, кото-
рым стал так отличаться реакционный абсолютизм XIX в.,
под влиянием, конечно, и того образца для подражания, ка-
кой представляла собой империя Наполеона I. С падением в
обществе всякой активной оппозиции прежний абсолютизм
мог чувствовать себя безопасным, и у его представителей не
могло быть того особого отношения к армии, которое харак-
теризует абсолютизм позднейший, после Французской рево-
люции. Необычайное расположение прусских государей к
солдатчине, к казармам и плац-парадам находит свое объяс-
нение и в особом значении, какое имела армия для Пруссии
в ее международной политике, но, например, французские
короли не были повинны в таком милитаризме. События
Французской революции самым наглядным образом свиде-
тельствуют нам о том, что монархия Бурбонов не особенно
заботилась о превращении армии в специальную опору тро-
на1. Главное, это — то, что при общем положении вещей
власть не могла ощущать никакой надобности в ухаживании
за военной силой. Постоянные армии абсолютной монархии
на Западе не вмешивались в политику, и вся история этой
эпохи не знала ничего подобного возведению на престол но-
вых государей военными бунтами вроде тех, какие происхо-
дили в древней Римской2 или средневековой Византийской
империи, или тем русским государственным переворотам
XVIII в., в которых такую роль играла дворянская гвардия,
как не знала и военных революций, подобных тем, какие
происходили потом в двадцатых годах XIX в.3 До 1789 г.
«старый порядок» чувствовал себя прочным, армия счита-
1 См. на этот счет интересные соображения в книге Е. В. Тарле «Па-
дение абсолютизма в Западной Европе», где (т. I, с. 158) особенно подчер-
кивается отсутствие во Франции 1789 г. более тесной связи между дина-
стией и армией.
2 Монархии. С. 243 и след.
3 Ср. Народно-правовое государство. С. 253.
200
лась нужной для защиты главным образом от врагов внеш-
них, опасного врага внутреннего ниоткуда не предвиделось1,
и власть не имела особой нужды принимать милитаристиче-
ские формы. Революция и Наполеон дали позднейшему абсо-
лютизму в этом отношении другое направление.
Глава XII
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО И ФИНАНСЫ
«СТАРОГО ПОРЯДКА»
Предмет настоящей главы.— Смешение хозяйствен-
ных интересов короля и королевства в эпоху абсолют-
ной монархии.— Аналогии этого в Римской империи и в
раннюю эпоху Средних веков.— Прекращение вотирова-
ния налогов государственными чинами и пережитки
этого порядка.— Господство натурального хозяйства в
феодальную эпоху.— Феодальные остатки в государст-
венном хозяйстве абсолютной монархии и управление
доменами.— Развитие денежного хозяйства в Новое вре-
мя.— Начало государственных финансов и особого ве-
домства для управления ими.— Образование государст-
венных долгов.— Отсутствие правильных бюджетов и
канцелярская тайна финансового управления.— Органи-
зация податного обложения при «старом порядке».—
Общий фискальный характер экономической политики в
эту эпоху.— Финансовый крах абсолютной монархии во
Франции
Бюрократизация управления государством, возникновение
и увеличение постоянных армий, частые и продолжительные
войны, развитие блеска и роскоши придворной жизни — все
эти явления, рассмотренные в предыдущих главах, требовали
1 Известно, что первая попытка опереться на военную силу сделана
была старой монархией во Франции только тогда, когда у нее уже не было,
собственно говоря, армии, успевшей разложиться под влиянием, между
прочим, того социального разлада между офицерами-дворянами и солдата-
ми-простолюдинами, который проник и в военную среду. После взятия Ба-
стилии двор возлагал главные свои надежды на состоявшие в королевской
службе иностранные полки. 10 августа 1792 г. дворец защищался швейцар-
цами.
201
больших денежных расходов, что, в свою очередь, усложнило
задачи государственного хозяйства. Не входя в технические
подробности, мы остановимся здесь на главных чертах, харак-
теризующих ведение государственного хозяйства в эпоху абсо-
лютной монархии. Особенностями этими следует считать, во-
первых, смешение хозяйственных интересов короля и королев-
ства, во-вторых, устранение общественных сил от вотирования
налогов и от контроля за государственными расходами,
в-третьих, проникновение в финансовое управление форм де-
нежного хозяйства, развивавшихся в частных предприятиях
эпохи, и, в-четвертых, общий фискальный характер всей эко-
номической политики абсолютной монархии. От последней
черты — прямой переход к вопросу об отношении абсолютных
правительств к экономической жизни общества в эпоху разви-
тия абсолютизма, чему посвящена следующая глава.
Одной из основных черт абсолютизма, как мы не раз уже
видели, было полное подчинение всей народной жизни тому,
что королевская власть считала своим правом и своим интере-
сом, отожествляя их с правом и интересом самого государства,
единственным судьей которых был притом опять-таки только
сам монарх. Эта особенность абсолютизма, конечно, не могла
благоприятствовать строгому разграничению между частным
хозяйством короля и государственным хозяйством его коро-
левства. Уже Аристотель, различая разные виды царской вла-
сти у народов древности, говорит, между прочим, о такой по-
литической форме, при которой «власть царя соответствует
власти домохозяина». «Как хозяин в доме,— поясняет он свою
мысль,— есть как бы некоторый царь в нем, так и царь являет-
ся здесь как бы хозяином государства»1. Эта черта и характе-
ризует у Аристотеля азиатские деспотии, в отличие от эллин-
ских монархий. Первые он потому считал в своей классифика-
ции близкими к тирании, ибо в них частный интерес носителя
верховной власти неизбежно должен был получить самодовле-
ющий характер. В древности понятие государственного, поли-
тического, публичного было выработано лишь греческими по-
литиями и Римской республикой, но с переходом Рима в импе-
рию и в греко-римский мир стал проникать восточный взгляд
1 Монархии. С. 377.
202
на власть как на нечто самодовлеющее и стоящее над государ-
ством, подобное власти домохозяина над его семьей и его иму-
ществом. Развитие западноевропейского абсолютизма шло в
том же направлении: неограниченность королевской власти
распространилась на все достояние государства, и притом
иногда не только на то, что заключалось в государственной
казне, но и на то, что лежало в карманах подданных1. К кругу
той же категории идей относится и известное изречение осно-
вателя экономической школы физиократов, Кенэ: «Бедны кре-
стьяне — бедно королевство; бедно королевство — беден ко-
роль»,— хотя в этих словах была одна новая для того времени
мысль — о зависимости богатства королевства и короля от на-
родного благосостояния, новая, если мы вспомним совет Ри-
шелье не допускать благосостояния народа, дабы он не выхо-
дил из надлежащих рамок покорности перед властями.
Западноевропейской абсолютной монархии тем легче бы-
ло становиться на «домохозяйственную» точку зрения, что в
основе абсолютной королевской власти лежала власть чисто
феодального характера, а феодализм ведь и характеризуется
смешением публичных и частичных отношений и понятий2.
Но и независимо от этого, сам по себе абсолютизм носит в
себе тенденцию к подчинению государственного начала
«вотчинному», что особенно хорошо наблюдается на исто-
рии государственного хозяйства в самой Римской империи.
Во времена республики государственное хозяйство Рима
имело, конечно,— употребляя термин Аристотеля,— поли-
тический характер. Оно сохраняло его и в первые времена
империи, хотя в эту эпоху имперские финансы разделялись
между двумя различными казнами, республиканским эрари-
ем, оставшимся в заведовании сената, и императорским фи-
ском, бывшим казной самого принцепса3. С понятием фиска
находится в теснейшей связи и понятие императорского
патримония, состоявшего из громадной поземельной собст-
венности в Италии и в провинциях4. Собственно говоря,
фиск и патримоний различались между собой, как государ-
1 См. об этом в гл. XVIII.
2 Поместье-государство. Гл. V.
3 Монархии. С. 224.
4 Там же. С. 259.
203
ственная собственность,— только находившаяся в управле-
нии императора,— и как частная его собственность; но с те-
чением времени между фиском и патримонием делалось все
меньше и меньше различия, пока порядок управления пат-
римониальными землями не подчинил себе порядок управ-
ления и фискальными имуществами, а вместе с тем и та
часть государственной собственности, которая оставлена
была в заведовании сената, не слилась с императорским фи-
ском, получившим чисто патримониальный характер1. Дру-
гими словами, в последние времена Римской империи со-
всем стерлось на практике прежнее различие между част-
ной собственностью главы государства, патримонием, с
одной стороны, и собственностью самого государства, како-
вой были одинаково и эрарий, и фиск. Все слилось воедино,
эрарий превратился в фиск, а фиск принял характер патри-
мония, т.е. вся имперская собственность как бы сделалась
лишь частным достоянием императора. Если подобная эво-
люция совершилась в Римской империи, которая сначала,
как-никак, все-таки знала, что собственность государства и
собственность государя не одно и то же, тем понятнее дол-
жно быть для нас неразличение этих двух понятий при пол-
ном развитии западноевропейского абсолютизма, так как
неограниченные государи XVI—XVIII вв. были наследника-
ми королей феодальной эпохи, характеризующейся, как ска-
зано было выше, смешением частно-правовых («домохозяй-
ственных») и публичных отношений и понятий.
Известно, именно, что германские вожди, сделавшиеся
королями варварских государств в бывших провинциях Рим-
ской империи, обратили в свою частную собственность все
фискальные земли, какие нашли в занятых ими провинциях.
Им уже и совсем трудно было различать между государст-
венными и домохозяйственными отношениями, что между
прочим выразилось и в неотделенности чисто государствен-
ного управления от управления дворцового2. Феодализация
государства, когда сам король становился лишь одним из
сеньоров, старшим среди других подобных же сеньоров, ко-
1 Монархии. С. 320 — 321.
2 См. выше, с. 114.
204
нечно, должна была только содействовать еще большему не-
различению между государственным и вотчинным, и слово
домен стало мало-помалу приобретать двоякий смысл, т.е.
употребляться для обозначения и королевских поместий, и
территории, на которую непосредственно распространялась
политическая власть короля. Конечно, в теории мы должны
для этой эпохи различать в доходах короля некоторую
часть, поступавшую в его пользу как помещика, и другую
часть, получавшуюся им как государем, но это различение
могло получить практическое значение только с возникнове-
нием сословно-представительных учреждений, которые сто-
яли по отношению к королевским доходам на точке зрения,
пользуясь термином Аристотеля, политической, а не домо-
хозяйственной1. Эти государственные сеймы вотировали
субсидии и стремились контролировать их употребление на
государственные нужды, но с превращением сословной мо-
нархии в абсолютную все подобные собрания чинов или со-
всем прекратились, или потеряли всякое свое значение, и
перед королевской властью открывалось широкое поле для
совершенно произвольного, домохозяйственного заведова-
ния всеми средствами, поступавшими в казну на удовлетво-
рение государственных нужд. Государственная казна и час-
тное достояние короля как бы сливались в одно целое.
Выше, в разных местах уже не раз приходилось указывать,
когда и где вотирование налогов представителями сословий
или совсем прекратилось, или превратилось в простую фор-
мальность без всякого реального значения2. Мы знаем, напри-
мер, что во Франции в середине XV в. установился постоян-
ный налог, независимый от Генеральных штатов, что в течение
XVII и XVIII вв. (1614—1789) сами штаты не созывались, и
что лишь в немногих провинциях (pays d’etats) существовали,
в виде пережитка из прежних времен, местные собрания чи-
нов, вотировавшие так называемый добровольный дар, на са-
мом деле бывший далеко не добровольным. Местные штаты
были и в других государствах тоже с правом вотирования на-
логов, но с таким же призрачным, как и во Франции, имевшим
1 Поместье-государство. С. 201 и след.
2 См. выше, с. 63, 66, 71, 87, 167 и др.
205
совершенно такой же характер пережитка. И в финансовой
сфере, как и в других, устанавливались везде бюрократиче-
ские порядки; можно даже сказать, что именно нужды управ-
ления финансами определяли собой иногда и само устройство
администрации. В Пруссии XVIII в. одним из высших прави-
тельственных учреждений была генеральная директория фи-
нансов, военных дел и доменов1, во Франции областными пра-
вителями были интенданты юстиции, полиции и финансов2 и
т. п. Сами интендантские округа, так называемые генеральст-
ва, образовались первоначально как чисто финансовые округа,
из соединения более мелких податных округов (elections), и
интенданты заменили в них более ранние финансовые присут-
ствия3. Понятно, что при абсолютизме и бюрократизме и речи
быть не могло о каком бы то ни было независимом контроле
государственных финансов4.
Переходим ко второй из отмеченных выше черт государ-
ственного хозяйства западноевропейской абсолютной монар-
хии.
Абсолютизм устанавливался на Западе в эпоху усиленно-
го, так сказать, перехода от средневекового натурального хо-
зяйства к денежному хозяйству Нового времени, перехода,
как известно, вообще играющего большую роль в истории со-
циальных отношений и политических учреждений5. Самое
установление абсолютной монархии было бы немыслимо при
1 См. выше, с. 156.
2 См. выше, с. 162.
3 См. выше, с. 161 и 166 (примем.).
4 Ср. интересные замечания о финансовом контроле в абсолютных мо-
нархиях вообще и, в частности, в старой французской монархии, сделанные
Besson’oM в его книге «Le controle des budgets en France et a 1’etranger» (2-e
изд., 1901), c. 10—11. Общий смысл их тот, что, будучи чисто администра-
тивным, контроль финансов при старой монархии, лишенный всякой неза-
висимости и гласности, оказывался совершенно бессильным в борьбе со
злоупотреблениями администрации, тем более что сама же контролирую-
щая власть слишком часто подавала дурной пример всяких правонаруше-
ний. См. там же историю счетной палаты во Франции (chambre de comptes,
выделившейся вместе с парламентом из королевской курии и бывшей одной
из cours souveraines; ср. «Западноевропейскую абсолютную монархию»,
с. 138—139), равно как централизации управления финансами и т. д.
5 Ср.: Государство-город. Гл. VI; Монархии. Гл. IV; Поместье-государ-
ство. Гл. XV.
206
господстве натурального хозяйства, которое замыкает
всю общественную жизнь в рамки мелких местных орга-
низаций, какими на самом деле и были феодальные
сеньории1. Политическая интеграция идет всегда рука об
руку с интеграцией экономической, то опережая ее, то от
нее отставая, но в общем испытывая на себе ее влияние и са-
ма на нее влияя. Экономическая интеграция, т.е. образова-
ние, путем обмена или торговли, связи между отдельными,
первоначально замкнутыми хозяйственными округами (от-
дельными деревенскими общинами, поместьями, городами),
не может совершаться без внедрения в прежние отношения
денег как орудия обмена, а без этой экономической интегра-
ции была бы немыслима и та степень интеграции политиче-
ской, на которой происходит концентрация власти в руках
одного лица, устанавливается административная централиза-
ция и возникает более или менее сложное государственное
хозяйство. С другой стороны, само это хозяйство не может
не испытывать на себе влияние перемен, происходящих в хо-
зяйстве народном, в свою очередь, конечно, оказывая на него
давление и тем самым вызывая в нем разные перемены. Про-
слеживая финансовую историю любого государства Запада
от феодальных времен к временам абсолютизма, мы всегда
будем видеть одно и то же — преобладание в феодальные
времена черт натурального хозяйства и развитие в эпоху аб-
солютной монархии типичных особенностей хозяйства
денежного.
Доходы, получавшиеся средневековыми королями от хо-
зяйства в их поместьях, заключались в продуктах земледе-
лия и скотоводства, главным образом в зерновом хлебе и в
овечьей шерсти, отчасти в коже, которые короли, подобно
другим крупным землевладельцам, светским и духовным
сеньорам и монастырям, сбывали купцам, уже и отвозившим
хлеб или шерсть туда, где в них была надобность. Все значе-
ние знаменитой ганзейской торговли было основано на скуп-
ке у крупных землевладельцев сельскохозяйственных про-
дуктов, дававшей королям, владетельным князьям и феодаль-
1 Ср.: Монархии. С. 39.
207
ной знати возможность приобретать товары Востока. Кроме
непосредственных доманиальных доходов, короли имели
иногда в своем распоряжении большое количество зерна и
шерсти, поступавших к ним в виде подати, что наблюдается,
например, в Англии. Для более выгодной продажи доставав-
шихся им продуктов короли не прочь были искусственно ус-
транять своих конкурентов в этой торговле путем запреще-
ния вывоза или хлеба, или шерсти, или кож, но такого, ко-
нечно, запрещения, которое для самих королей как бы
совсем и не существовало. Подобные торговые операции
средневековых государей доходили до того, что император
Фридрих II Гогенштауфен, обладавший и королевством в
Южной Италии, занимался вывозом своего хлеба из Сици-
лии к тем самым сарацинам, против которых велись Кресто-
вые походы, и будучи даже сам участником одного из таких
военных предприятий. Случалось, что государи не довольст-
вовались продуктами собственных имений, а кое-что прику-
пали для сбыта на стороне, а бывало и так, что при сущест-
вовании общего запрещения вывоза делали частные изъятия
или для своих приближенных, или для некоторых купцов, из-
влекая при этом известный доход из прямой продажи подо-
бных «лиценций» (дозволений).
В истории никогда, по отношению к формам быта, в ши-
роком значении этого слова, мы не имеем дела с полной за-
меной старого новым. В постепенной эволюции форм в но-
вом сохраняются пережитки старого, да и само новое лишь
мало-помалу вытесняет старое: потому с постепенным вжи-
ванием новых форм в прежние отношения мы всегда наблю-
даем и переживание старых форм среди изменившихся от-
ношений1. Государственность лишь постепенно вживалась в
феодальное общество, сама, однако, воспринимая феодаль-
ные пережитки. Отсюда — одновременное существование
форм, характеризующих разные ступени общественного раз-
вития. Феодальные пережитки в абсолютной монархии су-
ществовали не только в ее политических отношениях и по-
1 Это общее положение можно было бы подтвердить многими примера-
ми в этой же книге, вроде, например, того, что говорится на с. 190—191 о
военном устройстве.
208
нятиях, но и в ее государственном хозяйстве. Чем более от-
сталой представляется нам в экономическом отношении та
или другая страна, тем большую роль в ее государственном
хозяйстве играют королевские имения (домены), эксплуати-
руемые теми же способами, какие существовали в данной
стране для эксплуатации и частных поместий, хотя, конеч-
но, и в этом случае устанавливались свои бюрократические
учреждения, заведовавшие доменами. Так, например, мы
уже не раз встречались в этой книге с прусским централь-
ным управлением доменами и соответственными провинци-
альными палатами1. В общем, однако, государственное хо-
зяйство Нового времени не могло держаться на одних дома-
ниальных доходах, и с ростом государственных расходов все
более и более должны были возрастать взимавшиеся госу-
дарством с населения налоги, тяжесть которых давала себя
чувствовать иногда даже в Средние века2.
История возникновения и развития денежного хозяйства в
Западной Европе с конца Средних веков — такая обширная и
сложная тема, что самой этой обширностью и сложностью мы,
за недостатком места, вынуждены ее коснуться лишь настоль-
ко, насколько это необходимо для общей, равным образом не
могущей быть детальной, характеристики рассматриваемой
стороны государственного хозяйства абсолютной монархии3.
Местами возникновения и центрами распространения де-
нежного хозяйства в конце Средних веков на Западе,— как,
впрочем, это было всегда и везде,— были города со своими
торговлей и промышленностью, которым и сами города были
обязаны как экономическим развитием, так и политической
ролью. Известно, что обладателями первых крупных денеж-
ных капиталов на исходе Средних веков были купцы, ведшие
иностранную торговлю, и уже о XVI в. можно сказать, что он
1 См. выше, с. 156.
2 Ср. о фискальное™ французской монархии еще в XIV в. на с. 231 —
232 книги «Поместье-государство».
3 См.: История Западной Европы. Т. I, гл. XIX и дополнительную
(XVI а) главу т. II, помещаемую в названной книге, начиная со 2-го изда-
ния. Впрочем, в следующей главе настоящей книги тоже сообщаются неко-
торые, наиболее общие сведения из экономической истории Западной Евро-
пы.
209
был такой же эпохой роста коммерческого капитализма, какой
для капитализма индустриального сделалось прошлое столе-
тие. Предметом торговли сделались в эту эпоху и сами деньги,
понимая под торговлей деньгами разные денежные операции
банкирского и биржевого характера. Родиной банкирского де-
ла была еще средневековая Италия, а в XVI в. мы встречаемся
с его развитием и в других странах Западной Европы, где, кро-
ме того, в это время началось процветание бирж, например, в
Лионе и в Антверпене первой половины столетия, в Генуе и во
Франкфурте-на-Майне к его исходу. На торговых и денежных
операциях уже в конце Средних веков стали вырастать громад-
ные состояния, например, фамилии Медичи во Флоренции в
XIV в., знаменитого французского богача-купца Жака Кера в
XV в., аугсбургского торгового дома Фуггеров в XVI ст.
Государственное хозяйство начинавших делаться абсо-
лютными королей не могло не испытать на себе влияния об-
щей экономической эволюции. Государям с конца XV в., ког-
да начались крупные международные войны1, нужны боль-
шие денежные средства. Средневековые войны велись, если
можно так выразиться, средствами натурального хозяйства,
ибо королевские войска состояли из феодальных дружин,
снаряжавшихся и содержавшихся на счет феодальных поме-
стий, но образование наемнических отрядов2 уже требовало
со стороны королей крупных денежных расходов. Все старое
государственное хозяйство натурального типа должно было
начать перестраиваться по денежному типу, и государи не
только не могли не взять за образец для подражания в уст-
ройстве своих финансов то, как вели свои денежные дела
крупные коммерсанты, банкиры и цари биржи, но иногда да-
же прямо призывали подобного рода дельцов к себе на служ-
бу для заведования финансовой частью. Лишь с течением
времени государи переняли у банкиров способ составлять
большие суммы из малых взносов путем публичной подписки
на займы, как не сразу же переняли у кондотьеров способ со-
ставления армий путем вербовки3. Вообще, конечно, ведение
государственного хозяйства оказалось делом куда более
1 См. выше, с. 73 и след.
2 Ср. выше, с. 188 и след.
3 См. выше, с. 189—190.
210
сложным и трудным, чем ведение торговых и денежных опе-
раций, но, как-никак, это хозяйство все же складывалось во
многих отношениях по тем образцам, какие представляли со-
бой частные предприятия коммерческого и банкирского ка-
питализма. Понятно, что для ведения государственного хо-
зяйства возникали и специальные ведомства в общей систе-
ме управления государством.
Образование крупных частных капиталов и в других отно-
шениях оказало свое влияние на финансовую историю абсо-
лютной монархии. Только что было упомянуто о начале, с кон-
ца XV в., больших международных войн, которые велись боль-
шими наемными армиями. Обычных материальных средств,
какими располагали тогдашние правительства, далеко не хва-
тало для крупных военных предприятий, в которые пускались
государи рассматриваемой эпохи, и потому они охотно прибе-
гали к займам у богатых коммерческих и банкирских фирм,
платя им громадные проценты и давая им разные монополии и
концессии, еще более обогащавшие эти фирмы. В XVI в. Фуг-
геры, ссужавшие Габсбургов значительными суммами, прямо
оказывали влияние на ход международной политики эпохи.
Без денежной помощи Фуггеров Максимилиан I совсем не мог
бы вмешаться в Итальянские войны1, а его внук Карл V мог бы
быть и не выбранным в императоры2, как мог бы быть не вы-
бранным «римским королем» (заранее предназначенным пре-
емником императора) его брат Фердинанд I. Войны обоих этих
Габсбургов с Францией, с турками и с немецкими протестанта-
ми3 равным образом велись на деньги, бравшиеся в долг у Фуг-
геров, и некоторые перипетии мировой политики Карла V объ-
ясняются тем, насколько щедр или скуп был по отношению к
нему в тот или другой момент этот знаменитый банкирский
дом. Сын Карла V, Филипп II, тоже пользовался денежными
ссудами Фуггеров. Вообще крайне неумело ведя свое государ-
ственное хозяйство, занимая деньги на очень невыгодных для
себя условиях, тратя громадные суммы на войны и на придвор-
ную роскошь, короли нередко оказывались настоящими банк-
ротами. Например, в одно царствование Филиппа II в Испании
1 См. выше, с. 76—77.
2 См. выше, с. 80.
3 См. выше, с. 80 и след.
211
три раза происходило государственное банкротство, от чего,
между прочим, сильно потерпели и сами Фуггеры. Уже в са-
мом начале царствования названного этого короля испанская
королевская казна оказалась несостоятельной, чтобы платить
по долговым обязательствам, и услужливые придворные тео-
логи объявили, что все заключенные с банкирами условия
представляют собой не что иное, как противное божескому за-
кону ростовщичество, и что поэтому король имеет право ото-
брать у банкиров их незаконно добытое имущество. Филипп II
так и поступил, взяв назад все уступленные банкирам доход-
ные статьи и уже отданное им серебро (в слитках), заменив
все это расписками, платеж по которым должен был происхо-
дить из налогов будущего времени, а при реализации эти рас-
писки не стоили и половины своей номинальной цены. Около
того же времени произошло банкротство и французского коро-
ля Генриха II, которому также удалось при помощи большой
финансовой операции («1е grand parti») собрать весьма круп-
ную сумму для ведшейся в то время (1552—1559) войны с Габ-
сбургами. За недостатком денежных средств обе стороны даже
вынуждены были прекратить войну. Как бы то ни было, систе-
ма государственных займов,— благо было у кого занимать
деньги,— вошла в обычай, и абсолютная монархия широко
пользовалась этим средством, притом большей частью на со-
вершенно непроизводительные расходы.
Возможность иметь в своем распоряжении большие день-
ги посредством займов получила для королей и важное еще
политическое значение. Занимая как бы лично значительные
суммы для своих нужд и предприятий, они могли до извест-
ной степени обходиться без новых налогов и, следовательно,
не обращаться к сословно-представительным учреждениям,
вотировавшим субсидии, хотя, с другой стороны, необходи-
мость расплачиваться по долгам приводила в конце концов к
увеличению податной тяготы народа. Кроме того, развитие
торговли и промышленности создало новые предметы обло-
жения в пользу государства. Раньше главные доходы свои
королевская казна получала с земли, и притом не только от
доманиального хозяйства, но и в форме субсидий, дававших-
ся землевладельческими классами, с развитием же торговли
212
и промышленности получил значение и новый источник об-
ложения — товары. Отсюда, как мы увидим, то покровитель-
ство коммерции и индустрии, каким отличалось особенно го-
сударство XVII—XVIII вв.1 Здесь лишь отметим, что прави-
тельства эпохи старались всячески вводить пошлины на
товары и косвенные налоги на предметы потребления, не
прибегая к содействию сословно-представительных учрежде-
ний.
Превратившись в самого крупного предпринимателя в
стране, которому нужны были постоянно большие денежные
суммы для оплаты бюрократического управления, для содер-
жания военной силы, для постройки крепостей, для заготов-
ления оружия, для войн и т. п., правительство, конечно,
должно было сводить концы с концами, чтобы держать в
равновесии расходы с доходами. Старая монархия, конечно,
не могла не стремиться к тому, чтобы правительству были
всегда известны средства, какими оно может располагать
для удовлетворения своих нужд, но организовать эту часть
управления она оказывалась столь же бессильной, как и в
областях законодательства и администрации, в которых мы
так часто наблюдаем отсутствие единства, планомерности и
порядка2. Одна история французских финансов на протяже-
нии пяти веков старой монархии (XIV—XVIII) могла бы до-
ставить немало данных для того, чтобы говорить о той анар-
хии, которая по временам возникала в этой области3. Меж-
ду тем уже с начала XIV в. королевское правительство во
Франции было озабочено составлением росписей доходов и
расходов, а такие министры, как Сюлли при Генрихе IV, Ри-
шелье при Людовике XIII, Кольбер при Людовике XIV, Тюр-
го и Неккер при Людовике XVI, старались внести как мож-
но больше точности, ясности и полноты в такие росписи.
Это не были бюджеты в современном значении термина,
т.е. в смысле финансового закона, подлежащего неуклонно-
му исполнению и объявляемого во всеобщее сведение; это
1 См. в след, главе.
2 См. выше, с. 132 и след., 149 и след.
3 Например, при последних Валуа, т.е. в конце XVI в., или в эпоху ре-
гентства, т.е. в начале XVIII в.
213
были лишь предположительные сметы1. «Даже при прибли-
жении революции,— говорит об этих сметах знаток истории
бюджета Бессон,— они отнюдь не имеют силы закона, ни в
малейшей степени не стесняют инициативы государя. Ко-
роль был волен в течение финансового года по личному же-
ланию совершенно изменить весь строй плана, начертанно-
го им самим. Единственно от него самого зависело снести
те хрупкие преграды, которые его же подчиненный, гене-
ральный контролер2, построил, на его глазах, для того что-
бы обеспечить его от жадности его приближенных и огра-
дить его от собственных увлечений. Поэтому не следует ви-
деть в финансовых обзорах старой монархии что-либо иное,
а не чисто факультативную программу для монарха, план
поведения, исполнение которого было предоставлено его ди-
скреционной власти»3. Иначе и быть не могло при тогдаш-
нем взгляде власти на свои права. С другой стороны, рос-
пись государственных доходов и расходов отнюдь не подле-
жала опубликованию. Это был своего рода государственный
секрет, вообще одна из канцелярских тайн финансового уп-
равления. Известно, какую сенсацию произвело во Франции
опубликование, в 1781 г., Неккером его финансового отчета
(compte rendu). Этот министр,— которому, как протестанту,
не позволили титуловаться генерал-контролером, а только
«директором финансов», даже поплатился своим местом за
такой смелый шаг: нация не должна была, например, знать,
какие суммы поглощал королевский двор. Впрочем, и в этом
знаменитом «compte rendu» Неккера не было всей правды о
французских финансах. Уже предшественник Неккера в де-
ле финансовых реформ, Тюрго, советовал Людовику XVI на-
всегда ничего более не заносить в так называемую «крас-
ную книгу», куда записывались разные неблаговидные рас-
ходы, но король под влиянием окружающих на это не
1 Les etats de previsions, как их характеризует Besson в соч., названном
выше (с. 206).
2 Министр финансов (см. выше, с. 162).
3 Besson, с. 197. Обходим молчанием технические недостатки таких
бюджетов. Главный из них был тот, что это не был единый, или универсаль-
ный бюджет, а комплекс целого ряда специальных бюджетов, плохо согла-
сованных между собой.
214
согласился, так что когда Неккер доводил до всеобщего све-
дения свой бюджет, кроме последнего, существовал еще
другой бюджет, безусловно тайный, названная «красная
книга», где отмечались многочисленные расходы, которые
король изымал от контроля счетной палаты и вообще обере-
гал от какой-либо гласности. «Королевский секрет» сущест-
вовал, значит, не в одной только дипломатии1.
В Австрии XVIII в. тоже, говоря словами новейшего ис-
торика политической деятельности Иосифа II, «о правильном
государственном хозяйстве не имели понятия; бюджет не
был установлен, и правительство жило изо дня в день, зани-
мая направо и налево из хронически ростовщических про-
центов. Управление финансами не было приведено в строй-
ную систему, и центральные и местные власти, коронные и
земские учреждения, сами не зная своей компетенции, пра-
вильно и несправедливо взимали неустановленные налоги
без какого бы то ни было контроля, от чего прежде всего
страдало население, а потом и правительство... Большая
часть косвенных налогов отдавалась на откуп, а там, где хо-
зяйничали акцизные чиновники, они своими требованиями и
придирчивостью доводили подданных до отчаяния»2. По
окончании Семилетней войны Мария-Терезия ввела в управ-
ление финансами принцип централизации, сосредоточив за-
ведование государственными доходами и расходами в «импе-
раторской придворной палате» (Kaiserliche Hof-Kammer), яв-
ляющейся настоящим Министерством финансов и имевшей
рядом с собой для контроля расходов особую счетную палату
(Kais. Hof-Rechnenkammer), в провинциях же органами Ми-
нистерства финансов были всеобъемлющие земские правле-
ния3. Только одна раскладка податей в отдельных провинци-
ях оставалась в руках местных чинов, хранивших государст-
1 См выше, с. 150. Примеру Неккера думал последовать Иосиф II, счи-
тая себя «управляющим общественными доходами, обязанным отчетом каж-
дому лицу, платящему подати», но на самом деле никакого отчета он не из-
дал, а «общественными доходами» распоряжался так же произвольно, как и
другие современные ему государи.
2 Митрофанов П. Политическая деятельность Иосифа II. С. 359—360.
3 См. выше, с. 172.
215
венные сборы в своих казначействах, пока собранные денеж-
ные суммы не отправлялись в Вену. В Вене, по общему пра-
вилу, заранее определялось, какую «контрибуцию» должна
была заплатить каждая из наследственных земель Габсбург-
ского дома, и ландтагам посылались соответственные «посту-
латы» (Landtagspostulata, оттуда позднейшее название Pos-
tulatenlandtage) с мотивировкой требований такой или иной
суммы денег. Ландтаги, как только что сказано, сами зани-
мались раскладкой податей между плательщиками; земские
комитеты собирали деньги и хранили до отсылки в Вену. Об-
щая административная реформа Иосифа II1 передала эти
функции главному провинциальному бюрократическому уч-
реждению.
Конечно, мы не можем входить здесь в сколько-нибудь
подробное рассмотрение организации податного обложения
в эпоху абсолютной монархии, потому что в каждой стране
существовала своя организация, притом изменявшаяся во
времени, не говоря уже о том, что вопрос касается уже тех-
ники финансового дела, тогда как нас здесь может интере-
совать лишь принципиальная его сторона. Во-первых, мы
еще увидим, что абсолютная монархия относилась весьма
покровительственно ко всяким изъятиям от обязанности
платить налоги, какими только пользовались привилегиро-
ванные сословия2. Далее, не везде, правда, существовавшая
откупная система взимания налогов обогащала на счет на-
рода и с ущербом для казны целый класс общественных па-
разитов, составлявший поэтому одну из опор старого поряд-
ка.
Сбор государственных доходов с плательщиков может
совершаться или агентами самого государства и лицами, их
заменяющими3, или частными лицами, которым государство
уступает этот сбор за известную сумму, вносимую этими
лицами в казну и считающуюся эквивалентом взимаемых
доходов. Этот второй способ и называется откупом, явля-
ясь, таким образом, частным предприятием, представляю-
1 См. выше, с.’ 172 и след.
2 См. ниже, в гл. XV.
3 Помещиками с крестьян либо выборными местными органами.
216
щим большие выгоды для откупщиков: естественно стремле-
ние каждого такого откупщика получить с населения гораз-
до более того, что отдается им в казну и чем покрываются
издержки самого взимания. Откупная система вообще при-
суща государствам, в которых не выработалось еще админи-
страции, способной хорошо исполнять финансовые обязан-
ности. Она господствовала в государствах-городах Древнего
мира и особенно в Риме, где она получила особое развитие,
сделавшись средством обогащения для целого общественно-
го класса1. Птолемеи привили эту систему к Египту, где, од-
нако, прежние бюрократические порядки фараоновских вре-
мен взяли верх и откупщики превратились в финансовых
чиновников государства2. Подобного же рода замена откуп-
ной системы бюрократической произошла и в Римской им-
перии3. Тенденцией западноевропейского абсолютизма бы-
ло, как мы знаем, бюрократизировать все отрасли управле-
ния, и тем более поражает нас то обстоятельство, что во
Франции, где бюрократическая централизация достигла наи-
большего развития, откупная система развилась, наоборот,
как нигде в других местах.
Сдача государственных доходов на откуп встречается бо-
лее или менее в разных государствах Запада, но преимуще-
ственно в более ранние времена и по отношению к отдель-
ным видам налогов, тогда как во Франции откупа просуще-
ствовали до самой революции, представляя и в XVIII в.
целую систему финансовой администрации. Откупа во
Франции возникли еще в Средние века, но первая попытка
их упорядочить была сделана министром Генриха IV Сюлли,
который разделил предметы откупов (fermes) на группы, ка-
ковыми были таможенные доходы (les cinq grosses fermes),
акциз на напитки (les aides) и соляной налог, знаменитая
габель (la gabelle), кроме ряда более мелких категорий. При
Кольбере права прежних отдельных откупщиков были пере-
даны целому обществу, получившему название «ferme
generale» и бравшему с торгов взимание косвенных налогов
1 Государство-город. С. 291; Монархии. С. 191 и след.
2 Монархии. С. 272.
3 Там же. С. 271.
217
за постепенно возраставшие суммы денег (в 1681 г. около
56 млн ливров, в 1774 г. уже около 162 млн). Компания эта
имела весьма сложную администрацию с центральным уп-
равлением в Париже, с целым рядом директоров, приказчи-
ков (commis) и более мелких агентов. Получая большие до-
ходы, генеральные откупщики делились барышами и с госу-
дарством по контракту, и с отдельными лицами из высших
правительственных и придворных сфер: один генеральный
контролер получал при заключении договора подарок в
100 000 ливров, да придворным давались ежегодно подарки
в размере 210 000 ливров. Между тем существование от-
купной системы связано было со многими тягостными неу-
добствами для населения в виде высоких цен на обложен-
ные предметы, внутренних таможен между отдельными про-
винциями, шпионства, организованного для выслеживания
контрабандистов, домашних обысков, судебных приговоров
за несоблюдение разных правил и т. п. В последние време-
на старого порядка было таких компаний три: ferme generale,
regie generale u administration des domaines1, причем особенно
ненавистна была габель. Она соединяла с качеством косвен-
ного налога принудительность прямого, так как каждая го-
родская и сельская община обязана была в течение года ку-
пить известное количество соли, которое, разумеется, рас-
кладывалось между отдельными обывателями. По
отношению к отбыванию габели Франция делилась на от-
дельные округа, в которых обязательные порции соли и це-
ны на нее были разные, и притом так, что где соли нужно
было купить много, цена на нее могла быть выше, нежели в
другом округе, где, наоборот, порция ее была менее значи-
тельной. Соляная контрабанда (le faux-saunage) строго пре-
следовалась тяжелыми наказаниями, а наблюдение за тем,
чтобы у каждого обывателя было всегда надлежащее коли-
чество соли, давало повод к посещениям частных жилищ
агентами откупа. Откупные компании были поставлены под
правительственную опеку генерального контролера, а в про-
винциях — интендантов, которые производили раскладку га-
1 Под domaines разумелись, кроме королевских недвижимостей, и раз-
личные косвенные налоги.
218
бели между отдельными общинами, надзирали за мелкими
агентами откупов, принимали меры к пресечению контра-
банды, ограждали досмотрщиков от насильственных дейст-
вий со стороны населения, судили по всякого рода граждан-
ским и уголовным делам, связанным с операциями взимания
косвенных налогов и т. п. Конечно, во Франции XVIII в. ад-
министративная система — между прочим и в области взи-
мания прямых налогов — была настолько развита, что госу-
дарство легко могло бы обойтись без посредничества откуп-
щиков только к выгоде для себя и к облегчению
плательщиков от лишних платежей, стеснений и неприятно-
стей, но что-нибудь да значили те подарки и пенсии, кото-
рые получались от откупщиков министрами и придворными
чинами, а потому все оставалось по-старому.
Как система выжимания соков из населения, она между
тем нашла даже подражателя в лице Фридриха II, введшего
в Пруссии подобную же организащю («Regie») взимания
косвенных налогов. В сущности, он устроил в своем коро-
левстве государственную продажу соли, кофе и табака, вы-
писавши для этого из Франции массу чиновников, которые
были знатоками французской откупной системы. Придирчи-
вый сыск и в Пруссии был неизбежным спутником монопо-
лии. Например, кофе можно было покупать только уже из-
жаренным у агентов Regie, а кто занимался жарением кофе
дома, тот совершал каравшийся штрафом проступок; по
улицам города ходили особые соглядатаи, принюхивавшие-
ся, не пахнет ли где-нибудь жарящимся кофе, чтобы на-
крыть виновного на месте преступления. Это заимствован-
ное из Франции, но бюрократизированное учреждение сде-
лалось предметом большого недовольства в Пруссии, и
преемник Фридриха II его отменил. Понятное дело, что со-
ляные шпионы во Франции и «кофейные вынюхиватели» в
Пруссии не портили общей картины полицейского государ-
ства.
Еще одна особенность финансовой системы «старого по-
рядка» и всей его экономической политики вместе с тем —
их чисто фискальный характер. Интересы казны играли доми-
нирующую роль во внутренней политике полицейского госу-
дарства, и ими определялось то, что в тогдашней политической
219
фразеологии называлось общим благом. Это очень часто не
было благо общества, а благо лишь известного государствен-
ного строя, с точки зрения интересов которого рассматри-
валось и действительное благосостояние граждан. Если
Ришелье прямо находил ненужным, чтобы народу было
слишком хорошо, дабы он не выходил из повиновения (и это
был государственный интерес), то другие, наоборот, считали
важным, чтобы государство само заботилось о поднятии
уровня благосостояния жителей, ибо этим можно было уве-
личить платежеспособность населения в интересах королев-
ской казны. В теории государство существовало для граж-
дан, на практике выходило, напротив, так, будто граждане
существовали для государства, и потому их благосостояние
было лишь средством по отношению к хорошему состоянию
финансов, как цели. Другими словами, интересы народного
хозяйства таким направлением внутренней политики подчи-
нялись интересам хозяйства государственного, и все воздей-
ствие правительства на экономическую жизнь получало иск-
лючительно фискальный характер. Впрочем, выставление на
первый план государственного интереса было во многих слу-
чаях лишь идеалом, реальностью же было расхищение народ-
ного достояния по способам версальской «красной книги»,
откупной системы и т. п. Конечно, это сравнительно мало от-
носится, например, к весьма расчетливому и даже скупова-
тому ведению государственного хозяйства в Пруссии, но за-
то Франция может служить прекрасным образцом вообще
дурно организованной фискальности, которая в конечном
итоге служила не столько интересам государства, сколько
интересам правящего класса. Французское правительство не
стеснялось в изобретении мер пополнения королевской каз-
ны,— чего стоит одна продажность судебных, администра-
тивных, придворных и т. п. должностей или звания цехового
мастера и т. д.1,— и вместе с тем мало заботилось о том, что-
бы облегчать фискальный гнет, лежавший на народных мас-
сах и приводивший их к настоящему обнищанию. Казна тра-
тила гораздо больше, чем это вызывалось действительными
потребностями общего блага, а с народа получала, наоборот,
гораздо меньше, чем могла бы получать, если бы не подат-
1 См. выше, с. 119, 137—138, 165 и в след, главе.
220
ные привилегии высших сословий, не барыши откупщиков
косвенных налогов, не злоупотребления чиновников и не
дурные способы самого взимания налогов. Вместе с этим в
своих фискальных стремлениях государство возлагало на по-
лицию мало свойственную ей функцию — споспешествовать
подъему платежеспособности населения. В Германии эпохи
полицейского государства развилось в этом направлении це-
лое учение о полиции, выделившееся из так называемой ка-
меральной науки: девизом последней было то, что «знаток
полиции должен сеять, дабы в свое время камералист мог по-
жинать».
Этим фискализмом отличались все правительства старо-
го порядка, и в данном отношении не составляли исключе-
ния представители просвещенного абсолютизма второй поло-
вины XVIII в., производившие финансовые реформы. «Нет
почти,— говорит об Иосифе II новейший историк его правле-
ния,— ни одной его реформы, которая не носила бы фис-
кального характера: обогащение государства было, если не
конечной, то во всяком случае одной из главных его целей...
Черта эта была настолько характерна для всего правления
Иосифа И, что нерасположенные к ней люди видели в ней
альфу и омегу всей его политической деятельности и только
и говорили, что о необыкновенной его склонности к стяжа-
нию»1. Даже сам экономный Фридрих II говорил, что «копить
и копить» — такова цель Иосифа II.
Впрочем, это был еще хороший признак, когда прави-
тельства, руководимые хотя бы и чисто фискальными инте-
ресами, стремились ко введению более или менее целесооб-
разных преобразований в финансовое хозяйство. Во Фран-
ции XVIII в., разоренной войнами и расточительностью
Людовика XIV, реформы в области финансов или совсем не
предпринимались, или были лишь частичными нововведени-
ями с характером большей частью паллиативных мер, да и
они нередко отменялись, если вызывали особое неудовольст-
вие привилегированных. Между тем финансовые дела монар-
хии были в большом расстройстве, и правительство постоян-
но вынуждалось прибегать к каким-либо новым мерам для
1 Митрофанов П. Политическая деятельность Иосифа И. С. 367—368.
221
наполнения пустой казны1. В малолетство Людовика XV,
когда государством управлял, в качестве регента, герцог Фи-
липп Орлеанский, французское правительство пустилось да-
же в очень рискованную денежную авантюру по совету шот-
ландца Джона Лоу, составившего себе громадное состояние
разными денежными аферами. Его «система» заключалась в
том, чтобы государство, пользуясь кредитом нации, пустило
в обращение бумажные деньги в большем количестве, чем в
казне имелось звонкой монеты, и тем оживило торговлю и
промышленность. Регент легкомысленно согласился на этот
план. Путем выпуска в свет большого количества акций бы-
ла добыта необходимая сумма денег для основания королев-
ского банка, билеты которого стали приниматься в казну на-
равне со звонкой монетой. Первоначальный успех предприя-
тия привел к расширению операций банка, с которыми были
затем соединены монопольная торговля с Ост-Индией и
Вест-Индией, откуп разных налогов внутри страны, право че-
канки монеты и т. п. Параллельно с этим шло увеличение ко-
личества выпускавшихся в публику акций, цены которых
возрастали в 30—40 раз против объявленной стоимости, а
вместе с этим росло и количество обращавшихся в стране
банковых билетов. Французским обществом овладел ажио-
таж, но мало-помалу «система» стала обнаруживать свою
внутреннюю несостоятельность, а затем произошло и полное
ее крушение. Лоу, сделанный генерал-контролером, довел
номинальную сумму выпущенных правительством денежных
бумаг до 2,5 млрд, а звонкой монеты в банке было лишь
200 млн, т.е. в 12,5 раз меньше, и наступил момент, когда
банк стал затрудняться обменивать свои билеты на настоя-
щие деньги.
Правительство тогда издало закон, запрещавший част-
ным лицам иметь у себя звонкой монетой больше 500 лив-
ров: у кого что было свыше, тот должен был обменивать из-
лишек на банковые билеты, но эта мера привела только к об-
щественной панике, за которой последовали крушение
банка, страшное обесценение всех его акций и билетов, ра-
зорение массы частных лиц и, конечно, ухудшение общего
1 Во Франции, между прочим, прибегали к продаже доменов.
222
экономического и финансового положения. Впрочем, в пери-
од процветания «системы» казна расплатилась банковыми
билетами с большей частью своих прежних кредиторов, ко-
торые потом остались ни при чем. В сущности, это было за-
маскированное государственное банкротство1. Во все длин-
ное царствование Людовика XV состояние французских фи-
нансов было весьма плачевным. Поправить его при
сохранении общей системы управления можно было только
такими, например, мерами, как привлечение привилегиро-
ванных к платежу налогов, но это всегда вызывало оппози-
цию не только в придворных сферах, но и в парламентах2. В
XVIII в. казна во Франции пополнялась главным образом по-
стоянными займами в форме продажи процентных бумаг,
или «ренты», в которую охотно превращала свои сбережения
буржуазия. Постепенный рост государственного долга при
общем расстройстве финансового хозяйства даже начал тре-
вожить кредиторов королевской казны, обладателей ренты.
Опубликование Неккером финансового отчета3 обнаружило,
что в государственном бюджете существует громадный дефи-
цит. Раньше это только подозревалось, теперь же всем сде-
лалось ясным, что дефицит есть на самом деле и что устра-
нить такое плачевное положение государственного хозяйст-
ва могли бы только коренные преобразования. Попытки,
сделанные в этом направлении старой монархией, оказались,
однако, бессильными, и правительству пришлось прибегнуть
1 Ср. с. 211, где говорится о случаях государственного банкротства в
XVI в. Прибавим, что еще перед развитием системы Лоу французское пра-
вительство уже прибегло к частичному банкротству, разделив своих креди-
торов совершенно произвольно на отдельные группы, с которыми и распла-
чивалось в размерах 4/s, 3/5, 2/5 должной им суммы. Аналогию такой без-
застенчивости представляют собой случаи, когда правительство по
нескольку раз заставляло платить за проданные им привилегии (см. выше,
с. 165). Приятель регента, Дюбуа, бывший одним из его министров и нахо-
дивший, между прочим, что французскому королю принадлежат все имуще-
ства его подданных (см. ниже, в гл. XVIII), считал банкротство в порядке
вещей, в согласии с чем готов был отожествлять понятия абсолютизма и
«правительства, устраивающего банкротство, когда только захочет». В pen-
dant ко всему этому упомянем о практике немецких имперских князей
XVIII в., прибегавших к денежным лотереям, но удерживавших в своих ру-
ках выигранные владельцами билетов суммы.
2 См. выше, с. 139—140.
3 Ср. выше, с. 214.
223
к созыву Генеральных штатов. Этот финансовый крах абсо-
лютной монархии во Франции был, таким образом, исходным
пунктом Французской революции, и одно время готовы были
видеть в нем даже ее основную причину1.
Глава XIII
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
И ТОРГОВЛЯ ПРИ «СТАРОМ ПОРЯДКЕ»
Задача этой главы — Общие условия, неблагоприят-
ные для развития сельского хозяйства в XVI —
XVIII вв.— Изменения, совершившиеся за это время в
сельском быту — Общая крестьянская бедность.— Го-
родская промышленность с конца Средних веков — Судь-
бы цеховой организации промышленности.— Образова-
ние рабочего класса.— Характер рабочего законодатель-
ства при «старом порядке».— Начало промышленной
концентрации и возникновение новых мануфактур.—
«Королевские» мануфактуры.— Перемены в условиях
торговли с открытием Америки и морского пути в Ин-
дию— Развитие португальской, испанской, нидерланд-
ской и английской торговли.— Образование среднего
сословия
Настоящая глава с обеими соседними главами, т.е. с
предыдущей и с последующей, составляют общий очерк эко-
номической истории времен абсолютной монархии. В пред-
1 Под влиянием этого взгляда образовался один из ходячих историче-
ских предрассудков, будто финансовые затруднения сами по себе вызывают
революции (а не делают это общие условия, по отношению к которым де-
фициты являются только симптомами ненормального положения дел). Раз-
бор этого предрассудка см. в т. I книги Е. Тарле «Падение абсолютизма в
Западной Европе», с. 36—47. Аналогичный пример, когда финансовые за-
труднения оказали влияние на переход от абсолютизма к конституционно-
му режиму, представляет собой история Австрии в 1859—1860 гг., когда
неудача объявленного правительством внешнего займа заставила Франца
Иосифа приступить к внутренним реформам и даже к введению представи-
тельства, но этот внутренний кризис в монархии Габсбургов не сопровож-
дался никакими революционными вспышками. См.: Народно-правовое госу-
дарство. С. 415—416.
224
шествующей главе дана была общая характеристика ведения
абсолютной монархией XVI—XVIII вв. государственного хо-
зяйства, следующая знакомит с экономической политикой
«старого порядка», в настоящей же главе мы остановимся на
рассмотрении общего состояния народного хозяйства и про-
исшедших в нем перемен за ту же самую эпоху по рубрикам
земледелия, промышленности и торговли. Особенное внима-
ние мы должны уделить истории промышленности и торгов-
ли, так как в них в изучаемую нами эпоху произошли наибо-
лее важные перемены, отразившиеся на всем строе тогдаш-
ней жизни и подготовившие переход к капитализму XIX в.
Отдел главы, посвященный земледелию, поэтому выходит
очень кратким1.
Феодальные времена в экономическом отношении были
эпохой преобладания, даже господства сельского хозяйства
в его натуральных формах2. Феодальный мир жил в замкну-
тых помещичьих вотчинах, представлявших собой объеди-
ненные в своего рода хозяйственные целые комплексы бар-
ского и мужицких дворов3, что мы в настоящее время и на-
зываем сеньориальным строем4. Основная черта феодализма,
взятого в его экономической стороне, заключается в соеди-
нении крупного господского землевладения с мелким кресть-
янским хозяйством, и эта основная его черта, весь сень-
ориальный строй пережила и крушение политического фео-
дализма, и превращение сословной монархии в абсолютную5.
Конечно, старый феодальный строй землевладения, земле-
пользования и земледелия не мог оставаться неизменным
среди других экономических и политических перемен, но как
раз в аграрных и агрономических отношениях, в общем, со-
хранялось наиболее черт старины, которые даже не были пе-
режитками, а полной исторической реальностью. Еще одна
оговорка должна быть сделана в том отношении, что не вез-
1 Тем более, что все наиболее существенное уже имеется в «Поместье-
государстве».
2 Поместье-государство. Гл. V.
3 Там же. Гл. VI.
4 Там же. С. VI—IX.
5 Там же. С. XXIII и XXVI.
225
де, разумеется, было одинаково, и это мы тотчас же примем
в расчет. Во-первых, не нужно забывать, что в то время, как
в одних местах к XVI в. крепостничество исчезло или почти
исчезло, в других в эту именно эпоху оно начинает играть
особенно видную роль; в этом смысле об Англии, например,
и о Германии приходится говорить разное1. Далее, и сохране-
ние старого крестьянского хозяйства не везде имело место.
Например, в Англии к концу XVIII в. прежняя связь кресть-
янина с землей была уже разрушена, и наметился совершен-
но новый поземельный строй, основанный на денежном хо-
зяйстве: большие поместья, разделенные на крупные фермы
в руках капиталистов, вносящих арендную плату деньгами,
вкладывающих деньги в агрономические улучшения и веду-
щих свои дела посредством наемных сельских рабочих.
Во Франции сельскохозяйственные отношения были со-
вершенно иные: здесь сельское хозяйство в значительной ме-
ре оставалось в руках крестьян, которые были или мелкими
собственниками своих участков на чиншевом праве2, или
арендаторами, большей частью половниками, т.е. уплачивав-
шими арендный оброк натурой. Можно сказать, что во Фран-
ции накануне революции уживались самые разнообразные
формы поземельного быта. Свободные чиншевики (цензита-
рии, censitaires) платили сеньорам оброк, большей частью
натуральный (шампар), и особые наследственные или купчие
пошлины при переходе чиншевого участка из одних рук в
другие, и обязаны были, например, молоть свое зерно лишь
на так называемой банальной мельнице сеньора и т. п. Все
это были остатки глубокой феодальной старины3, а местами,
особенно на землях духовенства, сохранялось и крепостни-
чество; даже в королевских доменах серваж был отменен
только при Людовике XVI. Лежала на крестьянах еще и де-
сятина в пользу церкви, а ко всем поборам, возникшим в фе-
одальную эпоху, государство прибавило и свои налоги. Пла-
тежи, обременявшие земледелие, были так велики, что мно-
1 Поместье-государство. С. 315 и след.
2 Там же. С. 49 и след.
3 Там же. Гл. VIII.
226
гие участки даже совсем переставали обрабатываться, и, по-
нятное дело, не при таком порядке вещей было думать о
сельскохозяйственных улучшениях. В особенно жалком по-
ложении находилась обработка земли в половнических фер-
мах, метэриях (metairies; половник — metayer). Так как по-
ловники не могли доставлять больших доходов земледель-
цам, то последние начали соединять мелкие половнические
участки в более крупные фермы, которые, по английскому
образцу, сдавались в аренду за деньги людям, предпринимав-
шим разные сельскохозяйственные улучшения, вроде пере-
хода от трехполья к более рациональной плодопеременной
системе, введения посева кормовых трав, употребления усо-
вершенствованных земледельческих орудий. Многие поме-
щики сами начинали хозяйничать тоже на новых началах,
пользуясь наемным трудом батраков (manoeuvres), как назы-
вались сельские рабочие, в отличие от самостоятельных мел-
ких хозяев (laboureurs). Французские экономисты второй по-
ловины XVIII в., так называемые физиократы, прямо реко-
мендовали переход от мелкого (особенно половнического)
хозяйства к более крупному фермерскому и, следовательно,
от натурального оброка к денежному. Ту же точку зрения
разделял путешествовавший по Франции в годы революции
английский агроном Артур Юнг, находивший, что по сравне-
нию с его родиной Франция в сельскохозяйственном отноше-
нии находилась чуть не в X еще веке.
В Западной Германии, на Рейне, аграрные отношения бы-
ли, в общем, приблизительно такими же, как и во Франции.
Наоборот, чем далее мы будем идти к востоку, тем перед на-
ми будет раскрываться все большая и большая экономиче-
ская отсталость1. Особенно архаические формы поземельно-
го быта мы наблюдаем на крайнем востоке западноевропей-
ского мира, в монархиях Гогенцоллернов и Габсбургов. Здесь
еще продолжало господствовать земледелие, промышлен-
ность была развита сравнительно слабо, торговля сводилась
к вывозу сырья, взамен которого ввозились продукты ино-
странной индустрии, а города не играли почти никакой роли.
1 Ср.: Поместье-государство. С. 315 и след.
227
Сама обработка почвы была довольно примитивная. Зе-
мель было много, и местами еще происходила внутренняя
колонизация, так что можно было не переходить к более
интенсивному хозяйству, требующему и более высокой
техники, и приложения капитала к земледелию. Перед го-
сударством за все и про все главной ответчицей была зем-
ля: в системе налогов преобладали те, которые в конечном
счете падали на одну землю и, следовательно, на крестьян-
скую массу, которая, с другой стороны, оставалась при-
крепленной к земле как для более правильного поступле-
ния в казну ее сборов, так и потому, что помещики долж-
ны были быть вознаграждены за службу в армии и в
администрации, при крайней скудности казенного жалова-
нья, отпускавшегося офицерам и чиновникам1. Помещичье
хозяйство велось здесь по-прежнему барщинным трудом
крепостных крестьян, сидевших на своих наделах и, кроме
барщинной повинности, отбывавших еще оброки деньгами
или натурой. Сама барщина страшно увеличилась: в ста-
рые времена она не превосходила большей частью восьми
дней в году, теперь она в одну неделю уже требовала не-
сколько дней. По типу частного помещичьего хозяйства ве-
лось и хозяйство в государевых доменах, где тоже были
крепостные. Однако и в Пруссии, и в Австрии помещики
уже сильно стремились к увеличению площади собственно
господской земли путем приобщения к ней крестьянских
участков. В Пруссии снос крестьянских дворов получил
название «Bauernlegen’a»2, и посредством него помещики
(«юнкеры») или расширяли свое собственное хозяйство,
или создавали хутора, отдававшиеся в аренду. Крепостное
право нисколько не гарантировало крестьян от обезземеле-
ния путем «легена», и в соседнем с Пруссией Мекленбурге
даже произошло к концу XVIII в. и началу XIX в. полное
обезземеление крестьян с совершенным вытеснением мел-
кого крестьянского хозяйства более крупным помещичьим,
хотя эти крестьяне по-прежнему оставались прикреплен-
1 Замечание, особенно относящееся к Пруссии.
2 Поместье-государство. С. 364.
228
ной к поместьям рабочей силой1. Далее на восток от Прус-
сии и Австрии, в Польше, пока она не была разделена сосед-
ними державами, и в России еще резче выступали эти основ-
ные черты сельскохозяйственной отсталости — прикрепле-
ние крестьян к земле и обработка помещичьих полей
барщинным трудом, одновременно с экстенсивной культурой
и низкой ступенью агрономической техники.
Был ли крестьянин крепостным или свободным, сидел ли
он на чужой или на своей земле, он был страшно беден, и ис-
торики западного крестьянства не раз отмечают, что ему в
XVIII ст. жилось даже много хуже, чем прежде. Оброки и по-
винности в пользу помещиков, церковная десятина, государ-
ственные налоги оставляли из крестьянского дохода очень
мало в пользу самого земледельца. Во Франции бывали слу-
чаи, когда крестьянин просто-напросто бросал («дегерпиро-
вал») свой надел на произвол судьбы или отдавал его сбор-
щику податей, не будучи в состоянии заплатить все, что по-
лагалось. (Эмиграция в Россию на вольные земли немецких
колонистов в XVIII в. тоже была бегством от невозможных
условий быта).
В частности, во Франции сельское хозяйство пришло в
какой-то безвыходный тупик, запуталось в заколдованном
кругу противоречий. Страну то и дело, здесь и там каждые
три года, посещали голодовки, и население жаловалось на
недостаток или крайнюю дороговизну хлеба, а между тем
оказывались заброшенными большие пространства земли,
бывшие раньше в обработке. Жаловались, далее, на то, что
не хватает рабочих рук для возделывания пустующих зе-
мель, и в то же время в городах и в деревнях необычайно
развиты были нищенство и бродяжничество. Этот выбитый
из колеи безработный люд тоже крайне бедствовал, но не-
редко не в лучшем положении был и сам земледелец, у кото-
рого хлеба далеко не хватало до новой жатвы. Отсюда —
столь частые во Франции народные беспорядки из-за хлеба
(troubles a cause de grains), разграбления пекарен, хлебных
магазинов, транспортов муки. Крайняя нищета французских
1 Поместье-государство. С. 365.
229
крестьян перед революцией удивляла даже русского путеше-
ственника, известного нашего писателя Фонвизина1, кото-
рый приехал, однако, тоже не из богатой страны.
Перейдем теперь к другому отделу главы, посвященному
истории обрабатывающей промышленности в эпоху королев-
ского абсолютизма.
Известно, что с конца Средних веков городская промыш-
ленность имела так называемое цеховое устройство. Сущ-
ность его заключалась в том, что в каждом городе ремеслен-
ники одной и той же специальности соединялись в особые
корпорации, имевшие свои уставы и пользовавшиеся внут-
ренним самоуправлением с выборными властями. При этом
устройстве развитие сколько-нибудь крупной промышленно-
сти было немыслимо, ибо цеховые уставы определяли, сколь-
ко каждый хозяин ремесленного заведения, или мастер
(maitre, Meister) мог иметь в своей мастерской рабочих в ви-
де, во-первых, так называемых компаньонов («сохлебников»)
или гезеллей («сожителей»), т.е. подмастерьев, как мы пере-
водим оба эти термина, а во-вторых, учеников (apprentis,
Lehrlinge). Далее, уставы или обычаи определяли условия
как прохождения ученичества и комианьонажа, так и вступ-
ления в число мастеров, которые только и были равноправ-
ными членами цеха, а равно и общие правила той или другой
ремесленной работы, вплоть до технических приемов произ-
водства,— правила, над соблюдением которых цех устанав-
ливал контроль ввиду того, что брал на себя ручательство в
доброкачественности производимых отдельными мастерами
изделий. Заниматься тем или другим ремеслом в городе мог-
ли только лица, принадлежавшие к соответствующим цехам,
причем количество ремесленных заведений каждой специ-
1 Вот что именно писал Фонвизин: «Я видел Лангедок, Прованс, Дофи-
не, Лионе, Бургонь, Шампань. Первые две провинции считаются во всем
здешнем государстве хлебороднейшими и изобильнейшими. Сравнивая на-
ших крестьян с тамошними, нахожу, беспристрастно судя, состояние на-
ших несравненно счастливейшим... В сем плодоноснейшем краю на каждой
почте карета моя была всегда окружена нищими, которые весьма часто,
вместо денег, именно спрашивали, нет ли с нами хлеба. Сие доказывает не-
оспоримо, что и посреди изобилия можно умереть с голоду».
230
альности было ограничено в соответствии с потребностями
местного рынка. Именно, цеховая организация обрабатываю-
щей промышленности была рассчитана главным образом на
сбыт продуктов в самом городе и его экономическом районе,
так что нередко ремесленник работал непосредственно на
потребителя, а не на перекупщика, который бы вел торговлю
известным товаром, произведенным в нескольких однород-
ных мастерских. Каждый город со своим округом мог при
этом более или менее обходиться своими продуктами, не
ввозя товаров или, по крайней мере, некоторых из них из
других городов. Кроме того, при цеховой организации уста-
навливалось строгое разграничение ремесел, не допускавшее
одновременного занятия двумя или несколькими специально-
стями. Пряжей шерсти, например, занимался один цех, вы-
делкой из нее сукна — другой, крашением сукна — третий.
Не касаясь сложного и во многих отношениях спорного воп-
роса о происхождении цехов, следует еще упомянуть, что це-
хи играли в средневековых городах не только экономиче-
скую, но и политическую роль, так как были готовой органи-
зацией ремесленной демократии, когда она стала добиваться
от коммунальной аристократии, в значительной мере купече-
ской, права на участие в городском управлении. В эпоху
борьбы за равноправие цеховые мастера нуждались в помо-
щи своих рабочих, и тогда внутри цехов укреплялась внут-
ренняя солидарность, которая, однако, расстраивалась, как
только полноправные члены цехов, мастера, добивались сво-
его1.
В основе всей этой организации лежало начало монопо-
лии, т.е., с одной стороны, принудительная принадлежность
к цеху (Zunftzwang), устранявшая конкуренцию с цеховыми
ремесленниками не принятых в цех жителей того же города,
1 Этот общий набросок цеховой организации (преимущественно при-
том немецкой) представляет собой сильно сокращенное изложение главы
XVIII первого тома моей «Истории Западной Европы в Новое время». За
большими подробностями отсылаю к следующим книгам: Зомбарт В. Со-
временный капитализм. Т. I. Генезис капитализма; Кулиьиер И. Ж. Эволю-
ция прибыли с капитала в связи с развитием промышленности и торговли
в Западной Европе. СПб., 1906. Т. I. Гл. V и VI.
231
а с другой, исключительное обладание местным рынком, ус-
транявшее конкуренцию ремесленников иногородних. Конеч-
но, если производство какого-либо товара по тем или другим
обстоятельствам не было возможно повсеместно, то запре-
щение ввоза иногородних изделий не имело смысла, но раз
товар везде мог производиться на месте, иногородняя конку-
ренция всячески устранялась, чему немало помогали и пло-
хое состояние путей сообщения, и громадное количество та-
моженных застав на этих путях, и сама небезопасность пере-
возки товаров при сильном развитии разбойничества на
дорогах. Одним словом, цеховая монополия является одной
из характернейших сторон средневекового партикуляризма,
в смысле и политической, и экономической обособленности
местных миров1. Конечно, пользуясь известной формулой
Бюхера2, мы можем видеть в образовании замкнутых город-
ских торгово-промышленных округов шаг вперед с замкнуто-
стью помещичьих и крестьянских хозяйств феодальных вре-
мен3, но в ту эпоху, которой мы главным образом занимаем-
ся в этой книге, рассматриваемые отношения были явлением
уже отживавшим, как отживали свое время и другие сторо-
ны цехового устройства. Нисколько, например, не идеализи-
руя это устройство в Средние века, как это делают весьма
многие немецкие ученые4, а потому и не думая, чтобы лишь
цехи Нового времени носили в себе внутреннюю порчу, кото-
рая будто бы была неизвестна цехам средневековым, мы тем
не менее можем сказать, что с течением времени в жизнь ре-
месленных корпораций вносилась все большая и большая ис-
ключительность, приводившая к созданию настоящих приви-
легий. Сущность дела заключалась в том, что приобретение
звания мастера с течением времени все более и более за-
труднялось, положение подмастерьев ухудшалось, сроки уче-
ничества удлинялись, чего мастера достигали всякими спосо-
бами, какие только были в их распоряжении: это были глав-
1 Поместье-государство. Гл. V—IX.
2 Государство-город. С. 62 и след.
3 Поместье-государство. Гл. XV.
4 См. в указанной книге Кулишера с. 307 и след., где вкратце рассмот-
рены существующие на этот счет мнения.
232
ным образом недопущение в ученики внебрачных детей или
таких, родители которых занимались промыслами, считавши-
мися низкими, усложнение условий ученичества, требование
от подмастерьев долгого странствования по другим городам
для усовершенствования в приемах производства, повыше-
ние качеств пробной работы (chef d’oeuvre, Meisterstuck), за-
менявшей собой экзамен в ремесле, увеличение суммы
вступного, которое уплачивалось в цеховую кассу каждым
новым членом, удорожание пирушки, которую вступающий в
число мастеров должен был устроить своим будущим товари-
щам, и т. п. Часто занятие ремеслом переходило по наслед-
ству и делалось, так сказать, фамильной привилегией, или
нередко, чтобы стать мастером, нужно было, например, же-
ниться на вдове какого-либо мастера1. Тот теоретический по-
ход против цехов, который знаменует собой конец XVIII в. и
начало XIX в., находил немало реальных оснований в зат-
хлом консерватизме, каким характеризуется цеховая жизнь
более позднего времени.
В числе возражений, которые выдвигались против цехов
в эпоху указанного против них похода, были указания на
то, что они стесняют индивидуальную свободу, мешают лич-
ной инициативе и техническому прогрессу, подчиняя произ-
водство установленным шаблонам, и приносят ущерб потре-
бителям. Действительно, монопольные права цехов позволя-
ли им устанавливать произвольные цены на свои изделия,
прочно потом державшиеся, раз не было свободной кон-
куренции. Цеховые мастера хлопотали не только о том, что-
бы устранить всякое соперничество с ними и других жите-
лей того же города (или деревень его округа) и иногородних
ремесленников, но и об устранении конкуренции между
членами самого цеха. Это достигалось не одним определени-
ем возможного для каждой мастерской размера производст-
ва, но и установлением сообща тех цен, какие все члены це-
ха должны были назначать за свои изделия, хотя это влекло
за собой иногда вмешательство в дело и городских властей,
1 Отрицательные стороны цехового строя в XVI—XVIII вв. рассмотре-
ны с некоторой подробностью в гл. IX (Разложение цеховой организации)
т. III «Истории Западной Европы».
233
устанавливавших свою максимальную таксу на такие про-
дукты, как хлеб, мясо, пиво и т. п. В одном, впрочем, отно-
шении вмешательство городских властей в установление це-
хами цен отнюдь не допускалось: это было именно опреде-
ление того вознаграждения, которое должны были получать
от своих хозяев подмастерья, так как здесь за цехами при-
знавалась полная самостоятельность, причем взаимное со-
глашение мастеров определяло только максимум заработной
платы, меньше же платить своим рабочим, конечно, никому
не возбранялось.
В лучшие времена цеховой организации промышленности
специально обученному рабочему представлялась гораздо
большая возможность, чем то было впоследствии, сделаться
самостоятельным предпринимателем, т.е. мастером. С дру-
гой стороны, в те времена и каждый мастер был фактически
самостоятельным предпринимателем, полным хозяином в
своем деле: у него было и собственное помещение, где про-
исходила работа, и собственные же инструменты, необходи-
мые для этой работы, самим же им приобретенный материал,
подлежавший обработке, и своя же лавочка для непосредст-
венного сбыта изделий мастерской потребителю. Многие хо-
зяева ремесленных заведений сохранили такое самостоя-
тельное положение и впоследствии, но у других, наоборот, с
течением времени не оказывалось необходимого для само-
стоятельного ведения дела капитала, и материал, например,
приходилось получать от заказчика, занимавшегося перепро-
дажей чужих изделий, что уже отрезывало производителя от
непосредственного общения с потребителем. Было бы вооб-
ще сильным преувеличением значения хороших сторон цехо-
вой организации думать, что она прочно обеспечивала весь
ремесленный класс городского населения. Если de jure в луч-
шие времена цехов каждому подмастерью был открыт доступ
к званию мастера, то de facto уже очень рано образовался
особый рабочий класс, так сказать, вечных подмастерьев, ко-
торых с течением времени все чаще и чаще обозначали таки-
ми словами, как «servant», «valet», «knecht». Выше уже было
упомянуто о том1, что между мастерами и подмастерьями
1 См. выше, с. 231.
234
происходила нередко прямая борьба, и эта борьба получала
чисто классовый характер, причем подмастерья заключали
между собой отдельные союзы, устраивали стачки, даже ухо-
дили из города. Таким образом, в недрах самой цеховой ор-
ганизации уже начался процесс дифференциации труда и ка-
питала и борьбы между представителями того и другого.
Дальнейшие этапы в этом процессе были сделаны уже
под влиянием более поздних изменений, совершившихся в
экономической жизни западноевропейских стран. Развитие
народного хозяйства не могло остановиться на ступени зам-
кнутого и самодовлеющего городского округа с господством
обмена внутри этого округа между городом с его цеховой ор-
ганизацией ремесла и деревнями с их исключительно сель-
скохозяйственным производством. Полного отсутствия обме-
на между отдельными местностями одной и той же страны,
собственно говоря, никогда не было и не могло быть1; все де-
ло было лишь в размерах этого обмена: сначала он был бо-
лее или менее редким исключением из общего правила, явле-
нием с весьма слабым значением как в местной жизни, так
и в общей экономике страны, но потом сделался более част-
ным, стал сам превращаться в своего рода общее правило,
усиливаться, усложняться, принимать более разнообразный
и многосторонний характер. Конец XV в. и начало XVI в. мо-
гут быть признаны эпохой перехода от замкнутого хозяйства
городского к охватывавшему большие районы хозяйству на-
родному (национальному), если пользоваться термином Бю-
хера, или территориальному, как предпочитают выражаться
другие. Совершившаяся к эпохе Крестовых походов диффе-
ренциация города и деревни с разным их значением в хозяй-
ственной жизни общества мало-помалу путем чисто естест-
венной эволюции осложнилась своего рода разделением тру-
да между отдельными местностями одной и той же страны,
т.е. в отдельных городах, вследствие тех или других благо-
приятных условий, с особенным успехом стали развиваться
только известные производства, как это произошло, на-
пример, с шерстяной промышленностью, облюбовавшей для
1 Поместье-государство. С. 174—175.
235
себя, если можно так выразиться, лишь некоторые центры.
Наоборот, иные производства в тех или других городах при-
ходили в упадок, хирели, прямо исчезали. Раньше в городе
более или менее равномерно существовали все производст-
ва, в каких чувствовалась потребность на местном рынке, но
с течением времени произошла специализация: один город
славился своим сукном, другой — металлическими изделия-
ми, третий — стеклянными и проч., и проч. Несмотря на все
усилия ремесленного класса воспрещать ввоз иногородних
товаров, он постепенно все усиливался: на стороне ввоза бы-
ла масса потребителей, имевшая возможность и большего
выбора, и приобретения товаров нередко лучшего качества и
по более сходной цене, да и сами городские власти не прояв-
ляли особой охоты к удовлетворению цеховых ходатайств о
новых запрещениях; еще старые ограничения, куда ни шло,
могли оставаться в силе, если только фактически могли
удерживаться, но новые не издавались. Дело доходило до то-
го, что ввоз известных иногородних изделий приводил к поч-
ти полному прекращению той или другой соответственной
промышленности на месте. В некоторых случаях,— а в Анг-
лии это было очень распространенным явлением,— отдель-
ные города заключали между собой, на началах взаимности,
нечто вроде торговых трактатов, в Италии же такие города,
как Венеция, Флоренция, Милан, объявили у себя свободу
ввоза. С XVI в. отжившую для отдельных городов систему
покровительственной охраны местного производства от кон-
куренции с внешним ввозом усваивают уже целые государст-
ва. Прежде города, запрещавшие ввоз иногородних изделий,
вызывали к себе ремесленников из других мест, дабы заве-
сти у себя какое-либо производство, которого раньше не бы-
ло, теперь же подобной политики стали держаться целые го-
сударства, избегавшие ввоза товаров и, наоборот, поощряв-
шие и даже сами вызывавшие переселение иностранных
ремесленников.
Описанная перемена, совершавшаяся, конечно, постепен-
но и медленно, а также и неравномерно в отношении отдель-
ных стран и городов, или периодов времени и производств,
не могла не отразиться на положении цехового ремесла.
236
Первое, что здесь приходится отметить, это то, что мастер
уже не работал исключительно на местный рынок и на заказ-
чика-потребителя: теперь возникло производство, рассчитан-
ное на вывоз в другие города и даже в другие страны, и на
сцену выступал скупщик, или приобретавший у ремесленни-
ка готовые изделия, или заказывавший ему изготовление то-
вара из данного ему для этого материала. Вследствие такой
перемены хозяйственная самостоятельность цехового масте-
ра пошатнулась, и ремесленная промышленность стала пере-
ходить в другую форму, известную под названиями домаш-
ней (Hausindustrie) или кустарной и занимающую промежу-
точное место между промышленностью ремесленной и
фабричной1. Раньше цеховые статуты прямо запрещали мас-
терам работать по заказам от своих товарищей или от посто-
ронних цеху скупщиков, но эти запрещения и тогда не меша-
ли появлению на ярмарках в большем или меньшем количе-
стве скупленных у производителей изделий, тем более что,
несмотря на все цеховые ограничения, некоторые производ-
ства все-таки могли существовать в деревнях в чисто кустар-
ной форме; иногда же в виде исключений кустарничество
встречалось и в городах, где особенно развивалась какая-ли-
бо специальная промышленность, работавшая на широкий
сбыт. В XVI и XVII ст. все чаще и больше ремесло стало пре-
вращаться в кустарничество, ибо и в сбыте товаров вырабо-
талась своя техника, требовавшая особых знаний, особой
сноровки, особого, вульгарно выражаясь, нюха, какими обла-
дали, конечно, далеко не все мастера, да к тому же, наконец,
и обычный капитал среднего ремесленника был недостаточен
для успешного ведения торговых операций. Среди цеховых
мастеров произошла своя дифференциация: одни из них уш-
ли в торговлю продуктами ремесленного производства, дру-
гие сделались зависимыми от них кустарями. Цеховая орга-
низация со своими статутами, регламентацией, запрещения-
ми была сильным тормозом, затруднявшим и задерживавшим
этот процесс, но в борьбе мастеров, отстаивавших старые от-
ношения против скупщиков, которые разрушали прежний
строй обрабатывающей промышленности, победа в конце
1 Пользуюсь классификацией и терминологией Held’a в «Zwei Biicher
zur socialen Geschichte Englands».
237
концов раньше или позже склонялась на сторону последних.
Если цехи доживают до последних времен старого порядка и
даже вводятся вновь для вновь нарождающихся отраслей
промышленности, то в настоящем своем виде они сохраняют-
ся только у булочников и мясников, у скорняков и сапожни-
ков, у каменщиков и плотников; в других же случаях, в осо-
бенности в деле обработки волокнистых веществ и металлов,
удерживалась от прежних цехов лишь внешняя их форма,
так как, вместо самостоятельных и равноправных мастеров-
ремесленников, они состояли теперь либо из одних масте-
ров-рабочих (кустарей), работавших на предпринимателей и
имевших свою особую организацию, если только они ее име-
ли, либо из двух категорий мастеров, из коих одну составля-
ли рабочие, другую предприниматели. «Мы,— говорит один
новейший ученый, собравший массу фактов из специальной
литературы по истории промышленности,— вправе утверж-
дать, что в XVI—XVII столетиях и уже во всяком случае в
XVII—XVIII столетиях не ремесло, а кустарная промышлен-
ность составляла господствующую форму производства»1. С
этой важной переменой было соединено значительное, срав-
нительно с прежним временем, расширение рабочего класса:
раньше это были почти исключительно цеховые подма-
стерья, число которых, равно как учеников, сильно увеличи-
лось вместе с ростом городов и развитием обрабатывающей
промышленности; теперь же в зависимое положение, в ка-
ком когда-то были лишь одни подмастерья, попали и сами
мастера, не'говоря уже о появлении новых категорий рабо-
чих, какими были, например, выходцы из других стран или
местные жители, бравшиеся за ту или другую работу вопре-
ки цеховым уставам, женщины и даже дети, не участвовав-
шие в ремесленной промышленности, но не исключавшиеся
из промышленности кустарной, в особенности же, нужно за-
метить, деревенские кустари, в рассматриваемый период иг-
равшие особенно видную роль, в некоторых местах и некото-
рых производствах, хотя законодательство очень долгое вре-
мя сильно препятствовало развитию обрабатывающей
промышленности в селах.
1 С. 539 т. I книги Кулишера, названной выше (с. 231).
238
В рассматриваемый период высота заработной платы за-
висела не только от взаимоотношения между спросом и
предложением, но и от вмешательства в это дело со стороны
государственной власти; это казалось современникам до того
нормальным, что известный немецкий публицист XVII в. Пу-
фендорф в своей книге «Об обязанностях человека и гражда-
нина» находил установление заработной платы по взаимному
соглашению сторон возможным лишь в естественном состо-
янии, в государственном же быту, по его мнению, в данном
вопросе должны играть роль как законы, так и распоряжения
властей. Государство «старого порядка» вообще любило вме-
шиваться во все отношения общественной жизни для уста-
новления повсеместного порядка, и колебания заработной
платы нередко казались подлежащим пресечению беспоряд-
ком. С другой стороны, правительства рассматриваемой эпо-
хи стояли на той точке зрения, что вмешательство в вопрос
о заработной плате требуется со стороны государства инте-
ресами самого производства, которое лишь тогда будет идти
успешно, когда у предпринимателя будут хорошие барыши, а
рабочие будут содержимы в умеренности такой платой, ка-
кая нужна лишь для удовлетворения первых потребностей
человека в жилище, одежде и пище. Развивая эту послед-
нюю мысль, тогдашние публицисты доказывали, что при
слишком большом заработке рабочий может только изле-
ниться, стать вообще чересчур требовательным, захотеть
еще большей платы, тогда как низкая плата обеспечивает за
хозяином и большее трудолюбие, и большую покорность ра-
бочих. Удешевление товаров входило также в расчеты теоре-
тиков и практиков тогдашней экономической политики, ибо
от удешевления товаров, мыслимого только при низкой зара-
ботной плате, выигрывает и потребитель, и все государство
в торговом соперничестве с другими государствами. Один
английский писатель второй половины XVII в. (Кинг, автор
«Естественных и политических наблюдений») в соображени-
ях подобного рода заходил так далеко, что, деля население
государства на людей, увеличивающих богатство страны, и
людей, его уменьшающих, зачислял рабочих во вторую кате-
горию вместе с бродягами, солдатами, матросами и паупера-
ми, которых по закону о бедных принудительно заставляли
работать в работных домах. Это, конечно,— доведенный до
239
крайности взгляд, по существу мало отличавшийся от взгля-
дов целого ряда писателей разных стран, проповедовавших
спасительность низкой заработной платы при высоких, нао-
борот, ценах на хлеб. Во второй половине XVIII в. отцу по-
литической экономии Адаму Смиту прямо пришлось доказы-
вать в своем «Богатстве народов», что улучшение положения
рабочих нужно считать не несчастьем для государства, а, на-
оборот, большим для него благополучием. Законодательство
разных стран по этому вопросу не отставало от теории. Там,
где государство уполномочивало своих агентов устанавли-
вать заработную плату, везде должен был определяться не
минимум ее, а максимум, который был нередко ниже той
платы, какая устанавливалась по обоюдному соглашению
между предпринимателем и рабочим. Иногда вместе с норми-
ровкой заработной платы объявлялось, что кто будет требо-
вать большего, тот подлежит штрафу и даже тюрьме. Под
страхом большого штрафа, случалось, запрещение распрост-
ранялось и на предпринимателей, которые стали бы давать
или даже только обещать плату выше установленной властя-
ми. Общим правилом установления заработной платы, где
это практиковалось, было принятие за максимум фактически
существующих цен, причем данная норма сохранялась целые
десятки лет, невзирая на понижение ценности денег и на со-
ответственное вздорожание товаров1. Особенно в XVII—
XVIII вв. государственная власть неизменно отожествляла
интересы промышленности с интересами предпринимателей.
В этом смысле нужно понимать и все рабочее законода-
тельство «старого порядка», которое отличалось и от цехо-
вых уставов, составлявшихся в интересах мастеров, и от
фабричных законов XIX в., ограждающих интересы рабочих:
регламенты XVI—XVIII ст. имеют в виду выгоды предприни-
мателей, а не интересы рабочих, которые, наоборот, этими
регламентами всецело приносились в жертву тогдашним
представителям промышленного капитала.
Особым покровительством со стороны государства поль-
зовалась новая, только в изучаемую эпоху возникшая форма
1 Фиксирование заработной платы в интересах имущих классов мы
встречаем и в Средние века. Ср. английское законодательство середины
XIV в., о чем «Поместье-государство», с. 325.
240
промышленности, которую мы, в отличие от ремесленной
(цеховой) и домашней (кустарной), называем мануфактур-
ной. В настоящее время термин мануфактура,— что в бук-
вальном переводе значит рукоделие1,—применяется специ-
ально к промышленным заведениям, где употребляется в
производстве ручной труд, в отличие от фабрик, где работа
совершается при помощи машин, но в XVIII ст. слова «ману-
фактура» и «фабрика» были синонимами, тем более что и
второе из этих названий, происходя от латинского faber (ре-
месленник), значило только вообще промышленное заведе-
ние, хотя, с другой стороны, уже и начиналось приурочение
термина «мануфактура» к таким заведениям, где работали
руками, а термина «фабрика» — к заведениям, где дейст-
вовали «огнем и молотом» (что, в сущности, относилось
главным образом к различию между прядильно-ткацкой про-
мышленностью и металлическим производством). Далее, в
настоящее время мы противополагаем мануфактурную (и
фабричную) формы промышленности ремесленной и домаш-
ней еще по одному признаку, заключающемуся в размерах
самого заведения: мануфактура (и тем более фабрика) — это
уже не маленькая мастерская, в которой сам хозяин работа-
ет с немногими помощниками, каковы подмастерья и учени-
ки или же члены хозяйской семьи, а нечто уже большее,
представляющее переходную ступень к современной крупной
промышленности, во всяком случае такое заведение, в кото-
ром уже произошла известная концентрация производства.
И в этом отношении мы слову «мануфактура» придаем огра-
ничительное толкование, которое прежде не всегда к нему
применялось: мануфактурой не называлось непременно боль-
шое промышленное предприятие, что явствует, между про-
чим, из употребления термина «соединенная мануфактура»
(manufacture reunie), когда хотели обозначить производство
более крупного калибра.
На ближайших страницах мы теперь и займемся рассмот-
рением того, как стала возникать на Западе в изучаемую нами
эпоху более крупная промышленность мануфактурного типа и
1 Слово ремесло по-немецки «Handwerk».
241
в каких формах, а равно и по какой причине государство осо-
бенно покровительствовало этому типу1.
Обратимся сначала к вопросу о начале промышленной
концентрации. Средневековая ремесленная форма обрабаты-
вающей промышленности, как и средневековое сельское хо-
зяйство, подходит под общее понятие мелкого производства:
мы видели, как сами цеховые уставы ставили всякие препо-
ны на пути какого бы то ни было расширения производства2.
Переход от мелкой промышленности к более крупной совер-
шался медленно и постепенно, причем долгое время сохраня-
лось мелкое производство, которое, однако, начало мало-по-
малу эксплуатироваться более крупным предпринимательст-
вом, ибо и понятия производства и предпринимательства
нужно строго отличать одно от другого. Нам уже известна та
роль, какую сыграли скупщики ремесленных изделий в про-
цессе превращения цеховых мастеров в кустарей3; и среди
явлений, соединенных с этим процессом, следует теперь осо-
бо отметить ту категорию случаев, когда скупщик товара сам
принимал участие и в производстве: например, предпринима-
тель заказывал мастерам известного цеха нужный ему товар,
но недоделанным, беря уже на себя придачу ему, перед от-
правкой на рынок, окончательной обработки; это тем более
было возможно, что при раздроблении в цехах ремесла на
множество мелких специальностей4 часто один и тот же ма-
териал переходил через целый ряд мастерских до своего по-
явления в продаже. Дело в том, что к концу Средних веков
в цеховой промышленности возник особый вид разделения
1 Факты и обобщения для всего последующего см.: История За-
падной Европы. Т. I, гл. XVIII (о цехах) и XIX (о денежном хозяйстве); Т.
II, гл. XXXI и XL (где речь идет о меркантилизме и протекционизме в обеих
половинах XVII в. во Франции), а также «дополнительную главу» с общей
характеристикой экономической истории XVI в; Т. III, гл. IX (о разложении
цеховой организации в XVII и XVIII вв. в Германии, Франции и Англии) и
Т. IV, гл. XXIV (в которой, между прочим, идет речь о замене мелкой про-
мышленности крупной). В указанном на с. 223 первом томе книги Кулише-
ра см. главу IX, посвященную «централизованным мануфактурам».
2 См. выше, с. 234.
3 См. выше, с. 234 и 237.
4 См. выше, с. 231.
242
труда, который у Бюхера получил специальное название Рго-
ductionstheilung, т.е. это было распределение между отдель-
ными цехами различных стадий производства: например,
один цех прял шерсть, другой состоял из ткачей сукна, тре-
тий занимался сукновальным ремеслом, четвертый заключал
в себе красильщиков, и такое же «разделение производства»
существовало и в других отраслях промышленности, где
только оно могло иметь место. Вот и выходило так, что цех,
совершавший конечные операции, например, окраску сукна
или изготовление обуви, сборку оружия из отдельных его ча-
стей, произведенных особыми цехами, в конце концов полу-
чал возможность сосредоточивать в своих руках сам сбыт из-
делий в их вполне готовом виде, а отсюда было недалеко до
превращения такого цеха в корпорацию скупщиков, которые
сами все менее и менее занимались непосредственным про-
изводством и все более и более становились хозяевами до-
вольно крупных предприятий, обслуживавшихся, однако, по-
прежнему мелкими производителями. Например, в ножевом
производстве подобным коммерческим предпринимателем
был окончательный изготовильщик (Fertigmacher), собирав-
ший в одно целое выделанные в разных мастерских части но-
жа (лезвия, рукоятки, оправы, футляры и т. п.): мало-помалу
этот «фертигмахер» становился руководителем всего ноже-
вого производства, заказывавшим кустарям (бывшим прежде
самостоятельными мастерами-предпринимателями) отдель-
ные части будущего ножа из им же самим розданного мате-
риала. По всей вероятности, первые скупщики и образова-
лись из цеховых же ремесленников «фертигмахерского» ти-
па, хотя, конечно, были и такие производства, где скупщики
являлись, так сказать, извне, т.е. образовывались в чисто
торговой, а не в ремесленной среде.
Постепенная эволюция профессии скупщика превратила
его в позднейшего фабриканта. Нужно помнить, что назва-
ние «фабрикант» первоначально не имело специального зна-
чения предпринимателя, ведущего промышленное дело при
помощи большего или меньшего количества наемных рабо-
чих, соединенных в одном помещении и занятых в нем изве-
стным производством за счет и под надзором хозяина пред-
243
приятия. Фабрикантом называли в рассматриваемую эпоху
не только крупного предпринимателя, но и мелкого произво-
дителя, все равно, был ли он самостоятельным хозяином сво-
его дела или зависимым от какого-либо предпринимателя
кустарем. За описанной концентрацией предприятий после-
довала концентрация производства, когда работа стала со-
вершаться не на дому у отдельных прядильщиков, ткачей,
красильщиков и т. п., а в общих помещениях, в особых пред-
назначенных для известного производства зданиях, стала
вместе с тем совершаться не так, как хотелось и казалось
нужным каждому работнику, а под общим надзором и техни-
ческим руководством предпринимателя или его доверенных
лиц, и стала, наконец, совершаться с применением к произ-
водству большего, чем то было возможно в мелкой мастер-
ской, разделения труда между работниками. Нет нужды, что
самые ранние мануфактуры, по количеству рабочих, нередко
мало отличались от ремесленных и кустарных мастерских,
заключая в себе иной раз каких-нибудь 6—10 работников;
важно то, что во главе заведения стоит прежний скупщик,
что в заведении соединяются иногда разные специальности и
что работа производится не на дому, а в особом предназна-
ченном для нее помещении. Стоит только такой мануфактуре
вырасти в размере путем, например, переноса в одну боль-
шую мастерскую значительного количества ткацких станков
из мелких кустарных мастерских, чтобы получилась одна
крупная «соединенная мануфактура», которая с введением
впоследствии машинного производства превращается в со-
временную фабрику. Но этот экономический процесс совер-
шался, повторяю, постепенно и медленно, часто путем едва
заметных изменений, не везде в одно и то же время, далеко
не равномерно в отдельных производствах, так что одновре-
менно могли существовать рядом и ремесленное мастерство,
и кустарное производство, и новая мануфактурная форма1.
1 Ср.: История Западной Европы. Т. V. С. 104—105, где говорится о
лионской шелковой промышленности около 1831 г., когда в Лионе было
грандиозное восстание ткачей. В Лионе господствовал кустарный способ, а
между тем тамошняя промышленность называлась «1а grande fabrique». Пе-
ред 1789 г. здесь насчитывалось около 6000 кустарей (maitres-ouvriers) на
400 «marchands de la grande fabrique» т.е. 15 кустарей на одного фабрикан-
та. Jaures J. La constituante (т. I «Histoire Socialiste»). C. 87.
244
Этой-то последней форме особенно и покровительствова-
ла государственная власть XVII и XVIII вв. «Обращают вни-
мание,— писал знаменитый Мирабо, впоследствии один из
самых крупных деятелей Французской революции, в эконо-
мической политике разделявший физиократические взгляды
своего отца, известного «Друга людей»,— на большие ману-
фактуры, где работают сотни людей под управлением одного
директора, и которые обыкновенно называются соединенны-
ми мануфактурами. Те же производства, в которых также за-
нято большое количество работников, но разъединенных и
проводящих свое дело каждый сам по себе, едва удостаива-
ются внимания». Мирабо высказывался против такой систе-
мы, приводящей к обогащению лишь немногих, и вместе с
тем объяснял причину процветания соединенных мануфак-
тур. «Зачем,— спрашивает он,— далеко искать причины бле-
ска саксонских мануфактур перед Семилетней войной? Объ-
ясняют его сто восемьдесят миллионов государственного
долга».
Во всех учебниках новой истории, при изложении царст-
вования Людовика XIV, отмечается, как явление, заслужива-
ющее особого внимания, деятельность Кольбера, покровите-
ля, поощрителя и даже насадителя мануфактур во Франции
третьей четверти XVII в. В сущности, однако, Кольбер был
только один из многих: он не был ни единственным предста-
вителем такой политики, которую даже окрестили названи-
ем «кольберизма», ни ее инициатором, хотя бы только что
приведенное название и оправдывалось той широтой за-
хвата, той неустанной энергией, той последовательной сис-
тематичностью, которые проявились во всей экономической
политике знаменитого министра Людовика XIV. Покрови-
тельство мануфактурам началось раньше Кольбера и проис-
ходило одинаково и вне Франции, во Франции же при Коль-
бере оно только достигло наивысшей ступени развития и бы-
ло возведено в основной принцип всей экономической
политики.
Рассматривая вообще экономическую политику XVII—
XVIII вв., мы везде более или менее обнаруживаем нераспо-
ложение правительств к старой цеховой форме, соединенное
245
с тяготением к тому, что мы называем теперь мануфактура-
ми. Бюрократическое государство, вообще плохо мирившее-
ся с общественной самодеятельностью и независимыми со-
юзными формами быта, к числу каковых относились и цехи,
искало только предлогов,— а их много давали непорядки
цеховой жизни,— чтобы наложить на цехи свою руку и
подчинить весь строй промышленности правительственным
видам, но так как корпоративная организация плохо поддава-
лась попыткам государства заставить ее играть роль, к кото-
рой она совсем не была приспособлена, то правительства и
стали изыскивать новые пути в деле развития промышленно-
сти, между прочим, и для иностранного вывоза. Во Франции
королевская власть охраняла лишь те внутренние порядки
цехов, которые не мешали и не вредили самому правительст-
ву,— политика, которой французские короли держались по
отношению и к провинциальным привилегиям, и к феодаль-
ным правам, и к католической церкви; но там, где затрагива-
лись права и интересы государства, как их тогда понимали,
власть ничем уже не стеснялась. Если король был источни-
ком правосудия («toute justice emane du roi») или если он
мог «облагородить» (ennoblir), т.е. возвести в дворянское до-
стоинство любого подданного, то совершенно таким же обра-
зом король мог установить и какую угодно монополию и кого
угодно сделать мастером, т.е. позволить ему заниматься лю-
бым ремеслом вне данного цеха, лишь бы, конечно, это раз-
решение, скрепленное особым патентом (lettre de maitrise)
было достаточно оплачено. Старые права ремесленных сою-
зов и городских властей, когда-то регулировавших промыш-
ленность, перешли к королю и его чиновничеству, которые,
со своей стороны, находили более выгодным дать этой про-
мышленности новое направление. Цеховые уставы тормози-
ли мануфактурное развитие, государство, наоборот, стреми-
лось всячески его поощрять.
Прежде всего, развитие придворной жизни, нуждавшей-
ся в большом количестве ремесленных изделий, привело к
образованию целого класса привилегированных мастеров,
так сказать, придворных поставщиков (и в действительно-
сти, и по имени только), в Германии носивших название
246
Hobefreite, во Франции — ouvriers suivant la cour, т.е. рабо-
чих, следующих за двором, от каковых нужно отличать более
раннюю категорию «мастеров по патенту» (maitres de let-
tres), существовавших и вне столицы1. Вторым наслоением в
этом привилегированном и вне цехов стоящем ремесленниче-
стве были иностранные выходцы, искавшие себе заработков
на чужбине или спасавшиеся от религиозных преследова-
ний. В XVI и XVII вв. особенно деятельно шло такое переме-
щение индустриальных работников, когда, например, во
Франции, в Швейцарии, в южной Германии в большом коли-
честве появляются итальянские ремесленники, в Англии и
во Франции — голландцы и т. п., и одно уничтожение Людо-
виком XIV Нантского эдикта наполнило беглыми гугенотами
из промышленного класса и Голландию, и прирейнские обла-
сти Германии, и Швейцарию, и более отдаленный Бранден-
бург. Этой иммиграции тогдашние правительства не только
не ставили никаких преград, но охотно оказывали всякое по-
кровительство, прямо даже вызывая в свои страны искусных
мастеров для усовершенствования или расширения уже су-
ществовавших производств или основания новых. Им давали
всякие привилегии, воспособления, денежные ссуды и т. п. и
оказывали еще особого рода покровительство. Цехи встреча-
ли непрошенных пришельцев недружелюбно, и часто враж-
дебное настроение местных мастеров проявлялось в насили-
ях разного рода над самими иностранцами или над их иму-
ществом, над их рабочими орудиями, над приготовленными
их трудом изделиями. И вот защита их со стороны прави-
тельства принимала форму нарочитого королевского или
княжеского (в Германии) покровительства: пришлым ремес-
ленникам отводилось особое «казенное» помещение, которое
отмечалось государственным гербом и получало наименова-
ние, смотря по титулу государя-покровителя, королевской,
герцогской и т. п. мануфактурой. Так, уже в начале XVII в.
целый ряд промышленных заведений существовал в Лувре,
1 Во Франции в XVI в. допускалось существование не более одного та-
кого мастера по каждому ремеслу в каждом городе, но потом это число ста-
ло увеличиваться, и в середине XVIII в. нормальной сделалась цифра 8.
247
так сказать, под непосредственным покровом королевской
резиденции, и из них мало-помалу возникла большая коро-
левская мануфактура, выделывавшая самые разнообразные
предметы роскоши для двора и для более богатых покупате-
лей. Около того же времени,— дело было в конце царствова-
ния Генриха IV,— во Францию были вызваны фламандские
мастера коврового производства, которым позднее для жи-
тельства и работы было отдано здание, принадлежавшее
раньше фамилии Гобеленов, откуда и получила свое имя все-
светно знаменитая и ныне еще существующая мануфактура
дорогих художественных ковров (тоже называемых «гобеле-
нами»). Таких примеров возникновения «королевских ману-
фактур» можно было бы привести еще и еще; быть может,
именно всякие каверзы, чинившиеся цехами пришлым ремес-
ленникам, и приводили правительства к мысли о помещении
пришельцев всех вместе в специально охраняемых зданиях,
на которые, кроме того, и не распространялась сила цеховых
уставов1. Характерной особенностью этого правительствен-
ного почина в деле основания мануфактур было еще то, что
в целях индустриального развития мастерские всякого ро-
да,— примеры приводятся историками промышленности из
разных стран,— устраивались в тюрьмах, смирительных и
работных домах, приютах для сирот и т. п.2 Форма работного
дома служила промышленности свою особую службу, ибо на-
селение неохотно шло в новые мануфактуры, и контингент
рабочих пополнялся из сирот или из нищих, бродяг, преступ-
ников, а с другой стороны, это тоже была своего рода выве-
ска, охранявшая «мануфактуру» от нападения со стороны це-
хов. Что дело имело именно такой характер, доказывается
существованием множества случаев отдачи подобных заведе-
ний в аренду частным предпринимателям и даже установле-
1 В Париже она не распространялась еще на предместья (подгородные
слободы), где и стали возникать мануфактуры.
2 «По отношению к рассматриваемой эпохе XVII—XVIII ст. необходи-
мо совершенно отрешиться от современной точки зрения на принудитель-
ную работу в тюрьмах и признать исправительные заведения важной кате-
горией мануфактур». Кулишер. I. 615.
248
ния, хотя бы и очень низкой, заработной платы этим подне-
вольным рабочим.
Существование «королевских мануфактур» и «работных
домов», в которых промышленность развивалась вне рамок,
созданных цеховой организацией, облегчало, конечно, разви-
тие и частных мануфактур из соединения в одно целое преж-
них мелких мастерских одной или разных специальностей,
но, с другой стороны, свободные рабочие очень неохотно
шли в такие мануфактуры ввиду их большой близости к ис-
правительным заведениям, так что образовался даже взгляд,
по которому мануфактурный рабочий занимал чуть не самое
последнее место на лестнице социальных положений. Част-
ным предпринимателям государство тоже оказывало всякого
рода поощрение и покровительство, лишь бы они производи-
ли как можно больше товаров: то были беспроцентные ссу-
ды, безвозвратные субсидии, казенные заказы, привилегии и
монополии, регламентация заработной платы и условий тру-
да в пользу предпринимателей, искусственные меры для по-
нижения хлебных цен, высокие таможенные тарифы по вво-
зу иностранных товаров, выгодные торговые трактаты с дру-
гими государствами, одним словом, все способы и средства,
какие только были в распоряжении государства, вплоть до
нарочитого поощрения роскоши придворных, ибо роскошь
считалась одним из важных стимулов в деле индустриально-
го развития. От истории тех перемен, которые произошли в
обрабатывающей промышленности в эпоху абсолютной мо-
нархии, переходим теперь к истории перемен, совершивших-
ся в ту же эпоху и в торговле.
На первый план здесь можно поставить изменение в
главных торговых путях на рубеже XV и XVI ст., благодаря
почти одновременно совершившимся открытиям Америки
(1492) и морского пути в Индию (1498), причем отметим,
что главное значение в рассматриваемом явлении непосред-
ственно принадлежало второму из этих открытий. Известно,
что до Крестовых походов Запад в торговом отношении был
почти вполне отрезан от Востока, продукты стран которого
начинают входить в употребление высших классов средневе-
кового общества только в эпоху крестоносных ополчений для
завоевания св. гроба. Все это были предметы, совершенно
недоступные по своим ценам для массы населения, предметы
249
роскоши, которые останутся таковыми во всякое время, и
предметы, падение цен на которые впоследствии сделали их
доступными самым небогатым потребителям, но которые в то
время, благодаря своей дороговизне, тоже были предметами
роскоши, когда фунт сахара стоил 10 р. (во Франции в конце
XIV в.), а цена 1 кг (килограмм = 2,4 фунта) перца колеба-
лась в шестидесятых годах XIII в. в разных местах на тепе-
решние немецкие деньги между 4,8 и 8 марками, что в пере-
воде на русский счет при средней цене (в 6,4 марки) даст бо-
лее полутора рубля за фунт. Главными посредниками в
торговле с Востоком по вывозившимся оттуда пряностям,
благовониям, москательным товарам, дорогим тканям и ков-
рам, оружию, украшениям1 были Венеция и Генуя, богатство
и могущество которых всецело основывалось на их торговой
монополии. Венецианцы и генуэзцы очень искусно устраня-
ли всех других итальянских и неитальянских конкурентов,
какие только у них вообще могли быть на Средиземном мо-
ре, стараясь, с другой стороны, непосредственно торговать и
с отдаленнейшими странами Востока, и с главнейшими стра-
нами Западной Европы. Именно венецианские и генуэзские
галеры посещали Нидерланды (Фландрию) и Англию, не го-
воря о более близких приморских областях, причем немцы
(ганзейцы) приобретали восточные товары в Брюгге (во
Фландрии), куда их доставляли венецианцы и генуэзцы, а от-
куда часть их шла в северную Германию, скандинавские
страны и Русь, тогда как германский юг вел сухопутную
торговлю через альпийские проходы. Все западные участни-
ки торговли левантскими товарами страшно обогащались, и
в некоторых городах создавались колоссальные для того вре-
мени денежные состояния (пример — Фуггеры в Аугсбурге2)
и возникали могущественные торговые компании, приобре-
тавшие важные монопольные права.
Венецианские и генуэзские корабли сначала нагружа-
лись восточными товарами в Сирии, Малой Азии, Персии,
Египте, но когда в Передней Азии, в конце XIV в., стали гос-
подствовать османские турки, одна Александрия в Египте ос-
1 О значении подобных предметов еще в ранней торговле Востока см.:
Монархии. С. 48.
2 См. дополнительную главу т. II «Истории Западной Европы».
250
тавалась для европейцев таким местом, где они могли запа-
саться наиболее ходкими продуктами Индии, как пряности и
благовония, да и самому Египту впоследствии (в 1526 г.) бы-
ло суждено сделаться добычей турок. Но раньше, чем это
случилось, португальцем Васко де Гама, в самом конце
XV в., найден был морской путь в Индию вокруг Африки.
Это было событие капитальной важности в истории европей-
ской торговли и ее путей. До этого момента торговля Индии
с Европой совершалась при посредстве арабов, доставляв-
ших индийские товары в те места, где их могли приобретать
венецианцы и генуэзцы, причем часть пути этим товарам
приходилось идти сухим путем, теперь же португальцы ста-
ли торговать непрерывным морским путем, непосредственно
с Индией, позаботившись — и с большим успехом — о со-
вершенном устранении арабских конкурентов. Эта перемена
сопровождалась колоссальным увеличением ввоза произве-
дений Индии в Европу, и главным складочным их местом, от-
куда они развозились по европейским странам, сделался
Лиссабон: дело дошло до того, что всего лишь через 16 лет
после открытия морского пути в Индию сами венецианцы
приехали в португальскую столицу для закупки пряностей. С
Венецией утратила прежнее значение и вся юго-западная
Германия со своими богатыми имперскими городами по Ду-
наю и по Рейну1. Торговые пути переместились, и вместо
средневековых Италии и Германии главными торговыми
странами сделались сначала Португалия и Испания, потом
Голландия и Англия, лежавшие ближе к Атлантическому
океану, которому Средиземное море должно было уступить
былое первенство.
Только что было упомянуто, какое важное значение при-
обрел уже в начале XVI в. Лиссабон, как новый центр левант-
ской торговли. Одной из особенностей этой торговли было
1 К этому же времени относится падение торгового значения средневе-
ковой немецкой Ганзы, но от причин, не имеющих ничего общего с морски-
ми открытиями конца XV в. Дело просто объясняется тем, что страны, экс-
плуатировавшиеся ганзейской торговлей, настолько с течением времени
выросли в торговом отношении, что мало-помалу стали обходиться без не-
выгодного для них посредничества Ганзы.
251
то, что непосредственное участие в ней принимал сам ко-
роль, в пользу которого, кроме того, поступала в виде по-
шлины и крупная доля от частных предприятий. Впрочем,
это явление в истории нельзя считать совершенно новым.
Уже цари разных стран Древнего Востока нередко сами сна-
ряжали сухопутные караваны и торговые корабли для подо-
бных же предприятий1, и нередко также развитие торговли
по каким-либо новым путям было обязано больше правитель-
ственной инициативе и энергии, чем частным предприятиям.
Это можно, например, сказать об египетской торговле на
Красном море в птолемеевские времена2, когда вся почти
красноморская торгово-промышленная деятельность в тече-
ние десятков лет была государственной монополией3, пока
не стала переходить в руки частных предпринимателей4. «В
обществе,— говорит новейший русский исследователь этого
вопроса,— обладавшем сравнительно невысокой экономиче-
ской культурой, каким было египетское общество перед ма-
кедонским завоеванием, правительство, сосредоточивавшее
в своих руках значительные финансовые средства, являлось
весьма существенной хозяйственной силой»5. То же самое
можно повторить о португальском обществе перед открыти-
ем морского пути в Индию. В некоторых определенных слу-
чаях королю принадлежала безусловная торговая монопо-
лия, в других королевские агенты пользовались значитель-
ными привилегиями, вообще же купцы, участвовавшие в
заморской торговле, должны были делиться прибылью с ко-
ролем, отдавая ему, например, четвертую часть своих бары-
шей; не следует при этом забывать и того, что лишь у короля
были в достаточном количестве транспортные суда. В Лисса-
боне у правительства были особые магазины, где происходи-
ла распродажа привезенных товаров королевскими чиновни-
ками и по ценам, назначавшимся королем, были ли то това-
1 Монархии. С. 55.
2 Хвостов М. История восточной торговли греко-римского Египта
(1907), с. 318.
3 Там же. С. XXV, 322, 341 и 377.
4 Там же. С. 332, 379, 404, 433—434.
5 Там же. С. V—VI.
252
ры королевские или купеческие, безразлично. Впрочем, мо-
нопольные товары скупались особыми торговыми компания-
ми, у которых только и можно было их перекупать, что обес-
печивалось уплатой королю вперед части денег, когда това-
ры еще везлись на кораблях из мест их закупки. Пользуясь
своим монопольным правом, король мог по произволу повы-
шать цены на многие предметы, получая отсюда громадные
барыши.
Одновременно с процветанием португальской торговли
происходило аналогичное развитие и в Испании, которая
стала распоряжаться, как дома, во вновь открытой Америке.
Отсюда на Пиренейский полуостров привозилась ежегодно
масса золота и серебра, значительная часть которых достава-
лась королю то в виде непосредственной добычи, то в виде
пошлины, номинально равнявшейся 20%, в действительно-
сти превышавшей иногда и 50%, то в виде так называемых
принудительных займов. Торговля неграми, которых стали
вывозить из Африки в Америку как рабочую силу, была коро-
левской же монополией, и даже тогда, когда после Утрехт-
ского мира (1713) она перешла к англичанам, испанский ко-
роль имел свою долю в барышах английской компании, зани-
мавшейся этим делом. Наконец, и в Испании также
основывались торговые компании, получавшие большие ди-
виденды, между прочим, от ввоза в Америку европейских из-
делий.
Говоря об испанской торговле в XVI в., нельзя не упомя-
нуть о том, что прилив в Европу, в небывалых до того вре-
мени количествах, и золота, и серебра повлек за собой це-
лый экономический переворот, заключавшийся в сильном
падении ценности денег и соответственном вздорожании то-
варов.
Включение в состав испанской монархии, при императо-
ре Карле V, Нидерландов оказало сильное влияние на разви-
тие торговли и в этой стране. При Филиппе II часть Нидер-
ландов, однако, отложилась от Испании, в отместку за что
Филипп II, овладевший в 1580 г. Португалией со всеми ее
колониями, закрыл голландским купцам доступ в Лиссабон,
откуда только и можно было получать индийские товары. Из-
253
вестно, что новая республика, успешно отстаивавшая себя
от Испании с оружием в руках, в XVII в. завладела многими
португальскими колониями и заняла место португальцев в
торговле с отдаленными странами Азии. Монопольные пра-
ва, принадлежавшие прежде португальскому королю, пере-
шли в Голландии к акционерной компании, делами которой
заправляли, в сущности, лица, стоявшие и во главе государ-
ства, так что и здесь правительство,— хотя бы, так сказать,
и в замаскированном виде,— принимало деятельное участие
в заморской торговле, получившей поэтому весьма сложную
организацию с главными заправилами в самой Голландии и
целым чиновничьим штатом в колониях.
После Голландии по той же проторенной португальцами
и испанцами дороге пошла и Англия, которая до XVI в. со-
всем не играла еще крупной роли в торговле и находилась в
экономической зависимости от Венеции и от Ганзы. Когда
Филипп II закрыл доступ в Лиссабон и для англичан, они по-
ступили совершенно так же, как и голландцы, т.е. постара-
лись завести непосредственные торговые сношения с Индией
и другими странами Востока и стали приобретать колонии. В
Англии тоже образовались купеческие товарищества, слив-
шиеся потом в одну Ост-Индскую компанию, скоро достиг-
шую и богатства, и могущества. Здесь, однако, королевской
власти пришлось играть более скромную роль, например,
лишь дольщицы в одной купеческой компании, которой было
разрешено (в 1635 г.) отправить свои корабли в Индию в
ущерб монопольным правам большой Ост-Индской компа-
нии. Впрочем, от нарушений своей привилегии компания ча-
сто откупалась, давая правительству большие деньги под
формой добровольных займов, так что и в Англии королев-
ская казна, хоть и не так, как в Португалии и Испании, тоже
обогащалась от заморской торговли. Вообще же в Голландии
и в Англии, где особое развитие получили большие купече-
ские общества, монопольные права этих компаний были все-
цело созданием государственной власти, в данном случае
оказывавшей исключительное покровительство капитали-
стам и извлекавшей из этого материальные выгоды и для
себя.
254
Таким образом, подводя итоги под сказанным в этой гла-
ве, мы можем установить тот общий факт, что и в создании
мануфактурной промышленности, и в развитии заокеанской
торговли крупную роль сыграло само государство. Оно пря-
мо, таким образом, помогло сформированию особого соци-
ального класса, все значение которого зиждилось на облада-
нии более или менее крупными промышленными и торговы-
ми капиталами. Конечно, те экономические процессы, о
которых шла речь, уже сами по себе вели к образованию ка-
питалистической буржуазии, имевшей своих родоначальни-
ков еще в средневековых городах, но и государство приложи-
ло свою руку к тому, чтобы помочь экономическим процес-
сам, благодаря которым вырабатывался класс
промышленных и торговых капиталистов. Как мануфактур-
ная промышленность отличалась от цеховой, так и торго-
вые компании XVI—XVIII вв., особенно в своей акционерной
форме1, отличались от средневековых купеческих гильдий2.
Выросшее на феодальных основах государство в XVI в. вош-
ло в курс торгово-промышленного развития, чем и определя-
1 Акционерные общества, в которых отдельные лица участвуют долевы-
ми вкладами (акциями), не принимая на себя личной ответственности, ста-
ли возникать главным образом в XVII в., а к XVIII в. уже относится и такое
явление, как акционерный ажиотаж (ср. выше, с. 222). Аналогичные формы
существовали и ранее, с конца Средних веков, а нечто подобное представ-
ляли собой и общества откупщиков в Риме (societates publicanorum), в ко-
торых тоже участвовали владельцы мелких долей (particulae). Государство-
город. С. 291.
2 Купеческие гильдии Средних веков — это сначала чисто временные,
а потом и постоянные соединения купцов одного и того же города, целью
которых были взаимопомощь во время совместных торговых путешествий
на ярмарки на случай разбойных нападений и взаимные соглашения при ус-
тановлении цен на товары. Такие гильдии достигали фактической монопо-
лии в районах своего действия. Торговые компании Нового времени сдела-
лись соединениями уже не лиц, а капиталов, для увеличения которых бра-
лись в долг под проценты и более мелкие сбережения посторонних людей.
Купеческая гильдия включала в свой состав всех купцов известной местно-
сти, торговые же компании основывались лишь некоторым, большей частью
ограниченным числом купцов, к невыгоде для остальных, т.е. выделялись из
прежних гильдий в самостоятельные организации, разрушавшие прежний,
средневековой купеческий строй. Зарождение торговых компаний относит-
ся к концу Средних веков.
255
ется то направление экономической политики абсолютной
монархии и вообще государства XVI—XVIII вв., которое на-
зывается меркантилизмом.
Глава XIV
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА «СТАРОГО ПОРЯДКА»
Меркантилизм как характерная черта экономиче-
ской политики эпохи абсолютной монархии,— Социаль-
ное значение особого покровительства со стороны госу-
дарства торговле и промышленности,— Устранение
дворянства от мещанских занятий,— Невыгодные след-
ствия меркантильной системы для сельского хозяйства
и начало правительственных забот о нем в XVIII в,—
Споры XVIII в. о хлебной торговле,— Что такое в сущно-
сти меркантилизм и протекционизм? — Вмешательство
государства во внутренние дела промышленности и
торговли,— Специально торговая политика при «ста-
ром порядке»,— Влияние торговых и колониальных ин-
тересов на внешнюю политику
Экономическая политика XVI—XVIII вв. и соответствен-
ная ей теория известны в истории как государственного, так
и хозяйственного быта под названием меркантилизма.
Французское «mercantile» значит «торговый», а потому ука-
занный термин можно толковать как «торговое направле-
ние». Далее, говоря о торговом направлении экономической
политики государства, мы тем самым характеризуем ее как
политику, проникнутую торговым духом, ставящую на вид-
ное место интересы торговли, оказывающую особую поддер-
жку торговой деятельности и занимающемуся ею обществен-
ному классу. В меркантилизме само государство стремится
сделаться торговым, видя в торговле главный источник сво-
его обогащения и полагая, что богатство государства или,
точнее говоря, государственной казны заключается в прили-
ве денег, звонкой монеты, золота и серебра. Сами государи
при благоприятных условиях не прочь были заниматься тор-
говлей — факт, нам уже известный из предыдущего изложе-
ния. Вспомним, прежде всего, королевскую и княжескую
256
торговлю зерновым хлебом и овечьей шерстью, как продук-
тами эксплуатации их поместий1. Вспомним, далее, и коро-
левскую торговлю в Португалии и в Испании заокеанскими
товарами вроде разного рода пряностей2. Вспомним, нако-
нец, и королевские мануфактуры, которые, конечно, обслу-
живали не один только двор, но и вообще более богатую пуб-
лику3. С другой стороны, мы видели, что в переходную эпоху
от Средних веков к Новому времени все государственное хо-
зяйство, само бывшее прежде феодальным, перестраивалось
по типу хозяйства купеческого: это соответствовало общему
переходу от более раннего натурального хозяйства к более
позднему хозяйству — денежному4.
От практики меркантилизма, зародившейся еще в средне-
вековых купеческих республиках и усвоенной в XVI ст. госу-
дарями, в XVII же веке достигшей наибольшего своего раз-
вития, нужно отличать меркантилистическую теорию, во
всяком случае бывшую более позднего, чем практика, проис-
хождения, но зато изъяснявшую принципиальные основы по-
следней, ее конечные цели и ее действенные средства, давав-
шую государственным людям советы и наставления, выраба-
тывавшую правила искусного ведения государственного
хозяйства и правительственного воздействия на хозяйство
народное. Хотя в исторической последовательности меркан-
тилистическая практика предшествовала меркантилистиче-
ской теории, но для того, чтобы уразуметь первую, мы дол-
жны прежде познакомиться со второй.
Писатели меркантилистического направления были дале-
ки от постановки задачи научного исследования законов, уп-
равляющих хозяйственной жизнью народов, т.е. их учение
было не столько наукой, сколько искусством: если это уче-
ние и можно подвести под категорию наук, то не чистых, а
так называемых прикладных. И в этой области его предме-
том была не хозяйственная деятельность населения государ-
ства, а лишь государственное управление. Впоследствии
главный основатель экономической науки, Адам Смит, на-
1 См. выше, с. 207—208.
2 См. выше, с. 252—253.
3 См. выше, с. 248 и след.
4 См. выше, с. 209 и след.
257
звал свое сочинение «Богатством народов», но меркантили-
стам это понятие, можно сказать, было чуждо, ибо они почти
исключительно были заняты «богатством государств», а еще
более богатством казны. Меркантилисты одинаково были
очень далеки от того, чтобы видеть источник богатства в
земле, как учили сменившие их физиократы, или в произво-
дительном труде, выдвинутом позднейшими экономистами,
потому что богатство они понимали в смысле обилия денег,
звонкой монеты, драгоценных металлов. Вся цель государст-
венного управления в их глазах заключалась в том, чтобы
привлекать в казну и накоплять в ней как можно больше де-
нег. С этой стороны меркантилизм имел строго фискальный
характер, но для того, чтобы в казне было много денег, нуж-
но было привлекать их побольше и в страну. Лучшим сред-
ством для достижения такой цели они считали торговлю, от-
куда и название самой системы. К внутренней торговле мер-
кантилисты были равнодушны: она государства не
обогащает, не увеличивая количества денег, обращающихся
в стране. Обогащает государство лишь торговля вывозная,
привлекая в страну деньги за проданные в чужие края това-
ры, да торговля провозная (транзитная), потому что за про-
воз товаров тоже платятся деньги. Ввозную торговлю мер-
кантилисты считали даже прямо вредной, ибо за ввозимые
товары нужно платить деньги, а это ведет к обеднению стра-
ны. Впрочем, без ввоза обойтись нельзя, и потому нужно
стремиться к превышению вывоза над ввозом, и составляю-
щему выгодный для государства торговый баланс. Далее,
меркантилисты учили, что вывозить выгоднее продукты об-
рабатывающей промышленности, как более дорогие и менее
громоздкие, следовательно, и более удобные для перевозки,
нежели более дешевые и более громоздкие продукты добыва-
ющей промышленности, как то хлеб, кожи, шерсть, лес и во-
обще всякое сырье. Вот почему меркантилисты, кроме вопро-
сов торговли, интересовались еще вопросами обрабатываю-
щей промышленности, совсем, наоборот, обходя своим
вниманием вопросы сельского хозяйства, а из добывающей
промышленности вообще делая исключение только для добы-
вания золота и серебра. По той же причине, наконец, мер-
кантилизм рекомендовал ввозить в страну сырье, которое
258
можно было бы в ней перерабатывать в более ценные изде-
лия, но отнюдь не допускать ввоза изделий, поскольку за них
не только нужно платить деньги, но и поскольку такой ввоз
ведет к подрыву собственной промышленности страны.
Логическим выводом из всех этих рассуждений было то,
что государство должно было всячески поощрять торговлю и
промышленность и, следовательно, оказывать особое покро-
вительство тем классам общества, которые получают выгоду
от этих двух видов хозяйственной деятельности. Мерканти-
листы, в сущности, проповедовали солидарность интересов
фиска и капиталистических предпринимателей в областях
торговли и промышленности. Теоретиков этой системы со-
всем не занимали интересы других классов общества, т.е. ни
потребителей, ни промышленных рабочих, ни сельских хозя-
ев. Все должно было даже приноситься в жертву коммерции
и индустрии. Авторы меркантилистических сочинений реко-
мендовали, в качестве способов поощрения, установление
монополий, привилегий, выдачу субсидий предпринимате-
лям, вывозных премий купцам и введение высоких пошлин
на ввозимые товары, не только обогащающих казну, но и ог-
раждающих отечественное производство от конкуренции с
промышленностью других стран. В связи с вопросами торгов-
ли меркантилисты разрабатывали и вопросы денежного об-
ращения и кредита. Вывоз денег из страны многими из них
считался чуть ли не главным источником всяких экономиче-
ских неурядиц, рядом с которым можно поставить разве
только слишком дешевую продажу своих товаров и приобре-
тение чужих по слишком дорогим ценам. Вместе с этим мер-
кантилисты не могли не смотреть на государство не только
как на самодовлеющее целое, ради обогащения которого да-
вались все эти советы, но и как на высшего регулятора всей
торговли с чужими странами. Оно должно было сообщать
этой торговле то или другое направление, поощрять или за-
труднять, даже запрещать ввоз или вывоз таких-то и таких-
то предметов посредством искусно составленных тарифов.
Если, рассуждали меркантилисты, можно какие-либо продук-
ты продавать в чужие края с особенной выгодой, то можно
искусственными мерами сокращать потребление этих про-
дуктов внутри страны.
259
Правда, цельного теоретического учения меркантилисти-
ческие писатели не создали, но именно таков, как только
что было изложено, был общий дух этой системы. Это была
идеология самодовлеющего фиска и идеология торгово-про-
мышленного капитализма. В меркантилизме, как теоретиче-
ской доктрине с чисто практическим характером, королев-
ская власть, связанная всеми старыми своими традициями с
представителями феодального землевладения, пришла в со-
прикосновение и стала сближаться с представителями тор-
гового и промышленного капитала. Феодальная монархия
была государством землевладельческо-военным, но монар-
хия абсолютная не могла оставаться таким только государ-
ством, потому что экономическое развитие толкало ее на
путь, на котором оно должно было рано или поздно превра-
титься в государство торгово-промышленное (каким, на-
пример, Франция в чистом его виде была между Июльской
и февральской революциями, в период безусловного господ-
ства буржуазии).
Социальное значение меркантилистической политики и
заключалось в том, что при ее посредстве вообще государст-
во, и в частности абсолютная монархия, содействовали воз-
вышению торгово-промышленных классов, и притом верх-
них, капиталистических, предпринимательских слоев среди
групп, занятых промышленностью и торговлей. Духовенство
и дворянстро владели землями, обладали всякого рода при-
вилегиями, господствовали над сельской массой, занимали
важные должности в церкви, при дворе, в армии и в граж-
данской службе, пользовались разными милостями своих го-
сударей, но экономическая политика государства направля-
лась меркантилизмом и индустриализмом, для которых на
первом плане — в социальном отношении — стояли интере-
сы купцов и фабрикантов. По-старому занятиями, достойны-
ми дворянина, были разного рода службы — в составе като-
лического клира, королевского двора, королевского войска,
королевского суда, королевской администрации, а занятия
коммерцией и индустрией предоставлялись низшей породе
людей, но именно этих самых людей более всего и обогаща-
ла власть, и притом не по монаршей милости, а из необходи-
260
мости: купцы и фабриканты нужны были государству как со-
ратники в добывании денег.
Абсолютная монархия даже ограждала торгово-промыш-
ленную буржуазию от возможной конкуренции со стороны
дворянства. Для потомков средневековых рыцарей занятия
торговцев и ремесленников были слишком низменными, не-
совместимыми с дворянским званием. Место дворянина мог-
ло быть где угодно, но только не за прилавком и не за стан-
ком, и дворянин, занимавшийся торговыми или промышлен-
ными делами, ронял свое звание. Короли поддерживали в
дворянской среде этот сословный предрассудок, разве только
не делалось при этом каких-либо обходов и не придумыва-
лась какая-либо замаскировка. Для обозначения унижения
своего звания дворянином, занимающимся торговлей, суще-
ствовал во Франции специальный термин — дероргация
(derogation): при королевском дворе смотрели на такую де-
роргацию как на преступление против дворянской чести, как
на нечто равносильное только мезальянсу, т.е. браку с де-
вушкой из низшего сословия. В некоторых наказах (cahiers)
1789 г. высказывается самими дворянами протест против по-
добного ограничения правоспособности благородного сосло-
вия: меркантильный дух делал свое дело, да и раньше, впро-
чем, ради большого прибытка можно было, пожалуй, и «де-
роргировать».
Крайне невыгодно отозвалась меркантилистическая сис-
тема на сельском хозяйстве. Таких людей, как министр Ген-
риха IV, Сюлли, говоривший, что земледелие и скотоводство
суть два сосца, питающие Францию, до появления физиокра-
тов в середине XVIII в. было очень мало и среди государст-
венных деятелей, и среди писателей. Меркантилисты, как
мы видели, полагали, что сельское хозяйство не обогащает
государства, и смотрели на продукты сельского хозяйства
как на подсобные предметы для промышленности (сырье для
обработки, пища для рабочих и т. п.). Сельскому хозяйству
со стороны государства не только не оказывалось никаких
поощрений, но как раз наоборот, всякие поощрения торговле
и промышленности отвлекали от сельского хозяйства и пред-
принимательскую инициативу, и денежные средства, и даже
рабочие руки, не говоря уже о том, что государство, помогая
261
материально коммерции и индустрии, ничего не возвращало
земле из того, что от нее получало. В своем стремлении под-
нять во Франции земледелие Сюлли разрешил вывозить зер-
новой хлеб за границу, но Кольбер, наоборот, по временам
находил нужным запрещать вывоз хлеба, чтобы держать его
в низкой цене, дабы рабочие мануфактур могли иметь более
дешевую пищу, в последнем же счете дабы фабриканты мог-
ли нанимать рабочих за более низкую плату, т.е. от такой
меры сельские хозяева (среди них и крестьяне) теряли, рабо-
чие ничего, в сущности, не выигрывали, а барыши от умень-
шения издержек производства — клали в свои карманы хо-
зяева промышленных заведений. Эта и некоторые другие ме-
ры Кольбера, вообще бывшего одним из самых видных
представителей меркантилизма, даже начавшего обозначать-
ся словом «кольберизм»,— во многих вселяли убеждение,
будто этот знаменитый министр сознательно и преднамерен-
но давил земледелие. Конечно, ничего подобного не было, да
и не могло быть, но если Кольбер не ставил себе такой цели,
это еще не значит, что результаты его экономической поли-
тики были именно крайне неблагоприятными для сельского
хозяйства. Экономическую политику государства в эпоху
господства меркантилизма поэтому, несомненно, нужно за-
нести в число причин, которые невыгодно отзывались на
сельском хозяйстве эпохи. Кроме запрещения вывозить за
границу хлеб, не могли не отражаться неблагоприятно на де-
ревне вообще и такие распоряжения Кольбера, как освобож-
дение от талии семейств, в которых трое детей работали на
фабриках, сбавка налогов, падавших на города, где были ма-
нуфактуры, и т. п.
Выше было указано, в каком печальном состоянии в
XVIII в. находилось земледелие во Франции, экономическая
политика которой с середины XVII ст. была строго «кольбе-
ристской»1. Постоянные голодовки и страшные колебания
хлебных цен, обнищание деревни и упадок земледелия не
могли, наконец, не обратить внимание французского прави-
тельства и общества на положение сельского хозяйства и
связанных с ним отношений. «В конце 1750 г.,— писал
1 См. выше, с. 225 и след.
262
Вольтер,— нация, пресытившись стихами, комедиями, тра-
гедиями, операми, романами, романическими историями,
моральными рассуждениями, еще более романическими, и
богословскими диспутами о благодати и конвульсиях, при-
нялась наконец рассуждать о хлебе. Забыли даже виноград-
ники, чтобы говорить только о пщенице и о ржи; написаны
были прекрасные книги о земледелии, и все их читали, ис-
ключая хлебопашцев. Можно было предположить, выходя
из театра комической оперы, что Франции предстояло про-
давать хлеб в небывалых размерах». Это несколько насмеш-
ливое описание общественного настроения французского
общества в середине XVIII в. вполне соответствует действи-
тельности. Сразу во Франции в эти годы возникла обшир-
ная агрономическая литература; стали основываться в про-
винциальных городах сельскохозяйственные общества, взя-
тые королевской властью под покровительство и потому
благосклонно встреченные администрацией, которая даже
начала обращаться к ним за советами; аристократы стали
лично производить агрикультурные опыты и проч., и проч.
На почве этой, как-никак, реакции против меркантилизма
выросла и экономическая школа физиократов, стоявшая на
той точке зрения, что источник национального богатства за-
ключается в земле, в сельском хозяйстве, что только одни
сельские хозяева и земледельцы составляют производитель-
ный класс общества, что на земледелие должно быть обра-
щено все внимание правительства и что в интересах лучшей
обработки земли для извлечения из нее возможно большего
дохода необходимо перейти к крупному фермерству, к более
интенсивной культуре и к плодопеременной системе. В гла-
зах физиократов только зажиточные предприниматели, а не
мелкие хозяева могли создать благополучие государства, и
именно в этом смысле мы должны понимать изречение осно-
вателя физиократии: «Бедны крестьяне — бедно королевст-
во, бедно королевство — беден король». Крупные хозяйства
выгоднее для государства, нежели мелкие, и богатые ферме-
ры могут дать лучший заработок рабочим, чем бедные,— та-
кова была основная мысль физиократов. Экономисты этой
школы, в сущности, шли по стопам меркантилистов, доказы-
вая только, что в интересах фиска — поощрять главным об-
263
разом занятие сельским хозяйством и оказывать покрови-
тельство землевладельцам и фермерам, дабы приохотить их
к этому занятию.
Меркантилистическая политика доказала свою несостоя-
тельность, и против нее в середине XVIII в. произошла ре-
акция и в самих правительствах, и в литературе. Во второй
половине XVIII в. не только во Франции, но и в других
странах правительственные заботы о поднятии сельскохо-
зяйственной культуры становятся явлением довольно обыч-
ным. Во многих случаях здесь действовало не столько вли-
яние физиократической теории (очень часто его и совсем не
было), сколько властные и принудительные требования са-
мой жизни. Особенно это приходится сказать о странах со
слабым развитием промышленности и торговли, какой была,
например, Пруссия. Фридрих II,— царствование которого
началось лет за двадцать до образования физиократической
школы,— по своим экономическим воззрениям был чистей-
шим меркантилистом и оставался им до конца жизни, ни-
чуть не поддавшись влиянию физиократии, за что, как изве-
стно, навлек на себя упреки со стороны Мирабо, но сама
Пруссия была страной земледельческой, и реальные интере-
сы казны требовали, чтобы земля давала больше доходов:
как было такому правительству, как прусское, вмешивавше-
муся во все, не хлопотать о поднятии в стране сельского хо-
зяйства? Иосиф И,— молодость которого совпала с эпохой
развития физиократической литературы,— уже испытал на
себе ее влияние, но и в его экономической политике глав-
ную роль играли практические соображения, и он был то
меркантилистом, то физиократом в зависимости от того, что
в каждом отдельном случае он находил более выгодным для
государственной казны. Интересы последней у всех предста-
вителей абсолютизма стояли на первом плане, и государст-
венные люди готовы были следовать всякому учению, кото-
рое давало советы, как наполнять государственную казну.
Было время господства меркантилизма, но не везде и не
всегда он оказывал такое громадное влияние на экономиче-
скую политику правительства, как во Франции со времен
Кольбера, система которого нашла многочисленных подра-
жателей и за границами Франции. Когда обнаружилась од-
264
носторонность кольберизма, в экономическую политику ста-
ли вноситься поправки в направлении, крайней идеологией
которого сделалась физиократия, но заботилось ли государст-
во о торговле и о промышленности или о земледелии, на
первом плане у него стоял интерес фискальный, и в обоих
случаях результатов, к которым стремились, ожидали преж-
де всего чисто бюрократического воздействия. Многие агро-
номические мероприятия правительств второй половины
XVIII в. были настоящими кабинетными измышлениями,
проведение которых в жизнь должно было идти путем кан-
целярских предписаний. Вера во всемогущество админист-
рации сопровождала и правительственные предначертания в
деле улучшения земледелия: в данном случае государство
лишь шло по тому пути, который оно уже проложило себе в
своем воздействии на обрабатывающую промышленность во
времена безусловного господства меркантилизма. Вот кое-
какие примеры, заимствованные из истории Франции.
В 1761 г. в «Королевском альманахе» впервые появляет-
ся сельское хозяйство в числе отделов подведомственной ге-
нерал-контролеру администрации, а в 1763 г. создается и не-
что вроде особого министерства земледелия, просущество-
вавшее, впрочем, только до 1780 г., когда оно опять слилось
с ведомством генерал-контролера. Местными органами пра-
вительственных забот в области сельского хозяйства были,
конечно, все те же интенданты, которые должны были поощ-
рять и осушение болот, и распахивание запущенных земель,
и раздел общинных угодий, и огораживание отдельных уча-
стков для изъятия их от превращения в выгоны после жатвы,
и введение новых культур, как то свекловицы или картофе-
ля, и травосеяние, и древонасаждение, и улучшение пород
скота и проч., и проч. На интендантов же возлагалась обя-
занность бесплатно раздавать желающим популярные книж-
ки о разных сельскохозяйственных усовершенствованиях.
Почти во всех резиденциях интендантов были основаны на-
зывавшиеся «королевскими» общества сельского хозяйства,
в которых интенданты иногда делались действительными или
почетными председателями, что придавало этим обществам
своего рода официальность. Одним словом, во второй поло-
вине XVIII в. интенданты сделались во Франции такими же
265
опекунами сельского хозяйства, какими были уже раньше по
отношению к обрабатывающей промышленности.
Такая же опекающая роль принадлежала интендантам и в
деле «хлебной полиции» (police des grains), под каковой разу-
мелись и надзор за хлебной торговлей, и заботы о продоволь-
ствии местного населения. Хлебная торговля была опутана во
Франции целым рядом регламентов, оставлявших, однако, ин-
тендантам большой простор в деле их применения в зависимо-
сти от местных условий и от личных взглядов самих интендан-
тов. В целях обеспечения продовольствия принимались разные
меры вроде запрещений хлебного барышничества (скупки хле-
ба), продажи хлеба иначе, как на рынке под надзором поли-
ции, установления на хлеб вольных цен и т. п., и вся эта регла-
ментация хлебного дела, создававшего немало хлопот прави-
тельству, была результатом частых во Франции XVIII в.
недородов, голодовок, дороговизны хлеба, разграблений хлеб-
ных амбаров и транспортов и т. д., бывших результатами об-
щего расстройства народного хозяйства1. С другой стороны,
постоянное и деятельное вмешательство правительства в хлеб-
ную торговлю стояло в связи с общим направлением экономи-
ческой политики: например, мы уже видели, какими соображе-
ниями руководствовался Кольбер, запрещая вывоз хлеба из
страны2. Наконец, правительство было заинтересовано в воп-
росе и потому, что само делало закупки хлеба для армии и вхо-
дило в соглашения с хлеботорговцами для продовольствия Па-
рижа3. Вообще вопрос о хлебной торговле во Франции при
1 Ср. выше, с. 229—230.
2 См. выше, с. 262.
3 В связи с мероприятиями правительства последней категории возник-
ла легенда, сделавшаяся даже предметом веры в исторической литературе
XIX в., будто в середине XVIII в. во Франции существовала компания для
скупки хлеба с целью спекуляции на счет народного голода и будто это то-
варищество действовало под покровительством правительства, а Людо-
вик XV сам был пайщиком компании, получая от нее свою долю барыша.
Разбор легенды об этом «обществе голодовки» составляет содержание
гл. XIV книги Г. Е. Афанасьева «Условия хлебной торговли во Франции в
XVIII в.» (Одесса, 1892). На самом деле ничего подобного не было, но воз-
никновение такого чудовищного слуха характерно, свидетельствуя о том,
какие толки могли быть порождены канцелярской тайной и недоверием к
честности правительства.
266
«старом порядке» имеет весьма большой интерес для характе-
ристики самого «старого порядка». Оказывается, что при всей
административной централизации, господствовавшей во Фран-
ции, отдельные интенданты смотрели на свои округа («гене-
ральства») как на обособленные административные единицы и
потому относились к вывозу хлеба в другие провинции как к
внешней торговле, которую можно по своему усмотрению и за-
прещать1. Поддержкой такого взгляда служило то обстоятель-
ство, что между отдельными провинциями, как пережиток фе-
одальной старины, существовали заставы, на которых брались
проходные пошлины. Что касается до центрального правитель-
ства, то как можно было ему, этому центральному правитель-
ству, вмешивавшемуся во все мелочи жизни и особенно инте-
ресовавшемуся торговлей, предоставить хлебной торговле сво-
боду? Сначала правительство, смотря по обстоятельствам, то
дозволяло, то запрещало вывоз хлеба из государства, но со
второй четверти XVIII в. запрет делается общим правилом, до-
зволение — исключением, причем главным мотивом было же-
лание удешевить содержание промышленного труда. Если пра-
вительство, далее, и боролось с произволом интендантов в де-
ле перевозки хлеба из одной провинции в другую, то само же
оно создавало условия, благоприятные как раз для этого само-
го произвола. Центральная власть желала все-таки держать
циркуляцию хлеба под своей опекой, но кому же она могла
предоставить в этом деле контроль, как не тем же самым ин-
тендантам? Последние получали от министра печатные бланки
на выпуск хлеба и уже сами заполняли в них пробелы, выда-
вая разрешения отдельным купцам. Кроме того, в интересах
торгово-промышленных классов, т.е. городского населения,
правительство дозволяло продавать хлеб внутри отдельных
провинций только на городских рынках, куда земледельцы и
обязаны его были доставлять, и притом в надлежащем количе-
стве: дома им разрешалось оставлять лишь столько, сколько
было нужно для собственного пропитания. Это была борьба с
«жадностью» земледельцев, но правительство боролось и с
«жадностью» хлеботорговцев, запрещая устройство хлебных
1 Ср. с обособленностью провинций в отношении к кутюмам, к отбыва-
нию соляной повинности и т. п. (см. выше, с. 145, 219 и др.).
267
амбаров. Только проповедь физиократов стала вносить в эту
меркантилистическую политику известные изменения в смыс-
ле уничтожения многих стеснений в деле хлебной торговли.
Вопрос об этой торговле сделался даже главной почвой для ли-
тературной полемики между представителями меркантилизма
и физиократии, тем более, конечно, что физиократия была ре-
акцией против меркантилизма не только в смысле защиты ин-
тересов сельского хозяйства, но и в смысле защиты свободы от
вечной правительственной опеки и регламентации. На практи-
ке правительство в XVIII в. постоянно колебалось между дву-
мя противоположными решениями вопроса, и из двух минист-
ров-реформаторов при Людовике XVI один, физиократ Тюрго,
объявил свободу торговли хлебом, тогда как другой, мерканти-
лист Неккер, стал ее стеснять, а затем и совсем отменил1.
Представленная выше противоположность меркантилиз-
ма и физиократии дает нам право различать в меркантилиз-
ме две разные стороны. Первой из них является исключи-
тельная забота об интересах торговли и промышленности,
создающей предметы торговли, в противоположность теории
физиократов, проявлявших исключительную заботливость об
интересах сельского хозяйства. Другая основная черта мер-
кантилизма — это отдача им экономической жизни населе-
ния под покровительство государства и, следовательно, под
его опеку, тогда как физиократы учили о необходимости гос-
подства природы (что собственно и обозначено в самом тер-
мине «физиократия»), о предоставлении хозяйственной дея-
тельности общества естественному порядку, т.е. свободному,
ничем не стесняемому течению дел. В этом отношении ло-
зунгом физиократов могла бы быть формула, принадлежа-
щая одному экономисту XVIII в., Гурне, не бывшему, однако,
физиократом: «Laissez faire, laissez passer»2. Меркантилисти-
ческая теория в этом пункте стояла на противоположной
точке зрения и в данном отношении была гораздо ближе к
1 Г. Е. Афанасьев, автор только что названного труда по истории хлеб-
ной торговли во Франции в XVIII в., насчитывает три попытки реформы и
три реакции против уже произведенных реформ.
2 Буквально: «позвольте делать (предоставьте свободу производить),
позвольте проходить» (такое же требование относительно торговли).
268
общему духу абсолютизма, нежели физиократия, которая,
впрочем, разделяла в политическом отношении основные
воззрения абсолютной монархии1. Меркантилизм был не
только экономической, но и политической доктриной, имен-
но доктриной государственного абсолютизма, исходящей из
подчинения всего государству (не непременно в монархиче-
ской его форме). В ней экономика зависит от политики: цель
всей хозяйственной жизни — в государстве, а государство в
данном случае есть казна. С этой точки зрения вся экономи-
ческая деятельность должна была совершаться под руковод-
ством и контролем правительства, под его опекой и «протек-
цией», откуда обозначение меркантилизма как «протекцио-
низма», хотя последний термин заключает в себе совсем
другой оттенок: в XVIII в. государство попробовало приме-
нить систему вмешательства, опеки и покровительства и к
сельскому хозяйству, распространив и на него методы бю-
рократического воздействия, хорошо уже испытанные в
предыдущую эпоху в политике индустриального протекцио-
низма.
Правительственное вмешательство во внутренние дела
промышленности и торговли, столь характерное для меркан-
тилистического государства, было лишь одним из частных
случаев той административной опеки, которой абсолютизм
подчинял всю общественную жизнь. Власть оказывала спе-
циальное покровительство известному ли роду деятельности,
или известному вероучению не даром, а потому что считала
это выгодным и ждала за это с их стороны услуг, но покро-
вительством создавалось и право распоряжения внутренни-
ми отношениями в покровительствуемой области жизни. Мы
уже видели, как государство XVII—XVIII вв. протежировало
крупной промышленности2, а теперь посмотрим, какие отсю-
да вытекали для нее следствия.
Одной из особенностей кольберизма была страшная
регламентация производства. Кольбер всячески поощрял
1 О чем см. ниже, в главе XIX, где говорится о физиократах, как сто-
ронниках просвещенного абсолютизма.
2 См. выше, с. 246—249 и 260—262.
269
развитие крупной индустрии, ограждая ее от иностранной
конкуренции, предоставляя новым мануфактурам разные
привилегии, снабжая предпринимателей денежными средст-
вами, облегчая им добывание рабочих рук, подчиняя рабо-
чих власти фабрикантов, удешевляя в их пользу хлебные
цены, улучшая для облегчения перевозки товаров пути со-
общения и т. п., но, конечно, промышленность всецело дол-
жна была подчиниться правительственной регламентации.
Королевские ордонансы входили в такие мелочи производст-
ва, как установление степени тонкости нитей для приготов-
ления известных тканей, указания на ширину той или дру-
гой материи и на длину отдельных ее кусков, выбор цветов
для окраски тканей и т. п. Отступать от правительственных
регламентов в производстве тех или других изделий не по-
зволялось под страхом разных, иногда тяжелых кар. Вся си-
стема опеки была основана на недоверии к частным лицам.
Правительство брало на себя надзор за добротностью това-
ров и учило предпринимателей, как фабриковать. В глазах
Кольбера все такие предписания были помочами или косты-
лями, без которых промышленность сама не могла бы сде-
лать шагу, не споткнувшись или не упавши. В одном коро-
левском ордонансе 1760 г. было сказано, что если ткань
окажется не соответствующей регламенту, то будет прибита
на двое суток к позорному столбу с обозначением на нем
имени провинившегося фабриканта, а потом так или иначе
истреблена, если только не состоится приказания о конфи-
скации. За второй аналогичный проступок ордонанс грозил
виновному еще публичным выговором, за третий — прико-
ванием фабриканта к позорному столбу. В провинциях над-
зор и опека над обрабатывающей промышленностью принад-
лежали, конечно, интендантам, и в их ведении находились
корпорации купцов, цехи и мануфактуры. Замечательно, что
для отдельных генеральств центральная власть издавала
иногда разные регламенты. Менее чем за десять лет до ре-
волюции, в 1780 г., появился целый ряд королевских грамот
с особыми правилами для отдельных генеральств,— даже
для каждой фабрики, взятой особняком,— относительно
числа ниток в основе отдельных сортов тканей, ширины и
длины кусков, их окраски и т. п. Непосредственно за испол-
270
нением регламентов наблюдали «инспектора мануфактур»
(inspecteurs de manufactures), составлявшие протоколы в
случае «злоупотреблений», суд по которым принадлежал ин-
тендантам. Если правительственная власть вмешивалась во
все мелочи производства в частных предприятиях, то нет
ничего удивительного в том, что и общественное хозяйство
отдельных городов и сельских общин находилось под той же
опекой. (Известно, например, что починка приходской церк-
ви или священнического дома не могла обойтись без вмеша-
тельства интенданта и даже Королевского совета). Прави-
тельственная регламентация в обрабатывающей промышлен-
ности распространялась и на мануфактурных рабочих. За
ними устанавливался полицейский надзор; нарушения фаб-
ричной дисциплины карались, как преступления, и жизнь
рабочего опутывалась всякими правилами в духе вообще по-
лицейского государства.
Слишком много потребовало бы места рассмотрение то-
го, как в других государствах действовала, по французскому
в конце концов образцу, система покровительства промыш-
ленности, соединенная с правительственной ее регламента-
цией. Мы остановимся в виде исключения лишь на Австрии
ввиду того, что в этом отношении монархия Габсбургов шла
позади других государств и выступила на путь индустриаль-
ного развития позже, нежели, например, Пруссия1, и что
здесь в то же время в применении системы происходили не-
которые колебания не без влияния уже, между прочим, и
учения физиократов.
1 Здесь еще современник Людовика XIV и Кольбера, истинный основа-
тель прусской монархии, «Великий курфюрст» (ср. выше, с. 95—96), ста-
рался насадить в стране мануфактуры, в чем к концу XVII в. ему большую
помощь оказал сам же французский король, начав преследовать своих про-
тестантских подданных и отменив наконец Нантский эдикт. Курфюрст ши-
роко открыл доступ в свои владения гонимым на родине гугенотам, и их пе-
реселилось в эти владения до 200 000 человек, принадлежавших больше к
промышленному классу. С этого времени прусское правительство и пошло
по пути меркантилизма, одним из представителей которого был Фридрих II,
в своей экономической и финансовой (ср. выше, с. 219) политике следовав-
ший французским образцам. В этом отношении Фридрих II иногда стремил-
ся прямо к невозможному для Пруссии (например, к насаждению шелко-
водства, что было совсем не по климату).
271
Более решительно австрийское правительство выступило
на путь протекционистской политики лишь при Марии-Тере-
зии, т.е. не ранее середины XVIII в. Именно при ней впервые
был учрежден в Австрии для заведования торговлей и про-
мышленностью особый «придворный совет о торговле» (Hof-
commercienrath), что указывало на намерение государствен-
ной власти более решительным, нежели то было прежде,
образом оказывать поощрение торгово-промышленной дея-
тельности в монархии. Главным образом имелось в виду по-
кровительство производству предметов роскоши, привоз ко-
торых из-за границы сопровождался отливом денег из стра-
ны. Наилучшим средством считалось приглашение искусных
ремесленников из других государств с обещанием всяких
льгот и поощрений. Верная дочь католической церкви, скор-
бевшая по поводу сочувствия своего сына идее веротерпимо-
сти, Мария-Терезия соглашалась даже на то, чтобы среди пе-
реселенцев в Австрию были и протестанты: ее от этого не
могли отвратить ни настояния духовенства, ни протесты чи-
нов, ни жалобы цехов. Система правительственных мануфак-
тур в Австрии, впрочем, не привилась, и сделанный в этом
отношении опыт очень скоро был признан неудачным. Более
долгое время продержалась система правительственных ссуд
и пособий частным предпринимателям, особенно,— что
очень характерно,— из дворянского сословия, но в конце
своего царствования Мария-Терезия и здесь разочаровалась
ввиду неважных успехов и частного предпринимательства. В
семидесятых годах XVIII в. правительство даже прямо реши-
лось предоставить собственной участи те мануфактуры, ко-
торые не в состоянии были держаться без казенной помощи.
Впрочем, и по отношению к частным предприятиям, раз они
субсидировались из казны, правительство видело в себе как
бы прежде всего заинтересованную сторону, имеющую осо-
бое право вмешиваться в ведение дела. Отсюда — установ-
ление правительственной регламентации, для которой образ-
цы уже существовали — в прусском законодательстве нача-
ла царствования Фридриха II. Правительство осматривало
товар, на который лишь после тщательного исследования его
соответствия с правилами налагался штемпель, а для того,
272
чтобы товары не дорожали, устанавливался максимум зара-
ботной платы,— обычное, как нам известно, явление этой
эпохи1.
Цехи в Австрии, как и везде с XVIII в., не пользовались
правительственным расположением. Уже в начале столетия
Иосиф I по примеру французских королей давал права масте-
ра, кому находил нужным, а его брат Карл VI позволил и
подмастерьям без приобретения звания мастера вполне само-
стоятельно заниматься тем или другим ремеслом, что при-
влекло немало новых промышленных сил из-за границы. Че-
рез полвека после этого распоряжения в том же духе было
издано и Марией-Терезией повеление местным властям вез-
де «принимать ремесленников, фабрикантов и мануфакту-
ристов» и «без всякого осведомления» давать им и звание
мастера, и бюргерские права. При этом каждому хозяину ма-
стерской разрешалось иметь, сколько кто захочет, подма-
стерьев.
Иосиф II, по случаю некоторых своих мер слывший у со-
временников за последователя физиократии, в вопросах
торговли и промышленности стоял на чисто меркантилисти-
ческой точке зрения. В его царствование снова начались бы-
ло поощрения, воспособления, ссуды промышленникам, но
потом с каждым годом император начал все более скупиться,
находя, что слишком уже много развелось «прожектеров-
миллионщиков без гроша в собственном кармане». По отно-
шению к цехам Иосиф II держался прежней политики край-
него нерасположения, продолжая, между прочим, вызывать
из-за границы ремесленников, которым давались всякие при-
вилегии, покровительствуя кустарной промышленности в де-
ревнях, объявляя многие производства свободными профес-
сиями и оставляя цеховую регламентацию только для заня-
тий, где того требовали особые общественные интересы. При
этом, конечно, правительство не отказывалось и от общей
регламентации промышленности, с одной стороны, по изве-
стному шаблону нормируя заработную плату, чтобы она не
была слишком высока, с другой,— что выгодно отличает за-
1 См. выше, с. 239—240 и 249.
273
конодательство Иосифа II,— принимая некоторые меры в
пользу здоровья рабочих, в особенности подростков. Особые
инспектора, наконец, осматривали доброкачественность то-
варов или просто соответствие их с установленными образ-
цами (например, размеры кирпича), дабы не допускать до
продажи все, что не подходило под уставы.
Само собой разумеется, что все это сопровождалось раз-
витием мер, клонившихся к устранению всякой иностран-
ной конкуренции, установлением прямых запрещений ввоза,
высотой обложения пошлинами допущенных к ввозу пред-
метов и т. п. Некоторые советовали Иосифу II даже пус-
титься в колониальную политику, но он от этого воздержал-
ся, нашедши подобные советы лишь «романтическими идея-
ми». В вопросе о монополиях он стоял на враждебной им
точке зрения физиократии.
Специально торговая политика меркантилизма заключа-
лась в содействии развитию вывоза за границу. Наибольшее
внимание правительств было обращено на морскую торгов-
лю, на устройство портов, на постройку торгового флота, на
основание больших монопольных компаний для торговли с
заморскими странами, на приобретение, наконец, колоний.
Пути, по которым должно было совершаться развитие мор-
ской торговли, были проложены еще раньше всего порту-
гальцами и испанцами, потом голландцами и англичанами:
самому Кольберу оставалось только насаждать во Франции
все то, что было наиболее целесообразного для достижения
основной цели — превращения страны в торгово-промыш-
ленное государство. Весь дух меркантилизма сосредоточил-
ся в кольберизме, которому усердно стали подражать в дру-
гих, более отсталых странах. Особенно было важно то, что
Кольбер возвел в целую систему ограждение национальной
индустрии от иностранной конкуренции высоким торговым
тарифом, т.е. наложением на ввозимые товары очень боль-
ших пошлин. Изданный им в 1667 г. тариф получил совер-
шенно запретительный характер, т.е. ввозить во Францию
большую часть товаров сделалось прямо убыточным, что на
самом деле не только исключало возможность соперничест-
ва иностранных изделий с туземными, но позволяло вместе
с тем французским предпринимателям поднимать цены на
274
свои произведения и тем увеличивать свои барыши. Конеч-
но, другим странам подобные стеснения для их торговли бы-
ли крайне неприятны, и они на высокие тарифы соседей от-
вечали своими невыгодными для их вывоза тарифами, отку-
да возникали настоящие тарифные войны, крайне вредные
для враждующих сторон, так как от этого уменьшались ввоз
и вывоз, и кроме того, весьма опасные в политическом отно-
шении, потому что торговое соперничество легко приводило
и к вооруженным столкновениям между отдельными госу-
дарствами.
Военные столкновения из-за торговых интересов разных
государств принадлежат к числу древнейших явлений исто-
рии1, и тем более значительную роль в этом отношении в
международной политике должны были играть эти интересы
в эпоху возникновения меркантилистического направления.
В истории войн, о которых говорится в VI и VII главах насто-
ящей книги, почти всегда в той или другой мере были заме-
шаны чисто коммерческие интересы, хотя и нужно остере-
гаться искать их там, где их не было, как например, в походе
Карла VIII в Италию для завоевания Неаполя2. В возникно-
вении войн участвовали, в качестве факторов, и военные
нравы и традиции дворянства, привитые ему воспитанием в
условиях феодальной анархии, и честолюбие отдельных госу-
дарей, стремившихся к славе и увеличению своих владений
или к первенству среди других королей и князей, и династи-
ческие их притязания, и политические соображения каса-
тельно округления границ, поддержания международного
равновесия, и старый национальный антагонизм очень разно-
образного происхождения, наконец, и взаимные антипатии
на почве религиозных разногласий, как это было в эпоху
международной борьбы католицизма и протестантизма в пе-
риод между серединой XVI в. и серединой XVII в. Воинст-
венность прямо заключалась в самой психологии абсолютиз-
ма3, но в том же направлении действовал на королевскую по-
литику и меркантилизм. Завоевательная политика, понятное
1 Монархии. С. 54 и след.
2 См. выше, с. 76.
3 Ср. выше, с. 78, примем.
275
дело, всегда имела своим объектом более богатые области,—
из-за бедных не стоило воевать, если к этому не было особых
причин,— а более богатыми областями были те, где разви-
лись торговля и промышленность. Это соображение нельзя
упускать из виду при рассмотрении международных войн на
Западе в эпоху абсолютной монархии, но специально о вли-
янии торговых интересов или влиянии меркантилизма на
международную политику можно говорить лишь тогда, когда
имеются строго фактические основания утверждать, что та
или другая определенная война возникла из-за торговли или
ради торговли.
В Итальянских войнах конца XV в. и начала XVI в., ко-
нечно, действовали и разные соображения материального
свойства. Богатая и политически разъединенная Италия бы-
ла слишком лакомым куском и вместе с тем слишком лег-
кой добычей, чтобы не сделаться предметом завоевательных
походов со стороны французов, испанцев или немцев, но ду-
мать, например, что у Карла VIII был особый расчет овла-
деть Средиземным морем и пробиться к загороженным пу-
тям восточной торговли1, было бы натяжкой без фактиче-
ской основы. Уже вообще исключительно экономическое
истолкование истории страдает односторонностью, а о мер-
кантилистическом истолковании и подавно нужно сказать
то же. Если бы короли так усердно заботились об одних
торгово-промышленных интересах, Филипп II не стал бы из-
гонять трудолюбивых морисков из Испании, не предпринял
бы истребления «ереси» в богатой своей торговлей Голлан-
дии и тем не привел бы ее к отпадению, а Людовик XIV
преследованием гугенотов не заставил бы уйти из страны и
унести с собой свои деньги и свои технические навыки мас-
су купцов, промышленников и рабочих, чем в значительной
мере были подорваны результаты деятельности Кольбера. В
распре Испании и Голландии действовали причины полити-
ческие и религиозные (деспотизм и фанатизм Филиппа II),
отнюдь не борьба за торговые интересы или за колонии:
приобретение голландцами заморских колоний и вытесне-
1 О загороженности путей см. выше, с. 250. Еще раз см. с. 76, где го-
ворится о Карле VIII.
276
ние из них испанцев и португальцев было лишь одним из
результатов войны, отнюдь не ее первоначальной целью. Ед-
ва ли точно так же династические союзы вроде двукратного
устройства браков между английской и испанской династи-
ями в первой половине XVI в. можно объяснить если не
прямо посредством, то, по крайней мере, в зависимости
главным образом от попытки устроить мирное торговое об-
щение между обеими нациями1.
Но есть и несомненные факты влияния меркантилизма на
внешние войны. В Голландской республике политическое
господство перешло к купеческой аристократии, которая по-
следовательно вела меркантилистическую политику, крайне
невыгодную для английской торговли. Голландия образовала
громадный коммерческий флот, обслуживавший междуна-
родную торговлю, и, беря на себя перевозку товаров, назна-
чала за это какие ей было угодно цены и таким образом обо-
гащалась на чужой счет. В эпоху первой Английской рево-
люции Долгий парламент, желая освободить английскую
торговлю от дани голландским мореходам, издал в 1651 г. со-
ставленный в меркантилистическом духе «навигационный
акт», который разрешал ввоз в Англию товаров лишь на ан-
глийских судах или на судах стран, эти товары производив-
ших. Этот торговый закон, направленный против Голландии,
занимавшейся перевозкой чужих товаров, привел к войне, из
которой победительницей вышла Англия. То была первая чи-
сто меркантилистическая война, но после падения в Англии
республики два последние Стюарта, желая нравиться под-
держивавшему их Людовику XIV, допустили в Англию в
большом количестве ввоз французских товаров, хотя ввоз
английских во Францию был запрещен Кольбером,— пример
убыточной торговой политики из-за политического расчета2.
Через полтора десятка лет после навигационного акта, в
1667 г., Кольбер во Франции издал свой таможенный тариф,
о значении которого сказано было выше3. Целью его, как и
английского навигационного акта, было нанести вред голлан-
дскому торговому соперничеству. В свою очередь Голландия
1 Некоторая тенденция к подобного рода объяснениям замечается в
«Учебнике новой истории» профессора Р. Ю. Виппера (1906).
2 Ср. выше, на с. 91 об отношении Карла II и Якова II к Людовику XIV.
3 См выше, с. 274.
277
стала также вредить Франции, организуя против нее евро-
пейские коалиции, тем более что стремление Людовика XIV
захватить Бельгию1 и в политическом отношении очень тре-
вожило голландцев. В политической распре Франции и Гол-
ландии во второй половине XVIII в. несомненную роль, кро-
ме причин политических и отчасти религиозных, играли
торговые интересы обеих стран. Когда после изгнания из Ан-
глии Стюартов голландский штатгальтер сделался англий-
ским королем под именем Вильгельма III, ввоз французских
товаров в Англию был запрещен. После этого английская по-
литика поставила своей задачей разрушить во Франции дело
Кольбера, создавшего торговое преобладание монархии Бур-
бонов, оставившего ей после себя большой флот и толкнув-
шего ее на путь колониальных предприятий. Вся внутренняя
и внешняя политика Людовика XIV только помогала англи-
чанам. Кольбер во время своего управления достиг значи-
тельного перевеса доходов над расходами, что сделало Фран-
цию самым сильным государством в Европе, но Людовик XIV
расточил все сбережения на придворную роскошь и на свои
военные предприятия, в конце которых потерял флот,
вынужден был уменьшить свои военные силы, расстроил
торговлю и привел государственное хозяйство в самое
бедственное состояние. Последним из внешних предприятий
Людовика XIV была война за испанское наследство2, в кото-
рой приняли деятельное участие Голландия и Англия, хлопо-
тавшие о приобретении новых колоний и выгод в морской
торговле. По Утрехтскому миру Англия приобрела, между
прочим, исключительное право торговли неграми, которые
вывозились из Африки в испанские и португальские коло-
нии. С этого момента начинается океаническое господство и
колониальное могущество Англии. С этого же времени начи-
нается и безраздельное господство в Англии меркантилизма,
выгоды от которого извлекала для себя не королевская
власть, как на материке, а правящие классы. В XVIII в. Ан-
глия, как известно, выбила Францию из колоний: одной из
причин слабости французов в колониях было то, что и за
океаном Франция насаждала свои бюрократические, клери-
1 См. выше, с. 105.
2 См выше, с. 105.
278
кальные и феодальные порядки. В середине XVII в. меркан-
тилизм вознес монархию Бурбонов на значительную высоту,
в середине XVIII ст. эта монархия была выбита, благодаря
абсолютизму, из своих внешних позиций, и выгодными сто-
ронами меркантилистической политики стала пользоваться
главным образом Англия. Французский абсолютизм оказался
неприспособленным к требованиям времени вследствие
своей связи со старым феодально-аристократическим строем
и вследствие своей косности.
Глава XV
ОТНОШЕНИЕ АБСОЛЮТНОЙ МОНАРХИИ
К СОСЛОВНОМУ СТРОЮ ОБЩЕСТВА
«Старый порядок», как соединение политического
абсолютизма с сословными привилегиями.— Историче-
ская связь западноевропейских династий с феодальным
миром.— Сохранение абсолютной монархией сословных
привилегий духовенства и дворянства.— Королевская
власть и придворные влияния.— Особенно привилегиро-
ванное положение высшего духовенства.— Стремление
абсолютных правительств ослабить общеполитическое
и местное значение аристократии.— В чем заключались
привилегии дворянства? — Приниженное положение
средних классов.— Отношение «старого порядка» к ра-
бочему народу.— Абсолютизм в роли охранителя сослов
ных привилегий в эпоху революций
Перейдем теперь к рассмотрению того отношения, в ка-
кое абсолютная монархия стала к сословному строю совре-
менного ей общества. Этот строй она унаследовала от Сред-
них веков1, но в нем, благодаря изложенным уже в своем
месте2 экономическим переменам, произошли очень важные
изменения. В феодальную эпоху Средних веков западноев-
ропейское общество распадалось на дворян-землевладельцев
и на крестьян-земледельцев, но в эпоху Крестовых походов
возникло еще «среднее» между ними сословие горожан, т.е.
1 Поместье-государство. Гл. XVI.
2 См. выше, всю гл. XIII.
279
купцов и ремесленников, которое все более и более крепло
и развивалось, само при этом претерпевая важные измене-
ния и тоже расчленившись на новые классы. При старом
порядке название привилегированных принадлежало во
Франции именно сословиям дворянства и духовенства, по
отношению к коим вся остальная нация была так называе-
мым «третьим сословием», но и в последнем были свои при-
вилегированные, свой особый еще разряд людей, обладав-
ший также исключительными правами и преимуществами,
то, что мы теперь называем буржуазией, в отличие от наро-
да. В своем месте1 «старый порядок» уже был нами опреде-
лен как соединение политического абсолютизма с сословны-
ми привилегиями, а еще мы видели, что, во-первых, это
были старые привилегии католико-феодального происхожде-
ния, более старые, чем сама абсолютная монархия, а во-вто-
рых, что были и привилегии новые, возникшие на почве
торгово-промышленного развития и в значительной мере
обязанные своим существованием покровительству государ-
ственной власти. В некоторых случаях (лучший пример —
Голландия) торгово-промышленные элементы, непосредст-
венно участвовавшие в государственном властвовании, сами
создали себе привилегии, но с падением в большинстве
стран сословно-представительных учреждений, как охранять
старые, так и создавать новые привилегии, имела право
только одна неограниченная королевская власть. В извест-
ном смысле абсолютизм прямо даже превратился в охрану и
источник привилегий, но и сам он искал опоры для себя
именно в тех сословиях, которые этими привилегиями поль-
зовались. В теории2 абсолютизм должен был осуществлять
«общее благо», на практике после собственного своего инте-
реса на первый план он выдвигал интересы привилегирован-
ных сословий, совокупность которых для него, в сущности,
и составляла нацию. Конечно, в отдельных странах стремле-
ния разных сословий находились иногда в резком противо-
речии, и королевской власти приходилось довольно-таки ча-
сто решать вопрос, на чью сторону стать и кому дать пере-
1 См. выше, гл. I (Что такое «старый порядок»?).
2 См. ниже, гл. XVIII (Теоретики абсолютизма и сословности).
280
вес или нет ли компромиссного выхода из столкновения
противоположных интересов с уступками и в ту, и в другую
сторону. Когда речь шла о простонародье, в большинстве
случаев вопрос решался необычайно просто: в дворянско-
крестьянские отношения власть обыкновенно вмешивалась
мало, не трогая установившегося с феодальных времен и
лишь очень медленно изменявшегося затем порядка, в отно-
шения же предпринимательско-рабочие она, наоборот, как
мы видели1, деятельно вмешивалась и почти каждый раз да-
леко не в пользу более слабой стороны. Настоящие затруд-
нения для власти возникали главным образом лишь тогда,
когда ей приходилось выбирать между дворянством и купе-
чеством.
С самого освобождения городов из-под власти феодаль-
ных сеньоров начался антагонизм, притом и политический,
и экономический, между аристократией и буржуазией, анта-
гонизм, все более и более углублявшийся. Он, как мы зна-
ем, был одной из причин, погубивших сословно-представи-
тельные учреждения2, и в нем, применяя правило: «divide et
impera», абсолютная монархия поэтому имела один из усто-
ев своей прочности, но в то же время она должна была и
удовлетворять бывшие столь часто противоречивыми требо-
вания военно-землевладельческой знати и класса, обладав-
шего торговыми и промышленными капиталами. Старые фе-
одальные привилегии тормозили развитие новых сил, пре-
имущества, выпадавшие на долю этих сил, задевали
предрассудки и выгоды привилегированных. Нужно было
угождать и тем и другим, в то же время ведя свою собст-
венную линию, причем часто симпатии правительства были
на стороне дворянства, а расчет пользы диктовал необходи-
мость содействовать осуществлению стремлений буржуазии.
Пока власть более или менее искусно лавировала между
двумя основными тенденциями тогдашнего общества, пози-
ция абсолютизма была более или менее непоколебимой, но
стоило ему слишком выдвинуть вперед свою собственную
1 См. выше, с. 239—240, 249 и 273.
2 См. выше, с. 49—50 и указанные там места в книге «Поместье-госу-
дарство и сословная монархия».
281
линию в смысле полного игнорирования того, что было осо-
бенно дорого наиболее влиятельным классам общества, или
затронуть их интересы реформами в духе действительного
общего блага, как против абсолютизма поднималась оппози-
ция, бороться с которой было можно, только опираясь на
одних против других. В общем счете абсолютная монархия
все-таки больше тяготела к дворянству, хотя и содействова-
ла развитию купечества, откуда повсеместно «буржуазный»
характер всех революций, направленных против абсолютиз-
ма. Только так называемый «просвещенный абсолютизм»
второй половины XVIII в.1, так сказать, повернулся спиной
(да и то не вполне) к сословным привилегиям феодального
происхождения, но когда после Французской революции и
Наполеона I в Западной Европе произошла реакция, совер-
шенно порвавшая с «просвещенным» абсолютизмом, коро-
левская власть возвратилась к старой традиции преимуще-
ственного покровительства остаткам и пережиткам средне-
векового социального феодализма2.
В главе VIII мы уже особо рассматривали то политическое
значение, которое получил в западноевропейских абсолютных
монархиях королевский двор3. Везде и всегда это было сосре-
доточие аристократических влияний. Доступ ко двору был от-
крыт только для «двороспособных» (как можно перевести не-
мецкий термин hoffdhig) элементов общества4. Это была зам-
кнутая сфера даже там, где придворные влияния на
правительство были слабы. На что уж Фридрих II, этот «ко-
1 См. ниже, гл. XIX («Просвещенный абсолютизм второй половины
XVIII в.»).
2 См. ниже, гл. XXI («Реакционный абсолютизм первой половины
XIX в.».). В одном из приложений (с. LXXX и след.) к тексту своей книги
«Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти
XVIII в.» (1879) я собрал целый ряд выдержек из трудов разных француз-
ских и немецких историков, характеризующих королевскую политику «ста-
рого порядка» именно в указываемом мной смысле. Теперь, чуть не через
тридцать лет, эти выдержки можно было бы бесконечно умножить новыми
из позднейшей исторической литературы. Одним из последних высказался
в этом смысле Жорес в своей «Истории Великой французской революции»,
откуда соответственная выдержка приведена в подстрочном примечании на
с. 201 «Народно-правового государства».
3 См. особенно с. 121 и след.
4 Ср. выше, с. 115.
282
роль-философ», был свободен от всяких предрассудков, но и
он твердо держался взгляда, что только дворяне могли быть
«hoffahig», и отказывал в доступе ко двору чиновникам из со-
словия бюргеров. Это была одна из дворянских привилегий ря-
дом с другими вроде исключительного права владеть рыцар-
скими имениями, занимать очень многие должности и т.п.; и в
Пруссии равным образом дворянин, занимавшийся торговлей
или промышленностью, ронял свое звание и уже не мог рас-
считывать на ласковый прием при дворе. В Австрии мы наблю-
даем то же самое, и как ни был «демократически» настроен
Иосиф II, этот «революционер на троне», все-таки и при нем
первые места в обществе занимали потомки старых родов,
близость которых к трону служила главным основанием и их
значения в государственной жизни.
В этом сословном строе «старого порядка» первое место
в католических странах принадлежало высшему духовенст-
ву. Оно почти сливалось с дворянством, потому что само по-
полнялось главным образом младшими сыновьями аристок-
ратических семей, доступ же на высшие церковные должно-
сти для недворян был затруднен. Во Франции, где по
Болонскому конкордату 1516 г. назначение на епископские
кафедры зависело исключительно от королевской милости,
епархии раздавались преимущественно родственникам при-
дворной знати, и разве только в каких-нибудь трех-четырех
епархиях с малыми доходами можно было встретить еписко-
пов из третьего сословия, но зато об этих епископствах и от-
зывались пренебрежительно, как о «лакейских» (eveches de
laquais). В Германии были высшие духовные лица, обладав-
шие целыми княжествами; понятно, что такими владетель-
ными князьями могли быть только духовные знатного проис-
хождения. Первыми среди курфюрстов, имевших право
избрания императора, были также духовные князья, архи-
епископы Майнцский, Кельнский и Трирский. Во многих ме-
стах той же Германии канониками, или «соборными господа-
ми» (Domherren), могли делаться только такие духовные
лица, которые в состоянии были доказать, что имеют не
менее шестнадцати благородных предков с отцовской и мате-
ринской стороны (stiftfahige Familien): примесь плебейской
283
крови служила серьезным препятствием для занятия высо-
ких церковных должностей. В придворном быту представите-
лям высшего клира принадлежало тоже почетное место, а во
Франции вошло даже в обычай поручать духовным особам
управление государством: вспомним в XVII в. кардиналов
Ришелье и Мазарини или в начале царствования Людови-
ка XV аббата Дюбуа и кардинала Флери, а перед самой ре-
волюцией архиепископа Тулузского Ломени де Бриенна.
С дворянством высшее духовенство сближалось еще и тем,
что и оно было землевладельческим сословием, обладавшим,
как и дворянство, сеньориальными правами. Епископам и аб-
батам принадлежали обширные земли и населенные имения, в
которых даже во Франции встречались крепостные крестьяне,
а сверх этого и права на получение разных феодальных обро-
ков и повинностей. Особой привилегией духовенства было, на-
конец, то, что в его пользу земли были обложены десятиной,
которую для одной Франции перед революцией оценивают,
как ежегодный доход в 120 — 125 млн ливров (при такой же
сумме поземельного дохода и лишь немногим меньшей — от
феодальных прав). Таким образом, высший клир был и весьма
богатым сословием, попадать в которое было очень выгодно.
Духовные должности, собственно говоря, и раздавались в кор-
мление — вплоть до женских монастырей, куда в качестве на-
стоятельниц пристраивались дочери, сестры, вдовы из благо-
родных фамилий. Понятно, почему так охотно устремлялись
постригаться в священники и монахи, а это приводило к непо-
мерному росту духовного сословия. Более всего отличились в
данном отношении южно-романские страны: в одном Неаполи-
танском королевстве в тридцатых годах XVIII в. на 4 млн насе-
ления насчитывалось около 115 000 духовных, что составляет
по 28 человек на тысячу, или около 3%, причем в одной столи-
це число духовных определялось в 16 000—17 000. На такую,
даже небольшую страну приходилось вместе с тем 138: архи-
епископов (22) и епископов (116), когда в гораздо более об-
ширной Франции насчитывалось духовных этого высшего сана
приблизительно столько же (134), да и то Учредительное со-
брание нашло эту цифру слишком высокой и сократило ее до
83. В разных частях монархии Габсбургов также число духов-
ных было очень велико. Известно, что Иосиф II уничтожил
284
сотни монастырей, и все-таки их оставалось достаточно. О
том, сколько могли получать отдельные епископы, свидетель-
ствуют такие примеры, как свыше 1 млн ливров, получавших-
ся известным придворным кардиналом, архиепископом Страс-
бургским де Роганом; средний доход каждого из архиеписко-
пов Франции определялся в 100 000 ливров.
У духовенства были и другие привилегии. Вместе с дво-
рянством оно участвовало в сословных сеймах, но, кроме то-
го, имело и свою собственную организацию. Дворянство во
Франции, взятое в целом, не было связано в какую-либо об-
щегосударственную организацию, духовенство же признава-
лось общей корпорацией, имевшей свои собрания, опреде-
лявшей свой «добровольный дар»1 в королевскую казну, вме-
сто всех налогов, пользовавшейся правом непосредственного
обращения к трону с челобитными (doleances) о своих нуж-
дах и обладавшей даже своей особой казной (caisseduclerge),
должником которой был сам король. Для духовных лиц была,
наконец, во Франции, как и везде в католических странах,
своя подсудность. В южно-романских странах духовенство
пользовалось даже особенно большими привилегиями, вроде,
например, недоступности церквей, монастырей и жилищ ду-
ховенства для полицейских и судебных властей государства.
Отметим еще, что учебные заведения иногда имели исключи-
тельно духовный характер, так что и народное образование
являлось монополией клира.
Отдельное место в церковной организации старого порядка
занимал орден иезуитов, имевший своих агентов при дворах
католических государей в качестве их духовников и вообще
оказывавший большое влияние на все сферы жизни. Характер-
ной чертой эпохи является то, что орден в XVIII ст. вел обшир-
ные меркантилистические предприятия. Известно, например,
что португальские иезуиты владели колониями (Парагваем и
Уругваем), занимались торговлей (между прочим, неграми) и
даже такими предосудительными профессиями, как контрабан-
да, ростовщичество и т. п. Известна также история француз-
ского иезуита Лаваллета, который вел обширную торговлю ко-
лониальными товарами и однажды отказался уплатить свой
1 См. выше, с. 167.
285
долг одному марсельскому торговому дому, рассчитывая на то,
что суд с ним самим ничего не поделает, раз у него, Лавалетта,
есть сильные придворные связи; эта история разыгралась в це-
лое общественное событие, приведшее к уничтожению во
Франции Ордена иезуитов (1764).
Вторым привилегированным сословием старого порядка
(а в протестантских странах первым) было дворянство. Мы
уже знаем, что в виды абсолютизма входило всячески ослаб-
лять как общеполитическое, так и местное значение дворян-
ства. Независимо от уничтожения или ограничения компе-
тенции сословных сеймов, государи стремились привлекать
сеньоров ко двору и к государственной службе, особенно в
армии, и всячески урезывали местные права дворянских об-
ществ бюрократизацией управления1. Нигде с таким успехом
не удалось выбить дворян из их позиций на местах, как это
было сделано во Франции. Вся высшая знать была сосредо-
точена при дворе, а провинциальные дворяне были обречены
на роль простых «первых обывателей» (premiers habitants) в
отдельных околотках. Все местные дела сосредоточивались в
руках интендантов и подчиненных им чиновников, а помещи-
ки, жившие в своих усадьбах, могли заниматься лишь част-
ными своими делами, так как для общественных дел было до-
статочно одного бдительного и попечительного начальства.
Жалобы на абсентеизм французских помещиков из их име-
ний — одно из самых обычных явлений XVIII в.
Зато большая часть социальных привилегий дворянства,
как мы видели, сохранялась и охранялась властью. Конечно, и
в самом дворянстве нужно различать разные категории, между
которыми могли возникать свои антагонизмы. Особенно боль-
шого классового расчленения достигло дворянство во Фран-
ции: для отдельных его категорий мы не всегда даже найдем
соответствующие положения в других странах. Так, развивша-
яся во Франции продажность должностей, превращавшая их в
наследственную собственность известных фамилий, создала
особую «знать робы» (noblesse de robe), отличную от «дворян-
ства шпаги» (noblesse d’epee) старого феодального происхожде-
ния2,— явление, которого в других местах мы не знаем. Для
1 См. выше, с. 166—168, 171 —172 и др.
2 См. выше, с. 138.
286
королевской власти торговля должностями, иногда нарочно
придумывавшимися для того, чтобы было что продать, была
просто-напросто источником обогащения1, но для известной
категории покупщиков приобретение их являлось средством
попасть в число привилегированных (priviligies) со всеми выте-
кавшими отсюда последствиями (освобождением от податей и
т. п.). Далее, конечно, не все дворянство, а только верхи этого
сословия находили себе место при королевском дворе, источ-
нике всех милостей, синекур, пенсий и подарков, сильно со-
действовавших разорению государственной казны. Кому были
недоступны эти сферы, те искали выгодной государственной
службы, преимущественно в армии. Во многих государствах
офицерские должности могли заниматься только дворянами,
даже иногда только родовитыми дворянами, как мы это видим
во Франции по королевскому эдикту 1781 г., допускавшему к
занятию офицерских мест только таких лиц, у которых было,
по крайней мере, четыре поколения благородных предков.
Придворное и служилое дворянство из высших и средних сло-
ев сословия не жило в своих поместьях, довольствуясь лишь
получением из них доходов, но значительная часть средних
слоев и низшее, захудалое дворянство оставалось жить в сво-
их деревнях, где занималось сельским хозяйством. Материаль-
ные интересы, степень образования, миросозерцание были до-
вольно несходными у городского и сельского дворянства, но
все отдельные группы этого сословия объединялись известны-
ми общими привилегиями. Дворянские преимущества распро-
странялись не только на лиц, входивших в состав сословия, но
и на их имения. Во Франции земли прямо делились на благо-
родные (nobles), которые были изъяты от налога, называвшего-
ся талией, и так сказать, подлые, если так позволительно пе-
ревести термин terres roturieres2,— земли, подчиненные та-
лии. Когда-то деление земель совпадало с делением их
1 С 1700 г. по 1715 г. Людовик XIV продал разных, большей частью
придворных, должностей на 0,5 млрд ливров.
2 Ротюрьерами (roturiers от средневекового ruptuarius=qui rumpit ter-
ram, пахотник) назывались вообще непривилегированные. Соответственно-
го русского слова нет, так что roturier (существ, и прилаг.) переводится у
нас словами «плебейский», «простонародный», «мещанский», «разночин-
ный» (или «разночинец»).
287
владельцев, но благодаря переходам земель из рук в руки сов-
падения нередко не было, и благородная земля могла очутить-
ся в обладании ротюрьера, но в общем все-таки одно деление
покрывалось другим. В иных местах, как, например, в Прус-
сии, и самого несовпадения не могло быть, потому что «рыцар-
ские имения» могли отчуждаться лишь в дворянские же руки,
и простой бюргер прямо лишен был права владеть дворянским
поместьем. Это было подтверждено в конце XVIII в. «Общим
земским правом»1, и только реформа барона Штейна в начале
XIX в. открыла возможность недворянам приобретать рыцар-
ские имения. Нужно, однако, заметить, что в Пруссии эти по-
местья не были освобождены от налогов (да и во Франции бла-
городные земли свободны были не от всех податей), но зато с
обладанием ими были соединены права вотчинных суда и поли-
ции. Когда после того, как Штейн открыл доступ к привилеги-
рованному землевладению и для недворян, многие бюргеры ку-
пили рыцарские поместья, а с ними приобрели и судебно-поли-
цейские права в этих поместьях, отмененные лишь вследствие
революции 1848 г. Во Франции перед революцией 1789 г. с
дворянским землевладением тоже были соединены судебные
права. Благородные земли были именно по-старому фьефы, или
феоды, каковых во Франции насчитывалось в последнюю пору
старого порядка около 70 000, из них тысячи три титулованных
и обладавших высшей (и средней) юстицией, тогда как с ос-
тальными соединена была лишь низшая юстиция. Сам сеньор
давно уже не был судьей подвластных жителей и только имел
право назначать судью, отдавая, впрочем, отправление право-
судия в аренду за получение судьей пошлин и штрафов в свою
пользу, и смотря по тому, какова была компетенция сень-
ориального судьи, она подводилась под категории низшей,
средней или высшей. Высшая юстиция могла приговаривать,—
правда, с утверждения королевского суда,— даже к смертной
казни, вследствие чего наиболее важные дворяне могли ста-
вить виселицу перед воротами своих замков. Все это были ос-
татки средневековой, чисто феодальной старины2, как и дру-
гие сеньориальные права, например, право держать моно-
1 См. о нем выше, с. 145.
2 Поместье-государство. С. 105.
288
польные («банальные») мельницы, на которых жители окру-
ги только и могли молоть свой хлеб1, или исключительное
право охоты и т. п. В сущности, фьефы были совершенно
свободной собственностью, тогда как ротюрные земли в
громадном большинстве случаев были цензивами, или чин-
шевыми владениями, подчиненными владельцам фьефов2.
В силу правила «nulle terre sans seigneur», действовавшего
в большей части Франции3, ротюрная собственность была
обыкновенно цензивной, т.е. сеньор получал с нее ежегод-
но определенный денежный (ценз) и натуральный (шам-
пар) оброк, а в случаях перехода цензивы по наследству
или по продаже получал известную пошлину и т. д. Этим
условиям подчинялось вообще крестьянское землевладе-
ние: оно могло принимать разные юридические формы,
среди каковых цензива лишь была одной из нескольких, но
сущность была везде одна и та же — подчинение крестьян-
ской земли помещикам-дворянам и обложение ее в их
пользу оброками и повинностями, достигавшими наиболь-
ших размеров, когда крестьяне были крепостными. Что ка-
сается до личных привилегий дворянского сословия, то мы
уже о них говорили выше4. В общем итоге можно разде-
лить дворянские привилегии старого порядка, взяв их в их
отношениях или к государству, или к остальным классам
населения. Ни к одному классу населения, кроме, конечно,
духовенства, государство не относилось с такой благо-
склонностью, как к дворянству: в исключительном или
преимущественном обладании этого сословия были наибо-
лее доходные и почетные должности на королевской служ-
бе, при дворе, в церкви; менее всего в казну платили, если
только вообще платили, дворяне, а во многих случаях они
получали еще разные казенные субсидии. С другой сторо-
ны, дворянство было поставлено в командующее положе-
ние по отношению к другим общественным классам, осо-
бенно по отношению к массе сельского населения.
1 Поместье-государство. С. 92 и след.
2 Там же. С. 81.
3 Там же. С. 87.
4 См. с. 286 и след.
289
Положение среднего класса в обществе «старого поряд-
ка» было приниженным, и только выделение из него более
зажиточного и просвещенного верхнего слоя мало-помалу
стало выдвигать на видное место в обществе лиц недворян-
ского происхождения. Во Франции третьим сословием (tiers
etat) называли всех, не принадлежавших к привилегирован-
ным, всю,— выражаясь аристократическим термином,— ро-
тюру, в которой существовала целая градация положений,
начиная крупными капиталистами и кончая городскими ра-
бочими или сельскими батраками. Мы уже видели, что бур-
жуа, или бюргеру, было недоступно многое из того, чем по
праву рождения могли пользоваться дворяне; стоит только
вспомнить все это, чтобы представить себе ту принижен-
ность социального положения, которая создана была «ста-
рым порядком» для плебеев. Особенно резко было расстоя-
ние, отделяющее бюргера от дворянина там, «где развитие
промышленности и торговли не создало богатой и влиятель-
ной буржуазии, а такими странами были, например, Австрия
и Пруссия. Здесь бюргер всегда должен был знать свое
скромное место в обществе. Даже нахождение его на госу-
дарственной службе и особая заслуженность,— если только
государь не сообщал ему дворянское достоинство особым ак-
том монаршей милости,— не поднимали его социального по-
ложения: стать чиновником, получить известные чины еще
не значило, как это установилось в России, приобщиться к
дворянскому сословию. Гораздо более благоприятное поло-
жение для зажиточных и образованных «разночинцев» созда-
валось там, где они составляли уже значительную социаль-
ную силу. Конечно, им далеко было до того положения, ка-
кое они заняли в государствах со свободным политическим
строем, как в Голландии и в Англии, где социальный вес че-
ловека определялся уже не его рождением, а его материаль-
ным состоянием, но все-таки и королевский двор, и благо-
родное общество во Франции вынуждены были считаться с
новой социальной силой более, нежели в немецких государ-
ствах. Это была, именно, или сила денег, или сила обще-
ственного мнения. Среди французских ро'тюрьеров были
очень крупные капиталисты, ссужавшие своими деньгами и
290
короля, и аристократию. Недаром рассказывают о том поче-
те, какой Людовиком XIV (даже Людовиком XIV) был оказан
еврейскому капиталисту Самюэлю Бернару лишь за одно то,
что он был обладателем многих миллионов. Капиталисты
нужны были старой монархии в качестве банкиров и откуп-
щиков, да и придворные чины и государственные сановники
не могли слишком гнушаться этими людьми, жившими по-
барски (noblement) и делившимися с ними частью своих ба-
рышей1. Богатые промышленники и коммерсанты тоже легко
стали попадать в «хорошее общество». В образованности
буржуазия не отставала от дворянства, и из ее рядов вышло
немало ученых и писателей, из которых некоторые сдела-
лись властителями дум своего времени: Вольтер был — сын
нотариуса, Руссо — сын часовых дел мастера. В числе вож-
дей общественного мнения во Франции XVIII в. было немало
и дворян, но принадлежность к одному и тому же культурно-
му классу уравнивала всех; во Франции уже создавалось
бессословное «общество», в особом смысле этого слова, в
смысле «публики», противополагаемой народу. В состав это-
го «хорошего общества» («1а bonne compagnie», тоже тогдаш-
ний термин, равносильный выражению у Вольтера «поря-
дочные люди», honnetes gens), в состав этой культурной сре-
ды входили и духовные, и светские люди, и дворяне, и
буржуа, и чиновники, и представители либеральных профес-
сий,— явление, которое отмечено было, между прочим, Ток-
вилем, в главе «Старого порядка и революции» о том, что
«Франция была страной, где люди стали наиболее похожи
друг на друга». Тем чувствительнее должны были ротюрьеры
относиться к социальному неравенству в государстве.
Сравнительно с народной массой средний класс при «ста-
ром порядке» находился в привилегированном положении. У
духовенства и дворянства были свои сословные преимущест-
ва, у буржуазии, как-никак, известные права, народная мас-
са была совсем бесправной. Буржуазия могла чувствовать
заодно с народом ненависть к привилегиям духовенства и
дворянства, но долго оставалась довольной своим положени-
1 См. выше, с. 217—218.
291
ем в государстве и не стремилась к политическим переме-
нам, тем более что власть во многих случаях создавала и для
нее очень выгодные условия по отношению к «простона-
родью»1. Во Франции в XVIII ст. города пользовались многи-
ми льготами в отбывании государственных повинностей
сравнительно с деревнями, а независимо от этого и меркан-
тилизм заставлял правительство, как мы видели2, делать
очень многое в пользу буржуазии. Старые ли связи с ари-
стократией, новые ли связи с буржуазией, абсолютная мо-
нархия, как-никак, покровительствовала, хотя и в разной ме-
ре, и аристократии, и буржуазии. Ни дворянство, ни даже
средний класс не рассматривались как общественные эле-
менты, которые не носят в себе же самих цели своего суще-
ствования: все-таки государство признавало какие ни на есть
их права и не видело в них лишь орудия или средства, без-
условно подчиненные государственной цели. Иное отноше-
ние было, в общем, к народной массе, к рабочему люду. Кре-
стьяне, как мы видели, не только несли на себе наибольшую
массу государственных тягостей, но, кроме того, были отда-
ны в бесконтрольное распоряжение дворянства. Меры для
облегчения участи сельского народа начинают приниматься
только в середине XVIII в., хотя абсолютизм и в эту эпоху не
решался покончить с крепостничеством. Крестьянско-поме-
щичьи отношения все-таки еще были наследием, которое аб-
солютная монархия получила от времен феодализма, но аб-
солютизм создавал для рабочего народа и новую кабалу в
том фабричном законодательстве, которым поощрялась обра-
батывающая промышленность. Правительства в эпоху мер-
кантилизма вмешивались не только в технику производства,
1 «Значило бы сильно ошибаться и заменять историю легендой, если
бы просвещенной части третьего сословия в старой Франции приписывать
чувство политической свободы и любовь к ней. За вычетом некоторых пе-
риодов, бывших исключительными и сравнительно короткими, королевской
власти нечего было бороться с третьим сословием... В XVII в. королевская
власть управляет с третьим сословием; оно было ее помощником в борьбе
с духовной властью; опираясь на третье сословие, королевская власть боро-
лась с дворянством; опираясь на третье же сословие, она покончила с дво-
рянством как государственным сословием» (Hitier. La doctrine de 1’absolu-
tisme. C. 172.).
2 См. выше, c. 260 и след.
292
но и во взаимные отношения предпринимателей и рабочих:
если в области сельских отношений абсолютизм поддержи-
вал тягостные для народа порядки своим в них невмешатель-
ством, ибо здесь оставалось лишь не нарушать старины, то в
области народившейся крупной индустрии действовало как
раз правительственное вмешательство, которое, в интересах
этой индустрии к односторонней выгоде предпринимателей,
создавало для рабочих крайне тягостное положение.
Заботы о правильном ходе фабричных предприятий за-
ставляли французское правительство, начиная с Кольбера,
придумывать меры к тому, чтобы прикреплять рабочих к за-
ведениям, в которых они работали1. С этой целью законы за-
прещали рабочим покидать своих хозяев, которые могли их
разыскивать через полицию для водворения их назад,— пре-
следовали образование каких-либо союзов рабочих вроде
старых союзов подмастерьев и т. п. Регламентация прави-
тельственными распоряжениями заработной платы тоже со-
вершалась к выгоде предпринимателей. С меркантилистиче-
ской точки зрения нужно было больше всего заботиться об
удешевлении производимых страной товаров, дабы они вы-
держивали конкуренцию на иностранных рынках с товарами,
производимыми в других государствах, а для этого нужно
было, чтобы производство по возможности удешевлялось:
низкая заработная плата считалась одним из средств, веду-
щих к этой цели. Этого взгляда держались и теоретики мер-
кантилизма, и правительства, притом одинаково и во Фран-
ции, и в Пруссии, и в Австрии, словом, везде. Указывалось
и на то, что при низкой заработной плате рабочего легче дер-
жать в повиновении у предпринимателей в интересах как
промышленности, так и общественного порядка. Что вообще
народ не должен зазнаваться, а потому следует не допускать
его к хорошей жизни, это был очень распространенный
взгляд, и не один Ришелье был ярким его выразителем в сво-
1 Правительство нередко даже прямо доставляло предпринимателям
рабочих совершенно принудительными способами (ср. выше, с. 248). Коль-
бер приказывал, например, мэрам и сельским старостам насильно сгонять
на фабрики безработных как мужского, так и женского пола, и всех возра-
стов, начиная с десяти лет.
293
ем знаменитом заявлении на этот счет. Служители религии
разных исповеданий также находили, что народ только тогда
и благочестив, пока беден, и по бедности не может преда-
ваться роскоши, матери других пороков. Роскошь высших
классов, наоборот, считалась нужной для поощрения про-
мышленности, доставляющей работу бедняку, самого же бед-
няка признавали приличным держать впроголодь не только в
интересах самой промышленности и общественного порядка,
но и в собственных его интересах — вплоть до спасения ду-
ши. Подобные же соображения ложились в основу многих
правительственных распоряжений, клонившихся к удлине-
нию рабочего дня.
Позднее, в эпоху Просвещения, стал распространяться
иной взгляд на отношение государства к народу. Новая
мысль заключалась в том, что народная бедность невыгодна
для государственной казны, что благополучие последней
требует благосостояния народа, но и в этом, более благо-
приятном для народных масс взгляде, они рассматривались
главным образом как основа силы самого государства. По-
нятия цели и средства брались в обратном отношении, т.е.
не государство как бы мыслилось нужным для народа, а на-
род для государства. Впрочем, и покровительство предпри-
нимателям тоже обусловливалось соображениями государ-
ственной пользы, безусловное же право на уважение соци-
альных интересов признавалось лишь высшими сословиями.
Абсолютная монархия ни за что не связала бы своего дела
с охраной интересов фабрикантов и купцов в такой степени,
как связала его с охраной привилегий духовенства и дво-
рянства.
Старая монархия во Франции из всех прав, какие только
были у ее подданных, относилась с уважением лишь к одним
сословным привилегиям клира и знати. Отменяя по совету
Неккера серваж в королевских доменах за десять лет до ре-
волюции, Людовик XVI в эдикте об этом формально заявил о
своем «уважении» к праву собственности сеньоров на их сер-
вов. Убеждая короля созвать Генеральные штаты, Неккер,
между прочим, успокаивал его опасения тем, что «третьему
сословию никогда не придет на ум пытаться уменьшить сень-
ориальные и почетные прерогативы, отличающие два первые
294
сословия в их имуществах и в их личностях»1. В июньской
1789 г. декларации короля было сказано, что он к числу
предметов самой неприкосновенной собственности относит
«все права и прерогативы, почетные и выгодные, связанные с
землями и фьефами или составляющие личное достояние»
знати. Когда в ночном заседании Национального собрания 4
августа 1789 г.2 решено было отменить весь старый феодаль-
ный и сословный строй, Людовик XVI писал одному архиепи-
скопу: «Я никогда не соглашусь обобрать мое духовенство,
мое дворянство... Я не дам своей санкции декретам, которые
обобрали бы их... Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы
сохранить мое духовенство, мое дворянство». История Фран-
цузской революции и оказанного ей противодействия свиде-
тельствует, что в эту эпоху дело королевской власти нераз-
рывно было связано с делом привилегированных сословий. С
другой стороны, первая причина оппозиции абсолютизму во
французской нации заключалась не в том, что он был абсо-
лютизмом, а в том, что он сделался оплотом сословных при-
вилегий3.
1 В своих наказах (cahiers des doleances) 1789 г. привилегированные
выражали самым решительным образом желание, чтобы их сеньориальные
права и все привилегии (кроме изъятия из обязанности платить налоги) бы-
ли и впредь сохранены.
2 Народно-правовое государство. С. 202 и след.
3 Ср. выше, с. 282, примем. 2 и особенно «Народно-правовое государст-
во», с. 443 и след., где говорится о связи абсолютизма с сословными при-
вилегиями как одной из важных причин падения абсолютизма.
295
Глава XVI
ЦЕРКОВНАЯ ПОЛИТИКА АБСОЛЮТНОЙ МОНАРХИИ
Неразличимость государства и церкви в Древнем ми-
ре.— Возникновение дуализма светской и духовной вла-
сти.— Взаимные отношения церкви и государства в
Средние века.— Политическая оппозиция притязаниям
папства в конце Средних веков.— Участие государст-
венной власти в религиозной Реформации и влияние по-
следней на первую.— Монархические реформации первой
половины XVI в.— Роль государственной власти в про-
тестантских церквах.— Взаимные отношения католи-
ческой реакции и абсолютной монархии.— Теории ка-
толических писателей XVII—XVI11 вв. о взаимных отно-
шениях светской и церковной властей.— Борьба
государства с иноверием.— Что такое веротерпимость
в XVI-XVIII вв.?
Рассматривая вероисповедные и церковные отношения
старого порядка, мы должны бросить взгляд назад и посмот-
реть, как в прежние времена складывались взаимные отно-
шения политики и религии.
Известно, что вся древность,— как восточная, так и
классическая, как монархическая, так и республиканская,—
не знала того обособления политики и религии, которое вы-
разилось в христианском мире благодаря существованию
двух раздельных организаций государства и церкви с соот-
ветственными понятиями светской и духовной власти. До-
христианское государство было в то же время само по себе
и церковью, и глава государства — ее первосвященником1.
Возникновение дуализма государства и церкви, светской
и духовной власти было результатом того, что христианская
религия организовалась в церковное общество, притом уни-
версальное, вселенское, вне рамок римской, тоже универ-
сальной государственности. Когда в IV в. имперская власть
признала новую религию, последняя уже имела свою собст-
венную организацию, возникшую независимо от государства
и представлявшую собой царство Божие на земле. В после-
1 Государство-город. С. 37—38; Монархии. С. 37—39, 60, 233 и след.
296
дующие времена взаимные отношения между государством и
церковью складывались различным образом. В Византии
произошло подчинение церкви государству, приводящее к
представлению о «цезаропапизме» в смысле соединения в од-
ном лице главы и государства (цезаря), и церкви (папы), по
аналогии с чем стремление средневековых пап тоже сосредо-
точить в своих руках обе власти (sacerdotium и imperium)
обозначается как папоцезаризм. В сущности, однако, нигде в
такой мере не осуществилась раздельность государства и
церкви, без полного их отделения друг от друга, как на сред-
невековом Западе, где даже возникала целая политико-бого-
словская теория двух властей, установленных самим Богом,
одной вверившим души людей и все духовное, другой — их
тела и все светское, мирское, материальное. Цезаропапист-
ские стремления обнаруживались по временам и на Западе
(при Карле Великом, при Генрихе III Франконском), но фео-
дальное государство было наименее способно господствовать
над объединившейся под властью одного духовного главы,
папы, католической церковью; наоборот, скорее средневеко-
вая церковь в эпоху феодального раздробления могла осуще-
ствить главенство духовной власти над светской. Папа, как
представитель самого Бога на земле, считал себя стоящим
выше светских государей; бывали же случаи, когда папа объ-
являл некоторых из них низложенными с престола и разре-
шал их подданных от присяги на верность. Вместе с этим
церковь издавала законы, которые считала обязательными
для государства, отнюдь не признавая для себя обязательно-
сти законов, издававшихся государством. Совершенно в том
же роде были взаимные отношения церкви и государства в
деле установления налогов: папа мог облагать всех верных,
но государи не должны были облагать духовенство. Наконец,
и в отношении к суду во многих случаях церковь считала
подсудными себе и светских лиц, тогда как духовные ни в ка-
ких случаях не должны были бы подлежать светским судьям.
Все это оправдывалось соображениями о превосходстве ду-
ховного над плотским, божеского над человеческим, небес-
ного над земным. Средневековая католическая церковь под
властью папы была теократическим воспроизведением абсо-
лютной монархии древних римских цезарей, как и она,
297
иерархически централизованным целым с неограниченной
властью во главе. Сделанная было в эпоху великих соборов
первой половины XV в. попытка превращения папства из аб-
солютной монархии в монархию ограниченную, путем орга-
низации церковного представительства на соборах, окончи-
лась неудачей, и католическая церковь в Новое время сохра-
нила характер абсолютной духовной монархии.
В истории королевской власти на Западе церковные отно-
шения играли вообще большую роль. Если, с одной стороны,
церковь давала этой власти религиозное освящение (видимо
в обряде священного помазания и венчания на царство), то,
с другой стороны, она же и умаляла значение этой власти,
ставя ее под опеку другой, более высокой по своему проис-
хождению и более священной по своему достоинству власти.
По папской теории, это была делегация, от высшего к низше-
му, известных прав над внешней, материальной жизнью лю-
дей, причем власть делегирующая, высшая, сохраняла за со-
бой право судить и наказывать эту низшую, делегированную
власть. Государственности Нового времени пришлось выра-
батываться в борьбе не только с феодализмом, оказывавшим
ей сопротивление, так сказать, снизу, но и с католицизмом,
который стеснял ее сверху, задачу же проведения в жизнь
государственных начал исполняла на исходе Средних веков,
как мы знаем, королевская власть с представительными сей-
мами.
Эпоха сословной монархии, XIV и XV ст., была временем
сильного роста чисто политической оппозиции против папст-
ва. Первые же Генеральные штаты во Франции в 1302 г., со-
званные Филиппом IV во время его распри с папой Бонифа-
цием VIII, торжественно провозгласили независимость, в
светских делах, французской короны от Римской курии1, и
менее чем через полвека спустя английский парламент осо-
бым актом признал уничтожение той подчиненности, в какой
находилось по отношению к Риму королевство после того,
как Иоанн Безземельный признал себя папским вассалом.
Это — только два наиболее бросающиеся в глаза примера
тогдашней политической оппозиции против притязаний пап-
1 Поместье-государство. С. 228.
298
ства. Светские сословия тем охотнее помогали королевской
власти в этой борьбе, что сами тяготились привилегиями и
властолюбием духовенства, общая же тенденция государей
заключалась в том, чтобы утвердить свою самостоятельность
в светских делах по отношению к папству и вместе с тем, ко-
нечно, поставить местное духовенство в большую от себя за-
висимость. Религиозная Реформация XVI в. позволила госу-
дарям половины Западной Европы достигнуть указанных це-
лей, совершенно, т.е. и в духовных делах, освободившись от
папской власти и всецело подчинив себе местное духовенст-
во, так что и английский король, объявивший себя главой
церкви в своем государстве, и германские владетельные кня-
зья, ставшие высшими епископами в своих землях, радикаль-
но изменили в своих владениях взаимные отношения госу-
дарства и церкви, ставши на путь цезаропапизма.
Этой Реформации XVI в., как известно, предшествовал
уже целый ряд попыток исцеления средневековой церкви от
тех недугов, которые получили характерное название ее
«порчи в главе и чденах». Сама церковь, особенно после не-
удачи с великими соборами первой половины XV в., Пизан-
ским, Констанцским и Базельским, обнаружила полную не-
состоятельность в деле необходимых исправлений, и за ре-
форму взялись, уже в первой половине XV в., внецерковные
сферы, и между ними в Чехии общественно-народные силы.
К этим внецерковным сферам, кроме отдельных сословий
светского общества и представителей научного образования,
нужно причислить и государственную власть, которая по
собственной инициативе и на свой страх также предприни-
мала те или другие меры еще со времени великого раскола в
католической церкви в конце XIV в., когда возникновением
схизмы поставлена была задача восстановить нарушенное
единство церкви. Сам созыв Констанцского собора, имевше-
го в числе своих задач прекращение раскола и реформу цер-
кви, совершился благодаря настойчивости императора Си-
гизмунда, подобно тому, как ста тридцатью годами позже без
настойчивых требований со стороны императора Карла V не
был бы созван и собор в Триденте. С конца XIV в., таким об-
разом, государственная власть все более и более приучалась
к мысли, что она имеет право упорядочивать внутренние от-
299
ношения церкви (позднейшее jus refirmandi), что это — даже
ее обязанность, и когда в Западной Европе в двадцатых и
тридцатых годах XVI в. вопрос о церковной Реформации сде-
лался злобой дня, то в некоторых странах королевская
власть в согласии с представительными сеймами взяла это
дело в свои руки, как то было, между прочим, в Швеции, в
Дании и в Англии.
Вообще в истории западноевропейской королевской вла-
сти церковная реформа сыграла весьма важную роль, сделав-
шись в одних случаях фактором усиления этой власти, в дру-
гих — дав лозунг сословной против нее оппозиции. Послед-
нее явление может остаться нерассмотренным в настоящей
книге1, но на первом нельзя не остановиться.
Указывая в своем месте2 на исторические условия, содей-
ствовавшие усилению королевской власти, мы отметили в
общих чертах и влияние Реформации, теперь дело только за
некоторыми подробностями.
В Германии реформационное движение началось снизу, в
народных массах, приняв чисто революционный характер, но
это движение, как известно, было подавлено князьями3. Ос-
нованная в Германии Лютером церковь безусловно подчини-
лась княжеской власти. Народные беспорядки заставили ре-
форматора возложить все свои упования на светскую власть.
Сначала он стоял на той точке зрения, что пасомые должны
сами выбирать своих пастырей, но потом отказался от этого
взгляда в пользу назначения духовенства государями. «Так
как,— писал он в 1526 г. курфюрсту Саксонскому,— пап-
ский порядок отменен, все учреждения делаются Вашим до-
стоянием, как верховного главы. Ваше дело всем этим управ-
лять; никто другой об этом не заботится, не может и не дол-
жен заботиться». С самого же начала устройство новой
церкви в курфюршестве было возложено на правительствен-
ную комиссию, а управлять церковными делами стала конси-
стория, сразу получившая характер бюрократической канце-
1 Об этом см.: Народно-правовое государство. С. 30—34 и гл. V. Более
подробно о Реформации см. в т. I и II «Истории Западной Европы».
2 См выше, с. 73 и 84—85.
3 См выше, с. 82—84.
300
лярии. В то время, как цвинглианская церковь (а позднее и
кальвинистическая) основала свои внутренние порядки на
основах самоуправления, развитие лютеранского церковного
устройства пошло по совершенно иному пути. Лютеранские
государи сделались верховными правителями, или «высшими
епископами» (summi episcopi) церквей в своих владениях,
поручив надзор за религиозной жизнью суперинтендентам и
учредив консистории с административной и судебной вла-
стью над духовенством. Мало-помалу это духовенство сдела-
лось послушным орудием в руках светской власти, и о той
степени унижения, до которой оно доходило, свидетельству-
ет такое заявление, сделанное одним духовным лицом
XVII в. своему князю: «Если бы Господь Бог не был Госпо-
дом Богом, никто не был бы достойнее вашей светлости за-
нять место Господа Бога». С 1555 г. по 1648 г. в Германии
действовал, кроме того, закон, отдававший совесть поддан-
ных под произвол княжеской власти: они должны были быть
одной веры с князем (cujus regio, ejus religio), который сам
имел право переходить из одного исповедания в другое: в
эпоху наибольшего развития таких порядков лютеранский
государь был для своих подданных и цезарем, и папой. Оста-
ваясь католиком, и Карл V считал себя вправе предписывать
своим подданным формулы веры. В середине XVI в., впредь
до решения церковного спора Вселенским собором, Карл V
обнародовал, под названием «аугсбургского интерима», свое
собственное исповедание, которое было составлено услуж-
ливыми теологами и которому насильно он хотел одинаково
подчинить и католиков, и протестантов, пока правомочная
церковная власть не восстановит единства веры. Это также
было проявлением со стороны католического государя того
права реформирования (jus reformandi), которое утвердилось
за протестантскими государями.
С Реформацией явилось понятие государственной церк-
ви, т.е. церкви, установленной государством, что уже заклю-
чало в себе подчинение религии политике. Католицизм был
организацией церковного единства, протестантизм должен
был признать существование отдельных государственных
церквей. В Германии, начиная с середины XVI в., чуть не
301
каждое протестантское княжество стремилось чем-нибудь
отличаться от других таких же княжеств в церковном отно-
шении. Англиканская церковь в теории признавала понятие
вселенской церкви, но то была церковь невидимая, видимы-
ми же ее частями признавались церкви национальные под
видимым главенством государей при едином невидимом гла-
ве вселенской церкви, Христе. Сама английская Реформация
началась с того, что король Генрих VIII особым парламент-
ским «актом о супрематии» (1534) был объявлен «единствен-
ным покровителем и верховным главой (supremum caput)
церкви» со всеми «титулами, почестями, достоинствами,
привилегиями, юрисдикцией и доходами, свойственными и
принадлежащими верховному главе церкви», равно как с
правом и властью «реформировать, исправлять, укрощать и
подавлять все те заблуждения, ереси, злоупотребления и
беспорядки, которые того потребуют». О главенстве короля
в церкви должны были проповедовать в церквах и учить в
школах; королю, как главе церкви, обязаны были приносить
особую присягу все духовные и чиновники. Известно, как
воспользовался своей церковной супрематией Генрих VIII,
секуляризовавший всю монастырскую собственность и вно-
сивший в догматы и обряды сегодня одни изменения, завтра
другие. Англиканизм соединял церковь и государство под од-
ним главенством, что, по мнению англиканских богословов,
с одной стороны, делало государство христианским, а с дру-
гой, обязывало подданных принадлежать к церковному еди-
нению, установленному государством. Сохранив епископат,
как божественное установление, через которое в преемстве
от апостолов сообщается благодать священникам и мирянам,
англиканская церковь вместе с тем подчиняла епископов ко-
ролевской власти. Яков I Стюарт видел в епископате даже
специальную опору монархии, понимавшейся им в смысле
абсолютной верховной власти.
Монархические реформации XVI в. создавали для госуда-
рей, их производивших, и для их преемников положение сво-
его рода пап или, по крайней мере, высших епископов в их
владениях. В то самое время как женевская организация
кальвинизма, сливая в одно целое государство и церковь, в
302
сущности, стремилась к поглощению государства в церкви,
лютеранство и англиканизм превращали церковь, слитую во-
едино с государством, в одно из ведомств государственного
управления. В Англии епископы имели еще самостоятельное
значение в качестве духовных лордов, т.е. членов верхней
палаты парламента, но в лютеранских странах суперинтен-
денты, тоже иногда называвшиеся епископами, были в боль-
шей зависимости от государей, и здесь церковь делалась та-
ким же ведомством духовных дел, какие существовали для
иностранных и внутренних дел, для военных дел, для дел хо-
зяйственных и т. п.
В государствах, оставшихся верными католицизму, Ре-
формация содействовала образованию более тесного союза
между алтарем и троном. Революционный протестантизм за-
ставил сблизиться между собой духовную и светскую власти
для установления между церковью и государством известно-
го modus vivendi, который должен был бы быть выгоден и
для папы, и для королей. Папство должно было отказаться
от своей прежней боевой позиции по отношению к светским
государям и пойти на разные уступки: католические монар-
хи, даже наиболее фанатичные из них, отнюдь не выказыва-
ли намерения слишком поступаться своими верховными пра-
вами; только очень слабые правители позволяли духовенству
забирать себя в руки. Католические правительства прямо
протестовали против учения Тридентского собора о папском
полновластии над государями и приняли многие постановле-
ния этого собора лишь с оговорками. В числе протестовав-
ших был и испанский король Филипп II, фанатик католициз-
ма, сжегший всех еретиков в Испании, возбудивший против
себя своей нетерпимостью восстание в Нидерландах, ведший
войны с другими странами в интересах единой спасающей
церкви. Он протестовал с другими католическими государя-
ми также и против одной буллы папы Пия V, предававшей
анафеме нарушителей папских прав. Несмотря на это, духов-
ные власти, инквизиция, иезуиты, сами папы всячески — и
морально, и материально — помогали Филиппу II во всех его
предприятиях. На примере Испании во второй половине
XVI в. мы вообще лучше всего можем познакомиться с теми
303
услугами, которые католическая реакция оказывала абсолю-
тизму. Но это далеко и не единственный пример. Конечно,
были случаи абсолютизма без вероисповедной окраски,—
что мы наблюдаем, например, во Франции при кардинале Ри-
шелье,— но общим правилом до середины XVIII в. было тес-
ное соединение абсолютной монархии с католической реак-
цией. Этому союзу всегда были верны Габсбурги не только в
Испании, но и в Австрии, в последней с коротким перерывом
в конце XVIII в., до наших дней. Реакционно-католическим
характером отличалось и царствование главного представи-
теля абсолютизма во второй половине XVII в., Людови-
ка XIV, предпринявшего истребление протестантизма в сво-
ем королевстве, но и Людовик XIV, подобно Филиппу II, рез-
ко отстаивал свои королевские права от папских
притязаний. Он не побоялся даже резкого конфликта с па-
пой Иннокентием XI. Дело заключалось в том, что король,
имевший вообще по конкордату 1516 г. право замещения
епископских вакансий, стал назначать епископов и в тех
епархиях Франции, на которые это его право не распростра-
нялось. Отсюда возник спор, во время которого Людо-
вик XIV созвал в Париже Национальный собор (1682), кото-
рый провозгласил так называемые «вольности галликанской
церкви» (ограничение папской власти только духовными де-
лами, главенство Вселенских соборов над папами, автоном-
ность французской церкви и т. п.). Потом между королем и
папой произошло примирение, но поведение французского
духовенства во время всей этой истории показало, что в нем
абсолютная монархия Бурбонов во второй половине XVII в.
имела самых верных слуг. Сами «вольности галликанской
церкви» нужны были Людовику XIV лишь в качестве средст-
ва сделать французское духовенство более независимым от
папы и тем сильнее подчинить епископов королевской вла-
сти. Непокорных сановников церкви Людовик XIV наказы-
вал отобранием соединенного с должностью имущества (1е
temporel) и лишением доходов. При нем французский епи-
скопат превратился поэтому в послушное орудие государст-
венной власти: одни епископы входили в состав придворной
знати, другие сделались агентами центрального правительст-
304
ва в провинциях в качестве сотрудников интендантов1. Лю-
довик XIV был вполне верным сыном католической церкви,
но это не мешало ему желать, чтобы духовные во всех слу-
чаях, когда им приходилось выбирать между повиновением
папе и королю, отдавали предпочтение светской власти, а не
духовной2. У него на этот счет были очень определенные
взгляды. «Нужно,— наставлял он дофина,— чтобы вы знали,
что это священное название вольностей церкви (собственно:
ces noms mysterieux de franchises et de libertes de 1’eglise), кото-
рым, быть может, захотят вас поразить, касается одинаково
всех верных, как мирян, так и клириков (tonsures), которые
все — дети этой общей матери, отнюдь не исключающей ни
тех, ни других из-под подчинения государям, так как Еванге-
лие прямо повелевает им повиноваться». Для духовенства,
по его мнению, существовал еще один лишний мотив повино-
ваться. «Если бы среди тех, которые живут под нашей вла-
стью, были люди, особенно обязанные (tenus) служить нам
своим достоянием, то это, без сомнения, были бы обладатели
бенефиций (beneficiers), так как, обладая ими лишь по нашей
милости3, они находятся в зависимости от нас не только как
большинство наших подданных, по своему рождению (в ко-
ролевстве), но и по особому побуждению благодарности».
Там, где раздача выгодных церковных мест была делом мо-
наршей милости, конечно, и быть иначе не могло. Проте-
стантским обличителям деспотизма Людовика XIV нетрудно
было усматривать в той власти, которую он приобрел над
1 «До революции,— говорит профессор Ардашев,— не существовало
того антагонизма между епископами и светской администрацией, которым
характеризуется новейшее время»,— интересное замечание для определе-
ния государственного служения клира при старом порядке (Провинциаль-
ная администрация. I. 440).
2 Для истории отношений Людовика XIV к папе, а также Собора
1682 г. см., между прочим, в книге Hitier /. La doctrine de 1’absolutisme.
1903. C. 39 и след., 156 и след. Автор верно замечает, что, исходя из еван-
гельского текста о невозможности служить двум господам, Louis XIV а
voulu que le clerge de France, place entre le roi et le pape, optat pour le pre-
mier (c. 159).
3 Это была и точка зрения Боссюэ: «Ces grands biens viennent des rois,
je 1’avouve; ils ont enrichi les ejjlises de leur liberalites, et les peuples n’en ont
point fait sans que leur autorite у ait concouru».
305
клиром, черты настоящего порабощения церкви государст-
вом, так что иные монархи и без Реформации достигали та-
ких же результатов, какие получались протестантскими го-
сударями лишь ценой разрыва с Римом. Один из памфлети-
стов, нападавших на правительственную систему Людовика
XIV, Жюрье, в своих — изданных, конечно, за границей —
«Вздохах порабощенной Франции, стремящейся к свободе»
(1691) говорит, что «короли Франции сделались папами, вер-
ховными первосвященниками и абсолютными государями в
священных делах» и что «сами верования церкви зависят от
власти государя. Король,— сказано в этом памфлете,— со-
бирает под своим надзором и в своей столице шумные собра-
ния, состоящие из его креатур и придворных священников.
Там он на всей своей воле заставляет решать самые важные
и самые щекотливые вопросы; он подчиняет папу соборам,
отнимает у него право отлучать государей, объявляет, что он
может погрешать... Это деспотическая власть привела галли-
канскую церковь к утеснению, в каком она теперь находится.
Двор Франции возвысился над всеми пастырями, все они —
рабы двора, и если они униженно ему не подчиняются, он
обращается с ними как с врагами».
В защиту прав светской власти писались в эту эпоху и
специальные трактаты. Политическая аргументация делает-
ся особенно ясной в XVIII ст. под влиянием рационалистиче-
ского просвещения этого времени. Но послушаем сначала
одного писателя XVII в.
«Церковь,— писал Le Voyer de Boutigny в «Dissertation sur
Г autorite legitime des rois en matiere de regale»1, написанной в
1682 г.,— может рассматриваться с двух точек зрения: или
как тело политическое, или как тело мистическое и священ-
ное. Глава его, как политического тела, в таком случае есть
и начальство (un magistral) политическое, светская власть, в
которой заключается суверенитет, король в монархиях. Гла-
ва его, как мистического тела, есть папа, наместник Христа.
Таким образом, в управлении церковью соединены две вер-
ховные власти (deux puissances souveraines). В естественном
порядке первое место принадлежит светской власти, ибо,
1 Написано по поводу спора Людовика XIV с папой.
306
как говорит знаменитый епископ IV в., церковь находится в
государстве, а не государство в церкви. Во всех случаях, ког-
да дело идет о церкви по отношению единственно к интересу
государства, королю принадлежат все права верховного уп-
равления (de souveraine administration), в других же, когда
дело касается церкви в отношении к славе Божией и спасе-
нию душ, государю принадлежит лишь простое право охраны
и покровительства. Во всем, что не составляет веры, церковь
подчинена государству».
В середине XVIII в. возникло в Германии целое направле-
ние политической мысли в церковном вопросе, известное под
именем фебронианизма. Именно, под псевдонимом Феброния
в 1765 г. обнародовал викарий Трирский Гонтгейм книгу под
заглавием «О современном состоянии церкви и о законной
власти римского первосвященника», которая была переведе-
на на разные языки, вызвала целую литературу опроверже-
ний и защит и оказала немалое влияние на правительствен-
ную деятельность отдельных стран. Фебронианизм можно
определить как огосударствление церкви, весьма характер-
ное для XVIII в., когда и вольнодумцы стояли на той точке
зрения, что государство должно повелевать религии (Воль-
тер) или устанавливать верования, нужные исключительно
для самого государства (Руссо). Сам Гонтгейм был не только
католиком, но и духовной особой, но это нисколько не меша-
ло ему в вопросе о взаимных отношениях духовной и свет-
ской власти стать на точку зрения, весьма далекую от сред-
невековой. Феброний исходил из того положения, что посто-
янное вмешательство Римской курии в светские дела
порождает только смуты, причем главными смутьянами он
называл монахов, против которых у государей есть верные
союзники в лице епископов и других прелатов, тоже терпя-
щих немало от монахов. Государи, как защитники и покрови-
тели церкви, обязаны поддерживать в ней порядок, да и во-
обще, как думал Феброний, если кто когда-либо выводил
церковь из бедственного положения, то это были императо-
ры, короли и князья. В этом смысле Феброний шел по одно-
му пути с более ранними протестантскими писателями, вы-
водившими религиозные обязанности или церковные права
307
государей из понятия полиции в первоначальном, широком
значении слова1. Философы, державшиеся теории естествен-
ного права, пошли еще далее, подчинив религию государст-
ву, ибо религия более всего споспешествует спокойствию и
благосостоянию людей, а государи об этом больше всего и
должны заботиться2. В эпоху полицейского государства и
церковь должна была быть подчинена полиции, за исключе-
нием «заповедей Божих, догматов веры и таинств», нужных
для вечного спасения: все остальное в церковных порядках
входило в компетенцию государства, как вещи временные и
земные, подлежащие его религиозной полиции. Из католиче-
ских монархов XVIII в. особенно стоял на такой точке зре-
ния Иосиф II, видевший в религии лучшее средство для вос-
питания народа, а в церкви своего рода высшее духовно-по-
лицейское учреждение3. Абсолютизм государства по
отношению к католической церкви даже получил по имени
Иосифа II название «иозефинизма».
Государство Нового времени, вступившее во многие пра-
ва средневековой церкви, стремилось, как и она, к тому,
чтобы все были одной веры, а за нарушения этого права го-
тово было карать ослушников своих велений.
Взгляд средневековой католической церкви на отступле-
ние от правой веры известен. «Не спорю,— писал еще жив-
ший в конце IV в. и начале V в. блаж. Августин, оказавший
вообще такое влияние на средневековое миросозерцание,—
что лучше бы приводить к Богу заблуждающихся научением,
нежели страхом, но и этим средством пренебрегать нельзя...
Многие должны быть, как дурные рабы, призваны к их Гос-
поду посредством мук телесного наказания, прежде чем они
достигнут истинно религиозного настроения... Добро прихо-
дит от доброй воли. Но государство должно наказывать
внешние проявления зла, следовательно, и ереси, и расколы.
1 См. выше, с. 300—301.
2 Вольтер прямо требовал, чтобы государь был безусловным повелите-
лем в сфере церковной полиции, потому что эта полиция есть лишь одна из
частей управления. Припомним еще его взгляд, по которому «Бога нужно
было бы выдумать, если бы он не существовал», и выдумать, именно, для
удобства управления людьми.
3 См. ниже, в гл. XIX.
308
Никто, кроме безумного, допустить не может, что государст-
во должно дать полную волю порокам подданных. Наказыва-
ются же убийства, наказываются блудодеяния, наказывают-
ся и всякие другие преступления и позорные поступки зло-
действа и страстей, одни только преступления против веры
мы хотим оставить без наказания со стороны правителей!
Ереси и расколы апостол Павел поставил рядом с другими
преступлениями — блудом, убийством и т. п.: если ересей не
наказывать, то и других преступлений наказывать тоже не
нужно». И церковь наказывала — «без пролития крови»,
впрочем, а посредством сожжения на костре, поручая каж-
дый раз совершение казни государству.
Религиозным реформаторам XVI в., которых самих като-
лическая церковь признавала еретиками, первоначально
трудно было стать на такую точку зрения, и Лютер, напри-
мер, останавливался перед мыслью о казни еретиков, но и
для него выход из затруднения нашелся в том, что ересь мог-
ла быть подведена под понятие богохульства, наказуемого
гражданскими законами, а кроме того, он особенно напирал
и на политическую неблагонадежность таких сект, какую
представлял собой революционный анабаптизм двадцатых и
тридцатых годов XVI в.,— соображение, аналогичное тому,
какое по отношению к религиозным новшествам мы встреча-'
ем и у правителей эпохи Реформации, как это мы сейчас
увидим. Отношение Лютера к ересям его сподвижник Ме-
ланхтон находил, однако, «до глупости мягким». Реформа-
тор, принадлежавший ко второму поколению, Кальвин, уже
не останавливался перед преданием еретиков казни. Когда в
его руки в Женеве попал Сервет, отрицавший троичность Бо-
га в смысле никейского символа веры, то Кальвин, занимав-
ший в Женеве своего рода место протестантского папы, на-
стоял на суде над этим еретиком, сам вел допрос подсудимо-
го, и когда Сервет ссылался на пример древней церкви,
которая только отлучала и изгоняла еретиков, то, в свою
очередь, указывал на византийских императоров, предавав-
ших еретиков смертной казни. Сервет был казнен, а один из
сотрудников Кальвина, Фарель, нарочно приехал в Женеву
для того, чтобы присутствовать при казни. Лютеранин Ме-
ланхтон в данном случае был более доволен Кальвином, чем
309
своим, в то время уже покойным другом. Кальвинист Теодор
де Без (или Беза, как латинизировано было его имя), сделав-
шийся впоследствии, по смерти «женевского папы» в глазах
кальвинистов патриархом Реформации, для оправдания со-
жжения Сервета написал даже целое сочинение, о содержа-
нии которого можно судить уже по одному его заглавию «De
haereticis a civili magistratu puniendis», т.е. о том, что ерети-
ки должны наказываться гражданской властью.
В деле Сервета был и политический элемент. Именно,
Кальвин указывал женевскому городскому совету на связь
еретика с политически опасным анабаптизмом; это главным
образом и решило участь знаменитого антитринитария. По-
литический мотив в преследовании религиозных новаторов
играл вообще немалую роль в ту эпоху. Когда появились пер-
вые протестанты в тогдашней Польше, царствовавший в то
время Сигизмунд I взглянул на дело без всякого теологиче-
ского фанатизма, а с чисто «государственной» точки зрения:
«перестали платить десятину духовенству, чего доброго —
перестанут платить и налоги государству», и «после нападе-
ния на религию захотят все мутить, а это приводит к бунтам
и погибели государств», как сказано в одном из эдиктов, из-
данных против ереси этим королем. «Что,— сказано в дру-
гом таком же эдикте,— останется в жизни твердого и проч-
ного, коль скоро каждому будет дозволено по собственному
разумению и произволу судить и рядить о вещах божествен-
ных и даже человеческих?» (tarn de divinis, quam etiam de
humanis rebus — характерное даже!). Или, например, еще в
одном его эдикте тоже говорится о смуте, происходящей от
неповиновения власти, «которая должна охранять единство
и спокойствие у подвластных ей народов, что возможно
лишь при том условии, если божеские и человеческие уста-
новления, утвержденные долговременным обычаем и всеоб-
щим одобрением, будут охраняться и поддерживаться, а мя-
тежных людей, желающих быть умнее, чем следует, станут
наказывать». Приблизительно на той же точке зрения стоял
и французский современник Сигизмунда I, Франциск I. Сна-
чала этот король отнесся к религиозной Реформации доволь-
но-таки индифферентно, но потом папа Климент VII убедил
его, что нововеры — бунтовщики против власти, и король
310
утвердился на той точке зрения, что «все эти секты служат
не столько назиданию душ, сколько потрясению государств».
Абсолютист до мозга костей, державшийся девиза: «un roi,
une loi, ime foi» (один король, один закон, одна вера),— де-
виза, напоминающего нам принцип Юстиниана Великого,—
Франциск I после того, как и в его королевстве начались кое-
где волнения, издал эдикт, в котором реформаторы объявля-
лись «возмутителями и нарушителями общественного спо-
койствия, бунтовщиками против короля и правосудия, заго-
ворщиками против государственного благоденствия,
зависящего преимущественно от чистоты католической ве-
ры». Такое отношение к протестантизму двух названных го-
сударей первой половины XVI в. не было проявлением рели-
гиозного фанатизма: известно, что Сигизмунд I взял под свое
покровительство клятвопреступника, вероотступника и свя-
тотатца Альбрехта Бранденбургского, великого магистра
Тевтонского монашеско-рыцарского ордена, который отрекся
от аскетического обета, принял лютеранство и превратил
владения ордена в светское наследственное княжество; изве-
стно, что и Франциск I помогал немецким протестантским
князьям в их борьбе с Карлом I, причем даже введение лю-
теранства в одном из немецких княжеств (в Вюртемберге) не
обошлось без французских денег. В сущности, и преследова-
ния в Англии при Елизавете всех, не желавших подчиняться
установленной государством церкви,— преследования, не
останавливавшиеся в отдельных случаях перед применения-
ми смертной казни,— объясняются не фанатизмом этой ко-
ролевы, лично обнаруживавшей, напротив, известную широ-
ту религиозных воззрений и способность к компромиссам в
делах веры, а тем, что в ее глазах «нонконформисты» были
ослушниками государственного закона, даже политическими
врагами (католики) своей государыни, составлявшими про-
тив нее заговоры и вступавшими в сношения с иностранны-
ми, враждебными Англии державами. И позднее, вплоть до
акта о присяге (test act) 1673 г., не позволявшего преимуще-
ственно католикам занимать государственные и обществен-
ные должности1, отрицательное отношение английской госу-
1 Народно-правовое государство. С. 64.
311
дарственной власти к «папистам» объясняется этим моти-
вом.
В XVI и XVII вв., преимущественно во второй половине
первого из них и в первой половине второго, почти все госу-
дарства Западной Европы, и в особенности абсолютные като-
лические монархии, стремились к религиозному единообра-
зию, поддерживая его всякими средствами, не останавлива-
ясь перед казнями, не задумываясь над тем, что религиозные
гонения встречали отпор, который вел к гражданским вой-
нам, или заставлял преследуемых за веру бежать из родной
страны. Филипп II Испанский, истребивший посредством сож-
жений на костре (аутодафе) всех еретиков в своем королев-
стве и начавший преследовать потомков мавров, обращен-
ных в христианство (морисков), своим религиозным терро-
ром в Нидерландах привел часть этих провинций к
отпадению от монархии и подготовил выселение из Испании
массы морисков при Филиппе III. Францию почти четыре де-
сятилетия раздирали религиозные войны, от которых она от-
дохнула лишь после издания Генрихом IV Нантского эдикта
в 1598 г., но Людовик XIV с самого начала своего правления
стал стеснять права своих протестантских подданных и пря-
мо их преследовать, пока в 1685 г. совсем не отменил На-
нтский эдикт1. Громадное количество гугенотов выселилось
из Франции, а тех, которые остались в стране, считали «дур-
но обращенными» католиками, всячески их стесняя, пресле-
дуя, обижая. «Лишь одна вера» должна была царить во
Франции, и только при Людовике XVI, незадолго до револю-
ции, протестантам возвращено было право исповедовать
свою реформированную веру. В католической Германии с по-
следней четверти XVI в. господствовала та же нетерпимость
к иноверию, и особенно страшно было насильственное ист-
ребление протестантизма в Австрии в эпоху Тридцатилетней
войны. До самого конца XVIII в. протестантам в Австрии
1 В эдикте, отменявшем Нантский эдикт, Людовик XIV благодарит Бо-
га за то, что его королевские старания увенчались успехом, ибо лучшая и
большая часть его подданных воссоединилась с римской церковью. Поэтому
он считает дальнейшее соблюдение Нантского эдикта совсем ненужным
«для искоренения самой памяти о смутах и бедствиях, внесенных в коро-
левство ложной религией».
312
быть не полагалось, и если кто-либо переходил на службу к
австрийскому правительству из протестантских частей Гер-
мании, то должен был хоть наружно принимать католицизм.
Вина такой нетерпимости падает, впрочем, не столько на аб-
солютизм, сколько на католицизм. Абсолютизм, даже като-
лический, мог быть и бывал веротерпим,— вспомним Генри-
ха IV и Ришелье, бывшего даже кардиналом и умевшего ос-
таваться веротерпимым,— не говоря уже о государях
протестантских,— и именно католицизм сумел нафанатизи-
ровать в XVII в. польскую шляхту, в XVI в. видевшую в ре-
лигиозной свободе одну из составных частей шляхетской
«золотой вольности». В общем, протестантские государства
были много веротерпимее католических, и абсолютная мо-
нархия тоже умела быть более веротерпимой, чем оказалась
шляхетская республика польской нации.
Рассмотрим теперь, как абсолютная монархия разреша-
ла,— когда находила это нужным,— поставленный религиоз-
ной Реформацией XVI в. вопрос о веротерпимости.
Нужно вообще различать понятия религиозной свободы и
веротерпимости. Первая предполагает за личностью принад-
лежащее ей право верить, как ей угодно, или вовсе не ве-
рить, тогда как вторая исходит из той идеи, что право верить
по-своему есть только уступка со стороны государства, кото-
рое лишь терпит рядом со своей государственной церковью
иные веры. Принцип религиозной свободы впервые ясно был
формулирован только английскими индепендентами эпохи
первой революции1, но в XVI—XVIII вв. признавался глав-
ным образом принцип веротерпимости. Дальше него не шел,
например, даже Вольтер, что и понятно, раз он приписывал
государству право на религиозную полицию2. Итак, государ-
ство XVI—XVIII вв.,— да и то далеко не всякое,— знало
только веротерпимость, и эту веротерпимость допуская не-
редко лишь тогда, когда у него ее вырывали с оружием в ру-
ках. Она гарантировалась при этом особыми актами, имев-
шими характер конституционных соглашений, хотя королев-
1 Народно-правовое государство. С. 90.
2 См. выше, с. 307.
313
ская власть охотнее смотрела на них как на односторонние
изъявления своей милости.
Во Франции Нантскому эдикту 1598 г. предшествовал це-
лый ряд подобных же соглашений правительства с проте-
стантами в моменты перемирий, заключавшихся во время ре-
лигиозных войн, и содержание Нантского эдикта по сравне-
нию с более ранними не заключало в себе ничего
существенно нового. Генрих IV заключил договор с вождями
гугенотов и в обеспечение этого договора дозволил им иметь
свою политическую организацию и содержать гарнизоны в
целом ряде укрепленных мест. С другой стороны, крупным
сеньорам даны были большие религиозные права, чем мелко-
му дворянству, а дворянству вообще — большие, нежели
третьему сословию. Высшее дворянство могло устраивать
протестантское богослужение в своих замках для всех своих
«подсудных», низшее — лишь для своих домашних, для
третьего же сословия протестантские церкви могли быть ус-
троены лишь в некоторых городах. В конце двадцатых годов
XVII в., при Ришелье, между правительством и гугенотами,
как известно, произошла война, из которой победителем вы-
шло правительство. Ришелье, однако, не отменил Нантского
эдикта. Он только отнял у гугенотов их гарантии, оставив в
силе их вероисповедные права. Эдикт 1629 г., подтверждав-
ший эти права, получил характерное название «эдикта мило-
сти» (edit de grace), т.е. свобода протестантского богослуже-
ния рассматривалась лишь как королевская милость. Но ко-
роль дал, король и взял: подтвердительный эдикт был
подписан Людовиком XIII, эдикт в отмену милости — Людо-
виком XIV.
Аналогичный характер с Нантским эдиктом имела и чеш-
ская «грамота величества» (маестат) 1609 г., вынужденная у
королевской власти дворянством. Установление в Германии
равноправия лютеранства с католицизмом по Аугсбургскому
религиозному миру 1555 г. было тоже результатом войны, и
равноправие это было распространено на кальвинизм, а под-
чинение подданных князьям в делах веры было уничтожено
опять-таки лишь Вестфальским миром, закончившим Тридца-
тилетнюю войну. Особенно эта война убедила германских
князей и народ о необходимости веротерпимости в государ-
314
ствах со смешанным в религиозном отношении населением.
Ее стали проповедовать те же самые публицисты, которые
распространяли права высшей полиции светских государей и
на церковные отношения. Одним из монархических госу-
дарств, где принцип веротерпимости был применен с наи-
большей последовательностью, была Пруссия, где еще Вели-
кий курфюрст в середине XVII в. держался нейтралитета по
отношению к вере своих подданных. Фридрих II, говорив-
ший, что в его королевстве каждый может спасаться «на
свой фасон» (auf seiner Facon), в этом отношении следовал
не только философии своего века, но и традиции своей дина-
стии.
Иная традиция установилась в монархии Габсбургов.
Первым, кто заговорил здесь о веротерпимости, был
Иосиф II, когда он был еще только соправителем своей мате-
ри. Мария-Терезия, однако, и слышать не хотела о таком
ужасе, как веротерпимость в ее владениях. Императору в
данном случае пришлось иметь дело не только с династиче-
ской традицией Габсбургского дома, но и с окружающей сре-
дой, что сильно затрудняло проведение в жизнь этого прин-
ципа. С другой стороны, сам он тоже не вполне ясно пред-
ставлял себе, к чему лично его обязывала дорогая его сердцу
веротерпимость. Несколько подробностей, касающихся этого
вопроса, выяснят характер всего предприятия.
В заботе своей о веротерпимости Иосиф II исходил из то-
го взгляда, что «служение Богу неразрывно связано со служ-
бой государству, Господь же требует, чтобы извлекалась
польза (для государства) из всех, кому даны талант и дело-
витость». Для него, однако, не безразлично было, к какой ве-
ре будут принадлежать его подданные, и он даже очень бы
не хотел, чтобы они отставали от вероисповедания, унасле-
дованного от предков. Устанавливая веротерпимость, он сна-
чала даже был против какой бы то ни было об этом публи-
кации «в виде указа или иного печатного и доступного пуб-
лике распоряжения» и думал, что достаточно будет идти
путем разрешения «от случая к случаю». В этом смысле и
сделано было секретное распоряжение по присутственным
местам, но очень скоро канцелярская тайна выплыла нару-
315
жу, и во избежание лжетолкований император решился из-
дать общий указ о веротерпимости 1781 г. В обществе это
произвело такое впечатление, будто Иосиф II взял дис-
сидентов под особое свое покровительство, и императору
пришлось поэтому усиленно подчеркивать при каждом удоб-
ном случае о своей преданности «единоспасающей Римско-
католической церкви». Последующими правительственными
мероприятиями даже всячески был затрудняем выход из гос-
подствующей церкви.
С другой стороны, веротерпимость давалась только для
последователей прочно установленных в догматическом от-
ношении и правильно организованных церквей, сектантство
же совершенно исключалось. «Тем,— гласил указ 1782 г.,—
кто не пожелает присоединиться к терпимым вероисповеда-
ниям, богослужение дозволено не будет под страхом наказа-
ния за нарушение общественной тишины и спокойствия», и
их повелевалось «считать католиками, обязывая их вместе с
тем подчиняться правилам церковной дисциплины, но без до-
пущения к таинствам покаяния и причащения». В этом выра-
зилась бюрократическая, отнюдь не теологическая нетерпи-
мость абсолютного государства к сообществам, которые не
от него получали свои права и ускользали от его контроля.
Когда веротерпимый Иосиф II узнал о существовании в Че-
хии секты абраамитов, он приказал каждого, кто заявил бы
о своей к ней принадлежности, наказывать палками «не по-
тому, что он деист, а потому, что он претендует быть чем-то
таким, чего и сам не понимает» (weil er vorgiebt etwas zu
seyn, von dem er nicht weiss, was es ist). Это не единичный
случай: многие сектанты попали в дома для умалишенных
или были сосланы. Далее, сравнительно с католицизмом про-
тестантизм и православие только терпелись: сам эдикт о ве-
ротерпимости не признавал за этими вероисповеданиями
права иметь церкви с колокольным звоном и входами с ули-
цы. Наконец, эдикт не распространялся и на многочисленное
еврейское население монархии Габсбургов. Правда, масса
существовавших раньше по отношению к евреям стеснений
была отменена, но другие оставлены были в силе.
316
Глава XVII
АБСОЛЮТИЗМ И ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА
Стремление абсолютного государства к руководи-
тельству национальной жизнью в области духовной
культуры.— Меценатство итальянских князей эпохи
Ренессанса — Переход меценатства в другие страны.—
Ришелье и Французская академия.— Правительствен-
ный протекционизм литературе и науке при Людови-
ке XIV.— Придворная литература эпохи ложного клас-
сицизма.— Государственный утилитаризм в деле на-
родного просвещения.— Государство и школа в эпоху
абсолютной монархии.— Подавление опасных и вредных
мыслей.— Цензура и преследование оппозиционных пи-
сателей.— Переход цензурных прав от церкви
к государству
Абсолютное государство Нового времени с неограничен-
ной королевской властью во главе стремилось быть всем во
всем и, не довольствуясь подчинением себе религии и господ-
ством над совестью граждан, налагало свою опеку на все про-
явления духовной жизни общества, на все стороны интеллек-
туальной и эстетической культуры нации. Установление абсо-
лютной монархии на Западе совпало по времени с так
называемым Возрождением (Ренессансом) наук и искусств
под знаменем гуманистического классицизма (особенно XV в.
и первая половина XVI в.), как в эпоху полного господства аб-
солютной монархии началось развитие естествознания и воз-
никла самостоятельная философия (отчасти XVI ст., в особен-
ности XVII ст.), а перед началом упадка процветала небыва-
лым до того образом публицистика («философия XVIII века»).
Государственная власть не могла оставаться равнодушной к
этому культурному движению: одно в нем ей казалось опас-
ным и потому подлежащим пресечению, другое она стреми-
лась использовать в своих интересах, вплоть до создания офи-
циальной философии, официальной науки, официальной лите-
ратуры взамен самостоятельного философского мышления,
научного исследования, художественного творчества. «Век
Людовика XIV», этого «короля-солнца», «покровителя наук и
искусств», был апогеем такого направления, когда, по-видимо-
317
му, вся духовная культура должна была служить интересам и
быть украшением абсолютной монархии. Королевское меце-
натство, официальный академизм, придворный классицизм и в
лучшем случае государственный утилитаризм, с одной сторо-
ны, а с другой, подавление всякой духовной свободы, как за-
ключающей в себе опасность ущерба и вреда для обществен-
ного порядка, для государства и для трона, строгая цензура,
сожжение рукой палача произведений печати, в которых про-
являлся сколько-нибудь вольный дух, преследование писате-
лей, неугодных властям и сильным мира,— вот в коротких
словах все, что можно сказать об отношении абсолютизма к
духовной культуре в эпоху «старого порядка».
Начало опеки абсолютизма над духовной культурой, сде-
лавшейся для нее весьма потом тяжелой, относится в Ита-
лии к эпохе Ренессанса в форме более мягкого отношения,
обозначаемого обыкновенно термином «меценатство». Италь-
янская тирания XV в. в этом отношении очень похожа на
греческую, которая тоже оказывала покровительство расцве-
ту поэзии и искусства. Дворы итальянских потентатов этой
эпохи сделались настоящими центрами гуманизма, так как
эти тираны в античном стиле старались прибрать к рукам на-
рождавшуюся умственную силу. «Двор,— говорит новейший
историк итальянского Ренессанса о дворе в Неаполе,— при-
влекает к себе и втягивает в свой круг всех, кто имеет какое-
нибудь значение в литературе. Двор дает им свет и хлеб, на-
деляет их почестями и должностями, делает их секретарями
или великими казначеями. Он воодушевляет их жизнью в
некотором роде династической, отделывает по одному и тому
же фасону, нашивает галуны на их стиль и их костюмы, вво-
дит их в академию, которая научит их латинскому языку,
приучит к хорошим манерам и к красивой речи»1. Здесь пи-
шутся трактаты о государстве, о величестве государей, о
правлении государей и т. п.— тема, которую довольно охот-
но разрабатывали вообще итальянские гуманисты от Петрар-
ки до Макиавелли2. Но неаполитанский двор был лишь один
1 Монье Ф. Кваттроченто. 1904. С. 538. Ср. выше, с. 116—117, где
приведена сделанная Монье характеристика неаполитанского двора.
2 См. выше, с. 56 и след.
318
из многих: везде господствовал тот же дух покровительства
литературе и искусству, которые за то должны были слу-
жить своим меценатам, украшать придворную жизнь, про-
славлять правление’того или другого князя. При таком на-
правлении сама духовная культура нации принимала слиш-
ком аристократический характер, отдалялась от народа,
утрачивала характер действительно общественной силы и в
конце концов приобретала значение одного из аксессуаров
придворного быта и орудия, которым в своих целях пользова-
лась княжеская тирания. Итальянские писатели прямо отво-
рачивались от народа, как от презренной черни, недостойной
внимания и участия к себе со стороны порядочных людей1.
Вот почему, между прочим, гуманизм, которому мы приписы-
ваем такое важное значение в истории духовной культуры
всей Европы, нередко осуждается итальянскими историками
за его некрасивую политическую роль на своей родине.
1 В своей прекрасной книге «Кваттроченто» Ф. Монье так характери-
зует вообще отношение итальянских гуманистов к народу: «Ум окапывает-
ся и изолируется. Мысль уходит из толпы и располагается на высотах. Ис-
кусство получает грамоту на дворянство и делается аристократом. Вместо
того чтобы писать для всех на языке, который могут понять все, пишут для
нескольких на языке посвященных. Литература перестает быть националь-
ной, чтобы сделаться выражением нескольких специалистов, утонченных
умов и занимающихся ею как профессией. Образуется новая аристокра-
тия — аристократия ума. Народ более не интересует. Народ — это чернь.
Народ — это сволочь, сброд. Народ — это неучи, стадо. Он подлый. Он не-
грамотный и безнравственный Он ничего не знает... Оставляют его коснеть
в его грязи и его заброшенности. Его предоставляют его сказкам и басням,
его заблуждениям и предрассудкам, его диалекту и его навозу... Его права,
его нужды, его усилия, его печали, его жизнь, все это — мертвые буквы.
Гуманисты занимаются воспитанием принцев; они никогда не занимаются
воспитанием народа... Они созданы не для форума, не для рынка; онй —
философы и мудрецы...
Подобное положение приводит к разрыву между литературой и жиз-
нью», с. 242, 243, 246 и 248. Читая эту характеристику, нельзя не вспом-
нить известные заявления Вольтера, тоже делившего общество на «поря-
дочных людей» и на «чернь», «сволочь», причем, желая у первых истребить
католические верования («ecrasez 1’infame»), он рекомендовал оставить на-
роду его «суеверия». Разница, однако, та, что французский XVIII век был
настроен более общественно и народно, чем итальянское XV столетие
(«Кваттроченто»).
319
С распространением в других странах Европы культуры
итальянского Ренессанса, политических идей в духе княже-
ского абсолютизма, нравов, обычаев и всей внешней обста-
новки придворной жизни, стало утверждаться мало-помалу и
королевское меценатство, которое во Франции сыграло та-
кую крупную роль в царствования двух наиболее блестящих
представителей в этой стране королевской власти, Франци-
ска I и Людовика XIV. Первый из этих государей даже прямо
содействовал перенесению во Францию культурных форм
итальянского Ренессанса в областях как искусства, так и на-
уки. В его лице абсолютизм во Франции заключил союз с но-
вым образованием, враждебно относившимся ко всякой сред-
невековщине: последняя была не по душе и королевской вла-
сти, так как средневековые формы были слишком тесно
связаны с традициями феодальной и муниципальной свобо-
ды. Абсолютная монархия инстинктивно искала для себя но-
вых культурных форм, и легче всего было их заимствовать
из Италии, где литература достаточно сумела оторваться от
народной жизни и от национальных традиций и проникнуть-
ся, напротив, духом княжеского придворного быта, нашедши
родственные тенденции в римской литературе августова ве-
ка. Чем для Франции и других стран в этом отношении была
Италия в XVI в., тем с середины XVII ст. стала делаться са-
ма Франция для всей Европы, превратившись мало-помалу в
законодательницу утонченного вкуса и светских мод. В этом
отношении версальский двор Людовика XIV сыграл роль
главного образца для подражания. По мере того как фран-
цузская культура распространялась при дворах, националь-
ные литературы приходили в упадок. Фридрих II в эпоху воз-
рождения немецкой литературы читал только французские
книги, сам писал по-французски, признавал только француз-
ских писателей. Мария-Терезия вела переписку, между про-
чим, и с Иосифом II по-французски же, хотя и не всегда гра-
мотно: «а cette heure» у нее выходило «asteur». Не только на-
циональное, но в еще большей степени все общественное
было противно самому духу настоящей придворной литера-
туры, и именно когда струя общественности стала проникать
в литературу,— а в этом и заключалась вся сила XVIII в.,—
320
то духовная жизнь нации начала эмансипироваться от на-
правления, созданного придворным меценатством.
«Науки,— говорит в своем завещании Ришелье,— слу-
жат одним из величайших украшений государства и обой-
тись без них нельзя, но... усиленное занятие науками повре-
дит торговле, обогащающей государства, и земледелию, пи-
тающему народы, и произведет опустошение в рядах солдат,
которым приличнее невежество, чем тонкость знания». Вели-
кий государственник, находивший, что для спокойствия го-
сударства лучше, если народу не очень хорошо, сказался
весь в этом коротеньком заявлении: науки украшают госу-
дарства, но для государства же нужно, чтобы ими занима-
лись не слишком много и не все, «иначе,— думал Ри-
шелье,— государство будет похоже на безобразное тело, ко-
торое во всех частях своих будет иметь глаза». С его точки
зрения, науки были нужны лишь постольку, поскольку их су-
ществования требовал государственный интерес, отнюдь не
стремления личностей, составляющих общество, и, конечно,
в наше время никто не стал бы говорить, что земледелие и
торговля не особенно нуждаются в науках. Утилитарный
взгляд на образование был вообще в ходу у представителей
абсолютизма, но в те времена технические знания находили
применение лишь в военном деле1. Смотря на умственную
деятельность общества с узко государственнической точки
зрения, Ришелье хотел, чтобы эта деятельность протекала и
под надзором государства.
Около 1635 г. в Париже образовался кружок из несколь-
ких просвещенных горожан, отчасти кое-что пописывавших,
с целью собираться раз в неделю у одного из членов кружка
для литературных бесед. Узнав об этом, Ришелье предложил
кружку организоваться в признанную корпорацию и соби-
раться впредь под официальным председателем (sous une
autorite publique). Так возникла знаменитая Французская ака-
демия, задачей для которой было поставлено главным обра-
зом дать французскому языку твердо установленные прави-
ла, словарь, грамматику, поэтику, риторику: государство,
так сказать, должно было законодательствовать и в вопросах
1 Ср. выше, с. 199—200.
321
языка и литературы. Около этого времени Корнель написал
своего «Сида» с сюжетом, заимствованным из испанской ли-
тературы, и пьеса имела крупный успех, что не понравилось
Ришелье. Ему казалось, что, аплодируя «Сиду», публика
только выражает протест против ведшейся тогда с Испанией
войны, а сверх того, он находил непатриотичным увлечение
публики испанским сюжетом пьесы. Тогда вновь созданной
академии было предписано подвергнуть «Сида» строгой кри-
тике, что ею и было в точности исполнено. Академия, таким
образом, сделалась одним из орудий политики Ришелье, в то
же время приняв на себя роль законодательного учреждения
в вопросах чисто литературного характера: между прочим,
«Сиду» было поставлено в упрек, что в нем не были соблю-
дены единства места и времени по Аристотелю и что героиня
этой пьесы весьма безнравственна. Впоследствии и Наполе-
он I выражал желание, чтобы академия создала такую крити-
ку, которая могла бы рекомендовать публике авторов, до-
стойных внимания1, и в этом отношении он только следовал
примеру, поданному Ришелье. Государство брало на себя за-
дачу руководить и художественным творчеством.
Слабо еще развитая в XVII в. литературная деятельность
сама шла навстречу к меценатству, которое во Франции ей
оказывали некоторые аристократические фамилии. С самого
же начала самостоятельного правления Людовик XIV сде-
лался главным меценатом не только во Франции, но и за ее
пределами. В 1663 г. был составлен список писателей, кото-
рым были назначены ежегодные пенсии (liste des pensions),
причем последними стали пользоваться и некоторые ино-
странцы. Людовику XIV было нужно, чтобы его восхваляли
и прославляли на всех языках, чтобы литература, философия
и наука содействовали видам правительства, чтобы можно
было даже внушать писателям, как они должны писать. Вну-
шения эти происходили и на самом деле, когда по заказу пи-
1 «Раз будет установлена,— писал Наполеон министру полиции Фу-
ше,— правильная критика, можно будет не дозволять ничего вроде тепе-
решней. Институт (Institut de France, в составе которого находилась с эпо-
хи революции Французская академия) — великое средство в руках минист-
ра».
322
садись сочинения в защиту разных пунктов внутренней и
внешней политики или когда королевским историографам
вменялось в обязанность распространять хвалебный тон и на
царствования королевских предков: королевская власть уста-
навливала своего рода государственные догматы в вопросах
политики, истории и философии. Сорбонна от себя запрети-
ла во Франции сочинения Декарта, а Людовик XIV в 1667 г.
не позволил произнести похвального слова покойному фило-
софу. Умственная жизнь страны сделалась таким же ведом-
ством для правительственного воздействия, как финансы,
мануфактуры и торговля, и во главе обоих ведомств был по-
ставлен в 1664 г. один и тот же министр, Кольбер1. При нем
Французская академия окончательно превратилась в прави-
тельственное учреждение, по образцу которого стали созда-
ваться, в шестидесятых же годах XVII в., академии надписей
и медалей, живописи и скульптуры, наук и т. п., которым
ставились и цели чисто придворного значения — прославле-
ние короля надписями (на публичных памятниках или праз-
дничных сооружениях) и медалями в память разных собы-
тий, украшение королевского дворца произведениями живо-
писи и ваяния и т. п., как, в свою очередь, Академия наук
должна была давать советы, касающиеся флота, ремесел и
т. д. Задача Академии изящных искусств мало чем отлича-
лась от организованной Кольбером же мануфактуры роскош-
ных ковров2.
Все эти официальные учреждения занимались, между про-
чим, и законодательством в области вкуса, идя по пути, прото-
ренному еще в XVI в. деятелями Ренессанса. Они прямо пред-
писывали преклонение перед древними и подчинение их пра-
вилам, были ли последние высказаны самими древними,
Аристотелем, Виргилием или Витрувием (римским архитекто-
ром), или же их устанавливали эти академии на основании
1 Кольбер «gouvema la vie intellectuelle par les memes methodes que les fi-
nances, les manufactures, la marine et le commerce»,— говорит о нем Лависс на
с. 81 второго отдела т. VII «Histoire de France» (1907), давая далее очень хо-
роший очерк управления Кольбера в областях искусства, литературы и на-
уки.
2 Гобелены, о которых см. выше, с. 248.
323
изучения древних произведений. В области поэзии итоги под
этой выработкой правил подвел в своем «Поэтическом искус-
стве» (1674) придворвый поэт Буало, сомневавшийся, могут
ли быть несчастные при таком короле («L’univers sous ton regne
a-t-il des maeheureux»?) и советовавший приспособляться ко
вкусам «двора и города». Правила, подобно мануфактурным
регламентам, опутали всю деятельность художников. «Доктри-
на,— говорит новейший историк1,— получила силу ортодок-
сии. Будучи лишь одна преподаваема в школах Парижа и про-
винций, она опиралась на целую иерархию — первого худож-
ника, академий, суперинтендента зданий (министра изящных
искусств) и короля. Бунт против столь твердо установленного
порядка был немыслим... Во второй половине XVII в. остался
один только меценат, один вкус, одна художественная школа...
Все становилось учреждением».
Царствование Людовика XIV было золотым веком фран-
цузской литературы, но не его система создала это процвета-
ние. В 1661 г., когда самому королю шел только 23-й год,
Боссюэ было уже 34, Корнелю — 55, Мольеру и Лафонтену
лет по сорока и т. п. Зато главный литературный законода-
тель, Буало, был сверстником короля-мецената. При Людо-
вике XIV литература получила окончательно придворный и
классический характер,— ложноклассический, как стали го-
ворить ее немецкие критики в XVIII в. Из Франции лож-
ноклассицизм распространился по всей Европе. Это тоже
была своего рода регламентация производства, шедшая свы-
ше и приводившая повсеместно к вытравлению «народности»
из литературы, к забвению национального прошлого, к изо-
бражению в классических формах лишь того настоящего, ко-
торое было в официальном почете.
Абсолютная монархия в XVII в. сделалась и официальной
покровительницей науки, но главным образом в направлении
государственного утилитаризма. Кольбер и в этом отноше-
нии был типичным представителем системы,— черта, на ко-
торую мало обращают вообще внимания при рассмотрении
его деятельности. Научная работа шла своим путем, но госу-
дарство приходило к ней на помощь лишь тогда, когда от это-
1 Lavisse на с. 101 только что указанного труда.
324
го ждало для себя корысти. Например, исторические изыска-
ния поощрялись тем же Кольбером ради того, что из них
можно было извлечь пользу для политики — в установлении
разных антецедентов, в оправдании тех или других притяза-
ний короля, в выработке правил для внешней политики. Ко-
нечно, многое основывалось тогда во Франции и для вящей
славы государя, но особенно ценилась практическая польза
от науки с ее новыми открытиями и изобретениями, нужны-
ми в военном и морском деле, в обрабатывающей промыш-
ленности и т. п. Идейная сторона науки скорее даже беспо-
коила государственную власть, как беспокоила и власть цер-
ковную. Философия Декарта с ее духом сомнения и
исследования была запрещена во Франции, и, пожалуй, во
второй половине XVII в. нигде, кроме Испании, не была так
стеснена философская мысль, как во Франции, несмотря на
все покровительство, оказывавшееся королем представите-
лям науки. Этот недоверчиво-утилитарный взгляд на науку
абсолютная монархия сохраняла и впоследствии.
Об отношении абсолютизма к школьному делу можно и
не распространяться, так как народного образования, в
смысле организации низших школ, не существовало, а сред-
нее и высшее находилось в руках церкви и привилегирован-
ных корпораций, в которых господствовал дух неизменных
традиций, педантической рутины и,— когда к делу прилага-
ло свою руку протестантское государство,— канцелярского
бюрократизма. Любопытно, что до второй половины XVIII в.
среди бюрократических учреждений старой монархии не бы-
ло ведомства, сколько-нибудь похожего на Министерство на-
родного просвещения в современном государстве, как почти
не существовало в отдельных странах и общего школьного
законодательства. Высшие и средние школы содержались
своими собственными средствами, образовавшимися из по-
жертвований, отказов по духовным завещаниям и т. п., осо-
бенно в католических странах, где большую роль в деле об-
разования юношества играли иезуиты. Главным образом от-
мена этого ордена и заставила многие правительства
организовать по-новому школьное дело, эмансипировать его
из-под исключительной опеки церкви, подчинить его государ-
ственной власти со внесением в него, однако, того же духа
325
бюрократической опеки и регламентации, который в проте-
стантских странах был в достаточной мере развит и раньше.
Настоящее планомерное воздействие государства на народ-
ное просвещение начинается только в середине XVIII в., в
эпоху просвещенного абсолютизма. В этом отношении, на-
пример, замечательна деятельность в Португалии министра
Помбаля, изгнавшего иезуитов из этой страны (1758). Мы
остановимся, впрочем, лишь на истории школьного дела в
Пруссии и в Австрии.
В 1763 г. Фридрих II издал «Общий регламент о сельских
школах», где он жаловался, как на великое зло, на невеже-
ство деревенских жителей и предписывал, под страхом нака-
зания родителей, опекунов и помещиков, чтобы крестьян-
ские дети обязательно посещали начальную школу, но это
распоряжение не могло принести пользы, раз сама началь-
ная школа не была как следует организована. К чему могли
привести все подобные указы, когда на школу не отпуска-
лось денег или когда в учителя назначались, за невозможно-
стью уплачивать пенсии, солдаты-инвалиды, сделавшиеся бо-
лее непригодными к военной службе? Лучшая сторона отно-
шения Фридриха II к образованию заключалась в той
свободе научного исследования, которая была им предостав-
лена университету. Недаром по вступлении на престол он
возвратил кафедру Вольфу, изгнанному из университета его
отцом за вольнодумство. Впрочем, со времен Реформации в
протестантских государствах все-таки больше заботились о
просвещении народных масс и больше возлагалось в отноше-
нии к народному образованию обязанностей на государство,
чем в католических странах. То, что в Австрии стало делать
правительство, было уже настоящей для нее новостью, хотя
освобождение школы от духовенства сопровождалось ее бю-
рократизацией.
Еще Мария-Терезия начинала разделять тот принцип,
что школа должна быть, как выразилась сама императрица в
одной резолюции, «ein Politicum», т.е. делом государствен-
ным. Ею была учреждена смешанная из духовных и светских
лиц «придворная учебная комиссия» с подчиненными ей про-
винциальными комиссиями такого же состава,— один из
ранних примеров образования особого Министерства народ-
326
ного просвещения. При этом самоуправление австрийских
университетов было совершенно отменено. Во главе каждого
факультета правительство назначало своего директора, от-
нюдь не из профессоров, и ставило последних в полное ему
подчинение: директор определял размеры, содержание и на-
правление профессорских курсов и даже указывал на руко-
водства, от которых они не должны были отступать. Заведо-
вание университетским имуществом, доходами от которого
жили профессора, было у них отнято и поручено особым пра-
вительственным чиновникам, профессорам же назначено бы-
ло казенное содержание. Названные директора были подчи-
нены особому протектору, которого в 50-х гг. заменила упо-
мянутая выше «придворная учебная комиссия». Иезуиты,
занимавшие в большом количестве кафедры в австрийских
университетах, с трудом подчинялись новым правилам, но
против них были пущены в ход репрессивные меры, а когда
орден был уничтожен, то у правительства руки и совсем бы-
ли развязаны для осуществления реформы в высшей школе.
Для Иосифа II университеты были только рассадниками бу-
дущих чиновников. «Не нужно,— сказано было в одной вы-
сочайшей резолюции 1782 г.,— учить молодых людей ниче-
му такому, чем бы они могли только очень редко пользовать-
ся и применять, или же совсем не пользоваться и не
применять к благу государства (zum Besten des Staates), так
как существенные занятия в университетах должны служить
только для образования государственных чиновников (nurfur
die Bildung der Staatsbeamten), а не посвящаться просто для
приготовления ученых». Иосиф II нашел, что для целей вы-
сшего образования довольно будет трех университетов (в Ве-
не, во Львове и в Пеште), а остальные были превращены в
лицеи с сокращенным курсом. Наиболее общеобразователь-
ный, философский факультет был в своем значении прини-
жен до прежнего артистического, бывшего чем-то вроде
подготовительной школы к практическим факультетам1, а в
1 В средневековых университетах преподавались богословие, право и
медицина, к изучению которых подготовлял низший факультет, где препо-
давались «свободные искусства» (artes liberales), и лишь с течением време-
ни артистический факультет достиг равноправия с другими, как факультет
философский, распавшийся потом (не везде, впрочем) на историко-филоло-
гический и физико-математический.
327
последних было донельзя сокращено теоретическое препода-
вание, но зато для юристов введены были практические уп-
ражнения в канцелярской стилистике. Богословский факуль-
тет был даже прямо упразднен ввиду учреждения для духо-
венства генеральных семинарий.
В области среднего образования в Австрии при Марии-
Терезии тоже была подорвана монополия духовенства и
приступлено было к огосударствлению тогдашних гимназий,
или «латинских школ». В одном из неосуществленных,
впрочем, тогдашних проектов учебной реформы цель сред-
ней школы определялась как воспитание просвещенных,
годных и преданных отечеству христиан, причем «надзор за
воспитанием и образованием и руководство им во всей пол-
ноте и во всех частях должно было целиком и неуклонно
принять на себя государство», ради же этого все дело пред-
полагалось «отобрать из рук монахов, поручив его лицам
светским или из белого духовенства». Иосиф II нашел нуж-
ным поставить среднюю школу в непосредственную связь с
низшей, из которой можно было бы переходить в среднюю,
и с высшей, по отношению к которой сама средняя была бы
только подготовительной ступенью. Вместе с тем он издал
указ (1783) о закрытии всех частных и общественных школ,
не руководствующихся нормальными предписаниями: во
всех школах должно было царить полнейшее однообразие.
Дело начального народного образования впервые взято
было в Австрии в руки государства тоже при Марии-Тере-
зии. В 1774 г. был издан «Общий школьный устав», указы-
вавший на важность этого дела. В городах и селах основыва-
лись «тривиальные школы» (Trivial-Schulen), где учили чте-
нию, письму и счету, в более крупных центрах так
называемые «главные училища» (Haupt-Schulen), нечто вро-
де позднейших городских (бюргерских), в главных же горо-
дах провинций — «нормальные школы» (Normal-Schulen) для
приготовления учителей. В принципе признано было всеоб-
щее обучение, но в действительности его не было — за недо-
статком материальных средств и учителей. Преемник Ма-
рии-Терезии употребил особые усилия, чтобы осуществить
этот принцип всеобщего обязательного обучения, действуя
убеждением (например, в обязательных церковных пропове-
328
дях) и принуждением: неграмотные ограничивались в своих
правах; родители, не посылавшие детей в школу, платили
штраф или приговаривались к работе* при постройке или ре-
монте школьных домов и т. п.
Подчиняя себе искусство, литературу, науку и школу, аб-
солютизм, конечно, не мог оставаться равнодушным к распро-
странению опасных и вредных мыслей. В Средние века борьба
с ними в виде преследования ересей принадлежала главным
образом церкви, но в Новое время эту функцию стало охотно
исполнять и государство. Во Франции высший надзор за про-
изведениями печати был сосредоточен на богословском фа-
культете Парижского университета и в парламентах, но госу-
дарство не довольствовалось этим, и с середины XVII в. стала
практиковаться и чисто полицейская цензура, подобно тому,
как установили ее у себя протестантские государства. Извест-
но, сколько книг было сожжено во Франции рукой палача в
XVIII ст., книг, конечно, нового, оппозиционного направления.
В Испании, где инквизиция сделалась судом и по политиче-
ским делам, ей тоже принадлежало право цензуры. В некото-
рых государствах даже распространился взгляд, в силу которо-
го право на само опубликование того или другого сочинения
дается королем, как особая привилегия, почему и теперь еще
на очень многих книгах, изданных во Франции в XVIII в., мы
находим отметку: «avec le privilege du Roi». Специальные орга-
ны для надзора за печатью могли быть дурно организованы, но
принцип был тот, чтобы ничего не могло печататься без одоб-
рения властей. Только в эпоху просвещенного абсолютизма
началось несколько менее недоверчивое отношение прави-
тельств к печатному слову. Особенно в этом отношении инте-
ресен опыт облегчения цензурных строгостей, сделанный в Ав-
стрии во второй половине XVII в. Некоторая перемена заметна
уже в распоряжениях Марии-Терезии, когда правительство
впервые стало разрешать к обращению в публике кое-какие за-
прещавшиеся духовными властями книги и когда в цензурный
комитет введено было равное духовному составу число свет-
ских членов. С другой стороны, это обозначало, что и цензуру
в Австрии государство было не прочь взять у церкви в свои ру-
ки, кроме специально духовной цензуры. Более действитель-
ные облегчения сделаны были при Иосифе II, не так строго,
329
как прежде, относившемся ко ввозу иностранных книг для ча-
стного употребления (не для продажи) и разрешившем подвер-
гать обсуждению, в прилично-критическом, а не в пасквиль-
ном тоне, не только опубликованные мероприятия правитель-
ства, но и действия самого государя. По отношению к папству,
монашеству и злоупореблениям духовенства тоже допущена
была известная свобода, но в остальном цензура была по-
прежнему строга, произвольна и придирчива. Сам Иосиф II
признал это в апрельском распоряжении 1789 г. (всего за три
недели до собрания во Франции Генеральных штатов), отме-
нявшем предварительную цензуру, но не прошло и года, как
она была восстановлена, потому что император нашел, что
свободой печати стали слишком злоупотреблять. Правительст-
во стояло при этом на той точке зрения, что «при других об-
стоятельствах и в стране, не подчиненной монархическому уп-
равлению, как, например, в Англии, неограниченная свобода
печати по вопросам светским» и может быть признана благо-
детельной, но «в монархическом государстве, особенно при
смутных обстоятельствах, весьма опасно подвергать законода-
тельство критике какого-нибудь неосторожного писателя»1.
Рассмотрев отношение абсолютизма XVI—XVIII вв. к раз-
ным сторонам национальной жизни, познакомимся теперь с
его идеологией, а кстати и с идеологией сословности, кото-
рая в «старом порядке» сочеталась с абсолютизмом в одну
общую систему привилегий.
1 Слова в кавычках из одного официального доклада 1790 г., приведен-
ного в книге Митрофанова об Иосифе II, с. 751.
330
Глава XVIII
ТЕОРЕТИКИ АБСОЛЮТИЗМА И СОСЛОВНОСТИ1
Политическая литература после Макиавелли — «Ре-
спублика» Жана Бодена — Роль Ришелье в развитии идей
абсолютизма.— Г осударственные принципы Людови-
ка XIV.— Политика, извлеченная из «Священного Писа-
ния» Боссюэ и «Патриарх» Фильмера.— Политическое
учение Гоббса.— Теории абсолютизма в Германии.— Тео-
рия общего блага и государственной необходимости.—
Примирение абсолютизма с естественным правом.— За-
щита сословности у Монтескье.— Средневековый со-
словный строй во взглядах Штейна.— Литературные
оправдания крепостничества.— Признавали ли теоре-
тики абсолютизма право государственной власти осво-
бодить крепостных? — Реакционные писатели XIX в.
В предыдущей главе мы видели, как абсолютизм относил-
ся вообще к современной ему духовной культуре, и в частно-
сти к литературе, которая, как и все, т.е. наравне с чиновни-
чеством и войском, с промышленностью и торговлей, с рели-
гией и национальным просвещением, должна была служить
вящему укреплению государственной власти и прославле-
нию абсолютизма. В особенности монархическая публици-
стика должна была внедрять в умы идеи о божественном
происхождении и высокой общественной полезности коро-
левского абсолютизма, о внутренней правде неограниченной
власти и безусловной необходимости полного повиновения
ее велениям, о том, что абсолютная монархия есть самая со-
вершенная и вместе с тем самая естественная форма правле-
ния. Правители этой эпохи не только находили людей, кото-
рые по их заказу готовы были составлять на такие темы це-
лые трактаты, но и сами, в лице по крайней мере некоторых
наиболее видных своих представителей, Ришелье, Людови-
ка XIV, Фридриха II, писали на эти темы, и само общество,
убежденное в том, что иначе и не может быть ничего путно-
1 В этой главе соединен и кое-чем дополнен материал, разбросанный
по разным местам II, III, IV и V томов «Истории Западной Европы в Новое
время», где он является приуроченным к отдельным эпохам или историче-
ским явлениям.
331
го в управлении государством, выставляло из своей среды
писателей, которые без всякого вызова со стороны прави-
тельства защищали главные тезисы абсолютизма, примиряли
его с «естественным правом» тогдашней философии, а в
XVIII в. возводили даже на степень единственной правомер-
ной силы, способной осуществить прогрессивные требования
просветительной философии1.
По теории Бодена, автора книги о «Республике» в смысле
государства вообще (1576), государства произошли путем на-
сильственного покорения одних людей другими (а не от добро-
вольного соглашения, как учили в XVII и XVIII вв.), в силу че-
го существенным признаком гражданина он считал подчине-
ние верховной власти, а не участие в совете и суде, как
определял гражданина Аристотель2, под верховной же властью
Боден разумел постоянную и неограниченную власть государ-
ства. «Суверенитет,— писал он,— есть абсолютная и непре-
рывная (perpetuelle) власть (puissance) государства (repub-
lique), каковую латинские писатели называют majestas3». По
учению Бодена, эта власть постоянна или непрерывна лишь
тогда, когда перенесена на известное лицо всецело, на неопре-
деленный срок — и именно лишь в том случае может быть на-
звана верховной, когда передается без всяких условий, так что
по существу своему эта власть есть право издавать и отменять
законы, и в силу этого ее носитель не может себя связывать
какими бы то ни было обещаниями. «Закон,— говорит Бо-
ден,— зависит от того, кто обладает суверенитетом, который
может (по отношению к ним) обязать всех своих подданных и
не может обязать самого себя. Нужно, чтобы суверенный госу-
дарь (prince souverain) держал законы в своей власти, дабы их
изменять и исправлять по мере надобности (selon Госсигепсе
des cas). Государь столь же мало может быть стеснен общена-
родным правом4, как и своими собственными эдиктами, и если
1 О теории просвещенного абсолютизма см. в следующей (XIX) главе.
2 Государство-город. С. 124 и след.
3 О значении термина см.: Монархии. С. 234—235.
4 Я так перевожу «droit des gens» текста, т.е. в смысле римского «jus
gentium», т.е. созданного юристами права всех народов (см.: Монархии.
С. 294), а не в смысле «международного права», в каковом «droit des gens»
употребляется в теперешнем французском языке: смысл всей фразы за та-
кой перевод.
332
это право несправедливо, государь может его отменить в сво-
ем королевстве и запретить своим подданным им пользовать-
ся». Таким образом, Боден всецело стоит на точке зрения пра-
вила «quod principi placuit». Если бы, по его словам, государь
был обязан соблюдать законы, которые исходят от народа, а не
от него самого, то верховная власть принадлежала бы народу.
«Королевские права,— говорит Боден,— не могут быть пред-
метом уступки (incessibles), они неотчуждаемы и не подлежат
никакой давности, и если бы суверенный государь уступил их
своему подданному, он превратил бы своего слугу в своего то-
варища (compagnon), сделав это, он уже не был бы более суве-
реном, ибо имя суверена, т.е. того, кто находится над всеми
подданными (celui gui est par dessus tous les subjects), уже не
подходило бы к тому, кто из своего подданного сделал своего
товарища».
Далее, по учению Бодена, и Генеральные штаты равным
образом не могут ограничивать власти короля: все их значение
в совете, в принесении жалоб, в раскрывании злоупотребле-
ний, ибо в законодательном праве без чьего бы то ни было со-
гласия, по Бодену, и заключается основа всех других прав вер-
ховной власти: с точки зрения единства и неделимости сувере-
нитета, он отрицал какие бы то ни было смешанные формы,
признавая только чистые. Если он отдавал предпочтение мо-
нархии перед демократией и аристократией, то главным обра-
зом потому, что лишь при единовластии суверенитет действи-
тельно един. Народ — многоголовый и неразумный зверь,
вельможи же, не имея над собой высшего судьи, решают свои
распри оружием, да и трудно им держаться против народа, их
ненавидящего (не забудем, что Боден был современником фео-
дальной реакции во время религиозных войн). Из монархий он
отдавал преимущество наследственной, соответствующей не-
прерывности суверенитета. Различая между законной монар-
хией и тиранией1, он, однако, рекомендовал лишь с большой
осторожностью применять это различение в жизни, потому
что государь нередко бывает вынужден действовать так, что
1 Об этом различении у писателей древности и новой Европы см.: Го-
сударство-город. С. 108; Монархии. С. 142, 258 и след., 376; Поместье-го-
сударство. С. 216.
333
его поступки имеют вид тиранических: строгость еще не есть
тирания, а строгость всегда диктуется против насильственно-
сти вельмож и для восстановления нарушенного спокойствия
государства. В демократиях и в аристократиях правители де-
лятся на партии, монарх же может и должен стоять выше пар-
тий, между прочим и в вероисповедных вопросах, где для спо-
койствия государства нужна веротерпимость. Равным обра-
зом, Боден рекомендовал государю стоять и выше отдельных
сословий: в монархии, по его представлению, происходит соче-
тание демократической правды, уравновешивающей, и ари-
стократической правды, распределяющей. Стоящие под монар-
хом, как представителем государственного единства, три со-
словия могут только умерять, но не ограничивать его власть.
И при всем том, как известно1, в вопросе о податном об-
ложении Боден стоял на точке зрения сословной монархии:
именно, он рассматривал налоги как отдаваемую государст-
ву часть имущественного достояния подданных, брать кото-
рую без их согласия значило бы похищать то, что им при-
надлежит,— точка зрения, которой уже совсем не разделя-
ют позднейшие теоретики абсолютизма.
Взгляды Бодена оказали сильное влияние на последую-
щую политическую литературу и во Франции, и в Германии2.
Из французских писателей, отразивших на себе влияние Бо-
дена, можно назвать Лебре, автора трактата о верховной
власти короля (De la souverainete du roi, 1632), написанного
не без внушения со стороны Ришелье. Лебре был одним из
помощников кардинала, и в книге его заключались все те
взгляды на королевскую власть, которую впоследствии раз-
вивал Людовик XIV. И самому Ришелье, после которого во-
обще осталось некоторое литературное наследство, приписы-
вается, между прочим, «Политическое завещание», подлин-
ности, впрочем, довольно спорной. Если это даже и
1 Поместье-государство. С. 217.
2 Так как впервые у Бодена понятие суверенитета получает ясную и
юридическую формулировку (обстоятельство для настоящей книги, впро-
чем, второстепенное), то в общих историях политических учений ему обык-
новенно отводится очень почетное место. Одним из последних писал о нем
в русской литературе Н. И. Палиенко в книге «Суверенитет. Историческое
развитие идеи о суверенитете и ее правовое значение» (Ярославль, 1903),
с. 80—93.
334
подделка, изложенные в ней политические взгляды, действи-
тельно, соответствуют всему характеру деятельности вели-
кого государственника и с этой точки зрения заслуживают
быть приведенными. «Для правительства,— говорится в до-
кументе,— прежде всего необходимо безусловное повинове-
ние всех. Для этого оно само должно иметь твердую волю в
исполнении того, что оно считает справедливым, никогда не
должно колебаться в исполнении своих намерений и строго
наказывать тех, которые оказываются ослушниками. Необхо-
димо, чтобы государственная цель всегда, во всяком случае
стояла впереди всех других соображений... Относительно го-
сударственных преступлений надо оставлять в стороне вся-
кое сострадание и пренебрегать жалобами участников и ро-
потом невежественной толпы, которая не знает, что ей по-
лезно и необходимо. Обязанность христианина — забывать
личные оскорбления, обязанность государства — никогда не
забывать оскорблений, наносимых государству». Подчиняя
государя в духовных делах папе, автор «Политического заве-
щания» требует, чтобы государство не позволяло папе вме-
шиваться в светские дела. «Следует,— читаем мы еще,— ох-
ранять имения дворянства и облегчать приобретение новых,
чтобы оно могло служить государству на войне: это — его
главная обязанность, ибо дворянство, которое не готово идти
на войну по первому призыву государства, есть роскошь и
бремя для государства и не заслуживает тех прав и преиму-
ществ, которые отличают его от народа. Народ должен быть
содержим в покорности. Подати служат к тому, чтобы ему
не было слишком хорошо, дабы он не перешел границы сво-
их обязанностей»1. Выше нами уже приводился взгляд Ри-
шелье на занятие науками, которое он в некоторых отноше-
ниях считал вредным для государства: «Усиленное занятие
науками может повредить торговле, обогащающей государст-
во, и земледелию, питающему народы, а также произвести
опустошение в рядах солдат, которым более приличествует
грубое невежество, чем тонкость знания»2. Итак, государст-
во на первом плане, государство самодовлеющее, выше всего
стоящее, всемогущее, непогрешимое: оно — все, и все для
1 Ср. аргументы в пользу низкой заработной платы в том же XVII в.
См. выше, с. 239.
2 См. выше, с. 321.
335
него, начиная с сословных привилегии, как награды за служ-
бу государству, и кончая налогами, обуздывающими своево-
лие народа, как в интересах этого государства было и то,
чтобы народу не было слишком хорошо, и то, чтобы солдаты
сохранялись в грубом невежестве.
Особенно интересны общие политические воззрения в ду-
хе крайнего абсолютизма, которые были высказаны Людови-
ком XIV, сумевшим проводить их и на практике во всей их чи-
стоте.
«Франция,— писал, например, этот король1,— есть монар-
хия: король представляет в ней всю нацию, и пред королем
каждый — только частный человек. Поэтому вся власть, вся
сила сосредоточена в руках короля, и в королевстве не может
существовать иной власти, кроме той, которая установлена
им... Будьте господином,— советует он своему сыну,— выслу-
шивайте своих советников, но решайте сами. Бог, поставив-
ший вас королем, просветит ваш ум в необходимых случаях,
раз намерения ваши будут хороши... В государстве, в котором
вы должны после меня царствовать,— писал он еще,— вы не
найдете власти, которая не гордилась бы тем, что от вас она
истекает и лишь потому имеет значение». Совершенно в духе
этих заявлений в руководстве государственного права, состав-
ленном по повелению Людовика XIV для его внука, бывшего
тоже наследником престола, было сказано: «Во Франции на-
ция не составляет тела (ne fait pas corps); она целиком содер-
жится (reside tout entiere) в особе короля».— «Без власти,—
был уверен Людовик XIV,— человек, по природе властолюби- * В
1 Цитируемые заявления Людовика XIV находятся в издании «Oeuvres
de Louis XIV», выпущенном около ста лет тому назад (1806) Грувеллем
(Grouvelle). В основе издания лежат бумаги генерала Гримоара (Grimoard),
собравшего отдельные фрагменты, приписываемые самому Людовику XIV.
В этом издании есть и этюд о подлинности рукописи, причем указывается
на участие в редактировании «Исторических и военных мемуаров» Людови-
ка XIV Пеллиссона, заведовавшего казной обращений (в католицизм) и
бывшего секретарем короля — должность, которую раньше занимал Пе-
риньи, наставник дофина, тоже приложивший руку к работе, как установ-
лено Dreyss’oM в его издании «Memoires de Louis XIV» (1860). Этими «со-
чинениями» Людовика XIV уже давно пользуются историки, а не так давно
они были положены в основу работы Hitier, на которую уже выше делались
ссылки (ср. прил.).
336
вый и надменный, сделался бы жертвой более сильного и не
нашел бы больше в мире ни справедливости, ни удовлетворе-
ния, ни защиты тому, чем он владеет, ни помощи в потере, и
отсюда происходит любовь к послушанию, поскольку человек
любит собственную жизнь и имущество».
Людовик XIV был принципиальным противником предста-
вительных собраний, ибо видел в каждом из них только собра-
ние черни, прибавляя, что «порабощение, заставляющее госу-
даря подчиняться закону своих подданных, есть самое послед-
нее бедствие, какому только может подвергнуться человек
королевского звания»1. Мало того, и советники короля долж-
ны были знать свое место. «В моих видах,— признавался
он,— не было брать в министры выдающихся по своему обще-
ственному положению людей (des hommes d’une qualite
eminente), ибо первым делом нужно было дать понять публике
по самому званию, из которых я их брал, что моим намерением
отнюдь не было делиться с ними властью». Только раболепные
царедворцы подходили под те требования, какие Людовик XIV
предъявлял к людям: по его мнению, король «для безопасности
государства нигде не должен искать прибежища, кроме двора
и сердца своего старшего сына». Старые судебные парламенты
тоже были ненавистны Людовику XIV, который по поводу их
политики писал, что для них «король двора (le roi de la cour)
был чем-то иным, чем король парламента» (le roi du parle-
ment), в силу их «фальшивого представления (fausse imagina-
tion) о каком-то воображаемом интересе народа, противопо-
ложном интересу государя и принимавшемся ими под свою за-
щиту без всякого внимания к тому, что это один и тот же
интерес» (ces deux interets ne sont qu’un). Людовик XIV думал,
что «как бы дурен ни был государь, бунт его подданных всегда
1 Отвращение Людовика XIV к Генеральным штатам продиктовало ему
еще следующие слова против, как он выражается, «un peuple assemble»:
«Чем больше вы ему даете, тем больше он от вас требует; чем более вы к
нему благосклонны (plus vous le caressez), тем более он вас презирает, и
раз он чем-нибудь овладеет, то уже держит таким множеством рук, что без
величайшего напряжения сил этого у него не вырвешь; поэтому государь,
желающий создать прочное спокойствие для своих подданных (a ses peu-
ples) и передать в полной неприкосновенности свой сан преемникам, дол-
жен с величайшей заботой подавлять эту мятежную дерзость» (ne saurait
trop soigneusement reprimer cette audace tumultueuse).
337
бесконечно преступен». Данный Богом закон повиновения, по
его словам, существует «не ради одних государей, но и на
пользу народов», которые «не могут никогда их нарушать, не
подвергая себя при этом бедствиям, гораздо более ужасным,
нежели те, от коих они хотели бы себя избавить. Спокойствие
подданных — только в их повиновении: всегда для общества
(le public) больше зла в контроле, чем в перенесении даже дур-
ного правления королей, над которыми один Бог — судья. Ес-
ли иногда, по-видимому, они и поступают против общего зако-
на (centre la loi commune), то это основывается на государст-
венном интересе (la raison d’etat), первом из законов, как все в
том согласны, но самом неизвестном и наиболее непонятном
тем, которые не управляют».— «Должность суверена (1’emploi
du souverain),— говорит еще Людовик XIV,— может отправ-
ляться лишь самим же сувереном». Есть, несомненно, собст-
венноручный, как утверждают, отрывок Людовика XIV с ха-
рактерным заглавием «Размышления о ремесле короля», где
говорится о необходимости для короля везде вникать самому.
«Я решил,— писал он также в своих мемуарах,— прежде все-
го не заводить первого министра, потому что нет ничего более
недостойного, как видеть на одной стороне всю работу (toute
la fonction), а на другой лишь один титул короля». Король-сол-
нце был, действительно, до самой своей смерти большим ра-
ботником, так как ежедневно председательствовал в разных
советах и занимался с отдельными Государственными секрета-
рями, особенно с генерал-контролером. «Король один управля-
ет,— писал о Людовике XIV венецианский посланник в
1674 г.,— и его власть абсолютна. Ни фаворитов, которые его
отвлекали бы от выполнения своей задачи, ни братьев или
принцев крови, с которыми он делил бы власть и участие в Го-
сударственном совете, ни штатов или парламентов, которые
сопротивлялись бы исполнению королевских решений: все ды-
шит одним и тем же подчинением».
Для Людовика XIV, как сам он признавался, увеличение
владений было «самым приятным, самым достойным из за-
нятий, существующих для государя. Трудно,— писал он,—
удерживать возвышенное сердце: оно вполне может насы-
титься только славой. Я,— говорит он еще,— всегда пользо-
вался своими удачами и своим благоразумием, чтобы
338
извлекать для себя выгоду из всех представлявшихся мне
случаев увеличивать свое государство на счет моих врагов.
Я весьма рад, что справедливость открыла мне двери славы
и дала мне случай показать всей земле, что на свете есть
еще король».— «Нашим первым предметом,— писал он так-
же,— должно быть сохранение нашей славы и нашей вла-
сти» (autorite).
Все эти заявления вполне соответствуют легендарному
«I’etat c’est moi» и вполне же оправдывают ту характеристи-
ку, которую сделал его миросозерцанию Жюрье в своих зна-
менитых «Вздохах порабощенной Франции» (1691). «Иногда
говорят,— писал он,— о нуждах и потребностях государст-
ва; во Франции, не в пример прочим (rien de semblable), нет
ни нужд, ни потребностей, да нет совсем и государства
(point d’etat). Когда-то государство было всюду, только и го-
ворили, что об интересах государства, о нуждах государст-
ва, о сохранении государства, о службе государству. В на-
стоящее время так говорить значило бы буквально совер-
шать оскорбление величества. Король занял место
государства: теперь это — служба королю, интерес короля,
сохранение провинций и имений короля; словом, король —
все, а государство — ничто, и это не слова и термины толь-
ко, но действительные вещи (realites): при дворе Франции
не знают иного интереса, кроме личного интереса короля;
это — идол, которому все приносится в жертву».— «Король
Франции,— писал еще Жюрье,— не считает себя связан-
ным каким-либо законом; его воля служит законом и усмот-
рения (bon plaisir), и права; он уверен, что обязан отчетом
во своих поступках только одному Богу; он убеждает себя в
том, что он безусловный господин над жизнью, свободою,
имуществами, религией, совестью своих подданных,— пра-
вило, которое заставляет нас содрогаться и приводит в
ужас... Держать в своих руках жизнь людей, отнимать ее
вне всяких форм правосудия, похищать их достояние и де-
латься его хозяином, пользоваться над свободными лично-
стями безграничной властью (empire sans borne) и обращать
их в рабство — каждый содрогнется перед такой идеей!
Христианские короли не могут с ней примириться и, чтобы
найти примеры такой власти, находят нужным выйти за
339
пределы христианского мира (christianisme) и направиться к
туркам, персам, татарам и монголам; но я вас прошу, бес-
пристрастно и ничего не преувеличивая, примите в расчет
то, что я вам доказал о власти королей Франции и об их
способе пользования ею, и скажите, существует ли какая-
либо существенная разница между французским владычест-
вом и владычеством турецкого султана».
Одно мнение Людовика XIV вполне приближало его к
азиатскому деспотизму. «Короли,— говорит он в своих запи-
сках,— суть абсолютные господа и естественно имеют пол-
ное право свободно распоряжаться всеми имуществами, на-
ходящимися во владении как духовных, так и светских лиц,
чтобы употреблять их во всякое время, подобно тому, как
это делают умные хозяева, т.е. сообразно с общими нуждами
их государства. Все, что находится в пределах их государств,
к какому бы разряду вещей это ни относилось, принадлежит
им на этом основании: и деньги, находящиеся в их казне, и
те, какие имеются в руках их казначеев, и те, которые они
оставляют в обороте своих подданных». Когда на этот самый
принцип сослался один французский сановник в разговоре с
английским дипломатом, доказывая, что французский король
неизмеримо богаче английского, то получил в ответ такие
слова: «Неужели вы учились государственному праву в Тур-
ции?»1
В довершение всего Людовик XIV недалек был и от обо-
жествления своей власти. «Тот,— писал он,— кто дал коро-
1 В книге Hitier «La doctrine de 1’absolutisme» есть отдел (с. 205—215),
посвященный «отрицанию права собственности» абсолютной королевской
властью во Франции. Юристы доказывали, что королю принадлежит
dominium directum (об этом понятии феодального права см.: Поместье-госу-
дарство. С. 49—50). По отношению ко всем землям, не исключая и алодов,
бывших изъятыми из правила: «nulle terre sans seigneur» (ср.: Поместье-го-
сударство. С. 81). Право короля на получение поземельного налога выводи-
лось из этой «directe universelie royale»: король, по этой теории, брал, в
сущности, то, что ему принадлежало. Соответственные девизы были:
«omnia sunt principis» и «omnia sunt regis». По словам упоминавшегося вы-
ше Жюрье (Soupirs de la France esclave), при Кольбере ставился вопрос, не
превратить ли всю поземельную собственность во Франции в королевский
домен, части которого отдавались бы в аренду, «кому заблагорассудит двор,
без внимания к давности владения или наследственным и всяким другим
правам». Ср. выше, начало гл. XII.
340
лей людям, желает, чтобы нас почитали как его наместни-
ков, себе одному предоставляя судить их поведение. Воля
Божия в том, чтобы тот, кто родился подданным, был в бес-
прекословном повиновении. В христианстве,— прибавляет
он,— нет правила прочнее установленного, как смиренное
подчинение властям предержащим».— «Есть некоторые слу-
чаи,— рассуждал еще Людовик XIV,— когда мы, так ска-
зать, заступая место Бога, как бы разделяем вместе с ним
всеведение и всемогущество, как, например, в распознава-
нии умов, в распределении должностей и в раздаче мило-
стей. Не благие советы, не искусные советники делают ко-
ролей мудрыми; напротив, мудрость короля сама создает хо-
роших министров и производит все полезные советы,
которые ему подаются».
Вообще взгляд на власть как на божественное поручение
красной нитью проходит через целый ряд политических трак-
татов эпохи. Уже Боден писал, что «на земле нет ничего бо-
лее высокого после Бога, как суверенные государи», которые
«им установлены в качестве его наместников (lieutenants)
для того, чтобы управлять людьми», и что если «кто оказы-
вает неуважение своему суверенному государю, тот оказыва-
ет неуважение самому Богу, образом которого (суверенный
государь) является на земле». Особенно эту идею проводил
в своей «Политике, извлеченной из Священного Писания»,
известный сподвижник Людовика XIV, епископ города Мо,
Боссюэ.
«Всякая власть (puissance),— писал Боссюэ,— происхо-
дит от Бога. Поэтому государи действуют как Божии мини-
стры и заместители (lieutenants) Бога на земле. Через них
Бог и проявляет свою власть (empire). Поэтому королев-
ский трон не есть трон человека, но престол (trone) самого
Бога. Особа королей священна, и посягательство на нее
есть святотатство (sacrilege). Они освящены (sacres) самой
своей должностью как представители божественного вели-
чества (majeste divine), посланные Провидением для испол-
нения его предначертаний. В силу этого почитание, оказы-
ваемое государю, имеет некоторым образом религиозный ха-
рактер (il у a quelque chose de religieux dans le respect qu’on
rend au prince). Служение Богу и почитание королей — ве-
341
щи между собой близкие (sont choses unies), ибо Бог вло-
жил в государей нечто божественное (quelque close de
divin). Следует повиноваться государям, как самой справед-
ливости, без чего не может быть ни складу, ни ладу (point
d’ordre ni de fin) в делах. Они — боги и некоторым образом
участвуют в божественной независимости. Только один Бог
может судить их приговоры и их самих. Единственно лишь
государю принадлежит законное повелевание (le commende-
ment legitime) и только одному ему принадлежит также си-
ла принуждения (la force coactive). Ему одному приличест-
вует общая забота о народе; это — первый член (article) и
основа других, а потому нет власти, которая не зависела бы
от его власти, не может быть никаких собраний, как по его
воле (auto rite), и таким образом всю силу государства для
его же блага соединяют в одном. Величество (la majeste)
есть образ Божия величия (la grandeur) в государе. Бог бес-
конечен, Бог есть все. Государь, как таковой, не может
быть приравниваем к частному лицу; это — общественная
особа: все государство в нем, воля целого народа заключа-
ется в его воле. Как в Боге соединены всякое совершенство
и всякая добродетель, так вся мощь (puissance) частных лиц
соединена в особе государя. Короли заступают место Бога,
который есть истинный отец человеческого рода, а потому
королей создали по образцу отцов, и имя (название) короля
есть имя (название) отца. Те, которые думают служить го-
сударству как-то помимо служения и повиновения госуда-
рю, присваивают себе часть королевской власти. Уважение,
верность и послушание, которыми люди обязаны по отноше-
нию к королям, не могут быть изменяемы ни под каким
предлогом: государству грозит опасность, и общественное
спокойствие утрачивает всякую прочность, раз будет дозво-
лено ради чего бы то ни было противиться государям. Свя-
тое помазание почиет на них, и высокое служение
(ministere), которое они отправляют во имя Бога, охраняет
их от всякого дерзновения. Так как королевскому достоин-
ству присуща известная святость (une saintete inherente а
caractere royal), которая не может быть стерта с него ника-
ким даже преступлением, само общественное благо требует,
чтобы государь не был предметом презрения. Явное нече-
342
стие и даже преследования не исключают обязанности под-
данных повиноваться государям. Против насилий со сторо-
ны государей у подданных есть только почтительные пред-
ставления без дерзости (mutinerie) и ропота, да молитвы об
их обращении на путь истинный».
Во второй половине XVII в. и в Англии явился писатель,
отстаивавший божественность учреждения королевской вла-
сти. Здесь еще со Средних веков господствовала теория ог-
раниченной монархии на договорном начале1, а в эпоху вели-
кого столкновения между абсолютизмом и народными права-
ми, которое называется первой Английской революцией,
возникла целая политическая литература, проповедовавшая
разделение властей и народовластие2. Когда после кратко-
временного существования республики в стране снова водво-
рилась традиционная монархия, и последняя, несмотря на
урок, данный ей в сороковых годах XVII в., все-таки продол-
жала политику абсолютизма, между политическими людьми
страны произошло разделение по вопросу, могут ли поддан-
ные распоряжаться короной государства или она зависит
всецело от милости божией. Карл II не имел законных детей,
и ему должен был наследовать его брат, герцог Йоркский
(впоследствии Яков II), но он был католик, т.е. принадлежал
к вероисповеданию, представители которого не могли зани-
мать в Англии никаких должностей: вот в парламенте и об-
разовалась партия, предлагавшая исключить герцога Йорк-
ского из права наследовать корону (эксклюзионисты). Тогда
оксфордские богословы стали опровергать учение этой пар-
тии о существовании между государем и народом договора,
при нарушении которого государем народ может отказать
ему в повиновении, и выдвинули тезис о правах короля на
корону, как о даре самого Бога. Это было в семидесятых и
восьмидесятых годах XVII в.3, и к этому же времени в связи
с указанным вопросом относится возникновение партий тори
1 Поместье-государство. Гл. XVIII.
2 Народно-правовое государство. С. 86 и след.
3 Акт о присяге, исключавший католиков из права занимать должно-
сти, был издан в 1673 г., вопрос об устранении герцога Йоркского поднят
в 1679 г., осуждение учения о. договорном происхождении королевской вла-
сти было торжественно провозглашено в 1683 г.
343
и вигов, из которых первая стояла за божественное право,
вторая — за договор. Уже раньше французский ученый Со-
мез (в латинизированной форме Салмазий) в своей «Защите
Карла I», ссылаясь на Библию, доказывал, что королевская
власть имеет божественное происхождение, и это вызвало
одно из полемических сочинений Мильтона, стоявшего за
идею народовластия, а в 1680 г., в самый разгар спора об ус-
транении герцога Йоркского, вышла в свет книга, написан-
ная еще в эпоху республики, т.е. по крайней мере лет за
двадцать перед тем, но как нельзя более соответствовавшая
моменту. Автором книги был некто Фильмер, называлась же
она «Патриарх, или естественная власть королей». Это —
богословский трактат о богоустановленности королевского
сана. По теории Фильмера,— которому потом возражали
Альджернон Сидней и Локк,— Бог еще в раю дал Адаму
власть над Евой, а потом и над их детьми; затем эта власть
переходила от старшего сына к старшему же сыну, но когда
возникло много народов, она стала принадлежать в каждом
народе старшему в нем, т.е. патриарху: короли и суть истин-
ные преемники патриархов, и им принадлежат все права от-
цов над их детьми. Избрание королей поэтому Фильмер счи-
тал противным воле Божией: ведь и в Библии первого еврей-
ского царя Саула выбирает не народ, а пророк господень,
Самуил. Практический вывод был тот, что власть, имеющая
такое происхождение, не может подчиняться человеческим
законам и, следовательно, не подлежит никакому ограниче-
нию, даже в том случае, если бы сам король дал клятву со-
блюдать какие-либо условия. Фильмер не отрицал парламен-
та, но допускал его существование лишь в виде уступки, обя-
занной своим происхождением исключительно королевской
милости.
Совсем в круг иных идей вводит нас в той же середине
XVII в. политическое учение Гоббса, в сочинениях которого
«О гражданине» (1642) и «Левиафан» (1651) дана самая
крайняя теория абсолютной власти, но уже без всякой тео-
логической окраски1.
1 По вопросу о происхождении теории божественного права см. выше,
в гл. III.
344
Гоббс1 смотрел на человеческую природу как на эгоистиче-
скую по существу: в естественном состоянии «человек для че-
ловека волк» (homo homini lupus), откуда естественное состоя-
ние есть «война всех против всех» (bellum omnium contra
omnes). Это, однако, противоречит инстинкту самосохране-
ния, а потому, ища мира, люди отказываются от своего права
на все, перенося его на государство, которое возникает путем
договора, создающего общее единение как бы с единой волей.
«Государство,— говорит Гоббс,— есть единое лицо (civitas est
persona una), воля которого в силу обязательств многих лиц
должна считаться волей всех, вследствие чего оно может поль-
зоваться силами и способностями отдельных людей для обще-
го мира и защиты». Лицо или учреждение (собрание), воле ко-
торого подчиняются люди, обладает верховной властью, права
же ее везде одинаковы, какие различия ни существовали бы
между государствами: она выше законов, безответственна и
безнаказанна, безгранична или абсолютна. Она, по учению
Гоббса, должна быть едина, а потому смешанному правлению
не должно быть места, равно как и разделению властей (о ко-
тором уже говорилось в эпоху первой Английской революции),
так как разделение властей ведет к безначалию. С этой точки
зрения лучшая форма правления — монархия, ибо в ней еди-
ное лицо (король) является как бы воплощением самого наро-
да. Все свои права подданные получают от государства, по от-
ношению к которому у них самих не может быть никаких
прав. Лишь государство создает право собственности, так как
в естественном состоянии собственности нет, раз у каждого
каждый может все отнять, но если собственность является ус-
тановлением государства, то последнее может ее и отнимать.
Далее, в естественном состоянии люди могут еще иметь собст-
венное суждение о добре и зле, но в государственном быту
правила добра и зла определяются законом, подданные же не
должны воображать, будто они имеют право по-своему рас-
суждать об этих вещах. Они никогда не совершат греха, если
только будут исполнять веления власти, ибо кто сочтет испол-
нение одного из таких велений грехом, тот, значит, присвоит
1 В 1907 г. вышел посмертный труд В. Г. Камбурова «Идея государства
у Гоббса».
345
себе не принадлежащее ему право судить о добре и зле. Госу-
дарство является у Гоббса и единственным правомерным ис-
толкователем естественного закона, в котором проявляется
воля Божия, и то же самое относится и к откровенной рели-
гии: если предоставить право ее толковать каждому верующе-
му, выйдет одна анархия, а потому следует предоставить это
право церкви, но и сама церковь отнюдь не должна обладать
независимой верховной властью, потому что иначе в обществе
было бы два государства, что равным образом было бы равно-
сильно анархии: вывод — тот, что и в данной области компе-
тентно лишь одно государство.
Вот остов всего политического учения Гоббса. В этом
учении государство становится настоящим Левиафаном, гро-
мадным чудовищем1, вполне поглощающим граждан, стано-
вится настоящим «смертным богом», как выражается сам фи-
лософ (haec est generation magni illius Leviathan vel, Lit dig-
nius loquar, mortalis Dei). Дело, как мы видели, не в форме
правления, по мнению Гоббса, а в том, что сущность госу-
дарства вообще такова, что ему принадлежит над личностью
гражданина безусловная и неограниченная, абсолютная
власть. Можно было бы подумать, что Гоббс, подобно Плато-
ну2, стоит на точке зрения самодовлеемости государства, но
он прямо заявляет, что «государство установлено не ради са-
мого себя, а ради граждан» (civitas non sui, sed civium causa
instituta est), и, по мнению Гоббса, правители поступали бы
против закона природы, если бы не заботились о благе граж-
дан. Люди, по Гоббсу, добровольно соединились в государ-
ства, «чтобы иметь возможность жить наиприятнейшим
образом» (ut possent jucundissime vivere), но это у него и
осуществляется лишь установлением абсолютной власти
(imperium absolutum). Последнюю Гоббс определяет как та-
ковую, «больше которой людьми по праву не может быть со-
здано, больше которой никто из смертных не может иметь по
отношению к самому себе» и которая с полным правом всем
распоряжается по своему усмотрению (suo arbitrio).
1 Левиафан упоминается в нескольких местах Библии. Гоббс, однако,
не считал своего Левиафана естественным организмом: для него, это —
произведение искусства (opificium artis) и даже как бы искусственный че-
ловек (homo artificialis).
2 Государство-город. С. 218 и след.
346
Такое верховенство государства у Гоббса, как мы видели,
лучше всего осуществляется при единоначалии, но он не дела-
ет, как это делали другие1, различия между королевской (цар-
ской) властью и тиранией, говоря, что это вовсе не два разных
рода государства (non sunt diversi civitatis status regnum et tyr-
annis), «но одному и тому же монарху дается имя короля ради
почета и тирана в виде брани». И вот как Гоббс доказывает,
что монарх может быть признан за воплощение самого народа.
«Люди,— говорит он,— недостаточно делают различие между
народом и толпой (multitudo). Народ есть нечто единое, имею-
щее единую волю, и такое, чему может быть приписано единое
действие. В каждом государстве царствует народ (populus in
omni civitate regnat). В демократии и аристократии граждане
составляют толпу, народом же является курия» (sed curia est
populus), т.е. народное собрание или сенат. «И в монархии,—
продолжает Гоббс,— подданные суть толпа, а (хотя это пара-
доксально) король есть народ (rex est populus)». Признавая
власть государства вообще неограничимой ни в смысле само-
ограничения, ни в смысле признания за гражданами неотчуж-
даемых прав, Гоббс эту абсолютную власть целиком и без ос-
татка переносит на монарха, который, по его мнению, тоже
должен быть неограниченным: ограничить власть государя мо-
жет только другая, еще выше стоящая власть (si potestas ejus
limitaretur, nacesse est ut id fiat a majori potestate), а она ведь,
в сущности, и была бы опять неограниченной властью государ-
ства. Гоббс считал основой всех бунтовщических учений (doc-
trinarum quae ad seditionem disponunt una et prima haec est)
мнение, что частные лица могут сами рассуждать о добре и
зле: мы видели уже, что, по Гоббсу, государь (или государст-
во) является законодателем и в нравственных вопросах. По от-
ношению к гражданам верховная власть не может делать не-
справедливостей, или вернее, граждане не могут считать дей-
ствия «того, кто имеет высшую власть, т.е. государства», по
отношению к себе несправедливыми; поэтому, что ни делает
государство, люди должны это признавать справедливым, хотя
бы дело доходило до оскорбления самого Бога. Правда, Гоббс
1 Государство-город. С. 108 и след.; Монархии. С. 143, 259 и след.; 376
и след.; Поместье-государство. С. 216—217.
347
иногда делал частные оговорки, когда не умел или, вернее, не
хотел быть последовательным, но именно несмотря на то, что
он по временам упоминает о Боге, английский парламент осу-
дил его учение, и автору «Левиафана» пришлось оправдывать-
ся от обвинения в атеизме: «смертный бог», т.е. государство,
стоял у него выше «Бога бессмертного», хотя он и заявлял про-
тивное1.
Гоббс, как известно, во время первой Английской револю-
ции симпатизировал королевской партии (кавалерам) и неко-
торое время жил при дворе будущего Карла II, но английские
роялисты относились к нему неблагосклонно за его религиоз-
ное свободомыслие: будущий Карл II по настоянию духовенст-
ва в конце концов его от себя даже удалил; Фильмер, о кото-
ром была уже речь2, соглашаясь с идеей Гоббса о неограничен-
ности королевской власти, находил ересь в его учении о том,
что основой этой власти является воля народа, а не воля Бо-
жия; вскоре после осуждения «Левиафана» парламентом
(1666) Кембриджский университет отнял диплом бакалавра у
одного из своих членов, разделявших учение Гоббса о необхо-
димости повиноваться государственной власти даже в том слу-
чае, когда она требует чего-либо противного божественным за-
поведям. С другой стороны, идеи, выраженные в «Левиафане»,
были как бы оправданием возникавшей в то время (1651) дик-
татуры Кромвеля, и сам Гоббс говорил в эпоху протектората
Кромвеля (1656), что его книга расположила немало англичан
к добросовестному повиновению существующей власти3.
Что государство должно существовать для общего блага,
это — такая простая истина, что считалась понятной сама
собой и даже высказывалась самыми крайними абсолюти-
стами, причем и правительство рассматривалось как подчи-
1 В приведенном выше (с. 346) месте, где говорится о «смертном боге»,
прибавлено: «cui pacem et protectionem sub Deo immortali debemus».
2 См. выше, c. 344.
3 Трактат Гоббса «De cive» дважды (1649 и 1660) переводился на фран-
цузский язык, и переводчики хвалили его учение именно с точки зрения его
выгоды для абсолютизма. Один из них в посвящении королю говорит: «Я ос-
мелился бы утверждать, государь, что если бы Вашему Величеству было
благоугодно, чтобы некоторые верноподданные профессора читали в Ваших
владениях этот перевод, или другой, лучший, чем этот, то во все Ваше цар-
ствование в государстве не увидят ни заговоров, ни бунтов».
348
ненный общему благу орган государства. «Цель правитель-
ства,— говорит Боссюэ,— есть благо и сохранение государ-
ства».— «Мы,— писал Людовик XIV,— должны смотреть на
благо наших подданных гораздо больше, чем на наше собст-
венное. Повиновение и почтение, оказываемые нам нашими
подданными, не простой дар (don gratuit), который они нам
приносят, но возмещение (echange) за правосудие и покро-
вительство, которые они желают от нас иметь. Как они обя-
заны нас уважать, так и мы должны их охранять и защи-
щать». Общее благо называлось еще государственной необ-
ходимостью,— переводя этим выражением итальянское
«ragione di stato» и французское «raison d’etat», или
«maximes d’etat». Это чрезвычайно гибкое и растяжимое по-
нятие, под покров которого нередко устремлялись все зло-
употребления властью, мы находим одинаково и у Макиа-
велли, и у Ришелье, и у Гоббса, и очень хорошее определе-
ние «raison d’etat» было дано в середине XVII в. одним
французом: «excessus juris communis propter bonum com-
mune».
Теория общего блага, как цели государства, оказала очень
большое влияние на внутреннюю политику абсолютной монар-
хии, ибо давала государям принцип, на который можно было
ссылаться в борьбе с обветшалыми формами жизни, действи-
тельно противоречившими общему благу, с другой же сторо-
ны, она ставила перед правительствами самые широкие, поис-
тине универсальные задачи, для осуществления которых ока-
зывалась нужной неограниченная власть, пользующаяся
самыми разнообразными средствами воздействия на жизнь. Во
имя этого же самого общего блага теория требовала, чтобы
проводилась резкая разграничительная черта между управляе-
мыми («народом») и управляющими («государством»), само же
право определения, в чем заключается общее благо и какими
средствами нужно пользоваться для его достижения, предо-
ставлялось одному правительству: подданные, сохраняя за со-
бой общегражданские права свободных людей, во всем осталь-
ном, уже выходящем за пределы частных взаимоотношений,
должны были — опять-таки ради общего блага — беспрекос-
ловно повиноваться велениям государственной власти. Раз
осуществление высшей цели государства мыслилось как иск-
349
лючительное право государя, то тем самым требовалось сосре-
доточение в нем всей власти государства над его подданными,
что не могло, в сущности, не привести к совершенному отоже-
ствлению государственного суверенитета с разумом, совестью
и волей монарха, от личного усмотрения которого зависело и
то, когда ему смотреть на свои действия как на действия госу-
даря и когда видеть в них поступки просто человека.
В упомянутом разделении общества на правительство с не-
ограниченной властью и на бесправных (в публичных, конеч-
но, отношениях, а не в частных) подданных как бы заключа-
лось требование полного уничтожения всяких самобытных, не-
зависимых от государства союзов, которые играли такую
важную роль в средневековой жизни, союзов, подобных ремес-
ленным цехам, купеческим гильдиям, городским общинам, со-
словным корпорациям, ибо всеми ими преследовались частные
цели, а не общее благо, и они своими правами и привилегиями
ограничивали всемогущество, на которое претендовало госу-
дарство1. Общество, взятое в целом, пользовалось недоверием
абсолютизма, который мог допускать общественные соедине-
ния лишь тогда, когда они существовали с его разрешения (на-
пример, торговые компании), или когда само государство нахо-
дило нужным известное общественное управление как одну из
форм отбывания государственной повинности, отнюдь не в
смысле самостоятельного заведования той или другой группой
ее собственными делами. В идее такое понимание власти и на-
рода, устранявшее всякое средостение между государством и
отдельным подданным в виде тех или иных самостоятельных
общественных союзов, влекло за собой два логических следст-
вия, которые можно назвать «распылением» (или атомиза-
цией) общества на не связанные между собой человеческие
единицы и уравнением (или нивелированием) отдельных его
классов перед лицом государства. Эти логические требования
системы абсолютная монархия осуществляла на практике
только отчасти, но теория государственности в данном случае
1 Из подобных же соображений вытекало нерасположение, в эпоху
Французской революции, Учредительного собрания к корпоративному нача-
лу (Народно-правовое государство. С. 208).
350
у абсолютизма (особенно у просвещенного абсолютизма) была
та же, что и у Французской революции.
По теории абсолютизма предполагалось, что правитель-
ство лучше, чем подданные, может судить об этом благе, а
потому частным лицам остается не только повиноваться ве-
лениям власти, но и признавать за ними разумность, спра-
ведливость и полезность, лишь бы власть предъявляла свои
требования во имя общего блага. «Подданные,— говорит
Вольф,— должны быть готовыми и охочими (bereit und wil-
lig) делать то, что власть находит хорошим для общего бла-
гополучия». С этой точки зрения важнейшими добродетеля-
ми гражданина почитались повиновение властям предержа-
щим, преданность и верность, готовность к исполнению
долга и самопожертвование. И все это должно было совме-
щаться с гражданской свободой, ибо повиновение должно
было быть добровольным, как основанное на обоюдном дого-
воре монарха и подданных, договоре, лежащем в самой осно-
ве государства, как, по определению Гуго Гроция, «совер-
шенного соединения свободных людей и общения ради поль-
зования правом и общей выгоды».
Нужно еще прибавить, что у теоретиков абсолютизма в
XVIII в. общее благо понималось не в смысле могущества го-
сударства, а в смысле благосостояния всего общества как со-
вокупности отдельных лиц, обладающих, по самой сущности
человеческой природы, известными естественными правами:
общим благом в этом понимании было то, осуществление че-
го требовалось естественным правом, нечто само по себе ра-
зумное, справедливое, полезное, и в этом отношении немец-
кие политические писатели XVIII в., особенно напиравшие
на естественное право, до известной степени являлись пред-
шественниками составителей «Декларации прав человека и
гражданина». Все различие в том, что составители этой де-
кларации видели гарантии личных прав в самодержавии на-
рода и разделении властей1, тогда как публицисты, о кото-
рых идет речь, признавали, что то же самое достигается при
сосредоточении всей полноты государственной власти в лице
1 Народно-правовое государство. Гл. IX.
351
монарха. Нужно только, думали немецкие теоретики абсолю-
тизма, чтобы монарх был надлежащим образом воспитан для
той роли, какую ему приходится играть в государстве; роль
же эта, как выражается один современный ученый, понима-
лась в смысле роли «машиниста при машине, которая созда-
на общественным договором и двигается стремлением инди-
видуума к его же собственному благу»1. Все искусство уп-
равления, в сущности,— весьма простое искусство: это лишь
умение охранять все то, что принадлежит человеку по есте-
ственному праву, и вместе с тем так, чтобы везде господст-
вовали порядок и дисциплина. Вследствие этого на самом де-
ле свобода и равенство в понимании абсолютистов были
лишь свобода и равенство подданных, а не граждан, т.е. со-
держание этих понятий было только отрицательным, а про-
явление того и другого в действительной жизни совершенно
пассивным. Все дело было в воспитании и просвещении под-
данных, в опеке над ними и регламентации их жизни: в этом
и заключалось возведение на степень абстрактной политиче-
ской идеи исторического «полицейского государства», этого,
как выразился о нем немецкий ученый середины XIX в. (Ло-
ренц Штейн) «Zwangsanstalt ftir das Cluck der Volker», т.е. при-
нудительного заведения для счастья народов.
В немецкой публицистике XVIII в. была весьма сильна
тенденция вывести абсолютную монархию из естественного
права. Наиболее рельефным выразителем этой теории был
известный Христиан Вольф, исходивший из той идеи, что
люди, не будучи вообще настолько разумными и умелыми,
чтобы осуществить своими собственными силами общее бла-
гополучие и общую безопасность, нашли нужным, чтобы
«эта забота была поручена известным лицам, а на других
возложена была обязанность делать все, что те находят нуж-
1 Рейснер М. А. Общественное благо и абсолютное государство. 1902.
С. 74. Автор, пользуясь критикой современных немецких ученых, правиль-
но указывает на то, что в таком понимании государство являлось не «кор-
порацией», а «учреждением», которое «управляется не само, а только при
помощи чужой воли и получает свои силы и средства извне» (с. 86—87):
соответственные немецкие термины суть «Verein» (союз) и «Anstalt» (заве-
дение).
352
ним для поддержания указанных намерений». «Одни,— гово-
рит Вольф,— были названы властями (Oberkeiten), другие —
подданными, а посему власти суть лица, которым принадле-
жит забота об общем благополучии и безопасности, тогда
как подданные суть лица, которые обязались (sich verbindlich
gemacht haben) допустить волю правительства (der Oberkeit)
сделать своей волей». По этой теории, между государем-опе-
куном, в распоряжение коего отдает себя народ, и последним
существует договор (es ist demnach zwischen der Oberkeit
und der Unterthanen ein Vertrag).
На точке же зрения естественно-правового и договорного
происхождения государства стоял равным образом и «ко-
роль-философ», Фридрих II, бывший автором целого ряда
трактатов с политическим содержанием1. Известно, между
прочим, что одним из первых литературных произведений
Фридриха II было опровержение «Государя» Макиавелли
(«Antimachiavel»), хотя на практике редко кто проводил ма-
киавеллизм так последовательно и так успешно, как именно
король-философ. Более искренним он был, когда заявлял о
своем несогласии с учением о божественном происхождении
королевской власти. «Вот в чем,— писал он, будучи еще
кронпринцем,— заблуждается большая часть государей. Они
воображают, что Бог нарочно и из особого внимания к их ве-
личию, благополучию и гордости создал ту массу людей, по-
печение о которой им вверено, и что подданные предназнача-
ются лишь к тому, чтобы быть орудиями и слугами их нрав-
ственной распущенности». Когда много позднее Фридрих II
полемизировал против политических взглядов «Системы
природы» Гольбаха, он писал о последнем так: «Наш враг ко-
ролей уверяет, что власть государей вовсе не имеет божест-
венного происхождения, и мы отнюдь не намерены приди-
раться к этому пункту». Фридрих II, как и полагается пред-
ставителю рационализма XVIII в., стоит на точке зрения
чисто человеческого происхождения власти. «Народы,— пи-
сал он еще в «Антимакиавелли»,— нашли нужным ради спо-
1 См. их перечисление в подстрочном примечании к гл. XXIII т. III «Ис-
тории Западной Европы».
353
койствия и сохранения своего иметь судей для разрешения
возникающих между ними тяжб и защитников, которые ох-
раняли бы их от врагов», и вот «они избрали из своей среды
тех, кого считали наиболее мудрыми, наиболее бескорыстны-
ми, наиболее человечными, наиболее храбрыми, чтобы эти
люди ими управляли». Эту основную мысль своего политиче-
ского миросозерцания Фридрих II повторял в своих полити-
ческих трактатах и впоследствии, но если он и находил, на-
пример, в полемике с Гольбахом, что королевская власть
должна быть наследственной, нигде в пользу этого мнения
мы у него не находим аргументов. Зато у него тотчас же яв-
лялись аргументы, как только он касался тезиса о необходи-
мости неограниченности королевской власти: для него это —
единственное условие, при котором государь только и может
исполнять свои обязанности. В «Опыте о формах правления
и об обязанностях государей» (1777) Фридрих И, между про-
чим, рассуждает приблизительно таким образом. Только су-
масшедший может представить себе людей, которые сказали
бы одному из своей среды, что они ставят его над собой, так
как им не нравится быть рабами, и что потому они и дают
ему право направлять их мысли по своему усмотрению; на-
против, думает Фридрих II, люди должны были сказать, что
они нуждаются в государе для поддержания законов, кото-
рым хотят повиноваться, для мудрого ими .управления, для
их защиты, а за всем тем они должны были бы прибавить:
«Но мы требуем, чтобы ты уважал нашу свободу».
Свобода, о которой говорил Фридрих И, была свобода
только в области вопросов мысли. Король-философ уважал
философию лишь до тех пор, пока она не впутывалась в по-
литику. «Я,— заявлял он сам,— покровительствую только
таким свободным мыслителям, у которых приличные мане-
ры и рассудительные взгляды» (idees raisonnables). «Фило-
соф,— писал он еще,— не станет кричать, что все идет дур-
но, не показав, а как же можно было бы устроить все хоро-
шо. Его голос не будет служить призывом к неповиновению,
к образованию союза недовольных, предлогом для восста-
ния. Он с уважением будет относиться к обычаям, установ-
ленным и освященным нацией, к правительству, к лицам,
354
его составляющим и защищающим». Беря против Гольбаха
под защиту старую французскую монархию, на которую тот
нападал, Фридрих II приводил, между прочим, тот аргумент,
что философ заговорил бы совсем иначе, если бы попробо-
вал управлять в течение нескольких месяцев хотя бы ма-
леньким городком, так как тогда научился бы лучше пони-
мать людей, чем на основании всех чистых своих умозре-
ний. Ведь философы, как-никак, все-таки лишь частные
лица, которым не по плечу судить о государственных делах.
«Неужели,— восклицает король,— господин философ, вы не
знаете, что хороший гражданин должен уважать ту форму
правления, под которою живет? Или вам неизвестно, что
частному лицу не подобает оскорблять власти? Разве могут
судить тех, кому дано править миром, неизвестные люди,
стоящие далеко от дел, видящие лишь совокупность собы-
тий, но не знающие, что же их производит, т.е. видящие
действия, но не понимающие их мотивов, черпающие свои
политические сведения из газет?»
Только правительство, по мнению Фридриха II, может
знать, понимать, правильно судить в государственных делах
и надлежащим образом направлять их течение. Он сравни-
вал государство с машиной, главное, маховое колесо в кото-
рой — королевская власть. «Король,— говорит он,— не де-
спот, руководящийся своим капризом: его нужно представ-
лять себе как центральную точку, к которой сходятся все
линии от окружности». И еще сравнение: «Государь для об-
щества, им управляемого, то же самое, что голова для тела;
он должен смотреть, думать и действовать за все общество,
дабы доставлять ему все выгоды, какие оно только может по-
лучить». В свое понимание взаимных отношений между вла-
стью и народом Фридрих II вносил и патриархальный взгляд:
монарх — отец, подданные — его дети, «у них добро и зло
одни и те же, ибо государь не может быть счастлив, когда
несчастны его народы». Но чаще всего король-философ назы-
вал государя слугой государства в духе, между прочим, ста-
рой гогенцоллернской традиции, которая заставляла отца
Фридриха II видеть в прусском короле, отвлеченно взятом,
какое-то высшее существо, а в себе, реальном короле, лишь
355
его фельдмаршала и министра финансов1. На первых порах
Фридрих II не нашел настоящего слова для выражения своей
идеи и писал, что король должен быть «1е premier domes-
tique» государства (domestique — домашняя прислуга)2, но
потом надлежащее слово было найдено: «1е premier ser-
viteur», первый слуга государства. «Государь,— писал он в
уже называвшемся выше «Опыте»,— есть только первый
слуга государства, обязанный поступать добросовестно, муд-
ро и вполне бескорыстно, как будто бы каждую минуту он
должен был быть готовым дать отчет согражданам своим в
управлении государством»3. Впрочем, государство было для
Фридриха II до известной степени и чем-то самодовлеющим.
Хорошее управление он уподоблял философской системе,
где все между собой тесно связано логикой: именно, в прави-
тельственной системе все мероприятия должны быть хорошо
обдуманы, «дабы финансы, политика и военное дело стреми-
лись к одной и той же цели, которая заключается в упроче-
нии (affermissement) государства и приращении (accroisse-
ment) его мощи».
Эти же самые идеи были положены в основу «Всеобщего
земского права», кодекса прусских законов, начатого, как мы
знаем4, при Фридрихе И, но обнародованного только после
1 Еще Великий курфюрст однажды продиктовал своим сыновьям латин-
скую фразу, обещав награду за ее перевод: «Я так намерен управлять госу-
дарством, дабы знать, что оно есть дело народа, а не мое частное» (rem рор-
uli esse, non meam privatam). Сам Фридрих II называл короля «первым су-
дьей, первым генералом, первым финансистом и первым министром
общества».
2 Именно в «Antimachiavel’e» читаем: «Государь (le souverain), далеко
не будучи абсолютным господином народов, находящихся под его владыче-
ством (domination), является сам только первым их слугой» (n’en est lui
meme que le premier domestique).
3 В теории и Иосиф II видел в себе только «управляющего публичными
доходами, на котором лежит обязанность давать отчет каждому плательщи-
ку доходов». У него даже было, по одному известию, в мыслях опублико-
вать нечто вроде знаменитого неккеровского compte rendu, но это была
лишь теория, с которой практика совершенно не совпадала, как и у Фрид-
риха II. Если бы даже Иосиф II на самом деле стал отчитываться перед сво-
ими подданными, они едва ли одобрили бы его хозяйничанье. (Митрофа-
нов П. С. 370 и 453. Ср. выше, с. 215, примеч.).
4 См. выше, с. 145.
356
его смерти (1794). По удачному определению Сореля, это
была «настоящая декларация прав», только не человека и
гражданина, а «государства и государя»1. Дело в том, что те-
оретические положения «этатизма» и абсолютизма сплошь и
рядом фигурируют в общих и частных законодательных ак-
тах XVIII в.2
Мы не раз уже определяли старый порядок как соедине-
ние королевского абсолютизма с привилегиями высших со-
словий, в особенности дворянства. Защитники абсолютной
монархии находили для нее, как мы видели, основания и в
божественном, и в естественном праве, редко в давности
владения, на которое только и могли главным образом ссы-
латься защитники сословных привилегий.
Первый теоретик новой конституционной монархии и ро-
доначальник либерализма, Монтескье, в социальном отноше-
нии был представителем сословно-дворянских воззрений и
интересов. Его политическим идеалом в настоящем была ан-
глийская конституция, в которой он специально оправдывал
наследственно-аристократическую верхнюю палату, в про-
шлом же своей родины, Франции, он симпатизировал со-
словной монархии. Для него вообще монархия3 отличалась
от деспотии не только существованием основных законов и
хранилища законов4, но и дворянства. «Где нет монарха,—
рассуждал он,— там нет дворянства, и где нет дворянства,
там нет монарха, а есть только деспот». Итак, по теории
Монтескье, дворянство и вообще сословность были необхо-
димы для того, чтобы монархии не дать выродиться в деспо-
тию. Признавая, что пружиной монархического устройства
является чувство чести (I’honneur), он это чувство видел
«помещенным» в дворянстве, в смысле именно желания
иметь «предпочтения и отличия». Для сохранения монархии
1 Ср. изложение его принципов в «Истории Западной Европы», т. III.
2 Изрядное количество таких заявлений собрано в работе Рейснера,
указанной на с. 352; многое тоже в книге Митрофанова об Иосифе II (см.,
например, с. 210—211 о политических взглядах Иосифа II, с. 259 и след, о
«теоретиках иозефинского абсолютизма» и др.).
3 Ср. ниже, в гл. XXII.
4 См. выше, с. 99.
357
Монтескье требовал от законов, чтобы они поддерживали
благосостояние и достоинство благородного сословия, указы-
вая на необходимость наследственности дворянского звания
и привилегированного положения дворянских имений. «Дво-
рянские земли (les terres nobles, буквально: «благородные
земли1) должны пользоваться привилегиями,— говорит
он,— как и лица благородного происхождения. Нельзя отде-
лить достоинство монарха от достоинства его королевства, и
равным образом нельзя разлучить достоинство дворянина с
достоинством его феода». Французская аристократия стара-
лась и исторически оправдать свои привилегии. Лет за двад-
цать до «Духа законов» Монтескье Буленвилье написал кни-
гу под заглавием «История старинного государственного ус-
тройства Франции», где проводил ту мысль, что привилегии
дворянства и приниженное состояние третьего сословия во
Франции суть законные результаты завоевания галлов фран-
ками: дворяне, это — потомки победителей-франков, просто-
людины — потомки побежденных галлов. Вообще, однако,
литература в духе сословных привилегий поражает своей
скудостью в количественном отношении и слабостью своих
аргументов. Основывать сословные привилегии на специаль-
ной милости Божией, как это делалось по отношению к
монархии с ее сакрально-мистическим характером, не прихо-
дилось, и оставалось, так сказать, лишь примазываться к мо-
нархии, что мы и видим у Монтескье с его сословно-феодаль-
ным социальным миросозерцанием. Столь же трудно было
вывести, как это делалось с монархией, привилегии дворян-
ства и из договора, основавшего государство. Оставалось
или, по примеру Буленвилье, ссылаться на завоевание, т.е.
на насилие, или, не входя в обсуждение вопроса об основе и
происхождении дворянских привилегий, принимать факт,
как он есть, и на нем строить свои заключения. Так, между
прочим, и поступил Монтескье, мотивируя существование в
Англии верхней палаты. «В каждом государстве,— говорит
он,— есть люди, отличающиеся своим происхождением, бо-
гатствами и почестями; если бы они были смешаны с наро-
1 См. выше, с. 286—287.
358
дом, и у них, наравне со всеми другими, был только (у каж-
дого) один голос, общая свобода сделалась бы их рабством,
и у них не было бы интереса ее защищать, так как большая
часть решений была бы против них». Отсюда — необходи-
мость второй палаты и наследственности привилегий. «Необ-
ходимо,— говорит Монтескье,— чтобы корпорация знати
имела очень большой интерес в сохранении своих прерога-
тив, ненавистных самих по себе, а в свободном государстве
тем более подверженных большой опасности». Итак, сущест-
вует дворянство, его привилегии ненавистны (не для авто-
ра), и сохранить их можно в свободном государстве лишь
при таком-то условии,— вот сущность приведенного рассуж-
дения Монтескье. Настоящая теоретическая защита сослов-
ного строя с принципиальных точек зрения началась лишь в
эпоху реакционного абсолютизма, когда революция уже ус-
пела сделать свое разрушительное дело по отношению к со-
словным привилегиям1.
К чести Монтескье нужно сказать, что в его понимании
дворянство никоим образом не должно было быть слепым
орудием власти, чему противоречило бы присущее, по его
мнению, благородному сословию чувство чести. Разбирая
вопрос, имеет ли право гражданин отказываться от предлага-
емой ему должности, он решает его надвое для республик и
монархий: в республике предложение должности есть знак
доверия к доблести (vertu) гражданина, обязанного жить,
действовать и думать только ради отечества; в монархии же
это — свидетельство чести, чувство же чести обладает
странным свойством (bizarrerie) принимать лишь то, что хо-
чет, и тем способом, как хочет. Отсюда тот вывод, что в мо-
нархии отказ от предлагаемой должности допустим, раз че-
ловек полагает, что должность ниже его достоинства, и
здесь уже нет безусловного повиновения власти. Между про-
чим, Монтескье приводит гордый ответ одного французского
дворянина XVI в. королю, что он не может на себя взять дол-
жности палача2.
1 О последнем: Народно-правовое государство. Гл. XI.
2 Дело относится к истории Варфоломеевской ночи.
359
Настоящие защитники сословного начала были, в сущно-
сти, противниками абсолютизма, признававшего права толь-
ко за собой и за теми, кому право дается или за кем призна-
ется по милости государя. Для эпохи, когда демократиче-
ский принцип существовал лишь в литературе только в виде
отвлеченной идеи, сословный строй мыслился как единствен-
ная реально существующая форма общественного самоуправ-
ления. С этой точки зрения отстаивал сословность барон
Штейн, прусский министр-реформатор, освободивший кре-
стьян в Пруссии, приступивший к введению в ней самоуп-
равления, большой враг всякого абсолютизма, хотя бы и про-
свещенного, враг и бюрократического режима, хотя бы само-
го благожелательного. Сословное чувство соединялось в нем
именно с сознанием не только особых прав, но, равным обра-
зом, и особых обязанностей дворянства, хотя это была лич-
ная его особенность, а не общая черта теоретиков, и в осо-
бенности практиков, сословности. Вообще Монтескье и
Штейнов было мало в дворянском обществе, где господство-
вала, наоборот, старая, как мир1, теория белой кости и голу-
бой крови, теория, по которой, говоря словами одного авст-
рийского аристократа XIX в., человек начинался только с ба-
рона и по которой самим Богом так устроено, чтобы подлый
народ существовал для благородного дворянства.
Одной из привилегий дворян-землевладельцев было право
на даровой труд крестьян и на власть даже над их личностью.
Крепостничество имело тоже своих теоретиков, которые не
всегда защищали его с обветшалых феодально-аристократиче-
ских точек зрения, но и прибегали к новым, рационалистиче-
ским аргументам. Теория, выводившая государство из изна-
чального общественного договора, бралась иногда выводить из
того же самого договорного источника, только не обществен-
ного, а частного характера, и крепостные отношения. Знаме-
нитый юрист и публицист XVII в. Пуфендорф, никак не мог-
ший справиться с подведением Священной Римской империи
германской нации под какую-либо государственно-правовую
категорию (так «чудовищно» было для него ее устройство), не
только не находил чудовищной власть человека над челове-
1 Ср.: Государство-город. С. 32.
360
ком, но брался объяснить ее из естественного права. По его те-
ории, крестьяне сами закрепощались, нуждаясь как в защите
сильных и богатых людей, так и в пропитании, которое от них
лишь и могли получить, и крепостное состояние оказывалось
не чем иным, как обязательством платить постоянными услу-
гами за постоянное и верное пропитание по формуле: «Do ali-
menta perpetua, ut praestes operas perpetuas» (даю тебе посто-
янный прокорм, чтобы ты давал постоянные работы). Значит,
источник крепостничества — в договоре, причем последний
влек за собой те же последствия и для потомства закрепостив-
шегося: так как землевладелец прокармливает не только рабо-
тающих на него родителей, но и их детей, до известного возра-
ста получающих пищу от землевладельца совершенно даром,
то кабала распространяется и на детей, и на внуков и т. п. кре-
постного крестьянина. Где, как во Франции, крепостное состо-
яние существовало только в виде исключения, сеньориальные
права объяснялись тоже из когда-то заключенных договоров
между землевладельцами; во Франции это учение, весьма рас-
пространенное между «февдистами» (знатоками феодального
права), получило, так сказать, официальную санкцию парла-
ментов.
Раз зашла речь о крепостничестве, интересно поставить
вопрос, признавали ли теоретики абсолютизма,— особенно
в XVIII в., когда процветала идея просвещенного абсолютиз-
ма,— право за государственной властью освободить крепо-
стных. Логически рассуждая, мы должны были бы предпо-
ложить, что вопрос должен был решаться в положительном
смысле: королевская власть признавалась неограниченной,
и воля государя — законом; эта власть и содержащееся в
ней законодательное право рассматривались как установ-
ленные для общего блага и оберегания естественных прав
подданных, и с этой точки зрения, крепостное состояние,
являющееся нарушением общего блага и естественного пра-
ва, должно было быть безусловно отменено. Так и смотрел
на дело Иосиф II1, но в громадном большинстве случаев си-
лу имело другое рассуждение, лежавшее в основе взгляда,
по которому отмена была бы нарушением законно приобре-
1 См. в гл. XIX.
361
тенной частной собственности. Сам Вольтер, друг и защит-
ник просвещенного абсолютизма1, иронически писавший по
поводу крепостных монастыря Св. Клавдия, что с их свобо-
дой придется подождать несколько столетий, пока государ-
ство не расплатится с долгами и у него не явятся лишние
деньги для выкупа крепостных, сам же Вольтер, говорив-
ший, что лишь тогда поверит в божественное право рыца-
рей, когда увидит их рождающимися со шпорами, а кресть-
ян — с седлами на спинах, даже он не становился в этом
вопросе на правильную, как мы теперь все думаем, точку
зрения. «Справедливость,— писал он в ответ на запрос пе-
тербургского Вольного экономического общества,— требу-
ет, чтобы государь освобождал только церковных сервов и
своих собственных, первых — потому, что церковь не долж-
на их иметь, вторых же потому, что от этого он только вы-
игрывает, создавая себе деятельных подданных и обогащает
себя, делая добро. Что касается сеньоров,— продолжает
Вольтер,— которым давнее пользование предоставило кре-
стьян во власть, то, кажется, нельзя, не сделав несправед-
ливости, принудить их изменить существо их наследствен-
ного владения. Они должны иметь право освобождать их по
собственному своему усмотрению. Это уже их дело — по-
следовать ли примеру государя: они могут быть приглашае-
мы к этому, но не должны быть обязываемы». Эту точку
зрения усвоил и эдикт Людовика XVI, освобождавший во
Франции последних доманиальных сервов (1779).
Закончим эту главу беглым взглядом на защиту абсолю-
тизма и сословности в XIX в.
Когда в начале XIX в. произошла реакция против Фран-
цузской революции и тесно связанного с ней политического
направления Наполеона I, целый ряд писателей выступил на
защиту абсолютизма, и притом не столько на основании фи-
лософских принципов XVII—XVIII вв., сколько на основании
средневекового теологического миросозерцания.
В первой трети XIX в. Людвиг Галлер нападал, как на ре-
волюционное учение, на теорию естественного состояния и
договорного происхождения государства. По естественному
1 См. в гл. XIX.
362
закону, установленному Богом, власть принадлежит силь-
нейшему, а слабейший должен повиноваться. Злоупотребле-
ния власти могут быть сдерживаемы лишь заповедями Божи-
ими, установление же народного контроля над властью есть,
в сущности, установление новой власти, над которой нужно
было бы установить еще контроль и т. д. до бесконечности.
Право государей на власть есть их собственность, получен-
ная ими по милости Божией, отнюдь не отправление ими об-
щественной должности, ибо взгляд на власть, как такое от-
правление, ведет или к деспотизму, оправдывающему все
действия правителя как представителя «общего блага», или
к революции, приписывающей верховную власть народу, ко-
торый вручает ее государю. У подданных, в качестве их соб-
ственности, тоже есть самостоятельные права, но это не «ес-
тественные права» философии XVIII в., а исторически сло-
жившиеся права сословий, корпораций и т. п. Идеал Галлера
близко подходил к средневековому вотчинному княжеству и
к сословной монархии с совещательными чинами.
Адам Мюллер, современник Галлера, еще сильнее под-
черкивал теологическую основу своего учения, по существу
разделяя ту же теорию монархии и сословности. У него го-
сударство понималось так: в обособленных сословиях вопло-
щаются отдельные жизненные начала политического бытия
народов, а их живым объединением является монарх, дейст-
вующий в согласии с правдой Божией.
Еще более реакционным характером, в смысле отрицания
свободы граждан, отличались французские реакционеры той
же эпохи. Клерикал и абсолютист Бональд смотрел на че-
ловека как на вместилище всяких страстей и похотей, требу-
ющих всемерного обуздания. Личная свобода — великое
зло; его нужно всячески стеснять, и лучшая здесь мера —
это укрепление религиозного и светского авторитета с их
представителями в обществе, духовенством и дворянством.
Бональду вторил Жозеф де Местр, между прочим, в своей
книге «О папе»: папа, будучи непогрешимым, лучше всего
мог бы, по мнению этого писателя, охранять государей от ре-
волюций, а подданных от деспотизма.
363
Названные писатели действовали в литературе до рево-
люции 1830 г., а после 1830 г. и даже после 1848 г. главным
оракулом реакции был Юлий Шталь. Когда в Пруссии была
введена конституция, он обнаружил, что она не уничтожила
прежнего абсолютизма, а только его прикрыла и отдала в ус-
лужение либерализму; свою задачу Шталь понял в том смыс-
ле, чтобы заставить абсолютизм служить консервативным
интересам и с помощью конституции вести борьбу с самим
же конституционализмом для восстановления абсолютизма.
Весь вопрос для него заключался в том, кто должен опреде-
лять нравственный порядок на земле — божественная или
человеческая воля, религия или революция. Всем идеям и
учреждениям, прикосновенным к революции, Шталь проти-
вопоставлял идею ненарушимости существующего порядка,
как основанного на установленной Богом закономерности,
связывающей одинаково и государей, и народы. В переводе
на более конкретный язык теория Шталя была не чем иным,
как соединением прусской сословно-бюрократической систе-
мы с совещательным представительством. Выше всего ставя
монархическое начало, он доказывал необходимость и спра-
ведливость привилегированного положения феодального дво-
рянства, которому разрешал даже консервативную оппози-
цию законному правительству, раз оно либеральными рефор-
мами нарушало установленный порядок1.
1 И позднее, во второй даже половине XIX в., были ученые, стоявшие
на точке зрения абсолютизма. Борнгак в «Preusisches Staatsrecht» видит во
главе монархического государства «субъект и источник всякого властвова-
ния». По его словам, «всякая государственная сила и всякое государствен-
ное право есть государева сила и государево право», или «государство и
властитель (Herrscher) суть тожественные понятия». Король — субъект
властвования, объекты коего — страна и люди, причем «народное предста-
вительство есть организованное представительство народной совокупности
(der Volksgesammtheit) в ее двойственном качестве, как объекта и как сред-
ства властвования» и т. п. Другой подобный писатель, Макс Зейдель в сво-
ем «Bayerisches Staatsrecht», называя государством страну и народ (терри-
торию и народонаселение), подчиненную властвованию, противополагает
государству властителя (Herrscher), как объект и субъект. «Государь (der
Furst) не есть орган государства: он стоит, как повелитель (Herrscher), как
суверен, над ним. Властительное положение (Herrscherstellung) короля в
своей целостности есть не право, но сила, которая есть источник правопо-
рядка и прав». Ср. об этом же: Народно-правовое государство. С. 471—472.
364
Глава XIX
ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII в.1
Общая идея просвещенного абсолютизма и ее теоре-
тическое развитие в древности.— Светский характер
абсолютизма эпохи Ренессанса и вероисповедный абсо-
лютизм времен Реформации, католической реакции и ре-
лигиозных войн.— Рационалистическое просвещение и
влияние его на абсолютизм.— Сторонники просвещенно-
го абсолютизма в литературе.— Общая программа и
тактика просвещенных деспотов.— Административ-
ные, судебные и финансовые их реформы.— Просвещен-
ный абсолютизм и католическая церковь.— Уничто-
жение ордена иезуитов.— Церковная политика южно-
романских государств в середине XVIII в.—
«Иозефинизм».— Сословный строй и просвещенный абсо-
лютизм.— Клерикально-феодальная оппозиция просве-
щенному абсолютизму.— Просвещенный абсолютизм,
общее благо и права личности
Вторая половина XVIII в. называется эпохой «просвещен-
ного» (или «просветительного») абсолютизма (или деспотиз-
ма) — der aufgeklarte Absolutismus, le despotisme eclaire.
Когда употребляют этот термин, получивший в науке та-
кое же право гражданства (хотя бы некоторыми и оспарива-
емое), как Ренессанс, гуманизм, Реформация или Просвеще-
ние (Aufklarung, последний термин для специального обозна-
чения умственного движения XVIII в.), то обыкновенно
имеют в виду именно вторую половину XVIII в., время таких
государей, как Фридрих II в Пруссии, Иосиф II в Австрии,
1 См.: История Западной Европы в Новое время. Т. III, гл. XIX—
XXVIII; Философия культурной и социальной истории Нового времени. Гл.
X, а также статью мою «Книга о Иосифе II, как представителе и деятеле
просвещенного абсолютизма» (ЖМНП, 1907, ноябрь), где есть более под-
робное обоснование некоторых мыслей, высказанных в этой главе. Указан-
ная статья — разбор труда П. Митрофанова о Иосифе II, несколько раз ци-
тируемого в настоящей книге. Отдельных крупных трудов, вообще посвя-
щенных просвещенному абсолютизму, как таковому, в исторической
литературе нет.
365
Екатерина II в России, или таких министров-реформаторов,
какими были Аранда в Испании, Помбаль в Португалии, Та-
нуччи в Неаполе, Шуазель и Тюрго во Франции, Струензе в
Дании. Все эти современники, носители или представители
абсолютной верховной власти, находились под большим или
меньшим влиянием просветительных идей своего времени и
действовали в большем или меньшем согласии с этими иде-
ями Просвещения и прославились опять-таки большей или
меньшей преобразовательной деятельностью в прогрессив-
ном направлении. Они были в дружбе с философами Просве-
щения, а последние нередко возлагали на них все свои про-
грессивные надежды. Но термин, о котором идет речь, может
употребляться и на самом деле употребляется также в более
общем смысле пользования неограниченной властью, руково-
димого разумом и отличающегося стремлением к высоким
целям улучшения государственного и общественного быта,
достижения народного блага и т. п. В таком, более широком
значении термина его применяют и к деятельности на-
пример, Петра Великого, и к первой половине царствования
Александра I, и к эпохе Великих реформ Александра II и
т.п.1, т.е. к историческим явлениям, взятым вне второй поло-
вины XVIII в., но тогда можно распространять употребление
термина и на историю античного мира, когда, положим, при-
ходится характеризовать царствование Марка Аврелия. Ма-
ло того, сама идея просвещенного абсолютизма, в чистом
своем виде, зародилась еще в античном мире. Излагая об-
щую историю абсолютизма, в начале настоящей книги, я
уже имел случай отметить те политические трактаты на гре-
ческом и латинском языках,— начиная с IV в. до Р. X. и кон-
чая II в. по Р. X.,— которые заключали в себе идеализацию
монархии, как власти, руководящейся велениями разума и
доблести, осуществляющей поэтому общее благо и господст-
вующей, таким образом, над государством, чтобы, однако,
только ему служить2. Общие историки и специально истори-
ки политических учений древности нередко обозначают все
1 Примеры такого употребления в книгах М. М. Богословского «Обла-
стная реформа Петра Великого», А. Н. Пыпина «Общественное движение в
России при Александре I» и т. п.
2 См. выше, с. 17—18 и 20—22.
366
подобные пожелания как просвещенный абсолютизм, и нет
сомнения в том, что в попытках примирительного сочетания
абсолютизма с естественным правом, о которых говорилось в
предыдущей главе1, слышатся отголоски аналогичных идей
античного мира. И в греческом, и в римском своем развитии
идея просвещенного абсолютизма есть, прежде всего, идея
рационалистическая, без специально религиозного обоснова-
ния, идея, следовательно, светская, и в этом смысле о про-
свещенном абсолютизме никоим образом нельзя говорить,
когда политика абсолютной монархии принимает вероиспо-
ведный характер. Далее, просвещенный абсолютизм в тео-
рии исходил из той мысли, что государь есть не господин и
не собственник государства, а его слуга, осуществляющий
только известную публичную функцию, следуя при этом ве-
лениям разума, не по личной прихоти и не для личных це-
лей, но в таком случае и по этой как раз причине Людо-
вик XIV тоже не подойдет под мерку «просвещенного деспо-
та», несмотря на все свое «покровительство наукам и
искусствам». Самое же главное — это то, что просвещенный
абсолютизм видел весь свой raison d’etre в осуществлении
общего блага, требовавшего уничтожения всех недостатков
и несправедливостей существующего строя, хотя бы на их
стороне были и общественные традиции, и историческое пра-
во, и положительные законы: это — абсолютизм прогрессив-
ный, реформирующий.
До середины XVIII в. абсолютизм, находившийся в союзе
с духовенством и дворянством, держался в культурных и со-
циальных вопросах строго консервативной политики. Эпоха
религиозной Реформации и католической реакции придала
абсолютизму резко вероисповедный характер, отличавший
его от более светского абсолютизма гуманистической эпохи.
При таких государях, как Филипп II, Фердинанд II и Ферди-
нанд III, Максимилиан Баварский, вплоть до Людовика XIV
и Якова II Стюарта, власть отдает себя защите католицизма
во что бы то ни стало, что заставляло некоторых протестант-
ских правителей представлять собой нарочитых защитников
протестантизма, каковыми выступили английская королева
1 См. выше, с. 352 и след.
367
Елизавета, шведский король Густав Адольф, английский
лорд-протектор Кромвель, голландский штатгальтер Виль-
гельм Оранский (будущий король Англии Вильгельм III). Ре-
лигиозный раскол XVI в. резко разделил государства Запад-
ной Европы на две категории, и в каждой из них абсолютизм
получал конфессиональную окраску. В протестантских стра-
нах государи сделались главами местных церквей, в католи-
ческих состоялся тесный союз между церковью и государст-
вом. В середине XVIII в. государство эмансипируется от узко
вероисповедных влияний и возвращается к традициям гума-
нистической эпохи.
В истории культурного развития Запада за эпохой свет-
ского гуманизма следовала эпоха религиозных исканий и
преобразований, споров и междоусобий, и только в XVIII ст.
светский гуманизм возродился в рационалистической про-
светительной философии, порвавшей связи с конфессиональ-
ностью времен Реформации и реакции. Авторитеты веры за-
менились авторитетом разума и стремление согласовать свое
поведение с волей Божией — стремлением согласовать его с
естественным правом, с велениями природы. Мы знаем, что
у Людовика XIV и у Фридриха II сама монархия обусловли-
валась не одинаково: у первого — на божественном праве, у
второго — на праве естественном1. Рационализм философии
XVIII в. стал сказываться на общем течении и государствен-
ных дел. Фридрих II был сам философом в духе рационализ-
ма XVIII в., и к этому была близка и Екатерина II. Оба они
состояли в приятельских отношениях и переписывались с ко-
рифеями просветительной философии. Вольтер одно время у
Фридриха II жил; Дидро приезжал к Екатерине II; Д’Аламбе-
ра приглашали и в Берлин в президенты королевской акаде-
мии, и в Петербург, в наставники к наследнику престола.
Иосиф II в бытность в Париже познакомился со многими пи-
сателями. Подобных фактов можно было бы набрать очень
много, не упоминая, например, о том, что Екатерина II писа-
ла свой «Наказ» под сильным влиянием Монтескье,— факт,
не имеющий аналогий, но указывающий на то, что абсолю-
1 См. выше, с. 340—341 и 354.
368
тизм XVIII в. не отгораживал себя непроницаемыми перего-
родками от «вольнодумцев», сочинения которых на родине
иногда сжигались рукой палача. Это общение с национали-
стической философией и составляет характерную черту про-
свещенного абсолютизма. Если не сами государи следовали
идеям века, то их министры, а в лице министра Людови-
ка XVI Тюрго мы прямо имеем дело с философом-экономи-
стом во главе управления государством. Экономическая шко-
ла физиократов нашла рьяного последователя в лице баден-
ского маркграфа, который готов был даже делать в своем
княжестве физиократические опыты. Не нужно, конечно, ду-
мать, что вся внутренняя политика просвещенных деспотов
второй половины XVIII в. получала свои внушения от писа-
телей: многое в этой политике стояло в противоречии с тем,
к чему стремились писатели, особенно такие, как конститу-
ционалист Монтескье, республиканец Руссо и другие, с кото-
рыми Фридрих II готов был полемизировать, с другой же сто-
роны, у абсолютизма были свои политические интересы и
традиции, которые заставляли их поступать так или иначе,
отнюдь не теории писателей. Часто для совпадения пожела-
ний философов с действиями государей должно искать более
глубоких объяснений, чем непосредственное влияние одних
на других. И рационализм философии, и абсолютизм коро-
лей,— когда последний был сам собой и исключительно про-
водил в жизнь идею государства,— были одинаково враж-
дебны традициям, не оправдываемым разумом и общим бла-
гом, одинаково враждебны божественному праву, на которое
ссылалась церковь, и историческому праву, которым защи-
щало свои привилегии дворянство. Государство тоже могло
быть понимаемо рационалистически, отвлеченно, без его ис-
торически возникших национальных, конфессиональных и
бытовых (в частности, сословных) осложнений, и представи-
тели такого понимания государства готовы были подчас дей-
ствовать столь же революционно, как действовали потом
французские государственные люди от имени суверенного
народа. Между просвещенным абсолютизмом и Французской
революцией есть известное внутреннее родство, столь же
близкое в известных отношениях, какое было между монар-
369
хическими и народными реформациями XVI в. Правда, рево-
люция осудила абсолютизм королей во имя идеи народовла-
стия, но по отношению к католицизму и духовенству, к фео-
дализму и дворянству она только еще резче стала проводить
политику, которой держались в обоих отношениях те или
другие представители просвещенного абсолютизма.
Последний имел и своих идеологов в литературе, среди
самих же писателей просветительной эпохи. Самым круп-
ным представителем основной идеи просвещенного абсолю-
тизма среди них был именно Вольтер, «патриарх филосо-
фов», как его называли, выразитель целого направления, ок-
рещенного его именем («вольтерьянство»), постоянный
корреспондент и одно время гость Фридриха II, состоявший
и в переписке с Екатериной II, пользовавшийся почетом и
влиянием и у некоторых министров. Великий боец за духов-
ную свободу, теоретически весьма сочувствовавший англий-
ской конституции, «связывающей руки королю для делания
зла и развязывающей их на добро», на практике он стоял за
неограниченную монархическую власть, лишь бы она была
за «просвещение» и «терпимость». Главное, к чему он стре-
мился, по собственным его словам, это не такой переворот,
какой был во времена Лютера и Кальвина, а другой — имен-
но переворот в умах людей, призванных к тому, чтобы управ-
лять народами. Политическим идеалом Вольтера был союз
монархов и философов, ибо он находил, что у тех и других
один и тот же враг, и враг этот — духовенство, священники,
которые так часто восставали против государей, между тем
как философы всегда жили с государями в мире и согласии.
В том уважении, с каким относились к Вольтеру государи и
министры, он видел залог того, что государство, управляе-
мое неограниченной властью, при торжестве разума и терпи-
мости, сделается главным органом того преобразования жиз-
ни, которое составляло сущность всех его, довольно-таки
умеренных для нашего времени желаний — веротерпимости,
ограничения законодательной власти церкви, подчинения ду-
ховенства государству, уничтожения духовных судов и цер-
ковной десятины, отмены серважа, равенства всех перед за-
коном, всеобщей обязанности платить налоги, единства зако-
370
нов, мер и веса и т. п.: все это, по его мнению, могло быть
получено только сверху. Один из деятелей Французской ре-
волюции, Кондорсе, написавший биографию Вольтера, защи-
щал его от обвинения «в слишком большой любви к едино-
личному правлению» тем, что его «никогда не обманывали
ни французская магистратура, ни шведские и польские дво-
ряне, называвшие свободой иго, под которым они хотели да-
вить народ». «Вместо того,— опять приводим мнение Кон-
дорсе,— чтобы объявить войну деспотизму прежде, чем ра-
зум сделается достаточно сильным, и призывать народы к
свободе прежде, чем они ее узнают и полюбят», философ
должен был «указать как им, так и их владыкам на злоупот-
ребления, в уничтожении которых одинаково заинтересова-
ны и повелевающие, и повинующиеся». К народу, к «непрос-
вещенной черни», у Вольтера было только презрение и недо-
верие: «когда чернь начинает рассуждать, все потеряно», и
для ее же собственного блага нужно, чтобы ею управляли
просвещенные государи1. Во Франции власть менее всего го-
това была следовать советам Вольтера, но когда в начале
своего царствования Людовик XVI призвал на пост министра
Тюрго, тоже «философа», Вольтер возликовал по поводу то-
го, что «царственная философия (1’auguste philosophic), кото-
рую так долго преследовали, начала диктовать свои торжест-
вующие законы». Торжество, как известно, не было продол-
жительным, и когда, через два года после отставки Тюрго,
Вольтер посетил его в Париже, то готов был целовать руку,
собиравшуюся осчастливить Францию.
И не один Вольтер так уповал на абсолютизм. Идея сою-
за неограниченной королевской власти с просвещением века
была весьма популярной, и около 1705 г. другой видный
представитель этого просвещения, Дидро, писал, что в Евро-
пе, пожалуй, не было уже ни одного монарха, который вме-
сте с тем не был бы философом. Сам Дидро не может быть,
однако, причисленным к защитникам просвещенного абсолю-
тизма. Его знаменитая энциклопедия заключала в себе нема-
1 Ср. выше аналогичные взгляды у итальянских гуманистов, с. 55, 58 и
318—320.
371
ло резкостей против королей и против тирании, но и он не
прочь был давать советы государям, от которых зависело
проводить их в жизнь. Известно, например, что по зову Ека-
терины II он приезжал в Петербург. «Если бы,— рассказыва-
ла потом императрица,— я послушалась Дидро, мне при-
шлось бы все перевернуть в моей империи вверх дном, при-
шлось бы совершенно преобразовать законодательство,
администрацию, финансы, дабы очистить место для невоз-
можных теорий». Сами нападки энциклопедистов на королей
часто объясняются только тем, что последние не следовали
разуму и терпимости, а не тем, что они являлись носителями
произвольной и безответственной власти; это отчасти можно
сказать и о «Системе природы» Гольбаха, против которой по-
лемизировал Фридрих II1. Часто это было только напомина-
нием государям об их обязанностях, как характеризовал
свою деятельность Рэйналь, автор «Философской истории
обеих Индий», в которой тоже кое-что сильно не понрави-
лось Фридриху II. Даже самый революционный писатель
XVIII в., по значению его сочинений, Руссо, «враг королей»,
не прочь был обещать Фридриху II «умереть у подножия его
трона», если он «даст наконец счастье народу в своем госу-
дарстве и сделается его отцом».
Настоящей представительницей идеи просвещенного аб-
солютизма во французской литературе XVIII в. сделалась
школа экономистов-физиократов, основанная придворным
врачом при Людовике XV, Кенэ. «Физиократия» была, как
мы знаем2, своего рода применением к хозяйственной жизни
общества понятия «естественного права». Физиократы реко-
мендовали предоставить народное хозяйство его естествен-
ному течению,— чем требовалась отмена феодальных и це-
ховых стеснений и правительственной регламентации,— и
настаивали на том, что лишь сельское хозяйство, в котором
человек имеет непосредственное дело с природой, дает чис-
тый доход, так что это была полнейшая противоположность
меркантилизму, подчинявшему хозяйственную жизнь опеке
1 См. выше, с. 353.
2 См. выше, с. 268.
372
государства. Но свою систему, свой «Естественный и суще-
ственный порядок политических обществ» (как названо глав-
ное сочинение физиократа Мерсье де ля Ривьера) физиокра-
ты думали осуществить, опираясь исключительно на неогра-
ниченную королевскую власть, стоя в политике уже всецело
на точке зрения просвещенного абсолютизма. Еще основа-
тель школы, Кенэ, для реализации своей экономической си-
стемы требовал полного единства и безусловного господства
верховной власти, возвышающейся во имя общего блага над
противоположными интересами частных лиц1. Только что
упомянутый Мерсье де ля Ривьер в своем «Ordre naturel et es-
sential des societes politiques» развивал ту мысль, что «законо-
мерный деспотизм» (le despotisme legal), как он выражался,
один в состоянии осуществить общее благо, установив есте-
ственный порядок общества. Он нападал на учение о разде-
лении и равновесии властей, или о политических противове-
сах («контрфорсах») так: если основы хорошего правления
для власти очевидны и она захочет поступать сообразно с
ними на благо общества, то противовесы могут лишь поме-
шать ей в этом деле, и наоборот, в этих противовесах нет на-
добности, раз основы хорошего правления остаются неизве-
стными для власти, так что напрасно из боязни, что прави-
тель может быть невежественным, ему противопоставляют
людей, едва умеющих управлять самими собой2.
Физиократия, особенно увлекшая одного из немецких го-
сударей (маркграфа баденского Карла Фридриха) и его мини-
стра (Шлеттвейна), дала и Франции на короткое время
(1774—1776) замечательного министра-реформатора Тюрго,
бывшего уверенным в том, что если бы «ему на пять лет дали
1 Другой физиократ (аб. Бодо) называл то же самое «экономической
монархией» (monarchic economique).
2 Вот что говорит Кенэ в своих «Maximes generales du gouvemement
economique d’un royaume argicole»: «Система противовесов — вещь гибельная
в деле правления, за которой скрываются только раздоры вельмож и угне-
тение народа. Пусть государство хорошенько понимает свой долг и пусть
ему будет предоставлена свобода (qu’on le laisse libre); нужно, чтобы госу-
дарство управляло по существенному порядку (1’ordre essentiel, т.е. по фи-
зиократической системе), а для этого необходимо, чтобы оно пользовалось
свободой».
373
деспотизм, то он сделал бы Францию счастливой». Некото-
рые историки даже ставили вопрос, была ли бы во Франции
нужна и даже возможна революция, если бы Тюрго позволи-
ли осуществить его план реформ, который он стремился осу-
ществить. Это был и крупный теоретик в области политиче-
ской экономии, и крупный практический деятель, превосход-
ный администратор, допускавший даже известную
самодеятельность общества в делах раскладки налогов, мест-
ного хозяйства, общественной благотворительности, но и он
в конце концов стоял в политике на точке зрения, общей
всем физиократам. Предлагая Людовику XVI целый план ад-
министративной реформы, он в своем мемуаре, содержавшем
этот план, указывал на то, что во Франции нация не имеет
надлежащего устройства и что ее нужно организовать для
управления по-новому1. При правильном устройстве, писал
он королю, «Вы могли бы управлять подобно Богу на основа-
нии общих законов, если бы составные части Вашей держа-
вы имели правильную организацию и определенные взаимо-
отношения... Поскольку Ваше Величество не будете отсту-
пать от справедливости, Вы можете смотреть на себя как на
неограниченного законодателя (legislateur absolu) и рассчиты-
вать на свою добрую нацию в исполнении Ваших приказа-
ний». Это была настоящая точка зрения просвещенного абсо-
лютизма, и министр-реформатор сулил своему государю обо-
жание народа, удивление и уважение Европы, как, с другой
стороны, пророчил в одном из своих писем к Людовику XVI
судьбу английского короля Карла I, погибшего, как казалось
Тюрго, «из-за своей слабости»2.
В политике просвещенного абсолютизма нужно разли-
чать те идейные влияния, которые шли со стороны просвеще-
ния, и те реальные интересы, которые требовали реформ в
1 См.: История Западной Европы. Т. III. С. 427 и след., где изложен
весь план.
2 Характерный факт: на полях мемуара Людовик XVI написал, что
Тюрго желает «Франции более чем английской». «Система г. Тюрго,— при-
бавлял он,— только прекрасный сон, утопия благонамеренного человека,
но низвергающая установленные порядки. Идеи г. Тюрго опасны, и их но-
визна требует отпора».
374
учреждениях и законах, в администрации, суде, финансах,
школьном деле и т. п.1 Просвещенный абсолютизм был, в
сущности, одним из моментов государственного строительст-
ва абсолютной монархии вообще, в котором более отсталые
страны старались догнать, например, Францию с ее более
выработанной централизацией, с ее дальше ушедшим покро-
вительством обрабатывающей промышленности и проч., и
проч., как в этом можно убедиться из рассмотрения многих
мероприятий Фридриха II или Иосифа II, уже рассматривав-
шихся в разных главах настоящей книги2. Просвещенный аб-
солютизм не отказывался от полноты власти, но больше ос-
новывал ее на естественном праве и идее общего блага, чем
на божественном происхождении и религиозном служении.
Он отнюдь не отказывался от традиций полицейского госу-
дарства и, скорее, даже усугублял требования этой системы.
Это была та же возведенная на степень основного принципа
государственность, в жертву которой приносилось все, на
что только власть могла распространить свои веления. Про-
водя свои административные, судебные и финансовые рефор-
мы, просвещенные деспоты думали лишь о правах и об инте-
ресах государства, о подчинении центральной власти всего
областного управления, об организации суда на государст-
венном начале, о возможно лучшем наполнении государст-
венной казны и т. п., и если они вступались, например, за
крестьян и защищали их от помещичьей эксплуатации, то и
тут на первом плане стояли не соображения гуманности или
справедливости, а интересы казны: как-никак, крестьяне бы-
ли главными плательщиками налогов, и в интересах государ-
ства было позаботиться о том, чтобы не все же у крестьян
отбиралось помещиками в свою пользу, чтобы и на долю каз-
ны что-либо все-таки оставалось. Фискальным и бюрократи-
ческим характером отличаются поэтому все главные финан-
совые и административные преобразования просвещенного
1 Ср. в указанной выше статье моей о книге П. Митрофанова, с. 158—
163, где на основании этой книги рассматривается, что в деятельности
Иосифа II относится к идеологии и что — к практике.
2 См. выше, с. 145, 155 и след., 168 и след., 182 и след., 272 и след.
375
абсолютизма; в этом отношении одинаково шли вперед по
заветам своих предшественников и прусский «король-фило-
соф», и даже «революционер на троне», его австрийский со-
временник.
Если чем-либо особенно резко отличался просвещенный
абсолютизм Иосифа II и других правителей эпохи от абсо-
лютизма всех Габсбургов и большинства Бурбонов, так это
своим отношением к католицизму и к сословным привилеги-
ям дворянства. Мы видели, что, сломив политическую силу
духовенства и дворянства, абсолютная монархия взяла на
себя задачу охраны их культурного и социального преобла-
дания в национальной жизни1. Просвещенный абсолютизм
был разрывом с такой политикой, ибо государство хотело
теперь само пользоваться многим из того, что доставалось
на долю церкви и аристократии. Кроме того, в тех странах,
где католическая реакция с особенной силой утвердила
культурное и социальное преобладание клира, последний
делался опасным государственной власти и в политическом
отношении своими материальными средствами, своим влия-
нием на массы. Во второй половине XVIII в. возобновилась
борьба церкви с государством, о которой не слышно было в
общем более двух веков, но католические правители этой
эпохи во многих отношениях думали только о том, чтобы,
не меняя догматов и обрядов, достигнуть тех же самых вы-
год, какие для государственной власти представлял собой
протестантизм.
Одним из главных результатов просвещенного абсолю-
тизма в церковной сфере было падение ордена иезуитов, это-
го орудия католической реакции с ее теократическими и кле-
рикальными стремлениями и с ее ненавистью к свободной
умственной деятельности в областях науки, образования и
литературы. Ордену был нанесен удар абсолютизмом, отста-
ивавшим начала государственности, при деятельной мораль-
ной поддержке со стороны представителей рационалистиче-
ского просвещения. Известно, что прежде всего, именно в
1759 г., иезуиты были изгнаны (с конфискацией их иму-
ществ) по инициативе министра Помбаля из Португалии, по-
1 См. выше, гл. XV.
376
том (в 1764 г.) из Франции в министерство Шуазеля, через
три года (1767) — из Испании при Аранде и из Неаполя при
Тануччи, а в 1768 г. из Пармы по настоянию министра дю
Тилло. Когда вскоре после этого умер папа Климент XIII, на-
званные государства по взаимному соглашению добились из-
брания на папский престол, под именем Климента XIV, пре-
лата, который обещал изменить всю прежнюю политику пап-
ства относительно светской власти, и через три года после
начала своего понтификата (в 1773 г.) новый папа посредст-
вом бреве «Господь и Искупитель» (Dominus ас Redemptor)
объявил орден иезуитов распущенным. Так после 233-летне-
го существования окончила свои дни эта организация по на-
стоянию католических государей, носивших почетные титу-
лы «благовернейшего» (fidelissimus, в Португалии), «христи-
аннейшего» (christianissimus, во Франции) и специально
«католического» (catholicus, в Испании), и только «схизма-
тичка» Екатерина II да «еретик» Фридрих II, которые могли
не повиноваться папскому приказанию, позволили иезуитам
существовать по чисто политическим соображениям в като-
лической Силезии и сильно окатоличенной Белоруссии, двух
новоприобретенных ими провинциях. Характерно и то, что
последовательное изгнание иезуитов из Португалии, Фран-
ции, Испании, Неаполя и Пармы произошло на протяжении
менее чем десяти лет и что в данном случае действовал не
только «заразительный» пример, но и прямая солидарность.
За исключением Португалии, во всех остальных из назван-
ных государств царствовали Бурбоны, между которыми с
1761 г. существовал специальный «фамильный договор»1: вся
жизненность его и проявилась в той солидарности, с какой
действовали посланники бурбонских дворов в Риме перед из-
бранием папы, уничтожившего орден иезуитов. Один исто-
рик так и озаглавил рассказ об уничтожении ордена иезуи-
тов: «Заговор Бурбонов против иезуитов»2. Эта солидарность
проявилась еще в одном эпизоде той эпохи: герцогство Пар-
ма, считавшееся папским леном, вызвало против себя неудо-
вольствие курии, и герцогу даже грозили отлучением от цер-
1 См. выше, с. 105—106.
2 Опсеп в «Zeitalter Friendrichs des Grossen».
377
кви; тогда (это было в середине 60-х гг.) французское прави-
тельство заняло вкрапленные во французскую территорию
папские владения (город Авиньон и графство Венессен), а
неаполитанское — такие же папские владения внутри своей
территории (Беневент и Понтекорво), удержав их за собой
до 1773 г., когда был уничтожен орден иезуитов.
В деле уничтожения «Общества Иисуса» фамильная по-
литика династии Бурбонов могла получить такое направле-
ние лишь потому, что каждое из их государств, подобно Пор-
тугалии, и как это могло бы случиться в Австрии, царствуй
там в это время не Мария-Терезия, а Иосиф II, само находи-
ло нужным покончить с могущественной организацией, быв-
шей, с одной стороны, как бы государством в государстве, с
другой — своего рода международным заговором против
всех правительств.
В Португалии иезуиты занимали высшие государствен-
ные должности, держали в своих руках все народное образо-
вание, стояли во главе промышленных и торговых предприя-
тий, владели двумя колониальными областями (Парагваем и
Уругваем), а когда были недовольны правительством, то воз-
мущали против него народные массы. Во Франции иезуиты
тоже были весьма влиятельны при дворе и в обществе и в не-
которых случаях не хотели подчиняться законам государст-
ва, говоря, что у них есть свои. Когда Людовик XV, под вли-
янием своей метрессы, г-жи де Помпадур, и под давлением
общественного мнения перестал покровительствовать иезуи-
там и у их генерала в Риме было потребовано изменение кое-
чего в уставах ордена, на это был дан гордый ответ: «Sint, ut
sunt, aut non sint» (пусть остаются такими, какими есть, или
пусть совсем их не будет). В Испании делалось то же самое,
что и в Португалии — вплоть до подготовки иезуитами на-
родных волнений и руководства ими; как политически опас-
ны были иезуиты правительству, видно из того, что приго-
товления к их изгнанию держались в строжайшей тайне, со-
ответственные распоряжения были приведены в исполнение
повсеместно в один и тот же день, заставши иезуитов врас-
плох, и лишь после нанесенного удара вышел королевский
указ об отмене ордена во всех владениях Испании.
378
Прибавим, что в способах борьбы, к каким прибегал аб-
солютизм, уничтожая орден иезуитов, обнаруживались те
же произвол власти, пренебрежение к праву и жестокость, с
какими полвека спустя в тех же странах правительство дей-
ствовало против либералов. Особенно резкой была расправа
с иезуитами в Португалии, где пущены были в ход тюремные
заключения, конфискации, пытки и казни.
Но изгнание иезуитов было только эпизодом в общей ис-
тории отношений просвещенного абсолютизма к католиче-
ской церкви. Это было возобновление старой борьбы свет-
ской власти с папством, клиром и монашеством за интересы
государства и попутно общества, равно как началом борьбы
за народное образование, которое в интересах самого же го-
сударства нужно было вырвать из рук духовенства.
Помбаль в Португалии, несмотря на все благочестие ко-
роля (Иосифа Эммануила), своими мерами против господст-
ва церкви довел дело до формального разрыва с папской ку-
рией, продолжавшегося целое десятилетие, так что подни-
мался даже вопрос о сущности главенства папства и о том,
нельзя ли было бы эту власть заменить чисто местной духов-
ной властью. Мы видели также, какой конфликт произошел
с папской властью в Парме и из-за Пармы. О натянутых от-
ношениях между папством и императором Иосифом II речь
будет идти впереди. Практике соответствовала и теория.
Представители просвещения XVIII в., враждебные католи-
цизму, стояли на точке зрения подчинения религии государ-
ству1. Ученые канонисты эпохи подобным же образом разре-
шали спорные вопросы церковно-политических отношений в
пользу преобладания светской власти. Таков был юрист Та-
нуччи. Сначала он был профессором государственного права
в Пизанском университете, отстаивавшим права абсолютной
монархии против клерикально-аристократических притяза-
ний, потом сделался министром в Неаполитанском королев-
стве при Карле III (1734—1759) и сыне его Фердинанде IV,
в малолетство которого занимал должность регента. Его зна-
чение — в том, что вся его политика по отношению к церкви
диктовалась чисто теоретическими, принципиальными сооб-
1 См. выше, с. 313.
379
ражениями. Собственно говоря, им даже и начат был поход
просвещенного абсолютизма против церковной власти и вли-
яния духовенства. Его первый государь, Карл III, в 1759 г.
променявший неаполитанский престол на испанский, и в но-
вом своем королевстве приблизил к себе министров (Аранду
и Кампоманеса), разделявших те же идеи. Особенно же вли-
ятельным теоретиком главенства государства был уже изве-
стный нам Феброний1. Например, составляя свое опроверже-
ние на папское бреве против герцога Пармского, испанский
министр Кампоманес пользовался именно его книгой, и на
его же учение опирался Иосиф И, производя свои церковные
реформы.
Однородность мер, одновременно принимавшихся против
церковного господства в Неаполе, в Португалии, в Испании,
в Парме, а позднее и в монархии Габсбургов, указывает на
то, что тут была известная система, более или менее выдер-
жанный принцип. Не рассматривая истории этих мер в от-
дельных южно-романских странах2, отметим те, которые
встречаются в большей части названных государств, незави-
симо от того, принимались ли они по соглашению с папской
властью3 или (что случалось чаще) односторонними распоря-
жениями правительства. Этими мерами были: объявление
недействительными папских булл, не получивших королев-
ского утверждения; ограничение церковной юрисдикции и
постановка ее под контроль государства; запрещение духов-
ной власти наказывать королевских чиновников за исполне-
ние ими правительственных повелений; уничтожение или
подчинение государству священной инквизиции; переход
духовной цензуры под правительственный контроль и даже
отдача под светскую цензуру духовных сочинений; ограни-
чение числа духовных и монашествующих лиц; положение
предела росту церковного землевладения и обложение по-
следнего податями; подчинение монастырей полицейскому
надзору и закрытие многих из них с отобранием их иму-
1 См выше, с. 307.
2 Об этом см.: История Западной Европы. Т. III. Гл. XXVII.
3 Конкордаты были заключены с курией Неаполем в начале деятельно-
сти Тануччи, Испанией еще до Аранды.
380
ществ в казну; лишение духовенства прежней монополии в
деле народного образования.
Все эти меры впоследствии были повторены в габсбург-
ской монархии Иосифом II, в данном случае явившемся на-
стоящим «революционером на троне». Направление, которое
приняла политика Иосифа II по отношению к папству, клиру
и монашеству, получила даже название «иозефинизма» и под
этой кличкой сделалась предметом особенно ярых нападений
со стороны как правоверно настроенных современников, так
и позднейших католических историков, всячески порицав-
ших церковную политику Иосифа II. Подобно тому, как Та-
нуччи в Неаполе, Помбаль в Португалии, Аранда и Кампома-
нес в Испании резко порывали с прежней реакционно-клери-
кальной политикой своих правительств, так и Иосиф II
являлся настоящим новатором в архикатолической Австрии,
сколько бы частных мер в пользу государства и ни принима-
лось при его матери, благочестивой католичке Марии-Тере-
зии.
Современники «иозефинизма» и позднейшие историки
различным образом определяли источник церковных реформ
Иосифа, но, в сущности, это было характерное для всей де-
ятельности Иосифа II стремление во всем и везде превыше
всего поставить государственную власть, и в этом смысле да-
леко не правы были авторы бельгийских памфлетов против
его мероприятий, обвинявшие его не более не менее, как в
желании установить в Австрии английскую супрематию. Он
сильно суживал права духовной власти, стараясь, наоборот,
всячески расширить права власти светской — в церковных
же делах. Во время знаменитого путешествия папы в Вену
Иосиф II известил его, что «слышит внутренний голос, кото-
рый громко повелевает ему, как законодателю и защитнику
церкви, поступать так, а не иначе. Голос этот,— заявлял он
папе,— при помощи свыше и при моих честных, здравых на-
мерениях не может повести меня по ложному пути». Он оди-
наково был и против церковного собора епископов, потому
что это только сплотило бы их и подняло бы их корпоратив-
ный дух, который был всегда неприятен абсолютизму, а это,
в свою очередь, могло бы лишь привести их, епископов, к за-
явлениям, несогласным с «разумными и пристойными прин-
381
ципами». Известно, что первые же мероприятия Иосифа II и
приписывавшиеся ему намерения до такой степени встрево-
жили папу Пия VI, что когда не помогли дипломатические
увещания, он сам, в 1782 г., приехал в Вену, хотя и это не
помогло. В следующем году император отдал папе визит в
Риме, как бы только для того, чтобы настоять еще на неко-
торых уступках со стороны курии.
Сущность иозефинизма сводилась 1) к установлению
большей независимости габсбургской монархии от Рима и
2) к ослаблению силы местного духовенства с прямым даже
подчинением его государству, что соединялось еще 3) с не-
посредственным вмешательством светской власти в чисто
религиозную сферу. В последнем отношении Иосиф II, объя-
вивший веротерпимость в своем государстве, но, как мы в
своем месте видели1, плохо понимавший принцип свободы
совести, шел прямо по стопам протестантских государей
XVI в., своей властью реформировавших культ, когда он
своей собственной властью уничтожал казавшиеся ему лиш-
ними праздники, отменял те или другие крестные ходы, уда-
лял из церквей тоже, по его мнению, излишние иконы, ста-
туи и украшения, упрощал богослужение или вводил новый
требник с гимнами протестантского характера, изменял об-
ряд погребения и т. п.: он совершенно не считался с тем, что
все это — чисто церковные дела и что уважение к совести
католических подданных требовало бы с его стороны более
осторожного обращения с такими вещами. Духовенство,
враждебное иозефинизму, немало извлекло выгод для своей
агитации в народе против Иосифа II из его реформаторского
рвения.
В остальном Иосиф II следовал примеру южно-романских
католических правительств середины века. Им запрещено
было публиковать папские буллы без правительственного
одобрения, и некоторые прежние буллы были объявлены не-
действительными. В епископской присяге верность импера-
тору была поставлена выше верности папе. Диспенсацион-
ная власть габсбургских епископов была расширена на счет
папской, и монахи были освобождены от исключительной
1 См. выше, с. 315—316.
382
власти генералов, живших в Риме. Вместо Рима знатная мо-
лодежь должна была получать богословское образование в
одном из городов габсбургской Ломбардии1. Всем этим ос-
лаблялись власть и влияние Рима, но и власть и влияние ду-
ховенства внутри своей монархии Иосиф II тоже стремился
всячески ослабить.
К монашеству Иосиф II относился с настоящей ненави-
стью. Это была, под управлением генералов, живших в Риме,
опасная для государства сила, а кроме того, монахи были
люди бесполезные и даже вредные в экономическом и куль-
турном смыслах: к этим двум мотивам и сводится нерасполо-
жение Иосифа II к монастырям, если не прибавить еще
третьего мотива, заключавшегося в желании поживиться ра-
ди «общего блага» монастырскими имуществами. Монахов
он нередко называл факирами, людьми, ничего не производя-
щими, но много потребляющими, врагами человеческого ра-
зума. Во владениях Иосифа II была масса монастырей, и он
стал их упразднять целыми десятками, чуть не сотнями, се-
куляризируя их имущества, обращая и сами эти имущества,
и доходы с них на нужды благотворительности, народного
просвещения и вообще на разные государственные потребно-
сти. Гонению подверглись и религиозные братства, которые
все, в количестве 642, были упразднены, так как в них най-
дено было «множество вредных для государства злоупотреб-
лений и беспорядков». Наконец, школа и цензура Иосифом II
тоже были отняты у духовенства2. Особенно и тут император
был против монахов, «перед бритыми головами которых,—
как он выражался,— простонародье становится на колени и
которые господствуют над умами граждан с такой силой, как
никто никогда не влиял еще на душу человека».
Иосиф II стремился к тому, чтобы главное место в церкви
заняло, вместо монашества, «секулярное» духовенство, но
под условием полной преданности государству. По его плану
священники должны были превратиться, в сущности, в подо-
бие государственных чиновников особого бюрократического
ведомства, ведавшего религиозный культ. Ходили даже слу-
1 Ср. выше, с. 326 и след, и ниже, с. 384.
2 См. выше, с. 326 и 330.
383
хи, будто правительство намеревалось отменить целибат ду-
ховенства, и Иосифу II пришлось особым гофдекретом объя-
вить, что все это неправда. В числе требований, которые
предъявлялись кандидатам на священнические места, зна-
чились, между прочим, «просвещенный ум» и «ревность к
распространению целесообразного просвещения» (для «уст-
ранения вредных предрассудков»), «хорошее знакомство с
высочайшими повелениями» и «одобрительное отношение к
церковным и политическим мероприятиям». В круг обязанно-
стей духовного пастыря входило наставлять прихожан в ис-
полнении обязанностей к Богу и монарху (gegen Gott und
den Monarchen) и объявлять в церкви с необходимыми разъ-
яснениями все правительственные распоряжения, хотя бы,
например, они касались таких предметов, как ветеринария, а
также рядом с метрическими записями вести и конскрипци-
онные списки (по отбыванию рекрутчины) или доводить до
сведения властей о случаях несправедливости помещиков по
отношению к крестьянам. Вместе с тем священники, подобно
всем чиновникам, должны были получать казенное жалова-
нье, вместо десятины и платы за требы, и находиться под
надзором не только своего духовного начальства, епископов,
но и окружных комиссаров, которые следили за поведением
духовенства и к которым прежде всего, в случае чего, прихо-
жане должны были приносить жалобы. Светскому начальст-
ву было вменено в обязанность производить и ревизию бого-
служебных книг, дабы не было в обращении таких, где поме-
щены были непризнанные государством буллы. Весьма
естественно, что в светских делах священники, «как государ-
ственные граждане со всеми другими светскими сограждана-
ми» (alsStaatsbtirgergleichanderen weltlichen Mitbtirgem), подле-
жали государственным судам.
Таких чиновников духовного ведомства государство мог-
ло иметь, конечно, лишь под условием надлежащего направ-
ления духовной школы. Иосиф II закрыл «Германский колле-
гиум» в Риме и заменил его аналогичным «германо-венгер-
ским» учреждением в Павии, где будущие клирики должны
были воспитываться в духе широкой веротерпимости и изу-
чать церковное право в таком его толковании, чтобы «учени-
ки видели, в чем заключается сущность и где находятся гра-
384
ницы духовной власти, и какие злоупотребления и гибель-
ные обычаи вкрались в церковь с течением времени», потому
что только таким путем «легко будет сохранить мир и уста-
новить единение между церковью и государством». Старые
духовные школы при епископских кафедрах (семинарии) и
монастырях были закрыты, и на их место учреждены новые,
где будущим клирикам внушалась мысль о том, «что церковь
должна быть полезной государству», и сознательно устраня-
лось все, что правительство называло ложным «благочести-
ем» (Afterandacht), «ханжеством» (Andachtelei), «преувели-
ченной добродетельностью» (tibertriebene Tugend), а «паче
всего всякое подобие аскетизма и монашества».
Таково было отношение просвещенного абсолютизма к
церкви. Когда под влиянием Французской революции просве-
щенный абсолютизм уступил место абсолютизму реакцион-
ному, отношение светской власти к духовенству сделалось
иным и возобладала старая система, выражавшаяся словами:
«союз алтаря и трона».
Перейдем теперь к рассмотрению взаимных отношений
просвещенного абсолютизма и сословного строя.
Мирабо в своей книге «О прусской монархии», вышедшей
в свет почти одновременно с кончиной Фридриха II, отмечает
не раз социальный консерватизм короля-философа, его вер-
ность правилу «изменять поменьше», «оставлять все на преж-
них основаниях» (sur les bases qu’il avait trouvees ou posees). Со-
вершенно верно говорит он, что и вообще «прусские короли не
хотели задевать (choquer) дворян уничтожением крепостниче-
ства». Фридрих II, по его словам, «без сомнения, мог бы заста-
вить всех крупных собственников своей страны освободить
крестьян, но таким актом власти он не хотел отвратить дво-
рянство, в котором нуждался для своей армии». И еще слова
Мирабо: Фридрих II «не видел в свободе крестьянина великого
средства, но если бы и видел, то многие соображения остано-
вили бы его перед этим шагом, особенно в Померании, где
столь много бедного дворянства: мог ли он рисковать оттолк-
нуть от себя (aliener) померанское дворянство, отнимая у него
такое право?» «Этот великий монарх,— читаем мы еще и еще
там же,— не пытался отменить барщину и крепостничество:
без сомнения, он чувствовал, что подобный переворот
385
(revolution) выходит за пределы всей его власти, всего его мо-
гущества, как бы велики они ни были».
Какой в социальном отношении Фридрих II в 1740 г. при-
нял Пруссию от своих предшественников, такой он и оставил
ее в 1786 г. своим преемникам, такой же она и дожила до йен-
ской катастрофы 1806 г., и только реформы Штейна и Гарден-
берга1 нарушили характеризующий историю монархии Гоген-
цоллернов социальный застой, сколько бы ни считалась эта
монархия при Фридрихе II образцовым государством по своим
административным, финансовым и военным учреждениям. Вы-
работанное по его инициативе, но опубликованное лишь при
его преемнике «Всеобщее земское право» Пруссии, несмотря
на весь свой философский дух2, закрепляло сословное нера-
венство в наиболее резких его формах. За дворянством сохра-
нялись все его социальные привилегии, бывшие своего рода
вознаграждением за утрату им политического значения и за
службу в армии, ибо оно поставляло офицеров, оплачивавших-
ся очень незначительным жалованьем и живших в значитель-
ной мере оброками с крестьян. Кроме того, король-философ,
свободный от целой массы предрассудков, никак не мог отде-
латься от взгляда на дворян как на людей белой кости, вы-
сшей, так сказать, породы. Только дворянам, думал он, прису-
щи чувство чести и настоящая храбрость, а потому лишь они и
достойны были, по его мнению, занимать офицерские места.
«Allgemeines Landrecht» одному дворянству открывало доступ
к почетным должностям и к королевскому двору (дворянин
был «hoffahig»), дозволяло приобретать так называемые рыцар-
ские имения (Rittergiiter) с вотчинной полицией и юстицией,
признало за его поместьями и другие привилегии (кроме изъя-
тия от податей, уже ранее в Пруссии не существовавшего) и
т. п., а чтобы дворяне не марали своего высокого звания, к не-
малому неудовольствию многих же из них, им запрещалось за-
ниматься промышленностью и торговлей и вступать в нерав-
ные браки.
Так при короле-философе, носителе идеи просвещенного
абсолютизма, высоко стоял сословно-дворянский принцип в
1 См. ниже, с. 407—408.
2 См. выше, с. 145—146 и ниже, с. 395—396.
386
Пруссии, бывшей в то же время образцом бюрократического
государства. И вот все-таки мы видим, что в нем чиновничест-
во занимало только второй ранг: сравнительно с бюргерством
оно находилось в привилегированном положении, но раз чи-
новник не был дворянином, доступ ко двору был для него за-
крыт, как и доступ к высоким должностям и к приобретению
дворянских поместий. За дворянством и чиновничеством шло
бюргерство или, вернее, высший его слой, состоявший из за-
житочных и образованных семейств, самим законодательством
выделявшийся из остального городского населения и обладав-
ший сравнительно с ним кое-какими преимуществами, но в то
же время бюргер, поступивший на военную или гражданскую
службу, не мог рассчитывать на такое же повышение, как его
товарищи из дворян. Самую низшую ступень социальной лест-
ницы занимало крестьянство, в котором были разные катего-
рии, но на которое государство смотрело главным образом как
на податную массу, нуждающуюся для блага государства в по-
мещичьей и чиновничьей опеке.
Крепостное состояние в Пруссии было уничтожено только
в 1807 г. Правда, уже в упомянутом земском праве 1794 г. ста-
рый термин крепостничества (Leibeigenschaft) был заменен
термином наследственного подданства (Erbunterthanigkeit), но
эта словесная замена сущности дела не меняла, и в руках по-
мещиков вместе с вотчинной полицией и юстицией оставались
барщинный труд прикрепленных к земле крестьян, разные по-
боры и право палочной расправы. Правда, с самого начала
XVIII в. прусские государи кое-что делали для крестьян своих
доменов, освобождали их от крепостничества и создавали мел-
кую крестьянскую собственность, но дворяне не следовали
примеру государя, да и чиновники, управлявшие королевски-
ми доменами, не оказывались достаточно исполнительными по
отношению к монаршей воле, требовавшей улучшения кресть-
янского быта. Чиновники сами являлись притеснителями на-
рода, как будто, говорилось в одном указе короля-философа,
крестьяне были их крепостными. Что помещики и чиновники
очень часто совсем не повиновались королевской воле, видно
из неоднократных запрещений при Фридрихе II так называе-
мого «Legen’a», т.е. сноса крестьянских дворов и присоедине-
ния их наделов к барской земле за произвольно самим поме-
387
щиком устанавливаемое вознаграждение1. Несмотря на то, что
местные чины в монархии Гогенцоллернов утратили всякое по-
литическое значение, они все-таки могли тормозить прави-
тельственные начинания в крестьянских отношениях. В
1763 г. Фридрих II предписал померанской доманиальной и во-
енной палате «абсолютно и без малейшего резонирования» ос-
вободить всех крепостных в деревнях королевских, помещичь-
их и принадлежавших городам, но местные чины заявили ко-
ролю, что в провинции нет никакого крепостничества, а
существует лишь «благодетельная и в высшей степени выгод-
ная связь» (Verbindung) между крестьянами и землевладельца-
ми, только и удерживающая население в стране (иначе будет
Depeuplirung) и дозволяющая правильно поставлять рекрутов
в армию Его Величества. Этот аргумент был настолько силен,
что король издал в следующем году для Померании «крестьян-
ский устав» (Bauernverordnung), где уже не видно и попытки
что-либо изменить сколько-нибудь существенным образом2.
Только в провинции, доставшейся Пруссии по первому разде-
лу Польши, Фридрих II имел возможность значительно улуч-
шить положение крестьянской массы и уничтожить, как он пи-
сал Вольтеру, царившее там рабство (esclavage).
Гораздо более решительным, чем Фридрих II, в отрица-
тельном отношении к сословным привилегиям оказался
Иосиф II.
В Австрии уже при Марии-Терезии, в силу государст-
венной необходимости, старым сословным привилегиям бы-
ли причинены кое-какие ущербы, хотя императрица лично
была расположена к сохранению дворянских прав и преиму-
ществ и — в антидворянских тенденциях Иосифа II усмат-
ривала лишь уничтожение значения знати под благовидным
предлогом содействия народному благу. Мы знаем, что уже
при ней были отменены или ослаблены многие стороны со-
словного самоуправления3, введены косвенные налоги, па-
1 Об этом «легене» см.: Поместье-государство. С. 364—365. Посредст-
вом легена в соседнем Мекленбурге дворянство к началу XIX в. совсем
обезземелило крестьян.
2 Этот случай и имеется в виду в словах Мирабо, приведенных на
с. 385.
3 См. выше, с. 170 и след.
388
давшие и на дворян, и некоторые прямые, от коих не были/
изъяты и дворянские земли, допущены на гражданскую и
военную службу недворяне и т. п. Иосиф II, прямо одержи-
мый нерасположением к дворянским привилегиям, уже с
особой охотой отменял в этом отношении многие остатки
старины. В частности, в крестьянском деле при Марии-Те-
резии было вменено в обязанность окружным начальникам
защищать крестьян от помещиков, принимались меры про-
тив обезземеления крестьян помещиками, и в особенности
делались попытки ограничить барщину, доходившую иногда
до шести дней в неделю. В начале 70-х гг. Мария-Терезия
издала для отдельных областей монархии ряд указов о бар-
щине, или так называемых «Robot und Urbarial-Patent’oB»1,
ограничивавших обязательную работу крестьян тремя днями
в неделю. Первый такой патент был издан для Чехии, дво-
рянство которой протестовало, ссылаясь на то, что это про-
тиворечит коронационной присяге государыни, нарушает за-
конные права собственности и поведет только к распущен-
ности крестьянства и разорению дворянства. В свою
очередь, крестьяне не верили в этот патент, считая его под-
ложным, подлинный же скрытым помещиками; они даже на-
чали прямо восставать. Поэтому в следующем патенте (для
Моравии) уже подчеркивалось, что даруется облегчение
лишь крестьянина, отнюдь не отмена повинностей. Кресть-
янские волнения в разных частях монархии особенно обра-
щали на себя внимание императрицы, и она жаловалась,
что ее министры, принадлежа сами к помещичьему классу,
мало содействуют ей в улучшении положения крестьян.
Иосиф II еще при жизни матери говорил, что только автори-
тет власти (Machtspruch) в состоянии положить конец кре-
постничеству. По вступлении на престол он издал ряд «па-
тентов» (в 1781, 1782 и 1785 гг.), которыми улучшалось
правовое положение крестьян вообще и даже прямо отменя-
лось крепостничество. Венгерское дворянство протестовало,
указывая на то, что крестьянская неволя была установлена
1 Немецкое слово «Robot» взято из славянского «работа» (барщина), а
«урбариями» назывались записи крестьянских повинностей (от мадьяр.
иг—господин и Ьег— плата, подать).
389
в королевстве сеймовым постановлением 1514 г.1 и что, сле-
довательно, государь своей единоличной властью не имел
права отменять права дворян над крестьянами. Известно,
что уничтожение крепостного права, совершенное Иоси-
фом II, осталось только на бумаге вследствие начавшейся
после его смерти реакции, заставившей его преемника взять
назад многие реформы своего брата. Отменена была и его
податная реформа, невыгодная для дворян. Дело в том, что
государь-реформатор хотел привлечь к платежу налогов и
дворян, как это уже было в некоторых странах. Однажды в
разговоре с графом Хотэком, канцлером богемско-австрий-
ской придворной канцелярии, защищавшим интересы дво-
рянства, он сказал, что лучше заблаговременно уступить,
чем ждать, когда крестьяне перестанут платить. Хотэк заме-
тил ему на это, что крестьян можно заставить платить си-
лой, и получил такой ответ, что сила находится на стороне
народа: «Поверьте мне, что если мужик не захочет платить,
все мы полетим долой» (sind wir alle pritsch, причем послед-
нее слово по-чешски значит «прочь»). В конце концов Хотэк
вышел в отставку, не желая подписывать указ, несправедли-
вый, по его мнению, в отношении к дворянству.
Иосиф II, мечтавший о замене большей части налогов од-
ним, который падал бы на землю, как единственный источник
дохода, находил, что не нужно делать никакого различия меж-
ду разными категориями владельцев земли, будут ли то госу-
дарство, церковь, господа или крестьяне2. С этой целью было
даже приступлено в некоторых областях к генеральному меже-
ванию и к составлению кадастра и учреждена (в 1785 г.) осо-
бая «придворная комиссия для регулирования налогов»
(Steuer-Regulierung-Hof-Kommission), а через год реформа рас-
пространена на Венгрию. «Привилегии и прерогативы дво-
рян,— сказано было в императорском указе,— в любой стране
состоят не в том, чтобы быть избавленными от повинностей,—
напротив того, в Англии и Голландии они платят больше дру-
гих сословий,— а в том, чтобы самим иметь право налагать на
1 Поместье-государство. С. 310.
2 Это была несколько смягченная идея физиократов об impot unique на
землю. Современники в один голос указывали на физиократизм Иосифа II.
390
себя государственные тяготы и показывать в этом отношении
пример остальным. Свободу личности,— говорится далее,—
следует отличать от свободы имущества; с экономической точ-
ки зрения дворяне в своих поместьях суть не что иное, как
земледельцы, скотопромышленники и мясники; в городах они
лишь обыватели и потребители; на дорогах и на перевозах —
путешественники и пассажиры. Во всех этих случаях они дол-
жны быть поставлены на одну ногу с остальными обывателями
и гражданами»1.
Сословные привилегии ограничивались или отменялись
деятелями просвещенного абсолютизма. Министры-реформа-
торы южно-романских стран вели борьбу не с одним духо-
венством. Помбаль принимал энергичные меры против рас-
хищения дворянством доменов и против его насилий над на-
родом. Тануччи подчинял дворянские суды королевским,
даже прямо их отменял, а также брал сторону сельского на-
селения в его поземельных спорах с феодальными землевла-
дельцами. В Савойе Карл Эммануил III предпринял, в шести-
десятых и семидесятых годах XVIII в., полную ликвидацию
крепостничества и сеньориальных прав, которую во Фран-
ции в начале революции некоторые публицисты прямо вы-
ставляли как пример, достойный подражания. Датский ми-
нистр Струензе тоже был известен, как «враг дворянства».
Антиклерикальная и антифеодальная политика просве-
щенного абсолютизма должна была вызвать против него оп-
позицию в обоих сословиях, которые до того времени поддер-
живали абсолютизм, как самую надежную опору и оплот их
привилегий, их интересов, их властного и влиятельного по-
ложения в обществе. Везде, кроме, например, Пруссии, шла
страстная борьба абсолютизма с духовенством и дворян-
ством, и абсолютизм нередко прибегал к крайне насильст-
венным, деспотическим мерам (особенно в Португалии при
Помбале) против своих привилегированных противников.
Клерикально-аристократическая оппозиция повсеместно под-
готовляла реакцию, и еще до начала Французской револю-
ции в некоторых случаях эта реакция уже имела успех.
1 Много сословных привилегий оставалось и в области суда, хотя в
уголовном судопроизводстве Иосифом II и было в принципе, с частными
только исключениями, установлено равенство сословий.
391
В Португалии, едва умер покровитель Помбаля, Иосиф
Эммануил, как при дочери его Марии началось против все-
сильного когда-то министра гонение, и характер нового кур-
са, принятого правительством, выразился в том, что в число
наиболее чествуемых святых были включены папа Григо-
рий VII, проповедовавший главенство духовной власти над
светской, и Игнатий Лойола, основатель Ордена иезуитов,
изгнанного Помбалем из Португалии. В Испании Аранда еще
при жизни Карла III по проискам духовенства должен был
преждевременно покинуть свой пост, а один из его преемни-
ков, Олавидес, поплатился за свое свободомыслие тюремным
заключением. В Швеции при Густаве III, восстановителе аб-
солютизма, искавшем популярности у французских филосо-
фов, тоже повеяло реакцией, и вся «просвещенность» не
спасла короля от дикой ненависти к Французской револю-
ции. В Дании смелый реформатор, Струензе, по проискам
двора жестоко поплатился за свои реформаторские начина-
ния, сложив голову на плахе, что сопровождалось отменой и
его реформ. Даже в Пруссии, где, собственно говоря, и не
было борьбы абсолютизма с церковью и дворянством, в зави-
симости от личного характера преемника Фридриха II, его
племянника Фридриха Вильгельма II, тоже изменился общий
характер внутренней политики в направлении суеверного
ханжества, отвращения ко всему французскому и, в частно-
сти, к рационалистической философии века и т. п. В 1788 и
1792 гг. здесь были даже изданы эдикты, запрещавшие сво-
боду совести и свободу печати, как ни ограничена была по-
следняя и раньше. Французская революция окончательно на-
правила этого короля на путь реакции. Он сам заявлял, что
«его ремесло — быть монархистом»1, и потому он так охотно
примкнул к союзу с Австрией для борьбы с революционной
Францией.
Особенно важный в историческом отношении пример
консервативной оппозиции просвещенному абсолютизму, пе-
решедшей потом в неумолимую клерикально-феодальную ре-
акцию против предпринятых и совершенных уже реформ,
представляют собой события царствования Иосифа II в Авс-
1 То же самое («я по ремеслу своему обязан быть роялистом»), узнав
о северо-американском восстании, заявлял и Иосиф II, по свидетельству од-
ного из многочисленных о нем анекдотов.
392
трии1. Дело в том, что этот «революционер на троне» своими
реформами задел не только права привилегированных сосло-
вий, но и национальные чувства и исторические традиции
целых населений в.своей монархии. Его резко централиза-
торская политика2 сопровождалась известного рода германи-
зацией отдельных областей (кроме Бельгии и Ломбардии), и
если здесь не было ничего общего с денационализацией в ду-
хе племенной нетерпимости, развившейся в XIX в.,—
Иосиф II сам говорил, что будь Венгрия главным его государ-
ством, он не задумался бы сделать мадьярский язык государ-
ственным,— то все-таки в ненемецком населении монархии
был сильно затронут местный патриотизм. Иосиф II отказал-
ся короноваться венгерской короной, приказав перевести ее
в Вену, не созывал венгерского сейма и даже комитетских
сеймиков, уничтожил остатки обособленного положения Бо-
гемии, не пожелав при этом короноваться и в Праге, допу-
скал в обоих «королевствах» (Венгрии и Чехии) в качестве
официального языка только немецкий и постоянно нарушал
и конституции отдельных областей в австрийских Нидерлан-
дах, объявив под конец и полное уничтожение старого со-
словного самоуправления в Бельгии. В последней против
Иосифа II вспыхнула настоящая революция, скоро слившая-
ся с французской, а Венгрия вступила в сношения с Прус-
1 В не раз уже называвшейся у нас книге П. Митрофанова «Полити-
ческая деятельность Иосифа II, ее сторонники и ее враги» каждая отдель-
ная глава, рассматривающая какую-либо сторону преобразовательных начи-
наний этого «революционера на троне», оканчивается отделами, специально
посвященными именно врагам его политики. Автор справедливо указывает
на то, что оппозиция против реформ Иосифа II была двоякая: консерватив-
ная, вызывавшаяся главным образом проведением в жизнь просветитель-
ных идей, и прогрессивная, направленная против самого абсолютизма во
имя свободы (с. 770). «Обыкновенно,— говорит он,— принято характеризо-
вать ее (оппозицию), как консервативную, отмечая в ней исключительное
участие духовенства и привилегированных сословий, вступавшихся за свои
нарушенные прерогативы. Такая характеристика будет, пожалуй, не совсем
точной: она не обнимает всей совокупности оппозиционных факторов и яв-
лений» (с. 771). Тем не менее все-таки приходится настаивать на том, что
и количественно, и качественно главная роль в оппозиции Иосифу II при-
надлежала консервативным элементам, как это видно из перечисления сил
оппозиции, сделанного самим же автором (с. 771—772). Ср. указанную вы-
ше (с. 365) мою статью.
2 См. выше, с. 168—169.
393
сией, желая отложиться от Габсбургов. Преемник Иосифа II,
сам действовавший раньше в духе просвещенного абсолю-
тизма в Тоскане1, для спасения целости монархии пошел на
уступки, пример чему показал уже сам Иосиф II, взяв назад
большую часть неприятных клиру и аристократии нововведе-
ний, кроме эдиктов о веротерпимости и об уничтожении кре-
постного права.
Во Франции попытка реформ в духе просвещенного абсо-
лютизма сделана была, в начале царствования Людовика XVI,
министром-физиократом Тюрго2, но он не продержался на сво-
ем посту и двух лет, будучи свергнут коалицией придворных
сфер, высшего духовенства и финансистов. Привилегирован-
ные во Франции проявили даже особую силу в борьбе с малей-
шими поползновениями правительства к реформам, задевав-
шим интересы духовенства, дворянства и двора3.
Такова в общих чертах история просвещенного абсолю-
тизма на Западе во второй половине XVIII ст. В эту эпоху в
теории государь уже не ставил себя, как прежде, вне и над
государством, как то было при господстве чисто теократиче-
ской деспотии или чисто патримониальной власти, но вместе
с тем, однако, и не мыслил себя в составе юридической лич-
ности государства, как это принято в современной конститу-
ционной монархии, и, следовательно, не признавал себя ча-
стью этой самой личности, в качестве лишь одного из ее ор-
ганов, рядом с которым могут существовать и другие органы.
Абсолютистическая теория государства характеризуется
тем, что в ней государь является находящимся не вне госу-
дарства и не в его составе, а как бы в себе самом воплоща-
ющим все государство, хотя бы при этом в отдельных заяв-
лениях, например, Фридриха II или Иосифа II и звучали не-
сколько иные ноты. Во всяком случае идея просвещенного
абсолютизма была более высокой, чем идея абсолютизма
Людовика XIV, так как поглощение государства в личности
государя теоретически оправдывалось здесь благом государ-
ства, а не славой государя. Это и официально заявлялось в
законодательных сборниках той эпохи4. Например, «Макси-
1 О том, как Тоскана досталась Габсбургам, см. выше, с. 109.
2 Ср. выше, с. 371 и 373—374.
3 Ср. выше, с. 138—141.
4 Об этих сборниках см. выше, с. 145 и 182—184.
394
милиановский баварский кодекс» 1756 г. говорит, что «право
имеет различные значения», но что сам он употребляет это
понятие в смысле «закона, т.е. идущего от верховной власти
предписания (oberherrschaftliches Gebot), обращенного к под-
данному в вещах, касающихся общего блага». «Всеобщий
гражданский законник» Иосифа II 1787 г., исходя из того,
что «каждым подданным ожидают от государя страны без-
опасности и охраны», заявляет, что «это обязанность госуда-
ря страны — ясно определить права подданных и направлять
их поступки таким образом, как того требует общее и осо-
бенное (т.е. частное) благосостояние», причем прибавля-
лось, что «под охраной и руководством законов страны все
подданные без исключения наслаждаются совершенной сво-
бодой». Прусское «Всеобщее земское право» 1794 г. равным
образом объявляло, что «благо государства вообще и его жи-
телей в частности есть задача (der Zweck) гражданского со-
единения и общая цель (das allgemeine Ziel) законов» и что
«преимущественной обязанностью высшего главы в государ-
стве (des Oberhaupts im Staate) заключается в поддержании
как внешнего, так и внутреннего спокойствия и безопасно-
сти и охранять каждого при своем (Jeden bey dem Seinigen)
против насилий и покушений», вместе с заботой о «таких уч-
реждениях (Anstalten), через которые для обывателей созда-
вались бы средства и поводы к тому, чтобы возделывать свои
способности и силы и направлять их к споспешествованию
(Befordung) их благосостояния». Хотя, по выражению Соре-
ля, этот памятник прусского законодательства и был «декла-
рацией прав государства и государя»1, однако, в нем нашли
место и тезисы об «естественной свободе и правах граждан»,
о «всеобщих человеческих правах», о праве каждого жителя
государства «требовать себе защиты и даже заработка в слу-
чае отсутствия средств к существованию». Оба кодекса, т.е.
и австрийский, и прусский, одинаково подчеркивают абсолю-
тизм королевской власти. «Из высшей власти, присущей го-
сударю страны,— читаем мы в первом из них,— вытекает
обязательность всех правильным порядком (in dem orden-
tlichen Wege) обнародованных законов». Еще определеннее и
подробнее говорит о том же кодекс прусский: «Все права и
1 См. выше, с. 357.
395
обязанности государства по отношению к его гражданам и
подзащитным людям (schutzverwandten) соединяются в его
верховном главе», уполномоченном «направлять и опреде-
лять внешние действия всех обывателей» к достижению об-
щего блага. В частности, прусское «Всеобщее земское пра-
во» признает за королем «право величества» издавать и от-
менять законы и «всеобщие полицейские распоряжения,
равно как и объявления о них с силой законов». Между та-
ким определением власти и признанием за подданными их
естественных прав, однако, существовало непримиримое
противоречие, потому что одно не могло существовать рядом
с другим, и дальнейшее политическое развитие Запада по-
шло не по той дороге, на которую выводил его просвещен-
ный абсолютизм.
Глава XX
ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
И АБСОЛЮТИЗМ НАПОЛЕОНА Г
Неудачи сопротивления абсолютизму в XVI и
XVII вв.— Неудача абсолютизма в Нидерландах и в Анг-
лии и английская конституция в XVIII в.— Начало ре-
цепции конституционного строя на материке в 1789 г.—
Две главные стороны Французской революции — Неуда-
ча попытки основания во Франции конституционной мо-
нархии и республики.— Характер власти Наполеона 1 и
характер его политики.— Возвращение к традициям аб-
солютизма и родство наполеоновского режима с просве-
щенным абсолютизмом,— Просвещенный абсолютизм
наполеоновской эпохи в других странах
В истории европейского абсолютизма следует различать
два периода — до и после Французской революции, период
его господства и период крушения, когда после удара, нане-
1 Для этой главы, где на первый план выдвигается абсолютизм в эпоху
Наполеона I, см. мою «Историю Западной Европы», т. IV, гл. IV, VII, IX и
X. Ср.: Общий взгляд на историю Западной Европы в первые две трети
XIX в. Гл. III, а также: Народно-правовое государство. Гл. VIII—XII.
396
сенного во Франции абсолютизму, а вместе с ним и сослов-
ности, эта политическая форма могла рассчитывать лишь на
временное торжество.
Как мы уже видели, абсолютизм не раз и до Французской
революции вызывал против себя оппозицию и даже восста-
ния в отдельных странах, но в громадном большинстве слу-
чаев все такие революции оканчивались поражениями1. Кас-
тильское и арагонское восстания 1521 и 1590 гг. были суро-
во подавлены; во Франции вооруженная борьба с
королевской властью в эпоху религиозных войн и попытки
Генеральных штатов этой эпохи, в особенности штатов
1588 г., тоже ни к чему не привели; чешская революция, от-
крывающая собой в 1618 г. Тридцатилетнюю войну, была по-
сле Белогорской битвы потоплена в море крови; венгерские
восстания 1687 и 1707 гг. тоже были неудачными, и только
особые обстоятельства заставили власть не совсем уже по-
кончить с вольностями королевства Св. Стефана. Революция
победила абсолютизм главным образом только в Нидерлан-
дах, часть которых в 1581 г. отложилась от своего короля, и
в Англии, где весь почти XVII в. прошел в политической
борьбе, дважды обострявшейся в настоящие революции2.
Все эти революции XVI и XVII вв., каков ни был их исход,
имели между собой одно общее: то был их, так сказать, кон-
сервативный характер, потому что во всех случаях агрессив-
ную роль играла королевская власть, а оппозиция основывала
свои притязания на старом историческом праве, как это было
и в Бельгии восьмидесятых годов XVIII в., возмутившейся про-
тив деспотизма Иосифа II. В то же время, однако, в эпоху
этих, большей частью неудачных, революций вырабатываются
некоторые лозунги, которые впоследствии сделались лозунга-
ми и новых революций, имевших уже не оборонительный, а
наступательный характер и совершавшихся во имя не истори-
ческого, а так называемого естественного права. И нидерланд-
1 Ср.: Поместье-государство. С. 346, 351 и 352, а также выше, с. 65, 88
и 94.
2 Сюда можно было бы отнести еще Шотландию с ее двумя революци-
ями второй половины XVI в. и с революцией 1637 г., но само возникнове-
ние последней указывает на то, что первые две имели лишь временный ус-
пех.
397
ская, и обе английские революции защищали старую нацио-
нальную свободу против стремившегося ее в корень уничто-
жить абсолютизма, Французская революция и все за ней сле-
дующие, вплоть до русской 1905 г., должны были вновь созда-
вать свободу там, где ее не было, где царил абсолютизм и где
против него нельзя уже было выдвигать какие-либо историче-
ские права сословий или нации, а потому приходилось идти
под знаменем идеи естественного права или, что то же, «прав
человека и гражданина».
В смысле преемственности политических идей1, под знаме-
нем которых совершались почти все революции Нового време-
ни, Французская революция имела свои прецеденты в обеих
английских XVII в. и в нидерландской XVI ст. Именно, во вто-
рой половине XVI в., когда против королевской власти шла
борьба, кроме Нидерландов, еще во Франции и в Шотландии,
во всех трех странах она нашла литературное выражение в по-
литических трактатах так называемых «монархомахов», вы-
двигавших против королевского абсолютизма идею народовла-
стия, хотя бы и в более или менее аристократическом или со-
словном ее понимании. В отпавшей от Филиппа II части
Нидерландов эта идея нашла практическое применение в том
республиканском устройстве, какое дала себе эта страна. На
короткое время, между 1649 и 1660 гг., такое же устройство
устанавливалось и в Англии после победы парламента над ко-
ролем, и индепенденты, бывшие главными организаторами Ан-
глийской республики, из своей среды тоже выдвинули полити-
ческих писателей, в сущности, повторявших те же самые
идеи, которые в предыдущем столетии развивали в своих сочи-
нениях монархомахи-кальвинисты. Но принцип народовла-
стия, как он проводился в политической литературе XVI и
XVII вв., не требовал непременно отмены королевской власти
и введения республики. Он допускал и существование монар-
хии, но только монархии ограниченной, действующей с пред-
ставительными учреждениями, как то было в эпоху монархии
сословной2. Индепендентская республика в Англии не удержа-
1 Подробнее об этом см. ниже, в начале гл. XXIII.
2 Поместье-государство. Гл. XVIII (Политическая теория сословной мо-
нархии).
398
лась, и когда через четверть века после восстановления монар-
хии произошла вызванная стремлением королевской власти к
абсолютизму новая революция, то Англия осталась монар-
хией, что отразилось и на тогдашней политической литерату-
ре, по-прежнему, однако, выводившей верховную власть в го-
сударстве из естественного права народа на свободу и на само-
управление.
Вторая Английская революция завершила вековой исто-
рический спор между королевской властью и парламентом.
На основе тех взаимоотношений короны и представительст-
ва, какие окончательно определились в Англии, возникла та
английская конституция XVIII в., которую рекомендовал
своим соотечественникам Монтескье в «Духе законов», быв-
ший в то же время защитником сословной монархии против
абсолютизма, ибо в его терминологии монархией признава-
лась вообще только закономерная, ограниченная монархия,
тогда как для абсолютизма он пользовался словом «деспо-
тия». Английская конституция в XVIII в. искусно сочетала
«прерогативу» короны с «привилегией» палат, создав из «ко-
роля в парламенте» хотя и абсолютную, деспотическую, как
учили юристы, но закономерную власть над свободной на-
цией. Английское государственное устройство с легкой руки
Монтескье сделалось синонимом правильной конституции,
или вообще конституции в том техническом значении, ка-
кое это слово приобрело с Великой французской револю-
ции1.
С 1789 г., когда Франция приступила к ликвидации у се-
бя старого порядка, началась рецепция английского строя
конституционной монархии на материке, замена представи-
тельной монархией того абсолютизма, который был господст-
вующей формой политического устройства до того времени.
История этой рецепции есть, в сущности, история целого ря-
да революций, обошедших все страны Европы, и некоторые
из них посетивших даже не один раз. Общая черта этих ре-
волюций — это предъявление старой власти требования ог-
раничить себя народным представительством, установить
гражданские свободы, т.е. оградить индивидуальные и обще-
1 Об английской конституции и политических теориях XVII и XVIII вв.
см.: Народно-правовое государство. Гл. IV—VI.
399
ственные права от произвола и опеки правительства, и осу-
ществить другие реформы, вытекавшие из идей естественно-
го права, из принципов свободы и равенства. Во всех этих
отношениях 1789 г. является началом новой эпохи не только
в истории Франции, но и в истории всей Европы1. Если бы
замена «бюрократического государства и сословного обще-
ства старого порядка» современным «народно-правовым госу-
дарством и бессословным гражданством» совершилась сразу
и в полном объеме, мы могли бы остановиться в рассмотре-
нии старого порядка на 1789 г., но дело в том, что он продол-
жал еще существовать и даже господствовать и долго спустя
после этого, причем в самой Франции происходило не раз
восстановление абсолютизма.
В истории Французской революции нужно различать две
стороны — политическую и социальную. Уже многие истори-
ки этой революции указывали на то, что стремление к рефор-
мам в гражданском быту и началось раньше, и крепче укорени-
лось во французской нации, нежели стремление к политиче-
ской свободе, и что, соответственно с этим, из приобретений
революции удержались прочнее те, которые касались обще-
ственного строя, а не государственной формы. Французы,
можно вообще сказать, гораздо больше и дольше желали ра-
венства, чем свободы, к которой совершенно и не мог их при-
учить господствовавший в стране режим. Передовые люди
Франции в середине XVIII в. еще стояли на точке зрения про-
свещенного абсолютизма, требуя проведения необходимых ре-
форм по инициативе абсолютного монарха и путем бюрократи-
ческого воздействия на общество2. Когда буря революции
улеглась и установился на некоторое время в стране опреде-
ленный порядок, то он оказался — в политическом отноше-
нии — совсем не тем, к чему французы стремились в 1789 г.
Главная работа Учредительного собрания 1789—1791 гг.
заключалась в том, чтобы рядом с переустройством граждан-
ских отношений произвести и политическую реформу в смыс-
ле замены абсолютизма конституционной монархией. Попытка
1 См.: Народно-правовое государство. Гл. VIII («Историческое значе-
ние Французской революции») и XXIV («Рецепция конституционного строя,
ее основные причины и последствия»).
2 См. выше, с. 370—374.
400
эта не увенчалась успехом, как не удалась и попытка основа-
ния во Франции свободного государства в республиканской
форме. Осенью 1792 г. Национальный конвент объявил Фран-
цию республикой, но три года страна управлялась без консти-
туции, совершенно по-диктаторски, причем в деятельности
тогдашних правителей Франции воскресли все худшие адми-
нистративные приемы старого порядка. Затем наступает эпоха
Директории, управляющей страной на основании конститу-
ции, хотя вместе с тем происходят постоянные нарушения
этой конституции путем «государственных переворотов», по-
следний из которых, поздней осенью 1799 г., передает власть
снова в руки одного лица. Десятилетняя смута привела в поли-
тическом отношении только к восстановлению абсолютизма1.
С 1799 г. по 1814 г. Францией правил человек, которого
и монархисты старого закала, и принципиальные республи-
канцы одинаково считали узурпатором, было ли в их глазах
здесь похищение власти, принадлежавшей по милости Бо-
жией законной династии, или по естественному праву всему
народу. Империя Наполеона I с Консульством, бывшим лишь
ее преддверием, относится к тому же типу исторических об-
разований, какими были тирании в Древней Греции, цеза-
ризм в Риме, итальянский принципат конца Средних веков,
т.е. это была не старая традиционная монархия с ее более
или менее глубоко внедрившимися в народную жизнь корня-
ми, а военная диктатура от имени и во имя народа, признав-
шего над собой власть одного лица. Формально власть Напо-
леона I была окружена конституционными учреждениями, но
это были простые декорации, реальностью же было ничем
неограниченное господство всенародного избранника, опира-
ющегося на войско, чиновничество и духовенство, который
должен был охранять всем могуществом государства граж-
данские приобретения революции. Из двух сторон револю-
ции, социальной и политической, империя Наполеона I была
только консолидацией первой, т.е. отмены остатков серважа
и сеньориальных прав, уничтожения сословий с их привиле-
гиями, установления равенства всех перед законом, непри-
косновенности права собственности на земли, принадлежав-
1 Народно-правовое государство. Гл. X.
401
шие прежде церкви и эмигрантам, но купленные у нации в
эпоху революции новыми владельцами, и т. п. Эту сторону
революции Наполеон не только охранял во Франции от воз-
можности возвращения старого порядка, но и распространял
в других странах, в чем был настоящим продолжателем рево-
люции. Но в политическом отношении Наполеон был совер-
шенный абсолютист, вся политика которого носила на себе
печать крайней неограниченности и безответственности вла-
сти. Когда в 1813 г., после несчастного похода в Россию, На-
полеон заметил в Законодательном корпусе первые признаки
оппозиции, он собственной властью установил бюджет и
ввел новые налоги. «От чьего имени вы говорите? — спра-
шивал он при этом,— ведь только я, один я — настоящий
представитель народа». Народовластие представлялось ему
как широкая основа для правительства с самыми обширными
полномочиями, так как только правительство в лице главы
государства и есть истинный представитель народа. У Напо-
леона даже был свой «особый способ признавать» (lamaniere
dereconnaitrelasouverainetedupeuple), и это было не что иное,
как сообразование своей политики с общим духом нации.
Этот дух нации заставил его, например, заключить с папой
конкордат и постараться дать своей власти религиозную сан-
кцию восстановлением обряда венчания на царство и вклю-
чением в школьный катехизис таких мест: «Мы обязаны по
отношению к Наполеону I, нашему императору, любовью,
почтением, повиновением, верностью, военной службой и
податями,... потому что Бог,... наделив его дарами в делах
мира и войны,... сделал его орудием своей власти и образом
своим на земле», так что «почитать нашего императора и
служить ему все равно, что почитать и служить самому Бо-
гу», а потому, кто не исполнил бы своих обязанностей к им-
ператору, тем самым «оказал бы сопротивление порядку, ус-
тановленному самим Богом, и сделался бы достойным вечно-
го осуждения». Восстановляя во Франции католический
культ, Наполеон хотел из религии сделать орудие своей вла-
сти: католическое разделение светской и духовной властей
ему прямо не нравилось, более же по душе приходились му-
сульманский мир, Византия, Россия, протестантские страны:
он даже выражал сожаление, что для него закрыт путь Ген-
402
риха VIII, сделавшегося главой англиканской церкви. «Мои
соборы,— мечтал он на острове Св. Елены,— были бы пред-
ставительством христианства, и папы были бы лишь их пред-
седателями; я бы открывал и закрывал эти собрания, утвер-
ждал бы и обнародовывал бы их решения, как это делали
раньше Константин и Карл Великий»,— и это была мечта на-
стоящего цезаропапизма, при котором то «возвращение наро-
ду полноты его прав в деле религии», о котором Наполеон го-
ворил при заключении конкордата, можно понимать лишь в
таком же смысле, в каком и турецкий султан осуществляет
полноту прав своих мусульманских подданных, не мешая им
ходить в мечети. «Правительствам,— говорил Наполеон,—
хорошо иметь дело с раз признанными догматами, которые
более не меняются: суеверие, так сказать, упорядочивается,
ограничивается и ставится в известные рамки, из которых
оно более не может выйти».
Если католицизм для Наполеона имел ту дурную сторо-
ну, что церковь, разделяя власть с государством, оставляет
за собой действие на ум и совесть, отдавая светской власти
одно только тело, «берет себе душу, а правительству бросает
труп», то у правительства все-таки оставался еще способ
воздействия на общество посредством страха, который Мон-
тескье не напрасно называл движущей силой деспотического
государства. «Моя империя рушится,— признавался Наполе-
он,— лишь только я перестану быть страшным. Я не могу до-
пустить, чтобы кто-нибудь осмеливался что-либо предприни-
мать,— и должен немедленно же со своей стороны подав-
лять всякое предприятие».— «Чтобы хорошо управлять,—
говорил он еще,— нужно быть военным: хорошо управлять
можно только в ботфортах и со шпорами». Отсюда — недо-
пустимость какой бы то ни было критики правительственных
мероприятий. «Пусть, например,— заявлял он,— другой кто-
нибудь попробует быть на моем месте, и если он не будет
стараться зажать рот разным говорунам, он узнает, что из
этого выйдет. Что меня касается, могу вас уверить: для хоро-
шего правления нужно безусловное единство». Как в деле
религии нужно было сообразоваться с общим духом, и в
этом в понимании Наполеона заключалось признание народ-
ного верховенства, так дело обстояло для него и в политике.
В то, что народ желает свободы, он не верил. «Свобода,— го-
403
ворил он,— может быть потребностью лишь весьма малочис-
ленного класса людей, от природы одаренного более высоки-
ми способностями, чем масса, но потому она и может быть
подавляема безнаказанно, тогда как равенство, наоборот,
нравится именно массе».
Этих немногих признаний и заявлений Наполеона совер-
шенно достаточно для характеристики его политической сис-
темы, как чистейшего абсолютизма, притом абсолютизма ра-
ционалистического, который сам не верил в божественное
происхождение своего права, но находил полезным в интере-
сах самой власти, чтобы другие верили в ее богоустановлен-
ность. Мы могли бы даже провести полную аналогию в дета-
лях между империей Наполеона I и старыми абсолютными мо-
нархиями по тем рубрикам, по которым рассматривали ее
традиции, нравы и порядки1. Вышедшая из революции импе-
рия очень скоро усвоила все, что характеризует династиче-
скую политику абсолютных монархов прежнего времени, так
как теперь, в начале XIX в., прежнюю роль Габсбургов или
Бурбонов, сидевших на разных тронах, должны были играть
Бонапарты. Двор Наполеона I по пышности и блеску не усту-
пал ни одному из старых дворов Европы, и все прежние цере-
монии нашли при нем самый благожелательный прием. В зако-
нодательстве, несмотря на все конституционные видимости,
царила единая воля, ибо главе государства одному принадле-
жала в этой области инициатива, и закон, принятый Законода-
тельным корпусом, не мог восприять силу, если бы глава госу-
дарства отказался от его обнародования. Все управление напо-
леоновской Франции было построено на началах
бюрократической централизации, на недоверии к обществу и
местному самоуправлению, на полицейском сыске и надзоре.
О милитаризме империи Наполеона I можно было бы и не упо-
минать: это — особенно бросающаяся черта эпохи. В экономи-
ческой своей стороне история империи Наполеона I является
воспроизведением фискализма, меркантилизма, протекциониз-
ма и т. п. старого режима. В отношении к сословности Наполе-
он, придававший такое большое значение чувству равенства,
не восстановлял прежнего'неравенства перед законом, но это
1 Отсылаю к гл. VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI и XVII.
404
не помешало ему окружать себя представителями старой зна-
ти, создавать новую знать из вчерашних плебеев, признать
прежние аристократические титулы от барона до герцога, на-
делить ими своих слуг и даже основать в виде награды за важ-
нейшие заслуги особые имперские лены. Как относилась импе-
рия к религии и церкви, мы только что видели, и это тоже мо-
жет нас лишь утвердить в той мысли, что Наполеон в
религиозной политике шел по стопам прежних абсолютных го-
сударей. Народное образование и наука, литература и театр,
печать вообще, и в частности периодическая пресса, как и при
старом порядке, были подчинены строгому надзору и админи-
стративным воздействиям, ибо вся духовная жизнь должна бы-
ла соответствовать исключительно одним правительственным
видам и т. п. Одним словом, всякое сколько-нибудь подробное
изложение господствовавших при Наполеоне I правительст-
венных порядков превратилось бы в повторение того, что гово-
рилось выше о разных сторонах государственного и обще-
ственного быта при старом порядке.
Таково только и может быть определение наполеонов-
ской империи с наиболее общей точки зрения. Мы видели, с
другой стороны, что в разные периоды своей истории абсо-
лютизм принимал и различный характер, и вот если мы ста-
нем искать, к каким проявлениям абсолютизма в прошлом
наиболее близок деспотизм Наполеона I, то, разумеется, от-
вет может получиться только тот, что при Наполеоне Фран-
ция переживала свою эпоху просвещенного абсолютизма.
Мы знаем, именно, что просвещенный абсолютизм вто-
рой половины XVIII в. был разрывом абсолютной монархии с
традициями и интересами тех двух привилегированных со-
словий, которые представляли собой средневековые начала
феодализма и католицизма. Королевская власть старого по-
рядка имела глубокие корни в феодально-католической ста-
рине: французский король, например, был первым дворяни-
ном своего королевства и старшим сыном католической цер-
кви. Новый властитель Франции, в которой революция
одинаково сокрушила и дворянство, и духовенство, не мог
претендовать на звания ни первого дворянина, ни старшего
сына церкви. Как ни цеплялся Наполеон за старые формулы,
власть его в сущности была диктатурой от имени демокра-
тии, и сам он, как-никак, был сыном революции. Своим при-
405
званием он прямо должен был считать охрану того граждан-
ского равенства и той светской политики, которые были на-
следием революции. У просвещенного абсолютизма и у рево-
люции были вообще черты совпадения: неуважение к исто-
рическим правам во имя общего интереса и так или иначе
понимаемого естественного права, враждебное отношение к
сословным привилегиям, стремление подчинить духовенство
государству с прямым даже превращением священников в
государственных чиновников, сознание необходимости по-
кончить с крепостническими отношениями, внесение боль-
шей планомерности и порядка в законодательство, админист-
рацию, финансы и т. п., и в обоих случаях, т.е. и при просве-
щенном абсолютизме, и во время революции все это
предпринималось и делалось во имя государства, с тем лишь
различием, что прежде государство было абсолютной монар-
хией, теперь же оно должно было быть народовластным. Ре-
волюция совершила многое из намеченного просвещенным
абсолютизмом и полнее, и радикальнее, и когда во Франции
снова воссоздалась абсолютная монархия, она уже не могла
быть полным воспроизведением монархии Бурбонов с ее ка-
толико-феодальными пережитками. И тут мы могли бы де-
тально провести параллели между политикой Наполеона и
политикой просвещенных деспотов XVIII в., вплоть до неко-
торого влияния на самого Наполеона, в ранней молодости,
столь презиравшейся им «идеологии». В. программу просве-
щенного абсолютизма, как и в программу Наполеона, свобо-
да не входила, но равенство входило, Наполеон даже думал,
что в революции свобода была только предлогом, так как, по
его мнению, французы ничего не умеют желать, за исключе-
нием разве только равенства. При старой монархии, говорил
он, «французский народ оскорбляли в самых дорогих его ин-
тересах. Дворянство и духовенство унижали его своим высо-
комерием и своими привилегиями. Они утесняли его права-
ми, которые присвоили себе над его трудом. Он долго томил-
ся под этим гнетом, но, наконец, он захотел сбросить с себя
иго, и революция началась». Это объяснение Наполеоном ре-
волюции исключительно из одного социального гнета в вы-
сшей степени характерно для его точки зрения, как абсолю-
тиста, при всем своем стремлении к реставрации чистого мо-
406
нархизма, резко относившегося к старым привилегиям дво-
рянства и духовенства.
Режим Наполеона I был повторением просвещенного аб-
солютизма не для одной Франции. Как во второй половине
XVII в., в эпоху наибольшего могущества и славы Франции,
Людовик XIV задавал тон другим государям Европы, так —
и даже в большей еще мере — наполеоновская система уп-
равления находила поклонников и подражателей во многих
других странах. Французская революция напугала все евро-
пейские правительства и содействовала в этом смысле паде-
нию просвещенного абсолютизма, но Наполеон, усмиривший
революцию и поднявший Францию на недосягаемую высоту
могущества и славы, так сказать, реабилитировал до поры до
времени это политическое направление. Братья и зять фран-
цузского императора, царствовавшие в Голландии, в Вестфа-
лии, в Испании и в Неаполе, немецкие союзники Наполеона,
иногда роднившиеся с ним и получавшие благодаря его со-
действию приращение к своим владениям, а именно короли
Баварии1, Вюртемберга и т. д., наконец, такие государствен-
ные люди, как Гарденберг в Пруссии или Сперанский в Рос-
сии, были в большей или меньшей мере сторонниками напо-
леоновского направления и проводили или стремились про-
водить в жизнь своих стран новые начала политики,
выросшие на почве Французской революции, но получившие
окончательную обработку и отделку в руках Наполеона.
Отчасти под непосредственным влиянием французского об-
разца, отчасти независимо от него Пруссия между 1807 г. и
1813 г. произвела у себя целый ряд реформ (оставшихся,
впрочем, незаконченными), каковы отмена крепостничества,
уничтожение некоторых сословных привилегий, упорядоче-
ние центральных учреждений и местного управления и т. п.,
и все это было сделано средствами старого бюрократическо-
го государства, остававшегося под властью абсолютного ко-
роля. Просвещенный абсолютизм Фридриха II отличался
1 В Баварии характерным представителем просвещенного абсолютизма
был министр Монжеля, который, между прочим, писал: «Истинное благо
государства и наилучшее для его граждан может быть производимо только
правительством, ибо только ему принадлежит обозревать все отношения в
их совокупности и этим путем высчитывать пользу целого». Его церковная
политика была настоящим «иозефинизмом».
407
крайней односторонностью, а после его смерти в правитель-
стве началась реакция, длившаяся двадцать лет. В 1806 г.
монархия Гогенцоллернов чуть было не погибла окончатель-
но, но в следующем году началось возрождение Пруссии пу-
тем реформ, которые далеко оставили за собой все, что сде-
лано было королем-философом. 1807—1813 гг. были в исто-
рии Пруссии повторением просвещенного абсолютизма. В
частности, Гарденберг, дважды стоявший во главе правле-
ния, был, несмотря на весь свой либерализм в других отно-
шениях, большим поклонником наполеоновской администра-
тивной централизации и бюрократизма, которые, впрочем,
пользовались большим почетом и у французских либералов
времен Реставрации и Июльской монархии.
С падением Наполеона в 1814—1815 гг. картина меняет-
ся, и абсолютизм принимает характер крайне реакционный.
Глава XXI
РЕАКЦИОННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.1
Война абсолютных монархий с Французской револю-
цией и с Наполеоном /.— Реакционные политические пи-
сатели этой эпохи.— Реставрация абсолютизма и со-
словных привилегий после 1814 г. и общие реакционные
меры эпохи.— Священный союз и подавление им консти-
туционных попыток в двадцатых годах.— Взрывы реак-
ции после 1830 и 1848 гг.— Империя Наполеона 111
Недавно (1906) умерший французский историк Сорель в
своем замечательном труде «Европа и Французская револю-
ция» выяснил с полной очевидностью и с достаточной под-
робностью, как встречена была Французская революция при
монархических дворах Европы. Сначала на совершавшиеся
во Франции события они смотрели с точки зрения их выгод-
ности или невыгодности для того или другого государства в
его политических видах, но когда был понят принципиаль-
1 См. в «Истории Западной Европы в Новое время» главным образом
т. IV, гл. 13, 15 и 16 и т. V, гл. 3, 8, 25 и 26. Ср. также гл. XII—XV и XIX—
XX «Народно-правового государства».
408
ный и универсальный характер революции как войны, объяв-
ленной всему старому порядку, и притом войны, грозившей
перекинуться и в другие страны, то против революционной
Франции организовался целый крестовый поход. В 1792 г.
началась война между Европой «старого порядка» и Фран-
цузской революцией, и окончиться этой войне суждено было
только через двадцать три года, когда в самой Франции рево-
люция уже давным-давно уступила место абсолютизму, воз-
родившемуся в виде империи Наполеона I. Коалиция, обра-
зовавшаяся в 1792—1793 гг. против революции, не достигла
своей цели: «старый порядок» доказал полную свою несосто-
ятельность в борьбе с новой силой, и это продолжалось при
Наполеоне вплоть до похода на Москву, бывшего «началом
конца» империи. В эти два десятка лет Франция расширяла
свои владения, основывала новые государства в вассальной,
так сказать, от себя зависимости, перекраивала не раз поли-
тическую карту Европы и всем этим содействовала распрост-
ранению новых принципов и порядков, созданных револю-
цией и Наполеоном I. Все это великолепие кончилось, одна-
ко, крахом. В 1814 и 1815 гг. Франция дважды подвергалась
иноземному вторжению, после того как в 1813 г. произошло
крушение империи вне пределов самой Франции и страна
была возвращена к прежним границам, а на престол ее вод-
ворены силой неприятельских войск Бурбоны. В конце кон-
цов Наполеон был побежден союзом правительств с народа-
ми, которым эти их правительства обещали всякие либераль-
ные реформы. Известно, однако, что данные обещания не
были сдержаны и что, наоборот, во многих местах все уси-
лия власти и привилегированных сословий были направлены
к реставрации «старого порядка». Уже до взрыва Француз-
ской революции, по чисто местным причинам, происходила
во многих местах реакция против просвещенного абсолютиз-
ма1, и революция могла только обострить эту реакцию. Коро-
левская власть, напавшая было на привилегии духовенства и
дворянства, с одной стороны, и оба эти привилегированные
сословия, вступавшие для самозащиты на путь политической
оппозиции, с другой, теперь начинали искать друг в друге
поддержки против общего врага, демократических стремле-
1 Ср. выше, с. 391 и след.
409
ний. Под влиянием страха перед революцией просвещенный
абсолютизм, и без того слишком непрочный в государствах,
где столь многое зависело от личного настроения государя,
стал обнаруживать тенденцию к реакции в духе клерикаль-
ных и аристократических вожделений. Империя Наполеона,
родственная, по общему своему направлению, просвещенно-
му абсолютизму, на время задержала эту реакцию, но едва
только империя пала, едва Франция вошла в прежние грани-
цы и приняла к себе Бурбонов, едва только возвратились на
свои престолы лишенные Наполеоном власти Бурбоны ис-
панские и неаполитанские и другие государи, у которых На-
полеоном были отняты земли,— как началась почти повсеме-
стная реставрация «старого порядка», т.е. абсолютизма и
сословности. Это была, после 1814—1815 гг., эпоха глубо-
чайшей реакции — политической, социальной и культурной,
реакции против империи Наполеона и Французской револю-
ции, против просвещенного абсолютизма и рационалистиче-
ской философии XVIII в., против Реформации и гуманизма,
против всего, в чем только проявлялись прогрессивные дви-
жения Нового времени. Крайние представители этой реак-
ции звали общество назад, к миросозерцанию и порядкам
средневекового католицизма, к понятиям и отношениям фе-
одальной сословности. Конечно, здесь не место останавли-
ваться на полной характеристике общеевропейской реакции
эпохи Реставрации и особенно культурных ее проявлений в
религии, философии, науке, литературе и т. п., но по общей
теме настоящей книги необходимо, хотя бы в самых беглых
чертах, наметить основные стремления реакции, как они вы-
разились в политической литературе1. В другом месте2 мы
уже познакомились в общих чертах с политическими идеями
реакционных писателей этой эпохи, Бональда и Жозефа де Ме-
стра во Франции, Галлера и Мюллера в Германии. Они и дру-
гие, менее заметные, сделались в то время настоящими ораку-
лами для всех реакционно настроенных людей. В их сочинени-
ях сказалась реакция против философии XVIII в. в пользу
средневекового католицизма, реакция против светского госу-
1 Для общей характеристики отсылаю к гл. IV «Общего взгляда на ис-
торию Западной Европы в первые две трети XIX в.».
2 См. выше, в конце гл. XVIII (с. 362—363).
410
дарства в пользу чисто вероисповедной политики. Естествен-
ному праву рационалистической философии, на котором оди-
наково строили свое учение о государстве и просвещенные
деспоты XVIII в., и французские революционеры, они проти-
вопоставили право историческое, нашедшее свое выражение
в принципе так называемого легитимизма: это было право
законных династий и исторически сложившиеся права сосло-
вий, и поддержка этих прав, как самим Богом установленно-
го порядка, была направлена против народовластия или, по
крайней мере, участия народа в государстве, против граж-
данского равенства, против бессословности общественного
строя, словом, возвращением к абсолютизму и феодализму.
В учениях Бональда, де Местра, Галлера и Мюллера абсолю-
тизм отрешается от всего, что в него было внесено антикато-
лическими и антифеодальными движениями Нового времени,
начиная с итальянского гуманизма и кончая Французской ре-
волюцией, и возвращается к реакционному абсолютизму Лю-
довика XIV и Боссюэ с его клерикальными и аристократиче-
скими тенденциями.
После 1814 г. во многих местах началось восстановление
старого порядка. Во Франции вернувшиеся с Бурбонами
эмигранты,— все они, «ничему не научившиеся и ничего не
позабывшие»,— видели в возвращении легитимной монар-
хии указание на то, что должен быть восстановлен и весь
старый строй. «Оппоненты Французской революции,— писа-
ла о них в 1817 г. г-жа Сталь1,— дворяне, духовные, магист-
ратура, не уставали твердить, что не нужно было никакого
изменения в правительстве, ибо существовавшие тогда по-
средствующие корпорации хорошо исполняли свою роль, не
допуская деспотизма, а теперь они за деспотизм, как за вос-
становление будто бы старого порядка. Эта непоследователь-
ность в принципах,— замечает проницательная наблюда-
тельница,— есть последовательность в интересах. Когда при-
вилегированные ограничивали королевскую власть, они
были против произвольной власти короны, но когда нация
сумела занять место привилегированных, они соединились с
королевской прерогативой и выставляют всякую конституци-
онную оппозицию, всякую политическую свободу в виде ка-
1 Considerations sur la revolution francaise.
411
кого-то бунта». Эти слова г-жи Сталь как нельзя лучше ком-
ментируют известный принцип прусских реакционеров: «Und
der Konig absolut, wenn er unsern Willen thut» (король абсо-
лютен, если он исполняет нашу волю). В Германии реакция
была тоже в полном ходу. Реставрация старой династии в
Ганноверском королевстве сопровождалась отменой всех но-
вых порядков, заведенных в наполеоновскую эпоху: были
восстановлены дворянские привилегии, законы в пользу кре-
стьян — объявлены недействительными, возобновлены не-
гласное судопроизводство, пытки и т. п., снова введены та-
можни между отдельными областями и т. п. Престарелый
курфюрст Гессен-Кассельский Вильгельм I, тоже лишавший-
ся своих владений при Наполеоне, объявил недействитель-
ным все, что произошло после его удаления из страны, отнял
новоприобретенные права и должности у всех лиц, служив-
ших вестфальскому правительству, восстановил все старые
порядки и даже опять ввел парики и косички, вышедшие из
употребления. В Брауншвейге и в Ольденбурге происходило
то же самое. Пруссия, король которой во время войны за ос-
вобождение обещал своим подданным конституцию, так и ос-
талась абсолютной монархией1, а начатые в ней Штейном и
Гарденбергом реформы остались неоконченными, и многое
было даже взято назад.
Австрия, где конституции и не обещали, со своим влия-
тельным министром Меттернихом во главе, так-таки и оста-
валась в течение всей первой половины XIX в. классической
страной реакционного абсолютизма, клерикализма и дворян-
ских привилегий. В других государствах Германии в наполе-
оновскую эпоху происходило освобождение крестьян от фе-
одального гнета, правда, повсюду замедлившееся, местами
даже остановившееся, если прямо не пошедшее вспять, но
Австрия и здесь оставалась верна себе. Габсбурги даже сде-
лались стражами «старого порядка» во всей Германии и в
Италии, где они занимали первенствующее политическое по-
ложение, сами имея в составе своих подданных и немцев, и
итальянцев (в Ломбардо-Венецианском королевстве), и мадь-
яр, и славян (чехов, поляков, хорватов, русинов и т. п.).
«Мои народы,— говорил Франц I французскому посланни-
1 Народно-правовое государство. С. 246 и след.
412
ку,— чужды друг другу, но тем лучше: они не подвергаются
одновременно одной и той же болезни1. Когда во Франции
начинается лихорадка, она овладевает всеми, а я посылаю
венгров в Италию-, итальянцев в Венгрию, и каждый стере-
жет своего соседа. Они не понимают друг друга и друг друга
ненавидят. Из их взаимных антипатий рождается порядок, и
их ненависть одних к другим служит основанием общего ми-
ра».— «Держитесь старины,— говорил тот же австрийский
император учителям лайбахской гимназии,— ибо только она
одна и хороша. Если нашим предкам с нею было недурно, за-
чем нам поступать иначе? Теперь в ходу новые идеи, но я их
не одобряю и никогда не одобрю. Ученых мне не нужно, мне
нужны только верные подданные. Приготовлять их — вот в
чем вся ваша обязанность. Кто мне служит, тот должен по-
нимать, что я приказываю. Кому это не по силам, или у кого
новые идеи, пусть лучше убирается, иначе я его прогоню».
Механическая централизация не мешала существованию в
империи внутренних застав. Управление было строго бюрок-
ратическим, а областные сеймы, на которых преобладало
дворянство с духовенством, не играли никакой роли.
Франц I любил придавать своему абсолютизму характер пат-
риархальности, умилявшей простецов и бывшей для льсте-
цов неистощимой темой славословий, но под внешним видом
отеческого управления скрывались подозрительность,
страсть к наушничеству, презрение к национальным правам
разноплеменного населения, жестокость и ненависть к про-
свещению, науке и литературе. В Вену выписывались из дру-
гих частей Германии реакционные силы вроде Адама Мюлле-
ра, Фридриха Шлегеля2 и др., и вместе с тем полиция и цен-
зура наблюдали за тем, чтобы не ввозились из-за границы и
не читались вредные книги. Университеты находились на по-
дозрении, и во всех учебных заведениях ту же судьбу разде-
ляло преподавание философии и истории. Покровительство
оказывалось лишь замкнутым дворянским и военным или чи-
сто специальным и профессиональным школам, а из наук —
1 В 1848 г. было, однако, не так.
2 Об Ад. Мюллере см. с. 363. Фридрих Шлегель, перешедший из про-
тестантизма в католицизм, в своих лекциях по философии истории, читан-
ных в Вене в 1828 г., звал возвратиться к Средним векам, объявив всю но-
вую историю сплошной ошибкой.
413
тем, в которых не было и не могло быть опасных идей. Низ-
шая школа была отдана в полное распоряжение малообразо-
ванного и нетерпимого духовенства, да и вообще правитель-
ство сильно покровительствовало духовенству, монахам и в
особенности восстановленному папой Пием VII в 1814 г. Ор-
дену иезуитов.
Превращение Германии, на Венском конгрессе, в союз
государств под председательством Австрии и с бюрокра-
тическим союзным сеймом (Bundestag) в вольном городе
Франкфурте-на-Майне сопровождалось обещанием, что в от-
дельных государствах будет введена «landesstandische Verfas-
sung», под которой можно было понимать и конституцию по
новому образцу, и старинные земские чины. Австрия, Прус-
сия и Саксония не исполнили этого обещания; большая
часть других вернулась к старинным ландтагам с сословным
устройством и с чисто совещательным значением, что не ог-
раничивало абсолютизма и не служило помехой бюрократи-
ческому хозяйничанью, и лишь южные государства, т.е.
Бавария, Баден, Вюртемберг и Гессен-Дармштадт, да три ма-
леньких саксонских княжества: Саксен-Веймар, Саксен-Ко-
бург и Саксен-Мейнингем ввели у себя новые конституции...
В эпоху Германского союза Австрия вдохновляла общую по-
литику всех немецких государств, собирая съезды уполномо-
ченных, где принимались репрессивные меры против универ-
ситетов, печати, тайных обществ. В 1820 г. так называемый
«венский заключительный акт», в разъяснение параграфа о
введении в Союзе представительного устройства, признал
обязательными для всей Германии следующие положения:
«так как Германский союз состоит, за исключением вольных
городов, из суверенных государей, то вся государственная
власть должна быть сосредоточена в руках главы государст-
ва, и потому суверен местной конституцией (landesstandische
Verfassung) может быть обязан прибегать к содействию чи-
нов лишь при пользовании известными правами своей «вла-
сти», но этими чинами суверенные государи, соединенные в
союзе, никоим образом не могут быть препятствуемы или ог-
раничиваемы в исполнении своих обязанностей по отноше-
нию к Союзу». В этом же акте провозглашался и тот прин-
цип, что в случае просьбы помощи у Союза со стороны кого-
либо из государей, встретившего опасное для внутреннего
414
спокойствия сопротивление со стороны подданных, Союз
должен был как можно скорее помогать восстановлению по-
рядка.
Это было уже нечто вроде взаимного страхования абсо-
лютизма во всей Европе, но оно было не чем иным, как при-
знанием специально для Германии того, что было около это-
го же времени признано для всей Европы: в Испании и в Не-
аполитанском королевстве в 1820 г. вспыхнули революции,
которые вскоре после того были усмирены по уполномоче-
нию и от имени всей Европы.
Реакция абсолютизма, клерикализма и аристократизма
произошла и в Испании с Италией, подпавших наполеонов-
скому владычеству и потом от него освободившихся. В конце
французского господства в Испании тамошние либералы на
кортесах в Кадиксе в 1812 г. выработали очень либеральную
конституцию1, и когда в стране в 1814 г. произошла рестав-
рация династии Бурбонов в лице Фердинанда VII, последний
сначала пообещал править на основании этой конституции,
якобы согласной и с его намерениями, но потом объявил ее
отмененной и стал во главе самой необузданной реакции, в
смысле отмены всего, что было сделано французами и корте-
сами 1812 г., и возвращения к привилегиям духовенства и
дворянства, восстановления инквизиции и монастырей, воз-
вращения иезуитов и проч., и проч. Испанская реакция отли-
чалась необычайной жестокостью, потому что широко прибе-
гала к таким мерам, как казни, тюрьмы, конфискации, пока
в 1820 г. военная революция, поддержанная частью населе-
ния, не вынудила у короля признания конституции 1812 г. В
Италии совершались аналогичные явления. Сардинский ко-
роль Виктор Эммануил I и возвратившиеся с ним в 1814 г.
эмигранты-дворяне тотчас же приступили к восстановлению
«старого порядка». Дело доходило до объявления незаконны-
ми браков, заключенных по кодексу Наполеона, и отмены су-
дебных решений, состоявшихся в отсутствие короля. Пред-
писывалось даже носить платье старого покроя; ботанический
сад, устроенный французами в Турине, был уничтожен; пред-
полагалось разрушить и мост через реку По, построенный по
повелению Наполеона, и проч., и проч. В Королевстве обеих
1 Народно-правовое государство. С. 228—229.
415
Сицилии дважды свергавшийся французами с престола (в
1799 и в 1807 гг.) король из династии Бурбонов, Ферди-
нанд IV (или I, как он стал называться, когда задумал слить
Неаполь и Сицилию в одно королевство), возвратившись в
Неаполь, заключил с Австрией формальный договор, кото-
рым обязывался не допускать у себя порядков, несогласных
с принципами абсолютной монархии или с началами, поло-
женными в основу управления в итальянских провинциях
Австрии. Дело в том, что во время французского господства
в Неаполе Фердинанд держался в Сицилии при помощи анг-
личан, которые заставили его в 1812 г. дать этому острову
конституцию по английскому образцу, но Австрия не хотела,
чтобы в каком-либо итальянском государстве было введено
народное представительство. Король обеих Сицилий отменил
сицилийскую конституцию и сдержал свое обещание Авст-
рии по отношению к Неаполю. Сначала, однако, он не ре-
шался уничтожать французские реформы, но мало-помалу
осмелился и в 1818 г. по конкордату с папой стал восстанов-
лять власть духовенства, монастыри, церковные суды, духов-
ную цензуру и т. п. Ответом на реакцию была революция
1820 г. и в Неаполе с Сицилией.
Эти две революции с тогда же вспыхнувшей революцией
в Португалии (тоже в 1820 г.) и начавшееся движение в
главной материковой части Сардинского королевства (в Пье-
монте в 1821 г.) встревожили европейских монархов, между
которыми с 1815 г., по инициативе русского императора
Александра I, действовал Священный союз, в частности осо-
бенно объединявший Австрию, Пруссию и Россию, три ве-
ликие державы, бывшие неограниченными монархиями. Соб-
ственноручно написанный Александром I акт Священного
союза1, имевший чисто религиозно-нравственный, а не юри-
дический характер, называл государей Австрии, Пруссии и
России «постановленными от Провидения», объявлял их в
отношении одних к другим братьями, которые во всяком слу-
чае и во всяком месте должны подавать друг другу пособие,
подкрепление и помощь (assistance, aide et secours), «в отно-
шениях же подданным и войскам своим как бы отцами се-
1 Текст акта Священного союза приведен в: История Западной Европы.
Т. IV. С. 315—316.
416
мейств», которые «будут управлять ими... для охранения ве-
ры, мира и правды». Ради этого, сказано еще в акте Священ-
ного союза, «Их Величества с нежнейшим попечением убеж-
дают своих подданных со дня на день утверждаться в прави-
лах и деятельном исполнении обязанностей, в которых
наставил человеков божественный Спаситель, аки единст-
венном средстве наслаждаться миром, который истекает от
доброй совести и который един прочен». К союзу приглаша-
лись примкнуть и другие державы, «кои,— как сказано в до-
кументе,— почувствуют, коль нужно для счастья колебле-
мых долгое время царств, дабы истины сии (т.е. изложенные
в документе) впредь содействовали благу судеб человече-
ских».
Южно-романские революции были предметом обсужде-
ния на конгрессах в Троппау, Лайбахе и Вероне (1820—
1822), куда съезжались все три монарха и министры других
государств. Такие конгрессы для общего решения дел уже
были в ходу: в 1814—1815 гг. Венский, а в 1818 г. Ахенский,
и уже на них был, как руководящее начало, принят принцип
легитимизма, формулированный на Венском конгрессе зна-
менитым уполномоченным Франции, Талейраном. «Лишь ле-
гитимные правительства,— доказывал он,— могут быть
прочными, незаконные же, имея поддержку только в силе,
падают сами собой, как только исчезает эта поддержка, пре-
доставляя нации на жертву революциям».— «Всякое леги-
тимное право,— писал он еще,— должно сделаться священ-
ным, всякое же честолюбие или несправедливое предприя-
тие должно найти свое осуждение и вечное препятствие к
своему осуществлению в выраженном признании и в фор-
мальной гарантии тех самых принципов, долгим и печальным
забвением которых была революция». На Ахенском конгрес-
се 1818 г. монархи пяти великих держав заявили в торжест-
венной декларации, что никогда не будут вмешиваться в чу-
жие дела без формального приглашения заинтересованного
государства и что все их усилия будут клониться лишь к то-
му, чтобы содействовать миру и внутреннему благосостоя-
нию государств и «пробуждению религиозных и моральных
чувств, власть которых была значительно ослаблена бедстви-
ями последних лет».
417
И вот, едва минул год после составления этой деклара-
ции, как вспыхнула сначала испанская, потом неаполитан-
ская революция. Вопреки обещанию Ахенского конгресса
конгресс в Троппау заявил о праве вмешательства в дела чу-
жого государства ради охраны Европы от «преступной зара-
зы революций». В этом смысле был составлен протокол, где
прямо говорилось о праве принудительного воздействия на
государства, внутренние события в которых могут быть опас-
ными для соседей. Следующий затем конгресс, Лайбахский,
уполномочил Австрию произвести экзекуцию в Неаполитан-
ском королевстве, а через несколько месяцев конгресс в Ве-
роне дал такое же поручение Франции относительно Испа-
нии. После этого абсолютизм был восстановлен в Неаполе, в
Пьемонте, где тоже произошло возмущение, и в Испании,
уже раздиравшейся междоусобной войной. И на Апеннин-
ском, и на Пиренейском полуостровах снова произошла кро-
вавая расправа с врагами абсолютизма1.
Абсолютистические реакции следовали и за революция-
ми 1830 и 1848 гг.
Когда вслед за Июльской революцией в Париже, низверг-
шей с престола абсолютиста Карла X, вспыхнула в августе то-
го же 1830 г. бельгийская революция, вызванная абсолютиз-
мом нидерландского короля Вильгельма I, а затем последовали
волнения в некоторых второстепенных государствах Герман-
ского союза, Австрия, Пруссия и Россия стали снова готовить-
ся к вооруженной борьбе с революцией, но вспыхнувшее
осенью восстание в Царстве Польском расстроило планы трех
абсолютных монархий, заставив их, однако, еще теснее соеди-
ниться между собой. Благодаря настойчивости Франции и Ан-
глии бельгийцам удалось организоваться в самостоятельное
королевство с очень либеральной конституцией2, но Царство
Польское, после подавления восстания, лишилось своей кон-
ституции и получило строго военно-бюрократическое управле-
ние под настоящей диктатурой царского наместника, водво-
рившего в Польше порядки тогдашнего российского абсолю-
тизма. На Мюнхенгрецком съезде русского и австрийского
1 В Португалии абсолютизм был восстановлен военной контрреволю-
цией.
2 Народно-правовое государство. С. 304—306.
418
государей и прусского кронпринца в 1833 г. был составлен
трактат, в котором говорилось о праве каждого государя, угро-
жаемого внутренними смутами или внешними опасностями,
искать помощи у правительств Австрии, Пруссии и России.
Июльская революция 1830 г. отразилась в Германии ре-
волюционными вспышками в Брауншвейге, Гессен-Касселе,
Саксонии, Ганновере и других менее важных землях, где бы-
ли после этого введены конституции, что только питало по-
литическое брожение и в других немецких государствах. Об-
щие реакционные меры не заставили себя, однако, долго
ждать и здесь. Венская министерская конференция госу-
дарств Союза в 1834 г. наложила разные ограничения на
компетенцию представительных палат, на университеты, на
печать, чему была оказана моральная поддержка и со сторо-
ны России, в которой видели главный оплот консервативных
интересов. В 1837 г. новый ганноверский король объявил не-
обязательной для себя конституцию, принятую после Июль-
ской революции. Даже там, где существовали более старые
конституции, правительства пытались действовать в духе аб-
солютизма, нарушая законы, ограждавшие свободу граждан
от чиновничьего произвола. В Италии после неудачи револю-
ционной попытки 1831 г. тоже свирепствовала реакция.
За общим подавлением революции 1848 г., потрясшей
почти всю Западную Европу, революции с демократическим,
местами республиканским характером, с выступлением на
сцену социального вопроса и с разного рода национальными
осложнениями1, равным образом, как и в начале двадцатых
и тридцатых годов, последовал взрыв реакции, с особой си-
лой господствовавшей в пятидесятых годах. Из всех завое-
ванных революцией конституций сохранились только сар-
динская 1848 г. и прусская 1850 г., притом последняя не
без сильной борьбы2. Царствовавший с 1840 г. в Пруссии
Фридрих Вильгельм IV с самого же начала своего правле-
ния заявил, что он по-прежнему останется неограниченным
1 История Западной Европы. Т. V. Гл. 19—24. Общие причины неудачи
коротко резюмированы в гл. XII «Общего взгляда на историю Западной Ев-
ропы в первые две трети XIX в.»; Ср.: Народно-правовое государство.
Гл. XVIII.
2 О них: Народно-правовое государство. С. 381—383 и 398—400.
419
королем. В его речи во время коронационных торжеств бы-
ло, между прочим, сказано: «Я знаю, что получил корону от
всемогущего Бога и что обязан отдать ему отчет за каждый
час своего царствования. Я обращаюсь к тем, которые тре-
буют от меня гарантий относительно будущего, но лучшего
ручательства я дать не хочу, да и не может дать ни один че-
ловек на земле. Мое слово более веско, чем все уверения
на пергаменте». В 1847 г. Фридрих Вильгельм созвал про-
винциальные чины монархии на соединенный ландтаг с чис-
то совещательным значением (да и то главным образом по
административным и финансовым вопросам) и при откры-
тии этого собрания опять заявил, что Пруссия по-прежнему
будет управляться единой волей. «Считаю нужным торжест-
венно объявить,— говорил король,— что никакой силе на
земле не удастся заменить естественное отношение между
государем и народом, которое своей внутренней правдой де-
лает нас столь сильными, отношением условным и консти-
туционным, и что я ни теперь, ни когда-либо в будущем не
соглашусь на то, чтобы между Господом Богом на небесах и
этой страной стал исписанный лист бумаги, подобный вто-
рому Провидению, дабы управлять нами при посредстве сво-
их параграфов и заменить ими старую святую верность».
Король находил при этом, что в Пруссии все превосходно и
портится лишь дурной прессой, «позорящей германскую
верность и прусскую честь». В соединении с доблестным на-
родом власть сумеет отстоять свои права против либерализ-
ма. Прусский народ не желает представительства: чины мо-
гут давать советы и выражать желания, отнюдь не представ-
лять мнения. Последнее противно немецкому духу и лишь
повлекло бы за собой конфликты с короной, «которая долж-
на править по закону Бога и по закону страны, и по собст-
венному свободному изволению, а не по воле того или дру-
гого большинства». Фридрих Вильгельм IV прибавлял к это-
му, что ни за что не созвал бы соединенный ландтаг, имей
он хоть малейшее подозрение в том, что чины захотят ра-
зыгрывать роль так называемых народных представителей.
Эта речь была произнесена 17 апреля 1847 г., а через один-
надцать месяцев, 18 марта 1848 г., в Берлине разразилась
революция, которая заставила короля согласиться на кон-
420
ституцию. Правда, впоследствии революция была подавле-
на, но конституцию Пруссия все-таки получила, хотя и с
сильно урезанными правами народных представителей. На-
оборот, в Австрии данная было ее народам конституция
вскоре формально была отменена (31 дек. 1851 г.) после то-
го, как подавлены были все восстания, и между ними при
помощи русского императора самое опасное, происшедшее в
Венгрии1.
Революция 1848 г. обошла германские столицы в марте,
откуда ее название мартовская, а старых политических и со-
циальных отношений — домартовскими порядками. Домар-
товские порядки — это синоним ancien rehime’a: вся абсолю-
тистическая реакция после неудачи движения 1848 г. была
не чем иным, как насильственным восстановлением домар-
товских отношений. В иных местах правительства отказыва-
лись исполнить обещания 1848 г., в иных прямо отменялись
уже сделанные уступки, а где и военной силой водворился
абсолютизм, но везде реакция шла при самом деятельном
участии дворянства. Настоящим идеологом этой реакции
был прусский государственный философ Юлий Шталь, об
идеях которого уже выше была речь2. В Италии равным об-
разом везде был восстановлен абсолютизм, и, как сказано
было выше, одно Сардинское королевство сохранило введен-
ный в 1848 г. конституционный строй.
Немало содействовало этой победе реакционного абсо-
лютизма новое «18 брюмера» во Франции, государственный
переворот, совершенный 2 декабря 1851 г. президентом ре-
спублики, принцем Людовиком-Наполеоном Бонапартом, ко-
торый ровно через год сделался императором французов под
именем Наполеона III. Это было возвращение Франции к це-
заризму3, который был тоже особым видом абсолютизма, хо-
тя и замаскированного представительными учреждениями.
В том, что новый владыка французов назвал себя Наполео-
ном третьим, как будто был еще Наполеон II4, заключа-
1 Народно-правовое государство. Гл. XXI и XXII.
2 См. выше, с. 364.
3 См. выше, с. 401 и след.
4 Наполеоном II бонапартисты называли сына Наполеона I, жившего
при венском дворе и носившего титул герцога Рейхштадтского.
421
лась своего рода ссылка на династическое право Бонапар-
тов, но вместе с тем он титуловался еще «Божиею мило-
стью и волею народа императором французов», признавая,
таким образом, за своей властью, так сказать, двойное про-
исхождение — и божественное, и народное.
Казалось, что в пятидесятых годах XIX в. абсолютизму
суждено было упрочиться на очень долгое время чуть не на
всем европейском континенте.
Глава ХХП
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОСУЖДЕНИЕ «СТАРОГО ПОРЯДКА»
В XV—XVHI вв. И ПАДЕНИЕ ЕГО В XIX в.1
Идейный поход против «старого порядка» в Новое
время.— Оппозиция монархомахов в эпоху Реформа-
ции.— Английская политическая литература XVII в —
Роль идеи естественного права в политической литера-
туре XVIII в — Отношение к абсолютизму Монтескье и
Руссо — Обнаружение несостоятельности «старого по-
рядка» в эпоху революции и Наполеона I.— Постепенное
падение абсолютизма в Европе.— Развитие местного са-
моуправления.— Отмена сословных привилегий.— Лик-
видация феодальных и крепостнических отношений.—
Постепенная демократизация учреждений.— Государ-
ство и личная свобода в новом строе
История падения «старого порядка» не входит в план на-
стоящей книги, и времени после начала Французской рево-
люции мы коснулись не столько для того, чтобы рассказать,
как совершалось разложение «старого порядка», сколько
для того, чтобы показать, как еще долго сохранялся он в
XIX в. Тем не менее мы считаем нелишним дать в этой же
книге краткий очерк если не истории разложения «старого
порядка», бывшей вместе с тем историей возникновения но-
вого государственного и общественного типа, то истории
главных этапов, через которые прошло это разложение.
1 См.: Народно-правовое государство. Гл. V, VI, VII, VIII, XIII, XIV, XV,
XVIII, XXIV и XXV.
422
Фактическому падению «старого порядка» предшествова-
ло идейное его осуждение, главным органом которого была
литература, а главным предметом критики — абсолютизм.
Уже английский государственный деятель второй половины
XV в. Джон Фортескью1, имевший возможность хорошо по-
знакомиться с результатами установлявшегося тогда во
Франции абсолютизма, осудил с принципиальной точки зре-
ния эту политическую форму в составленном им в духе ог-
раниченной монархии трактате под заглавием «Похвалы ан-
глийским законам» (De laudibus legum Angliae), лучшим, по
мнению автора, какие только существуют на земле. Англий-
ское государственное устройство Фортескью понимал в
смысле соединения в нем «королевского и политического
правления» (dominium regale et dominium politicum). «Уст-
ройство государств, управляемых только по-королевски,—
говорит Фортескью,— имеет в виду выгоды одного лишь
правителя, к немалой невыгоде управляемых, и в них отча-
сти по нерадивости государя, отчасти же по его недеятель-
ности и лени, законы создаются неосмотрительно и потому
заслуживают названия больше искажения законов, чем на-
стоящих законов». Кроме того, в этих государствах король
или его министры облагают подданных разными поборами
совершенно произвольно, тогда как, по мнению Фортескью,
«брать у кого-либо что-нибудь из его достояния без его со-
гласия и без вознаграждения противно законам».
Особенно резко нападала на абсолютизм политическая
литература второй половины XVI в., когда в Нидерландах, в
Шотландии и во Франции шла борьба сословий против коро-
левской власти рядом с борьбой протестантизма и католи-
цизма. Так называемые монархомахи2 и такие политические
деятели, как организатор оппозиции против Филиппа II в
Нидерландах, Марникс де Сент-Альдегонд, прямо при этом
высказывали свою антипатию к «политической грамматике
Макиавелли». Шотландец Бьюканан в сочинении о праве ко-
ролевской власти на своей родине (De jure regni apud sco-
tos), в противоположность Макиавелли с его пессимистиче-
1 См.: Поместье-государство. С. 213 и след.
2 Народно-правовое государство. С. 24.
423
ским взглядом на человеческую природу1, приписывал душе
человека «нечто высокое и благородное» (sublime quoddam et
generosum insitum), позволяющее ему добровольно повино-
ваться лишь тому, что пользуется властью в общем интере-
се. Классическая литература (в особенности Аристотель) и
окружающая политическая действительность доставляли мо-
нархомахам обильный материал частных примеров для об-
щей характеристики тирании, которую они противополагали
закономерной королевской власти, делающей государя толь-
ко охранителем (custos) общества, а не его господином. В
«Тяжбе против тиранов» (Vindiciae conra tyrannos), трактате
конца XVI в., приписывавшемся разным авторам2, проводит-
ся та мысль, что по природе люди свободолюбивы, не терпят
рабства и, установляя над собой власть, делают это не ради
того, чтобы отдать себя в полное распоряжение одного чело-
века. Автор этого трактата между тиранами различал таких,
которые незаконно захватили власть (tyranni absque titulo),
и таких, которые, будучи совершенно законными государя-
ми, правят деспотически (tyranni exercitio). Тиран, говорится
еще в этом сочинении, отделывается от неприятных ему са-
новников, придумывая, будто против него составляются заго-
воры, преследует справедливых и серьезных людей, избегает
собрания государственных чинов, держит наемные войска и
шпионов, истощает имущества подданных и т. п.
Английская политическая литература XVII в.3, бывшая
проповедью народовластия с его теологическим обосновани-
ем у индепендентов и с философским у Локка, была, в сущ-
ности, продолжением монархомахической критики абсолю-
тизма. Высокое представление о нравственном достоинстве
человеческой личности, только что отмеченное у кальвини-
ста Бьюканана, лежит и в основе политического учения
Мильтона: человек создан по образу и подобию Божию, а по-
тому рождается свободным, и вместе с тем призванным к
властвованию, а не к подчинению. Такой взгляд был принци-
пиальным осуждением абсолютизма, в частности же Миль-
1 Ср. выше, с. 68.
2 Теперь автором считается Дю Плесси Морнэ.
3 Народно-правовое государство. Гл. V.
424
тон защищал индивидуальную свободу от произвола власти
даже в том случае, если бы она находилась и в руках пред-
ставителей народа: недаром в своей знаменитой «Ареопаги-
тике» он так энергично восстал против задуманного Долгим
парламентом введения цензуры. Равным образом отстаива-
лась им и религиозная свобода. Локк только подыскал раци-
оналистические основания для той же защиты политической
и индивидуальной свободы, которую индепенденты защища-
ли соображениями богословского характера. Не забудем
еще, что во имя народного права и монархомахи, и индепен-
денты, и Локк одинаково оправдывали активную борьбу с де-
спотизмом.
Идея естественного права с его принципами свободы и
равенства, играющая столь важную роль в рационалистиче-
ской философии эпохи Просвещения, только при не особен-
но последовательном ее применении могла казаться не
противоречащей ни абсолютизму, ни даже крепостничеству1.
На самом деле, естественное право, наоборот, заключало в
себе полное отрицание всего старого порядка с его абсолю-
тизмом и сословными привилегиями. За исключением Воль-
тера и физиократов2, вся французская литература3 была на-
строена враждебно по отношению к абсолютизму. «Система
природы» Гольбаха своим резким нападением на государей
заставила самого короля-философа Фридриха II взяться за
перо для ее опровержения.
Никто, однако, не оказал такого влияния на современни-
ков и потомство в деле принципиального отрицания абсолю-
тизма, как Монтескье и Руссо, для которых неограниченная
королевская власть одинаково являлась не чем иным, как
узурпацией с той лишь разницей, что в глазах Монтескье
узурпация в данном случае совершилась по отношению к ис-
торическим правам сословий, в глазах Руссо — по отноше-
нию к естественному праву всего народа. Оба они видели в
королевской власти главным образом исполнительный орган
государства, и узурпация состояла для них обоих в том, что
1 См. выше, с. 352 и 360—361.
2 См. выше, с. 370 и след.
3 Народно-правовое государство. Гл. VI.
425
этот исполнительный орган завладел и законодательной вла-
стью.
В своем «Духе законов» Монтескье проводит строгое раз-
личие между монархией и деспотией, признавая право на
первое название лишь за ограниченной монархией, т.е. или
монархией сословной, или той, которая ныне называется
конституционной. «Монархическое правление,— говорит
Монтескье,— это — то, где управляет один, но на основании
прочных и определенных законов, тогда как в деспотическом
один без закона и правила приводит в движение все своей
волей и своими капризами». В монархии нужны, кроме ос-
новных законов, посредствующие, подчиненные и зависимые
власти (у Монтескье это — наследственное дворянство) и
хранилище законов, но деспотия обходится без всего этого,
ограничиваясь передачей всей власти одному визирю. «Чело-
век, которому все его пять чувств говорят, что он все, а ос-
тальные — ничто, естественно бывает ленивым, невежест-
венным и сластолюбивым. Поэтому он не занимается дела-
ми» и предоставляет их кому-либо из своих приближенных.
«Рассказывают,— прибавляет Монтескье,— об одном папе,
который, будучи проникнут чувством своей ничтожности,
всячески отклонял от себя выбор. Когда, наконец, он избра-
ние принял, то передал все дела своему племяннику и был в
восхищении, говоря: «Я никогда не поверил бы, что это так
легко». Если «принципом» демократии Монтескье считал
гражданскую доблесть, аристократии — умеренность в поль-
зовании властью, монархии — чувство чести, то принципом
деспотии был в его глазах только страх; гражданской добле-
сти в ней не нужно, а чувство чести в ней опасно —для са-
мой же этой формы. «Умеренное правительство,— замечает
Монтескье,— может сколько ему угодно и без опасности для
себя ослабить вожжи: оно держится своими же законами и
даже собственной силой. Но если при деспотическом правле-
нии государь хоть на минуту опускает руки, когда он не мо-
жет сразу же уничтожить людей, занимающих в государстве
первые места, то все потеряно, ибо раз нет пружины прави-
тельства, каким является страх, у народа нет более покрови-
теля». В особой главе Монтескье приводит различие между
повиновением в умеренном правлении и в правлении деспо-
426
тическом: в последнем не может быть места ни для рассуж-
дений, ни для возражений, ни для представлений, ни для от-
срочек. Воспитание в деспотии заключается в приспособле-
нии людей к безусловному повиновению, которое считается
нужным и для пользования властью: здесь никто не бывает
тираном, не будучи в то же время рабом, a «pour faire un bon
asclave il faut commencer par faire un mauvais sujet». В отде-
ле, посвященном доказательству той мысли, что законы дол-
жны сообразоваться с «принципом» правления, «идею деспо-
тизма» Монтескье определяет двумя-тремя строками, кото-
рые и составляют всю главу: «Когда дикари Луизианы хотят
достать плод, они срезывают дерево у корня и достают
плод,— вот и все деспотическое правление». Приемы управ-
ления в таком государстве необычайно просты. «Все здесь
должно вертеться на двух-трех идеях, а новых отнюдь не
нужно. Когда,— поясняет свою мысль Монтескье,— вы дрес-
сируете какое-либо животное, вы очень остерегаетесь ме-
нять его учителя или приемы обучения: вы ударяете по его
мозгу двумя-тремя движениями, отнюдь не больше... Иной
деспот обладает столькими недостатками, что опасно выстав-
лять напоказ его естественное слабоумие. Его прячут, и ни-
кто не знает, в каком он находится состоянии. К счастью,
люди здесь таковы, что им только нужно имя, которое ими
управляло бы. Карл XII в Бендерах, встретив какое-то непо-
виновение в шведском сенате, написал ему, что пришлет для
командования им один из своих сапог, и этот сапог приказы-
вал бы, как деспотический король. Далее, в монархии госу-
дарь, вручая кому-либо власть, ее ограничивает, но в деспо-
тии власть переходит целиком в руки того, кому вверяется:
«визирь есть сам деспот, и каждый отдельный чиновник —
визирь». Так как закон здесь заключается в воле государя, а
государь не может ничего хотеть того, что ему неизвестно,
то нужно, чтобы существовало великое множество людей,
которые хотели бы за него и как он.
По учению Монтескье, каждая форма приходит в упадок
или «портится», когда приходит в упадок ее принцип. Так,
монархия погибает, когда у корпораций и сословий отнима-
ют их привилегии, ибо тогда-то и устанавливается деспотизм
одного. «Монархия погибает,— говорит еще Монтескье,—
427
когда государь, относя все единственно к себе, стягивает все
государство к столице, столицу — к своему двору, а двор —
к своей особе». Что касается до порчи принципа деспотии, то
он «портится беспрерывно, ибо он по самой природе своей
испорчен».
С этими выдержками из «Духа законов» можно было бы
сопоставить многие места в «Персидских письмах», где, меж-
ду прочим, Монтескье характеризует современное ему госу-
дарственное право, как «науку, которая учит государей тому,
насколько они могут нарушать правосудие без ущерба своим
интересам», а фактическое положение дел обрисовывается в
заявлении, что европейские короли «обладают такой вла-
стью, какой сами захотят». В эпоху написания «Персидских
писем» Монтескье сомневался в возможности прочного су-
ществования монархии, находя, что это — какое-то неустой-
чивое равновесие с наклоном в сторону республики или де-
спотии, но потом он обрел свой идеал монархии в Англии,
где конституция имеет своим предметом свободу: по сравне-
нию с английским устройством все современные монархии
казались ему имеющими своей целью не свободу, а славу
граждан, страны и государя, хотя он и не решался назвать
их прямо деспотиями, ибо в них, по его словам, все-таки со-
хранялись еще кое-какие вольности.
Монтескье был вообще противником какой бы то ни бы-
ло неограниченной власти, Руссо был специально противни-
ком неограниченной власти лишь единоличных правителей,
полагая, что в руках народа власть может оставаться и неог-
раниченной, и непогрешимой. Абсолютная монархия для не-
го такая же узурпация исполнительной властью прав обще-
ства, какой была и для Монтескье. Изображая в известном
своем «Рассуждении о причинах и основаниях неравенства
между людьми», как создалось сначала неравенство богатых
и бедных путем установления права собственности, потом —
между сильным и слабым вследствие учреждения власти и,
наконец, между господином и рабом, с превращением закон-
ной власти в произвольную, Руссо объяснял и это последнее
узурпацией, полемизируя с теми писателями, которые «at-
tribuent aux hommes un penchent naturel a la servitude». Че-
ловеческая природа свободна, первоначально власть поруча-
428
лась народом правителям на известных условиях, и только
позднее «правители, сделавшись наследственными, взяли
привычку смотреть на свою должность как на семейное до-
стояние, на себя — как на собственников государства, в ко-
тором они были только должностными лицами, на своих со-
граждан — как на собственных рабов, ставя их наравне со
скотом в составе своего имущества и величая себя равными
богам и царями царей».
Чем ближе мы подходим к Французской революции, тем
популярнее делается во французском обществе мысль о не-
состоятельности абсолютизма. Когда в 1789 г. во Франции
происходили выборы в Генеральные штаты и при этом со-
ставлялись знаменитые «наказы» (caheirs de doleances), в ко-
торых население страны выражало свои желания, то ни в од-
ном сословии, ни в одной какой-либо местности не было вы-
сказано даже предположения, что во Франции может
остаться абсолютная монархия, и свою политическую задачу
Учредительное собрание, возникшее из Генеральных штатов,
поняло в смысле прочного установления народного предста-
вительства. Французская революция открывает собой эпоху
постепенного крушения, на континенте Европы, «старого по-
рядка», причем с абсолютизмом падают и старые сословные
привилегии1.
Французский абсолютизм XVIII в.,продолжая дело Людо-
вика XIV, стал, в сущности, тормозом каких бы то ни было
государственных и общественных преобразований, которые,
так сказать, ставились на очередь процессом исторического
развития нации. В то время как почти повсеместно на мате-
рике действовал просвещенный абсолютизм, царила во внут-
ренней политике Франции старая система, но мало-помалу
нация выросла из тех рамок, в которые ее втискивала эта си-
стема. Сначала, приблизительно до 1750 г., необходимых ре-
форм ждали сверху, от королевской власти, и идея просве-
щенного абсолютизма была так популярна, что и позднее, до
самого министерства Тюрго, у нее были крупные сторонни-
ки2. Но в этом пути национального обновления постепенно
1 Народно-правовое государство. Гл. VIII.
2 Ср. выше, с. 370 и след.
429
начали разочаровываться, абсолютизм стал делаться предме-
том все более и более резких нападений, и в обществе полу-
чили распространение идеи политической свободы. Между
тем при Людовике XVI обнаружилось, что так жить дальше
было нельзя, что нужна была коренная реформа, но в то же
время оказалось, что ни королевская власть, находившаяся
под постоянным влиянием придворных сфер, ни обветшалая
бюрократическая машина не были способны совершить дело
преобразования. После долгого сопротивления общественно-
му требованию созвать государственные чины власть, нако-
нец, была вынуждена уступить и собрать давно вышедшие из
употребления Генеральные штаты. Но, собрав сословных
представителей, правительство, в сущности, предстало перед
ними с пустыми руками, без какого-либо политического пла-
на, как бы тем самым отрекшись от всякой органической ра-
боты в пользу «собранной нации». Генеральные штаты и по-
няли себя как собранную нацию, назвав себя Национальным
собранием, воплощавшим в себе верховную власть народа с
учредительными функциями. Франция из абсолютной монар-
хии должна была превратиться в монархию конституцион-
ную, и вместе с тем должны были быть перестроены все уч-
реждения, все отношения: чем дольше была задержка, тем
радикальнее выходила ломка. Вместе с абсолютизмом был
обречен на гибель и сословный строй с его аристократиче-
скими привилегиями и остатками феодализма и крепостниче-
ства1. Предпринятая Национальным собранием реформа не
могла, конечно, понравиться ни королю с его семьей, ни дво-
ру, ни привилегированным сословиям, и для восстановления
«старого порядка» люди не останавливались перед мыслью
об иностранной помощи. Старая монархия оказалась совер-
шенно неспособной оторваться от своих феодальных и кле-
рикальных традиций и от придворных влияний, и результа-
том было крушение монархии. Ее сменила республика, но
эта республика была, в сущности, лишь революционной дик-
татурой, которая скоро перешла в военную диктатуру, но обе
они, эти диктатуры, во многом были только продолжением
старого абсолютизма. Как бы там ни было, однако, старый
1 Народно-правовое государство. Гл. XI.
430
порядок во Франции рухнул, какие бы обломки его и не по-
шли потом в ход для возведения нового здания.
Французская революция не ограничилась низвержением
старого порядка в одной Франции, превратившись в пропа-
ганду новых политических идей и учреждений по всей Запад-
ной Европе. Угрожаемые с этой стороны представители абсо-
лютизма и старого порядка, европейские монархи вступили в
вооруженную борьбу с революцией. В этой войне, продол-
жавшейся четверть века (1792—1815), «старый порядок» по-
лучал удар за ударом от обновленной революцией Франции,
нигде не обнаружив способности оказать революции и ее
продолжателю Наполеону сколько-нибудь сильное сопротив-
ление. Старые династии падали одна за другой на Апеннин-
ском и Пиренейском полуостровах, в отдельных княжествах
Германии, а где этого не происходило, как, например, в Ав-
стрии и Пруссии, от монархий отторгались целые большие
территории. Только чисто народные движения конца этого
периода в Испании, в России, в Германии сокрушили мощь
Наполеона I, внутри империи которого абсолютизм тоже дал
свои плоды. Раньше правительства очень боялись народных
движений даже чисто патриотического характера. Австрия в
войнах с Францией предпочитала терять провинцию за про-
винцией, нежели иметь дело с внутренними народными дви-
жениями, и потом, когда во всей Германии началось нацио-
нальное движение, относилась к нему весьма подозрительно.
Одним из самых замечательных примеров и вместе с тем
доказательств несостоятельности «старого порядка» в от-
дельных странах было полное поражение Пруссии в 1806—
1807 гг., через двадцать лет после смерти Фридриха II и вы-
хода в свет книги Мирабо «О прусской монархии», где уже
предсказывалось это поражение. Книга будущего трибуна
революции и сторонника конституционной монархии была, в
сущности, апологией личного правления, раз оно находится
в руках великого человека, но вместе с тем Мирабо ясно ви-
дел, что все могущество Пруссии держалось исключительно
на гениальной личности ее короля, хотя он и прибавлял, что
его царствование «утомило всех до ненависти», так как
Фридрих II был заражен убийственной болезнью «желания
слишком управлять»: Пруссия была в его глазах как раз «мо-
431
нархией, которая более, чем какая-либо другая, была подчи-
нена абсолютнейшему правлению, только тем и занимавше-
муся, что за всем наблюдало, все регламентировало, предпи-
сывало, приказывало». Как ни велик был король, основа, на
которой он строил, была самая зыбкая, говорил Мирабо, и ее
может снести первая буря. «Прусская монархия,— пророчил
он еще,— устроена так, что не выдержит ни одного бедст-
вия. При всем искусстве покойного короля, эта сложная ма-
шина не может быть долговечной. Напрасно Фридрих II ле-
чил свое государство паллиативами: ему нужно лечение ра-
дикальное».
Буря, предсказанная Мирабо, пришла в 1806 г., и резуль-
тат был тот, который предсказывался. События этого и сле-
дующего годов показали, до какой степени всей системой
прусского абсолютизма, благодаря которой сам Фридрих II
жаловался, что ему «надоело царствовать над рабами», в на-
селении были убиты дух инициативы, гражданское чувство,
интерес к общему делу. Известно, до какой степени индиф-
ферентно и пассивно в Пруссии в 1806—1807 гг. отнеслись
к бедствиям отечества и дворяне, и бюргеры, и народная
масса, как в городах, так и в деревнях. С другой стороны, и
правительство, убежденное в «ограниченности ума поддан-
ных», всячески парализовало общественную самодеятель-
ность. Только заступничество Александра I спасло Пруссию
от судьбы некоторых других государств, уничтоженных в
Германии Наполеоном, да и то Гогенцоллерны поплатились
целой половиной своих владений, и только реформы Штейна
и Гарденберга, внутренне укрепившие Пруссию, позволили
ей играть первенствующую роль в войне за освобождение
Германии. Впервые в эту эпоху под влиянием пережитых
Пруссией бедствий в ней явилась мысль о необходимости пе-
рейти от абсолютизма к народному представительству1,
правда, осуществившемуся только через четыре десятилетия
благодаря наступившей реакции.
Полная непригодность абсолютизма была создана и в Ав-
стрии тоже под влиянием внешнего поражения, доказавше-
го, что жить по старине долее нельзя. До 1848 г. в монархии
1 Народно-правовое государство. С. 246 и след.
432
Габсбургов царил самый реакционный абсолютизм. Револю-
ция 1848 г. вынудила у него самоотречение, но когда отчасти
вследствие национальных распрей в населении империи, от-
части благодаря помощи со стороны России, венское прави-
тельство сломило революцию, все пошло по-старому. Пора-
жение в войне 1859 г. с Францией и Сардинией впервые за-
ставило высшие сферы Австрии подумать о реформах и
какой ни на есть конституции (1860), хотя для утверждения
конституционного строя потребовалась еще одна несчастная
война — с Пруссией в 1866 г., лишний раз показавшая пра-
вительству, что спасение Австрии в отказе от прежнего аб-
солютизма1.
Так, в отдельных странах Европы, где раньше, где позже,
«старый порядок» доказывал свою несостоятельность, поми-
мо того, что 1789 г. открылась эпоха политических револю-
ций против абсолютизма и реакции. Эти революции не всег-
да были удачны, они подавлялись, абсолютизм снова торже-
ствовал, но постепенно тем не менее он везде должен был в
большей или меньшей мере уступать свои позиции. Одни за
другими отдельные страны переходили от абсолютизма к
конституционному режиму, который и сделался господству-
ющей политической формой современного мира.
От абсолютной монархии современные государства, не
исключая республиканской Франции, унаследовали, однако,
немало таких порядков, которые не совсем-то подходят к ос-
новам свободного государства. Сюда нужно отнести, прежде
всего, административную централизацию и бюрократию, ко-
торые очень часто находили сочувствие и поддержку со сто-
роны политических деятелей и партий, стоявших за предста-
вительный образ правления, ввиду того, что и та, и другая
могли быть превосходными орудиями новой власти в борьбе
с остатками «старого порядка». Не раз защитниками местно-
го самоуправления, наоборот, выступали более консерватив-
но настроенные элементы, конечно, под условием сохране-
ния общественного значения за привилегированными. В но-
вом государстве, однако, все более зреет и проводится в
1 Народно-правовое государство. С. 415 и след.
433
жизнь идея местного самоуправления в ущерб бюрократиче-
ской централизации.
Параллельно с падением абсолютизма шло и постепенное
разрушение сословных привилегий, одним из пережитков ко-
торых во многих конституциях являются верхние, аристокра-
тические палаты. В остальном восторжествовал принцип
гражданского равенства, который сделался одним из главных
пунктов новых конституций, ограничивающих когда-то быв-
шую абсолютной королевскую власть.
В области помещичьих и крестьянских отношений пере-
ход от абсолютной монархии характеризуется падением со-
циального феодализма и крепостничества. Все, что в этом
отношении было сделано абсолютной монархией в XVIII в.,
бледнеет в сравнении с тем, что было сделано Французской
революцией и под ее непосредственным влиянием при Напо-
леоне. Лучшее, что было совершено абсолютизмом в XIX в.,
это, несомненно, уничтожение крепостного права в Пруссии
в 1807 г. и в России в 1861 г., хотя и здесь, и там реформа
была вызвана внешними поражениями (под Иеной в Пруссии
и в Севастополе в России). В других случаях по примеру
Франции падение социального феодализма происходило од-
новременно с крушением абсолютизма: пример — Австрия
1848 г., где кратковременная передышка, созданная мартов-
ской революцией, дала возможность ликвидировать кресть-
янский вопрос.
Только что вкратце очерченная эволюция является воз-
вращением со стороны государства обществу, взятому в
смысле совокупности управляемых, тех прав, которые в эпо-
ху установления абсолютизма отошли от них в исключитель-
ное обладание правительств. Средневековые формы обще-
ственного самоуправления имели характер сословных и кор-
поративных привилегий, в новом же конституционном
государстве происходит постепенная демократизация учреж-
дений.
Наконец, параллельно со всеми этими процессами совер-
шается процесс расширения личных прав граждан в смысле
ограничения прав государства над личностью или, что то же,
признания за гражданами закономерной свободы, понимае-
мой, во-первых, как личная неприкосновенность, во-вторых,
434
как свобода передвижения, свобода занятий, свобода сове-
сти, свобода слова, свобода печати, свобода собраний, свобо-
да союзов, отрицавшиеся в абсолютном и полицейском госу-
дарстве прошлого.
Одним словом, новое конституционное государство явля-
ется особым историческим типом, который, конечно, и рас-
сматриваться должен особо, как нечто, во многих отношени-
ях диаметрально противоположное бюрократическому госу-
дарству, вполне подчинявшему себе сословное общество1.
Глава XXIII
ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сохранение на Западе, в XVI—XVIII вв., сословного
строя, выросшего на феодальной почве и осложненного
выделением горожан в эпоху Крестовых походов.— Со-
словная монархия как политическая надстройка на
этом социальном базисе.— Общие причины упадка этой
государственной формы и замена ее абсолютизмом, опи-
рающимся на армию и бюрократию — Союз королевской
власти с привилегированными.— Выгоды, которые абсо-
лютная монархия извлекала для себя из развития про-
мышленности и торговли, из религиозной Реформации и
католической реакции, равно как из нового образова-
ния.— Стремление абсолютной власти сделаться всем
во всем.— Приближение абсолютизма XVI—XVIII вв. к
азиатскому деспотизму.— Просвещенный абсолютизм и
его родство с Французской революцией.— Характер ре-
ставрационного абсолютизма XIX в.
Подведем вкратце общие итоги.
Из так называемых Средних веков общество западноев-
ропейских государств перешло в так называемое Новое вре-
1 См. предисловие к настоящей книге, где говорится об отношении ее
к типологическому курсу о конституционном (народно-правовом) государст-
ве. Последнее основывается на началах, введение которых в жизнь, по от-
ношению к государству «старого порядка», равносильно всегда целой рево-
люции, о чем ср.: Происхождение современного народно-правового государ-
ства. С. 12—13 и особенно с. 441 и след.
435
мя разделенным на сословия, сложившиеся еще в феодаль-
ные времена. В эпоху феодализма население каждой страны
разделялось главным образом на господ-землевладельцев и
на подвластных им земледельцев, причем первые подразде-
лялись на сеньоров духовных и светских. В эпоху Крестовых
походов между духовными и светскими сеньорами и кресть-
янской массой образовалось, так сказать, среднее сословие
горожан, которое вместе со всеми недуховными и недворяна-
ми образовали во Франции одно «третье сословие». Высшую
ступень в этом сословном строе занимало духовенство, кото-
рое только в протестантских странах в силу религиозной Ре-
формации утратило свое социальное первенство, в католиче-
ских же сохранило свое первенствующее положение. Второе
место принадлежало дворянству, составлявшему вместе с
духовенством (в сущности, только с высшим) класс привиле-
гированных. В руках этих привилегированных была сосредо-
точена большая часть поземельной собственности; в их ру-
ках были судебная и полицейская власть в деревнях, сень-
ориальные права над крестьянским населением и его
землями; они обладали разными другими преимуществами,
каковы изъятие от налогов, исключительное право на многие
государственные должности и т. п.; где сохранилось местное
самоуправление, там оно находилось в руках этого же клас-
са. Городское население было лишено таких преимуществ,
но оно было, по крайней мере, свободно от власти привиле-
гированных, в том или ином виде тяготевшей над крестьяна-
ми, среди которых были еще и крепостные духовных и дво-
рян. Этот сословный строй был одной стороной «старого по-
рядка», именно стороной социальной.
Другую, политическую, сторону представлял собой аб-
солютизм королевской власти, выросший на развалинах со-
словной монархии Средних веков.
В эпоху феодализма королевская власть не была неогра-
ниченной: она имела характер сюзеренитета над вассалами,
а не над подданными: в подданстве находились только
низшие классы общества у своих сеньоров. За феодальной
монархией следовала монархия сословная, в которой король
делился в той или иной мере политическими правами с со-
словиями, представленными на государственных сеймах. По-
436
следние вотировали налоги, принимали участие в издании
законов, наблюдали отчасти за действиями администрации,
нередко даже выбирали королей. Сословная монархия в об-
щем покоилась на договорном начале, как и феодализм, и
представляла собой политическую надстройку над сослов-
ным строем общества. Клир, светская аристократия и города
пользовались в сословной монархии известными политиче-
скими правами как самостоятельные и независимые факторы
государственной жизни. Установление абсолютизма было от-
нятием у сословий их политических прав, при сохранении за
ними социальных привилегий, и возведением над сословным
строем, как фундаментом, политической надстройки иного
типа, которая впоследствии стала давить на свой фундамент
так сильно, что вполне его себе подчинила и, так сказать, са-
ма его в себе поглотила.
Причинами упадка сословно-представительных учрежде-
ний были равнодушие к ним народных масс, которые в них
не были представлены, постоянные распри между сословия-
ми, в них представленными, невыработанность самой поли-
тической организации сословного строя, как то: неопреде-
ленность и фактическая редкость сроков их созывов, кратко-
срочность сессий, часто неумелость ведения дел, отсутствие
контролирующих органов и т. п. Королевская власть всегда
встречала поддержку в сельских массах против господ, а в
горожанах против привилегированных и всегда пользовалась
раздорами сословий и в сеймах, и вне сеймов для того, чтобы
постепенно отделываться от этих сеймов, имея притом на
своей стороне такие орудия, как военная сила и бюрократия.
В начале эпохи сословной монархии старые феодальные дру-
жины и муниципальные милиции стали уступать место наем-
ным войскам, по образцу которых правительства начали об-
заводиться и своими постоянными армиями. Распоряжаясь
военной силой, новое государство могло легко подавлять все
проявления феодальной и муниципальной оппозиции, а по-
степенно разраставшаяся бюрократия и мирным путем вы-
тесняла из местного управления и феодальные, и муници-
пальные элементы, шаг за шагом подрывая самоуправление
общества и организуясь в общегосударственную, послушную
по отношению к королевской власти силу,— организуясь
437
именно на началах дисциплины и централизованной иерар-
хии. Феодальные сеньоры были военным и правящим сосло-
вием, но постоянные армии и бюрократические учреждения
вытеснили дворянство из его прежних позиций. Дворянин
мог, конечно, по-прежнему быть военным, но уже не в каче-
стве вассала, а в качестве подданного на специальной коро-
левской службе, мог участвовать в управлении, но в роли
уже не самостоятельного владельца, а должностного лица,
получившего свои полномочия сверху.
Заставив привилегированные сословия отказаться от сво-
его прежнего политического значения, королевская власть
взяла на себя охранение,— всей силой своего авторитета и
всеми средствами, какие ей давало распоряжение орудиями,
подобными бюрократии и армии,— всех социальных приви-
легий духовенства и дворянства. Социальный строй сослов-
ного состава терпел образовавшуюся над ним политическую
надстройку военно-бюрократического абсолютизма потому,
что последний сделался гарантией незыблемости этого
строя, взяв на себя охрану привилегий наиболее сильных
своими имуществами, местными влияниями, своей относи-
тельной организованностью и сознанием своих прав и своих
интересов сословий государства. Дворянство даже стало ус-
тремляться к королевским и княжеским дворам, сделавшим-
ся центрами политической жизни. Двор государя был теперь
настоящей политической силой, местом, где воочию осуще-
ствлялся союз абсолютизма власти с сословными привиле-
гиями. В этом союзе заключалась самая характерная осо-
бенность «старого порядка», в котором государственность
примирялась с феодализмом, и король, отожествлявший го-
сударство с собой, видевший в себе олицетворение и даже
воплощение всей нации, в то же время называл себя первым
дворянином своего королевства. Новая политическая над-
стройка над социальным базисом сословности срасталась с
ним в одну систему. От феодальных сеньоров только ушла
власть, но она нашла помещение не во враждебных им ру-
ках, раз концентрация власти в одном лице сопровождалась
усилением самой устойчивости старого сословного строя.
Абсолютизм «старого порядка» оказался связанным с сослов-
ным строем органически и идейно, но в то же время он вы-
438
нуждался чисто внешними условиями и, так сказать, по рас-
чету выгоды оказывать особое покровительство еще одному
общественному классу, выдвинутому в Новое время вперед
общим развитием экономической жизни.
Этот общественный класс — купцы и промышленники.
При переходе от Средних веков к Новому времени натураль-
ное хозяйство, господствовавшее в феодальную эпоху, стало
заменяться денежным, и королевская власть начала извле-
кать отсюда для себя выгоду, создавая новые источники сво-
их доходов из обложения торговли и промышленности и при-
бегая к займам у капиталистов, что облегчало для нее воз-
можность обходиться без созыва государственных чинов. В
видах содействия развитию торговых и промышленных пред-
приятий государство начало покровительствовать капитали-
стам, но это покровительство имело иной характер, нежели
покровительство сословным привилегиям духовенства и дво-
рянства. Оно не было делом уважения к историческому пра-
ву и результатом своего рода внутреннего сочувствия к осно-
ванным на нем притязаниям, а было делом государственной
корысти, т.е. результатом соображений относительно выгод-
ности такой политики для казны. Между интересами приви-
легированного землевладельческого класса и интересами
класса торгово-промышленного, занимавшего в обществе
приниженное положение, солидарности, конечно, быть не
могло, и абсолютная монархия, охраняя всей своей мощью
сословные привилегии духовенства и дворянства и удержи-
вая купцов и промышленников в их приниженном социаль-
ном положении, тем самым препятствовала наиболее зажи-
точным людям третьего сословия занимать в обществе более
видное и влиятельное положение. Сделавшись меркантили-
стической, торгово-промышленной, королевская политика
находила выгоду в том, чтобы в государстве развивались
коммерция и индустрия, но сердце высших представителей
власти было на другой стороне. Иными словами, союз абсо-
лютизма с феодализмом был гораздо более тесным и более
искренним, чем вся меркантилистическая политика абсолю-
тизма. Если королевская власть боялась вмешиваться во вза-
имные отношения помещиков-дворян и крестьянского насе-
ления во имя признававшихся ею за первыми прав, то за
439
промышленниками она не признавала никаких самостоятель-
ных прав над рабочими, и тем не менее в интересах нужной
для государственной казны промышленности создавала для
рабочей массы крайне невыгодные и, наоборот, весьма вы-
годные для предпринимателей условия труда в мануфакту-
рах.
Абсолютизм извлекал для себя пользу не только из со-
вершавшихся в эпоху его развития экономических перемен,
но и из того, что происходило в чисто культурной области.
Особенно важными моментами западноевропейской истории
в Новое время, выгодными в конце концов для абсолютизма,
были религиозная Реформация XVI в. и последовавшая за
ней реакция католицизма. Государи, принявшие протестан-
тизм, не только освободились от власти папы, но сами даже
сделались главами местных церквей, подчинили себе мест-
ное духовенство, вошли во многие права прежней церковной
власти, обогатились путем секуляризации церковной и мона-
стырской собственности и даже очутились чуть не в положе-
нии господ над религиозной совестью своих подданных. Под-
чиненное государству протестантское духовенство сделалось
своего рода духовной бюрократией на службе у светских
властей. Этому превращению церкви в одно из государствен-
ных ведомств, имевшему место в протестантских странах,
соответствовал в католических государствах «союз алтаря и
трона», т.е. соглашение между духовной и светской властя-
ми против общих их врагов. Абсолютная монархия и католи-
ческая реакция одна другой помогали, одна другую защища-
ли и поддерживали. Реакционная политика пап отказалась
от средневековых замыслов на счет политического господст-
ва над светской властью и во многом даже сделала ей разные
уступки, лишь бы удержать католических государей в лоне
церкви, и, со своей стороны, абсолютизм большей частью на-
прягал все свои силы, чтобы духовенство сохранило со сво-
ими социальными привилегиями и культурное влияние на об-
щество, так как нуждался в проповеди духовенства о боже-
ственном установлении королевской власти. Политика
королей была здесь та же, что и по отношению к дворянству;
абсолютизм был лишь против политической мощи духовен-
ства, но его культурное господство не только не стремился
440
поколебать, но всячески поддерживал: и здесь союз государ-
ственной власти с одним из сословий был более принципи-
альным, чем то покровительство за услуги, которое абсолю-
тизм оказывал представителям нового образования.
Только что указанное явление берет свое начало в исто-
рии Италии, где на рубеже Средневековья и Нового времени
заключен был союз между представителями тирании и пред-
ставителями Ренессанса. Это было княжеское меценатство,
из Италии перешедшее и в другие страны. У королевского
меценатства было много общего с королевским меркантилиз-
мом — покровительство из-за выгод, которых можно ожи-
дать от покровительствуемых, а не по сочувствию, не по об-
щности идейных стремлений.
Как бы там ни было, абсолютизм всегда хотел использо-
вать в своих интересах и умственные движения времени, на-
чиная с итальянских князей в их отношениях к гуманистам
и кончая государями и министрами второй половины XVIII в.
по отношению к «философам».
Таким образом, абсолютизм одновременно опирался и на
старые силы католической церкви и феодальной аристократии,
и на новые силы культурного и экономического развития, ко-
леблясь, при столкновении противоположных начал, между
старыми силами и силами новыми, то становясь на сторону
первых, то переходя на сторону вторых. Симпатии, традиции,
привычки — все удерживало абсолютизм в союзе со старыми
силами, тогда как интересы государства большей частью влек-
ли государей к соединению с силами новыми. Абсолютизм Лю-
довика XIV был абсолютизмом первой категории, абсолютизм
Иосифа II, наоборот,— второй категории, да и вообще вся по-
литика просвещенных деспотов XVIII в. была результатом на-
чавшегося поворота власти на новую дорогу.
Абсолютизм держался главным образом тем, что приспо-
соблялся к условиям и требованиям своего социального и
культурного базиса, сам приспособляя к своим требованиям
социальные и культурные отношения общества. Абсолютная
монархия, конечно, была, с одной стороны, надстройкой над
социальным базисом, каковым являлся именно сословный
строй и его духовная культура, но, с другой стороны, тот
же абсолютизм со всеми общественными элементами, нахо-
441
лившимися на специальной ему службе, особенно с бюрок-
ратией, обнаруживал стремление быть не органом сословно-
го общества, а самодовлеющим организмом, для которого
само общество должно было служить лишь питающей его
своими соками почвой. Это было «государство для государ-
ства», и оно стремилось сделаться всем во всем: общество
должно было быть устранено от всех своих же собственных
дел, ибо государство должно было их решать в своем инте-
ресе, и как отдельные классы или корпорации, так и отдель-
ные люди должны были жить государством и для государст-
ва, которое одно, в лице своего главы и правящей бюрокра-
тии, могло знать, что нужно и что полезно самому
обществу, равно как его коллективным или индивидуальным
элементам. В этом стремлении бюрократия отожествляла
себя с государством, как в былые времена католический
клир отожествил себя с церковью.
Королевская власть и бюрократия взяли на себя законо-
дательную функцию государства, вполне устранивши обще-
ственные силы от какого бы то ни было участия в издании
законов и в преобразовательной деятельности государства.
То же самое произошло в области управления и суда,
которые все более и более бюрократизировались. Общество
отстранялось от заведования его же собственными делами,
так как, в конце концов, ум подданных считался ограничен-
ным, и лучшим средством сделать подданных счастливыми
считалось поставить их под постоянную опеку администра-
ции.
Государственное хозяйство тоже стало чем-то самодовле-
ющим, и хозяйство народное должно было подчиниться инте-
ресам фиска. Население было отстранено от какого бы то ни
было вмешательства в финансы государства: сколько поддан-
ные должны были платить в казну и в каких формах, это ре-
шалось правительством, над расходованием же собранных с
населения сумм контроля никакого не было.
Бюрократия же считалась лучше знающей, что выгоднее
для казны, причем выгоды и невыгоды населения экономи-
ческой политикой совсем в расчет не принимались. В мер-
кантилизме фискальный характер политики абсолютизма
проявился со всей ясностью, какую только можно себе пред-
442
ставить, и вместе с тем родственный меркантилизму протек-
ционизм был распространен и на экономическую жизнь ад-
министративной опеки. Начальство и здесь брало на себя за-
боту руководить частными предприятиями даже в вопросах
техники.
Эти и другие черты бюрократической опеки и вмешатель-
ства обобщаются в названии «полицейское государство», ко-
торое мы применяем к государственному строю особенно
XVII—XVIII вв. Оно требовало распространения своего над-
зора, своего попечения, своего руководства на все сферы че-
ловеческой жизни, видя в этом основное право власти и оце-
нивая с точки зрения этого права все явления общественной
жизни, как подлежащие или поощрению, или, наоборот, пре-
сечению. Для полицейского государства, хотевшего быть
всем во всем, в общественной жизни не было и быть не мог-
ло индифферентных явлений, по отношению к которым
власть могла оставаться совершенно нейтральной.
Духовная культура, религия, наука, литература, искусство
должны были тоже служить государственным целям или тому,
что за такие цели принималось. Абсолютизм хотел иметь свою
официально апробованную духовную культуру, а, в частности,
религия в его глазах была преимущественно политическим
средством, орудием властвования, которым правительство дол-
жно пользоваться в своих государственных целях. Тенденцией
абсолютизма было превратить духовенство в особый вид бю-
рократии и диктовать совести подданных, какую веру ей испо-
ведовать. Государство очень было не прочь получить права вы-
сшей полиции и в церковной жизни.
Это государство, составляющее все во всем, имело и сво-
их теоретиков, причем, разумеется, конечной его целью про-
возглашалось общее благо, о содержании которого и о сред-
ствах достижения которого могла судить только сама прави-
тельственная власть. Идея общего блага была, без сомнения,
самой высокой идеологией абсолютизма, но ничто ей так не
противоречило, как охрана государством всех сословных
привилегий и приниженности или бесправия народных масс,
раздача щедрой- рукой разных материальных благ придвор-
ным и т. п. Равным образом, далеко не соответствовало этой
идее и поведение таких королей, как Людовик XIV, который
443
смотрел на личную свою славу как на высшую цель своей по-
литики и готов был во всем королевстве видеть чуть не про-
стое достояние его фамилии. Личные и династические инте-
ресы играли слишком большую роль в королевской политике
XVI—XVIII вв. (и раньше, впрочем, и позже), чтобы мы мог-
ли говорить серьезно о стремлении абсолютизма к осущест-
влению общего блага, тем более что этот девиз был провоз-
глашен, как руководящее начало, лишь в эпоху просвещен-
ного абсолютизма, тоже, впрочем, бывшего далеким от его
осуществления.
Одной из жизненных потребностей, содействовавших ус-
тановлению абсолютизма, была потребность в национальной
защите, как мы это и видели в некоторых отдельных случа-
ях. Сами нации, олицетворяя себя в своих королях, шли на-
встречу стремлению королей видеть в себе воплощения госу-
дарства. Политический характер власти, пользуясь термино-
логией Аристотеля, превращался в деспотический, т.е.
власть переставала быть публичной функцией и становилась
частной собственностью ее обладателя. По временам и в из-
вестных отношениях это приближало абсолютизм к азиат-
скому деспотизму. Старым наследием Востока было и то те-
ологическое обоснование абсолютизма, какое мы находим у
Боссюэ, у Людовика XIV, у Фильмера. Просвещенный абсо-
лютизм отказался от такого обоснования, приводившего в
последнем счете к обожествлению власти; в этом отношении
он был восстановлением европейского политического пони-
мания, в отличие от понимания азиатского, в котором деспо-
тизм был одной из составных частей свыше установленного
миропорядка. Религиозная санкция теологического толкова-
ния власти распространялась и на весь социальный строй.
Просвещенный абсолютизм порывал с католическими и
феодальными традициями власти, позволявшими ей смотреть
на себя как на посланничество свыше, а на государство как
на частное свое достояние, порывал с политикой преимуще-
ственной охраны сословных привилегий, но во всем осталь-
ном он шел по проложенной уже дороге — централизации,
бюрократизации, фискализации всего, что чему подлежало.
Он исходил из отвлеченно рационалистического понимания
государства, отвергавшего все исторические права и тради-
ции, и в этом он делал многое из того, что потом делала
444
Французская революция. В частности, например, граждан-
ское устройство церкви времен Французской революции1 на-
поминает нам иозефинизм. Разница была в том, что сувере-
нитет короля был заменен суверенитетом нации и что про-
возглашены были «права человека и гражданина»,
неприкосновенные и для государства, тогда как абсолютизм
(не исключая и просвещенного) признавал за личностью пра-
ва лишь по отношению к другим личностям, отнюдь не по от-
ношению к государству. В уничтожении сословных привиле-
гий и сеньориальных прав, в отмене крепостничества, в про-
возглашении равенства всех перед законом, права всех на
занятие должностей и обязанности всех платить налоги, в
установлении веротерпимости, даже в желании превратить
священников в должностных лиц государства и проч., и
проч, революция делала то же самое дело, которое делал или
пытался делать просвещенный абсолютизм. Революция, в ли-
це якобинцев, выдвинула таких же государственников, каки-
ми были наиболее яркие абсолютисты вроде Ришелье, Фрид-
риха II, Иосифа II,— государственников, только более сме-
лых по отношению к старым традициям. Абсолютизм тоже
был диктатурой, как и якобинизм, и как сменивший револю-
цию цезаризм Наполеона I, тоже бывший одним из проявле-
ний просвещенного абсолютизма.
Просвещенный абсолютизм, Французская революция и
империя Наполеона I — все это исторически близкие между
собой явления. Реакция, начавшаяся после падения Наполе-
она I, была реакцией не только против сделанного во время
его владычества и не только реакцией против революции, но
и против просвещенного абсолютизма. Последний стал разъ-
единять, отделять один от другого политический строй и
строй социальный «старого порядка». Французская револю-
ция была угрозой по отношению к обоим, и это заставило их
снова слиться воедино, что и характеризует дальнейшую ис-
торию XIX в., начиная с эпохи реакции, причем даже в кон-
ституционные порядки, установившиеся в государствах За-
падной Европы к середине XIX в., вошло многое, что было
выработано преимущественно абсолютной монархией XVI —
XVIII вв.
1 Народно-правовое государство. С. 190—191.
Приложения
I. Общие сочинения по истории абсолютизма
Общих сочинений по истории западноевропейской абсо-
лютной монархии, заключающих в себе характеристику ее
порядков и принципов, существует немного, если не считать
трудов, посвященных общей истории эпохи, или работ, каса-
ющихся «старого порядка» в отдельных странах, каковы кни-
ги Токвиля и Тэна о «старом порядке» во Франции, Перте-
са — в Германии1 и т. п. Другое дело — литература по исто-
рии отдельных стран, царствований, государственных
деятелей, событий, сторон жизни и т. п.: она чуть не беско-
нечна. Ввиду этого нижеследующая библиография выходит
очень короткой, за более же подробными указаниями отсы-
лаю к обзорам в соответственных главах томов II и III «Ис-
тории Западной Европы».
Laurent Fr. La politique royale. Paris, 1865.
Книга под этим заглавием представляет собой XI том
громадного (в 18 томах) труда Лорана под заглавием «Etudes
sur 1’histoire de I’humanite». Хронологические пределы, в
которых рассматривается «королевская политика»,— вторая
половина XVII в. и почти весь XVIII в., главное содержание —
международная политика абсолютной монархии. Конец книги
(с. 453 — 613) посвящен истории идей за ту же эпоху, причем
автор заявляет, что движение идей в XVIII в. «примиряет» его
с этой эпохой. Книга Лорана устарела, особенно после появле-
ния в свет 1-го тома труда Сореля.
1 Последняя легла в основу русской книги Трачевского (Первая поло-
вина «Германии накануне революции». 1898).
446
Сорель А. Европа и Французская революция.
Этот важный труд в 8 томах, который имеется в русском
переводе (см. о нем мою брошюру «А. Сорель как историк
Французской революции». СПб., 1907) заключает в себе
главным образом историю международных отношений в эпо-
ху Французской революции, хотя и рассматривает их в связи
с внутренними событиями в разных странах. Специальный
интерес автора сказался и на 1-м томе, целиком посвящен-
ном «политическим правам и традициям» «старого порядка»;
его-то ближайшим образом и следует рекомендовать (со
«Старым порядком и революцией» Токвиля и т. I «Происхож-
дения современной Франции» Тэна) желающим подробнее и
глубже войти в изучение «старого порядка». Политические
нравы и традиции абсолютной монархии освещены у Сореля
превосходно.
Koser. Die Epochen der absoluten Manarchie in der neueren
Geschichte (статья в «Historische Zeitschrift» Зибеля за
1889 г., т. 61).
Небольшая (с. 240—287) статья Рейнгольда Козера
очень содержательна. Отклоняясь от деления истории абсо-
лютизма у Рошера на периоды абсолютизма вероисповедно-
го, придворного и просвещенного, автор в основу своего де-
ления кладет не направление политики, которое имел в виду
Рошер, а устройство государства, различая периоды факти-
ческого абсолютизма с сохранением сословно-представитель-
ных учреждений и абсолютизма, возведенного в принцип, но
и в последнем автор выделяет абсолютизм просвещенный,
который признавал за собой не только права, но и обязанно-
сти, строя1 притом монархическую власть на идее естествен-
ного права.
Ардашев П. Н. Абсолютная монархия на Западе. СПб.,
1902.
Популярный очерк профессора Ардашева ограничивает
рассмотрение западноевропейского абсолютизма тремя ро-
манскими странами — Италией, Испанией и Францией, ис-
тория которых доводится лишь до начала XVIII в. (до конца
царствования последнего Габсбурга в Испании и Людови-
ка XIV во Франции). Выбор романских стран автор объясня-
ет тем, что здесь особенно были живучи римские традиции
447
государственной власти. В частности, в Италии абсолютизм
«впервые зародился», в Испании он «взрос», во Франции
«окончательно возмужал». «Все оригинальные типы запад-
ноевропейского абсолютизма,— говорит автор,— нашли се-
бе воплощение в романском мире, и «только в романском»,
ибо «только здесь абсолютизм был туземным растением, про-
дуктом местной почвы и атмосферы», германский же абсолю-
тизм был заимствованным и подражательным. Книга распа-
дается на общее введение, посвященное происхождению аб-
солютизма, и на три главы — об итальянском принципате,
об испанско-габсбургском абсолютизме и об абсолютной мо-
нархии во Франции. Эпоха просвещенного абсолютизма из
очерка профессора Ардашева сознательно исключена ввиду
того, что в коллекции, в которой его книга появилась1, этой
эпохе должна быть посвящена особая книга. Прибавлю, что
в специальном труде профессора Ардашева «Провинциаль-
ная администрация во Франции в последнюю пору «старого
порядка» (СПб., 1900), на который сделаны кое-где ссылки в
настоящей книге, есть прекрасная глава об исторической ли-
тературе по «старому порядку» во Франции.
Рейснер Ж. А. Общественное благо и абсолютное госу-
дарство. СПб., 1902.
Эта небольшая (124 с.) работа, появившаяся сначала в
«Вестнике права» (ноябрь — декабрь 1902 г.), впоследствии
переведенная на немецкий язык (Gemeinwohl und Absolutis-
ms. Berlin, 1904), посвящена рассмотрению политической те-
орий абсолютизма. Идея общего блага, как цели государства и
^руководящего начала в деятельности верховной власти, прини-
мается автором за основной признак, отделяющий резкой гра-
нью новое европейское государство от средневекового фео-
дального (патримониального) строя, причем автором имеется в
виду не только западноевропейский абсолютизм, оправдывав-
ший свое существование идеей общего блага, но и русское са-
модержавие (ссылки на Крижанича, Петра Великого, Феофана
Прокоповича, Екатерину II, Горюшкина, Карамзина и т. п., на
1 История Европы по эпохам и странам в Средние века и в Новое
время / под ред. Н. И. Кареева и И. В. Лучицкого. Изд. акционер, о-ва
«Брокгауз-Ефрон».
448
политические сочинения, на манифесты государей и т. п.). По
словам г-на Рейснера, эта «доктрина оказалась незаменимой
формулой для общего обоснования той формы государственно-
го устройства, которая получила наименование европейской
самодержавной монархии и сосредоточила в руках суверена
все функции государственной власти безраздельно»: именно
теория общего блага «послужила юридической основой для
развития в высшей степени проникнутой личным началом пра-
вительственной системы» (с. 15—16). Автор указывает, одна-
ко, и на то, что это «новое» начало в теории абсолютизма сое-
динилось со «старым принципом божественного призвания».
Сущность всех взглядов автора резюмируется им самим в по-
ложениях (с. 123), которые приводим здесь с некоторыми со-
кращениями. 1) «Новое государство абсолютного типа пред-
ставляет собой союз государя и подданного, во имя общего
блага, причем именно ради достижения этой цели, с одной сто-
роны, государю присвояется неограниченная власть повеле-
ния, а с другой — на подданного возлагается такая же безус-
ловная обязанность подчинения». В этом г-н Рейснер видит
«твердую юридическую основу» самодержавия, имеющую
«публично-правовой характер», в отличие от патримониально-
го государства, лишенного такой публично-правовой основы.
2) «Новое самодержавие получает характер культурного и
просвещенного образа правления», «принимая в свою основу
своеобразную естественно-правовую конституцию, провозгла-
шая личность субъектом публичного права» и т. д. 3) «Новое
самодержавие развивает принципы так называемого полицей-
ского государства» и т. д. (следует общая характеристика та-
кого государства).
Впоследствии (1905) автор перепечатал эту работу в
сборнике своих статей под заглавием «Государство и верую-
щая личность» (с. 278 — 389).
Hitter J. La doctrine de I’absolutisme. Etude d’histoire du
droit public. Paris, 1903.
О содержании этой книги (в 222 с.) можно судить по сле-
дующему месту из введения: «Как абсолютный государь, Лю-
довик XIV был таковым вполне сознательно (d’une maniere
consciente), по принципу, с совершенным хотением и разуме-
нием; он осуществил в своей правительственной практике то,
449
что в его глазах было идеалом монарха; его царствование было
применением на деле того взгляда, какой он себе составил о
королевской власти, с обязанностями, какие налагает эта
власть, а также и с правами, которые она сообщает. Этот-то
взгляд и будет предметом настоящего исследования» (с. 6). По
автору, двумя идеями, к которым сводится основная концеп-
ция абсолютизма, являются принципы поглощения государст-
ва в личности государя и неограниченности власти такого го-
сударя. Главным аргументом доктрины абсолютизма он счита-
ет тот, который извлекается из происхождения королевской
власти по учению о божественном праве, исторически излага-
емом в книге. Второстепенными аргументами для Гитье явля-
ются ссылки на общий интерес, на неделимость суверенитета
и на принцип давности (перенесение в область публичного
права понятий частно-правовых). Особая глава посвящена лю-
бопытному различению, которое любили делать в XVII в. меж-
ду абсолютной и произвольной властью, полагая, что у короля
есть обязанности по отношению к народу (причем признава-
лось совпадение их интересов) и, кроме того, существует от-
ветственность перед Богом. В сущности, однако, теория госу-
дарственного интереса (raison d’etat) освобождала короля от
этих двух призрачных ограничений: во имя государственной
необходимости отрицались права нации и права индивидуу-
мов. Поэтому абсолютизм обыкновенно считал себя выше ка-
ких бы то ни было основных законов, равно как выше индиви-
дуальной свободы, свободы совести, права собственности. За-
метим еще, что,— как совершенно верно говорит автор,—
абсолютизм «не господствовал над Францией вследствие одно-
го только обладания силой (par le seul empire de la force), но
царствовал над умами, даже наиболее возвышенными, с нрав-
ственным авторитетом принципа».
Кох Г. Очерки по истории политических идей и государ-
ственного управления / пер. под ред. Авалова.
Эта книга, перевод которой появился лишь недавно, а по-
длинник вышел в свет в 1892 г., состоит из двух частей, из
коих первая носит название «Абсолютизм и парламентизм».
В сущности, это — политическая история Франции и Англии
в Новое время, именно до середины XVIII в. Мотивом, заста-
вившим автора написать указываемый труд, было то, что
450
«история политических идей излагалась до сих пор слишком
уж в виде какой-то цепи идей, развертывающихся с извест-
ной последовательностью в умах самих писателей», вне от-
ношения их к современной им исторической действительно-
сти1. Кох, наоборот, поставил своей задачей «развернуть,—
как он выражается,— картину обоюдного оплодотворения и
взаимодействия», с одной стороны, отвлеченных политиче-
ских идей, с другой — жизненной практики государственно-
го устройства и управления. К теме настоящей книги имеют
ближайшее отношение главы: 1) «Теория абсолютизма во
Франции» и 2) «Образ правления Людовика XIV». Осталь-
ные касаются или истории борьбы за политическую свободу
в Англии, или той оппозиции, какую уже с царствования Лю-
довика XIV абсолютизм вызывал во Франции. (Коху принад-
лежит еще работа под заглавием «Das unumschrankte
Konigthum Ludwigs XIV». 1885).
Фроме К. Монархия или республика: культ.-ист. очер-
ки / пер. с нем. (1907).
Автор заявляет сам, что намерением его не было напи-
сать историю монархии, так как целью его было «только вы-
сказаться по поводу роли монархического принципа в исто-
рии, изобразить в главных чертах его сущность, развитие и
историческое значение». На деле его книга — собрание
большого количества данных из истории как практики, так и
теории монархизма в разных странах и в разные времена, от
доисторической эпохи до наших дней, причем нередко авто-
ром дается довольно-таки сырой материал в форме выдержек
из разных сочинений, вплоть до газетных статей. Вместе с
этим нужно прибавить, что книга имеет скорее публицисти-
ческий, нежели научно-исторический характер, если к ней
подойти с точки зрения, формулированной в изречении:
«scribitur historia ad narrandum, non ad probandum». Истории
западноевропейского абсолютизма Фроме отводит довольно
много места, но в ней немало существенных пробелов. Глав-
ный недостаток тот, что не показана социальная сторона аб-
солютизма, а в изложении его идеологии не обращено долж-
ного внимания на идеи естественного права и общего блага,
1 Этот же упрек справедливо делали капитальному труду Чичерина
«История политических учений».
451
которым оправдывалось существование абсолютизма, осо-
бенно так называемого «просвещенного абсолютизма».
Тарле Е. В. Падение абсолютизма в Западной Европе,
(без даты). Ч. I.
Книга написана с точки зрения теории, по которой «психи-
ческая и физическая сила общественных масс и управляется,
и направляется царящими в каждый данный момент условия-
ми производства и распределения экономических благ». Пред-
мет ее — «абсолютизм, как определенный социологический
феномен», притом не в одной какой-либо стране, а вообще в
Западной Европе, и с русскими параллелями. Автор ставит
вопрос, «почему абсолютизм погибал именно революционным
путем чаще, нежели всякая иная форма правления», или «по-
чему именно революционная обстановка гибели является для
него типичной». Общий ответ на этот вопрос заключается в
той мысли, что абсолютизм не только в себе самом носит заро-
дыш своей гибели, но что он и неспособен помочь себе, не от-
казываясь от своей сущности. «Ему всегда бывало труднее, не-
жели всякой иной форме правления, выполнить выпавшую на
его долю задачу, так как для него она выражалась в том, чтобы
добровольно отказаться от собственного существования». Г-н
Тарле в этой пока только вышедшей части рассматривает абсо-
лютизм не только в отношени к причинам революции, которая
рано или поздно кладет ему конец, но и в отношении к классо-
вой борьбе, совершающейся в обществе, так или иначе опреде-
ляющей судьбы абсолютизма. В частности, автор останавлива-
ется еще на тех средствах, к которым абсолютизм обыкновен-
но обращается ради самозащиты.
П. Дополнения и исправления
К с. 67—70. В специальной диссертации профессора
А. Н. Савина «Английская секуляризация» (1906) есть инте-
ресные страницы (413 и след.) об абсолютистических чертах
в судебно-финансовых реформах Генриха VIII, образцом для
которых послужили порядки в герцогстве Ланкастерском,
составлявшем как бы родовую собственность короля: благо-
даря особому положению герцогства в его управлении «были
452
черты, которые при благоприятных обстоятельствах могли
быть использованы сторонниками сильной власти и даже ко-
ролевской диктатуры». Между прочим, автор проводит и во-
обще ту мысль, что выгоды секуляризации монастырской
собственности достались главным образом не влиятельным
общественным классам, а «служилым людям, и по преимуще-
ству руководителям центрального государственного меха-
низма» (с. 558).
К с. 98—99. Уже по отпечатании этого места мне сдела-
лась известной вышедшая в свет в 1907 г. книга «Les lois fon-
damentales de la Monarchie Francaise d’apres les theoriciens de
1’ancien regime par Andre Lemaire». Предмет ее — исследова-
ние вопроса о том, как в разное время (с IX в.) юристы и
публицисты понимали основные законы французской монар-
хии, в смысле ее государственного устройства, причем автор
отнюдь не отожествляет понятие «основных законов» непре-
менно с представлениями об ограничениях, налагаемых на
королевскую власть, и о гарантиях, ограждающих права под-
данных. Изучаемые на этот счет идеи Лемер подводит под
три категории: традиционалистическую, демократическую и
автократическую, смотря по тому, понимались ли основные
законы в смысле обычного права, одинаково обязательного и
для народов, и для королей, или в смысле законов, изданных
либо нацией, либо самими королями. Для старой монархии
во Франции автор признает правильным лишь первый взгляд
(с. 271 и след.). В частности, автократическое толкование он
называет отрицанием основных законов Франции, ее госу-
дарственного устройства, каким, по крайней мере, оно было
до Ришелье1. Он старается дать общую формулировку основ-
ных законов традиционной монархии, которые, однако, «по
самой природе своей, не могли отличаться точностью законо-
дательного текста» (с. 321). В общем, это была «абсолютная
монархия, умеряемая традицией и религией» (с. 327), но в
два последние века она порвала с прежними традициями,
вследствие чего монархию Людовика XIV и Людовика XV
1 Это была и идея Авенеля в его книге «Richelieu et la monarchie ab-
solue» (о чем см.: История Западной Европы. Т. II. С. 401—402, во 2-м и
след. изд). Впрочем, Лемер находит, что Авенель слишком резко противо-
поставил понятия традиционной и абсолютной монархии.
453
Лемер предпочел бы называть не абсолютной, а автократиче-
ской, т.е. самодержавной (с. 329). Королевская власть сдела-
лась деспотической, «языческим абсолютизмом версальских
цезарей», как выражается еще автор.
К с. 371 — 373. На какую точку зрения становились
иногда защитники сословных привилегий дворянства, можно
видеть из изложения взглядов прусского юнкера фон Штиль-
фрида, о которых вспомнили недавно немецкие газеты по по-
воду теперешних притязаний аграриев и по случаю испол-
нившегося столетия со времени выхода в свет апологии фон
Штильфрида, полемизировавшего с бюргерскими учеными,
которые доказывали необходимость равноправия. Единствен-
но чистое и настоящее сословие, проповедовал он,— это дво-
рянство. Дворянин есть избранник из массы и по своему про-
исхождению возвышается над всем остальным человечест-
вом. Его отличает сама физическая организация.
Крестьянский мальчик и молодой дворянин внешностью,
правда, похожи друг на друга, но химическое исследование
показало бы огромную разницу. Мужик — это просто масса
картофеля и земли, получившая способность передвижения
и пищеварения. Иное дело — дворянин. Органы дворянского
ребенка создаются из тех отборных блюд, которыми питает-
ся его мать. Своими привилегиями дворянство, таким обра-
зом, обязано самой природе, и горе тому государству, кото-
рое пожелает покончить с этими естественными преимуще-
ствами благородного сословия!..
К с. 371 — 373. В «Старом порядке и революции» Токви-
ля есть глава «о том, что французы стремились к реформам
раньше, чем стали желать вольностей», дающая яркую ха-
рактеристику политических идей физиократов. Они требова-
ли не уничтожения абсолютной власти, а обращения ее на
путь истины. «Я,— говорит Токвиль,— не впаду в преувели-
чение, утверждая, что нет ни одного экономиста, который бы
где-нибудь в своих сочинениях не расточал восторженных
похвал Китаю», благо — о Китае мало знали и потому можно
было рассказывать об этой стране всякий вздор.
Оглавление
Предисловие автора [к изданию 1908 г.]..................3
Глава I. Что такое «старый порядок»?....................7
Предмет настоящей книги.— Отношение ее к дру-
гим типологическим книгам автора.— Двоякого рода
государства — с участием и без участия независимых
общественных сил в делах управления.— Периоды ис-
тории западноевропейского государства.— Происхож-
дение и значение термина «старый порядок».— Разно-
временность происхождения отдельных сторон «старо-
го порядка».— Базис и надстройка в «старом
порядке».— Отношение настоящей книги к соответст-
венным местам «Истории Западной Европы в Новое
время»
Глава II. Общий взгляд на историю абсолютизма..........14
Историческая распространенность неограничен-
ной монархической власти.— Раннее появление ее в
истории.— Древневосточный взгляд на божествен-
ность царской власти.— Греческие и римские взгляды
на монархическую власть в республиканскую эпо-
ху.— Античная тирания.— Начало идеализации мо-
нархии в IV в. до Р. X.— Царская власть при Алексан-
дре Македонском и в эллинистических монархиях.—
Римский цезаризм и его теоретические объяснения.—
Теократический характер империи Диоклетиана.—
Царская власть в учении церкви.— Императорская
власть в Византии.— Влияние римских и византий-
ских традиций на новые народы.— Живучесть тради-
ций абсолютизма в средневековой политической лите-
ратуре.— Роль средневековых легистов в истории ут-
верждения абсолютизма в Западной Европе
455
Глава III. Происхождение бюрократических порядков......26
Слабость центральной власти в раннем государст-
венном быту.— Замена родовых или племенных глава-
рей и местных господ ставленниками центральной
власти.— Бюрократический строй Древнего Египта.—
Организация персидской монархии.— Внедрение
бюрократических порядков в греко-римский мир.—
Диоклетиано-константиновская реформа.— Неспособ-
ность варварских королей справиться с бюрократиче-
ской централизацией.— Феодальная децентрализа-
ция.— Суд и управление в феодальном обществе.—
Управление в сословной монархии
Глава IV. Судьбы королевской власти на Западе в Средние
века..................................................35
Переход власти западно-римских императоров к
германским королям.— Характер власти последних на
родине.— Смешение римских и германских начал в
варварских королевствах.— Попытка восстановления
Римской империи при Карле Великом.— Политиче-
ская феодализация.— Что такое феодальная и сослов-
ная монархия? — Ранние проявления абсолютизма на
Западе: Англия при нормандских королях и первых
Плантагенетах и Королевство обеих Сицилий в эпоху
нормандской династии Гогенштауфенов
Глава V. Возвышение монархии в конце Средних веков.....48
Эпоха силы и эпоха упадка средневековых сослов-
но-представительных учреждений.— Общие причины
этого исторического явления.— Зарождение нового
абсолютизма без феодальной и сословной основы в
Италии.— Введение в употребление нового термина
для обозначения государства.— Политические воззре-
ния гуманистов.— Книга Макиавелли «Государь» и ее
влияние на правителей XVI в.— Испания Фердинанда
Католика и Изабеллы Кастильской.— Франция от
Карла VII до Франциска I.— Англия после Войны
Алой и Белой розы и династия Тюдоров.— Эпохи за-
падноевропейского абсолютизма
Глава VI. Эпоха расцвета абсолютной монархии..........74
Абсолютная монархия в эпоху Итальянских
войн.— Образование универсальной монархии Кар-
ла V.— Соперничество Карла V и Франциска I.—
Упадок центральной власти в Германии.— Религиоз-
456
ная Реформация XVI в. и ее влияние на королевскую
власть.— Абсолютизм и католическая реакция.— Ре-
лигиозные войны второй половины XVI в. и первой по-
ловины XVII в.— Французский абсолютизм XVII в.—
Историческая роль Ришелье и его подражатель Страф-
форд.— Век Людовика XIV и его влияние на Евро-
пу.— Усиление абсолютизма во второй половине
XVII в. (Дания, Швеция, Венгрия).— Начало прусско-
го абсолютизма.— Общие итоги
Глава VII. Династическая политика и национальные
интересы.............................................97
Установление на Западе наследственной монар-
хии.— Династический характер основных законов в
эпоху абсолютизма.— Образование новых европей-
ских наций и роль государственного начала в этом
процессе.— Династические объединения и династиче-
ские войны.— Роль династии Габсбургов в XVI и
XVII вв.— Стремления к политической гегемонии.—
Внешняя политика Людовика XIV.— Бурбоны вне
Франции в XVII в.— Войны за наследства в XVIII в.—
Политика разделов.— Продолжение ее в эпоху рево-
люции и при Наполеоне.— Принцип легитимизма на
Венском конгрессе.— Отношение абсолютной монар-
хии к революциям и к формам правления в других го-
сударствах
Глава VIII. Придворный быт и политическая роль двора
при «старом порядке»................................112
Раннее образование средостений между властью и
подданными.— Palatium Римской империи и импера-
торский двор в Византии.— Первоначальная нерас-
члененность дворцовой службы и несения обязанно-
стей по центральному управлению государством.—
Выделение двора в особую общественную катего-
рию.— Развитие придворной жизни в Италии эпохи
Ренессанса.— Черты придворной жизни при абсолют-
ной монархии.— Особое развитие придворной жизни
при Людовике XIV.— Громадность расходов на при-
дворный быт во Франции в XVIII в.— Общее подра-
жание версальскому двору в XVIII в.— Союз королев-
ской власти и привилегированных.— Роль придвор-
ных сфер во Франции в эпоху революции
457
Глава IX. Законодательная деятельность абсолютной
монархии.............................................123
Эпохи обычного права и законодательной деятель-
ности государства.— Участие общественных сил в за-
конодательном творчестве и законодательство бюрок-
ратическое.— Роль средневековых сословно-предста-
вительных учреждений в издании новых и отмене
старых законов.— Рецепция римского права и влия-
ние последнего в новой Европе.— Правило «quod prin-
cipi placuit, legis habet vigorem».— Порядки издания
законов в разных государствах Западной Европы в
эпоху абсолютной монархии.— Роль французских
парламентов в истории законодательной деятельности
королевской власти.— Главные недостатки этих по-
рядков и попытки их реформировать.— Законодатель-
ные порядки XIX в. до введения новых конституций.—
Развитие юриспруденции и кодификационные попыт-
ки при «старом порядке»
Глава X. Управление и суд при «старом порядке»........146
Централизационная работа абсолютной монар-
хии.— Ее отношение к местным вольностям.— Слу-
чаи отсутствия внутреннего единства в ведении го-
сударственных дел.— Центральные учреждения
эпохи в отдельных странах.— Областные правители
и их полномочия во Франции.— Судьбы областного
и общинного самоуправления во Франции.— Цент-
рализационная работа в Австрии при Марии-Тере-
зии и Иосифе II.— Общая роль бюрократии в прове-
дении в жизнь принципов абсолютизма.— Значение
термина «полицейское государство».— Роль и пол-
номочия полиции.— Взаимные отношения админи-
страции и суда.— Судебные порядки разных стран и
реформы в этой области с попытками кодификации
законов.— Гражданские и уголовные законы и су-
дебные злоупотребления эпохи
Глава XI. Абсолютная монархия и постоянные армии......185
Роль материальной силы в утверждении абсолютиз-
ма.— Упадок феодальных дружин и муниципальных ми-
лиций.— Начало наемничества и кондотьерства.— Сис-
тема постоянных армий.— Состав и способы набора
войска при «старом порядке».— Роль войска в поддер-
жании внутреннего спокойствия.— Образование особо-
458
го бюрократического ведомства военных дел.— Воен-
ное искусство и специальное военное образова-
ние.— Проникновение духа военной дисциплины в
гражданскую службу.— Милитаризм при «старом
порядке»
Глава XII. Государственное хозяйство и финансы «старого
порядка».............................................201
Предмет настоящей главы.— Смешение хозяйст-
венных интересов короля и королевства в эпоху аб-
солютной монархии.— Аналогии этого в Римской
империи и в раннюю эпоху Средних веков.— Пре-
кращение вотирования налогов государственными
чинами и пережитки этого порядка.— Господство
натурального хозяйства в феодальную эпоху.— Фе-
одальные остатки в государственном хозяйстве аб-
солютной монархии и управление доменами.— Раз-
витие денежного хозяйства в Новое время.— Нача-
ло государственных финансов и особого ведомства
для управления ими.— Образование государствен-
ных долгов.— Отсутствие правильных бюджетов и
канцелярская тайна финансового управления.— Ор-
ганизация податного обложения при «старом поряд-
ке».— Общий фискальный характер экономической
политики в эту эпоху.— Финансовый крах абсолют-
ной монархии во Франции
Глава XIII. Сельское хозяйство, промышленность и торговля
при «старом порядке».................................224
Задача этой главы.— Общие условия, неблаго-
приятные для развития сельского хозяйства в XVI
— XVIII вв.— Изменения, совершившиеся за это
время в сельском быту.— Общая крестьянская бед-
ность.— Городская промышленность с конца Сред-
них веков.— Судьбы цеховой организации промыш-
ленности.— Образование рабочего класса.— Харак-
тер рабочего законодательства при «старом
порядке».— Начало промышленной концентрации и
возникновение новых мануфактур.— «Королевские»
мануфактуры.— Перемены в условиях торговли с
открытием Америки и морского пути в Индию.—
Развитие португальской, испанской, нидерландской
и английской торговли.— Образование среднего со-
словия
459
Глава XIV. Экономическая политика «старого порядка»..
Меркантилизм как характерная черта экономиче-
ской политики эпохи абсолютной монархии.— Соци-
альное значение особого покровительства со стороны
государства торговле и промышленности.— Устране-
ние дворянства от мещанских занятий.— Невыгодные
следствия меркантильной системы для сельского хо-
зяйства и начало правительственных забот о нем в
XVIII в.— Споры XVIII в. о хлебной торговле.— Что
такое в сущности меркантилизм и протекционизм? —
Вмешательство государства во внутренние дела про-
мышленности и торговли.— Специально торговая по-
литика при «старом порядке».— Влияние торговых и
колониальных интересов на внешнюю политику
Глава XV. Отношение абсолютной монархии к сословному
строю общества......................................
«Старый порядок», как соединение политического
абсолютизма с сословными привилегиями.— Истори-
ческая связь западноевропейских династий с феодаль-
ным миром.— Сохранение абсолютной монархией со-
словных привилегий духовенства и дворянства.— Ко-
ролевская власть и придворные влияния.— Особенно
привилегированное положение высшего духовенст-
ва.— Стремление абсолютных правительств ослабить
общеполитическое и местное значение аристокра-
тии.— В чем заключались привилегии дворянства? —
Приниженное положение средних классов.— Отноше-
ние «старого порядка» к рабочему народу.— Абсолю-
тизм в роли охранителя сословных привилегий в эпо-
ху революций
Глава XVI. Церковная политика абсолютной монархии....
Неразличимость государства и церкви в Древнем
мире.— Возникновение дуализма светской и духовной
власти.— Взаимные отношения церкви и государства
в Средние века.— Политическая оппозиция притя-
заниям папства в конце Средних веков.— Участие го-
сударственной власти в религиозной Реформации и
влияние последней на первую.— Монархические ре-
формации первой половины XVI в.— Роль государст-
венной власти в протестантских церквах.— Взаимные
отношения католической реакции и абсолютной мо-
нархии.— Теории католических писателей XVII —
256
279
296
460
XVIII вв. о взаимных отношениях светской и церков-
ной властей.— Борьба государства с иноверием.—
Что такое веротерпимость в XVI—XVIII вв.?
Глава XVII. Абсолютизм и духовная культура..........317
Стремление абсолютного государства к руководи-
тельству национальной жизнью в области духовной
культуры.— Меценатство итальянских князей эпохи
Ренессанса.— Переход меценатства в другие стра-
ны.— Ришелье и Французская академия.— Прави-
тельственный протекционизм литературе и науке при
Людовике XIV.— Придворная литература эпохи лож-
ного классицизма.— Государственный утилитаризм в
деле народного просвещения.— Государство и школа
в эпоху абсолютной монархии.— Подавление опасных
и вредных мыслей.— Цензура и преследование оппо-
зиционных писателей.— Переход цензурных прав от
церкви к государству
Глава XVIII. Теоретики абсолютизма и сословности.....331
Политическая литература после Макиавелли.—
«Республика» Жана Бодена.— Роль Ришелье в разви-
тии идей абсолютизма.— Государственные принципы
Людовика XIV.— Политика, извлеченная из «Священ-
ного Писания» Боссюэ и «Патриарх» Фильмера.— По-
литическое учение Гоббса.— Теории абсолютизма в
Германии.— Теория общего блага и государственной
необходимости.— Примирение абсолютизма с естест-
венным правом.— Защита сословности у Монте-
скье.— Средневековый сословный строй во взглядах
Штейна.— Литературные оправдания крепостничест-
ва.— Признавали ли теоретики абсолютизма право го-
сударственной власти освободить крепостных? — Ре-
акционные писатели XIX в.
Глава XIX. Просвещенный абсолютизм второй половины
XVIII в.............................................365
Общая идея просвещенного абсолютизма и ее те-
оретическое развитие в древности.— Светский харак-
тер абсолютизма эпохи Ренессанса и вероисповедный
абсолютизм времен Реформации, католической реак-
ции и религиозных войн.— Рационалистическое про-
свещение и влияние его на абсолютизм.— Сторонни-
ки просвещенного абсолютизма в литературе.— Об-
щая программа и тактика просвещенных деспотов.—
461
Административные, судебные и финансовые их рефор-
мы.— Просвещенный абсолютизм и католическая цер-
ковь.— Уничтожение ордена иезуитов.— Церковная
политика южно-романских государств в середине
XVIII в.— «Иозефинизм».— Сословный строй и про-
свещенный абсолютизм.— Клерикально-феодальная
оппозиция просвещенному абсолютизму.— Просве-
щенный абсолютизм, общее благо и права личности
Глава XX. Французская революция и абсолютизм
Наполеона 1........................................396
Неудачи сопротивления абсолютизму в XVI и
XVII вв.— Неудача абсолютизма в Нидерландах и в
Англии и английская конституция в XVIII в.— Начало
рецепции конституционного строя на материке в
1789 г.— Две главные стороны Французской револю-
ции.— Неудача попытки основания во Франции кон-
ституционной монархии и республики.— Характер
власти Наполеона I и характер его политики.— Воз-
вращение к традициям абсолютизма и родство наполе-
оновского режима с просвещенным абсолютизмом.—
Просвещенный абсолютизм наполеоновской эпохи в
других странах
Глава XXI. Реакционный абсолютизм первой половины
XIX в............................................ 408
Война абсолютных монархий с Французской рево-
люцией и с Наполеоном I.— Реакционные политиче-
ские писатели этой эпохи.— Реставрация абсолютиз-
ма и сословных привилегий после 1814 г. и общие ре-
акционные меры эпохи.—Священный союз и
подавление им конституционных попыток в двадцатых
годах.— Взрывы реакции после 1830 и 1848 гг.— Им-
перия Наполеона III
Глава XXII. Теоретическое осуждение «старого порядка»
в XV — XVIII вв. и падение его в XIX в.............422
Идейный поход против «старого порядка» в Новое
время.— Оппозиция монархомахов в эпоху Реформа-
ции.— Английская политическая литература
XVII в.— Роль идеи естественного права в политиче-
ской литературе XVIII в.— Отношение к абсолютизму
Монтескье и Руссо.— Обнаружение несостоятельно-
сти «старого порядка» в эпоху революции и Наполео-
на I.— Постепенное падение абсолютизма в Евро-
462
ne.— Развитие местного самоуправления.— Отмена
сословных привилегий.— Ликвидация феодальных и
крепостнических отношений.— Постепенная демокра-
тизация учреждений.— Государство и личная свобода
в новом строе
Глава XXIII. Общее заключение.......................435
Сохранение на Западе, в XVI—XVIII вв., сослов-
ного строя, выросшего на феодальной почве и ослож-
ненного выделением горожан в эпоху Крестовых по-
ходов.— Сословная монархия как политическая над-
стройка на этом социальном базисе.— Общие
причины упадка этой государственной формы и заме-
на ее абсолютизмом, опирающимся на армию и бюрок-
ратию.— Союз королевской власти с привилегирован-
ными.— Выгоды, которые абсолютная монархия из-
влекала для себя из развития промышленности и
торговли, из религиозной Реформации и католической
реакции, равно как из нового образования.— Стремле-
ние абсолютной власти сделаться всем во всем.—
Приближение абсолютизма XVI—XVIII вв. к азиат-
скому деспотизму.— Просвещенный абсолютизм и его
родство с Французской революцией.— Характер ре-
ставрационного абсолютизма XIX в.
Приложения..........................................446
I. Общие сочинения по истории абсолютизма
II. Дополнения и исправления
ISBN 978-5-85209-228-1
9 ”785852"092281
Подписано в печать 23.12.2008.
Формат 60 х 84/ 16. Бумага офсетная.
Уч.-изд. л. 26, 42. Тираж 500 экз.
Отпечатано в типографии ВТИИ.
Зак. 80С-09 Цена договорная.
Издательство: Государственная публичная
историческая библиотека России
ГСП 101990, Москва, Старосадский пер., 9, стр. 1