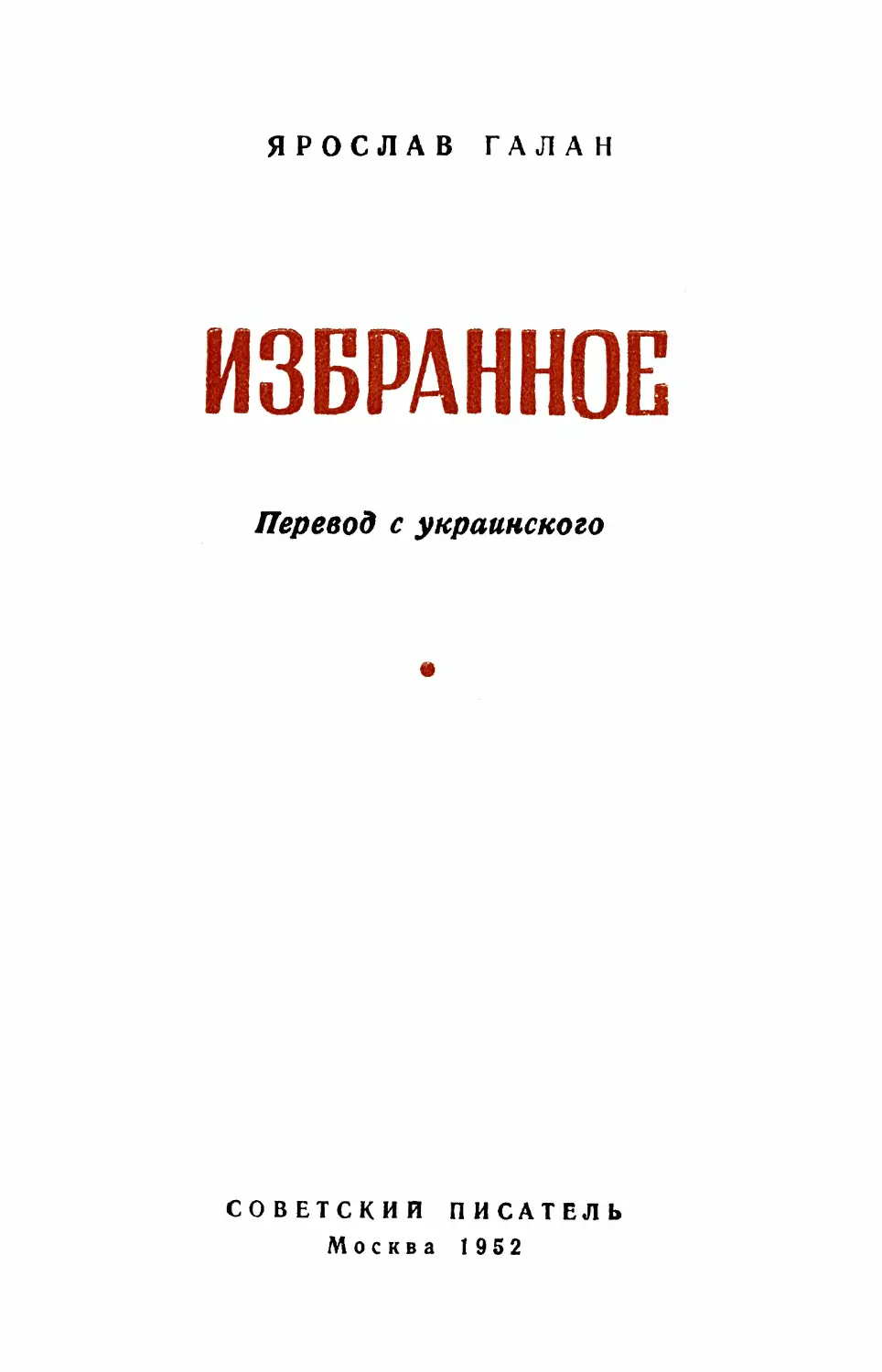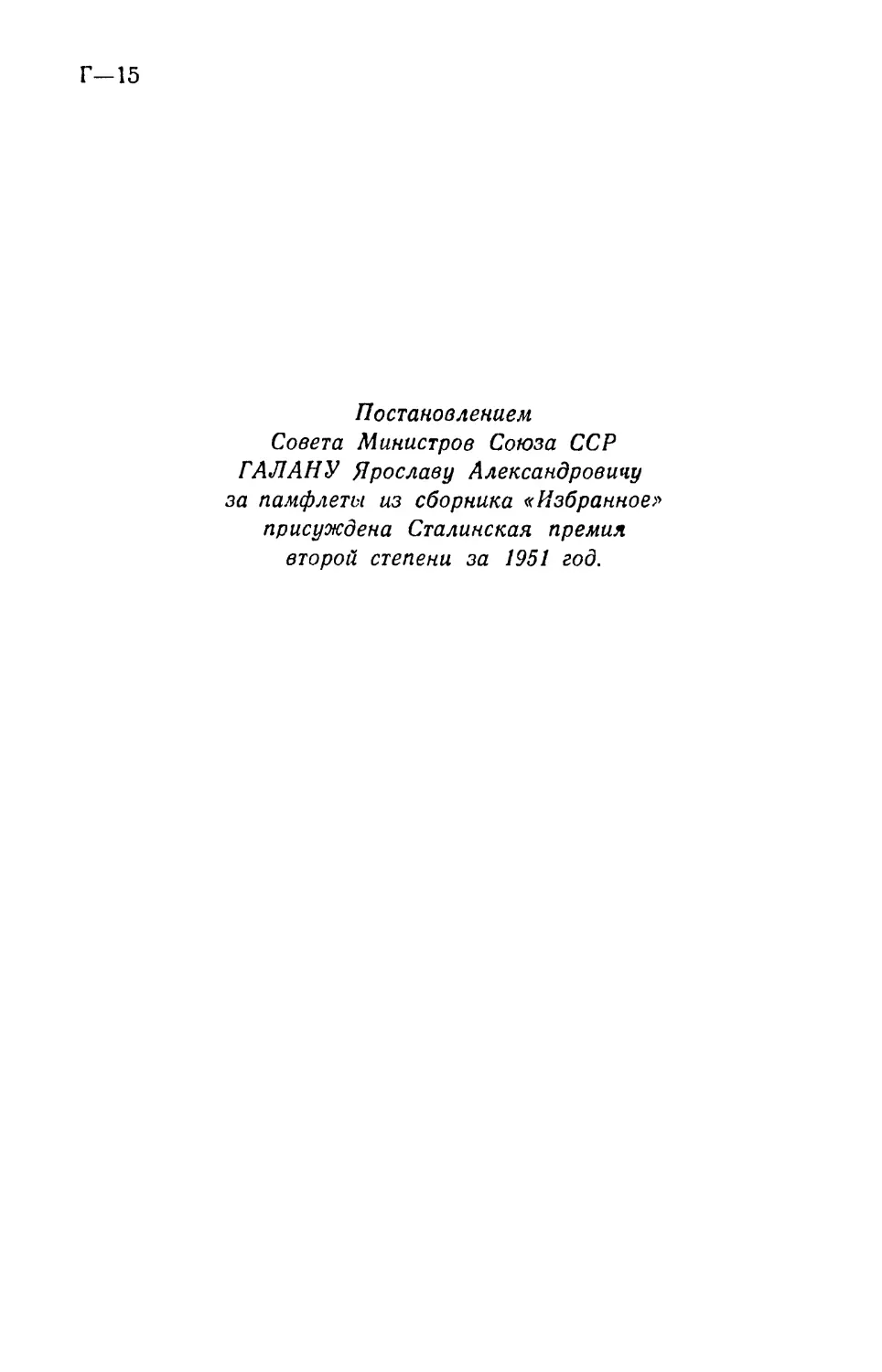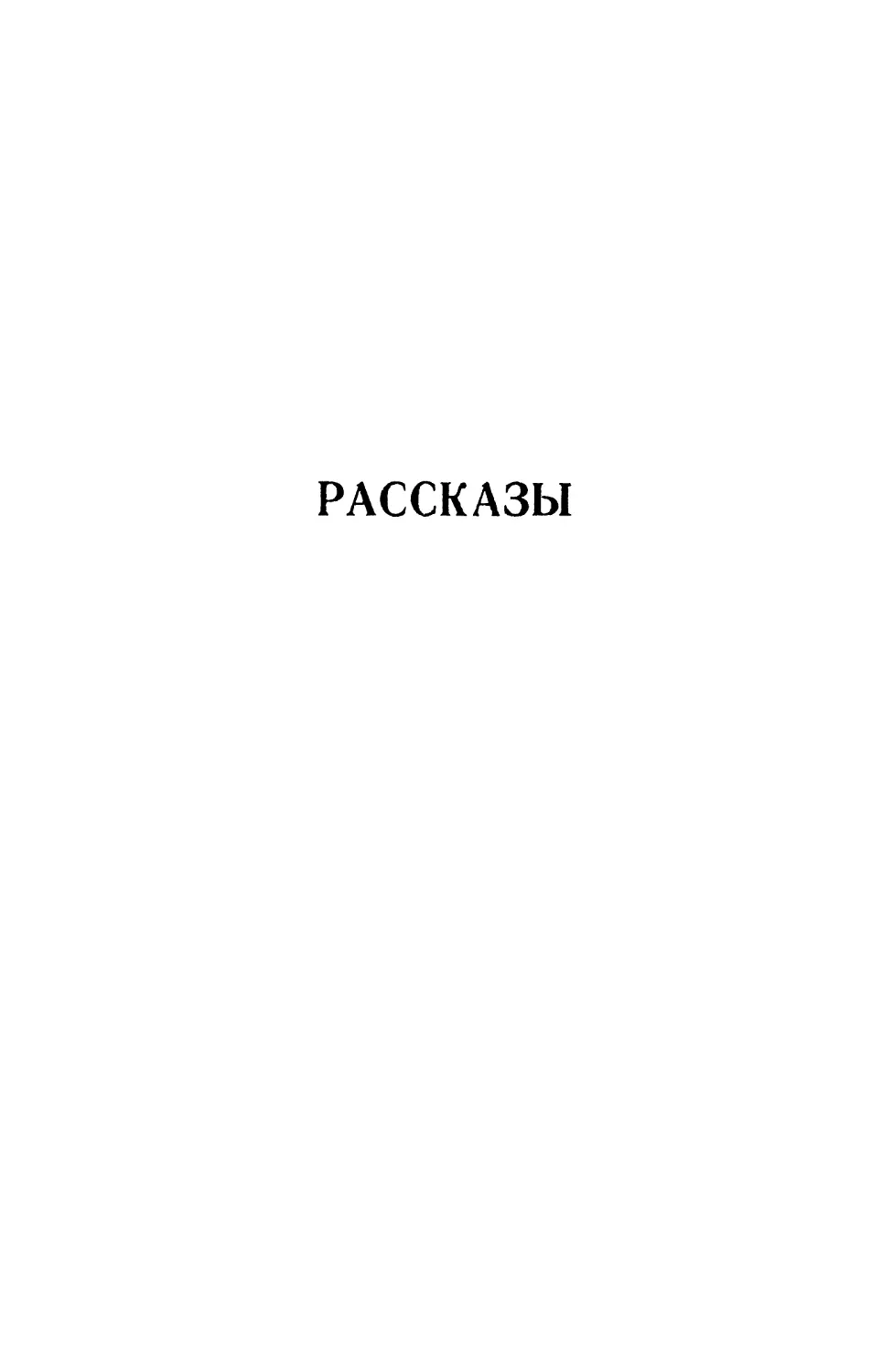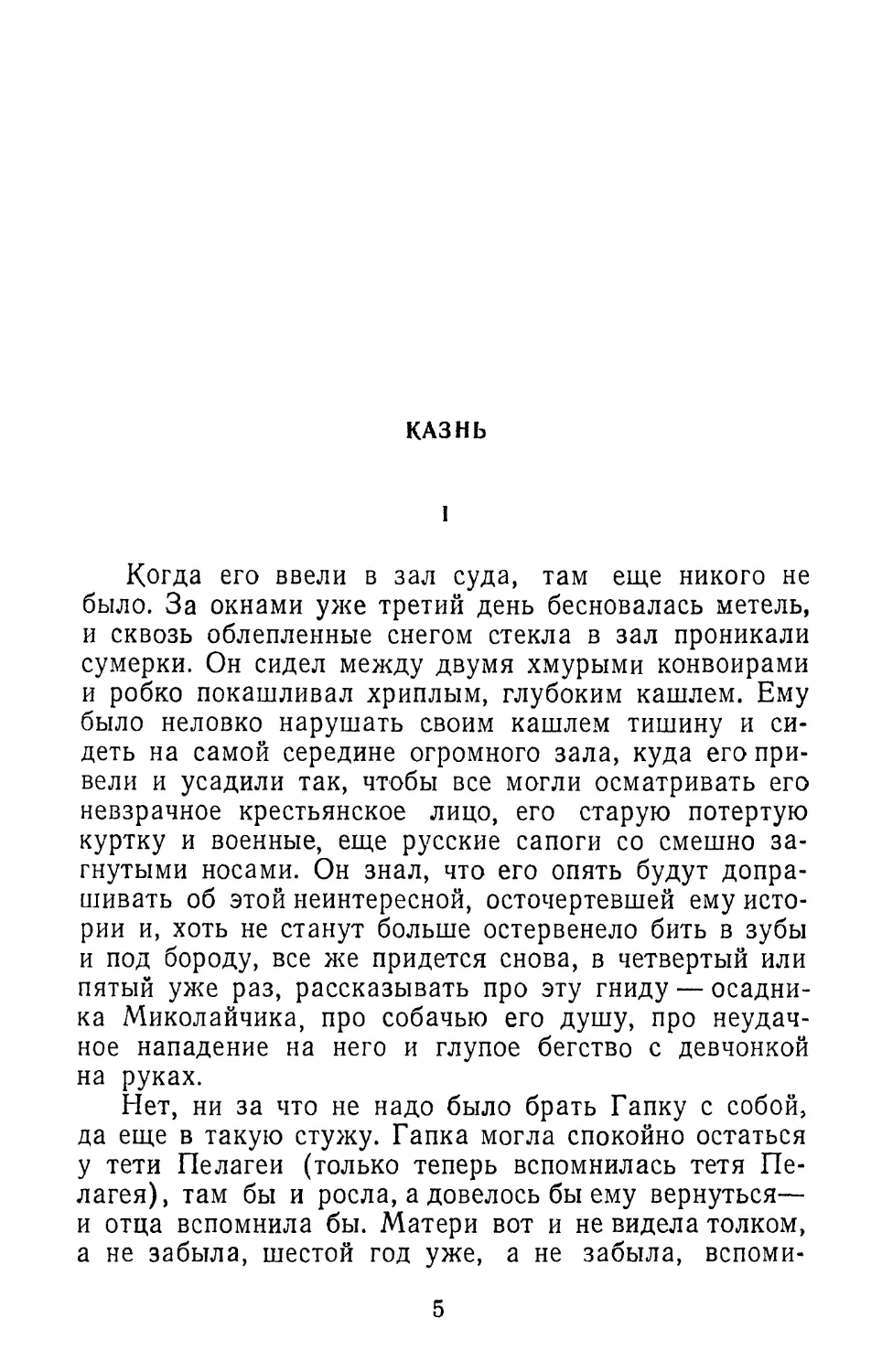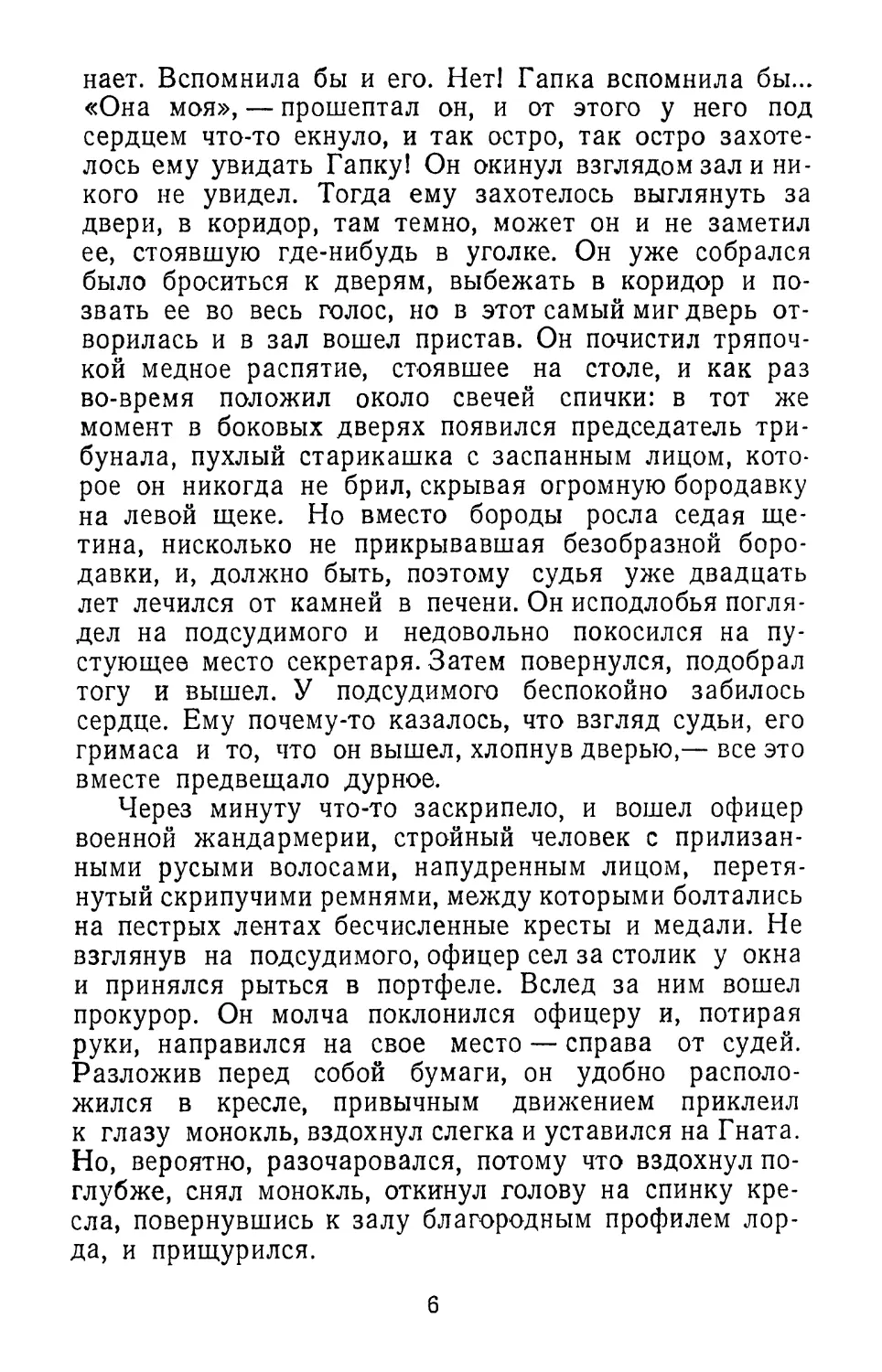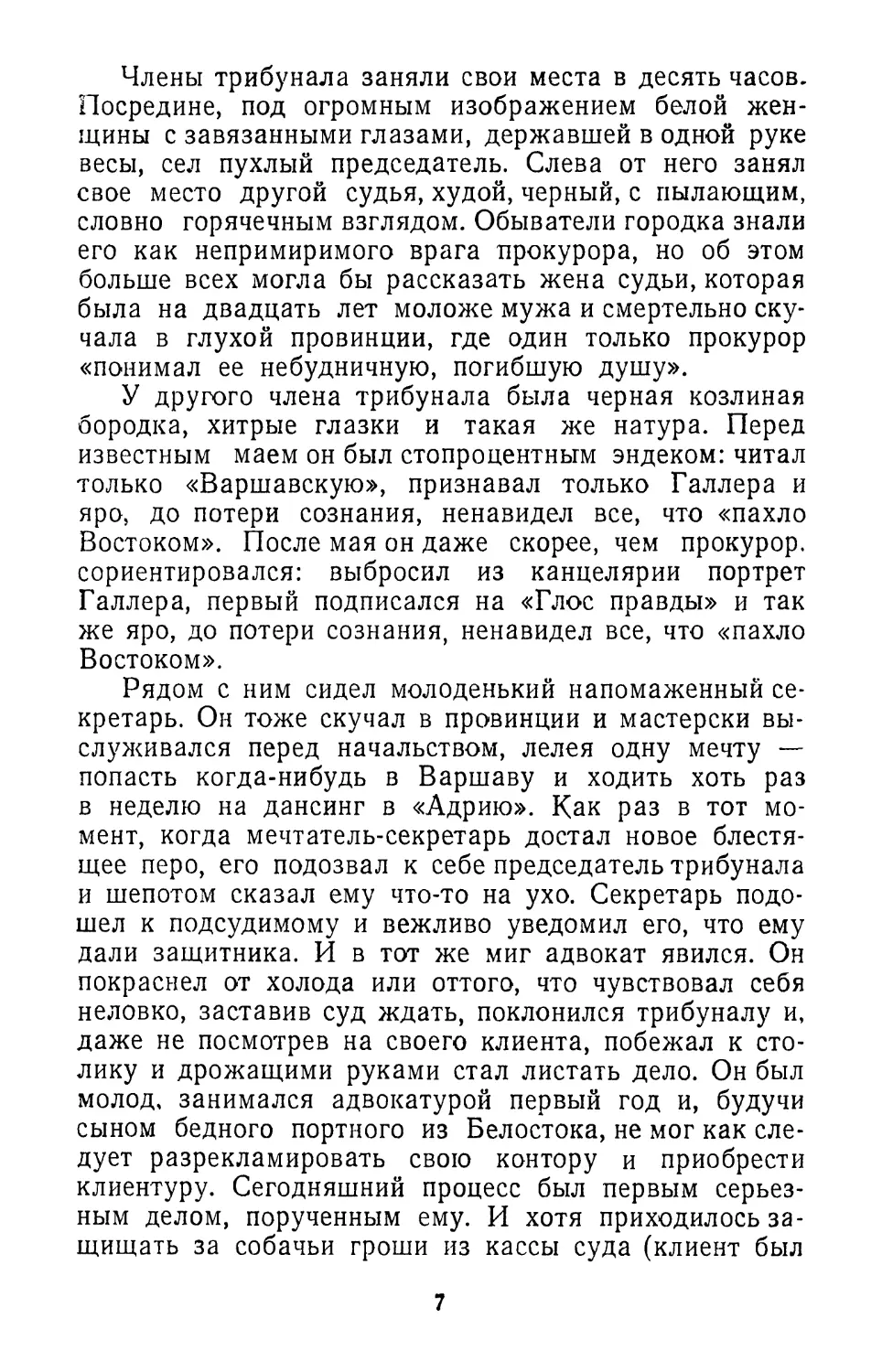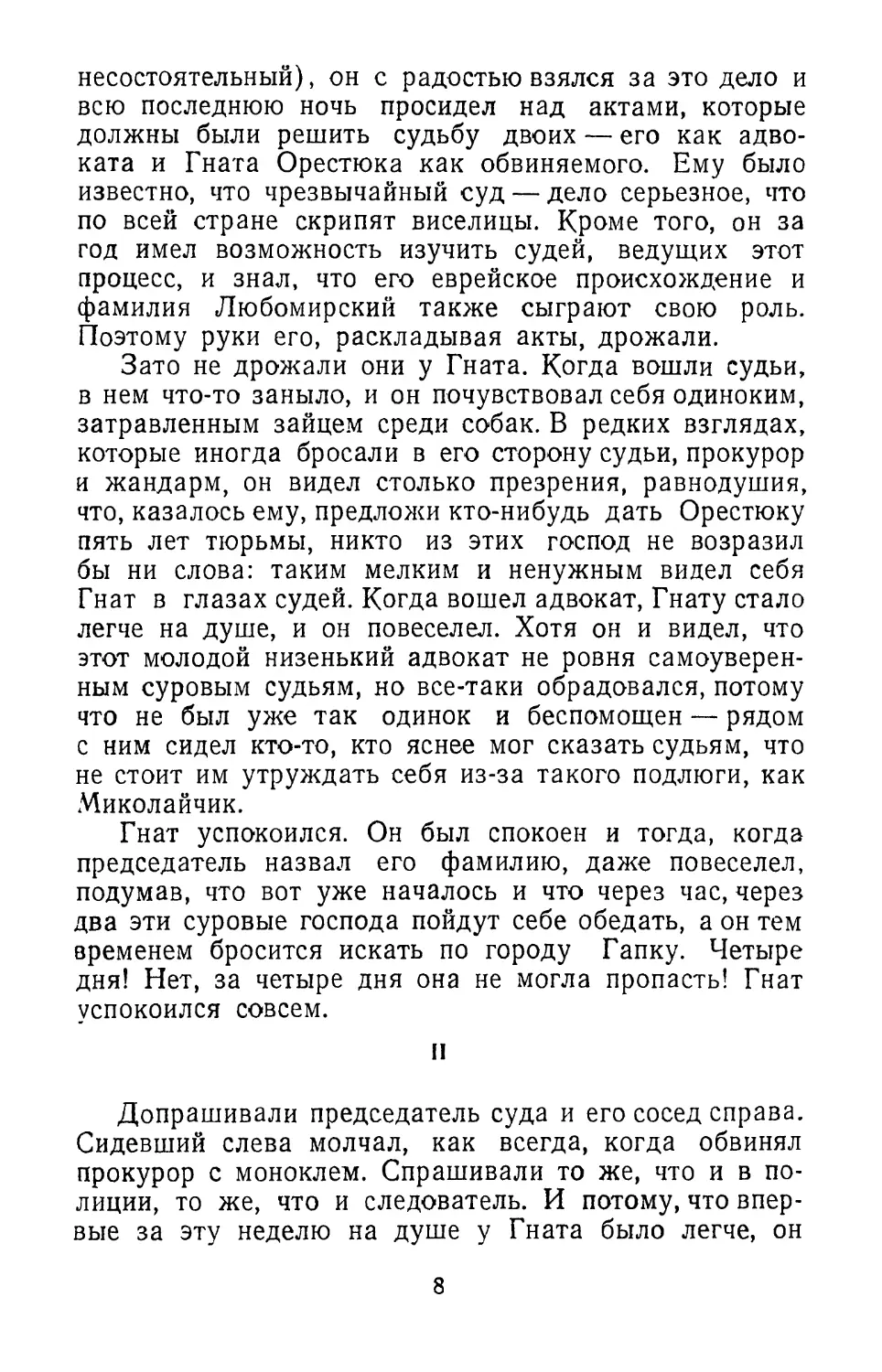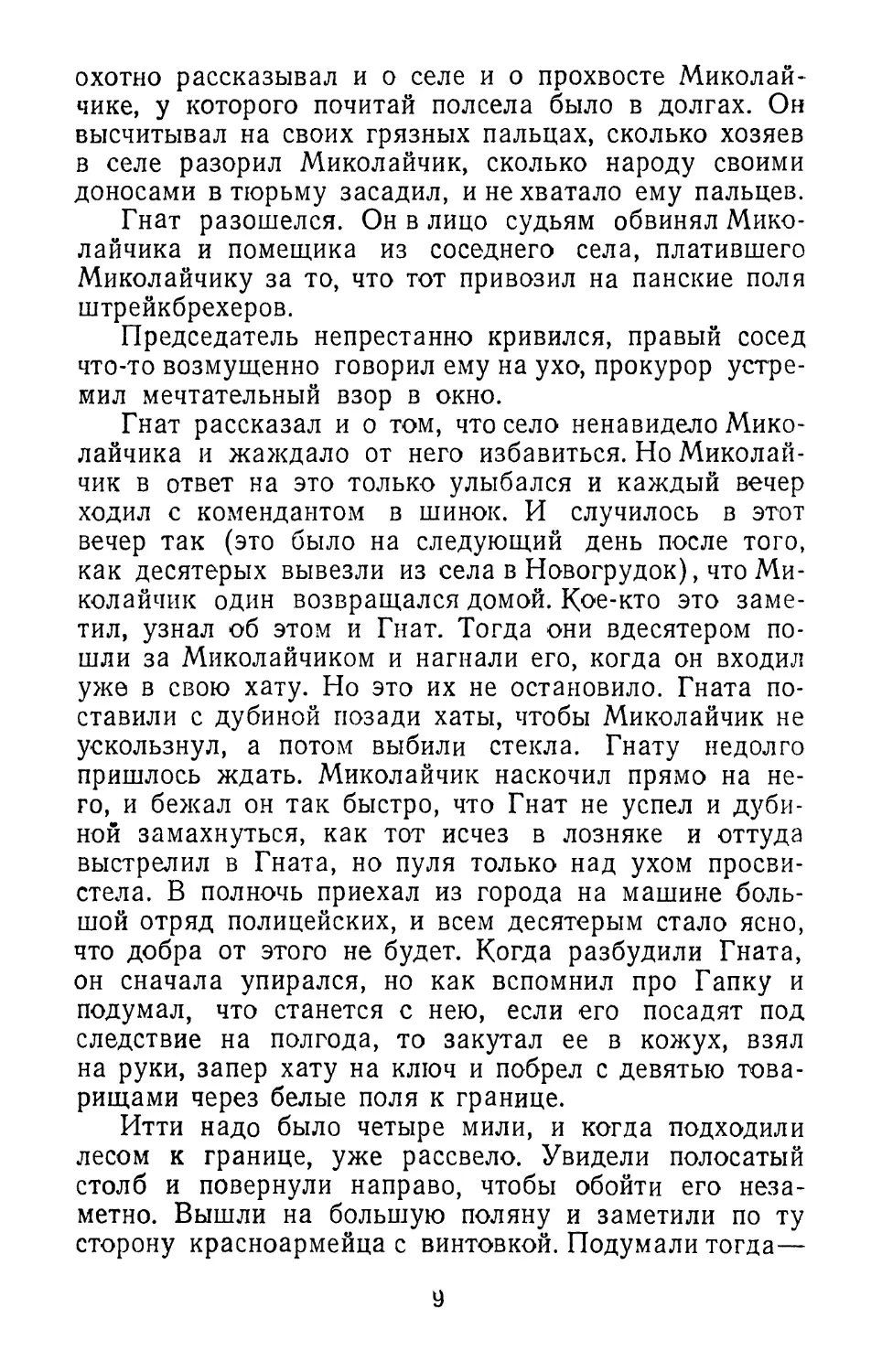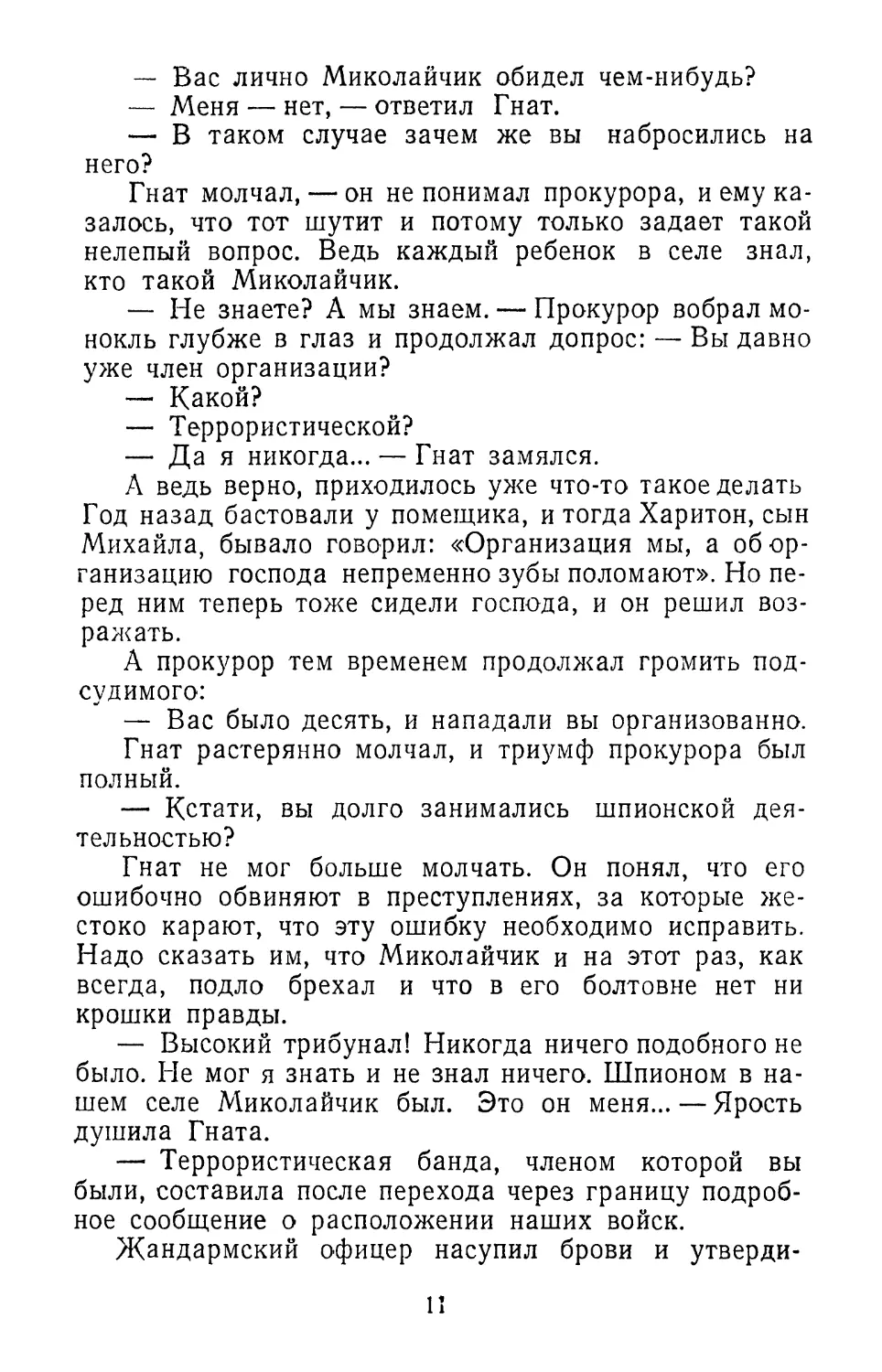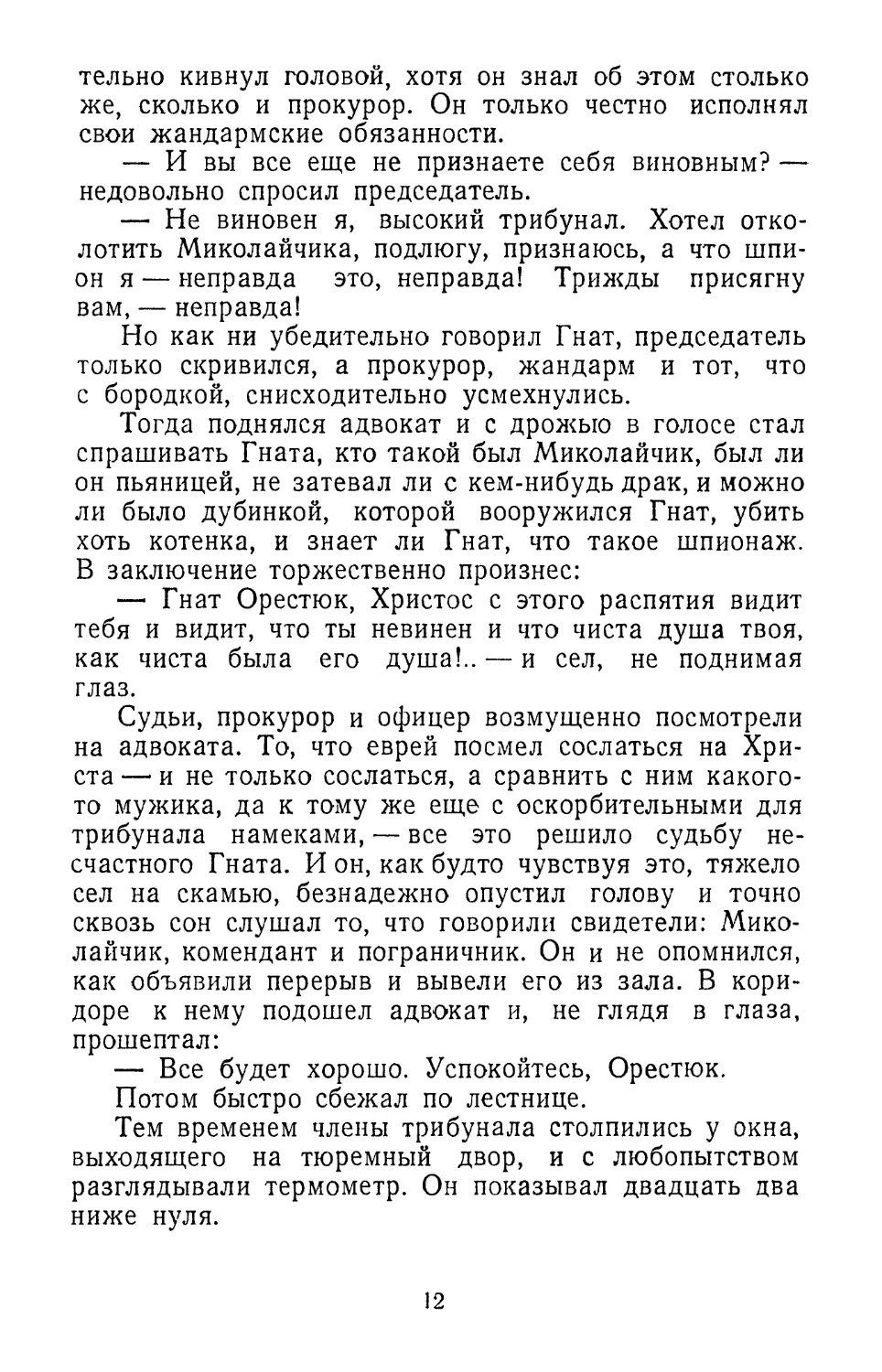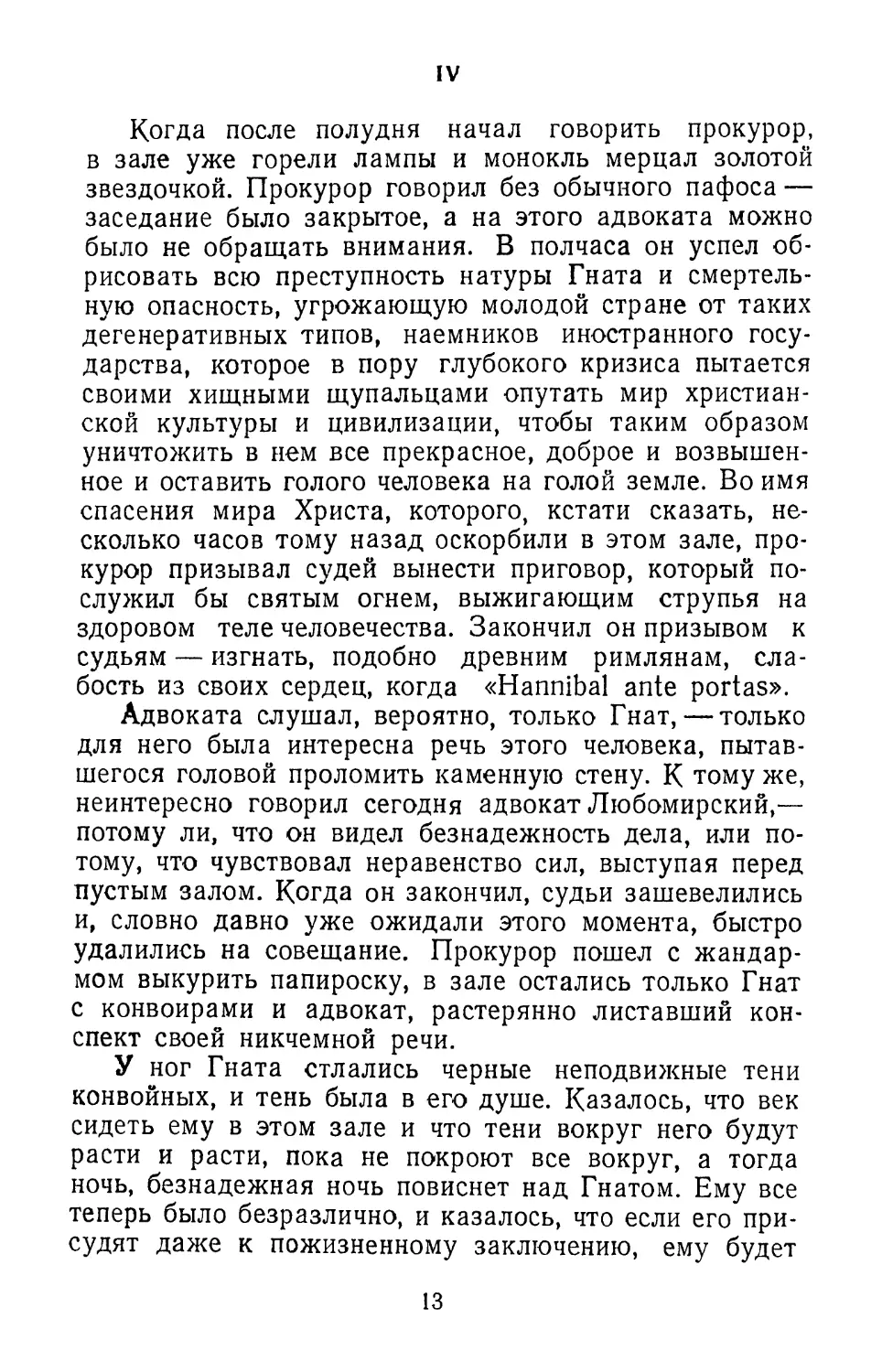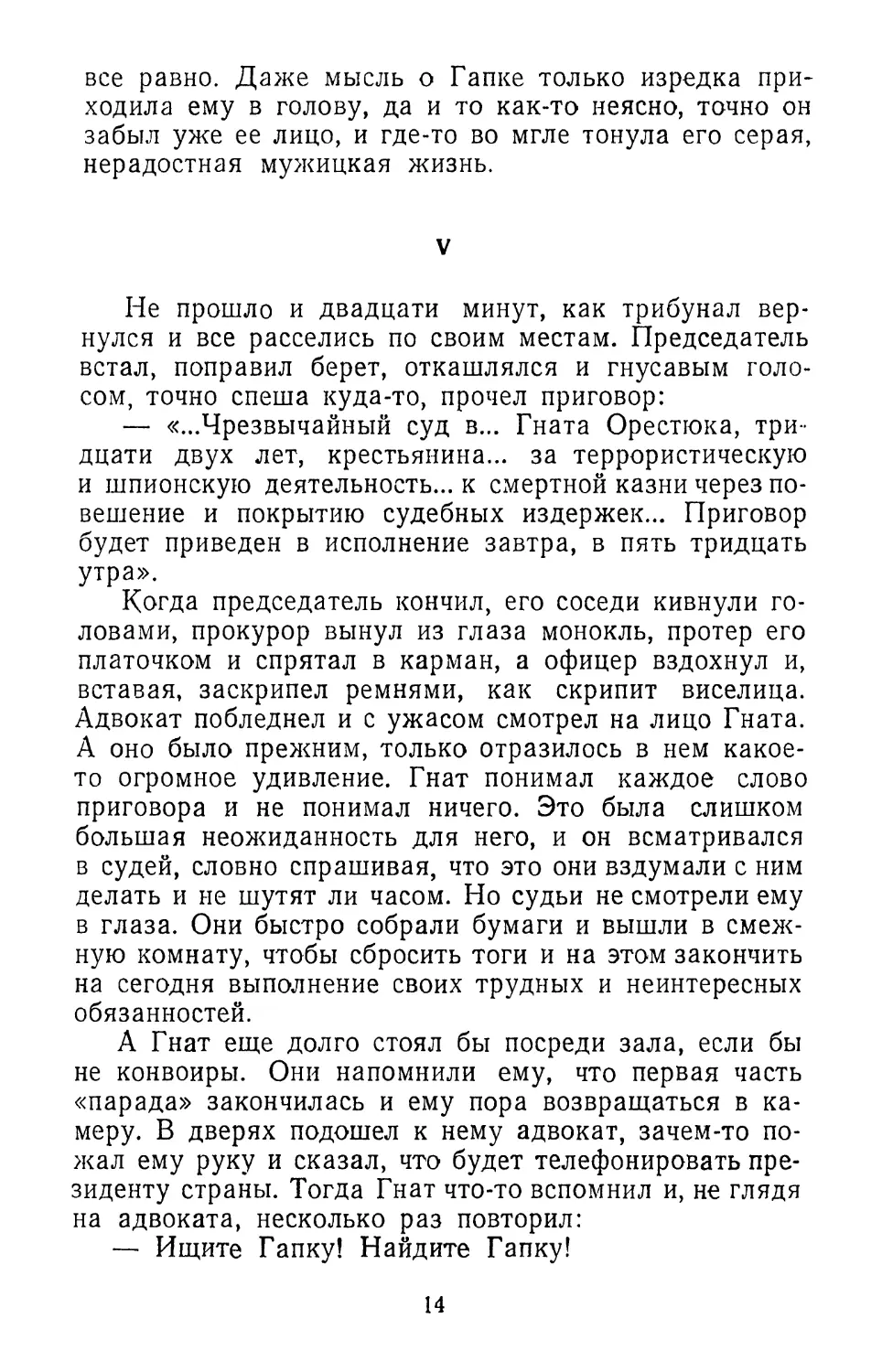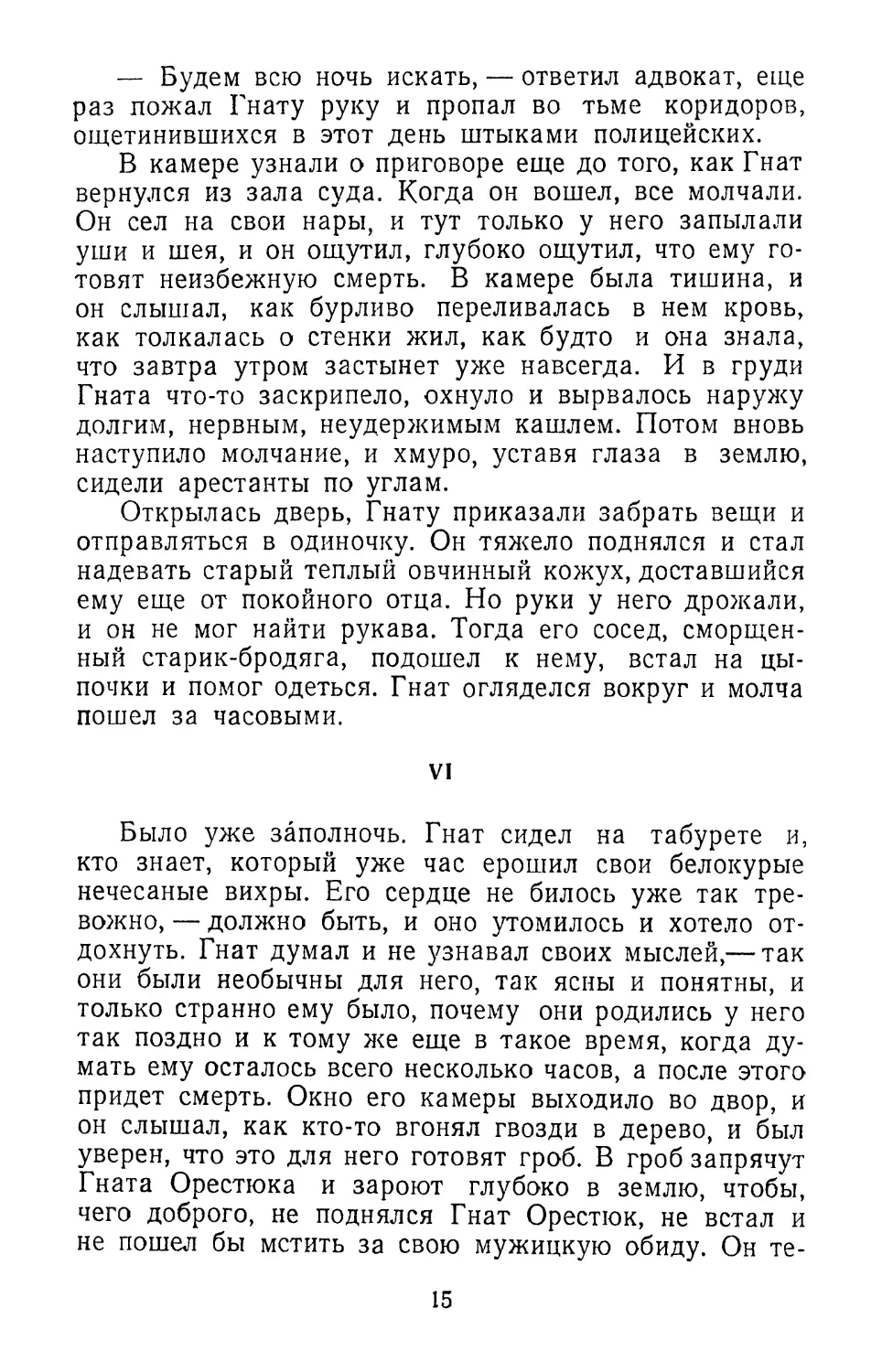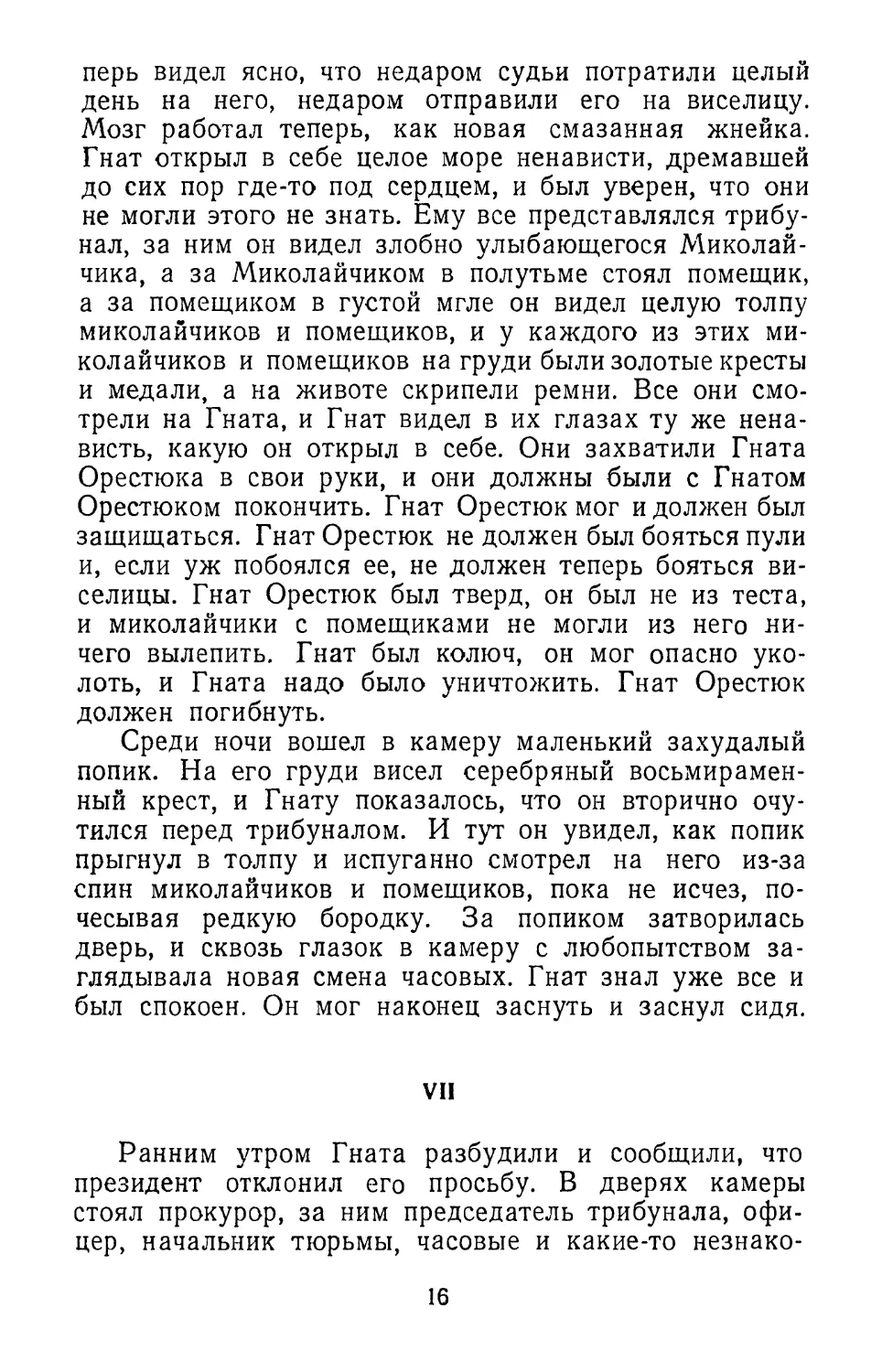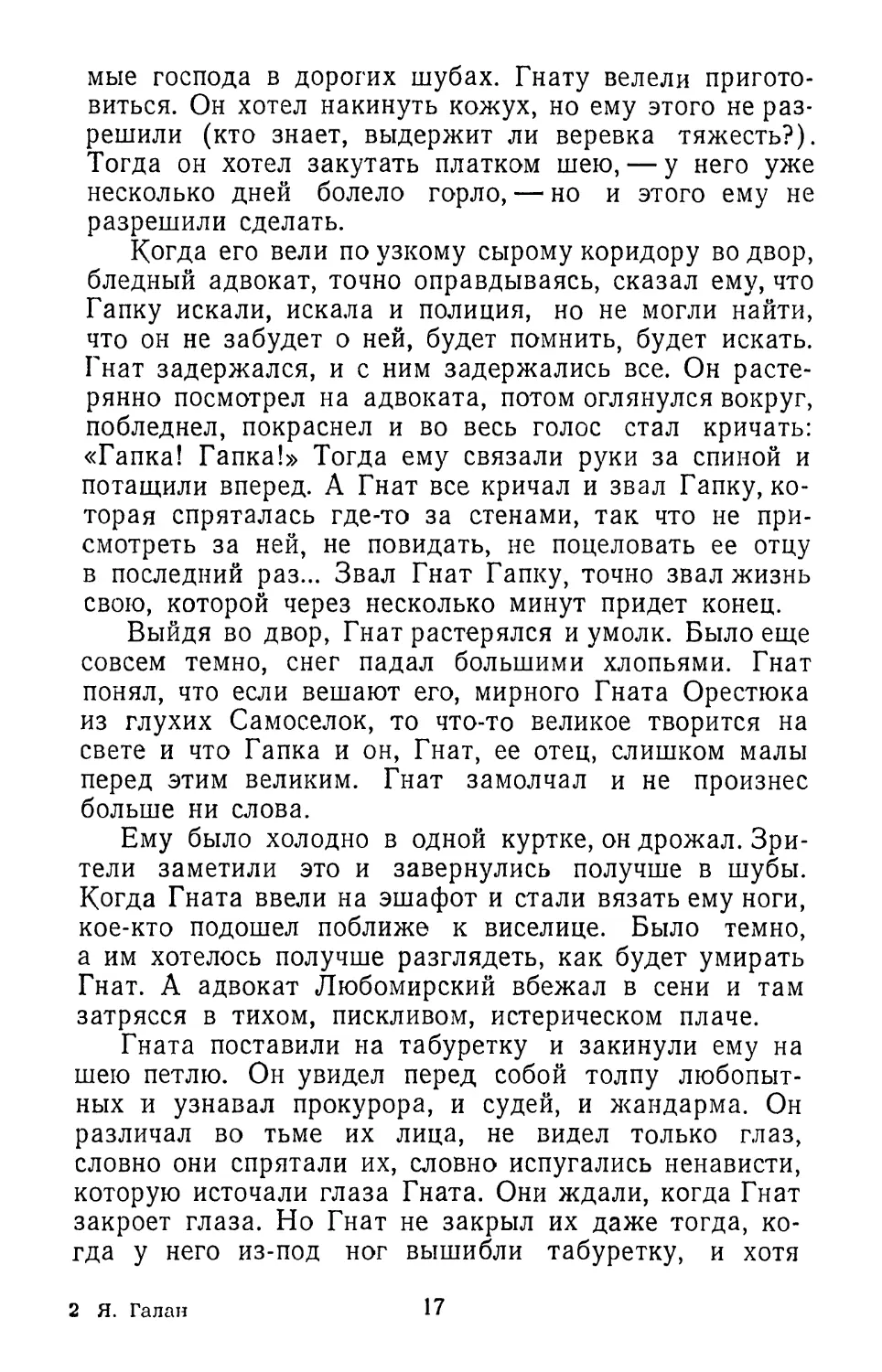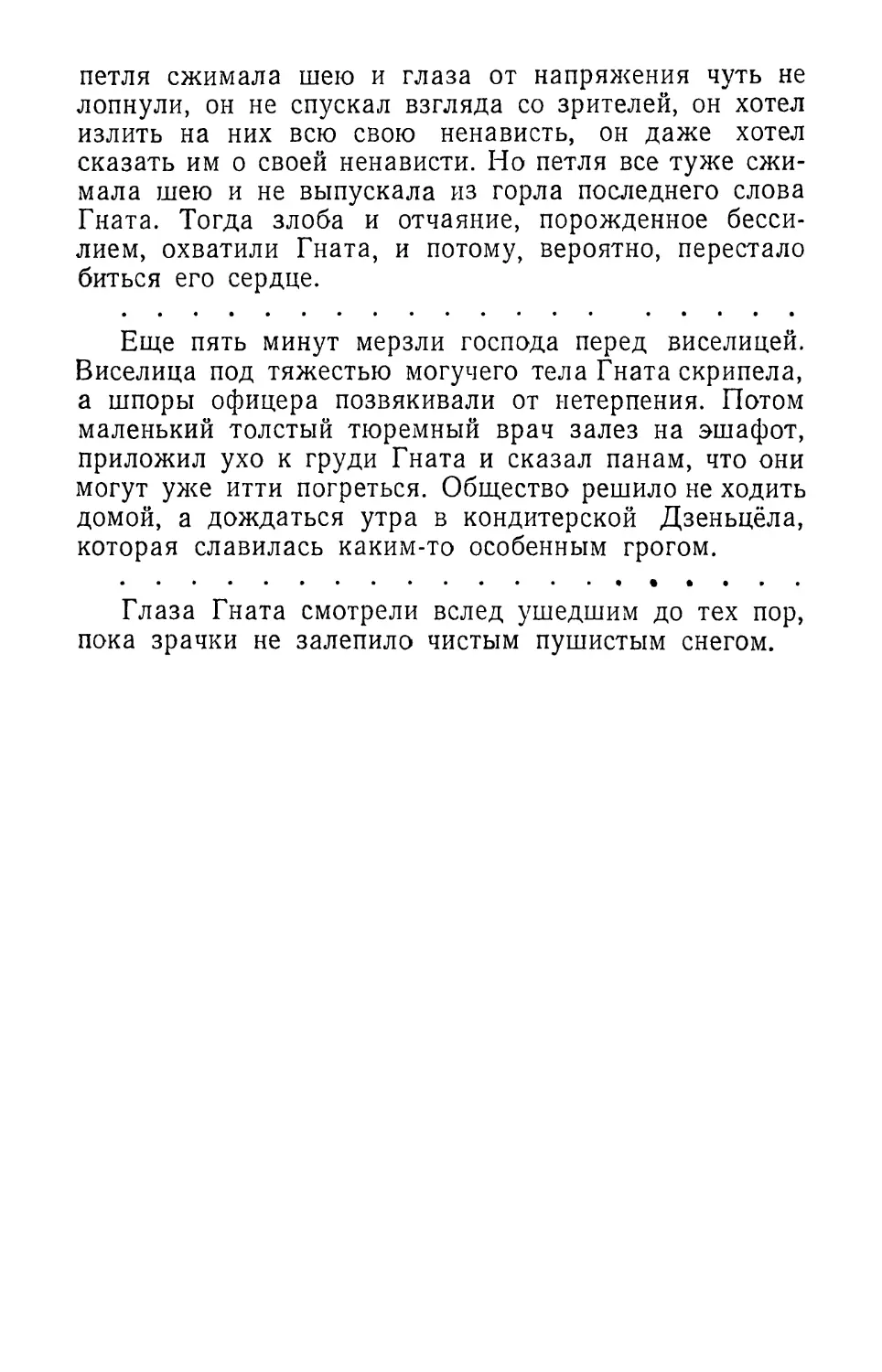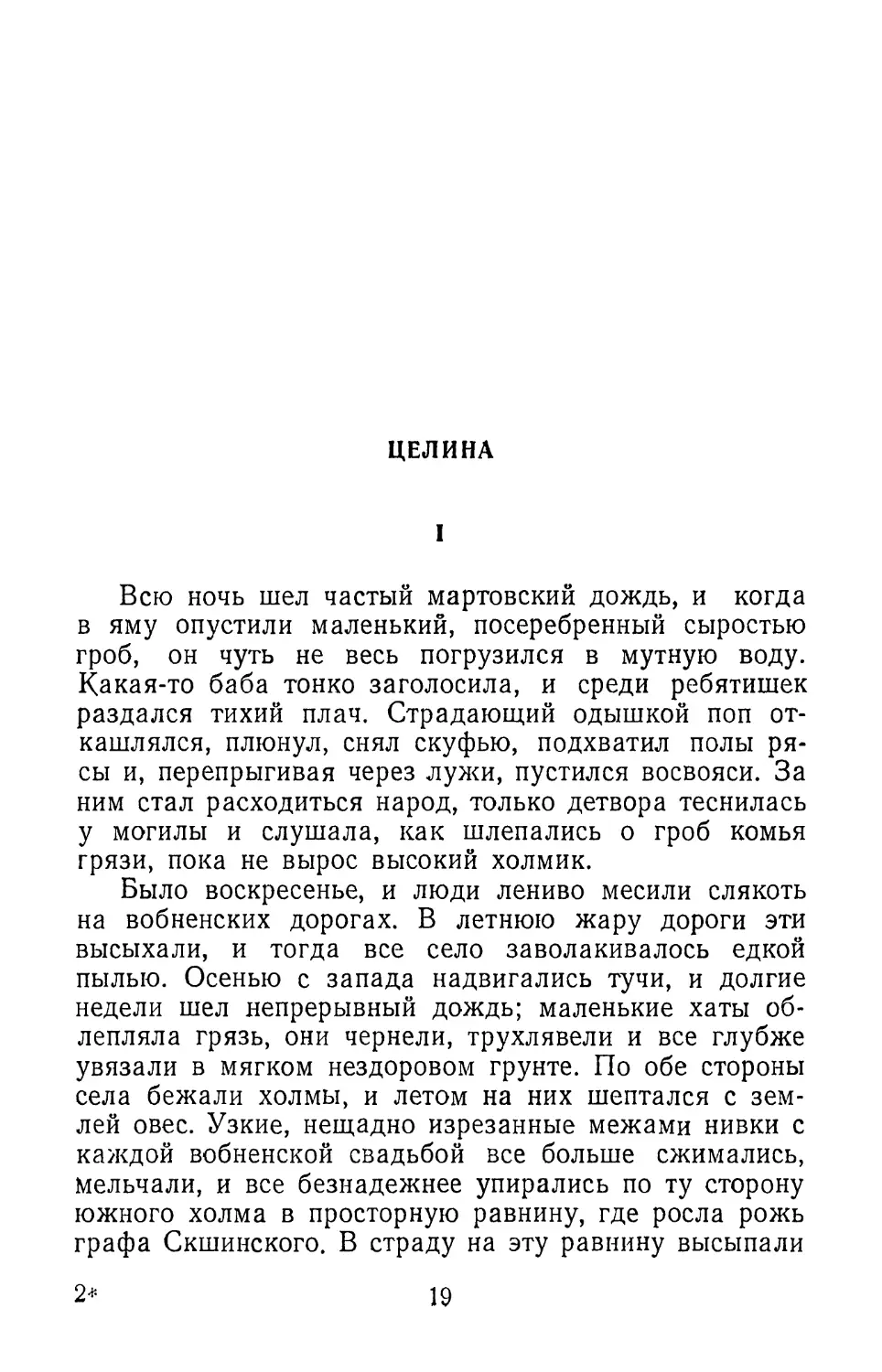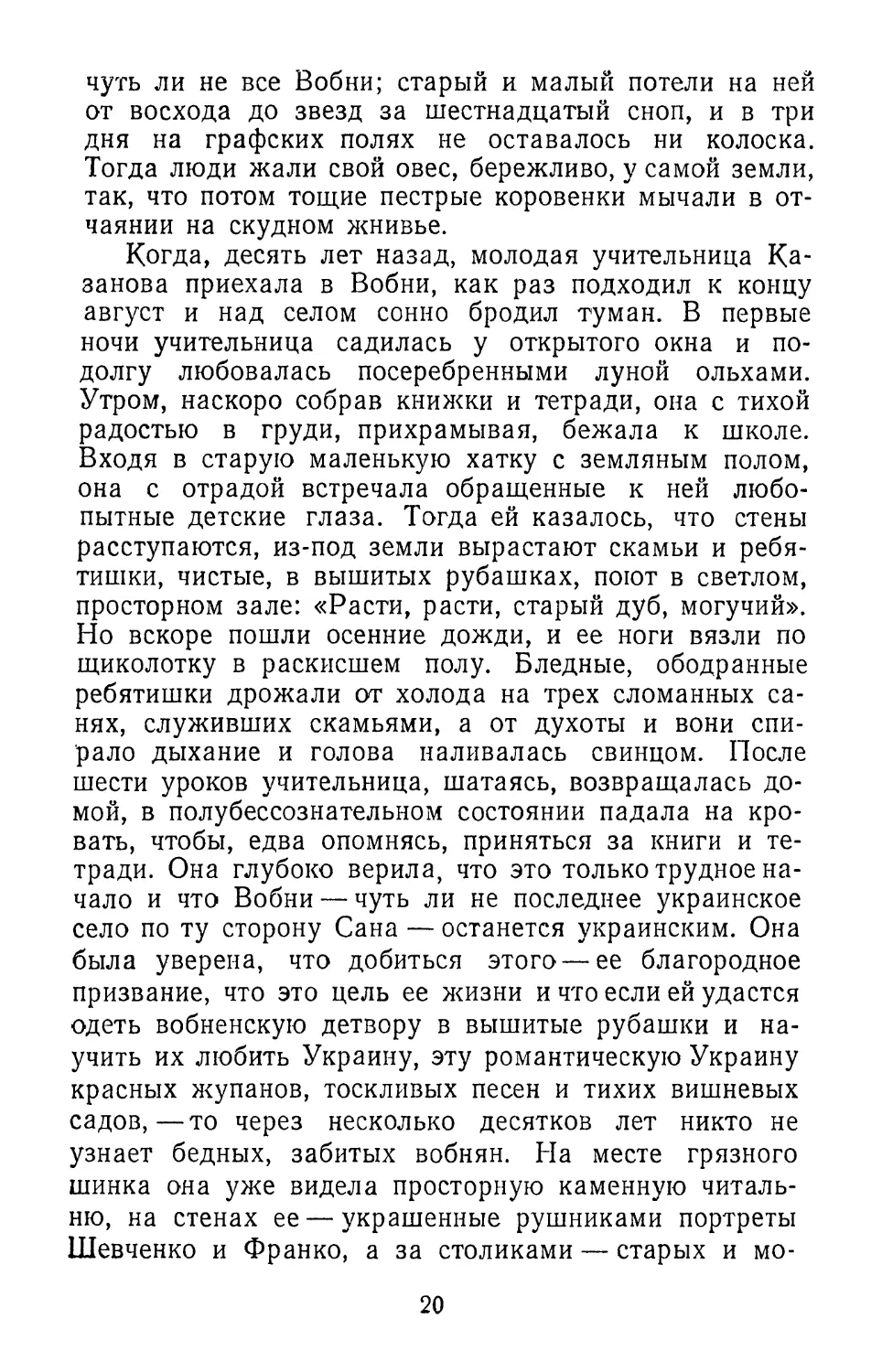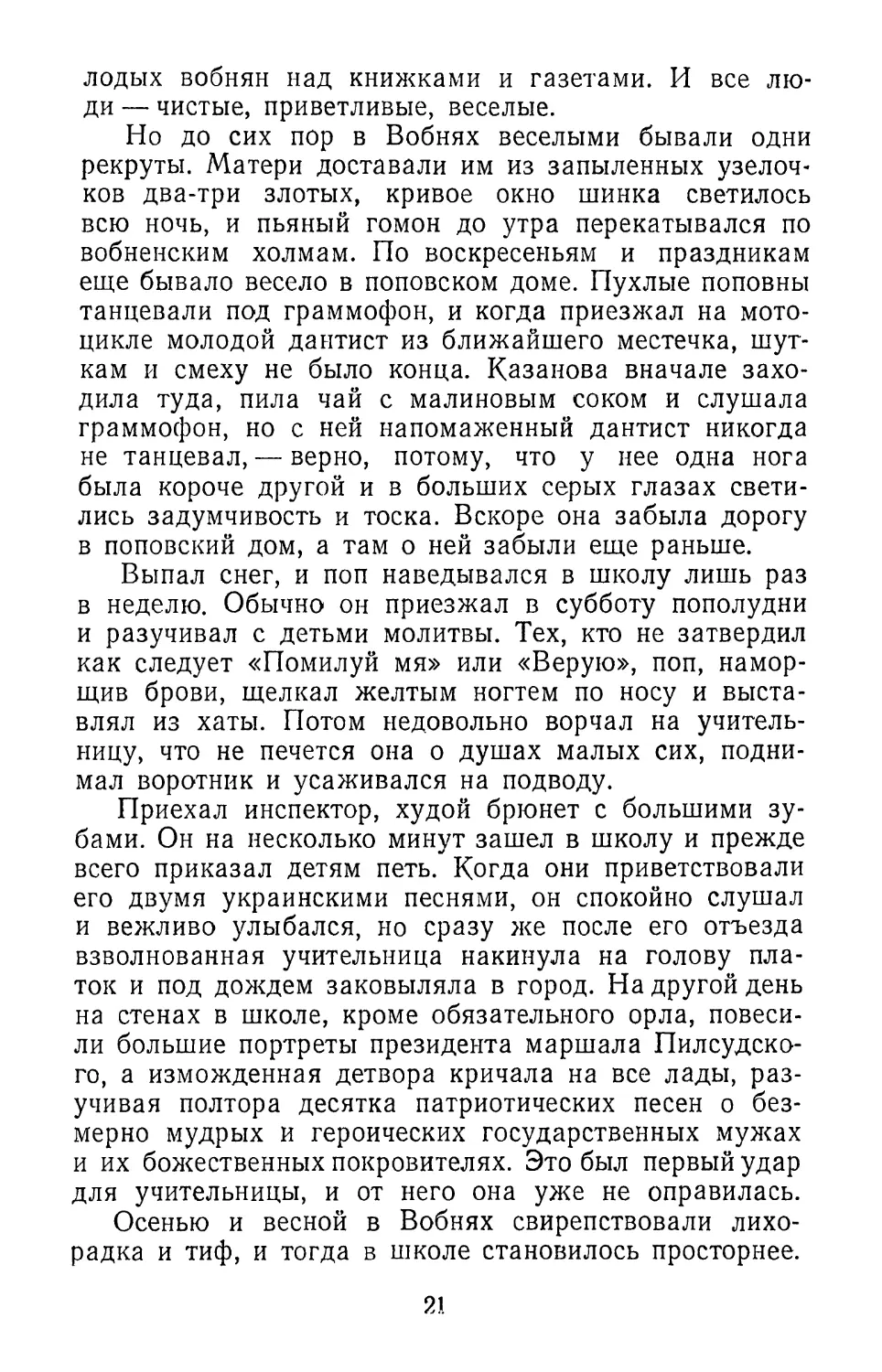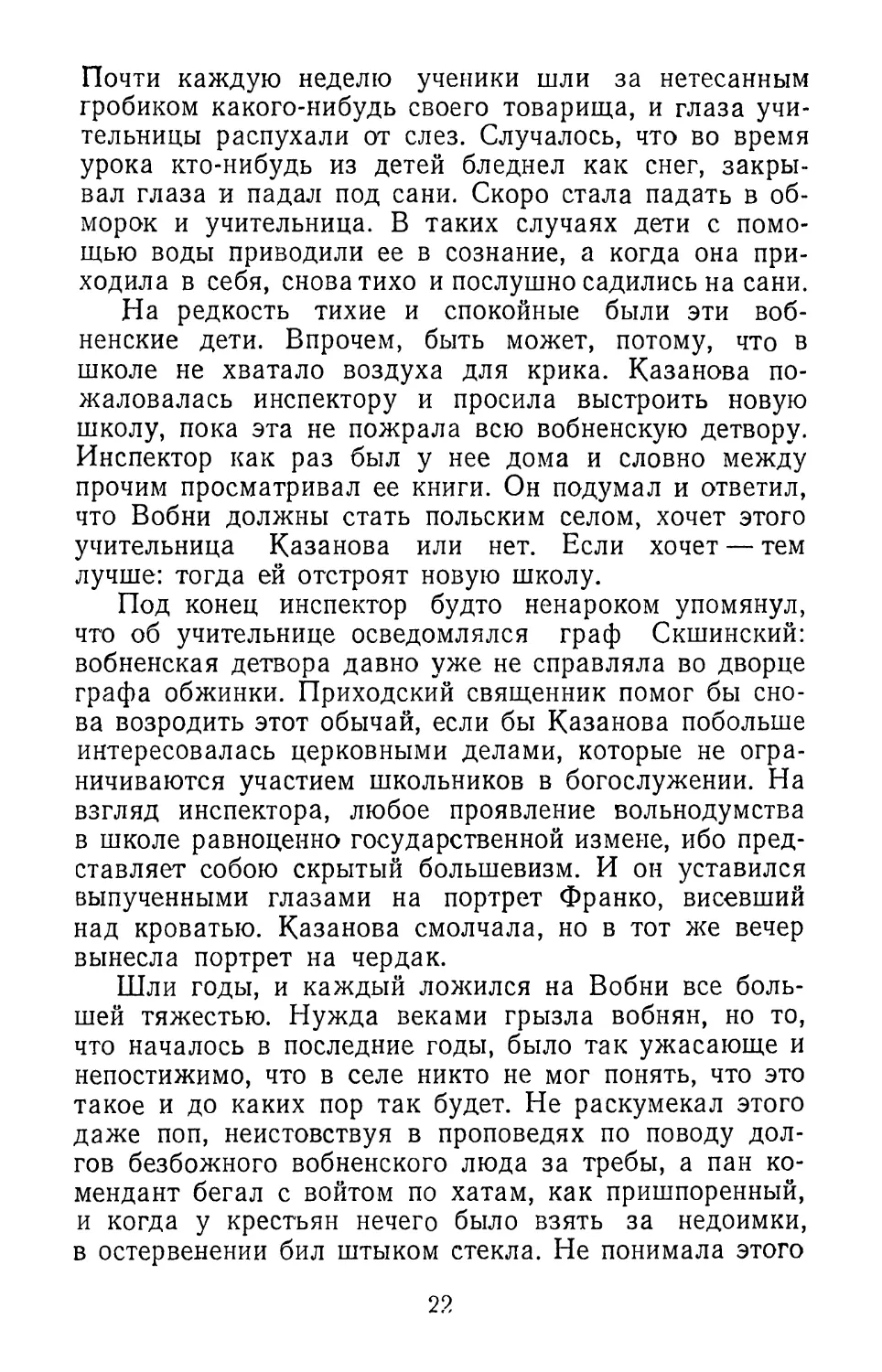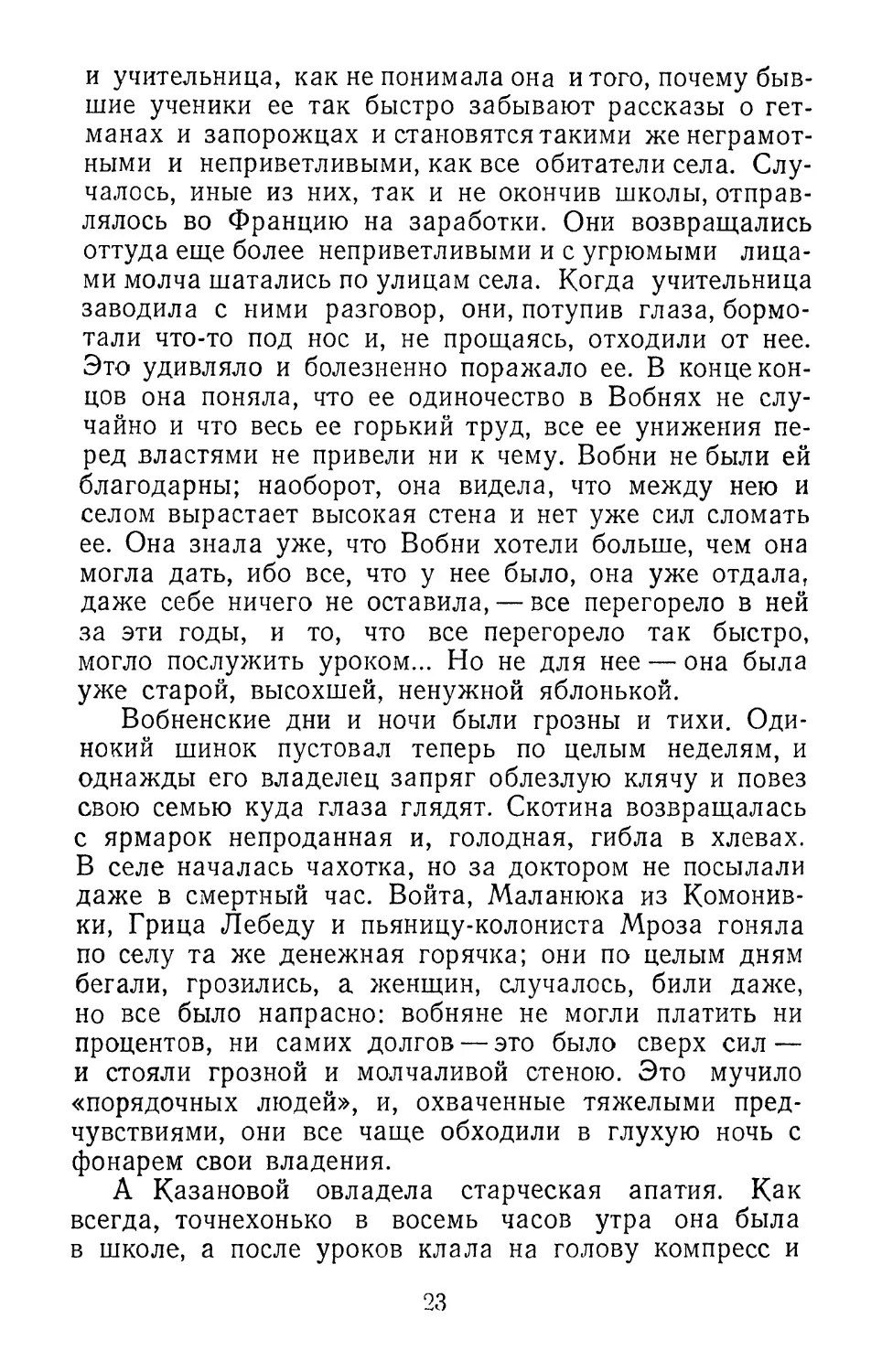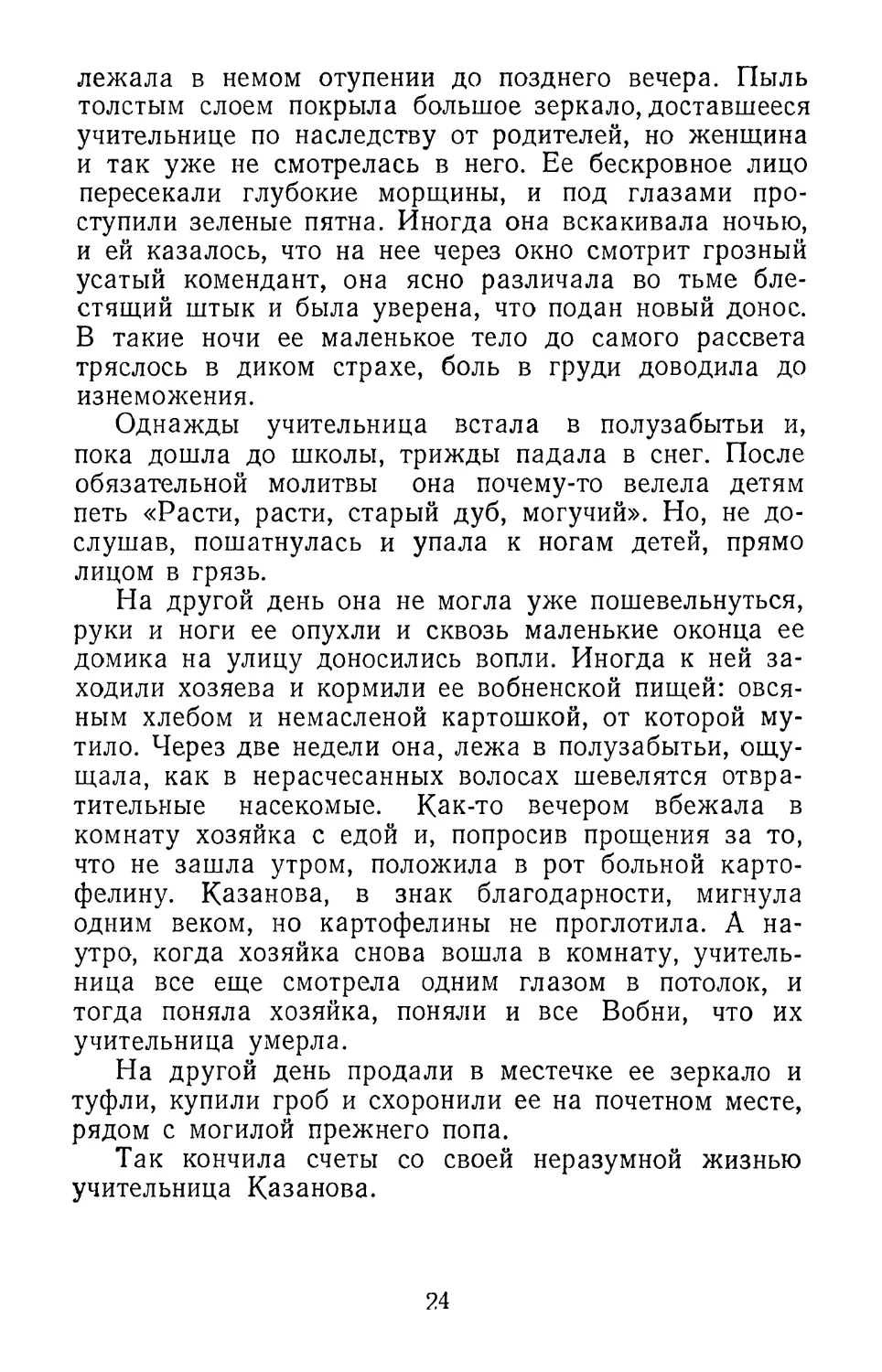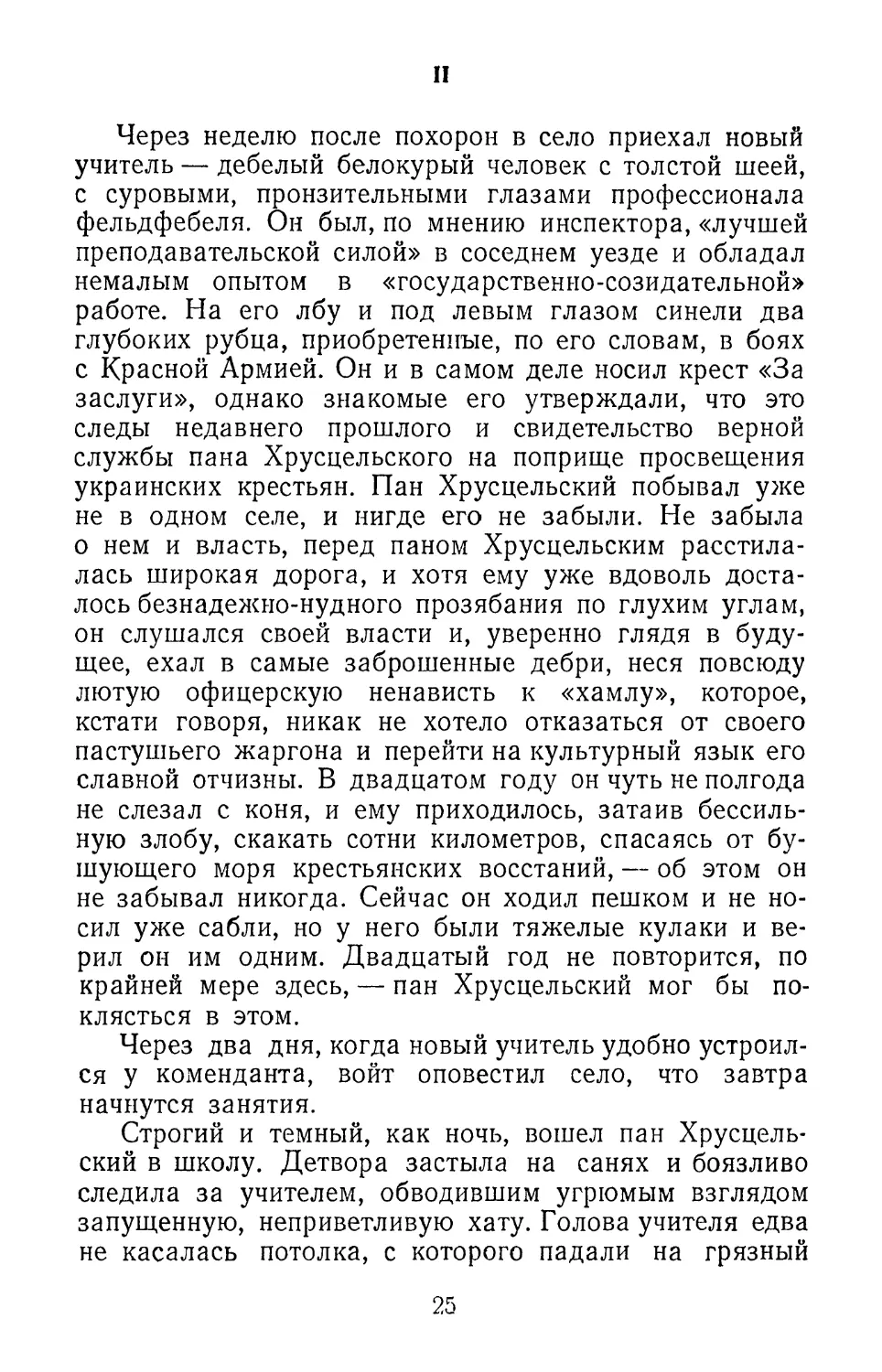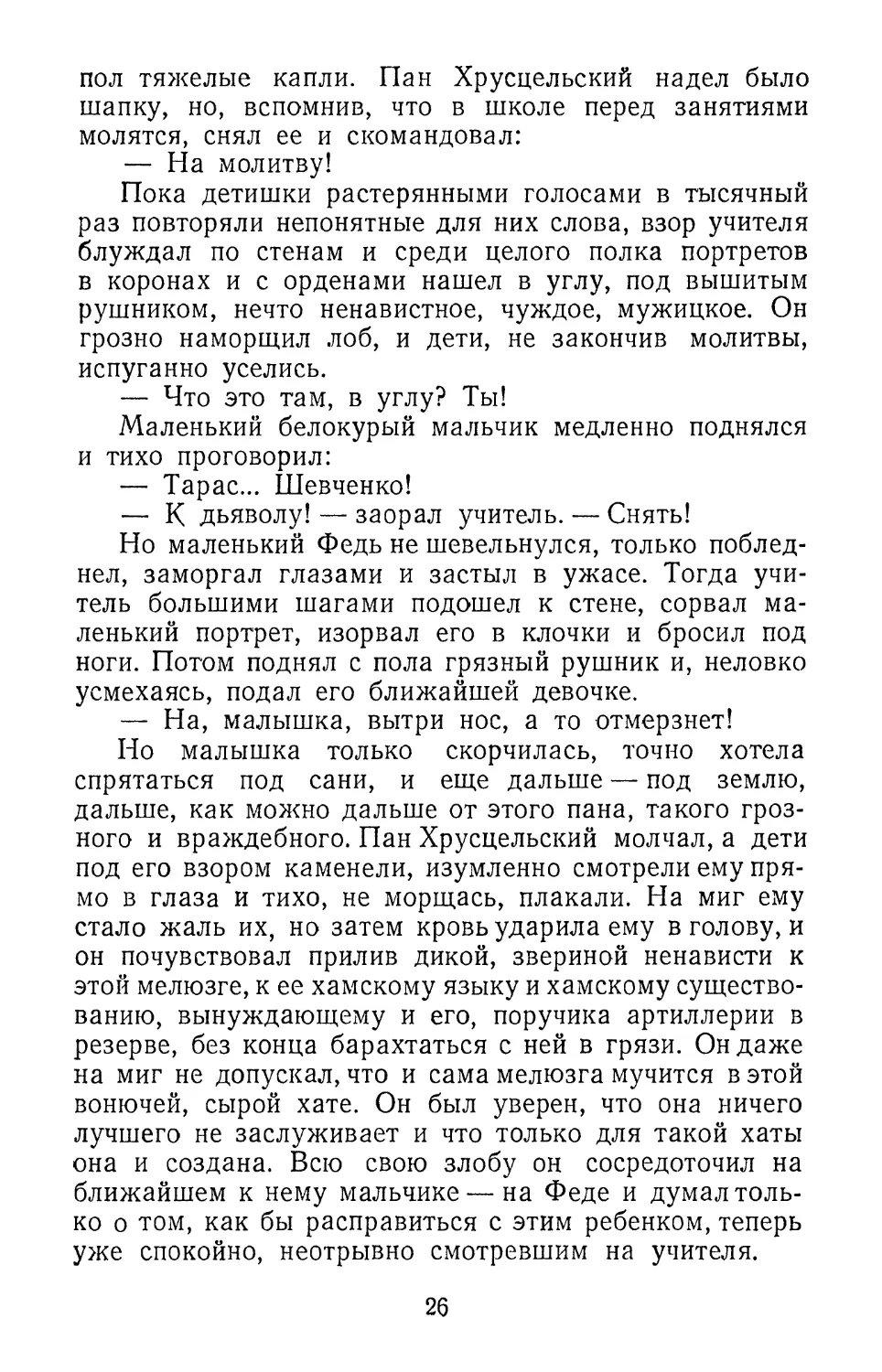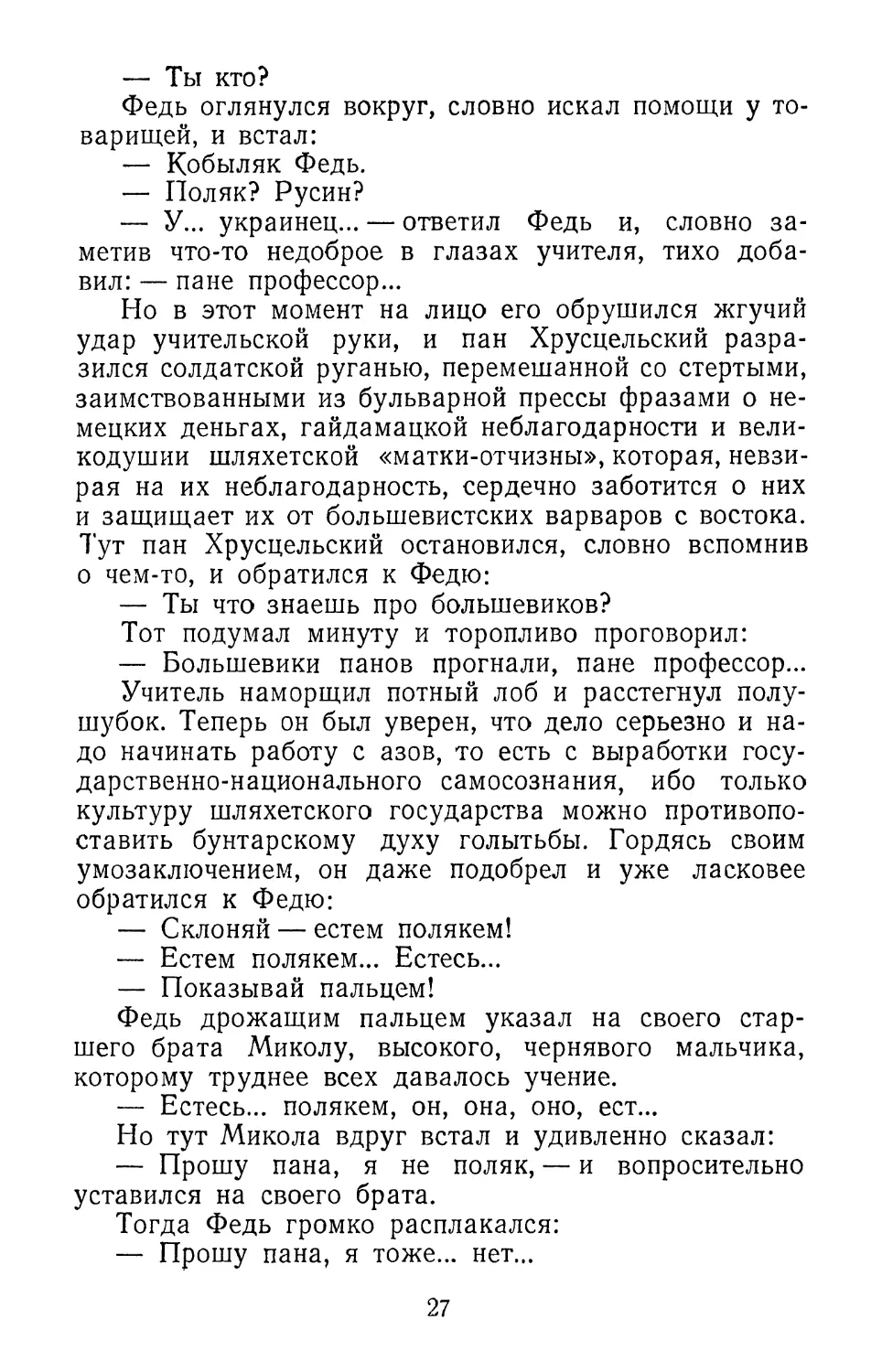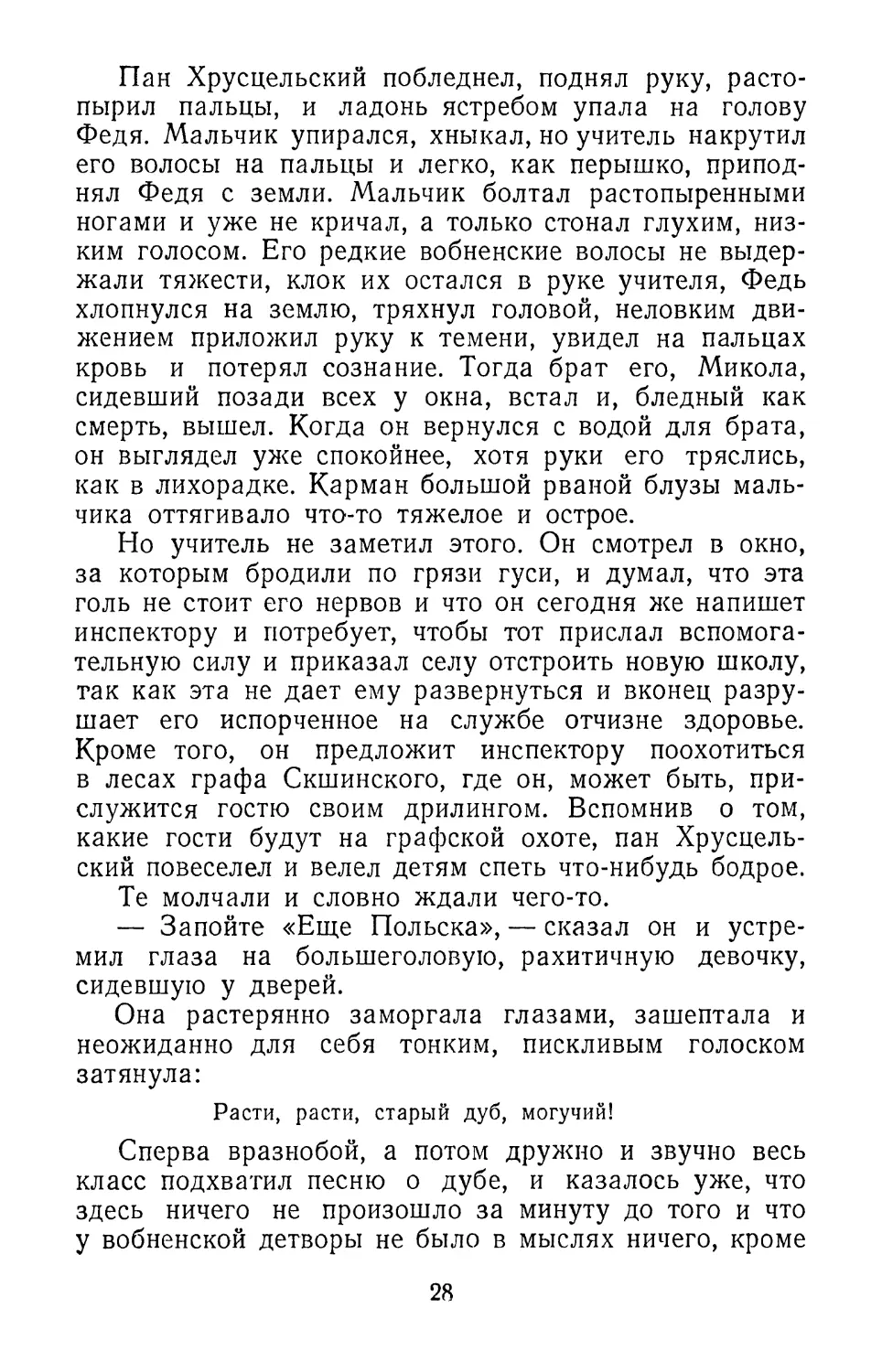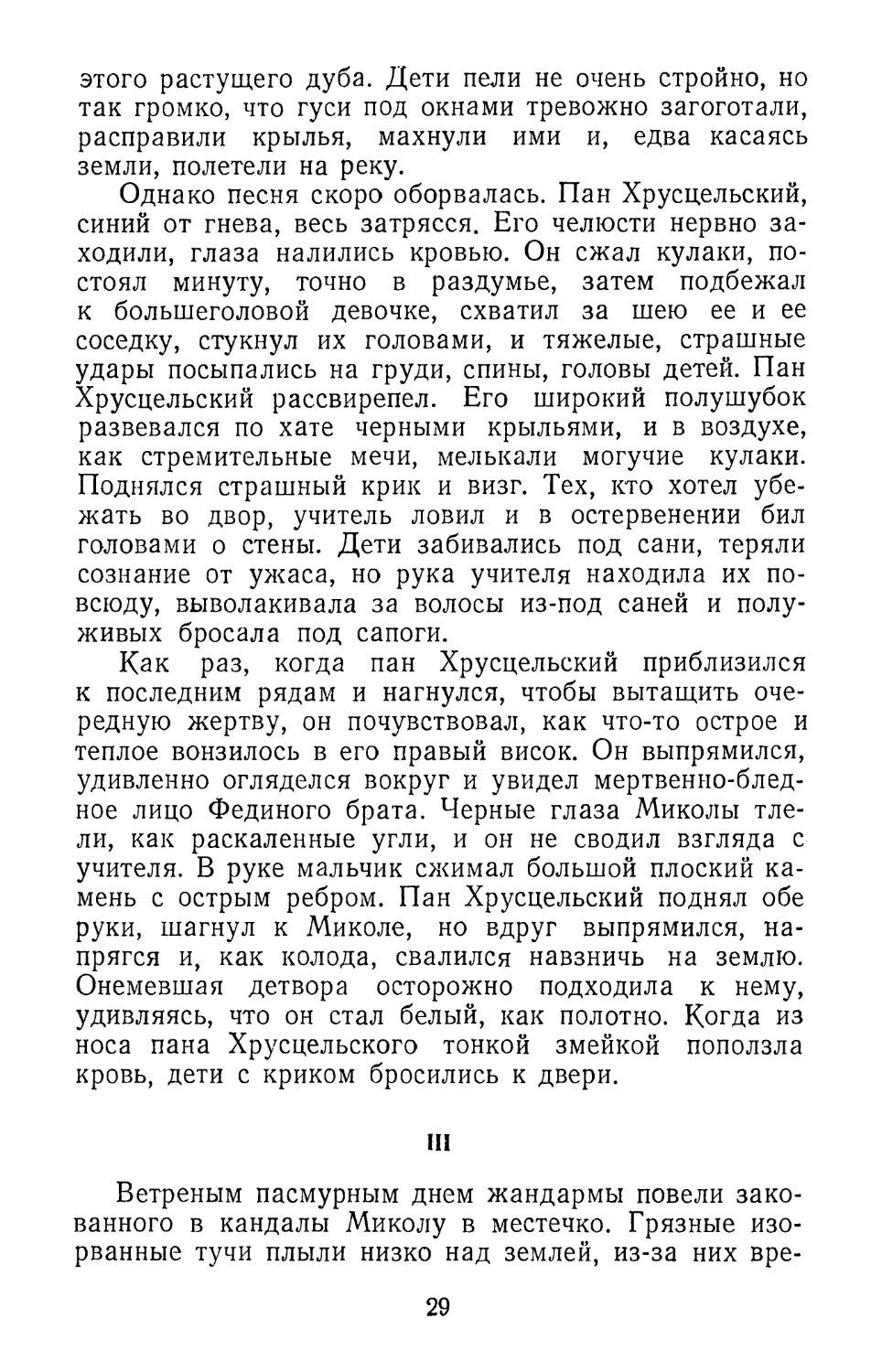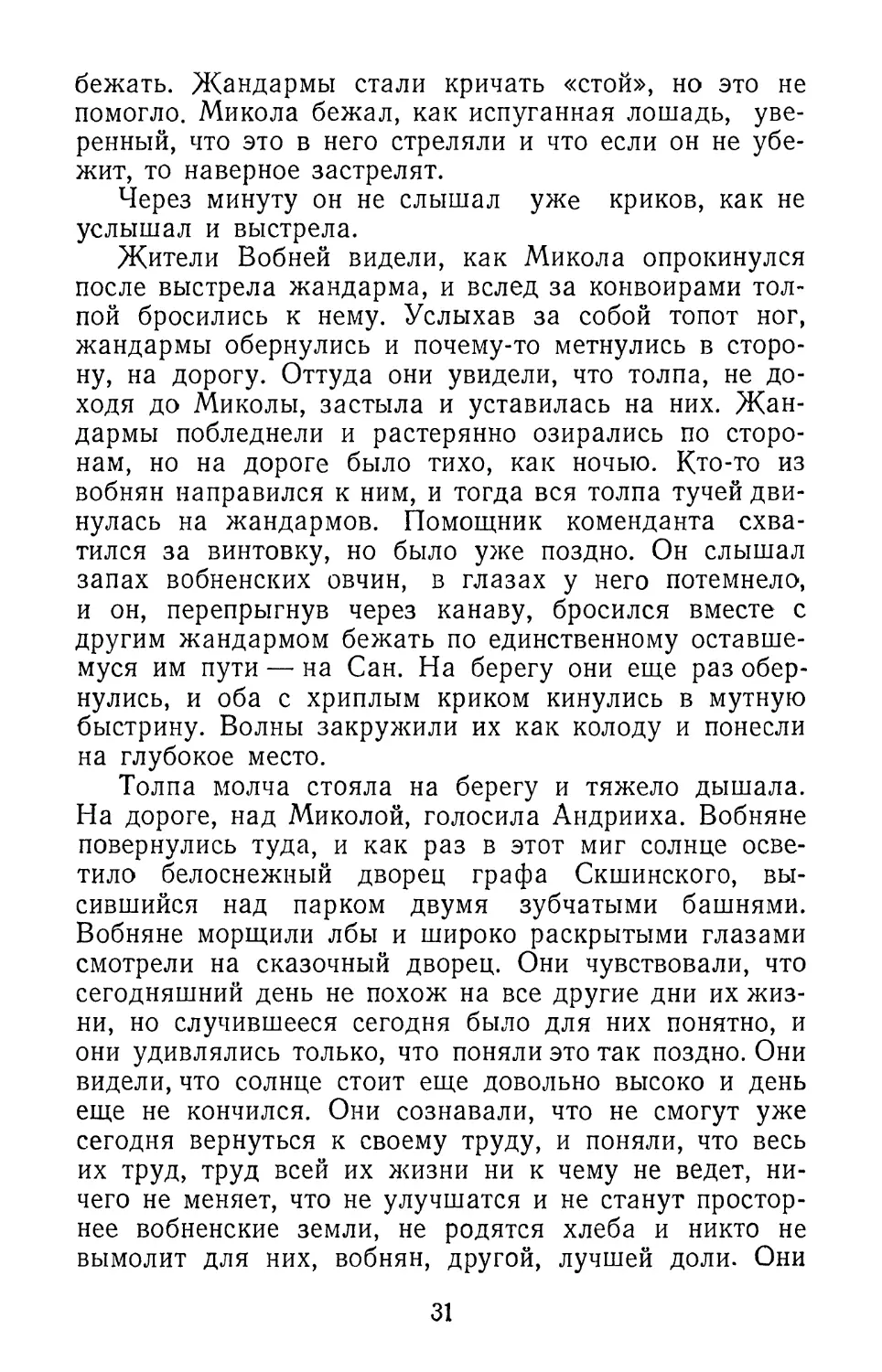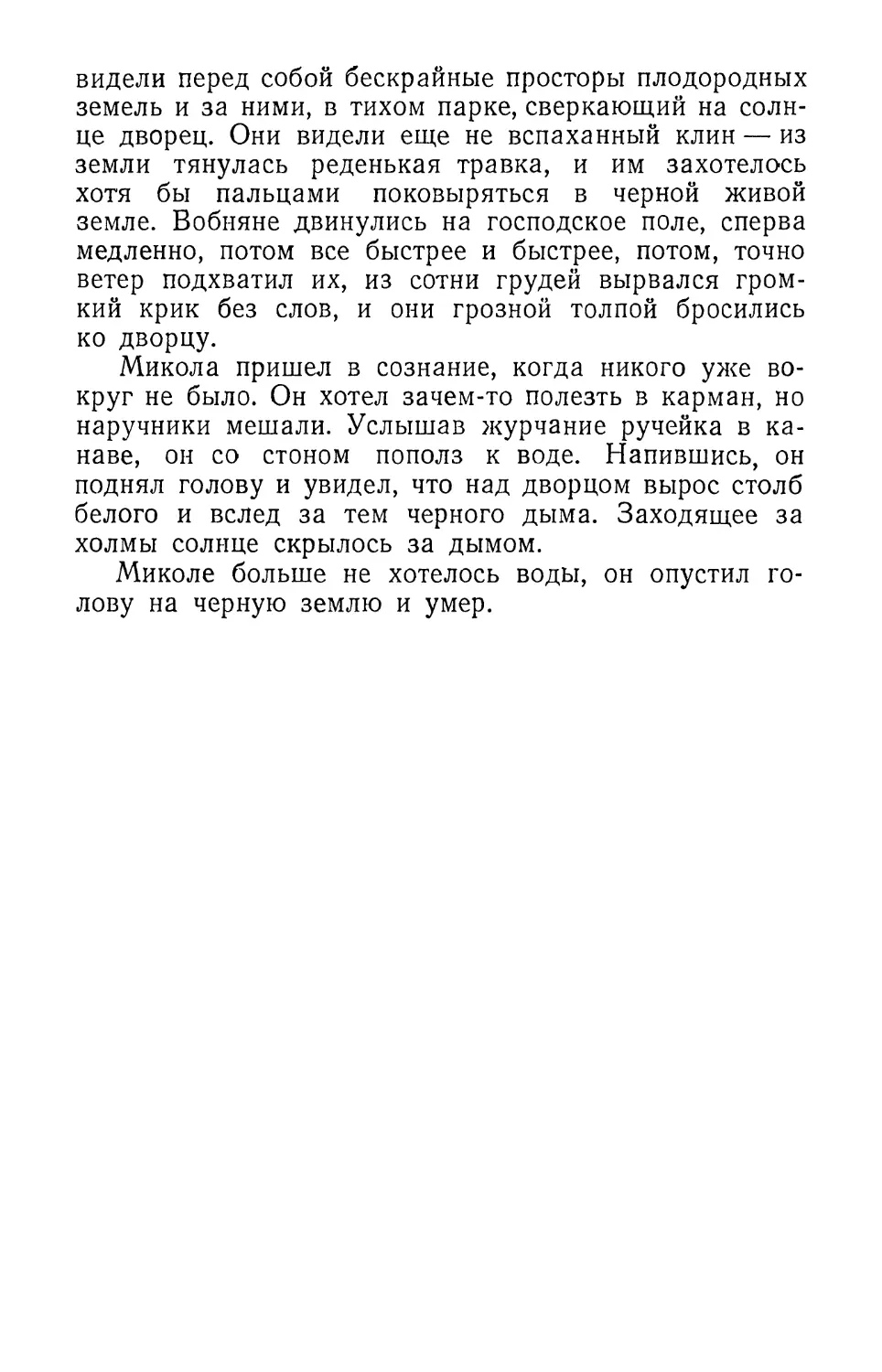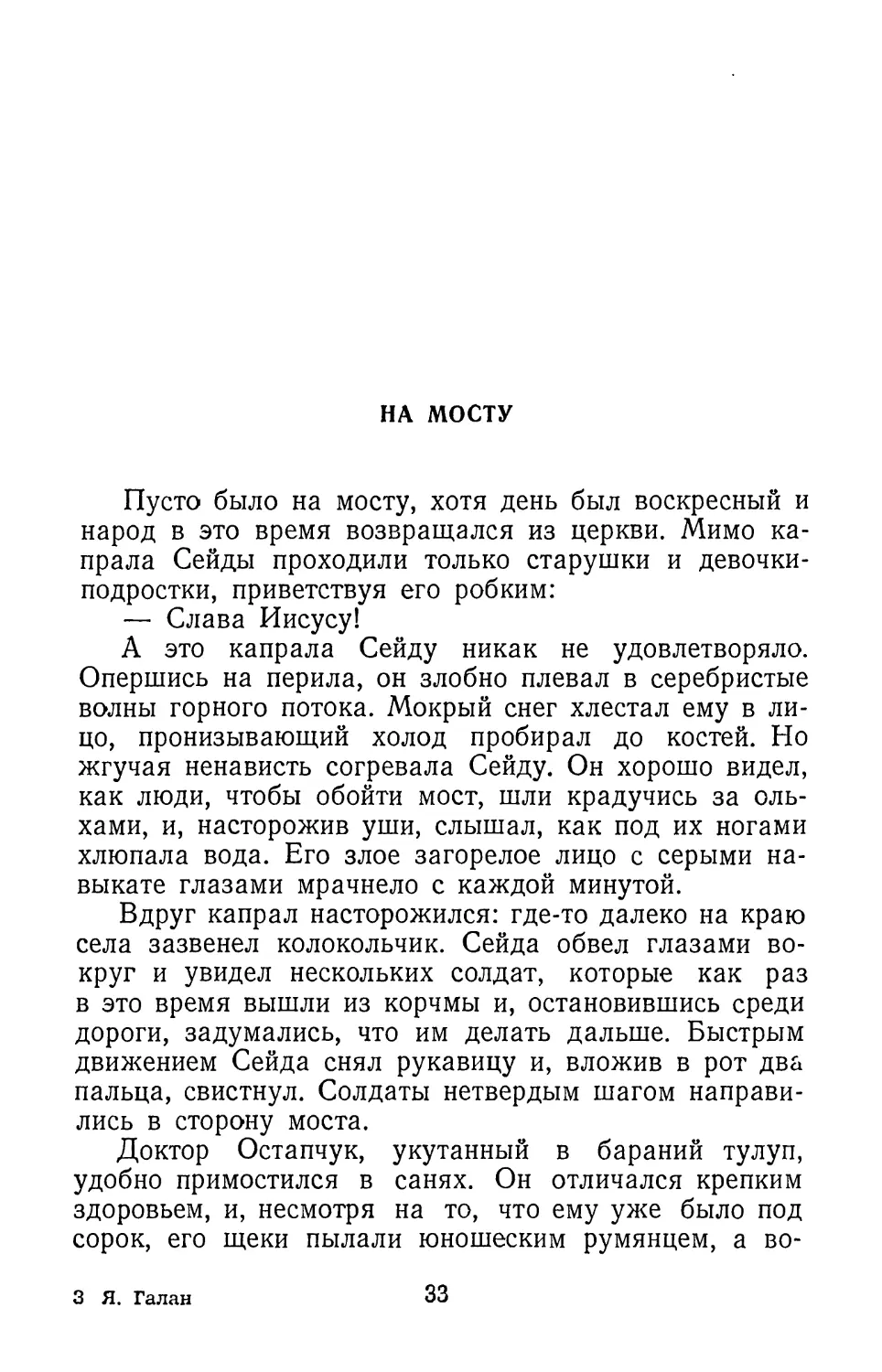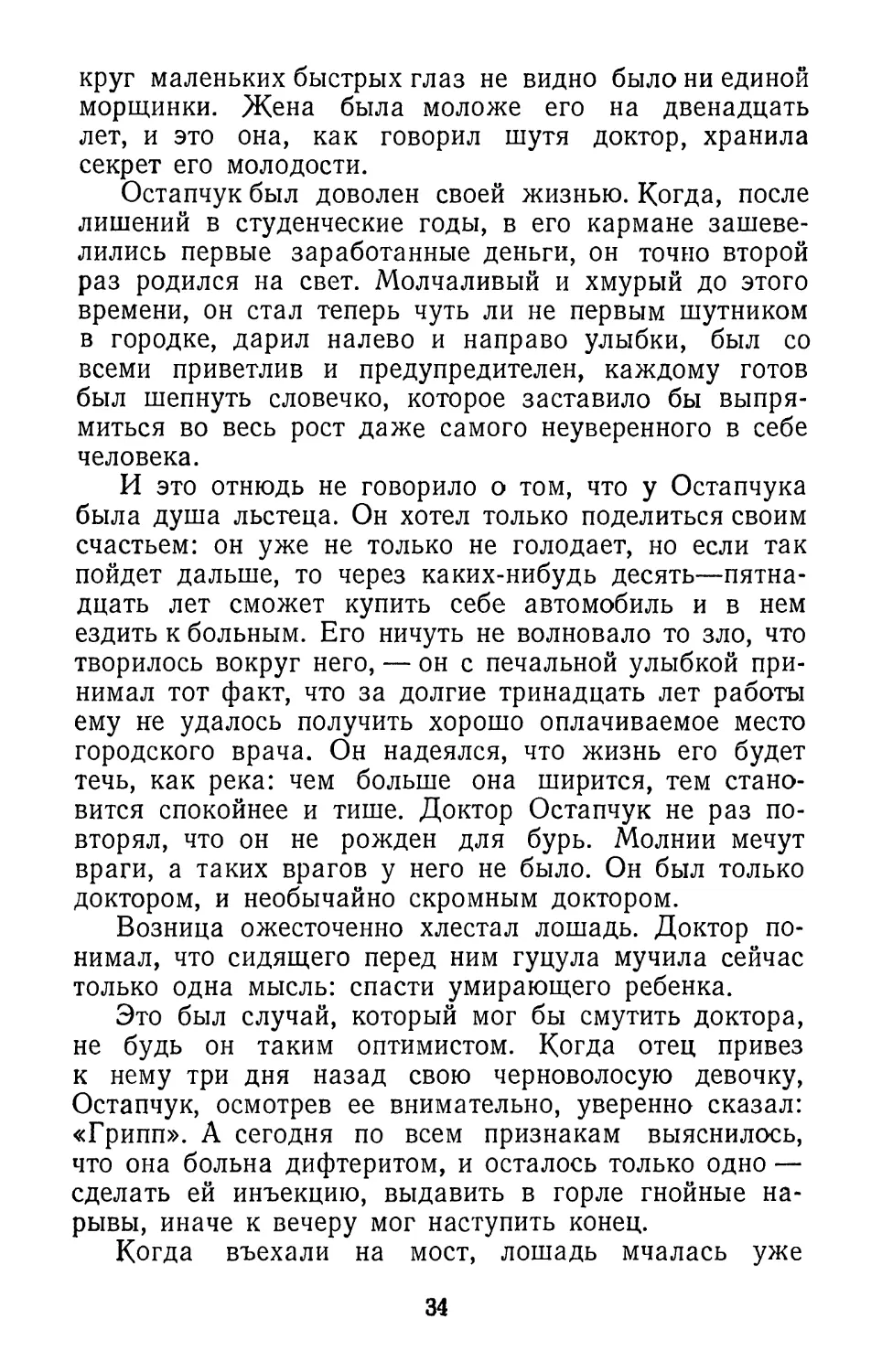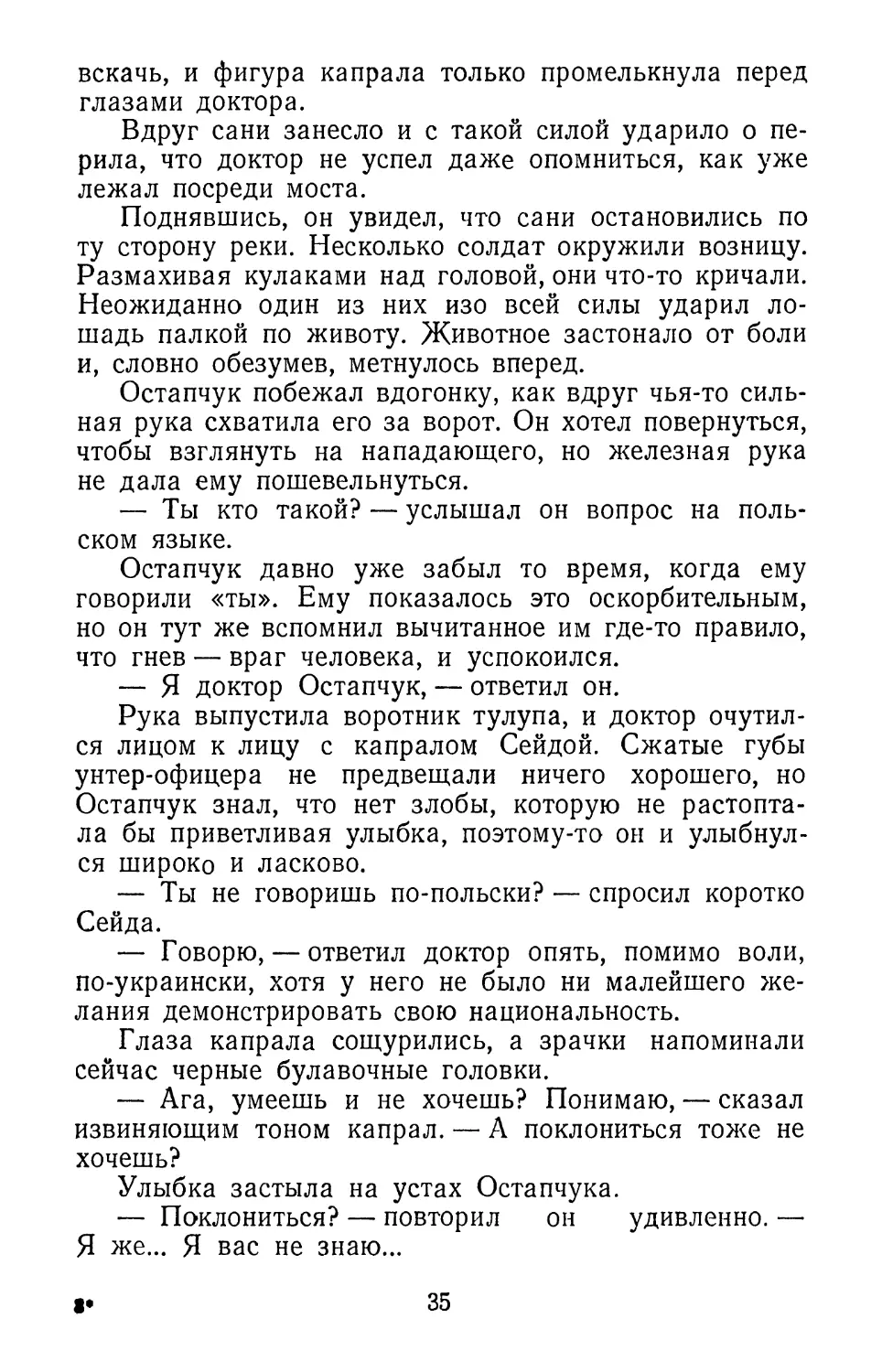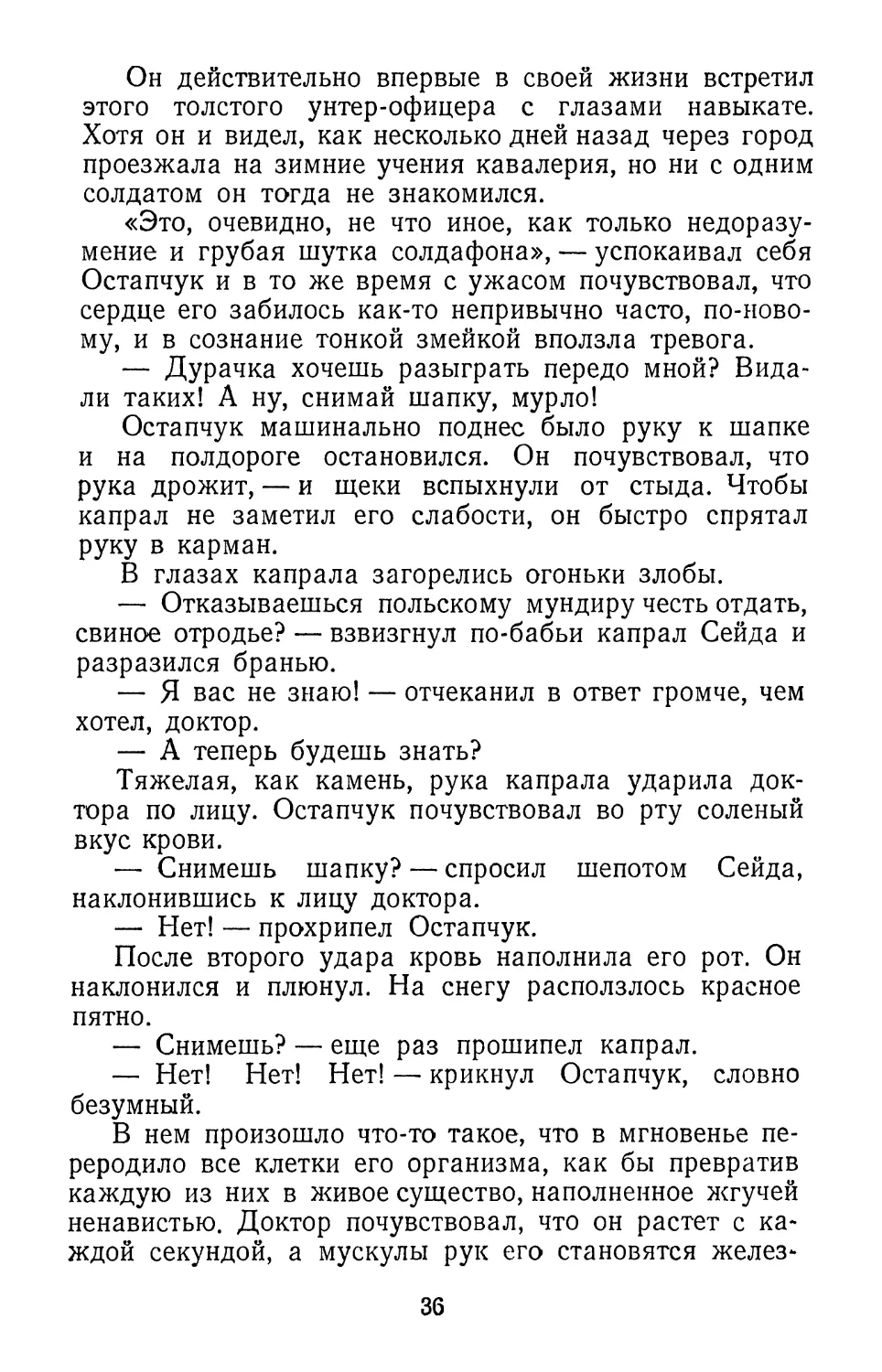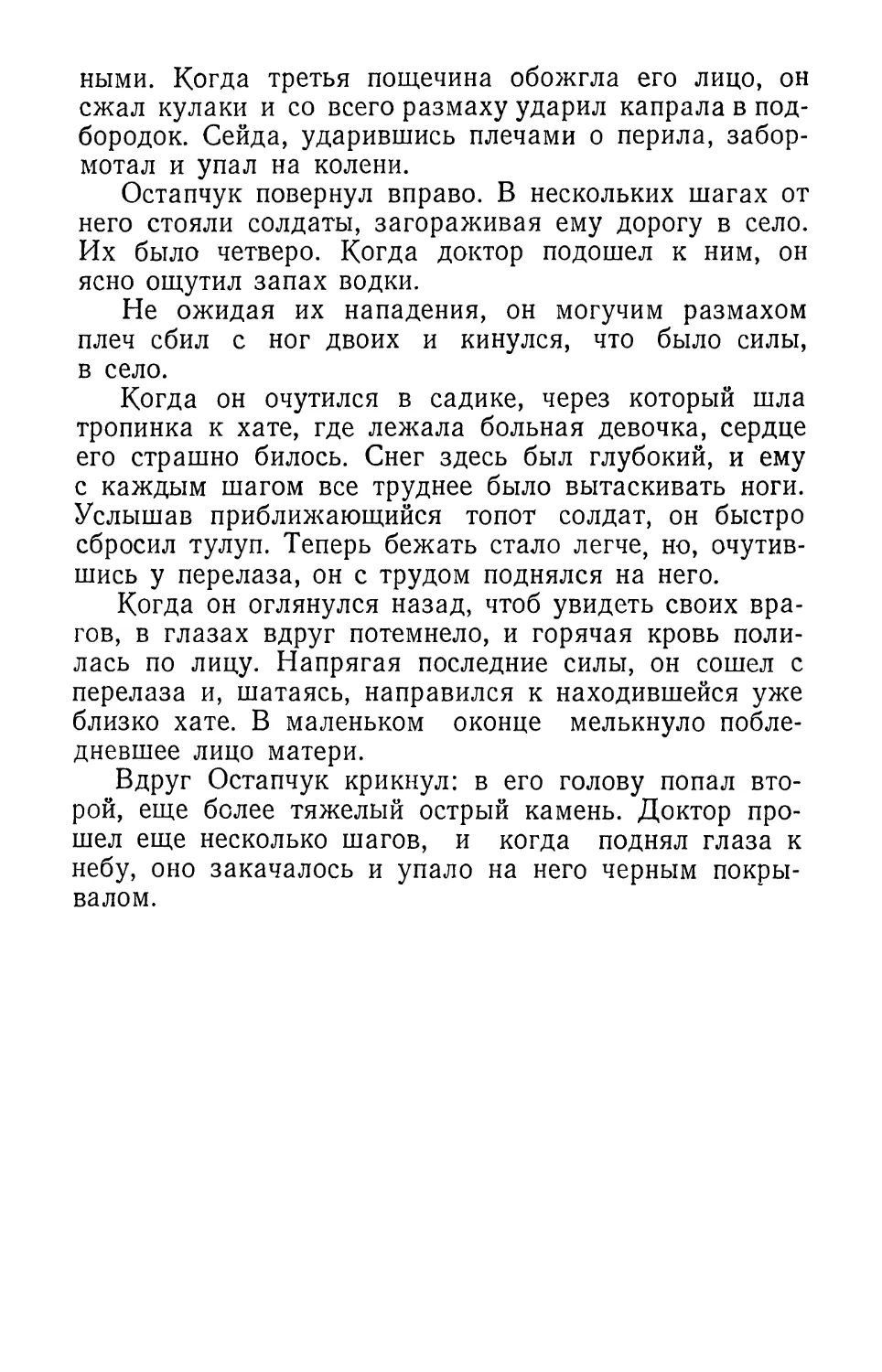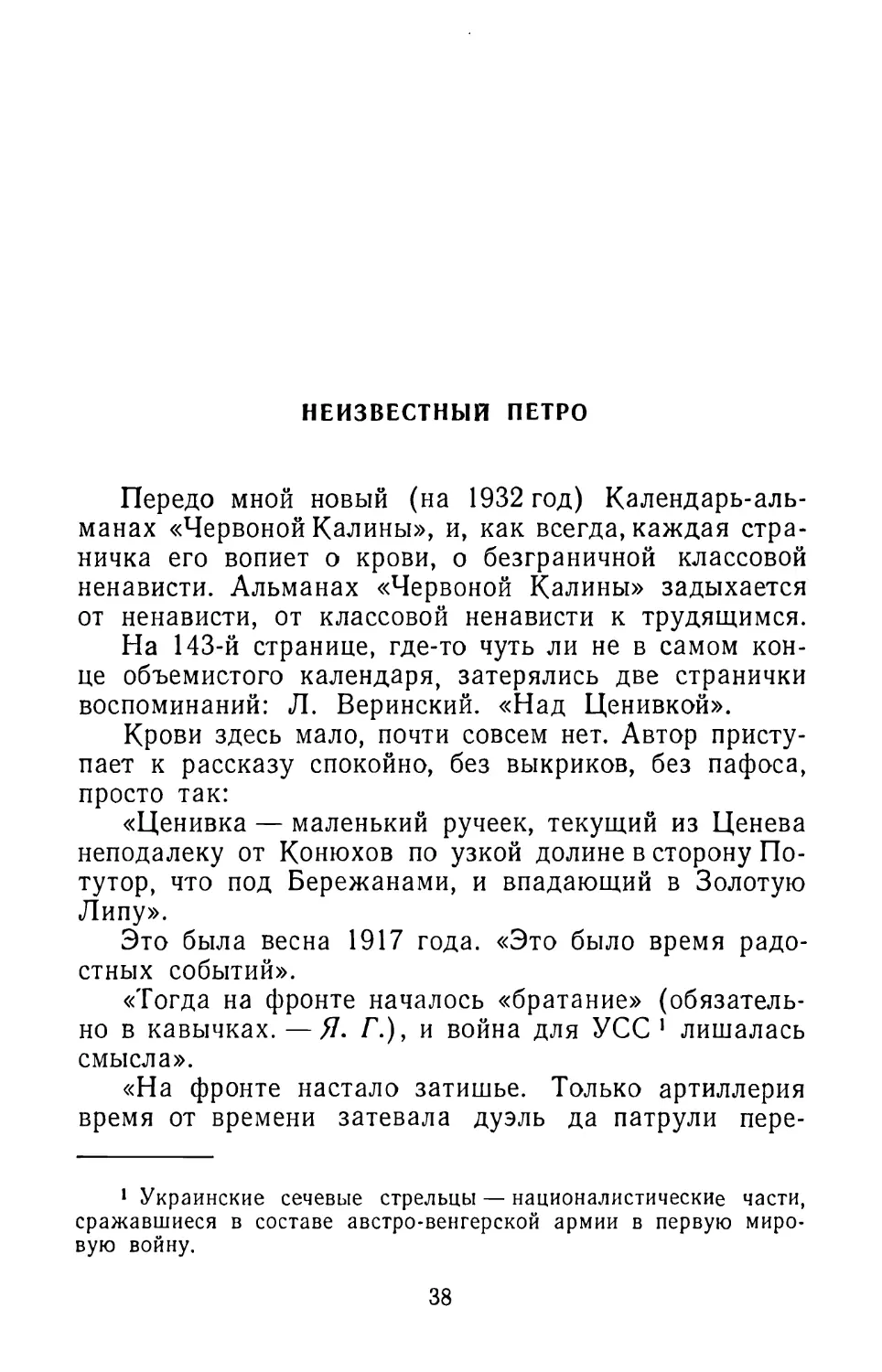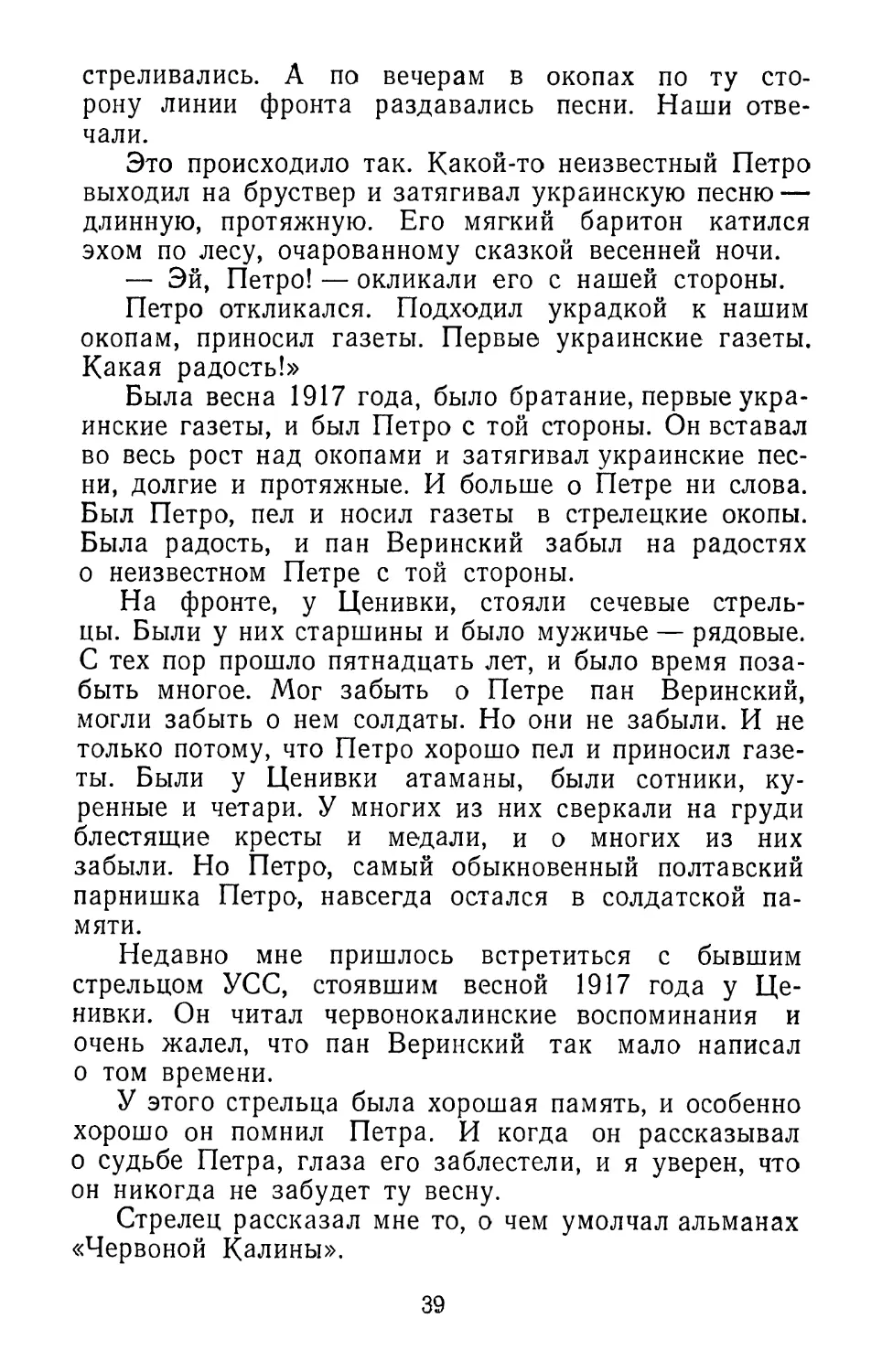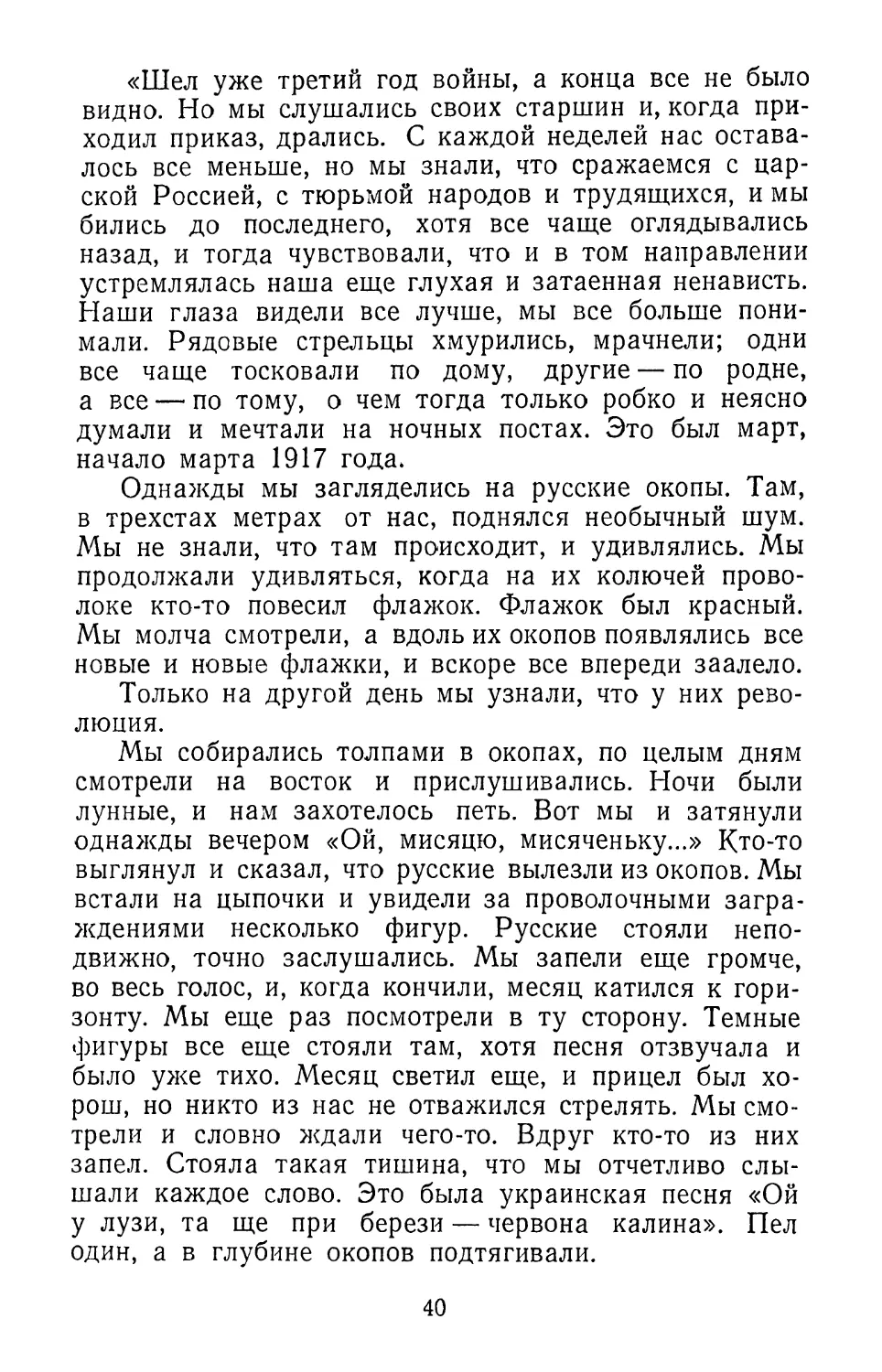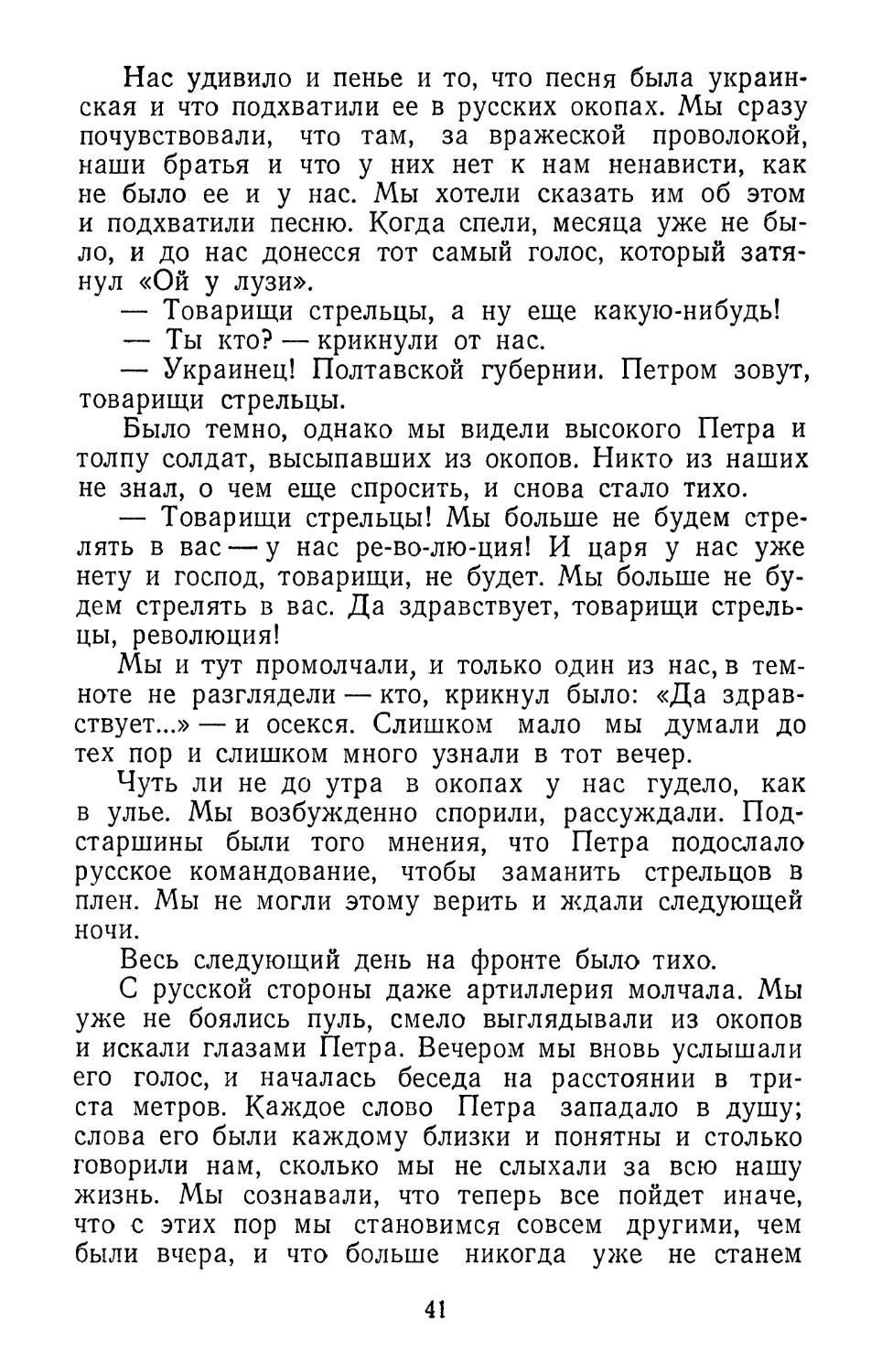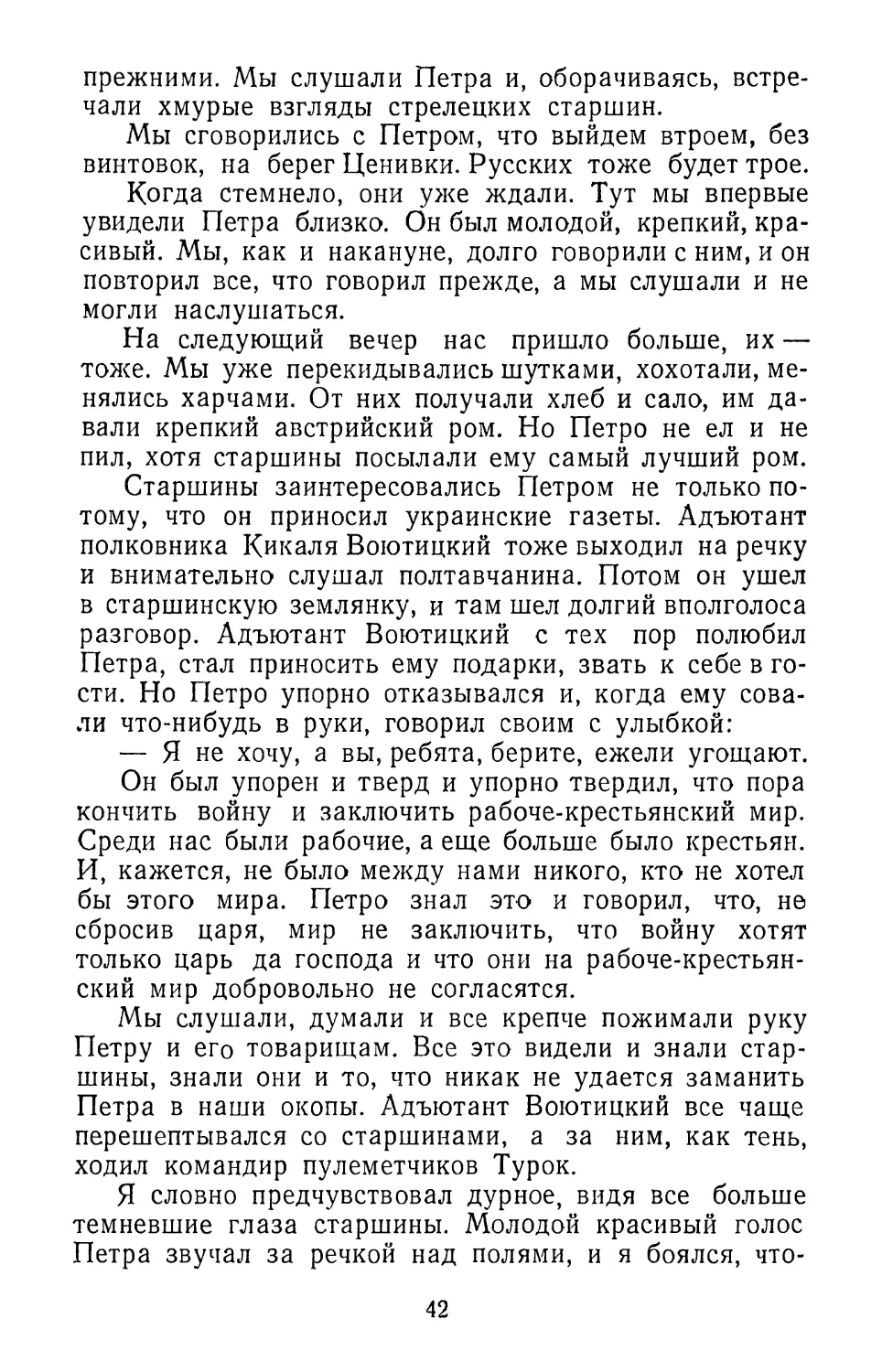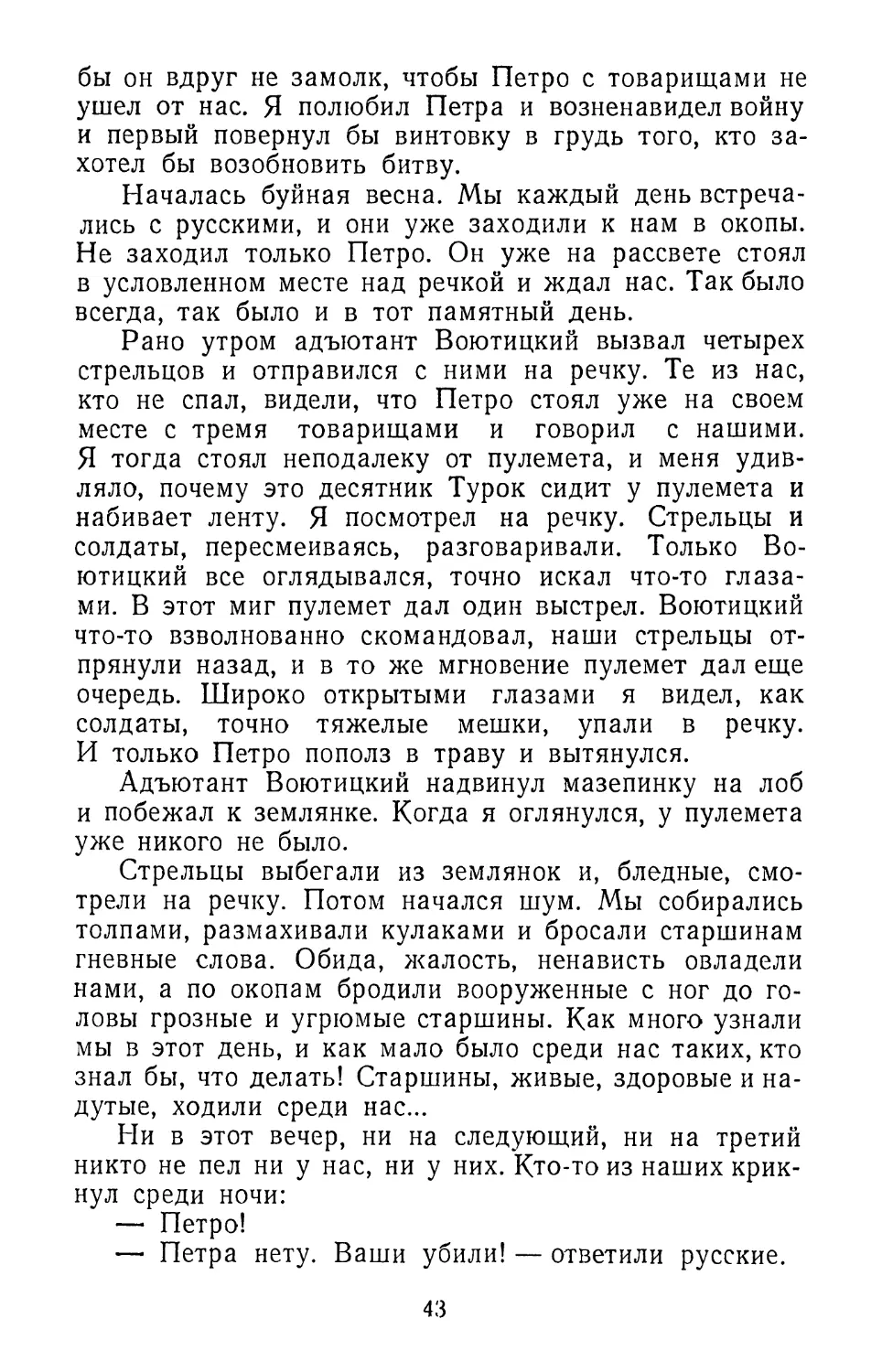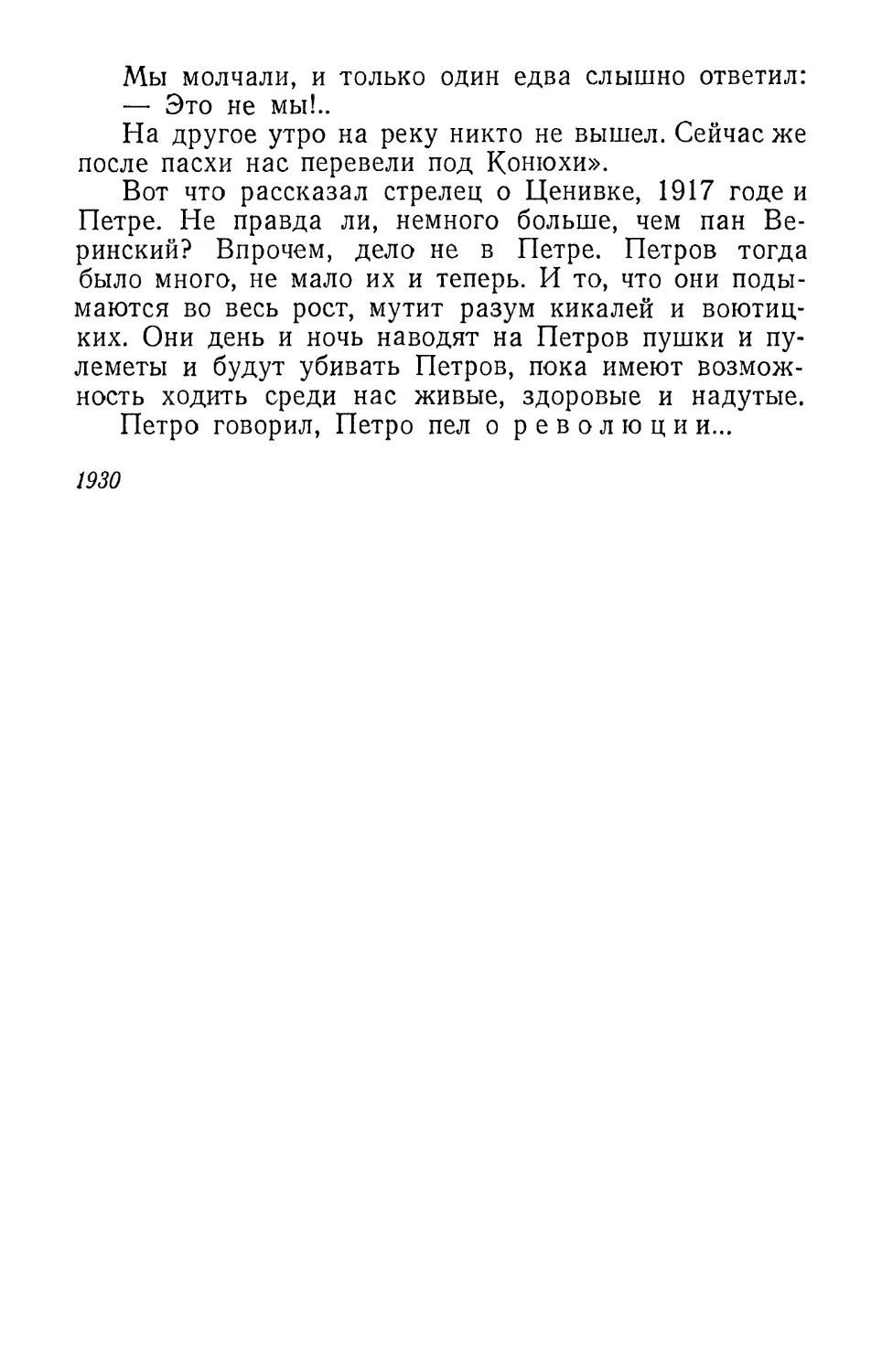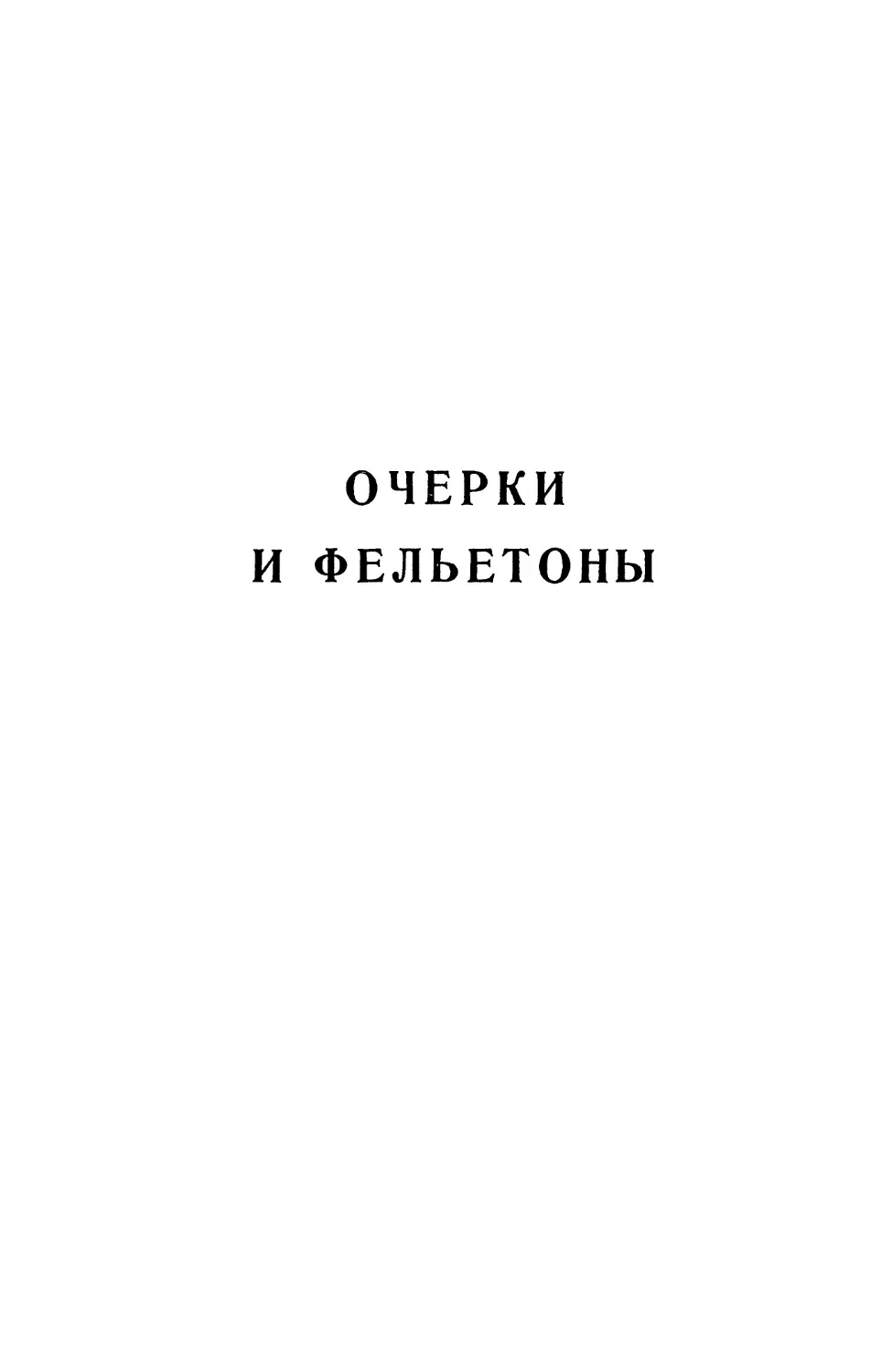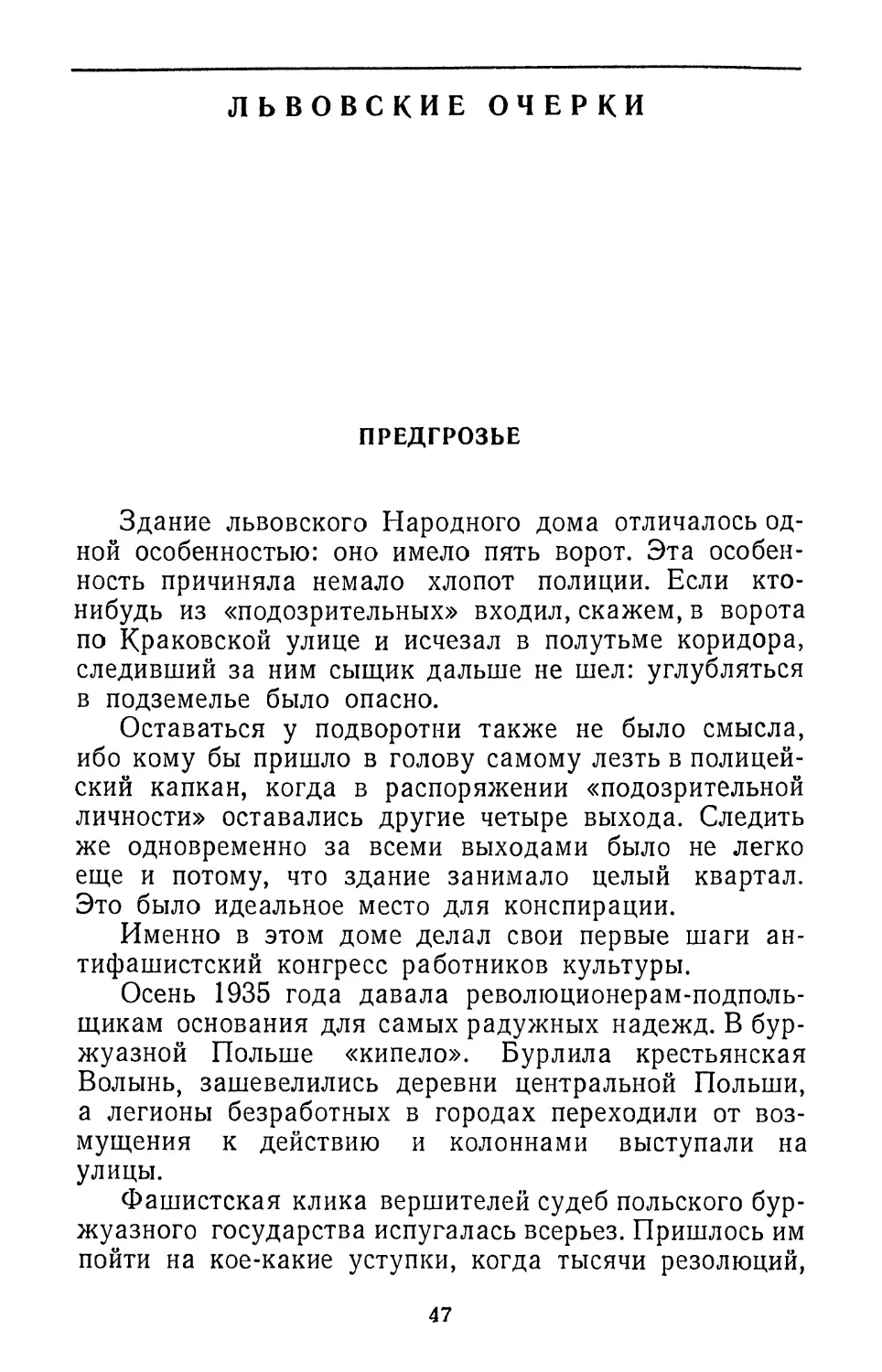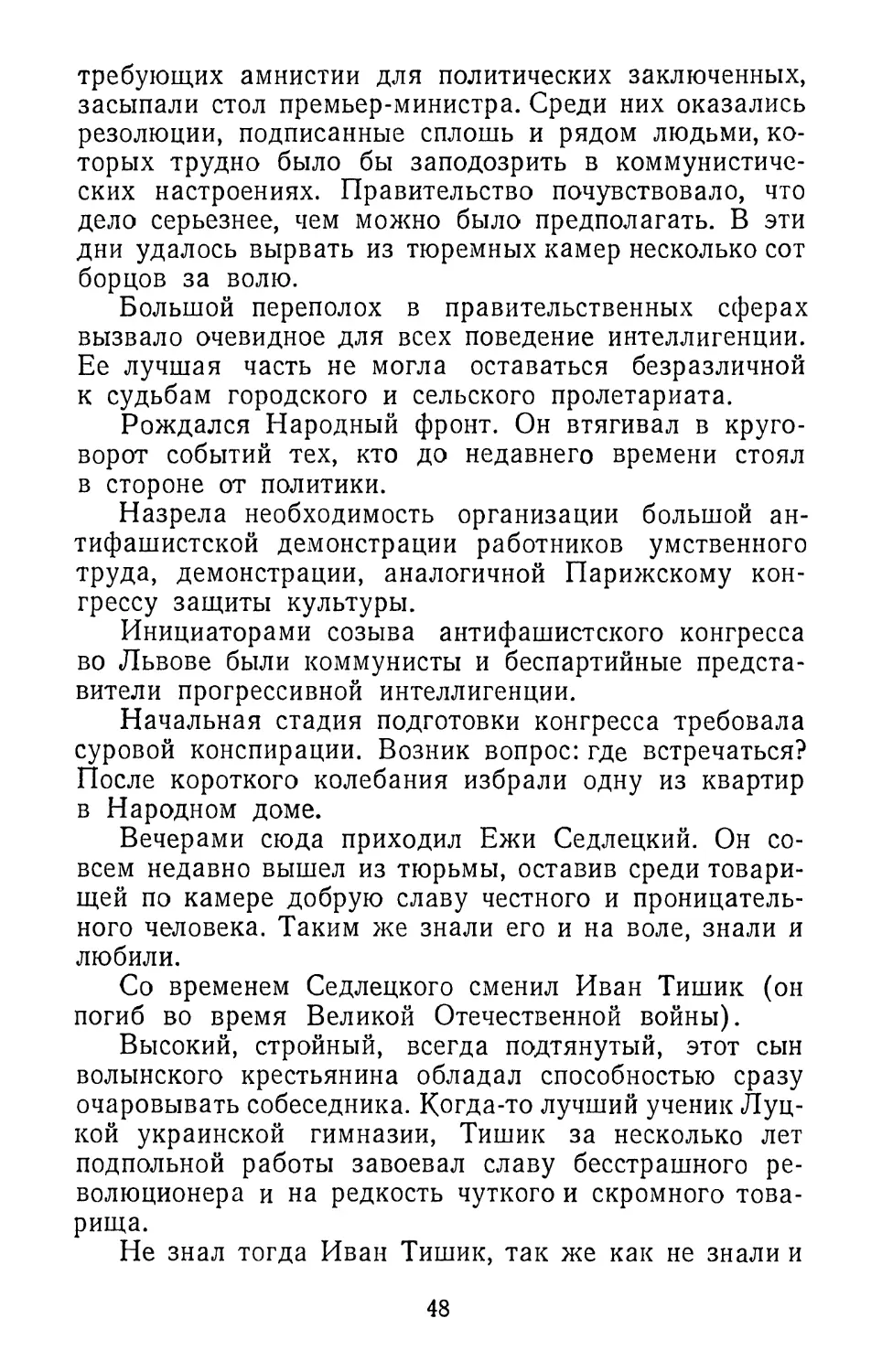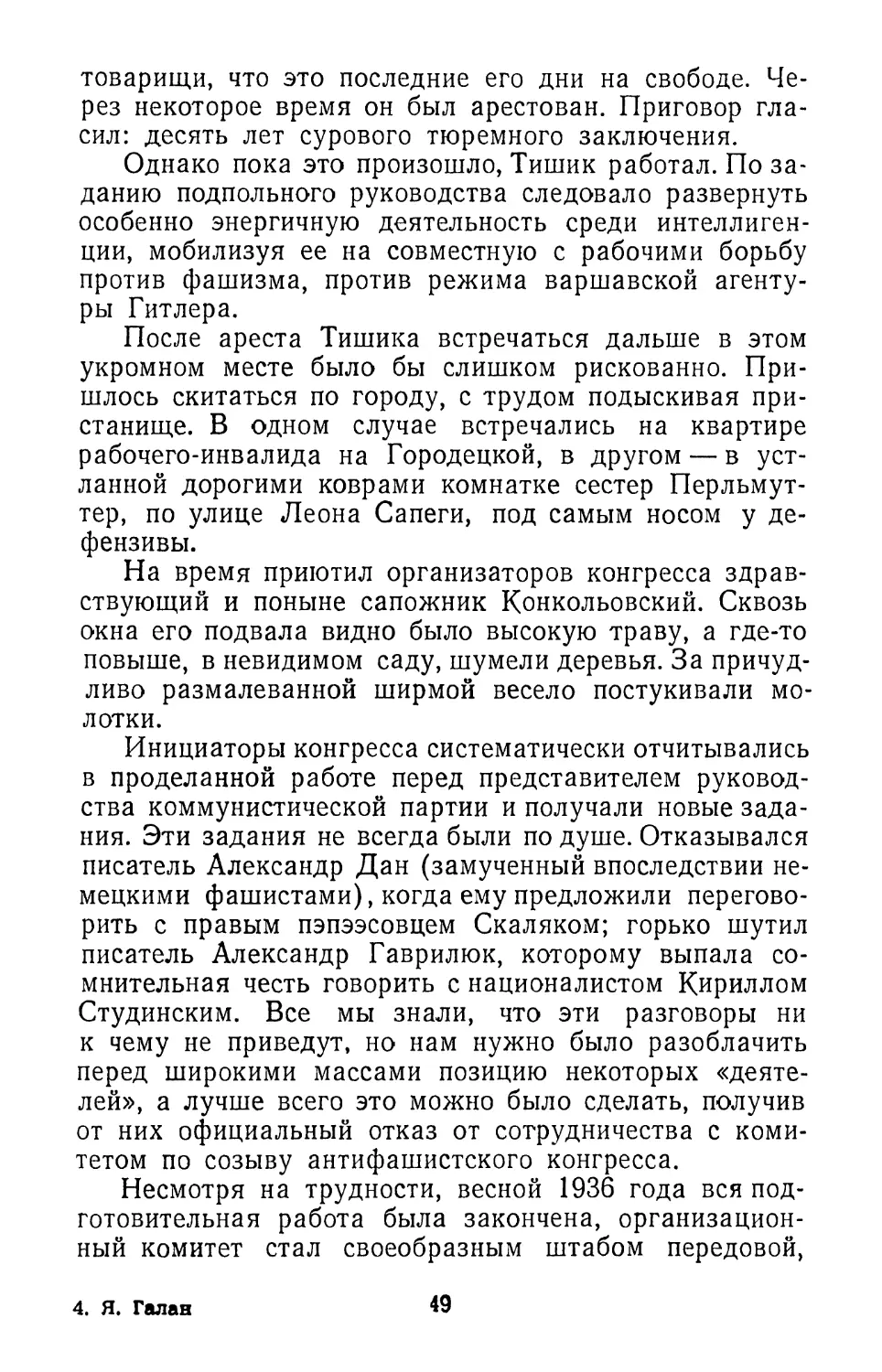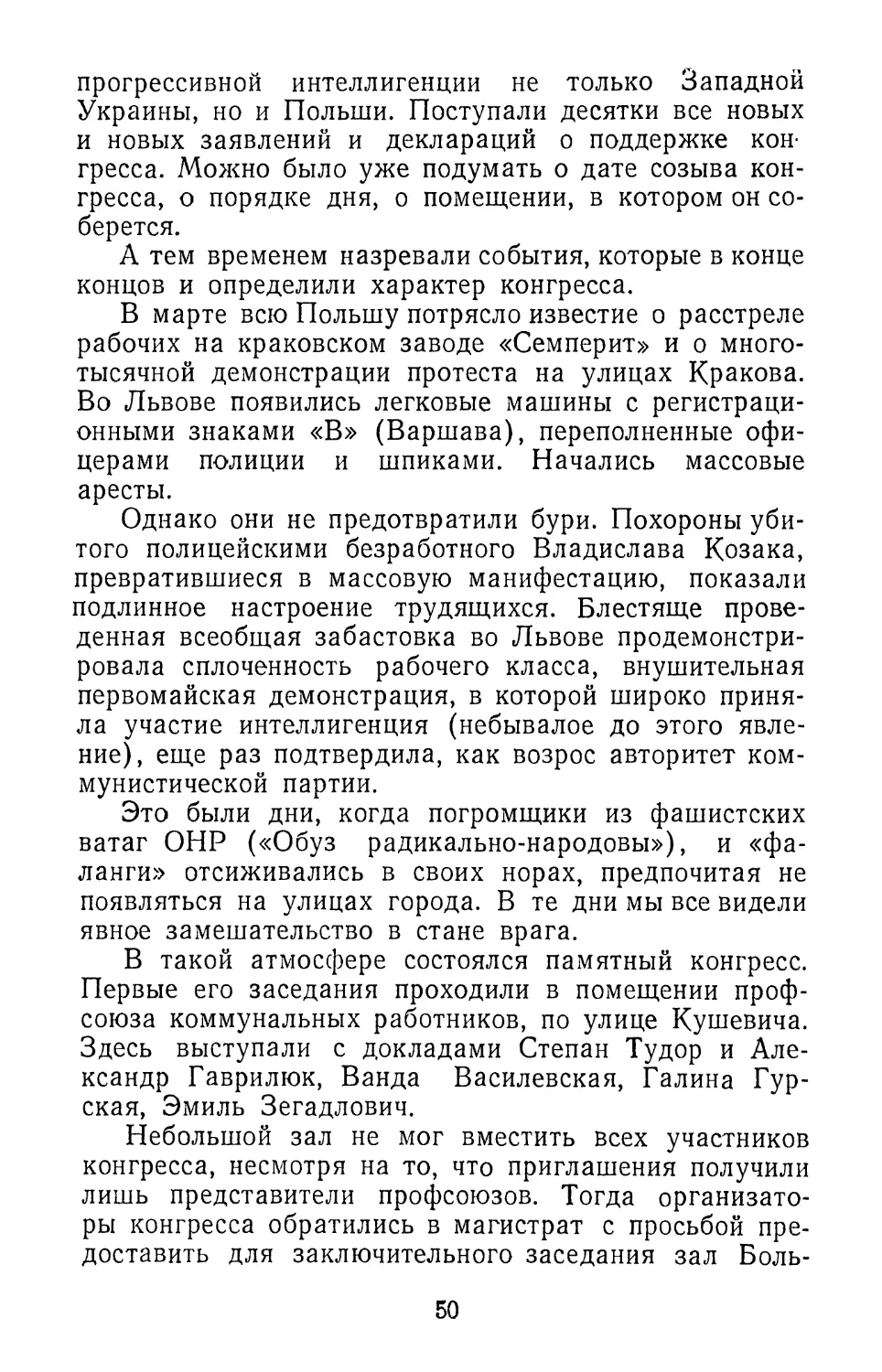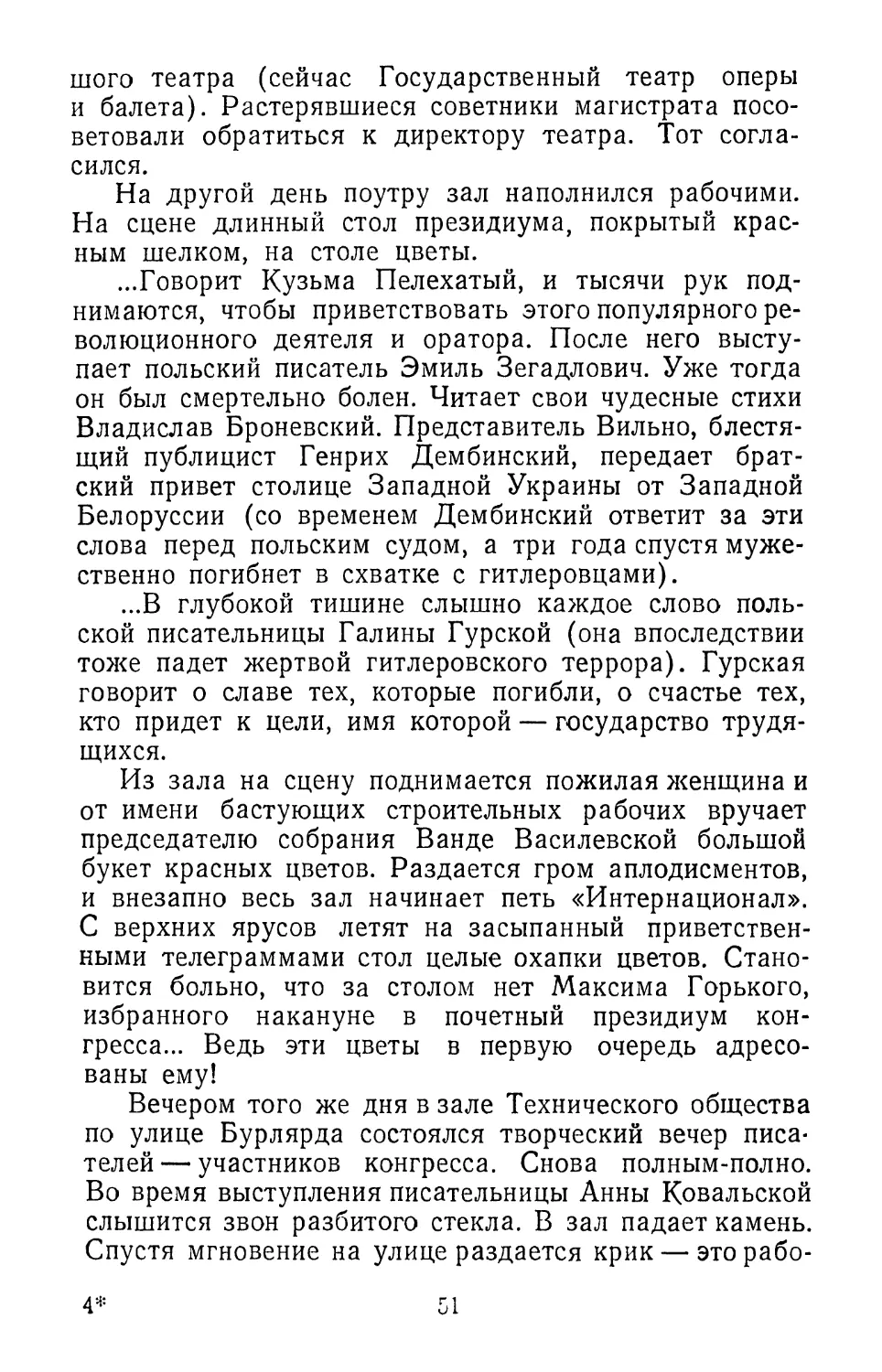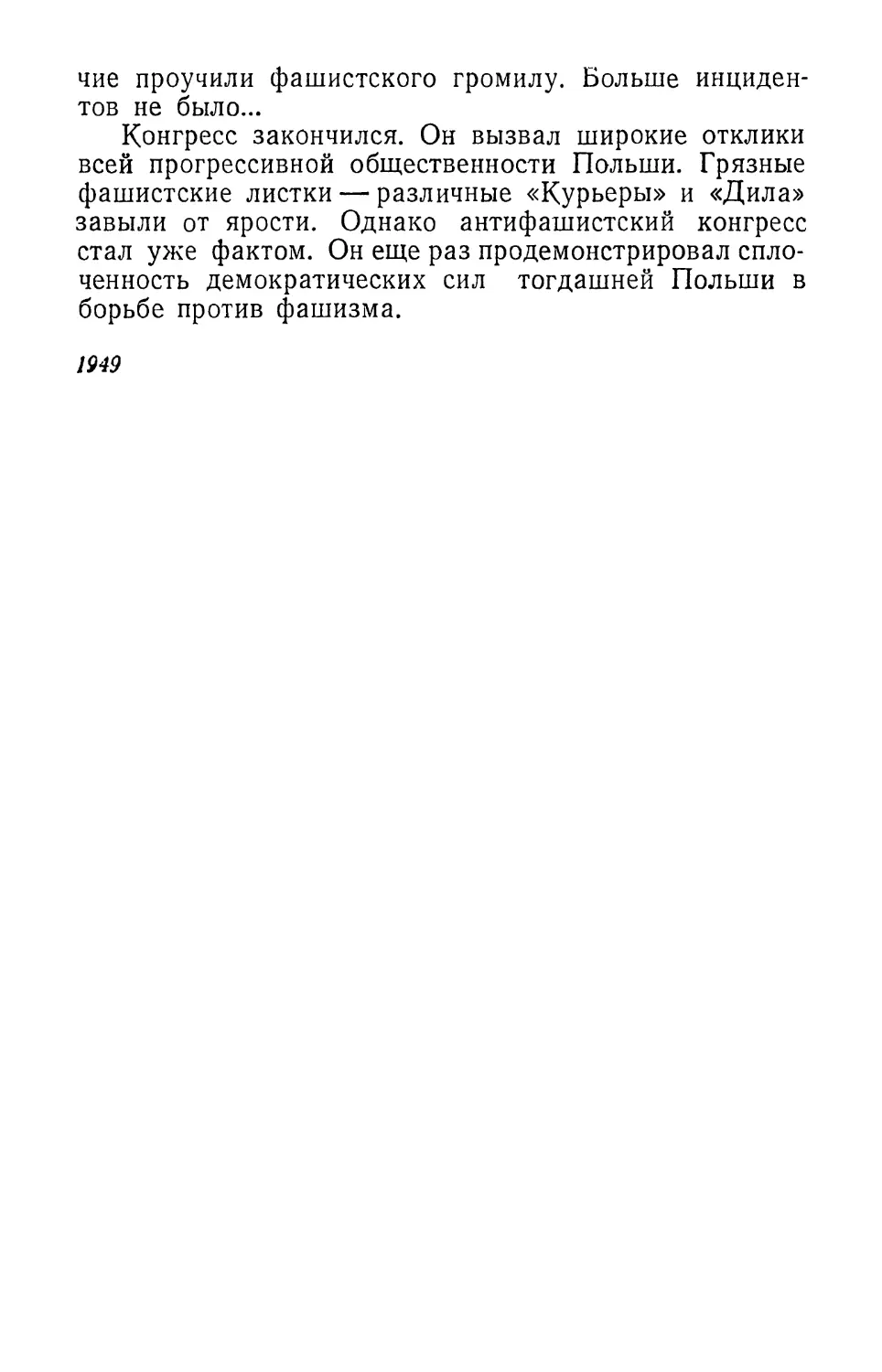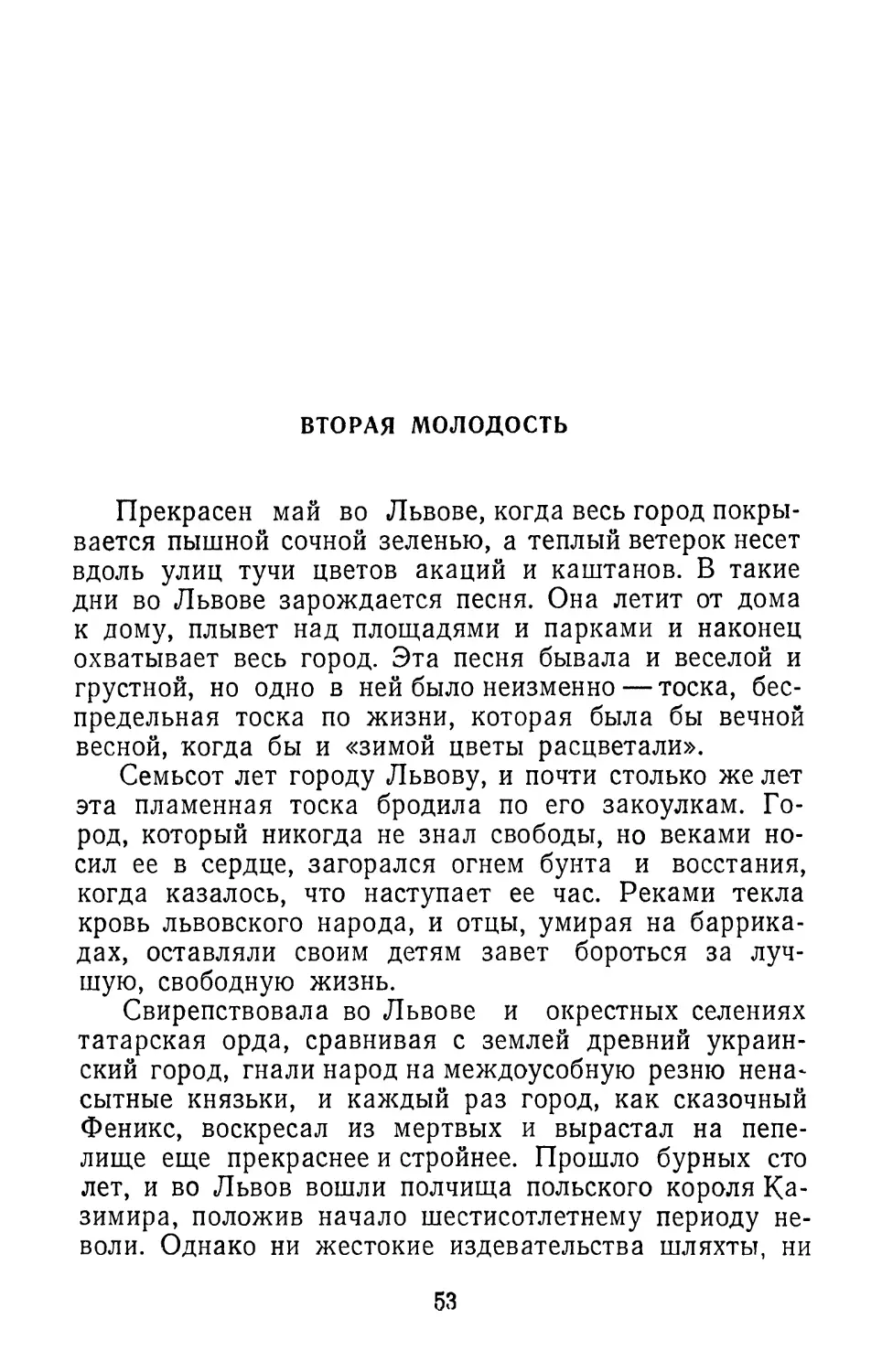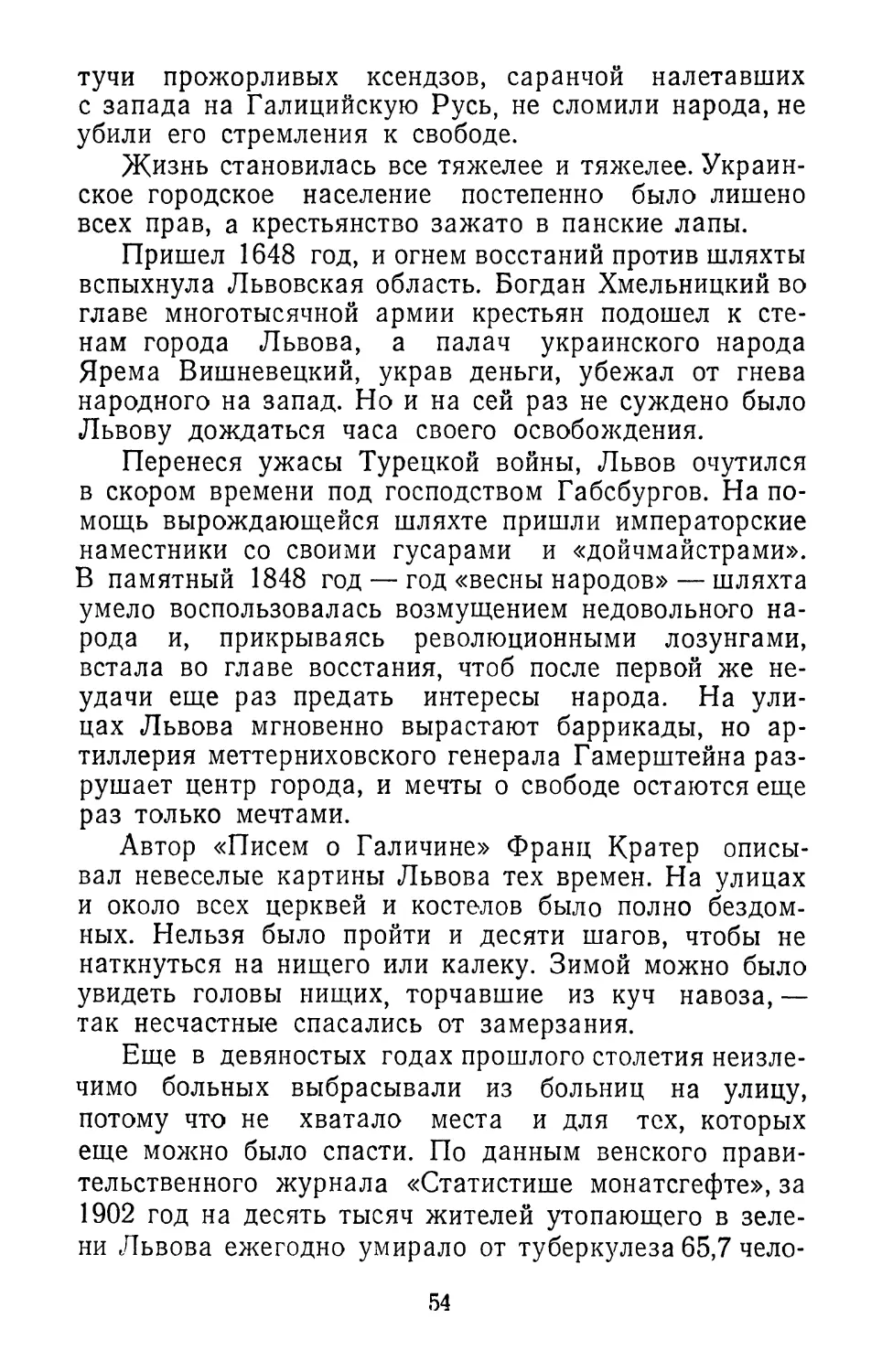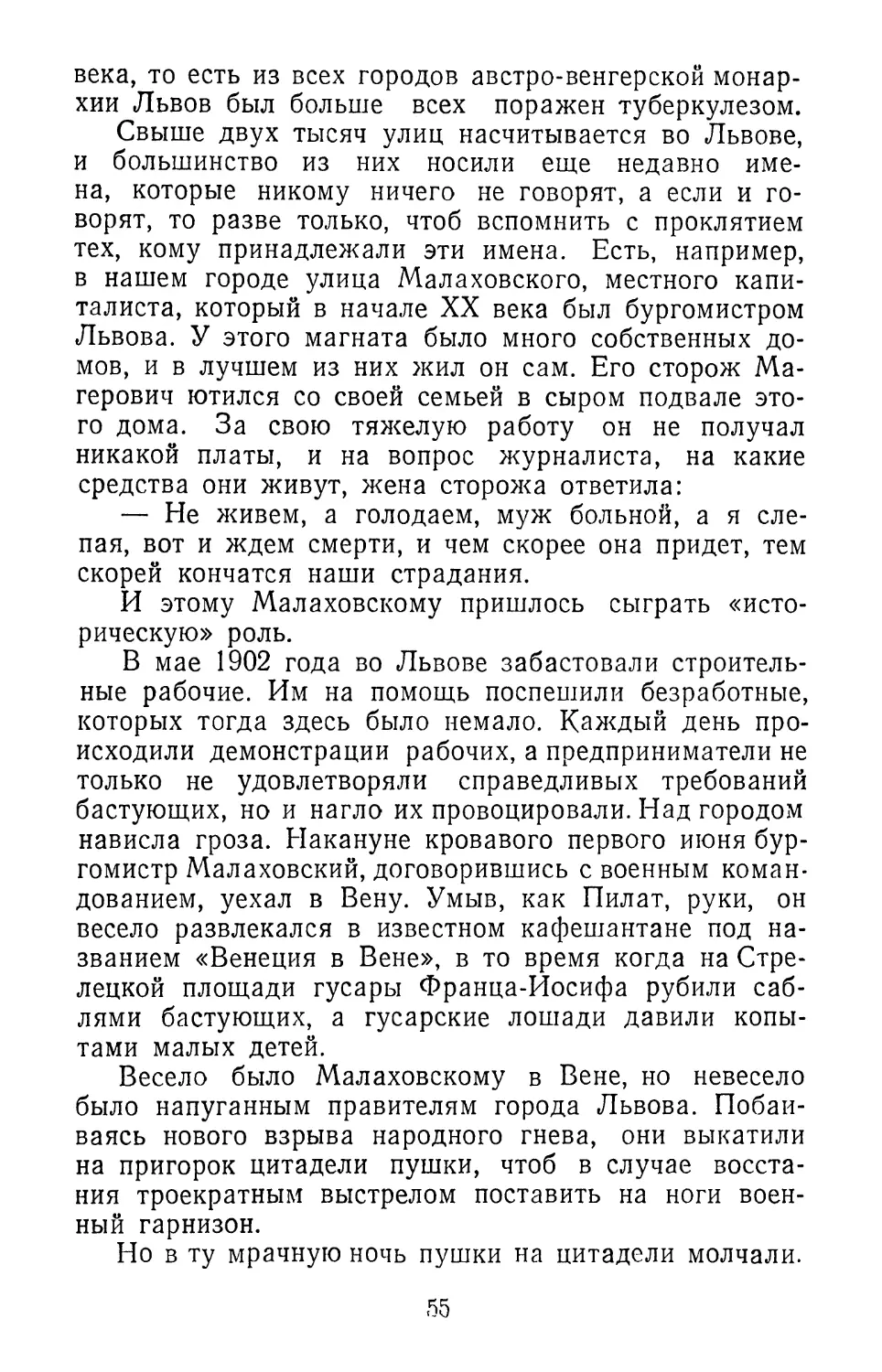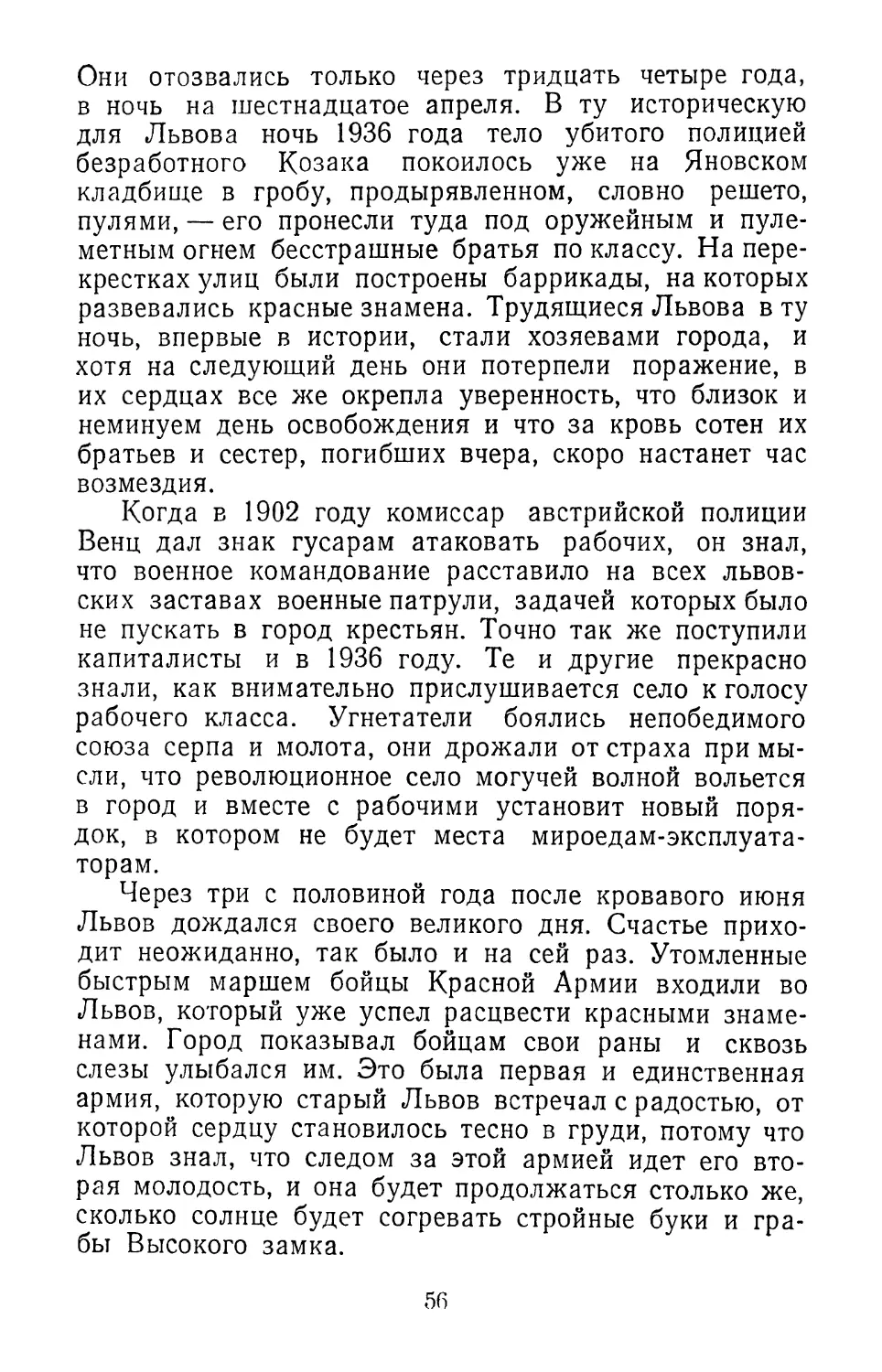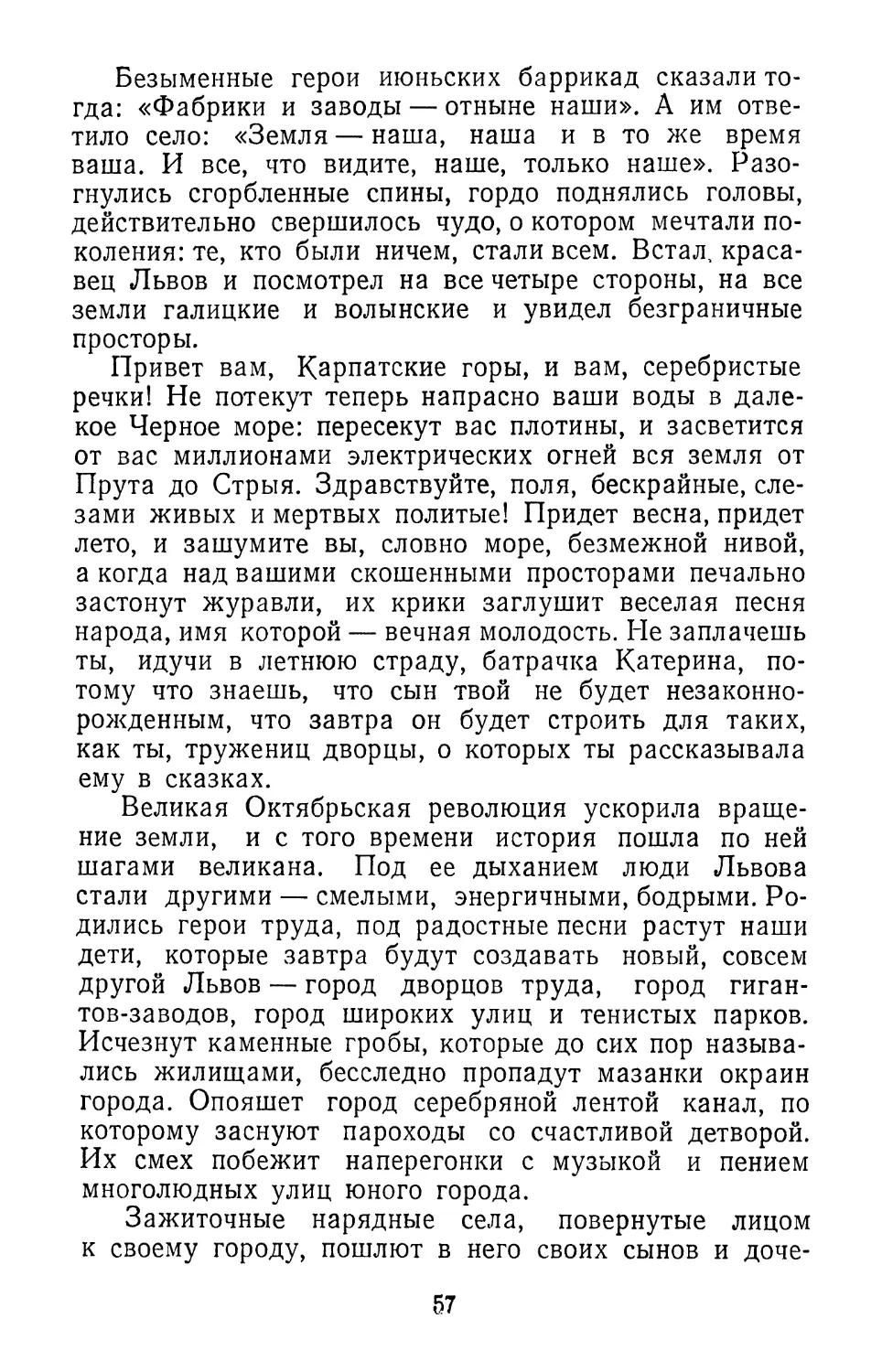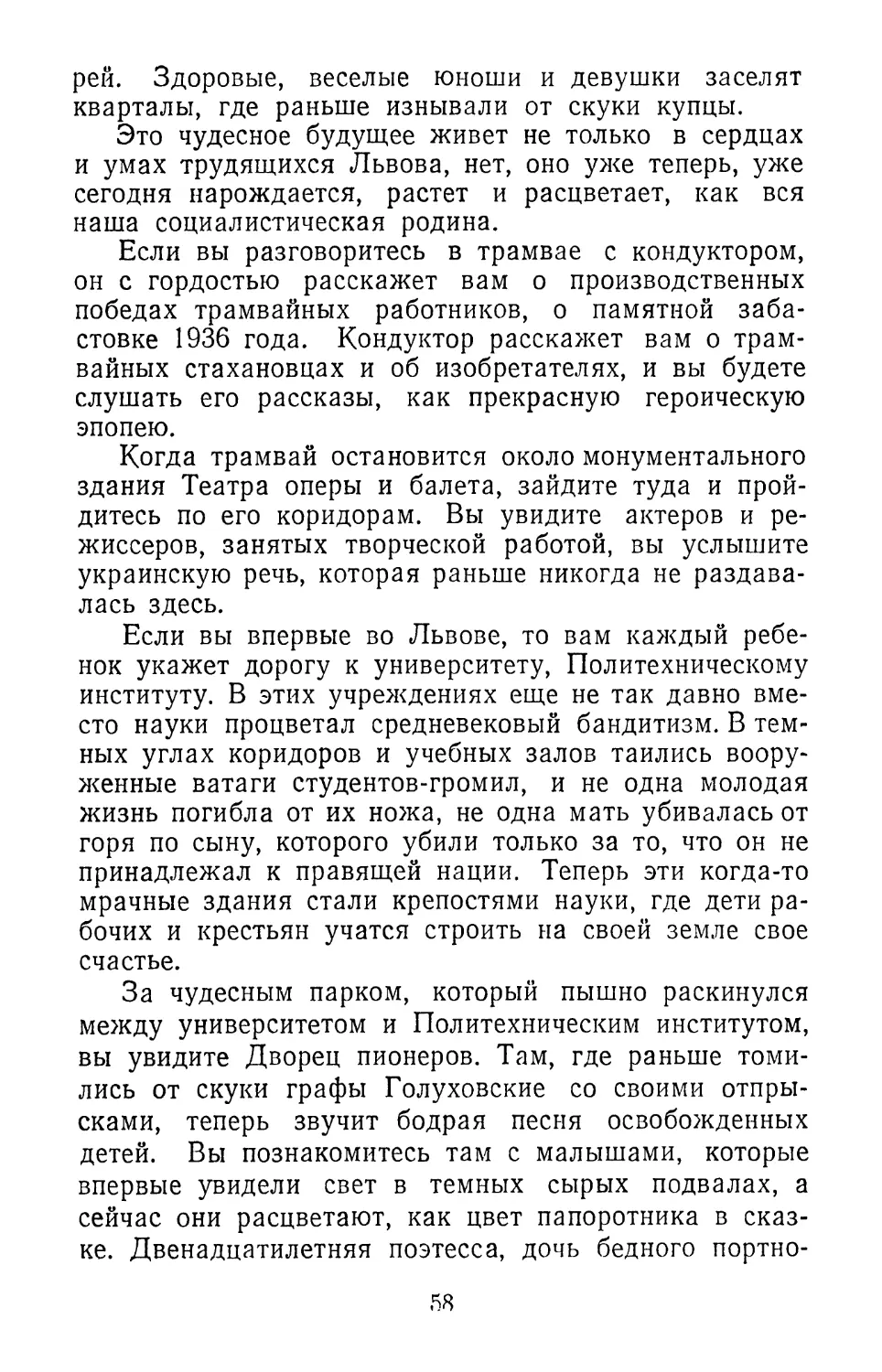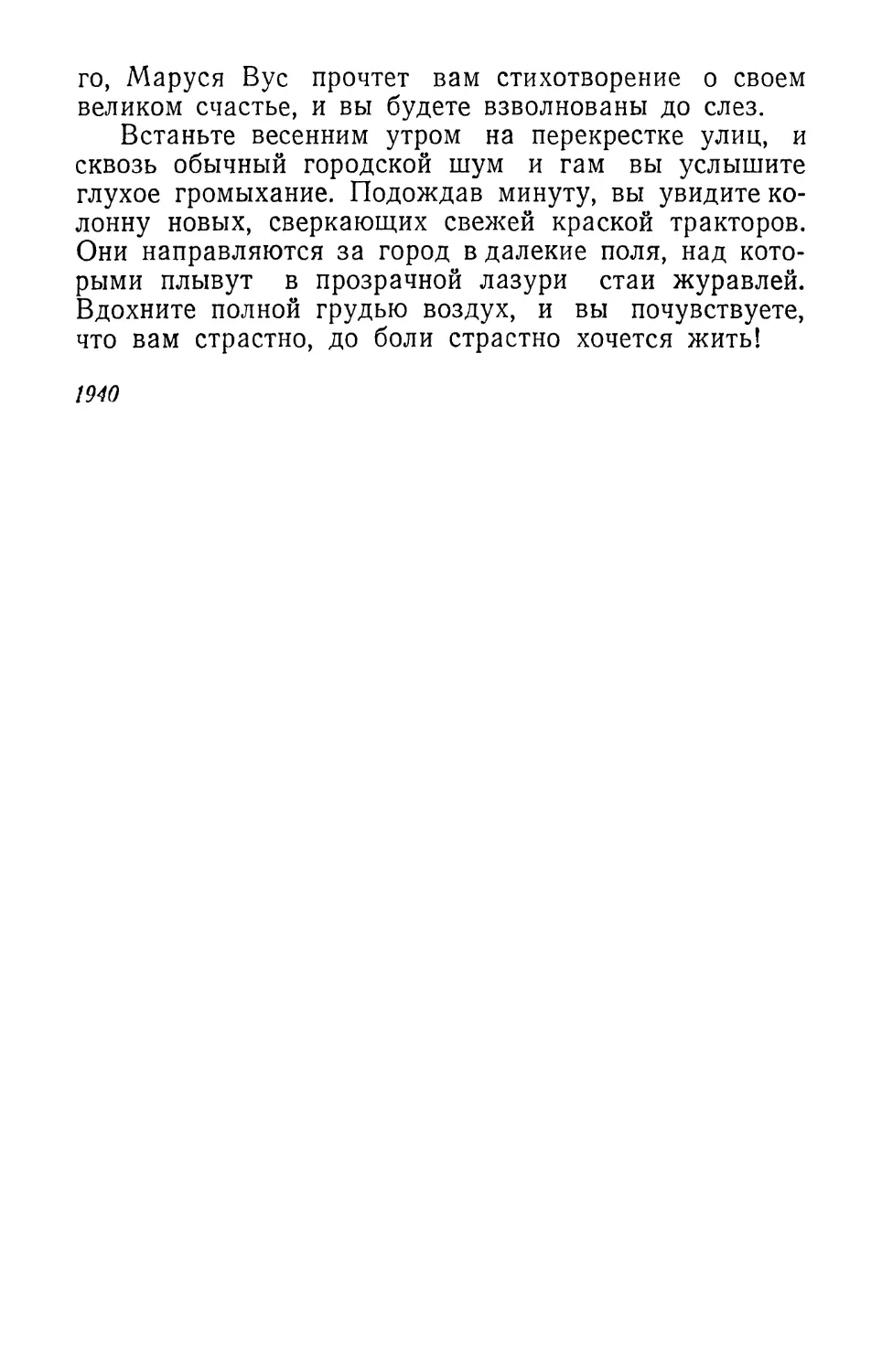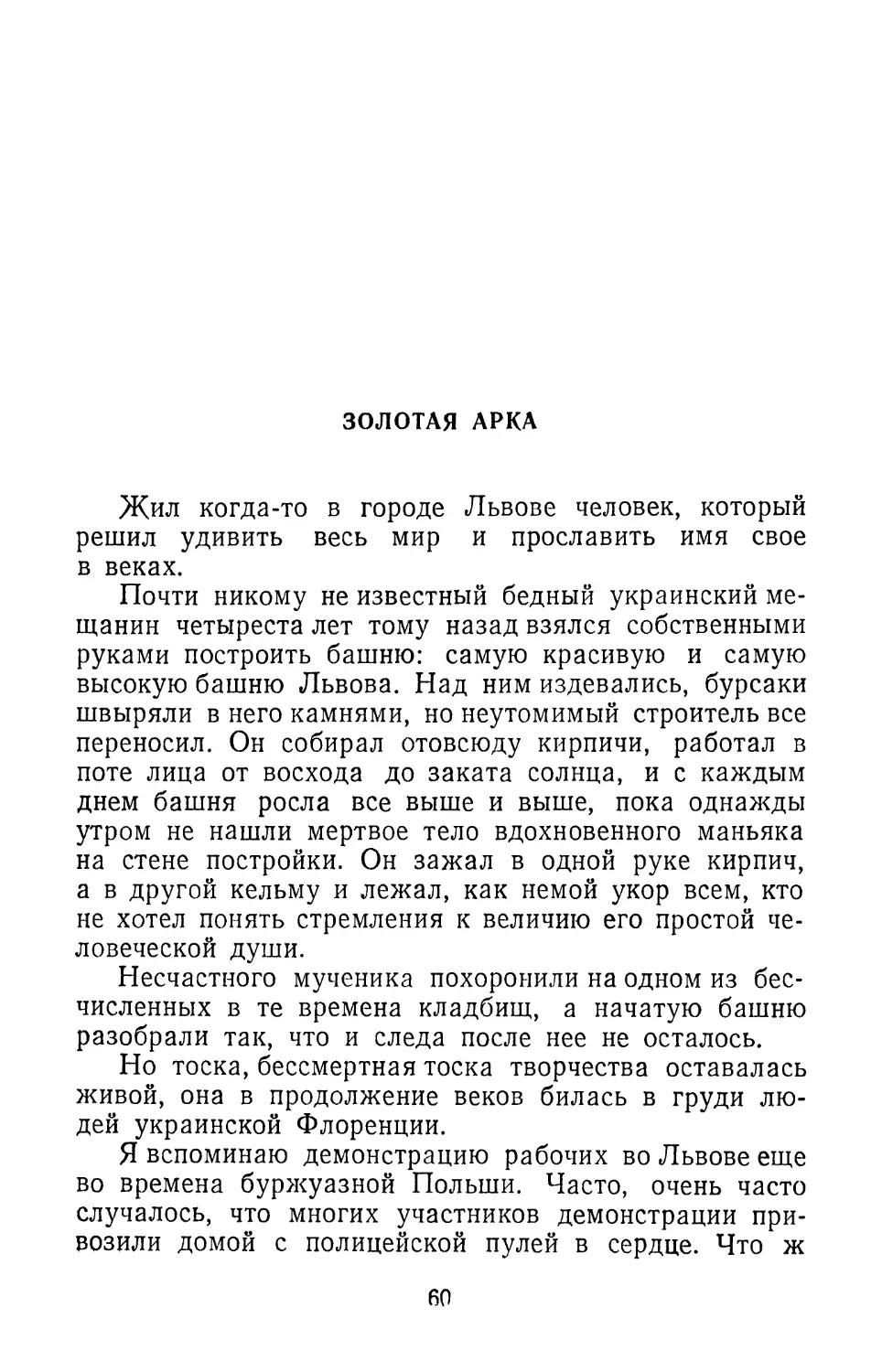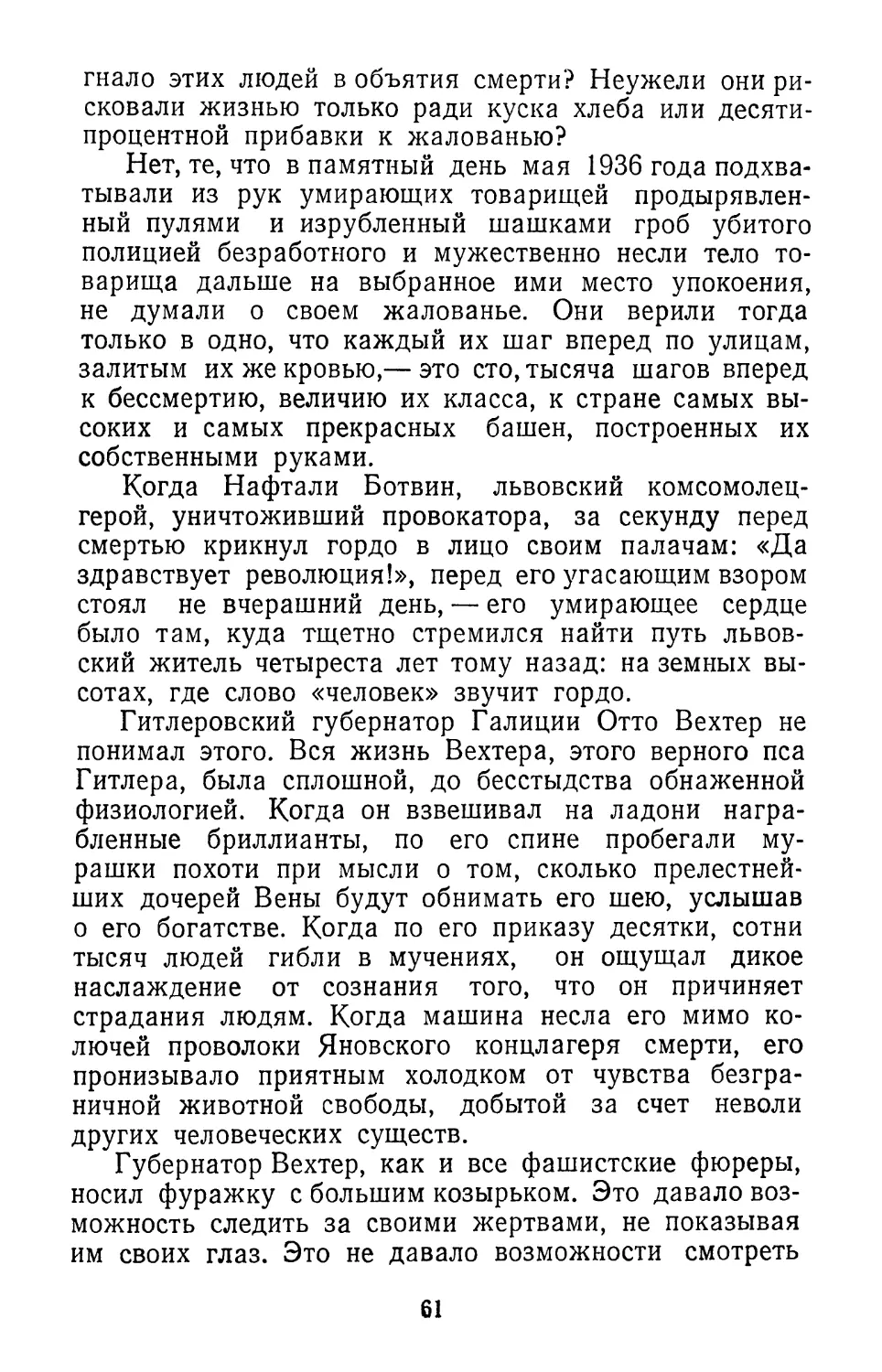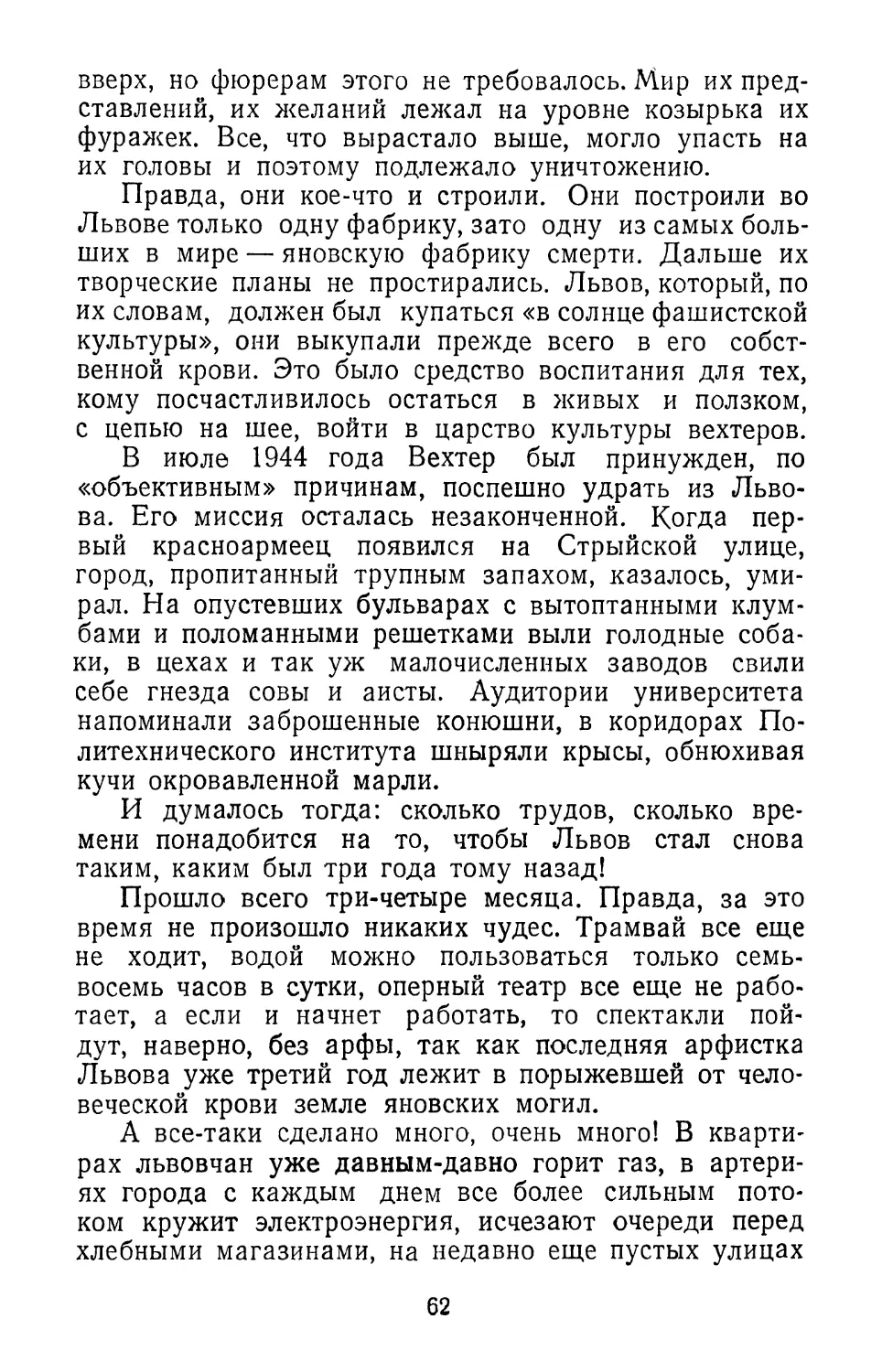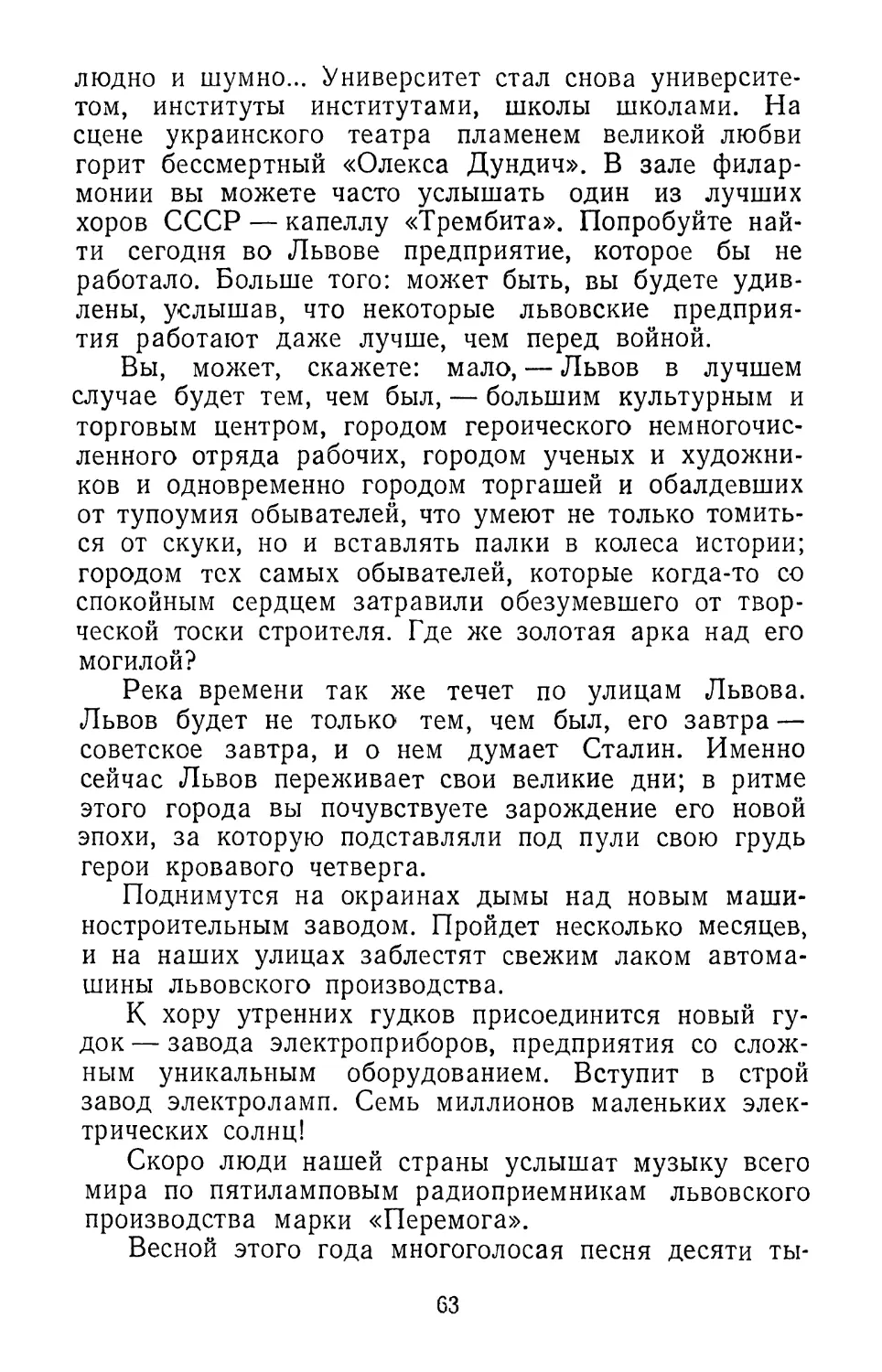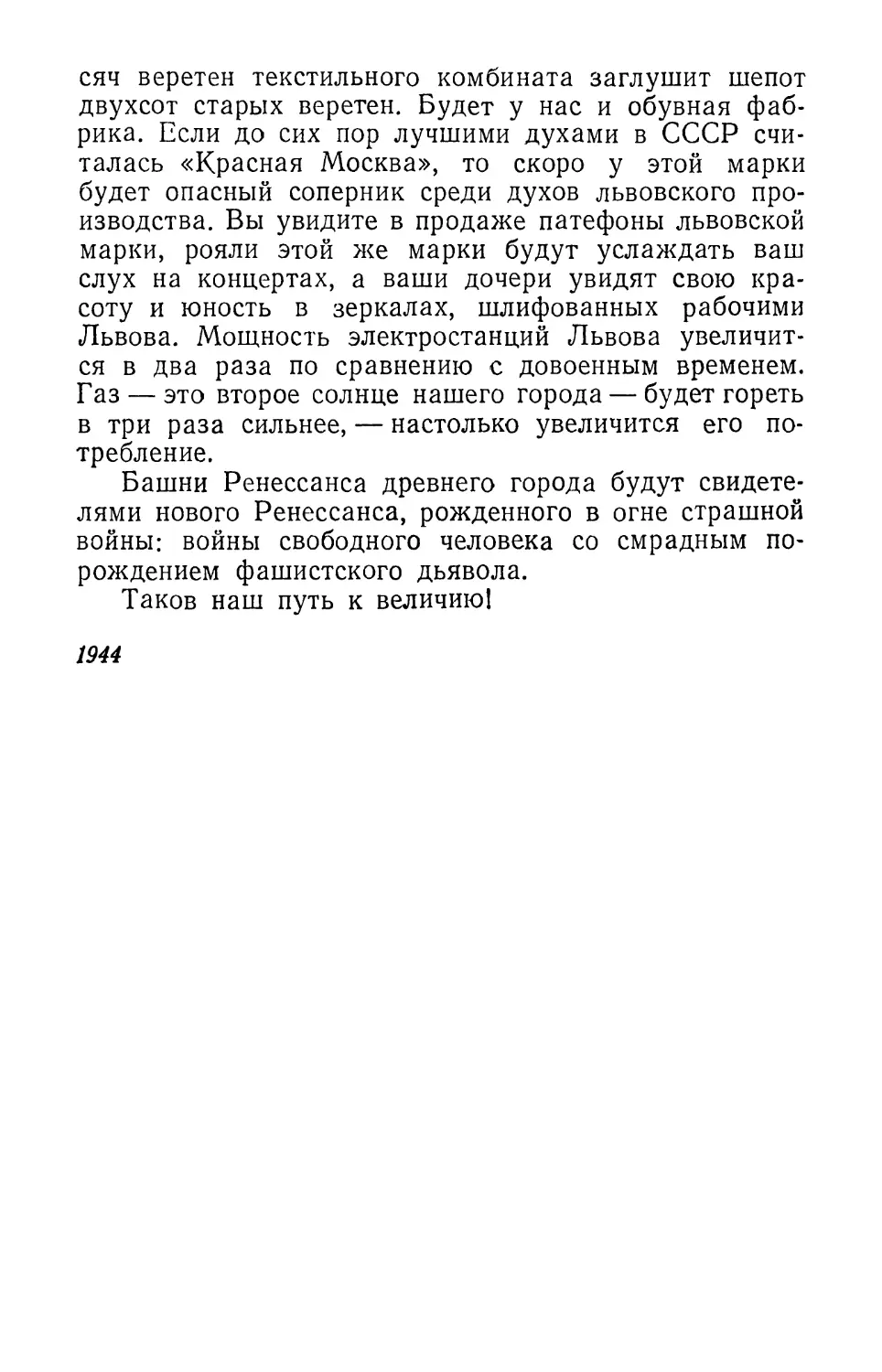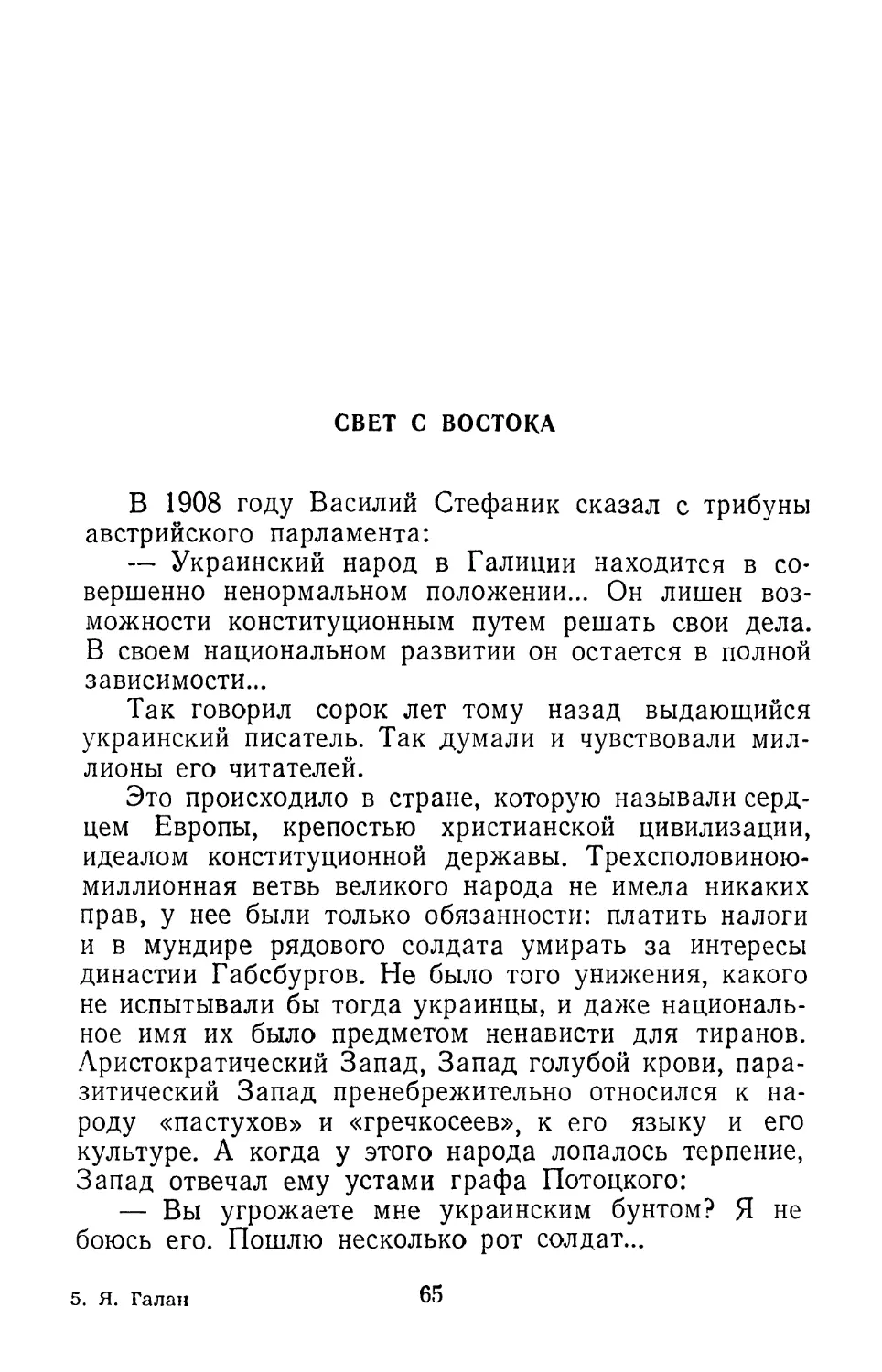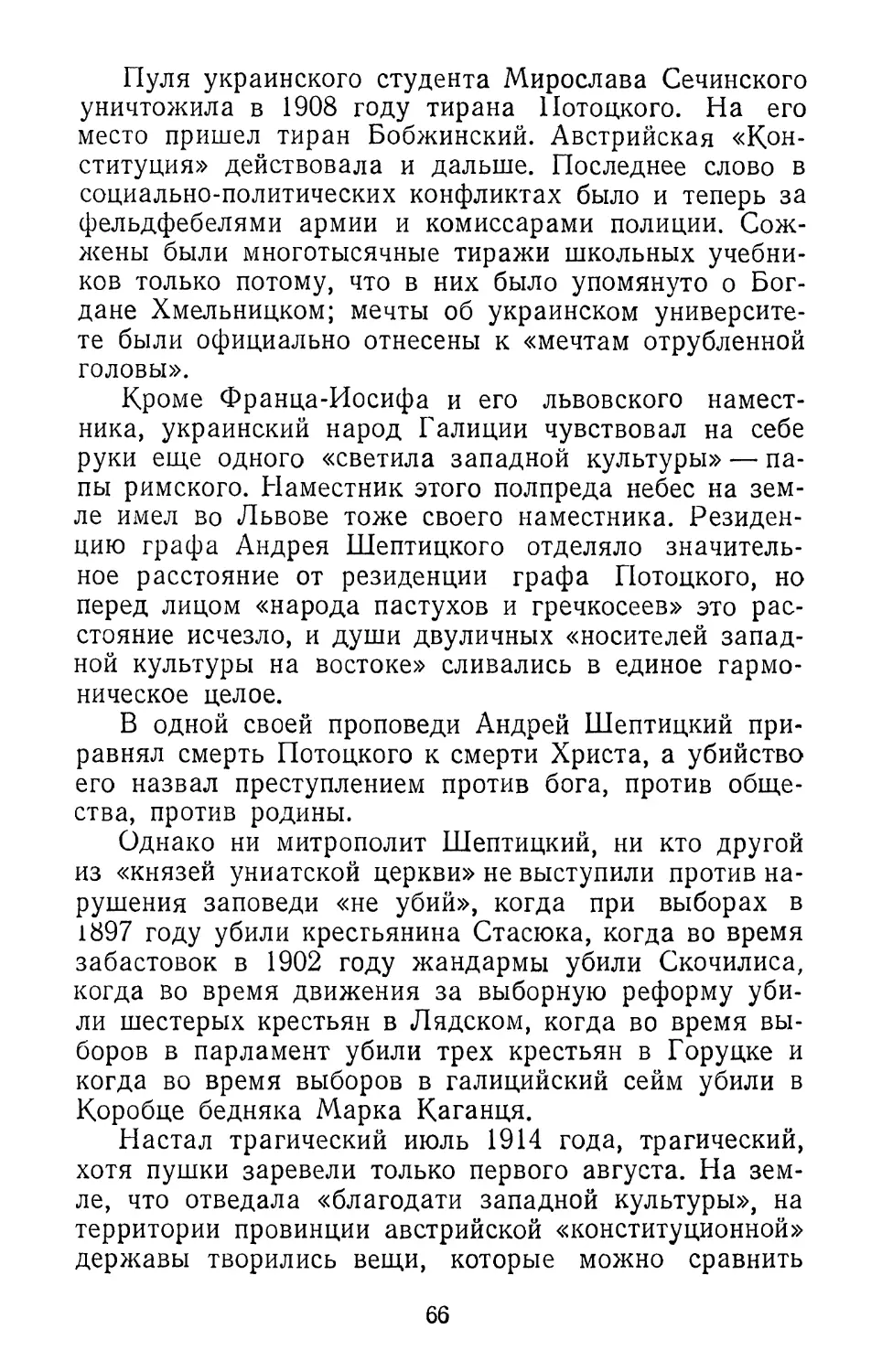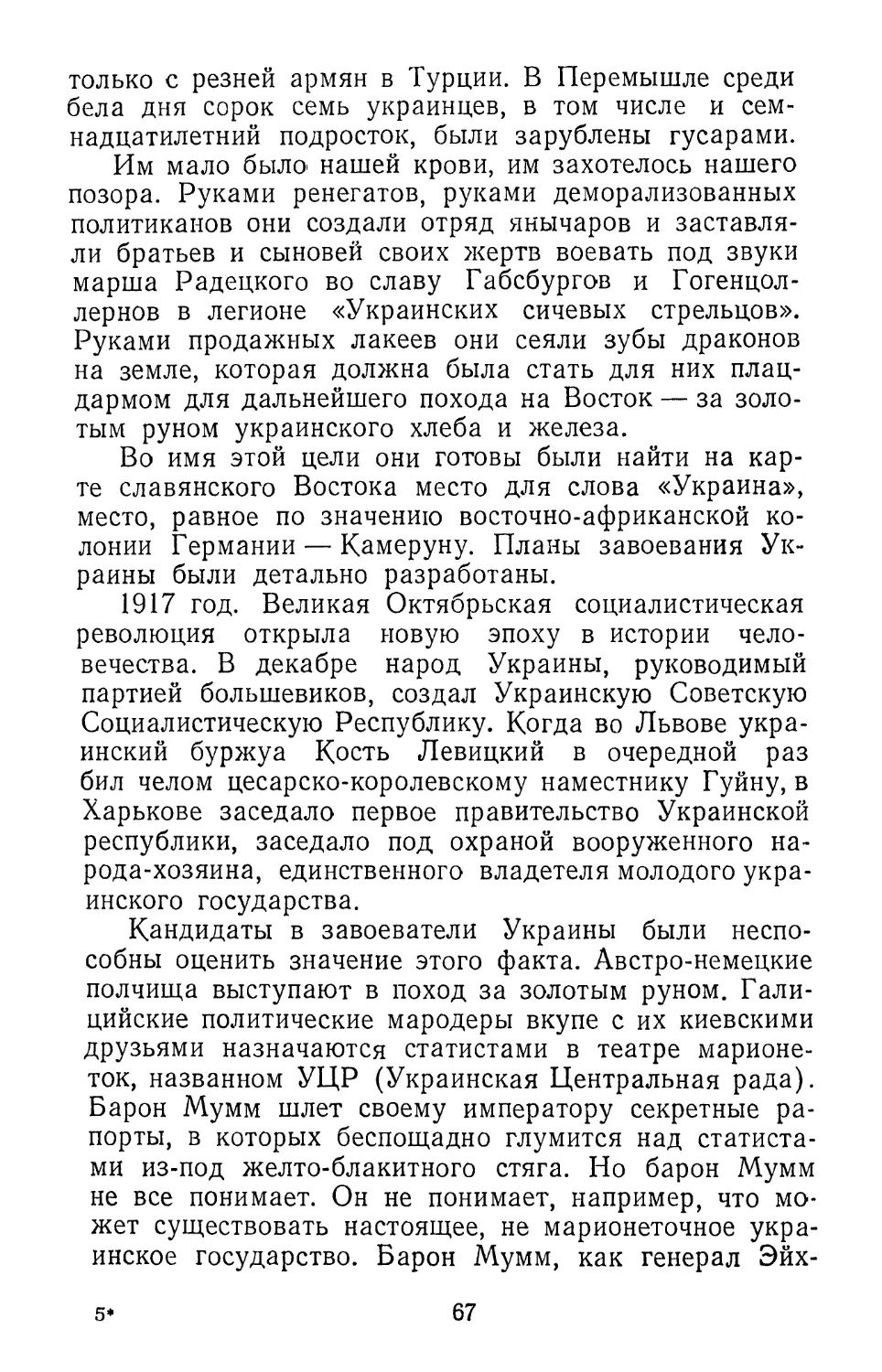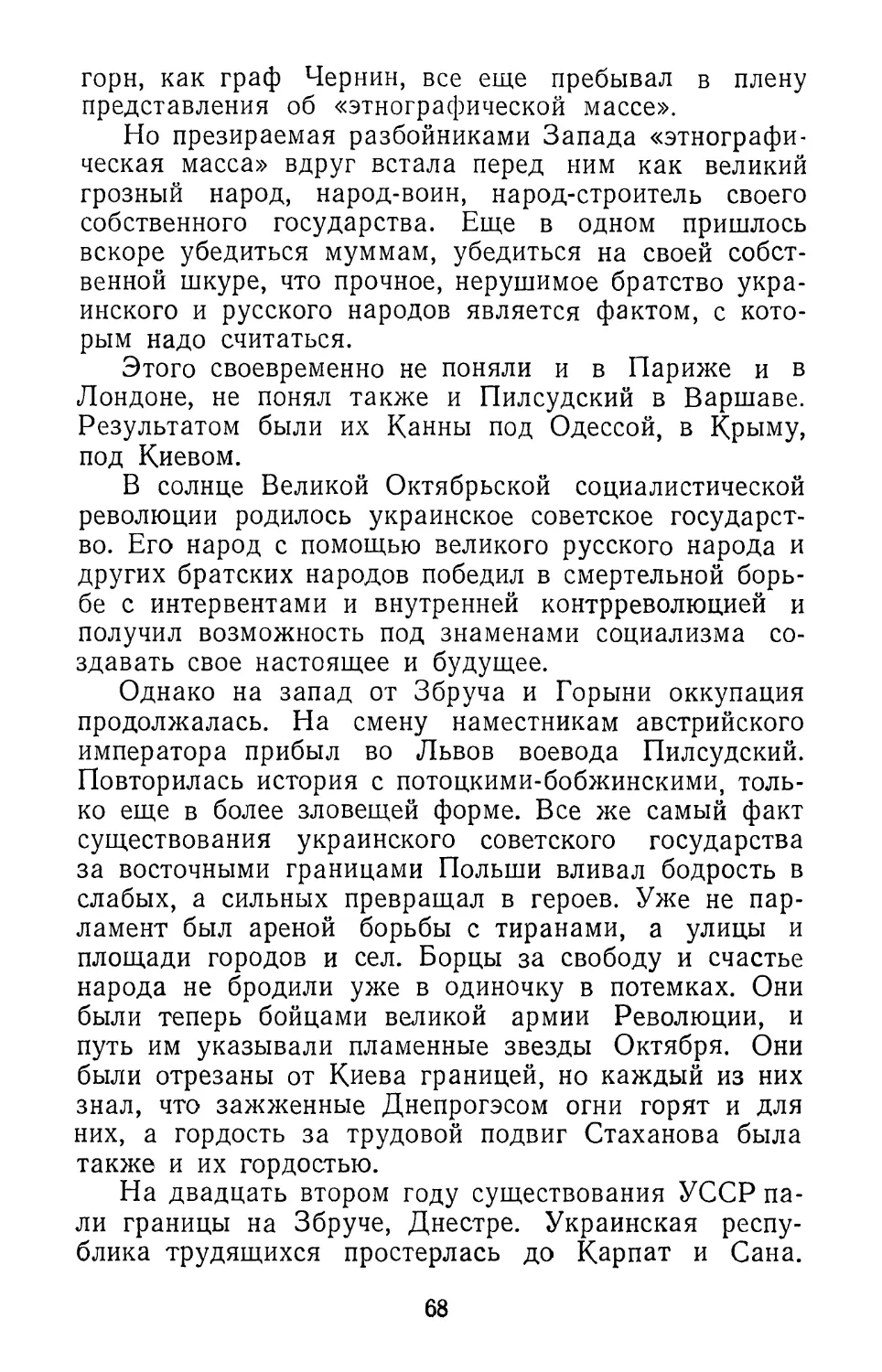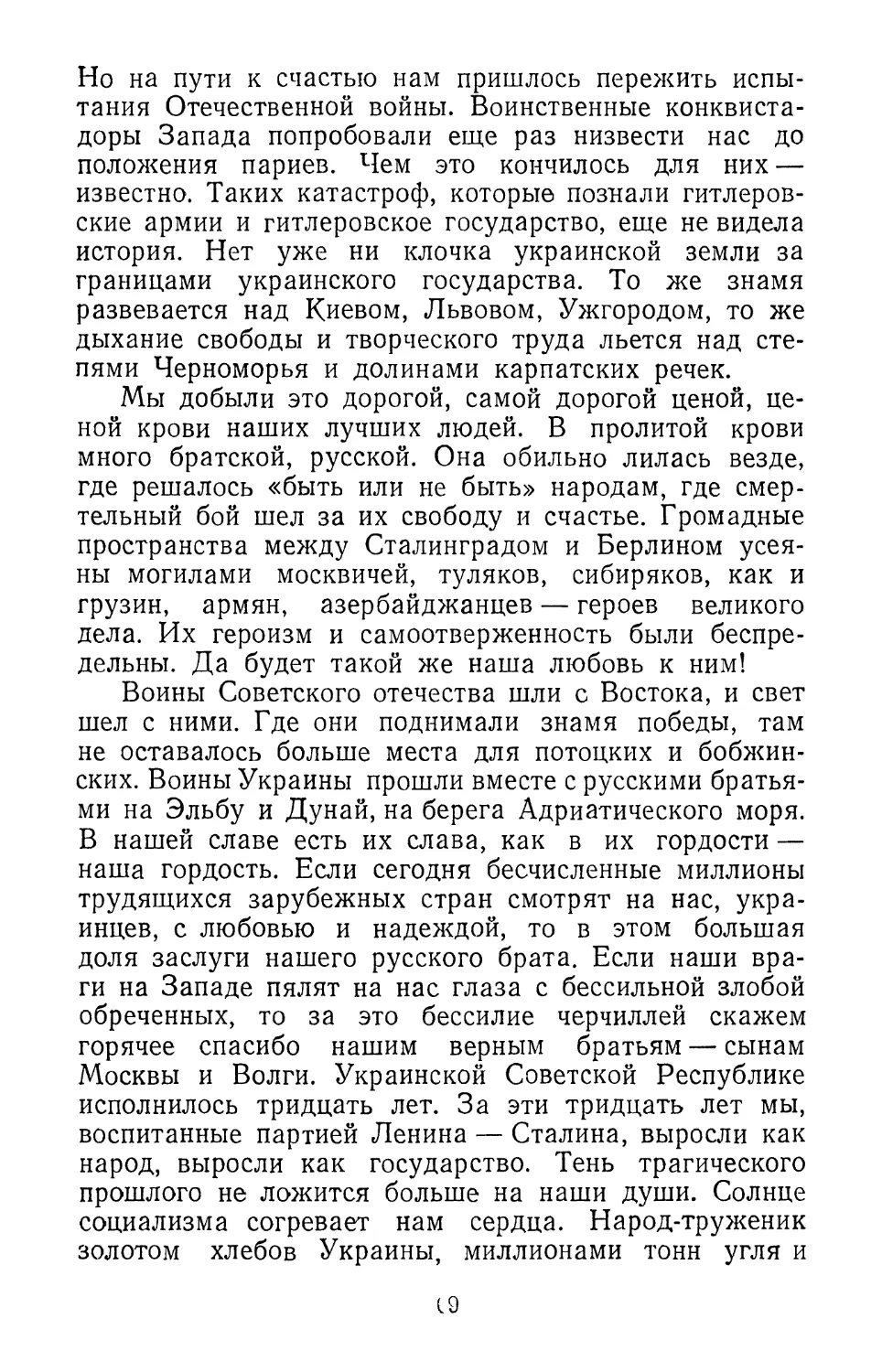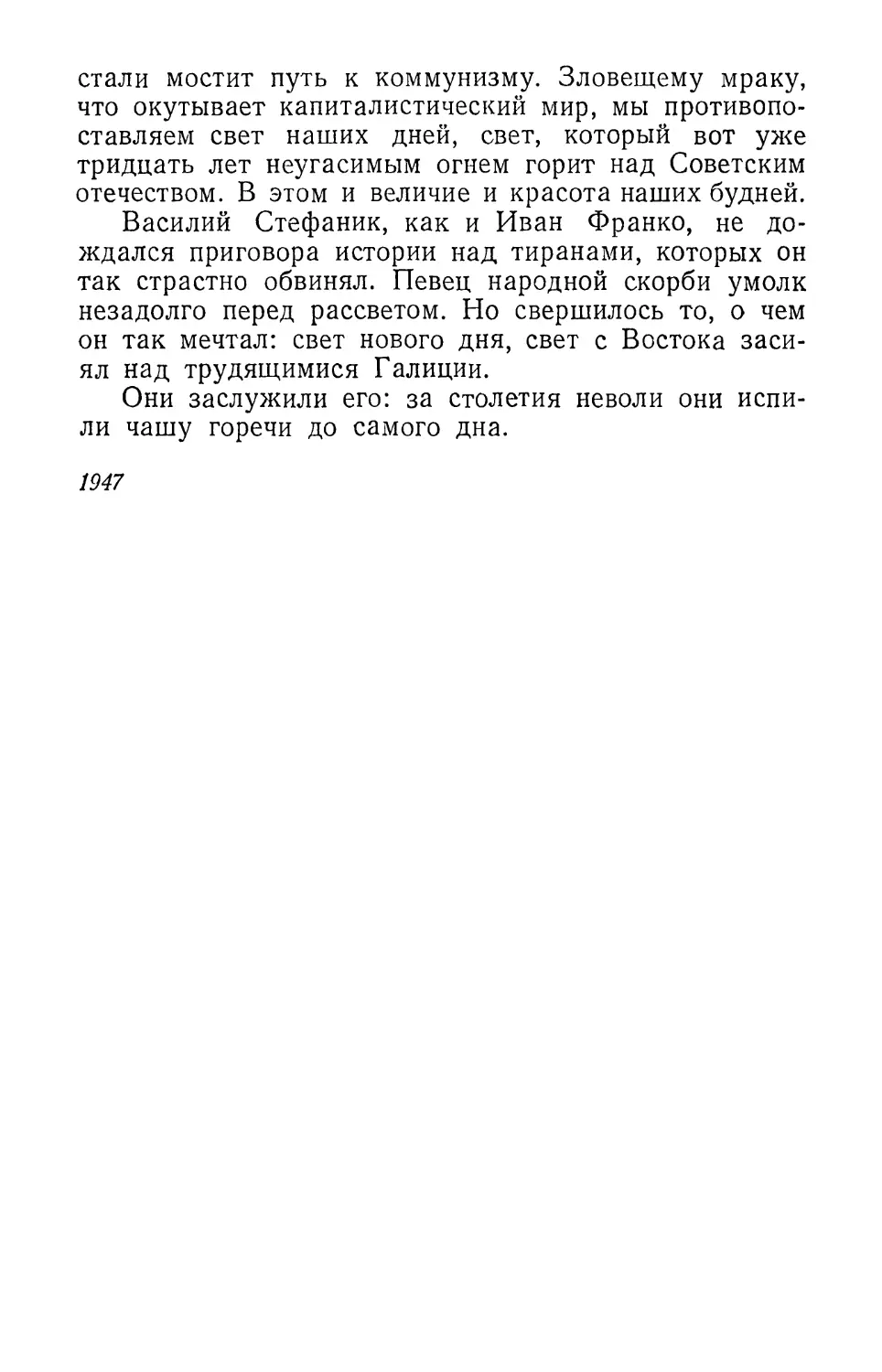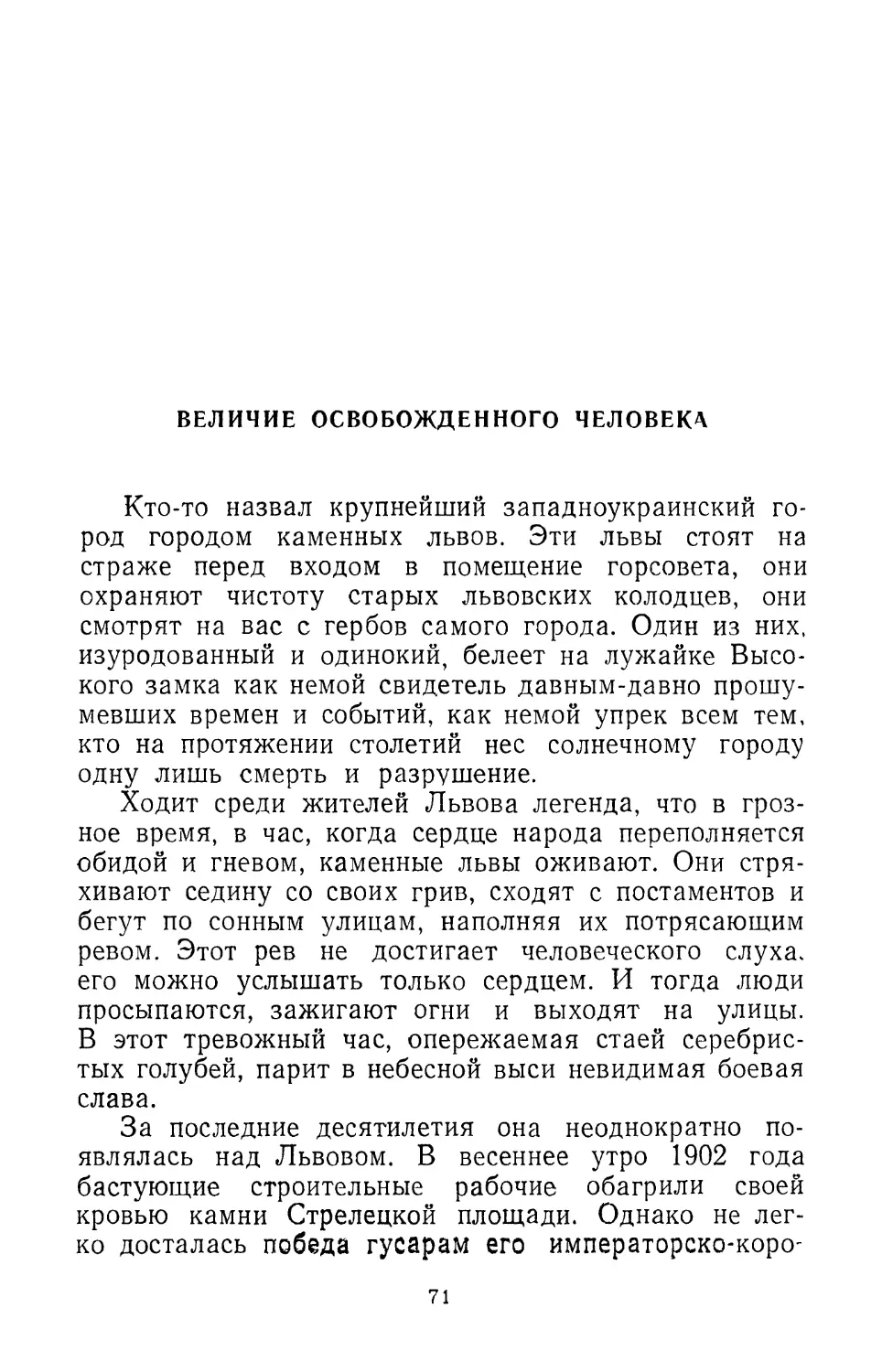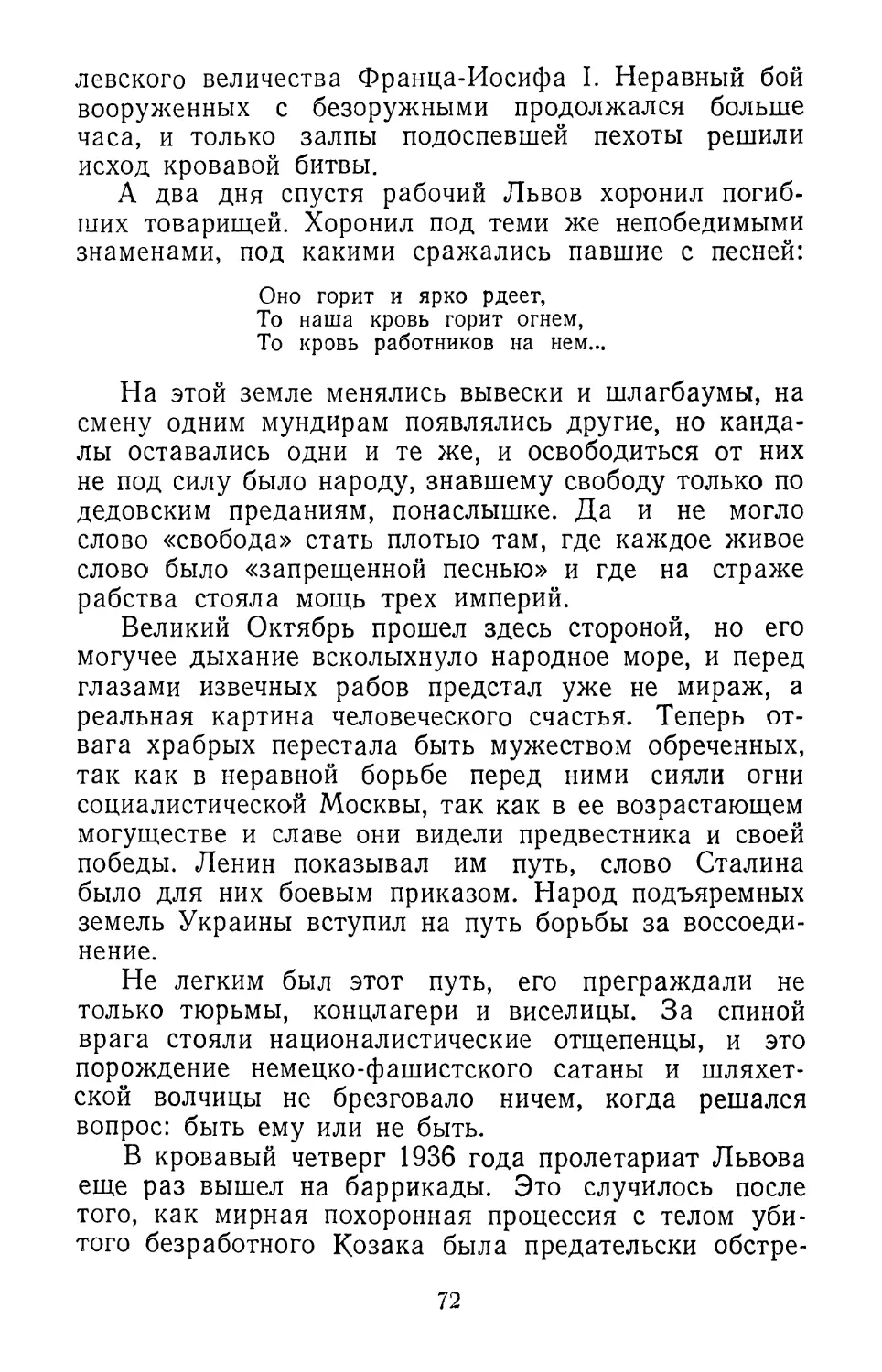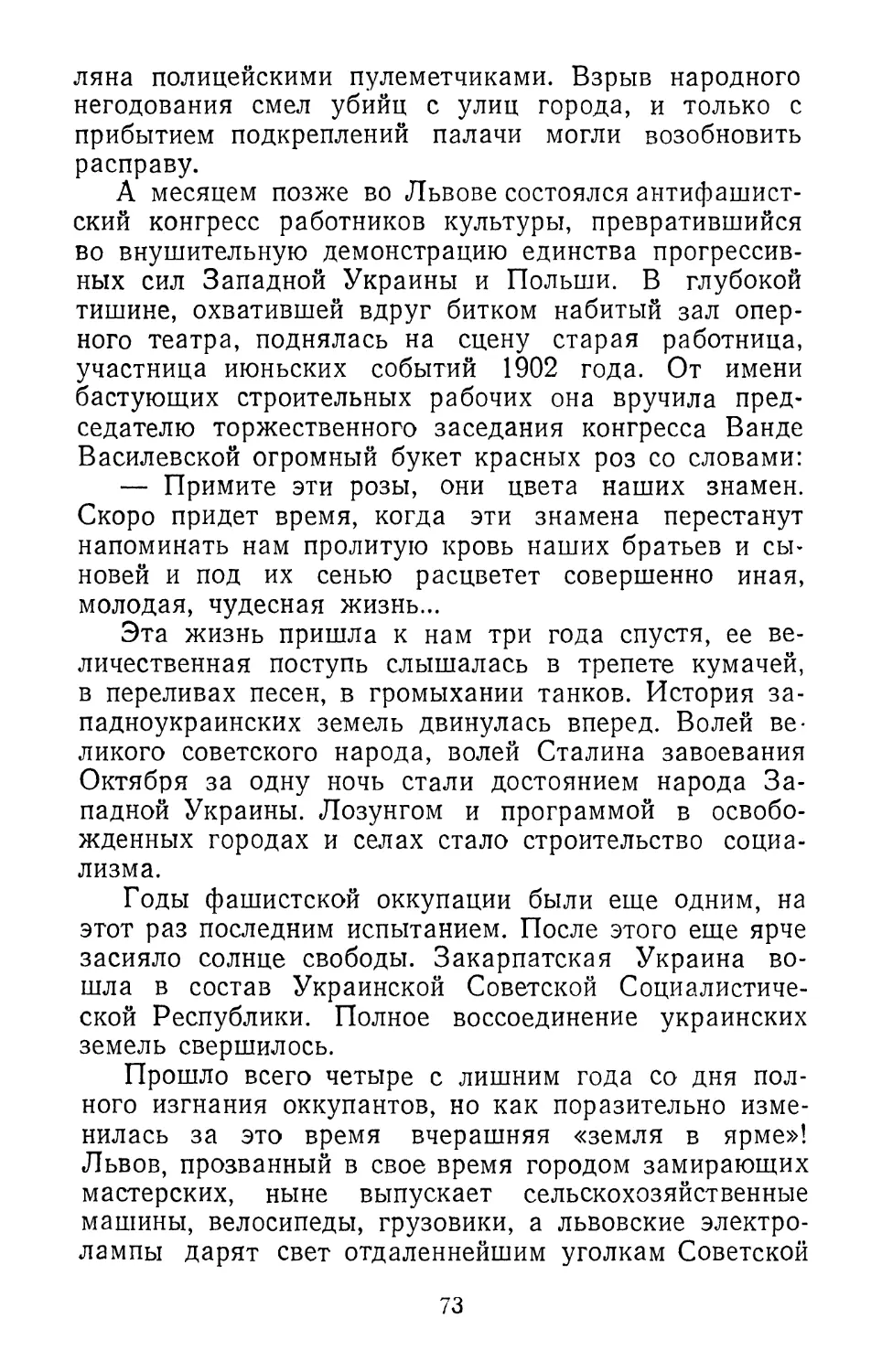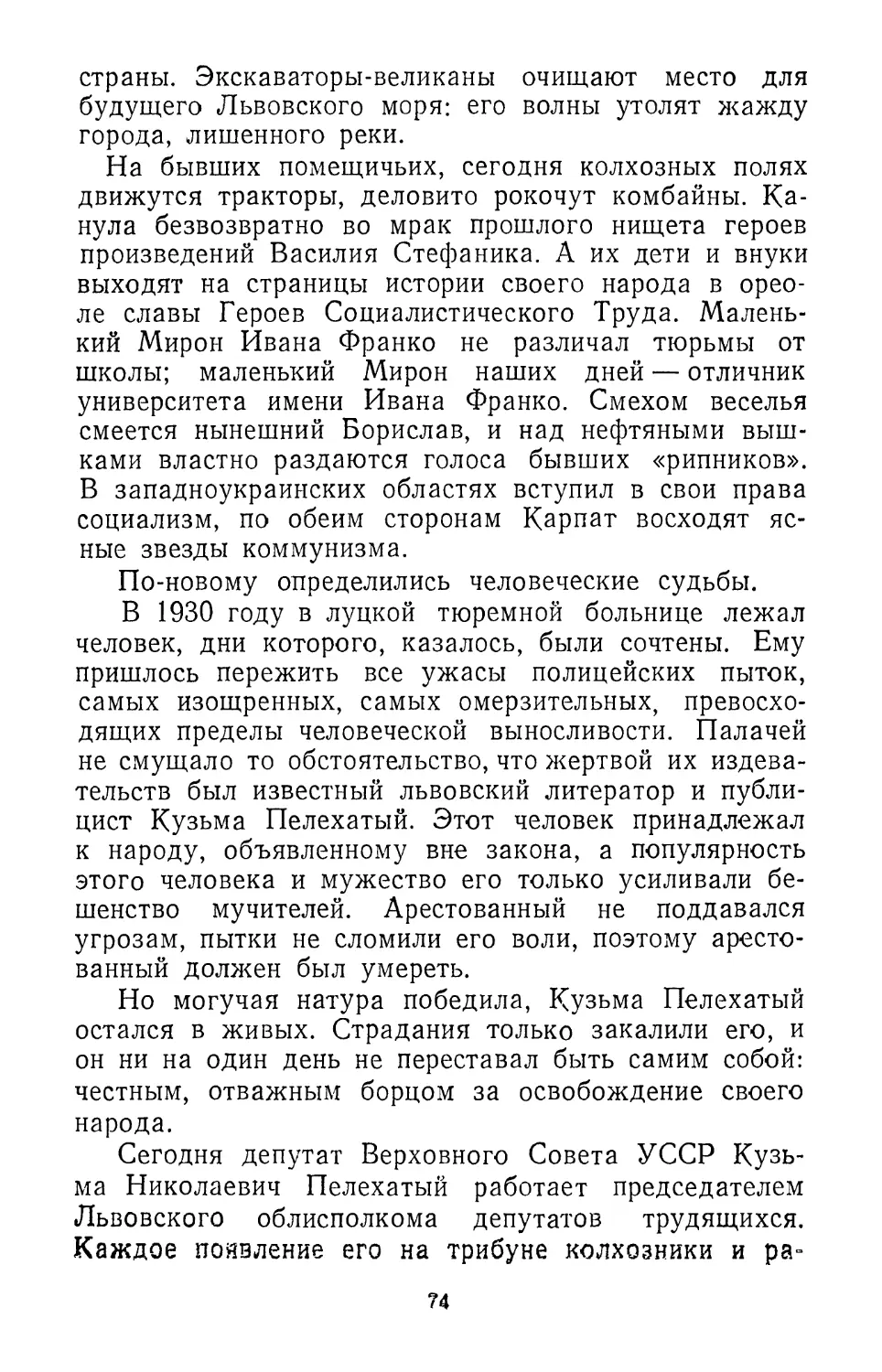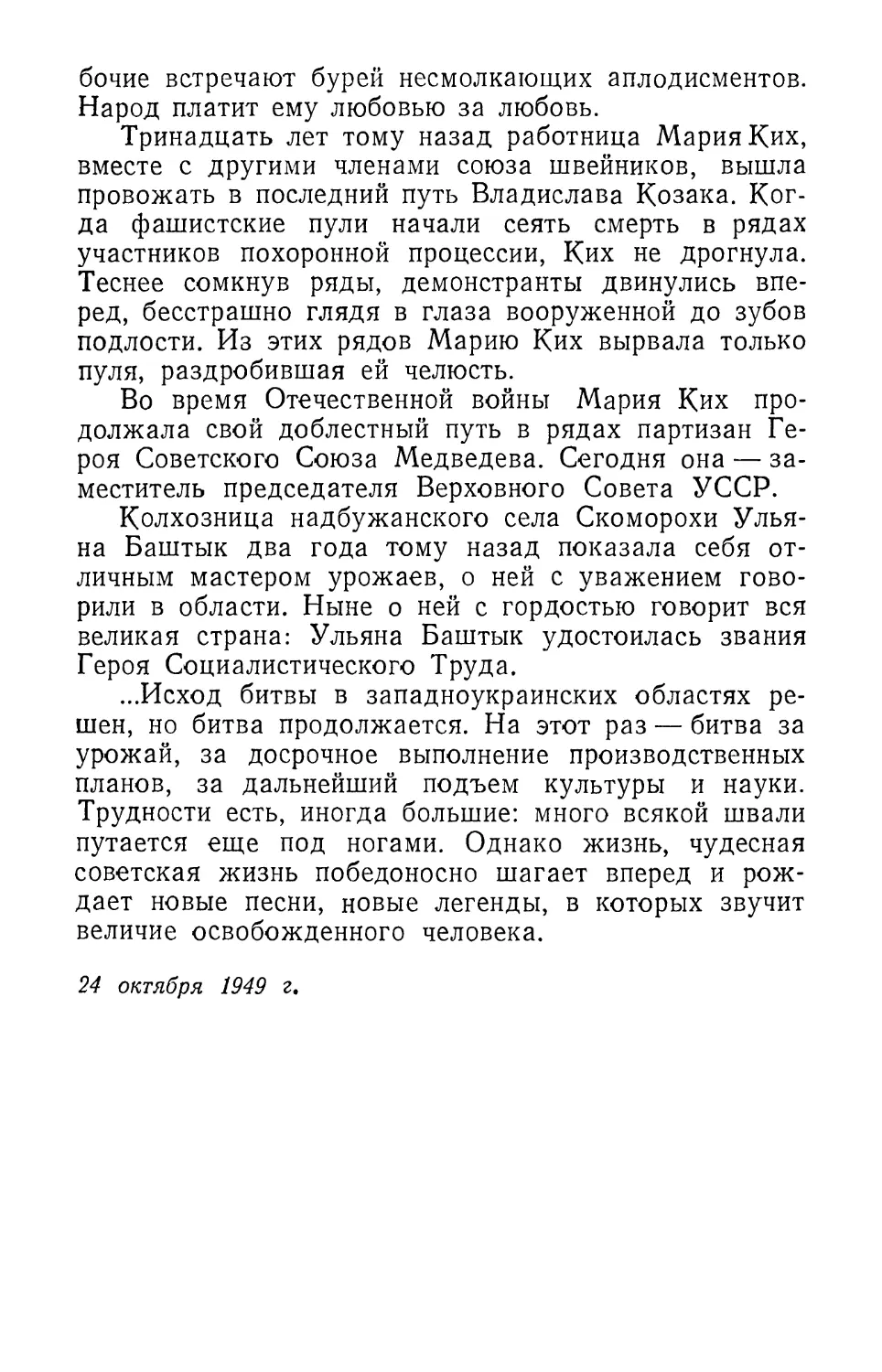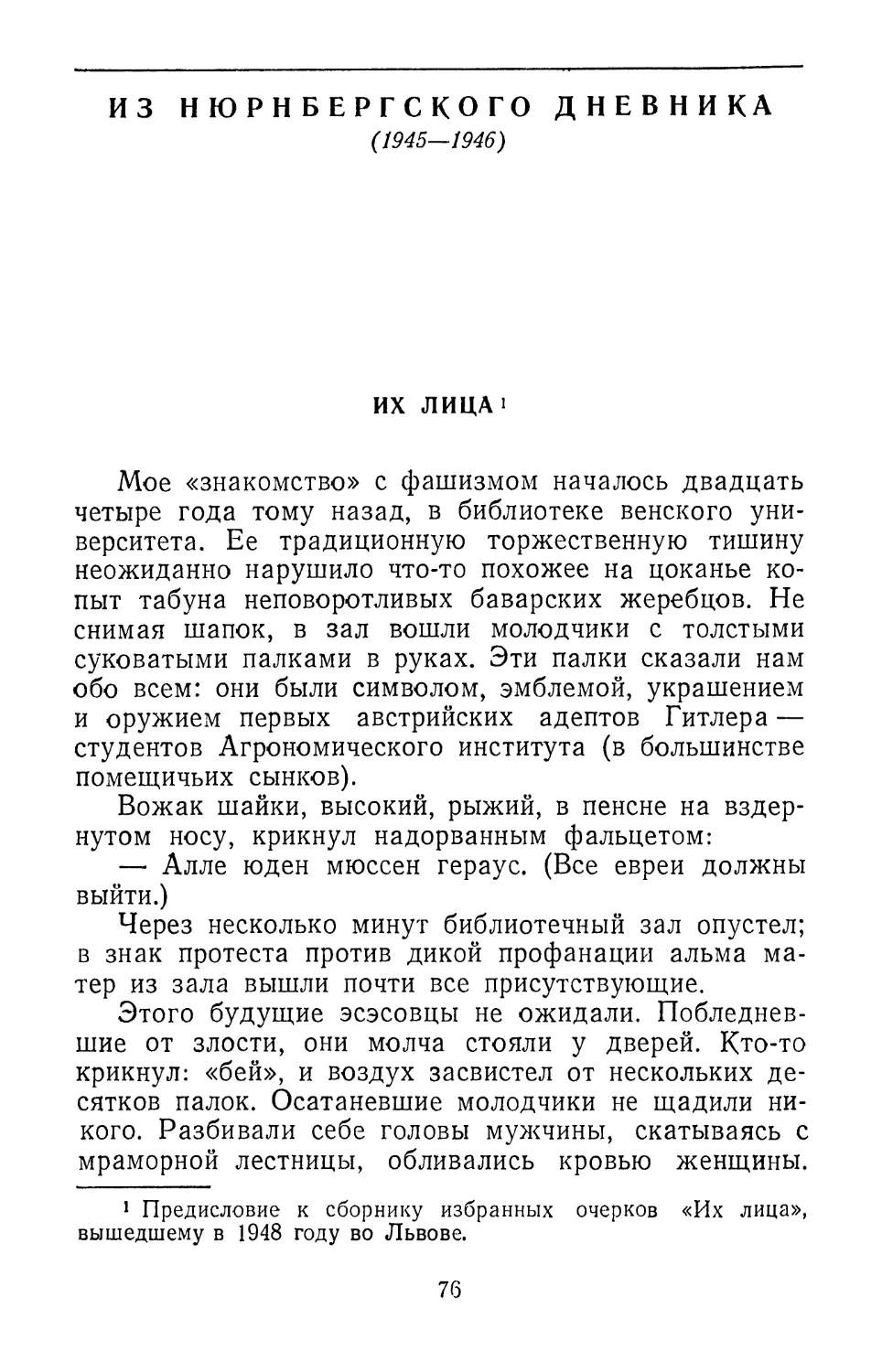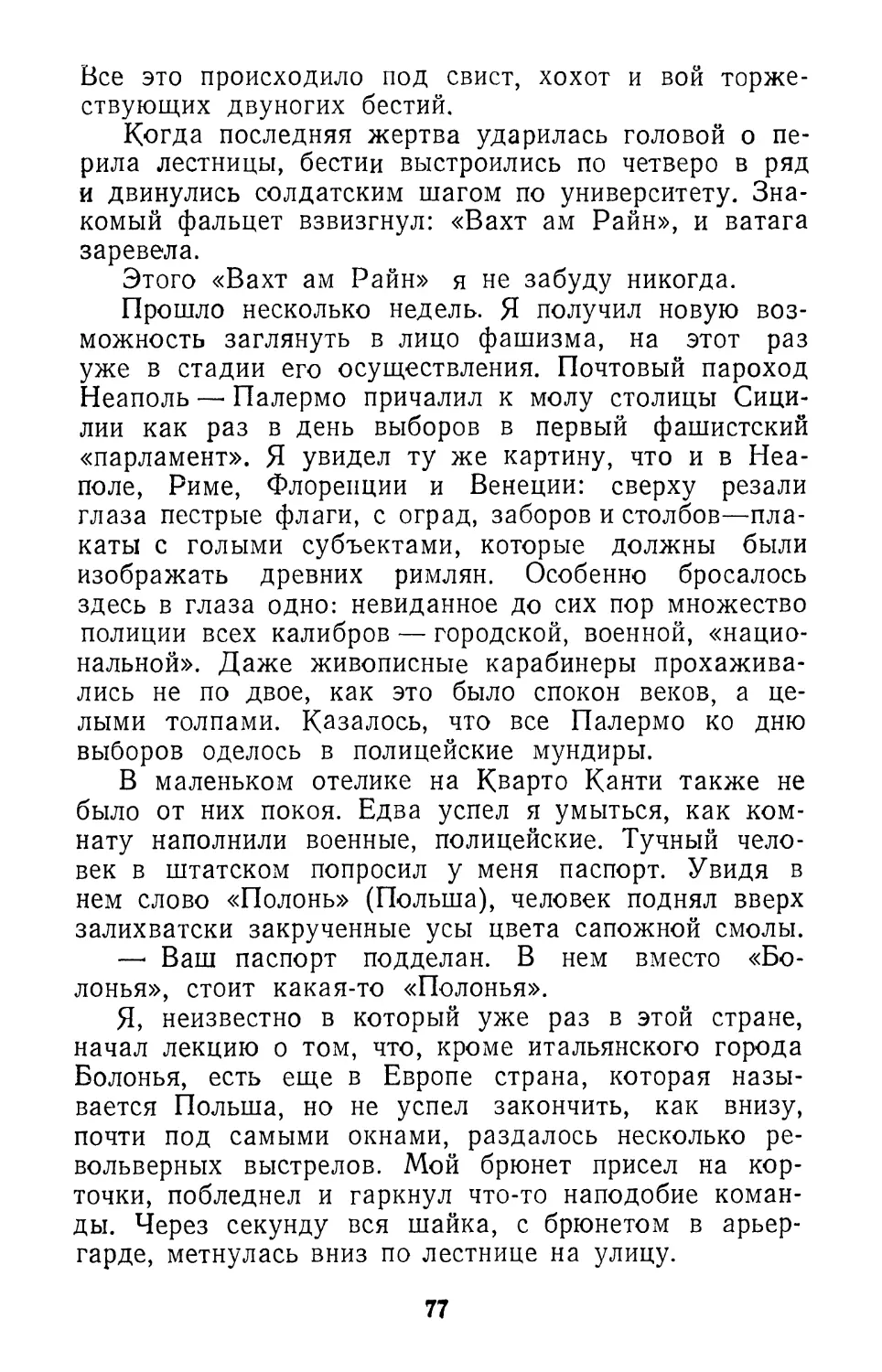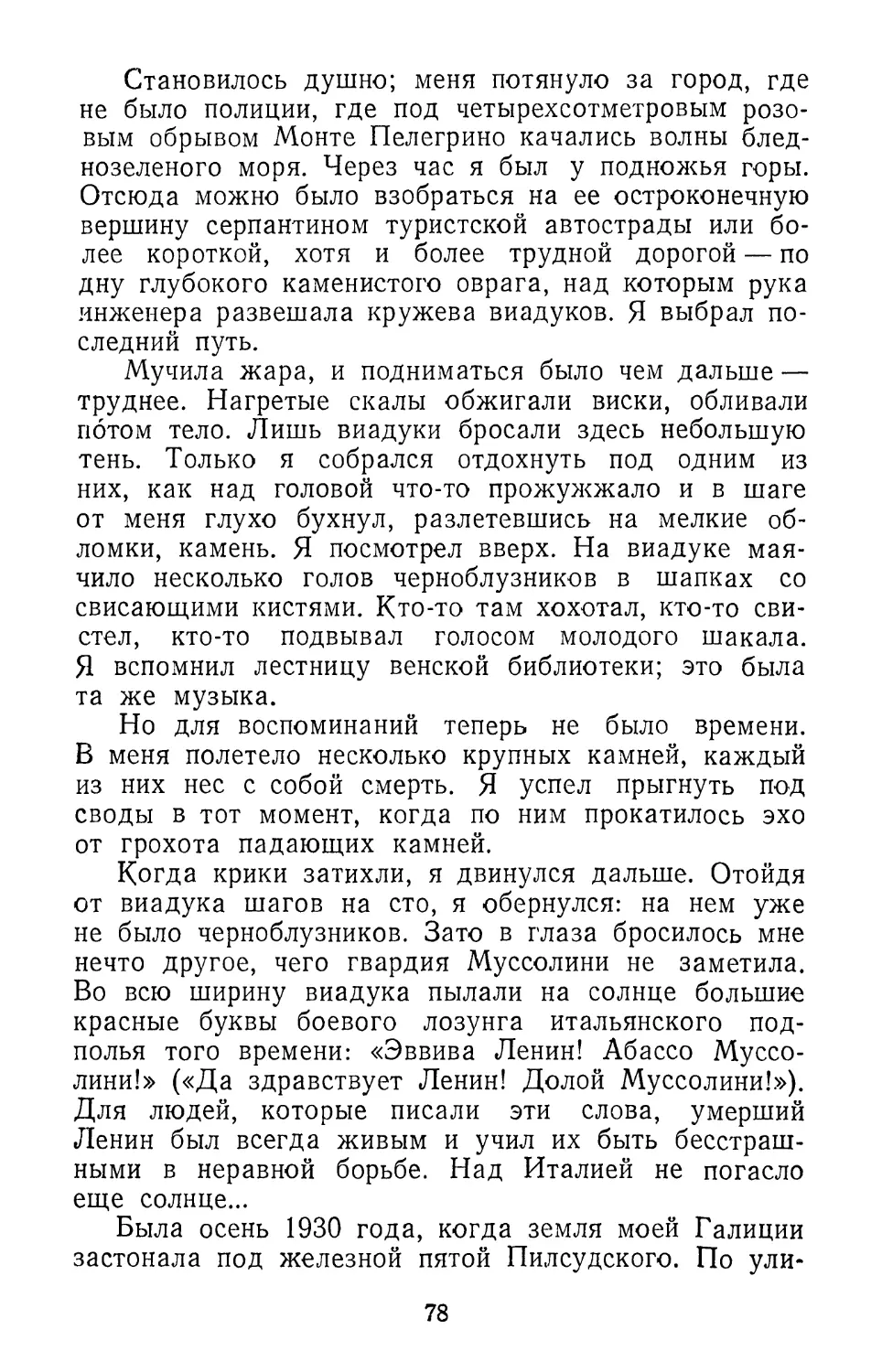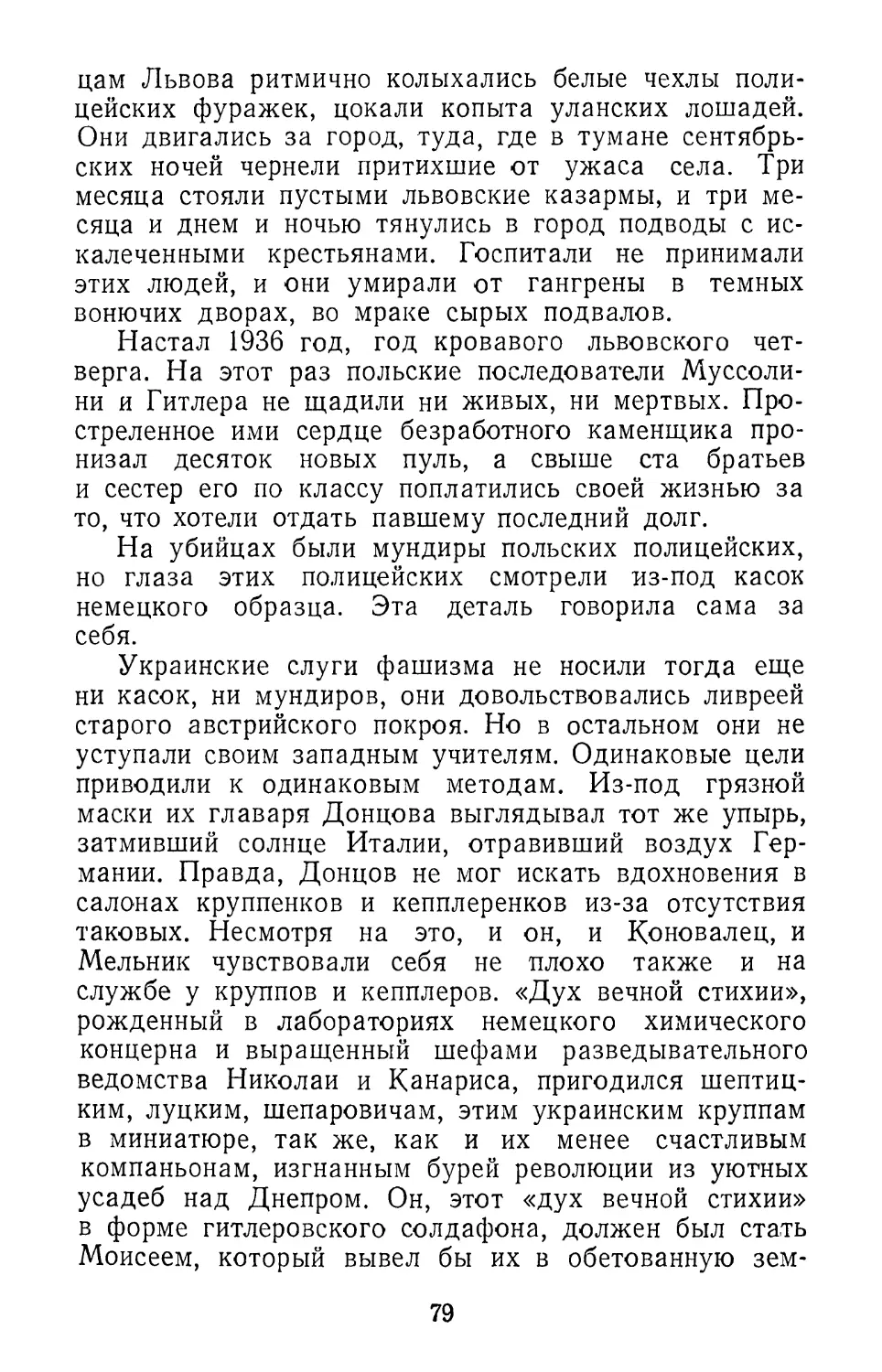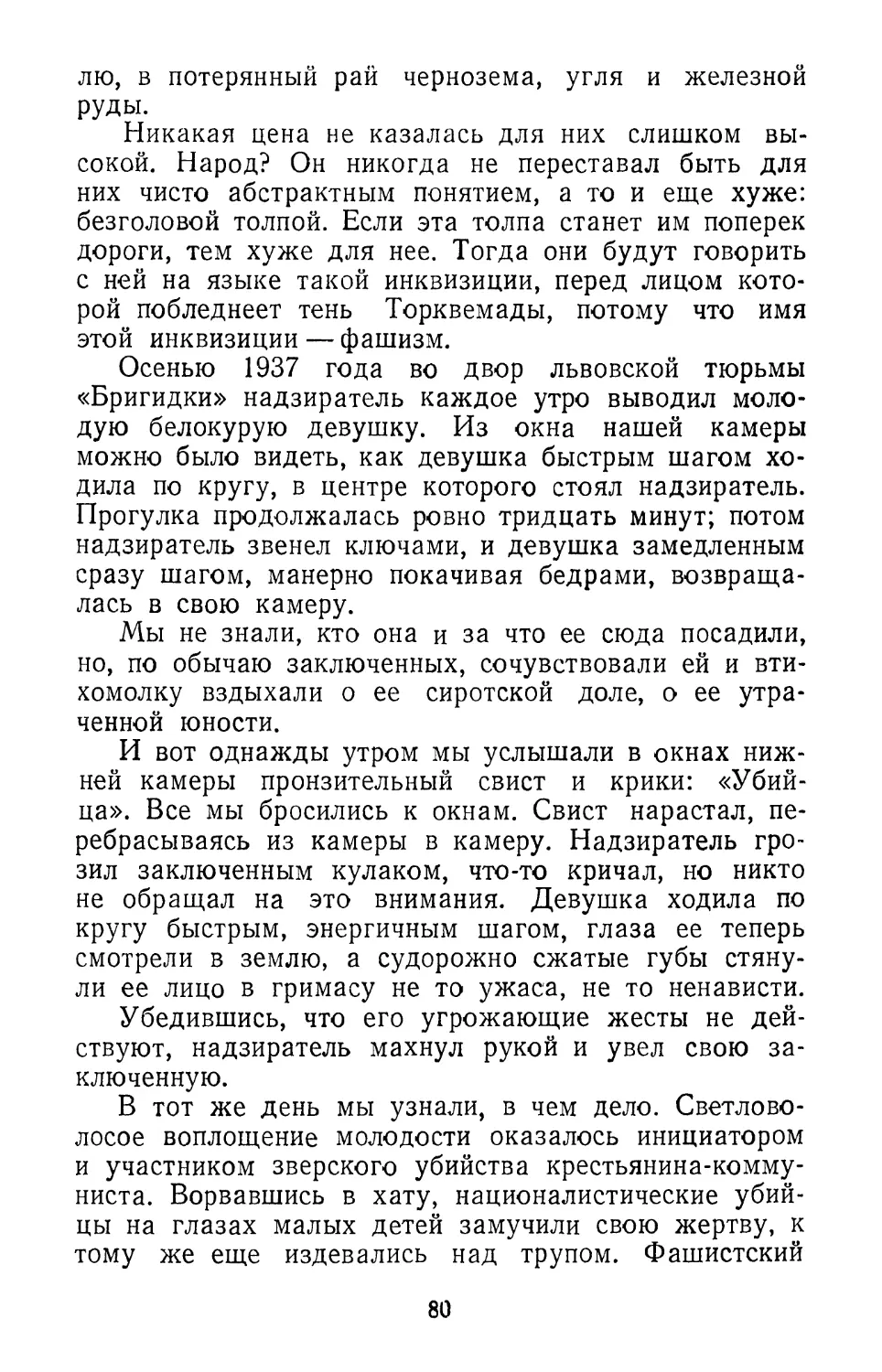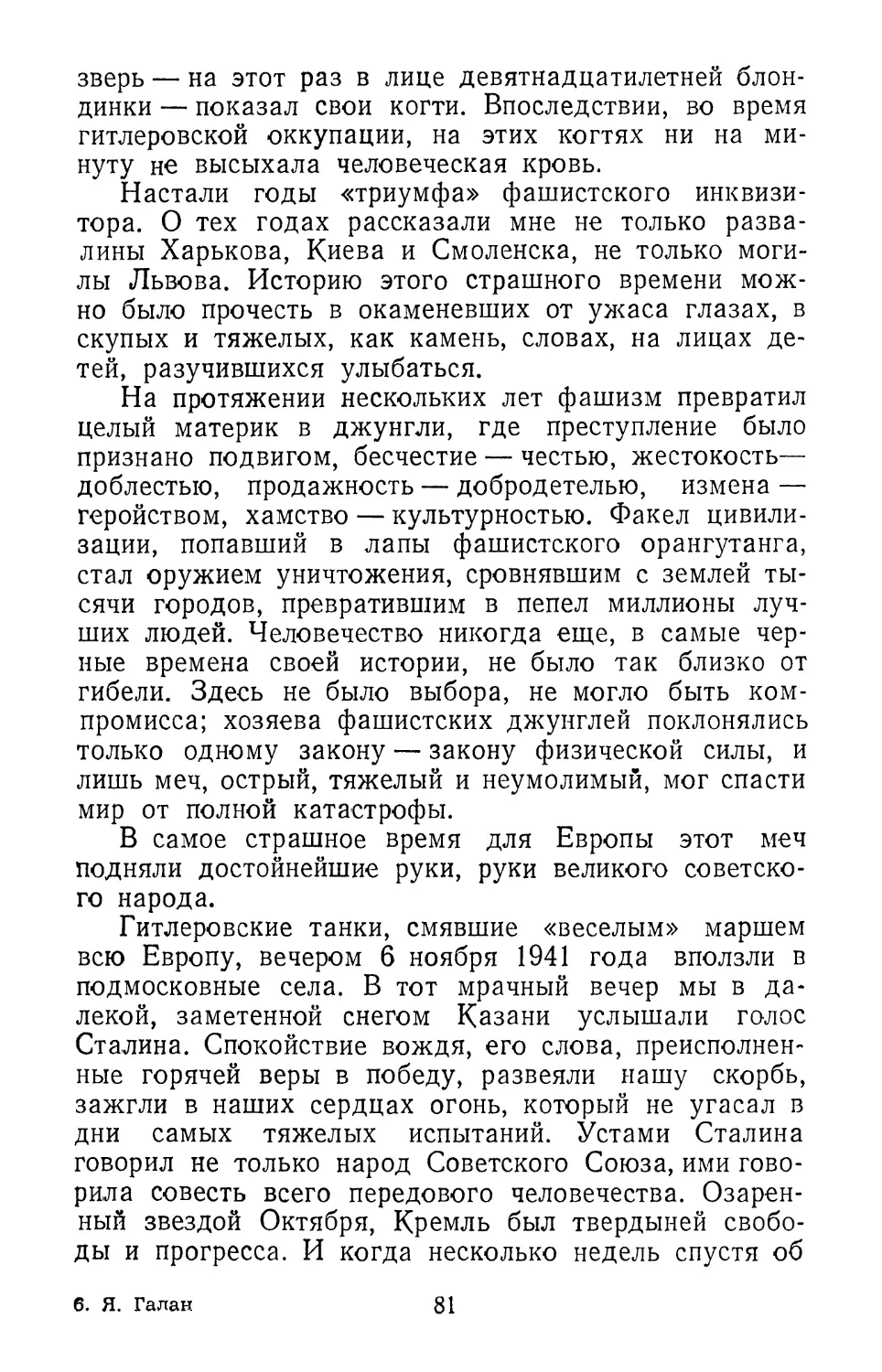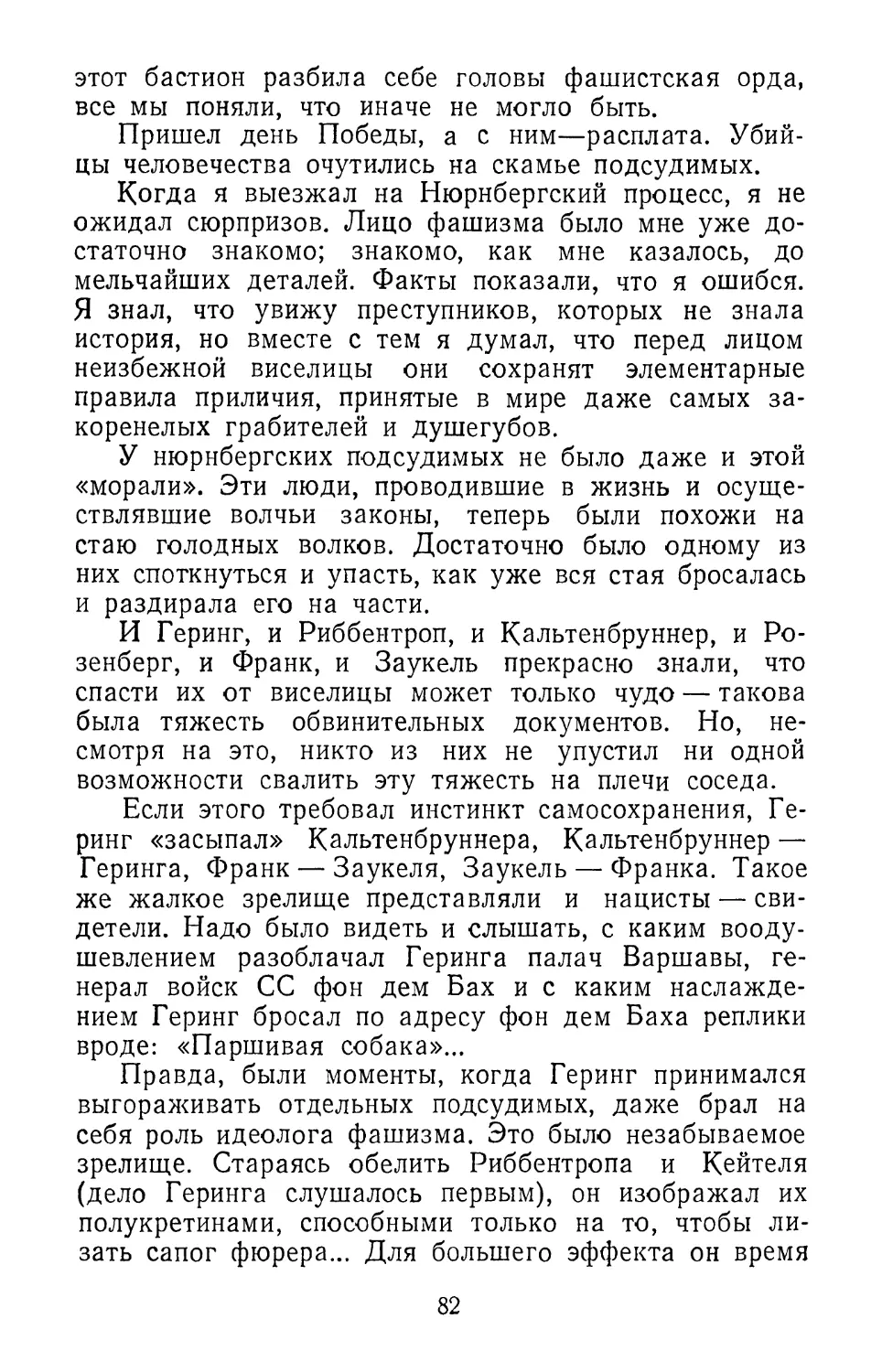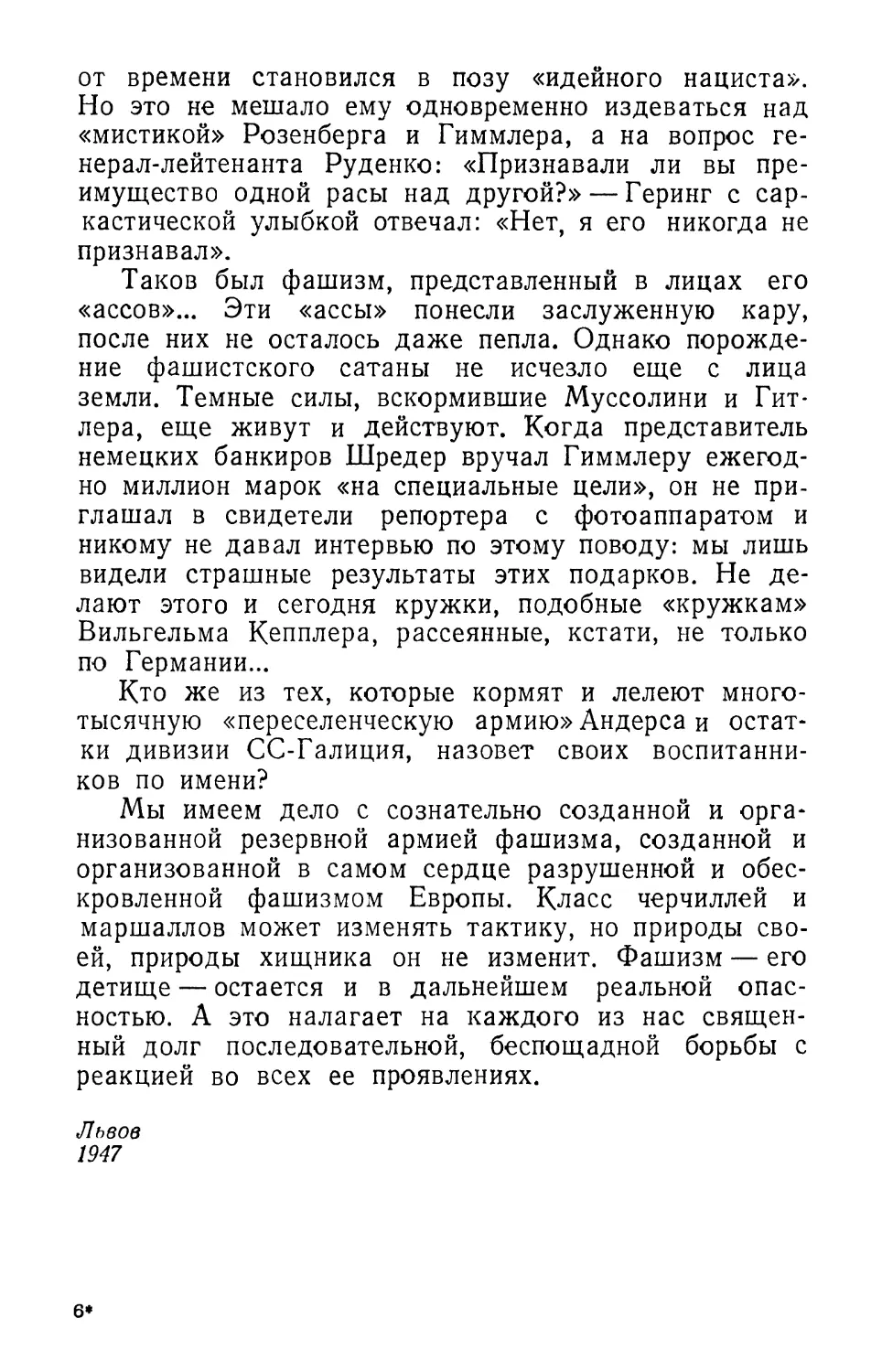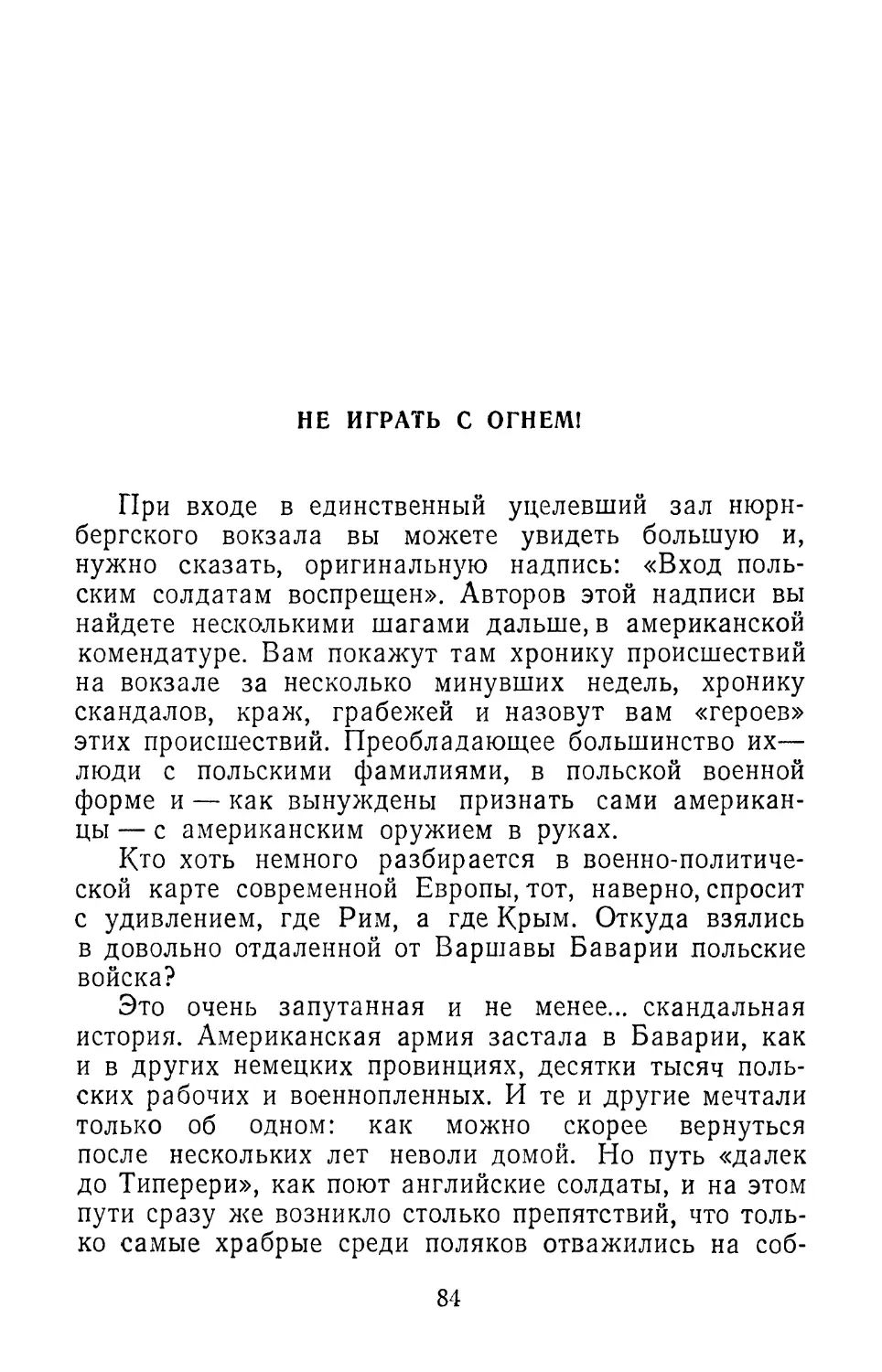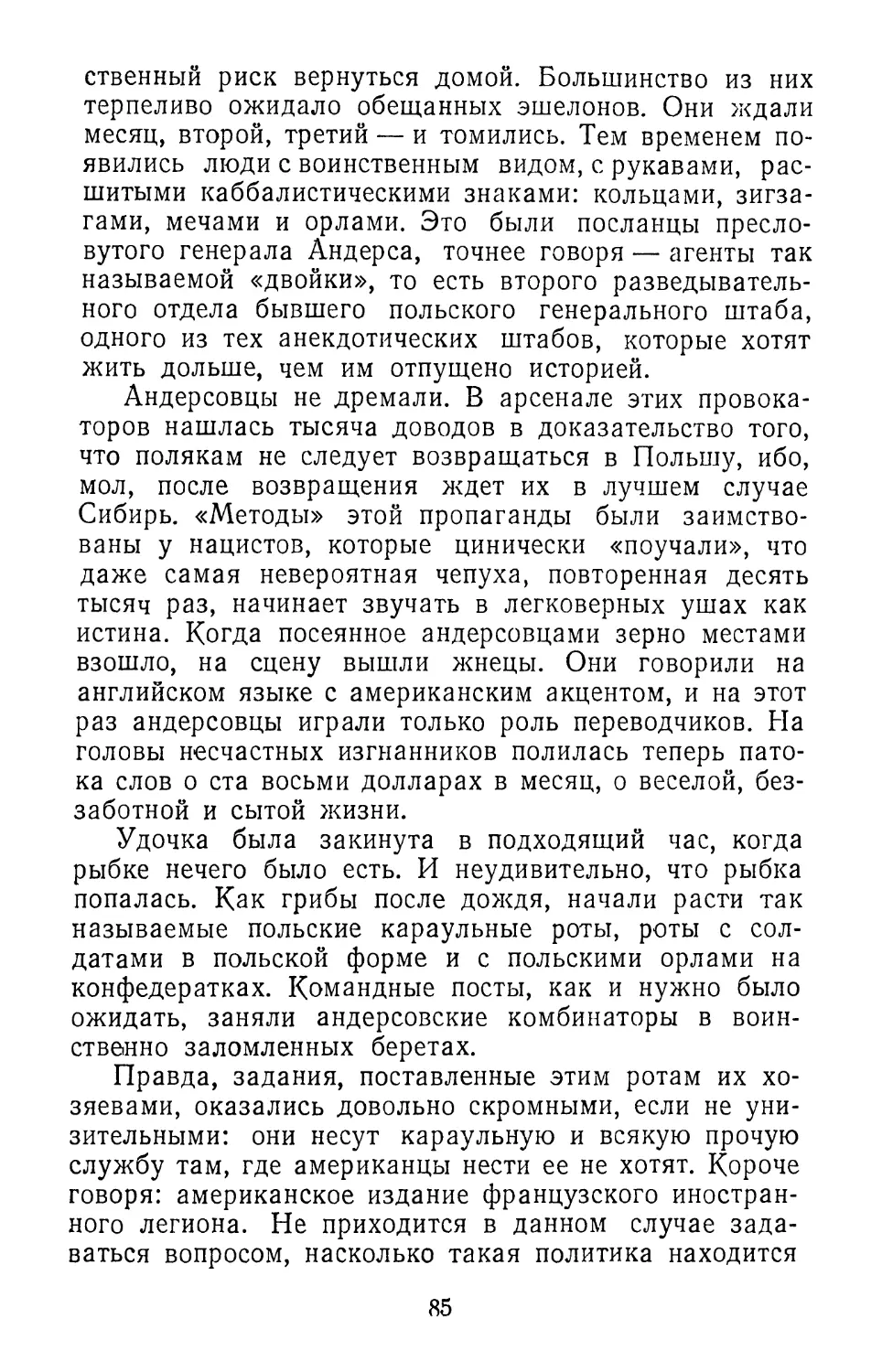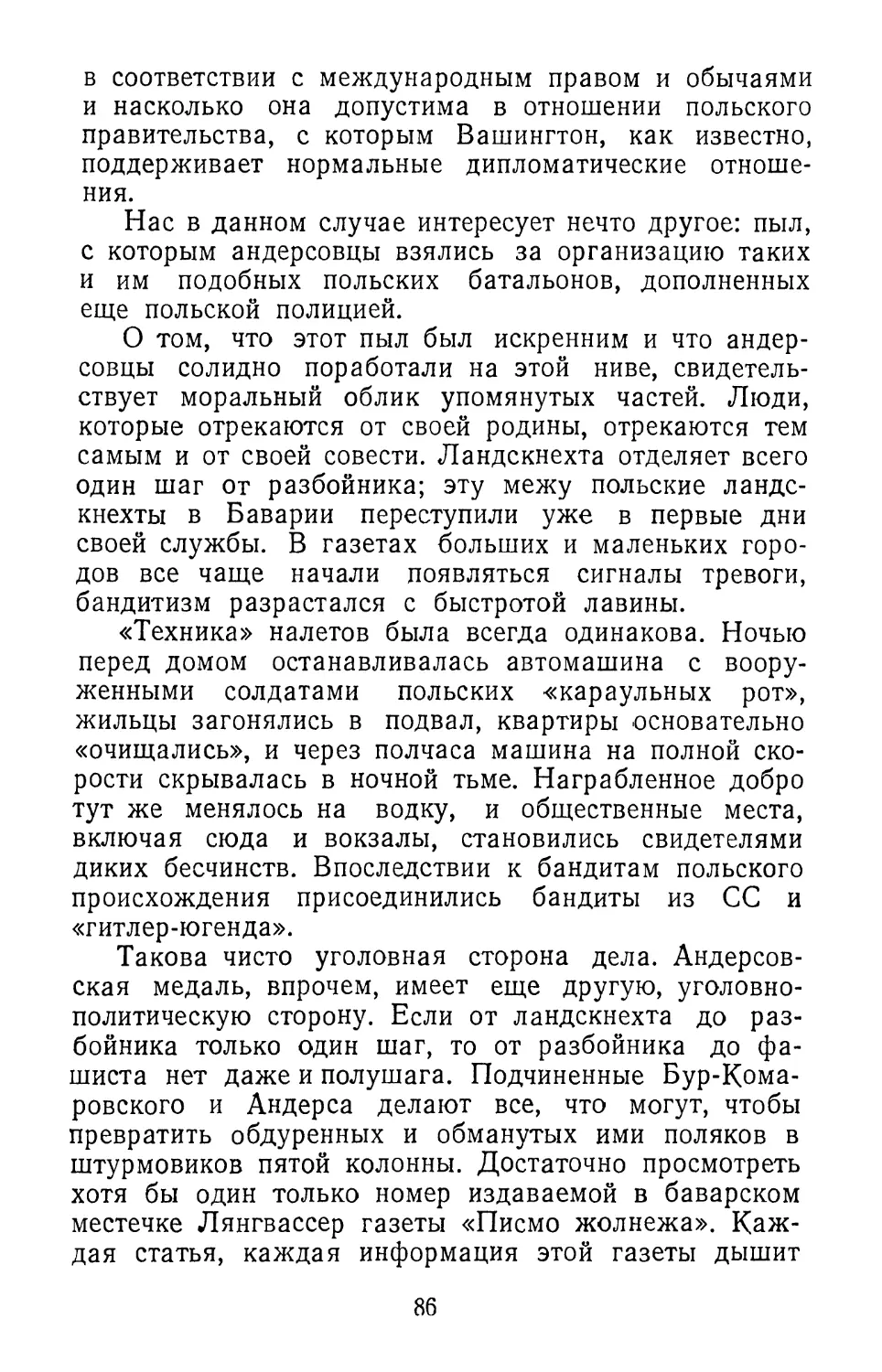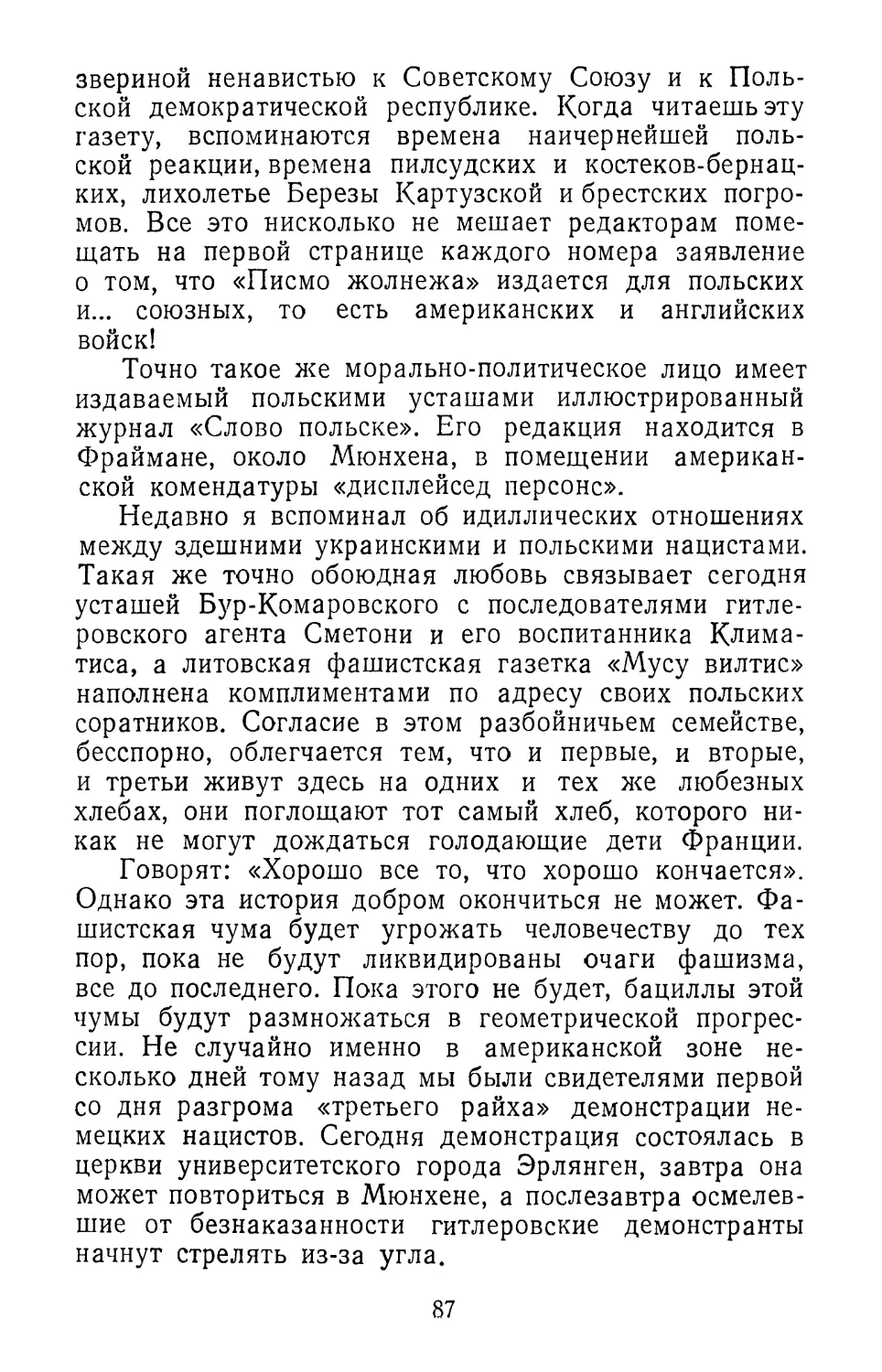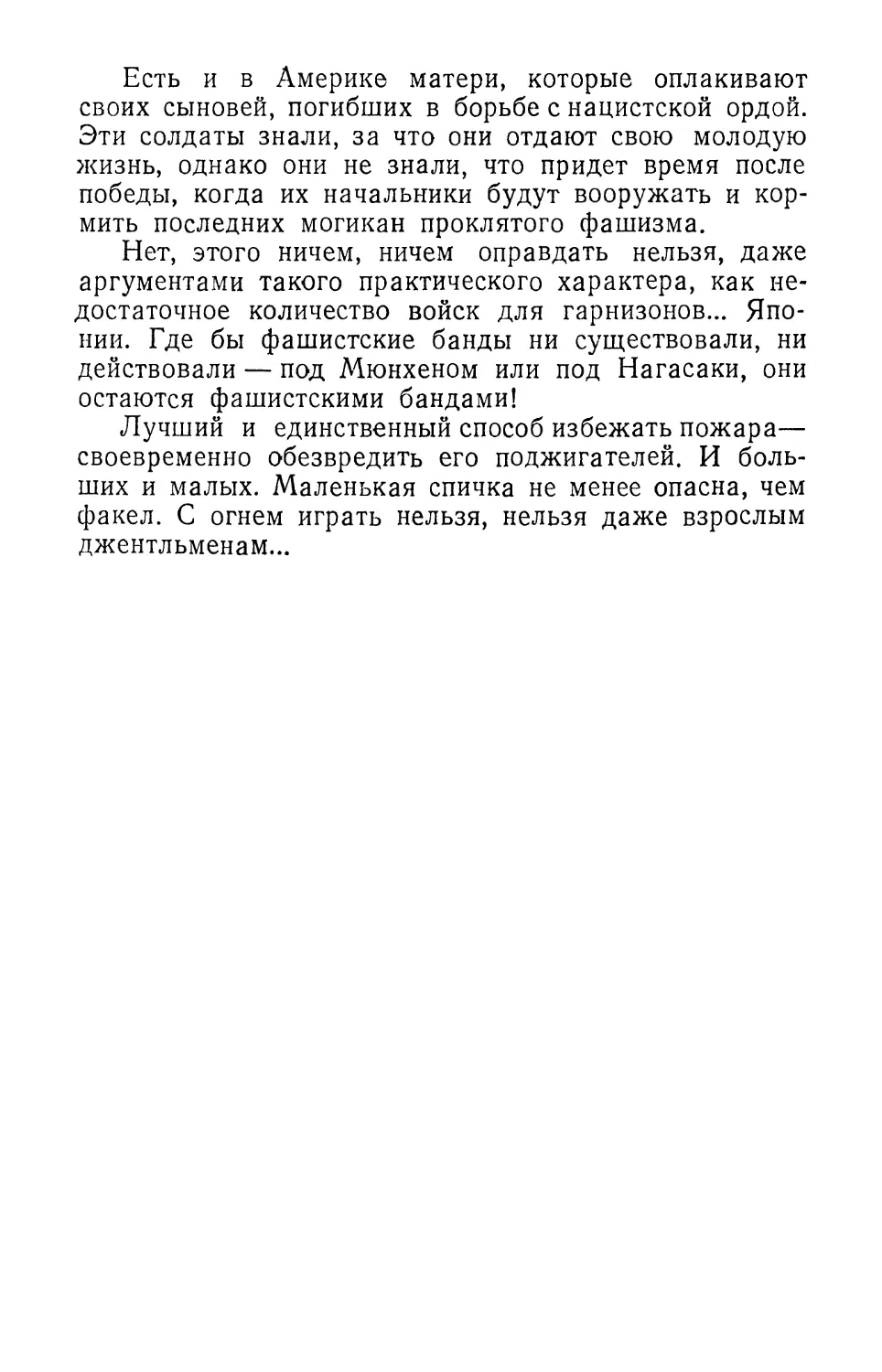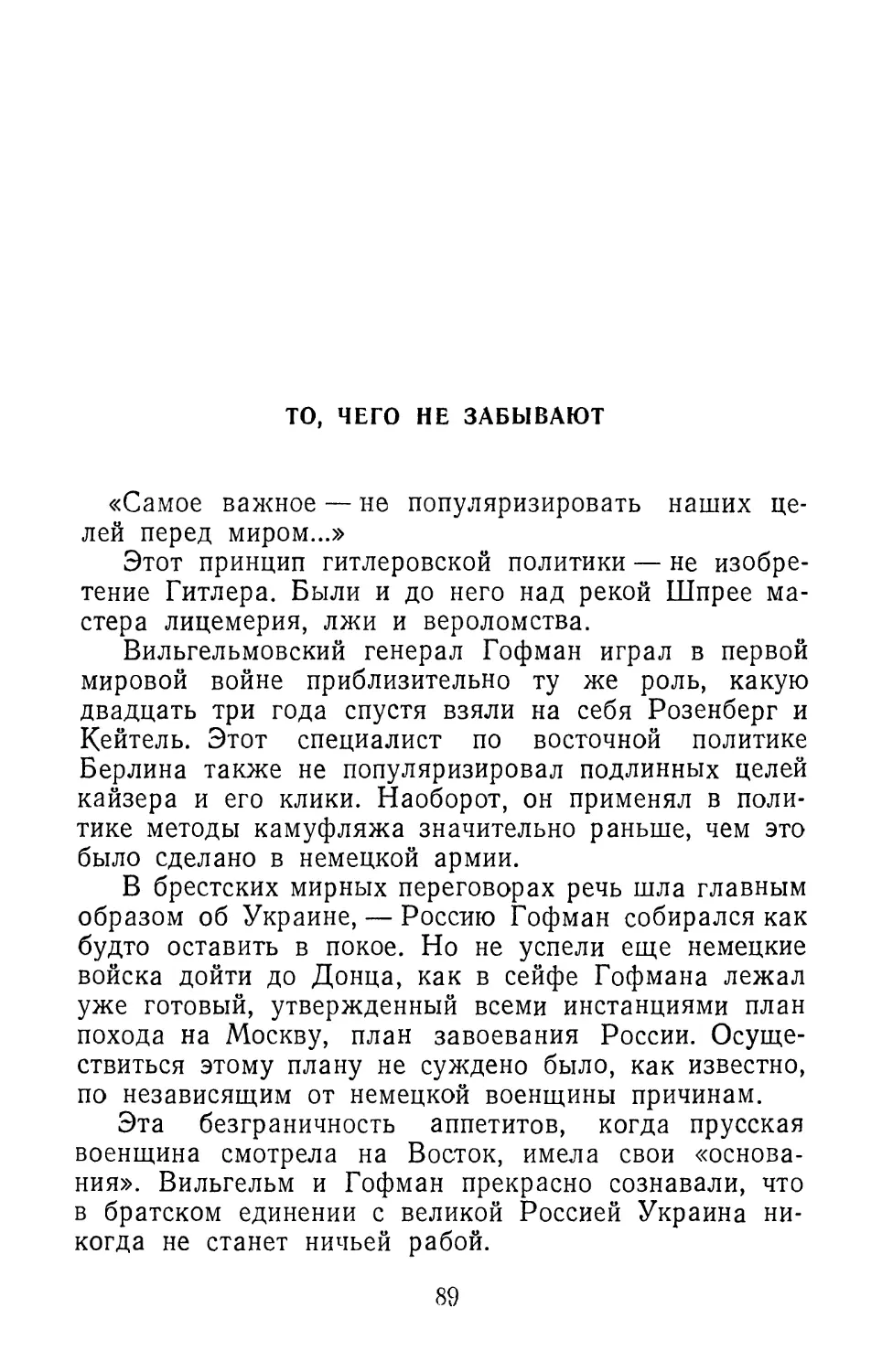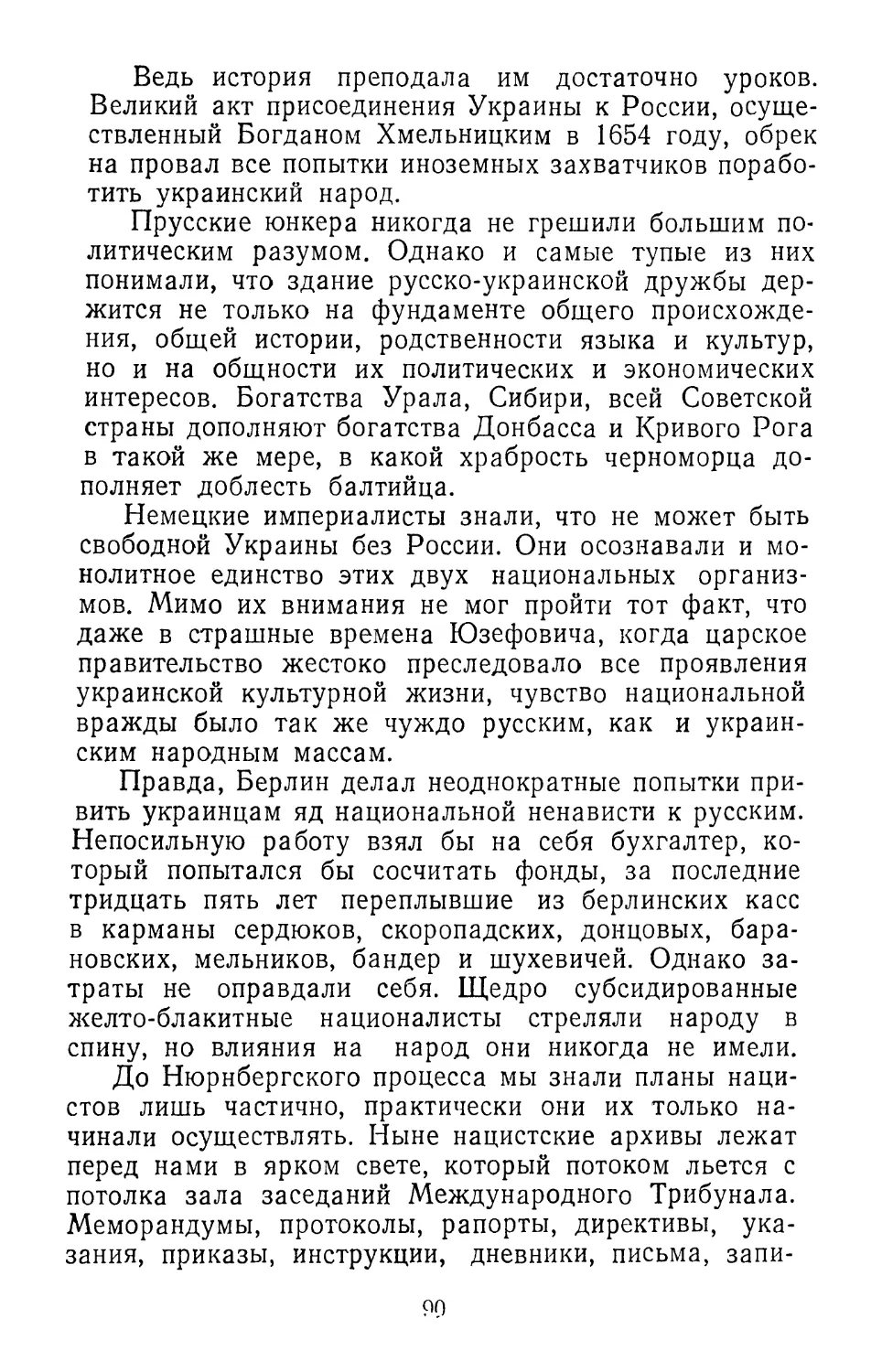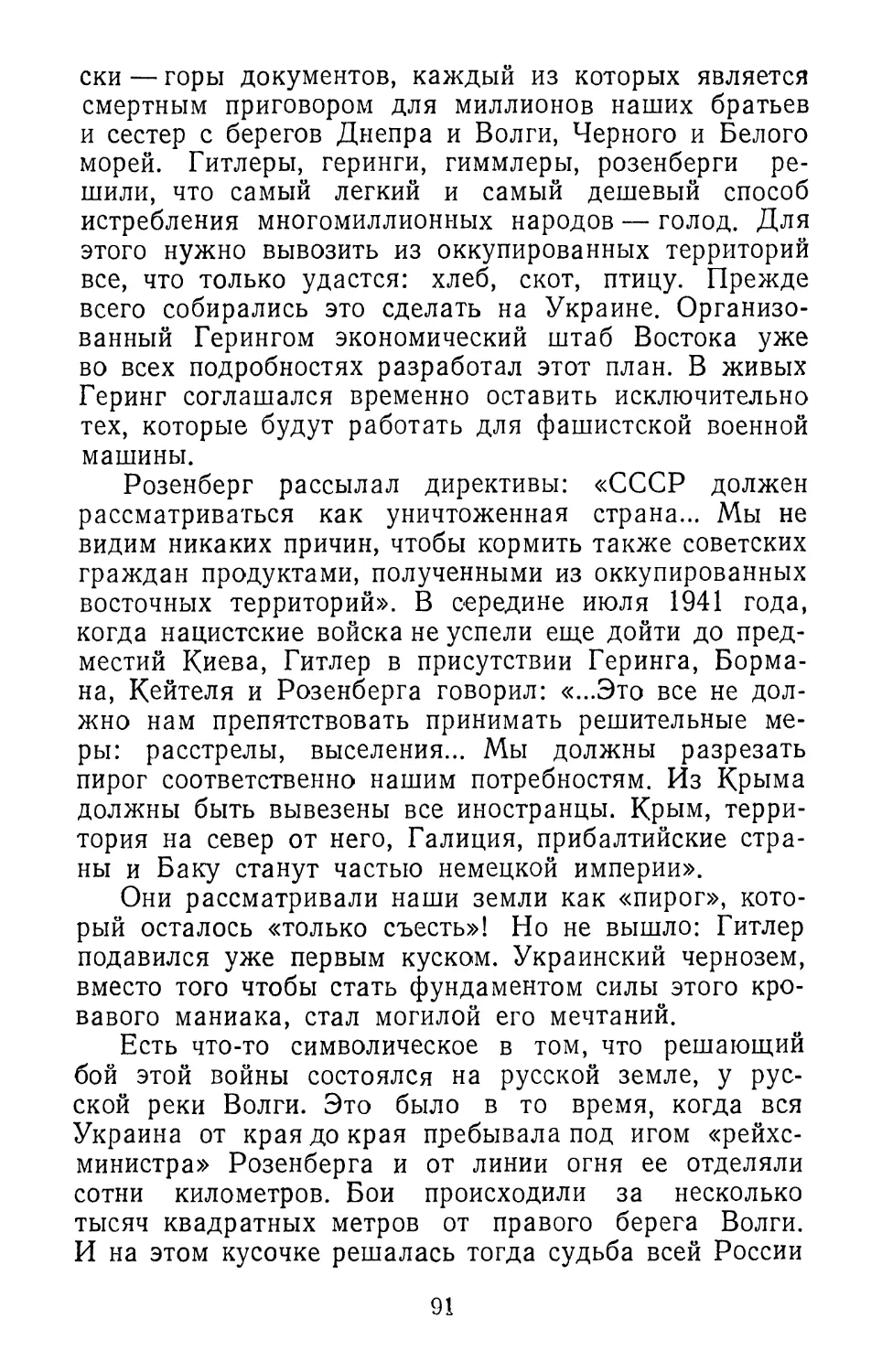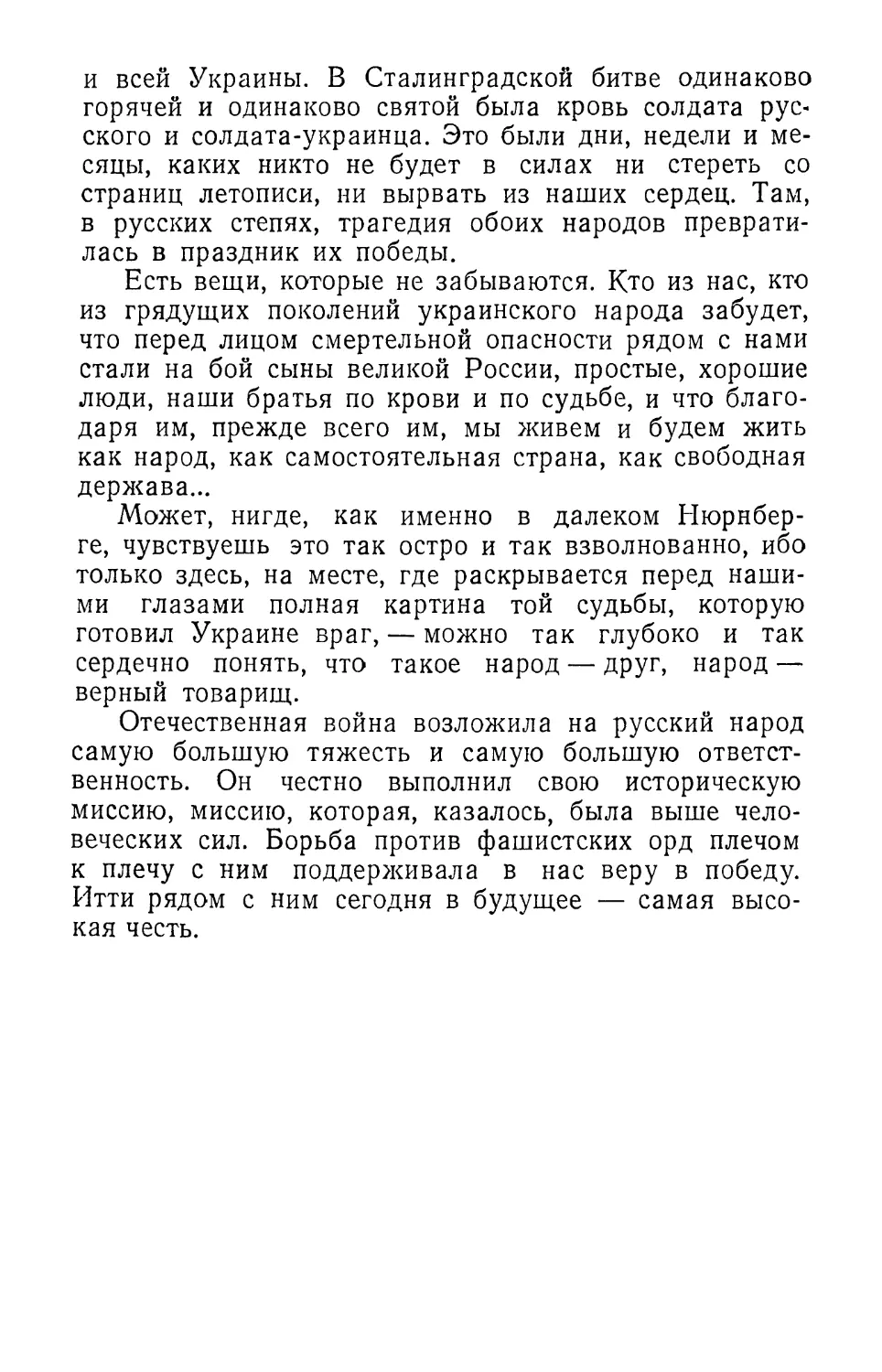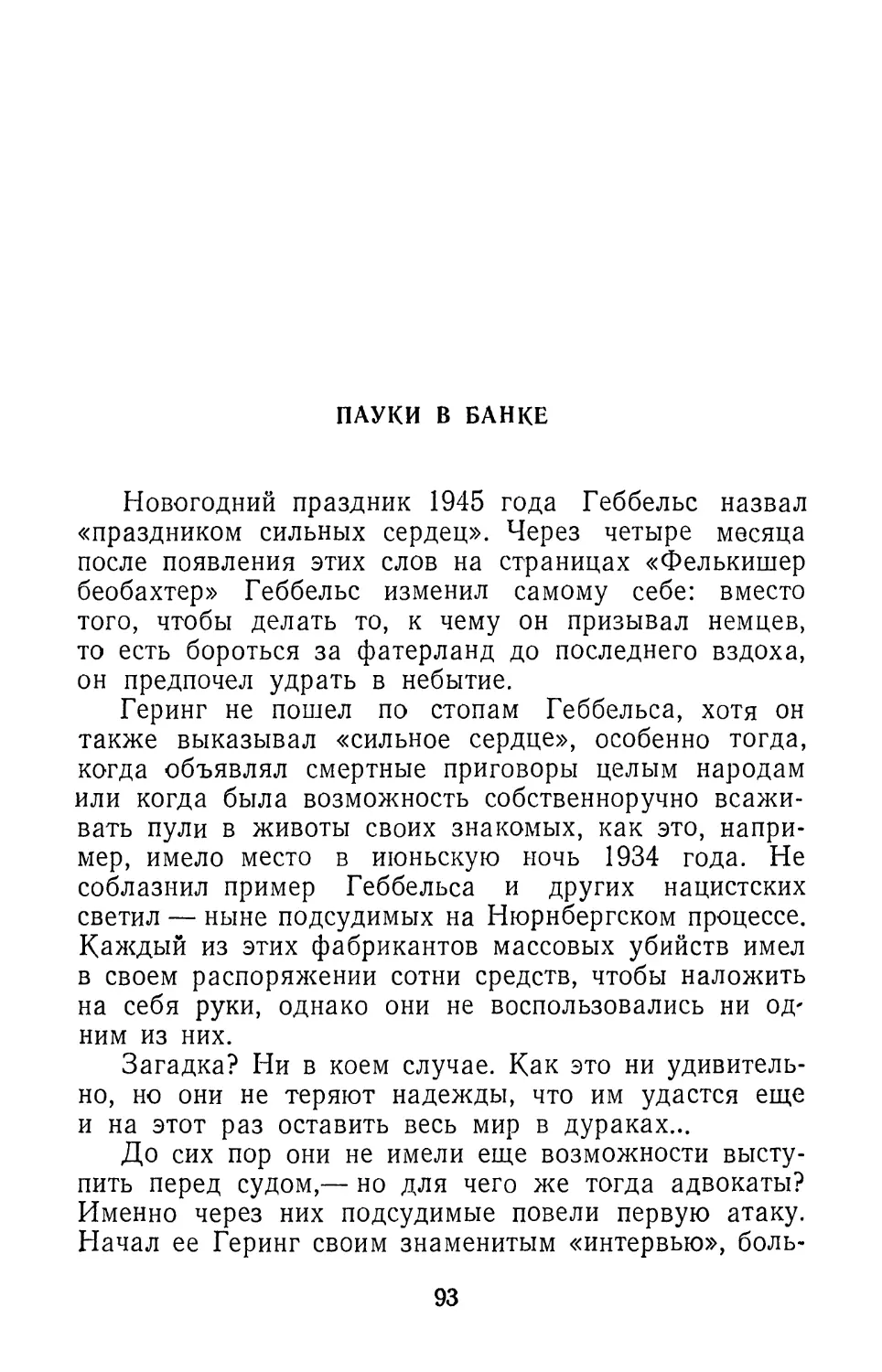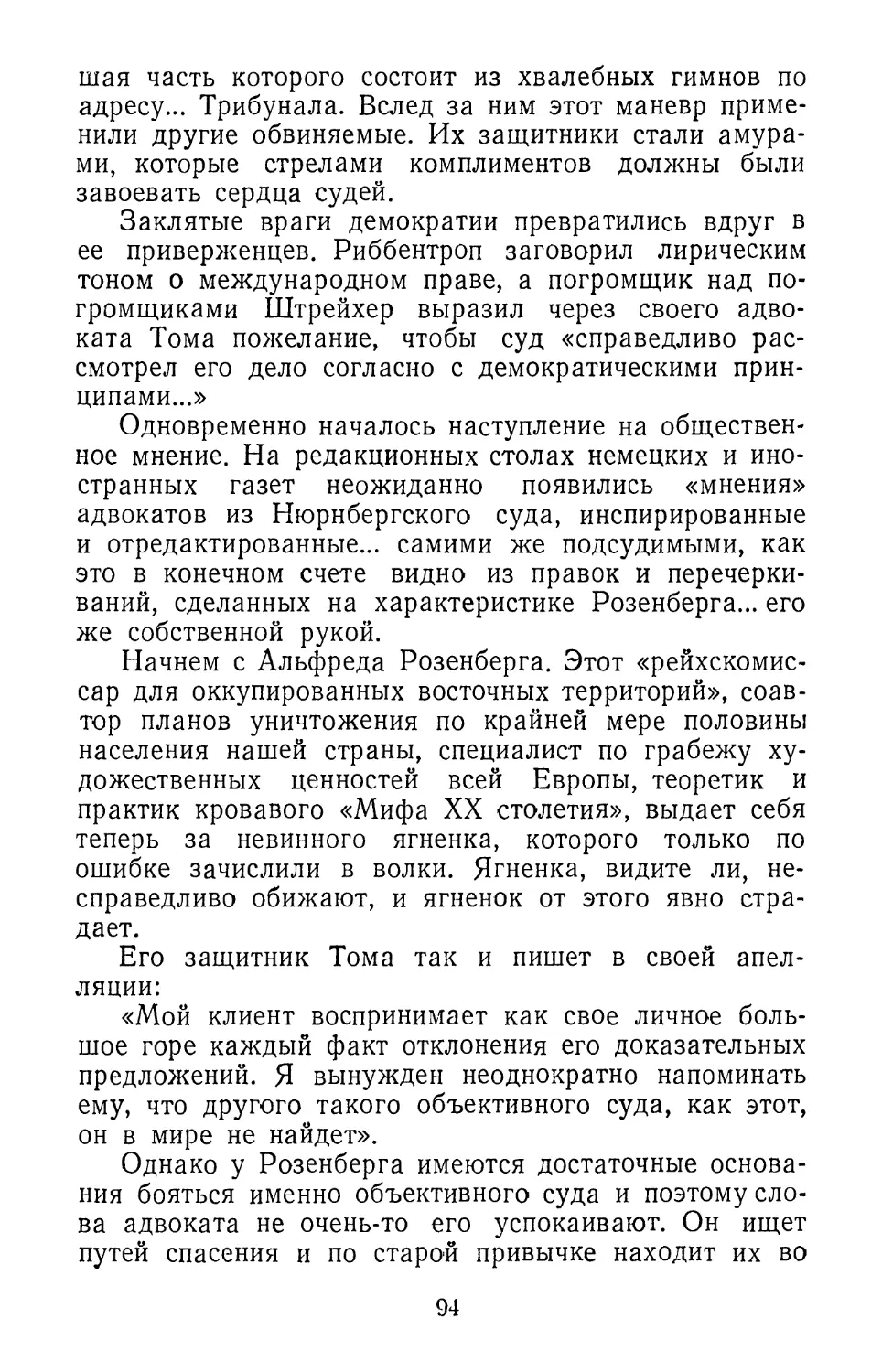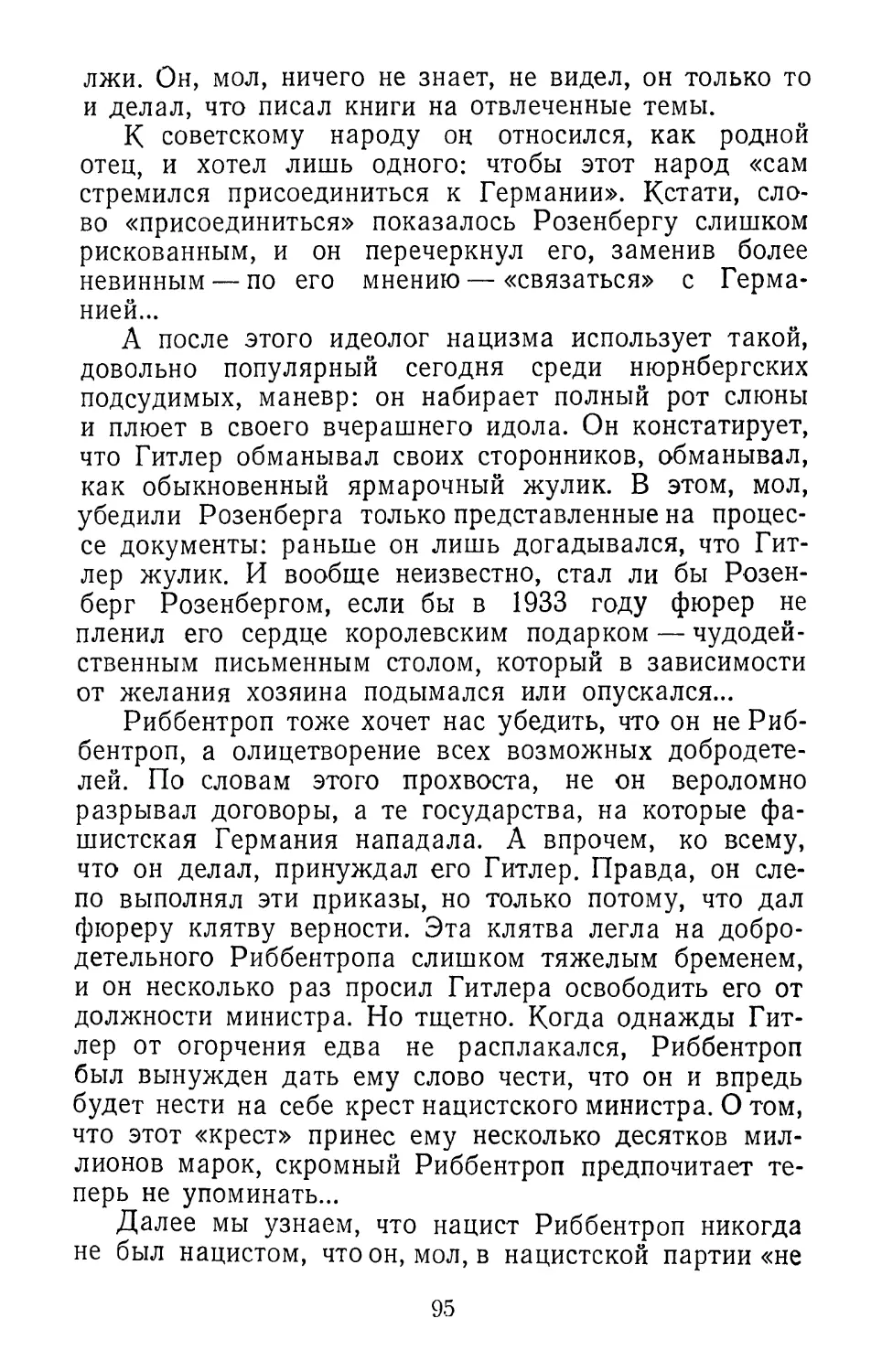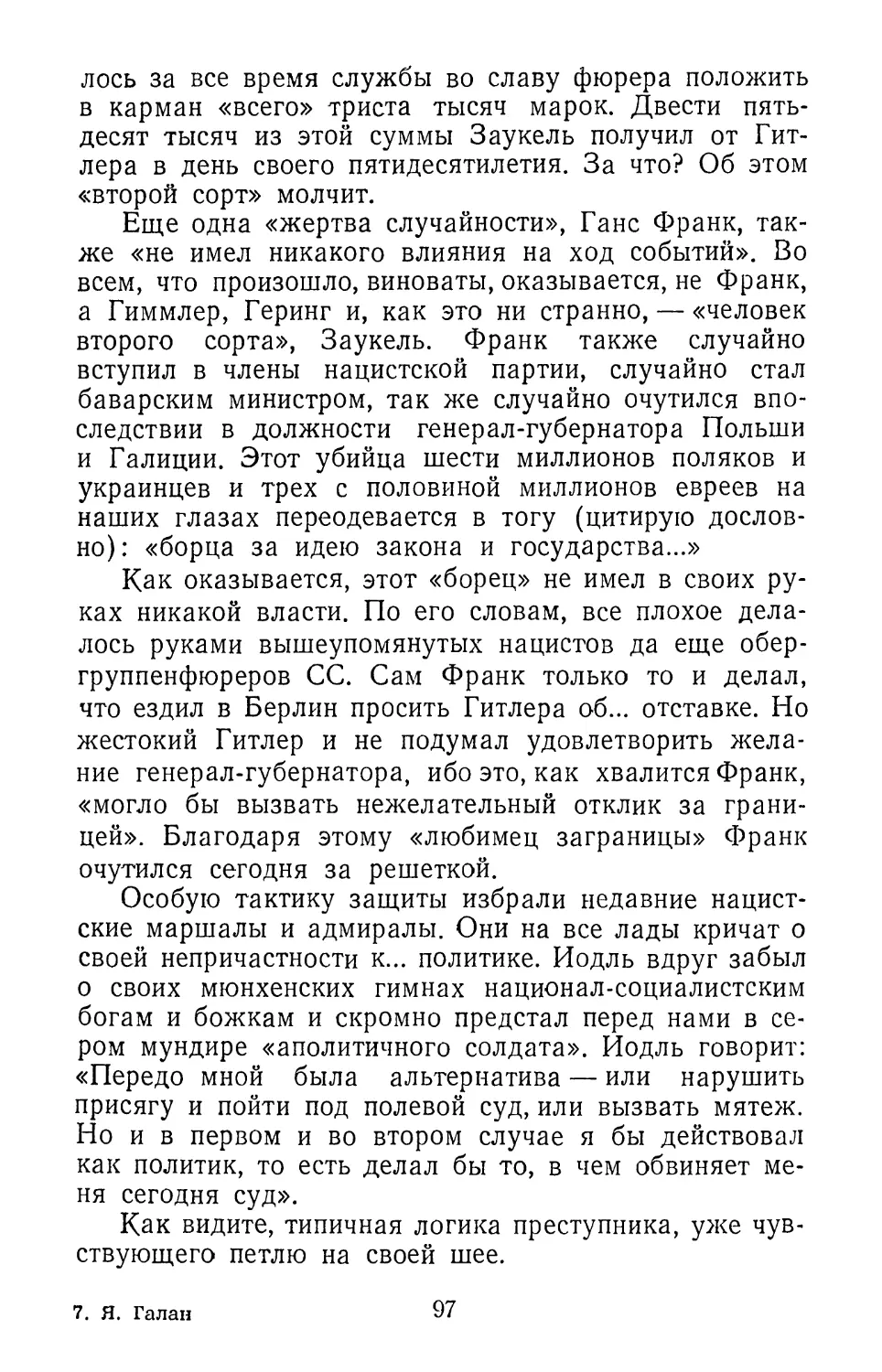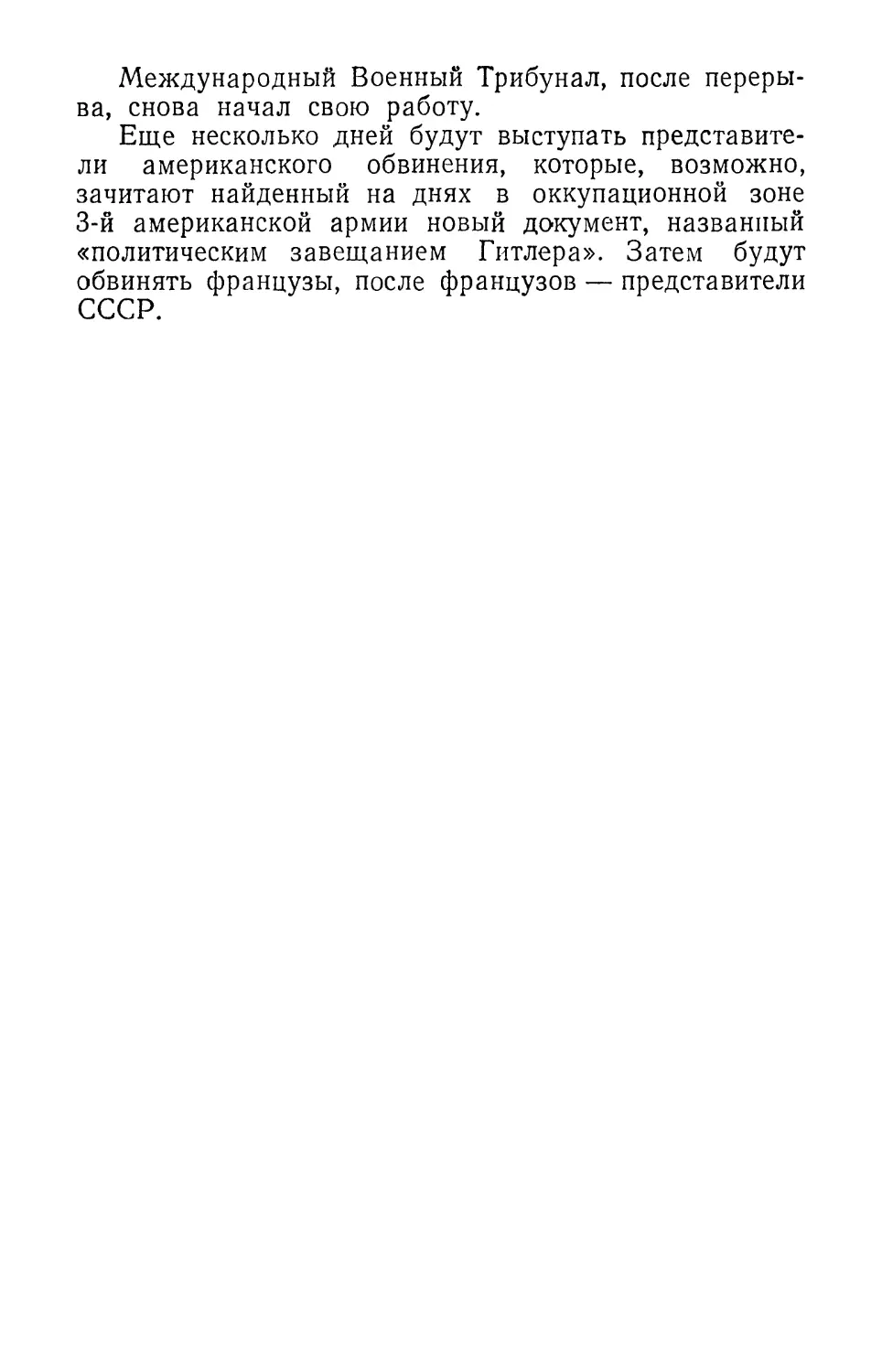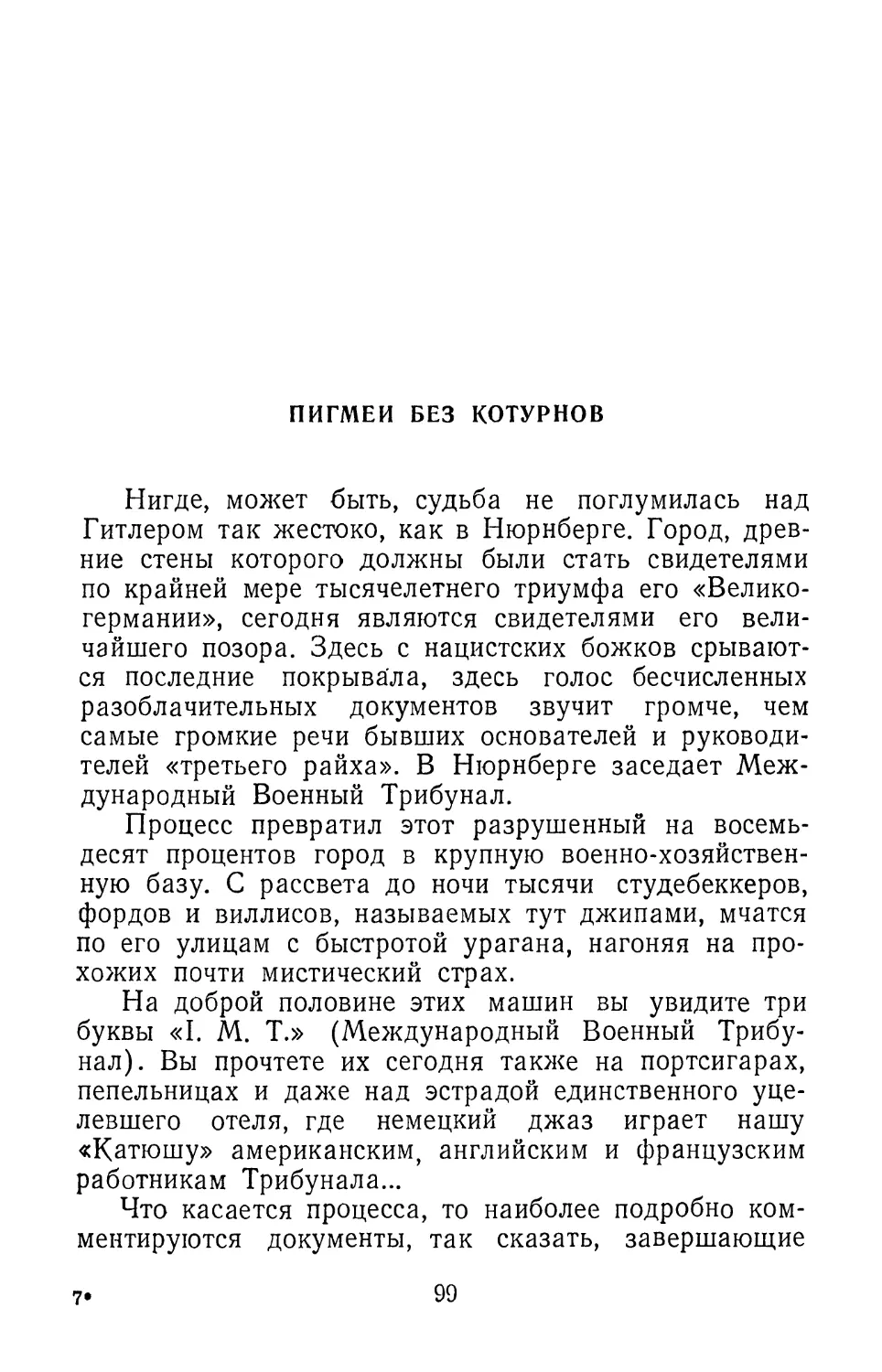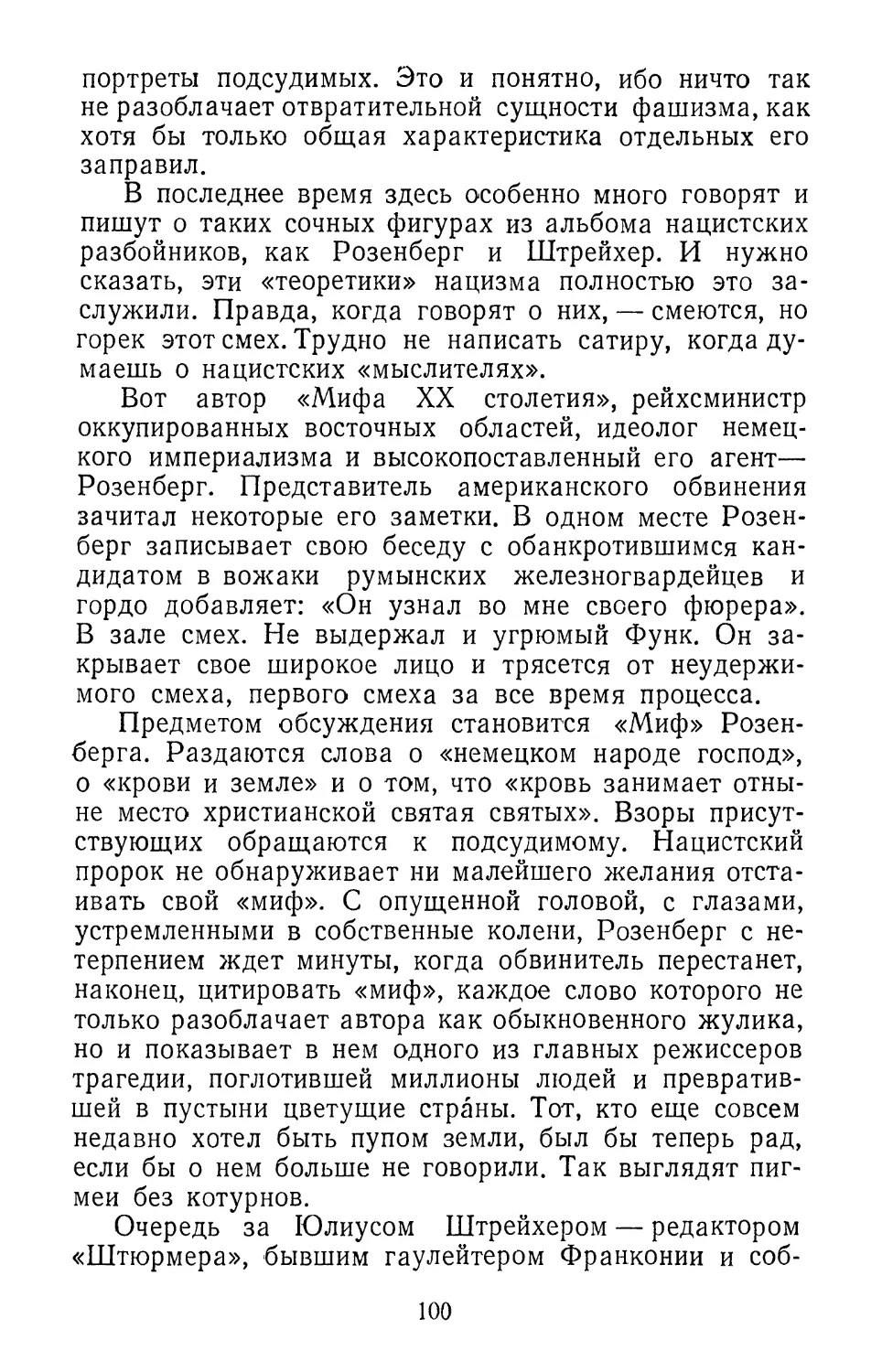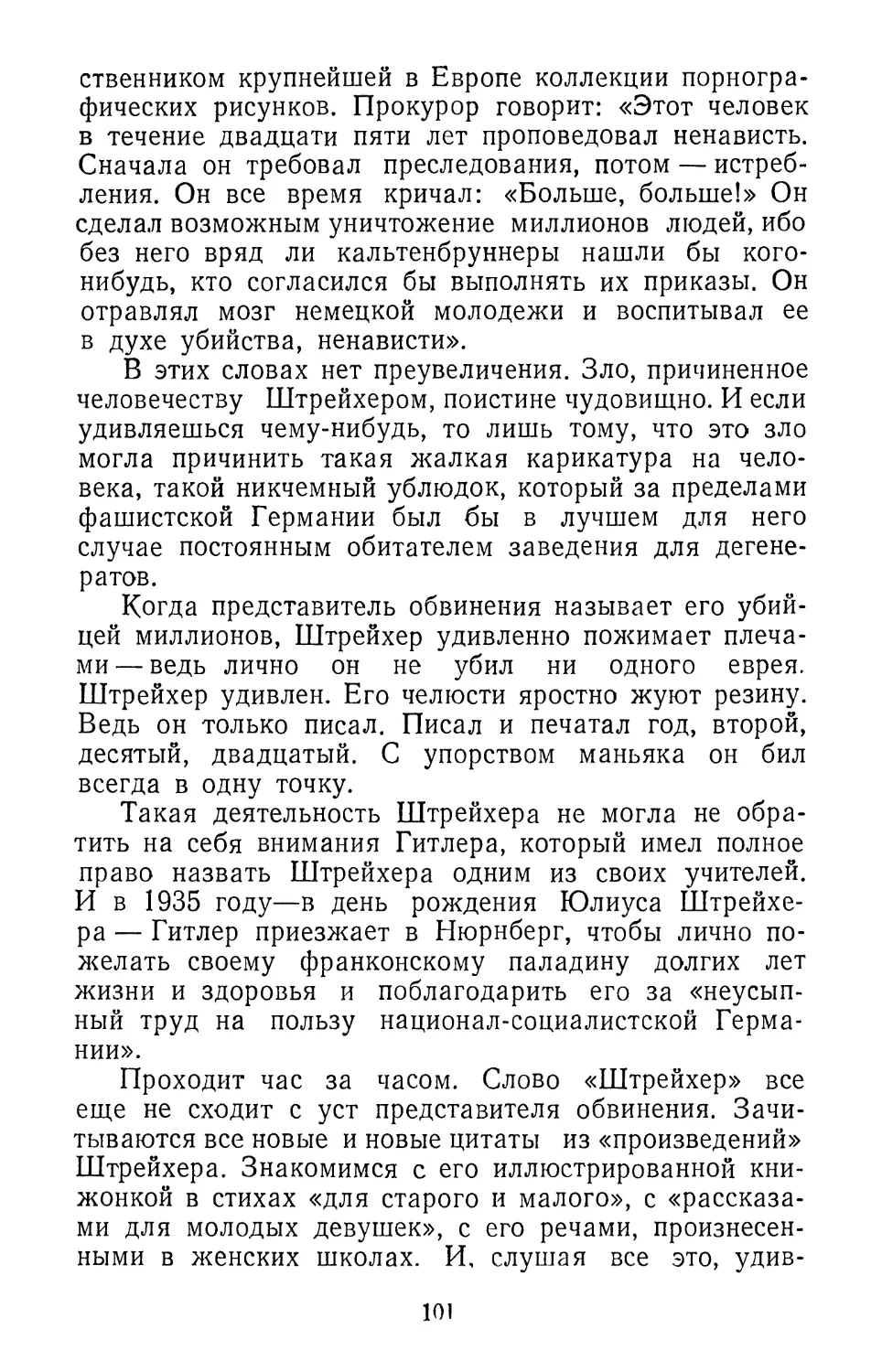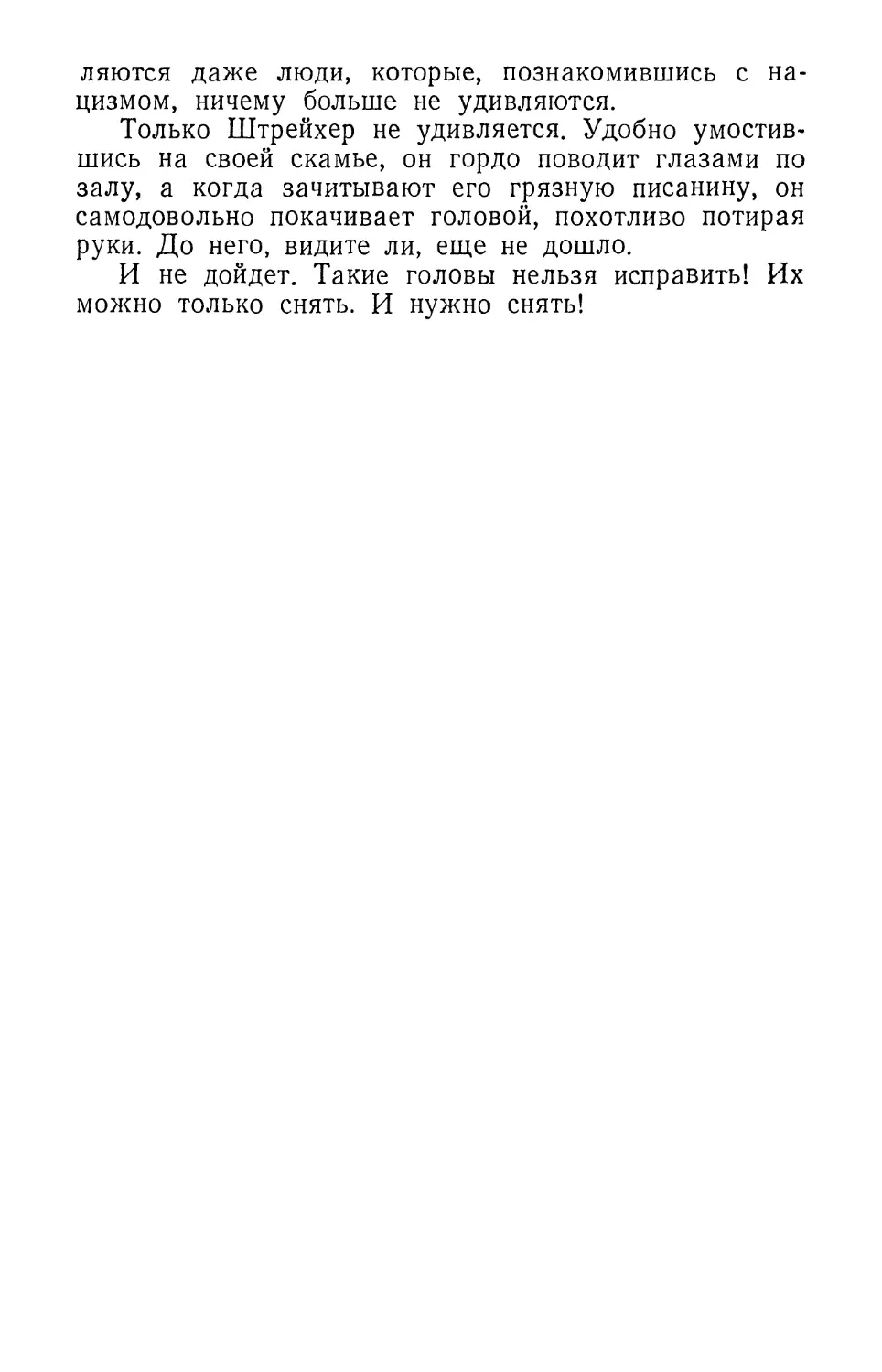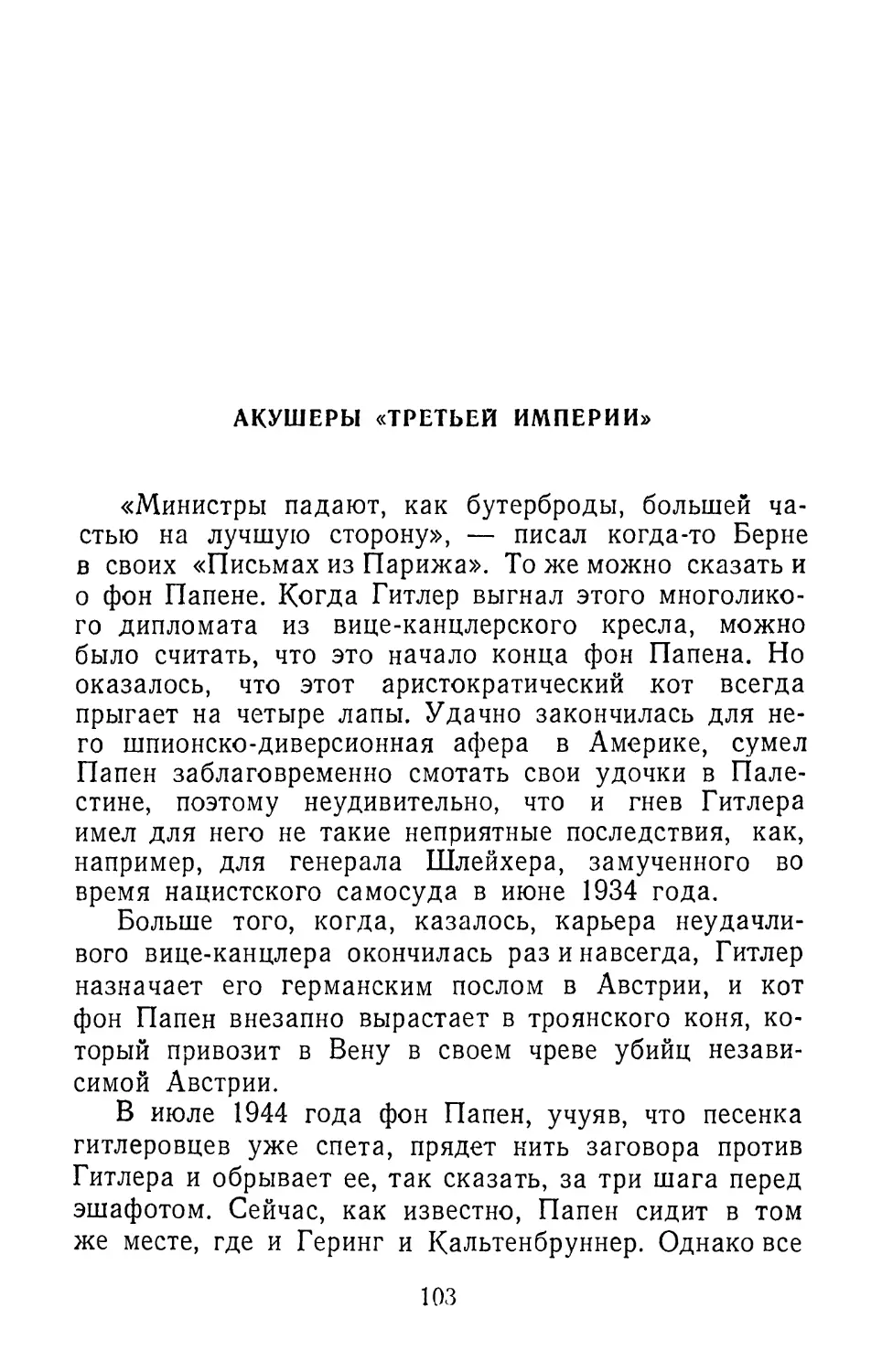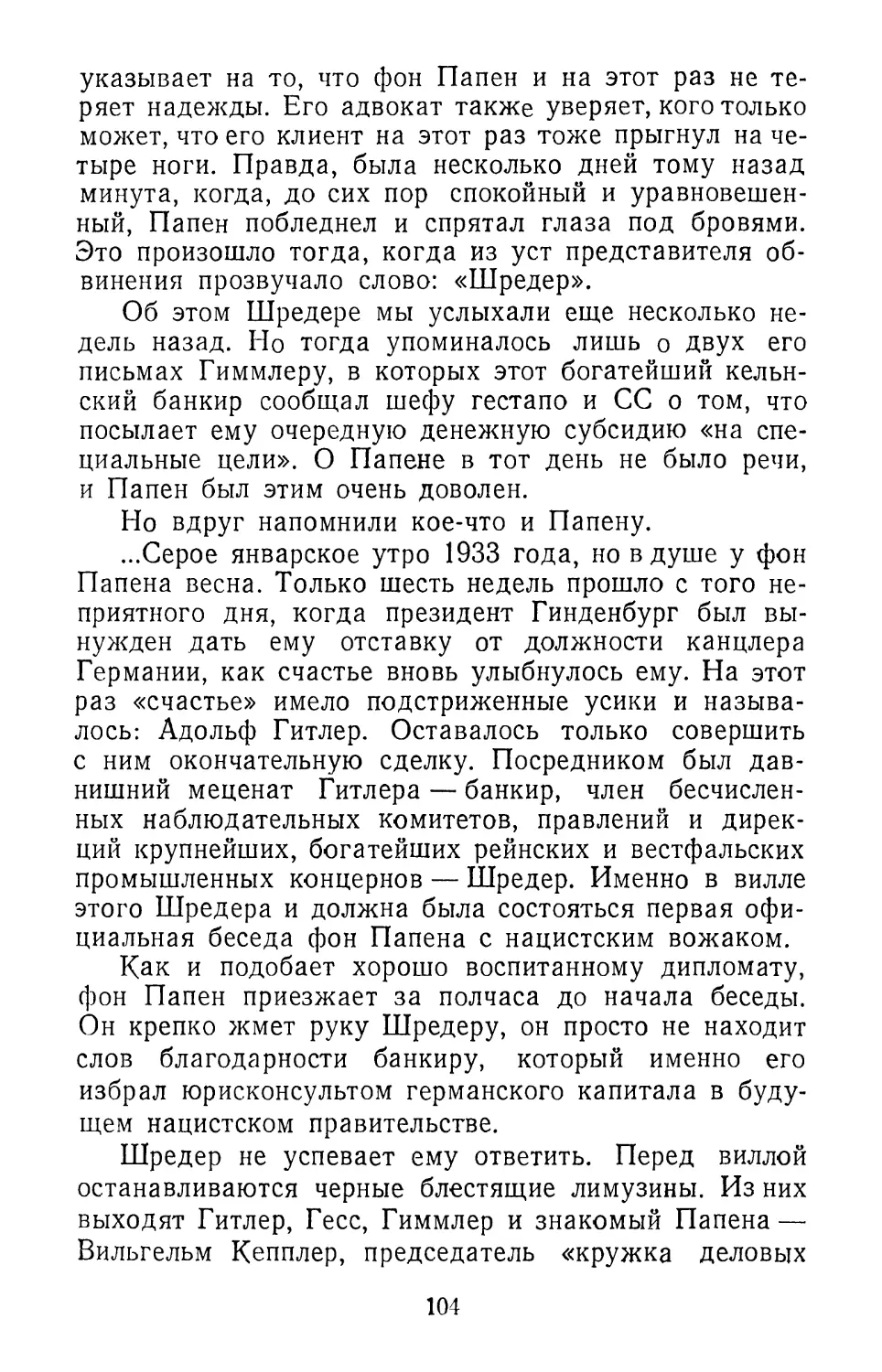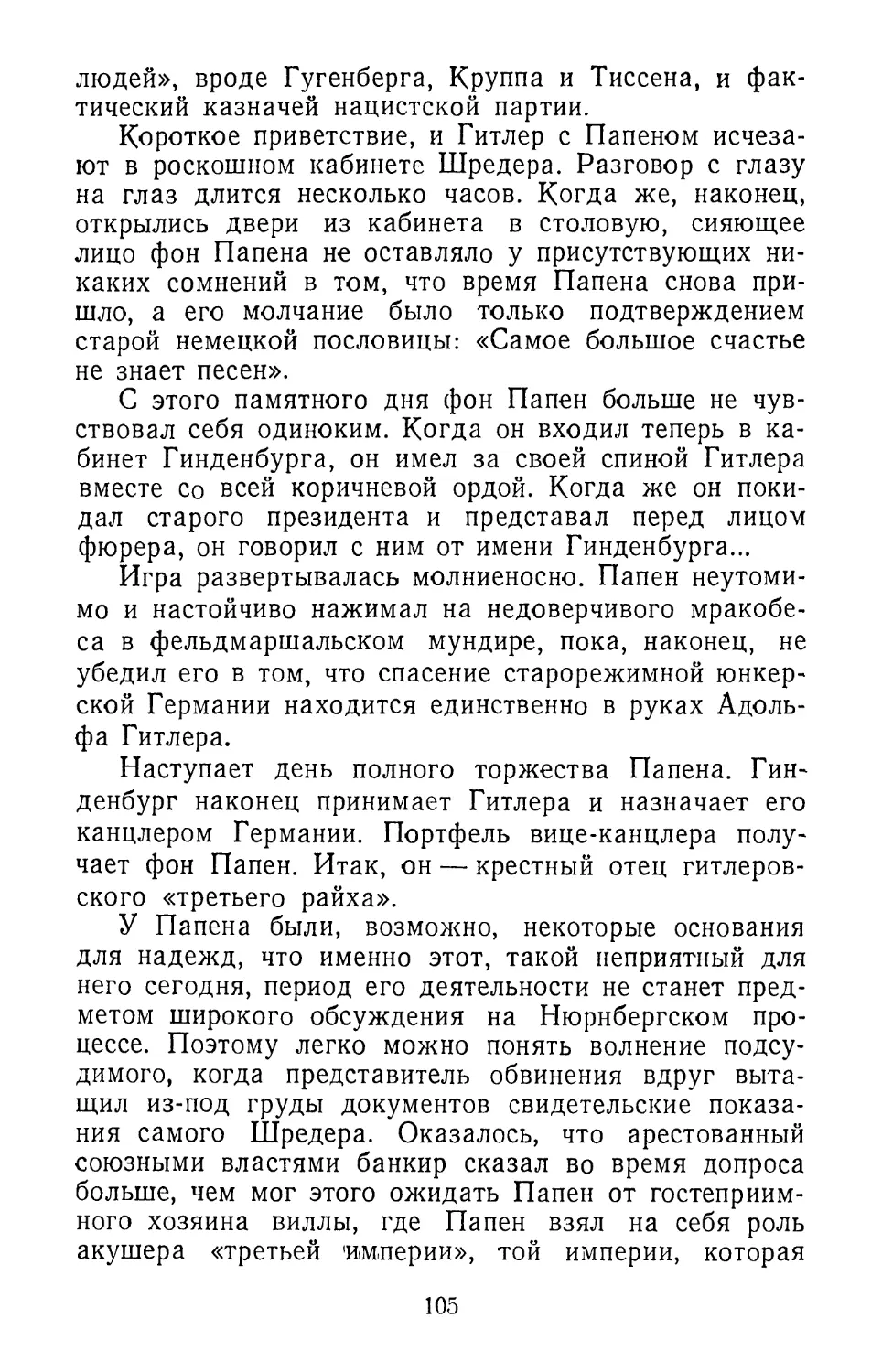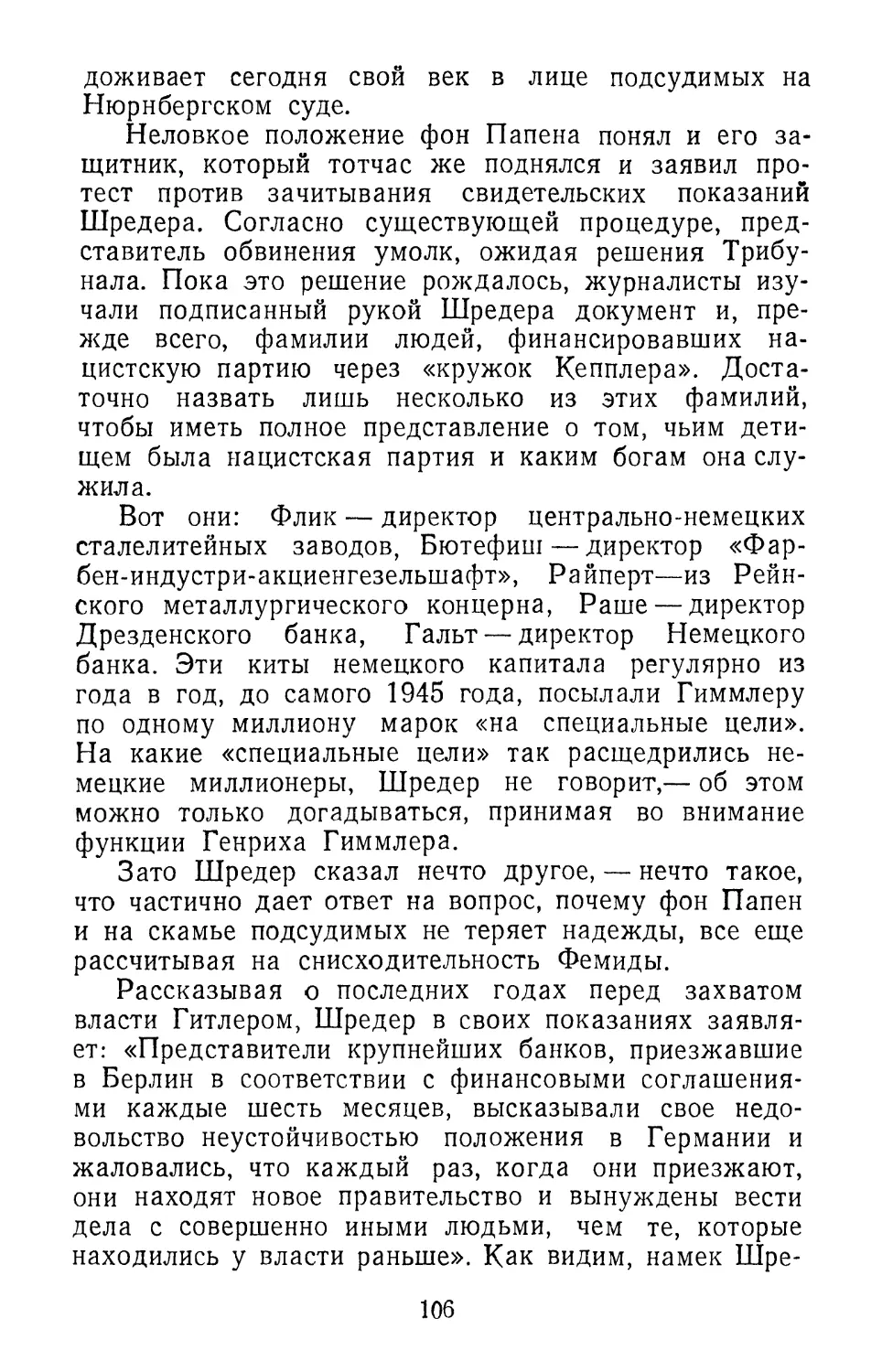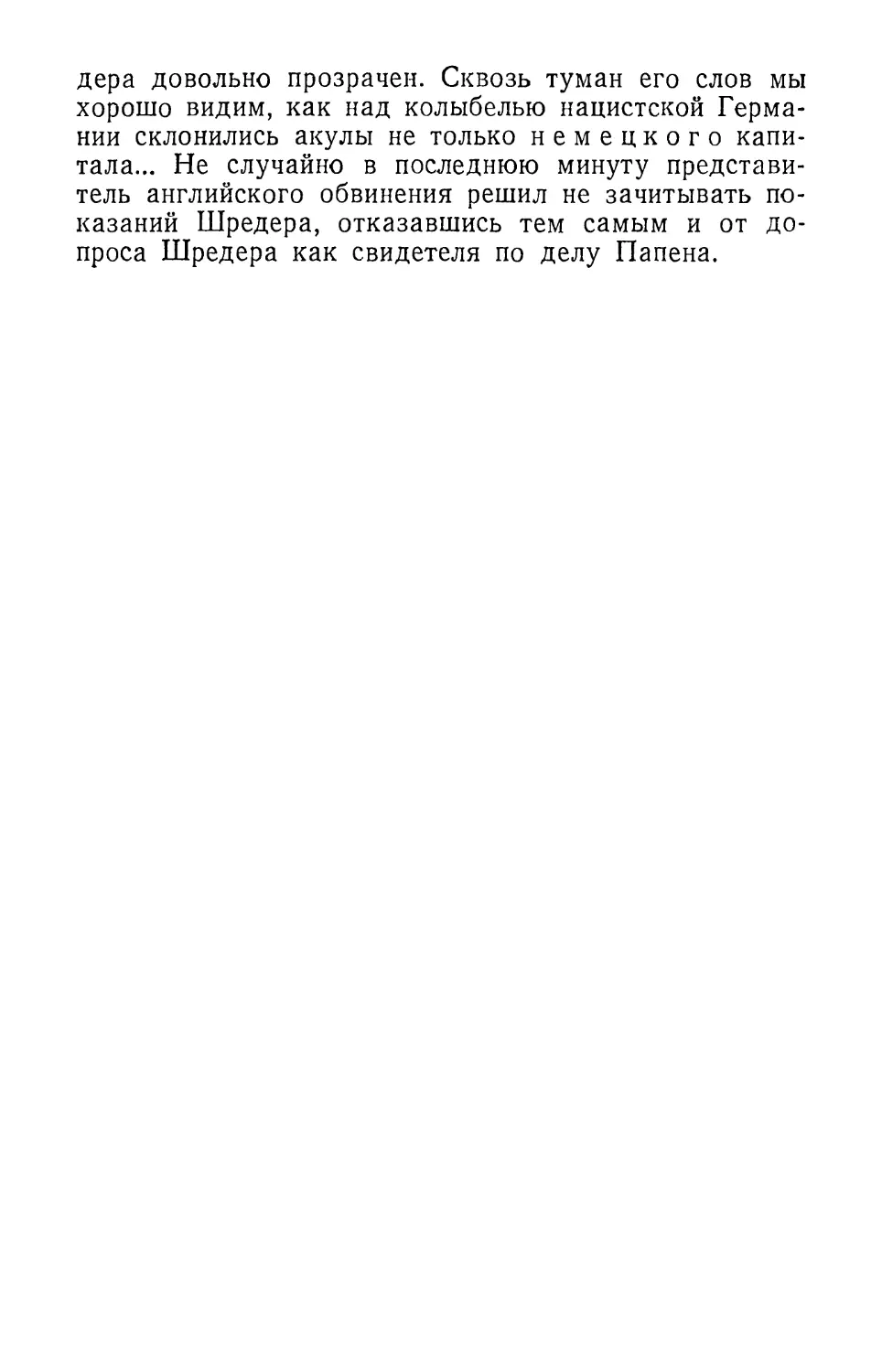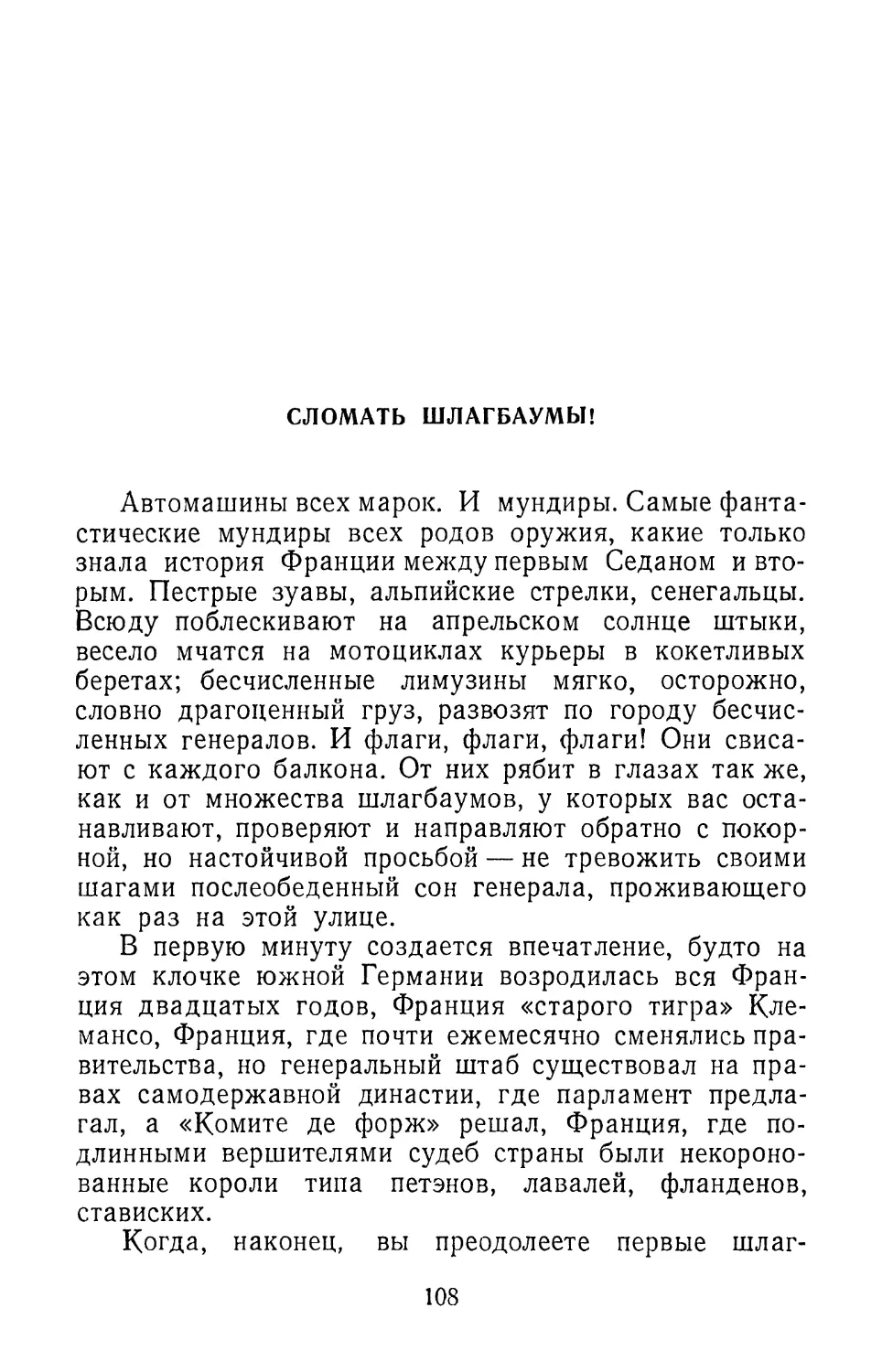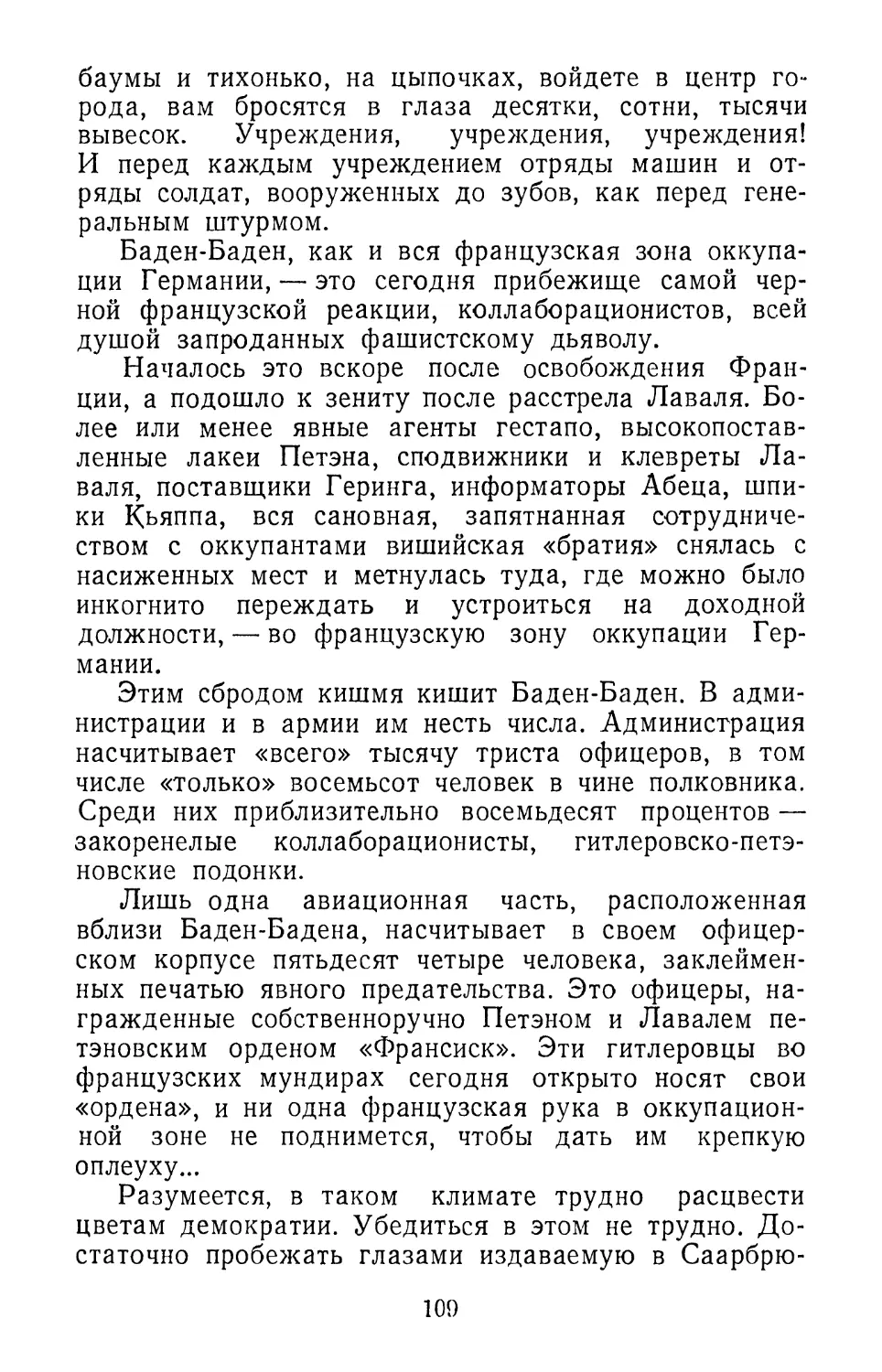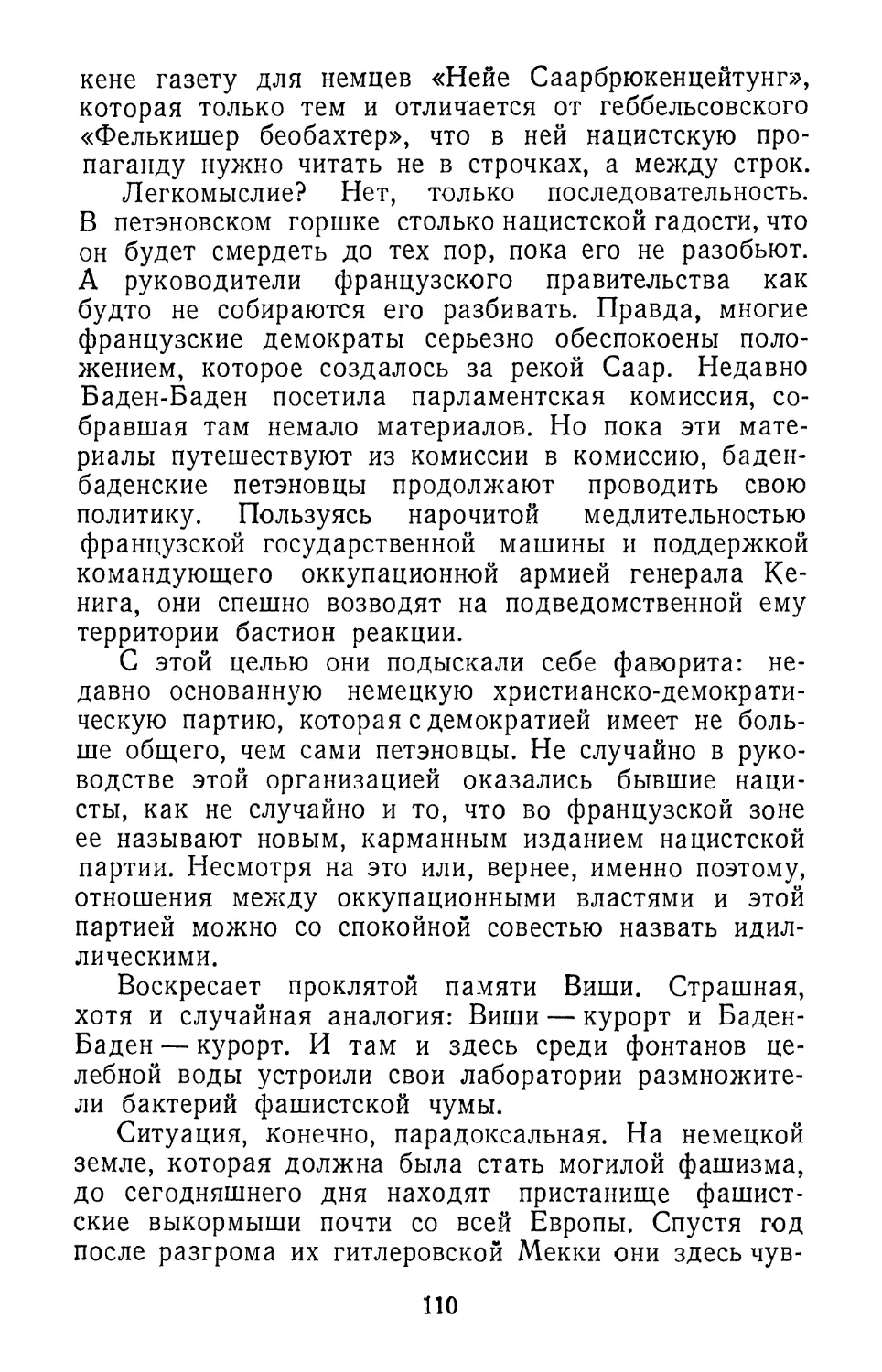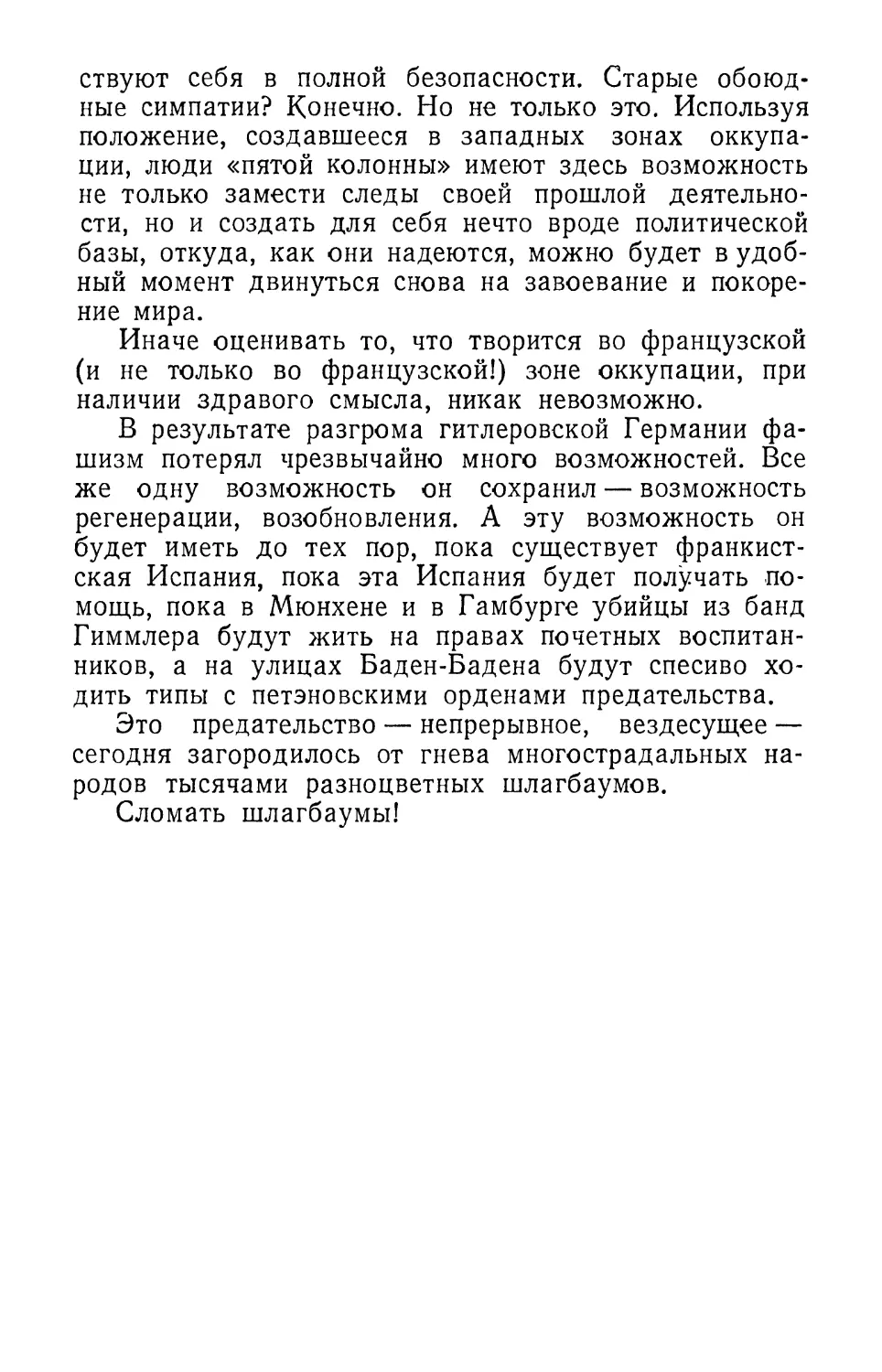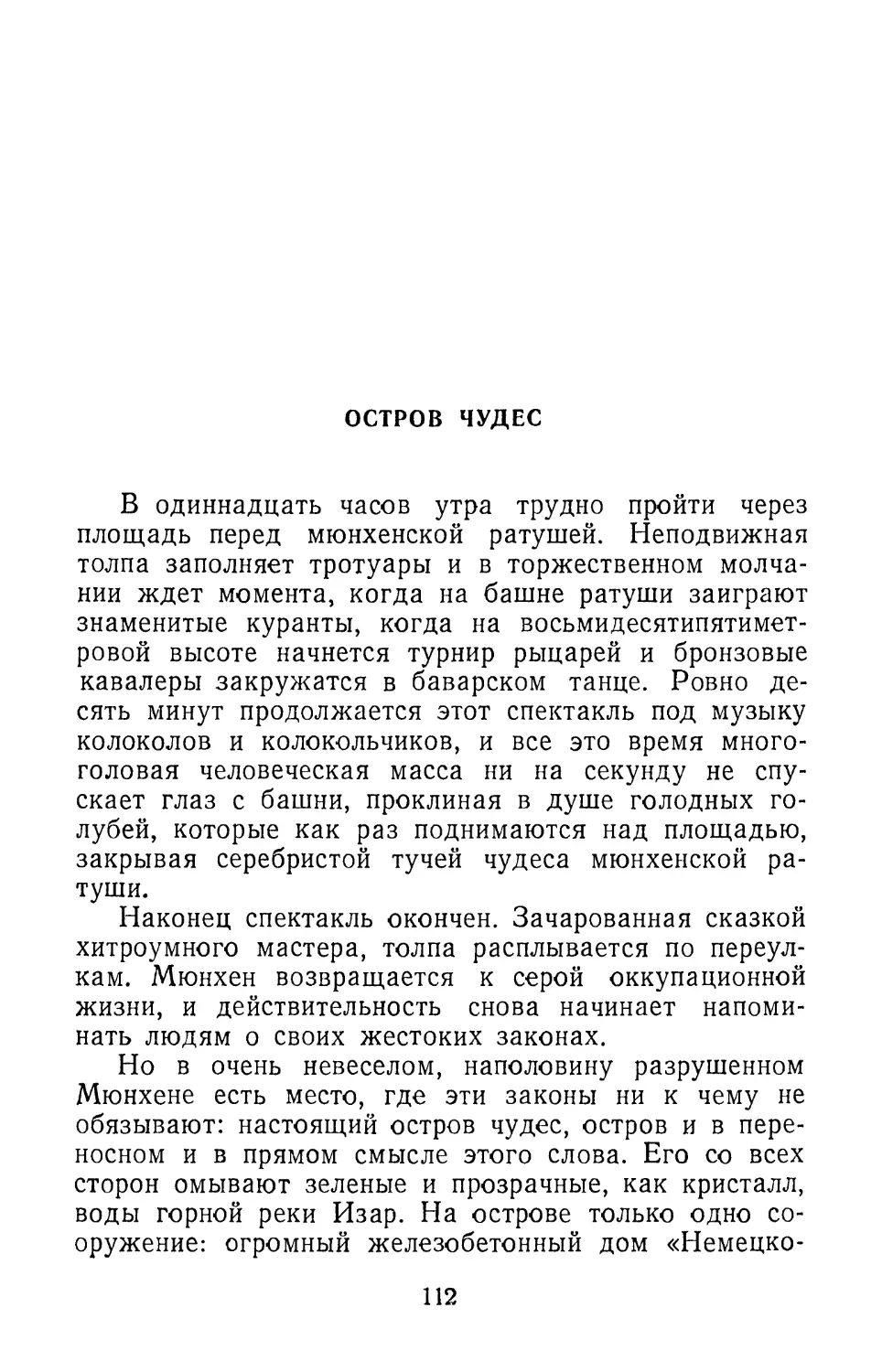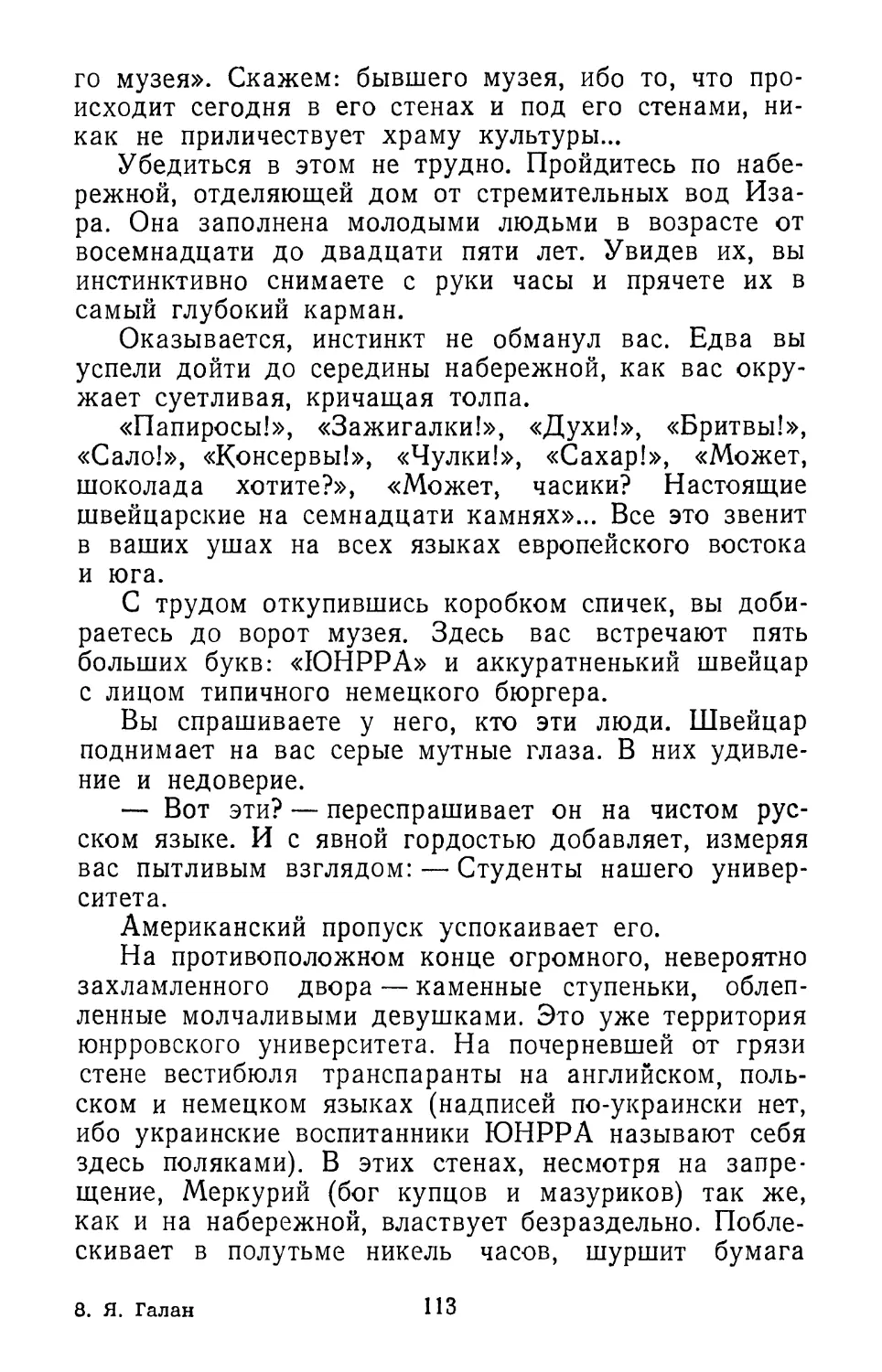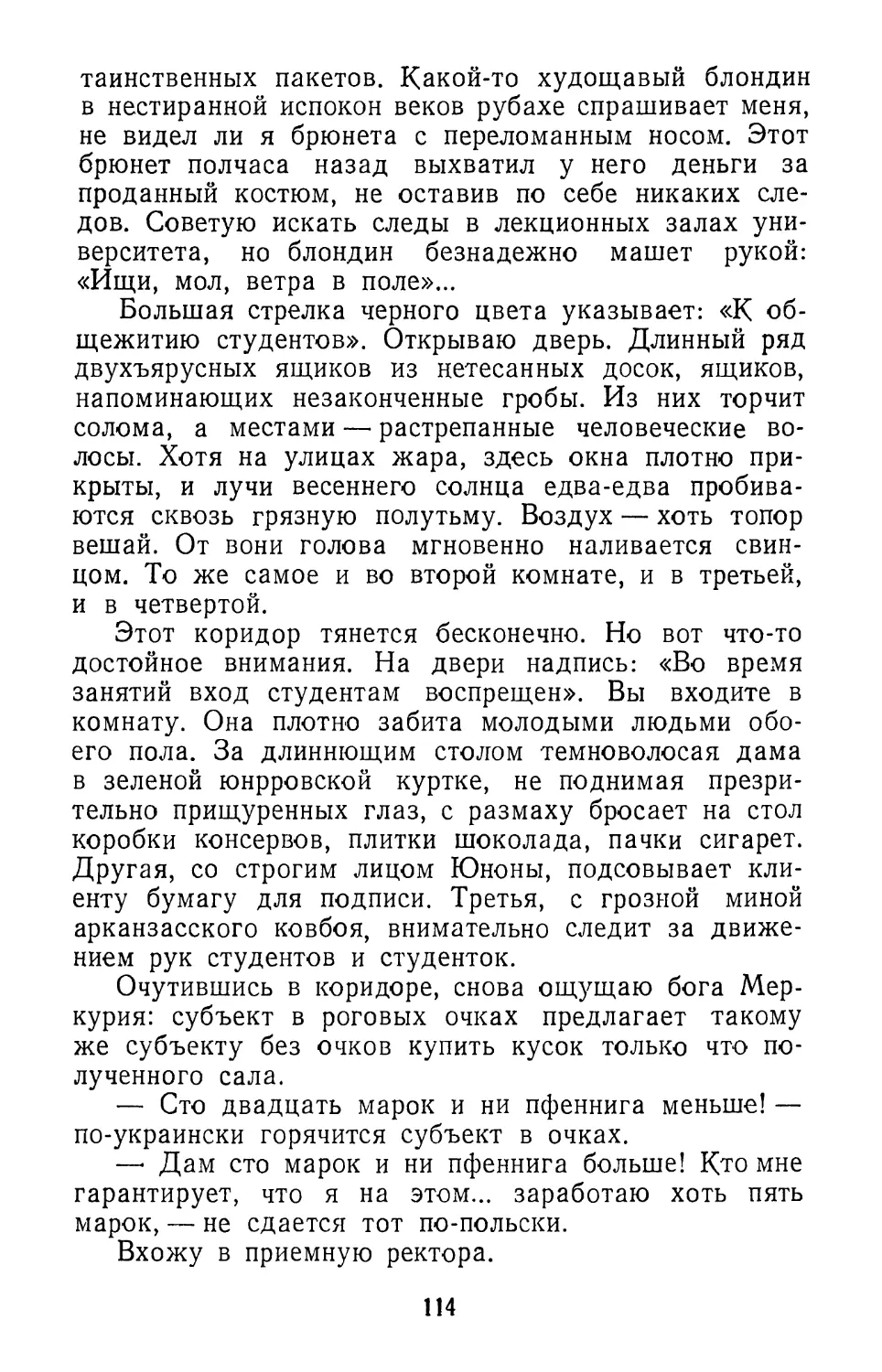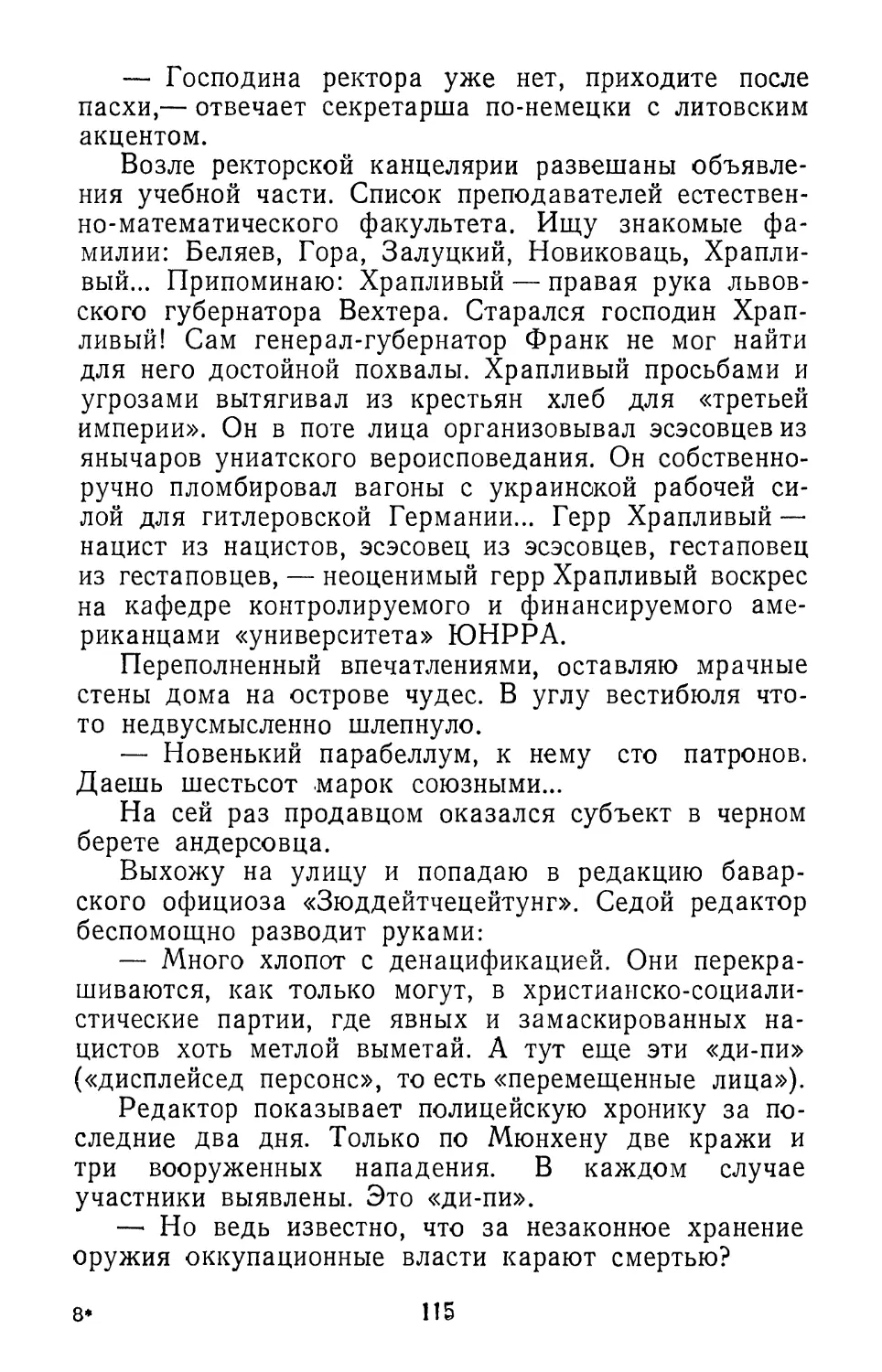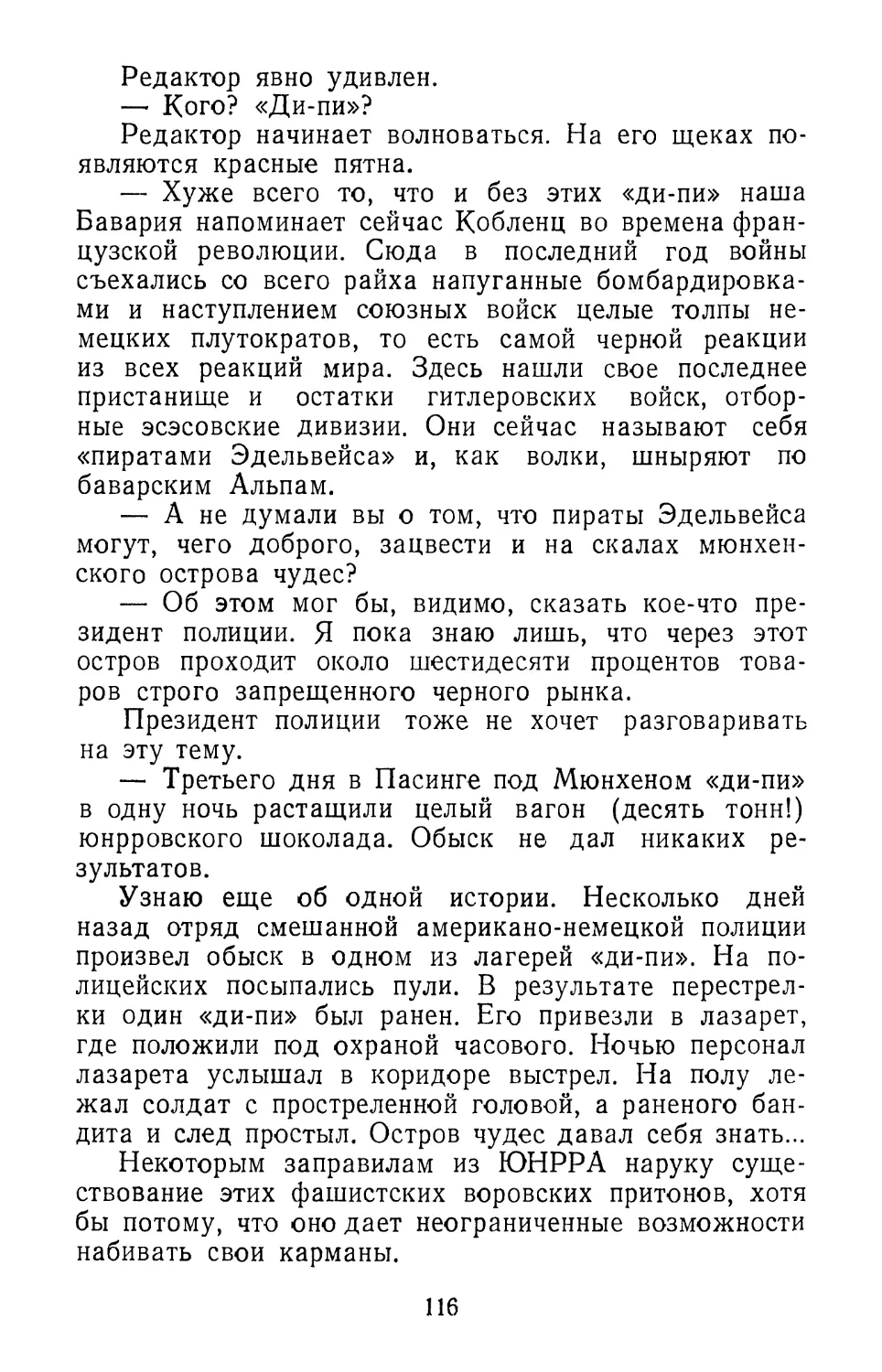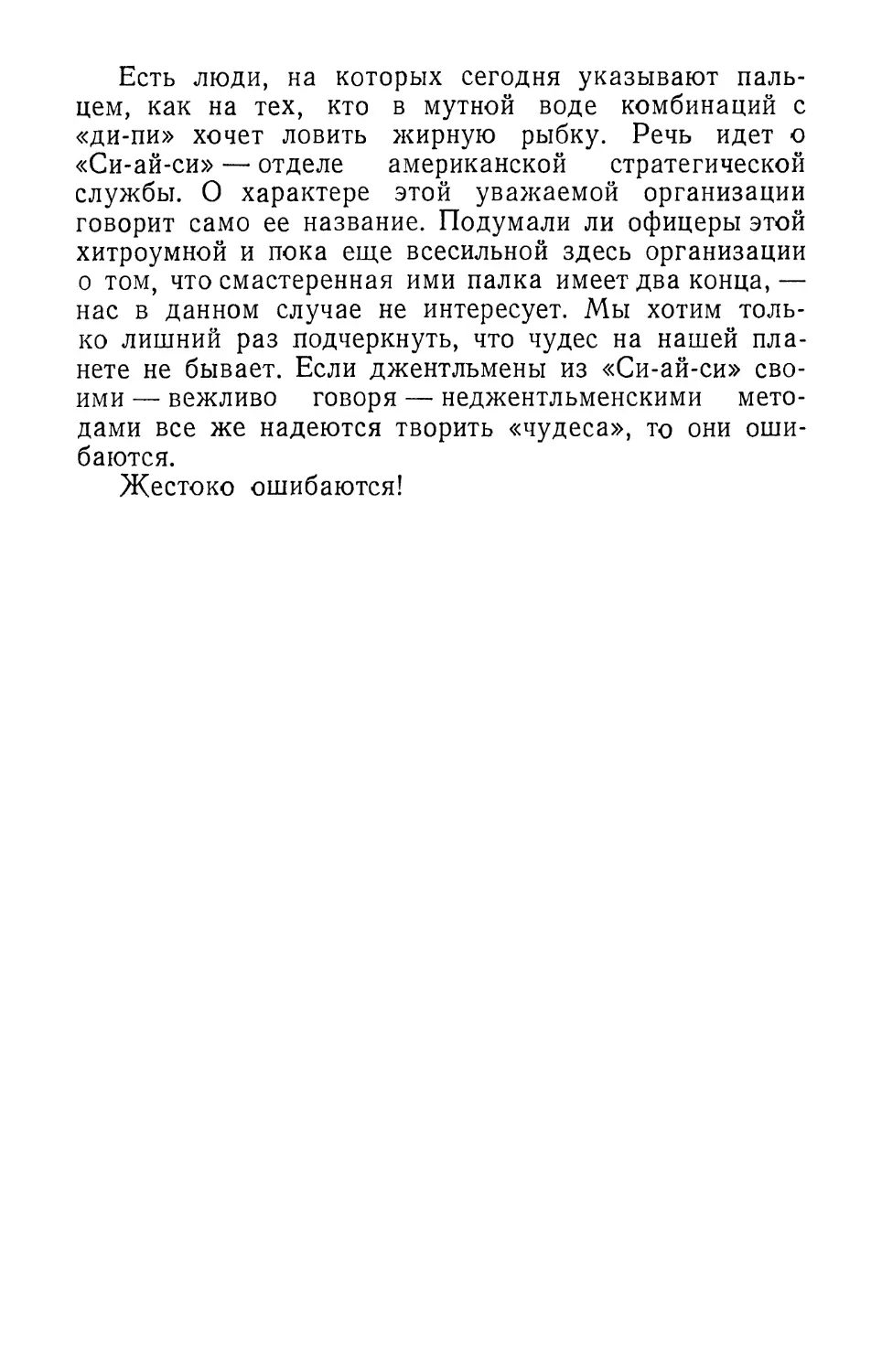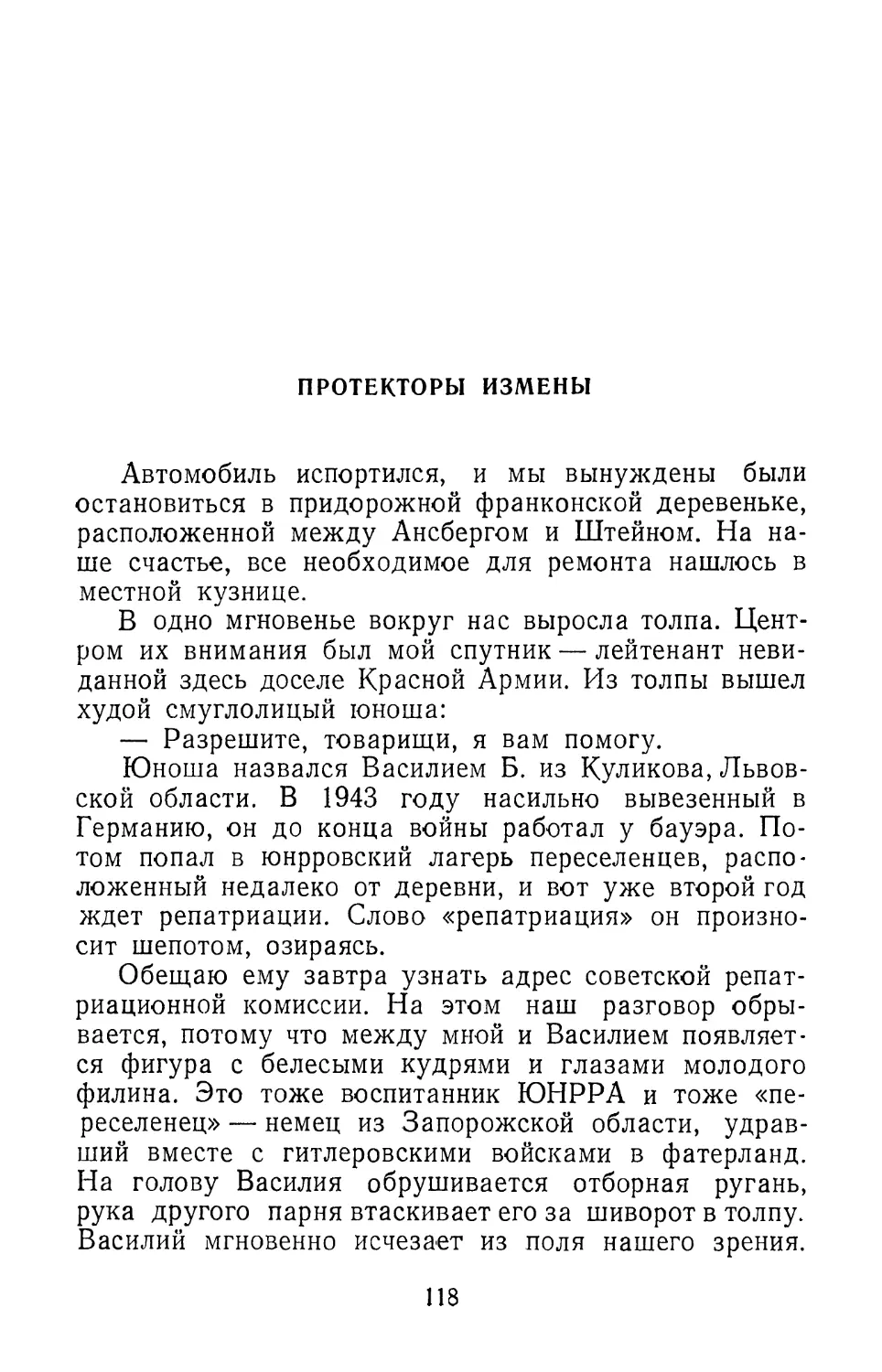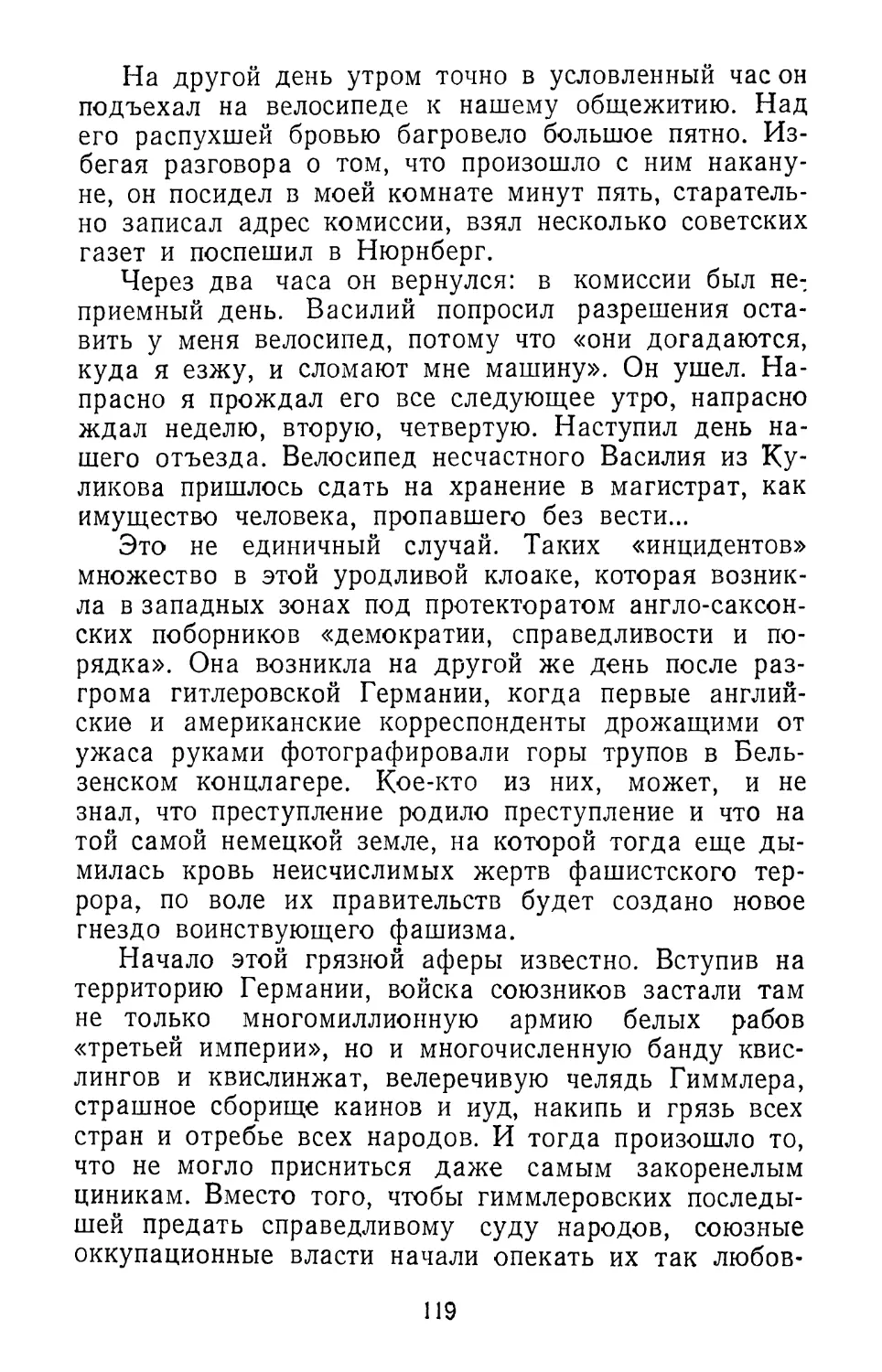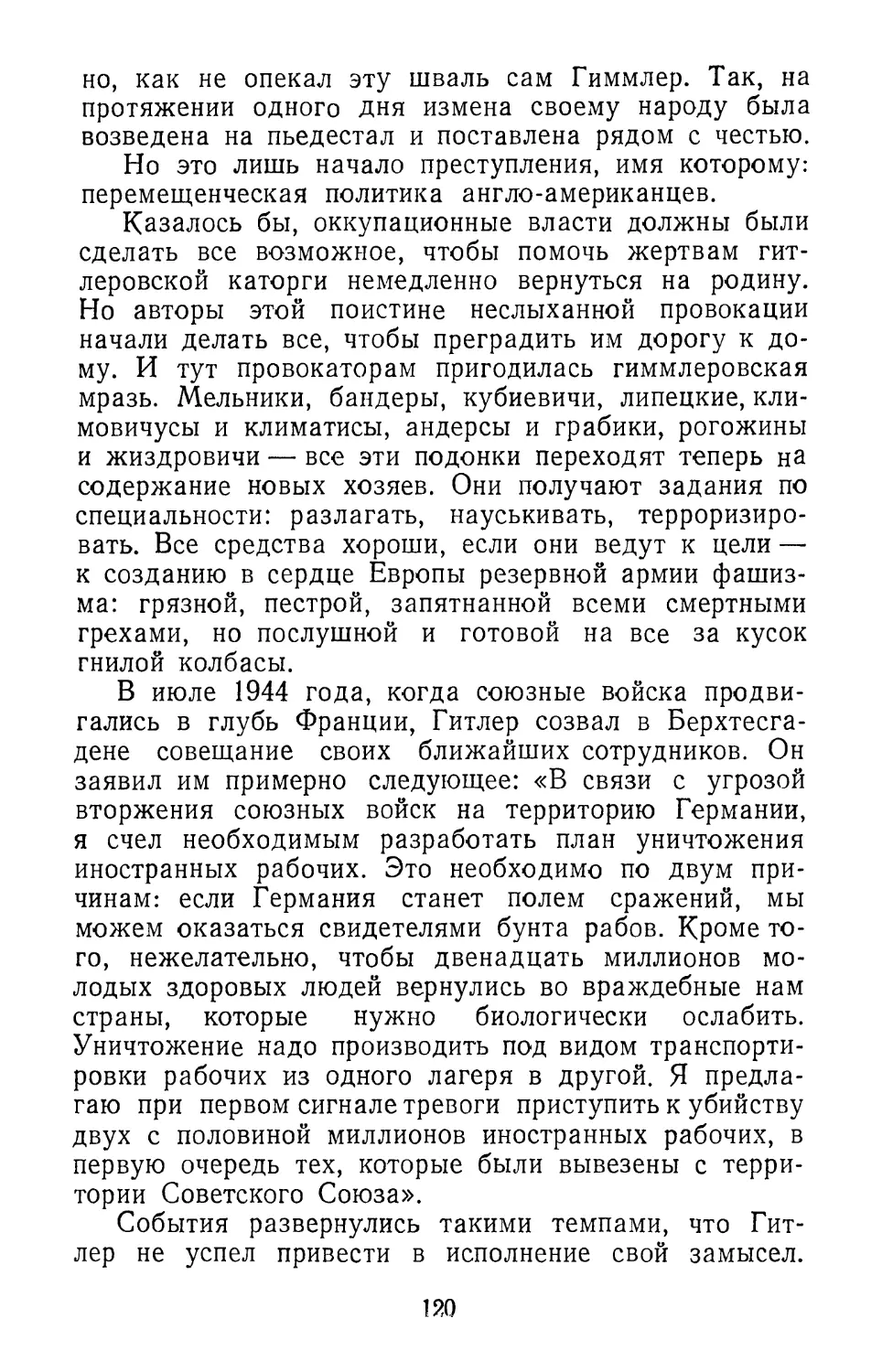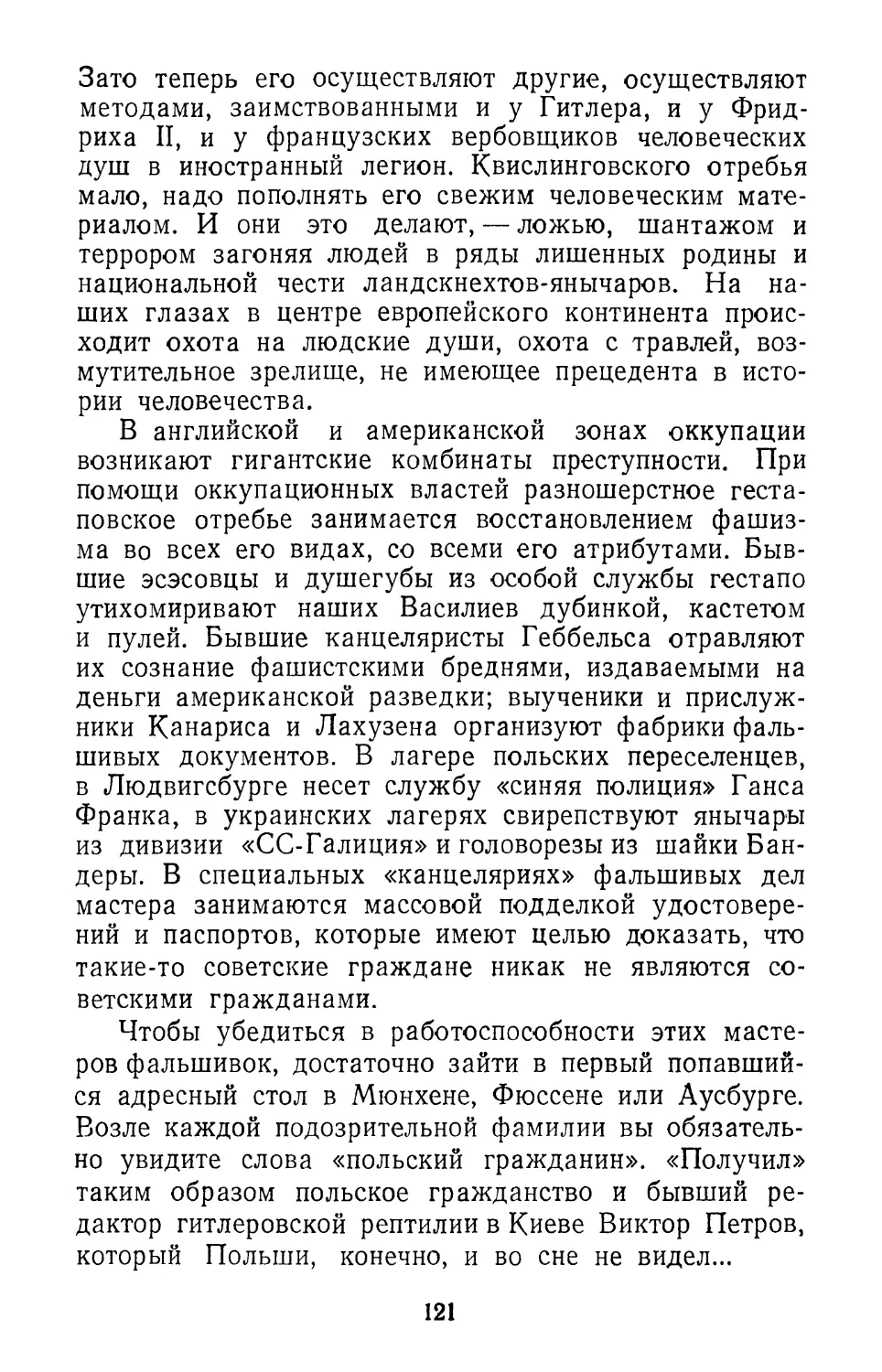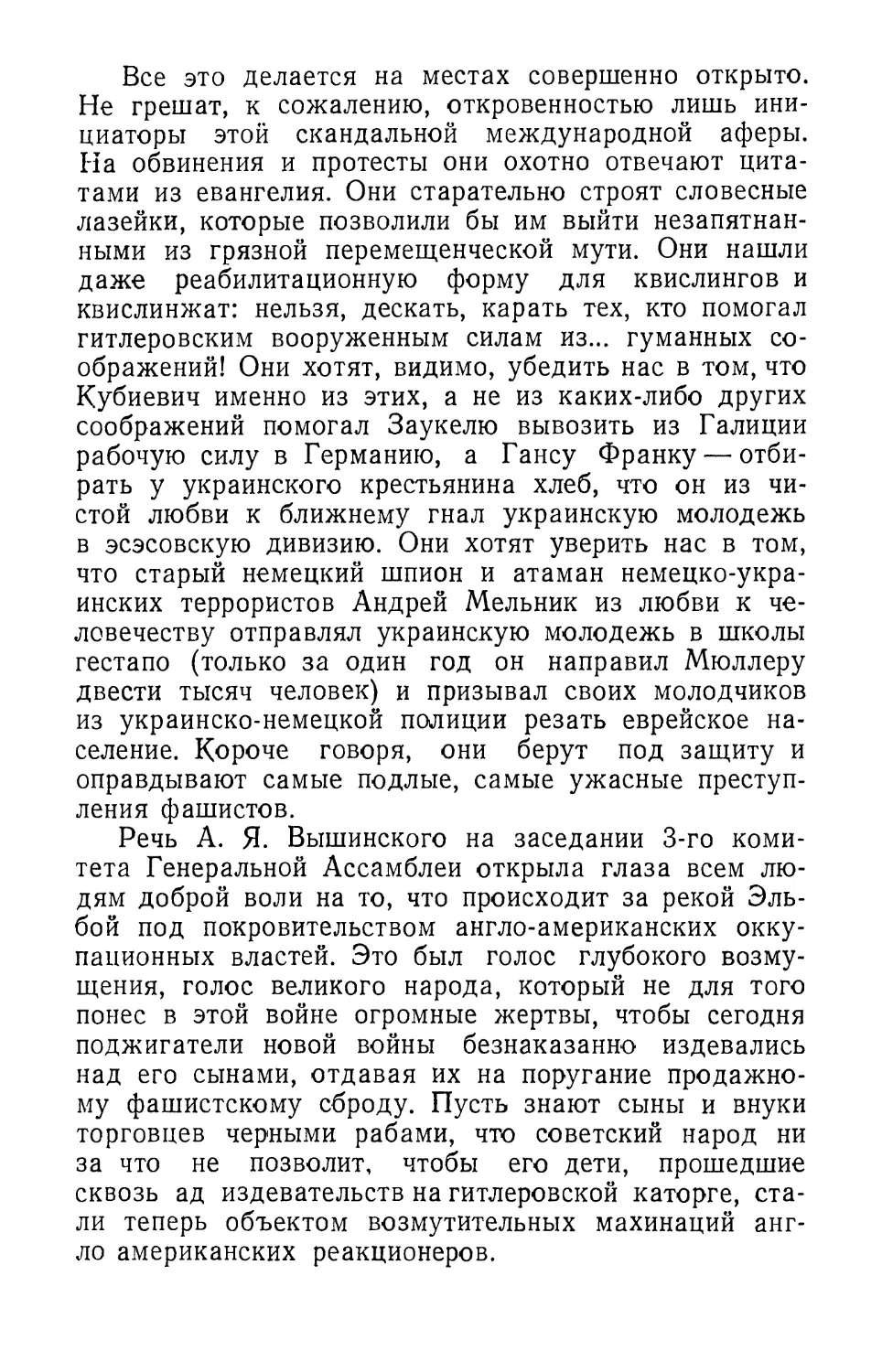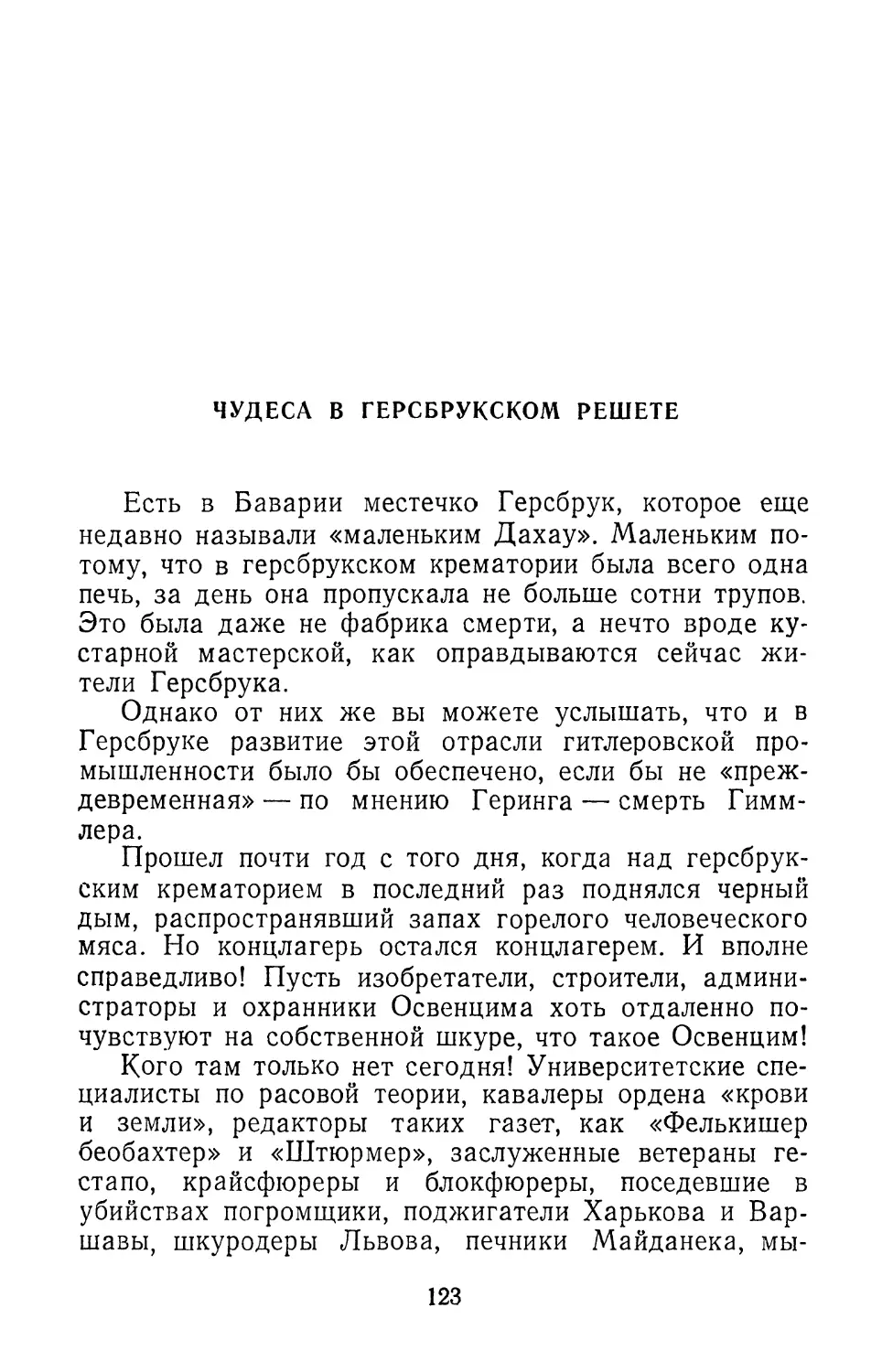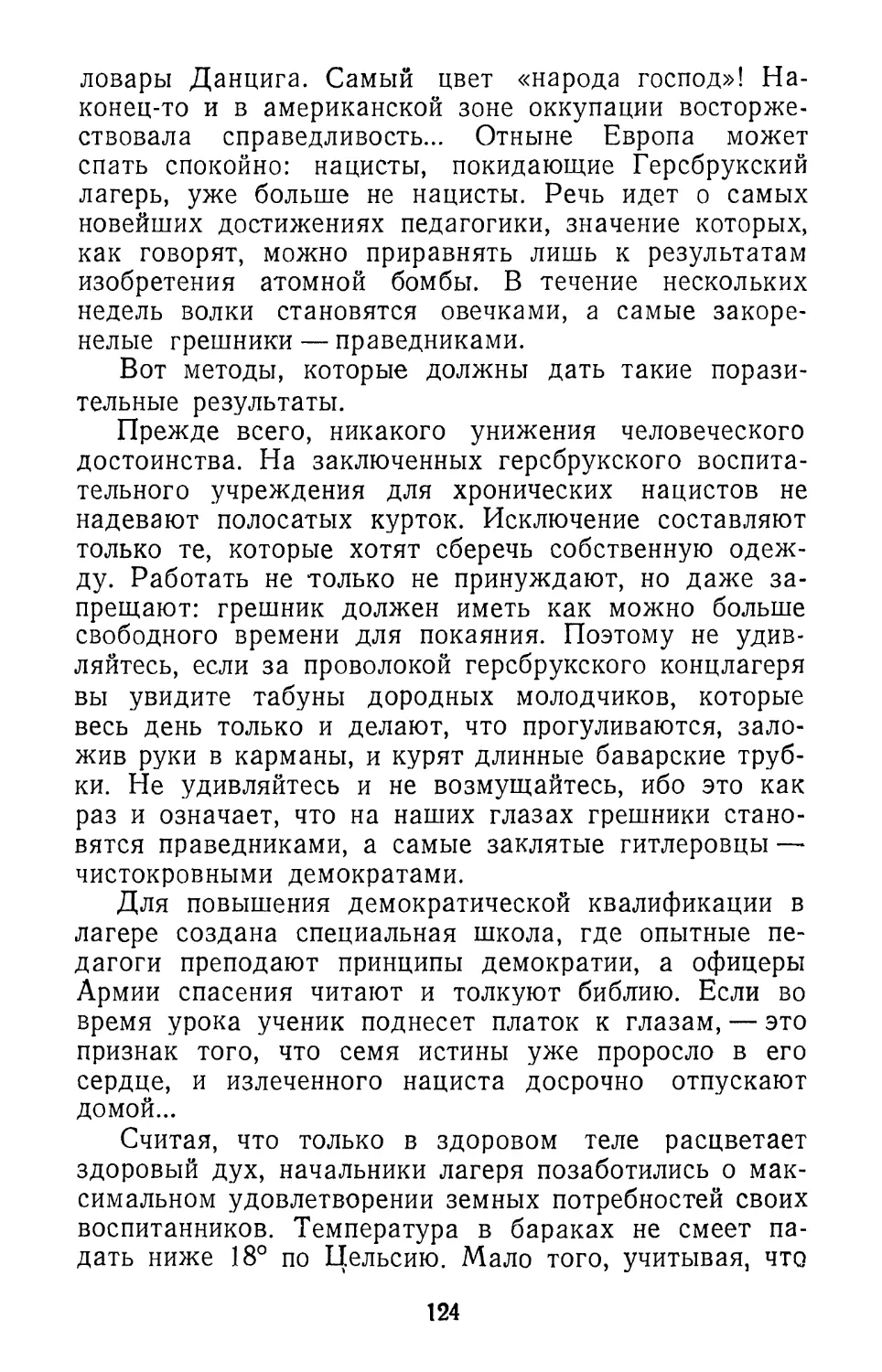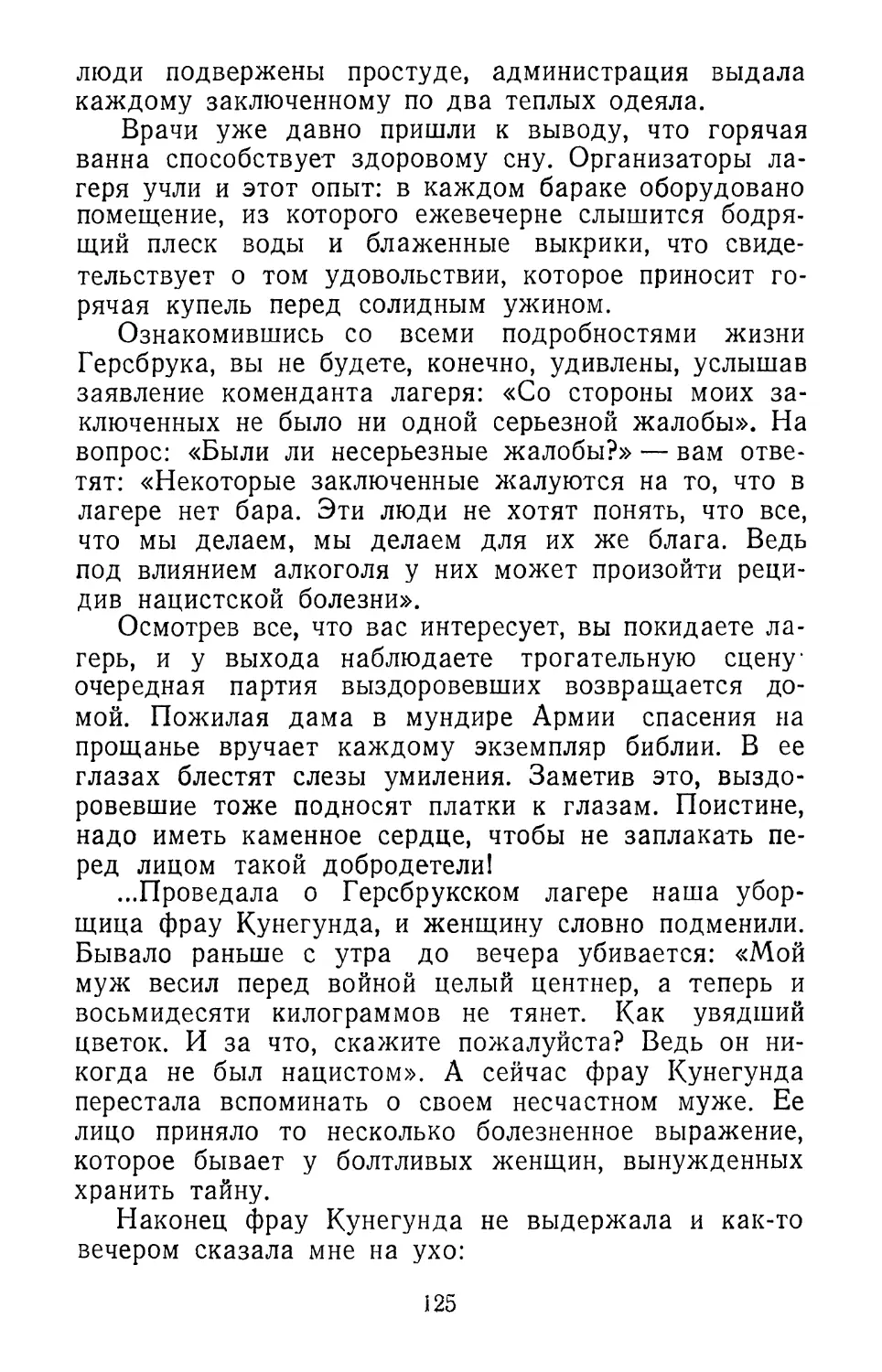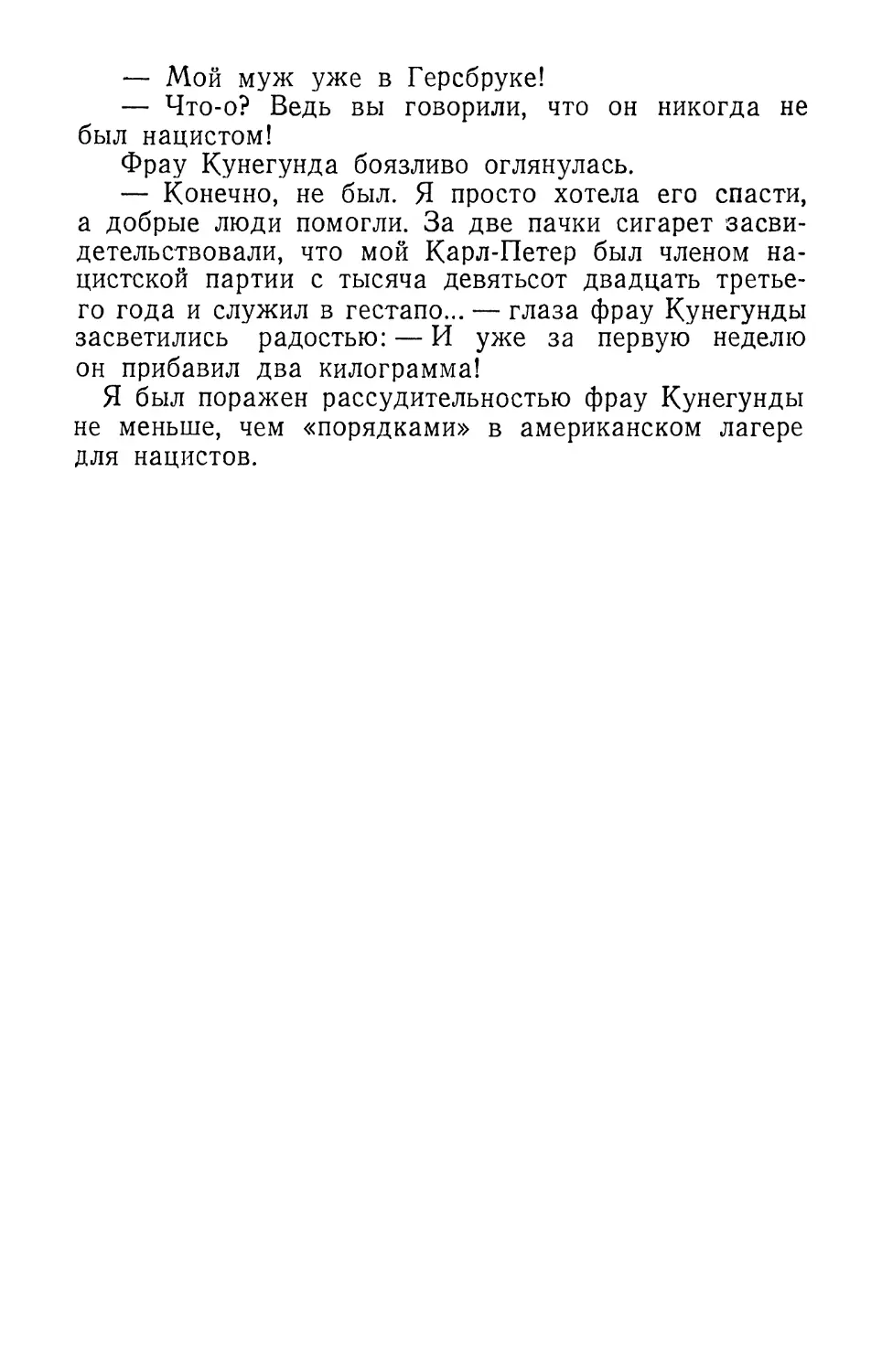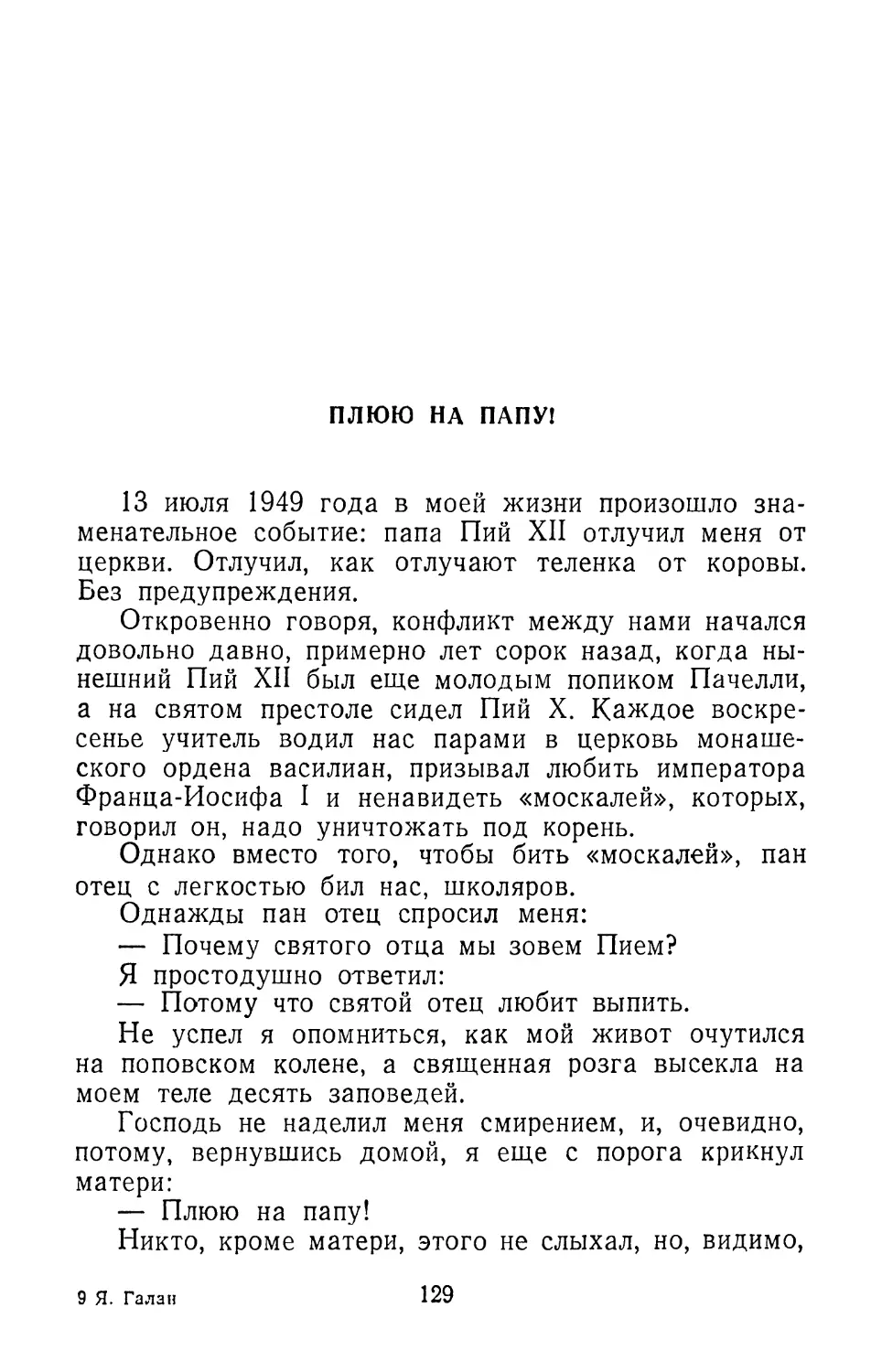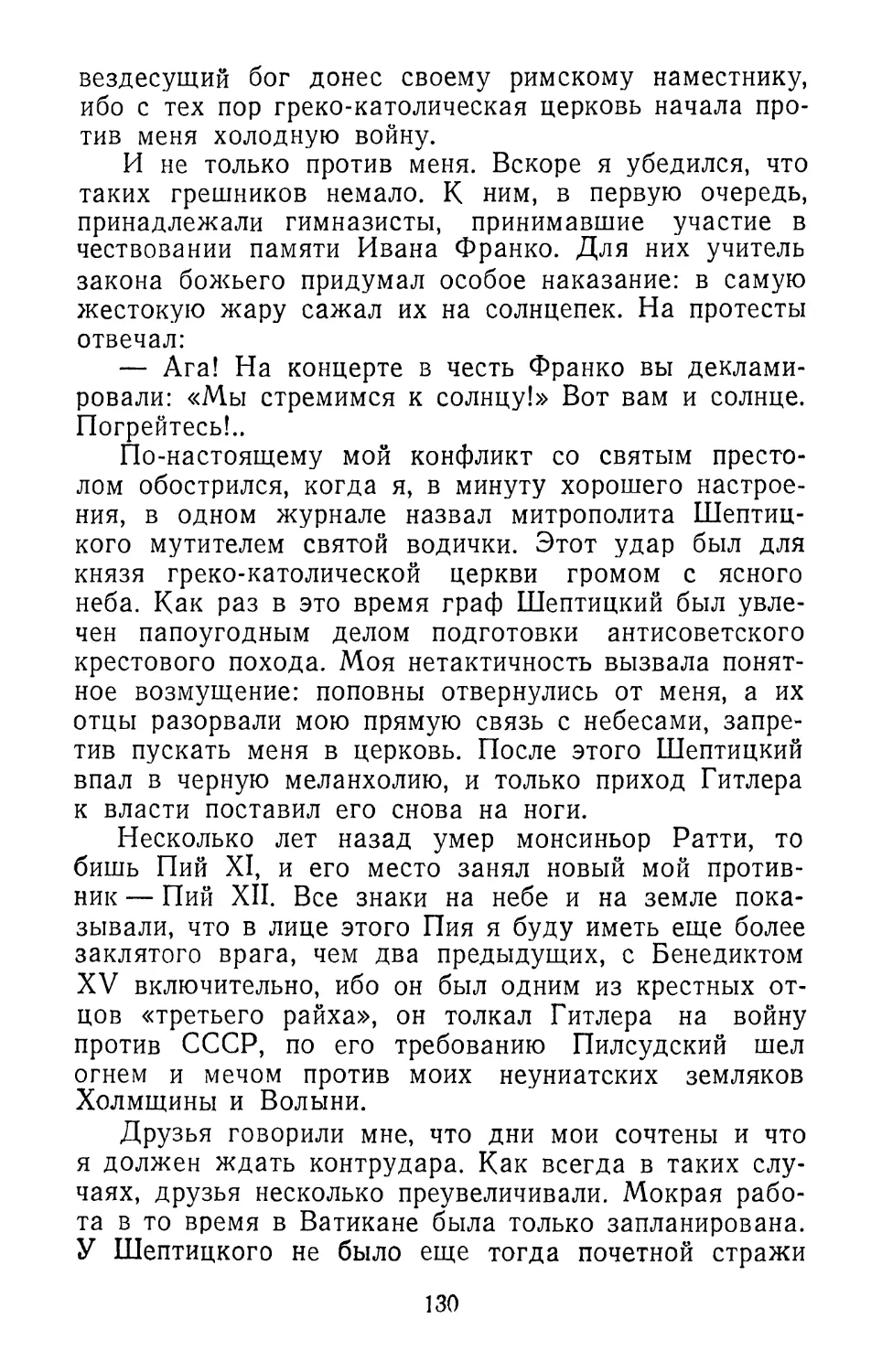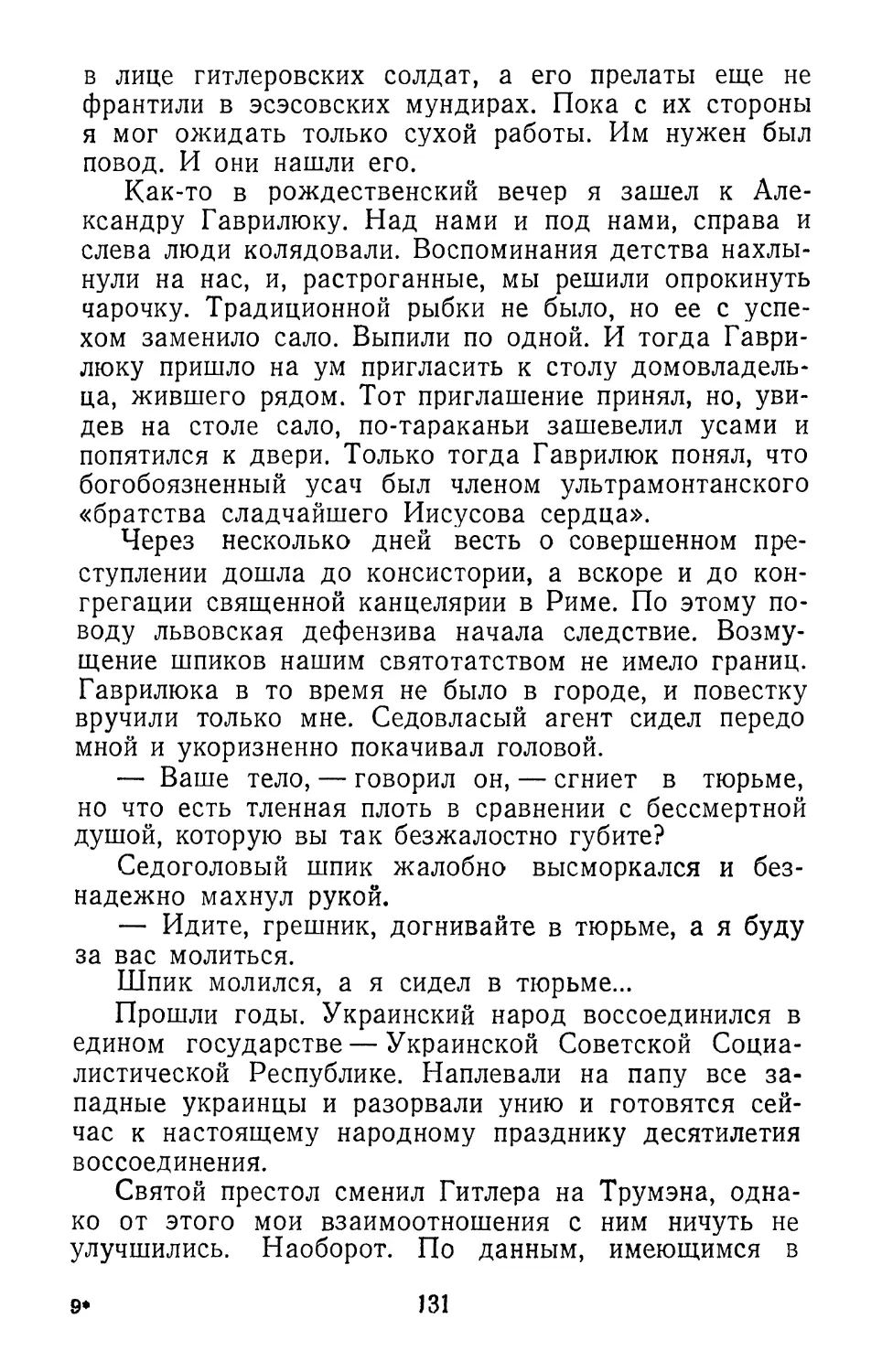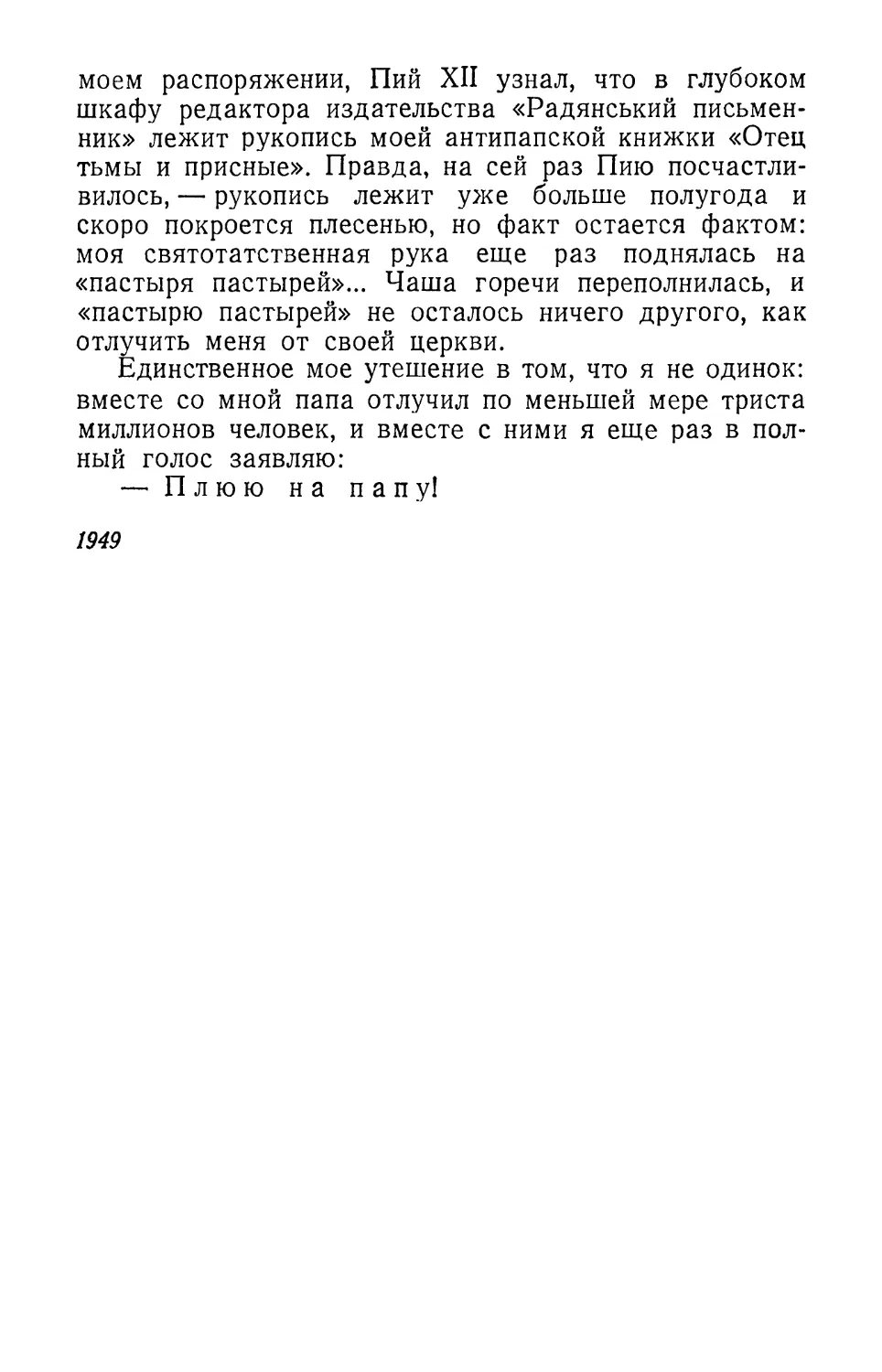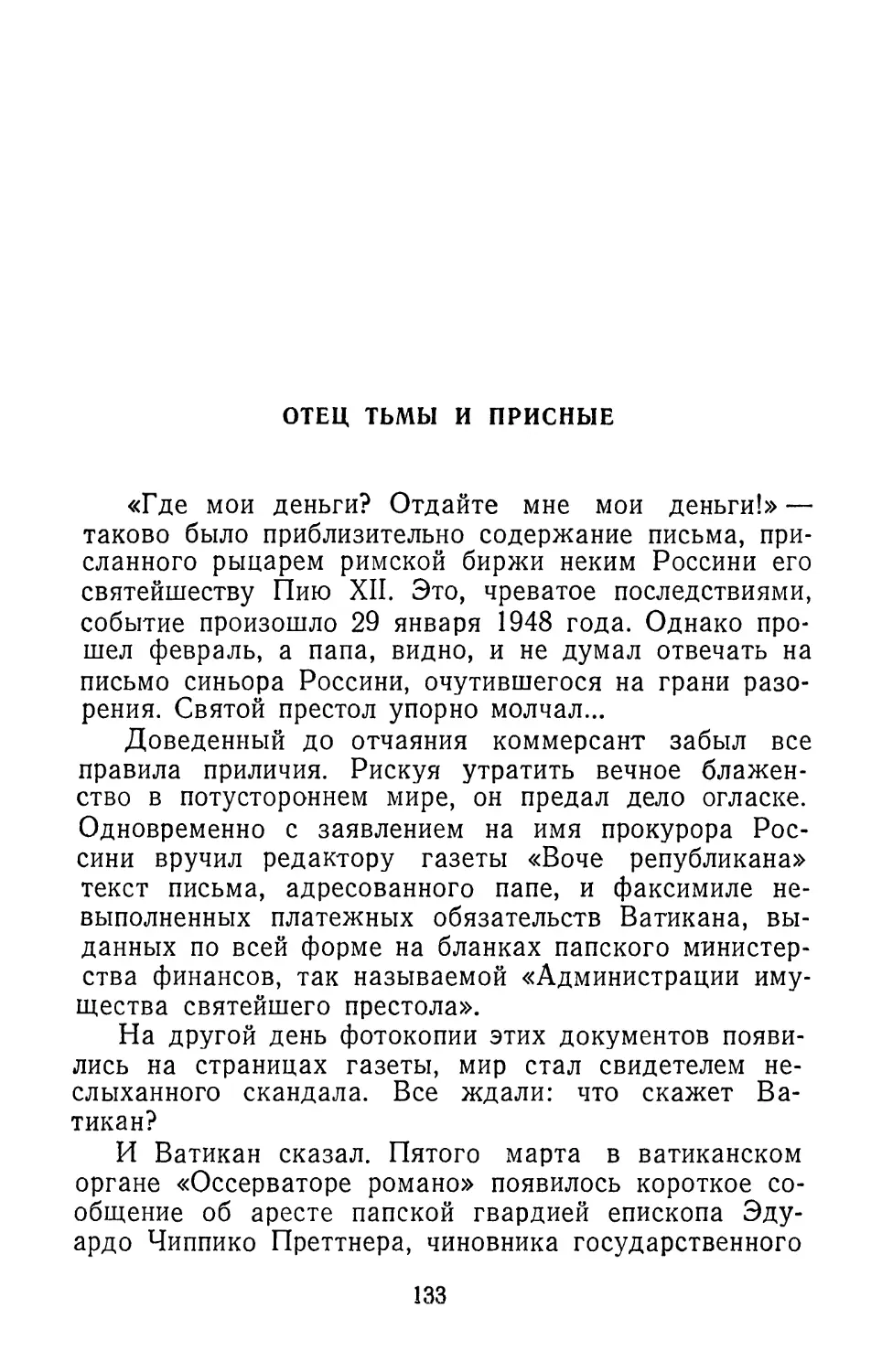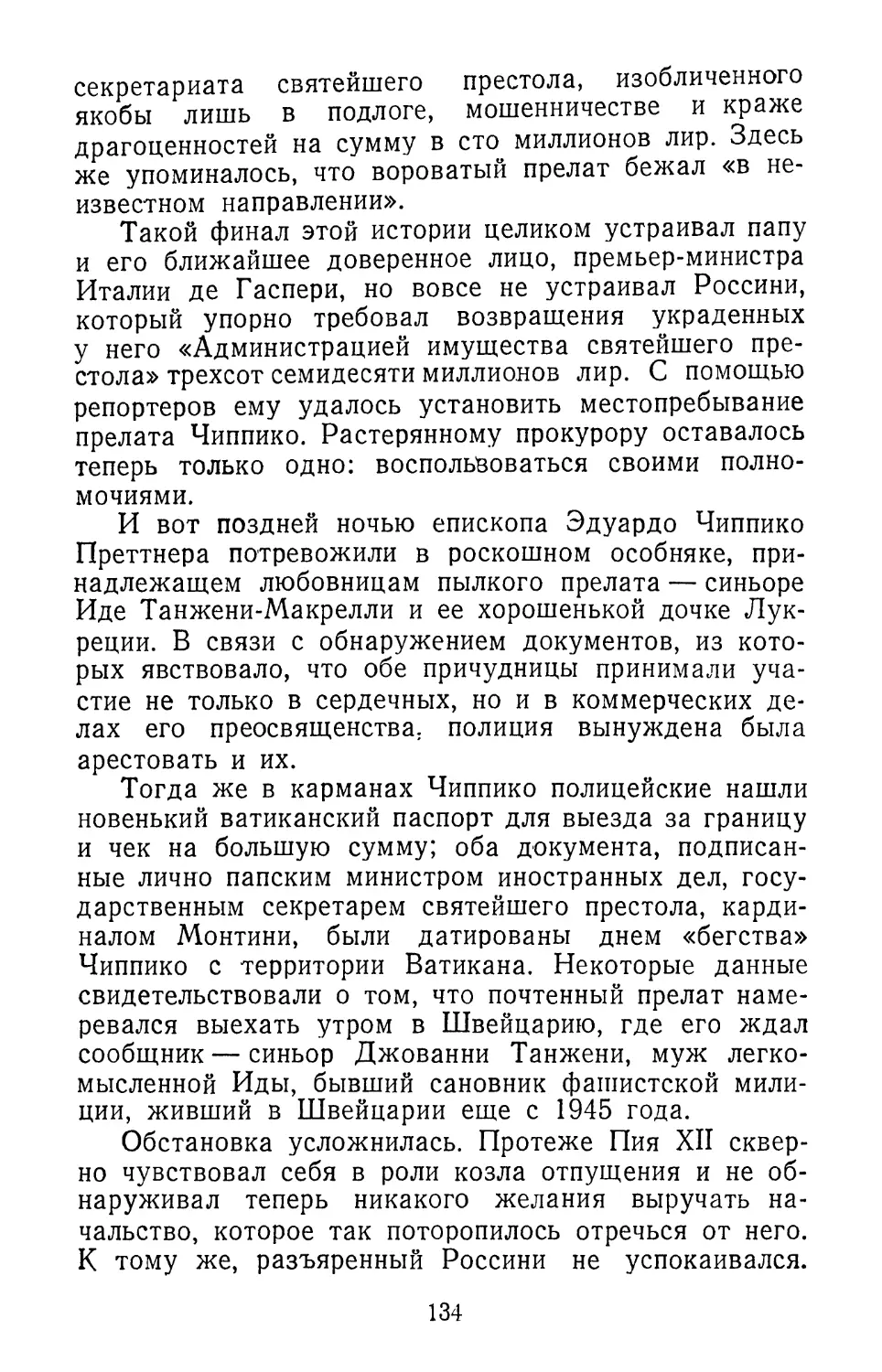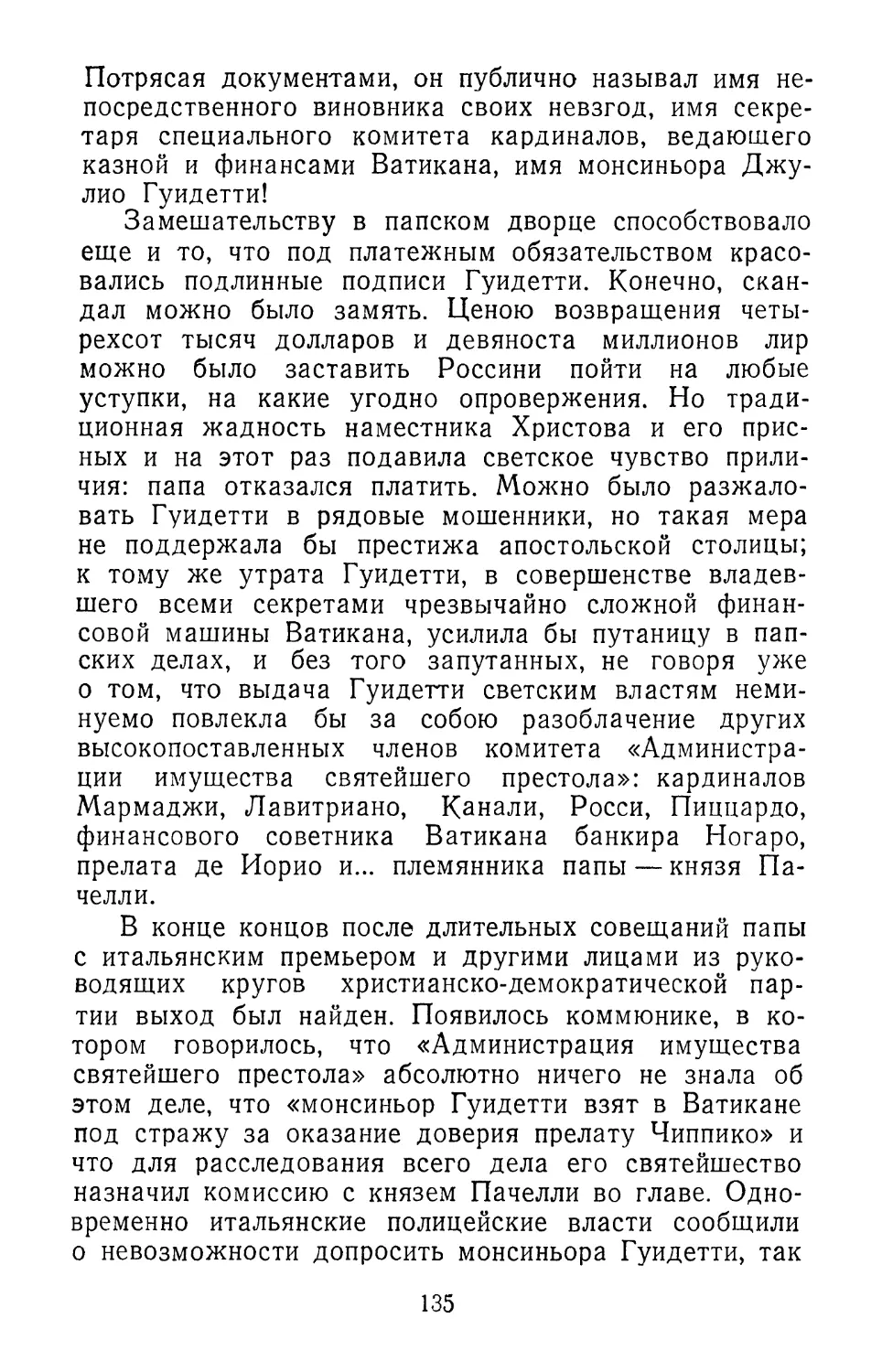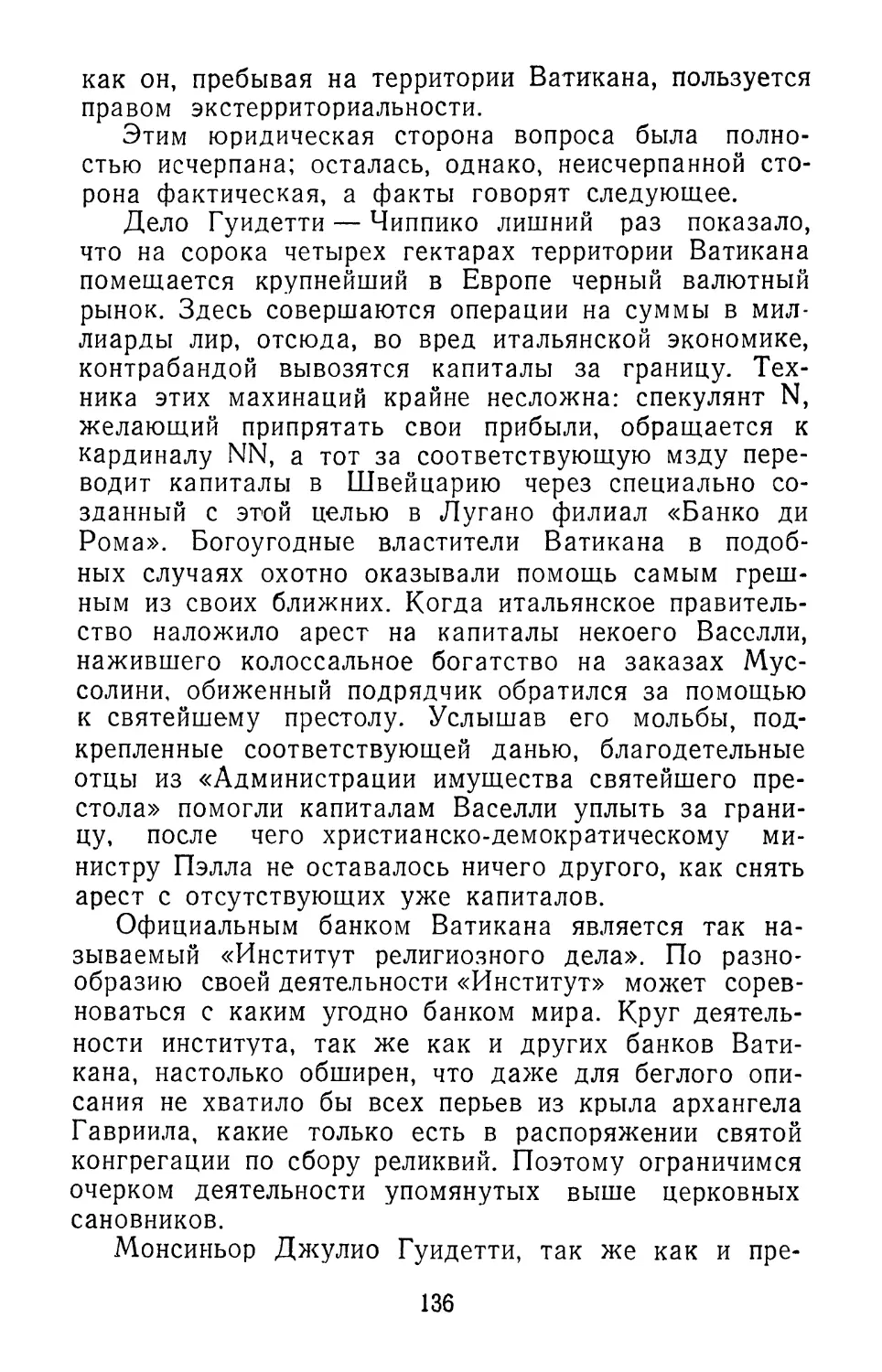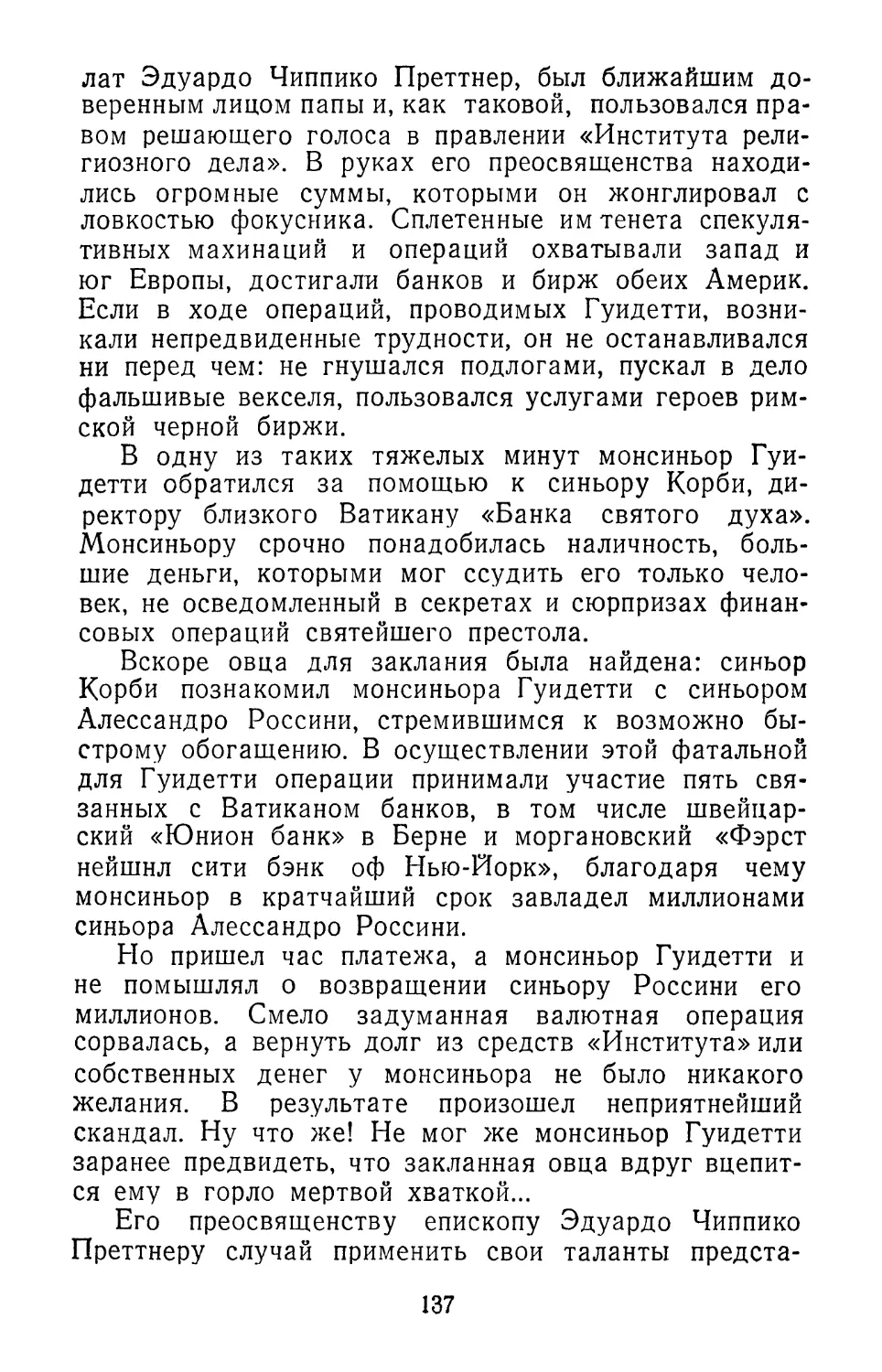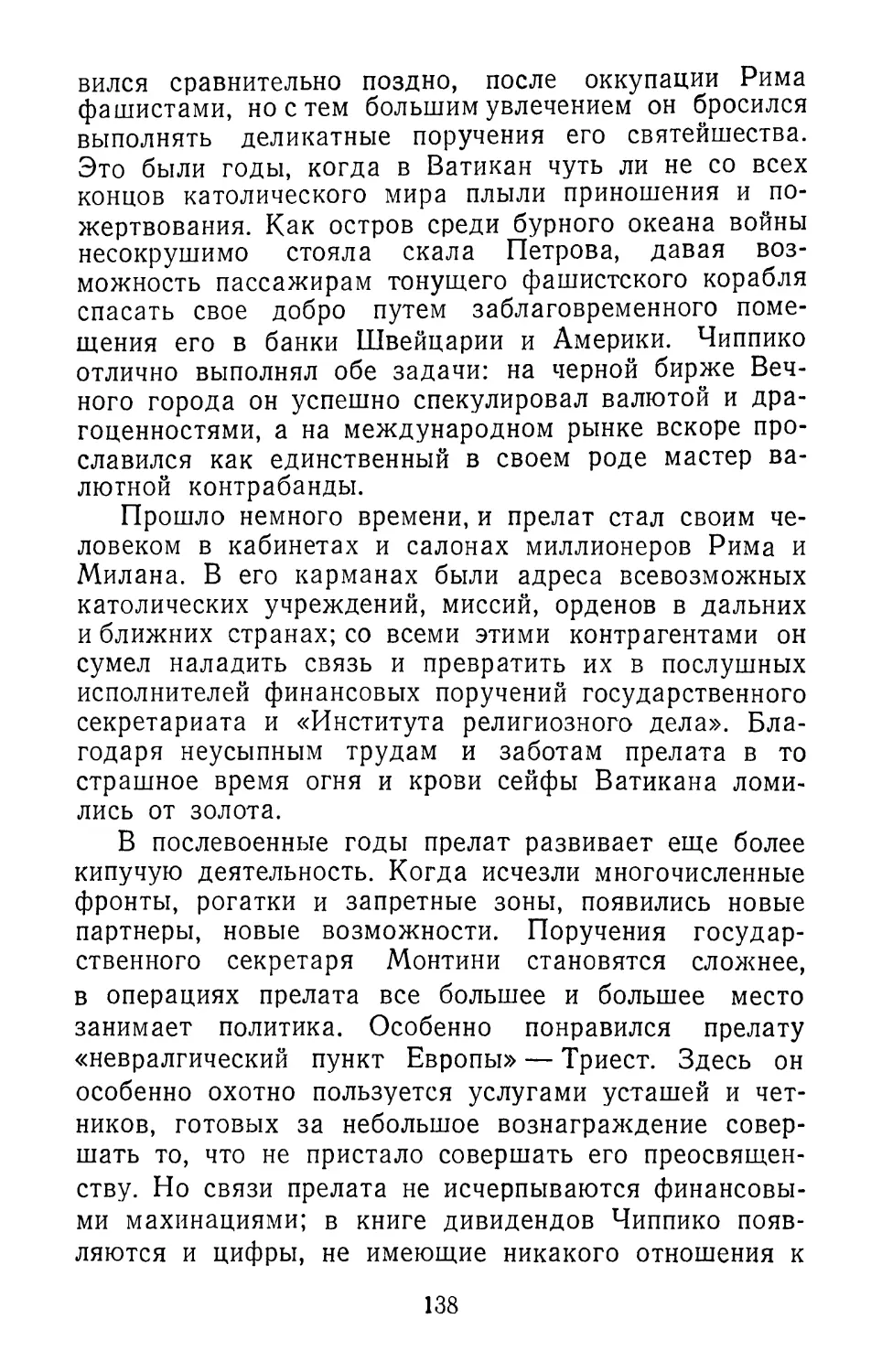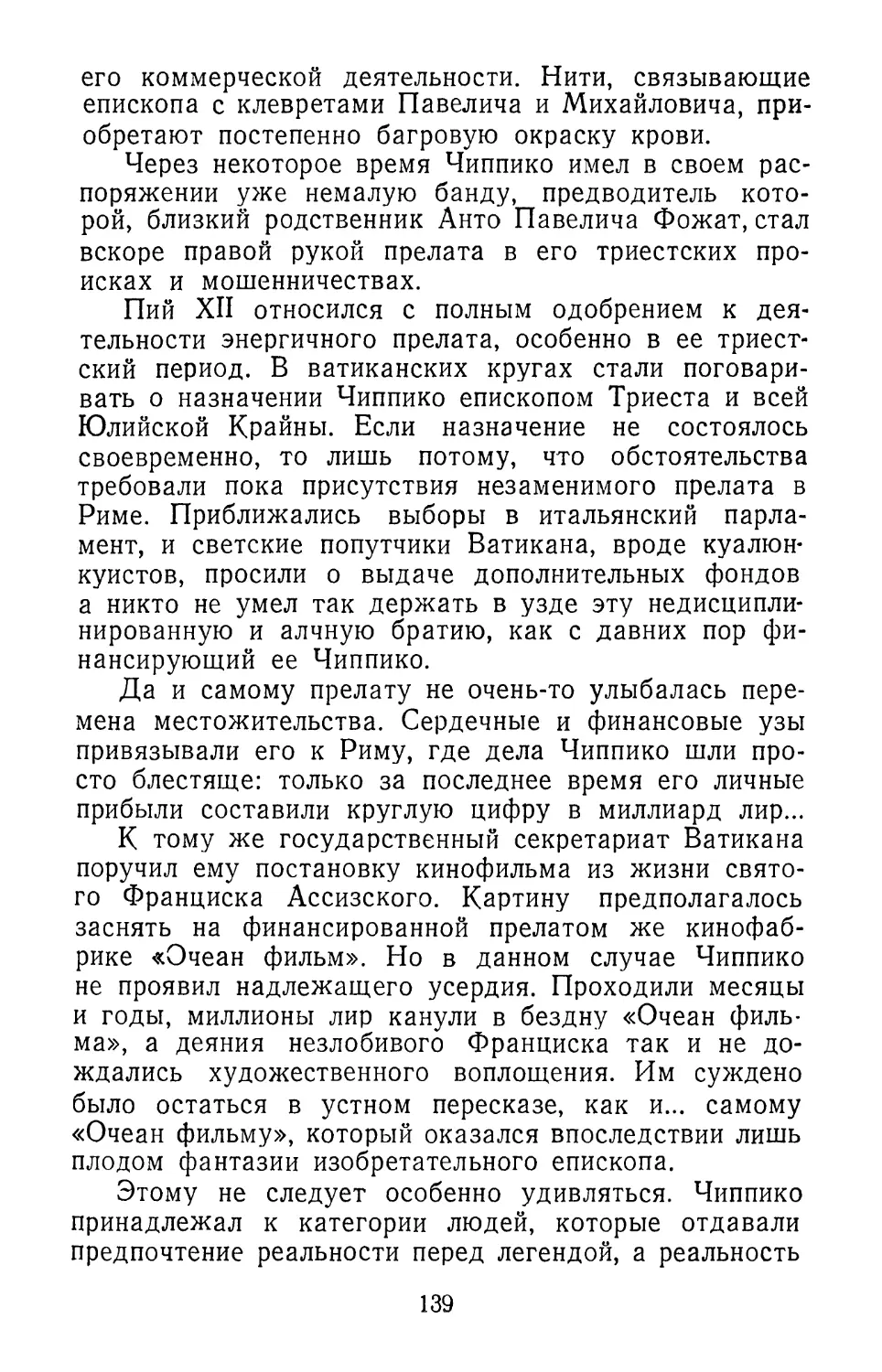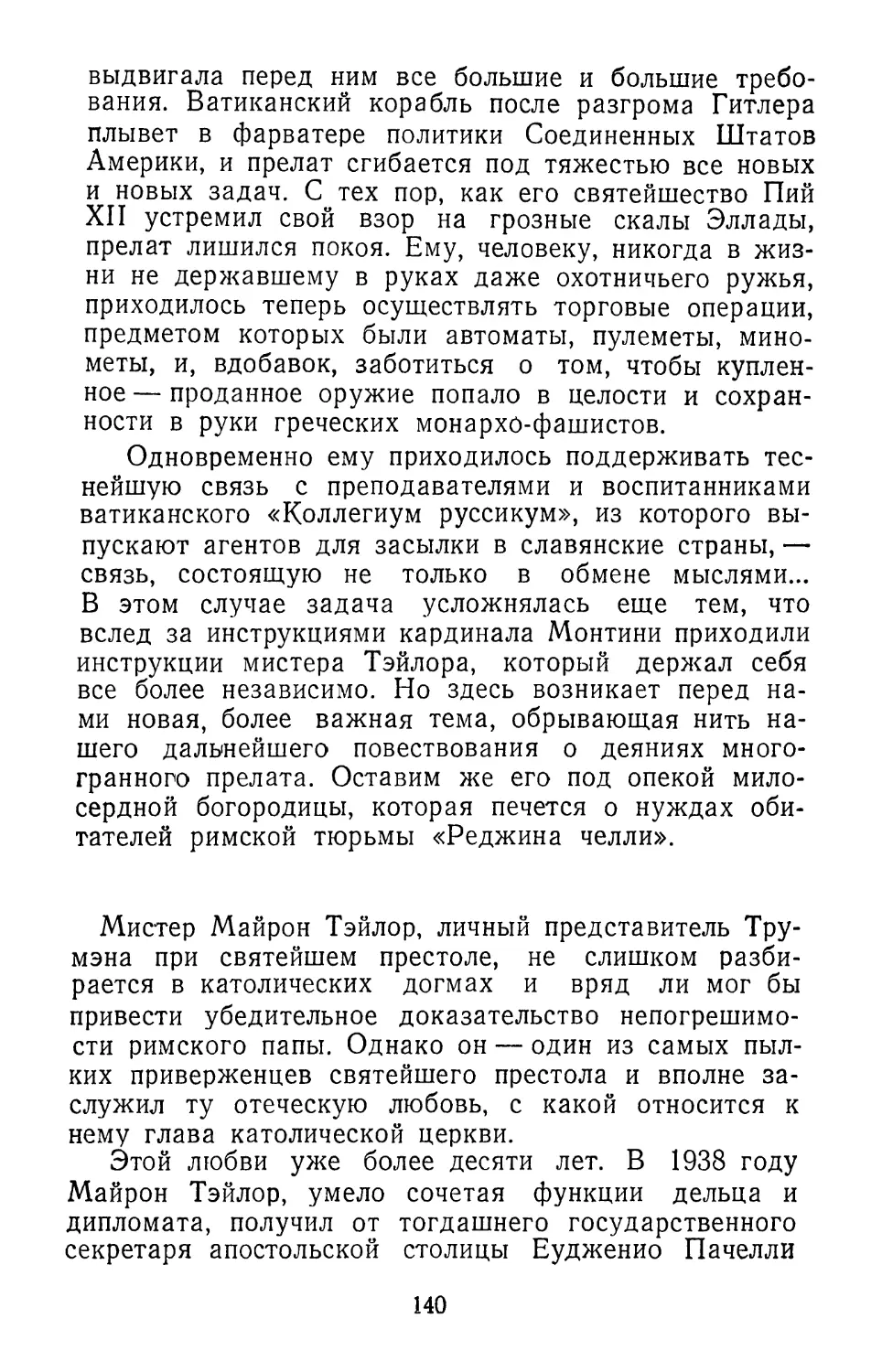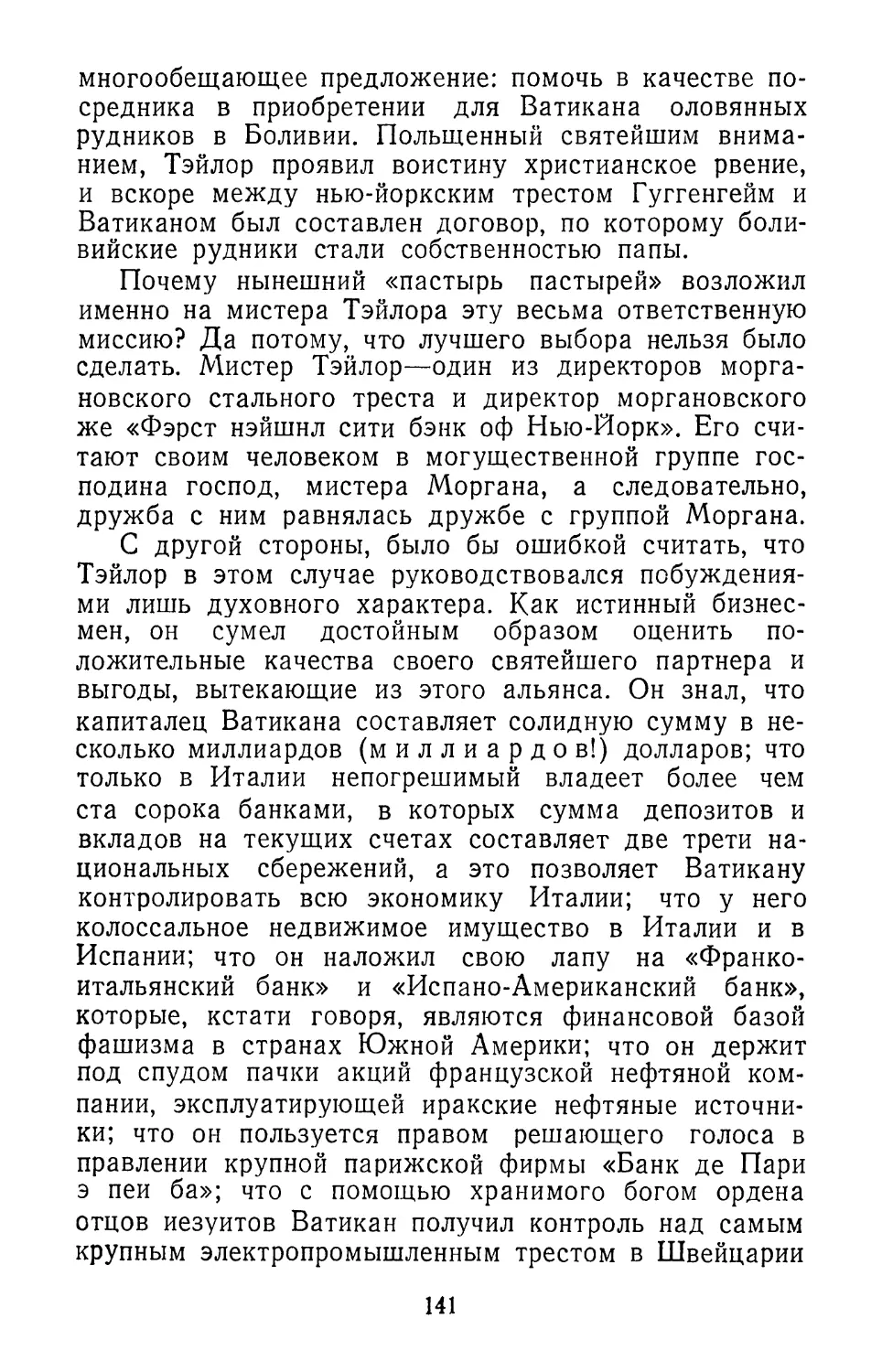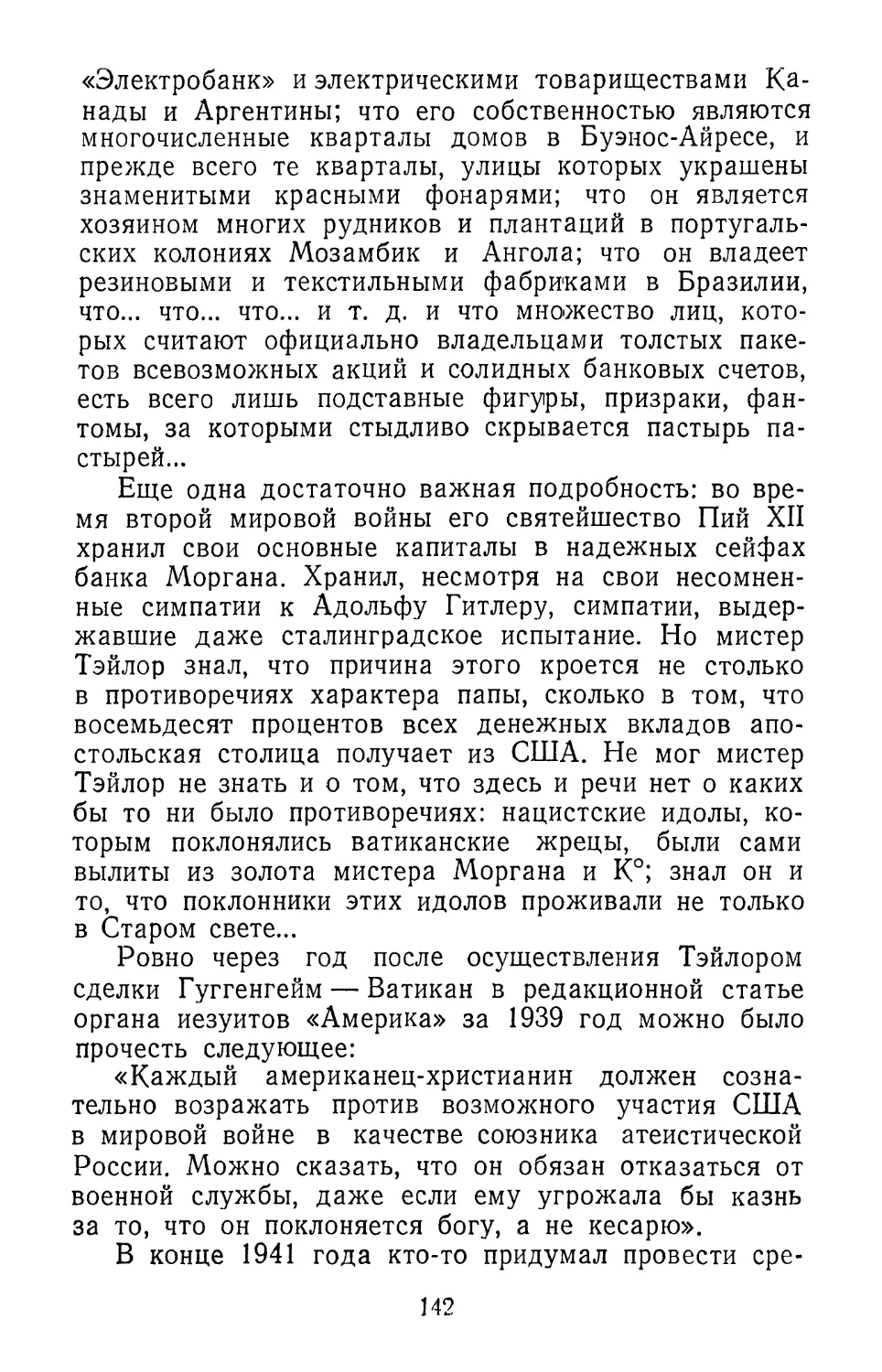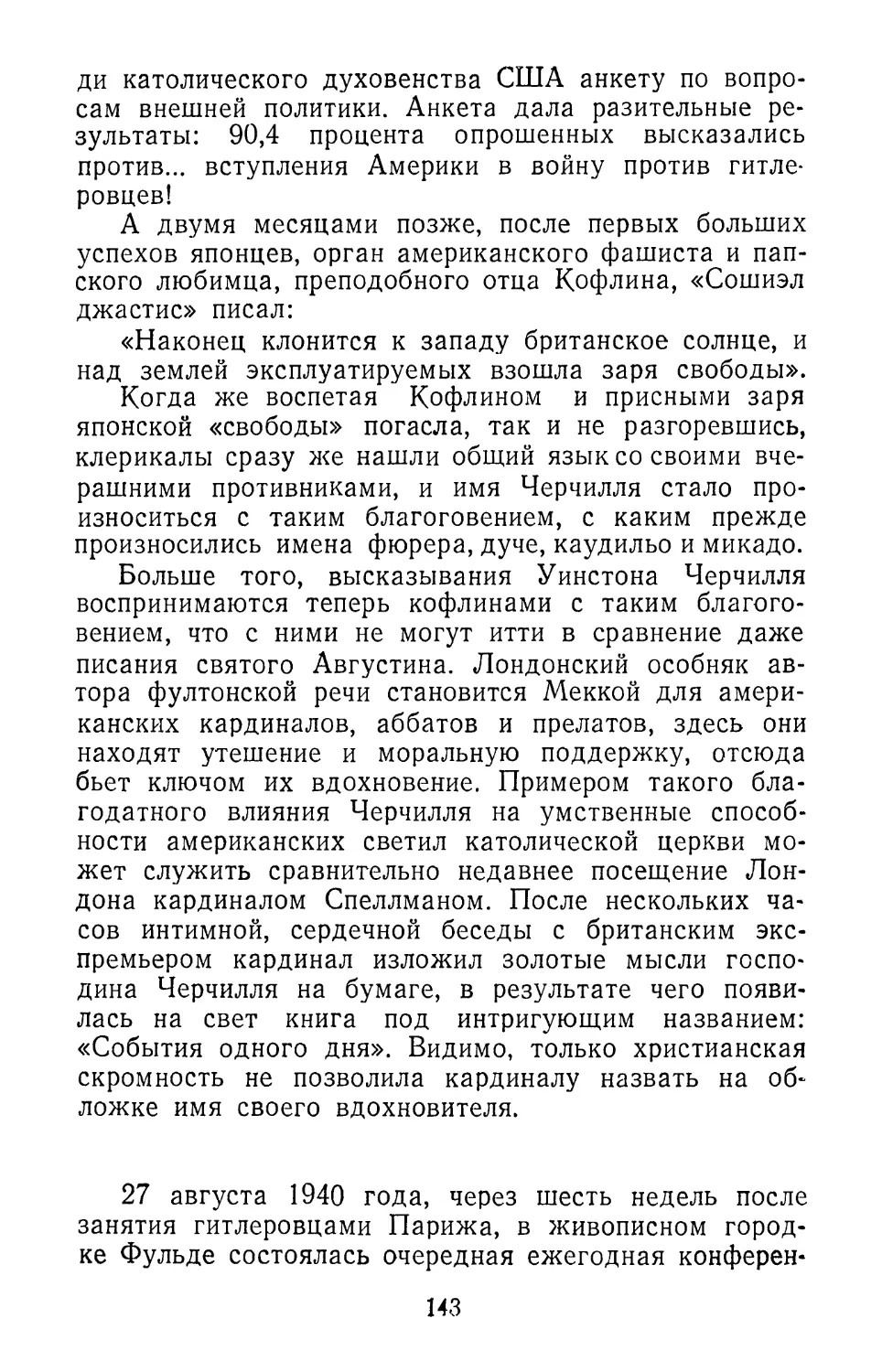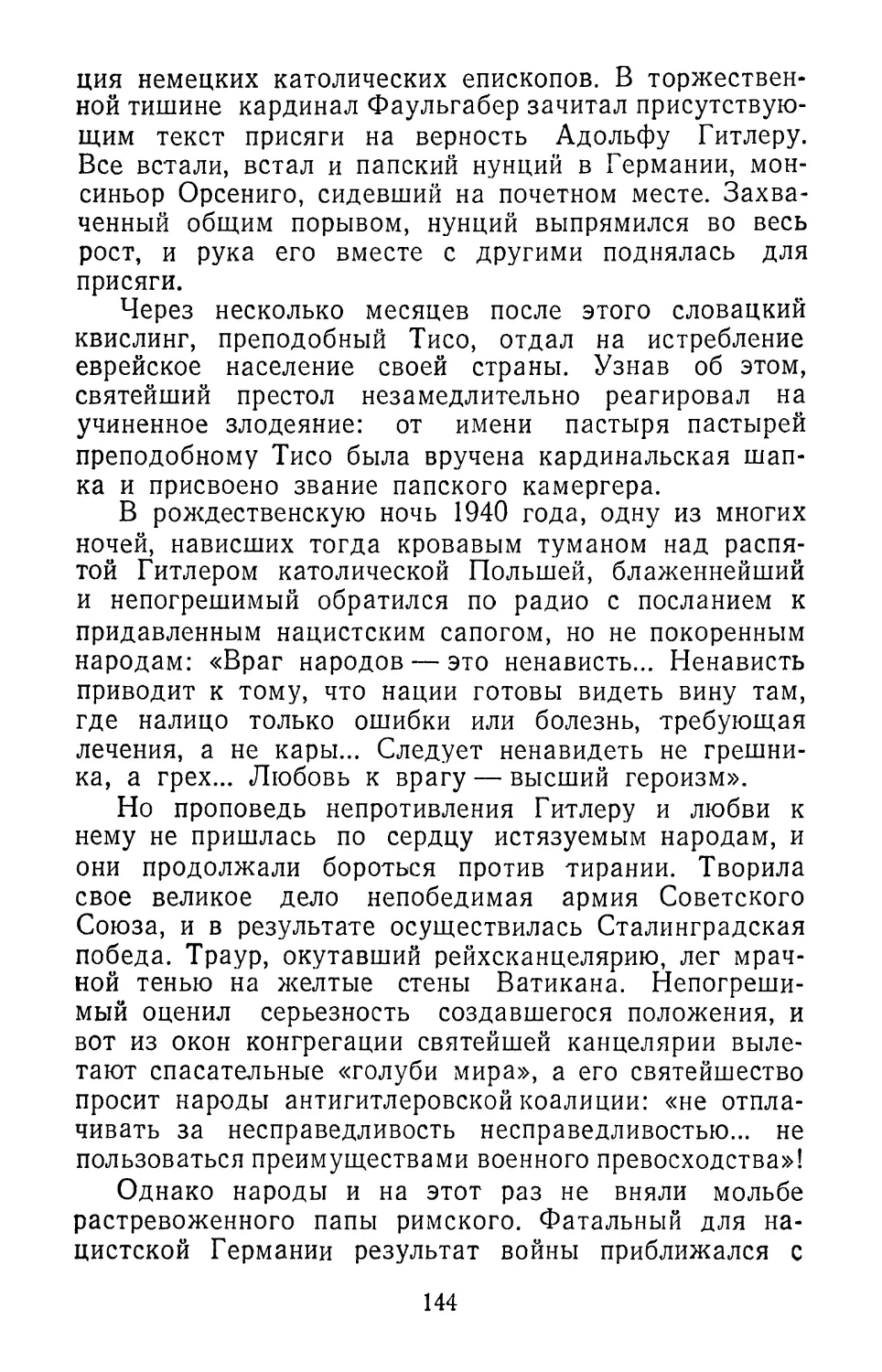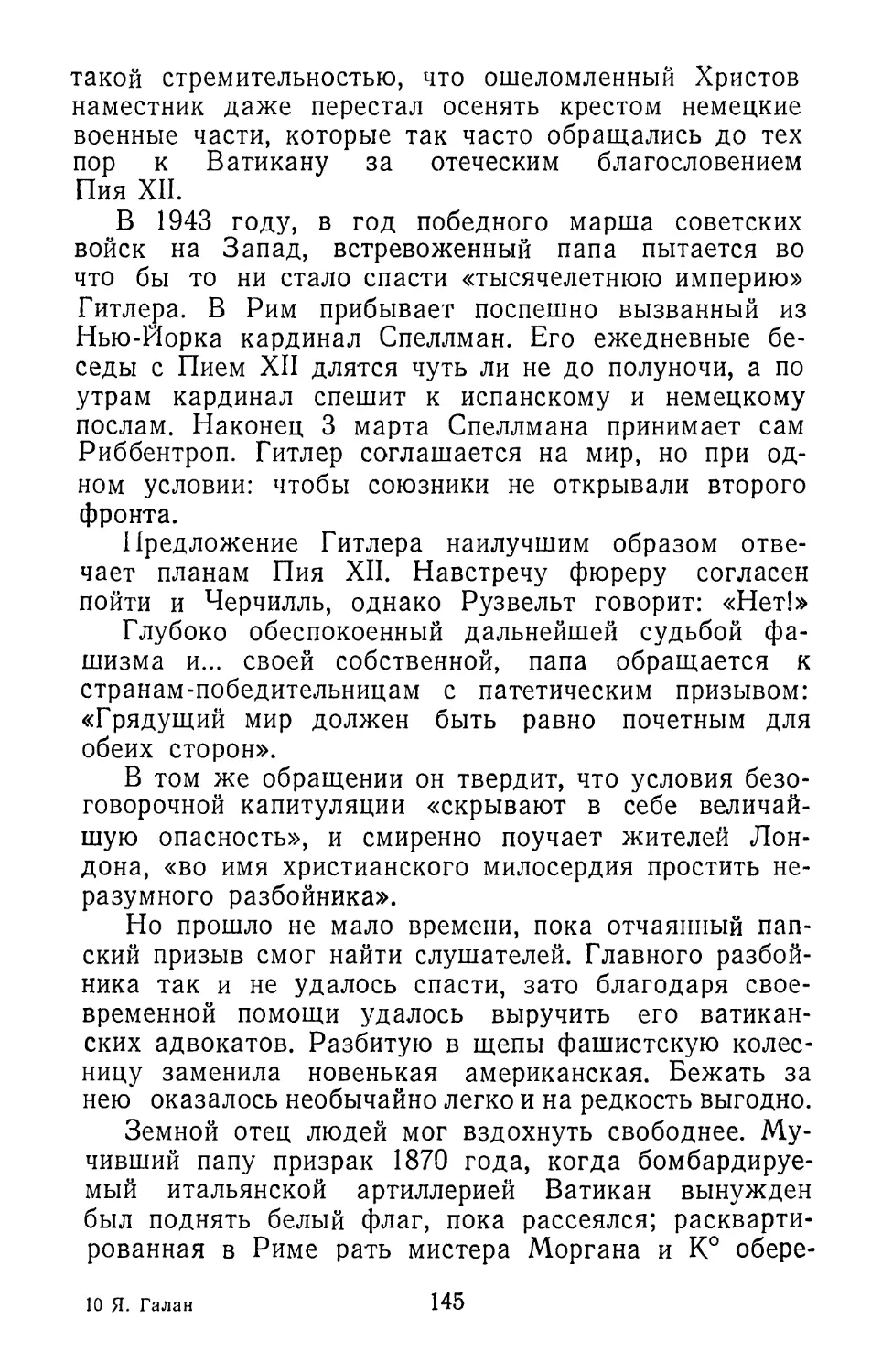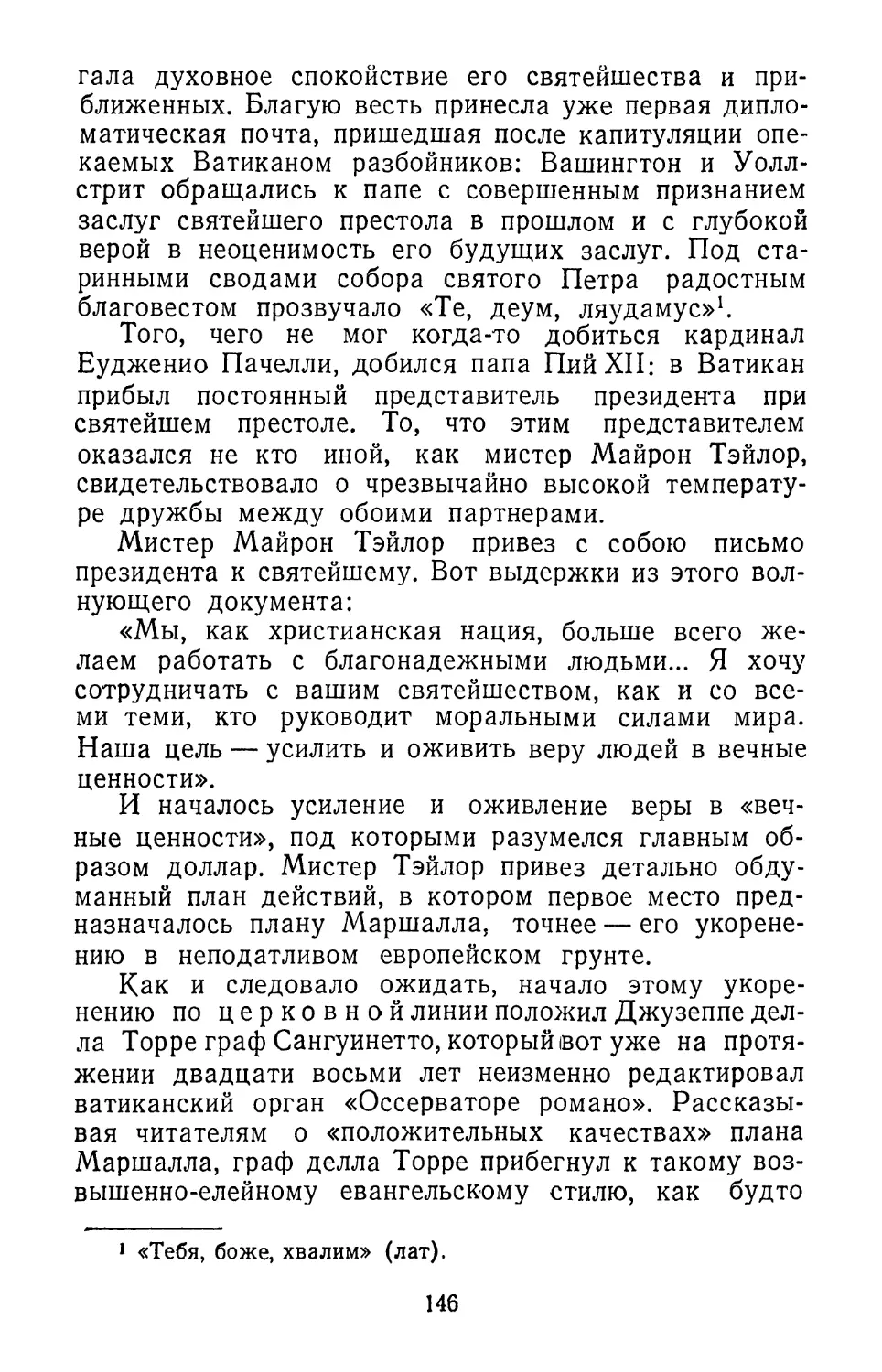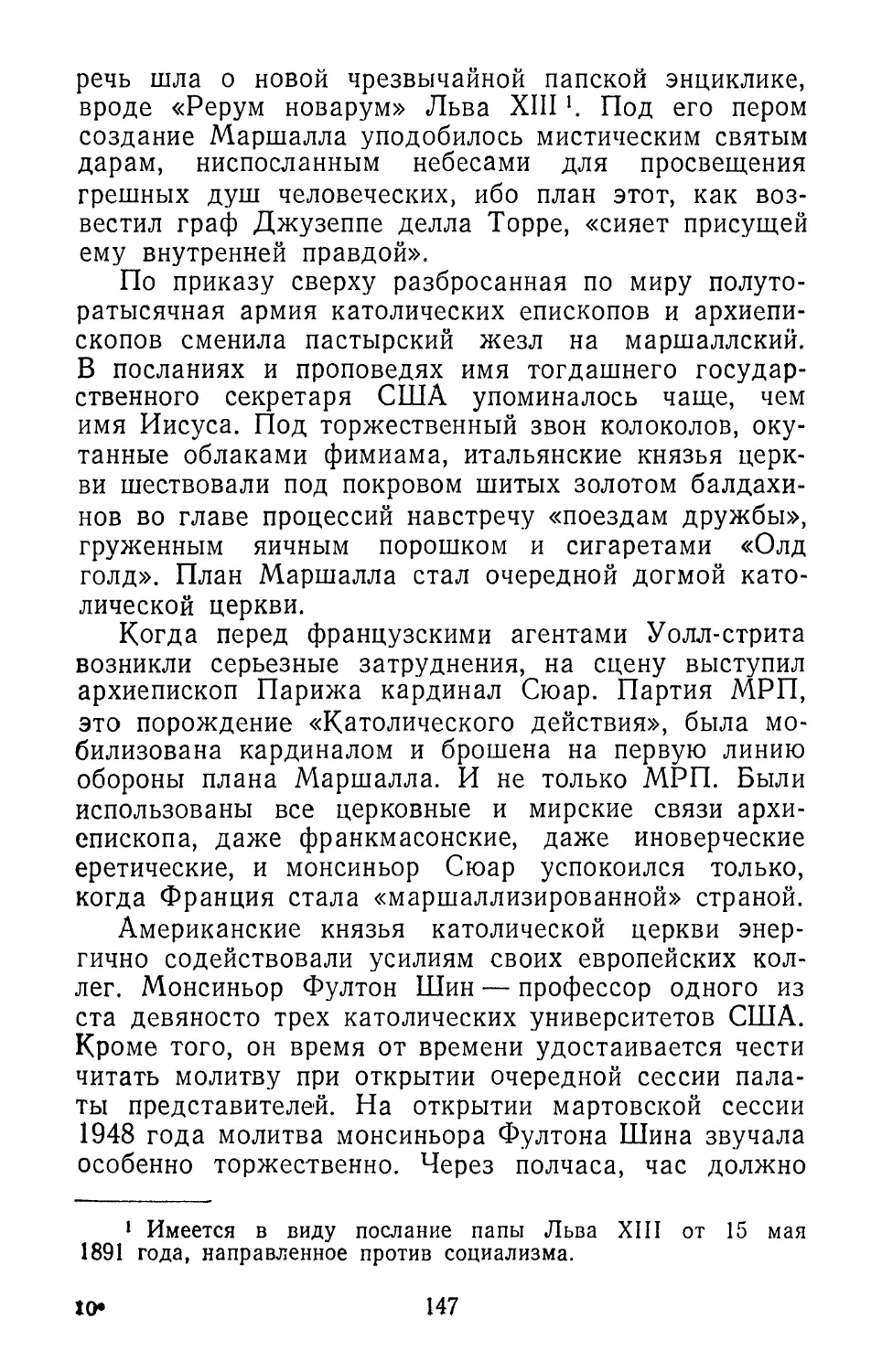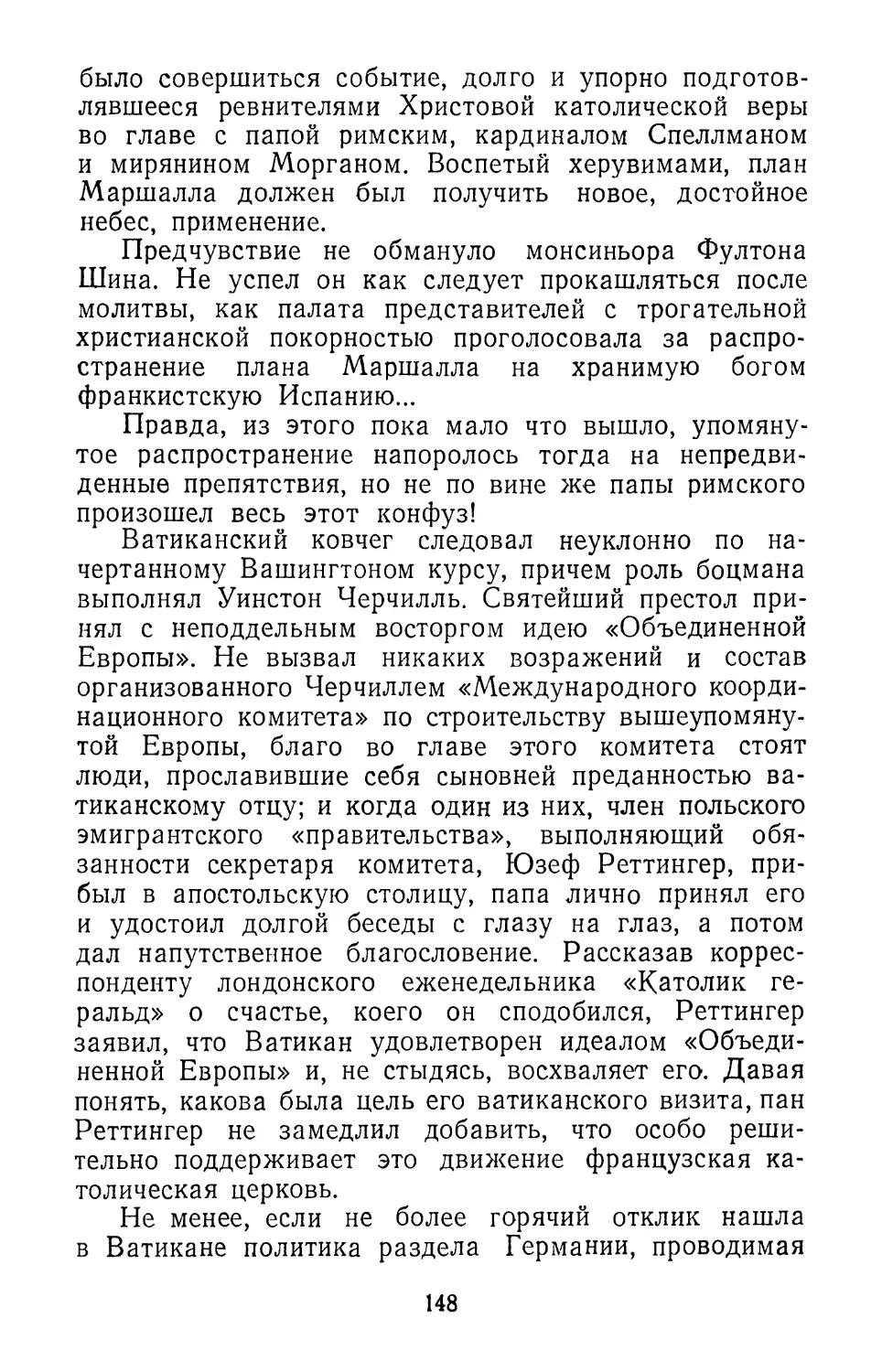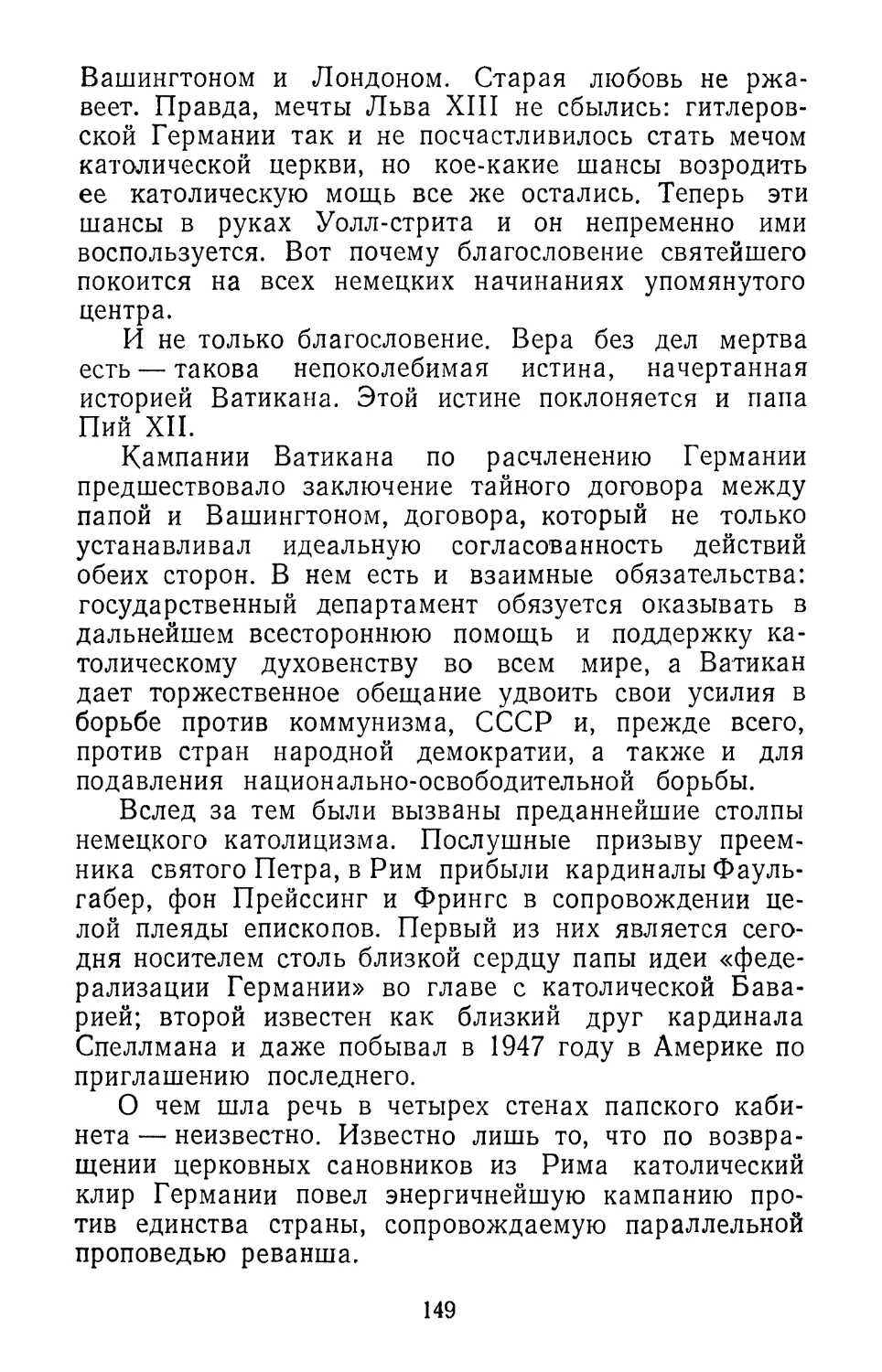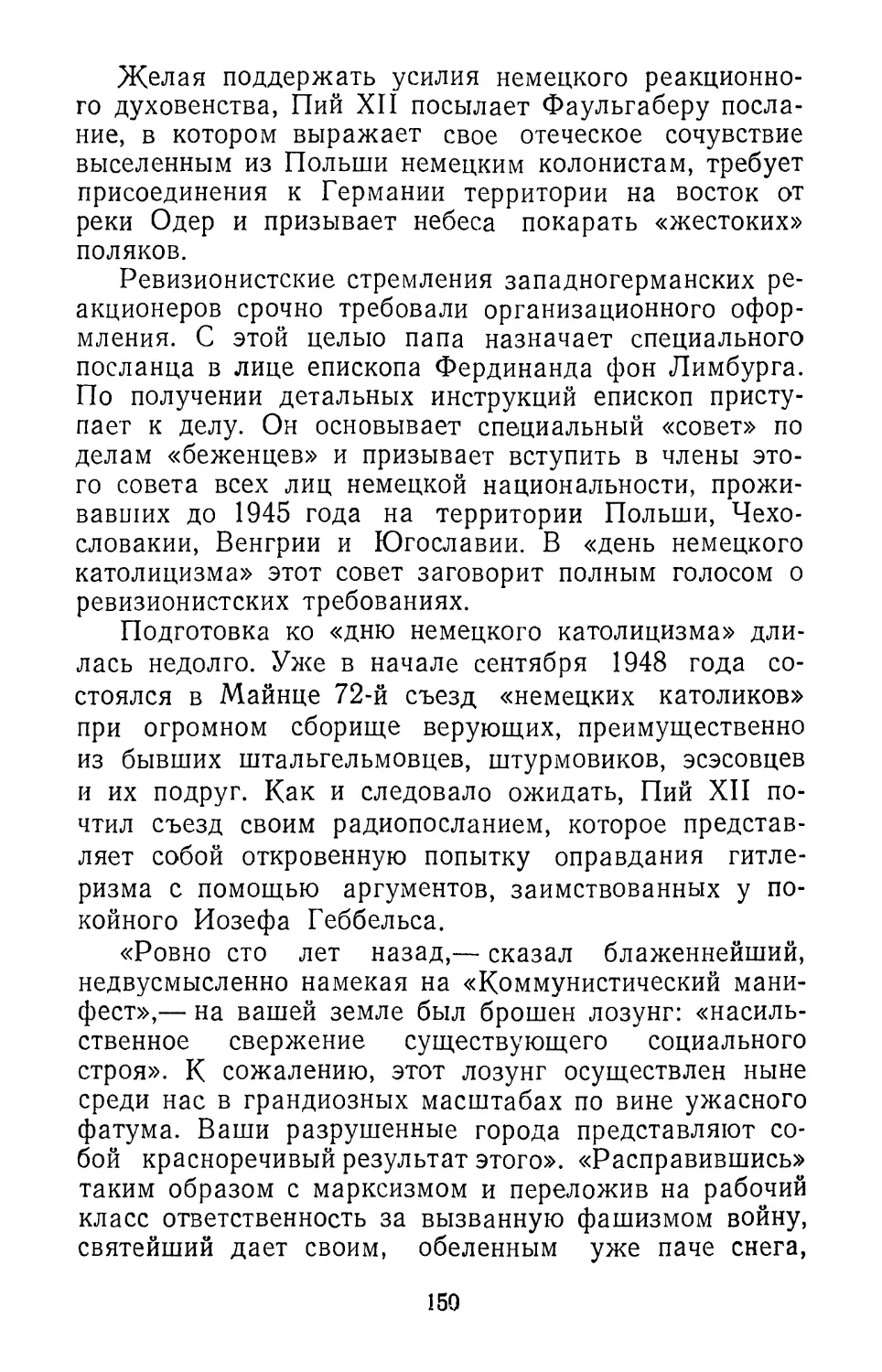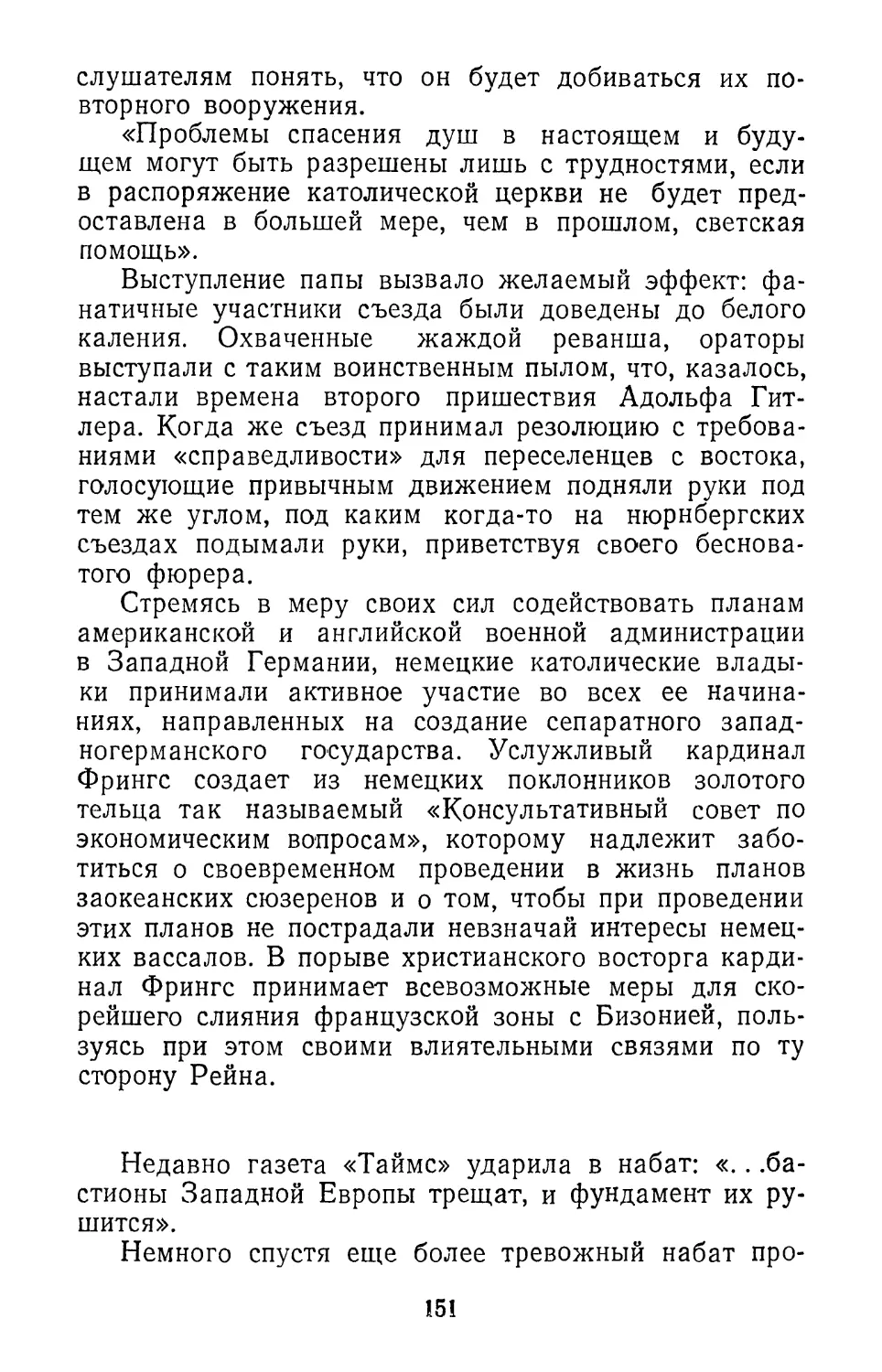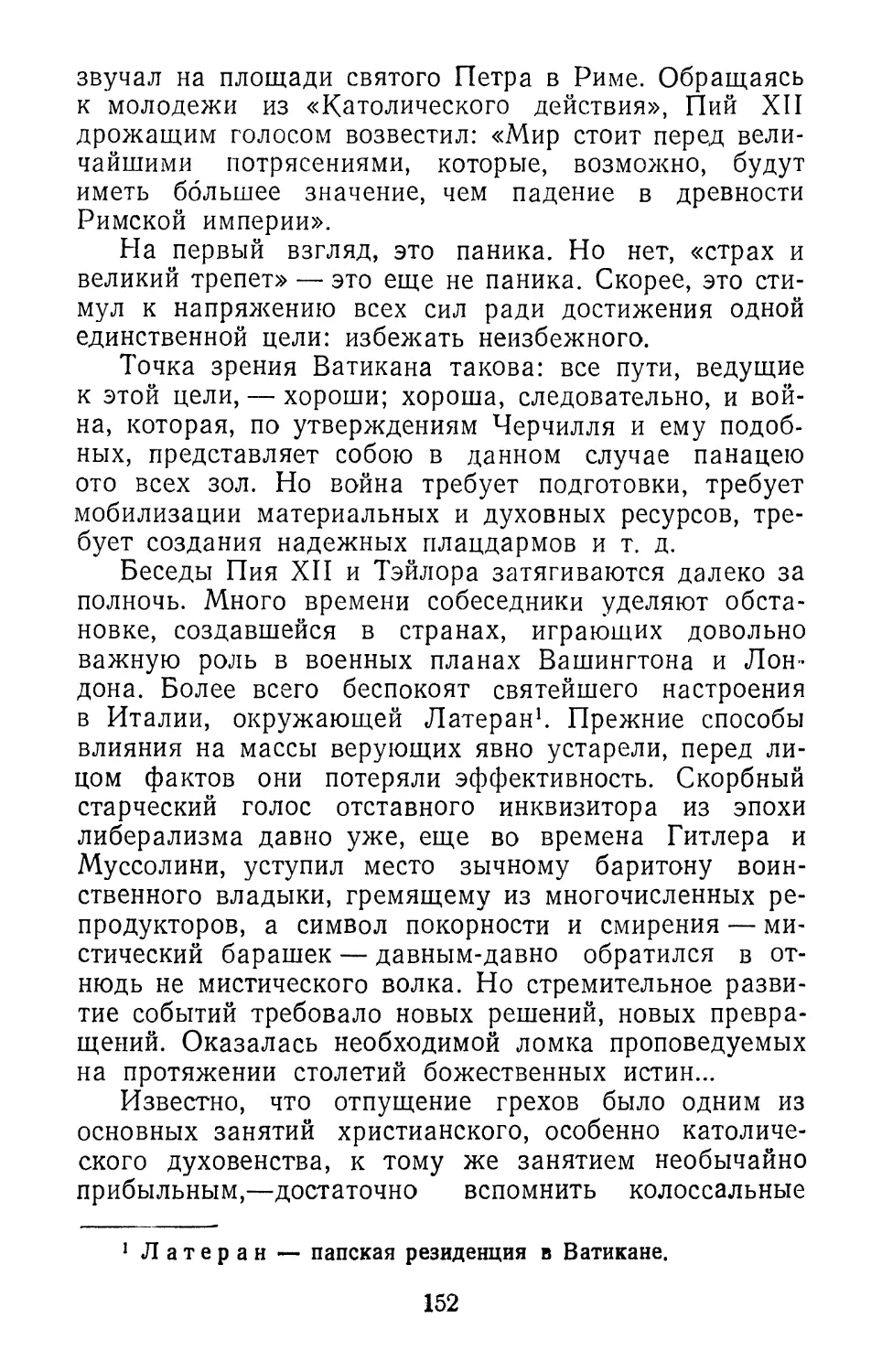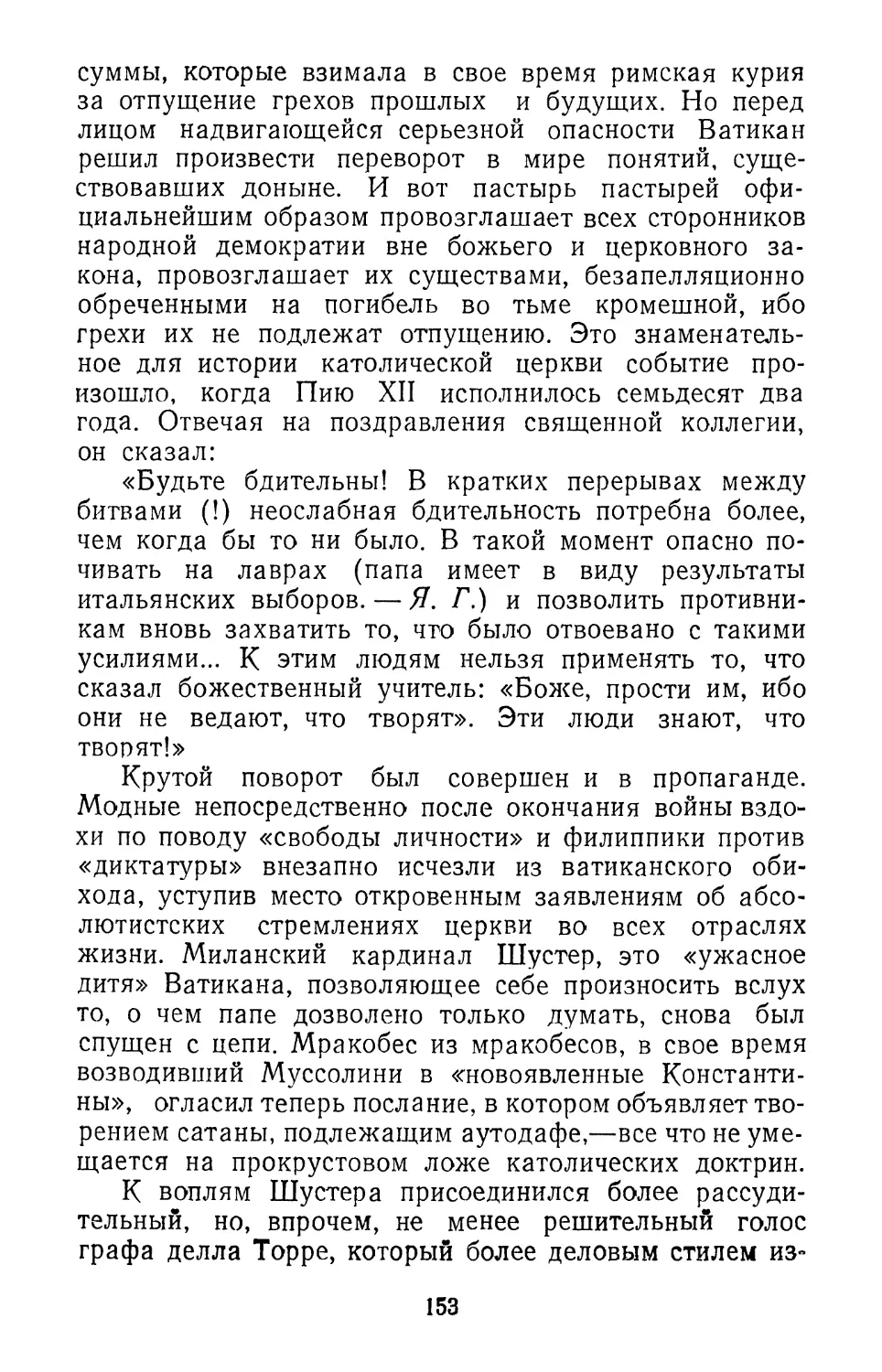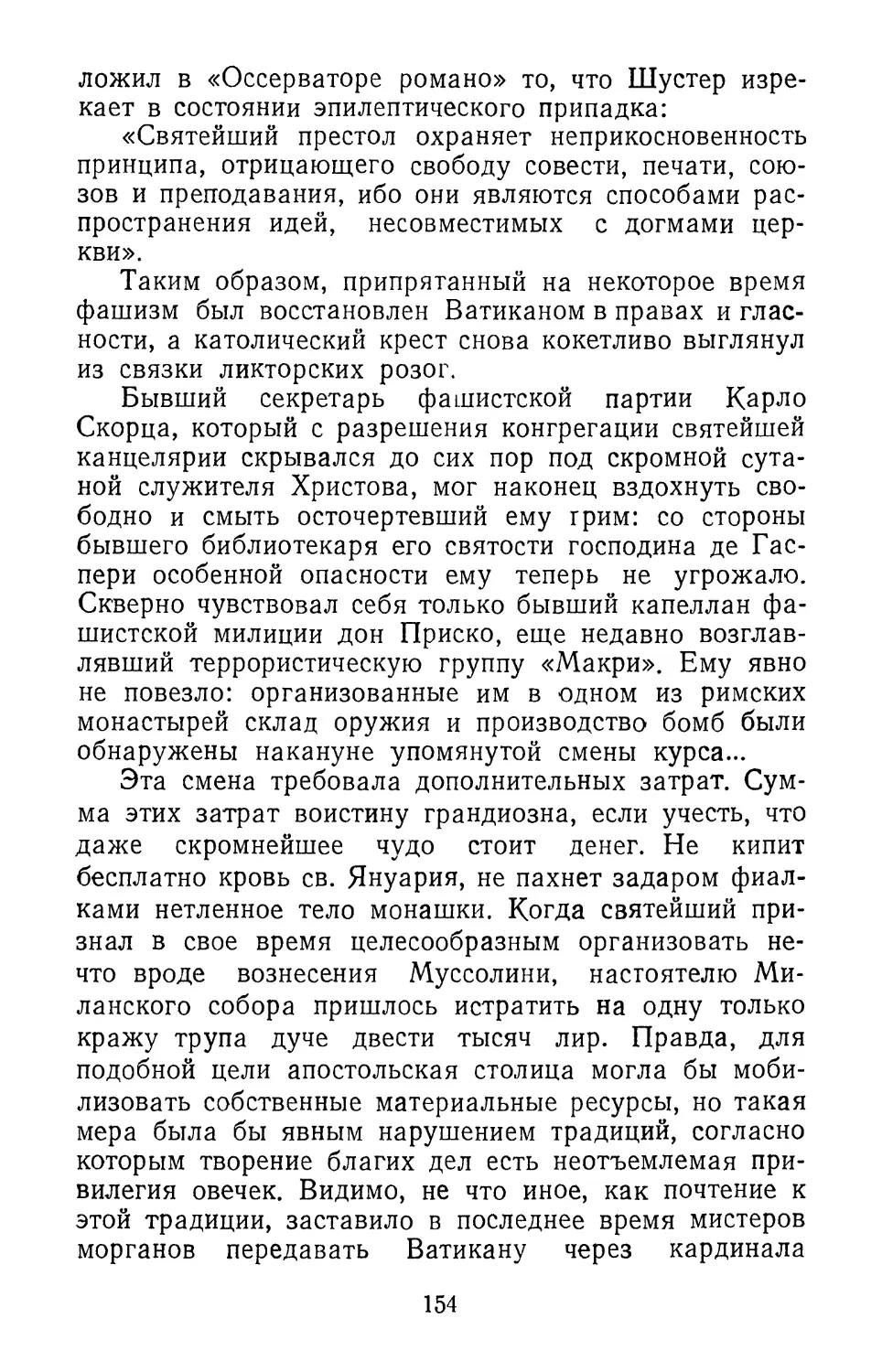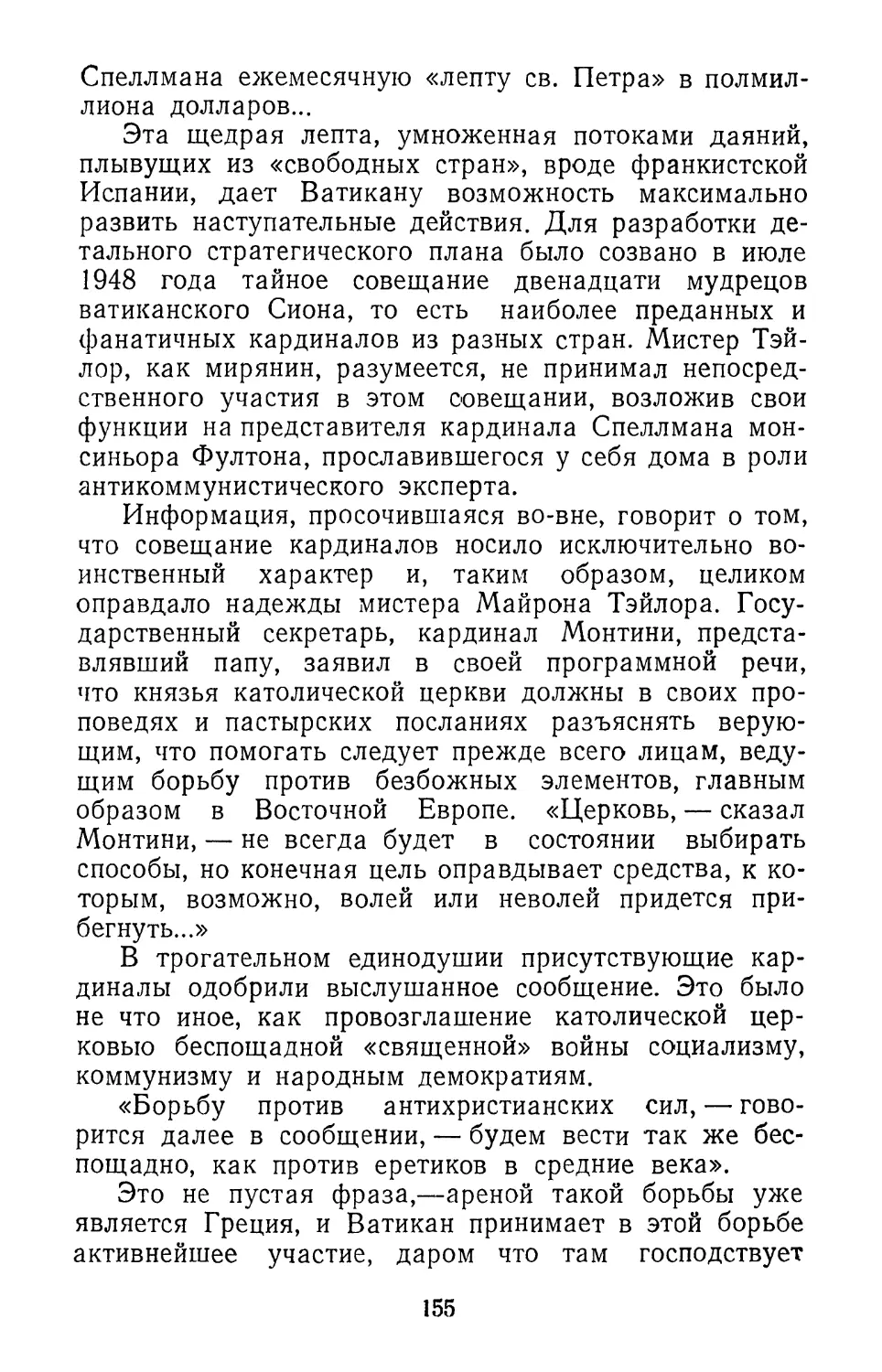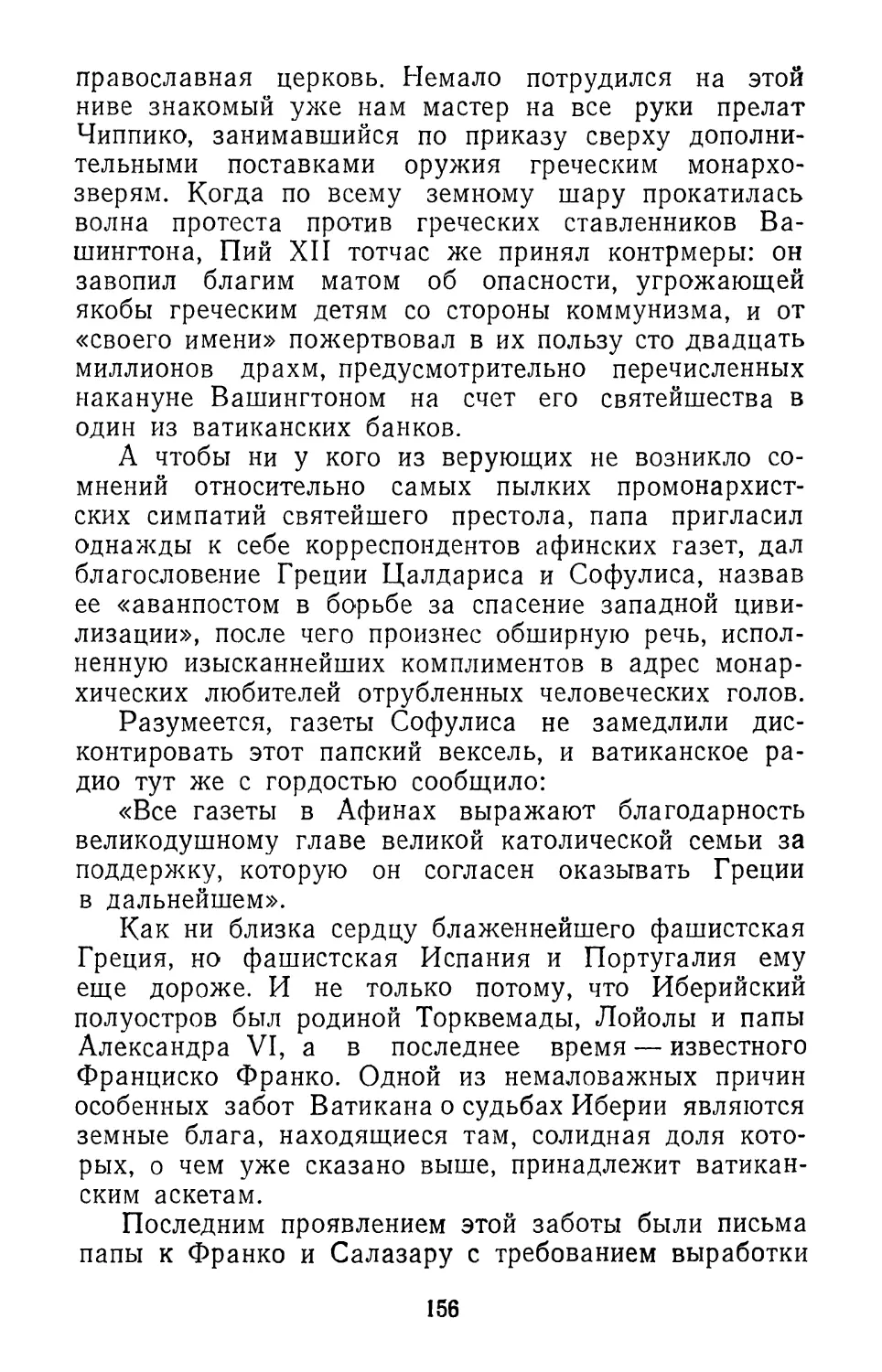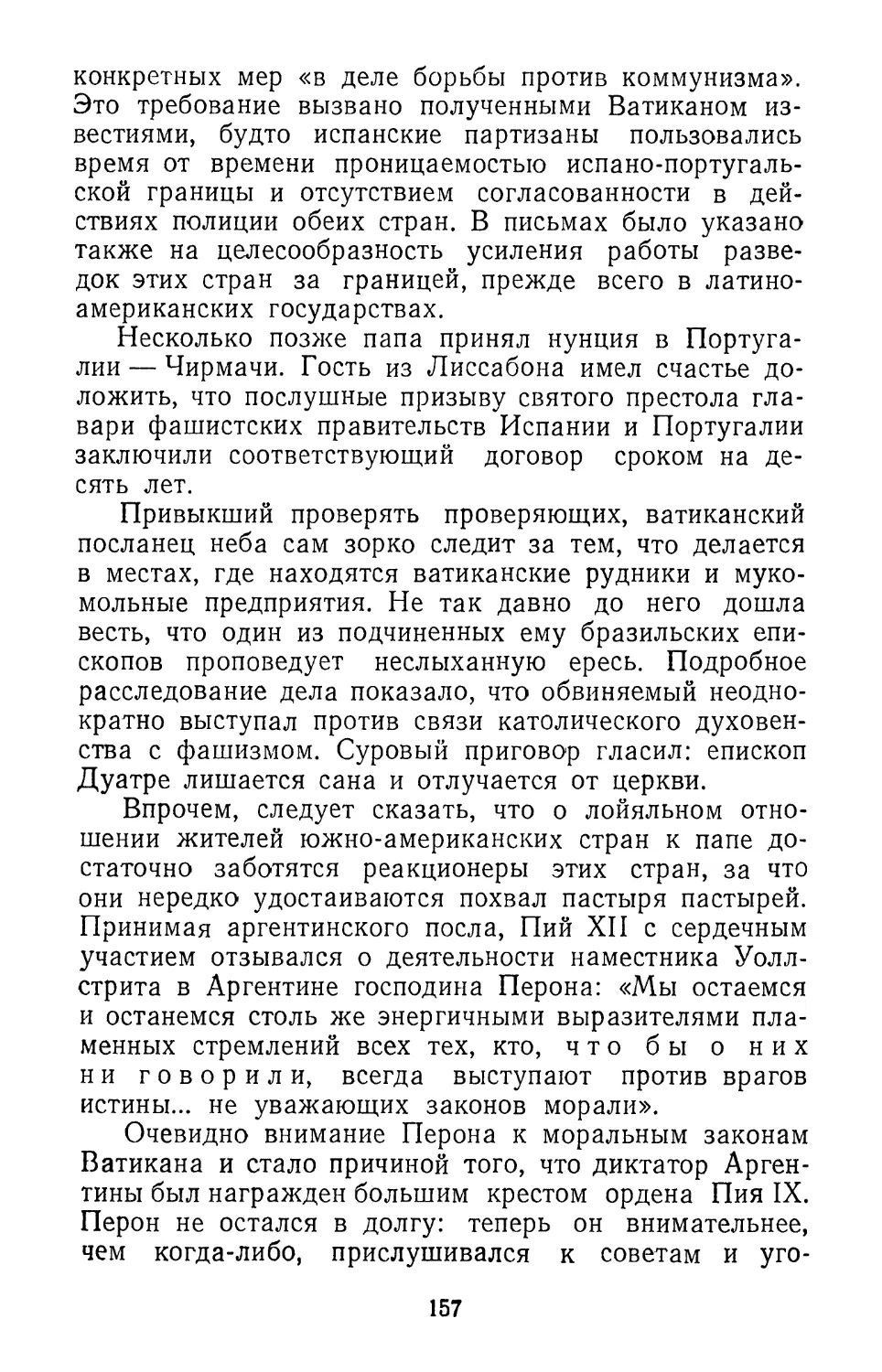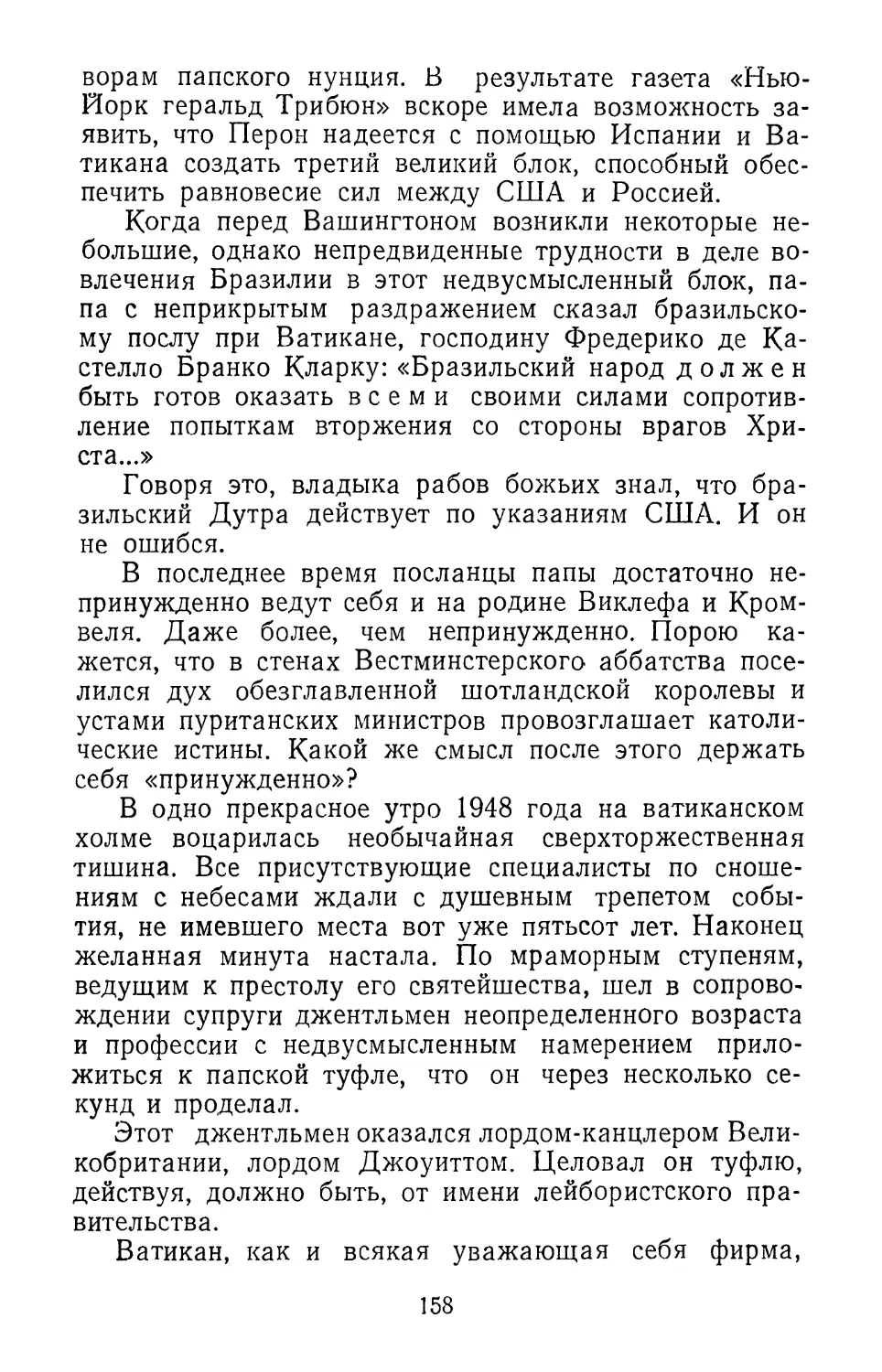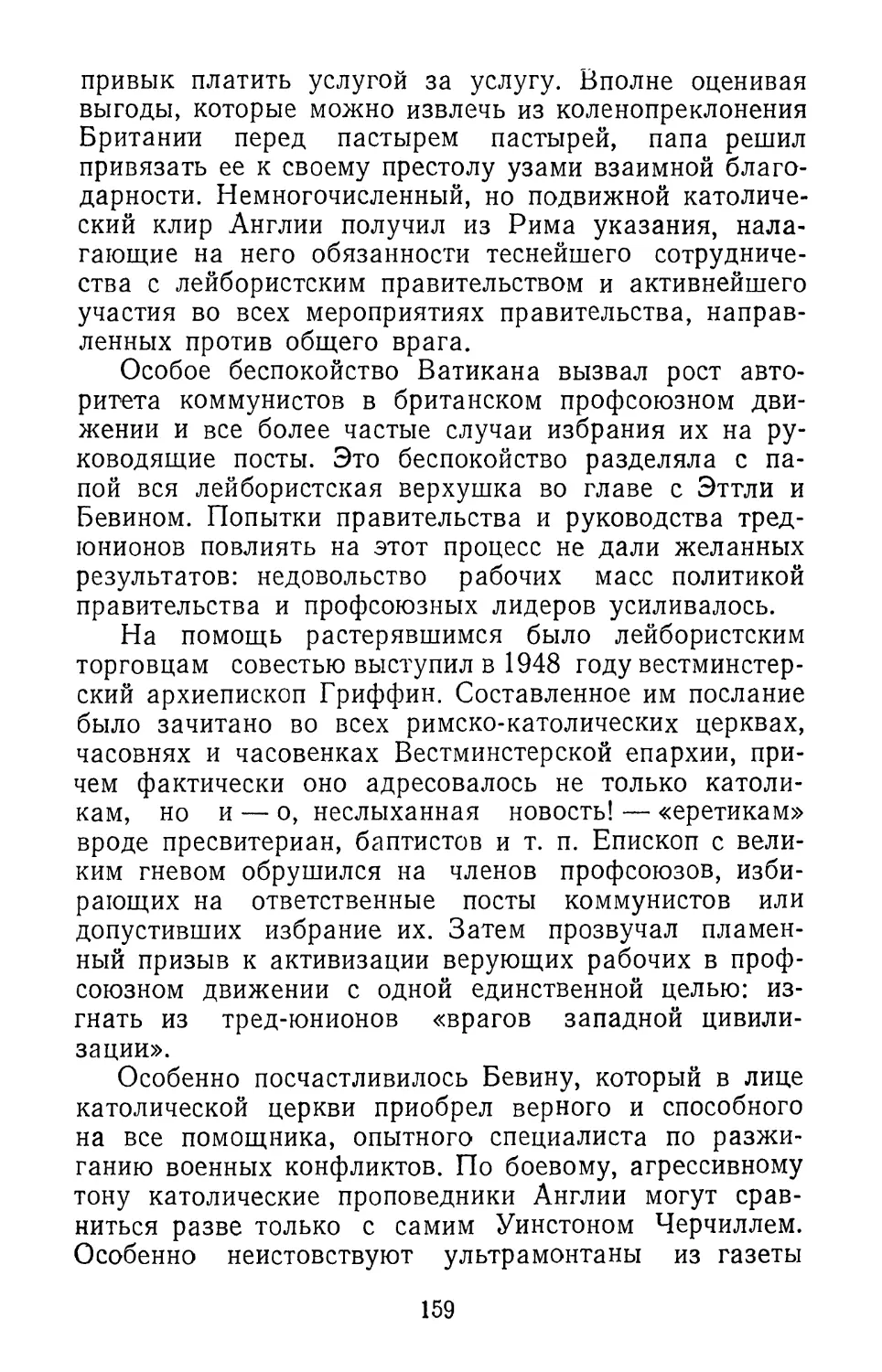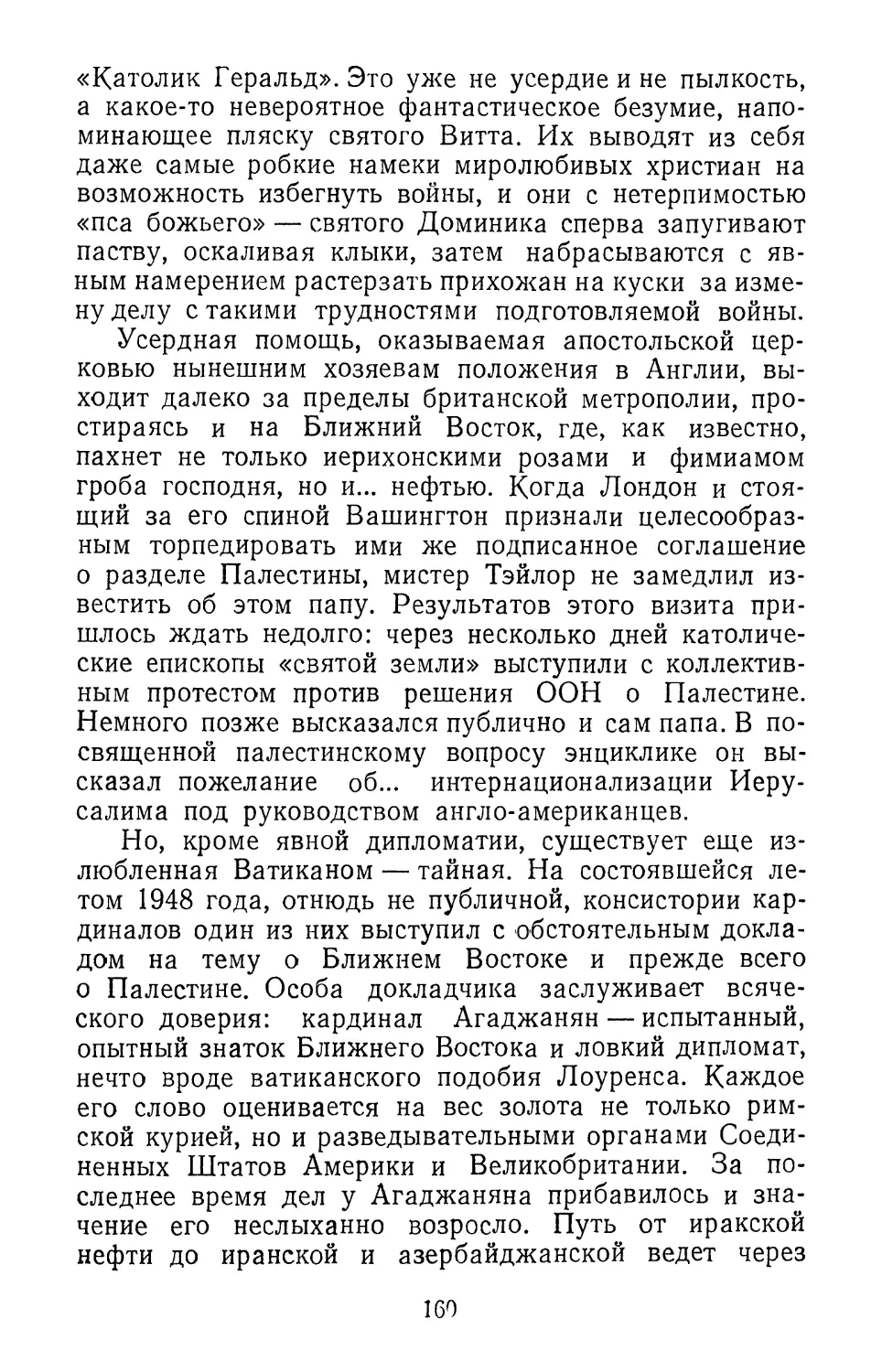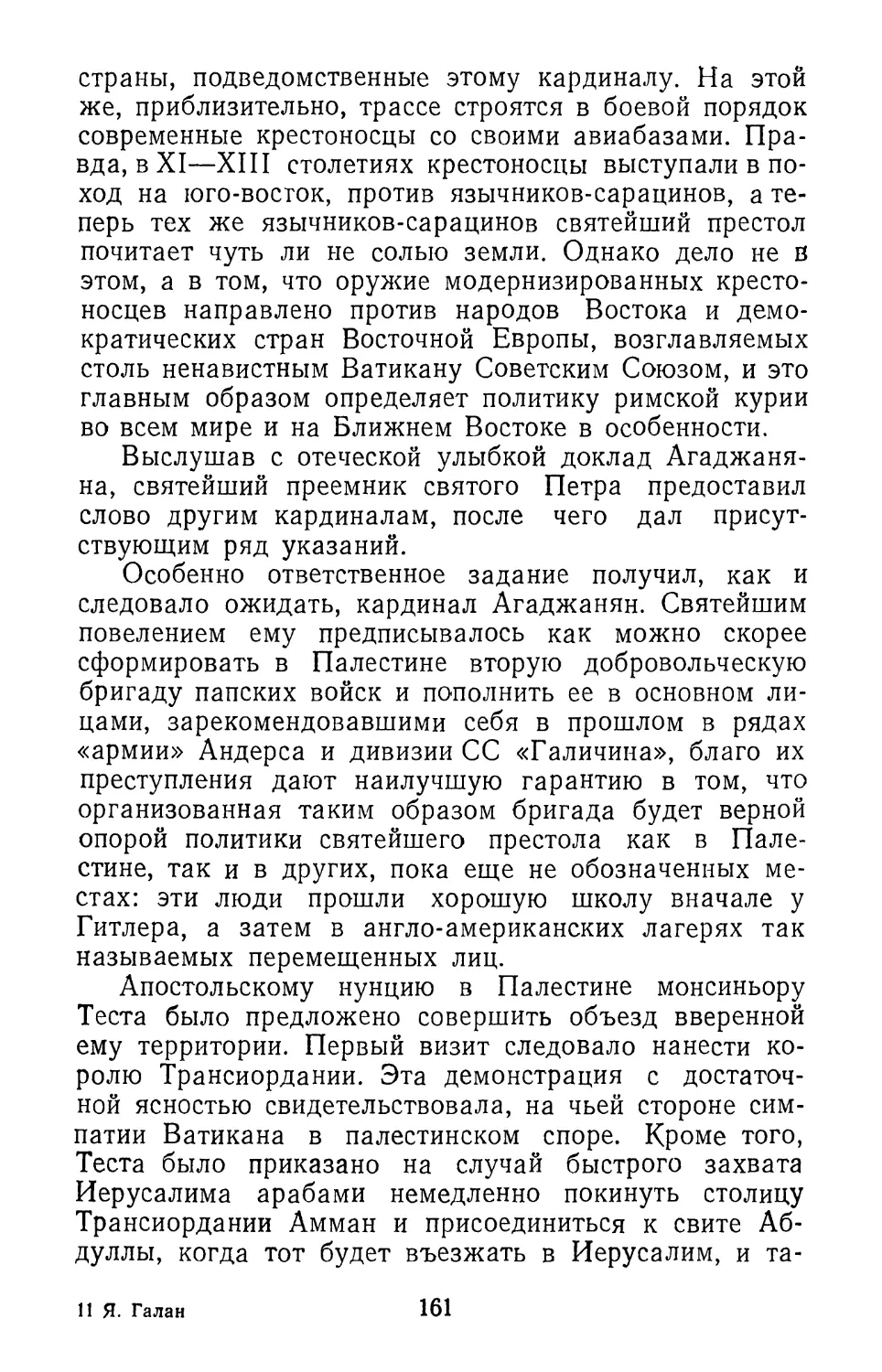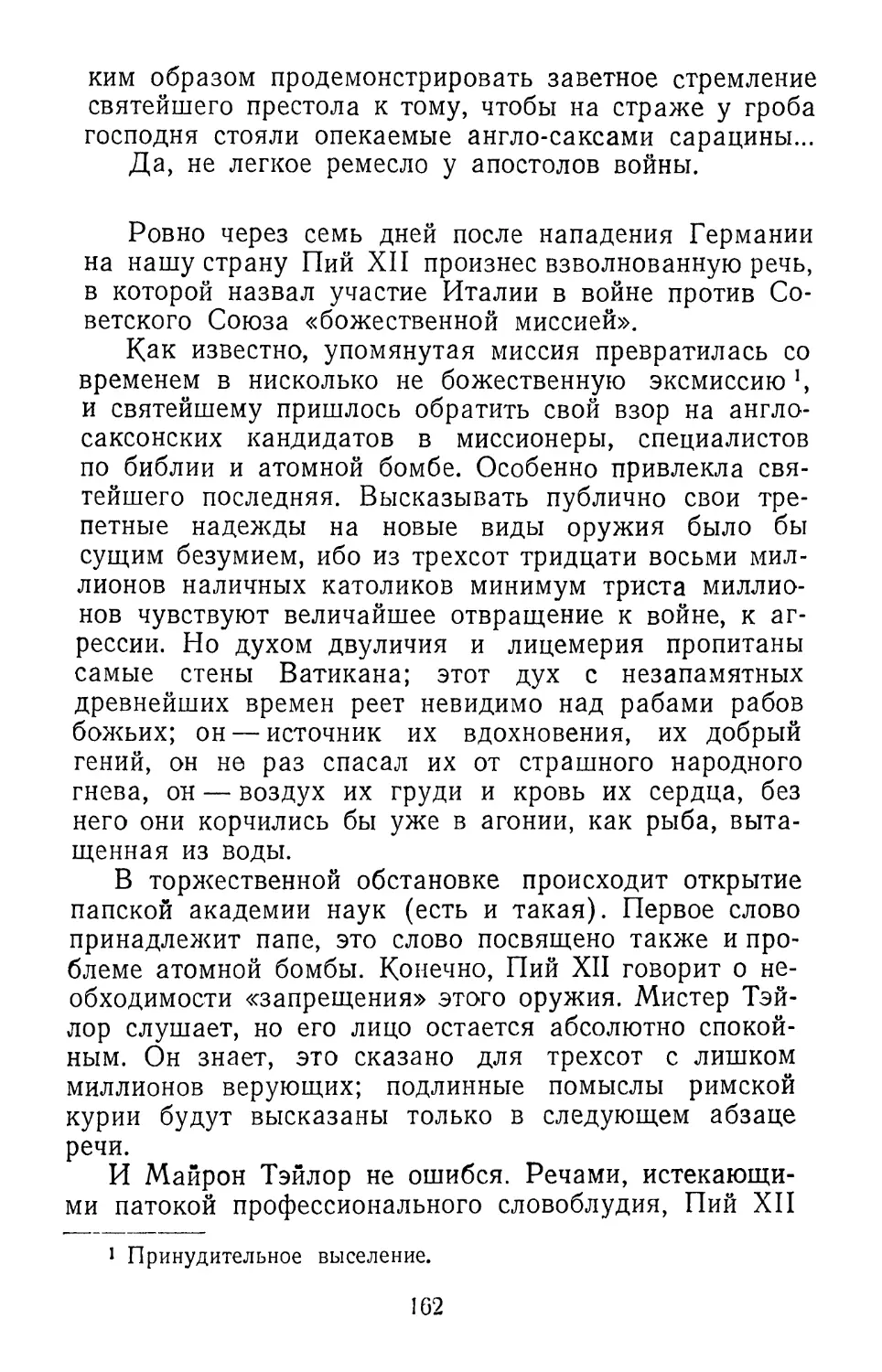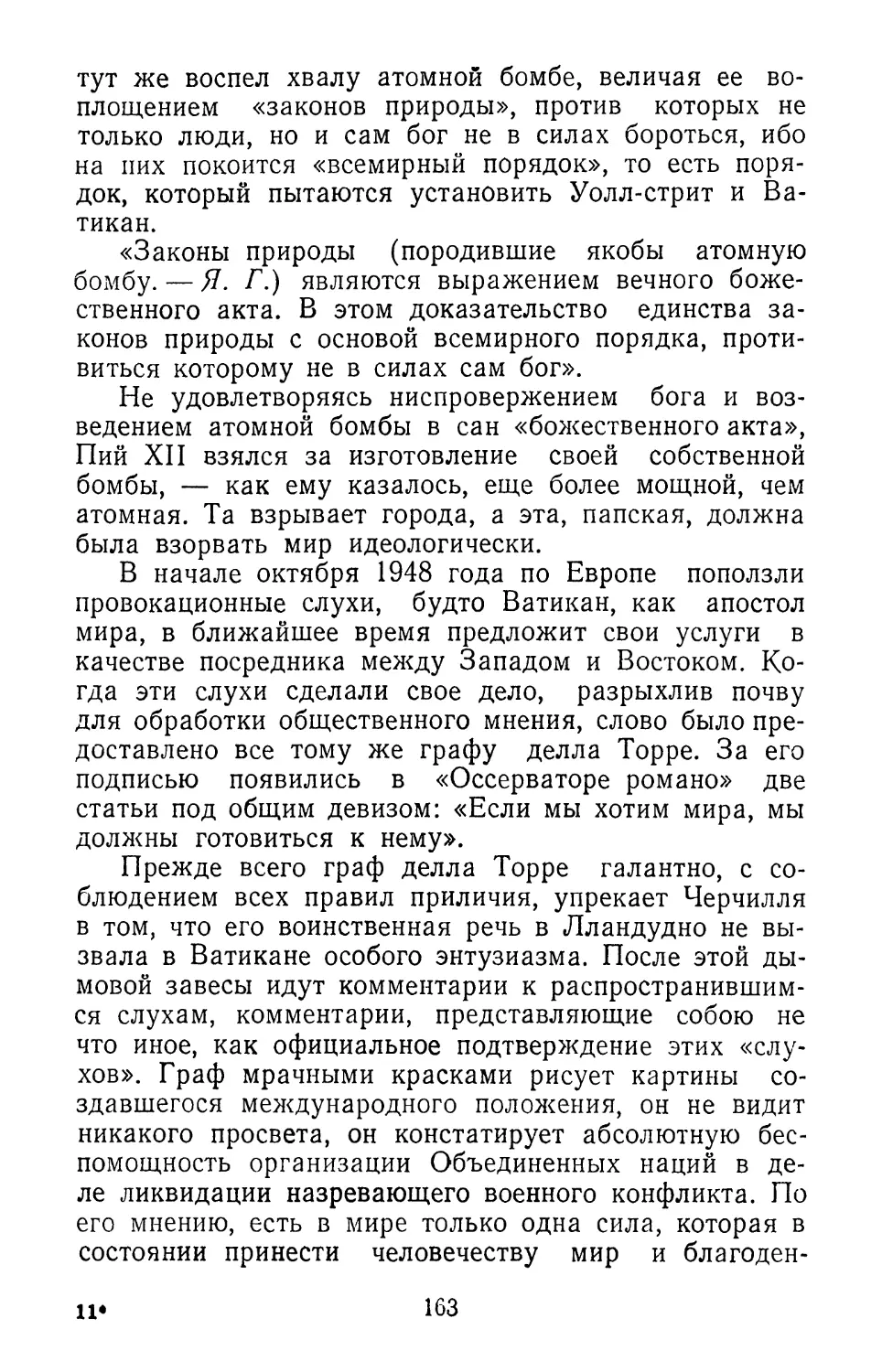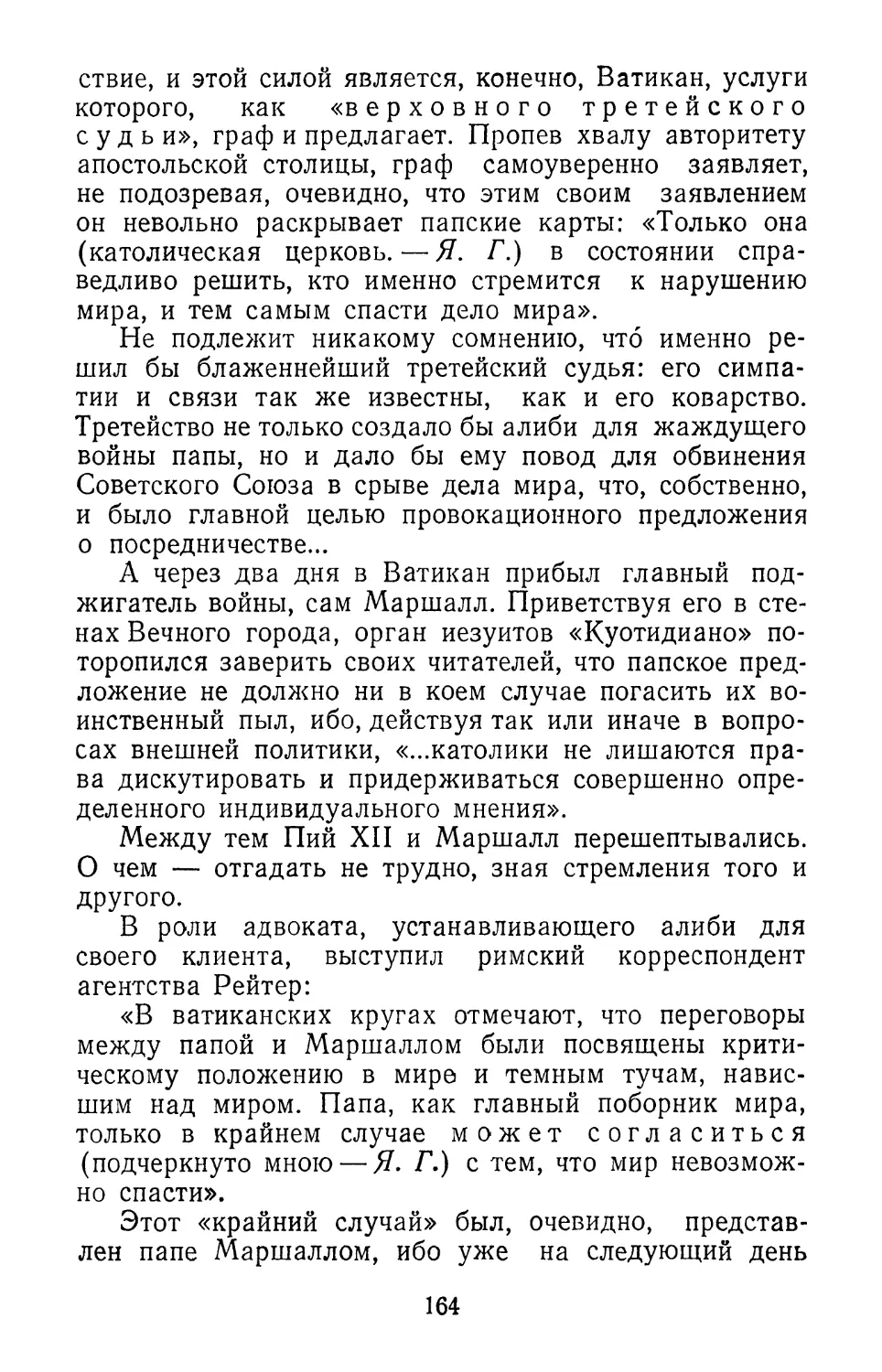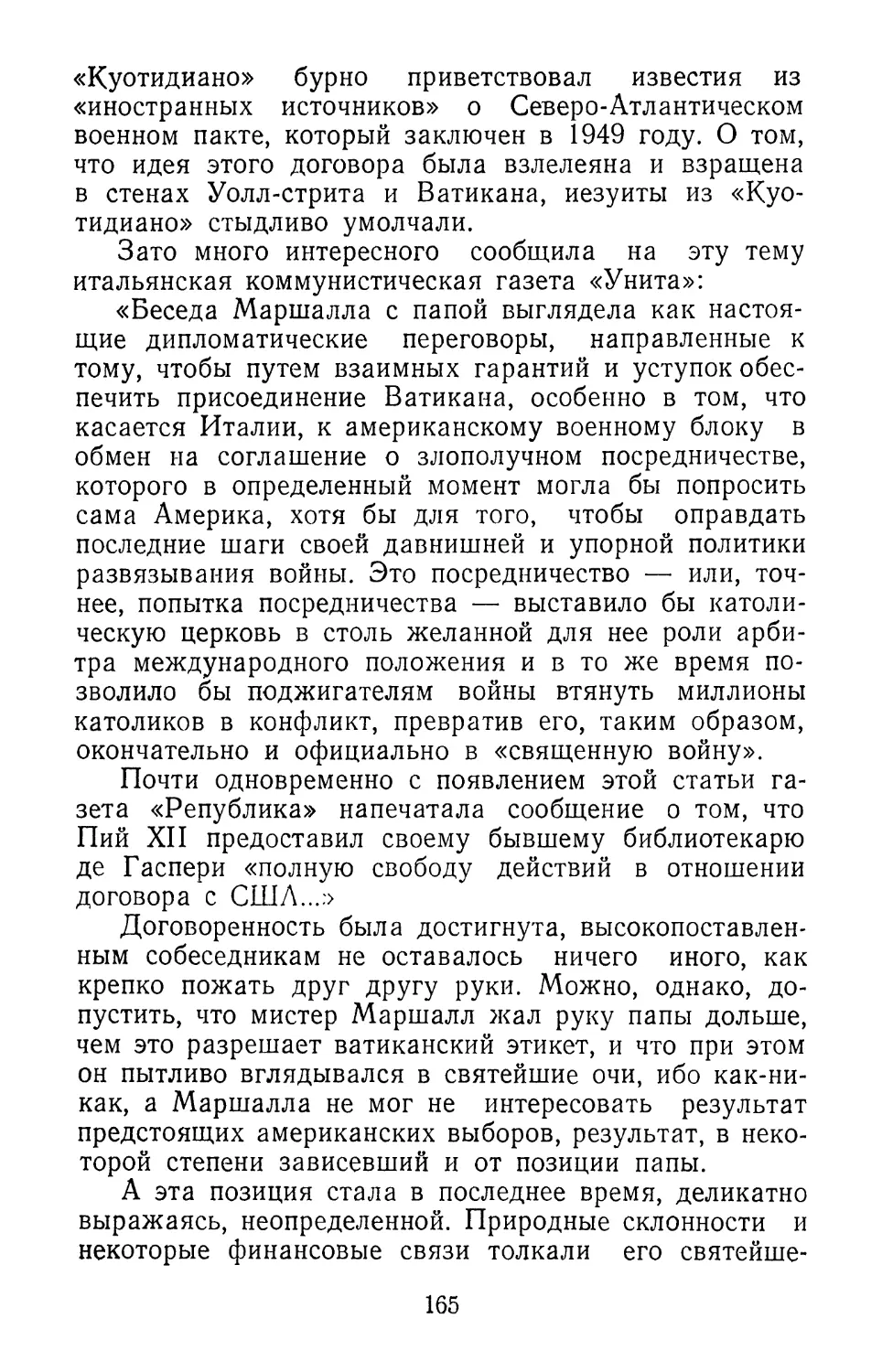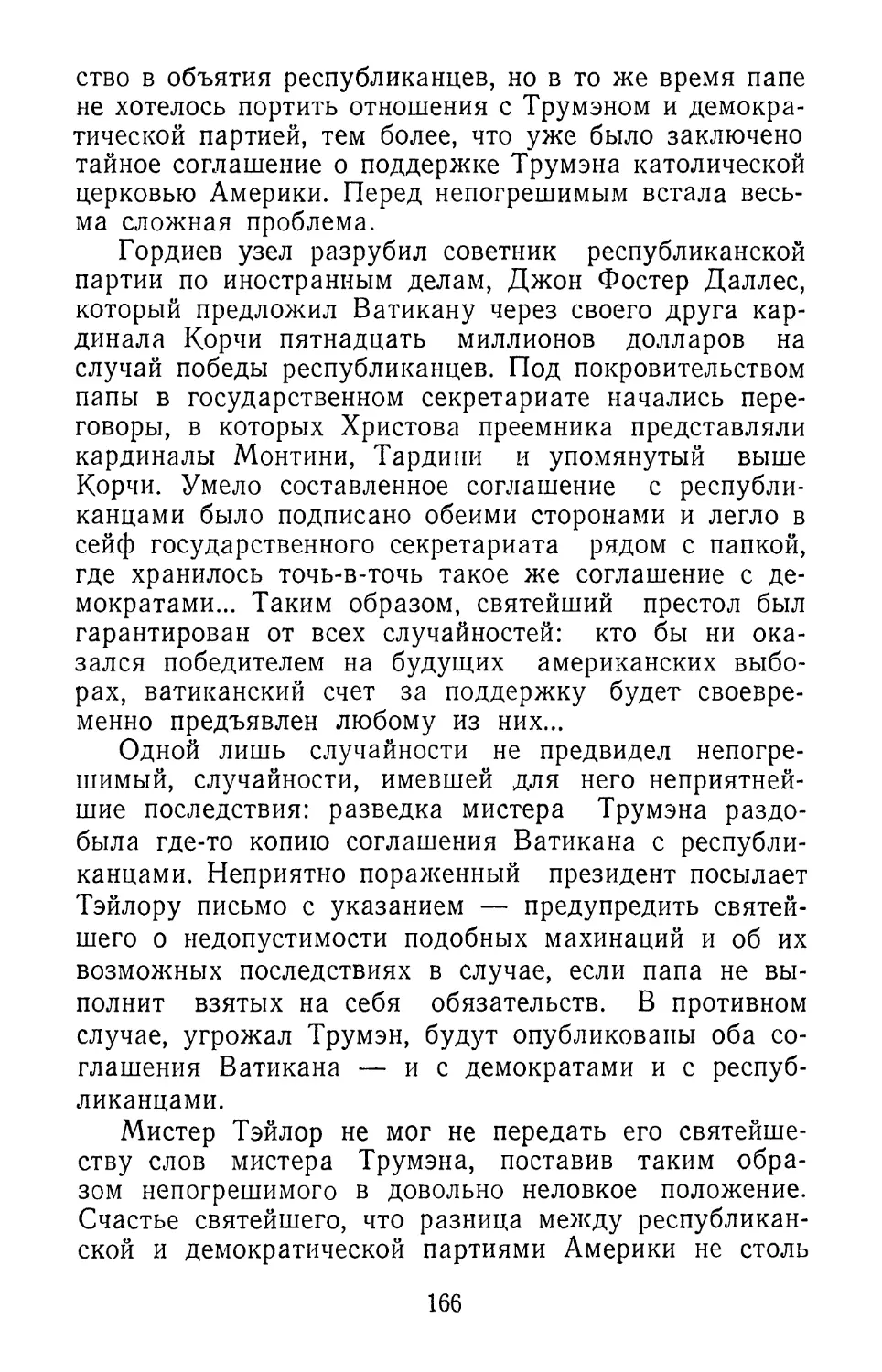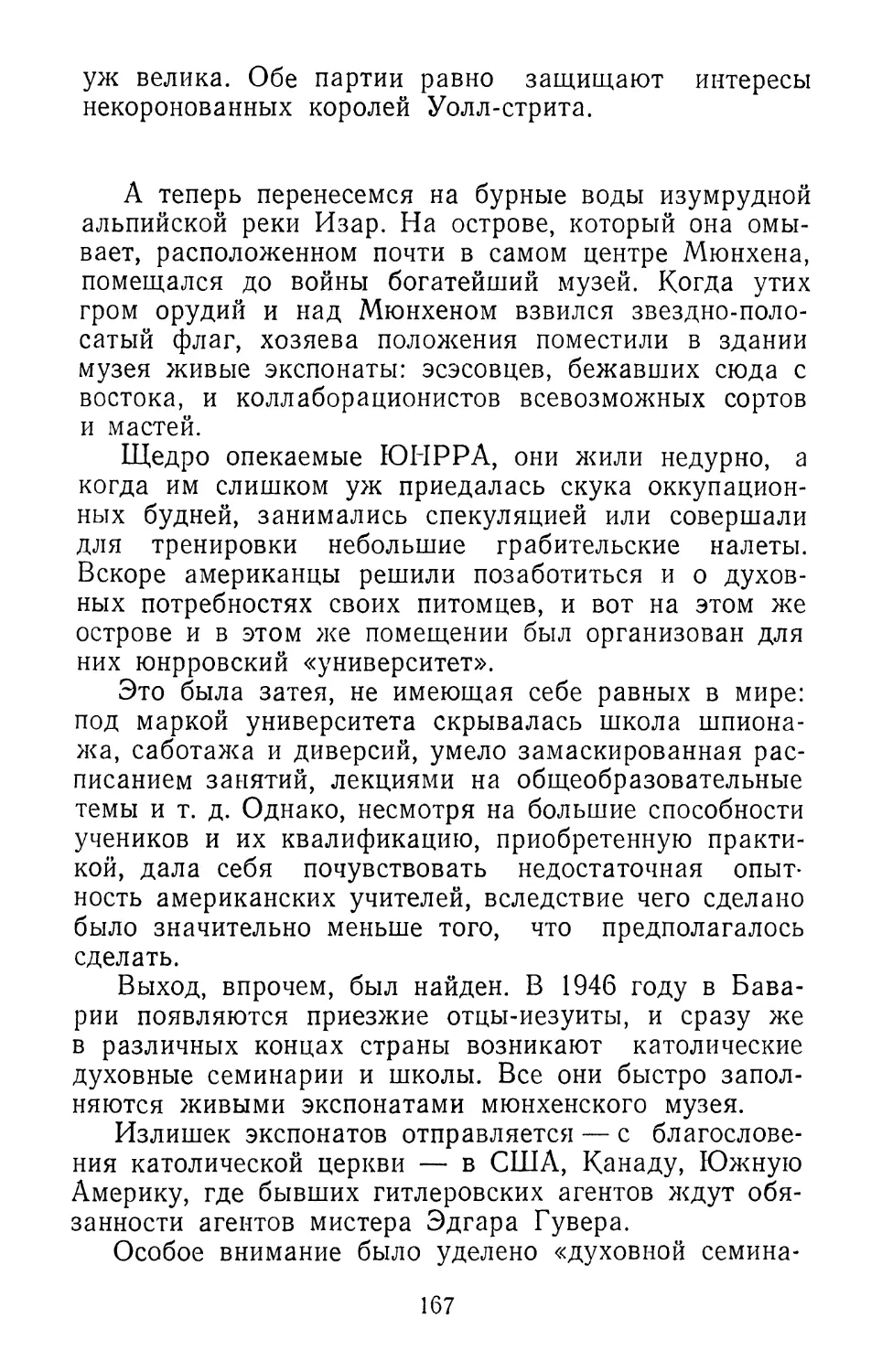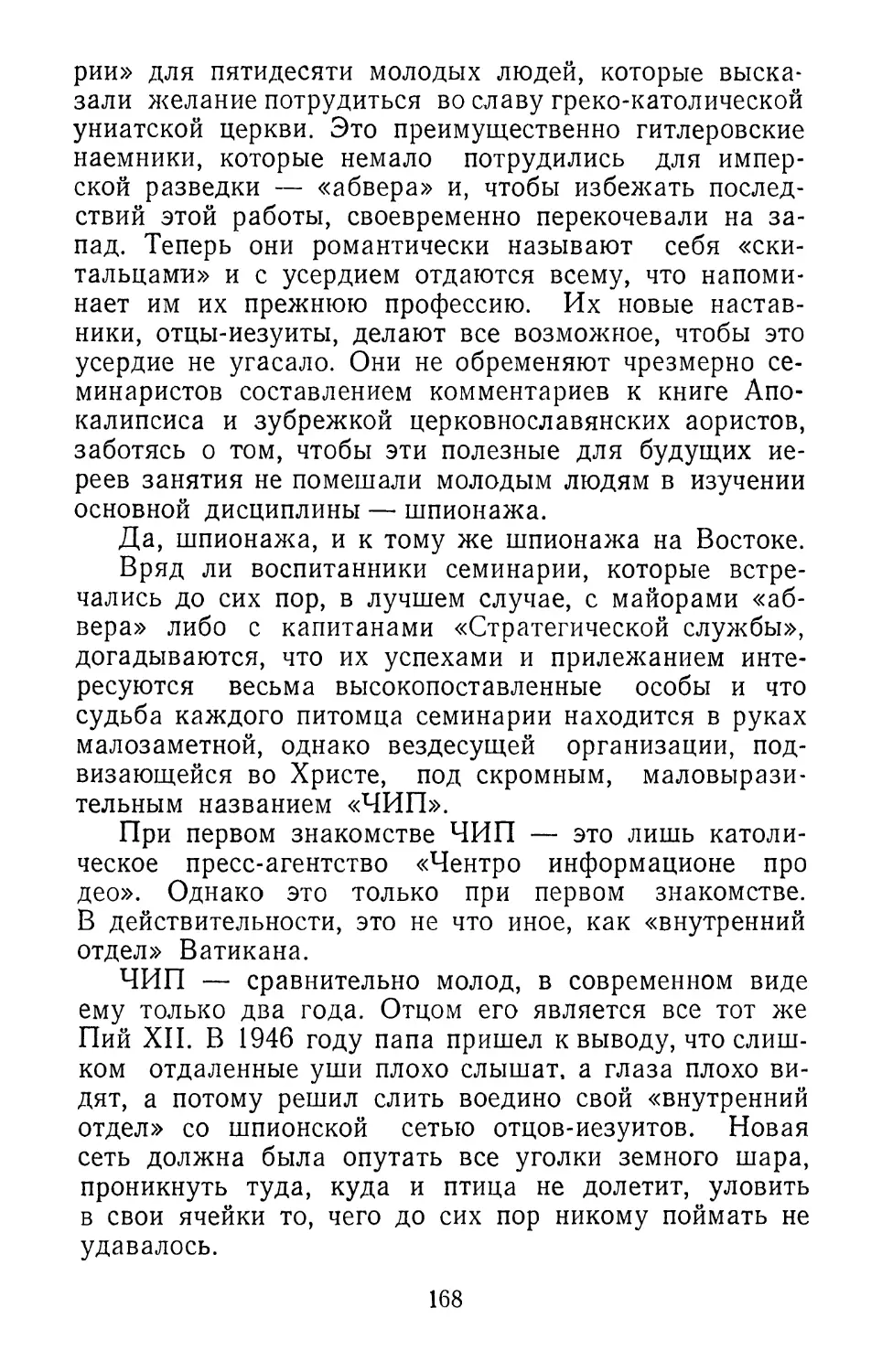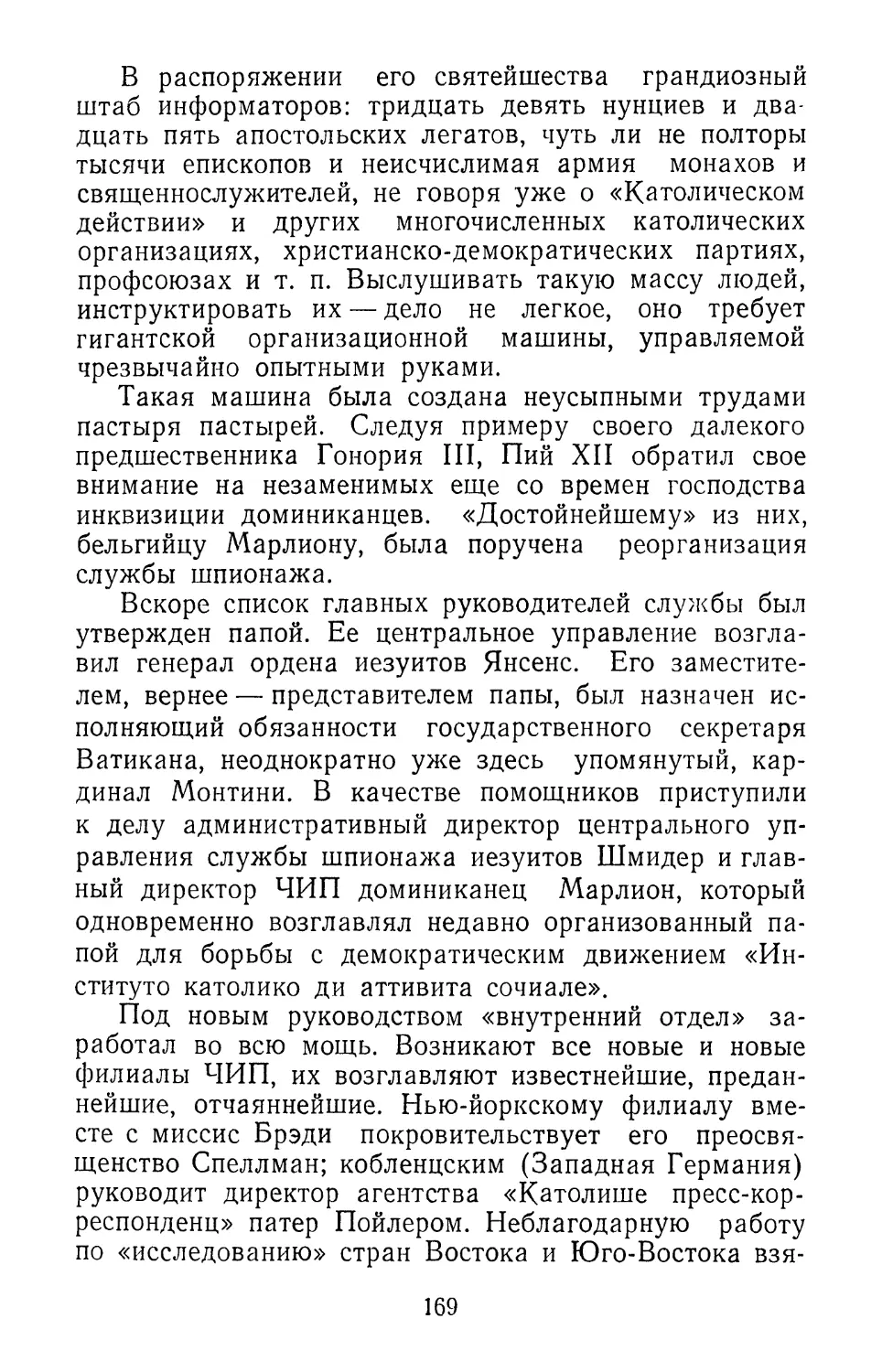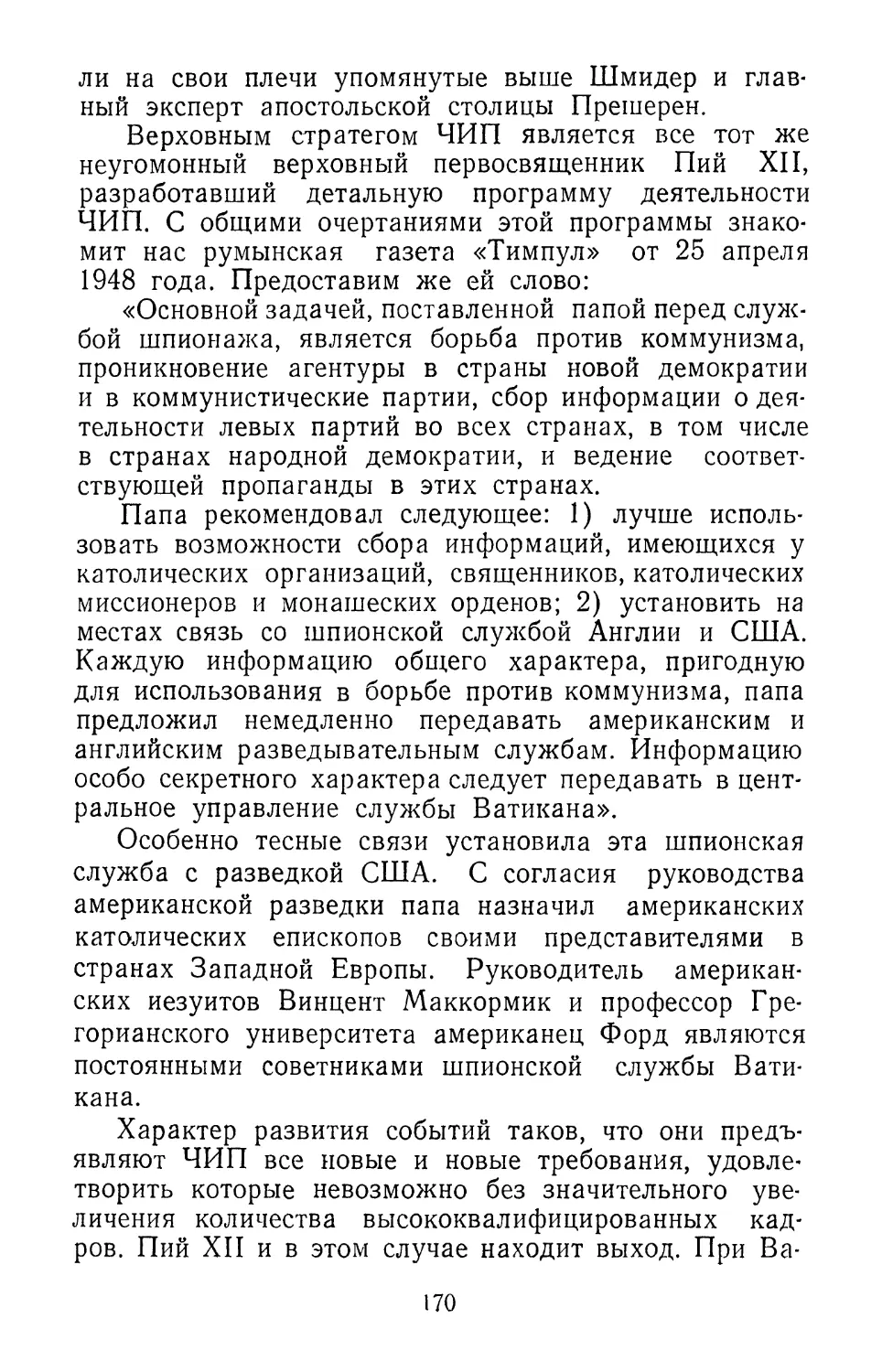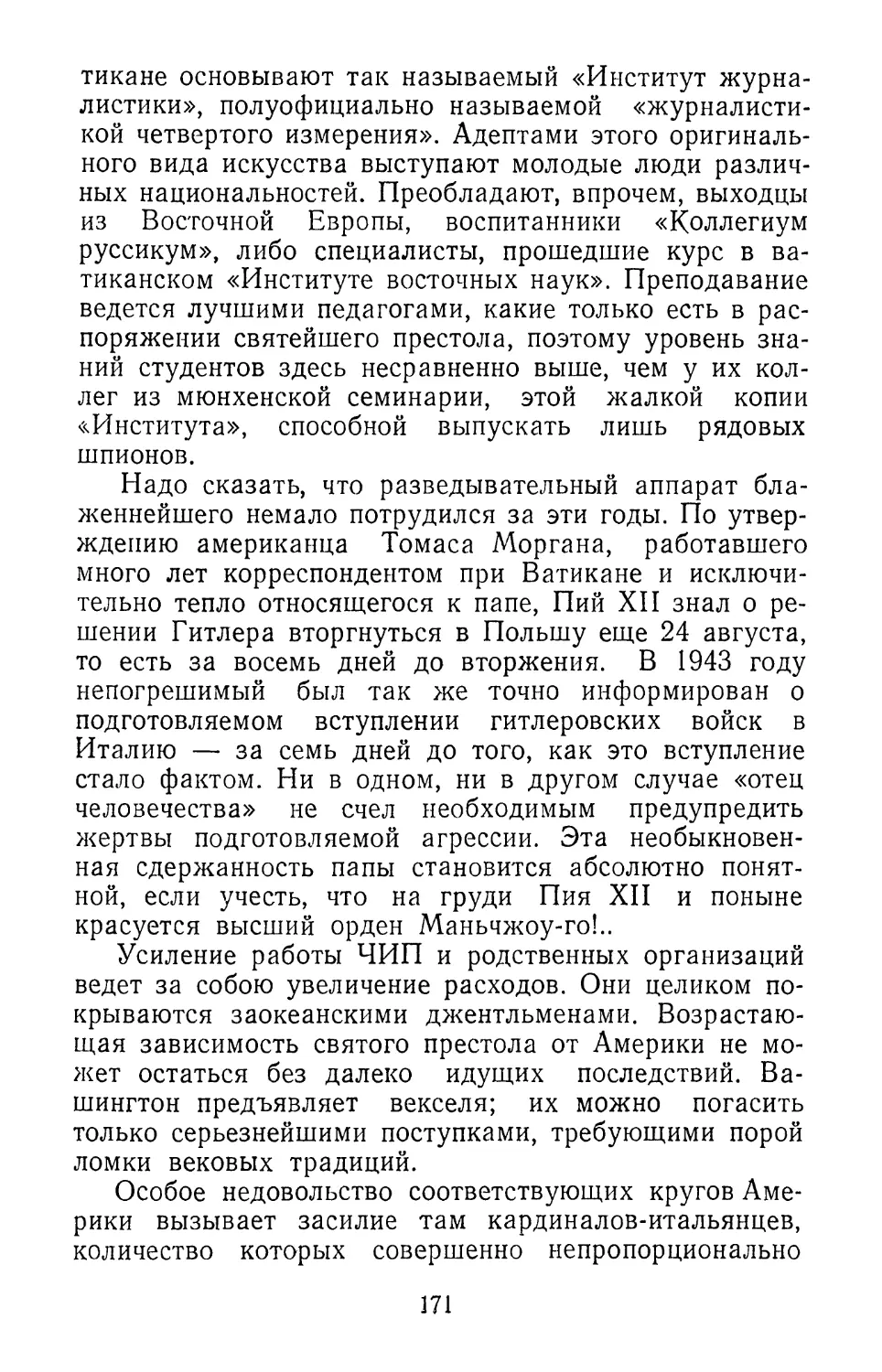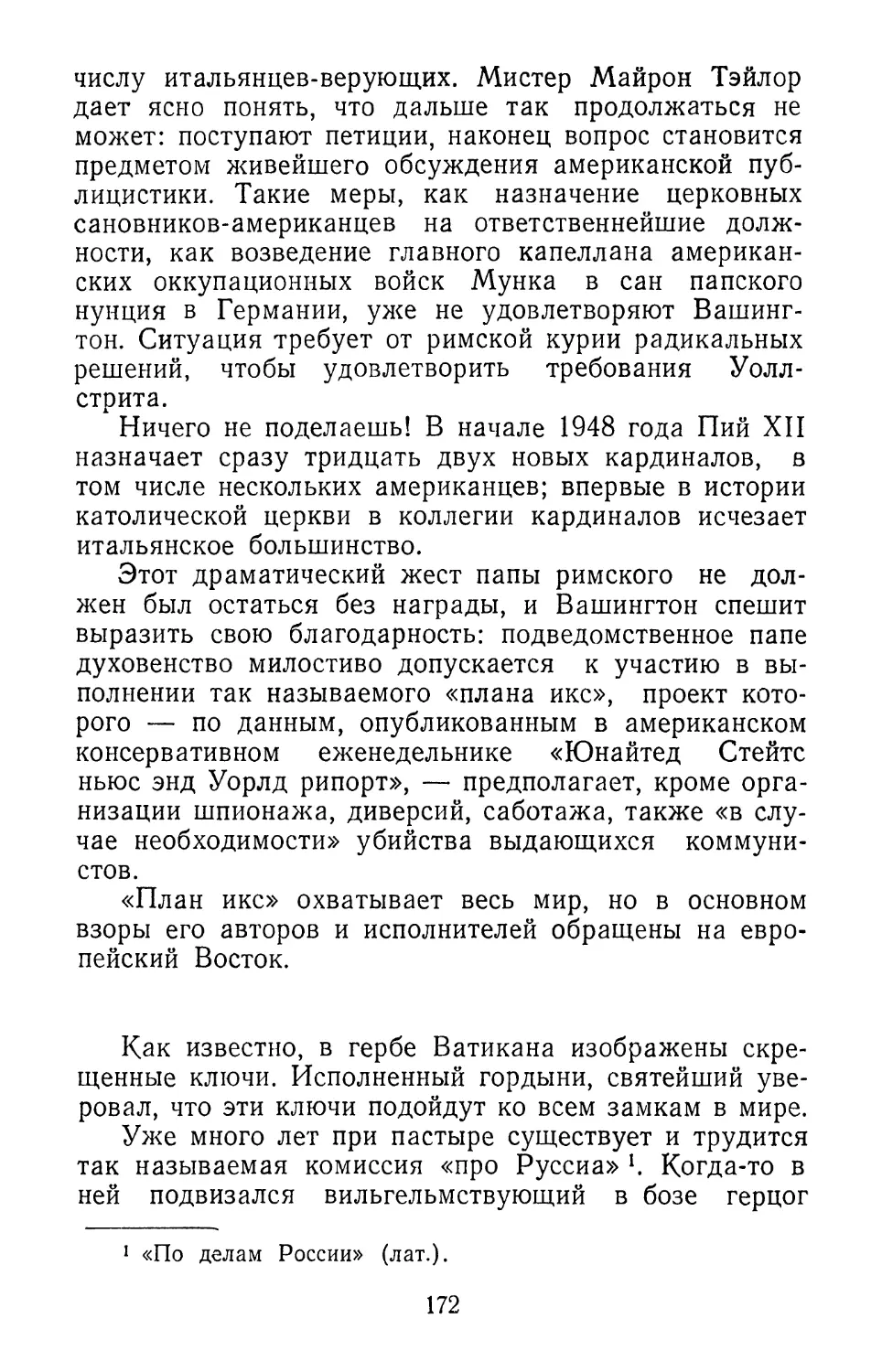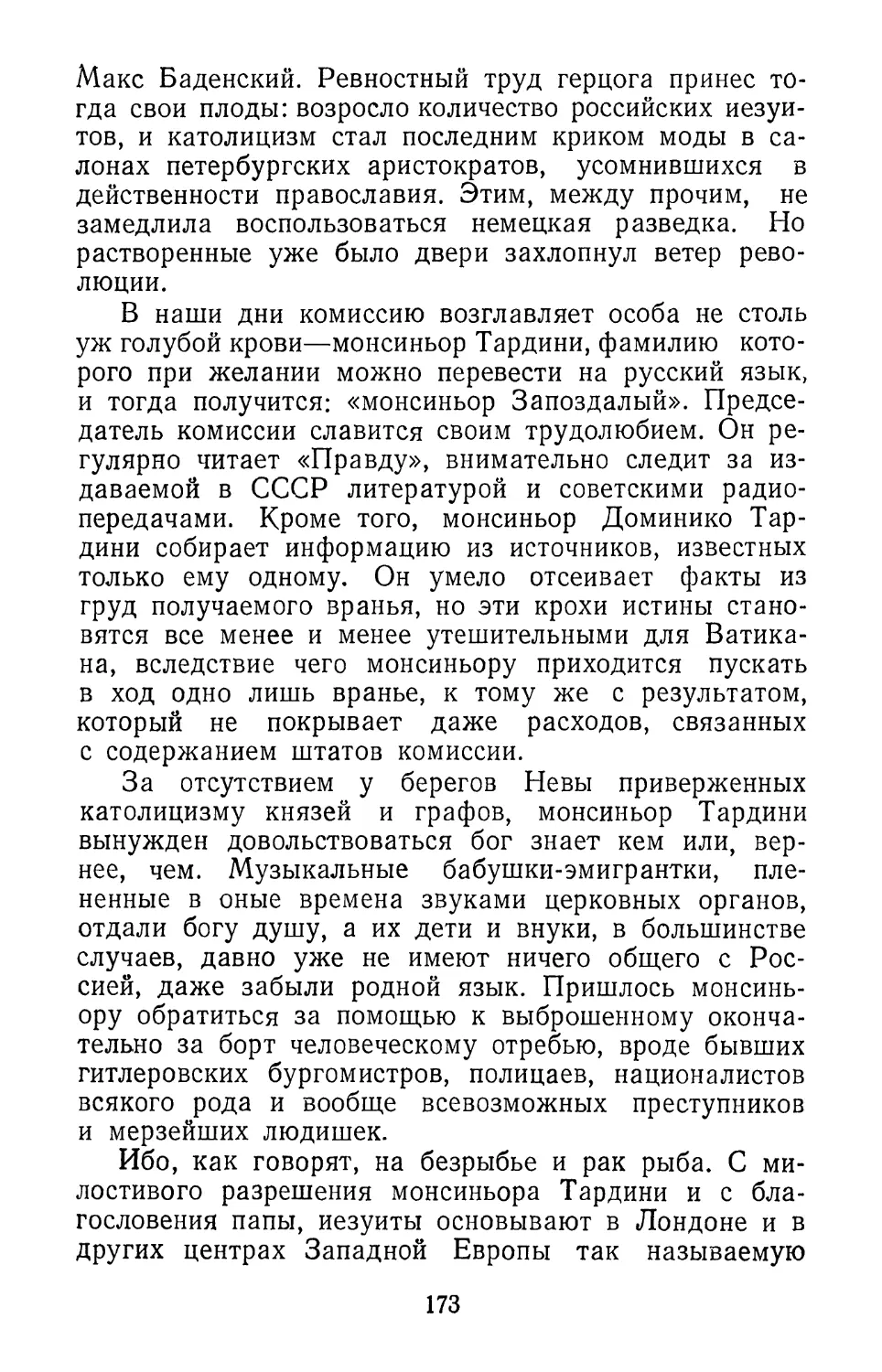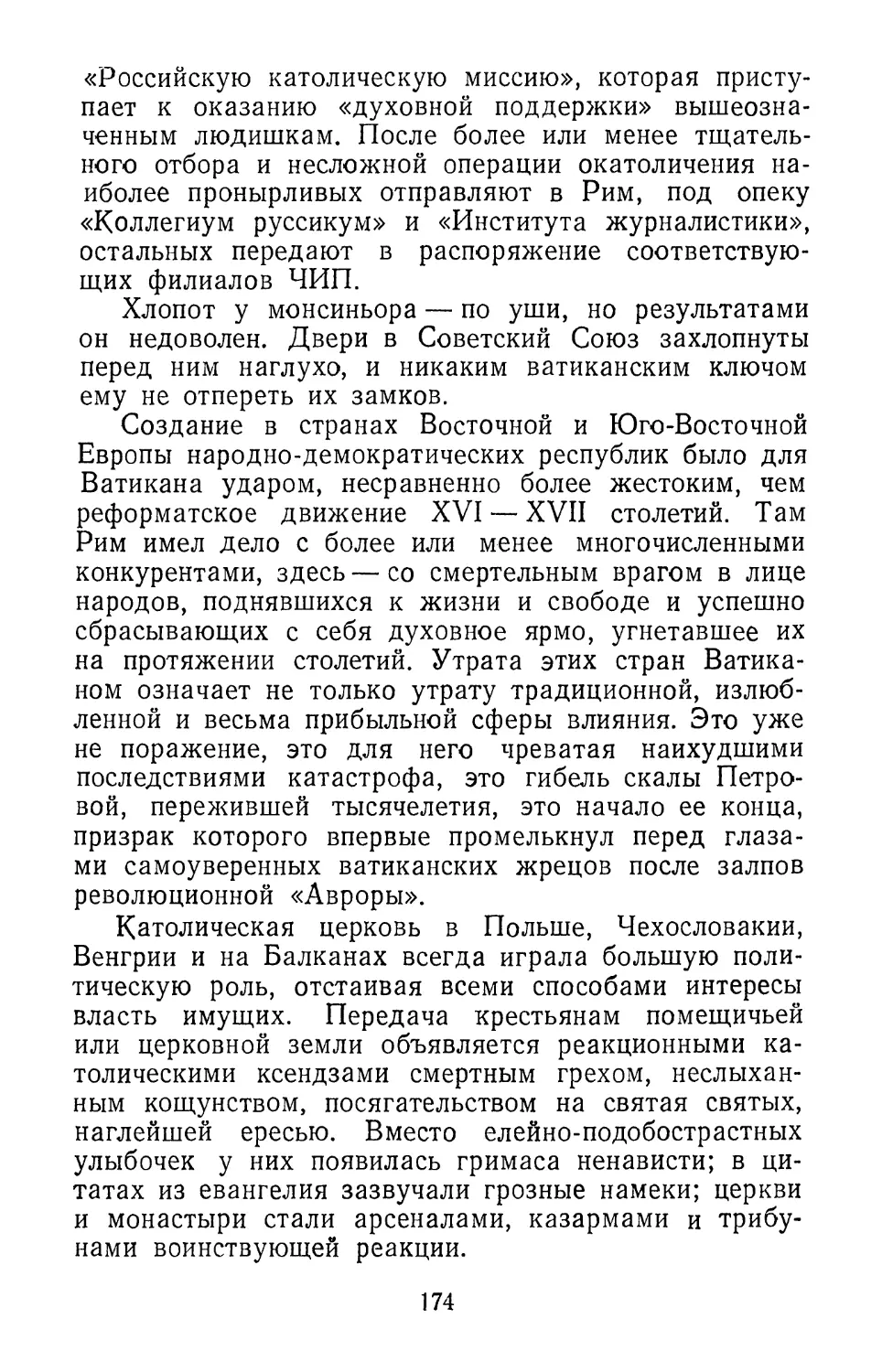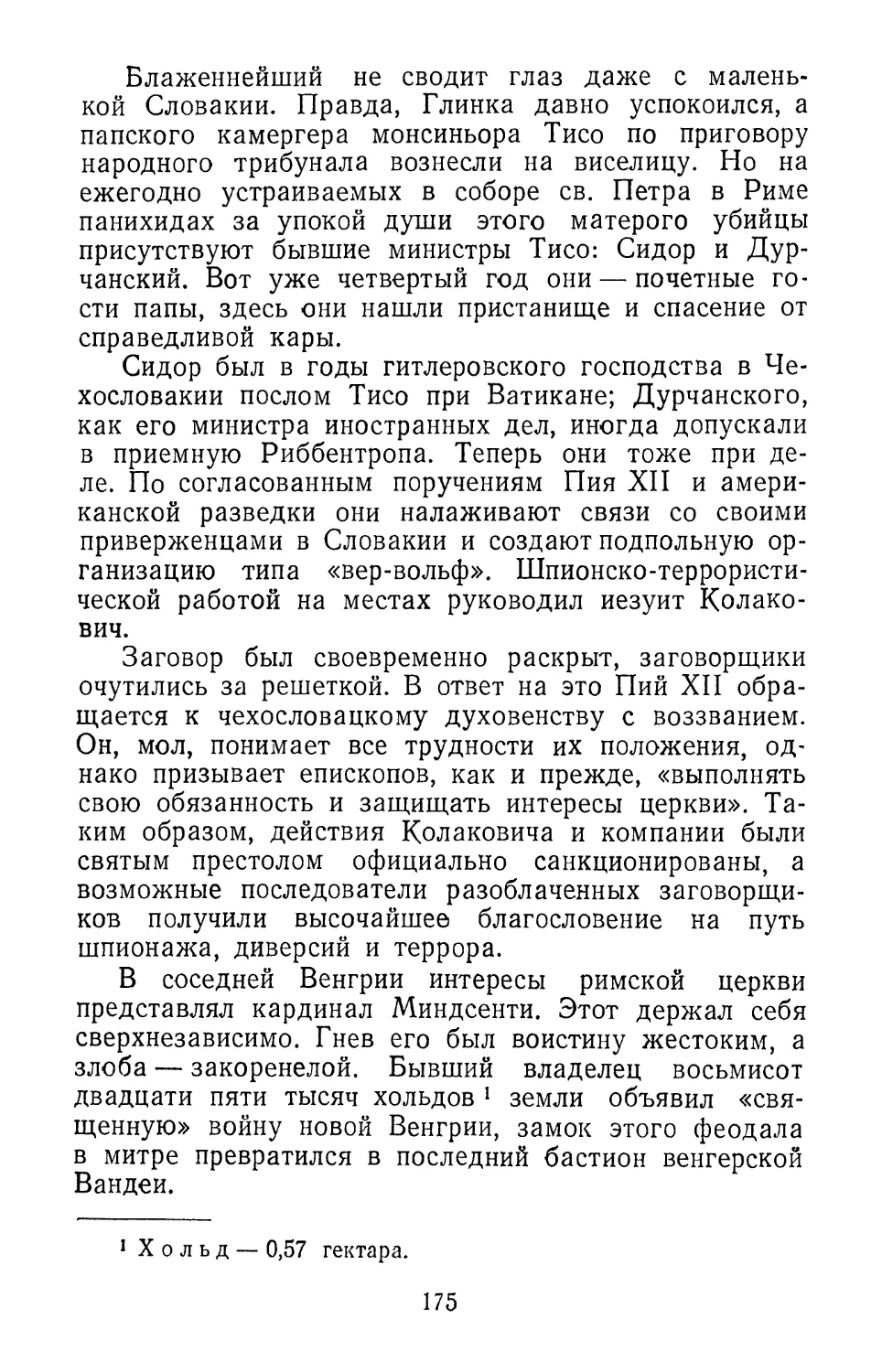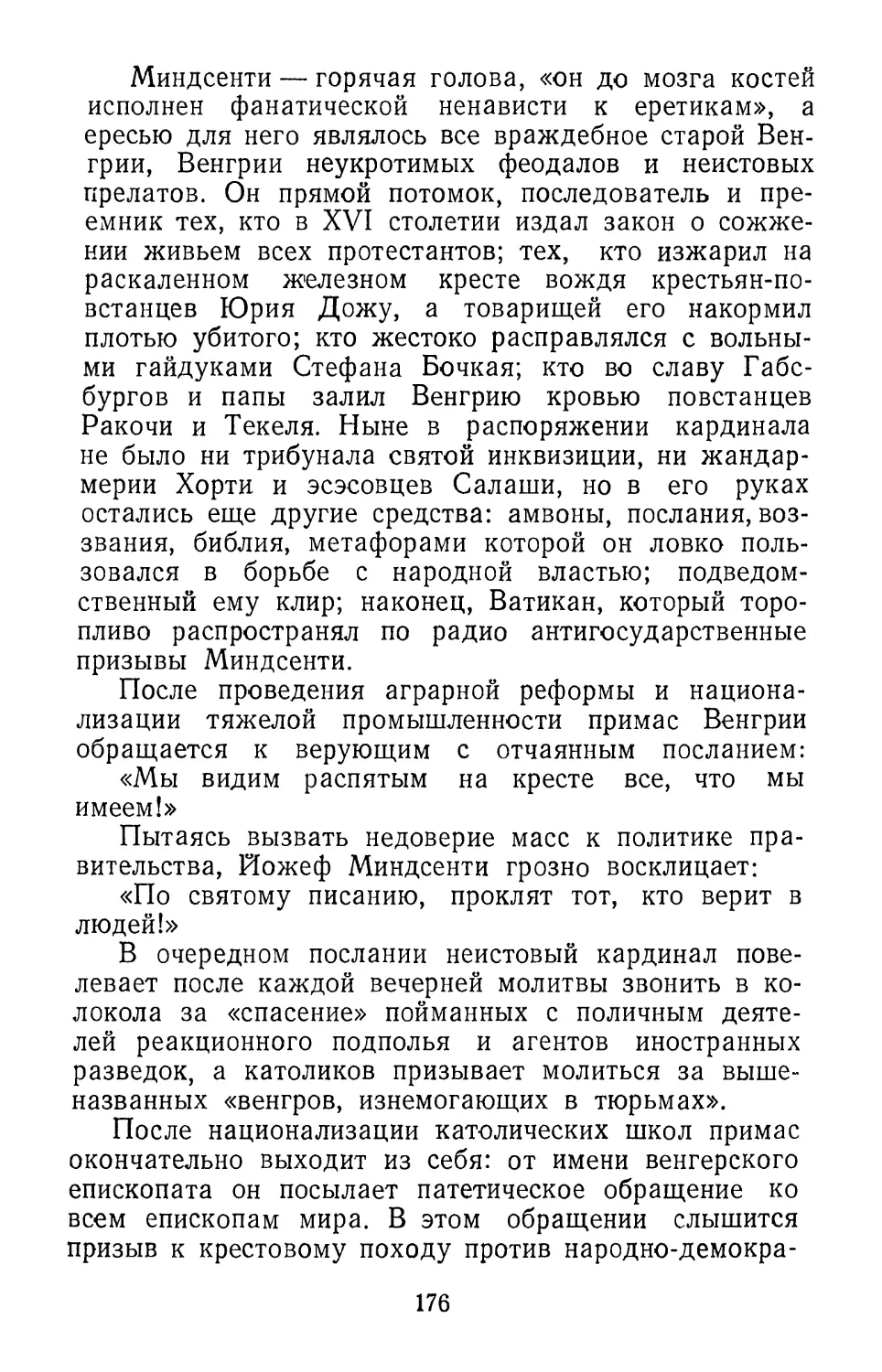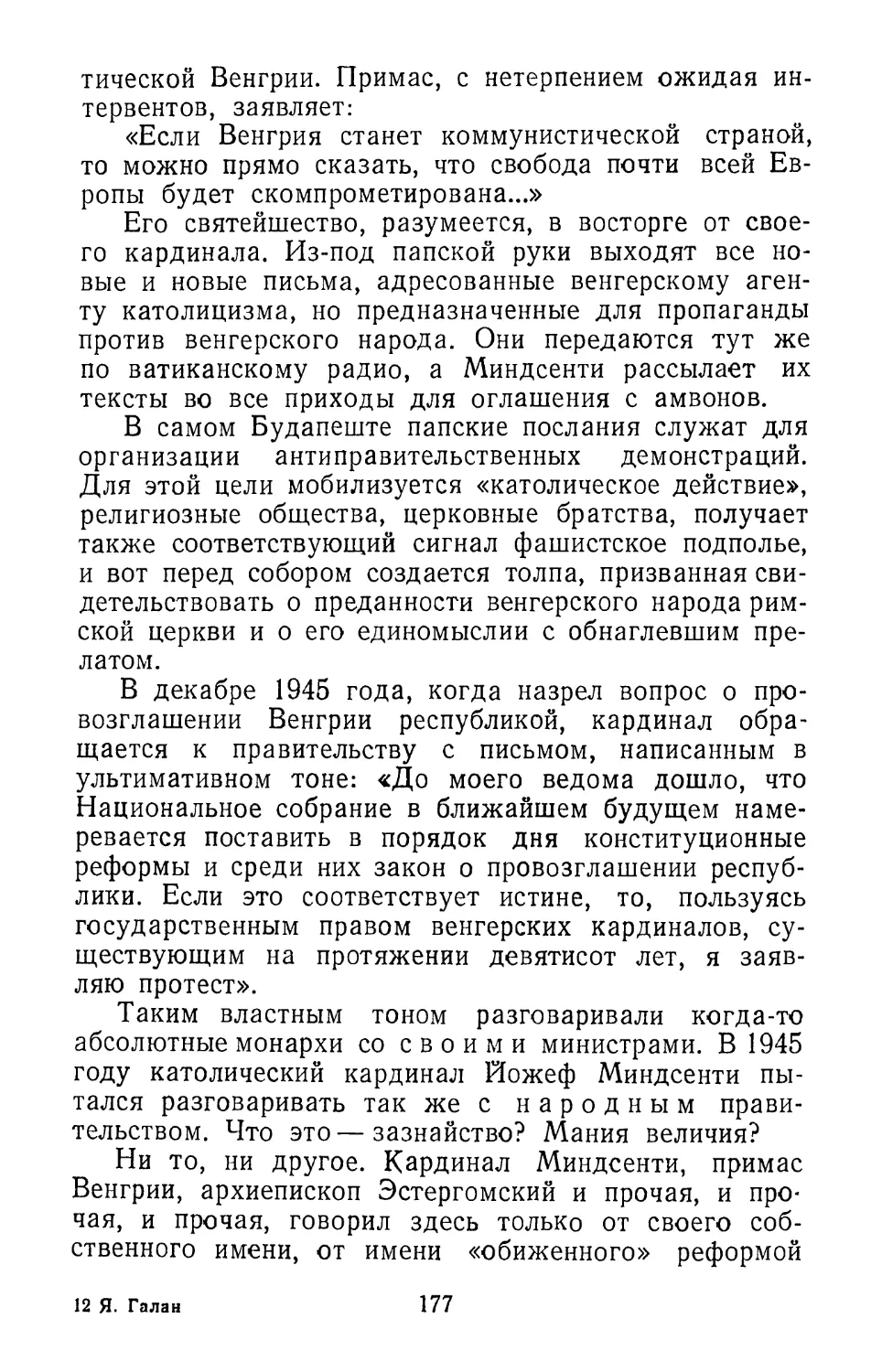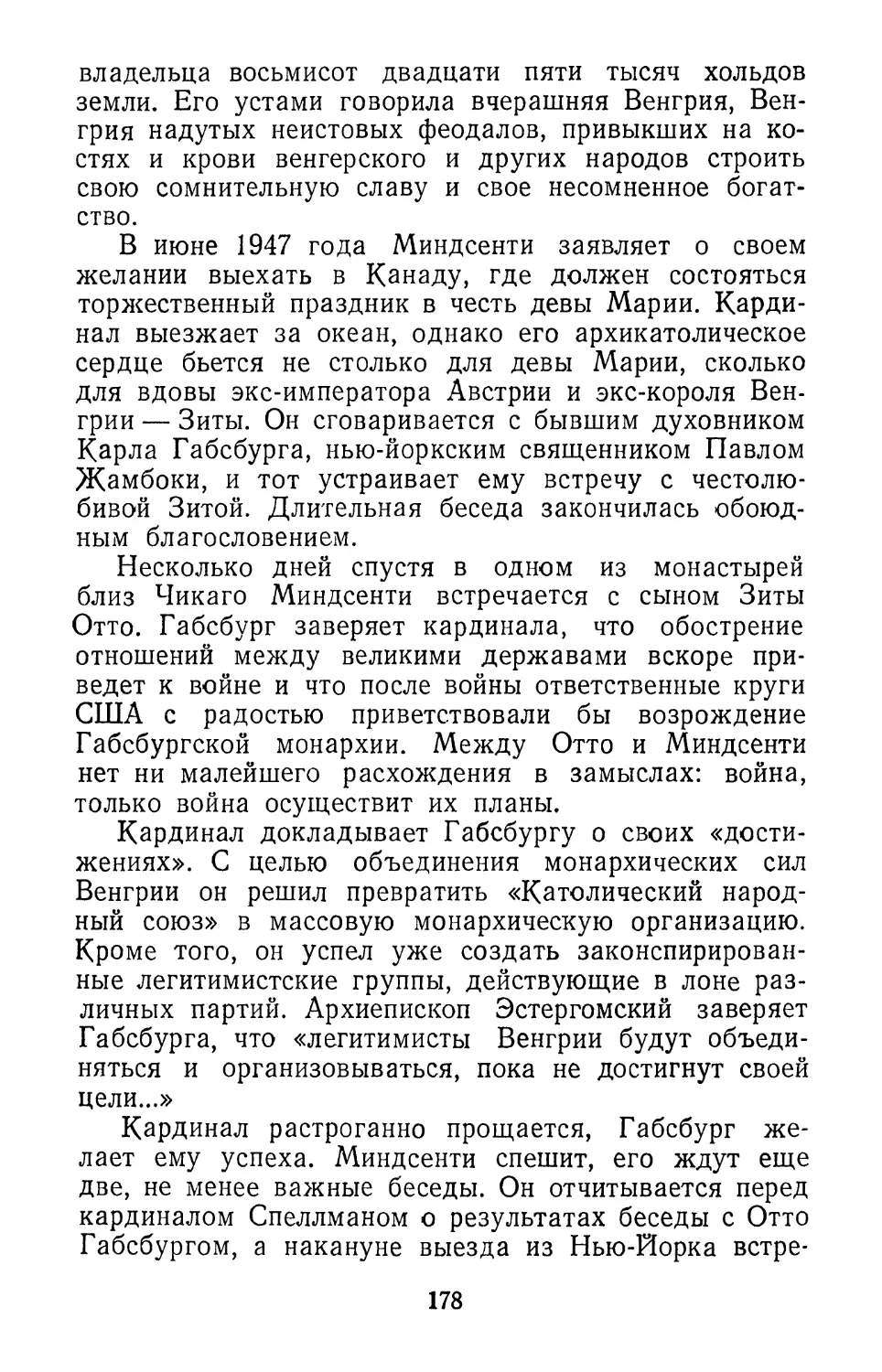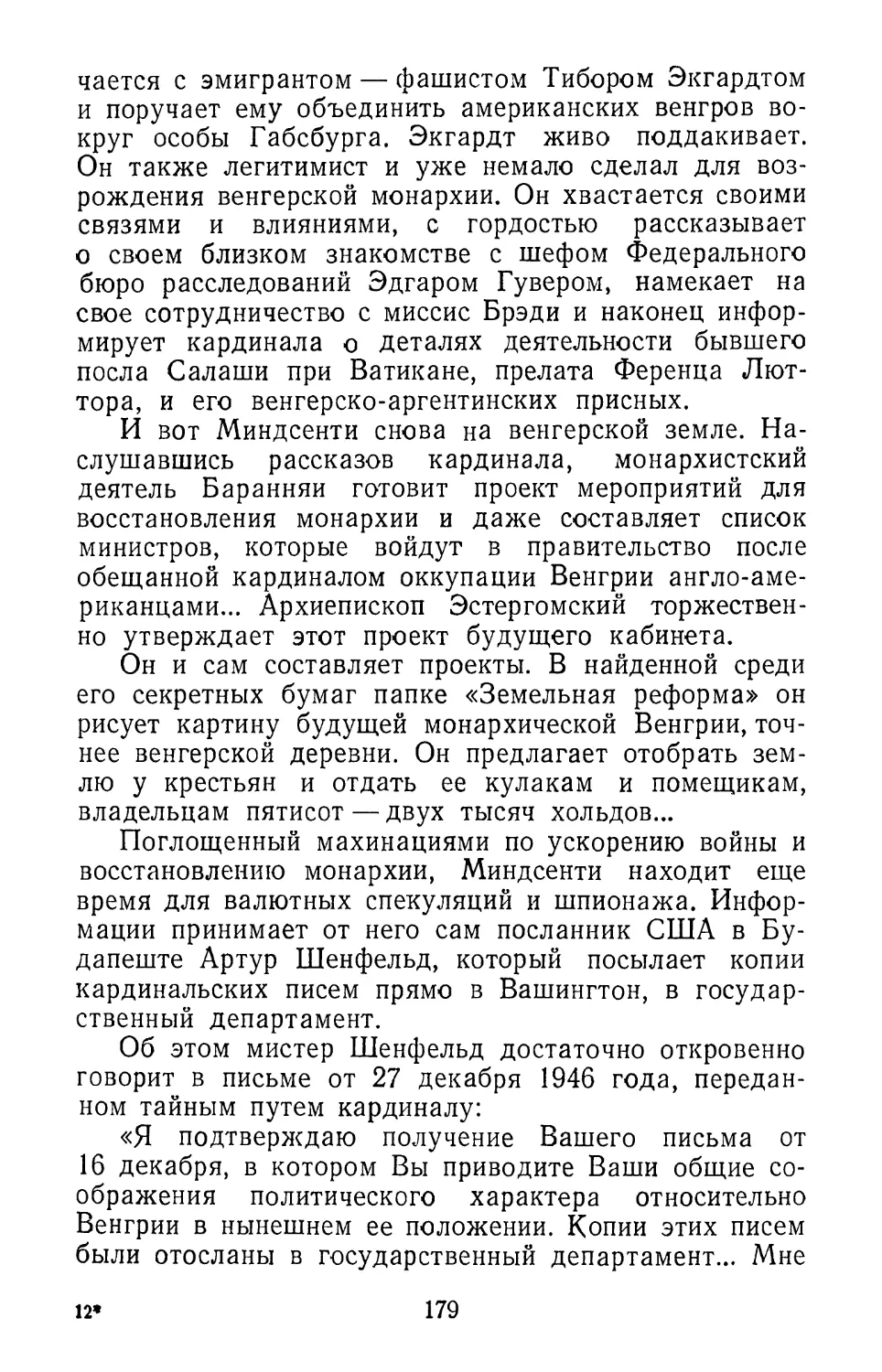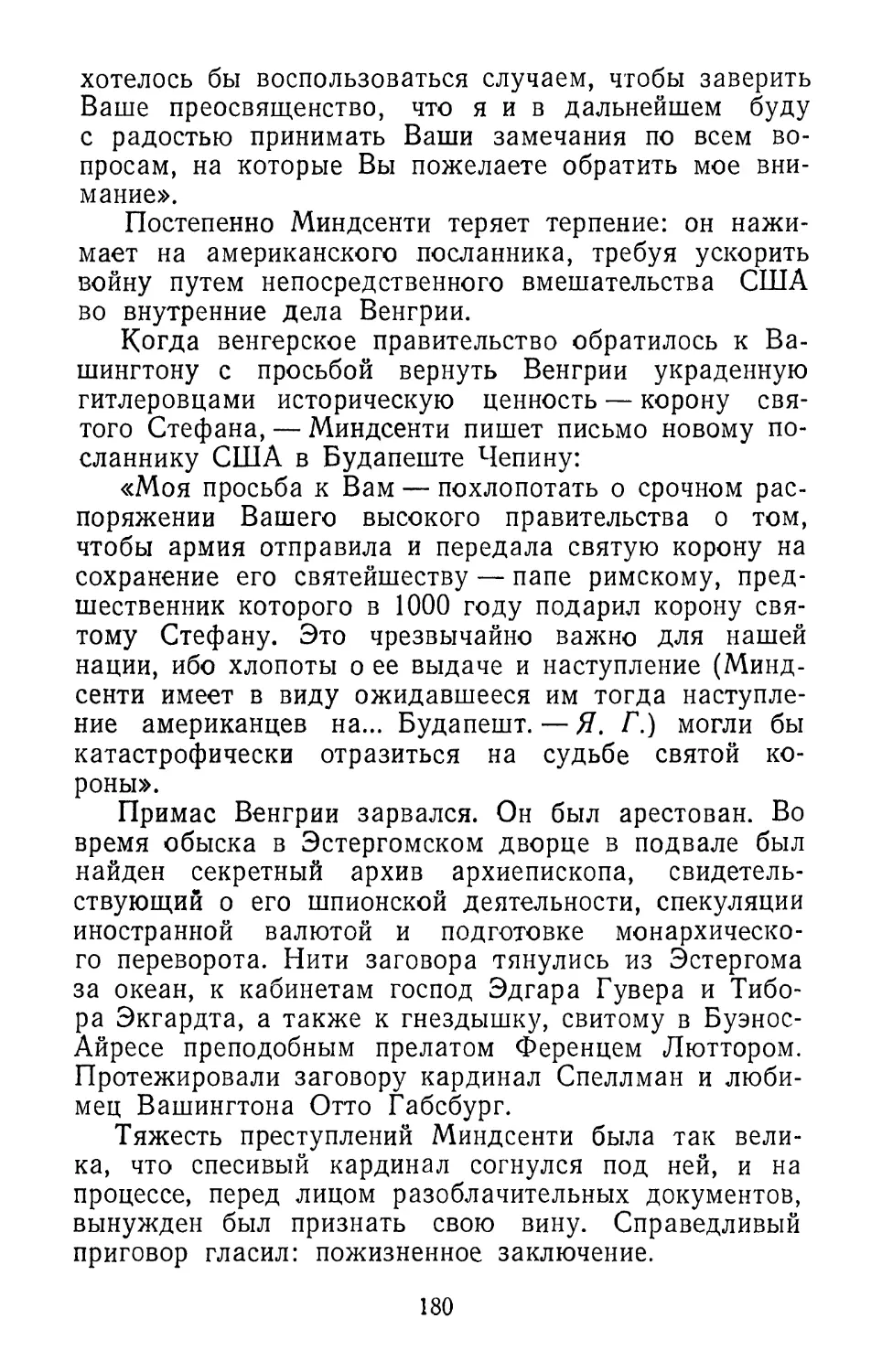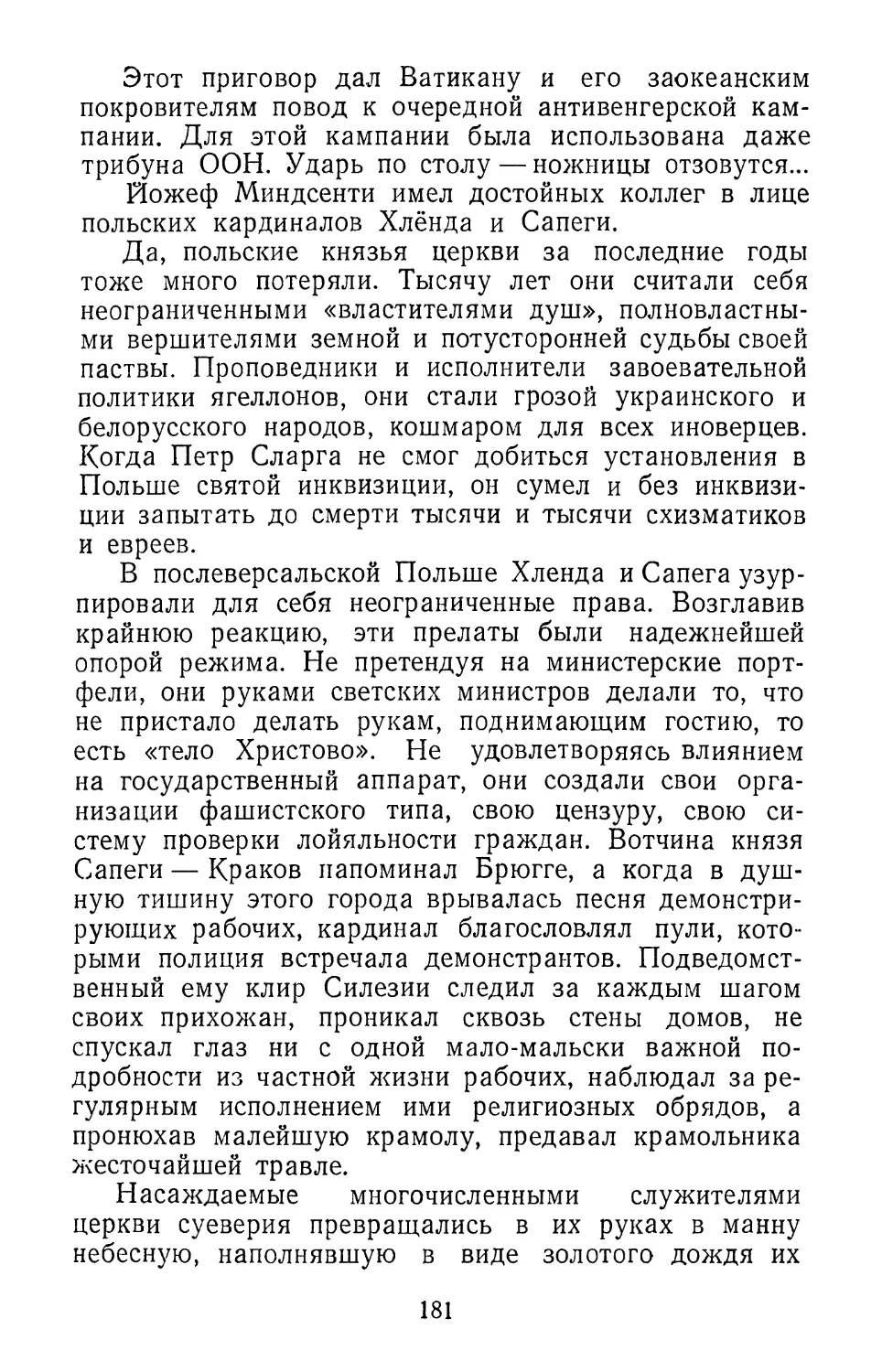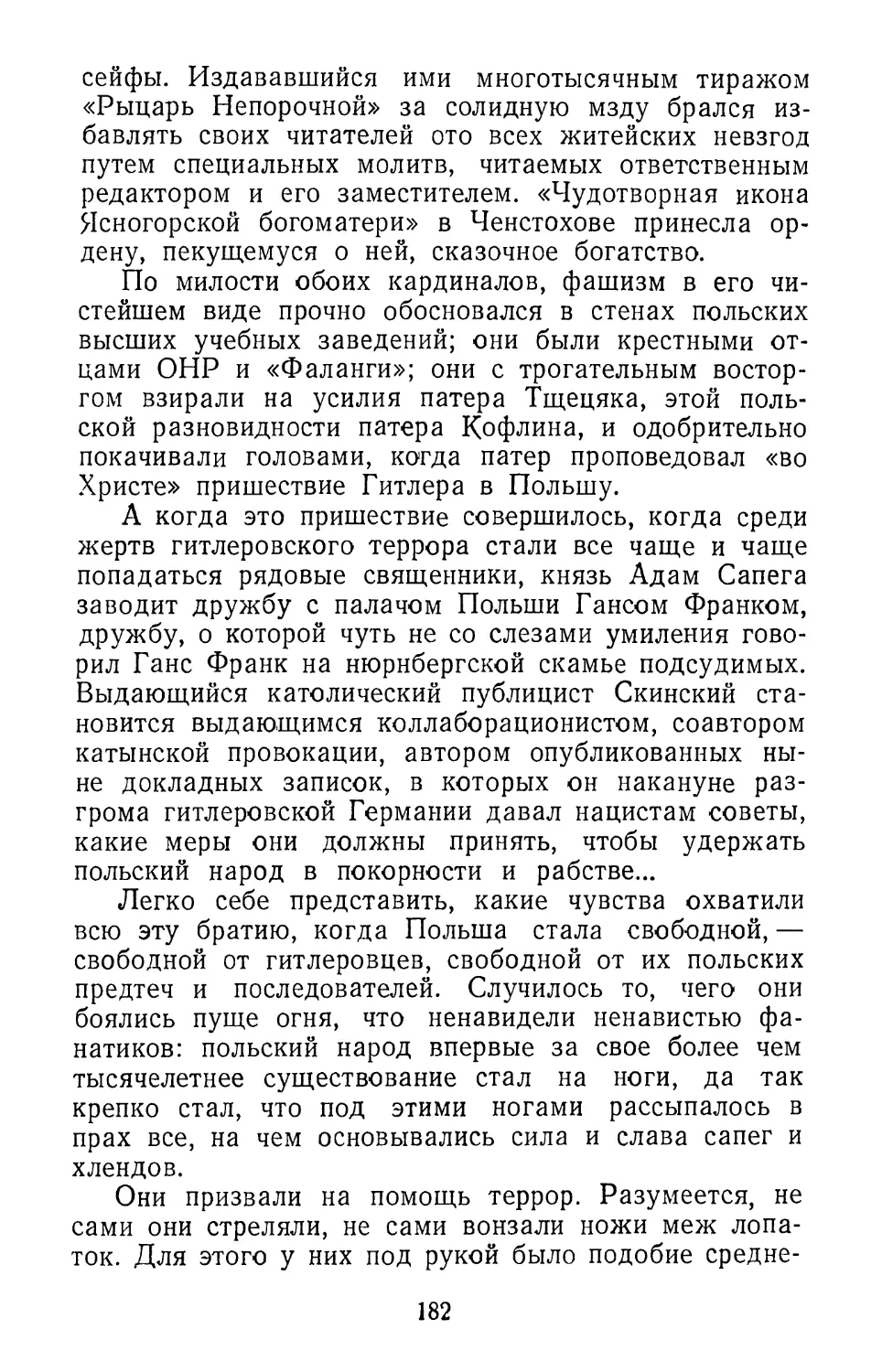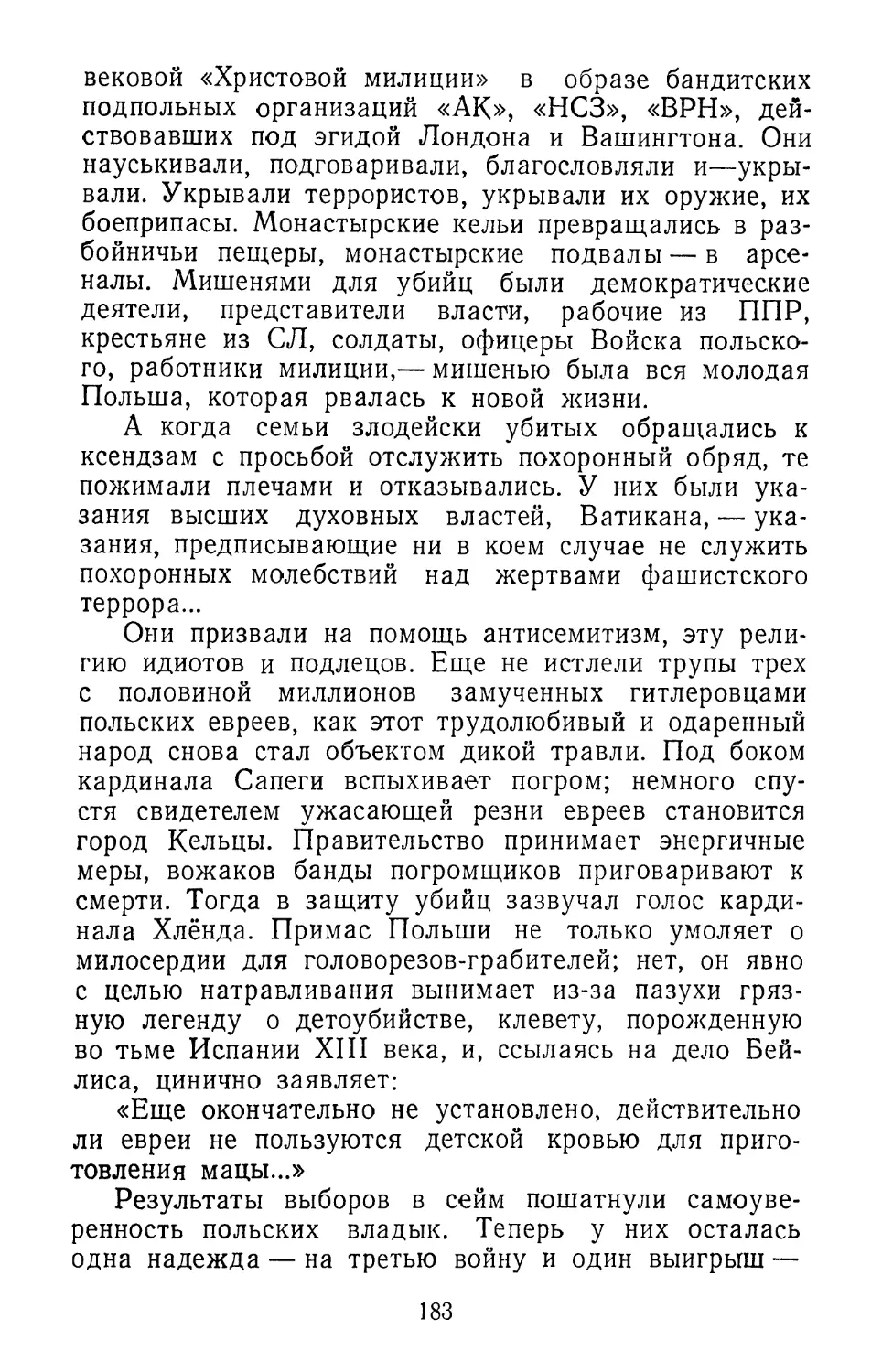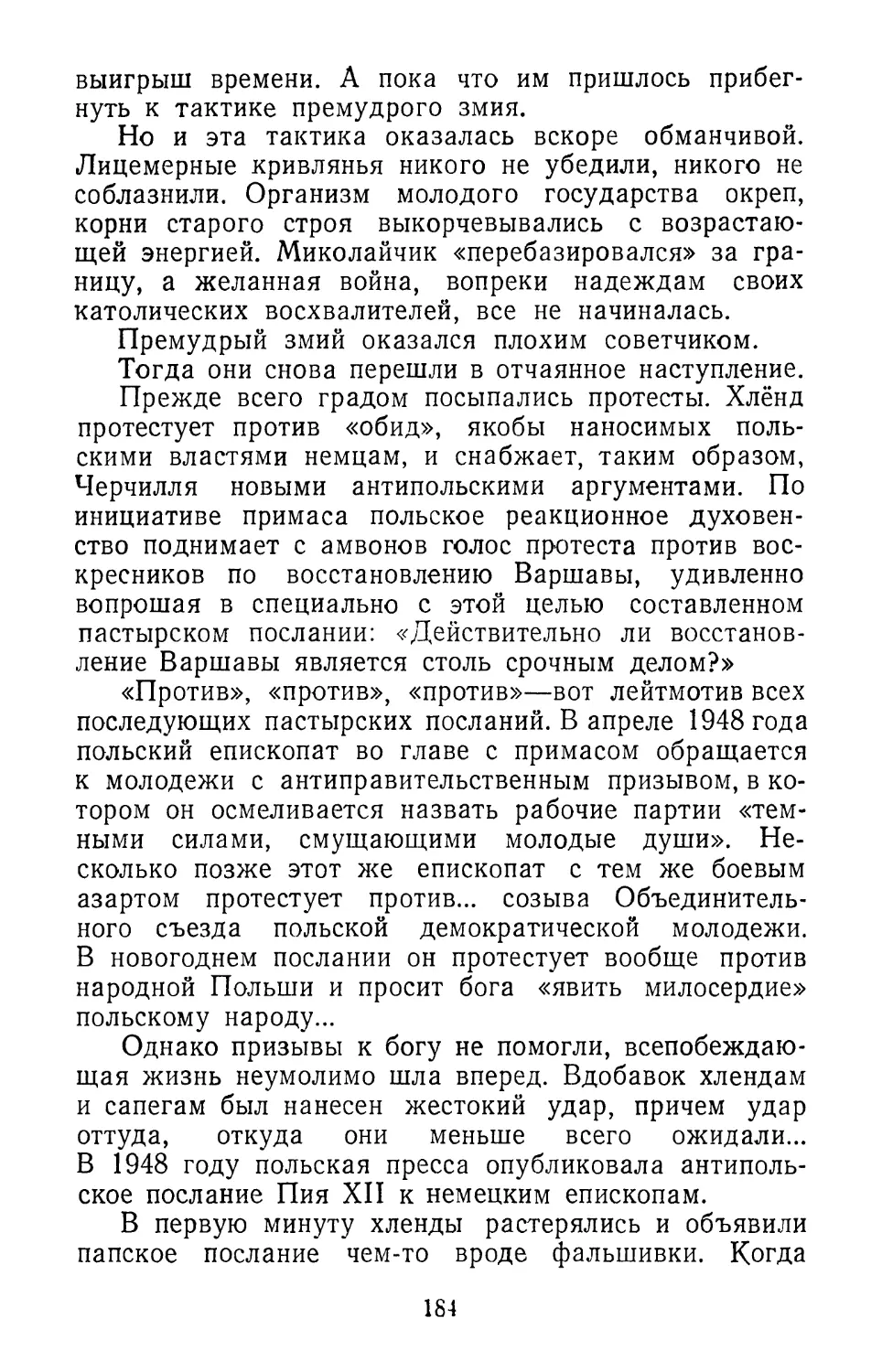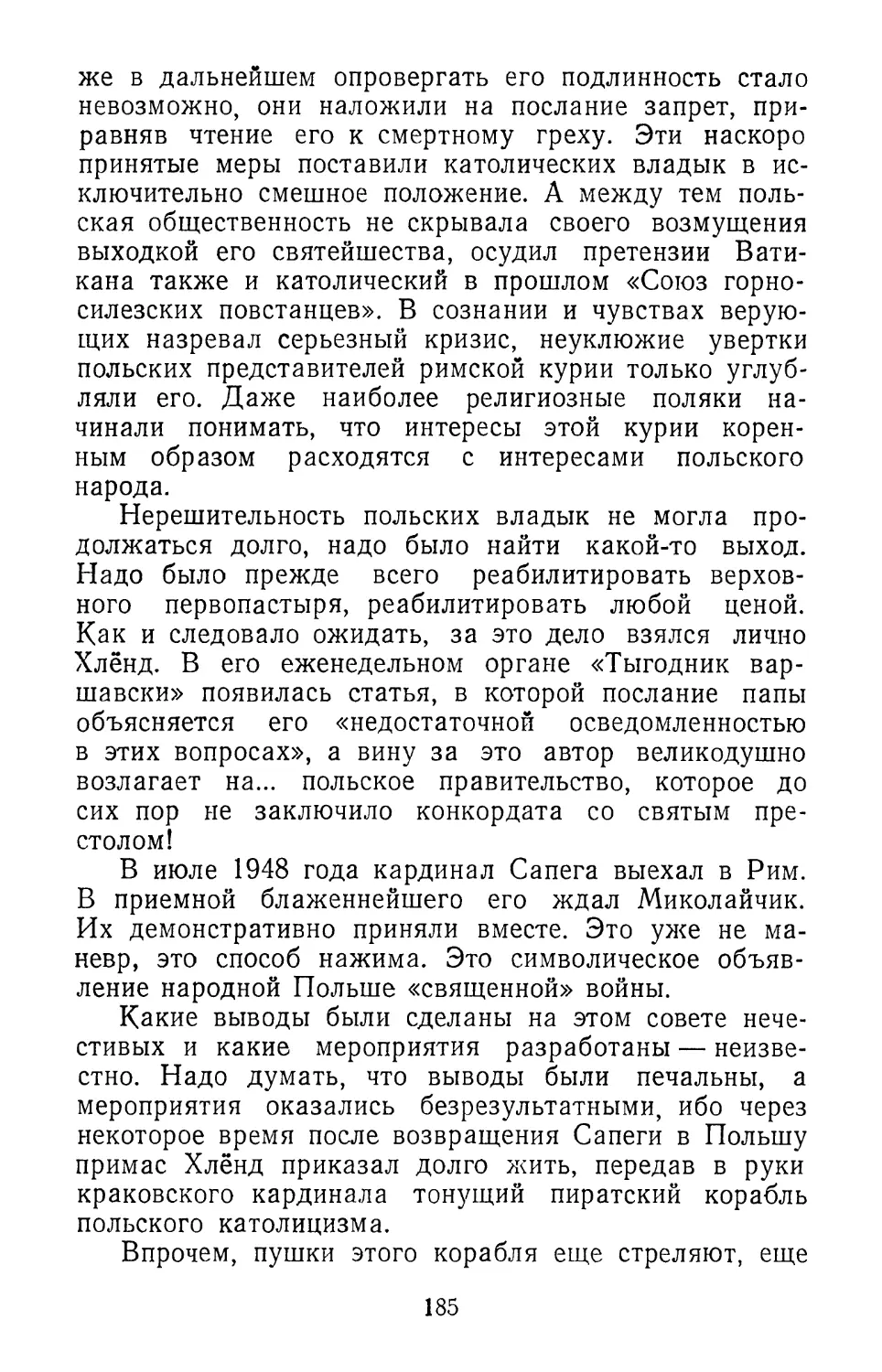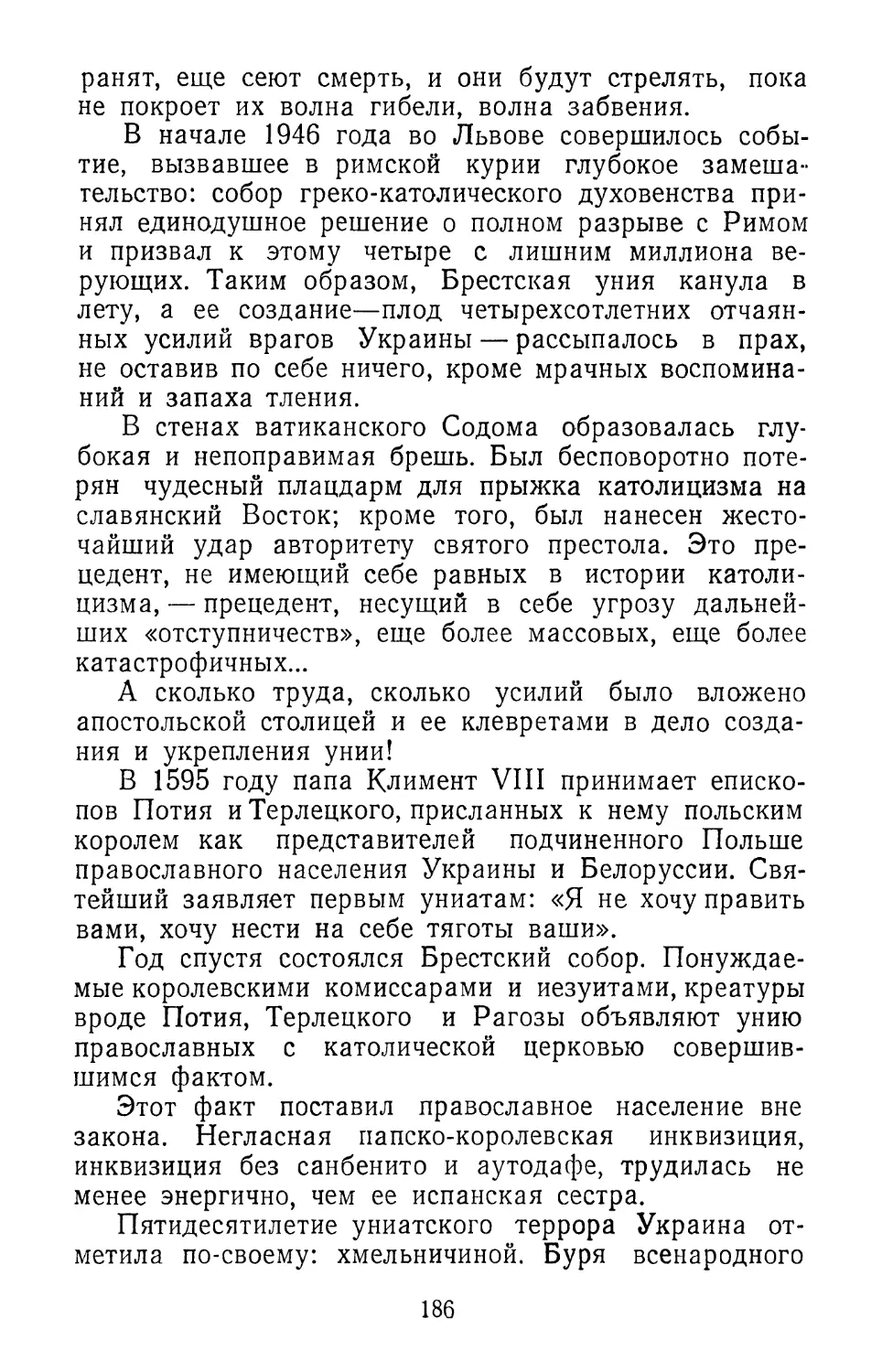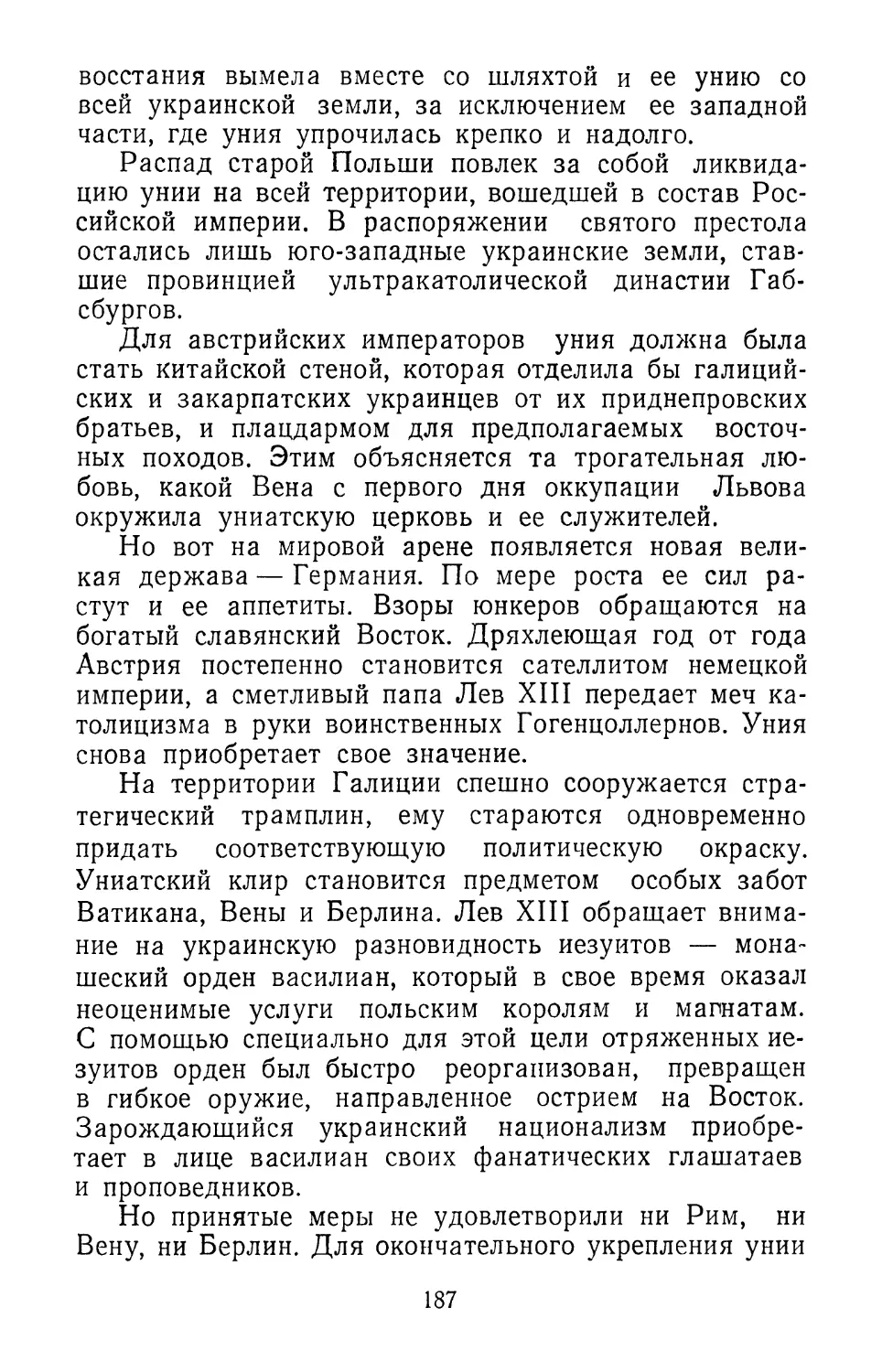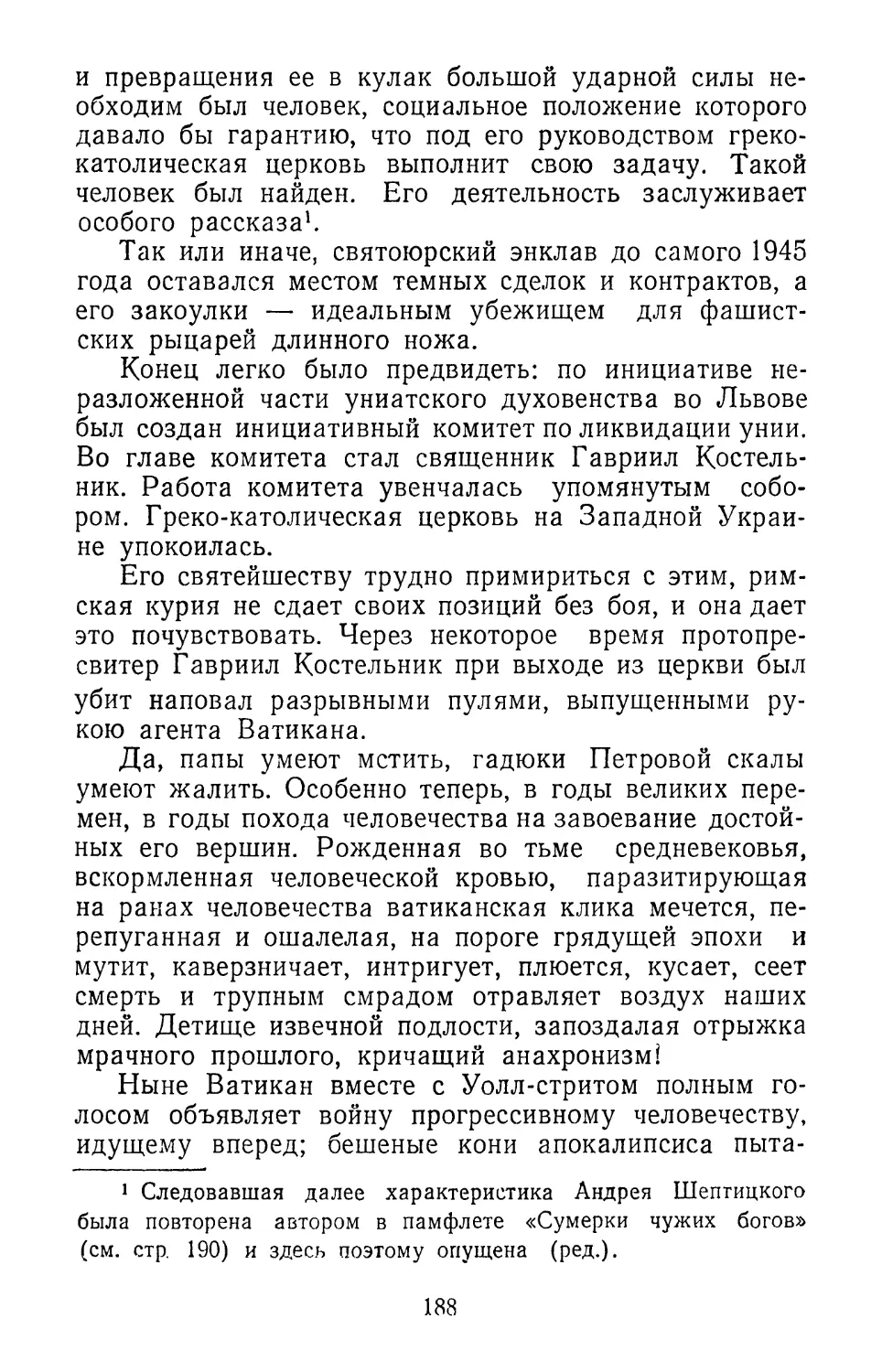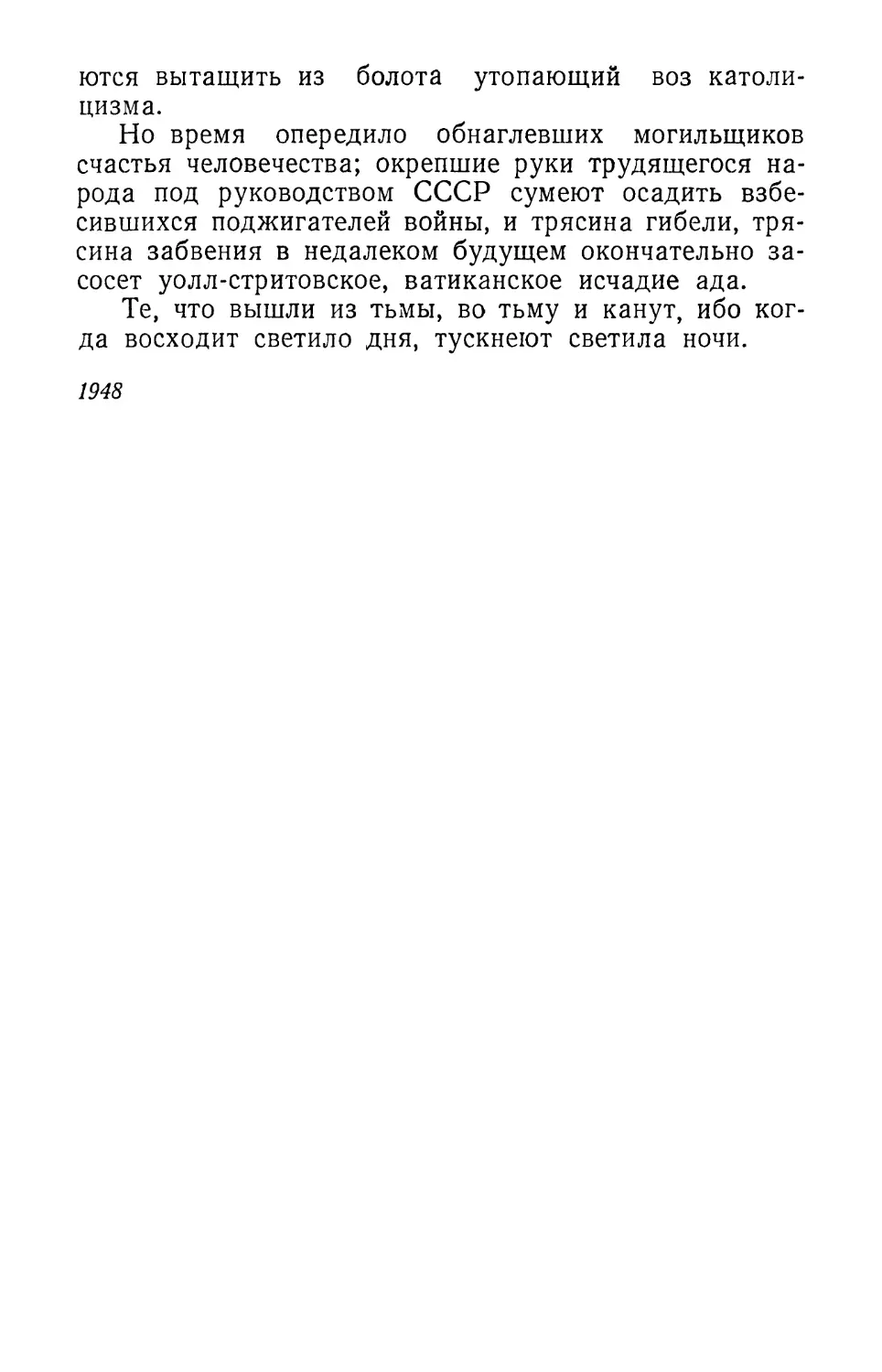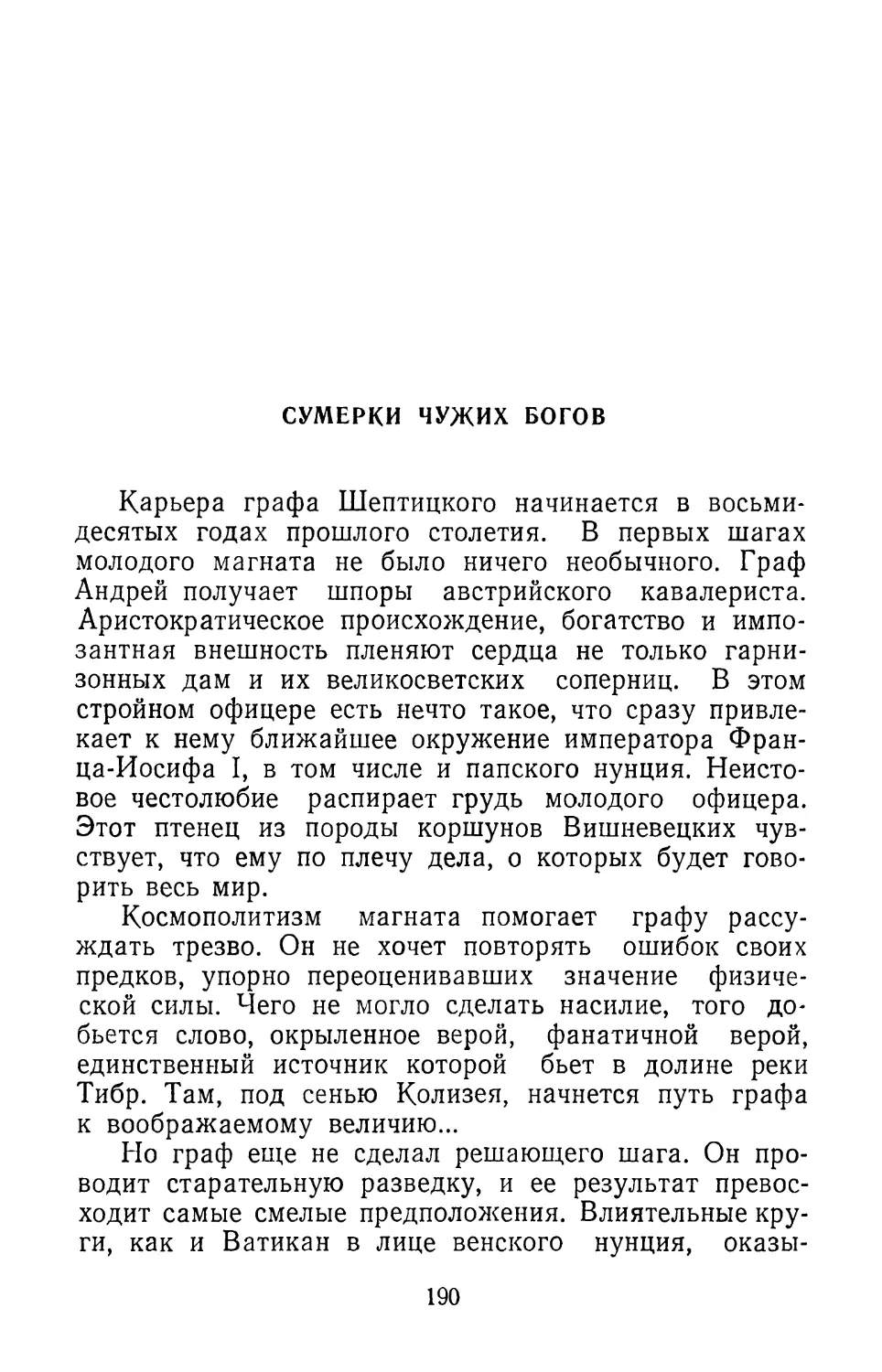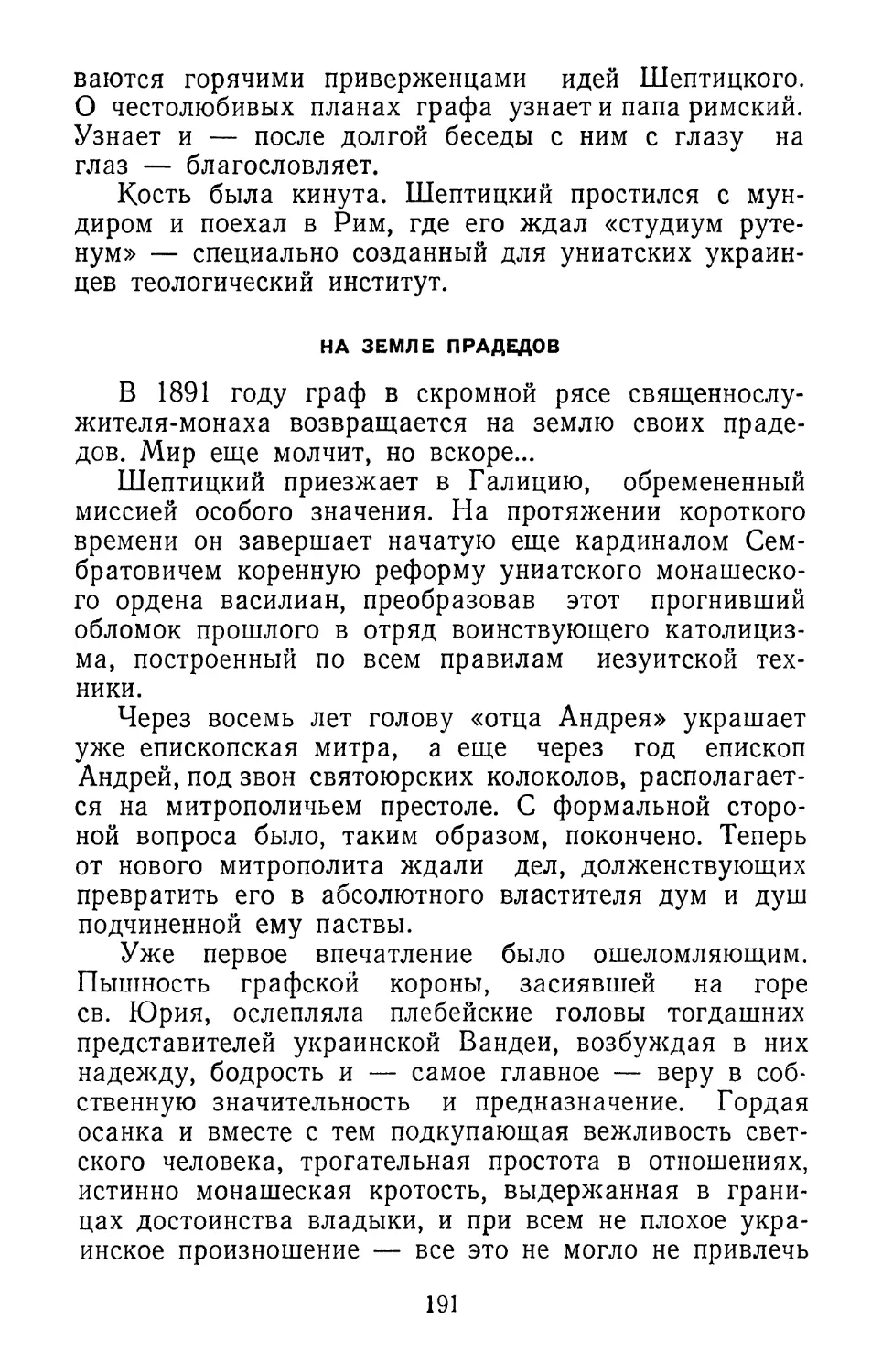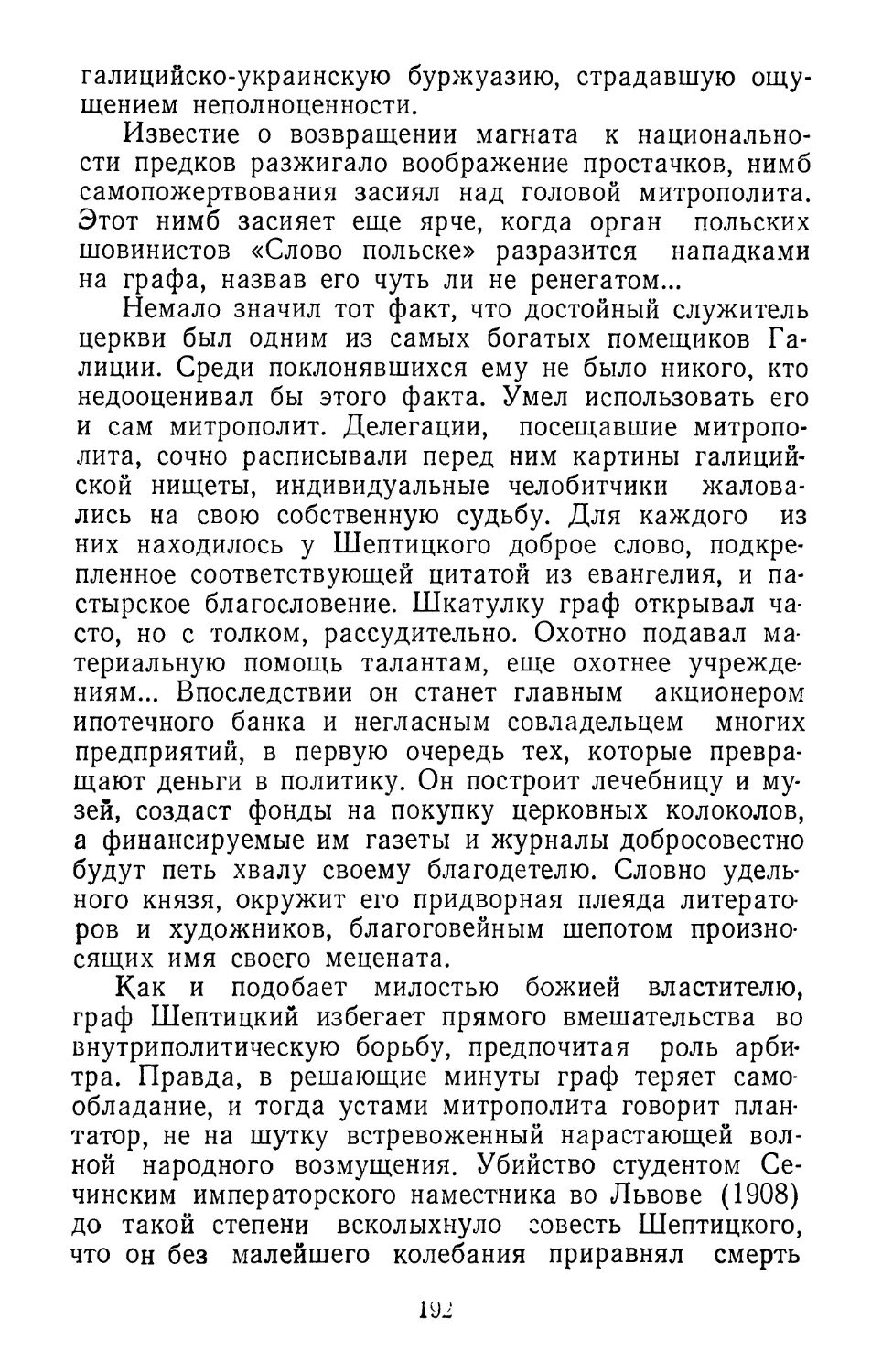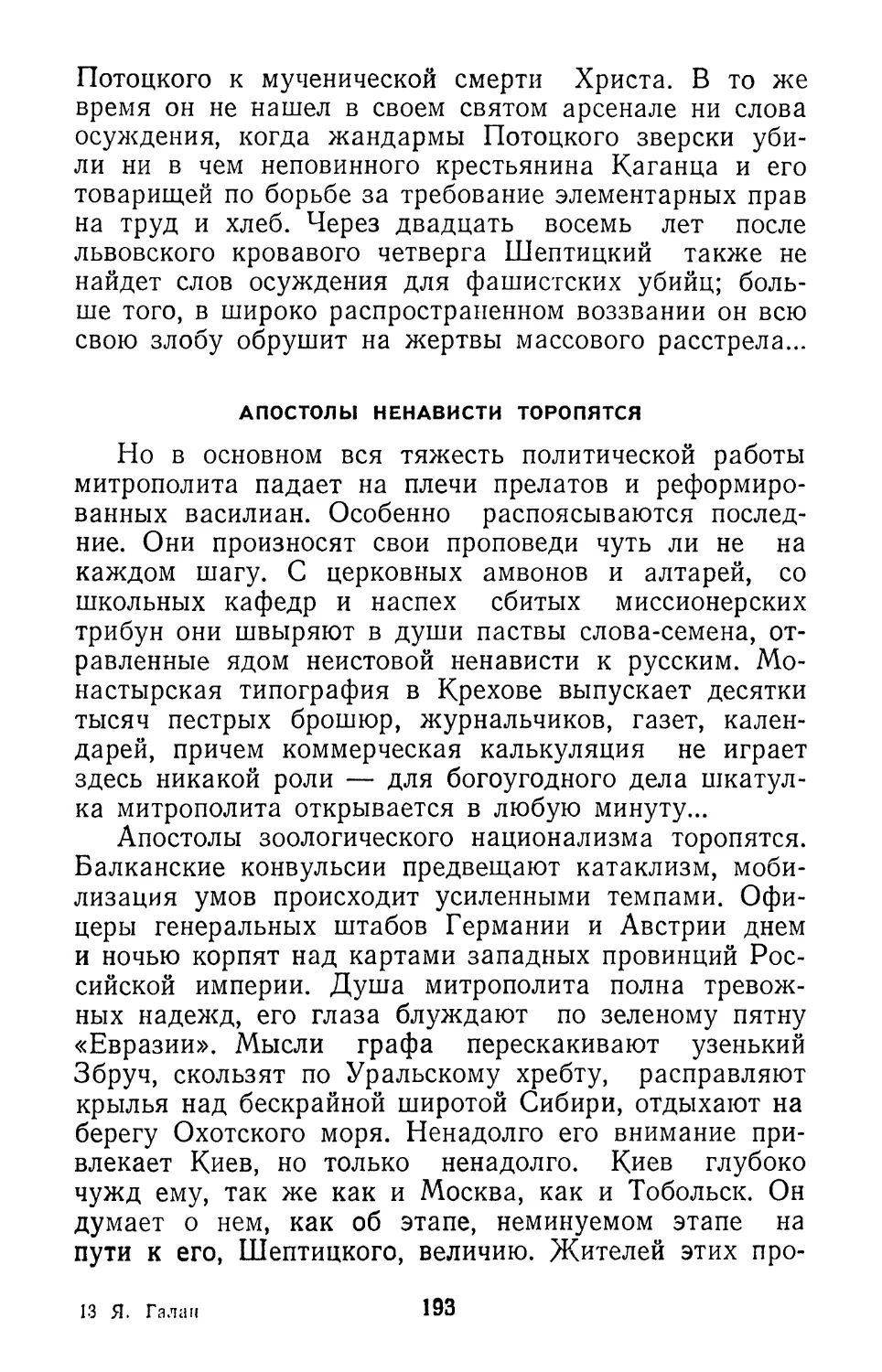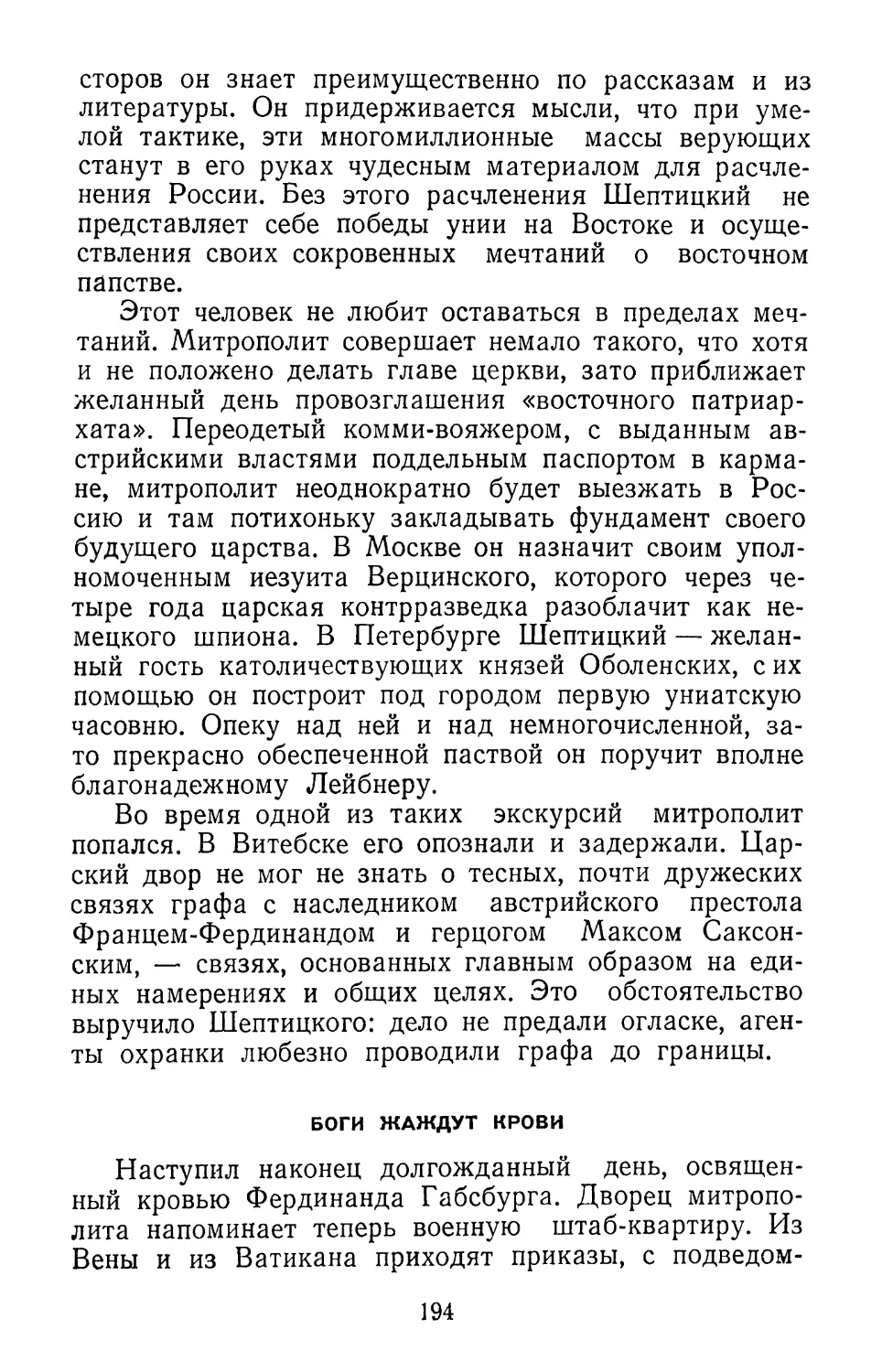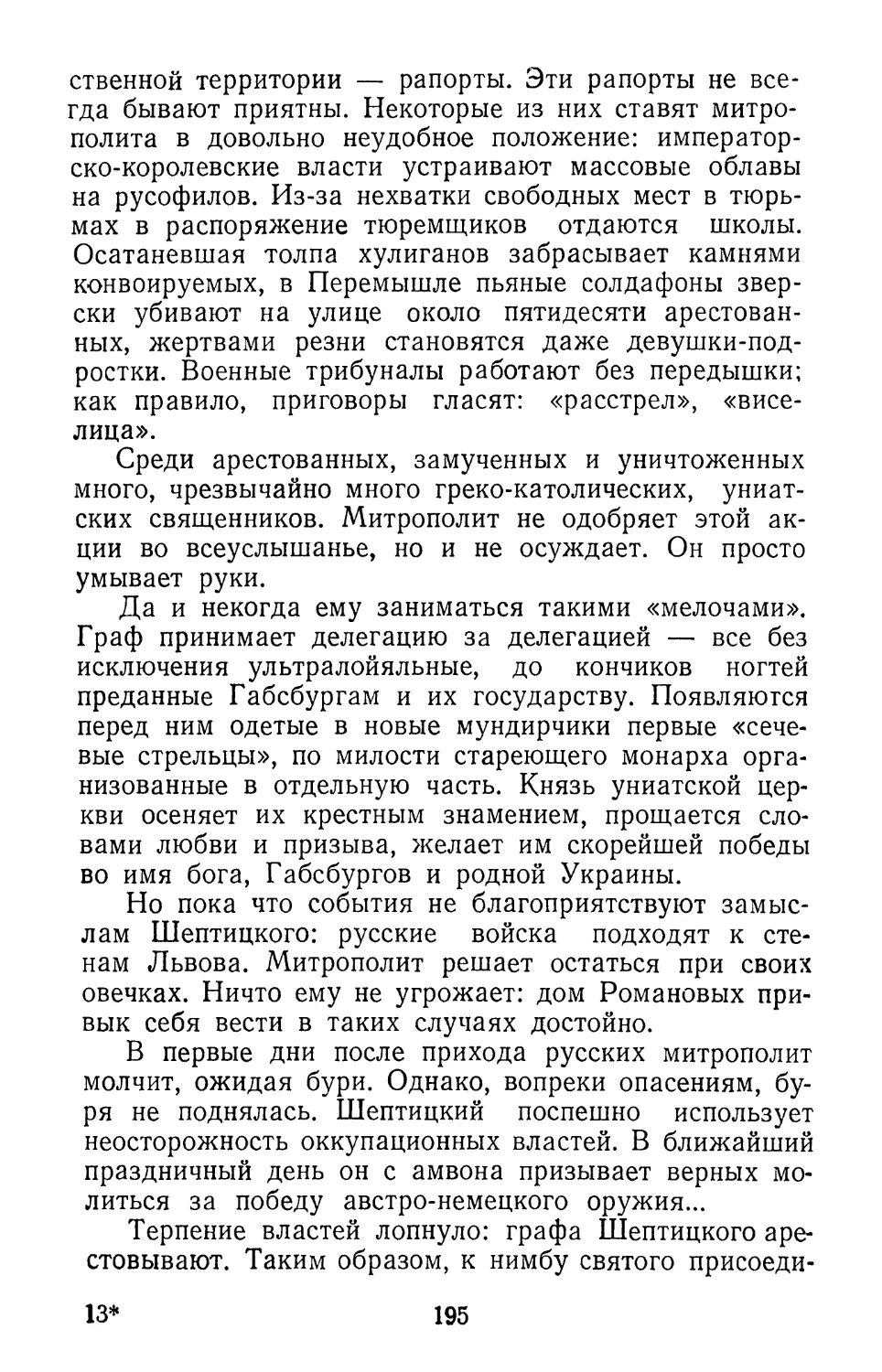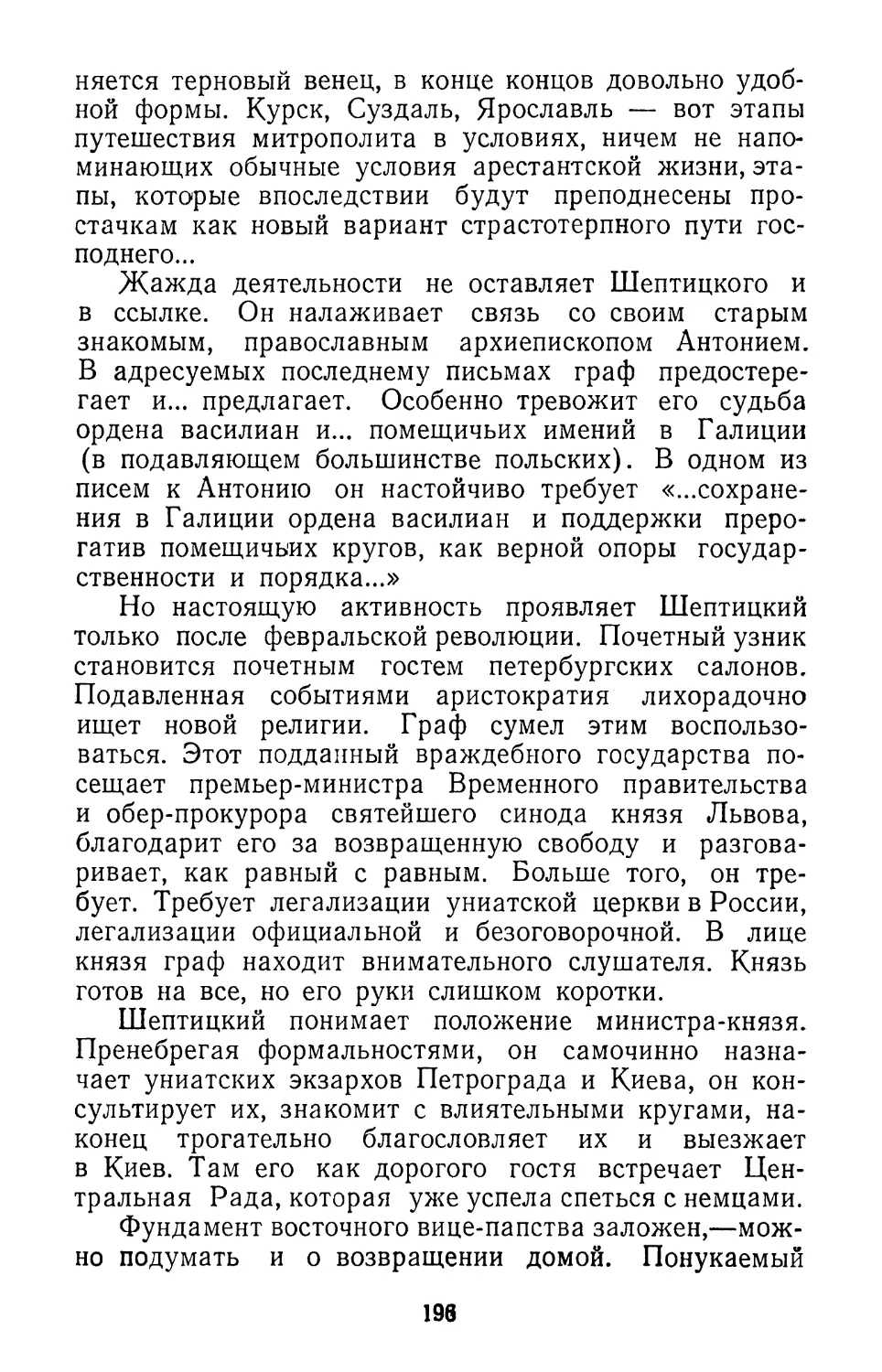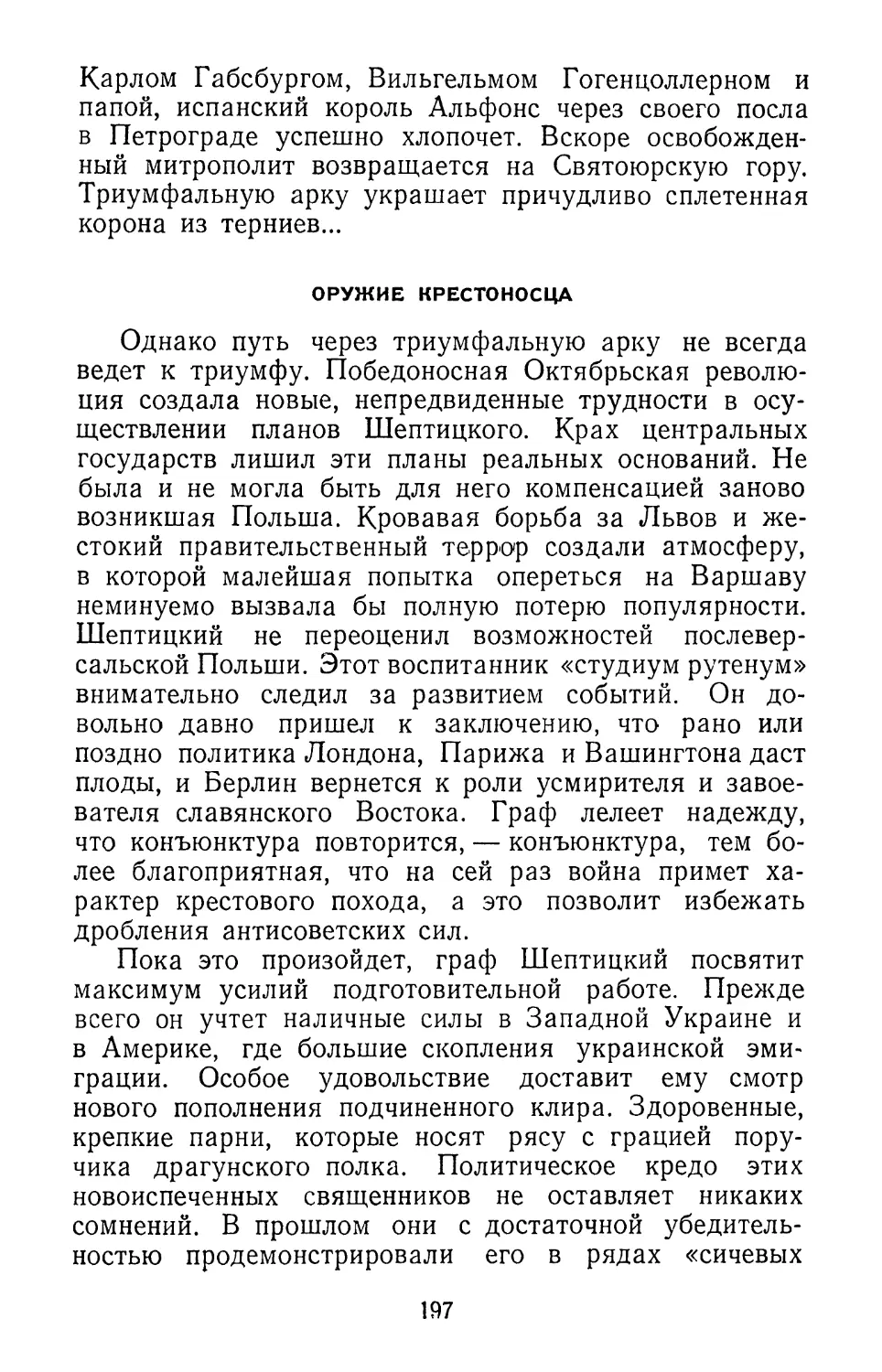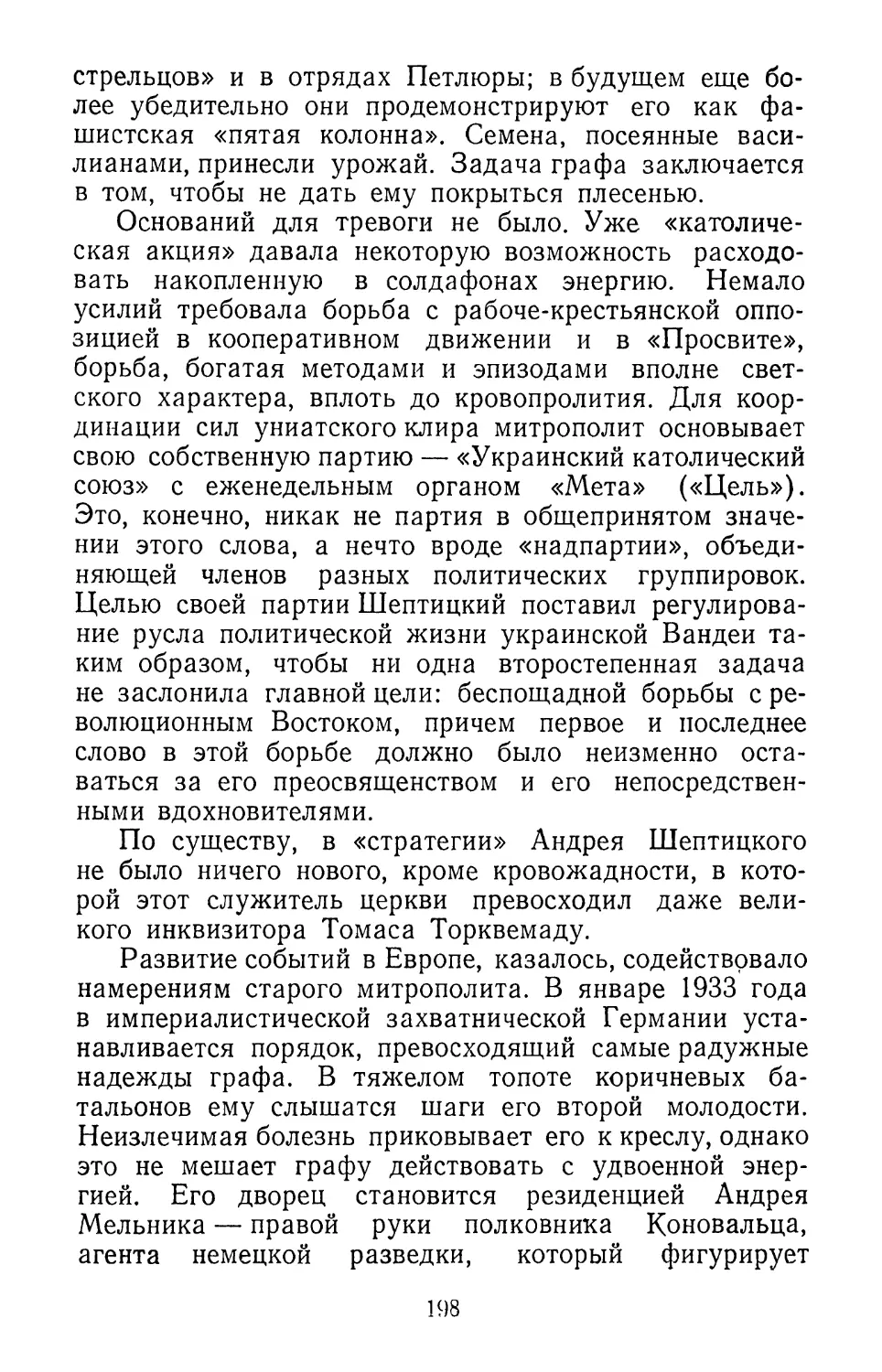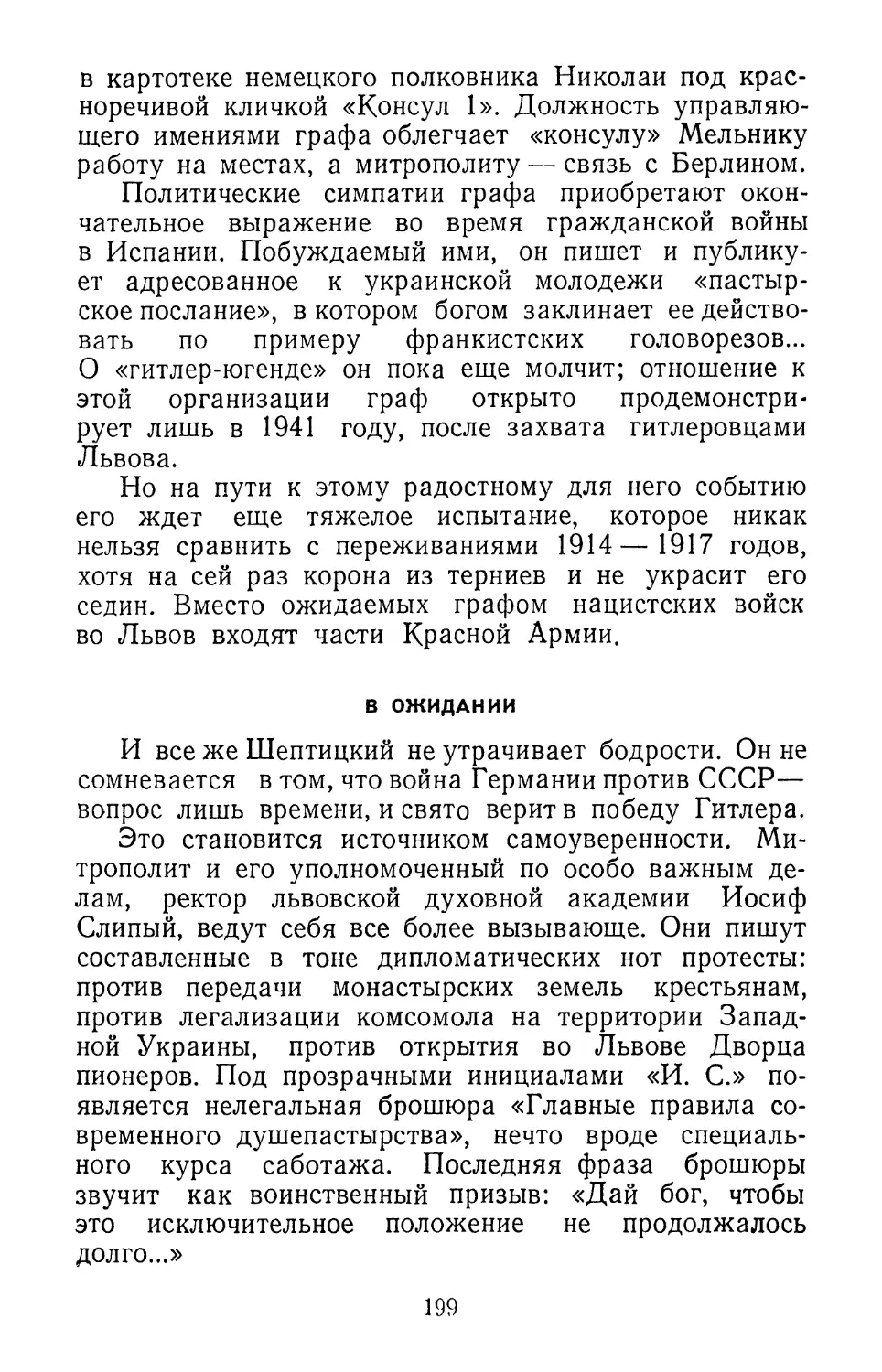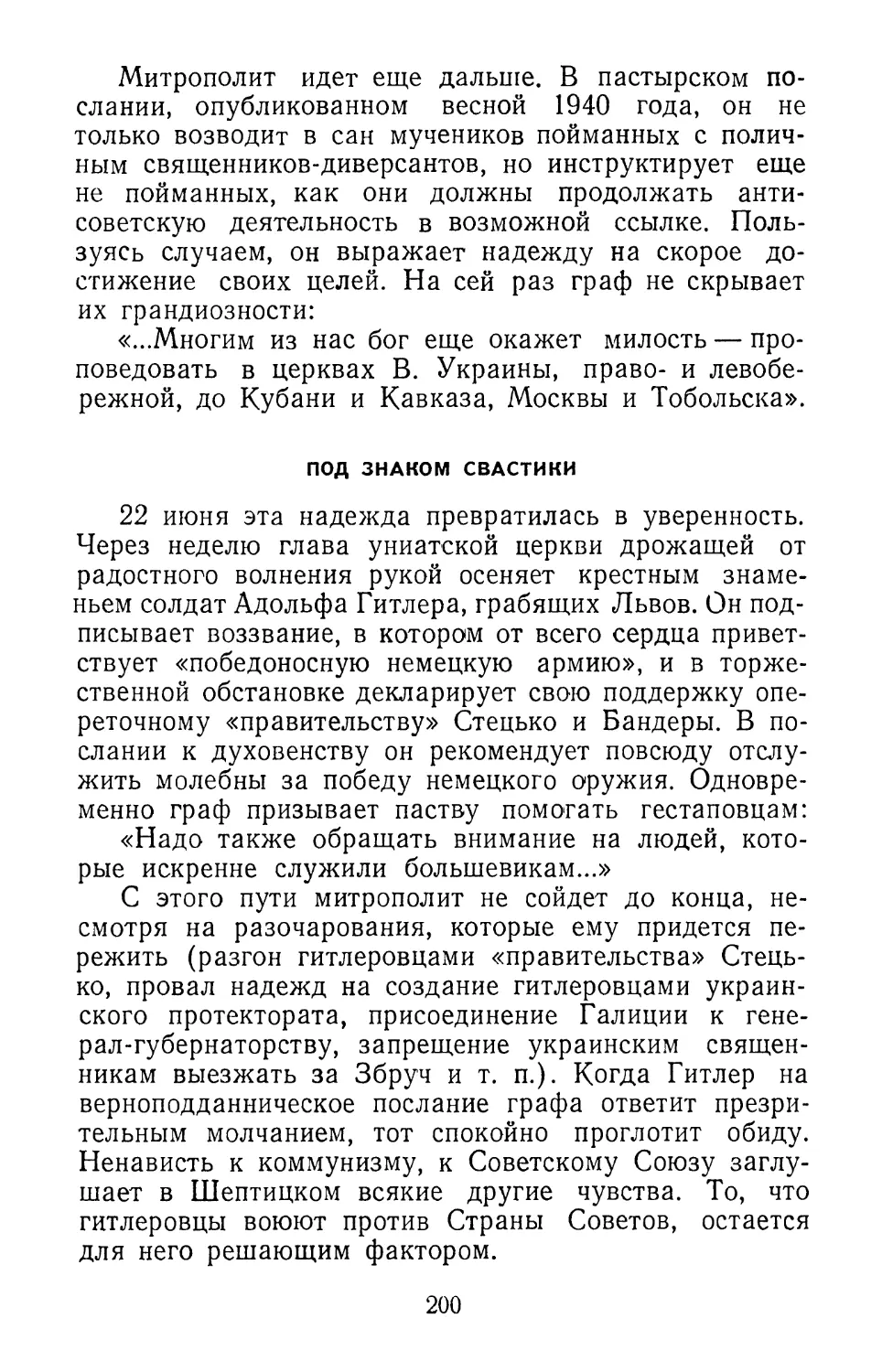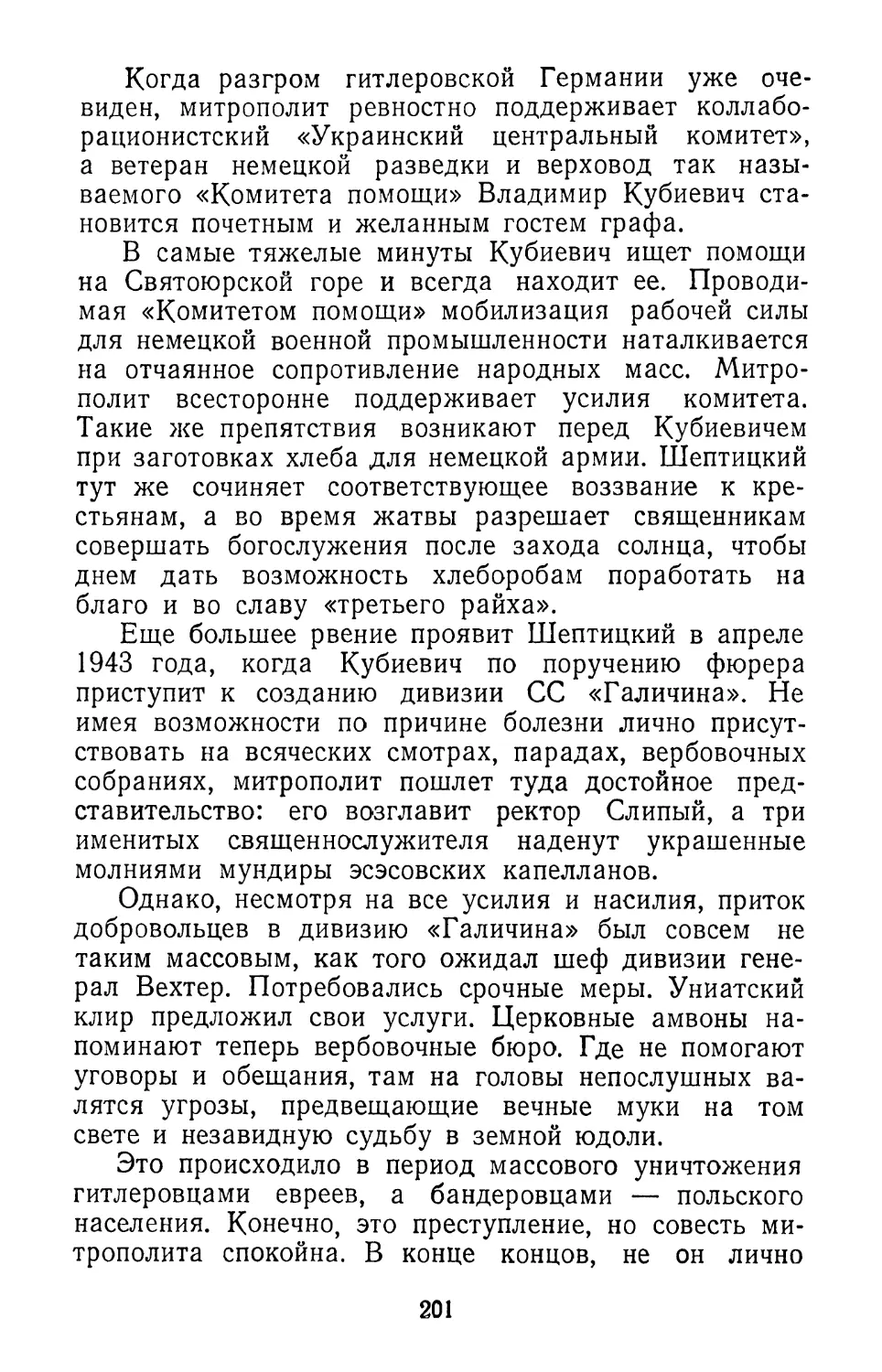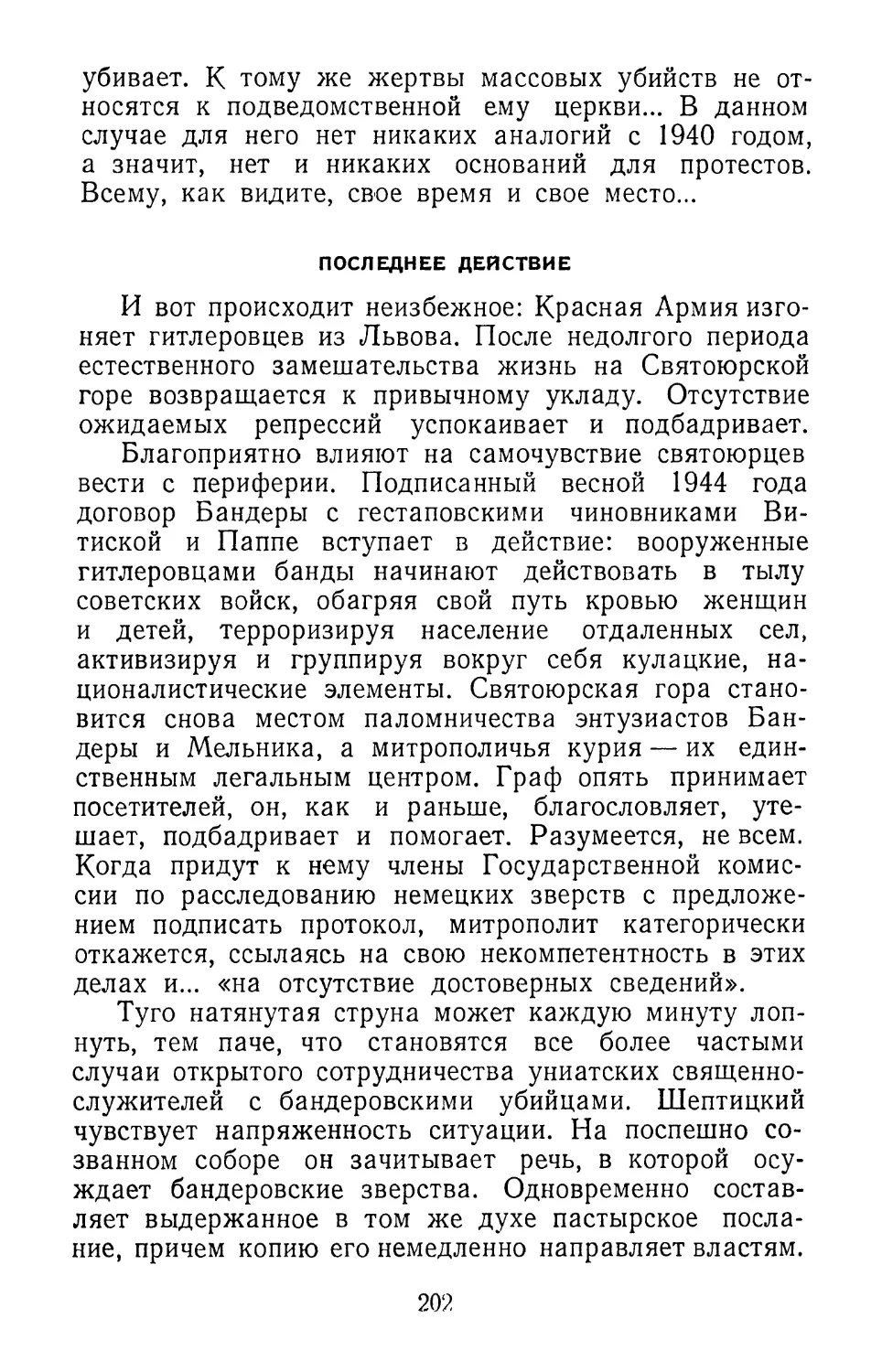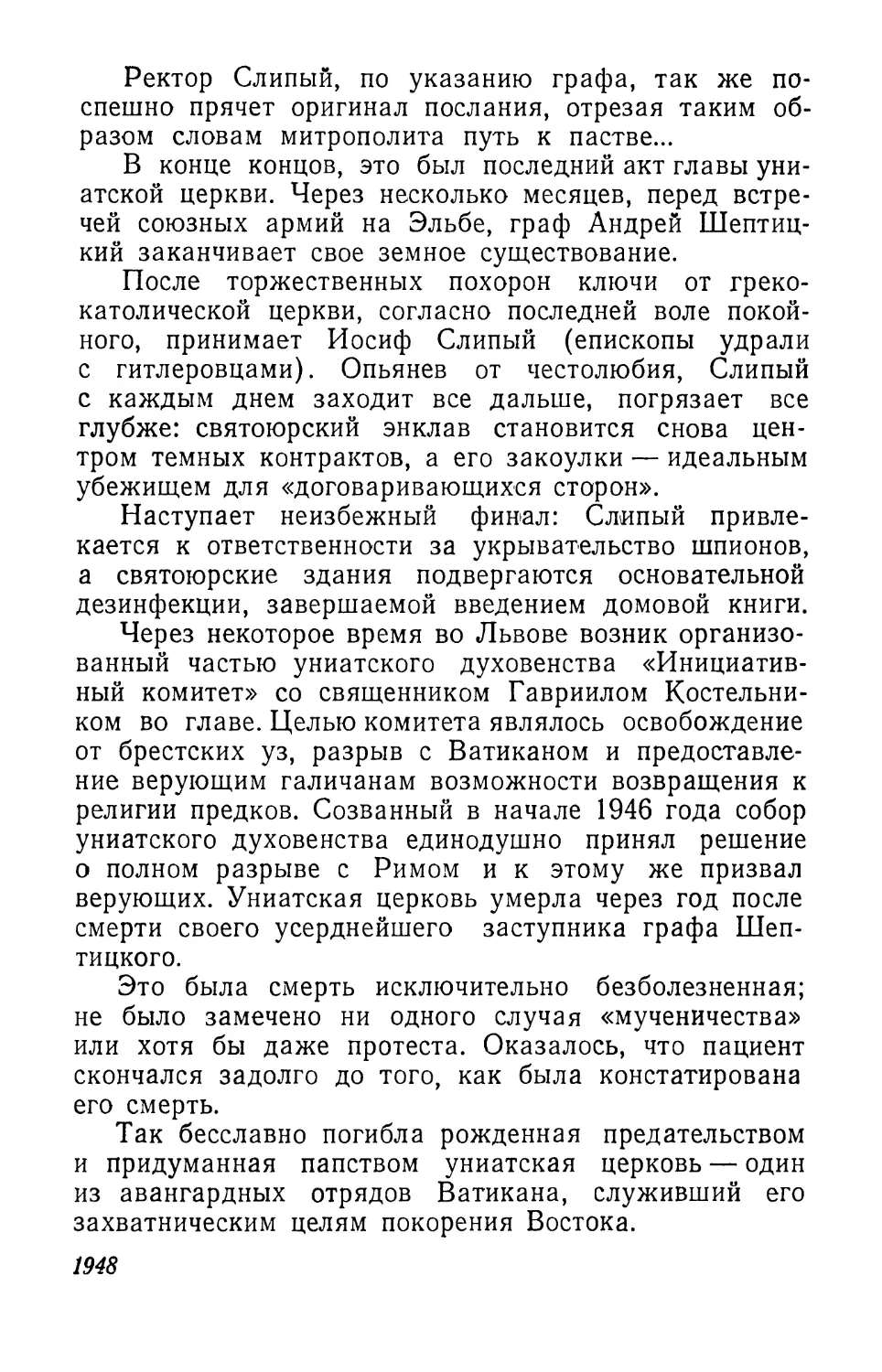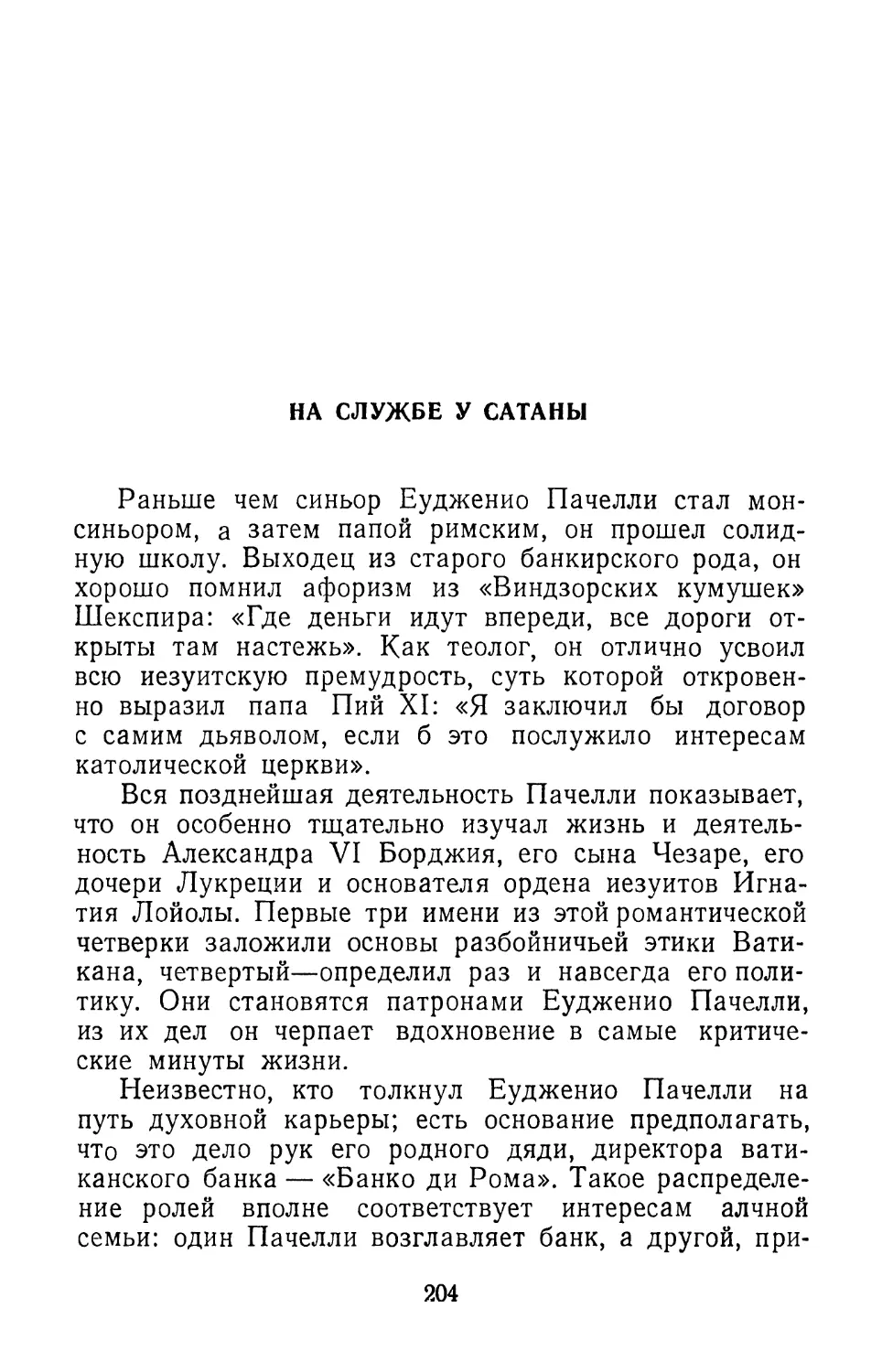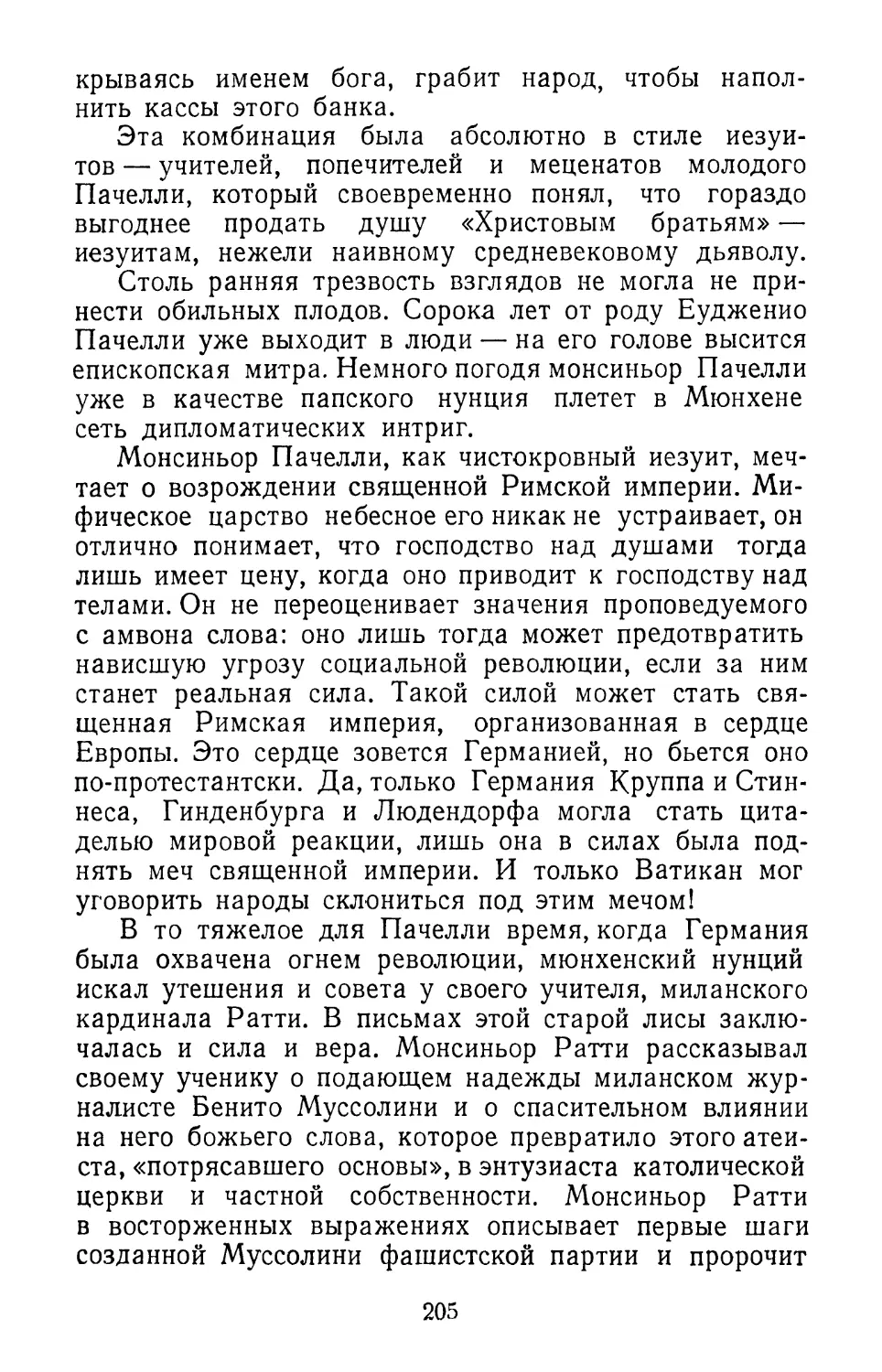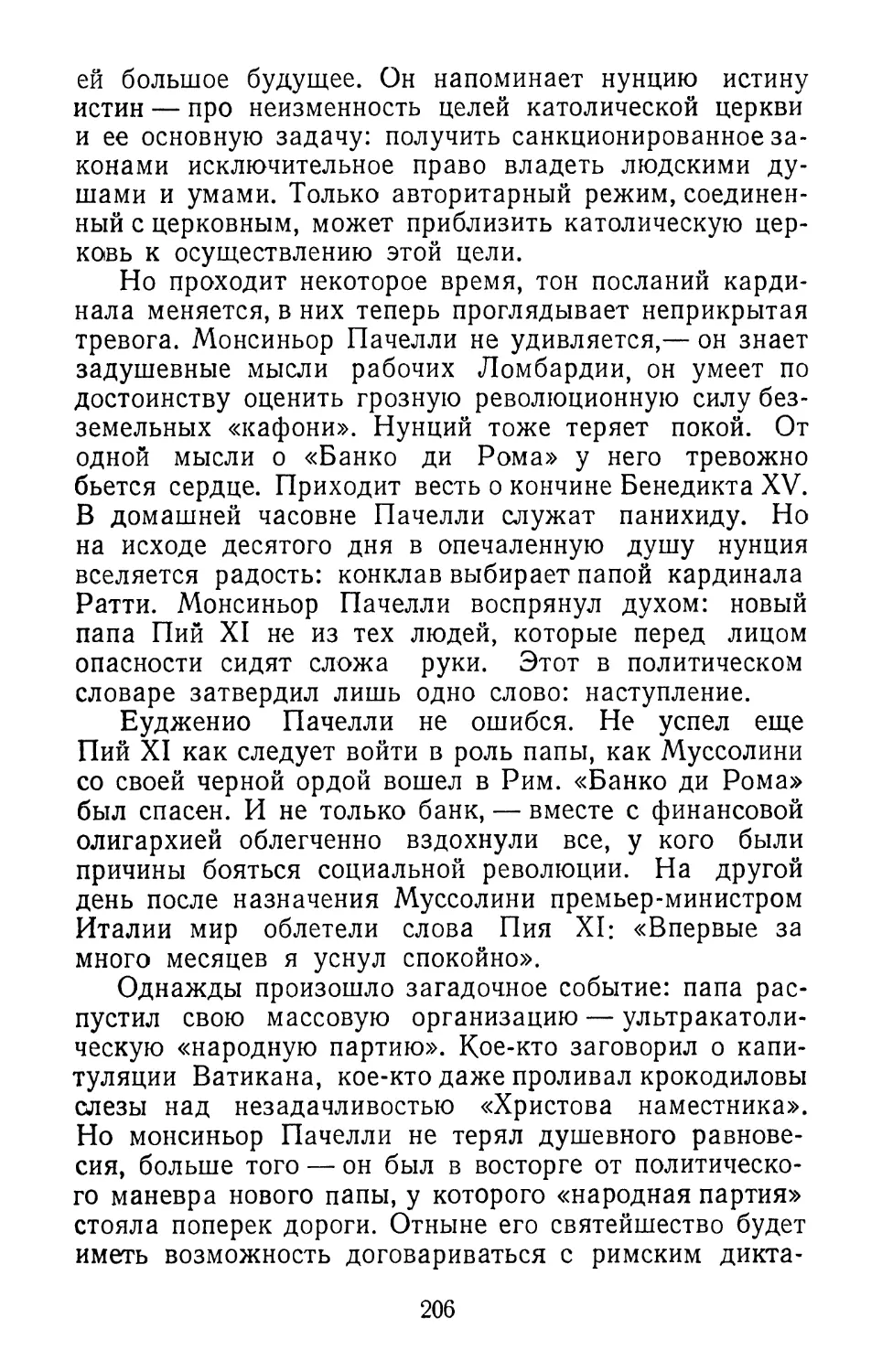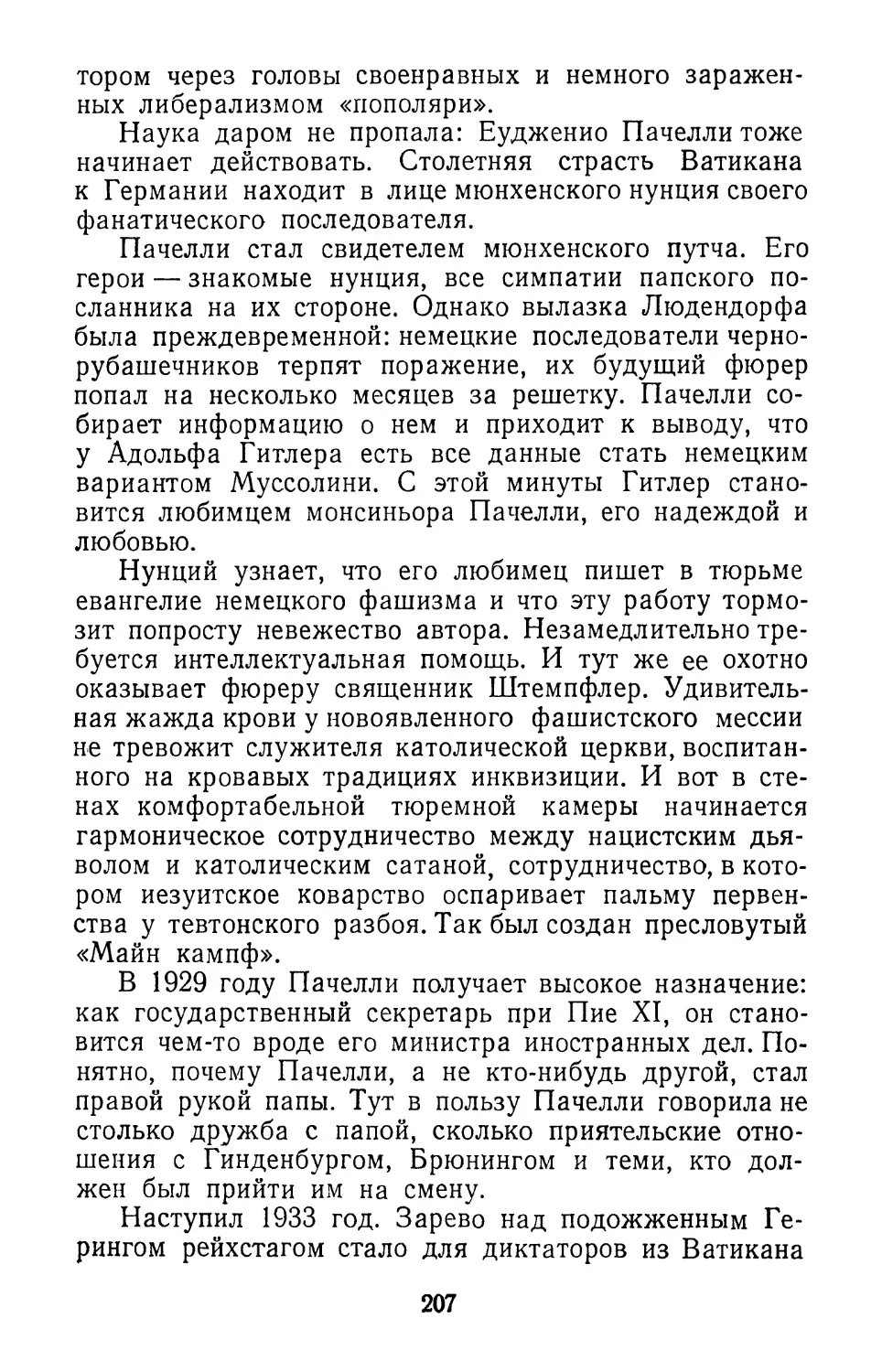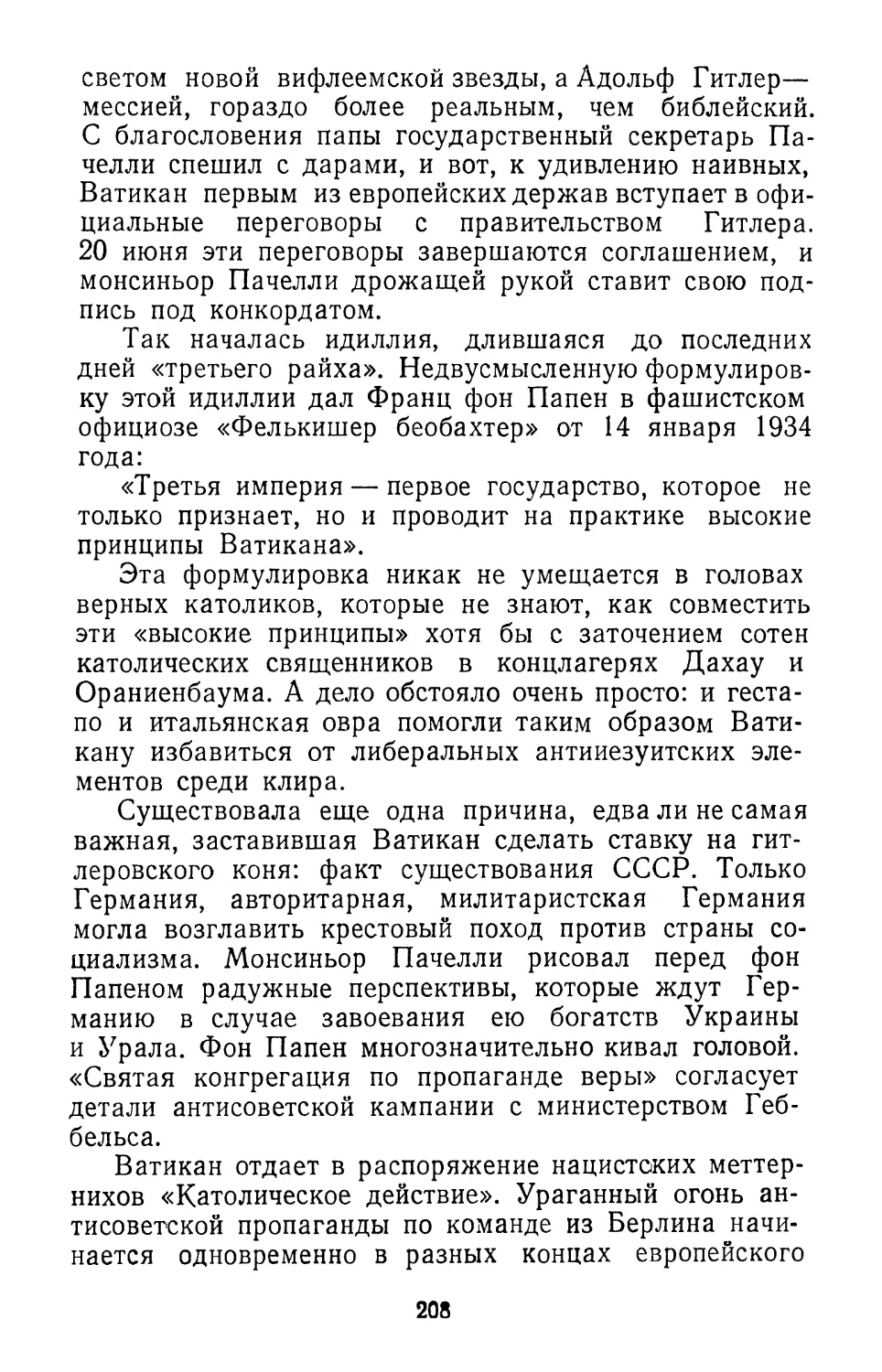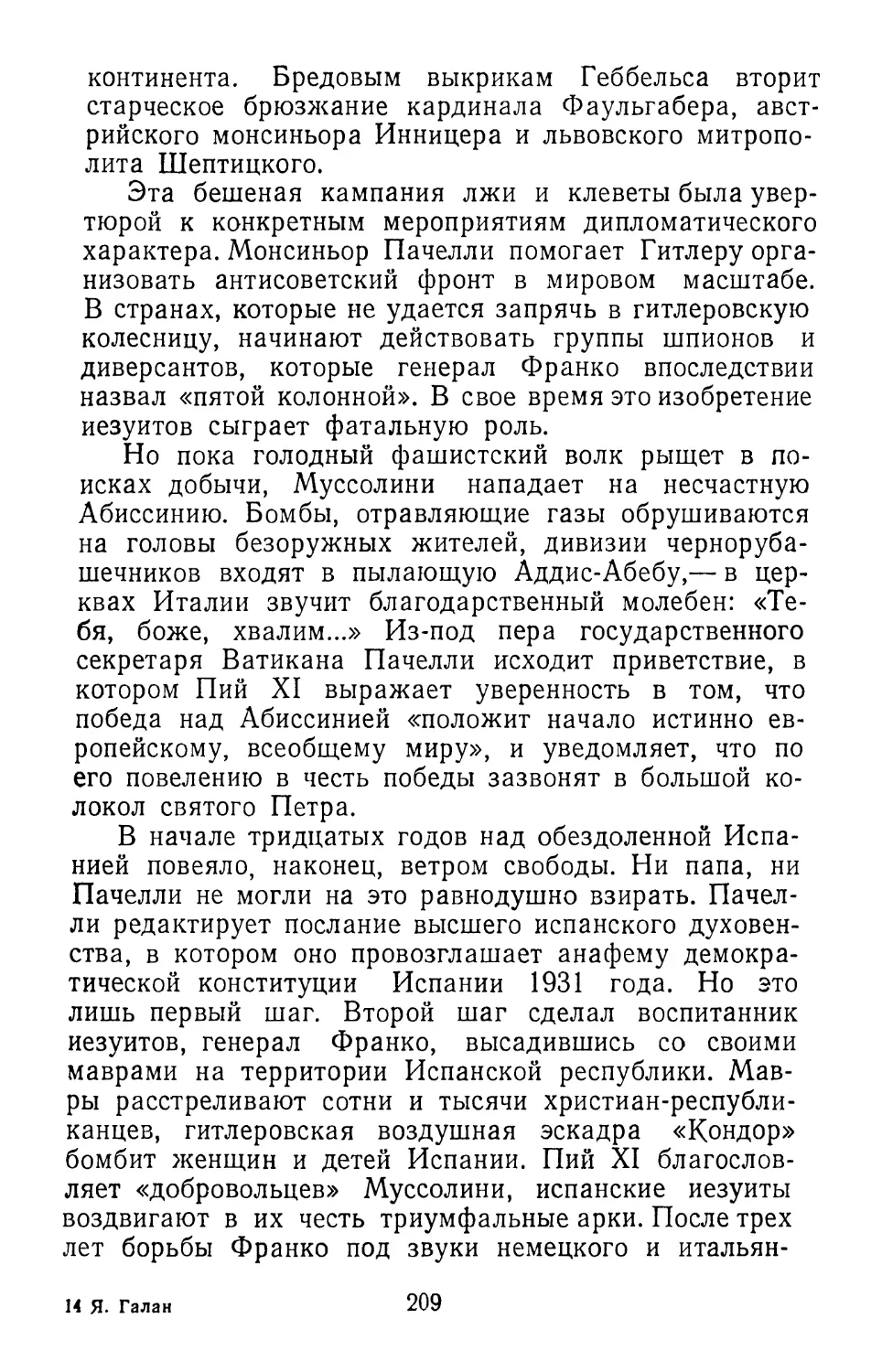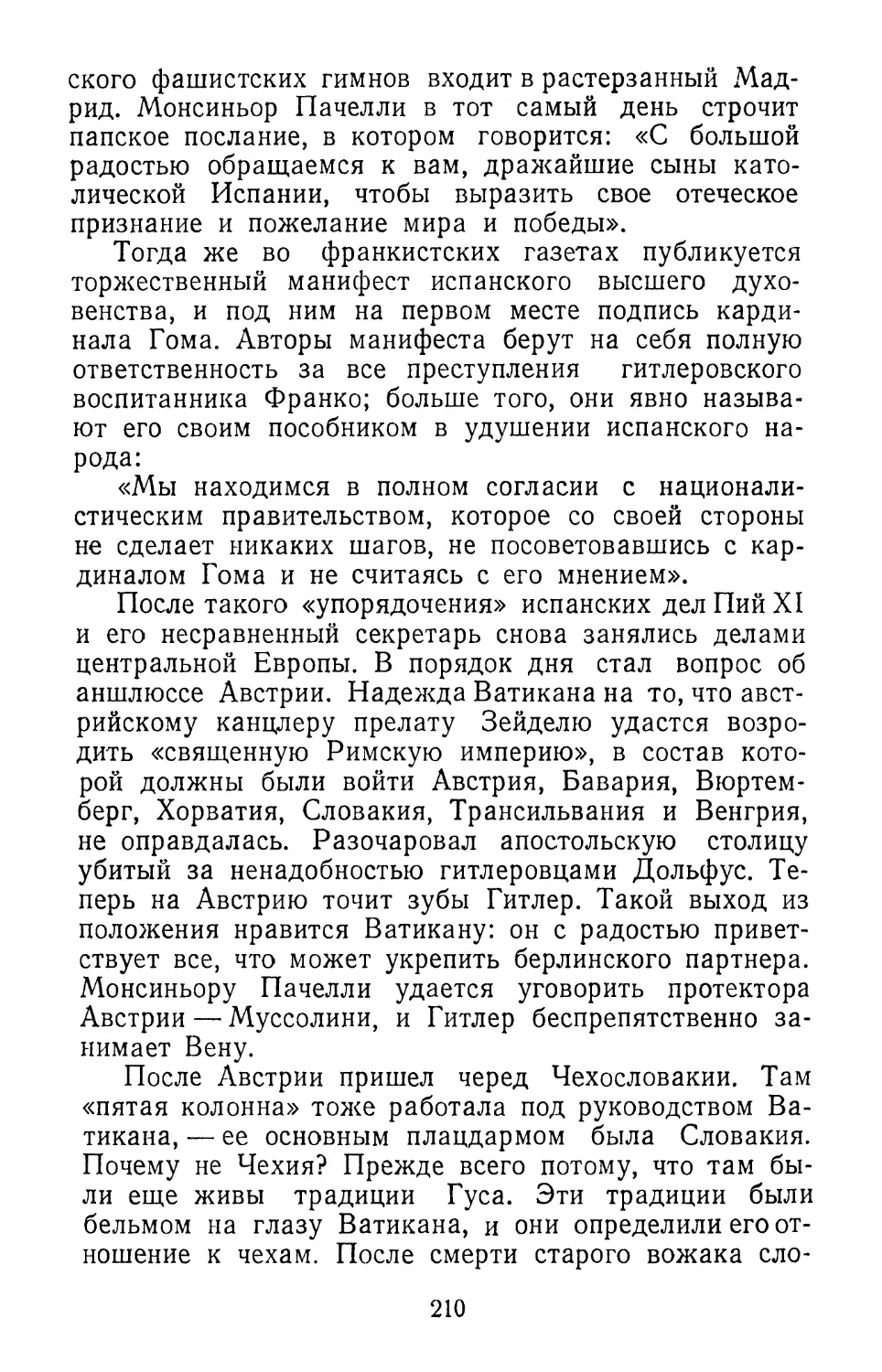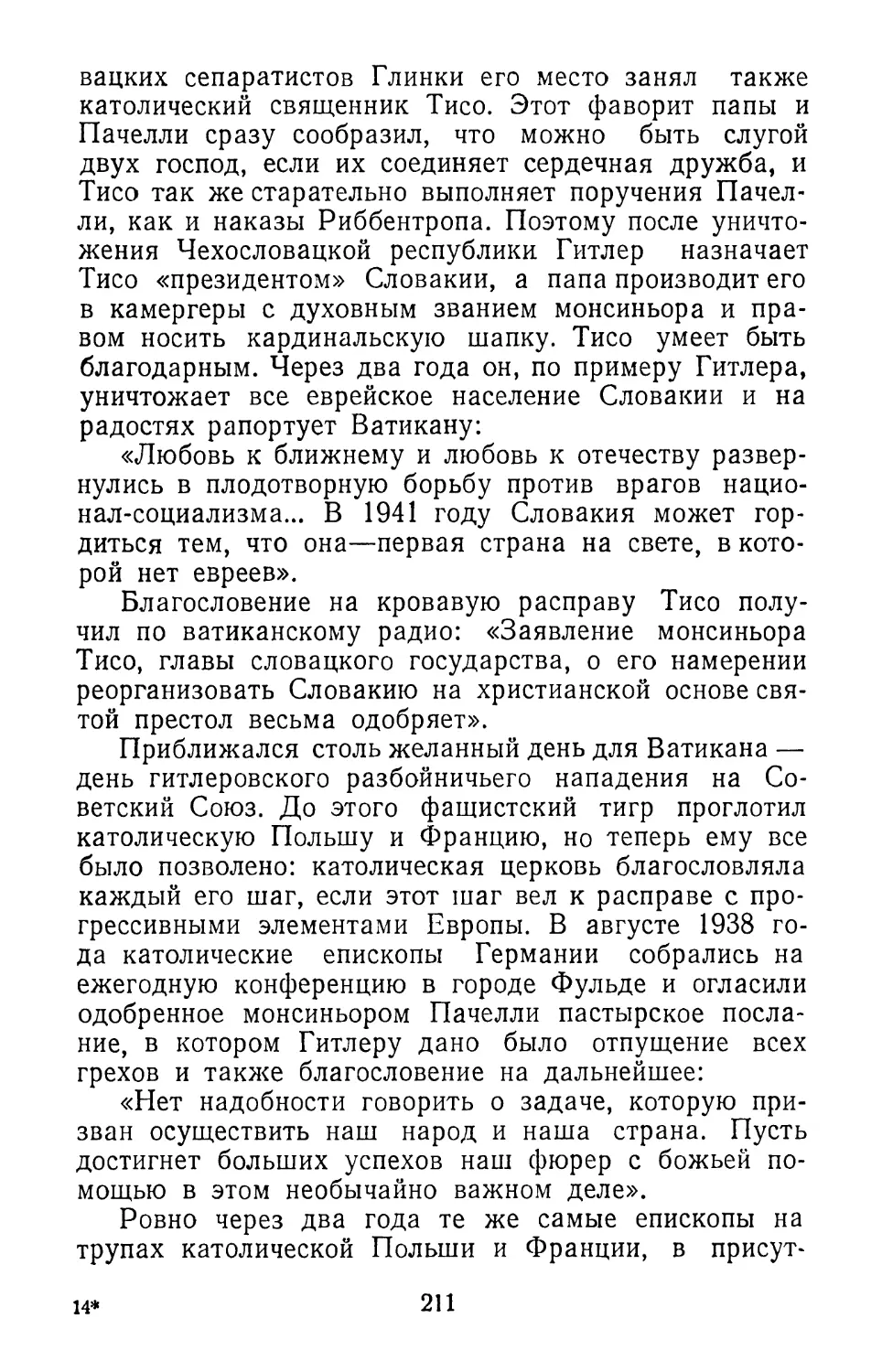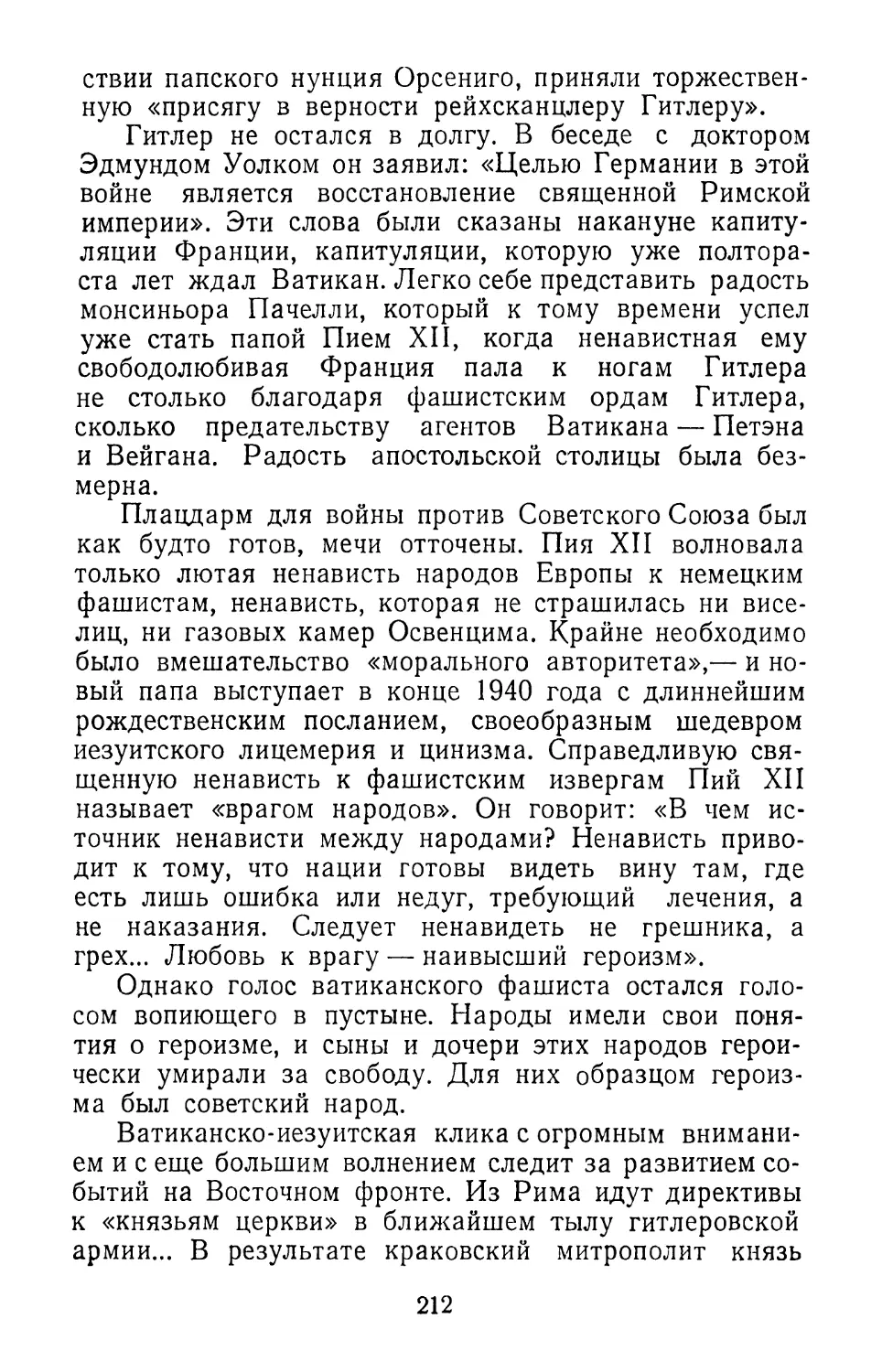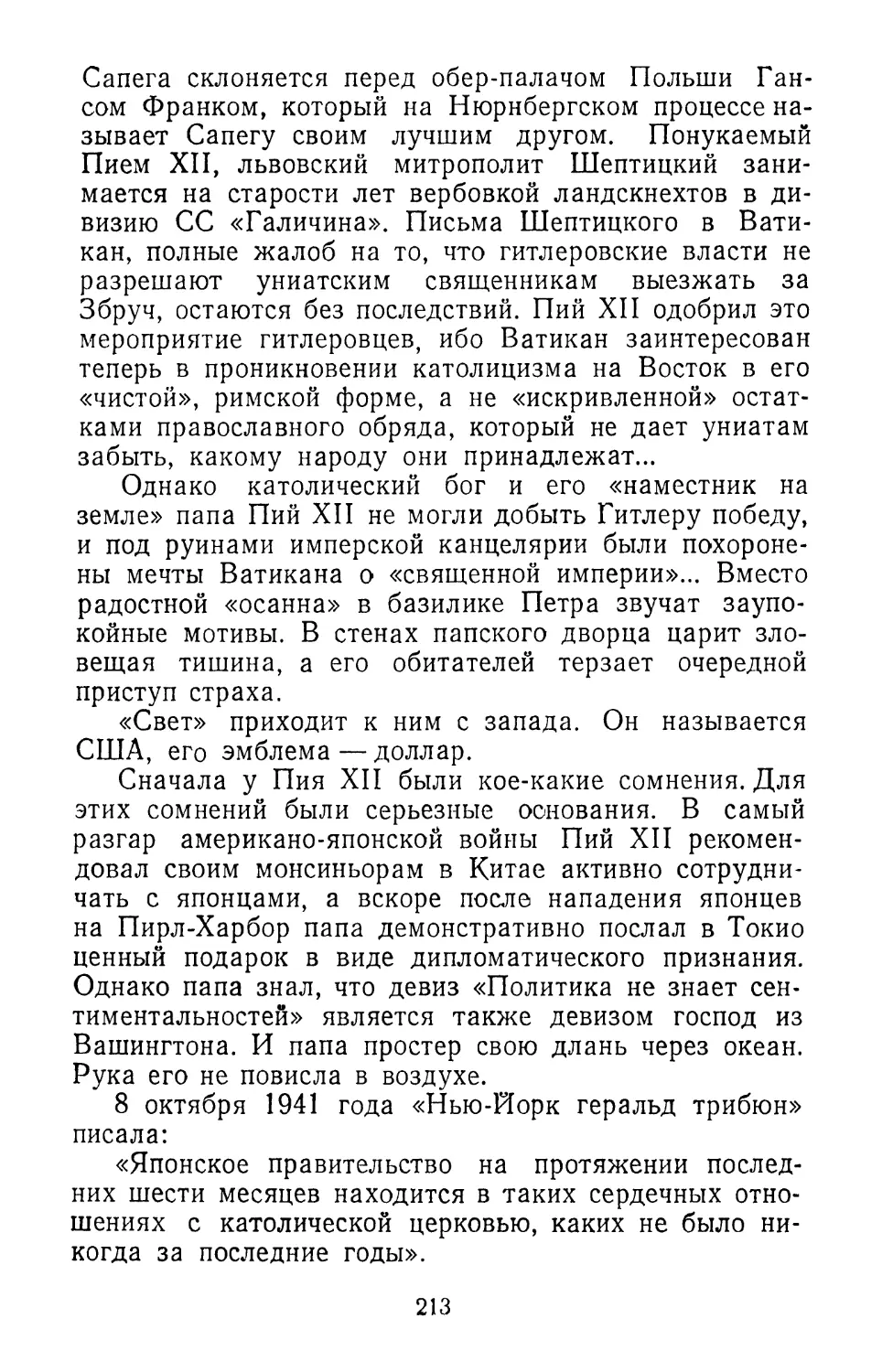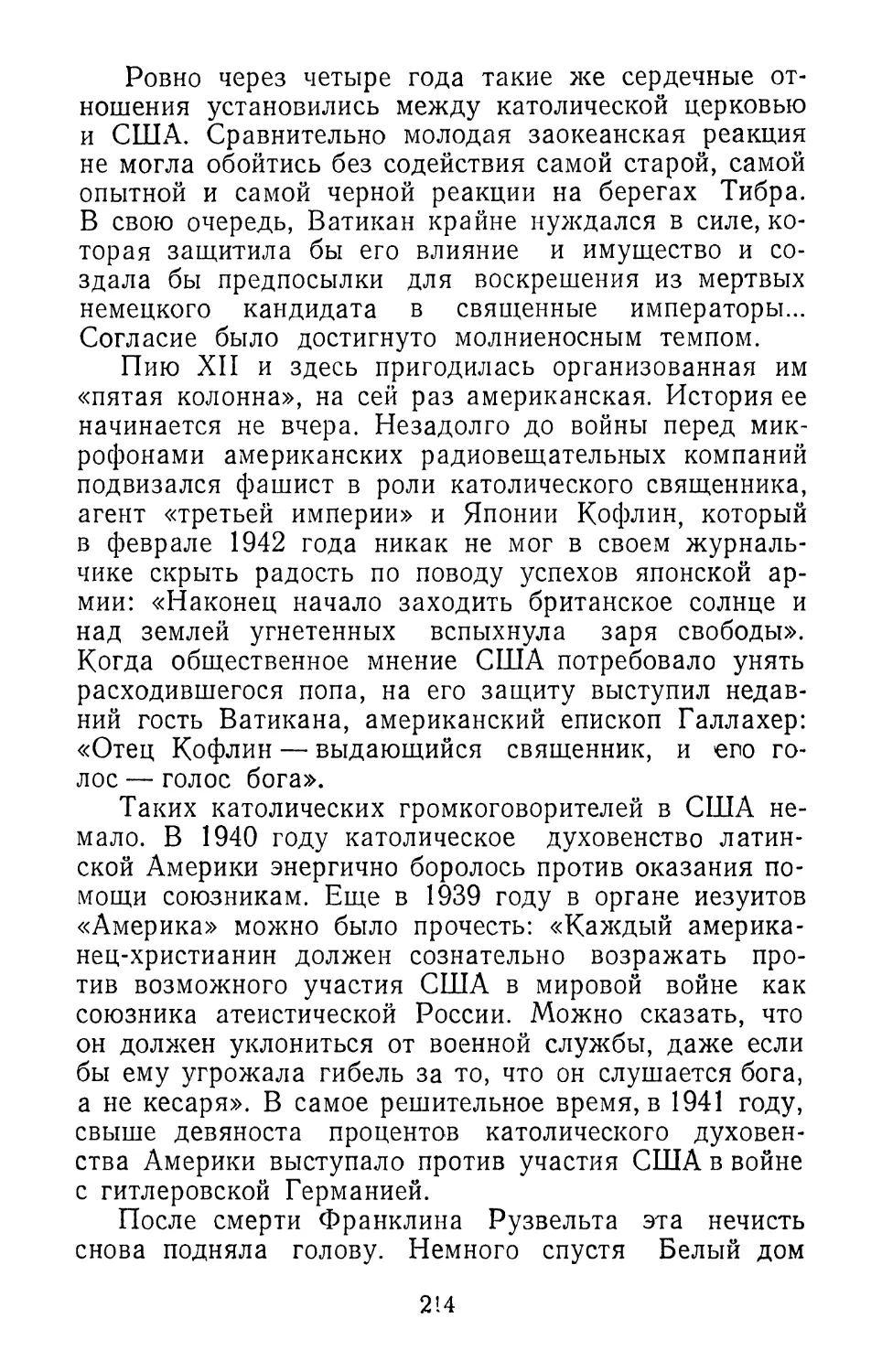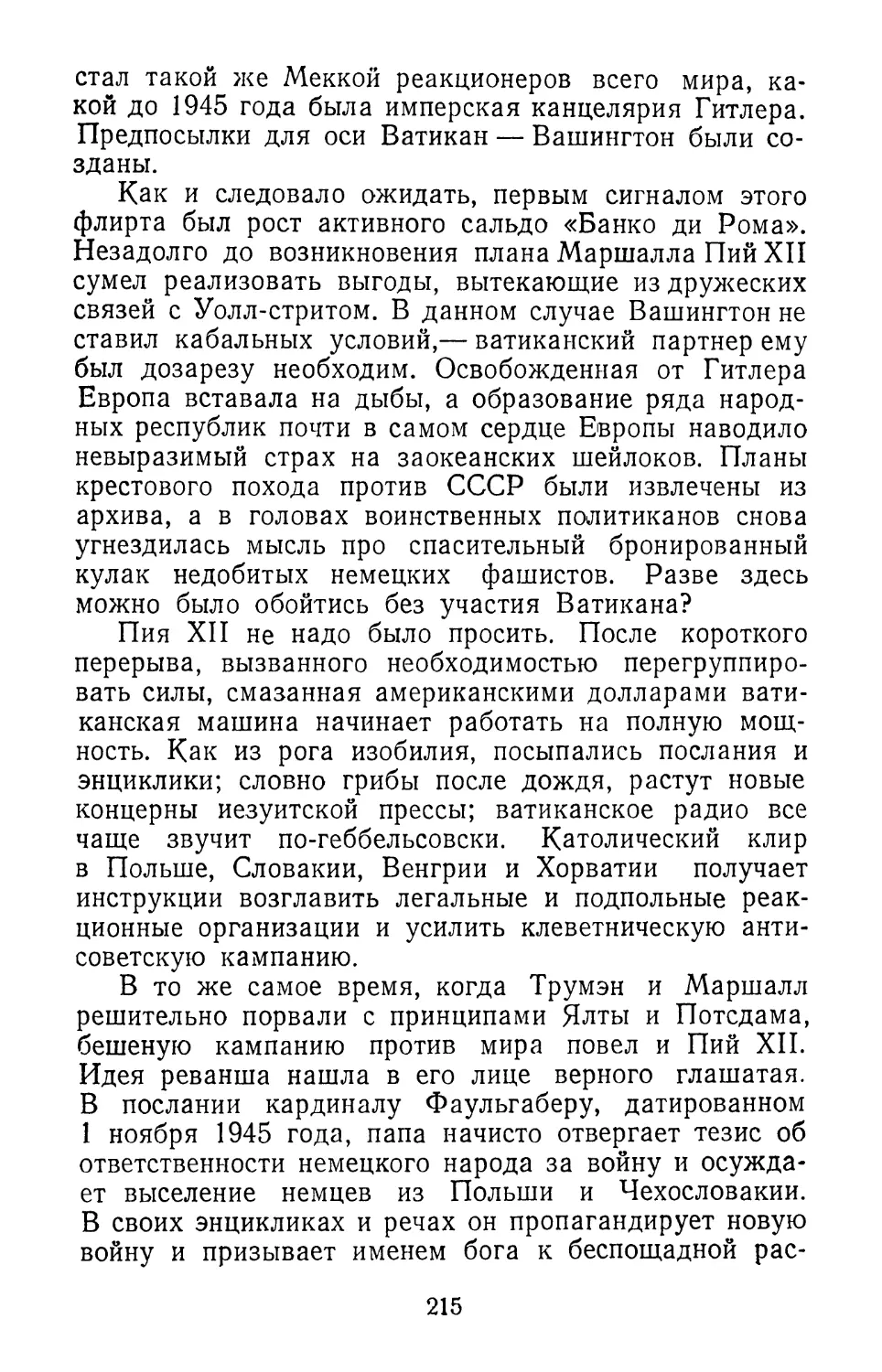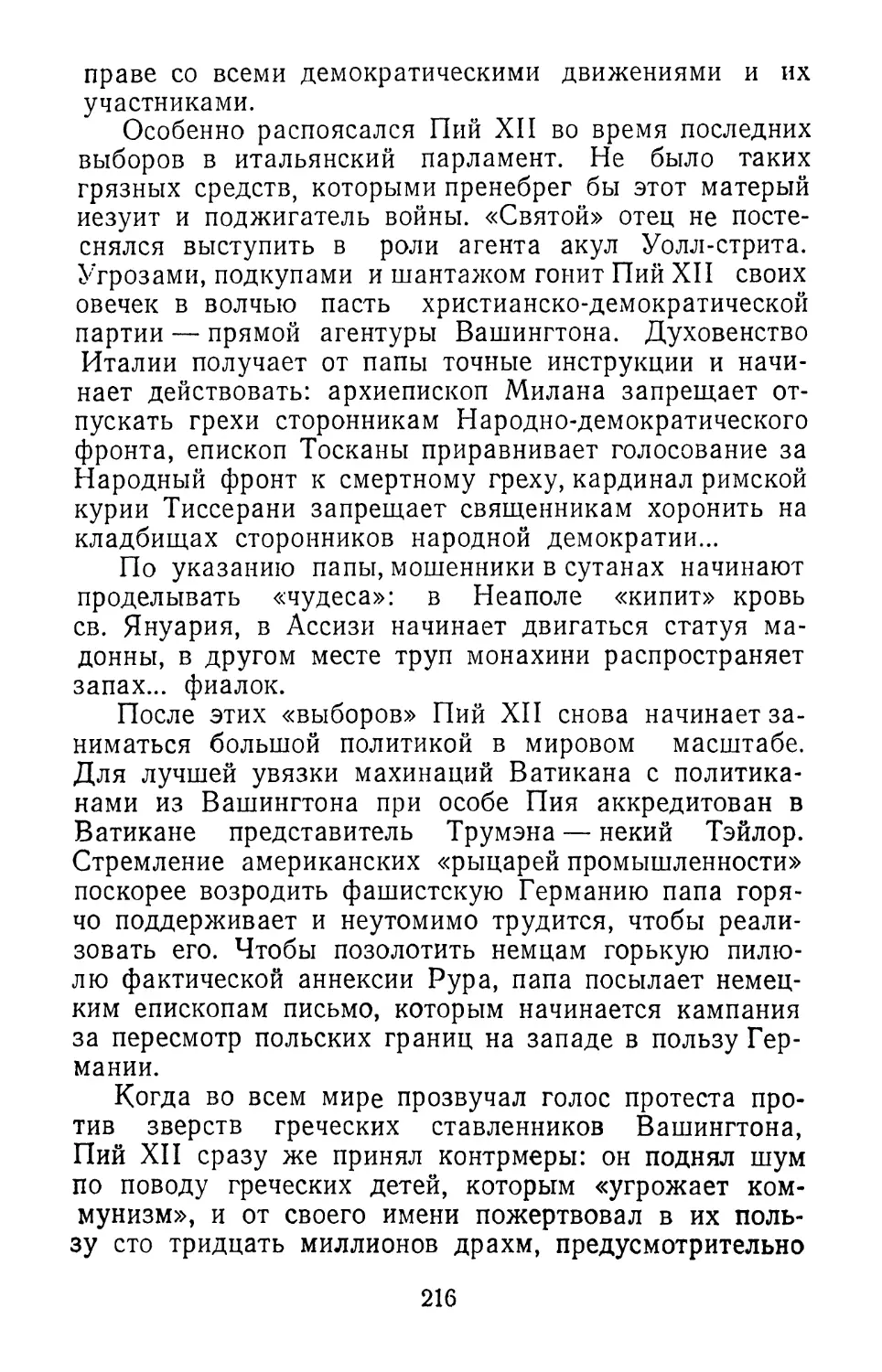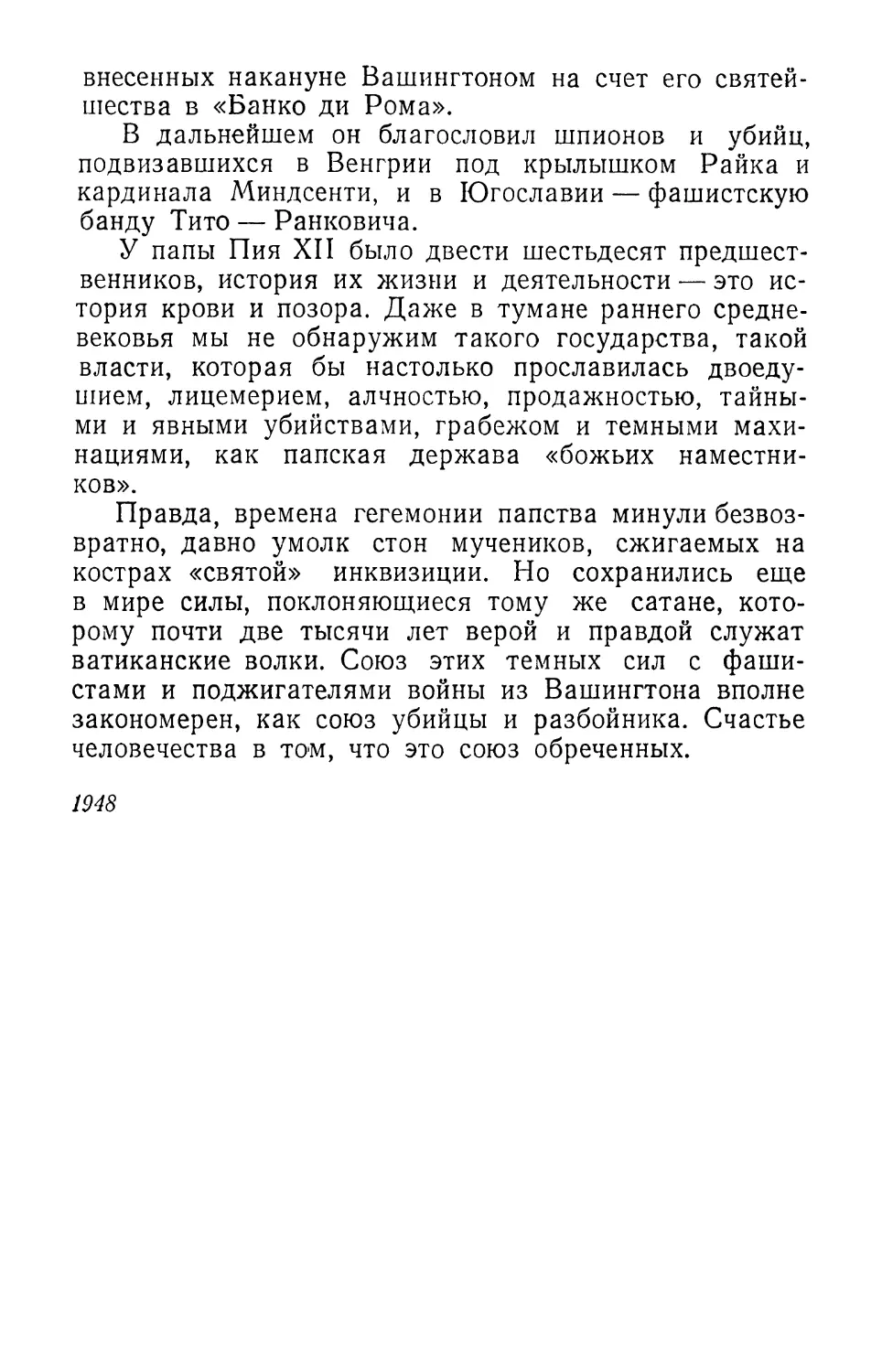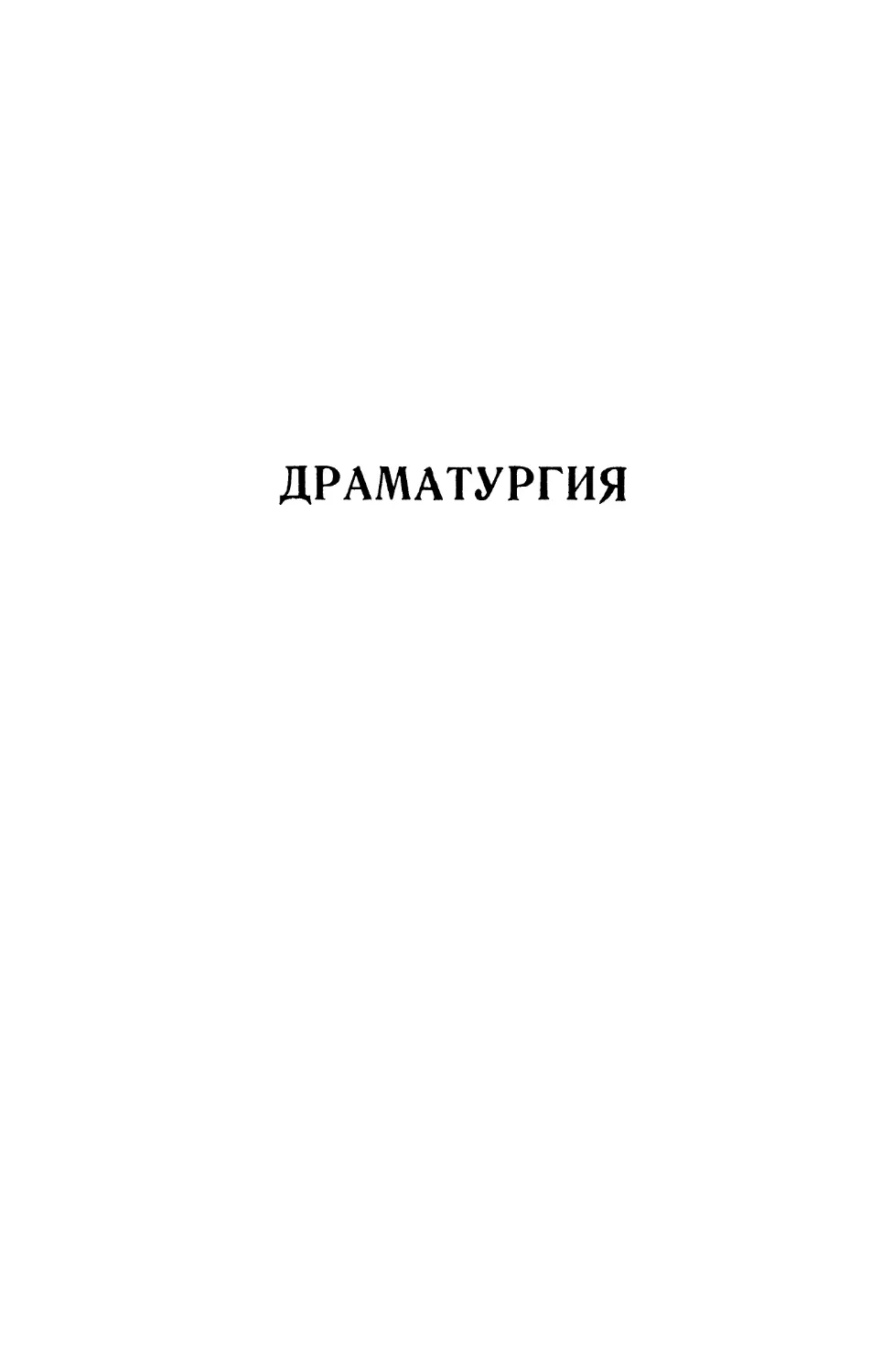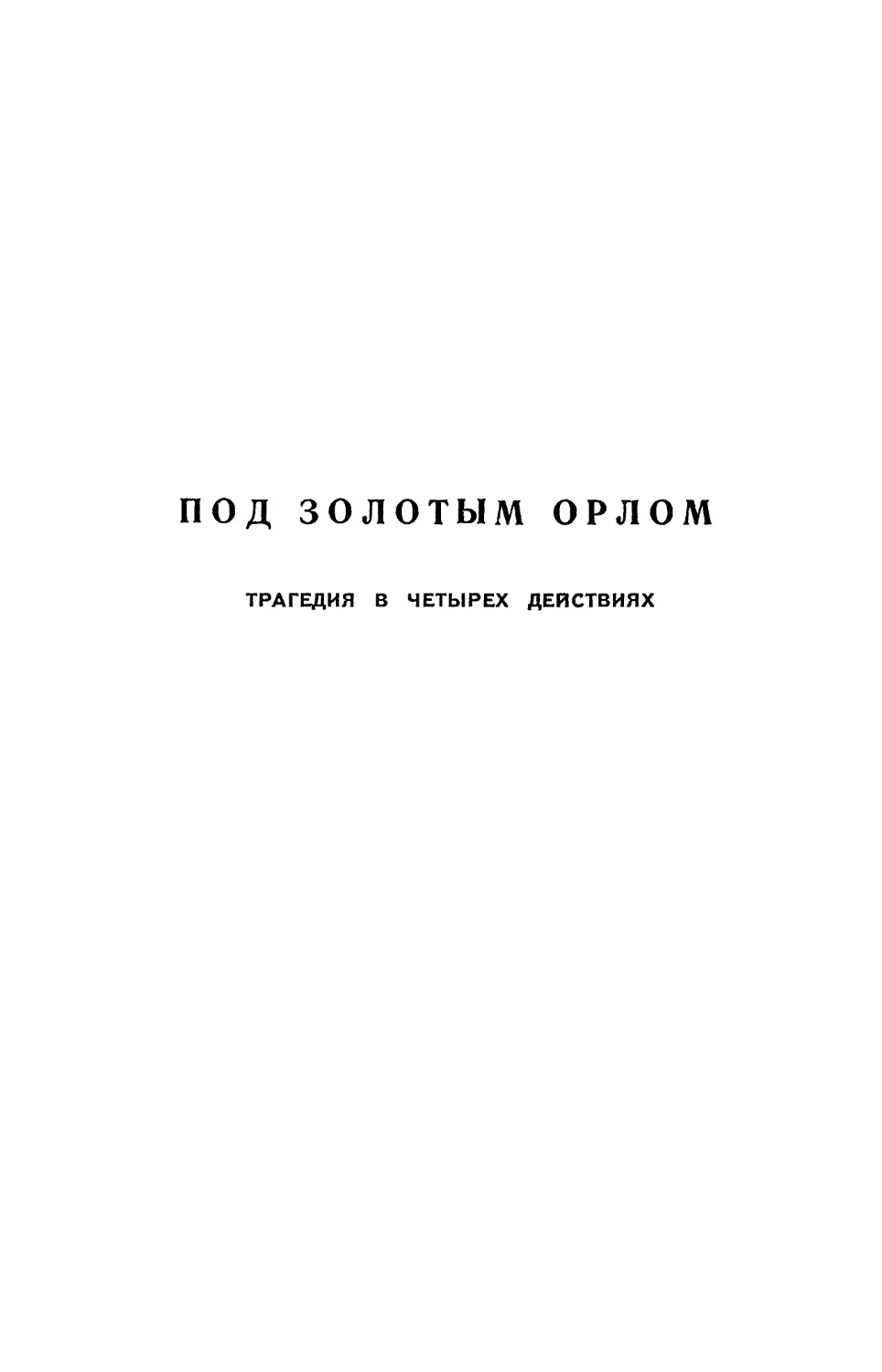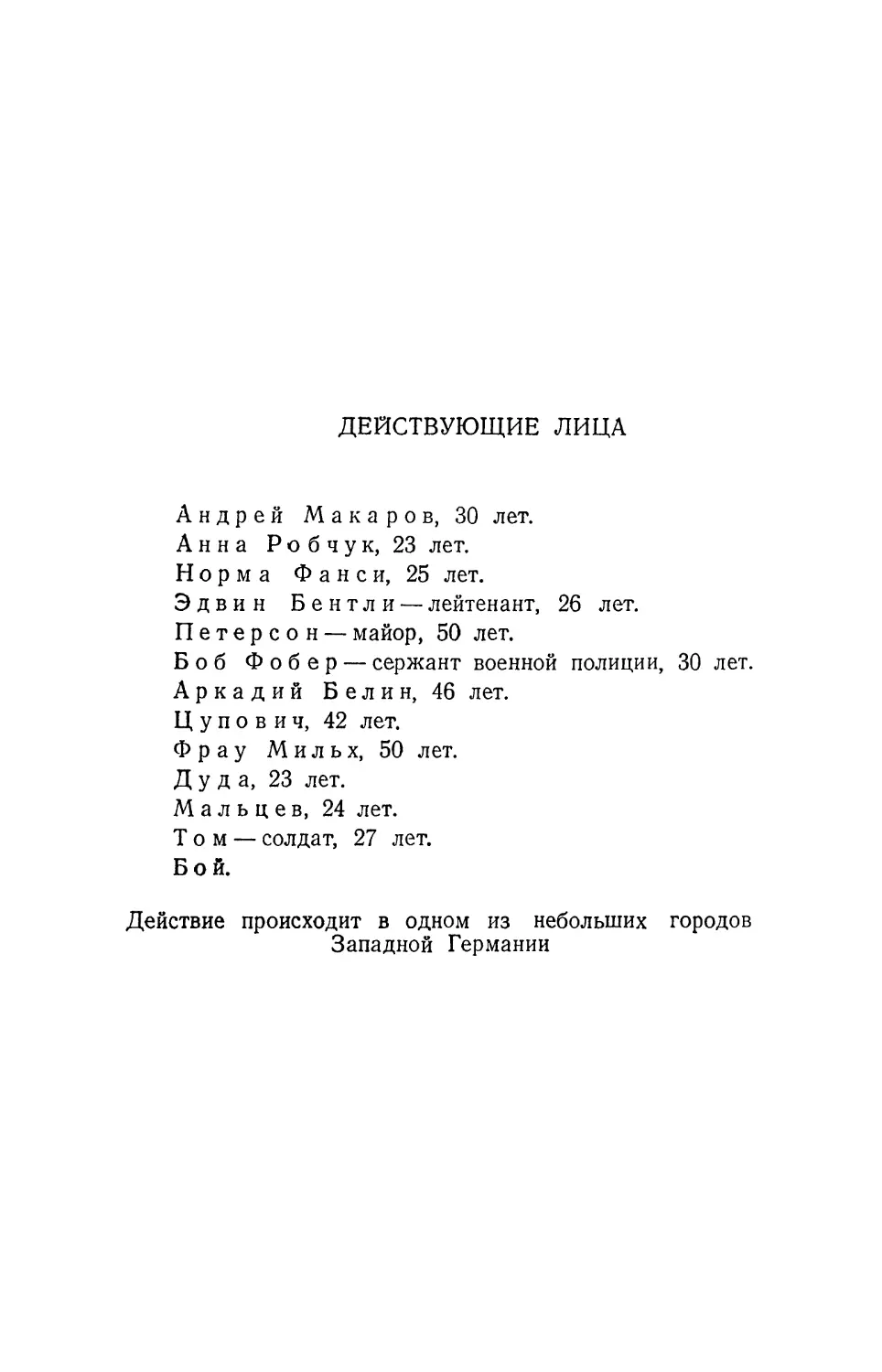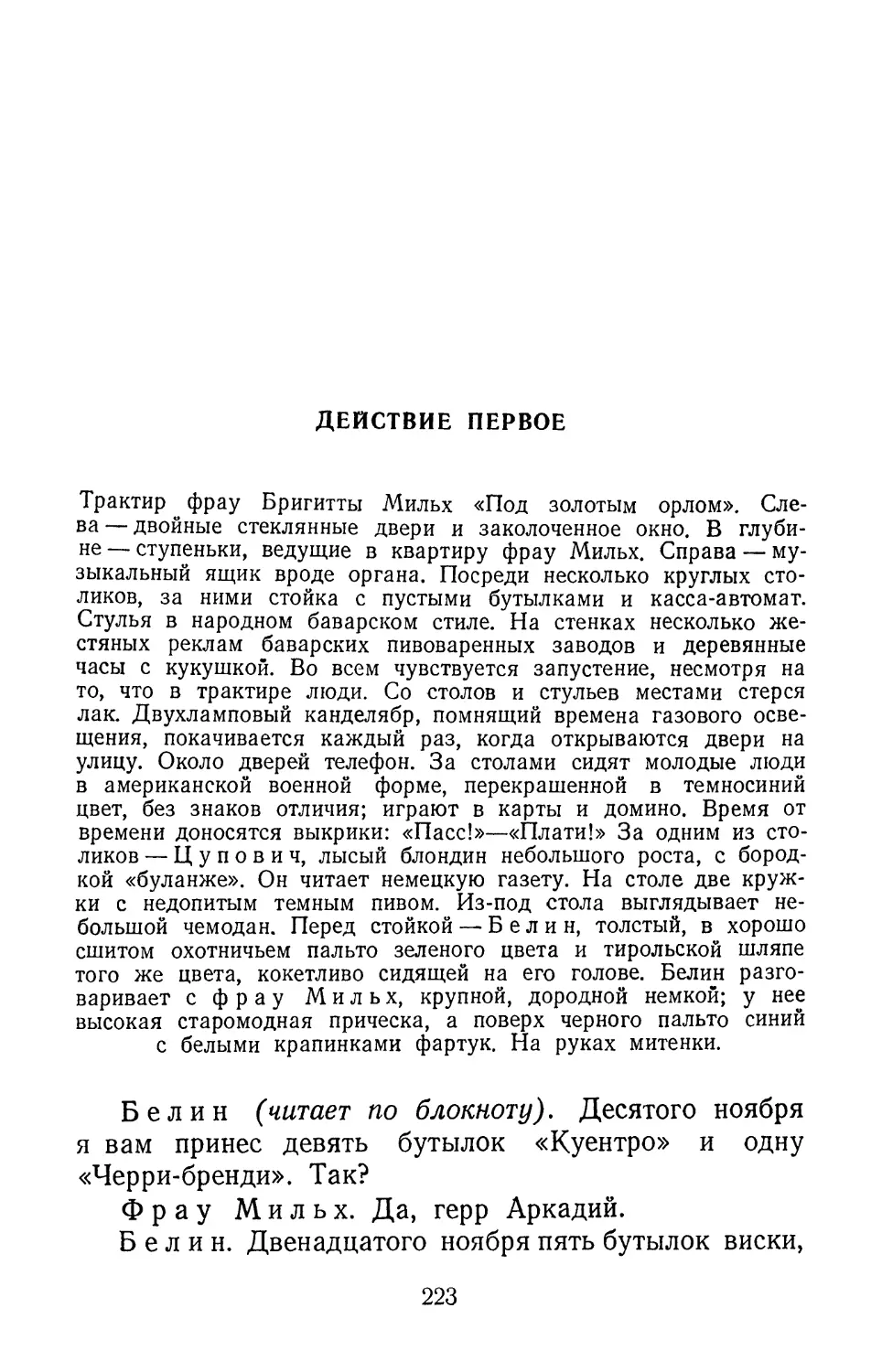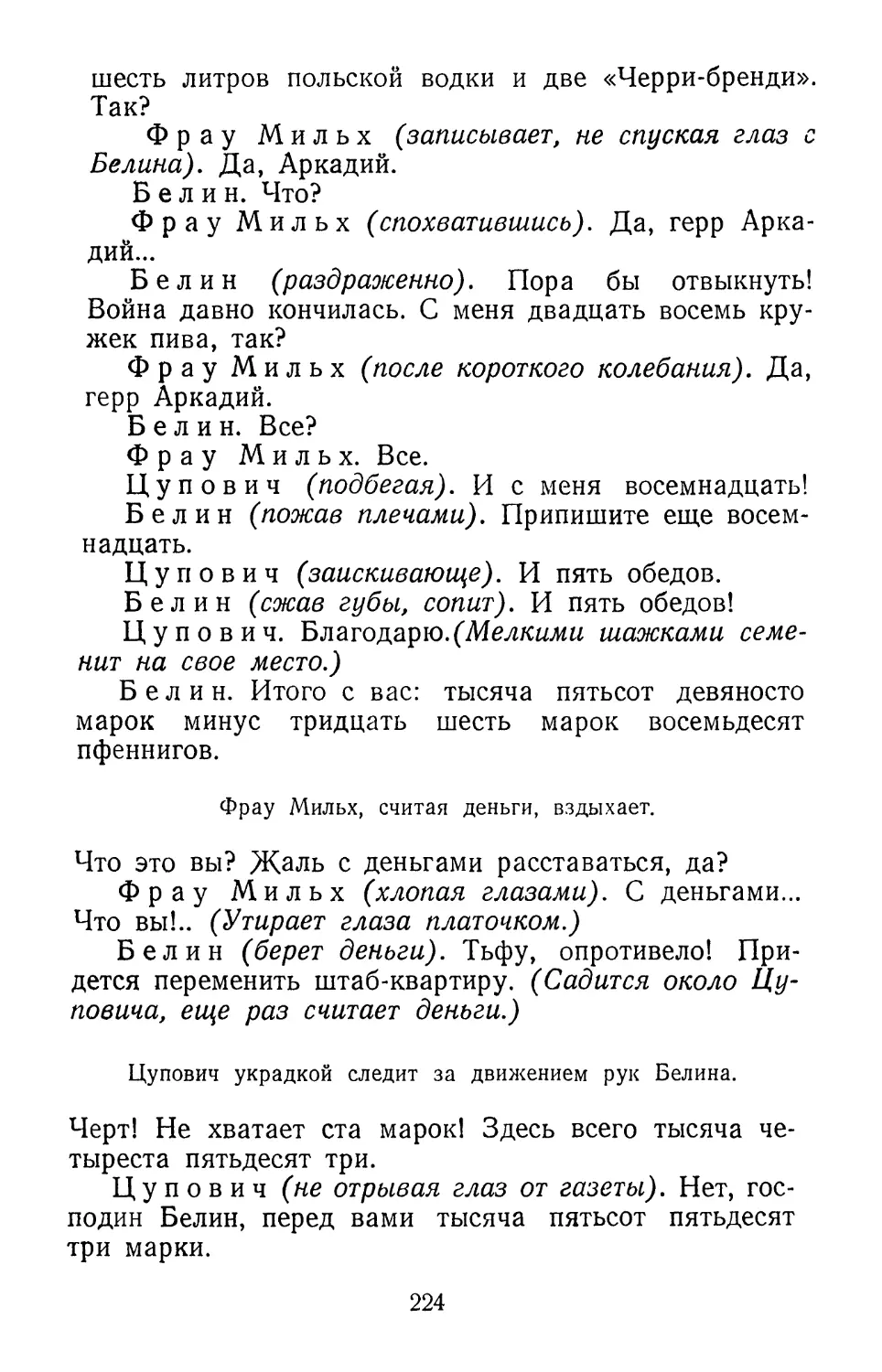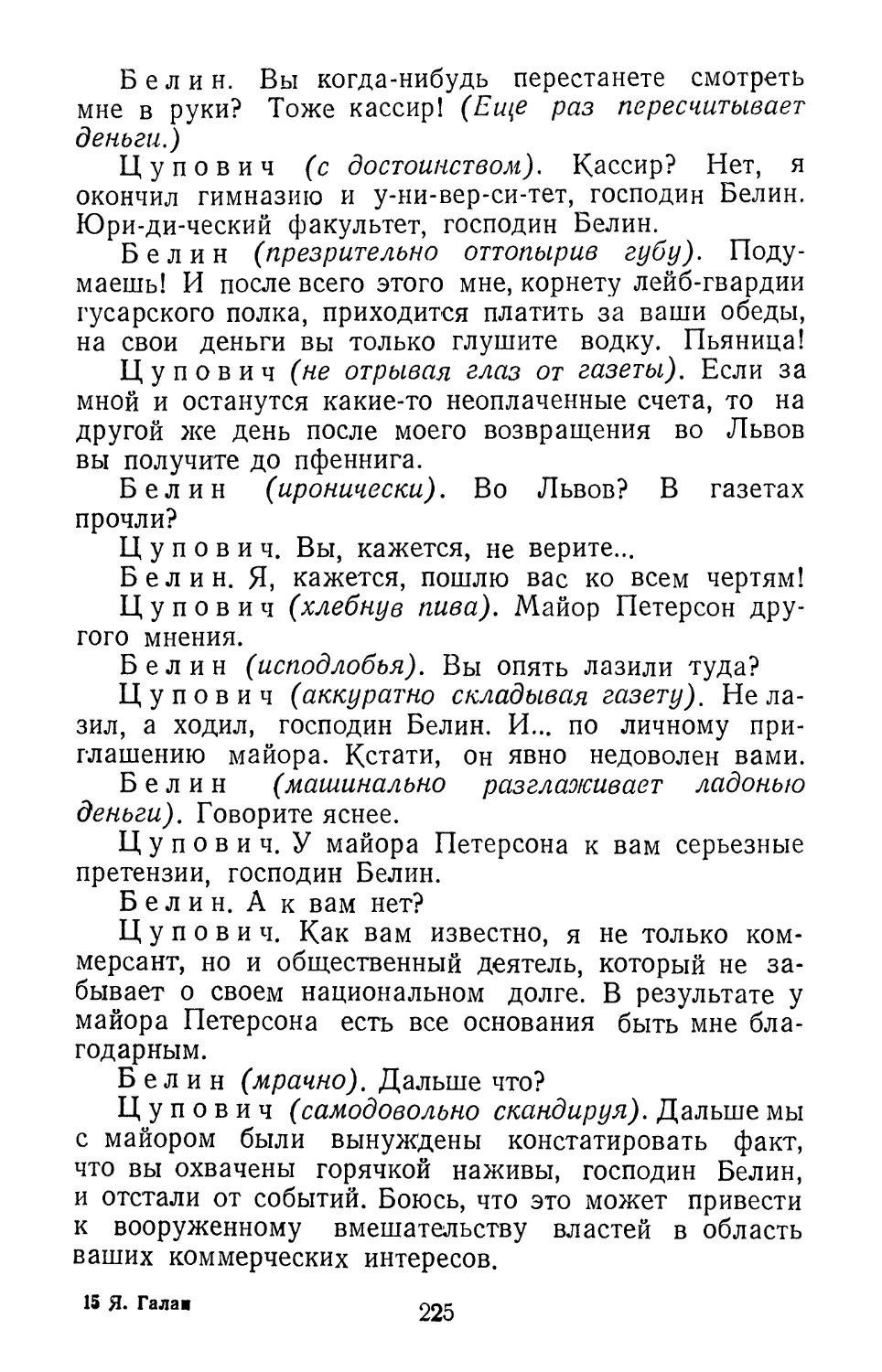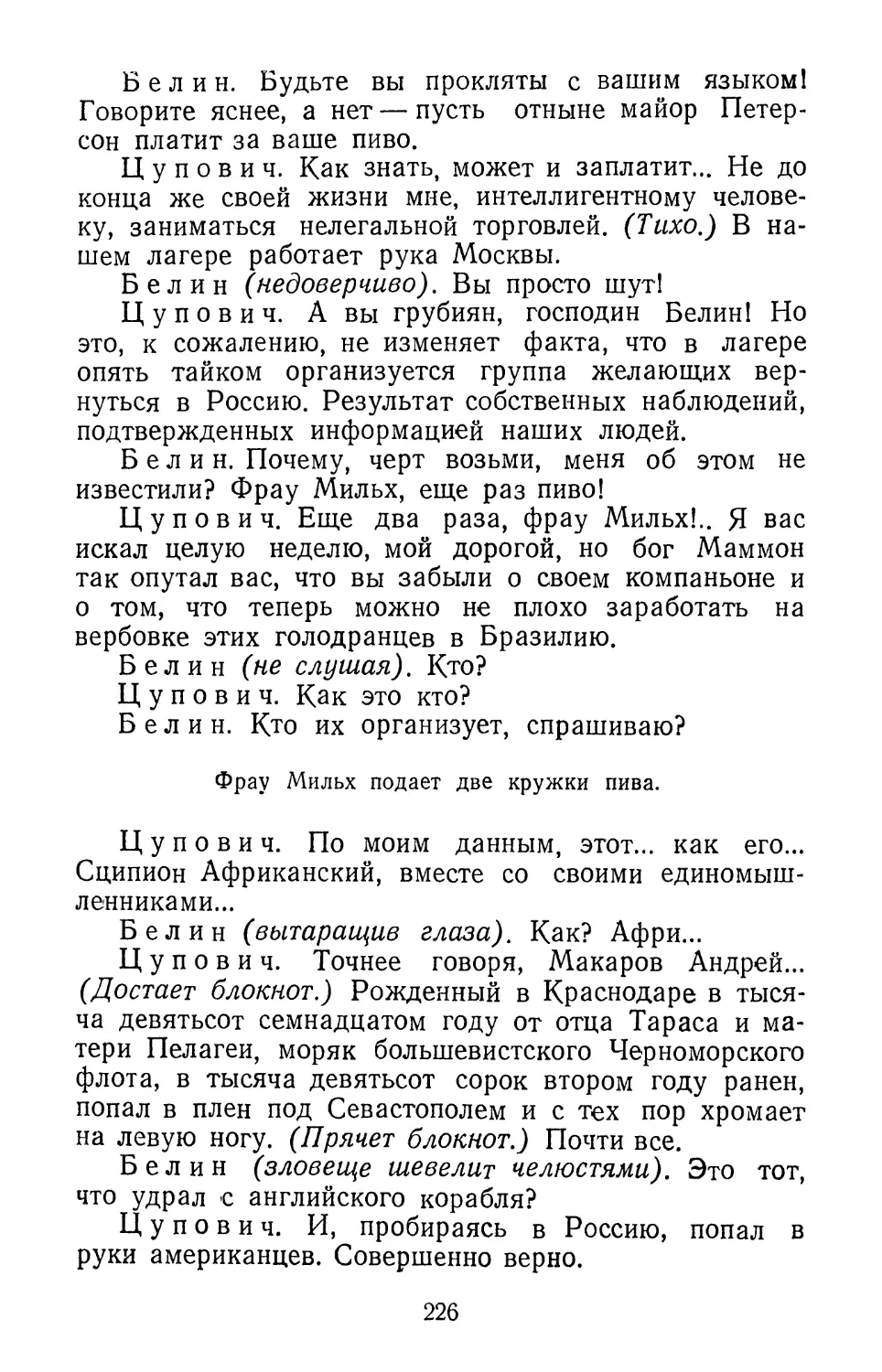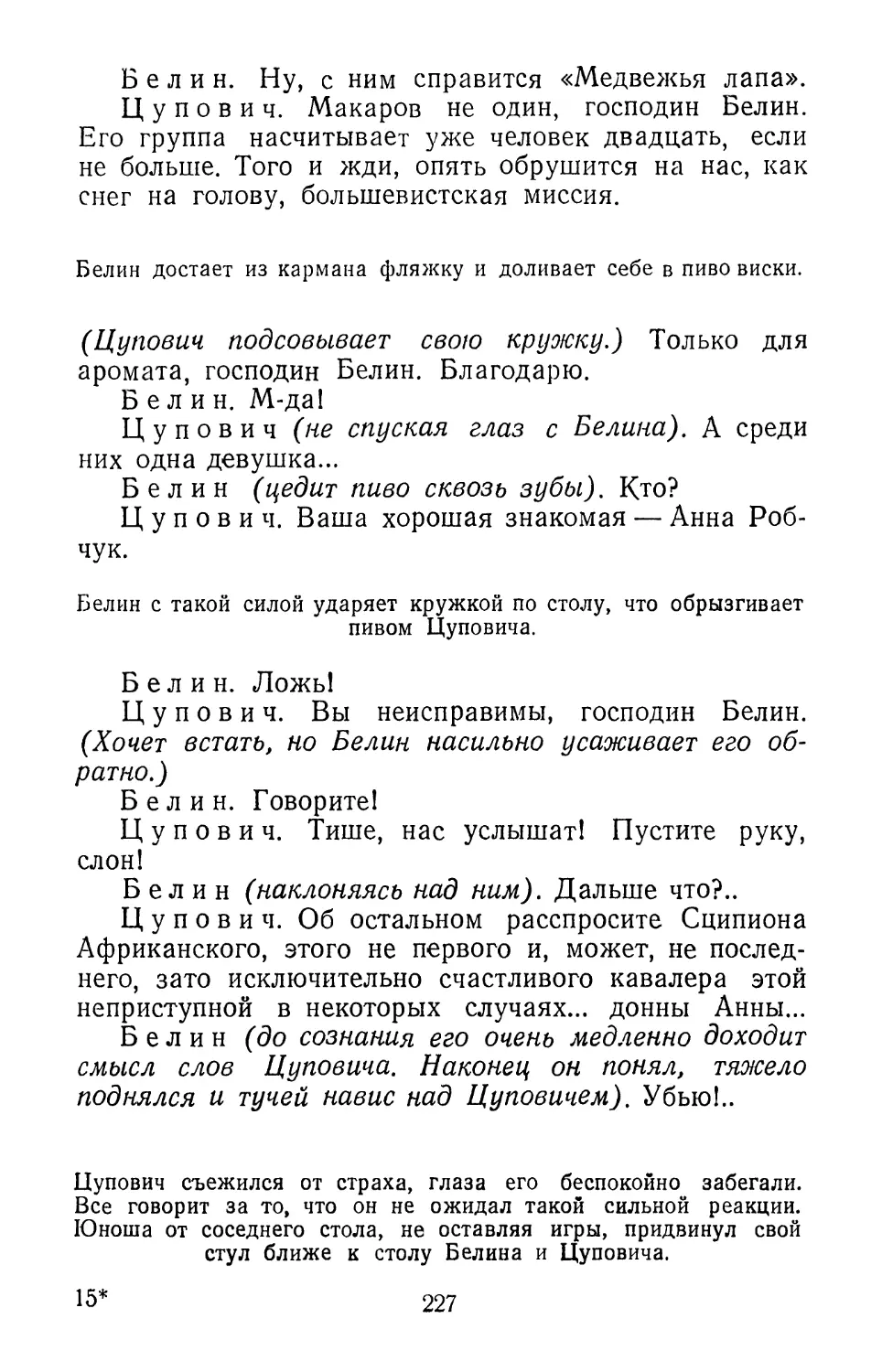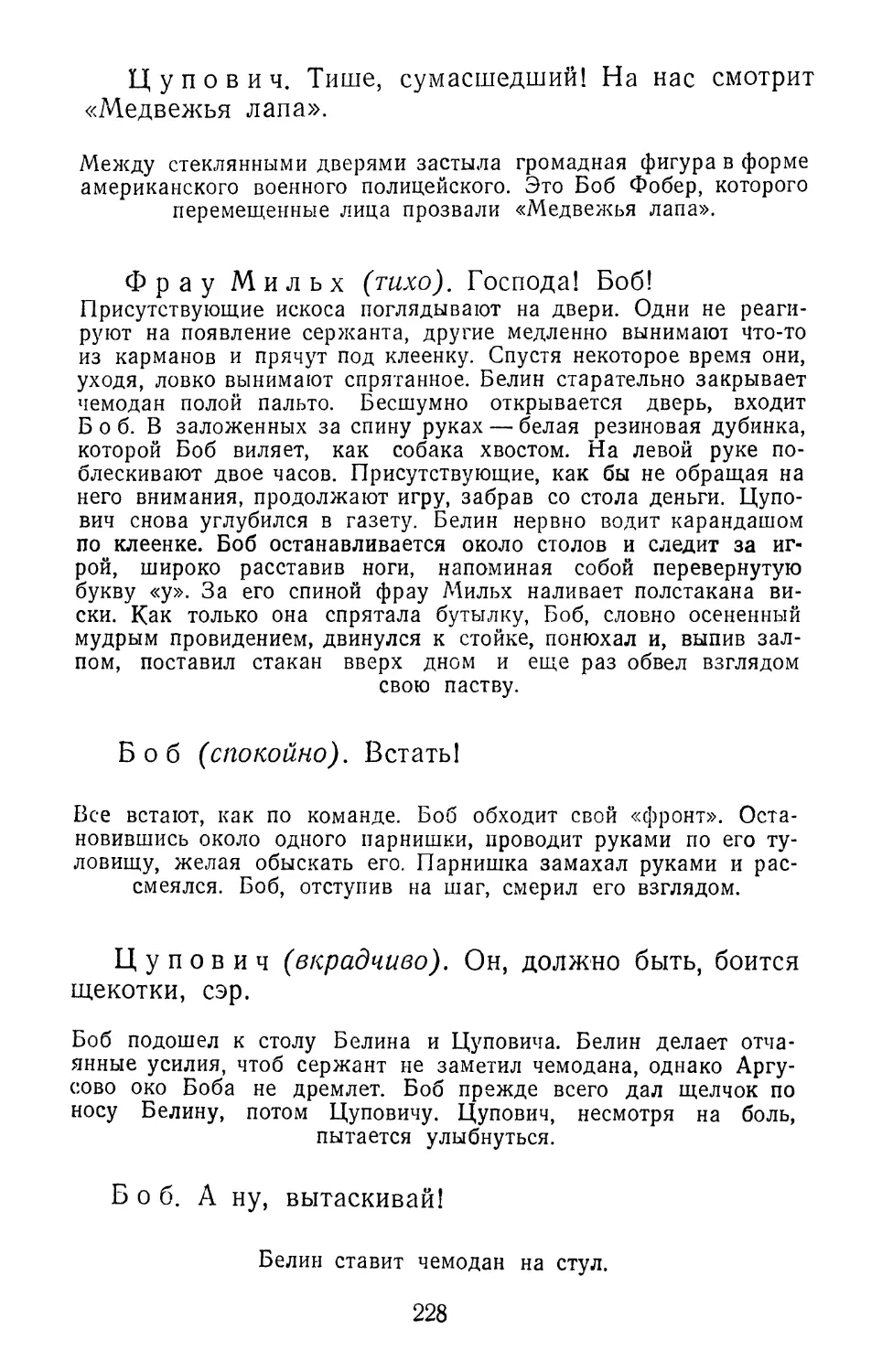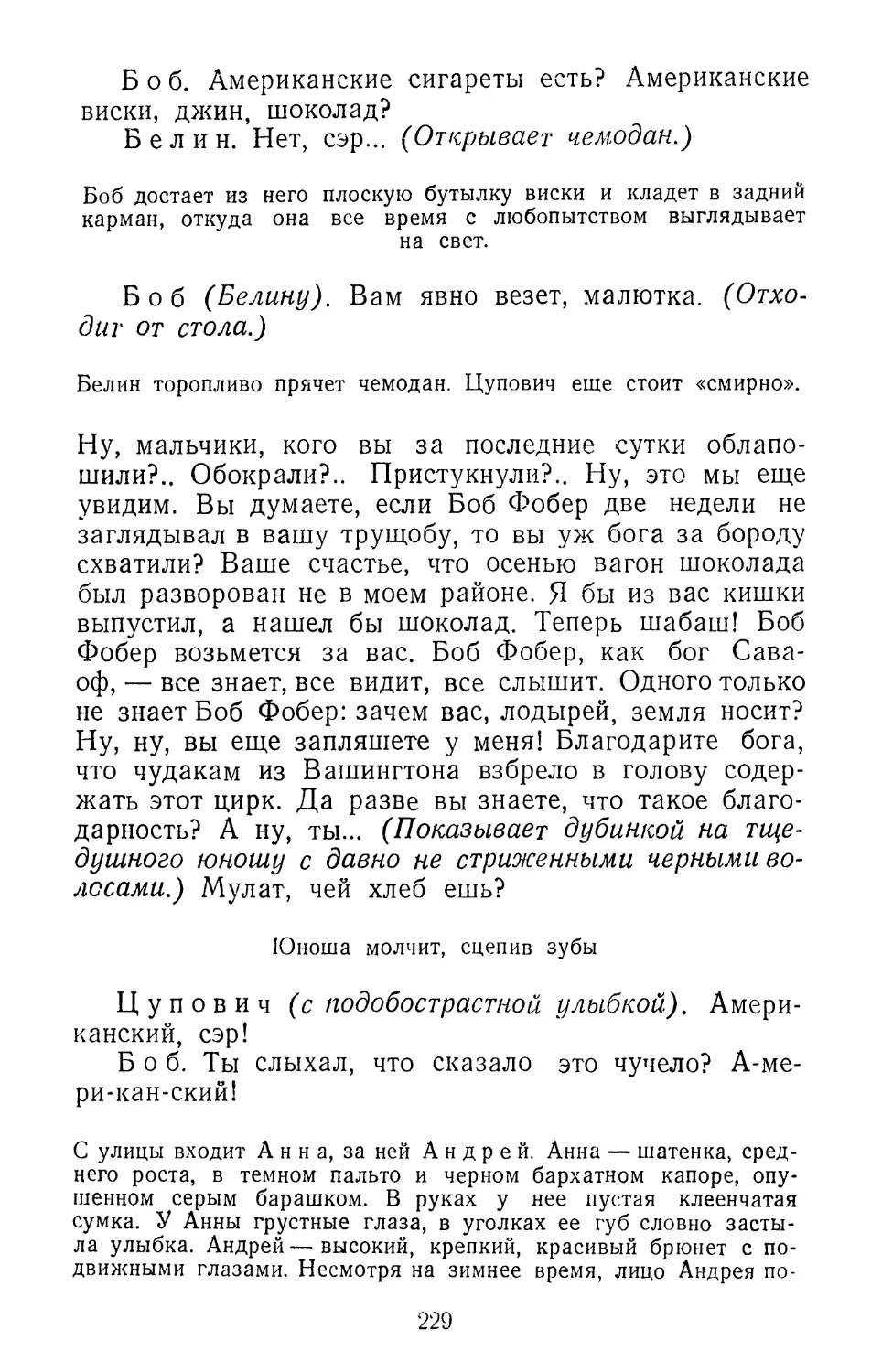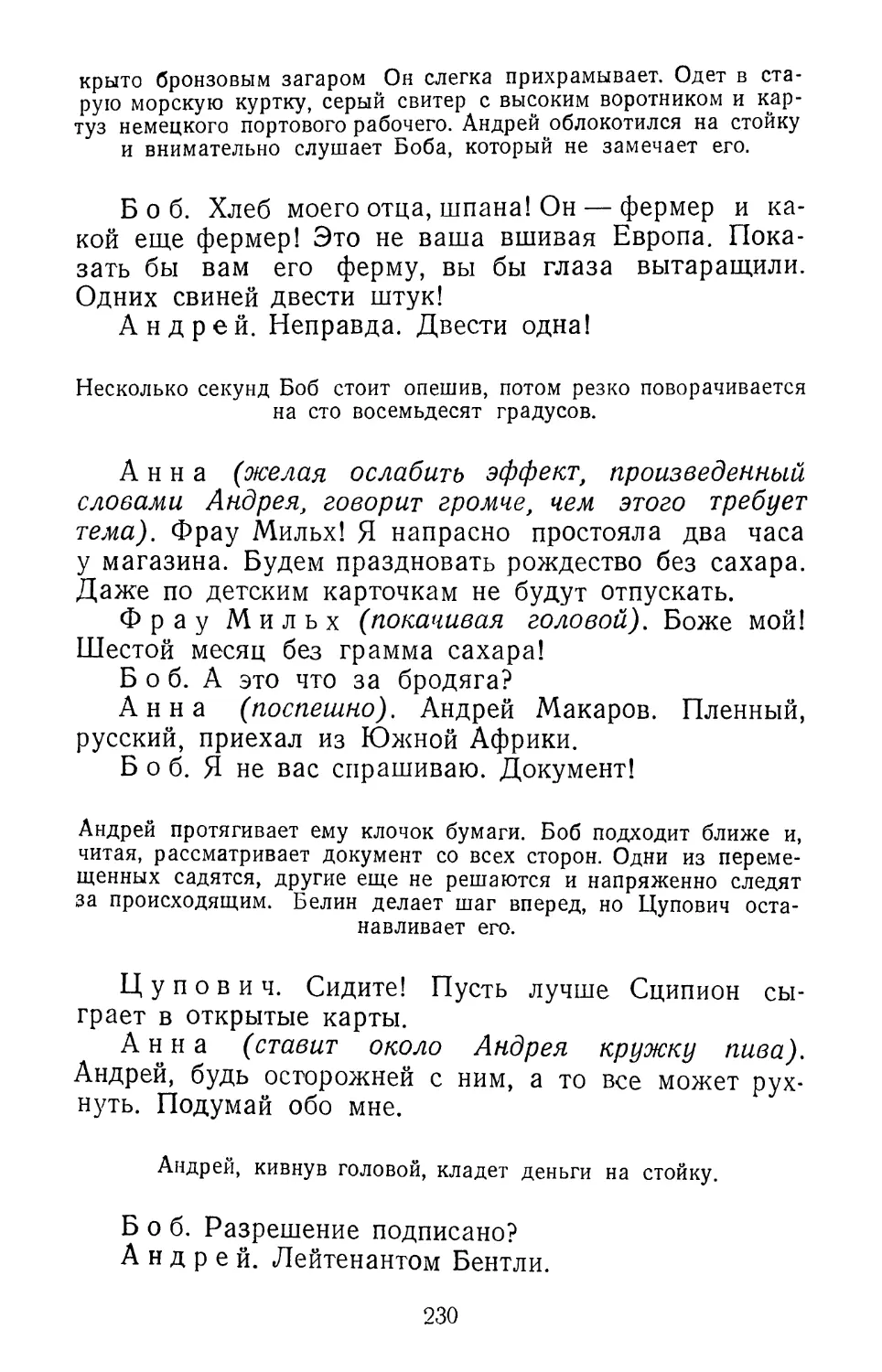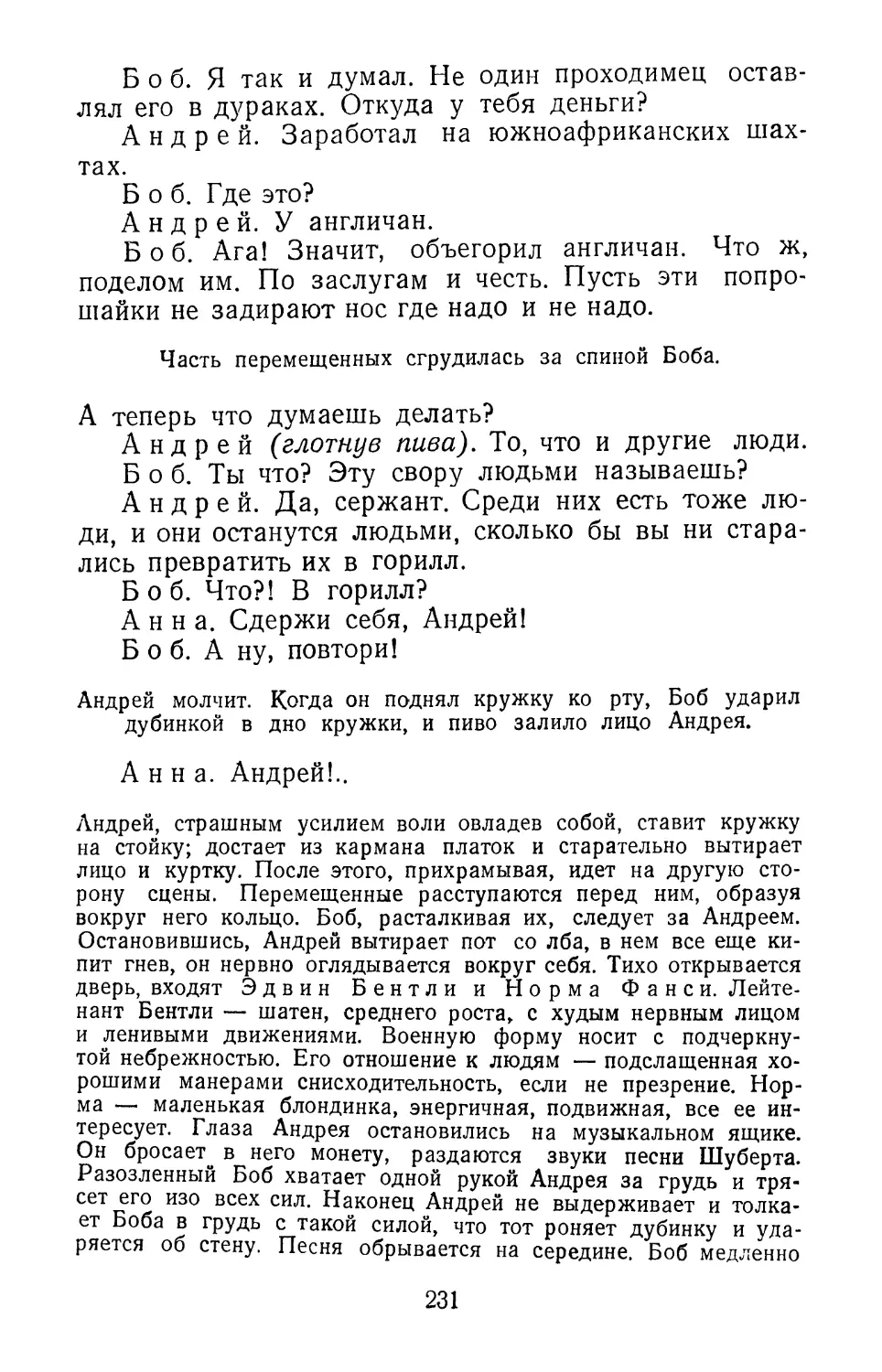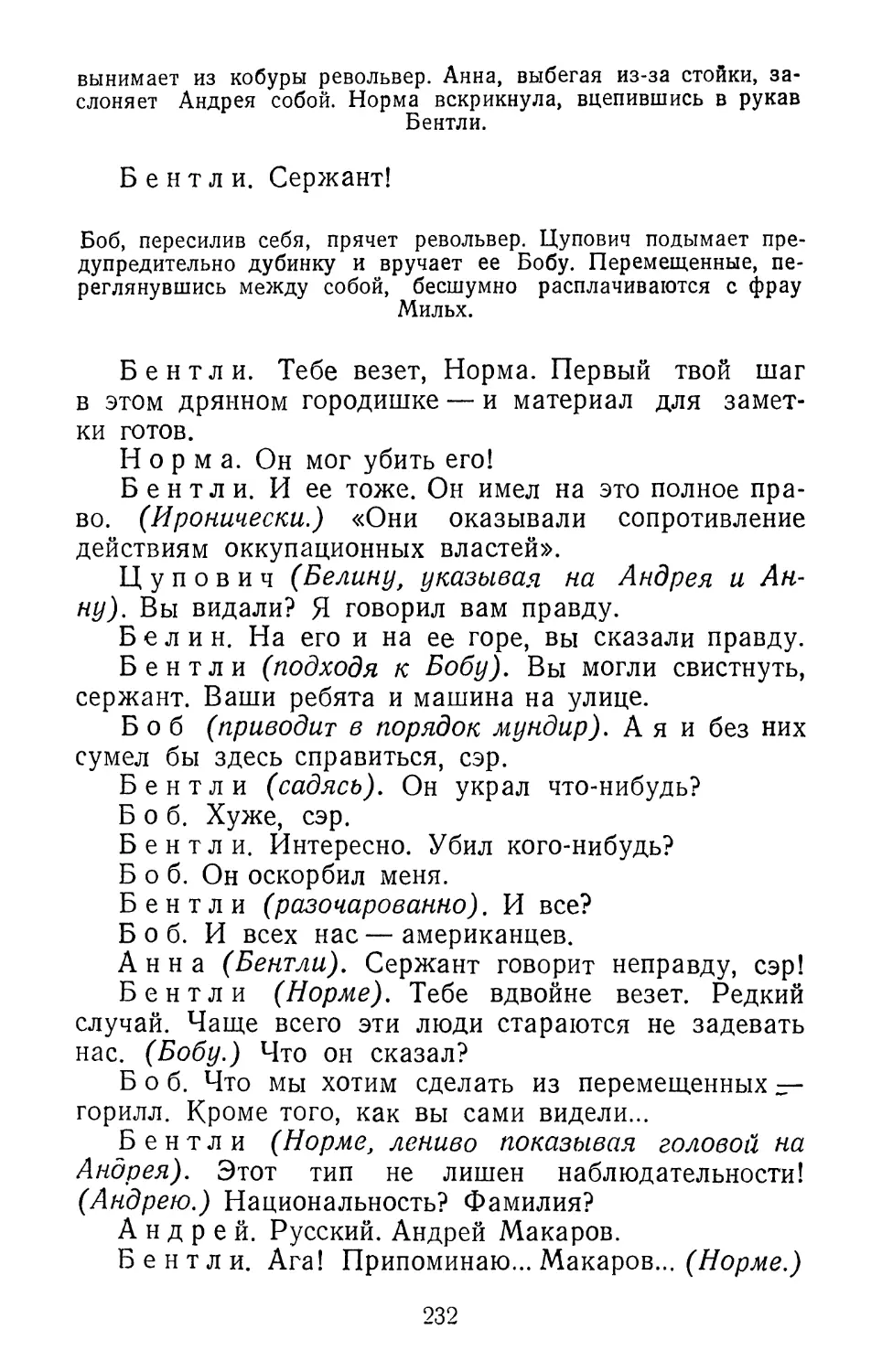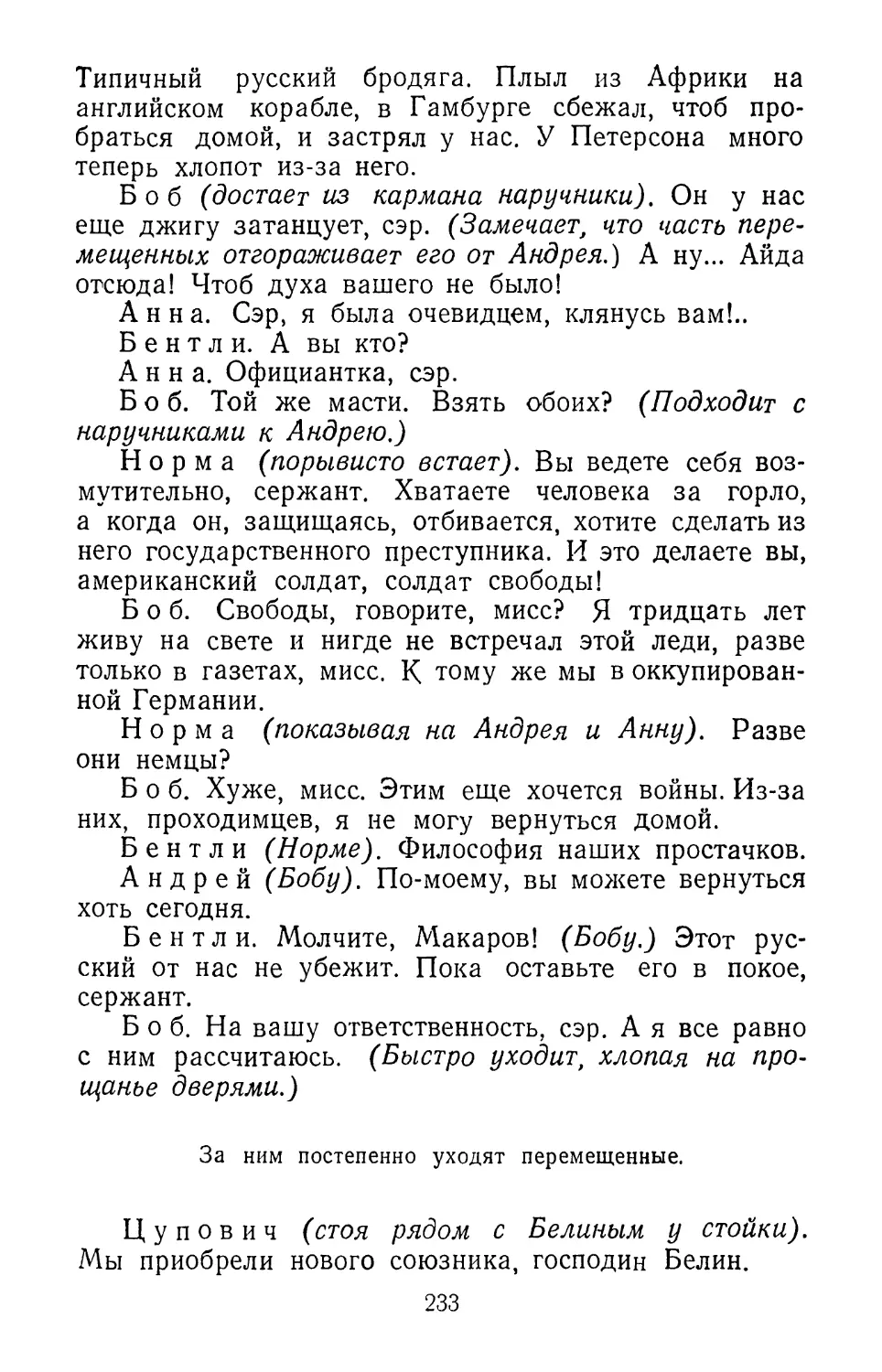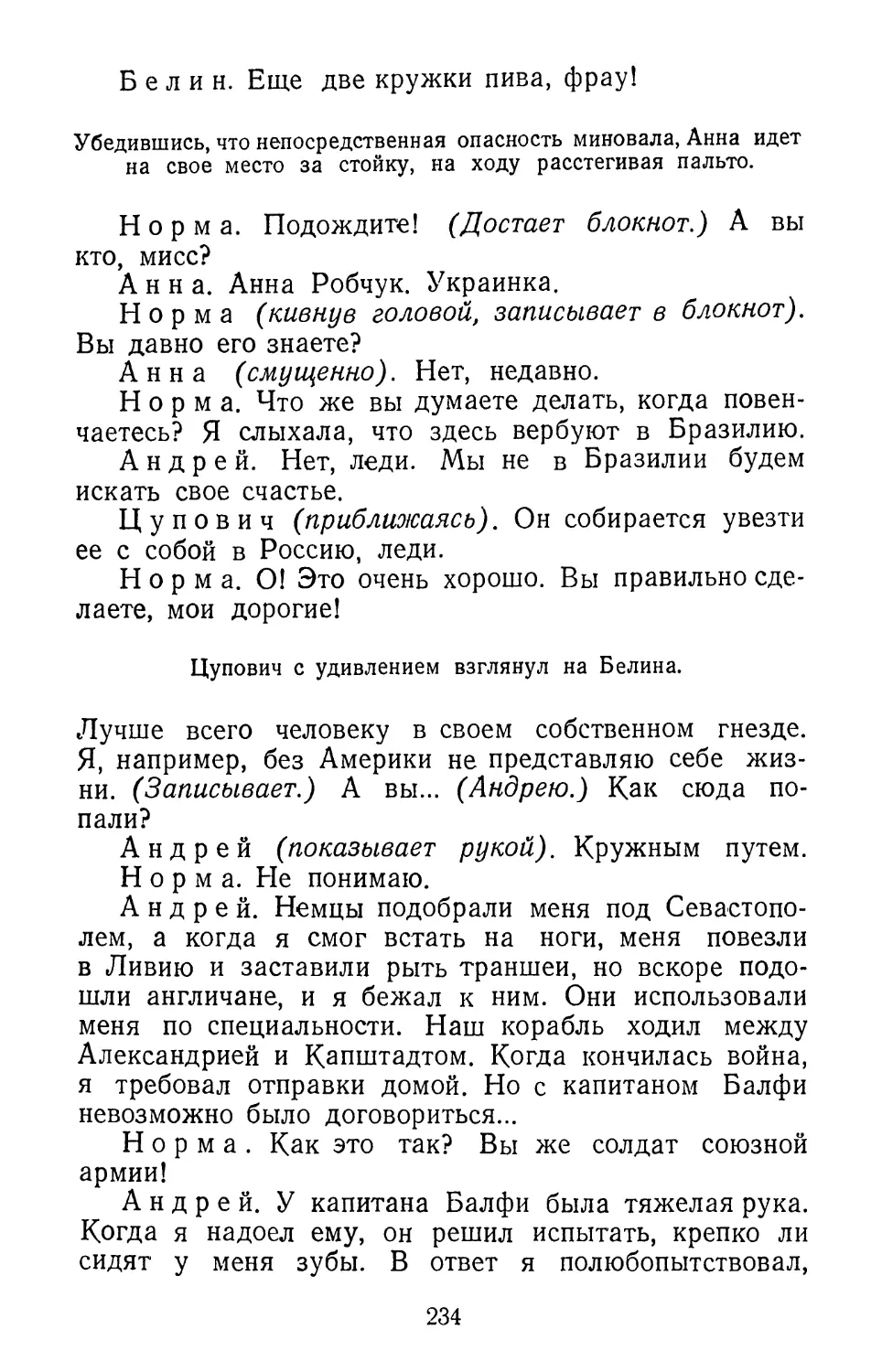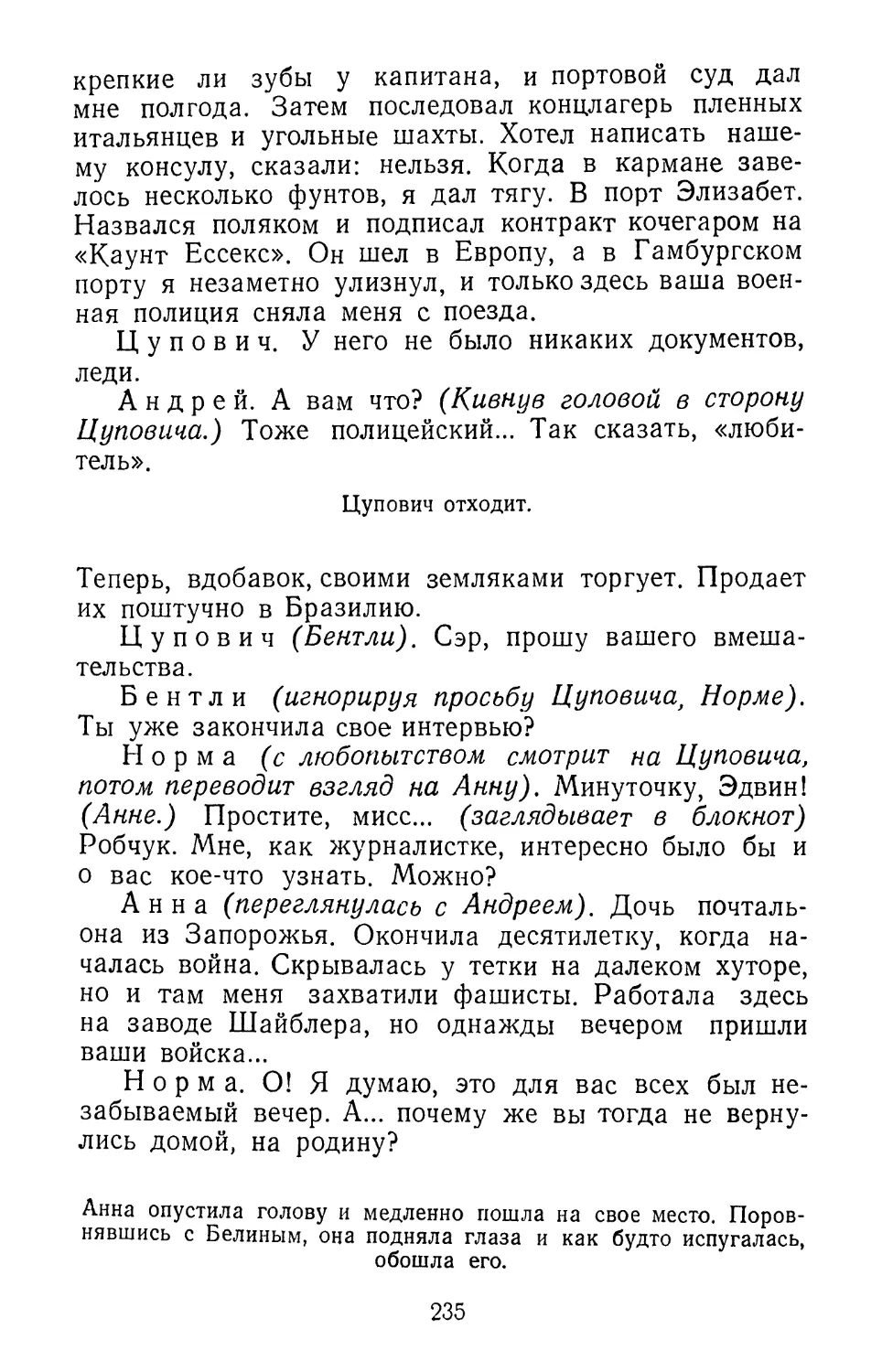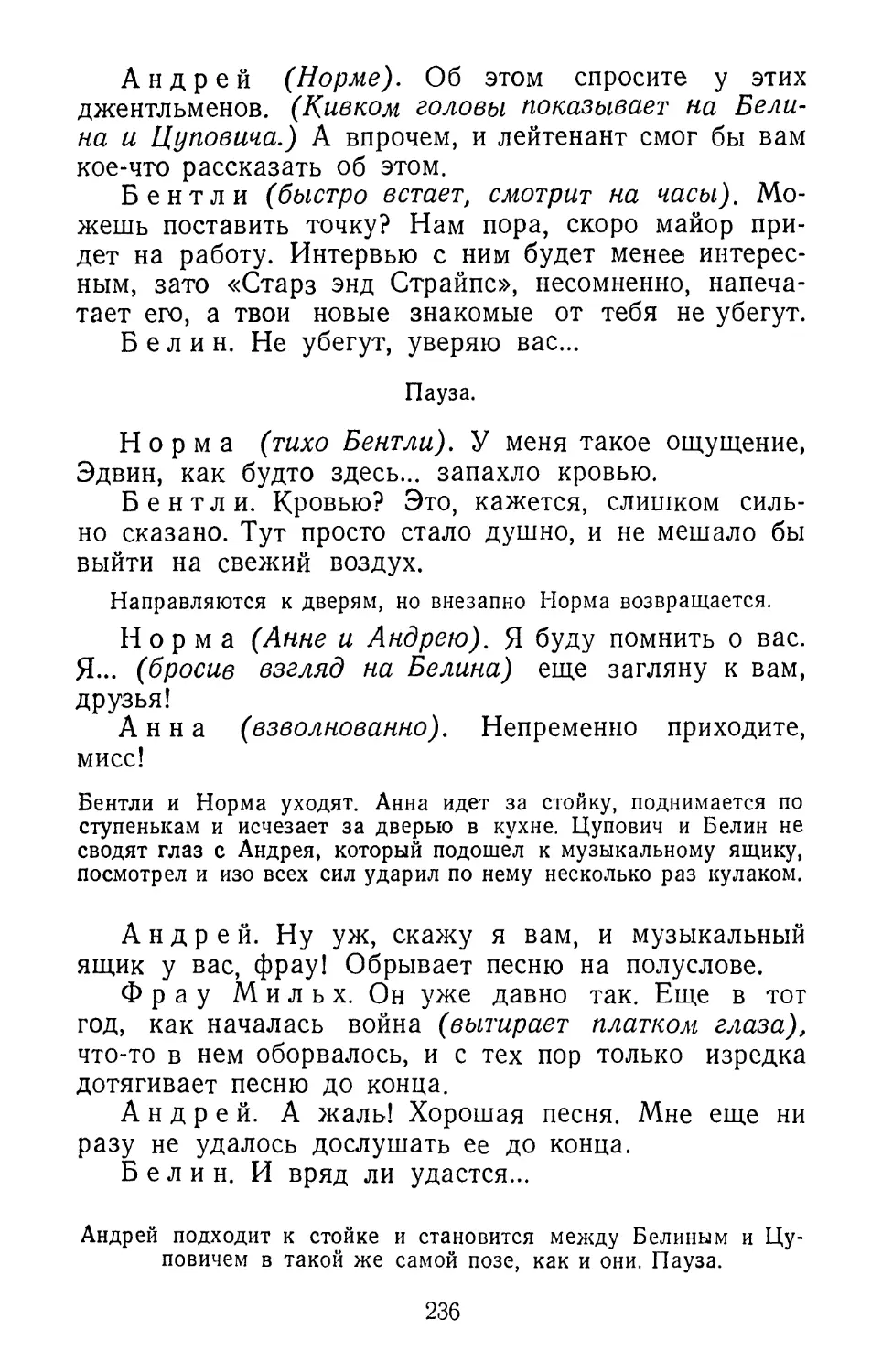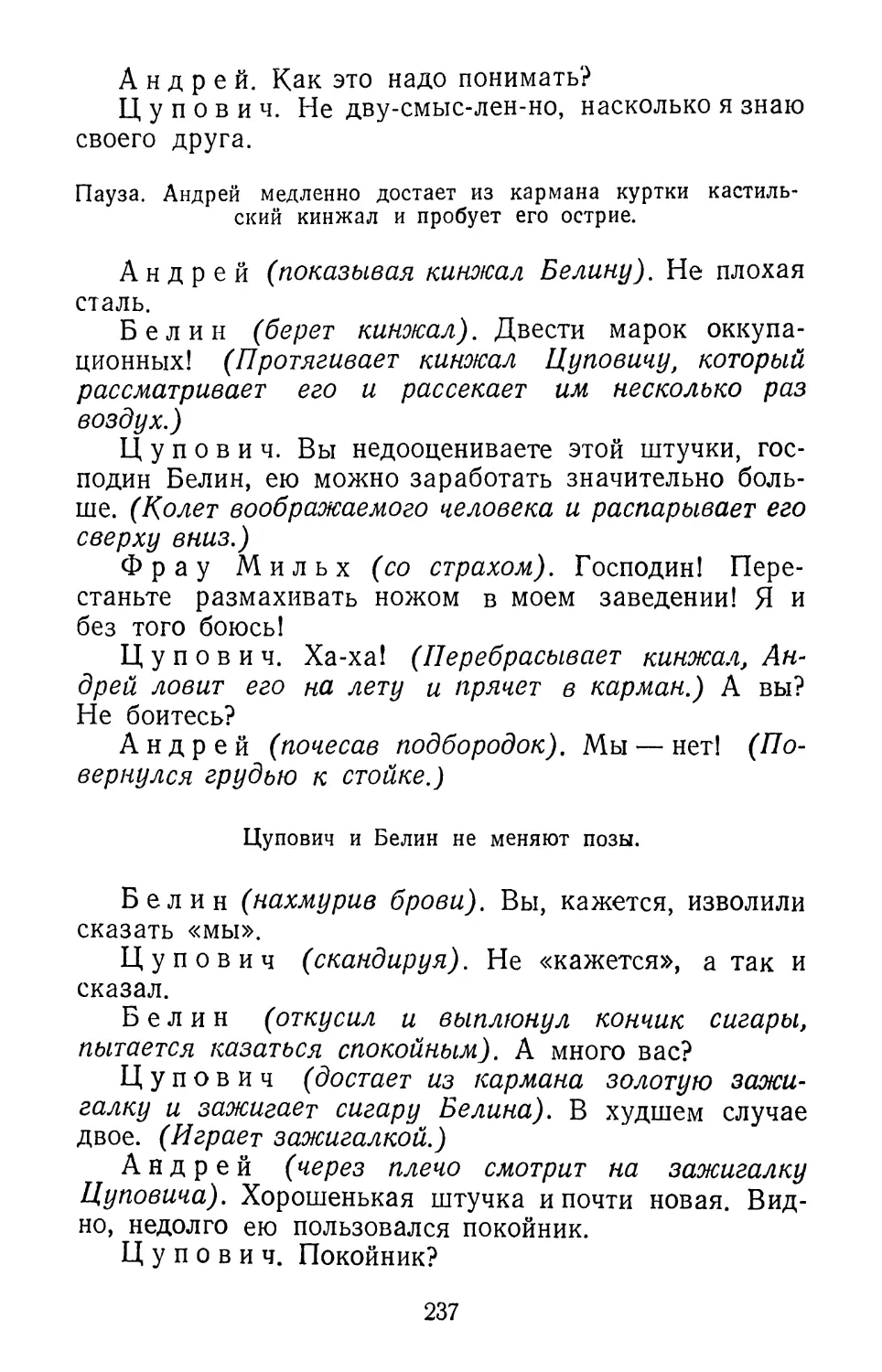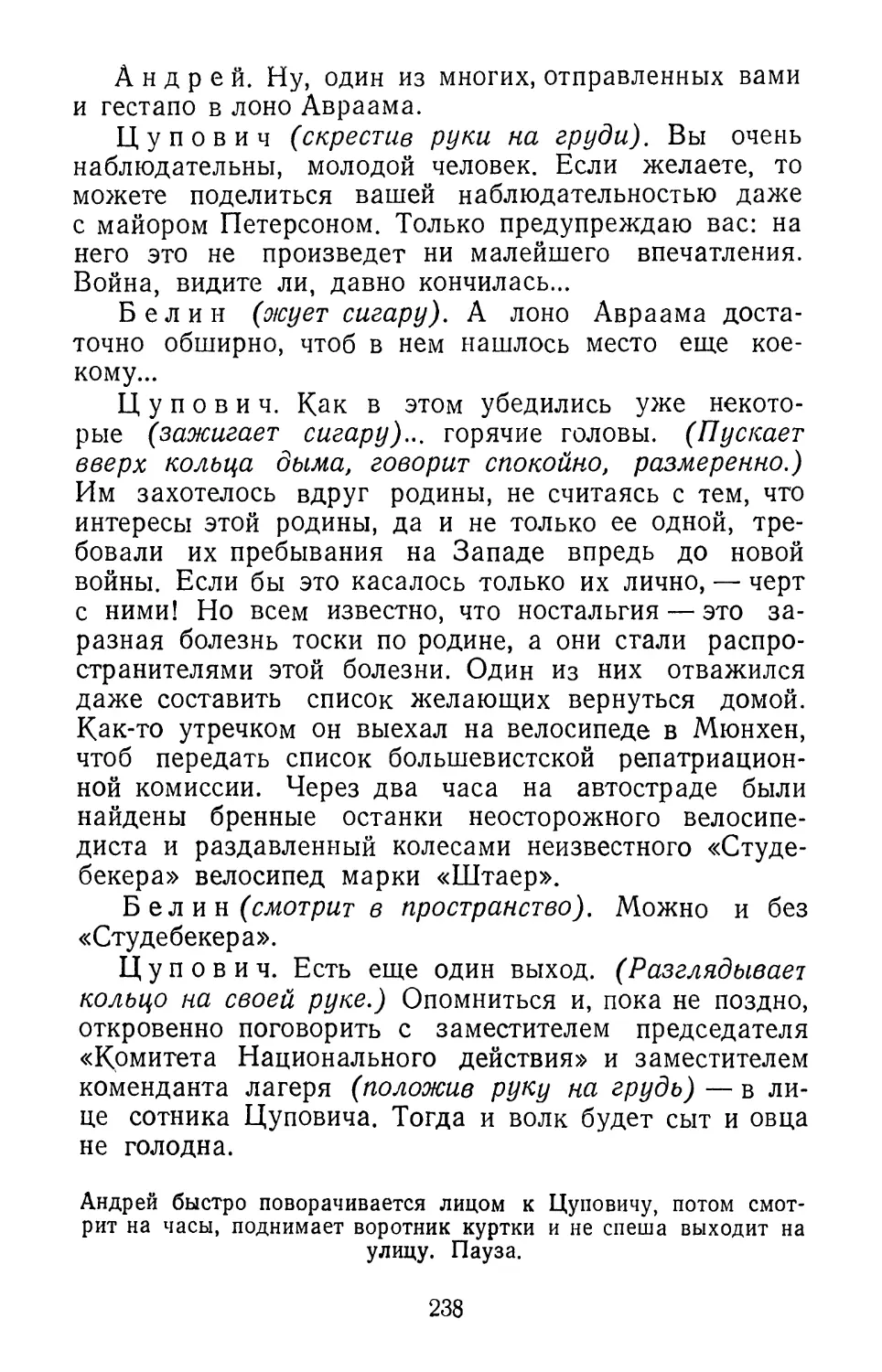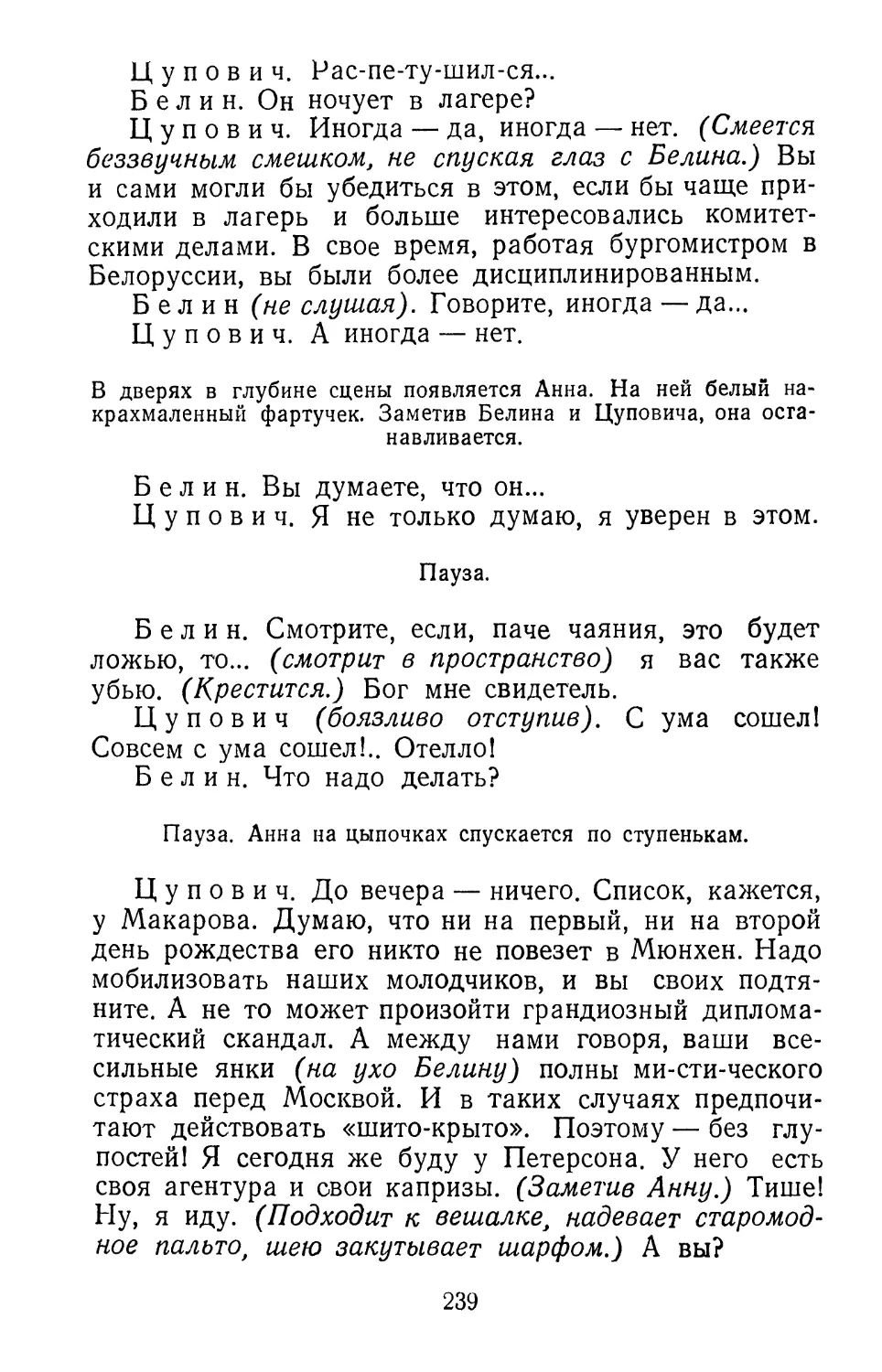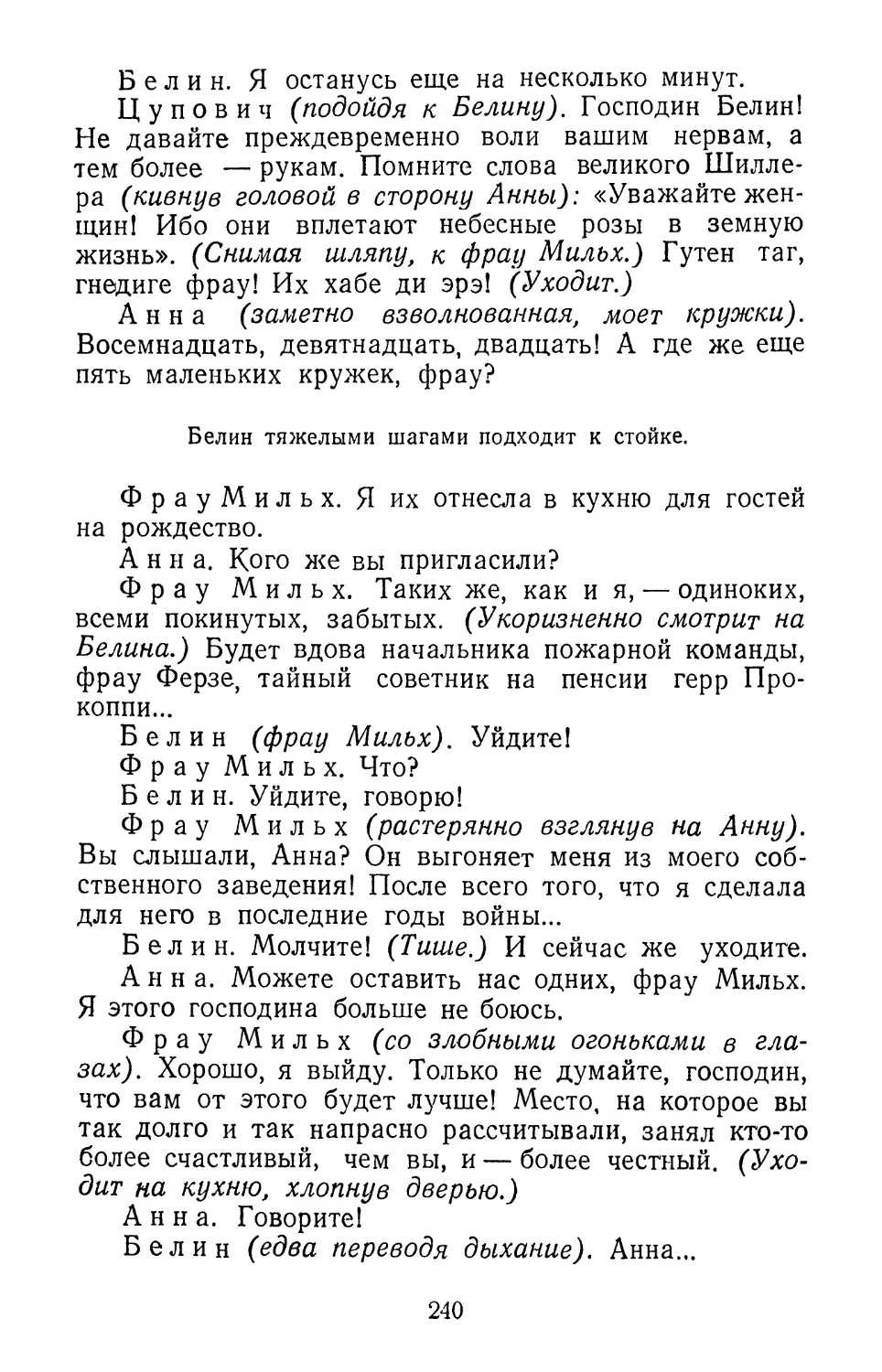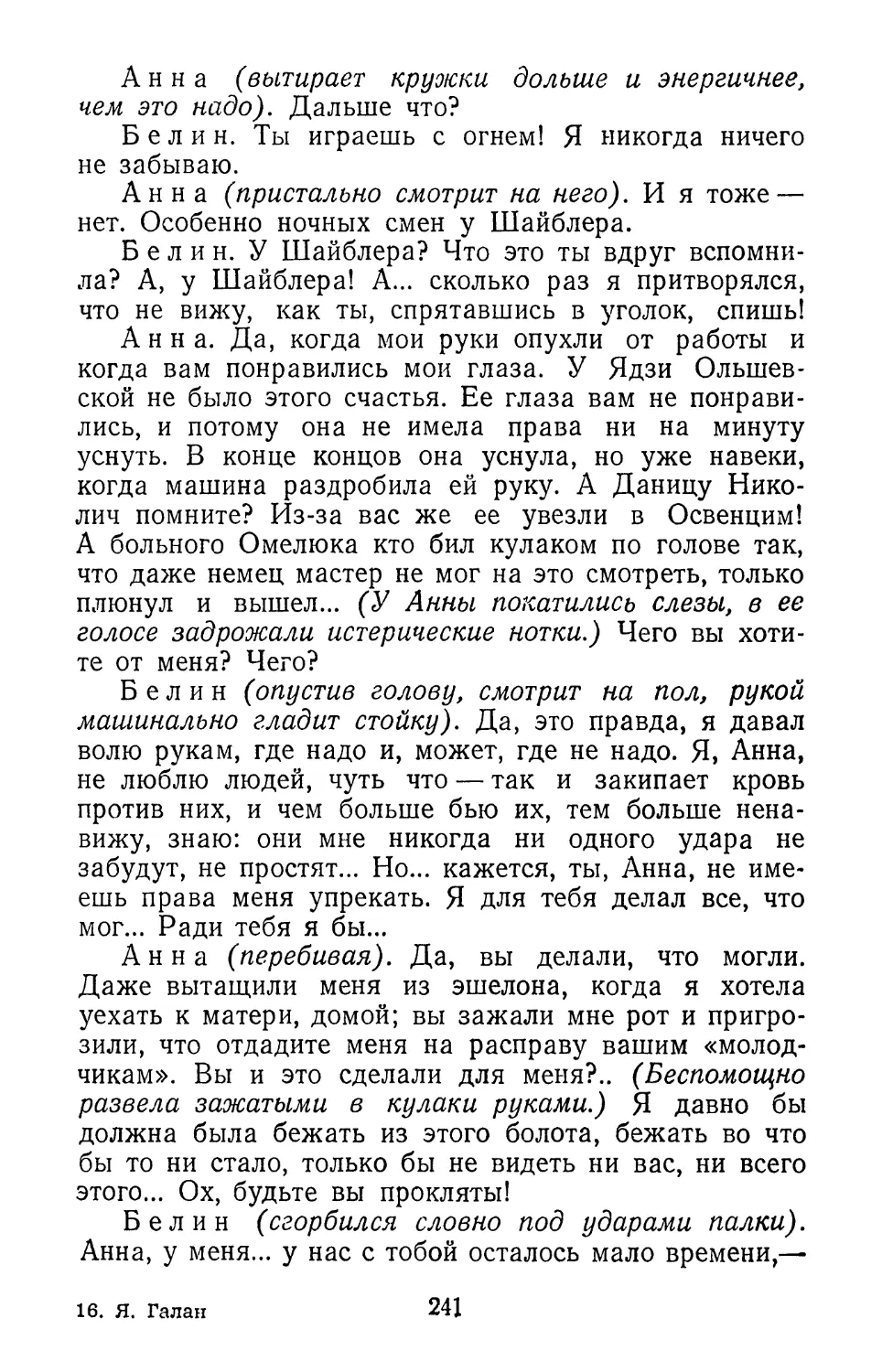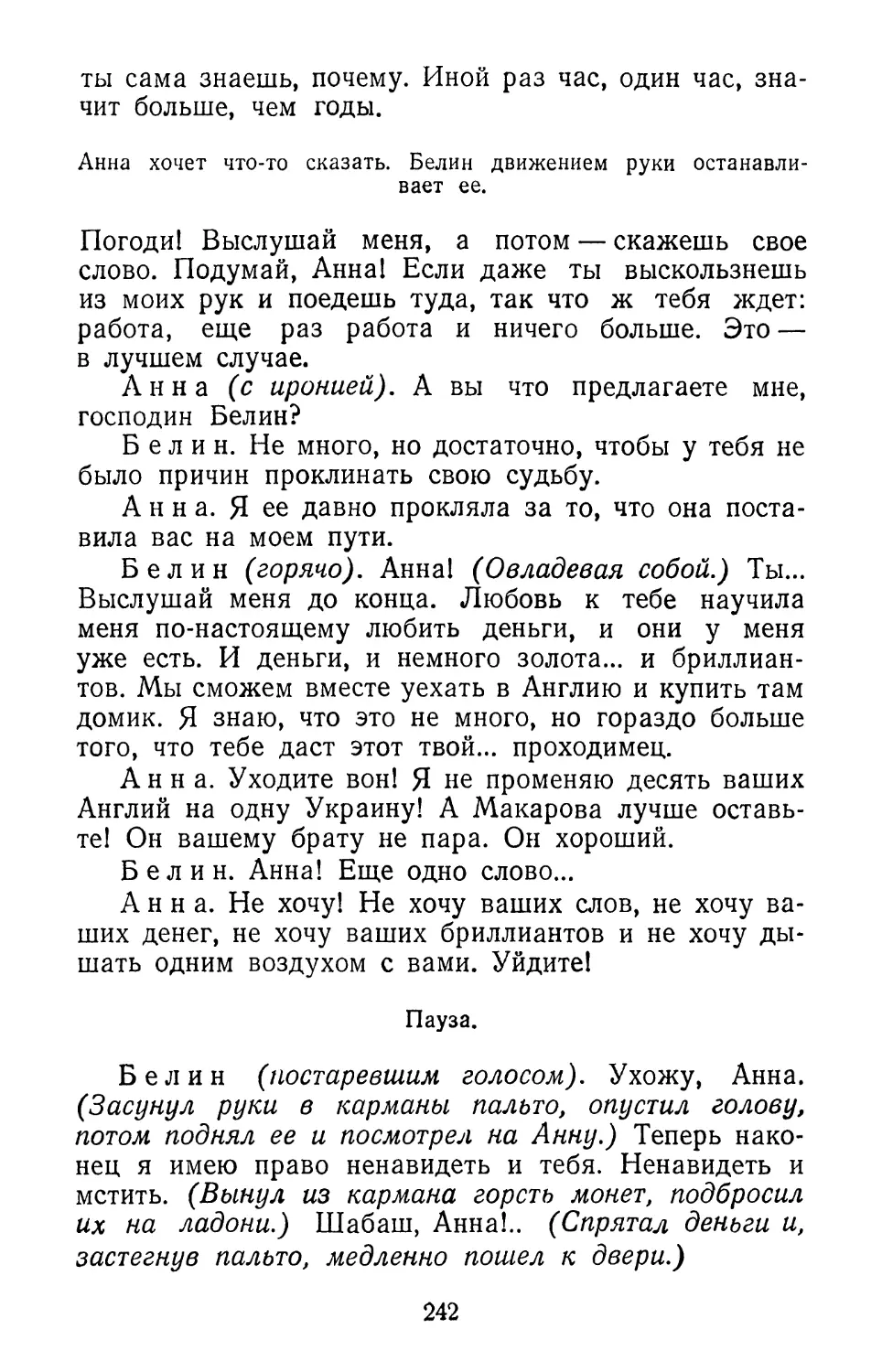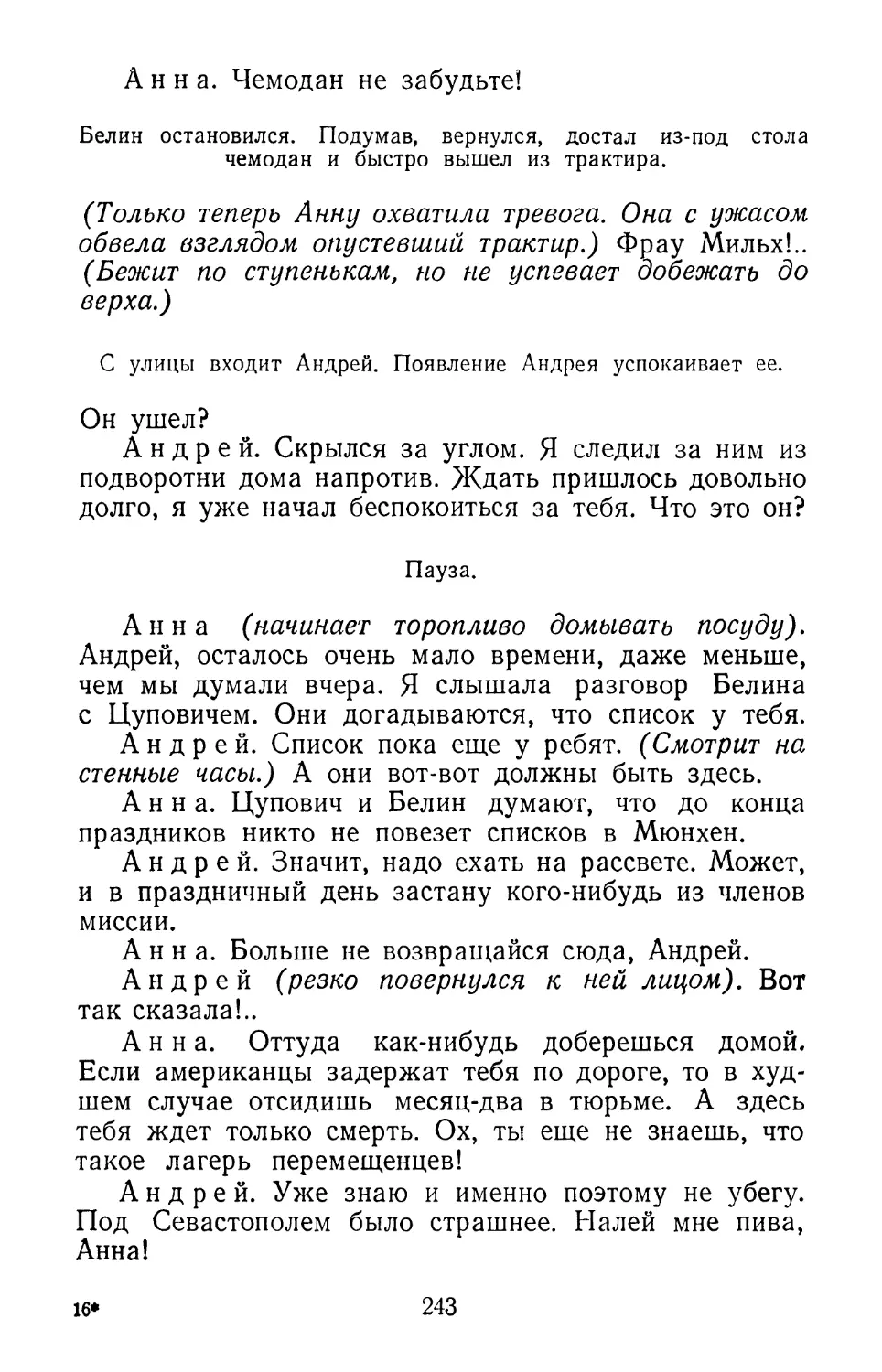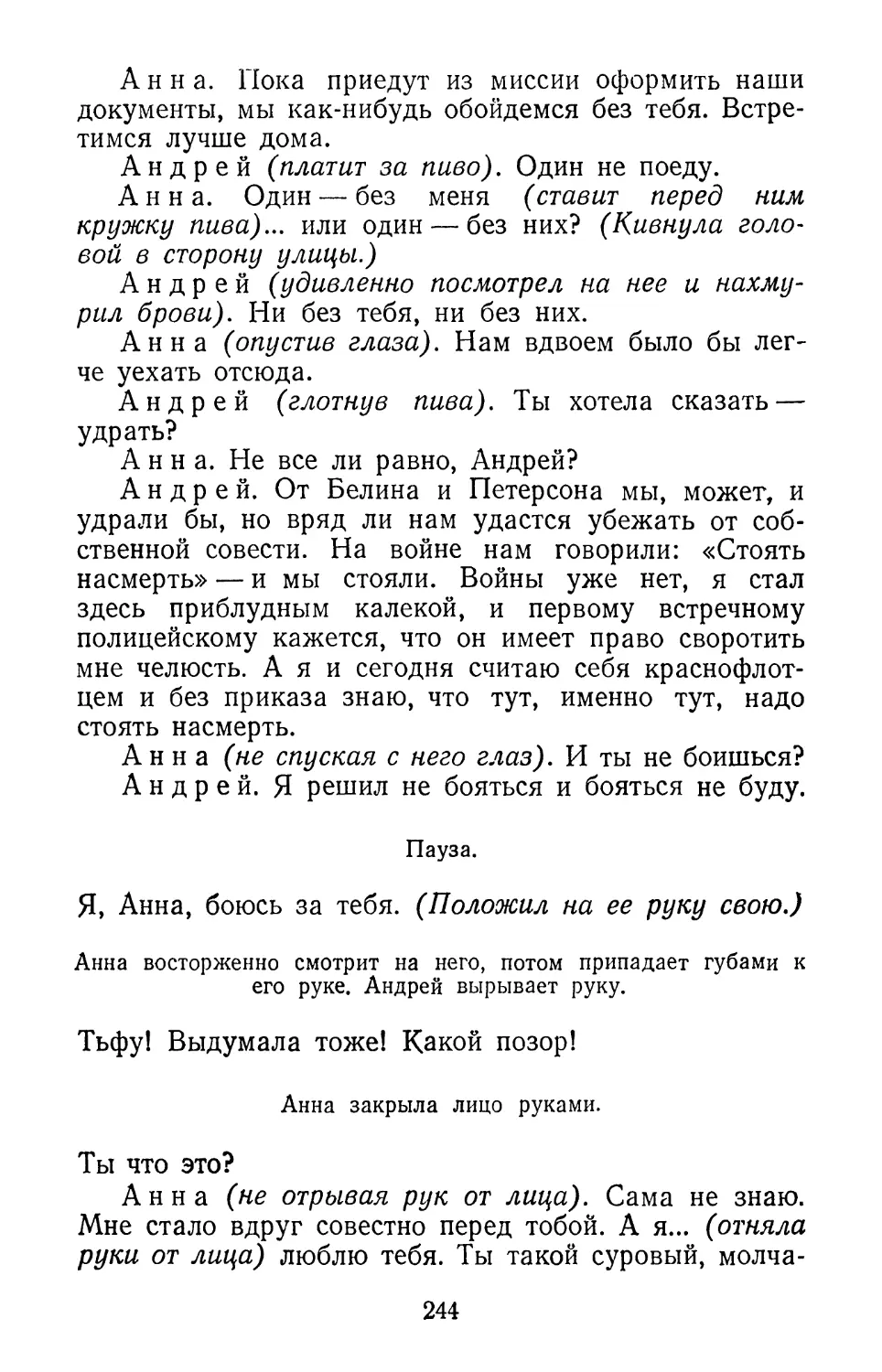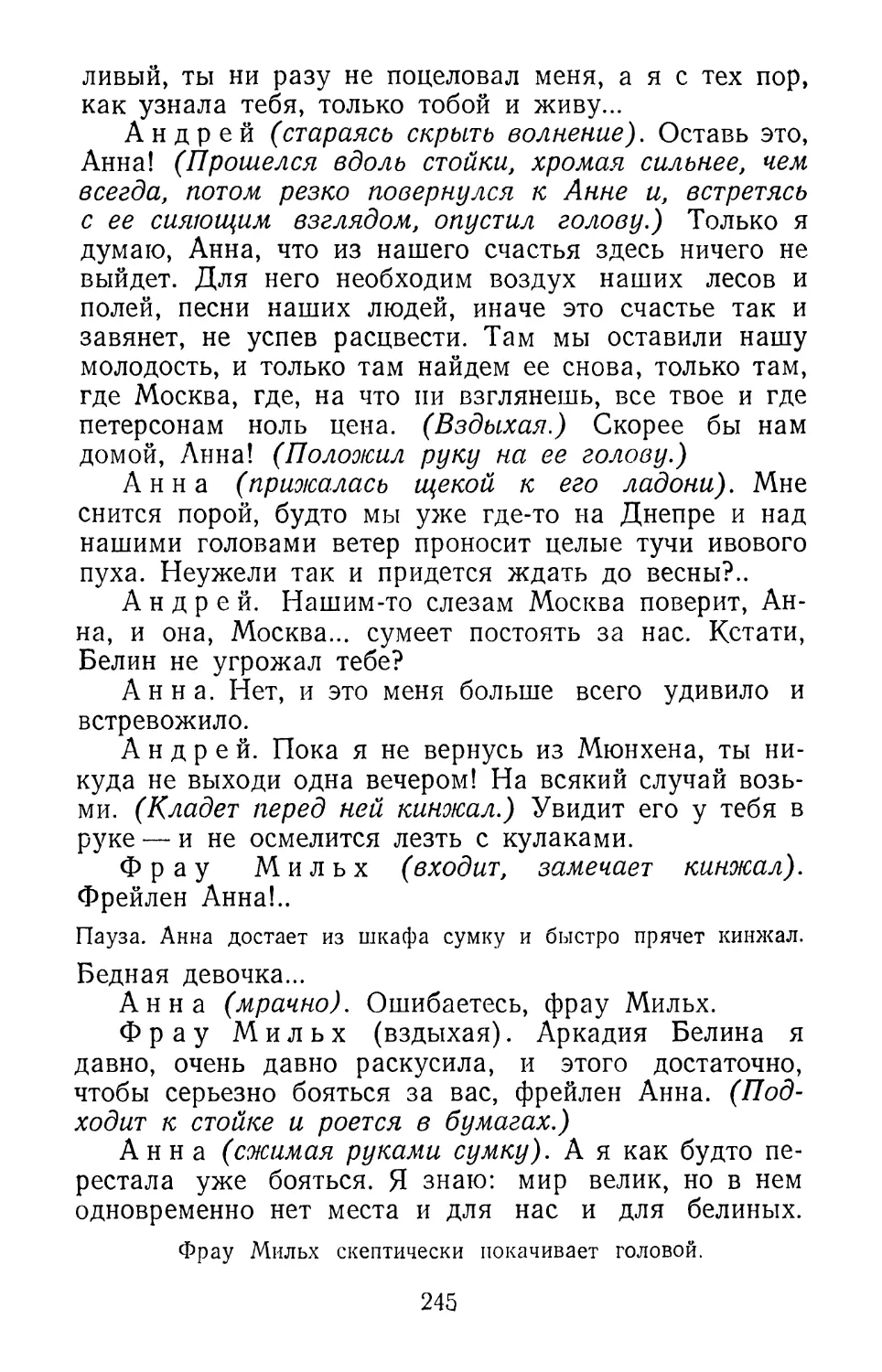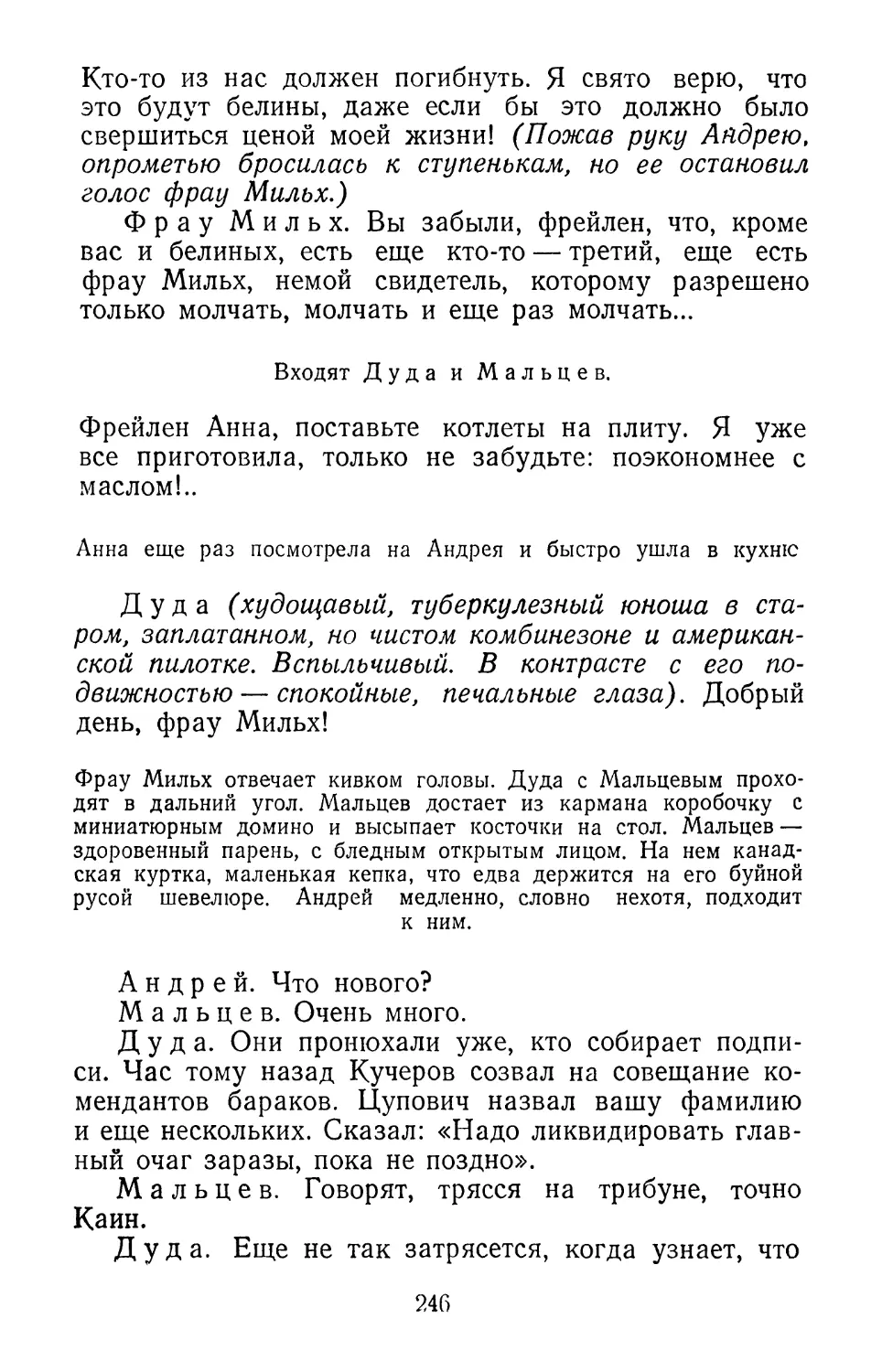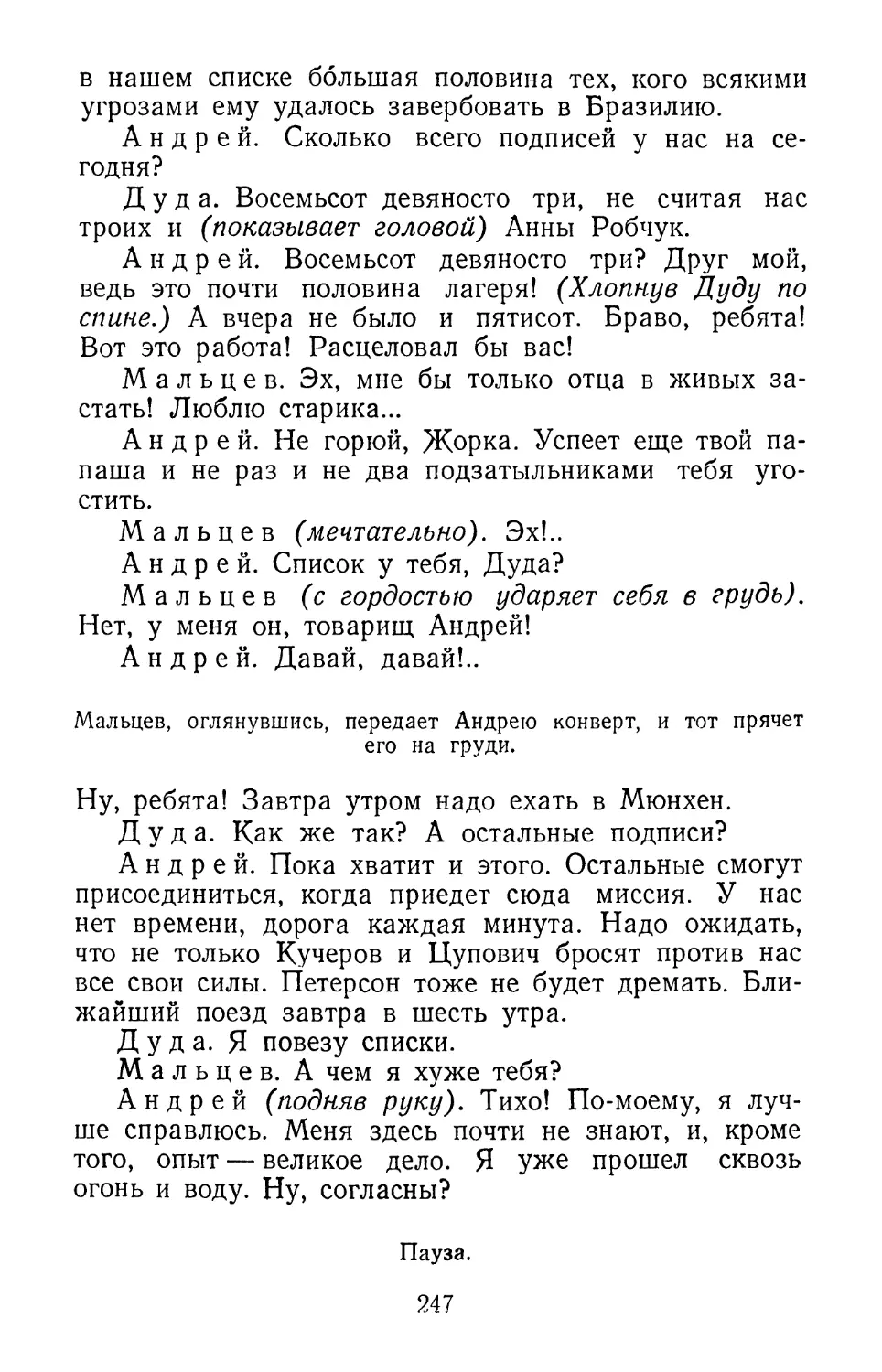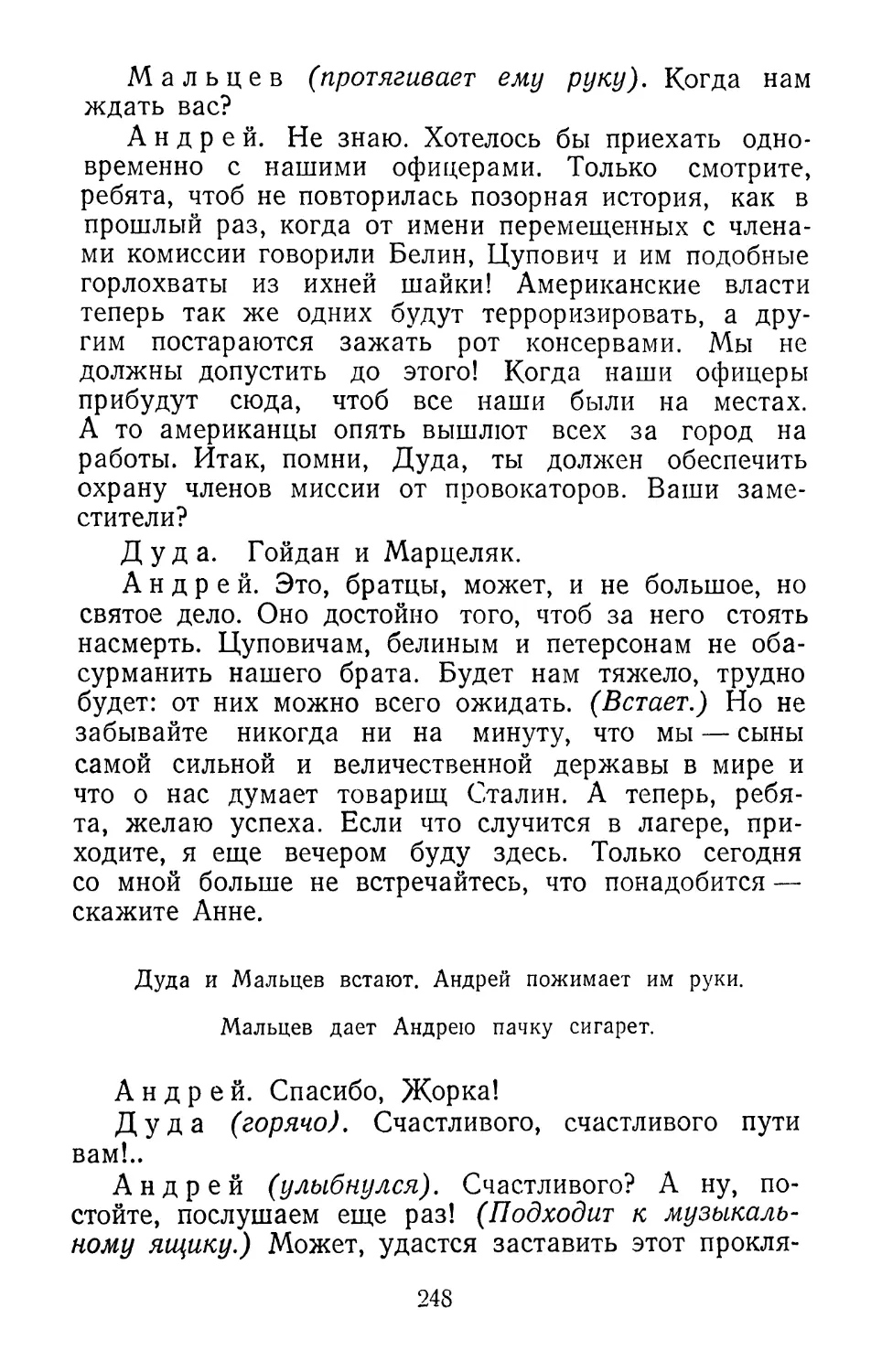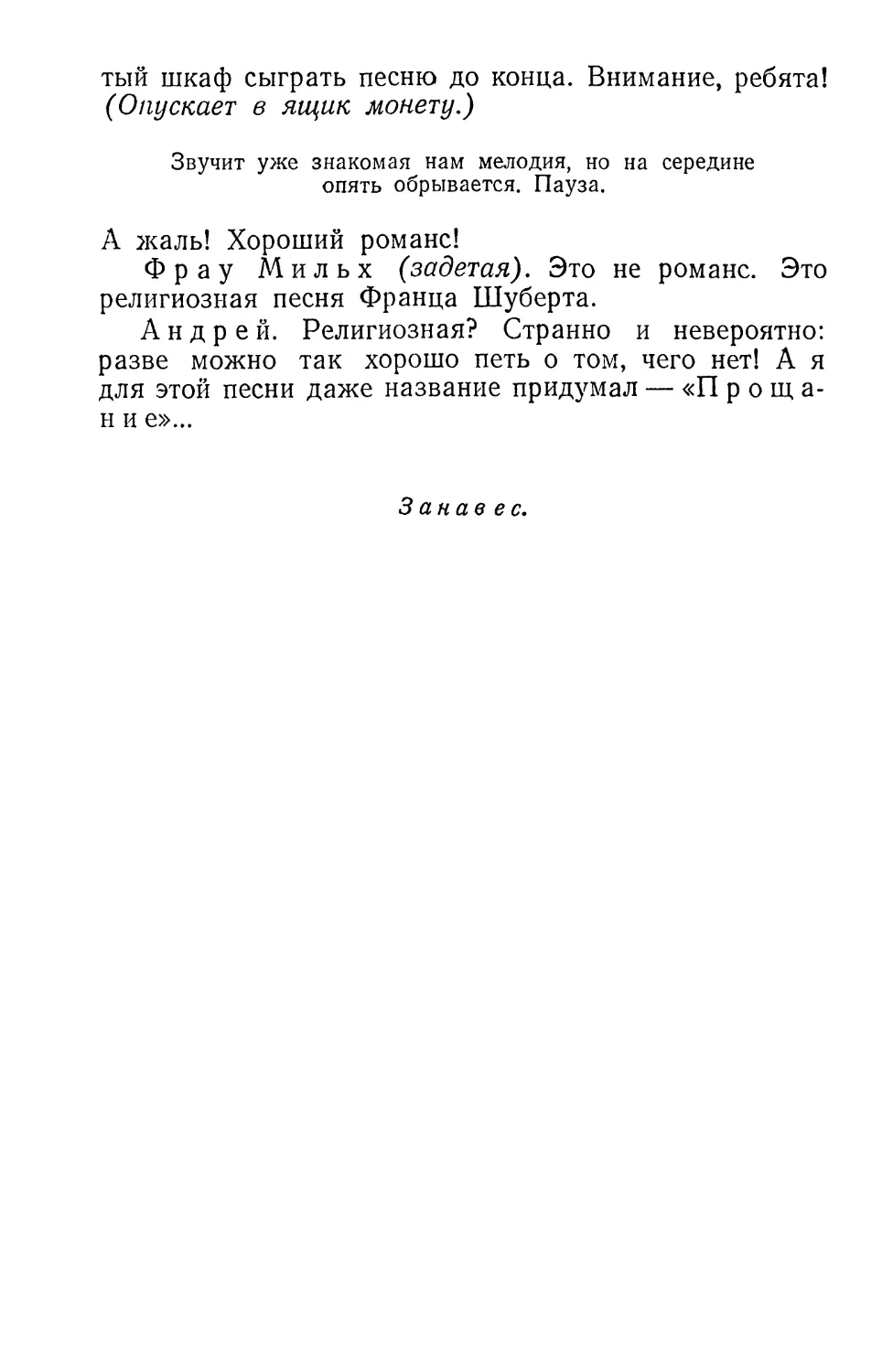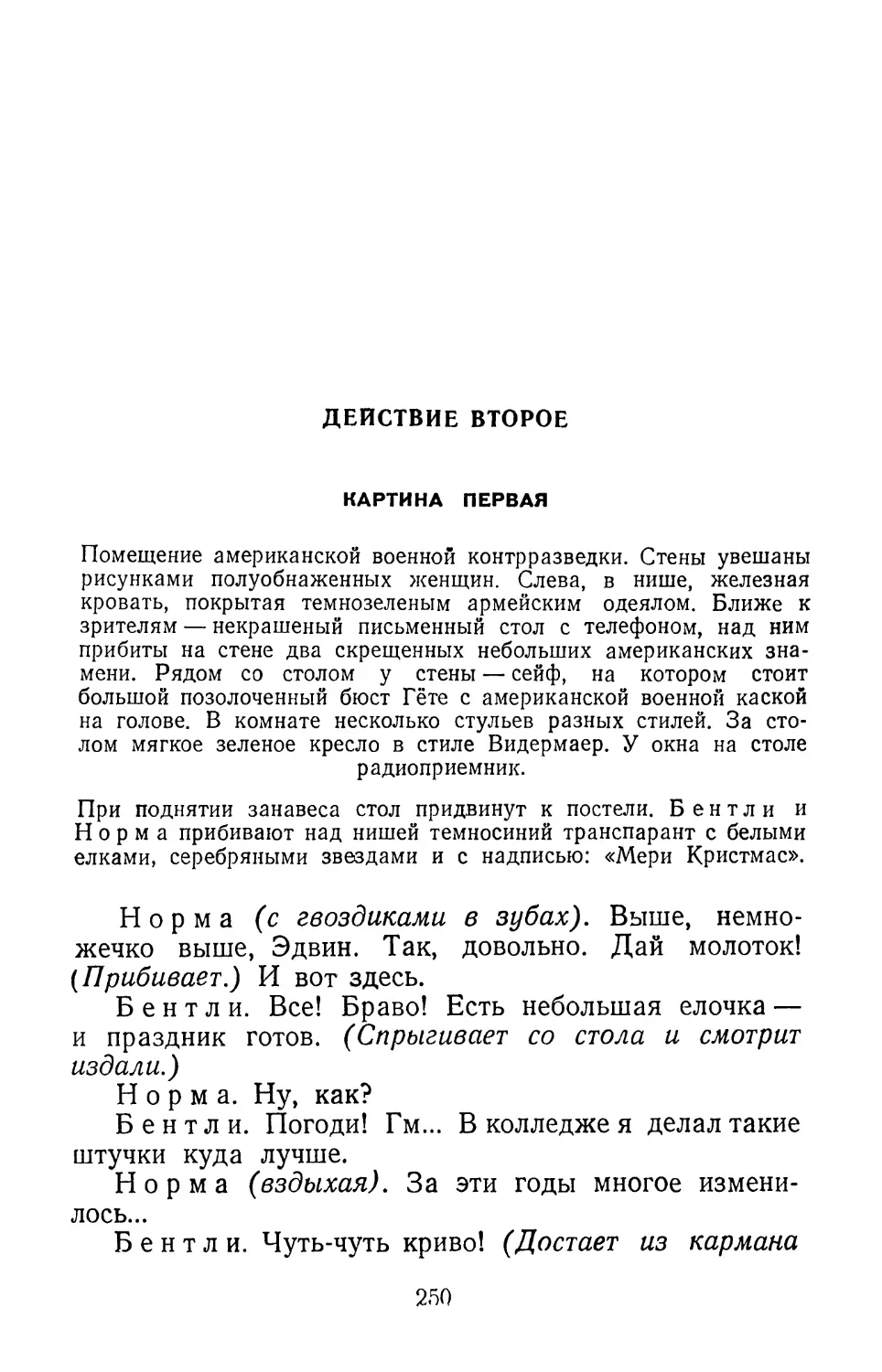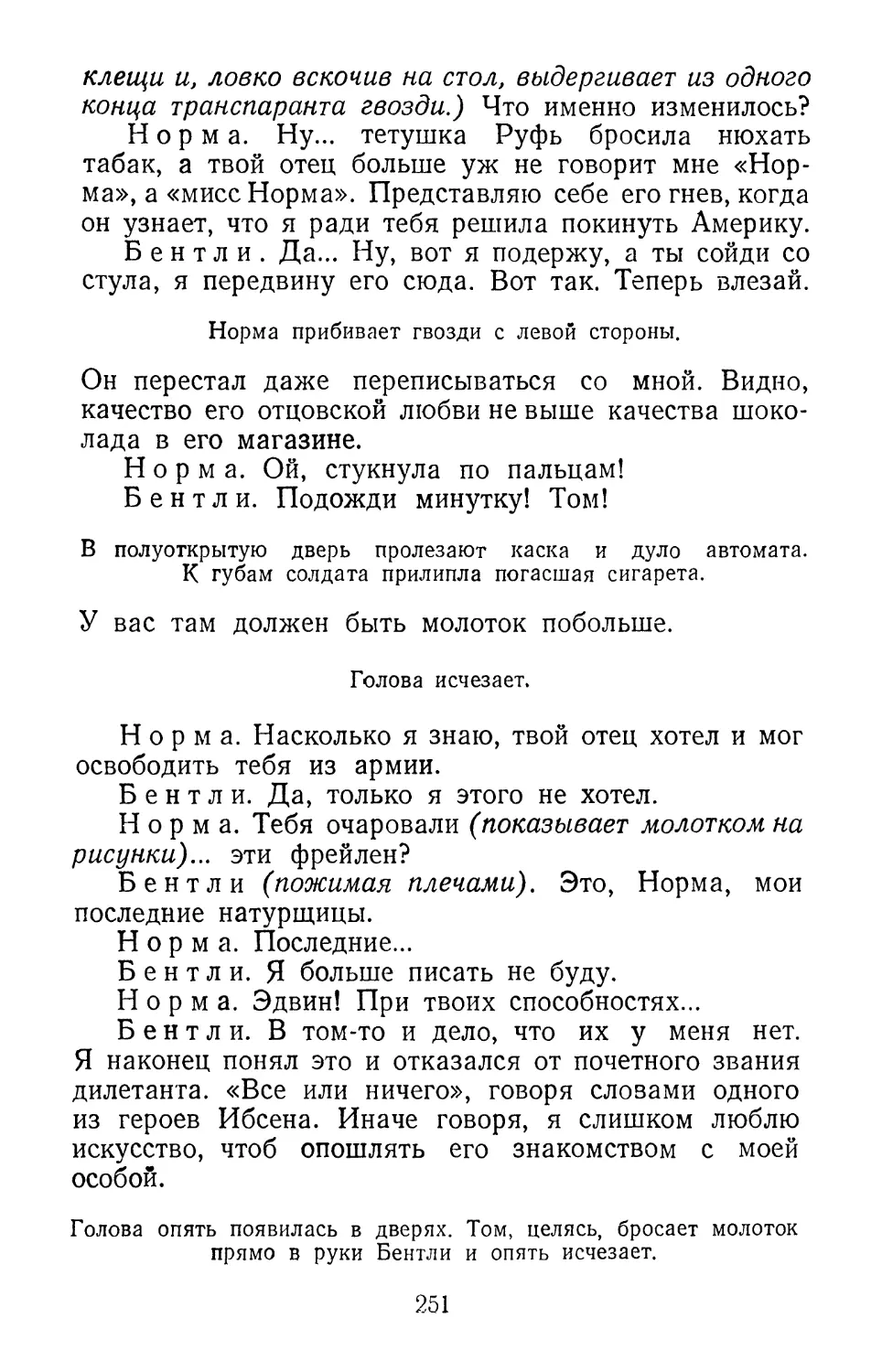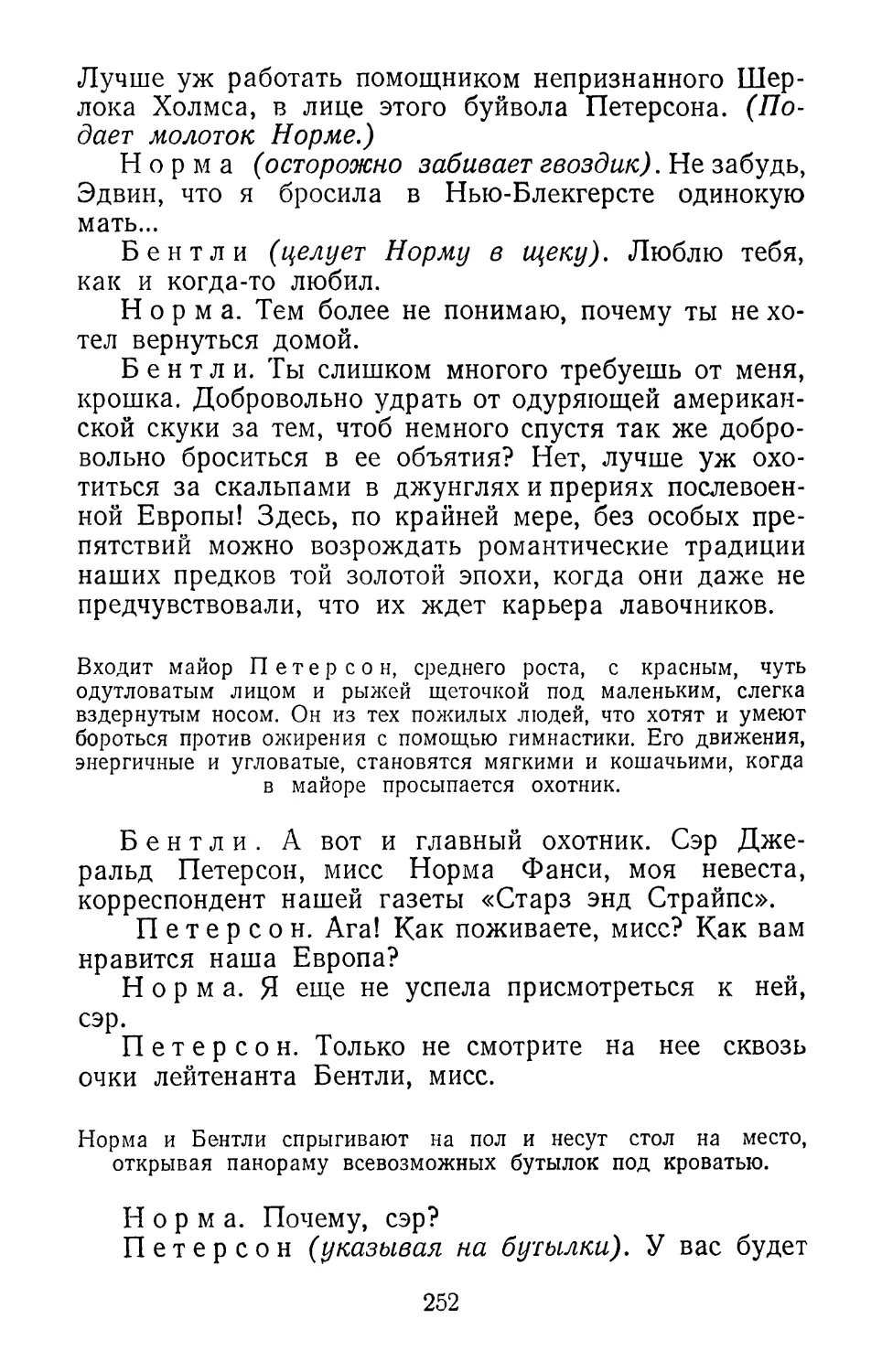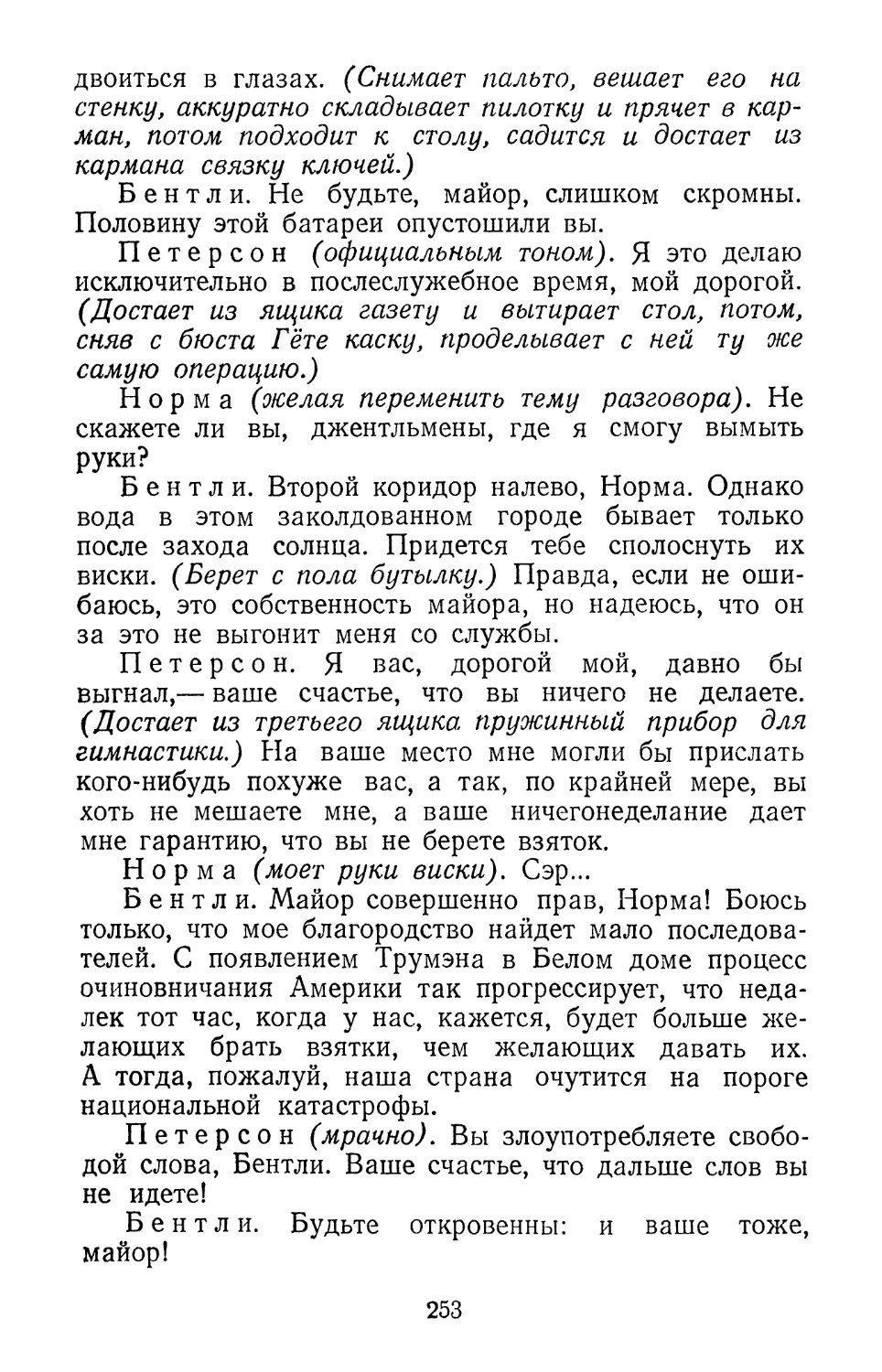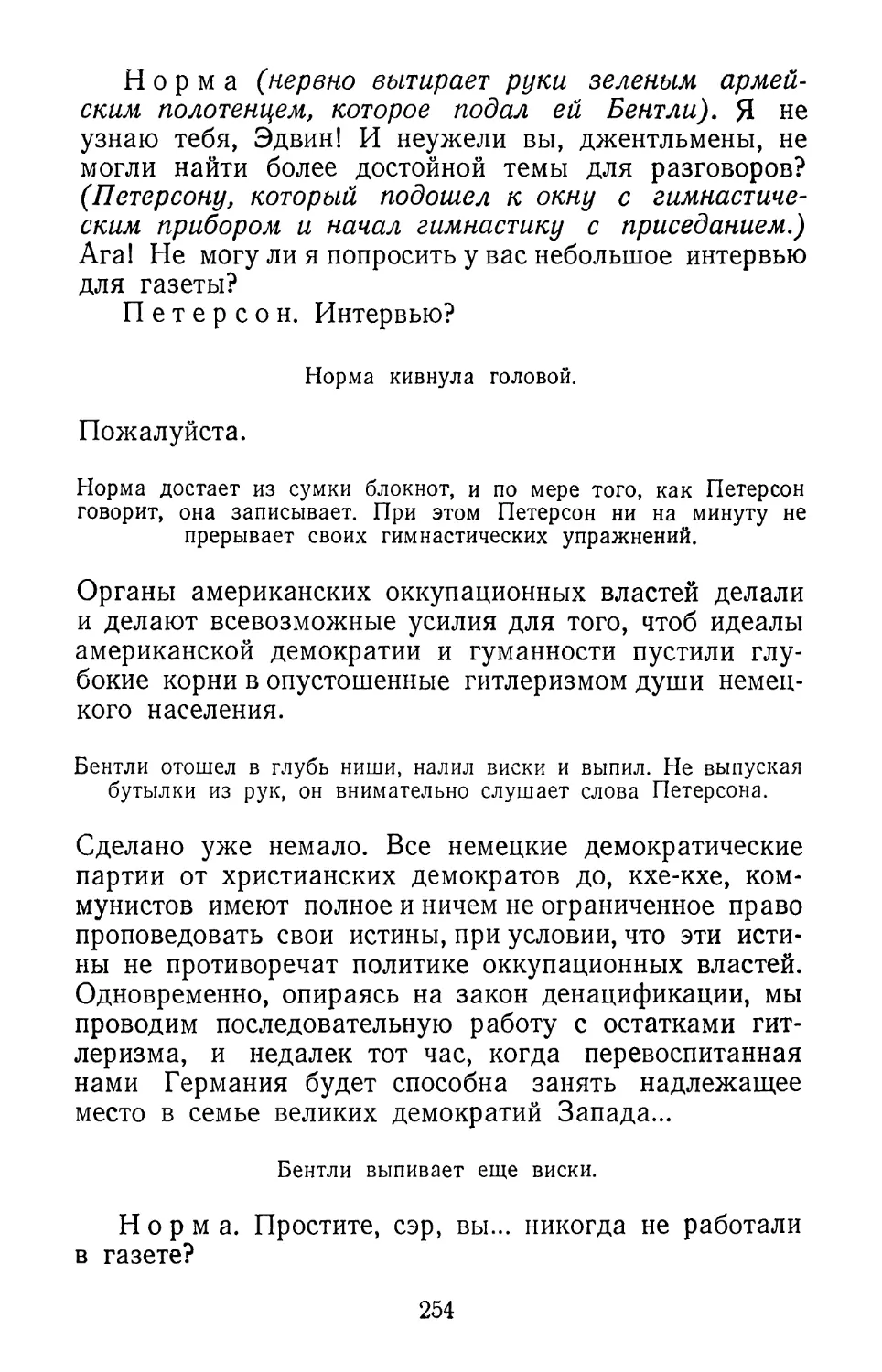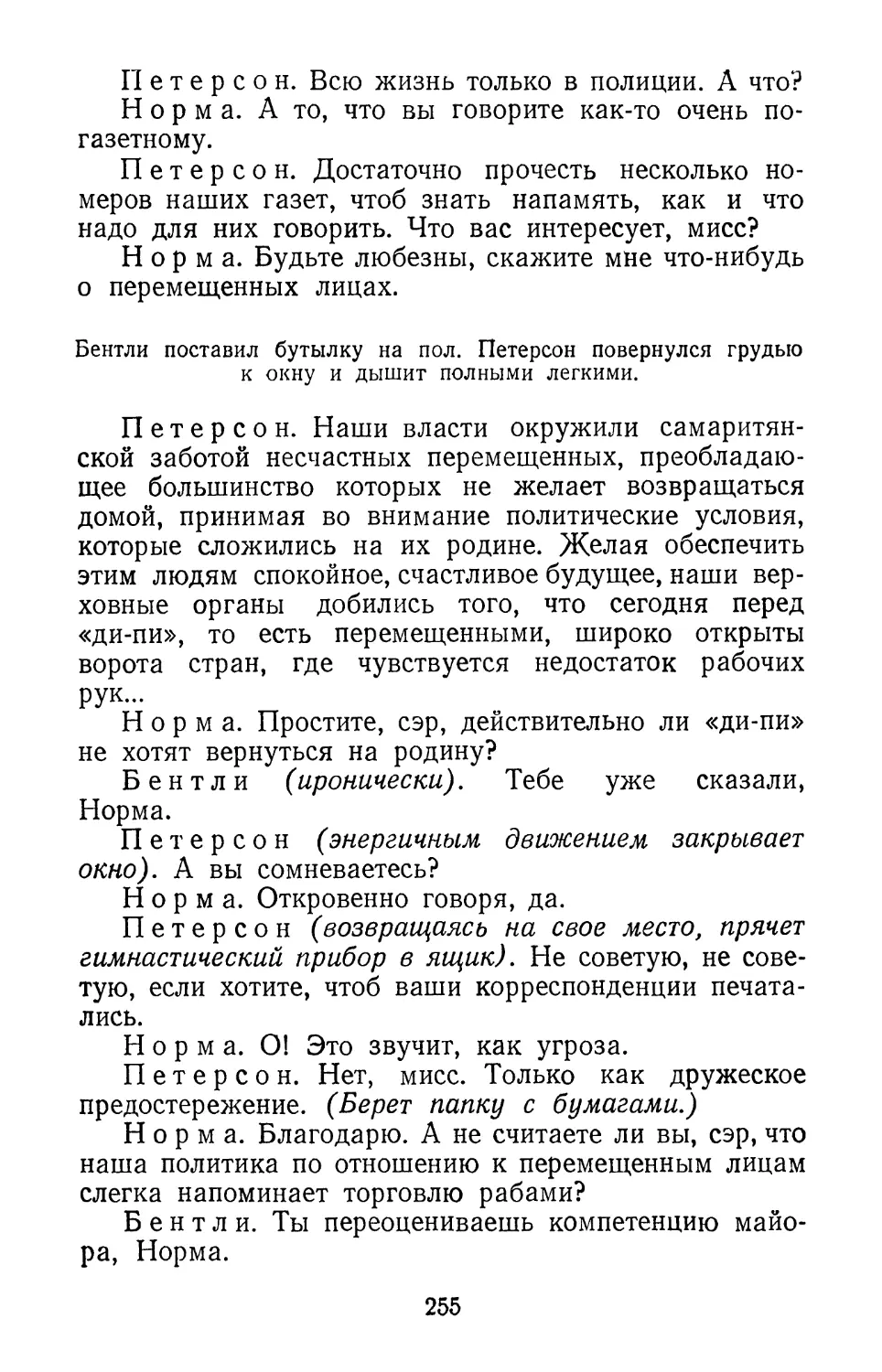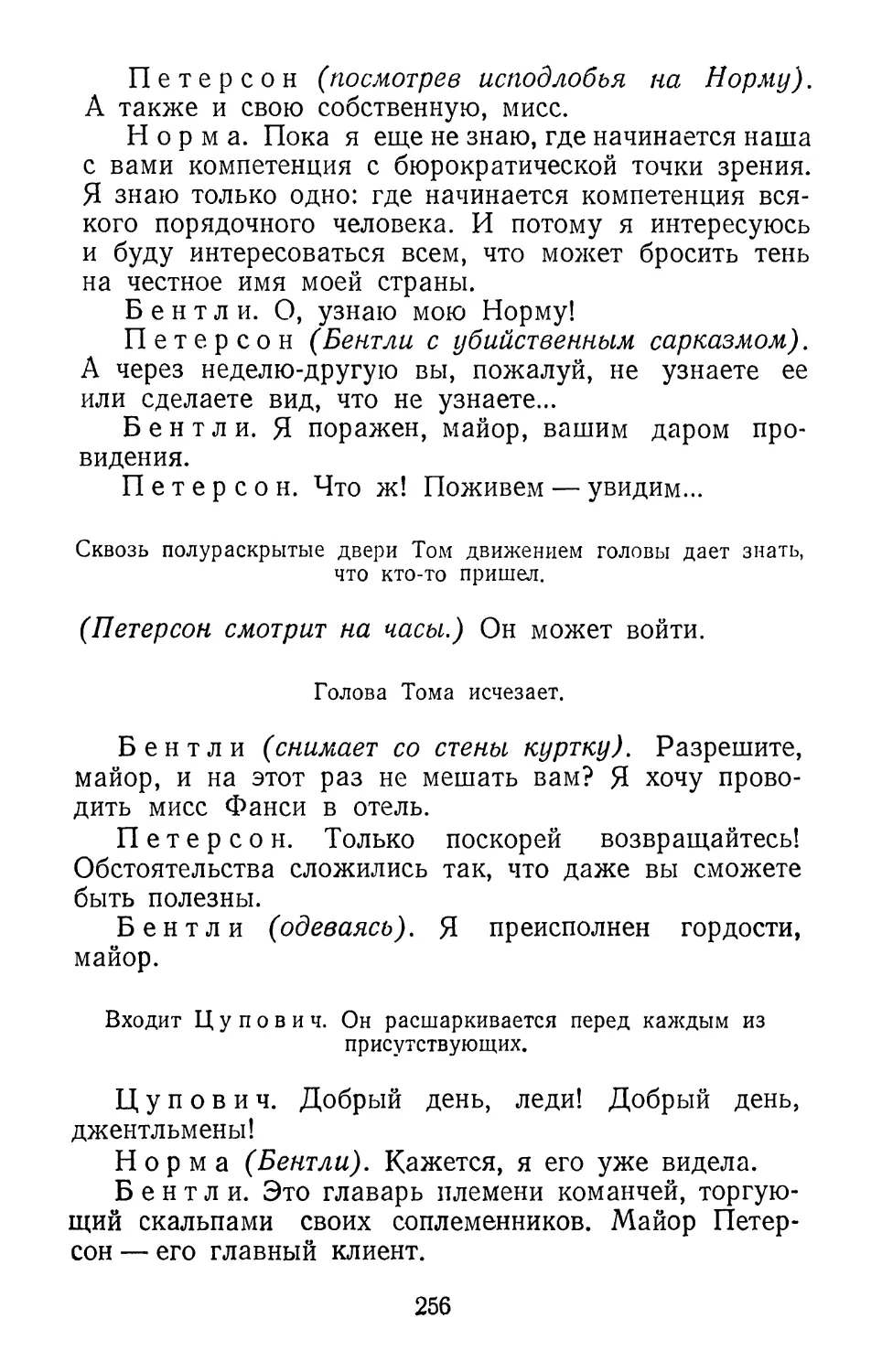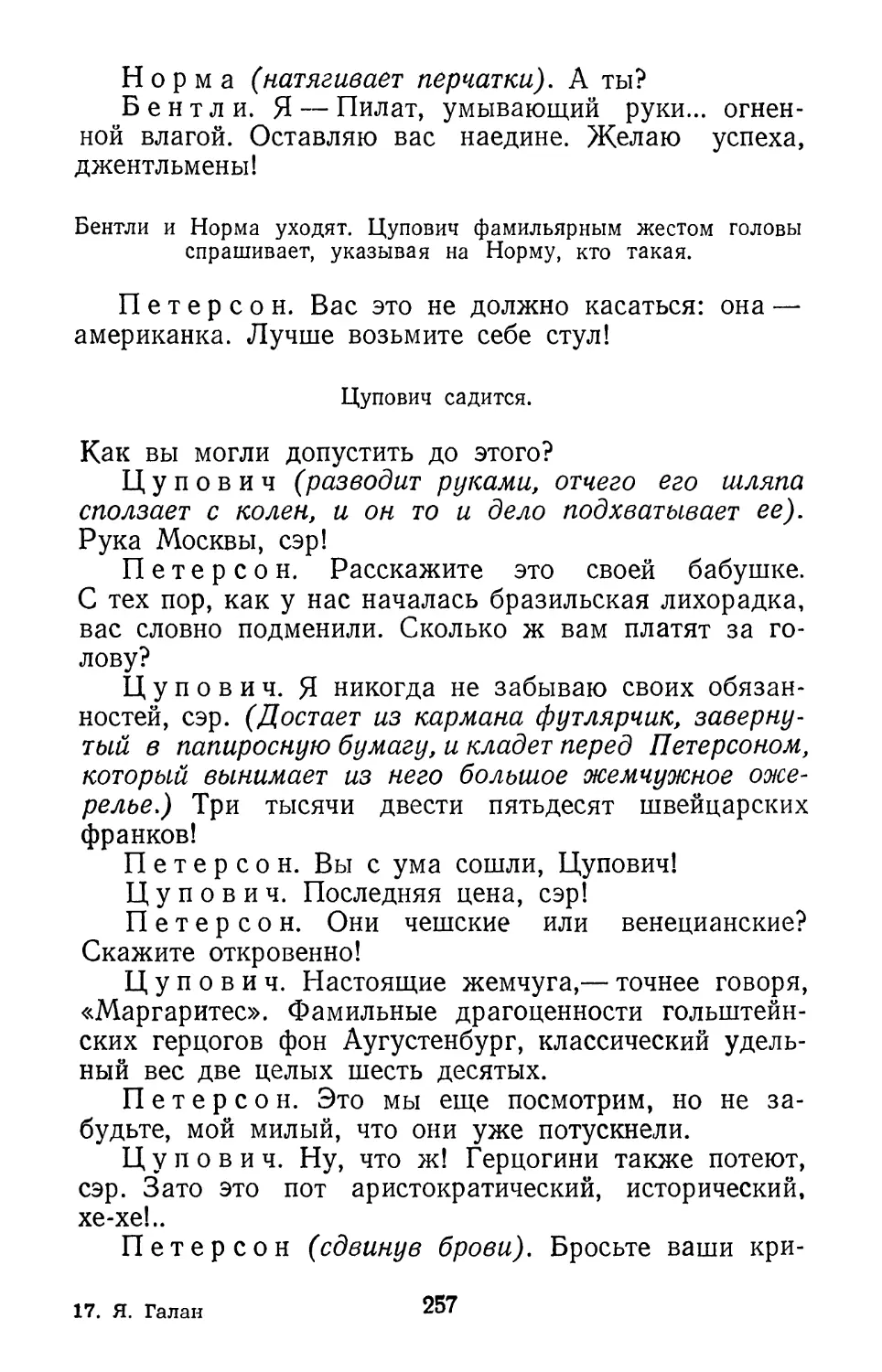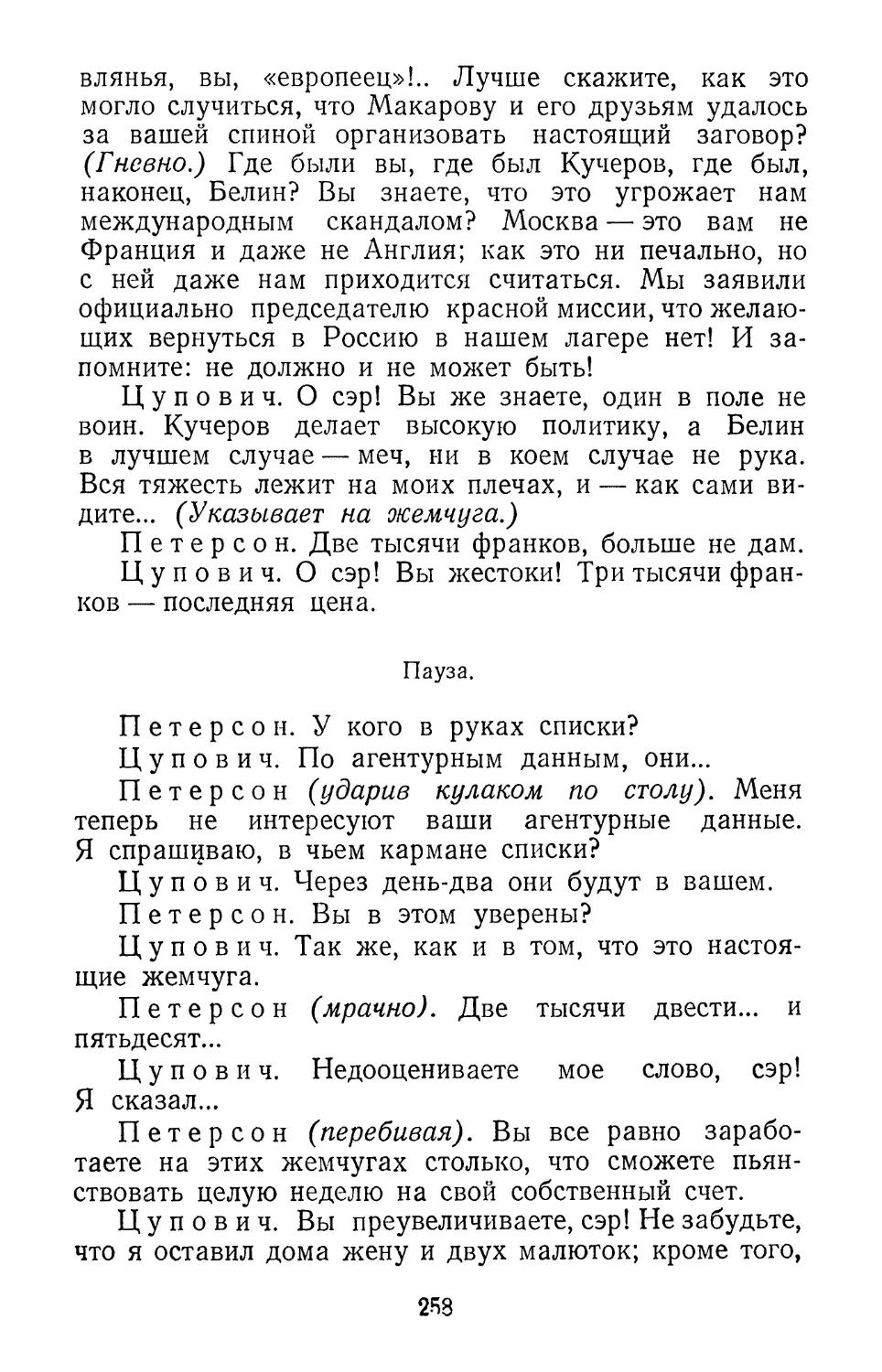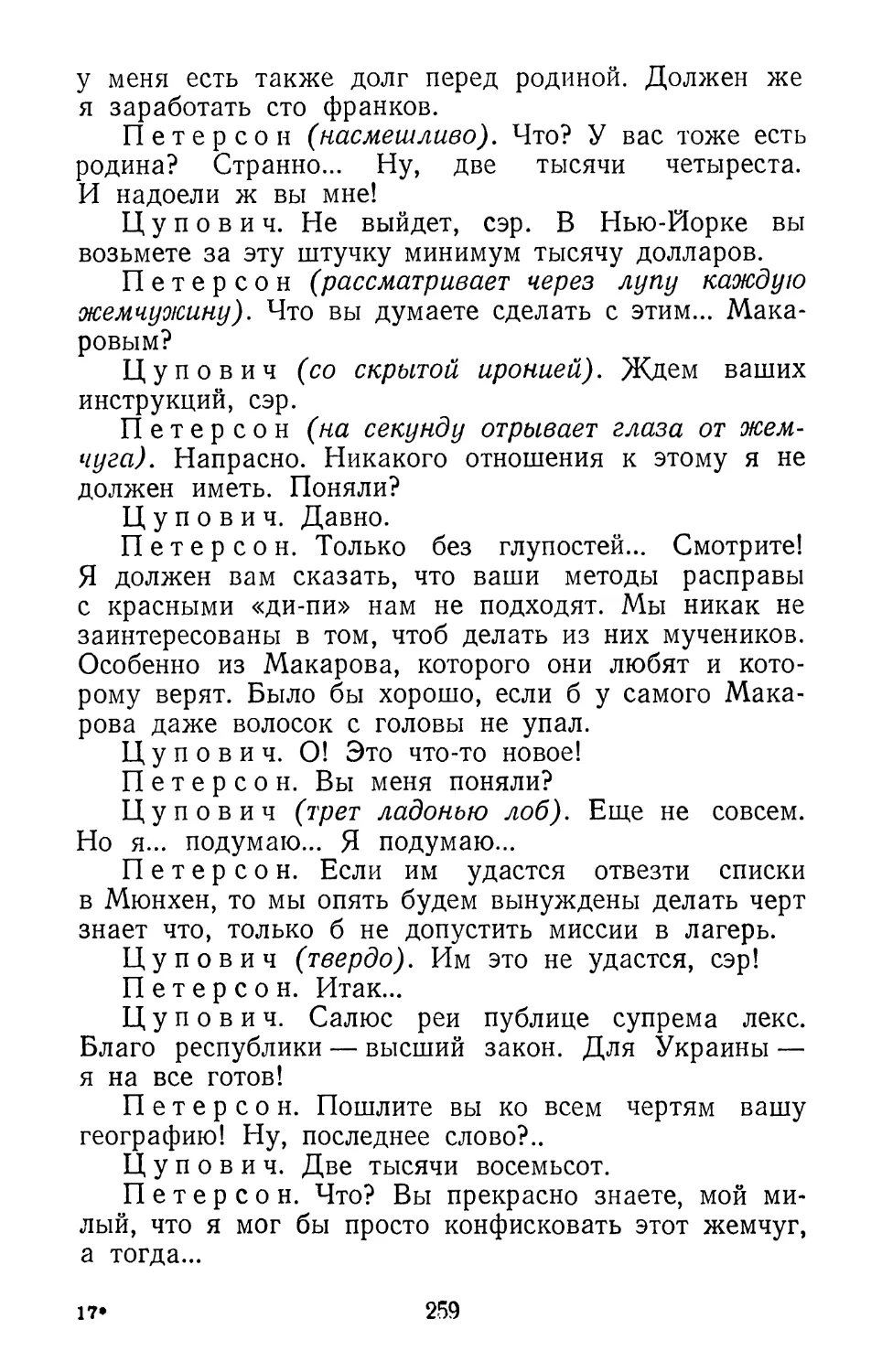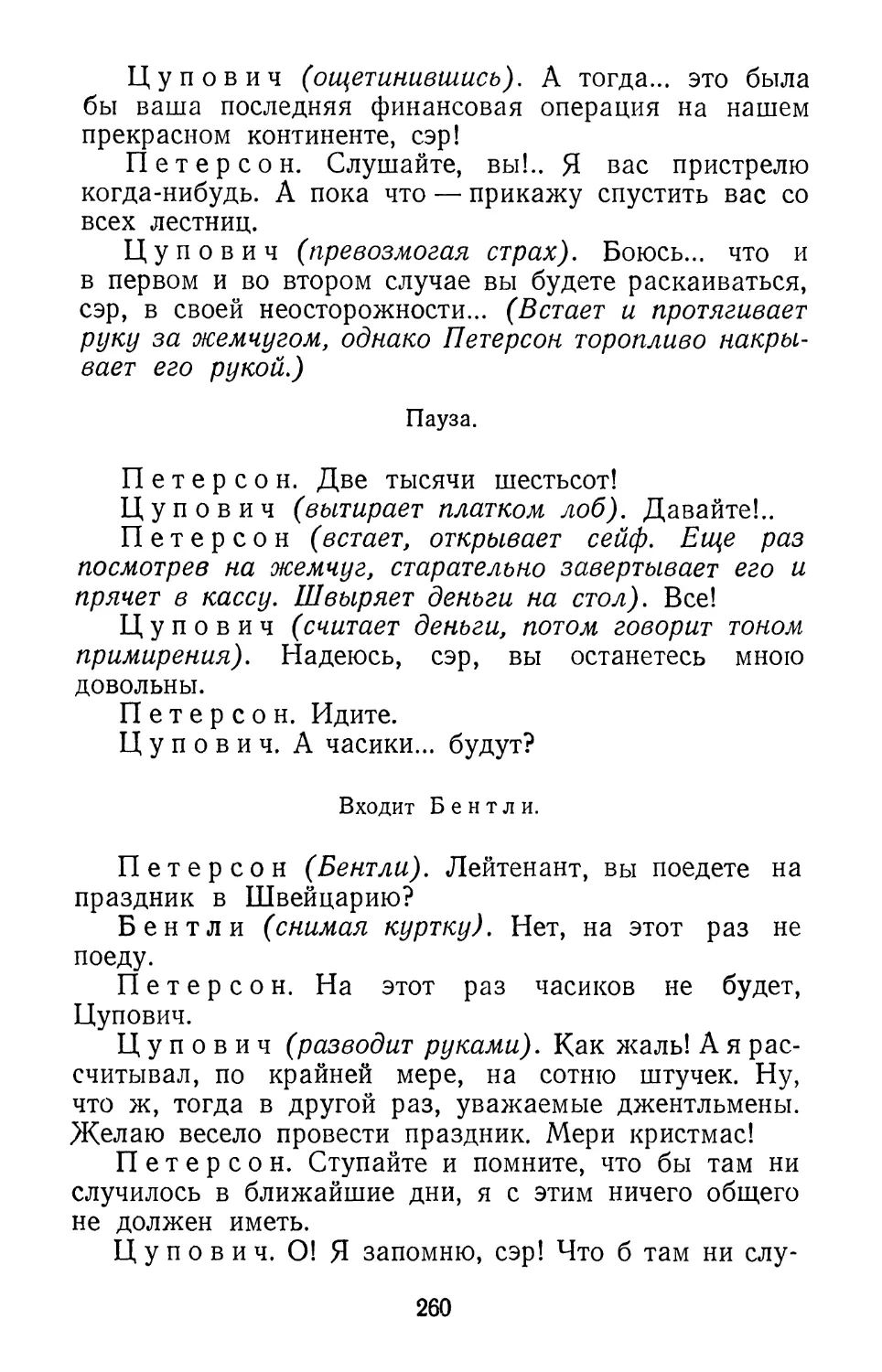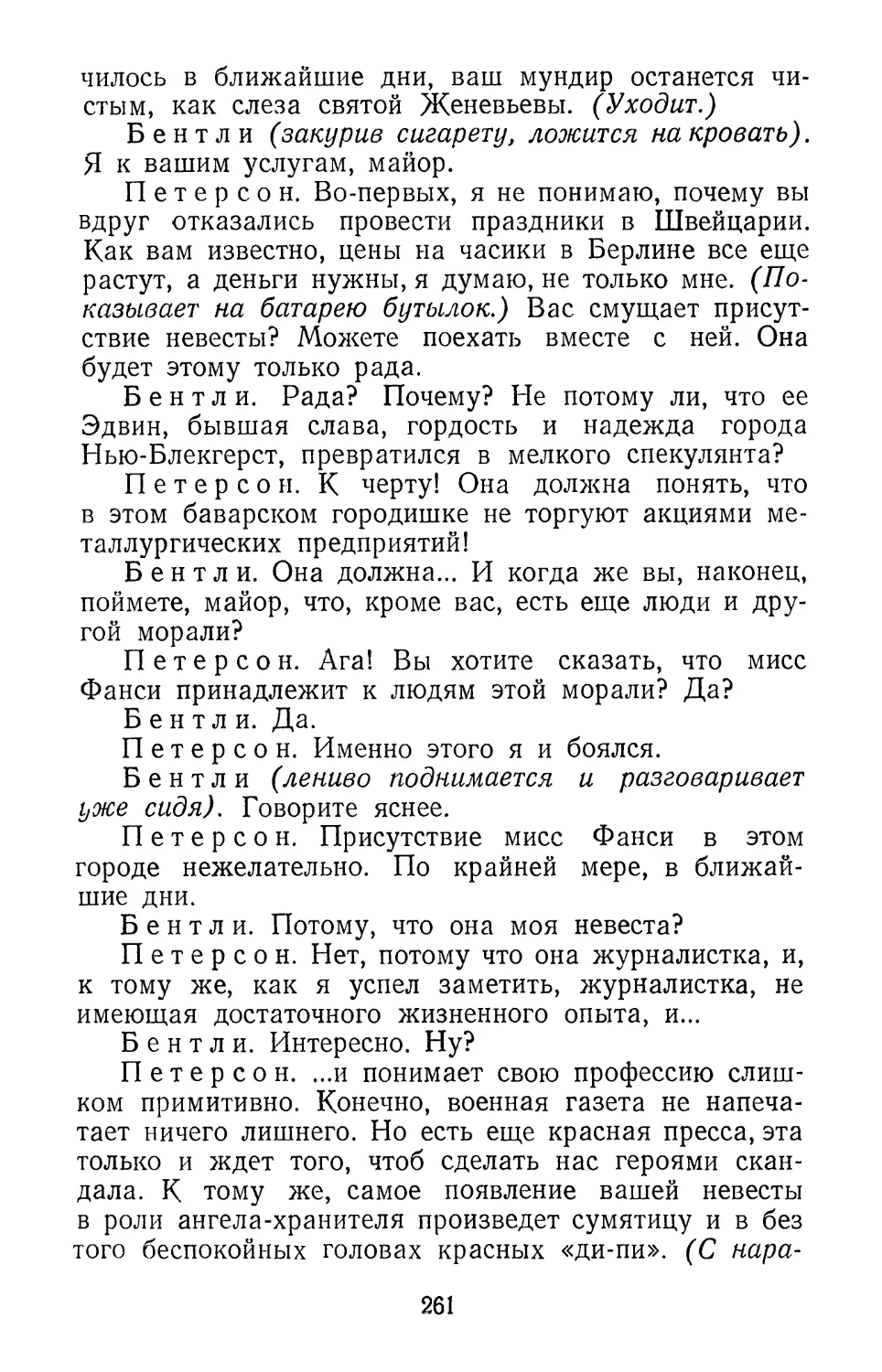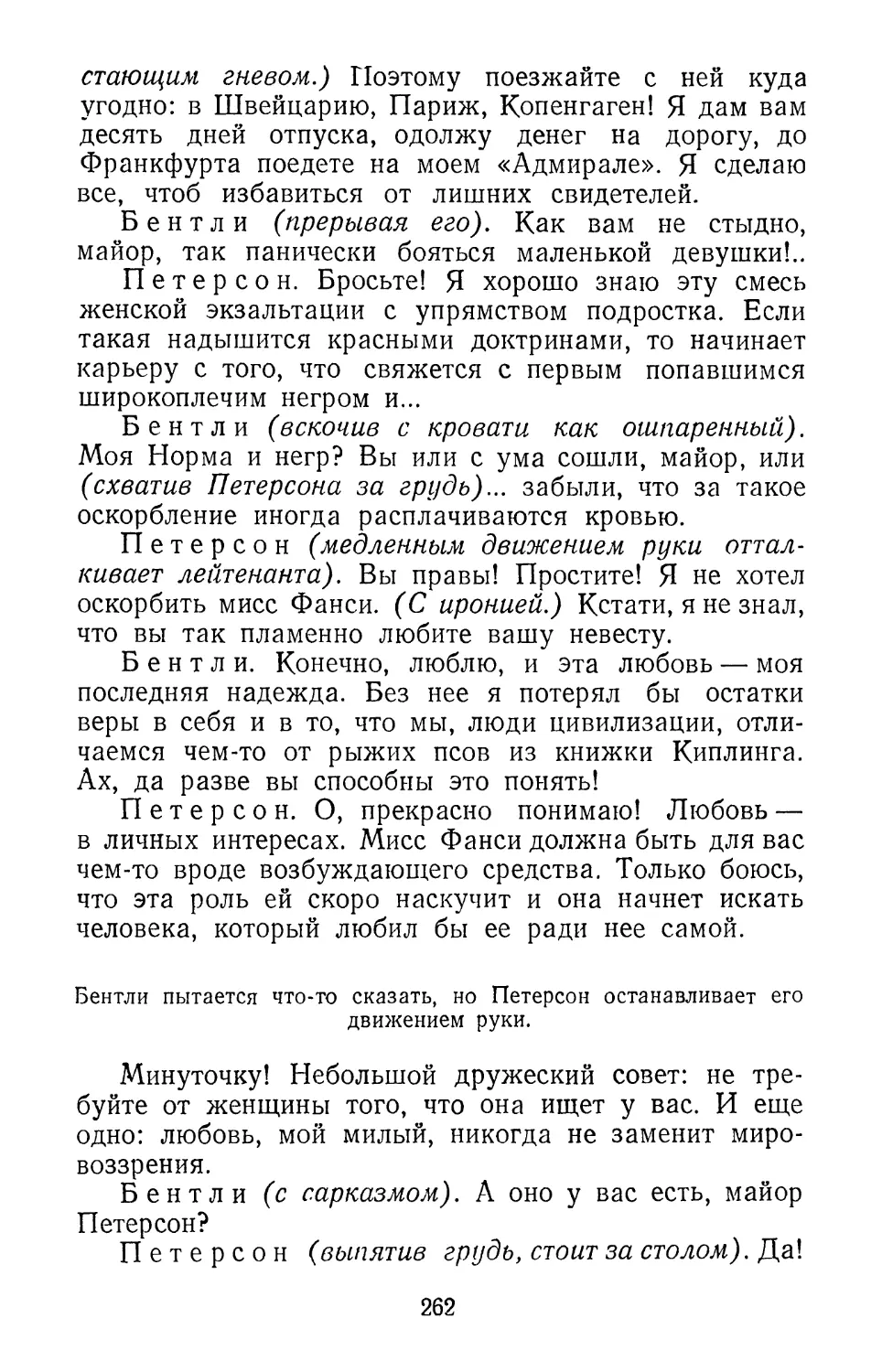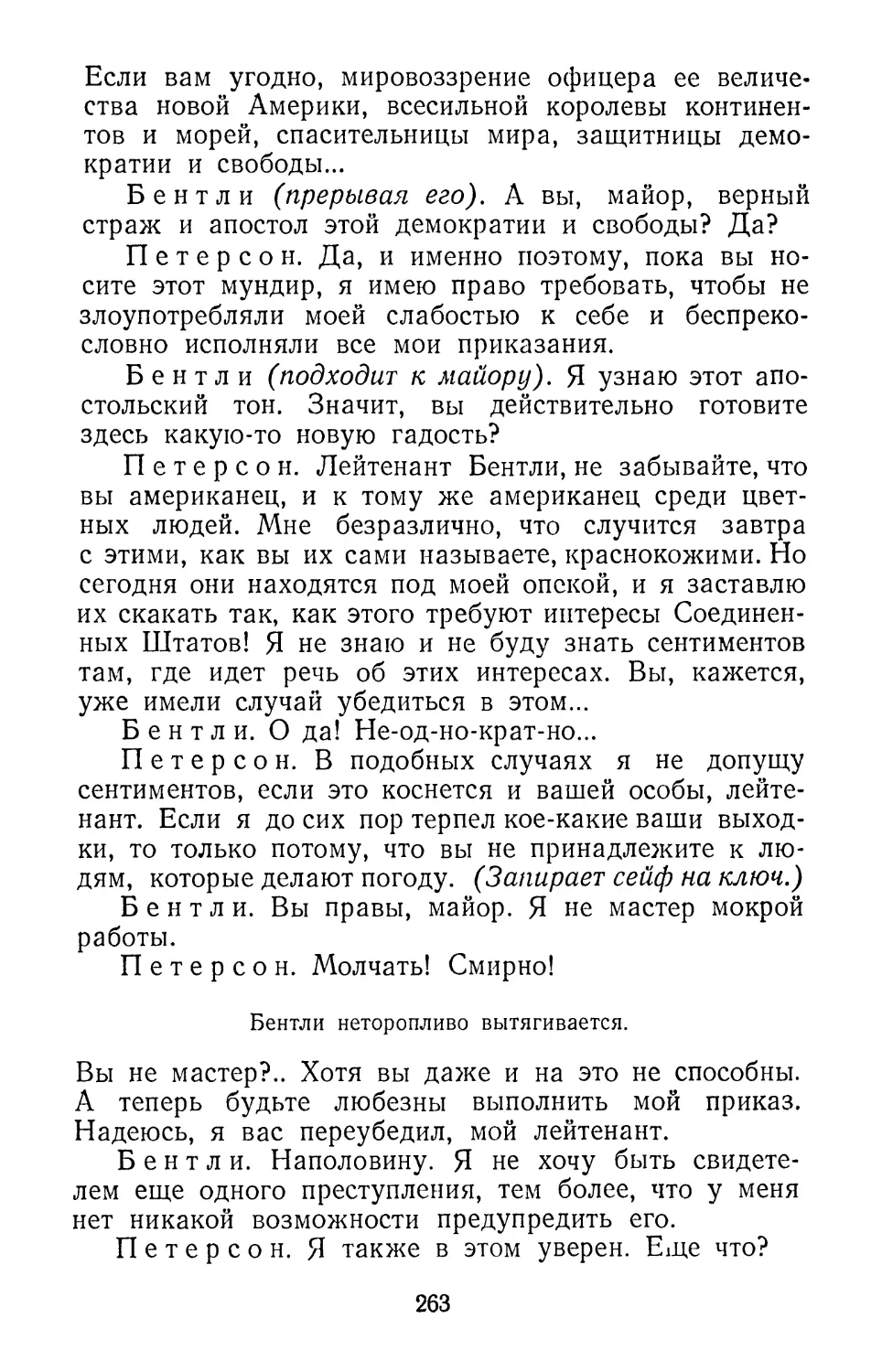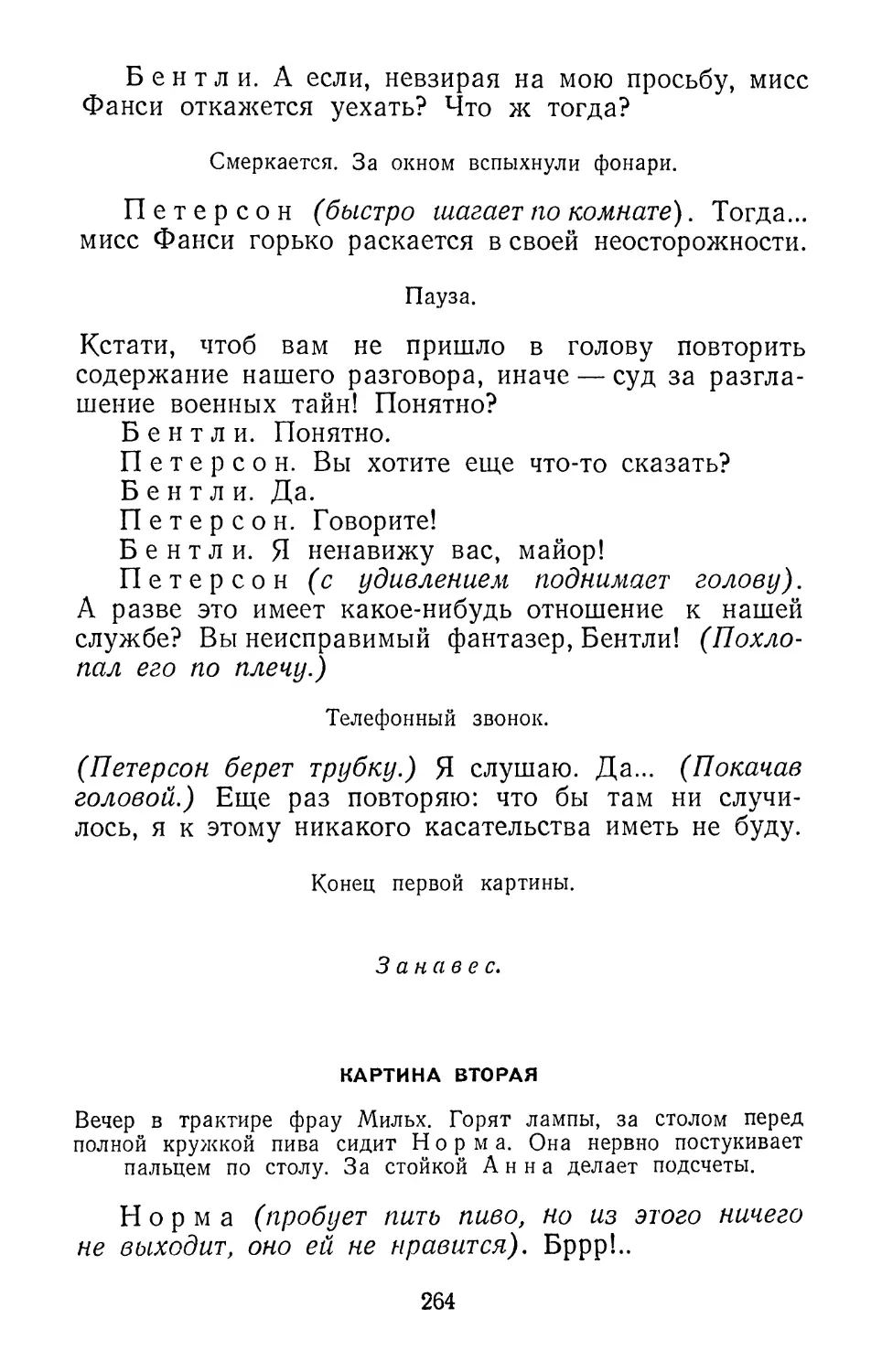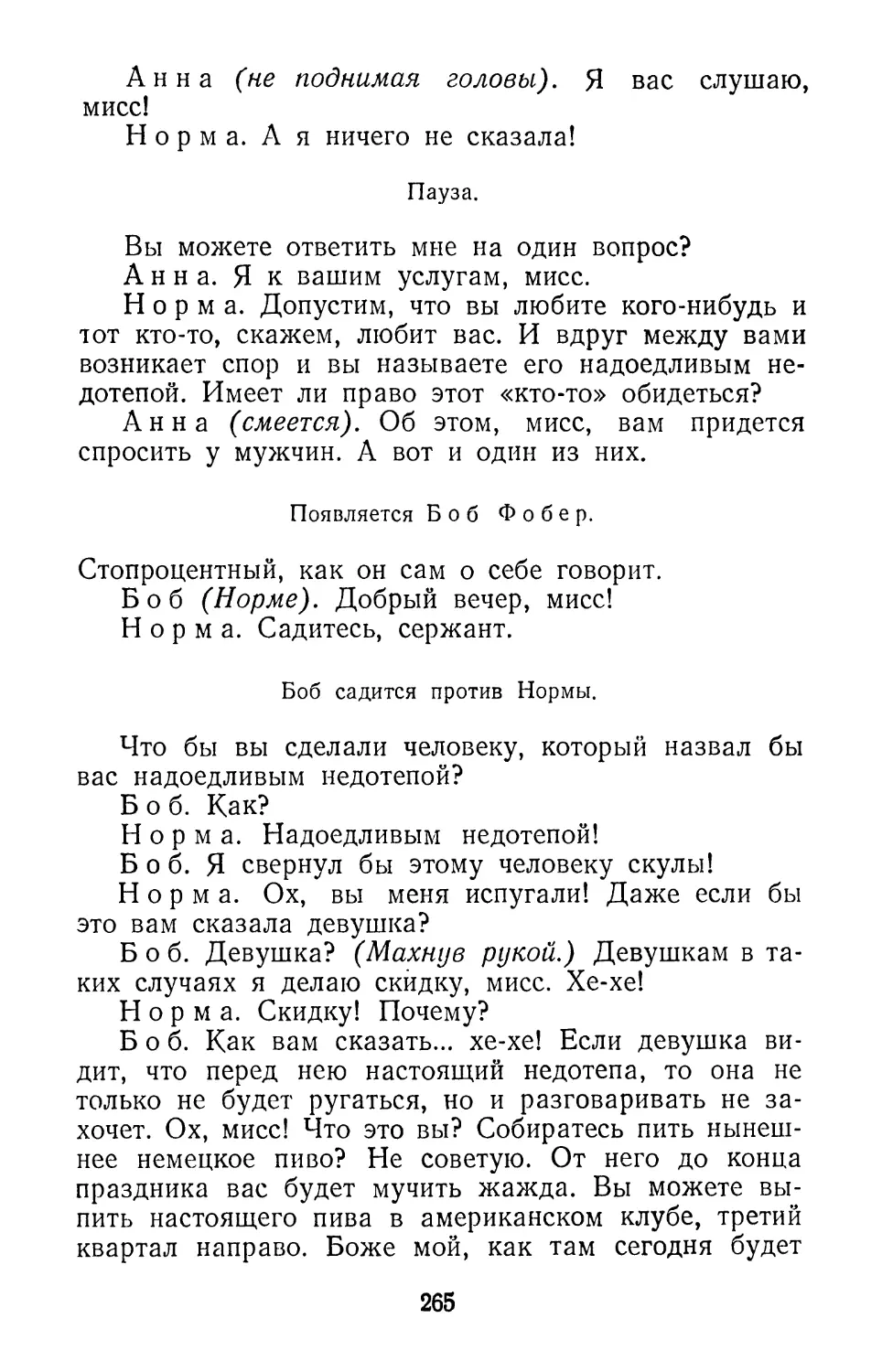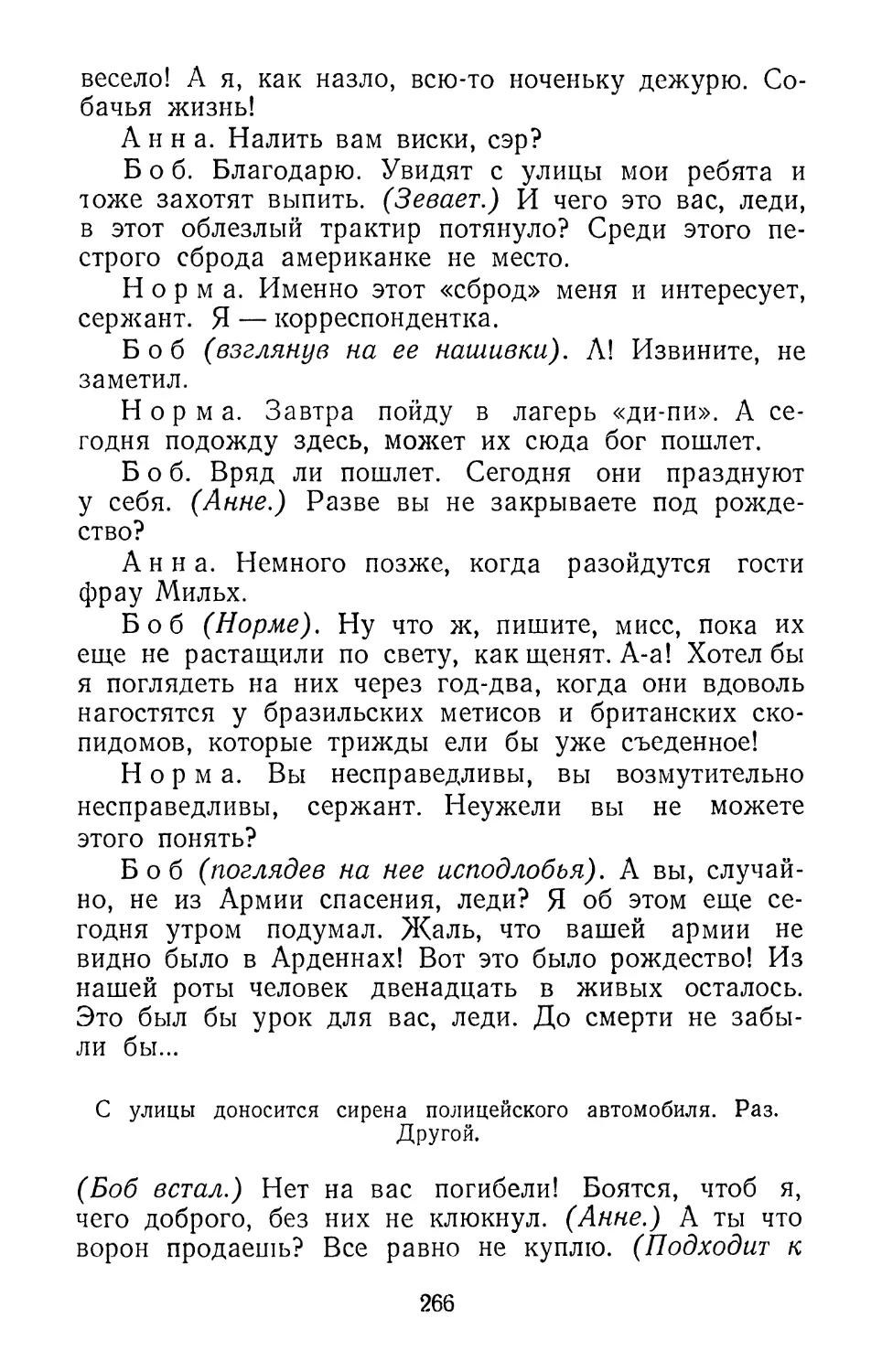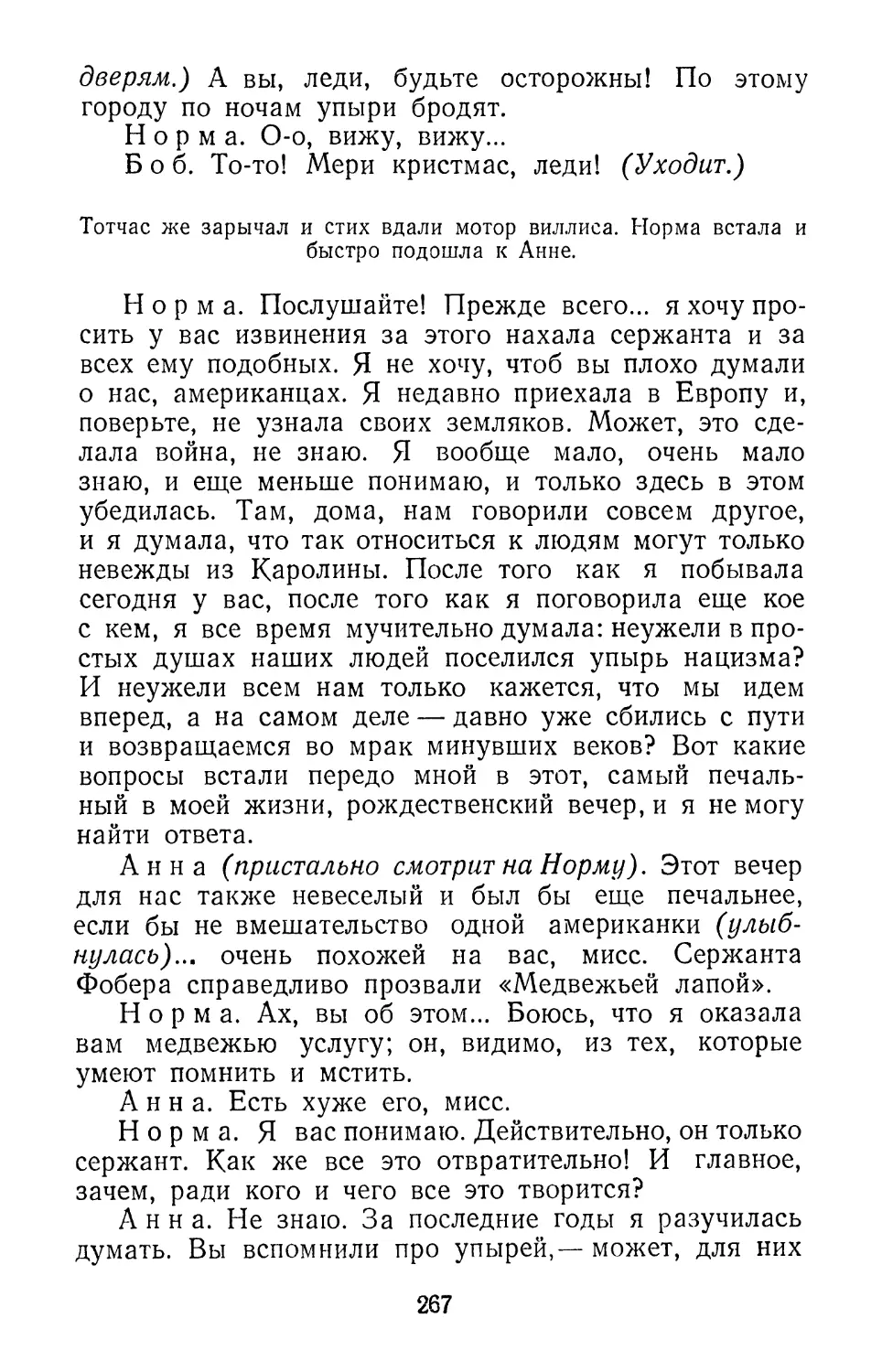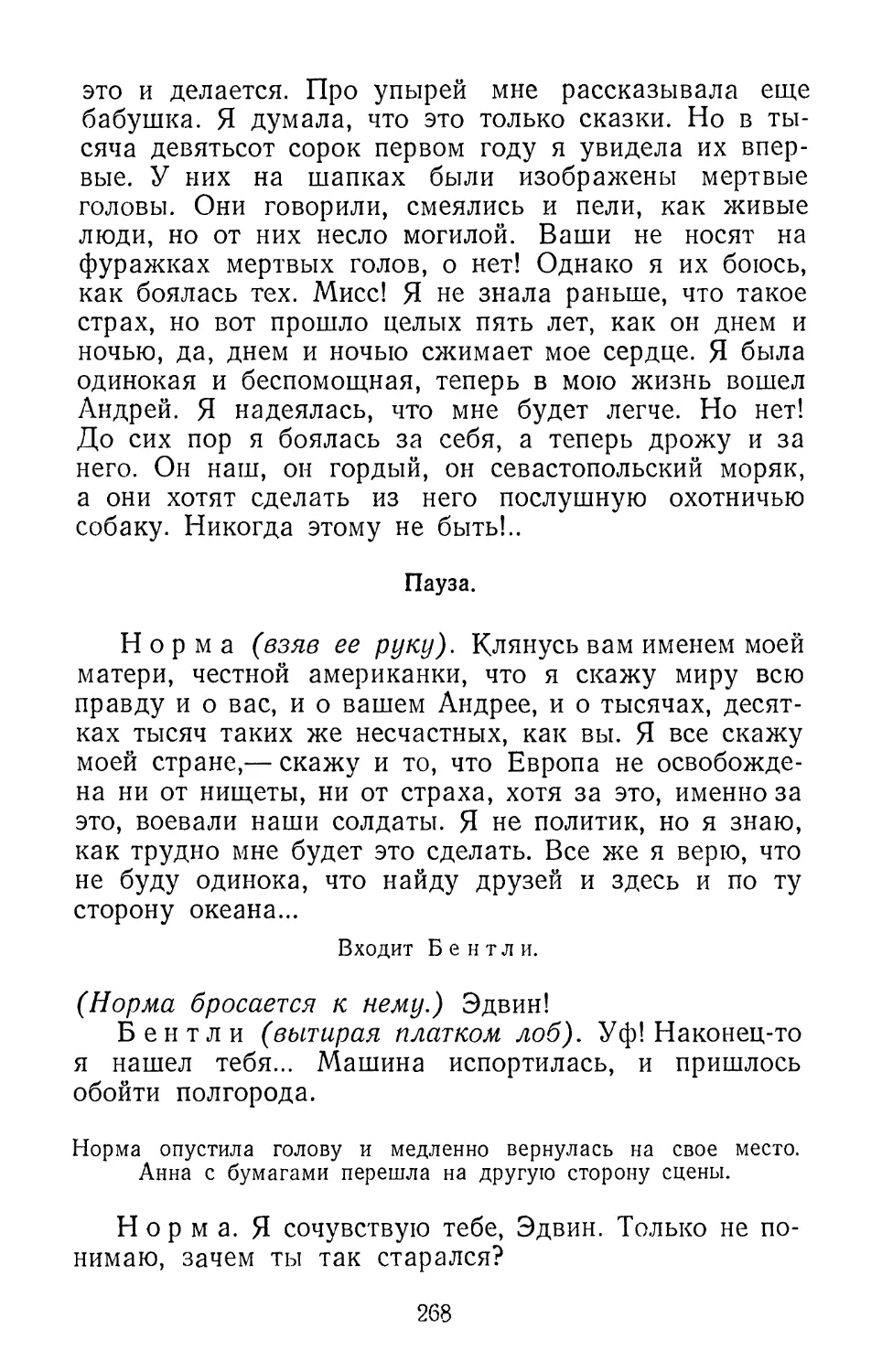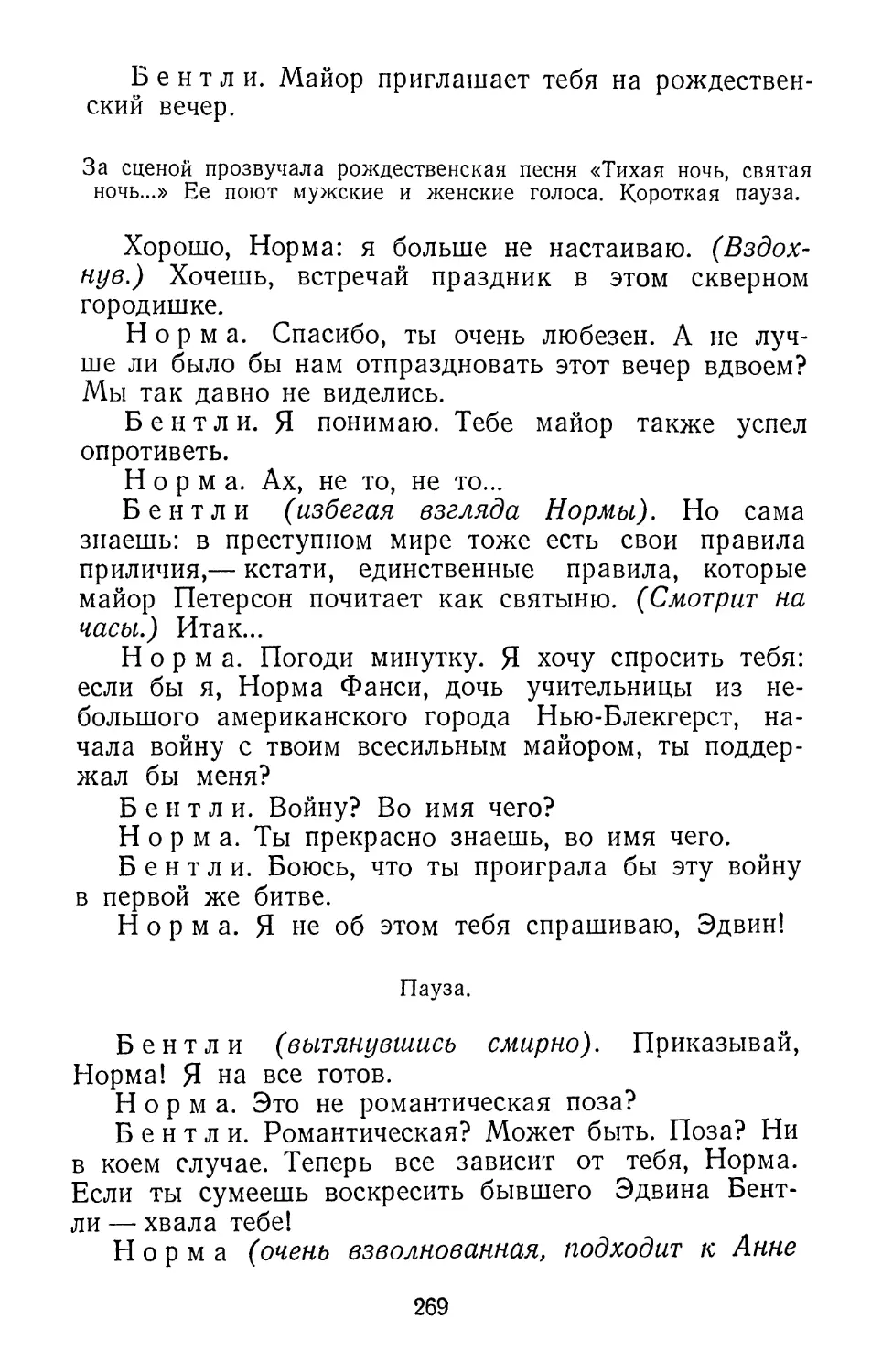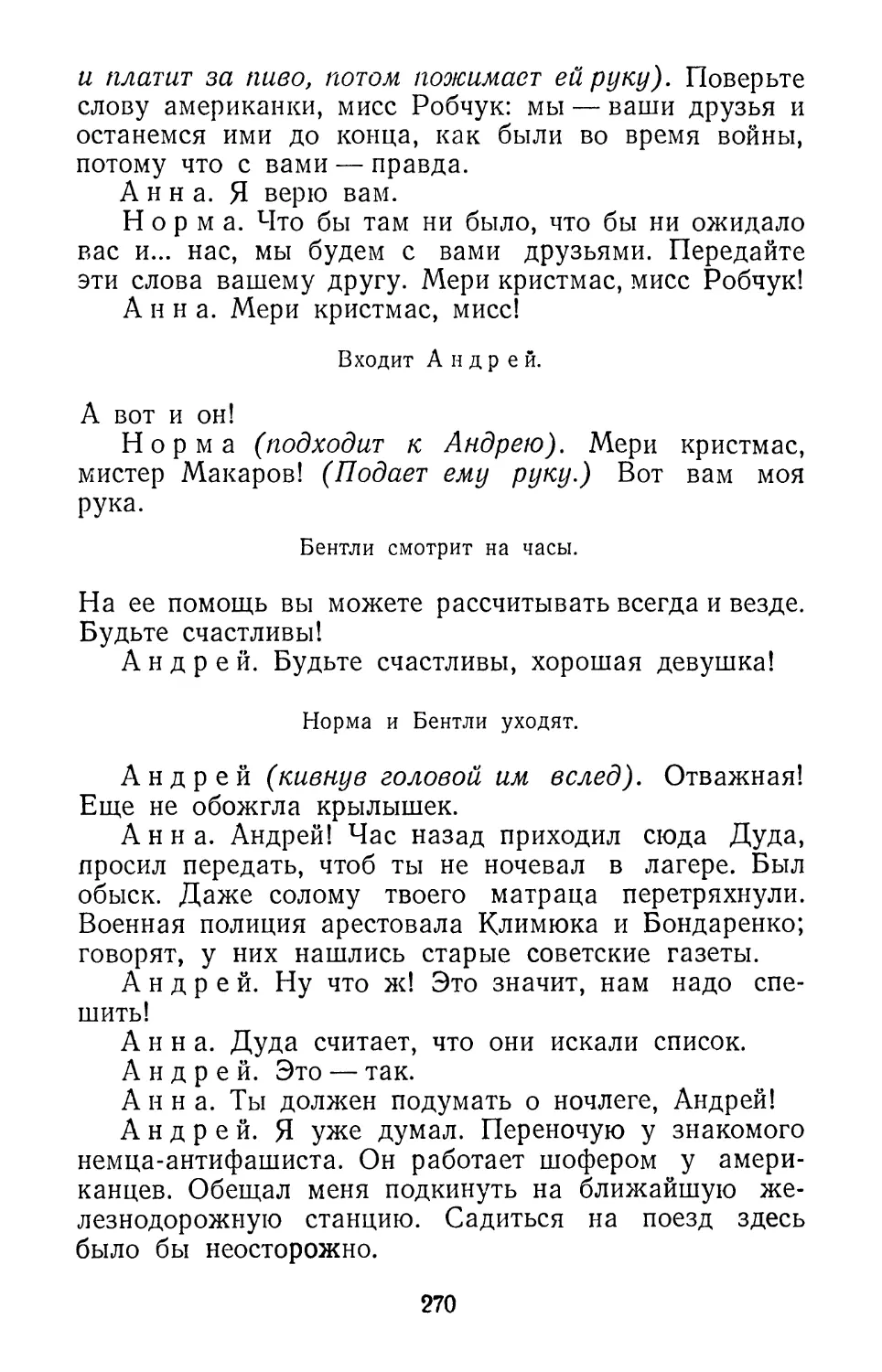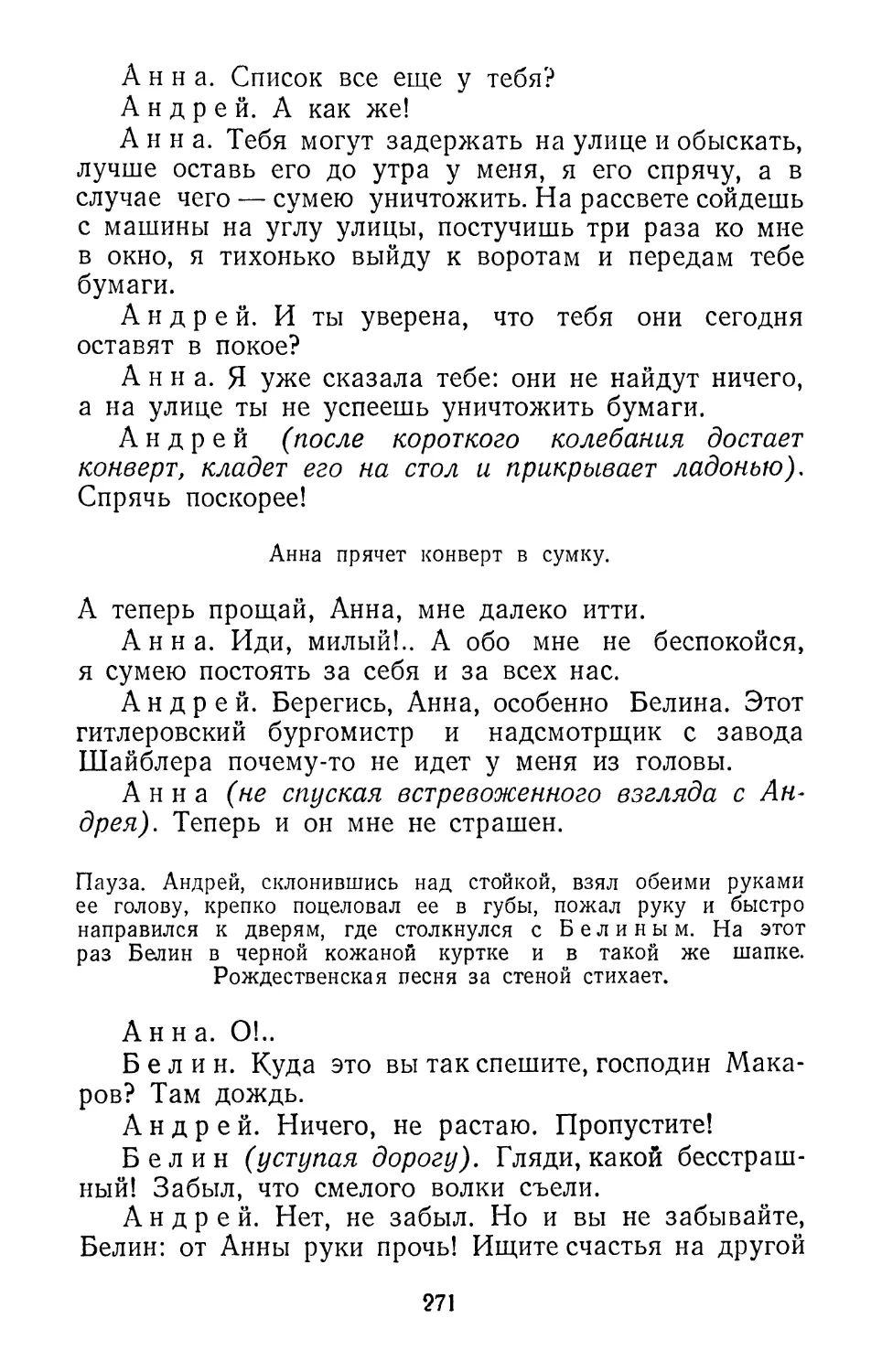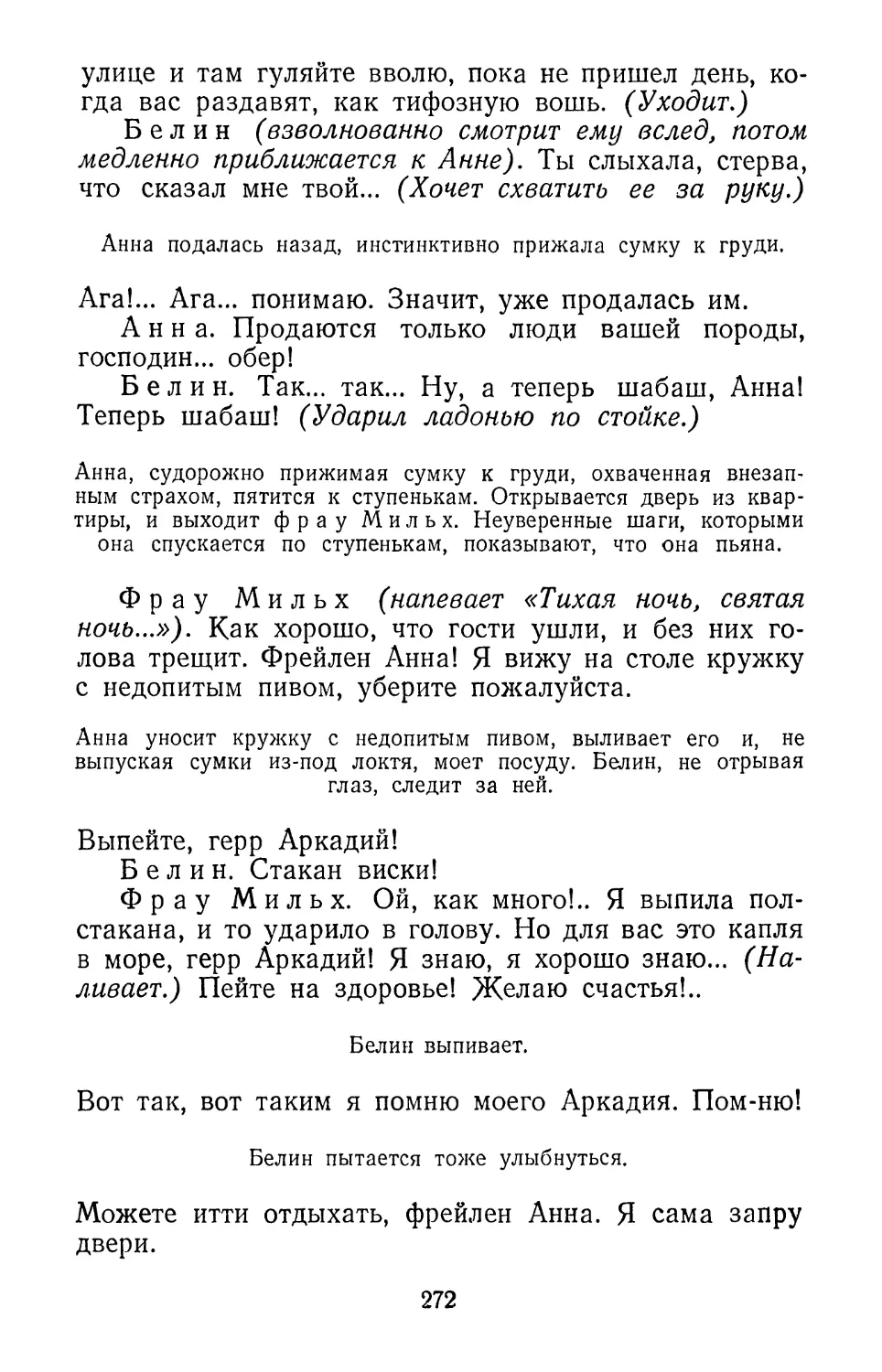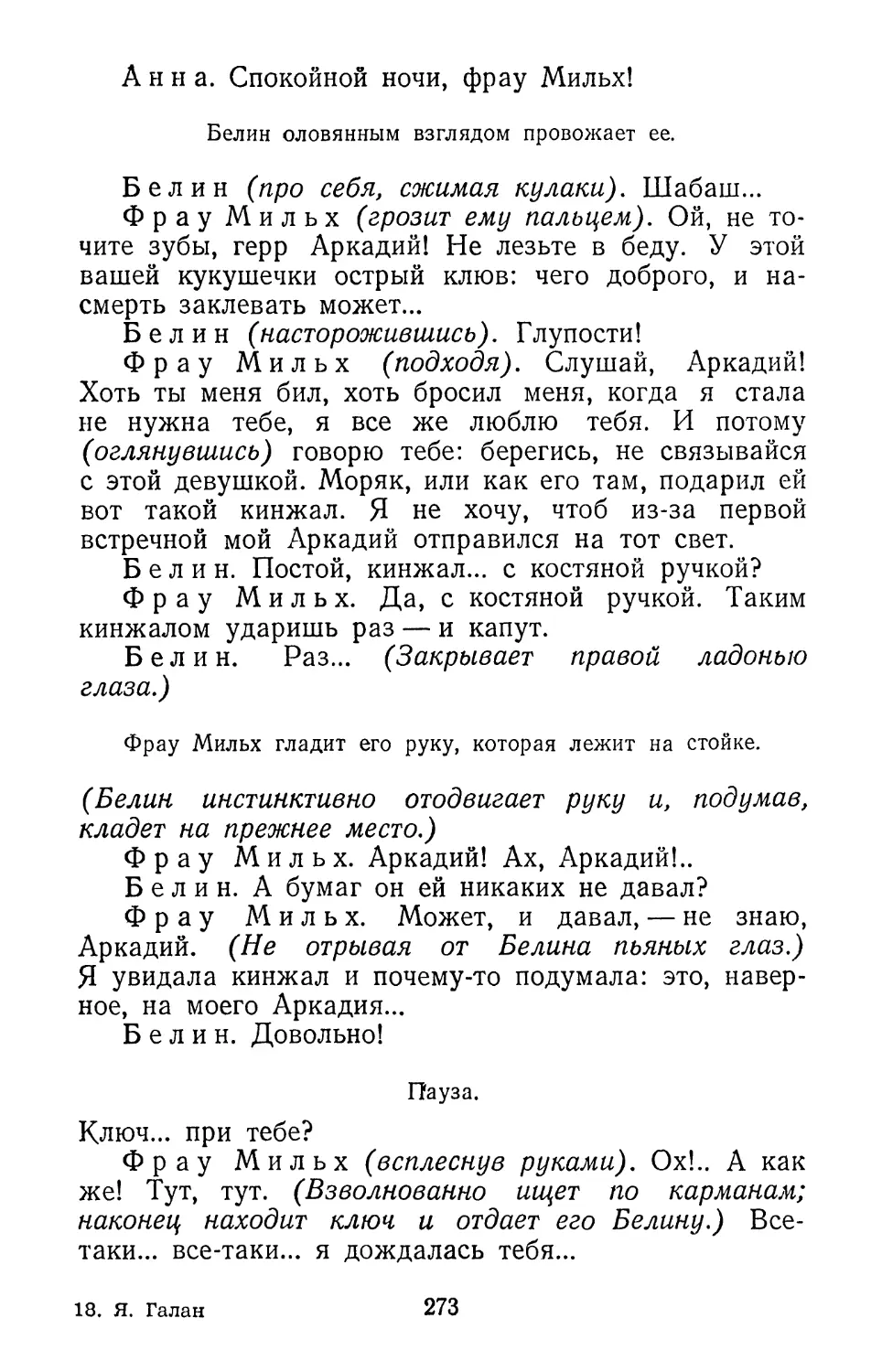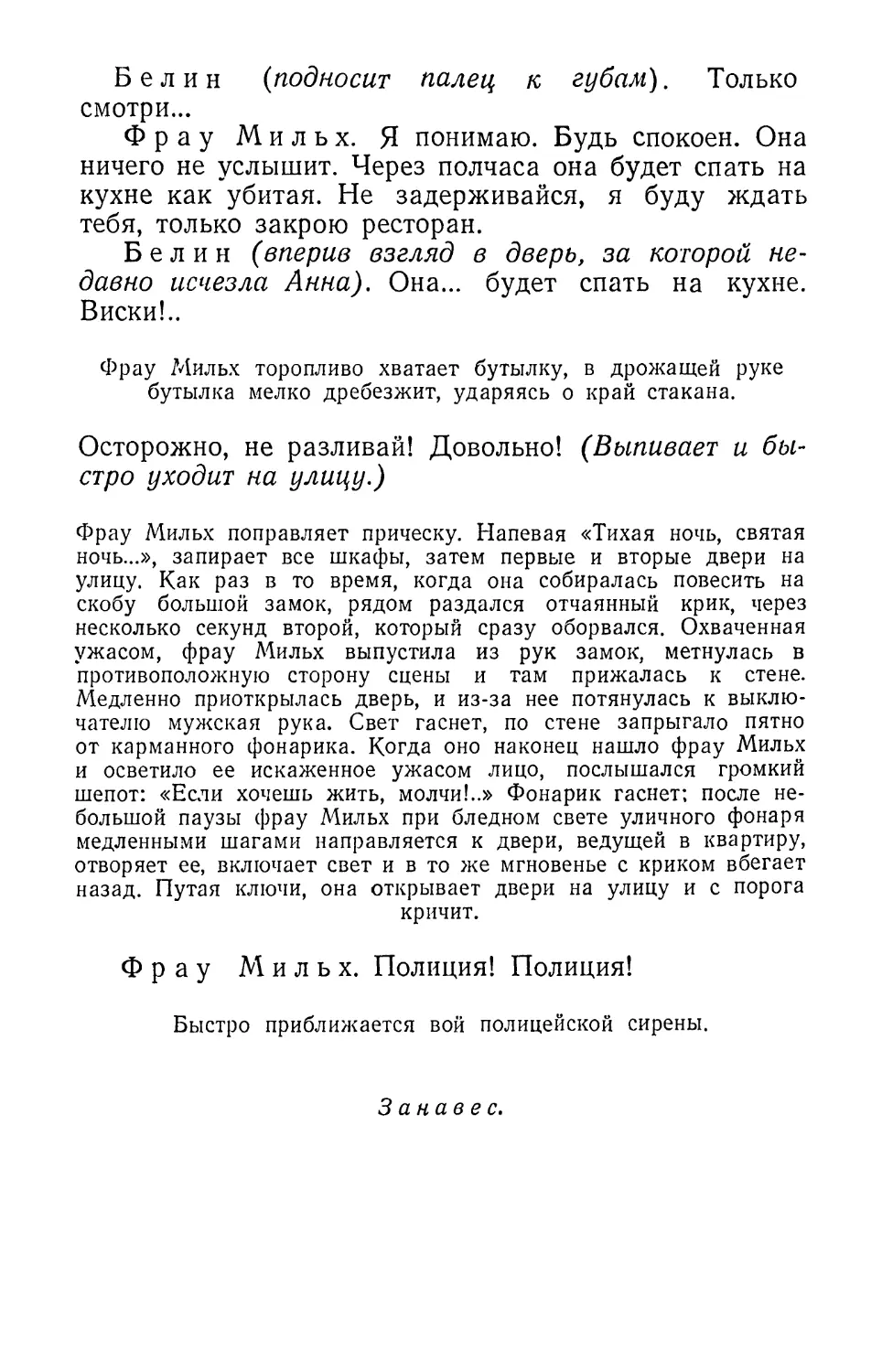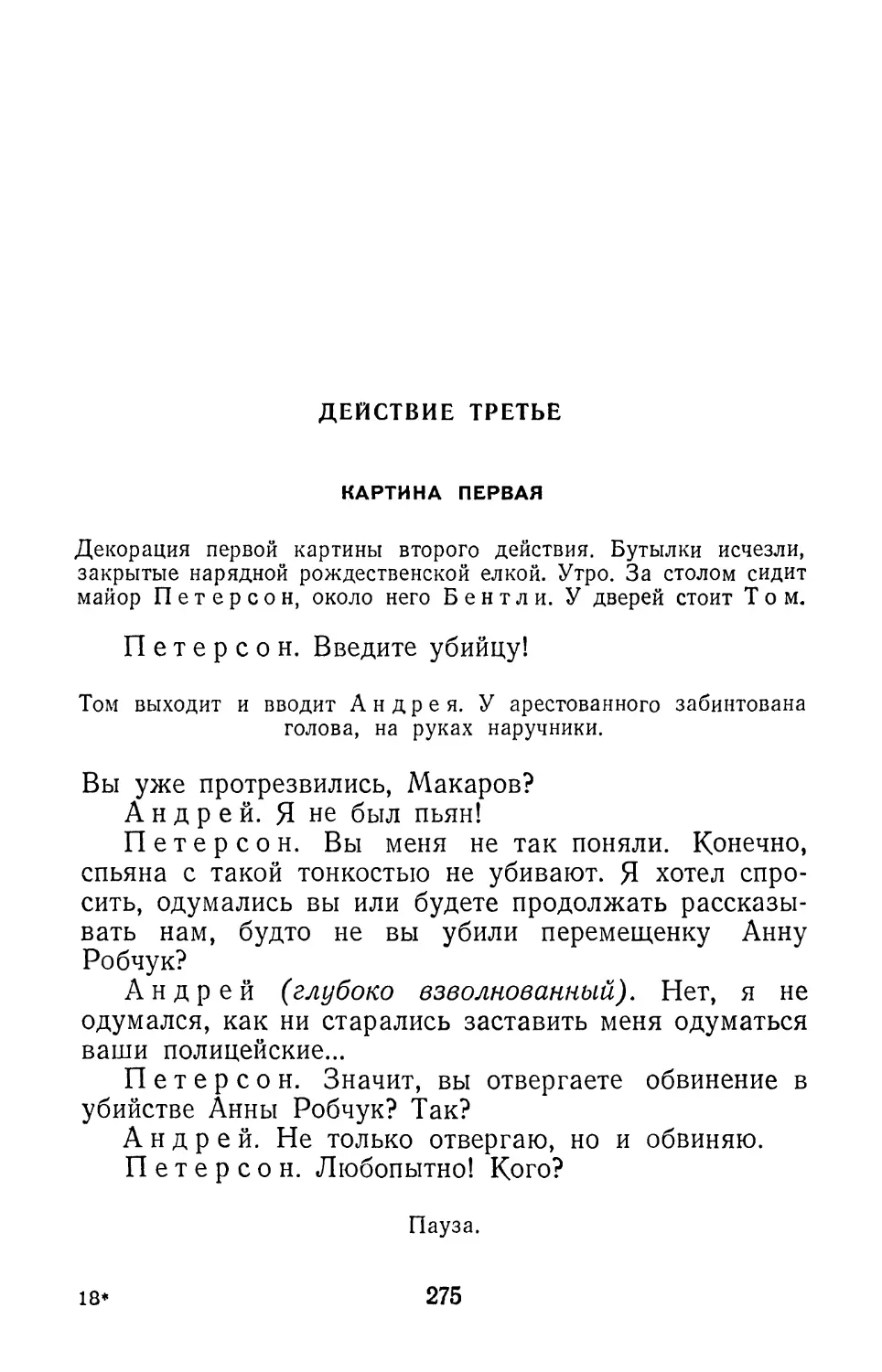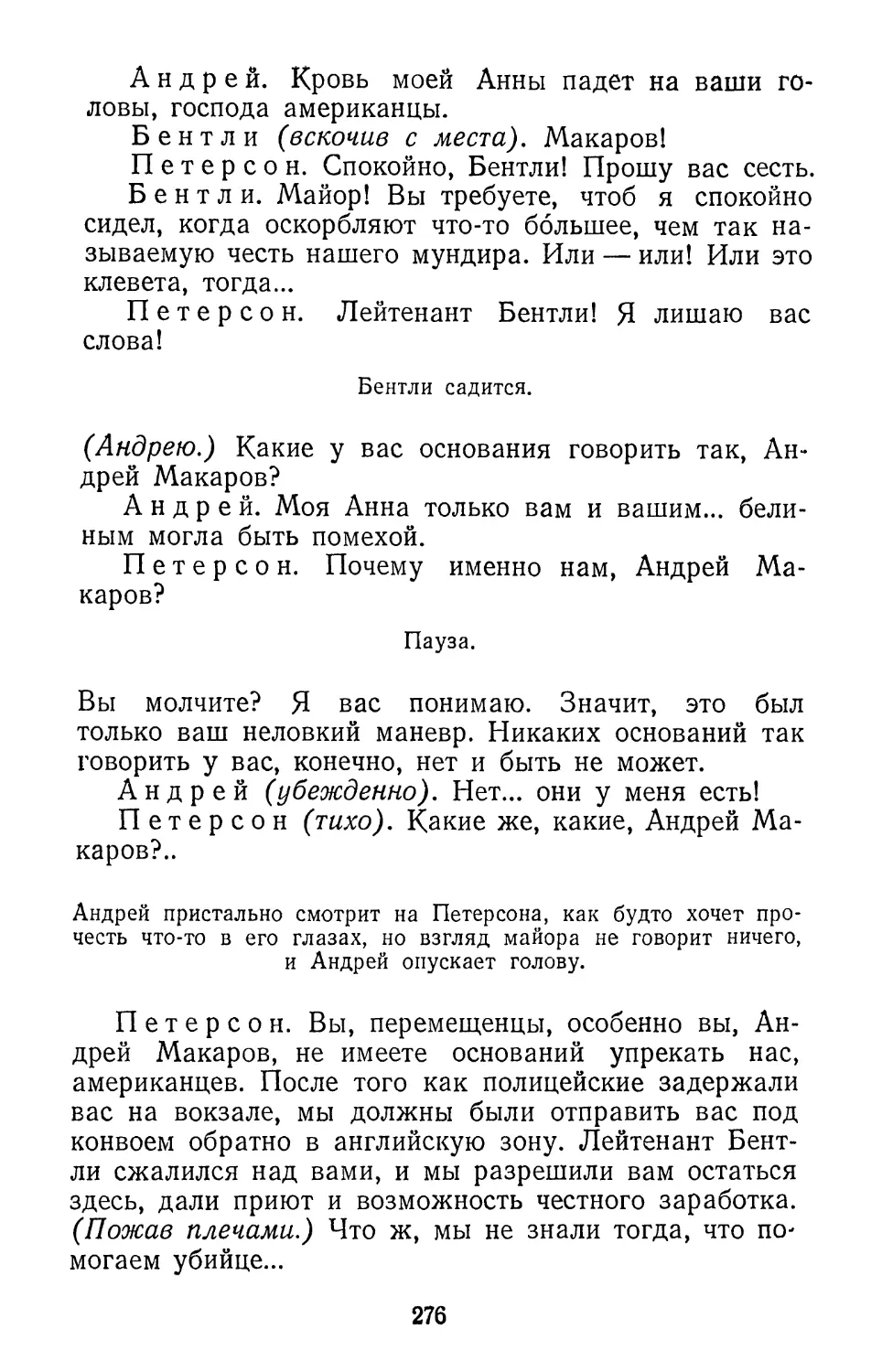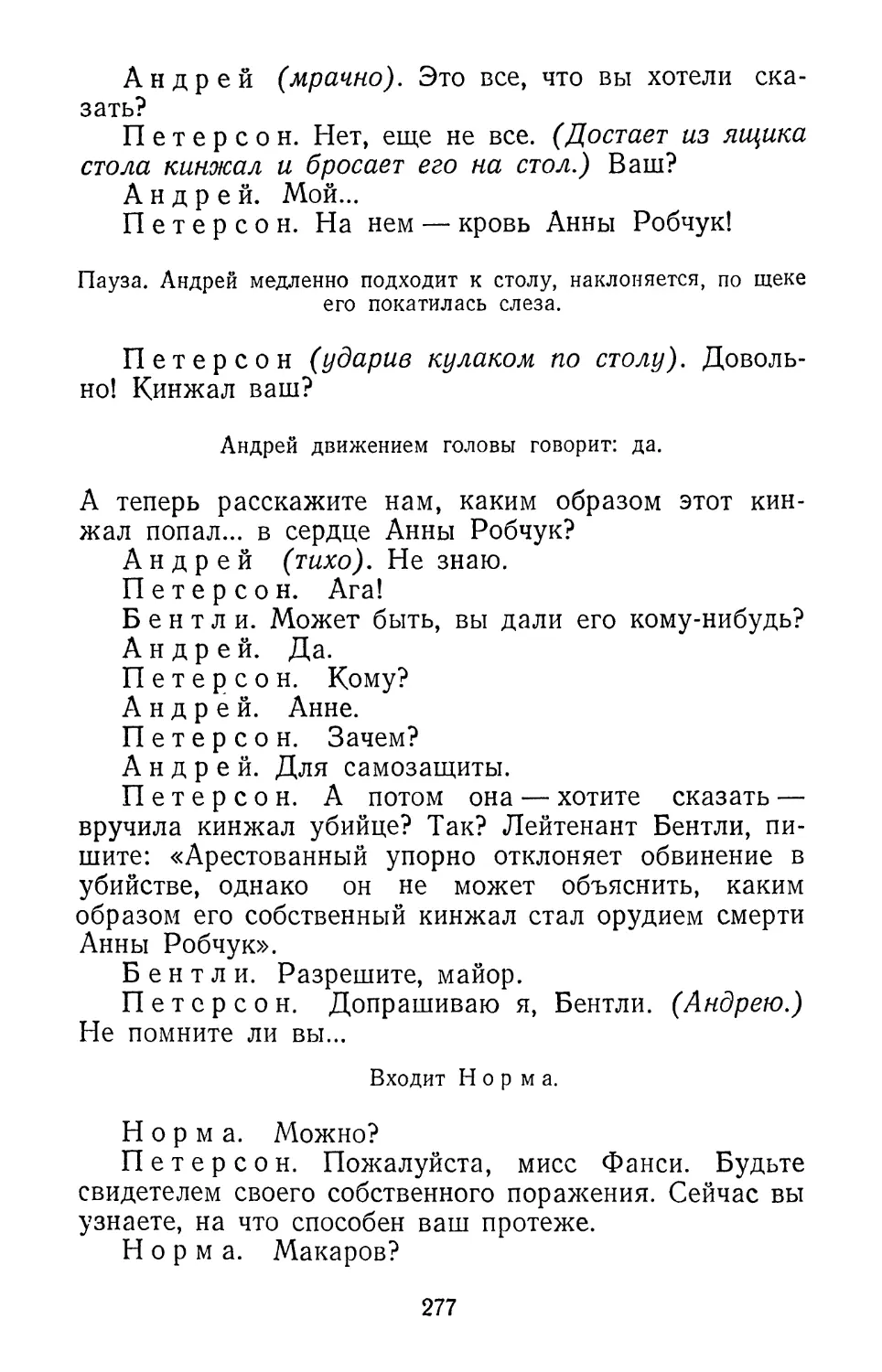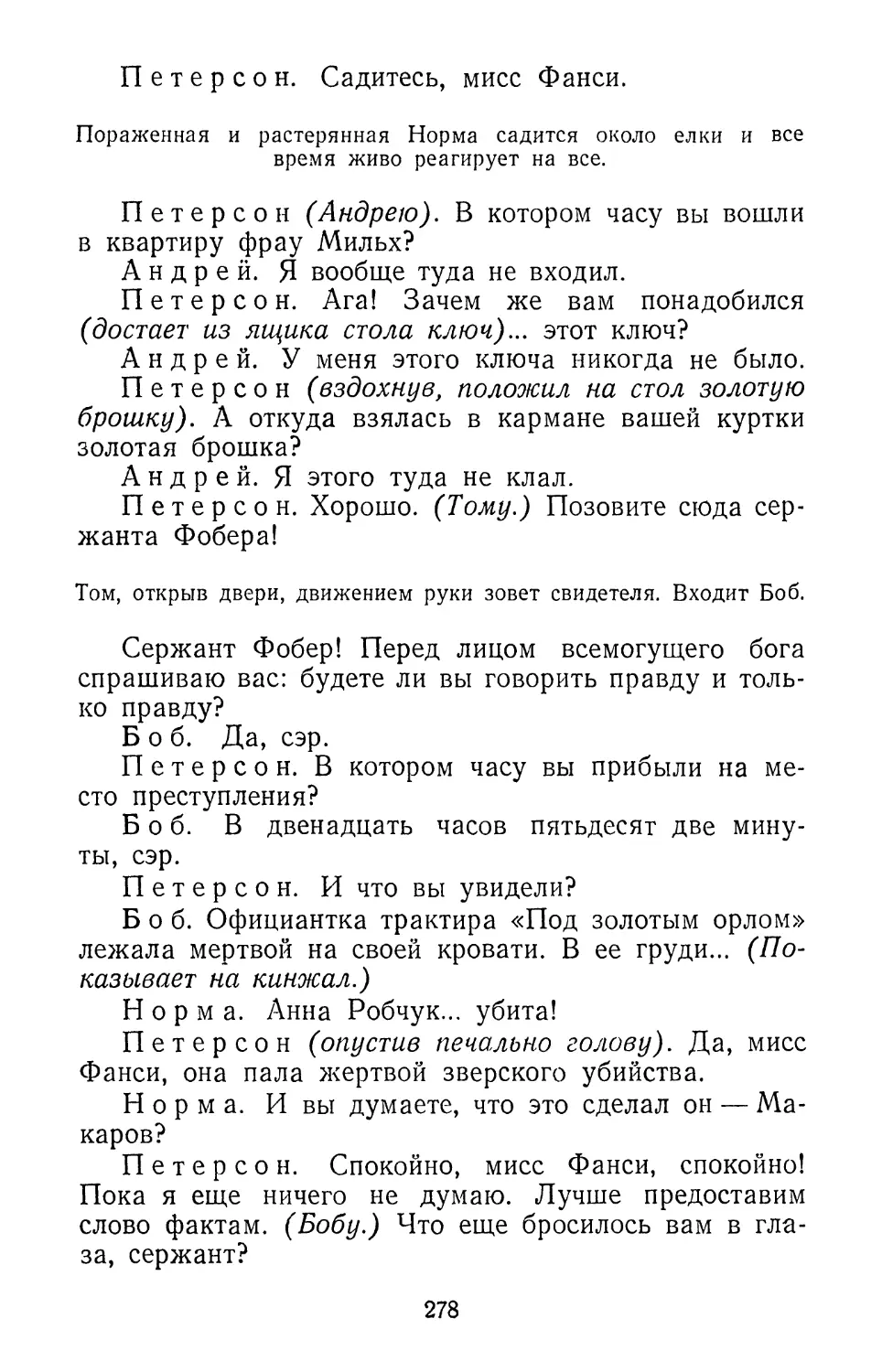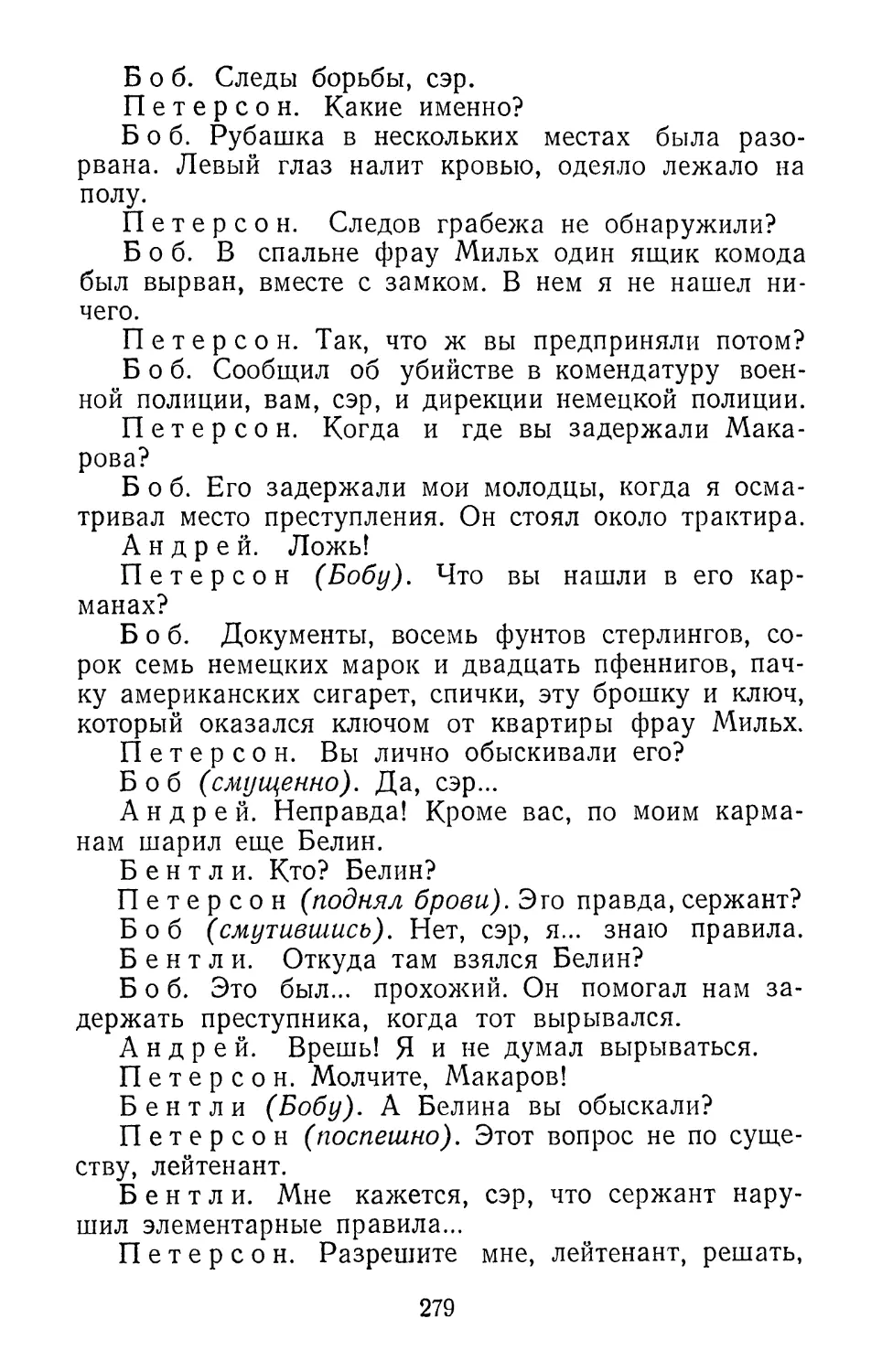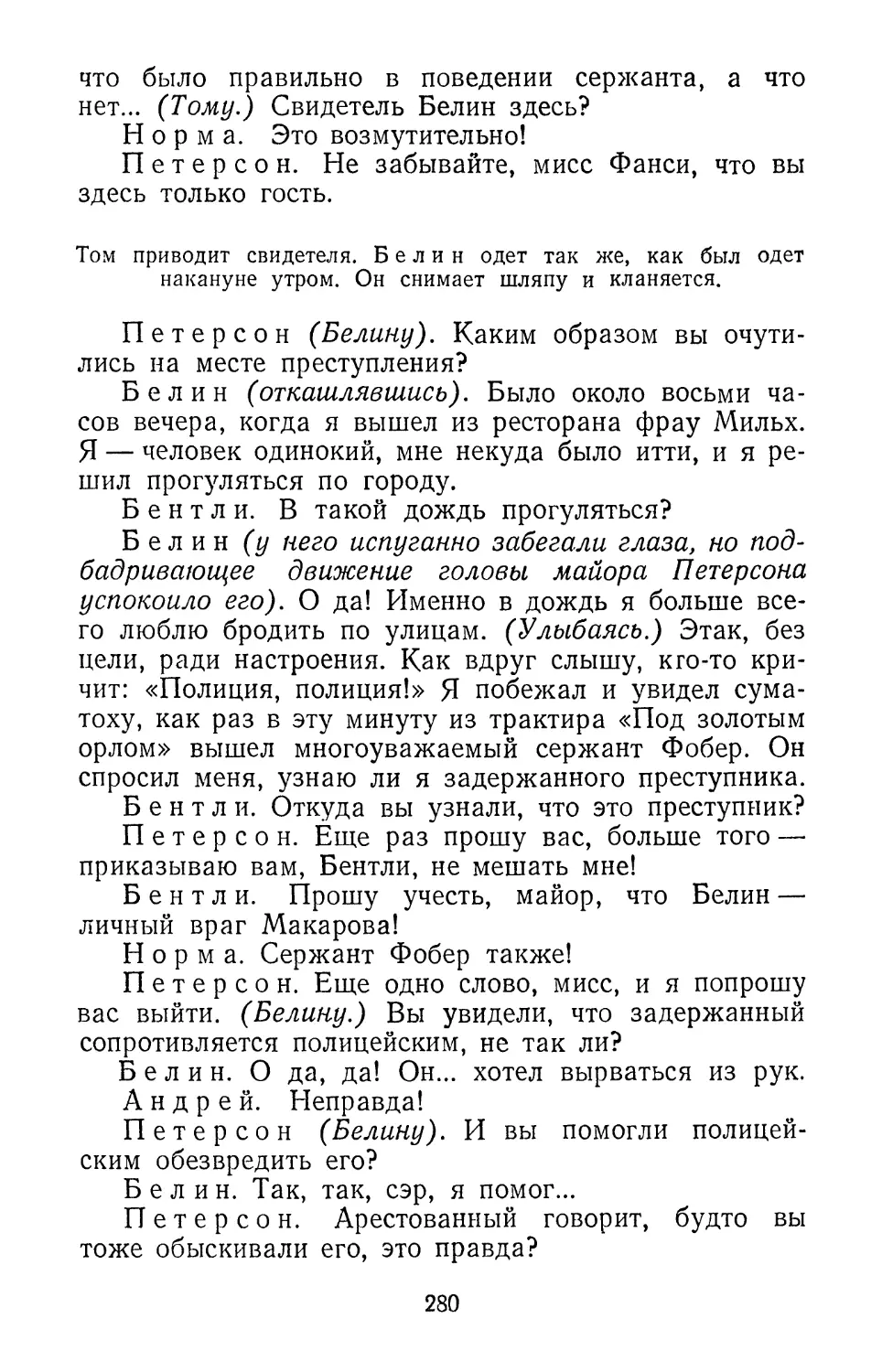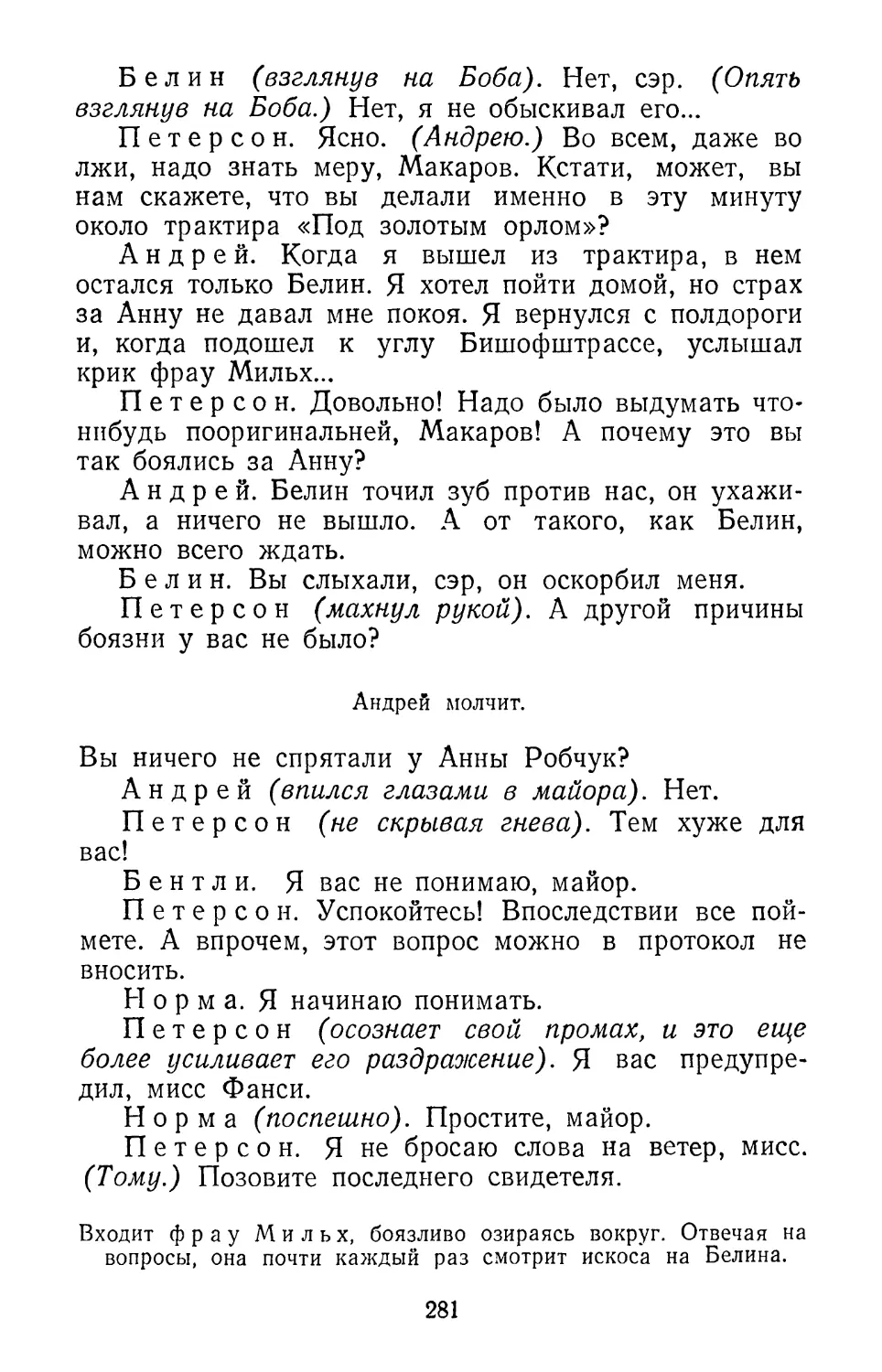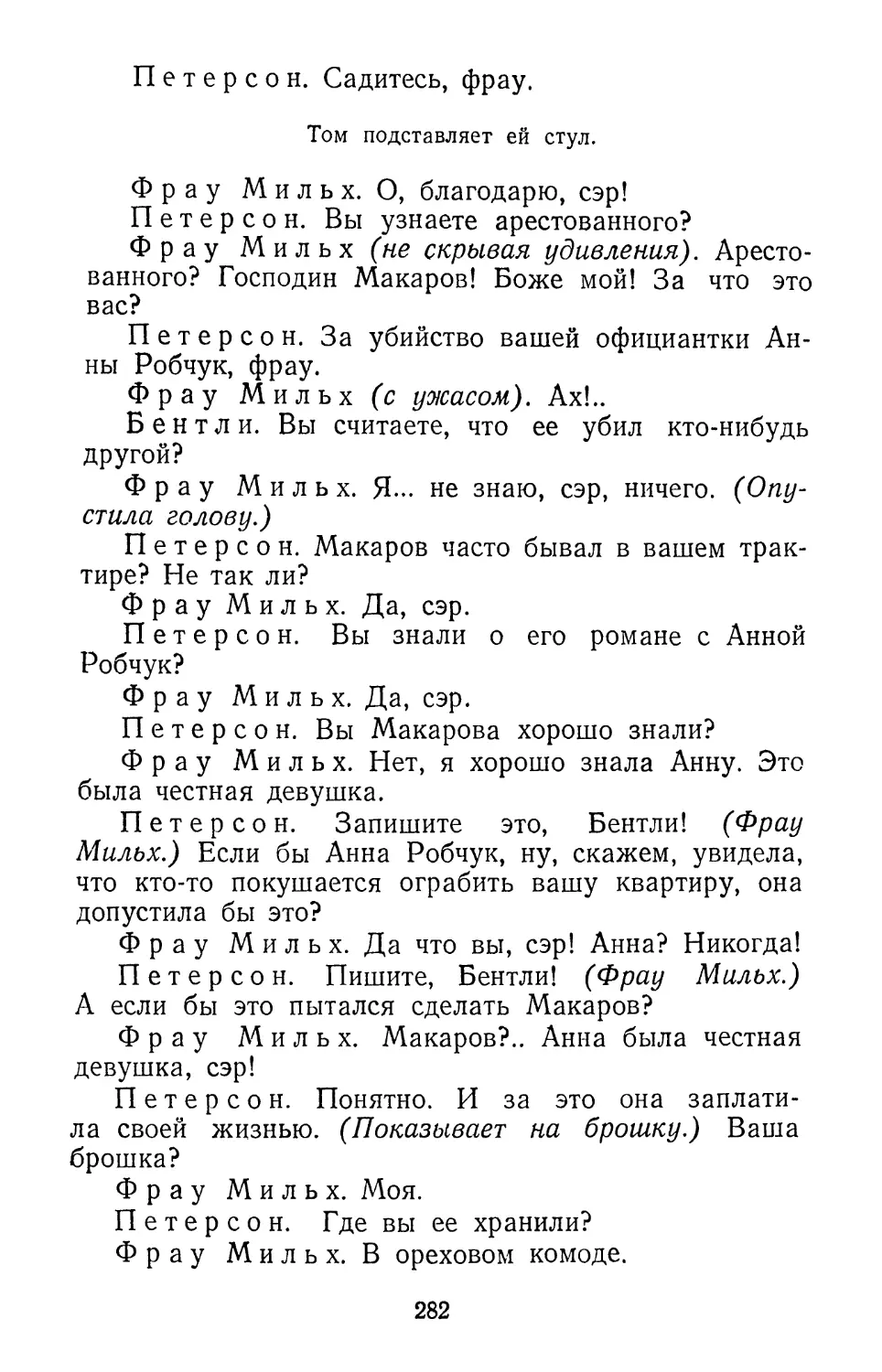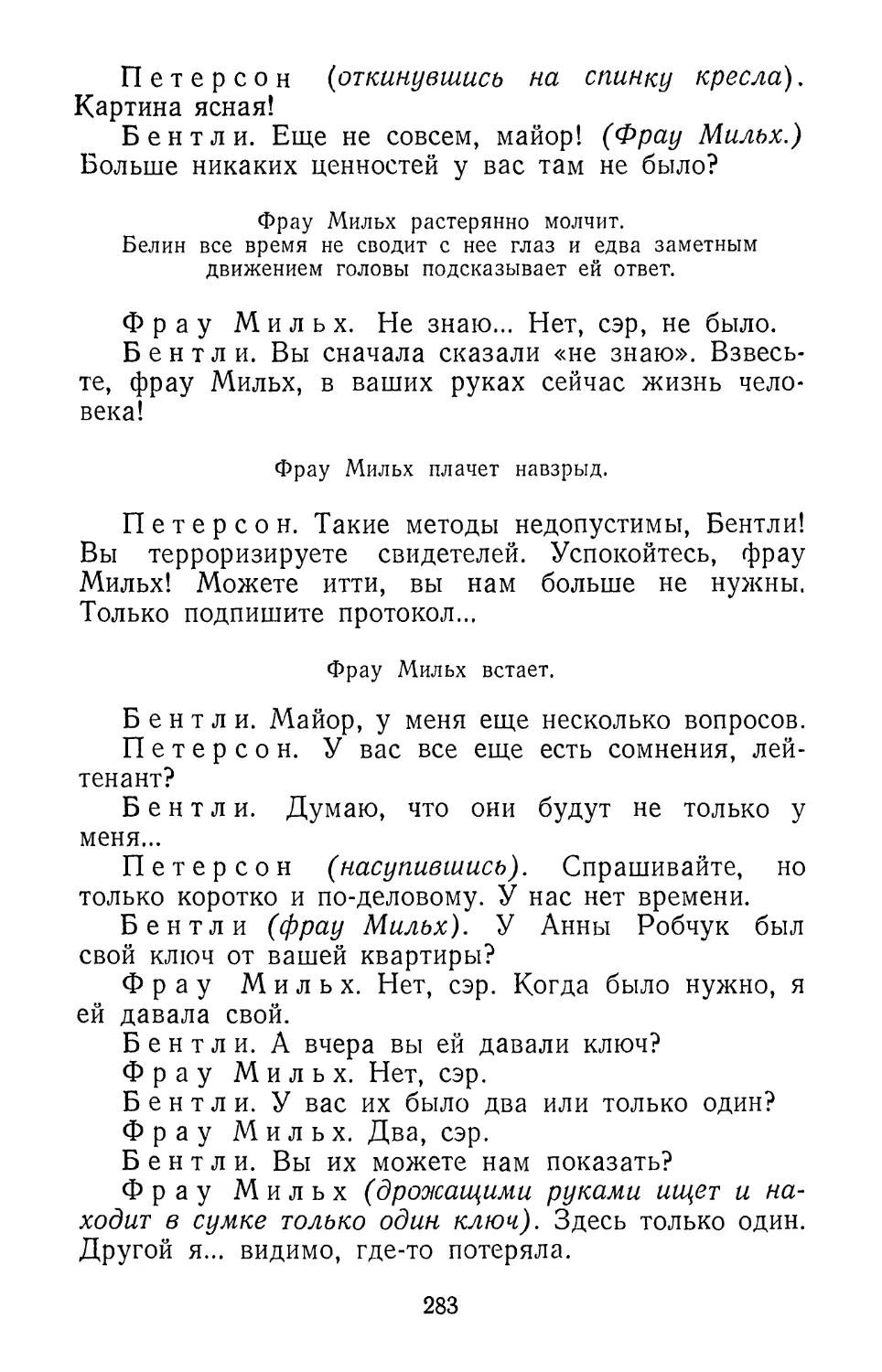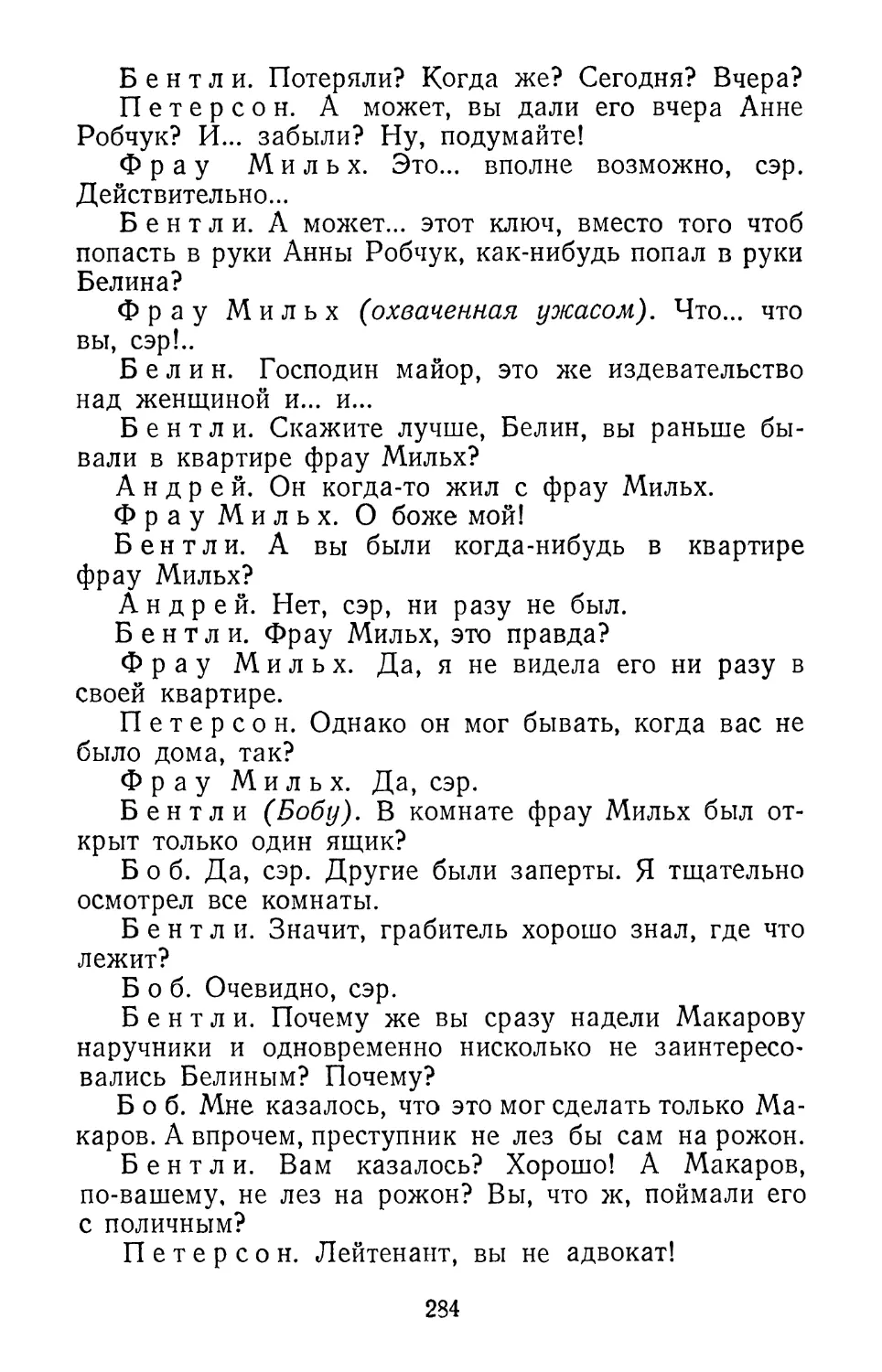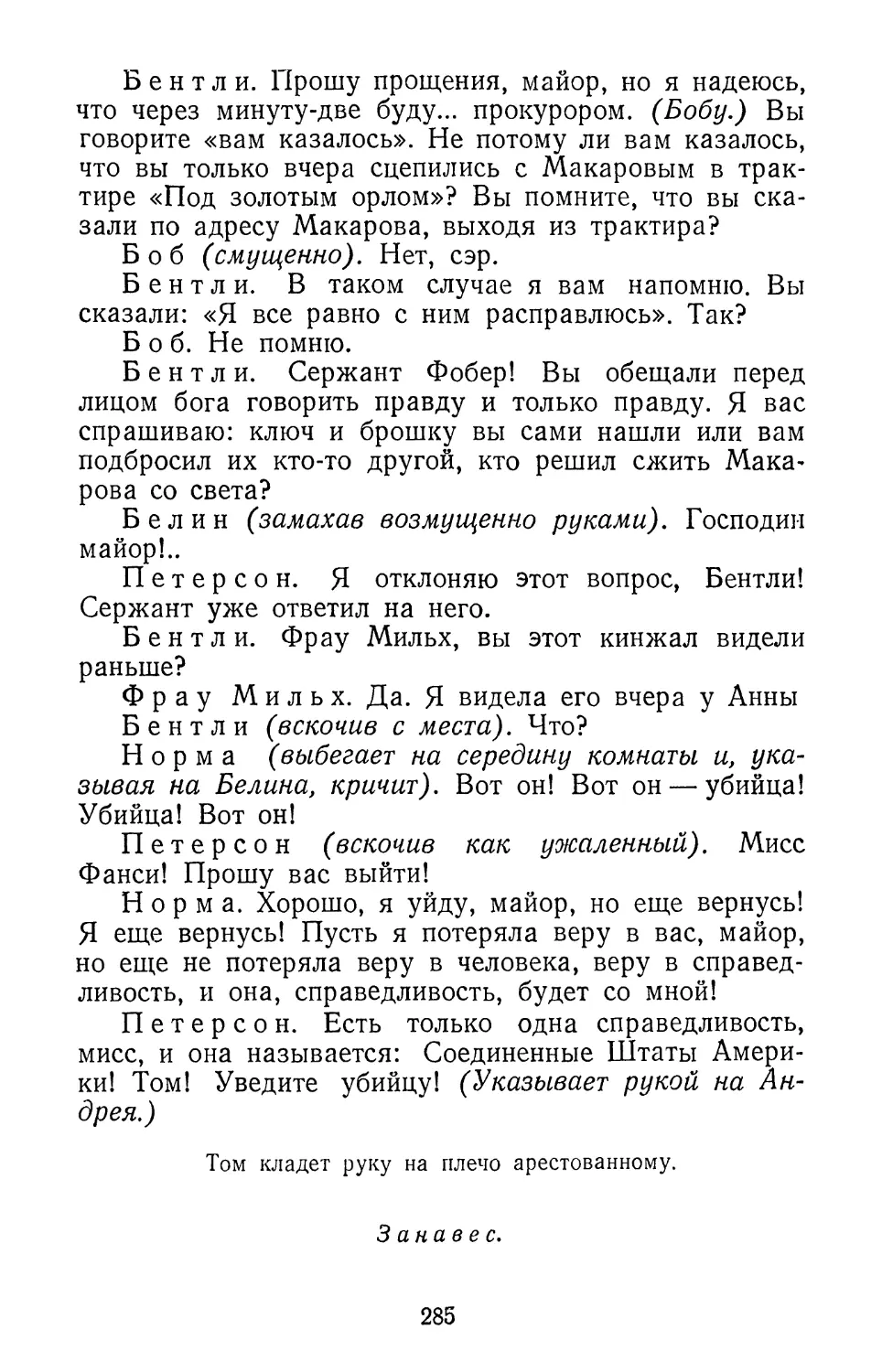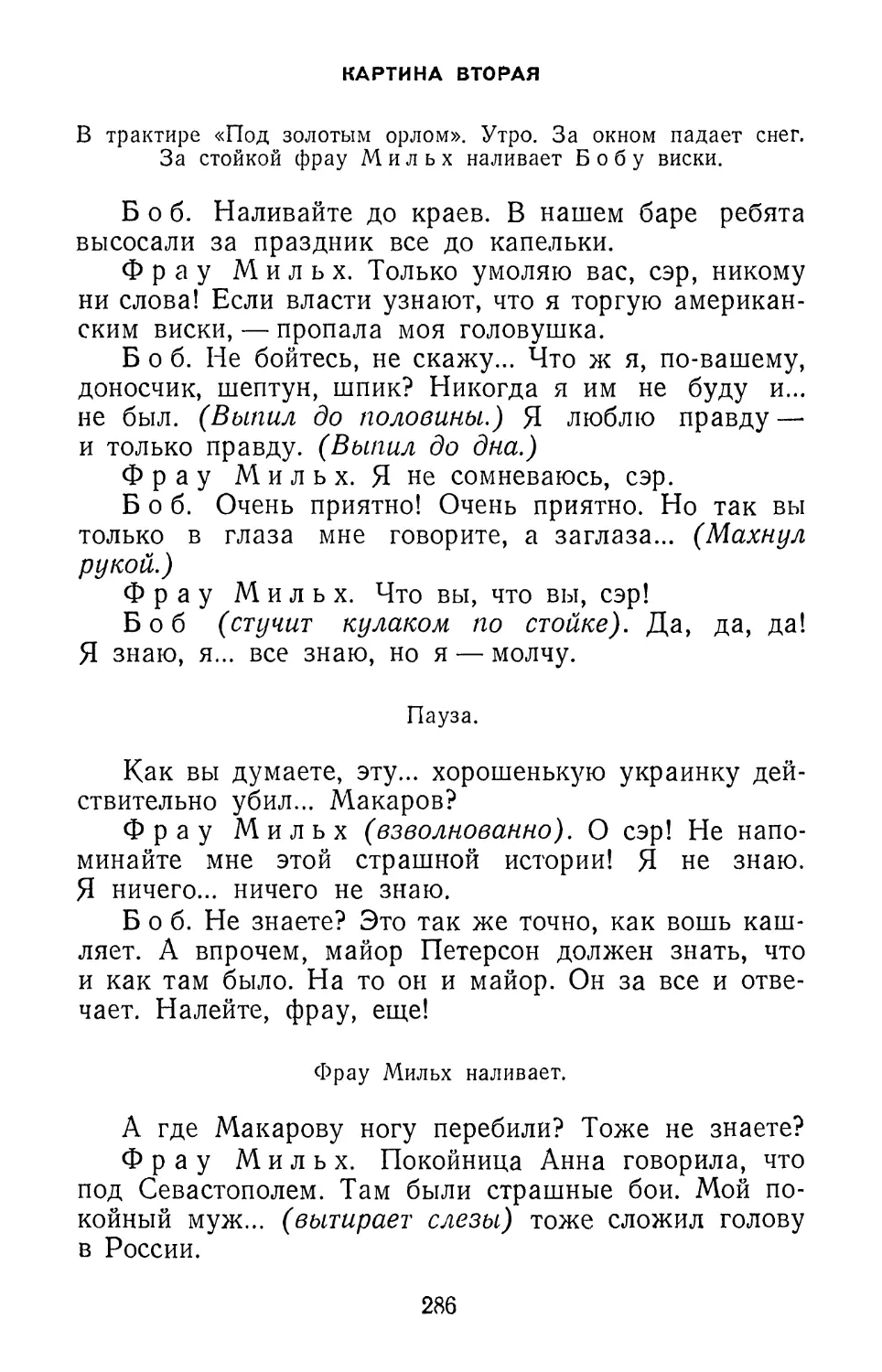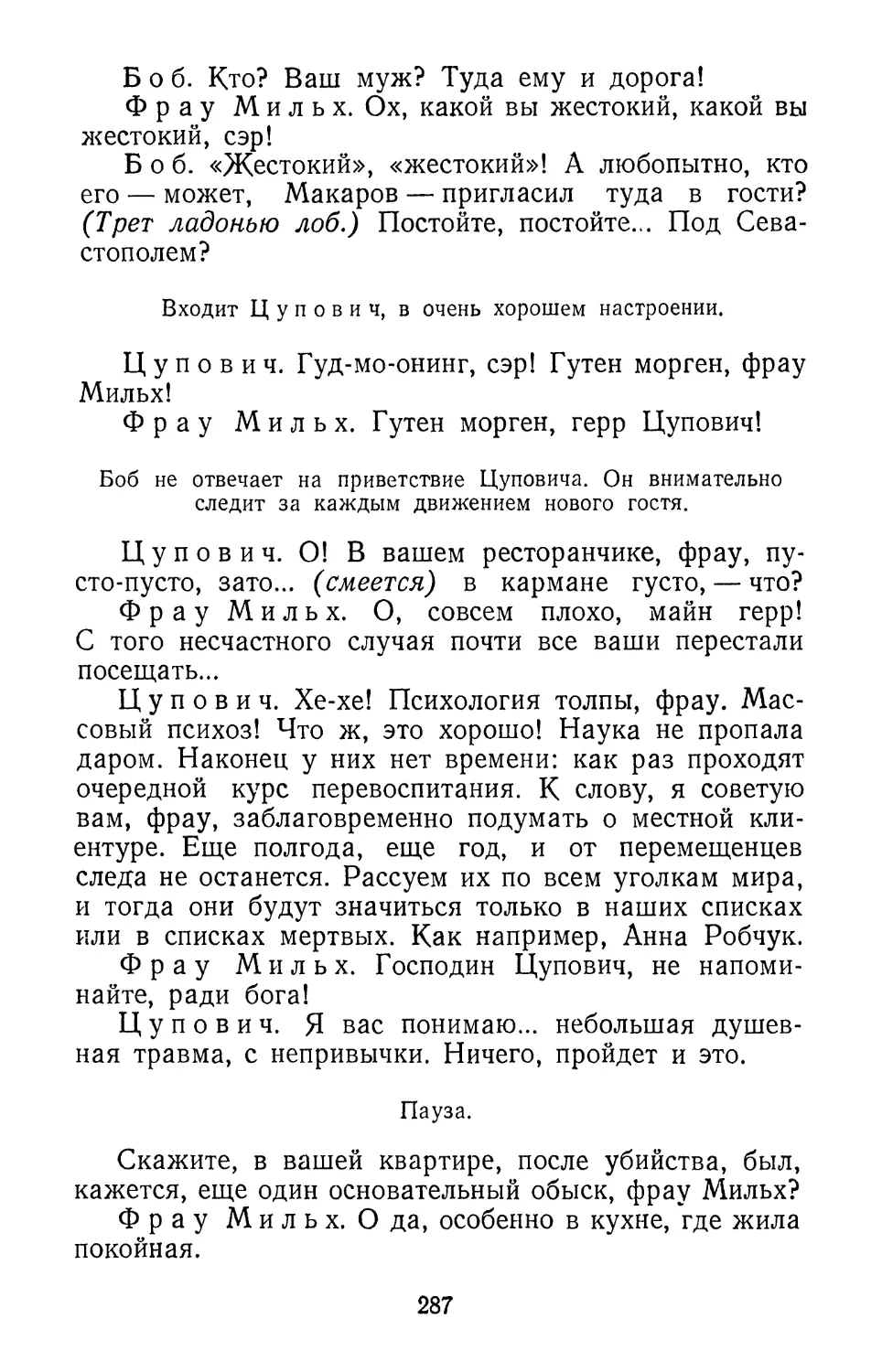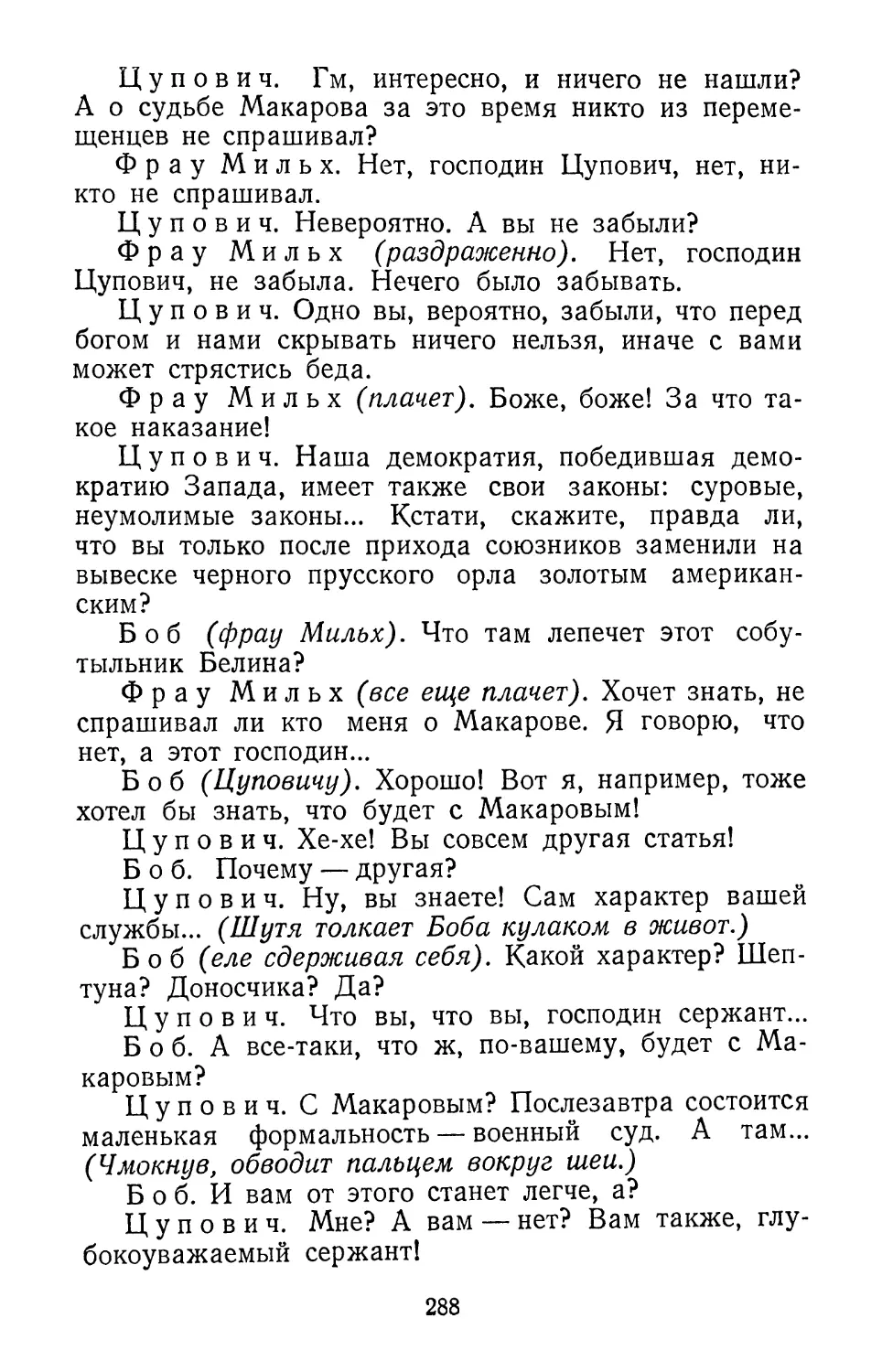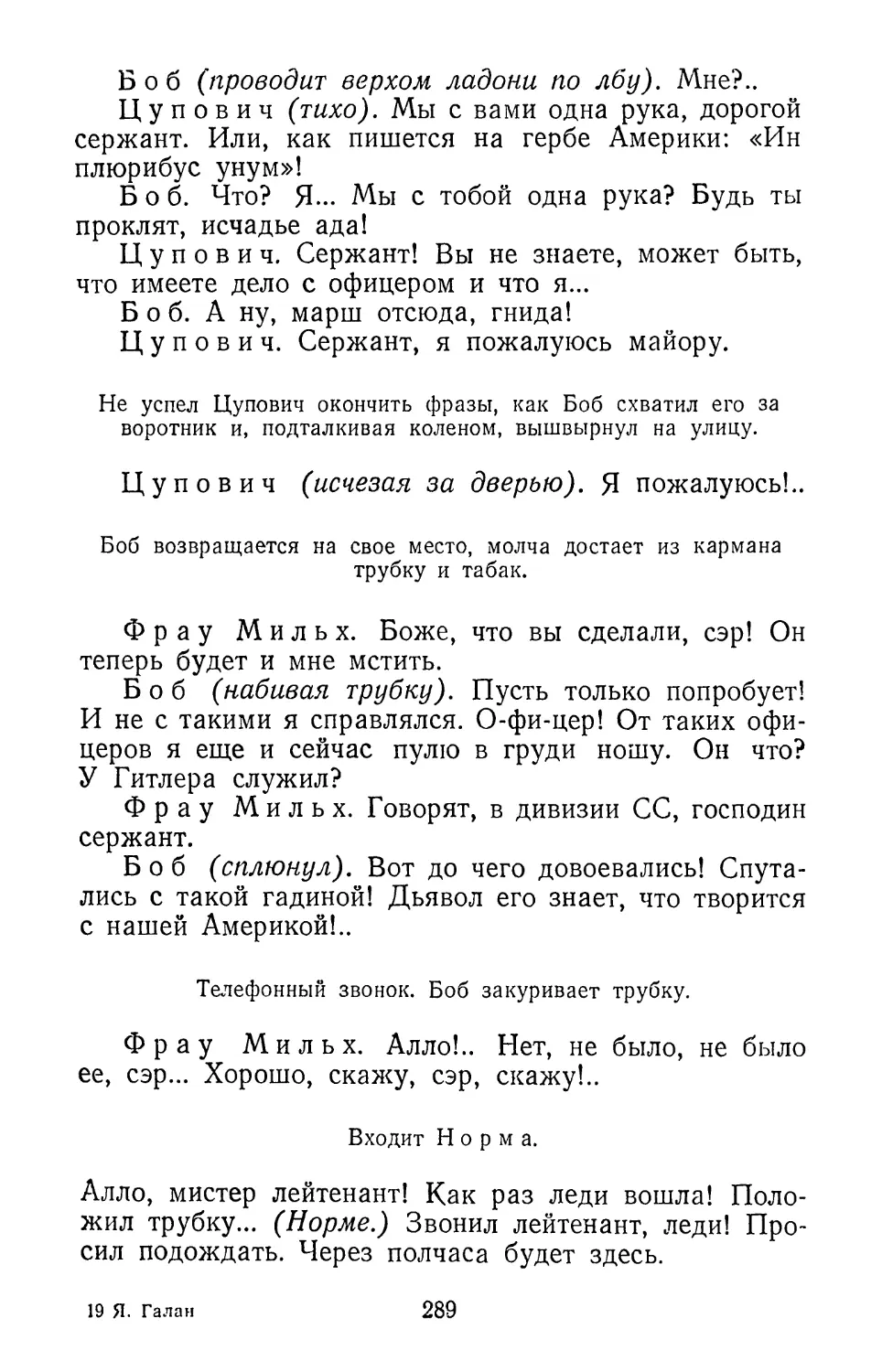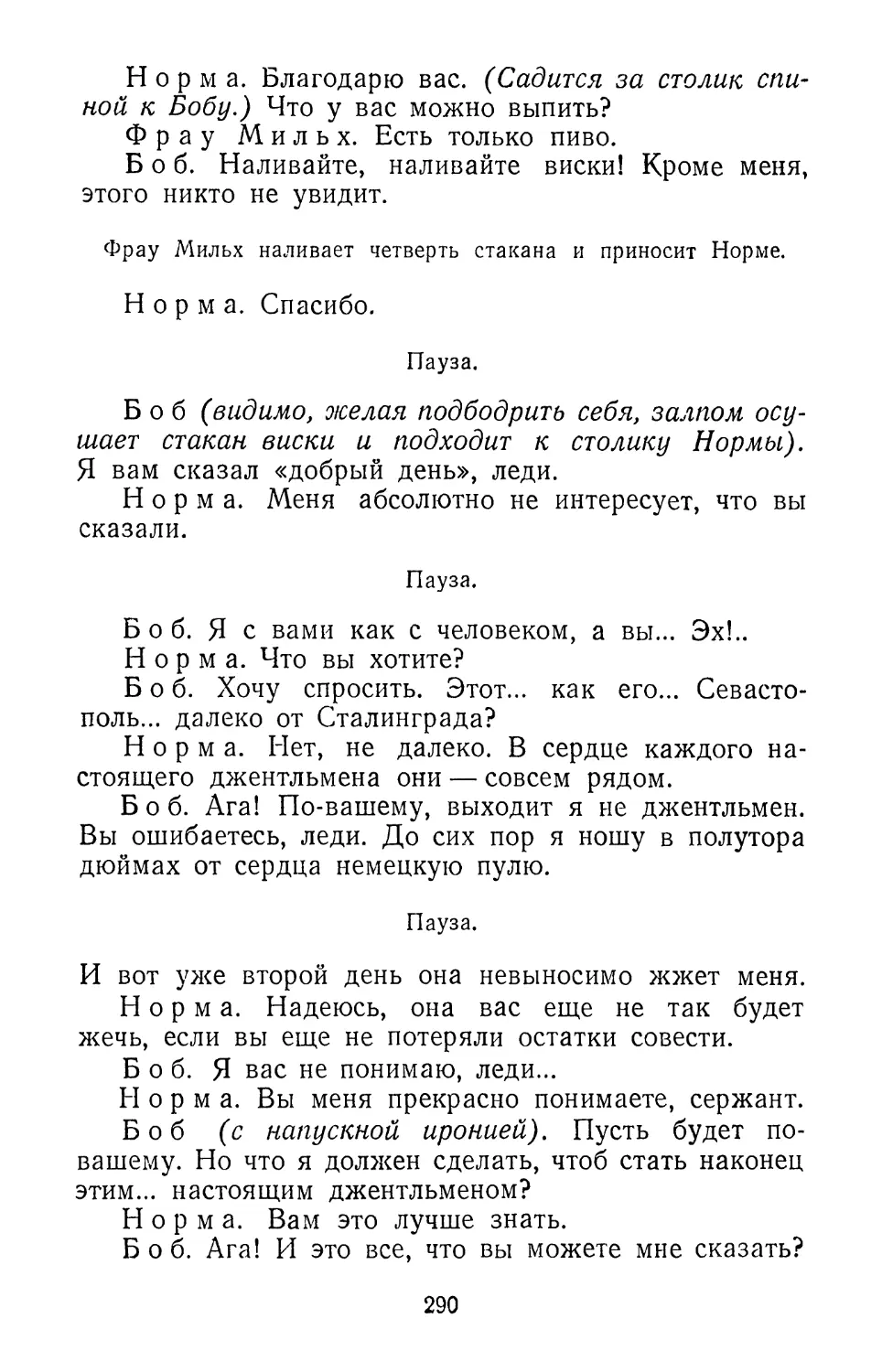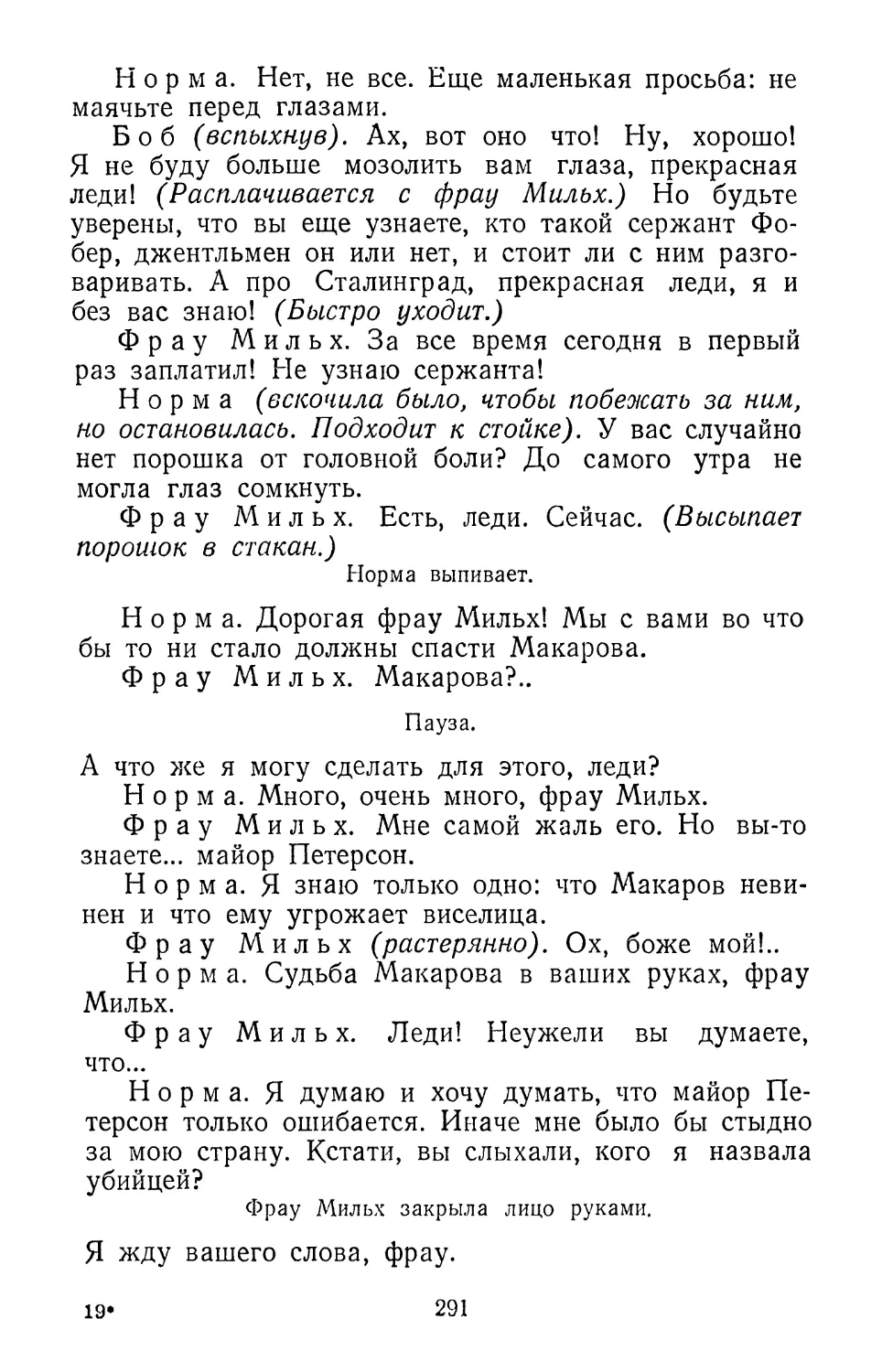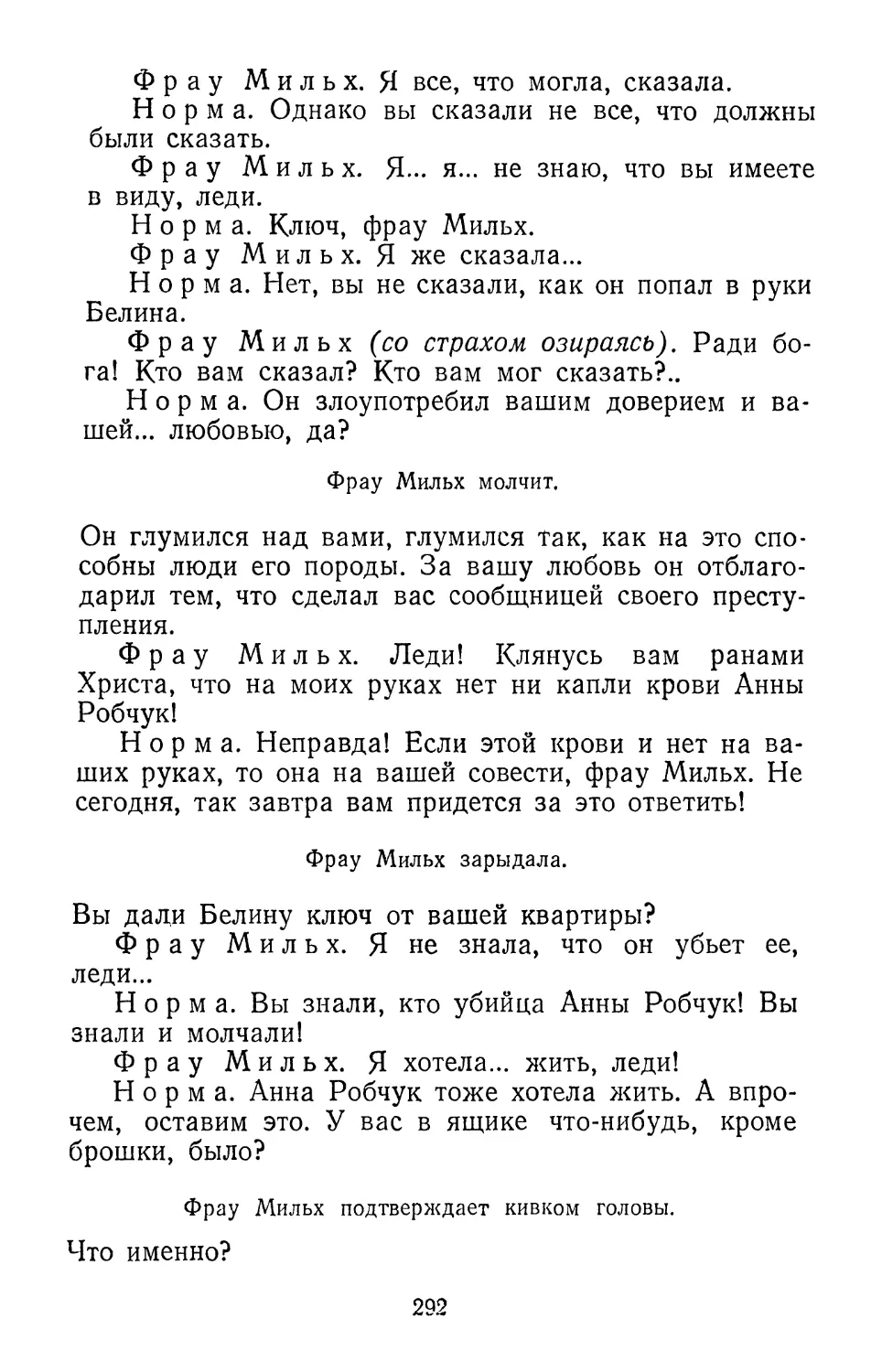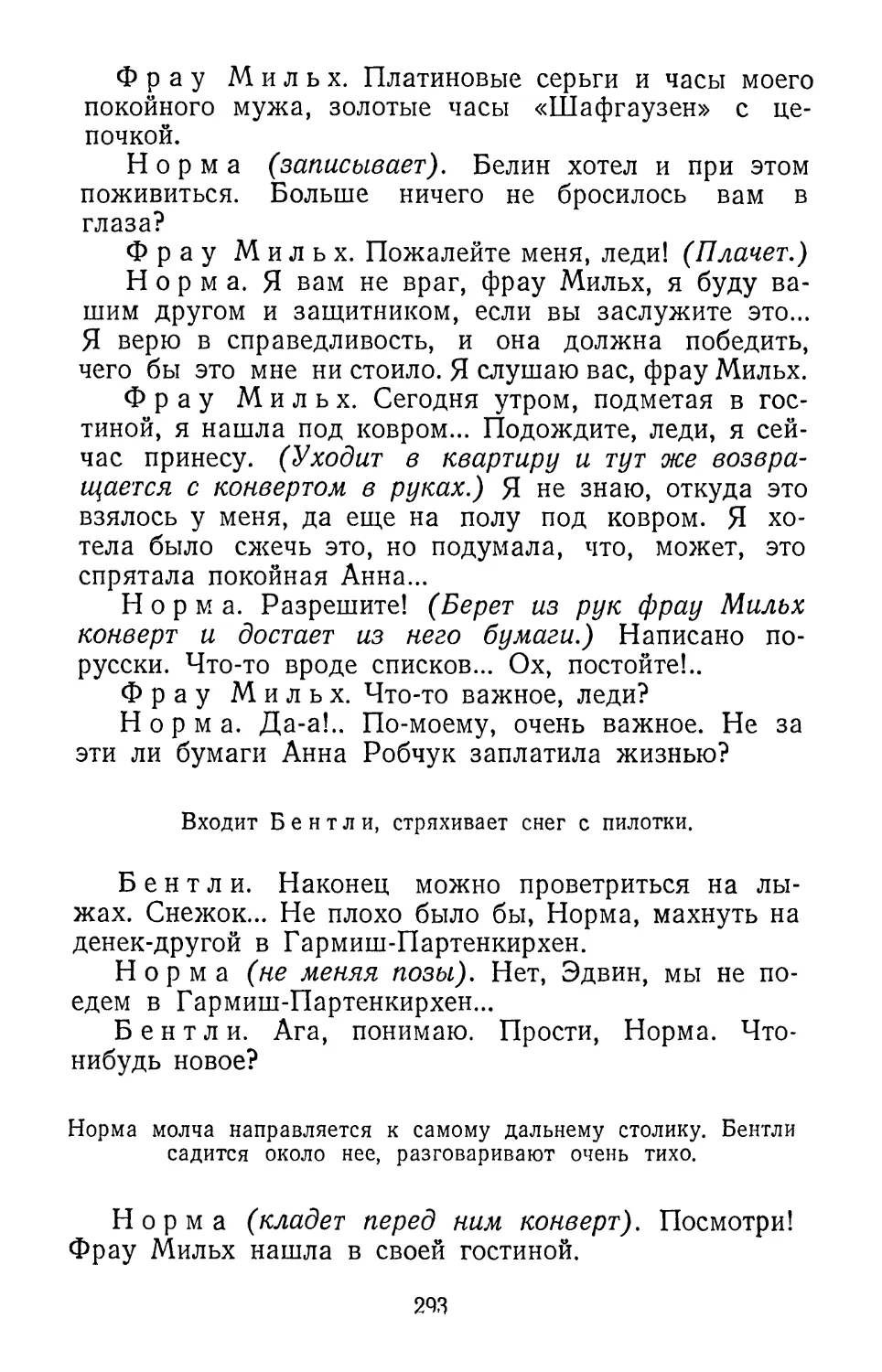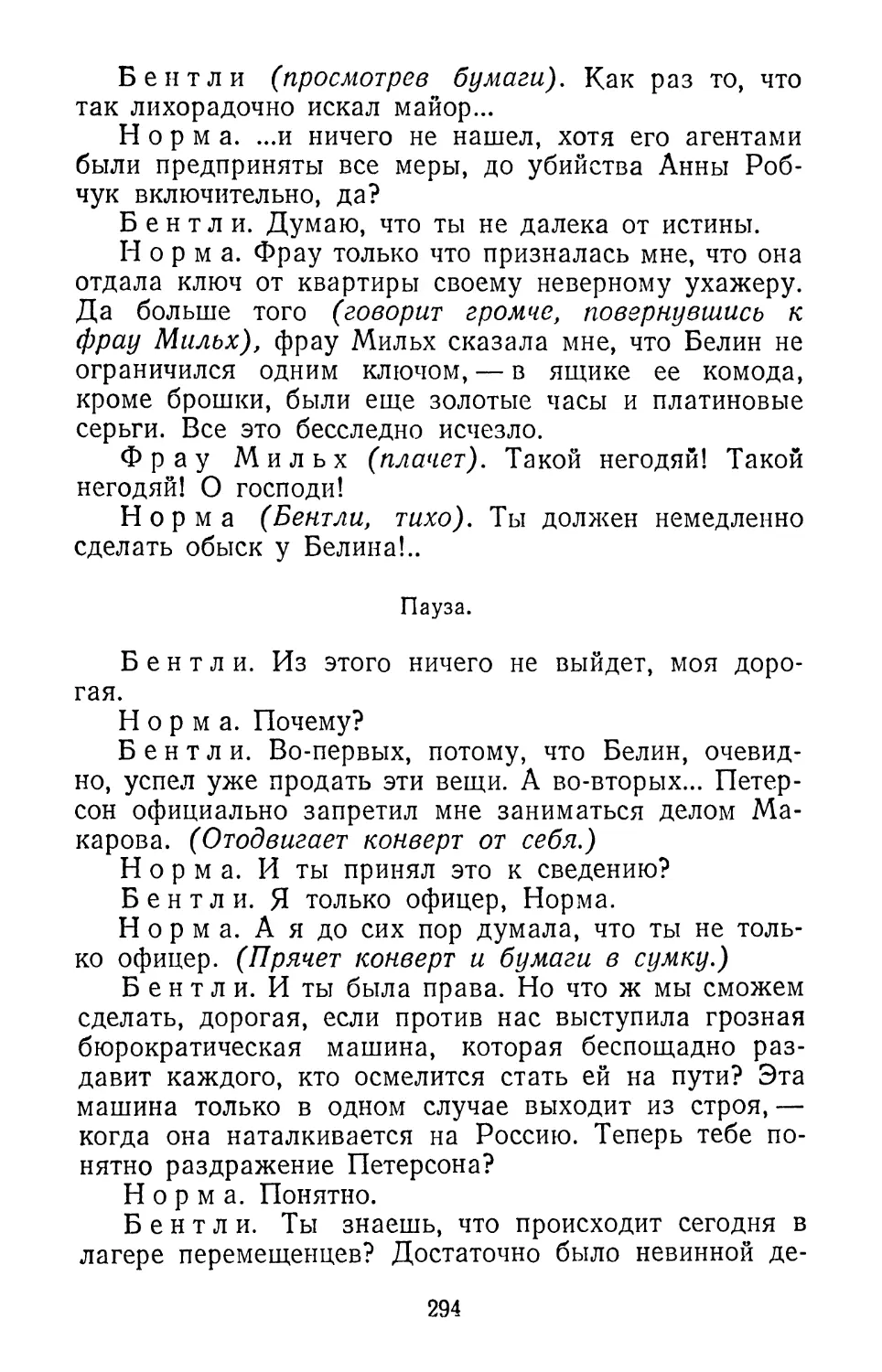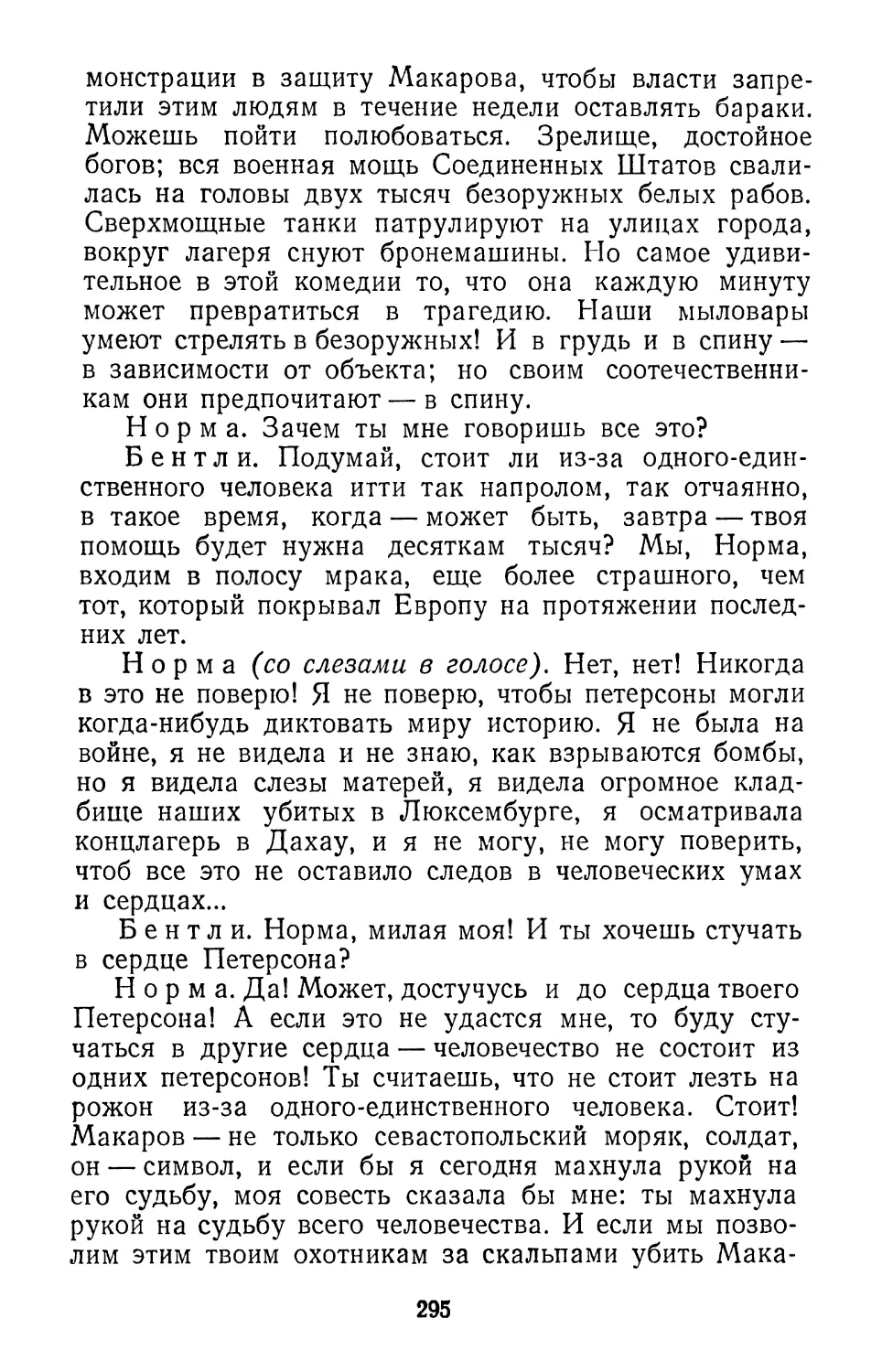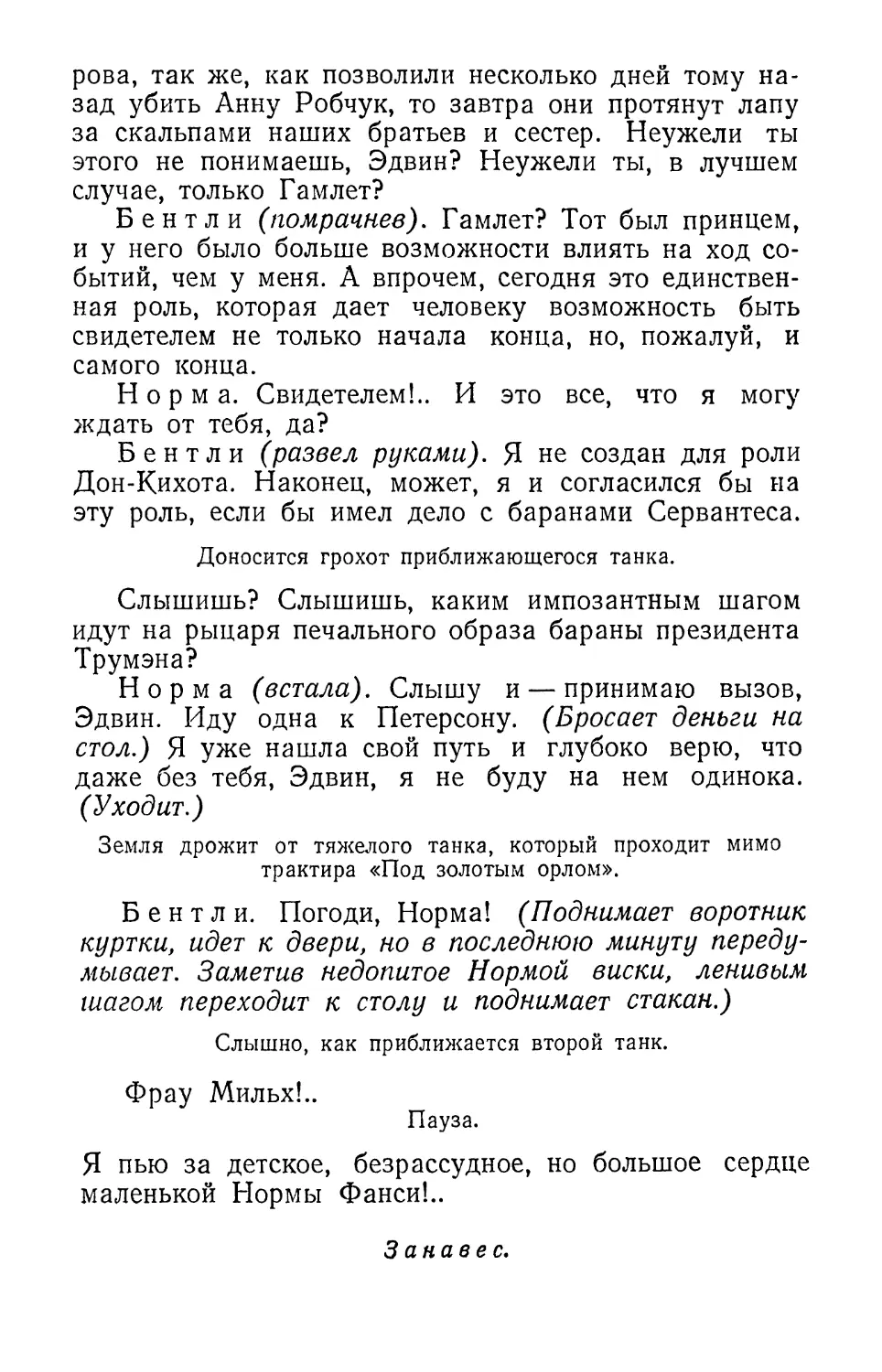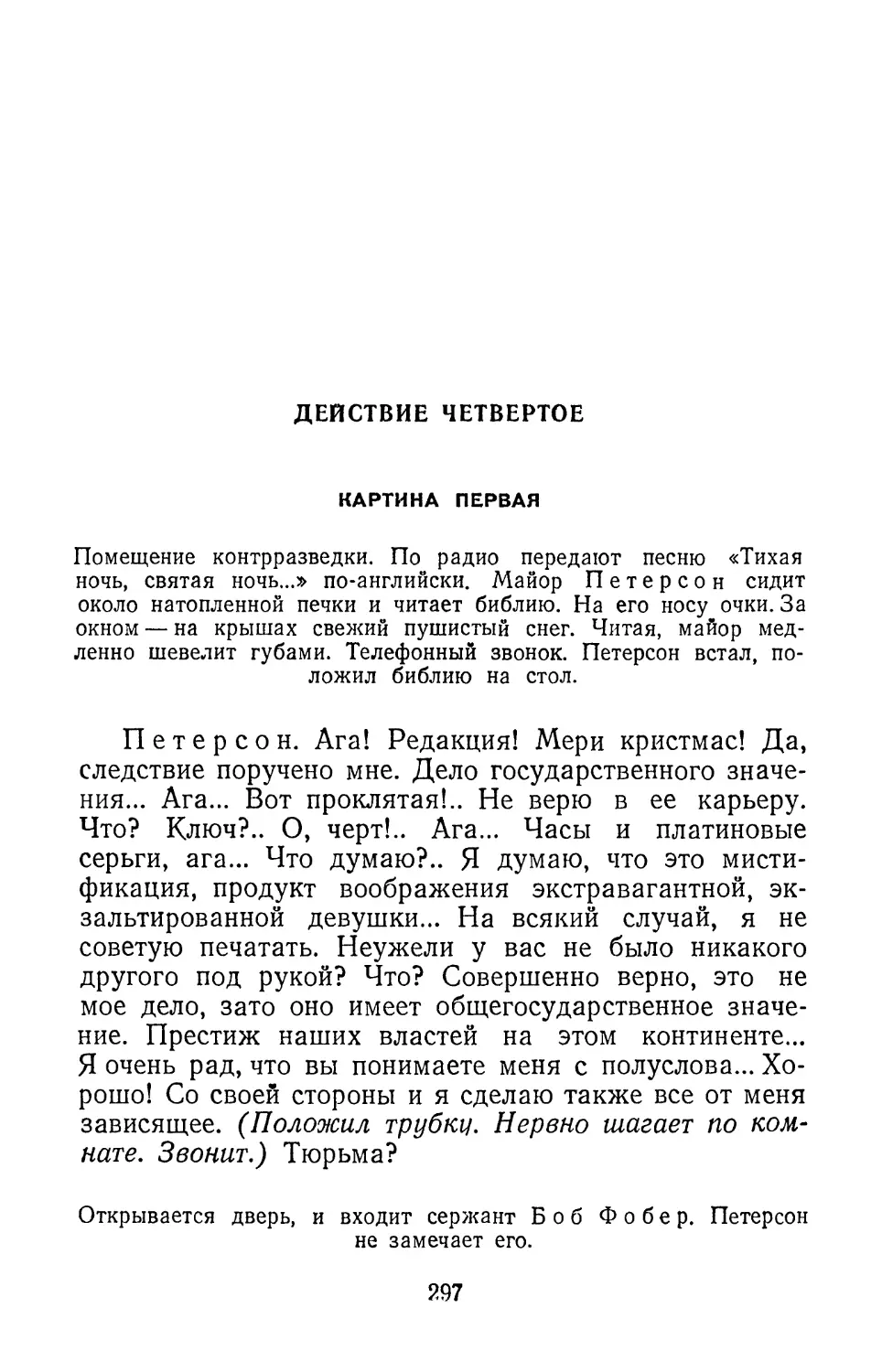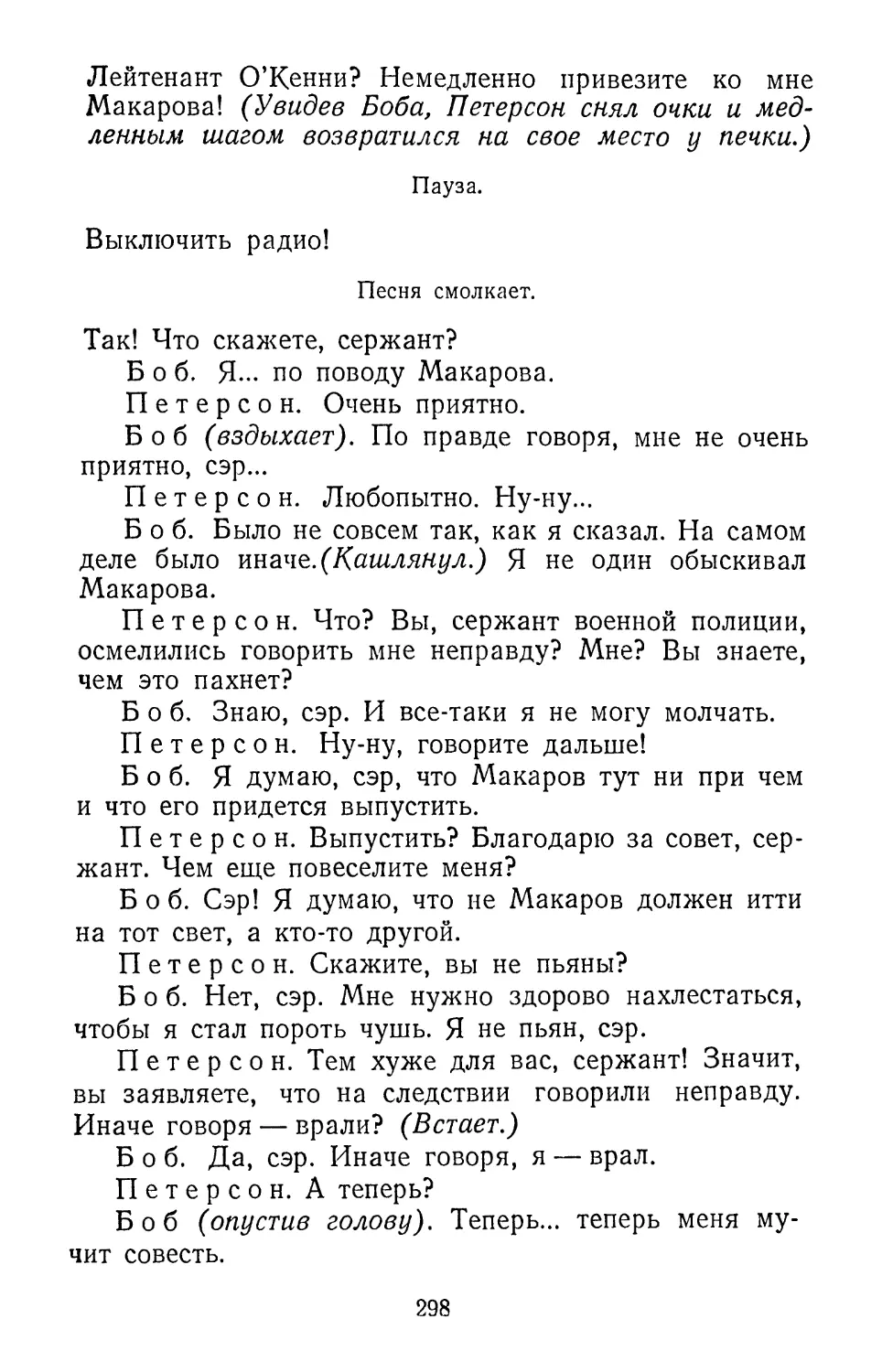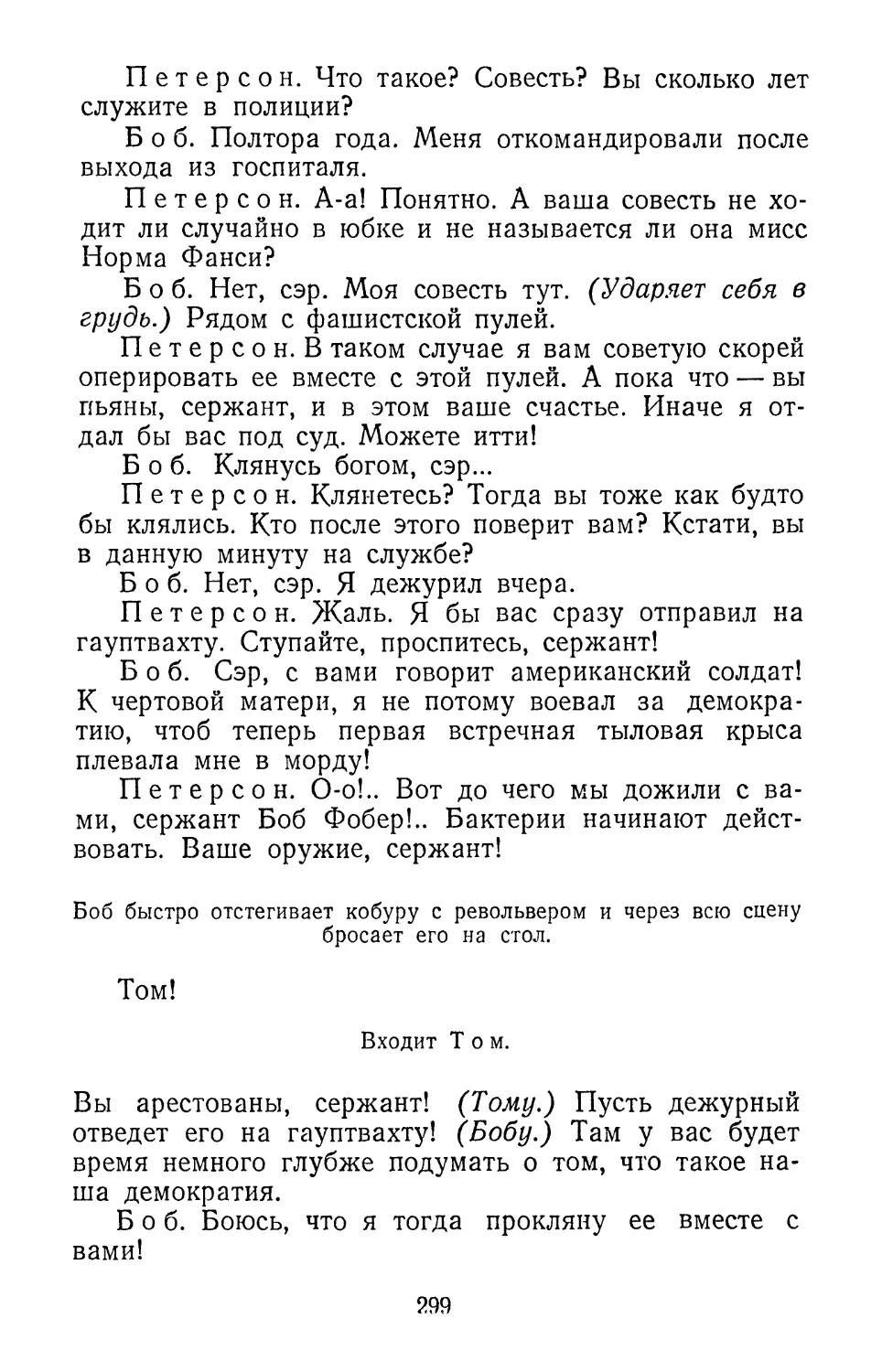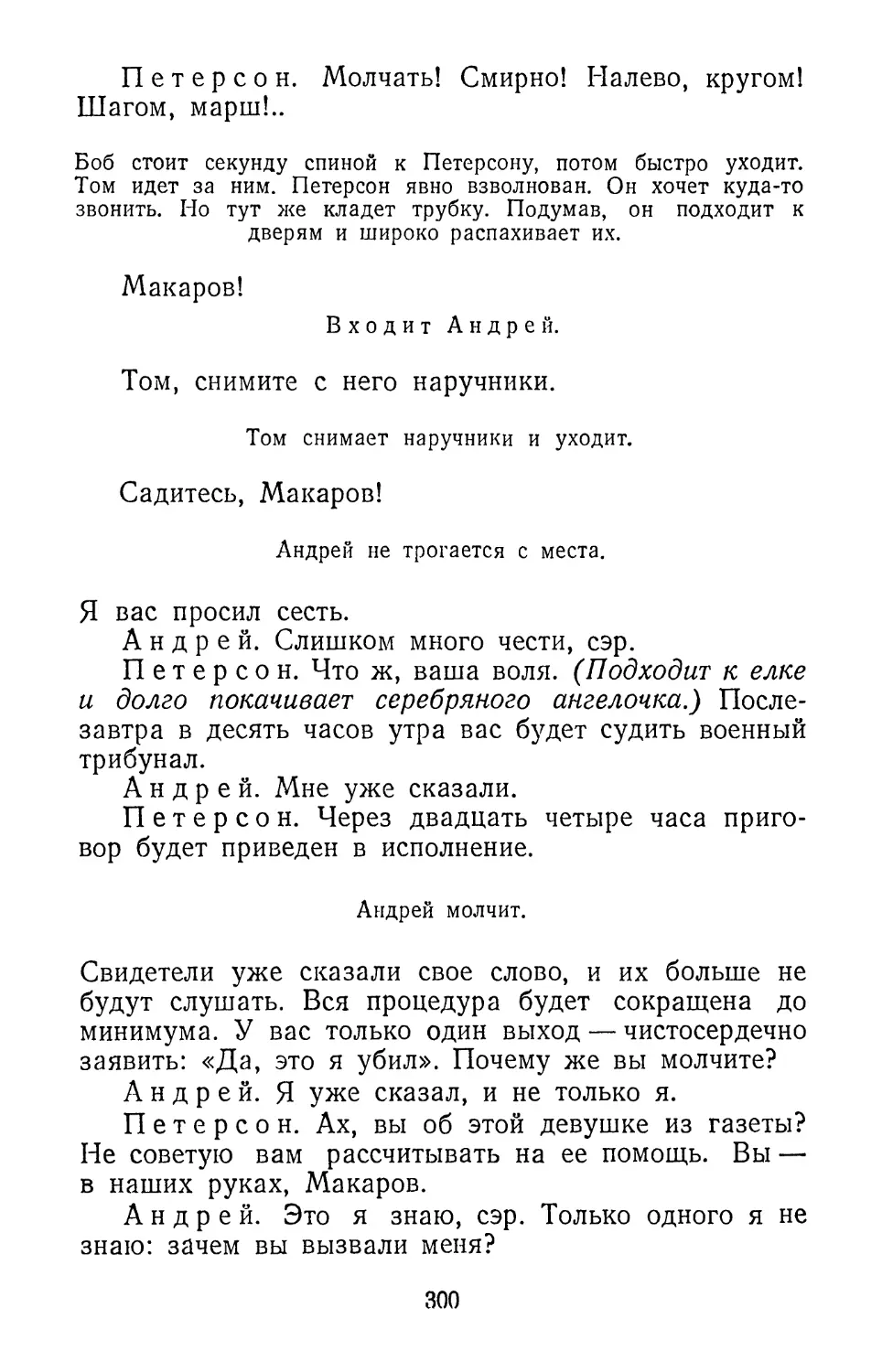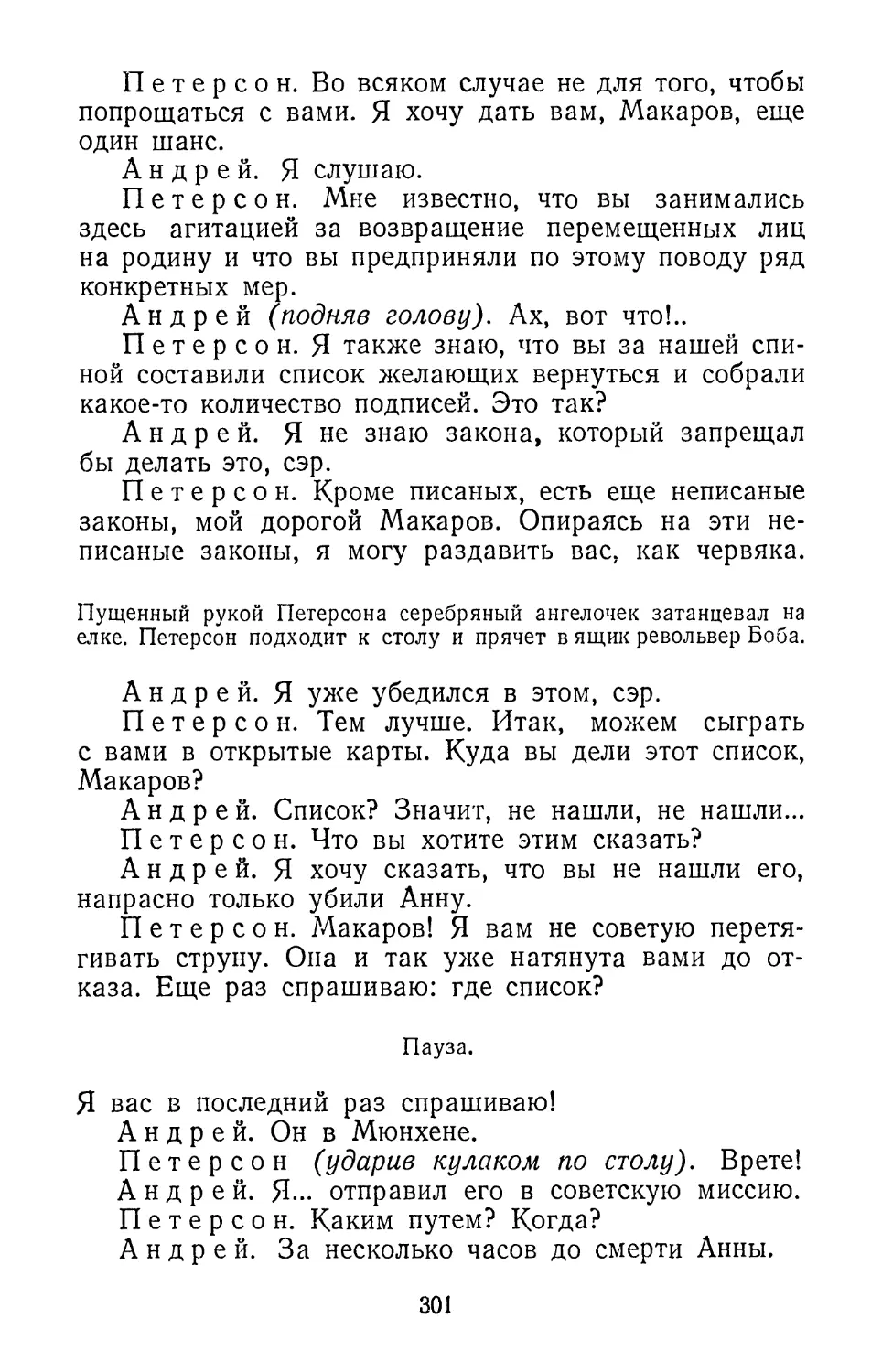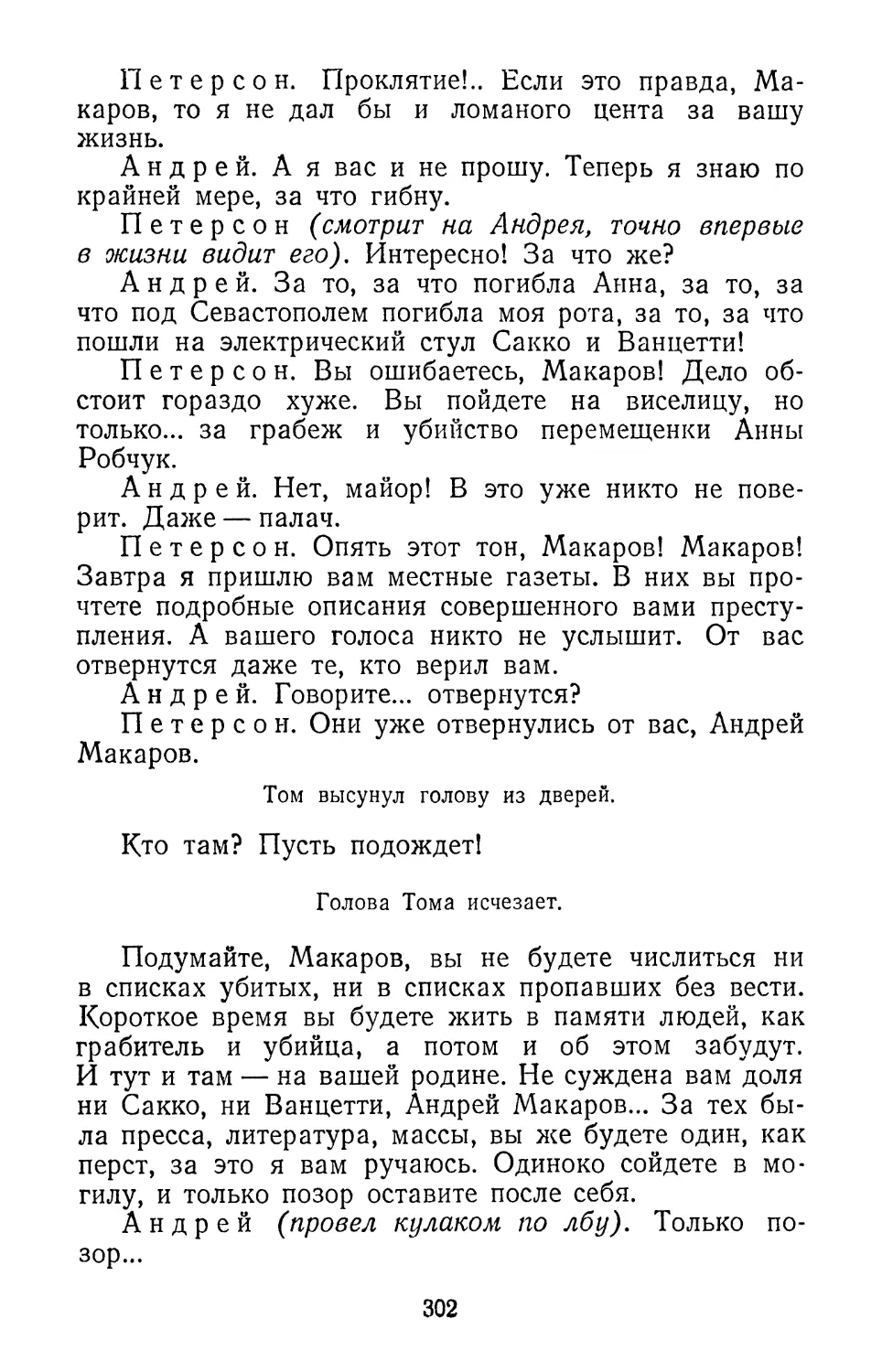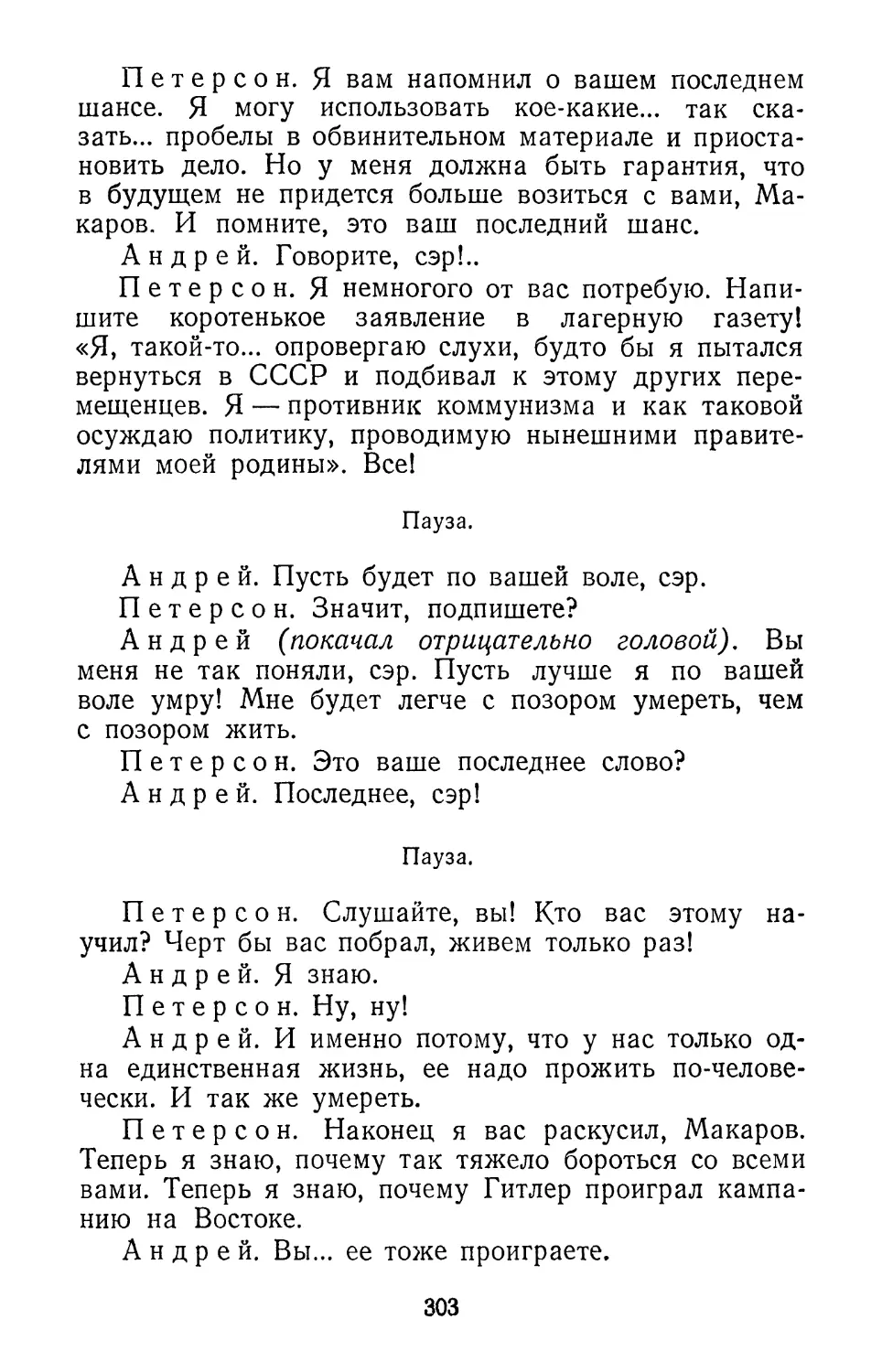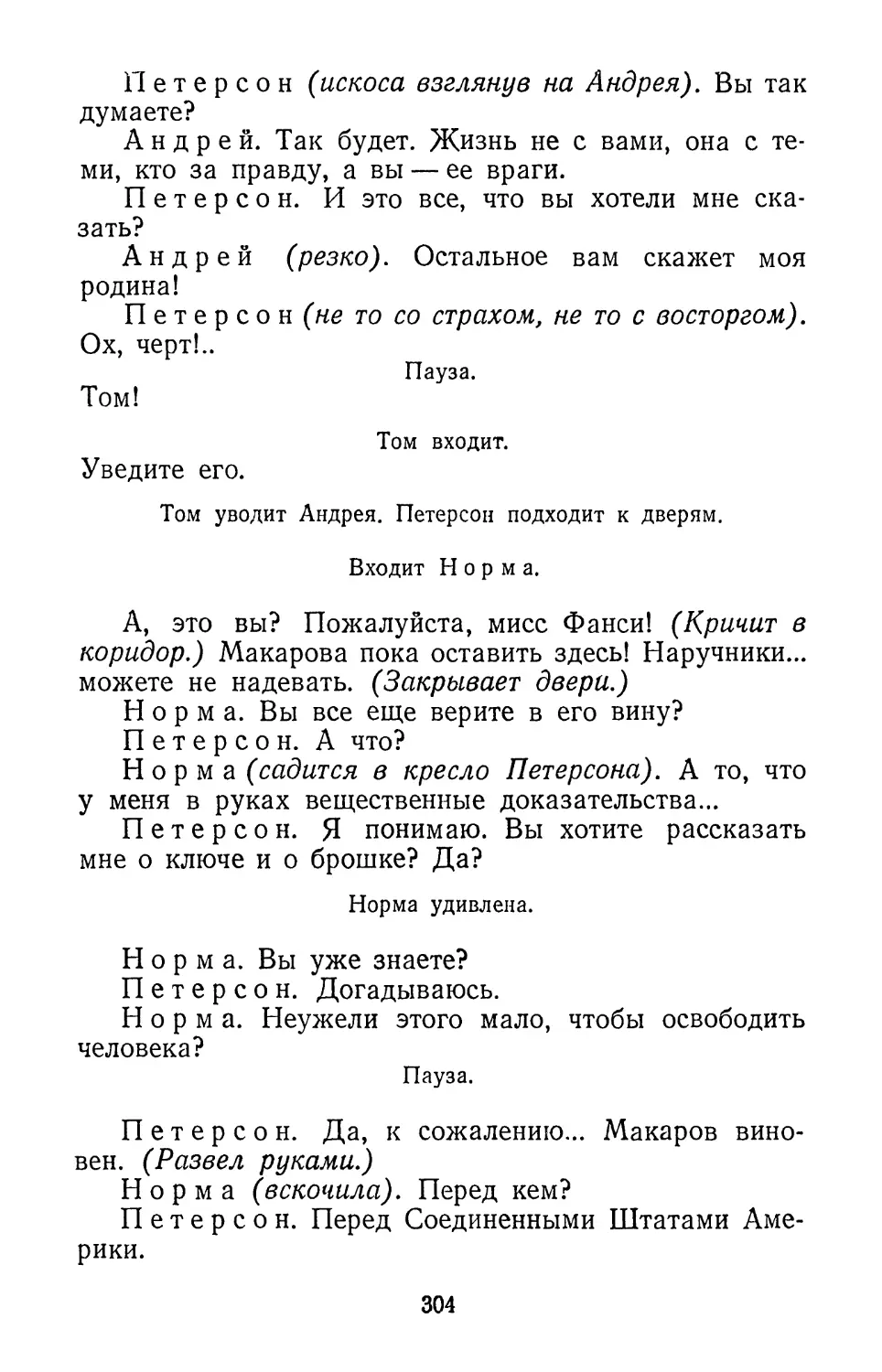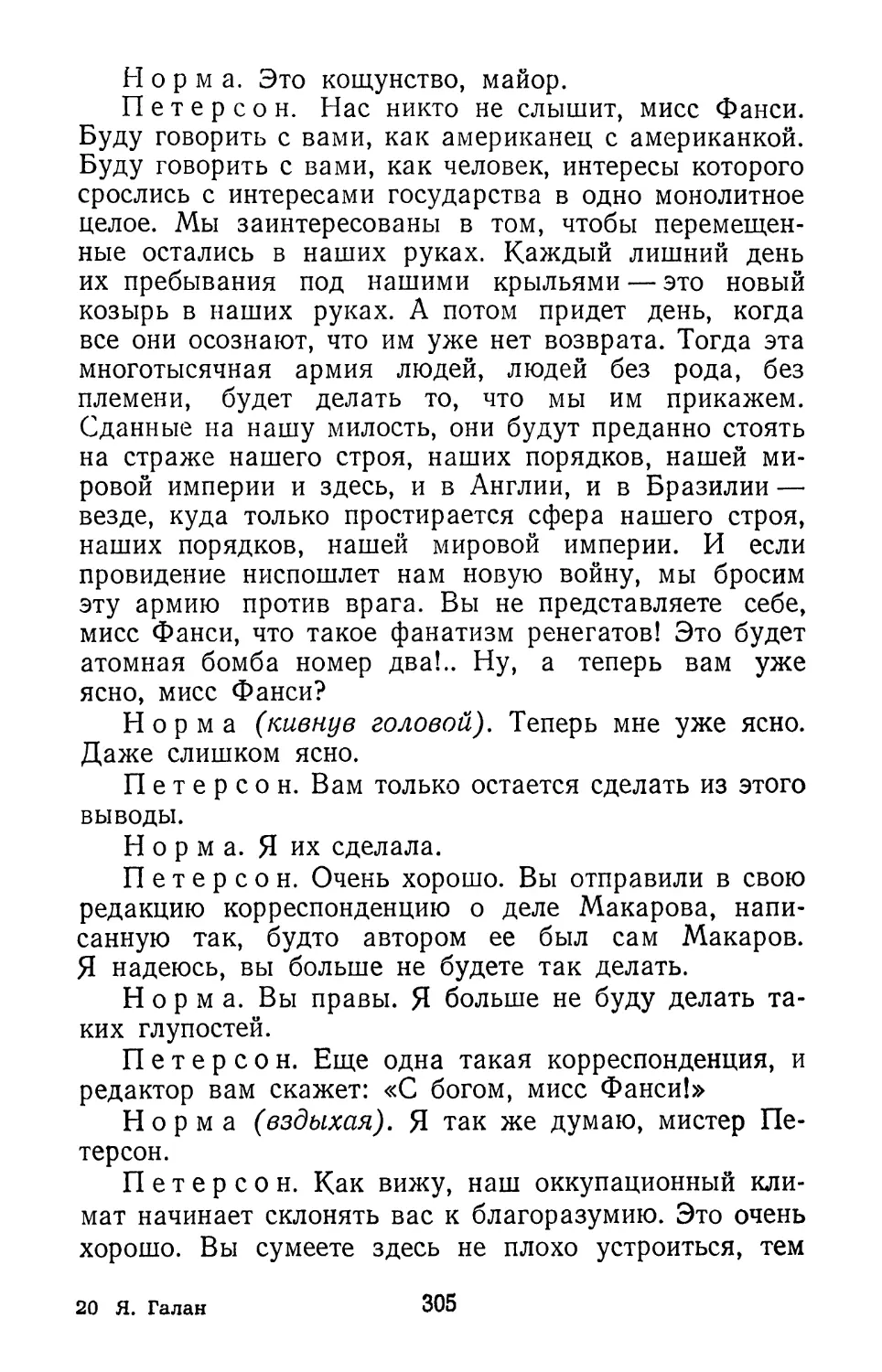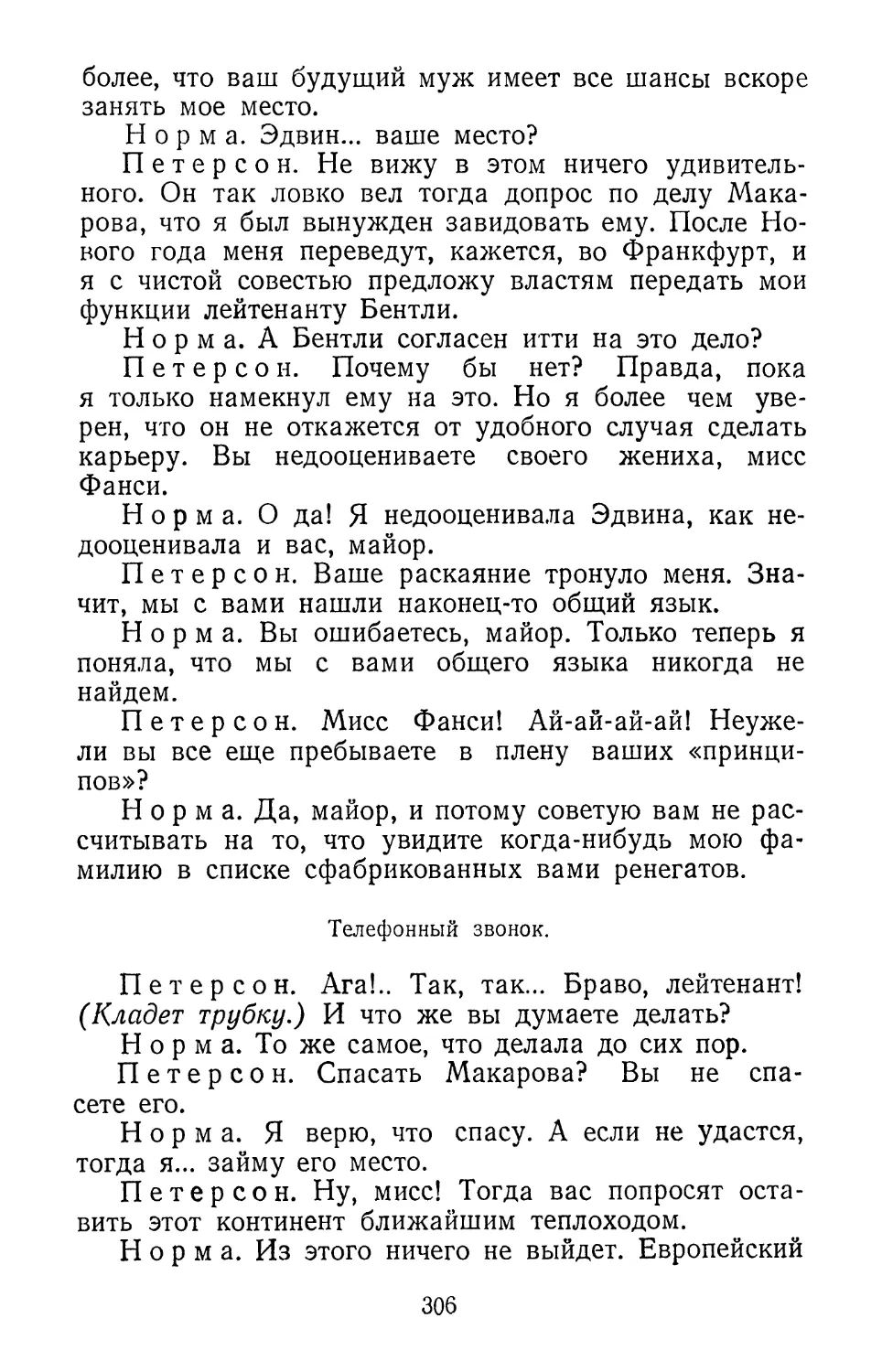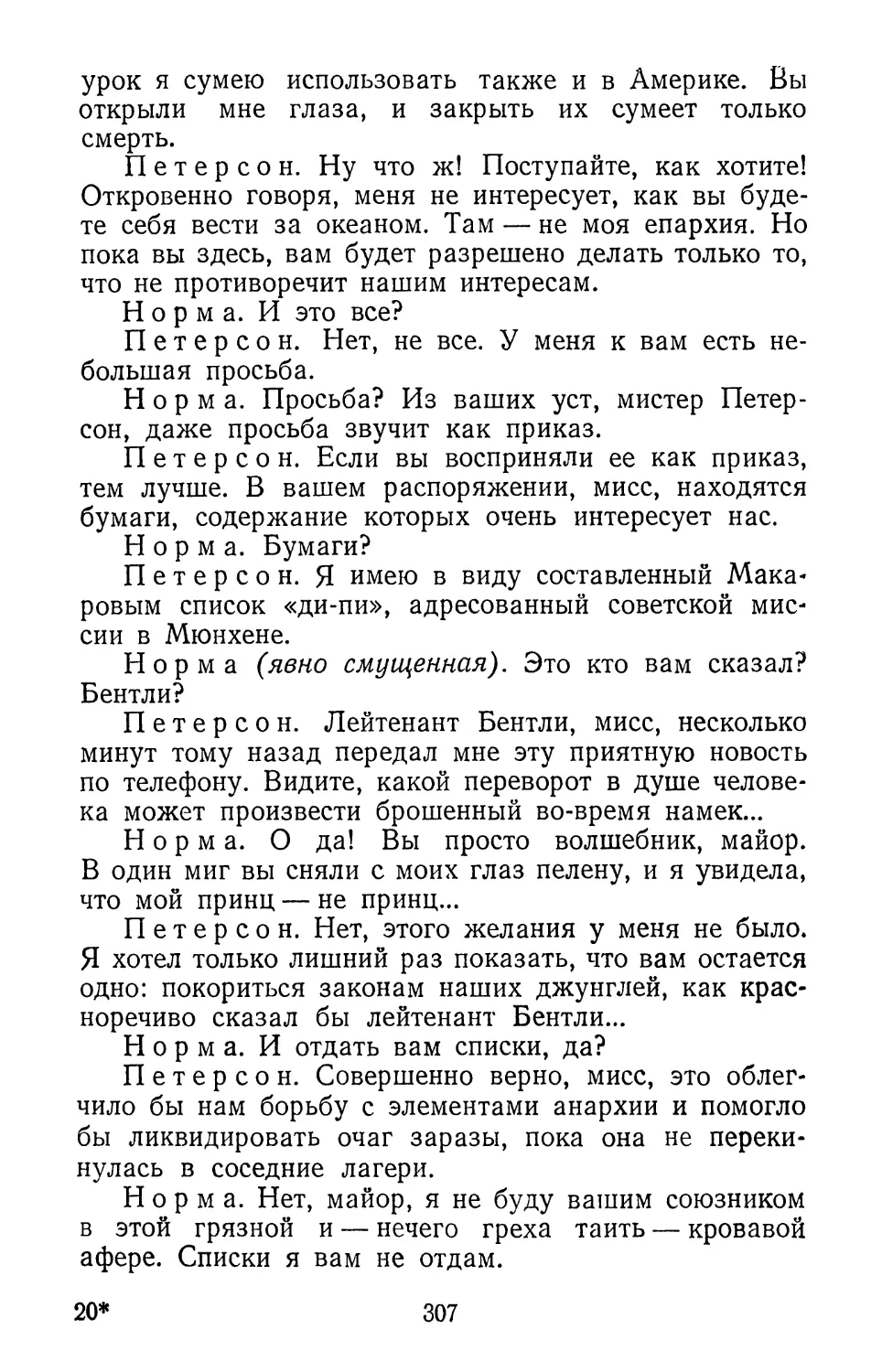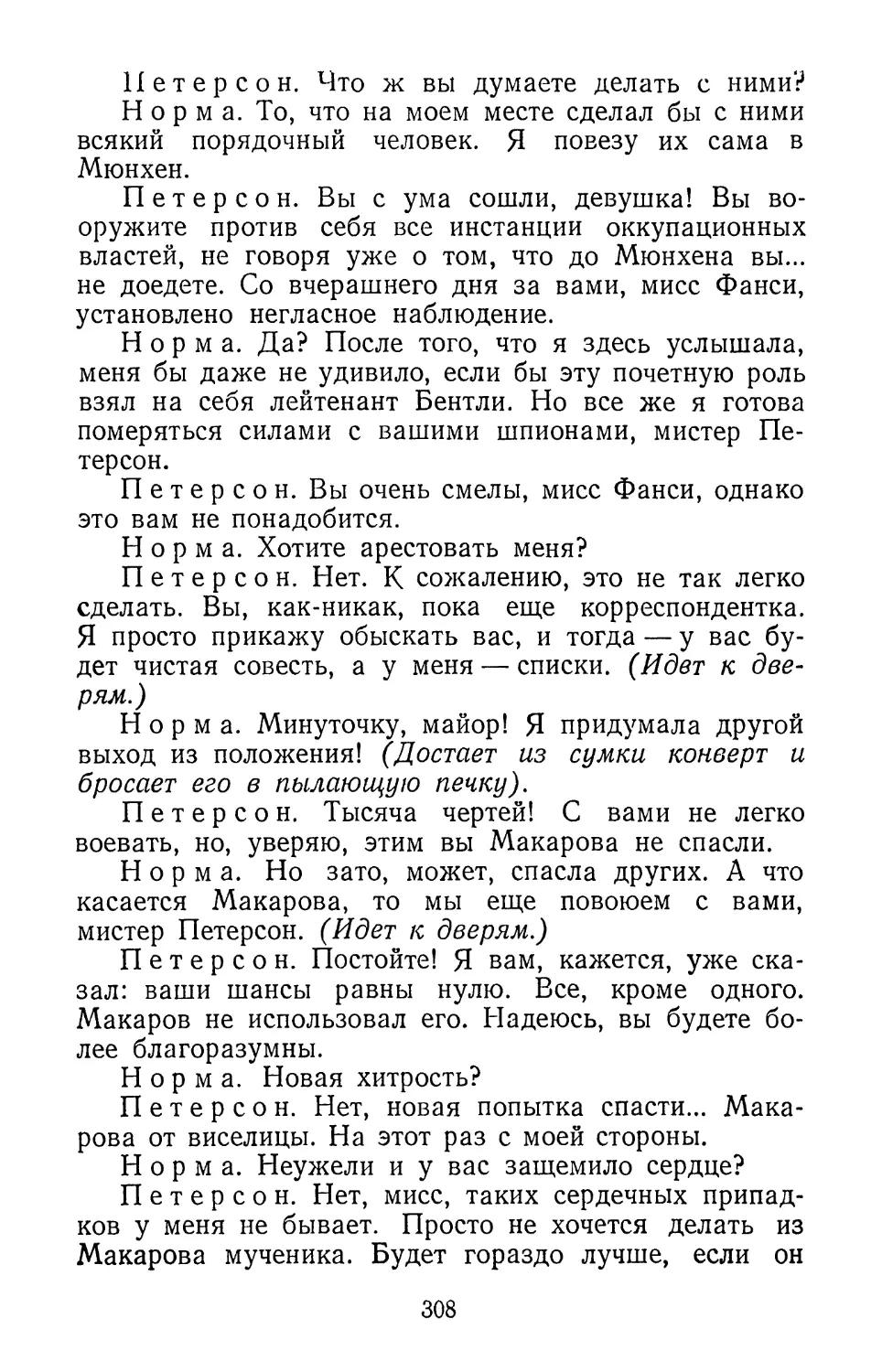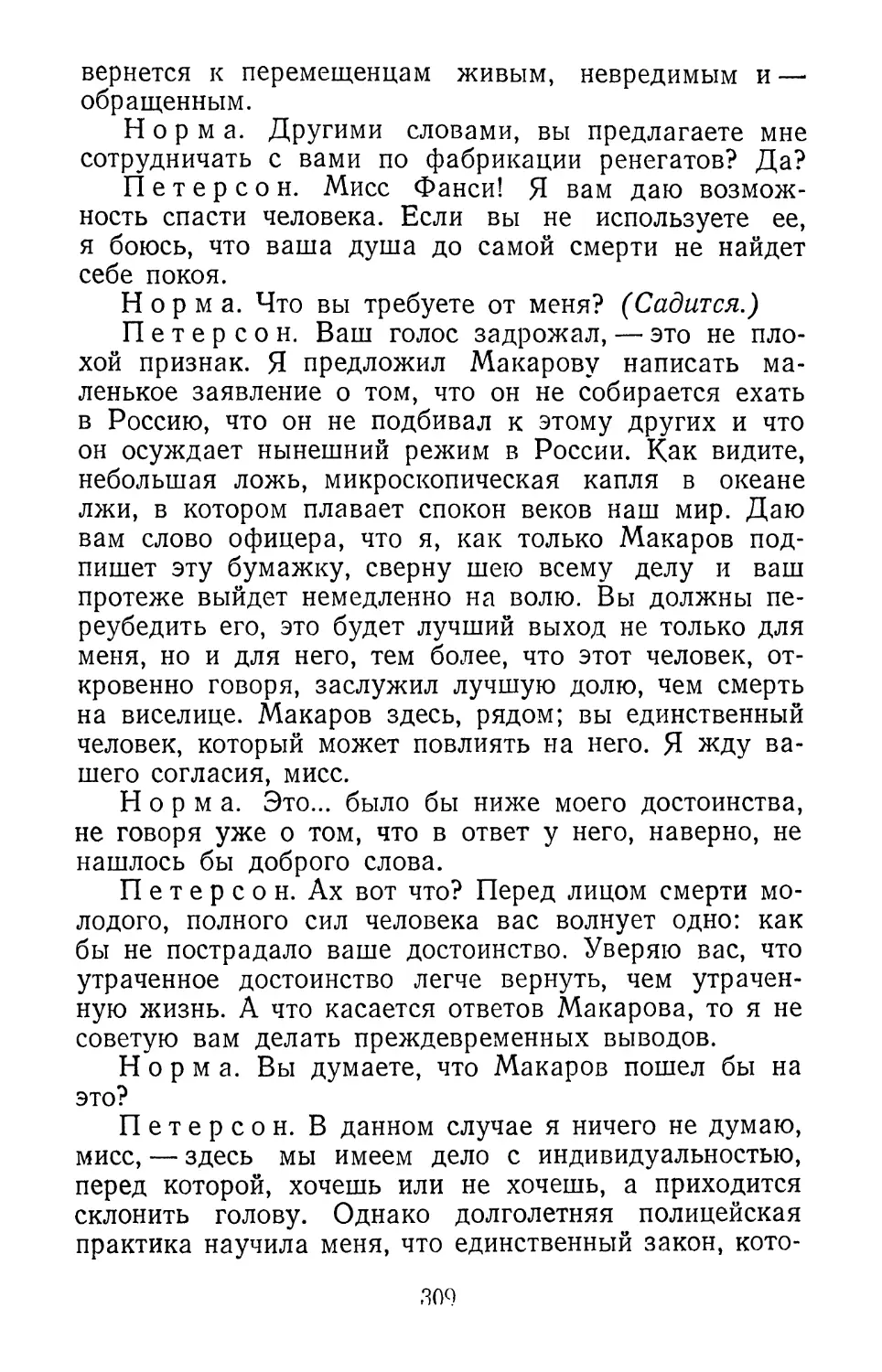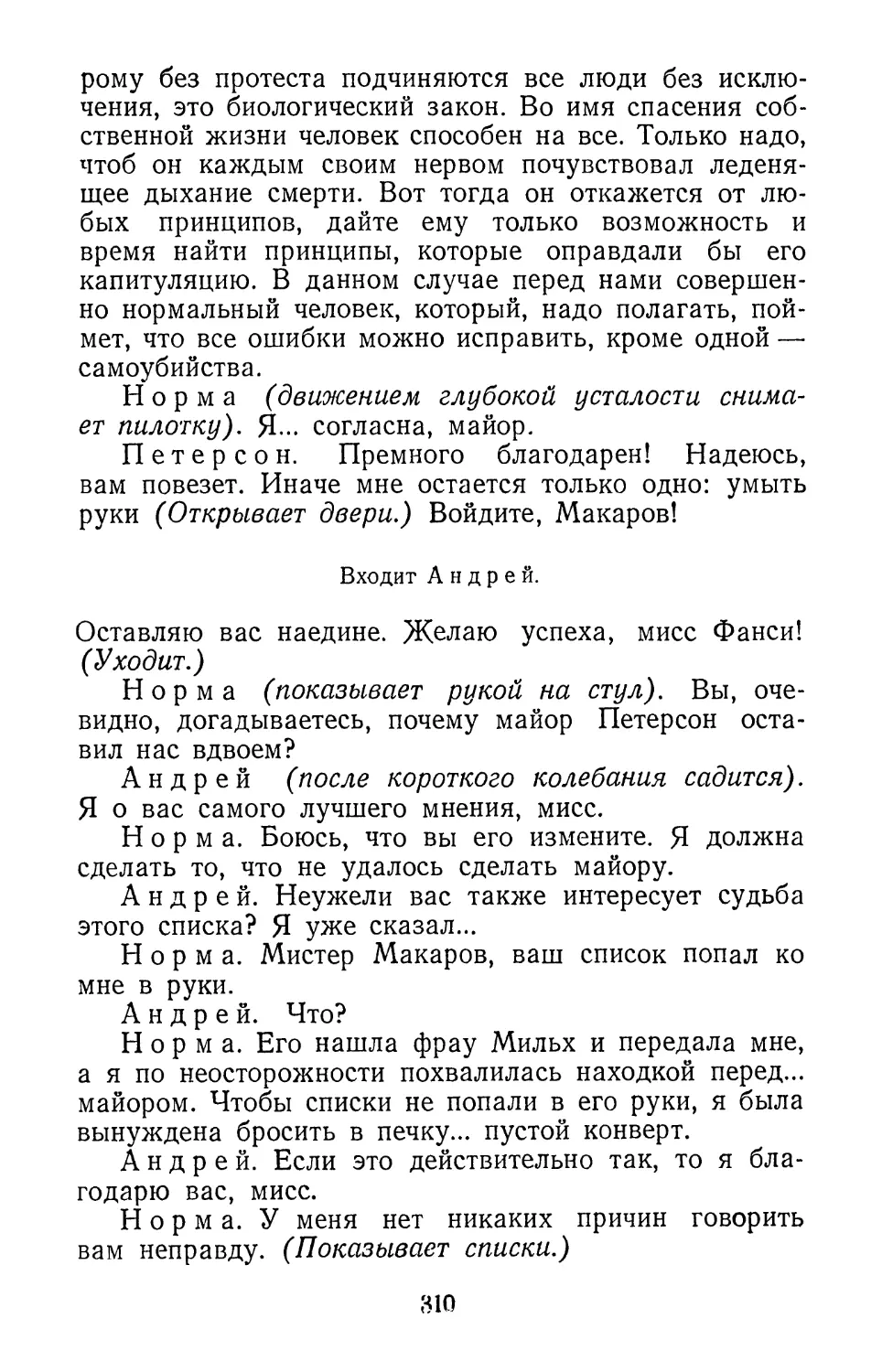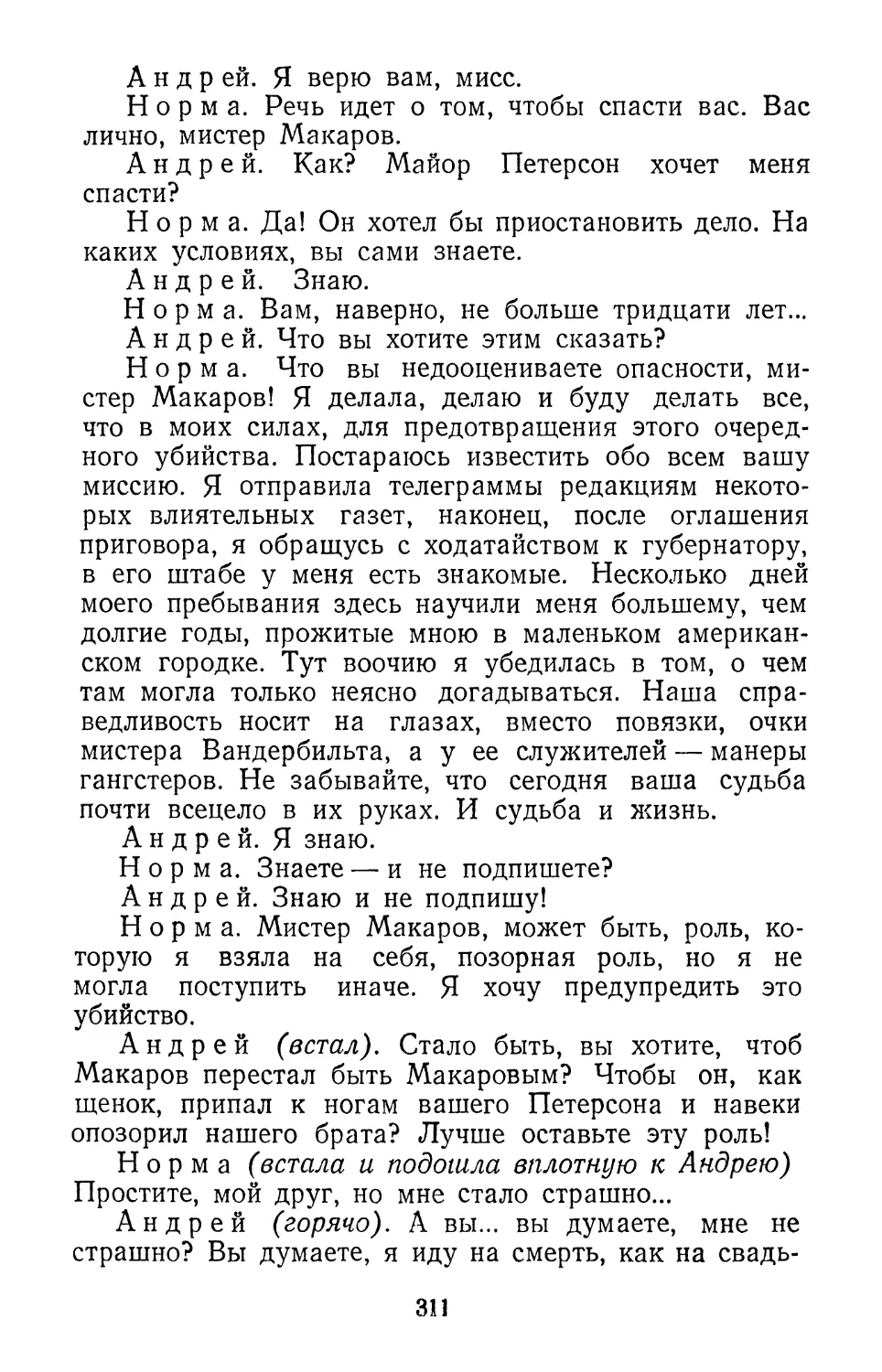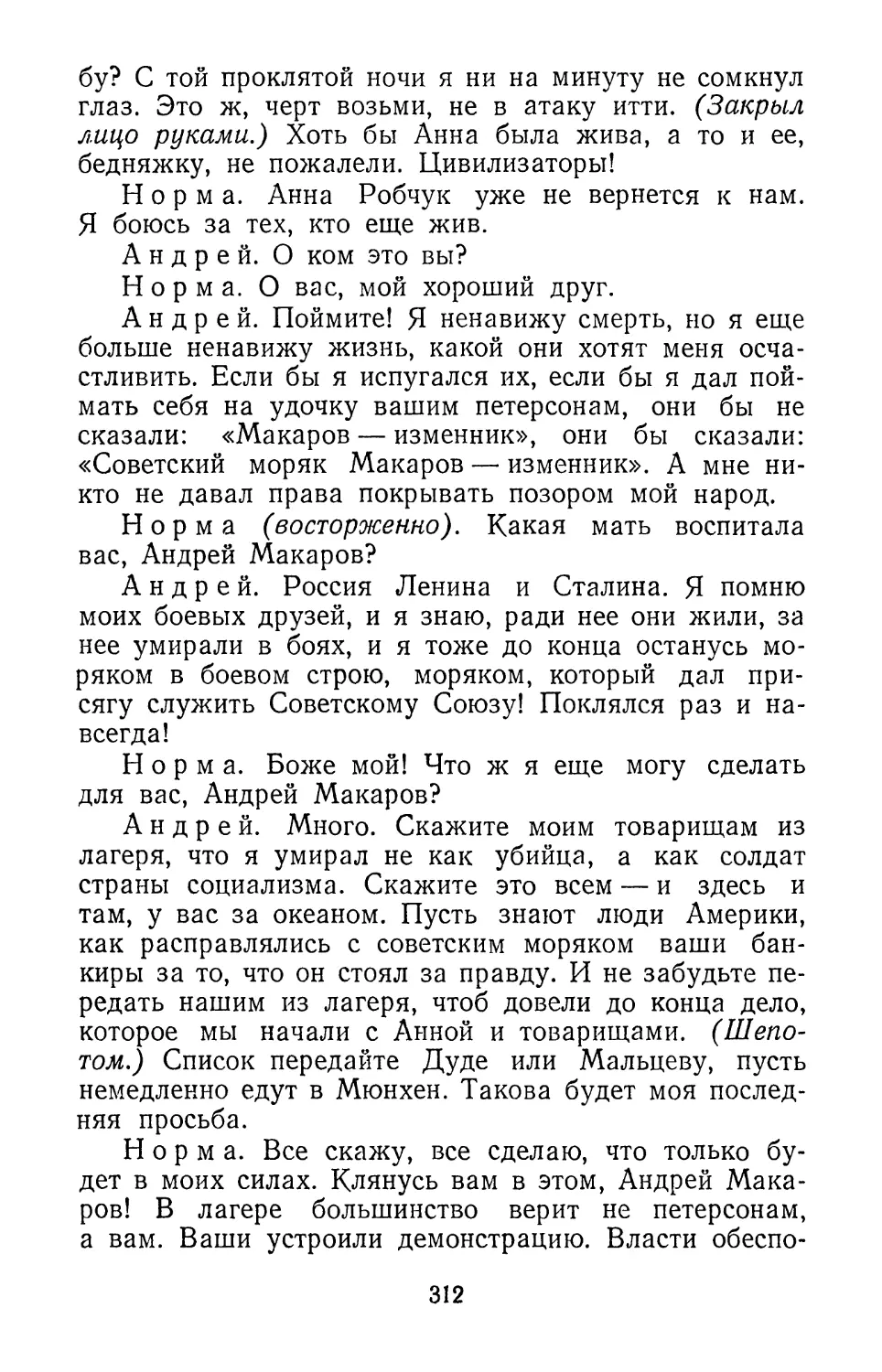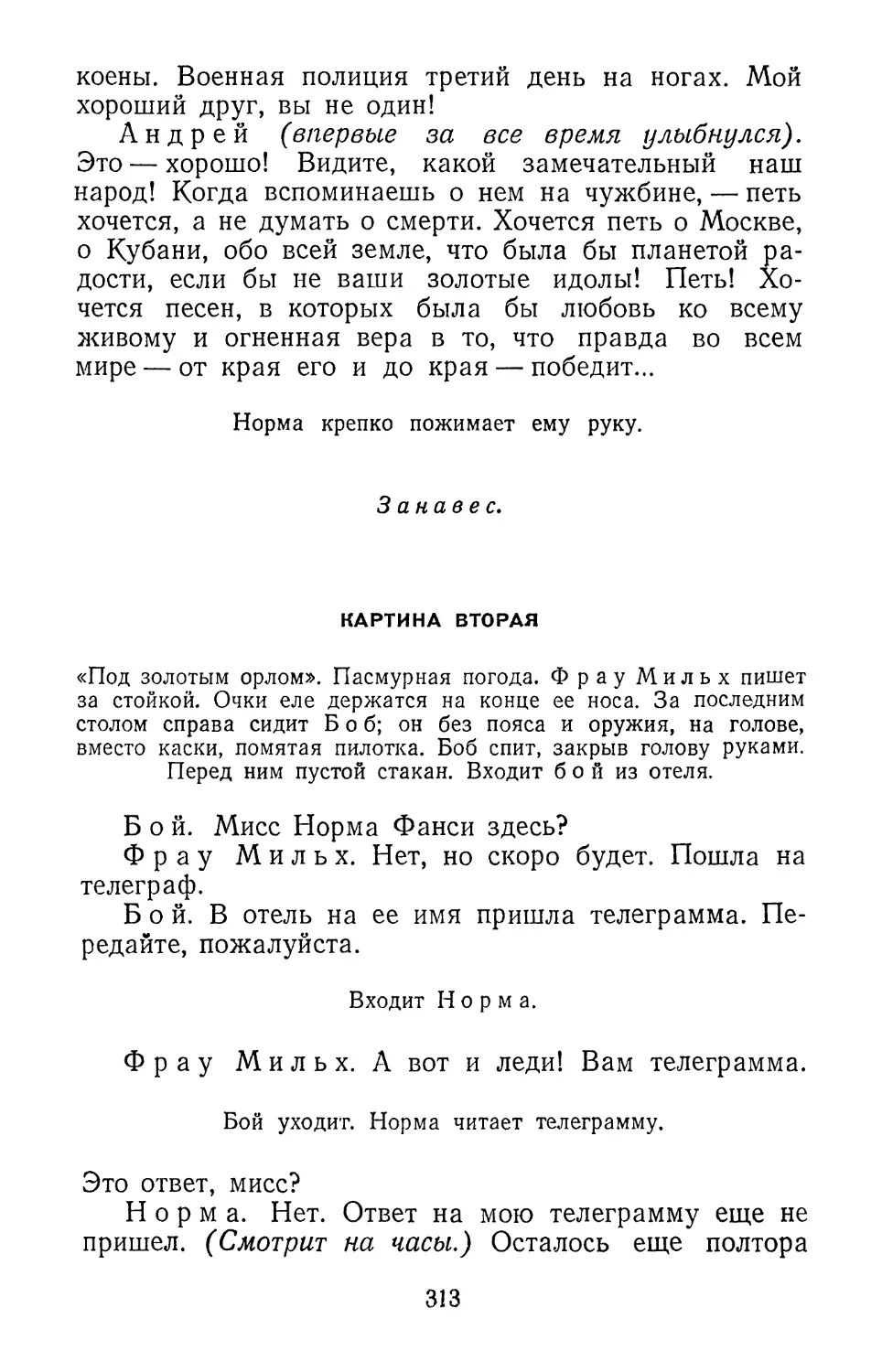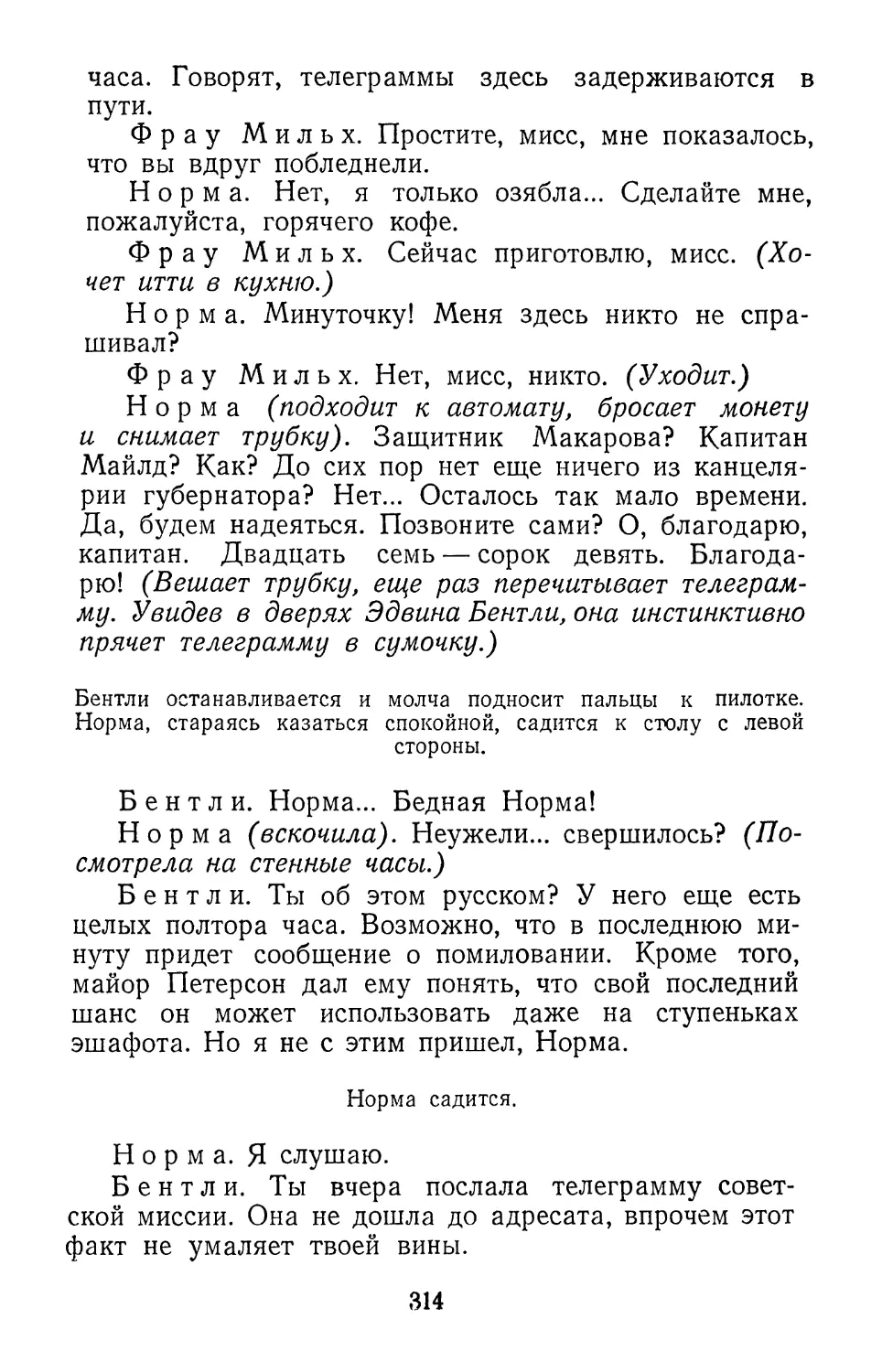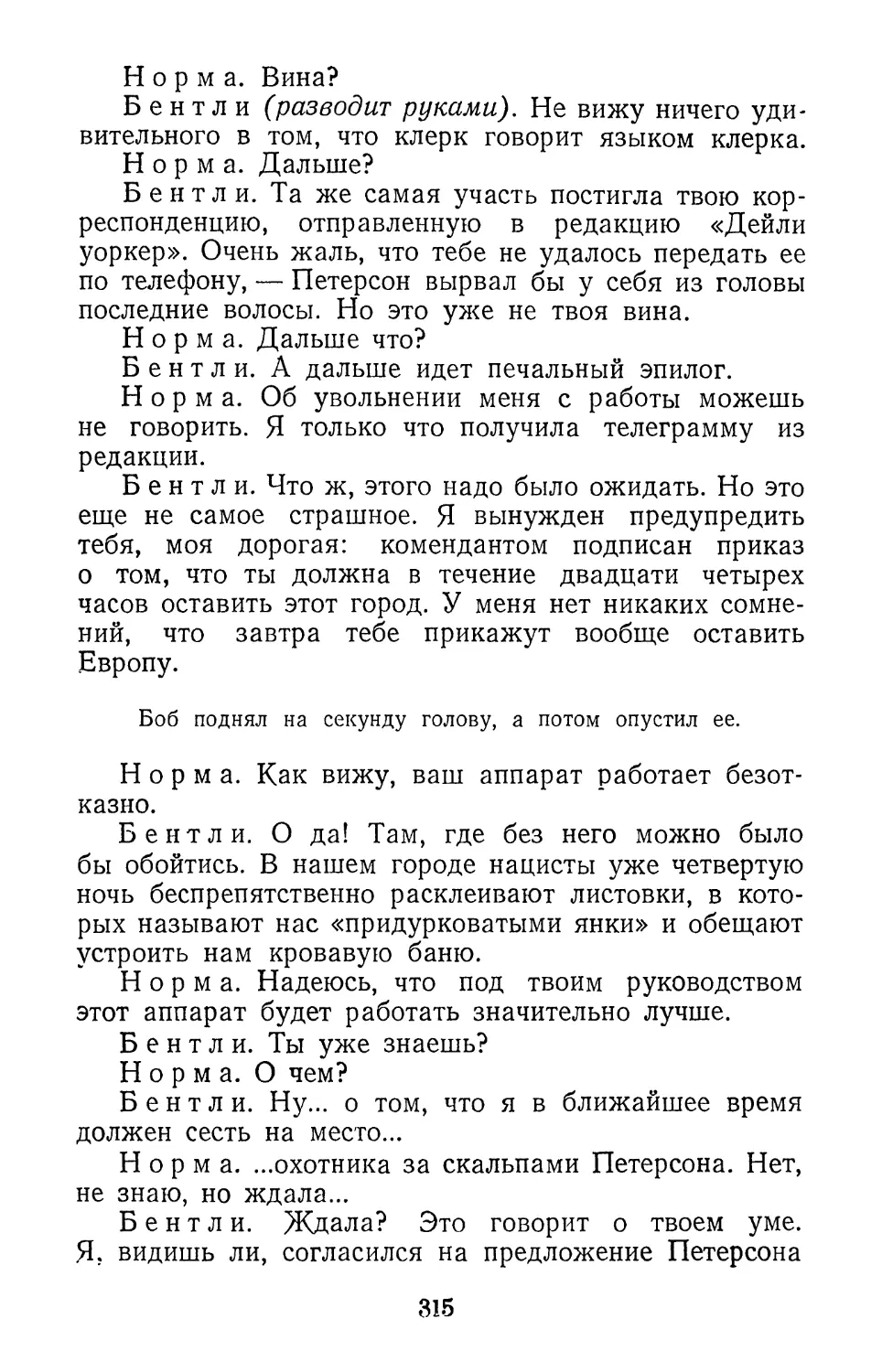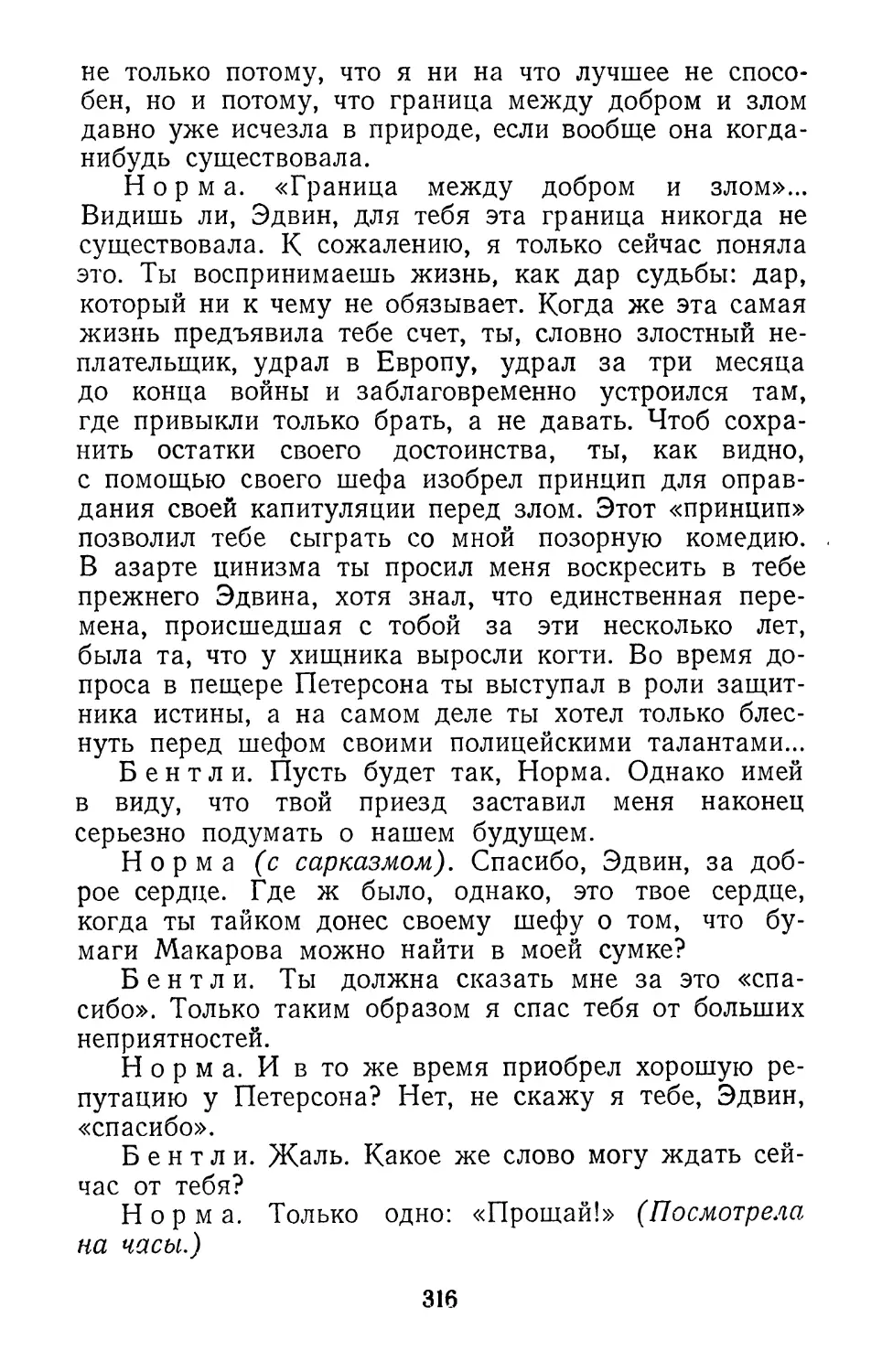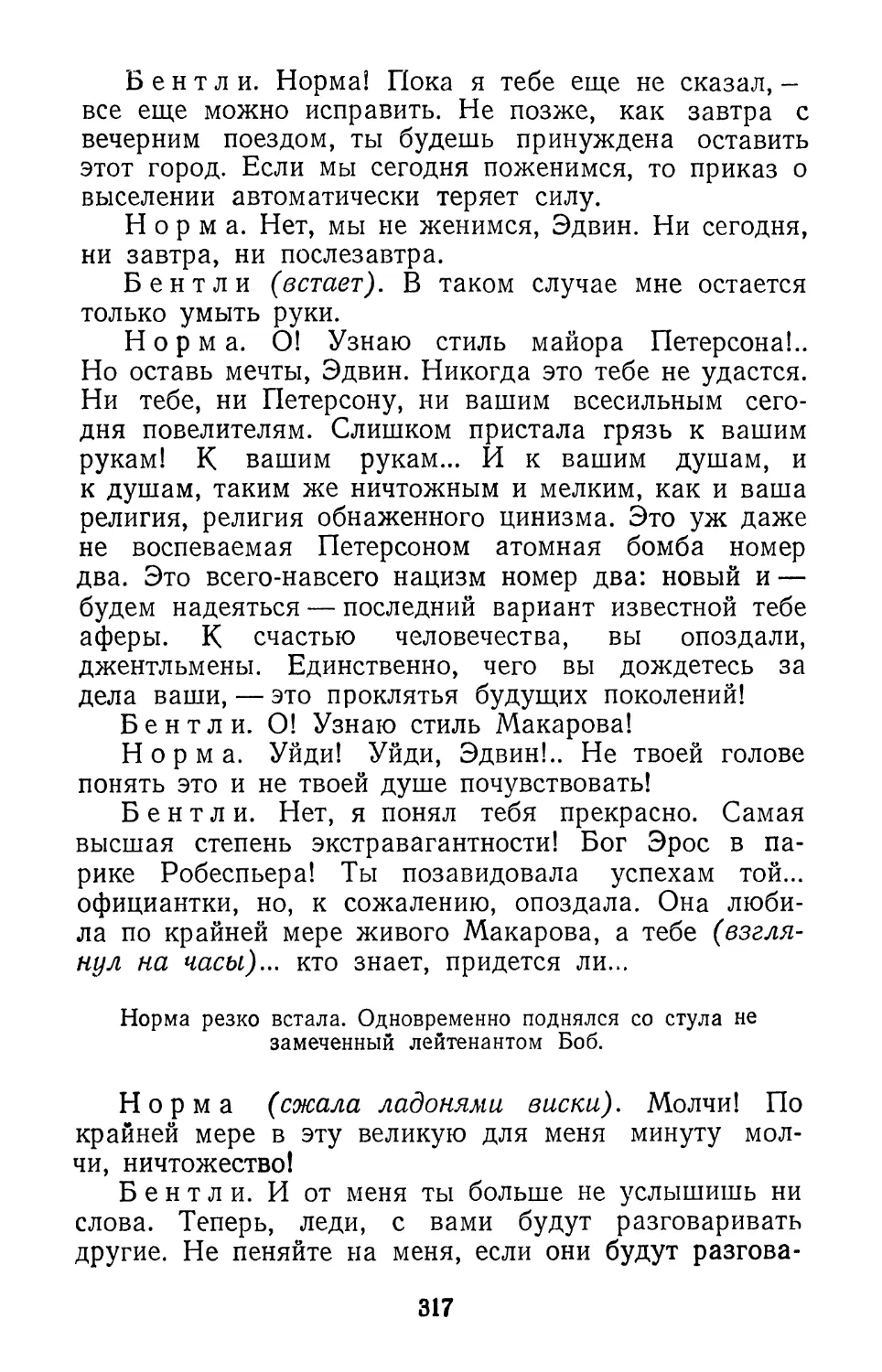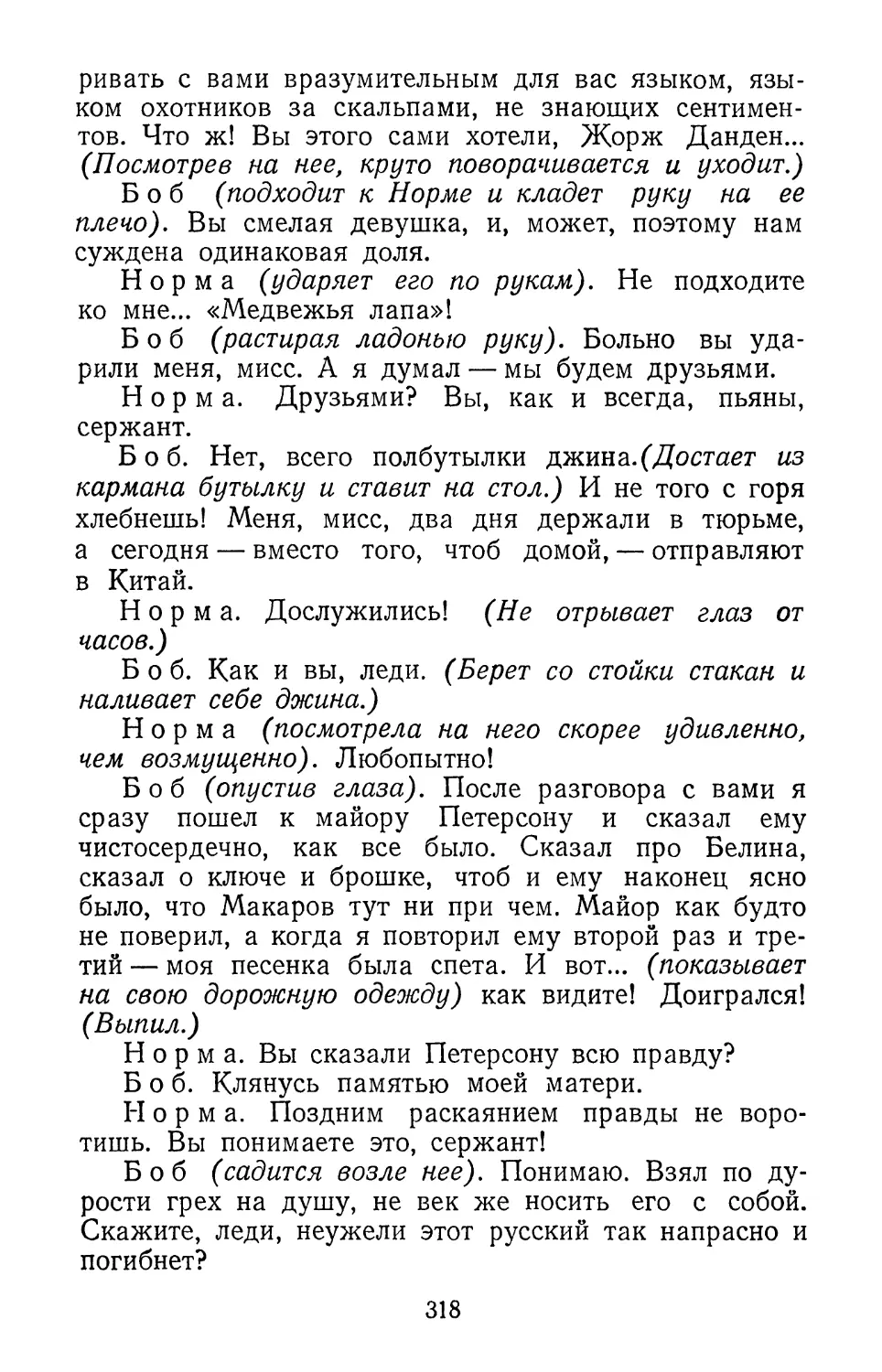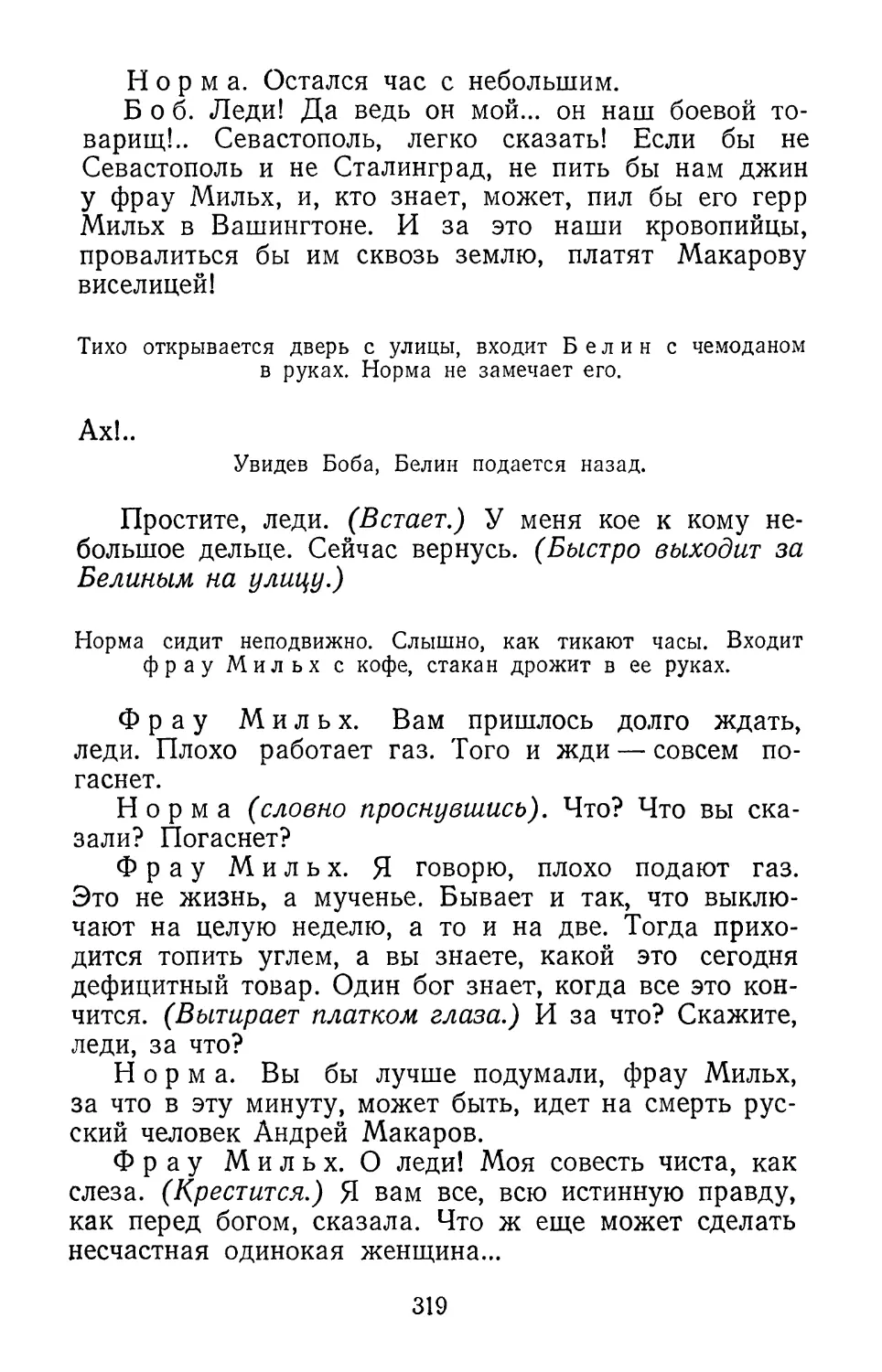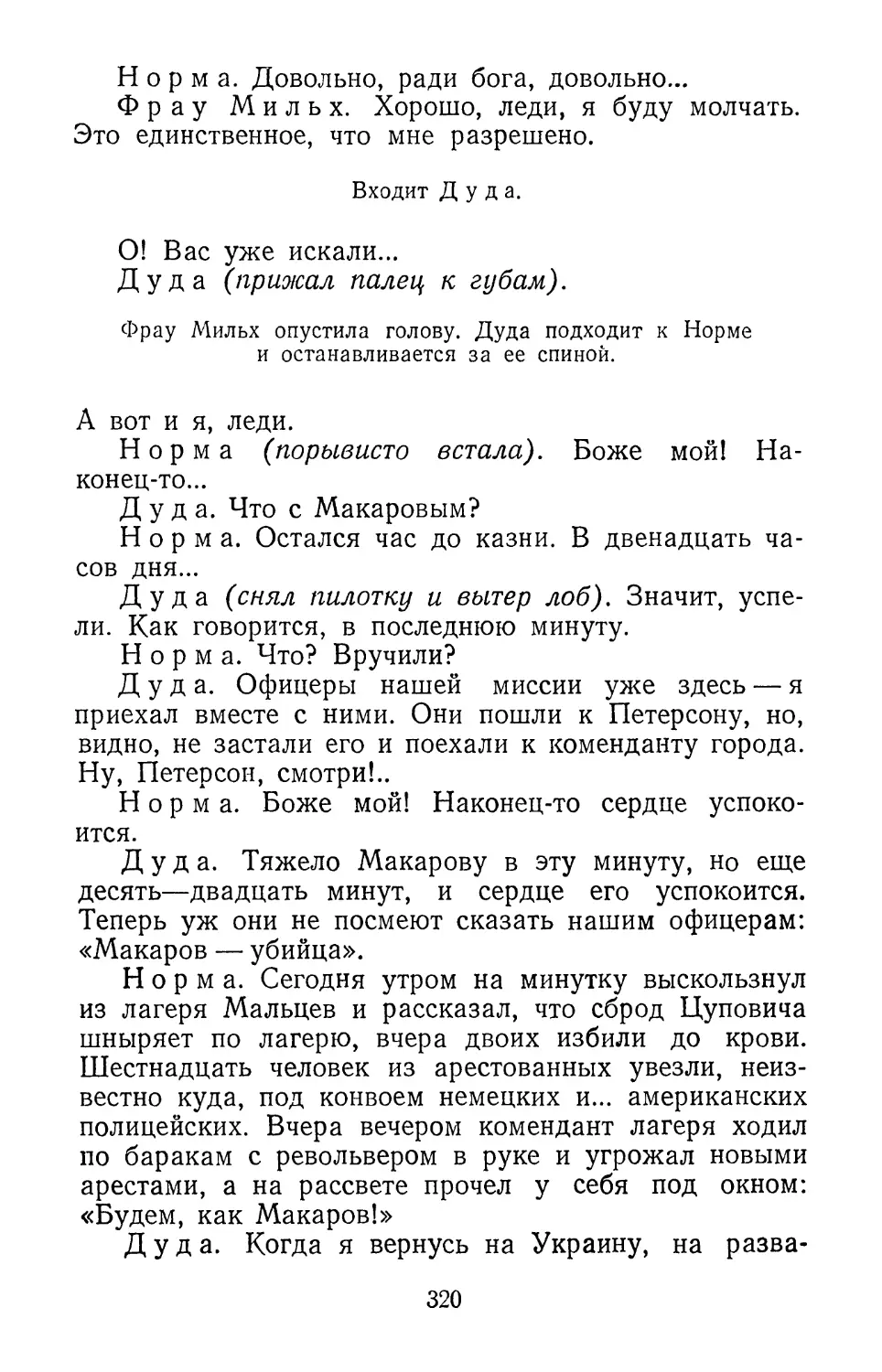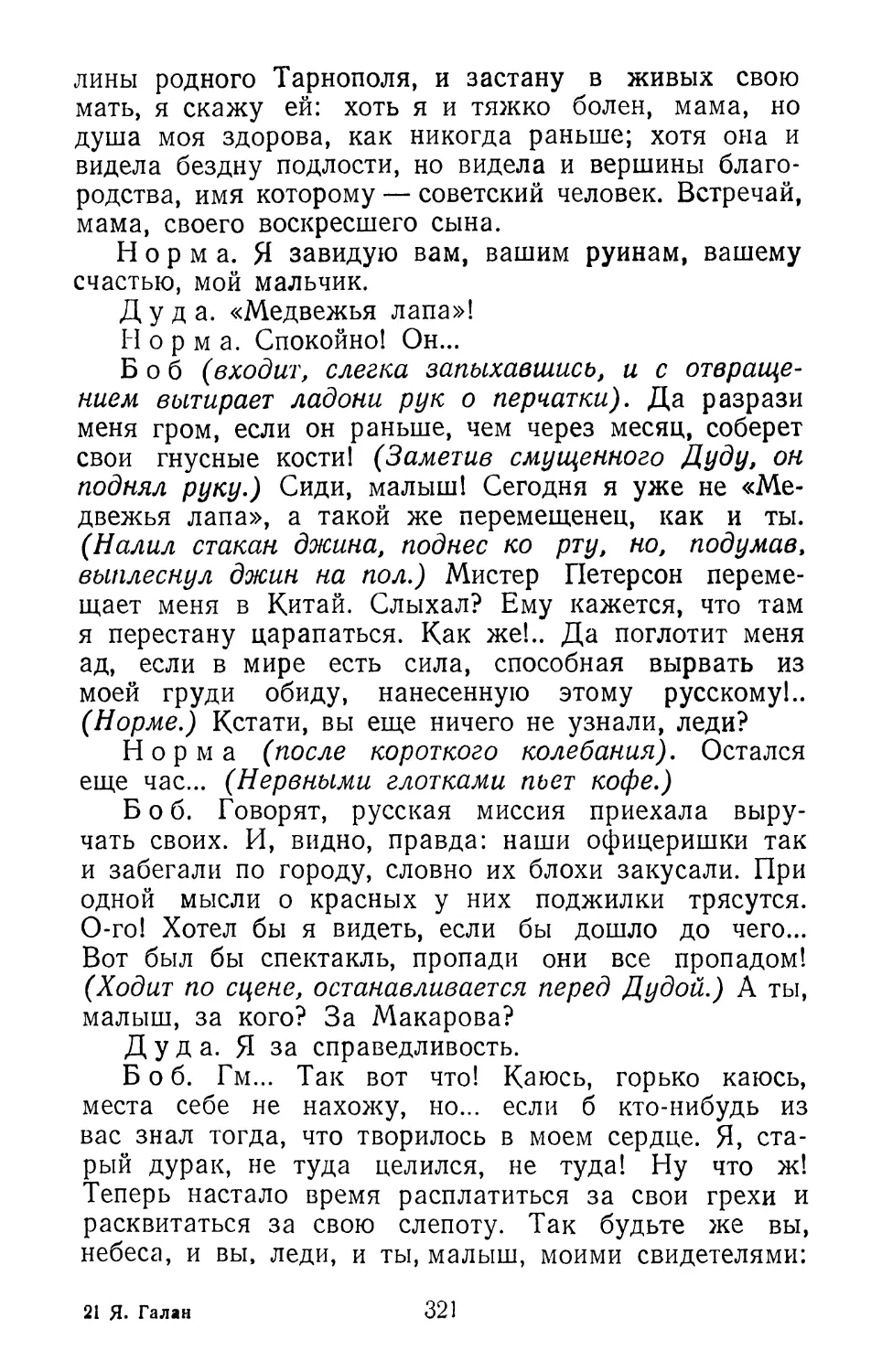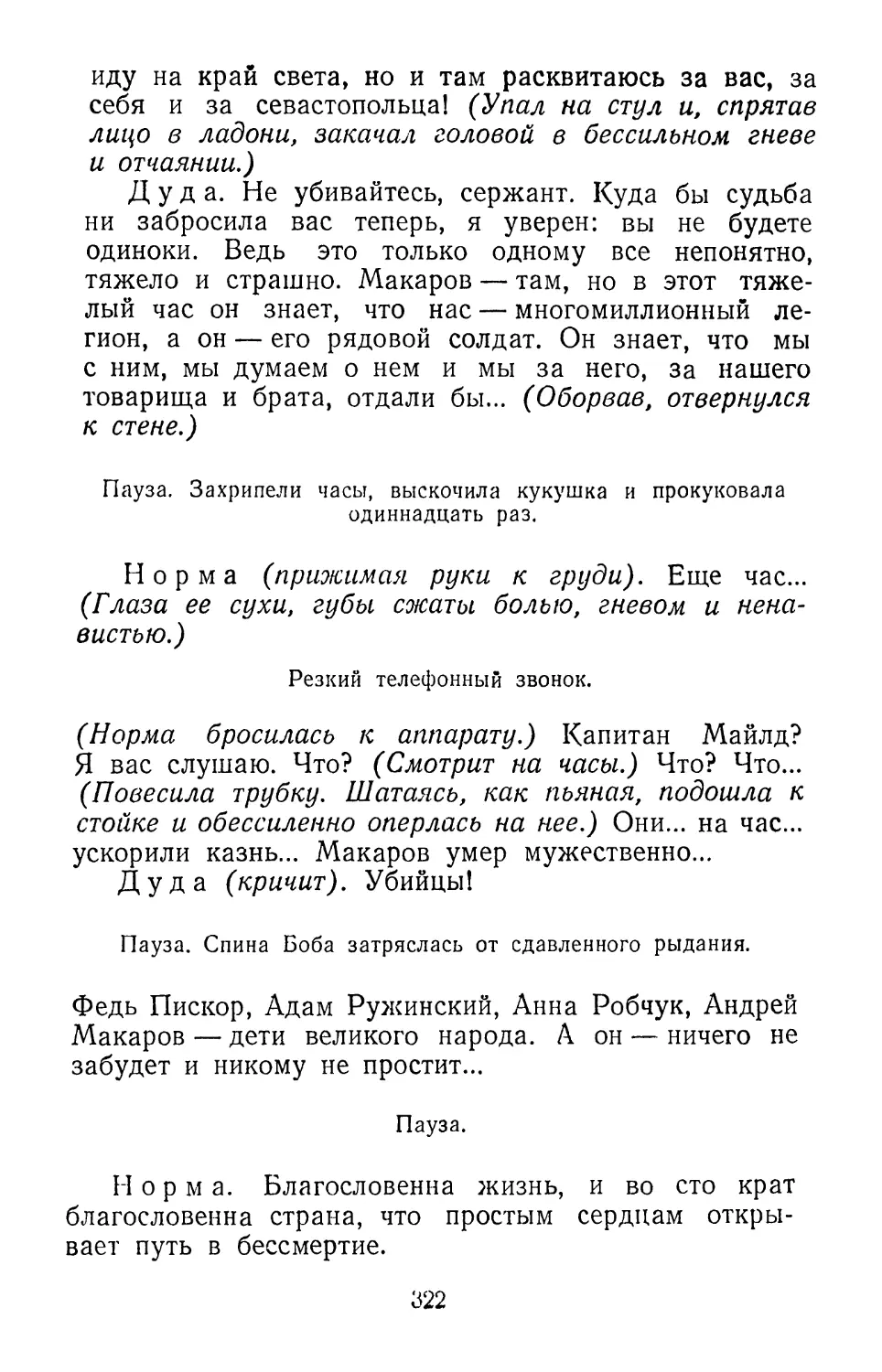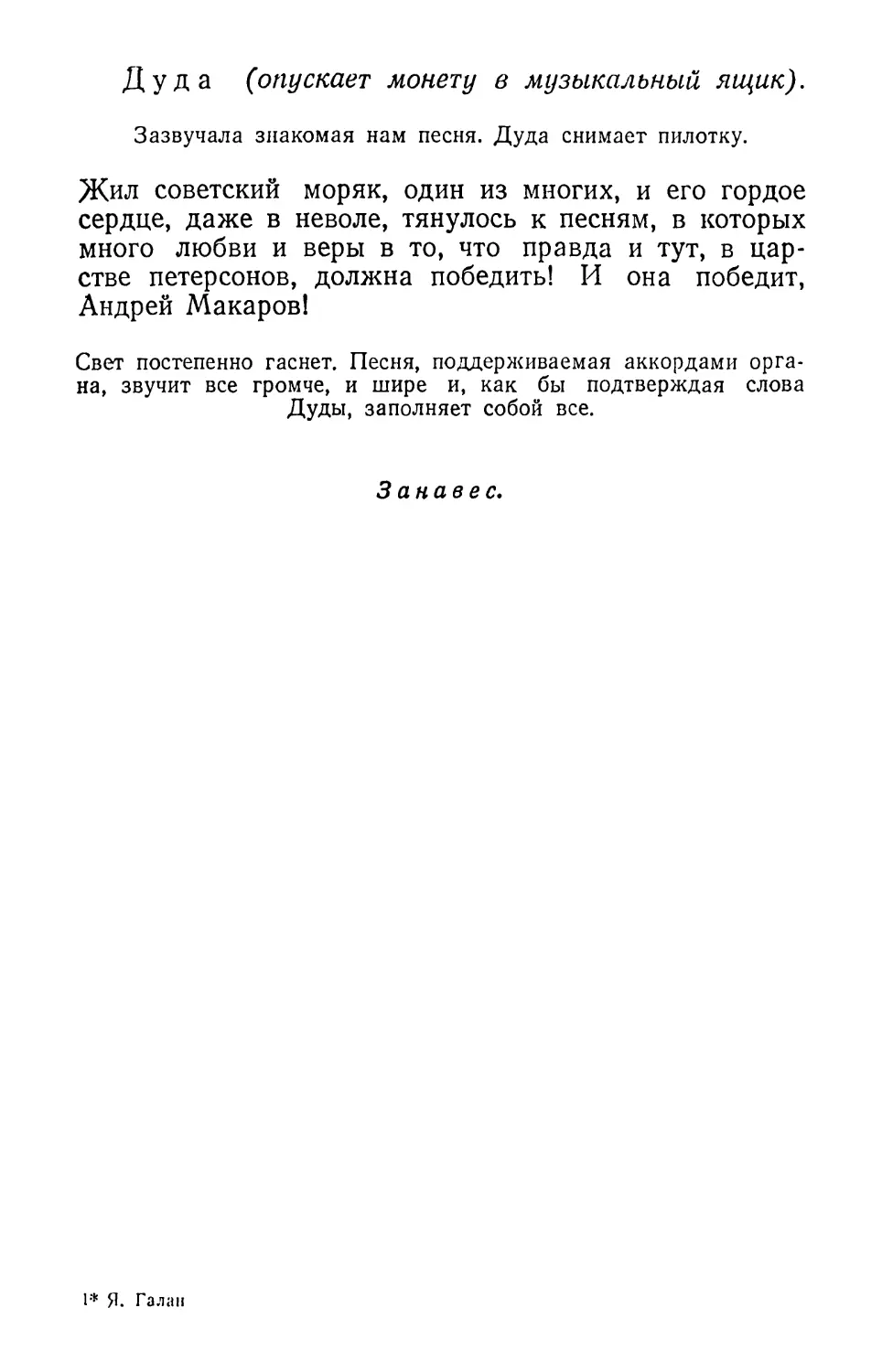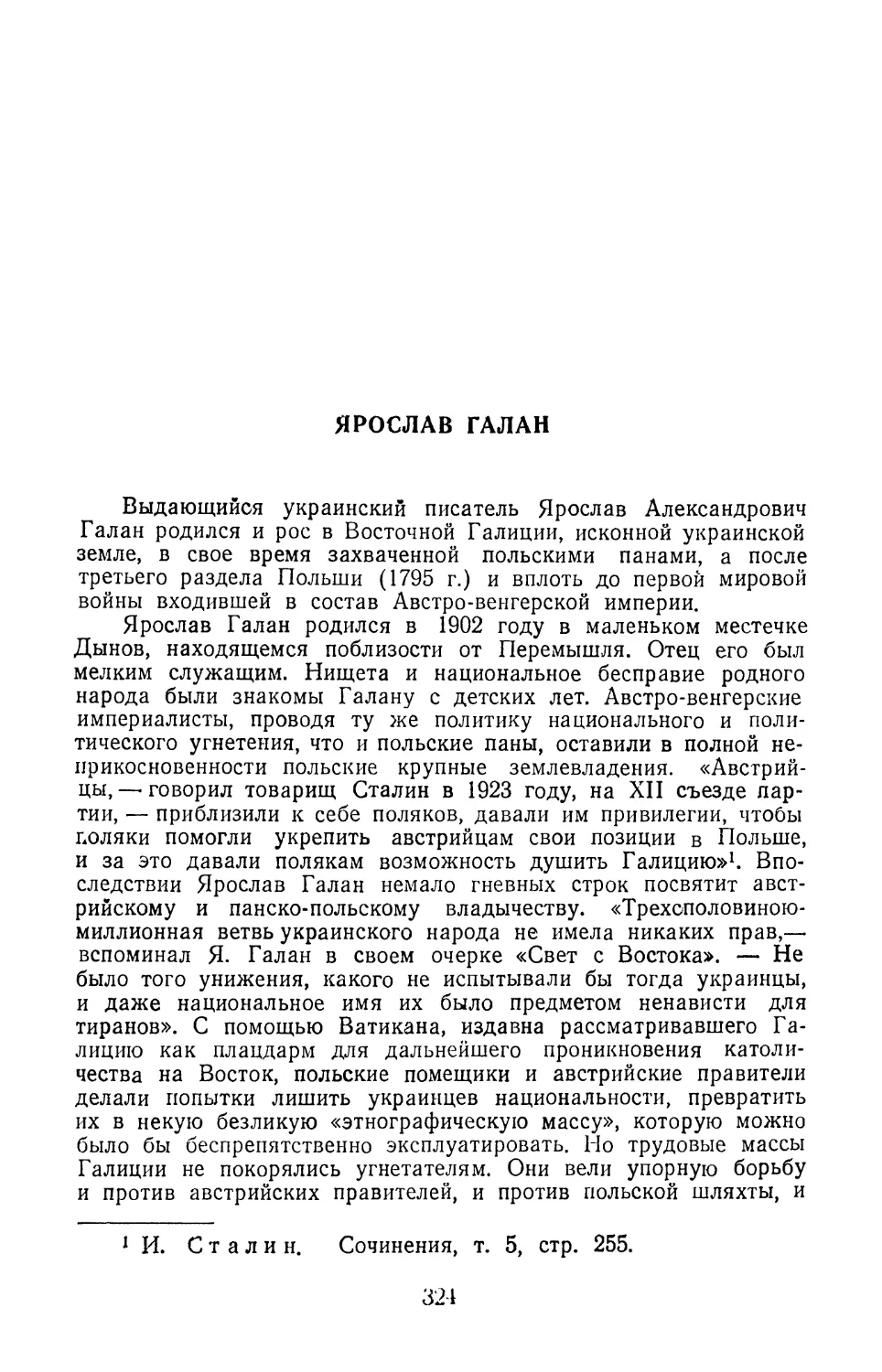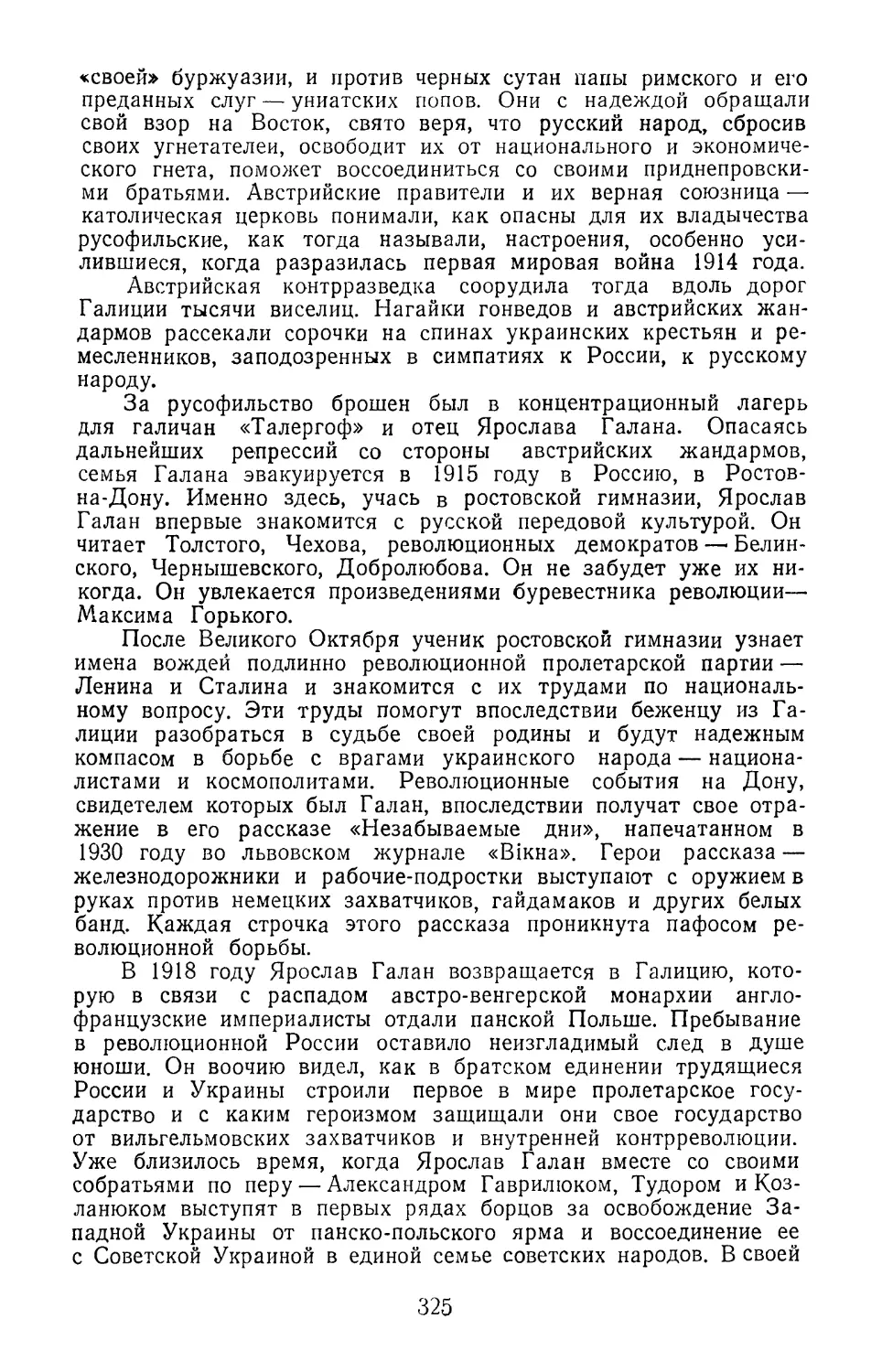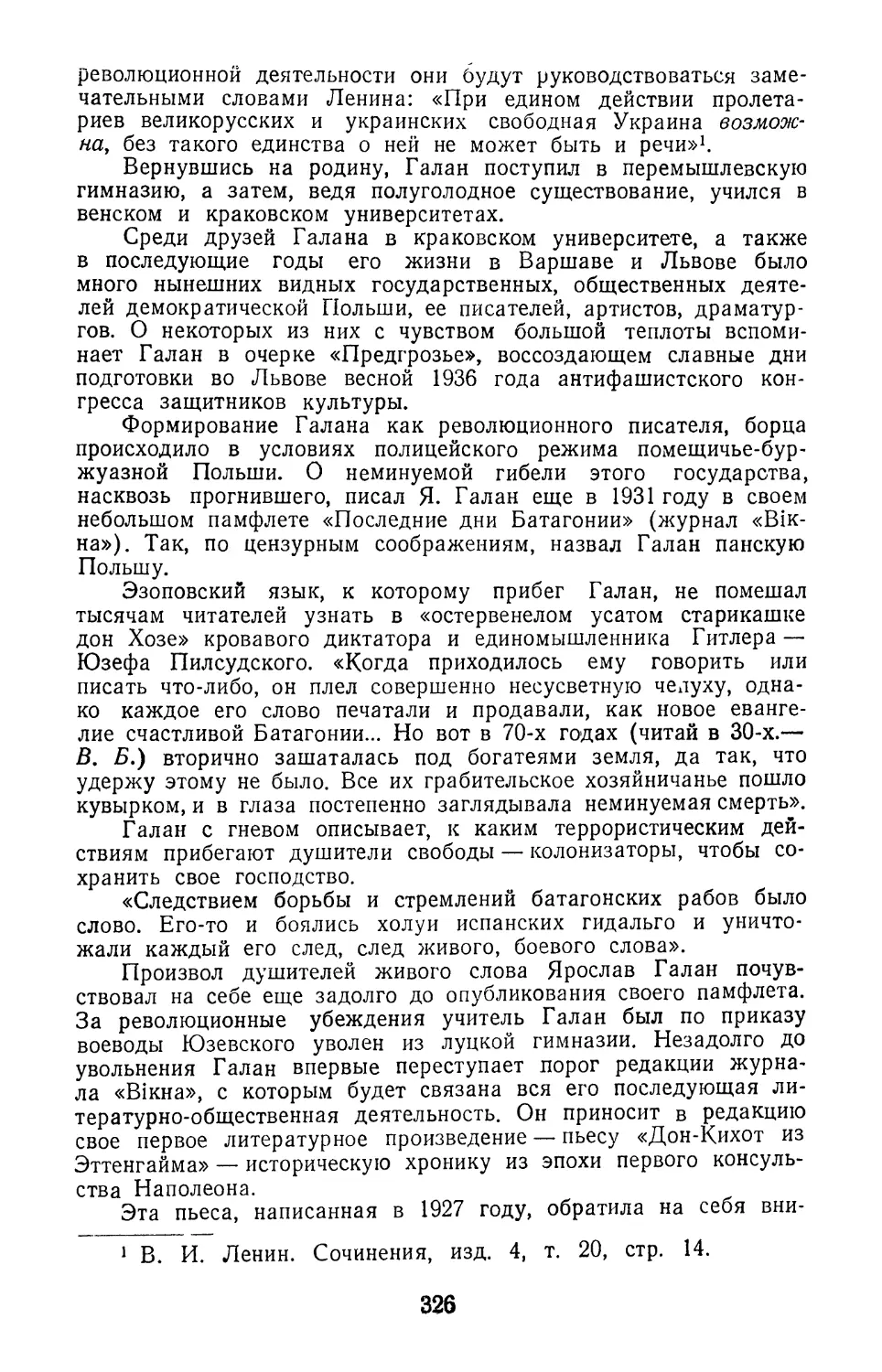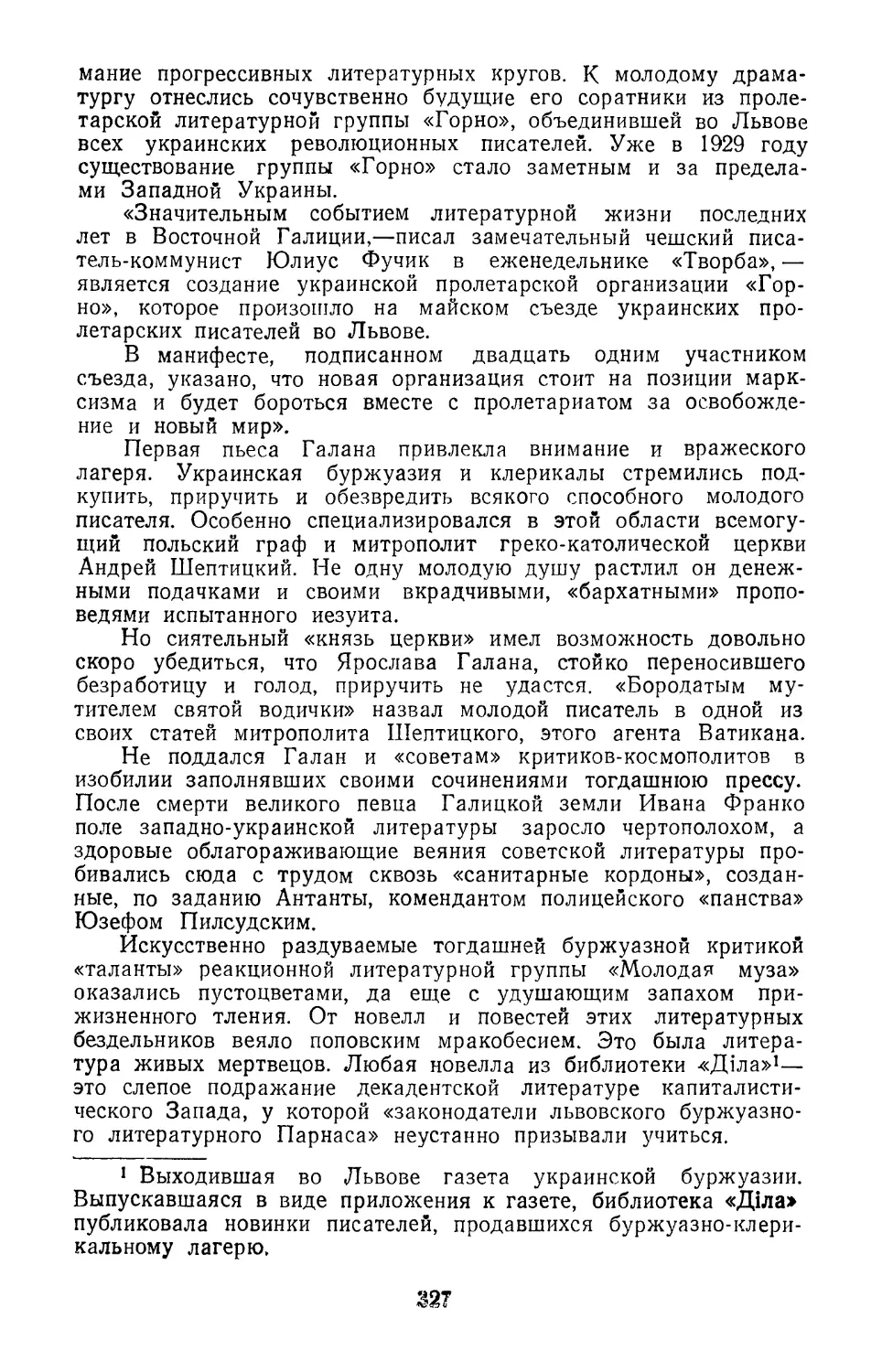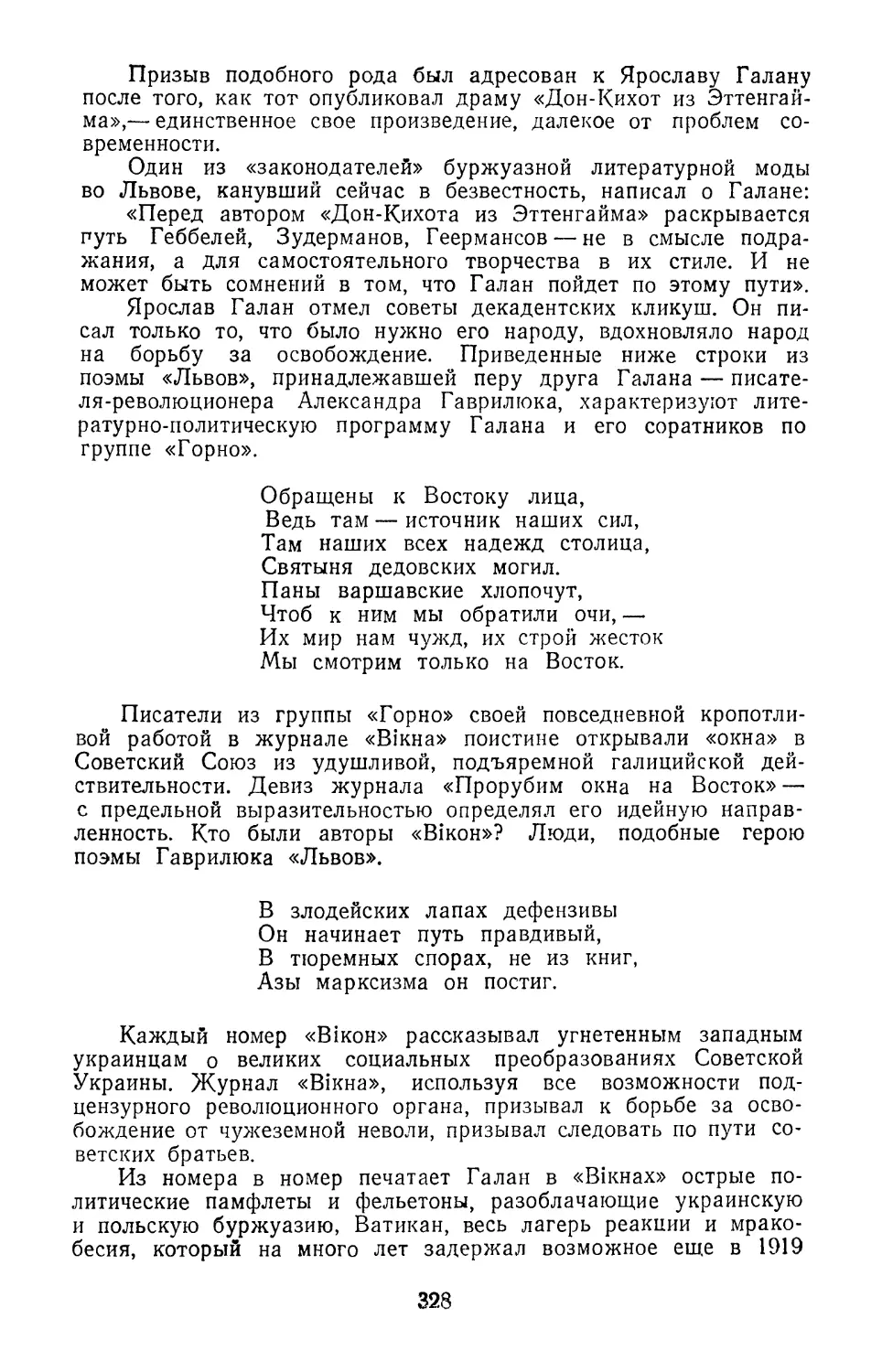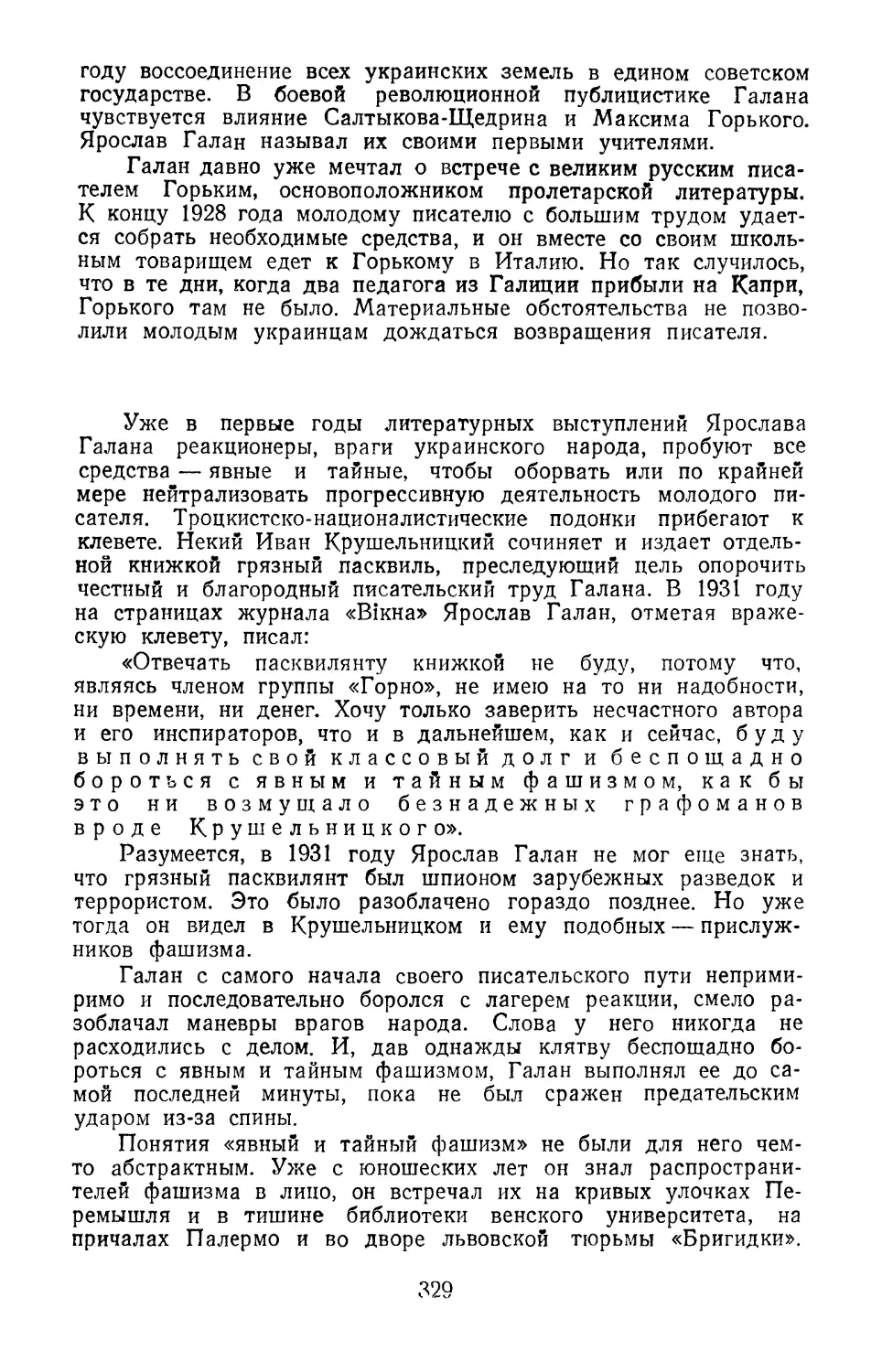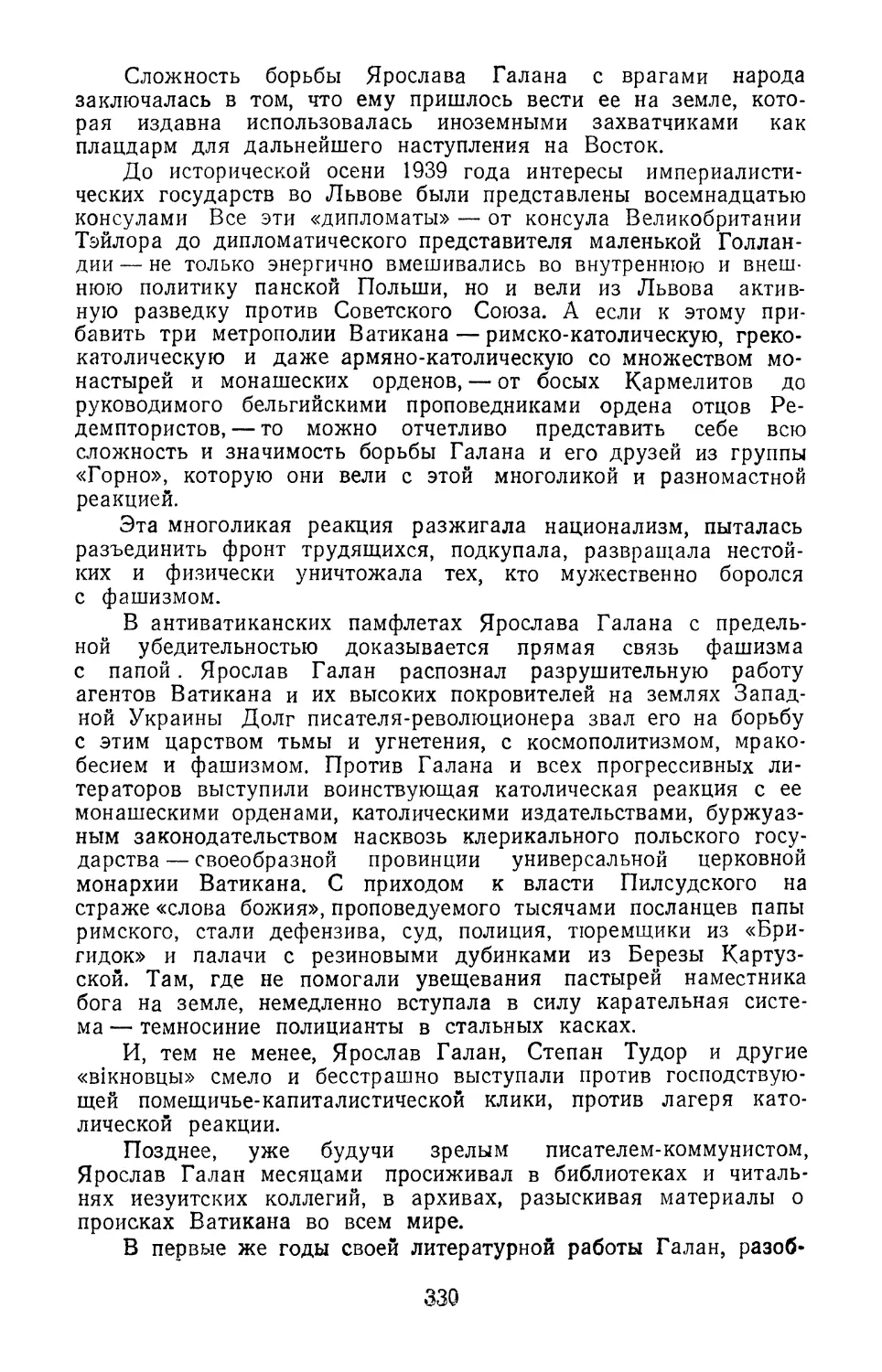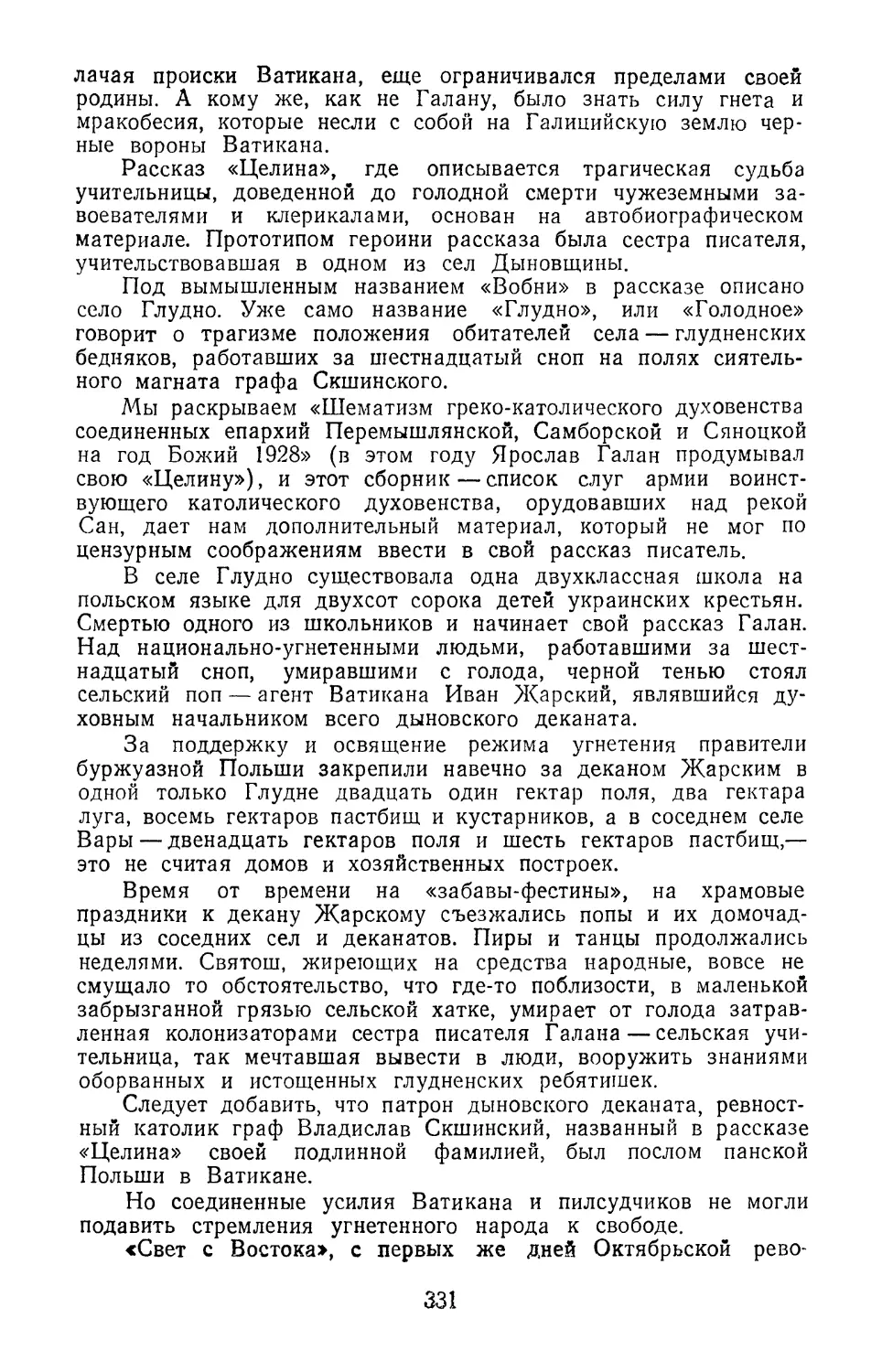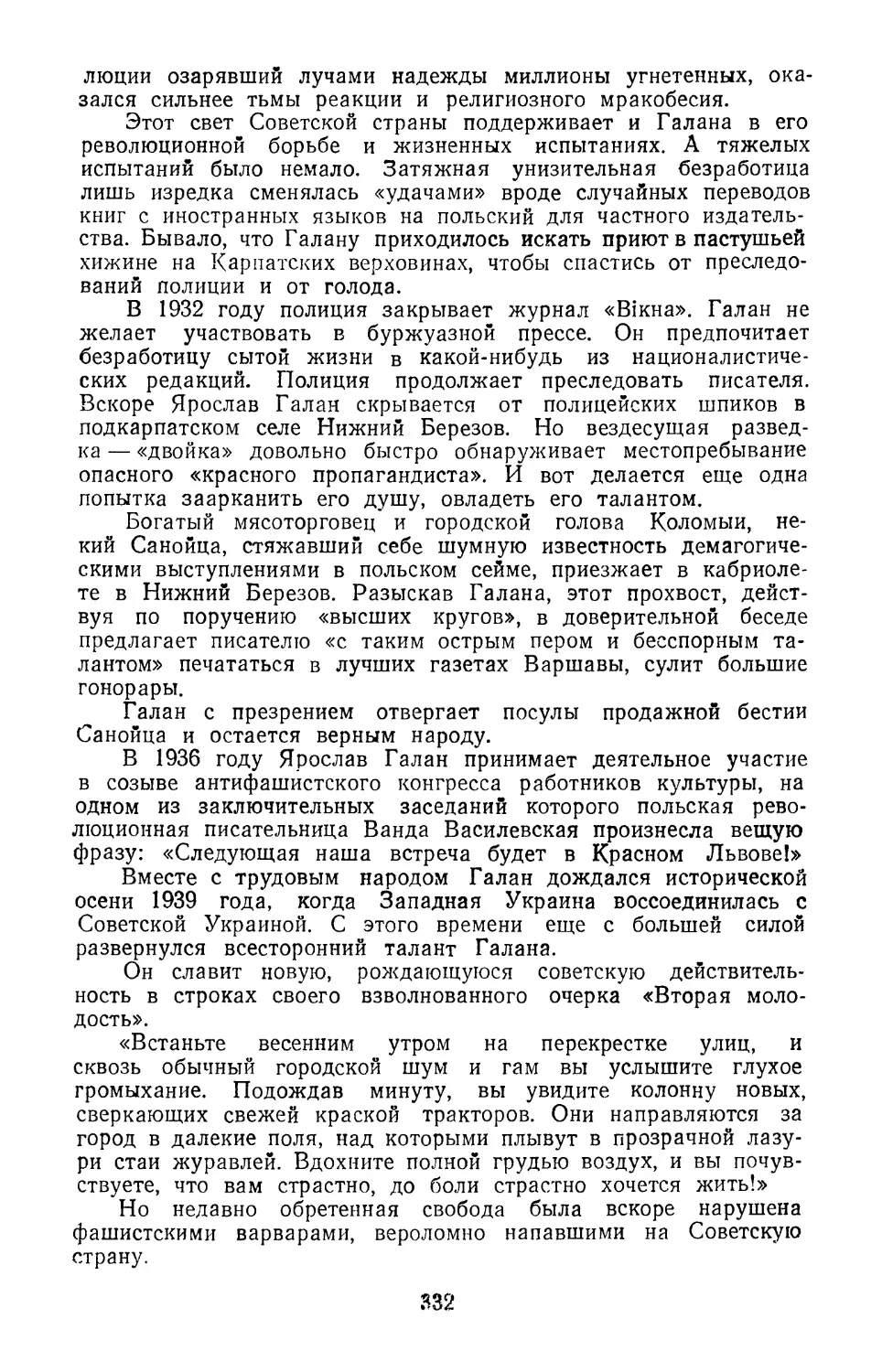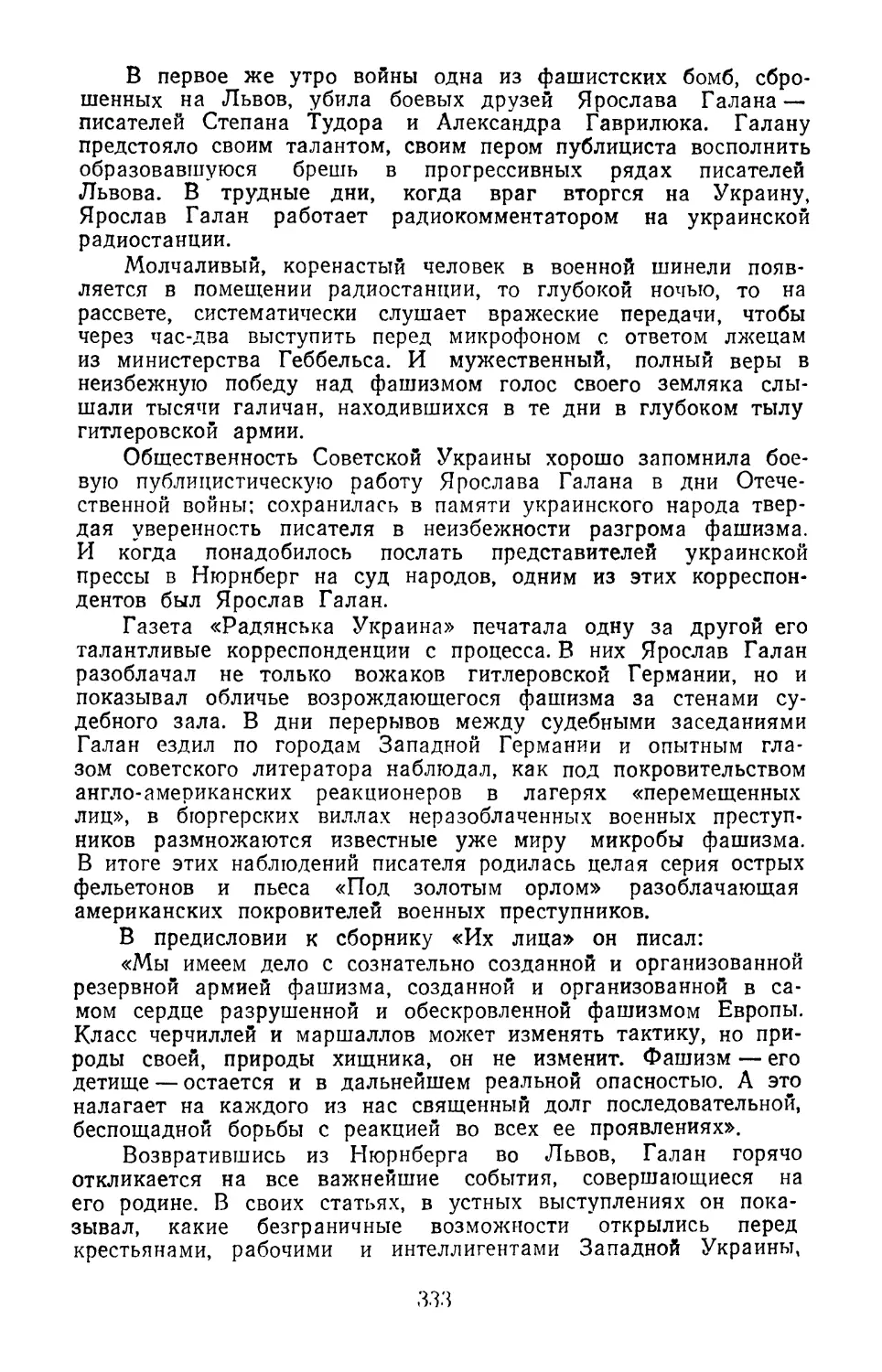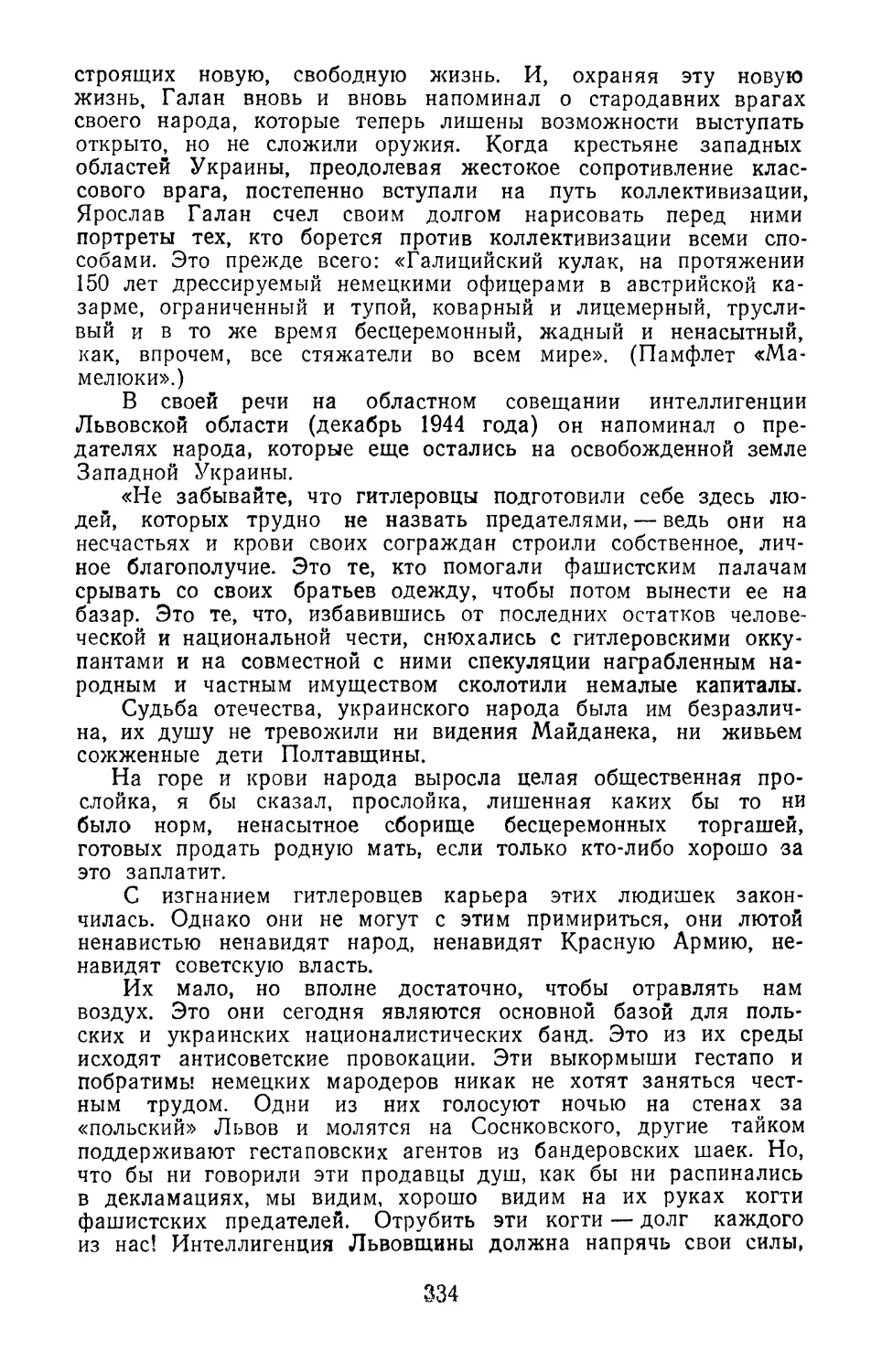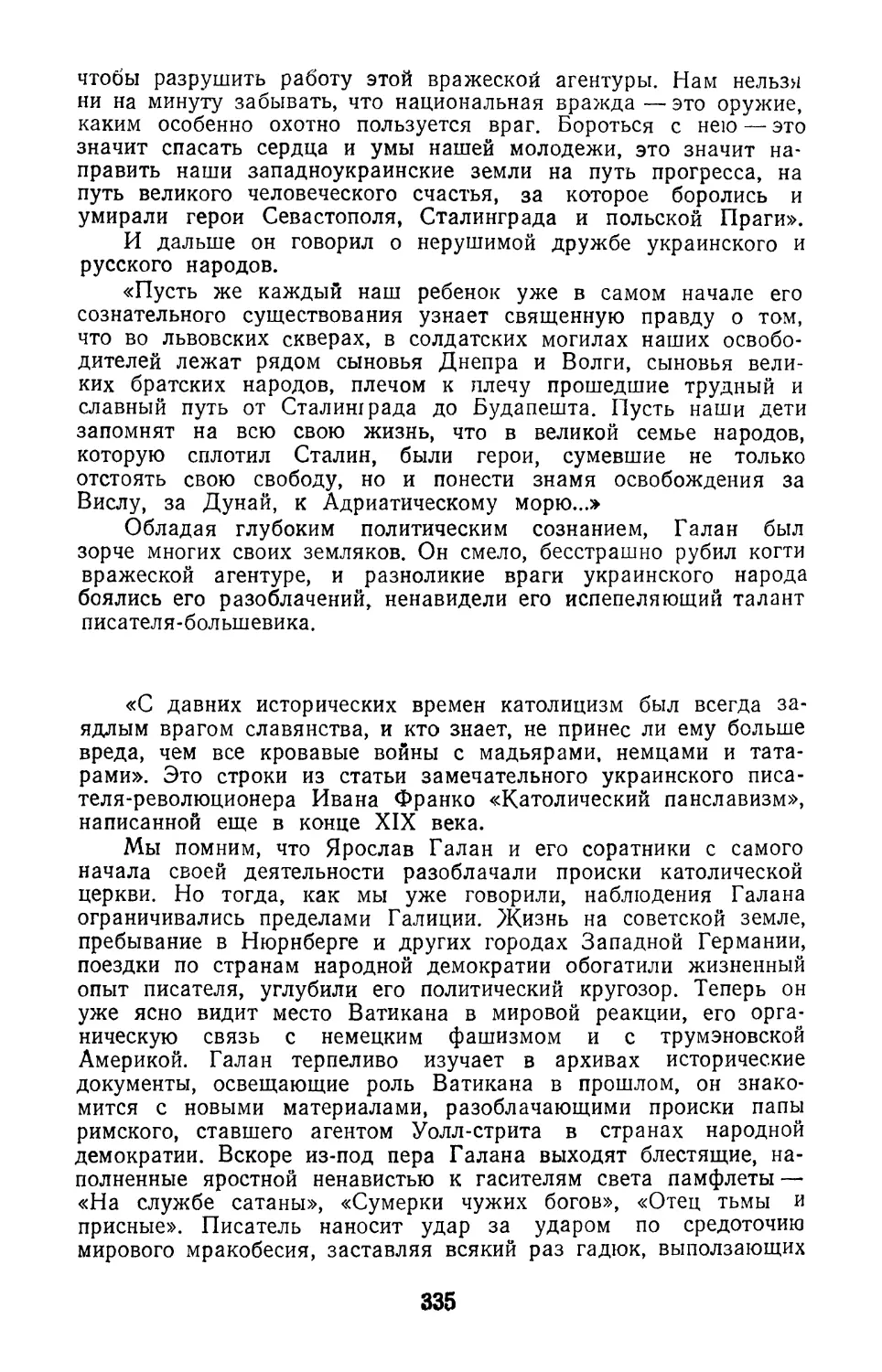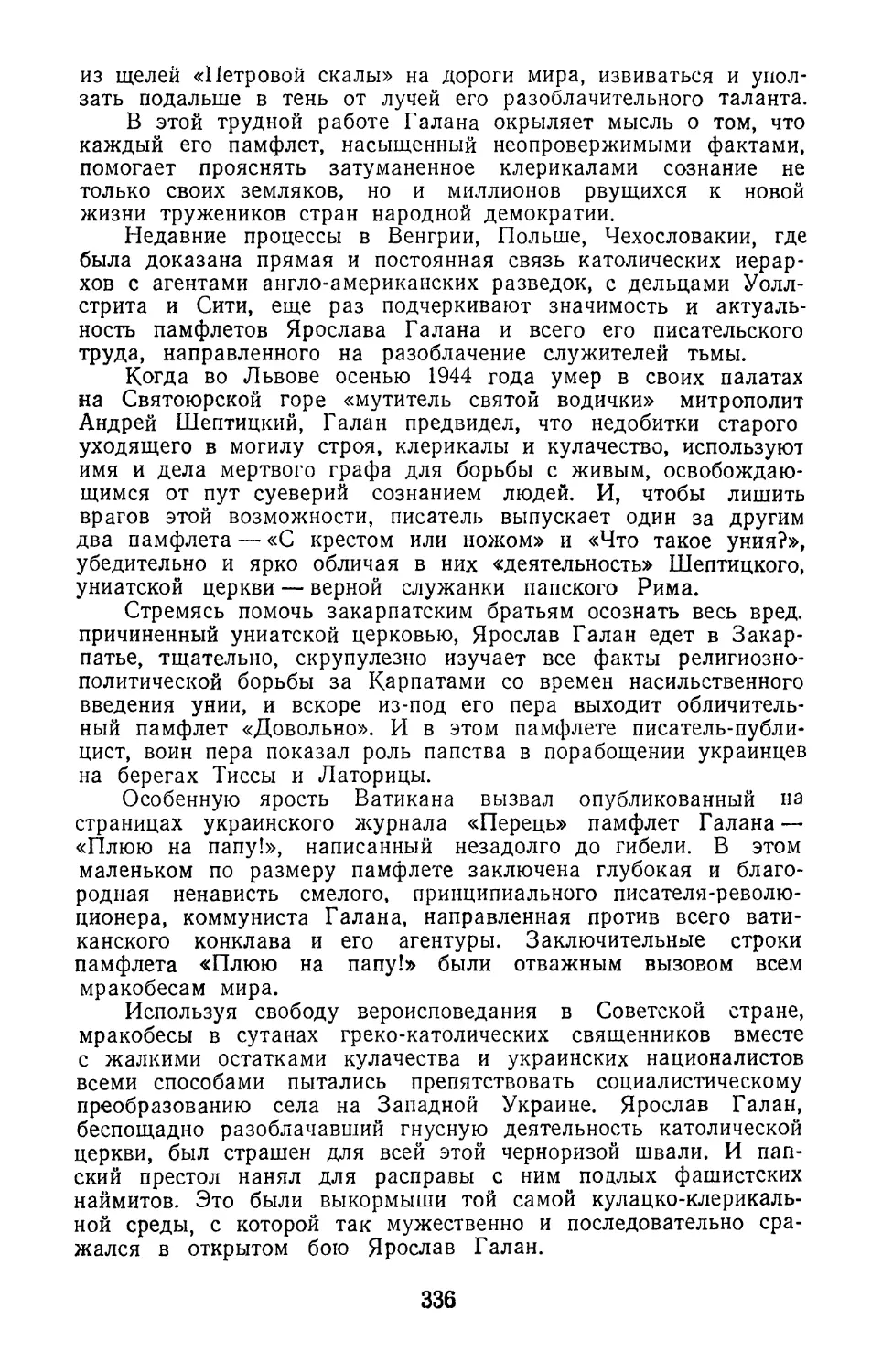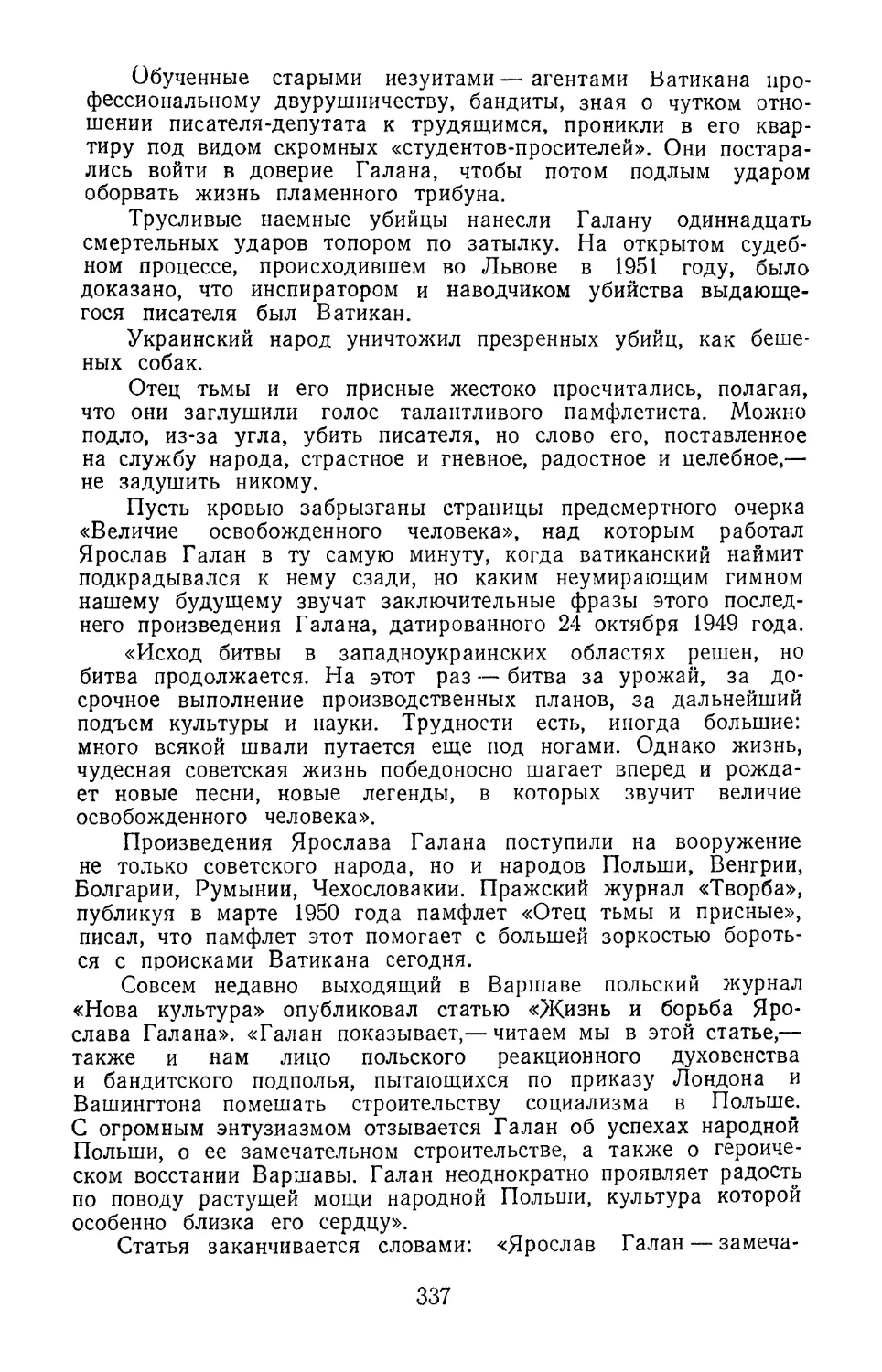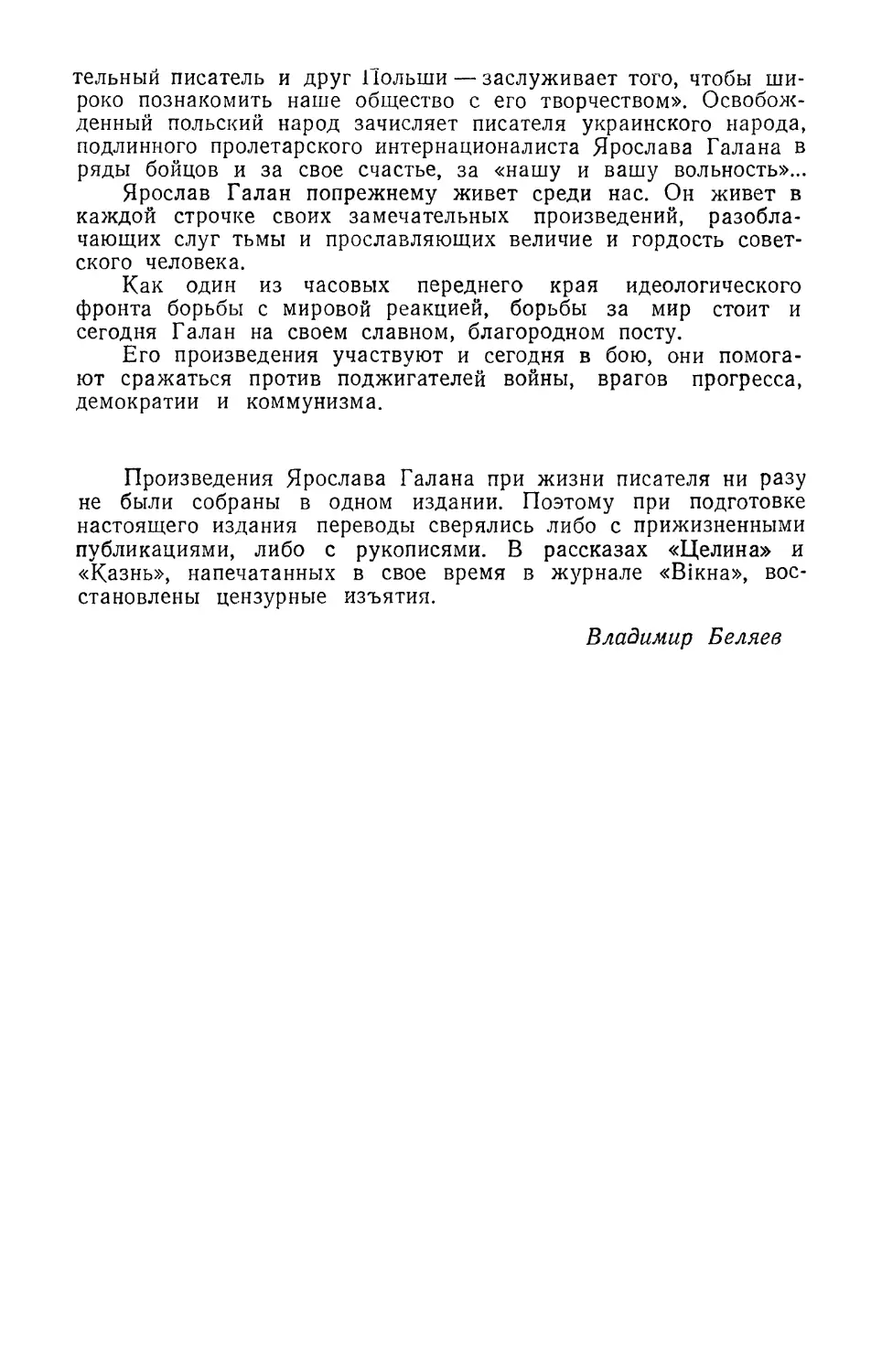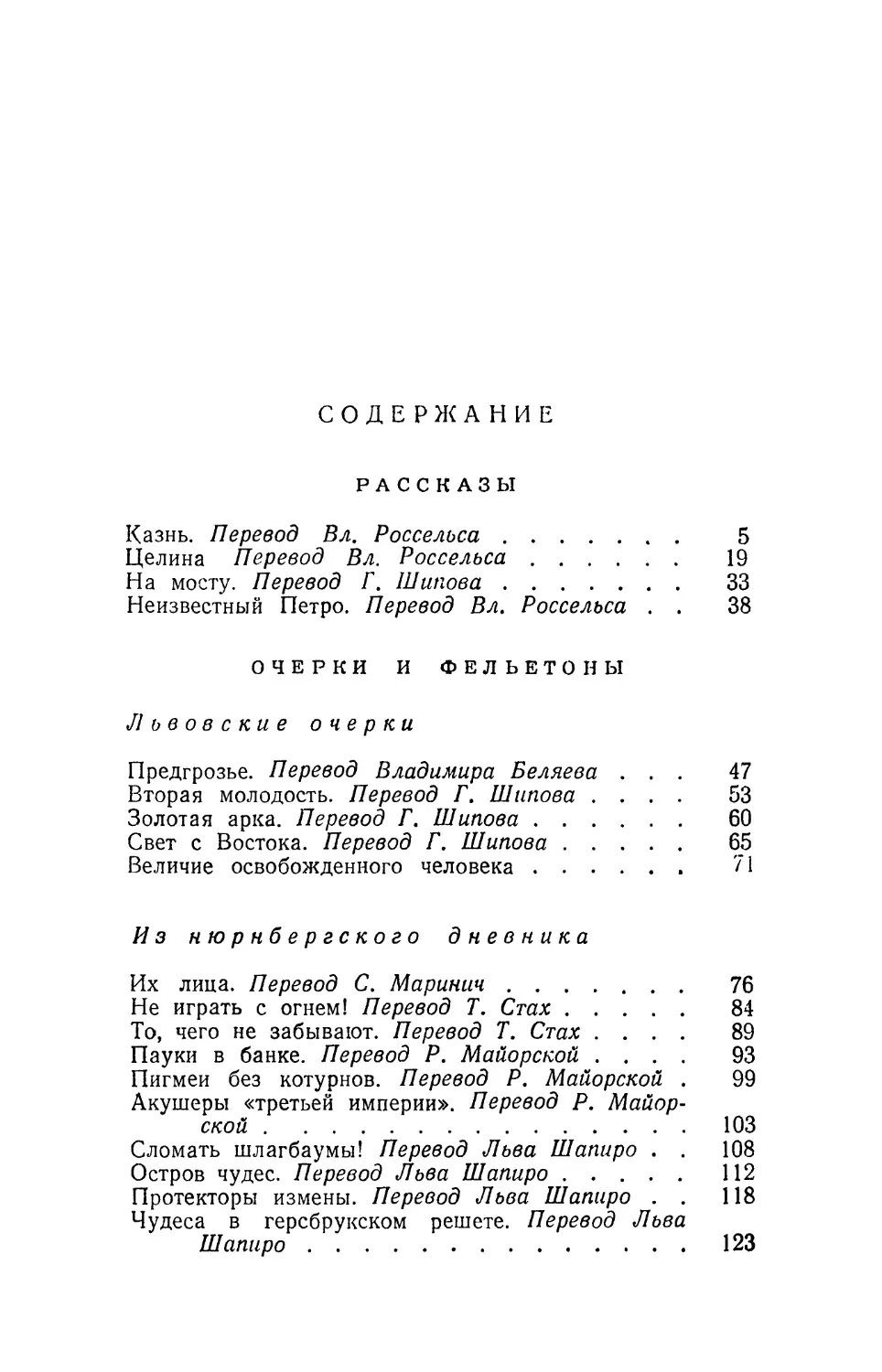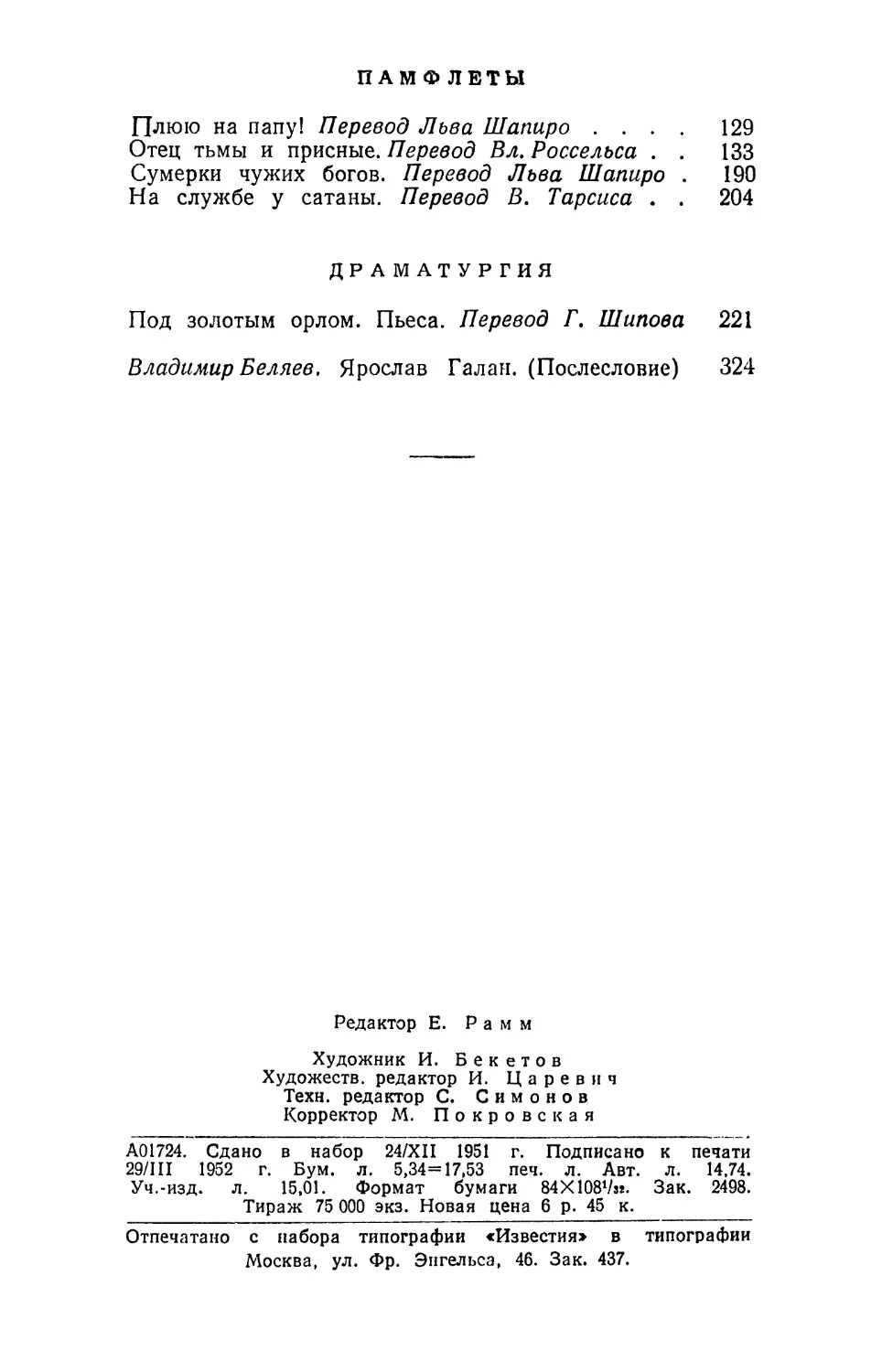Текст
Г—15
Постановлением
Совета Министров Союза ССР
ГАЛАНУ Ярославу Александровичу
за памфлеты из сборника «Избранное»
присуждена Сталинская премия
второй степени за 1951 год.
РАССКАЗЫ
КАЗНЬ
I
Когда его ввели в зал суда, там еще никого не
было. За окнами уже третий день бесновалась метель,
и сквозь облепленные снегом стекла в зал проникали
сумерки. Он сидел между двумя хмурыми конвоирами
и робко покашливал хриплым, глубоким кашлем. Ему
было неловко нарушать своим кашлем тишину и
сидеть на самой середине огромного зала, куда его
привели и усадили так, чтобы все могли осматривать его
невзрачное крестьянское лицо, его старую потертую
куртку и военные, еще русские сапоги со смешно
загнутыми носами. Он знал, что его опять будут
допрашивать об этой неинтересной, осточертевшей ему
истории и, хоть не станут больше остервенело бить в зубы
и под бороду, все же придется снова, в четвертый или
пятый уже раз, рассказывать про эту гниду — осадни-
ка Миколайчика, про собачью его душу, про
неудачное нападение на него и глупое бегство с девчонкой
на руках.
Нет, ни за что не надо было брать Гапку с собой,
да еще в такую стужу. Гапка могла спокойно остаться
у тети Пелагеи (только теперь вспомнилась тетя Пе-
лагея), там бы и росла, а довелось бы ему вернуться—
и отца вспомнила бы. Матери вот и не видела толком,
а не забыла, шестой год уже, а не забыла, вспоми-
5
нает. Вспомнила бы и его. Нет! Гапка вспомнила бы...
«Она моя», — прошептал он, и от этого у него под
сердцем что-то екнуло, и так остро, так остро
захотелось ему увидать Гапку! Он окинул взглядом зал и
никого не увидел. Тогда ему захотелось выглянуть за
двери, в коридор, там темно, может он и не заметил
ее, стоявшую где-нибудь в уголке. Он уже собрался
было броситься к дверям, выбежать в коридор и
позвать ее во весь голос, но в этот самый миг дверь
отворилась и в зал вошел пристав. Он почистил
тряпочкой медное распятие, стоявшее на столе, и как раз
во-время положил около свечей спички: в тот же
момент в боковых дверях появился председатель
трибунала, пухлый старикашка с заспанным лицом,
которое он никогда не брил, скрывая огромную бородавку
на левой щеке. Но вместо бороды росла седая
щетина, нисколько не прикрывавшая безобразной
бородавки, и, должно быть, поэтому судья уже двадцать
лет лечился от камней в печени. Он исподлобья
поглядел на подсудимого и недовольно покосился на
пустующее место секретаря. Затем повернулся, подобрал
тогу и вышел. У подсудимого беспокойно забилось
сердце. Ему почему-то казалось, что взгляд судьи, его
гримаса и то, что он вышел, хлопнув дверью,— все это
вместе предвещало дурное.
Через минуту что-то заскрипело, и вошел офицер
военной жандармерии, стройный человек с
прилизанными русыми волосами, напудренным лицом,
перетянутый скрипучими ремнями, между которыми болтались
на пестрых лентах бесчисленные кресты и медали. Не
взглянув на подсудимого, офицер сел за столик у окна
и принялся рыться в портфеле. Вслед за ним вошел
прокурор. Он молча поклонился офицеру и, потирая
руки, направился на свое место — справа от судей.
Разложив перед собой бумаги, он удобно
расположился в кресле, привычным движением приклеил
к глазу монокль, вздохнул слегка и уставился на Гната.
Но, вероятно, разочаровался, потому что вздохнул
поглубже, снял монокль, откинул голову на спинку
кресла, повернувшись к залу благородным профилем
лорда, и прищурился.
6
Члены трибунала заняли свои места в десять часов.
Посредине, под огромным изображением белой
женщины с завязанными глазами, державшей в одной руке
весы, сел пухлый председатель. Слева от него занял
свое место другой судья, худой, черный, с пылающим,
словно горячечным взглядом. Обыватели городка знали
его как непримиримого врага прокурора, но об этом
больше всех могла бы рассказать жена судьи, которая
была на двадцать лет моложе мужа и смертельно
скучала в глухой провинции, где один только прокурор
«понимал ее небудничную, погибшую душу».
У другого члена трибунала была черная козлиная
бородка, хитрые глазки и такая же натура. Перед
известным маем он был стопроцентным эндеком: читал
только «Варшавскую», признавал только Галлера и
яро, до потери сознания, ненавидел все, что «пахло
Востоком». После мая он даже скорее, чем прокурор,
сориентировался: выбросил из канцелярии портрет
Галлера, первый подписался на «Глос правды» и так
же яро, до потери сознания, ненавидел все, что «пахло
Востоком».
Рядом с ним сидел молоденький напомаженный
секретарь. Он тоже скучал в провинции и мастерски
выслуживался перед начальством, лелея одну мечту —
попасть когда-нибудь в Варшаву и ходить хоть раз
в неделю на дансинг в «Адрию». Как раз в тот
момент, когда мечтатель-секретарь достал новое
блестящее перо, его подозвал к себе председатель трибунала
и шепотом сказал ему что-то на ухо. Секретарь
подошел к подсудимому и вежливо уведомил его, что ему
дали защитника. И в тот же миг адвокат явился. Он
покраснел от холода или оттого, что чувствовал себя
неловко, заставив суд ждать, поклонился трибуналу и,
даже не посмотрев на своего клиента, побежал к
столику и дрожащими руками стал листать дело. Он был
молод, занимался адвокатурой первый год и, будучи
сыном бедного портного из Белостока, не мог как
следует разрекламировать свою контору и приобрести
клиентуру. Сегодняшний процесс был первым
серьезным делом, порученным ему. И хотя приходилось
защищать за собачьи гроши из кассы суда (клиент был
7
несостоятельный), он с радостью взялся за это дело и
всю последнюю ночь просидел над актами, которые
должны были решить судьбу двоих — его как
адвоката и Гната Орестюка как обвиняемого. Ему было
известно, что чрезвычайный суд — дело серьезное, что
по всей стране скрипят виселицы. Кроме того, он за
год имел возможность изучить судей, ведущих этот
процесс, и знал, что его еврейское происхождение и
фамилия Любомирский также сыграют свою роль.
Поэтому руки его, раскладывая акты, дрожали.
Зато не дрожали они у Гната. Когда вошли судьи,
в нем что-то заныло, и он почувствовал себя одиноким,
затравленным зайцем среди собак. В редких взглядах,
которые иногда бросали в его сторону судьи, прокурор
и жандарм, он видел столько презрения, равнодушия,
что, казалось ему, предложи кто-нибудь дать Орестюку
пять лет тюрьмы, никто из этих господ не возразил
бы ни слова: таким мелким и ненужным видел себя
Гнат в глазах судей. Когда вошел адвокат, Гнату стало
легче на душе, и он повеселел. Хотя он и видел, что
этот молодой низенький адвокат не ровня
самоуверенным суровым судьям, но все-таки обрадовался, потому
что не был уже так одинок и беспомощен — рядом
с ним сидел кто-то, кто яснее мог сказать судьям, что
не стоит им утруждать себя из-за такого подлюги, как
Миколайчик.
Гнат успокоился. Он был спокоен и тогда, когда
председатель назвал его фамилию, даже повеселел,
подумав, что вот уже началось и что через час, через
два эти суровые господа пойдут себе обедать, а он тем
временем бросится искать по городу Гапку. Четыре
дня! Нет, за четыре дня она не могла пропасть! Гнат
успокоился совсем.
II
Допрашивали председатель суда и его сосед справа.
Сидевший слева молчал, как всегда, когда обвинял
прокурор с моноклем. Спрашивали то же, что и в
полиции, то же, что и следователь. И потому, что
впервые за эту неделю на душе у Гната было легче, он
8
охотно рассказывал и о селе и о прохвосте Миколай-
чике, у которого почитай полсела было в долгах. Он
высчитывал на своих грязных пальцах, сколько хозяев
в селе разорил Миколайчик, сколько народу своими
доносами в тюрьму засадил, и не хватало ему пальцев.
Гнат разошелся. Он в лицо судьям обвинял Мико-
лайчика и помещика из соседнего села, платившего
Миколайчику за то, что тот привозил на панские поля
штрейкбрехеров.
Председатель непрестанно кривился, правый сосед
что-то возмущенно говорил ему на ухо, прокурор
устремил мечтательный взор в окно.
Гнат рассказал и о том, что село ненавидело Мико-
лайчика и жаждало от него избавиться. Но
Миколайчик в ответ на это только улыбался и каждый вечер
ходил с комендантом в шинок. И случилось в этот
вечер так (это было на следующий день после того,
как десятерых вывезли из села в Новогрудок), что
Миколайчик один возвращался домой. Кое-кто это
заметил, узнал об этом и Гнат. Тогда они вдесятером
пошли за Миколайчиком и нагнали его, когда он входил
уже в свою хату. Но это их не остановило. Гната
поставили с дубиной позади хаты, чтобы Миколайчик не
ускользнул, а потом выбили стекла. Гнату недолго
пришлось ждать. Миколайчик наскочил прямо на
него, и бежал он так быстро, что Гнат не успел и
дубиной замахнуться, как тот исчез в лозняке и оттуда
выстрелил в Гната, но пуля только над ухом
просвистела. В полночь приехал из города на машине
большой отряд полицейских, и всем десятерым стало ясно,
что добра от этого не будет. Когда разбудили Гната,
он сначала упирался, но как вспомнил про Гапку и
подумал, что станется с нею, если его посадят под
следствие на полгода, то закутал ее в кожух, взял
на руки, запер хату на ключ и побрел с девятью
товарищами через белые поля к границе.
Итти надо было четыре мили, и когда подходили
лесом к границе, уже рассвело. Увидели полосатый
столб и повернули направо, чтобы обойти его
незаметно. Вышли на большую поляну и заметили по ту
сторону красноармейца с винтовкой. Подумали тогда—
9
конец путешествию и высыпали на поляну, толпой
спеша к красноармейцу. Но тут по лесу прокатилось
громкое: «Стой!» И кто-то выстрелил. Те девять
побежали и через минуту были уже на той стороне. Остался
только Гнат, не было сил нести Гапку под пули.
«Пусть, — подумал он, — лучше уж полгода
отсижу, а Гапка у добрых людей, авось, не пропадет».
И пошел Гнат назад, только уже не в село, а прямо
в город. И это хуже всего, — пропадет Гапка в городе,
ей же шесть лет всего.
Гнат кончил и посмотрел вокруг. Он думал, что все
сочувствуют шестилетней Гапке, которая бродит
сейчас где-то на холоде, голодная, по чужому городу.
Но лица судей, прокурора и жандармов были такими
же, как и прежде. Только адвокат еще глубже
зарылся в бумаги. Гнат опустил голову.
ш
Второй час уже допрашивали Гната, и когда
председатель устал, его сменил сосед с бородкой. Он
задавал вопросы и скалил большие желтые зубы, точно
хотел схватить каждый ответ подсудимого, разжевать
и выплюнуть на стол трибунала, как готовый
параграф. Он впервые в жизни видел Гната, ему было
совершенно безразлично, в чем обвиняют этого человека,
но он ненавидел подсудимого всей душой — и за то,
что тот говорил на ненавистном судье языке, и за то,
что он так прямо смотрел ему в глаза, и за то, что
в нем была сила, которая, если освободить ее на миг
от цепей, оставит судью без тоги, под голым небом,
сиротой в чистом поле, где нет ни дорог, ни устланных
коврами тропок, а только пустота и ноги, которым
некуда двинуться.
Прокурор все время молчал, и когда судья с
бородкой, перестав скалить зубы, удовлетворенно откинулся
в кресле, он вопросительно посмотрел на брюнета и
для эффекта выждал минуту. Но тот не заговорил, и
тогда прокурор вздохнул легонько и будто невзначай
задал подсудимому вопрос:
10
— Вас лично Миколайчик обидел чем-нибудь?
— Меня — нет, — ответил Гнат.
— В таком случае зачем же вы набросились на
него?
Гнат молчал, — он не понимал прокурора, и ему
казалось, что тот шутит и потому только задает такой
нелепый вопрос. Ведь каждый ребенок в селе знал,
кто такой Миколайчик.
— Не знаете? А мы знаем. — Прокурор вобрал
монокль глубже в глаз и продолжал допрос: — Вы давно
уже член организации?
— Какой?
— Террористической?
— Да я никогда... — Гнат замялся.
А ведь верно, приходилось уже что-то такое делать
Год назад бастовали у помещика, и тогда Харитон, сын
Михаила, бывало говорил: «Организация мы, а об
организацию господа непременно зубы поломают». Но
перед ним теперь тоже сидели господа, и он решил
возражать.
А прокурор тем временем продолжал громить
подсудимого:
— Вас было десять, и нападали вы организованно.
Гнат растерянно молчал, и триумф прокурора был
полный.
— Кстати, вы долго занимались шпионской
деятельностью?
Гнат не мог больше молчать. Он понял, что его
ошибочно обвиняют в преступлениях, за которые
жестоко карают, что эту ошибку необходимо исправить.
Надо сказать им, что Миколайчик и на этот раз, как
всегда, подло брехал и что в его болтовне нет ни
крошки правды.
— Высокий трибунал! Никогда ничего подобного не
было. Не мог я знать и не знал ничего. Шпионом в
нашем селе Миколайчик был. Это он меня... — Ярость
душила Гната.
— Террористическая банда, членом которой вы
были, составила после перехода через границу
подробное сообщение о расположении наших войск.
Жандармский офицер насупил брови и утверди-
11
тельно кивнул головой, хотя он знал об этом столько
же, сколько и прокурор. Он только честно исполнял
свои жандармские обязанности.
— И вы все еще не признаете себя виновным? —
недовольно спросил председатель.
— Не виновен я, высокий трибунал. Хотел
отколотить Миколайчика, подлюгу, признаюсь, а что
шпион я — неправда это, неправда! Трижды присягну
вам, — неправда!
Но как ни убедительно говорил Гнат, председатель
только скривился, а прокурор, жандарм и тот, что
с бородкой, снисходительно усмехнулись.
Тогда поднялся адвокат и с дрожью в голосе стал
спрашивать Гната, кто такой был Миколайчик, был ли
он пьяницей, не затевал ли с кем-нибудь драк, и можно
ли было дубинкой, которой вооружился Гнат, убить
хоть котенка, и знает ли Гнат, что такое шпионаж.
В заключение торжественно произнес:
— Гнат Орестюк, Христос с этого распятия видит
тебя и видит, что ты невинен и что чиста душа твоя,
как чиста была его душа!.. — и сел, не поднимая
глаз.
Судьи, прокурор и офицер возмущенно посмотрели
на адвоката. То, что еврей посмел сослаться на
Христа — и не только сослаться, а сравнить с ним какого-
то мужика, да к тому же еще с оскорбительными для
трибунала намеками, — все это решило судьбу
несчастного Гната. И он, как будто чувствуя это, тяжело
сел на скамью, безнадежно опустил голову и точно
сквозь сон слушал то, что говорили свидетели:
Миколайчик, комендант и пограничник. Он и не опомнился,
как объявили перерыв и вывели его из зала. В
коридоре к нему подошел адвокат и, не глядя в глаза,
прошептал:
— Все будет хорошо. Успокойтесь, Орестюк.
Потом быстро сбежал по лестнице.
Тем временем члены трибунала столпились у окна,
выходящего на тюремный двор, и с любопытством
разглядывали термометр. Он показывал двадцать два
ниже нуля.
12
IV
Когда после полудня начал говорить прокурор,
в зале уже горели лампы и монокль мерцал золотой
звездочкой. Прокурор говорил без обычного пафоса —
заседание было закрытое, а на этого адвоката можно
было не обращать внимания. В полчаса он успел
обрисовать всю преступность натуры Гната и
смертельную опасность, угрожающую молодой стране от таких
дегенеративных типов, наемников иностранного
государства, которое в пору глубокого кризиса пытается
своими хищными щупальцами опутать мир
христианской культуры и цивилизации, чтобы таким образом
уничтожить в нем все прекрасное, доброе и
возвышенное и оставить голого человека на голой земле. Во имя
спасения мира Христа, которого, кстати сказать,
несколько часов тому назад оскорбили в этом зале,
прокурор призывал судей вынести приговор, который
послужил бы святым огнем, выжигающим струпья на
здоровом теле человечества. Закончил он призывом к
судьям — изгнать, подобно древним римлянам,
слабость из своих сердец, когда «Hannibal ante portas».
Адвоката слушал, вероятно, только Гнат, — только
для него была интересна речь этого человека,
пытавшегося головой проломить каменную стену. К тому же,
неинтересно говорил сегодня адвокат Любомирский,—
потому ли, что он видел безнадежность дела, или
потому, что чувствовал неравенство сил, выступая перед
пустым залом. Когда он закончил, судьи зашевелились
и, словно давно уже ожидали этого момента, быстро
удалились на совещание. Прокурор пошел с
жандармом выкурить папироску, в зале остались только Гнат
с конвоирами и адвокат, растерянно листавший
конспект своей никчемной речи.
У ног Гната стлались черные неподвижные тени
конвойных, и тень была в его душе. Казалось, что век
сидеть ему в этом зале и что тени вокруг него будут
расти и расти, пока не покроют все вокруг, а тогда
ночь, безнадежная ночь повиснет над Гнатом. Ему все
теперь было безразлично, и казалось, что если его
присудят даже к пожизненному заключению, ему будет
13
все равно. Даже мысль о Гапке только изредка
приходила ему в голову, да и то как-то неясно, точно он
забыл уже ее лицо, и где-то во мгле тонула его серая,
нерадостная мужицкая жизнь.
v
Не прошло и двадцати минут, как трибунал
вернулся и все расселись по своим местам. Председатель
встал, поправил берет, откашлялся и гнусавым
голосом, точно спеша куда-то, прочел приговор:
— «...Чрезвычайный суд в... Гната Орестюка,
тридцати двух лет, крестьянина... за террористическую
и шпионскую деятельность... к смертной казни через
повешение и покрытию судебных издержек... Приговор
будет приведен в исполнение завтра, в пять тридцать
утра».
Когда председатель кончил, его соседи кивнули
головами, прокурор вынул из глаза монокль, протер его
платочком и спрятал в карман, а офицер вздохнул и,
вставая, заскрипел ремнями, как скрипит виселица.
Адвокат побледнел и с ужасом смотрел на лицо Гната.
А оно было прежним, только отразилось в нем какое-
то огромное удивление. Гнат понимал каждое слово
приговора и не понимал ничего. Это была слишком
большая неожиданность для него, и он всматривался
в судей, словно спрашивая, что это они вздумали с ним
делать и не шутят ли часом. Но судьи не смотрели ему
в глаза. Они быстро собрали бумаги и вышли в
смежную комнату, чтобы сбросить тоги и на этом закончить
на сегодня выполнение своих трудных и неинтересных
обязанностей.
А Гнат еще долго стоял бы посреди зала, если бы
не конвоиры. Они напомнили ему, что первая часть
«парада» закончилась и ему пора возвращаться в
камеру. В дверях подошел к нему адвокат, зачем-то
пожал ему руку и сказал, что будет телефонировать
президенту страны. Тогда Гнат что-то вспомнил и, не глядя
на адвоката, несколько раз повторил:
— Ищите Гапку! Найдите Гапку!
14
— Будем всю ночь искать, — ответил адвокат, еще
раз пожал Гнату руку и пропал во тьме коридоров,
ощетинившихся в этот день штыками полицейских.
В камере узнали о приговоре еще до того, как Гнат
вернулся из зала суда. Когда он вошел, все молчали.
Он сел на свои нары, и тут только у него запылали
уши и шея, и он ощутил, глубоко ощутил, что ему
готовят неизбежную смерть. В камере была тишина, и
он слышал, как бурливо переливалась в нем кровь,
как толкалась о стенки жил, как будто и она знала,
что завтра утром застынет уже навсегда. И в груди
Гната что-то заскрипело, охнуло и вырвалось наружу
долгим, нервным, неудержимым кашлем. Потом вновь
наступило молчание, и хмуро, уставя глаза в землю,
сидели арестанты по углам.
Открылась дверь, Гнату приказали забрать вещи и
отправляться в одиночку. Он тяжело поднялся и стал
надевать старый теплый овчинный кожух, доставшийся
ему еще от покойного отца. Но руки у него дрожали,
и он не мог найти рукава. Тогда его сосед,
сморщенный старик-бродяга, подошел к нему, встал на
цыпочки и помог одеться. Гнат огляделся вокруг и молча
пошел за часовыми.
VI
Было уже заполночь. Гнат сидел на табурете и,
кто знает, который уже час ерошил свои белокурые
нечесаные вихры. Его сердце не билось уже так
тревожно, — должно быть, и оно утомилось и хотело
отдохнуть. Гнат думал и не узнавал своих мыслей,— так
они были необычны для него, так ясны и понятны, и
только странно ему было, почему они родились у него
так поздно и к тому же еще в такое время, когда
думать ему осталось всего несколько часов, а после этого
придет смерть. Окно его камеры выходило во двор, и
он слышал, как кто-то вгонял гвозди в дерево, и был
уверен, что это для него готовят гроб. В гроб запрячут
Гната Орестюка и зароют глубоко в землю, чтобы,
чего доброго, не поднялся Гнат Орестюк, не встал и
не пошел бы мстить за свою мужицкую обиду. Он те-
15
перь видел ясно, что недаром судьи потратили целый
день на него, недаром отправили его на виселицу.
Мозг работал теперь, как новая смазанная жнейка.
Гнат открыл в себе целое море ненависти, дремавшей
до сих пор где-то под сердцем, и был уверен, что они
не могли этого не знать. Ему все представлялся
трибунал, за ним он видел злобно улыбающегося Миколай-
чика, а за Миколайчиком в полутьме стоял помещик,
а за помещиком в густой мгле он видел целую толпу
миколайчиков и помещиков, и у каждого из этих ми-
колайчиков и помещиков на груди были золотые кресты
и медали, а на животе скрипели ремни. Все они
смотрели на Гната, и Гнат видел в их глазах ту же
ненависть, какую он открыл в себе. Они захватили Гната
Орестюка в свои руки, и они должны были с Гнатом
Орестюком покончить. Гнат Орестюк мог и должен был
защищаться. Гнат Орестюк не должен был бояться пули
и, если уж побоялся ее, не должен теперь бояться
виселицы. Гнат Орестюк был тверд, он был не из теста,
и миколайчики с помещиками не могли из него
ничего вылепить. Гнат был колюч, он мог опасно
уколоть, и Гната надо было уничтожить. Гнат Орестюк
должен погибнуть.
Среди ночи вошел в камеру маленький захудалый
попик. На его груди висел серебряный восьмирамен-
ный крест, и Гнату показалось, что он вторично
очутился перед трибуналом. И тут он увидел, как попик
прыгнул в толпу и испуганно смотрел на него из-за
спин миколайчиков и помещиков, пока не исчез,
почесывая редкую бородку. За попиком затворилась
дверь, и сквозь глазок в камеру с любопытством
заглядывала новая смена часовых. Гнат знал уже все и
был спокоен. Он мог наконец заснуть и заснул сидя.
VII
Ранним утром Гната разбудили и сообщили, что
президент отклонил его просьбу. В дверях камеры
стоял прокурор, за ним председатель трибунала,
офицер, начальник тюрьмы, часовые и какие-то незнако-
16
мые господа в дорогих шубах. Гнату велели
приготовиться. Он хотел накинуть кожух, но ему этого не
разрешили (кто знает, выдержит ли веревка тяжесть?).
Тогда он хотел закутать платком шею, — у него уже
несколько дней болело горло, — но и этого ему не
разрешили сделать.
Когда его вели по узкому сырому коридору во двор,
бледный адвокат, точно оправдываясь, сказал ему, что
Гапку искали, искала и полиция, но не могли найти,
что он не забудет о ней, будет помнить, будет искать.
Гнат задержался, и с ним задержались все. Он
растерянно посмотрел на адвоката, потом оглянулся вокруг,
побледнел, покраснел и во весь голос стал кричать:
«Гапка! Гапка!» Тогда ему связали руки за спиной и
потащили вперед. А Гнат все кричал и звал Гапку,
которая спряталась где-то за стенами, так что не
присмотреть за ней, не повидать, не поцеловать ее отцу
в последний раз... Звал Гнат Гапку, точно звал жизнь
свою, которой через несколько минут придет конец.
Выйдя во двор, Гнат растерялся и умолк. Было еще
совсем темно, снег падал большими хлопьями. Гнат
понял, что если вешают его, мирного Гната Орестюка
из глухих Самоселок, то что-то великое творится на
свете и что Гапка и он, Гнат, ее отец, слишком малы
перед этим великим. Гнат замолчал и не произнес
больше ни слова.
Ему было холодно в одной куртке, он дрожал.
Зрители заметили это и завернулись получше в шубы.
Когда Гната ввели на эшафот и стали вязать ему ноги,
кое-кто подошел поближе к виселице. Было темно,
а им хотелось получше разглядеть, как будет умирать
Гнат. А адвокат Любомирский вбежал в сени и там
затрясся в тихом, пискливом, истерическом плаче.
Гната поставили на табуретку и закинули ему на
шею петлю. Он увидел перед собой толпу
любопытных и узнавал прокурора, и судей, и жандарма. Он
различал во тьме их лица, не видел только глаз,
словно они спрятали их, словно испугались ненависти,
которую источали глаза Гната. Они ждали, когда Гнат
закроет глаза. Но Гнат не закрыл их даже тогда,
когда у него из-под ног вышибли табуретку, и хотя
2 Я. Галан
17
петля сжимала шею и глаза от напряжения чуть не
лопнули, он не спускал взгляда со зрителей, он хотел
излить на них всю свою ненависть, он даже хотел
сказать им о своей ненависти. Но петля все туже
сжимала шею и не выпускала из горла последнего слова
Гната. Тогда злоба и отчаяние, порожденное
бессилием, охватили Гната, и потому, вероятно, перестало
биться его сердце.
Еще пять минут мерзли господа перед виселицей.
Виселица под тяжестью могучего тела Гната скрипела,
а шпоры офицера позвякивали от нетерпения. Потом
маленький толстый тюремный врач залез на эшафот,
приложил ухо к груди Гната и сказал панам, что они
могут уже итти погреться. Общество решило не ходить
домой, а дождаться утра в кондитерской Дзеньцёла,
которая славилась каким-то особенным грогом.
Глаза Гната смотрели вслед ушедшим до тех пор,
пока зрачки не залепило чистым пушистым снегом.
ЦЕЛИНА
I
Всю ночь шел частый мартовский дождь, и когда
в яму опустили маленький, посеребренный сыростью
гроб, он чуть не весь погрузился в мутную воду.
Какая-то баба тонко заголосила, и среди ребятишек
раздался тихий плач. Страдающий одышкой поп
откашлялся, плюнул, снял скуфью, подхватил полы
рясы и, перепрыгивая через лужи, пустился восвояси. За
ним стал расходиться народ, только детвора теснилась
у могилы и слушала, как шлепались о гроб комья
грязи, пока не вырос высокий холмик.
Было воскресенье, и люди лениво месили слякоть
на вобненских дорогах. В летнюю жару дороги эти
высыхали, и тогда все село заволакивалось едкой
пылью. Осенью с запада надвигались тучи, и долгие
недели шел непрерывный дождь; маленькие хаты
облепляла грязь, они чернели, трухлявели и все глубже
увязали в мягком нездоровом грунте. По обе стороны
села бежали холмы, и летом на них шептался с
землей овес. Узкие, нещадно изрезанные межами нивки с
каждой вобненской свадьбой все больше сжимались,
мельчали, и все безнадежнее упирались по ту сторону
южного холма в просторную равнину, где росла рожь
графа Скшинского. В страду на эту равнину высыпали
2*
19
чуть ли не все Вобни; старый и малый потели на ней
от восхода до звезд за шестнадцатый сноп, и в три
дня на графских полях не оставалось ни колоска.
Тогда люди жали свой овес, бережливо, у самой земли,
так, что потом тощие пестрые коровенки мычали в
отчаянии на скудном жнивье.
Когда, десять лет назад, молодая учительница Ка-
занова приехала в Вобни, как раз подходил к концу
август и над селом сонно бродил туман. В первые
ночи учительница садилась у открытого окна и
подолгу любовалась посеребренными луной ольхами.
Утром, наскоро собрав книжки и тетради, она с тихой
радостью в груди, прихрамывая, бежала к школе.
Входя в старую маленькую хатку с земляным полом,
она с отрадой встречала обращенные к ней
любопытные детские глаза. Тогда ей казалось, что стены
расступаются, из-под земли вырастают скамьи и
ребятишки, чистые, в вышитых рубашках, поют в светлом,
просторном зале: «Расти, расти, старый дуб, могучий».
Но вскоре пошли осенние дожди, и ее ноги вязли по
щиколотку в раскисшем полу. Бледные, ободранные
ребятишки дрожали от холода на трех сломанных
санях, служивших скамьями, а от духоты и вони
спирало дыхание и голова наливалась свинцом. После
шести уроков учительница, шатаясь, возвращалась
домой, в полубессознательном состоянии падала на
кровать, чтобы, едва опомнясь, приняться за книги и
тетради. Она глубоко верила, что это только трудное
начало и что Вобни — чуть ли не последнее украинское
село по ту сторону Сана — останется украинским. Она
была уверена, что добиться этого — ее благородное
призвание, что это цель ее жизни и что если ей удастся
одеть вобненскую детвору в вышитые рубашки и
научить их любить Украину, эту романтическую Украину
красных жупанов, тоскливых песен и тихих вишневых
садов,—то через несколько десятков лет никто не
узнает бедных, забитых вобнян. На месте грязного
шинка она уже видела просторную каменную
читальню, на стенах ее — украшенные рушниками портреты
Шевченко и Франко, а за столиками — старых и мо-
20
лодых вобнян над книжками и газетами. И все
люди — чистые, приветливые, веселые.
Но до сих пор в Вобнях веселыми бывали одни
рекруты. Матери доставали им из запыленных
узелочков два-три злотых, кривое окно шинка светилось
всю ночь, и пьяный гомон до утра перекатывался по
вобненским холмам. По воскресеньям и праздникам
еще бывало весело в поповском доме. Пухлые поповны
танцевали под граммофон, и когда приезжал на
мотоцикле молодой дантист из ближайшего местечка,
шуткам и смеху не было конца. Казакова вначале
заходила туда, пила чай с малиновым соком и слушала
граммофон, но с ней напомаженный дантист никогда
не танцевал, — верно, потому, что у нее одна нога
была короче другой и в больших серых глазах
светились задумчивость и тоска. Вскоре она забыла дорогу
в поповский дом, а там о ней забыли еще раньше.
Выпал снег, и поп наведывался в школу лишь раз
в неделю. Обычно он приезжал в субботу пополудни
и разучивал с детьми молитвы. Тех, кто не затвердил
как следует «Помилуй мя» или «Верую», поп,
наморщив брови, щелкал желтым ногтем по носу и
выставлял из хаты. Потом недовольно ворчал на
учительницу, что не печется она о душах малых сих,
поднимал воротник и усаживался на подводу.
Приехал инспектор, худой брюнет с большими
зубами. Он на несколько минут зашел в школу и прежде
всего приказал детям петь. Когда они приветствовали
его двумя украинскими песнями, он спокойно слушал
и вежливо улыбался, но сразу же после его отъезда
взволнованная учительница накинула на голову
платок и под дождем заковыляла в город. На другой день
на стенах в школе, кроме обязательного орла,
повесили большие портреты президента маршала Пилсудско-
го, а изможденная детвора кричала на все лады,
разучивая полтора десятка патриотических песен о
безмерно мудрых и героических государственных мужах
и их божественных покровителях. Это был первый удар
для учительницы, и от него она уже не оправилась.
Осенью и весной в Вобнях свирепствовали
лихорадка и тиф, и тогда в школе становилось просторнее.
?л
Почти каждую неделю ученики шли за нетесанным
гробиком какого-нибудь своего товарища, и глаза
учительницы распухали от слез. Случалось, что во время
урока кто-нибудь из детей бледнел как снег,
закрывал глаза и падал под сани. Скоро стала падать в
обморок и учительница. В таких случаях дети с
помощью воды приводили ее в сознание, а когда она
приходила в себя, снова тихо и послушно садились на сани.
На редкость тихие и спокойные были эти воб-
ненские дети. Впрочем, быть может, потому, что в
школе не хватало воздуха для крика. Казанова
пожаловалась инспектору и просила выстроить новую
школу, пока эта не пожрала всю вобненскую детвору.
Инспектор как раз был у нее дома и словно между
прочим просматривал ее книги. Он подумал и ответил,
что Вобни должны стать польским селом, хочет этого
учительница Казанова или нет. Если хочет — тем
лучше: тогда ей отстроят новую школу.
Под конец инспектор будто ненароком упомянул,
что об учительнице осведомлялся граф Скшинский:
вобненская детвора давно уже не справляла во дворце
графа обжинки. Приходский священник помог бы
снова возродить этот обычай, если бы Казанова побольше
интересовалась церковными делами, которые не
ограничиваются участием школьников в богослужении. На
взгляд инспектора, любое проявление вольнодумства
в школе равноценно государственной измене, ибо
представляет собою скрытый большевизм. И он уставился
выпученными глазами на портрет Франко, висевший
над кроватью. Казанова смолчала, но в тот же вечер
вынесла портрет на чердак.
Шли годы, и каждый ложился на Вобни все
большей тяжестью. Нужда веками грызла вобнян, но то,
что началось в последние годы, было так ужасающе и
непостижимо, что в селе никто не мог понять, что это
такое и до каких пор так будет. Не раскумекал этого
даже поп, неистовствуя в проповедях по поводу
долгов безбожного вобненского люда за требы, а пан
комендант бегал с войтом по хатам, как пришпоренный,
и когда у крестьян нечего было взять за недоимки,
в остервенении бил штыком стекла. Не понимала этого
22
и учительница, как не понимала она и того, почему
бывшие ученики ее так быстро забывают рассказы о
гетманах и запорожцах и становятся такими же
неграмотными и неприветливыми, как все обитатели села.
Случалось, иные из них, так и не окончив школы,
отправлялось во Францию на заработки. Они возвращались
оттуда еще более неприветливыми и с угрюмыми
лицами молча шатались по улицам села. Когда учительница
заводила с ними разговор, они, потупив глаза,
бормотали что-то под нос и, не прощаясь, отходили от нее.
Это удивляло и болезненно поражало ее. В конце
концов она поняла, что ее одиночество в Вобнях не
случайно и что весь ее горький труд, все ее унижения
перед властями не привели ни к чему. Вобни не были ей
благодарны; наоборот, она видела, что между нею и
селом вырастает высокая стена и нет уже сил сломать
ее. Она знала уже, что Вобни хотели больше, чем она
могла дать, ибо все, что у нее было, она уже отдала,
даже себе ничего не оставила, — все перегорело в ней
за эти годы, и то, что все перегорело так быстро,
могло послужить уроком... Но не для нее — она была
уже старой, высохшей, ненужной яблонькой.
Вобненские дни и ночи были грозны и тихи.
Одинокий шинок пустовал теперь по целым неделям, и
однажды его владелец запряг облезлую клячу и повез
свою семью куда глаза глядят. Скотина возвращалась
с ярмарок непроданная и, голодная, гибла в хлевах.
В селе началась чахотка, но за доктором не посылали
даже в смертный час. Войта, Маланюка из Комонив-
ки, Грица Лебеду и пьяницу-колониста Мроза гоняла
по селу та же денежная горячка; они по целым дням
бегали, грозились, а женщин, случалось, били даже,
но все было напрасно: вобняне не могли платить ни
процентов, ни самих долгов — это было сверх сил —
и стояли грозной и молчаливой стеною. Это мучило
«порядочных людей», и, охваченные тяжелыми
предчувствиями, они все чаще обходили в глухую ночь с
фонарем свои владения.
А Казановой овладела старческая апатия. Как
всегда, точнехонько в восемь часов утра она была
в школе, а после уроков клала на голову компресс и
23
лежала в немом отупении до позднего вечера. Пыль
толстым слоем покрыла большое зеркало, доставшееся
учительнице по наследству от родителей, но женщина
и так уже не смотрелась в него. Ее бескровное лицо
пересекали глубокие морщины, и под глазами
проступили зеленые пятна. Иногда она вскакивала ночью,
и ей казалось, что на нее через окно смотрит грозный
усатый комендант, она ясно различала во тьме
блестящий штык и была уверена, что подан новый донос.
В такие ночи ее маленькое тело до самого рассвета
тряслось в диком страхе, боль в груди доводила до
изнеможения.
Однажды учительница встала в полузабытьи и,
пока дошла до школы, трижды падала в снег. После
обязательной молитвы она почему-то велела детям
петь «Расти, расти, старый дуб, могучий». Но, не
дослушав, пошатнулась и упала к ногам детей, прямо
лицом в грязь.
На другой день она не могла уже пошевельнуться,
руки и ноги ее опухли и сквозь маленькие оконца ее
домика на улицу доносились вопли. Иногда к ней
заходили хозяева и кормили ее вобненской пищей:
овсяным хлебом и немасленой картошкой, от которой
мутило. Через две недели она, лежа в полузабытьи,
ощущала, как в нерасчесанных волосах шевелятся
отвратительные насекомые. Как-то вечером вбежала в
комнату хозяйка с едой и, попросив прощения за то,
что не зашла утром, положила в рот больной
картофелину. Казанова, в знак благодарности, мигнула
одним веком, но картофелины не проглотила. А
наутро, когда хозяйка снова вошла в комнату,
учительница все еще смотрела одним глазом в потолок, и
тогда поняла хозяйка, поняли и все Вобни, что их
учительница умерла.
На другой день продали в местечке ее зеркало и
туфли, купили гроб и схоронили ее на почетном месте,
рядом с могилой прежнего попа.
Так кончила счеты со своей неразумной жизнью
учительница Казанова.
24
II
Через неделю после похорон в село приехал новый
учитель — дебелый белокурый человек с толстой шеей,
с суровыми, пронзительными глазами профессионала
фельдфебеля. Он был, по мнению инспектора, «лучшей
преподавательской силой» в соседнем уезде и обладал
немалым опытом в «государственно-созидательной»
работе. На его лбу и под левым глазом синели два
глубоких рубца, приобретенные, по его словам, в боях
с Красной Армией. Он и в самом деле носил крест «За
заслуги», однако знакомые его утверждали, что это
следы недавнего прошлого и свидетельство верной
службы пана Хрусцельского на поприще просвещения
украинских крестьян. Пан Хрусцельский побывал уже
не в одном селе, и нигде его не забыли. Не забыла
о нем и власть, перед паном Хрусцельским
расстилалась широкая дорога, и хотя ему уже вдоволь
досталось безнадежно-нудного прозябания по глухим углам,
он слушался своей власти и, уверенно глядя в
будущее, ехал в самые заброшенные дебри, неся повсюду
лютую офицерскую ненависть к «хамлу», которое,
кстати говоря, никак не хотело отказаться от своего
пастушьего жаргона и перейти на культурный язык его
славной отчизны. В двадцатом году он чуть не полгода
не слезал с коня, и ему приходилось, затаив
бессильную злобу, скакать сотни километров, спасаясь от
бушующего моря крестьянских восстаний, — об этом он
не забывал никогда. Сейчас он ходил пешком и не
носил уже сабли, но у него были тяжелые кулаки и
верил он им одним. Двадцатый год не повторится, по
крайней мере здесь, — пан Хрусцельский мог бы
поклясться в этом.
Через два дня, когда новый учитель удобно
устроился у коменданта, войт оповестил село, что завтра
начнутся занятия.
Строгий и темный, как ночь, вошел пан
Хрусцельский в школу. Детвора застыла на санях и боязливо
следила за учителем, обводившим угрюмым взглядом
запущенную, неприветливую хату. Голова учителя едва
не касалась потолка, с которого падали на грязный
25
пол тяжелые капли. Пан Хрусцельский надел было
шапку, но, вспомнив, что в школе перед занятиями
молятся, снял ее и скомандовал:
— На молитву!
Пока детишки растерянными голосами в тысячный
раз повторяли непонятные для них слова, взор учителя
блуждал по стенам и среди целого полка портретов
в коронах и с орденами нашел в углу, под вышитым
рушником, нечто ненавистное, чуждое, мужицкое. Он
грозно наморщил лоб, и дети, не закончив молитвы,
испуганно уселись.
— Что это там, в углу? Ты!
Маленький белокурый мальчик медленно поднялся
и тихо проговорил:
— Тарас... Шевченко!
— К дьяволу! — заорал учитель. — Снять!
Но маленький Федь не шевельнулся, только
побледнел, заморгал глазами и застыл в ужасе. Тогда
учитель большими шагами подошел к стене, сорвал
маленький портрет, изорвал его в клочки и бросил под
ноги. Потом поднял с пола грязный рушник и, неловко
усмехаясь, подал его ближайшей девочке.
— На, малышка, вытри нос, а то отмерзнет!
Но малышка только скорчилась, точно хотела
спрятаться под сани, и еще дальше — под землю,
дальше, как можно дальше от этого пана, такого
грозного и враждебного. Пан Хрусцельский молчал, а дети
под его взором каменели, изумленно смотрели ему
прямо в глаза и тихо, не морщась, плакали. На миг ему
стало жаль их, но затем кровь ударила ему в голову, и
он почувствовал прилив дикой, звериной ненависти к
этой мелюзге, к ее хамскому языку и хамскому
существованию, вынуждающему и его, поручика артиллерии в
резерве, без конца барахтаться с ней в грязи. Он даже
на миг не допускал, что и сама мелюзга мучится в этой
вонючей, сырой хате. Он был уверен, что она ничего
лучшего не заслуживает и что только для такой хаты
она и создана. Всю свою злобу он сосредоточил на
ближайшем к нему мальчике — на Феде и думал
только о том, как бы расправиться с этим ребенком, теперь
уже спокойно, неотрывно смотревшим на учителя.
26
— Ты кто?
Федь оглянулся вокруг, словно искал помощи у
товарищей, и встал:
— Кобыляк Федь.
— Поляк? Русин?
— У... украинец... — ответил Федь и, словно
заметив что-то недоброе в глазах учителя, тихо
добавил: — пане профессор...
Но в этот момент на лицо его обрушился жгучий
удар учительской руки, и пан Хрусцельский
разразился солдатской руганью, перемешанной со стертыми,
заимствованными из бульварной прессы фразами о
немецких деньгах, гайдамацкой неблагодарности и
великодушии шляхетской «матки-отчизны», которая,
невзирая на их неблагодарность, сердечно заботится о них
и защищает их от большевистских варваров с востока.
Тут пан Хрусцельский остановился, словно вспомнив
о чем-то, и обратился к Федю:
— Ты что знаешь про большевиков?
Тот подумал минуту и торопливо проговорил:
— Большевики панов прогнали, пане профессор...
Учитель наморщил потный лоб и расстегнул
полушубок. Теперь он был уверен, что дело серьезно и
надо начинать работу с азов, то есть с выработки
государственно-национального самосознания, ибо только
культуру шляхетского государства можно
противопоставить бунтарскому духу голытьбы. Гордясь своим
умозаключением, он даже подобрел и уже ласковее
обратился к Федю:
— Склоняй — естем полякем!
— Естем полякем... Естесь...
— Показывай пальцем!
Федь дрожащим пальцем указал на своего
старшего брата Миколу, высокого, чернявого мальчика,
которому труднее всех давалось учение.
— Естесь... полякем, он, она, оно, ест...
Но тут Микола вдруг встал и удивленно сказал:
— Прошу пана, я не поляк, — и вопросительно
уставился на своего брата.
Тогда Федь громко расплакался:
— Прошу пана, я тоже... нет...
27
Пан Хрусцельский побледнел, поднял руку,
растопырил пальцы, и ладонь ястребом упала на голову
Федя. Мальчик упирался, хныкал, но учитель накрутил
его волосы на пальцы и легко, как перышко,
приподнял Федя с земли. Мальчик болтал растопыренными
ногами и уже не кричал, а только стонал глухим,
низким голосом. Его редкие вобненские волосы не
выдержали тяжести, клок их остался в руке учителя, Федь
хлопнулся на землю, тряхнул головой, неловким
движением приложил руку к темени, увидел на пальцах
кровь и потерял сознание. Тогда брат его, Микола,
сидевший позади всех у окна, встал и, бледный как
смерть, вышел. Когда он вернулся с водой для брата,
он выглядел уже спокойнее, хотя руки его тряслись,
как в лихорадке. Карман большой рваной блузы
мальчика оттягивало что-то тяжелое и острое.
Но учитель не заметил этого. Он смотрел в окно,
за которым бродили по грязи гуси, и думал, что эта
голь не стоит его нервов и что он сегодня же напишет
инспектору и потребует, чтобы тот прислал
вспомогательную силу и приказал селу отстроить новую школу,
так как эта не дает ему развернуться и вконец
разрушает его испорченное на службе отчизне здоровье.
Кроме того, он предложит инспектору поохотиться
в лесах графа Скшинского, где он, может быть,
прислужится гостю своим дрилингом. Вспомнив о том,
какие гости будут на графской охоте, пан
Хрусцельский повеселел и велел детям спеть что-нибудь бодрое.
Те молчали и словно ждали чего-то.
— Запойте «Еще Польска», — сказал он и
устремил глаза на большеголовую, рахитичную девочку,
сидевшую у дверей.
Она растерянно заморгала глазами, зашептала и
неожиданно для себя тонким, пискливым голоском
затянула:
Расти, расти, старый дуб, могучий!
Сперва вразнобой, а потом дружно и звучно весь
класс подхватил песню о дубе, и казалось уже, что
здесь ничего не произошло за минуту до того и что
у вобненской детворы не было в мыслях ничего, кроме
28
этого растущего дуба. Дети пели не очень стройно, но
так громко, что гуси под окнами тревожно загоготали,
расправили крылья, махнули ими и, едва касаясь
земли, полетели на реку.
Однако песня скоро оборвалась. Пан Хрусцельский,
синий от гнева, весь затрясся. Его челюсти нервно
заходили, глаза налились кровью. Он сжал кулаки,
постоял минуту, точно в раздумье, затем подбежал
к большеголовой девочке, схватил за шею ее и ее
соседку, стукнул их головами, и тяжелые, страшные
удары посыпались на груди, спины, головы детей. Пан
Хрусцельский рассвирепел. Его широкий полушубок
развевался по хате черными крыльями, и в воздухе,
как стремительные мечи, мелькали могучие кулаки.
Поднялся страшный крик и визг. Тех, кто хотел
убежать во двор, учитель ловил и в остервенении бил
головами о стены. Дети забивались под сани, теряли
сознание от ужаса, но рука учителя находила их
повсюду, выволакивала за волосы из-под саней и
полуживых бросала под сапоги.
Как раз, когда пан Хрусцельский приблизился
к последним рядам и нагнулся, чтобы вытащить
очередную жертву, он почувствовал, как что-то острое и
теплое вонзилось в его правый висок. Он выпрямился,
удивленно огляделся вокруг и увидел
мертвенно-бледное лицо Фединого брата. Черные глаза Миколы
тлели, как раскаленные угли, и он не сводил взгляда с
учителя. В руке мальчик сжимал большой плоский
камень с острым ребром. Пан Хрусцельский поднял обе
руки, шагнул к Миколе, но вдруг выпрямился,
напрягся и, как колода, свалился навзничь на землю.
Онемевшая детвора осторожно подходила к нему,
удивляясь, что он стал белый, как полотно. Когда из
носа пана Хрусцельского тонкой змейкой поползла
кровь, дети с криком бросились к двери.
ш
Ветреным пасмурным днем жандармы повели
закованного в кандалы Миколу в местечко. Грязные
изорванные тучи плыли низко над землей, из-за них вре-
29
менами проглядывало солнце. Вели мальчика под
вечер, и в этот вечер больше, чем обычно, звонили
в церкви. Это звонили в память пана Хрусцельско-
го. Он лежал, засыпанный бумажными цветами, на
столе в комнате коменданта. У завешенного окна
мерцала восковая свечка, и мутно блестел на офицерском
мундире крест. В головах покойника поп бормотал
молитвы и одновременно обдумывал проповедь на
завтра. Его старческое лицо пылало гневом. Он
представлял уже себе, какими адскими муками будет
грозить этой голытьбе, утратившей всякое подобие божие.
Между тем Микола уже миновал греблю и,
сопровождаемый двумя жандармами, большими шагами
удалялся от дома. Люди выбегали из хат и молча
пытливо смотрели на него. Потом выходили на дорогу
и, перепрыгивая с камня на камень, шли позади.
У мостика, ежегодно сносимого половодьем,
Микола увидел родителей и Федя. Мать обняла,
поцеловала его, сунула ему в карман кусок черного хлеба и
луковицу. Теснимая жандармами, она покорно
подалась назад и с тихим плачем побрела по грязи вместе
с толпой, к которой постепенно присоединилась чуть
ли не половина села.
Вобняне шли молча, и никто не мог бы сказать,
что движет ими — любопытство или сердечное
участие.
Дойдя до околицы села, где кончались хаты и
начиналась дорога, за которой морем разлился Сан,
достигший чуть ли не самой лестницы дворца графа
Скшинского, и приблизившись к белой табличке, на
которой красными буквами было написано: «Вобни»,
толпа остановилась. Микола обернулся на миг, а мать
уткнулась в плечи своего высокого Андрия и
сдавленно, одной грудью, всхлипывала.
Из-за облаков выглянуло солнце, и с ним
вынырнул из мглы медленно, без крика приближающийся
клин журавлей. Все подняли головы и, прищурившись,
загляделись на стаю. Загляделись и жандармы.
Маленький толстый заместитель коменданта прицелился
в птиц из винтовки и выстрелил. Толпа увидела, как
Микола в страхе метнулся в сторону и бросился
30
бежать. Жандармы стали кричать «стой», но это не
помогло. Микола бежал, как испуганная лошадь,
уверенный, что это в него стреляли и что если он не
убежит, то наверное застрелят.
Через минуту он не слышал уже криков, как не
услышал и выстрела.
Жители Вобней видели, как Микола опрокинулся
после выстрела жандарма, и вслед за конвоирами
толпой бросились к нему. Услыхав за собой топот ног,
жандармы обернулись и почему-то метнулись в
сторону, на дорогу. Оттуда они увидели, что толпа, не
доходя до Миколы, застыла и уставилась на них.
Жандармы побледнели и растерянно озирались по
сторонам, но на дороге было тихо, как ночью. Кто-то из
вобнян направился к ним, и тогда вся толпа тучей
двинулась на жандармов. Помощник коменданта
схватился за винтовку, но было уже поздно. Он слышал
запах вобненских овчин, в глазах у него потемнело,
и он, перепрыгнув через канаву, бросился вместе с
другим жандармом бежать по единственному
оставшемуся им пути — на Сан. На берегу они еще раз
обернулись, и оба с хриплым криком кинулись в мутную
быстрину. Волны закружили их как колоду и понесли
на глубокое место.
Толпа молча стояла на берегу и тяжело дышала.
На дороге, над Миколой, голосила Андрииха. Вобняне
повернулись туда, и как раз в этот миг солнце
осветило белоснежный дворец графа Скшинского,
высившийся над парком двумя зубчатыми башнями.
Вобняне морщили лбы и широко раскрытыми глазами
смотрели на сказочный дворец. Они чувствовали, что
сегодняшний день не похож на все другие дни их
жизни, но случившееся сегодня было для них понятно, и
они удивлялись только, что поняли это так поздно. Они
видели, что солнце стоит еще довольно высоко и день
еще не кончился. Они сознавали, что не смогут уже
сегодня вернуться к своему труду, и поняли, что весь
их труд, труд всей их жизни ни к чему не ведет,
ничего не меняет, что не улучшатся и не станут
просторнее вобненские земли, не родятся хлеба и никто не
вымолит для них, вобнян, другой, лучшей доли. Они
31
видели перед собой бескрайные просторы плодородных
земель и за ними, в тихом парке, сверкающий на
солнце дворец. Они видели еще не вспаханный клин — из
земли тянулась реденькая травка, и им захотелось
хотя бы пальцами поковыряться в черной живой
земле. Вобняне двинулись на господское поле, сперва
медленно, потом все быстрее и быстрее, потом, точно
ветер подхватил их, из сотни грудей вырвался
громкий крик без слов, и они грозной толпой бросились
ко дворцу.
Микола пришел в сознание, когда никого уже
вокруг не было. Он хотел зачем-то полезть в карман, но
наручники мешали. Услышав журчание ручейка в
канаве, он со стоном пополз к воде. Напившись, он
поднял голову и увидел, что над дворцом вырос столб
белого и вслед за тем черного дыма. Заходящее за
холмы солнце скрылось за дымом.
Миколе больше не хотелось воды, он опустил
голову на черную землю и умер.
НА МОСТУ
Пусто было на мосту, хотя день был воскресный и
народ в это время возвращался из церкви. Мимо
капрала Сейды проходили только старушки и девочки-
подростки, приветствуя его робким:
— Слава Иисусу!
А это капрала Сейду никак не удовлетворяло.
Опершись на перила, он злобно плевал в серебристые
волны горного потока. Мокрый снег хлестал ему в
лицо, пронизывающий холод пробирал до костей. Но
жгучая ненависть согревала Сейду. Он хорошо видел,
как люди, чтобы обойти мост, шли крадучись за
ольхами, и, насторожив уши, слышал, как под их ногами
хлюпала вода. Его злое загорелое лицо с серыми
навыкате глазами мрачнело с каждой минутой.
Вдруг капрал насторожился: где-то далеко на краю
села зазвенел колокольчик. Сейда обвел глазами
вокруг и увидел нескольких солдат, которые как раз
в это время вышли из корчмы и, остановившись среди
дороги, задумались, что им делать дальше. Быстрым
движением Сейда снял рукавицу и, вложив в рот два
пальца, свистнул. Солдаты нетвердым шагом
направились в сторону моста.
Доктор Остапчук, укутанный в бараний тулуп,
удобно примостился в санях. Он отличался крепким
здоровьем, и, несмотря на то, что ему уже было под
сорок, его щеки пылали юношеским румянцем, а во-
3 Я. Галан
33
круг маленьких быстрых глаз не видно было ни единой
морщинки. Жена была моложе его на двенадцать
лет, и это она, как говорил шутя доктор, хранила
секрет его молодости.
Остапчук был доволен своей жизнью. Когда, после
лишений в студенческие годы, в его кармане
зашевелились первые заработанные деньги, он точно второй
раз родился на свет. Молчаливый и хмурый до этого
времени, он стал теперь чуть ли не первым шутником
в городке, дарил налево и направо улыбки, был со
всеми приветлив и предупредителен, каждому готов
был шепнуть словечко, которое заставило бы
выпрямиться во весь рост даже самого неуверенного в себе
человека.
И это отнюдь не говорило о том, что у Остапчука
была душа льстеца. Он хотел только поделиться своим
счастьем: он уже не только не голодает, но если так
пойдет дальше, то через каких-нибудь
десять—пятнадцать лет сможет купить себе автомобиль и в нем
ездить к больным. Его ничуть не волновало то зло, что
творилось вокруг него, — он с печальной улыбкой
принимал тот факт, что за долгие тринадцать лет работы
ему не удалось получить хорошо оплачиваемое место
городского врача. Он надеялся, что жизнь его будет
течь, как река: чем больше она ширится, тем
становится спокойнее и тише. Доктор Остапчук не раз
повторял, что он не рожден для бурь. Молнии мечут
враги, а таких врагов у него не было. Он был только
доктором, и необычайно скромным доктором.
Возница ожесточенно хлестал лошадь. Доктор
понимал, что сидящего перед ним гуцула мучила сейчас
только одна мысль: спасти умирающего ребенка.
Это был случай, который мог бы смутить доктора,
не будь он таким оптимистом. Когда отец привез
к нему три дня назад свою черноволосую девочку,
Остапчук, осмотрев ее внимательно, уверенно сказал:
«Грипп». А сегодня по всем признакам выяснилось,
что она больна дифтеритом, и осталось только одно —
сделать ей инъекцию, выдавить в горле гнойные
нарывы, иначе к вечеру мог наступить конец.
Когда въехали на мост, лошадь мчалась уже
34
вскачь, и фигура капрала только промелькнула перед
глазами доктора.
Вдруг сани занесло и с такой силой ударило о
перила, что доктор не успел даже опомниться, как уже
лежал посреди моста.
Поднявшись, он увидел, что сани остановились по
ту сторону реки. Несколько солдат окружили возницу.
Размахивая кулаками над головой, они что-то кричали.
Неожиданно один из них изо всей силы ударил
лошадь палкой по животу. Животное застонало от боли
и, словно обезумев, метнулось вперед.
Остапчук побежал вдогонку, как вдруг чья-то
сильная рука схватила его за ворот. Он хотел повернуться,
чтобы взглянуть на нападающего, но железная рука
не дала ему пошевельнуться.
— Ты кто такой? — услышал он вопрос на
польском языке.
Остапчук давно уже забыл то время, когда ему
говорили «ты». Ему показалось это оскорбительным,
но он тут же вспомнил вычитанное им где-то правило,
что гнев — враг человека, и успокоился.
— Я доктор Остапчук, — ответил он.
Рука выпустила воротник тулупа, и доктор
очутился лицом к лицу с капралом Сейдой. Сжатые губы
унтер-офицера не предвещали ничего хорошего, но
Остапчук знал, что нет злобы, которую не
растоптала бы приветливая улыбка, поэтому-то он и
улыбнулся широко и ласково.
— Ты не говоришь по-польски? — спросил коротко
Сейда.
— Говорю, — ответил доктор опять, помимо воли,
по-украински, хотя у него не было ни малейшего
желания демонстрировать свою национальность.
Глаза капрала сощурились, а зрачки напоминали
сейчас черные булавочные головки.
— Ага, умеешь и не хочешь? Понимаю, — сказал
извиняющим тоном капрал. — А поклониться тоже не
хочешь?
Улыбка застыла на устах Остапчука.
— Поклониться? — повторил он удивленно. —
Я же... Я вас не знаю...
••
35
Он действительно впервые в своей жизни встретил
этого толстого унтер-офицера с глазами навыкате.
Хотя он и видел, как несколько дней назад через город
проезжала на зимние учения кавалерия, но ни с одним
солдатом он тогда не знакомился.
«Это, очевидно, не что иное, как только
недоразумение и грубая шутка солдафона», — успокаивал себя
Остапчук и в то же время с ужасом почувствовал, что
сердце его забилось как-то непривычно часто,
по-новому, и в сознание тонкой змейкой вползла тревога.
— Дурачка хочешь разыграть передо мной?
Видали таких! А ну, снимай шапку, мурло!
Остапчук машинально поднес было руку к шапке
и на полдороге остановился. Он почувствовал, что
рука дрожит, — и щеки вспыхнули от стыда. Чтобы
капрал не заметил его слабости, он быстро спрятал
руку в карман.
В глазах капрала загорелись огоньки злобы.
— Отказываешься польскому мундиру честь отдать,
свиное отродье? — взвизгнул по-бабьи капрал Сейда и
разразился бранью.
— Я вас не знаю! — отчеканил в ответ громче, чем
хотел, доктор.
— А теперь будешь знать?
Тяжелая, как камень, рука капрала ударила
доктора по лицу. Остапчук почувствовал во рту соленый
вкус крови.
— Снимешь шапку? — спросил шепотом Сейда,
наклонившись к лицу доктора.
— Нет! — прохрипел Остапчук.
После второго удара кровь наполнила его рот. Он
наклонился и плюнул. На снегу расползлось красное
пятно.
— Снимешь? — еще раз прошипел капрал.
— Нет! Нет! Нет! — крикнул Остапчук, словно
безумный.
В нем произошло что-то такое, что в мгновенье
переродило все клетки его организма, как бы превратив
каждую из них в живое существо, наполненное жгучей
ненавистью. Доктор почувствовал, что он растет с
каждой секундой, а мускулы рук его становятся желез-
36
ными. Когда третья пощечина обожгла его лицо, он
сжал кулаки и со всего размаху ударил капрала в
подбородок. Сейда, ударившись плечами о перила,
забормотал и упал на колени.
Остапчук повернул вправо. В нескольких шагах от
него стояли солдаты, загораживая ему дорогу в село.
Их было четверо. Когда доктор подошел к ним, он
ясно ощутил запах водки.
Не ожидая их нападения, он могучим размахом
плеч сбил с ног двоих и кинулся, что было силы,
в село.
Когда он очутился в садике, через который шла
тропинка к хате, где лежала больная девочка, сердце
его страшно билось. Снег здесь был глубокий, и ему
с каждым шагом все труднее было вытаскивать ноги.
Услышав приближающийся топот солдат, он быстро
сбросил тулуп. Теперь бежать стало легче, но,
очутившись у перелаза, он с трудом поднялся на него.
Когда он оглянулся назад, чтоб увидеть своих
врагов, в глазах вдруг потемнело, и горячая кровь
полилась по лицу. Напрягая последние силы, он сошел с
перелаза и, шатаясь, направился к находившейся уже
близко хате. В маленьком оконце мелькнуло
побледневшее лицо матери.
Вдруг Остапчук крикнул: в его голову попал
второй, еще более тяжелый острый камень. Доктор
прошел еще несколько шагов, и когда поднял глаза к
небу, оно закачалось и упало на него черным
покрывалом.
НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТРО
Передо мной новый (на 1932 год)
Календарь-альманах «Червоной Калины», и, как всегда, каждая
страничка его вопиет о крови, о безграничной классовой
ненависти. Альманах «Червоной Калины» задыхается
от ненависти, от классовой ненависти к трудящимся.
На 143-й странице, где-то чуть ли не в самом
конце объемистого календаря, затерялись две странички
воспоминаний: Л. Веринский. «Над Ценивкой».
Крови здесь мало, почти совсем нет. Автор
приступает к рассказу спокойно, без выкриков, без пафоса,
просто так:
«Ценивка — маленький ручеек, текущий из Ценева
неподалеку от Конюхов по узкой долине в сторону По-
тутор, что под Бережанами, и впадающий в Золотую
Липу».
Это была весна 1917 года. «Это было время
радостных событий».
«Тогда на фронте началось «братание»
(обязательно в кавычках. — #. Г.), и война для УСС ] лишалась
смысла».
«На фронте настало затишье. Только артиллерия
время от времени затевала дуэль да патрули пере-
1 Украинские сечевые стрельцы — националистические части,
сражавшиеся в составе австро-венгерской армии в первую
мировую войну.
38
стреливались. А по вечерам в окопах по ту
сторону линии фронта раздавались песни. Наши
отвечали.
Это происходило так. Какой-то неизвестный Петро
выходил на бруствер и затягивал украинскую песню —
длинную, протяжную. Его мягкий баритон катился
эхом по лесу, очарованному сказкой весенней ночи.
— Эй, Петро! — окликали его с нашей стороны.
Петро откликался. Подходил украдкой к нашим
окопам, приносил газеты. Первые украинские газеты.
Какая радость!»
Была весна 1917 года, было братание, первые
украинские газеты, и был Петро с той стороны. Он вставал
во весь рост над окопами и затягивал украинские
песни, долгие и протяжные. И больше о Петре ни слова.
Был Петро, пел и носил газеты в стрелецкие окопы.
Была радость, и пан Веринский забыл на радостях
о неизвестном Петре с той стороны.
На фронте, у Ценивки, стояли сечевые
стрельцы. Были у них старшины и было мужичье — рядовые.
С тех пор прошло пятнадцать лет, и было время
позабыть многое. Мог забыть о Петре пан Веринский,
могли забыть о нем солдаты. Но они не забыли. И не
только потому, что Петро хорошо пел и приносил
газеты. Были у Ценивки атаманы, были сотники,
куренные и четари. У многих из них сверкали на груди
блестящие кресты и медали, и о многих из них
забыли. Но Петро, самый обыкновенный полтавский
парнишка Петро, навсегда остался в солдатской
памяти.
Недавно мне пришлось встретиться с бывшим
стрельцом УСС, стоявшим весной 1917 года у
Ценивки. Он читал червонокалинские воспоминания и
очень жалел, что пан Веринский так мало написал
о том времени.
У этого стрельца была хорошая память, и особенно
хорошо он помнил Петра. И когда он рассказывал
о судьбе Петра, глаза его заблестели, и я уверен, что
он никогда не забудет ту весну.
Стрелец рассказал мне то, о чем умолчал альманах
«Червоной Калины».
39
«Шел уже третий год войны, а конца все не было
видно. Но мы слушались своих старшин и, когда
приходил приказ, дрались. С каждой неделей нас
оставалось все меньше, но мы знали, что сражаемся с
царской Россией, с тюрьмой народов и трудящихся, и мы
бились до последнего, хотя все чаще оглядывались
назад, и тогда чувствовали, что и в том направлении
устремлялась наша еще глухая и затаенная ненависть.
Наши глаза видели все лучше, мы все больше
понимали. Рядовые стрельцы хмурились, мрачнели; одни
все чаще тосковали по дому, другие — по родне,
а все — по тому, о чем тогда только робко и неясно
думали и мечтали на ночных постах. Это был март,
начало марта 1917 года.
Однажды мы загляделись на русские окопы. Там,
в трехстах метрах от нас, поднялся необычный шум.
Мы не знали, что там происходит, и удивлялись. Мы
продолжали удивляться, когда на их колючей
проволоке кто-то повесил флажок. Флажок был красный.
Мы молча смотрели, а вдоль их окопов появлялись все
новые и новые флажки, и вскоре все впереди заалело.
Только на другой день мы узнали, что у них
революция.
Мы собирались толпами в окопах, по целым дням
смотрели на восток и прислушивались. Ночи были
лунные, и нам захотелось петь. Вот мы и затянули
однажды вечером «Ой, мисяцю, мисяченьку...» Кто-то
выглянул и сказал, что русские вылезли из окопов. Мы
встали на цыпочки и увидели за проволочными
заграждениями несколько фигур. Русские стояли
неподвижно, точно заслушались. Мы запели еще громче,
во весь голос, и, когда кончили, месяц катился к
горизонту. Мы еще раз посмотрели в ту сторону. Темные
фигуры все еще стояли там, хотя песня отзвучала и
было уже тихо. Месяц светил еще, и прицел был
хорош, но никто из нас не отважился стрелять. Мы
смотрели и словно ждали чего-то. Вдруг кто-то из них
запел. Стояла такая тишина, что мы отчетливо
слышали каждое слово. Это была украинская песня «Ой
у лузи, та ще при берези — червона калина». Пел
один, а в глубине окопов подтягивали.
40
Нас удивило и пенье и то, что песня была
украинская и что подхватили ее в русских окопах. Мы сразу
почувствовали, что там, за вражеской проволокой,
наши братья и что у них нет к нам ненависти, как
не было ее и у нас. Мы хотели сказать им об этом
и подхватили песню. Когда спели, месяца уже не
было, и до нас донесся тот самый голос, который
затянул «Ой у лузи».
— Товарищи стрельцы, а ну еще какую-нибудь!
— Ты кто? — крикнули от нас.
— Украинец! Полтавской губернии. Петром зовут,
товарищи стрельцы.
Было темно, однако мы видели высокого Петра и
толпу солдат, высыпавших из окопов. Никто из наших
не знал, о чем еще спросить, и снова стало тихо.
— Товарищи стрельцы! Мы больше не будем
стрелять в вас — у нас ре-во-лю-ция! И царя у нас уже
нету и господ, товарищи, не будет. Мы больше не
будем стрелять в вас. Да здравствует, товарищи
стрельцы, революция!
Мы и тут промолчали, и только один из нас, в
темноте не разглядели — кто, крикнул было: «Да
здравствует...» — и осекся. Слишком мало мы думали до
тех пор и слишком много узнали в тот вечер.
Чуть ли не до утра в окопах у нас гудело, как
в улье. Мы возбужденно спорили, рассуждали. Под-
старшины были того мнения, что Петра подослало
русское командование, чтобы заманить стрельцов в
плен. Мы не могли этому верить и ждали следующей
ночи.
Весь следующий день на фронте было тихо.
С русской стороны даже артиллерия молчала. Мы
уже не боялись пуль, смело выглядывали из окопов
и искали глазами Петра. Вечером мы вновь услышали
его голос, и началась беседа на расстоянии в
триста метров. Каждое слово Петра западало в душу;
слова его были каждому близки и понятны и столько
говорили нам, сколько мы не слыхали за всю нашу
жизнь. Мы сознавали, что теперь все пойдет иначе,
что с этих пор мы становимся совсем другими, чем
были вчера, и что больше никогда уже не станем
41
прежними. Мы слушали Петра и, оборачиваясь,
встречали хмурые взгляды стрелецких старшин.
Мы сговорились с Петром, что выйдем втроем, без
винтовок, на берег Ценивки. Русских тоже будет трое.
Когда стемнело, они уже ждали. Тут мы впервые
увидели Петра близко. Он был молодой, крепкий,
красивый. Мы, как и накануне, долго говорили с ним, и он
повторил все, что говорил прежде, а мы слушали и не
могли наслушаться.
На следующий вечер нас пришло больше, их —
тоже. Мы уже перекидывались шутками, хохотали,
менялись харчами. От них получали хлеб и сало, им
давали крепкий австрийский ром. Но Петро не ел и не
пил, хотя старшины посылали ему самый лучший ром.
Старшины заинтересовались Петром не только
потому, что он приносил украинские газеты. Адъютант
полковника Кикаля Воютицкий тоже выходил на речку
и внимательно слушал полтавчанина. Потом он ушел
в старшинскую землянку, и там шел долгий вполголоса
разговор. Адъютант Воютицкий с тех пор полюбил
Петра, стал приносить ему подарки, звать к себе в
гости. Но Петро упорно отказывался и, когда ему
совали что-нибудь в руки, говорил своим с улыбкой:
— Я не хочу, а вы, ребята, берите, ежели угощают.
Он был упорен и тверд и упорно твердил, что пора
кончить войну и заключить рабоче-крестьянский мир.
Среди нас были рабочие, а еще больше было крестьян.
И, кажется, не было между нами никого, кто не хотел
бы этого мира. Петро знал это и говорил, что, не
сбросив царя, мир не заключить, что войну хотят
только царь да господа и что они на
рабоче-крестьянский мир добровольно не согласятся.
Мы слушали, думали и все крепче пожимали руку
Петру и его товарищам. Все это видели и знали
старшины, знали они и то, что никак не удается заманить
Петра в наши окопы. Адъютант Воютицкий все чаще
перешептывался со старшинами, а за ним, как тень,
ходил командир пулеметчиков Турок.
Я словно предчувствовал дурное, видя все больше
темневшие глаза старшины. Молодой красивый голос
Петра звучал за речкой над полями, и я боялся, что-
42
бы он вдруг не замолк, чтобы Петро с товарищами не
ушел от нас. Я полюбил Петра и возненавидел войну
и первый повернул бы винтовку в грудь того, кто
захотел бы возобновить битву.
Началась буйная весна. Мы каждый день
встречались с русскими, и они уже заходили к нам в окопы.
Не заходил только Петро. Он уже на рассвете стоял
в условленном месте над речкой и ждал нас. Так было
всегда, так было и в тот памятный день.
Рано утром адъютант Воютицкий вызвал четырех
стрельцов и отправился с ними на речку. Те из нас,
кто не спал, видели, что Петро стоял уже на своем
месте с тремя товарищами и говорил с нашими.
Я тогда стоял неподалеку от пулемета, и меня
удивляло, почему это десятник Турок сидит у пулемета и
набивает ленту. Я посмотрел на речку. Стрельцы и
солдаты, пересмеиваясь, разговаривали. Только
Воютицкий все оглядывался, точно искал что-то
глазами. В этот миг пулемет дал один выстрел. Воютицкий
что-то взволнованно скомандовал, наши стрельцы
отпрянули назад, и в то же мгновение пулемет дал еще
очередь. Широко открытыми глазами я видел, как
солдаты, точно тяжелые мешки, упали в речку.
И только Петро пополз в траву и вытянулся.
Адъютант Воютицкий надвинул мазепинку на лоб
и побежал к землянке. Когда я оглянулся, у пулемета
уже никого не было.
Стрельцы выбегали из землянок и, бледные,
смотрели на речку. Потом начался шум. Мы собирались
толпами, размахивали кулаками и бросали старшинам
гневные слова. Обида, жалость, ненависть овладели
нами, а по окопам бродили вооруженные с ног до
головы грозные и угрюмые старшины. Как много узнали
мы в этот день, и как мало было среди нас таких, кто
знал бы, что делать! Старшины, живые, здоровые и
надутые, ходили среди нас...
Ни в этот вечер, ни на следующий, ни на третий
никто не пел ни у нас, ни у них. Кто-то из наших
крикнул среди ночи:
— Петро!
— Петра нету. Ваши убили! — ответили русские.
43
Мы молчали, и только один едва слышно ответил:
— Это не мы!..
На другое утро на реку никто не вышел. Сейчас же
после пасхи нас перевели под Конюхи».
Вот что рассказал стрелец о Ценивке, 1917 годе и
Петре. Не правда ли, немного больше, чем пан Ве-
ринский? Впрочем, дело не в Петре. Петров тогда
было много, не мало их и теперь. И то, что они
подымаются во весь рост, мутит разум кикалей и воютиц-
ких. Они день и ночь наводят на Петров пушки и
пулеметы и будут убивать Петров, пока имеют
возможность ходить среди нас живые, здоровые и надутые.
Петро говорил, Петро пел о революции...
1930
ОЧЕРКИ
И ФЕЛЬЕТОНЫ
ЛЬВОВСКИЕ ОЧЕРКИ
ПРЕДГРОЗЬЕ
Здание львовского Народного дома отличалось
одной особенностью: оно имело пять ворот. Эта
особенность причиняла немало хлопот полиции. Если кто-
нибудь из «подозрительных» входил, скажем, в ворота
по Краковской улице и исчезал в полутьме коридора,
следивший за ним сыщик дальше не шел: углубляться
в подземелье было опасно.
Оставаться у подворотни также не было смысла,
ибо кому бы пришло в голову самому лезть в
полицейский капкан, когда в распоряжении «подозрительной
личности» оставались другие четыре выхода. Следить
же одновременно за всеми выходами было не легко
еще и потому, что здание занимало целый квартал.
Это было идеальное место для конспирации.
Именно в этом доме делал свои первые шаги
антифашистский конгресс работников культуры.
Осень 1935 года давала
революционерам-подпольщикам основания для самых радужных надежд. В
буржуазной Польше «кипело». Бурлила крестьянская
Волынь, зашевелились деревни центральной Польши,
а легионы безработных в городах переходили от
возмущения к действию и колоннами выступали на
улицы.
Фашистская клика вершителей судеб польского
буржуазного государства испугалась всерьез. Пришлось им
пойти на кое-какие уступки, когда тысячи резолюций,
47
требующих амнистии для политических заключенных,
засыпали стол премьер-министра. Среди них оказались
резолюции, подписанные сплошь и рядом людьми,
которых трудно было бы заподозрить в
коммунистических настроениях. Правительство почувствовало, что
дело серьезнее, чем можно было предполагать. В эти
дни удалось вырвать из тюремных камер несколько сот
борцов за волю.
Большой переполох в правительственных сферах
вызвало очевидное для всех поведение интеллигенции.
Ее лучшая часть не могла оставаться безразличной
к судьбам городского и сельского пролетариата.
Рождался Народный фронт. Он втягивал в
круговорот событий тех, кто до недавнего времени стоял
в стороне от политики.
Назрела необходимость организации большой
антифашистской демонстрации работников умственного
труда, демонстрации, аналогичной Парижскому
конгрессу защиты культуры.
Инициаторами созыва антифашистского конгресса
во Львове были коммунисты и беспартийные
представители прогрессивной интеллигенции.
Начальная стадия подготовки конгресса требовала
суровой конспирации. Возник вопрос: где встречаться?
После короткого колебания избрали одну из квартир
в Народном доме.
Вечерами сюда приходил Ежи Седлецкий. Он
совсем недавно вышел из тюрьмы, оставив среди
товарищей по камере добрую славу честного и
проницательного человека. Таким же знали его и на воле, знали и
любили.
Со временем Седлецкого сменил Иван Тишик (он
погиб во время Великой Отечественной войны).
Высокий, стройный, всегда подтянутый, этот сын
волынского крестьянина обладал способностью сразу
очаровывать собеседника. Когда-то лучший ученик Луц-
кой украинской гимназии, Тишик за несколько лет
подпольной работы завоевал славу бесстрашного
революционера и на редкость чуткого и скромного
товарища.
Не знал тогда Иван Тишик, так же как не знали и
48
товарищи, что это последние его дни на свободе.
Через некоторое время он был арестован. Приговор
гласил: десять лет сурового тюремного заключения.
Однако пока это произошло, Тишик работал. По
заданию подпольного руководства следовало развернуть
особенно энергичную деятельность среди
интеллигенции, мобилизуя ее на совместную с рабочими борьбу
против фашизма, против режима варшавской
агентуры Гитлера.
После ареста Тишика встречаться дальше в этом
укромном месте было бы слишком рискованно.
Пришлось скитаться по городу, с трудом подыскивая
пристанище. В одном случае встречались на квартире
рабочего-инвалида на Городецкой, в другом — в
устланной дорогими коврами комнатке сестер Перльмут-
тер, по улице Леона Сапеги, под самым носом у
дефензивы.
На время приютил организаторов конгресса
здравствующий и поныне сапожник Конкольовский. Сквозь
окна его подвала видно было высокую траву, а где-то
повыше, в невидимом саду, шумели деревья. За
причудливо размалеванной ширмой весело постукивали
молотки.
Инициаторы конгресса систематически отчитывались
в проделанной работе перед представителем
руководства коммунистической партии и получали новые
задания. Эти задания не всегда были по душе. Отказывался
писатель Александр Дан (замученный впоследствии
немецкими фашистами), когда ему предложили
переговорить с правым пэпээсовцем Скаляком; горько шутил
писатель Александр Гаврилюк, которому выпала
сомнительная честь говорить с националистом Кириллом
Студийским. Все мы знали, что эти разговоры ни
к чему не приведут, но нам нужно было разоблачить
перед широкими массами позицию некоторых
«деятелей», а лучше всего это можно было сделать, получив
от них официальный отказ от сотрудничества с
комитетом по созыву антифашистского конгресса.
Несмотря на трудности, весной 1936 года вся
подготовительная работа была закончена,
организационный комитет стал своеобразным штабом передовой,
4. Я. Галан
49
прогрессивной интеллигенции не только Западной
Украины, но и Польши. Поступали десятки все новых
и новых заявлений и деклараций о поддержке
конгресса. Можно было уже подумать о дате созыва
конгресса, о порядке дня, о помещении, в котором он
соберется.
А тем временем назревали события, которые в конце
концов и определили характер конгресса.
В марте всю Польшу потрясло известие о расстреле
рабочих на краковском заводе «Семперит» и о
многотысячной демонстрации протеста на улицах Кракова.
Во Львове появились легковые машины с
регистрационными знаками «В» (Варшава), переполненные
офицерами полиции и шпиками. Начались массовые
аресты.
Однако они не предотвратили бури. Похороны
убитого полицейскими безработного Владислава Козака,
превратившиеся в массовую манифестацию, показали
подлинное настроение трудящихся. Блестяще
проведенная всеобщая забастовка во Львове
продемонстрировала сплоченность рабочего класса, внушительная
первомайская демонстрация, в которой широко
приняла участие интеллигенция (небывалое до этого
явление), еще раз подтвердила, как возрос авторитет
коммунистической партии.
Это были дни, когда погромщики из фашистских
ватаг ОНР («Обуз радикально-народовы»), и
«фаланги» отсиживались в своих норах, предпочитая не
появляться на улицах города. В те дни мы все видели
явное замешательство в стане врага.
В такой атмосфере состоялся памятный конгресс.
Первые его заседания проходили в помещении
профсоюза коммунальных работников, по улице Кушевича.
Здесь выступали с докладами Степан Тудор и
Александр Гаврилюк, Ванда Василевская, Галина Гур-
ская, Эмиль Зегадлович.
Небольшой зал не мог вместить всех участников
конгресса, несмотря на то, что приглашения получили
лишь представители профсоюзов. Тогда
организаторы конгресса обратились в магистрат с просьбой
предоставить для заключительного заседания зал Боль-
50
шого театра (сейчас Государственный театр оперы
и балета). Растерявшиеся советники магистрата
посоветовали обратиться к директору театра. Тот
согласился.
На другой день поутру зал наполнился рабочими.
На сцене длинный стол президиума, покрытый
красным шелком, на столе цветы.
...Говорит Кузьма Пелехатый, и тысячи рук
поднимаются, чтобы приветствовать этого популярного
революционного деятеля и оратора. После него
выступает польский писатель Эмиль Зегадлович. Уже тогда
он был смертельно болен. Читает свои чудесные стихи
Владислав Броневский. Представитель Вильно,
блестящий публицист Генрих Дембинский, передает
братский привет столице Западной Украины от Западной
Белоруссии (со временем Дембинский ответит за эти
слова перед польским судом, а три года спустя
мужественно погибнет в схватке с гитлеровцами).
...В глубокой тишине слышно каждое слово
польской писательницы Галины Гурской (она впоследствии
тоже падет жертвой гитлеровского террора). Гурская
говорит о славе тех, которые погибли, о счастье тех,
кто придет к цели, имя которой — государство
трудящихся.
Из зала на сцену поднимается пожилая женщина и
от имени бастующих строительных рабочих вручает
председателю собрания Ванде Василевской большой
букет красных цветов. Раздается гром аплодисментов,
и внезапно весь зал начинает петь «Интернационал».
С верхних ярусов летят на засыпанный
приветственными телеграммами стол целые охапки цветов.
Становится больно, что за столом нет Максима Горького,
избранного накануне в почетный президиум
конгресса... Ведь эти цветы в первую очередь
адресованы ему!
Вечером того же дня в зале Технического общества
по улице Бурлярда состоялся творческий вечер
писателей— участников конгресса. Снова полным-полно.
Во время выступления писательницы Анны Ковальской
слышится звон разбитого стекла. В зал падает камень.
Спустя мгновение на улице раздается крик — эторабо-
4*
51
чие проучили фашистского громилу. Больше
инцидентов не было...
Конгресс закончился. Он вызвал широкие отклики
всей прогрессивной общественности Польши. Грязные
фашистские листки — различные «Курьеры» и «Дила»
завыли от ярости. Однако антифашистский конгресс
стал уже фактом. Он еще раз продемонстрировал
сплоченность демократических сил тогдашней Польши в
борьбе против фашизма.
1949
ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ
Прекрасен май во Львове, когда весь город
покрывается пышной сочной зеленью, а теплый ветерок несет
вдоль улиц тучи цветов акаций и каштанов. В такие
дни во Львове зарождается песня. Она летит от дома
к дому, плывет над площадями и парками и наконец
охватывает весь город. Эта песня бывала и веселой и
грустной, но одно в ней было неизменно — тоска,
беспредельная тоска по жизни, которая была бы вечной
весной, когда бы и «зимой цветы расцветали».
Семьсот лет городу Львову, и почти столько же лет
эта пламенная тоска бродила по его закоулкам.
Город, который никогда не знал свободы, но веками
носил ее в сердце, загорался огнем бунта и восстания,
когда казалось, что наступает ее час. Реками текла
кровь львовского народа, и отцы, умирая на
баррикадах, оставляли своим детям завет бороться за
лучшую, свободную жизнь.
Свирепствовала во Львове и окрестных селениях
татарская орда, сравнивая с землей древний
украинский город, гнали народ на междоусобную резню
ненасытные князьки, и каждый раз город, как сказочный
Феникс, воскресал из мертвых и вырастал на
пепелище еще прекраснее и стройнее. Прошло бурных сто
лет, и во Львов вошли полчища польского короля
Казимира, положив начало шестисотлетнему периоду
неволи. Однако ни жестокие издевательства шляхты, ни
53
тучи прожорливых ксендзов, саранчой налетавших
с запада на Галицийскую Русь, не сломили народа, не
убили его стремления к свободе.
Жизнь становилась все тяжелее и тяжелее.
Украинское городское население постепенно было лишено
всех прав, а крестьянство зажато в панские лапы.
Пришел 1648 год, и огнем восстаний против шляхты
вспыхнула Львовская область. Богдан Хмельницкий во
главе многотысячной армии крестьян подошел к
стенам города Львова, а палач украинского народа
Ярема Вишневецкий, украв деньги, убежал от гнева
народного на запад. Но и на сей раз не суждено было
Львову дождаться часа своего освобождения.
Перенеся ужасы Турецкой войны, Львов очутился
в скором времени под господством Габсбургов. На
помощь вырождающейся шляхте пришли императорские
наместники со своими гусарами и «дойчмайстрами».
В памятный 1848 год — год «весны народов» — шляхта
умело воспользовалась возмущением недовольного
народа и, прикрываясь революционными лозунгами,
встала во главе восстания, чтоб после первой же
неудачи еще раз предать интересы народа. На
улицах Львова мгновенно вырастают баррикады, но
артиллерия меттерниховского генерала Гамерштейна
разрушает центр города, и мечты о свободе остаются еще
раз только мечтами.
Автор «Писем о Галичине» Франц Кратер
описывал невеселые картины Львова тех времен. На улицах
и около всех церквей и костелов было полно
бездомных. Нельзя было пройти и десяти шагов, чтобы не
наткнуться на нищего или калеку. Зимой можно было
увидеть головы нищих, торчавшие из куч навоза, —
так несчастные спасались от замерзания.
Еще в девяностых годах прошлого столетия
неизлечимо больных выбрасывали из больниц на улицу,
потому что не хватало места и для тех, которых
еще можно было спасти. По данным венского
правительственного журнала «Статистише монатсгефте», за
1902 год на десять тысяч жителей утопающего в
зелени Львова ежегодно умирало от туберкулеза 65,7 чело-
54
века, то есть из всех городов австро-венгерской
монархии Львов был больше всех поражен туберкулезом.
Свыше двух тысяч улиц насчитывается во Львове,
и большинство из них носили еще недавно
имена, которые никому ничего не говорят, а если и
говорят, то разве только, чтоб вспомнить с проклятием
тех, кому принадлежали эти имена. Есть, например,
в нашем городе улица Малаховского, местного
капиталиста, который в начале XX века был бургомистром
Львова. У этого магната было много собственных
домов, и в лучшем из них жил он сам. Его сторож Ма-
герович ютился со своей семьей в сыром подвале
этого дома. За свою тяжелую работу он не получал
никакой платы, и на вопрос журналиста, на какие
средства они живут, жена сторожа ответила:
— Не живем, а голодаем, муж больной, а я
слепая, вот и ждем смерти, и чем скорее она придет, тем
скорей кончатся наши страдания.
И этому Малаховскому пришлось сыграть
«историческую» роль.
В мае 1902 года во Львове забастовали
строительные рабочие. Им на помощь поспешили безработные,
которых тогда здесь было немало. Каждый день
происходили демонстрации рабочих, а предприниматели не
только не удовлетворяли справедливых требований
бастующих, но и нагло их провоцировали. Над городом
нависла гроза. Накануне кровавого первого июня
бургомистр Малаховский, договорившись с военным
командованием, уехал в Вену. Умыв, как Пилат, руки, он
весело развлекался в известном кафешантане под
названием «Венеция в Вене», в то время когда на
Стрелецкой площади гусары Франца-Иосифа рубили
саблями бастующих, а гусарские лошади давили
копытами малых детей.
Весело было Малаховскому в Вене, но невесело
было напуганным правителям города Львова.
Побаиваясь нового взрыва народного гнева, они выкатили
на пригорок цитадели пушки, чтоб в случае
восстания троекратным выстрелом поставить на ноги
военный гарнизон.
Но в ту мрачную ночь пушки на цитадели молчали.
55
Они отозвались только через тридцать четыре года,
в ночь на шестнадцатое апреля. В ту историческую
для Львова ночь 1936 года тело убитого полицией
безработного Козака покоилось уже на Яновском
кладбище в гробу, продырявленном, словно решето,
пулями, — его пронесли туда под оружейным и
пулеметным огнем бесстрашные братья по классу. На
перекрестках улиц были построены баррикады, на которых
развевались красные знамена. Трудящиеся Львова в ту
ночь, впервые в истории, стали хозяевами города, и
хотя на следующий день они потерпели поражение, в
их сердцах все же окрепла уверенность, что близок и
неминуем день освобождения и что за кровь сотен их
братьев и сестер, погибших вчера, скоро настанет час
возмездия.
Когда в 1902 году комиссар австрийской полиции
Венц дал знак гусарам атаковать рабочих, он знал,
что военное командование расставило на всех львов-
ских заставах военные патрули, задачей которых было
не пускать в город крестьян. Точно так же поступили
капиталисты и в 1936 году. Те и другие прекрасно
знали, как внимательно прислушивается село к голосу
рабочего класса. Угнетатели боялись непобедимого
союза серпа и молота, они дрожали от страха при
мысли, что революционное село могучей волной вольется
в город и вместе с рабочими установит новый
порядок, в котором не будет места
мироедам-эксплуататорам.
Через три с половиной года после кровавого июня
Львов дождался своего великого дня. Счастье
приходит неожиданно, так было и на сей раз. Утомленные
быстрым маршем бойцы Красной Армии входили во
Львов, который уже успел расцвести красными
знаменами. Город показывал бойцам свои раны и сквозь
слезы улыбался им. Это была первая и единственная
армия, которую старый Львов встречал с радостью, от
которой сердцу становилось тесно в груди, потому что
Львов знал, что следом за этой армией идет его
вторая молодость, и она будет продолжаться столько же,
сколько солнце будет согревать стройные буки и
грабы Высокого замка.
56
Безыменные герои июньских баррикад сказали
тогда: «Фабрики и заводы — отныне наши». А им
ответило село: «Земля — наша, наша и в то же время
ваша. И все, что видите, наше, только наше».
Разогнулись сгорбленные спины, гордо поднялись головы,
действительно свершилось чудо, о котором мечтали
поколения: те, кто были ничем, стали всем. Встал,
красавец Львов и посмотрел на все четыре стороны, на все
земли галицкие и волынские и увидел безграничные
просторы.
Привет вам, Карпатские горы, и вам, серебристые
речки! Не потекут теперь напрасно ваши воды в
далекое Черное море: пересекут вас плотины, и засветится
от вас миллионами электрических огней вся земля от
Прута до Стрыя. Здравствуйте, поля, бескрайные,
слезами живых и мертвых политые! Придет весна, придет
лето, и зашумите вы, словно море, безмежной нивой,
а когда над вашими скошенными просторами печально
застонут журавли, их крики заглушит веселая песня
народа, имя которой — вечная молодость. Не заплачешь
ты, идучи в летнюю страду, батрачка Катерина,
потому что знаешь, что сын твой не будет
незаконнорожденным, что завтра он будет строить для таких,
как ты, тружениц дворцы, о которых ты рассказывала
ему в сказках.
Великая Октябрьская революция ускорила
вращение земли, и с того времени история пошла по ней
шагами великана. Под ее дыханием люди Львова
стали другими — смелыми, энергичными, бодрыми.
Родились герои труда, под радостные песни растут наши
дети, которые завтра будут создавать новый, совсем
другой Львов — город дворцов труда, город
гигантов-заводов, город широких улиц и тенистых парков.
Исчезнут каменные гробы, которые до сих пор
назывались жилищами, бесследно пропадут мазанки окраин
города. Опояшет город серебряной лентой канал, по
которому заснуют пароходы со счастливой детворой.
Их смех побежит наперегонки с музыкой и пением
многолюдных улиц юного города.
Зажиточные нарядные села, повернутые лицом
к своему городу, пошлют в него своих сынов и доче-
57
рей. Здоровые, веселые юноши и девушки заселят
кварталы, где раньше изнывали от скуки купцы.
Это чудесное будущее живет не только в сердцах
и умах трудящихся Львова, нет, оно уже теперь, уже
сегодня нарождается, растет и расцветает, как вся
наша социалистическая родина.
Если вы разговоритесь в трамвае с кондуктором,
он с гордостью расскажет вам о производственных
победах трамвайных работников, о памятной
забастовке 1936 года. Кондуктор расскажет вам о
трамвайных стахановцах и об изобретателях, и вы будете
слушать его рассказы, как прекрасную героическую
эпопею.
Когда трамвай остановится около монументального
здания Театра оперы и балета, зайдите туда и
пройдитесь по его коридорам. Вы увидите актеров и
режиссеров, занятых творческой работой, вы услышите
украинскую речь, которая раньше никогда не
раздавалась здесь.
Если вы впервые во Львове, то вам каждый
ребенок укажет дорогу к университету, Политехническому
институту. В этих учреждениях еще не так давно
вместо науки процветал средневековый бандитизм. В
темных углах коридоров и учебных залов таились
вооруженные ватаги студентов-громил, и не одна молодая
жизнь погибла от их ножа, не одна мать убивалась от
горя по сыну, которого убили только за то, что он не
принадлежал к правящей нации. Теперь эти когда-то
мрачные здания стали крепостями науки, где дети
рабочих и крестьян учатся строить на своей земле свое
счастье.
За чудесным парком, который пышно раскинулся
между университетом и Политехническим институтом,
вы увидите Дворец пионеров. Там, где раньше
томились от скуки графы Голуховские со своими
отпрысками, теперь звучит бодрая песня освобожденных
детей. Вы познакомитесь там с малышами, которые
впервые увидели свет в темных сырых подвалах, а
сейчас они расцветают, как цвет папоротника в
сказке. Двенадцатилетняя поэтесса, дочь бедного портно-
58
го, Маруся Вус прочтет вам стихотворение о своем
великом счастье, и вы будете взволнованы до слез.
Встаньте весенним утром на перекрестке улиц, и
сквозь обычный городской шум и гам вы услышите
глухое громыхание. Подождав минуту, вы увидите
колонну новых, сверкающих свежей краской тракторов.
Они направляются за город в далекие поля, над
которыми плывут в прозрачной лазури стаи журавлей.
Вдохните полной грудью воздух, и вы почувствуете,
что вам страстно, до боли страстно хочется жить!
1940
ЗОЛОТАЯ АРКА
Жил когда-то в городе Львове человек, который
решил удивить весь мир и прославить имя свое
в веках.
Почти никому не известный бедный украинский
мещанин четыреста лет тому назад взялся собственными
руками построить башню: самую красивую и самую
высокую башню Львова. Над ним издевались, бурсаки
швыряли в него камнями, но неутомимый строитель все
переносил. Он собирал отовсюду кирпичи, работал в
поте лица от восхода до заката солнца, и с каждым
днем башня росла все выше и выше, пока однажды
утром не нашли мертвое тело вдохновенного маньяка
на стене постройки. Он зажал в одной руке кирпич,
а в другой кельму и лежал, как немой укор всем, кто
не хотел понять стремления к величию его простой
человеческой души.
Несчастного мученика похоронили на одном из
бесчисленных в те времена кладбищ, а начатую башню
разобрали так, что и следа после нее не осталось.
Но тоска, бессмертная тоска творчества оставалась
живой, она в продолжение веков билась в груди
людей украинской Флоренции.
Я вспоминаю демонстрацию рабочих во Львове еще
во времена буржуазной Польши. Часто, очень часто
случалось, что многих участников демонстрации
привозили домой с полицейской пулей в сердце. Что ж
60
гнало этих людей в объятия смерти? Неужели они
рисковали жизнью только ради куска хлеба или
десятипроцентной прибавки к жалованью?
Нет, те, что в памятный день мая 1936 года
подхватывали из рук умирающих товарищей
продырявленный пулями и изрубленный шашками гроб убитого
полицией безработного и мужественно несли тело
товарища дальше на выбранное ими место упокоения,
не думали о своем жалованье. Они верили тогда
только в одно, что каждый их шаг вперед по улицам,
залитым их же кровью,— это сто, тысяча шагов вперед
к бессмертию, величию их класса, к стране самых
высоких и самых прекрасных башен, построенных их
собственными руками.
Когда Нафтали Ботвин, львовский комсомолец-
герой, уничтоживший провокатора, за секунду перед
смертью крикнул гордо в лицо своим палачам: «Да
здравствует революция!», перед его угасающим взором
стоял не вчерашний день, — его умирающее сердце
было там, куда тщетно стремился найти путь
львовский житель четыреста лет тому назад: на земных
высотах, где слово «человек» звучит гордо.
Гитлеровский губернатор Галиции Отто Вехтер не
понимал этого. Вся жизнь Вехтера, этого верного пса
Гитлера, была сплошной, до бесстыдства обнаженной
физиологией. Когда он взвешивал на ладони
награбленные бриллианты, по его спине пробегали
мурашки похоти при мысли о том, сколько
прелестнейших дочерей Вены будут обнимать его шею, услышав
о его богатстве. Когда по его приказу десятки, сотни
тысяч людей гибли в мучениях, он ощущал дикое
наслаждение от сознания того, что он причиняет
страдания людям. Когда машина несла его мимо
колючей проволоки Яновского концлагеря смерти, его
пронизывало приятным холодком от чувства
безграничной животной свободы, добытой за счет неволи
других человеческих существ.
Губернатор Вехтер, как и все фашистские фюреры,
носил фуражку с большим козырьком. Это давало
возможность следить за своими жертвами, не показывая
им своих глаз. Это не давало возможности смотреть
61
вверх, но фюрерам этого не требовалось. Мир их
представлений, их желаний лежал на уровне козырька их
фуражек. Все, что вырастало выше, могло упасть на
их головы и поэтому подлежало уничтожению.
Правда, они кое-что и строили. Они построили во
Львове только одну фабрику, зато одну из самых
больших в мире — яновскую фабрику смерти. Дальше их
творческие планы не простирались. Львов, который, по
их словам, должен был купаться «в солнце фашистской
культуры», они выкупали прежде всего в его
собственной крови. Это было средство воспитания для тех,
кому посчастливилось остаться в живых и ползком,
с цепью на шее, войти в царство культуры вехтеров.
В июле 1944 года Вехтер был принужден, по
«объективным» причинам, поспешно удрать из
Львова. Его миссия осталась незаконченной. Когда
первый красноармеец появился на Стрыйской улице,
город, пропитанный трупным запахом, казалось,
умирал. На опустевших бульварах с вытоптанными
клумбами и поломанными решетками выли голодные
собаки, в цехах и так уж малочисленных заводов свили
себе гнезда совы и аисты. Аудитории университета
напоминали заброшенные конюшни, в коридорах
Политехнического института шныряли крысы, обнюхивая
кучи окровавленной марли.
И думалось тогда: сколько трудов, сколько
времени понадобится на то, чтобы Львов стал снова
таким, каким был три года тому назад!
Прошло всего три-четыре месяца. Правда, за это
время не произошло никаких чудес. Трамвай все еще
не ходит, водой можно пользоваться только семь-
восемь часов в сутки, оперный театр все еще не
работает, а если и начнет работать, то спектакли
пойдут, наверно, без арфы, так как последняя арфистка
Львова уже третий год лежит в порыжевшей от
человеческой крови земле яновских могил.
А все-таки сделано много, очень много! В
квартирах львовчан уже давным-давно горит газ, в
артериях города с каждым днем все более сильным
потоком кружит электроэнергия, исчезают очереди перед
хлебными магазинами, на недавно еще пустых улицах
62
людно и шумно... Университет стал снова
университетом, институты институтами, школы школами. На
сцене украинского театра пламенем великой любви
горит бессмертный «Олекса Дундич». В зале
филармонии вы можете часто услышать один из лучших
хоров СССР — капеллу «Трембита». Попробуйте
найти сегодня во Львове предприятие, которое бы не
работало. Больше того: может быть, вы будете
удивлены, услышав, что некоторые Львовские
предприятия работают даже лучше, чем перед войной.
Вы, может, скажете: мало, — Львов в лучшем
случае будет тем, чем был, — большим культурным и
торговым центром, городом героического
немногочисленного отряда рабочих, городом ученых и
художников и одновременно городом торгашей и обалдевших
от тупоумия обывателей, что умеют не только
томиться от скуки, но и вставлять палки в колеса истории;
городом тех самых обывателей, которые когда-то со
спокойным сердцем затравили обезумевшего от
творческой тоски строителя. Где же золотая арка над его
могилой?
Река времени так же течет по улицам Львова.
Львов будет не только тем, чем был, его завтра —
советское завтра, и о нем думает Сталин. Именно
сейчас Львов переживает свои великие дни; в ритме
этого города вы почувствуете зарождение его новой
эпохи, за которую подставляли под пули свою грудь
герои кровавого четверга.
Поднимутся на окраинах дымы над новым
машиностроительным заводом. Пройдет несколько месяцев,
и на наших улицах заблестят свежим лаком
автомашины Львовского производства.
К хору утренних гудков присоединится новый
гудок — завода электроприборов, предприятия со
сложным уникальным оборудованием. Вступит в строй
завод электроламп. Семь миллионов маленьких
электрических солнц!
Скоро люди нашей страны услышат музыку всего
мира по пятиламповым радиоприемникам Львовского
производства марки «Перемога».
Весной этого года многоголосая песня десяти ты-
63
сяч веретен текстильного комбината заглушит шепот
двухсот старых веретен. Будет у нас и обувная
фабрика. Если до сих пор лучшими духами в СССР
считалась «Красная Москва», то скоро у этой марки
будет опасный соперник среди духов львовского
производства. Вы увидите в продаже патефоны львовской
марки, рояли этой же марки будут услаждать ваш
слух на концертах, а ваши дочери увидят свою
красоту и юность в зеркалах, шлифованных рабочими
Львова. Мощность электростанций Львова
увеличится в два раза по сравнению с довоенным временем.
Газ — это второе солнце нашего города — будет гореть
в три раза сильнее, — настолько увеличится его
потребление.
Башни Ренессанса древнего города будут
свидетелями нового Ренессанса, рожденного в огне страшной
войны: войны свободного человека со смрадным
порождением фашистского дьявола.
Таков наш путь к величию!
1944
СВЕТ С ВОСТОКА
В 1908 году Василий Стефаник сказал с трибуны
австрийского парламента:
— Украинский народ в Галиции находится в
совершенно ненормальном положении... Он лишен
возможности конституционным путем решать свои дела.
В своем национальном развитии он остается в полной
зависимости...
Так говорил сорок лет тому назад выдающийся
украинский писатель. Так думали и чувствовали
миллионы его читателей.
Это происходило в стране, которую называли
сердцем Европы, крепостью христианской цивилизации,
идеалом конституционной державы. Трехсполовиною-
миллионная ветвь великого народа не имела никаких
прав, у нее были только обязанности: платить налоги
и в мундире рядового солдата умирать за интересы
династии Габсбургов. Не было того унижения, какого
не испытывали бы тогда украинцы, и даже
национальное имя их было предметом ненависти для тиранов.
Аристократический Запад, Запад голубой крови,
паразитический Запад пренебрежительно относился к
народу «пастухов» и «гречкосеев», к его языку и его
культуре. А когда у этого народа лопалось терпение,
Запад отвечал ему устами графа Потоцкого:
— Вы угрожаете мне украинским бунтом? Я не
боюсь его. Пошлю несколько рот солдат...
5. Я. Галан
65
Пуля украинского студента Мирослава Сечинского
уничтожила в 1908 году тирана Потоцкого. На его
место пришел тиран Бобжинский. Австрийская
«Конституция» действовала и дальше. Последнее слово в
социально-политических конфликтах было и теперь за
фельдфебелями армии и комиссарами полиции.
Сожжены были многотысячные тиражи школьных
учебников только потому, что в них было упомянуто о
Богдане Хмельницком; мечты об украинском
университете были официально отнесены к «мечтам отрубленной
головы».
Кроме Франца-Иосифа и его львовского
наместника, украинский народ Галиции чувствовал на себе
руки еще одного «светила западной культуры» —
папы римского. Наместник этого полпреда небес на
земле имел во Львове тоже своего наместника.
Резиденцию графа Андрея Шептицкого отделяло
значительное расстояние от резиденции графа Потоцкого, но
перед лицом «народа пастухов и гречкосеев» это
расстояние исчезло, и души двуличных «носителей
западной культуры на востоке» сливались в единое
гармоническое целое.
В одной своей проповеди Андрей Шептицкий
приравнял смерть Потоцкого к смерти Христа, а убийство
его назвал преступлением против бога, против
общества, против родины.
Однако ни митрополит Шептицкий, ни кто другой
из «князей униатской церкви» не выступили против
нарушения заповеди «не убий», когда при выборах в
1897 году убили крестьянина Стасюка, когда во время
забастовок в 1902 году жандармы убили Скочилиса,
когда во время движения за выборную реформу
убили шестерых крестьян в Лядском, когда во время
выборов в парламент убили трех крестьян в Горуцке и
когда во время выборов в галицийский сейм убили в
Коробце бедняка Марка Каганця.
Настал трагический июль 1914 года, трагический,
хотя пушки заревели только первого августа. На
земле, что отведала «благодати западной культуры», на
территории провинции австрийской «конституционной»
державы творились вещи, которые можно сравнить
66
только с резней армян в Турции. В Перемышле среди
бела дня сорок семь украинцев, в том числе и
семнадцатилетний подросток, были зарублены гусарами.
Им мало было нашей крови, им захотелось нашего
позора. Руками ренегатов, руками деморализованных
политиканов они создали отряд янычаров и
заставляли братьев и сыновей своих жертв воевать под звуки
марша Радецкого во славу Габсбургов и Гогенцол-
лернов в легионе «Украинских сичевых стрельцов».
Руками продажных лакеев они сеяли зубы драконов
на земле, которая должна была стать для них
плацдармом для дальнейшего похода на Восток — за
золотым руном украинского хлеба и железа.
Во имя этой цели они готовы были найти на
карте славянского Востока место для слова «Украина»,
место, равное по значению восточно-африканской
колонии Германии — Камеруну. Планы завоевания
Украины были детально разработаны.
1917 год. Великая Октябрьская социалистическая
революция открыла новую эпоху в истории
человечества. В декабре народ Украины, руководимый
партией большевиков, создал Украинскую Советскую
Социалистическую Республику. Когда во Львове
украинский буржуа Кость Левицкий в очередной раз
бил челом цесарско-королевскому наместнику Гуйну, в
Харькове заседало первое правительство Украинской
республики, заседало под охраной вооруженного
народа-хозяина, единственного владетеля молодого
украинского государства.
Кандидаты в завоеватели Украины были
неспособны оценить значение этого факта. Австро-немецкие
полчища выступают в поход за золотым руном. Гали-
цийские политические мародеры вкупе с их киевскими
друзьями назначаются статистами в театре
марионеток, названном УЦР (Украинская Центральная рада).
Барон Мумм шлет своему императору секретные
рапорты, в которых беспощадно глумится над
статистами из-под желто-блакитного стяга. Но барон Мумм
не все понимает. Он не понимает, например, что
может существовать настоящее, не марионеточное
украинское государство. Барон Мумм, как генерал Эйх-
5*
67
горн, как граф Чернин, все еще пребывал в плену
представления об «этнографической массе».
Но презираемая разбойниками Запада
«этнографическая масса» вдруг встала перед ним как великий
грозный народ, народ-воин, народ-строитель своего
собственного государства. Еще в одном пришлось
вскоре убедиться муммам, убедиться на своей
собственной шкуре, что прочное, нерушимое братство
украинского и русского народов является фактом, с
которым надо считаться.
Этого своевременно не поняли и в Париже и в
Лондоне, не понял также и Пилсудский в Варшаве.
Результатом были их Канны под Одессой, в Крыму,
под Киевом.
В солнце Великой Октябрьской социалистической
революции родилось украинское советское
государство. Его народ с помощью великого русского народа и
других братских народов победил в смертельной
борьбе с интервентами и внутренней контрреволюцией и
получил возможность под знаменами социализма
создавать свое настоящее и будущее.
Однако на запад от Збруча и Горыни оккупация
продолжалась. На смену наместникам австрийского
императора прибыл во Львов воевода Пилсудский.
Повторилась история с потоцкими-бобжинскими,
только еще в более зловещей форме. Все же самый факт
существования украинского советского государства
за восточными границами Польши вливал бодрость в
слабых, а сильных превращал в героев. Уже не
парламент был ареной борьбы с тиранами, а улицы и
площади городов и сел. Борцы за свободу и счастье
народа не бродили уже в одиночку в потемках. Они
были теперь бойцами великой армии Революции, и
путь им указывали пламенные звезды Октября. Они
были отрезаны от Киева границей, но каждый из них
знал, что зажженные Днепрогэсом огни горят и для
них, а гордость за трудовой подвиг Стаханова была
также и их гордостью.
На двадцать втором году существования УССР
пали границы на Збруче, Днестре. Украинская
республика трудящихся простерлась до Карпат и Сана.
68
Но на пути к счастью нам пришлось пережить
испытания Отечественной войны. Воинственные
конквистадоры Запада попробовали еще раз низвести нас до
положения париев. Чем это кончилось для них —
известно. Таких катастроф, которые познали
гитлеровские армии и гитлеровское государство, еще не видела
история. Нет уже ни клочка украинской земли за
границами украинского государства. То же знамя
развевается над Киевом, Львовом, Ужгородом, то же
дыхание свободы и творческого труда льется над
степями Черноморья и долинами карпатских речек.
Мы добыли это дорогой, самой дорогой ценой,
ценой крови наших лучших людей. В пролитой крови
много братской, русской. Она обильно лилась везде,
где решалось «быть или не быть» народам, где
смертельный бой шел за их свободу и счастье. Громадные
пространства между Сталинградом и Берлином
усеяны могилами москвичей, туляков, сибиряков, как и
грузин, армян, азербайджанцев — героев великого
дела. Их героизм и самоотверженность были
беспредельны. Да будет такой же наша любовь к ним!
Воины Советского отечества шли с Востока, и свет
шел с ними. Где они поднимали знамя победы, там
не оставалось больше места для Потоцких и бобжин-
ских. Воины Украины прошли вместе с русскими
братьями на Эльбу и Дунай, на берега Адриатического моря.
В нашей славе есть их слава, как в их гордости —
наша гордость. Если сегодня бесчисленные миллионы
трудящихся зарубежных стран смотрят на нас,
украинцев, с любовью и надеждой, то в этом большая
доля заслуги нашего русского брата. Если наши
враги на Западе пялят на нас глаза с бессильной злобой
обреченных, то за это бессилие Черчиллей скажем
горячее спасибо нашим верным братьям — сынам
Москвы и Волги. Украинской Советской Республике
исполнилось тридцать лет. За эти тридцать лет мы,
воспитанные партией Ленина — Сталина, выросли как
народ, выросли как государство. Тень трагического
прошлого не ложится больше на наши души. Солнце
социализма согревает нам сердца. Народ-труженик
золотом хлебов Украины, миллионами тонн угля и
19
стали мостит путь к коммунизму. Зловещему мраку,
что окутывает капиталистический мир, мы
противопоставляем свет наших дней, свет, который вот уже
тридцать лет неугасимым огнем горит над Советским
отечеством. В этом и величие и красота наших будней.
Василий Стефаник, как и Иван Франко, не
дождался приговора истории над тиранами, которых он
так страстно обвинял. Певец народной скорби умолк
незадолго перед рассветом. Но свершилось то, о чем
он так мечтал: свет нового дня, свет с Востока
засиял над трудящимися Галиции.
Они заслужили его: за столетия неволи они
испили чашу горечи до самого дна.
1947
ВЕЛИЧИЕ ОСВОБОЖДЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
Кто-то назвал крупнейший западноукраинский
город городом каменных львов. Эти львы стоят на
страже перед входом в помещение горсовета, они
охраняют чистоту старых львовских колодцев, они
смотрят на вас с гербов самого города. Один из них,
изуродованный и одинокий, белеет на лужайке
Высокого замка как немой свидетель давным-давно
прошумевших времен и событий, как немой упрек всем тем,
кто на протяжении столетий нес солнечному городу
одну лишь смерть и разрушение.
Ходит среди жителей Львова легенда, что в
грозное время, в час, когда сердце народа переполняется
обидой и гневом, каменные львы оживают. Они
стряхивают седину со своих грив, сходят с постаментов и
бегут по сонным улицам, наполняя их потрясающим
ревом. Этот рев не достигает человеческого слуха,
его можно услышать только сердцем. И тогда люди
просыпаются, зажигают огни и выходят на улицы.
В этот тревожный час, опережаемая стаей
серебристых голубей, парит в небесной выси невидимая боевая
слава.
За последние десятилетия она неоднократно
появлялась над Львовом. В весеннее утро 1902 года
бастующие строительные рабочие обагрили своей
кровью камни Стрелецкой площади. Однако не
легко досталась победа гусарам его императорско-коро-
71
левского величества Франца-Иосифа I. Неравный бой
вооруженных с безоружными продолжался больше
часа, и только залпы подоспевшей пехоты решили
исход кровавой битвы.
А два дня спустя рабочий Львов хоронил
погибших товарищей. Хоронил под теми же непобедимыми
знаменами, под какими сражались павшие с песней:
Оно горит и ярко рдеет,
То наша кровь горит огнем,
То кровь работников на нем...
На этой земле менялись вывески и шлагбаумы, на
смену одним мундирам появлялись другие, но
кандалы оставались одни и те же, и освободиться от них
не под силу было народу, знавшему свободу только по
дедовским преданиям, понаслышке. Да и не могло
слово «свобода» стать плотью там, где каждое живое
слово было «запрещенной песнью» и где на страже
рабства стояла мощь трех империй.
Великий Октябрь прошел здесь стороной, но его
могучее дыхание всколыхнуло народное море, и перед
глазами извечных рабов предстал уже не мираж, а
реальная картина человеческого счастья. Теперь
отвага храбрых перестала быть мужеством обреченных,
так как в неравной борьбе перед ними сияли огни
социалистической Москвы, так как в ее возрастающем
могуществе и славе они видели предвестника и своей
победы. Ленин показывал им путь, слово Сталина
было для них боевым приказом. Народ подъяремных
земель Украины вступил на путь борьбы за
воссоединение.
Не легким был этот путь, его преграждали не
только тюрьмы, концлагери и виселицы. За спиной
врага стояли националистические отщепенцы, и это
порождение немецко-фашистского сатаны и
шляхетской волчицы не брезговало ничем, когда решался
вопрос: быть ему или не быть.
В кровавый четверг 1936 года пролетариат Львова
еще раз вышел на баррикады. Это случилось после
того, как мирная похоронная процессия с телом
убитого безработного Козака была предательски обстре-
72
ляна полицейскими пулеметчиками. Взрыв народного
негодования смел убийц с улиц города, и только с
прибытием подкреплений палачи могли возобновить
расправу.
А месяцем позже во Львове состоялся
антифашистский конгресс работников культуры, превратившийся
во внушительную демонстрацию единства
прогрессивных сил Западной Украины и Польши. В глубокой
тишине, охватившей вдруг битком набитый зал
оперного театра, поднялась на сцену старая работница,
участница июньских событий 1902 года. От имени
бастующих строительных рабочих она вручила
председателю торжественного заседания конгресса Ванде
Василевской огромный букет красных роз со словами:
— Примите эти розы, они цвета наших знамен.
Скоро придет время, когда эти знамена перестанут
напоминать нам пролитую кровь наших братьев и
сыновей и под их сенью расцветет совершенно иная,
молодая, чудесная жизнь...
Эта жизнь пришла к нам три года спустя, ее
величественная поступь слышалась в трепете кумачей,
в переливах песен, в громыхании танков. История за-
падноукраинских земель двинулась вперед. Волей
великого советского народа, волей Сталина завоевания
Октября за одну ночь стали достоянием народа
Западной Украины. Лозунгом и программой в
освобожденных городах и селах стало строительство
социализма.
Годы фашистской оккупации были еще одним, на
этот раз последним испытанием. После этого еще ярче
засияло солнце свободы. Закарпатская Украина
вошла в состав Украинской Советской
Социалистической Республики. Полное воссоединение украинских
земель свершилось.
Прошло всего четыре с лишним года со дня
полного изгнания оккупантов, но как поразительно
изменилась за это время вчерашняя «земля в ярме»!
Львов, прозванный в свое время городом замирающих
мастерских, ныне выпускает сельскохозяйственные
машины, велосипеды, грузовики, а львовские
электролампы дарят свет отдаленнейшим уголкам Советской
73
страны. Экскаваторы-великаны очищают место для
будущего Львовского моря: его волны утолят жажду
города, лишенного реки.
На бывших помещичьих, сегодня колхозных полях
движутся тракторы, деловито рокочут комбайны.
Канула безвозвратно во мрак прошлого нищета героев
произведений Василия Стефаника. А их дети и внуки
выходят на страницы истории своего народа в
ореоле славы Героев Социалистического Труда.
Маленький Мирон Ивана Франко не различал тюрьмы от
школы; маленький Мирон наших дней — отличник
университета имени Ивана Франко. Смехом веселья
смеется нынешний Борислав, и над нефтяными
вышками властно раздаются голоса бывших «рипников».
В западноукраинских областях вступил в свои права
социализм, по обеим сторонам Карпат восходят
ясные звезды коммунизма.
По-новому определились человеческие судьбы.
В 1930 году в луцкой тюремной больнице лежал
человек, дни которого, казалось, были сочтены. Ему
пришлось пережить все ужасы полицейских пыток,
самых изощренных, самых омерзительных,
превосходящих пределы человеческой выносливости. Палачей
не смущало то обстоятельство, что жертвой их
издевательств был известный львовский литератор и
публицист Кузьма Пелехатый. Этот человек принадлежал
к народу, объявленному вне закона, а популярность
этого человека и мужество его только усиливали
бешенство мучителей. Арестованный не поддавался
угрозам, пытки не сломили его воли, поэтому
арестованный должен был умереть.
Но могучая натура победила, Кузьма Пелехатый
остался в живых. Страдания только закалили его, и
он ни на один день не переставал быть самим собой:
честным, отважным борцом за освобождение своего
народа.
Сегодня депутат Верховного Совета УССР
Кузьма Николаевич Пелехатый работает председателем
Львовского облисполкома депутатов трудящихся.
Каждое ноязление его на трибуне колхозники и ра°
?4
бочие встречают бурей несмолкающих аплодисментов.
Народ платит ему любовью за любовь.
Тринадцать лет тому назад работница Мария Ких,
вместе с другими членами союза швейников, вышла
провожать в последний путь Владислава Козака.
Когда фашистские пули начали сеять смерть в рядах
участников похоронной процессии, Ких не дрогнула.
Теснее сомкнув ряды, демонстранты двинулись
вперед, бесстрашно глядя в глаза вооруженной до зубов
подлости. Из этих рядов Марию Ких вырвала только
пуля, раздробившая ей челюсть.
Во время Отечественной войны Мария Ких
продолжала свой доблестный путь в рядах партизан
Героя Советского Союза Медведева. Сегодня она —
заместитель председателя Верховного Совета УССР.
Колхозница надбужанского села Скоморохи
Ульяна Баштык два года тому назад показала себя
отличным мастером урожаев, о ней с уважением
говорили в области. Ныне о ней с гордостью говорит вся
великая страна: Ульяна Баштык удостоилась звания
Героя Социалистического Труда.
...Исход битвы в западноукраинских областях
решен, но битва продолжается. На этот раз — битва за
урожай, за досрочное выполнение производственных
планов, за дальнейший подъем культуры и науки.
Трудности есть, иногда большие: много всякой швали
путается еще под ногами. Однако жизнь, чудесная
советская жизнь победоносно шагает вперед и
рождает новые песни, новые легенды, в которых звучит
величие освобожденного человека.
24 октября 1949 г.
ИЗ НЮРНБЕРГСКОГО ДНЕВНИКА
(1945—1946)
ИХ ЛИЦА1
Мое «знакомство» с фашизмом началось двадцать
четыре года тому назад, в библиотеке венского
университета. Ее традиционную торжественную тишину
неожиданно нарушило что-то похожее на цоканье
копыт табуна неповоротливых баварских жеребцов. Не
снимая шапок, в зал вошли молодчики с толстыми
суковатыми палками в руках. Эти палки сказали нам
обо всем: они были символом, эмблемой, украшением
и оружием первых австрийских адептов Гитлера —
студентов Агрономического института (в большинстве
помещичьих сынков).
Вожак шайки, высокий, рыжий, в пенсне на
вздернутом носу, крикнул надорванным фальцетом:
— Алле юден мюссен гераус. (Все евреи должны
выйти.)
Через несколько минут библиотечный зал опустел;
в знак протеста против дикой профанации альма
матер из зала вышли почти все присутствующие.
Этого будущие эсэсовцы не ожидали.
Побледневшие от злости, они молча стояли у дверей. Кто-то
крикнул: «бей», и воздух засвистел от нескольких
десятков палок. Осатаневшие молодчики не щадили
никого. Разбивали себе головы мужчины, скатываясь с
мраморной лестницы, обливались кровью женщины.
1 Предисловие к сборнику избранных очерков «Их лица»,
вышедшему в 1948 году во Львове.
76
Все это происходило под свист, хохот и вой
торжествующих двуногих бестий.
Когда последняя жертва ударилась головой о
перила лестницы, бестии выстроились по четверо в ряд
и двинулись солдатским шагом по университету.
Знакомый фальцет взвизгнул: «Вахт ам Райн», и ватага
заревела.
Этого «Вахт ам Райн» я не забуду никогда.
Прошло несколько недель. Я получил новую
возможность заглянуть в лицо фашизма, на этот раз
уже в стадии его осуществления. Почтовый пароход
Неаполь — Палермо причалил к молу столицы
Сицилии как раз в день выборов в первый фашистский
«парламент». Я увидел ту же картину, что и в
Неаполе, Риме, Флоренции и Венеции: сверху резали
глаза пестрые флаги, с оград, заборов и
столбов—плакаты с голыми субъектами, которые должны были
изображать древних римлян. Особенно бросалось
здесь в глаза одно: невиданное до сих пор множество
полиции всех калибров — городской, военной,
«национальной». Даже живописные карабинеры
прохаживались не по двое, как это было спокон веков, а
целыми толпами. Казалось, что все Палермо ко дню
выборов оделось в полицейские мундиры.
В маленьком отелике на Кварто Канти также не
было от них покоя. Едва успел я умыться, как
комнату наполнили военные, полицейские. Тучный
человек в штатском попросил у меня паспорт. Увидя в
нем слово «Полонь» (Польша), человек поднял вверх
залихватски закрученные усы цвета сапожной смолы.
— Ваш паспорт подделан. В нем вместо
«Болонья», стоит какая-то «Полонья».
Я, неизвестно в который уже раз в этой стране,
начал лекцию о том, что, кроме итальянского города
Болонья, есть еще в Европе страна, которая
называется Польша, но не успел закончить, как внизу,
почти под самыми окнами, раздалось несколько
револьверных выстрелов. Мой брюнет присел на
корточки, побледнел и гаркнул что-то наподобие
команды. Через секунду вся шайка, с брюнетом в
арьергарде, метнулась вниз по лестнице на улицу.
77
Становилось душно; меня потянуло за город, где
не было полиции, где под четырехсотметровым
розовым обрывом Монте Пелегрино качались волны блед-
нозеленого моря. Через час я был у подножья горы.
Отсюда можно было взобраться на ее остроконечную
вершину серпантином туристской автострады или
более короткой, хотя и более трудной дорогой — по
дну глубокого каменистого оврага, над которым рука
инженера развешала кружева виадуков. Я выбрал
последний путь.
Мучила жара, и подниматься было чем дальше —
труднее. Нагретые скалы обжигали виски, обливали
потом тело. Лишь виадуки бросали здесь небольшую
тень. Только я собрался отдохнуть под одним из
них, как над головой что-то прожужжало и в шаге
от меня глухо бухнул, разлетевшись на мелкие
обломки, камень. Я посмотрел вверх. На виадуке
маячило несколько голов черноблузников в шапках со
свисающими кистями. Кто-то там хохотал, кто-то
свистел, кто-то подвывал голосом молодого шакала.
Я вспомнил лестницу венской библиотеки; это была
та же музыка.
Но для воспоминаний теперь не было времени.
В меня полетело несколько крупных камней, каждый
из них нес с собой смерть. Я успел прыгнуть под
своды в тот момент, когда по ним прокатилось эхо
от грохота падающих камней.
Когда крики затихли, я двинулся дальше. Отойдя
от виадука шагов на сто, я обернулся: на нем уже
не было черноблузников. Зато в глаза бросилось мне
нечто другое, чего гвардия Муссолини не заметила.
Во всю ширину виадука пылали на солнце большие
красные буквы боевого лозунга итальянского
подполья того времени: «Эввива Ленин! Абассо
Муссолини!» («Да здравствует Ленин! Долой Муссолини!»).
Для людей, которые писали эти слова, умерший
Ленин был всегда живым и учил их быть
бесстрашными в неравной борьбе. Над Италией не погасло
еще солнце...
Была осень 1930 года, когда земля моей Галиции
застонала под железной пятой Пилсудского. По ули-
78
цам Львова ритмично колыхались белые чехлы
полицейских фуражек, цокали копыта уланских лошадей.
Они двигались за город, туда, где в тумане
сентябрьских ночей чернели притихшие от ужаса села. Три
месяца стояли пустыми львовские казармы, и три
месяца и днем и ночью тянулись в город подводы с
искалеченными крестьянами. Госпитали не принимали
этих людей, и они умирали от гангрены в темных
вонючих дворах, во мраке сырых подвалов.
Настал 1936 год, год кровавого львовского
четверга. На этот раз польские последователи
Муссолини и Гитлера не щадили ни живых, ни мертвых.
Простреленное ими сердце безработного каменщика
пронизал десяток новых пуль, а свыше ста братьев
и сестер его по классу поплатились своей жизнью за
то, что хотели отдать павшему последний долг.
На убийцах были мундиры польских полицейских,
но глаза этих полицейских смотрели пз-под касок
немецкого образца. Эта деталь говорила сама за
себя.
Украинские слуги фашизма не носили тогда еще
ни касок, ни мундиров, они довольствовались ливреей
старого австрийского покроя. Но в остальном они не
уступали своим западным учителям. Одинаковые цели
приводили к одинаковым методам. Из-под грязной
маски их главаря Донцова выглядывал тот же упырь,
затмивший солнце Италии, отравивший воздух
Германии. Правда, Донцов не мог искать вдохновения в
салонах круппенков и кепплеренков из-за отсутствия
таковых. Несмотря на это, и он, и Коновалец, и
Мельник чувствовали себя не плохо также и на
службе у круппов и кепплеров. «Дух вечной стихии»,
рожденный в лабораториях немецкого химического
концерна и выращенный шефами разведывательного
ведомства Николаи и Канариса, пригодился шептиц-
ким, луцким, шепаровичам, этим украинским круппам
в миниатюре, так же, как и их менее счастливым
компаньонам, изгнанным бурей революции из уютных
усадеб над Днепром. Он, этот «дух вечной стихии»
в форме гитлеровского солдафона, должен был стать
Моисеем, который вывел бы их в обетованную зем-
79
лю, в потерянный рай чернозема, угля и железной
РУДЫ.
Никакая цена не казалась для них слишком
высокой. Народ? Он никогда не переставал быть для
них чисто абстрактным понятием, а то и еще хуже:
безголовой толпой. Если эта толпа станет им поперек
дороги, тем хуже для нее. Тогда они будут говорить
с ней на языке такой инквизиции, перед лицом
которой побледнеет тень Торквемады, потому что имя
этой инквизиции—фашизм.
Осенью 1937 года во двор львовской тюрьмы
«Бригидки» надзиратель каждое утро выводил
молодую белокурую девушку. Из окна нашей камеры
можно было видеть, как девушка быстрым шагом
ходила по кругу, в центре которого стоял надзиратель.
Прогулка продолжалась ровно тридцать минут; потом
надзиратель звенел ключами, и девушка замедленным
сразу шагом, манерно покачивая бедрами,
возвращалась в свою камеру.
Мы не знали, кто она и за что ее сюда посадили,
но, по обычаю заключенных, сочувствовали ей и
втихомолку вздыхали о ее сиротской доле, о ее
утраченной юности.
И вот однажды утром мы услышали в окнах
нижней камеры пронзительный свист и крики:
«Убийца». Все мы бросились к окнам. Свист нарастал,
перебрасываясь из камеры в камеру. Надзиратель
грозил заключенным кулаком, что-то кричал, но никто
не обращал на это внимания. Девушка ходила по
кругу быстрым, энергичным шагом, глаза ее теперь
смотрели в землю, а судорожно сжатые губы
стянули ее лицо в гримасу не то ужаса, не то ненависти.
Убедившись, что его угрожающие жесты не
действуют, надзиратель махнул рукой и увел свою
заключенную.
В тот же день мы узнали, в чем дело.
Светловолосое воплощение молодости оказалось инициатором
и участником зверского убийства
крестьянина-коммуниста. Ворвавшись в хату, националистические
убийцы на глазах малых детей замучили свою жертву, к
тому же еще издевались над трупом. Фашистский
80
зверь — на этот раз в лице девятнадцатилетней
блондинки — показал свои когти. Впоследствии, во время
гитлеровской оккупации, на этих когтях ни на
минуту не высыхала человеческая кровь.
Настали годы «триумфа» фашистского
инквизитора. О тех годах рассказали мне не только
развалины Харькова, Киева и Смоленска, не только
могилы Львова. Историю этого страшного времени
можно было прочесть в окаменевших от ужаса глазах, в
скупых и тяжелых, как камень, словах, на лицах
детей, разучившихся улыбаться.
На протяжении нескольких лет фашизм превратил
целый материк в джунгли, где преступление было
признано подвигом, бесчестие — честью, жестокость—
доблестью, продажность — добродетелью, измена —
геройством, хамство — культурностью. Факел
цивилизации, попавший в лапы фашистского орангутанга,
стал оружием уничтожения, сровнявшим с землей
тысячи городов, превратившим в пепел миллионы
лучших людей. Человечество никогда еще, в самые
черные времена своей истории, не было так близко от
гибели. Здесь не было выбора, не могло быть
компромисса; хозяева фашистских джунглей поклонялись
только одному закону — закону физической силы, и
лишь меч, острый, тяжелый и неумолимый, мог спасти
мир от полной катастрофы.
В самое страшное время для Европы этот меч
подняли достойнейшие руки, руки великого
советского народа.
Гитлеровские танки, смявшие «веселым» маршем
всю Европу, вечером 6 ноября 1941 года вползли в
подмосковные села. В тот мрачный вечер мы в
далекой, заметенной снегом Казани услышали голос
Сталина. Спокойствие вождя, его слова,
преисполненные горячей веры в победу, развеяли нашу скорбь,
зажгли в наших сердцах огонь, который не угасал в
дни самых тяжелых испытаний. Устами Сталина
говорил не только народ Советского Союза, ими
говорила совесть всего передового человечества.
Озаренный звездой Октября, Кремль был твердыней
свободы и прогресса. И когда несколько недель спустя об
б. Я. Галан
81
этот бастион разбила себе головы фашистская орда,
все мы поняли, что иначе не могло быть.
Пришел день Победы, а с ним—расплата.
Убийцы человечества очутились на скамье подсудимых.
Когда я выезжал на Нюрнбергский процесс, я не
ожидал сюрпризов. Лицо фашизма было мне уже
достаточно знакомо; знакомо, как мне казалось, до
мельчайших деталей. Факты показали, что я ошибся.
Я знал, что увижу преступников, которых не знала
история, но вместе с тем я думал, что перед лицом
неизбежной виселицы они сохранят элементарные
правила приличия, принятые в мире даже самых
закоренелых грабителей и душегубов.
У нюрнбергских подсудимых не было даже и этой
«морали». Эти люди, проводившие в жизнь и
осуществлявшие волчьи законы, теперь были похожи на
стаю голодных волков. Достаточно было одному из
них споткнуться и упасть, как уже вся стая бросалась
и раздирала его на части.
И Геринг, и Риббентроп, и Кальтенбруннер, и Ро-
зенберг, и Франк, и Заукель прекрасно знали, что
спасти их от виселицы может только чудо — такова
была тяжесть обвинительных документов. Но,
несмотря на это, никто из них не упустил ни одной
возможности свалить эту тяжесть на плечи соседа.
Если этого требовал инстинкт самосохранения,
Геринг «засыпал» Кальтенбруннера, Кальтенбруннер —
Геринга, Франк — Заукеля, Заукель — Франка. Такое
же жалкое зрелище представляли и нацисты —
свидетели. Надо было видеть и слышать, с каким
воодушевлением разоблачал Геринга палач Варшавы,
генерал войск СС фон дем Бах и с каким
наслаждением Геринг бросал по адресу фон дем Баха реплики
вроде: «Паршивая собака»...
Правда, были моменты, когда Геринг принимался
выгораживать отдельных подсудимых, даже брал на
себя роль идеолога фашизма. Это было незабываемое
зрелище. Стараясь обелить Риббентропа и Кейтеля
(дело Геринга слушалось первым), он изображал их
полукретинами, способными только на то, чтобы
лизать сапог фюрера... Для большего эффекта он время
82
от времени становился в позу «идейного нациста».
Но это не мешало ему одновременно издеваться над
«мистикой» Розенберга и Гиммлера, а на вопрос
генерал-лейтенанта Руденко: «Признавали ли вы
преимущество одной расы над другой?» — Геринг с
саркастической улыбкой отвечал: «Нет, я его никогда не
признавал».
Таков был фашизм, представленный в лицах его
«ассов»... Эти «ассы» понесли заслуженную кару,
после них не осталось даже пепла. Однако
порождение фашистского сатаны не исчезло еще с лица
земли. Темные силы, вскормившие Муссолини и
Гитлера, еще живут и действуют. Когда представитель
немецких банкиров Шредер вручал Гиммлеру
ежегодно миллион марок «на специальные цели», он не
приглашал в свидетели репортера с фотоаппаратом и
никому не давал интервью по этому поводу: мы лишь
видели страшные результаты этих подарков. Не
делают этого и сегодня кружки, подобные «кружкам»
Вильгельма Кепплера, рассеянные, кстати, не только
по Германии...
Кто же из тех, которые кормят и лелеют
многотысячную «переселенческую армию» Андерса и
остатки дивизии СС-Галиция, назовет своих
воспитанников по имени?
Мы имеем дело с сознательно созданной и
организованной резервной армией фашизма, созданной и
организованной в самом сердце разрушенной и
обескровленной фашизмом Европы. Класс Черчиллей и
маршаллов может изменять тактику, но природы
своей, природы хищника он не изменит. Фашизм — его
детище — остается и в дальнейшем реальной
опасностью. А это налагает на каждого из нас
священный долг последовательной, беспощадной борьбы с
реакцией во всех ее проявлениях.
Львов
1947
6*
НЕ ИГРАТЬ С ОГНЕМ!
При входе в единственный уцелевший зал
нюрнбергского вокзала вы можете увидеть большую и,
нужно сказать, оригинальную надпись: «Вход
польским солдатам воспрещен». Авторов этой надписи вы
найдете несколькими шагами дальше, в американской
комендатуре. Вам покажут там хронику происшествий
на вокзале за несколько минувших недель, хронику
скандалов, краж, грабежей и назовут вам «героев»
этих происшествий. Преобладающее большинство их—
люди с польскими фамилиями, в польской военной
форме и — как вынуждены признать сами
американцы — с американским оружием в руках.
Кто хоть немного разбирается в
военно-политической карте современной Европы, тот, наверно, спросит
с удивлением, где Рим, а где Крым. Откуда взялись
в довольно отдаленной от Варшавы Баварии польские
войска?
Это очень запутанная и не менее... скандальная
история. Американская армия застала в Баварии, как
и в других немецких провинциях, десятки тысяч
польских рабочих и военнопленных. И те и другие мечтали
только об одном: как можно скорее вернуться
после нескольких лет неволи домой. Но путь «далек
до Типерери», как поют английские солдаты, и на этом
пути сразу же возникло столько препятствий, что
только самые храбрые среди поляков отважились на соб-
84
ственный риск вернуться домой. Большинство из них
терпеливо ожидало обещанных эшелонов. Они ждали
месяц, второй, третий — и томились. Тем временем
появились люди с воинственным видом, с рукавами,
расшитыми каббалистическими знаками: кольцами,
зигзагами, мечами и орлами. Это были посланцы
пресловутого генерала Андерса, точнее говоря — агенты так
называемой «двойки», то есть второго
разведывательного отдела бывшего польского генерального штаба,
одного из тех анекдотических штабов, которые хотят
жить дольше, чем им отпущено историей.
Андерсовцы не дремали. В арсенале этих
провокаторов нашлась тысяча доводов в доказательство того,
что полякам не следует возвращаться в Польшу, ибо,
мол, после возвращения ждет их в лучшем случае
Сибирь. «Методы» этой пропаганды были
заимствованы у нацистов, которые цинически «поучали», что
даже самая невероятная чепуха, повторенная десять
тысяч раз, начинает звучать в легковерных ушах как
истина. Когда посеянное андерсовцами зерно местами
взошло, на сцену вышли жнецы. Они говорили на
английском языке с американским акцентом, и на этот
раз андерсовцы играли только роль переводчиков. На
головы несчастных изгнанников полилась теперь
патока слов о ста восьми долларах в месяц, о веселой,
беззаботной и сытой жизни.
Удочка была закинута в подходящий час, когда
рыбке нечего было есть. И неудивительно, что рыбка
попалась. Как грибы после дождя, начали расти так
называемые польские караульные роты, роты с
солдатами в польской форме и с польскими орлами на
конфедератках. Командные посты, как и нужно было
ожидать, заняли андерсовские комбинаторы в
воинственно заломленных беретах.
Правда, задания, поставленные этим ротам их
хозяевами, оказались довольно скромными, если не
унизительными: они несут караульную и всякую прочую
службу там, где американцы нести ее не хотят. Короче
говоря: американское издание французского
иностранного легиона. Не приходится в данном случае
задаваться вопросом, насколько такая политика находится
85
в соответствии с международным правом и обычаями
и насколько она допустима в отношении польского
правительства, с которым Вашингтон, как известно,
поддерживает нормальные дипломатические
отношения.
Нас в данном случае интересует нечто другое: пыл,
с которым андерсовцы взялись за организацию таких
и им подобных польских батальонов, дополненных
еще польской полицией.
О том, что этот пыл был искренним и что
андерсовцы солидно поработали на этой ниве,
свидетельствует моральный облик упомянутых частей. Люди,
которые отрекаются от своей родины, отрекаются тем
самым и от своей совести. Ландскнехта отделяет всего
один шаг от разбойника; эту межу польские
ландскнехты в Баварии переступили уже в первые дни
своей службы. В газетах больших и маленьких
городов все чаще начали появляться сигналы тревоги,
бандитизм разрастался с быстротой лавины.
«Техника» налетов была всегда одинакова. Ночью
перед домом останавливалась автомашина с
вооруженными солдатами польских «караульных рот»,
жильцы загонялись в подвал, квартиры основательно
«очищались», и через полчаса машина на полной
скорости скрывалась в ночной тьме. Награбленное добро
тут же менялось на водку, и общественные места,
включая сюда и вокзалы, становились свидетелями
диких бесчинств. Впоследствии к бандитам польского
происхождения присоединились бандиты из СС и
«гитлер-югенда».
Такова чисто уголовная сторона дела. Андерсов-
ская медаль, впрочем, имеет еще другую, уголовно-
политическую сторону. Если от ландскнехта до
разбойника только один шаг, то от разбойника до
фашиста нет даже и полушага. Подчиненные Бур-Кома-
ровского и Андерса делают все, что могут, чтобы
превратить обдуренных и обманутых ими поляков в
штурмовиков пятой колонны. Достаточно просмотреть
хотя бы один только номер издаваемой в баварском
местечке Лянгвассер газеты «Писмо жолнежа».
Каждая статья, каждая информация этой газеты дышит
86
звериной ненавистью к Советскому Союзу и к
Польской демократической республике. Когда читаешь эту
газету, вспоминаются времена наичернейшей
польской реакции, времена пилсудских и костеков-бернац-
ких, лихолетье Березы Картузской и брестских
погромов. Все это нисколько не мешает редакторам
помещать на первой странице каждого номера заявление
о том, что «Писмо жолнежа» издается для польских
и... союзных, то есть американских и английских
войск!
Точно такое же морально-политическое лицо имеет
издаваемый польскими усташами иллюстрированный
журнал «Слово польске». Его редакция находится в
Фраймане, около Мюнхена, в помещении
американской комендатуры «дисплейсед персоне».
Недавно я вспоминал об идиллических отношениях
между здешними украинскими и польскими нацистами.
Такая же точно обоюдная любовь связывает сегодня
усташей Бур-Комаровского с последователями
гитлеровского агента Сметони и его воспитанника Клима-
тиса, а литовская фашистская газетка «Мусу вилтис»
наполнена комплиментами по адресу своих польских
соратников. Согласие в этом разбойничьем семействе,
бесспорно, облегчается тем, что и первые, и вторые,
и третьи живут здесь на одних и тех же любезных
хлебах, они поглощают тот самый хлеб, которого
никак не могут дождаться голодающие дети Франции.
Говорят: «Хорошо все то, что хорошо кончается».
Однако эта история добром окончиться не может.
Фашистская чума будет угрожать человечеству до тех
пор, пока не будут ликвидированы очаги фашизма,
все до последнего. Пока этого не будет, бациллы этой
чумы будут размножаться в геометрической
прогрессии. Не случайно именно в американской зоне
несколько дней тому назад мы были свидетелями первой
со дня разгрома «третьего райха» демонстрации
немецких нацистов. Сегодня демонстрация состоялась в
церкви университетского города Эрлянген, завтра она
может повториться в Мюнхене, а послезавтра
осмелевшие от безнаказанности гитлеровские демонстранты
начнут стрелять из-за угла.
87
Есть и в Америке матери, которые оплакивают
своих сыновей, погибших в борьбе с нацистской ордой.
Эти солдаты знали, за что они отдают свою молодую
жизнь, однако они не знали, что придет время после
победы, когда их начальники будут вооружать и
кормить последних могикан проклятого фашизма.
Нет, этого ничем, ничем оправдать нельзя, даже
аргументами такого практического характера, как
недостаточное количество войск для гарнизонов...
Японии. Где бы фашистские банды ни существовали, ни
действовали — под Мюнхеном или под Нагасаки, они
остаются фашистскими бандами!
Лучший и единственный способ избежать пожара—
своевременно обезвредить его поджигателей. И
больших и малых. Маленькая спичка не менее опасна, чем
факел. С огнем играть нельзя, нельзя даже взрослым
джентльменам...
ТО, ЧЕГО НЕ ЗАБЫВАЮТ
«Самое важное — не популяризировать наших
целей перед миром...»
Этот принцип гитлеровской политики — не
изобретение Гитлера. Были и до него над рекой Шпрее
мастера лицемерия, лжи и вероломства.
Вильгельмовский генерал Гофман играл в первой
мировой войне приблизительно ту же роль, какую
двадцать три года спустя взяли на себя Розенберг и
Кейтель. Этот специалист по восточной политике
Берлина также не популяризировал подлинных целей
кайзера и его клики. Наоборот, он применял в
политике методы камуфляжа значительно раньше, чем это
было сделано в немецкой армии.
В брестских мирных переговорах речь шла главным
образом об Украине, — Россию Гофман собирался как
будто оставить в покое. Но не успели еще немецкие
войска дойти до Донца, как в сейфе Гофмана лежал
уже готовый, утвержденный всеми инстанциями план
похода на Москву, план завоевания России.
Осуществиться этому плану не суждено было, как известно,
по независящим от немецкой военщины причинам.
Эта безграничность аппетитов, когда прусская
военщина смотрела на Восток, имела свои
«основания». Вильгельм и Гофман прекрасно сознавали, что
в братском единении с великой Россией Украина
никогда не станет ничьей рабой.
89
Ведь история преподала им достаточно уроков.
Великий акт присоединения Украины к России,
осуществленный Богданом Хмельницким в 1654 году, обрек
на провал все попытки иноземных захватчиков
поработить украинский народ.
Прусские юнкера никогда не грешили большим
политическим разумом. Однако и самые тупые из них
понимали, что здание русско-украинской дружбы
держится не только на фундаменте общего
происхождения, общей истории, родственности языка и культур,
но и на общности их политических и экономических
интересов. Богатства Урала, Сибири, всей Советской
страны дополняют богатства Донбасса и Кривого Рога
в такой же мере, в какой храбрость черноморца
дополняет доблесть балтийца.
Немецкие империалисты знали, что не может быть
свободной Украины без России. Они осознавали и
монолитное единство этих двух национальных
организмов. Мимо их внимания не мог пройти тот факт, что
даже в страшные времена Юзефовича, когда царское
правительство жестоко преследовало все проявления
украинской культурной жизни, чувство национальной
вражды было так же чуждо русским, как и
украинским народным массам.
Правда, Берлин делал неоднократные попытки
привить украинцам яд национальной ненависти к русским.
Непосильную работу взял бы на себя бухгалтер,
который попытался бы сосчитать фонды, за последние
тридцать пять лет переплывшие из берлинских касс
в карманы сердюков, скоропадских, донцовых, бара-
новских, мельников, бандер и шухевичей. Однако
затраты не оправдали себя. Щедро субсидированные
желто-блакитные националисты стреляли народу в
спину, но влияния на народ они никогда не имели.
До Нюрнбергского процесса мы знали планы
нацистов лишь частично, практически они их только
начинали осуществлять. Ныне нацистские архивы лежат
перед нами в ярком свете, который потоком льется с
потолка зала заседаний Международного Трибунала.
Меморандумы, протоколы, рапорты, директивы,
указания, приказы, инструкции, дневники, письма, запи-
00
ски — горы документов, каждый из которых является
смертным приговором для миллионов наших братьев
и сестер с берегов Днепра и Волги, Черного и Белого
морей. Гитлеры, геринги, Гиммлеры, розенберги
решили, что самый легкий и самый дешевый способ
истребления многомиллионных народов — голод. Для
этого нужно вывозить из оккупированных территорий
все, что только удастся: хлеб, скот, птицу. Прежде
всего собирались это сделать на Украине.
Организованный Герингом экономический штаб Востока уже
во всех подробностях разработал этот план. В живых
Геринг соглашался временно оставить исключительно
тех, которые будут работать для фашистской военной
машины.
Розенберг рассылал директивы: «СССР должен
рассматриваться как уничтоженная страна... Мы не
видим никаких причин, чтобы кормить также советских
граждан продуктами, полученными из оккупированных
восточных территорий». В середине июля 1941 года,
когда нацистские войска не успели еще дойти до
предместий Киева, Гитлер в присутствии Геринга,
Бормана, Кейтеля и Розенберга говорил: «...Это все не
должно нам препятствовать принимать решительные
меры: расстрелы, выселения... Мы должны разрезать
пирог соответственно нашим потребностям. Из Крыма
должны быть вывезены все иностранцы. Крым,
территория на север от него, Галиция, прибалтийские
страны и Баку станут частью немецкой империи».
Они рассматривали наши земли как «пирог»,
который осталось «только съесть»! Но не вышло: Гитлер
подавился уже первым куском. Украинский чернозем,
вместо того чтобы стать фундаментом силы этого
кровавого маниака, стал могилой его мечтаний.
Есть что-то символическое в том, что решающий
бой этой войны состоялся на русской земле, у
русской реки Волги. Это было в то время, когда вся
Украина от края до края пребывала под игом «рейхс-
министра» Розенберга и от линии огня ее отделяли
сотни километров. Бои происходили за несколько
тысяч квадратных метров от правого берега Волги.
И на этом кусочке решалась тогда судьба всей России
91
и всей Украины. В Сталинградской битве одинаково
горячей и одинаково святой была кровь солдата
русского и солдата-украинца. Это были дни, недели и
месяцы, каких никто не будет в силах ни стереть со
страниц летописи, ни вырвать из наших сердец. Там,
в русских степях, трагедия обоих народов
превратилась в праздник их победы.
Есть вещи, которые не забываются. Кто из нас, кто
из грядущих поколений украинского народа забудет,
что перед лицом смертельной опасности рядом с нами
стали на бой сыны великой России, простые, хорошие
люди, наши братья по крови и по судьбе, и что
благодаря им, прежде всего им, мы живем и будем жить
как народ, как самостоятельная страна, как свободная
держава...
Может, нигде, как именно в далеком
Нюрнберге, чувствуешь это так остро и так взволнованно, ибо
только здесь, на месте, где раскрывается перед
нашими глазами полная картина той судьбы, которую
готовил Украине враг, — можно так глубоко и так
сердечно понять, что такое народ — друг, народ —
верный товарищ.
Отечественная война возложила на русский народ
самую большую тяжесть и самую большую
ответственность. Он честно выполнил свою историческую
миссию, миссию, которая, казалось, была выше
человеческих сил. Борьба против фашистских орд плечом
к плечу с ним поддерживала в нас веру в победу.
Итти рядом с ним сегодня в будущее — самая
высокая честь.
ПАУКИ В БАНКЕ
Новогодний праздник 1945 года Геббельс назвал
«праздником сильных сердец». Через четыре месяца
после появления этих слов на страницах «Фелькишер
беобахтер» Геббельс изменил самому себе: вместо
того, чтобы делать то, к чему он призывал немцев,
то есть бороться за фатерланд до последнего вздоха,
он предпочел удрать в небытие.
Геринг не пошел по стопам Геббельса, хотя он
также выказывал «сильное сердце», особенно тогда,
когда объявлял смертные приговоры целым народам
или когда была возможность собственноручно
всаживать пули в животы своих знакомых, как это,
например, имело место в июньскую ночь 1934 года. Не
соблазнил пример Геббельса и других нацистских
светил — ныне подсудимых на Нюрнбергском процессе.
Каждый из этих фабрикантов массовых убийств имел
в своем распоряжении сотни средств, чтобы наложить
на себя руки, однако они не воспользовались ни од*
ним из них.
Загадка? Ни в коем случае. Как это ни
удивительно, но они не теряют надежды, что им удастся еще
и на этот раз оставить весь мир в дураках...
До сих пор они не имели еще возможности
выступить перед судом,— но для чего же тогда адвокаты?
Именно через них подсудимые повели первую атаку.
Начал ее Геринг своим знаменитым «интервью», боль-
93
шая часть которого состоит из хвалебных гимнов по
адресу... Трибунала. Вслед за ним этот маневр
применили другие обвиняемые. Их защитники стали
амурами, которые стрелами комплиментов должны были
завоевать сердца судей.
Заклятые враги демократии превратились вдруг в
ее приверженцев. Риббентроп заговорил лирическим
тоном о международном праве, а погромщик над
погромщиками Штрейхер выразил через своего
адвоката Тома пожелание, чтобы суд «справедливо
рассмотрел его дело согласно с демократическими
принципами...»
Одновременно началось наступление на
общественное мнение. На редакционных столах немецких и
иностранных газет неожиданно появились «мнения»
адвокатов из Нюрнбергского суда, инспирированные
и отредактированные... самими же подсудимыми, как
это в конечном счете видно из правок и
перечеркиваний, сделанных на характеристике Розенберга... его
же собственной рукой.
Начнем с Альфреда Розенберга. Этот «рейхскомис-
сар для оккупированных восточных территорий»,
соавтор планов уничтожения по крайней мере половины
населения нашей страны, специалист по грабежу
художественных ценностей всей Европы, теоретик и
практик кровавого «Мифа XX столетия», выдает себя
теперь за невинного ягненка, которого только по
ошибке зачислили в волки. Ягненка, видите ли,
несправедливо обижают, и ягненок от этого явно
страдает.
Его защитник Тома так и пишет в своей
апелляции:
«Мой клиент воспринимает как свое личное
большое горе каждый факт отклонения его доказательных
предложений. Я вынужден неоднократно напоминать
ему, что другого такого объективного суда, как этот,
он в мире не найдет».
Однако у Розенберга имеются достаточные
основания бояться именно объективного суда и поэтому
слова адвоката не очень-то его успокаивают. Он ищет
путей спасения и по старой привычке находит их во
94
лжи. Он, мол, ничего не знает, не видел, он только то
и делал, что писал книги на отвлеченные темы.
К советскому народу он относился, как родной
отец, и хотел лишь одного: чтобы этот народ «сам
стремился присоединиться к Германии». Кстати,
слово «присоединиться» показалось Розенбергу слишком
рискованным, и он перечеркнул его, заменив более
невинным — по его мнению — «связаться» с
Германией...
А после этого идеолог нацизма использует такой,
довольно популярный сегодня среди нюрнбергских
подсудимых, маневр: он набирает полный рот слюны
и плюет в своего вчерашнего идола. Он констатирует,
что Гитлер обманывал своих сторонников, обманывал,
как обыкновенный ярмарочный жулик. В этом, мол,
убедили Розенберга только представленные на
процессе документы: раньше он лишь догадывался, что
Гитлер жулик. И вообще неизвестно, стал ли бы Розен-
берг Розенбергом, если бы в 1933 году фюрер не
пленил его сердце королевским подарком —
чудодейственным письменным столом, который в зависимости
от желания хозяина подымался или опускался...
Риббентроп тоже хочет нас убедить, что он не
Риббентроп, а олицетворение всех возможных
добродетелей. По словам этого прохвоста, не он вероломно
разрывал договоры, а те государства, на которые
фашистская Германия нападала. А впрочем, ко всему,
что он делал, принуждал его Гитлер. Правда, он
слепо выполнял эти приказы, но только потому, что дал
фюреру клятву верности. Эта клятва легла на
добродетельного Риббентропа слишком тяжелым бременем,
и он несколько раз просил Гитлера освободить его от
должности министра. Но тщетно. Когда однажды
Гитлер от огорчения едва не расплакался, Риббентроп
был вынужден дать ему слово чести, что он и впредь
будет нести на себе крест нацистского министра. О том,
что этот «крест» принес ему несколько десятков
миллионов марок, скромный Риббентроп предпочитает
теперь не упоминать...
Далее мы узнаем, что нацист Риббентроп никогда
не был нацистом, что он, мол, в нацистской партии «не
95
играл никакой роли». Что же касается зверств, то
Риббентроп не имел о них никакого представления.
Почему? Зверства, видите ли... «не входили в
компетенцию его министерства». Бедняга Риббентроп не
знал, оказывается, даже того, о чем знал в Германии
и вне Германии каждый ребенок — о существовании
гитлеровских концентрационных лагерей. Он мог
узнать о них лишь в том случае, если бы слушал
заграничные радиопередачи. Однако хитрый Гитлер
разрешил слушать радиовещание из-за границы только
Герингу и Геббельсу. А если бы Риббентроп
осмелился когда-нибудь это сделать, то Гитлер «немедленно
выслал бы его в концлагерь или отдал под суд для
казни...»
Таким образом, мы видим, что Риббентроп не знал
о существовании гитлеровских лагерей смерти, потому
что не слушал заграницы, а не слушал заграницы
потому, что боялся попасть в лагерь смерти, о
существовании которого он не знал.
«Аргументами» приблизительно такой же ценности
пользуется коллега Риббентропа — главный
уполномоченный по набору рабочей силы Заукель. Он пытается
оправдать себя тем, что вступить в нацистскую партию
его вынудили безработица и нищета. Мелкий,
невзрачный человечек, построивший чудовищную мельницу
смерти, жернова которой в течение нескольких лет
безжалостно перемалывали здоровье и жизнь
миллионов рабов, сегодня съежился, притих и через своего
защитника выдает себя за безвольного, безинициатив-
ного, лишенного какого бы то ни было влияния на ход
событий полукретина, который только случайно узнал
о своем назначении.
«Заукель посредственный человек,— пишет, как бы
извиняясь перед нами, доктор юридических наук
Сервациус. — Это человек второго сорта. Он не умеет
самостоятельно организовывать и руководить», —
сочувственно вздыхает адвокат и по примеру своего
клиента перекладывает всю вину на Гиммлера.
Чтобы дополнить картину своей приниженности,
Заукель жалуется, что ему, отцу десятерых детей, уда-
96
лось за все время службы во славу фюрера положить
в карман «всего» триста тысяч марок. Двести
пятьдесят тысяч из этой суммы Заукель получил от
Гитлера в день своего пятидесятилетия. За что? Об этом
«второй сорт» молчит.
Еще одна «жертва случайности», Ганс Франк,
также «не имел никакого влияния на ход событий». Во
всем, что произошло, виноваты, оказывается, не Франк,
а Гиммлер, Геринг и, как это ни странно, — «человек
второго сорта», Заукель. Франк также случайно
вступил в члены нацистской партии, случайно стал
баварским министром, так же случайно очутился
впоследствии в должности генерал-губернатора Польши
и Галиции. Этот убийца шести миллионов поляков и
украинцев и трех с половиной миллионов евреев на
наших глазах переодевается в тогу (цитирую
дословно): «борца за идею закона и государства...»
Как оказывается, этот «борец» не имел в своих
руках никакой власти. По его словам, все плохое
делалось руками вышеупомянутых нацистов да еще обер-
группенфюреров СС. Сам Франк только то и делал,
что ездил в Берлин просить Гитлера об... отставке. Но
жестокий Гитлер и не подумал удовлетворить
желание генерал-губернатора, ибо это, как хвалится Франк,
«могло бы вызвать нежелательный отклик за
границей». Благодаря этому «любимец заграницы» Франк
очутился сегодня за решеткой.
Особую тактику защиты избрали недавние
нацистские маршалы и адмиралы. Они на все лады кричат о
своей непричастности к... политике. Иодль вдруг забыл
о своих мюнхенских гимнах национал-социалистским
богам и божкам и скромно предстал перед нами в
сером мундире «аполитичного солдата». Иодль говорит:
«Передо мной была альтернатива — или нарушить
присягу и пойти под полевой суд, или вызвать мятеж.
Но и в первом и во втором случае я бы действовал
как политик, то есть делал бы то, в чем обвиняет
меня сегодня суд».
Как видите, типичная логика преступника, уже
чувствующего петлю на своей шее.
7. Я. Галан
97
Международный Военный Трибунал, после
перерыва, снова начал свою работу.
Еще несколько дней будут выступать
представители американского обвинения, которые, возможно,
зачитают найденный на днях в оккупационной зоне
3-й американской армии новый документ, названный
«политическим завещанием Гитлера». Затем будут
обвинять французы, после французов — представители
СССР.
ПИГМЕИ БЕЗ КОТУРНОВ
Нигде, может быть, судьба не поглумилась над
Гитлером так жестоко, как в Нюрнберге. Город,
древние стены которого должны были стать свидетелями
по крайней мере тысячелетнего триумфа его «Велико-
германии», сегодня являются свидетелями его
величайшего позора. Здесь с нацистских божков
срываются последние покрывала, здесь голос бесчисленных
разоблачительных документов звучит громче, чем
самые громкие речи бывших основателей и
руководителей «третьего райха». В Нюрнберге заседает
Международный Военный Трибунал.
Процесс превратил этот разрушенный на
восемьдесят процентов город в крупную
военно-хозяйственную базу. С рассвета до ночи тысячи студебеккеров,
фордов и виллисов, называемых тут джипами, мчатся
по его улицам с быстротой урагана, нагоняя на
прохожих почти мистический страх.
На доброй половине этих машин вы увидите три
буквы «I. M. Т.» (Международный Военный
Трибунал). Вы прочтете их сегодня также на портсигарах,
пепельницах и даже над эстрадой единственного
уцелевшего отеля, где немецкий джаз играет нашу
«Катюшу» американским, английским и французским
работникам Трибунала...
Что касается процесса, то наиболее подробно
комментируются документы, так сказать, завершающие
7»
99
портреты подсудимых. Это и понятно, ибо ничто так
не разоблачает отвратительной сущности фашизма, как
хотя бы только общая характеристика отдельных его
заправил.
В последнее время здесь особенно много говорят и
пишут о таких сочных фигурах из альбома нацистских
разбойников, как Розенберг и Штрейхер. И нужно
сказать, эти «теоретики» нацизма полностью это
заслужили. Правда, когда говорят о них, — смеются, но
горек этот смех. Трудно не написать сатиру, когда
думаешь о нацистских «мыслителях».
Вот автор «Мифа XX столетия», рейхсминистр
оккупированных восточных областей, идеолог
немецкого империализма и высокопоставленный его агент—
Розенберг. Представитель американского обвинения
зачитал некоторые его заметки. В одном месте
Розенберг записывает свою беседу с обанкротившимся
кандидатом в вожаки румынских железногвардеицев и
гордо добавляет: «Он узнал во мне своего фюрера».
В зале смех. Не выдержал и угрюмый Функ. Он
закрывает свое широкое лицо и трясется от
неудержимого смеха, первого смеха за все время процесса.
Предметом обсуждения становится «Миф» Розен-
берга. Раздаются слова о «немецком народе господ»,
о «крови и земле» и о том, что «кровь занимает
отныне место христианской святая святых». Взоры
присутствующих обращаются к подсудимому. Нацистский
пророк не обнаруживает ни малейшего желания
отстаивать свой «миф». С опущенной головой, с глазами,
устремленными в собственные колени, Розенберг с
нетерпением ждет минуты, когда обвинитель перестанет,
наконец, цитировать «миф», каждое слово которого не
только разоблачает автора как обыкновенного жулика,
но и показывает в нем одного из главных режиссеров
трагедии, поглотившей миллионы людей и
превратившей в пустыни цветущие страны. Тот, кто еще совсем
недавно хотел быть пупом земли, был бы теперь рад,
если бы о нем больше не говорили. Так выглядят
пигмеи без котурнов.
Очередь за Юлиусом Штрейхером — редактором
«Штюрмера», бывшим гаулейтером Франконии и соб-
100
ственником крупнейшей в Европе коллекции
порнографических рисунков. Прокурор говорит: «Этот человек
в течение двадцати пяти лет проповедовал ненависть.
Сначала он требовал преследования, потом —
истребления. Он все время кричал: «Больше, больше!» Он
сделал возможным уничтожение миллионов людей, ибо
без него вряд ли кальтенбруннеры нашли бы кого-
нибудь, кто согласился бы выполнять их приказы. Он
отравлял мозг немецкой молодежи и воспитывал ее
в духе убийства, ненависти».
В этих словах нет преувеличения. Зло, причиненное
человечеству Штрейхером, поистине чудовищно. И если
удивляешься чему-нибудь, то лишь тому, что это зло
могла причинить такая жалкая карикатура на
человека, такой никчемный ублюдок, который за пределами
фашистской Германии был бы в лучшем для него
случае постоянным обитателем заведения для
дегенератов.
Когда представитель обвинения называет его
убийцей миллионов, Штрейхер удивленно пожимает
плечами— ведь лично он не убил ни одного еврея.
Штрейхер удивлен. Его челюсти яростно жуют резину.
Ведь он только писал. Писал и печатал год, второй,
десятый, двадцатый. С упорством маньяка он бил
всегда в одну точку.
Такая деятельность Штрейхера не могла не
обратить на себя внимания Гитлера, который имел полное
право назвать Штрейхера одним из своих учителей.
И в 1935 году—в день рождения Юлиуса
Штрейхера — Гитлер приезжает в Нюрнберг, чтобы лично
пожелать своему франконскому паладину долгих лет
жизни и здоровья и поблагодарить его за
«неусыпный труд на пользу национал-социалистской
Германии».
Проходит час за часом. Слово «Штрейхер» все
еще не сходит с уст представителя обвинения.
Зачитываются все новые и новые цитаты из «произведений»
Штрейхера. Знакомимся с его иллюстрированной
книжонкой в стихах «для старого и малого», с
«рассказами для молодых девушек», с его речами,
произнесенными в женских школах. И, слушая все это, удив-
101
ляются даже люди, которые, познакомившись с
нацизмом, ничему больше не удивляются.
Только Штрейхер не удивляется. Удобно
умостившись на своей скамье, он гордо поводит глазами по
залу, а когда зачитывают его грязную писанину, он
самодовольно покачивает головой, похотливо потирая
руки. До него, видите ли, еще не дошло.
И не дойдет. Такие головы нельзя исправить! Их
можно только снять. И нужно снять!
АКУШЕРЫ «ТРЕТЬЕЙ ИМПЕРИИ»
«Министры падают, как бутерброды, большей
частью на лучшую сторону», — писал когда-то Берне
в своих «Письмах из Парижа». То же можно сказать и
о фон Папене. Когда Гитлер выгнал этого
многоликого дипломата из вице-канцлерского кресла, можно
было считать, что это начало конца фон Папена. Но
оказалось, что этот аристократический кот всегда
прыгает на четыре лапы. Удачно закончилась для
него шпионско-диверсионная афера в Америке, сумел
Папен заблаговременно смотать свои удочки в
Палестине, поэтому неудивительно, что и гнев Гитлера
имел для него не такие неприятные последствия, как,
например, для генерала Шлейхера, замученного во
время нацистского самосуда в июне 1934 года.
Больше того, когда, казалось, карьера
неудачливого вице-канцлера окончилась раз и навсегда, Гитлер
назначает его германским послом в Австрии, и кот
фон Папен внезапно вырастает в троянского коня,
который привозит в Вену в своем чреве убийц
независимой Австрии.
В июле 1944 года фон Папен, учуяв, что песенка
гитлеровцев уже спета, прядет нить заговора против
Гитлера и обрывает ее, так сказать, за три шага перед
эшафотом. Сейчас, как известно, Папен сидит в том
же месте, где и Геринг и Кальтенбруннер. Однако все
103
указывает на то, что фон Папен и на этот раз не
теряет надежды. Его адвокат также уверяет, кого только
может, что его клиент на этот раз тоже прыгнул на
четыре ноги. Правда, была несколько дней тому назад
минута, когда, до сих пор спокойный и
уравновешенный, Папен побледнел и спрятал глаза под бровями.
Это произошло тогда, когда из уст представителя
обвинения прозвучало слово: «Шредер».
Об этом Шредере мы услыхали еще несколько
недель назад. Но тогда упоминалось лишь о двух его
письмах Гиммлеру, в которых этот богатейший
кельнский банкир сообщал шефу гестапо и СС о том, что
посылает ему очередную денежную субсидию «на
специальные цели». О Папене в тот день не было речи,
и Папен был этим очень доволен.
Но вдруг напомнили кое-что и Папену.
...Серое январское утро 1933 года, но в душе у фон
Папена весна. Только шесть недель прошло с того
неприятного дня, когда президент Гинденбург был
вынужден дать ему отставку от должности канцлера
Германии, как счастье вновь улыбнулось ему. На этот
раз «счастье» имело подстриженные усики и
называлось: Адольф Гитлер. Оставалось только совершить
с ним окончательную сделку. Посредником был
давнишний меценат Гитлера — банкир, член
бесчисленных наблюдательных комитетов, правлений и
дирекций крупнейших, богатейших рейнских и вестфальских
промышленных концернов — Шредер. Именно в вилле
этого Шредера и должна была состояться первая
официальная беседа фон Папена с нацистским вожаком.
Как и подобает хорошо воспитанному дипломату,
фон Папен приезжает за полчаса до начала беседы.
Он крепко жмет руку Шредеру, он просто не находит
слов благодарности банкиру, который именно его
избрал юрисконсультом германского капитала в
будущем нацистском правительстве.
Шредер не успевает ему ответить. Перед виллой
останавливаются черные блестящие лимузины. Из них
выходят Гитлер, Гесс, Гиммлер и знакомый Папена —
Вильгельм Кепплер, председатель «кружка деловых
104
людей», вроде Гугенберга, Круппа и Тиссена, и
фактический казначей нацистской партии.
Короткое приветствие, и Гитлер с Папеном
исчезают в роскошном кабинете Шредера. Разговор с глазу
на глаз длится несколько часов. Когда же, наконец,
открылись двери из кабинета в столовую, сияющее
лицо фон Папена не оставляло у присутствующих
никаких сомнений в том, что время Папена снова
пришло, а его молчание было только подтверждением
старой немецкой пословицы: «Самое большое счастье
не знает песен».
С этого памятного дня фон Папен больше не
чувствовал себя одиноким. Когда он входил теперь в
кабинет Гинденбурга, он имел за своей спиной Гитлера
вместе со всей коричневой ордой. Когда же он
покидал старого президента и представал перед лицом
фюрера, он говорил с ним от имени Гинденбурга...
Игра развертывалась молниеносно. Папен
неутомимо и настойчиво нажимал на недоверчивого
мракобеса в фельдмаршальском мундире, пока, наконец, не
убедил его в том, что спасение старорежимной
юнкерской Германии находится единственно в руках
Адольфа Гитлера.
Наступает день полного торжества Папена. Гин-
денбург наконец принимает Гитлера и назначает его
канцлером Германии. Портфель вице-канцлера полу-
чает фон Папен. Итак, он — крестный отец
гитлеровского «третьего райха».
У Папена были, возможно, некоторые основания
для надежд, что именно этот, такой неприятный для
него сегодня, период его деятельности не станет
предметом широкого обсуждения на Нюрнбергском
процессе. Поэтому легко можно понять волнение
подсудимого, когда представитель обвинения вдруг
вытащил из-под груды документов свидетельские
показания самого Шредера. Оказалось, что арестованный
союзными властями банкир сказал во время допроса
больше, чем мог этого ожидать Папен от
гостеприимного хозяина виллы, где Папен взял на себя роль
акушера «третьей «империи», той империи, которая
105
доживает сегодня свой век в лице подсудимых на
Нюрнбергском суде.
Неловкое положение фон Папена понял и его
защитник, который тотчас же поднялся и заявил
протест против зачитывания свидетельских показаний
Шредера. Согласно существующей процедуре,
представитель обвинения умолк, ожидая решения
Трибунала. Пока это решение рождалось, журналисты
изучали подписанный рукой Шредера документ и,
прежде всего, фамилии людей, финансировавших
нацистскую партию через «кружок Кепплера».
Достаточно назвать лишь несколько из этих фамилий,
чтобы иметь полное представление о том, чьим
детищем была нацистская партия и каким богам она
служила.
Вот они: Флик — директор центрально-немецких
сталелитейных заводов, Бютефиш — директор «Фар-
бен-индустри-акциенгезельшафт», Райперт—из
Рейнского металлургического концерна, Раше — директор
Дрезденского банка, Гальт — директор Немецкого
банка. Эти киты немецкого капитала регулярно из
года в год, до самого 1945 года, посылали Гиммлеру
по одному миллиону марок «на специальные цели».
На какие «специальные цели» так расщедрились
немецкие миллионеры, Шредер не говорит,— об этом
можно только догадываться, принимая во внимание
функции Генриха Гиммлера.
Зато Шредер сказал нечто другое, — нечто такое,
что частично дает ответ на вопрос, почему фон Папен
и на скамье подсудимых не теряет надежды, все еще
рассчитывая на снисходительность Фемиды.
Рассказывая о последних годах перед захватом
власти Гитлером, Шредер в своих показаниях
заявляет: «Представители крупнейших банков, приезжавшие
в Берлин в соответствии с финансовыми
соглашениями каждые шесть месяцев, высказывали свое
недовольство неустойчивостью положения в Германии и
жаловались, что каждый раз, когда они приезжают,
они находят новое правительство и вынуждены вести
дела с совершенно иными людьми, чем те, которые
находились у власти раньше». Как видим, намек Шре-
106
дера довольно прозрачен. Сквозь туман его слов мы
хорошо видим, как над колыбелью нацистской
Германии склонились акулы не только немецкого
капитала... Не случайно в последнюю минуту
представитель английского обвинения решил не зачитывать
показаний Шредера, отказавшись тем самым и от
допроса Шредера как свидетеля по делу Папена.
СЛОМАТЬ ШЛАГБАУМЫ!
Автомашины всех марок. И мундиры. Самые
фантастические мундиры всех родов оружия, какие только
знала история Франции между первым Седаном и
вторым. Пестрые зуавы, альпийские стрелки, сенегальцы.
Всюду поблескивают на апрельском солнце штыки,
весело мчатся на мотоциклах курьеры в кокетливых
беретах; бесчисленные лимузины мягко, осторожно,
словно драгоценный груз, развозят по городу
бесчисленных генералов. И флаги, флаги, флаги! Они
свисают с каждого балкона. От них рябит в глазах так же,
как и от множества шлагбаумов, у которых вас
останавливают, проверяют и направляют обратно с
покорной, но настойчивой просьбой — не тревожить своими
шагами послеобеденный сон генерала, проживающего
как раз на этой улице.
В первую минуту создается впечатление, будто на
этом клочке южной Германии возродилась вся
Франция двадцатых годов, Франция «старого тигра»
Клемансо, Франция, где почти ежемесячно сменялись
правительства, но генеральный штаб существовал на
правах самодержавной династии, где парламент
предлагал, а «Комите де форж» решал, Франция, где
подлинными вершителями судеб страны были
некоронованные короли типа петэнов, лавалей, фланденов,
стависких.
Когда, наконец, вы преодолеете первые шлаг-
108
баумы и тихонько, на цыпочках, войдете в центр
города, вам бросятся в глаза десятки, сотни, тысячи
вывесок. Учреждения, учреждения, учреждения!
И перед каждым учреждением отряды машин и
отряды солдат, вооруженных до зубов, как перед
генеральным штурмом.
Баден-Баден, как и вся французская зона
оккупации Германии, — это сегодня прибежище самой
черной французской реакции, коллаборационистов, всей
душой запроданных фашистскому дьяволу.
Началось это вскоре после освобождения
Франции, а подошло к зениту после расстрела Лаваля.
Более или менее явные агенты гестапо,
высокопоставленные лакеи Петэна, сподвижники и клевреты
Лаваля, поставщики Геринга, информаторы Абеца,
шпики Кьяппа, вся сановная, запятнанная
сотрудничеством с оккупантами вишийская «братия» снялась с
насиженных мест и метнулась туда, где можно было
инкогнито переждать и устроиться на доходной
должности, — во французскую зону оккупации
Германии.
Этим сбродом кишмя кишит Баден-Баден. В
администрации и в армии им несть числа. Администрация
насчитывает «всего» тысячу триста офицеров, в том
числе «только» восемьсот человек в чине полковника.
Среди них приблизительно восемьдесят процентов —
закоренелые коллаборационисты, гитлеровско-петэ-
новские подонки.
Лишь одна авиационная часть, расположенная
вблизи Баден-Бадена, насчитывает в своем
офицерском корпусе пятьдесят четыре человека,
заклейменных печатью явного предательства. Это офицеры,
награжденные собственноручно Петэном и Лавалем пе-
тэновским орденом «Франсиск». Эти гитлеровцы во
французских мундирах сегодня открыто носят свои
«ордена», и ни одна французская рука в
оккупационной зоне не поднимется, чтобы дать им крепкую
оплеуху...
Разумеется, в таком климате трудно расцвести
цветам демократии. Убедиться в этом не трудно.
Достаточно пробежать глазами издаваемую в Саарбрю-
109
кене газету для немцев «Нейе Саарбрюкенцейтунг»,
которая только тем и отличается от геббельсовского
«Фелькишер беобахтер», что в ней нацистскую
пропаганду нужно читать не в строчках, а между строк.
Легкомыслие? Нет, только последовательность.
В петэновском горшке столько нацистской гадости, что
он будет смердеть до тех пор, пока его не разобьют.
А руководители французского правительства как
будто не собираются его разбивать. Правда, многие
французские демократы серьезно обеспокоены
положением, которое создалось за рекой Саар. Недавно
Баден-Баден посетила парламентская комиссия,
собравшая там немало материалов. Но пока эти
материалы путешествуют из комиссии в комиссию, баден-
баденские петэновцы продолжают проводить свою
политику. Пользуясь нарочитой медлительностью
французской государственной машины и поддержкой
командующего оккупационной армией генерала Ке-
нига, они спешно возводят на подведомственной ему
территории бастион реакции.
С этой целью они подыскали себе фаворита:
недавно основанную немецкую христианско-демократи-
ческую партию, которая с демократией имеет не
больше общего, чем сами петэновцы. Не случайно в
руководстве этой организацией оказались бывшие
нацисты, как не случайно и то, что во французской зоне
ее называют новым, карманным изданием нацистской
партии. Несмотря на это или, вернее, именно поэтому,
отношения между оккупационными властями и этой
партией можно со спокойной совестью назвать
идиллическими.
Воскресает проклятой памяти Виши. Страшная,
хотя и случайная аналогия: Виши — курорт и Баден-
Баден — курорт. И там и здесь среди фонтанов
целебной воды устроили свои лаборатории
размножители бактерий фашистской чумы.
Ситуация, конечно, парадоксальная. На немецкой
земле, которая должна была стать могилой фашизма,
до сегодняшнего дня находят пристанище
фашистские выкормыши почти со всей Европы. Спустя год
после разгрома их гитлеровской Мекки они здесь чув-
110
ствуют себя в полной безопасности. Старые
обоюдные симпатии? Конечно. Но не только это. Используя
положение, создавшееся в западных зонах
оккупации, люди «пятой колонны» имеют здесь возможность
не только замести следы своей прошлой
деятельности, но и создать для себя нечто вроде политической
базы, откуда, как они надеются, можно будет в
удобный момент двинуться снова на завоевание и
покорение мира.
Иначе оценивать то, что творится во французской
(и не только во французской!) зоне оккупации, при
наличии здравого смысла, никак невозможно.
В результате разгрома гитлеровской Германии
фашизм потерял чрезвычайно много возможностей. Все
же одну возможность он сохранил — возможность
регенерации, возобновления. А эту возможность он
будет иметь до тех пор, пока существует
франкистская Испания, пока эта Испания будет получать
помощь, пока в Мюнхене и в Гамбурге убийцы из банд
Гиммлера будут жить на правах почетных
воспитанников, а на улицах Баден-Бадена будут спесиво
ходить типы с петэновскими орденами предательства.
Это предательство — непрерывное, вездесущее —
сегодня загородилось от гнева многострадальных
народов тысячами разноцветных шлагбаумов.
Сломать шлагбаумы!
ОСТРОВ ЧУДЕС
В одиннадцать часов утра трудно пройти через
площадь перед мюнхенской ратушей. Неподвижная
толпа заполняет тротуары и в торжественном
молчании ждет момента, когда на башне ратуши заиграют
знаменитые куранты, когда на
восьмидесятипятиметровой высоте начнется турнир рыцарей и бронзовые
кавалеры закружатся в баварском танце. Ровно
десять минут продолжается этот спектакль под музыку
колоколов и колокольчиков, и все это время
многоголовая человеческая масса ни на секунду не
спускает глаз с башни, проклиная в душе голодных
голубей, которые как раз поднимаются над площадью,
закрывая серебристой тучей чудеса мюнхенской
ратуши.
Наконец спектакль окончен. Зачарованная сказкой
хитроумного мастера, толпа расплывается по
переулкам. Мюнхен возвращается к серой оккупационной
жизни, и действительность снова начинает
напоминать людям о своих жестоких законах.
Но в очень невеселом, наполовину разрушенном
Мюнхене есть место, где эти законы ни к чему не
обязывают: настоящий остров чудес, остров и в
переносном и в прямом смысле этого слова. Его со всех
сторон омывают зеленые и прозрачные, как кристалл,
воды горной реки Изар. На острове только одно
сооружение: огромный железобетонный дом «Немецко-
112
го музея». Скажем: бывшего музея, ибо то, что
происходит сегодня в его стенах и под его стенами,
никак не приличествует храму культуры...
Убедиться в этом не трудно. Пройдитесь по
набережной, отделяющей дом от стремительных вод Иза-
ра. Она заполнена молодыми людьми в возрасте от
восемнадцати до двадцати пяти лет. Увидев их, вы
инстинктивно снимаете с руки часы и прячете их в
самый глубокий карман.
Оказывается, инстинкт не обманул вас. Едва вы
успели дойти до середины набережной, как вас
окружает суетливая, кричащая толпа.
«Папиросы!», «Зажигалки!», «Духи!», «Бритвы!»,
«Сало!», «Консервы!», «Чулки!», «Сахар!», «Может,
шоколада хотите?», «Может, часики? Настоящие
швейцарские на семнадцати камнях»... Все это звенит
в ваших ушах на всех языках европейского востока
и юга.
С трудом откупившись коробком спичек, вы
добираетесь до ворот музея. Здесь вас встречают пять
больших букв: «ЮНРРА» и аккуратненький швейцар
с лицом типичного немецкого бюргера.
Вы спрашиваете у него, кто эти люди. Швейцар
поднимает на вас серые мутные глаза. В них
удивление и недоверие.
— Вот эти? — переспрашивает он на чистом
русском языке. И с явной гордостью добавляет, измеряя
вас пытливым взглядом: — Студенты нашего
университета.
Американский пропуск успокаивает его.
На противоположном конце огромного, невероятно
захламленного двора — каменные ступеньки,
облепленные молчаливыми девушками. Это уже территория
юнрровского университета. На почерневшей от грязи
стене вестибюля транспаранты на английском,
польском и немецком языках (надписей по-украински нет,
ибо украинские воспитанники ЮНРРА называют себя
здесь поляками). В этих стенах, несмотря на
запрещение, Меркурий (бог купцов и мазуриков) так же,
как и на набережной, властвует безраздельно.
Поблескивает в полутьме никель часов, шуршит бумага
8. Я. Галан
ИЗ
таинственных пакетов. Какой-то худощавый блондин
в нестиранной испокон веков рубахе спрашивает меня,
не видел ли я брюнета с переломанным носом. Этот
брюнет полчаса назад выхватил у него деньги за
проданный костюм, не оставив по себе никаких
следов. Советую искать следы в лекционных залах
университета, но блондин безнадежно машет рукой:
«Ищи, мол, ветра в поле»...
Большая стрелка черного цвета указывает: «К
общежитию студентов». Открываю дверь. Длинный ряд
двухъярусных ящиков из нетесанных досок, ящиков,
напоминающих незаконченные гробы. Из них торчит
солома, а местами — растрепанные человеческие
волосы. Хотя на улицах жара, здесь окна плотно
прикрыты, и лучи весеннего солнца едва-едва
пробиваются сквозь грязную полутьму. Воздух — хоть топор
вешай. От вони голова мгновенно наливается
свинцом. То же самое и во второй комнате, и в третьей,
и в четвертой.
Этот коридор тянется бесконечно. Но вот что-то
достойное внимания. На двери надпись: «Во время
занятий вход студентам воспрещен». Вы входите в
комнату. Она плотно забита молодыми людьми
обоего пола. За длиннющим столом темноволосая дама
в зеленой юнрровской куртке, не поднимая
презрительно прищуренных глаз, с размаху бросает на стол
коробки консервов, плитки шоколада, пачки сигарет.
Другая, со строгим лицом Юноны, подсовывает
клиенту бумагу для подписи. Третья, с грозной миной
арканзасского ковбоя, внимательно следит за
движением рук студентов и студенток.
Очутившись в коридоре, снова ощущаю бога
Меркурия: субъект в роговых очках предлагает такому
же субъекту без очков купить кусок только что
полученного сала.
— Сто двадцать марок и ни пфеннига меньше! —
по-украински горячится субъект в очках.
—■ Дам сто марок и ни пфеннига больше! Кто мне
гарантирует, что я на этом... заработаю хоть пять
марок, — не сдается тот по-польски.
Вхожу в приемную ректора.
114
— Господина ректора уже нет, приходите после
пасхи,— отвечает секретарша по-немецки с литовским
акцентом.
Возле ректорской канцелярии развешаны
объявления учебной части. Список преподавателей
естественно-математического факультета. Ищу знакомые
фамилии: Беляев, Гора, Залуцкий, Новиковаць, Храпли-
вый... Припоминаю: Храпливый — правая рука
Львовского губернатора Вехтера. Старался господин
Храпливый! Сам генерал-губернатор Франк не мог найти
для него достойной похвалы. Храпливый просьбами и
угрозами вытягивал из крестьян хлеб для «третьей
империи». Он в поте лица организовывал эсэсовцев из
янычаров униатского вероисповедания. Он
собственноручно пломбировал вагоны с украинской рабочей
силой для гитлеровской Германии... Герр Храпливый —
нацист из нацистов, эсэсовец из эсэсовцев, гестаповец
из гестаповцев, — неоценимый герр Храпливый воскрес
на кафедре контролируемого и финансируемого
американцами «университета» ЮНРРА.
Переполненный впечатлениями, оставляю мрачные
стены дома на острове чудес. В углу вестибюля что-
то недвусмысленно шлепнуло.
— Новенький парабеллум, к нему сто патронов.
Даешь шестьсот марок союзными...
На сей раз продавцом оказался субъект в черном
берете андерсовца.
Выхожу на улицу и попадаю в редакцию
баварского официоза «Зюддейтчецейтунг». Седой редактор
беспомощно разводит руками:
— Много хлопот с денацификацией. Они
перекрашиваются, как только могут, в христианско-социали-
стические партии, где явных и замаскированных
нацистов хоть метлой выметай. А тут еще эти «ди-пи»
(«дисплейсед персоне», то есть «перемещенные лица»).
Редактор показывает полицейскую хронику за
последние два дня. Только по Мюнхену две кражи и
три вооруженных нападения. В каждом случае
участники выявлены. Это «ди-пи».
— Но ведь известно, что за незаконное хранение
оружия оккупационные власти карают смертью?
8*
115
Редактор явно удивлен.
—- Кого? «Ди-пи»?
Редактор начинает волноваться. На его щеках
появляются красные пятна.
— Хуже всего то, что и без этих «ди-пи» наша
Бавария напоминает сейчас Кобленц во времена
французской революции. Сюда в последний год войны
съехались со всего райха напуганные
бомбардировками и наступлением союзных войск целые толпы
немецких плутократов, то есть самой черной реакции
из всех реакций мира. Здесь нашли свое последнее
пристанище и остатки гитлеровских войск,
отборные эсэсовские дивизии. Они сейчас называют себя
«пиратами Эдельвейса» и, как волки, шныряют по
баварским Альпам.
— А не думали вы о том, что пираты Эдельвейса
могут, чего доброго, зацвести и на скалах
мюнхенского острова чудес?
— Об этом мог бы, видимо, сказать кое-что
президент полиции. Я пока знаю лишь, что через этот
остров проходит около шестидесяти процентов
товаров строго запрещенного черного рынка.
Президент полиции тоже не хочет разговаривать
на эту тему.
— Третьего дня в Пасинге под Мюнхеном «ди-пи»
в одну ночь растащили целый вагон (десять тонн!)
юнрровского шоколада. Обыск не дал никаких
результатов.
Узнаю еще об одной истории. Несколько дней
назад отряд смешанной американо-немецкой полиции
произвел обыск в одном из лагерей «ди-пи». На
полицейских посыпались пули. В результате
перестрелки один «ди-пи» был ранен. Его привезли в лазарет,
где положили под охраной часового. Ночью персонал
лазарета услышал в коридоре выстрел. На полу
лежал солдат с простреленной головой, а раненого
бандита и след простыл. Остров чудес давал себя знать...
Некоторым заправилам из ЮНРРА наруку
существование этих фашистских воровских притонов, хотя
бы потому, что оно дает неограниченные возможности
набивать свои карманы.
116
Есть люди, на которых сегодня указывают
пальцем, как на тех, кто в мутной воде комбинаций с
«ди-пи» хочет ловить жирную рыбку. Речь идет о
«Си-ай-си» —■ отделе американской стратегической
службы. О характере этой уважаемой организации
говорит само ее название. Подумали ли офицеры этой
хитроумной и пока еще всесильной здесь организации
о том, что смастеренная ими палка имеет два конца,—
нас в данном случае не интересует. Мы хотим
только лишний раз подчеркнуть, что чудес на нашей
планете не бывает. Если джентльмены из «Си-ай-си»
своими — вежливо говоря — неджентльменскими
методами все же надеются творить «чудеса», то они
ошибаются.
Жестоко ошибаются!
ПРОТЕКТОРЫ ИЗМЕНЫ
Автомобиль испортился, и мы вынуждены были
остановиться в придорожной франконской деревеньке,
расположенной между Айсбергом и Штейном. На
наше счастье, все необходимое для ремонта нашлось в
местной кузнице.
В одно мгновенье вокруг нас выросла толпа.
Центром их внимания был мой спутник — лейтенант
невиданной здесь доселе Красной Армии. Из толпы вышел
худой смуглолицый юноша:
— Разрешите, товарищи, я вам помогу.
Юноша назвался Василием Б. из Куликова,
Львовской области. В 1943 году насильно вывезенный в
Германию, он до конца войны работал у бауэра.
Потом попал в юнрровский лагерь переселенцев,
расположенный недалеко от деревни, и вот уже второй год
ждет репатриации. Слово «репатриация» он
произносит шепотом, озираясь.
Обещаю ему завтра узнать адрес советской репат-
риационной комиссии. На этом наш разговор
обрывается, потому что между мной и Василием
появляется фигура с белесыми кудрями и глазами молодого
филина. Это тоже воспитанник ЮНРРА и тоже
«переселенец» — немец из Запорожской области,
удравший вместе с гитлеровскими войсками в фатерланд.
На голову Василия обрушивается отборная ругань,
рука другого парня втаскивает его за шиворот в толпу.
Василий мгновенно исчезает из поля нашего зрения.
118
На другой день утром точно в условленный час он
подъехал на велосипеде к нашему общежитию. Над
его распухшей бровью багровело большое пятно.
Избегая разговора о том, что произошло с ним
накануне, он посидел в моей комнате минут пять,
старательно записал адрес комиссии, взял несколько советских
газет и поспешил в Нюрнберг.
Через два часа он вернулся: в комиссии был не-,
приемный день. Василий попросил разрешения
оставить у меня велосипед, потому что «они догадаются,
куда я езжу, и сломают мне машину». Он ушел.
Напрасно я прождал его все следующее утро, напрасно
ждал неделю, вторую, четвертую. Наступил день
нашего отъезда. Велосипед несчастного Василия из
Куликова пришлось сдать на хранение в магистрат, как
имущество человека, пропавшего без вести...
Это не единичный случай. Таких «инцидентов»
множество в этой уродливой клоаке, которая
возникла в западных зонах под протекторатом
англо-саксонских поборников «демократии, справедливости и
порядка». Она возникла на другой же день после
разгрома гитлеровской Германии, когда первые
английские и американские корреспонденты дрожащими от
ужаса руками фотографировали горы трупов в Бель-
зенском концлагере. Кое-кто из них, может, и не
знал, что преступление родило преступление и что на
той самой немецкой земле, на которой тогда еще
дымилась кровь неисчислимых жертв фашистского
террора, по воле их правительств будет создано новое
гнездо воинствующего фашизма.
Начало этой грязной аферы известно. Вступив на
территорию Германии, войска союзников застали там
не только многомиллионную армию белых рабов
«третьей империи», но и многочисленную банду
Квислингов и квислинжат, велеречивую челядь Гиммлера,
страшное сборище каинов и иуд, накипь и грязь всех
стран и отребье всех народов. И тогда произошло то,
что не могло присниться даже самым закоренелым
циникам. Вместо того, чтобы гиммлеровских
последышей предать справедливому суду народов, союзные
оккупационные власти начали опекать их так любов-
119
но, как не опекал эту шваль сам Гиммлер. Так, на
протяжении одного дня измена своему народу была
возведена на пьедестал и поставлена рядом с честью.
Но это лишь начало преступления, имя которому:
перемещенческая политика англо-американцев.
Казалось бы, оккупационные власти должны были
сделать все возможное, чтобы помочь жертвам
гитлеровской каторги немедленно вернуться на родину.
Но авторы этой поистине неслыханной провокации
начали делать все, чтобы преградить им дорогу к
дому. И тут провокаторам пригодилась гиммлеровская
мразь. Мельники, бандеры, кубиевичи, липецкие, кли-
мовичусы и климатисы, андерсы и грабики, рогожины
и жиздровичи — все эти подонки переходят теперь на
содержание новых хозяев. Они получают задания по
специальности: разлагать, науськивать,
терроризировать. Все средства хороши, если они ведут к цели —
к созданию в сердце Европы резервной армии
фашизма: грязной, пестрой, запятнанной всеми смертными
грехами, но послушной и готовой на все за кусок
гнилой колбасы.
В июле 1944 года, когда союзные войска
продвигались в глубь Франции, Гитлер созвал в Берхтесга-
дене совещание своих ближайших сотрудников. Он
заявил им примерно следующее: «В связи с угрозой
вторжения союзных войск на территорию Германии,
я счел необходимым разработать план уничтожения
иностранных рабочих. Это необходимо по двум
причинам: если Германия станет полем сражений, мы
можем оказаться свидетелями бунта рабов. Кроме
того, нежелательно, чтобы двенадцать миллионов
молодых здоровых людей вернулись во враждебные нам
страны, которые нужно биологически ослабить.
Уничтожение надо производить под видом
транспортировки рабочих из одного лагеря в другой. Я
предлагаю при первом сигнале тревоги приступить к убийству
двух с половиной миллионов иностранных рабочих, в
первую очередь тех, которые были вывезены с
территории Советского Союза».
События развернулись такими темпами, что
Гитлер не успел привести в исполнение свой замысел.
120
Зато теперь его осуществляют другие, осуществляют
методами, заимствованными и у Гитлера, и у
Фридриха II, и у французских вербовщиков человеческих
душ в иностранный легион. Квислинговского отребья
мало, надо пополнять его свежим человеческим
материалом. И они это делают, — ложью, шантажом и
террором загоняя людей в ряды лишенных родины и
национальной чести ландскнехтов-янычаров. На
наших глазах в центре европейского континента
происходит охота на людские души, охота с травлей,
возмутительное зрелище, не имеющее прецедента в
истории человечества.
В английской и американской зонах оккупации
возникают гигантские комбинаты преступности. При
помощи оккупационных властей разношерстное
гестаповское отребье занимается восстановлением
фашизма во всех его видах, со всеми его атрибутами.
Бывшие эсэсовцы и душегубы из особой службы гестапо
утихомиривают наших Василиев дубинкой, кастетом
и пулей. Бывшие канцеляристы Геббельса отравляют
их сознание фашистскими бреднями, издаваемыми на
деньги американской разведки; выученики и
прислужники Канариса и Лахузена организуют фабрики
фальшивых документов. В лагере польских переселенцев,
в Людвигсбурге несет службу «синяя полиция» Ганса
Франка, в украинских лагерях свирепствуют янычары
из дивизии «СС-Галиция» и головорезы из шайки Бан-
деры. В специальных «канцеляриях» фальшивых дел
мастера занимаются массовой подделкой
удостоверений и паспортов, которые имеют целью доказать, что
такие-то советские граждане никак не являются
советскими гражданами.
Чтобы убедиться в работоспособности этих
мастеров фальшивок, достаточно зайти в первый
попавшийся адресный стол в Мюнхене, Фюссене или Аусбурге.
Возле каждой подозрительной фамилии вы
обязательно увидите слова «польский гражданин». «Получил»
таким образом польское гражданство и бывший
редактор гитлеровской рептилии в Киеве Виктор Петров,
который Польши, конечно, и во сне не видел...
121
Все это делается на местах совершенно открыто.
Не грешат, к сожалению, откровенностью лишь
инициаторы этой скандальной международной аферы.
На обвинения и протесты они охотно отвечают
цитатами из евангелия. Они старательно строят словесные
лазейки, которые позволили бы им выйти
незапятнанными из грязной перемещенческой мути. Они нашли
даже реабилитационную форму для квислингов и
квислинжат: нельзя, дескать, карать тех, кто помогал
гитлеровским вооруженным силам из... гуманных
соображений! Они хотят, видимо, убедить нас в том, что
Кубиевич именно из этих, а не из каких-либо других
соображений помогал Заукелю вывозить из Галиции
рабочую силу в Германию, а Гансу Франку —
отбирать у украинского крестьянина хлеб, что он из
чистой любви к ближнему гнал украинскую молодежь
в эсэсовскую дивизию. Они хотят уверить нас в том,
что старый немецкий шпион и атаман
немецко-украинских террористов Андрей Мельник из любви к
человечеству отправлял украинскую молодежь в школы
гестапо (только за один год он направил Мюллеру
двести тысяч человек) и призывал своих молодчиков
из украинско-немецкой полиции резать еврейское
население. Короче говоря, они берут под защиту и
оправдывают самые подлые, самые ужасные
преступления фашистов.
Речь А. Я. Вышинского на заседании 3-го
комитета Генеральной Ассамблеи открыла глаза всем
людям доброй воли на то, что происходит за рекой
Эльбой под покровительством англо-американских
оккупационных властей. Это был голос глубокого
возмущения, голос великого народа, который не для того
понес в этой войне огромные жертвы, чтобы сегодня
поджигатели новой войны безнаказанно издевались
над его сынами, отдавая их на поругание
продажному фашистскому сброду. Пусть знают сыны и внуки
торговцев черными рабами, что советский народ ни
за что не позволит, чтобы его дети, прошедшие
сквозь ад издевательств на гитлеровской каторге,
стали теперь объектом возмутительных махинаций анг-
ло американских реакционеров.
ЧУДЕСА В ГЕРСБРУКСКОМ РЕШЕТЕ
Есть в Баварии местечко Герсбрук, которое еще
недавно называли «маленьким Дахау». Маленьким
потому, что в герсбрукском крематории была всего одна
печь, за день она пропускала не больше сотни трупов.
Это была даже не фабрика смерти, а нечто вроде
кустарной мастерской, как оправдываются сейчас
жители Герсбрука.
Однако от них же вы можете услышать, что и в
Герсбруке развитие этой отрасли гитлеровской
промышленности было бы обеспечено, если бы не
«преждевременная» — по мнению Геринга — смерть
Гиммлера.
Прошел почти год с того дня, когда над герсбрук-
ским крематорием в последний раз поднялся черный
дым, распространявший запах горелого человеческого
мяса. Но концлагерь остался концлагерем. И вполне
справедливо! Пусть изобретатели, строители,
администраторы и охранники Освенцима хоть отдаленно
почувствуют на собственной шкуре, что такое Освенцим!
Кого там только нет сегодня! Университетские
специалисты по расовой теории, кавалеры ордена «крови
и земли», редакторы таких газет, как «Фелькишер
беобахтер» и «Штюрмер», заслуженные ветераны
гестапо, крайсфюреры и блокфюреры, поседевшие в
убийствах погромщики, поджигатели Харькова и
Варшавы, шкуродеры Львова, печники Майданека, мы-
123
ловары Данцига. Самый цвет «народа господ»!
Наконец-то и в американской зоне оккупации
восторжествовала справедливость... Отныне Европа может
спать спокойно: нацисты, покидающие Герсбрукский
лагерь, уже больше не нацисты. Речь идет о самых
новейших достижениях педагогики, значение которых,
как говорят, можно приравнять лишь к результатам
изобретения атомной бомбы. В течение нескольких
недель волки становятся овечками, а самые
закоренелые грешники — праведниками.
Вот методы, которые должны дать такие
поразительные результаты.
Прежде всего, никакого унижения человеческого
достоинства. На заключенных герсбрукского
воспитательного учреждения для хронических нацистов не
надевают полосатых курток. Исключение составляют
только те, которые хотят сберечь собственную
одежду. Работать не только не принуждают, но даже
запрещают: грешник должен иметь как можно больше
свободного времени для покаяния. Поэтому не
удивляйтесь, если за проволокой герсбрукского концлагеря
вы увидите табуны дородных молодчиков, которые
весь день только и делают, что прогуливаются,
заложив руки в карманы, и курят длинные баварские
трубки. Не удивляйтесь и не возмущайтесь, ибо это как
раз и означает, что на наших глазах грешники
становятся праведниками, а самые заклятые гитлеровцы —
чистокровными демократами.
Для повышения демократической квалификации в
лагере создана специальная школа, где опытные
педагоги преподают принципы демократии, а офицеры
Армии спасения читают и толкуют библию. Если во
время урока ученик поднесет платок к глазам, — это
признак того, что семя истины уже проросло в его
сердце, и излеченного нациста досрочно отпускают
домой...
Считая, что только в здоровом теле расцветает
здоровый дух, начальники лагеря позаботились о
максимальном удовлетворении земных потребностей своих
воспитанников. Температура в бараках не смеет
падать ниже 18° по Цельсию. Мало того, учитывая, что
124
люди подвержены простуде, администрация выдала
каждому заключенному по два теплых одеяла.
Врачи уже давно пришли к выводу, что горячая
ванна способствует здоровому сну. Организаторы
лагеря учли и этот опыт: в каждом бараке оборудовано
помещение, из которого ежевечерне слышится
бодрящий плеск воды и блаженные выкрики, что
свидетельствует о том удовольствии, которое приносит
горячая купель перед солидным ужином.
Ознакомившись со всеми подробностями жизни
Герсбрука, вы не будете, конечно, удивлены, услышав
заявление коменданта лагеря: «Со стороны моих
заключенных не было ни одной серьезной жалобы». На
вопрос: «Были ли несерьезные жалобы?» — вам
ответят: «Некоторые заключенные жалуются на то, что в
лагере нет бара. Эти люди не хотят понять, что все,
что мы делаем, мы делаем для их же блага. Ведь
под влиянием алкоголя у них может произойти
рецидив нацистской болезни».
Осмотрев все, что вас интересует, вы покидаете
лагерь, и у выхода наблюдаете трогательную сцену
очередная партия выздоровевших возвращается
домой. Пожилая дама в мундире Армии спасения на
прощанье вручает каждому экземпляр библии. В ее
глазах блестят слезы умиления. Заметив это,
выздоровевшие тоже подносят платки к глазам. Поистине,
надо иметь каменное сердце, чтобы не заплакать
перед лицом такой добродетели!
...Проведала о Герсбрукском лагере наша
уборщица фрау Кунегунда, и женщину словно подменили.
Бывало раньше с утра до вечера убивается: «Мой
муж весил перед войной целый центнер, а теперь и
восьмидесяти килограммов не тянет. Как увядший
цветок. И за что, скажите пожалуйста? Ведь он
никогда не был нацистом». А сейчас фрау Кунегунда
перестала вспоминать о своем несчастном муже. Ее
лицо приняло то несколько болезненное выражение,
которое бывает у болтливых женщин, вынужденных
хранить тайну.
Наконец фрау Кунегунда не выдержала и как-то
вечером сказала мне на ухо:
125
— Мой муж уже в Герсбруке!
— Что-о? Ведь вы говорили, что он никогда не
был нацистом!
Фрау Кунегунда боязливо оглянулась.
— Конечно, не был. Я просто хотела его спасти,
а добрые люди помогли. За две пачки сигарет
засвидетельствовали, что мой Карл-Петер был членом
нацистской партии с тысяча девятьсот двадцать
третьего года и служил в гестапо... — глаза фрау Кунегунды
засветились радостью: — И уже за первую неделю
он прибавил два килограмма!
Я был поражен рассудительностью фрау Кунегунды
не меньше, чем «порядками» в американском лагере
для нацистов.
ПАМФЛЕТЫ
ПЛЮЮ НА ПАПУ!
13 июля 1949 года в моей жизни произошло
знаменательное событие: папа Пий XII отлучил меня от
церкви. Отлучил, как отлучают теленка от коровы.
Без предупреждения.
Откровенно говоря, конфликт между нами начался
довольно давно, примерно лет сорок назад, когда
нынешний Пий XII был еще молодым попиком Пачелли,
а на святом престоле сидел Пий X. Каждое
воскресенье учитель водил нас парами в церковь
монашеского ордена василиан, призывал любить императора
Франца-Иосифа I и ненавидеть «москалей», которых,
говорил он, надо уничтожать под корень.
Однако вместо того, чтобы бить «москалей», пан
отец с легкостью бил нас, школяров.
Однажды пан отец спросил меня:
— Почему святого отца мы зовем Пием?
Я простодушно ответил:
— Потому что святой отец любит выпить.
Не успел я опомниться, как мой живот очутился
на поповском колене, а священная розга высекла на
моем теле десять заповедей.
Господь не наделил меня смирением, и, очевидно,
потому, вернувшись домой, я еще с порога крикнул
матери:
— Плюю на папу!
Никто, кроме матери, этого не слыхал, но, видимо,
9 Я. Галан
129
вездесущий бог донес своему римскому наместнику,
ибо с тех пор греко-католическая церковь начала
против меня холодную войну.
И не только против меня. Вскоре я убедился, что
таких грешников немало. К ним, в первую очередь,
принадлежали гимназисты, принимавшие участие в
чествовании памяти Ивана Франко. Для них учитель
закона божьего придумал особое наказание: в самую
жестокую жару сажал их на солнцепек. На протесты
отвечал:
— Ага! На концерте в честь Франко вы
декламировали: «Мы стремимся к солнцу!» Вот вам и солнце.
Погрейтесь!..
По-настоящему мой конфликт со святым
престолом обострился, когда я, в минуту хорошего
настроения, в одном журнале назвал митрополита
Шептицкого мутителем святой водички. Этот удар был для
князя греко-католической церкви громом с ясного
неба. Как раз в это время граф Шептицкий был
увлечен папоугодным делом подготовки антисоветского
крестового похода. Моя нетактичность вызвала
понятное возмущение: поповны отвернулись от меня, а их
отцы разорвали мою прямую связь с небесами,
запретив пускать меня в церковь. После этого Шептицкий
впал в черную меланхолию, и только приход Гитлера
к власти поставил его снова на ноги.
Несколько лет назад умер монсиньор Ратти, то
бишь Пий XI, и его место занял новый мой
противник — Пий XII. Все знаки на небе и на земле
показывали, что в лице этого Пия я буду иметь еще более
заклятого врага, чем два предыдущих, с Бенедиктом
XV включительно, ибо он был одним из крестных
отцов «третьего райха», он толкал Гитлера на войну
против СССР, по его требованию Пилсудский шел
огнем и мечом против моих неуниатских земляков
Холмщины и Волыни.
Друзья говорили мне, что дни мои сочтены и что
я должен ждать контрудара. Как всегда в таких
случаях, друзья несколько преувеличивали. Мокрая
работа в то время в Ватикане была только запланирована.
У Шептицкого не было еще тогда почетной стражи
130
в лице гитлеровских солдат, а его прелаты еще не
франтили в эсэсовских мундирах. Пока с их стороны
я мог ожидать только сухой работы. Им нужен был
повод. И они нашли его.
Как-то в рождественский вечер я зашел к
Александру Гаврилюку. Над нами и под нами, справа и
слева люди колядовали. Воспоминания детства
нахлынули на нас, и, растроганные, мы решили опрокинуть
чарочку. Традиционной рыбки не было, но ее с
успехом заменило сало. Выпили по одной. И тогда
Гаврилюку пришло на ум пригласить к столу
домовладельца, жившего рядом. Тот приглашение принял, но,
увидев на столе сало, по-тараканьи зашевелил усами и
попятился к двери. Только тогда Гаврилюк понял, что
богобоязненный усач был членом ультрамонтанского
«братства сладчайшего Иисусова сердца».
Через несколько дней весть о совершенном
преступлении дошла до консистории, а вскоре и до
конгрегации священной канцелярии в Риме. По этому
поводу львовская дефензива начала следствие.
Возмущение шпиков нашим святотатством не имело границ.
Гаврилюка в то время не было в городе, и повестку
вручили только мне. Седовласый агент сидел передо
мной и укоризненно покачивал головой.
— Ваше тело, — говорил он, — сгниет в тюрьме,
но что есть тленная плоть в сравнении с бессмертной
душой, которую вы так безжалостно губите?
Седоголовый шпик жалобно высморкался и
безнадежно махнул рукой.
— Идите, грешник, догнивайте в тюрьме, а я буду
за вас молиться.
Шпик молился, а я сидел в тюрьме...
Прошли годы. Украинский народ воссоединился в
едином государстве — Украинской Советской
Социалистической Республике. Наплевали на папу все
западные украинцы и разорвали унию и готовятся
сейчас к настоящему народному празднику десятилетия
воссоединения.
Святой престол сменил Гитлера на Трумэна,
однако от этого мои взаимоотношения с ним ничуть не
улучшились. Наоборот. По данным, имеющимся в
9*
J31
моем распоряжении, Пий XII узнал, что в глубоком
шкафу редактора издательства «Радянський письмен-
ник» лежит рукопись моей антипапской книжки «Отец
тьмы и присные». Правда, на сей раз Пию
посчастливилось, — рукопись лежит уже больше полугода и
скоро покроется плесенью, но факт остается фактом:
моя святотатственная рука еще раз поднялась на
«пастыря пастырей»... Чаша горечи переполнилась, и
«пастырю пастырей» не осталось ничего другого, как
отлучить меня от своей церкви.
Единственное мое утешение в том, что я не одинок:
вместе со мной папа отлучил по меньшей мере триста
миллионов человек, и вместе с ними я еще раз в
полный голос заявляю:
— Плюю на папу!
1949
ОТЕЦ ТЬМЫ И ПРИСНЫЕ
«Где мои деньги? Отдайте мне мои деньги!» —
таково было приблизительно содержание письма,
присланного рыцарем римской биржи неким Россини его
святейшеству Пию XII. Это, чреватое последствиями,
событие произошло 29 января 1948 года. Однако
прошел февраль, а папа, видно, и не думал отвечать на
письмо синьора Россини, очутившегося на грани
разорения. Святой престол упорно молчал...
Доведенный до отчаяния коммерсант забыл все
правила приличия. Рискуя утратить вечное
блаженство в потустороннем мире, он предал дело огласке.
Одновременно с заявлением на имя прокурора
Россини вручил редактору газеты «Воче републикана»
текст письма, адресованного папе, и факсимиле
невыполненных платежных обязательств Ватикана,
выданных по всей форме на бланках папского
министерства финансов, так называемой «Администрации
имущества святейшего престола».
На другой день фотокопии этих документов
появились на страницах газеты, мир стал свидетелем
неслыханного скандала. Все ждали: что скажет
Ватикан?
И Ватикан сказал. Пятого марта в ватиканском
органе «Оссерваторе романо» появилось короткое
сообщение об аресте папской гвардией епископа Эду-
ардо Чиппико Преттнера, чиновника государственного
133
секретариата святейшего престола, изобличенного
якобы лишь в подлоге, мошенничестве и краже
драгоценностей на сумму в сто миллионов лир. Здесь
же упоминалось, что вороватый прелат бежал «в
неизвестном направлении».
Такой финал этой истории целиком устраивал папу
и его ближайшее доверенное лицо, премьер-министра
Италии де Гаспери, но вовсе не устраивал Россини,
который упорно требовал возвращения украденных
у него «Администрацией имущества святейшего
престола» трехсот семидесяти миллионов лир. С помощью
репортеров ему удалось установить местопребывание
прелата Чиппико. Растерянному прокурору оставалось
теперь только одно: воспользоваться своими
полномочиями.
И вот поздней ночью епископа Эдуардо Чиппико
Преттнера потревожили в роскошном особняке,
принадлежащем любовницам пылкого прелата — синьоре
Иде Танжени-Макрелли и ее хорошенькой дочке
Лукреции. В связи с обнаружением документов, из
которых явствовало, что обе причудницы принимали
участие не только в сердечных, но и в коммерческих
делах его преосвященства, полиция вынуждена была
арестовать и их.
Тогда же в карманах Чиппико полицейские нашли
новенький ватиканский паспорт для выезда за границу
и чек на большую сумму; оба документа,
подписанные лично папским министром иностранных дел,
государственным секретарем святейшего престола,
кардиналом Монтини, были датированы днем «бегства»
Чиппико с территории Ватикана. Некоторые данные
свидетельствовали о том, что почтенный прелат
намеревался выехать утром в Швейцарию, где его ждал
сообщник — синьор Джованни Танжени, муж
легкомысленной Иды, бывший сановник фашистской
милиции, живший в Швейцарии еще с 1945 года.
Обстановка усложнилась. Протеже Пия XII
скверно чувствовал себя в роли козла отпущения и не
обнаруживал теперь никакого желания выручать
начальство, которое так поторопилось отречься от него.
К тому же, разъяренный Россини не успокаивался.
134
Потрясая документами, он публично называл имя
непосредственного виновника своих невзгод, имя
секретаря специального комитета кардиналов, ведаюшего
казной и финансами Ватикана, имя монсиньора Джу-
лио Гуидетти!
Замешательству в папском дворце способствовало
еще и то, что под платежным обязательством
красовались подлинные подписи Гуидетти. Конечно,
скандал можно было замять. Ценою возвращения
четырехсот тысяч долларов и девяноста миллионов лир
можно было заставить Россини пойти на любые
уступки, на какие угодно опровержения. Но
традиционная жадность наместника Христова и его
присных и на этот раз подавила светское чувство
приличия: папа отказался платить. Можно было
разжаловать Гуидетти в рядовые мошенники, но такая мера
не поддержала бы престижа апостольской столицы;
к тому же утрата Гуидетти, в совершенстве
владевшего всеми секретами чрезвычайно сложной
финансовой машины Ватикана, усилила бы путаницу в
папских делах, и без того запутанных, не говоря уже
о том, что выдача Гуидетти светским властям
неминуемо повлекла бы за собою разоблачение других
высокопоставленных членов комитета
«Администрации имущества святейшего престола»: кардиналов
Мармаджи, Лавитриано, Канали, Росси, Пиццардо,
финансового советника Ватикана банкира Ногаро,
прелата де Иорио и... племянника папы — князя Па-
челли.
В конце концов после длительных совещаний папы
с итальянским премьером и другими лицами из
руководящих кругов христианско-демократической
партии выход был найден. Появилось коммюнике, в
котором говорилось, что «Администрация имущества
святейшего престола» абсолютно ничего не знала об
этом деле, что «монсиньор Гуидетти взят в Ватикане
под стражу за оказание доверия прелату Чиппико» и
что для расследования всего дела его святейшество
назначил комиссию с князем Пачелли во главе.
Одновременно итальянские полицейские власти сообщили
о невозможности допросить монсиньора Гуидетти, так
135
как он, пребывая на территории Ватикана, пользуется
правом экстерриториальности.
Этим юридическая сторона вопроса была
полностью исчерпана; осталась, однако, неисчерпанной
сторона фактическая, а факты говорят следующее.
Дело Гуидетти — Чиппико лишний раз показало,
что на сорока четырех гектарах территории Ватикана
помещается крупнейший в Европе черный валютный
рынок. Здесь совершаются операции на суммы в
миллиарды лир, отсюда, во вред итальянской экономике,
контрабандой вывозятся капиталы за границу.
Техника этих махинаций крайне несложна: спекулянт N,
желающий припрятать свои прибыли, обращается к
кардиналу NN, а тот за соответствующую мзду
переводит капиталы в Швейцарию через специально
созданный с этой целью в Лугано филиал «Банко ди
Рома». Богоугодные властители Ватикана в
подобных случаях охотно оказывали помощь самым
грешным из своих ближних. Когда итальянское
правительство наложило арест на капиталы некоего Васелли,
нажившего колоссальное богатство на заказах
Муссолини, обиженный подрядчик обратился за помощью
к святейшему престолу. Услышав его мольбы,
подкрепленные соответствующей данью, благодетельные
отцы из «Администрации имущества святейшего
престола» помогли капиталам Васелли уплыть за
границу, после чего христианско-демократическому
министру Пэлла не оставалось ничего другого, как снять
арест с отсутствующих уже капиталов.
Официальным банком Ватикана является так
называемый «Институт религиозного дела». По
разнообразию своей деятельности «Институт» может
соревноваться с каким угодно банком мира. Круг
деятельности института, так же как и других банков
Ватикана, настолько обширен, что даже для беглого
описания не хватило бы всех перьев из крыла архангела
Гавриила, какие только есть в распоряжении святой
конгрегации по сбору реликвий. Поэтому ограничимся
очерком деятельности упомянутых выше церковных
сановников.
Монсиньор Джулио Гуидетти, так же как и пре-
136
лат Эдуардо Чиппико Преттнер, был ближайшим
доверенным лицом папы и, как таковой, пользовался
правом решающего голоса в правлении «Института
религиозного дела». В руках его преосвященства
находились огромные суммы, которыми он жонглировал с
ловкостью фокусника. Сплетенные им тенета
спекулятивных махинаций и операций охватывали запад и
юг Европы, достигали банков и бирж обеих Америк.
Если в ходе операций, проводимых Гуидетти,
возникали непредвиденные трудности, он не останавливался
ни перед чем: не гнушался подлогами, пускал в дело
фальшивые векселя, пользовался услугами героев
римской черной биржи.
В одну из таких тяжелых минут монсиньор
Гуидетти обратился за помощью к синьору Корби,
директору близкого Ватикану «Банка святого духа».
Монсиньору срочно понадобилась наличность,
большие деньги, которыми мог ссудить его только
человек, не осведомленный в секретах и сюрпризах
финансовых операций святейшего престола.
Вскоре овца для заклания была найдена: синьор
Корби познакомил монсиньора Гуидетти с синьором
Алессандро Россини, стремившимся к возможно
быстрому обогащению. В осуществлении этой фатальной
для Гуидетти операции принимали участие пять
связанных с Ватиканом банков, в том числе
швейцарский «Юнион банк» в Берне и моргановский «Фэрст
нейшнл сити бэнк оф Нью-Йорк», благодаря чему
монсиньор в кратчайший срок завладел миллионами
синьора Алессандро Россини.
Но пришел час платежа, а монсиньор Гуидетти и
не помышлял о возвращении синьору Россини его
миллионов. Смело задуманная валютная операция
сорвалась, а вернуть долг из средств «Института» или
собственных денег у монсиньора не было никакого
желания. В результате произошел неприятнейший
скандал. Ну что же! Не мог же монсиньор Гуидетти
заранее предвидеть, что закланная овца вдруг
вцепится ему в горло мертвой хваткой...
Его преосвященству епископу Эдуардо Чиппико
Преттнеру случай применить свои таланты предста-
137
вился сравнительно поздно, после оккупации Рима
фашистами, но с тем большим увлечением он бросился
выполнять деликатные поручения его святейшества.
Это были годы, когда в Ватикан чуть ли не со всех
концов католического мира плыли приношения и
пожертвования. Как остров среди бурного океана войны
несокрушимо стояла скала Петрова, давая
возможность пассажирам тонущего фашистского корабля
спасать свое добро путем заблаговременного
помещения его в банки Швейцарии и Америки. Чиппико
отлично выполнял обе задачи: на черной бирже
Вечного города он успешно спекулировал валютой и
драгоценностями, а на международном рынке вскоре
прославился как единственный в своем роде мастер
валютной контрабанды.
Прошло немного времени, и прелат стал своим
человеком в кабинетах и салонах миллионеров Рима и
Милана. В его карманах были адреса всевозможных
католических учреждений, миссий, орденов в дальних
и ближних странах; со всеми этими контрагентами он
сумел наладить связь и превратить их в послушных
исполнителей финансовых поручений государственного
секретариата и «Института религиозного дела».
Благодаря неусыпным трудам и заботам прелата в то
страшное время огня и крови сейфы Ватикана
ломились от золота.
В послевоенные годы прелат развивает еще более
кипучую деятельность. Когда исчезли многочисленные
фронты, рогатки и запретные зоны, появились новые
партнеры, новые возможности. Поручения
государственного секретаря Монтини становятся сложнее,
в операциях прелата все большее и большее место
занимает политика. Особенно понравился прелату
«невралгический пункт Европы» — Триест. Здесь он
особенно охотно пользуется услугами усташей и
четников, готовых за небольшое вознаграждение
совершать то, что не пристало совершать его
преосвященству. Но связи прелата не исчерпываются
финансовыми махинациями; в книге дивидендов Чиппико
появляются и цифры, не имеющие никакого отношения к
138
его коммерческой деятельности. Нити, связывающие
епископа с клевретами Павелича и Михайловича,
приобретают постепенно багровую окраску крови.
Через некоторое время Чиппико имел в своем
распоряжении уже немалую банду, предводитель
которой, близкий родственник Анто Павелича Фожат, стал
вскоре правой рукой прелата в его триестских
происках и мошенничествах.
Пий XII относился с полным одобрением к
деятельности энергичного прелата, особенно в ее триест-
ский период. В ватиканских кругах стали
поговаривать о назначении Чиппико епископом Триеста и всей
Юлийской Крайны. Если назначение не состоялось
своевременно, то лишь потому, что обстоятельства
требовали пока присутствия незаменимого прелата в
Риме. Приближались выборы в итальянский
парламент, и светские попутчики Ватикана, вроде куалюн-
куистов, просили о выдаче дополнительных фондов
а никто не умел так держать в узде эту
недисциплинированную и алчную братию, как с давних пор
финансирующий ее Чиппико.
Да и самому прелату не очень-то улыбалась
перемена местожительства. Сердечные и финансовые узы
привязывали его к Риму, где дела Чиппико шли
просто блестяще: только за последнее время его личные
прибыли составили круглую цифру в миллиард лир...
К тому же государственный секретариат Ватикана
поручил ему постановку кинофильма из жизни
святого Франциска Ассизского. Картину предполагалось
заснять на финансированной прелатом же
кинофабрике «Очеан фильм». Но в данном случае Чиппико
не проявил надлежащего усердия. Проходили месяцы
и годы, миллионы лир канули в бездну «Очеан
фильма», а деяния незлобивого Франциска так и не
дождались художественного воплощения. Им суждено
было остаться в устном пересказе, как и... самому
«Очеан фильму», который оказался впоследствии лишь
плодом фантазии изобретательного епископа.
Этому не следует особенно удивляться. Чиппико
принадлежал к категории людей, которые отдавали
предпочтение реальности перед легендой, а реальность
139
выдвигала перед ним все большие и большие
требования. Ватиканский корабль после разгрома Гитлера
плывет в фарватере политики Соединенных Штатов
Америки, и прелат сгибается под тяжестью все новых
и новых задач. С тех пор, как его святейшество Пий
XII устремил свой взор на грозные скалы Эллады,
прелат лишился покоя. Ему, человеку, никогда в
жизни не державшему в руках даже охотничьего ружья,
приходилось теперь осуществлять торговые операции,
предметом которых были автоматы, пулеметы,
минометы, и, вдобавок, заботиться о том, чтобы
купленное — проданное оружие попало в целости и
сохранности в руки греческих монархо-фашистов.
Одновременно ему приходилось поддерживать
теснейшую связь с преподавателями и воспитанниками
ватиканского «Коллегиум руссикум», из которого
выпускают агентов для засылки в славянские страны, —
связь, состоящую не только в обмене мыслями...
В этом случае задача усложнялась еще тем, что
вслед за инструкциями кардинала Монтини приходили
инструкции мистера Тэйлора, который держал себя
все более независимо. Но здесь возникает перед
нами новая, более важная тема, обрывающая нить
нашего дальнейшего повествования о деяниях
многогранного прелата. Оставим же его под опекой
милосердной богородицы, которая печется о нуждах
обитателей римской тюрьмы «Реджина челли».
Мистер Майрон Тэйлор, личный представитель
Трумэна при святейшем престоле, не слишком
разбирается в католических догмах и вряд ли мог бы
привести убедительное доказательство
непогрешимости римского папы. Однако он — один из самых
пылких приверженцев святейшего престола и вполне
заслужил ту отеческую любовь, с какой относится к
нему глава католической церкви.
Этой любви уже более десяти лет. В 1938 году
Майрон Тэйлор, умело сочетая функции дельца и
дипломата, получил от тогдашнего государственного
секретаря апостольской столицы Еудженио Пачелли
140
многообещающее предложение: помочь в качестве
посредника в приобретении для Ватикана оловянных
рудников в Боливии. Польщенный святейшим
вниманием, Тэйлор проявил воистину христианское рвение,
и вскоре между нью-йоркским трестом Гуггенгейм и
Ватиканом был составлен договор, по которому
боливийские рудники стали собственностью папы.
Почему нынешний «пастырь пастырей» возложил
именно на мистера Тэйлора эту весьма ответственную
миссию? Да потому, что лучшего выбора нельзя было
сделать. Мистер Тэйлор—один из директоров морга-
новского стального треста и директор моргановского
же «Фэрст нэйшнл сити бэнк оф Нью-Йорк». Его
считают своим человеком в могущественной группе
господина господ, мистера Моргана, а следовательно,
дружба с ним равнялась дружбе с группой Моргана.
С другой стороны, было бы ошибкой считать, что
Тэйлор в этом случае руководствовался
побуждениями лишь духовного характера. Как истинный
бизнесмен, он сумел достойным образом оценить
положительные качества своего святейшего партнера и
выгоды, вытекающие из этого альянса. Он знал, что
капиталец Ватикана составляет солидную сумму в
несколько миллиардов (миллиардов!) долларов; что
только в Италии непогрешимый владеет более чем
ста сорока банками, в которых сумма депозитов и
вкладов на текущих счетах составляет две трети
национальных сбережений, а это позволяет Ватикану
контролировать всю экономику Италии; что у него
колоссальное недвижимое имущество в Италии и в
Испании; что он наложил свою лапу на «Франко-
итальянский банк» и «Испано-Американский банк»,
которые, кстати говоря, являются финансовой базой
фашизма в странах Южной Америки; что он держит
под спудом пачки акций французской нефтяной
компании, эксплуатирующей иракские нефтяные
источники; что он пользуется правом решающего голоса в
правлении крупной парижской фирмы «Банк де Пари
э пей ба»; что с помощью хранимого богом ордена
отцов иезуитов Ватикан получил контроль над самым
крупным электропромышленным трестом в Швейцарии
141
«Электробанк» и электрическими товариществами
Канады и Аргентины; что его собственностью являются
многочисленные кварталы домов в Буэнос-Айресе, и
прежде всего те кварталы, улицы которых украшены
знаменитыми красными фонарями; что он является
хозяином многих рудников и плантаций в
португальских колониях Мозамбик и Ангола; что он владеет
резиновыми и текстильными фабриками в Бразилии,
что... что... что... и т. д. и что множество лиц,
которых считают официально владельцами толстых
пакетов всевозможных акций и солидных банковых счетов,
есть всего лишь подставные фигуры, призраки,
фантомы, за которыми стыдливо скрывается пастырь
пастырей...
Еще одна достаточно важная подробность: во
время второй мировой войны его святейшество Пий XII
хранил свои основные капиталы в надежных сейфах
банка Моргана. Хранил, несмотря на свои
несомненные симпатии к Адольфу Гитлеру, симпатии,
выдержавшие даже сталинградское испытание. Но мистер
Тэйлор знал, что причина этого кроется не столько
в противоречиях характера папы, сколько в том, что
восемьдесят процентов всех денежных вкладов
апостольская столица получает из США. Не мог мистер
Тэйлор не знать и о том, что здесь и речи нет о каких
бы то ни было противоречиях: нацистские идолы,
которым поклонялись ватиканские жрецы, были сами
вылиты из золота мистера Моргана и К0; знал он и
то, что поклонники этих идолов проживали не только
в Старом свете...
Ровно через год после осуществления Тэйлором
сделки Гуггенгейм — Ватикан в редакционной статье
органа иезуитов «Америка» за 1939 год можно было
прочесть следующее:
«Каждый американец-христианин должен
сознательно возражать против возможного участия США
в мировой войне в качестве союзника атеистической
России. Можно сказать, что он обязан отказаться от
военной службы, даже если ему угрожала бы казнь
за то, что он поклоняется богу, а не кесарю».
В конце 1941 года кто-то придумал провести сре-
142
ди католического духовенства США анкету по
вопросам внешней политики. Анкета дала разительные
результаты: 90,4 процента опрошенных высказались
против... вступления Америки в войну против
гитлеровцев!
А двумя месяцами позже, после первых больших
успехов японцев, орган американского фашиста и
папского любимца, преподобного отца Кофлина, «Сошиэл
джастис» писал:
«Наконец клонится к западу британское солнце, и
над землей эксплуатируемых взошла заря свободы».
Когда же воспетая Кофлином и присными заря
японской «свободы» погасла, так и не разгоревшись,
клерикалы сразу же нашли общий язык со своими
вчерашними противниками, и имя Черчилля стало
произноситься с таким благоговением, с каким прежде
произносились имена фюрера, дуче, каудильо и микадо.
Больше того, высказывания Уинстона Черчилля
воспринимаются теперь кофлинами с таким
благоговением, что с ними не могут итти в сравнение даже
писания святого Августина. Лондонский особняк
автора фултонской речи становится Меккой для
американских кардиналов, аббатов и прелатов, здесь они
находят утешение и моральную поддержку, отсюда
бьет ключом их вдохновение. Примером такого
благодатного влияния Черчилля на умственные
способности американских светил католической церкви
может служить сравнительно недавнее посещение
Лондона кардиналом Спеллманом. После нескольких
часов интимной, сердечной беседы с британским экс-
премьером кардинал изложил золотые мысли
господина Черчилля на бумаге, в результате чего
появилась на свет книга под интригующим названием:
«События одного дня». Видимо, только христианская
скромность не позволила кардиналу назвать на
обложке имя своего вдохновителя.
27 августа 1940 года, через шесть недель после
занятия гитлеровцами Парижа, в живописном
городке Фульде состоялась очередная ежегодная конферен-
143
ция немецких католических епископов. В
торжественной тишине кардинал Фаульгабер зачитал
присутствующим текст присяги на верность Адольфу Гитлеру.
Все встали, встал и папский нунций в Германии, мон-
синьор Орсениго, сидевший на почетном месте.
Захваченный общим порывом, нунций выпрямился во весь
рост, и рука его вместе с другими поднялась для
присяги.
Через несколько месяцев после этого словацкий
квислинг, преподобный Тисо, отдал на истребление
еврейское население своей страны. Узнав об этом,
святейший престол незамедлительно реагировал на
учиненное злодеяние: от имени пастыря пастырей
преподобному Тисо была вручена кардинальская
шапка и присвоено звание папского камергера.
В рождественскую ночь 1940 года, одну из многих
ночей, нависших тогда кровавым туманом над
распятой Гитлером католической Польшей, блаженнейший
и непогрешимый обратился по радио с посланием к
придавленным нацистским сапогом, но не покоренным
народам: «Враг народов — это ненависть... Ненависть
приводит к тому, что нации готовы видеть вину там,
где налицо только ошибки или болезнь, требующая
лечения, а не кары... Следует ненавидеть не
грешника, а грех... Любовь к врагу — высший героизм».
Но проповедь непротивления Гитлеру и любви к
нему не пришлась по сердцу истязуемым народам, и
они продолжали бороться против тирании. Творила
свое великое дело непобедимая армия Советского
Союза, и в результате осуществилась Сталинградская
победа. Траур, окутавший рейхсканцелярию, лег
мрачной тенью на желтые стены Ватикана.
Непогрешимый оценил серьезность создавшегося положения, и
вот из окон конгрегации святейшей канцелярии
вылетают спасательные «голуби мира», а его святейшество
просит народы антигитлеровской коалиции: «не
отплачивать за несправедливость несправедливостью... не
пользоваться преимуществами военного превосходства»!
Однако народы и на этот раз не вняли мольбе
растревоженного папы римского. Фатальный для
нацистской Германии результат войны приближался с
144
такой стремительностью, что ошеломленный Христов
наместник даже перестал осенять крестом немецкие
военные части, которые так часто обращались до тех
пор к Ватикану за отеческим благословением
Пия XII.
В 1943 году, в год победного марша советских
войск на Запад, встревоженный папа пытается во
что бы то ни стало спасти «тысячелетнюю империю»
Гитлера. В Рим прибывает поспешно вызванный из
Нью-Йорка кардинал Спеллман. Его ежедневные
беседы с Пием XII длятся чуть ли не до полуночи, а по
утрам кардинал спешит к испанскому и немецкому
послам. Наконец 3 марта Спеллмана принимает сам
Риббентроп. Гитлер соглашается на мир, но при
одном условии: чтобы союзники не открывали второго
фронта.
Предложение Гитлера наилучшим образом
отвечает планам Пия XII. Навстречу фюреру согласен
пойти и Черчилль, однако Рузвельт говорит: «Нет!»
Глубоко обеспокоенный дальнейшей судьбой
фашизма и... своей собственной, папа обращается к
странам-победительницам с патетическим призывом:
«Грядущий мир должен быть равно почетным для
обеих сторон».
В том же обращении он твердит, что условия
безоговорочной капитуляции «скрывают в себе
величайшую опасность», и смиренно поучает жителей
Лондона, «во имя христианского милосердия простить
неразумного разбойника».
Но прошло не мало времени, пока отчаянный
папский призыв смог найти слушателей. Главного
разбойника так и не удалось спасти, зато благодаря
своевременной помощи удалось выручить его
ватиканских адвокатов. Разбитую в щепы фашистскую
колесницу заменила новенькая американская. Бежать за
нею оказалось необычайно легко и на редкость выгодно.
Земной отец людей мог вздохнуть свободнее.
Мучивший папу призрак 1870 года, когда
бомбардируемый итальянской артиллерией Ватикан вынужден
был поднять белый флаг, пока рассеялся;
расквартированная в Риме рать мистера Моргана и К0 обере-
10 Я. Галан
145
гала духовное спокойствие его святейшества и
приближенных. Благую весть принесла уже первая
дипломатическая почта, пришедшая после капитуляции
опекаемых Ватиканом разбойников: Вашингтон и
Уоллстрит обращались к папе с совершенным признанием
заслуг святейшего престола в прошлом и с глубокой
верой в неоценимость его будущих заслуг. Под
старинными сводами собора святого Петра радостным
благовестом прозвучало «Те, деум, ляудамус»1.
Того, чего не мог когда-то добиться кардинал
Еудженио Пачелли, добился папа Пий XII: в Ватикан
прибыл постоянный представитель президента при
святейшем престоле. То, что этим представителем
оказался не кто иной, как мистер Майрон Тэйлор,
свидетельствовало о чрезвычайно высокой
температуре дружбы между обоими партнерами.
Мистер Майрон Тэйлор привез с собою письмо
президента к святейшему. Вот выдержки из этого
волнующего документа:
«Мы, как христианская нация, больше всего
желаем работать с благонадежными людьми... Я хочу
сотрудничать с вашим святейшеством, как и со
всеми теми, кто руководит моральными силами мира.
Наша цель — усилить и оживить веру людей в вечные
ценности».
И началось усиление и оживление веры в
«вечные ценности», под которыми разумелся главным
образом доллар. Мистер Тэйлор привез детально
обдуманный план действий, в котором первое место
предназначалось плану Маршалла, точнее — его
укоренению в неподатливом европейском грунте.
Как и следовало ожидать, начало этому
укоренению по церковной линии положил Джузеппе дел-
ла Торре граф Сангуинетто, который вот уже на
протяжении двадцати восьми лет неизменно редактировал
ватиканский орган «Оссерваторе романо».
Рассказывая читателям о «положительных качествах» плана
Маршалла, граф делла Торре прибегнул к такому
возвышенно-елейному евангельскому стилю, как будто
1 «Тебя, боже, хвалим» (лат).
146
речь шла о новой чрезвычайной папской энциклике,
вроде «Рерум новарум» Льва XIII1. Под его пером
создание Маршалла уподобилось мистическим святым
дарам, ниспосланным небесами для просвещения
грешных душ человеческих, ибо план этот, как
возвестил граф Джузеппе делла Торре, «сияет присущей
ему внутренней правдой».
По приказу сверху разбросанная по миру полуто-
ратысячная армия католических епископов и
архиепископов сменила пастырский жезл на маршаллский.
В посланиях и проповедях имя тогдашнего
государственного секретаря США упоминалось чаще, чем
имя Иисуса. Под торжественный звон колоколов,
окутанные облаками фимиама, итальянские князья
церкви шествовали под покровом шитых золотом
балдахинов во главе процессий навстречу «поездам дружбы»,
груженным яичным порошком и сигаретами «Олд
голд». План Маршалла стал очередной догмой
католической церкви.
Когда перед французскими агентами Уолл-стрита
возникли серьезные затруднения, на сцену выступил
архиепископ Парижа кардинал Сюар. Партия МРП,
это порождение «Католического действия», была
мобилизована кардиналом и брошена на первую линию
обороны плана Маршалла. И не только МРП. Были
использованы все церковные и мирские связи
архиепископа, даже франкмасонские, даже иноверческие
еретические, и монсиньор Сюар успокоился только,
когда Франция стала «маршаллизированной» страной.
Американские князья католической церкви
энергично содействовали усилиям своих европейских
коллег. Монсиньор Фултон Шин — профессор одного из
ста девяносто трех католических университетов США.
Кроме того, он время от времени удостаивается чести
читать молитву при открытии очередной сессии
палаты представителей. На открытии мартовской сессии
1948 года молитва монсиньора Фултона Шина звучала
особенно торжественно. Через полчаса, час должно
1 Имеется в виду послание папы Льва XIII от 15 мая
1891 года, направленное против социализма.
10»
147
было совершиться событие, долго и упорно
подготовлявшееся ревнителями Христовой католической веры
во главе с папой римским, кардиналом Спеллманом
и мирянином Морганом. Воспетый херувимами, план
Маршалла должен был получить новое, достойное
небес, применение.
Предчувствие не обмануло монсиньора Фултона
Шина. Не успел он как следует прокашляться после
молитвы, как палата представителей с трогательной
христианской покорностью проголосовала за
распространение плана Маршалла на хранимую богом
франкистскую Испанию...
Правда, из этого пока мало что вышло,
упомянутое распространение напоролось тогда на
непредвиденные препятствия, но не по вине же папы римского
произошел весь этот конфуз!
Ватиканский ковчег следовал неуклонно по
начертанному Вашингтоном курсу, причем роль боцмана
выполнял Уинстон Черчилль. Святейший престол
принял с неподдельным восторгом идею «Объединенной
Европы». Не вызвал никаких возражений и состав
организованного Черчиллем «Международного
координационного комитета» по строительству
вышеупомянутой Европы, благо во главе этого комитета стоят
люди, прославившие себя сыновней преданностью
ватиканскому отцу; и когда один из них, член польского
эмигрантского «правительства», выполняющий
обязанности секретаря комитета, Юзеф Реттингер,
прибыл в апостольскую столицу, папа лично принял его
и удостоил долгой беседы с глазу на глаз, а потом
дал напутственное благословение. Рассказав
корреспонденту лондонского еженедельника «Католик
геральд» о счастье, коего он сподобился, Реттингер
заявил, что Ватикан удовлетворен идеалом
«Объединенной Европы» и, не стыдясь, восхваляет его. Давая
понять, какова была цель его ватиканского визита, пан
Реттингер не замедлил добавить, что особо
решительно поддерживает это движение французская
католическая церковь.
Не менее, если не более горячий отклик нашла
в Ватикане политика раздела Германии, проводимая
148
Вашингтоном и Лондоном. Старая любовь не
ржавеет. Правда, мечты Льва XIII не сбылись:
гитлеровской Германии так и не посчастливилось стать мечом
католической церкви, но кое-какие шансы возродить
ее католическую мощь все же остались. Теперь эти
шансы в руках Уолл-стрита и он непременно ими
воспользуется. Вот почему благословение святейшего
покоится на всех немецких начинаниях упомянутого
центра.
И не только благословение. Вера без дел мертва
есть — такова непоколебимая истина, начертанная
историей Ватикана. Этой истине поклоняется и папа
Пий XII.
Кампании Ватикана по расчленению Германии
предшествовало заключение тайного договора между
папой и Вашингтоном, договора, который не только
устанавливал идеальную согласованность действий
обеих сторон. В нем есть и взаимные обязательства:
государственный департамент обязуется оказывать в
дальнейшем всестороннюю помощь и поддержку
католическому духовенству во всем мире, а Ватикан
дает торжественное обещание удвоить свои усилия в
борьбе против коммунизма, СССР и, прежде всего,
против стран народной демократии, а также и для
подавления национально-освободительной борьбы.
Вслед за тем были вызваны преданнейшие столпы
немецкого католицизма. Послушные призыву
преемника святого Петра, в Рим прибыли кардиналы Фауль-
габер, фон Прейссинг и Фрингс в сопровождении
целой плеяды епископов. Первый из них является
сегодня носителем столь близкой сердцу папы идеи
«федерализации Германии» во главе с католической
Баварией; второй известен как близкий друг кардинала
Спеллмана и даже побывал в 1947 году в Америке по
приглашению последнего.
О чем шла речь в четырех стенах папского
кабинета — неизвестно. Известно лишь то, что по
возвращении церковных сановников из Рима католический
клир Германии повел энергичнейшую кампанию
против единства страны, сопровождаемую параллельной
проповедью реванша.
149
Желая поддержать усилия немецкого
реакционного духовенства, Пий XII посылает Фаульгаберу
послание, в котором выражает свое отеческое сочувствие
выселенным из Польши немецким колонистам, требует
присоединения к Германии территории на восток от
реки Одер и призывает небеса покарать «жестоких»
поляков.
Ревизионистские стремления западногерманских
реакционеров срочно требовали организационного
оформления. С этой целью папа назначает специального
посланца в лице епископа Фердинанда фон Лимбурга.
По получении детальных инструкций епископ
приступает к делу. Он основывает специальный «совет» по
делам «беженцев» и призывает вступить в члены
этого совета всех лиц немецкой национальности,
проживавших до 1945 года на территории Польши,
Чехословакии, Венгрии и Югославии. В «день немецкого
католицизма» этот совет заговорит полным голосом о
ревизионистских требованиях.
Подготовка ко «дню немецкого католицизма»
длилась недолго. Уже в начале сентября 1948 года
состоялся в Майнце 72-й съезд «немецких католиков»
при огромном сборище верующих, преимущественно
из бывших штальгельмовцев, штурмовиков, эсэсовцев
и их подруг. Как и следовало ожидать, Пий XII
почтил съезд своим радиопосланием, которое
представляет собой откровенную попытку оправдания
гитлеризма с помощью аргументов, заимствованных у
покойного Иозефа Геббельса.
«Ровно сто лет назад,— сказал блаженнейший,
недвусмысленно намекая на «Коммунистический
манифест»,— на вашей земле был брошен лозунг:
«насильственное свержение существующего социального
строя». К сожалению, этот лозунг осуществлен ныне
среди нас в грандиозных масштабах по вине ужасного
фатума. Ваши разрушенные города представляют
собой красноречивый результат этого». «Расправившись»
таким образом с марксизмом и переложив на рабочий
класс ответственность за вызванную фашизмом войну,
святейший дает своим, обеленным уже паче снега,
150
слушателям понять, что он будет добиваться их
повторного вооружения.
«Проблемы спасения душ в настоящем и
будущем могут быть разрешены лишь с трудностями, если
в распоряжение католической церкви не будет
предоставлена в большей мере, чем в прошлом, светская
помощь».
Выступление папы вызвало желаемый эффект:
фанатичные участники съезда были доведены до белого
каления. Охваченные жаждой реванша, ораторы
выступали с таким воинственным пылом, что, казалось,
настали времена второго пришествия Адольфа
Гитлера. Когда же съезд принимал резолюцию с
требованиями «справедливости» для переселенцев с востока,
голосующие привычным движением подняли руки под
тем же углом, под каким когда-то на нюрнбергских
съездах подымали руки, приветствуя своего
бесноватого фюрера.
Стремясь в меру своих сил содействовать планам
американской и английской военной администрации
в Западной Германии, немецкие католические
владыки принимали активное участие во всех ее
начинаниях, направленных на создание сепаратного
западногерманского государства. Услужливый кардинал
Фрингс создает из немецких поклонников золотого
тельца так называемый «Консультативный совет по
экономическим вопросам», которому надлежит
заботиться о своевременном проведении в жизнь планов
заокеанских сюзеренов и о том, чтобы при проведении
этих планов не пострадали невзначай интересы
немецких вассалов. В порыве христианского восторга
кардинал Фрингс принимает всевозможные меры для
скорейшего слияния французской зоны с Бизонией,
пользуясь при этом своими влиятельными связями по ту
сторону Рейна.
Недавно газета «Тайме» ударила в набат: «..
.бастионы Западной Европы трещат, и фундамент их
рушится».
Немного спустя еще более тревожный набат про-
15!
звучал на площади святого Петра в Риме. Обращаясь
к молодежи из «Католического действия», Пий XII
дрожащим голосом возвестил: «Мир стоит перед
величайшими потрясениями, которые, возможно, будут
иметь большее значение, чем падение в древности
Римской империи».
На первый взгляд, это паника. Но нет, «страх и
великий трепет» — это еще не паника. Скорее, это
стимул к напряжению всех сил ради достижения одной
единственной цели: избежать неизбежного.
Точка зрения Ватикана такова: все пути, ведущие
к этой цели, — хороши; хороша, следовательно, и
война, которая, по утверждениям Черчилля и ему
подобных, представляет собою в данном случае панацею
ото всех зол. Но война требует подготовки, требует
мобилизации материальных и духовных ресурсов,
требует создания надежных плацдармов и т. д.
Беседы Пия XII и Тэйлора затягиваются далеко за
полночь. Много времени собеседники уделяют
обстановке, создавшейся в странах, играющих довольно
важную роль в военных планах Вашингтона и
Лондона. Более всего беспокоят святейшего настроения
в Италии, окружающей Латеран1. Прежние способы
влияния на массы верующих явно устарели, перед
лицом фактов они потеряли эффективность. Скорбный
старческий голос отставного инквизитора из эпохи
либерализма давно уже, еще во времена Гитлера и
Муссолини, уступил место зычному баритону
воинственного владыки, гремящему из многочисленных
репродукторов, а символ покорности и смирения —
мистический барашек — давным-давно обратился в
отнюдь не мистического волка. Но стремительное
развитие событий требовало новых решений, новых
превращений. Оказалась необходимой ломка проповедуемых
на протяжении столетий божественных истин...
Известно, что отпущение грехов было одним из
основных занятий христианского, особенно
католического духовенства, к тому же занятием необычайно
прибыльным,—достаточно вспомнить колоссальные
1 Латеран — папская резиденция в Ватикане.
152
суммы, которые взимала в свое время римская курия
за отпущение грехов прошлых и будущих. Но перед
лицом надвигающейся серьезной опасности Ватикан
решил произвести переворот в мире понятий,
существовавших доныне. И вот пастырь пастырей офи-
циальнейшим образом провозглашает всех сторонников
народной демократии вне божьего и церковного
закона, провозглашает их существами, безапелляционно
обреченными на погибель во тьме кромешной, ибо
грехи их не подлежат отпущению. Это
знаменательное для истории католической церкви событие
произошло, когда Пию XII исполнилось семьдесят два
года. Отвечая на поздравления священной коллегии,
он сказал:
«Будьте бдительны! В кратких перерывах между
битвами (!) неослабная бдительность потребна более,
чем когда бы то ни было. В такой момент опасно
почивать на лаврах (папа имеет в виду результаты
итальянских выборов.—Я. Г.) и позволить
противникам вновь захватить то, что было отвоевано с такими
усилиями... К этим людям нельзя применять то, что
сказал божественный учитель: «Боже, прости им, ибо
они не ведают, что творят». Эти люди знают, что
творят!»
Крутой поворот был совершен и в пропаганде.
Модные непосредственно после окончания войны
вздохи по поводу «свободы личности» и филиппики против
«диктатуры» внезапно исчезли из ватиканского
обихода, уступив место откровенным заявлениям об
абсолютистских стремлениях церкви во всех отраслях
жизни. Миланский кардинал Шустер, это «ужасное
дитя» Ватикана, позволяющее себе произносить вслух
то, о чем папе дозволено только думать, снова был
спущен с цепи. Мракобес из мракобесов, в свое время
возводивший Муссолини в «новоявленные
Константины», огласил теперь послание, в котором объявляет
творением сатаны, подлежащим аутодафе,—все что не
умещается на прокрустовом ложе католических доктрин.
К воплям Шустера присоединился более
рассудительный, но, впрочем, не менее решительный голос
графа делла Торре, который более деловым стилем из-
153
ложил в «Оссерваторе романо» то, что Шустер
изрекает в состоянии эпилептического припадка:
«Святейший престол охраняет неприкосновенность
принципа, отрицающего свободу совести, печати,
союзов и преподавания, ибо они являются способами
распространения идей, несовместимых с догмами
церкви».
Таким образом, припрятанный на некоторое время
фашизм был восстановлен Ватиканом в правах и
гласности, а католический крест снова кокетливо выглянул
из связки ликторских розог.
Бывший секретарь фашистской партии Карло
Скорца, который с разрешения конгрегации святейшей
канцелярии скрывался до сих пор под скромной
сутаной служителя Христова, мог наконец вздохнуть
свободно и смыть осточертевший ему грим: со стороны
бывшего библиотекаря его святости господина де Гас-
пери особенной опасности ему теперь не угрожало.
Скверно чувствовал себя только бывший капеллан
фашистской милиции дон Приско, еще недавно
возглавлявший террористическую группу «Макри». Ему явно
не повезло: организованные им в одном из римских
монастырей склад оружия и производство бомб были
обнаружены накануне упомянутой смены курса...
Эта смена требовала дополнительных затрат.
Сумма этих затрат воистину грандиозна, если учесть, что
даже скромнейшее чудо стоит денег. Не кипит
бесплатно кровь св. Януария, не пахнет задаром
фиалками нетленное тело монашки. Когда святейший
признал в свое время целесообразным организовать
нечто вроде вознесения Муссолини, настоятелю
Миланского собора пришлось истратить на одну только
кражу трупа дуче двести тысяч лир. Правда, для
подобной цели апостольская столица могла бы
мобилизовать собственные материальные ресурсы, но такая
мера была бы явным нарушением традиций, согласно
которым творение благих дел есть неотъемлемая
привилегия овечек. Видимо, не что иное, как почтение к
этой традиции, заставило в последнее время мистеров
морганов передавать Ватикану через кардинала
154
Спеллмана ежемесячную «лепту св. Петра» в
полмиллиона долларов...
Эта щедрая лепта, умноженная потоками даяний,
плывущих из «свободных стран», вроде франкистской
Испании, дает Ватикану возможность максимально
развить наступательные действия. Для разработки
детального стратегического плана было созвано в июле
1948 года тайное совещание двенадцати мудрецов
ватиканского Сиона, то есть наиболее преданных и
фанатичных кардиналов из разных стран. Мистер Тэй-
лор, как мирянин, разумеется, не принимал
непосредственного участия в этом совещании, возложив свои
функции на представителя кардинала Спеллмана мон-
синьора Фултона, прославившегося у себя дома в роли
антикоммунистического эксперта.
Информация, просочившаяся во-вне, говорит о том,
что совещание кардиналов носило исключительно
воинственный характер и, таким образом, целиком
оправдало надежды мистера Майрона Тэйлора.
Государственный секретарь, кардинал Монтини,
представлявший папу, заявил в своей программной речи,
что князья католической церкви должны в своих
проповедях и пастырских посланиях разъяснять
верующим, что помогать следует прежде всего лицам,
ведущим борьбу против безбожных элементов, главным
образом в Восточной Европе. «Церковь, — сказал
Монтини, — не всегда будет в состоянии выбирать
способы, но конечная цель оправдывает средства, к
которым, возможно, волей или неволей придется
прибегнуть...»
В трогательном единодушии присутствующие
кардиналы одобрили выслушанное сообщение. Это было
не что иное, как провозглашение католической
церковью беспощадной «священной» войны социализму,
коммунизму и народным демократиям.
«Борьбу против антихристианских сил, —
говорится далее в сообщении, — будем вести так же
беспощадно, как против еретиков в средние века».
Это не пустая фраза,—ареной такой борьбы уже
является Греция, и Ватикан принимает в этой борьбе
активнейшее участие, даром что там господствует
155
православная церковь. Немало потрудился на этой
ниве знакомый уже нам мастер на все руки прелат
Чиппико, занимавшийся по приказу сверху
дополнительными поставками оружия греческим монархо-
зверям. Когда по всему земному шару прокатилась
волна протеста против греческих ставленников
Вашингтона, Пий XII тотчас же принял контрмеры: он
завопил благим матом об опасности, угрожающей
якобы греческим детям со стороны коммунизма, и от
«своего имени» пожертвовал в их пользу сто двадцать
миллионов драхм, предусмотрительно перечисленных
накануне Вашингтоном на счет его святейшества в
один из ватиканских банков.
А чтобы ни у кого из верующих не возникло
сомнений относительно самых пылких промонархист-
ских симпатий святейшего престола, папа пригласил
однажды к себе корреспондентов афинских газет, дал
благословение Греции Цалдариса и Софулиса, назвав
ее «аванпостом в борьбе за спасение западной
цивилизации», после чего произнес обширную речь,
исполненную изысканнейших комплиментов в адрес
монархических любителей отрубленных человеческих голов.
Разумеется, газеты Софулиса не замедлили
дисконтировать этот папский вексель, и ватиканское
радио тут же с гордостью сообщило:
«Все газеты в Афинах выражают благодарность
великодушному главе великой католической семьи за
поддержку, которую он согласен оказывать Греции
в дальнейшем».
Как ни близка сердцу блаженнейшего фашистская
Греция, но фашистская Испания и Португалия ему
еще дороже. И не только потому, что Иберийский
полуостров был родиной Торквемады, Лойолы и папы
Александра VI, а в последнее время — известного
Франциско Франко. Одной из немаловажных причин
особенных забот Ватикана о судьбах Иберии являются
земные блага, находящиеся там, солидная доля
которых, о чем уже сказано выше, принадлежит
ватиканским аскетам.
Последним проявлением этой заботы были письма
папы к Франко и Салазару с требованием выработки
156
конкретных мер «в деле борьбы против коммунизма».
Это требование вызвано полученными Ватиканом
известиями, будто испанские партизаны пользовались
время от времени проницаемостью
испано-португальской границы и отсутствием согласованности в
действиях полиции обеих стран. В письмах было указано
также на целесообразность усиления работы
разведок этих стран за границей, прежде всего в
латиноамериканских государствах.
Несколько позже папа принял нунция в
Португалии — Чирмачи. Гость из Лиссабона имел счастье
доложить, что послушные призыву святого престола
главари фашистских правительств Испании и Португалии
заключили соответствующий договор сроком на
десять лет.
Привыкший проверять проверяющих, ватиканский
посланец неба сам зорко следит за тем, что делается
в местах, где находятся ватиканские рудники и
мукомольные предприятия. Не так давно до него дошла
весть, что один из подчиненных ему бразильских
епископов проповедует неслыханную ересь. Подробное
расследование дела показало, что обвиняемый
неоднократно выступал против связи католического
духовенства с фашизмом. Суровый приговор гласил: епископ
Дуатре лишается сана и отлучается от церкви.
Впрочем, следует сказать, что о лойяльном
отношении жителей южно-американских стран к папе
достаточно заботятся реакционеры этих стран, за что
они нередко удостаиваются похвал пастыря пастырей.
Принимая аргентинского посла, Пий XII с сердечным
участием отзывался о деятельности наместника
Уоллстрита в Аргентине господина Перона: «Мы остаемся
и останемся столь же энергичными выразителями
пламенных стремлений всех тех, кто, что бы о них
ни говорили, всегда выступают против врагов
истины... не уважающих законов морали».
Очевидно внимание Перона к моральным законам
Ватикана и стало причиной того, что диктатор
Аргентины был награжден большим крестом ордена Пия IX.
Перон не остался в долгу: теперь он внимательнее,
чем когда-либо, прислушивался к советам и уго-
157
ворам папского нунция. В результате газета «Нью-
Йорк геральд Трибюн» вскоре имела возможность
заявить, что Перон надеется с помощью Испании и
Ватикана создать третий великий блок, способный
обеспечить равновесие сил между США и Россией.
Когда перед Вашингтоном возникли некоторые
небольшие, однако непредвиденные трудности в деле
вовлечения Бразилии в этот недвусмысленный блок,
папа с неприкрытым раздражением сказал
бразильскому послу при Ватикане, господину Фредерико де Ка-
стелло Бранко Кларку: «Бразильский народ должен
быть готов оказать всеми своими силами
сопротивление попыткам вторжения со стороны врагов
Христа...»
Говоря это, владыка рабов божьих знал, что
бразильский Дутра действует по указаниям США. И он
не ошибся.
В последнее время посланцы папы достаточно
непринужденно ведут себя и на родине Виклефа и
Кромвеля. Даже более, чем непринужденно. Порою
кажется, что в стенах Вестминстерского аббатства
поселился дух обезглавленной шотландской королевы и
устами пуританских министров провозглашает
католические истины. Какой же смысл после этого держать
себя «принужденно»?
В одно прекрасное утро 1948 года на ватиканском
холме воцарилась необычайная сверхторжественная
тишина. Все присутствующие специалисты по
сношениям с небесами ждали с душевным трепетом
события, не имевшего места вот уже пятьсот лет. Наконец
желанная минута настала. По мраморным ступеням,
ведущим к престолу его святейшества, шел в
сопровождении супруги джентльмен неопределенного возраста
и профессии с недвусмысленным намерением
приложиться к папской туфле, что он через несколько
секунд и проделал.
Этот джентльмен оказался лордом-канцлером
Великобритании, лордом Джоуиттом. Целовал он туфлю,
действуя, должно быть, от имени лейбористского
правительства.
Ватикан, как и всякая уважающая себя фирма,
158
привык платить услугой за услугу. Вполне оценивая
выгоды, которые можно извлечь из коленопреклонения
Британии перед пастырем пастырей, папа решил
привязать ее к своему престолу узами взаимной
благодарности. Немногочисленный, но подвижной
католический клир Англии получил из Рима указания,
налагающие на него обязанности теснейшего
сотрудничества с лейбористским правительством и активнейшего
участия во всех мероприятиях правительства,
направленных против общего врага.
Особое беспокойство Ватикана вызвал рост
авторитета коммунистов в британском профсоюзном
движении и все более частые случаи избрания их на
руководящие посты. Это беспокойство разделяла с
папой вся лейбористская верхушка во главе с Эттли и
Бевином. Попытки правительства и руководства тред-
юнионов повлиять на этот процесс не дали желанных
результатов: недовольство рабочих масс политикой
правительства и профсоюзных лидеров усиливалось.
На помощь растерявшимся было лейбористским
торговцам совестью выступил в 1948 году
вестминстерский архиепископ Гриффин. Составленное им послание
было зачитано во всех римско-католических церквах,
часовнях и часовенках Вестминстерской епархии,
причем фактически оно адресовалось не только
католикам, но и — о, неслыханная новость! — «еретикам»
вроде пресвитериан, баптистов и т. п. Епископ с
великим гневом обрушился на членов профсоюзов,
избирающих на ответственные посты коммунистов или
допустивших избрание их. Затем прозвучал
пламенный призыв к активизации верующих рабочих в
профсоюзном движении с одной единственной целью:
изгнать из тред-юнионов «врагов западной
цивилизации».
Особенно посчастливилось Бевину, который в лице
католической церкви приобрел верного и способного
на все помощника, опытного специалиста по
разжиганию военных конфликтов. По боевому, агрессивному
тону католические проповедники Англии могут
сравниться разве только с самим Уинстоном Черчиллем.
Особенно неистовствуют ультрамонтаны из газеты
159
«Католик Геральд». Это уже не усердие и не пылкость,
а какое-то невероятное фантастическое безумие,
напоминающее пляску святого Витта. Их выводят из себя
даже самые робкие намеки миролюбивых христиан на
возможность избегнуть войны, и они с нетерпимостью
«пса божьего» — святого Доминика сперва запугивают
паству, оскаливая клыки, затем набрасываются с
явным намерением растерзать прихожан на куски за
измену делу с такими трудностями подготовляемой войны.
Усердная помощь, оказываемая апостольской
церковью нынешним хозяевам положения в Англии,
выходит далеко за пределы британской метрополии,
простираясь и на Ближний Восток, где, как известно,
пахнет не только иерихонскими розами и фимиамом
гроба господня, но и... нефтью. Когда Лондон и
стоящий за его спиной Вашингтон признали
целесообразным торпедировать ими же подписанное соглашение
о разделе Палестины, мистер Тэйлор не замедлил
известить об этом папу. Результатов этого визита
пришлось ждать недолго: через несколько дней
католические епископы «святой земли» выступили с
коллективным протестом против решения ООН о Палестине.
Немного позже высказался публично и сам папа. В
посвященной палестинскому вопросу энциклике он
высказал пожелание об... интернационализации
Иерусалима под руководством англо-американцев.
Но, кроме явной дипломатии, существует еще
излюбленная Ватиканом — тайная. На состоявшейся
летом 1948 года, отнюдь не публичной, консистории
кардиналов один из них выступил с обстоятельным
докладом на тему о Ближнем Востоке и прежде всего
о Палестине. Особа докладчика заслуживает
всяческого доверия: кардинал Агаджанян — испытанный,
опытный знаток Ближнего Востока и ловкий дипломат,
нечто вроде ватиканского подобия Лоуренса. Каждое
его слово оценивается на вес золота не только
римской курией, но и разведывательными органами
Соединенных Штатов Америки и Великобритании. За
последнее время дел у Агаджаняна прибавилось и
значение его неслыханно возросло. Путь от иракской
нефти до иранской и азербайджанской ведет через
160
страны, подведомственные этому кардиналу. На этой
же, приблизительно, трассе строятся в боевой порядок
современные крестоносцы со своими авиабазами.
Правда, в XI—XIII столетиях крестоносцы выступали в
поход на юго-восгок, против язычников-сарацинов, а
теперь тех же язычников-сарацинов святейший престол
почитает чуть ли не солью земли. Однако дело не в
этом, а в том, что оружие модернизированных
крестоносцев направлено против народов Востока и
демократических стран Восточной Европы, возглавляемых
столь ненавистным Ватикану Советским Союзом, и это
главным образом определяет политику римской курии
во всем мире и на Ближнем Востоке в особенности.
Выслушав с отеческой улыбкой доклад Агаджаня-
на, святейший преемник святого Петра предоставил
слово другим кардиналам, после чего дал
присутствующим ряд указаний.
Особенно ответственное задание получил, как и
следовало ожидать, кардинал Агаджанян. Святейшим
повелением ему предписывалось как можно скорее
сформировать в Палестине вторую добровольческую
бригаду папских войск и пополнить ее в основном
лицами, зарекомендовавшими себя в прошлом в рядах
«армии» Андерса и дивизии СС «Галичина», благо их
преступления дают наилучшую гарантию в том, что
организованная таким образом бригада будет верной
опорой политики святейшего престола как в
Палестине, так и в других, пока еще не обозначенных
местах: эти люди прошли хорошую школу вначале у
Гитлера, а затем в англо-американских лагерях так
называемых перемещенных лиц.
Апостольскому нунцию в Палестине монсиньору
Теста было предложено совершить объезд вверенной
ему территории. Первый визит следовало нанести
королю Трансиордании. Эта демонстрация с
достаточной ясностью свидетельствовала, на чьей стороне
симпатии Ватикана в палестинском споре. Кроме того,
Теста было приказано на случай быстрого захвата
Иерусалима арабами немедленно покинуть столицу
Трансиордании Амман и присоединиться к свите Аб-
дуллы, когда тот будет въезжать в Иерусалим, и та-
11 Я. Галан
161
ким образом продемонстрировать заветное стремление
святейшего престола к тому, чтобы на страже у гроба
господня стояли опекаемые англо-саксами сарацины...
Да, не легкое ремесло у апостолов войны.
Ровно через семь дней после нападения Германии
на нашу страну Пий XII произнес взволнованную речь,
в которой назвал участие Италии в войне против
Советского Союза «божественной миссией».
Как известно, упомянутая миссия превратилась со
временем в нисколько не божественную эксмиссию !,
и святейшему пришлось обратить свой взор на
англосаксонских кандидатов в миссионеры, специалистов
по библии и атомной бомбе. Особенно привлекла
святейшего последняя. Высказывать публично свои
трепетные надежды на новые виды оружия было бы
сущим безумием, ибо из трехсот тридцати восьми
миллионов наличных католиков минимум триста
миллионов чувствуют величайшее отвращение к войне, к
агрессии. Но духом двуличия и лицемерия пропитаны
самые стены Ватикана; этот дух с незапамятных
древнейших времен реет невидимо над рабами рабов
божьих; он — источник их вдохновения, их добрый
гений, он не раз спасал их от страшного народного
гнева, он — воздух их груди и кровь их сердца, без
него они корчились бы уже в агонии, как рыба,
вытащенная из воды.
В торжественной обстановке происходит открытие
папской академии наук (есть и такая). Первое слово
принадлежит папе, это слово посвящено также и
проблеме атомной бомбы. Конечно, Пий XII говорит о
необходимости «запрещения» этого оружия. Мистер Тэй-
лор слушает, но его лицо остается абсолютно
спокойным. Он знает, это сказано для трехсот с лишком
миллионов верующих; подлинные помыслы римской
курии будут высказаны только в следующем абзаце
речи.
И Майрон Тэйлор не ошибся. Речами,
истекающими патокой профессионального словоблудия, Пий XII
i Принудительное выселение.
162
тут же воспел хвалу атомной бомбе, величая ее
воплощением «законов природы», против которых не
только люди, но и сам бог не в силах бороться, ибо
на них покоится «всемирный порядок», то есть
порядок, который пытаются установить Уолл-стрит и
Ватикан.
«Законы природы (породившие якобы атомную
бомбу. — Я. Г.) являются выражением вечного
божественного акта. В этом доказательство единства
законов природы с основой всемирного порядка,
противиться которому не в силах сам бог».
Не удовлетворяясь ниспровержением бога и
возведением атомной бомбы в сан «божественного акта»,
Пий XII взялся за изготовление своей собственной
бомбы, — как ему казалось, еще более мощной, чем
атомная. Та взрывает города, а эта, папская, должна
была взорвать мир идеологически.
В начале октября 1948 года по Европе поползли
провокационные слухи, будто Ватикан, как апостол
мира, в ближайшее время предложит свои услуги в
качестве посредника между Западом и Востоком.
Когда эти слухи сделали свое дело, разрыхлив почву
для обработки общественного мнения, слово было
предоставлено все тому же графу делла Торре. За его
подписью появились в «Оссерваторе романо» две
статьи под общим девизом: «Если мы хотим мира, мы
должны готовиться к нему».
Прежде всего граф делла Торре галантно, с
соблюдением всех правил приличия, упрекает Черчилля
в том, что его воинственная речь в Лландудно не
вызвала в Ватикане особого энтузиазма. После этой
дымовой завесы идут комментарии к
распространившимся слухам, комментарии, представляющие собою не
что иное, как официальное подтверждение этих
«слухов». Граф мрачными красками рисует картины
создавшегося международного положения, он не видит
никакого просвета, он констатирует абсолютную
беспомощность организации Объединенных наций в
деле ликвидации назревающего военного конфликта. По
его мнению, есть в мире только одна сила, которая в
состоянии принести человечеству мир и благоден-
11*
163
ствие, и этой силой является, конечно, Ватикан, услуги
которого, как «верховного третейского
с у д ь и», граф и предлагает. Пропев хвалу авторитету
апостольской столицы, граф самоуверенно заявляет,
не подозревая, очевидно, что этим своим заявлением
он невольно раскрывает папские карты: «Только она
(католическая церковь. — Я. Г.) в состоянии
справедливо решить, кто именно стремится к нарушению
мира, и тем самым спасти дело мира».
Не подлежит никакому сомнению, что именно
решил бы блаженнейший третейский судья: его
симпатии и связи так же известны, как и его коварство.
Третейство не только создало бы алиби для жаждущего
войны папы, но и дало бы ему повод для обвинения
Советского Союза в срыве дела мира, что, собственно,
и было главной целью провокационного предложения
о посредничестве...
А через два дня в Ватикан прибыл главный
поджигатель войны, сам Маршалл. Приветствуя его в
стенах Вечного города, орган иезуитов «Куотидиано»
поторопился заверить своих читателей, что папское
предложение не должно ни в коем случае погасить их
воинственный пыл, ибо, действуя так или иначе в
вопросах внешней политики, «...католики не лишаются
права дискутировать и придерживаться совершенно
определенного индивидуального мнения».
Между тем Пий XII и Маршалл перешептывались.
О чем — отгадать не трудно, зная стремления того и
другого.
В роли адвоката, устанавливающего алиби для
своего клиента, выступил римский корреспондент
агентства Рейтер:
«В ватиканских кругах отмечают, что переговоры
между папой и Маршаллом были посвящены
критическому положению в мире и темным тучам,
нависшим над миром. Папа, как главный поборник мира,
только в крайнем случае может согласиться
(подчеркнуто мною — Я. Г.) с тем, что мир
невозможно спасти».
Этот «крайний случай» был, очевидно,
представлен папе Маршаллом, ибо уже на следующий день
164
«Куотидиано» бурно приветствовал известия из
«иностранных источников» о Северо-Атлантическом
военном пакте, который заключен в 1949 году. О том,
что идея этого договора была взлелеяна и взращена
в стенах Уолл-стрита и Ватикана, иезуиты из
«Куотидиано» стыдливо умолчали.
Зато много интересного сообщила на эту тему
итальянская коммунистическая газета «Унита»:
«Беседа Маршалла с папой выглядела как
настоящие дипломатические переговоры, направленные к
тому, чтобы путем взаимных гарантий и уступок
обеспечить присоединение Ватикана, особенно в том, что
касается Италии, к американскому военному блоку в
обмен на соглашение о злополучном посредничестве,
которого в определенный момент могла бы попросить
сама Америка, хотя бы для того, чтобы оправдать
последние шаги своей давнишней и упорной политики
развязывания войны. Это посредничество — или,
точнее, попытка посредничества — выставило бы
католическую церковь в столь желанной для нее роли
арбитра международного положения и в то же время
позволило бы поджигателям войны втянуть миллионы
католиков в конфликт, превратив его, таким образом,
окончательно и официально в «священную войну».
Почти одновременно с появлением этой статьи
газета «Република» напечатала сообщение о том, что
Пий XII предоставил своему бывшему библиотекарю
де Гаспери «полную свободу действий в отношении
договора с США...:>
Договоренность была достигнута,
высокопоставленным собеседникам не оставалось ничего иного, как
крепко пожать друг другу руки. Можно, однако,
допустить, что мистер Маршалл жал руку папы дольше,
чем это разрешает ватиканский этикет, и что при этом
он пытливо вглядывался в святейшие очи, ибо
как-никак, а Маршалла не мог не интересовать результат
предстоящих американских выборов, результат, в
некоторой степени зависевший и от позиции папы.
А эта позиция стала в последнее время, деликатно
выражаясь, неопределенной. Природные склонности и
некоторые финансовые связи толкали его святейше-
165
ство в объятия республиканцев, но в то же время папе
не хотелось портить отношения с Трумэном и
демократической партией, тем более, что уже было заключено
тайное соглашение о поддержке Трумэна католической
церковью Америки. Перед непогрешимым встала
весьма сложная проблема.
Гордиев узел разрубил советник республиканской
партии по иностранным делам, Джон Фостер Даллес,
который предложил Ватикану через своего друга
кардинала Корчи пятнадцать миллионов долларов на
случай победы республиканцев. Под покровительством
папы в государственном секретариате начались
переговоры, в которых Христова преемника представляли
кардиналы Монтини, Тардини и упомянутый выше
Корчи. Умело составленное соглашение с
республиканцами было подписано обеими сторонами и легло в
сейф государственного секретариата рядом с папкой,
где хранилось точь-в-точь такое же соглашение с
демократами... Таким образом, святейший престол был
гарантирован от всех случайностей: кто бы ни
оказался победителем на будущих американских
выборах, ватиканский счет за поддержку будет
своевременно предъявлен любому из них...
Одной лишь случайности не предвидел
непогрешимый, случайности, имевшей для него
неприятнейшие последствия: разведка мистера Трумэна
раздобыла где-то копию соглашения Ватикана с
республиканцами. Неприятно пораженный президент посылает
Тэйлору письмо с указанием — предупредить
святейшего о недопустимости подобных махинаций и об их
возможных последствиях в случае, если папа не
выполнит взятых на себя обязательств. В противном
случае, угрожал Трумэн, будут опубликованы оба
соглашения Ватикана — и с демократами и с
республиканцами.
Мистер Тэйлор не мог не передать его
святейшеству слов мистера Трумэна, поставив таким
образом непогрешимого в довольно неловкое положение.
Счастье святейшего, что разница между
республиканской и демократической партиями Америки не столь
166
уж велика. Обе партии равно защищают интересы
некоронованных королей Уолл-стрита.
А теперь перенесемся на бурные воды изумрудной
альпийской реки Изар. На острове, который она
омывает, расположенном почти в самом центре Мюнхена,
помещался до войны богатейший музей. Когда утих
гром орудий и над Мюнхеном взвился
звездно-полосатый флаг, хозяева положения поместили в здании
музея живые экспонаты: эсэсовцев, бежавших сюда с
востока, и коллаборационистов всевозможных сортов
и мастей.
Щедро опекаемые ЮНРРА, они жили недурно, а
когда им слишком уж приедалась скука
оккупационных будней, занимались спекуляцией или совершали
для тренировки небольшие грабительские налеты.
Вскоре американцы решили позаботиться и о
духовных потребностях своих питомцев, и вот на этом же
острове и в этом же помещении был организован для
них юнрровский «университет».
Это была затея, не имеющая себе равных в мире:
под маркой университета скрывалась школа
шпионажа, саботажа и диверсий, умело замаскированная
расписанием занятий, лекциями на общеобразовательные
темы и т. д. Однако, несмотря на большие способности
учеников и их квалификацию, приобретенную
практикой, дала себя почувствовать недостаточная
опытность американских учителей, вследствие чего сделано
было значительно меньше того, что предполагалось
сделать.
Выход, впрочем, был найден. В 1946 году в
Баварии появляются приезжие отцы-иезуиты, и сразу же
в различных концах страны возникают католические
духовные семинарии и школы. Все они быстро
заполняются живыми экспонатами мюнхенского музея.
Излишек экспонатов отправляется — с
благословения католической церкви — в США, Канаду, Южную
Америку, где бывших гитлеровских агентов ждут
обязанности агентов мистера Эдгара Гувера.
Особое внимание было уделено «духовной семина-
167
рии» для пятидесяти молодых людей, которые
высказали желание потрудиться во славу греко-католической
униатской церкви. Это преимущественно гитлеровские
наемники, которые немало потрудились для
имперской разведки — «абвера» и, чтобы избежать
последствий этой работы, своевременно перекочевали на
запад. Теперь они романтически называют себя
«скитальцами» и с усердием отдаются всему, что
напоминает им их прежнюю профессию. Их новые
наставники, отцы-иезуиты, делают все возможное, чтобы это
усердие не угасало. Они не обременяют чрезмерно
семинаристов составлением комментариев к книге
Апокалипсиса и зубрежкой церковнославянских аористов,
заботясь о том, чтобы эти полезные для будущих
иереев занятия не помешали молодым людям в изучении
основной дисциплины — шпионажа.
Да, шпионажа, и к тому же шпионажа на Востоке.
Вряд ли воспитанники семинарии, которые
встречались до сих пор, в лучшем случае, с майорами
«абвера» либо с капитанами «Стратегической службы»,
догадываются, что их успехами и прилежанием
интересуются весьма высокопоставленные особы и что
судьба каждого питомца семинарии находится в руках
малозаметной, однако вездесущей организации,
подвизающейся во Христе, под скромным,
маловыразительным названием «ЧИП».
При первом знакомстве ЧИП — это лишь
католическое пресс-агентство «Чентро информационе про
део». Однако это только при первом знакомстве.
В действительности, это не что иное, как «внутренний
отдел» Ватикана.
ЧИП — сравнительно молод, в современном виде
ему только два года. Отцом его является все тот же
Пий XII. В 1946 году папа пришел к выводу, что
слишком отдаленные уши плохо слышат, а глаза плохо
видят, а потому решил слить воедино свой «внутренний
отдел» со шпионской сетью отцов-иезуитов. Новая
сеть должна была опутать все уголки земного шара,
проникнуть туда, куда и птица не долетит, уловить
в свои ячейки то, чего до сих пор никому поймать не
удавалось.
168
В распоряжении его святейшества грандиозный
штаб информаторов: тридцать девять нунциев и
двадцать пять апостольских легатов, чуть ли не полторы
тысячи епископов и неисчислимая армия монахов и
священнослужителей, не говоря уже о «Католическом
действии» и других многочисленных католических
организациях, христианско-демократических партиях,
профсоюзах и т. п. Выслушивать такую массу людей,
инструктировать их — дело не легкое, оно требует
гигантской организационной машины, управляемой
чрезвычайно опытными руками.
Такая машина была создана неусыпными трудами
пастыря пастырей. Следуя примеру своего далекого
предшественника Гонория III, Пий XII обратил свое
внимание на незаменимых еще со времен господства
инквизиции доминиканцев. «Достойнейшему» из них,
бельгийцу Марлиону, была поручена реорганизация
службы шпионажа.
Вскоре список главных руководителей службы был
утвержден папой. Ее центральное управление
возглавил генерал ордена иезуитов Янсенс. Его
заместителем, вернее — представителем папы, был назначен
исполняющий обязанности государственного секретаря
Ватикана, неоднократно уже здесь упомянутый,
кардинал Монтини. В качестве помощников приступили
к делу административный директор центрального
управления службы шпионажа иезуитов Шмидер и
главный директор ЧИП доминиканец Марлион, который
одновременно возглавлял недавно организованный
папой для борьбы с демократическим движением «Ин-
ституто католико ди аттивита сочиале».
Под новым руководством «внутренний отдел»
заработал во всю мощь. Возникают все новые и новые
филиалы ЧИП, их возглавляют известнейшие,
преданнейшие, отчаяннейшие. Нью-йоркскому филиалу
вместе с миссис Брэди покровительствует его
преосвященство Спеллман; кобленцским (Западная Германия)
руководит директор агентства «Католише пресс-кор-
респонденц» патер Пойлером. Неблагодарную работу
по «исследованию» стран Востока и Юго-Востока взя-
169
ли на свои плечи упомянутые выше Шмидер и
главный эксперт апостольской столицы Прешерен.
Верховным стратегом ЧИП является все тот же
неугомонный верховный первосвященник Пий XII,
разработавший детальную программу деятельности
ЧИП. С общими очертаниями этой программы
знакомит нас румынская газета «Тимпул» от 25 апреля
1948 года. Предоставим же ей слово:
«Основной задачей, поставленной папой перед
службой шпионажа, является борьба против коммунизма,
проникновение агентуры в страны новой демократии
и в коммунистические партии, сбор информации о
деятельности левых партий во всех странах, в том числе
в странах народной демократии, и ведение
соответствующей пропаганды в этих странах.
Папа рекомендовал следующее: 1) лучше
использовать возможности сбора информации, имеющихся у
католических организаций, священников, католических
миссионеров и монашеских орденов; 2) установить на
местах связь со шпионской службой Англии и США.
Каждую информацию общего характера, пригодную
для использования в борьбе против коммунизма, папа
предложил немедленно передавать американским и
английским разведывательным службам. Информацию
особо секретного характера следует передавать в
центральное управление службы Ватикана».
Особенно тесные связи установила эта шпионская
служба с разведкой США. С согласия руководства
американской разведки папа назначил американских
католических епископов своими представителями в
странах Западной Европы. Руководитель
американских иезуитов Винцент Маккормик и профессор Гре-
горианского университета американец Форд являются
постоянными советниками шпионской службы
Ватикана.
Характер развития событий таков, что они
предъявляют ЧИП все новые и новые требования,
удовлетворить которые невозможно без значительного
увеличения количества высококвалифицированных
кадров. Пий XII и в этом случае находит выход. При Ва-
170
тикане основывают так называемый «Институт
журналистики», полуофициально называемой
«журналистикой четвертого измерения». Адептами этого
оригинального вида искусства выступают молодые люди
различных национальностей. Преобладают, впрочем, выходцы
из Восточной Европы, воспитанники «Коллегиум
руссикум», либо специалисты, прошедшие курс в
ватиканском «Институте восточных наук». Преподавание
ведется лучшими педагогами, какие только есть в
распоряжении святейшего престола, поэтому уровень
знаний студентов здесь несравненно выше, чем у их
коллег из мюнхенской семинарии, этой жалкой копии
«Института», способной выпускать лишь рядовых
шпионов.
Надо сказать, что разведывательный аппарат
блаженнейшего немало потрудился за эти годы. По
утверждению американца Томаса Моргана, работавшего
много лет корреспондентом при Ватикане и
исключительно тепло относящегося к папе, Пий XII знал о
решении Гитлера вторгнуться в Польшу еще 24 августа,
то есть за восемь дней до вторжения. В 1943 году
непогрешимый был так же точно информирован о
подготовляемом вступлении гитлеровских войск в
Италию — за семь дней до того, как это вступление
стало фактом. Ни в одном, ни в другом случае «отец
человечества» не счел необходимым предупредить
жертвы подготовляемой агрессии. Эта
необыкновенная сдержанность папы становится абсолютно
понятной, если учесть, что на груди Пия XII и поныне
красуется высший орден Маньчжоу-го!..
Усиление работы ЧИП и родственных организаций
ведет за собою увеличение расходов. Они целиком
покрываются заокеанскими джентльменами.
Возрастающая зависимость святого престола от Америки не
может остаться без далеко идущих последствий.
Вашингтон предъявляет векселя; их можно погасить
только серьезнейшими поступками, требующими порой
ломки вековых традиций.
Особое недовольство соответствующих кругов
Америки вызывает засилие там кардиналов-итальянцев,
количество которых совершенно непропорционально
371
числу итальянцев-верующих. Мистер Майрон Тэйлор
дает ясно понять, что дальше так продолжаться не
может: поступают петиции, наконец вопрос становится
предметом живейшего обсуждения американской
публицистики. Такие меры, как назначение церковных
сановников-американцев на ответственнейшие
должности, как возведение главного капеллана
американских оккупационных войск Мунка в сан папского
нунция в Германии, уже не удовлетворяют
Вашингтон. Ситуация требует от римской курии радикальных
решений, чтобы удовлетворить требования
Уоллстрита.
Ничего не поделаешь! В начале 1948 года Пий XII
назначает сразу тридцать двух новых кардиналов, в
том числе нескольких американцев; впервые в истории
католической церкви в коллегии кардиналов исчезает
итальянское большинство.
Этот драматический жест папы римского не
должен был остаться без награды, и Вашингтон спешит
выразить свою благодарность: подведомственное папе
духовенство милостиво допускается к участию в
выполнении так называемого «плана икс», проект
которого — по данным, опубликованным в американском
консервативном еженедельнике «Юнайтед Стейтс
ньюс энд Уорлд рипорт», — предполагает, кроме
организации шпионажа, диверсий, саботажа, также «в
случае необходимости» убийства выдающихся
коммунистов.
«План икс» охватывает весь мир, но в основном
взоры его авторов и исполнителей обращены на
европейский Восток.
Как известно, в гербе Ватикана изображены
скрещенные ключи. Исполненный гордыни, святейший
уверовал, что эти ключи подойдут ко всем замкам в мире.
Уже много лет при пастыре существует и трудится
так называемая комиссия «про Руссиа» К Когда-то в
ней подвизался вильгельмствующий в бозе герцог
1 «По делам России» (лат.).
172
Макс Баденский. Ревностный труд герцога принес
тогда свои плоды: возросло количество российских
иезуитов, и католицизм стал последним криком моды в
салонах петербургских аристократов, усомнившихся в
действенности православия. Этим, между прочим, не
замедлила воспользоваться немецкая разведка. Но
растворенные уже было двери захлопнул ветер
революции.
В наши дни комиссию возглавляет особа не столь
уж голубой крови—монсиньор Тардини, фамилию
которого при желании можно перевести на русский язык,
и тогда получится: «монсиньор Запоздалый».
Председатель комиссии славится своим трудолюбием. Он
регулярно читает «Правду», внимательно следит за
издаваемой в СССР литературой и советскими
радиопередачами. Кроме того, монсиньор Доминико
Тардини собирает информацию из источников, известных
только ему одному. Он умело отсеивает факты из
груд получаемого вранья, но эти крохи истины
становятся все менее и менее утешительными для
Ватикана, вследствие чего монсиньору приходится пускать
в ход одно лишь вранье, к тому же с результатом,
который не покрывает даже расходов, связанных
с содержанием штатов комиссии.
За отсутствием у берегов Невы приверженных
католицизму князей и графов, монсиньор Тардини
вынужден довольствоваться бог знает кем или,
вернее, чем. Музыкальные бабушки-эмигрантки,
плененные в оные времена звуками церковных органов,
отдали богу душу, а их дети и внуки, в большинстве
случаев, давно уже не имеют ничего общего с
Россией, даже забыли родной язык. Пришлось
монсиньору обратиться за помощью к выброшенному
окончательно за борт человеческому отребью, вроде бывших
гитлеровских бургомистров, полицаев, националистов
всякого рода и вообще всевозможных преступников
и мерзейших людишек.
Ибо, как говорят, на безрыбье и рак рыба. С
милостивого разрешения монсиньора Тардини и с
благословения папы, иезуиты основывают в Лондоне и в
других центрах Западной Европы так называемую
173
«Российскую католическую миссию», которая
приступает к оказанию «духовной поддержки»
вышеозначенным людишкам. После более или менее
тщательного отбора и несложной операции окатоличения
наиболее пронырливых отправляют в Рим, под опеку
«Коллегиум руссикум» и «Института журналистики»,
остальных передают в распоряжение
соответствующих филиалов ЧИП.
Хлопот у монсиньора — по уши, но результатами
он недоволен. Двери в Советский Союз захлопнуты
перед ним наглухо, и никаким ватиканским ключом
ему не отпереть их замков.
Создание в странах Восточной и Юго-Восточной
Европы народно-демократических республик было для
Ватикана ударом, несравненно более жестоким, чем
реформатское движение XVI — XVII столетий. Там
Рим имел дело с более или менее многочисленными
конкурентами, здесь — со смертельным врагом в лице
народов, поднявшихся к жизни и свободе и успешно
сбрасывающих с себя духовное ярмо, угнетавшее их
на протяжении столетий. Утрата этих стран
Ватиканом означает не только утрату традиционной,
излюбленной и весьма прибыльной сферы влияния. Это уже
не поражение, это для него чреватая наихудшими
последствиями катастрофа, это гибель скалы
Петровой, пережившей тысячелетия, это начало ее конца,
призрак которого впервые промелькнул перед
глазами самоуверенных ватиканских жрецов после залпов
революционной «Авроры».
Католическая церковь в Польше, Чехословакии,
Венгрии и на Балканах всегда играла большую
политическую роль, отстаивая всеми способами интересы
власть имущих. Передача крестьянам помещичьей
или церковной земли объявляется реакционными
католическими ксендзами смертным грехом,
неслыханным кощунством, посягательством на святая святых,
наглейшей ересью. Вместо елейно-подобострастных
улыбочек у них появилась гримаса ненависти; в
цитатах из евангелия зазвучали грозные намеки; церкви
и монастыри стали арсеналами, казармами и
трибунами воинствующей реакции.
174
Блаженнейший не сводит глаз даже с
маленькой Словакии. Правда, Глинка давно успокоился, а
папского камергера монсиньора Тисо по приговору
народного трибунала вознесли на виселицу. Но на
ежегодно устраиваемых в соборе св. Петра в Риме
панихидах за упокой души этого матерого убийцы
присутствуют бывшие министры Тисо: Сидор и Дур-
чанский. Вот уже четвертый год они — почетные
гости папы, здесь они нашли пристанище и спасение от
справедливой кары.
Сидор был в годы гитлеровского господства в
Чехословакии послом Тисо при Ватикане; Дурчанского,
как его министра иностранных дел, иногда допускали
в приемную Риббентропа. Теперь они тоже при
деле. По согласованным поручениям Пия XII и
американской разведки они налаживают связи со своими
приверженцами в Словакии и создают подпольную
организацию типа «вер-вольф». Шпионско-террористи-
ческой работой на местах руководил иезуит Колако-
вич.
Заговор был своевременно раскрыт, заговорщики
очутились за решеткой. В ответ на это Пий XII
обращается к чехословацкому духовенству с воззванием.
Он, мол, понимает все трудности их положения,
однако призывает епископов, как и прежде, «выполнять
свою обязанность и защищать интересы церкви».
Таким образом, действия Колаковича и компании были
святым престолом официально санкционированы, а
возможные последователи разоблаченных
заговорщиков получили высочайшее благословение на путь
шпионажа, диверсий и террора.
В соседней Венгрии интересы римской церкви
представлял кардинал Миндсенти. Этот держал себя
сверхнезависимо. Гнев его был воистину жестоким, а
злоба — закоренелой. Бывший владелец восьмисот
двадцати пяти тысяч хольдов 1 земли объявил
«священную» войну новой Венгрии, замок этого феодала
в митре превратился в последний бастион венгерской
Вандеи.
1 X о л ь д — 0,57 гектара.
175
Миндсенти — горячая голова, «он до мозга костей
исполнен фанатической ненависти к еретикам», а
ересью для него являлось все враждебное старой
Венгрии, Венгрии неукротимых феодалов и неистовых
прелатов. Он прямой потомок, последователь и
преемник тех, кто в XVI столетии издал закон о
сожжении живьем всех протестантов; тех, кто изжарил на
раскаленном железном кресте вождя
крестьян-повстанцев Юрия Дожу, а товарищей его накормил
плотью убитого; кто жестоко расправлялся с
вольными гайдуками Стефана Бочкая; кто во славу
Габсбургов и папы залил Венгрию кровью повстанцев
Ракочи и Текеля. Ныне в распоряжении кардинала
не было ни трибунала святой инквизиции, ни
жандармерии Хорти и эсэсовцев Салаши, но в его руках
остались еще другие средства: амвоны, послания,
воззвания, библия, метафорами которой он ловко
пользовался в борьбе с народной властью;
подведомственный ему клир; наконец, Ватикан, который
торопливо распространял по радио антигосударственные
призывы Миндсенти.
После проведения аграрной реформы и
национализации тяжелой промышленности примас Венгрии
обращается к верующим с отчаянным посланием:
«Мы видим распятым на кресте все, что мы
имеем!»
Пытаясь вызвать недоверие масс к политике
правительства, йожеф Миндсенти грозно восклицает:
«По святому писанию, проклят тот, кто верит в
людей!»
В очередном послании неистовый кардинал
повелевает после каждой вечерней молитвы звонить в
колокола за «спасение» пойманных с поличным
деятелей реакционного подполья и агентов иностранных
разведок, а католиков призывает молиться за
вышеназванных «венгров, изнемогающих в тюрьмах».
После национализации католических школ примас
окончательно выходит из себя: от имени венгерского
епископата он посылает патетическое обращение ко
всем епископам мира. В этом обращении слышится
призыв к крестовому походу против народно-демокра-
176
тической Венгрии. Примас, с нетерпением ожидая
интервентов, заявляет:
«Если Венгрия станет коммунистической страной,
то можно прямо сказать, что свобода почти всей
Европы будет скомпрометирована...»
Его святейшество, разумеется, в восторге от
своего кардинала. Из-под папской руки выходят все
новые и новые письма, адресованные венгерскому
агенту католицизма, но предназначенные для пропаганды
против венгерского народа. Они передаются тут же
по ватиканскому радио, а Миндсенти рассылает их
тексты во все приходы для оглашения с амвонов.
В самом Будапеште папские послания служат для
организации антиправительственных демонстраций.
Для этой цели мобилизуется «католическое действие»,
религиозные общества, церковные братства, получает
также соответствующий сигнал фашистское подполье,
и вот перед собором создается толпа, призванная
свидетельствовать о преданности венгерского народа
римской церкви и о его единомыслии с обнаглевшим
прелатом.
В декабре 1945 года, когда назрел вопрос о
провозглашении Венгрии республикой, кардинал
обращается к правительству с письмом, написанным в
ультимативном тоне: «До моего ведома дошло, что
Национальное собрание в ближайшем будущем
намеревается поставить в порядок дня конституционные
реформы и среди них закон о провозглашении
республики. Если это соответствует истине, то, пользуясь
государственным правом венгерских кардиналов,
существующим на протяжении девятисот лет, я
заявляю протест».
Таким властным тоном разговаривали когда-то
абсолютные монархи со своими министрами. В 1945
году католический кардинал Йожеф Миндсенти
пытался разговаривать так же с народным
правительством. Что это—зазнайство? Мания величия?
Ни то, ни другое. Кардинал Миндсенти, примас
Венгрии, архиепископ Эстергомский и прочая, и
прочая, и прочая, говорил здесь только от своего
собственного имени, от имени «обиженного» реформой
12 Я. Галан
177
владельца восьмисот двадцати пяти тысяч хольдов
земли. Его устами говорила вчерашняя Венгрия,
Венгрия надутых неистовых феодалов, привыкших на
костях и крови венгерского и других народов строить
свою сомнительную славу и свое несомненное
богатство.
В июне 1947 года Миндсенти заявляет о своем
желании выехать в Канаду, где должен состояться
торжественный праздник в честь девы Марии.
Кардинал выезжает за океан, однако его архикатолическое
сердце бьется не столько для девы Марии, сколько
для вдовы экс-императора Австрии и экс-короля
Венгрии — Зиты. Он сговаривается с бывшим духовником
Карла Габсбурга, нью-йоркским священником Павлом
Жамбоки, и тот устраивает ему встречу с
честолюбивой Зитой. Длительная беседа закончилась
обоюдным благословением.
Несколько дней спустя в одном из монастырей
близ Чикаго Миндсенти встречается с сыном Зиты
Отто. Габсбург заверяет кардинала, что обострение
отношений между великими державами вскоре
приведет к войне и что после войны ответственные круги
США с радостью приветствовали бы возрождение
Габсбургской монархии. Между Отто и Миндсенти
нет ни малейшего расхождения в замыслах: война,
только война осуществит их планы.
Кардинал докладывает Габсбургу о своих
«достижениях». С целью объединения монархических сил
Венгрии он решил превратить «Католический
народный союз» в массовую монархическую организацию.
Кроме того, он успел уже создать
законспирированные легитимистские группы, действующие в лоне
различных партий. Архиепископ Эстергомский заверяет
Габсбурга, что «легитимисты Венгрии будут
объединяться и организовываться, пока не достигнут своей
цели...»
Кардинал растроганно прощается, Габсбург
желает ему успеха. Миндсенти спешит, его ждут еще
две, не менее важные беседы. Он отчитывается перед
кардиналом Спеллманом о результатах беседы с Отто
Габсбургом, а накануне выезда из Нью-Йорка встре-
178
чается с эмигрантом — фашистом Тибором Экгардтом
и поручает ему объединить американских венгров
вокруг особы Габсбурга. Экгардт живо поддакивает.
Он также легитимист и уже немало сделал для
возрождения венгерской монархии. Он хвастается своими
связями и влияниями, с гордостью рассказывает
о своем близком знакомстве с шефом Федерального
бюро расследований Эдгаром Гувером, намекает на
свое сотрудничество с миссис Брэди и наконец
информирует кардинала о деталях деятельности бывшего
посла Салаши при Ватикане, прелата Ференца Лют-
тора, и его венгерско-аргентинских присных.
И вот Миндсенти снова на венгерской земле.
Наслушавшись рассказов кардинала, монархистский
деятель Баранняи готовит проект мероприятий для
восстановления монархии и даже составляет список
министров, которые войдут в правительство после
обещанной кардиналом оккупации Венгрии англо-аме-
риканцами... Архиепископ Эстергомский
торжественно утверждает этот проект будущего кабинета.
Он и сам составляет проекты. В найденной среди
его секретных бумаг папке «Земельная реформа» он
рисует картину будущей монархической Венгрии,
точнее венгерской деревни. Он предлагает отобрать
землю у крестьян и отдать ее кулакам и помещикам,
владельцам пятисот—двух тысяч хольдов...
Поглощенный махинациями по ускорению войны и
восстановлению монархии, Миндсенти находит еще
время для валютных спекуляций и шпионажа.
Информации принимает от него сам посланник США в
Будапеште Артур Шенфельд, который посылает копии
кардинальских писем прямо в Вашингтон, в
государственный департамент.
Об этом мистер Шенфельд достаточно откровенно
говорит в письме от 27 декабря 1946 года,
переданном тайным путем кардиналу:
«Я подтверждаю получение Вашего письма от
16 декабря, в котором Вы приводите Ваши общие
соображения политического характера относительно
Венгрии в нынешнем ее положении. Копии этих писем
были отосланы в государственный департамент... Мне
12»
179
хотелось бы воспользоваться случаем, чтобы заверить
Ваше преосвященство, что я и в дальнейшем буду
с радостью принимать Ваши замечания по всем
вопросам, на которые Вы пожелаете обратить мое
внимание».
Постепенно Миндсенти теряет терпение: он
нажимает на американского посланника, требуя ускорить
войну путем непосредственного вмешательства США
во внутренние дела Венгрии.
Когда венгерское правительство обратилось к
Вашингтону с просьбой вернуть Венгрии украденную
гитлеровцами историческую ценность — корону
святого Стефана, — Миндсенти пишет письмо новому
посланнику США в Будапеште Чепину:
«Моя просьба к Вам — похлопотать о срочном
распоряжении Вашего высокого правительства о том,
чтобы армия отправила и передала святую корону на
сохранение его святейшеству — папе римскому,
предшественник которого в 1000 году подарил корону
святому Стефану. Это чрезвычайно важно для нашей
нации, ибо хлопоты о ее выдаче и наступление
(Миндсенти имеет в виду ожидавшееся им тогда
наступление американцев на... Будапешт. — Я. Г.) могли бы
катастрофически отразиться на судьбе святой
короны».
Примас Венгрии зарвался. Он был арестован. Во
время обыска в Эстергомском дворце в подвале был
найден секретный архив архиепископа,
свидетельствующий о его шпионской деятельности, спекуляции
иностранной валютой и подготовке
монархического переворота. Нити заговора тянулись из Эстергома
за океан, к кабинетам господ Эдгара Гувера и Тибо-
ра Экгардта, а также к гнездышку, свитому в Буэнос-
Айресе преподобным прелатом Ференцем Люттором.
Протежировали заговору кардинал Спеллман и
любимец Вашингтона Отто Габсбург.
Тяжесть преступлений Миндсенти была так
велика, что спесивый кардинал согнулся под ней, и на
процессе, перед лицом разоблачительных документов,
вынужден был признать свою вину. Справедливый
приговор гласил: пожизненное заключение.
180
Этот приговор дал Ватикану и его заокеанским
покровителям повод к очередной антивенгерской
кампании. Для этой кампании была использована даже
трибуна ООН. Ударь по столу — ножницы отзовутся...
Иожеф Миндсенти имел достойных коллег в лице
польских кардиналов Хлёнда и Сапеги.
Да, польские князья церкви за последние годы
тоже много потеряли. Тысячу лет они считали себя
неограниченными «властителями душ»,
полновластными вершителями земной и потусторонней судьбы своей
паствы. Проповедники и исполнители завоевательной
политики ягеллонов, они стали грозой украинского и
белорусского народов, кошмаром для всех иноверцев.
Когда Петр Сларга не смог добиться установления в
Польше святой инквизиции, он сумел и без
инквизиции запытать до смерти тысячи и тысячи схизматиков
и евреев.
В послеверсальской Польше Хленда и Сапега
узурпировали для себя неограниченные права. Возглавив
крайнюю реакцию, эти прелаты были надежнейшей
опорой режима. Не претендуя на министерские
портфели, они руками светских министров делали то, что
не пристало делать рукам, поднимающим гостию, то
есть «тело Христово». Не удовлетворяясь влиянием
на государственный аппарат, они создали свои
организации фашистского типа, свою цензуру, свою
систему проверки лойяльности граждан. Вотчина князя
Сапеги — Краков напоминал Брюгге, а когда в
душную тишину этого города врывалась песня
демонстрирующих рабочих, кардинал благословлял пули,
которыми полиция встречала демонстрантов.
Подведомственный ему клир Силезии следил за каждым шагом
своих прихожан, проникал сквозь стены домов, не
спускал глаз ни с одной мало-мальски важной
подробности из частной жизни рабочих, наблюдал за
регулярным исполнением ими религиозных обрядов, а
пронюхав малейшую крамолу, предавал крамольника
жесточайшей травле.
Насаждаемые многочисленными служителями
церкви суеверия превращались в их руках в манну
небесную, наполнявшую в виде золотого дождя их
181
сейфы. Издававшийся ими многотысячным тиражом
«Рыцарь Непорочной» за солидную мзду брался
избавлять своих читателей ото всех житейских невзгод
путем специальных молитв, читаемых ответственным
редактором и его заместителем. «Чудотворная икона
Ясногорской богоматери» в Ченстохове принесла
ордену, пекущемуся о ней, сказочное богатство.
По милости обоих кардиналов, фашизм в его
чистейшем виде прочно обосновался в стенах польских
высших учебных заведений; они были крестными
отцами ОНР и «Фаланги»; они с трогательным
восторгом взирали на усилия патера Тщецяка, этой
польской разновидности патера Кофлина, и одобрительно
покачивали головами, когда патер проповедовал «во
Христе» пришествие Гитлера в Польшу.
А когда это пришествие совершилось, когда среди
жертв гитлеровского террора стали все чаще и чаще
попадаться рядовые священники, князь Адам Сапега
заводит дружбу с палачом Польши Гансом Франком,
дружбу, о которой чуть не со слезами умиления
говорил Ганс Франк на нюрнбергской скамье подсудимых.
Выдающийся католический публицист Скинский
становится выдающимся коллаборационистом, соавтором
катынской провокации, автором опубликованных
ныне докладных записок, в которых он накануне
разгрома гитлеровской Германии давал нацистам советы,
какие меры они должны принять, чтобы удержать
польский народ в покорности и рабстве...
Легко себе представить, какие чувства охватили
всю эту братию, когда Польша стала свободной, —
свободной от гитлеровцев, свободной от их польских
предтеч и последователей. Случилось то, чего они
боялись пуще огня, что ненавидели ненавистью
фанатиков: польский народ впервые за свое более чем
тысячелетнее существование стал на ноги, да так
крепко стал, что под этими ногами рассыпалось в
прах все, на чем основывались сила и слава сапег и
хлендов.
Они призвали на помощь террор. Разумеется, не
сами они стреляли, не сами вонзали ножи меж
лопаток. Для этого у них под рукой было подобие средне-
182
вековой «Христовой милиции» в образе бандитских
подпольных организаций «АК», «НСЗ», «ВРН»,
действовавших под эгидой Лондона и Вашингтона. Они
науськивали, подговаривали, благословляли
и—укрывали. Укрывали террористов, укрывали их оружие, их
боеприпасы. Монастырские кельи превращались в
разбойничьи пещеры, монастырские подвалы — в
арсеналы. Мишенями для убийц были демократические
деятели, представители власти, рабочие из ППР,
крестьяне из СЛ, солдаты, офицеры Войска
польского, работники милиции,— мишенью была вся молодая
Польша, которая рвалась к новой жизни.
А когда семьи злодейски убитых обращались к
ксендзам с просьбой отслужить похоронный обряд, те
пожимали плечами и отказывались. У них были
указания высших духовных властей, Ватикана, —
указания, предписывающие ни в коем случае не служить
похоронных молебствий над жертвами фашистского
террора...
Они призвали на помощь антисемитизм, эту
религию идиотов и подлецов. Еще не истлели трупы трех
с половиной миллионов замученных гитлеровцами
польских евреев, как этот трудолюбивый и одаренный
народ снова стал объектом дикой травли. Под боком
кардинала Сапеги вспыхивает погром; немного
спустя свидетелем ужасающей резни евреев становится
город Кельцы. Правительство принимает энергичные
меры, вожаков банды погромщиков приговаривают к
смерти. Тогда в защиту убийц зазвучал голос
кардинала Хлёнда. Примас Польши не только умоляет о
милосердии для головорезов-грабителей; нет, он явно
с целью натравливания вынимает из-за пазухи
грязную легенду о детоубийстве, клевету, порожденную
во тьме Испании XIII века, и, ссылаясь на дело Бей-
лиса, цинично заявляет:
«Еще окончательно не установлено, действительно
ли евреи не пользуются детской кровью для
приготовления мацы...»
Результаты выборов в сейм пошатнули
самоуверенность польских владык. Теперь у них осталась
одна надежда — на третью войну и один выигрыш —
183
выигрыш времени. А пока что им пришлось
прибегнуть к тактике премудрого змия.
Но и эта тактика оказалась вскоре обманчивой.
Лицемерные кривлянья никого не убедили, никого не
соблазнили. Организм молодого государства окреп,
корни старого строя выкорчевывались с
возрастающей энергией. Миколайчик «перебазировался» за
границу, а желанная война, вопреки надеждам своих
католических восхвалителей, все не начиналась.
Премудрый змий оказался плохим советчиком.
Тогда они снова перешли в отчаянное наступление.
Прежде всего градом посыпались протесты. Хлёнд
протестует против «обид», якобы наносимых
польскими властями немцам, и снабжает, таким образом,
Черчилля новыми антипольскими аргументами. По
инициативе примаса польское реакционное
духовенство поднимает с амвонов голос протеста против
воскресников по восстановлению Варшавы, удивленно
вопрошая в специально с этой целью составленном
пастырском послании: «Действительно ли
восстановление Варшавы является столь срочным делом?»
«Против», «против», «против»—вот лейтмотив всех
последующих пастырских посланий. В апреле 1948 года
польский епископат во главе с примасом обращается
к молодежи с антиправительственным призывом, в
котором он осмеливается назвать рабочие партии
«темными силами, смущающими молодые души».
Несколько позже этот же епископат с тем же боевым
азартом протестует против... созыва
Объединительного съезда польской демократической молодежи.
В новогоднем послании он протестует вообще против
народной Польши и просит бога «явить милосердие»
польскому народу...
Однако призывы к богу не помогли,
всепобеждающая жизнь неумолимо шла вперед. Вдобавок хлендам
и сапегам был нанесен жестокий удар, причем удар
оттуда, откуда они меньше всего ожидали...
В 1948 году польская пресса опубликовала
антипольское послание Пия XII к немецким епископам.
В первую минуту хленды растерялись и объявили
папское послание чем-то вроде фальшивки. Когда
184
же в дальнейшем опровергать его подлинность стало
невозможно, они наложили на послание запрет,
приравняв чтение его к смертному греху. Эти наскоро
принятые меры поставили католических владык в
исключительно смешное положение. А между тем
польская общественность не скрывала своего возмущения
выходкой его святейшества, осудил претензии
Ватикана также и католический в прошлом «Союз горно-
силезских повстанцев». В сознании и чувствах
верующих назревал серьезный кризис, неуклюжие увертки
польских представителей римской курии только
углубляли его. Даже наиболее религиозные поляки
начинали понимать, что интересы этой курии
коренным образом расходятся с интересами польского
народа.
Нерешительность польских владык не могла
продолжаться долго, надо было найти какой-то выход.
Надо было прежде всего реабилитировать
верховного первопастыря, реабилитировать любой ценой.
Как и следовало ожидать, за это дело взялся лично
Хлёнд. В его еженедельном органе «Тыгодник
варшавски» появилась статья, в которой послание папы
объясняется его «недостаточной осведомленностью
в этих вопросах», а вину за это автор великодушно
возлагает на... польское правительство, которое до
сих пор не заключило конкордата со святым
престолом!
В июле 1948 года кардинал Сапега выехал в Рим.
В приемной блаженнейшего его ждал Миколайчик.
Их демонстративно приняли вместе. Это уже не
маневр, это способ нажима. Это символическое
объявление народной Польше «священной» войны.
Какие выводы были сделаны на этом совете
нечестивых и какие мероприятия разработаны —
неизвестно. Надо думать, что выводы были печальны, а
мероприятия оказались безрезультатными, ибо через
некоторое время после возвращения Сапеги в Польшу
примас Хлёнд приказал долго жить, передав в руки
краковского кардинала тонущий пиратский корабль
польского католицизма.
Впрочем, пушки этого корабля еще стреляют, еще
185
ранят, еще сеют смерть, и они будут стрелять, пока
не покроет их волна гибели, волна забвения.
В начале 1946 года во Львове совершилось
событие, вызвавшее в римской курии глубокое
замешательство: собор греко-католического духовенства
принял единодушное решение о полном разрыве с Римом
и призвал к этому четыре с лишним миллиона
верующих. Таким образом, Брестская уния канула в
лету, а ее создание—плод четырехсотлетних
отчаянных усилий врагов Украины — рассыпалось в прах,
не оставив по себе ничего, кроме мрачных
воспоминаний и запаха тления.
В стенах ватиканского Содома образовалась
глубокая и непоправимая брешь. Был бесповоротно
потерян чудесный плацдарм для прыжка католицизма на
славянский Восток; кроме того, был нанесен
жесточайший удар авторитету святого престола. Это
прецедент, не имеющий себе равных в истории
католицизма, — прецедент, несущий в себе угрозу
дальнейших «отступничеству еще более массовых, еще более
катастрофичных...
А сколько труда, сколько усилий было вложено
апостольской столицей и ее клевретами в дело
создания и укрепления унии!
В 1595 году папа Климент VIII принимает
епископов Потия и Терлецкого, присланных к нему польским
королем как представителей подчиненного Польше
православного населения Украины и Белоруссии.
Святейший заявляет первым униатам: «Я не хочу править
вами, хочу нести на себе тяготы ваши».
Год спустя состоялся Брестский собор.
Понуждаемые королевскими комиссарами и иезуитами,креатуры
вроде Потия, Терлецкого и Рагозы объявляют унию
православных с католической церковью
совершившимся фактом.
Этот факт поставил православное население вне
закона. Негласная папско-королевская инквизиция,
инквизиция без санбенито и аутодафе, трудилась не
менее энергично, чем ее испанская сестра.
Пятидесятилетие униатского террора Украина
отметила по-своему: хмельничиной. Буря всенародного
186
восстания вымела вместе со шляхтой и ее унию со
всей украинской земли, за исключением ее западной
части, где уния упрочилась крепко и надолго.
Распад старой Польши повлек за собой
ликвидацию унии на всей территории, вошедшей в состав
Российской империи. В распоряжении святого престола
остались лишь юго-западные украинские земли,
ставшие провинцией ультракатолической династии
Габсбургов.
Для австрийских императоров уния должна была
стать китайской стеной, которая отделила бы галиций-
ских и закарпатских украинцев от их приднепровских
братьев, и плацдармом для предполагаемых
восточных походов. Этим объясняется та трогательная
любовь, какой Вена с первого дня оккупации Львова
окружила униатскую церковь и ее служителей.
Но вот на мировой арене появляется новая
великая держава — Германия. По мере роста ее сил
растут и ее аппетиты. Взоры юнкеров обращаются на
богатый славянский Восток. Дряхлеющая год от года
Австрия постепенно становится сателлитом немецкой
империи, а сметливый папа Лев XIII передает меч
католицизма в руки воинственных Гогенцоллернов. Уния
снова приобретает свое значение.
На территории Галиции спешно сооружается
стратегический трамплин, ему стараются одновременно
придать соответствующую политическую окраску.
Униатский клир становится предметом особых забот
Ватикана, Вены и Берлина. Лев XIII обращает
внимание на украинскую разновидность иезуитов —
монашеский орден василиан, который в свое время оказал
неоценимые услуги польским королям и магнатам.
С помощью специально для этой цели отряженных
иезуитов орден был быстро реорганизован, превращен
в гибкое оружие, направленное острием на Восток.
Зарождающийся украинский национализм
приобретает в лице василиан своих фанатических глашатаев
и проповедников.
Но принятые меры не удовлетворили ни Рим, ни
Вену, ни Берлин. Для окончательного укрепления унии
187
и превращения ее в кулак большой ударной силы
необходим был человек, социальное положение которого
давало бы гарантию, что под его руководством греко-
католическая церковь выполнит свою задачу. Такой
человек был найден. Его деятельность заслуживает
особого рассказа1.
Так или иначе, святоюрский энклав до самого 1945
года оставался местом темных сделок и контрактов, а
его закоулки — идеальным убежищем для
фашистских рыцарей длинного ножа.
Конец легко было предвидеть: по инициативе не-
разложенной части униатского духовенства во Львове
был создан инициативный комитет по ликвидации унии.
Во главе комитета стал священник Гавриил Костель-
ник. Работа комитета увенчалась упомянутым
собором. Греко-католическая церковь на Западной
Украине упокоилась.
Его святейшеству трудно примириться с этим,
римская курия не сдает своих позиций без боя, и она дает
это почувствовать. Через некоторое время
протопресвитер Гавриил Костельник при выходе из церкви был
убит наповал разрывными пулями, выпущенными
рукою агента Ватикана.
Да, папы умеют мстить, гадюки Петровой скалы
умеют жалить. Особенно теперь, в годы великих
перемен, в годы похода человечества на завоевание
достойных его вершин. Рожденная во тьме средневековья,
вскормленная человеческой кровью, паразитирующая
на раках человечества ватиканская клика мечется,
перепуганная и ошалелая, на пороге грядущей эпохи и
мутит, каверзничает, интригует, плюется, кусает, сеет
смерть и трупным смрадом отравляет воздух наших
дней. Детище извечной подлости, запоздалая отрыжка
мрачного прошлого, кричащий анахронизм!
Ныне Ватикан вместе с Уолл-стритом полным
голосом объявляет войну прогрессивному человечеству,
идущему вперед; бешеные кони апокалипсиса пыта-
1 Следовавшая далее характеристика Андрея Шептицкого
была повторена автором в памфлете «Сумерки чужих богов»
(см. стр. 190) и здесь поэтому опущена (ред.).
188
ются вытащить из болота утопающий воз
католицизма.
Но время опередило обнаглевших могильщиков
счастья человечества; окрепшие руки трудящегося
народа под руководством СССР сумеют осадить
взбесившихся поджигателей войны, и трясина гибели,
трясина забвения в недалеком будущем окончательно
засосет уолл-стритовское, ватиканское исчадие ада.
Те, что вышли из тьмы, во тьму и канут, ибо
когда восходит светило дня, тускнеют светила ночи.
1948
СУМЕРКИ ЧУЖИХ БОГОВ
Карьера графа Шептицкого начинается в
восьмидесятых годах прошлого столетия. В первых шагах
молодого магната не было ничего необычного. Граф
Андрей получает шпоры австрийского кавалериста.
Аристократическое происхождение, богатство и
импозантная внешность пленяют сердца не только
гарнизонных дам и их великосветских соперниц. В этом
стройном офицере есть нечто такое, что сразу
привлекает к нему ближайшее окружение императора
Франца-Иосифа I, в том числе и папского нунция.
Неистовое честолюбие распирает грудь молодого офицера.
Этот птенец из породы коршунов Вишневецких
чувствует, что ему по плечу дела, о которых будет
говорить весь мир.
Космополитизм магната помогает графу
рассуждать трезво. Он не хочет повторять ошибок своих
предков, упорно переоценивавших значение
физической силы. Чего не могло сделать насилие, того
добьется слово, окрыленное верой, фанатичной верой,
единственный источник которой бьет в долине реки
Тибр. Там, под сенью Колизея, начнется путь графа
к воображаемому величию...
Но граф еще не сделал решающего шага. Он
проводит старательную разведку, и ее результат
превосходит самые смелые предположения. Влиятельные
круги, как и Ватикан в лице венского нунция, оказы-
190
ваются горячими приверженцами идей Шептицкого.
О честолюбивых планах графа узнает и папа римский.
Узнает и — после долгой беседы с ним с глазу на
глаз — благословляет.
Кость была кинута. Шептицкий простился с
мундиром и поехал в Рим, где его ждал «студиум руте-
нум» — специально созданный для униатских
украинцев теологический институт.
НА ЗЕМЛЕ ПРАДЕДОВ
В 1891 году граф в скромной рясе
священнослужителя-монаха возвращается на землю своих
прадедов. Мир еще молчит, но вскоре...
Шептицкий приезжает в Галицию, обремененный
миссией особого значения. На протяжении короткого
времени он завершает начатую еще кардиналом Сем-
братовичем коренную реформу униатского
монашеского ордена василиан, преобразовав этот прогнивший
обломок прошлого в отряд воинствующего
католицизма, построенный по всем правилам иезуитской
техники.
Через восемь лет голову «отца Андрея» украшает
уже епископская митра, а еще через год епископ
Андрей, под звон святоюрских колоколов,
располагается на митрополичьем престоле. С формальной
стороной вопроса было, таким образом, покончено. Теперь
от нового митрополита ждали дел, долженствующих
превратить его в абсолютного властителя дум и душ
подчиненной ему паствы.
Уже первое впечатление было ошеломляющим.
Пышность графской короны, засиявшей на горе
св. Юрия, ослепляла плебейские головы тогдашних
представителей украинской Вандеи, возбуждая в них
надежду, бодрость и — самое главное — веру в
собственную значительность и предназначение. Гордая
осанка и вместе с тем подкупающая вежливость
светского человека, трогательная простота в отношениях,
истинно монашеская кротость, выдержанная в
границах достоинства владыки, и при всем не плохое
украинское произношение — все это не могло не привлечь
191
галицийско-украинскую буржуазию, страдавшую
ощущением неполноценности.
Известие о возвращении магната к
национальности предков разжигало воображение простачков, нимб
самопожертвования засиял над головой митрополита.
Этот нимб засияет еще ярче, когда орган польских
шовинистов «Слово польске» разразится нападками
на графа, назвав его чуть ли не ренегатом...
Немало значил тот факт, что достойный служитель
церкви был одним из самых богатых помещиков
Галиции. Среди поклонявшихся ему не было никого, кто
недооценивал бы этого факта. Умел использовать его
и сам митрополит. Делегации, посещавшие
митрополита, сочно расписывали перед ним картины галиций-
ской нищеты, индивидуальные челобитчики
жаловались на свою собственную судьбу. Для каждого из
них находилось у Шептицкого доброе слово,
подкрепленное соответствующей цитатой из евангелия, и
пастырское благословение. Шкатулку граф открывал
часто, но с толком, рассудительно. Охотно подавал
материальную помощь талантам, еще охотнее
учреждениям... Впоследствии он станет главным акционером
ипотечного банка и негласным совладельцем многих
предприятий, в первую очередь тех, которые
превращают деньги в политику. Он построит лечебницу и
музей, создаст фонды на покупку церковных колоколов,
а финансируемые им газеты и журналы добросовестно
будут петь хвалу своему благодетелю. Словно
удельного князя, окружит его придворная плеяда
литераторов и художников, благоговейным шепотом
произносящих имя своего мецената.
Как и подобает милостью божией властителю,
граф Шептицкий избегает прямого вмешательства во
внутриполитическую борьбу, предпочитая роль
арбитра. Правда, в решающие минуты граф теряет
самообладание, и тогда устами митрополита говорит
плантатор, не на шутку встревоженный нарастающей
волной народного возмущения. Убийство студентом Се-
чинским императорского наместника во Львове (1908)
до такой степени всколыхнуло совесть Шептицкого,
что он без малейшего колебания приравнял смерть
19J
Потоцкого к мученической смерти Христа. В то же
время он не нашел в своем святом арсенале ни слова
осуждения, когда жандармы Потоцкого зверски
убили ни в чем неповинного крестьянина Каганца и его
товарищей по борьбе за требование элементарных прав
на труд и хлеб. Через двадцать восемь лет после
львовского кровавого четверга Шептицкий также не
найдет слов осуждения для фашистских убийц;
больше того, в широко распространенном воззвании он всю
свою злобу обрушит на жертвы массового расстрела...
АПОСТОЛЫ НЕНАВИСТИ ТОРОПЯТСЯ
Но в основном вся тяжесть политической работы
митрополита падает на плечи прелатов и
реформированных василиан. Особенно распоясываются
последние. Они произносят свои проповеди чуть ли не на
каждом шагу. С церковных амвонов и алтарей, со
школьных кафедр и наспех сбитых миссионерских
трибун они швыряют в души паствы слова-семена,
отравленные ядом неистовой ненависти к русским.
Монастырская типография в Крехове выпускает десятки
тысяч пестрых брошюр, журнальчиков, газет,
календарей, причем коммерческая калькуляция не играет
здесь никакой роли — для богоугодного дела
шкатулка митрополита открывается в любую минуту...
Апостолы зоологического национализма торопятся.
Балканские конвульсии предвещают катаклизм,
мобилизация умов происходит усиленными темпами.
Офицеры генеральных штабов Германии и Австрии днем
и ночью корпят над картами западных провинций
Российской империи. Душа митрополита полна
тревожных надежд, его глаза блуждают по зеленому пятну
«Евразии». Мысли графа перескакивают узенький
Збруч, скользят по Уральскому хребту, расправляют
крылья над бескрайной широтой Сибири, отдыхают на
берегу Охотского моря. Ненадолго его внимание
привлекает Киев, но только ненадолго. Киев глубоко
чужд ему, так же как и Москва, как и Тобольск. Он
думает о нем, как об этапе, неминуемом этапе на
пути к его, Шептицкого, величию. Жителей этих про-
13 Я. Галам
193
сторов он знает преимущественно по рассказам и из
литературы. Он придерживается мысли, что при
умелой тактике, эти многомиллионные массы верующих
станут в его руках чудесным материалом для
расчленения России. Без этого расчленения Шептицкий не
представляет себе победы унии на Востоке и
осуществления своих сокровенных мечтаний о восточном
папстве.
Этот человек не любит оставаться в пределах
мечтаний. Митрополит совершает немало такого, что хотя
и не положено делать главе церкви, зато приближает
желанный день провозглашения «восточного
патриархата». Переодетый комми-вояжером, с выданным
австрийскими властями поддельным паспортом в
кармане, митрополит неоднократно будет выезжать в
Россию и там потихоньку закладывать фундамент своего
будущего царства. В Москве он назначит своим
уполномоченным иезуита Верцинского, которого через
четыре года царская контрразведка разоблачит как
немецкого шпиона. В Петербурге Шептицкий —
желанный гость католичествующих князей Оболенских, сих
помощью он построит под городом первую униатскую
часовню. Опеку над ней и над немногочисленной,
зато прекрасно обеспеченной паствой он поручит вполне
благонадежному Лейбнеру.
Во время одной из таких экскурсий митрополит
попался. В Витебске его опознали и задержали.
Царский двор не мог не знать о тесных, почти дружеских
связях графа с наследником австрийского престола
Францем-Фердинандом и герцогом Максом
Саксонским, — связях, основанных главным образом на
единых намерениях и общих целях. Это обстоятельство
выручило Шептицкого: дело не предали огласке,
агенты охранки любезно проводили графа до границы.
БОГИ ЖАЖДУТ КРОВИ
Наступил наконец долгожданный день,
освященный кровью Фердинанда Габсбурга. Дворец
митрополита напоминает теперь военную штаб-квартиру. Из
Вены и из Ватикана приходят приказы, с подведом-
194
ственной территории — рапорты. Эти рапорты не
всегда бывают приятны. Некоторые из них ставят
митрополита в довольно неудобное положение: император-
ско-королевские власти устраивают массовые облавы
на русофилов. Из-за нехватки свободных мест в
тюрьмах в распоряжение тюремщиков отдаются школы.
Осатаневшая толпа хулиганов забрасывает камнями
конвоируемых, в Перемышле пьяные солдафоны
зверски убивают на улице около пятидесяти
арестованных, жертвами резни становятся даже
девушки-подростки. Военные трибуналы работают без передышки;
как правило, приговоры гласят: «расстрел»,
«виселица».
Среди арестованных, замученных и уничтоженных
много, чрезвычайно много греко-католических,
униатских священников. Митрополит не одобряет этой
акции во всеуслышанье, но и не осуждает. Он просто
умывает руки.
Да и некогда ему заниматься такими «мелочами».
Граф принимает делегацию за делегацией — все без
исключения ультралоияльные, до кончиков ногтей
преданные Габсбургам и их государству. Появляются
перед ним одетые в новые мундирчики первые «сече-
вые стрельцы», по милости стареющего монарха
организованные в отдельную часть. Князь униатской
церкви осеняет их крестным знамением, прощается
словами любви и призыва, желает им скорейшей победы
во имя бога, Габсбургов и родной Украины.
Но пока что события не благоприятствуют
замыслам Шептицкого: русские войска подходят к
стенам Львова. Митрополит решает остаться при своих
овечках. Ничто ему не угрожает: дом Романовых
привык себя вести в таких случаях достойно.
В первые дни после прихода русских митрополит
молчит, ожидая бури. Однако, вопреки опасениям,
буря не поднялась. Шептицкий поспешно использует
неосторожность оккупационных властей. В ближайший
праздничный день он с амвона призывает верных
молиться за победу австро-немецкого оружия...
Терпение властей лопнуло: графа Шептицкого
арестовывают. Таким образом, к нимбу святого присоеди-
13*
195
няется терновый венец, в конце концов довольно
удобной формы. Курск, Суздаль, Ярославль — вот этапы
путешествия митрополита в условиях, ничем не
напоминающих обычные условия арестантской жизни,
этапы, которые впоследствии будут преподнесены
простачкам как новый вариант страстотерпного пути
господнего...
Жажда деятельности не оставляет Шептицкого и
в ссылке. Он налаживает связь со своим старым
знакомым, православным архиепископом Антонием.
В адресуемых последнему письмах граф
предостерегает и... предлагает. Особенно тревожит его судьба
ордена василиан и... помещичьих имений в Галиции
(в подавляющем большинстве польских). В одном из
писем к Антонию он настойчиво требует
«...сохранения в Галиции ордена василиан и поддержки
прерогатив помещичьих кругов, как верной опоры
государственности и порядка...»
Но настоящую активность проявляет Шептицкий
только после февральской революции. Почетный узник
становится почетным гостем петербургских салонов.
Подавленная событиями аристократия лихорадочно
ищет новой религии. Граф сумел этим
воспользоваться. Этот подданный враждебного государства
посещает премьер-министра Временного правительства
и обер-прокурора святейшего синода князя Львова,
благодарит его за возвращенную свободу и
разговаривает, как равный с равным. Больше того, он
требует. Требует легализации униатской церкви в России,
легализации официальной и безоговорочной. В лице
князя граф находит внимательного слушателя. Князь
готов на все, но его руки слишком коротки.
Шептицкий понимает положение министра-князя.
Пренебрегая формальностями, он самочинно
назначает униатских экзархов Петрограда и Киева, он
консультирует их, знакомит с влиятельными кругами,
наконец трогательно благословляет их и выезжает
в Киев. Там его как дорогого гостя встречает
Центральная Рада, которая уже успела спеться с немцами.
Фундамент восточного вице-папства
заложен,—можно подумать и о возвращении домой. Понукаемый
196
Карлом Габсбургом, Вильгельмом Гогенцоллерном и
папой, испанский король Альфонс через своего посла
в Петрограде успешно хлопочет. Вскоре
освобожденный митрополит возвращается на Святоюрскую гору.
Триумфальную арку украшает причудливо сплетенная
корона из терниев...
ОРУЖИЕ КРЕСТОНОСЦА
Однако путь через триумфальную арку не всегда
ведет к триумфу. Победоносная Октябрьская
революция создала новые, непредвиденные трудности в
осуществлении планов Шептицкого. Крах центральных
государств лишил эти планы реальных оснований. Не
была и не могла быть для него компенсацией заново
возникшая Польша. Кровавая борьба за Львов и
жестокий правительственный террор создали атмосферу,
в которой малейшая попытка опереться на Варшаву
неминуемо вызвала бы полную потерю популярности.
Шептицкий не переоценил возможностей послевер-
сальской Польши. Этот воспитанник «студиум рутенум»
внимательно следил за развитием событий. Он
довольно давно пришел к заключению, что рано или
поздно политика Лондона, Парижа и Вашингтона даст
плоды, и Берлин вернется к роли усмирителя и
завоевателя славянского Востока. Граф лелеет надежду,
что конъюнктура повторится, — конъюнктура, тем
более благоприятная, что на сей раз война примет
характер крестового похода, а это позволит избежать
дробления антисоветских сил.
Пока это произойдет, граф Шептицкий посвятит
максимум усилий подготовительной работе. Прежде
всего он учтет наличные силы в Западной Украине и
в Америке, где большие скопления украинской
эмиграции. Особое удовольствие доставит ему смотр
нового пополнения подчиненного клира. Здоровенные,
крепкие парни, которые носят рясу с грацией
поручика драгунского полка. Политическое кредо этих
новоиспеченных священников не оставляет никаких
сомнений. В прошлом они с достаточной
убедительностью продемонстрировали его в рядах «сичевых
197
стрельцов» и в отрядах Петлюры; в будущем еще
более убедительно они продемонстрируют его как
фашистская «пятая колонна». Семена, посеянные васи-
лианами, принесли урожай. Задача графа заключается
в том, чтобы не дать ему покрыться плесенью.
Оснований для тревоги не было. Уже
«католическая акция» давала некоторую возможность
расходовать накопленную в солдафонах энергию. Немало
усилий требовала борьба с рабоче-крестьянской
оппозицией в кооперативном движении и в «Просвите»,
борьба, богатая методами и эпизодами вполне
светского характера, вплоть до кровопролития. Для
координации сил униатского клира митрополит основывает
свою собственную партию — «Украинский католический
союз» с еженедельным органом «Мета» («Цель»).
Это, конечно, никак не партия в общепринятом
значении этого слова, а нечто вроде «надпартии»,
объединяющей членов разных политических группировок.
Целью своей партии Шептицкий поставил
регулирование русла политической жизни украинской Вандеи
таким образом, чтобы ни одна второстепенная задача
не заслонила главной цели: беспощадной борьбы с
революционным Востоком, причем первое и последнее
слово в этой борьбе должно было неизменно
оставаться за его преосвященством и его
непосредственными вдохновителями.
По существу, в «стратегии» Андрея Шептицкого
не было ничего нового, кроме кровожадности, в
которой этот служитель церкви превосходил даже
великого инквизитора Томаса Торквемаду.
Развитие событий в Европе, казалось, содействовало
намерениям старого митрополита. В январе 1933 года
в империалистической захватнической Германии
устанавливается порядок, превосходящий самые радужные
надежды графа. В тяжелом топоте коричневых
батальонов ему слышатся шаги его второй молодости.
Неизлечимая болезнь приковывает его к креслу, однако
это не мешает графу действовать с удвоенной
энергией. Его дворец становится резиденцией Андрея
Мельника — правой руки полковника Коновальца,
агента немецкой разведки, который фигурирует
198
в картотеке немецкого полковника Николаи под
красноречивой кличкой «Консул 1». Должность
управляющего имениями графа облегчает «консулу» Мельнику
работу на местах, а митрополиту — связь с Берлином.
Политические симпатии графа приобретают
окончательное выражение во время гражданской войны
в Испании. Побуждаемый ими, он пишет и
публикует адресованное к украинской молодежи
«пастырское послание», в котором богом заклинает ее
действовать по примеру франкистских головорезов...
О «гитлер-югенде» он пока еще молчит; отношение к
этой организации граф открыто
продемонстрирует лишь в 1941 году, после захвата гитлеровцами
Львова.
Но на пути к этому радостному для него событию
его ждет еще тяжелое испытание, которое никак
нельзя сравнить с переживаниями 1914—1917 годов,
хотя на сей раз корона из терниев и не украсит его
седин. Вместо ожидаемых графом нацистских войск
во Львов входят части Красной Армии.
В ОЖИДАНИИ
И все же Шептицкий не утрачивает бодрости. Он не
сомневается в том, что война Германии против СССР—
вопрос лишь времени, и свято верит в победу Гитлера.
Это становится источником самоуверенности.
Митрополит и его уполномоченный по особо важным
делам, ректор львовской духовной академии Иосиф
Слипый, ведут себя все более вызывающе. Они пишут
составленные в тоне дипломатических нот протесты:
против передачи монастырских земель крестьянам,
против легализации комсомола на территории
Западной Украины, против открытия во Львове Дворца
пионеров. Под прозрачными инициалами «И. С.»
появляется нелегальная брошюра «Главные правила
современного душепастырства», нечто вроде
специального курса саботажа. Последняя фраза брошюры
звучит как воинственный призыв: «Дай бог, чтобы
это исключительное положение не продолжалось
долго...»
199
Митрополит идет еще дальше. В пастырском
послании, опубликованном весной 1940 года, он не
только возводит в сан мучеников пойманных с
поличным священников-диверсантов, но инструктирует еще
не пойманных, как они должны продолжать
антисоветскую деятельность в возможной ссылке.
Пользуясь случаем, он выражает надежду на скорое
достижение своих целей. На сей раз граф не скрывает
их грандиозности:
«...Многим из нас бог еще окажет милость —
проповедовать в церквах В. Украины, право- и
левобережной, до Кубани и Кавказа, Москвы и Тобольска».
ПОД ЗНАКОМ СВАСТИКИ
22 июня эта надежда превратилась в уверенность.
Через неделю глава униатской церкви дрожащей от
радостного волнения рукой осеняет крестным
знаменьем солдат Адольфа Гитлера, грабящих Львов. Он
подписывает воззвание, в котором от всего сердца
приветствует «победоносную немецкую армию», и в
торжественной обстановке декларирует свою поддержку
опереточному «правительству» Стецько и Бандеры. В
послании к духовенству он рекомендует повсюду
отслужить молебны за победу немецкого оружия.
Одновременно граф призывает паству помогать гестаповцам:
«Надо также обращать внимание на людей,
которые искренне служили большевикам...»
С этого пути митрополит не сойдет до конца,
несмотря на разочарования, которые ему придется
пережить (разгон гитлеровцами «правительства»
Стецько, провал надежд на создание гитлеровцами
украинского протектората, присоединение Галиции к
генерал-губернаторству, запрещение украинским
священникам выезжать за Збруч и т. п.). Когда Гитлер на
верноподданническое послание графа ответит
презрительным молчанием, тот спокойно проглотит обиду.
Ненависть к коммунизму, к Советскому Союзу
заглушает в Шептицком всякие другие чувства. То, что
гитлеровцы воюют против Страны Советов, остается
для него решающим фактором.
200
Когда разгром гитлеровской Германии уже
очевиден, митрополит ревностно поддерживает
коллаборационистский «Украинский центральный комитет»,
а ветеран немецкой разведки и верховод так
называемого «Комитета помощи» Владимир Кубиевич
становится почетным и желанным гостем графа.
В самые тяжелые минуты Кубиевич ищет помощи
на Святоюрской горе и всегда находит ее.
Проводимая «Комитетом помощи» мобилизация рабочей силы
для немецкой военной промышленности наталкивается
на отчаянное сопротивление народных масс.
Митрополит всесторонне поддерживает усилия комитета.
Такие же препятствия возникают перед Кубиевичем
при заготовках хлеба для немецкой армии. Шептицкий
тут же сочиняет соответствующее воззвание к
крестьянам, а во время жатвы разрешает священникам
совершать богослужения после захода солнца, чтобы
днем дать возможность хлеборобам поработать на
благо и во славу «третьего райха».
Еще большее рвение проявит Шептицкий в апреле
1943 года, когда Кубиевич по поручению фюрера
приступит к созданию дивизии СС «Галичина». Не
имея возможности по причине болезни лично
присутствовать на всяческих смотрах, парадах, вербовочных
собраниях, митрополит пошлет туда достойное
представительство: его возглавит ректор Слипый, а три
именитых священнослужителя наденут украшенные
молниями мундиры эсэсовских капелланов.
Однако, несмотря на все усилия и насилия, приток
добровольцев в дивизию «Галичина» был совсем не
таким массовым, как того ожидал шеф дивизии
генерал Вехтер. Потребовались срочные меры. Униатский
клир предложил свои услуги. Церковные амвоны
напоминают теперь вербовочные бюро. Где не помогают
уговоры и обещания, там на головы непослушных
валятся угрозы, предвещающие вечные муки на том
свете и незавидную судьбу в земной юдоли.
Это происходило в период массового уничтожения
гитлеровцами евреев, а бандеровцами — польского
населения. Конечно, это преступление, но совесть
митрополита спокойна. В конце концов, не он лично
201
убивает. К тому же жертвы массовых убийств не
относятся к подведомственной ему церкви... В данном
случае для него нет никаких аналогий с 1940 годом,
а значит, нет и никаких оснований для протестов.
Всему, как видите, свое время и свое место...
ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЙСТВИЕ
И вот происходит неизбежное: Красная Армия
изгоняет гитлеровцев из Львова. После недолгого периода
естественного замешательства жизнь на Святоюрской
горе возвращается к привычному укладу. Отсутствие
ожидаемых репрессий успокаивает и подбадривает.
Благоприятно влияют на самочувствие святоюрцев
вести с периферии. Подписанный весной 1944 года
договор Бандеры с гестаповскими чиновниками Ви-
тиской и Паппе вступает в действие: вооруженные
гитлеровцами банды начинают действовать в тылу
советских войск, обагряя свой путь кровью женщин
и детей, терроризируя население отдаленных сел,
активизируя и группируя вокруг себя кулацкие,
националистические элементы. Святоюрская гора
становится снова местом паломничества энтузиастов
Бандеры и Мельника, а митрополичья курия — их
единственным легальным центром. Граф опять принимает
посетителей, он, как и раньше, благословляет,
утешает, подбадривает и помогает. Разумеется, не всем.
Когда придут к нему члены Государственной
комиссии по расследованию немецких зверств с
предложением подписать протокол, митрополит категорически
откажется, ссылаясь на свою некомпетентность в этих
делах и... «на отсутствие достоверных сведений».
Туго натянутая струна может каждую минуту
лопнуть, тем паче, что становятся все более частыми
случаи открытого сотрудничества униатских
священнослужителей с бандеровскими убийцами. Шептицкий
чувствует напряженность ситуации. На поспешно
созванном соборе он зачитывает речь, в которой
осуждает бандеровские зверства. Одновременно
составляет выдержанное в том же духе пастырское
послание, причем копию его немедленно направляет властям.
202
Ректор Слипый, по указанию графа, так же
поспешно прячет оригинал послания, отрезая таким
образом словам митрополита путь к пастве...
В конце концов, это был последний акт главы
униатской церкви. Через несколько месяцев, перед
встречей союзных армий на Эльбе, граф Андрей Шептиц-
кий заканчивает свое земное существование.
После торжественных похорон ключи от греко-
католической церкви, согласно последней воле
покойного, принимает Иосиф Слипый (епископы удрали
с гитлеровцами). Опьянев от честолюбия, Слипый
с каждым днем заходит все дальше, погрязает все
глубже: святоюрский энклав становится снова
центром темных контрактов, а его закоулки — идеальным
убежищем для «договаривающихся сторон».
Наступает неизбежный финал: Слипый
привлекается к ответственности за укрывательство шпионов,
а святоюрские здания подвергаются основательной
дезинфекции, завершаемой введением домовой книги.
Через некоторое время во Львове возник
организованный частью униатского духовенства
«Инициативный комитет» со священником Гавриилом Костельни-
ком во главе. Целью комитета являлось освобождение
от брестских уз, разрыв с Ватиканом и
предоставление верующим галичанам возможности возвращения к
религии предков. Созванный в начале 1946 года собор
униатского духовенства единодушно принял решение
о полном разрыве с Римом и к этому же призвал
верующих. Униатская церковь умерла через год после
смерти своего усерднейшего заступника графа Шеп-
тицкого.
Это была смерть исключительно безболезненная;
не было замечено ни одного случая «мученичества»
или хотя бы даже протеста. Оказалось, что пациент
скончался задолго до того, как была констатирована
его смерть.
Так бесславно погибла рожденная предательством
и придуманная папством униатская церковь — один
из авангардных отрядов Ватикана, служивший его
захватническим целям покорения Востока.
1948
НА СЛУЖБЕ У САТАНЫ
Раньше чем синьор Еудженио Пачелли стал мон-
синьором, а затем папой римским, он прошел
солидную школу. Выходец из старого банкирского рода, он
хорошо помнил афоризм из «Виндзорских кумушек»
Шекспира: «Где деньги идут впереди, все дороги
открыты там настежь». Как теолог, он отлично усвоил
всю иезуитскую премудрость, суть которой
откровенно выразил папа Пий XI: «Я заключил бы договор
с самим дьяволом, если б это послужило интересам
католической церкви».
Вся позднейшая деятельность Пачелли показывает,
что он особенно тщательно изучал жизнь и
деятельность Александра VI Борджия, его сына Чезаре, его
дочери Лукреции и основателя ордена иезуитов
Игнатия Лойолы. Первые три имени из этой романтической
четверки заложили основы разбойничьей этики
Ватикана, четвертый—определил раз и навсегда его
политику. Они становятся патронами Еудженио Пачелли,
из их дел он черпает вдохновение в самые
критические минуты жизни.
Неизвестно, кто толкнул Еудженио Пачелли на
путь духовной карьеры; есть основание предполагать,
что это дело рук его родного дяди, директора
ватиканского банка — «Банко ди Рома». Такое
распределение ролей вполне соответствует интересам алчной
семьи: один Пачелли возглавляет банк, а другой, при-
204
крываясь именем бога, грабит народ, чтобы
наполнить кассы этого банка.
Эта комбинация была абсолютно в стиле
иезуитов — учителей, попечителей и меценатов молодого
Пачелли, который своевременно понял, что гораздо
выгоднее продать душу «Христовым братьям» —
иезуитам, нежели наивному средневековому дьяволу.
Столь ранняя трезвость взглядов не могла не
принести обильных плодов. Сорока лет от роду Еудженио
Пачелли уже выходит в люди — на его голове высится
епископская митра. Немного погодя монсиньор Пачелли
уже в качестве папского нунция плетет в Мюнхене
сеть дипломатических интриг.
Монсиньор Пачелли, как чистокровный иезуит,
мечтает о возрождении священной Римской империи.
Мифическое царство небесное его никак не устраивает, он
отлично понимает, что господство над душами тогда
лишь имеет цену, когда оно приводит к господству над
телами. Он не переоценивает значения проповедуемого
с амвона слова: оно лишь тогда может предотвратить
нависшую угрозу социальной революции, если за ним
станет реальная сила. Такой силой может стать
священная Римская империя, организованная в сердце
Европы. Это сердце зовется Германией, но бьется оно
по-протестантски. Да, только Германия Круппа и Стин-
неса, Гинденбурга и Людендорфа могла стать
цитаделью мировой реакции, лишь она в силах была
поднять меч священной империи. И только Ватикан мог
уговорить народы склониться под этим мечом!
В то тяжелое для Пачелли время, когда Германия
была охвачена огнем революции, мюнхенский нунций
искал утешения и совета у своего учителя, миланского
кардинала Ратти. В письмах этой старой лисы
заключалась и сила и вера. Монсиньор Ратти рассказывал
своему ученику о подающем надежды миланском
журналисте Бенито Муссолини и о спасительном влиянии
на него божьего слова, которое превратило этого
атеиста, «потрясавшего основы», в энтузиаста католической
церкви и частной собственности. Монсиньор Ратти
в восторженных выражениях описывает первые шаги
созданной Муссолини фашистской партии и пророчит
205
ей большое будущее. Он напоминает нунцию истину
истин — про неизменность целей католической церкви
и ее основную задачу: получить санкционированное
законами исключительное право владеть людскими
душами и умами. Только авторитарный режим,
соединенный с церковным, может приблизить католическую
церковь к осуществлению этой цели.
Но проходит некоторое время, тон посланий
кардинала меняется, в них теперь проглядывает неприкрытая
тревога. Монсиньор Пачелли не удивляется,— он знает
задушевные мысли рабочих Ломбардии, он умеет по
достоинству оценить грозную революционную силу
безземельных «кафони». Нунций тоже теряет покой. От
одной мысли о «Банко ди Рома» у него тревожно
бьется сердце. Приходит весть о кончине Бенедикта XV.
В домашней часовне Пачелли служат панихиду. Но
на исходе десятого дня в опечаленную душу нунция
вселяется радость: конклав выбирает папой кардинала
Ратти. Монсиньор Пачелли воспрянул духом: новый
папа Пий XI не из тех людей, которые перед лицом
опасности сидят сложа руки. Этот в политическом
словаре затвердил лишь одно слово: наступление.
Еудженио Пачелли не ошибся. Не успел еще
Пий XI как следует войти в роль папы, как Муссолини
со своей черной ордой вошел в Рим. «Банко ди Рома»
был спасен. И не только банк, — вместе с финансовой
олигархией облегченно вздохнули все, у кого были
причины бояться социальной революции. На другой
день после назначения Муссолини премьер-министром
Италии мир облетели слова Пия XI: «Впервые за
много месяцев я уснул спокойно».
Однажды произошло загадочное событие: папа
распустил свою массовую организацию —
ультракатолическую «народную партию». Кое-кто заговорил о
капитуляции Ватикана, кое-кто даже проливал крокодиловы
слезы над незадачливостью «Христова наместника».
Но монсиньор Пачелли не терял душевного
равновесия, больше того — он был в восторге от
политического маневра нового папы, у которого «народная партия»
стояла поперек дороги. Отныне его святейшество будет
иметь возможность договариваться с римским дикта-
206
тором через головы своенравных и немного
зараженных либерализмом «иополяри».
Наука даром не пропала: Еудженио Пачелли тоже
начинает действовать. Столетняя страсть Ватикана
к Германии находит в лице мюнхенского нунция своего
фанатического последователя.
Пачелли стал свидетелем мюнхенского путча. Его
герои — знакомые нунция, все симпатии папского
посланника на их стороне. Однако вылазка Людендорфа
была преждевременной: немецкие последователи
чернорубашечников терпят поражение, их будущий фюрер
попал на несколько месяцев за решетку. Пачелли
собирает информацию о нем и приходит к выводу, что
у Адольфа Гитлера есть все данные стать немецким
вариантом Муссолини. С этой минуты Гитлер
становится любимцем монсиньора Пачелли, его надеждой и
любовью.
Нунций узнает, что его любимец пишет в тюрьме
евангелие немецкого фашизма и что эту работу
тормозит попросту невежество автора. Незамедлительно
требуется интеллектуальная помощь. И тут же ее охотно
оказывает фюреру священник Штемпфлер.
Удивительная жажда крови у новоявленного фашистского мессии
не тревожит служителя католической церкви,
воспитанного на кровавых традициях инквизиции. И вот в
стенах комфортабельной тюремной камеры начинается
гармоническое сотрудничество между нацистским
дьяволом и католическим сатаной, сотрудничество, в
котором иезуитское коварство оспаривает пальму
первенства у тевтонского разбоя. Так был создан пресловутый
«Майн кампф».
В 1929 году Пачелли получает высокое назначение:
как государственный секретарь при Пие XI, он
становится чем-то вроде его министра иностранных дел.
Понятно, почему Пачелли, а не кто-нибудь другой, стал
правой рукой папы. Тут в пользу Пачелли говорила не
столько дружба с папой, сколько приятельские
отношения с Гинденбургом, Брюнингом и теми, кто
должен был прийти им на смену.
Наступил 1933 год. Зарево над подожженным
Герингом рейхстагом стало для диктаторов из Ватикана
207
светом новой вифлеемской звезды, а Адольф Гитлер—
мессией, гораздо более реальным, чем библейский.
С благословения папы государственный секретарь Па-
челли спешил с дарами, и вот, к удивлению наивных,
Ватикан первым из европейских держав вступает в
официальные переговоры с правительством Гитлера.
20 июня эти переговоры завершаются соглашением, и
монсиньор Пачелли дрожащей рукой ставит свою
подпись под конкордатом.
Так началась идиллия, длившаяся до последних
дней «третьего райха». Недвусмысленную
формулировку этой идиллии дал Франц фон Папен в фашистском
официозе «Фелькишер беобахтер» от 14 января 1934
года:
«Третья империя — первое государство, которое не
только признает, но и проводит на практике высокие
принципы Ватикана».
Эта формулировка никак не умещается в головах
верных католиков, которые не знают, как совместить
эти «высокие принципы» хотя бы с заточением сотен
католических священников в концлагерях Дахау и
Ораниенбаума. А дело обстояло очень просто: и
гестапо и итальянская овра помогли таким образом
Ватикану избавиться от либеральных антииезуитских
элементов среди клира.
Существовала еще одна причина, едва ли не самая
важная, заставившая Ватикан сделать ставку на
гитлеровского коня: факт существования СССР. Только
Германия, авторитарная, милитаристская Германия
могла возглавить крестовый поход против страны
социализма. Монсиньор Пачелли рисовал перед фон
Папеном радужные перспективы, которые ждут
Германию в случае завоевания ею богатств Украины
и Урала. Фон Папен многозначительно кивал головой.
«Святая конгрегация по пропаганде веры» согласует
детали антисоветской кампании с министерством
Геббельса.
Ватикан отдает в распоряжение нацистских меттер-
нихов «Католическое действие». Ураганный огонь
антисоветской пропаганды по команде из Берлина
начинается одновременно в разных концах европейского
208
континента. Бредовым выкрикам Геббельса вторит
старческое брюзжание кардинала Фаульгабера,
австрийского монсиньора Инницера и львовского
митрополита Шептицкого.
Эта бешеная кампания лжи и клеветы была
увертюрой к конкретным мероприятиям дипломатического
характера. Монсиньор Пачелли помогает Гитлеру
организовать антисоветский фронт в мировом масштабе.
В странах, которые не удается запрячь в гитлеровскую
колесницу, начинают действовать группы шпионов и
диверсантов, которые генерал Франко впоследствии
назвал «пятой колонной». В свое время это изобретение
иезуитов сыграет фатальную роль.
Но пока голодный фашистский волк рыщет в
поисках добычи, Муссолини нападает на несчастную
Абиссинию. Бомбы, отравляющие газы обрушиваются
на головы безоружных жителей, дивизии
чернорубашечников входят в пылающую Аддис-Абебу,— в
церквах Италии звучит благодарственный молебен:
«Тебя, боже, хвалим...» Из-под пера государственного
секретаря Ватикана Пачелли исходит приветствие, в
котором Пий XI выражает уверенность в том, что
победа над Абиссинией «положит начало истинно
европейскому, всеобщему миру», и уведомляет, что по
его повелению в честь победы зазвонят в большой
колокол святого Петра.
В начале тридцатых годов над обездоленной
Испанией повеяло, наконец, ветром свободы. Ни папа, ни
Пачелли не могли на это равнодушно взирать.
Пачелли редактирует послание высшего испанского
духовенства, в котором оно провозглашает анафему
демократической конституции Испании 1931 года. Но это
лишь первый шаг. Второй шаг сделал воспитанник
иезуитов, генерал Франко, высадившись со своими
маврами на территории Испанской республики.
Мавры расстреливают сотни и тысячи
христиан-республиканцев, гитлеровская воздушная эскадра «Кондор»
бомбит женщин и детей Испании. Пий XI
благословляет «добровольцев» Муссолини, испанские иезуиты
воздвигают в их честь триумфальные арки. После трех
лет борьбы Франко под звуки немецкого и итальян-
14 Я. Галан
209
ского фашистских гимнов входит в растерзанный
Мадрид. Монсиньор Пачелли в тот самый день строчит
папское послание, в котором говорится: «С большой
радостью обращаемся к вам, дражайшие сыны
католической Испании, чтобы выразить свое отеческое
признание и пожелание мира и победы».
Тогда же во франкистских газетах публикуется
торжественный манифест испанского высшего
духовенства, и под ним на первом месте подпись
кардинала Гома. Авторы манифеста берут на себя полную
ответственность за все преступления гитлеровского
воспитанника Франко; больше того, они явно
называют его своим пособником в удушении испанского
народа:
«Мы находимся в полном согласии с
националистическим правительством, которое со своей стороны
не сделает никаких шагов, не посоветовавшись с
кардиналом Гома и не считаясь с его мнением».
После такого «упорядочения» испанских дел Пий XI
и его несравненный секретарь снова занялись делами
центральной Европы. В порядок дня стал вопрос об
аншлюссе Австрии. Надежда Ватикана на то, что
австрийскому канцлеру прелату Зейделю удастся
возродить «священную Римскую империю», в состав
которой должны были войти Австрия, Бавария, Вюртем-
берг, Хорватия, Словакия, Трансильвания и Венгрия,
не оправдалась. Разочаровал апостольскую столицу
убитый за ненадобностью гитлеровцами Дольфус.
Теперь на Австрию точит зубы Гитлер. Такой выход из
положения нравится Ватикану: он с радостью
приветствует все, что может укрепить берлинского партнера.
Монсиньору Пачелли удается уговорить протектора
Австрии — Муссолини, и Гитлер беспрепятственно
занимает Вену.
После Австрии пришел черед Чехословакии. Там
«пятая колонна» тоже работала под руководством
Ватикана, — ее основным плацдармом была Словакия.
Почему не Чехия? Прежде всего потому, что там
были еще живы традиции Гуса. Эти традиции были
бельмом на глазу Ватикана, и они определили его
отношение к чехам. После смерти старого вожака сло-
210
вацких сепаратистов Глинки его место занял также
католический священник Тисо. Этот фаворит папы и
Пачелли сразу сообразил, что можно быть слугой
двух господ, если их соединяет сердечная дружба, и
Тисо так же старательно выполняет поручения
Пачелли, как и наказы Риббентропа. Поэтому после
уничтожения Чехословацкой республики Гитлер назначает
Тисо «президентом» Словакии, а папа производит его
в камергеры с духовным званием монсиньора и
правом носить кардинальскую шапку. Тисо умеет быть
благодарным. Через два года он, по примеру Гитлера,
уничтожает все еврейское население Словакии и на
радостях рапортует Ватикану:
«Любовь к ближнему и любовь к отечеству
развернулись в плодотворную борьбу против врагов
национал-социализма... В 1941 году Словакия может
гордиться тем, что она—первая страна на свете, в
которой нет евреев».
Благословение на кровавую расправу Тисо
получил по ватиканскому радио: «Заявление монсиньора
Тисо, главы словацкого государства, о его намерении
реорганизовать Словакию на христианской основе
святой престол весьма одобряет».
Приближался столь желанный день для Ватикана —
день гитлеровского разбойничьего нападения на
Советский Союз. До этого фашистский тигр проглотил
католическую Польшу и Францию, но теперь ему все
было позволено: католическая церковь благословляла
каждый его шаг, если этот шаг вел к расправе с
прогрессивными элементами Европы. В августе 1938
года католические епископы Германии собрались на
ежегодную конференцию в городе Фульде и огласили
одобренное монсиньором Пачелли пастырское
послание, в котором Гитлеру дано было отпущение всех
грехов и также благословение на дальнейшее:
«Нет надобности говорить о задаче, которую
призван осуществить наш народ и наша страна. Пусть
достигнет больших успехов наш фюрер с божьей
помощью в этом необычайно важном деле».
Ровно через два года те же самые епископы на
трупах католической Польши и Франции, в присущ
14*
211
ствии папского нунция Орсениго, приняли
торжественную «присягу в верности рейхсканцлеру Гитлеру».
Гитлер не остался в долгу. В беседе с доктором
Эдмундом Уолком он заявил: «Целью Германии в этой
войне является восстановление священной Римской
империи». Эти слова были сказаны накануне
капитуляции Франции, капитуляции, которую уже
полтораста лет ждал Ватикан. Легко себе представить радость
монсиньора Пачелли, который к тому времени успел
уже стать папой Пием XII, когда ненавистная ему
свободолюбивая Франция пала к ногам Гитлера
не столько благодаря фашистским ордам Гитлера,
сколько предательству агентов Ватикана — Петэна
и Вейгана. Радость апостольской столицы была
безмерна.
Плацдарм для войны против Советского Союза был
как будто готов, мечи отточены. Пия XII волновала
только лютая ненависть народов Европы к немецким
фашистам, ненависть, которая не страшилась ни
виселиц, ни газовых камер Освенцима. Крайне необходимо
было вмешательство «морального авторитета»,— и
новый папа выступает в конце 1940 года с длиннейшим
рождественским посланием, своеобразным шедевром
иезуитского лицемерия и цинизма. Справедливую
священную ненависть к фашистским извергам Пий XII
называет «врагом народов». Он говорит: «В чем
источник ненависти между народами? Ненависть
приводит к тому, что нации готовы видеть вину там, где
есть лишь ошибка или недуг, требующий лечения, а
не наказания. Следует ненавидеть не грешника, а
грех... Любовь к врагу — наивысший героизм».
Однако голос ватиканского фашиста остался
голосом вопиющего в пустыне. Народы имели свои
понятия о героизме, и сыны и дочери этих народов
героически умирали за свободу. Для них образцом
героизма был советский народ.
Ватиканско-иезуитская клика с огромным
вниманием и с еще большим волнением следит за развитием
событий на Восточном фронте. Из Рима идут директивы
к «князьям церкви» в ближайшем тылу гитлеровской
армии... В результате краковский митрополит князь
212
Сапега склоняется перед обер-палачом Польши
Гансом Франком, который на Нюрнбергском процессе
называет Сапегу своим лучшим другом. Понукаемый
Пием XII, львовский митрополит Шептицкий
занимается на старости лет вербовкой ландскнехтов в
дивизию СС «Галичина». Письма Шептицкого в
Ватикан, полные жалоб на то, что гитлеровские власти не
разрешают униатским священникам выезжать за
Збруч, остаются без последствий. Пий XII одобрил это
мероприятие гитлеровцев, ибо Ватикан заинтересован
теперь в проникновении католицизма на Восток в его
«чистой», римской форме, а не «искривленной»
остатками православного обряда, который не дает униатам
забыть, какому народу они принадлежат...
Однако католический бог и его «наместник на
земле» папа Пий XII не могли добыть Гитлеру победу,
и под руинами имперской канцелярии были
похоронены мечты Ватикана о «священной империи»... Вместо
радостной «осанна» в базилике Петра звучат
заупокойные мотивы. В стенах папского дворца царит
зловещая тишина, а его обитателей терзает очередной
приступ страха.
«Свет» приходит к ним с запада. Он называется
США, его эмблема—доллар.
Сначала у Пия XII были кое-какие сомнения. Для
этих сомнений были серьезные основания. В самый
разгар американо-японской войны Пий XII
рекомендовал своим монсиньорам в Китае активно
сотрудничать с японцами, а вскоре после нападения японцев
на Пирл-Харбор папа демонстративно послал в Токио
ценный подарок в виде дипломатического признания.
Однако папа знал, что девиз «Политика не знает сен-
тиментальностеи» является также девизом господ из
Вашингтона. И папа простер свою длань через океан.
Рука его не повисла в воздухе.
8 октября 1941 года «Нью-Йорк геральд трибюн»
писала:
«Японское правительство на протяжении
последних шести месяцев находится в таких сердечных
отношениях с католической церковью, каких не было
никогда за последние годы».
213
Ровно через четыре года такие же сердечные
отношения установились между католической церковью
и США. Сравнительно молодая заокеанская реакция
не могла обойтись без содействия самой старой, самой
опытной и самой черной реакции на берегах Тибра.
В свою очередь, Ватикан крайне нуждался в силе,
которая защитила бы его влияние и имущество и
создала бы предпосылки для воскрешения из мертвых
немецкого кандидата в священные императоры...
Согласие было достигнуто молниеносным темпом.
Пию XII и здесь пригодилась организованная им
«пятая колонна», на сей раз американская. История ее
начинается не вчера. Незадолго до войны перед
микрофонами американских радиовещательных компаний
подвизался фашист в роли католического священника,
агент «третьей империи» и Японии Кофлин, который
в феврале 1942 года никак не мог в своем
журнальчике скрыть радость по поводу успехов японской
армии: «Наконец начало заходить британское солнце и
над землей угнетенных вспыхнула заря свободы».
Когда общественное мнение США потребовало унять
расходившегося попа, на его защиту выступил
недавний гость Ватикана, американский епископ Галлахер:
«Отец Кофлин — выдающийся священник, и ело
голос — голос бога».
Таких католических громкоговорителей в США
немало. В 1940 году католическое духовенство
латинской Америки энергично боролось против оказания
помощи союзникам. Еще в 1939 году в органе иезуитов
«Америка» можно было прочесть: «Каждый
американец-христианин должен сознательно возражать
против возможного участия США в мировой войне как
союзника атеистической России. Можно сказать, что
он должен уклониться от военной службы, даже если
бы ему угрожала гибель за то, что он слушается бога,
а не кесаря». В самое решительное время, в 1941 году,
свыше девяноста процентов католического
духовенства Америки выступало против участия США в войне
с гитлеровской Германией.
После смерти Франклина Рузвельта эта нечисть
снова подняла голову. Немного спустя Белый дом
214
стал такой же Меккой реакционеров всего мира,
какой до 1945 года была имперская канцелярия Гитлера.
Предпосылки для оси Ватикан — Вашингтон были
созданы.
Как и следовало ожидать, первым сигналом этого
флирта был рост активного сальдо «Банко ди Рома».
Незадолго до возникновения плана Маршалла Пий XII
сумел реализовать выгоды, вытекающие из дружеских
связей с Уолл-стритом. В данном случае Вашингтон не
ставил кабальных условий,— ватиканский партнер ему
был дозарезу необходим. Освобожденная от Гитлера
Европа вставала на дыбы, а образование ряда
народных республик почти в самом сердце Европы наводило
невыразимый страх на заокеанских шейлоков. Планы
крестового похода против СССР были извлечены из
архива, а в головах воинственных политиканов снова
угнездилась мысль про спасительный бронированный
кулак недобитых немецких фашистов. Разве здесь
можно было обойтись без участия Ватикана?
Пия XII не надо было просить. После короткого
перерыва, вызванного необходимостью
перегруппировать силы, смазанная американскими долларами
ватиканская машина начинает работать на полную
мощность. Как из рога изобилия, посыпались послания и
энциклики; словно грибы после дождя, растут новые
концерны иезуитской прессы; ватиканское радио все
чаще звучит по-геббельсовски. Католический клир
в Польше, Словакии, Венгрии и Хорватии получает
инструкции возглавить легальные и подпольные
реакционные организации и усилить клеветническую
антисоветскую кампанию.
В то же самое время, когда Трумэн и Маршалл
решительно порвали с принципами Ялты и Потсдама,
бешеную кампанию против мира повел и Пий XII.
Идея реванша нашла в его лице верного глашатая.
В послании кардиналу Фаульгаберу, датированном
1 ноября 1945 года, папа начисто отвергает тезис об
ответственности немецкого народа за войну и
осуждает выселение немцев из Польши и Чехословакии.
В своих энцикликах и речах он пропагандирует новую
войну и призывает именем бога к беспощадной рас-
215
праве со всеми демократическими движениями и их
участниками.
Особенно распоясался Пий XII во время последних
выборов в итальянский парламент. Не было таких
грязных средств, которыми пренебрег бы этот матерый
иезуит и поджигатель войны. «Святой» отец не
постеснялся выступить в роли агента акул Уолл-стрита.
Угрозами, подкупами и шантажом гонит Пий XII своих
овечек в волчью пасть христианско-демократической
партии — прямой агентуры Вашингтона. Духовенство
Италии получает от папы точные инструкции и
начинает действовать: архиепископ Милана запрещает
отпускать грехи сторонникам Народно-демократического
фронта, епископ Тосканы приравнивает голосование за
Народный фронт к смертному греху, кардинал римской
курии Тиссерани запрещает священникам хоронить на
кладбищах сторонников народной демократии...
По указанию папы, мошенники в сутанах начинают
проделывать «чудеса»: в Неаполе «кипит» кровь
св. Януария, в Ассизи начинает двигаться статуя
мадонны, в другом месте труп монахини распространяет
запах... фиалок.
После этих «выборов» Пий XII снова начинает
заниматься большой политикой в мировом масштабе.
Для лучшей увязки махинаций Ватикана с
политиканами из Вашингтона при особе Пия аккредитован в
Ватикане представитель Трумэна — некий Тэйлор.
Стремление американских «рыцарей промышленности»
поскорее возродить фашистскую Германию папа
горячо поддерживает и неутомимо трудится, чтобы
реализовать его. Чтобы позолотить немцам горькую
пилюлю фактической аннексии Рура, папа посылает
немецким епископам письмо, которым начинается кампания
за пересмотр польских границ на западе в пользу
Германии.
Когда во всем мире прозвучал голос протеста
против зверств греческих ставленников Вашингтона,
Пий XII сразу же принял контрмеры: он поднял шум
по поводу греческих детей, которым «угрожает
коммунизм», и от своего имени пожертвовал в их
пользу сто тридцать миллионов драхм, предусмотрительно
216
внесенных накануне Вашингтоном на счет его
святейшества в «Банко ди Рома».
В дальнейшем он благословил шпионов и убийц,
подвизавшихся в Венгрии под крылышком Райка и
кардинала Миндсенти, и в Югославии — фашистскую
банду Тито — Ранковича.
У папы Пия XII было двести шестьдесят
предшественников, история их жизни и деятельности — это
история крови и позора. Даже в тумане раннего
средневековья мы не обнаружим такого государства, такой
власти, которая бы настолько прославилась
двоедушием, лицемерием, алчностью, продажностью,
тайными и явными убийствами, грабежом и темными
махинациями, как папская держава «божьих
наместников».
Правда, времена гегемонии папства минули
безвозвратно, давно умолк стон мучеников, сжигаемых на
кострах «святой» инквизиции. Но сохранились еще
в мире силы, поклоняющиеся тому же сатане,
которому почти две тысячи лет верой и правдой служат
ватиканские волки. Союз этих темных сил с
фашистами и поджигателями войны из Вашингтона вполне
закономерен, как союз убийцы и разбойника. Счастье
человечества в том, что это союз обреченных.
1948
ДРАМАТУРГИЯ
хииаюиэИ хэспяхэь a KHtfHJVdi
woifdo wiqioifos trou
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Андрей Макаров, 30 лет.
Анна Робчук, 23 лет.
Норма Фане и, 25 лет.
Эдвин Бентли — лейтенант, 26 лет.
Петерсон — майор, 50 лет.
Боб Фобер — сержант военной полиции, 30 лет.
Аркадий Белин, 46 лет.
Ц у п о в и ч, 42 лет.
Фрау Мильх, 50 лет.
Дуда, 23 лет.
Мальцев, 24 лет.
Том — солдат, 27 лет.
Бой.
Действие происходит в одном из небольших городов
Западной Германии
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Трактир ^ фрау Бригитты Мильх «Под золотым орлом».
Слева—двойные стеклянные двери и заколоченное окно. В
глубине—ступеньки, ведущие в квартиру фрау Мильх. Справа
—музыкальный ящик вроде органа. Посреди несколько круглых
столиков, за ними стойка с пустыми бутылками и касса-автомат.
Стулья в народном баварском стиле. На стенках несколько
жестяных реклам баварских пивоваренных заводов и деревянные
часы с кукушкой. Во всем чувствуется запустение, несмотря на
то, что в трактире люди. Со столов и стульев местами стерся
лак. Двухламповый канделябр, помнящий времена газового
освещения, покачивается каждый раз, когда открываются двери на
улицу. Около дверей телефон. За столами сидят молодые люди
в американской военной форме, перекрашенной в темносиний
цвет, без знаков отличия; играют в карты и домино. Время от
времени доносятся выкрики: «Пасс!»—«Плати!» За одним из
столиков— Цу по в и ч, лысый блондин небольшого роста, с
бородкой «буланже». Он читает немецкую газету. На столе две
кружки с недопитым темным пивом. Из-под стола выглядывает
небольшой чемодан. Перед стойкой — Б е л и н, толстый, в хорошо
сшитом охотничьем пальто зеленого цвета и тирольской шляпе
того же цвета, кокетливо сидящей на его голове. Белин
разговаривает с фрау Мильх, крупной, дородной немкой; у нее
высокая старомодная прическа, а поверх черного пальто синий
с белыми крапинками фартук. На руках митенки.
Белин (читает по блокноту). Десятого ноября
я вам принес девять бутылок «Куентро» и одну
«Черри-бренди». Так?
Фрау Мильх. Да, герр Аркадий.
Белин. Двенадцатого ноября пять бутылок виски,
223
шесть литров польской водки и две «Черри-бренди».
Так?
Фрау Мильх (записывает, не спуская глаз с
Белина). Да, Аркадий.
Белин. Что?
Фрау Мильх (спохватившись). Да, герр
Аркадий...
Белин (раздраоюенно). Пора бы отвыкнуть!
Война давно кончилась. С меня двадцать восемь
кружек пива, так?
Фрау Мильх (после короткого колебания). Да,
герр Аркадий.
Белин. Все?
Фрау Мильх. Все.
Цупович (подбегая). И с меня восемнадцать!
Белин (пожав плечами). Припишите еще
восемнадцать.
Цупович (заискивающе). И пять обедов.
Белин (сжав губы, сопит). И пять обедов!
Цупович. Благодарю.(Мелкими шажками
семенит на свое место.)
Белин. Итого с вас: тысяча пятьсот девяносто
марок минус тридцать шесть марок восемьдесят
пфеннигов.
Фрау Мильх, считая деньги, вздыхает.
Что это вы? Жаль с деньгами расставаться, да?
Фрау Мильх (хлопая глазами). С деньгами...
Что вы!.. (Утирает глаза платочком.)
Белин (берет деньги). Тьфу, опротивело!
Придется переменить штаб-квартиру. (Садится около Цу-
повича, еще раз считает деньги.)
Цупович украдкой следит за движением рук Белина.
Черт! Не хватает ста марок! Здесь всего тысяча
четыреста пятьдесят три.
Цупович (не отрывая глаз от газеты). Нет,
господин Белин, перед вами тысяча пятьсот пятьдесят
три марки.
224
Белин. Вы когда-нибудь перестанете смотреть
мне в руки? Тоже кассир! (Еще раз пересчитывает
деньги.)
Цупович (с достоинством). Кассир? Нет, я
окончил гимназию и у-ни-вер-си-тет, господин Белин.
Юри-ди-ческий факультет, господин Белин.
Белин (презрительно оттопырив губу).
Подумаешь! И после всего этого мне, корнету лейб-гвардии
гусарского полка, приходится платить за ваши обеды,
на свои деньги вы только глушите водку. Пьяница!
Цупович (не отрывая глаз от газеты). Если за
мной и останутся какие-то неоплаченные счета, то на
другой же день после моего возвращения во Львов
вы получите до пфеннига.
Белин (иронически). Во Львов? В газетах
прочли?
Цупович. Вы, кажется, не верите...
Белин. Я, кажется, пошлю вас ко всем чертям!
Цупович (хлебнув пива). Майор Петерсон
другого мнения.
Белин (исподлобья). Вы опять лазили туда?
Цупович (аккуратно складывая газету). Не
лазил, а ходил, господин Белин. И... по личному
приглашению майора. Кстати, он явно недоволен вами.
Белин (машинально разглаживает ладонью
деньги). Говорите яснее.
Цупович. У майора Петерсона к вам серьезные
претензии, господин Белин.
Белин. А к вам нет?
Цупович. Как вам известно, я не только
коммерсант, но и общественный деятель, который не
забывает о своем национальном долге. В результате у
майора Петерсона есть все основания быть мне
благодарным.
Белин (мрачно). Дальше что?
Цупович (самодовольно скандируя). Дальше мы
с майором были вынуждены констатировать факт,
что вы охвачены горячкой наживы, господин Белин,
и отстали от событий. Боюсь, что это может привести
к вооруженному вмешательству властей в область
ваших коммерческих интересов.
15 Я. Галащ
225
Белин. Будьте вы прокляты с вашим языком!
Говорите яснее, а нет — пусть отныне майор Петер-
сон платит за ваше пиво.
Ц у п о в и ч. Как знать, может и заплатит... Не до
конца же своей жизни мне, интеллигентному
человеку, заниматься нелегальной торговлей. (Тихо.) В
нашем лагере работает рука Москвы.
Белин (недоверчиво). Вы просто шут!
Ц у п о в и ч. А вы грубиян, господин Белин! Но
это, к сожалению, не изменяет факта, что в лагере
опять тайком организуется группа желающих
вернуться в Россию. Результат собственных наблюдений,
подтвержденных информацией наших людей.
Белин. Почему, черт возьми, меня об этом не
известили? Фрау Мильх, еще раз пиво!
Цупович. Еще два раза, фрау Мильх!.. Я вас
искал целую неделю, мой дорогой, но бог Маммон
так опутал вас, что вы забыли о своем компаньоне и
о том, что теперь можно не плохо заработать на
вербовке этих голодранцев в Бразилию.
Белин (не слушая). Кто?
Цупович. Как это кто?
Белин. Кто их организует, спрашиваю?
Фрау Мильх подает две кружки пива.
Цупович. По моим данным, этот... как его...
Сципион Африканский, вместе со своими
единомышленниками...
Белин (вытаращив глаза). Как? Афри...
Цупович. Точнее говоря, Макаров Андрей...
(Достает блокнот.) Рожденный в Краснодаре в
тысяча девятьсот семнадцатом году от отца Тараса и
матери Пелагеи, моряк большевистского Черноморского
флота, в тысяча девятьсот сорок втором году ранен,
попал в плен под Севастополем и с тех пор хромает
на левую ногу. (Прячет блокнот.) Почти все.
Белин (зловеще шевелит челюстями). Это тот,
что удрал с английского корабля?
Цупович. И, пробираясь в Россию, попал в
руки американцев. Совершенно верно.
226
Б е л и н. Ну, с ним справится «Медвежья лапа».
Ц у п о в и ч. Макаров не один, господин Белин.
Его группа насчитывает уже человек двадцать, если
не больше. Того и жди, опять обрушится на нас, как
снег на голову, большевистская миссия.
Белин достает из кармана фляжку и доливает себе в пиво виски.
(Цупович подсовывает свою кружку.) Только для
аромата, господин Белин. Благодарю.
Белин. М-да!
Цупович (не спуская глаз с Белина). А среди
них одна девушка...
Белин (цедит пиво сквозь зубы). Кто?
Цупович. Ваша хорошая знакомая — Анна Роб-
чук.
Белин с такой силой ударяет кружкой по столу, что обрызгивает
пивом Цуповича.
Белин. Ложь!
Цупович. Вы неисправимы, господин Белин.
(Хочет встать, но Белин насильно усаживает его
обратно.)
Белин. Говорите!
Цупович. Тише, нас услышат! Пустите руку,
слон!
Белин (наклоняясь над ним). Дальше что?..
Цупович. Об остальном расспросите Сципиона
Африканского, этого не первого и, может, не
последнего, зато исключительно счастливого кавалера этой
неприступной в некоторых случаях... донны Анны...
Белин (до сознания его очень медленно доходит
смысл слов Цуповича. Наконец он понял, тяжело
поднялся и тучей навис над Цуповичем). Убью!..
Цупович съежился от страха, глаза его беспокойно забегали.
Все говорит за то, что он не ожидал такой сильной реакции.
Юноша от соседнего стола, не оставляя игры, придвинул свой
стул ближе к столу Белина и Цуповича.
15*
227
Ц у п о в и ч. Тише, сумасшедший! На нас смотрит
«Медвежья лапа».
Между стеклянными дверями застыла громадная фигура в форме
американского военного полицейского. Это Боб Фобер, которого
перемещенные лица прозвали «Медвежья лапа».
Фрау Мильх (тихо). Господа! Боб!
Присутствующие искоса поглядывают на двери. Одни не
реагируют на появление сержанта, другие медленно вынимают что-то
из карманов и прячут под клеенку. Спустя некоторое время они,
уходя, ловко вынимают спрятанное. Белин старательно закрывает
чемодан полой пальто. Бесшумно открывается дверь, входит
Б о б. В заложенных за спину руках — белая резиновая дубинка,
которой Боб виляет, как собака хвостом. На левой руке
поблескивают двое часов. Присутствующие, как бы не обращая на
него внимания, продолжают игру, забрав со стола деньги. Цупо-
вич снова углубился в газету. Белин нервно водит карандашом
по клеенке. Боб останавливается около столов и следит за
игрой, широко расставив ноги, напоминая собой перевернутую
букву «у». За его спиной фрау Мильх наливает полстакана
виски. Как только она спрятала бутылку, Боб, словно осененный
мудрым провидением, двинулся к стойке, понюхал и, выпив
залпом, поставил стакан вверх дном и еще раз обвел взглядом
свою паству.
Боб (спокойно). Встать!
Все встают, как по команде. Боб обходит свой «фронт».
Остановившись около одного парнишки, проводит руками по его
туловищу, желая обыскать его. Парнишка замахал руками и
рассмеялся. Боб, отступив на шаг, смерил его взглядом.
Цупович (вкрадчиво). Он, должно быть, боится
щекотки, сэр.
Боб подошел к столу Белина и Цуповича. Белин делает
отчаянные усилия, чтоб сержант не заметил чемодана, однако Аргу-
сово око Боба не дремлет. Боб прежде всего дал щелчок по
носу Белину, потом Цуповичу. Цупович, несмотря на боль,
пытается улыбнуться.
Б о б. А ну, вытаскивай!
Белин ставит чемодан на стул.
228
Боб. Американские сигареты есть? Американские
виски, джин, шоколад?
Белин. Нет, сэр... (Открывает чемодан.)
Боб достает из него плоскую бутылку виски и кладет в задний
карман, откуда она все время с любопытством выглядывает
на свет.
Боб (Белину). Вам явно везет, малютка.
(Отходит от стола.)
Белин торопливо прячет чемодан. Цупович еще стоит «смирно».
Ну, мальчики, кого вы за последние сутки
облапошили?.. Обокрали?.. Пристукнули?.. Ну, это мы еще
увидим. Вы думаете, если Боб Фобер две недели не
заглядывал в вашу трущобу, то вы уж бога за бороду
схватили? Ваше счастье, что осенью вагон шоколада
был разворован не в моем районе. Я бы из вас кишки
выпустил, а нашел бы шоколад. Теперь шабаш! Боб
Фобер возьмется за вас. Боб Фобер, как бог
Саваоф, — все знает, все видит, все слышит. Одного только
не знает Боб Фобер: зачем вас, лодырей, земля носит?
Ну, ну, вы еще запляшете у меня! Благодарите бога,
что чудакам из Вашингтона взбрело в голову
содержать этот цирк. Да разве вы знаете, что такое
благодарность? А ну, ты... (Показывает дубинкой на
тщедушного юношу с давно не стриженными черньши
волосами.) Мулат, чей хлеб ешь?
Юноша молчит, сцепив зубы
Цупович (с подобострастной улыбкой).
Американский, сэр!
Боб. Ты слыхал, что сказало это чучело? А-ме-
ри-кан-ский!
С улицы входит А н н а, за ней Андрей. Анна — шатенка,
среднего роста, в темном пальто и черном бархатном капоре,
опушенном серым барашком. В руках у нее пустая клеенчатая
сумка. У Анны грустные глаза, в уголках ее губ словно
застыла улыбка. Андрей — высокий, крепкий, красивый брюнет с
подвижными глазами. Несмотря на зимнее время, лицо Андрея по-
229
крыто бронзовым загаром Он слегка прихрамывает. Одет в
старую морскую куртку, серый свитер с высоким воротником и
картуз немецкого портового рабочего. Андрей облокотился на стойку
и внимательно слушает Боба, который не замечает его.
Боб. Хлеб моего отца, шпана! Он —фермер и
какой еще фермер! Это не ваша вшивая Европа.
Показать бы вам его ферму, вы бы глаза вытаращили.
Одних свиней двести штук!
Андрей. Неправда. Двести одна!
Несколько секунд Боб стоит опешив, потом резко поворачивается
на сто восемьдесят градусов.
Анна (желая ослабить эффект, произведенный
словами Андрея, говорит громче, чем этого требует
тема). Фрау Мильх! Я напрасно простояла два часа
у магазина. Будем праздновать рождество без сахара.
Даже по детским карточкам не будут отпускать.
Фрау Мильх (покачивая головой). Боже мой!
Шестой месяц без грамма сахара!
Б о б. А это что за бродяга?
Анна (поспешно). Андрей Макаров. Пленный,
русский, приехал из Южной Африки.
Б о б. Я не вас спрашиваю. Документ!
Андрей протягивает ему клочок бумаги. Боб подходит ближе и,
читая, рассматривает документ со всех сторон. Одни из
перемещенных садятся, другие еще не решаются и напряженно следят
за происходящим. Белин делает шаг вперед, но Цупович
останавливает его.
Цупович. Сидите! Пусть лучше Сципион
сыграет в открытые карты.
Анна (ставит около Андрея кружку пива).
Андрей, будь осторожней с ним, а то все может
рухнуть. Подумай обо мне.
Андрей, кивнув головой, кладет деньги на стойку.
Боб. Разрешение подписано?
Андрей. Лейтенантом Бентли.
230
Б о б. Я так и думал. Не один проходимец
оставлял его в дураках. Откуда у тебя деньги?
Андрей. Заработал на южноафриканских
шахтах.
Боб. Где это?
Андрей. У англичан.
Боб. Ага! Значит, объегорил англичан. Что ж,
поделом им. По заслугам и честь. Пусть эти
попрошайки не задирают нос где надо и не надо.
Часть перемещенных сгрудилась за спиной Боба.
А теперь что думаешь делать?
Андрей (глотнув пива). То, что и другие люди.
Боб. Ты что? Эту свору людьми называешь?
Андрей. Да, сержант. Среди них есть тоже
люди, и они останутся людьми, сколько бы вы ни
старались превратить их в горилл.
Боб. Что?! В горилл?
Анна. Сдержи себя, Андрей!
Б о б. А ну, повтори!
Андрей молчит. Когда он поднял кружку ко рту, Боб ударил
дубинкой в дно кружки, и пиво залило лицо Андрея.
Анна. Андрей!..
Андрей, страшным усилием воли овладев собой, ставит кружку
на стойку; достает из кармана платок и старательно вытирает
лицо и куртку. После этого, прихрамывая, идет на другую
сторону сцены. Перемещенные расступаются перед ним, образуя
вокруг него кольцо. Боб, расталкивая их, следует за Андреем.
Остановившись, Андрей вытирает пот со лба, в нем все еще
кипит гнев, он нервно оглядывается вокруг себя. Тихо открывается
дверь, входят Эдвин Бентли и Норма Фане и.
Лейтенант Бентли — шатен, среднего роста, с худым нервным лицом
и ленивыми движениями. Военную форму носит с
подчеркнутой небрежностью. Его отношение к людям — подслащенная
хорошими манерами снисходительность, если не презрение.
Норма — маленькая блондинка, энергичная, подвижная, все ее
интересует. Глаза Андрея остановились на музыкальном ящике.
Он бросает^ в него монету, раздаются звуки песни Шуберта.
Разозленный Боб хватает одной рукой Андрея за грудь и
трясет его изо всех сил. Наконец Андрей не выдерживает и
толкает Ьоба в грудь с такой силой, что тот роняет дубинку и
ударяется об стену. Песня обрывается на середине. Боб медленно
231
вынимает из кобуры револьвер. Анна, выбегая из-за стойки,
заслоняет Андрея собой. Норма вскрикнула, вцепившись в рукав
Бентли.
Б е н т л и. Сержант!
Боб, пересилив себя, прячет револьвер. Цупович подымает
предупредительно дубинку и вручает ее Бобу. Перемещенные,
переглянувшись между собой, бесшумно расплачиваются с фрау
Мильх.
Бентли. Тебе везет, Норма. Первый твой шаг
в этом дрянном городишке — и материал для
заметки готов.
Норма. Он мог убить его!
Бентли. И ее тоже. Он имел на это полное
право. (Иронически.) «Они оказывали сопротивление
действиям оккупационных властей».
Цупович (Белину, указывая на Андрея и
Анну). Вы видали? Я говорил вам правду.
Б е л и н. На его и на ее горе, вы сказали правду.
Бентли (подходя к Бобу). Вы могли свистнуть,
сержант. Ваши ребята и машина на улице.
Боб (приводит в порядок мундир). А я и без них
сумел бы здесь справиться, сэр.
Бентли (садясь). Он украл что-нибудь?
Боб. Хуже, сэр.
Бентли. Интересно. Убил кого-нибудь?
Боб. Он оскорбил меня.
Бентли (разочарованно). И все?
Б о б. И всех нас — американцев.
Анна (Бентли). Сержант говорит неправду, сэр!
Бентли (Норме). Тебе вдвойне везет. Редкий
случай. Чаще всего эти люди стараются не задевать
нас. (Бобу.) Что он сказал?
Боб. Что мы хотим сделать из перемещенных —
горилл. Кроме того, как вы сами видели...
Бентли (Норме, лениво показывая головой на
Андрея). Этот тип не лишен наблюдательности!
(Андрею.) Национальность? Фамилия?
Андрей. Русский. Андрей Макаров.
Бентли. Ага! Припоминаю... Макаров... (Норме.)
232
Типичный русский бродяга. Плыл из Африки на
английском корабле, в Гамбурге сбежал, чтоб
пробраться домой, и застрял у нас. У Петерсона много
теперь хлопот из-за него.
Боб (достает из кармана наручники). Он у нас
еще джигу затанцует, сэр. (Замечает, что часть
перемещенных отгораживает его от Андрея.) А ну... Айда
отсюда! Чтоб духа вашего не было!
Анна. Сэр, я была очевидцем, клянусь вам!..
Б е н т л и. А вы кто?
Анна. Официантка, сэр.
Боб. Той же масти. Взять обоих? (Подходит с
наручниками к Андрею.)
Норма (порывисто встает). Вы ведете себя
возмутительно, сержант. Хватаете человека за горло,
а когда он, защищаясь, отбивается, хотите сделать из
него государственного преступника. И это делаете вы,
американский солдат, солдат свободы!
Боб. Свободы, говорите, мисс? Я тридцать лет
живу на свете и нигде не встречал этой леди, разве
только в газетах, мисс, К тому же мы в
оккупированной Германии.
Норма (показывая на Андрея и Анну). Разве
они немцы?
Боб. Хуже, мисс. Этим еще хочется войны. Из-за
них, проходимцев, я не могу вернуться домой.
Бентли (Норме). Философия наших простачков.
Андрей (Бобу). По-моему, вы можете вернуться
хоть сегодня.
Бентли. Молчите, Макаров! (Бобу.) Этот
русский от нас не убежит. Пока оставьте его в покое,
сержант.
Боб. На вашу ответственность, сэр. А я все равно
с ним рассчитаюсь. (Быстро уходит, хлопая на
прощанье дверями.)
За ним постепенно уходят перемещенные.
Цупович (стоя рядом с Белиным у стойки).
Мы приобрели нового союзника, господин Белин.
233
Б е л и н. Еще две кружки пива, фрау!
Убедившись, что непосредственная опасность миновала, Анна идет
на свое место за стойку, на ходу расстегивая пальто.
Норма. Подождите! (Достает блокнот.) А вы
кто, мисс?
Анна. Анна Робчук. Украинка.
Норма (кивнув головой, записывает в блокнот).
Вы давно его знаете?
Анна (смущенно). Нет, недавно.
Норма. Что же вы думаете делать, когда
повенчаетесь? Я слыхала, что здесь вербуют в Бразилию.
Андрей. Нет, леди. Мы не в Бразилии будем
искать свое счастье.
Цупович (приближаясь). Он собирается увезти
ее с собой в Россию, леди.
Норма. О! Это очень хорошо. Вы правильно
сделаете, мои дорогие!
Цупович с удивлением взглянул на Белина.
Лучше всего человеку в своем собственном гнезде.
Я, например, без Америки не представляю себе
жизни. (Записывает.) А вы... (Андрею.) Как сюда
попали?
Андрей (показывает рукой). Кружным путем.
Норма. Не понимаю.
Андрей. Немцы подобрали меня под
Севастополем, а когда я смог встать на ноги, меня повезли
в Ливию и заставили рыть траншеи, но вскоре
подошли англичане, и я бежал к ним. Они использовали
меня по специальности. Наш корабль ходил между
Александрией и Капштадтом. Когда кончилась война,
я требовал отправки домой. Но с капитаном Балфи
невозможно было договориться...
Норма. Как это так? Вы же солдат союзной
армии!
Андрей. У капитана Балфи была тяжелая рука.
Когда я надоел ему, он решил испытать, крепко ли
сидят у меня зубы. В ответ я полюбопытствовал,
234
крепкие ли зубы у капитана, и портовой суд дал
мне полгода. Затем последовал концлагерь пленных
итальянцев и угольные шахты. Хотел написать
нашему консулу, сказали: нельзя. Когда в кармане
завелось несколько фунтов, я дал тягу. В порт Элизабет.
Назвался поляком и подписал контракт кочегаром на
«Каунт Ессекс». Он шел в Европу, а в Гамбургском
порту я незаметно улизнул, и только здесь ваша
военная полиция сняла меня с поезда.
Цупович. У него не было никаких документов,
леди.
Андрей. А вам что? (Кивнув головой в сторону
Пуповина.) Тоже полицейский... Так сказать,
«любитель».
Цупович отходит.
Теперь, вдобавок, своими земляками торгует. Продает
их поштучно в Бразилию.
Цупович (Бентли). Сэр, прошу вашего
вмешательства.
Бентли (игнорируя просьбу Пуповина, Норме).
Ты уже закончила свое интервью?
Норма (с любопытством смотрит на Цуповича,
потом переводит взгляд на Анну). Минуточку, Эдвин!
(Анне.) Простите, мисс... (заглядывает в блокнот)
Робчук. Мне, как журналистке, интересно было бы и
о вас кое-что узнать. Можно?
Анна (переглянулась с Андреем). Дочь
почтальона из Запорожья. Окончила десятилетку, когда
началась война. Скрывалась у тетки на далеком хуторе,
но и там меня захватили фашисты. Работала здесь
на заводе Шайблера, но однажды вечером пришли
ваши войска...
Норма. О! Я думаю, это для вас всех был
незабываемый вечер. А... почему же вы тогда не
вернулись домой, на родину?
Анна опустила голову и медленно пошла на свое место. Поров-
нявшись с Белиным, она подняла глаза и как будто испугалась,
обошла его.
235
Андрей (Норме). Об этом спросите у этих
джентльменов. (Кивком головы показывает на Бели-
на и Цуповича.) А впрочем, и лейтенант смог бы вам
кое-что рассказать об этом.
Бентли (быстро встает, смотрит на часы).
Можешь поставить точку? Нам пора, скоро майор
придет на работу. Интервью с ним будет менее
интересным, зато «Старз энд Страйпс», несомненно,
напечатает его, а твои новые знакомые от тебя не убегут.
Белин. Не убегут, уверяю вас...
Пауза.
Норма (тихо Бентли). У меня такое ощущение,
Эдвин, как будто здесь... запахло кровью.
Бентли. Кровью? Это, кажется, слишком
сильно сказано. Тут просто стало душно, и не мешало бы
выйти на свежий воздух.
Направляются к дверям, но внезапно Норма возвращается.
Норма (Анне и Андрею). Я буду помнить о вас.
Я... (бросив взгляд на Белина) еще загляну к вам,
друзья!
Анна (взволнованно). Непременно приходите,
мисс!
Бентли и Норма уходят. Анна идет за стойку, поднимается по
ступенькам и исчезает за дверью в кухне. Цупович и Белин не
сводят глаз с Андрея, который подошел к музыкальному ящику,
посмотрел и изо всех сил ударил по нему несколько раз кулаком.
Андрей. Ну уж, скажу я вам, и музыкальный
ящик у вас, фрау! Обрывает песню на полуслове.
Фрау Миль х. Он уже давно так. Еще в тот
год, как началась война (вытирает платком глаза),
что-то в нем оборвалось, и с тех пор только изредка
дотягивает песню до конца.
Андрей. А жаль! Хорошая песня. Мне еще ни
разу не удалось дослушать ее до конца.
Белин. И вряд ли удастся...
Андрей подходит к стойке и становится между Белиным и Цу-
повичем в такой же самой позе, как и они. Пауза.
236
Андрей. Как это надо понимать?
Ц у п о в и ч. Не дву-смыс-лен-но, насколько я знаю
своего друга.
Пауза. Андрей медленно достает из кармана куртки
кастильский кинжал и пробует его острие.
Андрей (показывая кинжал Белину). Не плохая
сталь.
Белин (берет кинжал). Двести марок
оккупационных! (Протягивает кинжал Цуповичу, который
рассматривает его и рассекает им несколько раз
воздух.)
Ц у п о в и ч. Вы недооцениваете этой штучки,
господин Белин, ею можно заработать значительно
больше. (Колет воображаемого человека и распарывает его
сверху вниз.)
Фрау Мильх (со страхом). Господин!
Перестаньте размахивать ножом в моем заведении! Я и
без того боюсь!
Ц у п о в и ч. Ха-ха! (Перебрасывает кинжал,
Андрей ловит его на лету и прячет в карман.) А вы?
Не боитесь?
Андрей (почесав подбородок). Мы — нет!
(Повернулся грудью к стойке.)
Цупович и Белин не меняют позы.
Белин (нахмурив брови). Вы, кажется, изволили
сказать «мы».
Цупович (скандируя). Не «кажется», а так и
сказал.
Белин (откусил и выплюнул кончик сигары,
пытается казаться спокойным). А много вас?
Цупович (достает из кармана золотую
зажигалку и зажигает сигару Белина). В худшем случае
двое. (Играет зажигалкой.)
Андрей (через плечо смотрит на зажигалку
Цуповича). Хорошенькая штучка и почти новая.
Видно, недолго ею пользовался покойник.
Цупович. Покойник?
237
Андрей. Ну, один из многих, отправленных вами
и гестапо в лоно Авраама.
Цупович (скрестив руки на груди). Вы очень
наблюдательны, молодой человек. Если желаете, то
можете поделиться вашей наблюдательностью даже
с майором Петерсоном. Только предупреждаю вас: на
него это не произведет ни малейшего впечатления.
Война, видите ли, давно кончилась...
Белин (жует сигару). А лоно Авраама
достаточно обширно, чтоб в нем нашлось место еще кое-
кому...
Цупович. Как в этом убедились уже
некоторые (зажигает сигару)... горячие головы. (Пускает
вверх кольца дыма, говорит спокойно, размеренно.)
Им захотелось вдруг родины, не считаясь с тем, что
интересы этой родины, да и не только ее одной,
требовали их пребывания на Западе впредь до новой
войны. Если бы это касалось только их лично, — черт
с ними! Но всем известно, что ностальгия — это
заразная болезнь тоски по родине, а они стали
распространителями этой болезни. Один из них отважился
даже составить список желающих вернуться домой.
Как-то утречком он выехал на велосипеде в Мюнхен,
чтоб передать список большевистской репатриацион-
ной комиссии. Через два часа на автостраде были
найдены бренные останки неосторожного
велосипедиста и раздавленный колесами неизвестного «Студе-
бекера» велосипед марки «Штаер».
Б е л и н (смотрит в пространство). Можно и без
«Студебекера».
Цупович. Есть еще один выход. (Разглядывав
кольцо на своей руке.) Опомниться и, пока не поздно,
откровенно поговорить с заместителем председателя
«Комитета Национального действия» и заместителем
коменданта лагеря (положив руку на грудь) — в
лице сотника Цуповича. Тогда и волк будет сыт и овца
не голодна.
Андрей быстро поворачивается лицом к Цуповичу, потом
смотрит на часы, поднимает воротник куртки и не спеша выходит на
улицу. Пауза.
238
Ц у п о в и ч. Рас-пе-ту-шил-ся...
Б е л и н. Он ночует в лагере?
Ц у п о в и ч. Иногда — да, иногда — нет. (Смеется
беззвучным смешком, не спуская глаз с Белина.) Вы
и сами могли бы убедиться в этом, если бы чаще
приходили в лагерь и больше интересовались
комитетскими делами. В свое время, работая бургомистром в
Белоруссии, вы были более дисциплинированным.
Б е л и н (не слушая). Говорите, иногда — да...
Цупович. А иногда — нет.
В дверях в глубине сцены появляется Анна. На ней белый
накрахмаленный фартучек. Заметив Белина и Цуповича, она
останавливается.
Б е л и н. Вы думаете, что он...
Цупович. Я не только думаю, я уверен в этом.
Пауза.
Б е л и н. Смотрите, если, паче чаяния, это будет
ложью, то... (смотрит в пространство) я вас также
убью. (Крестится.) Бог мне свидетель.
Цупович (боязливо отступив). С ума сошел!
Совсем с ума сошел!.. Отелло!
Б е л и н. Что надо делать?
Пауза. Анна на цыпочках спускается по ступенькам.
Цупович. До вечера — ничего. Список, кажется,
у Макарова. Думаю, что ни на первый, ни на второй
день рождества его никто не повезет в Мюнхен. Надо
мобилизовать наших молодчиков, и вы своих
подтяните. А не то может произойти грандиозный
дипломатический скандал. А между нами говоря, ваши
всесильные янки (на ухо Белину) полны ми-сти-ческого
страха перед Москвой. И в таких случаях
предпочитают действовать «шито-крыто». Поэтому — без
глупостей! Я сегодня же буду у Петерсона. У него есть
своя агентура и свои капризы. (Заметив Анну.) Тише!
Ну, я иду. (Подходит к вешалке, надевает
старомодное пальто, шею закутывает шарфом.) А вы?
239
Б е л и н. Я останусь еще на несколько минут.
Цупович (подойдя к Белину). Господин Белин!
Не давайте преждевременно воли вашим нервам, а
тем более — рукам. Помните слова великого
Шиллера (кивнув головой в сторону Анны): «Уважайте
женщин! Ибо они вплетают небесные розы в земную
жизнь». (Снимая шляпу, к фрау Мильх.) Гутен таг,
гнедиге фрау! Их хабе ди эрэ! (Уходит.)
Анна (заметно взволнованная, моет кружки).
Восемнадцать, девятнадцать, двадцать! А где же еще
пять маленьких кружек, фрау?
Белин тяжелыми шагами подходит к стойке.
ФрауМильх. Я их отнесла в кухню для гостей
на рождество.
Анна. Кого же вы пригласили?
Фрау Мильх. Таких же, как и я, — одиноких,
всеми покинутых, забытых. (Укоризненно смотрит на
Белина.) Будет вдова начальника пожарной команды,
фрау Ферзе, тайный советник на пенсии герр Про-
коппи...
Белин (фрау Мильх). Уйдите!
Фрау Мильх. Что?
Белин. Уйдите, говорю!
Фрау Мильх (растерянно взглянув на Анну).
Вы слышали, Анна? Он выгоняет меня из моего
собственного заведения! После всего того, что я сделала
для него в последние годы войны...
Белин. Молчите! (Тише.) И сейчас же уходите.
Анна. Можете оставить нас одних, фрау Мильх.
Я этого господина больше не боюсь.
Фрау Мильх (со злобными огоньками в
глазах). Хорошо, я выйду. Только не думайте, господин,
что вам от этого будет лучше! Место, на которое вы
так долго и так напрасно рассчитывали, занял кто-то
более счастливый, чем вы, и — более честный.
(Уходит на кухню, хлопнув дверью.)
Анна. Говорите!
Белин (едва переводя дыхание). Анна...
240
Анна (вытирает круоюки дольше и энергичнее,
чем это надо). Дальше что?
Белин. Ты играешь с огнем! Я никогда ничего
не забываю.
Анна (пристально смотрит на него). И я тоже —
нет. Особенно ночных смен у Шайблера.
Белин. У Шайблера? Что это ты вдруг
вспомнила? А, у Шайблера! А... сколько раз я притворялся,
что не вижу, как ты, спрятавшись в уголок, спишь!
Анна. Да, когда мои руки опухли от работы и
когда вам понравились мои глаза. У Ядзи
Ольшевской не было этого счастья. Ее глаза вам не
понравились, и потому она не имела права ни на минуту
уснуть. В конце концов она уснула, но уже навеки,
когда машина раздробила ей руку. А Даницу Нико-
лич помните? Из-за вас же ее увезли в Освенцим!
А больного Омелюка кто бил кулаком по голове так,
что даже немец мастер не мог на это смотреть, только
плюнул и вышел... (У Анны покатились слезы, в ее
голосе задрожали истерические нотки.) Чего вы
хотите от меня? Чего?
Белин (опустив голову, смотрит на пол, рукой
машинально гладит стойку). Да, это правда, я давал
волю рукам, где надо и, может, где не надо. Я, Анна,
не люблю людей, чуть что — так и закипает кровь
против них, и чем больше бью их, тем больше
ненавижу, знаю: они мне никогда ни одного удара не
забудут, не простят... Но... кажется, ты, Анна, не
имеешь права меня упрекать. Я для тебя делал все, что
мог... Ради тебя я бы...
Анна (перебивая). Да, вы делали, что могли.
Даже вытащили меня из эшелона, когда я хотела
уехать к матери, домой; вы зажали мне рот и
пригрозили, что отдадите меня на расправу вашим
«молодчикам». Вы и это сделали для меня?.. (Беспомощно
развела зажатыми в кулаки руками.) Я давно бы
должна была бежать из этого болота, бежать во что
бы то ни стало, только бы не видеть ни вас, ни всего
этого... Ох, будьте вы прокляты!
Белин (сгорбился словно под ударами палки).
Анна, у меня... у нас с тобой осталось мало времени,—
16. Я. Галан
241
ты сама знаешь, почему. Иной раз час, один час,
значит больше, чем годы.
Анна хочет что-то сказать. Белин движением руки
останавливает ее.
Погоди! Выслушай меня, а потом — скажешь свое
слово. Подумай, Анна! Если даже ты выскользнешь
из моих рук и поедешь туда, так что ж тебя ждет:
работа, еще раз работа и ничего больше. Это —
в лучшем случае.
Анна (с иронией). А вы что предлагаете мне,
господин Белин?
Белин. Не много, но достаточно, чтобы у тебя не
было причин проклинать свою судьбу.
Анна. Я ее давно прокляла за то, что она
поставила вас на моем пути.
Белин (горячо). Анна! (Овладевая собой.) Ты...
Выслушай меня до конца. Любовь к тебе научила
меня по-настоящему любить деньги, и они у меня
уже есть. И деньги, и немного золота... и
бриллиантов. Мы сможем вместе уехать в Англию и купить там
домик. Я знаю, что это не много, но гораздо больше
того, что тебе даст этот твой... проходимец.
Анна. Уходите вон! Я не променяю десять ваших
Англии на одну Украину! А Макарова лучше
оставьте! Он вашему брату не пара. Он хороший.
Белин. Анна! Еще одно слово...
Анна. Не хочу! Не хочу ваших слов, не хочу
ваших денег, не хочу ваших бриллиантов и не хочу
дышать одним воздухом с вами. Уйдите!
Пауза.
Белин (постаревшим голосом). Ухожу, Анна.
(Засунул руки в карманы пальто, опустил голову,
потом поднял ее и посмотрел на Анну.) Теперь
наконец я имею право ненавидеть и тебя. Ненавидеть и
мстить. (Вынул из кармана горсть монет, подбросил
их на ладони.) Шабаш, Анна!.. (Спрятал деньги и,
застегнув пальто, медленно пошел к двери.)
242
Анна. Чемодан не забудьте!
Белин остановился. Подумав, вернулся, достал из-под стола
чемодан и быстро вышел из трактира.
(Только теперь Анну охватила тревога. Она с ужасом
обвела взглядом опустевший трактир.) Фрау Мильх!..
(Бежит по ступенькам, но не успевает добежать до
верха.)
С улицы входит Андрей. Появление Андрея успокаивает ее.
Он ушел?
Андрей. Скрылся за углом. Я следил за ним из
подворотни дома напротив. Ждать пришлось довольно
долго, я уже начал беспокоиться за тебя. Что это он?
Пауза.
Анна (начинает торопливо домывать посуду).
Андрей, осталось очень мало времени, даже меньше,
чем мы думали вчера. Я слышала разговор Белина
с Цуповичем. Они догадываются, что список у тебя.
Андрей. Список пока еще у ребят. (Смотрит на
стенные часы.) А они вот-вот должны быть здесь.
Анна. Цупович и Белин думают, что до конца
праздников никто не повезет списков в Мюнхен.
Андрей. Значит, надо ехать на рассвете. Может,
и в праздничный день застану кого-нибудь из членов
миссии.
Анна. Больше не возвращайся сюда, Андрей.
Андрей (резко повернулся к ней лицом). Вот
так сказала!..
Анна. Оттуда как-нибудь доберешься домой.
Если американцы задержат тебя по дороге, то в
худшем случае отсидишь месяц-два в тюрьме. А здесь
тебя ждет только смерть. Ох, ты еще не знаешь, что
такое лагерь перемещенцев!
Андрей. Уже знаю и именно поэтому не убегу.
Под Севастополем было страшнее. Налей мне пива,
Анна!
16*
243
Анна. Пока приедут из миссии оформить наши
документы, мы как-нибудь обойдемся без тебя.
Встретимся лучше дома.
Андрей (платит за пиво). Один не поеду.
Анна. Один — без меня (ставит перед ним
кружку пива)... или один — без них? (Кивнула
головой в сторону улицы.)
Андрей (удивленно посмотрел на нее и
нахмурил брови). Ни без тебя, ни без них.
Анна (опустив глаза). Нам вдвоем было бы
легче уехать отсюда.
Андрей (глотнув пива). Ты хотела сказать —
удрать?
Анна. Не все ли равно, Андрей?
Андрей. От Белина и Петерсона мы, может, и
удрали бы, но вряд ли нам удастся убежать от
собственной совести. На войне нам говорили: «Стоять
насмерть» — и мы стояли. Войны уже нет, я стал
здесь приблудным калекой, и первому встречному
полицейскому кажется, что он имеет право своротить
мне челюсть. А я и сегодня считаю себя
краснофлотцем и без приказа знаю, что тут, именно тут, надо
стоять насмерть.
Анна (не спуская с него глаз). И ты не боишься?
Андрей. Я решил не бояться и бояться не буду.
Пауза.
Я, Анна, боюсь за тебя. (Положил на ее руку свою.)
Анна восторженно смотрит на него, потом припадает губами к
его руке. Андрей вырывает руку.
Тьфу! Выдумала тоже! Какой позор!
Анна закрыла лицо руками.
Ты что это?
Анна (не отрывая рук от лица). Сама не знаю.
Мне стало вдруг совестно перед тобой. А я... (отняла
руки от лица) люблю тебя. Ты такой суровый, молча-
244
ливый, ты ни разу не поцеловал меня, а я с тех пор,
как узнала тебя, только тобой и живу...
Андрей (стараясь скрыть волнение). Оставь это,
Анна! (Прошелся вдоль стойка, хромая сильнее, чем
всегда, потом резко повернулся к Анне и, встретясь
с ее сияющим взглядом, опустил голову.) Только я
думаю, Анна, что из нашего счастья здесь ничего не
выйдет. Для него необходим воздух наших лесов и
полей, песни наших людей, иначе это счастье так и
завянет, не успев расцвести. Там мы оставили нашу
молодость, и только там найдем ее снова, только там,
где Москва, где, на что ни взглянешь, все твое и где
петерсонам ноль цена. (Вздыхая.) Скорее бы нам
домой, Анна! (Полооюил руку на ее голову.)
Анна (приоюалась щекой к его ладони). Мне
снится порой, будто мы уже где-то на Днепре и над
нашими головами ветер проносит целые тучи ивового
пуха. Неужели так и придется ждать до весны?..
Андрей. Нашим-то слезам Москва поверит,
Анна, и она, Москва... сумеет постоять за нас. Кстати,
Белин не угрожал тебе?
Анна. Нет, и это меня больше всего удивило и
встревожило.
Андрей. Пока я не вернусь из Мюнхена, ты
никуда не выходи одна вечером! На всякий случай
возьми. (Кладет перед ней кинжал.) Увидит его у тебя в
руке — и не осмелится лезть с кулаками.
Фрау Мильх (входит, замечает кинжал).
Фрейлен Анна!..
Пауза. Анна достает из шкафа сумку и быстро прячет кинжал.
Бедная девочка...
Анна (мрачно). Ошибаетесь, фрау Мильх.
Фрау Мильх (вздыхая). Аркадия Белина я
давно, очень давно раскусила, и этого достаточно,
чтобы серьезно бояться за вас, фрейлен Анна.
(Подходит к стойке и роется в бумагах.)
Анна (сжимая руками сумку). А я как будто
перестала уже бояться. Я знаю: мир велик, но в нем
одновременно нет места и для нас и для белиных.
Фрау Мильх скептически покачивает головой.
245
Кто-то из нас должен погибнуть. Я свято верю, что
это будут белины, даже если бы это должно было
свершиться ценой моей жизни! (Пожав руку Андрею,
опрометью бросилась к ступенькам, но ее остановил
голос фрау Мильх.)
Фрау Мильх. Вы забыли, фрейлен, что, кроме
вас и белиных, есть еще кто-то — третий, еще есть
фрау Мильх, немой свидетель, которому разрешено
только молчать, молчать и еще раз молчать...
Входят Дуда и Мальцев.
Фрейлен Анна, поставьте котлеты на плиту. Я уже
все приготовила, только не забудьте: поэкономнее с
маслом!..
Анна еще раз посмотрела на Андрея и быстро ушла в кухню
Дуда (худощавый, туберкулезный юноша в
старом, заплатанном, но чистом комбинезоне и
американской пилотке. Вспыльчивый. В контрасте с его
подвижностью— спокойные, печальные глаза). Добрый
день, фрау Мильх!
Фрау Мильх отвечает кивком головы. Дуда с Мальцевым
проходят в дальний угол. Мальцев достает из кармана коробочку с
миниатюрным домино и высыпает косточки на стол. Мальцев —
здоровенный парень, с бледным открытым лицом. На нем
канадская куртка, маленькая кепка, что едва держится на его буйной
русой шевелюре. Андрей медленно, словно нехотя, подходит
к ним.
Андрей. Что нового?
Мальцев. Очень много.
Дуда. Они пронюхали уже, кто собирает
подписи. Час тому назад Кучеров созвал на совещание
комендантов бараков. Цупович назвал вашу фамилию
и еще нескольких. Сказал: «Надо ликвидировать
главный очаг заразы, пока не поздно».
Мальцев. Говорят, трясся на трибуне, точно
Каин.
Дуда. Еще не так затрясется, когда узнает, что
246
в нашем списке большая половина тех, кого всякими
угрозами ему удалось завербовать в Бразилию.
Андрей. Сколько всего подписей у нас на
сегодня?
Дуда. Восемьсот девяносто три, не считая нас
троих и (показывает головой) Анны Робчук.
Андрей. Восемьсот девяносто три? Друг мой,
ведь это почти половина лагеря! (Хлопнув Дуду по
спине.) А вчера не было и пятисот. Браво, ребята!
Вот это работа! Расцеловал бы вас!
Мальцев. Эх, мне бы только отца в живых
застать! Люблю старика...
Андрей. Не горюй, Жорка. Успеет еще твой
папаша и не раз и не два подзатыльниками тебя
угостить.
Мальцев (мечтательно). Эх!..
Андрей. Список у тебя, Дуда?
Мальцев (с гордостью ударяет себя в грудь).
Нет, у меня он, товарищ Андрей!
Андрей. Давай, давай!..
Мальцев, оглянувшись, передает Андрею конверт, и тот прячет
его на груди.
Ну, ребята! Завтра утром надо ехать в Мюнхен.
Дуда. Как же так? А остальные подписи?
Андрей. Пока хватит и этого. Остальные смогут
присоединиться, когда приедет сюда миссия. У нас
нет времени, дорога каждая минута. Надо ожидать,
что не только Кучеров и Цупович бросят против нас
все свои силы. Петерсон тоже не будет дремать.
Ближайший поезд завтра в шесть утра.
Дуда. Я повезу списки.
Мальцев. А чем я хуже тебя?
Андрей (подняв руку). Тихо! По-моему, я
лучше справлюсь. Меня здесь почти не знают, и, кроме
того, опыт — великое дело. Я уже прошел сквозь
огонь и воду. Ну, согласны?
Пауза.
247
Мальцев (протягивает ему руку). Когда нам
ждать вас?
Андрей. Не знаю. Хотелось бы приехать
одновременно с нашими офицерами. Только смотрите,
ребята, чтоб не повторилась позорная история, как в
прошлый раз, когда от имени перемещенных с
членами комиссии говорили Белин, Цупович и им подобные
горлохваты из ихней шайки! Американские власти
теперь так же одних будут терроризировать, а
другим постараются зажать рот консервами. Мы не
должны допустить до этого! Когда наши офицеры
прибудут сюда, чтоб все наши были на местах.
А то американцы опять вышлют всех за город на
работы. Итак, помни, Дуда, ты должен обеспечить
охрану членов миссии от провокаторов. Ваши
заместители?
Дуда. Гойдан и Марцеляк.
Андрей. Это, братцы, может, и не большое, но
святое дело. Оно достойно того, чтоб за него стоять
насмерть. Цуповичам, белиным и петерсонам не
обасурманить нашего брата. Будет нам тяжело, трудно
будет: от них можно всего ожидать. (Встает.) Но не
забывайте никогда ни на минуту, что мы — сыны
самой сильной и величественной державы в мире и
что о нас думает товарищ Сталин. А теперь,
ребята, желаю успеха. Если что случится в лагере,
приходите, я еще вечером буду здесь. Только сегодня
со мной больше не встречайтесь, что понадобится —
скажите Анне.
Дуда и Мальцев встают. Андрей пожимает им руки.
Мальцев дает Андрею пачку сигарет.
Андрей. Спасибо, Жорка!
Дуда (горячо). Счастливого, счастливого пути
вам!..
Андрей (улыбнулся). Счастливого? А ну,
постойте, послушаем еще раз! (Подходит к
музыкальному ящику.) Может, удастся заставить этот прокля-
248
тый шкаф сыграть песню до конца. Внимание, ребята!
(Опускает в ящик монету.)
Звучит уже знакомая нам мелодия, но на середине
опять обрывается. Пауза.
А жаль! Хороший романс!
Фрау Мильх (задетая). Это не романс. Это
религиозная песня Франца Шуберта.
Андрей. Религиозная? Странно и невероятно:
разве можно так хорошо петь о том, чего нет! А я
для этой песни даже название придумал — «П р о щ а-
ы и е»...
3анав ее.
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
КАРТИНА ПЕРВАЯ
Помещение американской военной контрразведки. Стены увешаны
рисунками полуобнаженных женщин. Слева, в нише, железная
кровать, покрытая темнозеленым армейским одеялом. Ближе к
зрителям — некрашеный письменный стол с телефоном, над ним
прибиты на стене два скрещенных небольших американских
знамени. Рядом со столом у стены — сейф, на котором стоит
большой позолоченный бюст Гёте с американской военной каской
на голове. В комнате несколько стульев разных стилей. За
столом мягкое зеленое кресло в стиле Видермаер. У окна на столе
радиоприемник.
При поднятии занавеса стол придвинут к постели. Б е н т л и и
Норма прибивают над нишей темносиний транспарант с белыми
елками, серебряными звездами и с надписью: «Мери Кристмас».
Норма (с гвоздиками в зубах). Выше,
немножечко выше, Эдвин. Так, довольно. Дай молоток!
(Прибивает.) И вот здесь.
Б е н т л и. Все! Браво! Есть небольшая елочка —
и праздник готов. (Спрыгивает со стола и смотрит
издали.)
Норма. Ну, как?
Б е н т л и. Погоди! Гм... В колледже я делал такие
штучки куда лучше.
Норма (вздыхая). За эти годы многое
изменилось...
Б е н т л и. Чуть-чуть криво! (Достает из кармана
250
клещи и, ловко вскочив на стол, выдергивает из одного
конца транспаранта гвозди.) Что именно изменилось?
Норма. Ну... тетушка Руфь бросила нюхать
табак, а твой отец больше уж не говорит мне
«Норма», а «мисс Норма». Представляю себе его гнев, когда
он узнает, что я ради тебя решила покинуть Америку.
Б е н т л и . Да... Ну, вот я подержу, а ты сойди со
стула, я передвину его сюда. Вот так. Теперь влезай.
Норма прибивает гвозди с левой стороны.
Он перестал даже переписываться со мной. Видно,
качество его отцовской любви не выше качества
шоколада в его магазине.
Норма. Ой, стукнула по пальцам!
Б е н т л и. Подожди минутку! Том!
В полуоткрытую дверь пролезают каска и дуло автомата.
К губам солдата прилипла погасшая сигарета.
У вас там должен быть молоток побольше.
Голова исчезает.
Норма. Насколько я знаю, твой отец хотел и мог
освободить тебя из армии.
Б е н т л и. Да, только я этого не хотел.
Норма. Тебя очаровали (показывает молотком на
рисунки)... эти фрейлен?
Б е н т л и (пожимая плечами). Это, Норма, мои
последние натурщицы.
Норма. Последние...
Б е н т л и. Я больше писать не буду.
Норма. Эдвин! При твоих способностях...
Б е н т л и. В том-то и дело, что их у меня нет.
Я наконец понял это и отказался от почетного звания
дилетанта. «Все или ничего», говоря словами одного
из героев Ибсена. Иначе говоря, я слишком люблю
искусство, чтоб опошлять его знакомством с моей
особой.
Голова опять появилась в дверях. Том, целясь, бросает молоток
прямо в руки Бентли и опять исчезает.
251
Лучше уж работать помощником непризнанного
Шерлока Холмса, в лице этого буйвола Петерсона.
(Подает молоток Норме.)
Норма (осторожно забивает гвоздик). Не забудь,
Эдвин, что я бросила в Нью-Блекгерсте одинокую
мать...
Бентли (целует Норму в щеку). Люблю тебя,
как и когда-то любил.
Норма. Тем более не понимаю, почему ты не
хотел вернуться домой.
Бентли. Ты слишком многого требуешь от меня,
крошка. Добровольно удрать от одуряющей
американской скуки за тем, чтоб немного спустя так же
добровольно броситься в ее объятия? Нет, лучше уж
охотиться за скальпами в джунглях и прериях
послевоенной Европы! Здесь, по крайней мере, без особых
препятствий можно возрождать романтические традиции
наших предков той золотой эпохи, когда они даже не
предчувствовали, что их ждет карьера лавочников.
Входит майор Петерсон, среднего роста, с красным, чуть
одутловатым лицом и рыжей щеточкой под маленьким, слегка
вздернутым носом. Он из тех пожилых людей, что хотят и умеют
бороться против ожирения с помощью гимнастики. Его движения,
энергичные и угловатые, становятся мягкими и кошачьими, когда
в майоре просыпается охотник.
Бентли. А вот и главный охотник. Сэр
Джеральд Петерсон, мисс Норма Фанси, моя невеста,
корреспондент нашей газеты «Старз энд Страйпс».
Петерсон. Ага! Как поживаете, мисс? Как вам
нравится наша Европа?
Норма. Я еще не успела присмотреться к ней,
сэр.
Петерсон. Только не смотрите на нее сквозь
очки лейтенанта Бентли, мисс.
Норма и Бентли спрыгивают на пол и несут стол на место,
открывая панораму всевозможных бутылок под кроватью.
Норма. Почему, сэр?
Петерсон (указывая на бутылки). У вас будет
252
двоиться в глазах. (Снимает пальто, вешает его на
стенку, аккуратно складывает пилотку и прячет в
карман, потом подходит к столу, садится и достает из
кармана связку ключей.)
Б е н т л и. Не будьте, майор, слишком скромны.
Половину этой батареи опустошили вы.
Петерсон (официальным тоном). Я это делаю
исключительно в послеслужебное время, мой дорогой.
(Достает из ящика газету и вытирает стол, потом,
сняв с бюста Гёте каску, проделывает с ней ту же
самую операцию.)
Норма (желая переменить тему разговора). Не
скажете ли вы, джентльмены, где я смогу вымыть
руки?
Бен тли. Второй коридор налево, Норма. Однако
вода в этом заколдованном городе бывает только
после захода солнца. Придется тебе сполоснуть их
виски. (Берет с пола бутылку.) Правда, если не
ошибаюсь, это собственность майора, но надеюсь, что он
за это не выгонит меня со службы.
Петерсон. Я вас, дорогой мой, давно бы
выгнал,— ваше счастье, что вы ничего не делаете.
(Достает из третьего ящика пружинный прибор для
гимнастики.) На ваше место мне могли бы прислать
кого-нибудь похуже вас, а так, по крайней мере, вы
хоть не мешаете мне, а ваше ничегонеделание дает
мне гарантию, что вы не берете взяток.
Норма (моет руки виски). Сэр...
Бен тли. Майор совершенно прав, Норма! Боюсь
только, что мое благородство найдет мало
последователей. С появлением Трумэна в Белом доме процесс
очиновничания Америки так прогрессирует, что
недалек тот час, когда у нас, кажется, будет больше
желающих брать взятки, чем желающих давать их.
А тогда, пожалуй, наша страна очутится на пороге
национальной катастрофы.
Петерсон (мрачно). Вы злоупотребляете
свободой слова, Бентли. Ваше счастье, что дальше слов вы
не идете!
Бентли. Будьте откровенны: и ваше тоже,
майор!
253
Норма (нервно вытирает руки зеленым
армейским полотенцем, которое подал ей Бентли). Я не
узнаю тебя, Эдвин! И неужели вы, джентльмены, не
могли найти более достойной темы для разговоров?
(Петерсону, который подошел к окну с
гимнастическим прибором и начал гимнастику с приседанием.)
Ага! Не могу ли я попросить у вас небольшое интервью
для газеты?
Петерсон. Интервью?
Норма кивнула головой.
Пожалуйста.
Норма достает из сумки блокнот, и по мере того, как Петерсон
говорит, она записывает. При этом Петерсон ни на минуту не
прерывает своих гимнастических упражнений.
Органы американских оккупационных властей делали
и делают всевозможные усилия для того, чтоб идеалы
американской демократии и гуманности пустили
глубокие корни в опустошенные гитлеризмом души
немецкого населения.
Бентли отошел в глубь ниши, налил виски и выпил. Не выпуская
бутылки из рук, он внимательно слушает слова Петерсона.
Сделано уже немало. Все немецкие демократические
партии от христианских демократов до, кхе-кхе,
коммунистов имеют полное и ничем не ограниченное право
проповедовать свои истины, при условии, что эти
истины не противоречат политике оккупационных властей.
Одновременно, опираясь на закон денацификации, мы
проводим последовательную работу с остатками
гитлеризма, и недалек тот час, когда перевоспитанная
нами Германия будет способна занять надлежащее
место в семье великих демократий Запада...
Бентли выпивает еще виски.
Норма. Простите, сэр, вы... никогда не работали
в газете?
254
Петерсон. Всю жизнь только в полиции. А что?
Норма. А то, что вы говорите как-то очень по-
газетному.
Петерсон. Достаточно прочесть несколько
номеров наших газет, чтоб знать напамять, как и что
надо для них говорить. Что вас интересует, мисс?
Норма. Будьте любезны, скажите мне что-нибудь
о перемещенных лицах.
Бентли поставил бутылку на пол. Петерсон повернулся грудью
к окну и дышит полными легкими.
Петерсон. Наши власти окружили
самаритянской заботой несчастных перемещенных,
преобладающее большинство которых не желает возвращаться
домой, принимая во внимание политические условия,
которые сложились на их родине. Желая обеспечить
этим людям спокойное, счастливое будущее, наши
верховные органы добились того, что сегодня перед
«ди-пи», то есть перемещенными, широко открыты
ворота стран, где чувствуется недостаток рабочих
рук...
Норма. Простите, сэр, действительно ли «ди-пи»
не хотят вернуться на родину?
Бентли (иронически). Тебе уже сказали,
Норма.
Петерсон (энергичным движением закрывает
окно). А вы сомневаетесь?
Норма. Откровенно говоря, да.
Петерсон (возвращаясь на свое место, прячет
гимнастический прибор в ящик). Не советую, не
советую, если хотите, чтоб ваши корреспонденции
печатались.
Норма. О! Это звучит, как угроза.
Петерсон. Нет, мисс. Только как дружеское
предостережение. (Берет папку с бумагами.)
Норма. Благодарю. А не считаете ли вы, сэр, что
наша политика по отношению к перемещенным лицам
слегка напоминает торговлю рабами?
Бентли. Ты переоцениваешь компетенцию
майора, Норма.
255
Петерсон (посмотрев исподлобья на Норму).
А также и свою собственную, мисс.
Норма. Пока я еще не знаю, где начинается наша
с вами компетенция с бюрократической точки зрения.
Я знаю только одно: где начинается компетенция
всякого порядочного человека. И потому я интересуюсь
и буду интересоваться всем, что может бросить тень
на честное имя моей страны.
Бентли. О, узнаю мою Норму!
Петерсон (Бентли с убийственным сарказмом).
А через неделю-другую вы, пожалуй, не узнаете ее
или сделаете вид, что не узнаете...
Бентли. Я поражен, майор, вашим даром
провидения.
Петерсон. Что ж! Поживем — увидим...
Сквозь полураскрытые двери Том движением головы дает знать,
что кто-то пришел.
(Петерсон смотрит на часы.) Он может войти.
Голова Тома исчезает.
Бентли (снимает со стены куртку). Разрешите,
майор, и на этот раз не мешать вам? Я хочу
проводить мисс Фанси в отель.
Петерсон. Только поскорей возвращайтесь!
Обстоятельства сложились так, что даже вы сможете
быть полезны.
Бентли (одеваясь). Я преисполнен гордости,
майор.
Входит Ц у п о в и ч. Он расшаркивается перед каждым из
присутствующих.
Ц у п о в и ч. Добрый день, леди! Добрый день,
джентльмены!
Норма (Бентли). Кажется, я его уже видела.
Бентли. Это главарь племени команчей,
торгующий скальпами своих соплеменников. Майор
Петерсон — его главный клиент.
256
Норма (натягивает перчатки). А ты?
Бентли. Я — Пилат, умывающий руки...
огненной влагой. Оставляю вас наедине. Желаю успеха,
джентльмены!
Бентли и Норма уходят. Цупович фамильярным жестом головы
спрашивает, указывая на Норму, кто такая.
Петерсон. Вас это не должно касаться: она —
американка. Лучше возьмите себе стул!
Цупович садится.
Как вы могли допустить до этого?
Цупович (разводит руками, отчего его шляпа
сползает с колен, и он то и дело подхватывает ее).
Рука Москвы, сэр!
Петерсон. Расскажите это своей бабушке.
С тех пор, как у нас началась бразильская лихорадка,
вас словно подменили. Сколько ж вам платят за
голову?
Цупович. Я никогда не забываю своих
обязанностей, сэр. (Достает из кармана футлярчик,
завернутый в папиросную бумагу, и кладет перед Петерсоном,
который вынимает из него большое жемчужное
ожерелье.) Три тысячи двести пятьдесят швейцарских
франков!
Петерсон. Вы с ума сошли, Цупович!
Цупович. Последняя цена, сэр!
Петерсон. Они чешские или венецианские?
Скажите откровенно!
Цупович. Настоящие жемчуга,— точнее говоря,
«Маргаритес». Фамильные драгоценности гольштейн-
ских герцогов фон Аугустенбург, классический
удельный вес две целых шесть десятых.
Петерсон. Это мы еще посмотрим, но не
забудьте, мой милый, что они уже потускнели.
Цупович. Ну, что ж! Герцогини также потеют,
сэр. Зато это пот аристократический, исторический,
хе-хе!..
Петерсон (сдвинув брови). Бросьте ваши кри-
17. Я. Галан
257
влянья, вы, «европеец»!.. Лучше скажите, как это
могло случиться, что Макарову и его друзьям удалось
за вашей спиной организовать настоящий заговор?
(Гневно.) Где были вы, где был Кучеров, где был,
наконец, Белин? Вы знаете, что это угрожает нам
международным скандалом? Москва — это вам не
Франция и даже не Англия; как это ни печально, но
с ней даже нам приходится считаться. Мы заявили
официально председателю красной миссии, что
желающих вернуться в Россию в нашем лагере нет! И
запомните: не должно и не может быть!
Цупович. О сэр! Вы же знаете, один в поле не
воин. Кучеров делает высокую политику, а Белин
в лучшем случае — меч, ни в коем случае не рука.
Вся тяжесть лежит на моих плечах, и — как сами
видите... (Указывает на оюемчуга.)
Петерсон. Две тысячи франков, больше не дам.
Цупович. О сэр! Вы жестоки! Три тысячи
франков — последняя цена.
Пауза.
Петерсон. У кого в руках списки?
Цупович. По агентурным данным, они...
Петерсон (ударив кулаком по столу). Меня
теперь не интересуют ваши агентурные данные.
Я спрашиваю, в чьем кармане списки?
Цупович. Через день-два они будут в вашем.
Петерсон. Вы в этом уверены?
Цупович. Так же, как и в том, что это
настоящие жемчуга.
Петерсон (мрачно). Две тысячи двести... и
пятьдесят...
Цупович. Недооцениваете мое слово, сэр!
Я сказал...
Петерсон (перебивая). Вы все равно
заработаете на этих жемчугах столько, что сможете
пьянствовать целую неделю на свой собственный счет.
Цупович. Вы преувеличиваете, сэр! Не забудьте,
что я оставил дома жену и двух малюток; кроме того,
258
у меня есть также долг перед родиной. Должен же
я заработать сто франков.
Петерсон (насмешливо). Что? У вас тоже есть
родина? Странно... Ну, две тысячи четыреста.
И надоели ж вы мне!
Ц у п о в и ч. Не выйдет, сэр. В Нью-Йорке вы
возьмете за эту штучку минимум тысячу долларов.
Петерсон (рассматривает через лупу каждую
жемчужину). Что вы думаете сделать с этим...
Макаровым?
Цупович (со скрытой иронией). Ждем ваших
инструкций, сэр.
Петерсон (на секунду отрывает глаза от
жемчуга). Напрасно. Никакого отношения к этому я не
должен иметь. Поняли?
Цупович. Давно.
Петерсон. Только без глупостей... Смотрите!
Я должен вам сказать, что ваши методы расправы
с красными «ди-пи» нам не подходят. Мы никак не
заинтересованы в том, чтоб делать из них мучеников.
Особенно из Макарова, которого они любят и
которому верят. Было бы хорошо, если б у самого
Макарова даже волосок с головы не упал.
Цупович. О! Это что-то новое!
Петерсон. Вы меня поняли?
Цупович (трет ладонью лоб). Еще не совсем.
Но я... подумаю... Я подумаю...
Петерсон. Если им удастся отвезти списки
в Мюнхен, то мы опять будем вынуждены делать черт
знает что, только б не допустить миссии в лагерь.
Цупович (твердо). Им это не удастся, сэр!
Петерсон. Итак...
Цупович. Салюс реи публице супрема леке.
Благо республики — высший закон. Для Украины —
я на все готов!
Петерсон. Пошлите вы ко всем чертям вашу
географию! Ну, последнее слово?..
Цупович. Две тысячи восемьсот.
Петерсон. Что? Вы прекрасно знаете, мой
милый, что я мог бы просто конфисковать этот жемчуг,
а тогда...
17»
259
Цупович (ощетинившись), А тогда... это была
бы ваша последняя финансовая операция на нашем
прекрасном континенте, сэр!
Петерсон. Слушайте, вы!.. Я вас пристрелю
когда-нибудь. А пока что — прикажу спустить вас со
всех лестниц.
Цупович (превозмогая страх). Боюсь... что и
в первом и во втором случае вы будете раскаиваться,
сэр, в своей неосторожности... (Встает и протягивает
руку за оюемчугом, однако Петерсон торопливо
накрывает его рукой.)
Пауза.
Петерсон. Две тысячи шестьсот!
Цупович (вытирает платком лоб). Давайте!..
Петерсон (встает, открывает сейф. Еще раз
посмотрев на жемчуг, старательно завертывает его и
прячет в кассу. Швыряет деньги на стол). Все!
Цупович (считает деньги, потом говорит тоном
примирения). Надеюсь, сэр, вы останетесь мною
довольны.
Петерсон. Идите.
Цупович. А часики... будут?
Входит Б е н т л и.
Петерсон (Бентли). Лейтенант, вы поедете на
праздник в Швейцарию?
Бентли (снимая куртку). Нет, на этот раз не
поеду.
Петерсон. На этот раз часиков не будет,
Цупович.
Цупович (разводит руками). Как жаль! А я
рассчитывал, по крайней мере, на сотню штучек. Ну,
что ж, тогда в другой раз, уважаемые джентльмены.
Желаю весело провести праздник. Мери кристмас!
Петерсон. Ступайте и помните, что бы там ни
случилось в ближайшие дни, я с этим ничего общего
не должен иметь.
Цупович. О! Я запомню, сэр! Что б там ни слу-
260
чилось в ближайшие дни, ваш мундир останется
чистым, как слеза святой Женевьевы. (Уходит.)
Б е н т л и (закурив сигарету, ложится на кровать).
Я к вашим услугам, майор.
Петерсон. Во-первых, я не понимаю, почему вы
вдруг отказались провести праздники в Швейцарии.
Как вам известно, цены на часики в Берлине все еще
растут, а деньги нужны, я думаю, не только мне.
(Показывает на батарею бутылок.) Вас смущает
присутствие невесты? Можете поехать вместе с ней. Она
будет этому только рада.
Б е н т л и. Рада? Почему? Не потому ли, что ее
Эдвин, бывшая слава, гордость и надежда города
Нью-Блекгерст, превратился в мелкого спекулянта?
Петерсон. К черту! Она должна понять, что
в этом баварском городишке не торгуют акциями
металлургических предприятий!
Бен тли. Она должна... И когда же вы, наконец,
поймете, майор, что, кроме вас, есть еще люди и
другой морали?
Петерсон. Ага! Вы хотите сказать, что мисс
Фанси принадлежит к людям этой морали? Да?
Б ентл и. Да.
Петерсон. Именно этого я и боялся.
Б е н т л и (лениво поднимается и разговаривает
уже сидя). Говорите яснее.
Петерсон. Присутствие мисс Фанси в этом
городе нежелательно. По крайней мере, в
ближайшие дни.
Б е н т л и. Потому, что она моя невеста?
Петерсон. Нет, потому что она журналистка, и,
к тому же, как я успел заметить, журналистка, не
имеющая достаточного жизненного опыта, и...
Б е н т л и. Интересно. Ну?
Петерсон. ...и понимает свою профессию
слишком примитивно. Конечно, военная газета не
напечатает ничего лишнего. Но есть еще красная пресса, эта
только и ждет того, чтоб сделать нас героями
скандала. К тому же, самое появление вашей невесты
в роли ангела-хранителя произведет сумятицу и в без
того беспокойных головах красных «ди-пи». (С нара-
261
стающим гневом.) Поэтому поезжайте с ней куда
угодно: в Швейцарию, Париж, Копенгаген! Я дам вам
десять дней отпуска, одолжу денег на дорогу, до
Франкфурта поедете на моем «Адмирале». Я сделаю
все, чтоб избавиться от лишних свидетелей.
Бентли (прерывая его). Как вам не стыдно,
майор, так панически бояться маленькой девушки!..
Петерсон. Бросьте! Я хорошо знаю эту смесь
женской экзальтации с упрямством подростка. Если
такая надышится красными доктринами, то начинает
карьеру с того, что свяжется с первым попавшимся
широкоплечим негром и...
Бентли (вскочив с кровати как ошпаренный).
Моя Норма и негр? Вы или с ума сошли, майор, или
(схватив Петерсона за грудь)... забыли, что за такое
оскорбление иногда расплачиваются кровью.
Петерсон (медленным движением руки
отталкивает лейтенанта). Вы правы! Простите! Я не хотел
оскорбить мисс Фанси. (С иронией.) Кстати, я не знал,
что вы так пламенно любите вашу невесту.
Бентли. Конечно, люблю, и эта любовь — моя
последняя надежда. Без нее я потерял бы остатки
веры в себя и в то, что мы, люди цивилизации,
отличаемся чем-то от рыжих псов из книжки Киплинга.
Ах, да разве вы способны это понять!
Петерсон. О, прекрасно понимаю! Любовь —
в личных интересах. Мисс Фанси должна быть для вас
чем-то вроде возбуждающего средства. Только боюсь,
что эта роль ей скоро наскучит и она начнет искать
человека, который любил бы ее ради нее самой.
Бентли пытается что-то сказать, но Петерсон останавливает его
движением руки.
Минуточку! Небольшой дружеский совет: не
требуйте от женщины того, что она ищет у вас. И еще
одно: любовь, мой милый, никогда не заменит
мировоззрения.
Бентли (с сарказмом). А оно у вас есть, майор
Петерсон?
Петерсон (выпятив грудь, стоит за столом). Да!
262
Если вам угодно, мировоззрение офицера ее
величества новой Америки, всесильной королевы
континентов и морей, спасительницы мира, защитницы
демократии и свободы...
Бентли (прерывая его), А вы, майор, верный
страж и апостол этой демократии и свободы? Да?
Петерсон. Да, и именно поэтому, пока вы
носите этот мундир, я имею право требовать, чтобы не
злоупотребляли моей слабостью к себе и
беспрекословно исполняли все мои приказания.
Бентли (подходит к майору). Я узнаю этот
апостольский тон. Значит, вы действительно готовите
здесь какую-то новую гадость?
Петерсон. Лейтенант Бентли, не забывайте, что
вы американец, и к тому же американец среди
цветных людей. Мне безразлично, что случится завтра
с этими, как вы их сами называете, краснокожими. Но
сегодня они находятся под моей опекой, и я заставлю
их скакать так, как этого требуют интересы
Соединенных Штатов! Я не знаю и не буду знать сентиментов
там, где идет речь об этих интересах. Вы, кажется,
уже имели случай убедиться в этом...
Бентли. О да! Не-од-но-крат-но...
Петерсон. В подобных случаях я не допущу
сентиментов, если это коснется и вашей особы,
лейтенант. Если я до сих пор терпел кое-какие ваши
выходки, то только потому, что вы не принадлежите к
людям, которые делают погоду. (Запирает сейф на ключ.)
Бентли. Вы правы, майор. Я не мастер мокрой
работы.
Петерсон. Молчать! Смирно!
Бентли неторопливо вытягивается.
Вы не мастер?.. Хотя вы даже и на это не способны.
А теперь будьте любезны выполнить мой приказ.
Надеюсь, я вас переубедил, мой лейтенант.
Бентли. Наполовину. Я не хочу быть
свидетелем еще одного преступления, тем более, что у меня
нет никакой возможности предупредить его.
Петерсон. Я также в этом уверен. Еще что?
263
Б е н т л и. А если, невзирая на мою просьбу, мисс
Фанси откажется уехать? Что ж тогда?
Смеркается. За окном вспыхнули фонари.
Петерсон (быстро шагает по комнате). Тогда...
мисс Фанси горько раскается в своей неосторожности.
Пауза.
Кстати, чтоб вам не пришло в голову повторить
содержание нашего разговора, иначе — суд за
разглашение военных тайн! Понятно?
Б е н т л и. Понятно.
Петерсон. Вы хотите еще что-то сказать?
Б е н т л и. Да.
Петерсон. Говорите!
Бентли. Я ненавижу вас, майор!
Петерсон (с удивлением поднимает голову).
А разве это имеет какое-нибудь отношение к нашей
службе? Вы неисправимый фантазер, Бентли!
(Похлопал его по плечу.)
Телефонный звонок.
(Петерсон берет трубку.) Я слушаю. Да... (Покачав
головой.) Еще раз повторяю: что бы там ни
случилось, я к этому никакого касательства иметь не буду.
Конец первой картины.
Занавес.
КАРТИНА ВТОРАЯ
Вечер в трактире фрау Мильх. Горят лампы, за столом перед
полной кружкой пива сидит Норма. Она нервно постукивает
пальцем по столу. За стойкой Анна делает подсчеты.
Норма (пробует пить пиво, но из этого ничего
не выходит, оно ей не нравится). Бррр!..
264
Анна (не поднимая головы). Я вас слушаю,
мисс!
Норма. А я ничего не сказала!
Пауза.
Вы можете ответить мне на один вопрос?
Анна. Я к вашим услугам, мисс.
Норма. Допустим, что вы любите кого-нибудь и
тот кто-то, скажем, любит вас. И вдруг между вами
возникает спор и вы называете его надоедливым
недотепой. Имеет ли право этот «кто-то» обидеться?
Анна (смеется). Об этом, мисс, вам придется
спросить у мужчин. А вот и один из них.
Появляется Боб Фобе р.
Стопроцентный, как он сам о себе говорит.
Боб (Норме). Добрый вечер, мисс!
Норма. Садитесь, сержант.
Боб садится против Нормы.
Что бы вы сделали человеку, который назвал бы
вас надоедливым недотепой?
Боб. Как?
Норма. Надоедливым недотепой!
Б о б. Я свернул бы этому человеку скулы!
Норма. Ох, вы меня испугали! Даже если бы
это вам сказала девушка?
Боб. Девушка? (Махнув рукой.) Девушкам в
таких случаях я делаю скидку, мисс. Хе-хе!
Норма. Скидку! Почему?
Боб. Как вам сказать... хе-хе! Если девушка
видит, что перед нею настоящий недотепа, то она не
только не будет ругаться, но и разговаривать не
захочет. Ох, мисс! Что это вы? Собиратесь пить
нынешнее немецкое пиво? Не советую. От него до конца
праздника вас будет мучить жажда. Вы можете
выпить настоящего пива в американском клубе, третий
квартал направо. Боже мой, как там сегодня будет
265
весело! А я, как назло, всю-то ноченьку дежурю.
Собачья жизнь!
Анна. Налить вам виски, сэр?
Боб. Благодарю. Увидят с улицы мои ребята и
тоже захотят выпить. (Зевает.) И чего это вас, леди,
в этот облезлый трактир потянуло? Среди этого
пестрого сброда американке не место.
Норма. Именно этот «сброд» меня и интересует,
сержант. Я — корреспондентка.
Боб (взглянув на ее нашивки). Л! Извините, не
заметил.
Норма. Завтра пойду в лагерь «ди-пи». А
сегодня подожду здесь, может их сюда бог пошлет.
Боб. Вряд ли пошлет. Сегодня они празднуют
у себя. (Анне.) Разве вы не закрываете под
рождество?
Анна. Немного позже, когда разойдутся гости
фрау Мильх.
Боб (Норме). Ну что ж, пишите, мисс, пока их
еще не растащили по свету, как щенят. А-а! Хотел бы
я поглядеть на них через год-два, когда они вдоволь
нагостятся у бразильских метисов и британских
скопидомов, которые трижды ели бы уже съеденное!
Норма. Вы несправедливы, вы возмутительно
несправедливы, сержант. Неужели вы не можете
этого понять?
Боб (поглядев на нее исподлобья). А вы,
случайно, не из Армии спасения, леди? Я об этом еще
сегодня утром подумал. Жаль, что вашей армии не
видно было в Арденнах! Вот это было рождество! Из
нашей роты человек двенадцать в живых осталось.
Это был бы урок для вас, леди. До смерти не
забыли бы...
С улицы доносится сирена полицейского автомобиля. Раз.
Другой.
(Боб встал.) Нет на вас погибели! Боятся, чтоб я,
чего доброго, без них не клюкнул. (Анне.) А ты что
ворон продаешь? Все равно не куплю. (Подходит к
266
дверям.) А вы, леди, будьте осторожны! По этому
городу по ночам упыри бродят.
Норма. О-о, вижу, вижу...
Боб. То-то! Мери кристмас, леди! (Уходит,)
Тотчас же зарычал и стих вдали мотор виллиса. Норма встала и
быстро подошла к Анне.
Норма. Послушайте! Прежде всего... я хочу
просить у вас извинения за этого нахала сержанта и за
всех ему подобных. Я не хочу, чтоб вы плохо думали
о нас, американцах. Я недавно приехала в Европу и,
поверьте, не узнала своих земляков. Может, это
сделала война, не знаю. Я вообще мало, очень мало
знаю, и еще меньше понимаю, и только здесь в этом
убедилась. Там, дома, нам говорили совсем другое,
и я думала, что так относиться к людям могут только
невежды из Каролины. После того как я побывала
сегодня у вас, после того как я поговорила еще кое
с кем, я все время мучительно думала: неужели в
простых душах наших людей поселился упырь нацизма?
И неужели всем нам только кажется, что мы идем
вперед, а на самом деле — давно уже сбились с пути
и возвращаемся во мрак минувших веков? Вот какие
вопросы встали передо мной в этот, самый
печальный в моей жизни, рождественский вечер, и я не могу
найти ответа.
Анна (пристально смотрит на Норму). Этот вечер
для нас также невеселый и был бы еще печальнее,
если бы не вмешательство одной американки
(улыбнулась)... очень похожей на вас, мисс. Сержанта
Фобера справедливо прозвали «Медвежьей лапой».
Норма. Ах, вы об этом... Боюсь, что я оказала
вам медвежью услугу; он, видимо, из тех, которые
умеют помнить и мстить.
Анна. Есть хуже его, мисс.
Норма. Я вас понимаю. Действительно, он только
сержант. Как же все это отвратительно! И главное,
зачем, ради кого и чего все это творится?
Анна. Не знаю. За последние годы я разучилась
думать. Вы вспомнили про упырей,—может, для них
267
это и делается. Про упырей мне рассказывала еще
бабушка. Я думала, что это только сказки. Но в
тысяча девятьсот сорок первом году я увидела их
впервые. У них на шапках были изображены мертвые
головы. Они говорили, смеялись и пели, как живые
люди, но от них несло могилой. Ваши не носят на
фуражках мертвых голов, о нет! Однако я их боюсь,
как боялась тех. Мисс! Я не знала раньше, что такое
страх, но вот прошло целых пять лет, как он днем и
ночью, да, днем и ночью сжимает мое сердце. Я была
одинокая и беспомощная, теперь в мою жизнь вошел
Андрей. Я надеялась, что мне будет легче. Но нет!
До сих пор я боялась за себя, а теперь дрожу и за
него. Он наш, он гордый, он севастопольский моряк,
а они хотят сделать из него послушную охотничью
собаку. Никогда этому не быть!..
Пауза.
Норма (взяв ее руку). Клянусь вам именем моей
матери, честной американки, что я скажу миру всю
правду и о вас, и о вашем Андрее, и о тысячах,
десятках тысяч таких же несчастных, как вы. Я все скажу
моей стране,— скажу и то, что Европа не
освобождена ни от нищеты, ни от страха, хотя за это, именно за
это, воевали наши солдаты. Я не политик, но я знаю,
как трудно мне будет это сделать. Все же я верю, что
не буду одинока, что найду друзей и здесь и по ту
сторону океана...
Входит Б е н т л и.
(Норма бросается к нему.) Эдвин!
Бентли (вытирая платком лоб). Уф! Наконец-то
я нашел тебя... Машина испортилась, и пришлось
обойти полгорода.
Норма опустила голову и медленно вернулась на свое место.
Анна с бумагами перешла на другую сторону сцены.
Норма. Я сочувствую тебе, Эдвин. Только не
понимаю, зачем ты так старался?
268
Б е н т л и. Майор приглашает тебя на
рождественский вечер.
За сценой прозвучала рождественская песня «Тихая ночь, святая
ночь...» Ее поют мужские и женские голоса. Короткая пауза.
Хорошо, Норма: я больше не настаиваю.
(Вздохнув.) Хочешь, встречай праздник в этом скверном
городишке.
Норма. Спасибо, ты очень любезен. А не
лучше ли было бы нам отпраздновать этот вечер вдвоем?
Мы так давно не виделись.
Б е н т л и. Я понимаю. Тебе майор также успел
опротиветь.
Норма. Ах, не то, не то...
Бентли (избегая взгляда Нормы). Но сама
знаешь: в преступном мире тоже есть свои правила
приличия,— кстати, единственные правила, которые
майор Петерсон почитает как святыню. (Смотрит на
часы.) Итак...
Норма. Погоди минутку. Я хочу спросить тебя:
если бы я, Норма Фанси, дочь учительницы из
небольшого американского города Нью-Блекгерст,
начала войну с твоим всесильным майором, ты
поддержал бы меня?
Бентли. Войну? Во имя чего?
Норма. Ты прекрасно знаешь, во имя чего.
Бентли. Боюсь, что ты проиграла бы эту войну
в первой же битве.
Норма. Я не об этом тебя спрашиваю, Эдвин!
Пауза.
Бентли (вытянувшись смирно). Приказывай,
Норма! Я на все готов.
Норма. Это не романтическая поза?
Бентли. Романтическая? Может быть. Поза? Ни
в коем случае. Теперь все зависит от тебя, Норма.
Если ты сумеешь воскресить бывшего Эдвина
Бентли — хвала тебе!
Норма (очень взволнованная, подходит к Анне
269
и платит за пиво, потом пожимает ей руку). Поверьте
слову американки, мисс Робчук: мы — ваши друзья и
останемся ими до конца, как были во время войны,
потому что с вами — правда.
Анна. Я верю вам.
Норма. Что бы там ни было, что бы ни ожидало
вас и... нас, мы будем с вами друзьями. Передайте
эти слова вашему другу. Мери кристмас, мисс Робчук!
Анна. Мери кристмас, мисс!
Входит Андрей.
А вот и он!
Норма (подходит к Андрею). Мери кристмас,
мистер Макаров! (Подает ему руку.) Вот вам моя
рука.
Бентли смотрит на часы.
На ее помощь вы можете рассчитывать всегда и везде.
Будьте счастливы!
Андрей. Будьте счастливы, хорошая девушка!
Норма и Бентли уходят.
Андрей (кивнув головой им вслед). Отважная!
Еще не обожгла крылышек.
Анна. Андрей! Час назад приходил сюда Дуда,
просил передать, чтоб ты не ночевал в лагере. Был
обыск. Даже солому твоего матраца перетряхнули.
Военная полиция арестовала Климюка и Бондаренко;
говорят, у них нашлись старые советские газеты.
Андрей. Ну что ж! Это значит, нам надо
спешить!
Анна. Дуда считает, что они искали список.
Андрей. Это — так.
Анна. Ты должен подумать о ночлеге, Андрей!
Андрей. Я уже думал. Переночую у знакомого
немца-антифашиста. Он работает шофером у
американцев. Обещал меня подкинуть на ближайшую
железнодорожную станцию. Садиться на поезд здесь
было бы неосторожно.
270
Анна. Список все еще у тебя?
Андрей. А как же!
Анна. Тебя могут задержать на улице и обыскать,
лучше оставь его до утра у меня, я его спрячу, а в
случае чего — сумею уничтожить. На рассвете сойдешь
с машины на углу улицы, постучишь три раза ко мне
в окно, я тихонько выйду к воротам и передам тебе
бумаги.
Андрей. И ты уверена, что тебя они сегодня
оставят в покое?
Анна. Я уже сказала тебе: они не найдут ничего,
а на улице ты не успеешь уничтожить бумаги.
Андрей (после короткого колебания достает
конверт, кладет его на стол и прикрывает ладонью).
Спрячь поскорее!
Анна прячет конверт в сумку.
А теперь прощай, Анна, мне далеко итти.
Анна. Иди, милый!.. А обо мне не беспокойся,
я сумею постоять за себя и за всех нас.
Андрей. Берегись, Анна, особенно Белина. Этот
гитлеровский бургомистр и надсмотрщик с завода
Шайблера почему-то не идет у меня из головы.
Анна (не спуская встревоженного взгляда с
Андрея). Теперь и он мне не страшен.
Пауза. Андрей, склонившись над стойкой, взял обеими руками
ее голову, крепко поцеловал ее в губы, пожал руку и быстро
направился к дверям, где столкнулся с Белиным. На этот
раз Белин в черной кожаной куртке и в такой же шапке.
Рождественская песня за стеной стихает.
Анна. О!..
Белин. Куда это вы так спешите, господин
Макаров? Там дождь.
Андрей. Ничего, не растаю. Пропустите!
Белин (уступая дорогу). Гляди, какой
бесстрашный! Забыл, что смелого волки съели.
Андрей. Нет, не забыл. Но и вы не забывайте,
Белин: от Анны руки прочь! Ищите счастья на другой
271
улице и там гуляйте вволю, пока не пришел день,
когда вас раздавят, как тифозную вошь. (Уходит,)
Белин (взволнованно смотрит ему вслед, потом
медленно приближается к Анне), Ты слыхала, стерва,
что сказал мне твой... (Хочет схватить ее за руку)
Анна подалась назад, инстинктивно прижала сумку к груди.
Ага!... Ага... понимаю. Значит, уже продалась им.
Анна. Продаются только люди вашей породы,
господин... обер!
Белин. Так... так... Ну, а теперь шабаш, Анна!
Теперь шабаш! (Ударил ладонью по стойке.)
Анна, судорожно прижимая сумку к груди, охваченная
внезапным страхом, пятится к ступенькам. Открывается дверь из
квартиры, и выходит фрау Мильх. Неуверенные шаги, которыми
она спускается по ступенькам, показывают, что она пьяна.
Фрау Мильх (напевает «Тихая ночь, святая
ночь...»). Как хорошо, что гости ушли, и без них
голова трещит. Фрейлен Анна! Я вижу на столе кружку
с недопитым пивом, уберите пожалуйста.
Анна уносит кружку с недопитым пивом, выливает его и, не
выпуская сумки из-под локтя, моет посуду. Белин, не отрывая
глаз, следит за ней.
Выпейте, герр Аркадий!
Белин. Стакан виски!
Фрау Мильх. Ой, как много!.. Я выпила
полстакана, и то ударило в голову. Но для вас это капля
в море, герр Аркадий! Я знаю, я хорошо знаю...
(Наливает.) Пейте на здоровье! Желаю счастья!..
Белин выпивает.
Вот так, вот таким я помню моего Аркадия. Пом-ню!
Белин пытается тоже улыбнуться.
Можете итти отдыхать, фрейлен Анна. Я сама запру
двери.
272
Анна. Спокойной ночи, фрау Мильх!
Белин оловянным взглядом провожает ее.
Белин (про себя, сжимая кулаки). Шабаш...
Фрау Мильх (грозит ему пальцем). Ой, не
точите зубы, герр Аркадий! Не лезьте в беду. У этой
вашей кукушечки острый клюв: чего доброго, и
насмерть заклевать может...
Белин (насторожившись). Глупости!
Фрау Мильх (подходя). Слушай, Аркадий!
Хоть ты меня бил, хоть бросил меня, когда я стала
не нужна тебе, я все же люблю тебя. И потому
(оглянувшись) говорю тебе: берегись, не связывайся
с этой девушкой. Моряк, или как его там, подарил ей
вот такой кинжал. Я не хочу, чтоб из-за первой
встречной мой Аркадий отправился на тот свет.
Белин. Постой, кинжал... с костяной ручкой?
Фрау Мильх. Да, с костяной ручкой. Таким
кинжалом ударишь раз — и капут.
Белин. Раз... (Закрывает правой ладонью
глаза.)
Фрау Мильх гладит его руку, которая лежит на стойке.
(Белин инстинктивно отодвигает руку и, подумав,
кладет на прежнее место.)
Фрау Мильх. Аркадий! Ах, Аркадий!..
Белин. А бумаг он ей никаких не давал?
Фрау Мильх. Может, и давал, — не знаю,
Аркадий. (Не отрывая от Белина пьяных глаз.)
Я увидала кинжал и почему-то подумала: это,
наверное, на моего Аркадия...
Белин. Довольно!
Пауза.
Ключ... при тебе?
Фрау Мильх (всплеснув руками). Ох!.. А как
же! Тут, тут. (Взволнованно ищет по карманам;
наконец находит ключ и отдает его Белину.) Все-
таки... все-таки... я дождалась тебя...
18. Я. Галан
273
Б е л и н (подносит палец к губам). Только
смотри...
Фрау Мильх. Я понимаю. Будь спокоен. Она
ничего не услышит. Через полчаса она будет спать на
кухне как убитая. Не задерживайся, я буду ждать
тебя, только закрою ресторан.
Б е л и н (вперив взгляд в дверь, за которой
недавно исчезла Анна), Она... будет спать на кухне.
Виски!..
Фрау Мильх торопливо хватает бутылку, в дрожащей руке
бутылка мелко дребезжит, ударяясь о край стакана.
Осторожно, не разливай! Довольно! (Выпивает и
быстро уходит на улицу.)
Фрау Мильх поправляет прическу. Напевая «Тихая ночь, святая
ночь...», запирает все шкафы, затем первые и вторые двери на
улицу. Как раз в то время, когда она собиралась повесить на
скобу большой замок, рядом раздался отчаянный крик, через
несколько секунд второй, который сразу оборвался. Охваченная
ужасом, фрау Мильх выпустила из рук замок, метнулась в
противоположную сторону сцены и там прижалась к стене.
Медленно приоткрылась дверь, и из-за нее потянулась к
выключателю мужская рука. Свет гаснет, по стене запрыгало пятно
от карманного фонарика. Когда оно наконец нашло фрау Мильх
и осветило ее искаженное ужасом лицо, послышался громкий
шепот: «Если хочешь жить, молчи!..» Фонарик гаснет; после
небольшой паузы фрау Мильх при бледном свете уличного фонаря
медленными шагами направляется к двери, ведущей в квартиру,
отворяет ее, включает свет и в то же мгновенье с криком вбегает
назад. Путая ключи, она открывает двери на улицу и с порога
кричит.
Фрау Мильх. Полиция! Полиция!
Быстро приближается вой полицейской сирены.
Занавес.
ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ
КАРТИНА ПЕРВАЯ
Декорация первой картины второго действия. Бутылки исчезли,
закрытые нарядной рождественской елкой. Утро. За столом сидит
майор Петерсон, около него Б е н т л и. У дверей стоит Том.
Петерсон. Введите убийцу!
Том выходит и вводит Андрея. У арестованного забинтована
голова, на руках наручники.
Вы уже протрезвились, Макаров?
Андрей. Я не был пьян!
Петерсон. Вы меня не так поняли. Конечно,
спьяна с такой тонкостью не убивают. Я хотел
спросить, одумались вы или будете продолжать
рассказывать нам, будто не вы убили перемещенку Анну
Робчук?
Андрей (глубоко взволнованный). Нет, я не
одумался, как ни старались заставить меня одуматься
ваши полицейские...
Петерсон. Значит, вы отвергаете обвинение в
убийстве Анны Робчук? Так?
Андрей. Не только отвергаю, но и обвиняю.
Петерсон. Любопытно! Кого?
Пауза.
18*
275
Андрей. Кровь моей Анны падет на ваши
головы, господа американцы.
Б е н т л и (вскочив с места). Макаров!
Петерсон. Спокойно, Бентли! Прошу вас сесть.
Бентли. Майор! Вы требуете, чтоб я спокойно
сидел, когда оскорбляют что-то большее, чем так
называемую честь нашего мундира. Или — или! Или это
клевета, тогда...
Петерсон. Лейтенант Бентли! Я лишаю вас
слова!
Бентли садится.
(Андрею.) Какие у вас основания говорить так,
Андрей Макаров?
Андрей. Моя Анна только вам и вашим... бели-
ным могла быть помехой.
Петерсон. Почему именно нам, Андрей
Макаров?
Пауза.
Вы молчите? Я вас понимаю. Значит, это был
только ваш неловкий маневр. Никаких оснований так
говорить у вас, конечно, нет и быть не может.
Андрей (убежденно). Нет... они у меня есть!
Петерсон (тихо). Какие же, какие, Андрей
Макаров?..
Андрей пристально смотрит на Петерсона, как будто хочет
прочесть что-то в его глазах, но взгляд майора не говорит ничего,
и Андрей опускает голову.
Петерсон. Вы, перемещенцы, особенно вы,
Андрей Макаров, не имеете оснований упрекать нас,
американцев. После того как полицейские задержали
вас на вокзале, мы должны были отправить вас под
конвоем обратно в английскую зону. Лейтенант
Бентли сжалился над вами, и мы разрешили вам остаться
здесь, дали приют и возможность честного заработка.
(Пожав плечами.) Что ж, мы не знали тогда, что
помогаем убийце...
276
Андрей (мрачно). Это все, что вы хотели
сказать?
Петерсон. Нет, еще не все. (Достает из ящика
стола кинжал и бросает его на стол) Ваш?
Андрей. Мой...
Петерсон. На нем — кровь Анны Робчук!
Пауза. Андрей медленно подходит к столу, наклоняется, по щеке
его покатилась слеза.
Петерсон (ударив кулаком по столу).
Довольно! Кинжал ваш?
Андрей движением головы говорит: да.
А теперь расскажите нам, каким образом этот
кинжал попал... в сердце Анны Робчук?
Андрей (тихо). Не знаю.
Петерсон. Ага!
Б е н т л и. Может быть, вы дали его кому-нибудь?
Андрей. Да.
Петерсон. Кому?
Андрей. Анне.
Петерсон. Зачем?
Андрей. Для самозащиты.
Петерсон. А потом она — хотите сказать —
вручила кинжал убийце? Так? Лейтенант Бентли,
пишите: «Арестованный упорно отклоняет обвинение в
убийстве, однако он не может объяснить, каким
образом его собственный кинжал стал орудием смерти
Анны Робчук».
Бентли. Разрешите, майор.
Петерсон. Допрашиваю я, Бентли. (Андрею.)
Не помните ли вы...
Входит Норма.
Норма. Можно?
Петерсон. Пожалуйста, мисс Фанси. Будьте
свидетелем своего собственного поражения. Сейчас вы
узнаете, на что способен ваш протеже.
Норма. Макаров?
277
Петерсон. Садитесь, мисс Фанси.
Пораженная и растерянная Норма садится около елки и все
время живо реагирует на все.
Петерсон (Андрею). В котором часу вы вошли
в квартиру фрау Мильх?
Андрей. Я вообще туда не входил.
Петерсон. Ага! Зачем же вам понадобился
(достает из ящика стола ключ)... этот ключ?
Андрей. У меня этого ключа никогда не было.
Петерсон (вздохнув, положил на стол золотую
брошку). А откуда взялась в кармане вашей куртки
золотая брошка?
Андрей. Я этого туда не клал.
Петерсон. Хорошо. (Тому.) Позовите сюда
сержанта Фобера!
Том, открыв двери, движением руки зовет свидетеля. Входит Боб.
Сержант Фобер! Перед лицом всемогущего бога
спрашиваю вас: будете ли вы говорить правду и
только правду?
Боб. Да, сэр.
Петерсон. В котором часу вы прибыли на
место преступления?
Боб. В двенадцать часов пятьдесят две
минуты, сэр.
Петерсон. И что вы увидели?
Боб. Официантка трактира «Под золотым орлом»
лежала мертвой на своей кровати. В ее груди... (По-
казывает на кинжал.)
Норма. Анна Робчук... убита!
Петерсон (опустив печально голову). Да, мисс
Фанси, она пала жертвой зверского убийства.
Норма. И вы думаете, что это сделал он —
Макаров?
Петерсон. Спокойно, мисс Фанси, спокойно!
Пока я еще ничего не думаю. Лучше предоставим
слово фактам. (Бобу.) Что еще бросилось вам в
глаза, сержант?
278
Боб. Следы борьбы, сэр.
Петерсон. Какие именно?
Боб. Рубашка в нескольких местах была
разорвана. Левый глаз налит кровью, одеяло лежало на
полу.
Петерсон. Следов грабежа не обнаружили?
Боб. В спальне фрау Мильх один ящик комода
был вырван, вместе с замком. В нем я не нашел
ничего.
Петерсон. Так, что ж вы предприняли потом?
Боб. Сообщил об убийстве в комендатуру
военной полиции, вам, сэр, и дирекции немецкой полиции.
Петерсон. Когда и где вы задержали
Макарова?
Боб. Его задержали мои молодцы, когда я
осматривал место преступления. Он стоял около трактира.
Андрей. Ложь!
Петерсон (Бобу). Что вы нашли в его
карманах?
Боб. Документы, восемь фунтов стерлингов,
сорок семь немецких марок и двадцать пфеннигов,
пачку американских сигарет, спички, эту брошку и ключ,
который оказался ключом от квартиры фрау Мильх.
Петерсон. Вы лично обыскивали его?
Боб (смущенно). Да, сэр...
Андрей. Неправда! Кроме вас, по моим
карманам шарил еще Белин.
Б е н т л и. Кто? Белин?
Петерсон (поднял брови). Эго правда, сержант?
Боб (смутившись). Нет, сэр, я... знаю правила.
Б е н т л и. Откуда там взялся Белин?
Боб. Это был... прохожий. Он помогал нам
задержать преступника, когда тот вырывался.
Андрей. Врешь! Я и не думал вырываться.
Петерсон. Молчите, Макаров!
Бентли (Бобу). А Белина вы обыскали?
Петерсон (поспешно). Этот вопрос не по
существу, лейтенант.
Бентли. Мне кажется, сэр, что сержант
нарушил элементарные правила...
Петерсон. Разрешите мне, лейтенант, решать,
279
что было правильно в поведении сержанта, а что
нет... (Тому.) Свидетель Белин здесь?
Норма. Это возмутительно!
Петерсон. Не забывайте, мисс Фанси, что вы
здесь только гость.
Том приводит свидетеля. Белин одет так же, как был одет
накануне утром. Он снимает шляпу и кланяется.
Петерсон (Белину). Каким образом вы
очутились на месте преступления?
Белин (откашлявшись). Было около восьми
часов вечера, когда я вышел из ресторана фрау Мильх.
Я — человек одинокий, мне некуда было итти, и я
решил прогуляться по городу.
Б е н т л и. В такой дождь прогуляться?
Белин (у него испуганно забегали глаза, но
подбадривающее движение головы майора Петерсона
успокоило его). О да! Именно в дождь я больше
всего люблю бродить по улицам. (Улыбаясь.) Этак, без
цели, ради настроения. Как вдруг слышу, кго-то
кричит: «Полиция, полиция!» Я побежал и увидел
суматоху, как раз в эту минуту из трактира «Под золотым
орлом» вышел многоуважаемый сержант Фобер. Он
спросил меня, узнаю ли я задержанного преступника.
Б е н т л и. Откуда вы узнали, что это преступник?
Петерсон. Еще раз прошу вас, больше того —
приказываю вам, Бентли, не мешать мне!
Б е н т л и. Прошу учесть, майор, что Белин —
личный враг Макарова!
Норма. Сержант Фобер также!
Петерсон. Еще одно слово, мисс, и я попрошу
вас выйти. (Белину.) Вы увидели, что задержанный
сопротивляется полицейским, не так ли?
Белин. О да, да! Он... хотел вырваться из рук.
Андрей. Неправда!
Петерсон (Белину). И вы помогли
полицейским обезвредить его?
Белин. Так, так, сэр, я помог...
Петерсон. Арестованный говорит, будто вы
тоже обыскивали его, это правда?
280
Белин (взглянув на Боба). Нет, сэр. (Опять
взглянув на Боба.) Нет, я не обыскивал его...
Петерсон. Ясно. (Андрею.) Во всем, даже во
лжи, надо знать меру, Макаров. Кстати, может, вы
нам скажете, что вы делали именно в эту минуту
около трактира «Под золотым орлом»?
Андрей. Когда я вышел из трактира, в нем
остался только Белин. Я хотел пойти домой, но страх
за Анну не давал мне покоя. Я вернулся с полдороги
и, когда подошел к углу Бишофштрассе, услышал
крик фрау Мильх...
Петерсон. Довольно! Надо было выдумать что-
нибудь пооригинальней, Макаров! А почему это вы
так боялись за Анну?
Андрей. Белин точил зуб против нас, он
ухаживал, а ничего не вышло. А от такого, как Белин,
можно всего ждать.
Белин. Вы слыхали, сэр, он оскорбил меня.
Петерсон (махнул рукой). А другой причины
боязни у вас не было?
Андрей молчит.
Вы ничего не спрятали у Анны Робчук?
Андрей (впился глазами в майора). Нет.
Петерсон (не скрывая гнева). Тем хуже для
вас!
Бентли. Я вас не понимаю, майор.
Петерсон. Успокойтесь! Впоследствии все
поймете. А впрочем, этот вопрос можно в протокол не
вносить.
Норма. Я начинаю понимать.
Петерсон (осознает свой промах, и это еще
более усиливает его раздражение). Я вас
предупредил, мисс Фанси.
Норма (поспешно). Простите, майор.
Петерсон. Я не бросаю слова на ветер, мисс.
(Тому.) Позовите последнего свидетеля.
Входит фрау Мильх, боязливо озираясь вокруг. Отвечая на
вопросы, она почти каждый раз смотрит искоса на Белина.
281
Петерсон. Садитесь, фрау.
Том подставляет ей стул.
Фрау Мильх. О, благодарю, сэр!
Петерсон. Вы узнаете арестованного?
Фрау Мильх (не скрывая удивления).
Арестованного? Господин Макаров! Боже мой! За что это
вас?
Петерсон. За убийство вашей официантки
Анны Робчук, фрау.
Фрау Мильх (с ужасом). Ах!..
Б е н т л и. Вы считаете, что ее убил кто-нибудь
другой?
Фрау Мильх. Я... не знаю, сэр, ничего.
(Опустила голову.)
Петерсон. Макаров часто бывал в вашем
трактире? Не так ли?
Фрау Мильх. Да, сэр.
Петерсон. Вы знали о его романе с Анной
Робчук?
Фрау Мильх. Да, сэр.
Петерсон. Вы Макарова хорошо знали?
Фрау Мильх. Нет, я хорошо знала Анну. Это
была честная девушка.
Петерсон. Запишите это, Бентли! (Фрау
Мильх.) Если бы Анна Робчук, ну, скажем, увидела,
что кто-то покушается ограбить вашу квартиру, она
допустила бы это?
Фрау М и л ь х. Да что вы, сэр! Анна? Никогда!
Петерсон. Пишите, Бентли! (Фрау Мильх.)
А если бы это пытался сделать Макаров?
Фрау Мильх. Макаров?.. Анна была честная
девушка, сэр!
Петерсон. Понятно. И за это она
заплатила своей жизнью. (Показывает на брошку.) Ваша
брошка?
Фрау Мильх. Моя.
Петерсон. Где вы ее хранили?
Фрау Мильх. В ореховом комоде.
282
Петерсон (откинувшись на спинку кресла).
Картина ясная!
Бен тли. Еще не совсем, майор! (Фрау Мильх.)
Больше никаких ценностей у вас там не было?
Фрау Мильх растерянно молчит.
Белин все время не сводит с нее глаз и едва заметным
движением головы подсказывает ей ответ.
Фрау Мильх. Не знаю... Нет, сэр, не было.
Бен тли. Вы сначала сказали «не знаю».
Взвесьте, фрау Мильх, в ваших руках сейчас жизнь
человека!
Фрау Мильх плачет навзрыд.
Петерсон. Такие методы недопустимы, Бентли!
Вы терроризируете свидетелей. Успокойтесь, фрау
Мильх! Можете итти, вы нам больше не нужны.
Только подпишите протокол...
Фрау Мильх встает.
Бентли. Майор, у меня еще несколько вопросов.
Петерсон. У вас все еще есть сомнения,
лейтенант?
Бентли. Думаю, что они будут не только у
меня...
Петерсон (насупившись). Спрашивайте, но
только коротко и по-деловому. У нас нет времени.
Бентли (фрау Мильх). У Анны Робчук был
свой ключ от вашей квартиры?
Фрау Мильх. Нет, сэр. Когда было нужно, я
ей давала свой.
Бентли. А вчера вы ей давали ключ?
Фрау Мильх. Нет, сэр.
Бентли. У вас их было два или только один?
Фрау Мильх. Два, сэр.
Бентли. Вы их можете нам показать?
Фрау Мильх (дрожащими руками ищет и
находит в сумке только один ключ). Здесь только один.
Другой я... видимо, где-то потеряла.
283
Б е н т л и. Потеряли? Когда же? Сегодня? Вчера?
Петерсон. А может, вы дали его вчера Анне
Робчук? И... забыли? Ну, подумайте!
Фрау Мильх. Это... вполне возможно, сэр.
Действительно...
Б е н т л и. А может... этот ключ, вместо того чтоб
попасть в руки Анны Робчук, как-нибудь попал в руки
Белина?
Фрау Мильх (охваченная ужасом). Что... что
вы, сэр!..
Б е л и н. Господин майор, это же издевательство
над женщиной и... и...
Б е н т л и. Скажите лучше, Белин, вы раньше
бывали в квартире фрау Мильх?
Андрей. Он когда-то жил с фрау Мильх.
Фрау Мильх. О боже мой!
Бен тли. А вы были когда-нибудь в квартире
фрау Мильх?
Андрей. Нет, сэр, ни разу не был.
Бен тли. Фрау Мильх, это правда?
Фрау Мильх. Да, я не видела его ни разу в
своей квартире.
Петерсон. Однако он мог бывать, когда вас не
было дома, так?
Фрау Мильх. Да, сэр.
Бентли (Бобу). В комнате фрау Мильх был
открыт только один ящик?
Боб. Да, сэр. Другие были заперты. Я тщательно
осмотрел все комнаты.
Бентли. Значит, грабитель хорошо знал, где что
лежит?
Боб. Очевидно, сэр.
Бентли. Почему же вы сразу надели Макарову
наручники и одновременно нисколько не
заинтересовались Белиным? Почему?
Боб. Мне казалось, что это мог сделать только
Макаров. А впрочем, преступник не лез бы сам на рожон.
Бентли. Вам казалось? Хорошо! А Макаров,
по-вашему, не лез на рожон? Вы, что ж, поймали его
с поличным?
Петерсон. Лейтенант, вы не адвокат!
234
Бентли. Прошу прощения, майор, но я надеюсь,
что через минуту-две буду... прокурором. (Бобу.) Вы
говорите «вам казалось». Не потому ли вам казалось,
что вы только вчера сцепились с Макаровым в
трактире «Под золотым орлом»? Вы помните, что вы
сказали по адресу Макарова, выходя из трактира?
Боб (смущенно). Нет, сэр.
Бентли. В таком случае я вам напомню. Вы
сказали: «Я все равно с ним расправлюсь». Так?
Боб. Не помню.
Бентли. Сержант Фобер! Вы обещали перед
лицом бога говорить правду и только правду. Я вас
спрашиваю: ключ и брошку вы сами нашли или вам
подбросил их кто-то другой, кто решил сжить
Макарова со света?
Белин (замахав возмущенно руками). Господии
майор!..
Петерсон. Я отклоняю этот вопрос, Бентли!
Сержант уже ответил на него.
Бентли. Фрау Мильх, вы этот кинжал видели
раньше?
Фрау Мильх. Да. Я видела его вчера у Анны
Бентли (вскочив с места). Что?
Норма (выбегает на середину комнаты и,
указывая на Белина, кричит). Вот он! Вот он — убийца!
Убийца! Вот он!
Петерсон (вскочив как ужаленный). Мисс
Фанси! Прошу вас выйти!
Норма. Хорошо, я уйду, майор, но еще вернусь!
Я еще вернусь! Пусть я потеряла веру в вас, майор,
но еще не потеряла веру в человека, веру в
справедливость, и она, справедливость, будет со мной!
Петерсон. Есть только одна справедливость,
мисс, и она называется: Соединенные Штаты
Америки! Том! Уведите убийцу! (Указывает рукой на
Андрея.)
Том кладет руку на плечо арестованному.
Занавес.
285
КАРТИНА ВТОРАЯ
В трактире «Под золотым орлом». Утро. За окном падает снег.
За стойкой фрау Мильх наливает Бобу виски.
Боб. Наливайте до краев. В нашем баре ребята
высосали за праздник все до капельки.
Фрау Мильх. Только умоляю вас, сэр, никому
ни слова! Если власти узнают, что я торгую
американским виски, — пропала моя головушка.
Боб. Не бойтесь, не скажу... Что ж я, по-вашему,
доносчик, шептун, шпик? Никогда я им не буду и...
не был. (Выпил до половины.) Я люблю правду —
и только правду. (Выпил до дна.)
Фрау Мильх. Я не сомневаюсь, сэр.
Боб. Очень приятно! Очень приятно. Но так вы
только в глаза мне говорите, а заглаза... (Махнул
рукой.)
Фрау Мильх. Что вы, что вы, сэр!
Боб (стучит кулаком по стойке). Да, да, да!
Я знаю, я... все знаю, но я — молчу.
Пауза.
Как вы думаете, эту... хорошенькую украинку
действительно убил... Макаров?
Фрау Мильх (взволнованно). О сэр! Не
напоминайте мне этой страшной истории! Я не знаю.
Я ничего... ничего не знаю.
Боб. Не знаете? Это так же точно, как вошь
кашляет. А впрочем, майор Петерсон должен знать, что
и как там было. На то он и майор. Он за все и
отвечает. Налейте, фрау, еще!
Фрау Мильх наливает.
А где Макарову ногу перебили? Тоже не знаете?
Фрау Мильх. Покойница Анна говорила, что
под Севастополем. Там были страшные бои. Мой
покойный муж... (вытирает слезы) тоже сложил голову
в России.
286
Боб. Кто? Ваш муж? Туда ему и дорога!
Фрау Мильх, Ох, какой вы жестокий, какой вы
жестокий, сэр!
Боб. «Жестокий», «жестокий»! А любопытно, кто
его — может, Макаров — пригласил туда в гости?
(Трет ладонью лоб.) Постойте, постойте... Под
Севастополем?
Входит Цупович, в очень хорошем настроении.
Цупович. Гуд-мо-онинг, сэр! Гутен морген, фрау
Мильх!
Фрау Мильх. Гутен морген, герр Цупович!
Боб не отвечает на приветствие Цуповича. Он внимательно
следит за каждым движением нового гостя.
Цупович. О! В вашем ресторанчике, фрау,
пусто-пусто, зато... (смеется) в кармане густо, — что?
Фрау Мильх. О, совсем плохо, майн герр!
С того несчастного случая почти все ваши перестали
посещать...
Цупович. Хе-хе! Психология толпы, фрау.
Массовый психоз! Что ж, это хорошо! Наука не пропала
даром. Наконец у них нет времени: как раз проходят
очередной курс перевоспитания. К слову, я советую
вам, фрау, заблаговременно подумать о местной
клиентуре. Еще полгода, еще год, и от перемещенцев
следа не останется. Рассуем их по всем уголкам мира,
и тогда они будут значиться только в наших списках
или в списках мертвых. Как например, Анна Робчук.
Фрау Мильх. Господин Цупович, не
напоминайте, ради бога!
Цупович. Я вас понимаю... небольшая
душевная травма, с непривычки. Ничего, пройдет и это.
Пауза.
Скажите, в вашей квартире, после убийства, был,
кажется, еще один основательный обыск, фрау Мильх?
Фрау М и л ь х. О да, особенно в кухне, где жила
покойная.
287
Ц у п о в и ч. Гм, интересно, и ничего не нашли?
А о судьбе Макарова за это время никто из переме-
щенцев не спрашивал?
Фрау Мильх. Нет, господин Цупович, нет,
никто не спрашивал.
Цупович. Невероятно. А вы не забыли?
Фрау Мильх (раздраженно). Нет, господин
Цупович, не забыла. Нечего было забывать.
Цупович. Одно вы, вероятно, забыли, что перед
богом и нами скрывать ничего нельзя, иначе с вами
может стрястись беда.
Фрау Мильх (плачет). Боже, боже! За что
такое наказание!
Цупович. Наша демократия, победившая
демократию Запада, имеет также свои законы: суровые,
неумолимые законы... Кстати, скажите, правда ли,
что вы только после прихода союзников заменили на
вывеске черного прусского орла золотым
американским?
Боб (фрау Мильх). Что там лепечет этот
собутыльник Белина?
Фрау Мильх (все еще плачет). Хочет знать, не
спрашивал ли кто меня о Макарове. Я говорю, что
нет, а этот господин...
Боб (Цуповичу). Хорошо! Вот я, например, тоже
хотел бы знать, что будет с Макаровым!
Цупович. Хе-хе! Вы совсем другая статья!
Боб. Почему — другая?
Цупович. Ну, вы знаете! Сам характер вашей
службы... (Шутя толкает Боба кулаком в живот.)
Боб (еле сдерживая себя). Какой характер?
Шептуна? Доносчика? Да?
Цупович. Что вы, что вы, господин сержант...
Б о б. А все-таки, что ж, по-вашему, будет с
Макаровым?
Цупович. С Макаровым? Послезавтра состоится
маленькая формальность — военный суд. А там...
(Чмокнув, обводит пальцем вокруг шеи.)
Б о б. И вам от этого станет легче, а?
Цупович. Мне? А вам —нет? Вам также,
глубокоуважаемый сержант!
288
Боб (проводит верхом ладони по лбу). Мне?..
Ц у п о в и ч (тихо). Мы с вами одна рука, дорогой
сержант. Или, как пишется на гербе Америки: «Ин
плюрибус унум»!
Боб. Что? Я... Мы с тобой одна рука? Будь ты
проклят, исчадье ада!
Ц у п о в и ч. Сержант! Вы не знаете, может быть,
что имеете дело с офицером и что я...
Б о б. А ну, марш отсюда, гнида!
Ц у п о в и ч. Сержант, я пожалуюсь майору.
Не успел Цупович окончить фразы, как Боб схватил его за
воротник и, подталкивая коленом, вышвырнул на улицу.
Цупович (исчезая за дверью). Я пожалуюсь!..
Боб возвращается на свое место, молча достает из кармана
трубку и табак.
Фрау Мильх. Боже, что вы сделали, сэр! Он
теперь будет и мне мстить.
Боб (набивая трубку). Пусть только попробует!
И не с такими я справлялся. О-фи-цер! От таких
офицеров я еще и сейчас пулю в груди ношу. Он что?
У Гитлера служил?
Фрау Мильх. Говорят, в дивизии СС, господин
сержант.
Боб (сплюнул). Вот до чего довоевались!
Спутались с такой гадиной! Дьявол его знает, что творится
с нашей Америкой!..
Телефонный звонок. Боб закуривает трубку.
Фрау Мильх. Алло!.. Нет, не было, не было
ее, сэр... Хорошо, скажу, сэр, скажу!..
Входит Норма.
Алло, мистер лейтенант! Как раз леди вошла!
Положил трубку... (Норме.) Звонил лейтенант, леди!
Просил подождать. Через полчаса будет здесь.
19 Я. Галан 289
Норма. Благодарю вас. (Садится за столик
спиной к Бобу.) Что у вас можно выпить?
Фрау Мильх. Есть только пиво.
Боб. Наливайте, наливайте виски! Кроме меня,
этого никто не увидит.
Фрау Мильх наливает четверть стакана и приносит Норме.
Норма. Спасибо.
Пауза.
Боб (видимо, желая подбодрить себя, залпом
осушает стакан виски и подходит к столику Нормы),
Я вам сказал «добрый день», леди.
Норма. Меня абсолютно не интересует, что вы
сказали.
Пауза.
Б о б. Я с вами как с человеком, а вы... Эх!..
Норма. Что вы хотите?
Боб. Хочу спросить. Этот... как его...
Севастополь... далеко от Сталинграда?
Норма. Нет, не далеко. В сердце каждого
настоящего джентльмена они — совсем рядом.
Боб. Ага! По-вашему, выходит я не джентльмен.
Вы ошибаетесь, леди. До сих пор я ношу в полутора
дюймах от сердца немецкую пулю.
Пауза.
И вот уже второй день она невыносимо жжет меня.
Норма. Надеюсь, она вас еще не так будет
жечь, если вы еще не потеряли остатки совести.
Б о б. Я вас не понимаю, леди...
Норма. Вы меня прекрасно понимаете, сержант.
Боб (с напускной иронией). Пусть будет по-
вашему. Но что я должен сделать, чтоб стать наконец
этим... настоящим джентльменом?
Норма. Вам это лучше знать.
Боб. Ага! И это все, что вы можете мне сказать?
290
Норма. Нет, не все. Еще маленькая просьба: не
маячьте перед глазами.
Боб (вспыхнув). Ах, вот оно что! Ну, хорошо!
Я не буду больше мозолить вам глаза, прекрасная
леди! (Расплачивается с фрау Мильх.) Но будьте
уверены, что вы еще узнаете, кто такой сержант Фо-
бер, джентльмен он или нет, и стоит ли с ним
разговаривать. А про Сталинград, прекрасная леди, я и
без вас знаю! (Быстро уходит.)
Фрау Мильх. За все время сегодня в первый
раз заплатил! Не узнаю сержанта!
Норма (вскочила было, чтобы побежать за ним,
но остановилась. Подходит к стойке). У вас случайно
нет порошка от головной боли? До самого утра не
могла глаз сомкнуть.
Фрау Мильх. Есть, леди. Сейчас. (Высыпает
порошок в стакан.)
Норма выпивает.
Норма. Дорогая фрау Мильх! Мы с вами во что
бы то ни стало должны спасти Макарова.
Фрау Мильх. Макарова?..
Пауза.
А что же я могу сделать для этого, леди?
Норма. Много, очень много, фрау Мильх.
Фрау Мильх. Мне самой жаль его. Но вы-то
знаете... майор Петерсон.
Норма. Я знаю только одно: что Макаров
невинен и что ему угрожает виселица.
Фрау Мильх (растерянно). Ох, боже мой!..
Норма. Судьба Макарова в ваших руках, фрау
Мильх.
Фрау Мильх. Леди! Неужели вы думаете,
что...
Норма. Я думаю и хочу думать, что майор
Петерсон только ошибается. Иначе мне было бы стыдно
за мою страну. Кстати, вы слыхали, кого я назвала
убийцей?
Фрау Мильх закрыла лицо руками.
Я жду вашего слова, фрау.
19*
291
Фрау Мильх. Я все, что могла, сказала.
Норма. Однако вы сказали не все, что должны
были сказать.
Фрау Мильх. Я— я... не знаю, что вы имеете
в виду, леди.
Норма. Ключ, фрау Мильх.
Фрау Мильх. Я же сказала...
Норма. Нет, вы не сказали, как он попал в руки
Белина.
Фрау Мильх (со страхом озираясь). Ради
бога! Кто вам сказал? Кто вам мог сказать?..
Норма. Он злоупотребил вашим доверием и
вашей... любовью, да?
Фрау Мильх молчит.
Он глумился над вами, глумился так, как на это
способны люди его породы. За вашу любовь он
отблагодарил тем, что сделал вас сообщницей своего
преступления.
Фрау Мильх. Леди! Клянусь вам ранами
Христа, что на моих руках нет ни капли крови Анны
Робчук!
Норма. Неправда! Если этой крови и нет на
ваших руках, то она на вашей совести, фрау Мильх. Не
сегодня, так завтра вам придется за это ответить!
Фрау Мильх зарыдала.
Вы дади Белину ключ от вашей квартиры?
Фрау Мильх. Я не знала, что он убьет ее,
леди...
Норма. Вы знали, кто убийца Анны Робчук! Вы
знали и молчали!
Фрау Мильх. Я хотела... жить, леди!
Норма. Анна Робчук тоже хотела жить. А
впрочем, оставим это. У вас в ящике что-нибудь, кроме
брошки, было?
Фрау Мильх подтверждает кивком головы.
Что именно?
292
Фрау Мильх. Платиновые серьги и часы моего
покойного мужа, золотые часы «Шафгаузен» с
цепочкой.
Норма (записывает). Белин хотел и при этом
поживиться. Больше ничего не бросилось вам в
глаза?
Фрау Мильх. Пожалейте меня, леди! (Плачет.)
Норма. Я вам не враг, фрау Мильх, я буду
вашим другом и защитником, если вы заслужите это...
Я верю в справедливость, и она должна победить,
чего бы это мне ни стоило. Я слушаю вас, фрау Мильх.
Фрау Мильх. Сегодня утром, подметая в
гостиной, я нашла под ковром... Подождите, леди, я
сейчас принесу. (Уходит в квартиру и тут же
возвращается с конвертом в руках.) Я не знаю, откуда это
взялось у меня, да еще на полу под ковром. Я
хотела было сжечь это, но подумала, что, может, это
спрятала покойная Анна...
Норма. Разрешите! (Берет из рук фрау Мильх
конверт и достает из него бумаги.) Написано по-
русски. Что-то вроде списков... Ох, постойте!..
Фрау Мильх. Что-то важное, леди?
Норма. Да-а!.. По-моему, очень важное. Не за
эти ли бумаги Анна Робчук заплатила жизнью?
Входит Бентли, стряхивает снег с пилотки.
Бентли. Наконец можно проветриться на
лыжах. Снежок... Не плохо было бы, Норма, махнуть на
денек-другой в Гармиш-Партенкирхен.
Норма (не меняя позы). Нет, Эдвин, мы не
поедем в Гармиш-Партенкирхен...
Бентли. Ага, понимаю. Прости, Норма. Что-
нибудь новое?
Норма молча направляется к самому дальнему столику. Бентли
садится около нее, разговаривают очень тихо.
Норма (кладет перед ним конверт). Посмотри!
Фрау Мильх нашла в своей гостиной.
293
Бентли (просмотрев бумаги). Как раз то, что
так лихорадочно искал майор...
Норма. ...и ничего не нашел, хотя его агентами
были предприняты все меры, до убийства Анны Роб-
чук включительно, да?
Бентли. Думаю, что ты не далека от истины.
Норма. Фрау только что призналась мне, что она
отдала ключ от квартиры своему неверному ухажеру.
Да больше того (говорит громче, повернувшись к
фрау Мильх), фрау Мильх сказала мне, что Белин не
ограничился одним ключом, — в ящике ее комода,
кроме брошки, были еще золотые часы и платиновые
серьги. Все это бесследно исчезло.
Фрау Мильх (плачет). Такой негодяй! Такой
негодяй! О господи!
Норма (Бентли, тихо). Ты должен немедленно
сделать обыск у Белина!..
Пауза.
Бентли. Из этого ничего не выйдет, моя
дорогая.
Норма. Почему?
Бентли. Во-первых, потому, что Белин,
очевидно, успел уже продать эти вещи. А во-вторых... Петер-
сон официально запретил мне заниматься делом
Макарова. (Отодвигает конверт от себя.)
Норма. И ты принял это к сведению?
Бентли. Я только офицер, Норма.
Н о р м а. А я до сих пор думала, что ты не
только офицер. (Прячет конверт и бумаги в сумку.)
Бентли. И ты была права. Но что ж мы сможем
сделать, дорогая, если против нас выступила грозная
бюрократическая машина, которая беспощадно
раздавит каждого, кто осмелится стать ей на пути? Эта
машина только в одном случае выходит из строя,—
когда она наталкивается на Россию. Теперь тебе
понятно раздражение Петерсона?
Норма. Понятно.
Бентли. Ты знаешь, что происходит сегодня в
лагере перемещенцев? Достаточно было невинной де-
294
монстрации в защиту Макарова, чтобы власти
запретили этим людям в течение недели оставлять бараки.
Можешь пойти полюбоваться. Зрелище, достойное
богов; вся военная мощь Соединенных Штатов
свалилась на головы двух тысяч безоружных белых рабов.
Сверхмощные танки патрулируют на улицах города,
вокруг лагеря снуют бронемашины. Но самое
удивительное в этой комедии то, что она каждую минуту
может превратиться в трагедию. Наши мыловары
умеют стрелять в безоружных! И в грудь и в спину —
в зависимости от объекта; но своим
соотечественникам они предпочитают — в спину.
Норма. Зачем ты мне говоришь все это?
Бентли. Подумай, стоит ли из-за одного-един-
ственного человека итти так напролом, так отчаянно,
в такое время, когда — может быть, завтра — твоя
помощь будет нужна десяткам тысяч? Мы, Норма,
входим в полосу мрака, еще более страшного, чем
тот, который покрывал Европу на протяжении
последних лет.
Норма (со слезами в голосе). Нет, нет! Никогда
в это не поверю! Я не поверю, чтобы петерсоны могли
когда-нибудь диктовать миру историю. Я не была на
войне, я не видела и не знаю, как взрываются бомбы,
но я видела слезы матерей, я видела огромное
кладбище наших убитых в Люксембурге, я осматривала
концлагерь в Дахау, и я не могу, не могу поверить,
чтоб все это не оставило следов в человеческих умах
и сердцах...
Бентли. Норма, милая моя! И ты хочешь стучать
в сердце Петерсона?
Н о р м а. Да! Может, достучусь и до сердца твоего
Петерсона! А если это не удастся мне, то буду
стучаться в другие сердца — человечество не состоит из
одних петерсонов! Ты считаешь, что не стоит лезть на
рожон из-за одного-единственного человека. Стоит!
Макаров — не только севастопольский моряк, солдат,
он — символ, и если бы я сегодня махнула рукой на
его судьбу, моя совесть сказала бы мне: ты махнула
рукой на судьбу всего человечества. И если мы
позволим этим твоим охотникам за скальпами убить Мака-
295
рова, так же, как позволили несколько дней тому
назад убить Анну Робчук, то завтра они протянут лапу
за скальпами наших братьев и сестер. Неужели ты
этого не понимаешь, Эдвин? Неужели ты, в лучшем
случае, только Гамлет?
Бентли (помрачнев). Гамлет? Тот был принцем,
и у него было больше возможности влиять на ход
событий, чем у меня. А впрочем, сегодня это
единственная роль, которая дает человеку возможность быть
свидетелем не только начала конца, но, пожалуй, и
самого конца.
Норма. Свидетелем!.. И это все, что я могу
ждать от тебя, да?
Бентли (развел руками). Я не создан для роли
Дон-Кихота. Наконец, может, я и согласился бы на
эту роль, если бы имел дело с баранами Сервантеса.
Доносится грохот приближающегося танка.
Слышишь? Слышишь, каким импозантным шагом
идут на рыцаря печального образа бараны президента
Трумэна?
Норма (встала). Слышу и — принимаю вызов,
Эдвин. Иду одна к Петерсону. (Бросает деньги на
стол.) Я уже нашла свой путь и глубоко верю, что
даже без тебя, Эдвин, я не буду на нем одинока.
(Уходит.)
Земля дрожит от тяжелого танка, который проходит мимо
трактира «Под золотым орлом».
Бентли. Погоди, Норма! (Поднимает воротник
куртки, идет к двери, но в последнюю минуту
передумывает. Заметив недопитое Нормой виски, ленивым
шагом переходит к столу и поднимает стакан.)
Слышно, как приближается второй танк.
Фрау Мильх!..
Пауза.
Я пью за детское, безрассудное, но большое сердце
маленькой Нормы Фанси!..
Занавес,
ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
КАРТИНА ПЕРВАЯ
Помещение контрразведки. По радио передают песню «Тихая
ночь, святая ночь...» по-английски. Майор Петерсон сидит
около натопленной печки и читает библию. На его носу очки. За
окном — на крышах свежий пушистый снег. Читая, майор
медленно шевелит губами. Телефонный звонок. Петерсон встал,
положил библию на стол.
Петерсон. Ага! Редакция! Мери кристмас! Да,
следствие поручено мне. Дело государственного
значения... Ага... Вот проклятая!.. Не верю в ее карьеру.
Что? Ключ?.. О, черт!.. Ага... Часы и платиновые
серьги, ага... Что думаю?.. Я думаю, что это
мистификация, продукт воображения экстравагантной,
экзальтированной девушки... На всякий случай, я не
советую печатать. Неужели у вас не было никакого
другого под рукой? Что? Совершенно верно, это не
мое дело, зато оно имеет общегосударственное
значение. Престиж наших властей на этом континенте...
Я очень рад, что вы понимаете меня с полуслова...
Хорошо! Со своей стороны и я сделаю также все от меня
зависящее. (Положил трубки. Нервно шагает по
комнате. Звонит.) Тюрьма?
Открывается дверь, и входит сержант Боб Фобе р. Петерсон
не замечает его.
297
Лейтенант О'Кенни? Немедленно привезите ко мне
Макарова! (Увидев Боба, Петерсон снял очки и мед-
ленным шагом возвратился на свое место у печки,)
Пауза.
Выключить радио!
Песня смолкает.
Так! Что скажете, сержант?
Боб. Я... по поводу Макарова.
Петерсон. Очень приятно.
Боб (вздыхает). По правде говоря, мне не очень
приятно, сэр...
Петерсон. Любопытно. Ну-ну...
Боб. Было не совсем так, как я сказал. На самом
деле было иначе. (Кашлянул.) Я не один обыскивал
Макарова.
Петерсон. Что? Вы, сержант военной полиции,
осмелились говорить мне неправду? Мне? Вы знаете,
чем это пахнет?
Боб, Знаю, сэр. И все-таки я не могу молчать.
Петерсон. Ну-ну, говорите дальше!
Боб. Я думаю, сэр, что Макаров тут ни при чем
и что его придется выпустить.
Петерсон. Выпустить? Благодарю за совет,
сержант. Чем еще повеселите меня?
Боб. Сэр! Я думаю, что не Макаров должен итти
на тот свет, а кто-то другой.
Петерсон. Скажите, вы не пьяны?
Боб. Нет, сэр. Мне нужно здорово нахлестаться,
чтобы я стал пороть чушь. Я не пьян, сэр.
Петерсон. Тем хуже для вас, сержант! Значит,
вы заявляете, что на следствии говорили неправду.
Иначе говоря — врали? (Встает.)
Боб. Да, сэр. Иначе говоря, я — врал.
Петерсон. А теперь?
Боб (опустив голову). Теперь... теперь меня
мучит совесть.
298
Петерсон. Что такое? Совесть? Вы сколько лет
служите в полиции?
Боб. Полтора года. Меня откомандировали после
выхода из госпиталя.
Петерсон. А-а! Понятно. А ваша совесть не
ходит ли случайно в юбке и не называется ли она мисс
Норма Фанси?
Боб. Нет, сэр. Моя совесть тут. (Ударяет себя в
грудь.) Рядом с фашистской пулей.
Петерсон. В таком случае я вам советую скорей
оперировать ее вместе с этой пулей. А пока что — вы
пьяны, сержант, и в этом ваше счастье. Иначе я
отдал бы вас под суд. Можете итти!
Боб. Клянусь богом, сэр...
Петерсон. Клянетесь? Тогда вы тоже как будто
бы клялись. Кто после этого поверит вам? Кстати, вы
в данную минуту на службе?
Боб. Нет, сэр. Я дежурил вчера.
Петерсон. Жаль. Я бы вас сразу отправил на
гауптвахту. Ступайте, проспитесь, сержант!
Боб. Сэр, с вами говорит американский солдат!
К чертовой матери, я не потому воевал за
демократию, чтоб теперь первая встречная тыловая крыса
плевала мне в морду!
Петерсон. О-о!.. Вот до чего мы дожили с
вами, сержант Боб Фобер!.. Бактерии начинают
действовать. Ваше оружие, сержант!
Боб быстро отстегивает кобуру с револьвером и через всю сцену
бросает его на стол.
Том!
Входит Том.
Вы арестованы, сержант! (Тому.) Пусть дежурный
отведет его на гауптвахту! (Бобу.) Там у вас будет
время немного глубже подумать о том, что такое
наша демократия.
Боб. Боюсь, что я тогда прокляну ее вместе с
вами!
299
Петерсон. Молчать! Смирно! Налево, кругом!
Шагом, марш!..
Боб стоит секунду спиной к Петерсону, потом быстро уходит.
Том идет за ним. Петерсон явно взволнован. Он хочет куда-то
звонить. Но тут же кладет трубку. Подумав, он подходит к
дверям и широко распахивает их.
Макаров!
Входит Андрей.
Том, снимите с него наручники.
Том снимает наручники и уходит.
Садитесь, Макаров!
Андрей не трогается с места.
Я вас просил сесть.
Андрей. Слишком много чести, сэр.
Петерсон. Что ж, ваша воля. (Подходит к елке
и долго покачивает серебряного ангелочка.)
Послезавтра в десять часов утра вас будет судить военный
трибунал.
Андрей. Мне уже сказали.
Петерсон. Через двадцать четыре часа
приговор будет приведен в исполнение.
Андрей молчит.
Свидетели уже сказали свое слово, и их больше не
будут слушать. Вся процедура будет сокращена до
минимума. У вас только один выход — чистосердечно
заявить: «Да, это я убил». Почему же вы молчите?
Андрей. Я уже сказал, и не только я.
Петерсон. Ах, вы об этой девушке из газеты?
Не советую вам рассчитывать на ее помощь. Вы —
в наших руках, Макаров.
Андрей. Это я знаю, сэр. Только одного я не
знаю: зачем вы вызвали меня?
300
П е т е р с о н. Во всяком случае не для того, чтобы
попрощаться с вами. Я хочу дать вам, Макаров, еще
один шанс.
Андрей. Я слушаю.
Петерсон. Мне известно, что вы занимались
здесь агитацией за возвращение перемещенных лиц
на родину и что вы предприняли по этому поводу ряд
конкретных мер.
Андрей (подняв голову). Ах, вот что!..
Петерсон. Я также знаю, что вы за нашей
спиной составили список желающих вернуться и собрали
какое-то количество подписей. Это так?
Андрей. Я не знаю закона, который запрещал
бы делать это, сэр.
Петерсон. Кроме писаных, есть еще неписаные
законы, мой дорогой Макаров. Опираясь на эти
неписаные законы, я могу раздавить вас. как червяка.
Пущенный рукой Петерсона серебряный ангелочек затанцевал на
елке. Петерсон подходит к столу и прячет в ящик револьвер Боба.
Андрей. Я уже убедился в этом, сэр.
Петерсон. Тем лучше. Итак, можем сыграть
с вами в открытые карты. Куда вы дели этот список,
Макаров?
Андрей. Список? Значит, не нашли, не нашли...
Петерсон. Что вы хотите этим сказать?
Андрей. Я хочу сказать, что вы не нашли его,
напрасно только убили Анну.
Петерсон. Макаров! Я вам не советую
перетягивать струну. Она и так уже натянута вами до
отказа. Еще раз спрашиваю: где список?
Пауза.
Я вас в последний раз спрашиваю!
Андрей. Он в Мюнхене.
Петерсон (ударив кулаком по столу). Врете!
Андрей. Я... отправил его в советскую миссию.
Петерсон. Каким путем? Когда?
Андрей. За несколько часов до смерти Анны,
301
Пет ер сон. Проклятие!.. Если это правда,
Макаров, то я не дал бы и ломаного цента за вашу
жизнь.
Андрей. А я вас и не прошу. Теперь я знаю по
крайней мере, за что гибну.
Петерсон (смотрит на Андрея, точно впервые
в жизни видит его). Интересно! За что же?
Андрей. За то, за что погибла Анна, за то, за
что под Севастополем погибла моя рота, за то, за что
пошли на электрический стул Сакко и Ванцетти!
Петерсон. Вы ошибаетесь, Макаров! Дело
обстоит гораздо хуже. Вы пойдете на виселицу, но
только... за грабеж и убийство перемещенки Анны
Робчук.
Андрей. Нет, майор! В это уже никто не
поверит. Даже — палач.
Петерсон. Опять этот тон, Макаров! Макаров!
Завтра я пришлю вам местные газеты. В них вы
прочтете подробные описания совершенного вами
преступления. А вашего голоса никто не услышит. От вас
отвернутся даже те, кто верил вам.
Андрей. Говорите... отвернутся?
Петерсон. Они уже отвернулись от вас, Андрей
Макаров.
Том высунул голову из дверей.
Кто там? Пусть подождет!
Голова Тома исчезает.
Подумайте, Макаров, вы не будете числиться ни
в списках убитых, ни в списках пропавших без вести.
Короткое время вы будете жить в памяти людей, как
грабитель и убийца, а потом и об этом забудут.
И тут и там — на вашей родине. Не суждена вам доля
ни Сакко, ни Ванцетти, Андрей Макаров... За тех
была пресса, литература, массы, вы же будете один, как
перст, за это я вам ручаюсь. Одиноко сойдете в
могилу, и только позор оставите после себя.
Андрей (провел кулаком по лбу). Только
позор...
302
Петерсон. Я вам напомнил о вашем последнем
шансе. Я могу использовать кое-какие... так
сказать... пробелы в обвинительном материале и
приостановить дело. Но у меня должна быть гарантия, что
в будущем не придется больше возиться с вами,
Макаров. И помните, это ваш последний шанс.
Андрей. Говорите, сэр!..
Петерсон. Я немногого от вас потребую.
Напишите коротенькое заявление в лагерную газету!
«Я, такой-то... опровергаю слухи, будто бы я пытался
вернуться в СССР и подбивал к этому других пере-
мещенцев. Я — противник коммунизма и как таковой
осуждаю политику, проводимую нынешними
правителями моей родины». Все!
Пауза.
Андрей. Пусть будет по вашей воле, сэр.
Петерсон. Значит, подпишете?
Андрей (покачал отрицательно головой). Вы
меня не так поняли, сэр. Пусть лучше я по вашей
воле умру! Мне будет легче с позором умереть, чем
с позором жить.
Петерсон. Это ваше последнее слово?
Андрей. Последнее, сэр!
Пауза.
Петерсон. Слушайте, вы! Кто вас этому
научил? Черт бы вас побрал, живем только раз!
Андрей. Я знаю.
Петерсон. Ну, ну!
Андрей. И именно потому, что у нас только
одна единственная жизнь, ее надо прожить
по-человечески. И так же умереть.
Петерсон. Наконец я вас раскусил, Макаров.
Теперь я знаю, почему так тяжело бороться со всеми
вами. Теперь я знаю, почему Гитлер проиграл
кампанию на Востоке.
Андрей. Вы... ее тоже проиграете.
303
Петерсон (искоса взглянув на Андрея). Вы так
думаете?
Андрей. Так будет. Жизнь не с вами, она с
теми, кто за правду, а вы — ее враги.
Петерсон. И это все, что вы хотели мне
сказать?
Андрей (резко). Остальное вам скажет моя
родина!
Петерсон (не то со страхом, не то с восторгом).
Ох, черт!..
Пауза.
Том!
Том входит.
Уведите его.
Том уводит Андрея. Петерсон подходит к дверям.
Входит Норма.
А, это вы? Пожалуйста, мисс Фанси! (Кричит в
коридор,) Макарова пока оставить здесь! Наручники...
можете не надевать. (Закрывает двери.)
Норма. Вы все еще верите в его вину?
Петерсон. А что?
Норма (садится в кресло Петерсона). А то, что
у меня в руках вещественные доказательства...
Петерсон. Я понимаю. Вы хотите рассказать
мне о ключе и о брошке? Да?
Норма удивлена.
Норма. Вы уже знаете?
Петерсон. Догадываюсь.
Норма. Неужели этого мало, чтобы освободить
человека?
Пауза.
Петерсон. Да, к сожалению... Макаров
виновен. (Развел руками.)
Норма (вскочила). Перед кем?
Петерсон. Перед Соединенными Штатами
Америки.
304
Норма. Это кощунство, майор.
Петерсон. Нас никто не слышит, мисс Фанси.
Буду говорить с вами, как американец с американкой.
Буду говорить с вами, как человек, интересы которого
срослись с интересами государства в одно монолитное
целое. Мы заинтересованы в том, чтобы
перемещенные остались в наших руках. Каждый лишний день
их пребывания под нашими крыльями — это новый
козырь в наших руках. А потом придет день, когда
все они осознают, что им уже нет возврата. Тогда эта
многотысячная армия людей, людей без рода, без
племени, будет делать то, что мы им прикажем.
Сданные на нашу милость, они будут преданно стоять
на страже нашего строя, наших порядков, нашей
мировой империи и здесь, и в Англии, и в Бразилии —
везде, куда только простирается сфера нашего строя,
наших порядков, нашей мировой империи. И если
провидение ниспошлет нам новую войну, мы бросим
эту армию против врага. Вы не представляете себе,
мисс Фанси, что такое фанатизм ренегатов! Это будет
атомная бомба номер два!.. Ну, а теперь вам уже
ясно, мисс Фанси?
Норма (кивнув головой). Теперь мне уже ясно.
Даже слишком ясно.
Петерсон. Вам только остается сделать из этого
выводы.
Норма. Я их сделала.
Петерсон. Очень хорошо. Вы отправили в свою
редакцию корреспонденцию о деле Макарова,
написанную так, будто автором ее был сам Макаров.
Я надеюсь, вы больше не будете так делать.
Норма. Вы правы. Я больше не буду делать
таких глупостей.
Петерсон. Еще одна такая корреспонденция, и
редактор вам скажет: «С богом, мисс Фанси!»
Норма (вздыхая). Я так же думаю, мистер
Петерсон.
Петерсон. Как вижу, наш оккупационный
климат начинает склонять вас к благоразумию. Это очень
хорошо. Вы сумеете здесь не плохо устроиться, тем
20 Я. Галан
305
более, что ваш будущий муж имеет все шансы вскоре
занять мое место.
Норма. Эдвин... ваше место?
Петерсон. Не вижу в этом ничего
удивительного. Он так ловко вел тогда допрос по делу
Макарова, что я был вынужден завидовать ему. После
Нового года меня переведут, кажется, во Франкфурт, и
я с чистой совестью предложу властям передать мои
функции лейтенанту Бентли.
Норма. А Бентли согласен итти на это дело?
Петерсон. Почему бы нет? Правда, пока
я только намекнул ему на это. Но я более чем
уверен, что он не откажется от удобного случая сделать
карьеру. Вы недооцениваете своего жениха, мисс
Фанси.
Норма. О да! Я недооценивала Эдвина, как
недооценивала и вас, майор.
Петерсон. Ваше раскаяние тронуло меня.
Значит, мы с вами нашли наконец-то общий язык.
Норма. Вы ошибаетесь, майор. Только теперь я
поняла, что мы с вами общего языка никогда не
найдем.
Петерсон. Мисс Фанси! Ай-ай-ай-ай!
Неужели вы все еще пребываете в плену ваших
«принципов»?
Норма. Да, майор, и потому советую вам не
рассчитывать на то, что увидите когда-нибудь мою
фамилию в списке сфабрикованных вами ренегатов.
Телефонный звонок.
Петерсон. Ага!.. Так, так... Браво, лейтенант!
(Кладет трубку,) И что же вы думаете делать?
Н о р м а. То же самое, что делала до сих пор.
Петерсон. Спасать Макарова? Вы не
спасете его.
Норма. Я верю, что спасу. А если не удастся,
тогда я... займу его место.
Петерсон. Ну, мисс! Тогда вас попросят
оставить этот континент ближайшим теплоходом.
Норма. Из этого ничего не выйдет. Европейский
306
урок я сумею использовать также и в Америке. Вы
открыли мне глаза, и закрыть их сумеет только
смерть.
Петерсон. Ну что ж! Поступайте, как хотите!
Откровенно говоря, меня не интересует, как вы
будете себя вести за океаном. Там — не моя епархия. Но
пока вы здесь, вам будет разрешено делать только то,
что не противоречит нашим интересам.
Норма. И это все?
Петерсон. Нет, не все. У меня к вам есть
небольшая просьба.
Норма. Просьба? Из ваших уст, мистер
Петерсон, даже просьба звучит как приказ.
Петерсон. Если вы восприняли ее как приказ,
тем лучше. В вашем распоряжении, мисс, находятся
бумаги, содержание которых очень интересует нас.
Норма. Бумаги?
Петерсон. Я имею в виду составленный Мака*
ровым список «ди-пи», адресованный советской
миссии в Мюнхене.
Норма (явно смущенная). Это кто вам сказал?
Бентли?
Петерсон. Лейтенант Бентли, мисс, несколько
минут тому назад передал мне эту приятную новость
по телефону. Видите, какой переворот в душе
человека может произвести брошенный во-время намек...
Норма. О да! Вы просто волшебник, майор.
В один миг вы сняли с моих глаз пелену, и я увидела,
что мой принц — не принц...
Петерсон. Нет, этого желания у меня не было.
Я хотел только лишний раз показать, что вам остается
одно: покориться законам наших джунглей, как
красноречиво сказал бы лейтенант Бентли...
Норма. И отдать вам списки, да?
Петерсон. Совершенно верно, мисс, это
облегчило бы нам борьбу с элементами анархии и помогло
бы ликвидировать очаг заразы, пока она не
перекинулась в соседние лагери.
Норма. Нет, майор, я не буду вашим союзником
в этой грязной и — нечего греха таить — кровавой
афере. Списки я вам не отдам.
20*
307
Петер сон. Что ж вы думаете делать с ними?
Норма. То, что на моем месте сделал бы с ними
всякий порядочный человек. Я повезу их сама в
Мюнхен.
Петер сон. Вы с ума сошли, девушка! Вы
вооружите против себя все инстанции оккупационных
властей, не говоря уже о том, что до Мюнхена вы...
не доедете. Со вчерашнего дня за вами, мисс Фанси,
установлено негласное наблюдение.
Норма. Да? После того, что я здесь услышала,
меня бы даже не удивило, если бы эту почетную роль
взял на себя лейтенант Бентли. Но все же я готова
померяться силами с вашими шпионами, мистер Пе-
терсон.
Петерсон. Вы очень смелы, мисс Фанси, однако
это вам не понадобится.
Норма. Хотите арестовать меня?
Петерсон. Нет. К сожалению, это не так легко
сделать. Вы, как-никак, пока еще корреспондентка.
Я просто прикажу обыскать вас, и тогда — у вас
будет чистая совесть, а у меня — списки. (Идет к
дверям.)
Норма. Минуточку, майор! Я придумала другой
выход из положения! (Достает из сумки конверт и
бросает его в пылающую печку).
Петерсон. Тысяча чертей! С вами не легко
воевать, но, уверяю, этим вы Макарова не спасли.
Норма. Но зато, может, спасла других. А что
касается Макарова, то мы еще повоюем с вами,
мистер Петерсон. (Идет к дверям.)
Петерсон. Постойте! Я вам, кажется, уже
сказал: ваши шансы равны нулю. Все, кроме одного.
Макаров не использовал его. Надеюсь, вы будете
более благоразумны.
Норма. Новая хитрость?
Петерсон. Нет, новая попытка спасти...
Макарова от виселицы. На этот раз с моей стороны.
Норма. Неужели и у вас защемило сердце?
Петерсон. Нет, мисс, таких сердечных
припадков у меня не бывает. Просто не хочется делать из
Макарова мученика. Будет гораздо лучше, если он
308
вернется к перемещенцам живым, невредимым и —
обращенным.
Норма. Другими словами, вы предлагаете мне
сотрудничать с вами по фабрикации ренегатов? Да?
Петерсон. Мисс Фанси! Я вам даю
возможность спасти человека. Если вы не используете ее,
я боюсь, что ваша душа до самой смерти не найдет
себе покоя.
Норма. Что вы требуете от меня? (Садится.)
Петерсон. Ваш голос задрожал, — это не
плохой признак. Я предложил Макарову написать
маленькое заявление о том, что он не собирается ехать
в Россию, что он не подбивал к этому других и что
он осуждает нынешний режим в России. Как видите,
небольшая ложь, микроскопическая капля в океане
лжи, в котором плавает спокон веков наш мир. Даю
вам слово офицера, что я, как только Макаров
подпишет эту бумажку, сверну шею всему делу и ваш
протеже выйдет немедленно на волю. Вы должны
переубедить его, это будет лучший выход не только для
меня, но и для него, тем более, что этот человек,
откровенно говоря, заслужил лучшую долю, чем смерть
на виселице. Макаров здесь, рядом; вы единственный
человек, который может повлиять на него. Я жду
вашего согласия, мисс.
Норма. Это... было бы ниже моего достоинства,
не говоря уже о том, что в ответ у него, наверно, не
нашлось бы доброго слова.
Петерсон. Ах вот что? Перед лицом смерти
молодого, полного сил человека вас волнует одно: как
бы не пострадало ваше достоинство. Уверяю вас, что
утраченное достоинство легче вернуть, чем
утраченную жизнь. А что касается ответов Макарова, то я не
советую вам делать преждевременных выводов.
Норма. Вы думаете, что Макаров пошел бы на
это?
Петерсон. В данном случае я ничего не думаю,
мисс, — здесь мы имеем дело с индивидуальностью,
перед которой, хочешь или не хочешь, а приходится
склонить голову. Однако долголетняя полицейская
практика научила меня, что единственный закон, кото-
309
рому без протеста подчиняются все люди без
исключения, это биологический закон. Во имя спасения
собственной жизни человек способен на все. Только надо,
чтоб он каждым своим нервом почувствовал
леденящее дыхание смерти. Вот тогда он откажется от
любых принципов, дайте ему только возможность и
время найти принципы, которые оправдали бы его
капитуляцию. В данном случае перед нами
совершенно нормальный человек, который, надо полагать,
поймет, что все ошибки можно исправить, кроме одной —
самоубийства.
Норма (движением глубокой усталости
снимает пилотку). Я... согласна, майор.
Петерсон. Премного благодарен! Надеюсь,
вам повезет. Иначе мне остается только одно: умыть
руки (Открывает двери.) Войдите, Макаров!
Входит Андрей.
Оставляю вас наедине. Желаю успеха, мисс Фанси!
(Уходит)
Норма (показывает рукой на стул). Вы,
очевидно, догадываетесь, почему майор Петерсон
оставил нас вдвоем?
Андрей (после короткого колебания садится).
Я о вас самого лучшего мнения, мисс.
Норма. Боюсь, что вы его измените. Я должна
сделать то, что не удалось сделать майору.
Андрей. Неужели вас также интересует судьба
этого списка? Я уже сказал...
Норма. Мистер Макаров, ваш список попал ко
мне в руки.
Андрей. Что?
Норма. Его нашла фрау Мильх и передала мне,
а я по неосторожности похвалилась находкой перед...
майором. Чтобы списки не попали в его руки, я была
вынуждена бросить в печку... пустой конверт.
Андрей. Если это действительно так, то я
благодарю вас, мисс.
Норма. У меня нет никаких причин говорить
вам неправду. (Показывает списки.)
310
А н д р ей. Я верю вам, мисс.
Норма. Речь идет о том, чтобы спасти вас. Вас
лично, мистер Макаров.
Андрей. Как? Майор Петерсон хочет меня
спасти?
Норма. Да! Он хотел бы приостановить дело. На
каких условиях, вы сами знаете.
Андрей. Знаю.
Норма. Вам, наверно, не больше тридцати лет...
Андрей. Что вы хотите этим сказать?
Норма. Что вы недооцениваете опасности,
мистер Макаров! Я делала, делаю и буду делать все,
что в моих силах, для предотвращения этого
очередного убийства. Постараюсь известить обо всем вашу
миссию. Я отправила телеграммы редакциям
некоторых влиятельных газет, наконец, после оглашения
приговора, я обращусь с ходатайством к губернатору,
в его штабе у меня есть знакомые. Несколько дней
моего пребывания здесь научили меня большему, чем
долгие годы, прожитые мною в маленьком
американском городке. Тут воочию я убедилась в том, о чем
там могла только неясно догадываться. Наша
справедливость носит на глазах, вместо повязки, очки
мистера Вандербильта, а у ее служителей — манеры
гангстеров. Не забывайте, что сегодня ваша судьба
почти всецело в их руках. И судьба и жизнь.
Андрей. Я знаю.
Норма. Знаете — и не подпишете?
Андрей. Знаю и не подпишу!
Норма. Мистер Макаров, может быть, роль,
которую я взяла на себя, позорная роль, но я не
могла поступить иначе. Я хочу предупредить это
убийство.
Андрей (встал). Стало быть, вы хотите, чтоб
Макаров перестал быть Макаровым? Чтобы он, как
щенок, припал к ногам вашего Петерсона и навеки
опозорил нашего брата? Лучше оставьте эту роль!
Норма (встала и подошла вплотную к Андрею)
Простите, мой друг, но мне стало страшно...
Андрей (горячо). А вы... вы думаете, мне не
страшно? Вы думаете, я иду на смерть, как на свадь-
311
бу? С той проклятой ночи я ни на минуту не сомкнул
глаз. Это ж, черт возьми, не в атаку итти. (Закрыл
лицо руками.) Хоть бы Анна была жива, а то и ее,
бедняжку, не пожалели. Цивилизаторы!
Норма. Анна Робчук уже не вернется к нам.
Я боюсь за тех, кто еще жив.
Андрей. О ком это вы?
Норма. О вас, мой хороший друг.
Андрей. Поймите! Я ненавижу смерть, но я еще
больше ненавижу жизнь, какой они хотят меня
осчастливить. Если бы я испугался их, если бы я дал
поймать себя на удочку вашим петерсонам, они бы не
сказали: «Макаров — изменник», они бы сказали:
«Советский моряк Макаров — изменник». А мне
никто не давал права покрывать позором мой народ.
Норма (восторженно). Какая мать воспитала
вас, Андрей Макаров?
Андрей. Россия Ленина и Сталина. Я помню
моих боевых друзей, и я знаю, ради нее они жили, за
нее умирали в боях, и я тоже до конца останусь
моряком в боевом строю, моряком, который дал
присягу служить Советскому Союзу! Поклялся раз и
навсегда!
Норма. Боже мой! Что ж я еще могу сделать
для вас, Андрей Макаров?
Андрей. Много. Скажите моим товарищам из
лагеря, что я умирал не как убийца, а как солдат
страны социализма. Скажите это всем — и здесь и
там, у вас за океаном. Пусть знают люди Америки,
как расправлялись с советским моряком ваши
банкиры за то, что он стоял за правду. И не забудьте
передать нашим из лагеря, чтоб довели до конца дело,
которое мы начали с Анной и товарищами.
(Шепотом.) Список передайте Дуде или Мальцеву, пусть
немедленно едут в Мюнхен. Такова будет моя
последняя просьба.
Норма. Все скажу, все сделаю, что только
будет в моих силах. Клянусь вам в этом, Андрей
Макаров! В лагере большинство верит не петерсонам,
а вам. Ваши устроили демонстрацию. Власти обеспо-
312
коены. Военная полиция третий день на ногах. Мой
хороший друг, вы не один!
Андрей (впервые за все время улыбнулся).
Это — хорошо! Видите, какой замечательный наш
народ! Когда вспоминаешь о нем на чужбине, — петь
хочется, а не думать о смерти. Хочется петь о Москве,
о Кубани, обо всей земле, что была бы планетой
радости, если бы не ваши золотые идолы! Петь!
Хочется песен, в которых была бы любовь ко всему
живому и огненная вера в то, что правда во всем
мире — от края его и до края — победит...
Норма крепко пожимает ему руку.
Занавес,
КАРТИНА ВТОРАЯ
«Под золотым орлом». Пасмурная погода. ФрауМильх пишет
за стойкой. Очки еле держатся на конце ее носа. За последним
столом справа сидит Боб; он без пояса и оружия, на голове,
вместо каски, помятая пилотка. Боб спит, закрыв голову руками.
Перед ним пустой стакан. Входит бой из отеля.
Бой. Мисс Норма Фанси здесь?
Фрау Мильх. Нет, но скоро будет. Пошла на
телеграф.
Б о й. В отель на ее имя пришла телеграмма.
Передайте, пожалуйста.
Входит Норма.
Фрау Мильх. А вот и леди! Вам телеграмма.
Бой уходит. Норма читает телеграмму.
Это ответ, мисс?
Норма. Нет. Ответ на мою телеграмму еще не
пришел. (Смотрит на часы.) Осталось еще полтора
313
часа. Говорят, телеграммы здесь задерживаются в
пути.
Фрау Мильх. Простите, мисс, мне показалось,
что вы вдруг побледнели.
Норма. Нет, я только озябла... Сделайте мне,
пожалуйста, горячего кофе.
Фрау Мильх. Сейчас приготовлю, мисс.
(Хочет итти в кухню.)
Норма. Минуточку! Меня здесь никто не
спрашивал?
Фрау Мильх. Нет, мисс, никто. (Уходит.)
Норма (подходит к автомату, бросает монету
и снимает трубку). Защитник Макарова? Капитан
Майлд? Как? До сих пор нет еще ничего из
канцелярии губернатора? Нет... Осталось так мало времени.
Да, будем надеяться. Позвоните сами? О, благодарю,
капитан. Двадцать семь — сорок девять.
Благодарю! (Вешает трубку, еще раз перечитывает
телеграмму. Увидев в дверях Эдвина Бентли, она инстинктивно
прячет телеграмму в сумочку.)
Бентли останавливается и молча подносит пальцы к пилотке.
Норма, стараясь казаться спокойной, садится к столу с левой
стороны.
Бентли. Норма... Бедная Норма!
Норма (вскочила). Неужели... свершилось?
(Посмотрела на стенные часы.)
Бентли. Ты об этом русском? У него еще есть
целых полтора часа. Возможно, что в последнюю
минуту придет сообщение о помиловании. Кроме того,
майор Петерсон дал ему понять, что свой последний
шанс он может использовать даже на ступеньках
эшафота. Но я не с этим пришел, Норма.
Норма садится.
Норма. Я слушаю.
Бентли. Ты вчера послала телеграмму
советской миссии. Она не дошла до адресата, впрочем этот
факт не умаляет твоей вины.
314
Норма. Вина?
Б е н т л и (разводит руками). Не вижу ничего
удивительного в том, что клерк говорит языком клерка.
Норма. Дальше?
Бентли. Та же самая участь постигла твою
корреспонденцию, отправленную в редакцию «Дейли
уоркер». Очень жаль, что тебе не удалось передать ее
по телефону, — Петерсон вырвал бы у себя из головы
последние волосы. Но это уже не твоя вина.
Норма. Дальше что?
Бентли. А дальше идет печальный эпилог.
Норма. Об увольнении меня с работы можешь
не говорить. Я только что получила телеграмму из
редакции.
Бентли. Что ж, этого надо было ожидать. Но это
еще не самое страшное. Я вынужден предупредить
тебя, моя дорогая: комендантом подписан приказ
о том, что ты должна в течение двадцати четырех
часов оставить этот город. У меня нет никаких
сомнений, что завтра тебе прикажут вообще оставить
Европу.
Боб поднял на секунду голову, а потом опустил ее.
Норма. Как вижу, ваш аппарат работает
безотказно.
Бентли. О да! Там, где без него можно было
бы обойтись. В нашем городе нацисты уже четвертую
ночь беспрепятственно расклеивают листовки, в
которых называют нас «придурковатыми янки» и обещают
устроить нам кровавую баню.
Норма. Надеюсь, что под твоим руководством
этот аппарат будет работать значительно лучше.
Бентли. Ты уже знаешь?
Норма. О чем?
Бентли. Ну... о том, что я в ближайшее время
должен сесть на место...
Норма. ...охотника за скальпами Петерсона. Нет,
не знаю, но ждала...
Бентли. Ждала? Это говорит о твоем уме.
Я, видишь ли, согласился на предложение Петерсона
316
не только потому, что я ни на что лучшее не
способен, но и потому, что граница между добром и злом
давно уже исчезла в природе, если вообще она когда-
нибудь существовала.
Норма. «Граница между добром и злом»...
Видишь ли, Эдвин, для тебя эта граница никогда не
существовала. К сожалению, я только сейчас поняла
это. Ты воспринимаешь жизнь, как дар судьбы: дар,
который ни к чему не обязывает. Когда же эта самая
жизнь предъявила тебе счет, ты, словно злостный
неплательщик, удрал в Европу, удрал за три месяца
до конца войны и заблаговременно устроился там,
где привыкли только брать, а не давать. Чтоб
сохранить остатки своего достоинства, ты, как видно,
с помощью своего шефа изобрел принцип для
оправдания своей капитуляции перед злом. Этот «принцип»
позволил тебе сыграть со мной позорную комедию.
В азарте цинизма ты просил меня воскресить в тебе
прежнего Эдвина, хотя знал, что единственная
перемена, происшедшая с тобой за эти несколько лет,
была та, что у хищника выросли когти. Во время
допроса в пещере Петерсона ты выступал в роли
защитника истины, а на самом деле ты хотел только
блеснуть перед шефом своими полицейскими талантами...
Бен тли. Пусть будет так, Норма. Однако имей
в виду, что твой приезд заставил меня наконец
серьезно подумать о нашем будущем.
Норма (с сарказмом). Спасибо, Эдвин, за
доброе сердце. Где ж было, однако, это твое сердце,
когда ты тайком донес своему шефу о том, что
бумаги Макарова можно найти в моей сумке?
Б е н т л и. Ты должна сказать мне за это
«спасибо». Только таким образом я спас тебя от больших
неприятностей.
Н о р м а. И в то же время приобрел хорошую
репутацию у Петерсона? Нет, не скажу я тебе, Эдвин,
«спасибо».
Б е н т л и. Жаль. Какое же слово могу ждать
сейчас от тебя?
Норма. Только одно: «Прощай!» (Посмотрела
на часы.)
316
Бен тли. Норма! Пока я тебе еще не сказал,-
все еще можно исправить. Не позже, как завтра с
вечерним поездом, ты будешь принуждена оставить
этот город. Если мы сегодня поженимся, то приказ о
выселении автоматически теряет силу.
Норма. Нет, мы не женимся, Эдвин. Ни сегодня,
ни завтра, ни послезавтра.
Бентли (встает). В таком случае мне остается
только умыть руки.
Норма. О! Узнаю стиль майора Петерсона!..
Но оставь мечты, Эдвин. Никогда это тебе не удастся.
Ни тебе, ни Петерсону, ни вашим всесильным
сегодня повелителям. Слишком пристала грязь к вашим
рукам! К вашим рукам... И к вашим душам, и
к душам, таким же ничтожным и мелким, как и ваша
религия, религия обнаженного цинизма. Это уж даже
не воспеваемая Петерсоном атомная бомба номер
два. Это всего-навсего нацизм номер два: новый и —
будем надеяться — последний вариант известной тебе
аферы. К счастью человечества, вы опоздали,
джентльмены. Единственно, чего вы дождетесь за
дела ваши, — это проклятья будущих поколений!
Бентли. О! Узнаю стиль Макарова!
Норма. Уйди! Уйди, Эдвин!.. Не твоей голове
понять это и не твоей душе почувствовать!
Бентли. Нет, я понял тебя прекрасно. Самая
высшая степень экстравагантности! Бог Эрос в
парике Робеспьера! Ты позавидовала успехам той...
официантки, но, к сожалению, опоздала. Она
любила по крайней мере живого Макарова, а тебе
(взглянул на часы)... кто знает, придется ли...
Норма резко встала. Одновременно поднялся со стула не
замеченный лейтенантом Боб.
Норма (сжала ладонями виски). Молчи! По
крайней мере в эту великую для меня минуту
молчи, ничтожество!
Бентли. И от меня ты больше не услышишь ни
слова. Теперь, леди, с вами будут разговаривать
другие. Не пеняйте на меня, если они будут разгова-
317
ривать с вами вразумительным для вас языком,
языком охотников за скальпами, не знающих сентимен-
тов. Что ж! Вы этого сами хотели, Жорж Данден...
(Посмотрев на нее, круто поворачивается и уходит.)
Боб (подходит к Норме и кладет руку на ее
плечо). Вы смелая девушка, и, может, поэтому нам
суждена одинаковая доля.
Норма (ударяет его по рукам). Не подходите
ко мне... «Медвежья лапа»!
Боб (растирая ладонью руку). Больно вы
ударили меня, мисс. А я думал — мы будем друзьями.
Норма. Друзьями? Вы, как и всегда, пьяны,
сержант.
Боб. Нет, всего полбутылки джина.(Достает из
кармана бутылку и ставит на стол.) И не того с горя
хлебнешь! Меня, мисс, два дня держали в тюрьме,
а сегодня — вместо того, чтоб домой, — отправляют
в Китай.
Норма. Дослужились! (Не отрывает глаз от
часов.)
Боб. Как и вы, леди. (Берет со стойки стакан и
наливает себе джина.)
Норма (посмотрела на него скорее удивленно,
чем возмущенно). Любопытно!
Боб (опустив глаза). После разговора с вами я
сразу пошел к майору Петерсону и сказал ему
чистосердечно, как все было. Сказал про Белина,
сказал о ключе и брошке, чтоб и ему наконец ясно
было, что Макаров тут ни при чем. Майор как будто
не поверил, а когда я повторил ему второй раз и
третий — моя песенка была спета. И вот... (показывает
на свою дорожную одеоюду) как видите! Доигрался!
(Выпил.)
Норма. Вы сказали Петерсону всю правду?
Боб. Клянусь памятью моей матери.
Норм а. Поздним раскаянием правды не
воротишь. Вы понимаете это, сержант!
Боб (садится возле нее). Понимаю. Взял по
дурости грех на душу, не век же носить его с собой.
Скажите, леди, неужели этот русский так напрасно и
погибнет?
318
Норма. Остался час с небольшим.
Боб. Леди! Да ведь он мой... он наш боевой
товарищ!.. Севастополь, легко сказать! Если бы не
Севастополь и не Сталинград, не пить бы нам джин
у фрау Мильх, и, кто знает, может, пил бы его герр
Мильх в Вашингтоне. И за это наши кровопийцы,
провалиться бы им сквозь землю, платят Макарову
виселицей!
Тихо открывается дверь с улицы, входит Б е л и н с чемоданом
в руках. Норма не замечает его.
Ах!..
Увидев Боба, Белин подается назад.
Простите, леди. (Встает,) У меня кое к кому
небольшое дельце. Сейчас вернусь. (Быстро выходит за
Белиным на улицу.)
Норма сидит неподвижно. Слышно, как тикают часы. Входит
фрау Мильх с кофе, стакан дрожит в ее руках.
Фрау Мильх. Вам пришлось долго ждать,
леди. Плохо работает газ. Того и жди — совсем
погаснет.
Норма (словно проснувшись). Что? Что вы
сказали? Погаснет?
Фрау Мильх. Я говорю, плохо подают газ.
Это не жизнь, а мученье. Бывает и так, что
выключают на целую неделю, а то и на две. Тогда
приходится топить углем, а вы знаете, какой это сегодня
дефицитный товар. Один бог знает, когда все это
кончится. (Вытирает платком глаза.) И за что? Скажите,
леди, за что?
Норма. Вы бы лучше подумали, фрау Мильх,
за что в эту минуту, может быть, идет на смерть
русский человек Андрей Макаров.
Фрау Мильх. О леди! Моя совесть чиста, как
слеза. (Крестится.) Я вам все, всю истинную правду,
как перед богом, сказала. Что ж еще может сделать
несчастная одинокая женщина...
319
Норма. Довольно, ради бога, довольно...
Фрау Мильх. Хорошо, леди, я буду молчать.
Это единственное, что мне разрешено.
Входит Дуда.
О! Вас уже искали...
Дуда (прижал палец к губам).
Фрау Мильх опустила голову. Дуда подходит к Норме
и останавливается за ее спиной.
А вот и я, леди.
Норма (порывисто встала). Боже мой!
Наконец-то...
Дуда. Что с Макаровым?
Норма. Остался час до казни. В двенадцать
часов дня...
Дуда (снял пилотку и вытер лоб). Значит,
успели. Как говорится, в последнюю минуту.
Норма. Что? Вручили?
Дуда. Офицеры нашей миссии уже здесь — я
приехал вместе с ними. Они пошли к Петерсону, но,
видно, не застали его и поехали к коменданту города.
Ну, Петерсон, смотри!..
Норма. Боже мой! Наконец-то сердце
успокоится.
Дуда. Тяжело Макарову в эту минуту, но еще
десять—двадцать минут, и сердце его успокоится.
Теперь уж они не посмеют сказать нашим офицерам:
«Макаров — убийца».
Норма. Сегодня утром на минутку выскользнул
из лагеря Мальцев и рассказал, что сброд Цуповича
шныряет по лагерю, вчера двоих избили до крови.
Шестнадцать человек из арестованных увезли,
неизвестно куда, под конвоем немецких и... американских
полицейских. Вчера вечером комендант лагеря ходил
по баракам с револьвером в руке и угрожал новыми
арестами, а на рассвете прочел у себя под окном:
«Будем, как Макаров!»
Дуда. Когда я вернусь на Украину, на разва-
320
лины родного Тарнополя, и застану в живых свою
мать, я скажу ей: хоть я и тяжко болен, мама, но
душа моя здорова, как никогда раньше; хотя она и
видела бездну подлости, но видела и вершины
благородства, имя которому — советский человек. Встречай,
мама, своего воскресшего сына.
Норма. Я завидую вам, вашим руинам, вашему
счастью, мой мальчик.
Дуда. «Медвежья лапа»!
Норм а. Спокойно! Он...
Боб (входит, слегка запыхавшись, и с
отвращением вытирает ладони рук о перчатки). Да разрази
меня гром, если он раньше, чем через месяц, соберет
свои гнусные кости! (Заметив смущенного Дуду, он
поднял руку.) Сиди, малыш! Сегодня я уже не
«Медвежья лапа», а такой же перемещенец, как и ты.
(Налил стакан джина, поднес ко рту, но, подумав,
выплеснул джин на пол.) Мистер Петерсон
перемещает меня в Китай. Слыхал? Ему кажется, что там
я перестану царапаться. Как же!.. Да поглотит меня
ад, если в мире есть сила, способная вырвать из
моей груди обиду, нанесенную этому русскому!..
(Норме.) Кстати, вы еще ничего не узнали, леди?
Норма (после короткого колебания). Остался
еще час... (Нервными глотками пьет кофе.)
Боб. Говорят, русская миссия приехала
выручать своих. И, видно, правда: наши офицеришки так
и забегали по городу, словно их блохи закусали. При
одной мысли о красных у них поджилки трясутся.
О-го! Хотел бы я видеть, если бы дошло до чего...
Вот был бы спектакль, пропади они все пропадом!
(Ходит по сцене, останавливается перед Дудой.) А ты,
малыш, за кого? За Макарова?
Дуда. Я за справедливость.
Боб. Гм... Так вот что! Каюсь, горько каюсь,
места себе не нахожу, но... если б кто-нибудь из
вас знал тогда, что творилось в моем сердце. Я,
старый дурак, не туда целился, не туда! Ну что ж!
Теперь настало время расплатиться за свои грехи и
расквитаться за свою слепоту. Так будьте же вы,
небеса, и вы, леди, и ты, малыш, моими свидетелями:
21 Я. Галан
321
иду на край света, но и там расквитаюсь за вас, за
себя и за севастопольца! (Упал на стул и, спрятав
лицо в ладони, закачал головой в бессильном гневе
и отчаянии.)
Дуда. Не убивайтесь, сержант. Куда бы судьба
ни забросила вас теперь, я уверен: вы не будете
одиноки. Ведь это только одному все непонятно,
тяжело и страшно. Макаров — там, но в этот
тяжелый час он знает, что нас — многомиллионный
легион, а он — его рядовой солдат. Он знает, что мы
с ним, мы думаем о нем и мы за него, за нашего
товарища и брата, отдали бы... (Оборвав, отвернулся
к стене.)
Пауза. Захрипели часы, выскочила кукушка и прокуковала
одиннадцать раз.
Норма (прижимая руки к груди). Еще час...
(Глаза ее сухи, губы сжаты болью, гневом и
ненавистью.)
Резкий телефонный звонок.
(Норма бросилась к аппарату.) Капитан Майлд?
Я вас слушаю. Что? (Смотрит на часы.) Что? Что...
(Повесила трубку. Шатаясь, как пьяная, подошла к
стойке и обессиленно оперлась на нее.) Они... на час...
ускорили казнь... Макаров умер мужественно...
Дуда (кричит). Убийцы!
Пауза. Спина Боба затряслась от сдавленного рыдания.
Федь Пискор, Адам Ружинский, Анна Робчук, Андрей
Макаров—дети великого народа. А он — ничего не
забудет и никому не простит...
Пауза.
Н о р м а. Благословенна жизнь, и во сто крат
благословенна страна, что простым сердцам
открывает путь в бессмертие.
322
Дуда (опускает монету в музыкальный ящик).
Зазвучала знакомая нам песня. Дуда снимает пилотку.
Жил советский моряк, один из многих, и его гордое
сердце, даже в неволе, тянулось к песням, в которых
много любви и веры в то, что правда и тут, в
царстве петерсонов, должна победить! И она победит,
Андрей Макаров!
Свет постепенно гаснет. Песня, поддерживаемая аккордами
органа, звучит все громче, и шире и, как бы подтверждая слова
Дуды, заполняет собой все.
Занавес.
1* Я. Галап
ЯРОСЛАВ ГАЛАН
Выдающийся украинский писатель Ярослав Александрович
Галан родился и рос в Восточной Галиции, исконной украинской
земле, в свое время захваченной польскими панами, а после
третьего раздела Польши (1795 г.) и вплоть до первой мировой
войны входившей в состав Австро-венгерской империи.
Ярослав Галан родился в 1902 году в маленьком местечке
Дынов, находящемся поблизости от Перемышля. Отец его был
мелким служащим. Нищета и национальное бесправие родного
народа были знакомы Галану с детских лет. Австро-венгерские
империалисты, проводя ту же политику национального и
политического угнетения, что и польские паны, оставили в полной
неприкосновенности польские крупные землевладения.
«Австрийцы,— говорил товарищ Сталин в 1923 году, на XII съезде
партии, — приблизили к себе поляков, давали им привилегии, чтобы
поляки помогли укрепить австрийцам свои позиции в Польше,
и за это давали полякам возможность душить Галицию»1.
Впоследствии Ярослав Галан немало гневных строк посвятит
австрийскому и панско-польскому владычеству. «Трехсполовиною-
миллионная ветвь украинского народа не имела никаких прав,—
вспоминал Я. Галан в своем очерке «Свет с Востока». — Не
было того унижения, какого не испытывали бы тогда украинцы,
и даже национальное имя их было предметом ненависти для
тиранов». С помощью Ватикана, издавна рассматривавшего
Галицию как плацдарм для дальнейшего проникновения
католичества на Восток, польские помещики и австрийские правители
делали попытки лишить украинцев национальности, превратить
их в некую безликую «этнографическую массу», которую можно
было бы беспрепятственно эксплуатировать. Но трудовые массы
Галиции не покорялись угнетателям. Они вели упорную борьбу
и против австрийских правителей, и против польской шляхты, и
1 И. Сталин. Сочинения, т. 5, стр. 255.
324
«своей» буржуазии, и против черных сутан папы римского и его
преданных слуг — униатских попов. Они с надеждой обращали
свой взор на Восток, свято веря, что русский народ, сбросив
своих угнетателей, освободит их от национального и
экономического гнета, поможет воссоединиться со своими
приднепровскими братьями. Австрийские правители и их верная союзница —
католическая церковь понимали, как опасны для их владычества
русофильские, как тогда называли, настроения, особенно
усилившиеся, когда разразилась первая мировая война 1914 года.
Австрийская контрразведка соорудила тогда вдоль дорог
Галиции тысячи виселиц. Нагайки гонведов и австрийских
жандармов рассекали сорочки на спинах украинских крестьян и
ремесленников, заподозренных в симпатиях к России, к русскому
народу.
За русофильство брошен был в концентрационный лагерь
для галичан «Талергоф» и отец Ярослава Галана. Опасаясь
дальнейших репрессий со стороны австрийских жандармов,
семья Галана эвакуируется в 1915 году в Россию, в Ростов-
на-Дону. Именно здесь, учась в ростовской гимназии, Ярослав
Галан впервые знакомится с русской передовой культурой. Он
читает Толстого, Чехова, революционных демократов —
Белинского, Чернышевского, Добролюбова. Он не забудет уже их
никогда. Он увлекается произведениями буревестника революции—
Максима Горького.
После Великого Октября ученик ростовской гимназии узнает
имена вождей подлинно революционной пролетарской партии —
Ленина и Сталина и знакомится с их трудами по
национальному вопросу. Эти труды помогут впоследствии беженцу из
Галиции разобраться в судьбе своей родины и будут надежным
компасом в борьбе с врагами украинского народа —
националистами и космополитами. Революционные события на Дону,
свидетелем которых был Галан, впоследствии получат свое
отражение в его рассказе «Незабываемые дни», напечатанном в
1930 году во львовском журнале «В1кна». Герои рассказа —
железнодорожники и рабочие-подростки выступают с оружием в
руках против немецких захватчиков, гайдамаков и других белых
банд. Каждая строчка этого рассказа проникнута пафосом
революционной борьбы.
В 1918 году Ярослав Галан возвращается в Галицию,
которую в связи с распадом австро-венгерской монархии
англофранцузские империалисты отдали панской Польше. Пребывание
в революционной России оставило неизгладимый след в душе
юноши. Он воочию видел, как в братском единении трудящиеся
России и Украины строили первое в мире пролетарское
государство и с каким героизмом защищали они свое государство
от вильгельмовских захватчиков и внутренней контрреволюции.
Уже близилось время, когда Ярослав Галан вместе со своими
собратьями по перу — Александром Гаврилюком, Тудором и Коз-
ланюком выступят в первых рядах борцов за освобождение
Западной Украины от панско-польского ярма и воссоединение ее
с Советской Украиной в единой семье советских народов. В своей
325
революционной деятельности они будут руководствоваться
замечательными словами Ленина: «При едином действии
пролетариев великорусских и украинских свободная Украина
возможна, без такого единства о ней не может быть и речи»1.
Вернувшись на родину, Галан поступил в перемышлевскую
гимназию, а затем, ведя полуголодное существование, учился в
венском и краковском университетах.
Среди друзей Галана в краковском университете, а также
в последующие годы его жизни в Варшаве и Львове было
много нынешних видных государственных, общественных
деятелей демократической Польши, ее писателей, артистов,
драматургов. О некоторых из них с чувством большой теплоты
вспоминает Галан в очерке «Предгрозье», воссоздающем славные дни
подготовки во Львове весной 1936 года антифашистского
конгресса защитников культуры.
Формирование Галана как революционного писателя, борца
происходило в условиях полицейского режима помещичье-бур-
жуазной Польши. О неминуемой гибели этого государства,
насквозь прогнившего, писал Я. Галан еще в 1931 году в своем
небольшом памфлете «Последние дни Батагонии» (журнал «BiK-
на»). Так, по цензурным соображениям, назвал Галан панскую
Польшу.
Эзоповский язык, к которому прибег Галан, не помешал
тысячам читателей узнать в «остервенелом усатом старикашке
дон Хозе» кровавого диктатора и единомышленника Гитлера —
Юзефа Пилсудского. «Когда приходилось ему говорить или
писать что-либо, он плел совершенно несусветную челуху,
однако каждое его слово печатали и продавали, как новое
евангелие счастливой Батагонии... Но вот в 70-х годах (читай в 30-х.—
В. Б.) вторично зашаталась под богатеями земля, да так, что
удержу этому не было. Все их грабительское хозяйничанье пошло
кувырком, и в глаза постепенно заглядывала неминуемая смерть».
Галан с гневом описывает, к каким террористическим
действиям прибегают душители свободы — колонизаторы, чтобы
сохранить свое господство.
«Следствием борьбы и стремлений батагонских рабов было
слово. Его-то и боялись холуи испанских гидальго и
уничтожали каждый его след, след живого, боевого слова».
Произвол душителей живого слова Ярослав Галан
почувствовал на себе еще задолго до опубликования своего памфлета.
За революционные убеждения учитель Галан был по приказу
воеводы Юзевского уволен из луцкой гимназии. Незадолго до
увольнения Галан впервые переступает лорог редакции
журнала «В1кна», с которым будет связана вся его последующая
литературно-общественная деятельность. Он приносит в редакцию
свое первое литературное произведение — пьесу «Дон-Кихот из
Эттенгайма» — историческую хронику из эпохи первого
консульства Наполеона.
Эта пьеса, написанная в 1927 году, обратила на себя вни-
1 В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4, т. 20, стр. 14.
326
мание прогрессивных литературных кругов. К молодому
драматургу отнеслись сочувственно будущие его соратники из
пролетарской литературной группы «Горно», объединившей во Львове
всех украинских революционных писателей. Уже в 1929 году
существование группы «Горно» стало заметным и за
пределами Западной Украины.
«Значительным событием литературной жизни последних
лет в Восточной Галиции,—писал замечательный чешский
писатель-коммунист Юлиус Фучик в еженедельнике «Творба», —
является создание украинской пролетарской организации
«Горно», которое произошло на майском съезде украинских
пролетарских писателей во Львове.
В манифесте, подписанном двадцать одним участником
съезда, указано, что новая организация стоит на позиции
марксизма и будет бороться вместе с пролетариатом за
освобождение и новый мир».
Первая пьеса Галана привлекла внимание и вражеского
лагеря. Украинская буржуазия и клерикалы стремились
подкупить, приручить и обезвредить всякого способного молодого
писателя. Особенно специализировался в этой области
всемогущий польский граф и митрополит греко-католической церкви
Андрей Шептицкий. Не одну молодую душу растлил он
денежными подачками и своими вкрадчивыми, «бархатными»
проповедями испытанного иезуита.
Но сиятельный «князь церкви» имел возможность довольно
скоро убедиться, что Ярослава Галана, стойко переносившего
безработицу и голод, приручить не удастся. «Бородатым му-
тителем святой водички» назвал молодой писатель в одной из
своих статей митрополита Шептицкого, этого агента Ватикана.
Не поддался Галан и «советам» критиков-космополитов в
изобилии заполнявших своими сочинениями тогдашнюю прессу.
После смерти великого певца Галицкой земли Ивана Франко
поле западно-украинской литературы заросло чертополохом, а
здоровые облагораживающие веяния советской литературы
пробивались сюда с трудом сквозь «санитарные кордоны»,
созданные, по заданию Антанты, комендантом полицейского «панства»
Юзефом Пилсудским.
Искусственно раздуваемые тогдашней буржуазной критикой
«таланты» реакционной литературной группы «Молодая муза»
оказались пустоцветами, да еще с удушающим запахом
прижизненного тления. От новелл и повестей этих литературных
бездельников веяло поповским мракобесием. Это была
литература живых мертвецов. Любая новелла из библиотеки «Дша»1—
это слепое подражание декадентской литературе
капиталистического Запада, у которой «законодатели Львовского
буржуазного литературного Парнаса» неустанно призывали учиться.
1 Выходившая во Львове газета украинской буржуазии.
Выпускавшаяся в виде приложения к газете, библиотека «Дша»
публиковала новинки писателей, продавшихся
буржуазно-клерикальному лагерю,
327
Призыв подобного рода был адресован к Ярославу Галану
после того, как тот опубликовал драму «Дон-Кихот из Эттенгай-
ма»,— единственное свое произведение, далекое от проблем
современности.
Один из «законодателей» буржуазной литературной моды
во Львове, канувший сейчас в безвестность, написал о Галане:
«Перед автором «Дон-Кихота из Эттенгайма» раскрывается
путь Геббелей, Зудерманов, Геермансов — не в смысле
подражания, а для самостоятельного творчества в их стиле. И не
может быть сомнений в том, что Галан пойдет по этому пути».
Ярослав Галан отмел советы декадентских кликуш. Он
писал только то, что было нужно его народу, вдохновляло народ
на борьбу за освобождение. Приведенные ниже строки из
поэмы «Львов», принадлежавшей перу друга Галана —
писателя-революционера Александра Гаврилюка, характеризуют
литературно-политическую программу Галана и его соратников по
группе «Горно».
Обращены к Востоку лица,
Ведь там — источник наших сил,
Там наших всех надежд столица,
Святыня дедовских могил.
Паны варшавские хлопочут,
Чтоб к ним мы обратили очи, —
Их мир нам чужд, их строй жесток
Мы смотрим только на Восток.
Писатели из группы «Горно» своей повседневной
кропотливой работой в журнале «Вжна» поистине открывали «окна» в
Советский Союз из удушливой, подъяремной галицийской
действительности. Девиз журнала «Прорубим окна на Восток» —
с предельной выразительностью определял его идейную
направленность. Кто были авторы «Вжон»? Люди, подобные герою
поэмы Гаврилюка «Львов».
В злодейских лапах дефензивы
Он начинает путь правдивый,
В тюремных спорах, не из книг,
Азы марксизма он постиг.
Каждый номер «Вжон» рассказывал угнетенным западным
украинцам о великих социальных преобразованиях Советской
Украины. Журнал «Вжна», используя все возможности
подцензурного революционного органа, призывал к борьбе за
освобождение от чужеземной неволи, призывал следовать по пути
советских братьев.
Из номера в номер печатает Галан в «Вжнах» острые
политические памфлеты и фельетоны, разоблачающие украинскую
и польскую буржуазию, Ватикан, весь лагерь реакции и
мракобесия, который на много лет задержал возможное еще в 1919
328
году воссоединение всех украинских земель в едином советском
государстве. В боевой революционной публицистике Галана
чувствуется влияние Салтыкова-Щедрина и Максима Горького.
Ярослав Галан называл их своими первыми учителями.
Галан давно уже мечтал о встрече с великим русским
писателем Горьким, основоположником пролетарской литературы.
К концу 1928 года молодому писателю с большим трудом
удается собрать необходимые средства, и он вместе со своим
школьным товарищем едет к Горькому в Италию. Но так случилось,
что в те дни, когда два педагога из Галиции прибыли на Капри,
Горького там не было. Материальные обстоятельства не
позволили молодым украинцам дождаться возвращения писателя.
Уже в первые годы литературных выступлений Ярослава
Галана реакционеры, враги украинского народа, пробуют все
средства — явные и тайные, чтобы оборвать или по крайней
мере нейтрализовать прогрессивную деятельность молодого
писателя. Троцкистско-националистические подонки прибегают к
клевете. Некий Иван Крушельницкий сочиняет и издает
отдельной книжкой грязный пасквиль, преследующий цель опорочить
честный и благородный писательский труд Галана. В 1931 году
на страницах журнала «Вжна» Ярослав Галан, отметая
вражескую клевету, писал:
«Отвечать пасквилянту книжкой не буду, потому что,
являясь членом группы «Горно», не имею на то ни надобности,
ни времени, ни денег. Хочу только заверить несчастного автора
и его инспираторов, что и в дальнейшем, как и сейчас, буду
выполнять свой классовый долг и беспощадно
бороться с явным и тайным фашизмом, как бы
это ни возмущало безнадежных графоманов
вроде Крушельницкого».
Разумеется, в 1931 году Ярослав Галан не мог еще знать,
что грязный пасквилянт был шпионом зарубежных разведок и
террористом. Это было разоблачено гораздо позднее. Но уже
тогда он видел в Крушельницком и ему подобных —
прислужников фашизма.
Галан с самого начала своего писательского пути
непримиримо и последовательно боролся с лагерем реакции, смело
разоблачал маневры врагов народа. Слова у него никогда не
расходились с делом. И, дав однажды клятву беспощадно
бороться с явным и тайным фашизмом, Галан выполнял ее до
самой последней минуты, пока не был сражен предательским
ударом из-за спины.
Понятия «явный и тайный фашизм» не были для него чем-
то абстрактным. Уже с юношеских лет он знал
распространителей фашизма в лицо, он встречал их на кривых улочках Пе-
ремышля и в тишине библиотеки венского университета, на
причалах Палермо и во дворе львовской тюрьмы «Бригидки».
329
Сложность борьбы Ярослава Галана с врагами народа
заключалась в том, что ему пришлось вести ее на земле,
которая издавна использовалась иноземными захватчиками как
плацдарм для дальнейшего наступления на Восток.
До исторической осени 1939 года интересы
империалистических государств во Львове были представлены восемнадцатью
консулами Все эти «дипломаты» — от консула Великобритании
Тэйлора до дипломатического представителя маленькой
Голландии — не только энергично вмешивались во внутреннюю и
внешнюю политику панской Польши, но и вели из Львова
активную разведку против Советского Союза. А если к этому
прибавить три метрополии Ватикана — римско-католическую, греко-
католическую и даже армяно-католическую со множеством
монастырей и монашеских орденов, — от босых Кармелитов до
руководимого бельгийскими проповедниками ордена отцов Ре-
демптористов, — то можно отчетливо представить себе всю
сложность и значимость борьбы Галана и его друзей из группы
«Горно», которую они вели с этой многоликой и разномастной
реакцией.
Эта многоликая реакция разжигала национализм, пыталась
разъединить фронт трудящихся, подкупала, развращала
нестойких и физически уничтожала тех, кто мужественно боролся
с фашизмом.
В антиватиканских памфлетах Ярослава Галана с
предельной убедительностью доказывается прямая связь фашизма
с папой. Ярослав Галан распознал разрушительную работу
агентов Ватикана и их высоких покровителей на землях
Западной Украины Долг писателя-революционера звал его на борьбу
с этим царством тьмы и угнетения, с космополитизмом,
мракобесием и фашизмом. Против Галана и всех прогрессивных
литераторов выступили воинствующая католическая реакция с ее
монашескими орденами, католическими издательствами,
буржуазным законодательством насквозь клерикального польского
государства — своеобразной провинции универсальной церковной
монархии Ватикана. С приходом к власти Пилсудского на
страже «слова божия», проповедуемого тысячами посланцев папы
римского, стали дефензива, суд, полиция, тюремщики из «Бри-
гидок» и палачи с резиновыми дубинками из Березы Картуз-
ской. Там, где не помогали увещевания пастырей наместника
бога на земле, немедленно вступала в силу карательная
система — темносиние полицианты в стальных касках.
И, тем не менее, Ярослав Галан, Степан Тудор и другие
«вжновцы» смело и бесстрашно выступали против
господствующей помещичье-капиталистической клики, против лагеря
католической реакции.
Позднее, уже будучи зрелым писателем-коммунистом,
Ярослав Галан месяцами просиживал в библиотеках и
читальнях иезуитских коллегий, в архивах, разыскивая материалы о
происках Ватикана во всем мире.
В первые же годы своей литературной работы Галан, разоб*
330
лачая происки Ватикана, еще ограничивался пределами своей
родины. А кому же, как не Галану, было знать силу гнета и
мракобесия, которые несли с собой на Галицийскую землю
черные вороны Ватикана.
Рассказ «Целина», где описывается трагическая судьба
учительницы, доведенной до голодной смерти чужеземными
завоевателями и клерикалами, основан на автобиографическом
материале. Прототипом героини рассказа была сестра писателя,
учительствовавшая в одном из сел Дыновщины.
Под вымышленным названием «Вобни» в рассказе описано
село Глудно. Уже само название «Глудно», или «Голодное»
говорит о трагизме положения обитателей села — глудненских
бедняков, работавших за шестнадцатый сноп на полях
сиятельного магната графа Скшинского.
Мы раскрываем «Шематизм греко-католического духовенства
соединенных епархий Перемышлянской, Самборской и Сяноцкой
на год Божий 1928» (в этом году Ярослав Галан продумывал
свою «Целину»), и этот сборник — список слуг армии
воинствующего католического духовенства, орудовавших над рекой
Сан, дает нам дополнительный материал, который не мог по
цензурным соображениям ввести в свой рассказ писатель.
В селе Глудно существовала одна двухклассная школа на
польском языке для двухсот сорока детей украинских крестьян.
Смертью одного из школьников и начинает свой рассказ Галан.
Над национально-угнетенными людьми, работавшими за
шестнадцатый сноп, умиравшими с голода, черной тенью стоял
сельский поп — агент Ватикана Иван Жарский, являвшийся
духовным начальником всего дыновского деканата.
За поддержку и освящение режима угнетения правители
буржуазной Польши закрепили навечно за деканом Жарским в
одной только Глудне двадцать один гектар поля, два гектара
луга, восемь гектаров пастбищ и кустарников, а в соседнем селе
Вары — двенадцать гектаров поля и шесть гектаров пастбищ,—
это не считая домов и хозяйственных построек.
Время от времени на «забавы-фестины», на храмовые
праздники к декану Жарскому съезжались попы и их
домочадцы из соседних сел и деканатов. Пиры и танцы продолжались
неделями. Святош, жиреющих на средства народные, вовсе не
смущало то обстоятельство, что где-то поблизости, в маленькой
забрызганной грязью сельской хатке, умирает от голода
затравленная колонизаторами сестра писателя Галана— сельская
учительница, так мечтавшая вывести в люди, вооружить знаниями
оборванных и истощенных глудненских ребятишек.
Следует добавить, что патрон дыновского деканата,
ревностный католик граф Владислав Скшинский, названный в рассказе
«Целина» своей подлинной фамилией, был послом панской
Польши в Ватикане.
Но соединенные усилия Ватикана и пилсудчиков не могли
подавить стремления угнетенного народа к свободе.
«Свет с Востока», с первых же дней Октябрьской рево-
331
люции озарявший лучами надежды миллионы угнетенных,
оказался сильнее тьмы реакции и религиозного мракобесия.
Этот свет Советской страны поддерживает и Галана в его
революционной борьбе и жизненных испытаниях. А тяжелых
испытаний было немало. Затяжная унизительная безработица
лишь изредка сменялась «удачами» вроде случайных переводов
книг с иностранных языков на польский для частного
издательства. Бывало, что Галану приходилось искать приют в пастушьей
хижине на Карпатских верховинах, чтобы спастись от
преследований полиции и от голода.
В 1932 году полиция закрывает журнал «BiKHa». Галан не
желает участвовать в буржуазной прессе. Он предпочитает
безработицу сытой жизни в какой-нибудь из
националистических редакций. Полиция продолжает преследовать писателя.
Вскоре Ярослав Галан скрывается от полицейских шпиков в
подкарпатском селе Нижний Березов. Но вездесущая
разведка — «двойка» довольно быстро обнаруживает местопребывание
опасного «красного пропагандиста». И вот делается еще одна
попытка заарканить его душу, овладеть его талантом.
Богатый мясоторговец и городской голова Коломыи,
некий Санойца, стяжавший себе шумную известность
демагогическими выступлениями в польском сейме, приезжает в
кабриолете в Нижний Березов. Разыскав Галана, этот прохвост,
действуя по поручению «высших кругов», в доверительной беседе
предлагает писателю «с таким острым пером и бесспорным
талантом» печататься в лучших газетах Варшавы, сулит большие
гонорары.
Галан с презрением отвергает посулы продажной бестии
Санойца и остается верным народу.
В 1936 году Ярослав Галан принимает деятельное участие
в созыве антифашистского конгресса работников культуры, на
одном из заключительных заседаний которого польская
революционная писательница Ванда Василевская произнесла вещую
фразу: «Следующая наша встреча будет в Красном Львове!»
Вместе с трудовым народом Галан дождался исторической
осени 1939 года, когда Западная Украина воссоединилась с
Советской Украиной. С этого времени еще с большей силой
развернулся всесторонний талант Галана.
Он славит новую, рождающуюся советскую
действительность в строках своего взволнованного очерка «Вторая
молодость».
«Встаньте весенним утром на перекрестке улиц, и
сквозь обычный городской шум и гам вы услышите глухое
громыхание. Подождав минуту, вы увидите колонну новых,
сверкающих свежей краской тракторов. Они направляются за
город в далекие поля, над которыми плывут в прозрачной
лазури стаи журавлей. Вдохните полной грудью воздух, и вы
почувствуете, что вам страстно, до боли страстно хочется жить!»
Но недавно обретенная свобода была вскоре нарушена
фашистскими варварами, вероломно напавшими на Советскую
страну.
332
В первое же утро войны одна из фашистских бомб,
сброшенных на Львов, убила боевых друзей Ярослава Галана —
писателей Степана Тудора и Александра Гаврилюка. Галану
предстояло своим талантом, своим пером публициста восполнить
образовавшуюся брешь в прогрессивных рядах писателей
Львова. В трудные дни, когда враг вторгся на Украину,
Ярослав Галан работает радиокомментатором на украинской
радиостанции.
Молчаливый, коренастый человек в военной шинели
появляется в помещении радиостанции, то глубокой ночью, то на
рассвете, систематически слушает вражеские передачи, чтобы
через час-два выступить перед микрофоном с ответом лжецам
из министерства Геббельса. И мужественный, полный веры в
неизбежную победу над фашизмом голос своего земляка
слышали тысячи галичан, находившихся в те дни в глубоком тылу
гитлеровской армии.
Общественность Советской Украины хорошо запомнила
боевую публицистическую работу Ярослава Галана в дни
Отечественной войны; сохранилась в памяти украинского народа
твердая уверенность писателя в неизбежности разгрома фашизма.
И когда понадобилось послать представителей украинской
прессы в Нюрнберг на суд народов, одним из этих
корреспондентов был Ярослав Галан.
Газета «Радянська Украина» печатала одну за другой его
талантливые корреспонденции с процесса. В них Ярослав Галан
разоблачал не только вожаков гитлеровской Германии, но и
показывал обличье возрождающегося фашизма за стенами
судебного зала. В дни перерывов между судебными заседаниями
Галан ездил по городам Западной Германии и опытным
глазом советского литератора наблюдал, как под покровительством
англо-американских реакционеров в лагерях «перемещенных
лиц», в бюргерских виллах неразоблаченных военных
преступников размножаются известные уже миру микробы фашизма.
В итоге этих наблюдений писателя родилась целая серия острых
фельетонов и пьеса «Под золотым орлом» разоблачающая
американских покровителей военных преступников.
В предисловии к сборнику «Их лица» он писал:
«Мы имеем дело с сознательно созданной и организованной
резервной армией фашизма, созданной и организованной в
самом сердце разрушенной и обескровленной фашизмом Европы.
Класс Черчиллей и маршаллов может изменять тактику, но
природы своей, природы хищника, он не изменит. Фашизм — его
детище — остается и в дальнейшем реальной опасностью. А это
налагает на каждого из нас священный долг последовательной,
беспощадной борьбы с реакцией во всех ее проявлениях».
Возвратившись из Нюрнберга во Львов, Галан горячо
откликается на все важнейшие события, совершающиеся на
его родине. В своих статьях, в устных выступлениях он
показывал, какие безграничные возможности открылись перед
крестьянами, рабочими и интеллигентами Западной Украины,
333
строящих новую, свободную жизнь. И, охраняя эту новую
жизнь, Галан вновь и вновь напоминал о стародавних врагах
своего народа, которые теперь лишены возможности выступать
открыто, но не сложили оружия. Когда крестьяне западных
областей Украины, преодолевая жестокое сопротивление
классового врага, постепенно вступали на путь коллективизации,
Ярослав Галан счел своим долгом нарисовать перед ними
портреты тех, кто борется против коллективизации всеми
способами. Это прежде всего: «Галицийский кулак, на протяжении
150 лет дрессируемый немецкими офицерами в австрийской
казарме, ограниченный и тупой, коварный и лицемерный,
трусливый и в то же время бесцеремонный, жадный и ненасытный,
как, впрочем, все стяжатели во всем мире». (Памфлет
«Мамелюки».)
В своей речи на областном совещании интеллигенции
Львовской области (декабрь 1944 года) он напоминал о
предателях народа, которые еще остались на освобожденной земле
Западной Украины.
«Не забывайте, что гитлеровцы подготовили себе здесь
людей, которых трудно не назвать предателями, — ведь они на
несчастьях и крови своих сограждан строили собственное,
личное благополучие. Это те, кто помогали фашистским палачам
срывать со своих братьев одежду, чтобы потом вынести ее на
базар. Это те, что, избавившись от последних остатков
человеческой и национальной чести, снюхались с гитлеровскими
оккупантами и на совместной с ними спекуляции награбленным
народным и частным имуществом сколотили немалые капиталы.
Судьба отечества, украинского народа была им
безразлична, их душу не тревожили ни видения Майданека, ни живьем
сожженные дети Полтавщины.
На горе и крови народа выросла целая общественная
прослойка, я бы сказал, прослойка, лишенная каких бы то ни
было норм, ненасытное сборище бесцеремонных торгашей,
готовых продать родную мать, если только кто-либо хорошо за
это заплатит.
С изгнанием гитлеровцев карьера этих людишек
закончилась. Однако они не могут с этим примириться, они лютой
ненавистью ненавидят народ, ненавидят Красную Армию,
ненавидят советскую власть.
Их мало, но вполне достаточно, чтобы отравлять нам
воздух. Это они сегодня являются основной базой для
польских и украинских националистических банд. Это из их среды
исходят антисоветские провокации. Эти выкормыши гестапо и
побратимы немецких мародеров никак не хотят заняться
честным трудом. Одни из них голосуют ночью на стенах за
«польский» Львов и молятся на Соснковского, другие тайком
поддерживают гестаповских агентов из бандеровских шаек. Но,
что бы ни говорили эти продавцы душ, как бы ни распинались
в декламациях, мы видим, хорошо видим на их руках когти
фашистских предателей. Отрубить эти когти — долг каждого
из нас! Интеллигенция Львовщины должна напрячь свои силы,
334
чтобы разрушить работу этой вражеской агентуры. Нам нельзя
ни на минуту забывать, что национальная вражда — это оружие,
каким особенно охотно пользуется враг. Бороться с нею — это
значит спасать сердца и умы нашей молодежи, это значит
направить наши западноукраинские земли на путь прогресса, на
путь великого человеческого счастья, за которое боролись и
умирали герои Севастополя, Сталинграда и польской Праги».
И дальше он говорил о нерушимой дружбе украинского и
русского народов.
«Пусть же каждый наш ребенок уже в самом начале его
сознательного существования узнает священную правду о том,
что во львовских скверах, в солдатских могилах наших
освободителей лежат рядом сыновья Днепра и Волги, сыновья
великих братских народов, плечом к плечу прошедшие трудный и
славный путь от Сталинграда до Будапешта. Пусть наши дети
запомнят на всю свою жизнь, что в великой семье народов,
которую сплотил Сталин, были герои, сумевшие не только
отстоять свою свободу, но и понести знамя освобождения за
Вислу, за Дунай, к Адриатическому морю...»
Обладая глубоким политическим сознанием, Галан был
зорче многих своих земляков. Он смело, бесстрашно рубил когти
вражеской агентуре, и разноликие враги украинского народа
боялись его разоблачений, ненавидели его испепеляющий талант
писателя-большевика.
«С давних исторических времен католицизм был всегда
заядлым врагом славянства, и кто знает, не принес ли ему больше
вреда, чем все кровавые войны с мадьярами, немцами и
татарами». Это строки из статьи замечательного украинского
писателя-революционера Ивана Франко «Католический панславизм»,
написанной еще в конце XIX века.
Мы помним, что Ярослав Галан и его соратники с самого
начала своей деятельности разоблачали происки католической
церкви. Но тогда, как мы уже говорили, наблюдения Галана
ограничивались пределами Галиции. Жизнь на советской земле,
пребывание в Нюрнберге и других городах Западной Германии,
поездки по странам народной демократии обогатили жизненный
опыт писателя, углубили его политический кругозор. Теперь он
уже ясно видит место Ватикана в мировой реакции, его
органическую связь с немецким фашизмом и с трумэновской
Америкой. Галан терпеливо изучает в архивах исторические
документы, освещающие роль Ватикана в прошлом, он
знакомится с новыми материалами, разоблачающими происки папы
римского, ставшего агентом Уолл-стрита в странах народной
демократии. Вскоре из-под пера Галана выходят блестящие,
наполненные яростной ненавистью к гасителям света памфлеты —
«На службе сатаны», «Сумерки чужих богов», «Отец тьмы и
присные». Писатель наносит удар за ударом по средоточию
мирового мракобесия, заставляя всякий раз гадюк, выползающих
335
из щелей «Петровой скалы» на дороги мира, извиваться и
уползать подальше в тень от лучей его разоблачительного таланта.
В этой трудной работе Галана окрыляет мысль о том, что
каждый его памфлет, насыщенный неопровержимыми фактами,
помогает прояснять затуманенное клерикалами сознание не
только своих земляков, но и миллионов рвущихся к новой
жизни тружеников стран народной демократии.
Недавние процессы в Венгрии, Польше, Чехословакии, где
была доказана прямая и постоянная связь католических
иерархов с агентами англо-американских разведок, с дельцами
Уоллстрита и Сити, еще раз подчеркивают значимость и
актуальность памфлетов Ярослава Галана и всего его писательского
труда, направленного на разоблачение служителей тьмы.
Когда во Львове осенью 1944 года умер в своих палатах
на Святоюрской горе «мутитель святой водички» митрополит
Андрей Шептицкий, Галан предвидел, что недобитки старого
уходящего в могилу строя, клерикалы и кулачество, используют
имя и дела мертвого графа для борьбы с живым,
освобождающимся от пут суеверий сознанием людей. И, чтобы лишить
врагов этой возможности, писатель выпускает один за другим
два памфлета — «С крестом или ножом» и «Что такое уния?»,
убедительно и ярко обличая в них «деятельность» Шептицкого,
униатской церкви — верной служанки папского Рима.
Стремясь помочь закарпатским братьям осознать весь вред,
причиненный униатской церковью, Ярослав Галан едет в
Закарпатье, тщательно, скрупулезно изучает все факты религиозно-
политической борьбы за Карпатами со времен насильственного
введения унии, и вскоре из-под его пера выходит
обличительный памфлет «Довольно». И в этом памфлете
писатель-публицист, воин пера показал роль папства в порабощении украинцев
на берегах Тиссы и Латорицы.
Особенную ярость Ватикана вызвал опубликованный на
страницах украинского журнала «Перець» памфлет Галана —
«Плюю на папу!», написанный незадолго до гибели. В этом
маленьком по размеру памфлете заключена глубокая и
благородная ненависть смелого, принципиального
писателя-революционера, коммуниста Галана, направленная против всего
ватиканского конклава и его агентуры. Заключительные строки
памфлета «Плюю на папу!» были отважным вызовом всем
мракобесам мира.
Используя свободу вероисповедания в Советской стране,
мракобесы в сутанах греко-католических священников вместе
с жалкими остатками кулачества и украинских националистов
всеми способами пытались препятствовать социалистическому
преобразованию села на Западной Украине. Ярослав Галан,
беспощадно разоблачавший гнусную деятельность католической
церкви, был страшен для всей этой черноризой швали. И
папский престол нанял для расправы с ним подлых фашистских
наймитов. Это были выкормыши той самой кулацко-клерикаль-
ной среды, с которой так мужественно и последовательно
сражался в открытом бою Ярослав Галан.
336
Обученные старыми иезуитами — агентами Ватикана
профессиональному двурушничеству, бандиты, зная о чутком
отношении писателя-депутата к трудящимся, проникли в его
квартиру под видом скромных «студентов-просителей». Они
постарались войти в доверие Галана, чтобы потом подлым ударом
оборвать жизнь пламенного трибуна.
Трусливые наемные убийцы нанесли Галану одиннадцать
смертельных ударов топором по затылку. На открытом
судебном процессе, происходившем во Львове в 1951 году, было
доказано, что инспиратором и наводчиком убийства
выдающегося писателя был Ватикан.
Украинский народ уничтожил презренных убийц, как
бешеных собак.
Отец тьмы и его присные жестоко просчитались, полагая,
что они заглушили голос талантливого памфлетиста. Можно
подло, из-за угла, убить писателя, но слово его, поставленное
на службу народа, страстное и гневное, радостное и целебное,—
не задушить никому.
Пусть кровью забрызганы страницы предсмертного очерка
«Величие освобожденного человека», над которым работал
Ярослав Галан в ту самую минуту, когда ватиканский наймит
подкрадывался к нему сзади, но каким неумирающим гимном
нашему будущему звучат заключительные фразы этого
последнего произведения Галана, датированного 24 октября 1949 года.
«Исход битвы в западноукраинских областях решен, но
битва продолжается. На этот раз — битва за урожай, за
досрочное выполнение производственных планов, за дальнейший
подъем культуры и науки. Трудности есть, иногда большие:
много всякой швали путается еще иод ногами. Однако жизнь,
чудесная советская жизнь победоносно шагает вперед и
рождает новые песни, новые легенды, в которых звучит величие
освобожденного человека».
Произведения Ярослава Галана поступили на вооружение
не только советского народа, но и народов Польши, Венгрии,
Болгарии, Румынии, Чехословакии. Пражский журнал «Творба»,
публикуя в марте 1950 года памфлет «Отец тьмы и присные»,
писал, что памфлет этот помогает с большей зоркостью
бороться с происками Ватикана сегодня.
Совсем недавно выходящий в Варшаве польский журнал
«Нова культура» опубликовал статью «Жизнь и борьба
Ярослава Галана». «Галан показывает,— читаем мы в этой статье,—
также и нам лицо польского реакционного духовенства
и бандитского подполья, пытающихся по приказу Лондона и
Вашингтона помешать строительству социализма в Польше.
С огромным энтузиазмом отзывается Галан об успехах народной
Польши, о ее замечательном строительстве, а также о
героическом восстании Варшавы. Галан неоднократно проявляет радость
по поводу растущей мощи народной Польши, культура которой
особенно близка его сердцу».
Статья заканчивается словами: «Ярослав Галан — замеча-
337
тельный писатель и друг Польши — заслуживает того, чтобы
широко познакомить наше общество с его творчеством».
Освобожденный польский народ зачисляет писателя украинского народа,
подлинного пролетарского интернационалиста Ярослава Галана в
ряды бойцов и за свое счастье, за «нашу и вашу вольность»...
Ярослав Галан попрежнему живет среди нас. Он живет в
каждой строчке своих замечательных произведений,
разоблачающих слуг тьмы и прославляющих величие и гордость
советского человека.
Как один из часовых переднего края идеологического
фронта борьбы с мировой реакцией, борьбы за мир стоит и
сегодня Галан на своем славном, благородном посту.
Его произведения участвуют и сегодня в бою, они
помогают сражаться против поджигателей войны, врагов прогресса,
демократии и коммунизма.
Произведения Ярослава Галана при жизни писателя ни разу
не были собраны в одном издании. Поэтому при подготовке
настоящего издания переводы сверялись либо с прижизненными
публикациями, либо с рукописями. В рассказах «Целина» и
«Казнь», напечатанных в свое время в журнале «В1кна»,
восстановлены цензурные изъятия.
Владимир Беляев
СОДЕРЖАНИЕ
РАССКАЗЫ
Казнь. Перевод Вл. Россельса 5
Целина Перевод Вл. Россельса 19
На мосту. Перевод Г. Шипова 33
Неизвестный Петро. Перевод Вл. Россельса . . 38
ОЧЕРКИ И ФЕЛЬЕТОНЫ
Львовские очерки
Предгрозье. Перевод Владимира Беляева ... 47
Вторая молодость. Перевод Г. Шипова .... 53
Золотая арка. Перевод Г. Шипова 60
Свет с Востока. Перевод Г. Шипова 65
Величие освобожденного человека 71
Из нюрнбергского дневника
Их лица. Перевод С. Маринич 76
Не играть с огнем! Перевод Т. Стах 84
То, чего не забывают. Перевод Т. Стах .... 89
Пауки в банке. Перевод Р. Майорской .... 93
Пигмеи без котурнов. Перевод Р. Майорской . 99
Акушеры «третьей империи». Перевод Р.
Майорской 103
Сломать шлагбаумы! Перевод Льва Шапиро . . 108
Остров чудес. Перевод Льва Шапиро 112
Протекторы измены. Перевод Льва Шапиро . . 118
Чудеса в герсбрукском решете. Перевод Льва
Шапиро 123
ПАМФЛЕТЫ
Плюю на папу! Перевод Льва Шапиро .... 129
Отец тьмы и присные. Перевод Вл. Россельса . . 133
Сумерки чужих богов. Перевод Льва Шапиро . 190
На службе у сатаны. Перевод В. Тарсиса . . 204
драматургия
Под золотым орлом. Пьеса. Перевод Г. Шипова 221
Владимир Беляев. Ярослав Галан. (Послесловие) 324
Редактор Е. Р а м м
Художник И. Бекетов
Художеств, редактор И. Царевич
Техн. редактор С. Симонов
Корректор М. Покровская
А01724. Сдано в набор 24/XII 1951 г. Подписано к печати
29/1II 1952 г. Бум. л. 5,34=17,53 печ. л. Авт. л. 14,74.
Уч.-изд. л. 15,01. Формат бумаги 84X108Vs*. Зак. 2498.
Тираж 75 000 экз. Новая цена 6 р. 45 к.
Отпечатано с набора типографии «Известия» в типографии
Москва, ул. Фр. Энгельса, 46. Зак. 437.