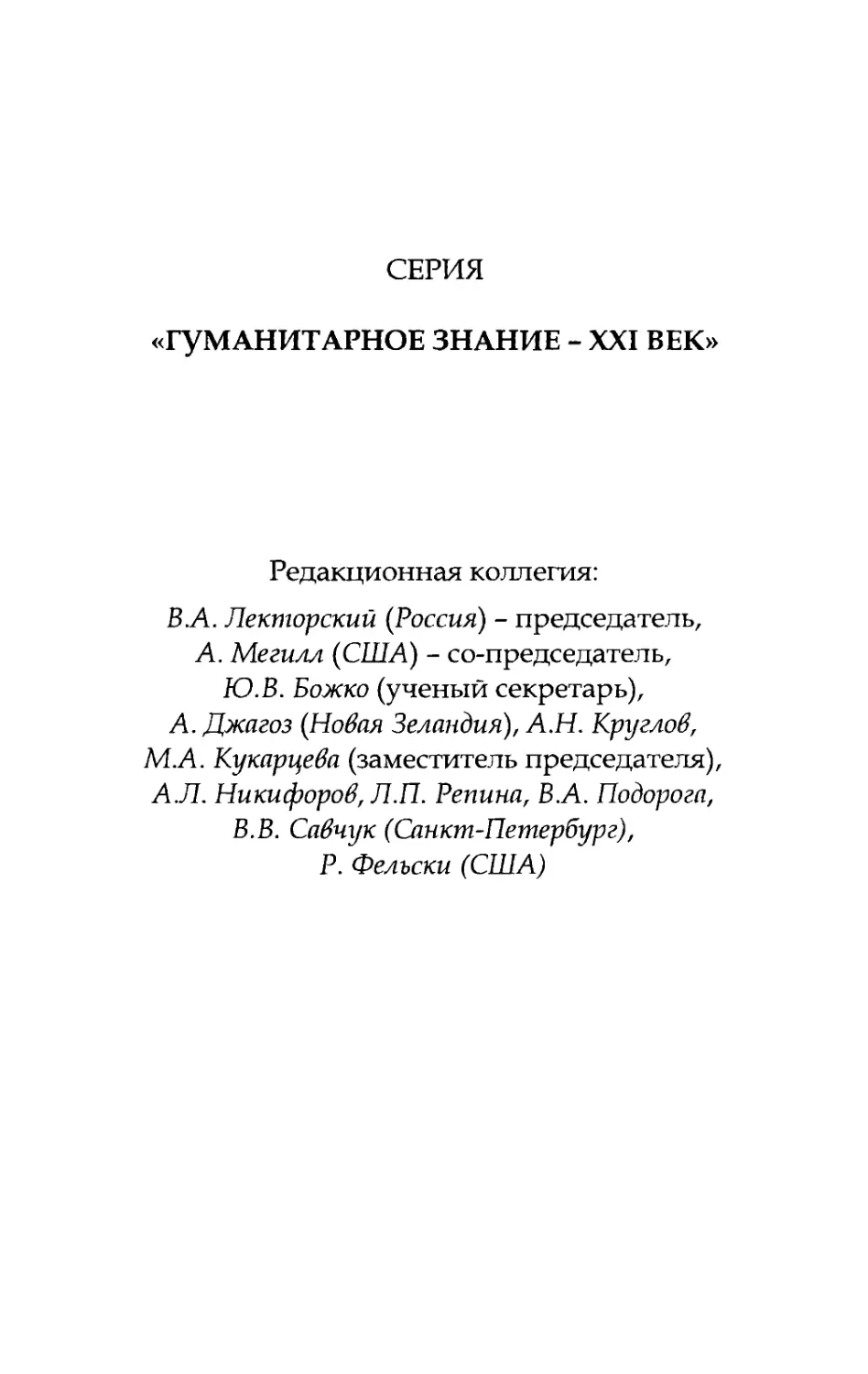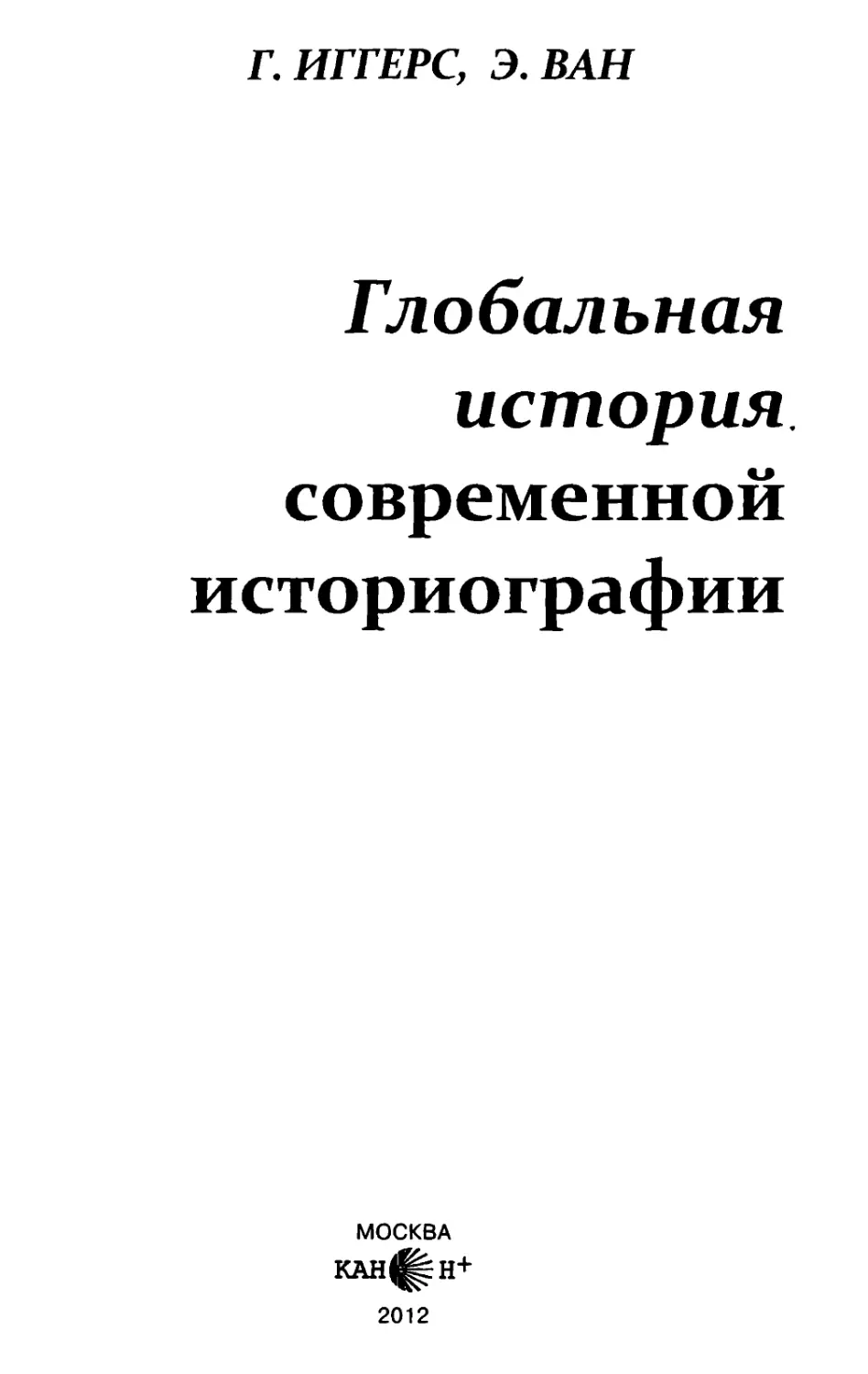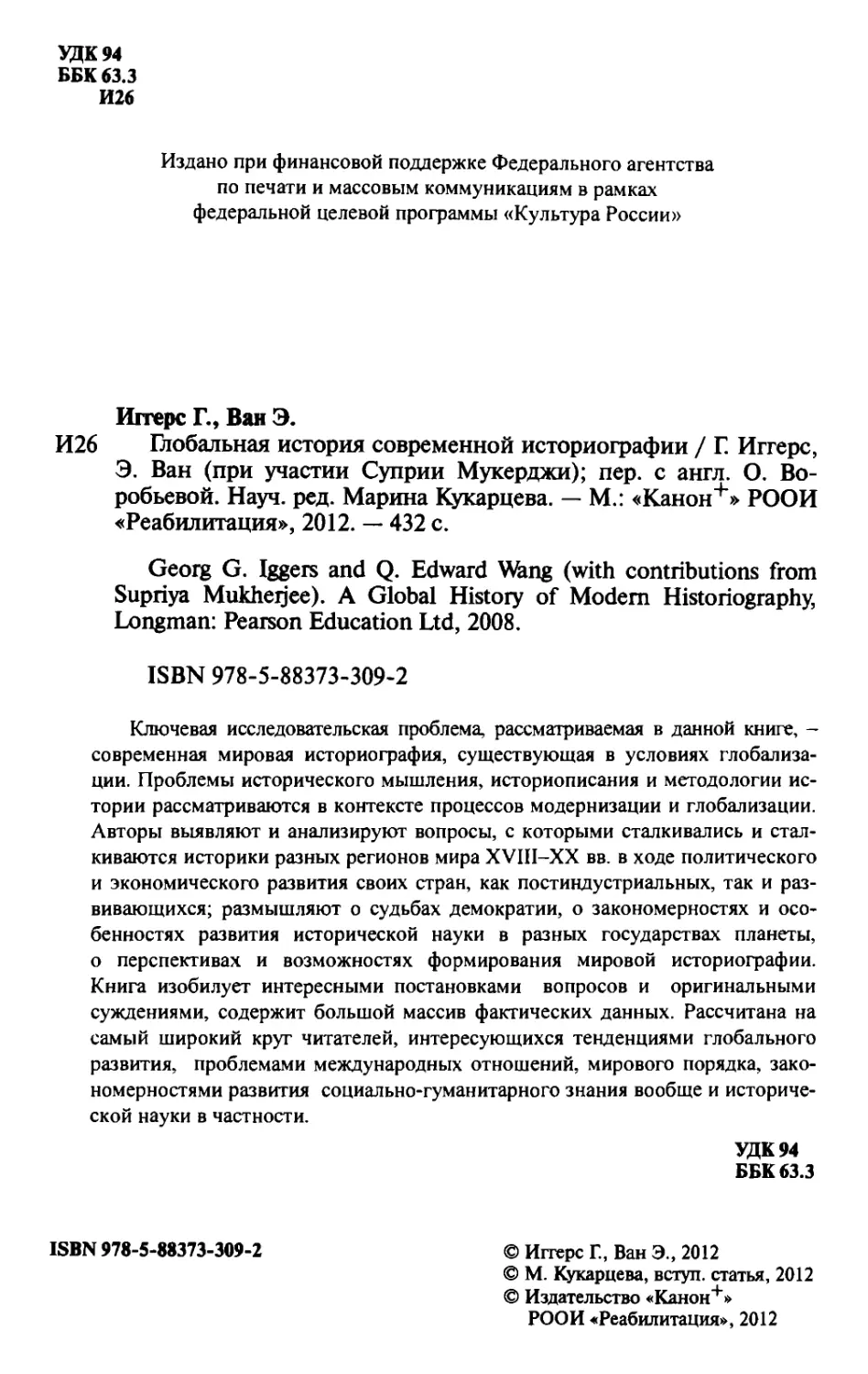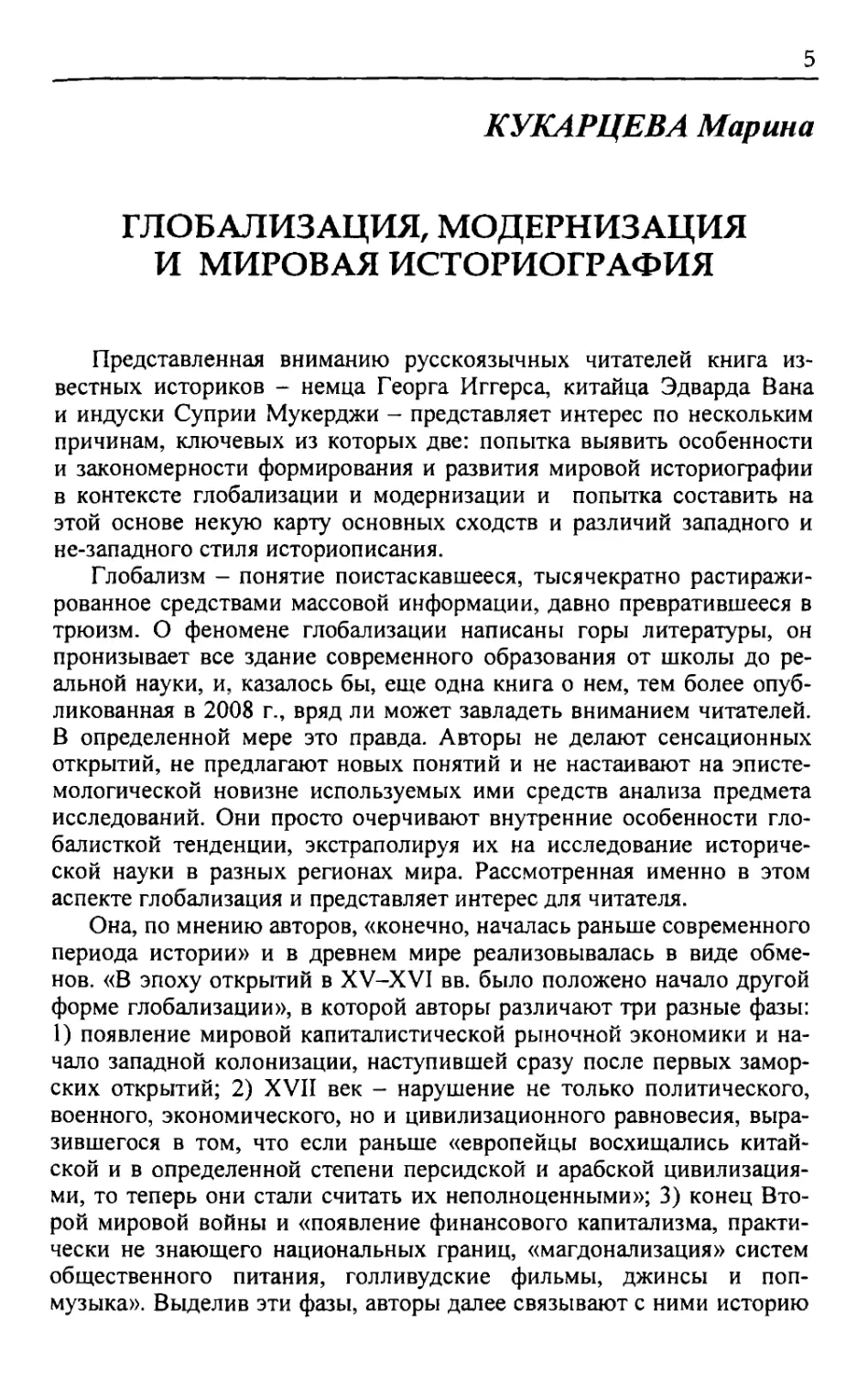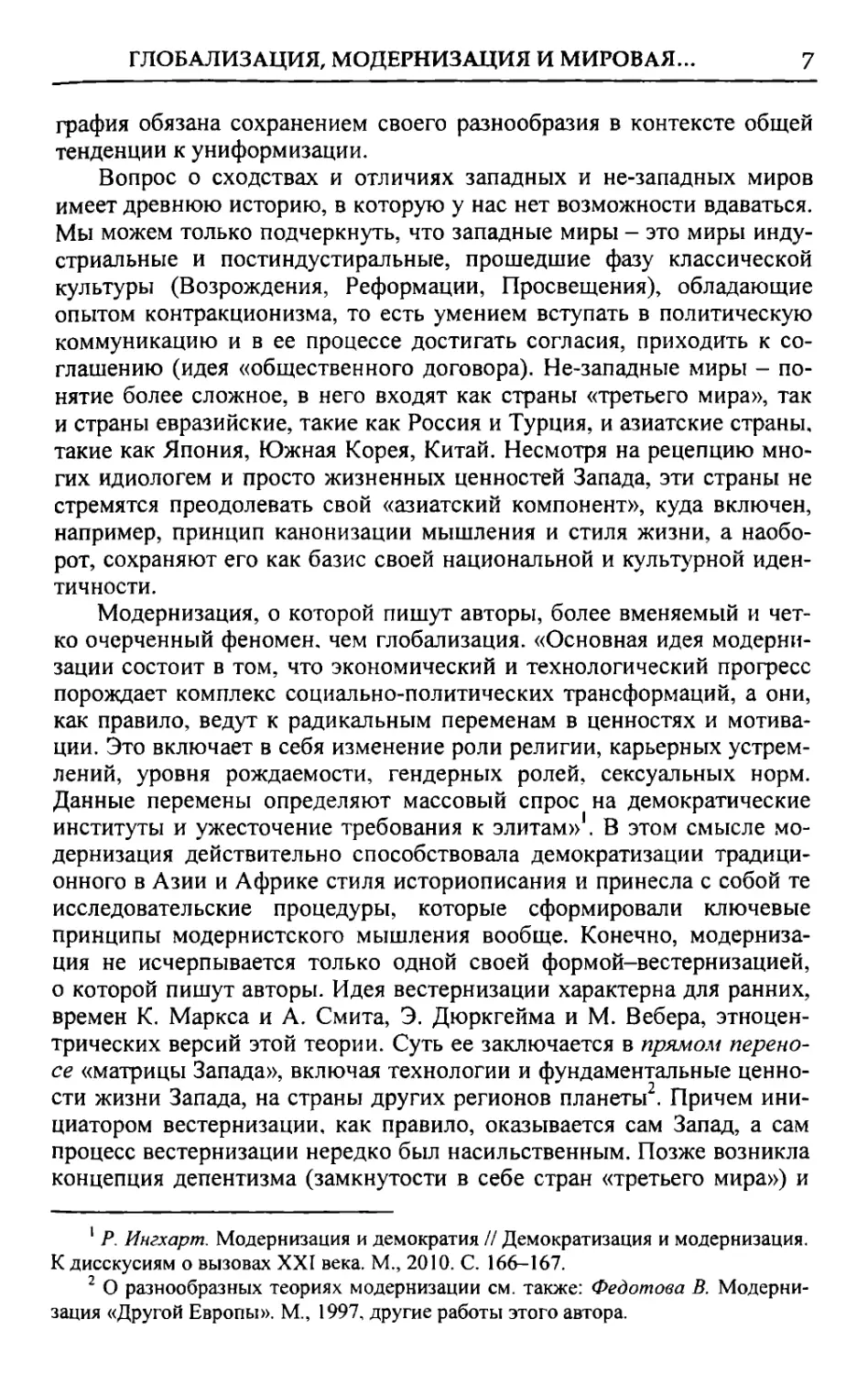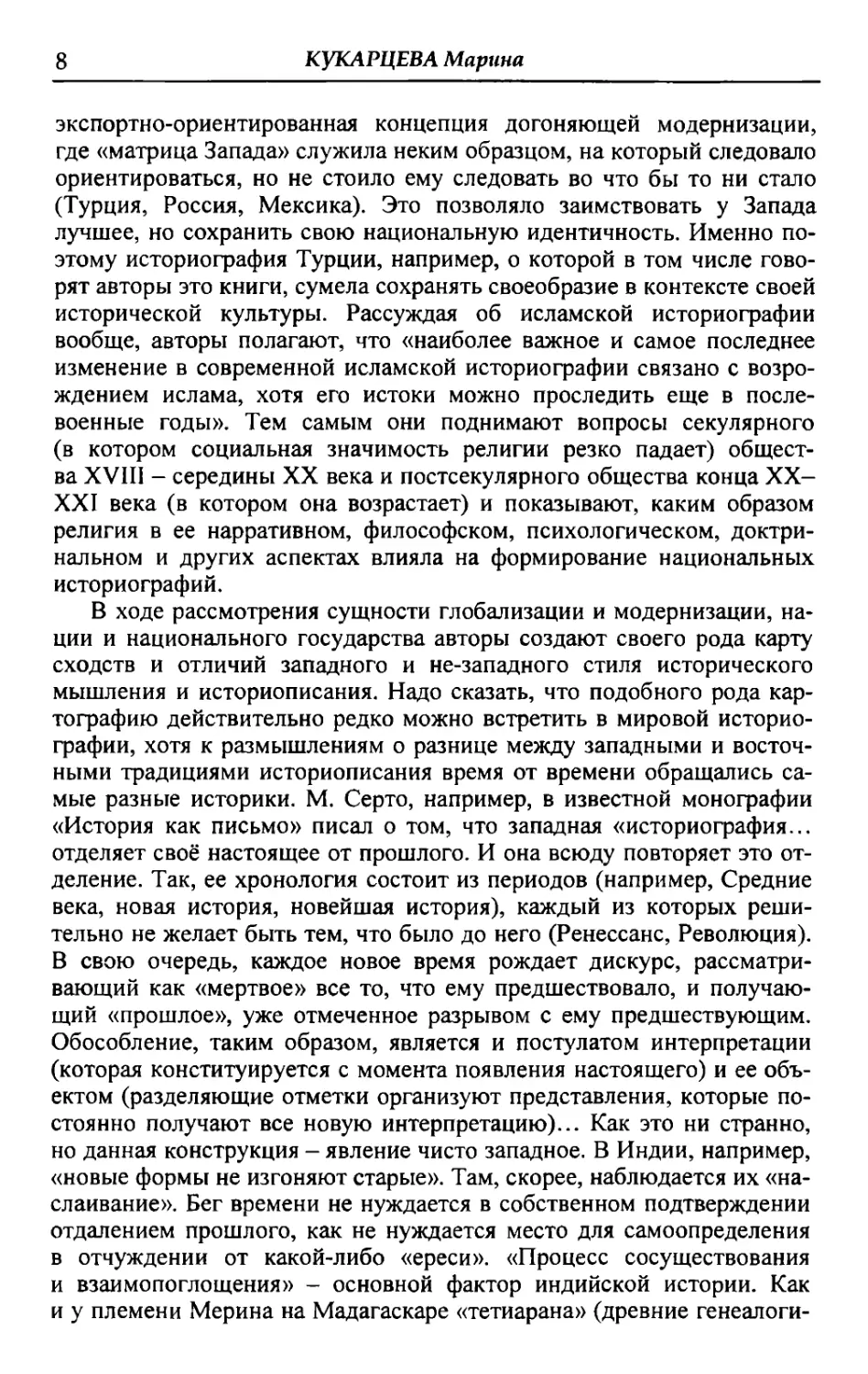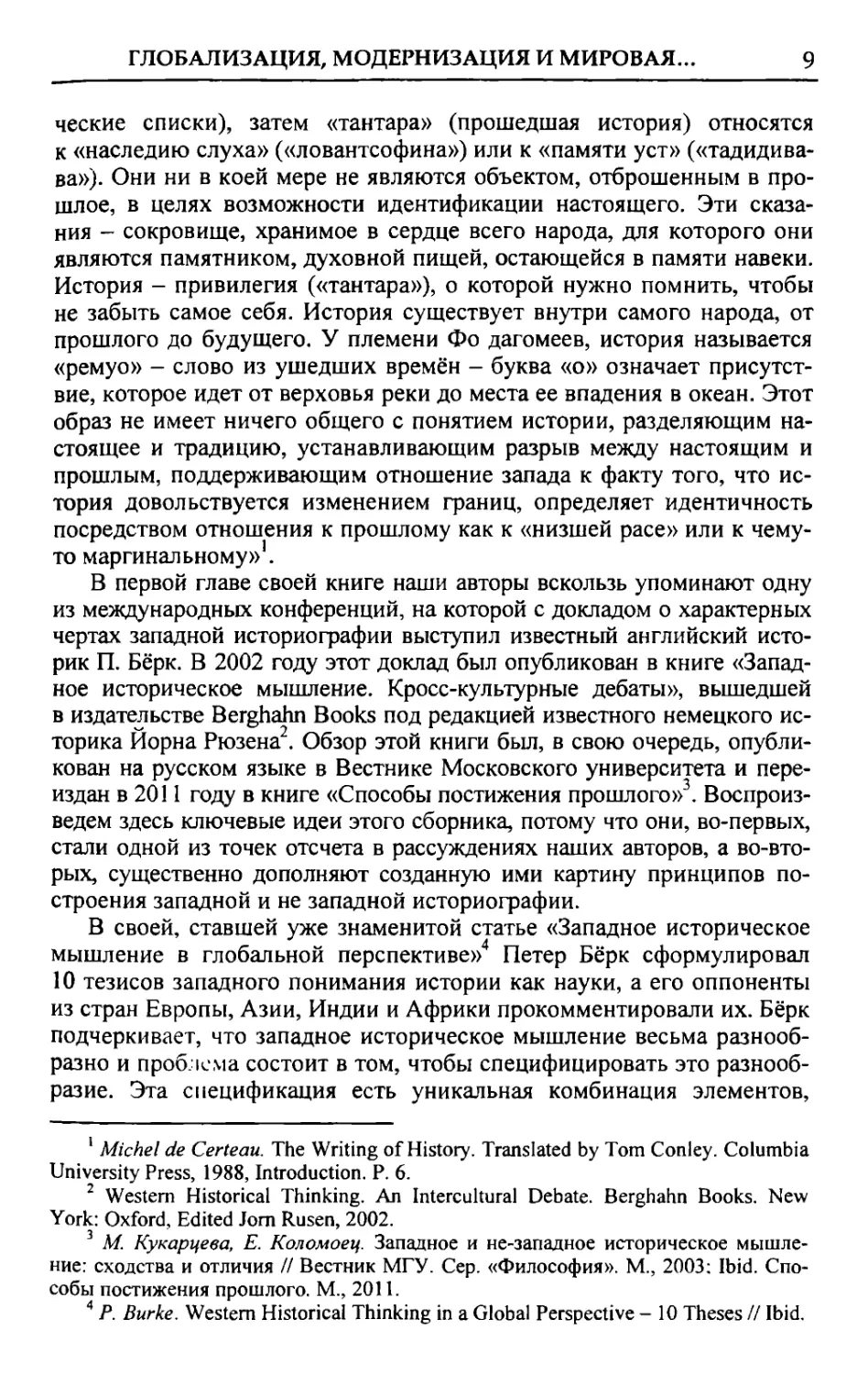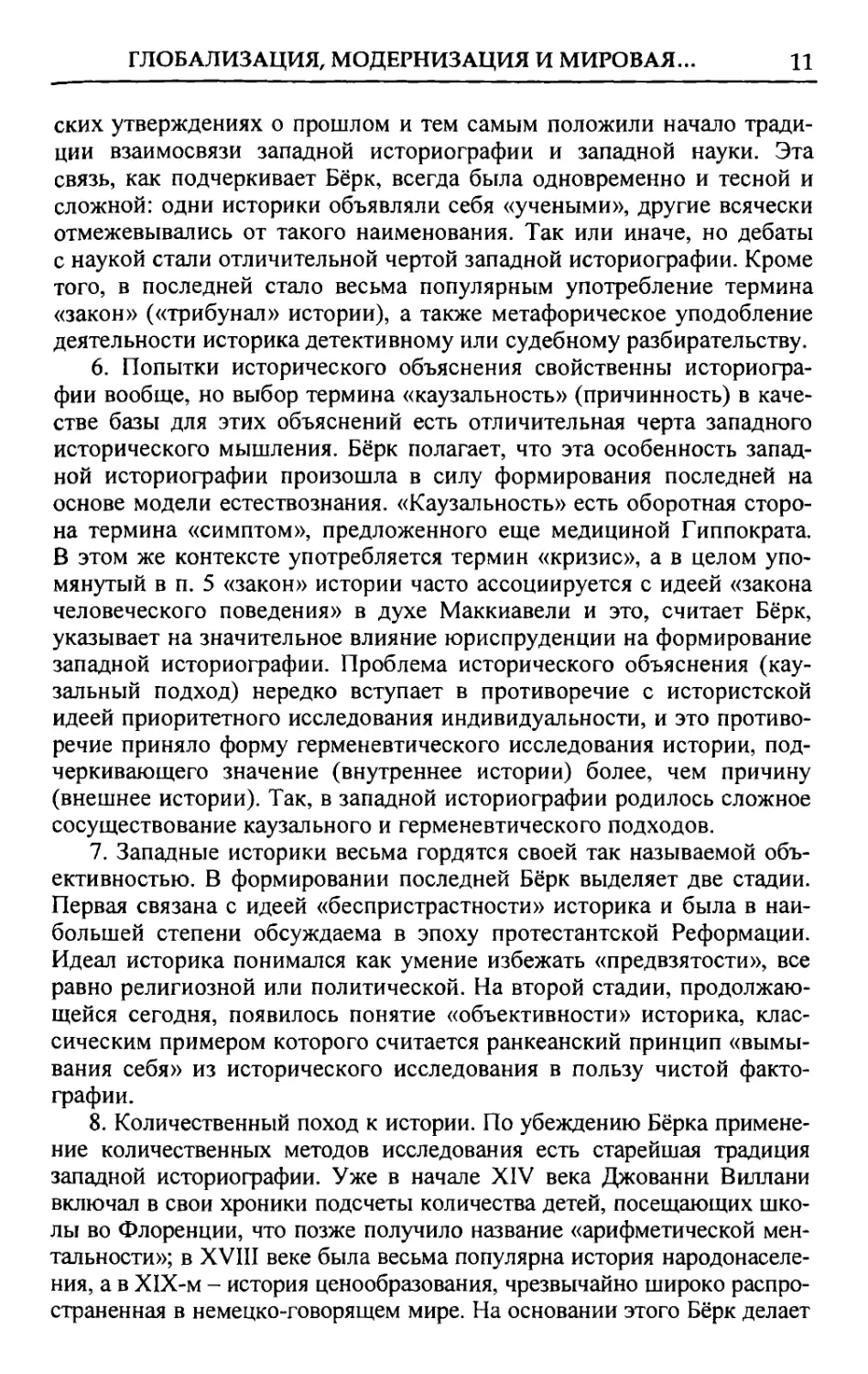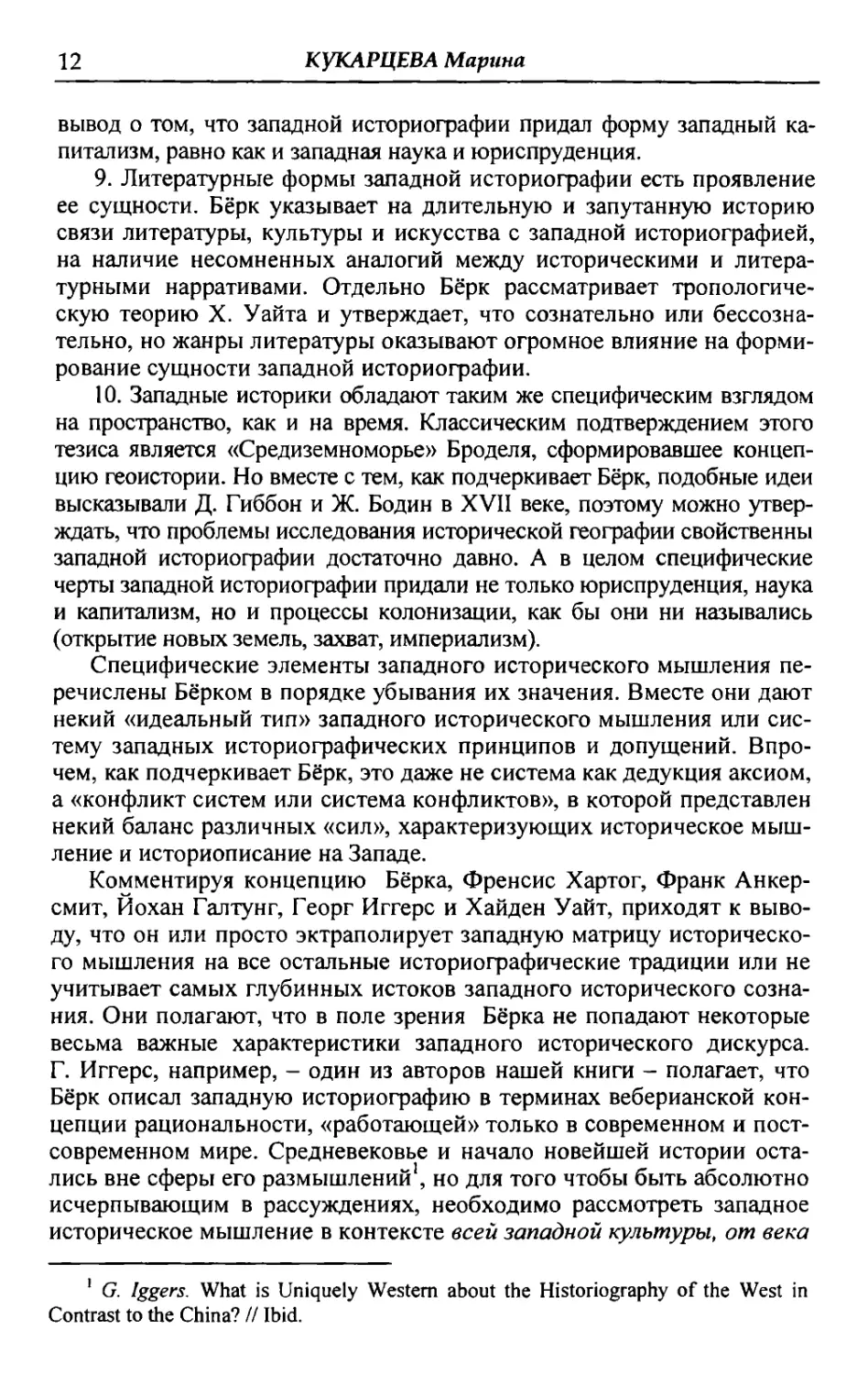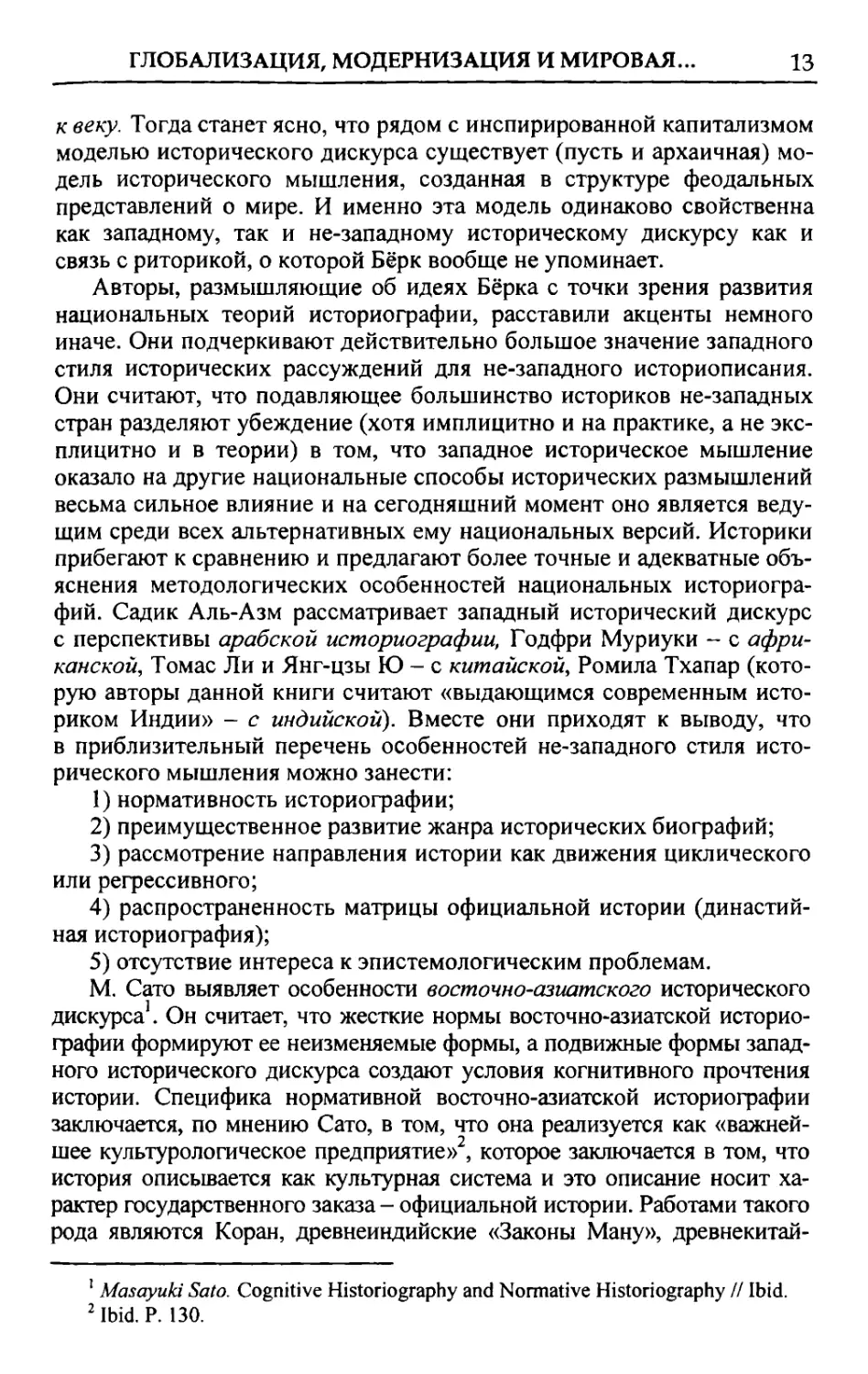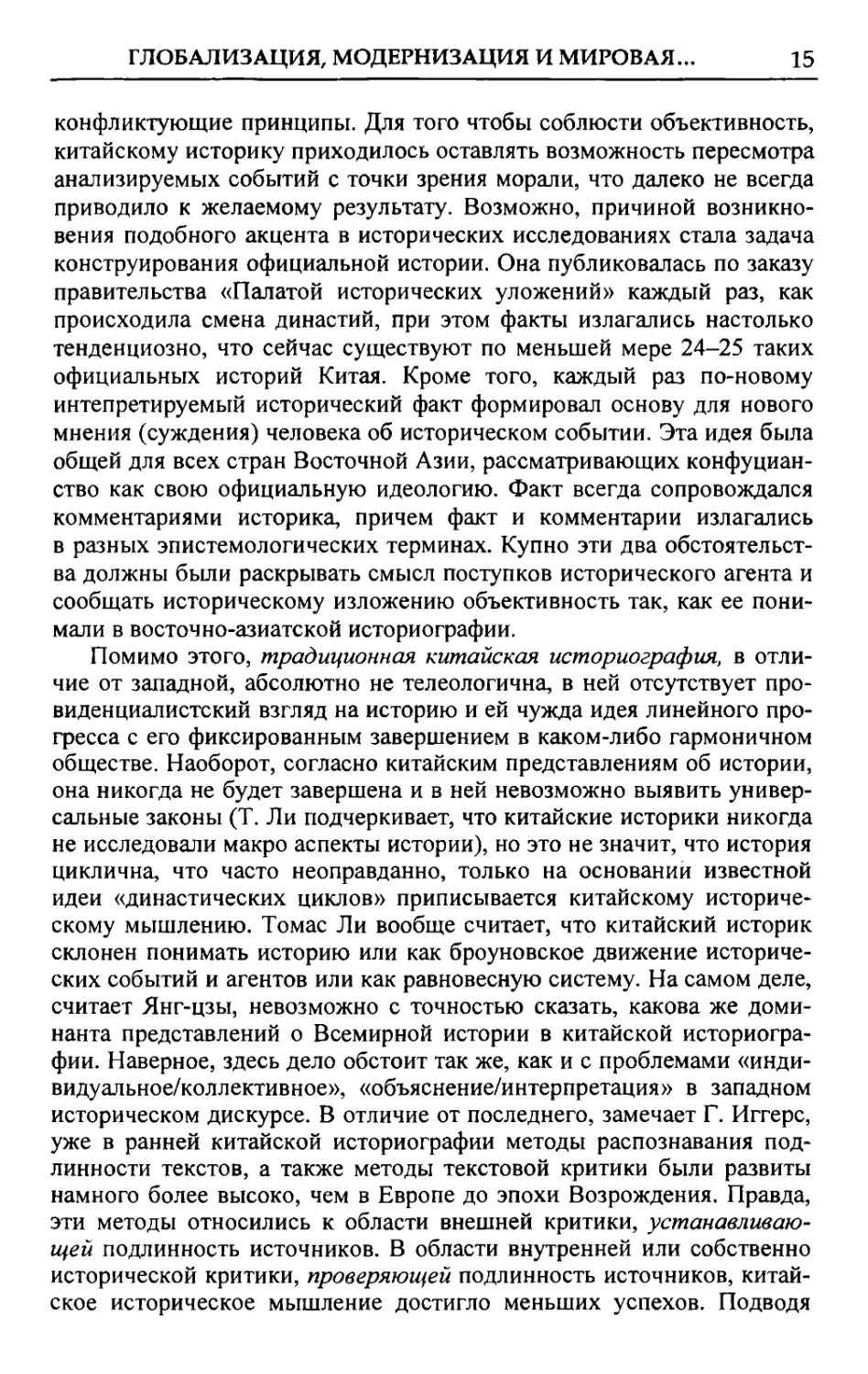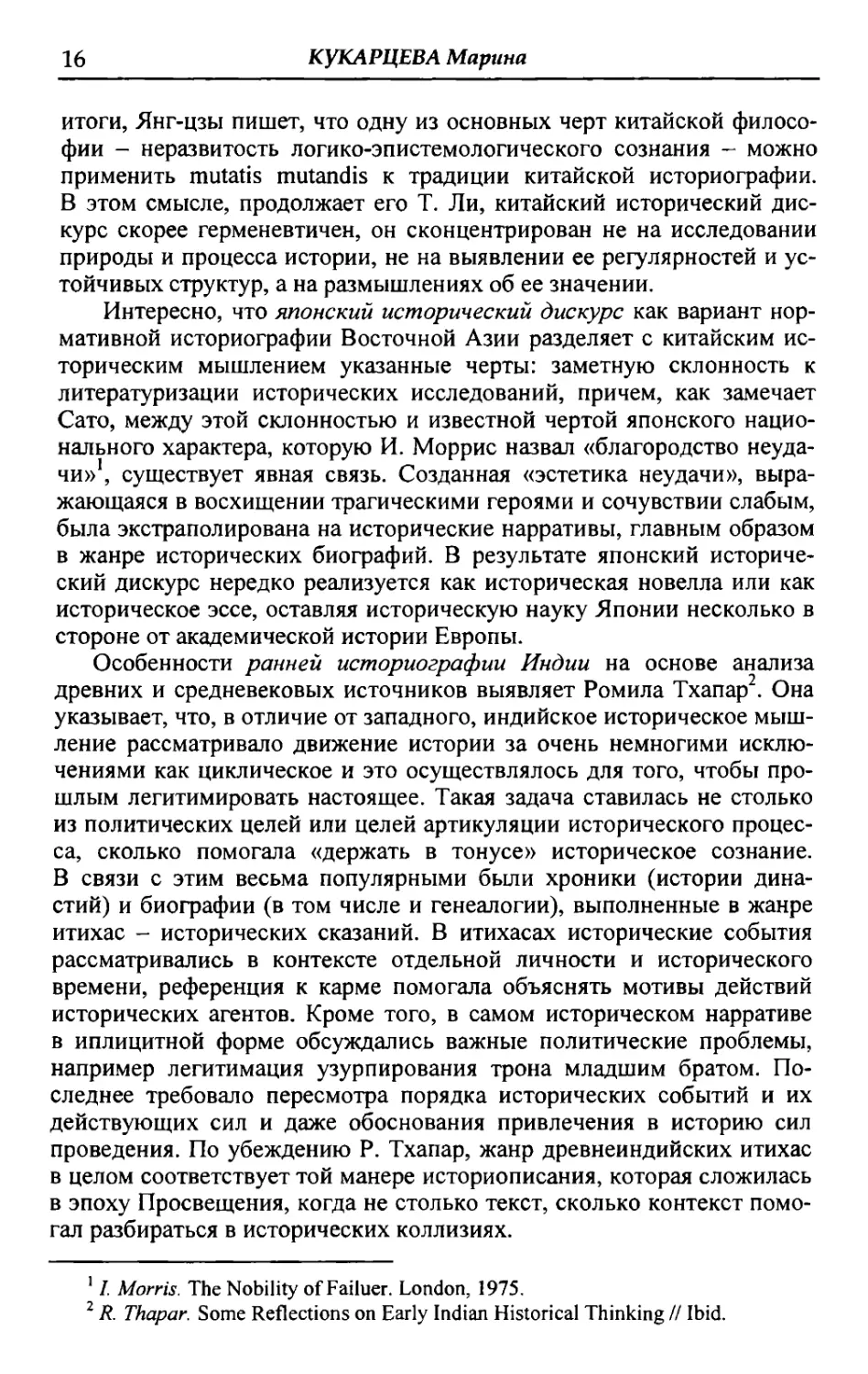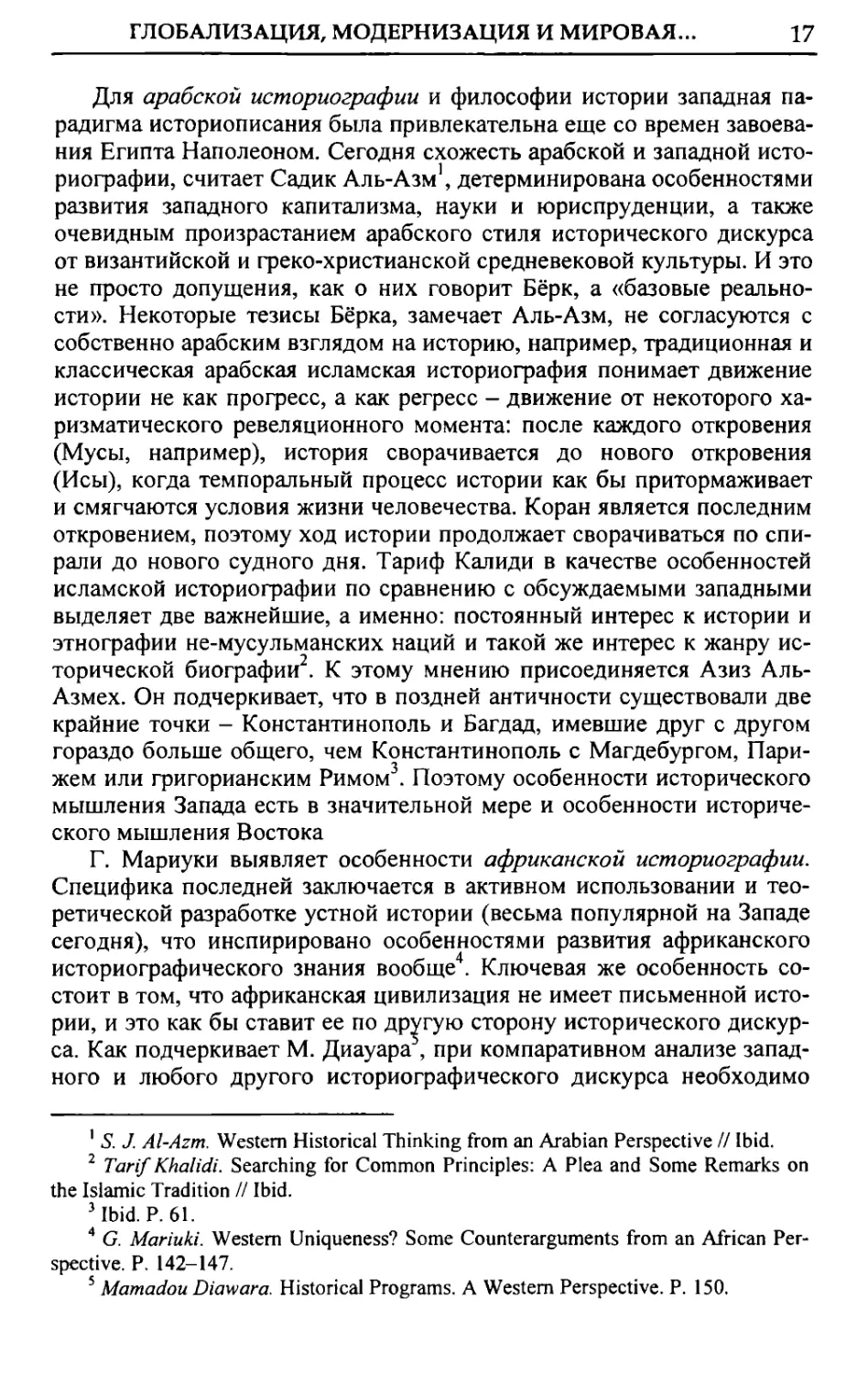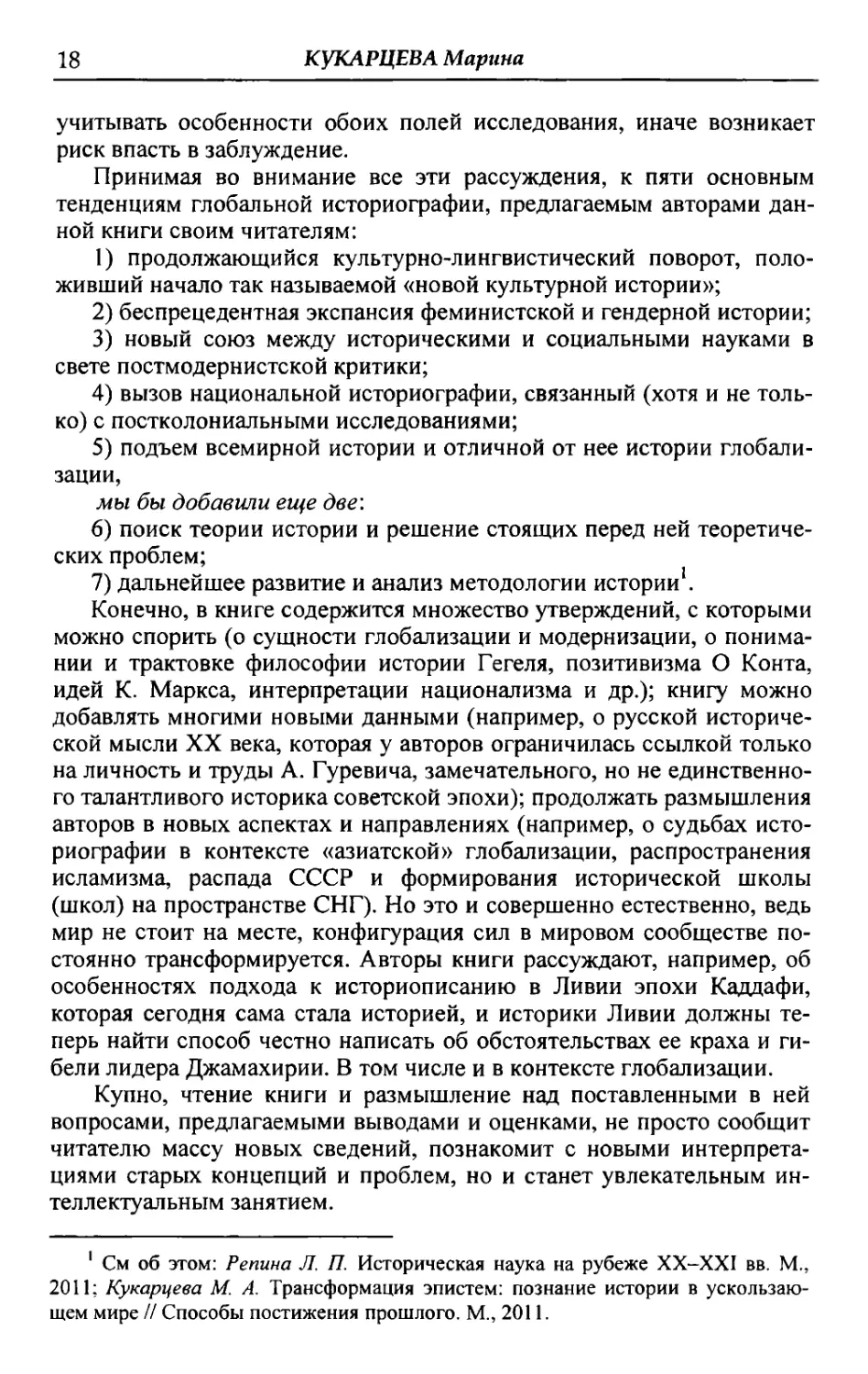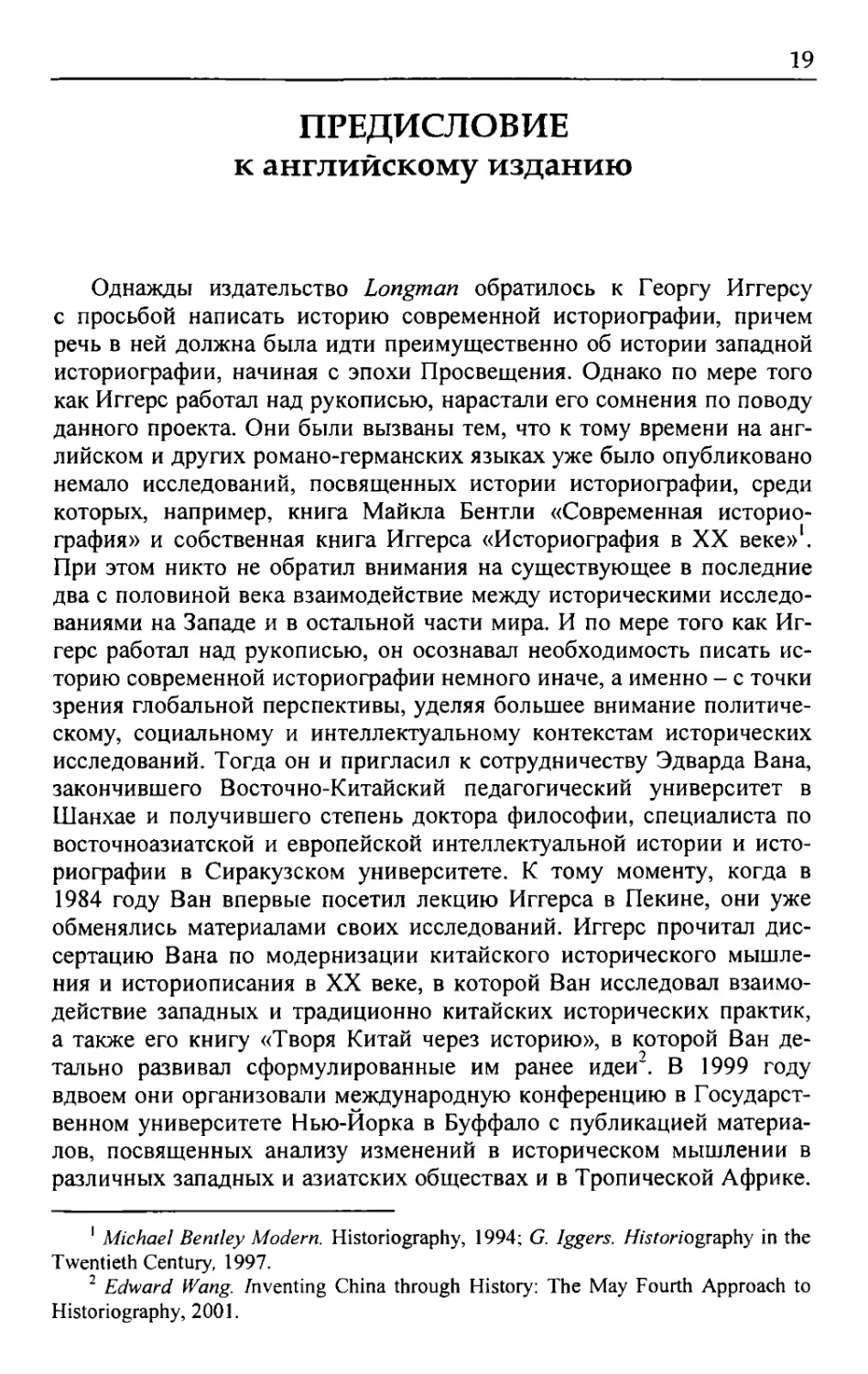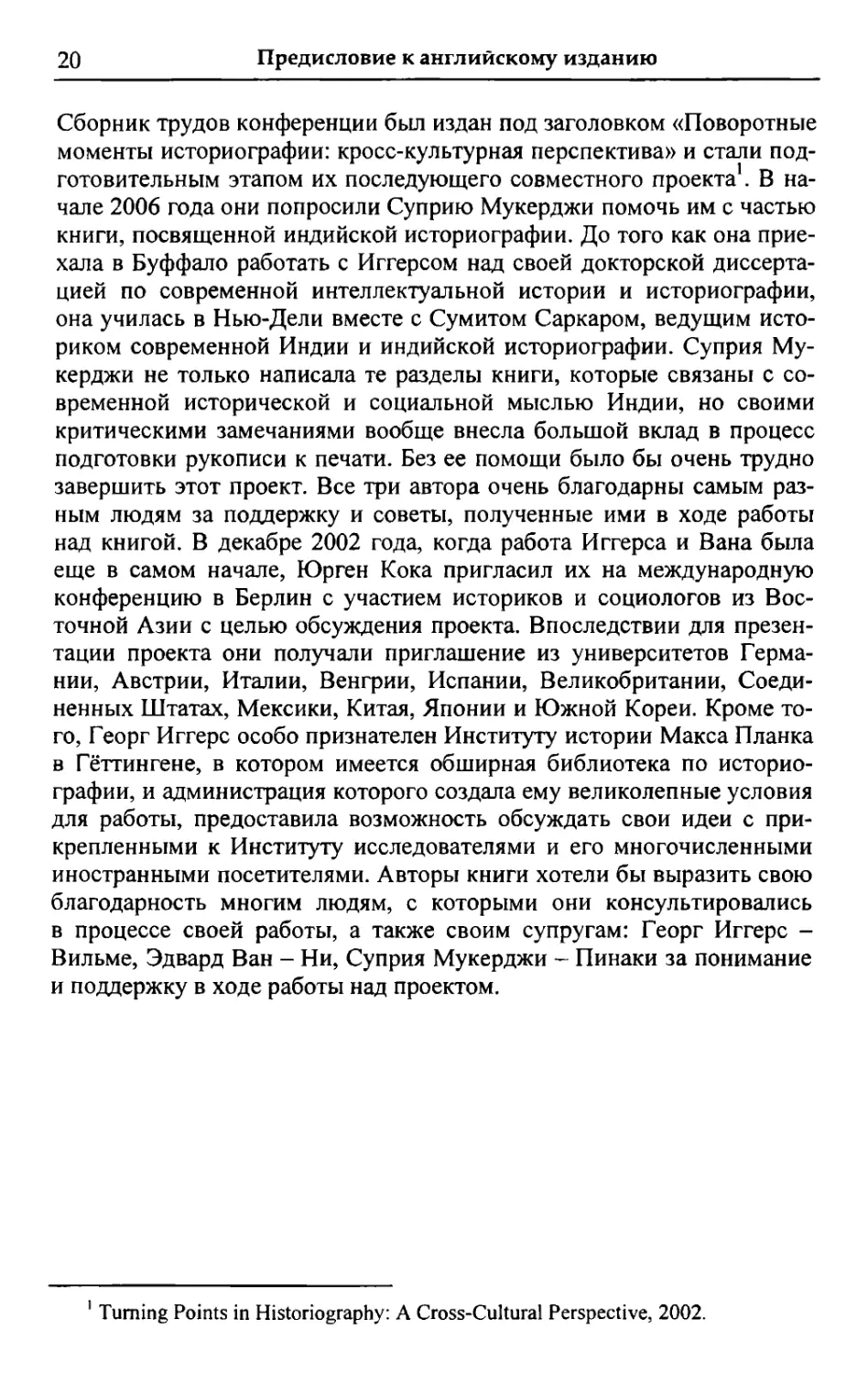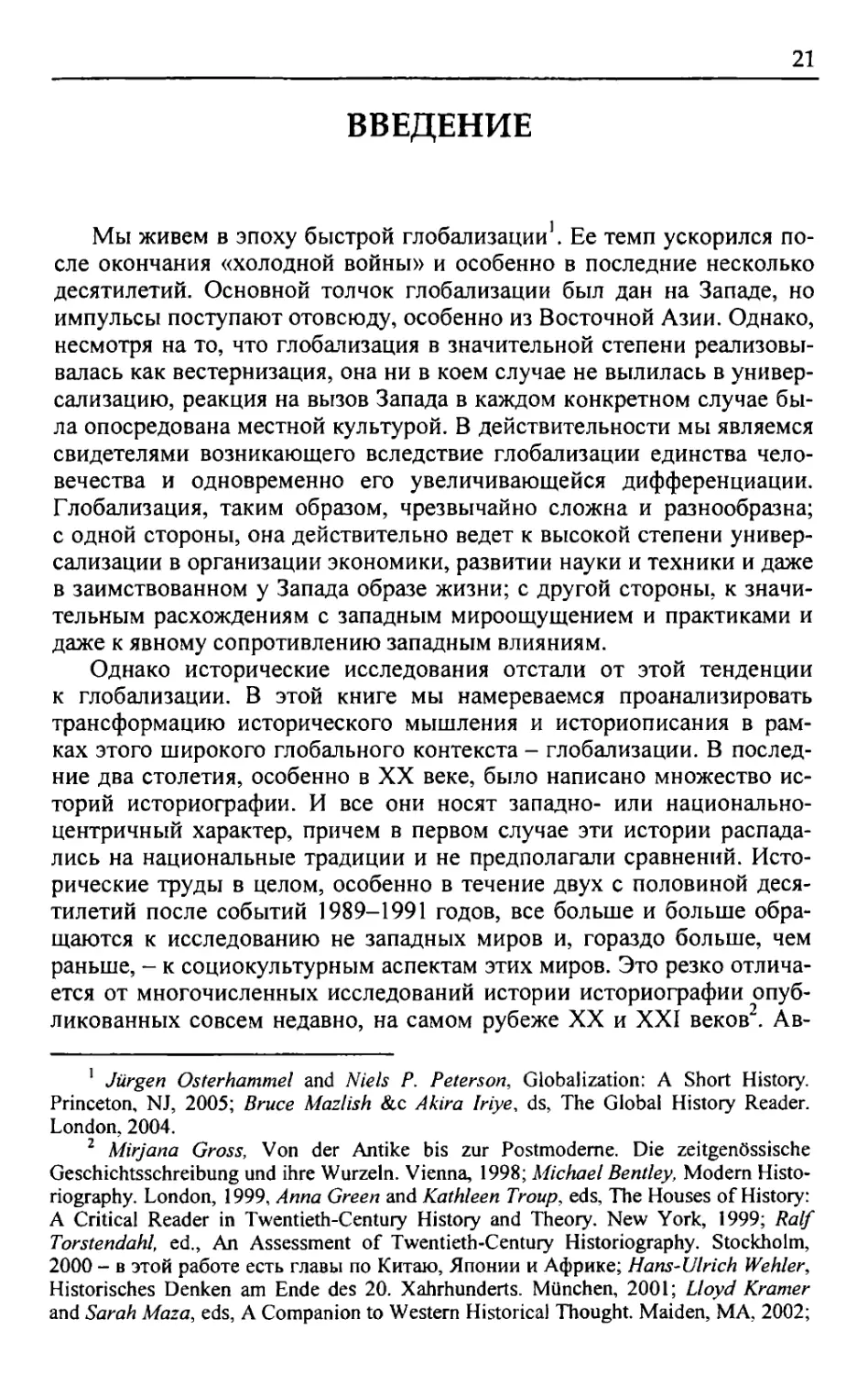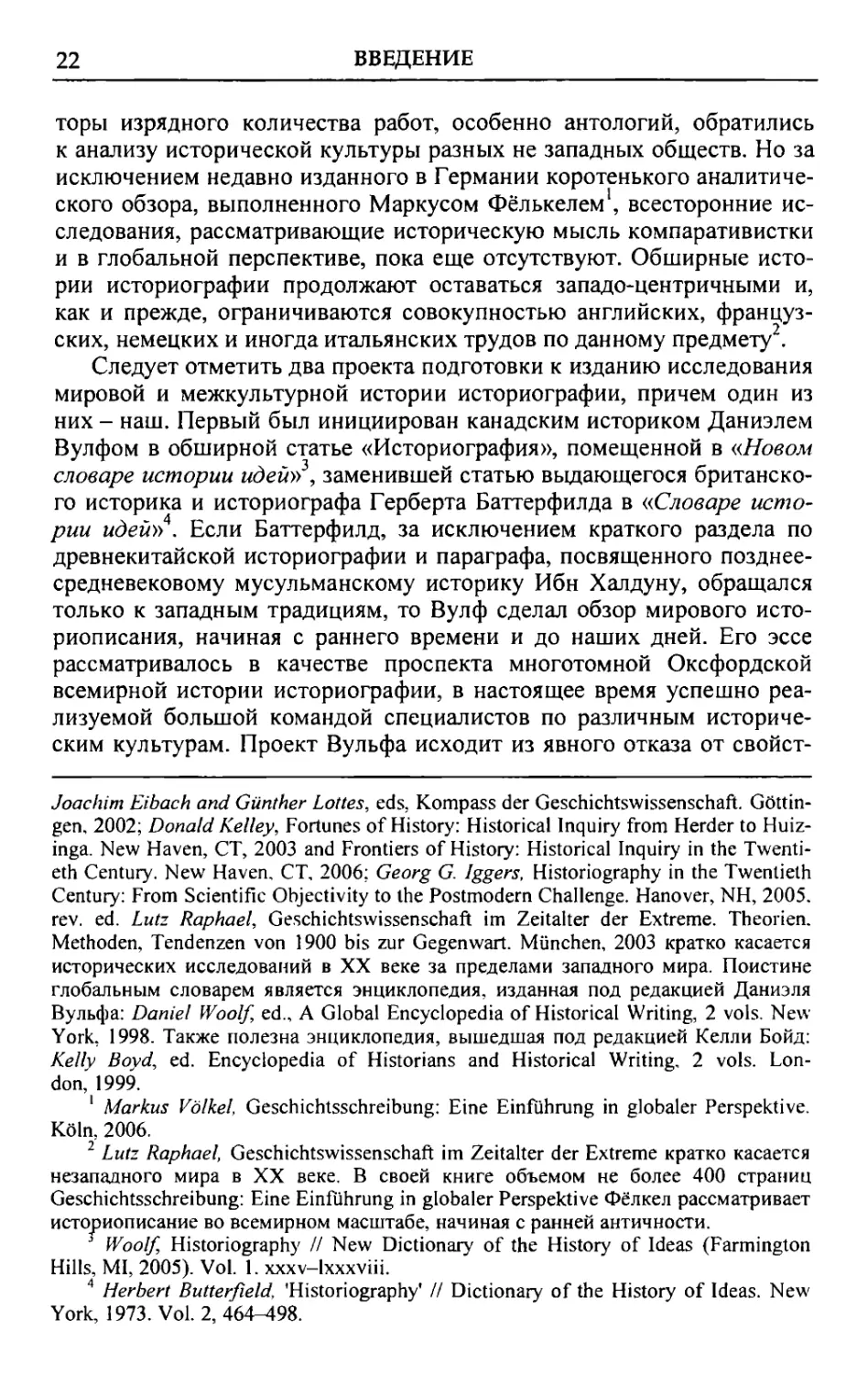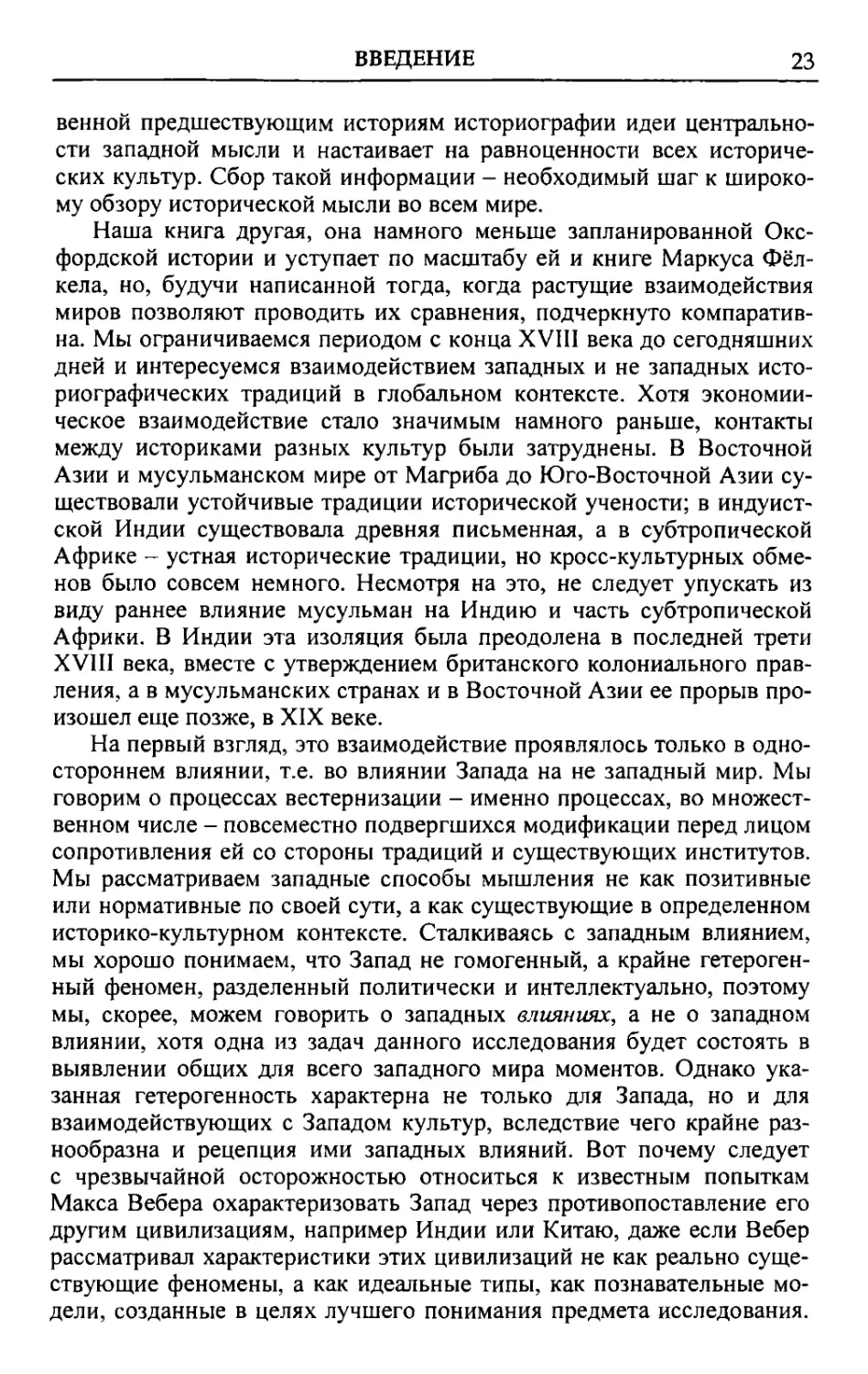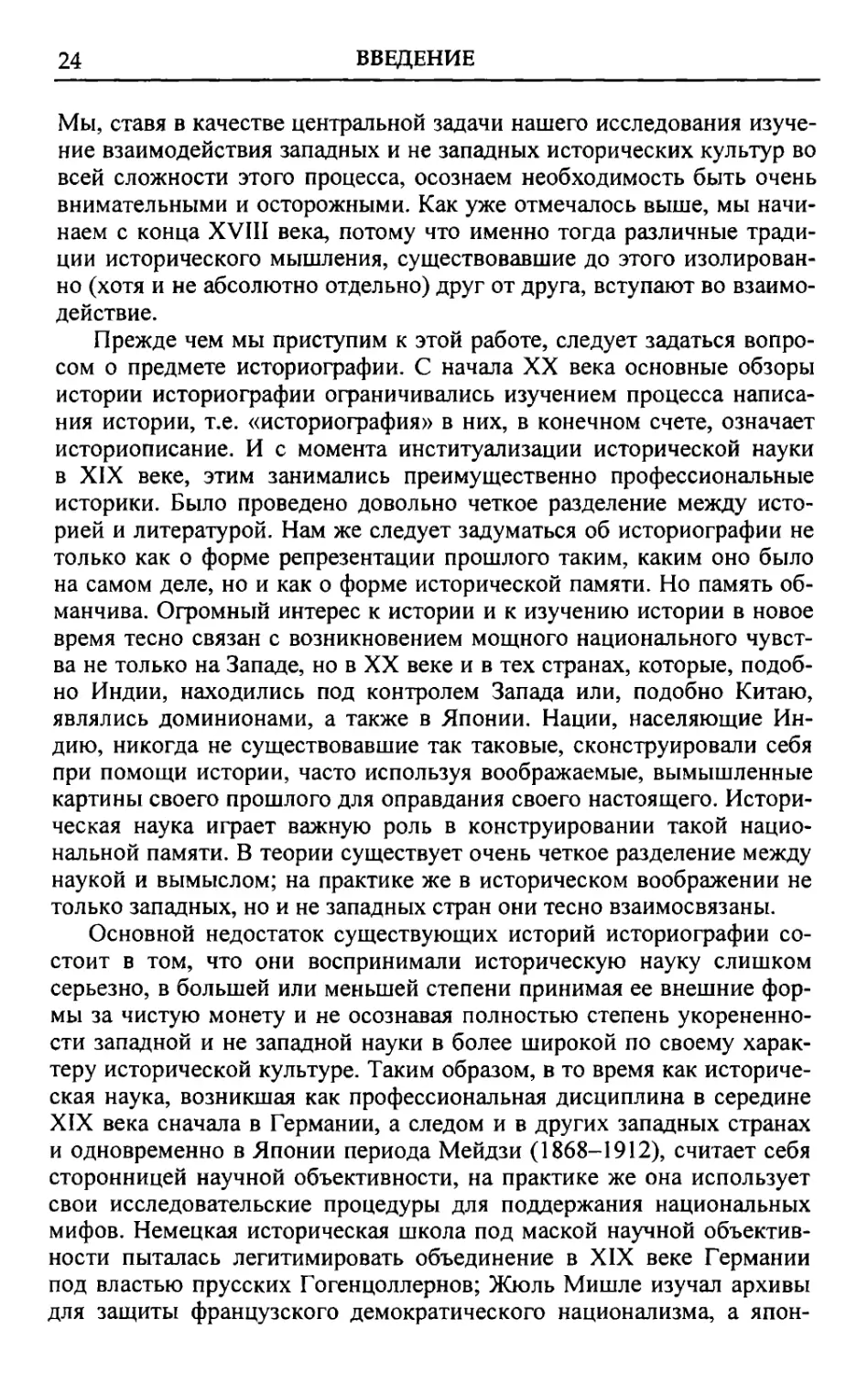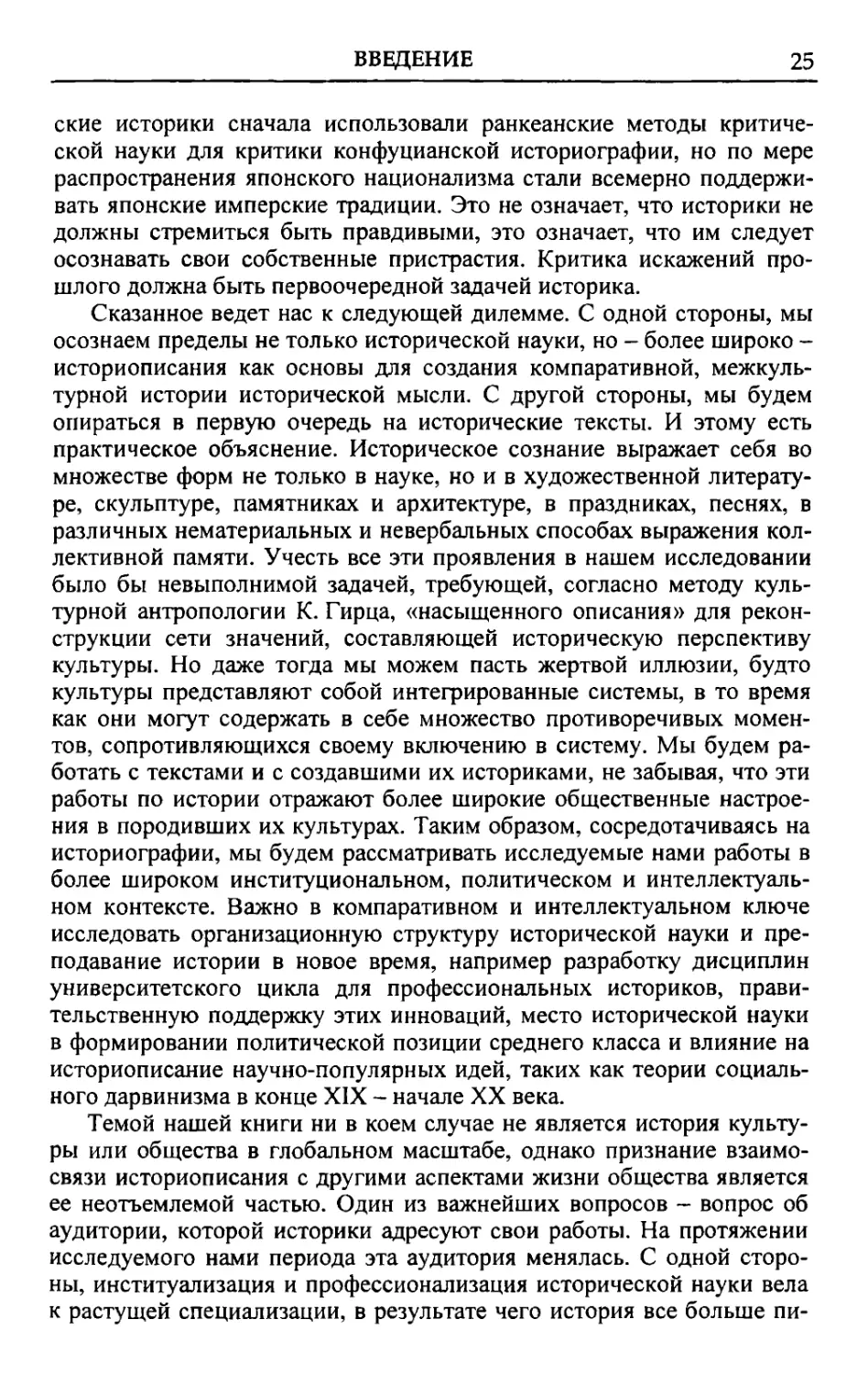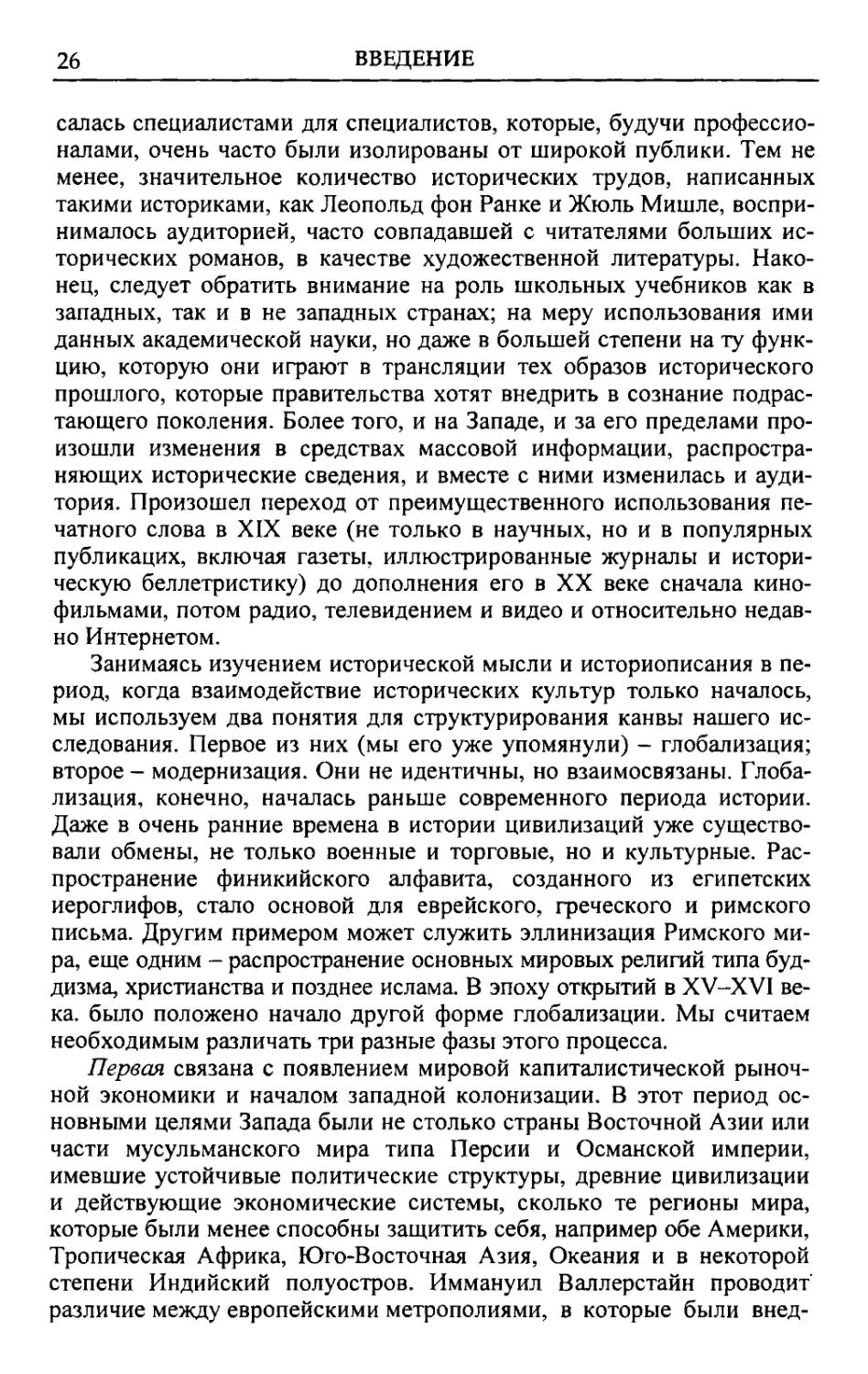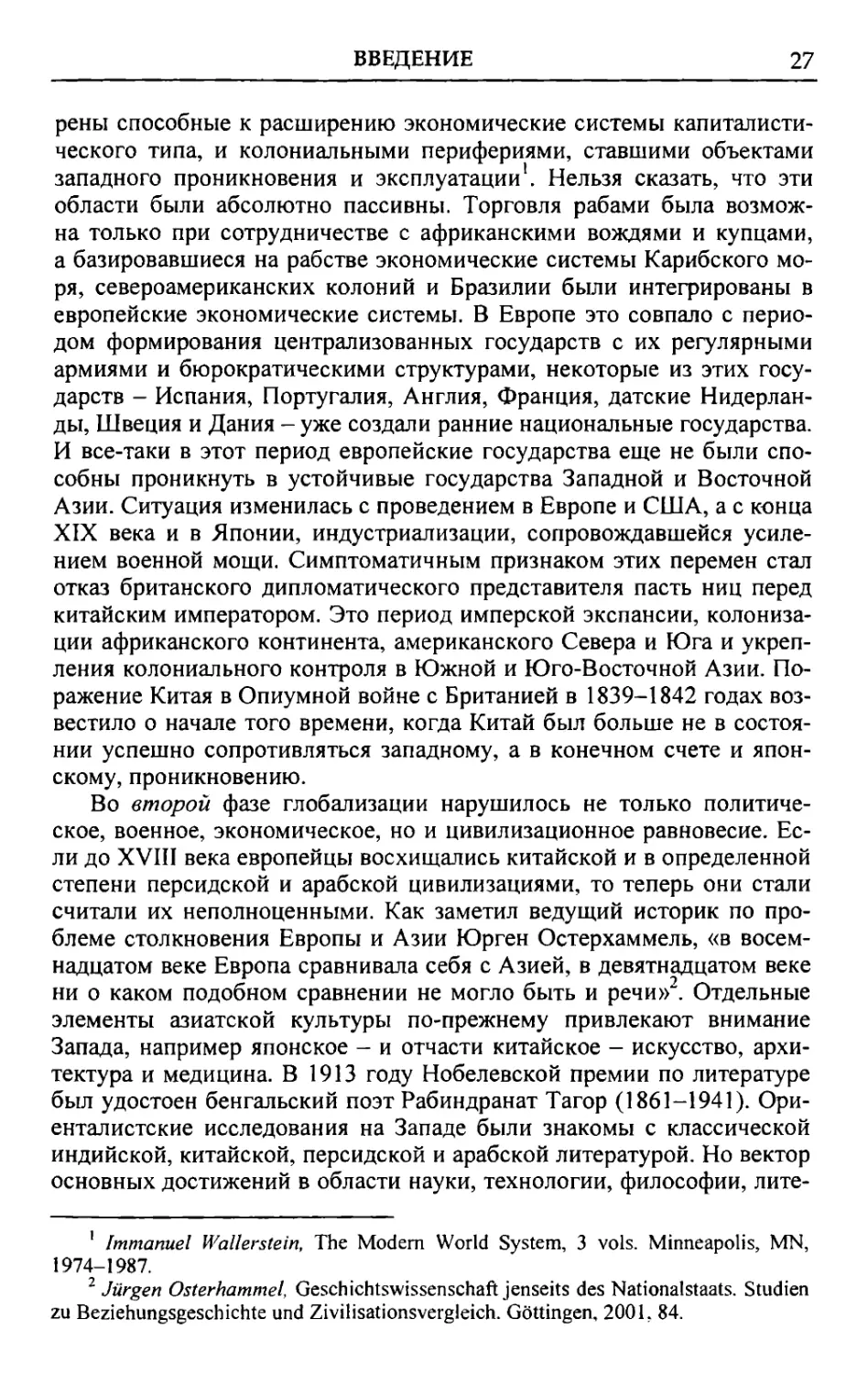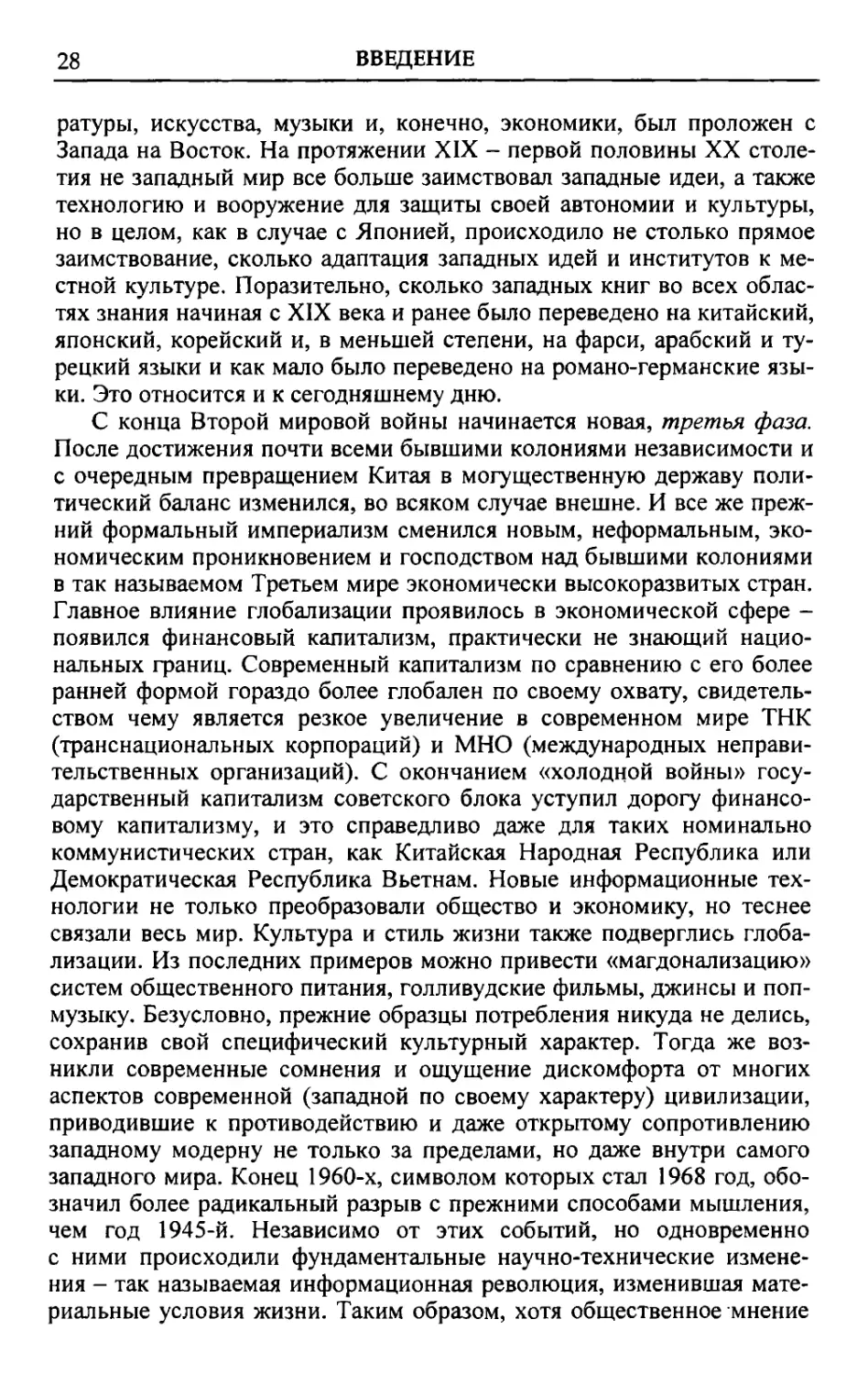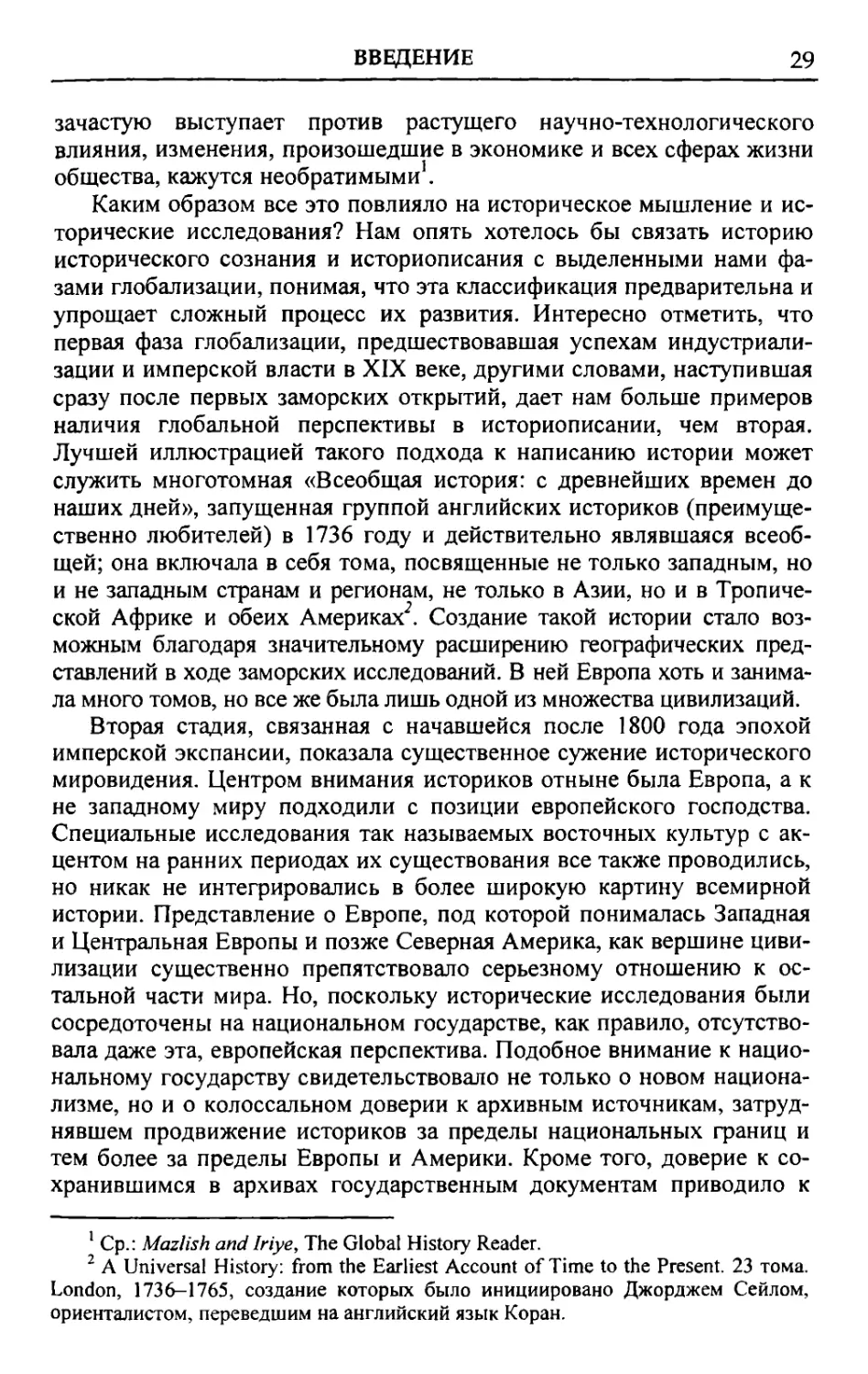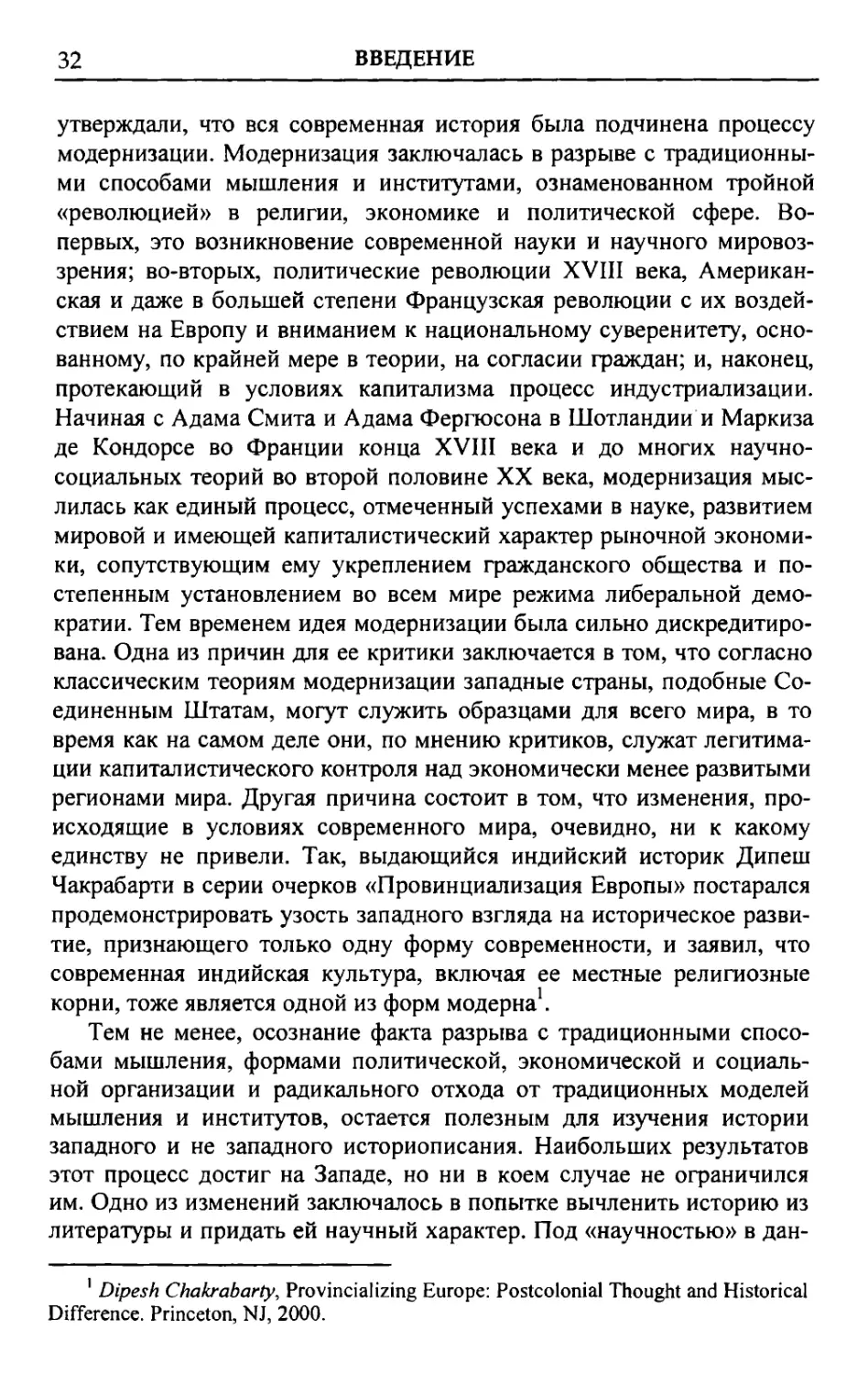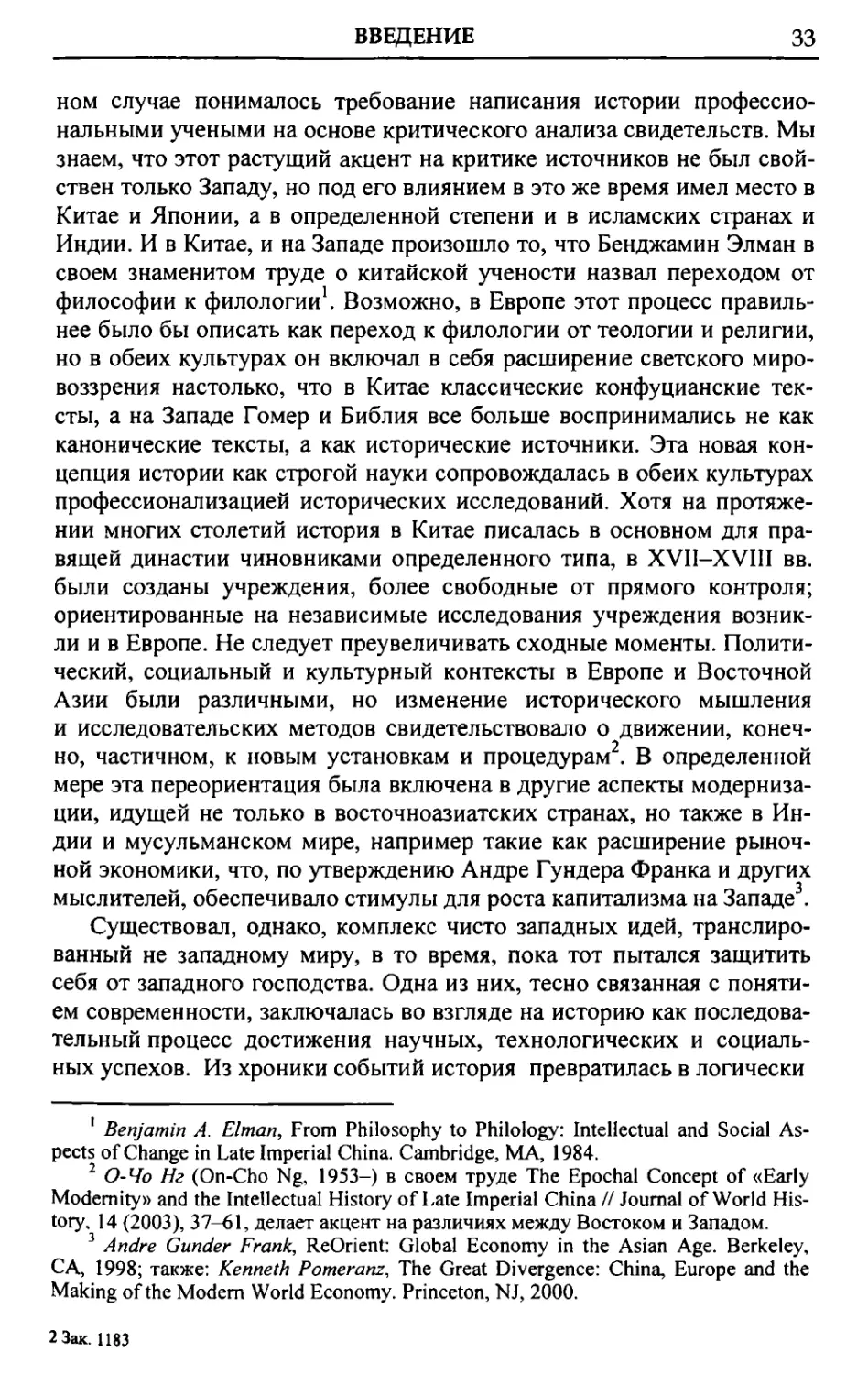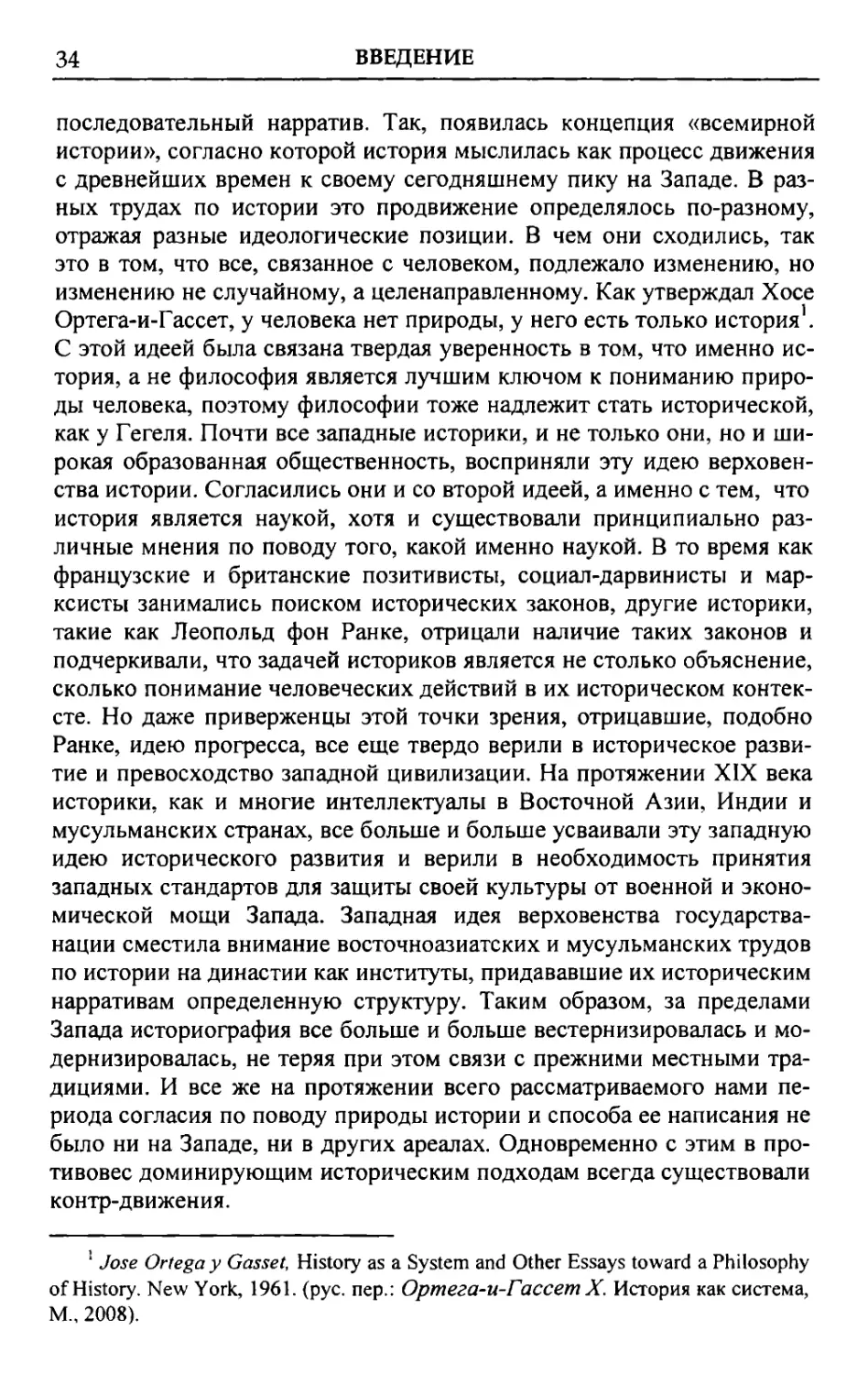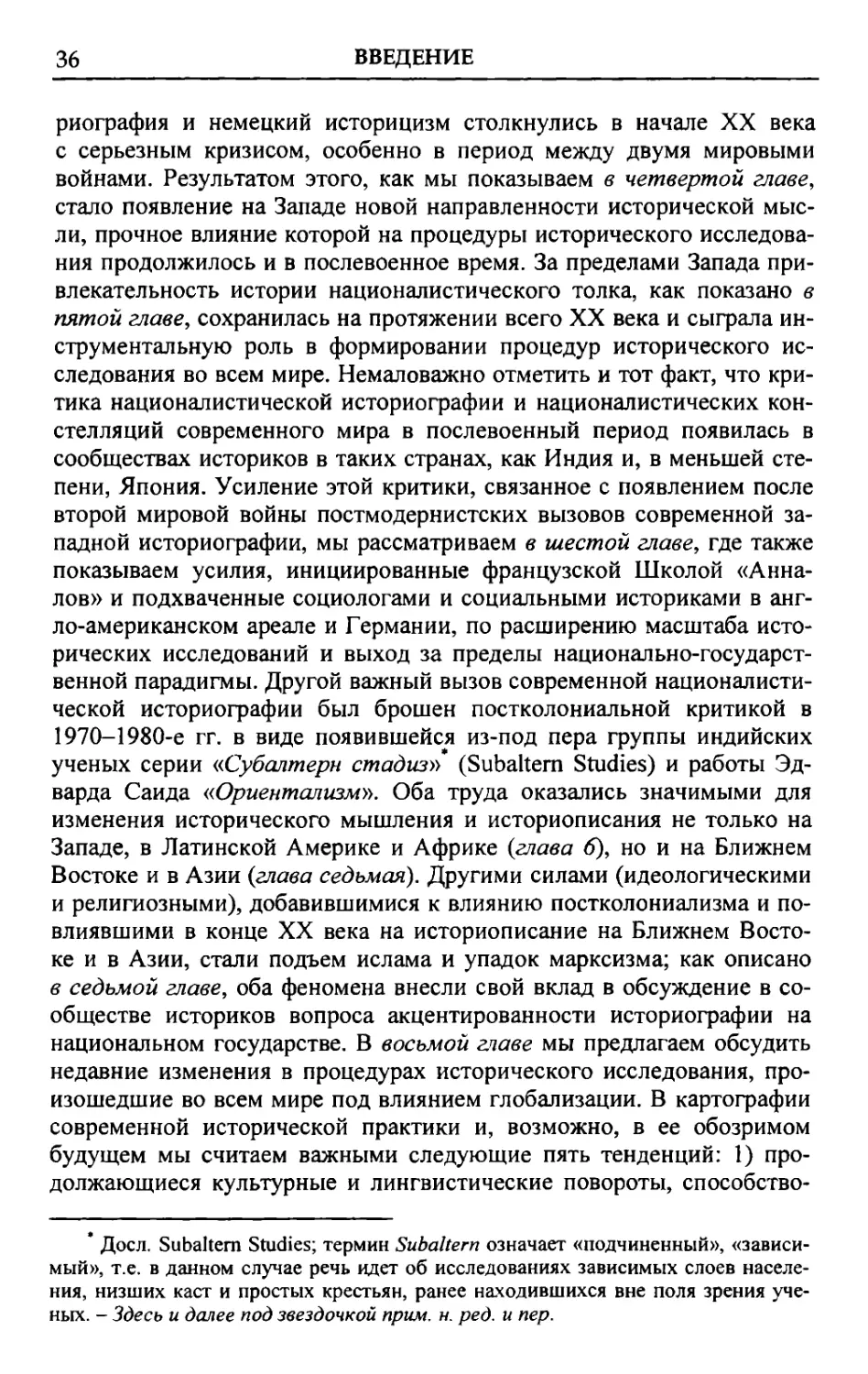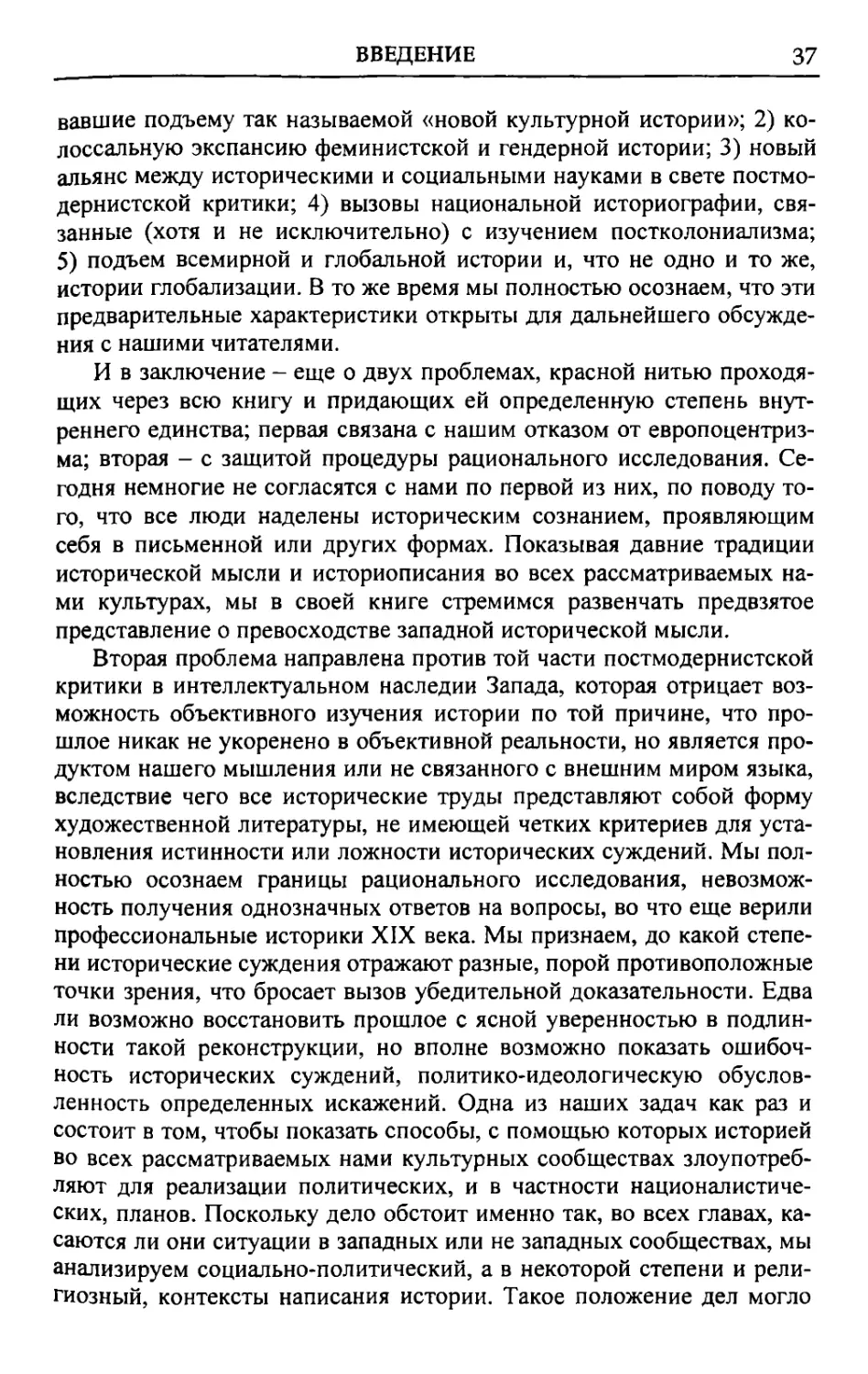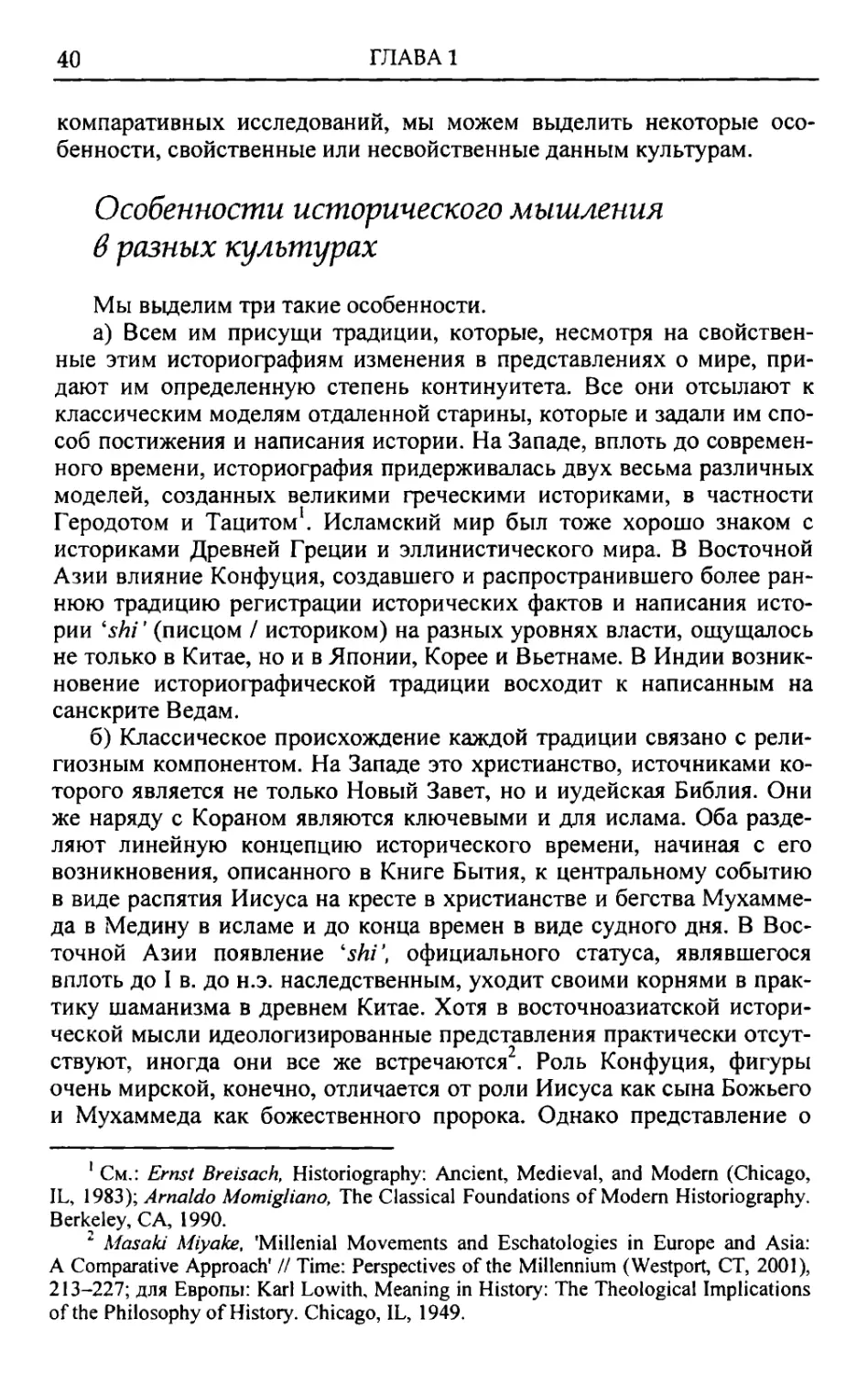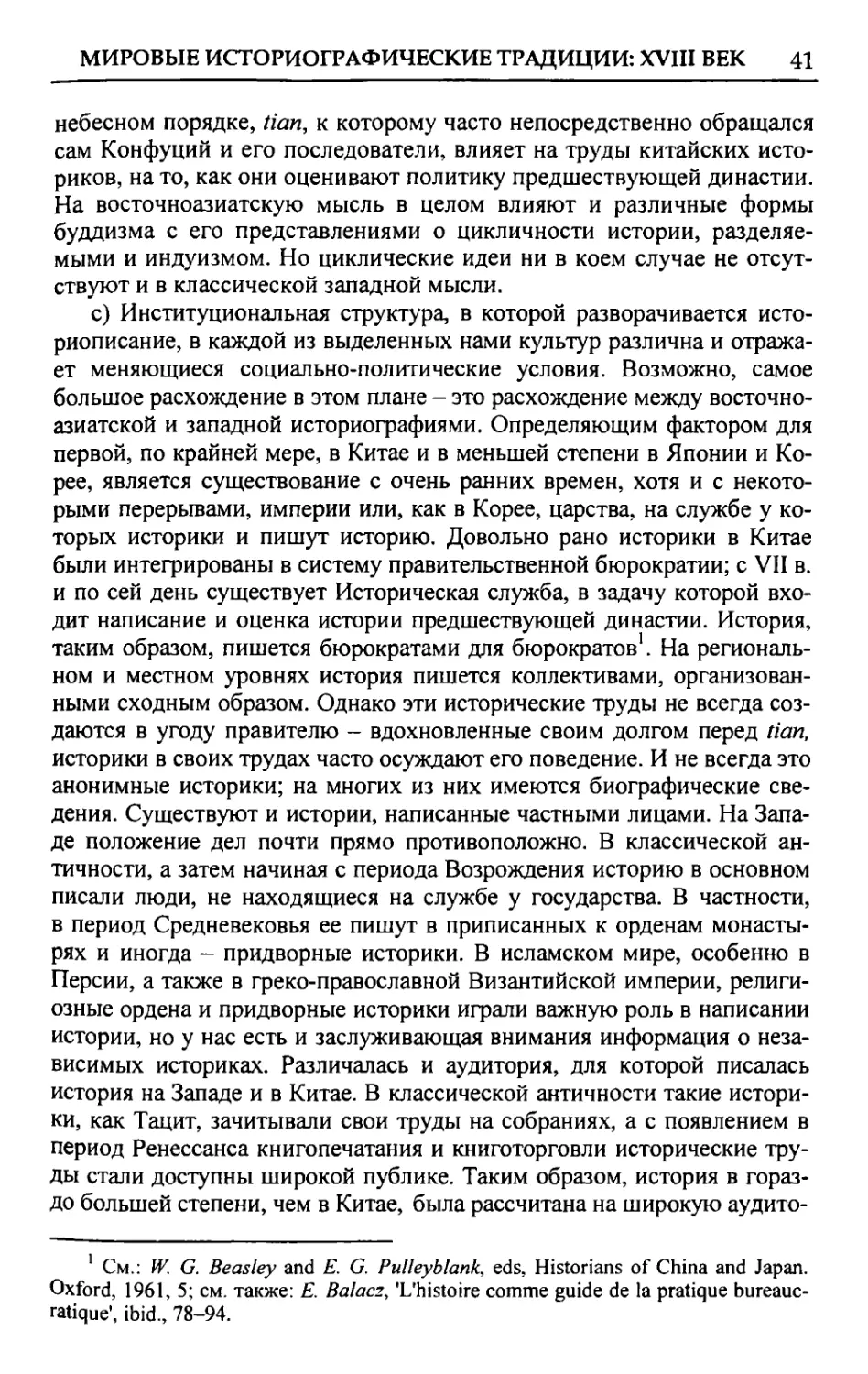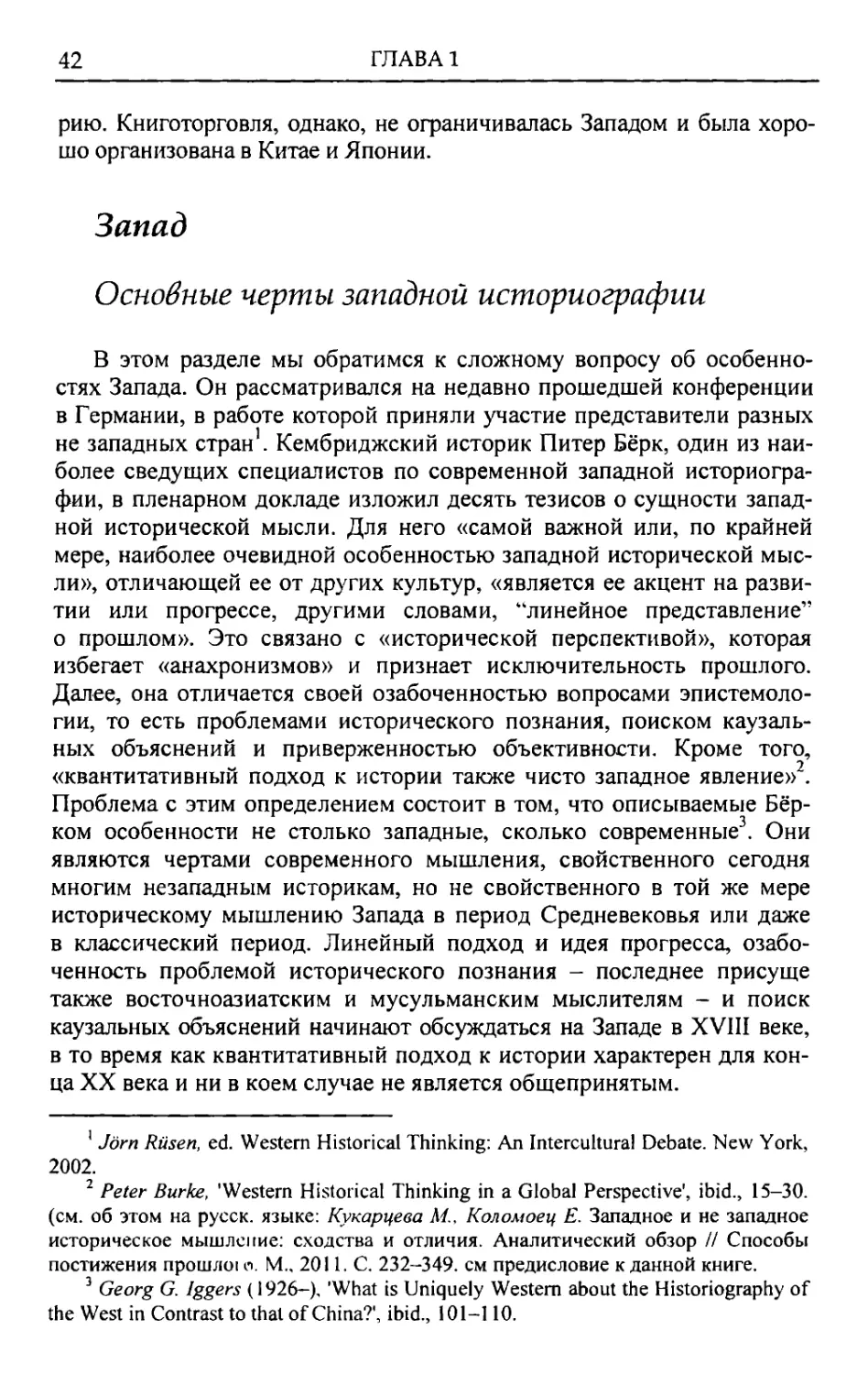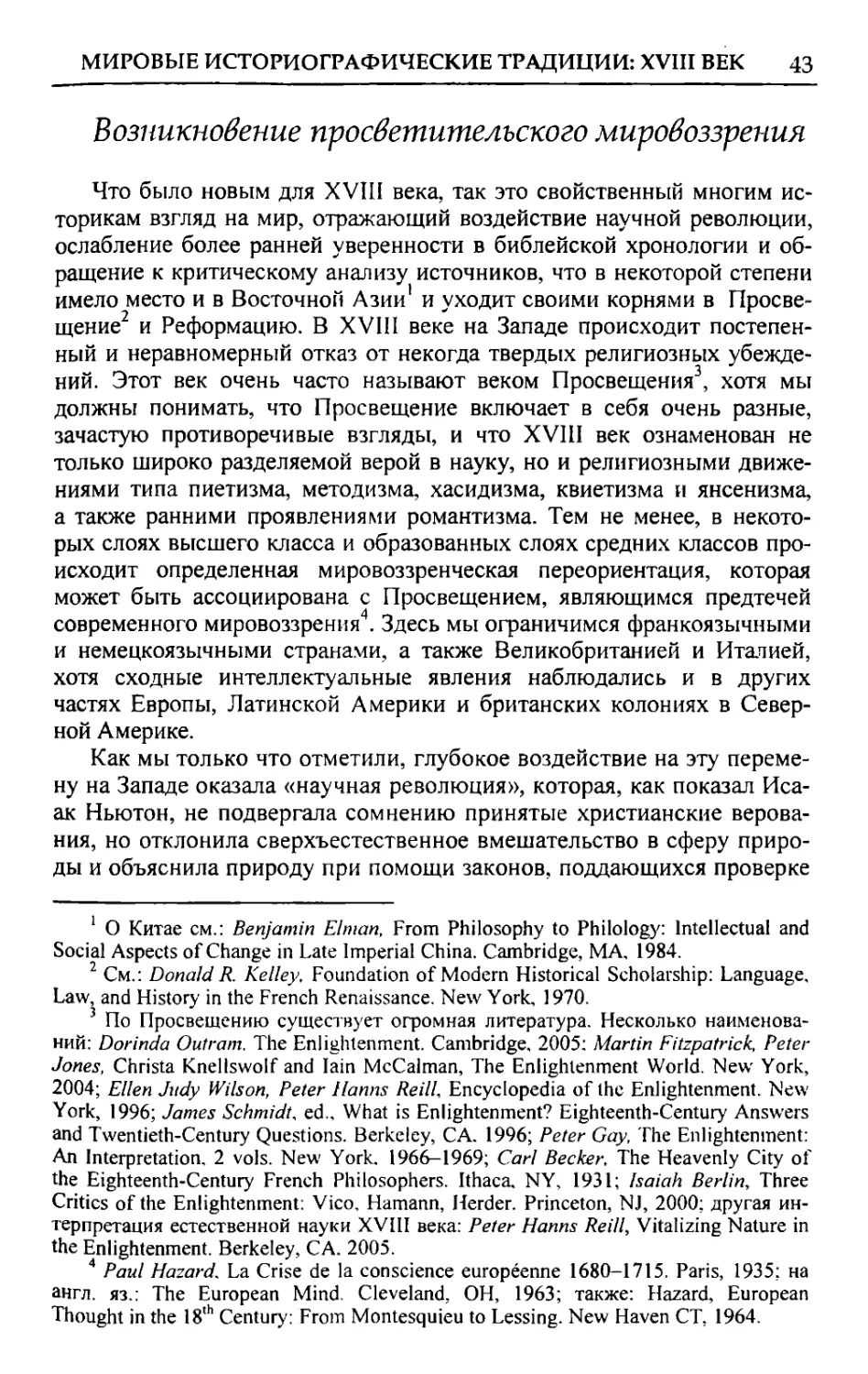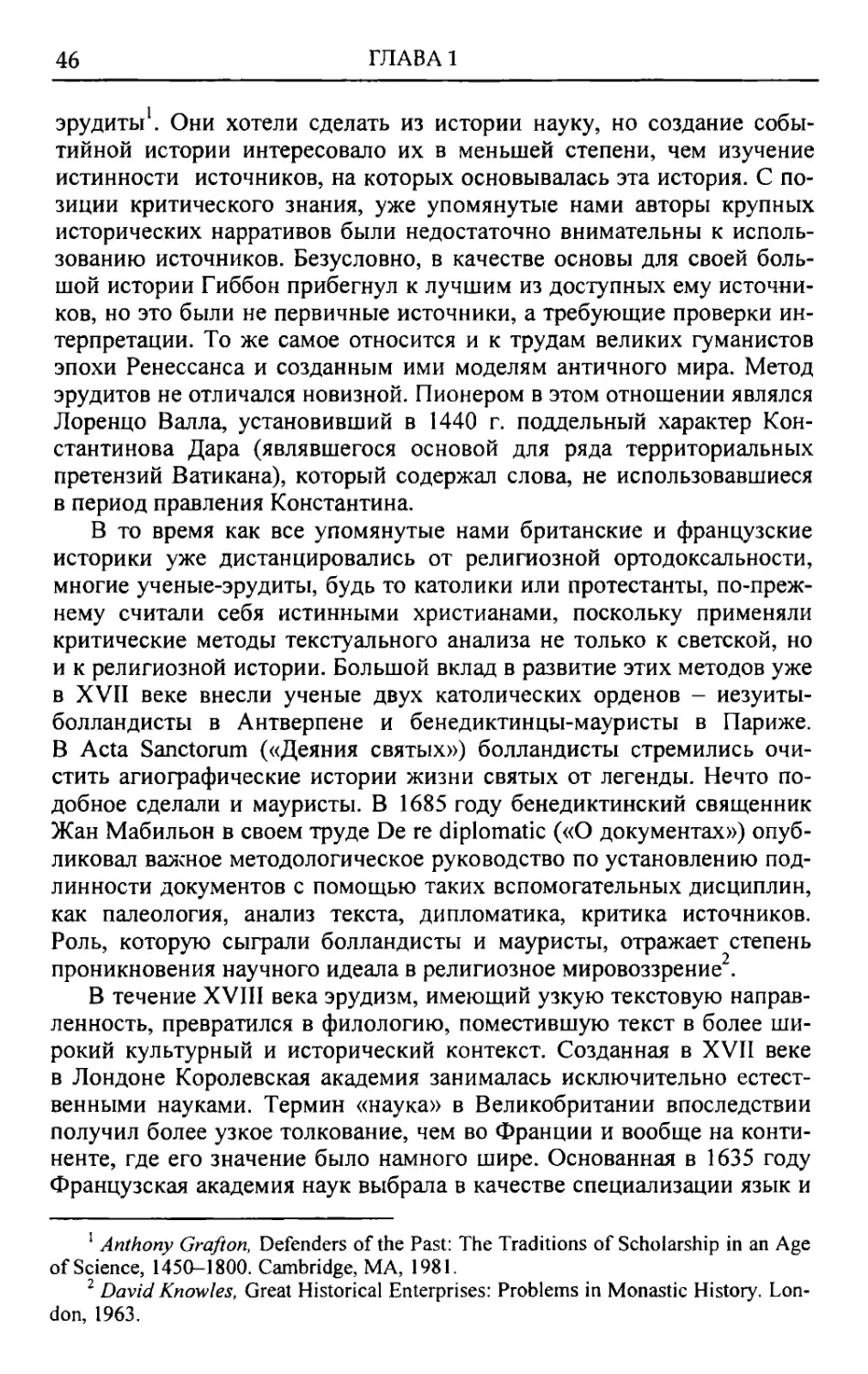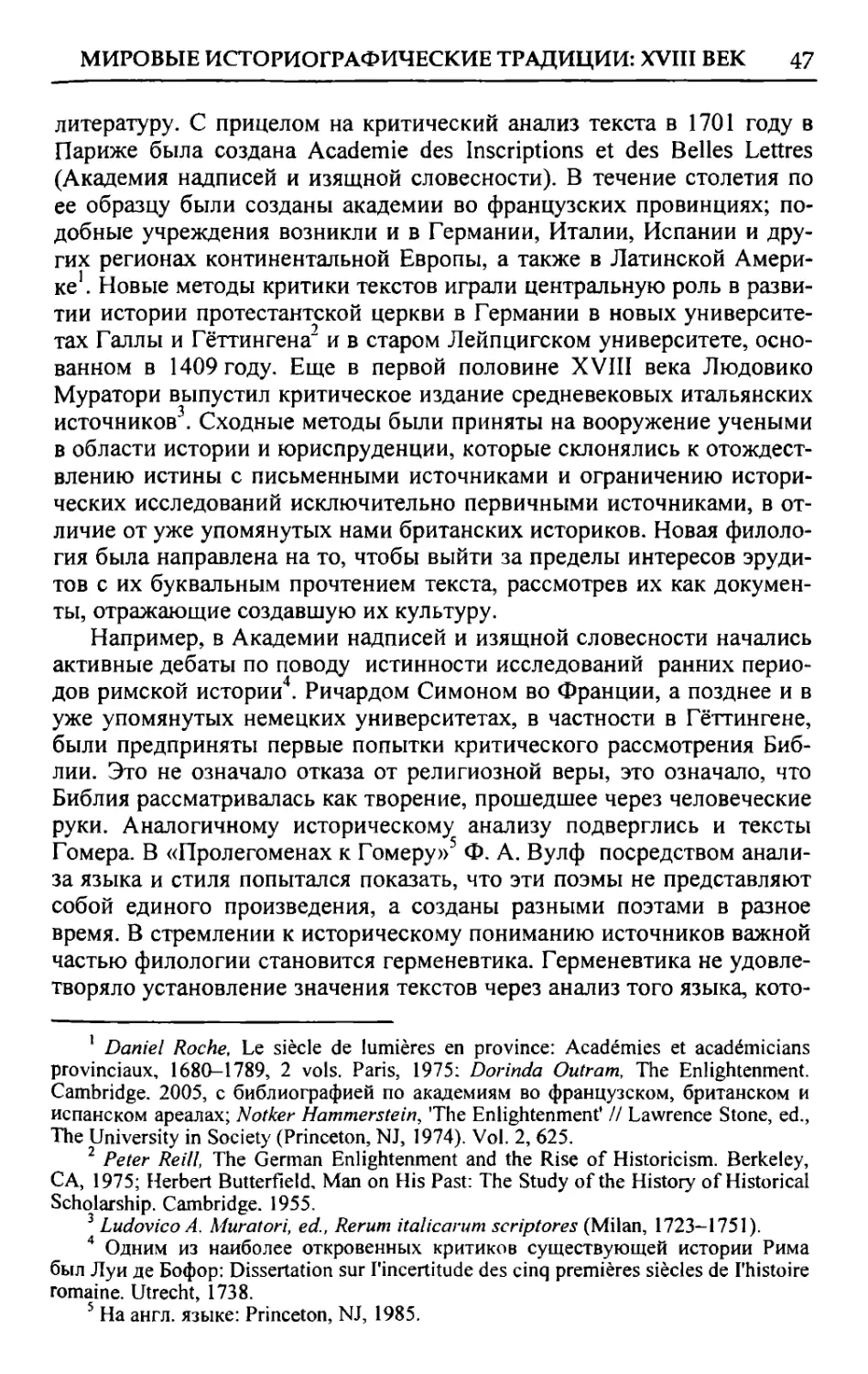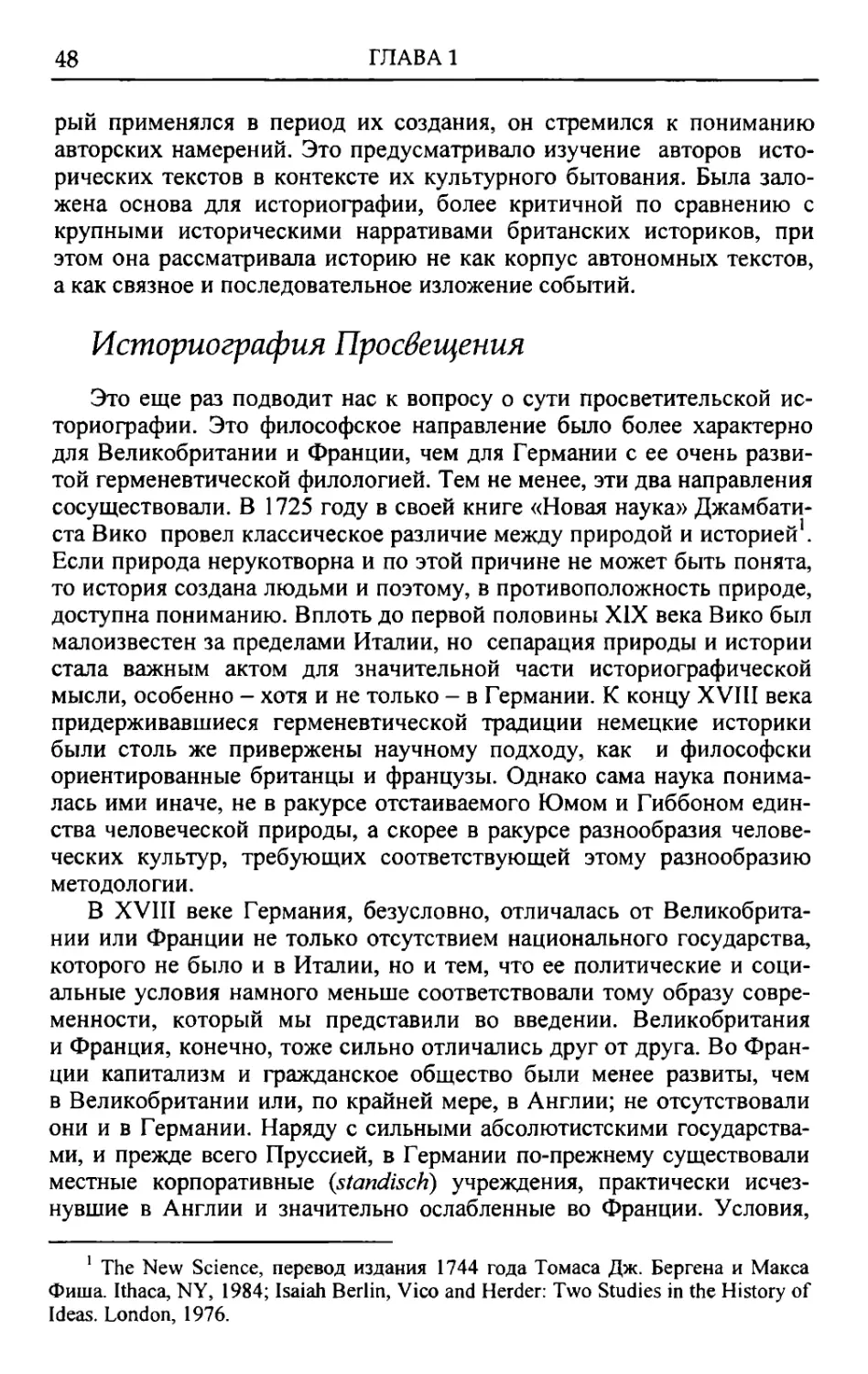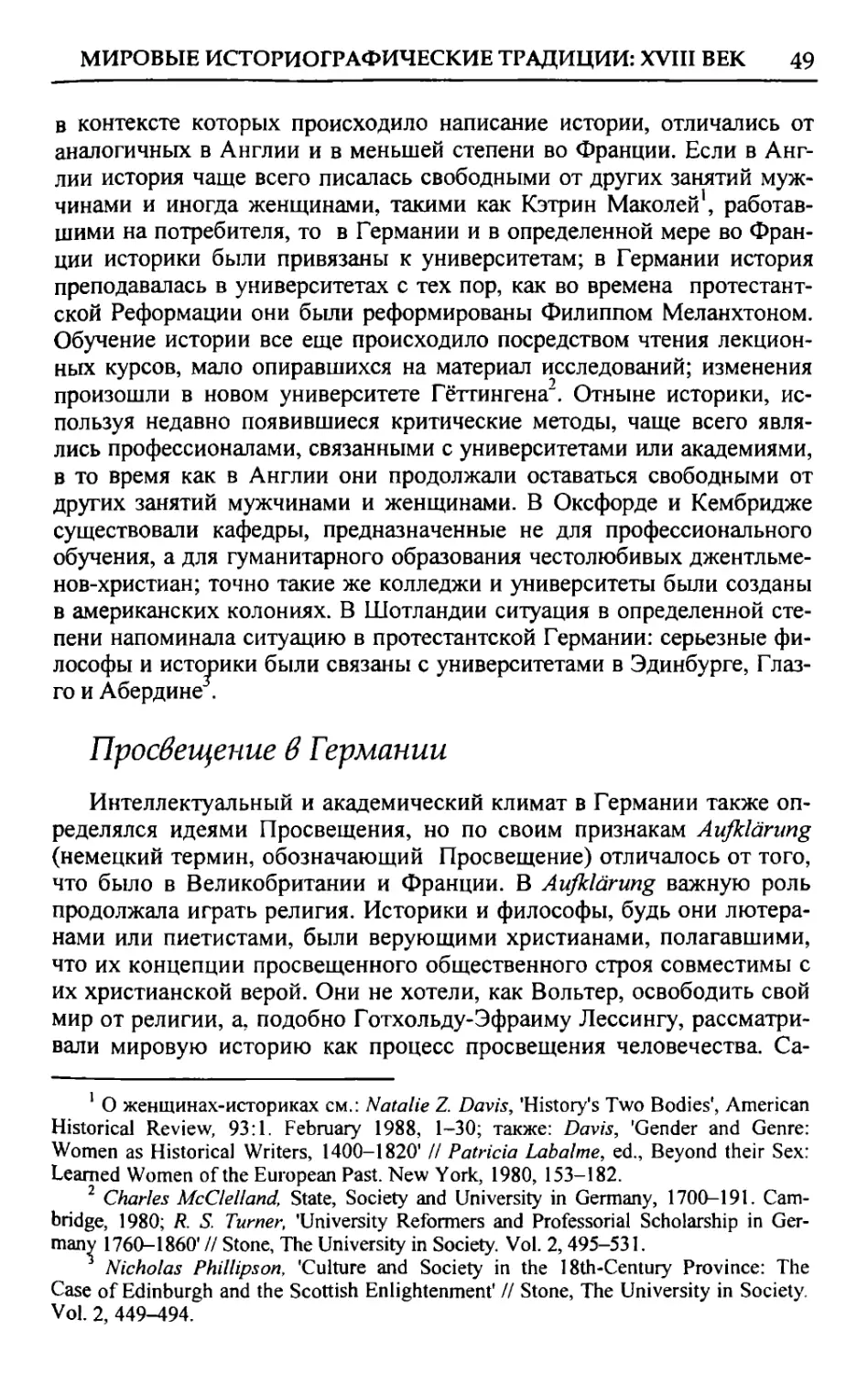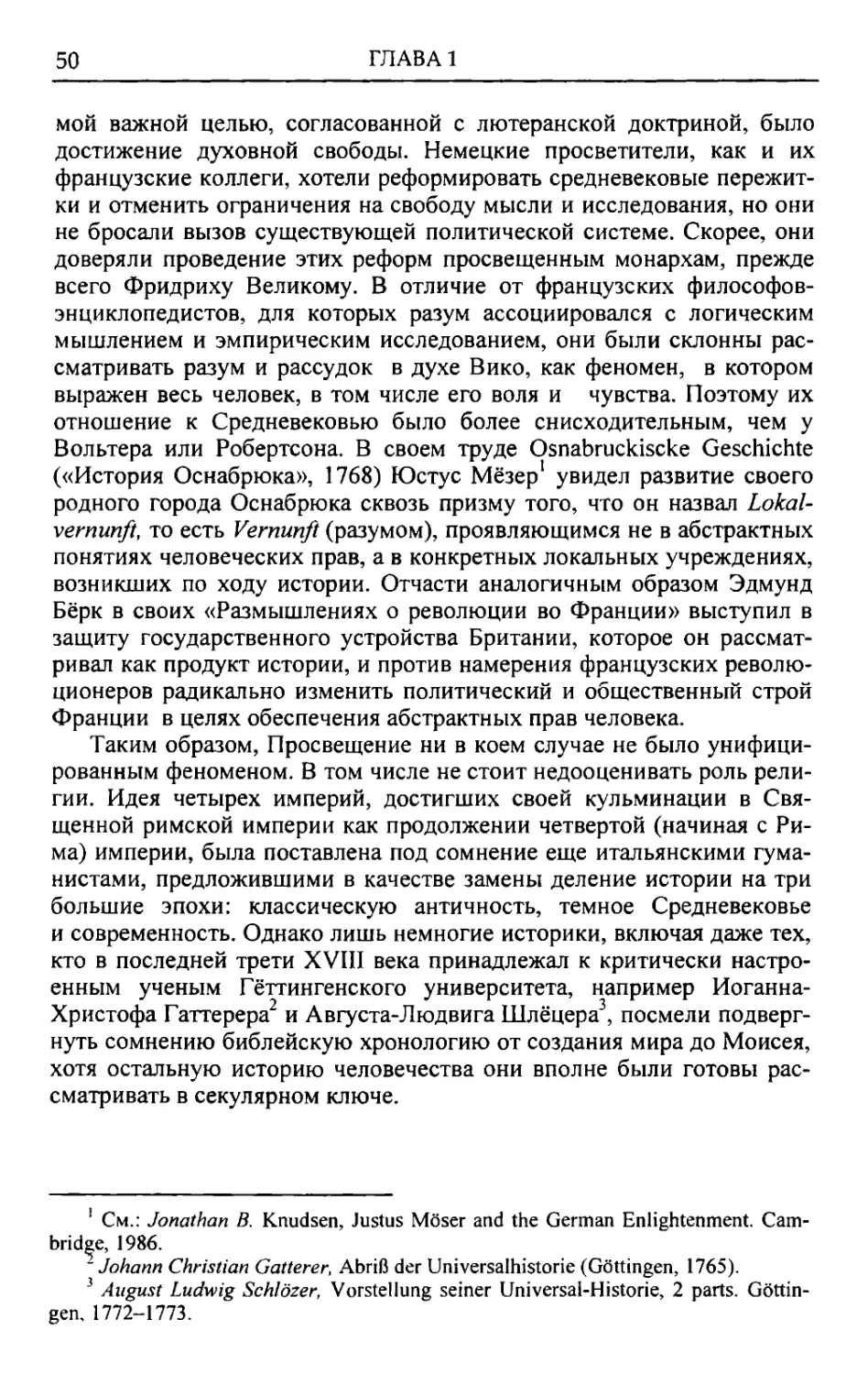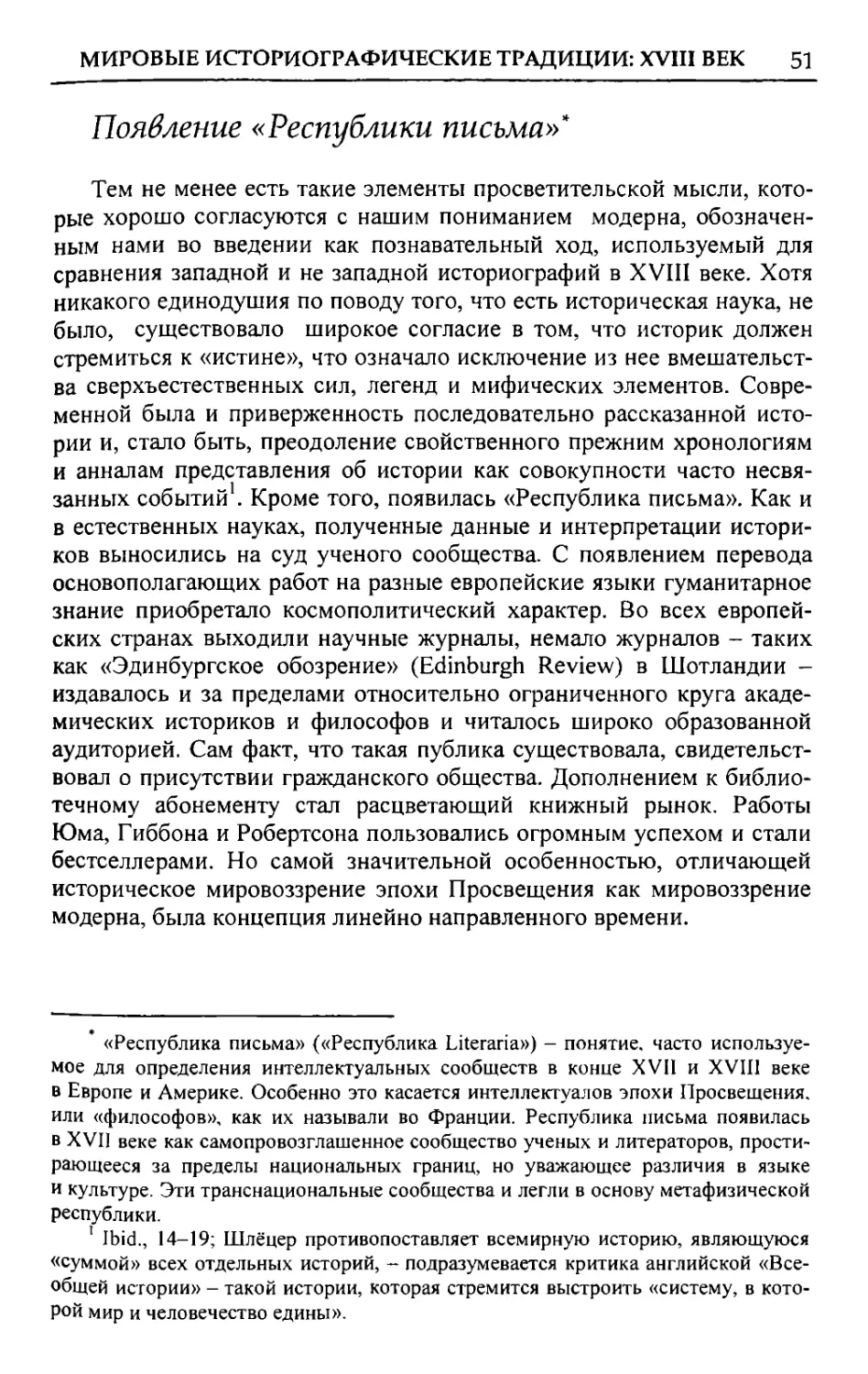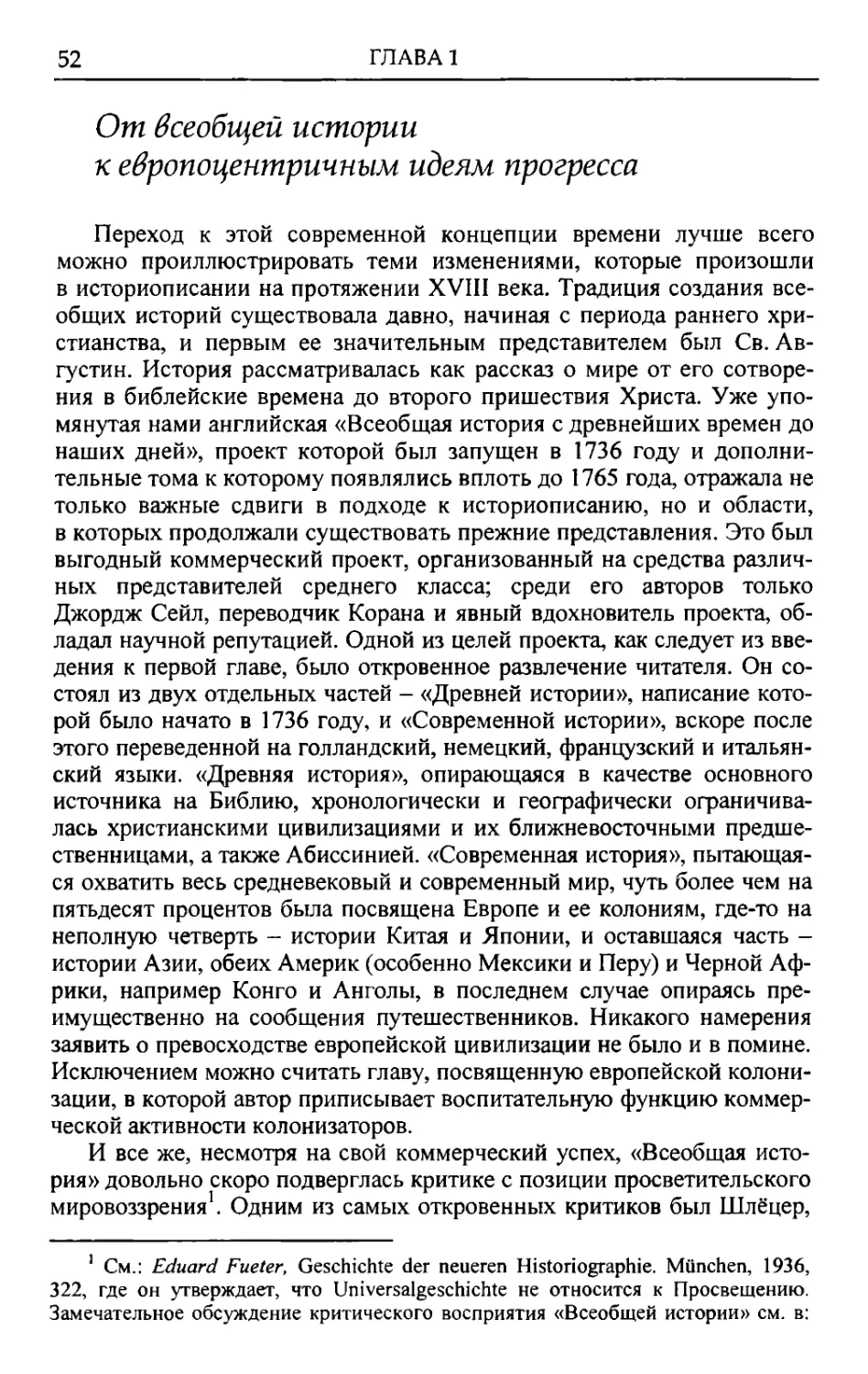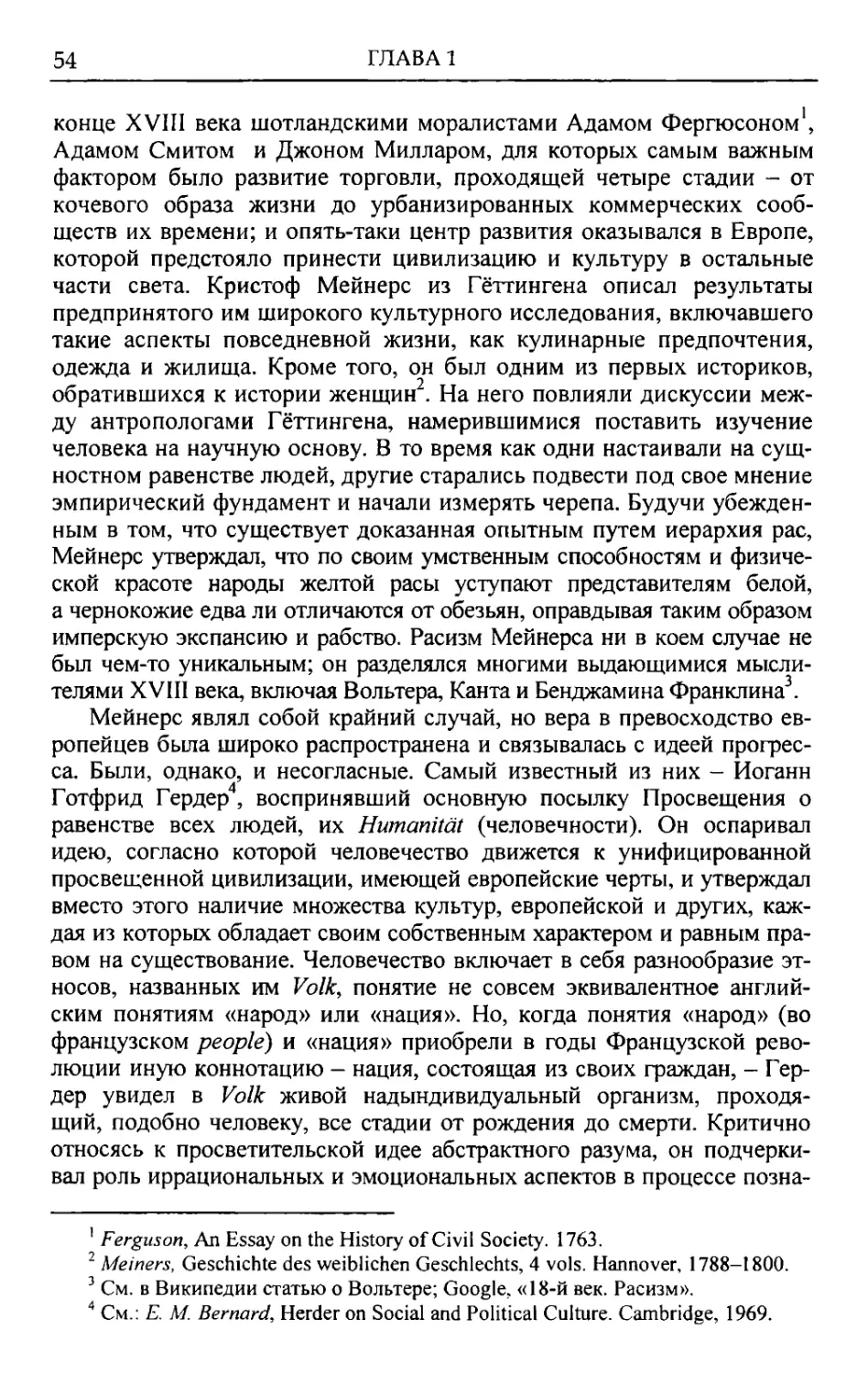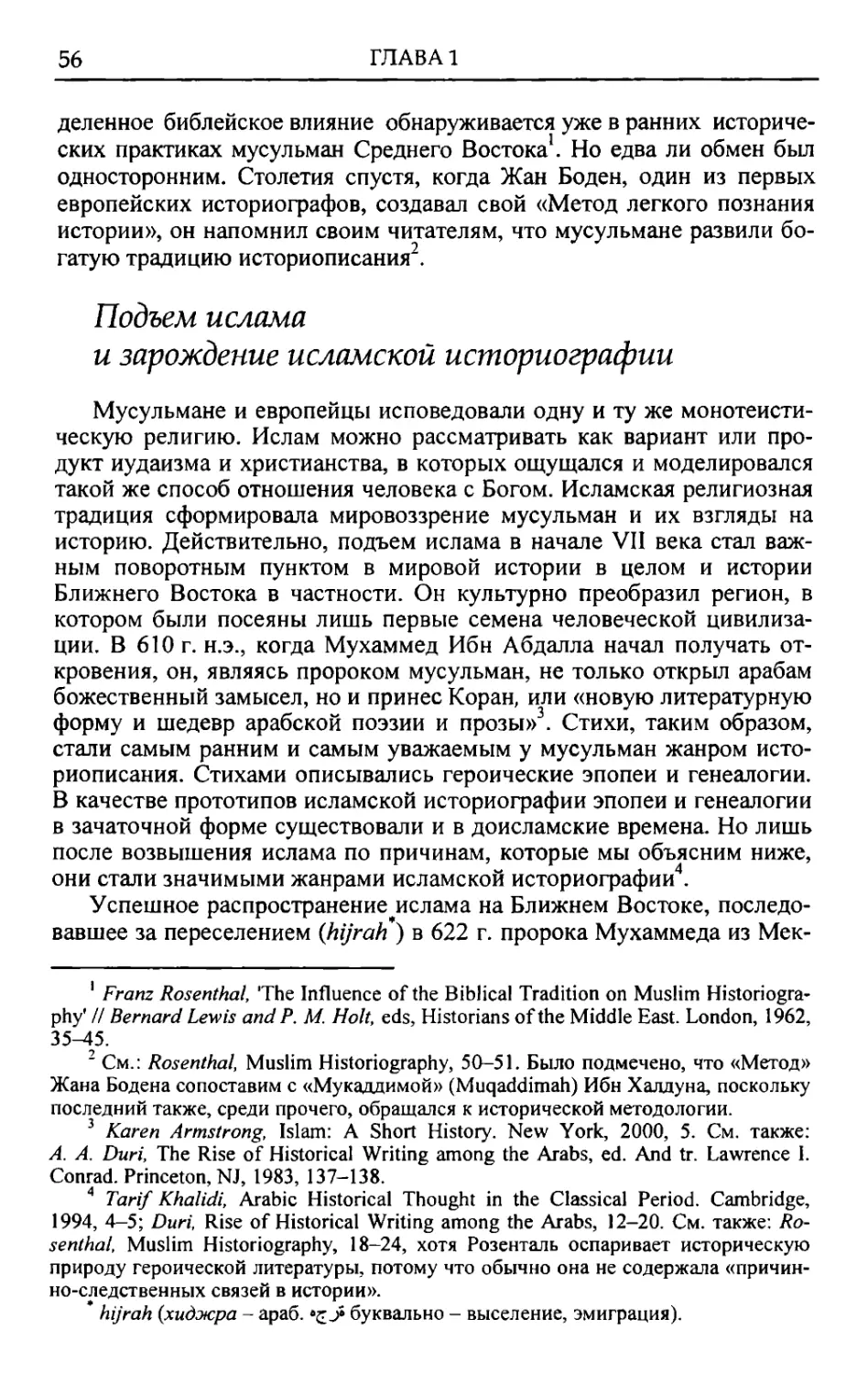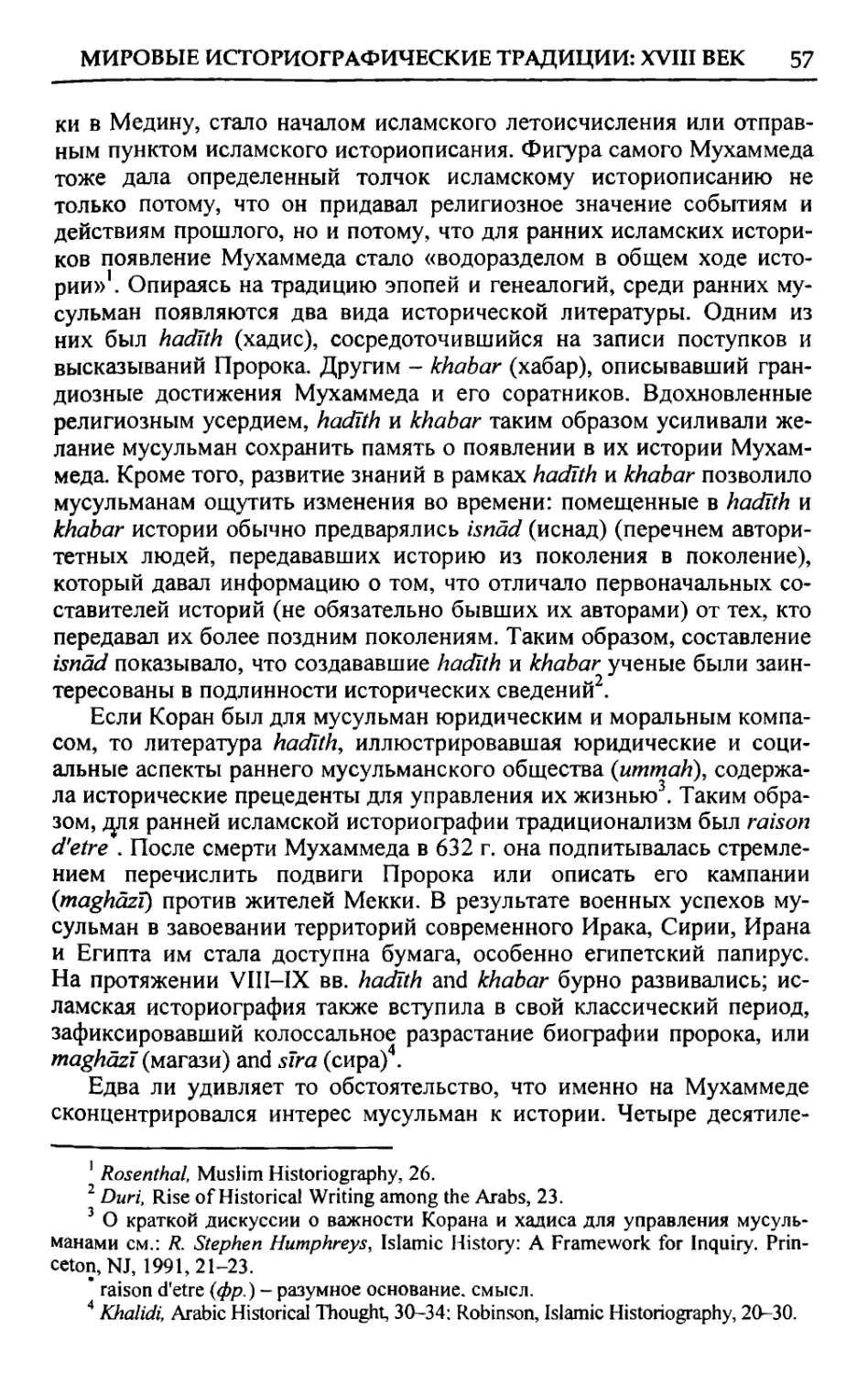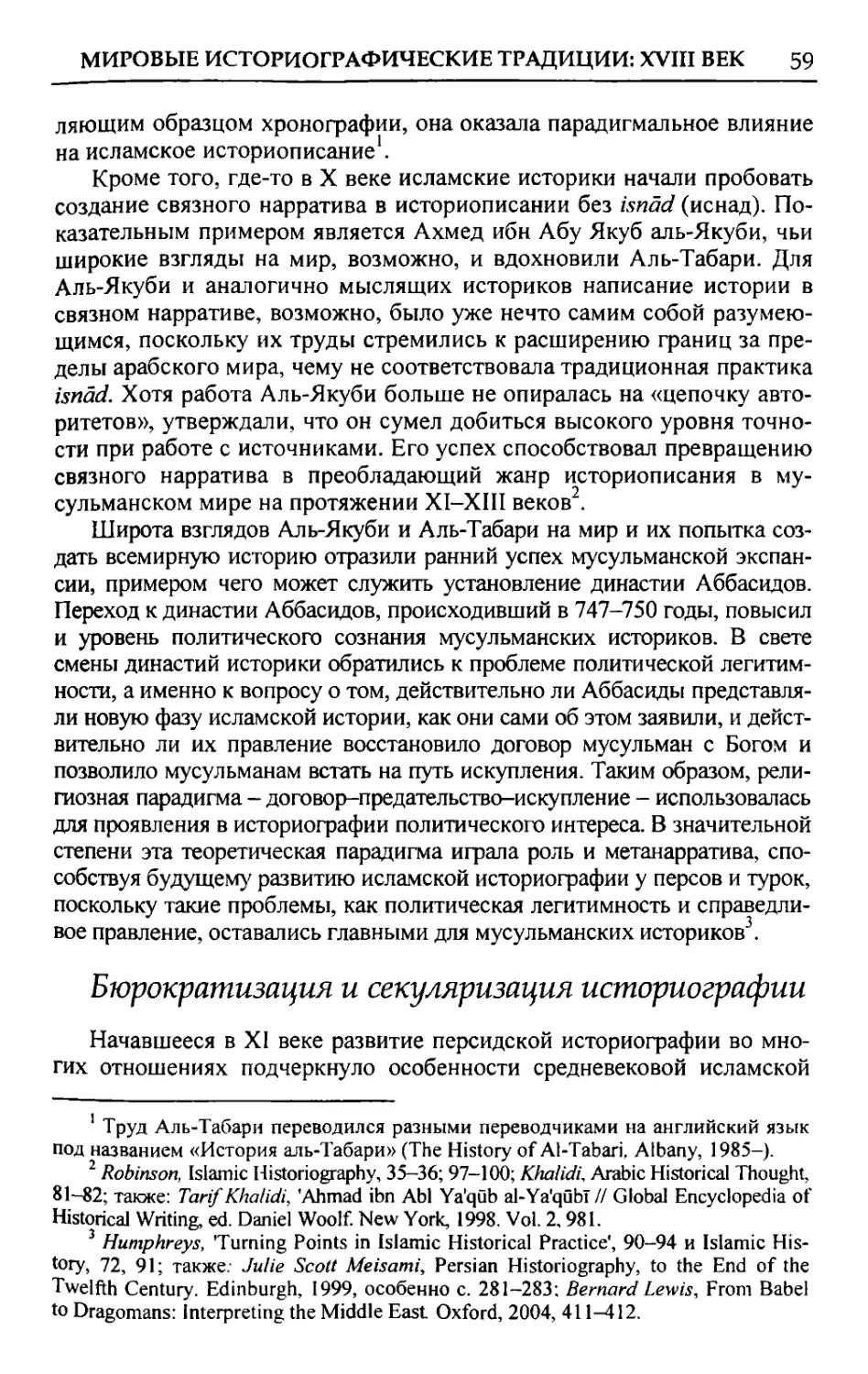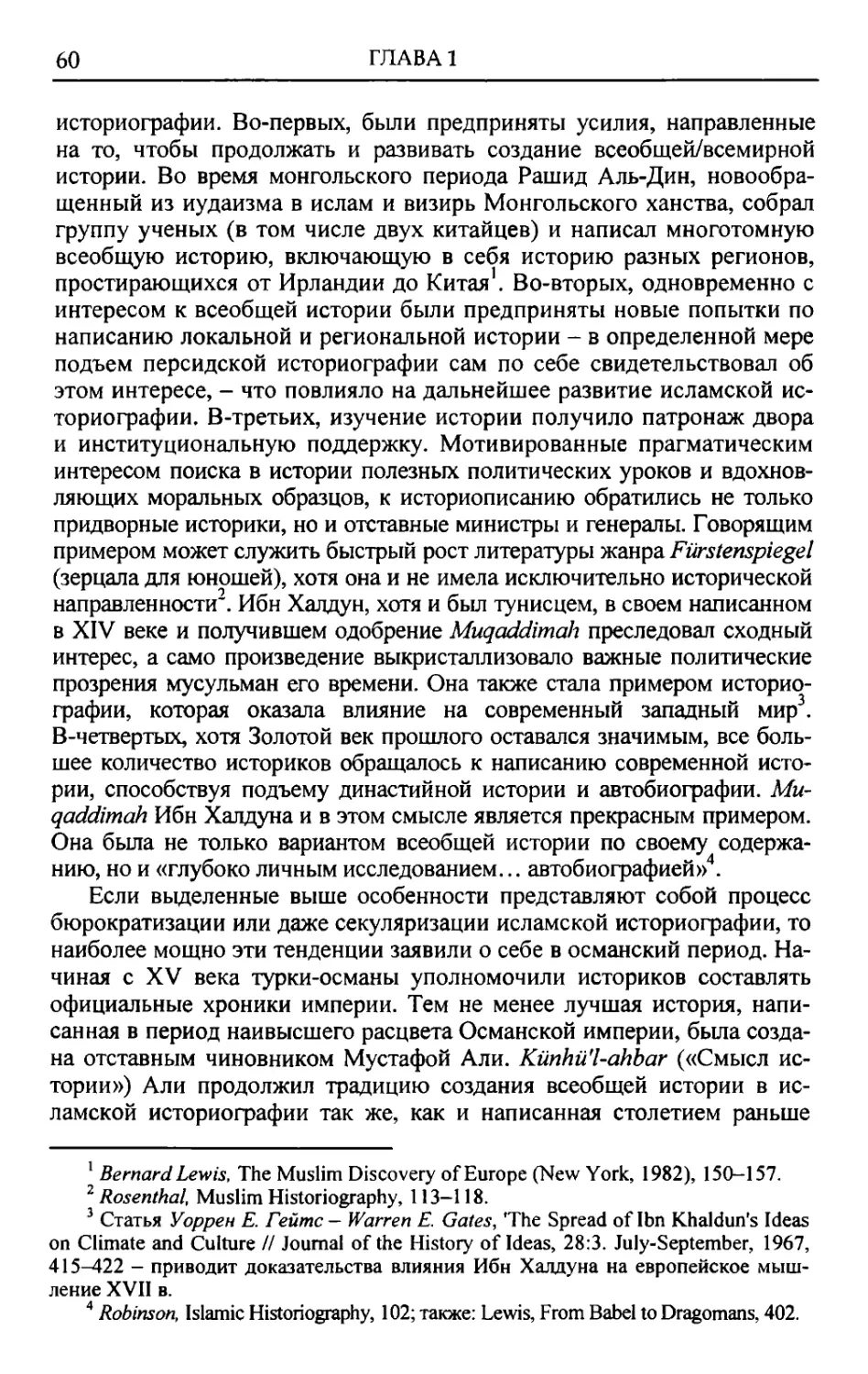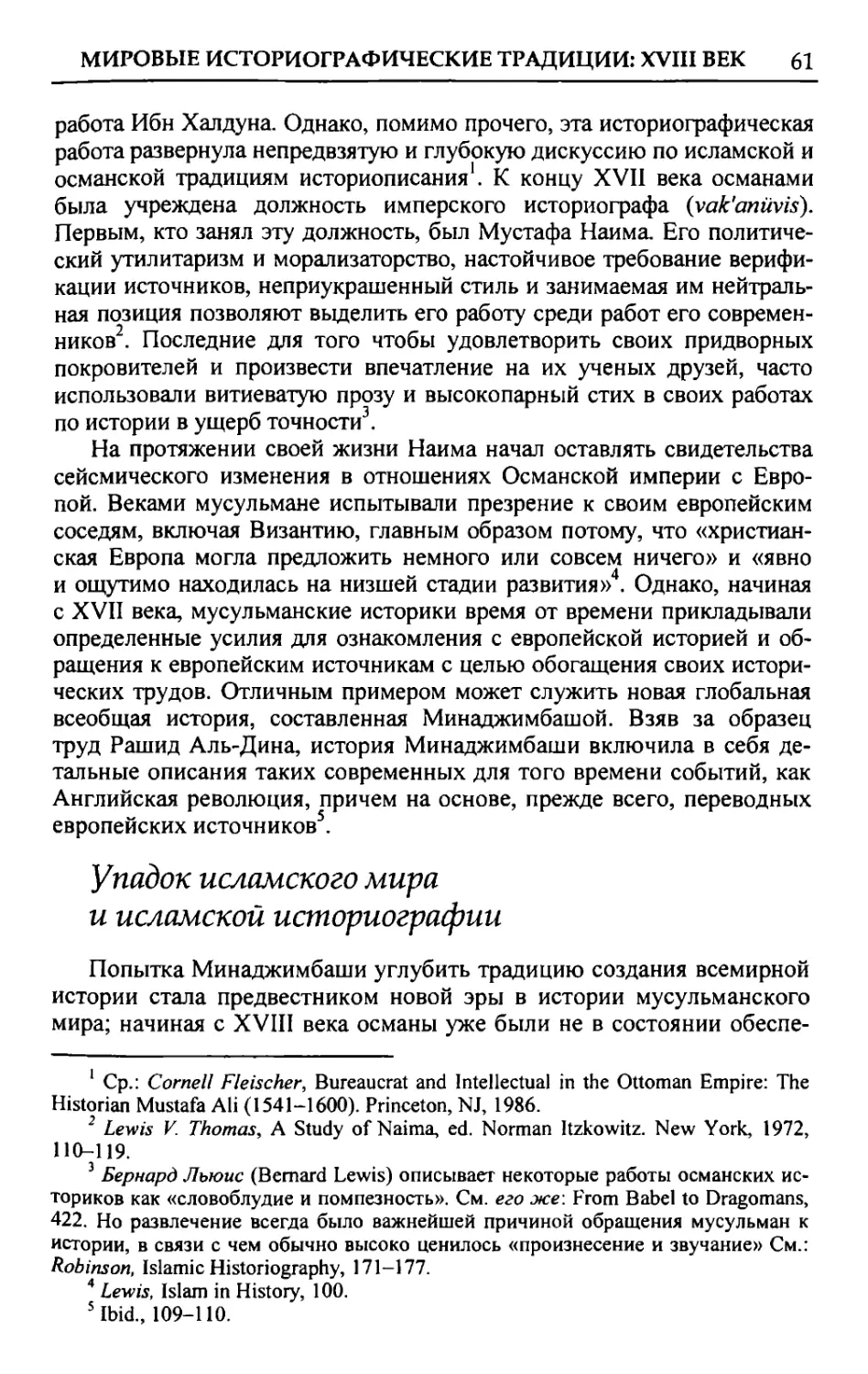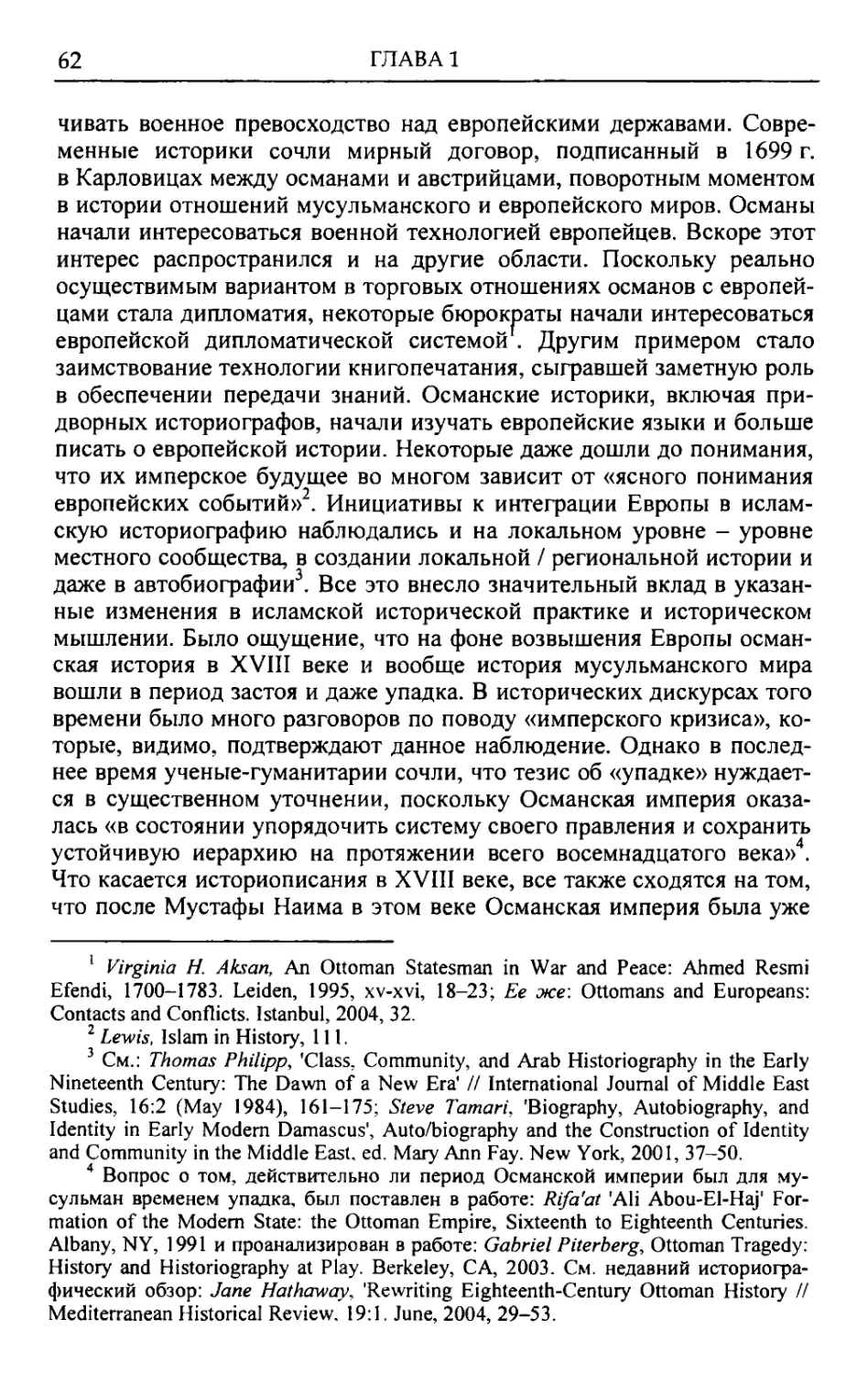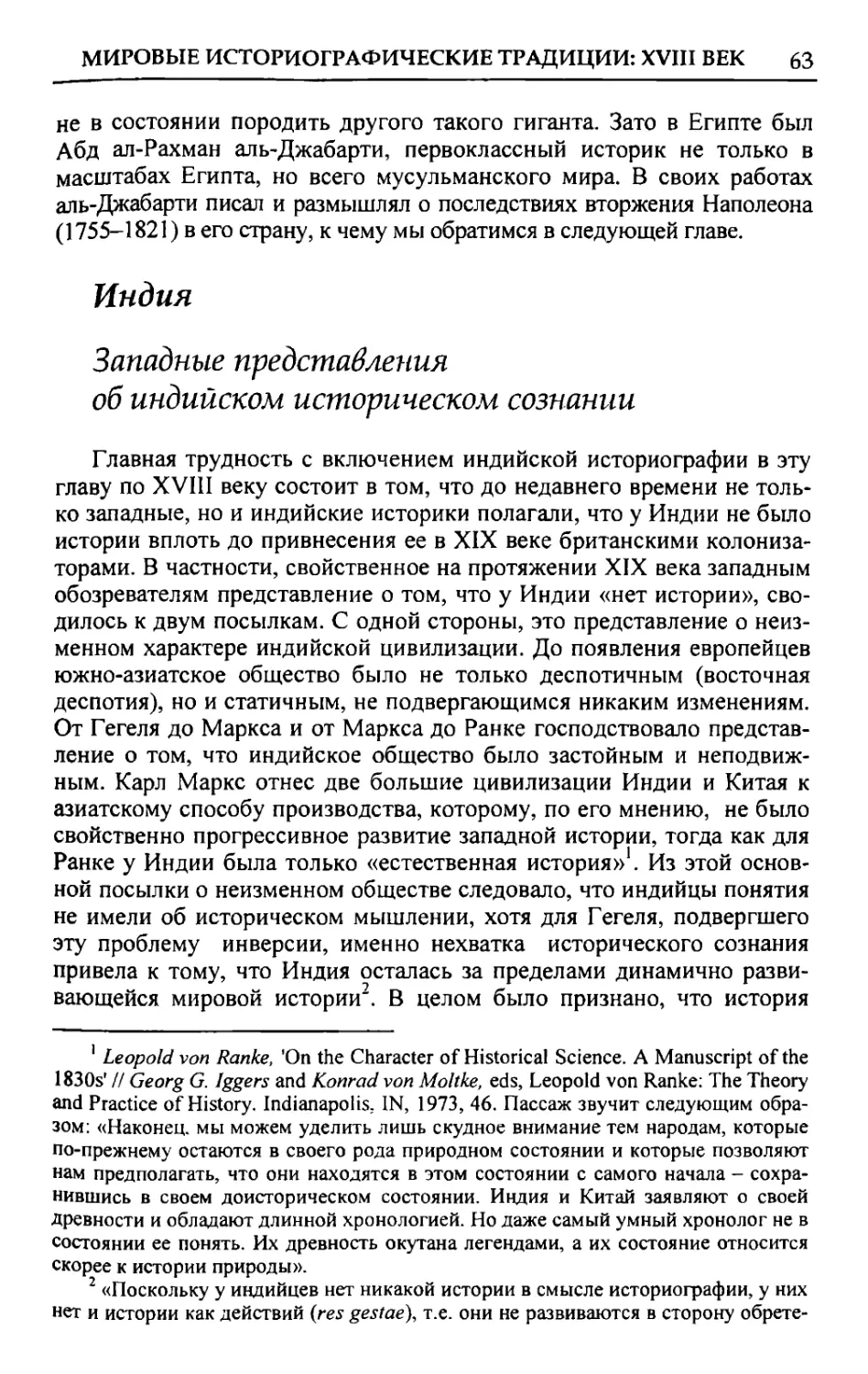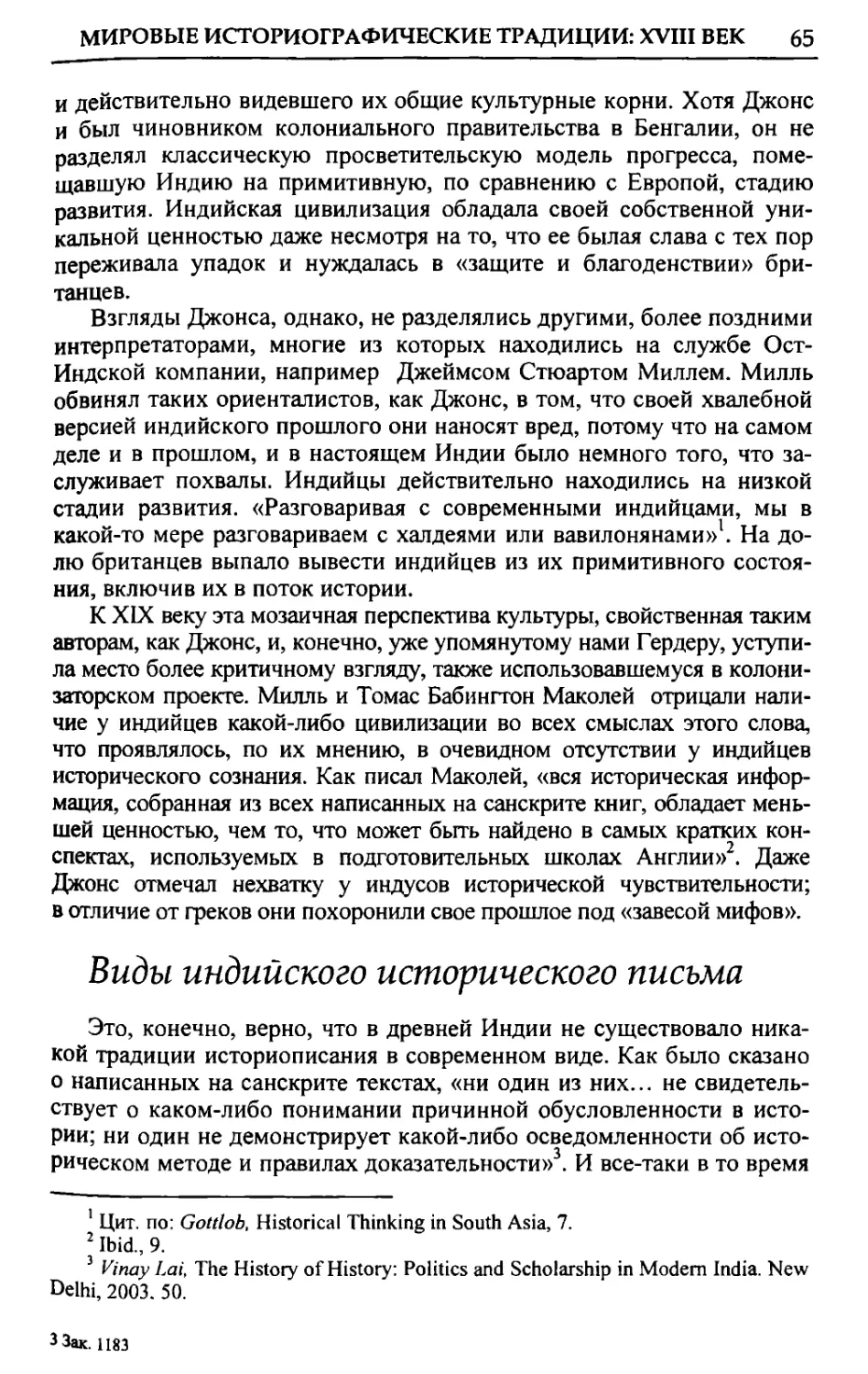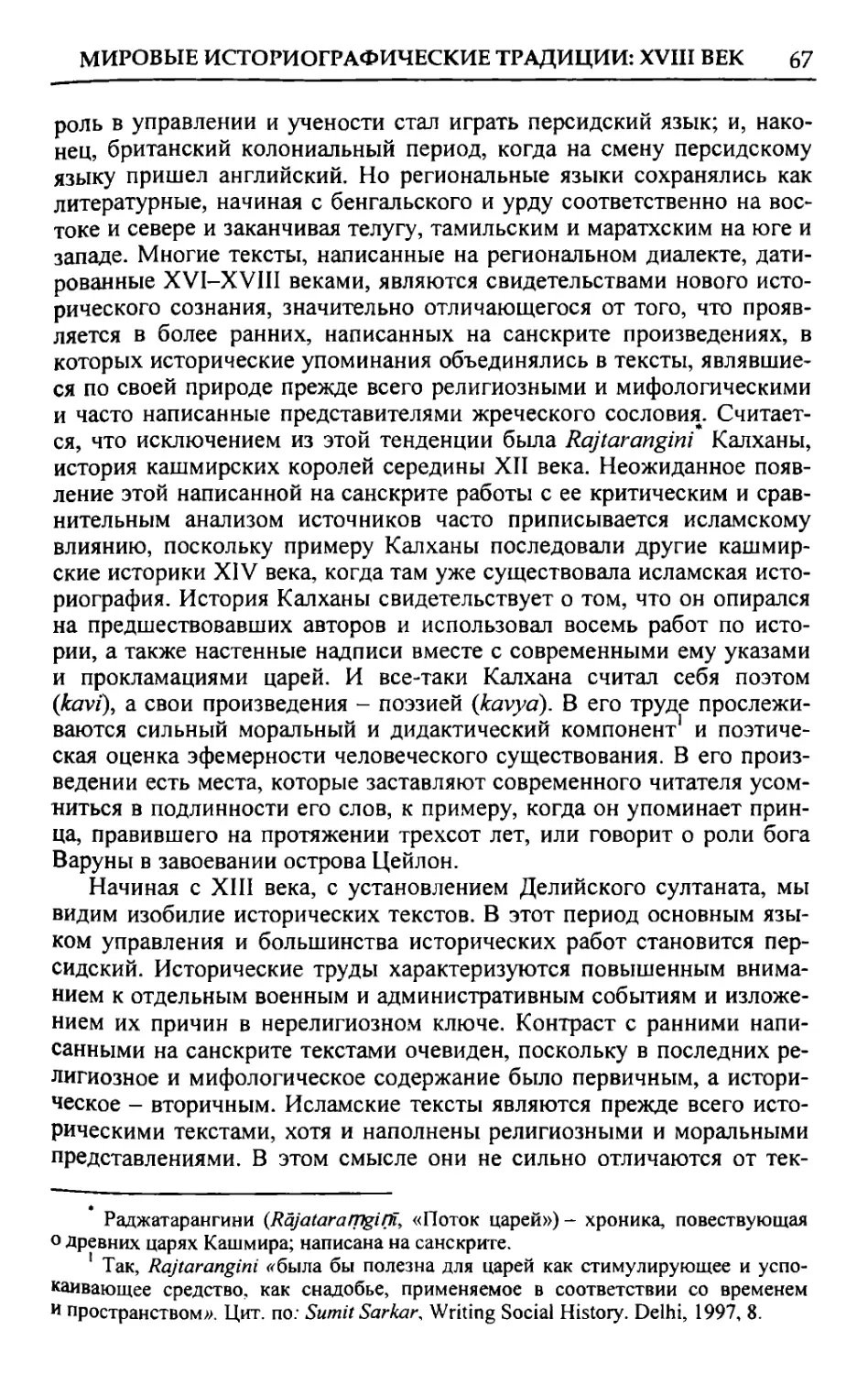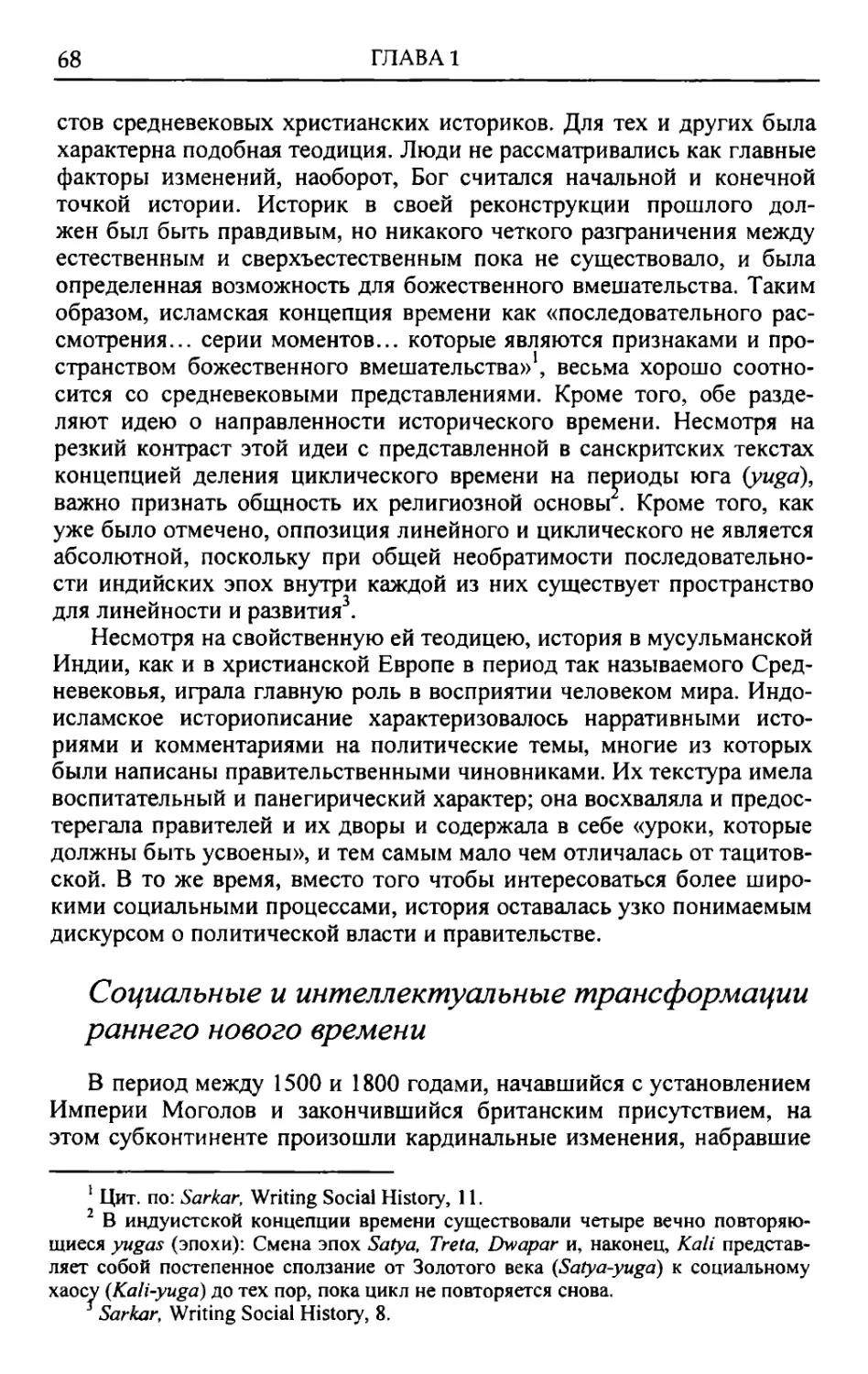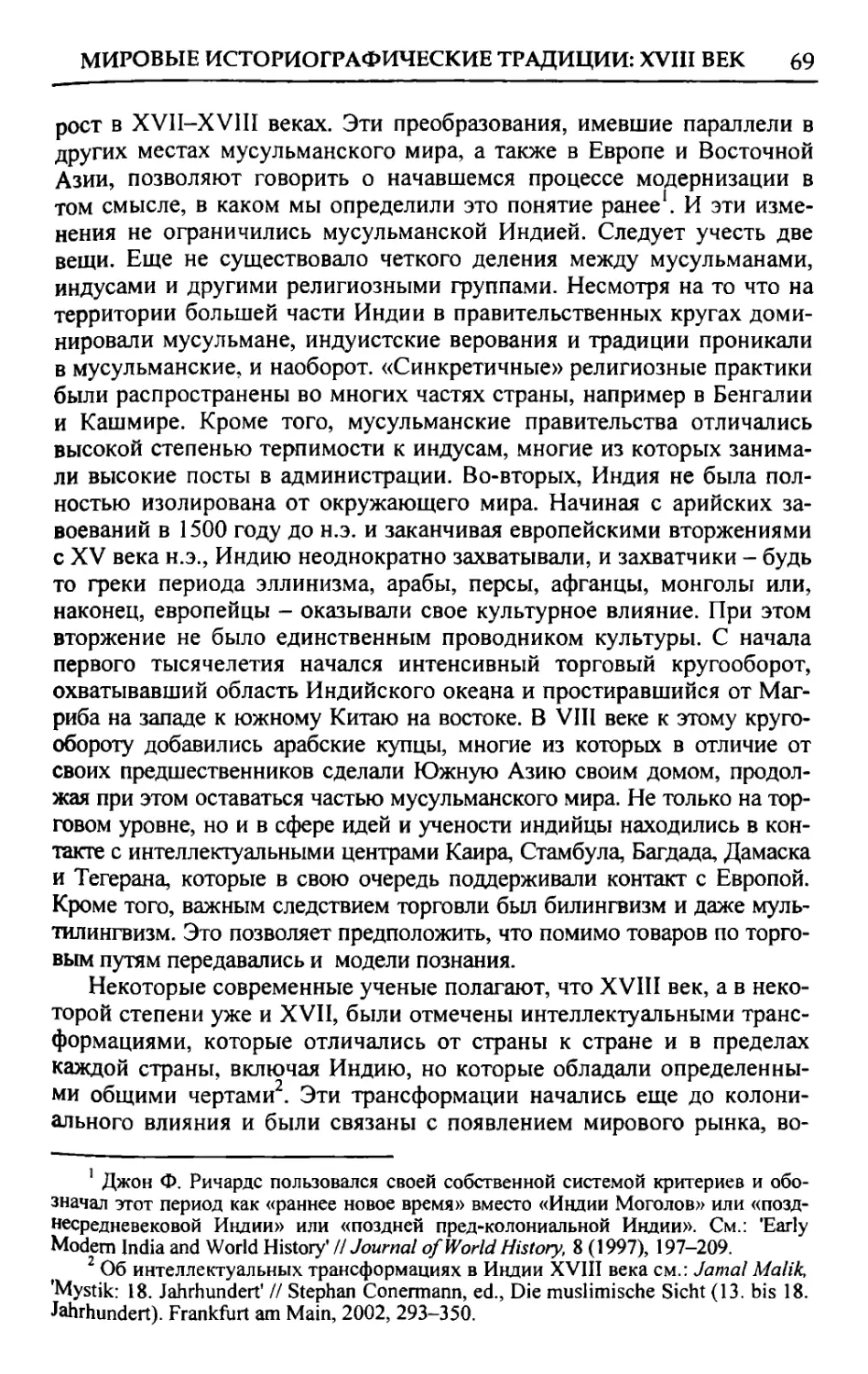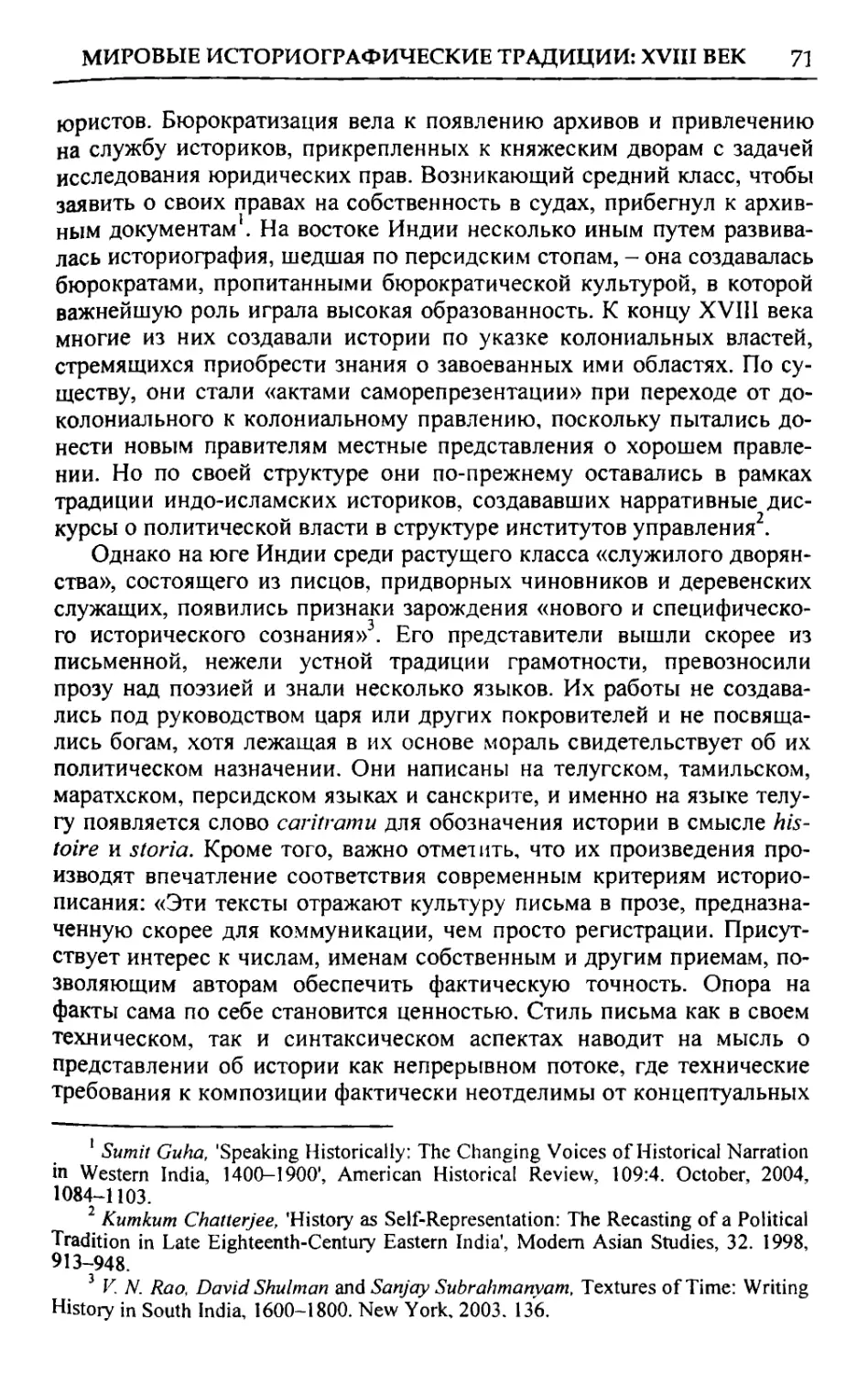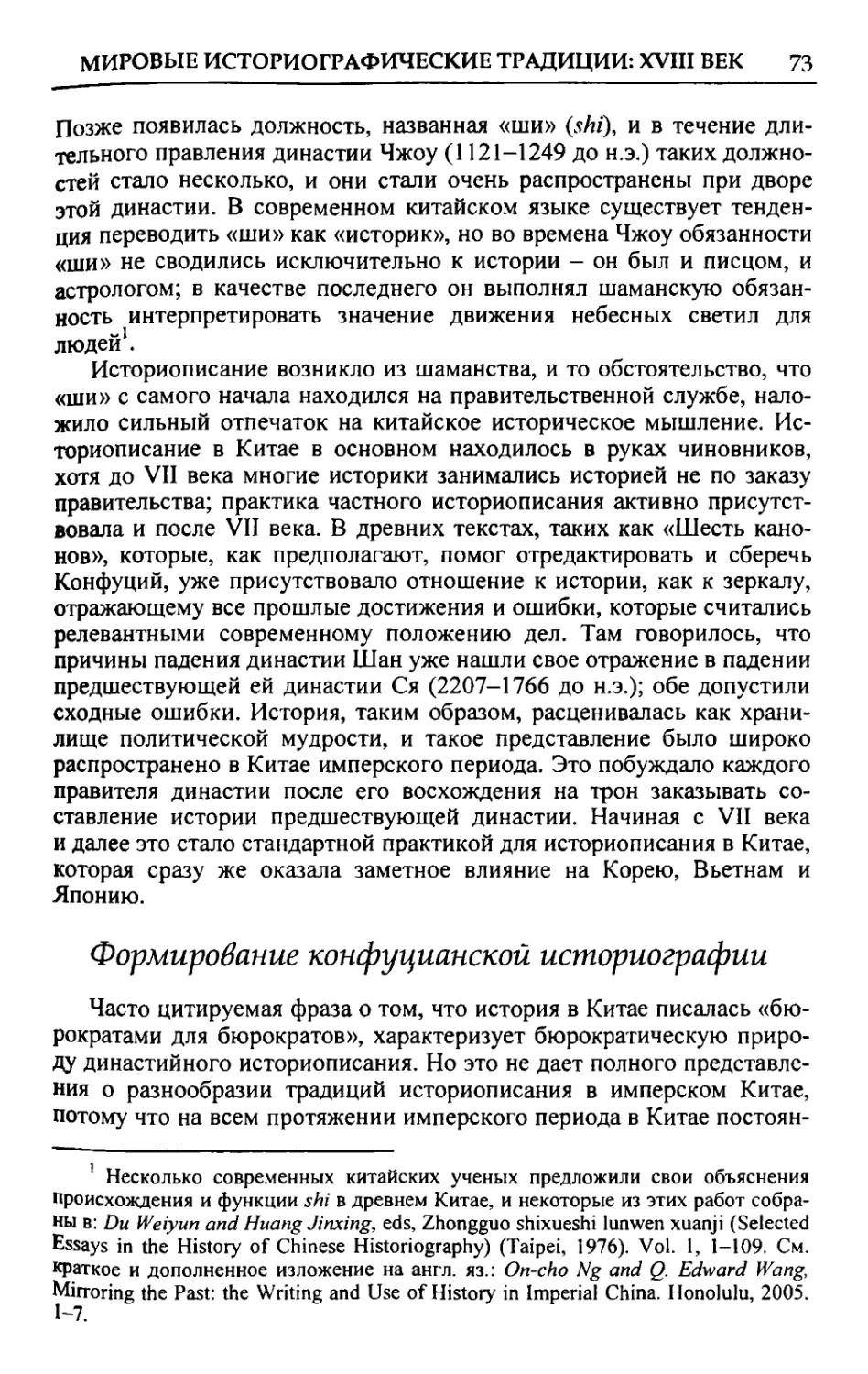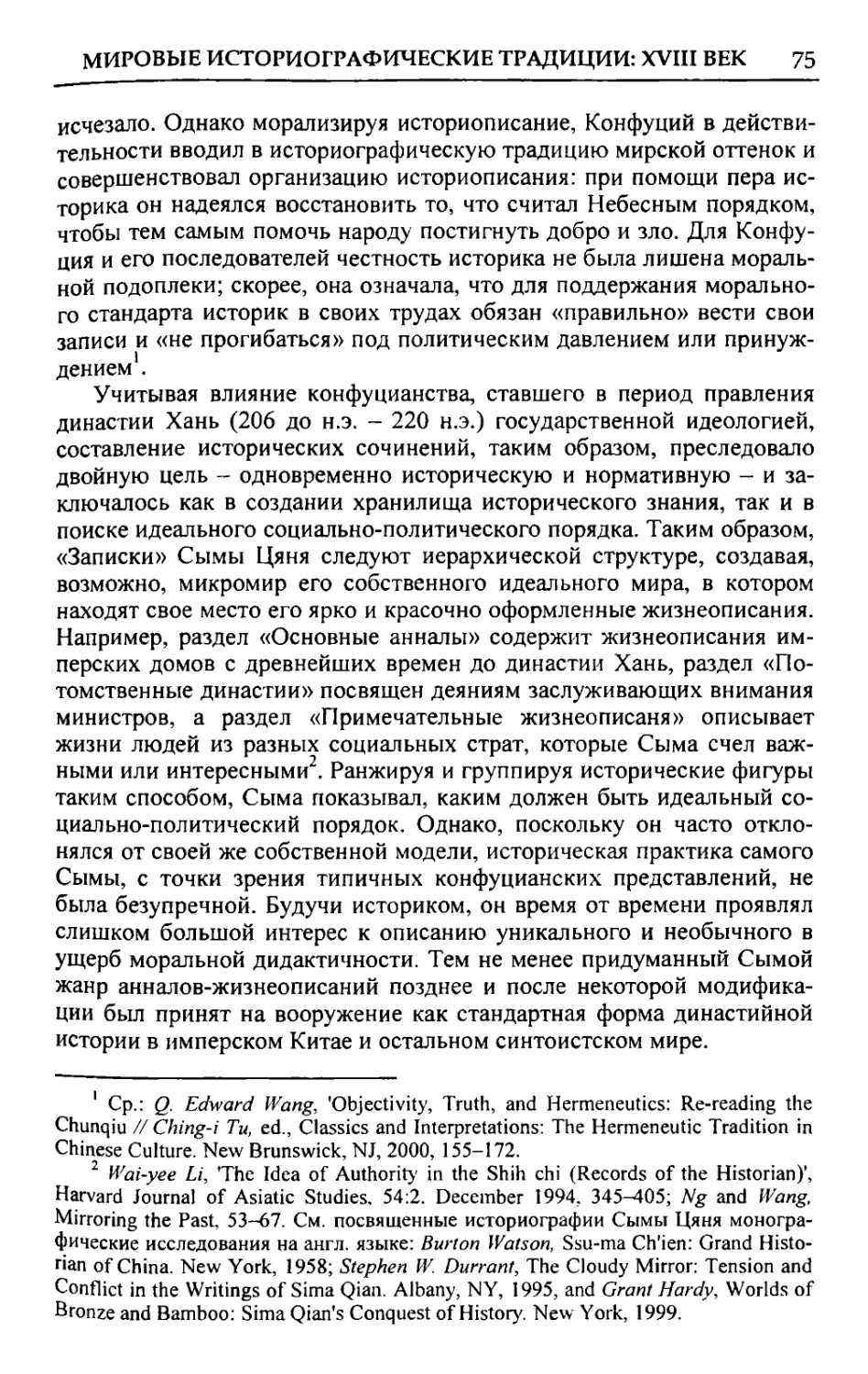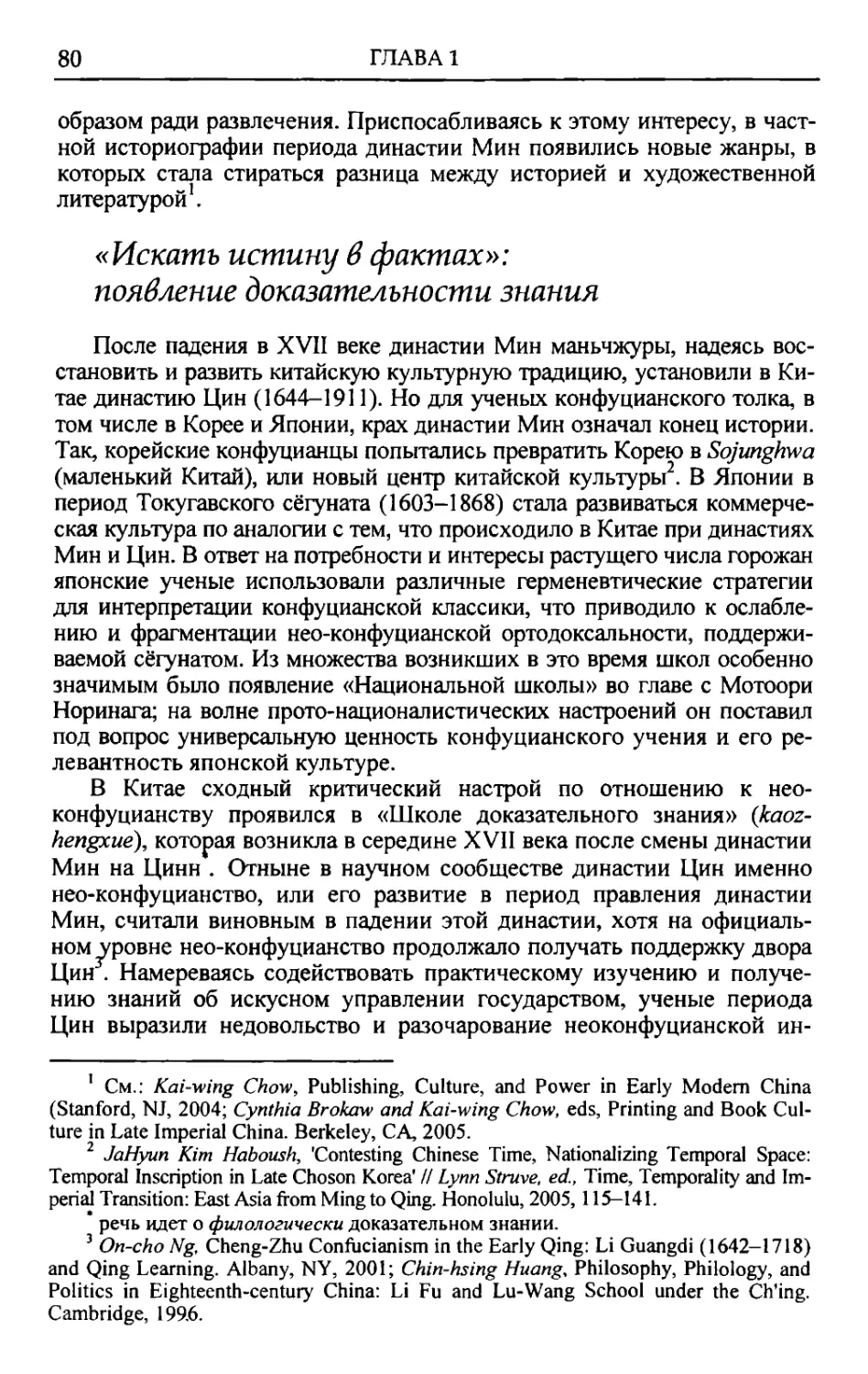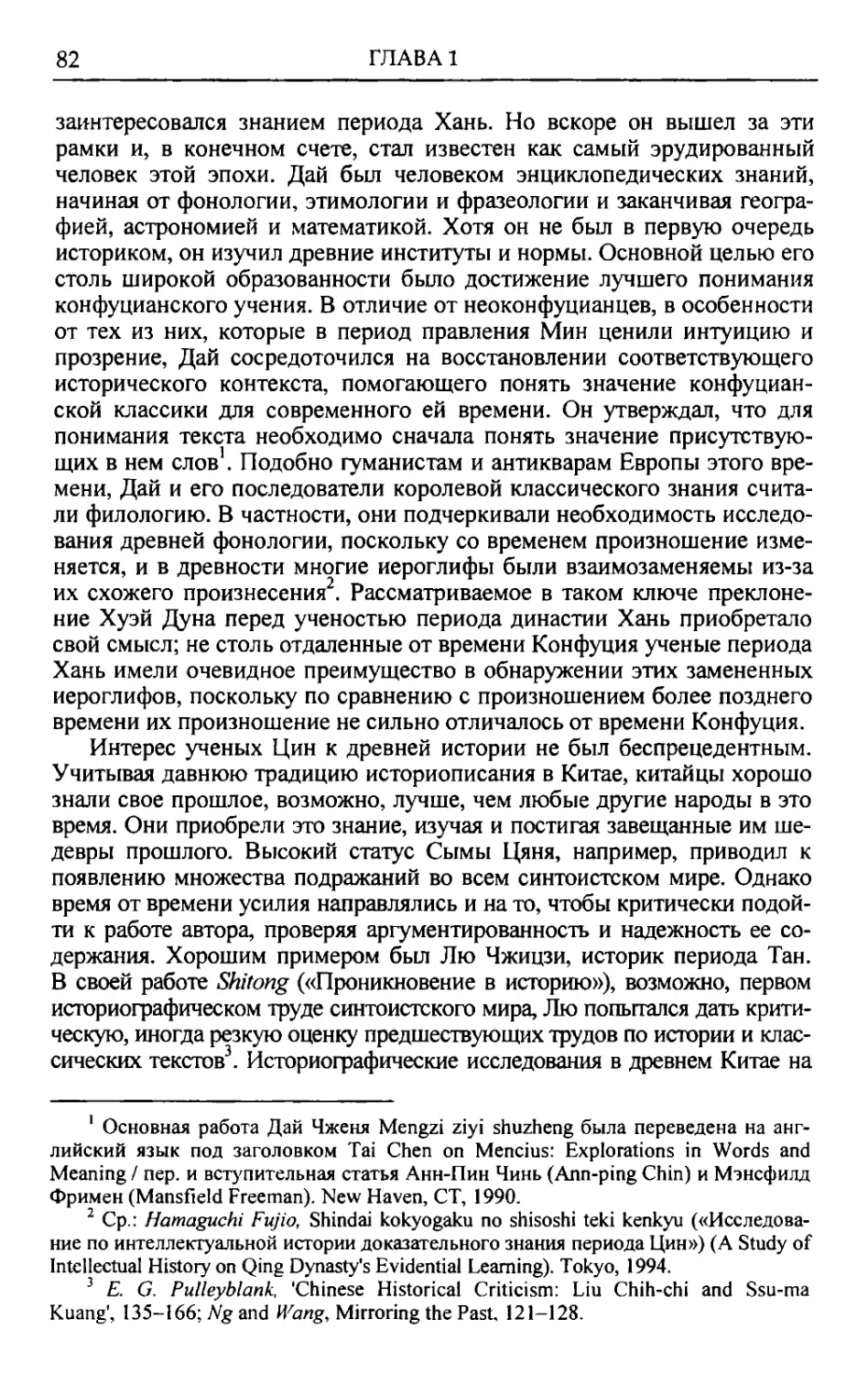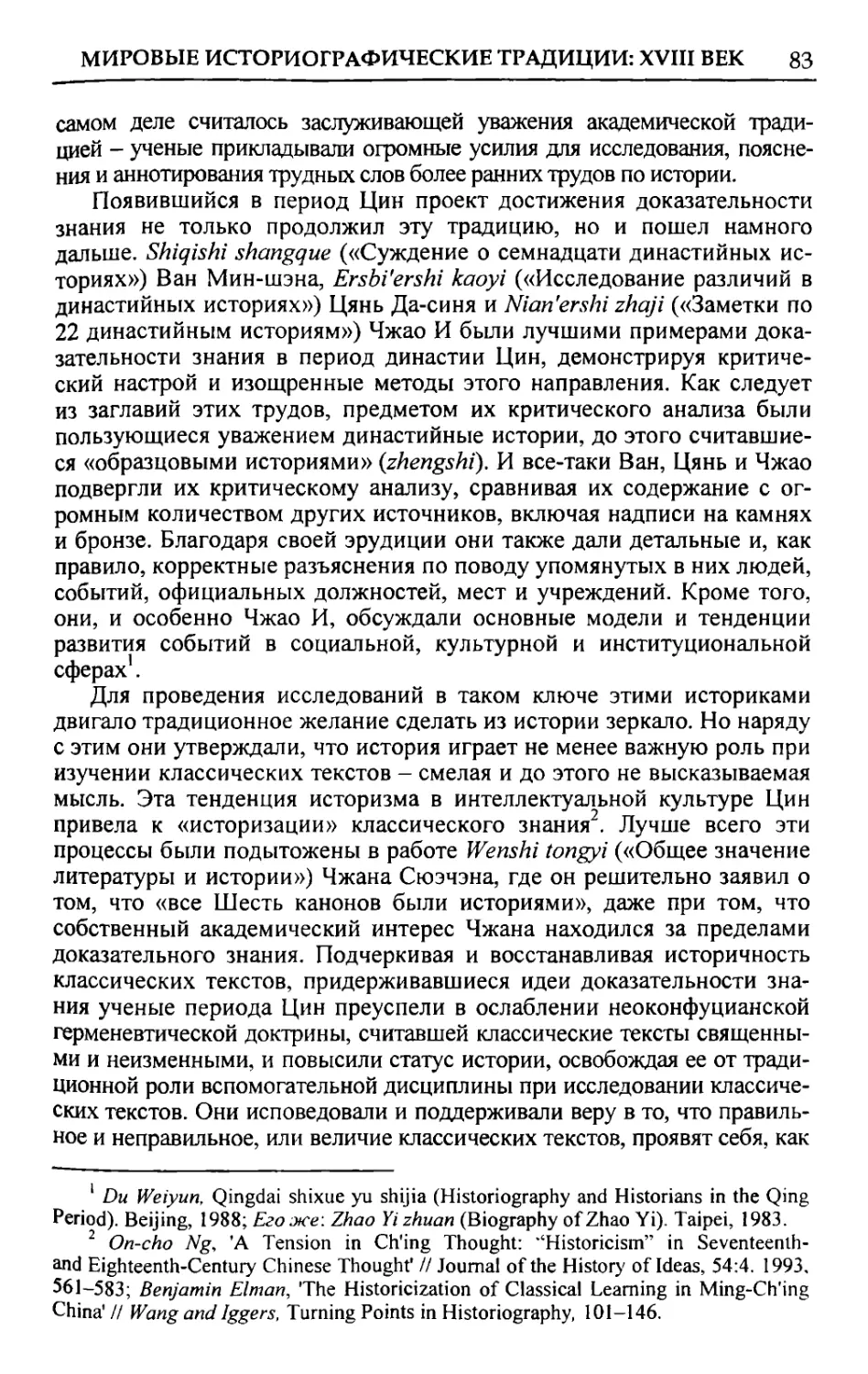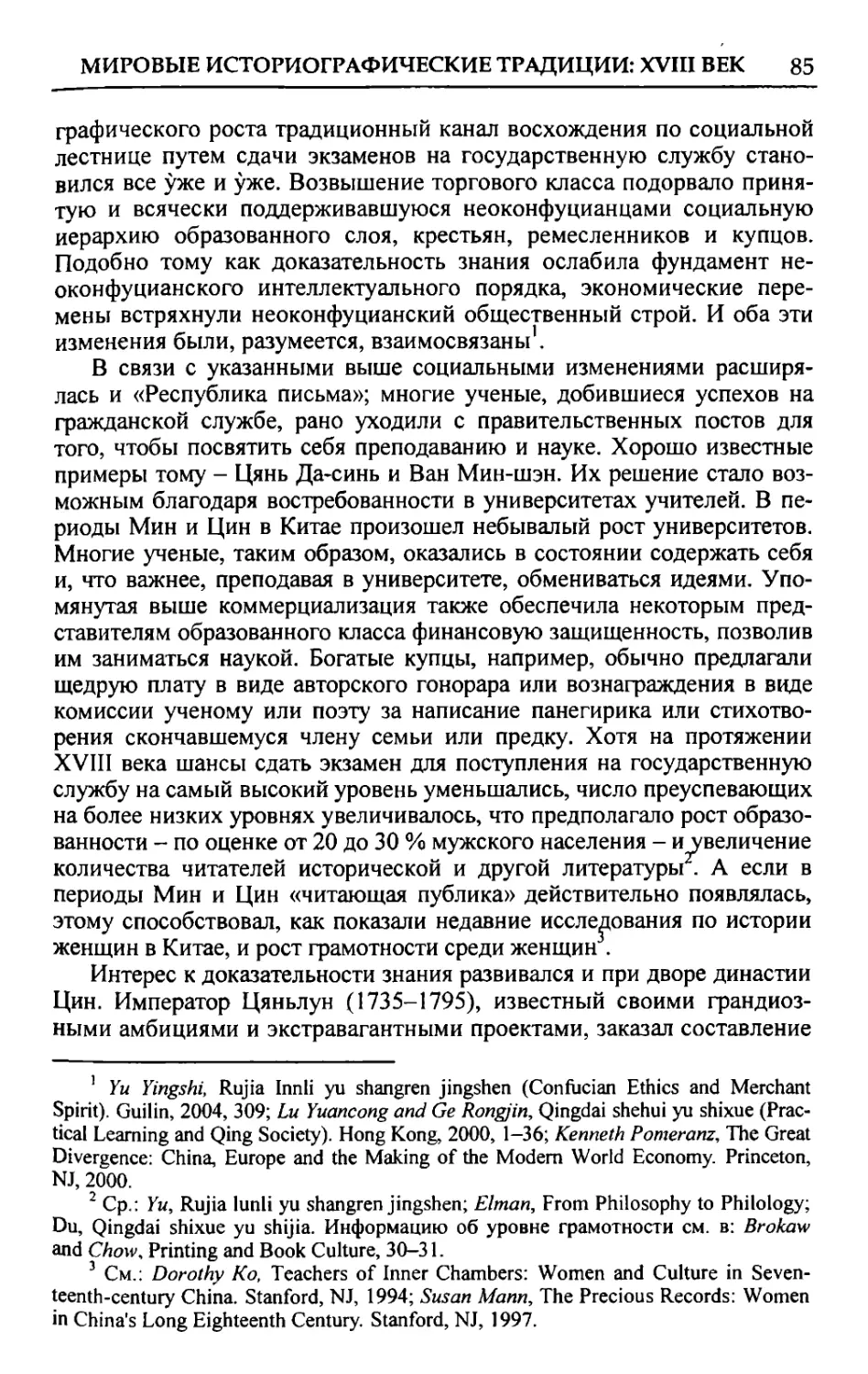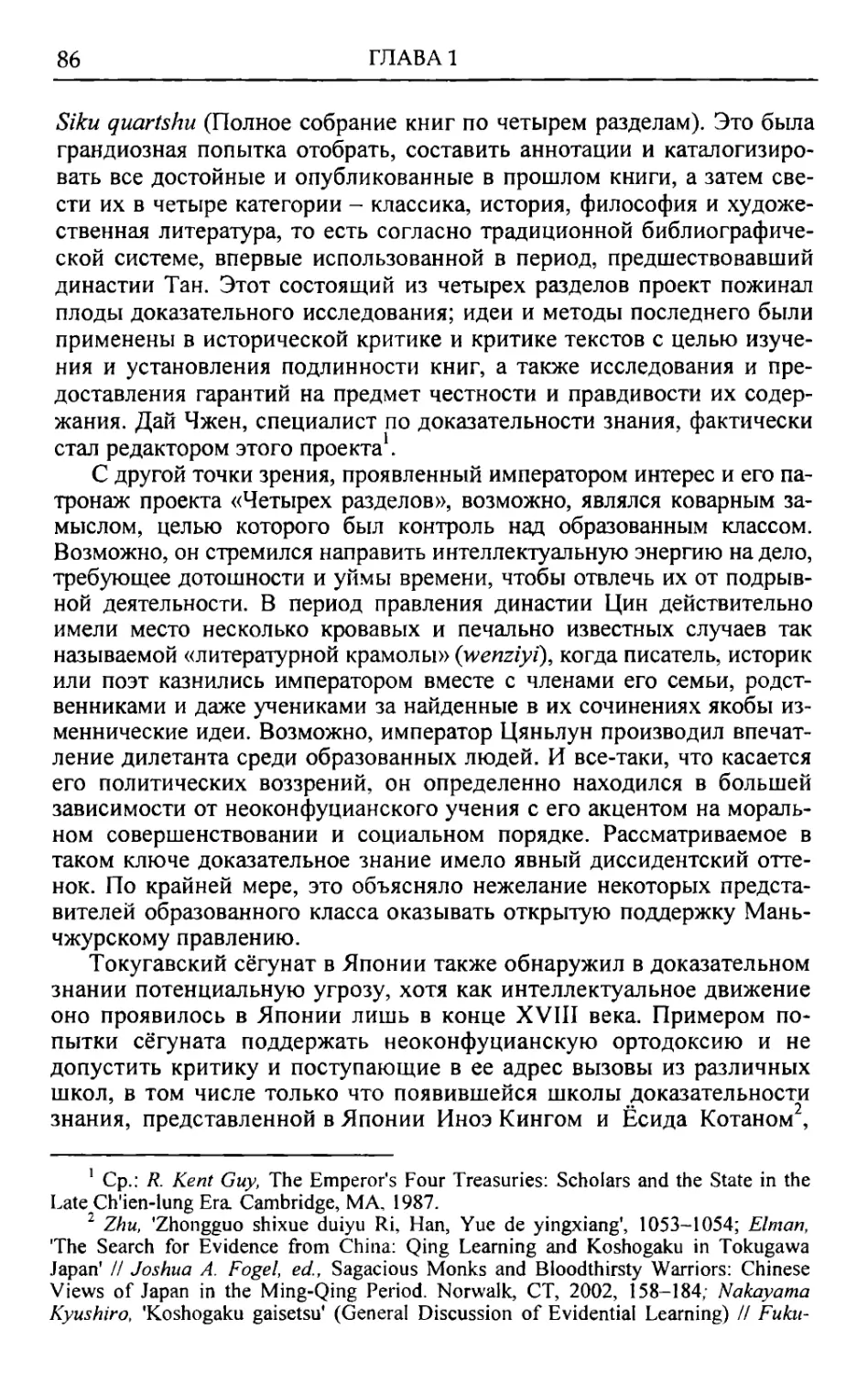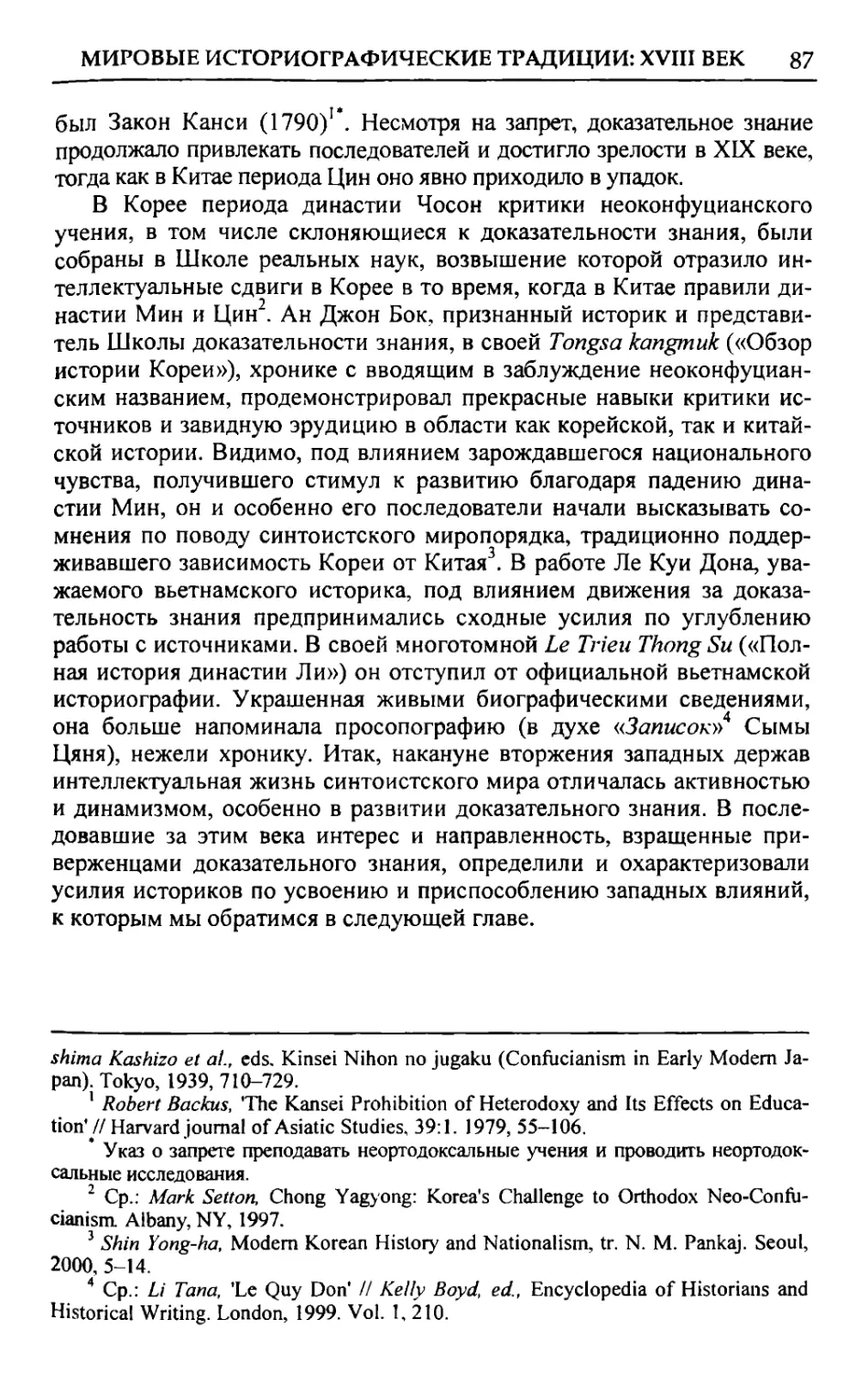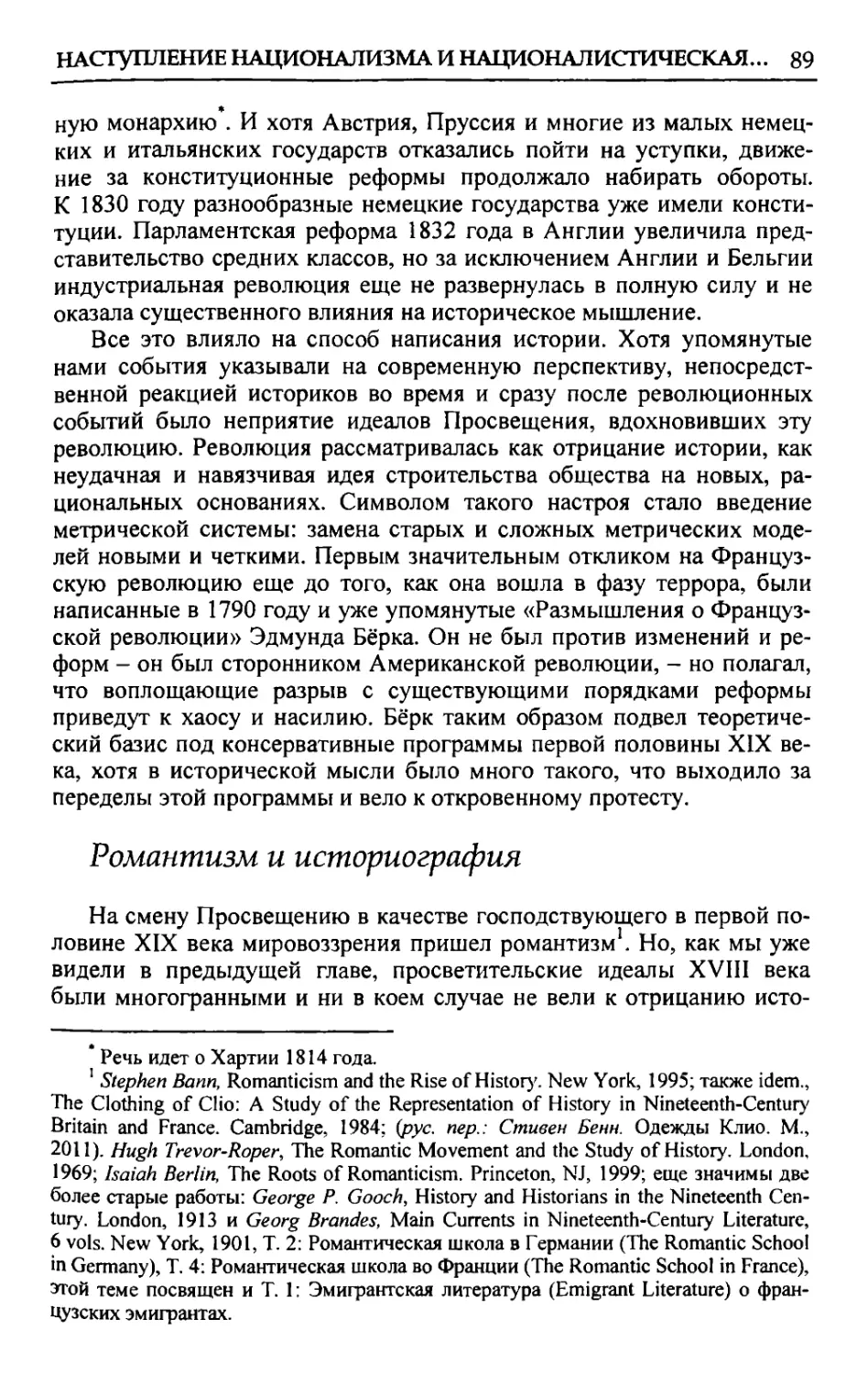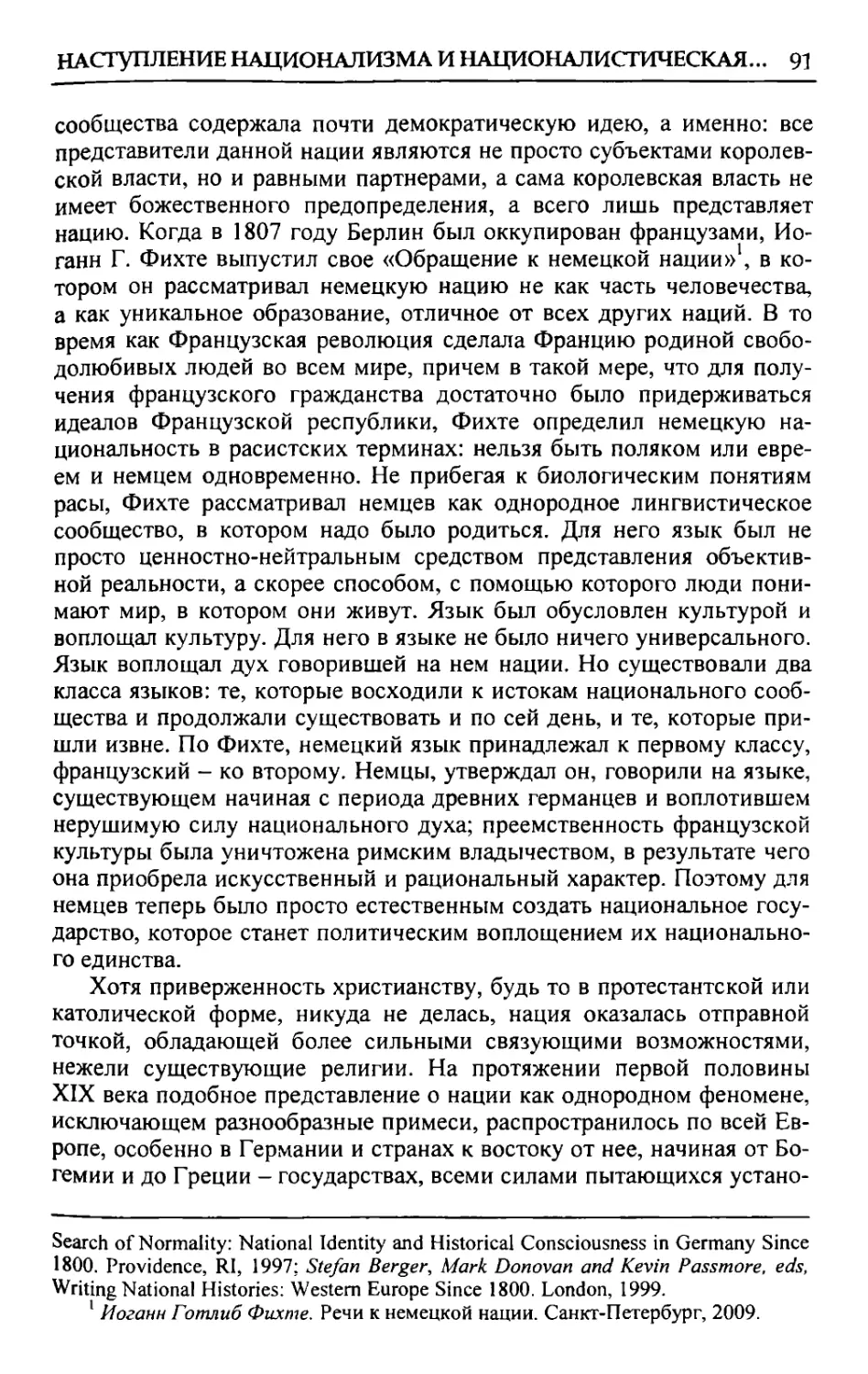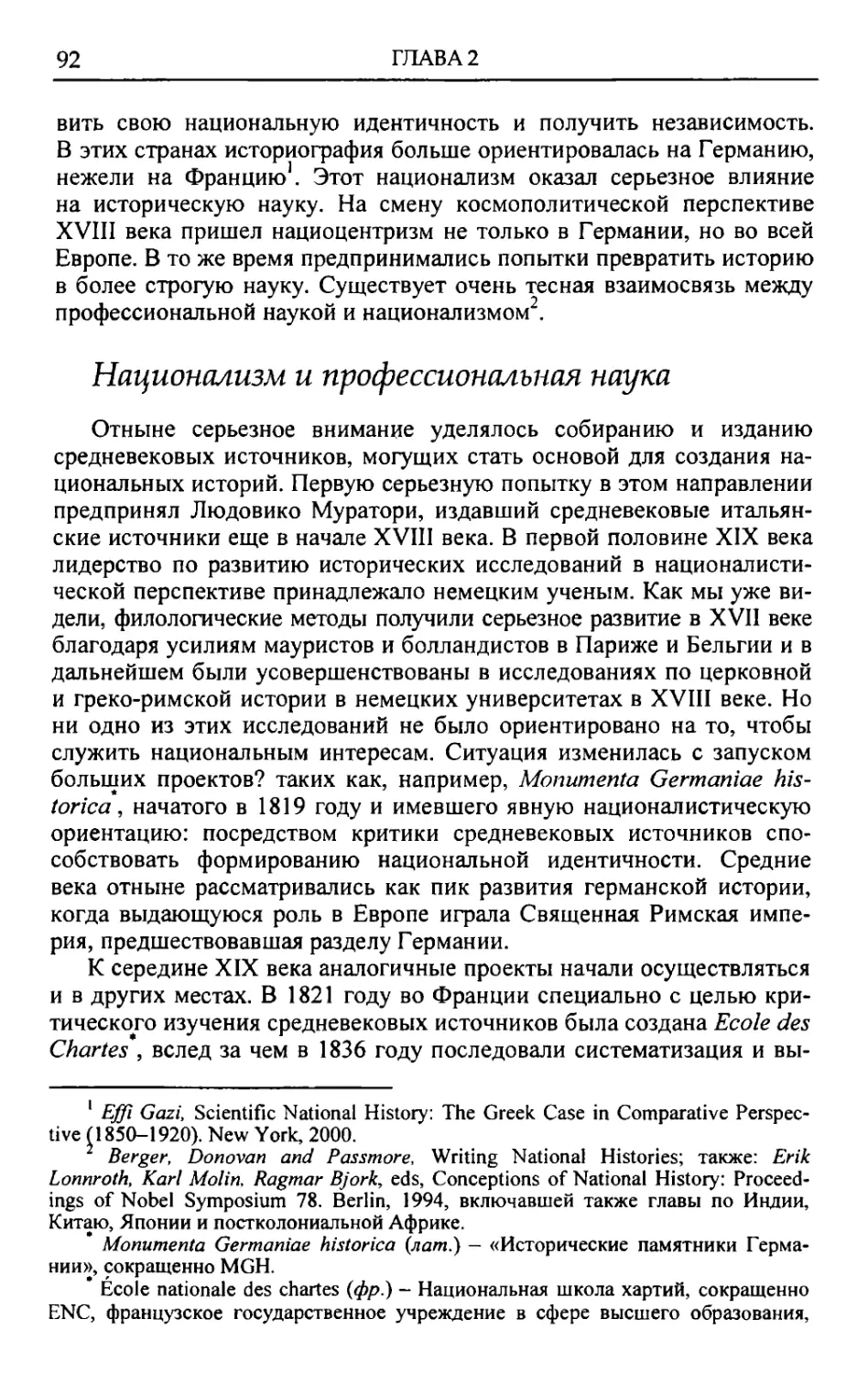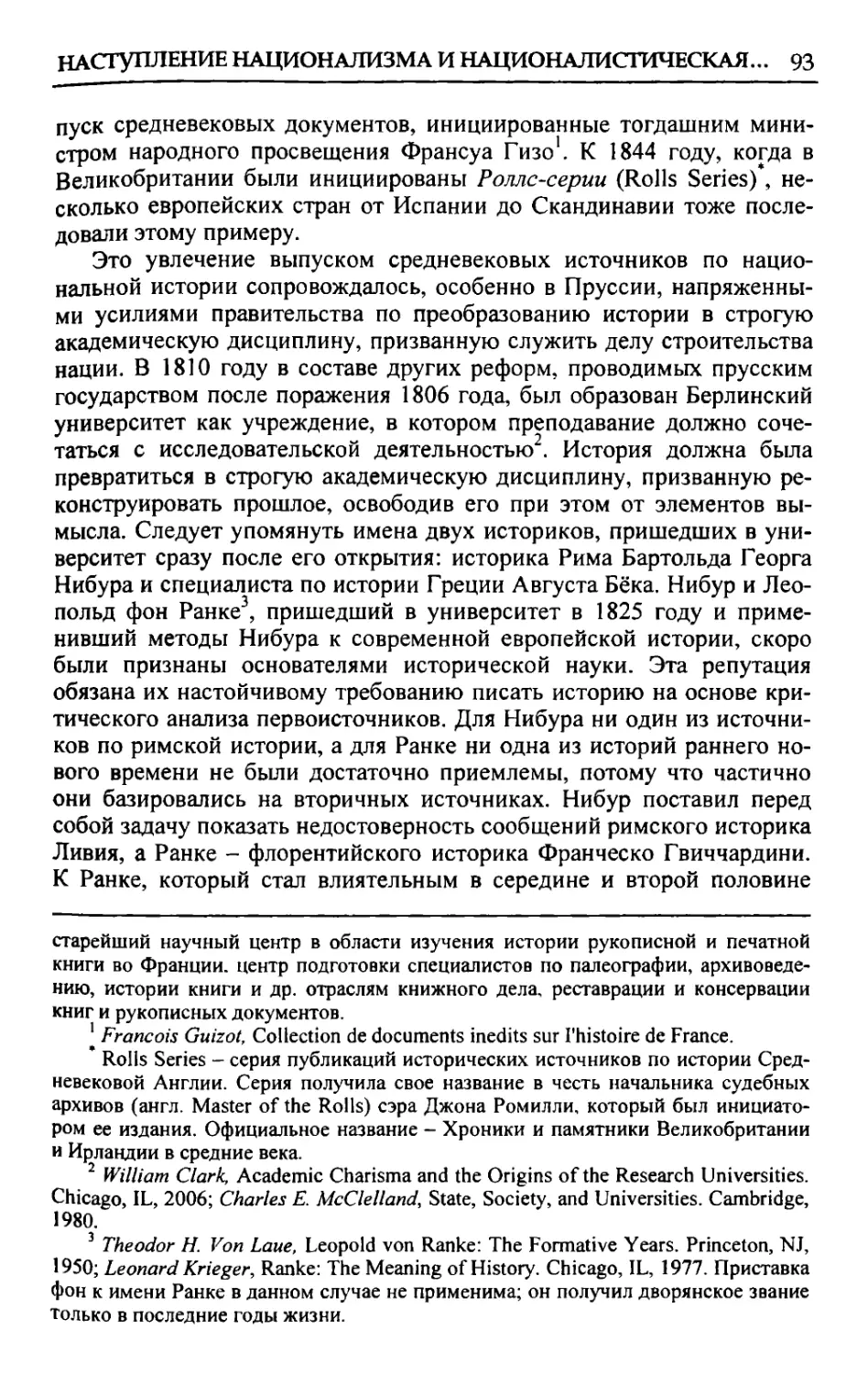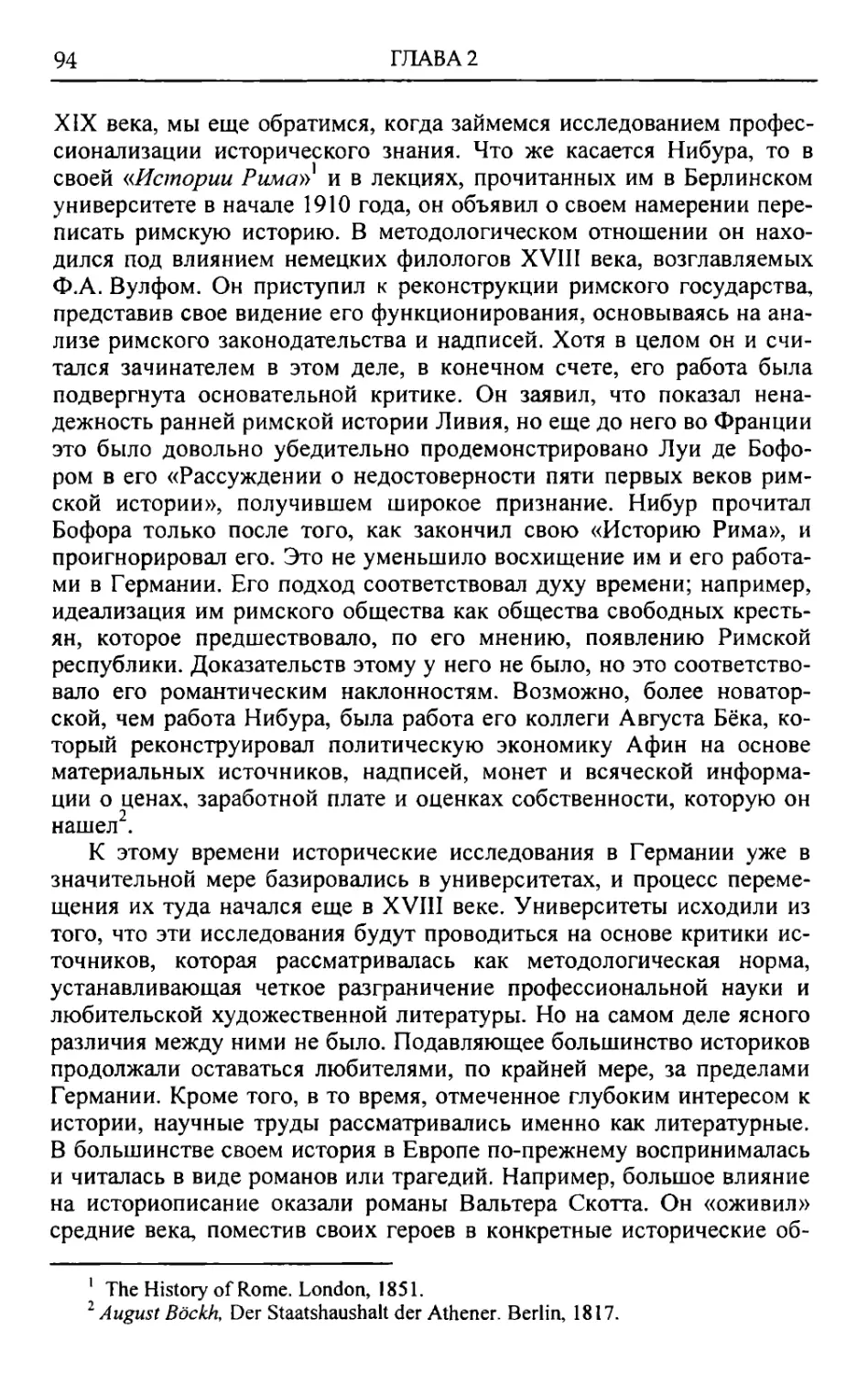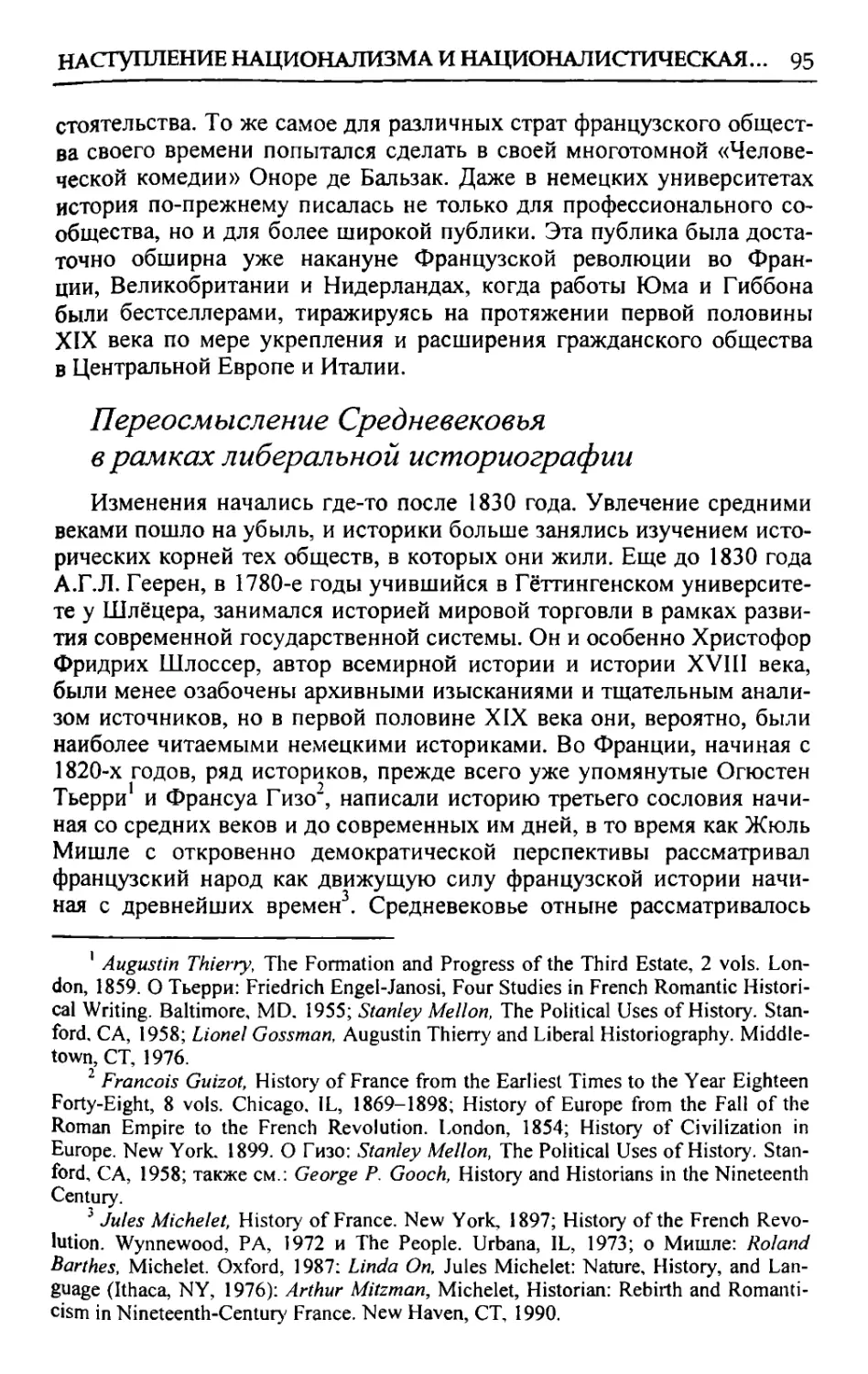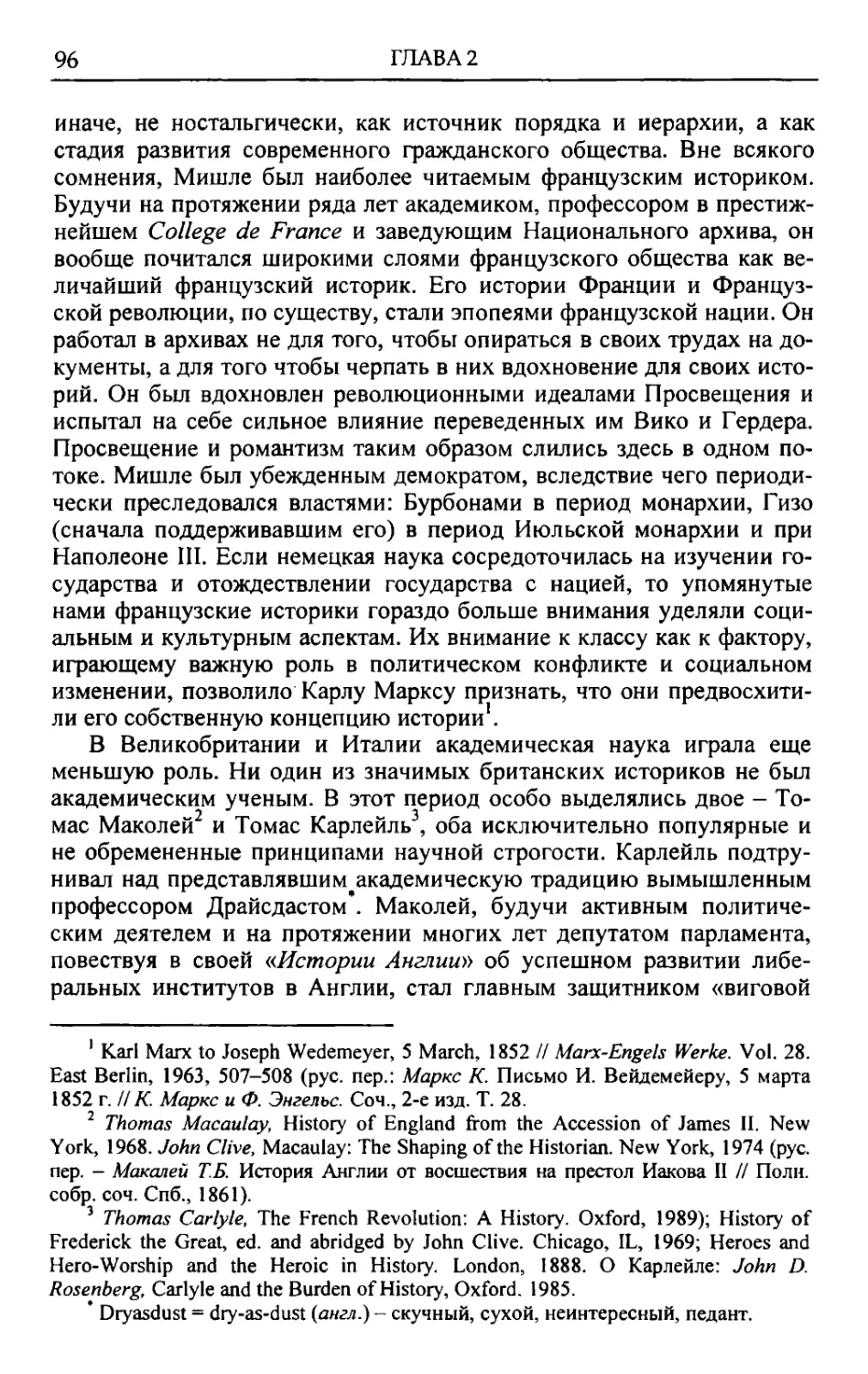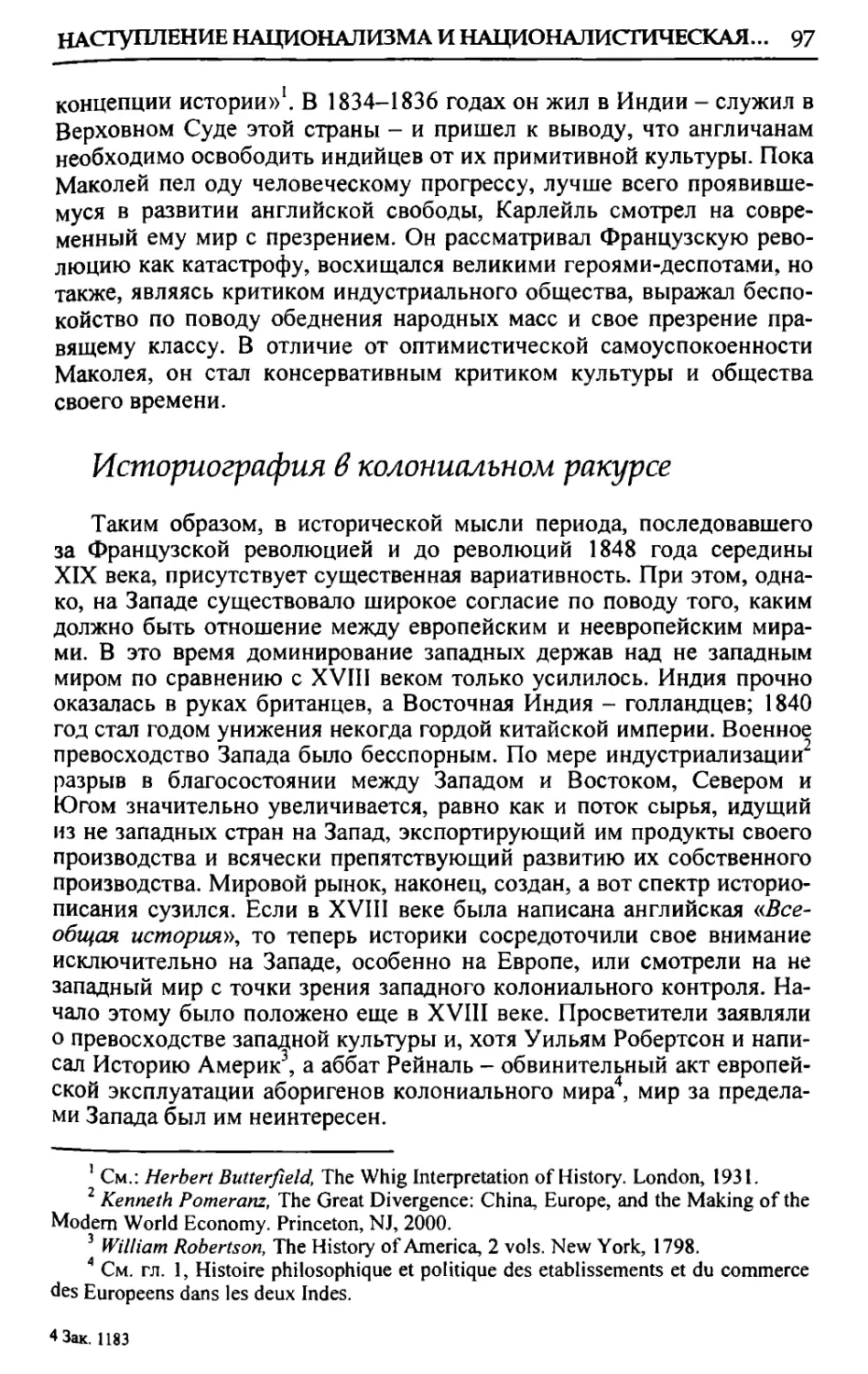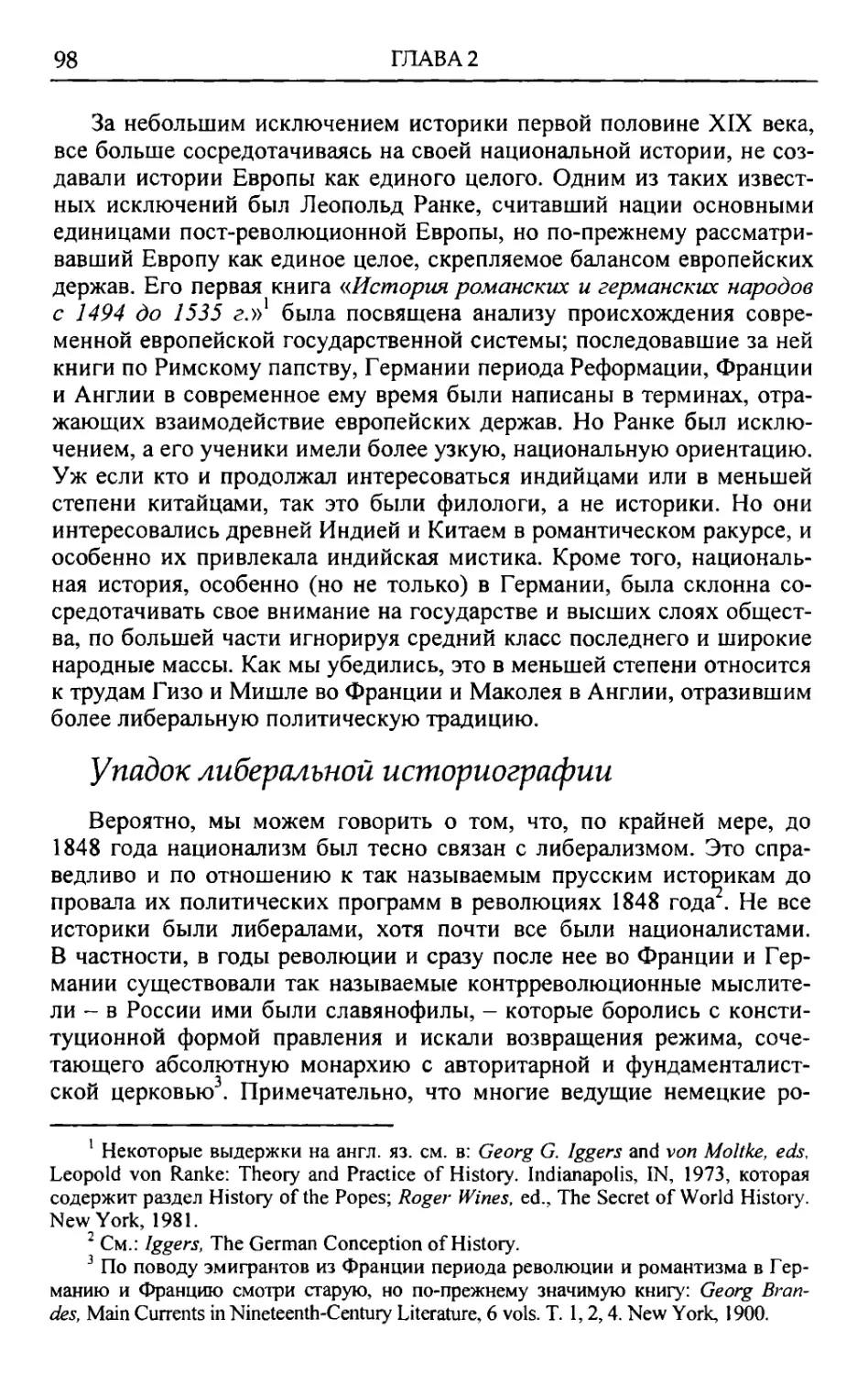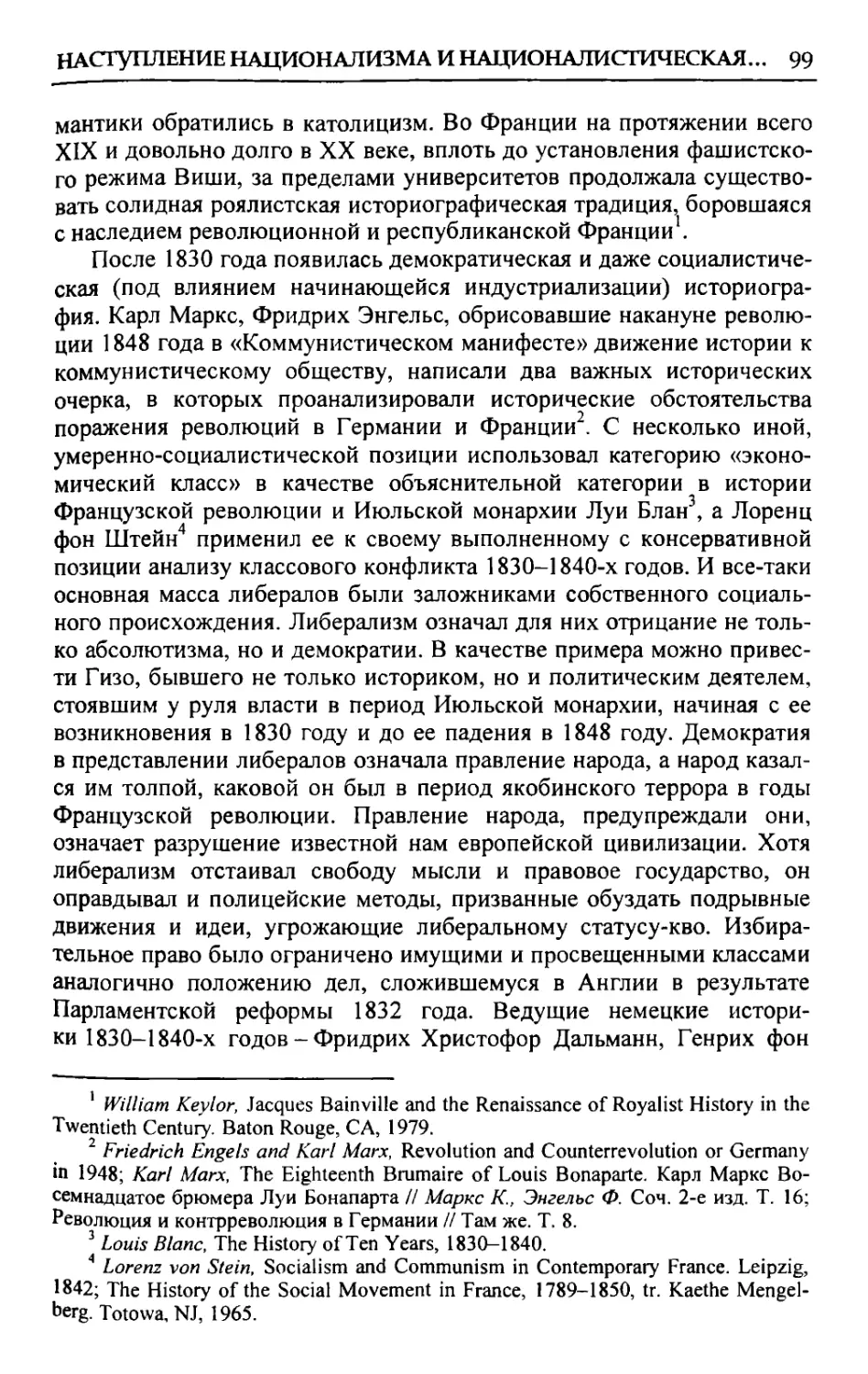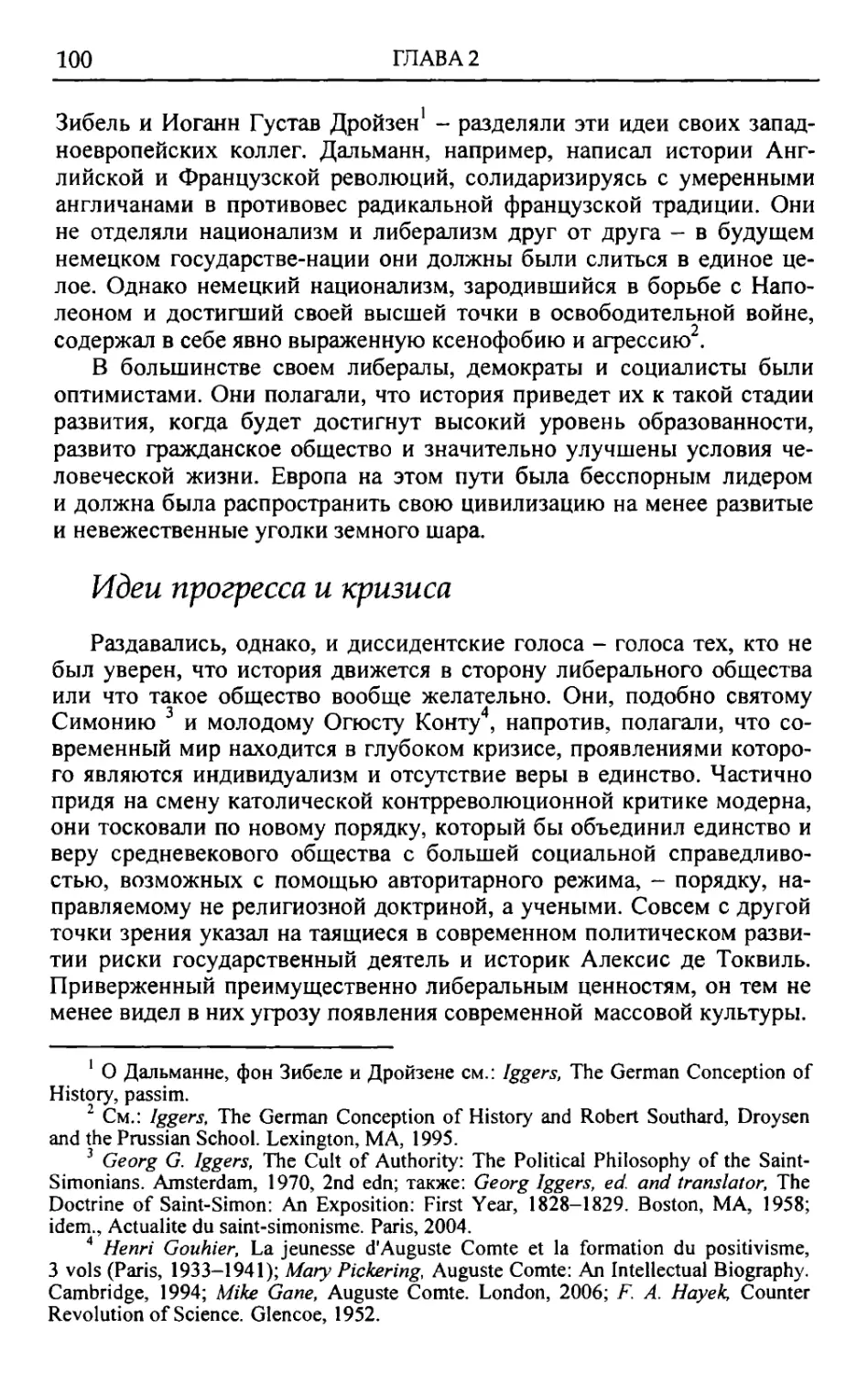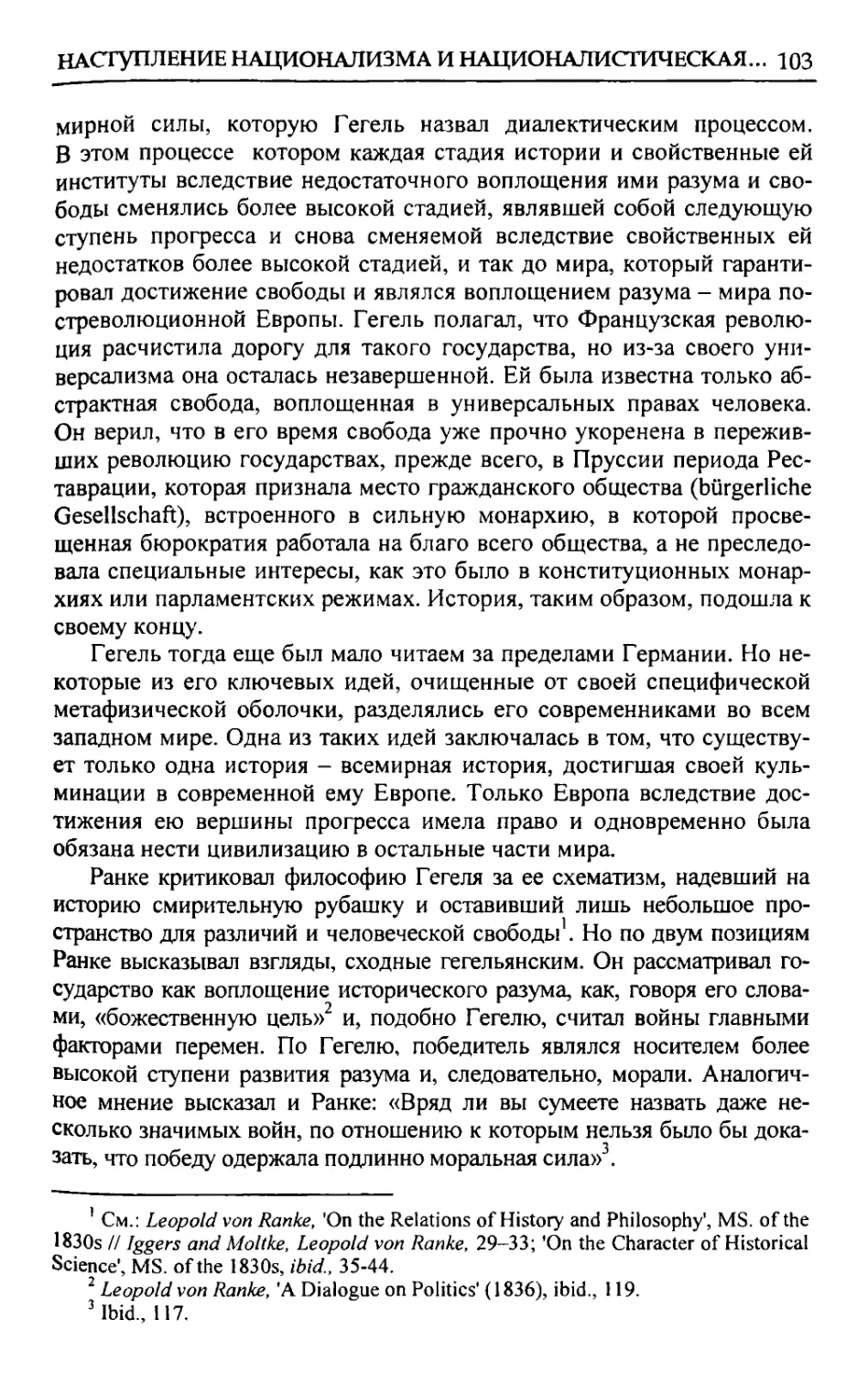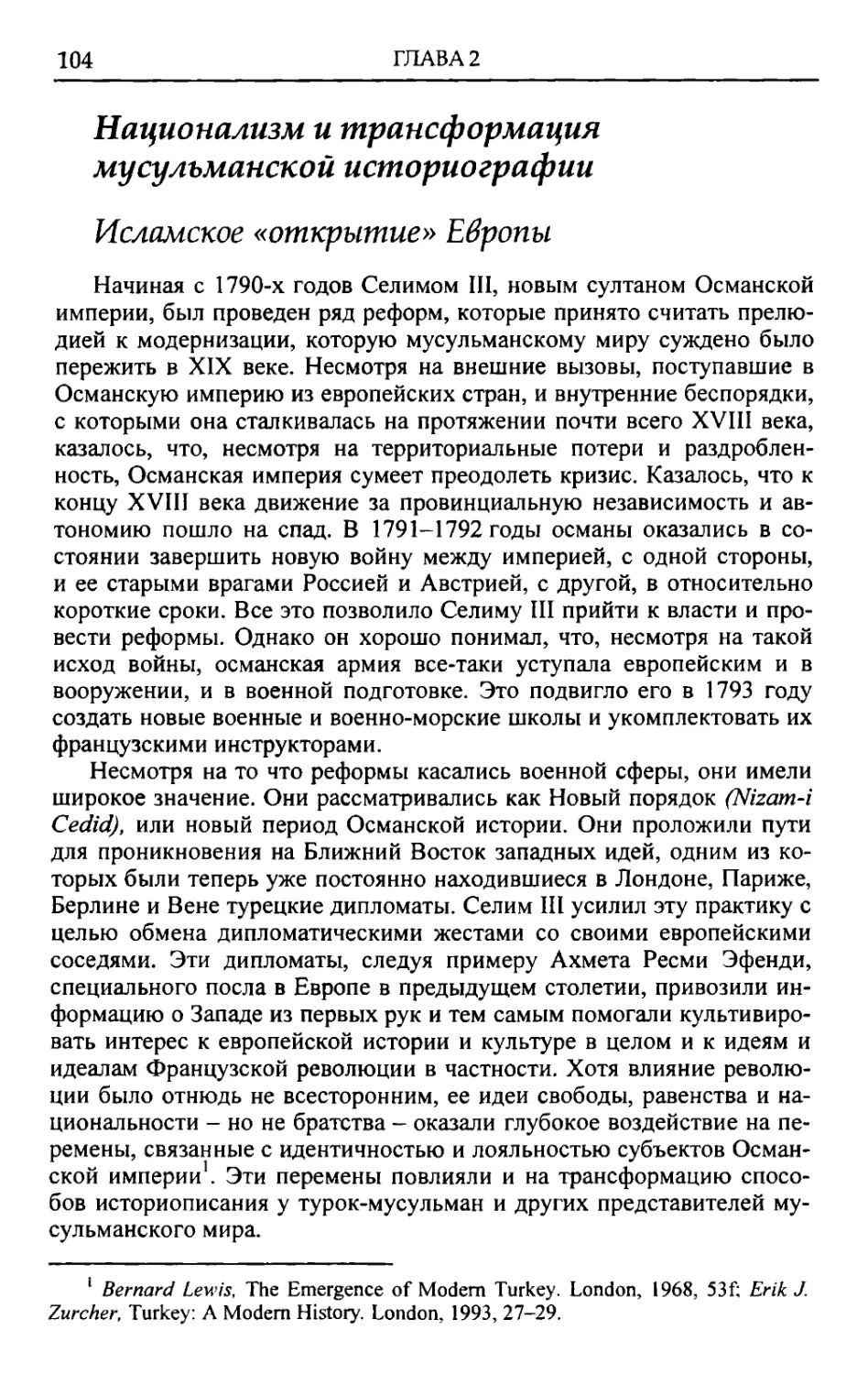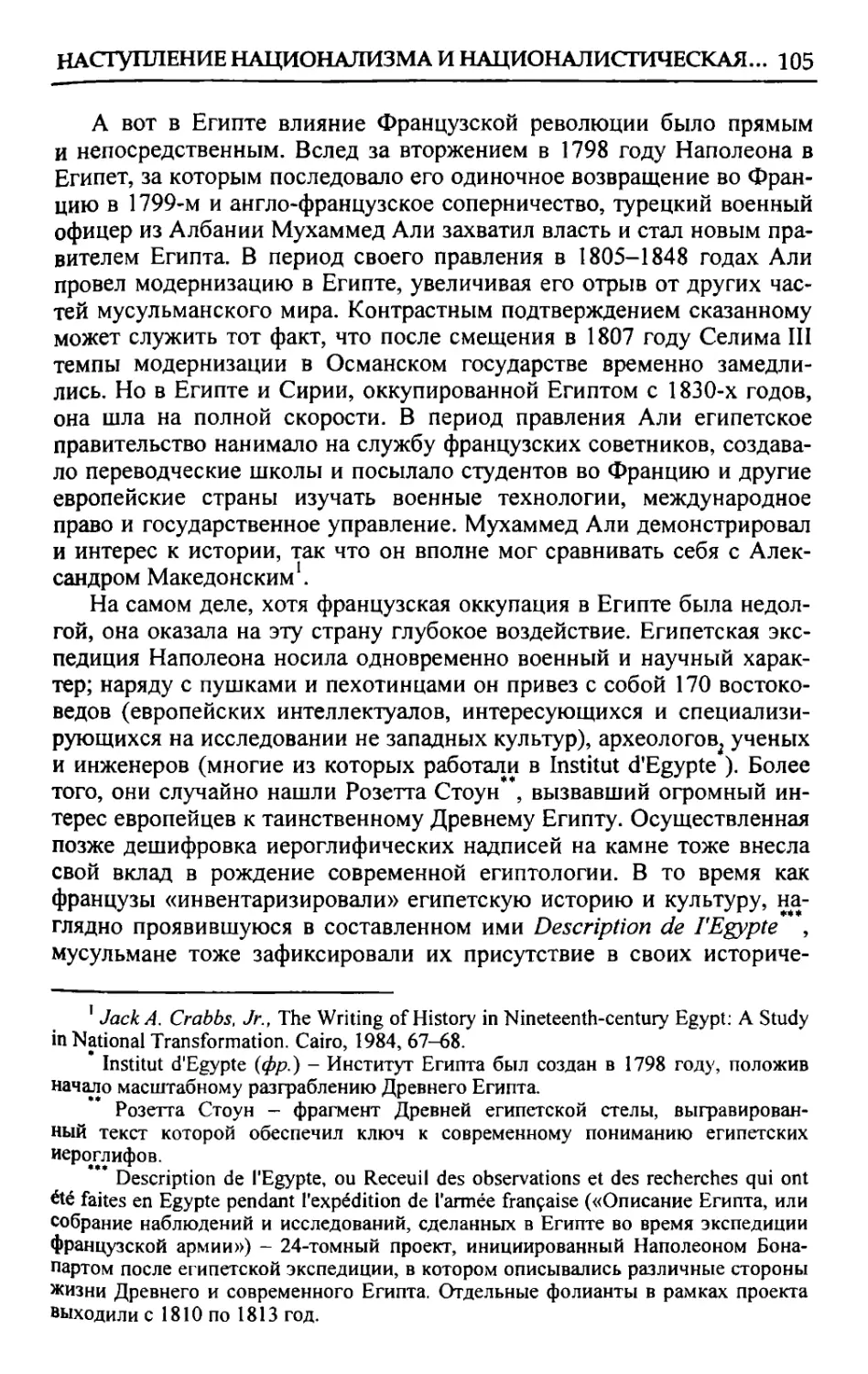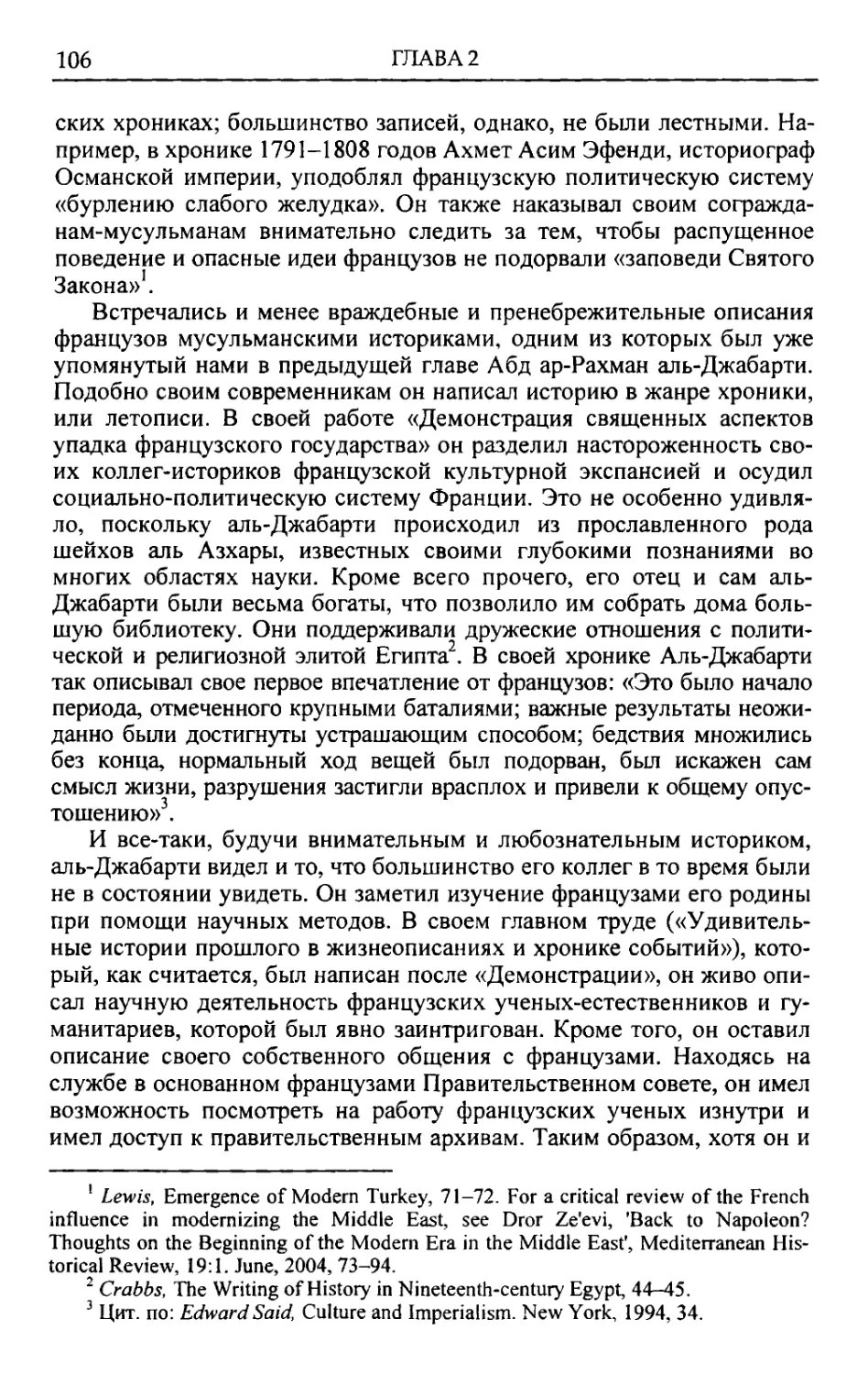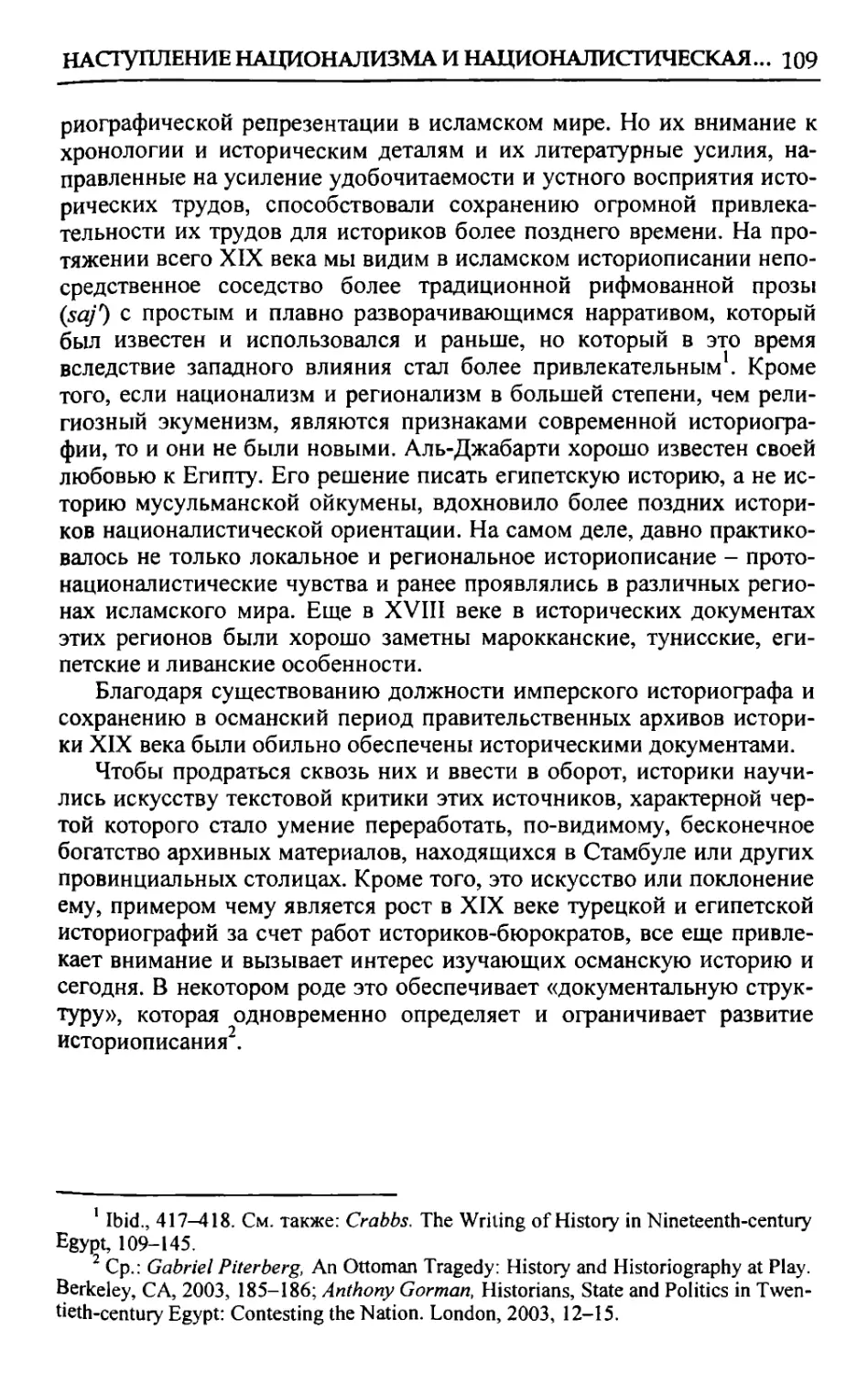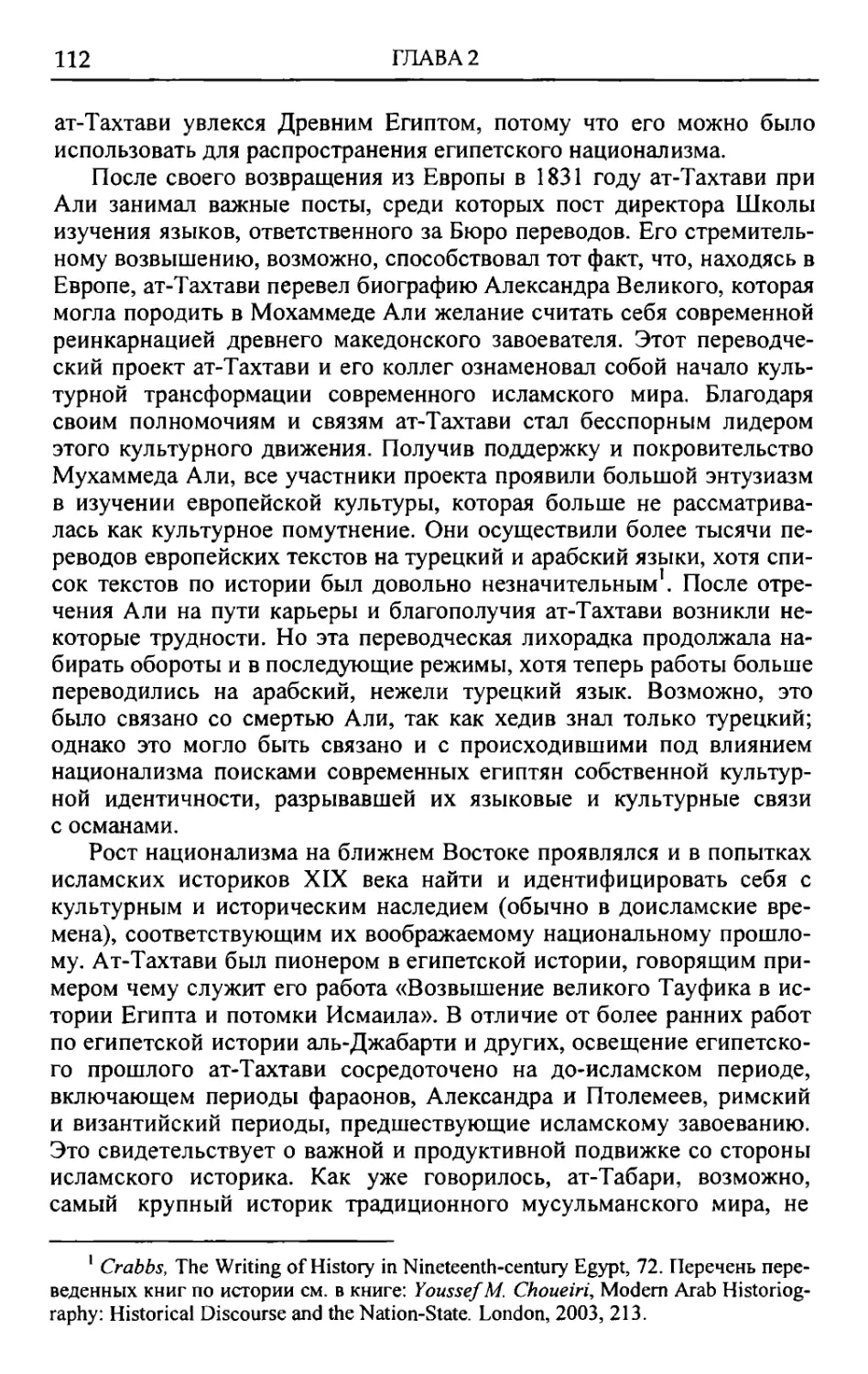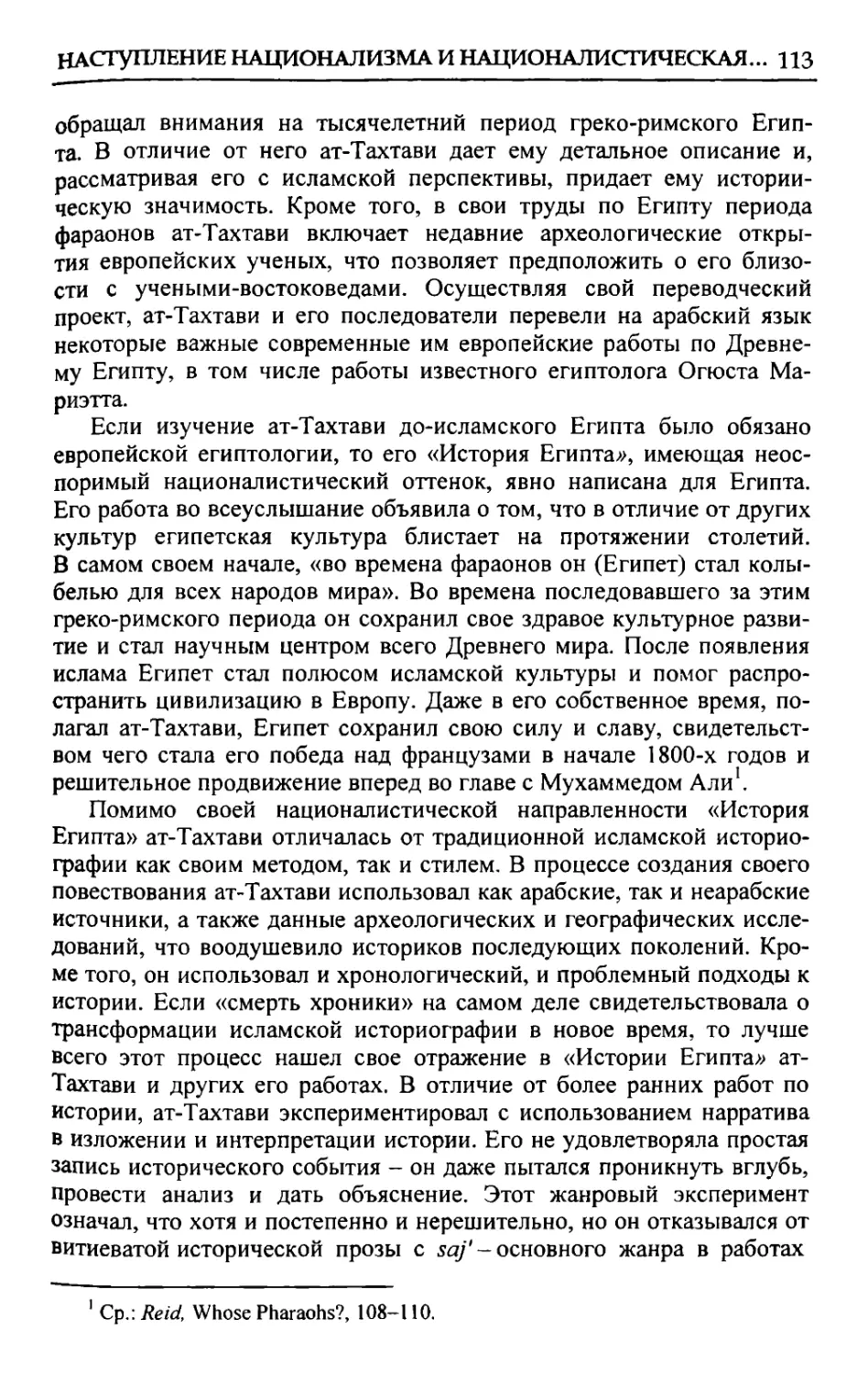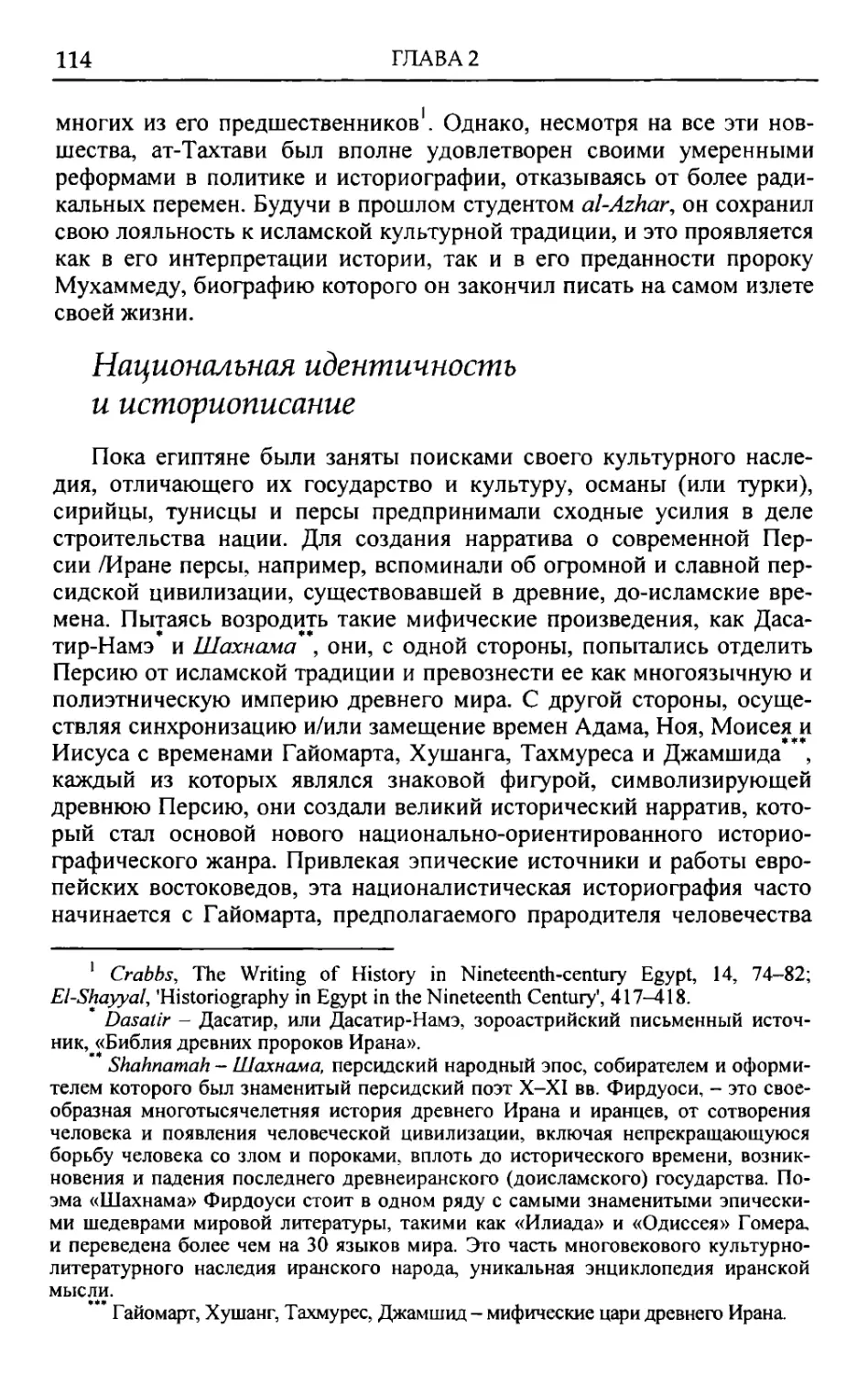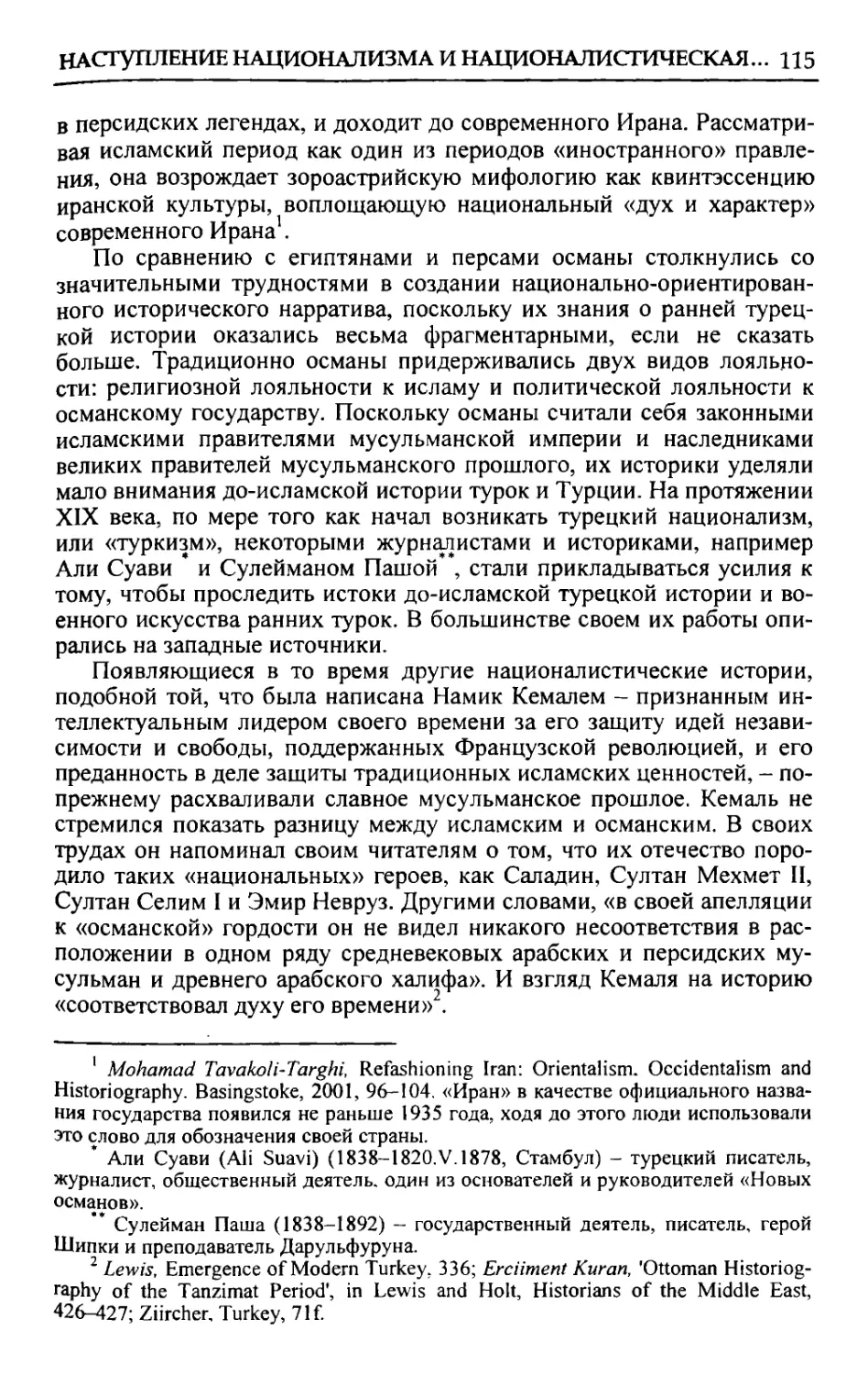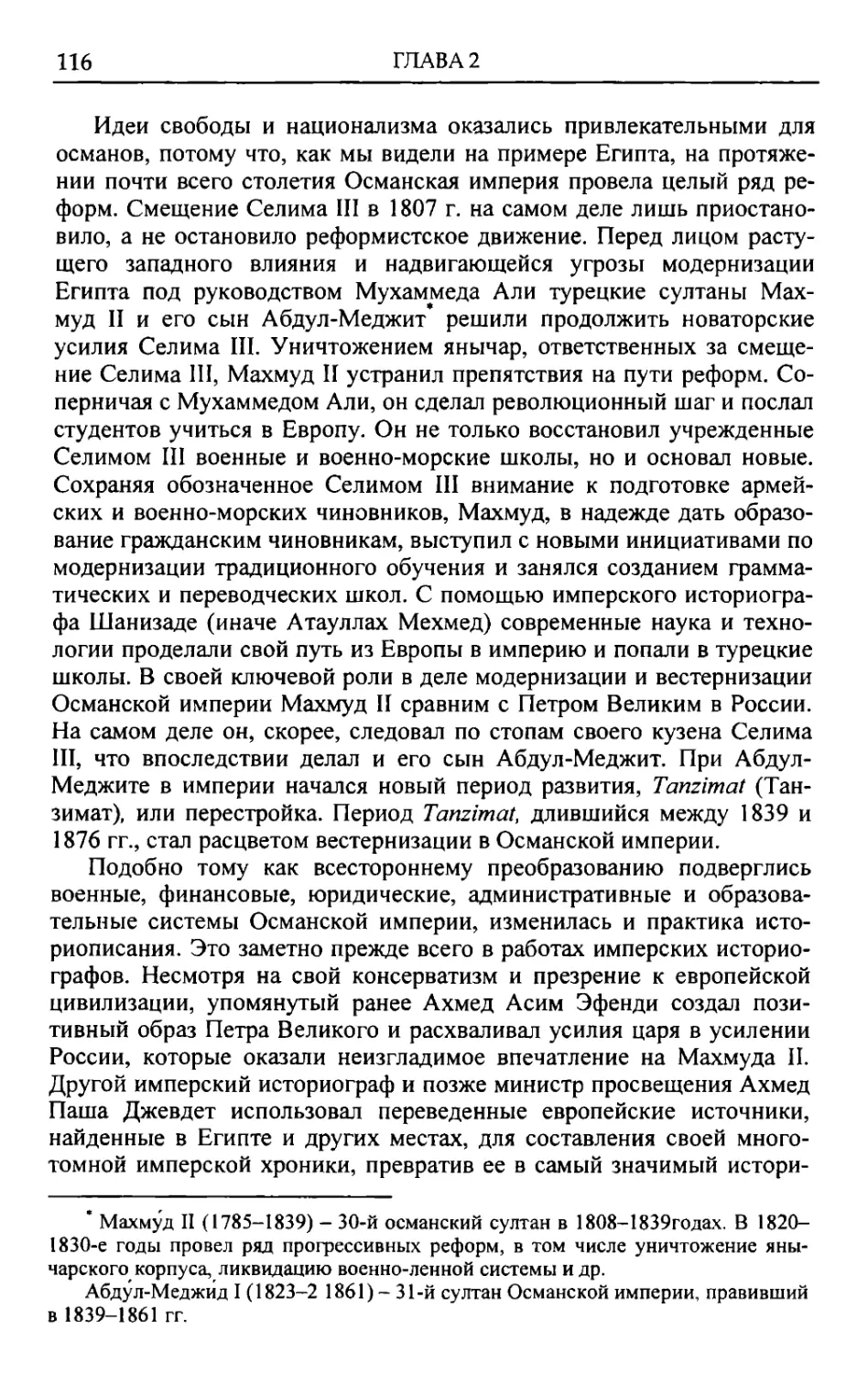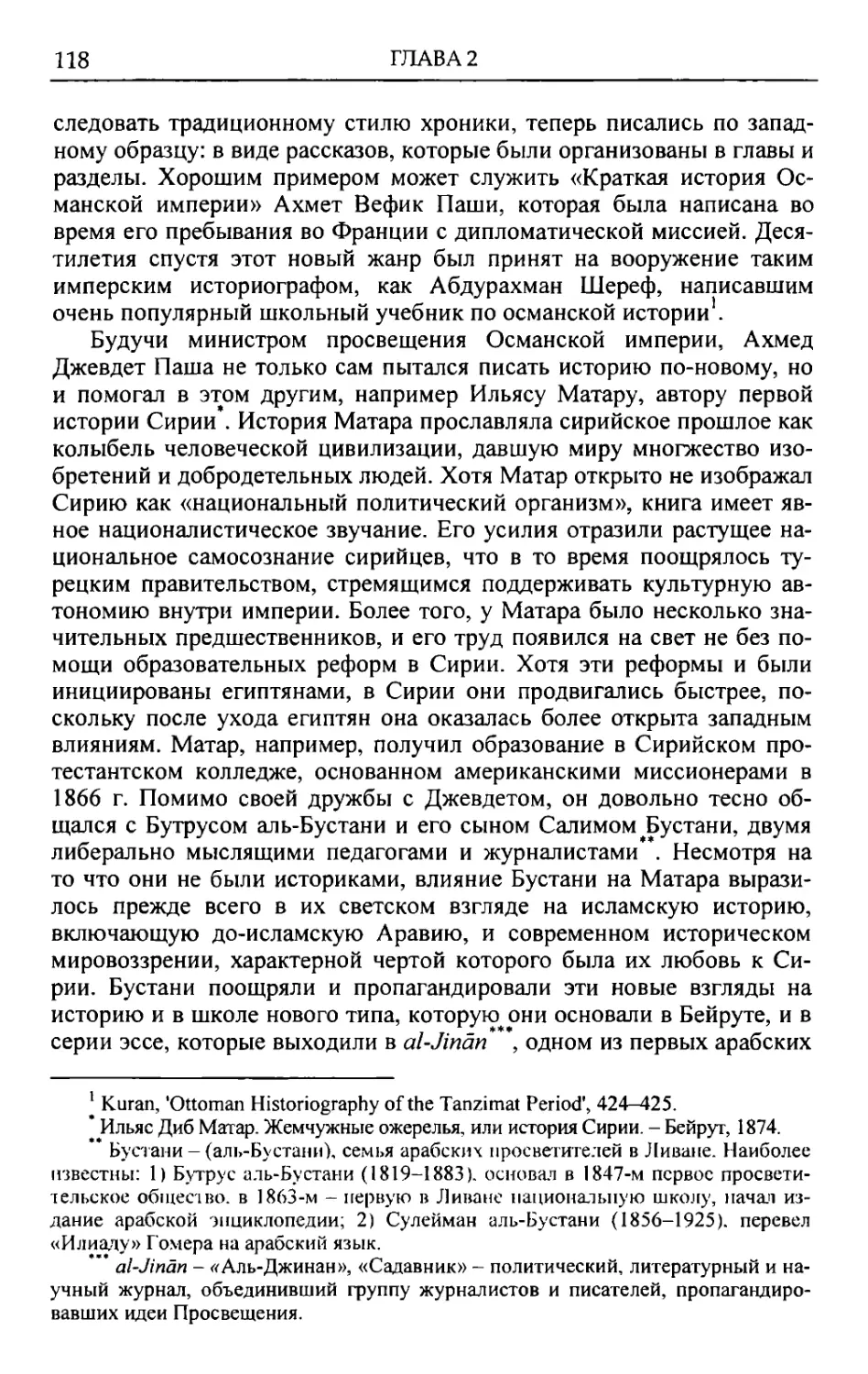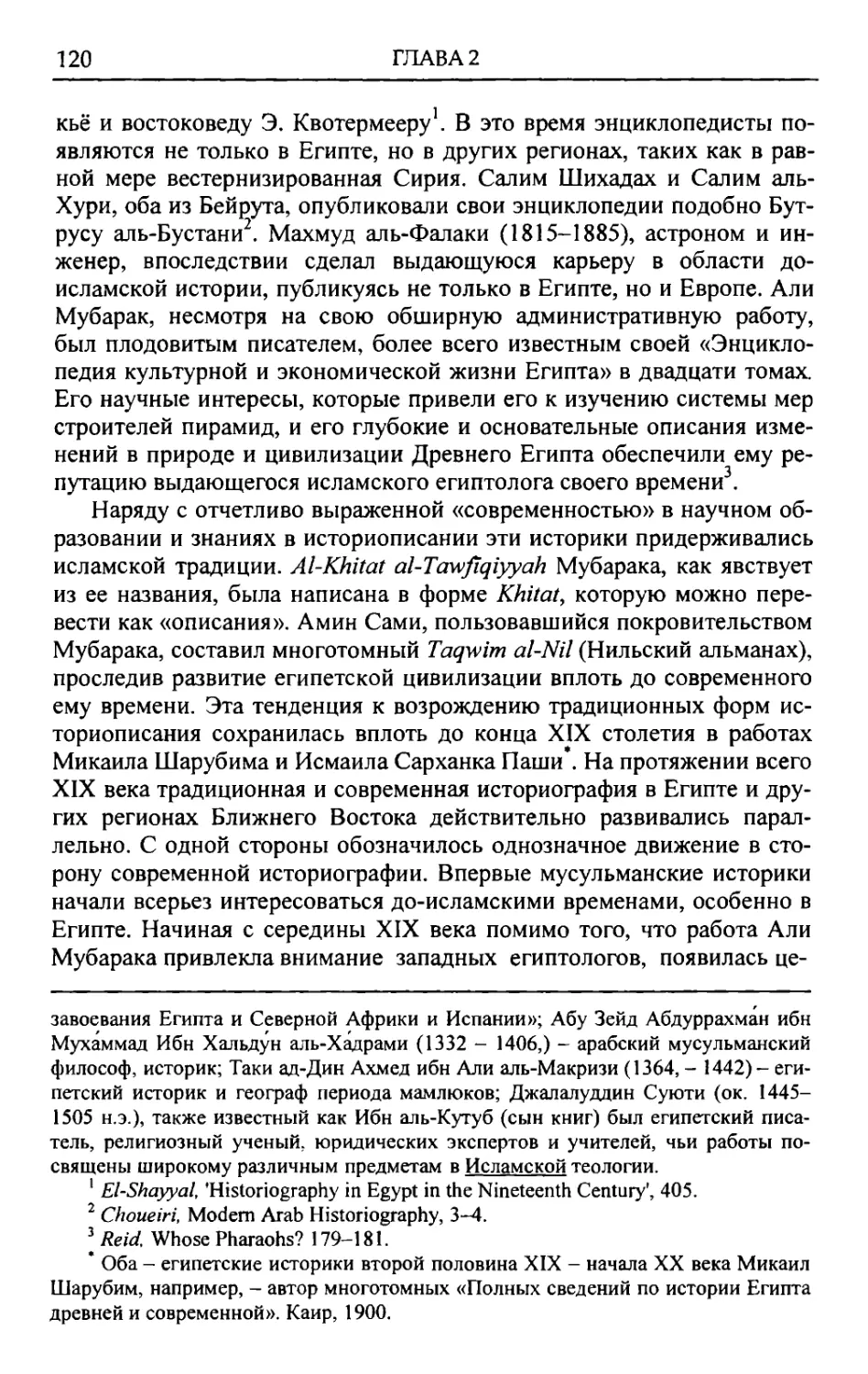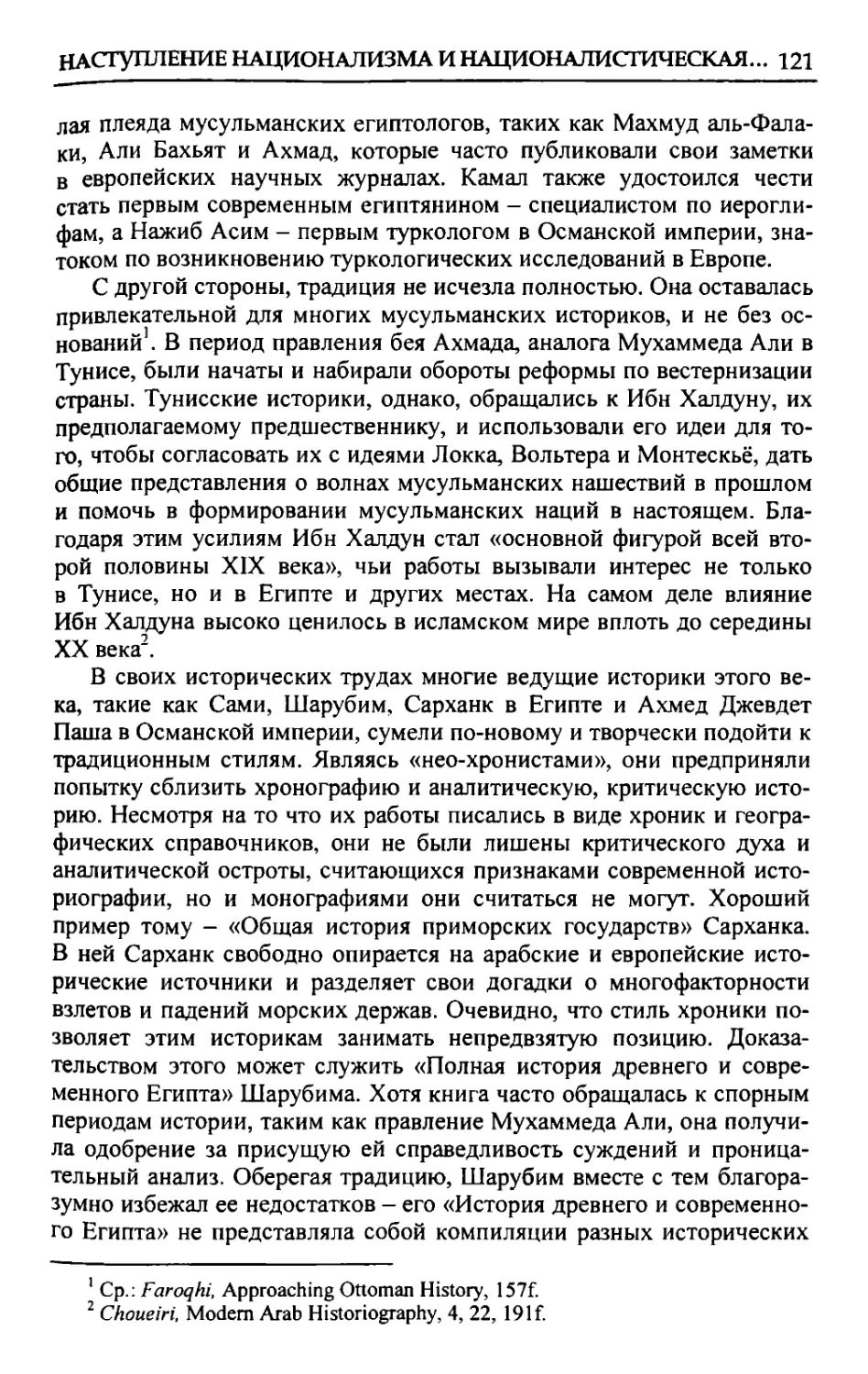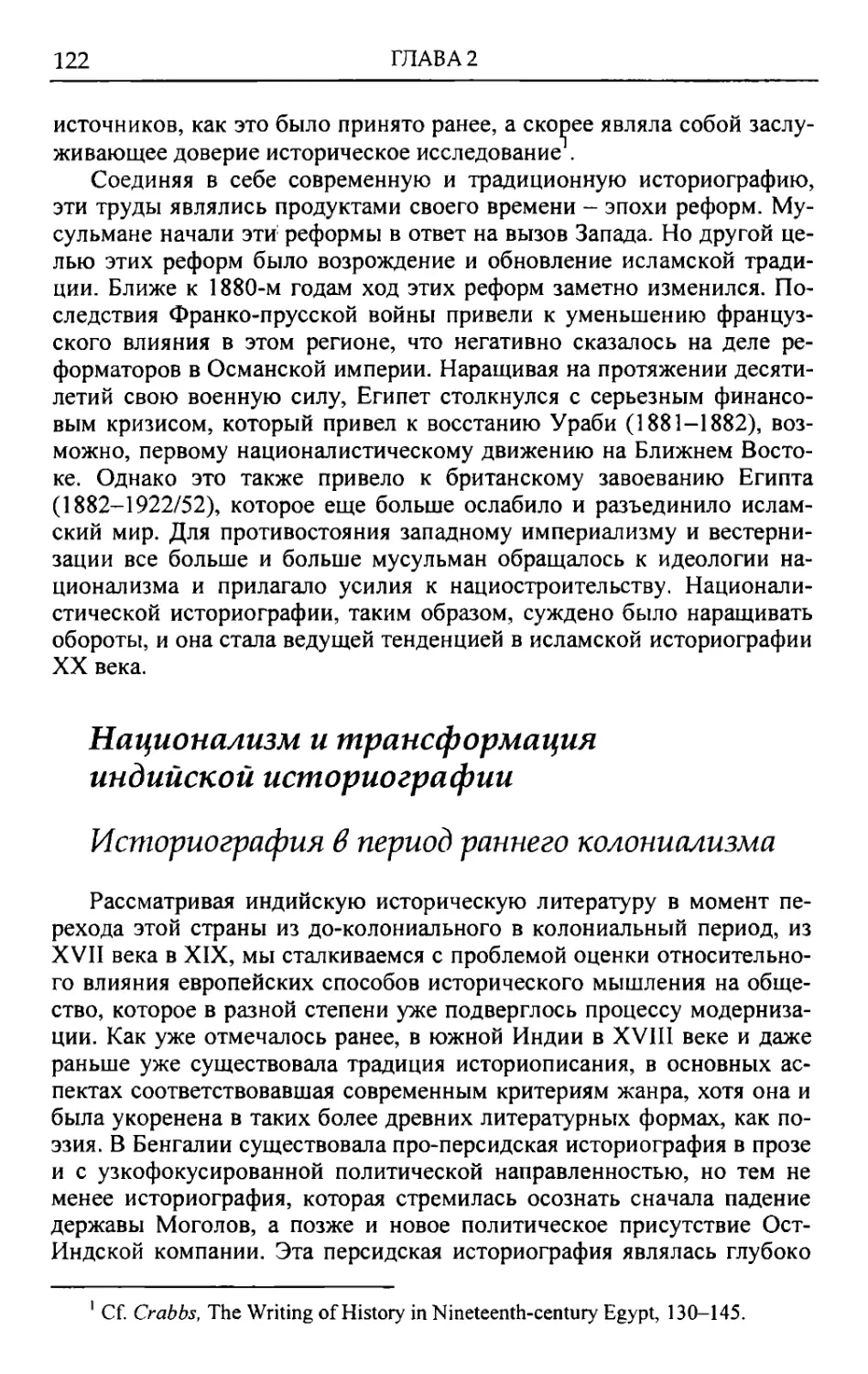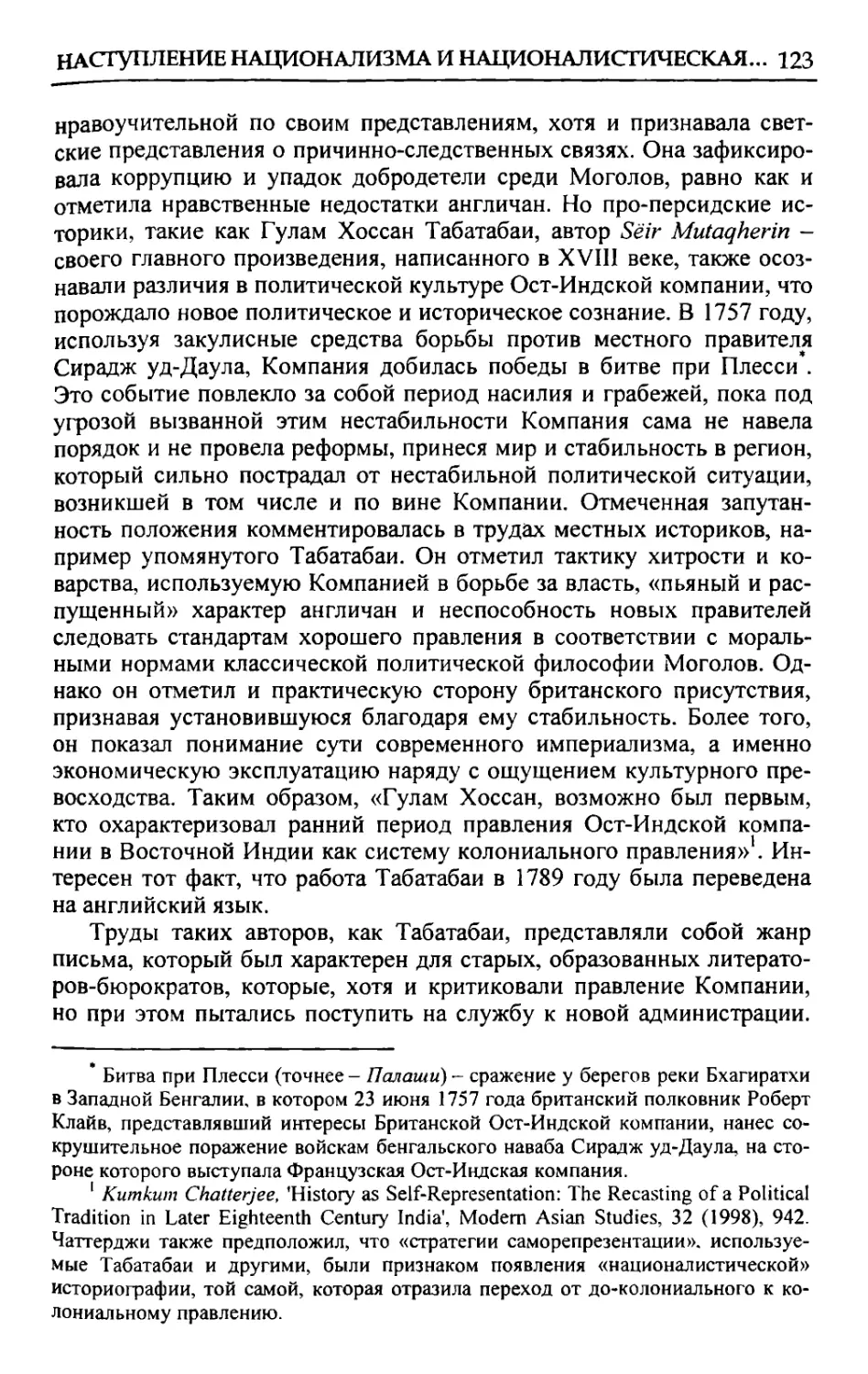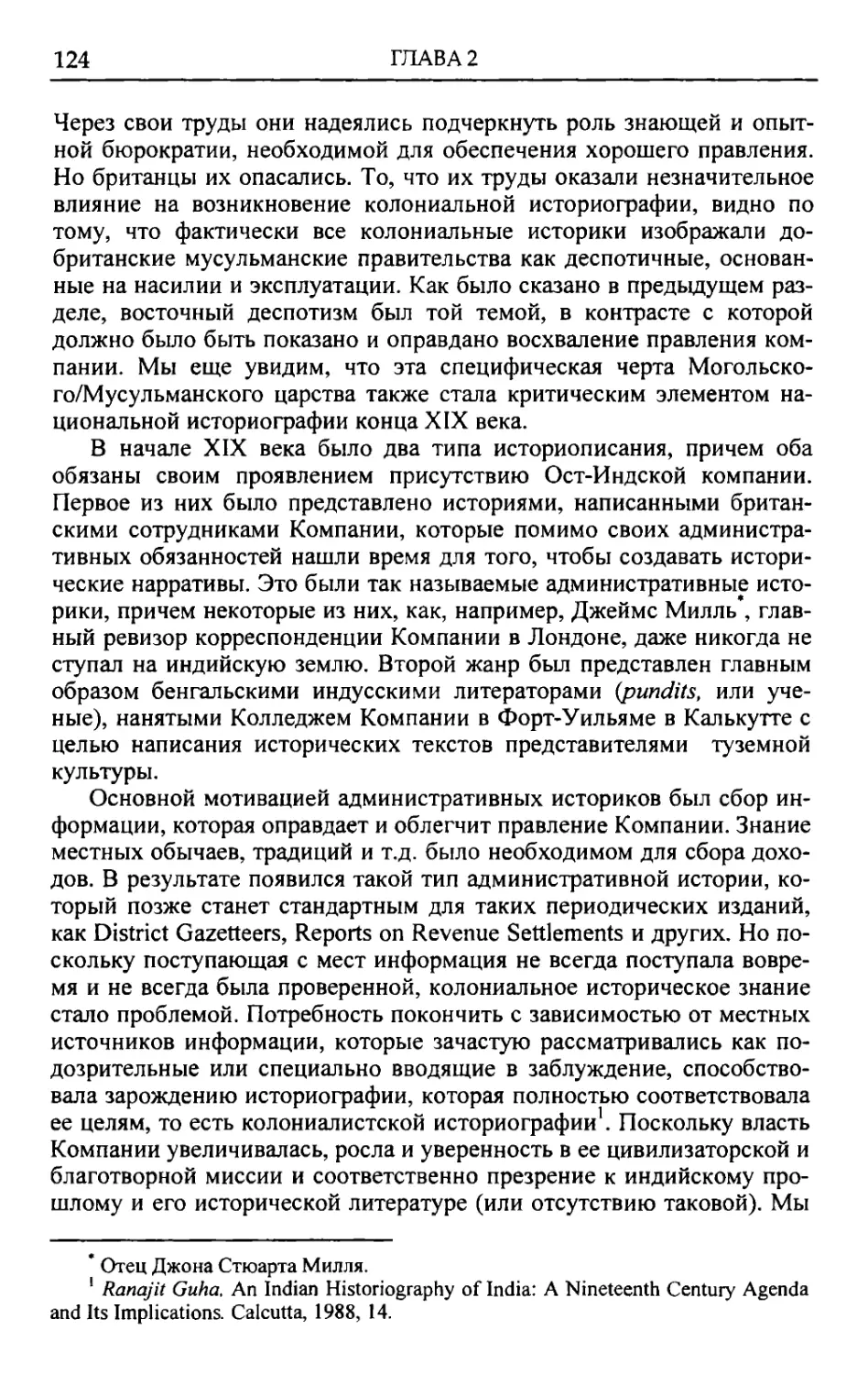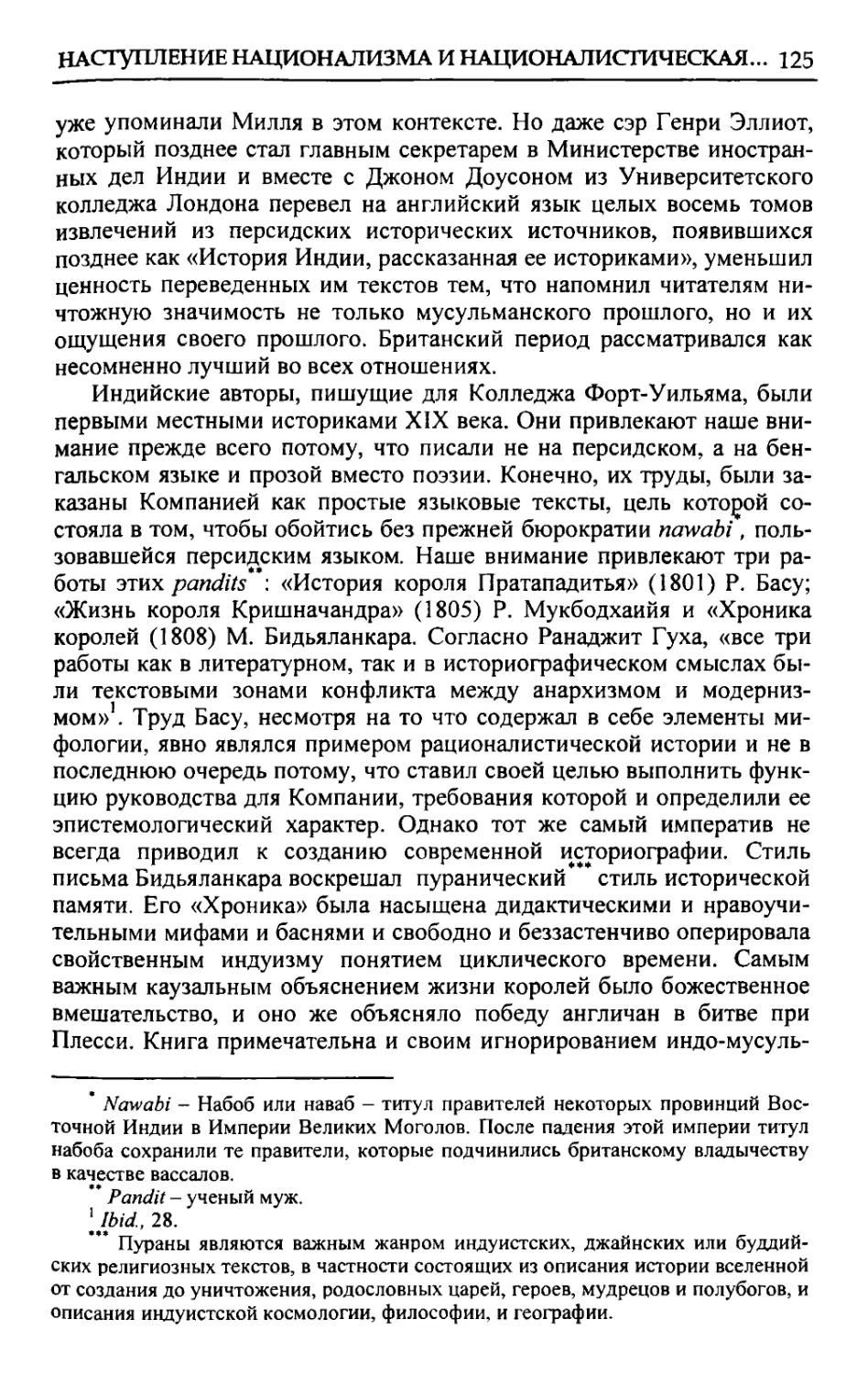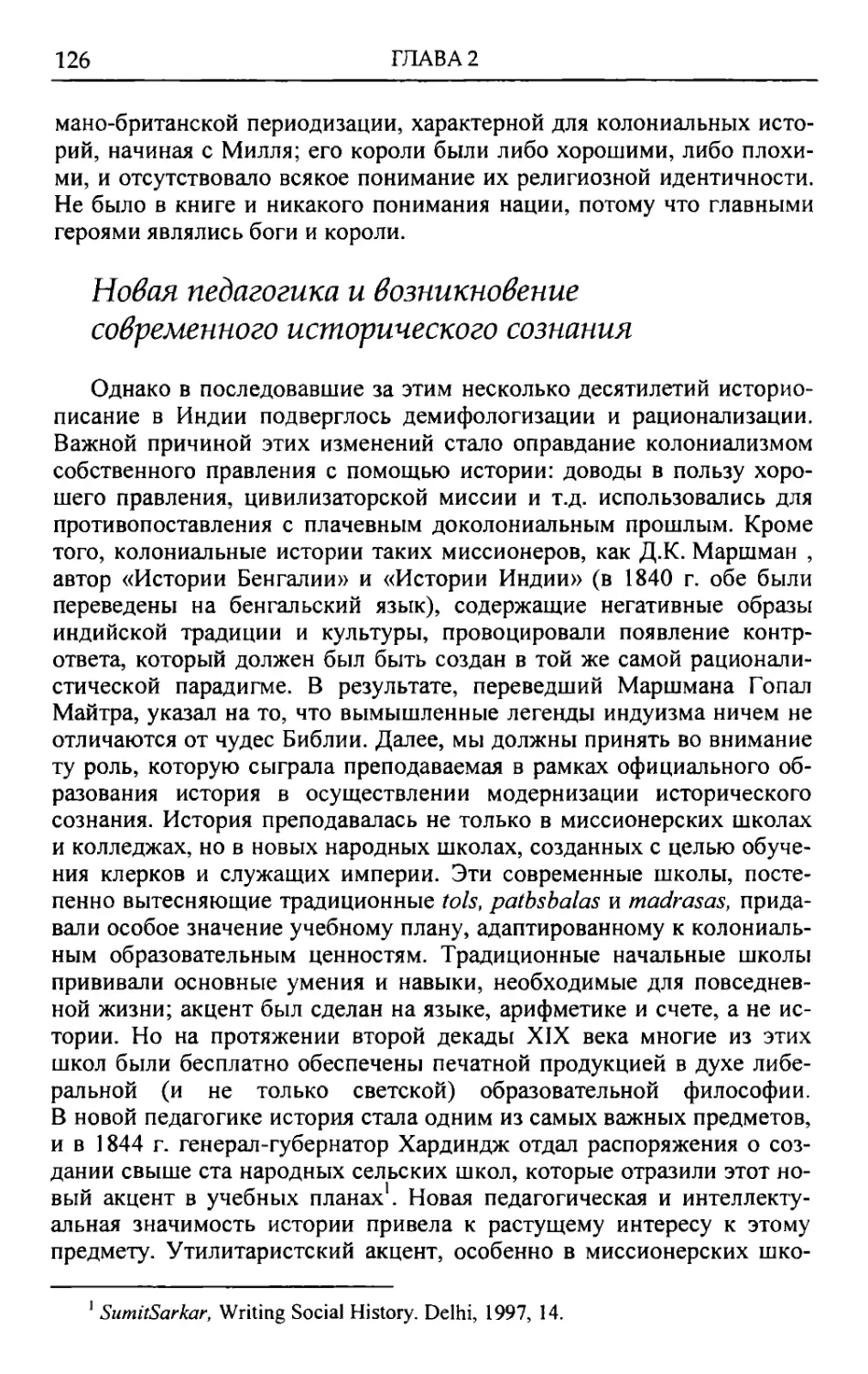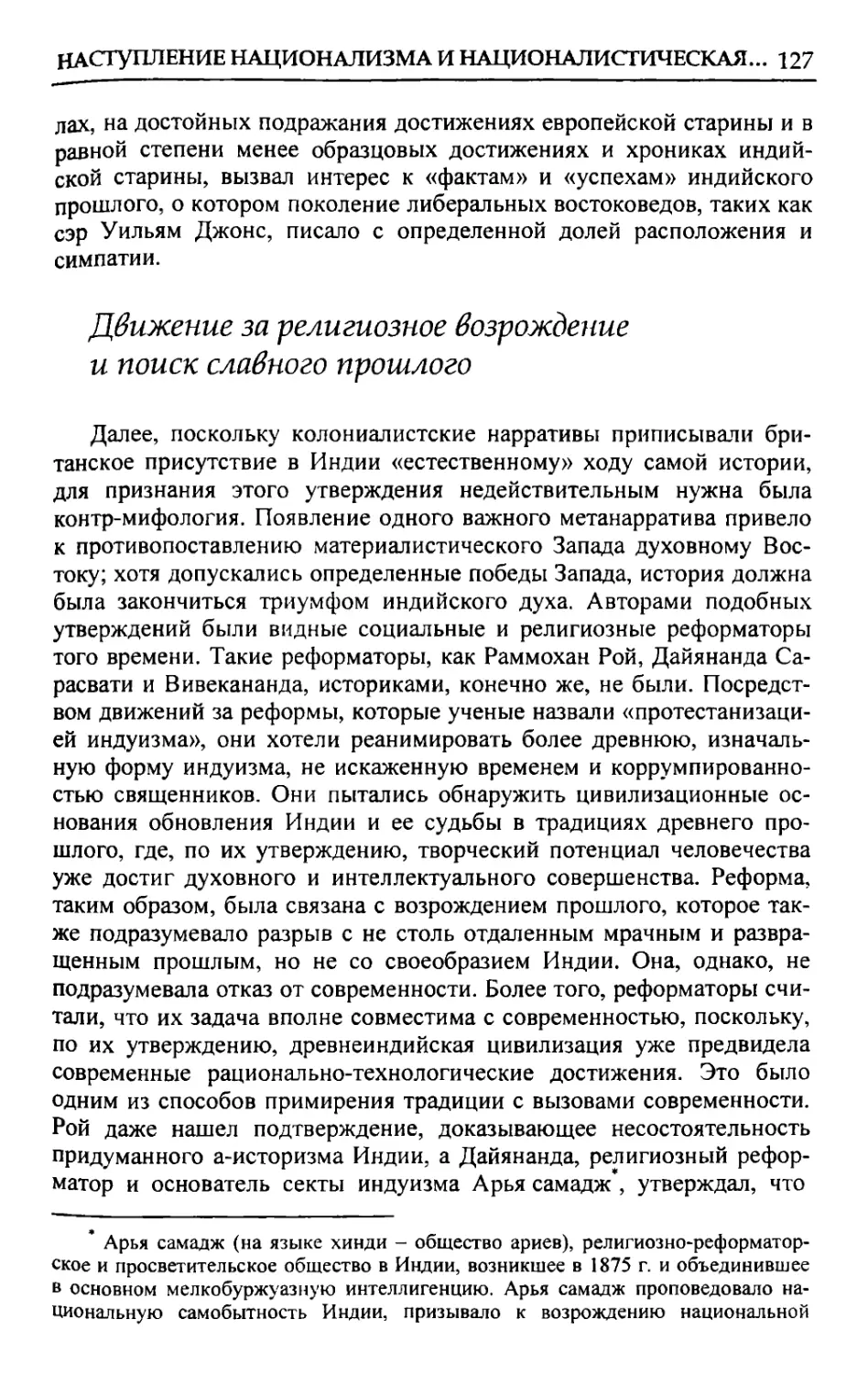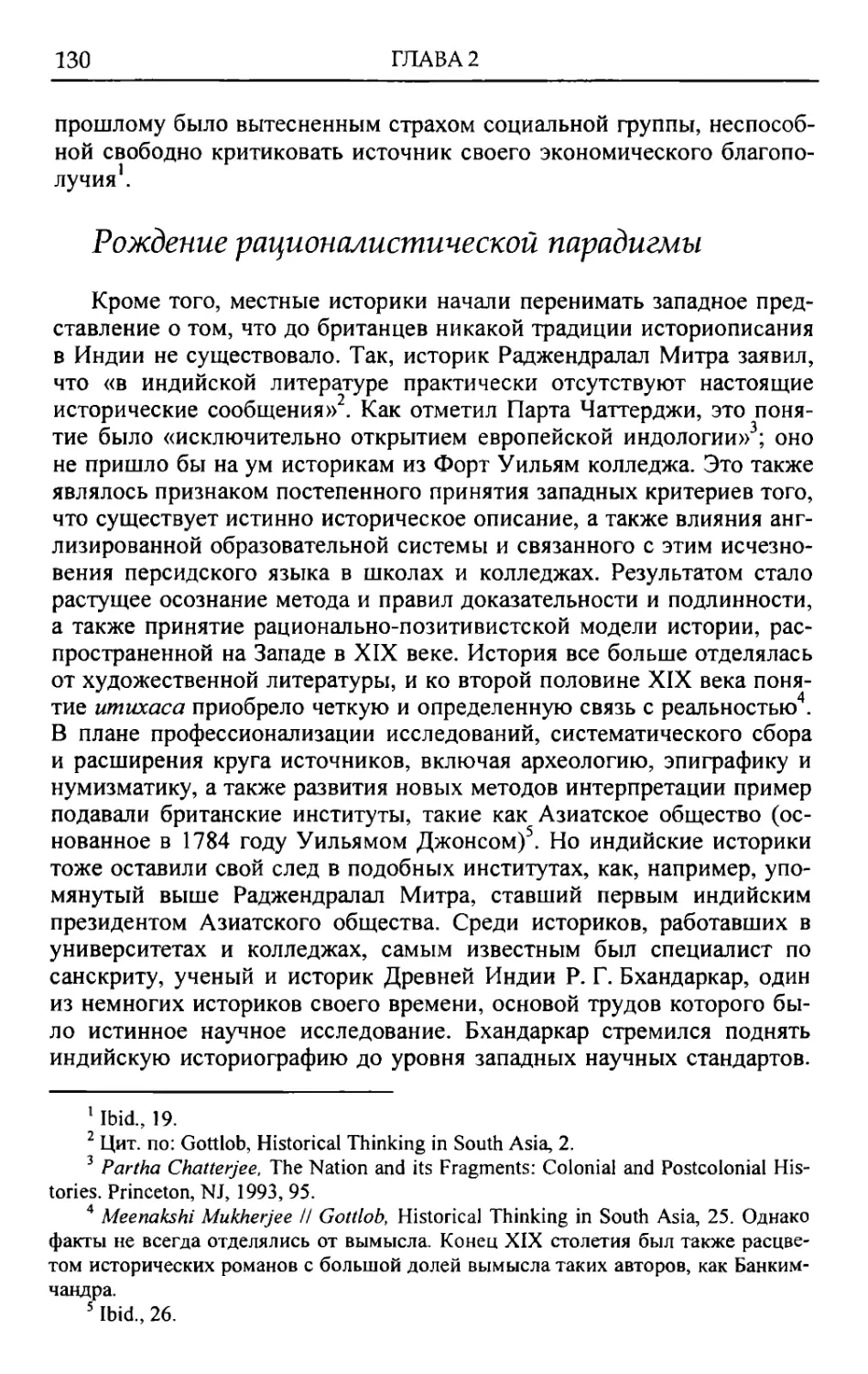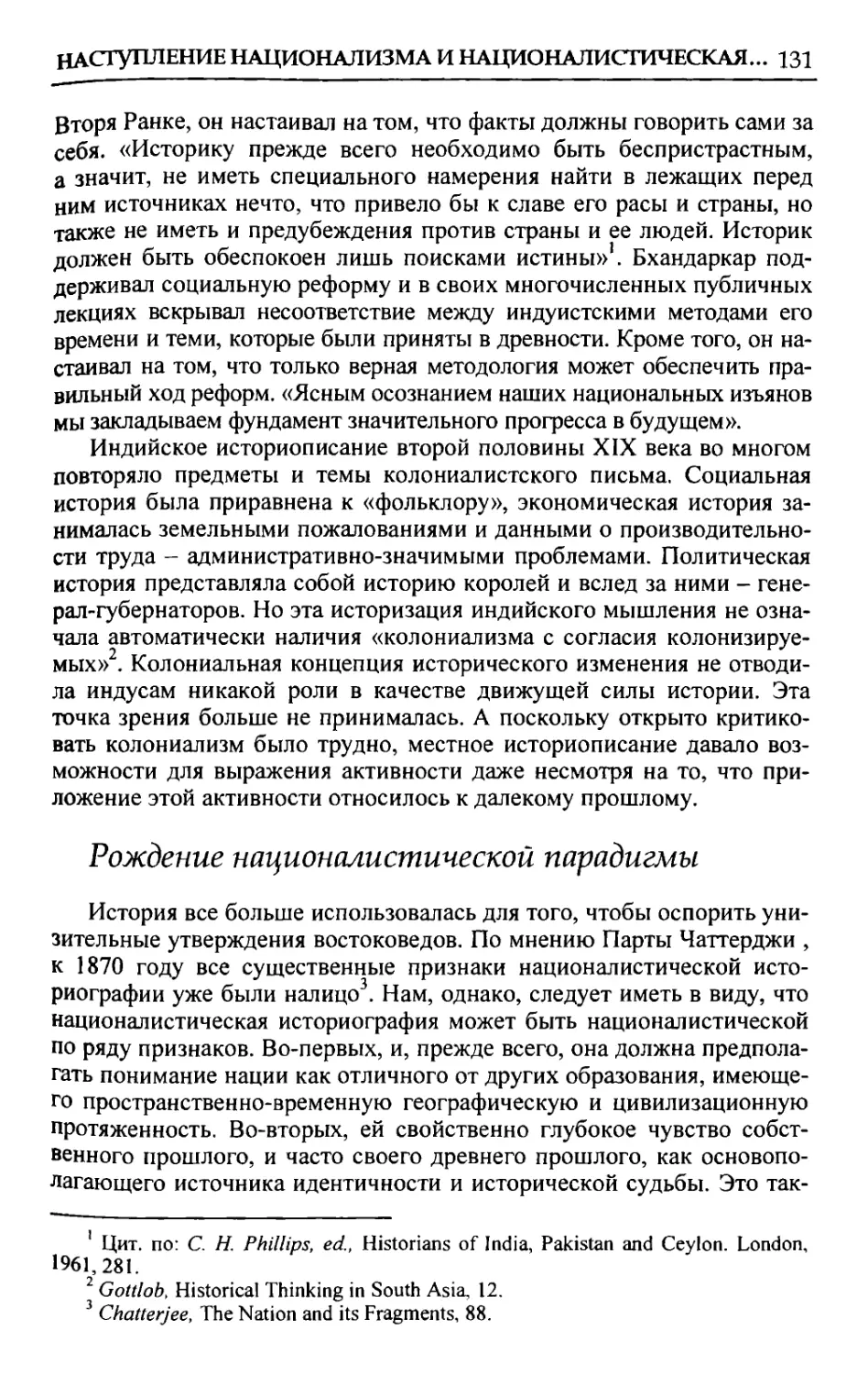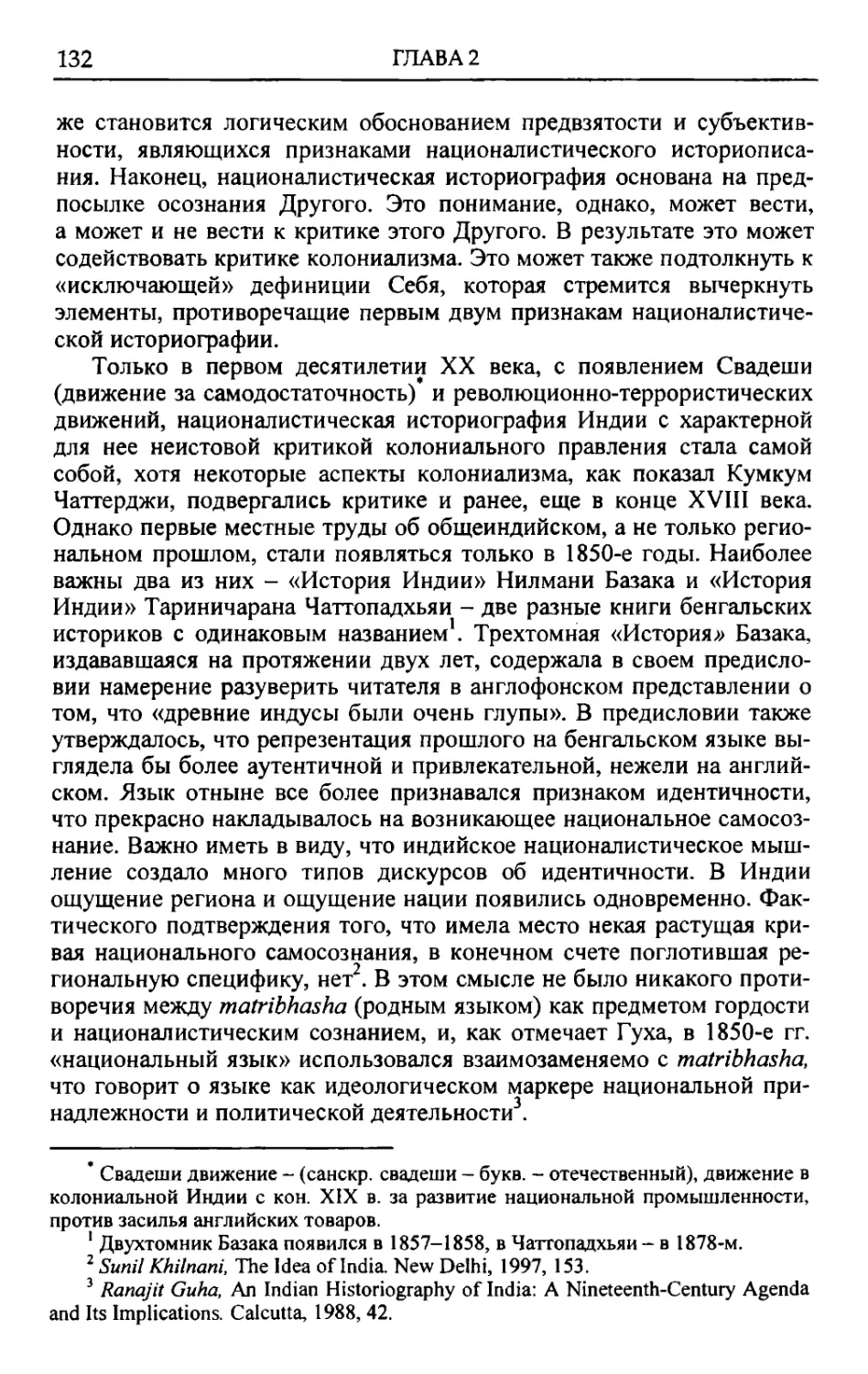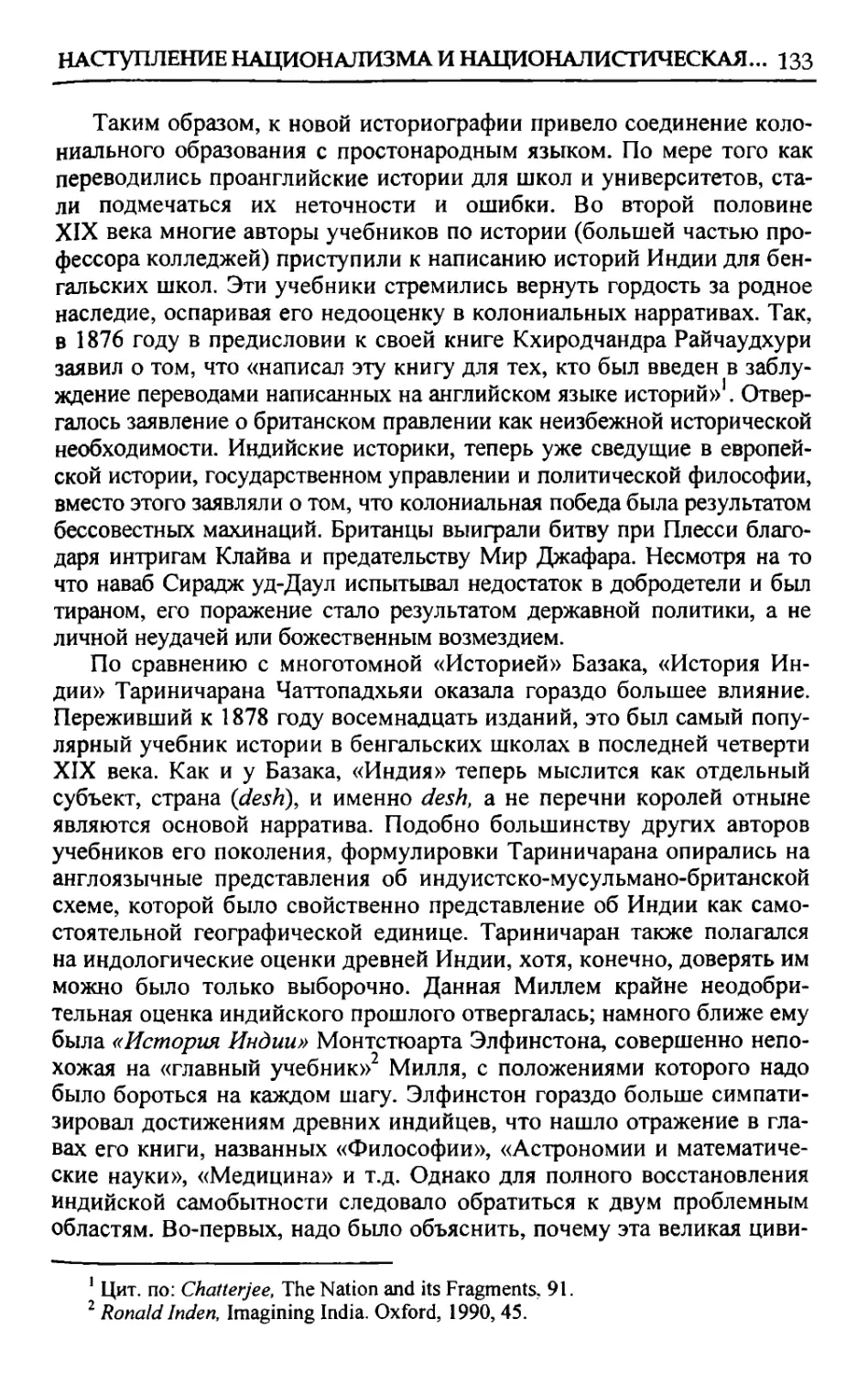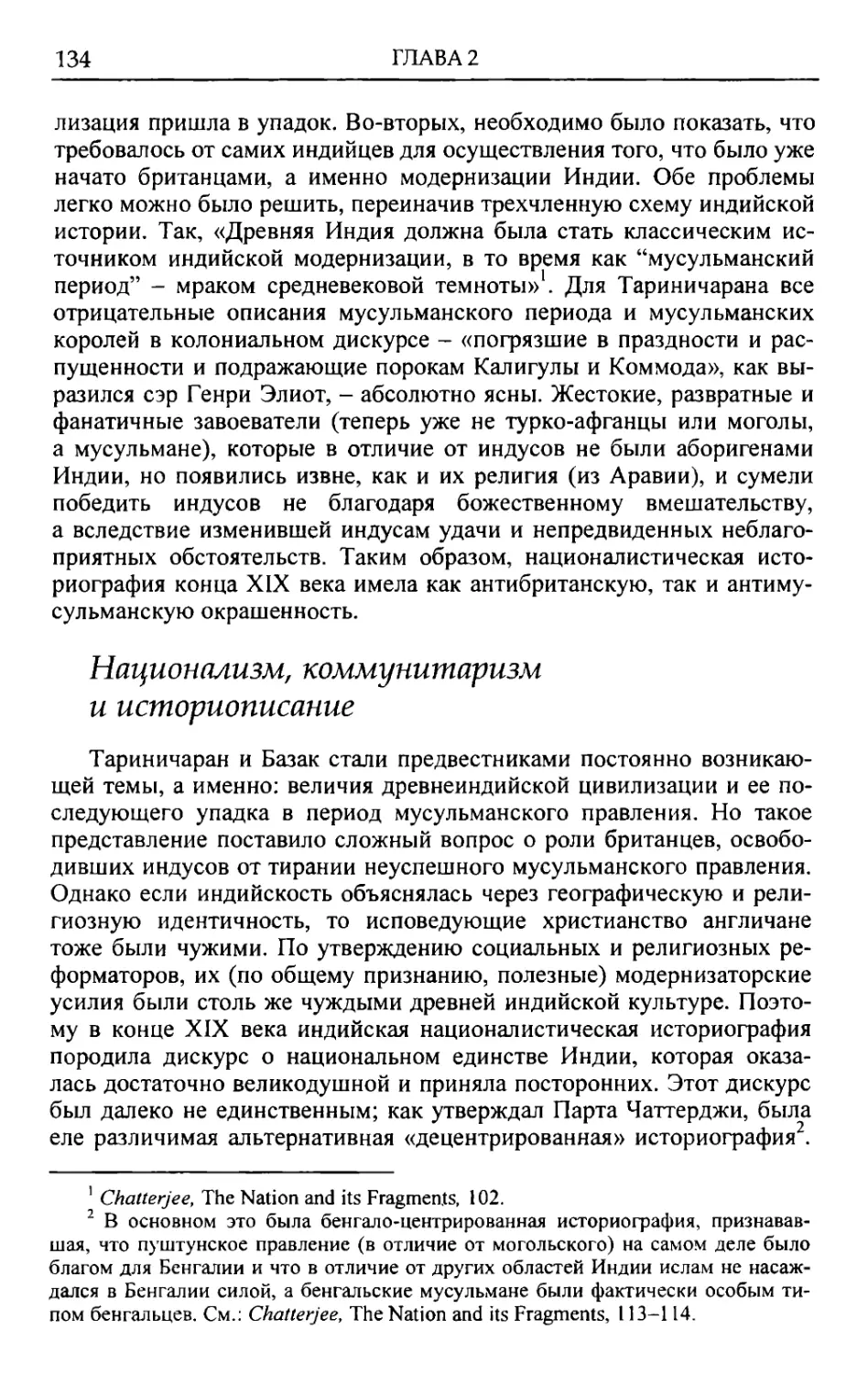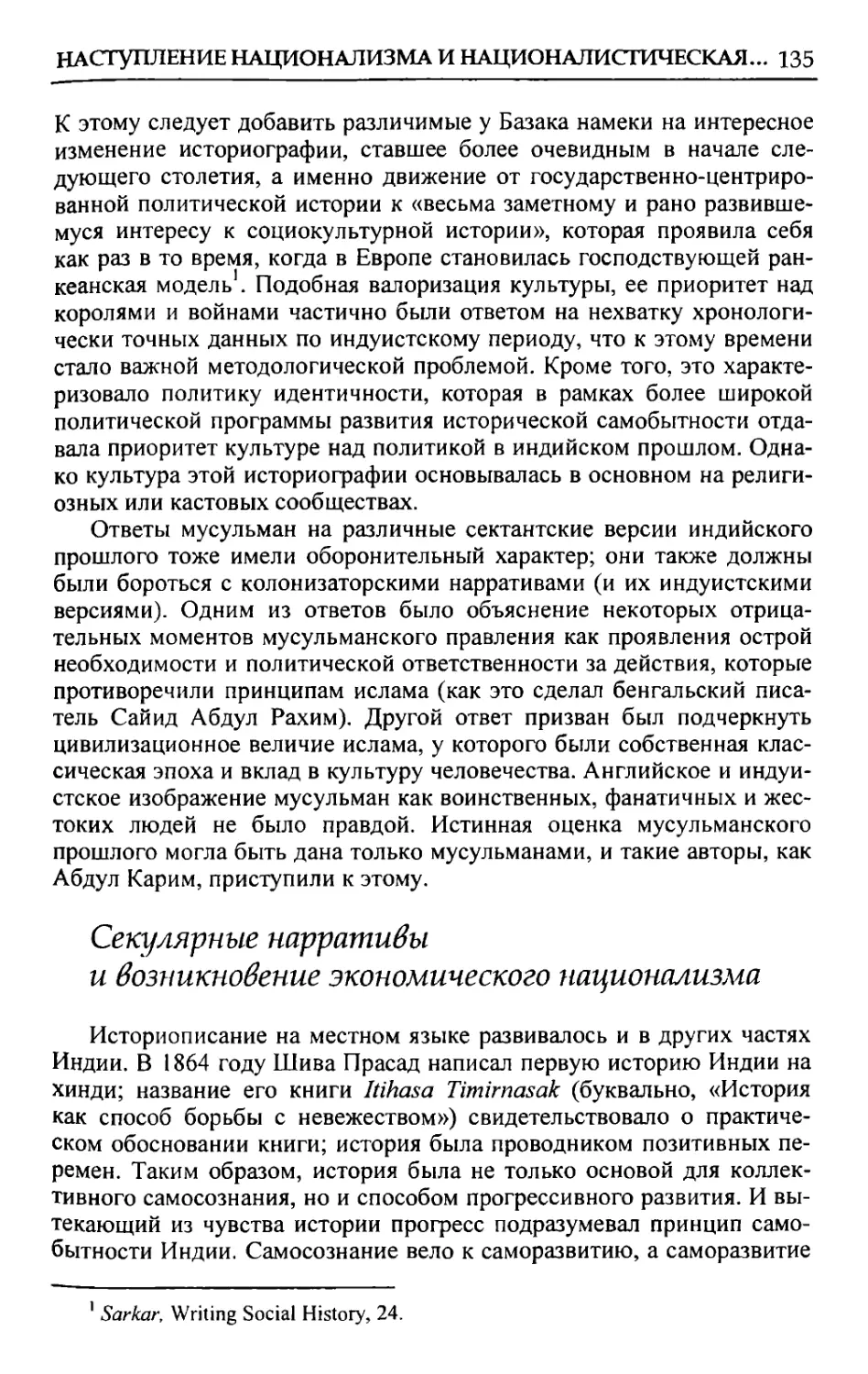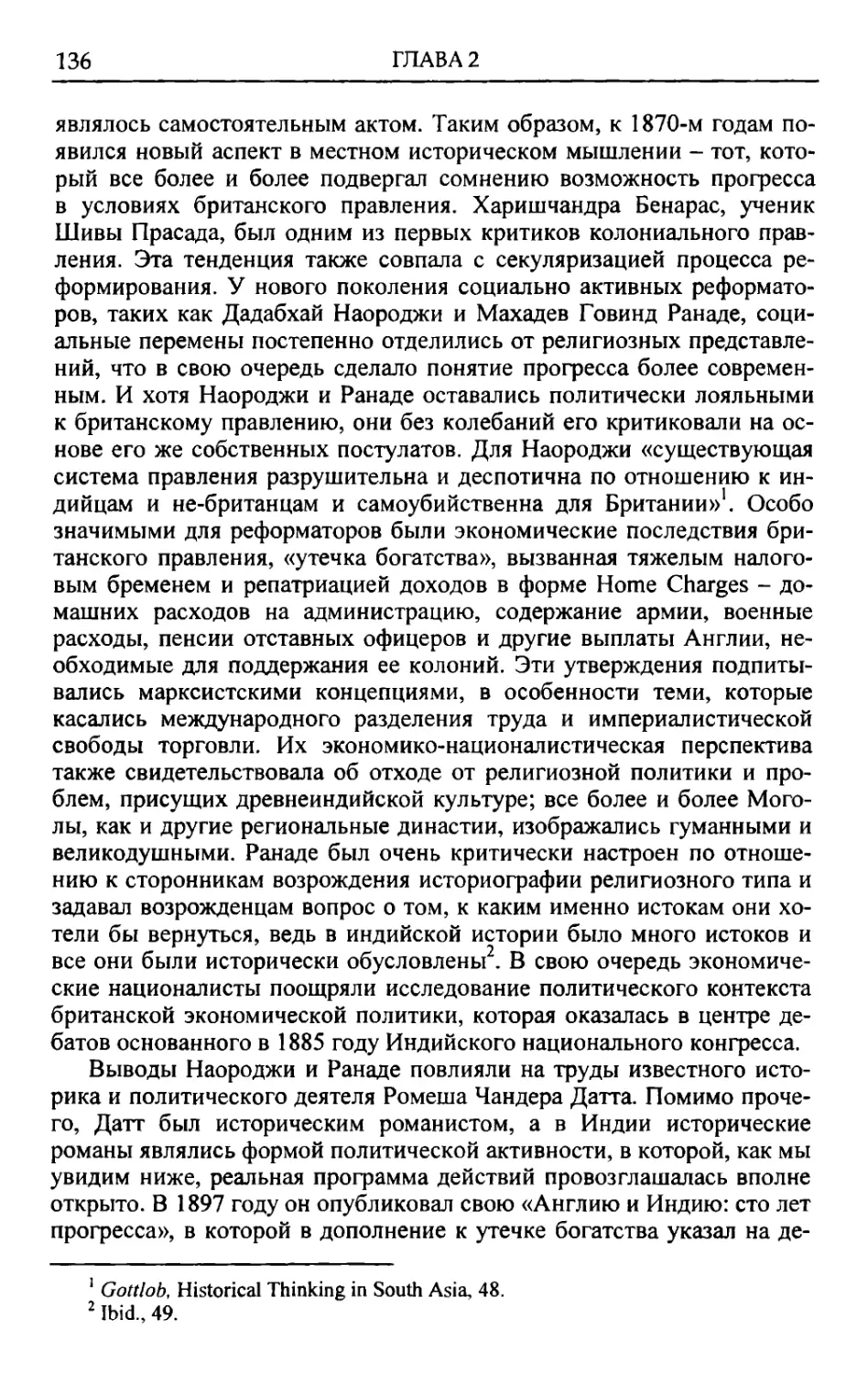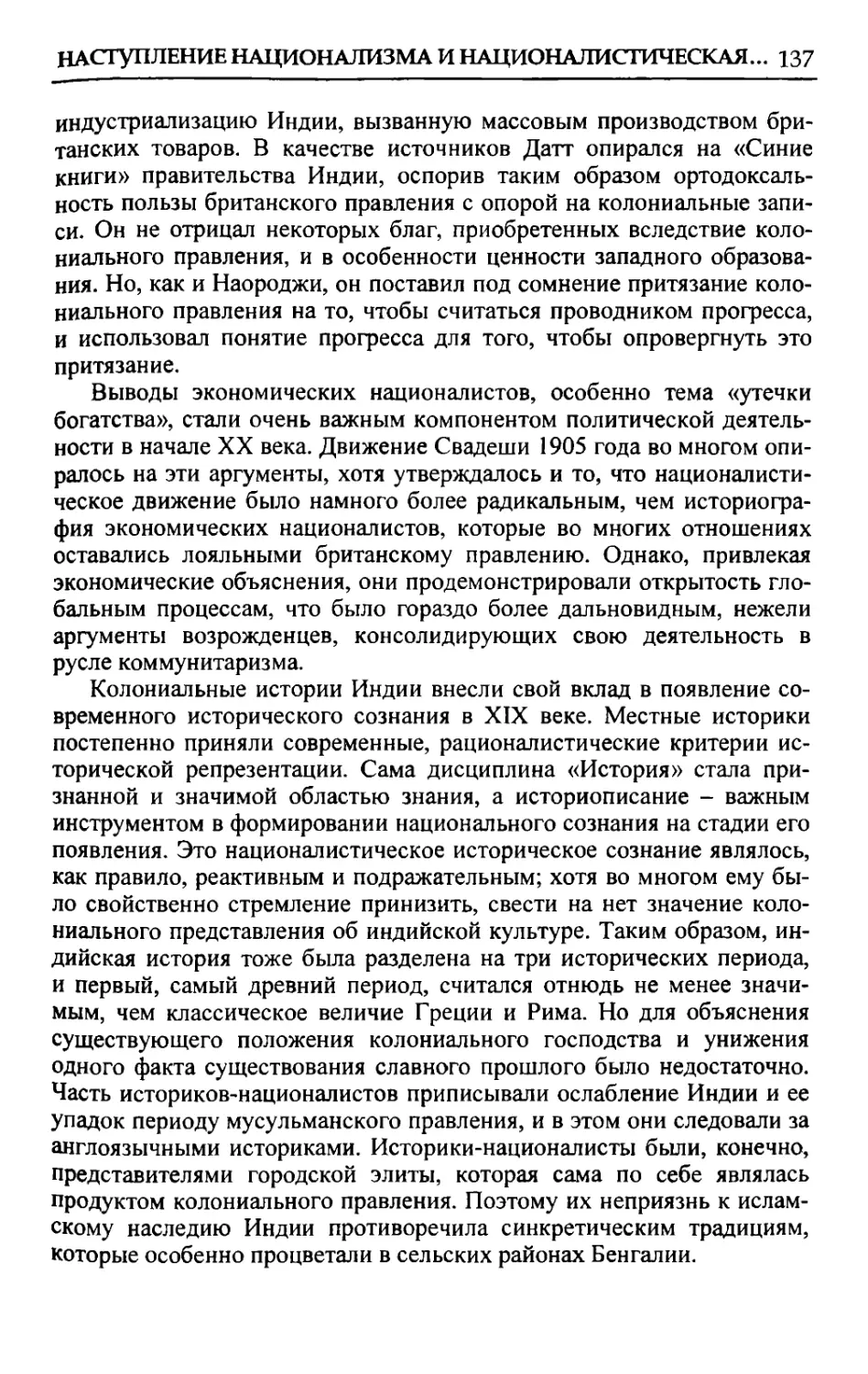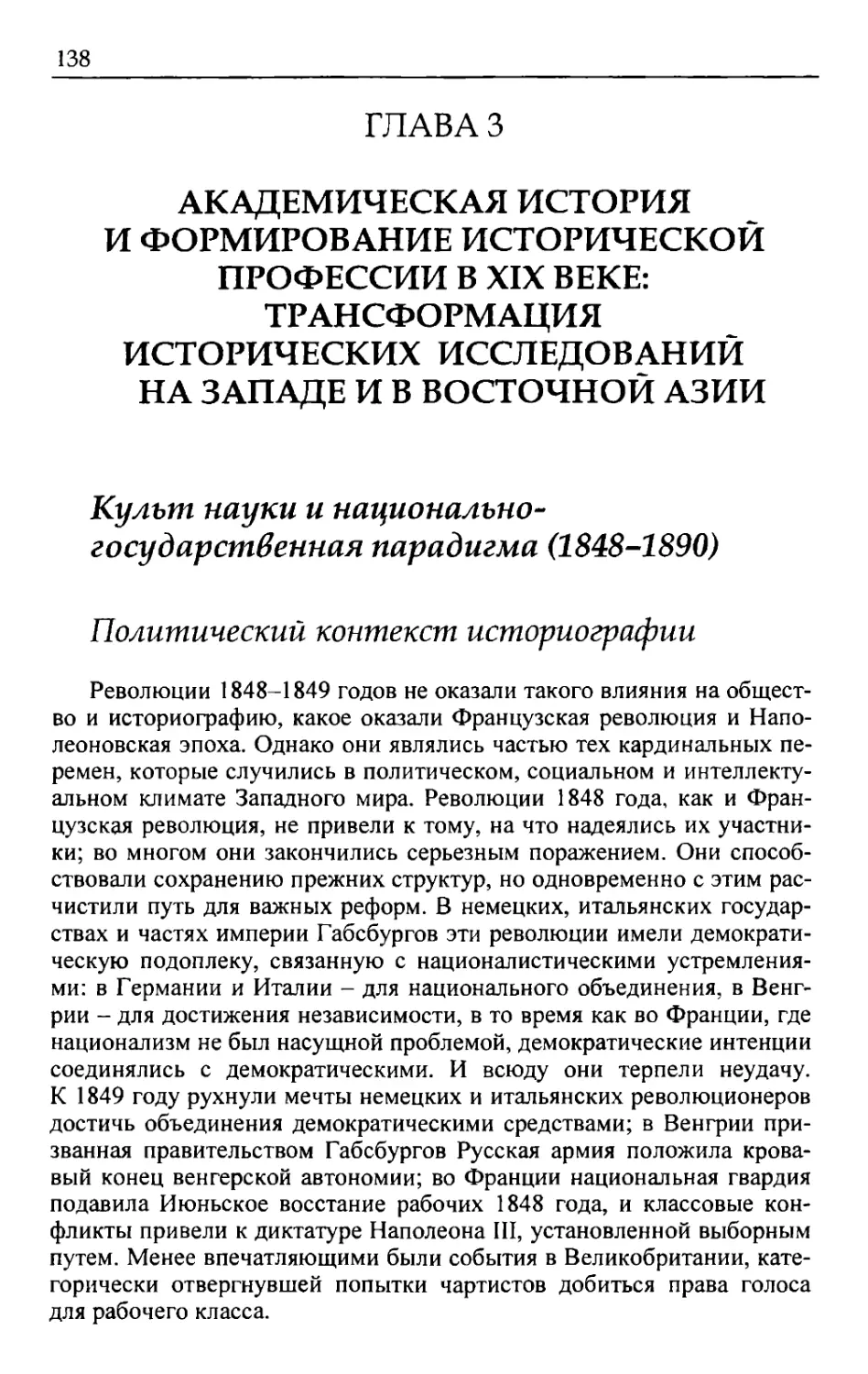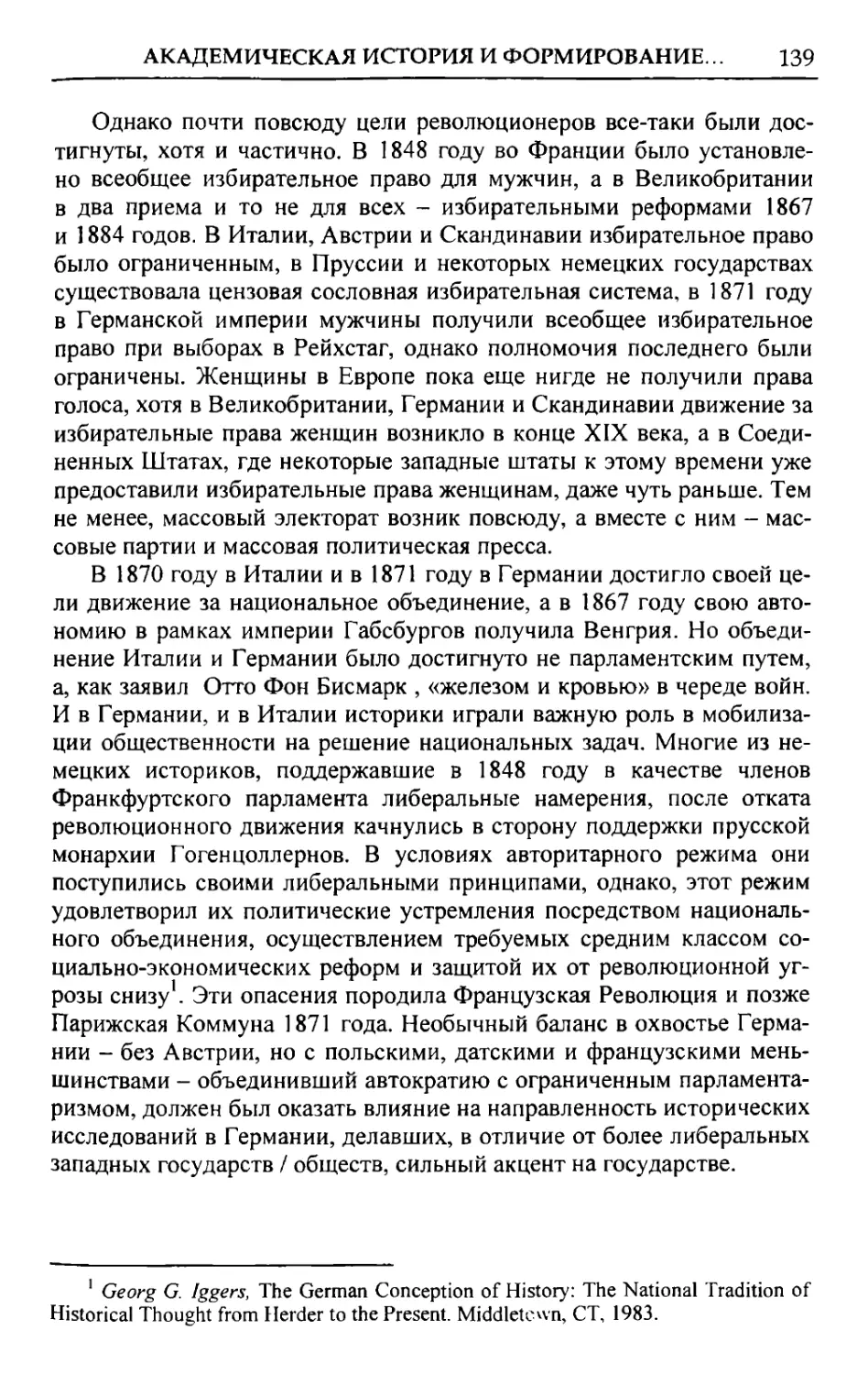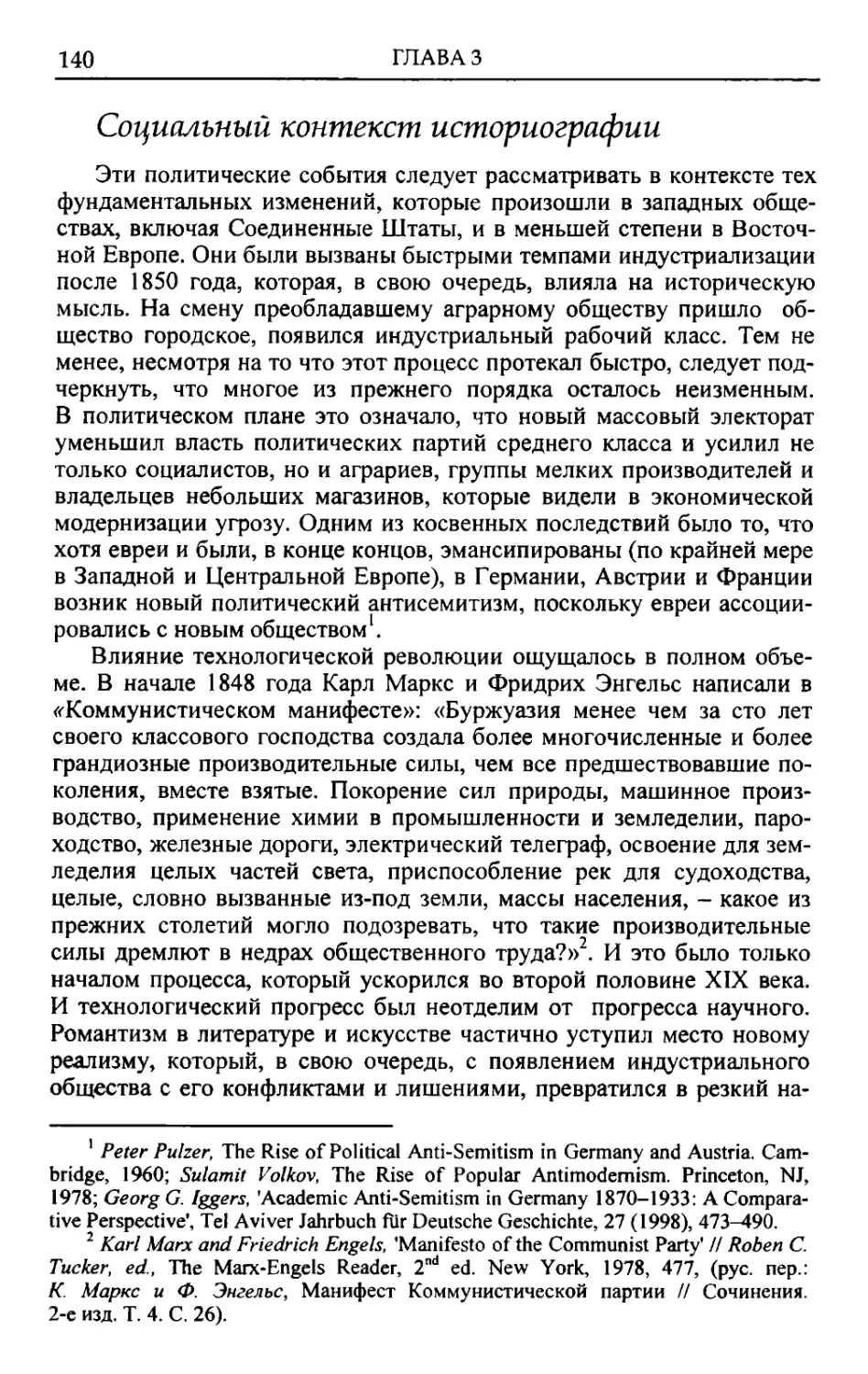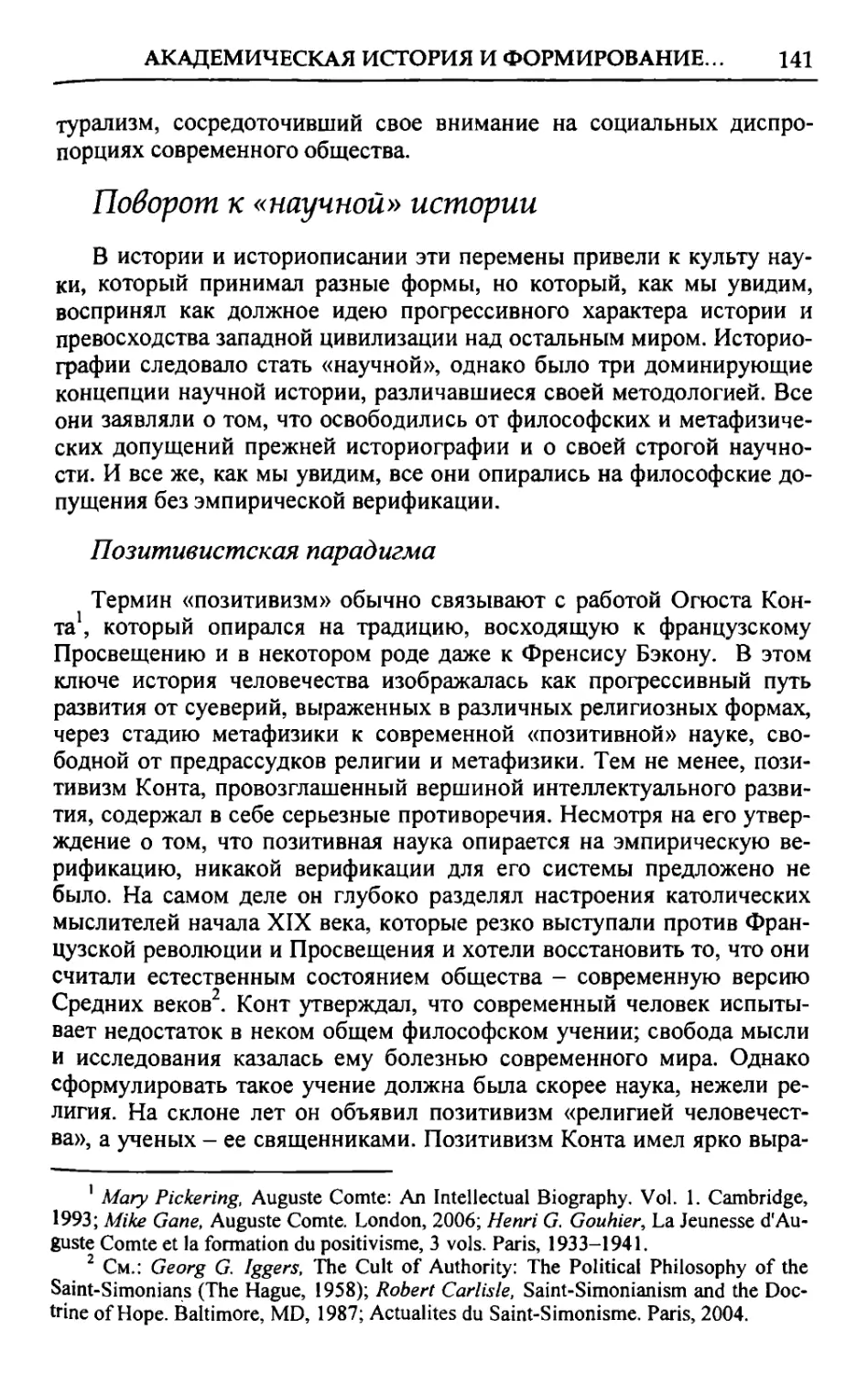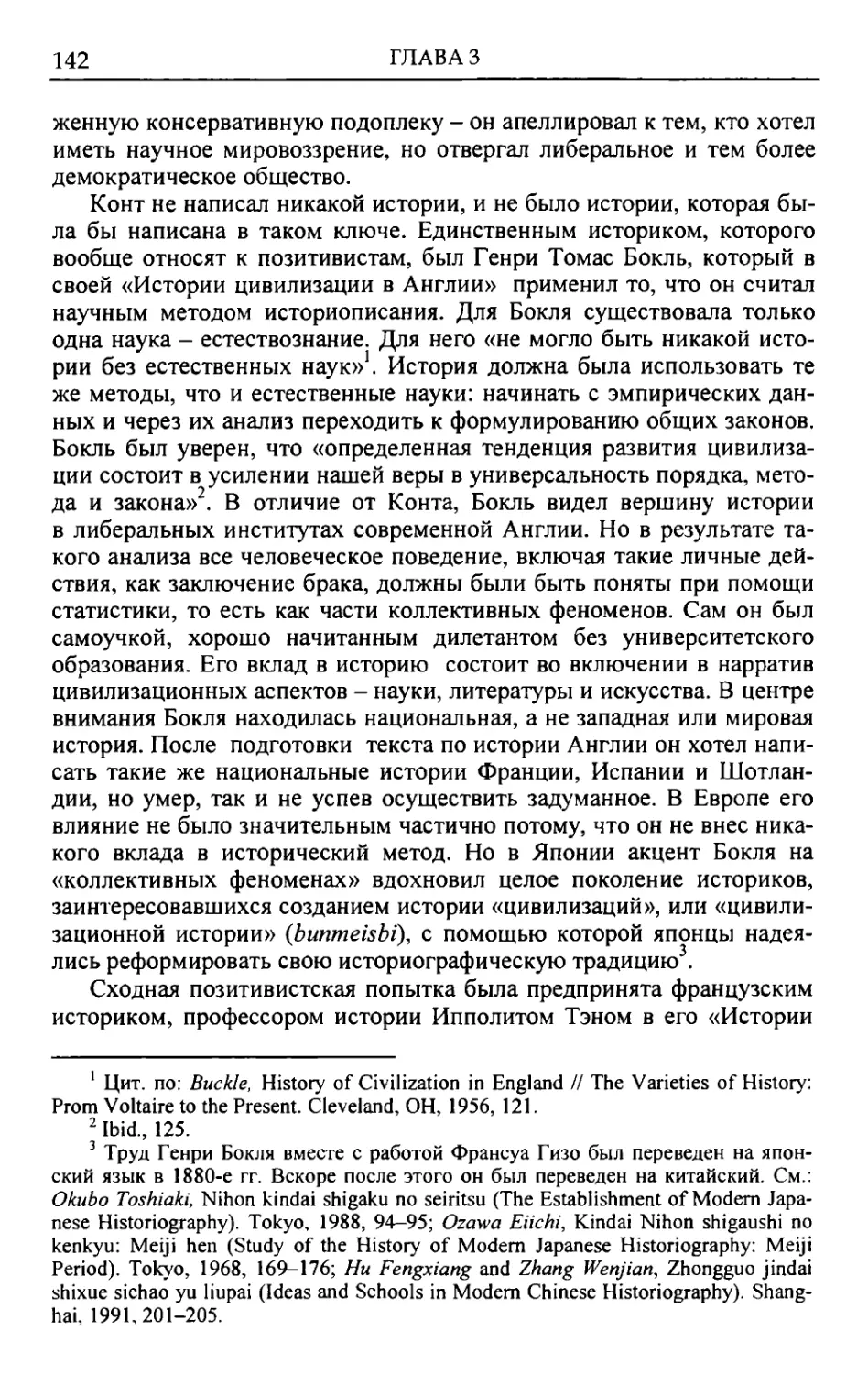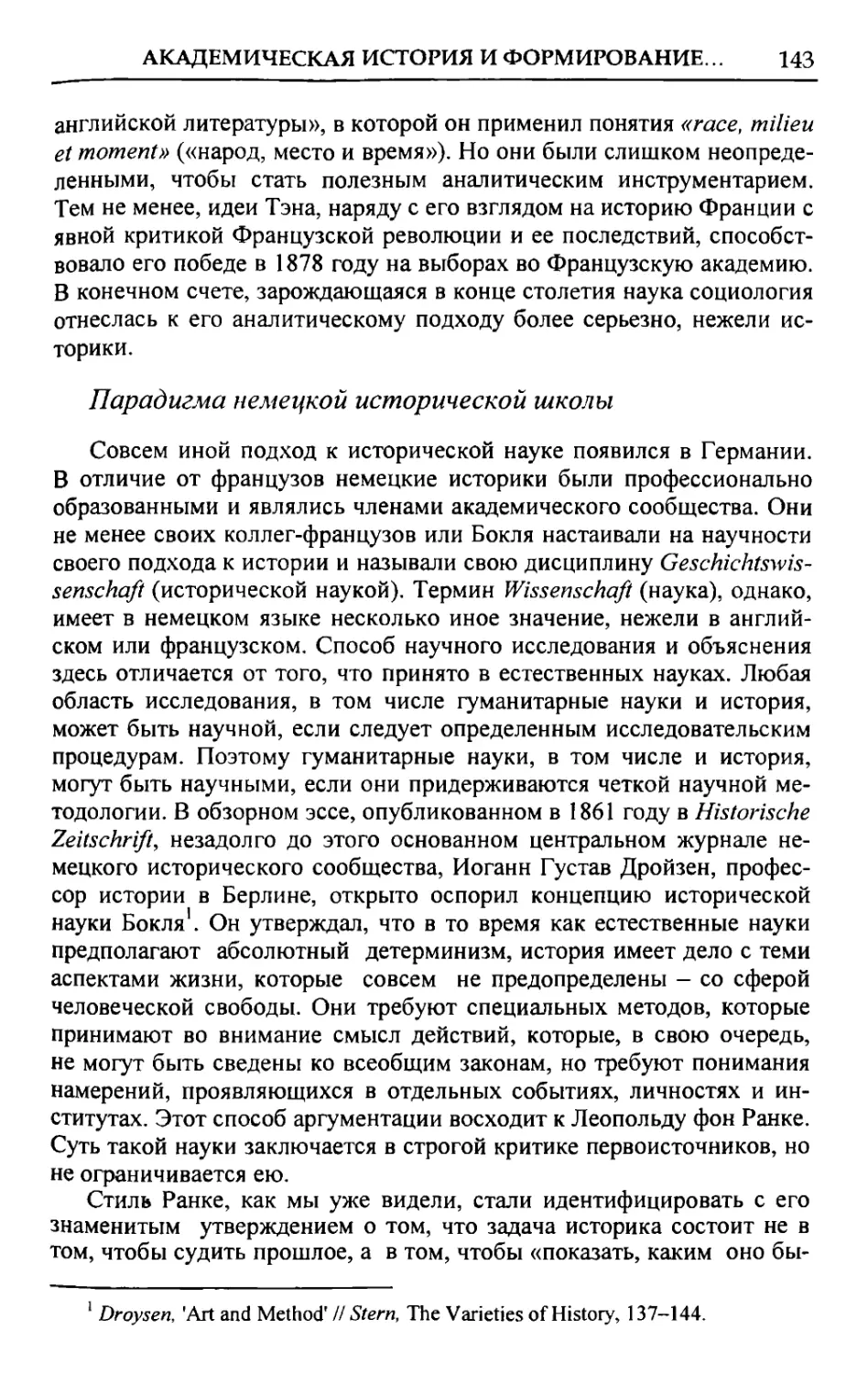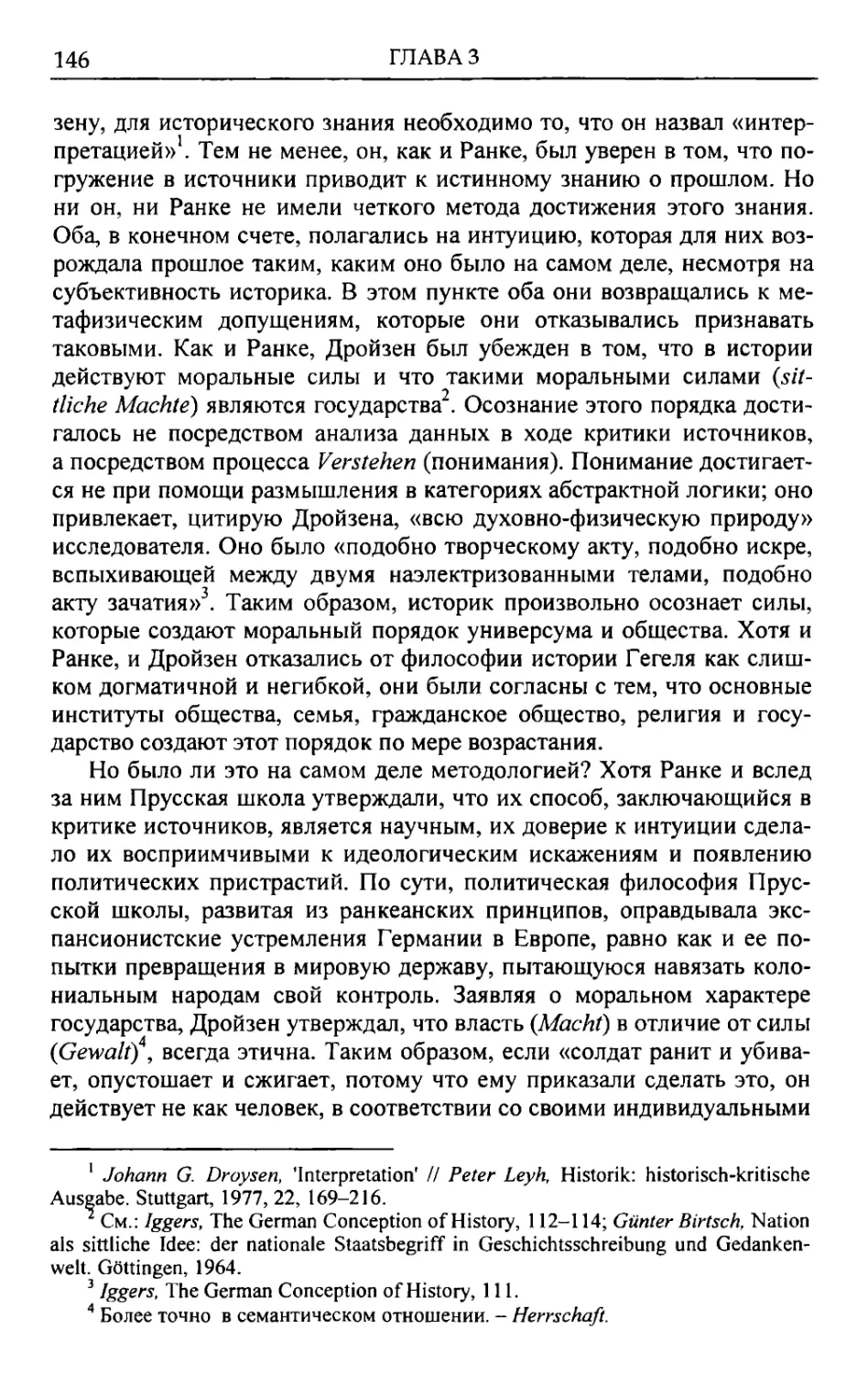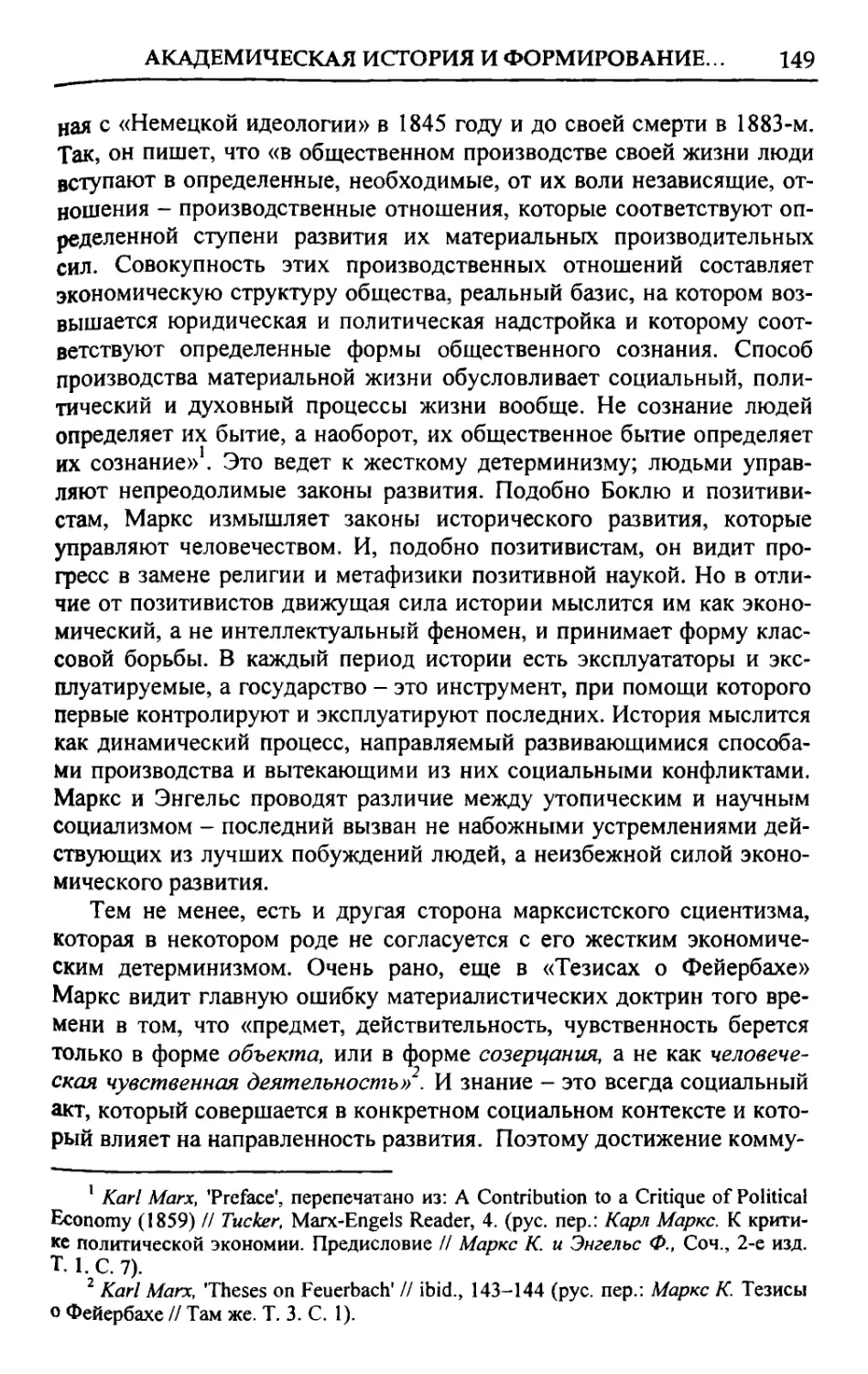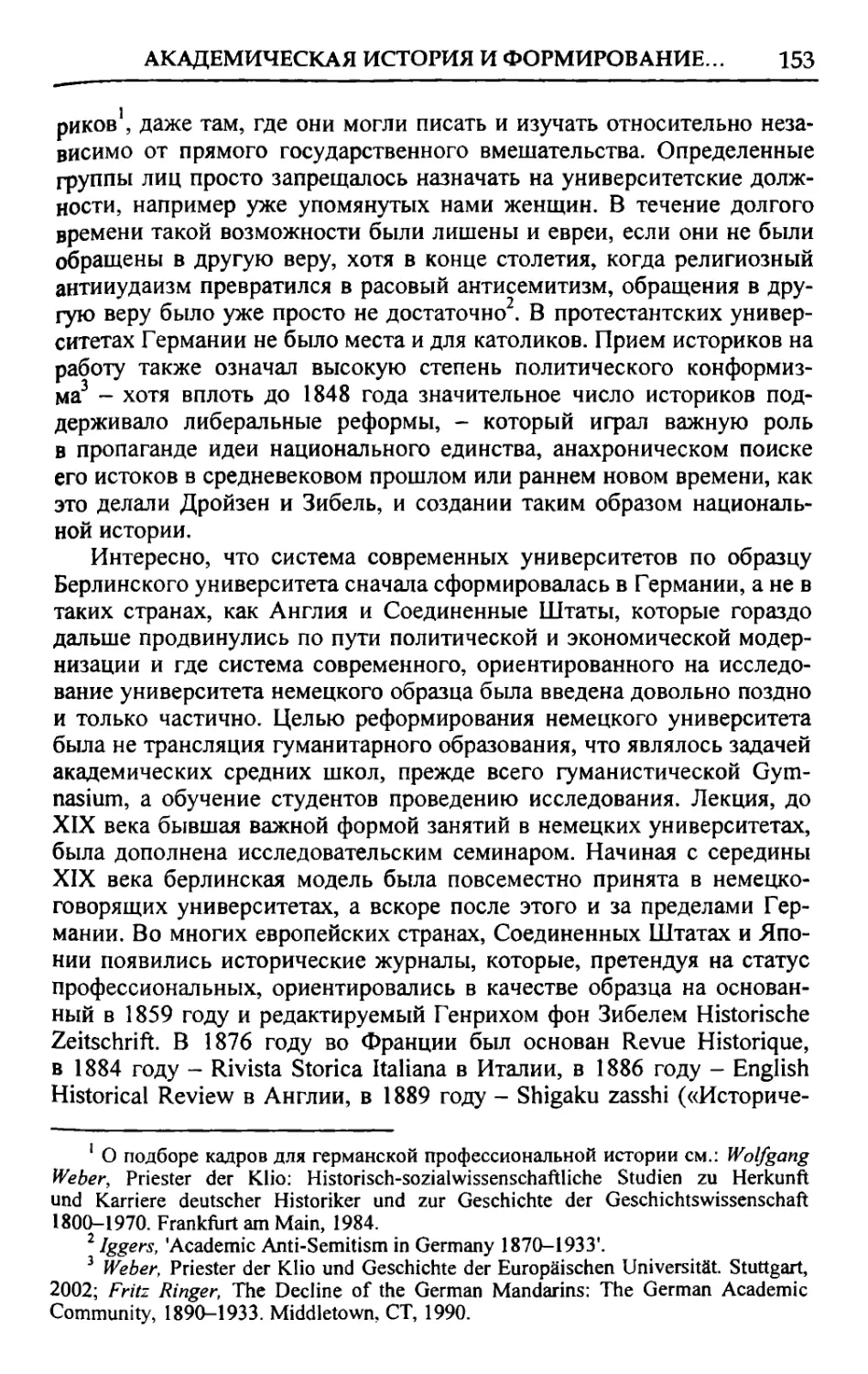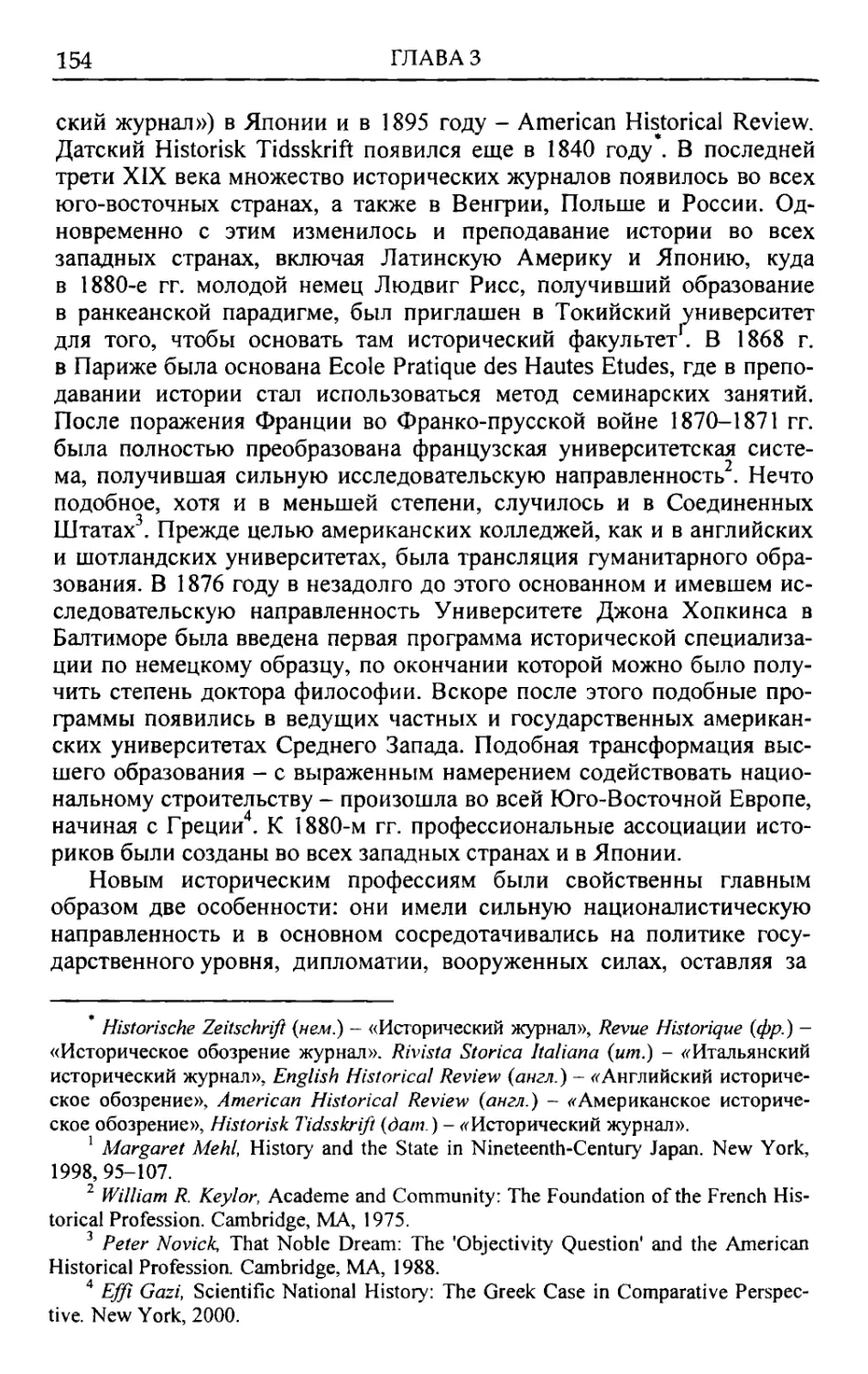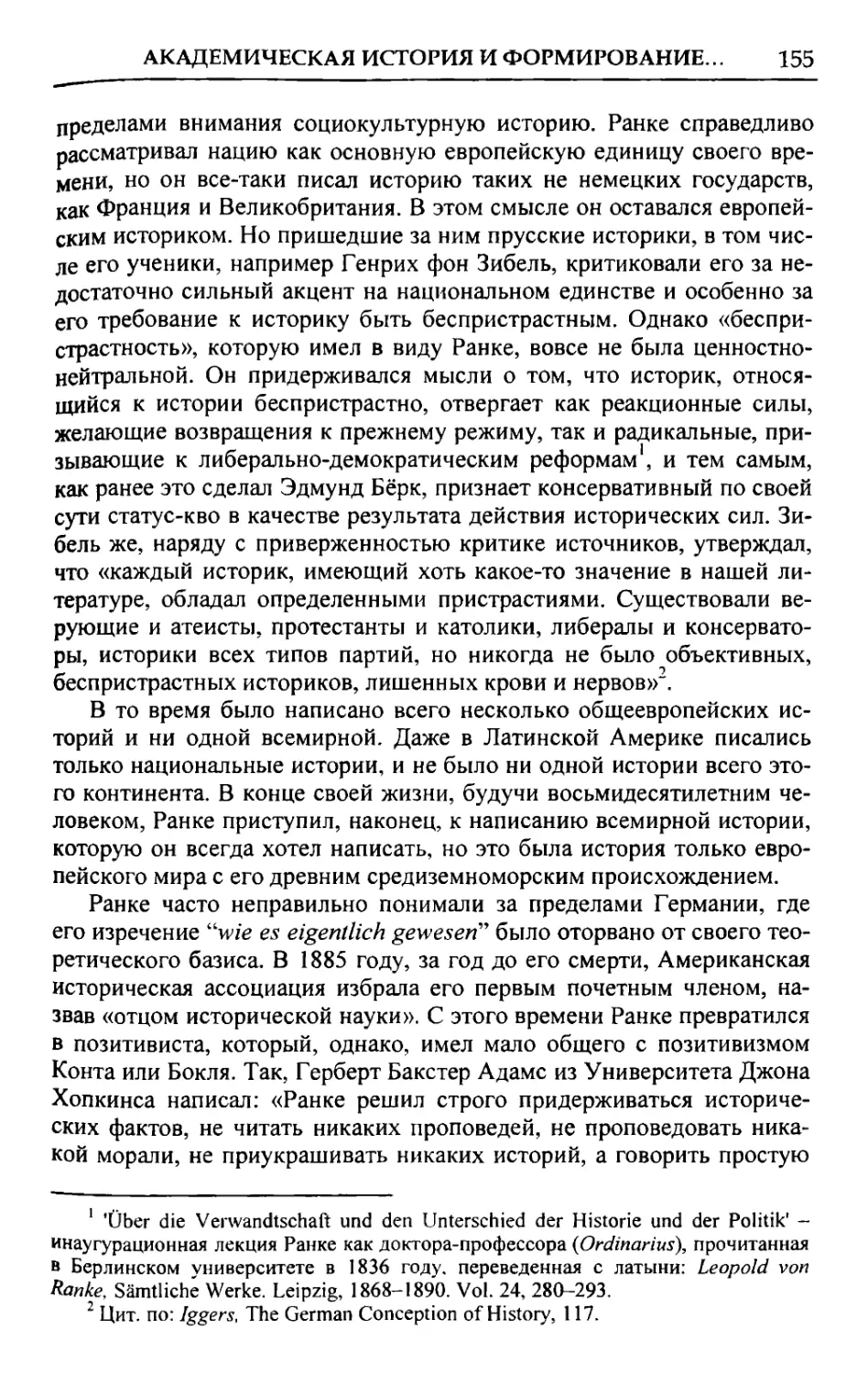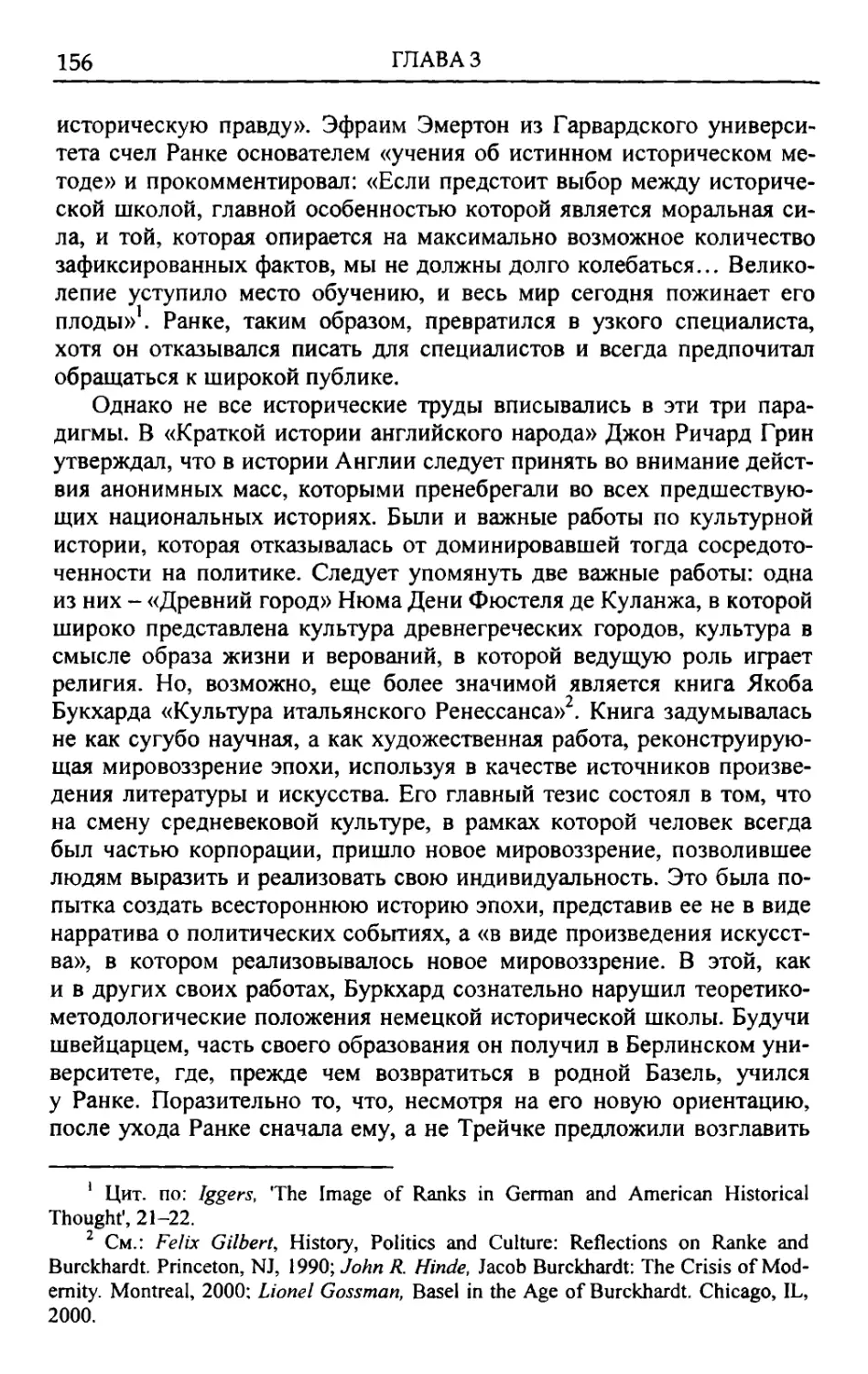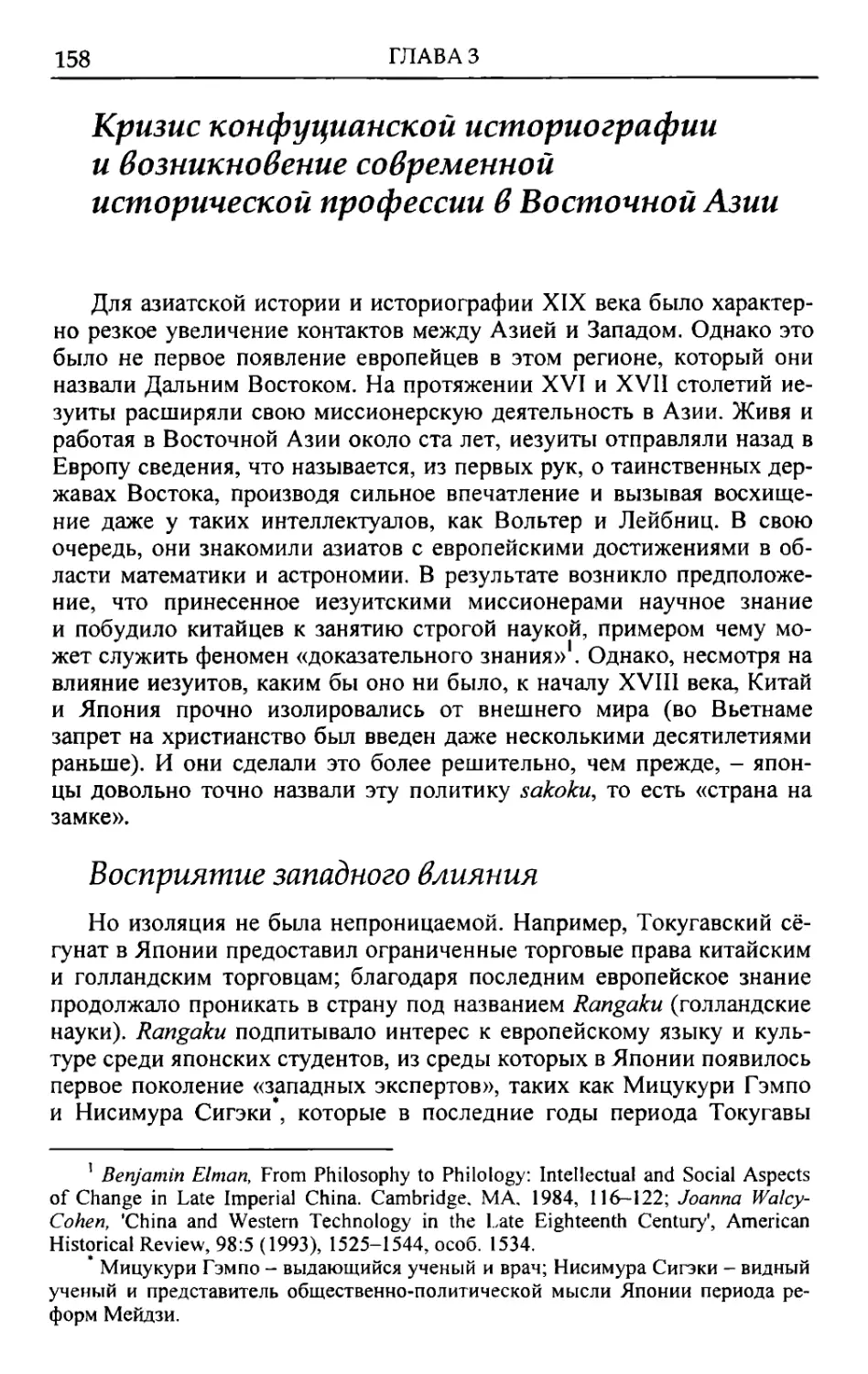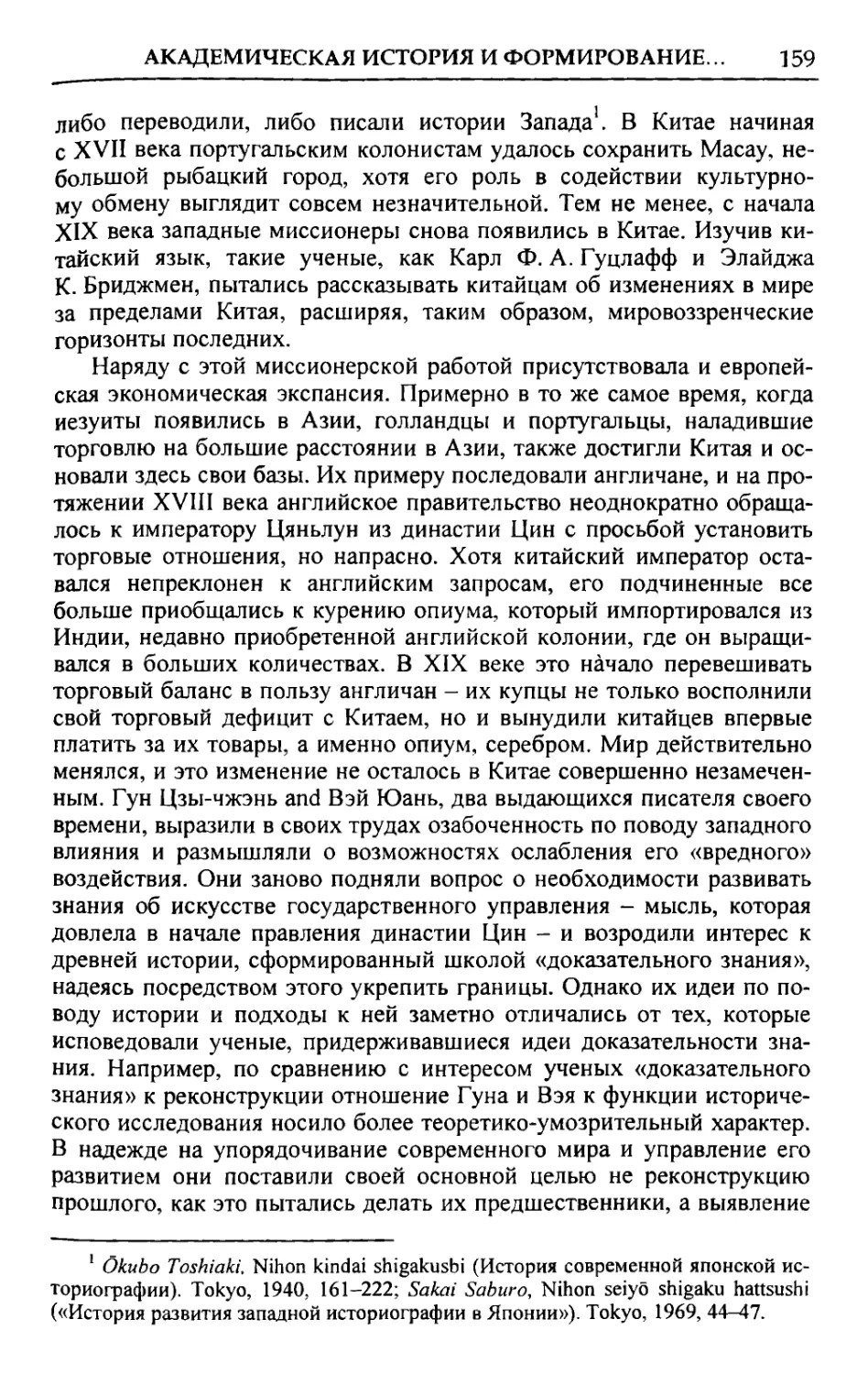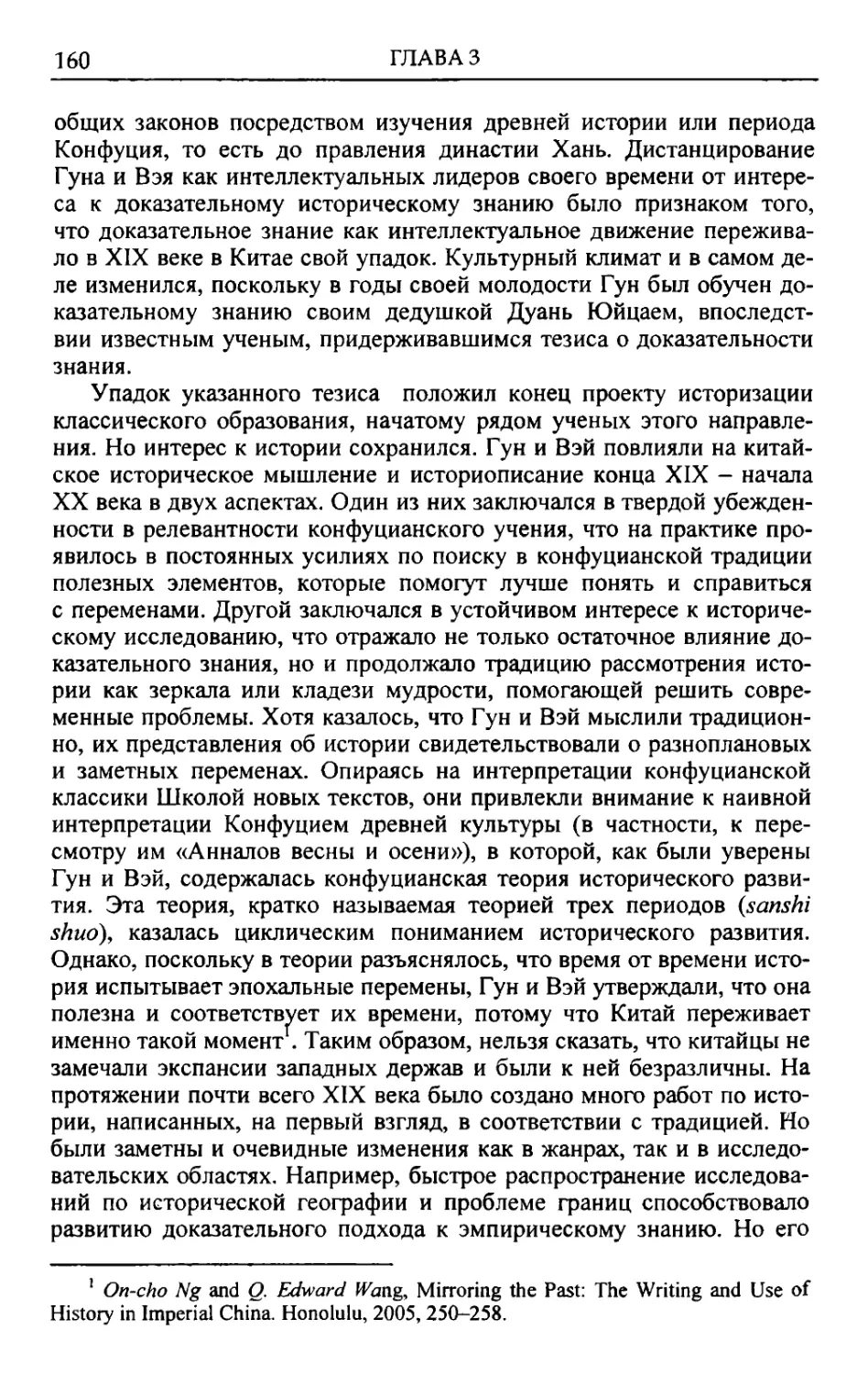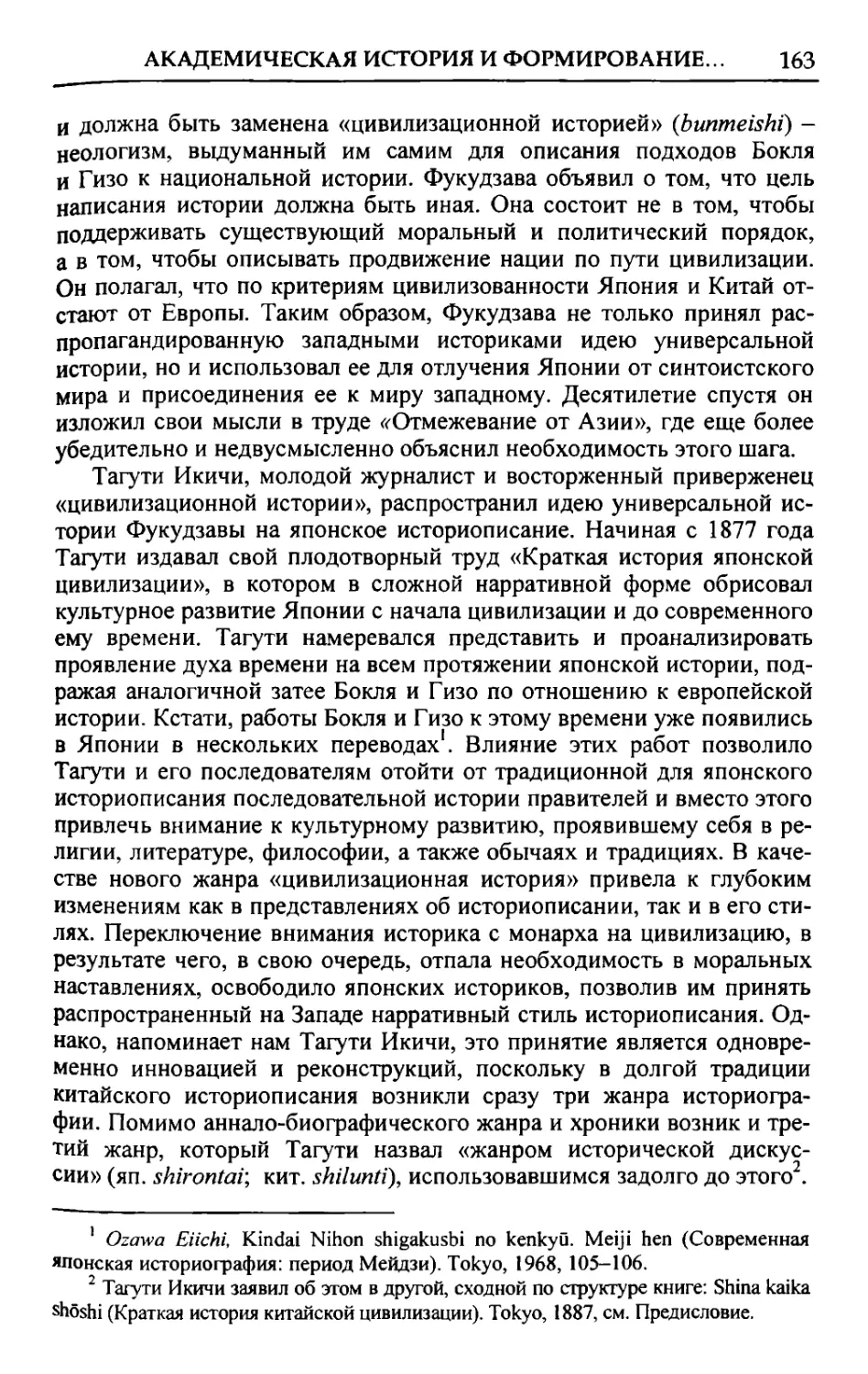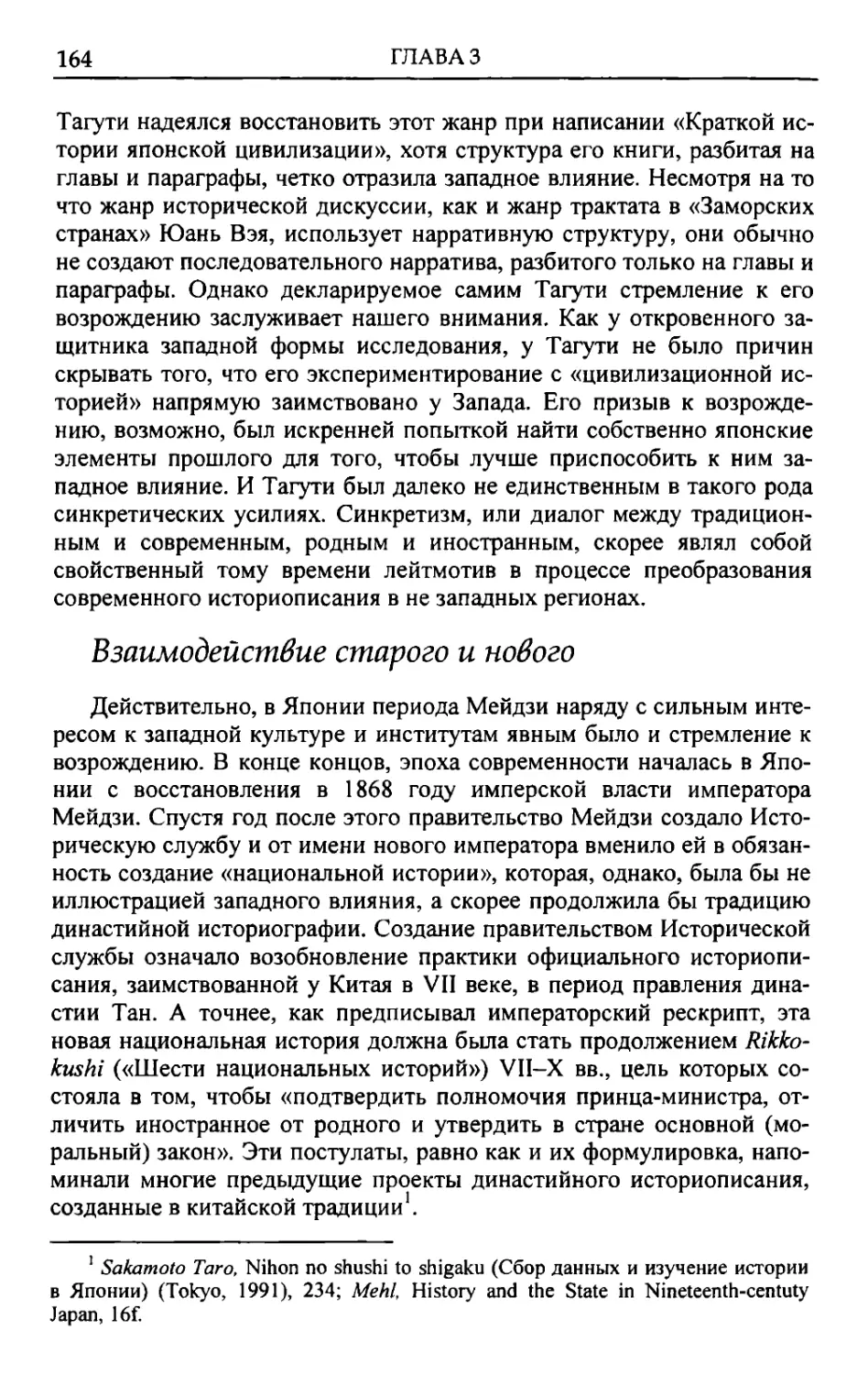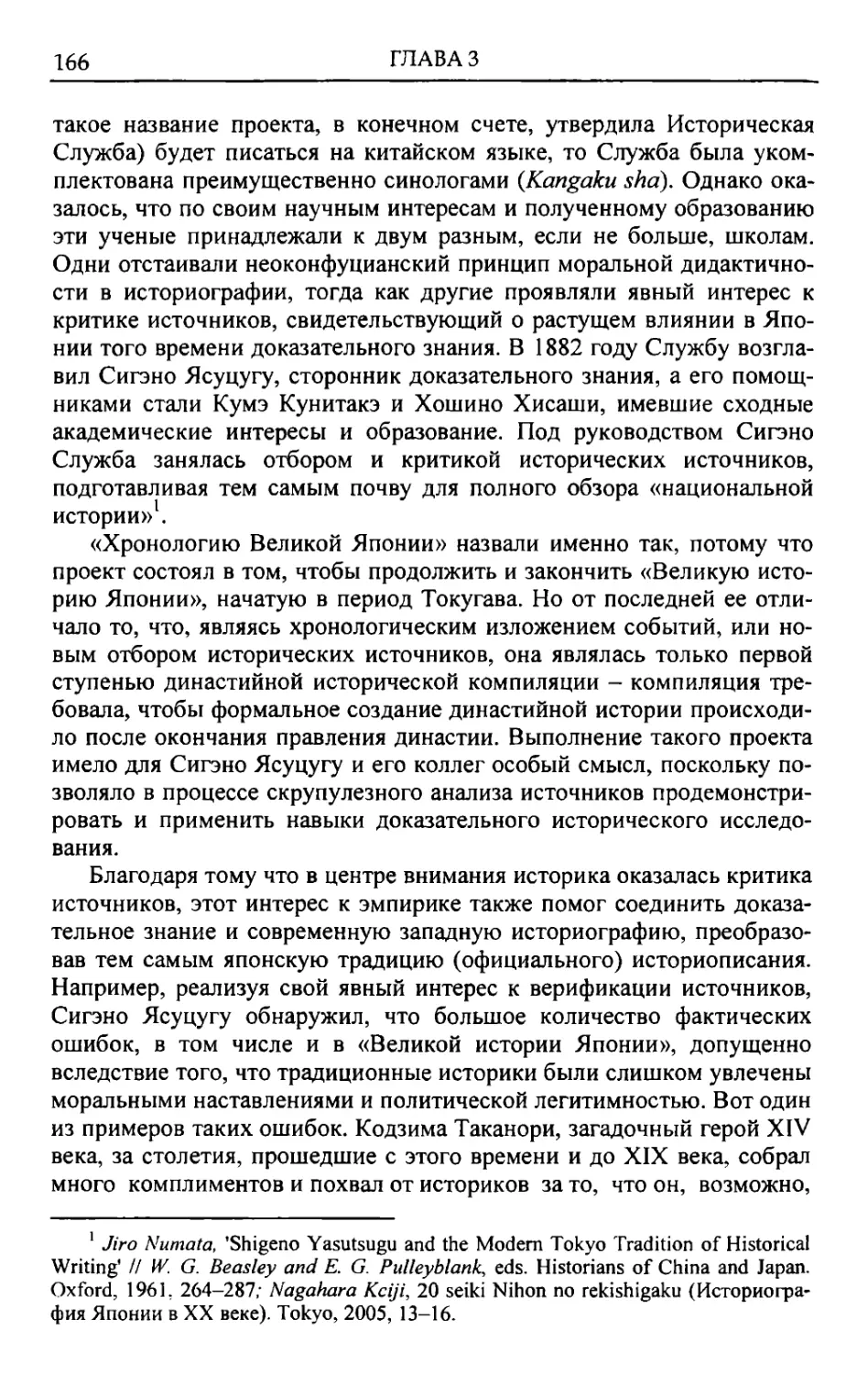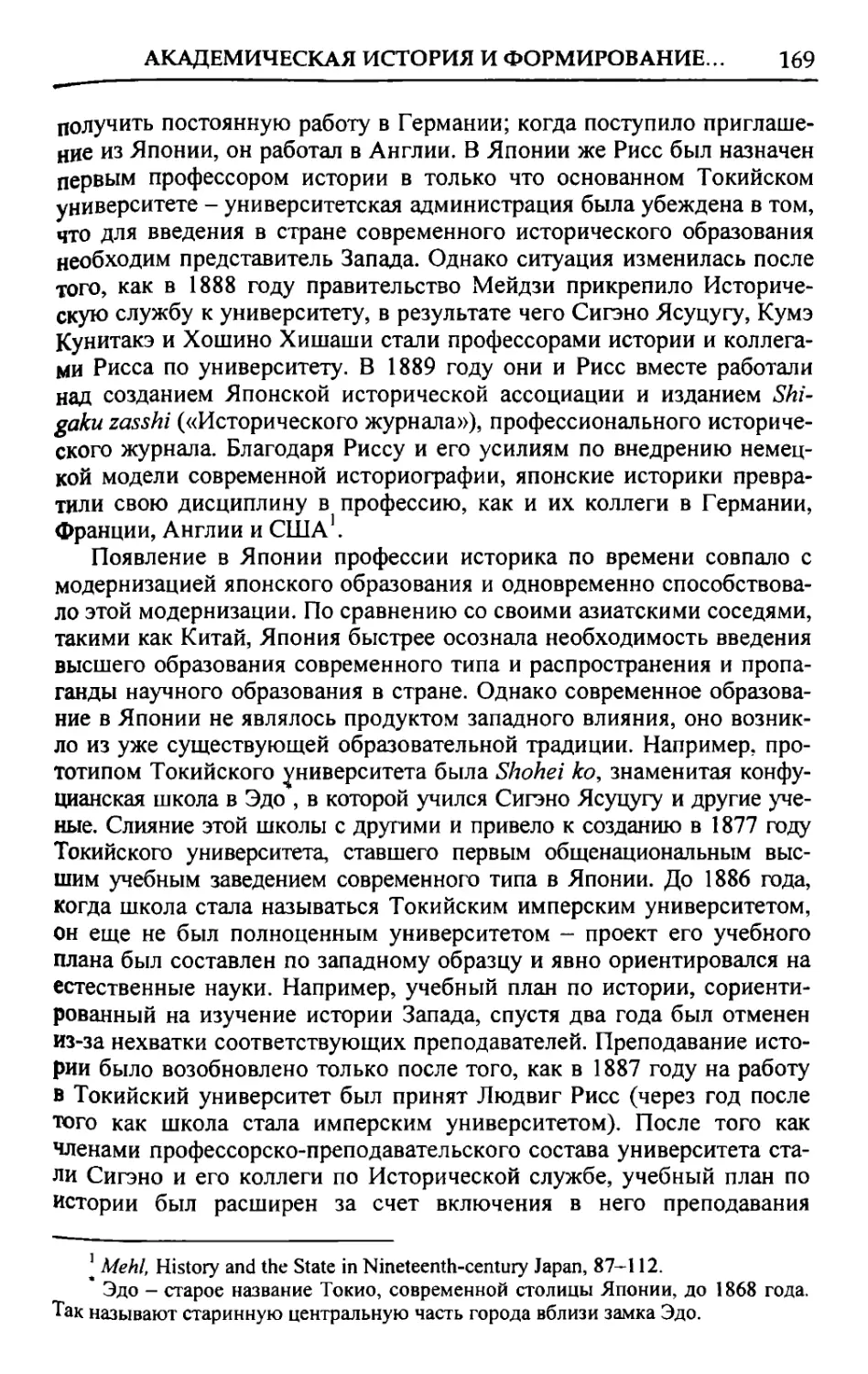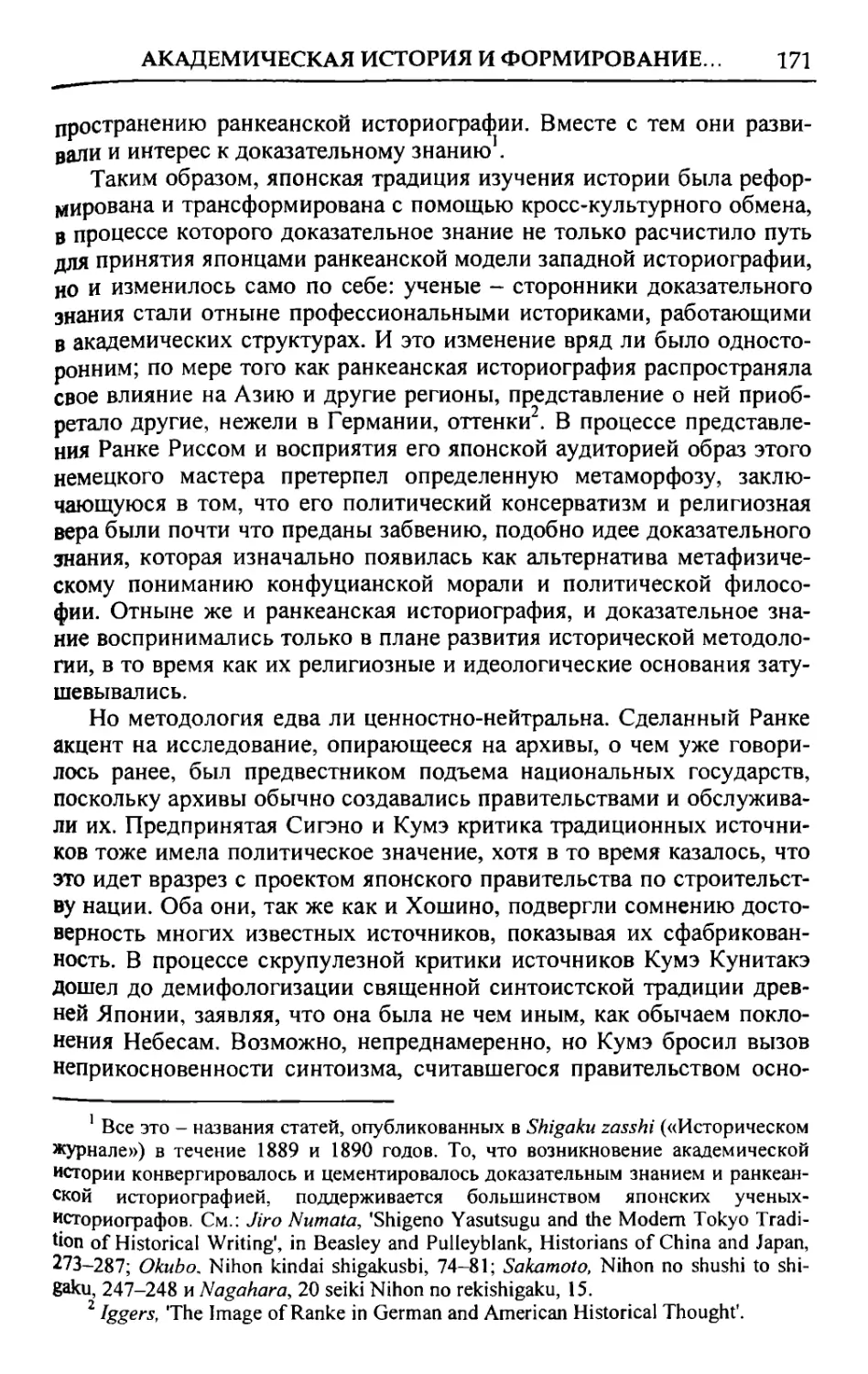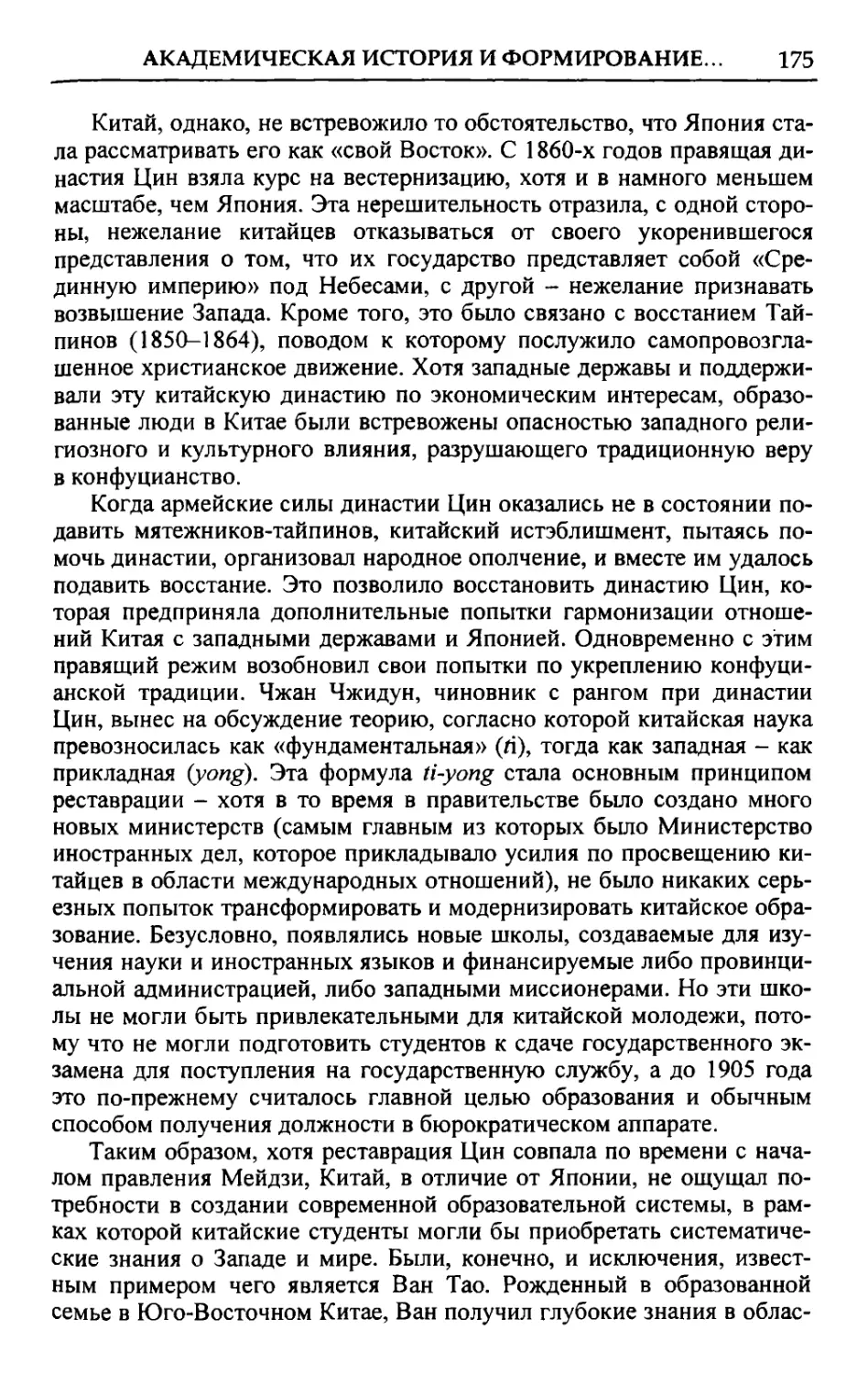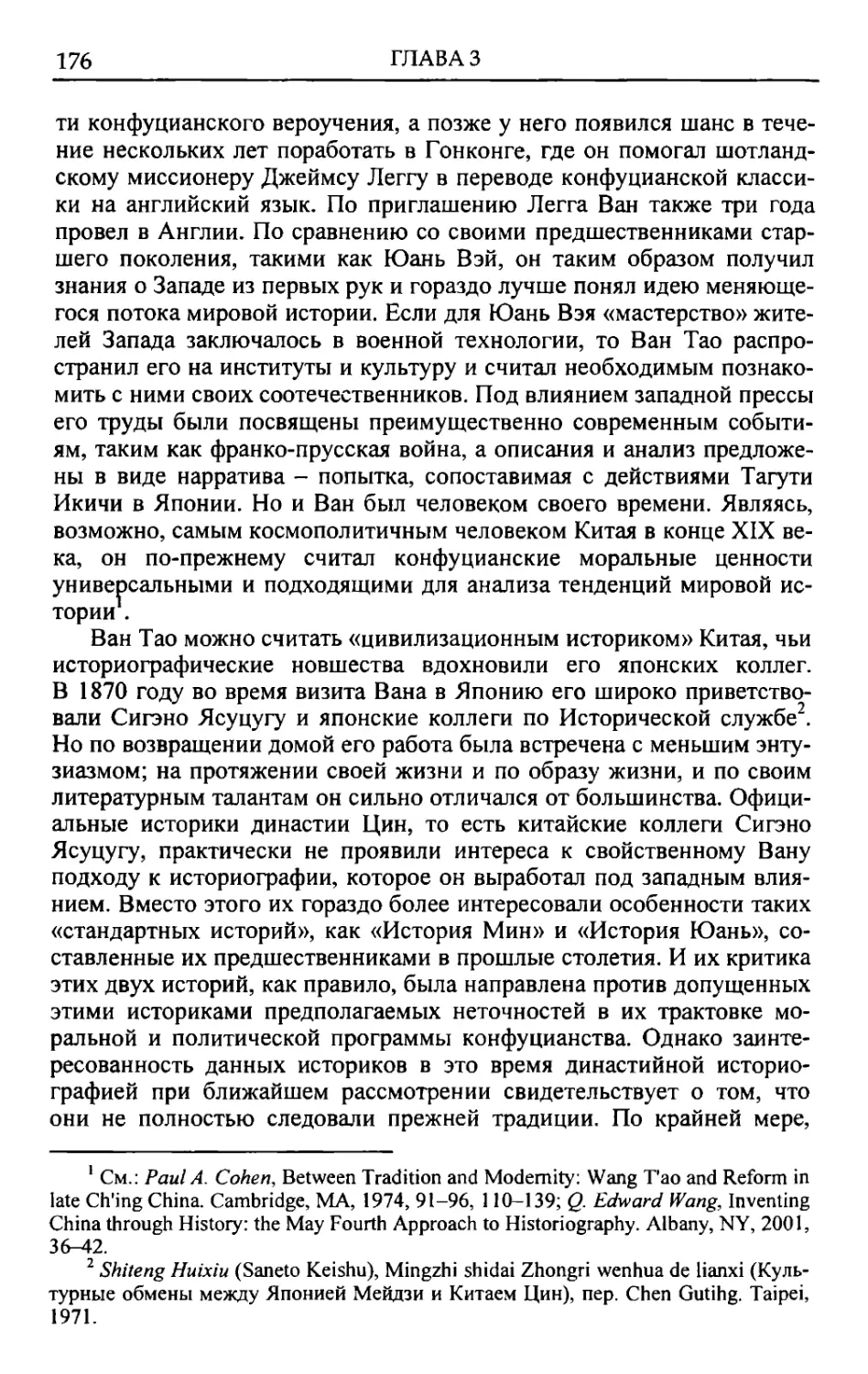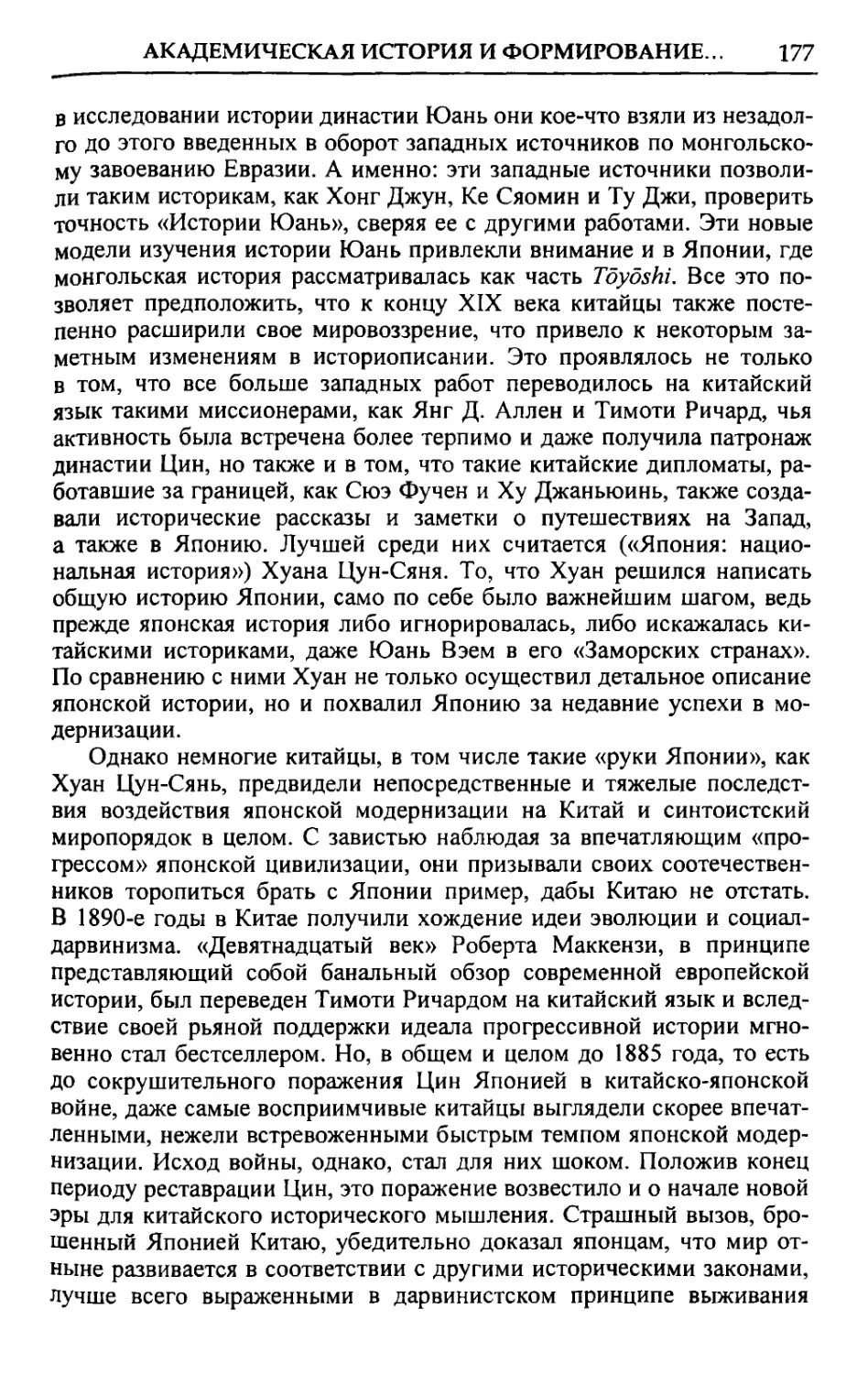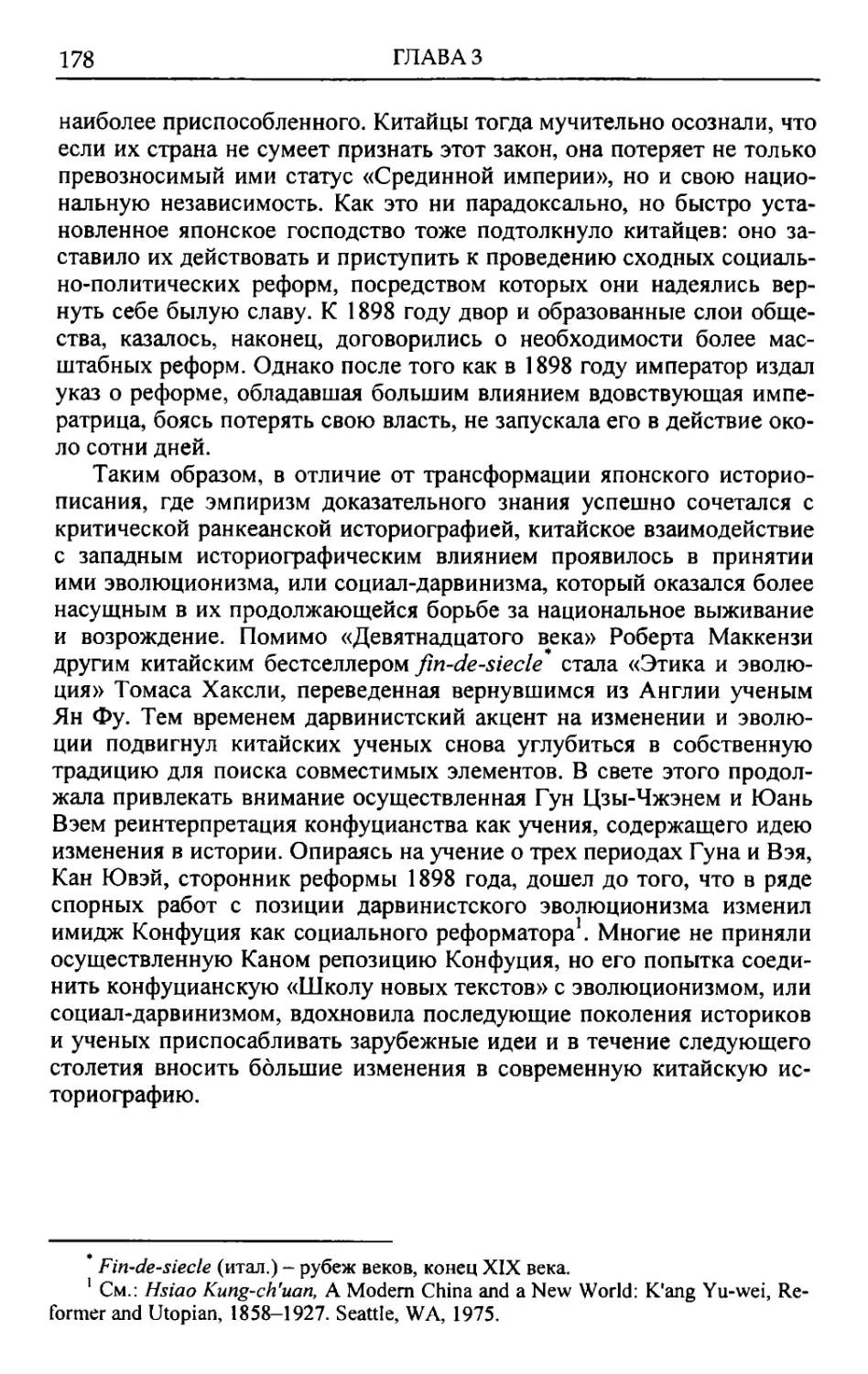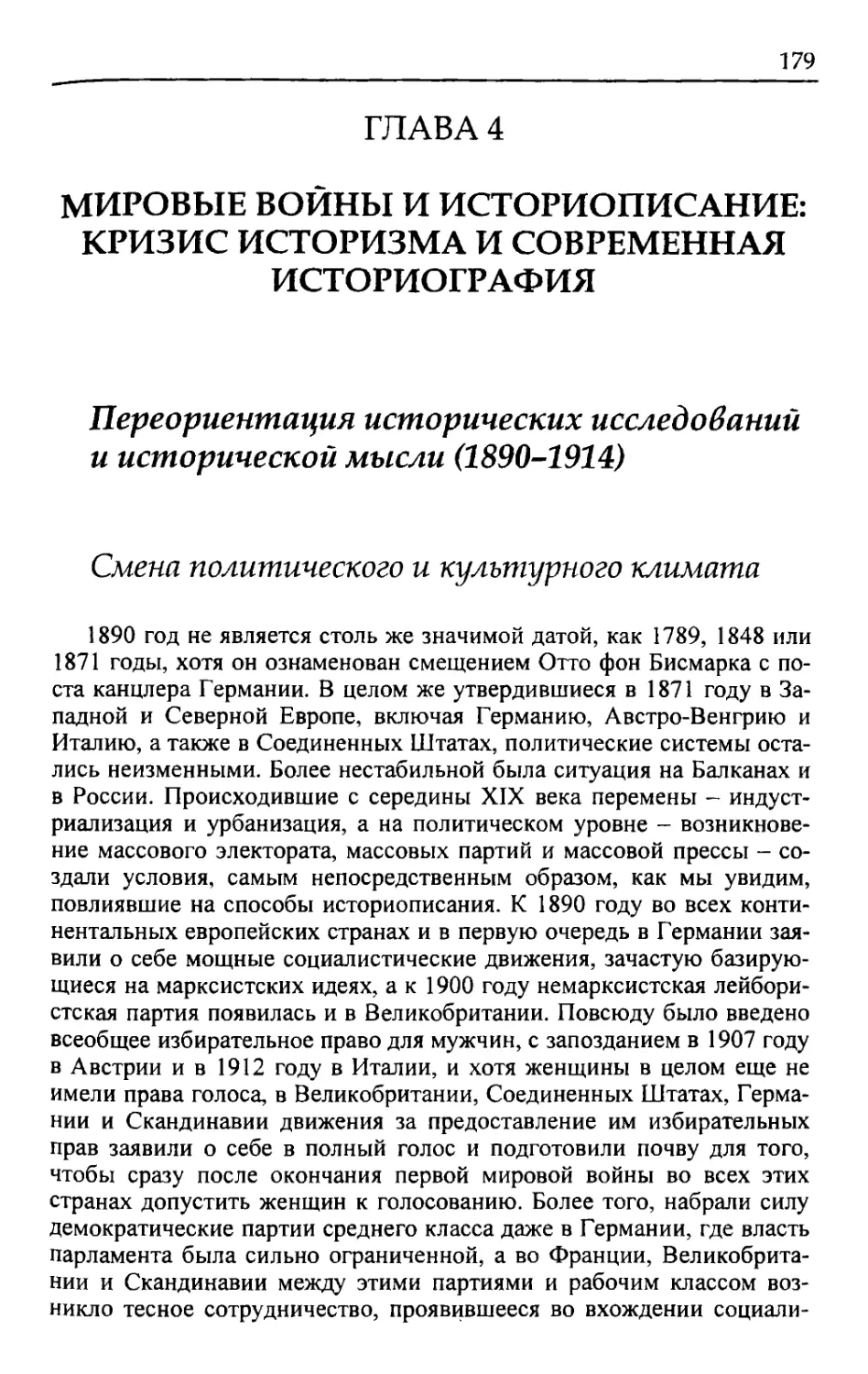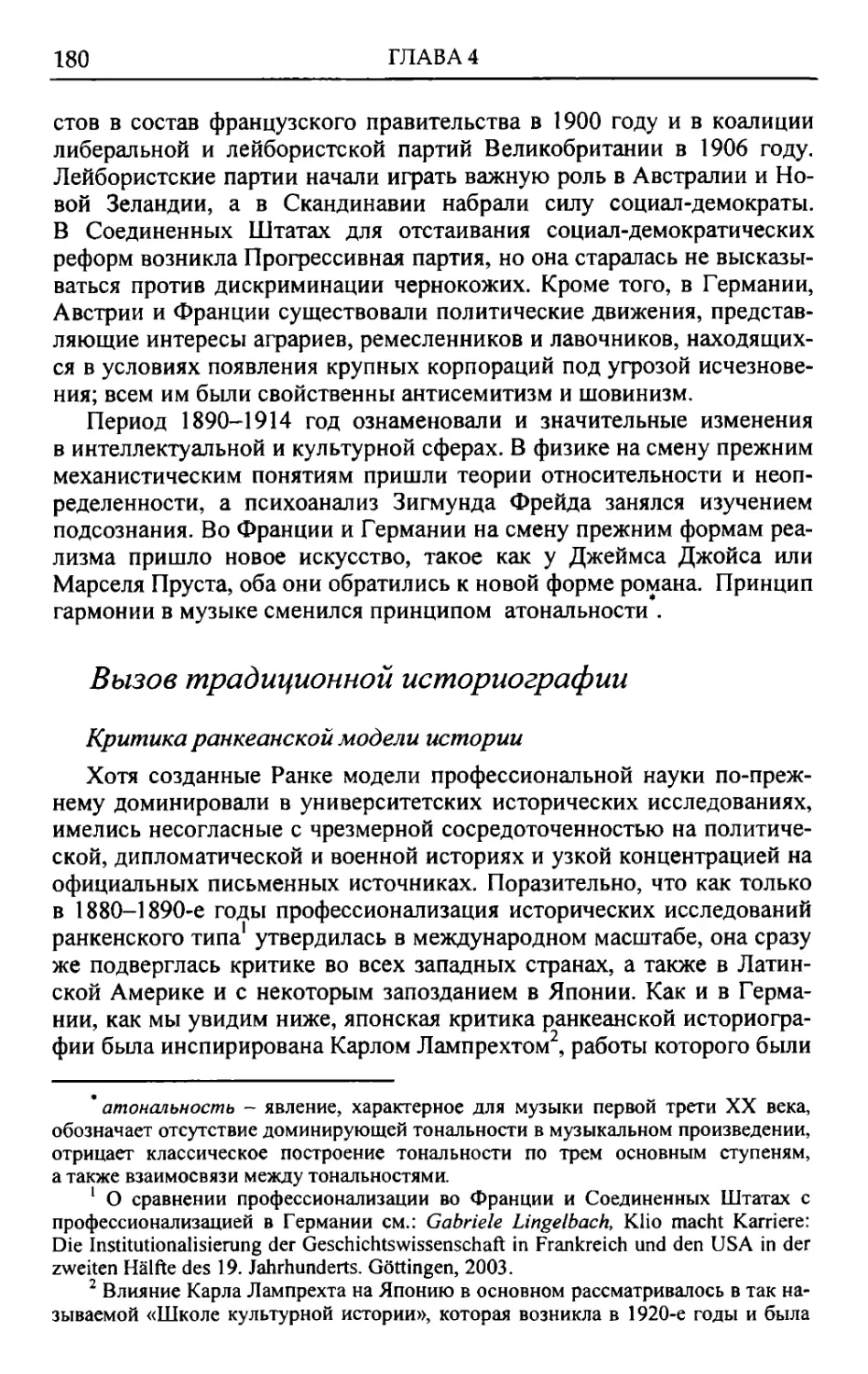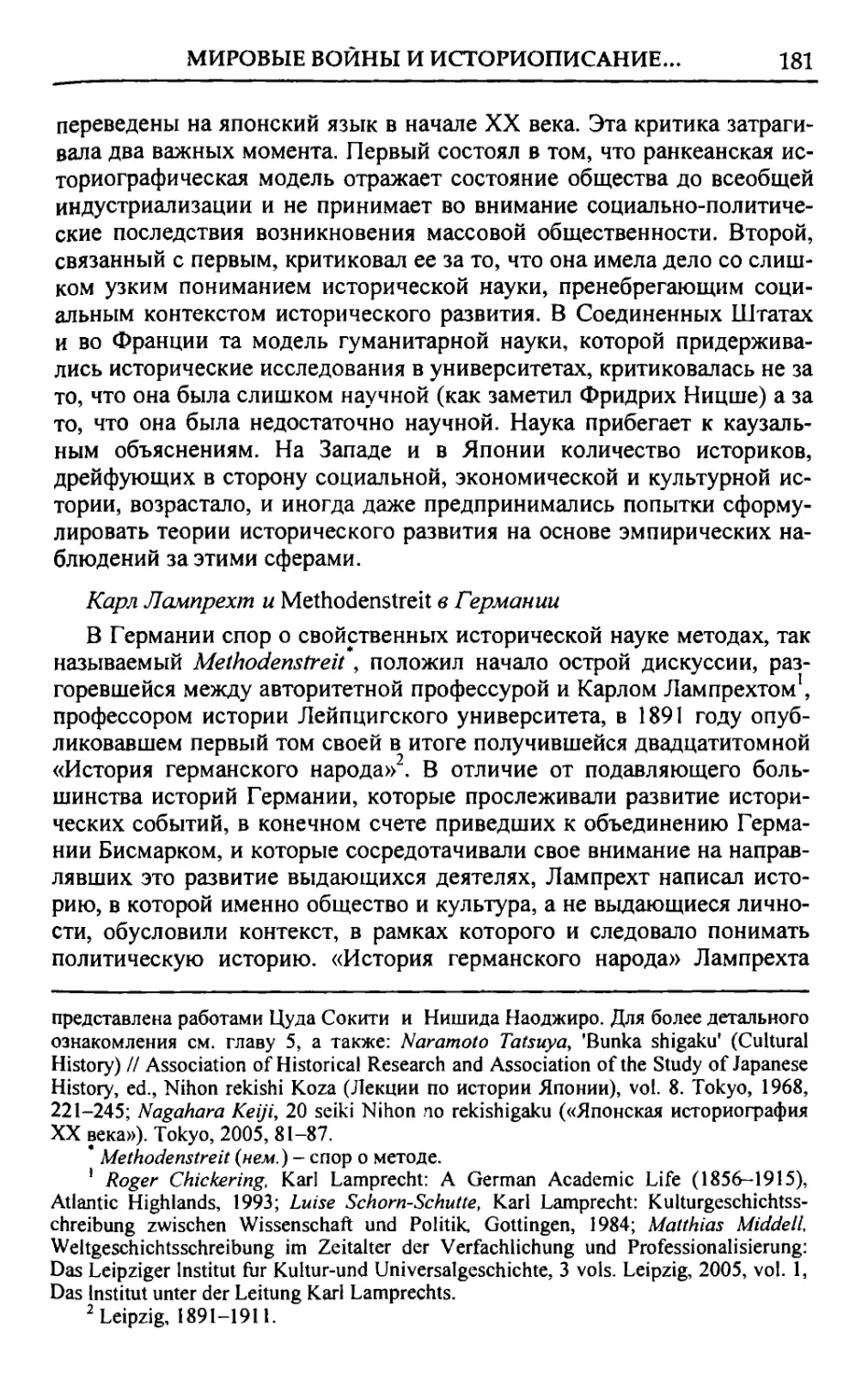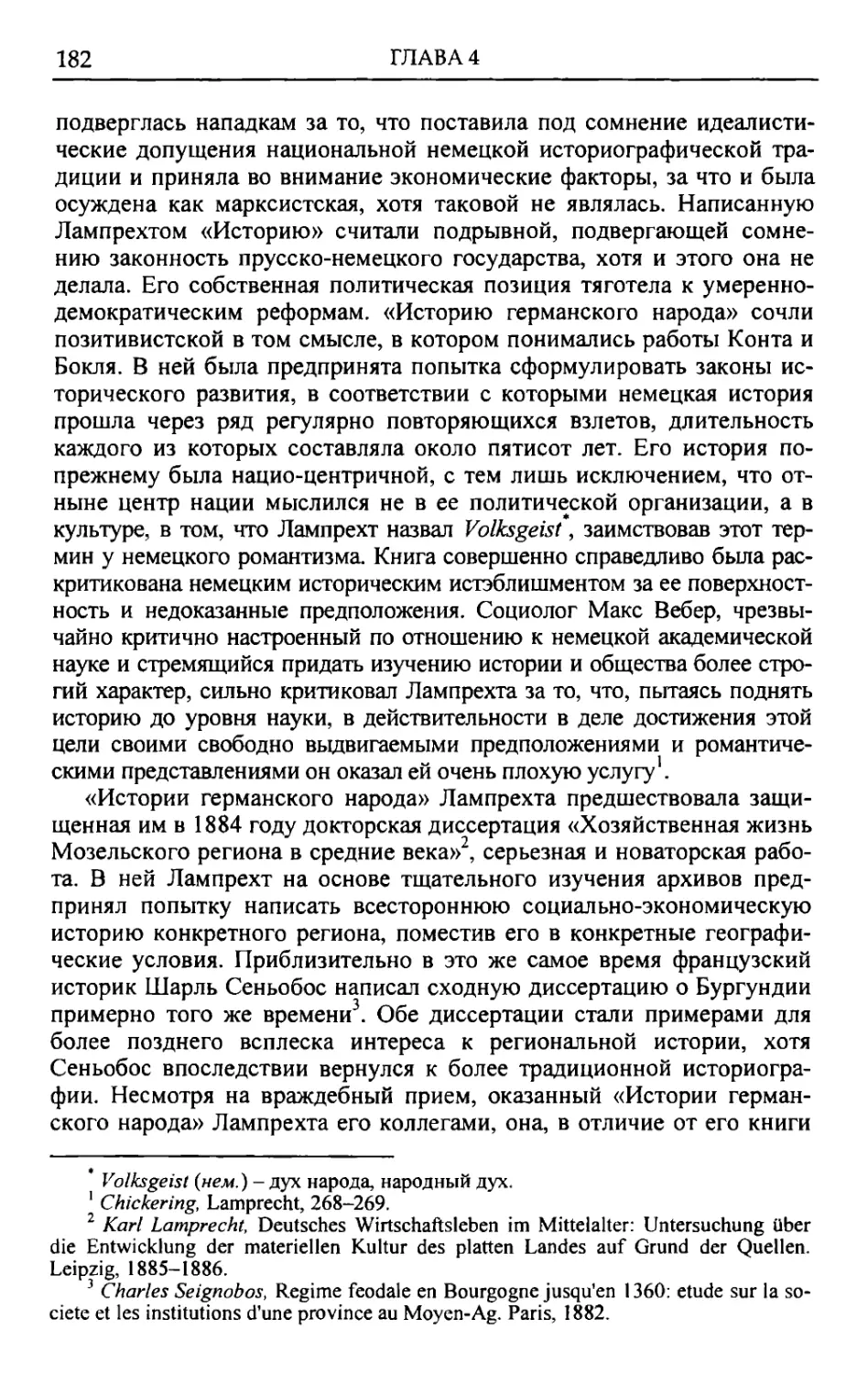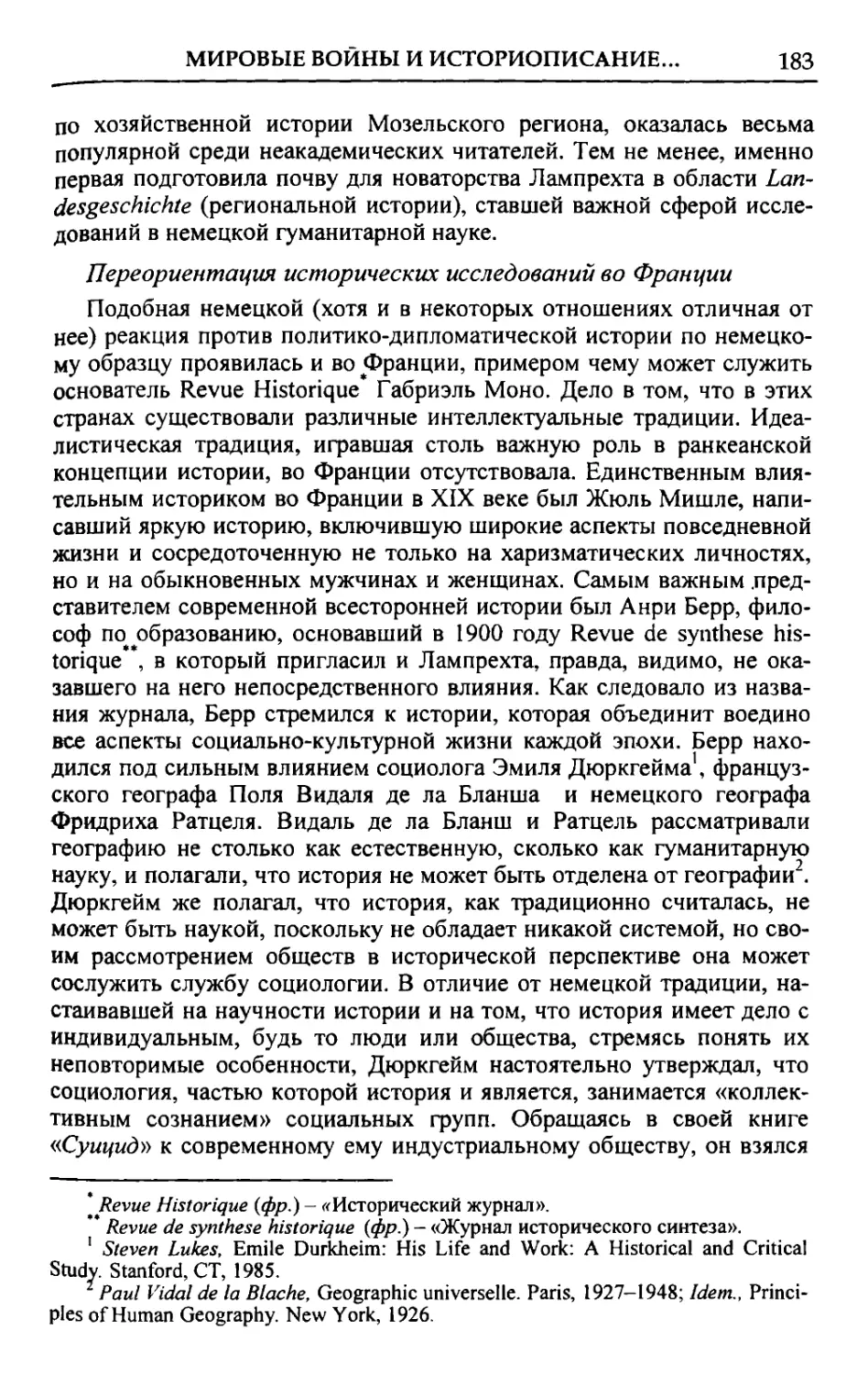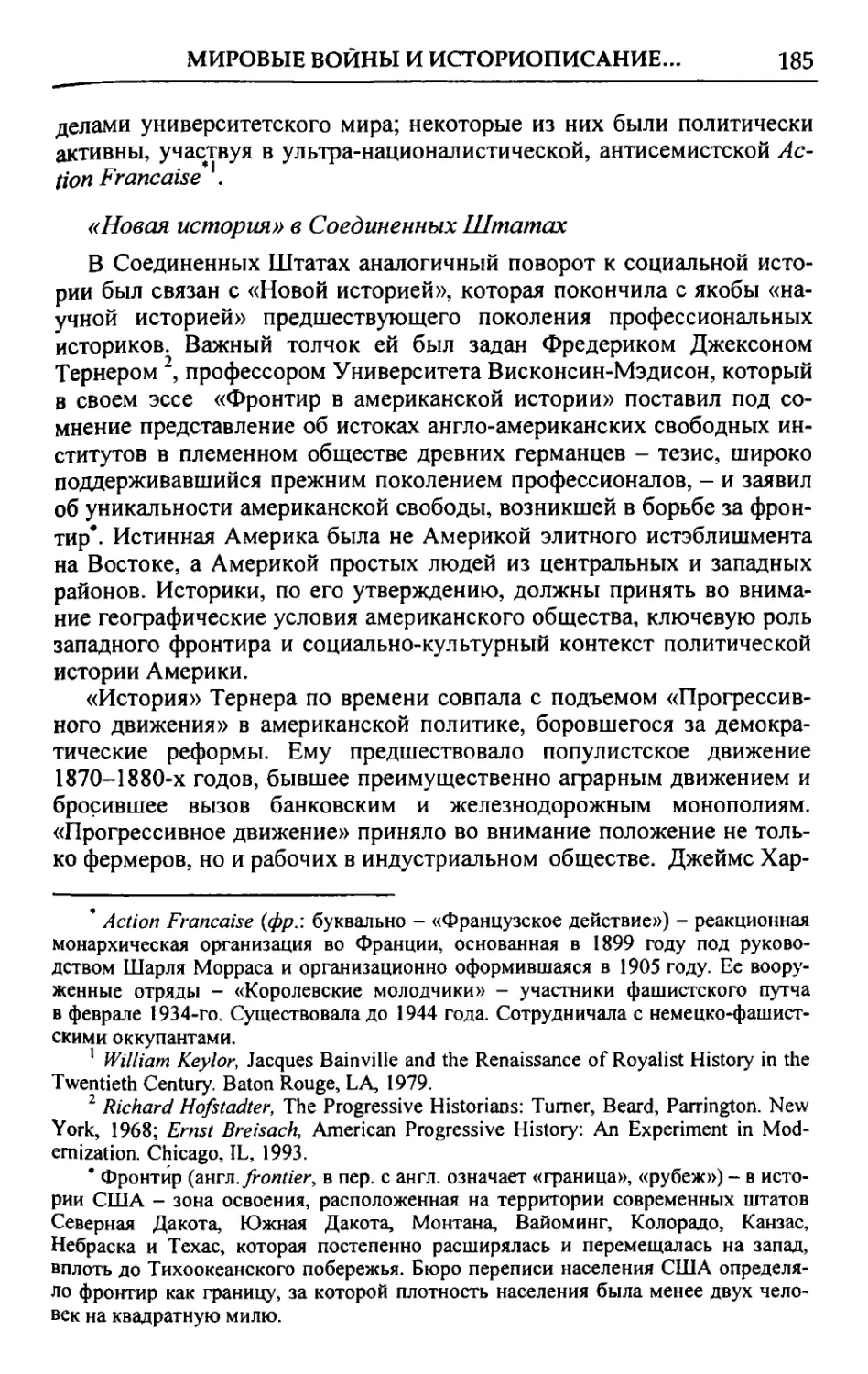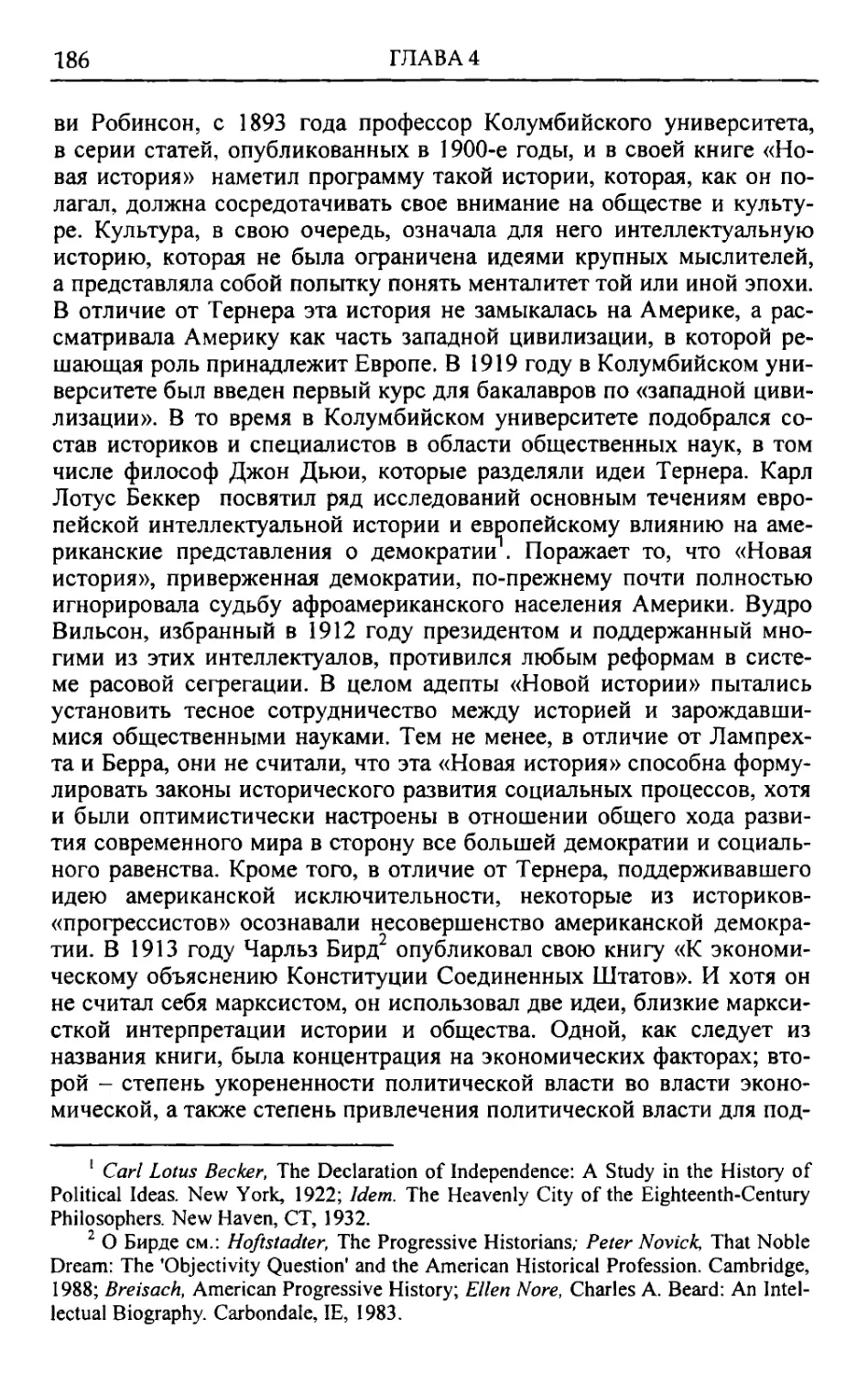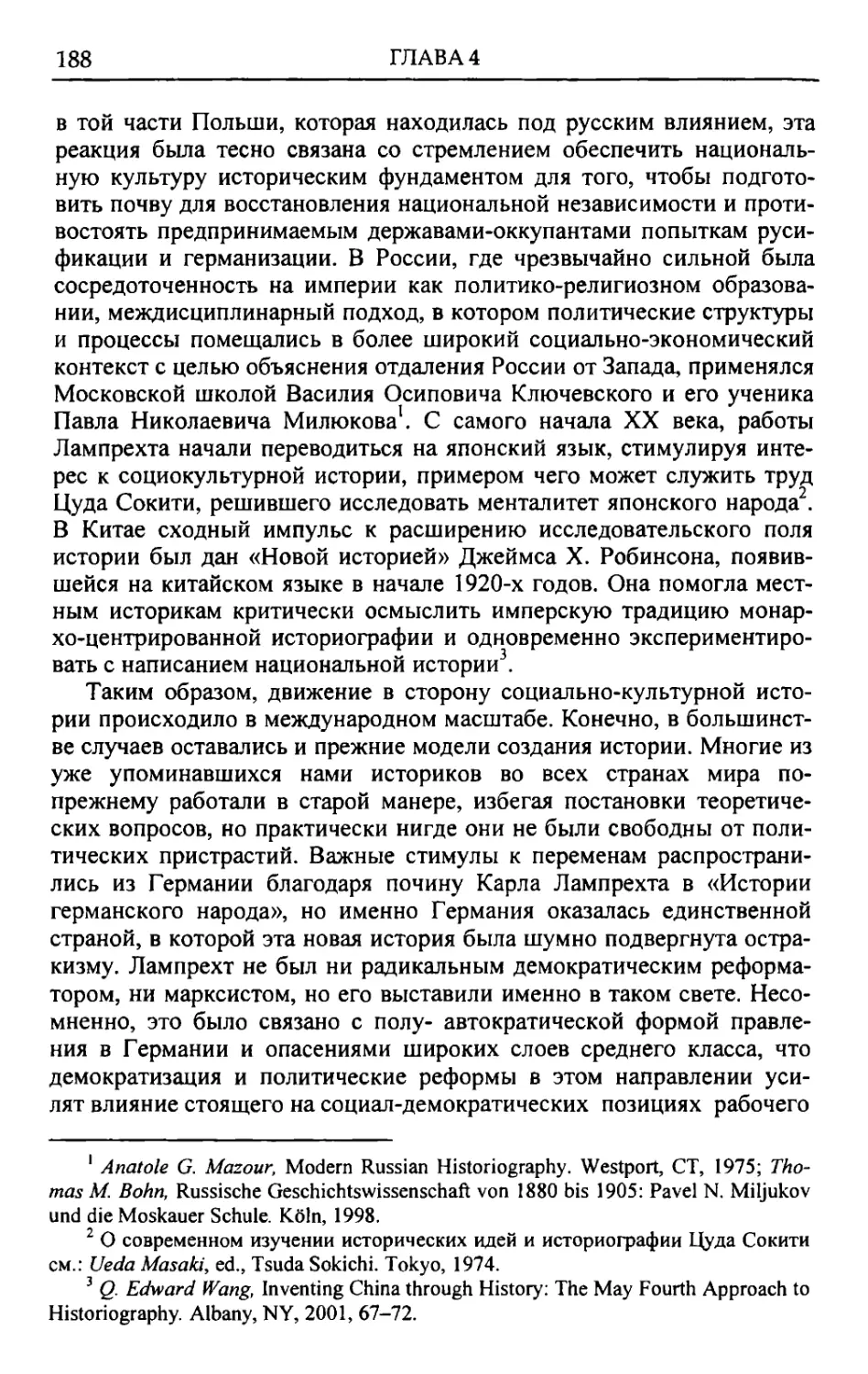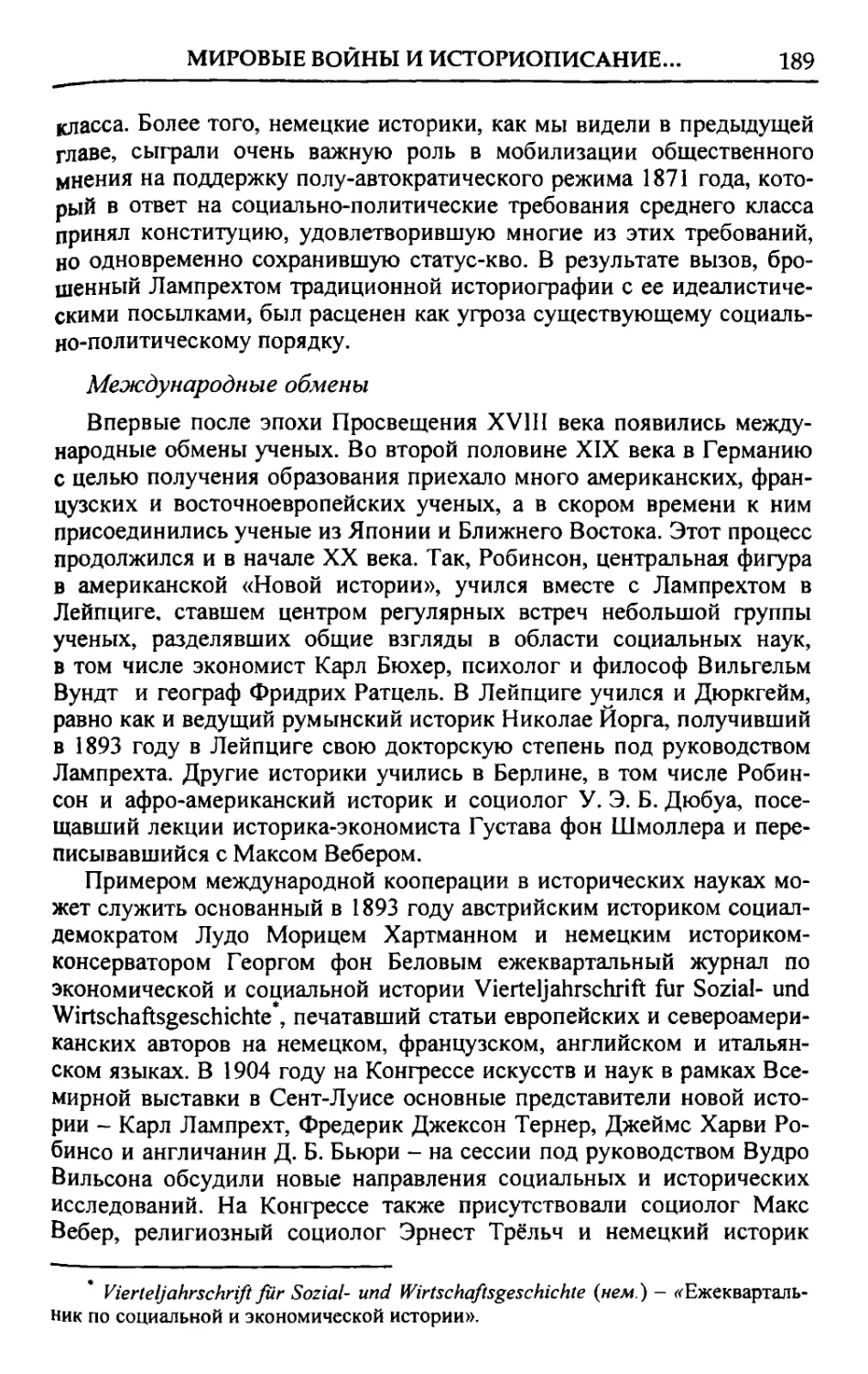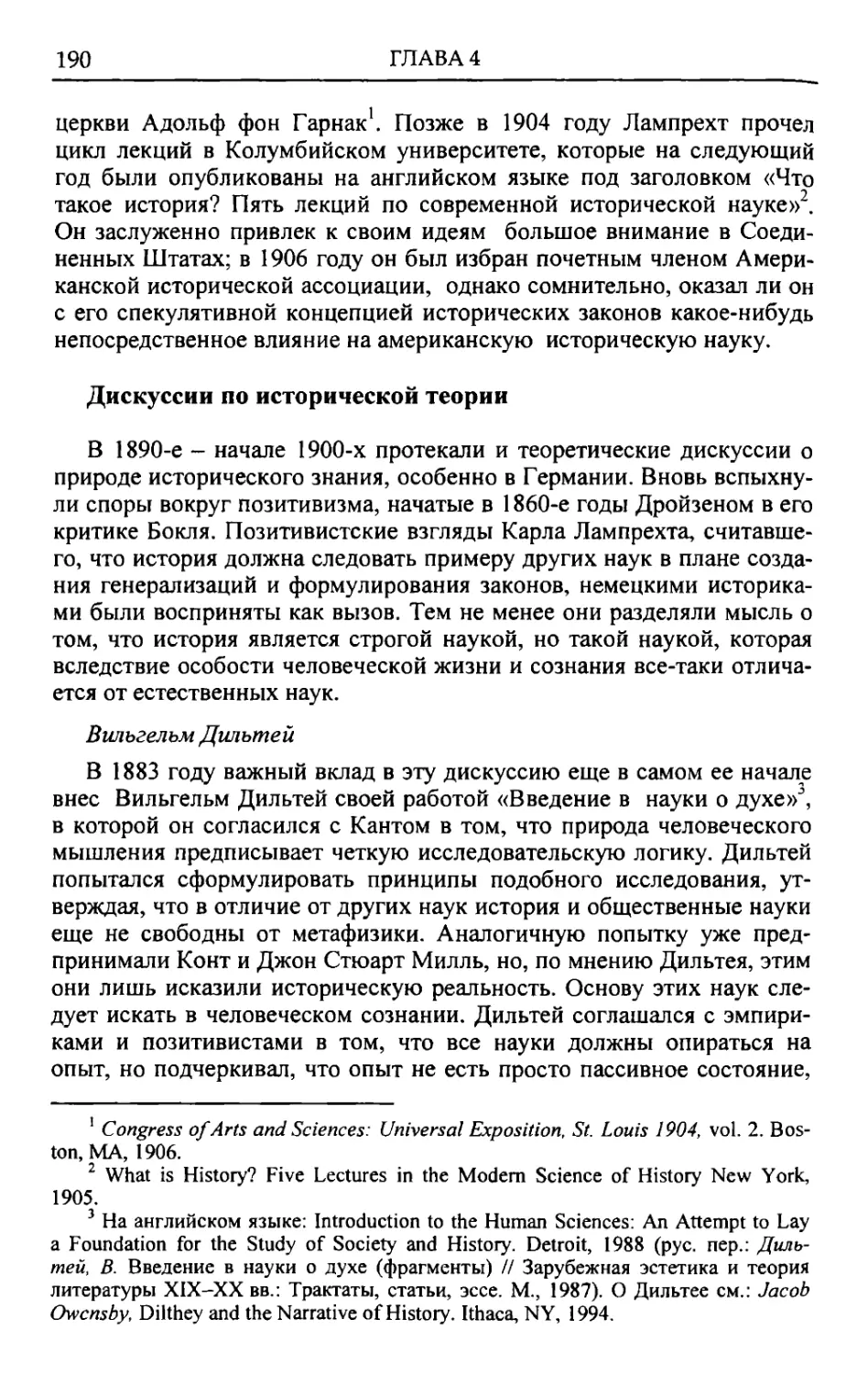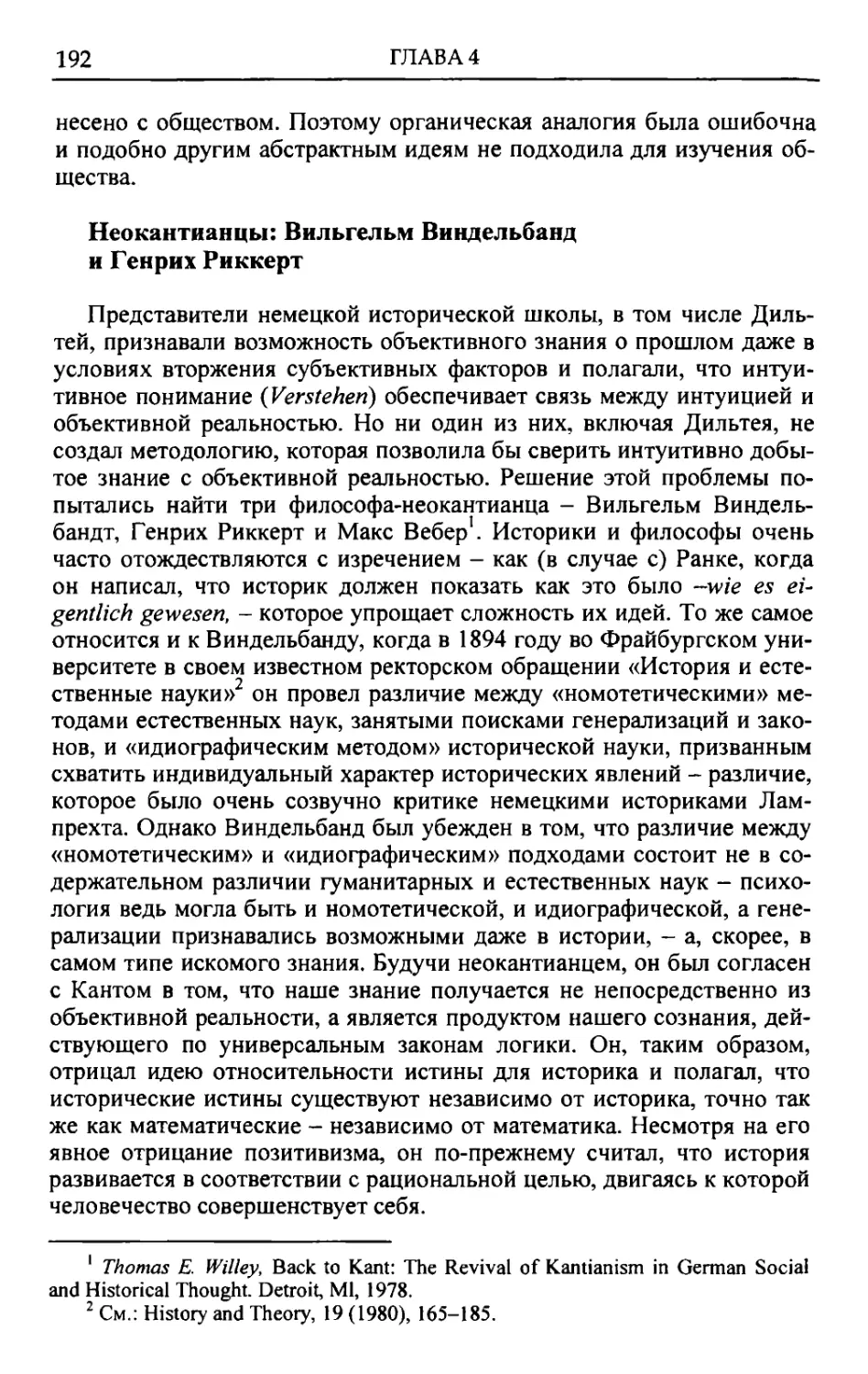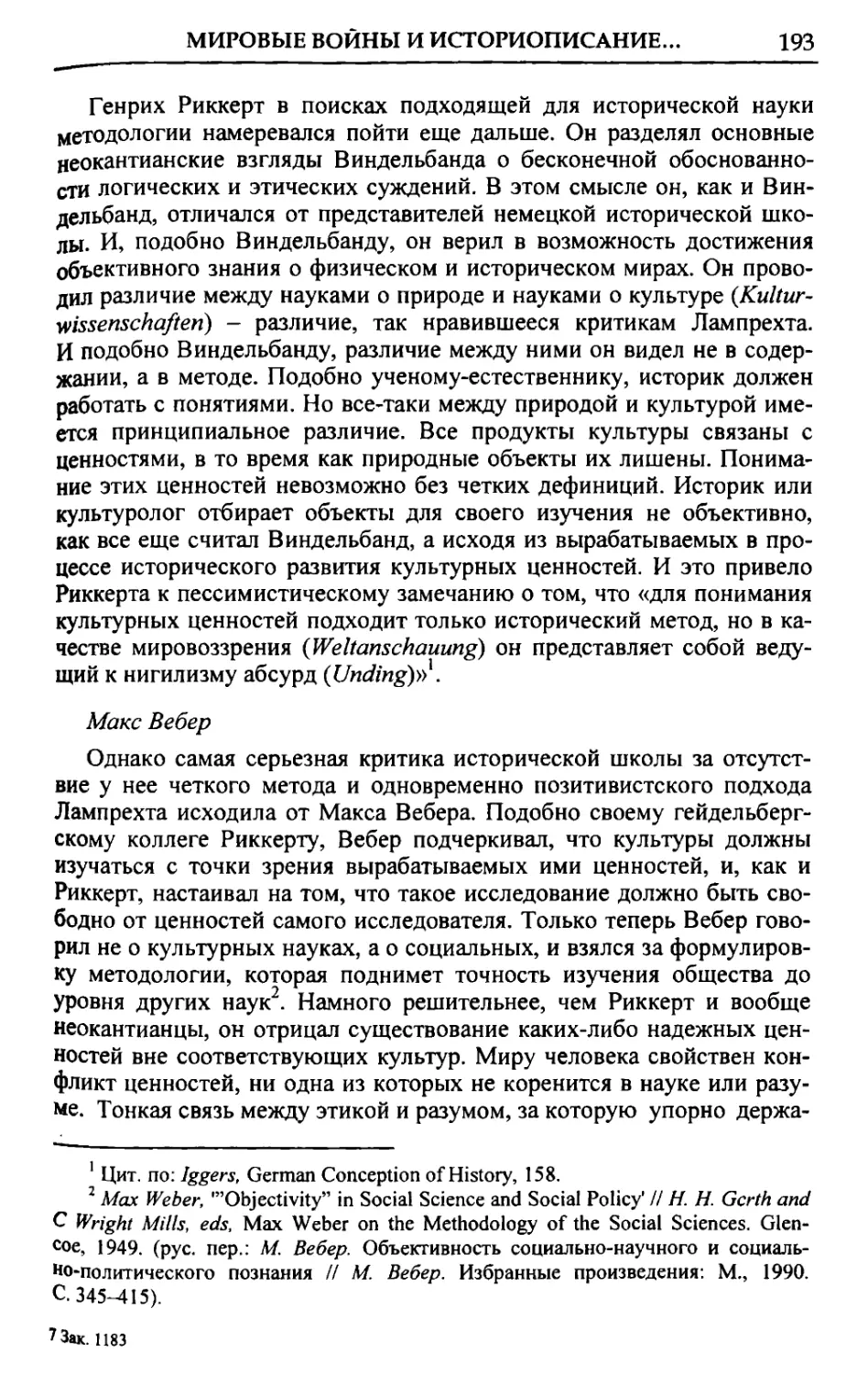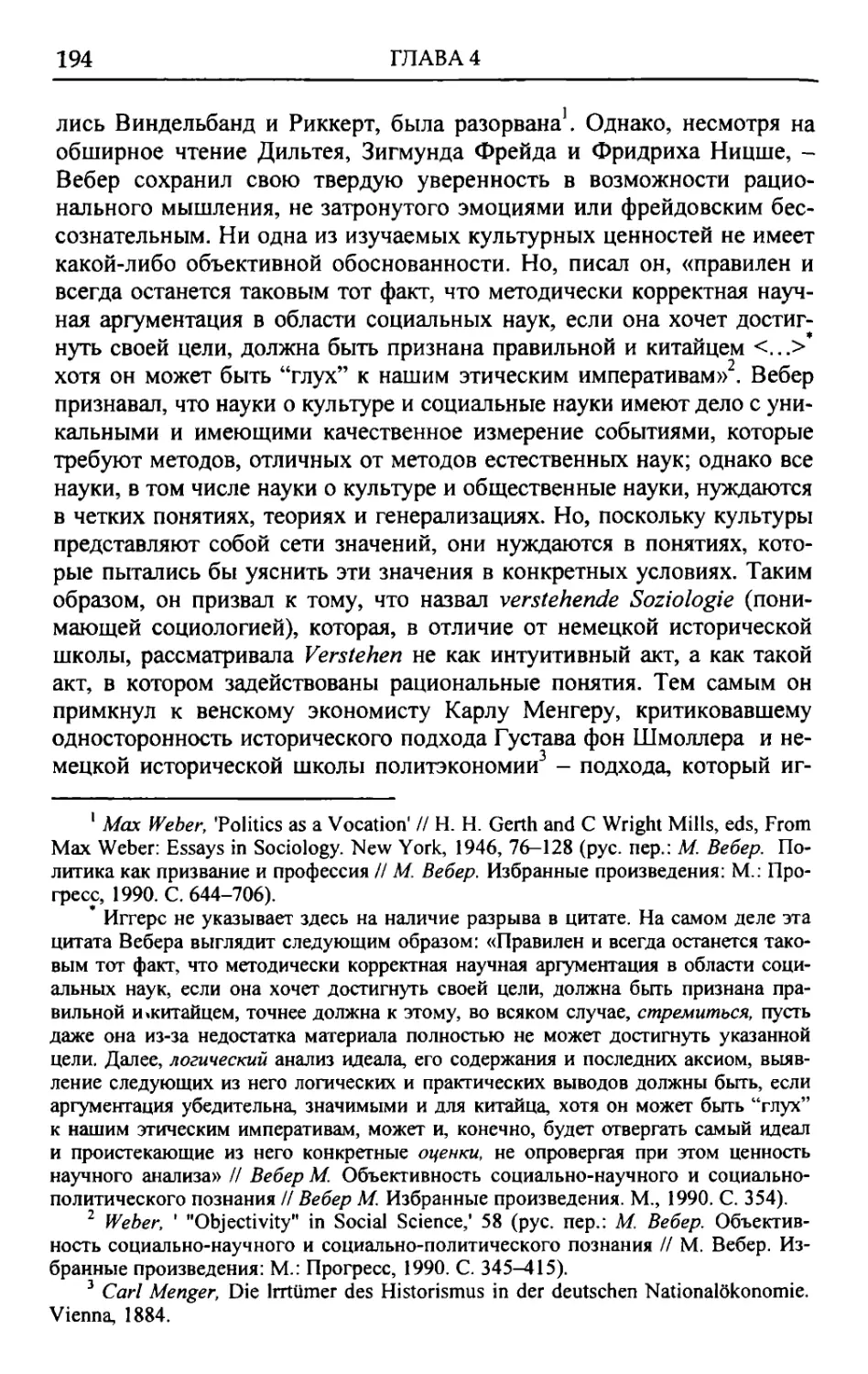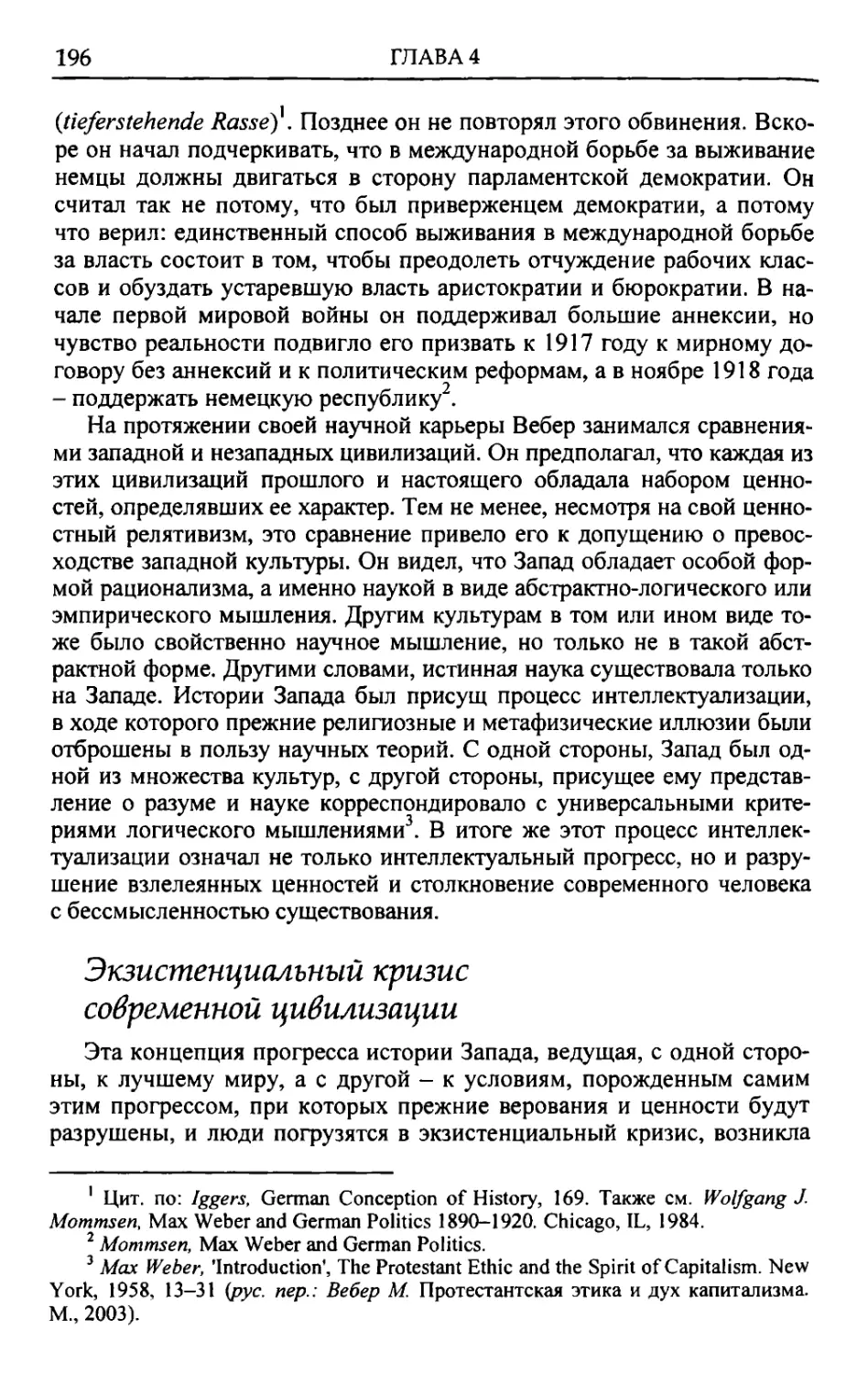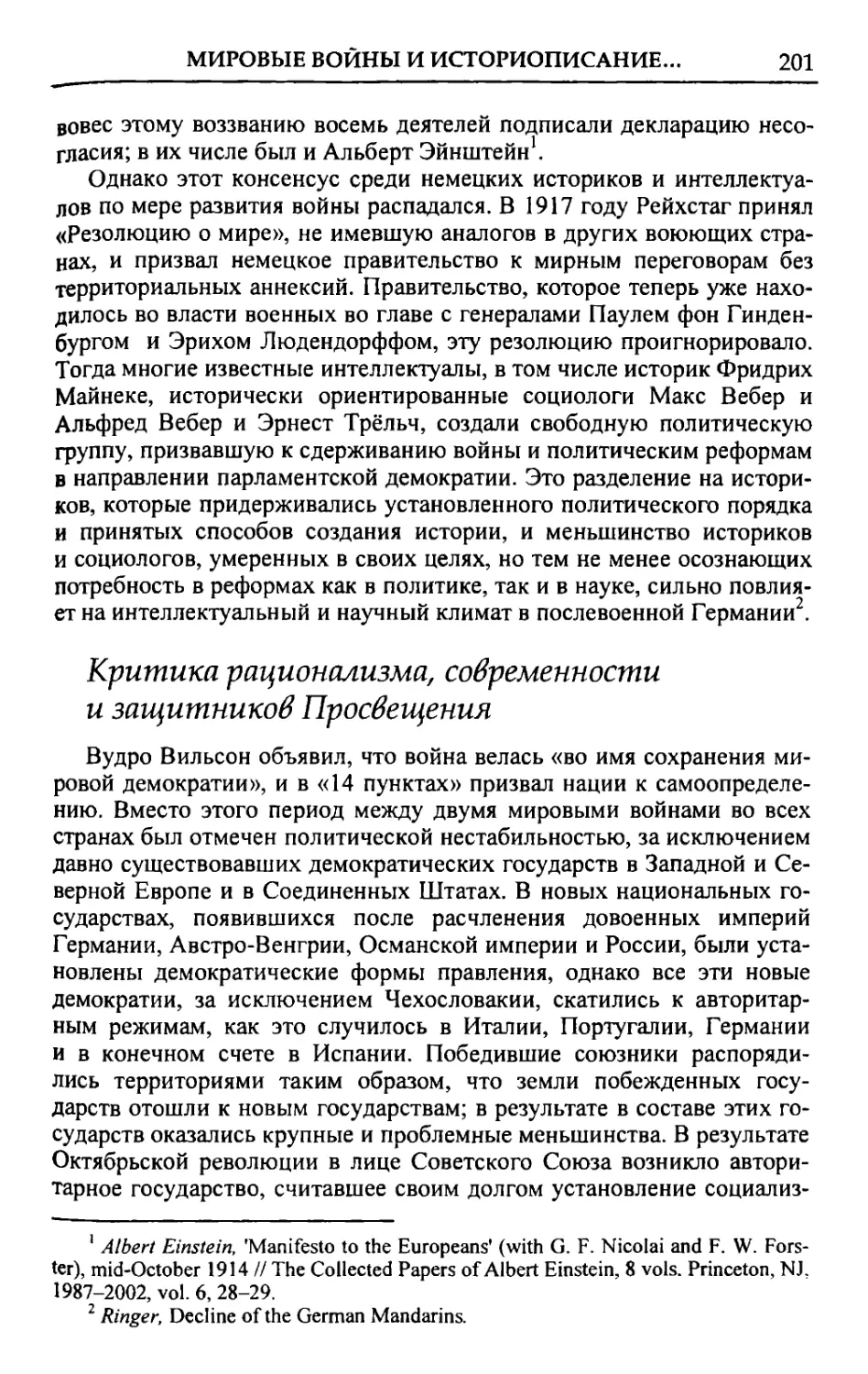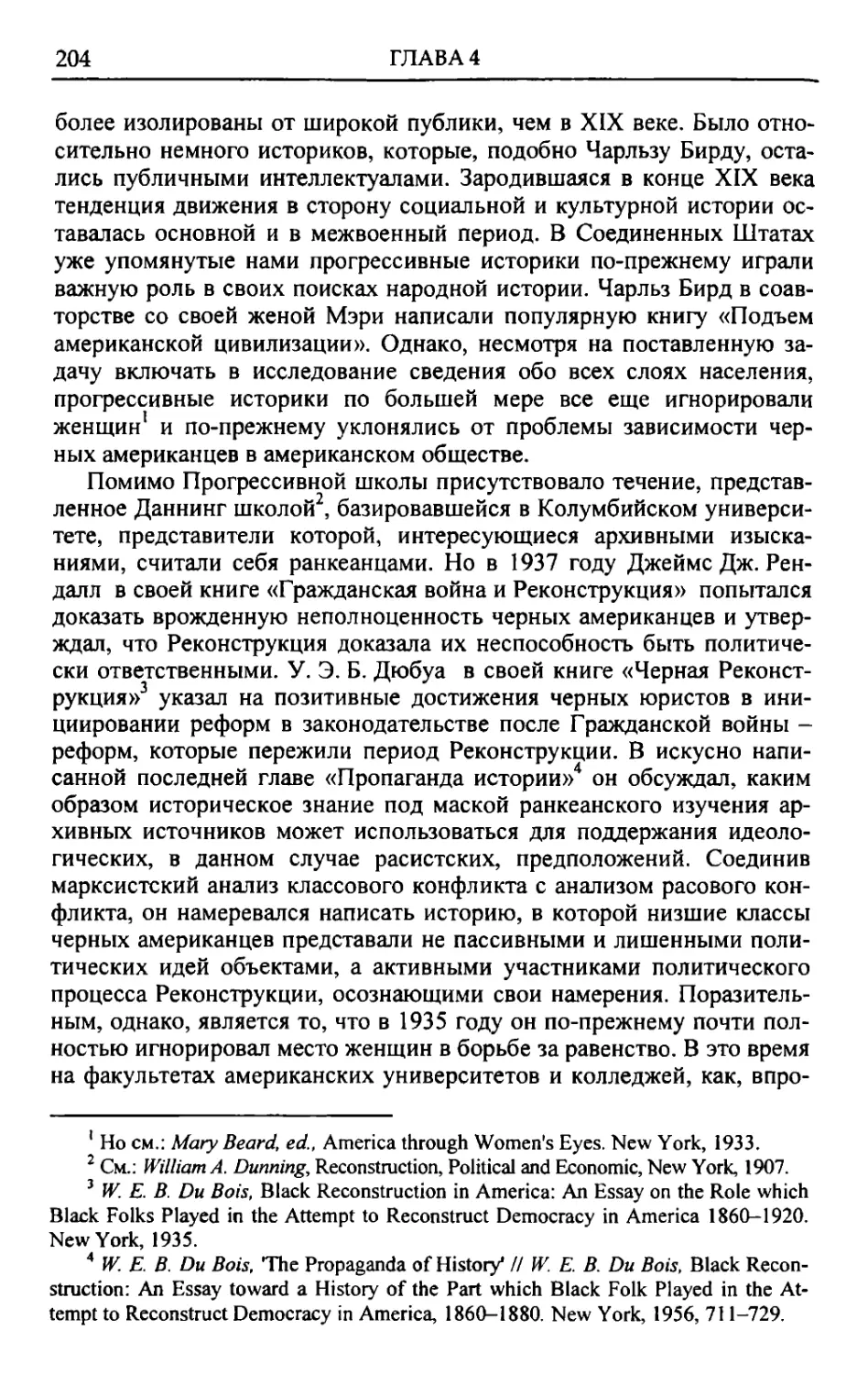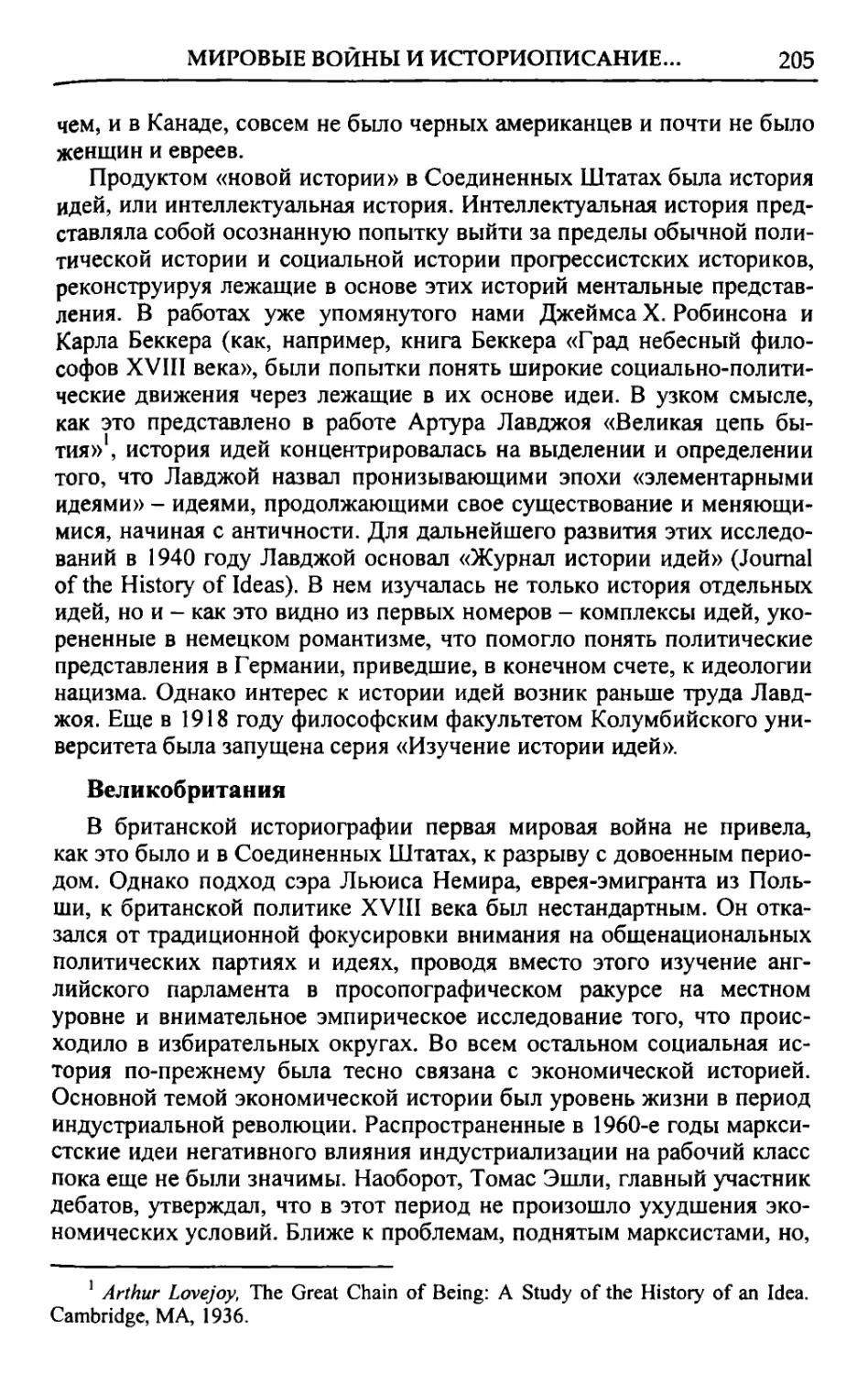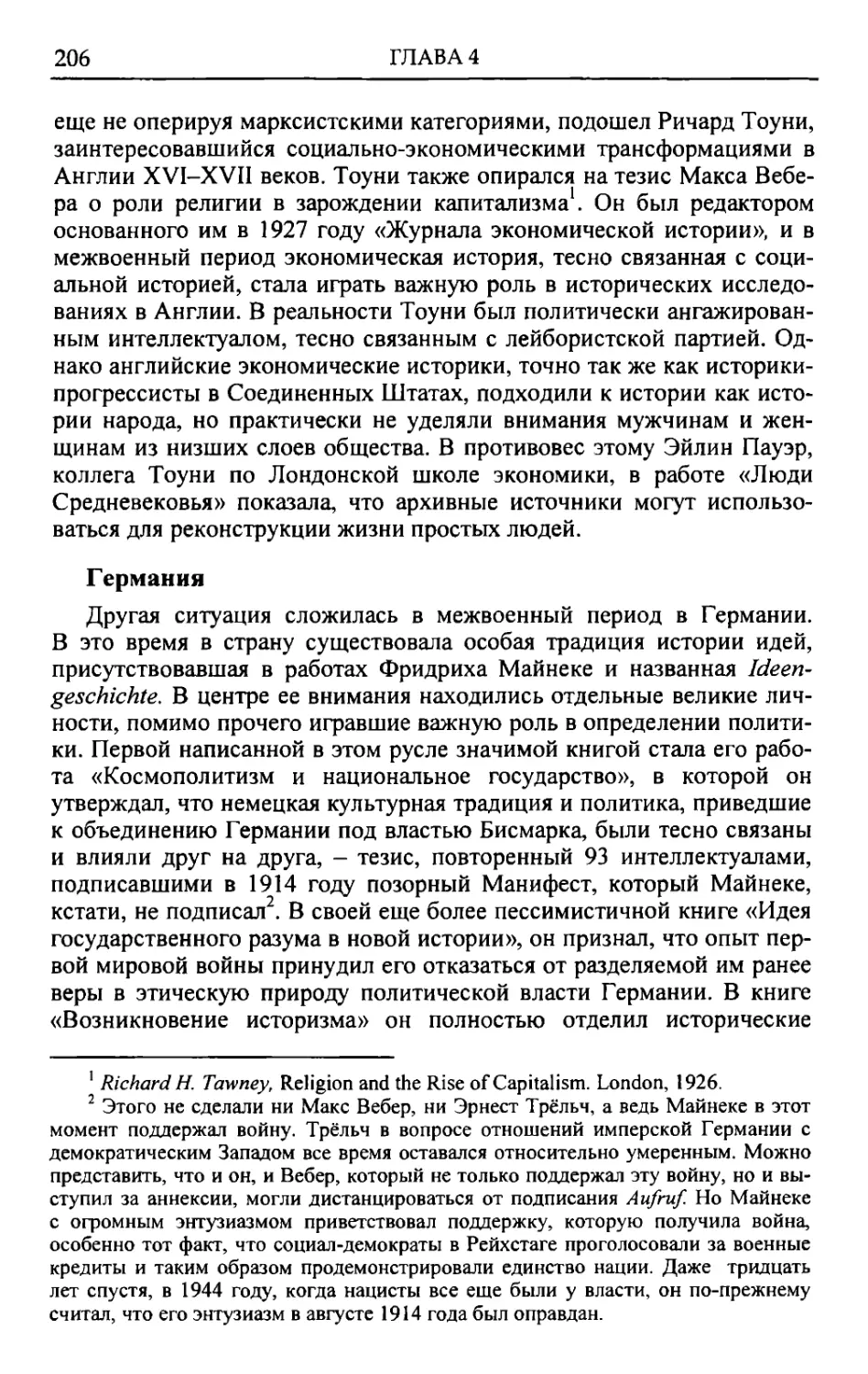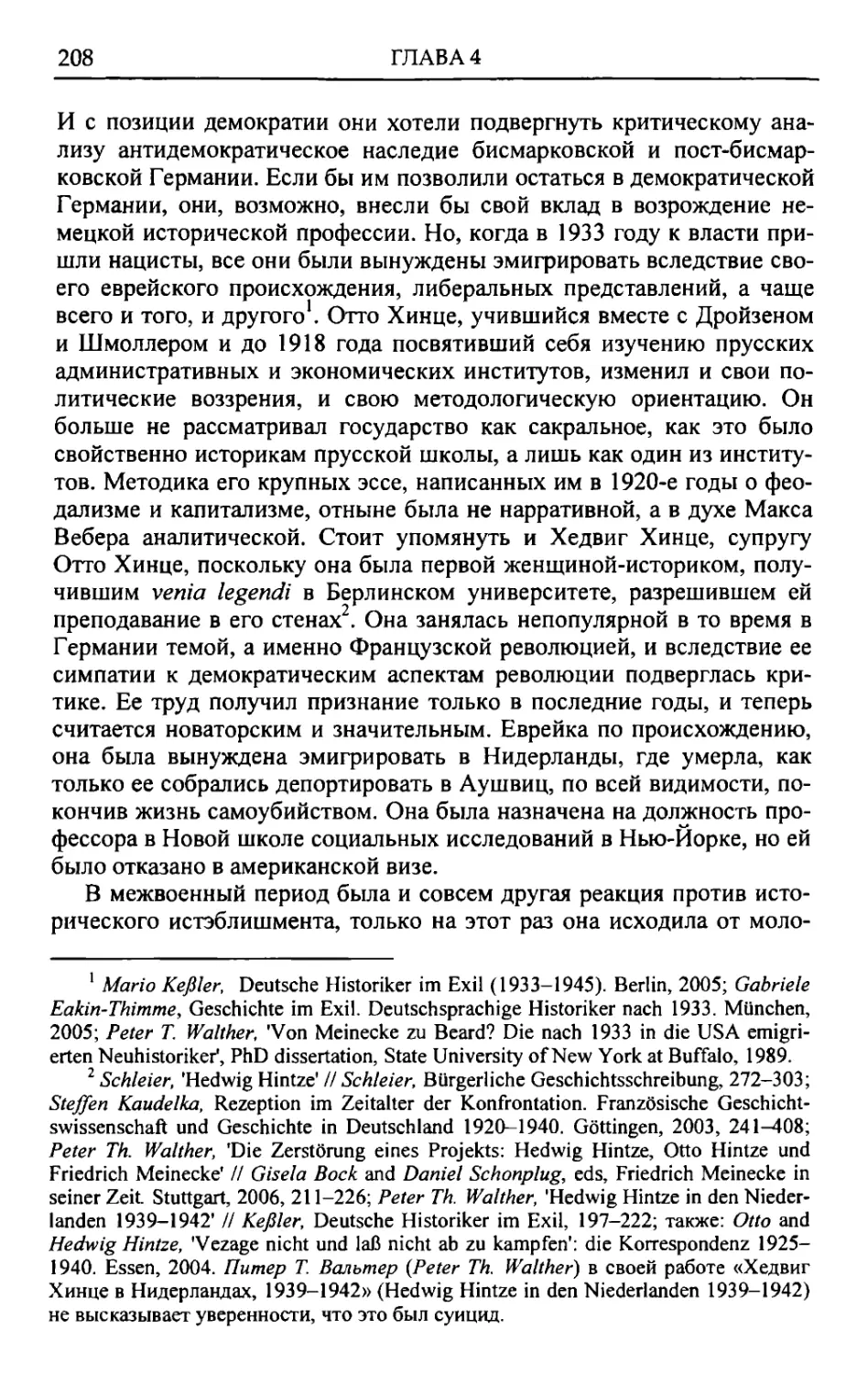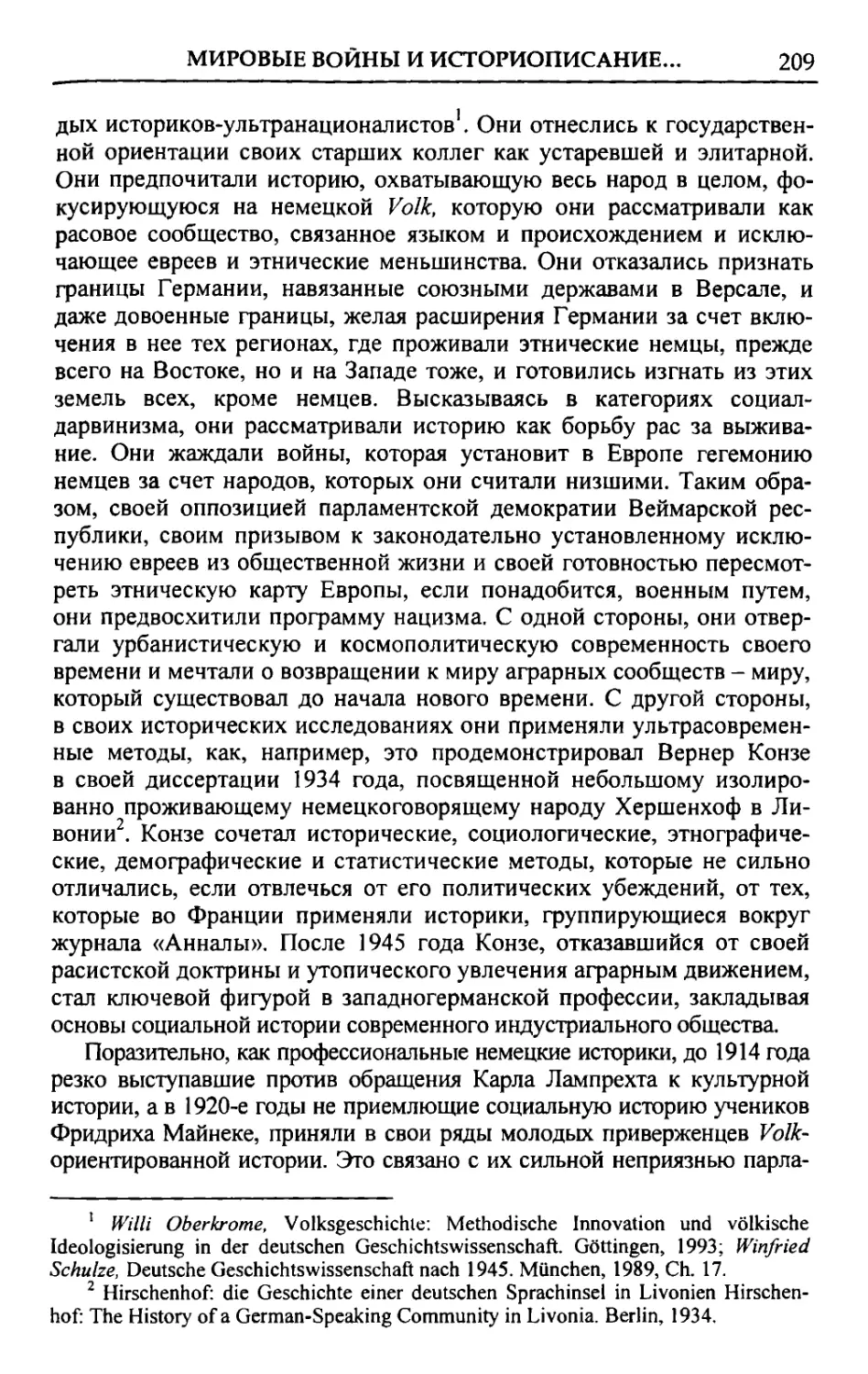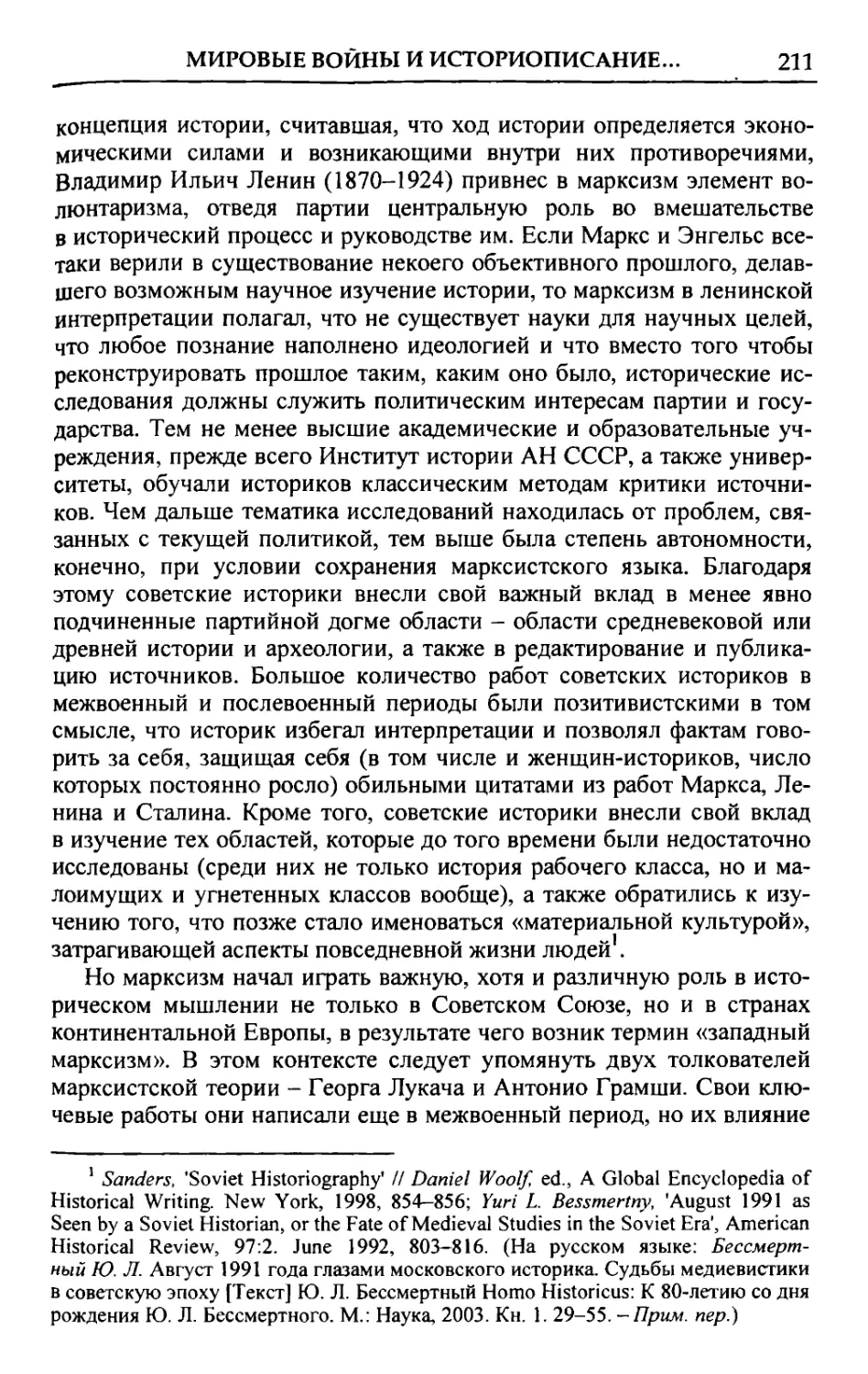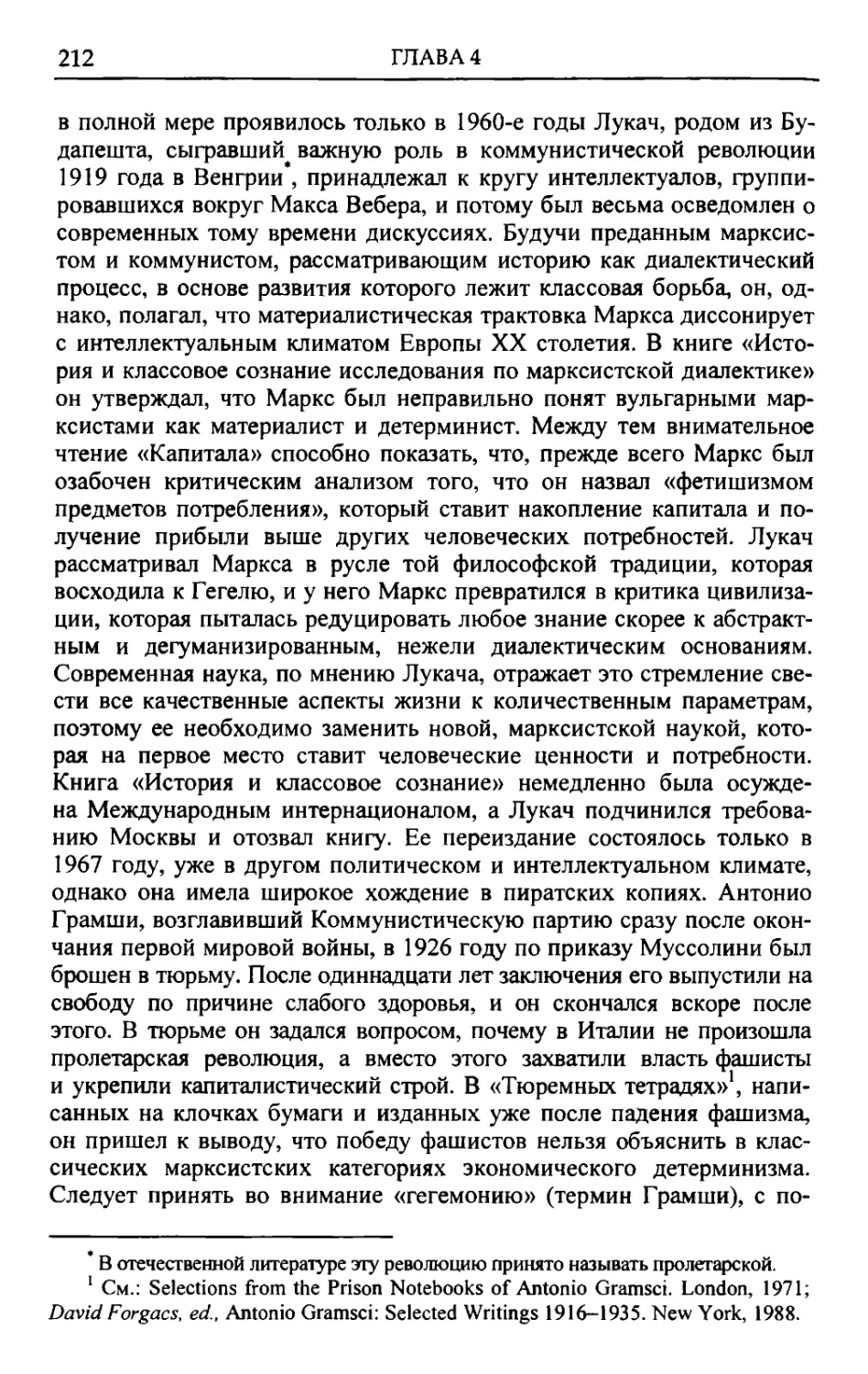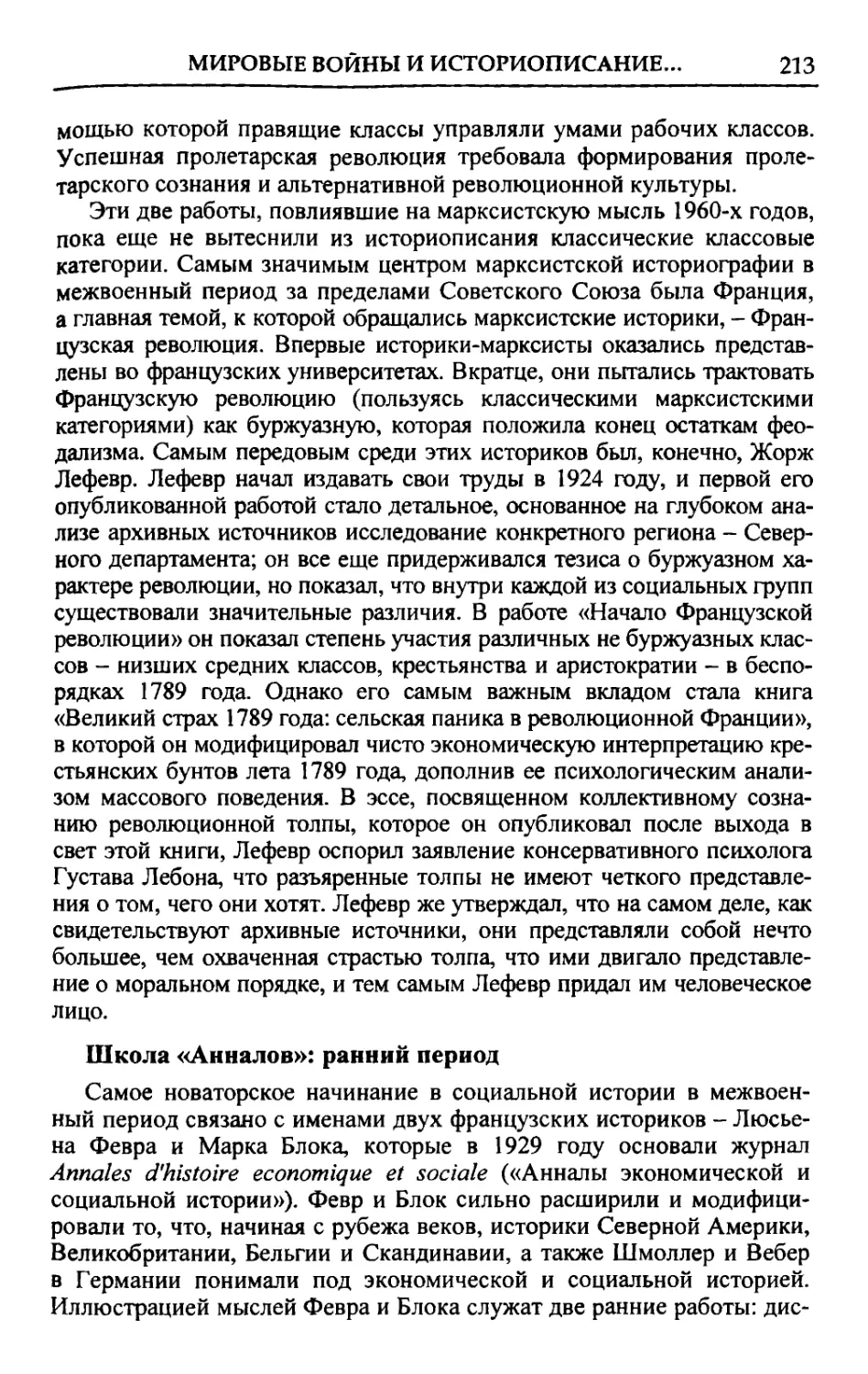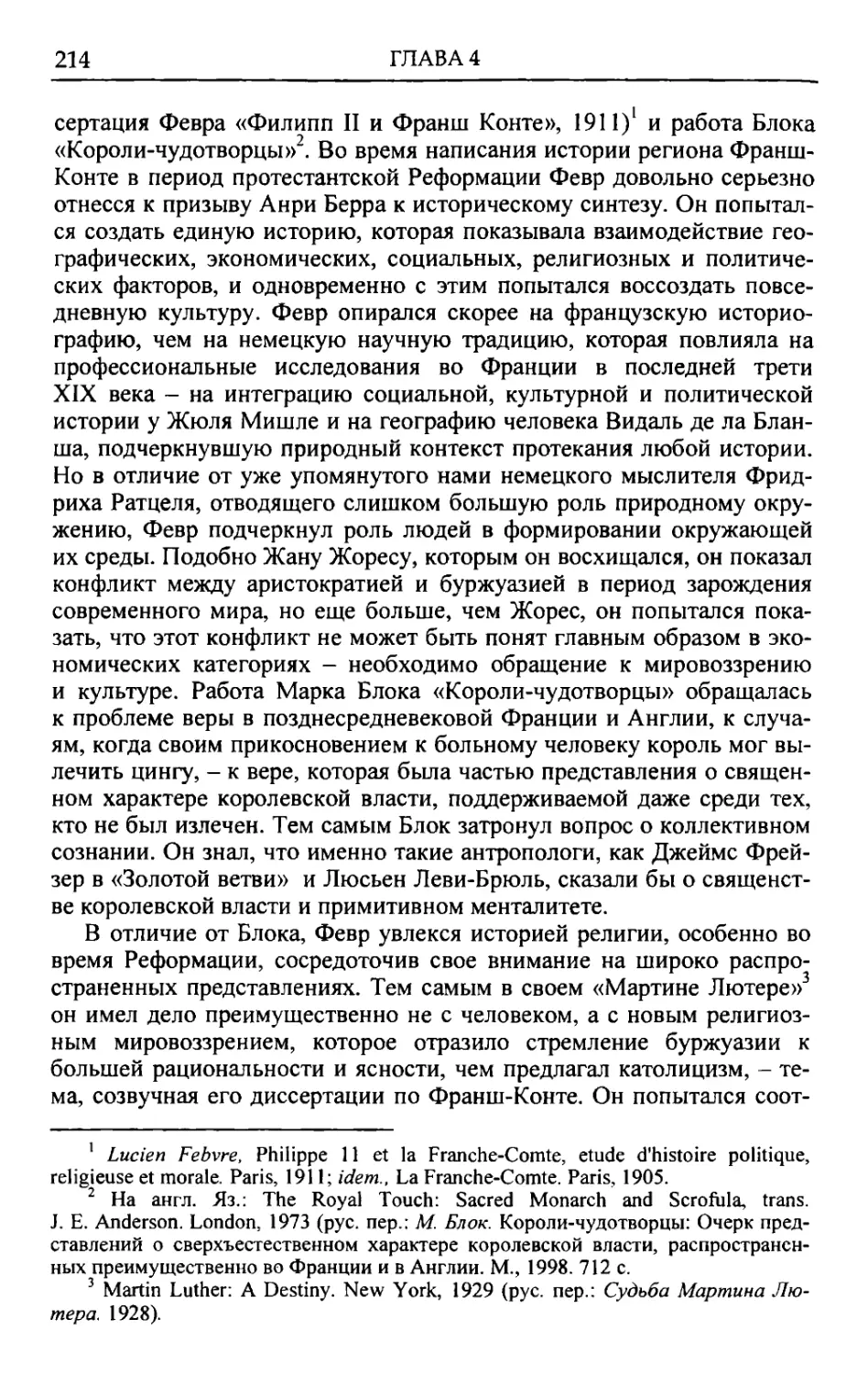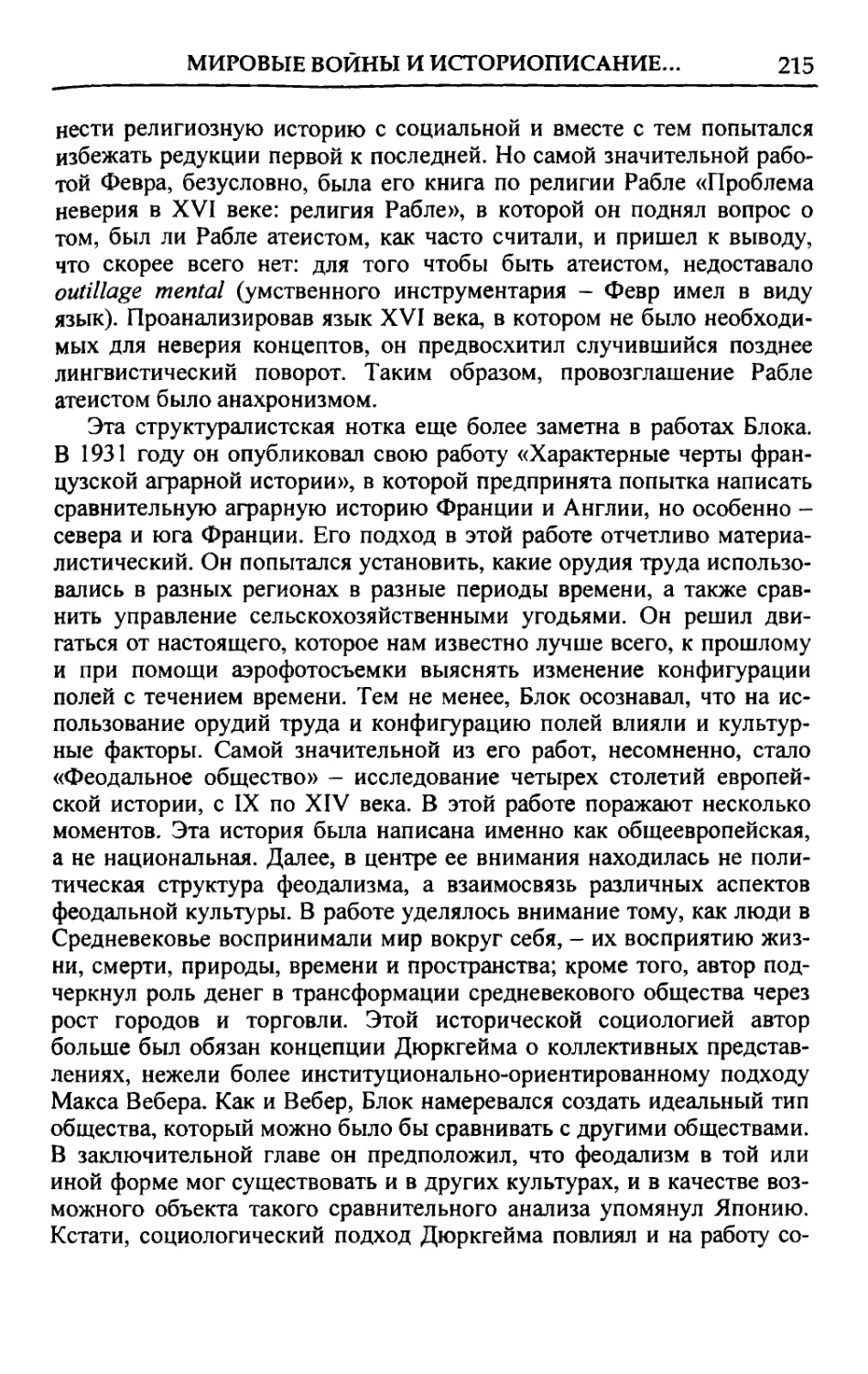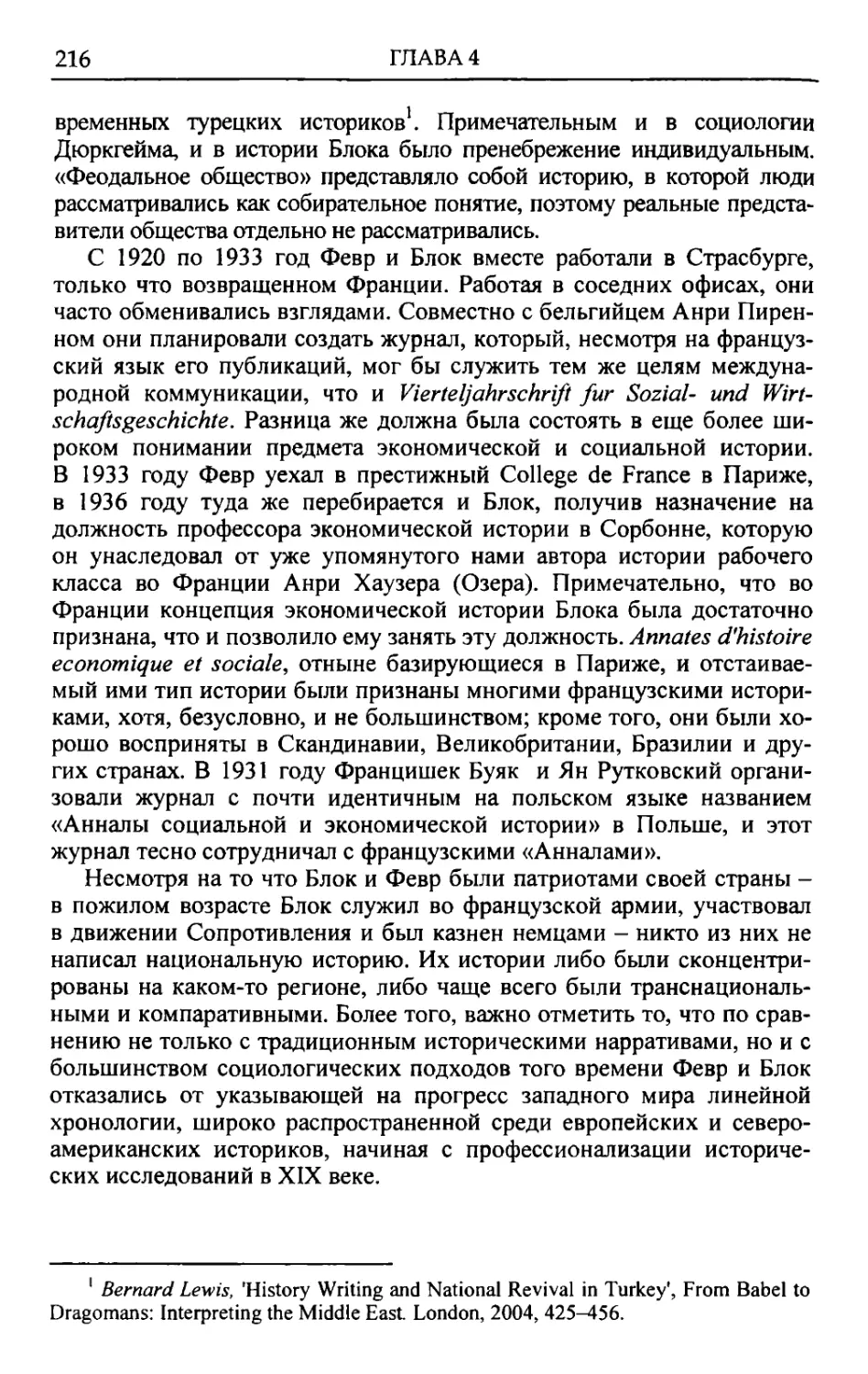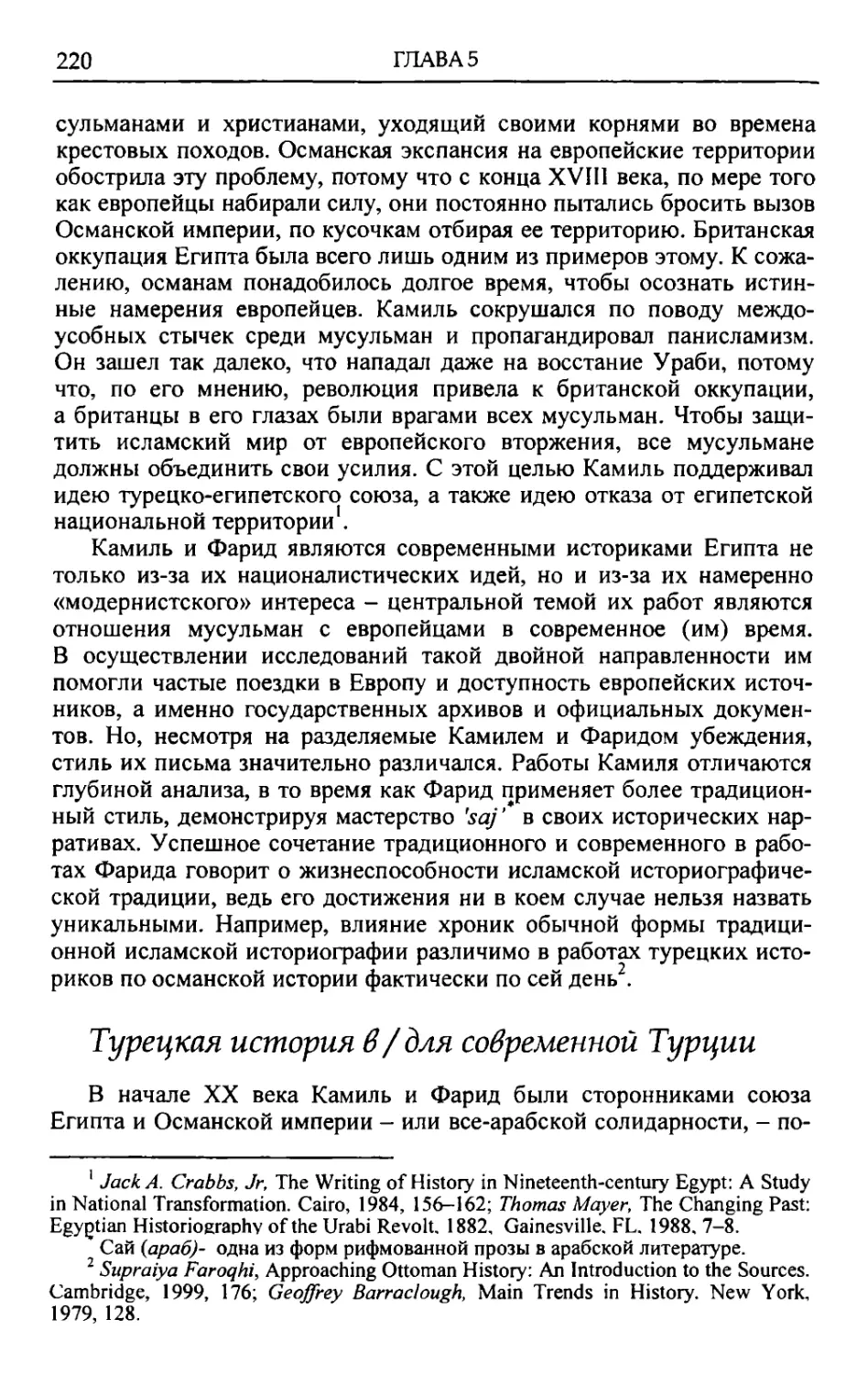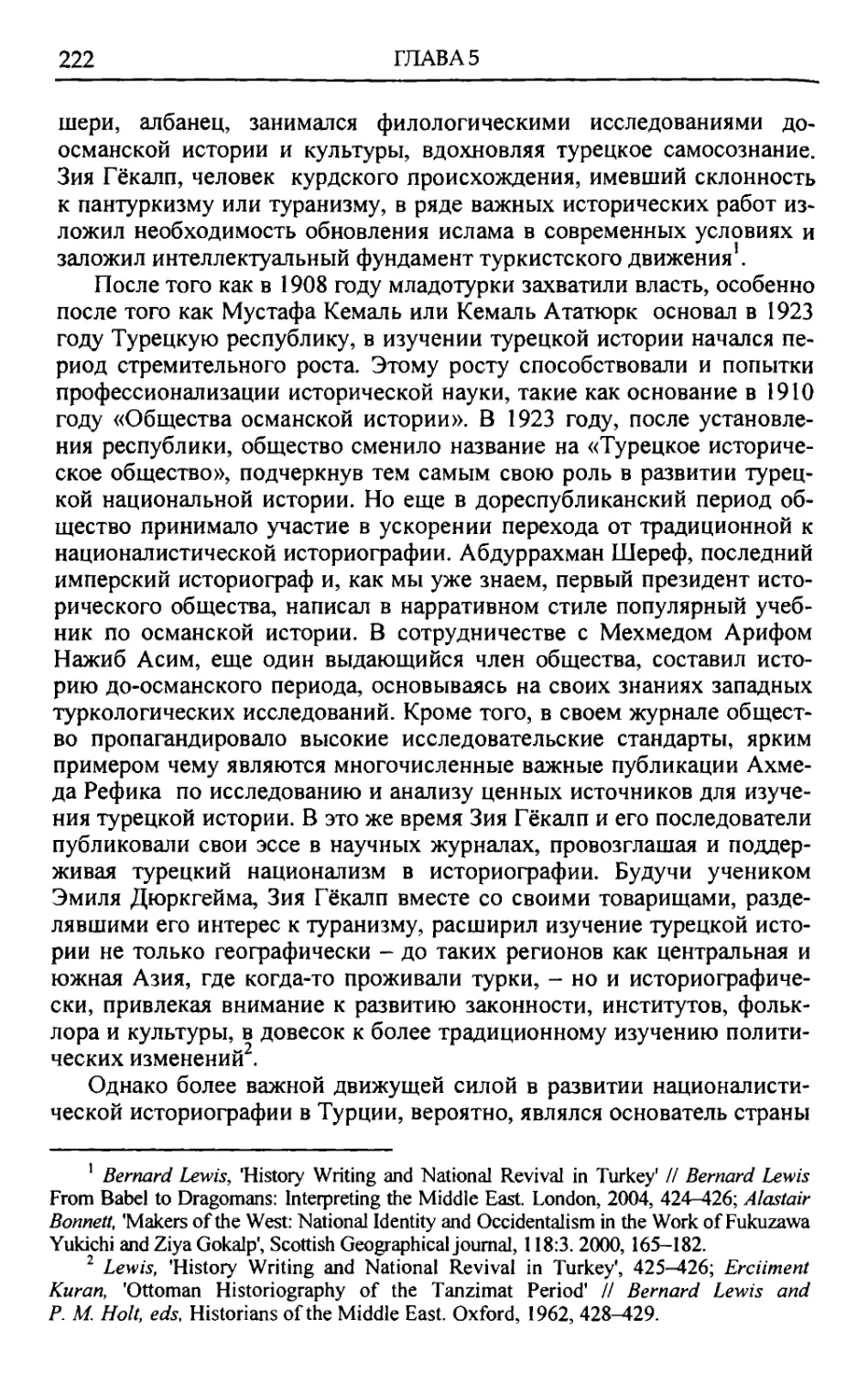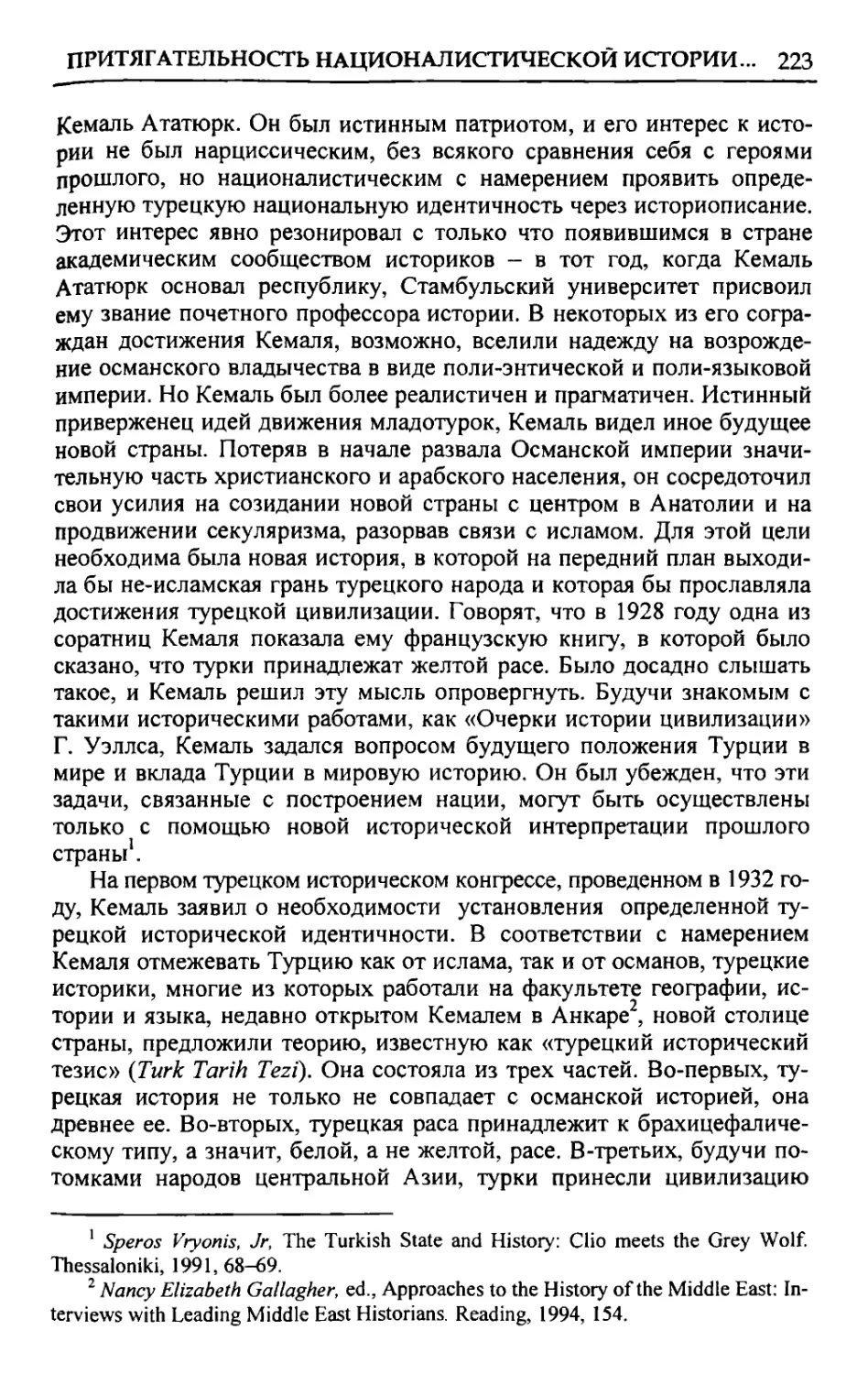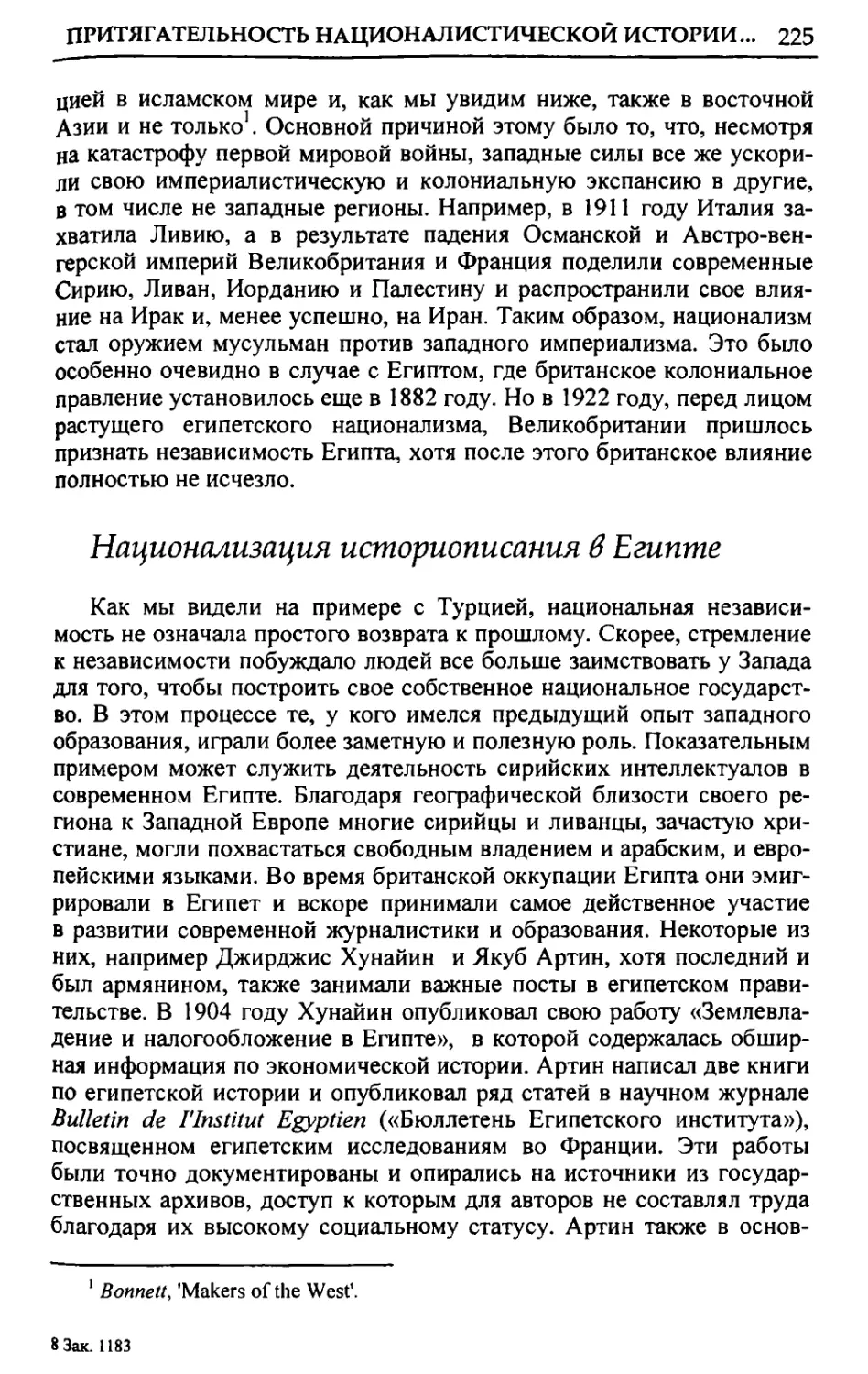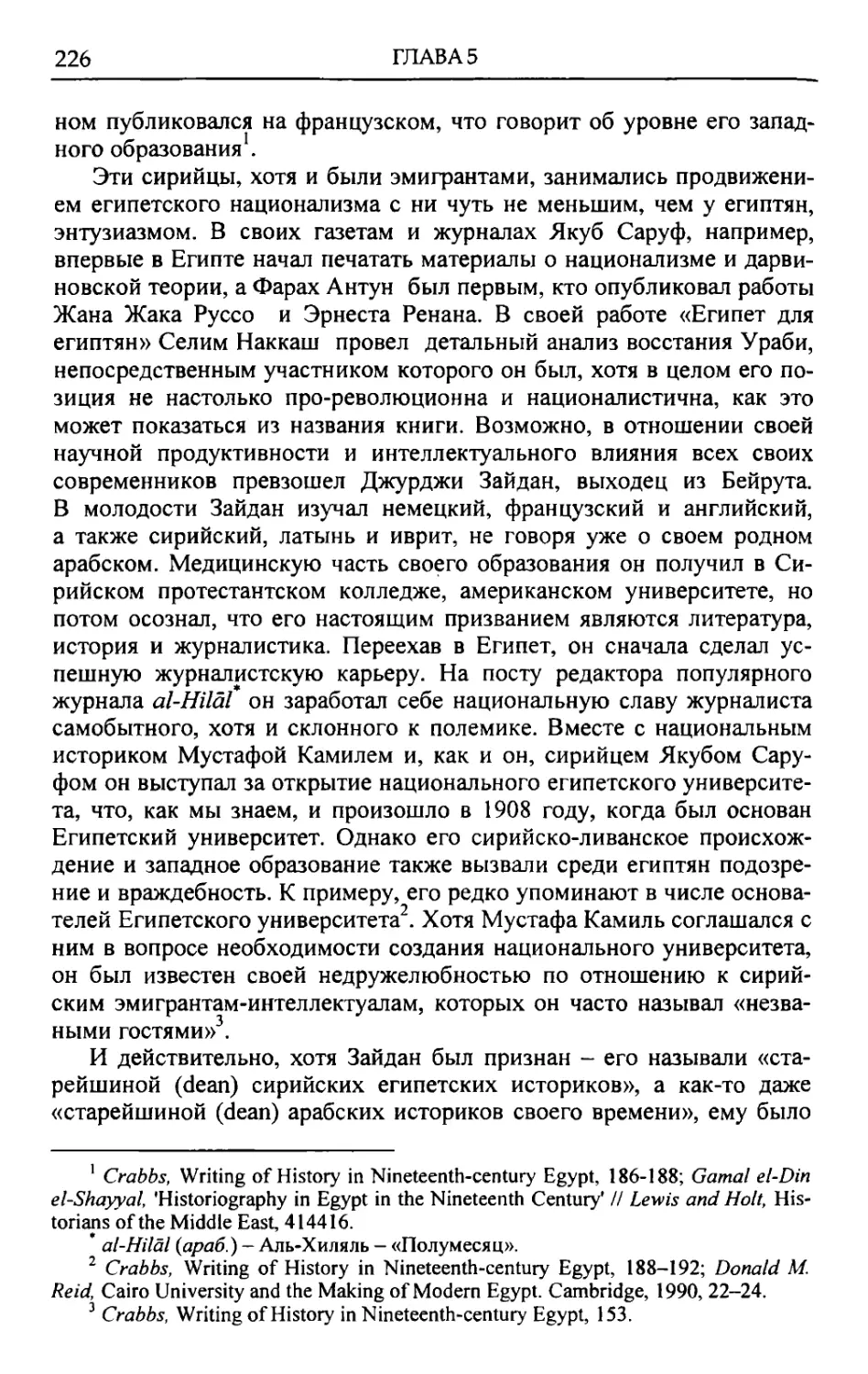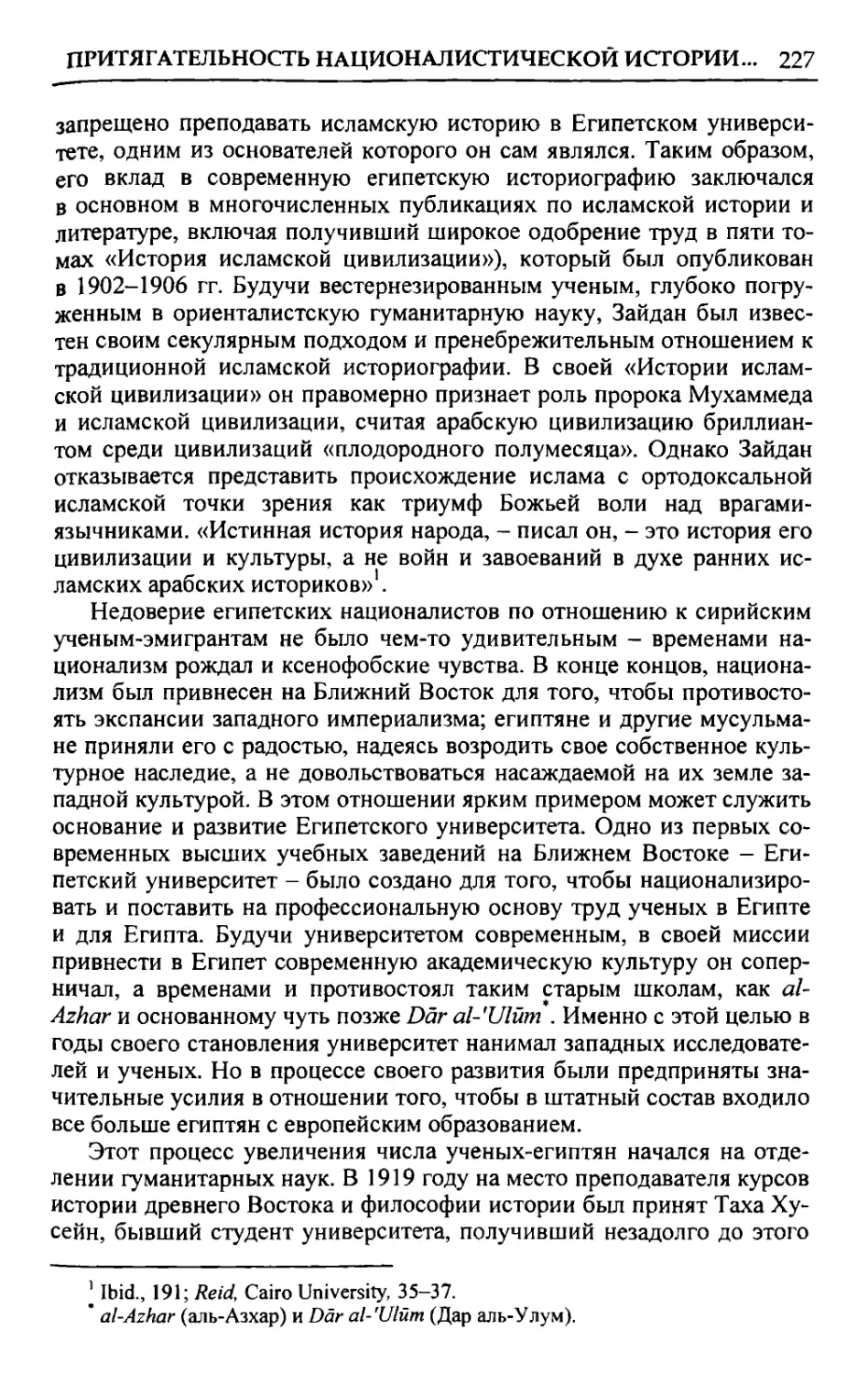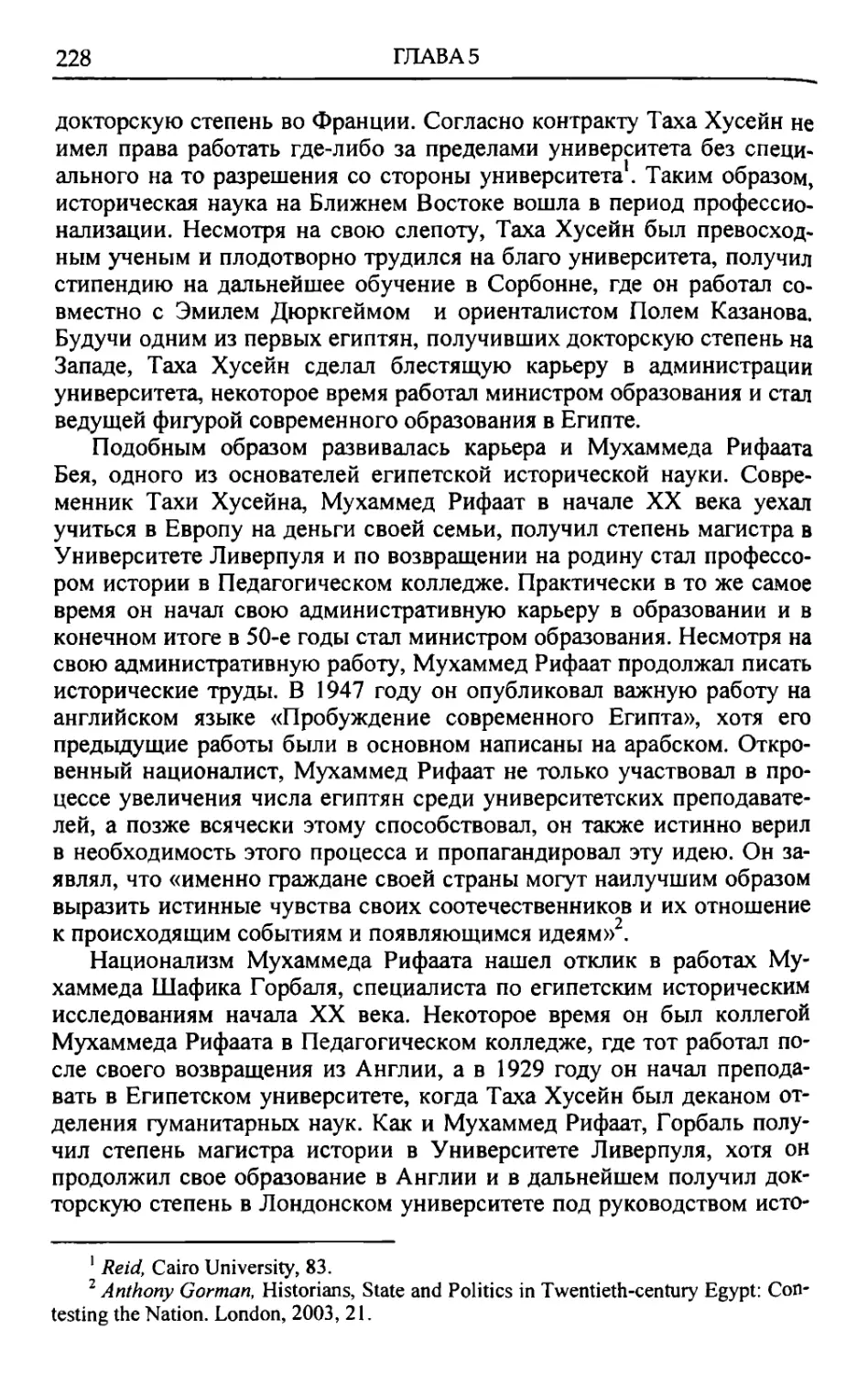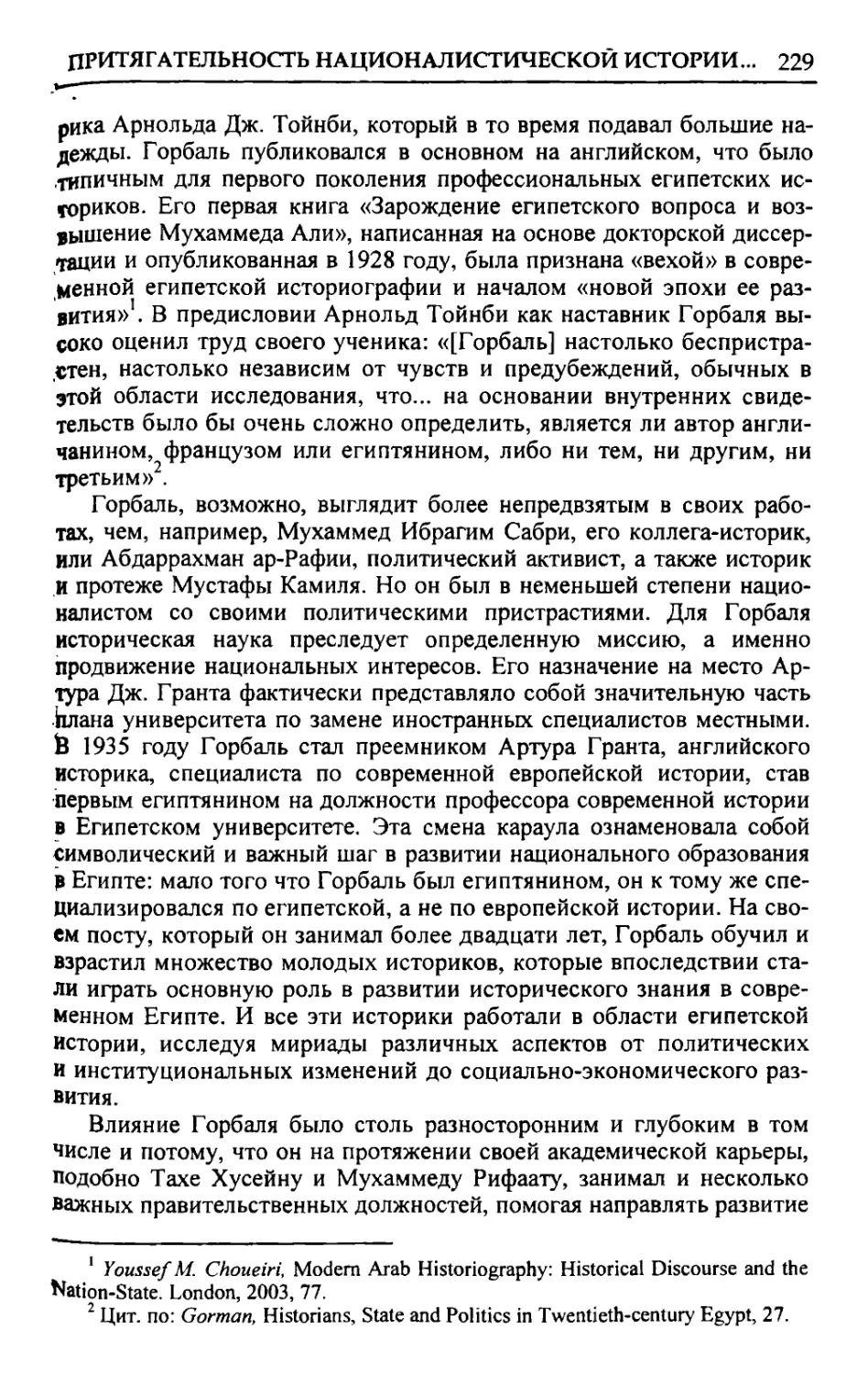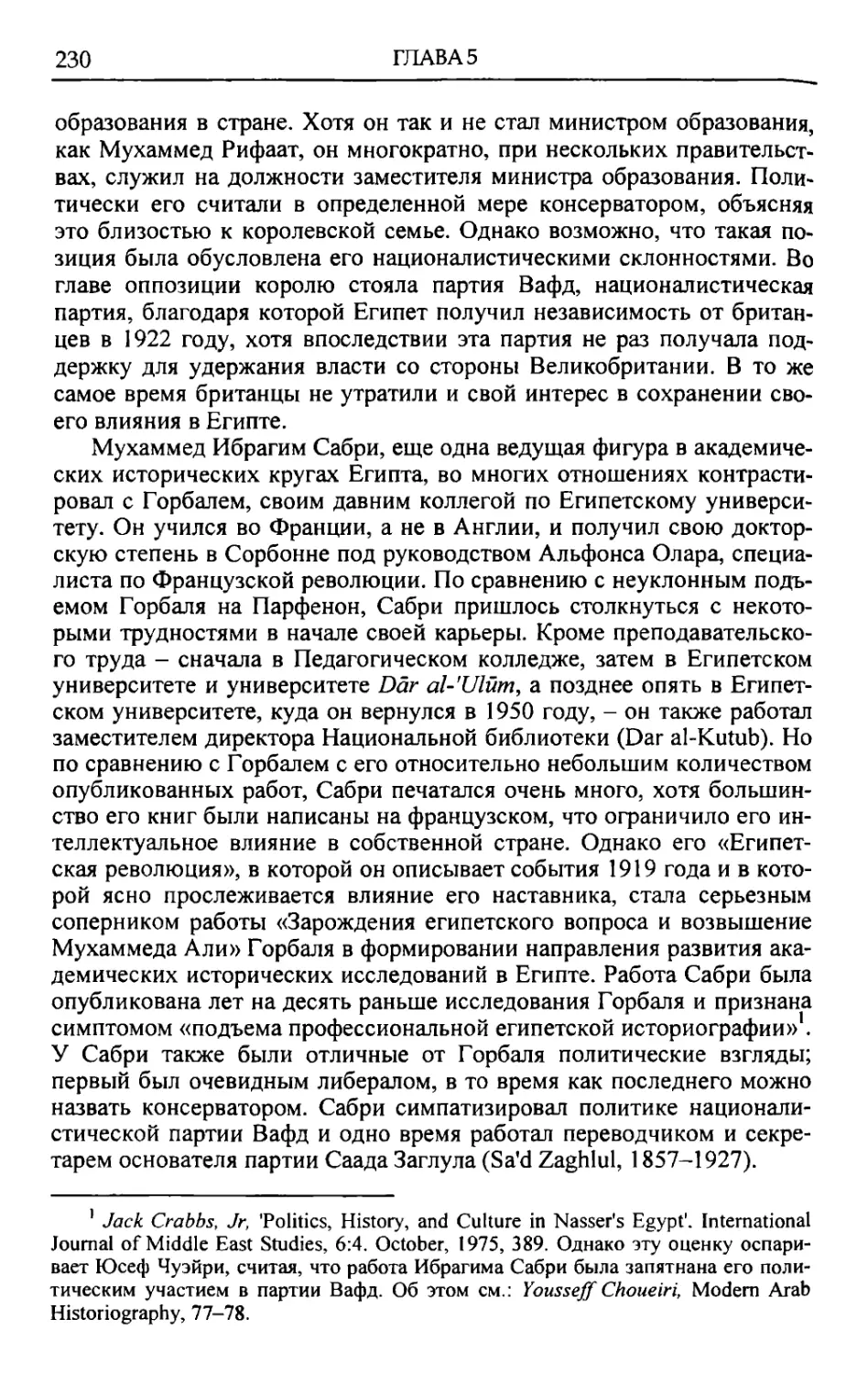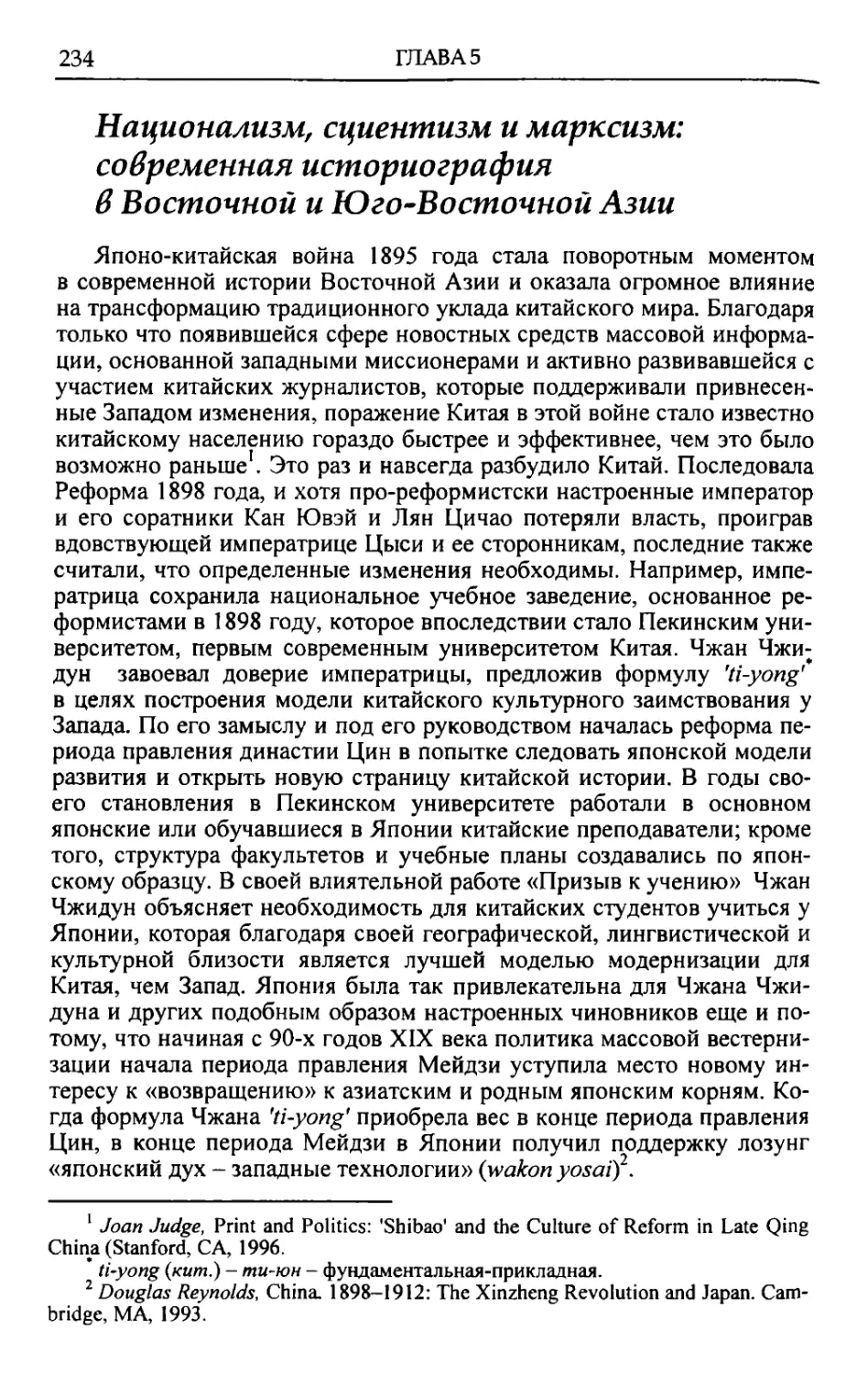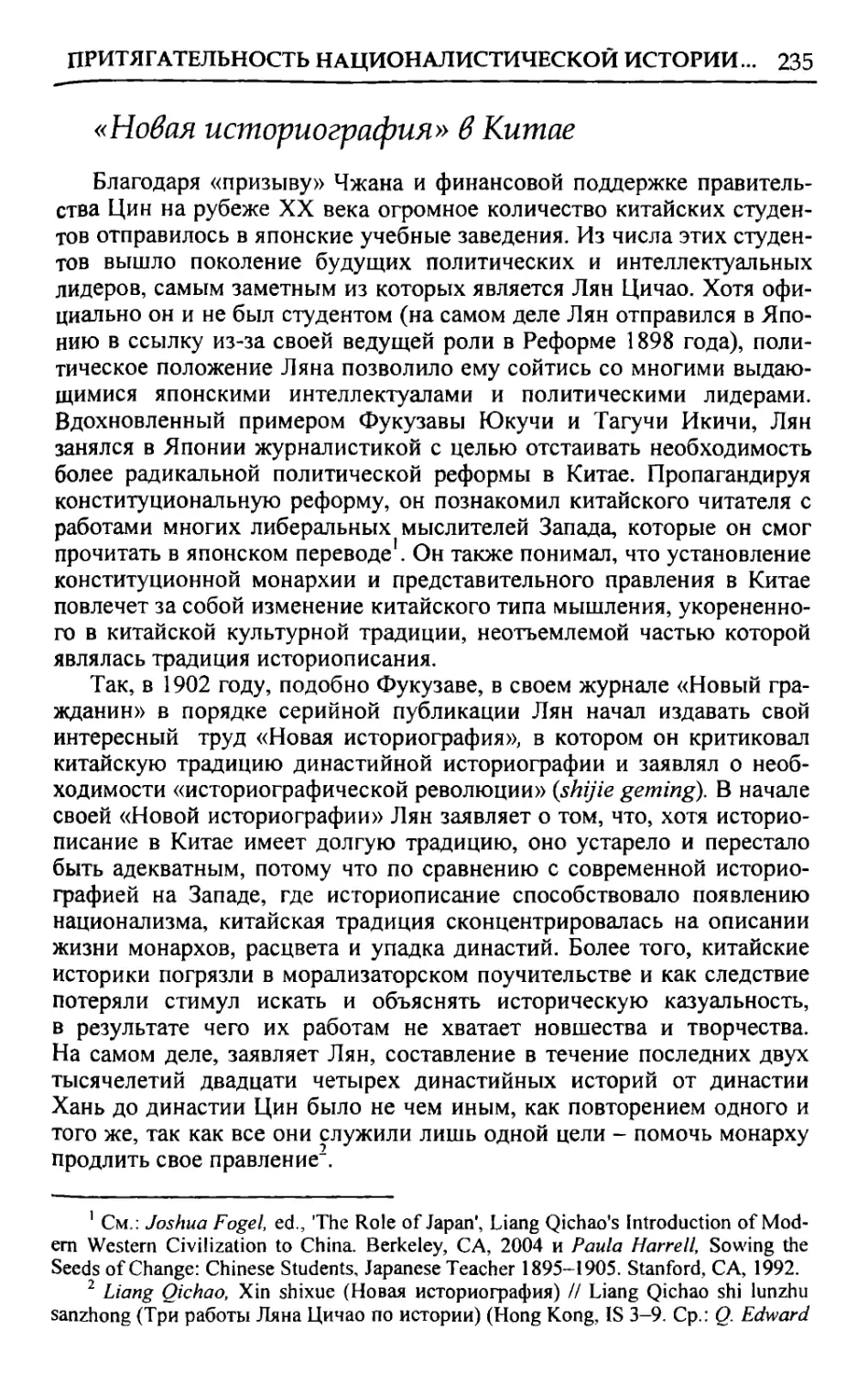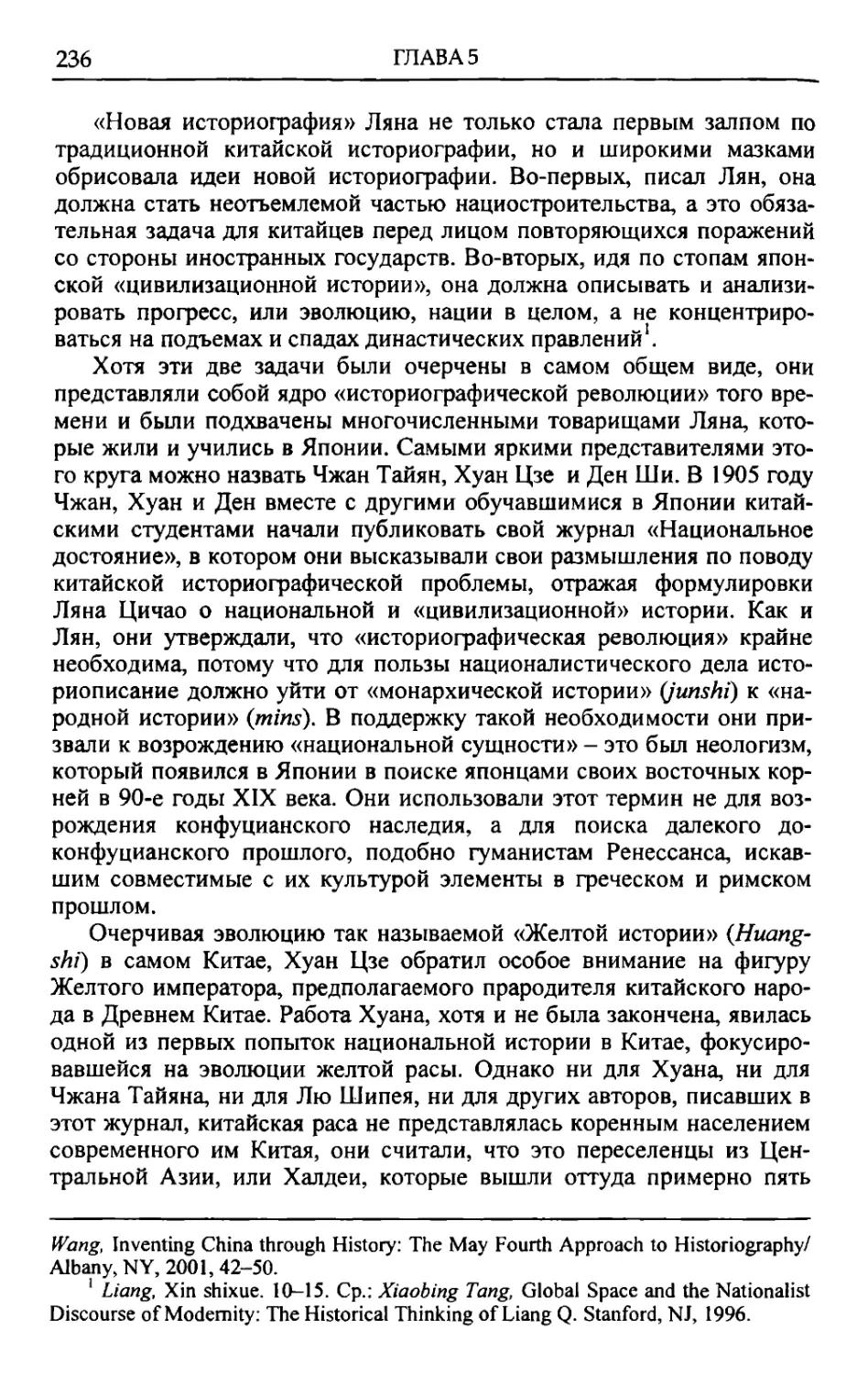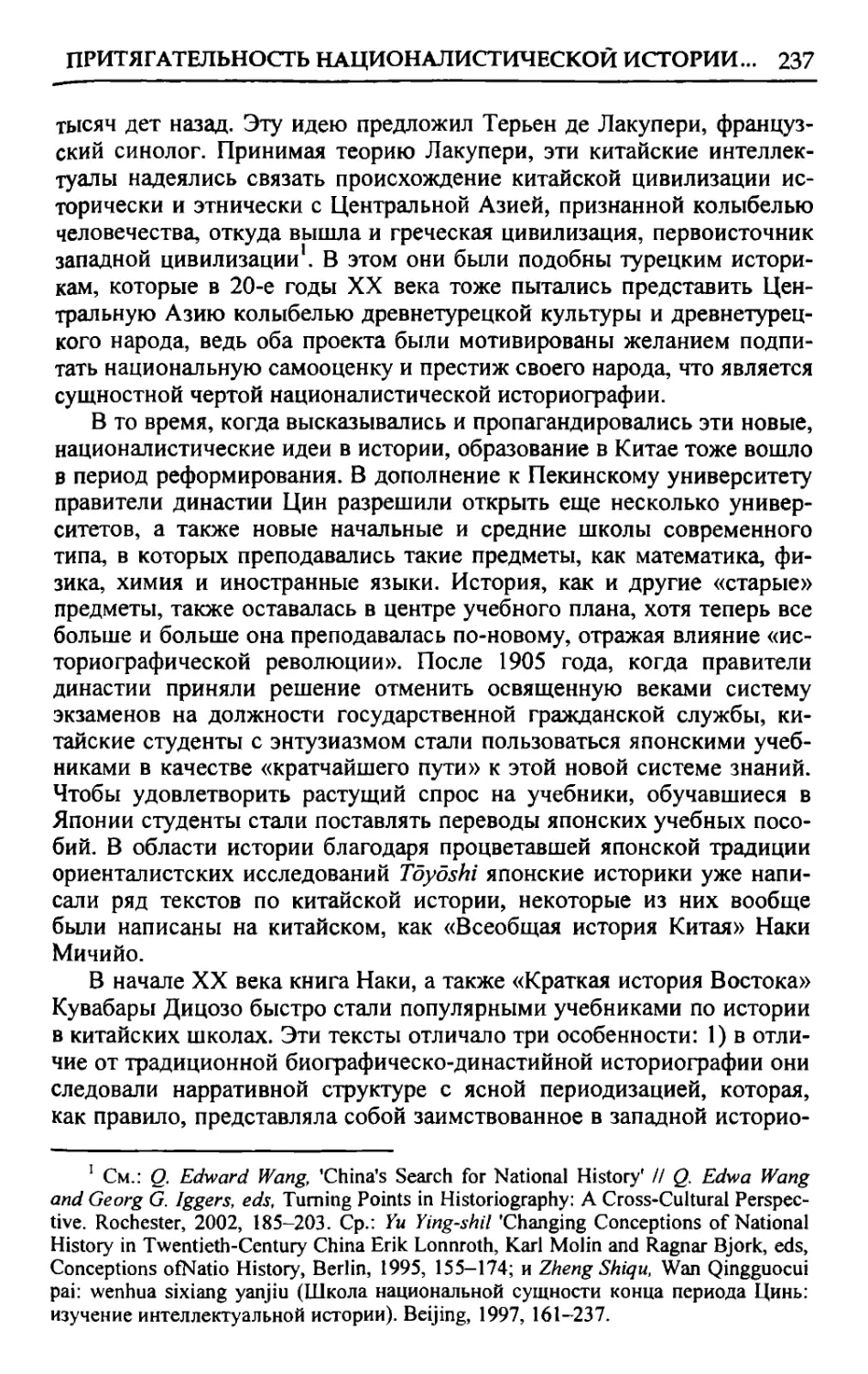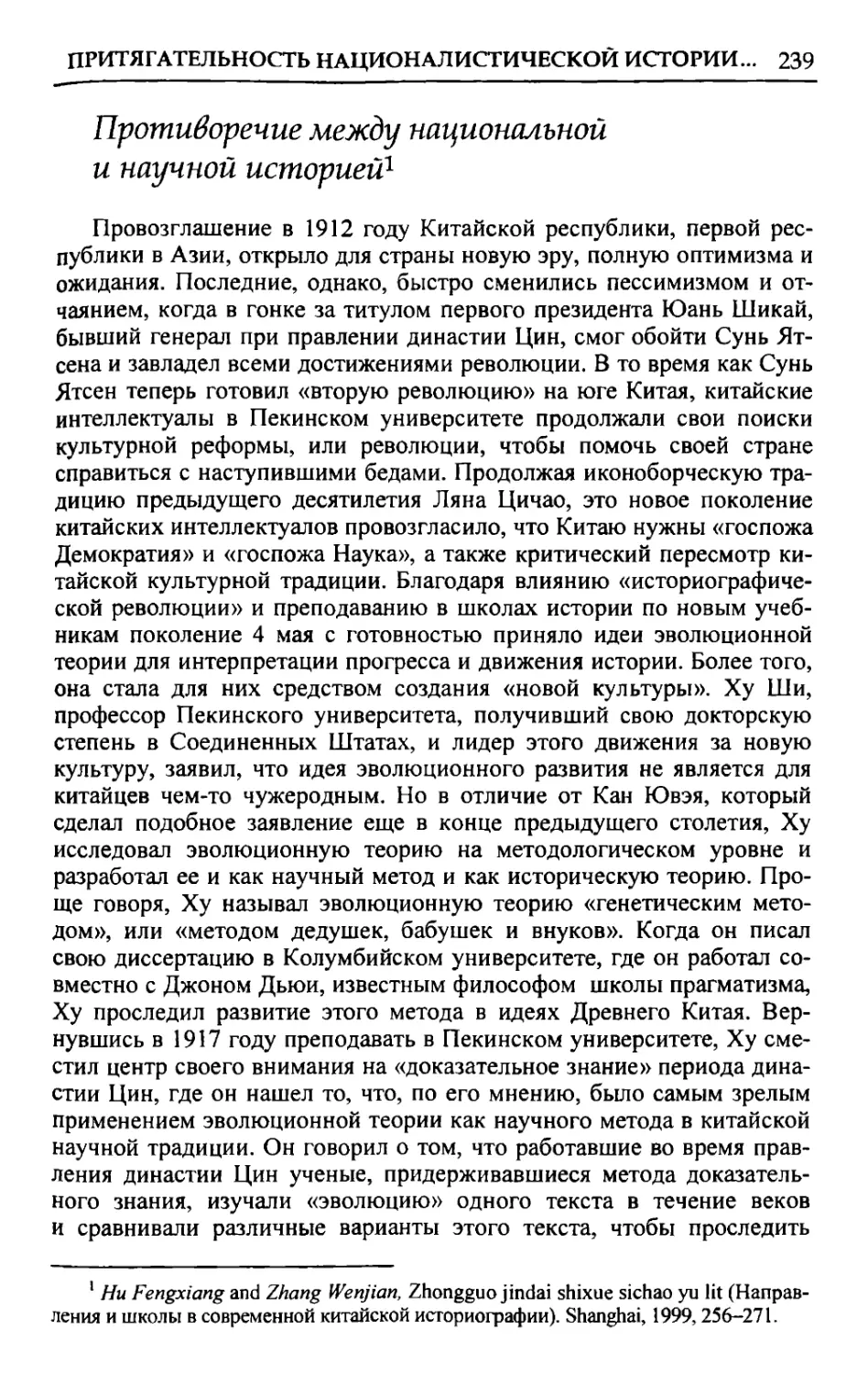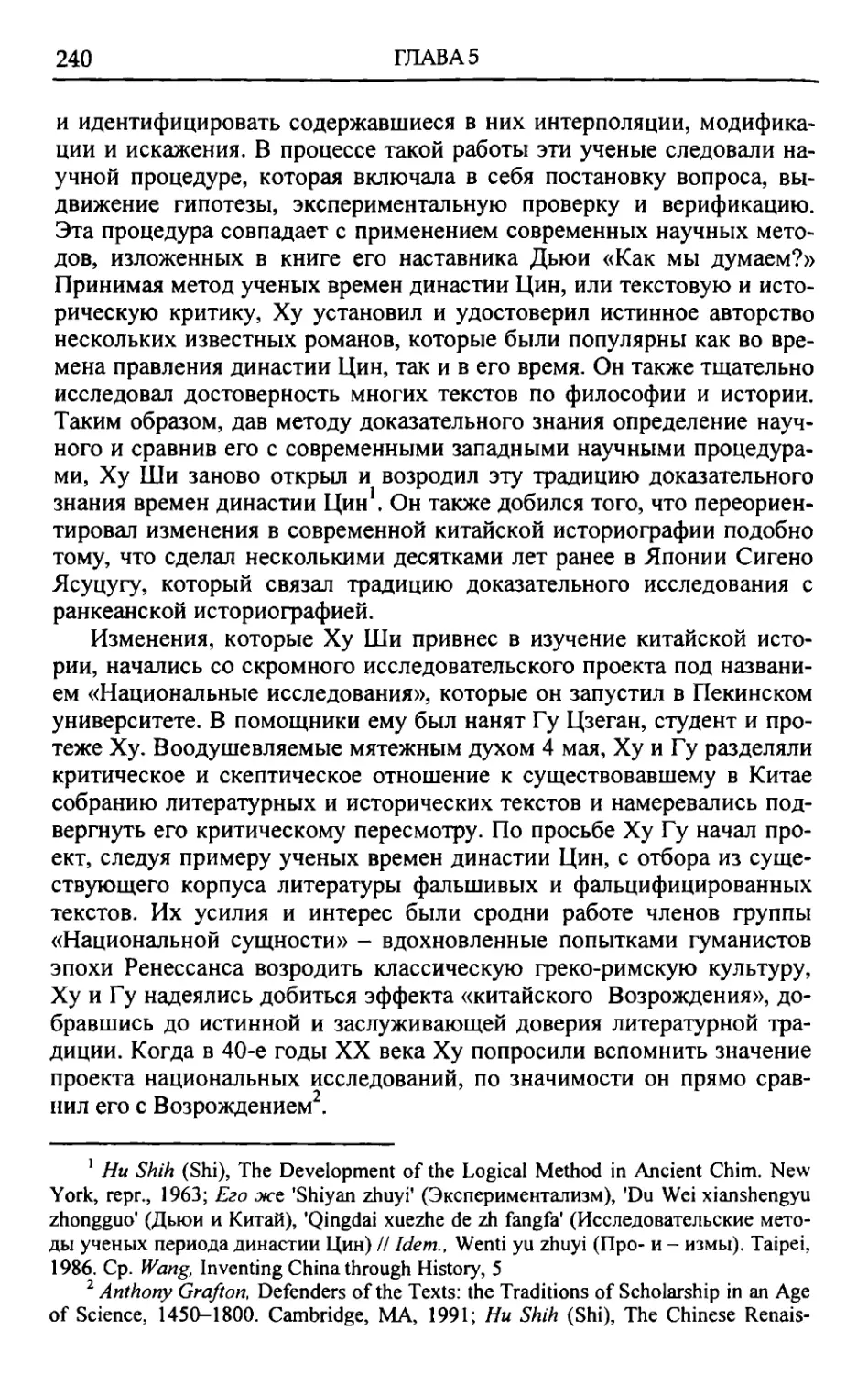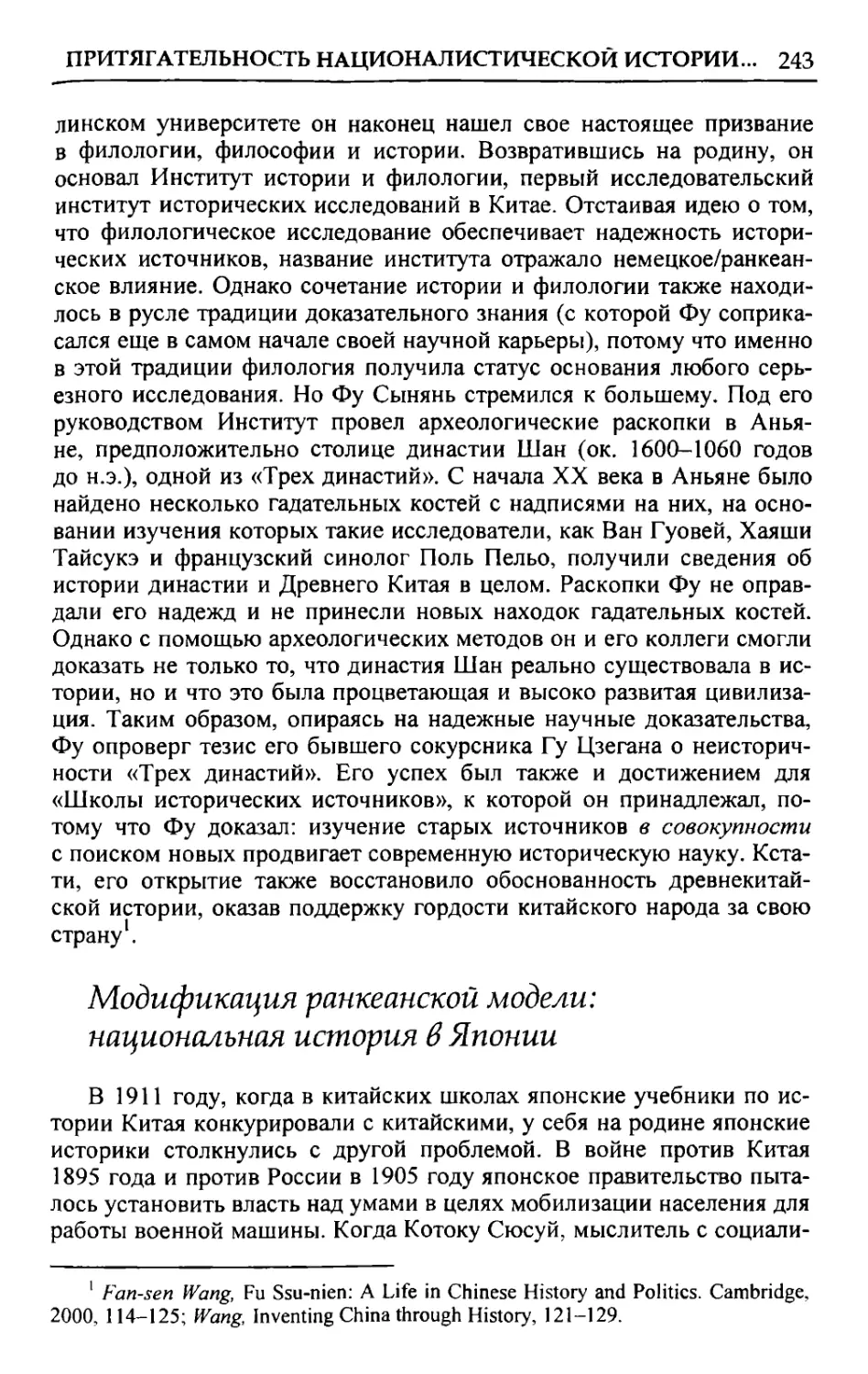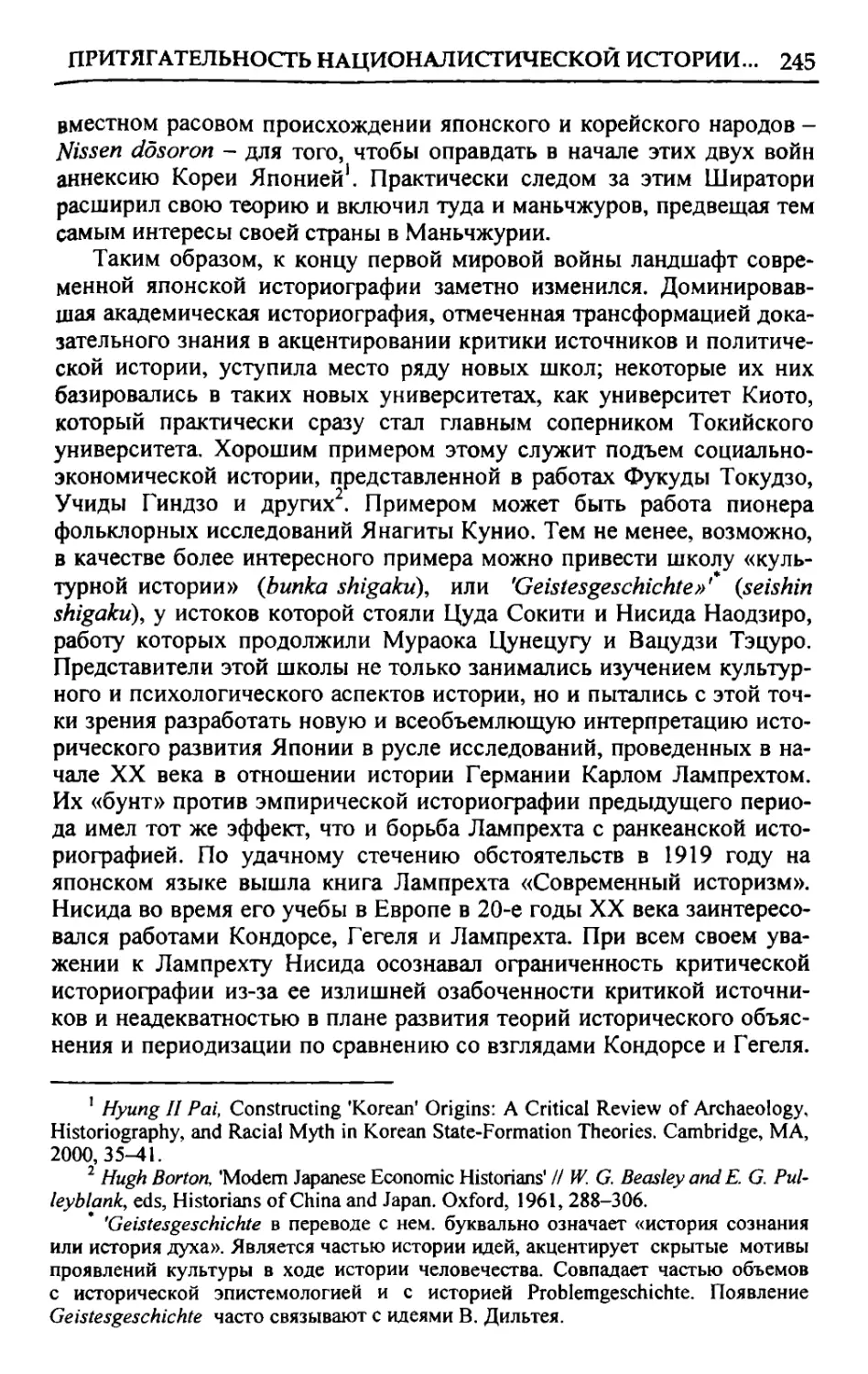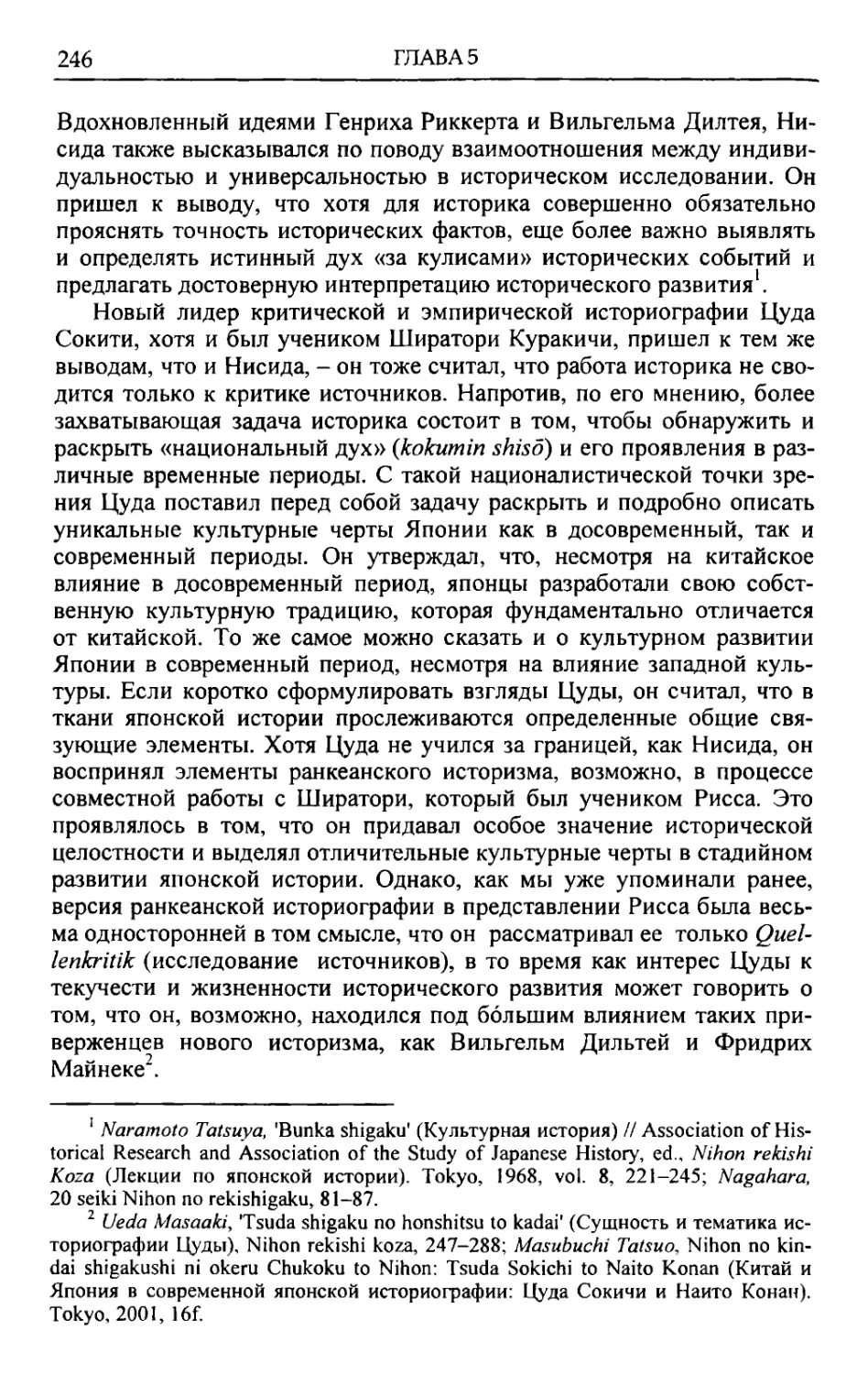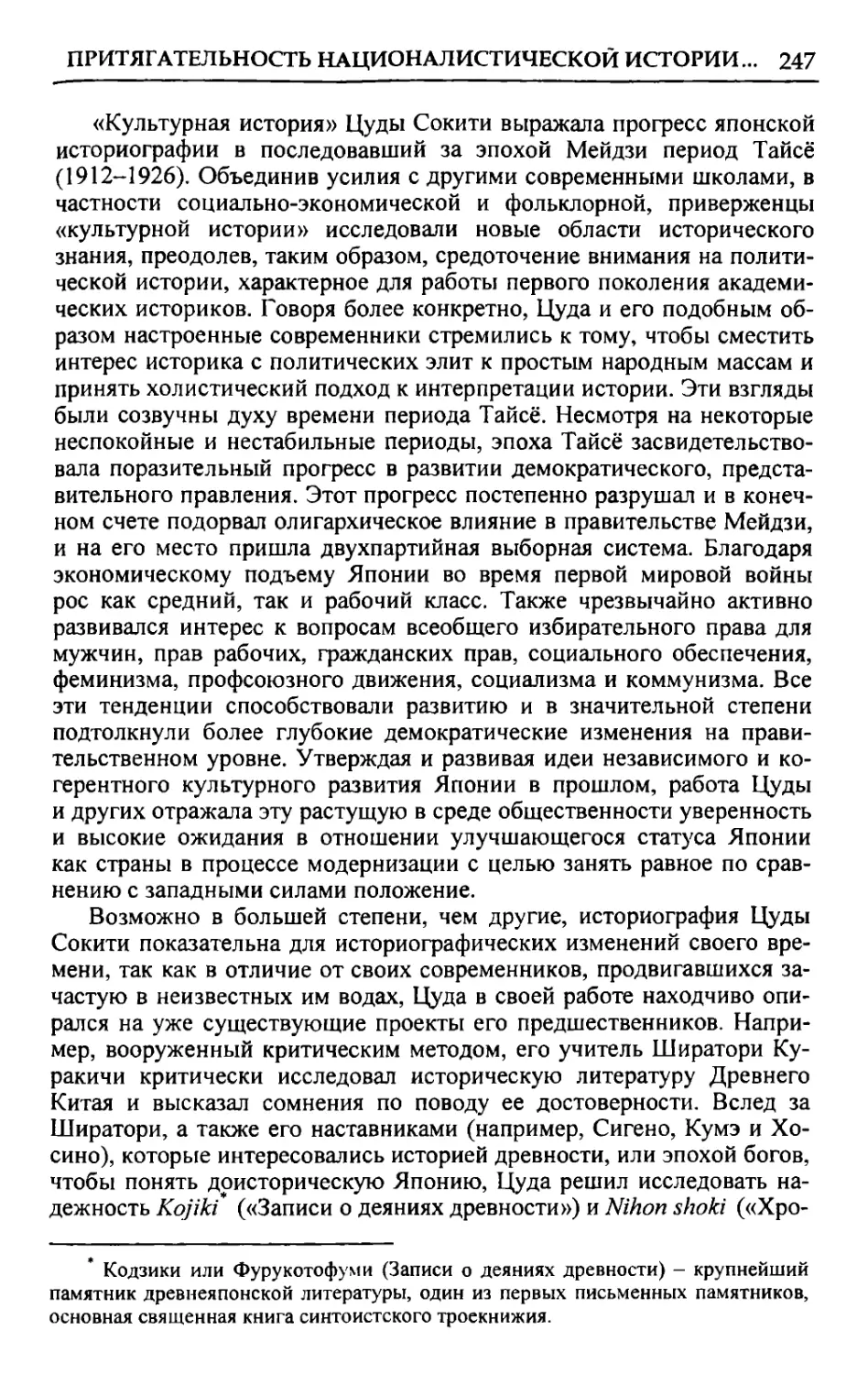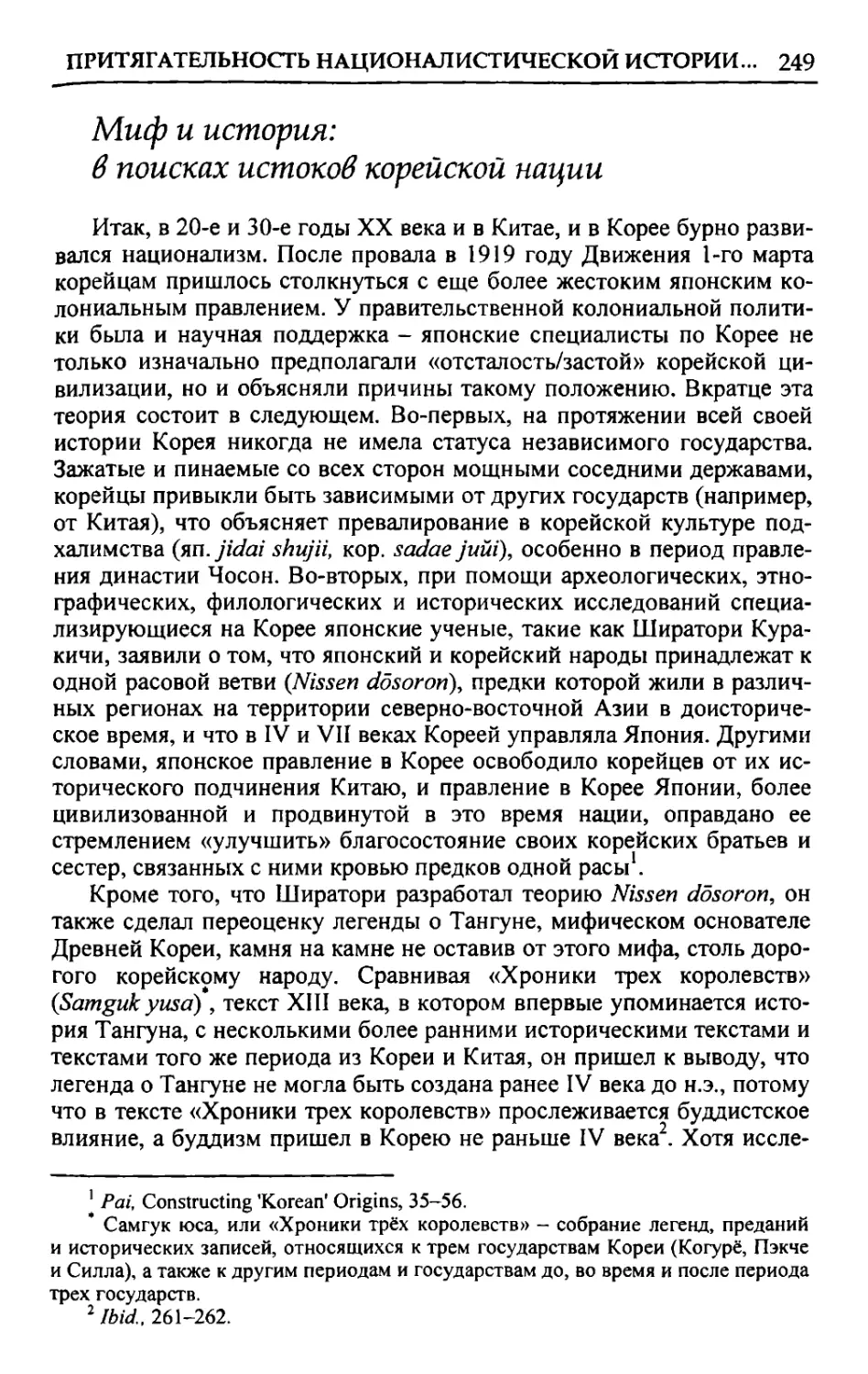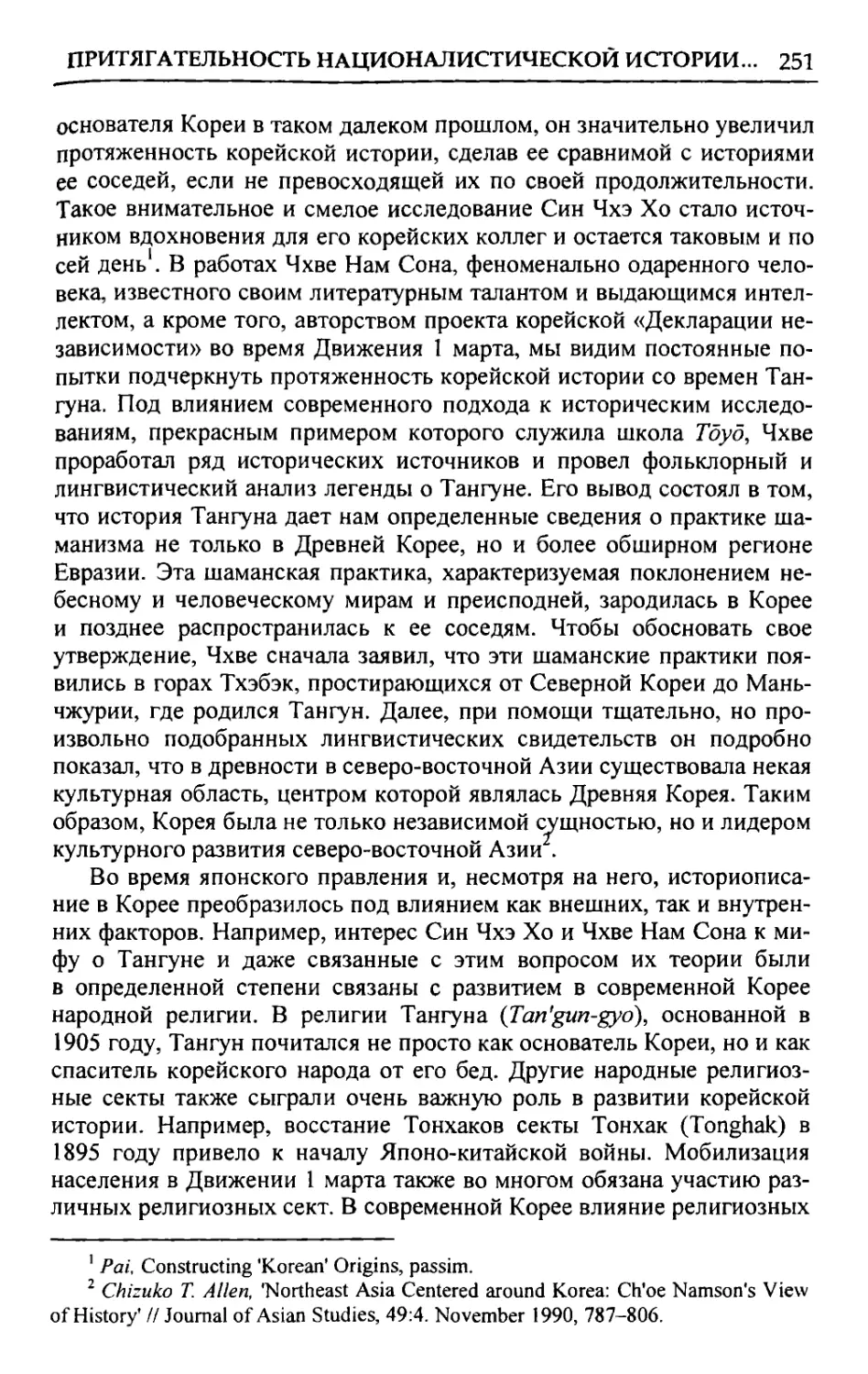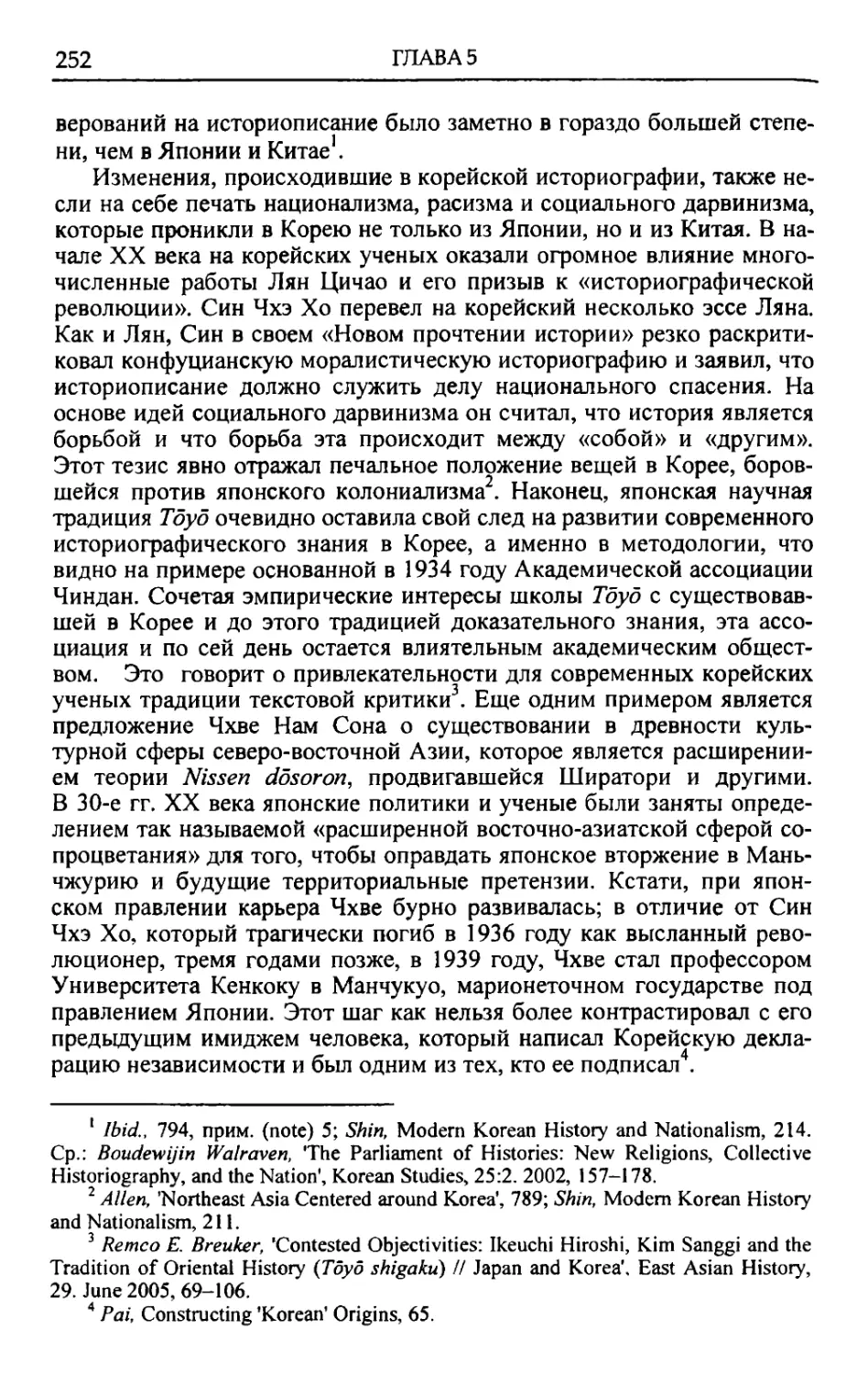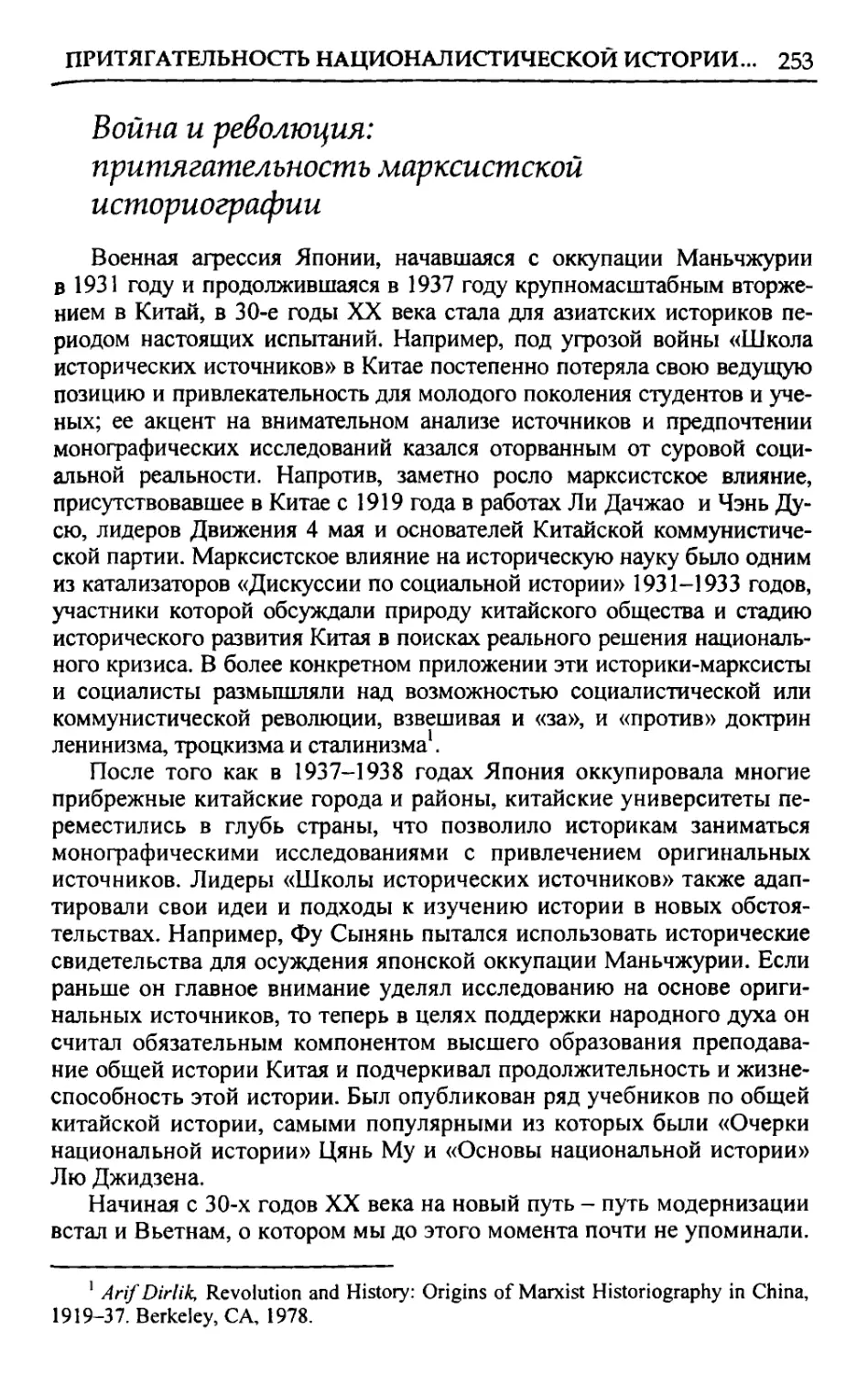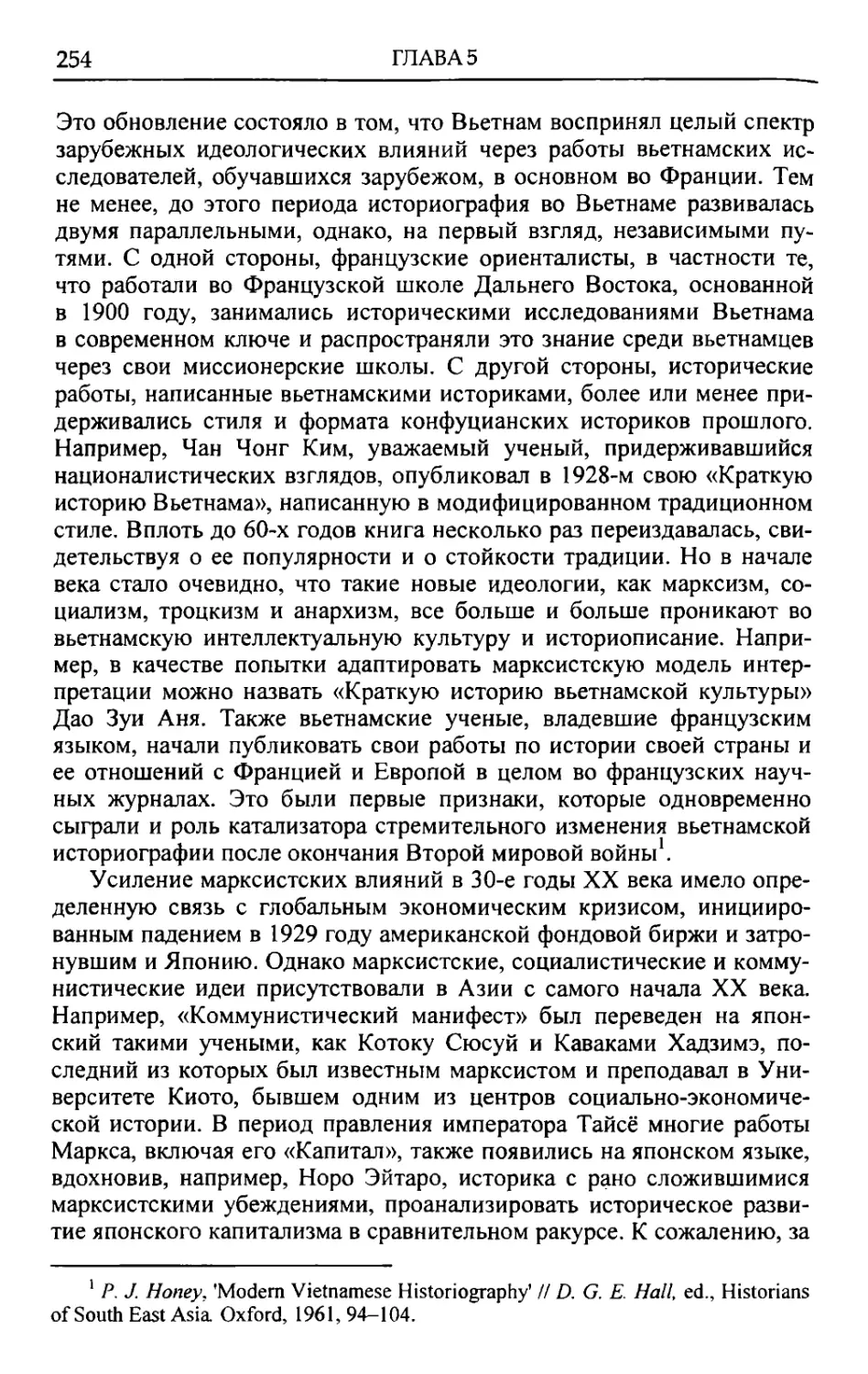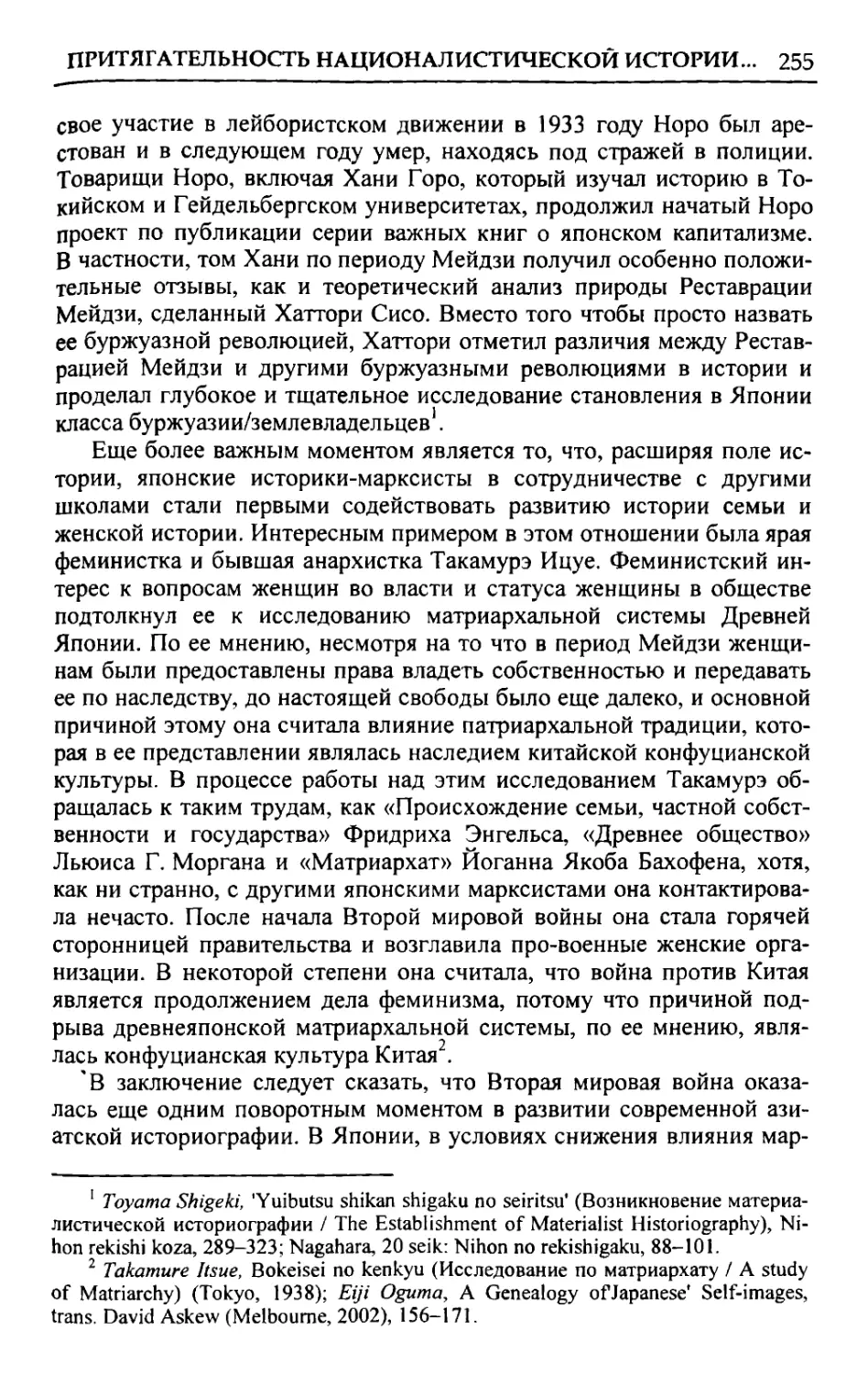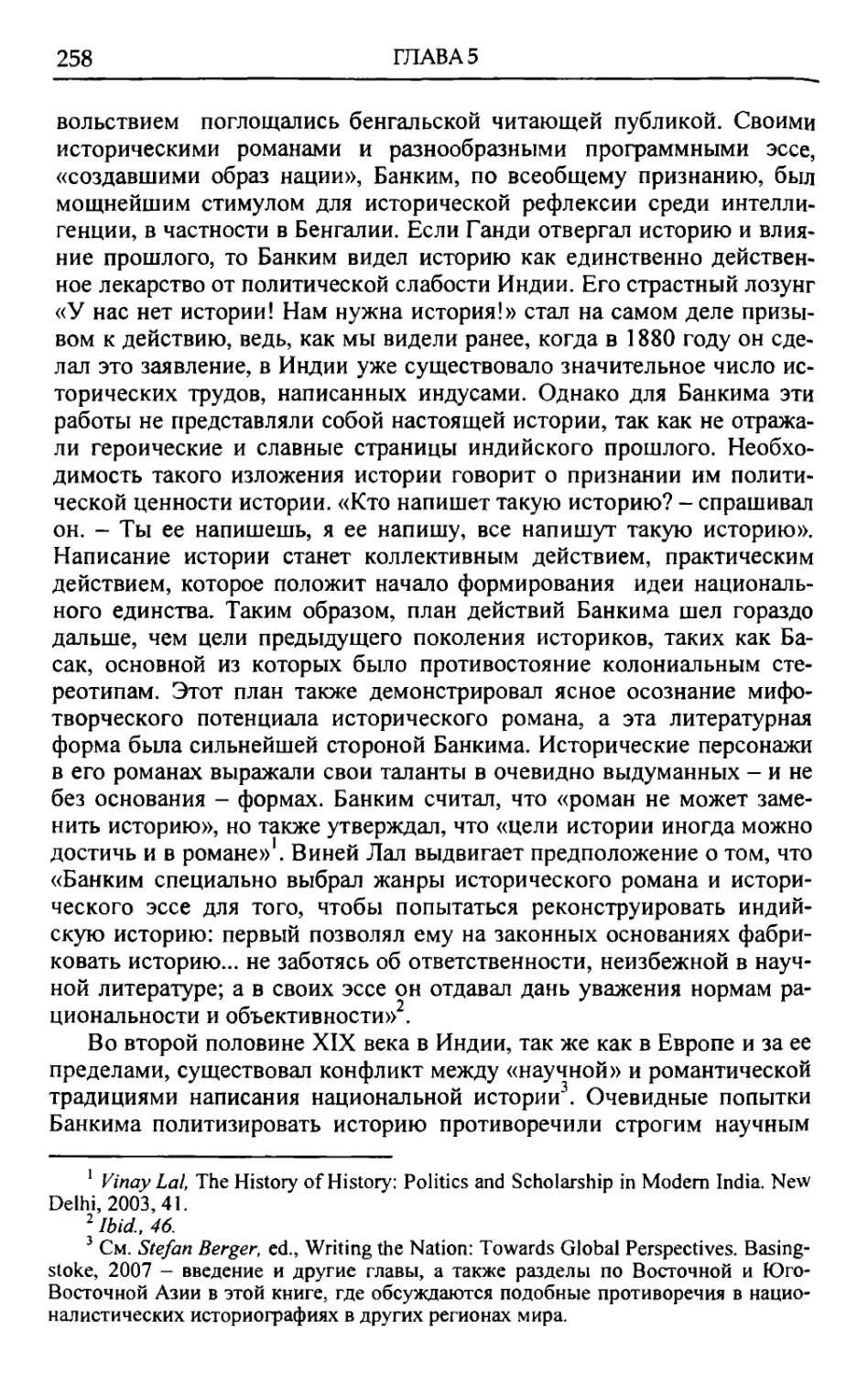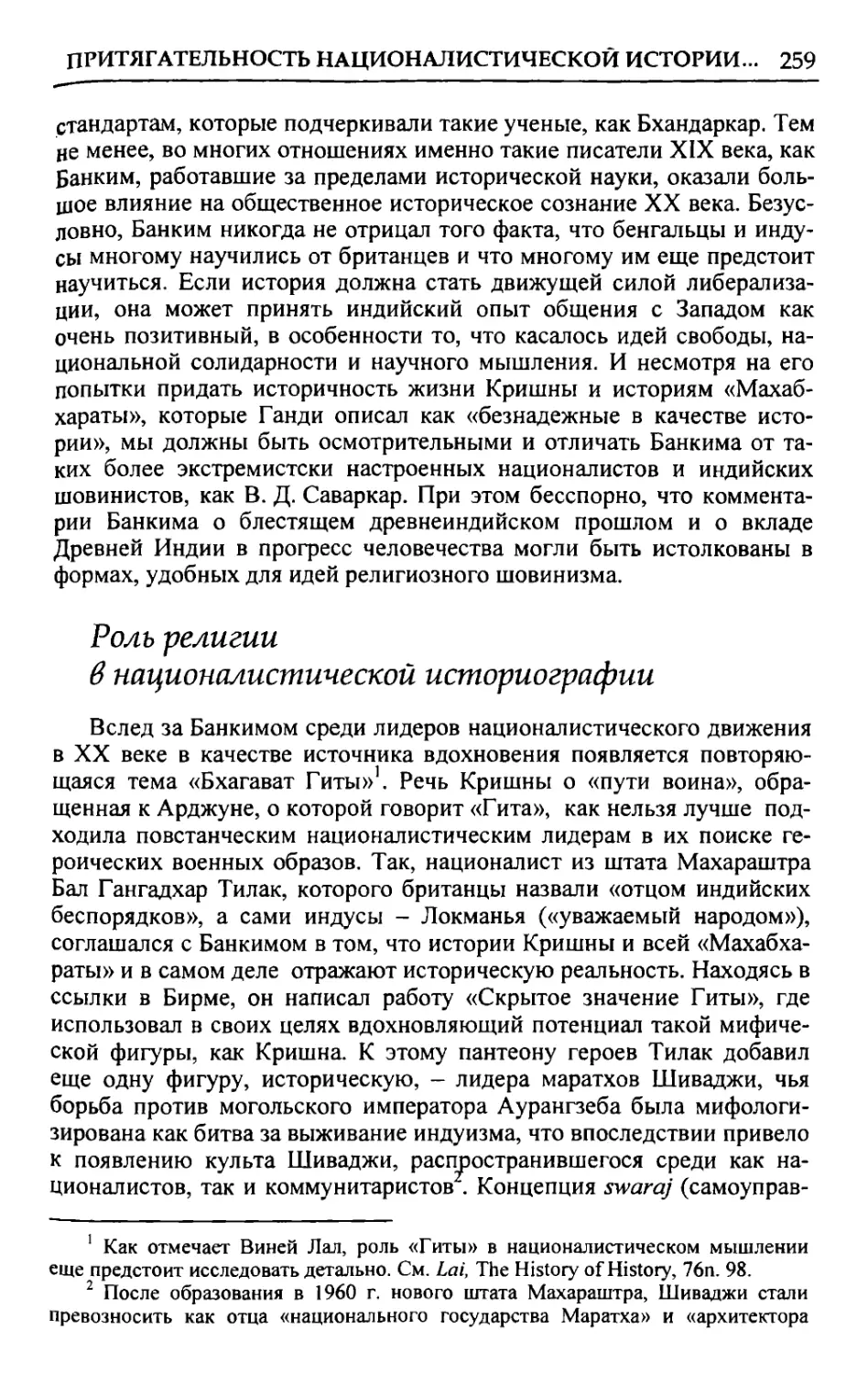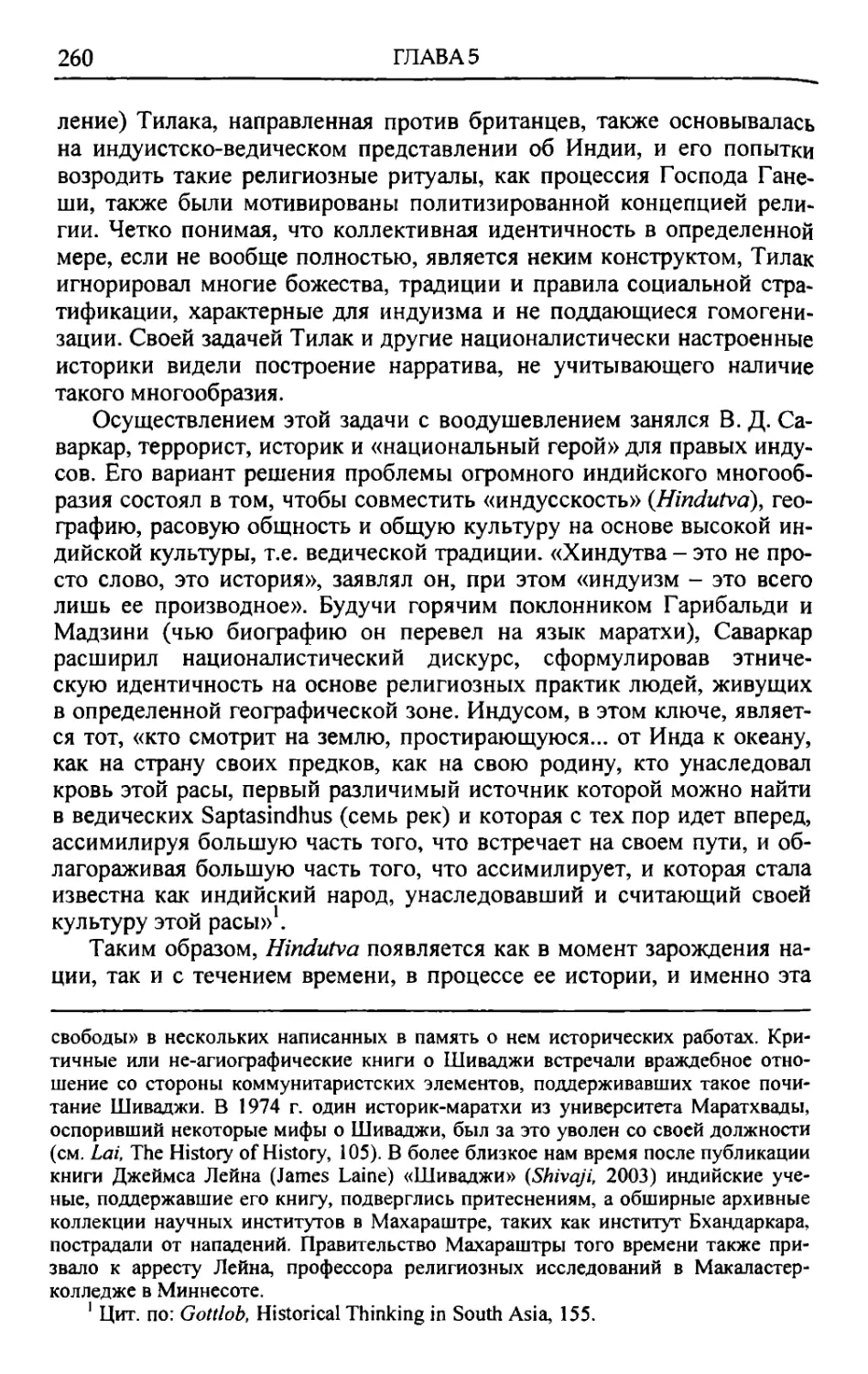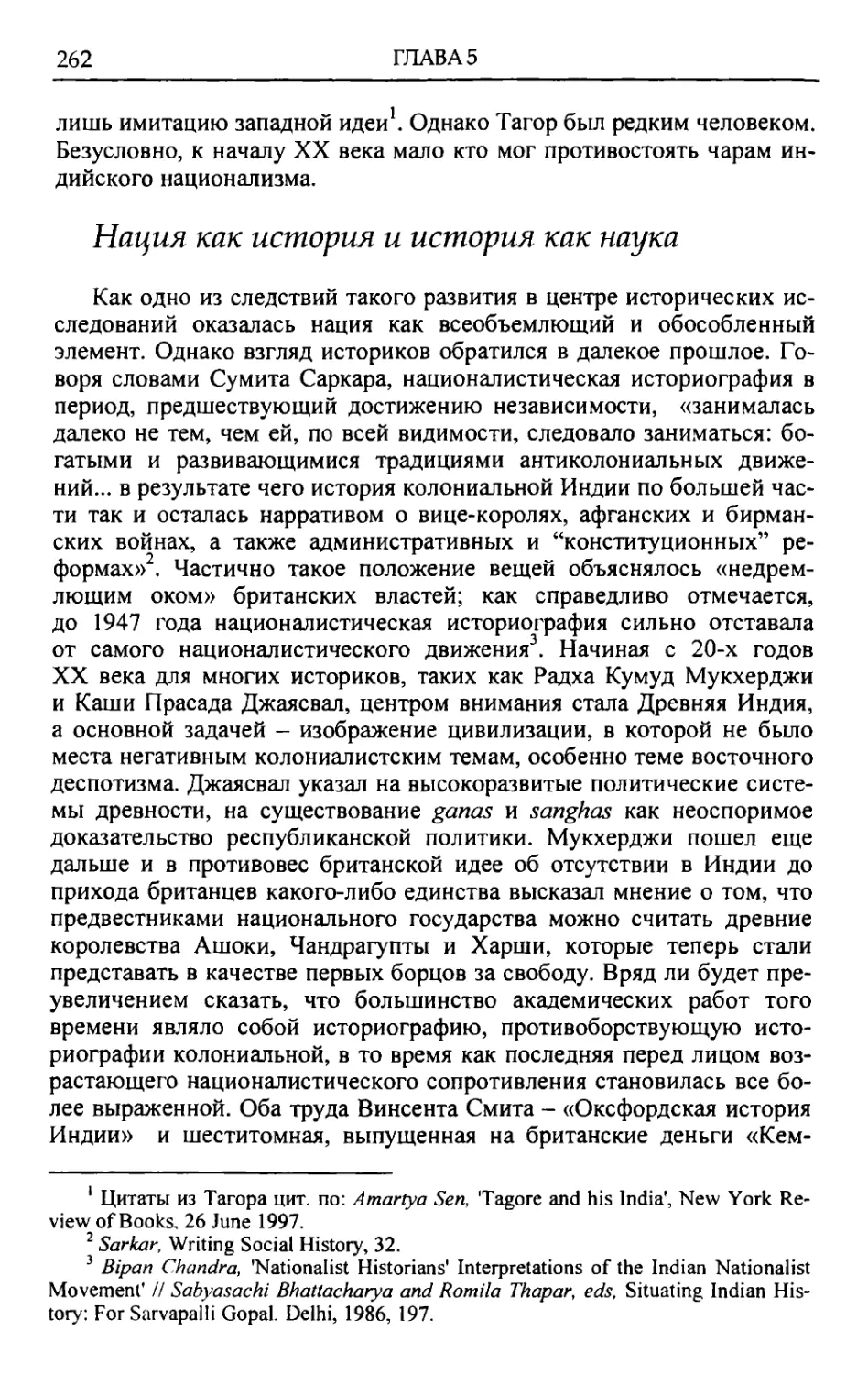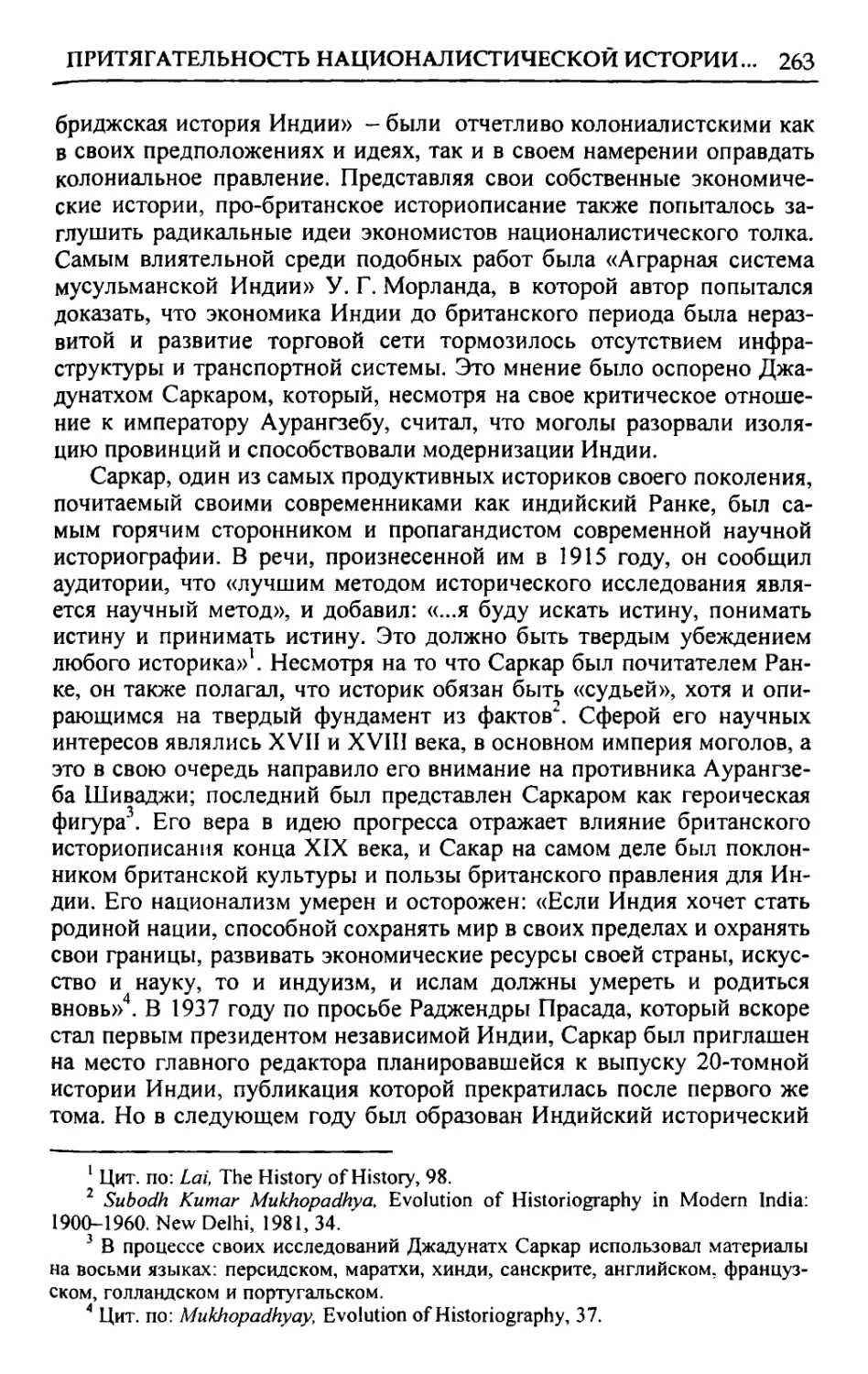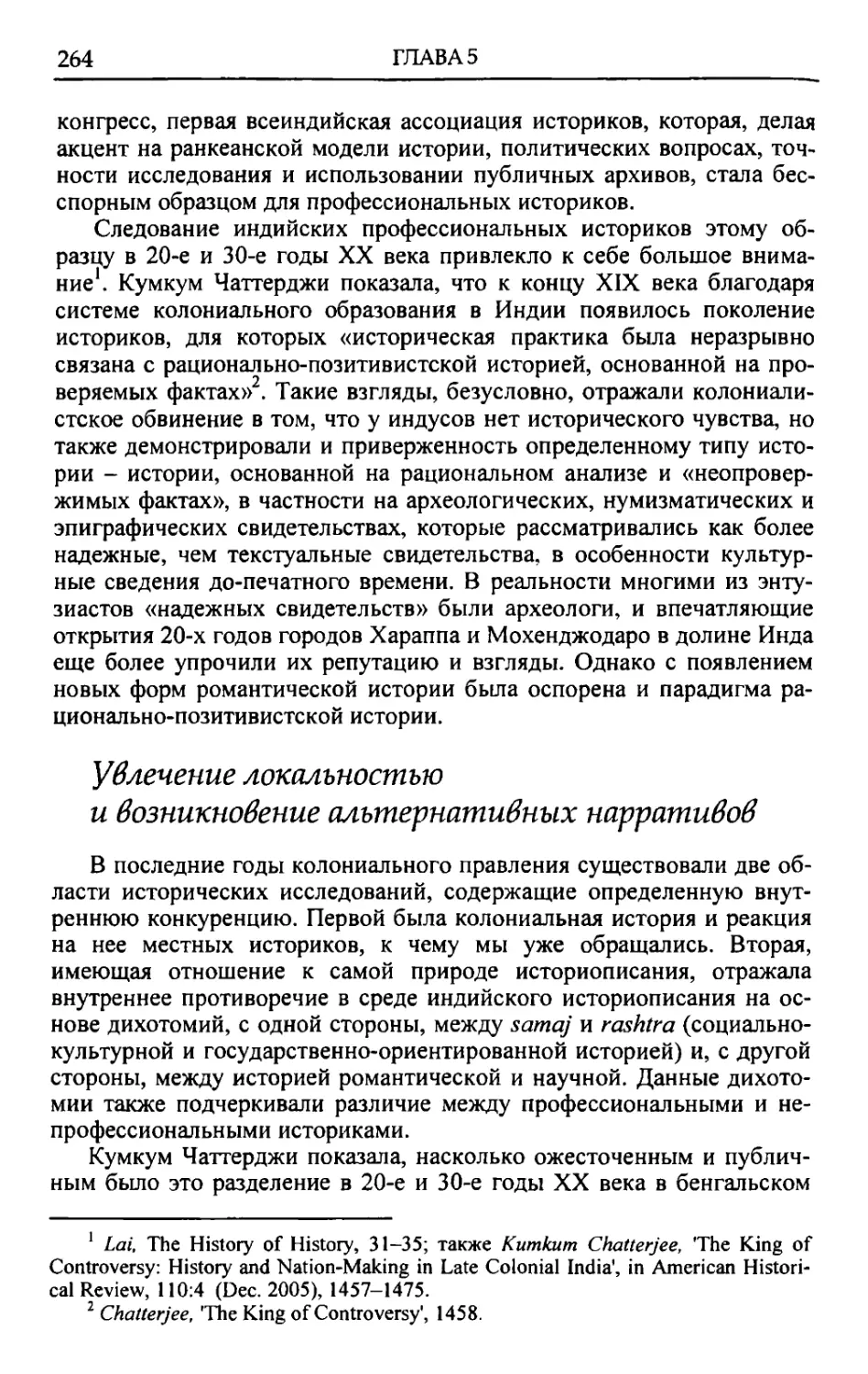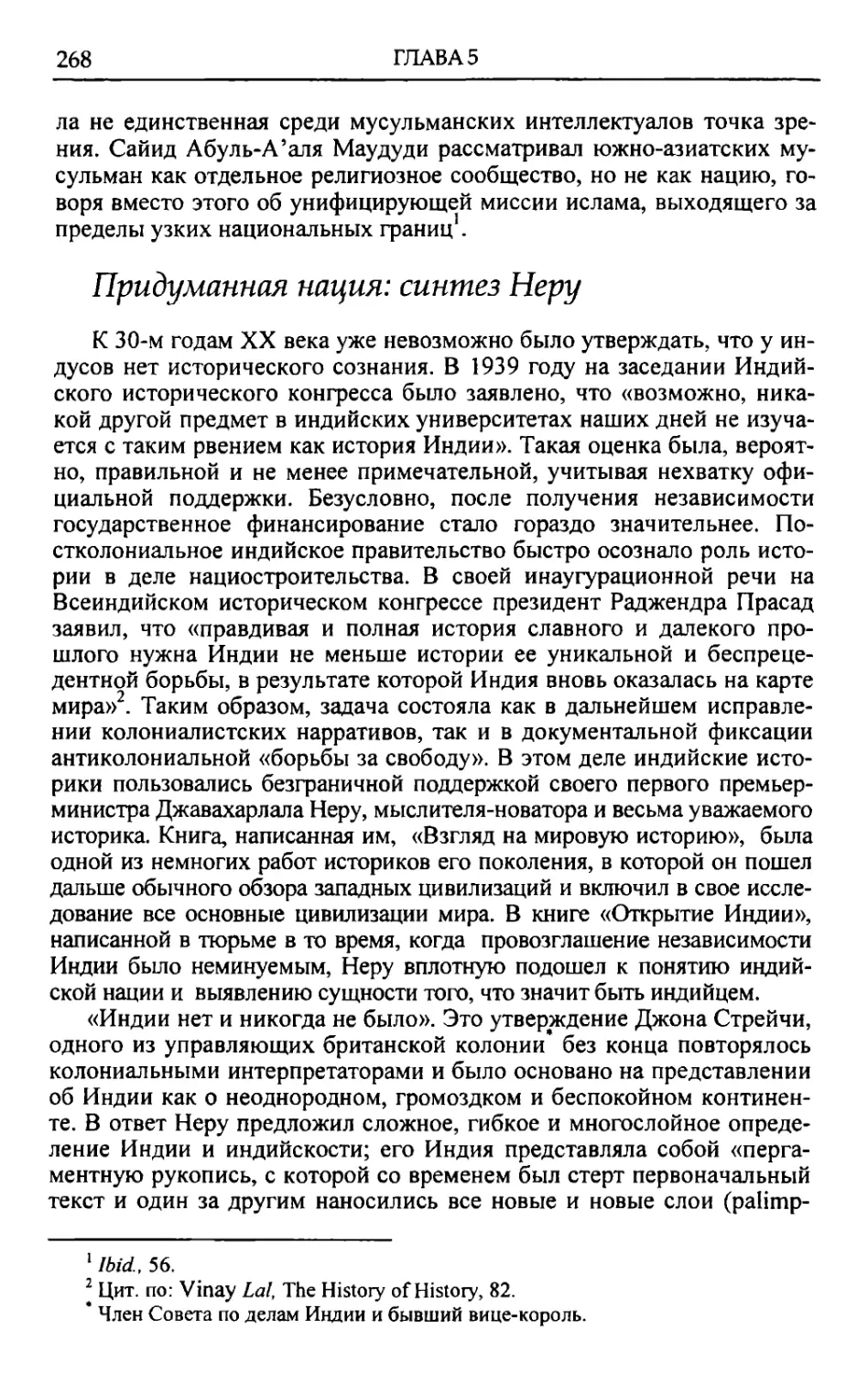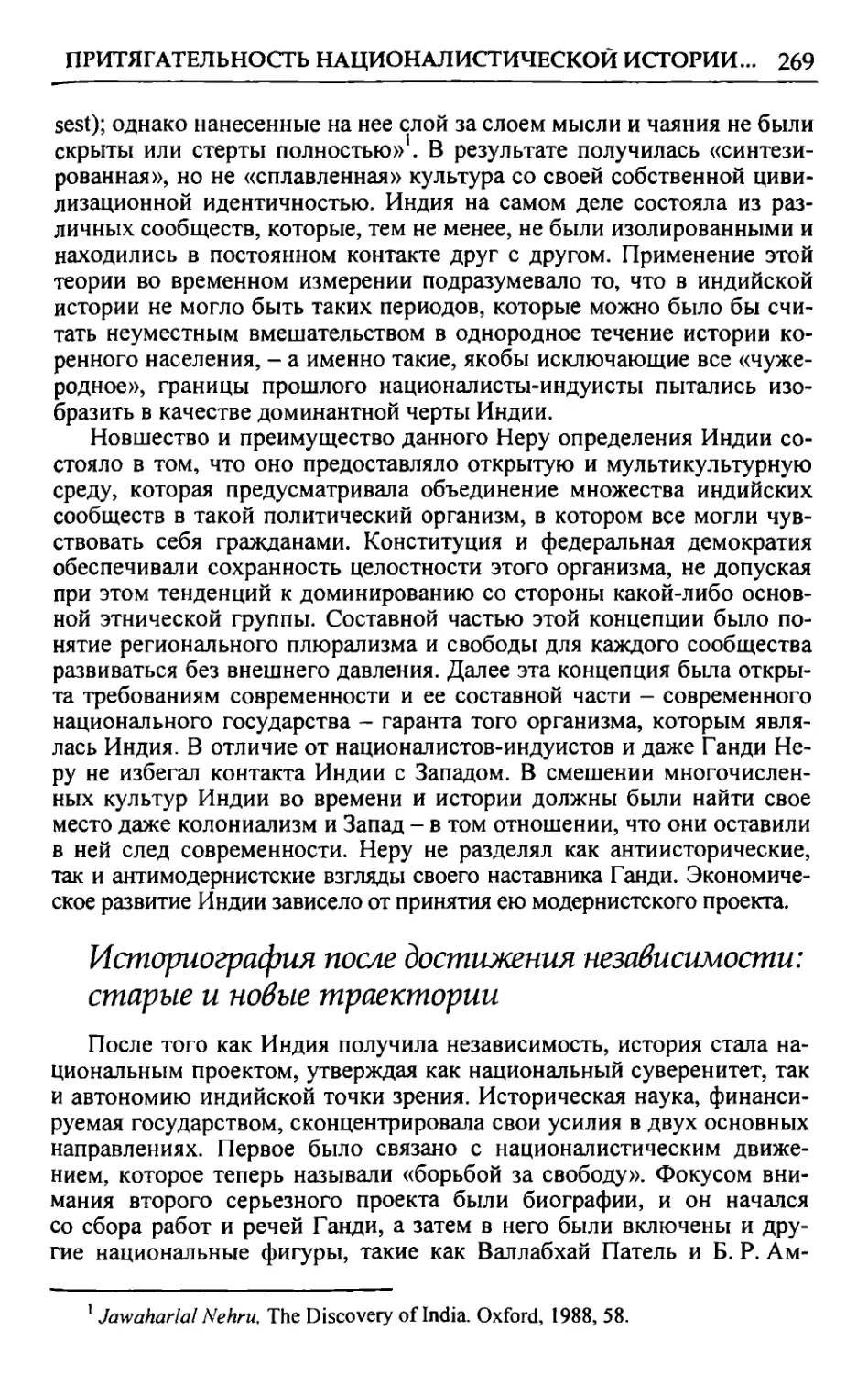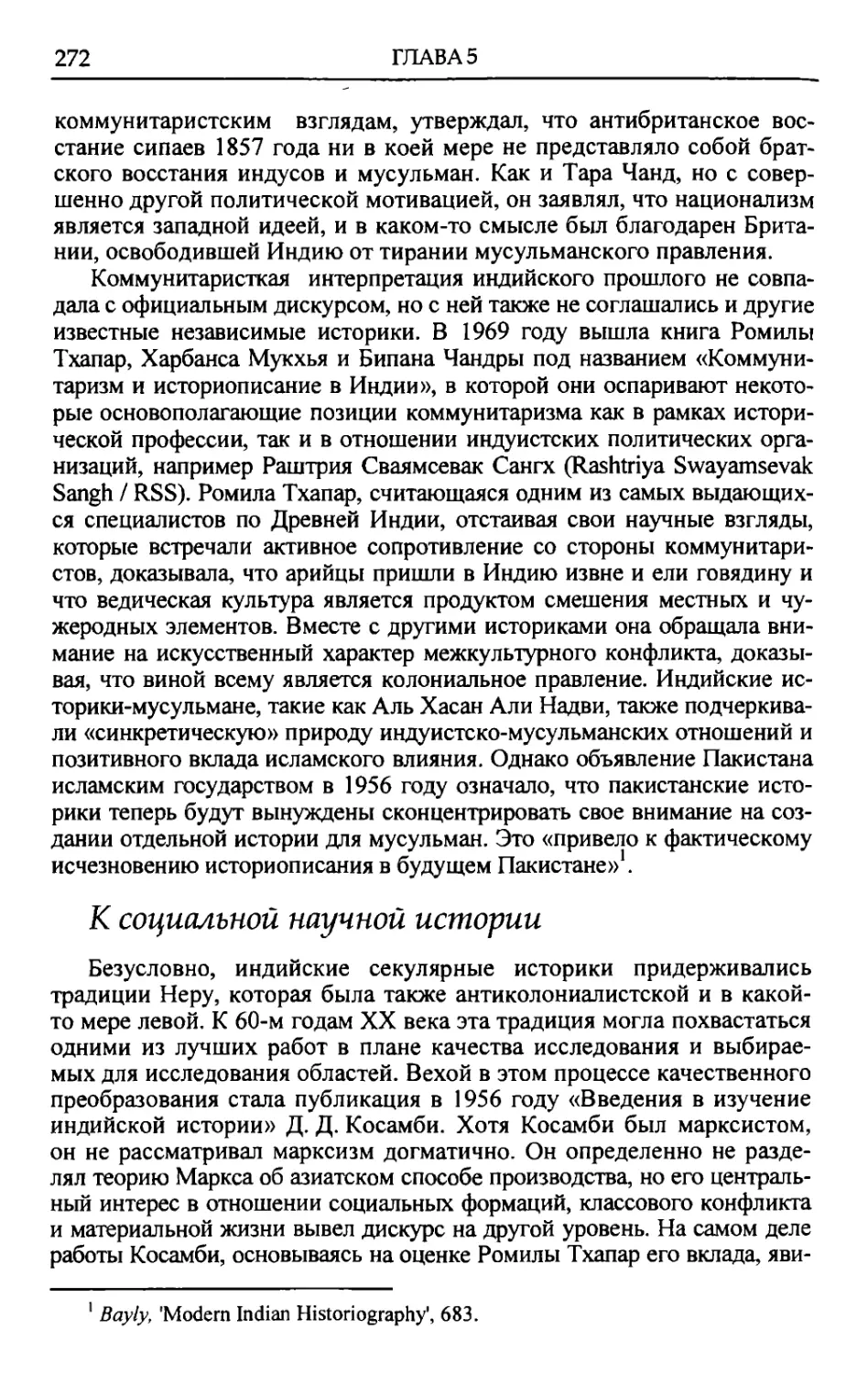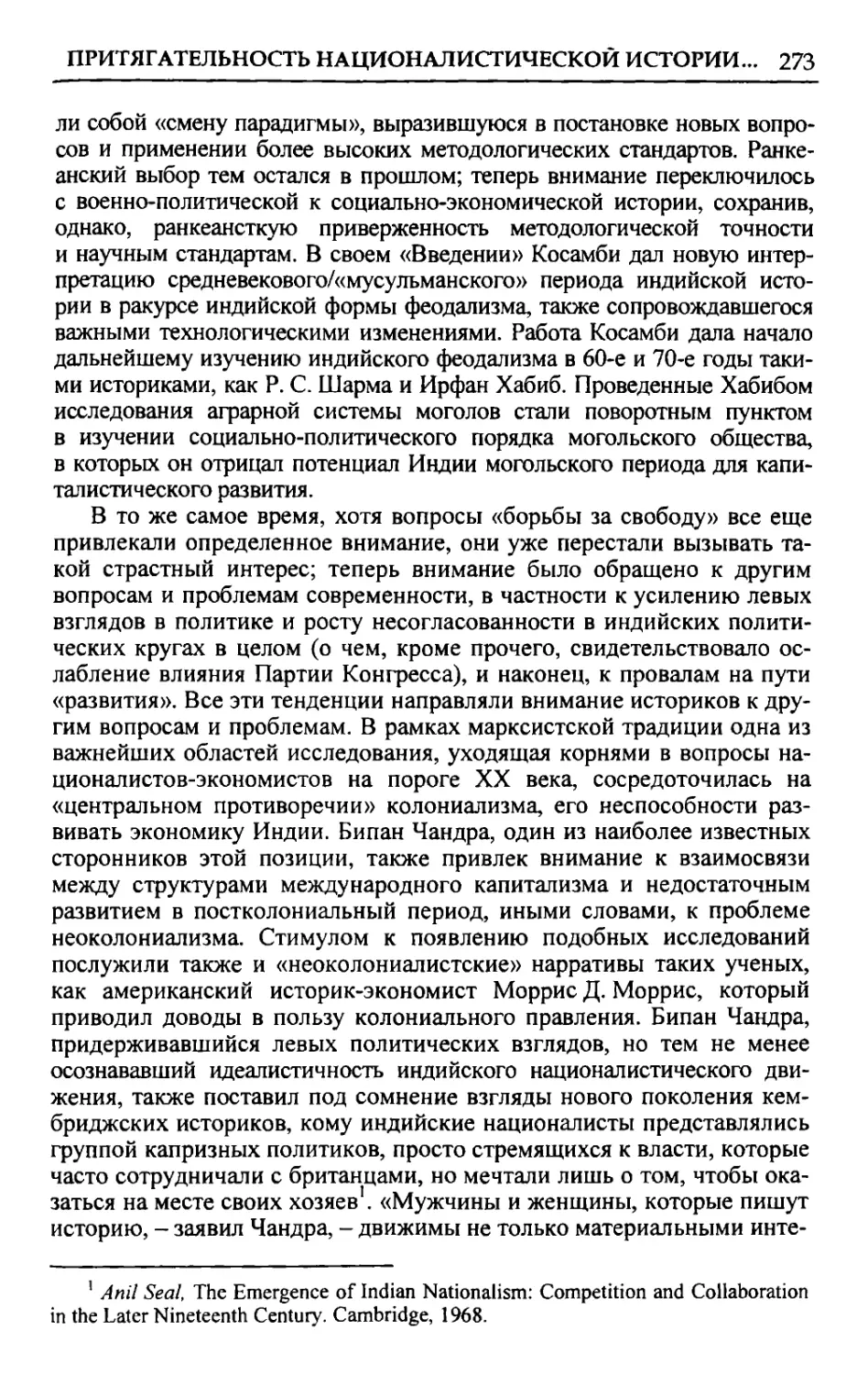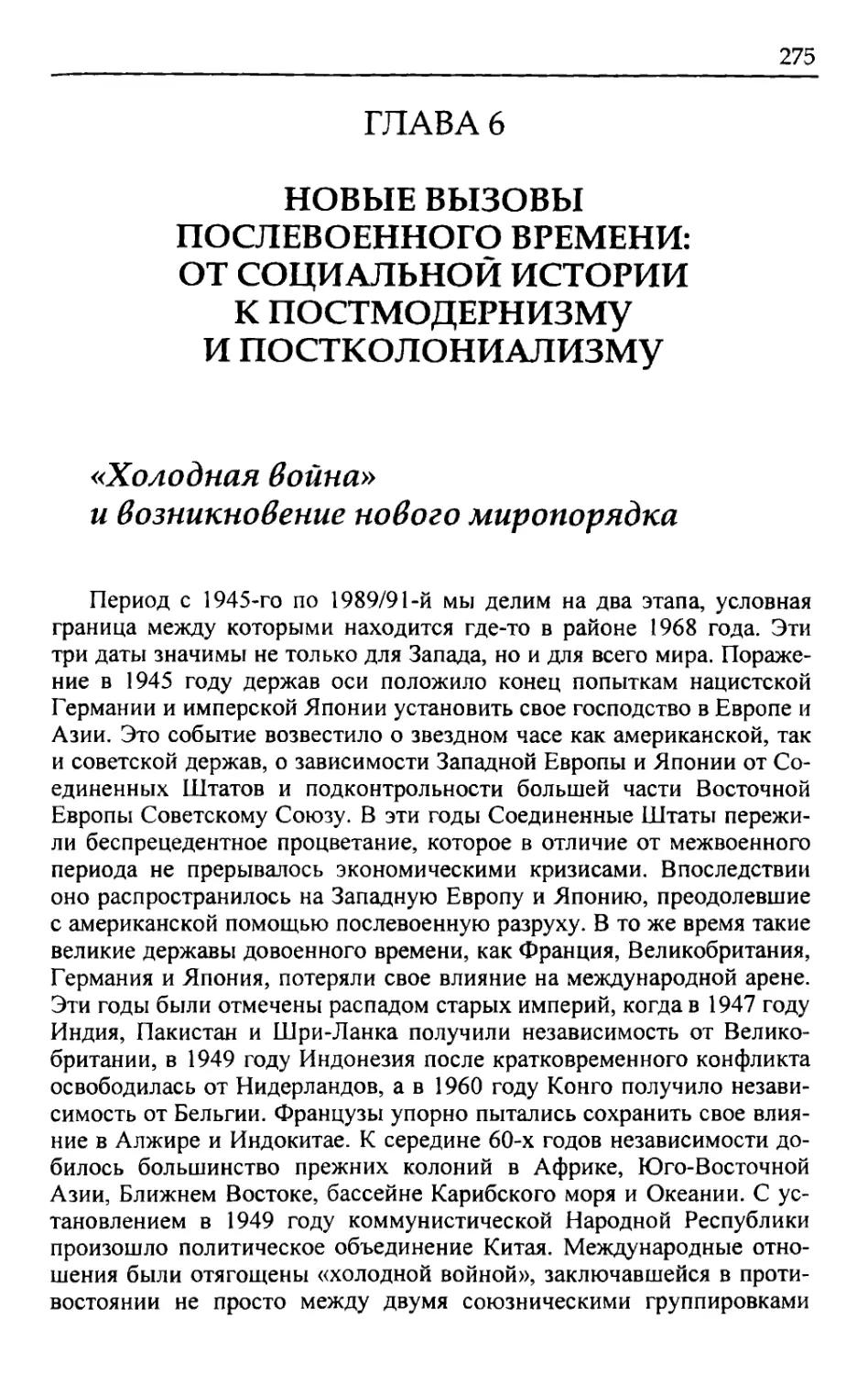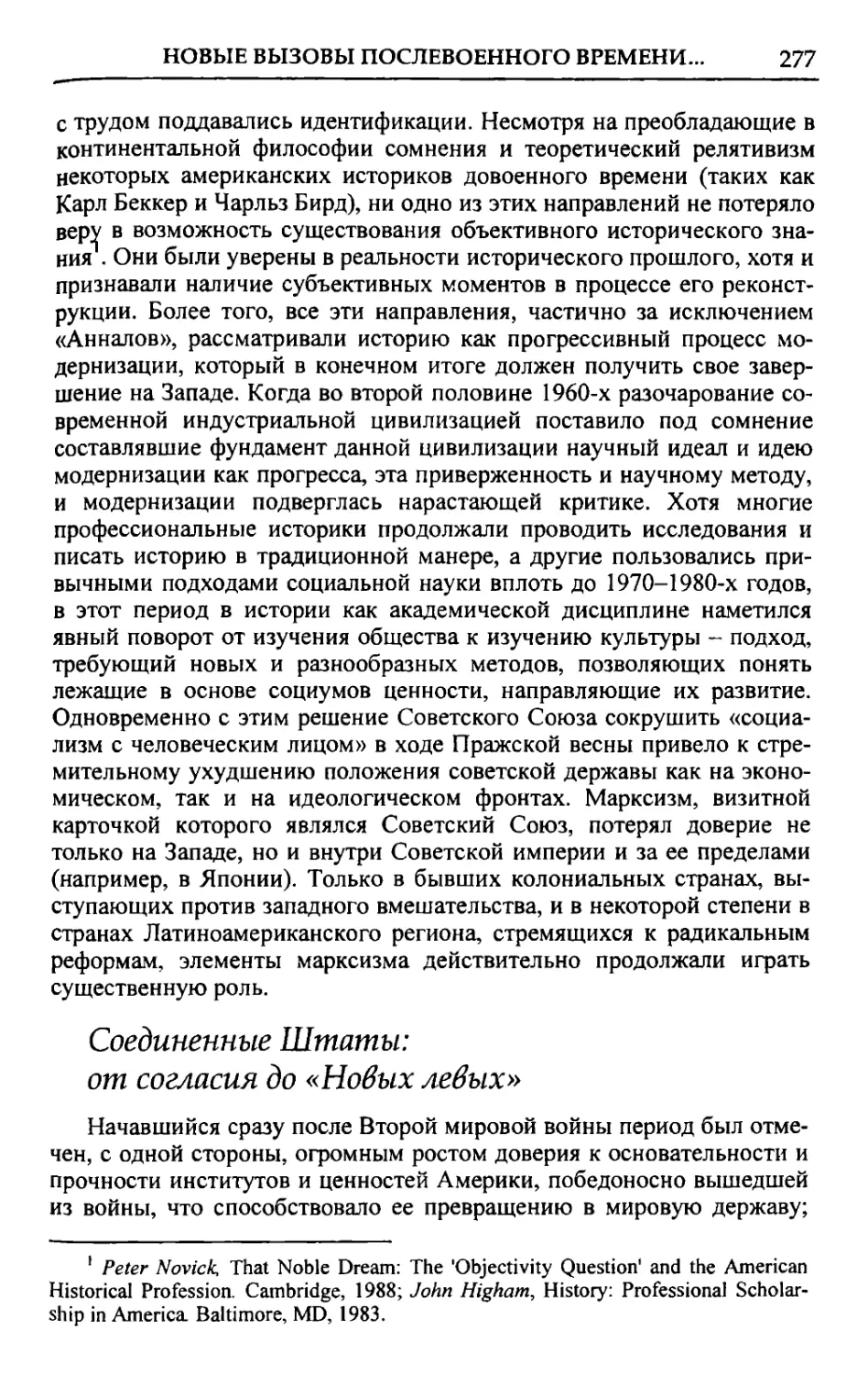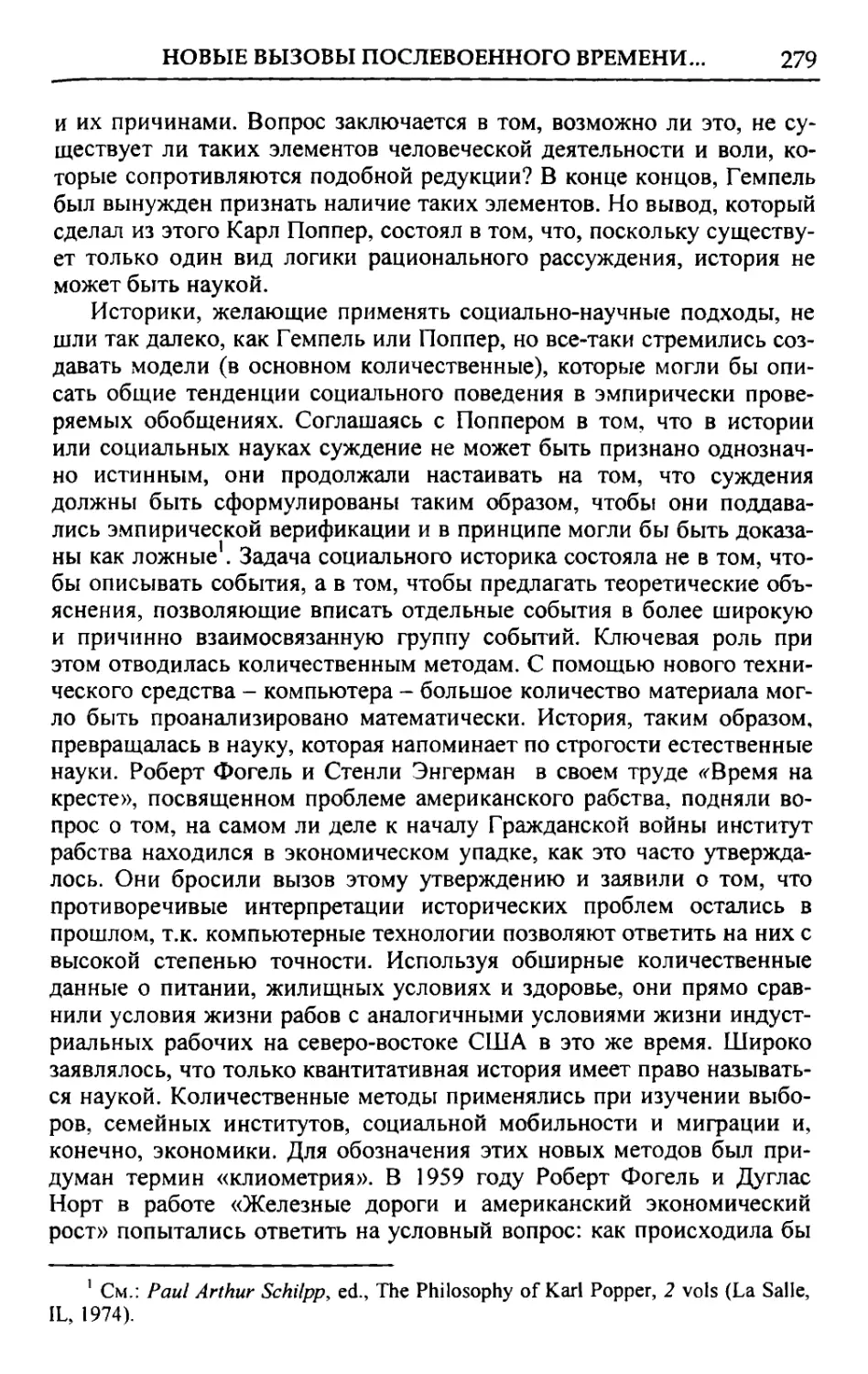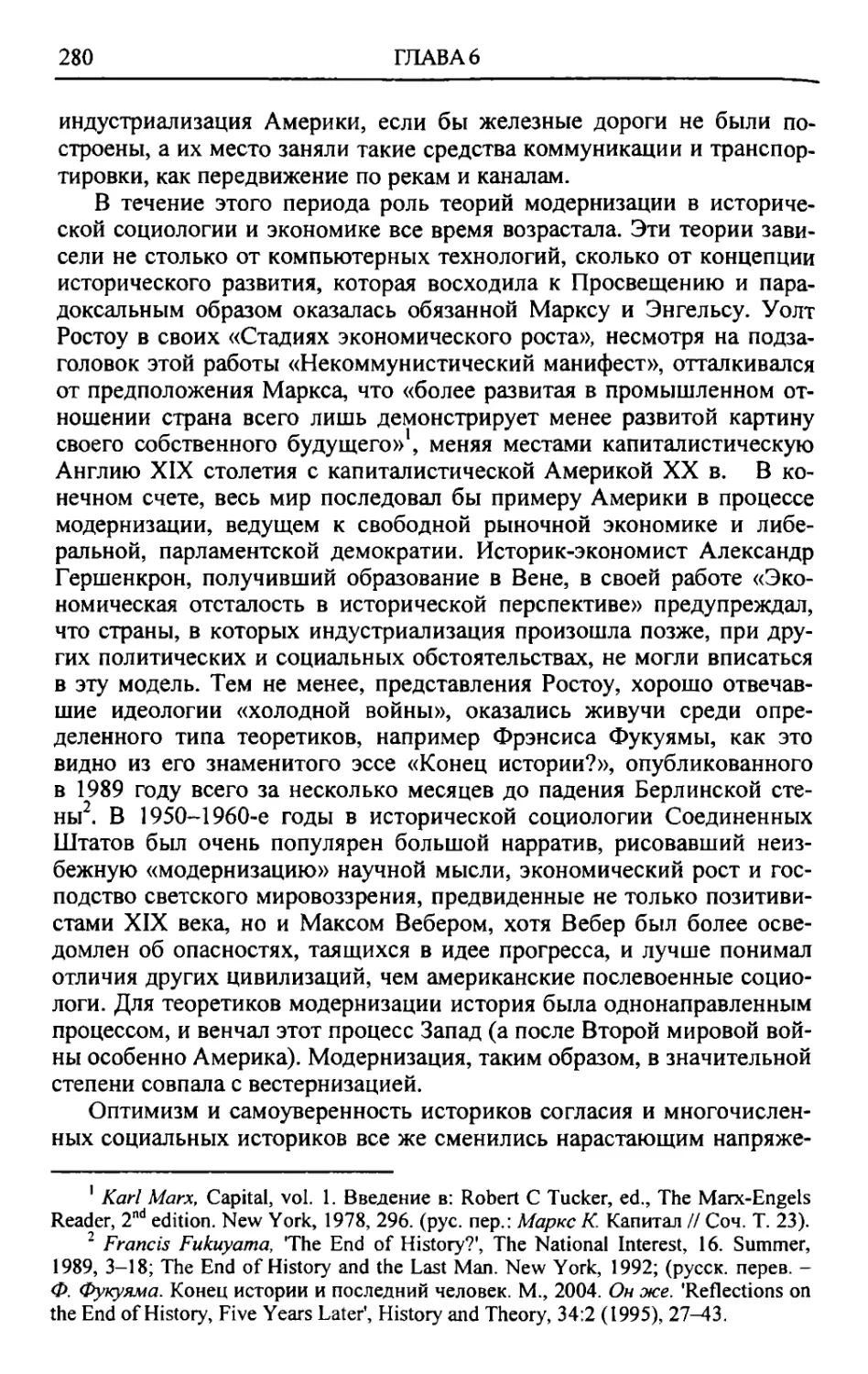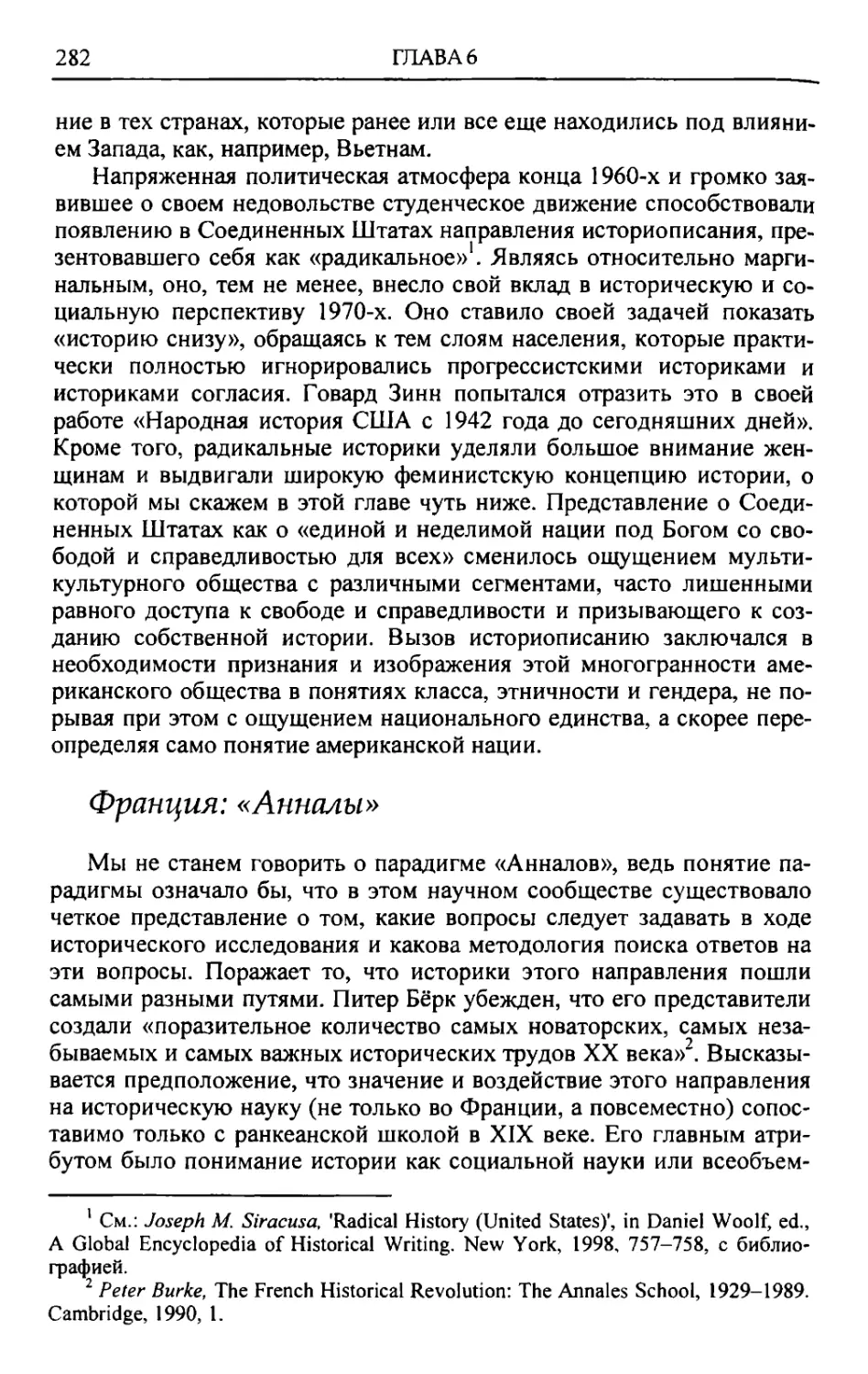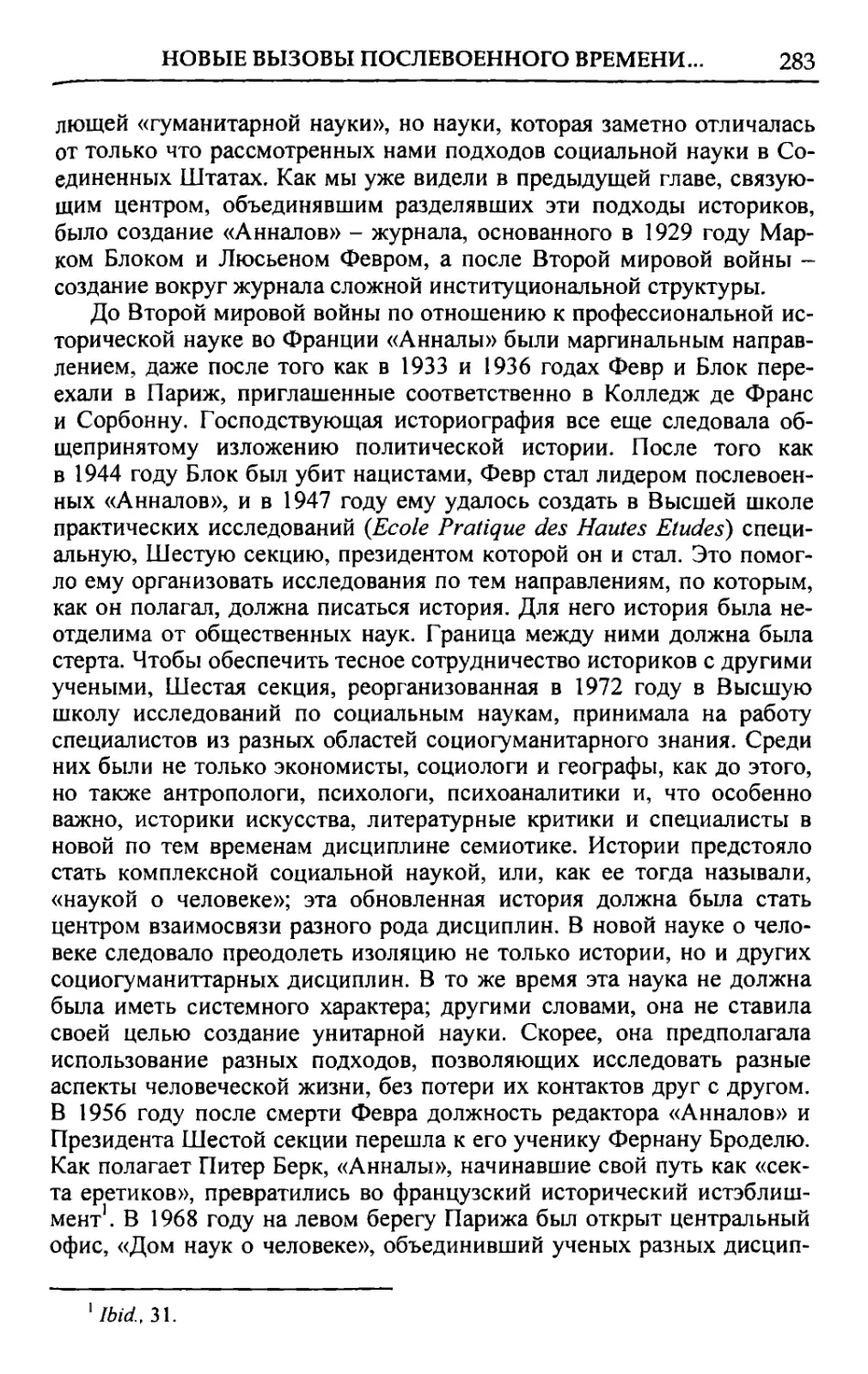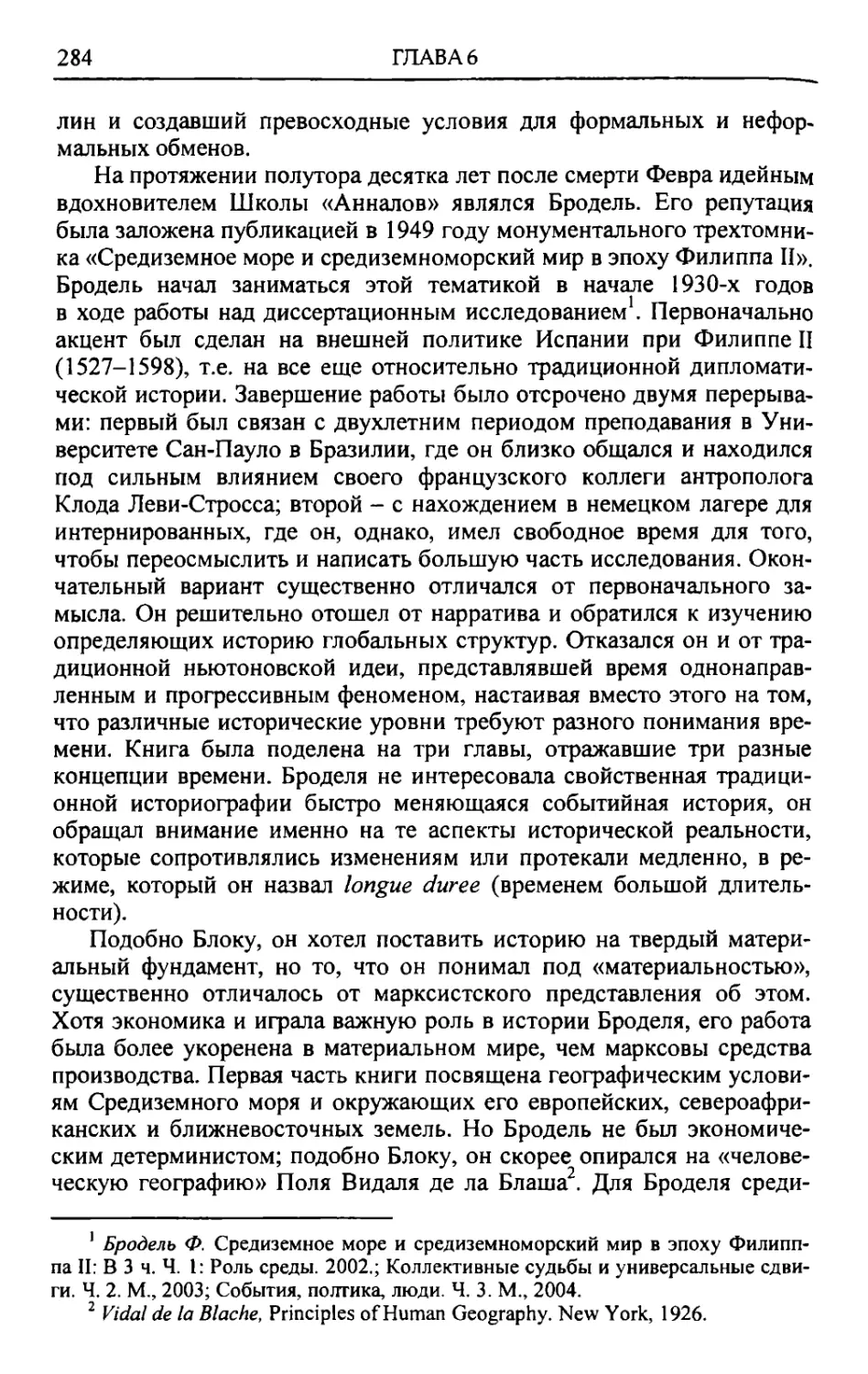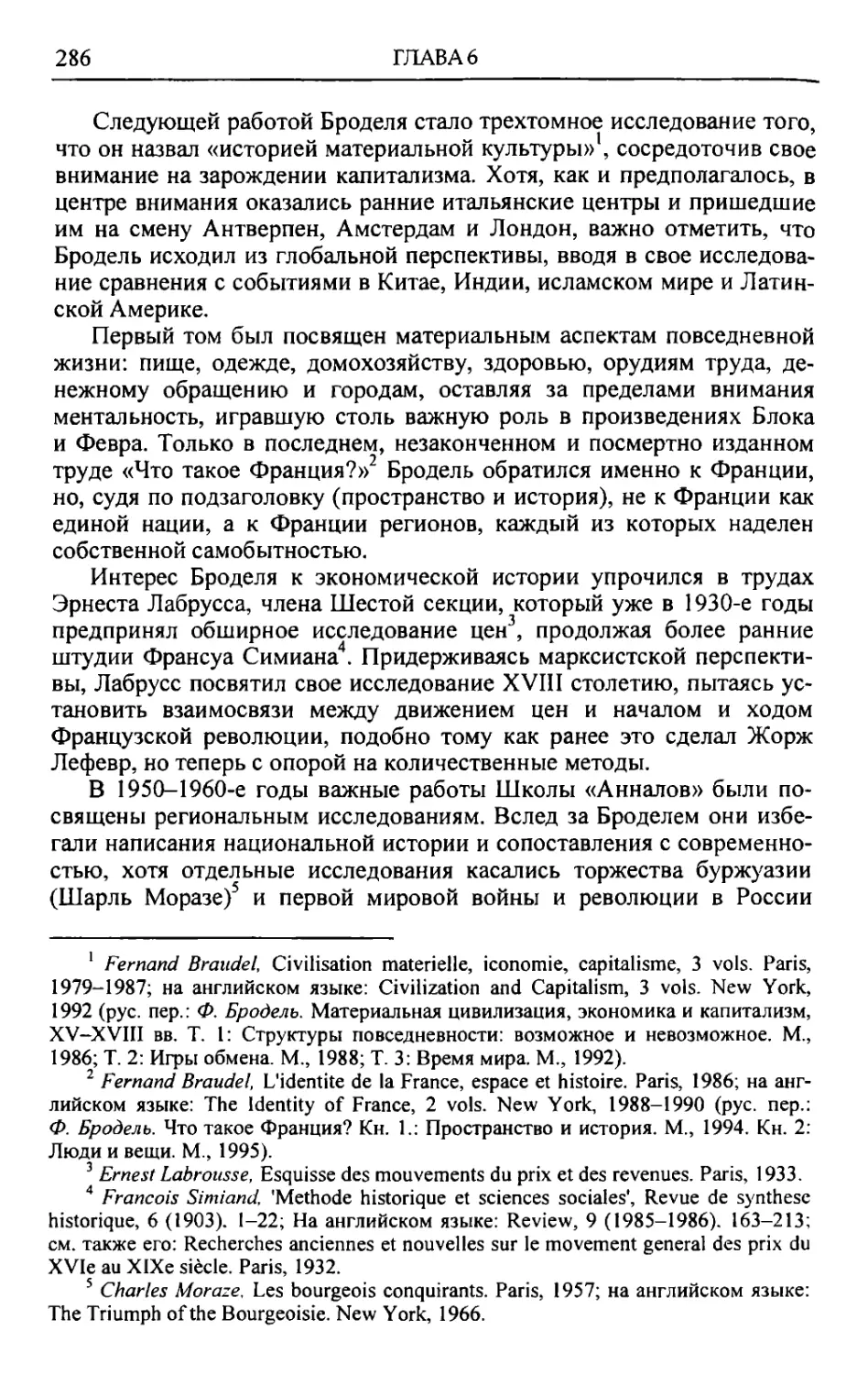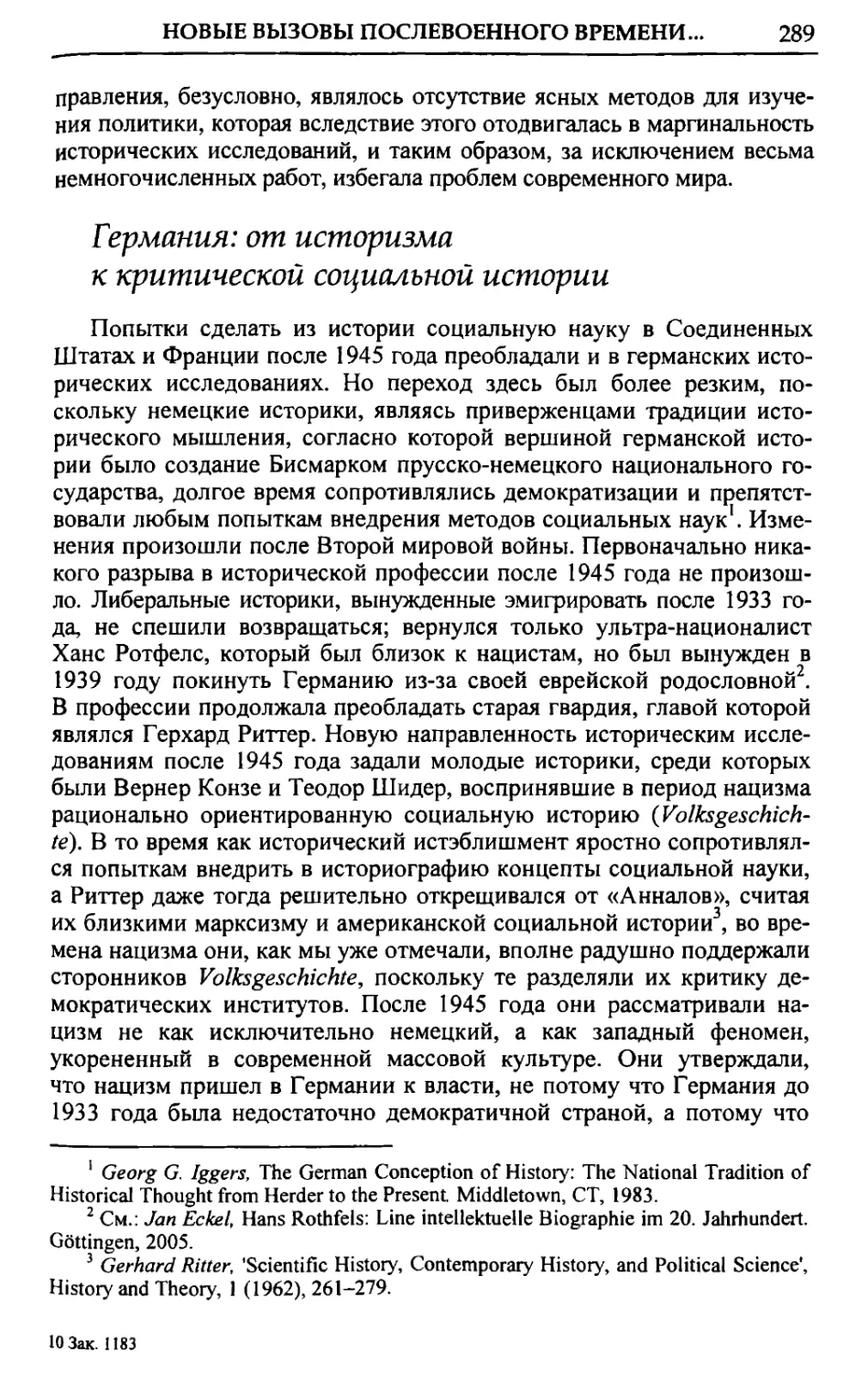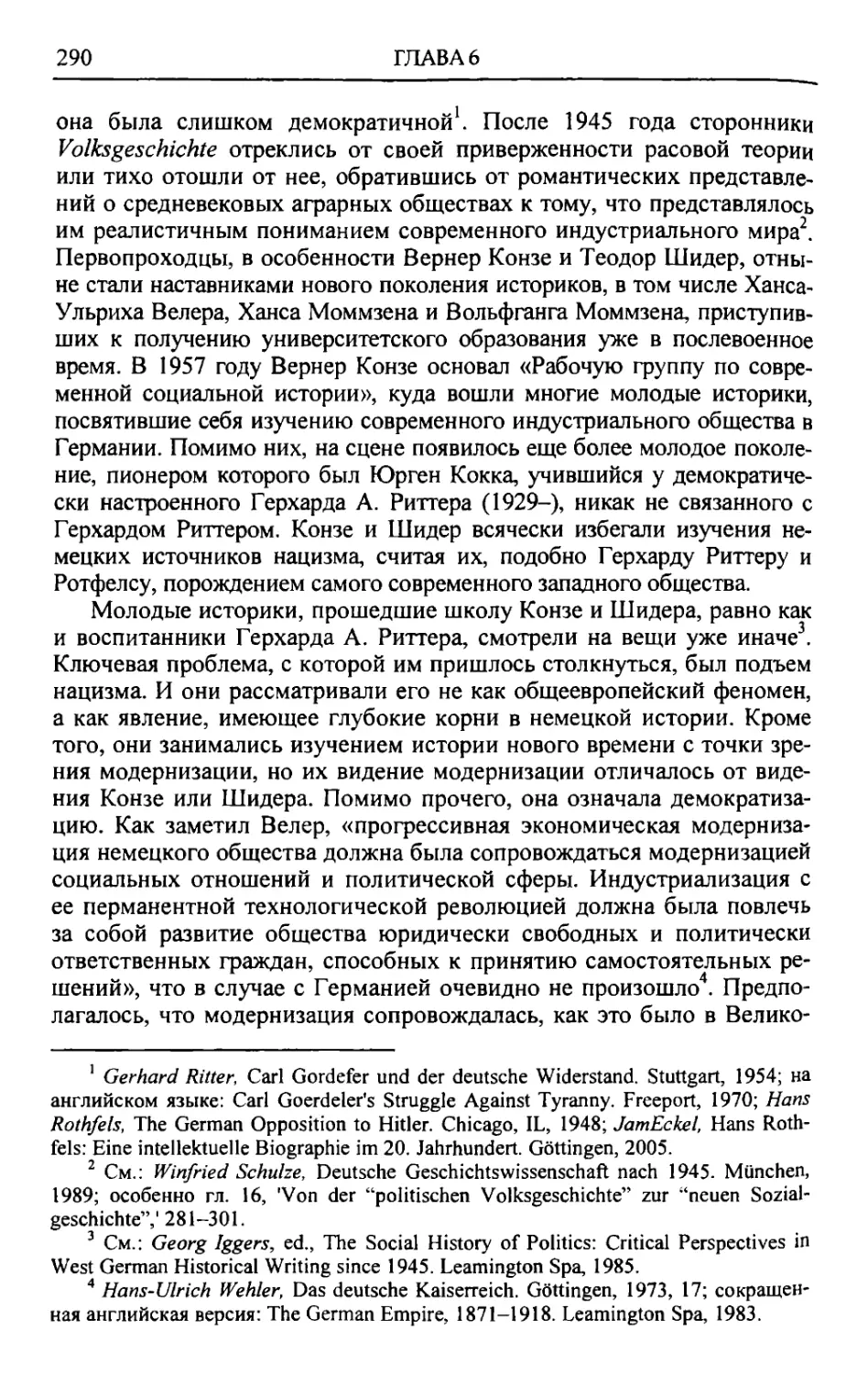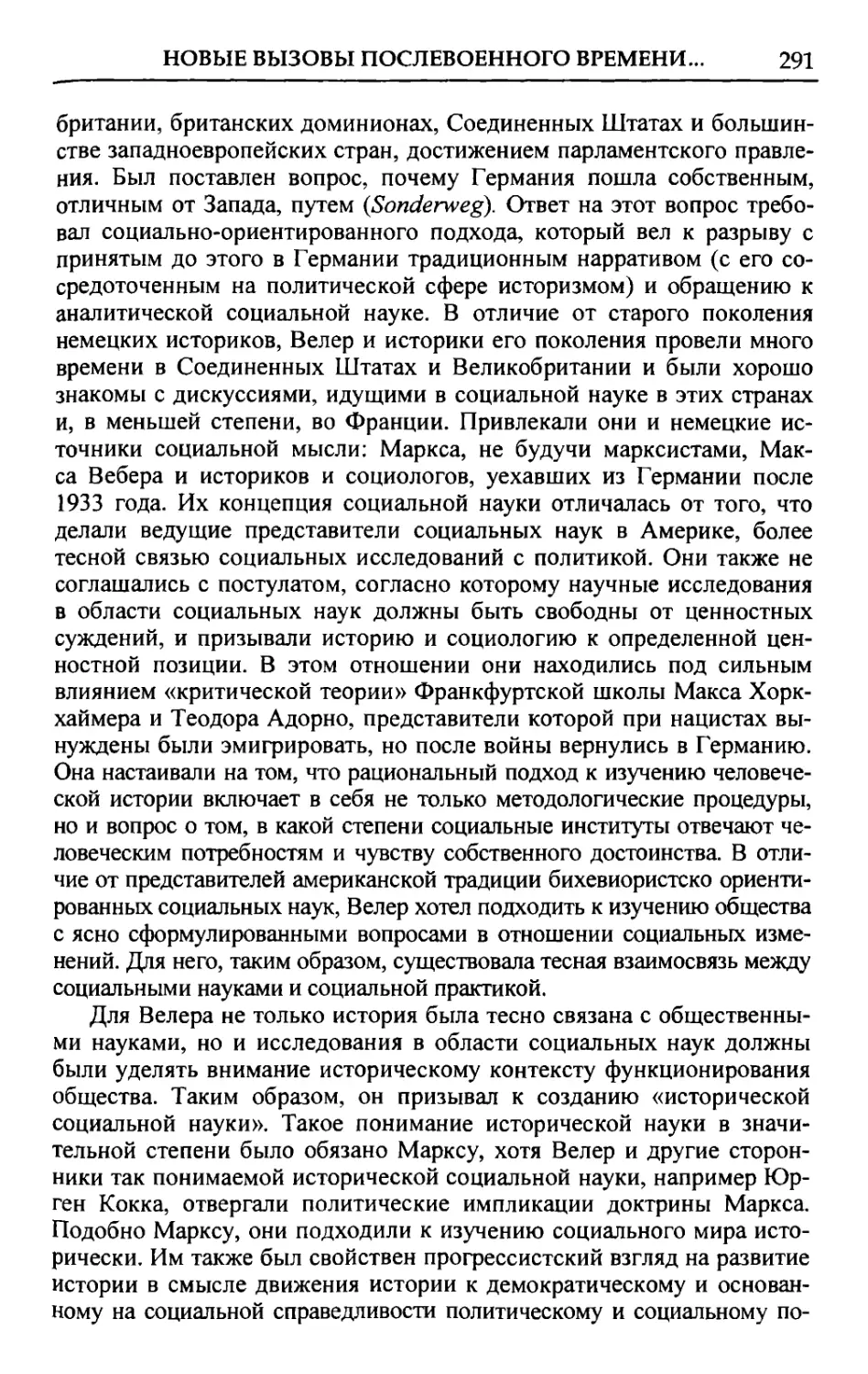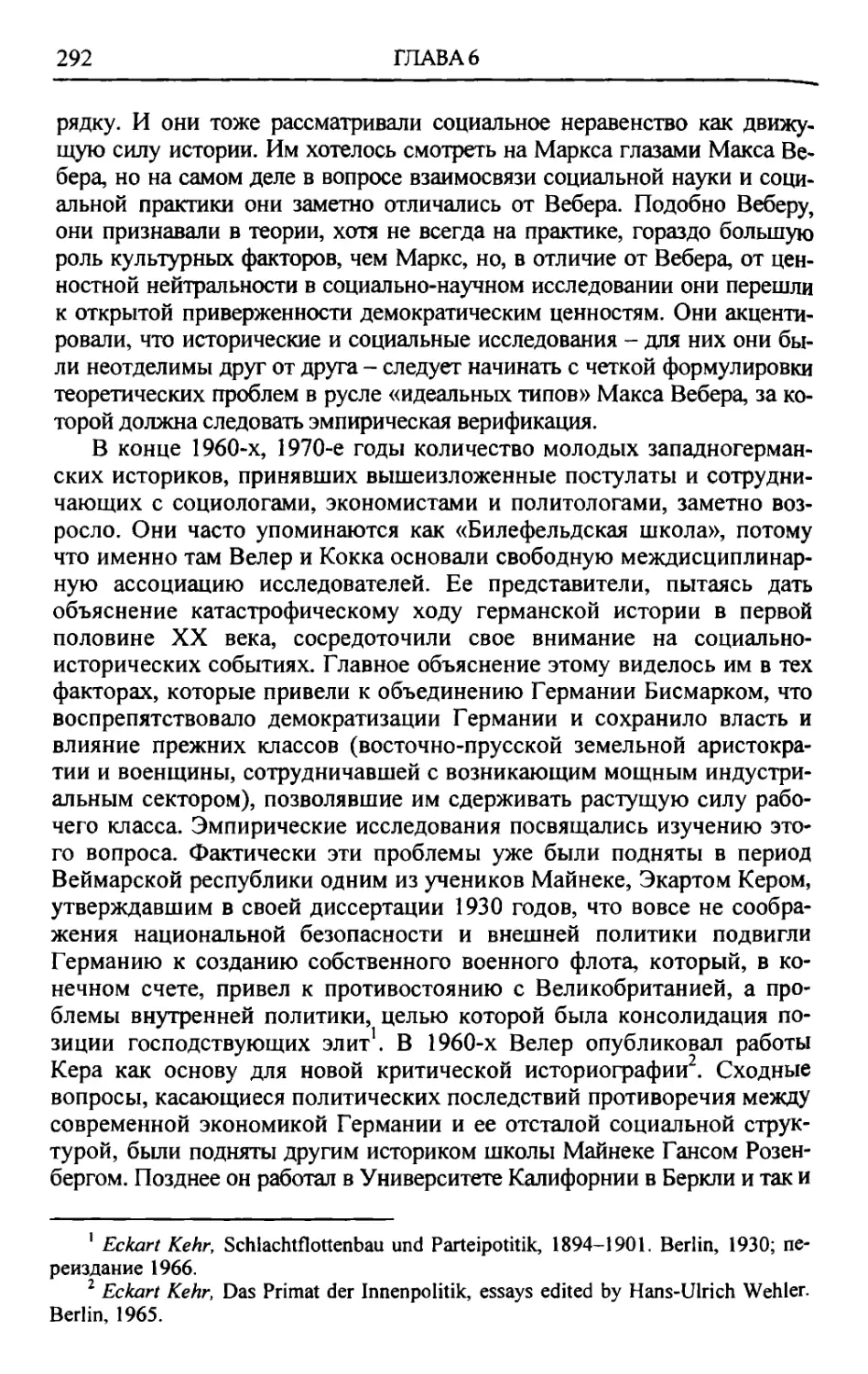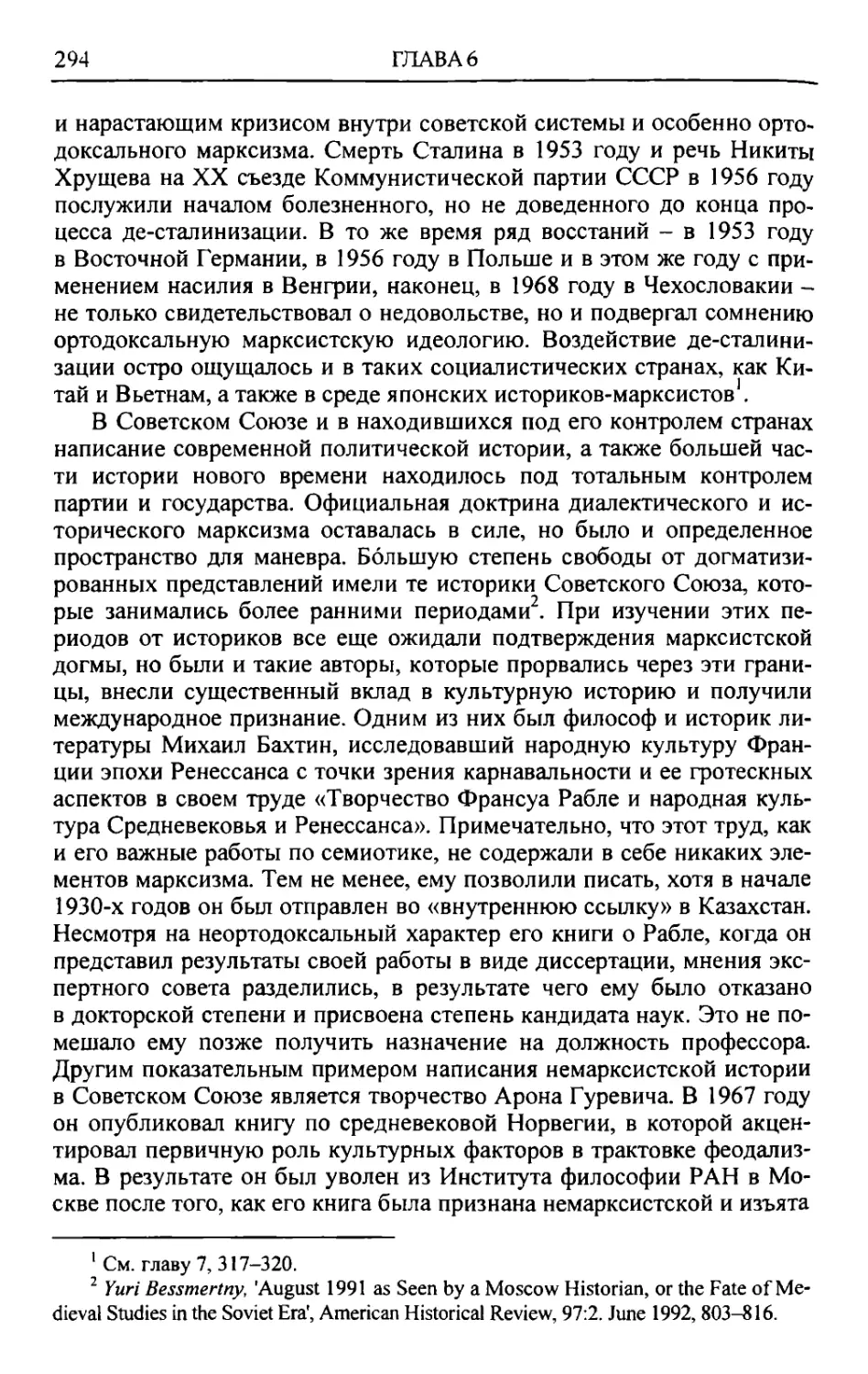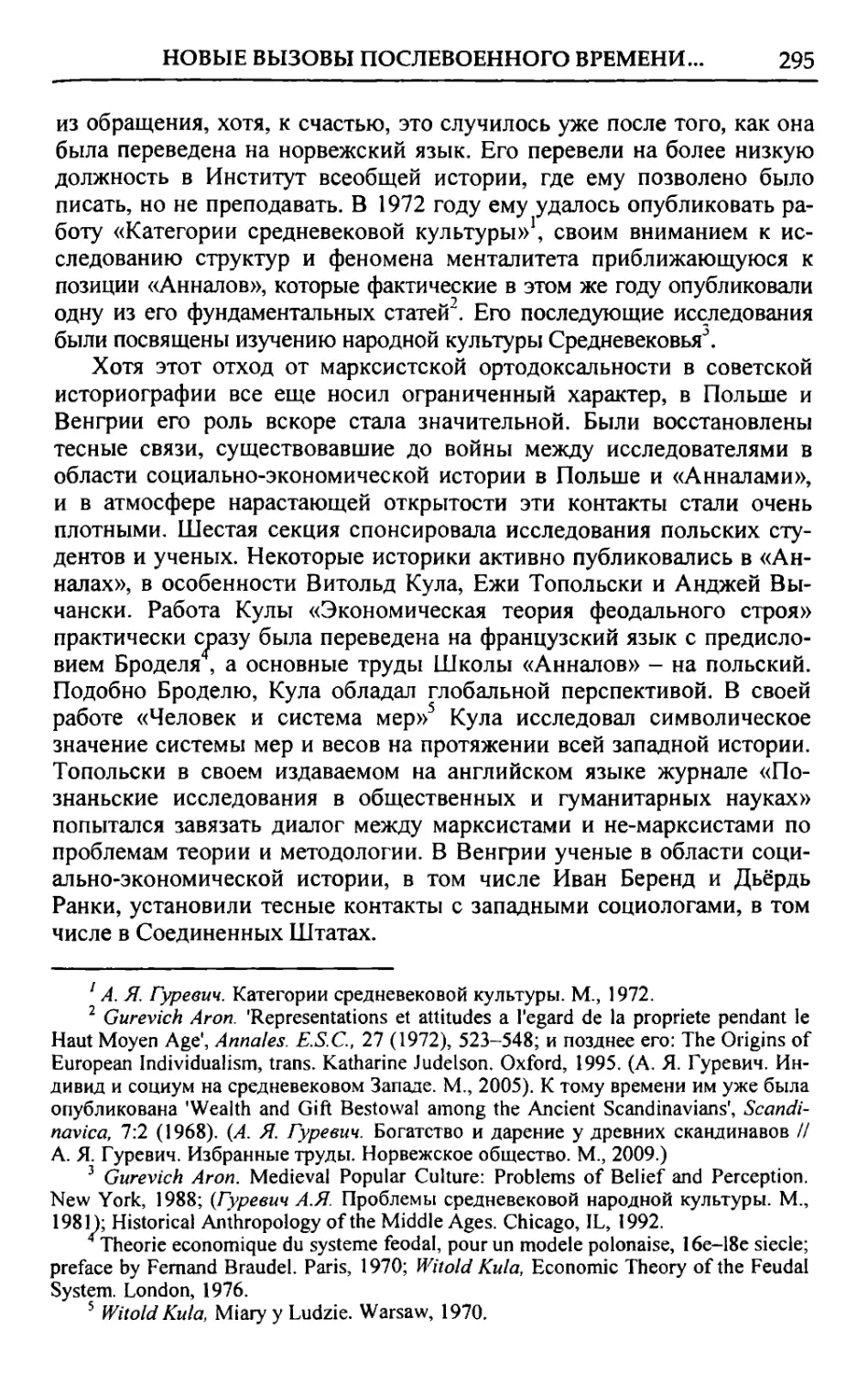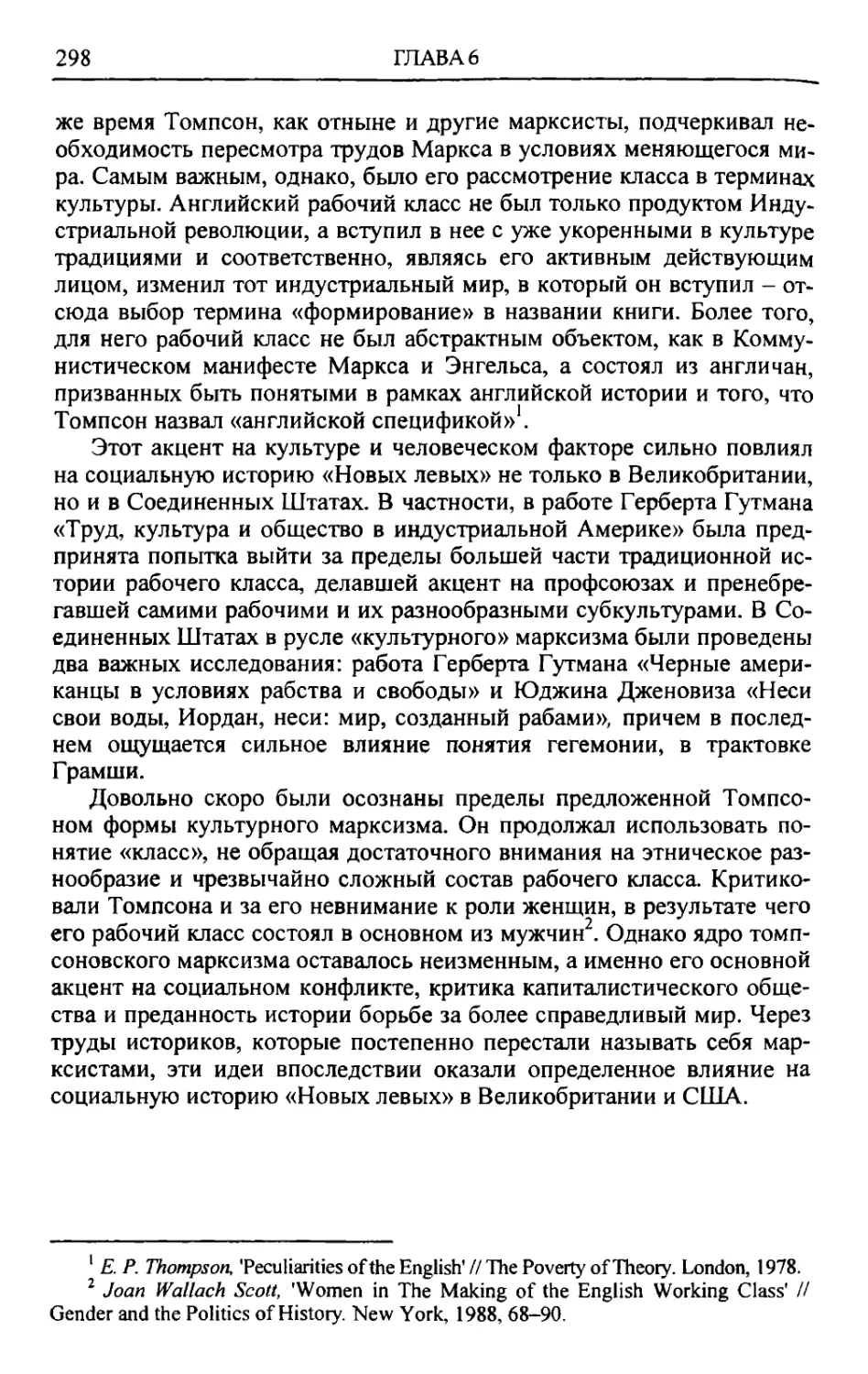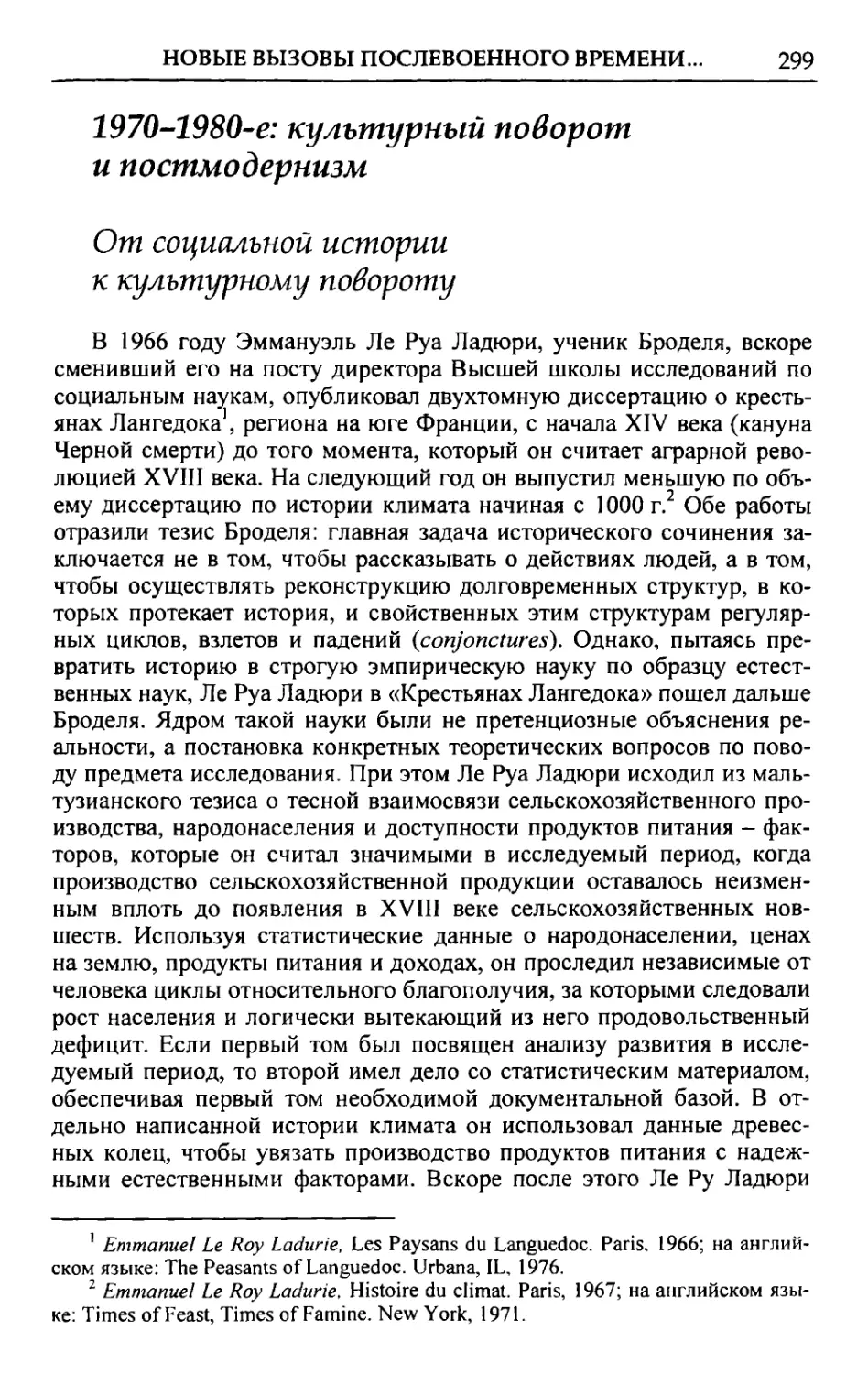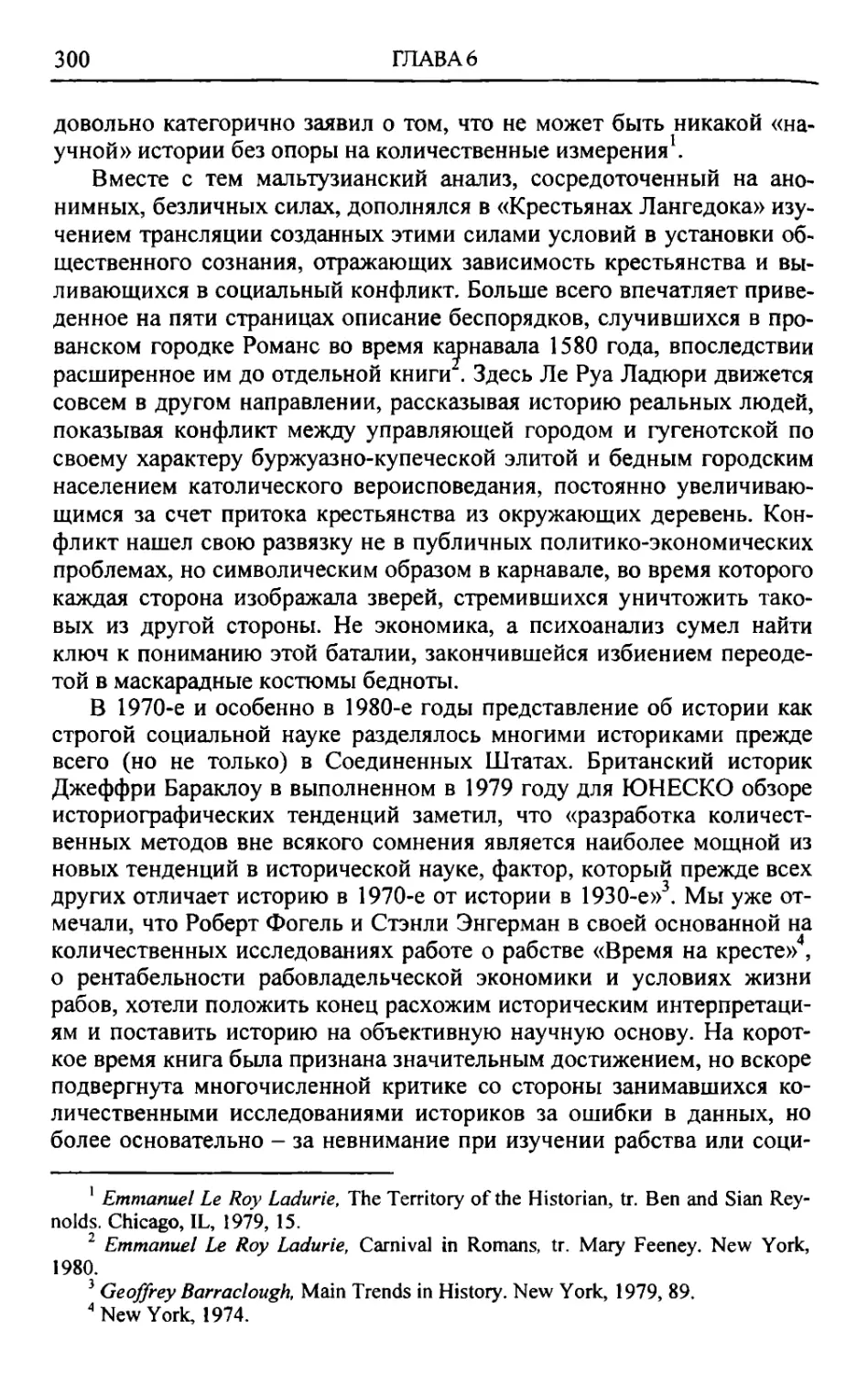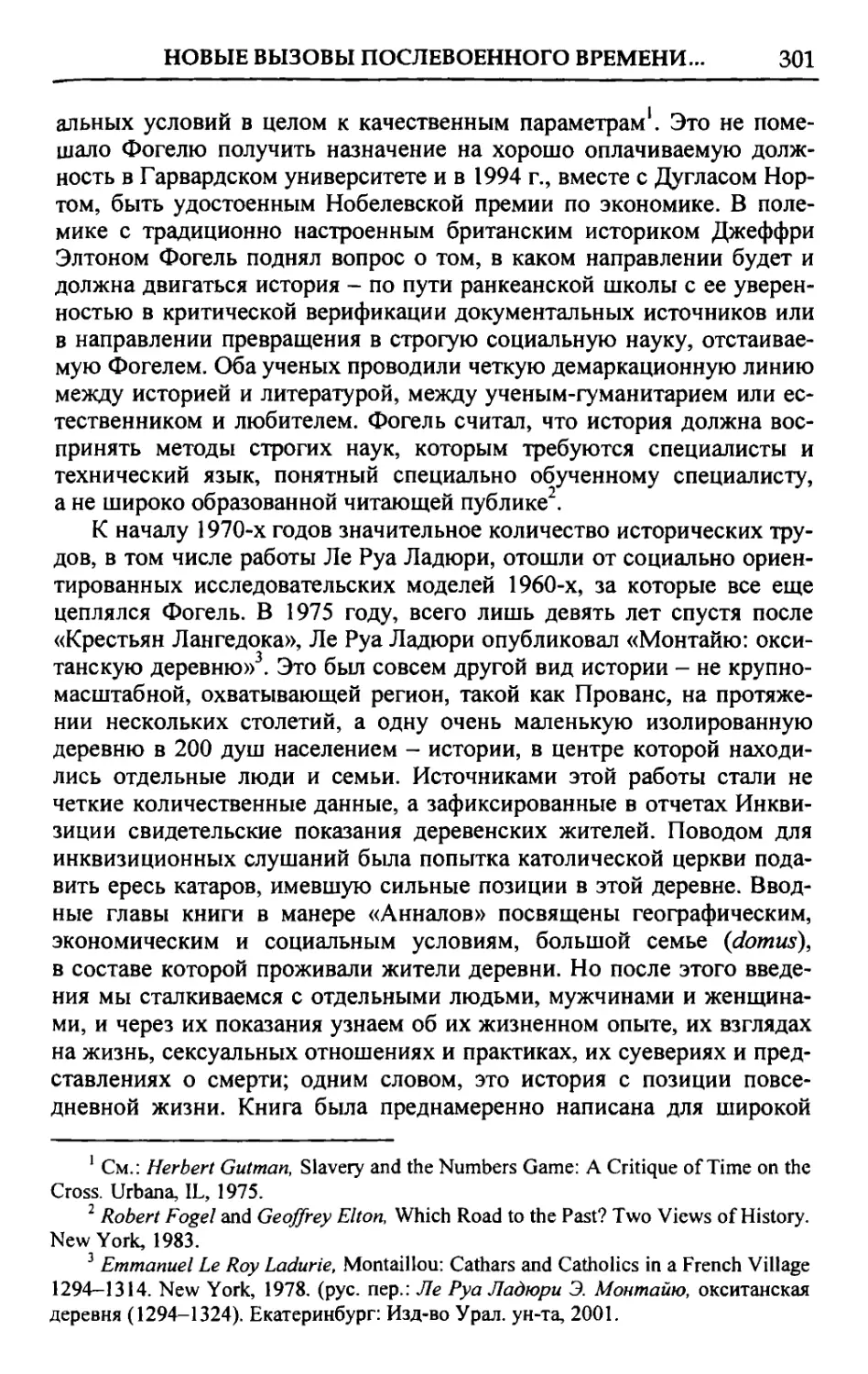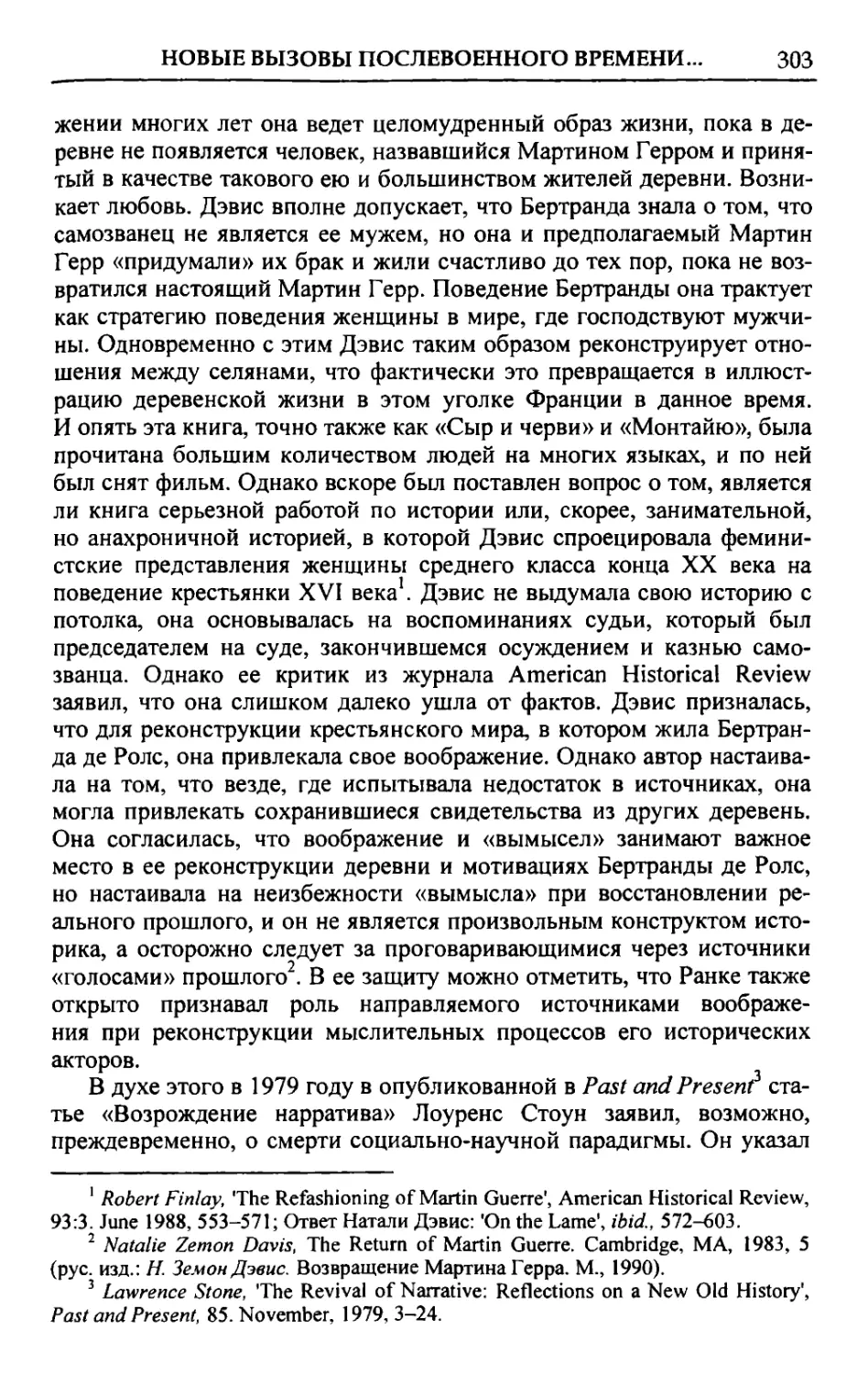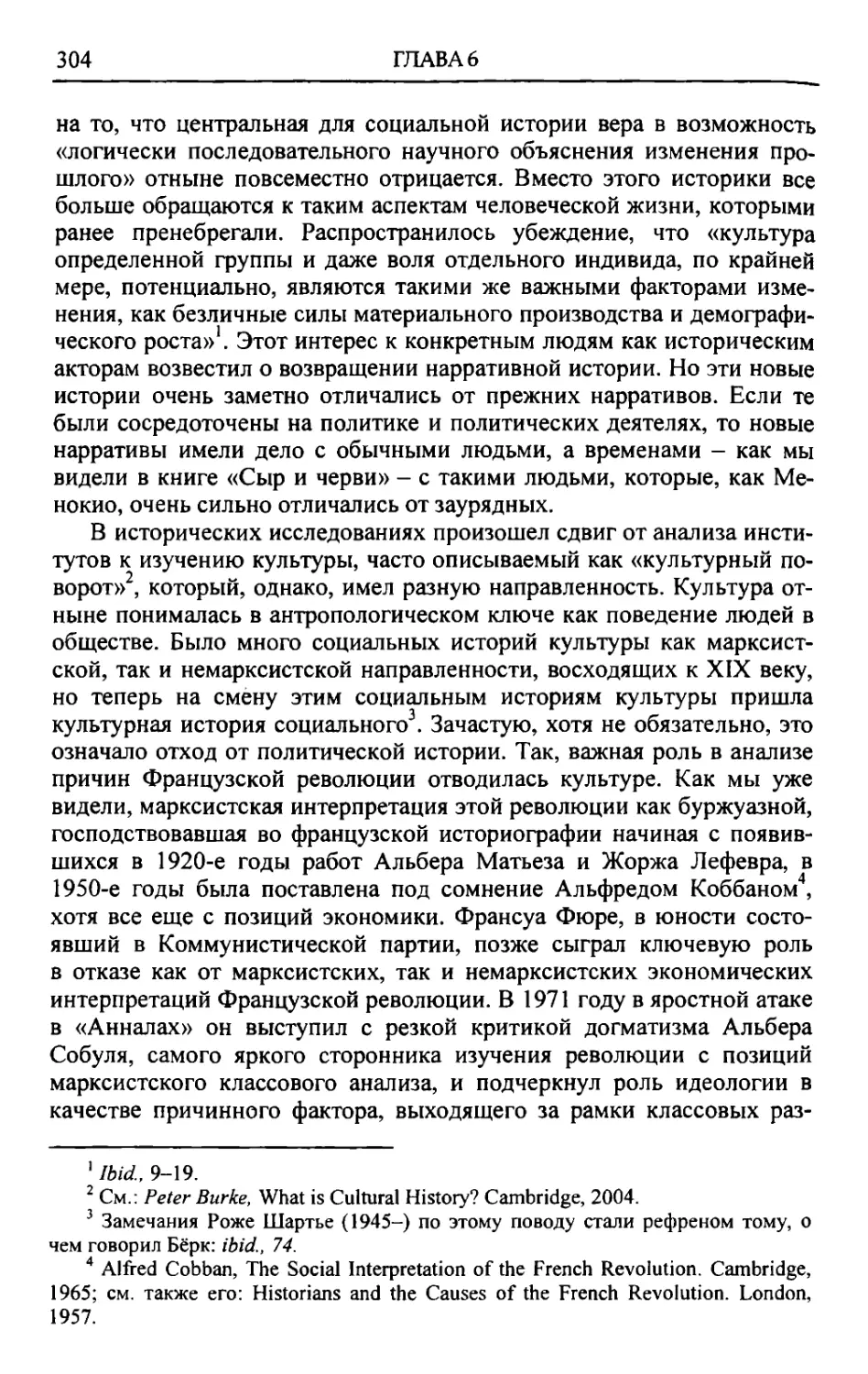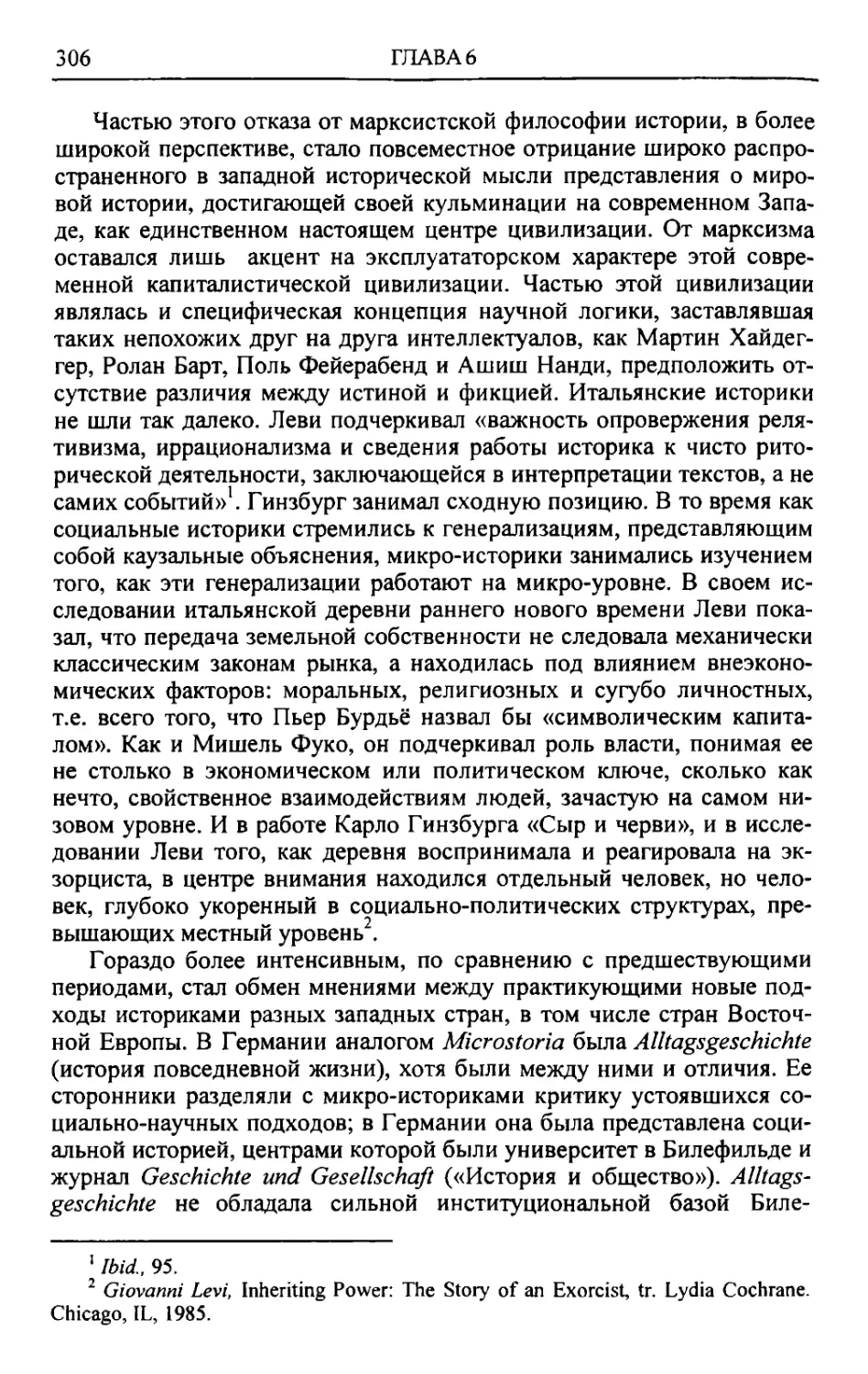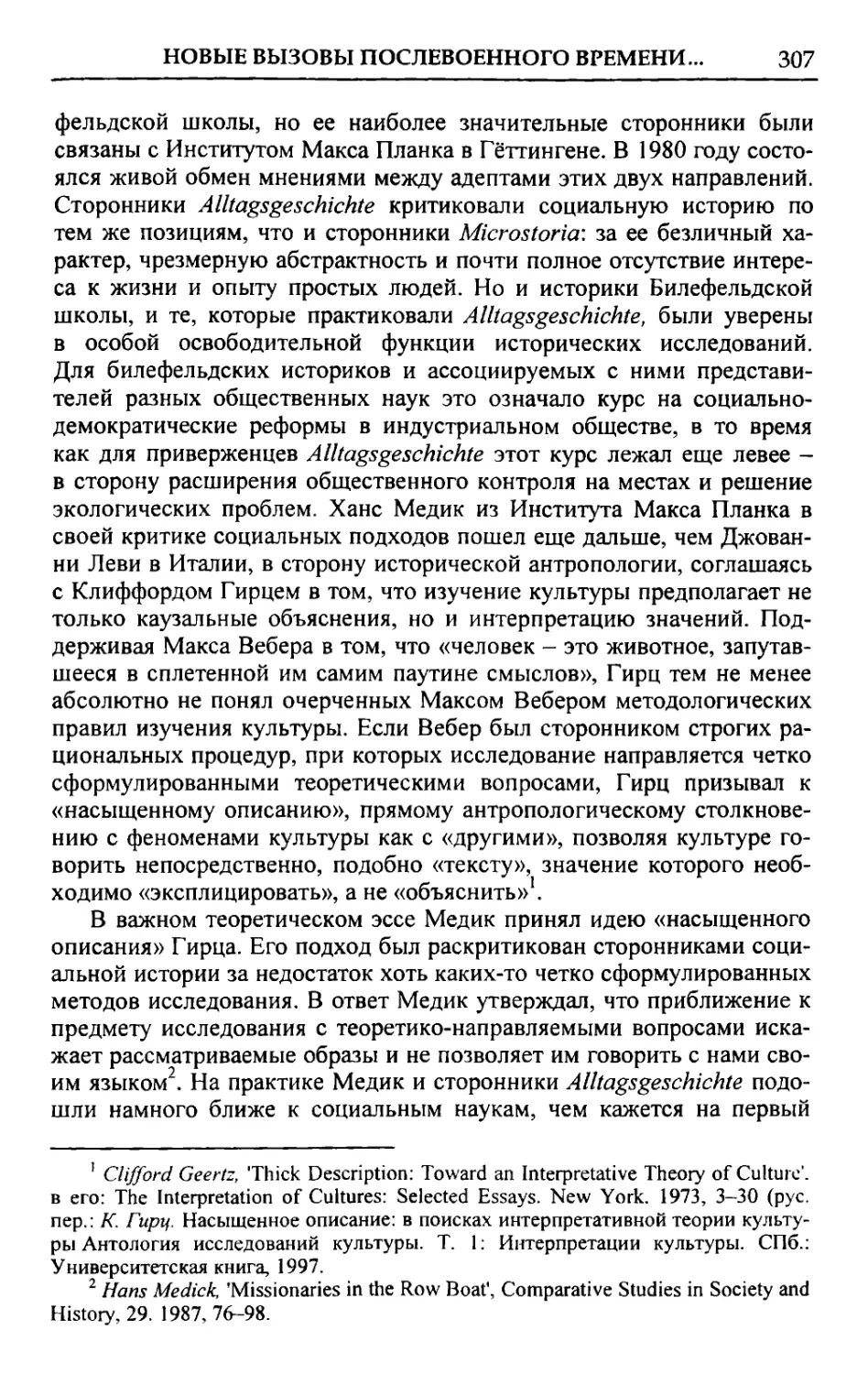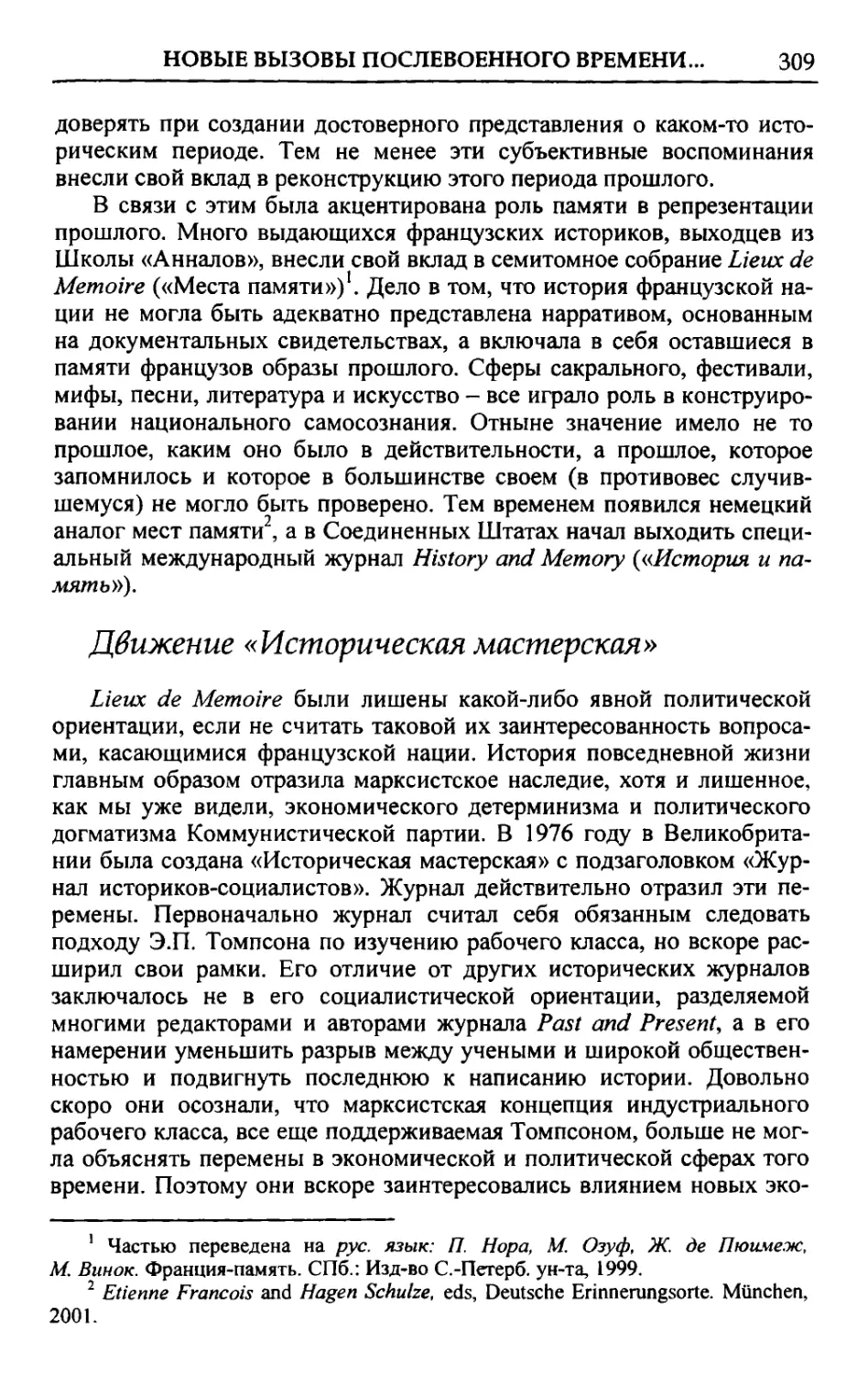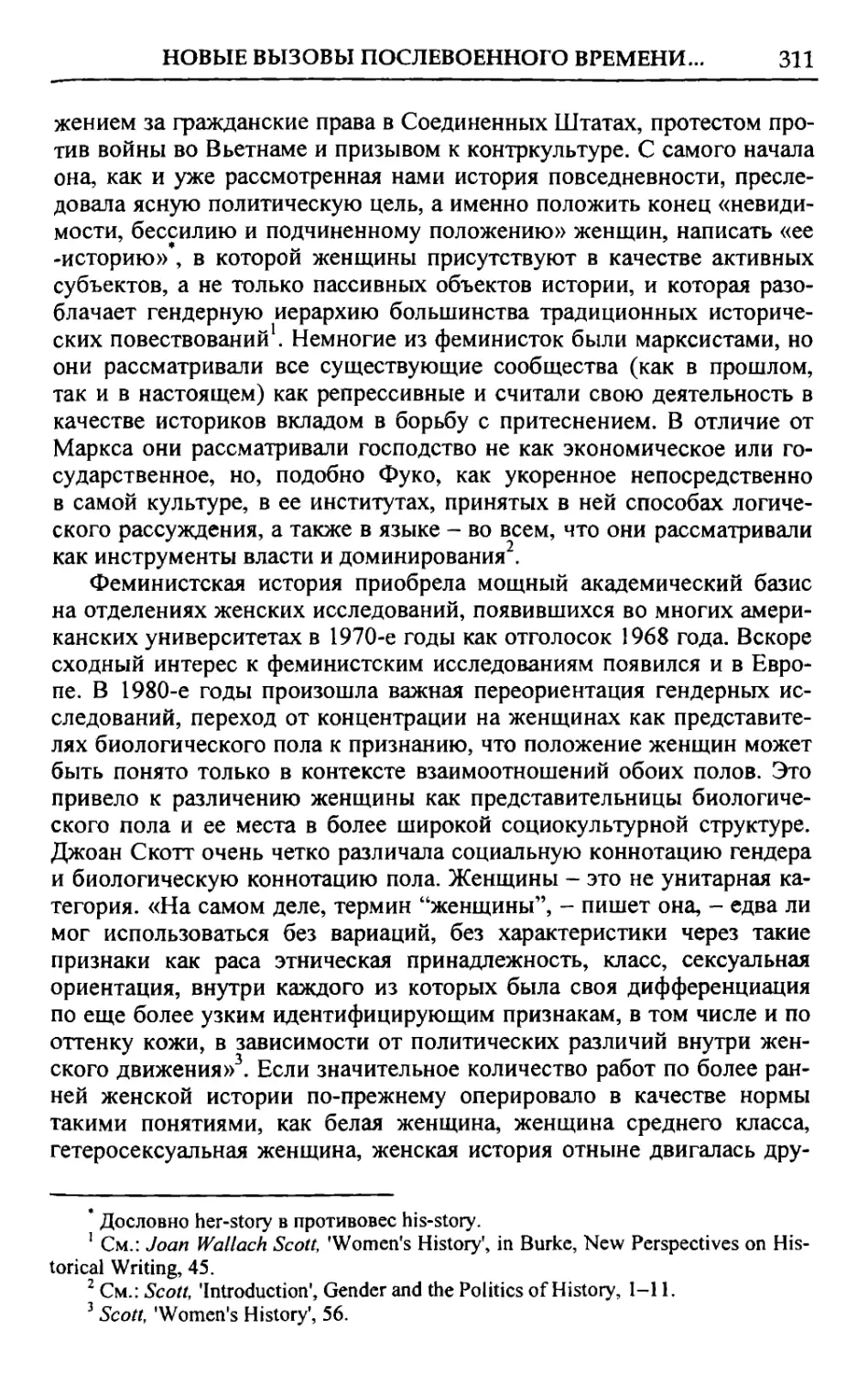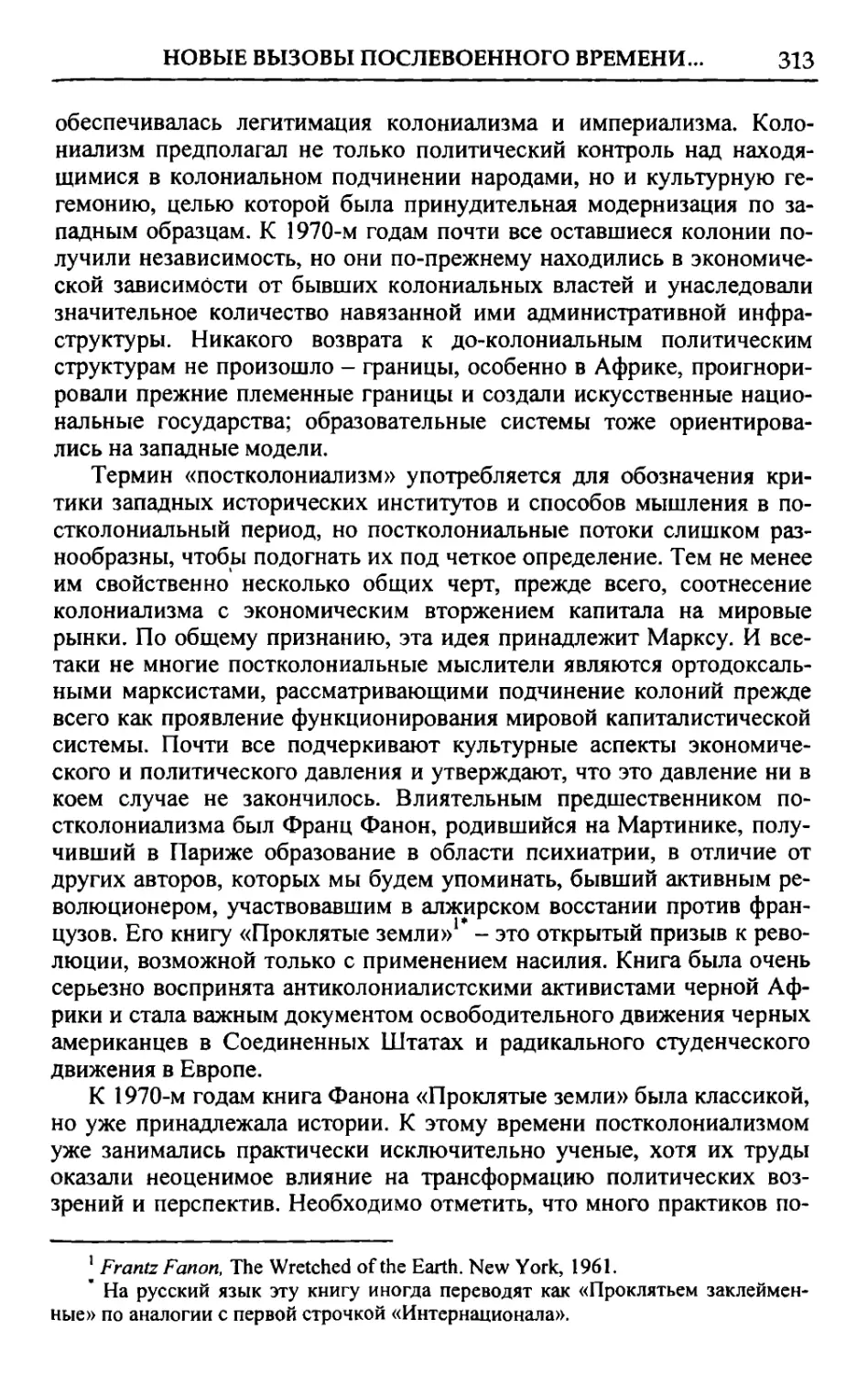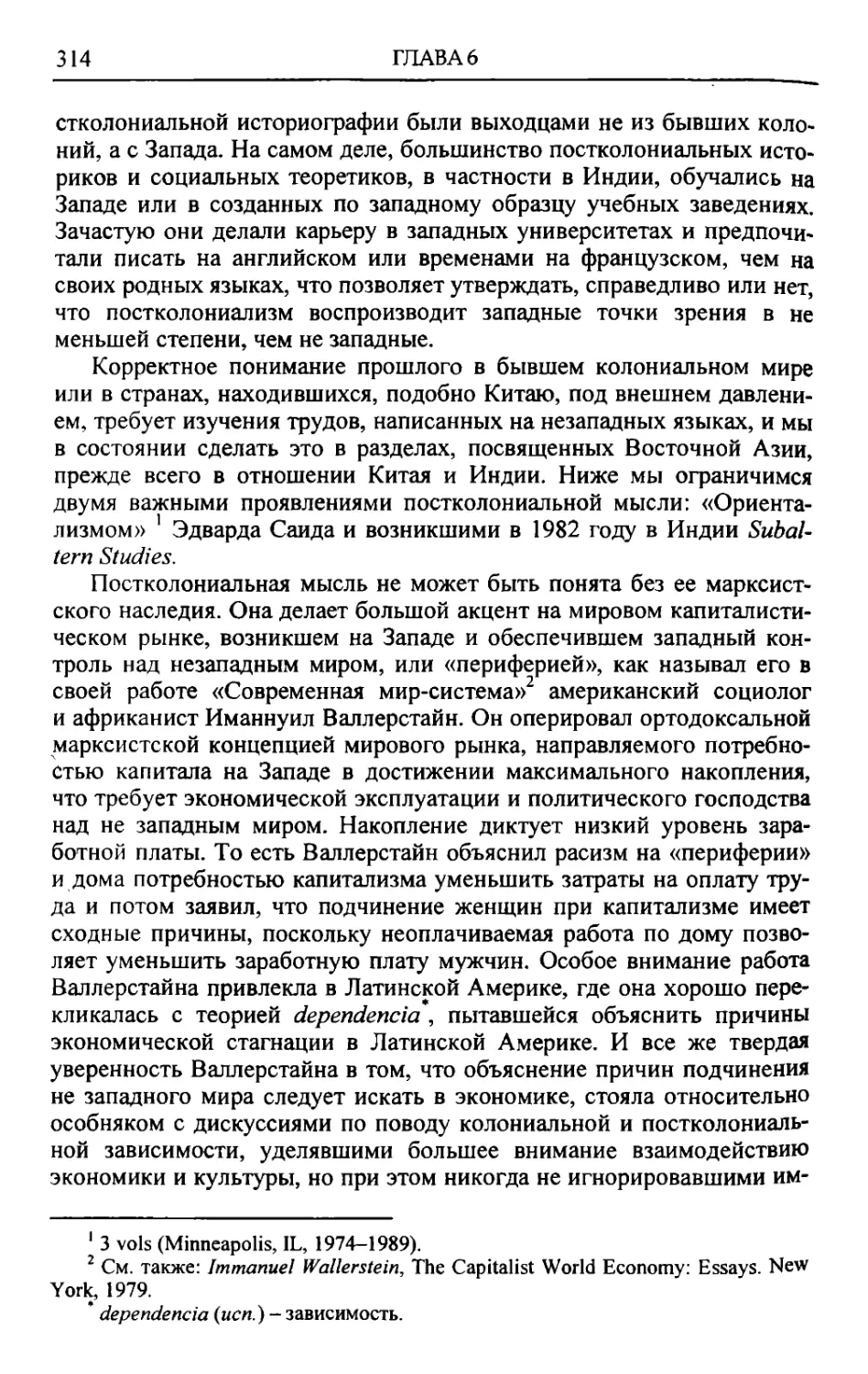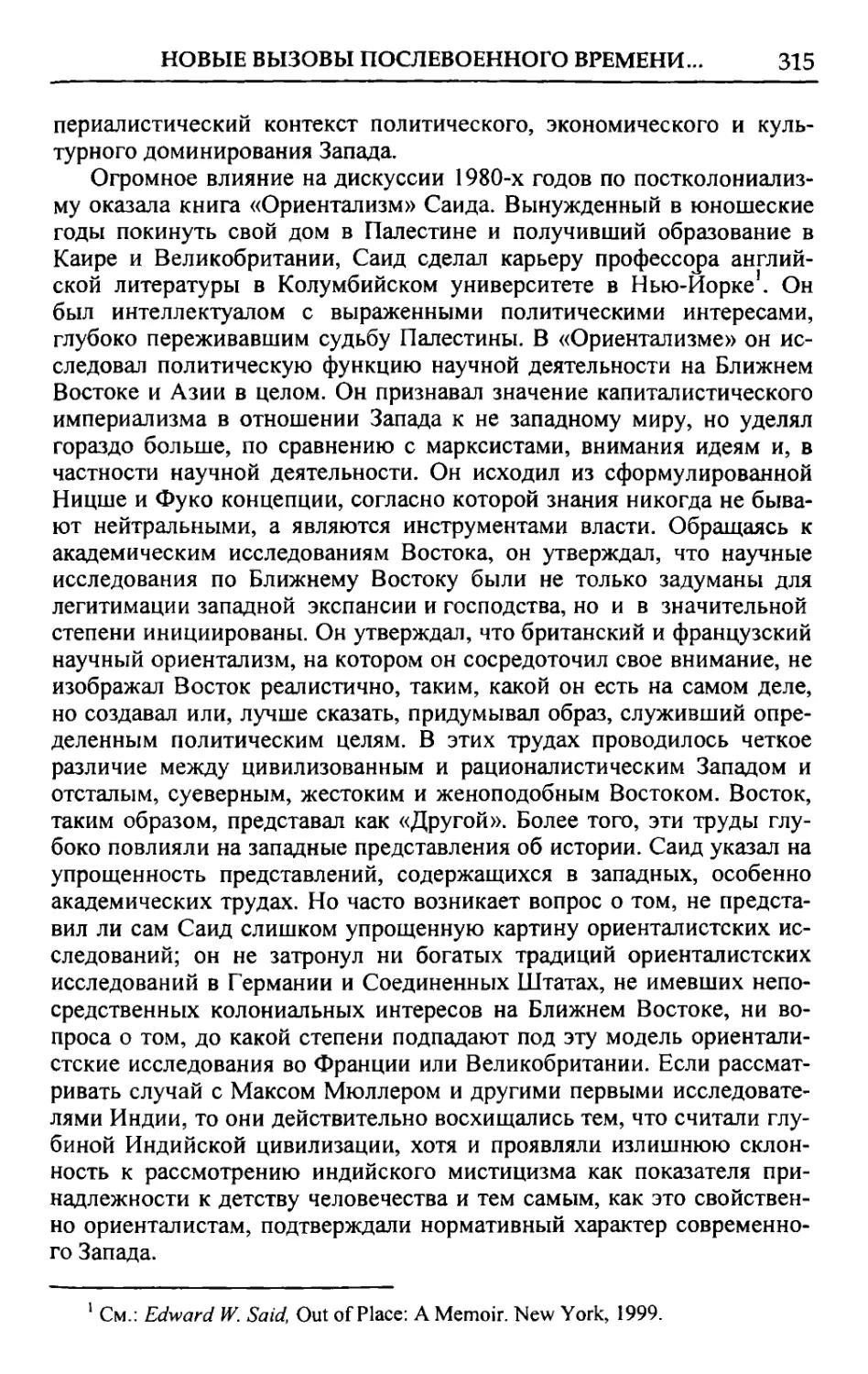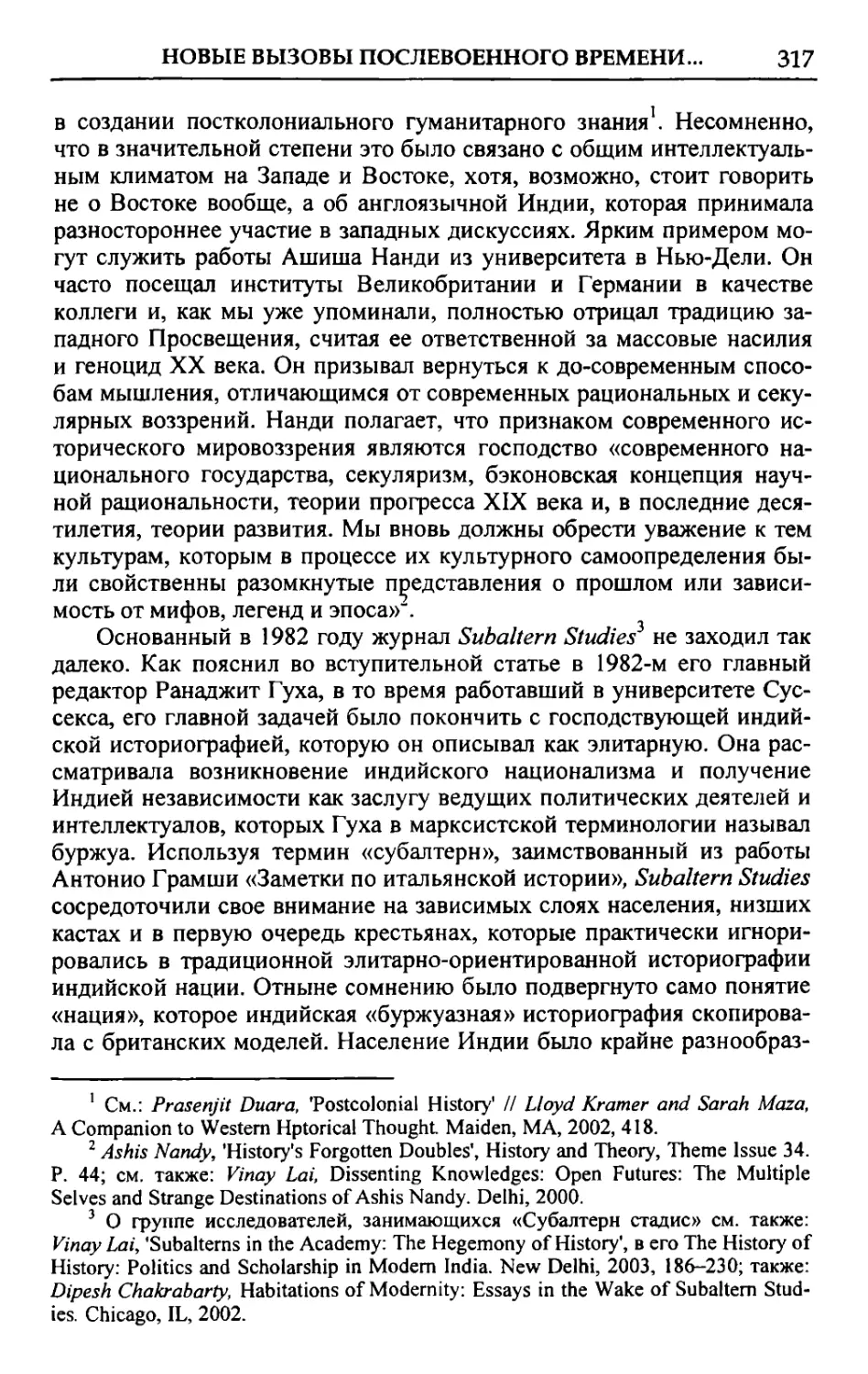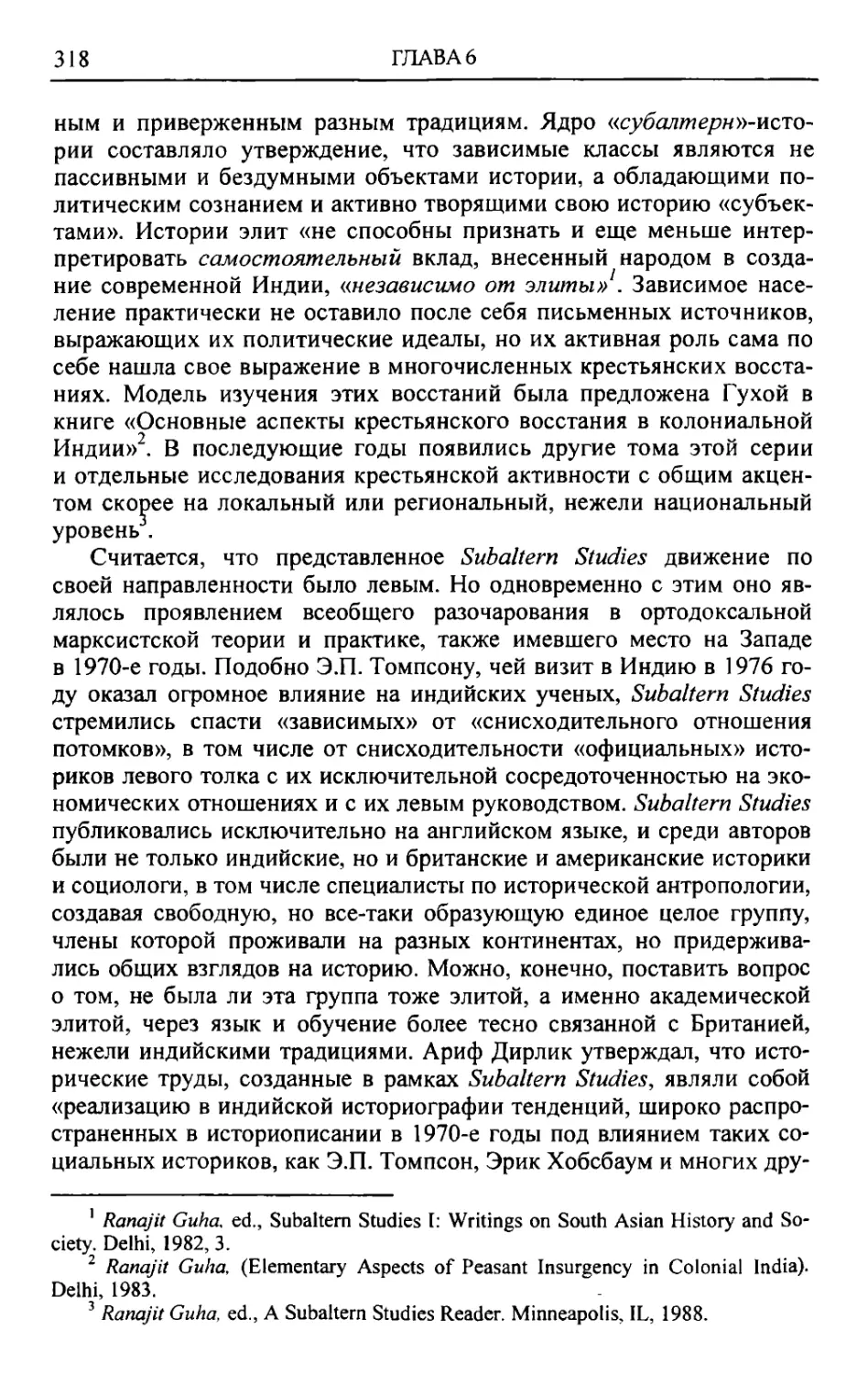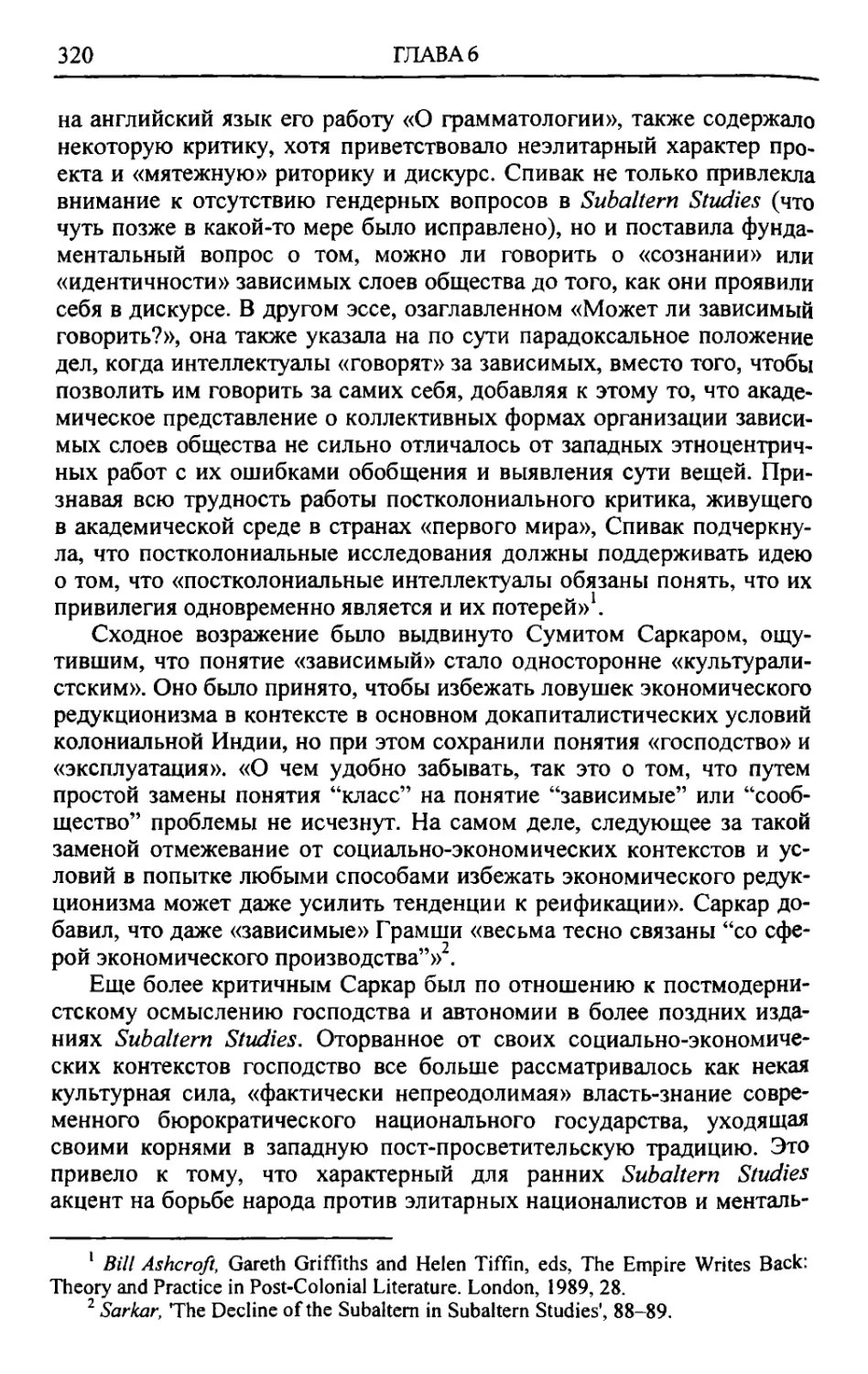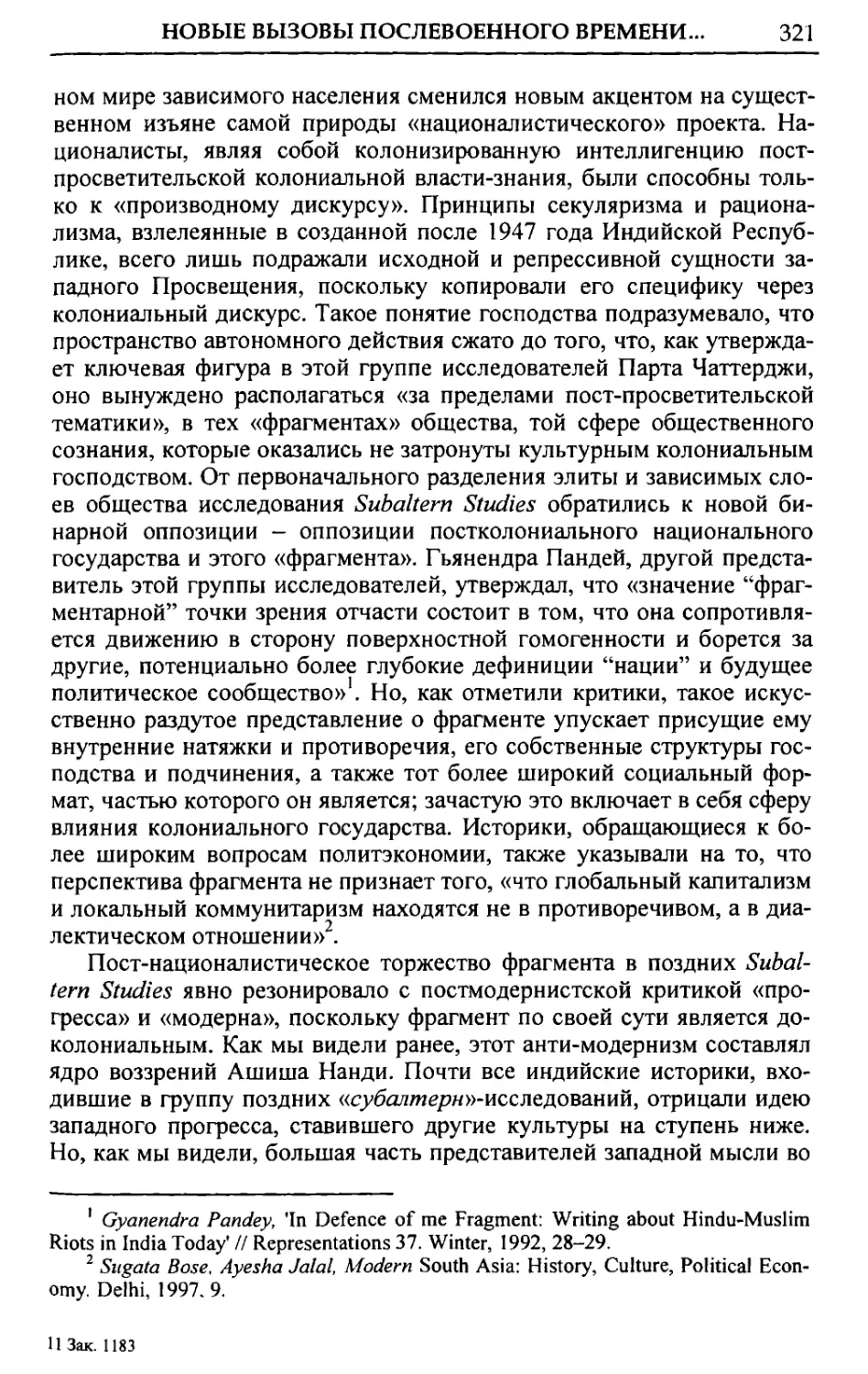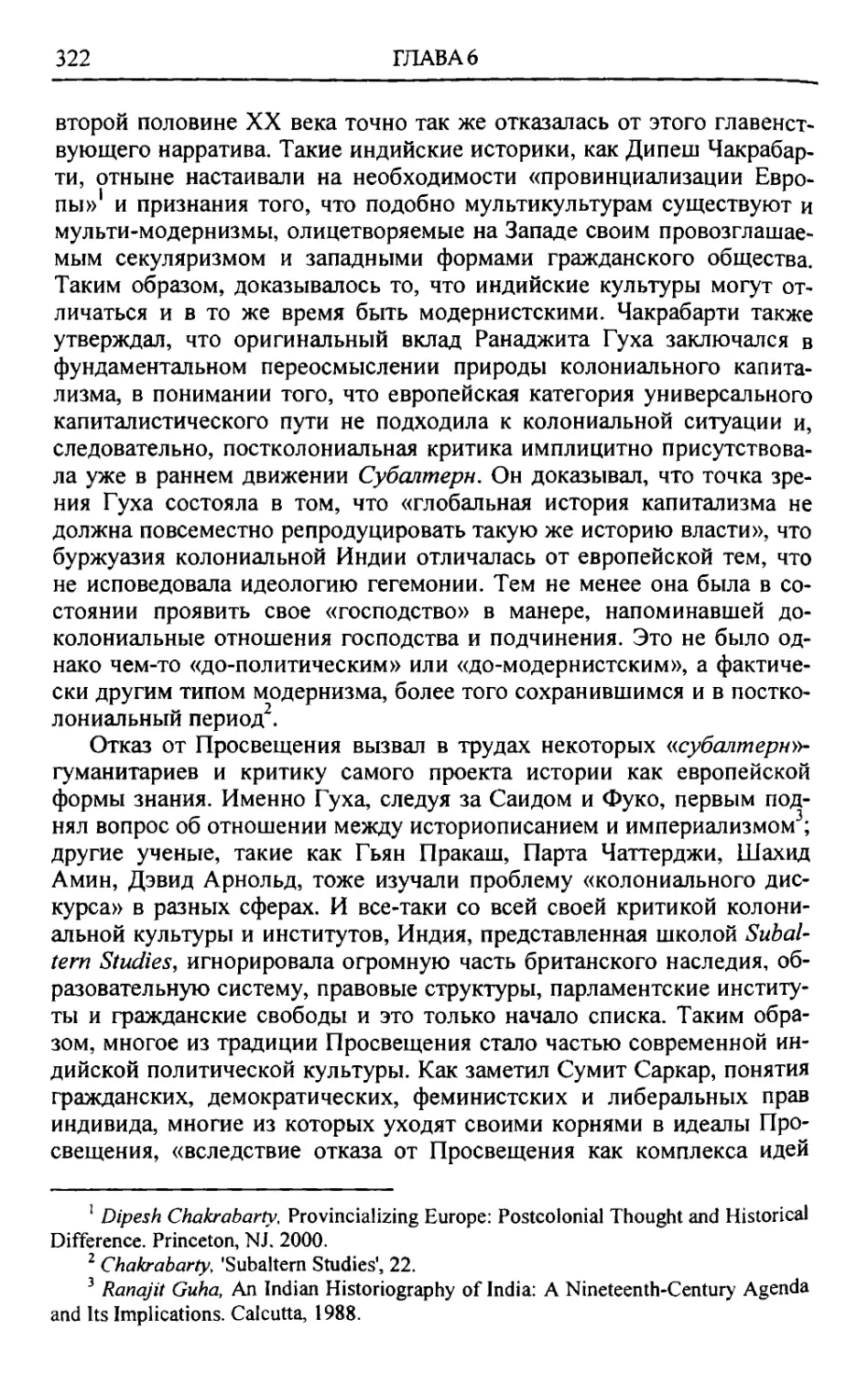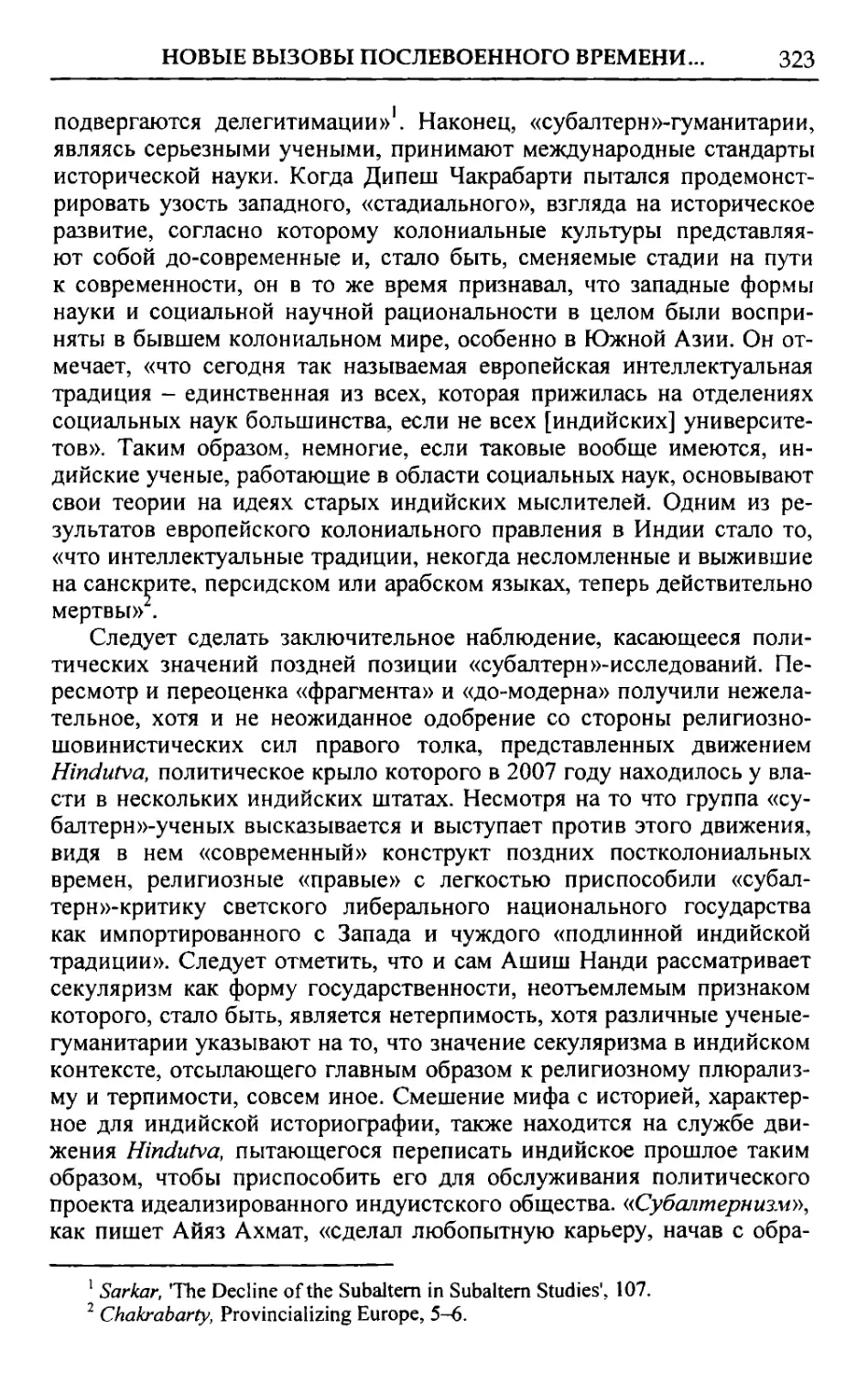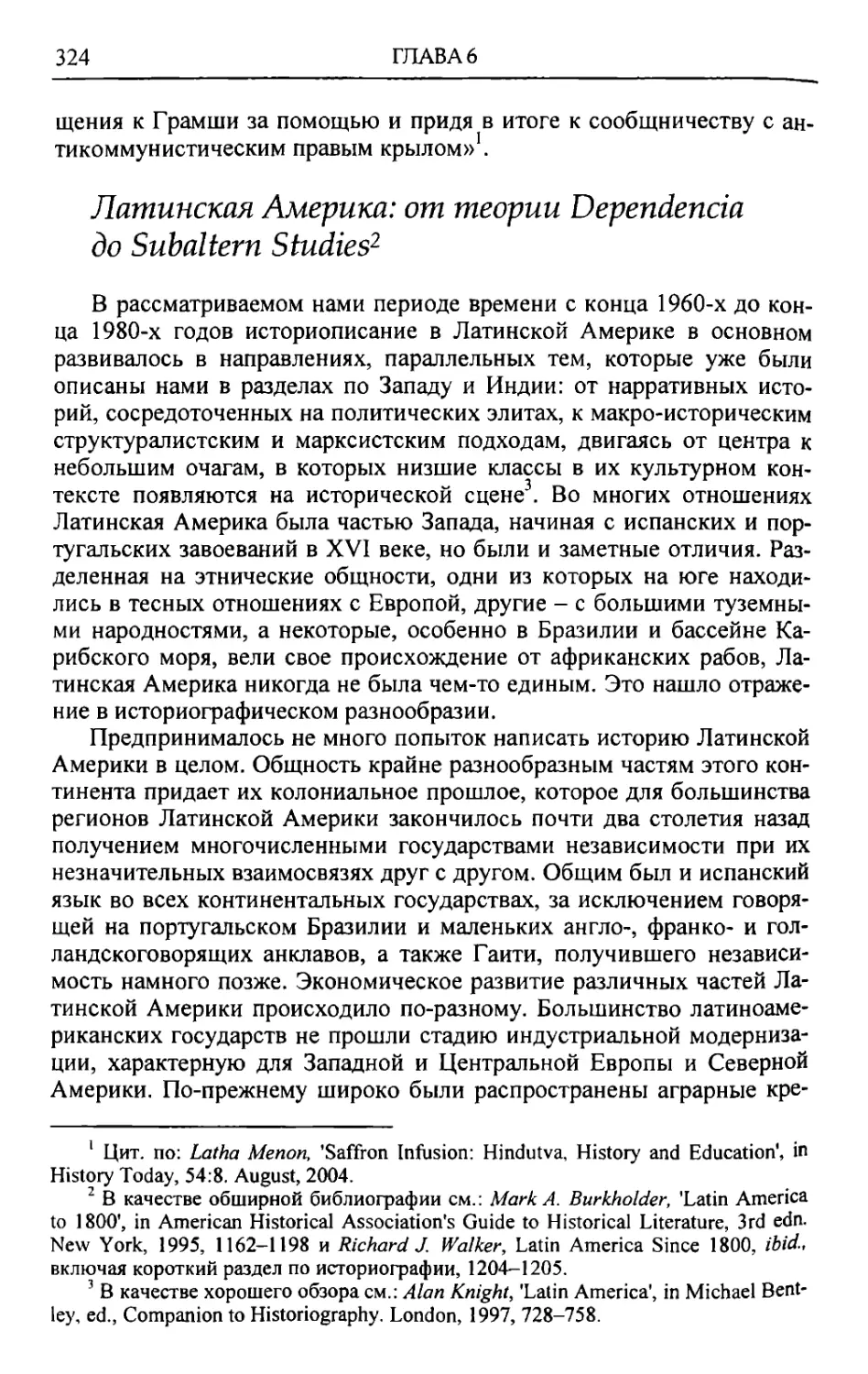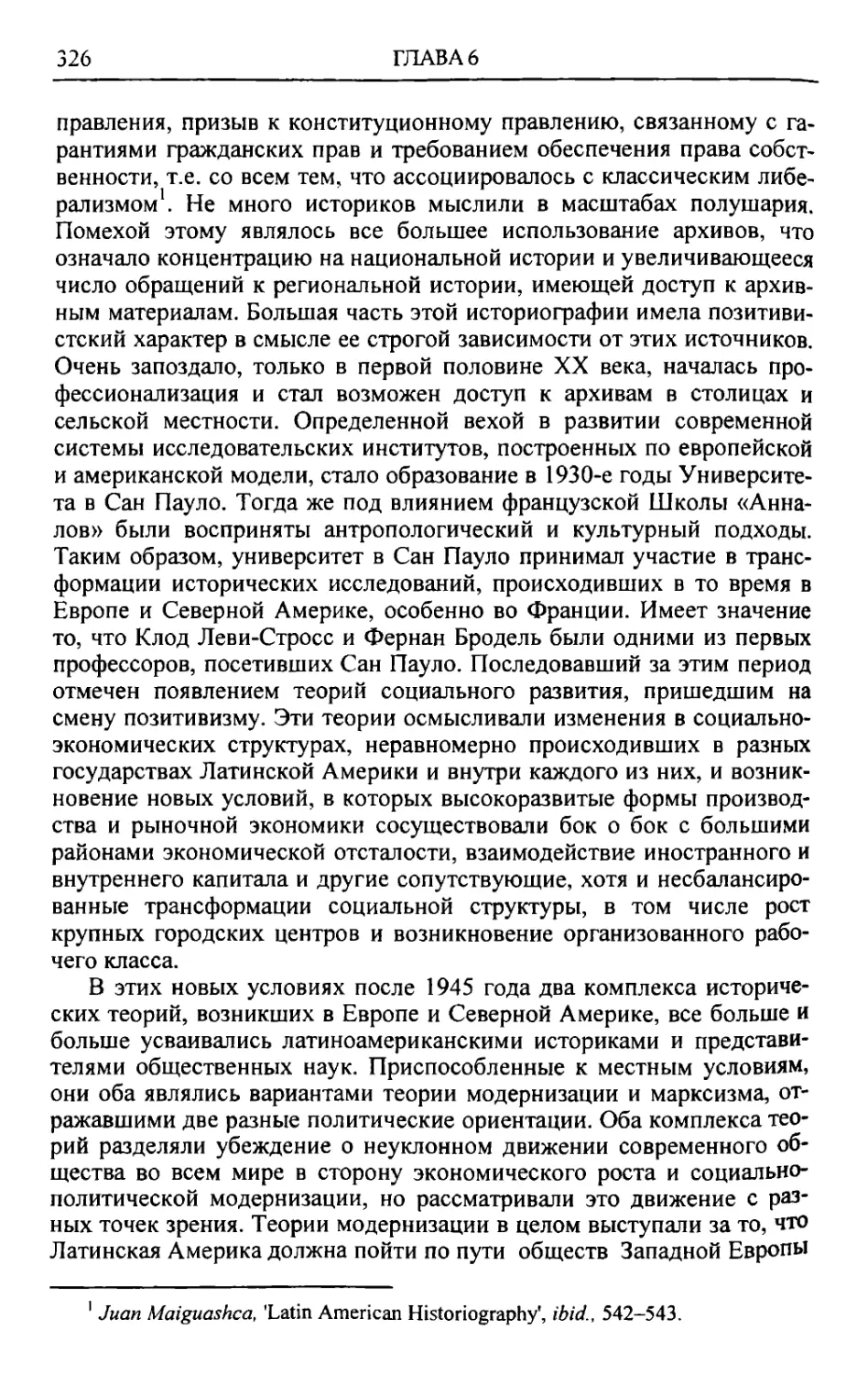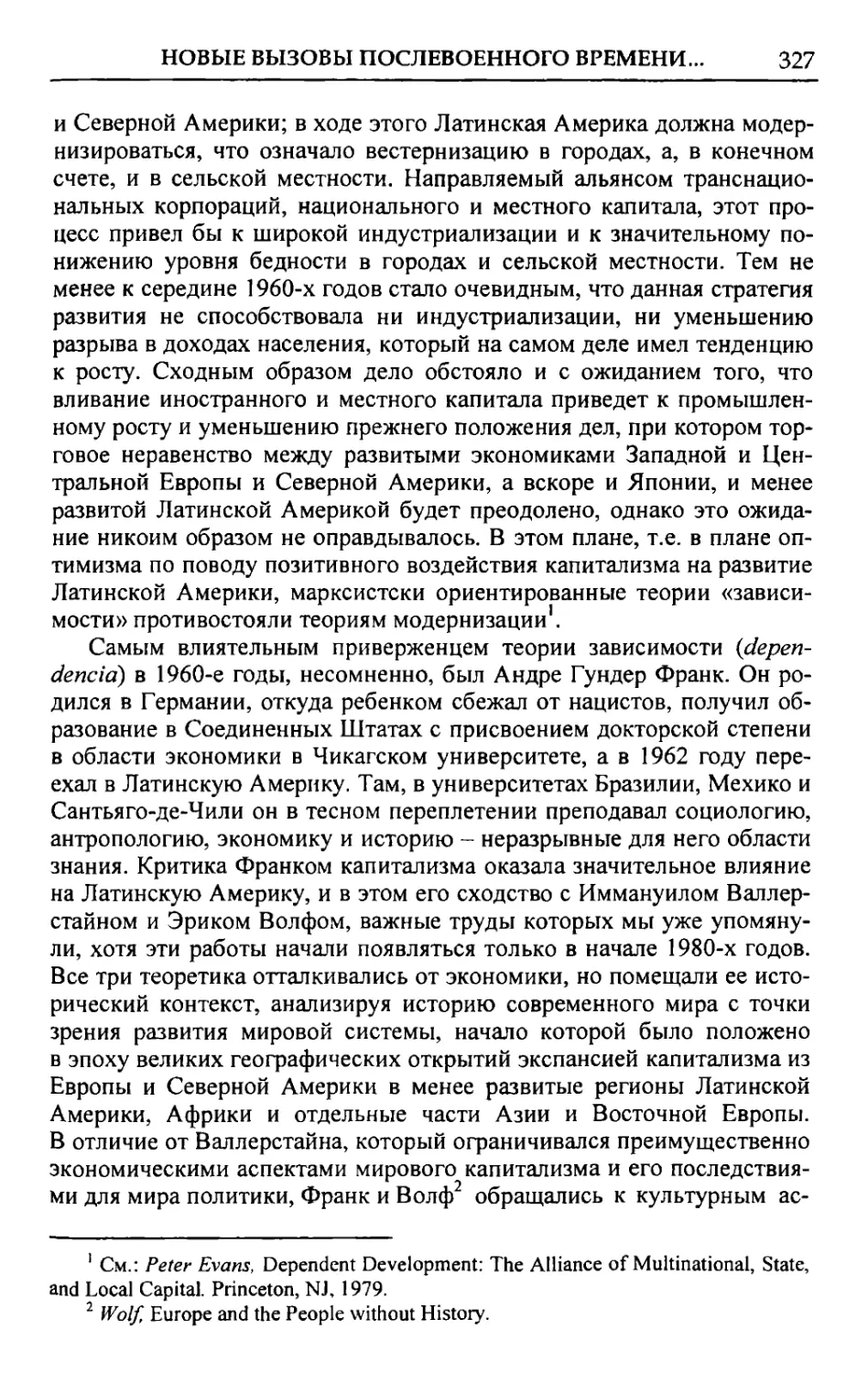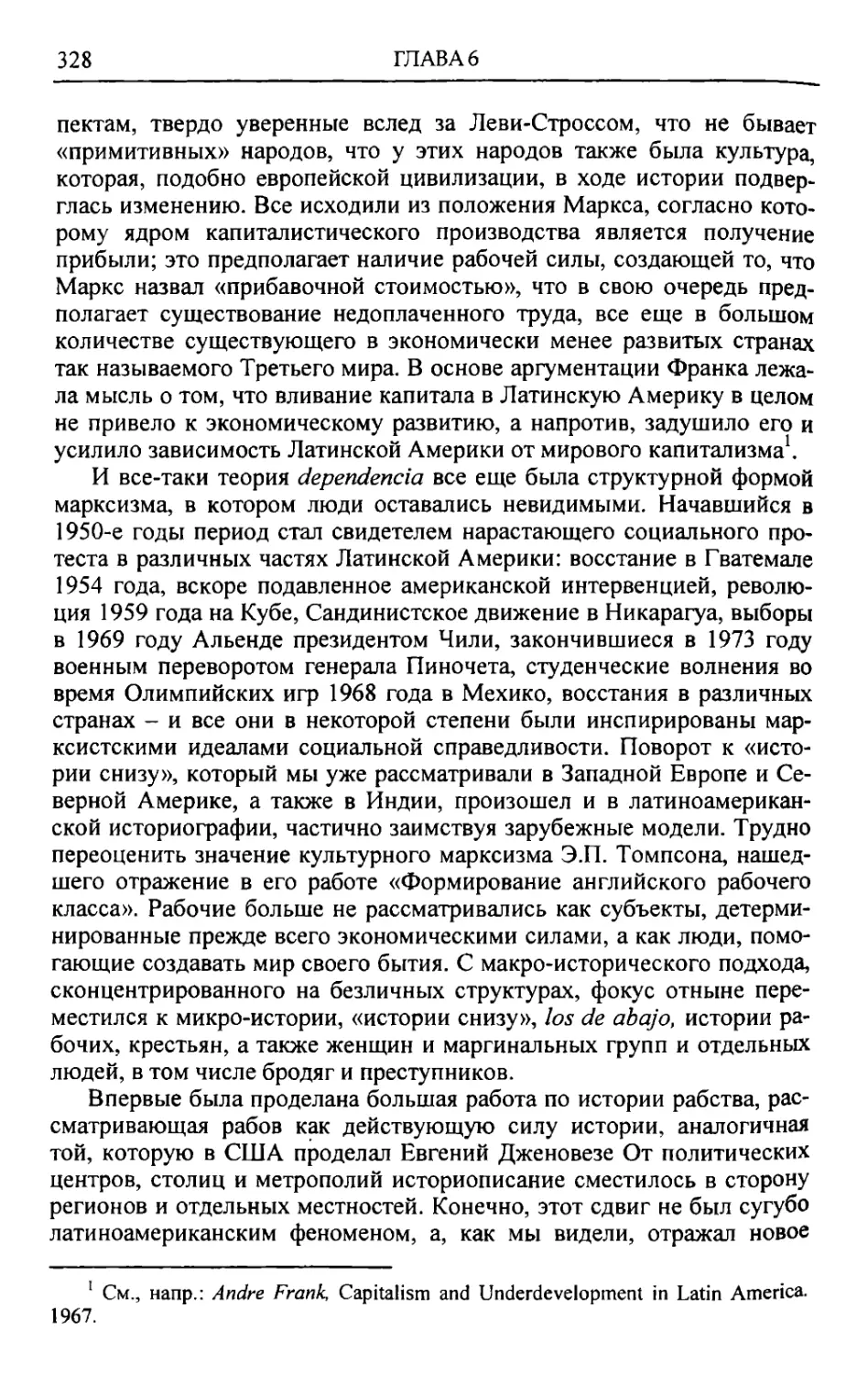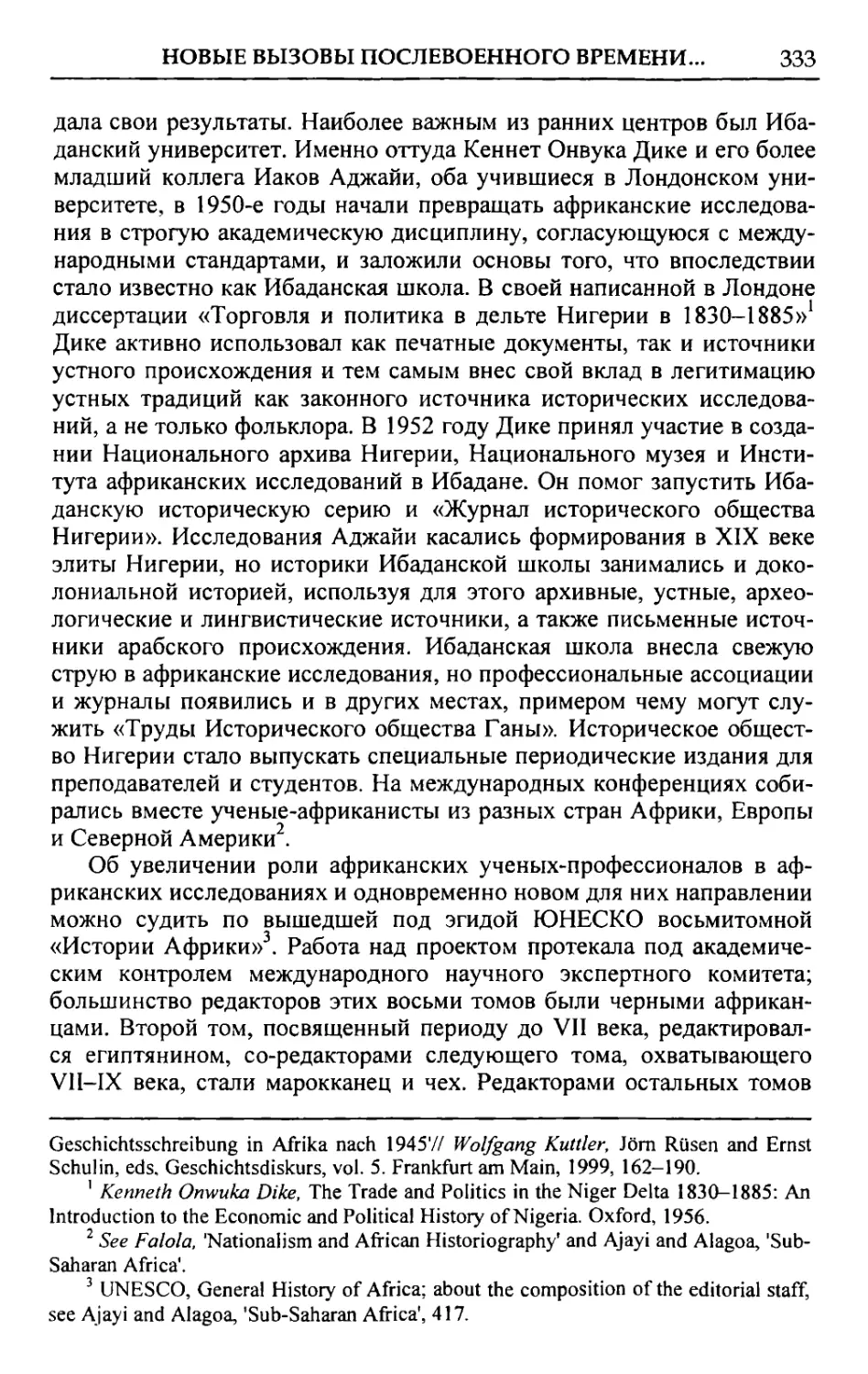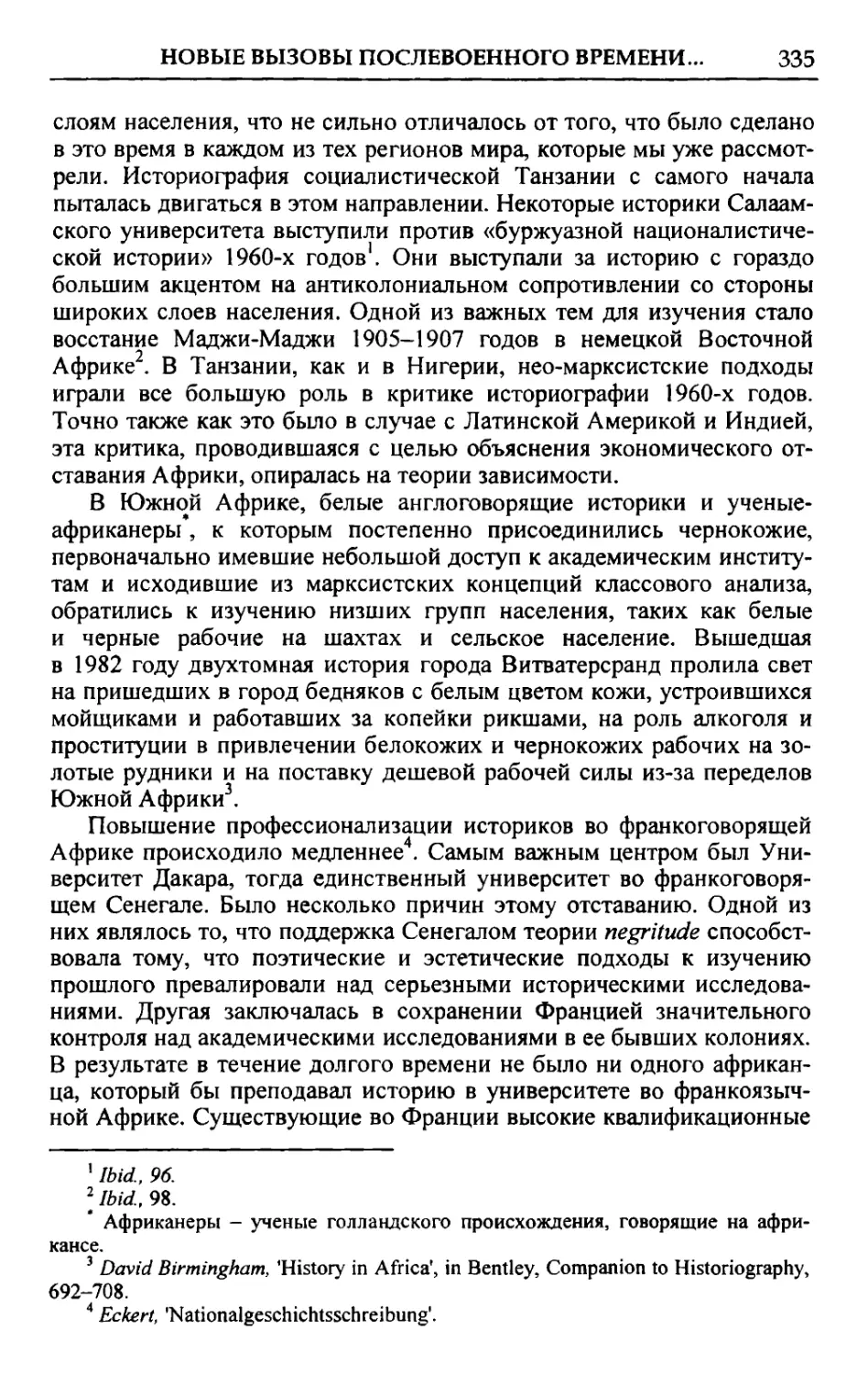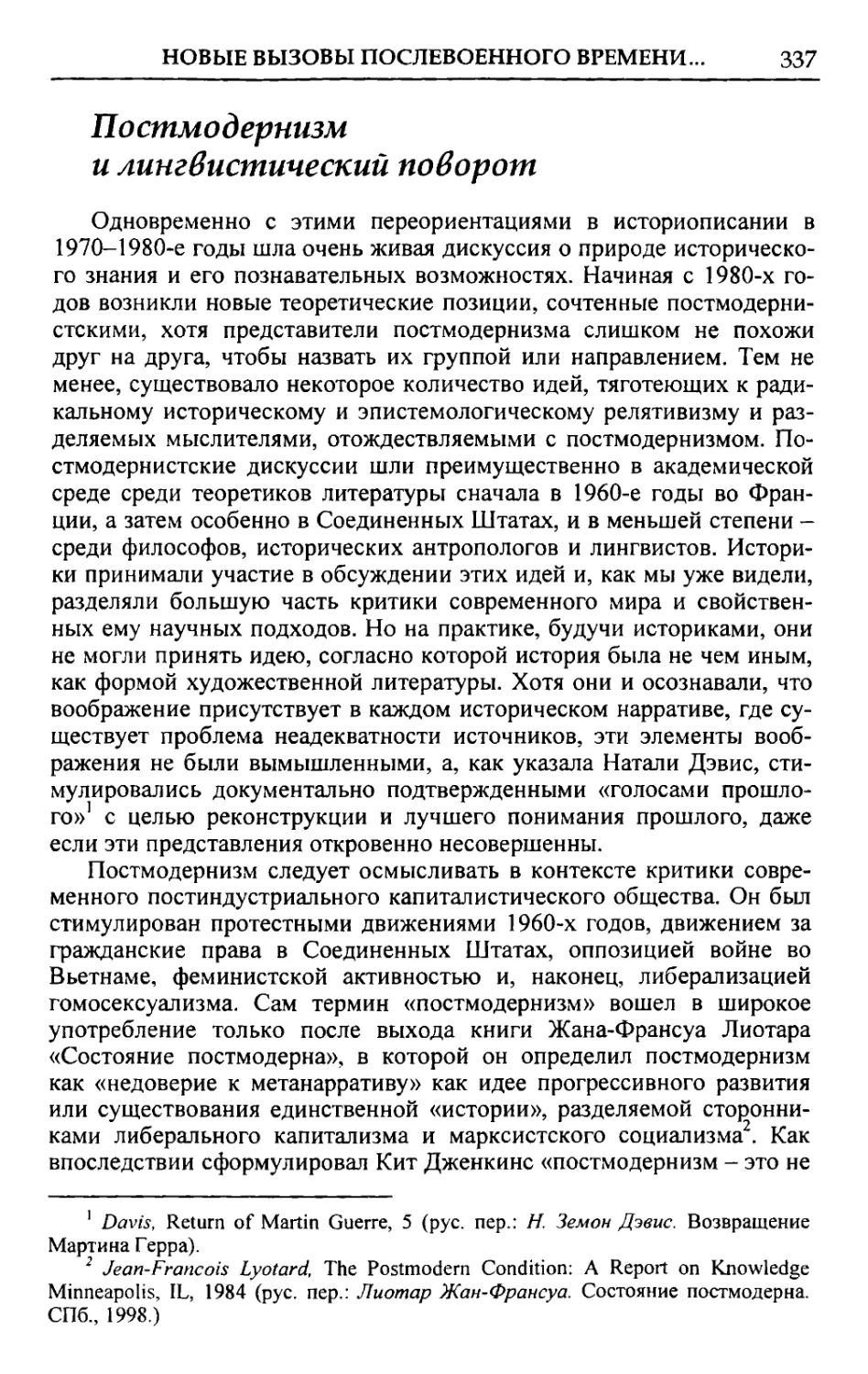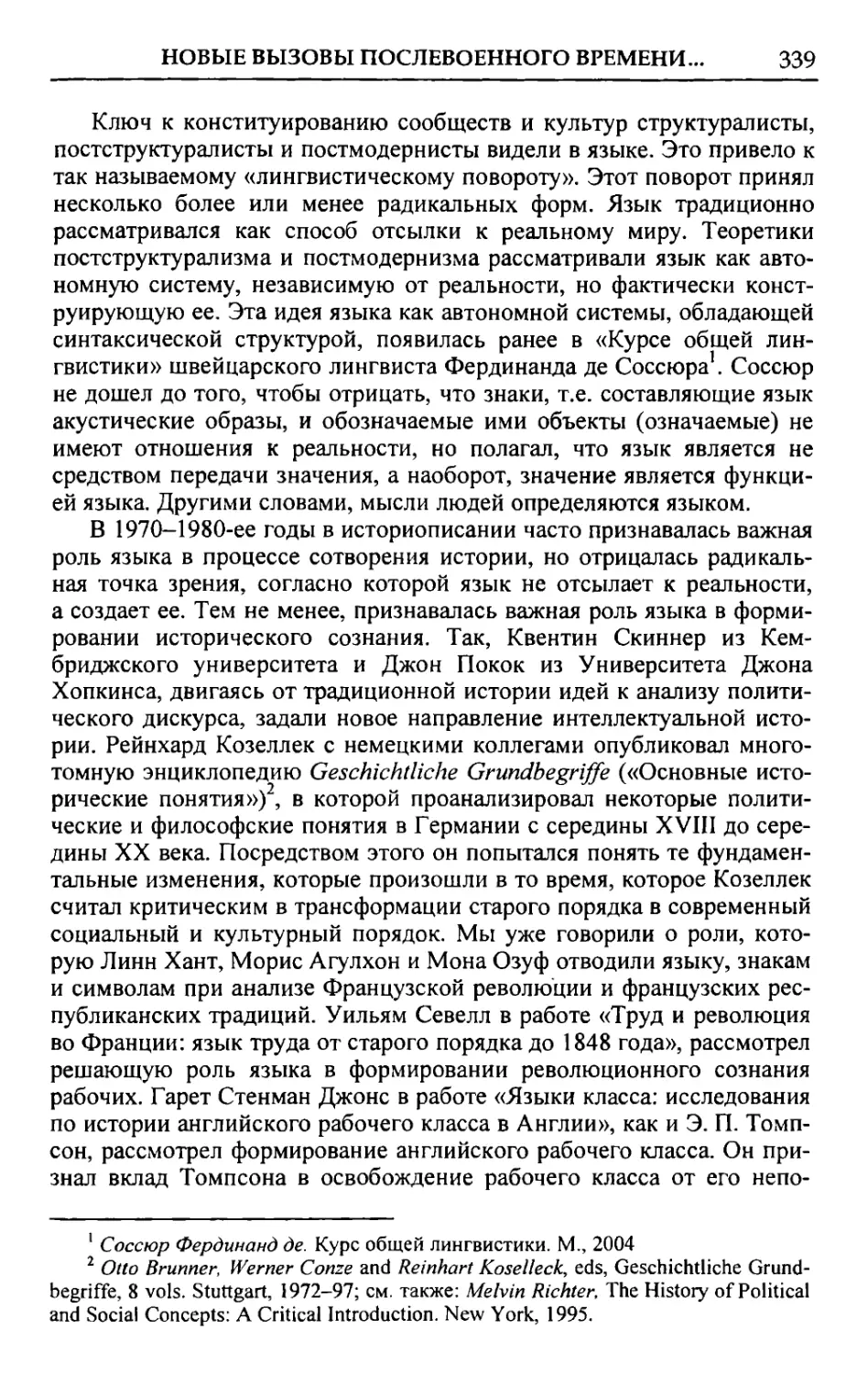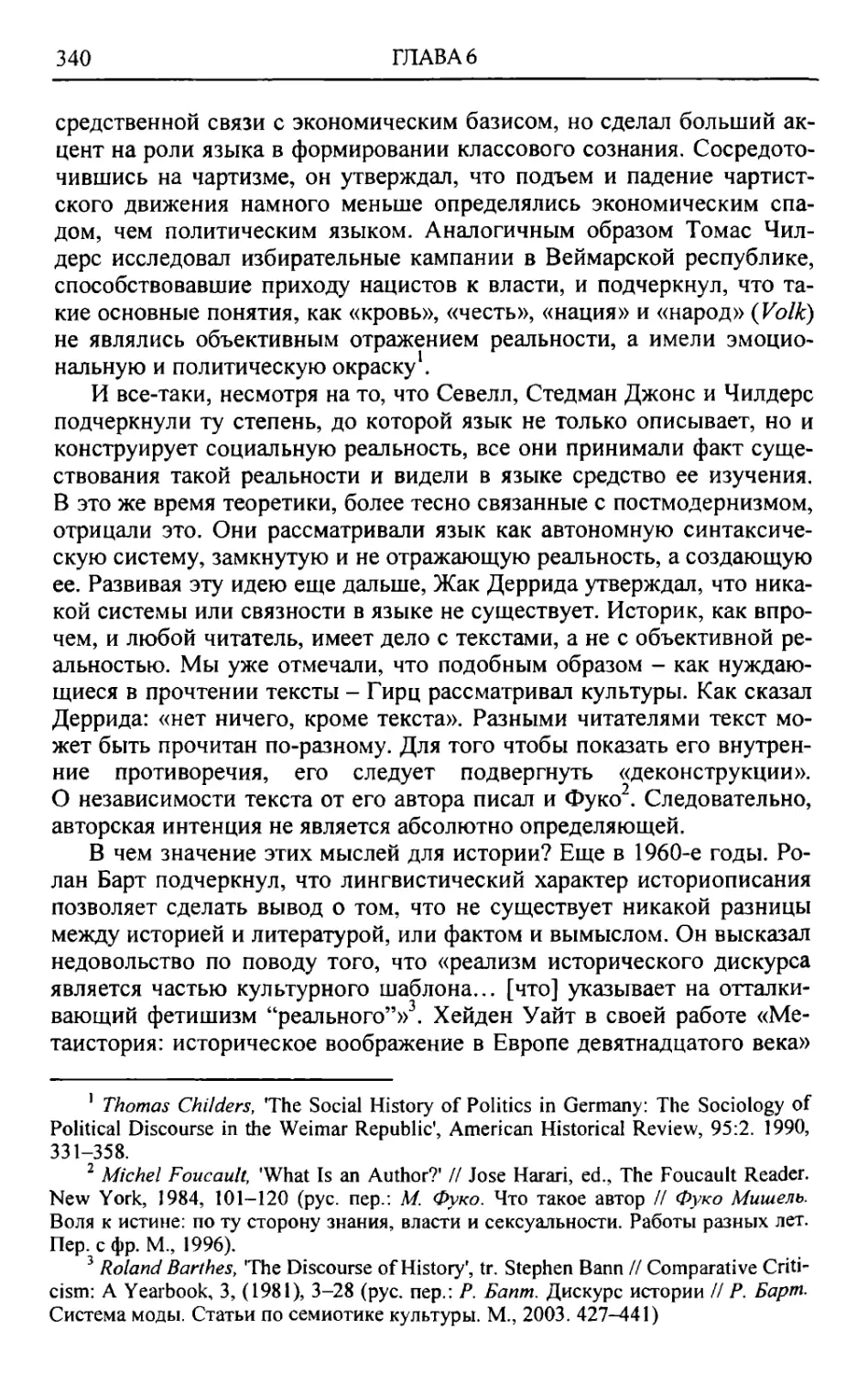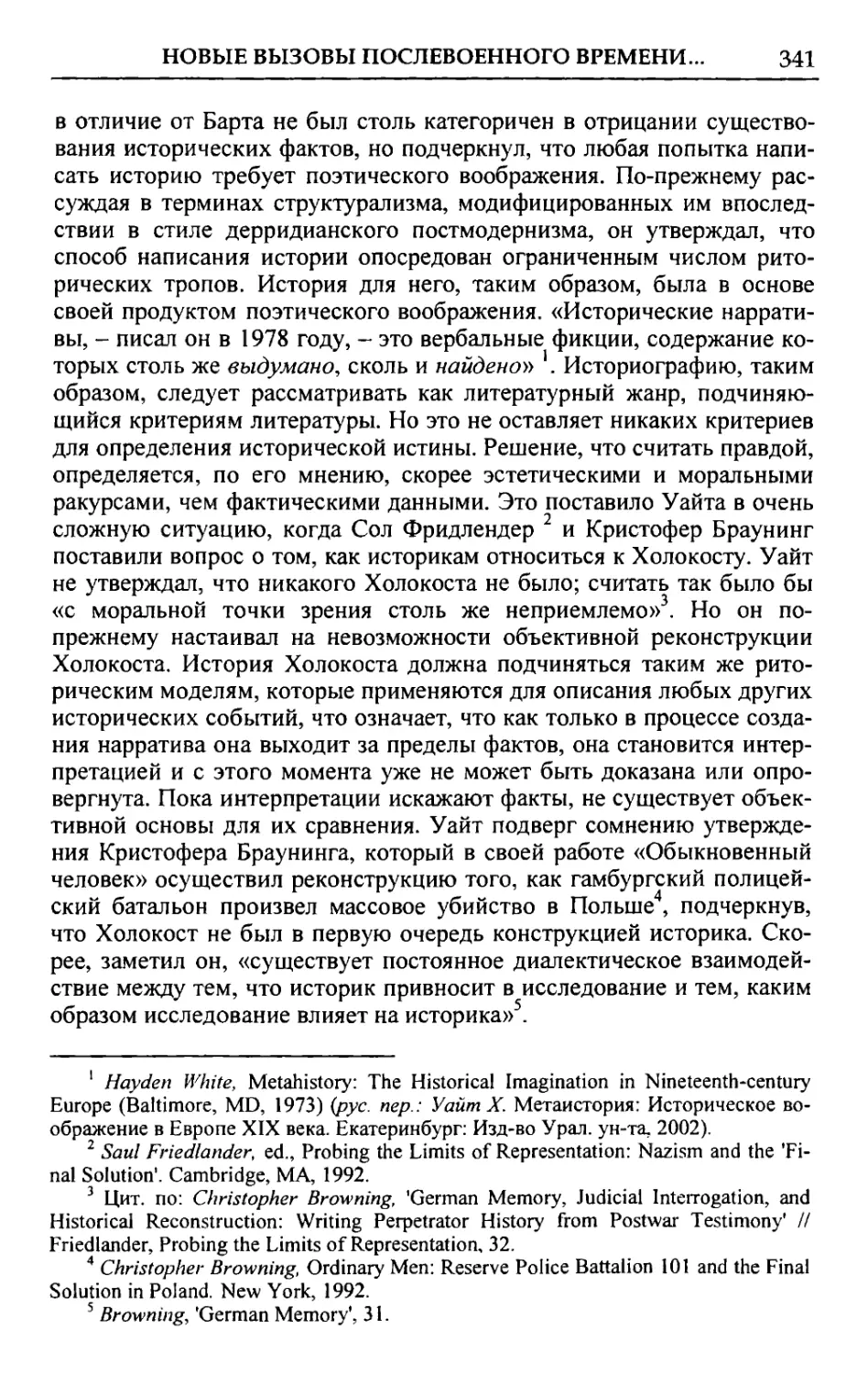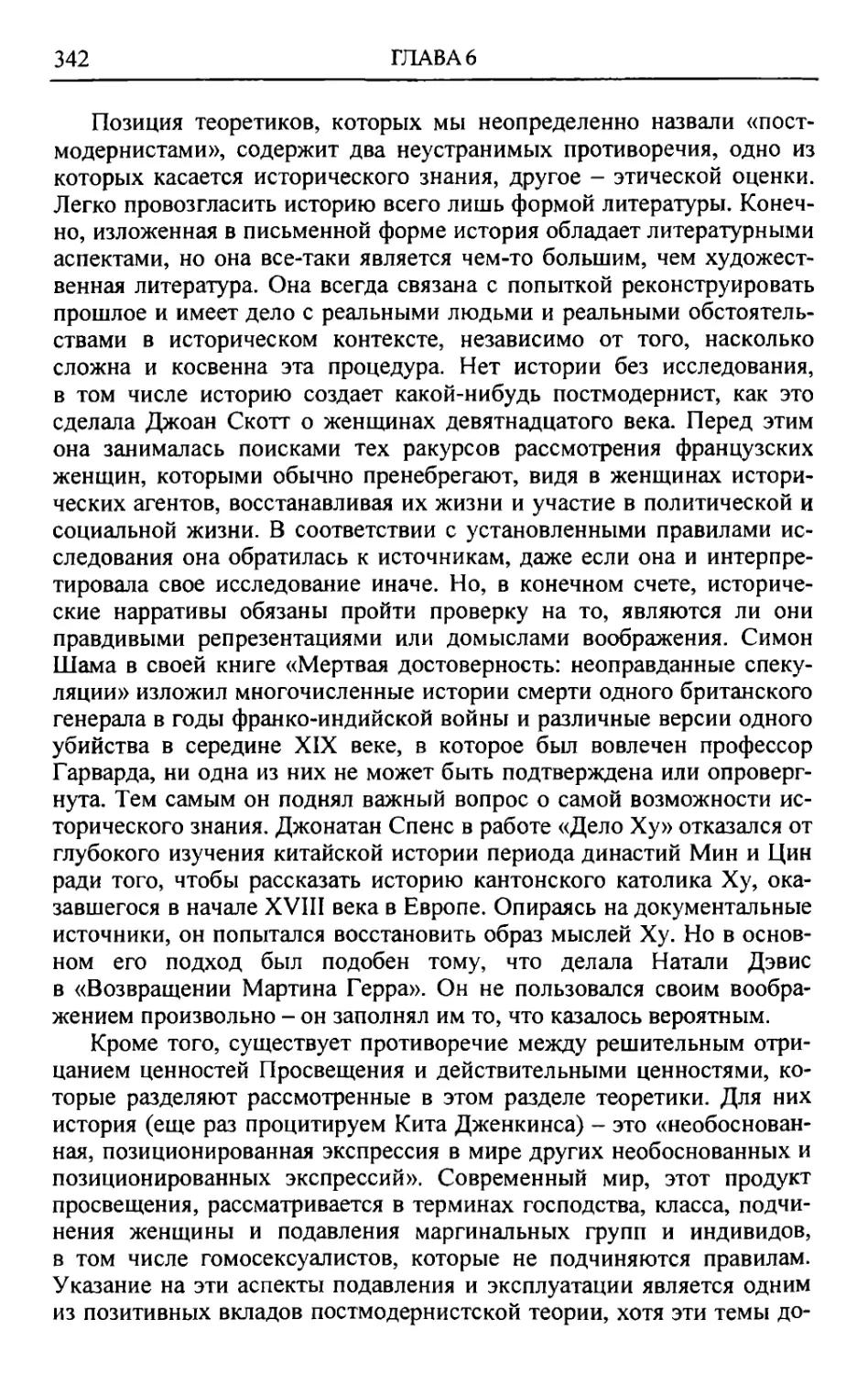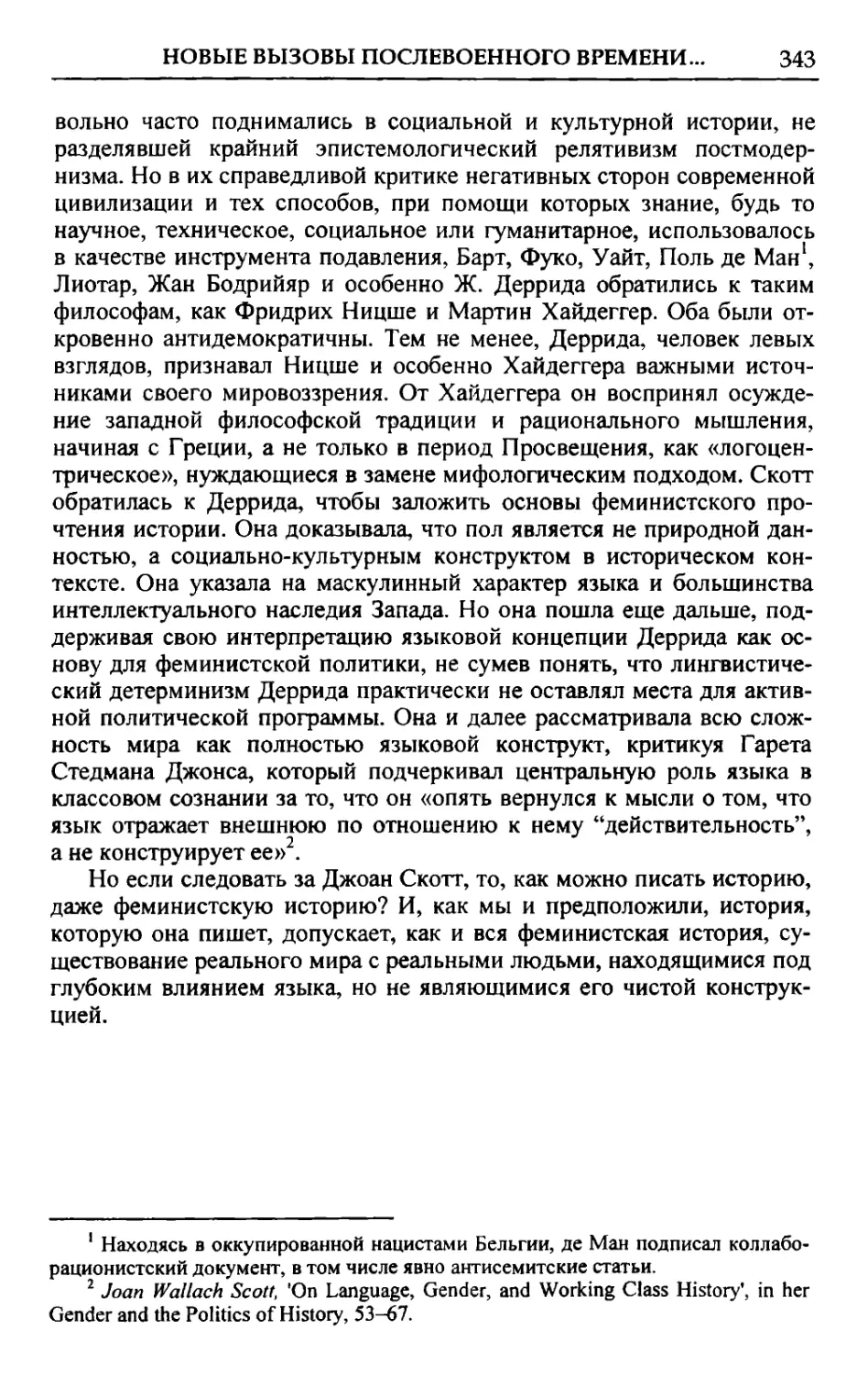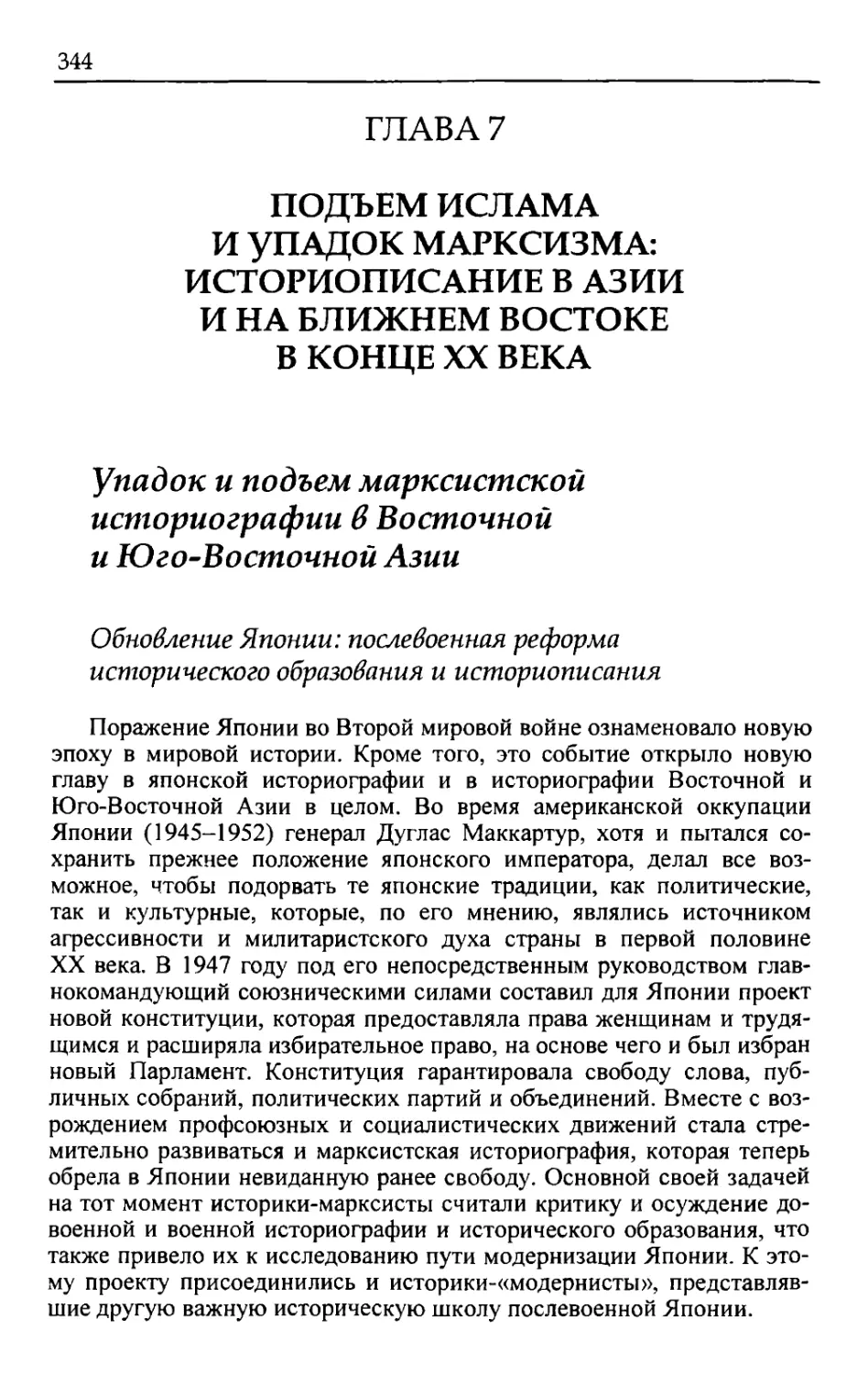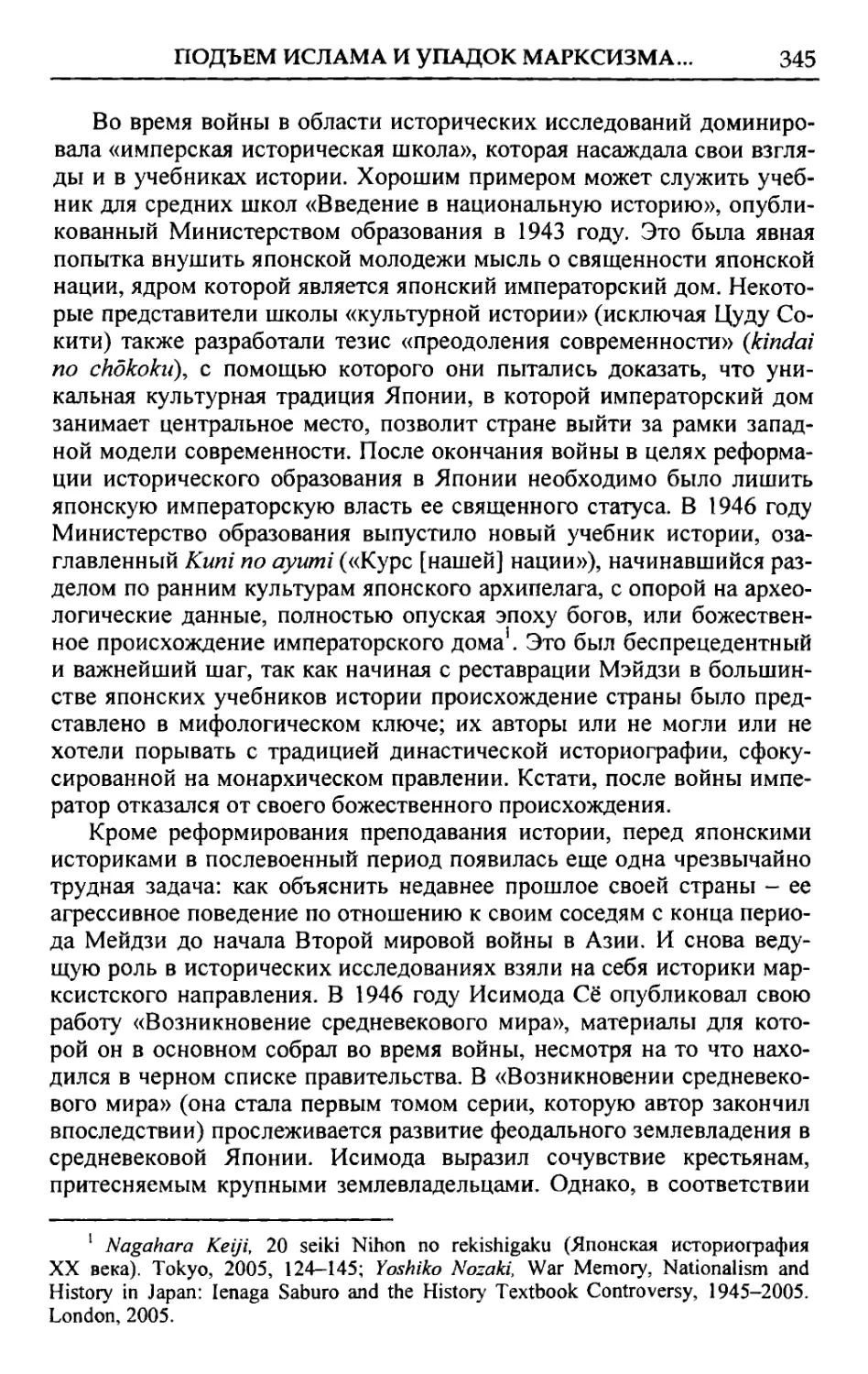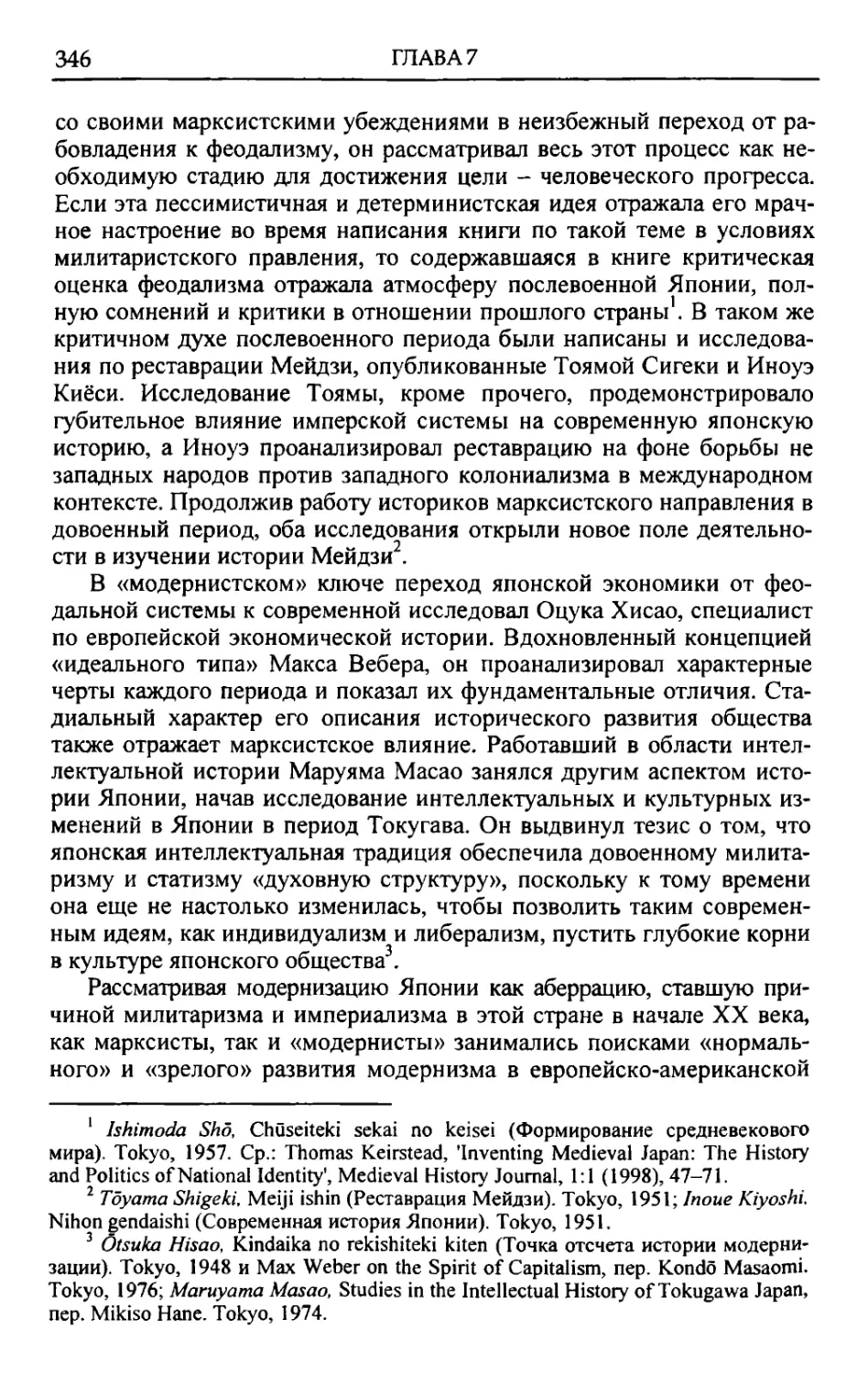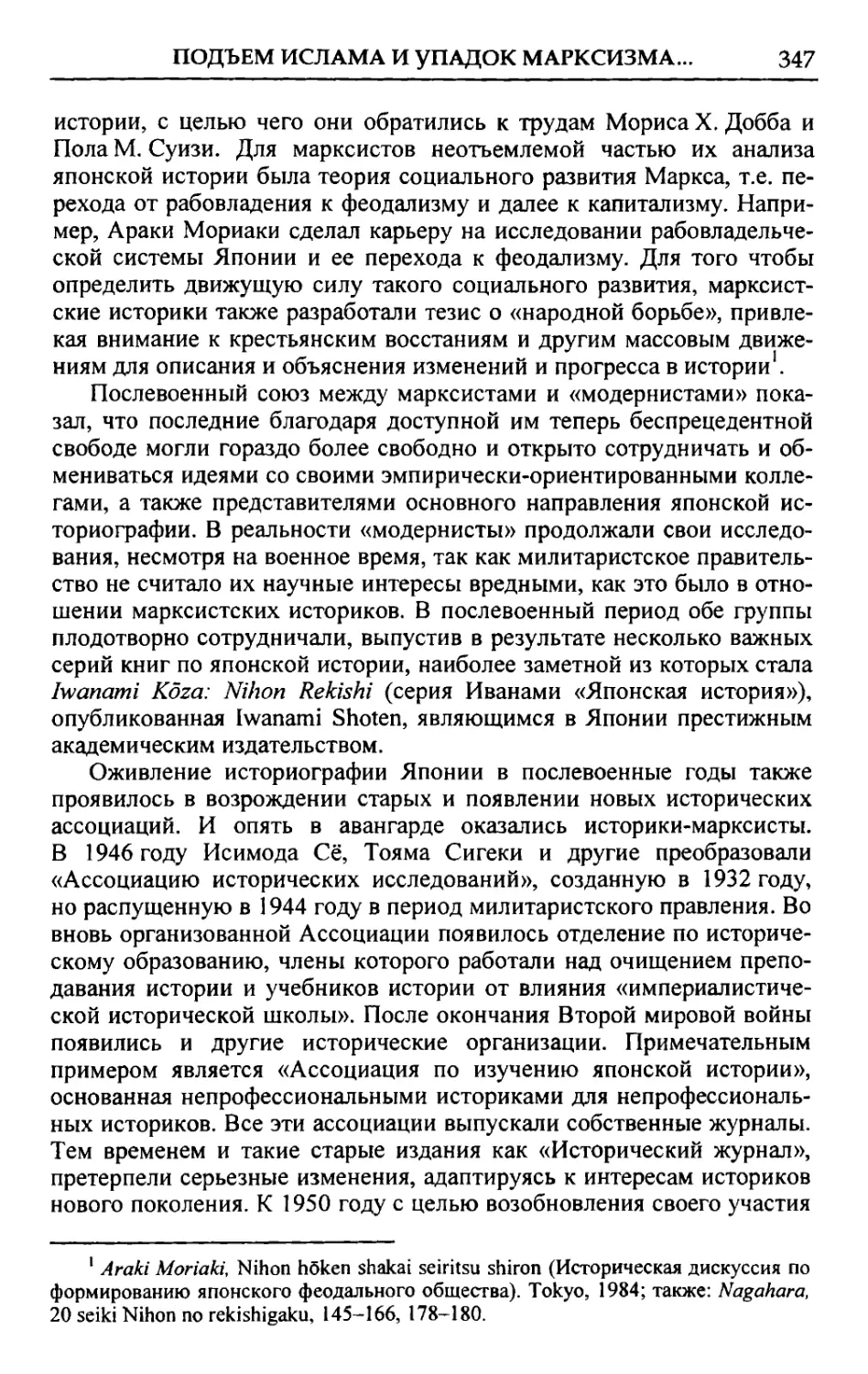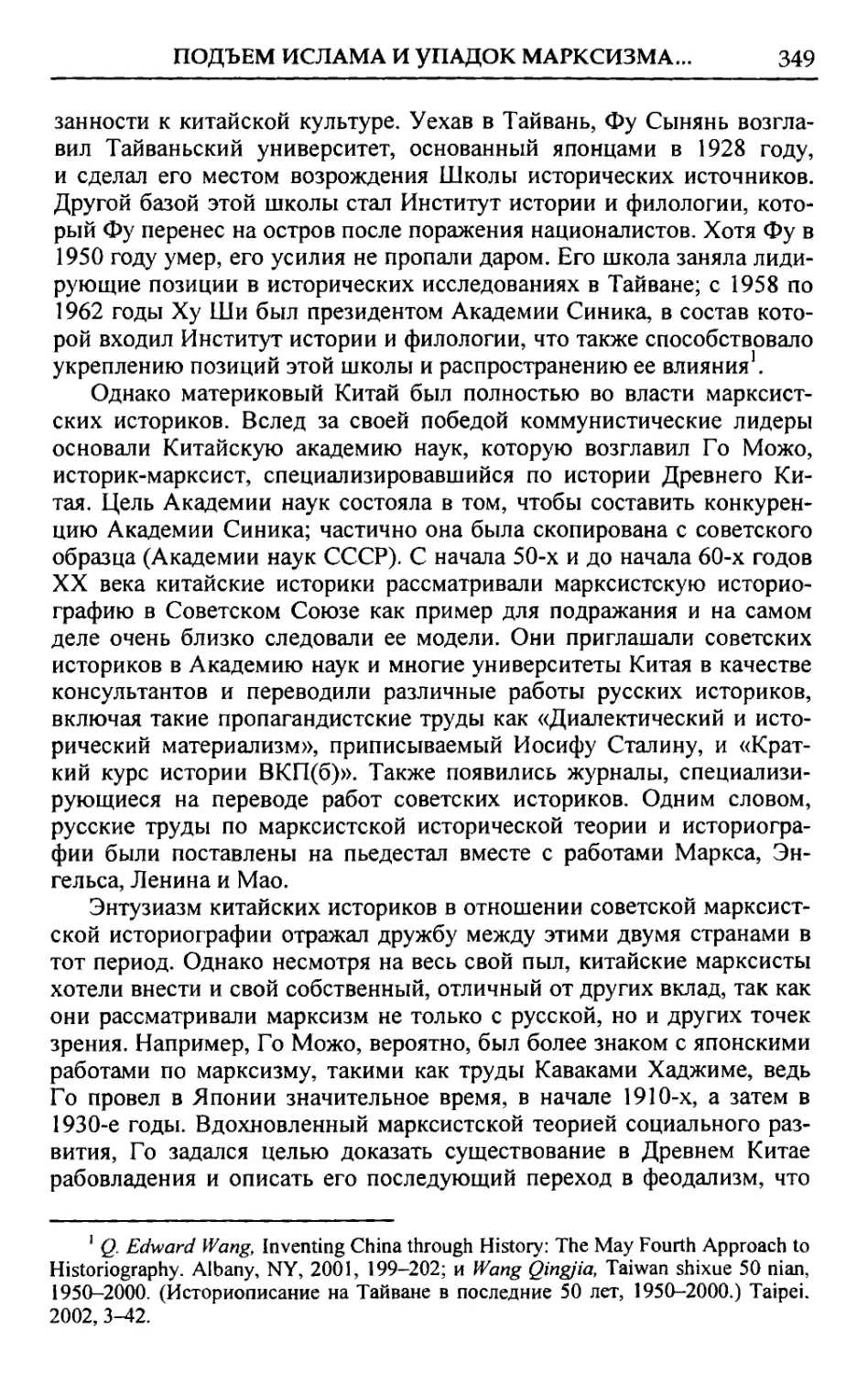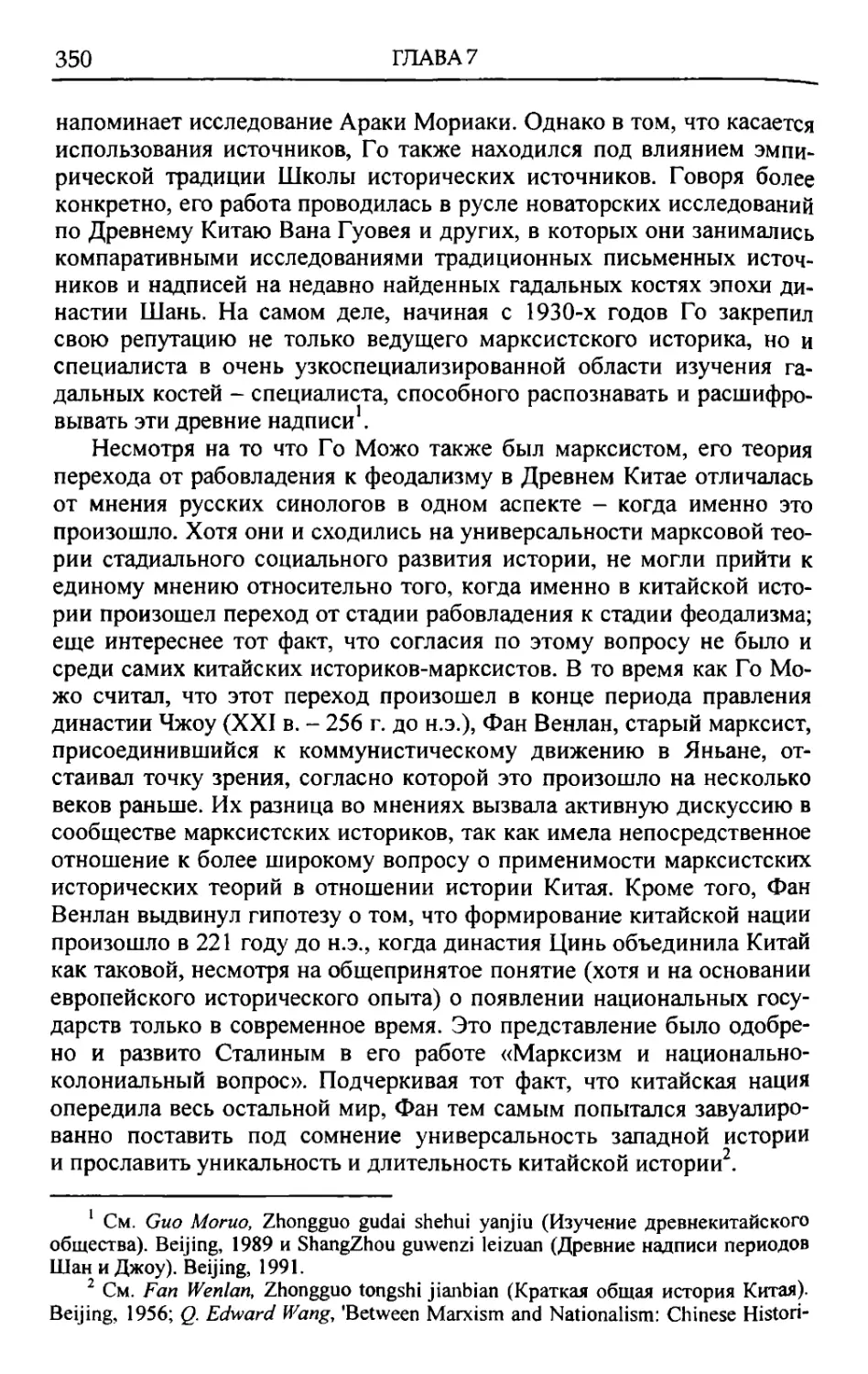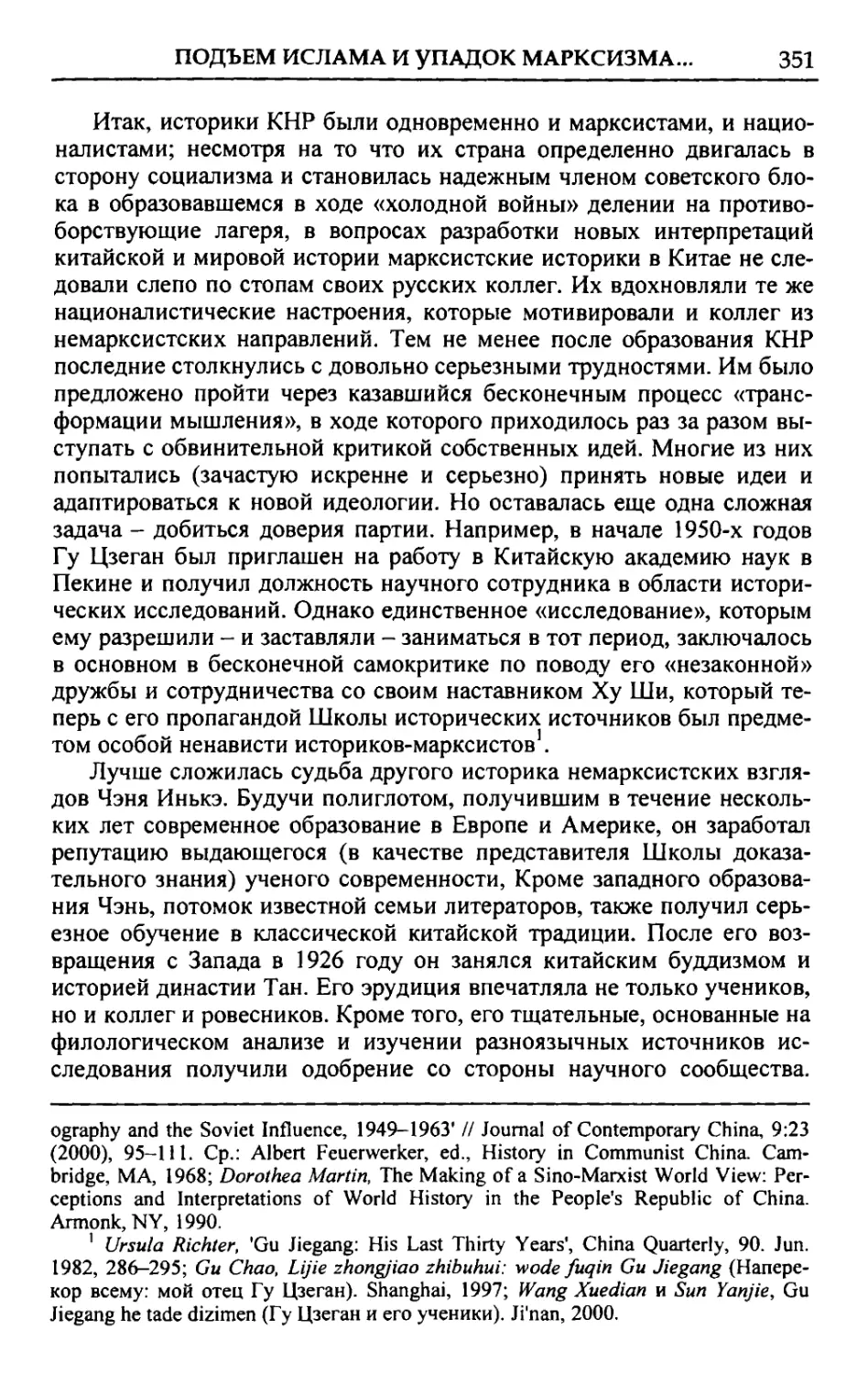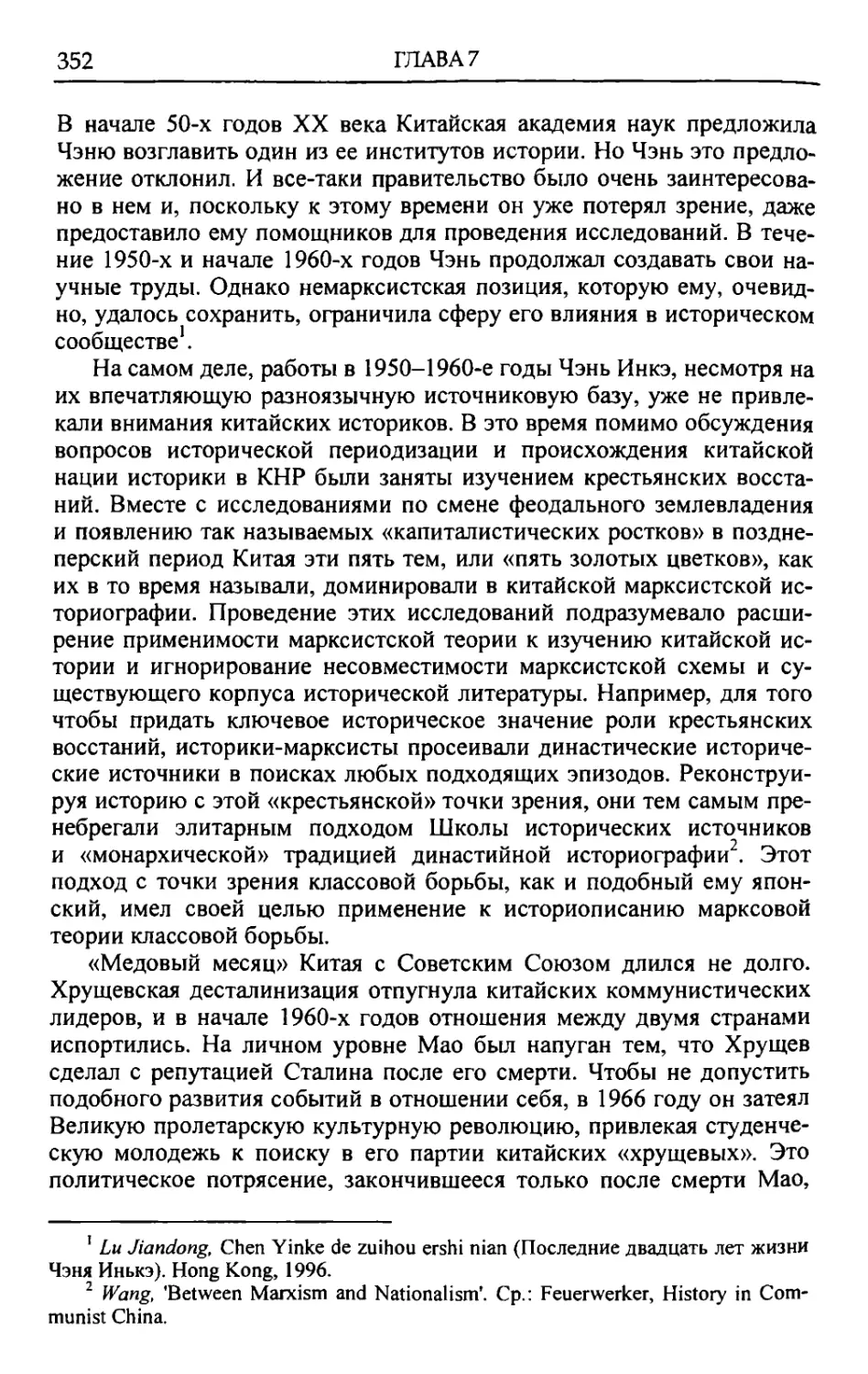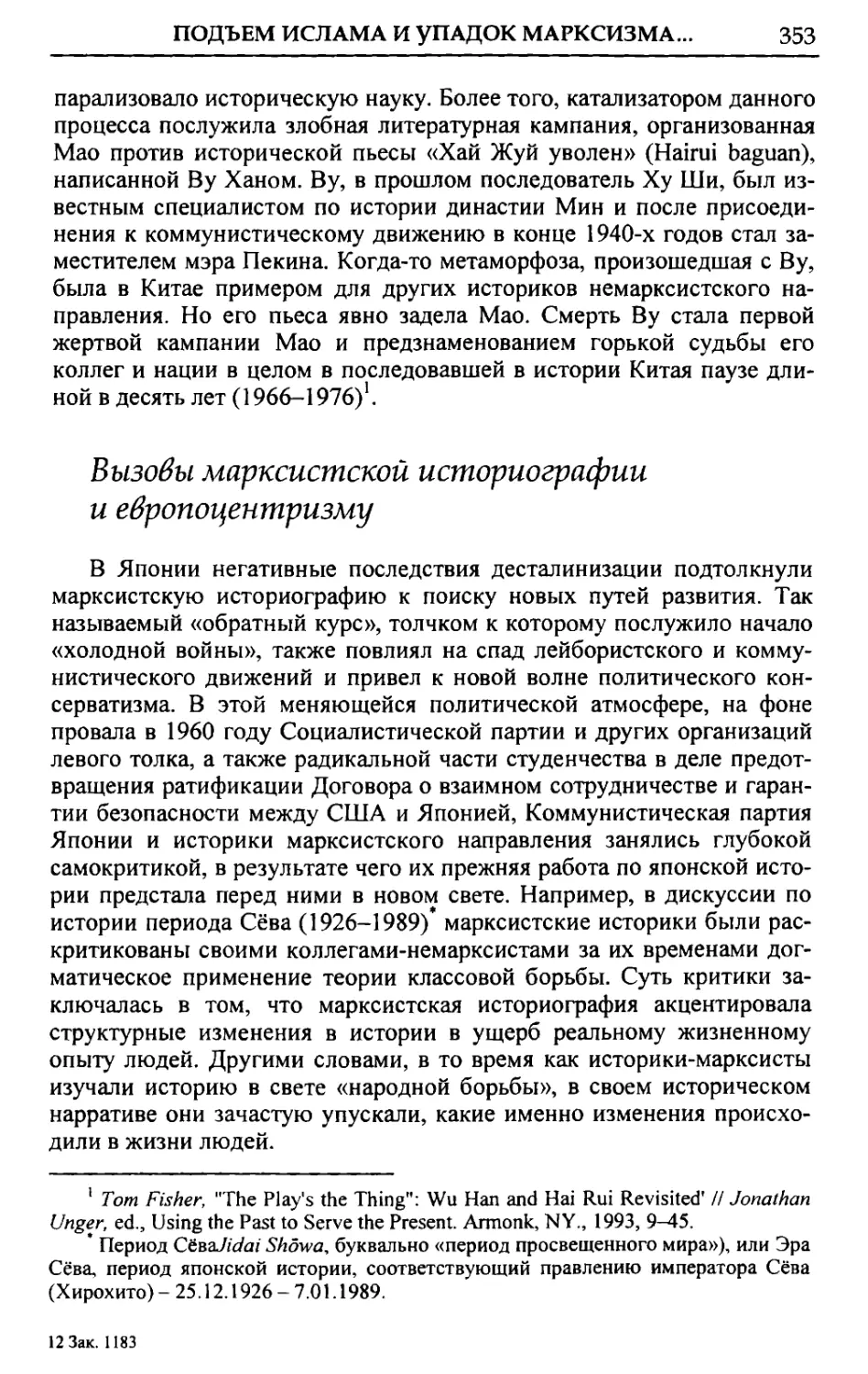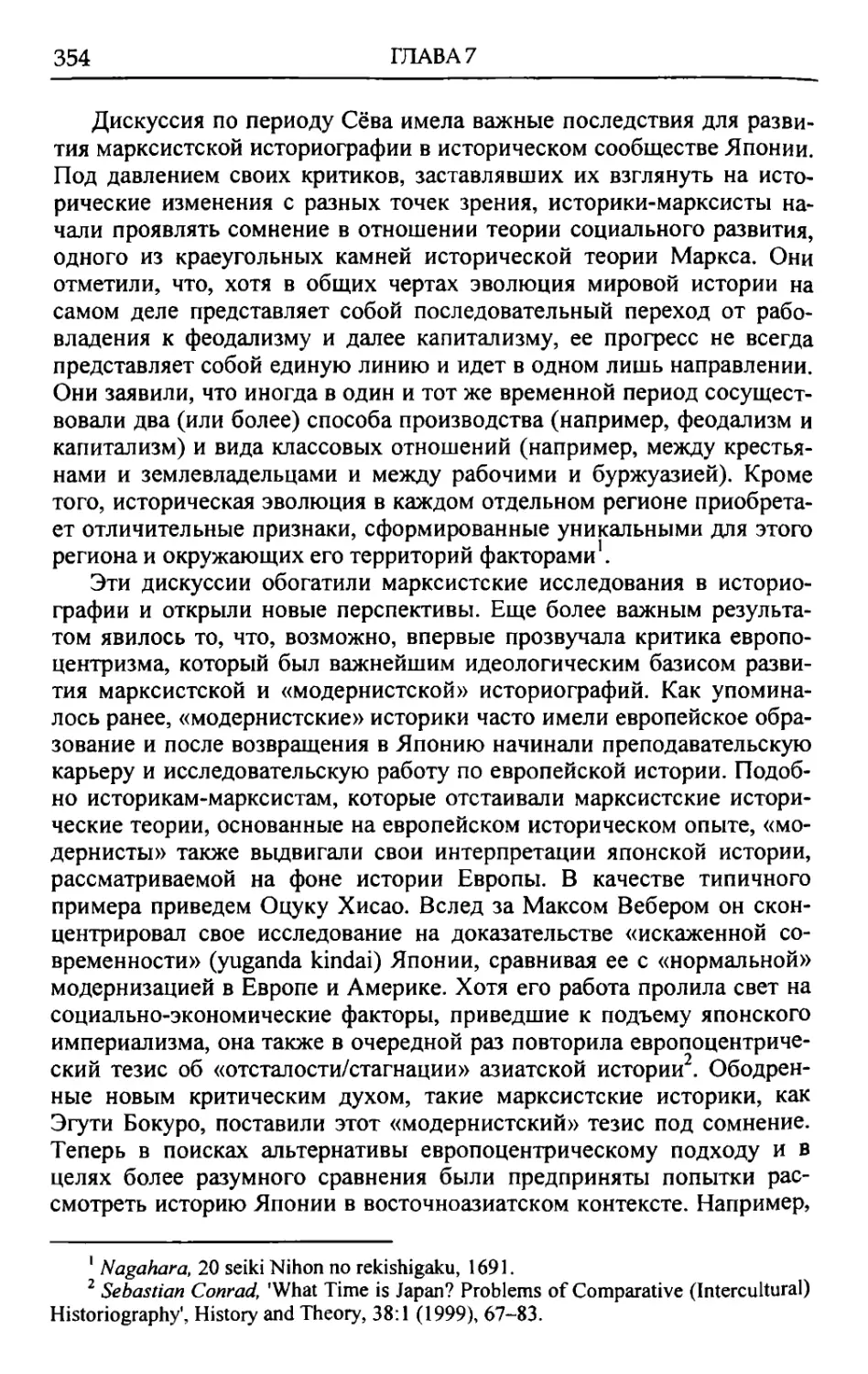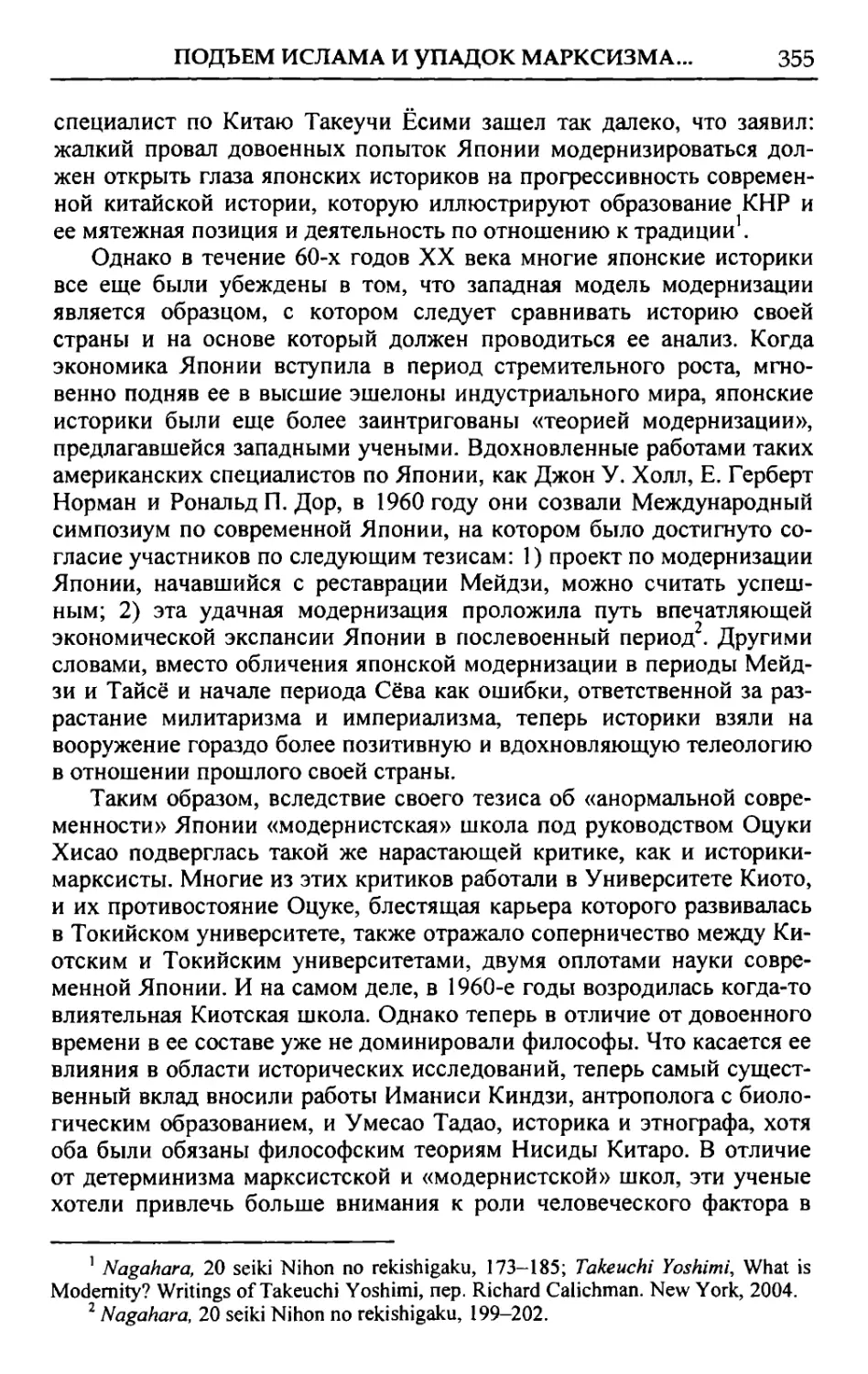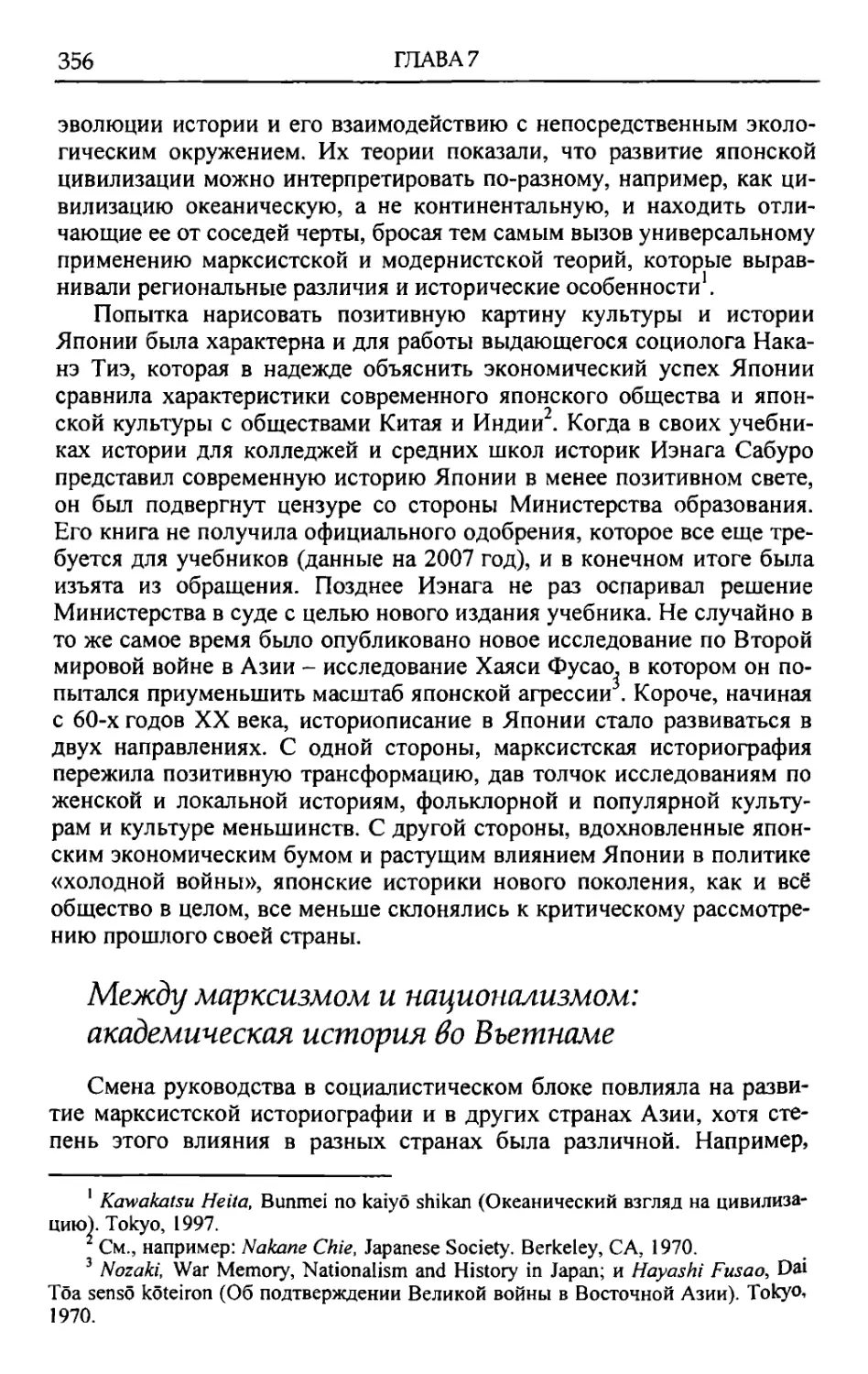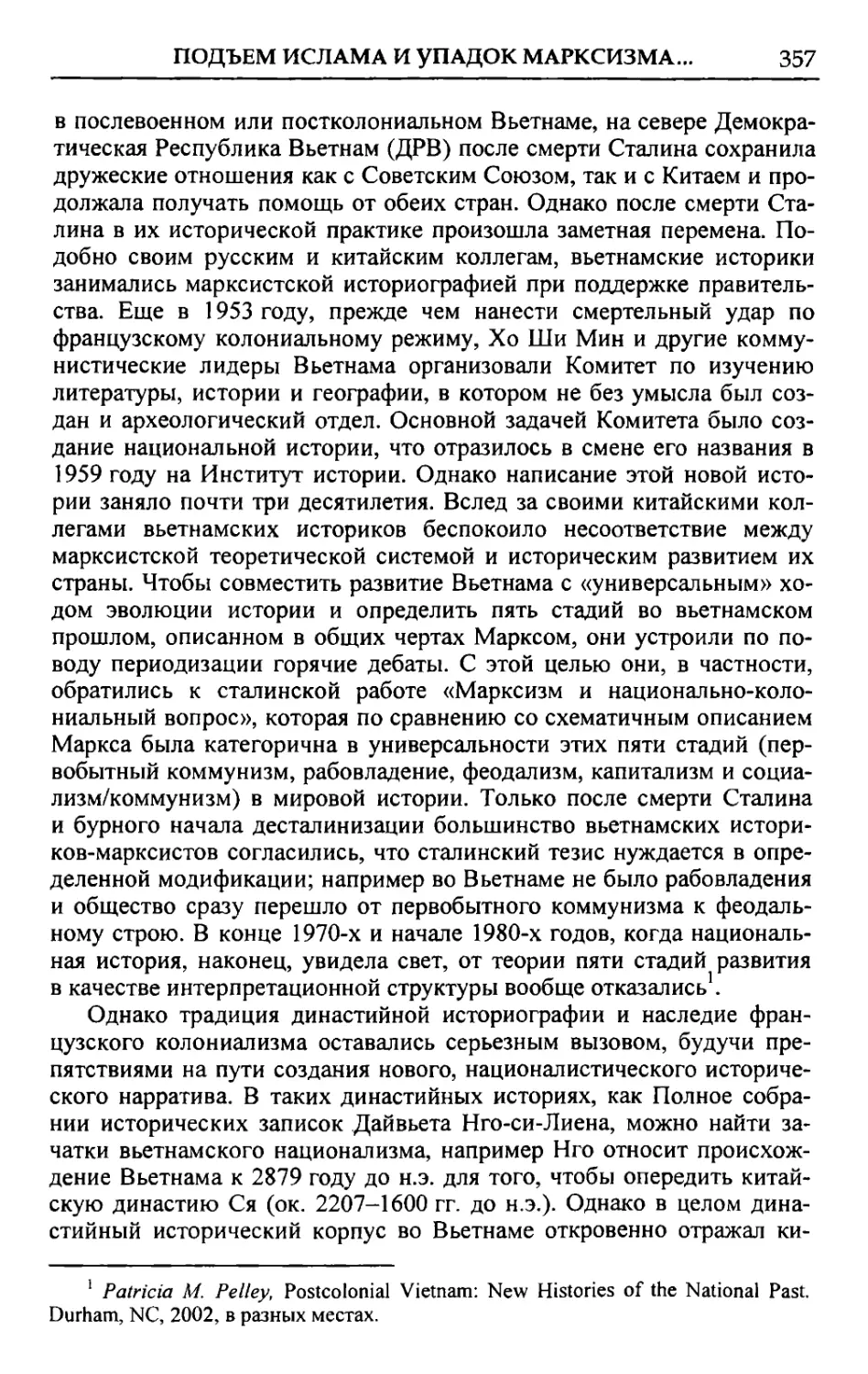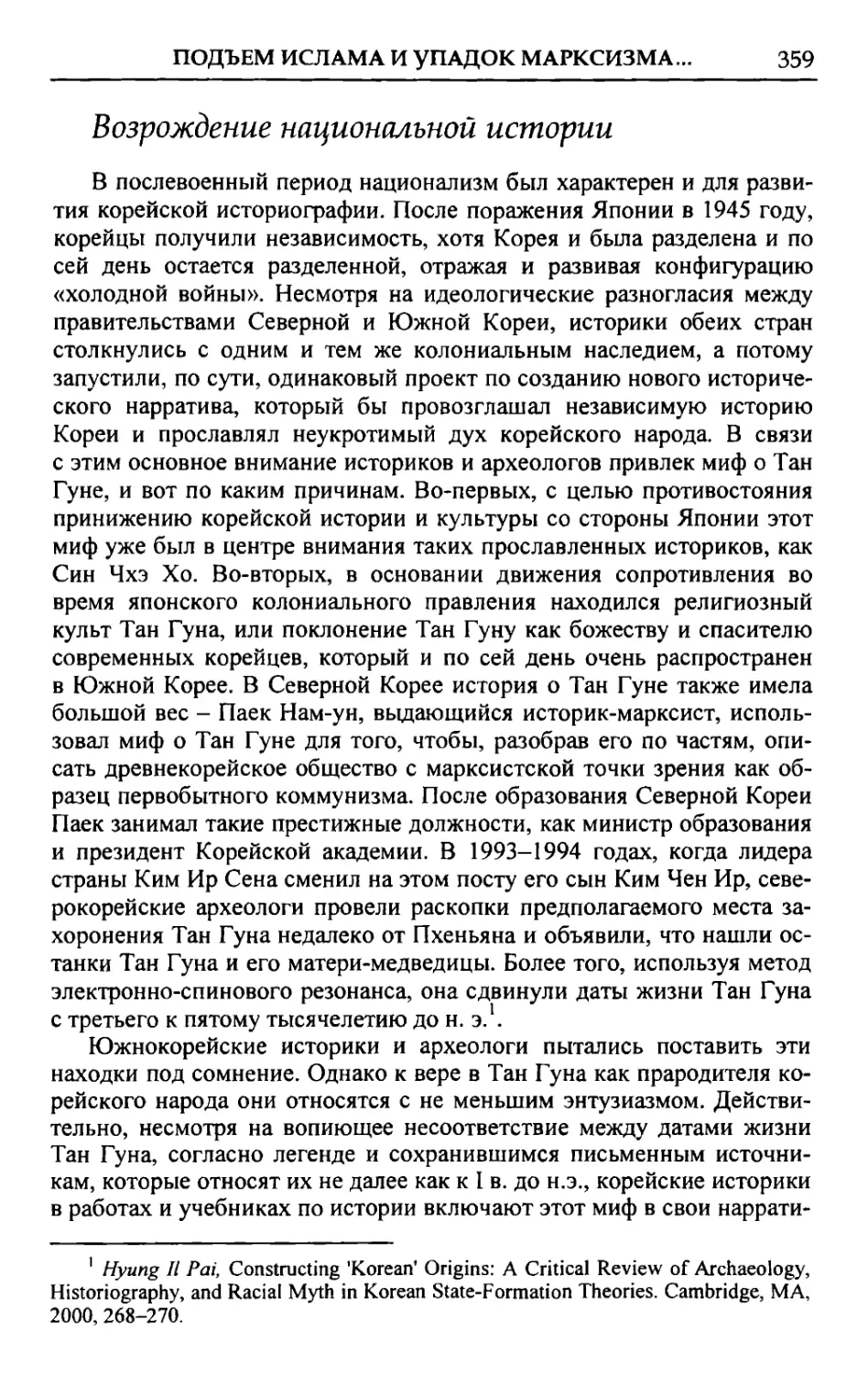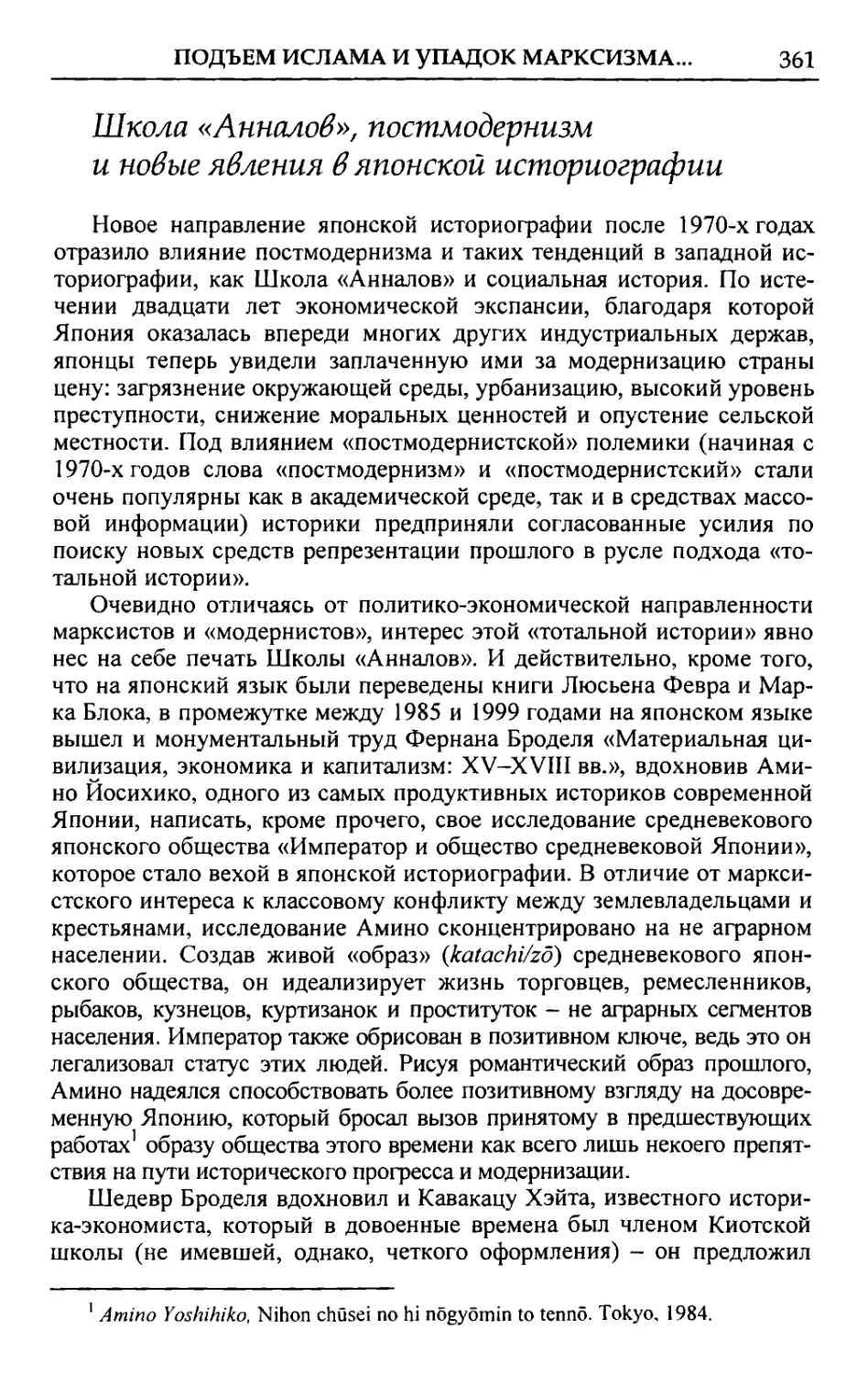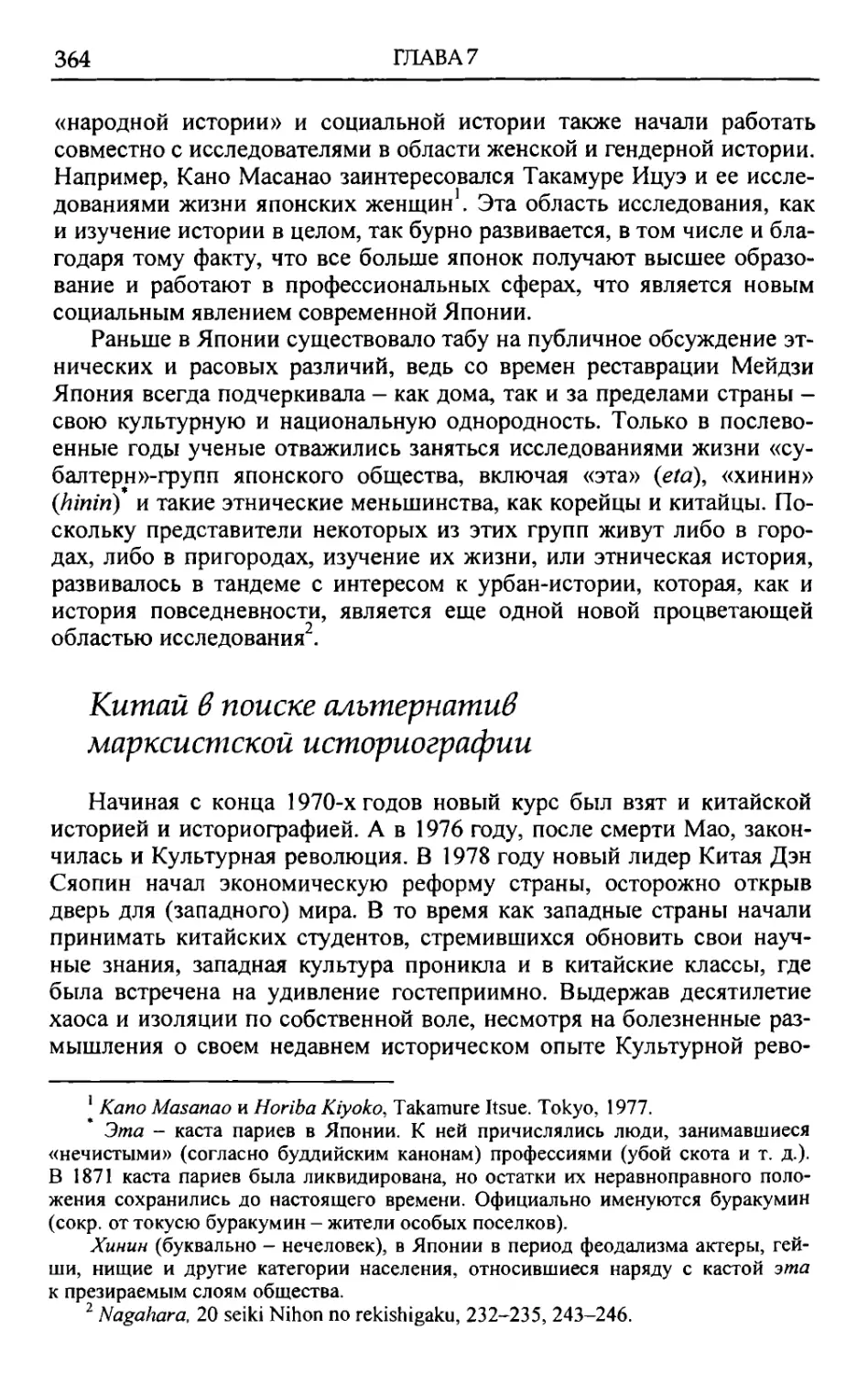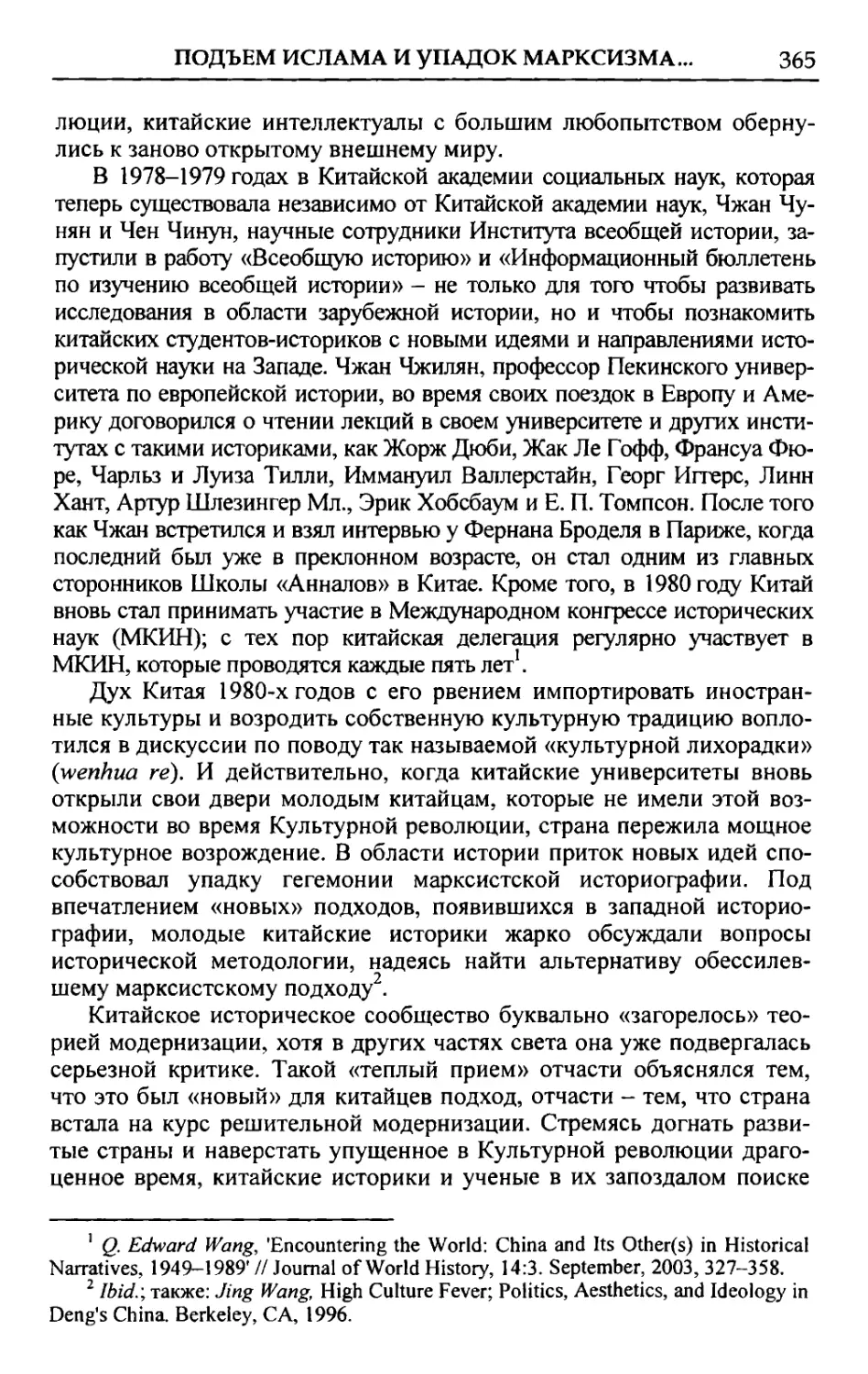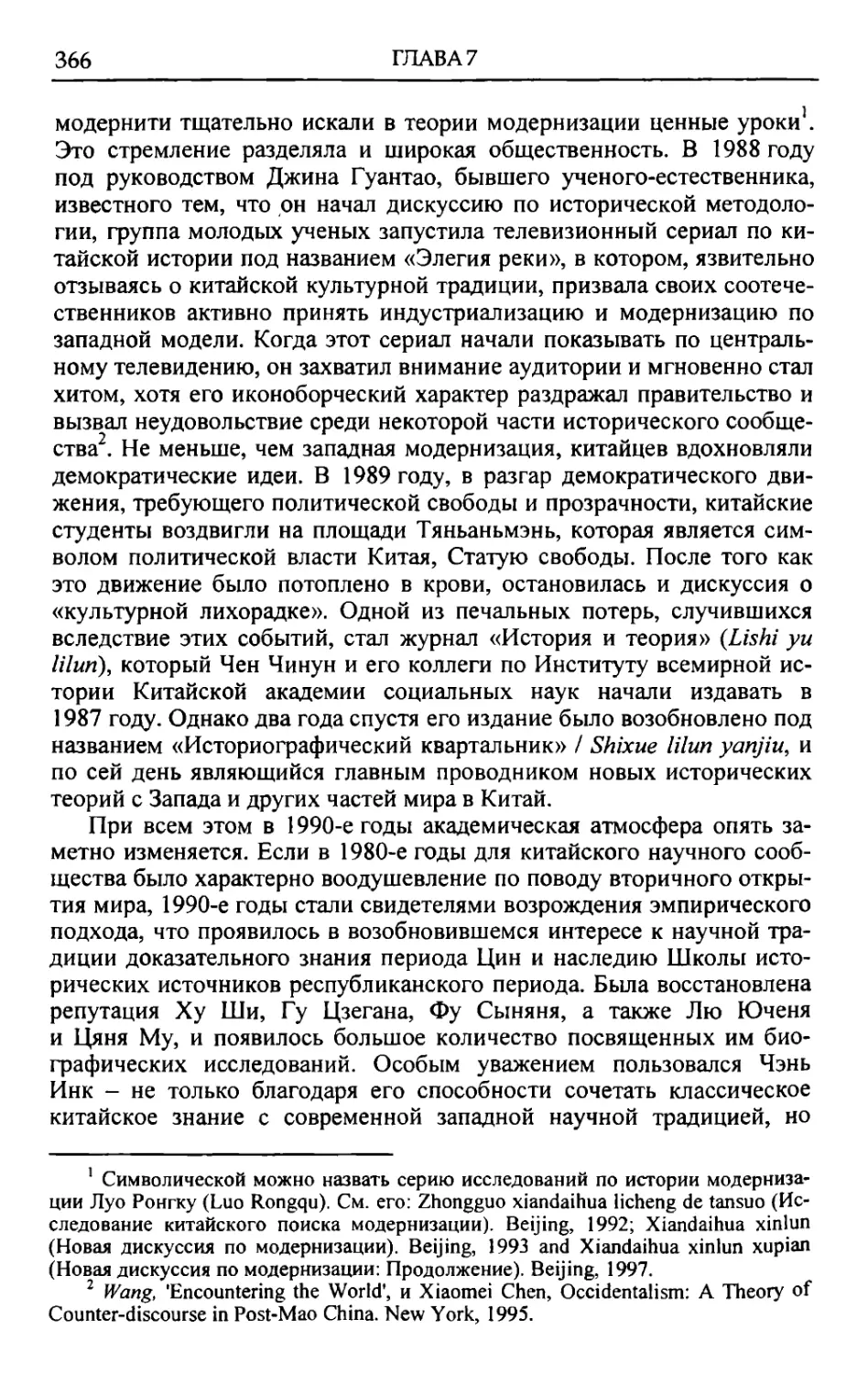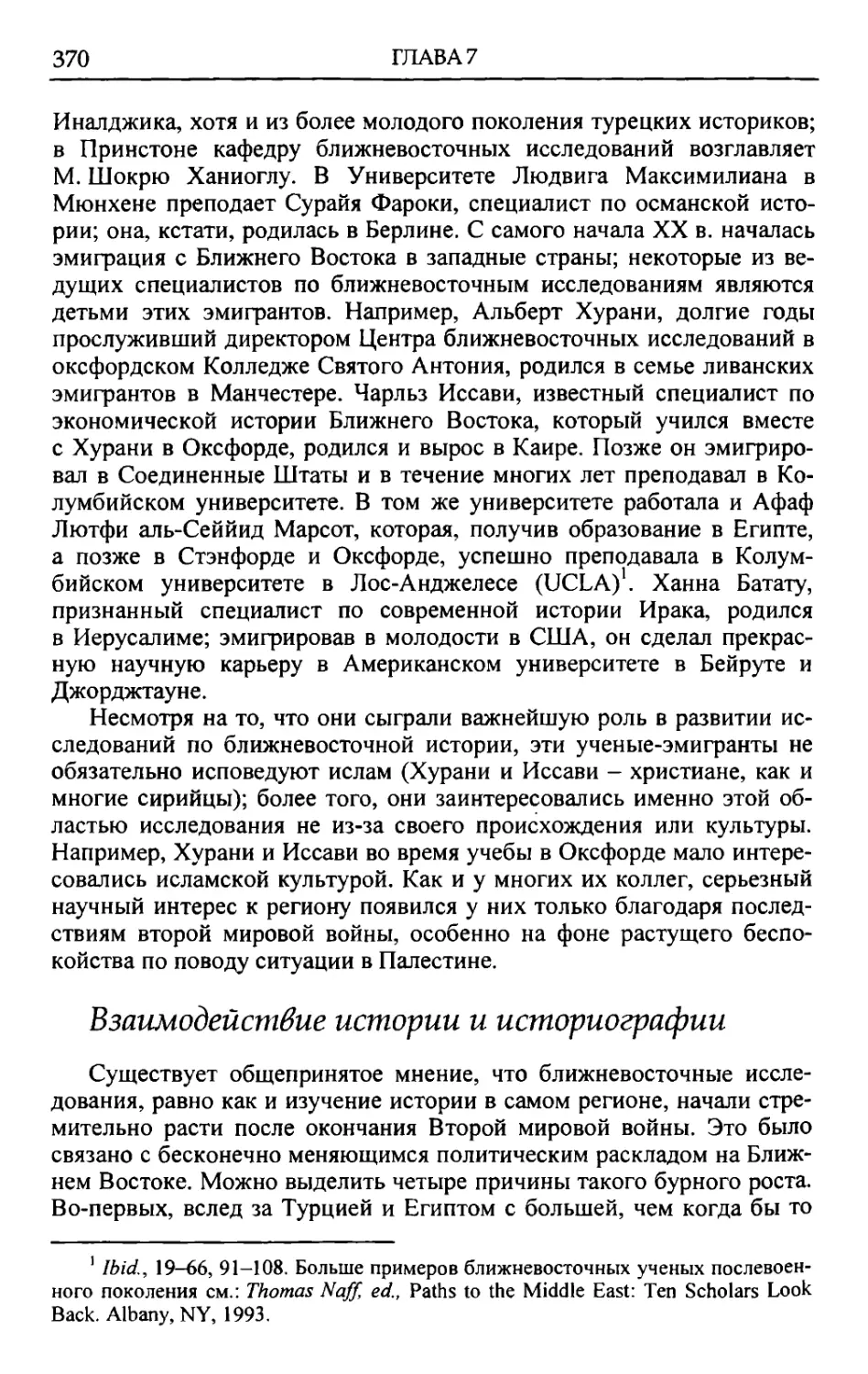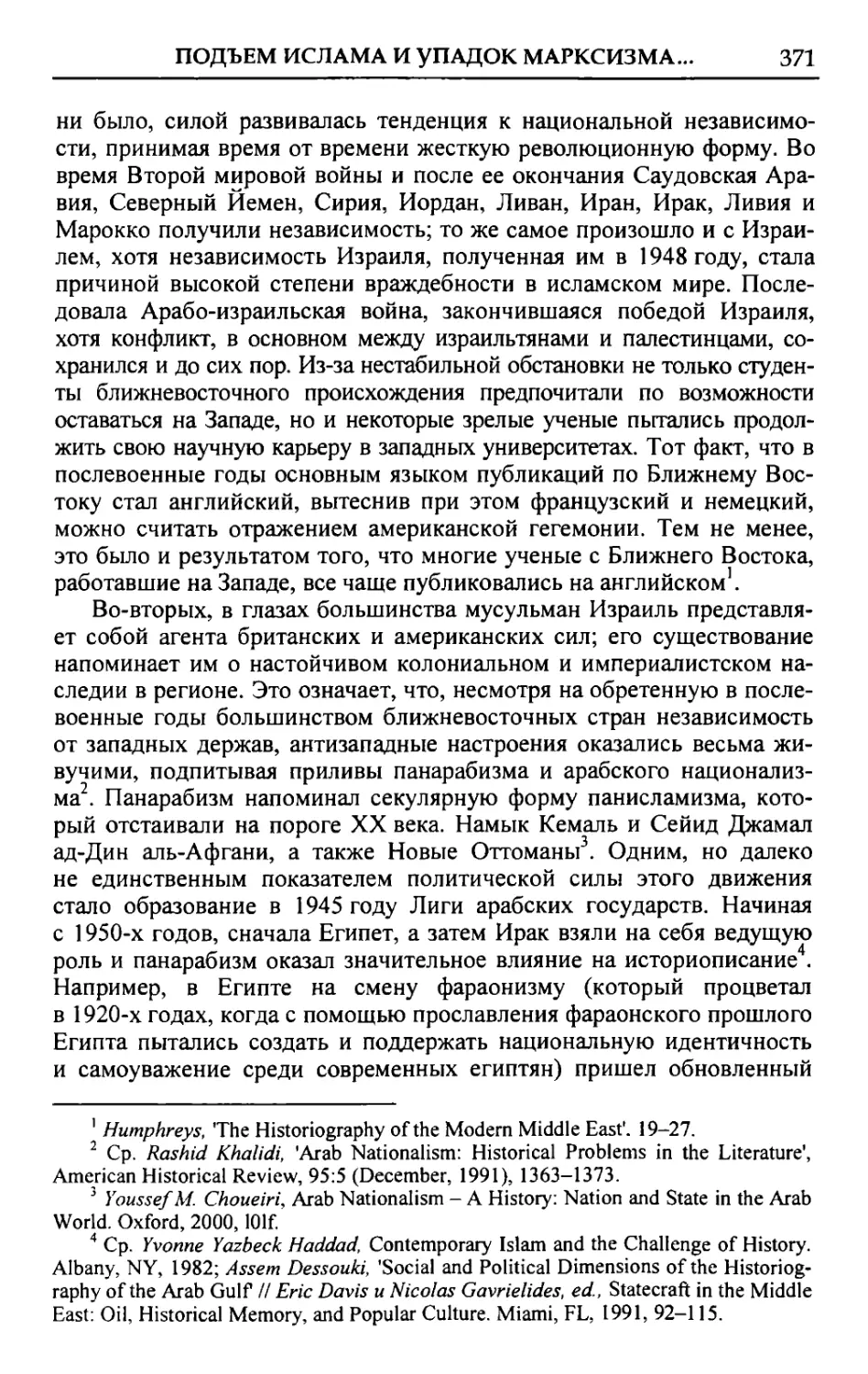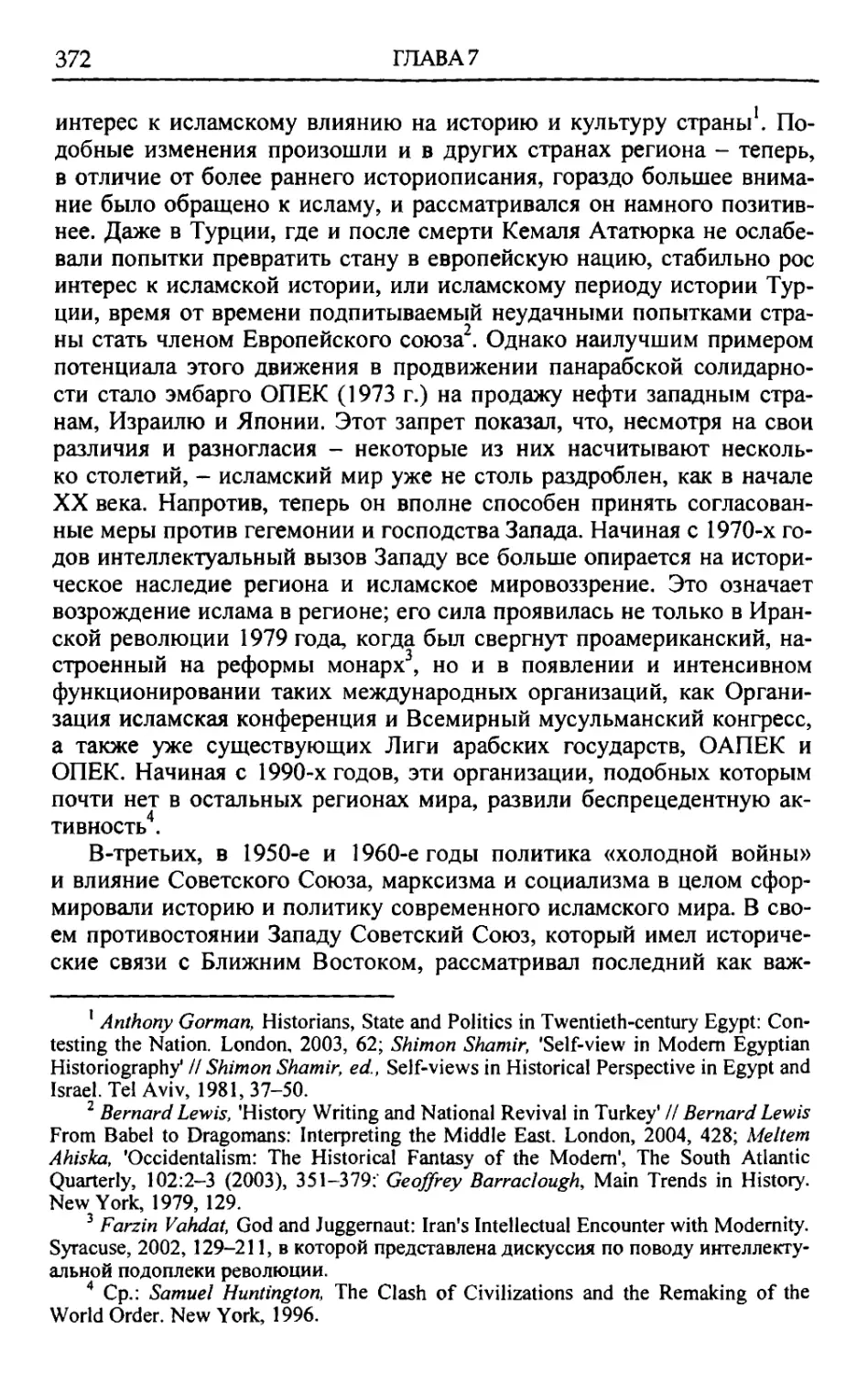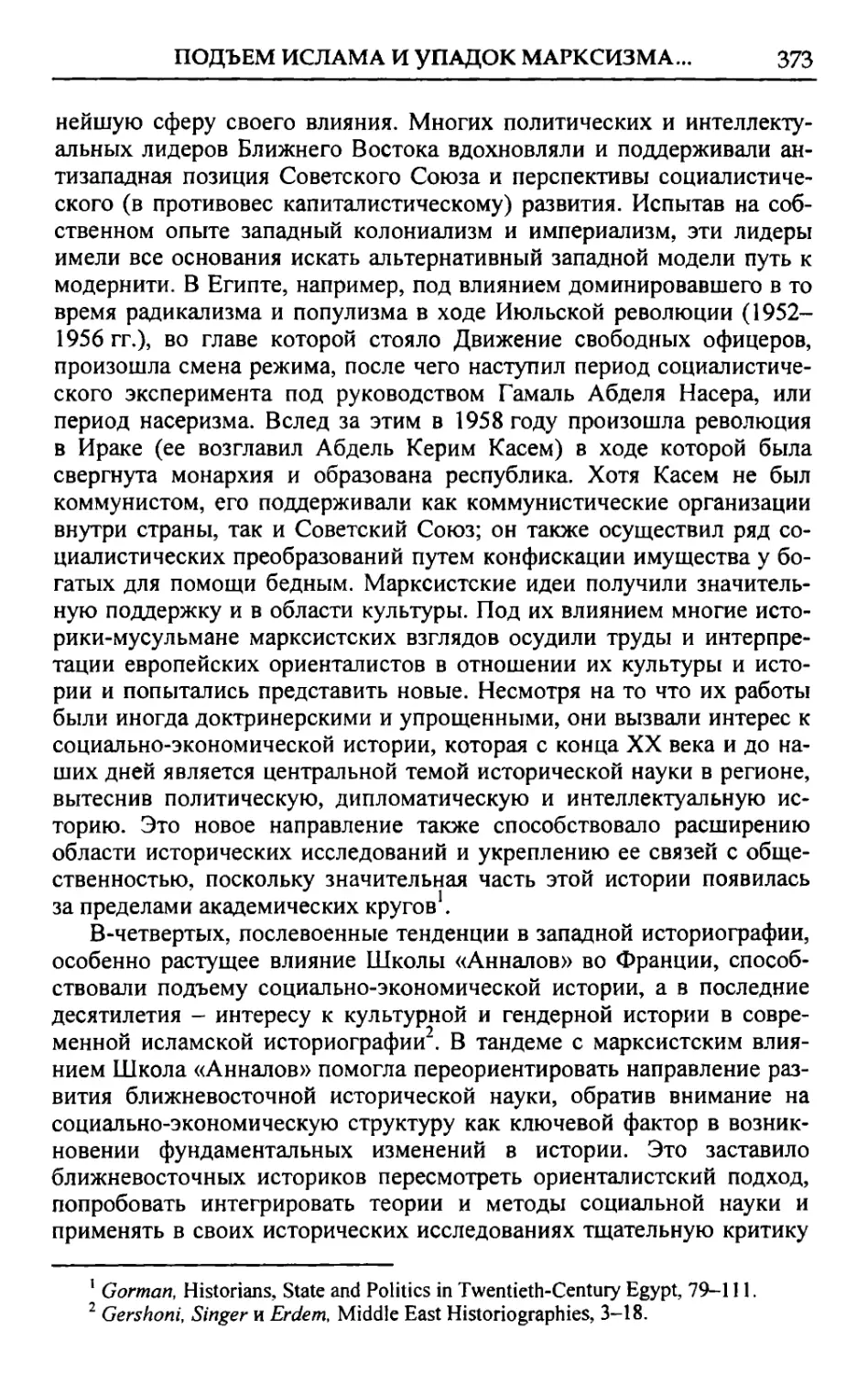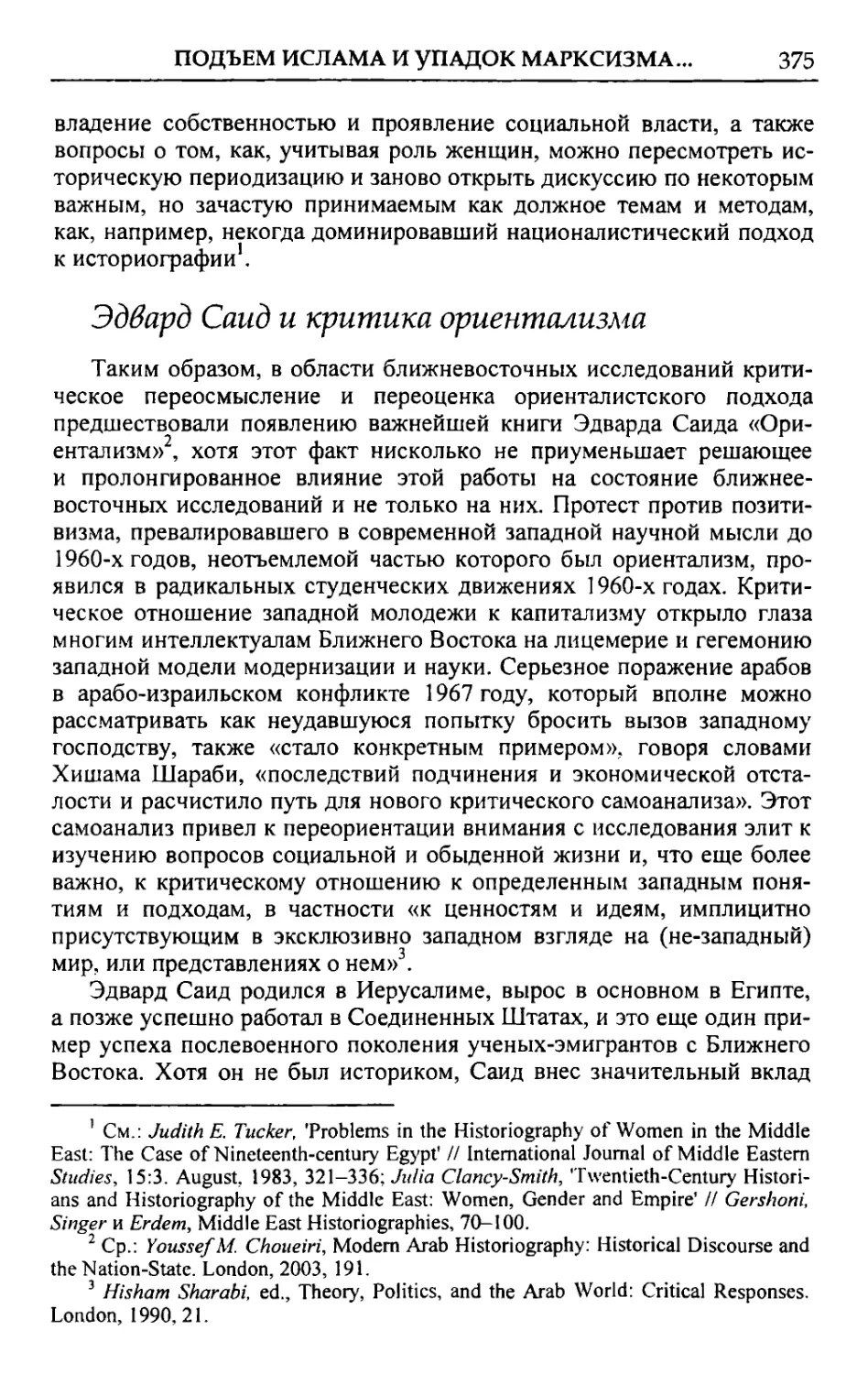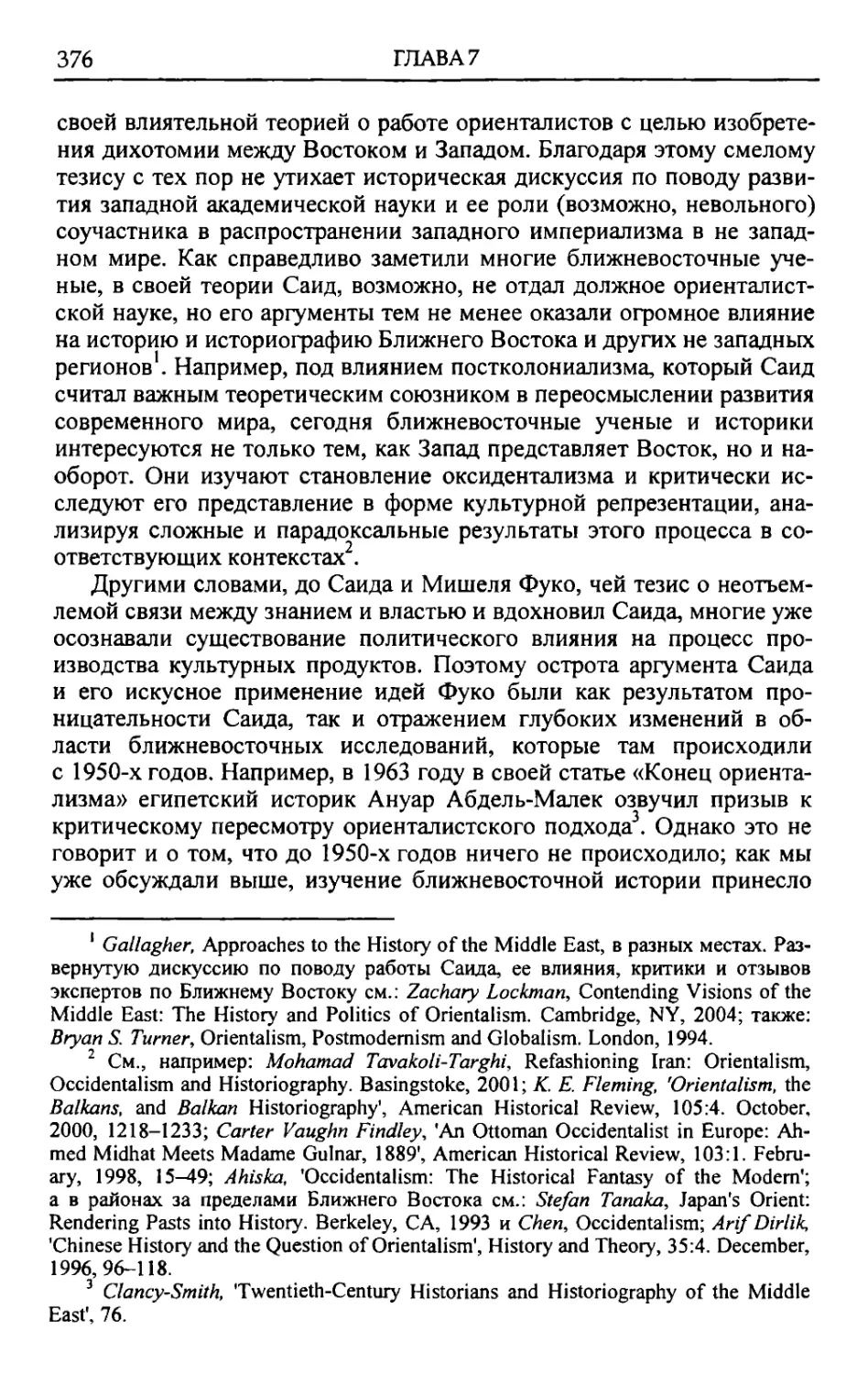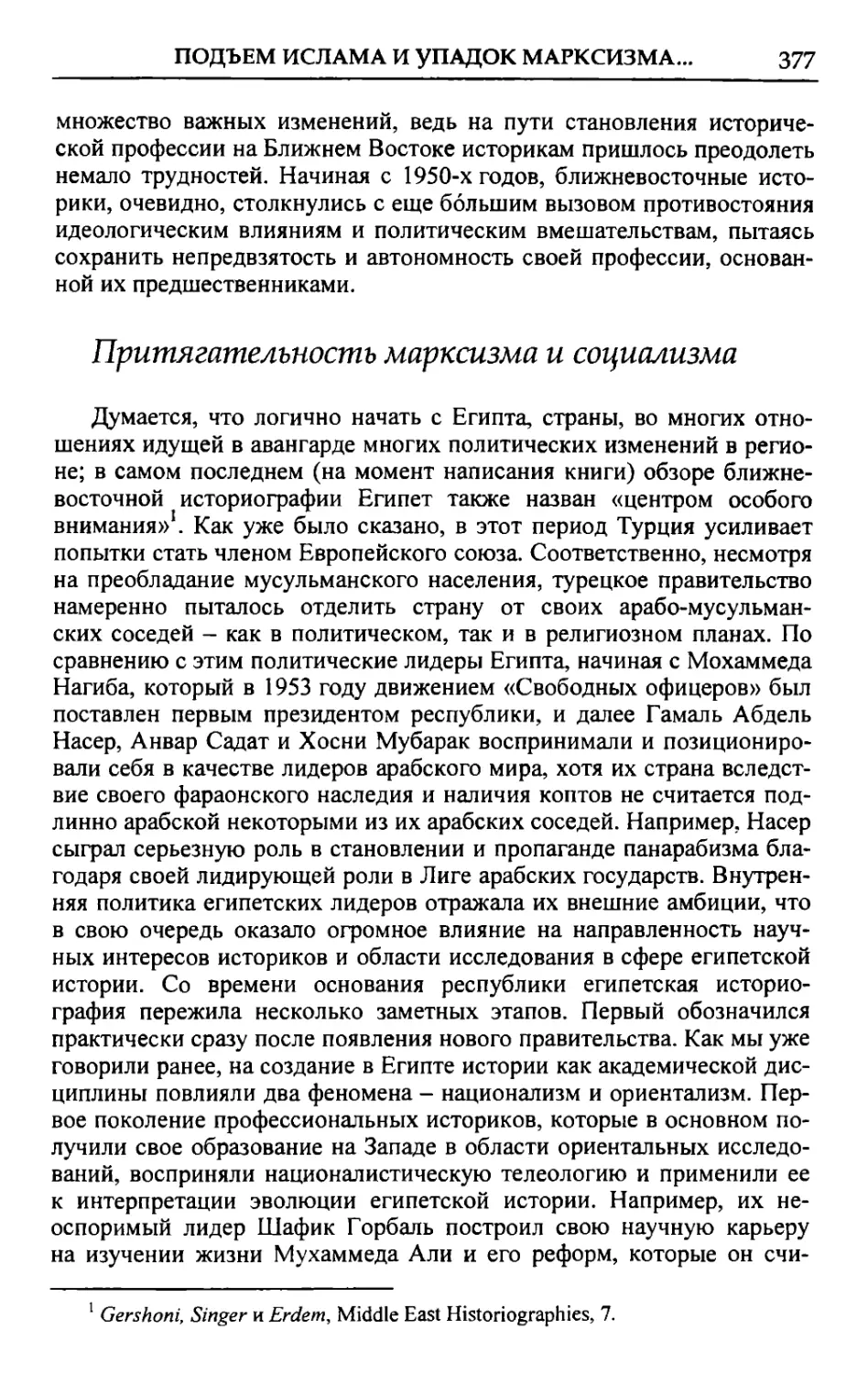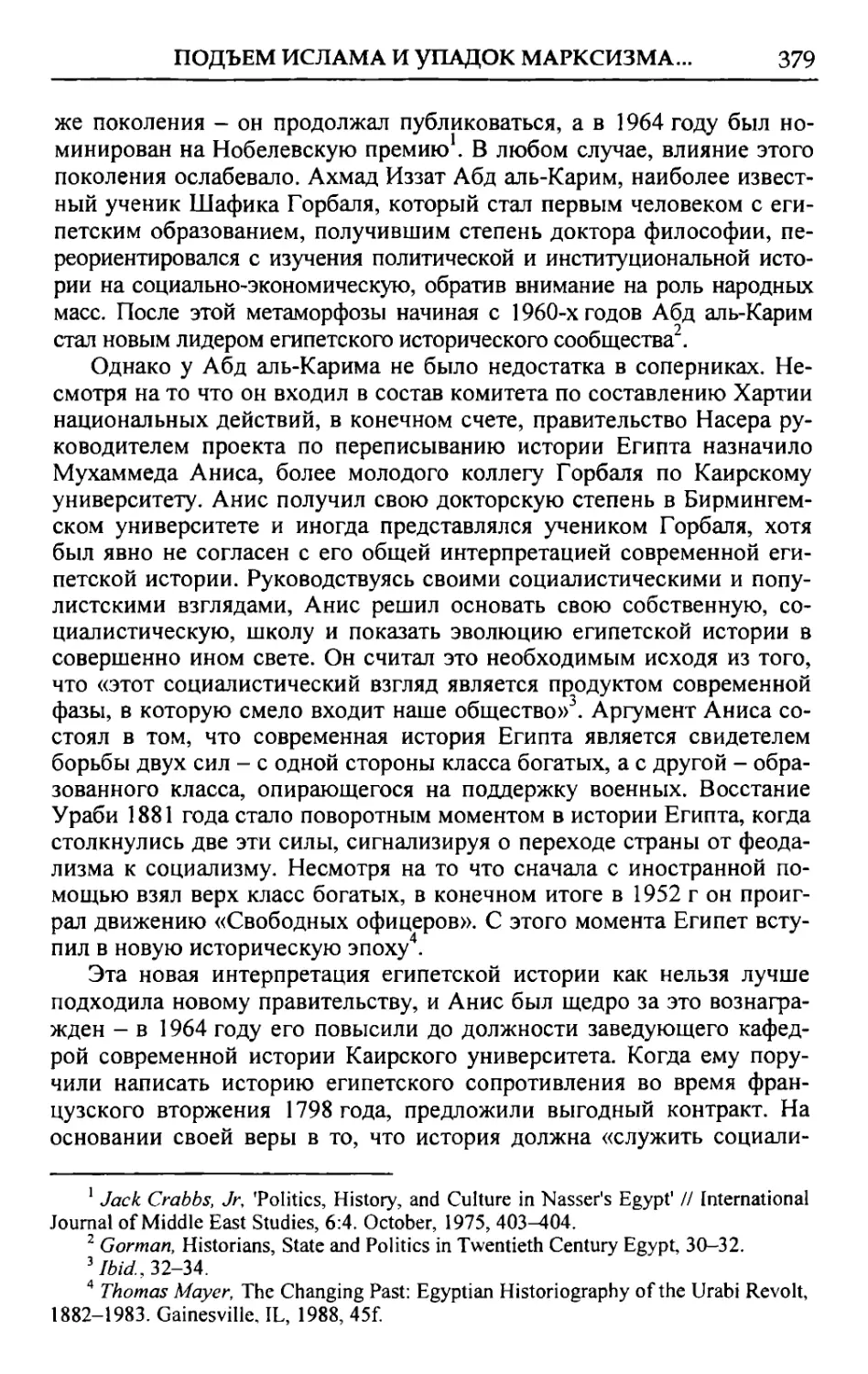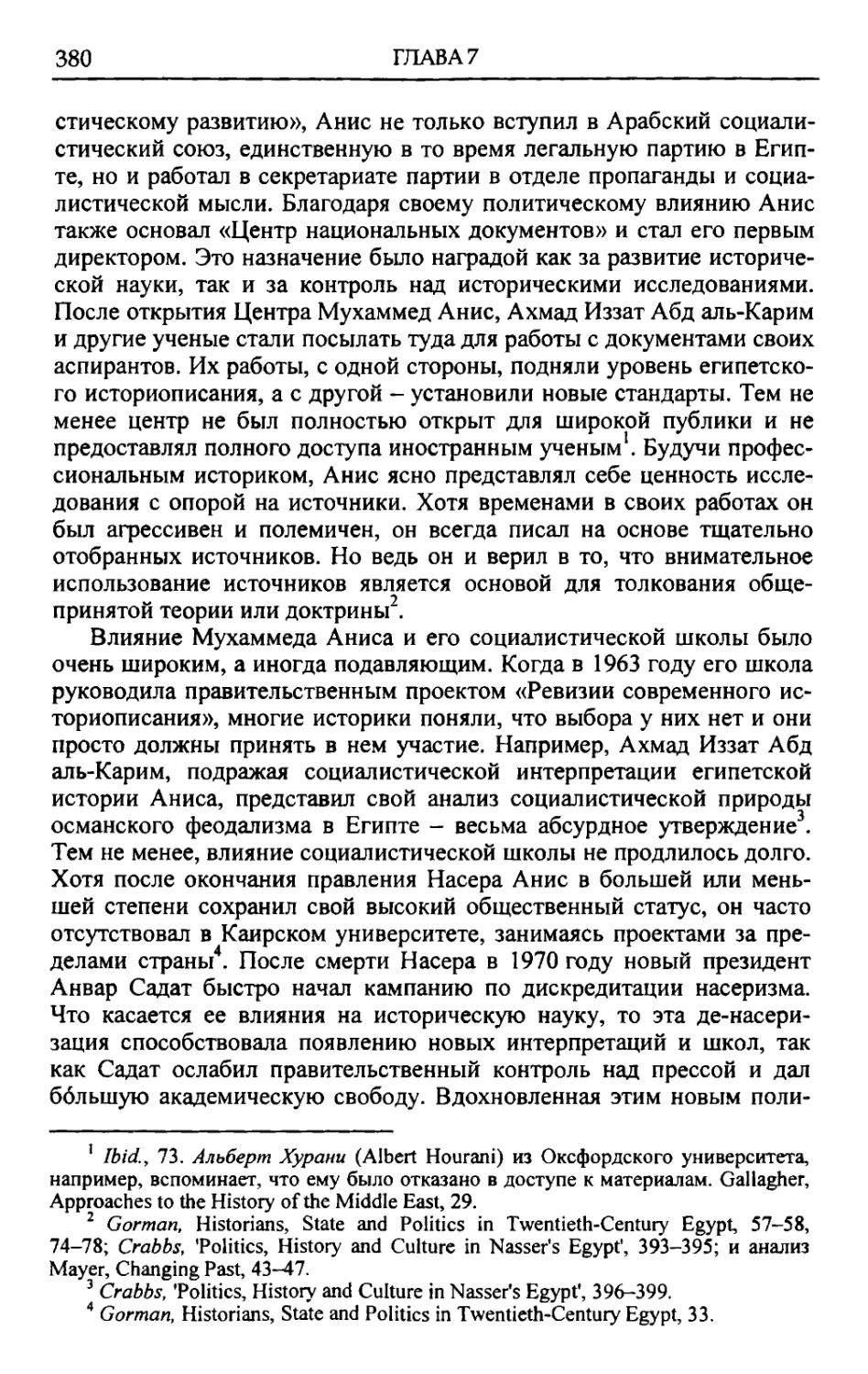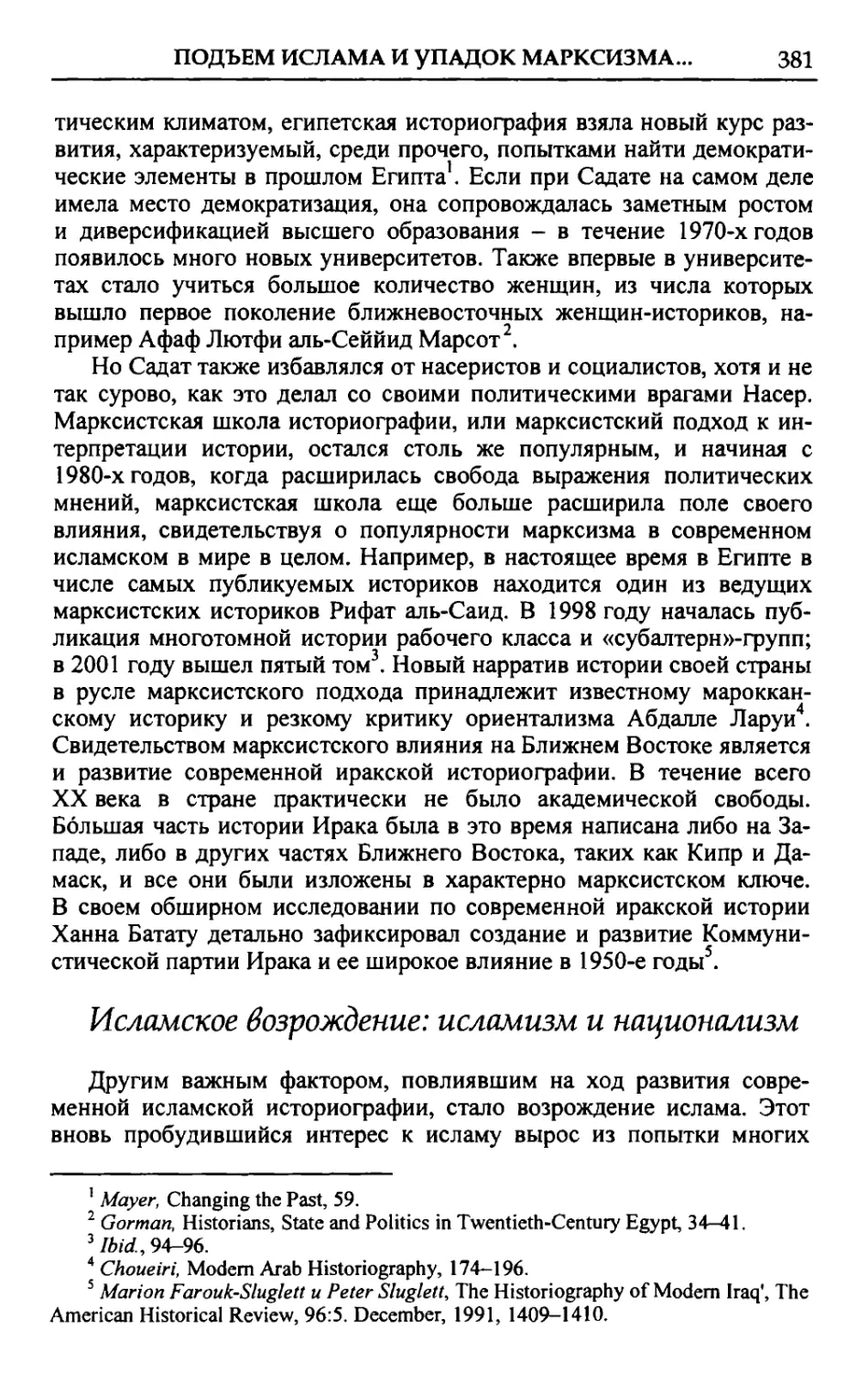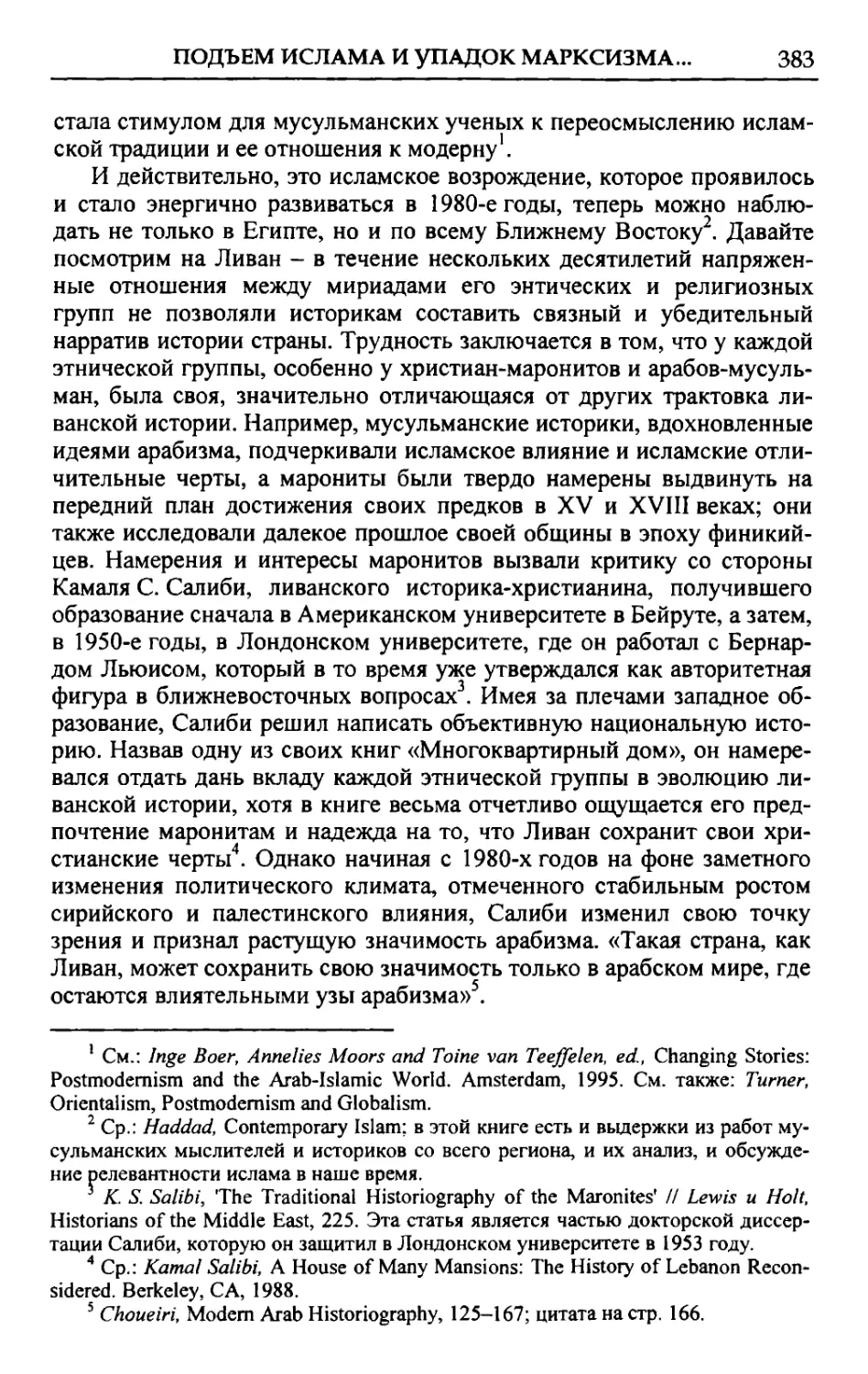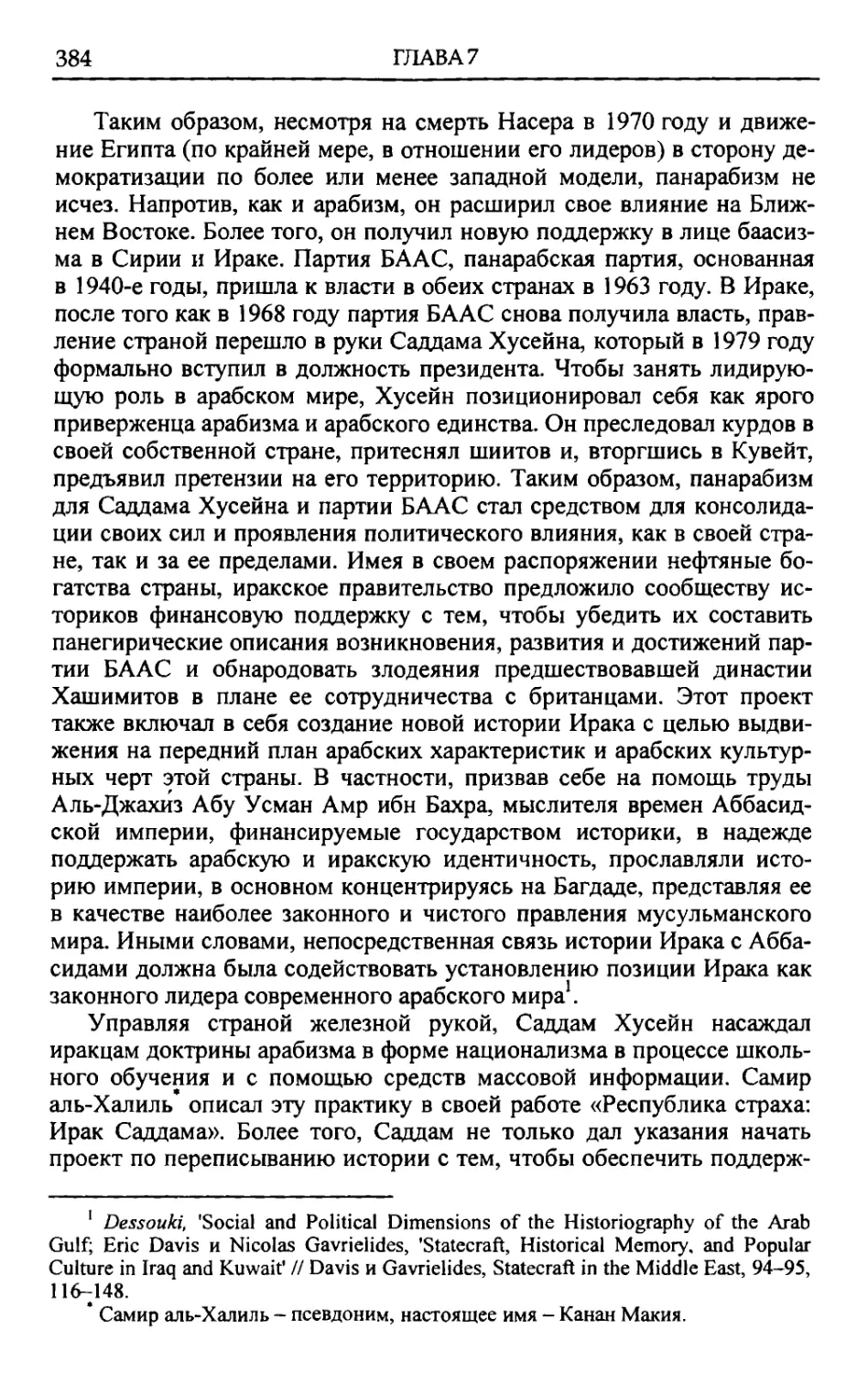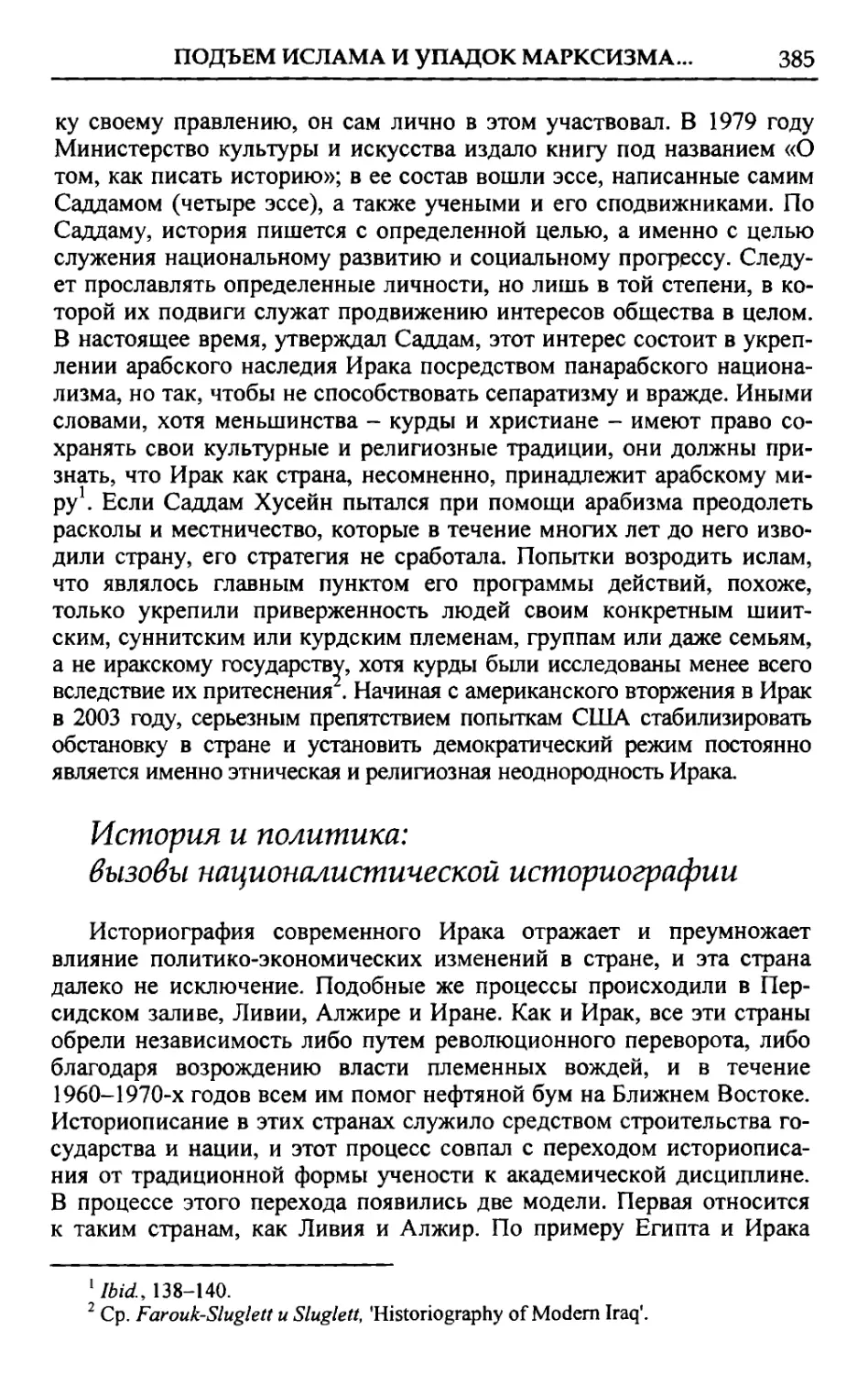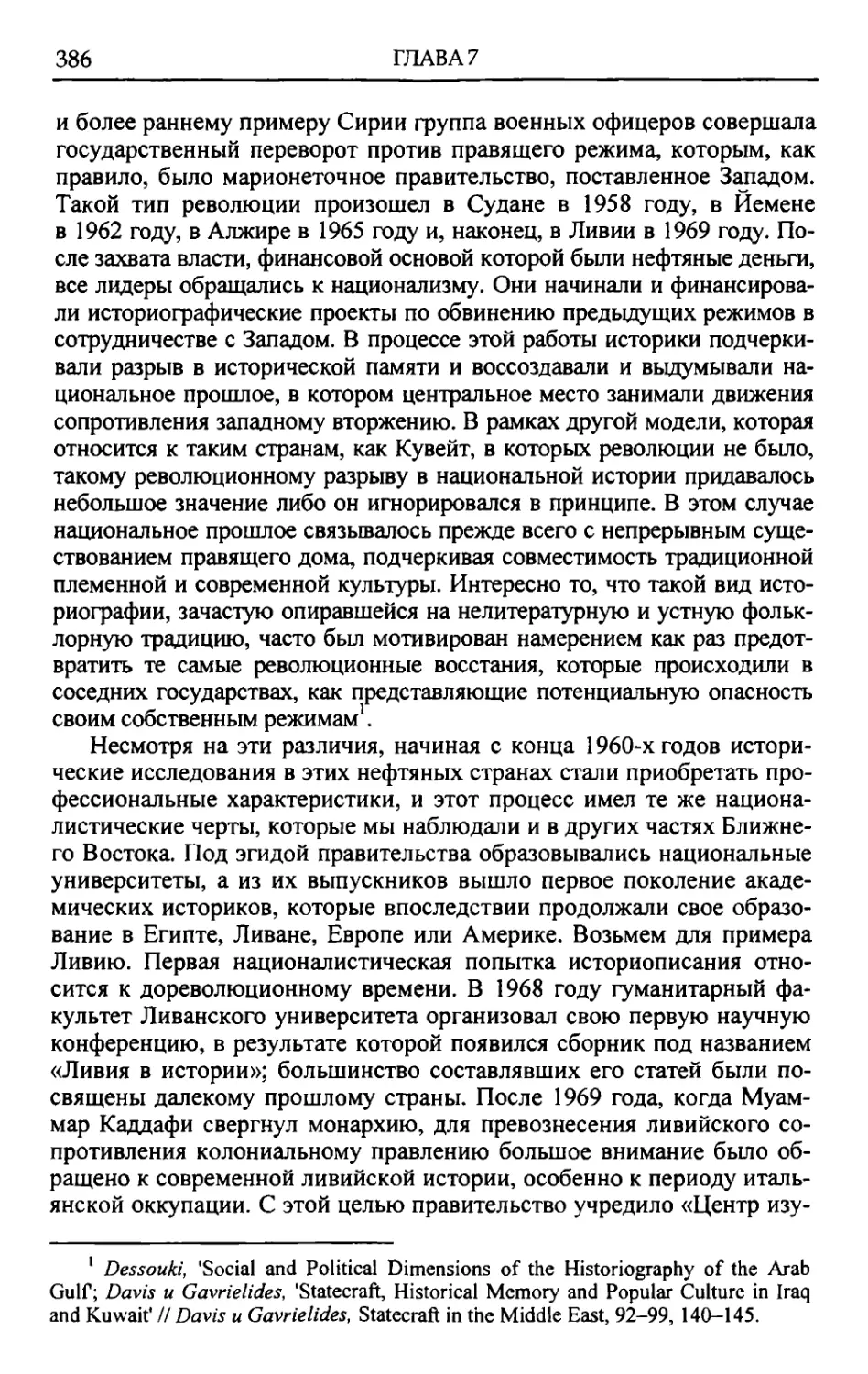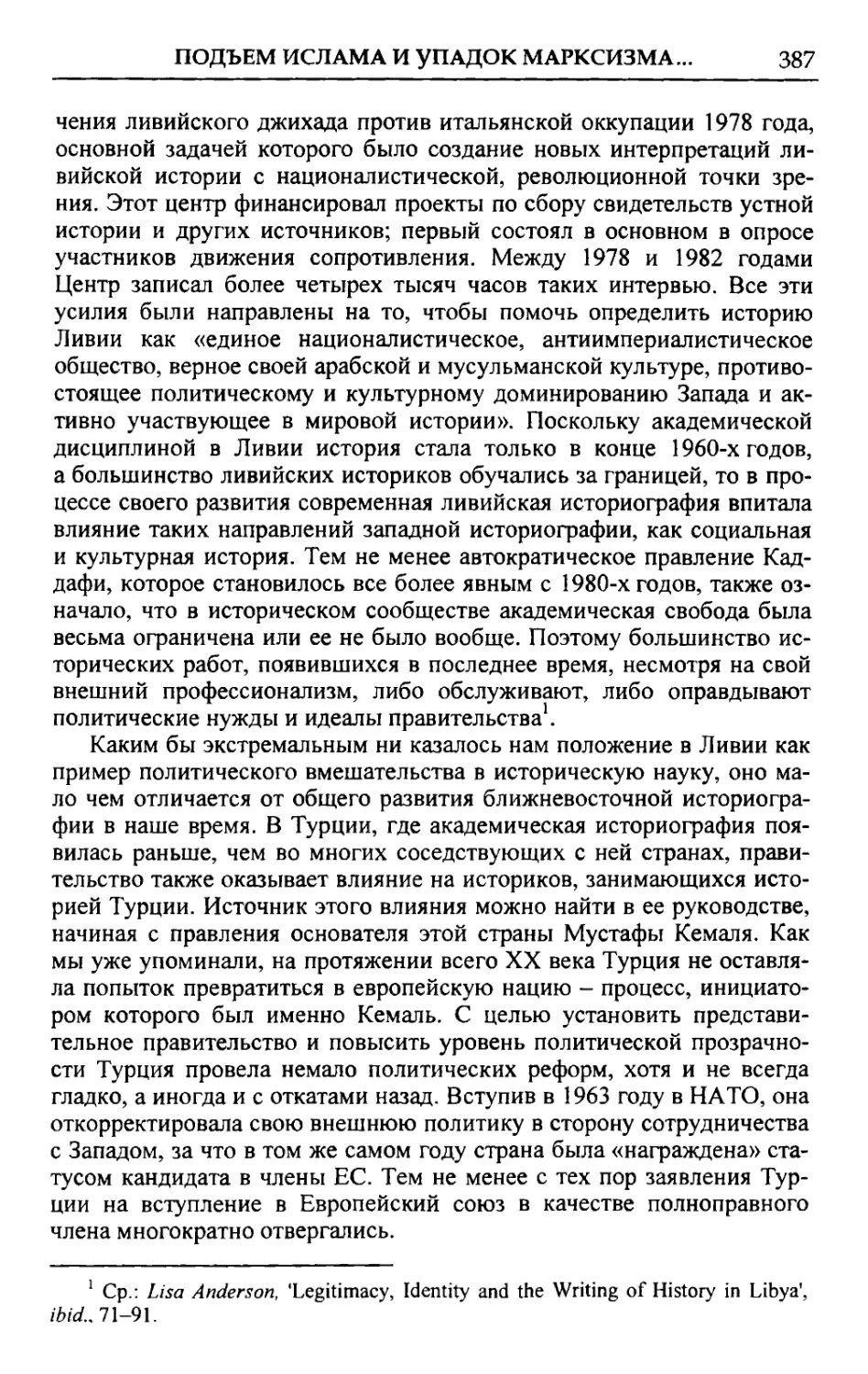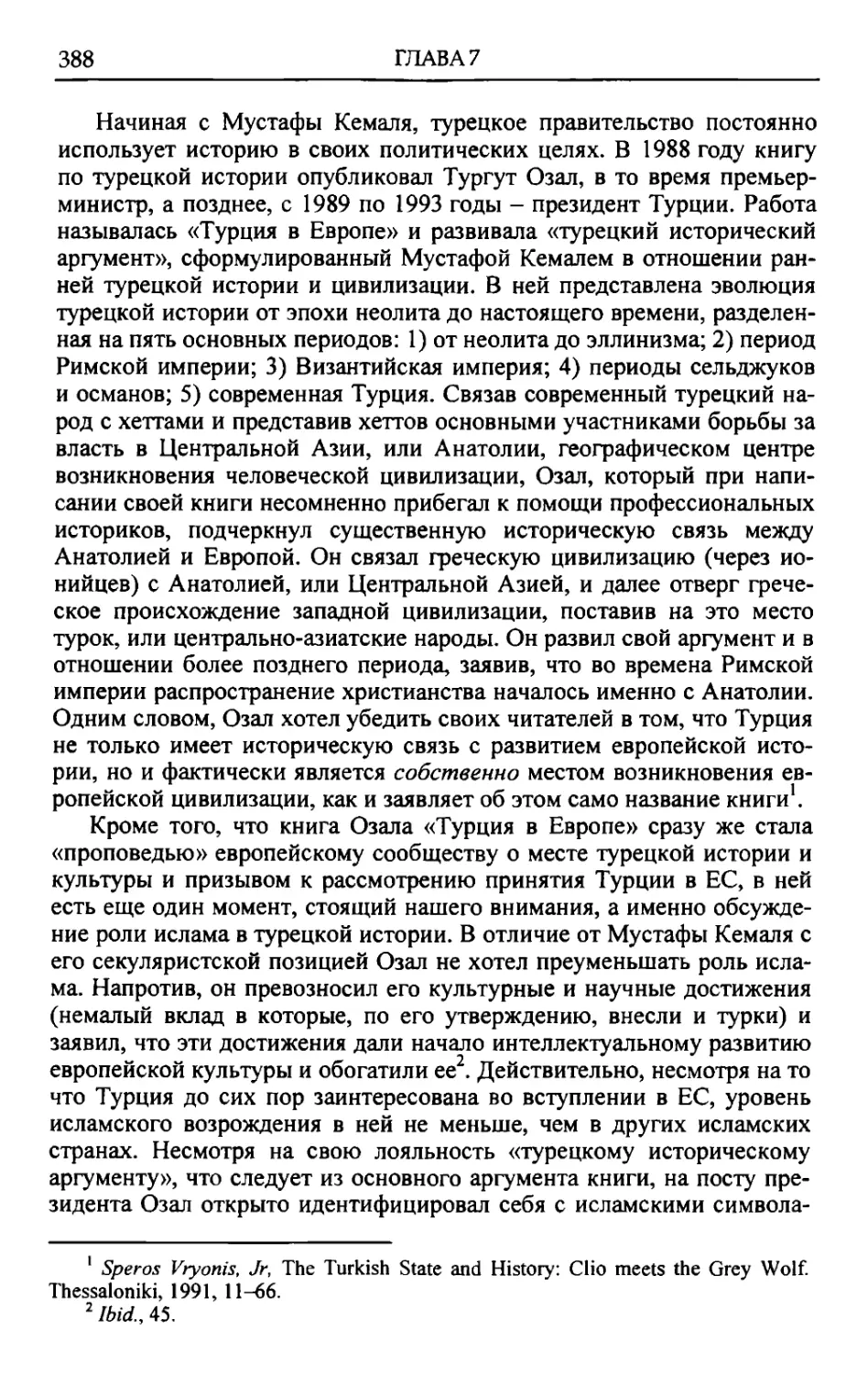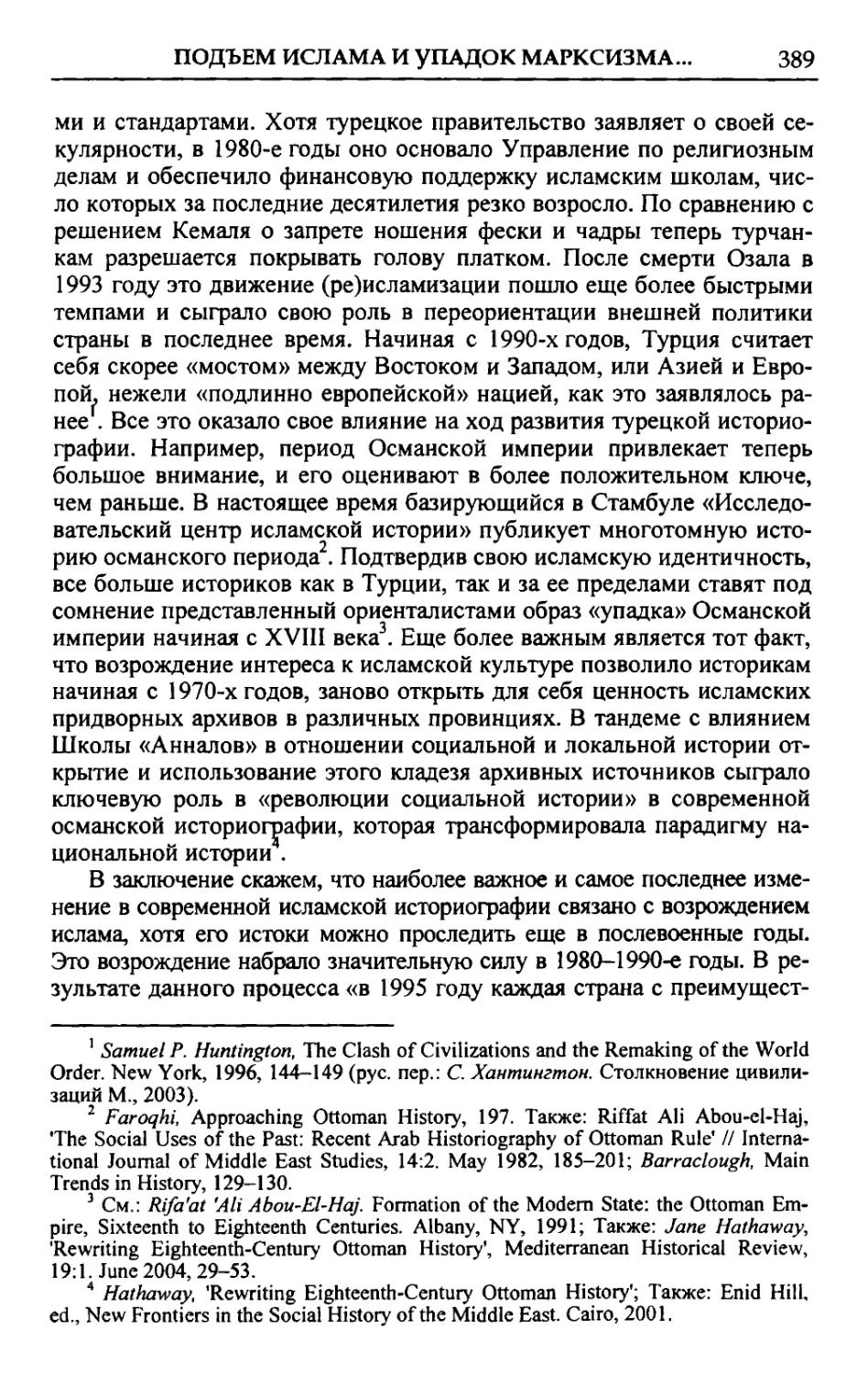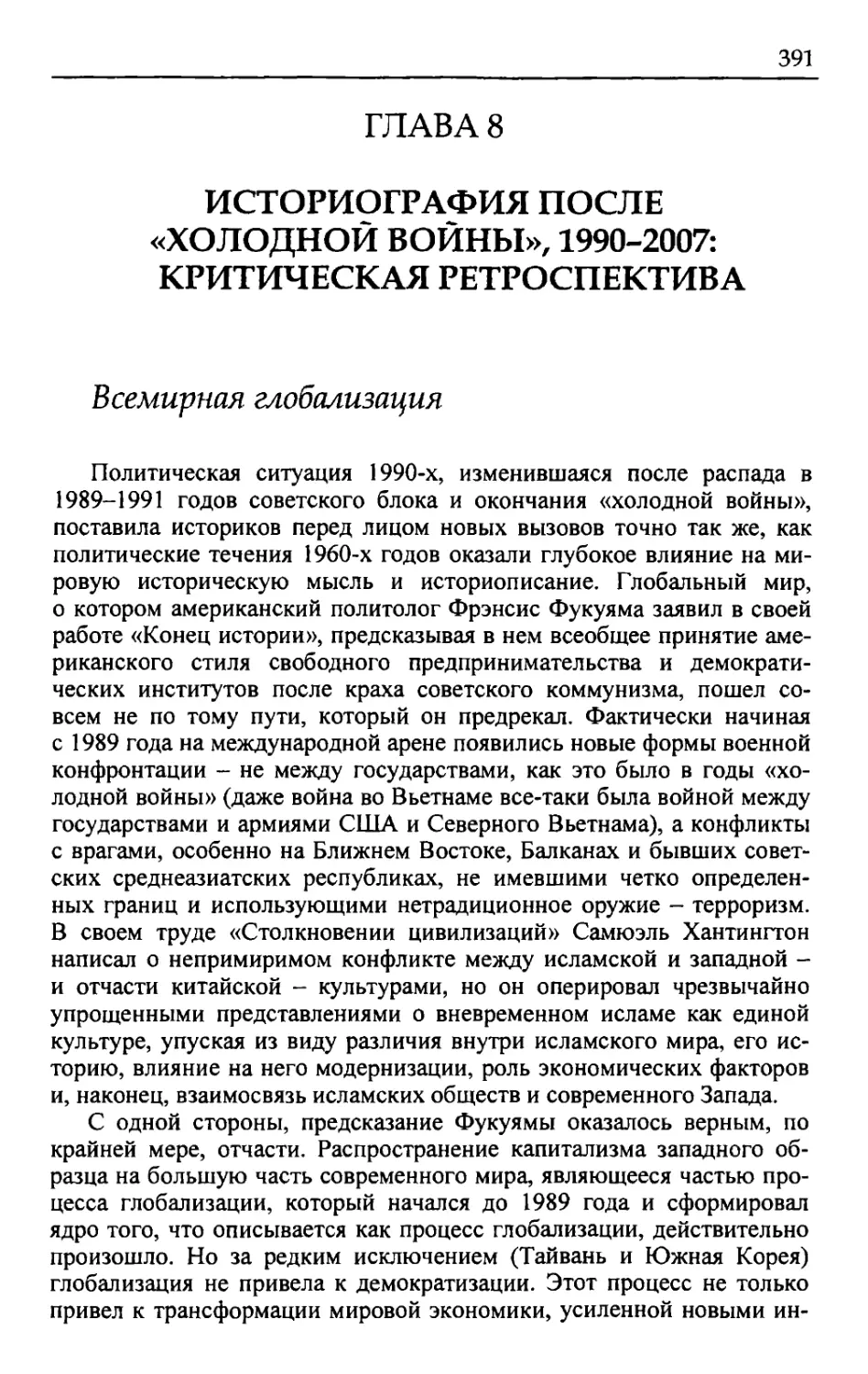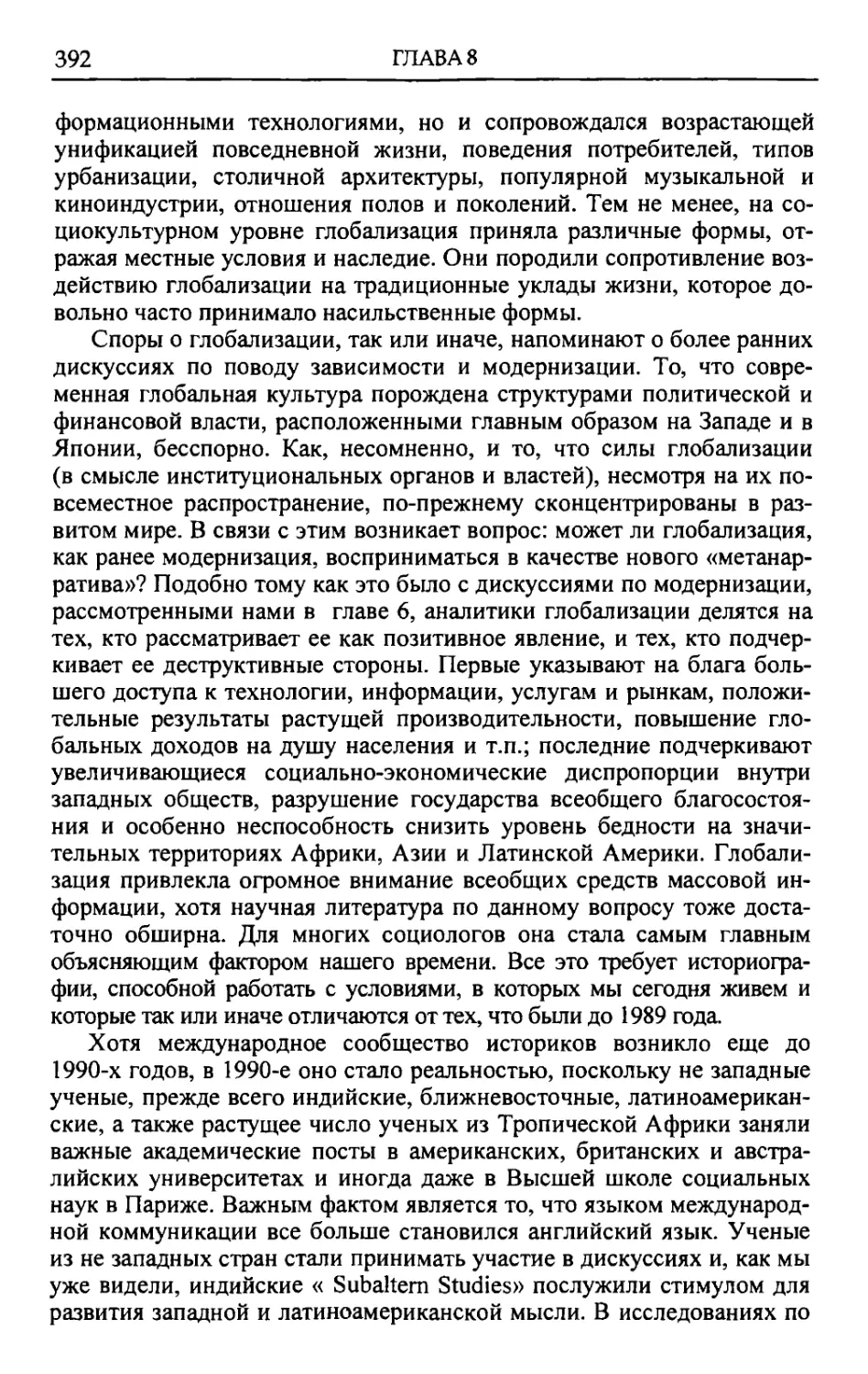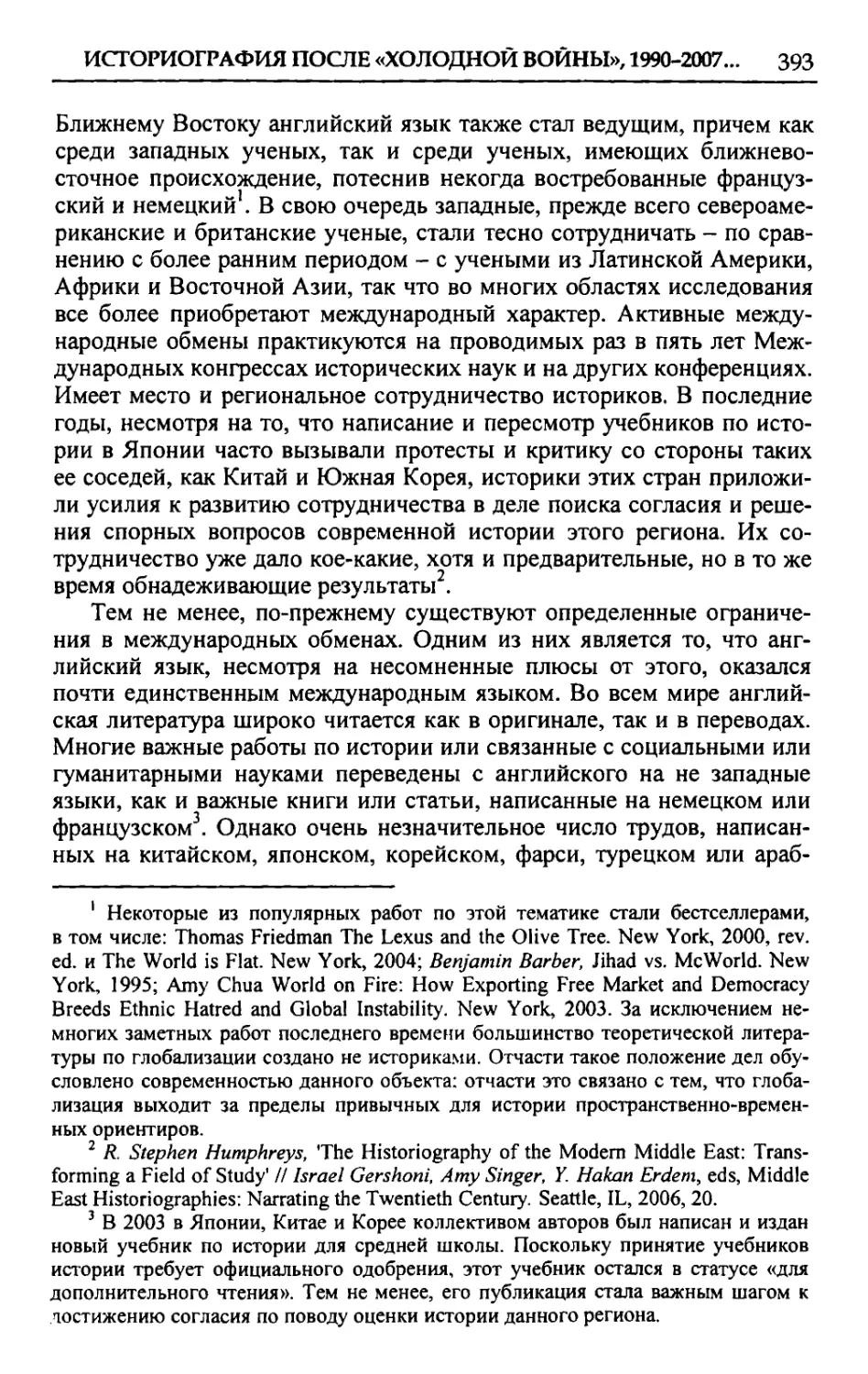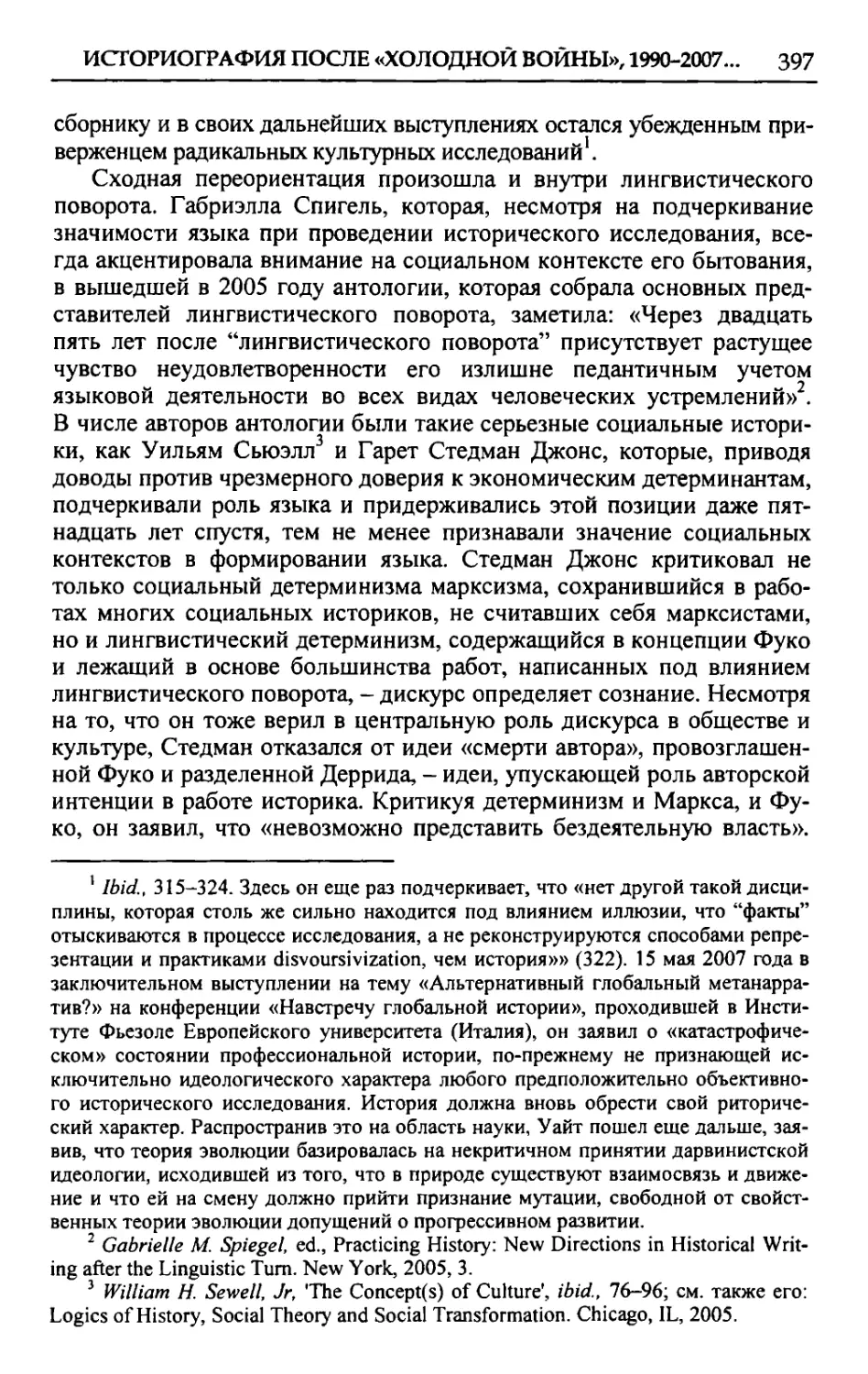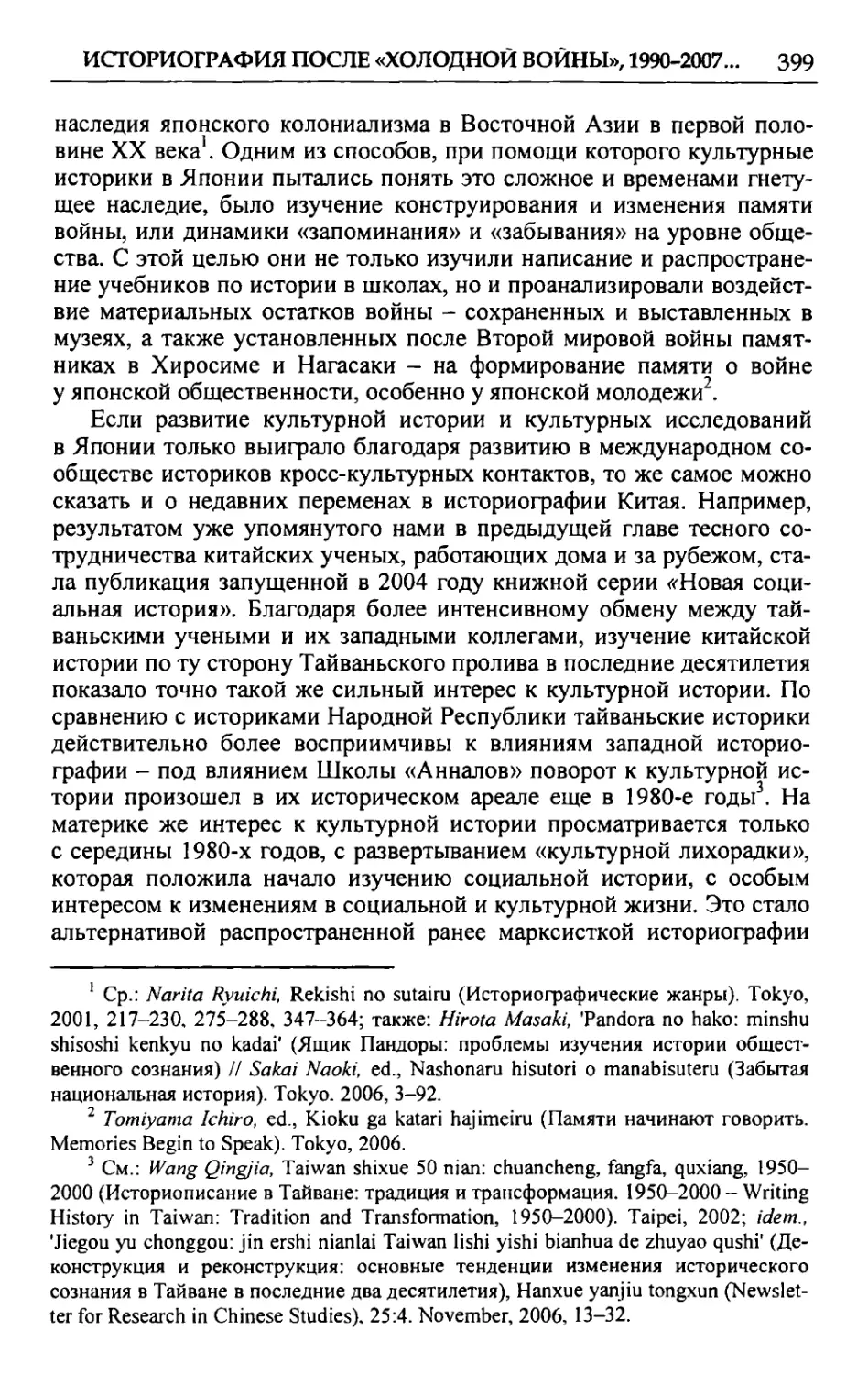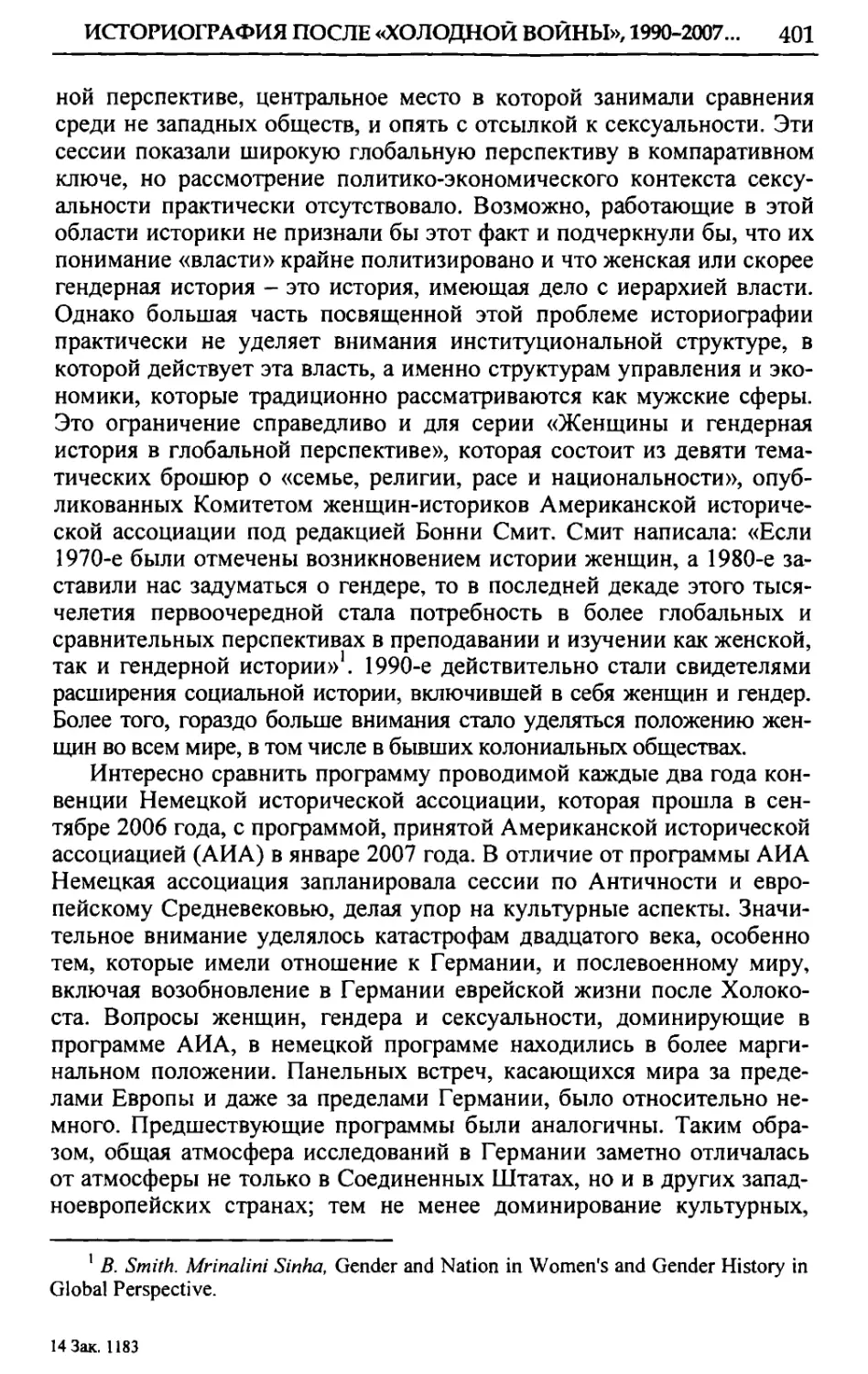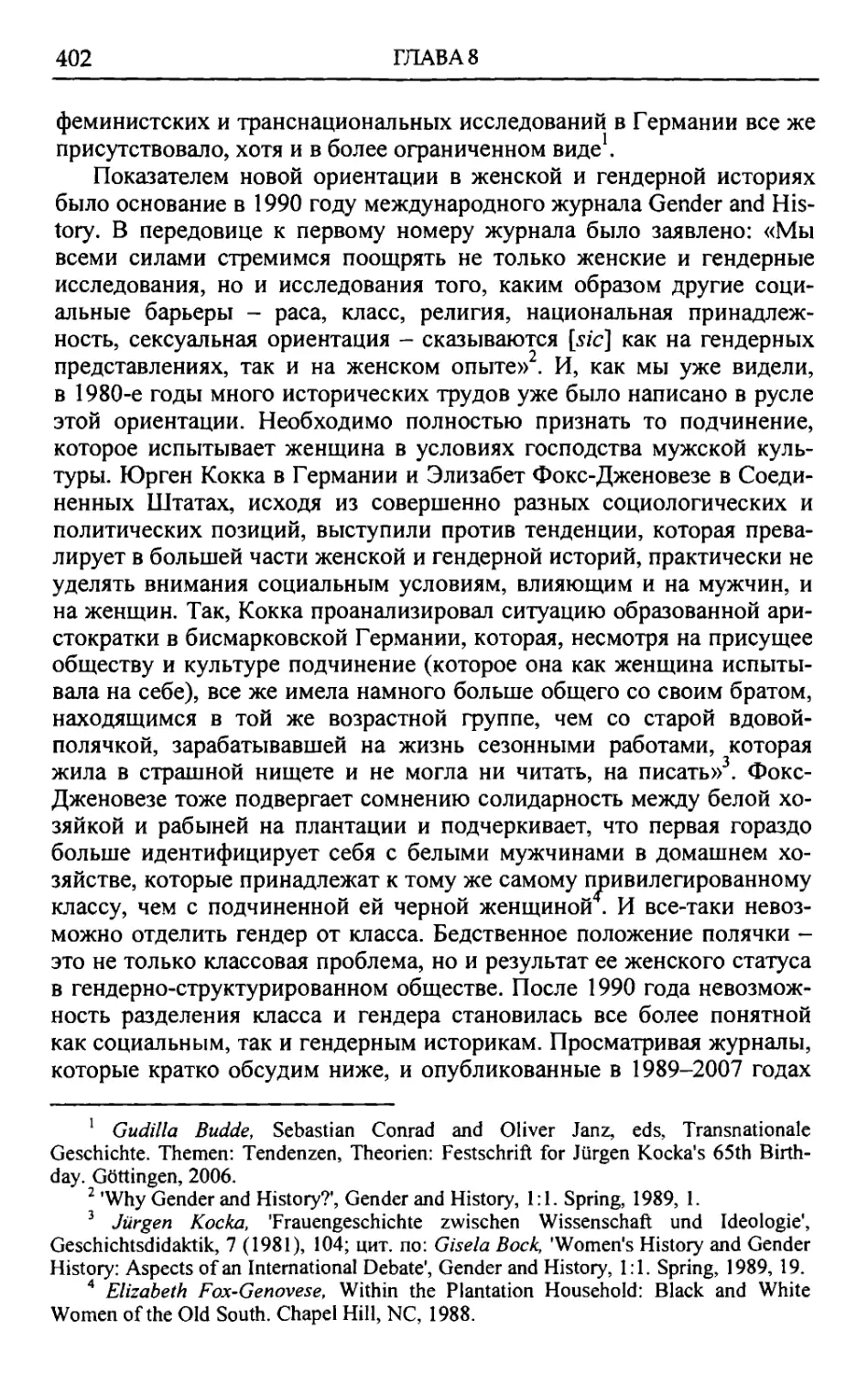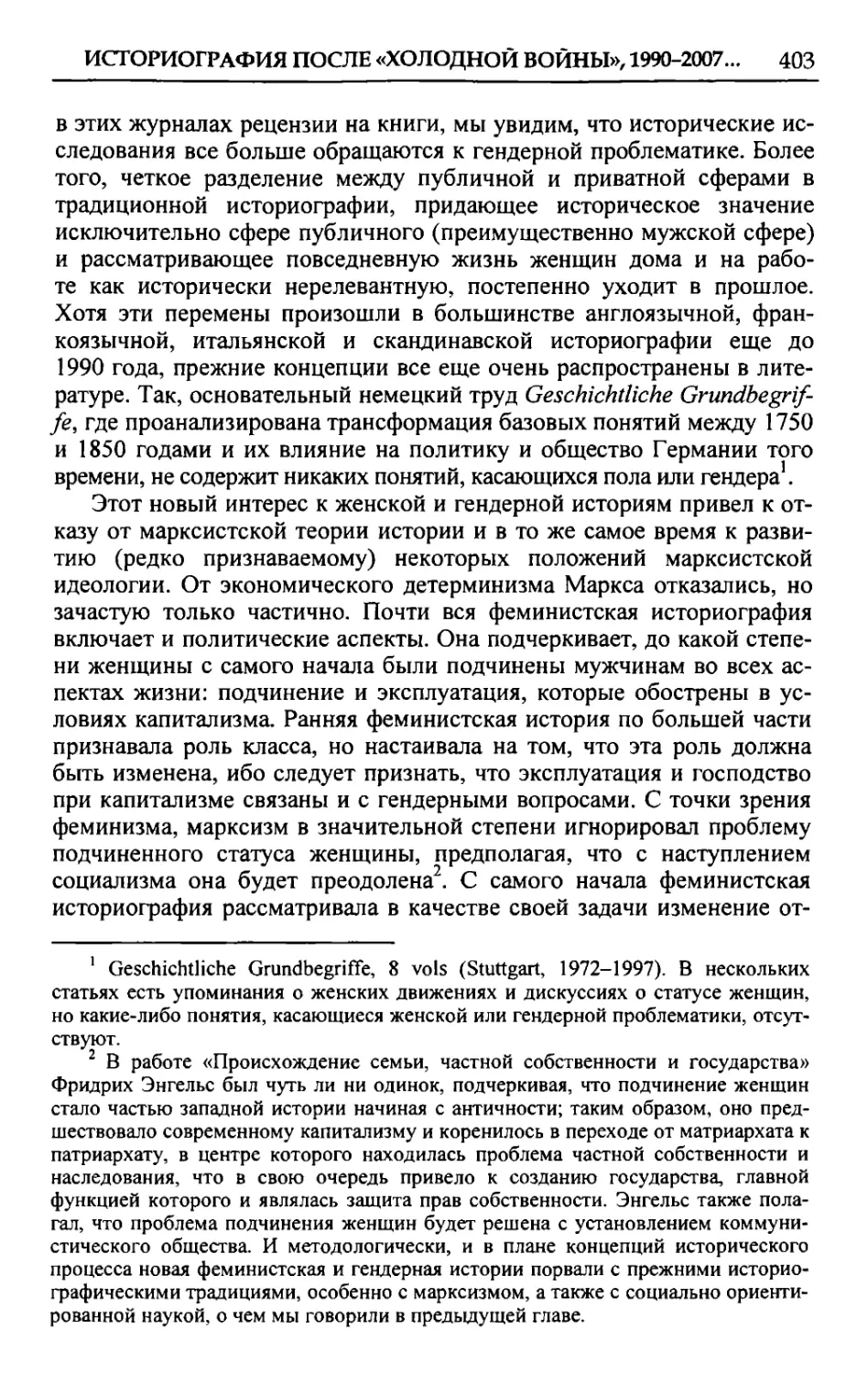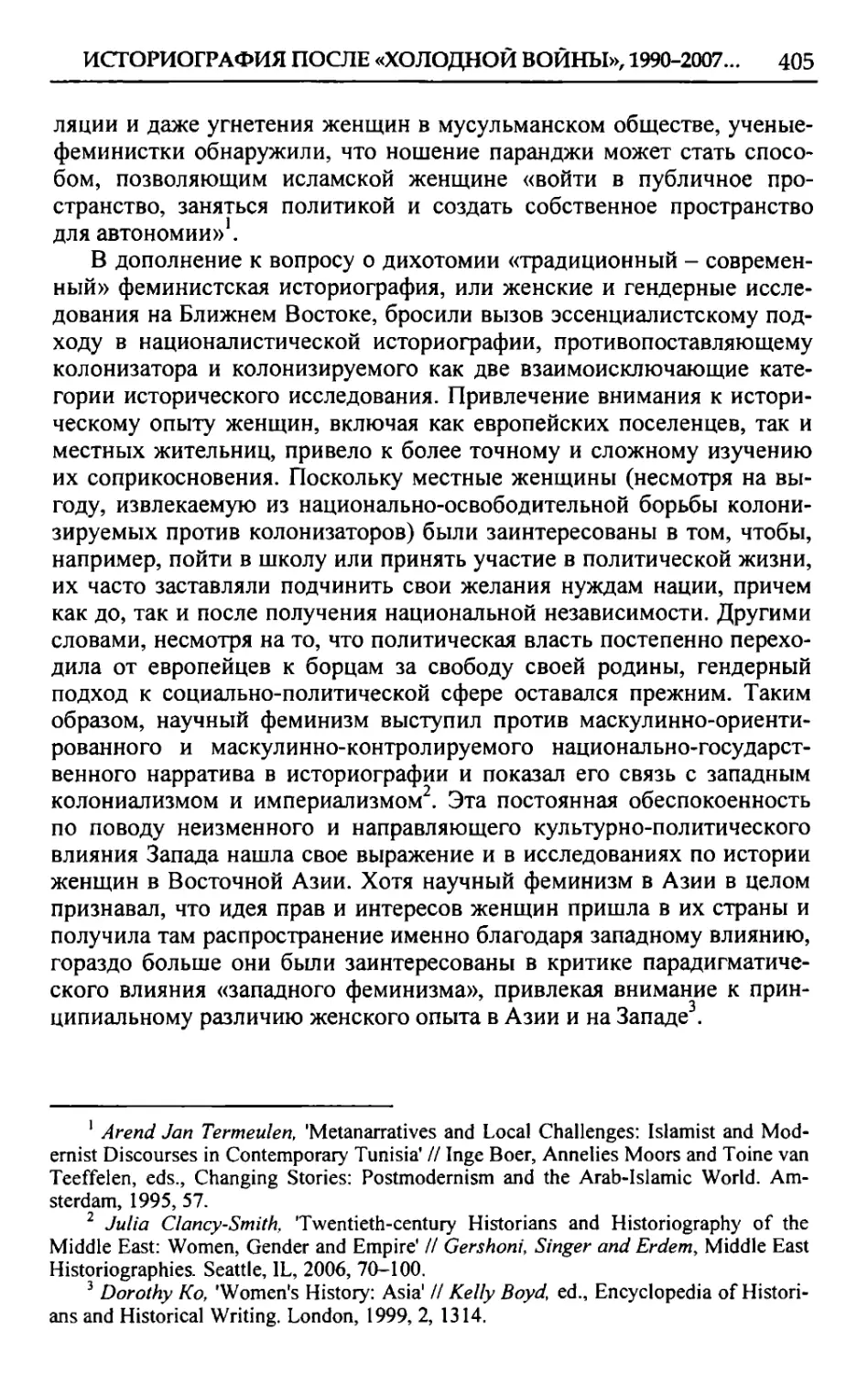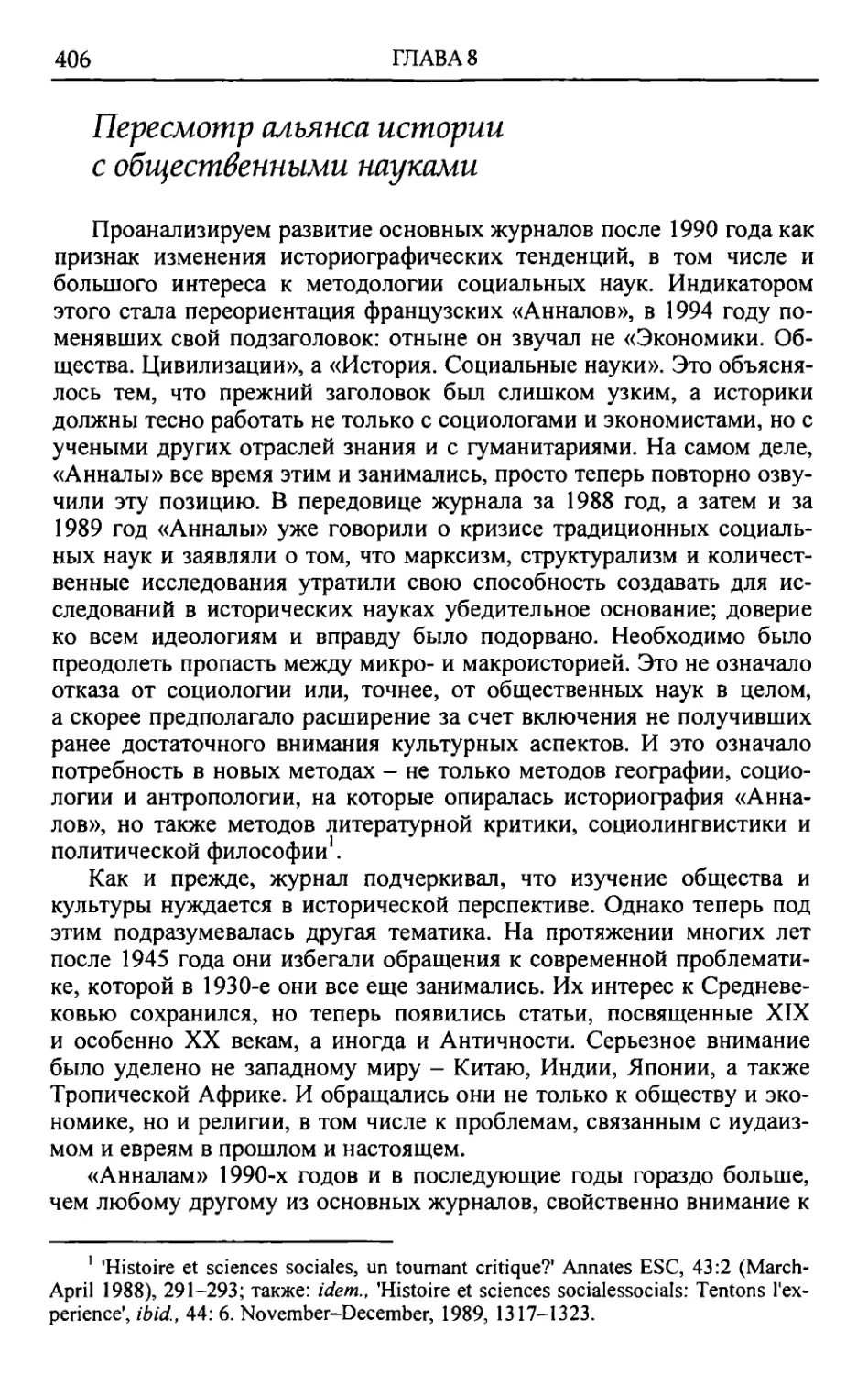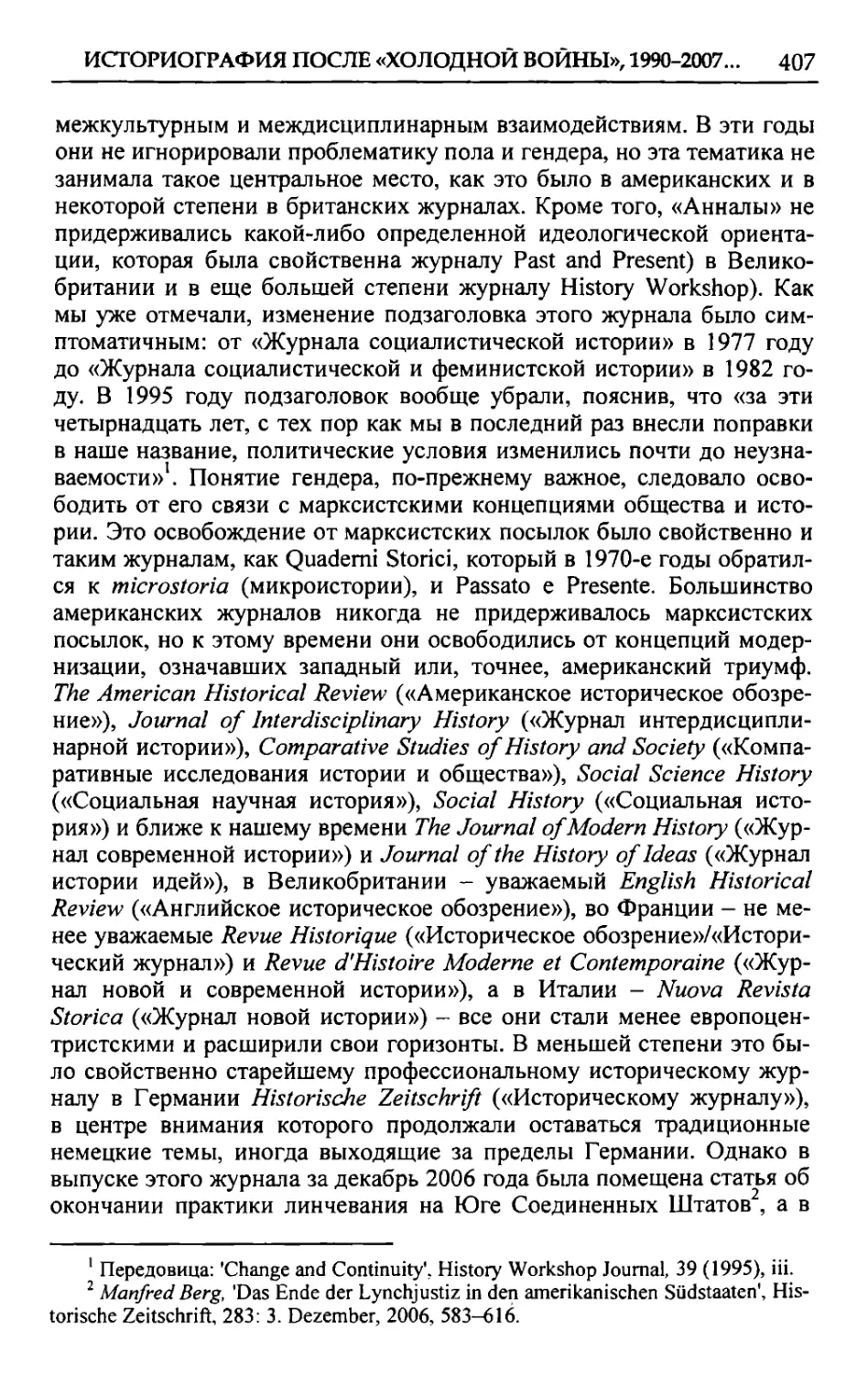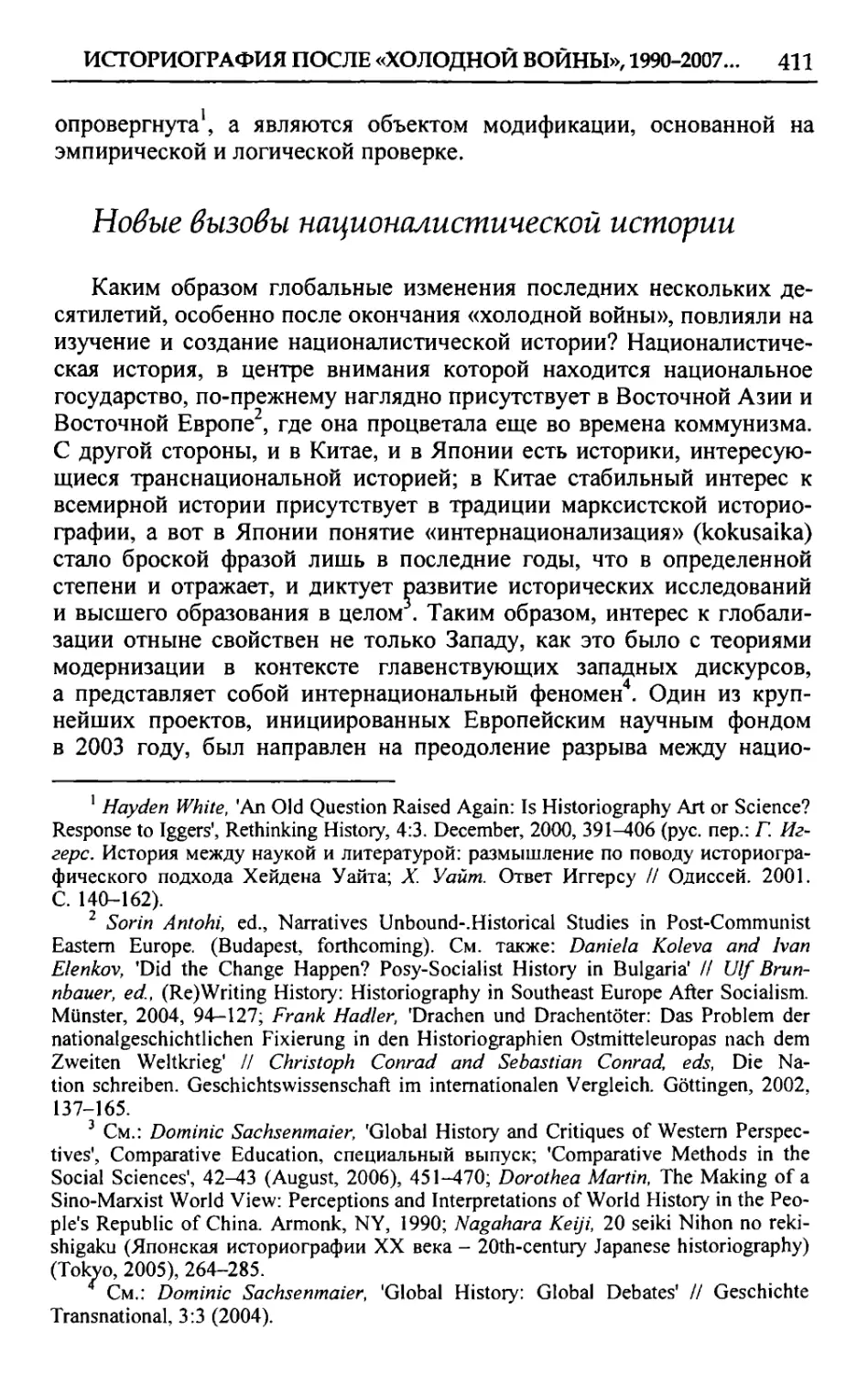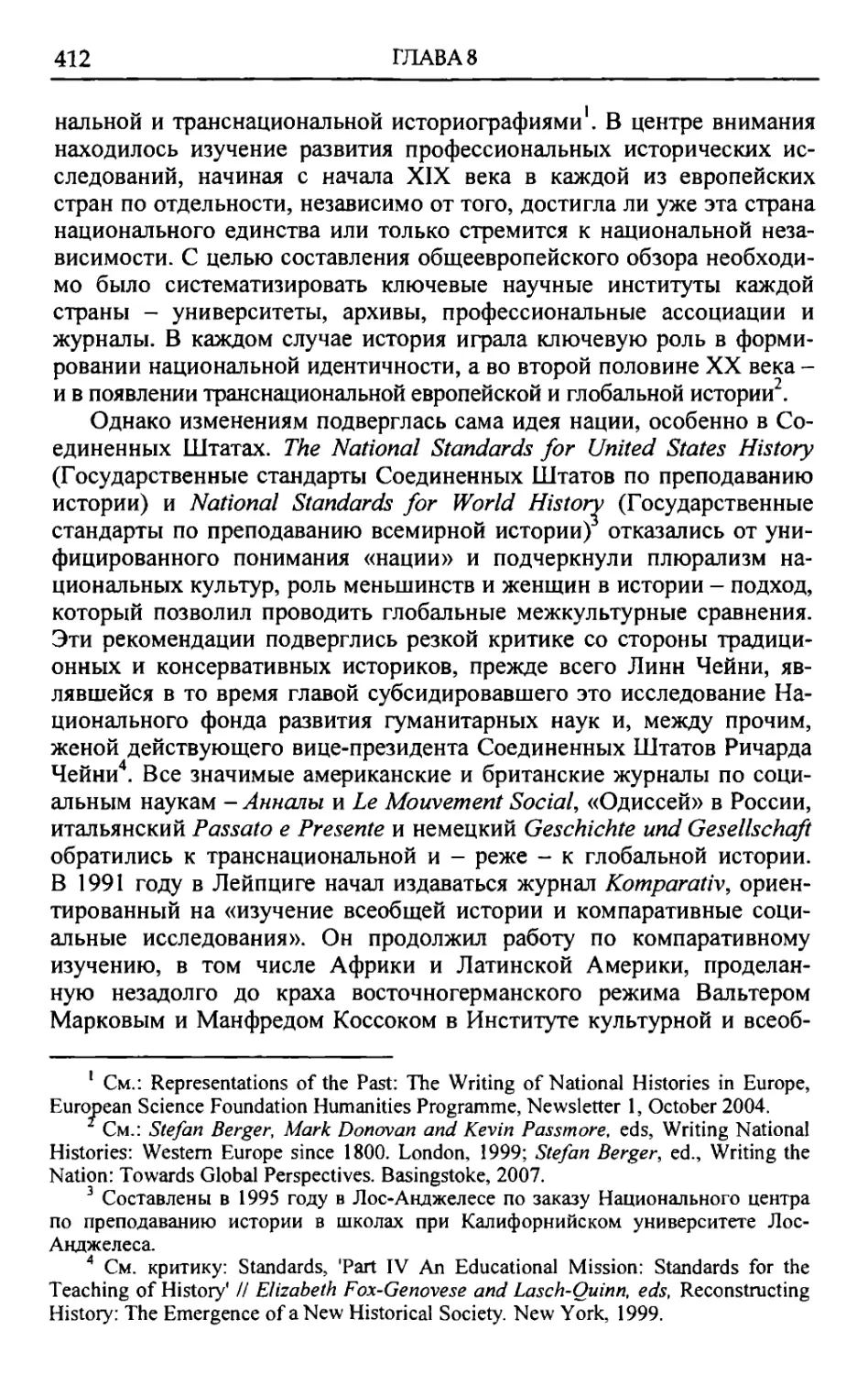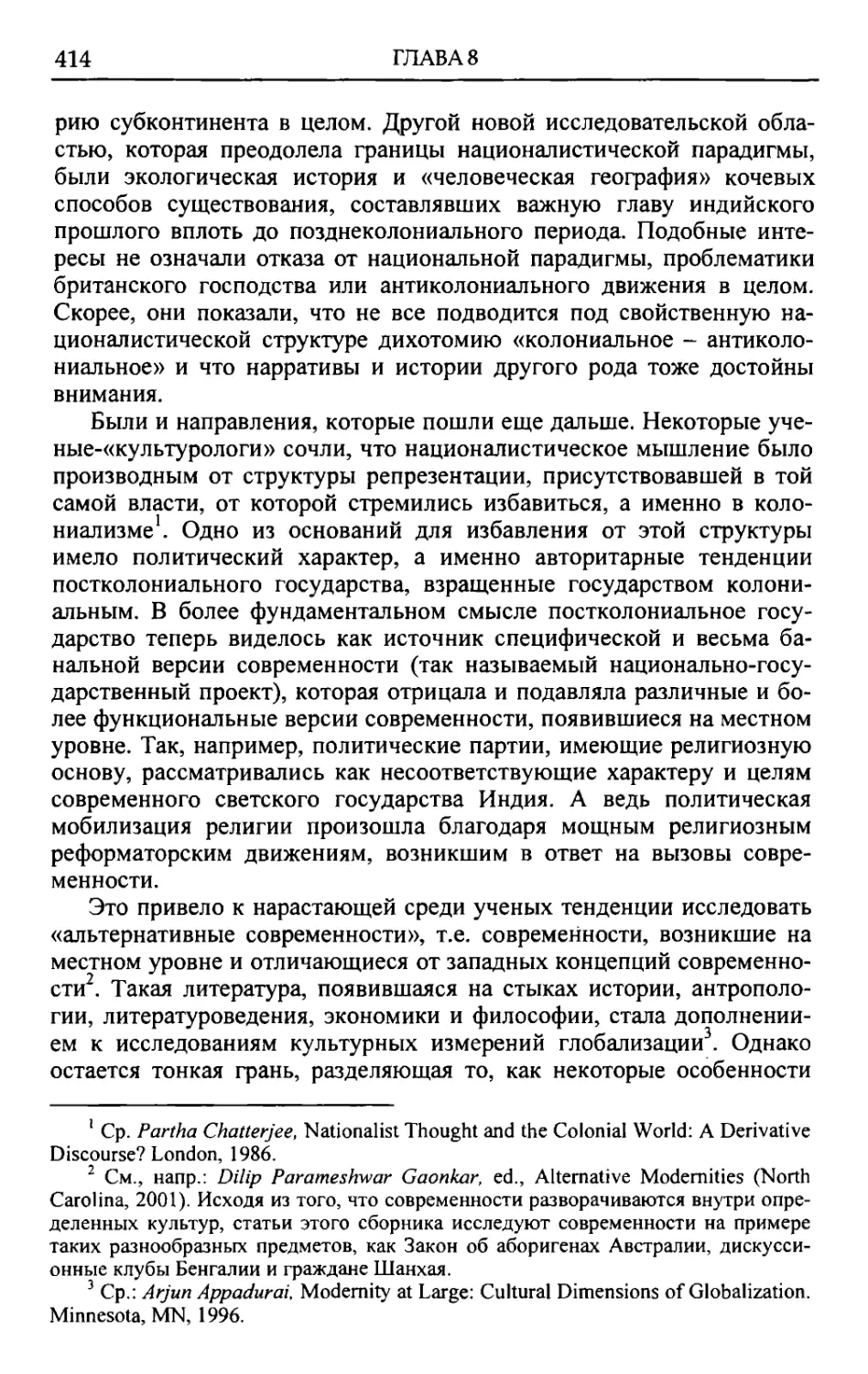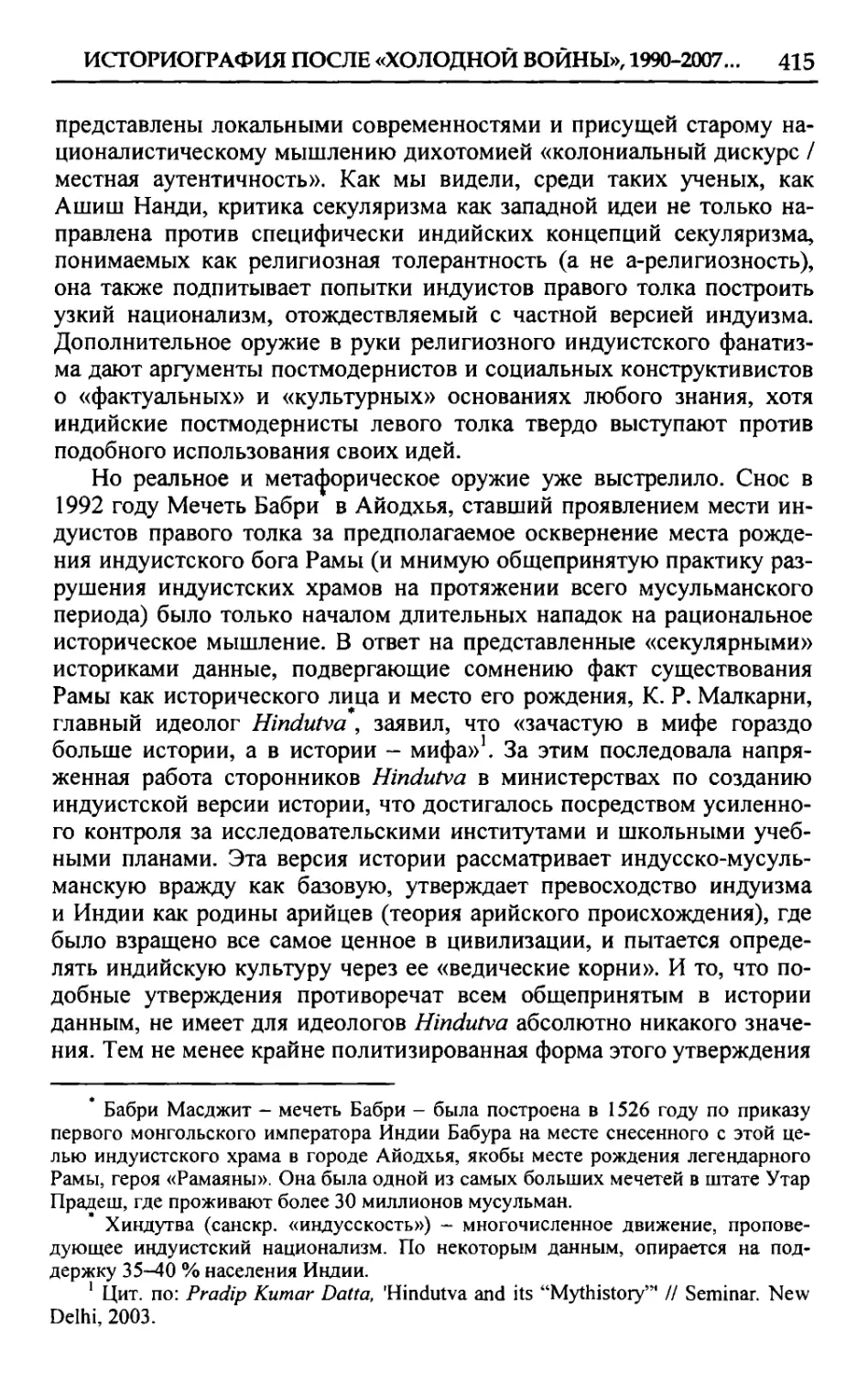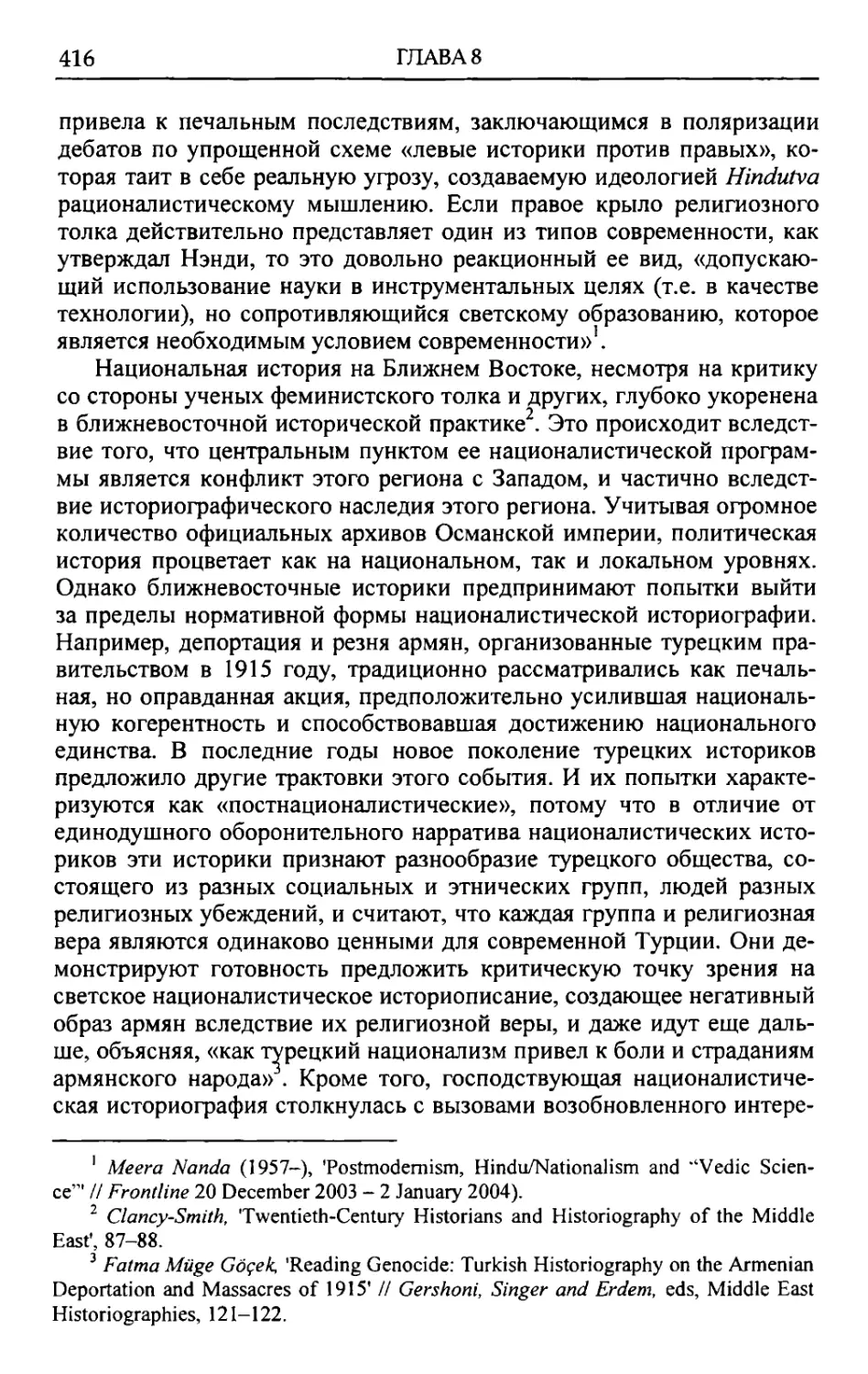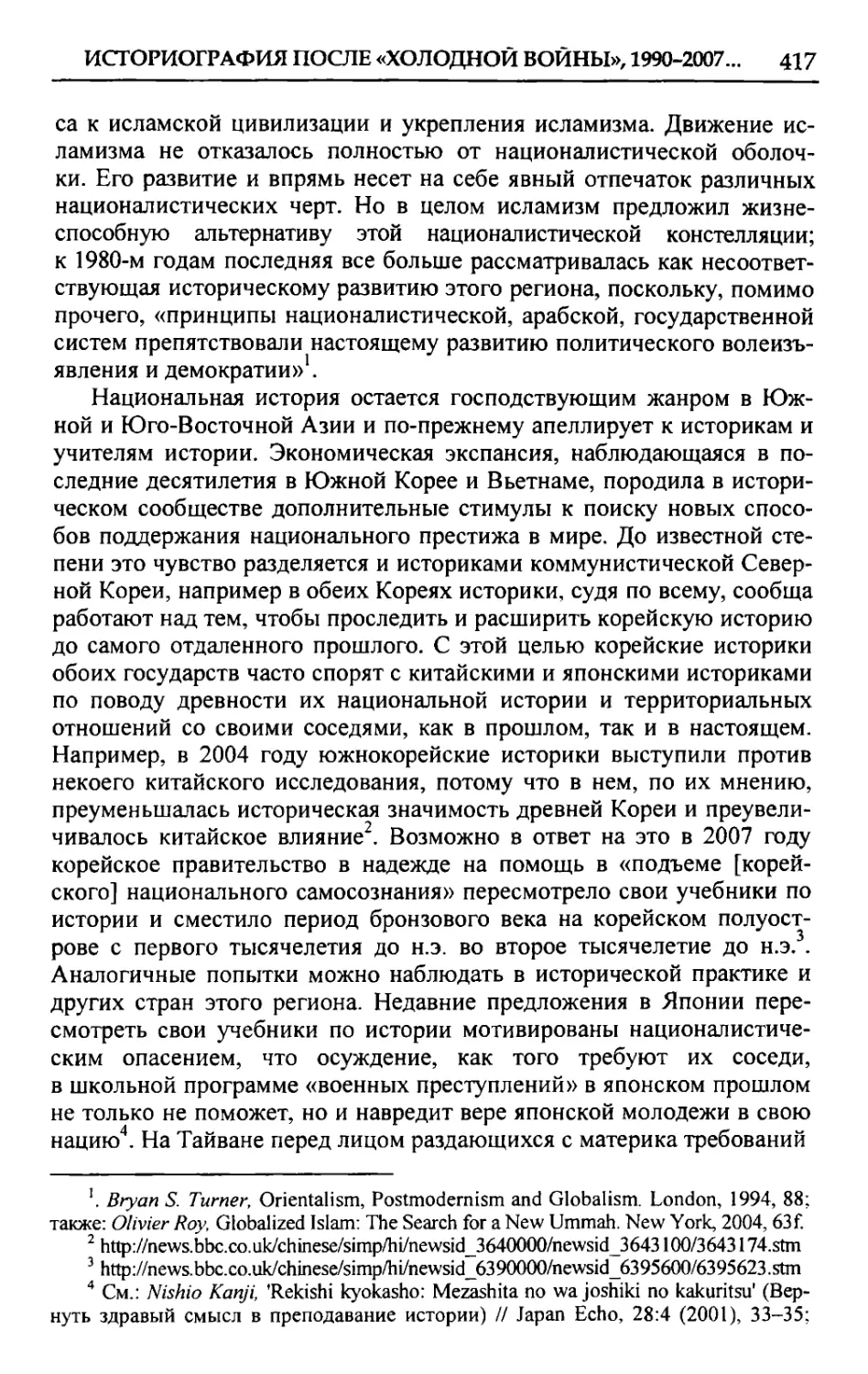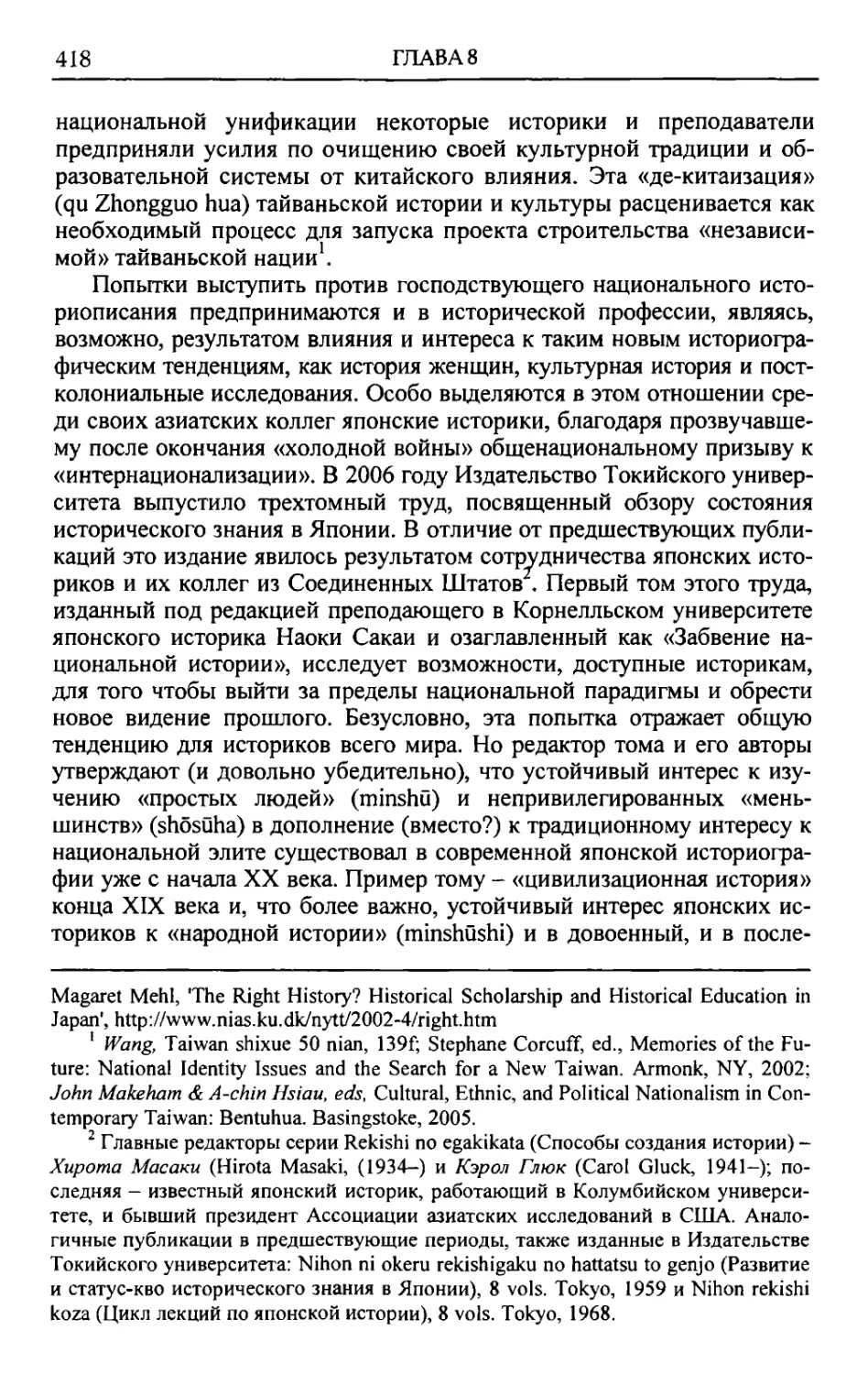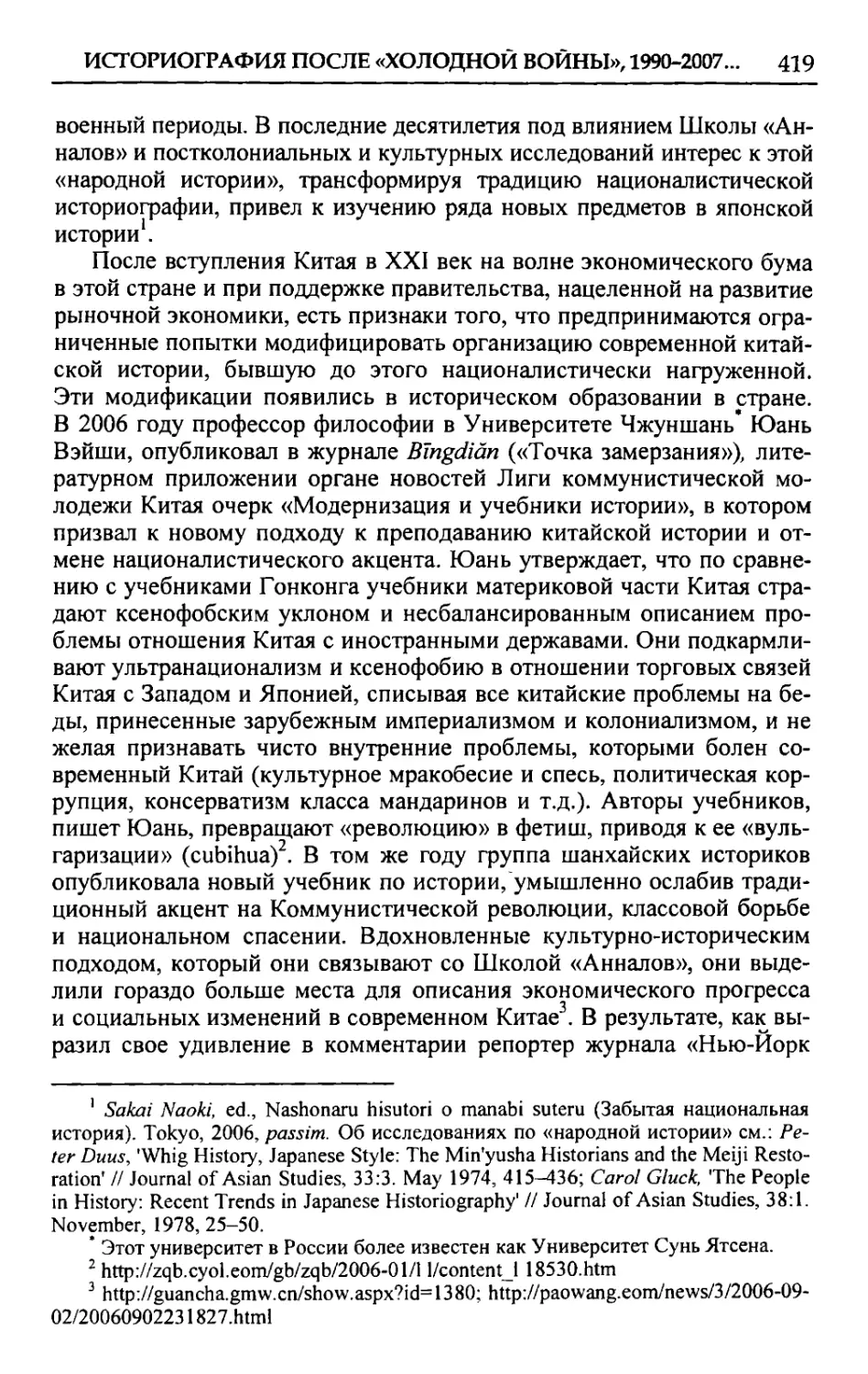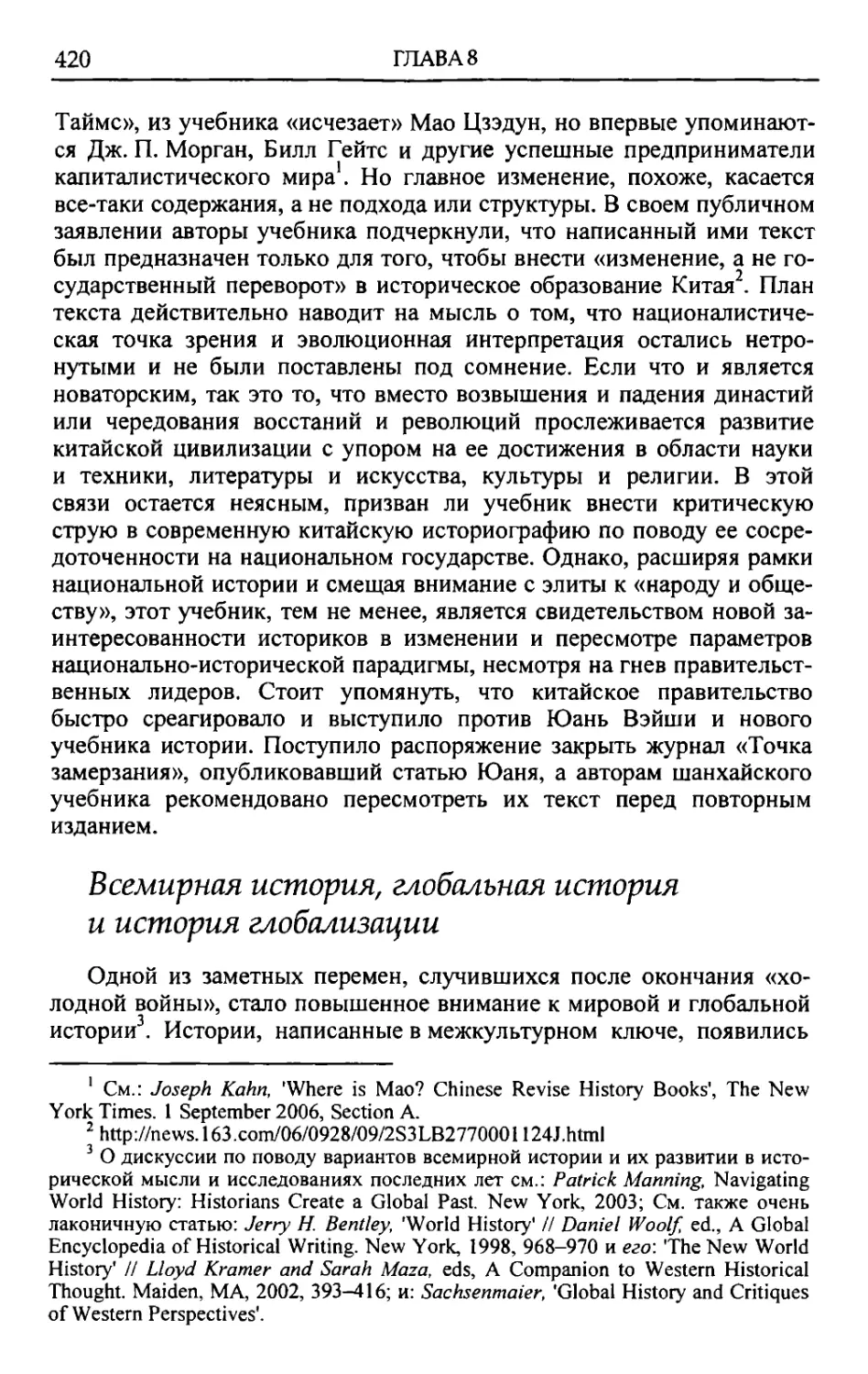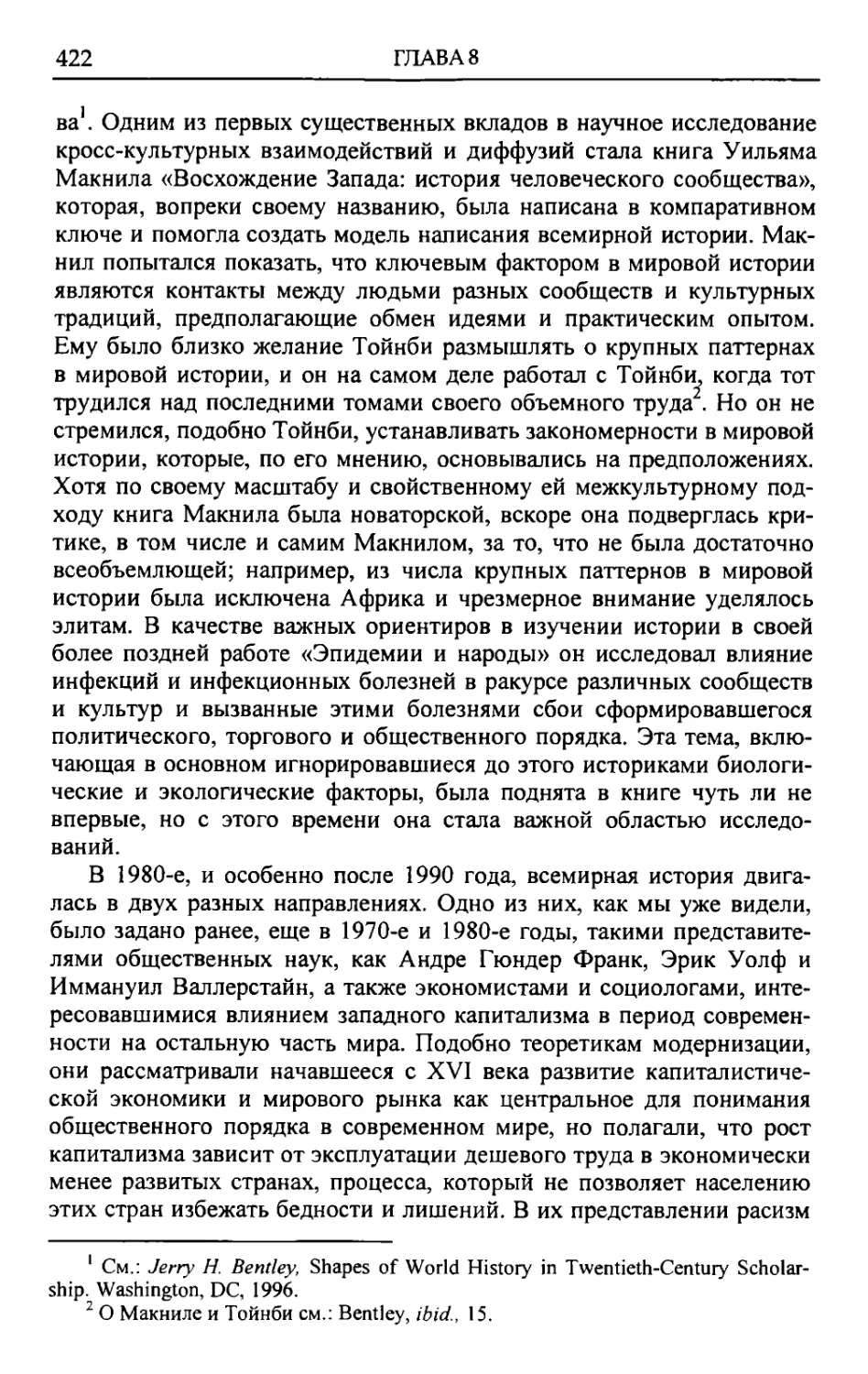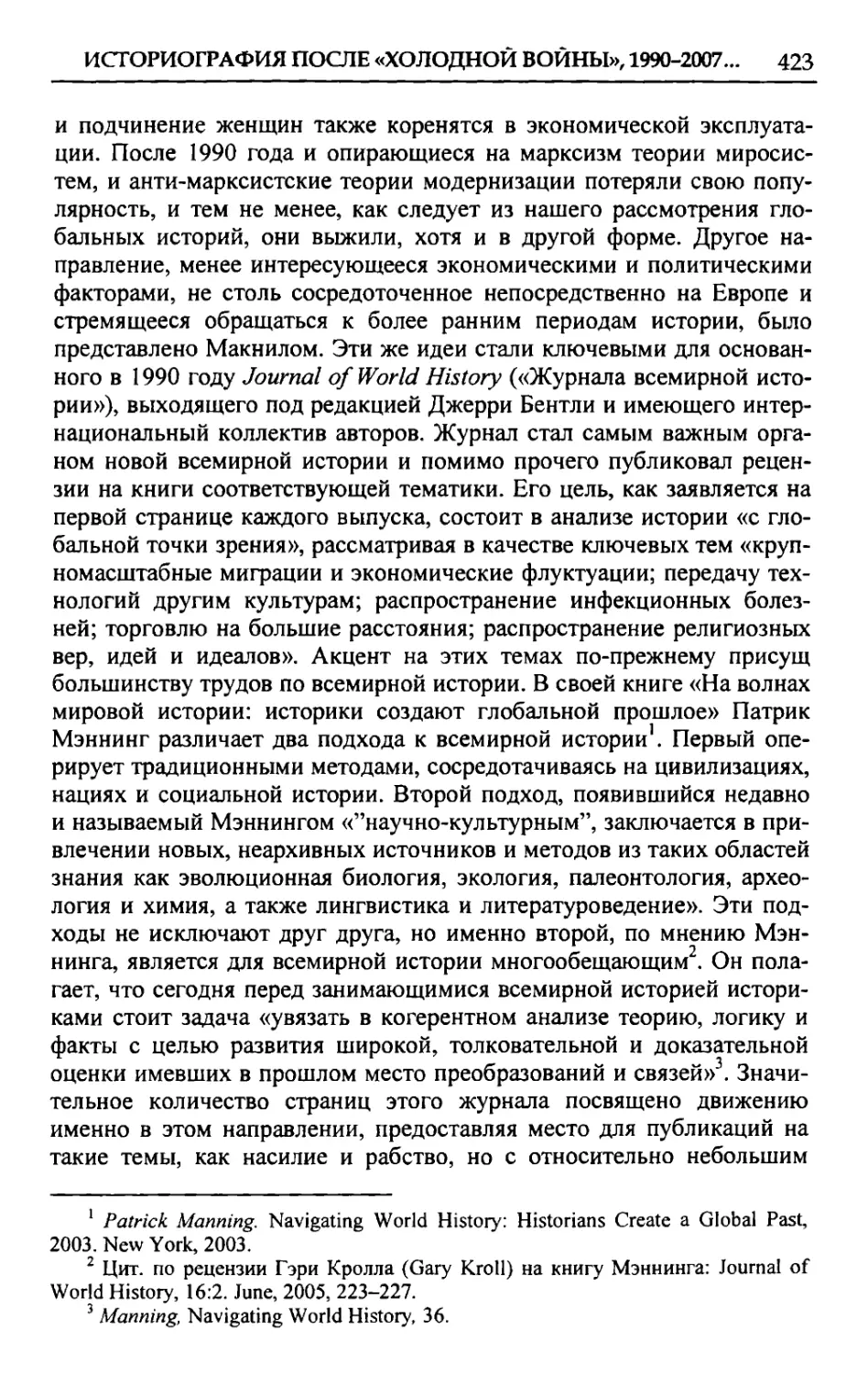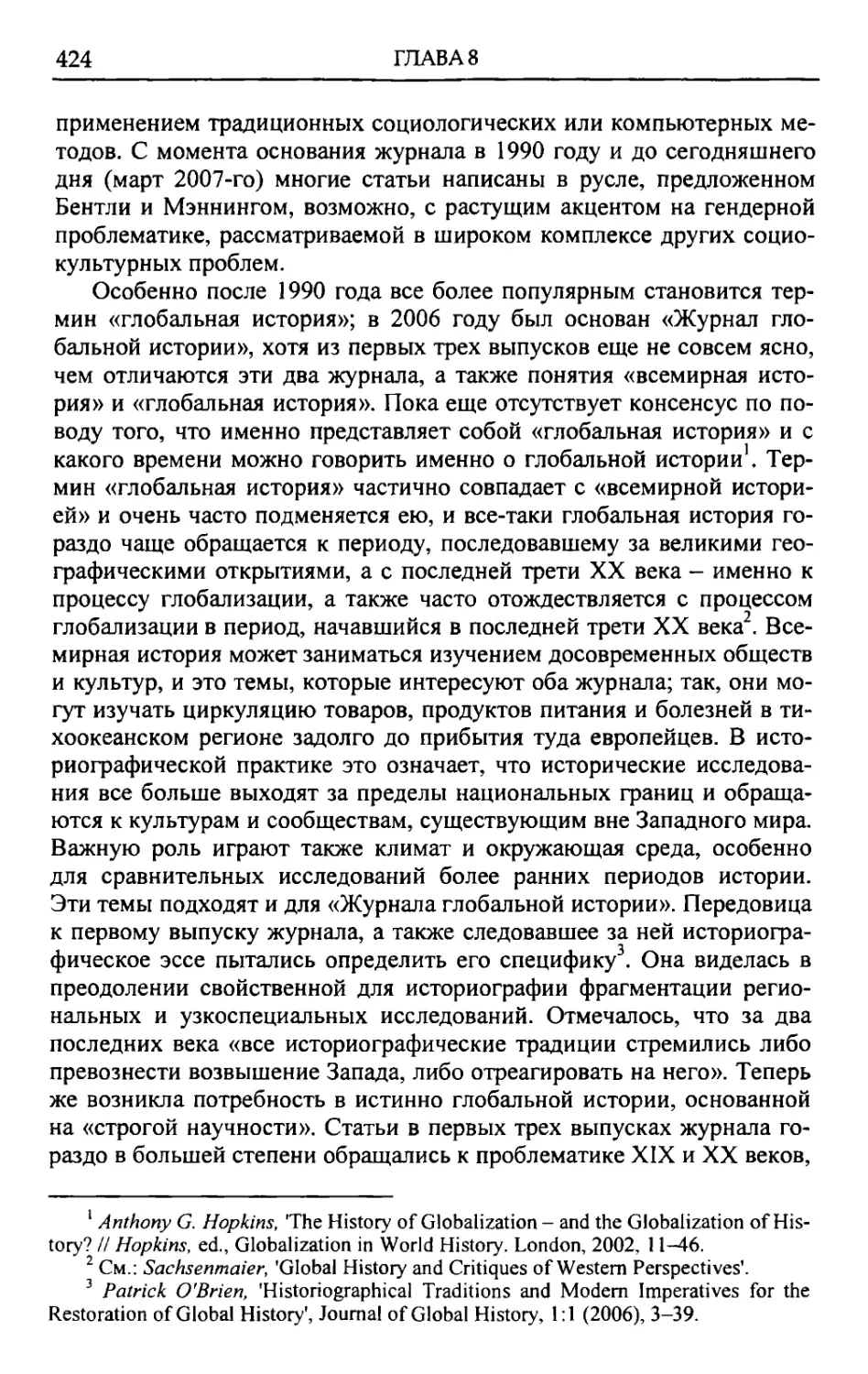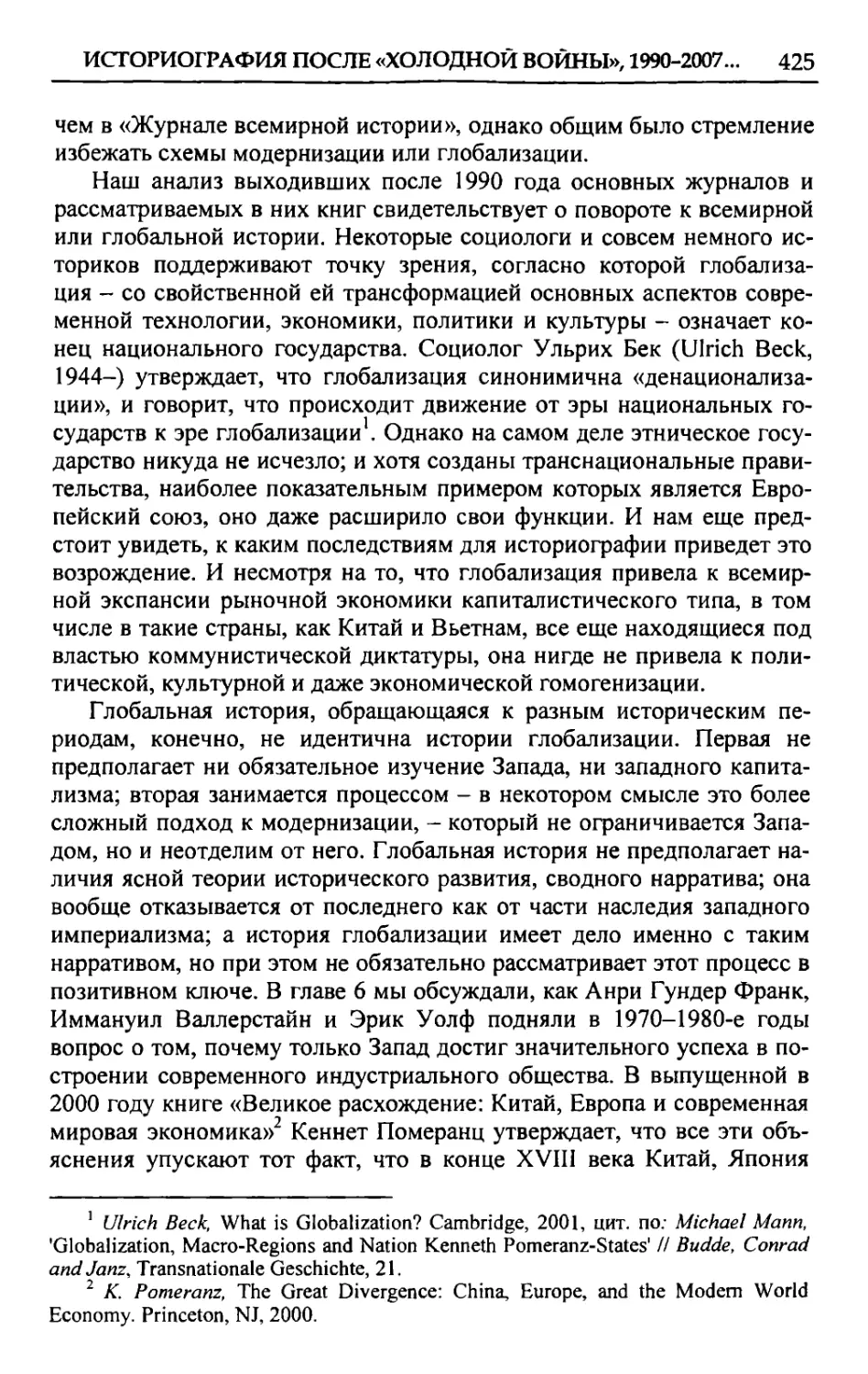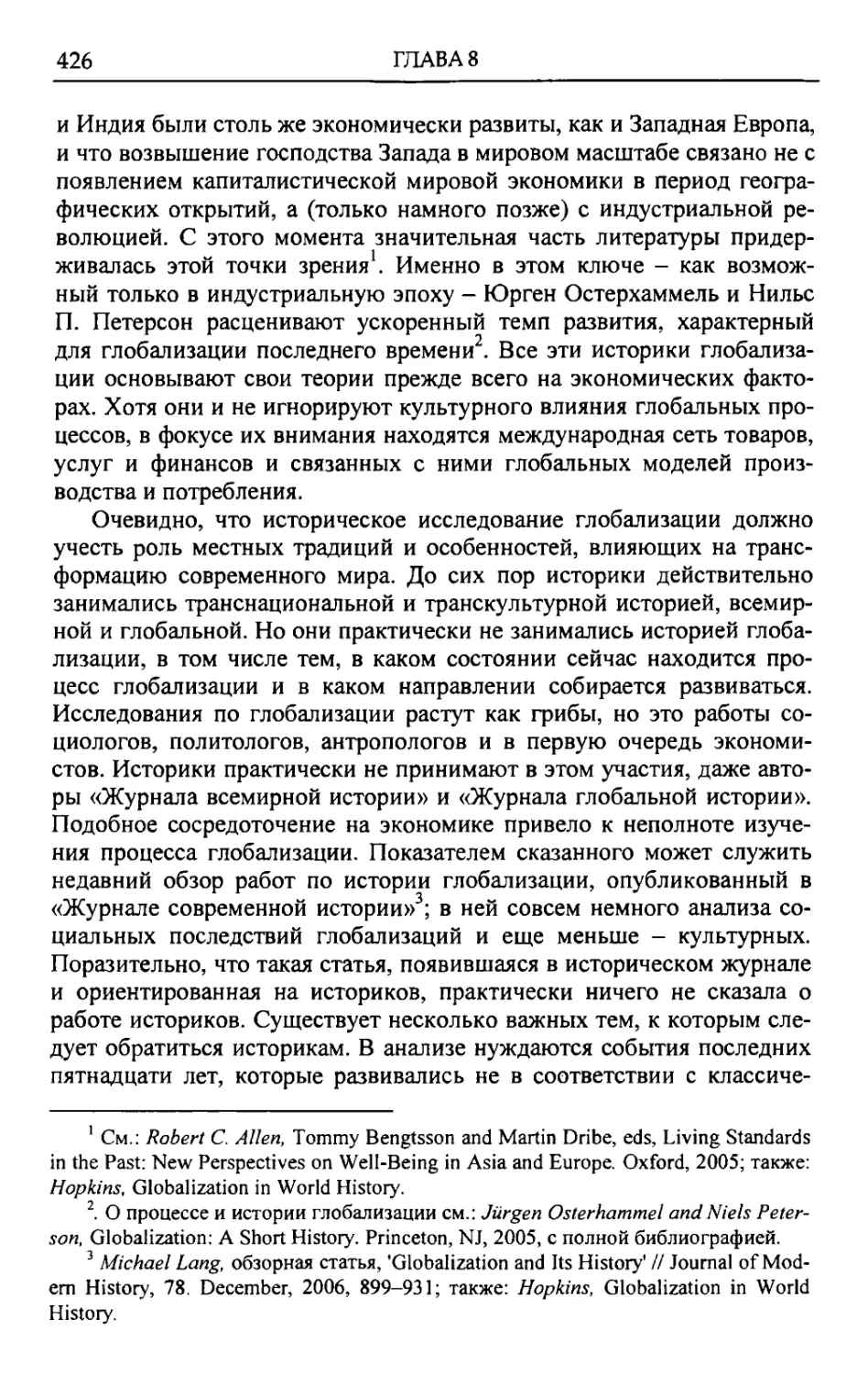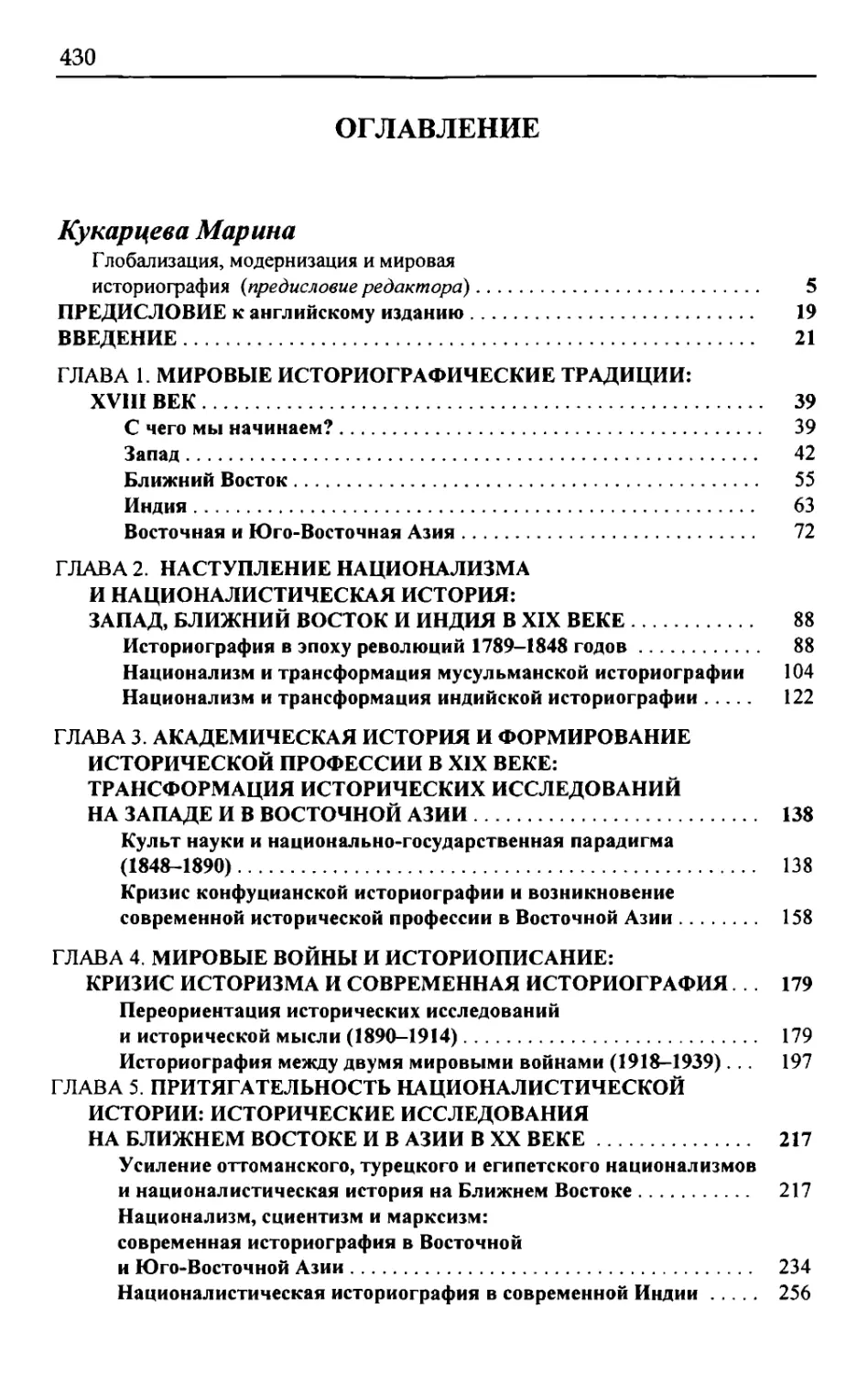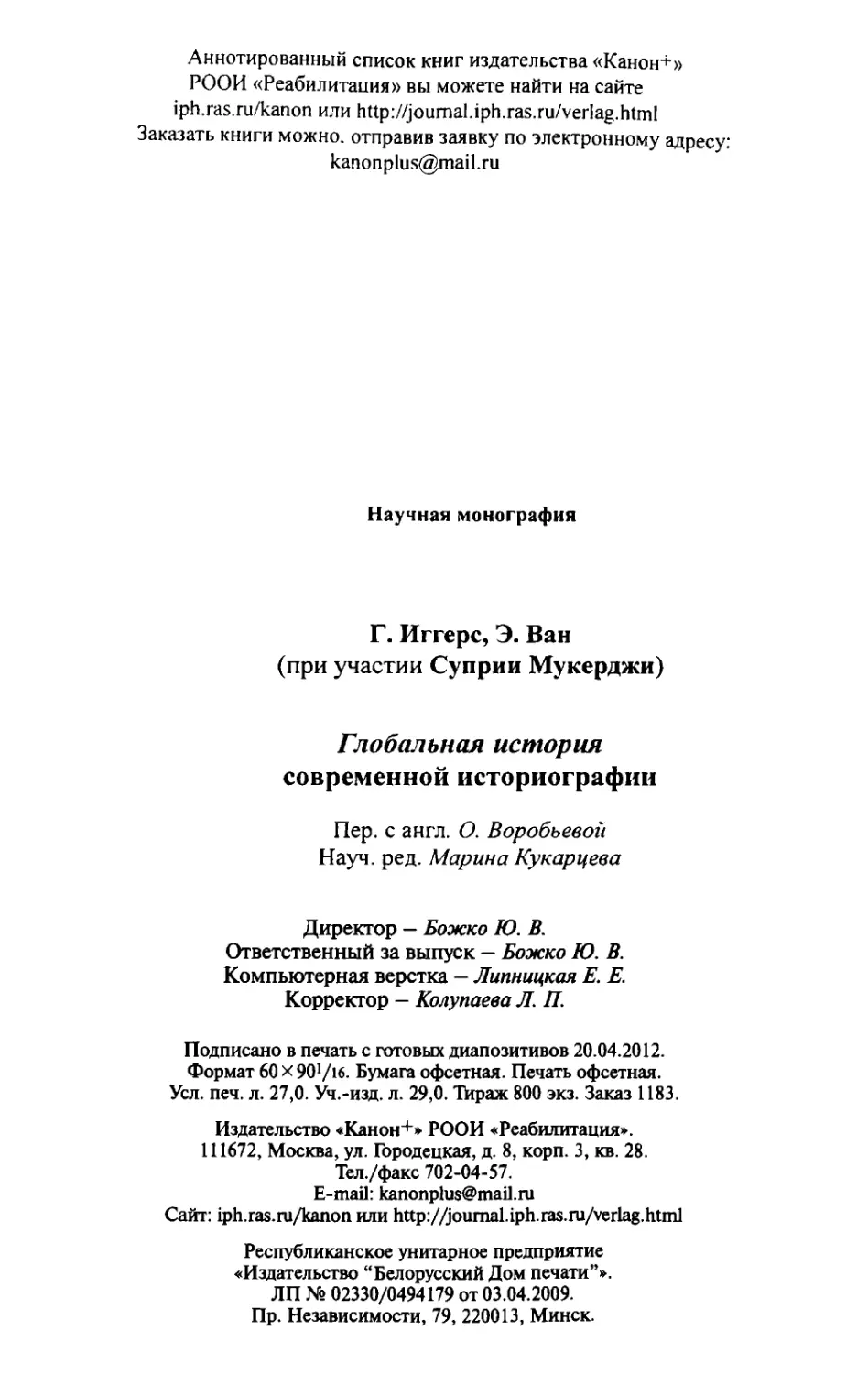Теги: всеобщая история история историография международные отношения переводная литература глобализация издательство канон серия гуманитарное знание xxi век мировая историография
ISBN: 978-5-88373-309-2
Год: 2012
СЕРИЯ
«ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ - XXI ВЕК»
Редакционная коллегия:
В Л. Лекторский (Россия) - председатель, А. Мегилл (США) - со-председатель, Ю.В. Божко (ученый секретарь),
А. Джагоз (Новая Зеландия), А.Н. Круглов, МА. Кукарцева (заместитель председателя), АЛ. Никифоров, Л.П. Репина, В.А. Подорога, В.В. Савчук (Санкт-Петербург),
Р. Фелъски (США)
Г.ИГГЕРС, Э.ВАН
Глобальная
история
современной
историографии
МОСКВА
УДК 94 ББК 63.3 И26
Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках федеральной целевой программы «Культура России»
Иггерс Г., Ван Э.
И26 Глобальная история современной историографии / Г. Иггерс,
Э. Ван (при участии Суприи Мукерджи); пер. с англ. О. Воробьевой. Науч. ред. Марина Кукарцева. — М.: «Канон*» РООИ «Реабилитация», 2012. — 432 с.
Georg G. Iggers and Q. Edward Wang (with contributions from Supriya Mukheijee). A Global History of Modem Historiography, Longman: Pearson Education Ltd, 2008.
ISBN 978-5-88373-309-2
Ключевая исследовательская проблема, рассматриваемая в данной книге, - современная мировая историография, существующая в условиях глобализации. Проблемы исторического мышления, историописания и методологии истории рассматриваются в контексте процессов модернизации и глобализации. Авторы выявляют и анализируют вопросы, с которыми сталкивались и сталкиваются историки разных регионов мира XVIII-XX вв. в ходе политического и экономического развития своих стран, как постиндустриальных, так и развивающихся; размышляют о судьбах демократии, о закономерностях и особенностях развития исторической науки в разных государствах планеты, о перспективах и возможностях формирования мировой историографии. Книга изобилует интересными постановками вопросов и оригинальными суждениями, содержит большой массив фактических данных. Рассчитана на самый широкий круг читателей, интересующихся тенденциями глобального развития, проблемами международных отношений, мирового порядка, закономерностями развития социально-гуманитарного знания вообще и исторической науки в частности.
УДК 94 ББК 63.3
ISBN 978-5-88373-309-2 © Иггерс Г., Ван Э., 2012
© М. Кукарцева, вступ. статья, 2012 © Издательство «Канон"1"»
РООИ «Реабилитация», 2012
5
КУКАРЦЕВА Марина
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И МИРОВАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ
Представленная вниманию русскоязычных читателей книга известных историков - немца Георга Иггерса, китайца Эдварда Вана и индуски Суприи Мукерджи - представляет интерес по нескольким причинам, ключевых из которых две: попытка выявить особенности и закономерности формирования и развития мировой историографии в контексте глобализации и модернизации и попытка составить на этой основе некую карту основных сходств и различий западного и не-западного стиля историописания.
Глобализм - понятие поистаскавшееся, тысячекратно растиражированное средствами массовой информации, давно превратившееся в трюизм. О феномене глобализации написаны горы литературы, он пронизывает все здание современного образования от школы до реальной науки, и, казалось бы, еще одна книга о нем, тем более опубликованная в 2008 г., вряд ли может завладеть вниманием читателей. В определенной мере это правда. Авторы не делают сенсационных открытий, не предлагают новых понятий и не настаивают на эпистемологической новизне используемых ими средств анализа предмета исследований. Они просто очерчивают внутренние особенности гло- балисткой тенденции, экстраполируя их на исследование исторической науки в разных регионах мира. Рассмотренная именно в этом аспекте глобализация и представляет интерес для читателя.
Она, по мнению авторов, «конечно, началась раньше современного периода истории» и в древнем мире реализовывалась в виде обменов. «В эпоху открытий в ХУ-ХУ1 вв. было положено начало другой форме глобализации», в которой авторы различают три разные фазы: 1) появление мировой капиталистической рыночной экономики и начало западной колонизации, наступившей сразу после первых заморских открытий; 2) ХУН век - нарушение не только политического, военного, экономического, но и цивилизационного равновесия, выразившегося в том, что если раньше «европейцы восхищались китайской и в определенной степени персидской и арабской цивилизациями, то теперь они стали считать их неполноценными»; 3) конец Второй мировой войны и «появление финансового капитализма, практически не знающего национальных границ, «магдонализация» систем общественного питания, голливудские фильмы, джинсы и поп- музыка». Выделив эти фазы, авторы далее связывают с ними историю
6
КУКАРЦЕВА Марина
исторического сознания и историописания, отдавая себе отчет в том, что данная схема, как и любая схема вообще, упрощает реальное положение вещей, но, тем не менее, дает возможность рассмотреть искомый предмет как «идеальный тип». В первой фазе глобализации историописание, по их мнению, отличалось реальным универсализмом, Европа занимала в нем хотя и ключевое, но совершенно определенное место, не оттесняя на обочину историографии историческую мысль стран Азии, обеих Америках и даже Тропической Африки. Во вторую фазу произошло «существенное сужение исторического миро- видения. Центром внимания историков отныне была Европа, а к незападному миру подходили с позиции европейского господства». Третья фаза глобализации отмечена «отказом от идеи превосходства западной культуры и признание равноценности других культур». Авторы начинают исследовать «историю историографии с изучения исторической мысли и историописания в момент появления первых признаков западного влияния на остальной мир, т.е. с конца XVIII века».
Модернизация, второе понятие, используемое авторами, определяется ими как «единый процесс, отмеченный успехами в науке, развитием мировой и имеющей капиталистический характер рыночной экономики, сопутствующим ему укреплением гражданского общества и постепенным установлением во всем мире режима либеральной демократии». Именно модернизация в такой ее форме, как вестернизация, по мнению авторов, повлияла на изменение исторического мышления и исследовательских методов в исторической науке в разных регионах мира. В конечном итоге привела к их «онаучиванию» и формированию новых процедур и аналитического инструментария, предохранив одновременно от утраты местных традиций. Таким образом, с точки зрения авторов книги, глобализация стала основой отказа мировой историографии от европоцентризма, а модернизация привела к апологии «процедур рационального исследования», унаследованного от западного модерна. Именно эти два тезиса, как подчеркивают сами авторы, «красной нитью проходят через всю книгу и придают ей определенную степень внутреннего единства».
Конечно, в размышлениях авторов много верного. В частности, то, что они строят свои рассуждения на акцентировании одной важной тенденции, содержащейся внутри глобализации, - тенденции к дифференциации. Она «проявляется в стремлении индивидов, микросоциумов и макросоциумов к обособлению, изоляции от более общих и широкомасштабных (гиперсоциальных) структур и от навязываемых этими структурами стандартов и штампов...»1. В конечном итоге, именно этой тенденции мировое сообщество обязано своим разделением на западные и не-западные миры, о которых так много говорят авторы на страницах своей книги. И именно этому мировая историо-
А. Пятигорский, О. Алексеев. Размышляя о политике. М., 2008. С. 153.
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И МИРОВАЯ...
7
графия обязана сохранением своего разнообразия в контексте общей тенденции к униформизации.
Вопрос о сходствах и отличиях западных и не-западных миров имеет древнюю историю, в которую у нас нет возможности вдаваться. Мы можем только подчеркнуть, что западные миры - это миры индустриальные и постиндустиральные, прошедшие фазу классической культуры (Возрождения, Реформации, Просвещения), обладающие опытом контракционизма, то есть умением вступать в политическую коммуникацию и в ее процессе достигать согласия, приходить к соглашению (идея «общественного договора). Не-западные миры - понятие более сложное, в него входят как страны «третьего мира», так и страны евразийские, такие как Россия и Турция, и азиатские страны, такие как Япония, Южная Корея, Китай. Несмотря на рецепцию многих идиологем и просто жизненных ценностей Запада, эти страны не стремятся преодолевать свой «азиатский компонент», куда включен, например, принцип канонизации мышления и стиля жизни, а наоборот, сохраняют его как базис своей национальной и культурной идентичности.
Модернизация, о которой пишут авторы, более вменяемый и четко очерченный феномен, чем глобализация. «Основная идея модернизации состоит в том, что экономический и технологический прогресс порождает комплекс социально-политических трансформаций, а они, как правило, ведут к радикальным переменам в ценностях и мотивации. Это включает в себя изменение роли религии, карьерных устремлений, уровня рождаемости, гендерных ролей, сексуальных норм. Данные перемены определяют массовый спрос на демократические институты и ужесточение требования к элитам»1. В этом смысле модернизация действительно способствовала демократизации традиционного в Азии и Африке стиля историописания и принесла с собой те исследовательские процедуры, которые сформировали ключевые принципы модернистского мышления вообще. Конечно, модернизация не исчерпывается только одной своей формой-вестернизацией, о которой пишут авторы. Идея вестернизации характерна для ранних, времен К. Маркса и А. Смита, Э. Дюркгейма и М. Вебера, этноцентрических версий этой теории. Суть ее заключается в прямом переносе «матрицы Запада», включая технологии и фундаментальные ценности жизни Запада, на страны других регионов планеты2. Причем инициатором вестернизации, как правило, оказывается сам Запад, а сам процесс вестернизации нередко был насильственным. Позже возникла концепция депентизма (замкнутости в себе стран «третьего мира») и
1 Р. Ингхарт. Модернизация и демократия // Демократизация и модернизация. К дисскусиям о вызовах XXI века. М., 2010. С. 166-167.
2 О разнообразных теориях модернизации см. также: Федотова В. Модернизация «Другой Европы». М., 1997, другие работы этого автора.
8
КУКАРЦЕВА Марина
экспортно-ориентированная концепция догоняющей модернизации, где «матрица Запада» служила неким образцом, на который следовало ориентироваться, но не стоило ему следовать во что бы то ни стало (Турция, Россия, Мексика). Это позволяло заимствовать у Запада лучшее, но сохранить свою национальную идентичность. Именно поэтому историография Турции, например, о которой в том числе говорят авторы это книги, сумела сохранять своеобразие в контексте своей исторической культуры. Рассуждая об исламской историографии вообще, авторы полагают, что «наиболее важное и самое последнее изменение в современной исламской историографии связано с возрождением ислама, хотя его истоки можно проследить еще в послевоенные годы». Тем самым они поднимают вопросы секулярного (в котором социальная значимость религии резко падает) общества XVIII - середины XX века и постсекулярного общества конца XX- XXI века (в котором она возрастает) и показывают, каким образом религия в ее нарративном, философском, психологическом, доктринальном и других аспектах влияла на формирование национальных историографий.
В ходе рассмотрения сущности глобализации и модернизации, нации и национального государства авторы создают своего рода карту сходств и отличий западного и не-западного стиля исторического мышления и историописания. Надо сказать, что подобного рода картографию действительно редко можно встретить в мировой историографии, хотя к размышлениям о разнице между западными и восточными традициями историописания время от времени обращались самые разные историки. М. Серто, например, в известной монографии «История как письмо» писал о том, что западная «историография... отделяет своё настоящее от прошлого. И она всюду повторяет это отделение. Так, ее хронология состоит из периодов (например, Средние века, новая история, новейшая история), каждый из которых решительно не желает быть тем, что было до него (Ренессанс, Революция). В свою очередь, каждое новое время рождает дискурс, рассматривающий как «мертвое» все то, что ему предшествовало, и получающий «прошлое», уже отмеченное разрывом с ему предшествующим. Обособление, таким образом, является и постулатом интерпретации (которая конституируется с момента появления настоящего) и ее объектом (разделяющие отметки организуют представления, которые постоянно получают все новую интерпретацию)... Как это ни странно, но данная конструкция - явление чисто западное. В Индии, например, «новые формы не изгоняют старые». Там, скорее, наблюдается их «наслаивание». Бег времени не нуждается в собственном подтверждении отдалением прошлого, как не нуждается место для самоопределения в отчуждении от какой-либо «ереси». «Процесс сосуществования и взаимопоглощения» - основной фактор индийской истории. Как и у племени Мерина на Мадагаскаре «тетиарана» (древние генеалоги¬
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И МИРОВАЯ...
9
ческие списки), затем «тантара» (прошедшая история) относятся к «наследию слуха» («ловантсофина») или к «памяти уст» («тадидива- ва»). Они ни в коей мере не являются объектом, отброшенным в прошлое, в целях возможности идентификации настоящего. Эти сказания - сокровище, хранимое в сердце всего народа, для которого они являются памятником, духовной пищей, остающейся в памяти навеки. История - привилегия («тантара»), о которой нужно помнить, чтобы не забыть самое себя. История существует внутри самого народа, от прошлого до будущего. У племени Фо дагомеев, история называется «ремуо» - слово из ушедших времён - буква «о» означает присутствие, которое идет от верховья реки до места ее впадения в океан. Этот образ не имеет ничего общего с понятием истории, разделяющим настоящее и традицию, устанавливающим разрыв между настоящим и прошлым, поддерживающим отношение запада к факту того, что история довольствуется изменением границ, определяет идентичность посредством отношения к прошлому как к «низшей расе» или к чему- то маргинальному»1.
В первой главе своей книге наши авторы вскользь упоминают одну из международных конференций, на которой с докладом о характерных чертах западной историографии выступил известный английский историк П. Бёрк. В 2002 году этот доклад был опубликован в книге «Западное историческое мышление. Кросс-культурные дебаты», вышедшей в издательстве Berghahn Books под редакцией известного немецкого историка Йорна Рюзена2. Обзор этой книги был, в свою очередь, опубликован на русском языке в Вестнике Московского университета и переиздан в 2011 году в книге «Способы постижения прошлого»3. Воспроизведем здесь ключевые идеи этого сборника, потому что они, во-первых, стали одной из точек отсчета в рассуждениях наших авторов, а во-вторых, существенно дополняют созданную ими картину принципов построения западной и не западной историографии.
В своей, ставшей уже знаменитой статье «Западное историческое мышление в глобальной перспективе»4 Петер Бёрк сформулировал 10 тезисов западного понимания истории как науки, а его оппоненты из стран Европы, Азии, Индии и Африки прокомментировали их. Бёрк подчеркивает, что западное историческое мышление весьма разнообразно и проблема состоит в том, чтобы специфицировать это разнообразие. Эта спецификация есть уникальная комбинация элементов,
1 Michel de Certeau. The Writing of History. Translated by Tom Conley. Columbia University Press, 1988, Introduction. P. 6.
2 Western Historical Thinking. An Intercultural Debate. Berghahn Books. New York: Oxford, Edited Jom Rusen, 2002.
3 M. Кукарцева, E. Коломоец. Западное и не-западное историческое мышление: сходства и отличия // Вестник МГУ. Сер. «Философия». М., 2003: Ibid. Способы постижения прошлого. М., 2011.
4 Р. Burke. Western Historical Thinking in a Global Perspective - 10 Theses // Ibid.
10
КУКАРЦЕВА Марина
блоков акцентов, варьируемых в зависимости от исторического периода, религии, социальной группы или индивидуальности историка. При этом важно, что для Бёрка проблематично само понятие «западное мышление» или его альтернатива «европейское». По его мнению, Запад в большой мере есть исторический конструкт, соединившие в себе греков, римлян, народы Западной Европы и Средиземноморья, испытавших серьезное влияние мусульманской цивилизации. Десять характеристик западного мышления по Бёрку таковы:
1. Сконцентрированность на категории развития или прогресса, другими словами, «линейный» взгляд на прошлое. Под прогрессом Бёрк имеет в виду куммулятивный эффект любых изменений вообще. Идея прогресса, продолжает он, имеет в западной историографии свою историю, в которой сменяли друг друга идеи необратимости и конца прогресса (религиозные идеи мессианства, миллениума, завершения и пр.), идея современности (модернизма), идея революции, идея эволюции, идея развития. С этими представлениями о прогрессе сосуществует идея циклического характера исторических изменений, доминирующая в античности, в раннем Ренессансе. В эпоху Реформации сформировалась идея некоего баланса между прогрессом и цикличностью, ее поддерживали Дж. Виллани, Э. Гиббон, Дж. Вико, а в XX веке - спекулятивная философия истории: О. Шпенглер, П. Сорокин, В. Парето, А. Тойнби и др.
2. Разработка идеи прогресса, но одновременно дистанцирование от нее формирует западный интерес к исторической перспективе. Интерес к исторической перспективе или «чувство анахронизма» Бёрк понимает как идею о том, что прошлое не неизменно, а крайне вариативно, каждый исторический период имеет свой собственный культурный стиль и индивидуальность. Эту идею, по его мнению, можно описать как чувство «культурной дистанции», взгляд на прошлое как на «чужую страну».
3. Чувство анахронизма может рассматриваться как часть более широкого блока западных идей и допущений, часто описываемого словом «историзм», определенным Ф. Майнеке как интерес к индивидуальному (специфическому, уникальному) историческому развитию.
4. Интерес к индивидуальному привел западную историографию к обратному движению - интересу к коллективному, и этот интерес не есть изобретение постмодерна, а давняя традиция западной историографии, бёрущая начало еще у Като, который написал историю Рима «без имен», как историю фамилий, городов, храмов, религий и пр. Здесь, как и в случае с линейной и циклической моделью истории, налицо со-существование двух разных направлений в историографии.
5. Западная историография отличается в своих основаниях склонностью к исследованию эпистемологических проблем, проблем исторического знания вообще. Историки конца XVII - начала XVIII века разработали концепцию разных степеней правдоподобия в историче¬
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И МИРОВАЯ...
11
ских утверждениях о прошлом и тем самым положили начало традиции взаимосвязи западной историографии и западной науки. Эта связь, как подчеркивает Бёрк, всегда была одновременно и тесной и сложной: одни историки объявляли себя «учеными», другие всячески отмежевывались от такого наименования. Так или иначе, но дебаты с наукой стали отличительной чертой западной историографии. Кроме того, в последней стало весьма популярным употребление термина «закон» («трибунал» истории), а также метафорическое уподобление деятельности историка детективному или судебному разбирательству.
6. Попытки исторического объяснения свойственны историографии вообще, но выбор термина «каузальность» (причинность) в качестве базы для этих объяснений есть отличительная черта западного исторического мышления. Бёрк полагает, что эта особенность западной историографии произошла в силу формирования последней на основе модели естествознания. «Каузальность» есть оборотная сторона термина «симптом», предложенного еще медициной Гиппократа. В этом же контексте употребляется термин «кризис», а в целом упомянутый в п. 5 «закон» истории часто ассоциируется с идеей «закона человеческого поведения» в духе Маккиавели и это, считает Бёрк, указывает на значительное влияние юриспруденции на формирование западной историографии. Проблема исторического объяснения (каузальный подход) нередко вступает в противоречие с истористской идеей приоритетного исследования индивидуальности, и это противоречие приняло форму герменевтического исследования истории, подчеркивающего значение (внутреннее истории) более, чем причину (внешнее истории). Так, в западной историографии родилось сложное сосуществование каузального и герменевтического подходов.
7. Западные историки весьма гордятся своей так называемой объективностью. В формировании последней Бёрк выделяет две стадии. Первая связана с идеей «беспристрастности» историка и была в наибольшей степени обсуждаема в эпоху протестантской Реформации. Идеал историка понимался как умение избежать «предвзятости», все равно религиозной или политической. На второй стадии, продолжающейся сегодня, появилось понятие «объективности» историка, классическим примером которого считается ранкеанский принцип «вымывания себя» из исторического исследования в пользу чистой фактографии.
8. Количественный поход к истории. По убеждению Бёрка применение количественных методов исследования есть старейшая традиция западной историографии. Уже в начале XIV века Джованни Виллани включал в свои хроники подсчеты количества детей, посещающих школы во Флоренции, что позже получило название «арифметической ментальности»; в XVIII веке была весьма популярна история народонаселения, а в Х1Х-м - история ценообразования, чрезвычайно широко распространенная в немецко-говорящем мире. На основании этого Бёрк делает
12
КУКАРЦЕВА Марина
вывод о том, что западной историографии придал форму западный капитализм, равно как и западная наука и юриспруденция.
9. Литературные формы западной историографии есть проявление ее сущности. Бёрк указывает на длительную и запутанную историю связи литературы, культуры и искусства с западной историографией, на наличие несомненных аналогий между историческими и литературными нарративами. Отдельно Бёрк рассматривает тропологическую теорию X. Уайта и утверждает, что сознательно или бессознательно, но жанры литературы оказывают огромное влияние на формирование сущности западной историографии.
10. Западные историки обладают таким же специфическим взглядом на пространство, как и на время. Классическим подтверждением этого тезиса является «Средиземноморье» Броделя, сформировавшее концепцию геоистории. Но вместе с тем, как подчеркивает Бёрк, подобные идеи высказывали Д. Гиббон и Ж. Бодин в XVII веке, поэтому можно утверждать, что проблемы исследования исторической географии свойственны западной историографии достаточно давно. А в целом специфические черты западной историографии придали не только юриспруденция, наука и капитализм, но и процессы колонизации, как бы они ни назывались (открытие новых земель, захват, империализм).
Специфические элементы западного исторического мышления перечислены Бёрком в порядке убывания их значения. Вместе они дают некий «идеальный тип» западного исторического мышления или систему западных историографических принципов и допущений. Впрочем, как подчеркивает Бёрк, это даже не система как дедукция аксиом, а «конфликт систем или система конфликтов», в которой представлен некий баланс различных «сил», характеризующих историческое мышление и историописание на Западе.
Комментируя концепцию Бёрка, Френсис Хартог, Франк Анкер- смит, Йохан Галтунг, Георг Иггерс и Хайден Уайт, приходят к выводу, что он или просто эктраполирует западную матрицу исторического мышления на все остальные историографические традиции или не учитывает самых глубинных истоков западного исторического сознания. Они полагают, что в поле зрения Бёрка не попадают некоторые весьма важные характеристики западного исторического дискурса. Г. Иггерс, например, - один из авторов нашей книги - полагает, что Бёрк описал западную историографию в терминах веберианской концепции рациональности, «работающей» только в современном и постсовременном мире. Средневековье и начало новейшей истории остались вне сферы его размышлений1, но для того чтобы быть абсолютно исчерпывающим в рассуждениях, необходимо рассмотреть западное историческое мышление в контексте всей западной культуры, от века
1 C. Iggers. What is Uniquely Western about the Historiography of the West in Contrast to the China? // Ibid.
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И МИРОВАЯ...
13
к веку. Тогда станет ясно, что рядом с инспирированной капитализмом моделью исторического дискурса существует (пусть и архаичная) модель исторического мышления, созданная в структуре феодальных представлений о мире. И именно эта модель одинаково свойственна как западному, так и не-западному историческому дискурсу как и связь с риторикой, о которой Бёрк вообще не упоминает.
Авторы, размышляющие об идеях Бёрка с точки зрения развития национальных теорий историографии, расставили акценты немного иначе. Они подчеркивают действительно большое значение западного стиля исторических рассуждений для не-западного историописания. Они считают, что подавляющее большинство историков не-западных стран разделяют убеждение (хотя имплицитно и на практике, а не эксплицитно и в теории) в том, что западное историческое мышление оказало на другие национальные способы исторических размышлений весьма сильное влияние и на сегодняшний момент оно является ведущим среди всех альтернативных ему национальных версий. Историки прибегают к сравнению и предлагают более точные и адекватные объяснения методологических особенностей национальных историографий. Садик Аль-Азм рассматривает западный исторический дискурс с перспективы арабской историографии, Годфри Муриуки - с африканской, Томас Ли и Янг-цзы Ю - с китайской, Ромила Тхапар (которую авторы данной книги считают «выдающимся современным историком Индии» - с индийской). Вместе они приходят к выводу, что в приблизительный перечень особенностей не-западного стиля исторического мышления можно занести:
1) нормативность историографии;
2) преимущественное развитие жанра исторических биографий;
3) рассмотрение направления истории как движения циклического или регрессивного;
4) распространенность матрицы официальной истории (династий- ная историография);
5) отсутствие интереса к эпистемологическим проблемам.
М. Сато выявляет особенности восточно-азиатского исторического дискурса1. Он считает, что жесткие нормы восточно-азиатской историографии формируют ее неизменяемые формы, а подвижные формы западного исторического дискурса создают условия когнитивного прочтения истории. Специфика нормативной восточно-азиатской историографии заключается, по мнению Сато, в том, что она реализуется как «важнейшее культурологическое предприятие»2, которое заключается в том, что история описывается как культурная система и это описание носит характер государственного заказа - официальной истории. Работами такого рода являются Коран, древнеиндийские «Законы Ману», древнекитай¬
1 Masayuki Sato. Cognitive Historiography and Normative Historiography // Ibid.
2 Ibid. P. 130.
14
КУКАРЦЕВА Марина
ский трактат Сыма Цяня «Исторические записки» и даже созданный по инициативе Юстиниана «Юридический кодекс Юстиниана».
По мнению Ю Янг-цзы , между западной и китайской традициями историографии нельзя провести резкую границу, хотя культурологически обусловленные отличия, безусловно, существуют. Начиная с 30-х годов XX века, китайская историческая наука находились под огромным влиянием марксистской теории истории и только сейчас начался процесс возвращения к национальной историографии в ее собственных терминах - создание «Нового конфуцианства». Его основы создало в десятых годах XX века первое поколение китайских историков - «великие мастера национального учения», которое использовало интеллектуальный потенциал западного исторического мышления для расширения собственного горизонта, но реализуя специфические национальные исторические теории и методы. Янг-цзы считает, что сходство китайского и западного исторического дискурса заключается в следовании того и другого «научному методу» и юридической терминологии, которые китайское историческое знание некритически заимствовало у Запада. Отличия же более фундаментальны, и их выявление и идентификация возможны только в рамках исследования базовых отличий культурных традиций Запада и Китая. Янг-цзы полагает, что западное мышление вообще всегда реализовывалось в триаде «философия-религия-наука», а китайское - в холист- ском учении Конфуция о шести ступенях формирования «благородного мужа». Кроме того, традиционная китайская историография основывалась на базовых для нее учении о центральной роли исторического агента в истории; на имплицитно вытекающем из этого учения принципе восхваления и порицания (исторических агентов), выполняющем дидактическую и критическую функцию в историческом объяснении. На этом основании Янг-цзы полагает, и с ним полностью согласен Томас Ли1 2, что китайскую традицию историографии можно назвать «политическим или моральным критицизмом»3 и он настолько имманентен китайскому историческому дискурсу, что, несмотря на закономерные интеллектуальные ре-ориентации, и сегодня оказывает на него сильнейшее влияние. В западном мышлении этот критицизм был отвергнут как препятствие научной объективности, там историческое суждение и фактическое воссоздание исторических событий есть две стороны одного и того же, а в китайской историографии это -
1 Ying-shih Yu. Reflections on Chinese Historical Thinking 11 Ibid.
2 Th. H.C. Lee. Must History Follow Rational Patterns of Interpretation? Critical Questions from a Chinese Perspective.
J Ying-shih Yu. Reflections on Chinese Historical Thought. P. 161; Thomas H. C. Lee. Must history Follow Rational Patterns Of Interpretations? Critical Questiom\ns from a Chinese Perspective. P. 175-176.
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И МИРОВАЯ...
15
конфликтующие принципы. Для того чтобы соблюсти объективность, китайскому историку приходилось оставлять возможность пересмотра анализируемых событий с точки зрения морали, что далеко не всегда приводило к желаемому результату. Возможно, причиной возникновения подобного акцента в исторических исследованиях стала задача конструирования официальной истории. Она публиковалась по заказу правительства «Палатой исторических уложений» каждый раз, как происходила смена династий, при этом факты излагались настолько тенденциозно, что сейчас существуют по меньшей мере 24-25 таких официальных историй Китая. Кроме того, каждый раз по-новому интепретируемый исторический факт формировал основу для нового мнения (суждения) человека об историческом событии. Эта идея была общей для всех стран Восточной Азии, рассматривающих конфуцианство как свою официальную идеологию. Факт всегда сопровождался комментариями историка, причем факт и комментарии излагались в разных эпистемологических терминах. Купно эти два обстоятельства должны были раскрывать смысл поступков исторического агента и сообщать историческому изложению объективность так, как ее понимали в восточно-азиатской историографии.
Помимо этого, традиционная китайская историография, в отличие от западной, абсолютно не телеологична, в ней отсутствует про- виденциалистский взгляд на историю и ей чужда идея линейного прогресса с его фиксированным завершением в каком-либо гармоничном обществе. Наоборот, согласно китайским представлениям об истории, она никогда не будет завершена и в ней невозможно выявить универсальные законы (Т. Ли подчеркивает, что китайские историки никогда не исследовали макро аспекты истории), но это не значит, что история циклична, что часто неоправданно, только на основании известной идеи «династических циклов» приписывается китайскому историческому мышлению. Томас Ли вообще считает, что китайский историк склонен понимать историю или как броуновское движение исторических событий и агентов или как равновесную систему. На самом деле, считает Янг-цзы, невозможно с точностью сказать, какова же доминанта представлений о Всемирной истории в китайской историографии. Наверное, здесь дело обстоит так же, как и с проблемами «инди- видуальное/коллективное», «объяснение/интерпретация» в западном историческом дискурсе. В отличие от последнего, замечает Г. Иггерс, уже в ранней китайской историографии методы распознавания подлинности текстов, а также методы текстовой критики были развиты намного более высоко, чем в Европе до эпохи Возрождения. Правда, эти методы относились к области внешней критики, устанавливающей подлинность источников. В области внутренней или собственно исторической критики, проверяющей подлинность источников, китайское историческое мышление достигло меньших успехов. Подводя
16
КУКАРЦЕВА Марина
итоги, Янг-цзы пишет, что одну из основных черт китайской философии - неразвитость логико-эпистемологического сознания - можно применить mutatis mutandis к традиции китайской историографии. В этом смысле, продолжает его Т. Ли, китайский исторический дискурс скорее герменевтичен, он сконцентрирован не на исследовании природы и процесса истории, не на выявлении ее регулярностей и устойчивых структур, а на размышлениях об ее значении.
Интересно, что японский исторический дискурс как вариант нормативной историографии Восточной Азии разделяет с китайским историческим мышлением указанные черты: заметную склонность к литературизации исторических исследований, причем, как замечает Сато, между этой склонностью и известной чертой японского национального характера, которую И. Моррис назвал «благородство неудачи»1, существует явная связь. Созданная «эстетика неудачи», выражающаяся в восхищении трагическими героями и сочувствии слабым, была экстраполирована на исторические нарративы, главным образом в жанре исторических биографий. В результате японский исторический дискурс нередко реализуется как историческая новелла или как историческое эссе, оставляя историческую науку Японии несколько в стороне от академической истории Европы.
Особенности ранней историографии Индии на основе анализа древних и средневековых источников выявляет Ромила Тхапар2. Она указывает, что, в отличие от западного, индийское историческое мышление рассматривало движение истории за очень немногими исключениями как циклическое и это осуществлялось для того, чтобы прошлым легитимировать настоящее. Такая задача ставилась не столько из политических целей или целей артикуляции исторического процесса, сколько помогала «держать в тонусе» историческое сознание. В связи с этим весьма популярными были хроники (истории династий) и биографии (в том числе и генеалогии), выполненные в жанре итихас - исторических сказаний. В итихасах исторические события рассматривались в контексте отдельной личности и исторического времени, референция к карме помогала объяснять мотивы действий исторических агентов. Кроме того, в самом историческом нарративе в иплицитной форме обсуждались важные политические проблемы, например легитимация узурпирования трона младшим братом. Последнее требовало пересмотра порядка исторических событий и их действующих сил и даже обоснования привлечения в историю сил проведения. По убеждению Р. Тхапар, жанр древнеиндийских итихас в целом соответствует той манере историописания, которая сложилась в эпоху Просвещения, когда не столько текст, сколько контекст помогал разбираться в исторических коллизиях.
11. Morris. The Nobility of Failuer. London, 1975.
2 R. Thapar. Some Reflections on Early Indian Historical Thinking // Ibid.
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И МИРОВАЯ...
17
Для арабской историографии и философии истории западная парадигма историописания была привлекательна еще со времен завоевания Египта Наполеоном. Сегодня схожесть арабской и западной историографии, считает Садик Аль-Азм1, детерминирована особенностями развития западного капитализма, науки и юриспруденции, а также очевидным произрастанием арабского стиля исторического дискурса от византийской и греко-христианской средневековой культуры. И это не просто допущения, как о них говорит Бёрк, а «базовые реальности». Некоторые тезисы Бёрка, замечает Аль-Азм, не согласуются с собственно арабским взглядом на историю, например, традиционная и классическая арабская исламская историография понимает движение истории не как прогресс, а как регресс - движение от некоторого харизматического ревеляционного момента: после каждого откровения (Мусы, например), история сворачивается до нового откровения (Исы), когда темпоральный процесс истории как бы притормаживает и смягчаются условия жизни человечества. Коран является последним откровением, поэтому ход истории продолжает сворачиваться по спирали до нового судного дня. Тариф Калиди в качестве особенностей исламской историографии по сравнению с обсуждаемыми западными выделяет две важнейшие, а именно: постоянный интерес к истории и этнографии не-мусульманских наций и такой же интерес к жанру исторической биографии2. К этому мнению присоединяется Азиз Аль- Азмех. Он подчеркивает, что в поздней античности существовали две крайние точки - Константинополь и Багдад, имевшие друг с другом гораздо больше общего, чем Константинополь с Магдебургом, Парижем или григорианским Римом3. Поэтому особенности исторического мышления Запада есть в значительной мере и особенности исторического мышления Востока
Г. Мариуки выявляет особенности африканской историографии. Специфика последней заключается в активном использовании и теоретической разработке устной истории (весьма популярной на Западе сегодня), что инспирировано особенностями развития африканского историографического знания вообще4 5. Ключевая же особенность состоит в том, что африканская цивилизация не имеет письменной истории, и это как бы ставит ее по другую сторону исторического дискурса. Как подчеркивает М. Диауара^, при компаративном анализе западного и любого другого историографического дискурса необходимо
' S. J. Al-Azm. Western Historical Thinking from an Arabian Perspective // Ibid.
2 Tarif Khalidi. Searching for Common Principles: A Plea and Some Remarks on the Islamic Tradition // Ibid.
3 Ibid. P.61.
4 G. Mariuki. Western Uniqueness? Some Counterarguments from an African Perspective. P. 142-147.
5 Mamadou Diawara. Historical Programs. A Western Perspective. P. 150.
18
КУКАРЦЕВА Марина
учитывать особенности обоих полей исследования, иначе возникает риск впасть в заблуждение.
Принимая во внимание все эти рассуждения, к пяти основным тенденциям глобальной историографии, предлагаемым авторами данной книги своим читателям:
1) продолжающийся культурно-лингвистический поворот, положивший начало так называемой «новой культурной истории»;
2) беспрецедентная экспансия феминистской и гендерной истории;
3) новый союз между историческими и социальными науками в свете постмодернистской критики;
4) вызов национальной историографии, связанный (хотя и не только) с постколониальными исследованиями;
5) подъем всемирной истории и отличной от нее истории глобализации,
мы бы добавили еще две:
6) поиск теории истории и решение стоящих перед ней теоретических проблем;
7) дальнейшее развитие и анализ методологии истории1.
Конечно, в книге содержится множество утверждений, с которыми
можно спорить (о сущности глобализации и модернизации, о понимании и трактовке философии истории Гегеля, позитивизма О Конта, идей К. Маркса, интерпретации национализма и др.); книгу можно добавлять многими новыми данными (например, о русской исторической мысли XX века, которая у авторов ограничилась ссылкой только на личность и труды А. Гуревича, замечательного, но не единственного талантливого историка советской эпохи); продолжать размышления авторов в новых аспектах и направлениях (например, о судьбах историографии в контексте «азиатской» глобализации, распространения исламизма, распада СССР и формирования исторической школы (школ) на пространстве СНГ). Но это и совершенно естественно, ведь мир не стоит на месте, конфигурация сил в мировом сообществе постоянно трансформируется. Авторы книги рассуждают, например, об особенностях подхода к историописанию в Ливии эпохи Каддафи, которая сегодня сама стала историей, и историки Ливии должны теперь найти способ честно написать об обстоятельствах ее краха и гибели лидера Джамахирии. В том числе и в контексте глобализации.
Купно, чтение книги и размышление над поставленными в ней вопросами, предлагаемыми выводами и оценками, не просто сообщит читателю массу новых сведений, познакомит с новыми интерпретациями старых концепций и проблем, но и станет увлекательным интеллектуальным занятием.
1 См об этом: Репина Л. П. Историческая наука на рубеже ХХ-ХХ1 вв. М., 2011; Кукарцева М. А. Трансформация эпистем: познание истории в ускользающем мире // Способы постижения прошлого. М., 2011.
19
ПРЕДИСЛОВИЕ к английскому изданию
Однажды издательство Longman обратилось к Георгу Иггерсу с просьбой написать историю современной историографии, причем речь в ней должна была идти преимущественно об истории западной историографии, начиная с эпохи Просвещения. Однако по мере того как Иггерс работал над рукописью, нарастали его сомнения по поводу данного проекта. Они были вызваны тем, что к тому времени на английском и других романо-германских языках уже было опубликовано немало исследований, посвященных истории историографии, среди которых, например, книга Майкла Бентли «Современная историография» и собственная книга Иггерса «Историография в XX веке»1 2. При этом никто не обратил внимания на существующее в последние два с половиной века взаимодействие между историческими исследованиями на Западе и в остальной части мира. И по мере того как Иггерс работал над рукописью, он осознавал необходимость писать историю современной историографии немного иначе, а именно - с точки зрения глобальной перспективы, уделяя большее внимание политическому, социальному и интеллектуальному контекстам исторических исследований. Тогда он и пригласил к сотрудничеству Эдварда Вана, закончившего Восточно-Китайский педагогический университет в Шанхае и получившего степень доктора философии, специалиста по восточноазиатской и европейской интеллектуальной истории и историографии в Сиракузском университете. К тому моменту, когда в 1984 году Ван впервые посетил лекцию Иггерса в Пекине, они уже обменялись материалами своих исследований. Иггерс прочитал диссертацию Вана по модернизации китайского исторического мышления и историописания в XX веке, в которой Ван исследовал взаимодействие западных и традиционно китайских исторических практик, а также его книгу «Творя Китай через историю», в которой Ван детально развивал сформулированные им ранее идеи'. В 1999 году вдвоем они организовали международную конференцию в Государственном университете Нью-Йорка в Буффало с публикацией материалов, посвященных анализу изменений в историческом мышлении в различных западных и азиатских обществах и в Тропической Африке.
1 Michael Bentley Modern. Historiography, 1994; G. Iggers. Historiography in the Twentieth Century, 1997.
2 Edward Wang, /nventing China through History: The May Fourth Approach to Historiography, 2001.
20
Предисловие к английскому изданию
Сборник трудов конференции был издан под заголовком «Поворотные моменты историографии: кросс-культурная перспектива» и стали подготовительным этапом их последующего совместного проекта1. В начале 2006 года они попросили Суприю Мукерджи помочь им с частью книги, посвященной индийской историографии. До того как она приехала в Буффало работать с Иггерсом над своей докторской диссертацией по современной интеллектуальной истории и историографии, она училась в Нью-Дели вместе с Сумитом Саркаром, ведущим историком современной Индии и индийской историографии. Суприя Мукерджи не только написала те разделы книги, которые связаны с современной исторической и социальной мыслью Индии, но своими критическими замечаниями вообще внесла большой вклад в процесс подготовки рукописи к печати. Без ее помощи было бы очень трудно завершить этот проект. Все три автора очень благодарны самым разным людям за поддержку и советы, полученные ими в ходе работы над книгой. В декабре 2002 года, когда работа Иггерса и Вана была еще в самом начале, Юрген Кока пригласил их на международную конференцию в Берлин с участием историков и социологов из Восточной Азии с целью обсуждения проекта. Впоследствии для презентации проекта они получали приглашение из университетов Германии, Австрии, Италии, Венгрии, Испании, Великобритании, Соединенных Штатах, Мексики, Китая, Японии и Южной Кореи. Кроме того, Георг Иггерс особо признателен Институту истории Макса Планка в Гёттингене, в котором имеется обширная библиотека по историографии, и администрация которого создала ему великолепные условия для работы, предоставила возможность обсуждать свои идеи с прикрепленными к Институту исследователями и его многочисленными иностранными посетителями. Авторы книги хотели бы выразить свою благодарность многим людям, с которыми они консультировались в процессе своей работы, а также своим супругам: Георг Иггерс - Вильме, Эдвард Ван - Ни, Суприя Мукерджи - Пинаки за понимание и поддержку в ходе работы над проектом.
1 Turning Points in Historiography: A Cross-Cultural Perspective, 2002.
21
ВВЕДЕНИЕ
Мы живем в эпоху быстрой глобализации1. Ее темп ускорился после окончания «холодной войны» и особенно в последние несколько десятилетий. Основной толчок глобализации был дан на Западе, но импульсы поступают отовсюду, особенно из Восточной Азии. Однако, несмотря на то, что глобализация в значительной степени реализовывалась как вестернизация, она ни в коем случае не вылилась в универсализацию, реакция на вызов Запада в каждом конкретном случае была опосредована местной культурой. В действительности мы являемся свидетелями возникающего вследствие глобализации единства человечества и одновременно его увеличивающейся дифференциации. Глобализация, таким образом, чрезвычайно сложна и разнообразна; с одной стороны, она действительно ведет к высокой степени универсализации в организации экономики, развитии науки и техники и даже в заимствованном у Запада образе жизни; с другой стороны, к значительным расхождениям с западным мироощущением и практиками и даже к явному сопротивлению западным влияниям.
Однако исторические исследования отстали от этой тенденции к глобализации. В этой книге мы намереваемся проанализировать трансформацию исторического мышления и историописания в рамках этого широкого глобального контекста - глобализации. В последние два столетия, особенно в XX веке, было написано множество историй историографии. И все они носят западно- или национально- центричный характер, причем в первом случае эти истории распадались на национальные традиции и не предполагали сравнений. Исторические труды в целом, особенно в течение двух с половиной десятилетий после событий 1989-1991 годов, все больше и больше обращаются к исследованию не западных миров и, гораздо больше, чем раньше, - к социокультурным аспектам этих миров. Это резко отличается от многочисленных исследований истории историографии опубликованных совсем недавно, на самом рубеже XX и XXI веков2. Ав¬
1 Jürgen Osterhammel and Niels P. Peterson, Globalization: A Short History. Princeton, NJ, 2005; Bruce Mazlish &c Akira Iriye, ds, The Global History Reader. London, 2004.
2 Mirjana Gross, Von der Antike bis zur Postmodeme. Die zeitgenössische Geschichtsschreibung und ihre Wurzeln. Vienna, 1998; Michael Bentley, Modern Historiography. London, 1999, Anna Green and Kathleen Troup, eds, The Houses of History: A Critical Reader in Twentieth-Century History and Theory. New York, 1999; Ralf Torstendahl, ed., An Assessment of Twentieth-Century Historiography. Stockholm, 2000 - в этой работе есть главы по Китаю, Японии и Африке; Hans-Ulrich Wehler, Historisches Denken am Ende des 20. Xahrhunderts. München, 2001; Lloyd Kramer and Sarah Maza, eds, A Companion to Western Historical Thought. Maiden, MA, 2002;
22
ВВЕДЕНИЕ
торы изрядного количества работ, особенно антологий, обратились к анализу исторической культуры разных не западных обществ. Но за исключением недавно изданного в Германии коротенького аналитического обзора, выполненного Маркусом Фёлькелем1, всесторонние исследования, рассматривающие историческую мысль компаративистки и в глобальной перспективе, пока еще отсутствуют. Обширные истории историографии продолжают оставаться западо-центричными и, как и прежде, ограничиваются совокупностью английских, французских, немецких и иногда итальянских трудов по данному предмету2.
Следует отметить два проекта подготовки к изданию исследования мировой и межкультурной истории историографии, причем один из них - наш. Первый был инициирован канадским историком Даниэлем Вулфом в обширной статье «Историография», помещенной в «Новом словаре истории идей»3, заменившей статью выдающегося британского историка и историографа Герберта Баттерфилда в «Словаре истории идей»4. Если Баттерфилд, за исключением краткого раздела по древнекитайской историографии и параграфа, посвященного позднее- средневековому мусульманскому историку Ибн Халдуну, обращался только к западным традициям, то Вулф сделал обзор мирового исто- риописания, начиная с раннего времени и до наших дней. Его эссе рассматривалось в качестве проспекта многотомной Оксфордской всемирной истории историографии, в настоящее время успешно реализуемой большой командой специалистов по различным историческим культурам. Проект Вульфа исходит из явного отказа от свойст¬
Joachim Eibach and Günther Lottes, eds, Kompass der Geschichtswissenschaft. Göttingen, 2002; Donald Kelley, Fortunes of History: Historical Inquiry from Herder to Huizinga. New Haven, CT, 2003 and Frontiers of History: Historical Inquiry in the Twentieth Century. New Haven, CT, 2006; Georg G. Iggers, Historiography in the Twentieth Century: From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge. Hanover, NH, 2005. rev. ed. Lutz Raphael, Geschichtswissenschaft im Zeitalter der Extreme. Theorien. Methoden, Tendenzen von 1900 bis zur Gegenwart. München, 2003 кратко касается исторических исследований в XX веке за пределами западного мира. Поистине глобальным словарем является энциклопедия, изданная под редакцией Даниэля Вульфа: Daniel Woolf, ed., A Global Encyclopedia of Historical Writing, 2 vols. New York, 1998. Также полезна энциклопедия, вышедшая под редакцией Келли Бойд: Kelly Boyd, ed. Encyclopedia of Historians and Historical Writing, 2 vols. London, 1999.
1 Markus Völkel, Geschichtsschreibung: Eine Einführung in globaler Perspektive. Köln, 2006.
2 Lutz Raphael, Geschichtswissenschaft im Zeitalter der Extreme кратко касается незападного мира в XX веке. В своей книге объемом не более 400 страниц Geschichtsschreibung: Eine Einführung in globaler Perspektive Фёлкел рассматривает историописание во всемирном масштабе, начиная с ранней античности.
Woolf Historiography // New Dictionary of the History of Ideas (Farmington Hills, MI, 2005). Vol. 1. xxxv-lxxxviii.
4 Herbert Butterfield, 'Historiography' // Dictionary of the History of Ideas. New' York, 1973. Vol. 2, 46ГЧ98.
ВВЕДЕНИЕ
23
венной предшествующим историям историографии идеи центральности западной мысли и настаивает на равноценности всех исторических культур. Сбор такой информации - необходимый шаг к широкому обзору исторической мысли во всем мире.
Наша книга другая, она намного меньше запланированной Оксфордской истории и уступает по масштабу ей и книге Маркуса Фёл- кела, но, будучи написанной тогда, когда растущие взаимодействия миров позволяют проводить их сравнения, подчеркнуто компаративна. Мы ограничиваемся периодом с конца XVIII века до сегодняшних дней и интересуемся взаимодействием западных и не западных историографических традиций в глобальном контексте. Хотя экономии- ческое взаимодействие стало значимым намного раньше, контакты между историками разных культур были затруднены. В Восточной Азии и мусульманском мире от Магриба до Юго-Восточной Азии существовали устойчивые традиции исторической учености; в индуистской Индии существовала древняя письменная, а в субтропической Африке - устная исторические традиции, но кросс-культурных обменов было совсем немного. Несмотря на это, не следует упускать из виду раннее влияние мусульман на Индию и часть субтропической Африки. В Индии эта изоляция была преодолена в последней трети XVIII века, вместе с утверждением британского колониального правления, а в мусульманских странах и в Восточной Азии ее прорыв произошел еще позже, в XIX веке.
На первый взгляд, это взаимодействие проявлялось только в одностороннем влиянии, т.е. во влиянии Запада на не западный мир. Мы говорим о процессах вестернизации - именно процессах, во множественном числе - повсеместно подвергшихся модификации перед лицом сопротивления ей со стороны традиций и существующих институтов. Мы рассматриваем западные способы мышления не как позитивные или нормативные по своей сути, а как существующие в определенном историко-культурном контексте. Сталкиваясь с западным влиянием, мы хорошо понимаем, что Запад не гомогенный, а крайне гетерогенный феномен, разделенный политически и интеллектуально, поэтому мы, скорее, можем говорить о западных влияниях, а не о западном влиянии, хотя одна из задач данного исследования будет состоять в выявлении общих для всего западного мира моментов. Однако указанная гетерогенность характерна не только для Запада, но и для взаимодействующих с Западом культур, вследствие чего крайне разнообразна и рецепция ими западных влияний. Вот почему следует с чрезвычайной осторожностью относиться к известным попыткам Макса Вебера охарактеризовать Запад через противопоставление его другим цивилизациям, например Индии или Китаю, даже если Вебер рассматривал характеристики этих цивилизаций не как реально существующие феномены, а как идеальные типы, как познавательные модели, созданные в целях лучшего понимания предмета исследования.
24
ВВЕДЕНИЕ
Мы, ставя в качестве центральной задачи нашего исследования изучение взаимодействия западных и не западных исторических культур во всей сложности этого процесса, осознаем необходимость быть очень внимательными и осторожными. Как уже отмечалось выше, мы начинаем с конца XVIII века, потому что именно тогда различные традиции исторического мышления, существовавшие до этого изолированно (хотя и не абсолютно отдельно) друг от друга, вступают во взаимодействие.
Прежде чем мы приступим к этой работе, следует задаться вопросом о предмете историографии. С начала XX века основные обзоры истории историографии ограничивались изучением процесса написания истории, т.е. «историография» в них, в конечном счете, означает историописание. И с момента институализации исторической науки в XIX веке, этим занимались преимущественно профессиональные историки. Было проведено довольно четкое разделение между историей и литературой. Нам же следует задуматься об историографии не только как о форме репрезентации прошлого таким, каким оно было на самом деле, но и как о форме исторической памяти. Но память обманчива. Огромный интерес к истории и к изучению истории в новое время тесно связан с возникновением мощного национального чувства не только на Западе, но в XX веке и в тех странах, которые, подобно Индии, находились под контролем Запада или, подобно Китаю, являлись доминионами, а также в Японии. Нации, населяющие Индию, никогда не существовавшие так таковые, сконструировали себя при помощи истории, часто используя воображаемые, вымышленные картины своего прошлого для оправдания своего настоящего. Историческая наука играет важную роль в конструировании такой национальной памяти. В теории существует очень четкое разделение между наукой и вымыслом; на практике же в историческом воображении не только западных, но и не западных стран они тесно взаимосвязаны.
Основной недостаток существующих историй историографии состоит в том, что они воспринимали историческую науку слишком серьезно, в большей или меньшей степени принимая ее внешние формы за чистую монету и не осознавая полностью степень укорененности западной и не западной науки в более широкой по своему характеру исторической культуре. Таким образом, в то время как историческая наука, возникшая как профессиональная дисциплина в середине XIX века сначала в Германии, а следом и в других западных странах и одновременно в Японии периода Мейдзи (1868-1912), считает себя сторонницей научной объективности, на практике же она использует свои исследовательские процедуры для поддержания национальных мифов. Немецкая историческая школа под маской научной объективности пыталась легитимировать объединение в XIX веке Германии под властью прусских Гогенцоллернов; Жюль Мишле изучал архивы для защиты французского демократического национализма, а япон¬
ВВЕДЕНИЕ
25
ские историки сначала использовали ранкеанские методы критической науки для критики конфуцианской историографии, но по мере распространения японского национализма стали всемерно поддерживать японские имперские традиции. Это не означает, что историки не должны стремиться быть правдивыми, это означает, что им следует осознавать свои собственные пристрастия. Критика искажений прошлого должна быть первоочередной задачей историка.
Сказанное ведет нас к следующей дилемме. С одной стороны, мы осознаем пределы не только исторической науки, но - более широко - историописания как основы для создания компаративной, межкультурной истории исторической мысли. С другой стороны, мы будем опираться в первую очередь на исторические тексты. И этому есть практическое объяснение. Историческое сознание выражает себя во множестве форм не только в науке, но и в художественной литературе, скульптуре, памятниках и архитектуре, в праздниках, песнях, в различных нематериальных и невербальных способах выражения коллективной памяти. Учесть все эти проявления в нашем исследовании было бы невыполнимой задачей, требующей, согласно методу культурной антропологии К. Гирца, «насыщенного описания» для реконструкции сети значений, составляющей историческую перспективу культуры. Но даже тогда мы можем пасть жертвой иллюзии, будто культуры представляют собой интегрированные системы, в то время как они могут содержать в себе множество противоречивых моментов, сопротивляющихся своему включению в систему. Мы будем работать с текстами и с создавшими их историками, не забывая, что эти работы по истории отражают более широкие общественные настроения в породивших их культурах. Таким образом, сосредотачиваясь на историографии, мы будем рассматривать исследуемые нами работы в более широком институциональном, политическом и интеллектуальном контексте. Важно в компаративном и интеллектуальном ключе исследовать организационную структуру исторической науки и преподавание истории в новое время, например разработку дисциплин университетского цикла для профессиональных историков, правительственную поддержку этих инноваций, место исторической науки в формировании политической позиции среднего класса и влияние на историописание научно-популярных идей, таких как теории социального дарвинизма в конце XIX - начале XX века.
Темой нашей книги ни в коем случае не является история культуры или общества в глобальном масштабе, однако признание взаимосвязи историописания с другими аспектами жизни общества является ее неотъемлемой частью. Один из важнейших вопросов - вопрос об аудитории, которой историки адресуют свои работы. На протяжении исследуемого нами периода эта аудитория менялась. С одной стороны, институализация и профессионализация исторической науки вела к растущей специализации, в результате чего история все больше пи¬
26
ВВЕДЕНИЕ
салась специалистами для специалистов, которые, будучи профессионалами, очень часто были изолированы от широкой публики. Тем не менее, значительное количество исторических трудов, написанных такими историками, как Леопольд фон Ранке и Жюль Мишле, воспринималось аудиторией, часто совпадавшей с читателями больших исторических романов, в качестве художественной литературы. Наконец, следует обратить внимание на роль школьных учебников как в западных, так и в не западных странах; на меру использования ими данных академической науки, но даже в большей степени на ту функцию, которую они играют в трансляции тех образов исторического прошлого, которые правительства хотят внедрить в сознание подрастающего поколения. Более того, и на Западе, и за его пределами произошли изменения в средствах массовой информации, распространяющих исторические сведения, и вместе с ними изменилась и аудитория. Произошел переход от преимущественного использования печатного слова в XIX веке (не только в научных, но и в популярных публикацих, включая газеты, иллюстрированные журналы и историческую беллетристику) до дополнения его в XX веке сначала кинофильмами, потом радио, телевидением и видео и относительно недавно Интернетом.
Занимаясь изучением исторической мысли и историописания в период, когда взаимодействие исторических культур только началось, мы используем два понятия для структурирования канвы нашего исследования. Первое из них (мы его уже упомянули) - глобализация; второе - модернизация. Они не идентичны, но взаимосвязаны. Глобализация, конечно, началась раньше современного периода истории. Даже в очень ранние времена в истории цивилизаций уже существовали обмены, не только военные и торговые, но и культурные. Распространение финикийского алфавита, созданного из египетских иероглифов, стало основой для еврейского, греческого и римского письма. Другим примером может служить эллинизация Римского мира, еще одним - распространение основных мировых религий типа буддизма, христианства и позднее ислама. В эпоху открытий в ХУ-ХУ1 века. было положено начало другой форме глобализации. Мы считаем необходимым различать три разные фазы этого процесса.
Первая связана с появлением мировой капиталистической рыночной экономики и началом западной колонизации. В этот период основными целями Запада были не столько страны Восточной Азии или части мусульманского мира типа Персии и Османской империи, имевшие устойчивые политические структуры, древние цивилизации и действующие экономические системы, сколько те регионы мира, которые были менее способны защитить себя, например обе Америки, Тропическая Африка, Юго-Восточная Азия, Океания и в некоторой степени Индийский полуостров. Иммануил Валлерстайн проводит различие между европейскими метрополиями, в которые были внед¬
ВВЕДЕНИЕ
27
рены способные к расширению экономические системы капиталистического типа, и колониальными перифериями, ставшими объектами западного проникновения и эксплуатации1. Нельзя сказать, что эти области были абсолютно пассивны. Торговля рабами была возможна только при сотрудничестве с африканскими вождями и купцами, а базировавшиеся на рабстве экономические системы Карибского моря, североамериканских колоний и Бразилии были интегрированы в европейские экономические системы. В Европе это совпало с периодом формирования централизованных государств с их регулярными армиями и бюрократическими структурами, некоторые из этих государств - Испания, Португалия, Англия, Франция, датские Нидерланды, Швеция и Дания - уже создали ранние национальные государства. И все-таки в этот период европейские государства еще не были способны проникнуть в устойчивые государства Западной и Восточной Азии. Ситуация изменилась с проведением в Европе и США, а с конца XIX века и в Японии, индустриализации, сопровождавшейся усилением военной мощи. Симптоматичным признаком этих перемен стал отказ британского дипломатического представителя пасть ниц перед китайским императором. Это период имперской экспансии, колонизации африканского континента, американского Севера и Юга и укрепления колониального контроля в Южной и Юго-Восточной Азии. Поражение Китая в Опиумной войне с Британией в 1839-1842 годах возвестило о начале того времени, когда Китай был больше не в состоянии успешно сопротивляться западному, а в конечном счете и японскому, проникновению.
Во второй фазе глобализации нарушилось не только политическое, военное, экономическое, но и цивилизационное равновесие. Если до XVIII века европейцы восхищались китайской и в определенной степени персидской и арабской цивилизациями, то теперь они стали считали их неполноценными. Как заметил ведущий историк по проблеме столкновения Европы и Азии Юрген Остерхаммель, «в восемнадцатом веке Европа сравнивала себя с Азией, в девятнадцатом веке ни о каком подобном сравнении не могло быть и речи»2. Отдельные элементы азиатской культуры по-прежнему привлекают внимание Запада, например японское - и отчасти китайское - искусство, архитектура и медицина. В 1913 году Нобелевской премии по литературе был удостоен бенгальский поэт Рабиндранат Тагор (1861-1941). Ори- енталистские исследования на Западе были знакомы с классической индийской, китайской, персидской и арабской литературой. Но вектор основных достижений в области науки, технологии, философии, лите¬
1 Immanuel Wallerstein, The Modem World System, 3 vols. Minneapolis, MN, 1974-1987.
2 Jürgen Osterhammel, Geschichtswissenschaft jenseits des Nationalstaats. Studien zu Beziehungsgeschichte und Zivilisationsvergleich. Göttingen, 2001, 84.
28
ВВЕДЕНИЕ
ратуры, искусства, музыки и, конечно, экономики, был проложен с Запада на Восток. На протяжении XIX - первой половины XX столетия не западный мир все больше заимствовал западные идеи, а также технологию и вооружение для защиты своей автономии и культуры, но в целом, как в случае с Японией, происходило не столько прямое заимствование, сколько адаптация западных идей и институтов к местной культуре. Поразительно, сколько западных книг во всех областях знания начиная с XIX века и ранее было переведено на китайский, японский, корейский и, в меньшей степени, на фарси, арабский и турецкий языки и как мало было переведено на романо-германские языки. Это относится и к сегодняшнему дню.
С конца Второй мировой войны начинается новая, третья фаза. После достижения почти всеми бывшими колониями независимости и с очередным превращением Китая в могущественную державу политический баланс изменился, во всяком случае внешне. И все же прежний формальный империализм сменился новым, неформальным, экономическим проникновением и господством над бывшими колониями в так называемом Третьем мире экономически высокоразвитых стран. Главное влияние глобализации проявилось в экономической сфере - появился финансовый капитализм, практически не знающий национальных границ. Современный капитализм по сравнению с его более ранней формой гораздо более глобален по своему охвату, свидетельством чему является резкое увеличение в современном мире ТНК (транснациональных корпораций) и МНО (международных неправительственных организаций). С окончанием «холодной войны» государственный капитализм советского блока уступил дорогу финансовому капитализму, и это справедливо даже для таких номинально коммунистических стран, как Китайская Народная Республика или Демократическая Республика Вьетнам. Новые информационные технологии не только преобразовали общество и экономику, но теснее связали весь мир. Культура и стиль жизни также подверглись глобализации. Из последних примеров можно привести «магдонализацию» систем общественного питания, голливудские фильмы, джинсы и поп- музыку. Безусловно, прежние образцы потребления никуда не делись, сохранив свой специфический культурный характер. Тогда же возникли современные сомнения и ощущение дискомфорта от многих аспектов современной (западной по своему характеру) цивилизации, приводившие к противодействию и даже открытому сопротивлению западному модерну не только за пределами, но даже внутри самого западного мира. Конец 1960-х, символом которых стал 1968 год, обозначил более радикальный разрыв с прежними способами мышления, чем год 1945-й. Независимо от этих событий, но одновременно с ними происходили фундаментальные научно-технические изменения - так называемая информационная революция, изменившая материальные условия жизни. Таким образом, хотя общественное мнение
ВВЕДЕНИЕ
29
зачастую выступает против растущего научно-технологического влияния, изменения, произошедшие в экономике и всех сферах жизни общества, кажутся необратимыми1.
Каким образом все это повлияло на историческое мышление и исторические исследования? Нам опять хотелось бы связать историю исторического сознания и историописания с выделенными нами фазами глобализации, понимая, что эта классификация предварительна и упрощает сложный процесс их развития. Интересно отметить, что первая фаза глобализации, предшествовавшая успехам индустриализации и имперской власти в XIX веке, другими словами, наступившая сразу после первых заморских открытий, дает нам больше примеров наличия глобальной перспективы в историописании, чем вторая. Лучшей иллюстрацией такого подхода к написанию истории может служить многотомная «Всеобщая история: с древнейших времен до наших дней», запущенная группой английских историков (преимущественно любителей) в 1736 году и действительно являвшаяся всеобщей; она включала в себя тома, посвященные не только западным, но и не западным странам и регионам, не только в Азии, но и в Тропической Африке и обеих Америках2. Создание такой истории стало возможным благодаря значительному расширению географических представлений в ходе заморских исследований. В ней Европа хоть и занимала много томов, но все же была лишь одной из множества цивилизаций.
Вторая стадия, связанная с начавшейся после 1800 года эпохой имперской экспансии, показала существенное сужение исторического мировидения. Центром внимания историков отныне была Европа, а к не западному миру подходили с позиции европейского господства. Специальные исследования так называемых восточных культур с акцентом на ранних периодах их существования все также проводились, но никак не интегрировались в более широкую картину всемирной истории. Представление о Европе, под которой понималась Западная и Центральная Европы и позже Северная Америка, как вершине цивилизации существенно препятствовало серьезному отношению к остальной части мира. Но, поскольку исторические исследования были сосредоточены на национальном государстве, как правило, отсутствовала даже эта, европейская перспектива. Подобное внимание к национальному государству свидетельствовало не только о новом национализме, но и о колоссальном доверии к архивным источникам, затруднявшем продвижение историков за пределы национальных границ и тем более за пределы Европы и Америки. Кроме того, доверие к сохранившимся в архивах государственным документам приводило к
1 Ср.: Mazlish and Iriye, The Global History Reader.
2 A Universal History: from the Earliest Account of Time to the Present. 23 тома. London, 1736-1765, создание которых было инициировано Джорджем Сейлом, ориенталистом, переведшим на английский язык Коран.
30
ВВЕДЕНИЕ
пренебрежительному отношению к более широким социокультурным факторам, хотя архивы, как мы убедимся позже, вполне могут служить основой для социально-экономической истории. Наконец, в третьей фазе, во второй половине XX века, особое внимание было обращено на не западный мир и социокультурные аспекты. Парадоксально, что отказ от идеи превосходства западной культуры и признание равноценности других культур сопровождались усилением экономического контроля западных и все больше и больше восточноазиатских капиталистических экономических систем над бывшими колониями.
Вслед за Вулфом мы полагаем, что историческое сознание не являлось привилегией Запада и присутствовало во всех культурах. Мысль о том, что только Западу свойственно историческое чувство, появилась в конце XVIII века в работах Дэвида Юма и Эдуарда Гиббона и в XIX веке неоднократно повторялась такими разными мыслителями, как Джеймс Стюарт Милль, Георг Фридрих Вильгельм Гегель, Леопольд фон Ранке и Карл Маркс. Трудно представить, как может существовать такое представление, занимавшее умы западных интеллектуалов вплоть до последней четверти XX века, перед лицом богатых историографических традиций других культур, транслируемых сквозь разные эпохи. Эта идея, однако, все еще жива, хотя и используется не для утверждения превосходства западной культуры с ее наследием эпохи Просвещения, а для того чтобы заявить об ответственности этого наследия за беды современного мира. Так, с постмодернистской позиции Хайдена Уайта, «историческое сознание» выглядит как «исключительно западное», но теперь уже с негативной коннотацией, как «предубеждение, согласно которому превосходство современного индустриального общества может быть обосновано задним числом»1. А постколониальная перспектива Ашиша Нанди позволяет ему связать западное интеллектуальное наследие, начиная с эпохи Просвещения (с ее «светским мировоззрением», «научной рациональностью» и «теориями прогресса... и развития»), с «мировыми войнами, гулагами и геноцидом двадцатого века», пришедшими на смену, по всей видимости, более здоровым культурам, «самоопределение которых» зависело от «мифов, легенд и эпоса»2.
Мы начинаем нашу историю историографии с изучения исторической мысли и историописания в момент появления первых признаков западного влияния на остальной мир, т.е. с конца XVIII века. Можно выявить различные исторические культуры, каждая из которых отра¬
1 Hayden White, Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. Baltimore, MD, 1973, 2 (рус. пер.: Уайт X. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург, 2002)
2 Ashis Nandy, History's Forgotten Doubles, History and Theory, theme is 34. 1995, 44.
ВВЕДЕНИЕ
31
жает разные мировоззрения и ценности, разные общественные и политические институты. Особое внимание мы будем уделять Западу (включая Латинскую Америку), исламским странам, Восточной Азии, Индии, а в XX веке еще и Тропической Африке. Мы осознаем существование национальных и региональных различий в каждом из этих ареалов, частично обусловленных на Западе (как во Франции, Шотландии, Италии, России и Германии и Латинской Америке) этнолингвистическими отличиями. Более того, внутри каждого из этих национальных образований, а также в Латинской Америке, которая организована несколько иначе, существуют различия в религиозной и политической ориентации; в Восточной Азии существуют корейские и японские традиции, которые, имея общий исток в лице классической китайской цивилизации, трансформировались, однако, в разную национальную специфику; в самом Китае в различные исторические периоды взаимодействуют конфуцианские, буддистские, даосистские и неоконфуцианские составляющие; в исламском мире этнолингвистические различия существуют между арабами, турками, иранцами и представителями Юго-Восточной Азии, опять-таки между суннитами и шиитами. Тем не менее, есть не только какие-то общие, свойственные для каждой из этих культур черты, которые мы пытаемся вычленить, но и такие параметры, которые выходят за пределы культурных различий в рассматриваемых нами культурах.
Второе наше понятие - то, что называется модернизацией1. Некоторые виды модернизации имели место в отдельных обществах, например в начале XIX века в Европе, не оказывая немедленного воздействия на весь мир. В Японии, до того момента, когда в 1853 году адмирал Перри положил конец ее самоизоляции, в экономике и сфере управления уже произошли важные изменения, случившиеся без прямого вмешательства западной культуры и не имевшие никакого влияния за переделами Японии. Многие социально-экономические события в этой стране фактически были связаны с модернизацией, наращивающей свои обороты, начиная с образования в XVII веке Току- гавского сёгуната. Однако, несмотря на прочную изоляцию страны, европейские исследования проводились, опираясь на переводы с голландского, поскольку голландцы были единственными представителями Запада, имевшими небольшой анклав на этом острове.
Начиная с конца XVIII века, т.е. задолго до того, как в середине XX века появился сам термин, многие социальные теории на Западе
1 См.: Р. Nolie, 'Modernization and Modernity in History', International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Amsterdam, 2001. Vol. 15, 9954-9962; См. также специальный выпуск: Stephen R. Graubard, ed. 'Multiple Modernities' // Daedalus, 129:2. Winter, 2000; Dominic Sachsenmaier, Jens Riedel and Shmuel N. Eisenstadt, eds, Reflections on Multiple Modernities: European, Chinese and Other Interpretations. Leiden, 2002, 120.
32
ВВЕДЕНИЕ
утверждали, что вся современная история была подчинена процессу модернизации. Модернизация заключалась в разрыве с традиционными способами мышления и институтами, ознаменованном тройной «революцией» в религии, экономике и политической сфере. Во- первых, это возникновение современной науки и научного мировоззрения; во-вторых, политические революции XVIII века, Американская и даже в большей степени Французская революции с их воздействием на Европу и вниманием к национальному суверенитету, основанному, по крайней мере в теории, на согласии граждан; и, наконец, протекающий в условиях капитализма процесс индустриализации. Начиная с Адама Смита и Адама Фергюсона в Шотландии и Маркиза де Кондорсе во Франции конца XVIII века и до многих научносоциальных теорий во второй половине XX века, модернизация мыслилась как единый процесс, отмеченный успехами в науке, развитием мировой и имеющей капиталистический характер рыночной экономики, сопутствующим ему укреплением гражданского общества и постепенным установлением во всем мире режима либеральной демократии. Тем временем идея модернизации была сильно дискредитирована. Одна из причин для ее критики заключается в том, что согласно классическим теориям модернизации западные страны, подобные Соединенным Штатам, могут служить образцами для всего мира, в то время как на самом деле они, по мнению критиков, служат легитимации капиталистического контроля над экономически менее развитыми регионами мира. Другая причина состоит в том, что изменения, происходящие в условиях современного мира, очевидно, ни к какому единству не привели. Так, выдающийся индийский историк Дипеш Чакрабарти в серии очерков «Провинциализация Европы» постарался продемонстрировать узость западного взгляда на историческое развитие, признающего только одну форму современности, и заявил, что современная индийская культура, включая ее местные религиозные корни, тоже является одной из форм модерна1.
Тем не менее, осознание факта разрыва с традиционными способами мышления, формами политической, экономической и социальной организации и радикального отхода от традиционных моделей мышления и институтов, остается полезным для изучения истории западного и не западного историописания. Наибольших результатов этот процесс достиг на Западе, но ни в коем случае не ограничился им. Одно из изменений заключалось в попытке вычленить историю из литературы и придать ей научный характер. Под «научностью» в дан-
1 Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton, NJ, 2000.
ВВЕДЕНИЕ
33
ном случае понималось требование написания истории профессиональными учеными на основе критического анализа свидетельств. Мы знаем, что этот растущий акцент на критике источников не был свойствен только Западу, но под его влиянием в это же время имел место в Китае и Японии, а в определенной степени и в исламских странах и Индии. И в Китае, и на Западе произошло то, что Бенджамин Элман в своем знаменитом труде о китайской учености назвал переходом от философии к филологии1. Возможно, в Европе этот процесс правильнее было бы описать как переход к филологии от теологии и религии, но в обеих культурах он включал в себя расширение светского мировоззрения настолько, что в Китае классические конфуцианские тексты, а на Западе Гомер и Библия все больше воспринимались не как канонические тексты, а как исторические источники. Эта новая концепция истории как строгой науки сопровождалась в обеих культурах профессионализацией исторических исследований. Хотя на протяжении многих столетий история в Китае писалась в основном для правящей династии чиновниками определенного типа, в ХУИ-ХУШ вв. были созданы учреждения, более свободные от прямого контроля; ориентированные на независимые исследования учреждения возникли и в Европе. Не следует преувеличивать сходные моменты. Политический, социальный и культурный контексты в Европе и Восточной Азии были различными, но изменение исторического мышления и исследовательских методов свидетельствовало о движении, конечно, частичном, к новым установкам и процедурам2. В определенной мере эта переориентация была включена в другие аспекты модернизации, идущей не только в восточноазиатских странах, но также в Индии и мусульманском мире, например такие как расширение рыночной экономики, что, по утверждению Андре Гундера Франка и других мыслителей, обеспечивало стимулы для роста капитализма на Западе3.
Существовал, однако, комплекс чисто западных идей, транслированный не западному миру, в то время, пока тот пытался защитить себя от западного господства. Одна из них, тесно связанная с понятием современности, заключалась во взгляде на историю как последовательный процесс достижения научных, технологических и социальных успехов. Из хроники событий история превратилась в логически
1 Benjamin A. Elman, From Philosophy to Philology: Intellectual and Social Aspects of Change in Late Imperial China. Cambridge, MA, 1984.
1 О-Чо He (On-Cho Ng, 1953-) в своем труде The Epochal Concept of «Early
Modernity» and the Intellectual History of Late Imperial China // Journal of World History, 14 (2003), 37-61, делает акцент на различиях между Востоком и Западом.
3 Andre Gunder Frank, ReOrient: Global Economy in the Asian Age. Berkeley, CA, 1998; также: Kenneth Pomeranz, The Great Divergence: China, Europe and the Making of the Modem World Economy. Princeton, NJ, 2000.
2 Зак. 1183
34
ВВЕДЕНИЕ
последовательный нарратив. Так, появилась концепция «всемирной истории», согласно которой история мыслилась как процесс движения с древнейших времен к своему сегодняшнему пику на Западе. В разных трудах по истории это продвижение определялось по-разному, отражая разные идеологические позиции. В чем они сходились, так это в том, что все, связанное с человеком, подлежало изменению, но изменению не случайному, а целенаправленному. Как утверждал Хосе Ортега-и-Гассет, у человека нет природы, у него есть только история1. С этой идеей была связана твердая уверенность в том, что именно история, а не философия является лучшим ключом к пониманию природы человека, поэтому философии тоже надлежит стать исторической, как у Гегеля. Почти все западные историки, и не только они, но и широкая образованная общественность, восприняли эту идею верховенства истории. Согласились они и со второй идеей, а именно с тем, что история является наукой, хотя и существовали принципиально различные мнения по поводу того, какой именно наукой. В то время как французские и британские позитивисты, социал-дарвинисты и марксисты занимались поиском исторических законов, другие историки, такие как Леопольд фон Ранке, отрицали наличие таких законов и подчеркивали, что задачей историков является не столько объяснение, сколько понимание человеческих действий в их историческом контексте. Но даже приверженцы этой точки зрения, отрицавшие, подобно Ранке, идею прогресса, все еще твердо верили в историческое развитие и превосходство западной цивилизации. На протяжении XIX века историки, как и многие интеллектуалы в Восточной Азии, Индии и мусульманских странах, все больше и больше усваивали эту западную идею исторического развития и верили в необходимость принятия западных стандартов для защиты своей культуры от военной и экономической мощи Запада. Западная идея верховенства государства- нации сместила внимание восточноазиатских и мусульманских трудов по истории на династии как институты, придававшие их историческим нарративам определенную структуру. Таким образом, за пределами Запада историография все больше и больше вестернизировалась и модернизировалась, не теряя при этом связи с прежними местными традициями. И все же на протяжении всего рассматриваемого нами периода согласия по поводу природы истории и способа ее написания не было ни на Западе, ни в других ареалах. Одновременно с этим в противовес доминирующим историческим подходам всегда существовали контр-движения.
1 Jose Ortega у Gasset, History as a System and Other Essays toward a Philosophy of History. New York, 1961. (рус. пер.: Ортега-и-Гассет X. История как система, М, 2008).
ВВЕДЕНИЕ
35
Последние несколько десятилетий - период, обозначенный нами как третья фаза глобализации, - стали свидетелями глубокой перестройки как в исторической мысли, так и в более широком контексте, в рамках которого пишется история. Произошло расширение поля исторических исследований, связанное с увеличением интереса к транснациональной и интеркультурной проблематике, а также перенесение внимания с элит на «историю снизу», включающую не только повседневную жизнь широких народных масс, находившихся за пределами истории, а теперь привлекших особое внимание, но и роль и статус женщин в истории. В то же время возрастала озабоченность последствиями модернизации и происходил подрыв веры в науку и успешность современной цивилизации - положения, на которых в большинстве своем покоились западная историография и социальная теория. Большое количество критических высказываний такого рода возникло еще в XVIII веке, хотя долгое время они были в меньшинстве. И похожие критические настрои существовали повсеместно, в первую очередь в Индии. Таким образом, между радикальной критикой научной рациональности и истории как прогресса, которую мы связываем с постмодернизмом на Западе и с постколониальной мыслью в Индии и Латинской Америке, существовали определенные элементы согласия.
В последующих главах мы рассматриваем эти явления в исторической мысли и историописании в широком интеллектуальном, социальном и экономическом контекстах, начиная с XVIII и до начала XXI века, сосредоточивая свое внимание на взаимодействии между западной и не западными историческими культурами и помня при этом обо всех сложностях, которые стоят на пути создания любого простого нарратива. Мы начинаем наше повествование в первой главе с общего обзора различных историографических традиций в мире, сосредоточивая свое внимание на Западе, Среднем Востоке, Восточной и Юго-Восточной Азии, а также Индии и рассматривая важные события, происходившие в этих регионах в XVIII веке. Отсюда во второй главе мы сразу переходим к рассмотрению произошедших в современную эпоху изменений в исторических процедурах, уделяя при этом особое внимание успеху национализма, распространившемуся в результате Французской революции с Запада на весь остальной мир, и его воздействию на историописание. Это современное преобразование историописания было отмечено подъемом академической истории и, наряду с ним и вследствие него, возникновением исторической профессии, что мы в некоторых деталях рассматриваем в третьей главе, фокусируясь на парадигматическом влиянии ранкеанской историографии на Запад и Восточную Азию. Несмотря на ее важность в формировании современной профессии историка, ранкеанская исто¬
36
ВВЕДЕНИЕ
риография и немецкий историцизм столкнулись в начале XX века с серьезным кризисом, особенно в период между двумя мировыми войнами. Результатом этого, как мы показываем в четвертой главе, стало появление на Западе новой направленности исторической мысли, прочное влияние которой на процедуры исторического исследования продолжилось и в послевоенное время. За пределами Запада привлекательность истории националистического толка, как показано в пятой главе, сохранилась на протяжении всего XX века и сыграла инструментальную роль в формировании процедур исторического исследования во всем мире. Немаловажно отметить и тот факт, что критика националистической историографии и националистических констелляций современного мира в послевоенный период появилась в сообществах историков в таких странах, как Индия и, в меньшей степени, Япония. Усиление этой критики, связанное с появлением после второй мировой войны постмодернистских вызовов современной западной историографии, мы рассматриваем в шестой главе, где также показываем усилия, инициированные французской Школой «Анналов» и подхваченные социологами и социальными историками в англо-американском ареале и Германии, по расширению масштаба исторических исследований и выход за пределы национально-государственной парадигмы. Другой важный вызов современной националистической историографии был брошен постколониальной критикой в 1970-1980-е гг. в виде появившейся из-под пера группы индийских ученых серии «Субалтерн стадиз» (Subaltern Studies) и работы Эдварда Саида «Ориентализм». Оба труда оказались значимыми для изменения исторического мышления и историописания не только на Западе, в Латинской Америке и Африке (глава 6), но и на Ближнем Востоке и в Азии {глава седьмая). Другими силами (идеологическими и религиозными), добавившимися к влиянию постколониализма и повлиявшими в конце XX века на историописание на Ближнем Востоке и в Азии, стали подъем ислама и упадок марксизма; как описано в седьмой главе, оба феномена внесли свой вклад в обсуждение в сообществе историков вопроса акцентированности историографии на национальном государстве. В восьмой главе мы предлагаем обсудить недавние изменения в процедурах исторического исследования, произошедшие во всем мире под влиянием глобализации. В картографии современной исторической практики и, возможно, в ее обозримом будущем мы считаем важными следующие пять тенденций: 1) продолжающиеся культурные и лингвистические повороты, способство- ** Доел. Subaltem Studies; термин Subaltern означает «подчиненный», «зависимый», т.е. в данном случае речь идет об исследованиях зависимых слоев населения, низших каст и простых крестьян, ранее находившихся вне поля зрения ученых. - Здесь и далее под звездочкой прим. и. ред. и пер.
ВВЕДЕНИЕ
37
вавшие подъему так называемой «новой культурной истории»; 2) колоссальную экспансию феминистской и гендерной истории; 3) новый альянс между историческими и социальными науками в свете постмодернистской критики; 4) вызовы национальной историографии, связанные (хотя и не исключительно) с изучением постколониализма; 5) подъем всемирной и глобальной истории и, что не одно и то же, истории глобализации. В то же время мы полностью осознаем, что эти предварительные характеристики открыты для дальнейшего обсуждения с нашими читателями.
И в заключение - еще о двух проблемах, красной нитью проходящих через всю книгу и придающих ей определенную степень внутреннего единства; первая связана с нашим отказом от европоцентризма; вторая - с защитой процедуры рационального исследования. Сегодня немногие не согласятся с нами по первой из них, по поводу того, что все люди наделены историческим сознанием, проявляющим себя в письменной или других формах. Показывая давние традиции исторической мысли и историописания во всех рассматриваемых нами культурах, мы в своей книге стремимся развенчать предвзятое представление о превосходстве западной исторической мысли.
Вторая проблема направлена против той части постмодернистской критики в интеллектуальном наследии Запада, которая отрицает возможность объективного изучения истории по той причине, что прошлое никак не укоренено в объективной реальности, но является продуктом нашего мышления или не связанного с внешним миром языка, вследствие чего все исторические труды представляют собой форму художественной литературы, не имеющей четких критериев для установления истинности или ложности исторических суждений. Мы полностью осознаем границы рационального исследования, невозможность получения однозначных ответов на вопросы, во что еще верили профессиональные историки XIX века. Мы признаем, до какой степени исторические суждения отражают разные, порой противоположные точки зрения, что бросает вызов убедительной доказательности. Едва ли возможно восстановить прошлое с ясной уверенностью в подлинности такой реконструкции, но вполне возможно показать ошибочность исторических суждений, политико-идеологическую обусловленность определенных искажений. Одна из наших задач как раз и состоит в том, чтобы показать способы, с помощью которых историей во всех рассматриваемых нами культурных сообществах злоупотребляют для реализации политических, и в частности националистических, планов. Поскольку дело обстоит именно так, во всех главах, касаются ли они ситуации в западных или не западных сообществах, мы анализируем социально-политический, а в некоторой степени и религиозный, контексты написания истории. Такое положение дел могло
38
ВВЕДЕНИЕ
бы привести к тревожному выводу о том, что вся история есть не что иное, как выражение идеологии, и в результате - к крайнему эпистемологическому релятивизму. Но если мы верим в то, что в истории существует реальный стержень, что прошлое населено реальными людьми, то это значит, что существуют способы приближения этой реальности, возможно, несовершенные и обманчивые, как и любое восприятие. Перед историком стоит важная задача, которую мы поставили перед собой в этой книге, - задача по разоблачению искажений и мифов. Поскольку реализация ее возможна только частично, история историографии есть непрекращающийся диалог, который предлагает нам не одно единственное изложение, а разные, часто конфликтующие между собой интерпретации. Они обогащают нашу картину прошлого, но тем не менее остаются объектом критической проверки на предмет соответствия таким принятым в научном сообществе стандартам, как опора на эмпирику и логическая связность. Каждый историк имеет право исповедовать определенные этические или политические убеждения, так или иначе окрашивающие его восприятие истории, но это не позволяет ему или ей изобретать прошлое, не имеющее под собой никакой реальной основы. В этом мы кардинально расходимся с множеством постмодернистских литературных теорий. Историописание имеет много общего с литературой, но все же отличается от художественной литературы, хотя частично они и совпадают друг с другом. Да, историописание включает в себя элементы воображения, а серьезная литература всегда отсылает к реальности. Но последняя не связана теми исследовательскими стандартами, которыми руководствуется сообщество ученых. Без этого отличия история была бы неотделима от пропаганды. Существует опасность, таящаяся в усилиях портмодернистских теоретиков по отрицанию унаследованного от Просвещения рационального исследования именно тогда, когда опасное состояние современного, отягощенного конфликтами мира требует именно такого исследования.
39
ГЛАВА 1 МИРОВЫЕ
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ: XVIII ВЕК
С чего мы начинаем?
Межкулътурная компаративистика
Существуют две основные причины, по которым мы начинаем наше рассмотрение истории современной историографии в сравнительной и глобальной перспективе с XVIII века: во-первых, как мы уже упоминали во введении, XVIII век был преддверием того периода, когда западная историография оказала значительное влияние на исторические культуры остального мира. Во-вторых, XVIII век был ознаменован фундаментальными изменениями в исторических воззрениях прежде всего (хотя и не только) на Западе. Именно тогда появилось современное мировоззрение, которое в том виде, как мы уже описали его во введении, господствовало в способах исторического мышления на протяжении всего XIX века и вплоть до второй половины века XX.
Сразу же возникает вопрос о том, каким образом можно сравнивать историографические традиции. Во введении мы обозначили несколько традиций исторического мышления и историописания. В то же время мы осознаем, что культуры, в рамках которых эти традиции возникли, состоят из разных субкультур; таким образом, в рассматриваемое нами время национальные традиции играют весьма значительную роль. Но эти традиции исторического мышления не могут быть описаны исключительно как национальные - много важных изменений выходит за национальные рамки. В качестве известных примеров можно привести распространение идей Просвещения в Европе и за ее пределами, а также распространение «доказательного знания» в Восточной Азии. Мы должны понимать, что ни одна из этих культур не остается неизменной, как часто полагали европоцентристски настроенные мыслители XVIII - середины XIX века, все они со временем претерпевают изменения. И все-таки, ставя своей целью проведение
40
ГЛАВА 1
компаративных исследований, мы можем выделить некоторые особенности, свойственные или несвойственные данным культурам.
Особенности исторического мышления в разных культурах
Мы выделим три такие особенности.
а) Всем им присущи традиции, которые, несмотря на свойственные этим историографиям изменения в представлениях о мире, придают им определенную степень континуитета. Все они отсылают к классическим моделям отдаленной старины, которые и задали им способ постижения и написания истории. На Западе, вплоть до современного времени, историография придерживалась двух весьма различных моделей, созданных великими греческими историками, в частности Геродотом и Тацитом1. Исламский мир был тоже хорошо знаком с историками Древней Греции и эллинистического мира. В Восточной Азии влияние Конфуция, создавшего и распространившего более раннюю традицию регистрации исторических фактов и написания истории ‘¿7г/ ’ (писцом / историком) на разных уровнях власти, ощущалось не только в Китае, но и в Японии, Корее и Вьетнаме. В Индии возникновение историографической традиции восходит к написанным на санскрите Ведам.
б) Классическое происхождение каждой традиции связано с религиозным компонентом. На Западе это христианство, источниками которого является не только Новый Завет, но и иудейская Библия. Они же наряду с Кораном являются ключевыми и для ислама. Оба разделяют линейную концепцию исторического времени, начиная с его возникновения, описанного в Книге Бытия, к центральному событию в виде распятия Иисуса на кресте в христианстве и бегства Мухаммеда в Медину в исламе и до конца времен в виде судного дня. В Восточной Азии появление ‘з/г/’, официального статуса, являвшегося вплоть до I в. до н.э. наследственным, уходит своими корнями в практику шаманизма в древнем Китае. Хотя в восточноазиатской исторической мысли идеологизированные представления практически отсутствуют, иногда они все же встречаются2. Роль Конфуция, фигуры очень мирской, конечно, отличается от роли Иисуса как сына Божьего и Мухаммеда как божественного пророка. Однако представление о
1 См.: Ernst Breisach, Historiography: Ancient, Medieval, and Modern (Chicago, IL, 1983); Arnaldo Momigliano, The Classical Foundations of Modern Historiography. Berkeley, CA, 1990.
2 Masaki Miyake, 'Millenial Movements and Eschatologies in Europe and Asia: A Comparative Approach' // Time: Perspectives of the Millennium (Westport, CT, 2001), 213-227; для Европы: Karl Lowith, Meaning in History: The Theological Implications of the Philosophy of History. Chicago, IL, 1949.
МИРОВЫЕ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ: XVIII ВЕК 41
небесном порядке, Пап, к которому часто непосредственно обращался сам Конфуций и его последователи, влияет на труды китайских историков, на то, как они оценивают политику предшествующей династии. На восточноазиатскую мысль в целом влияют и различные формы буддизма с его представлениями о цикличности истории, разделяемыми и индуизмом. Но циклические идеи ни в коем случае не отсутствуют и в классической западной мысли.
с) Институциональная структура, в которой разворачивается исто- риописание, в каждой из выделенных нами культур различна и отражает меняющиеся социально-политические условия. Возможно, самое большое расхождение в этом плане - это расхождение между восточноазиатской и западной историографиями. Определяющим фактором для первой, по крайней мере, в Китае и в меньшей степени в Японии и Корее, является существование с очень ранних времен, хотя и с некоторыми перерывами, империи или, как в Корее, царства, на службе у которых историки и пишут историю. Довольно рано историки в Китае были интегрированы в систему правительственной бюрократии; с VII в. и по сей день существует Историческая служба, в задачу которой входит написание и оценка истории предшествующей династии. История, таким образом, пишется бюрократами для бюрократов1. На региональном и местном уровнях история пишется коллективами, организованными сходным образом. Однако эти исторические труды не всегда создаются в угоду правителю - вдохновленные своим долгом перед Пап, историки в своих трудах часто осуждают его поведение. И не всегда это анонимные историки; на многих из них имеются биографические сведения. Существуют и истории, написанные частными лицами. На Западе положение дел почти прямо противоположно. В классической античности, а затем начиная с периода Возрождения историю в основном писали люди, не находящиеся на службе у государства. В частности, в период Средневековья ее пишут в приписанных к орденам монастырях и иногда - придворные историки. В исламском мире, особенно в Персии, а также в греко-православной Византийской империи, религиозные ордена и придворные историки играли важную роль в написании истории, но у нас есть и заслуживающая внимания информация о независимых историках. Различалась и аудитория, для которой писалась история на Западе и в Китае. В классической античности такие историки, как Тацит, зачитывали свои труды на собраниях, а с появлением в период Ренессанса книгопечатания и книготорговли исторические труды стали доступны широкой публике. Таким образом, история в гораздо большей степени, чем в Китае, была рассчитана на широкую аудито¬
1 См.: W G. Beasley and Е. G. Pulleyblank, eds, Historians of China and Japan. Oxford, 1961, 5; см. также: E. Balacz, 'L'histoire comme guide de la pratique bureaucratique', ibid., 78-94.
42
ГЛАВА 1
рию. Книготорговля, однако, не ограничивалась Западом и была хорошо организована в Китае и Японии.
Запад
Основные черты западной историографии
В этом разделе мы обратимся к сложному вопросу об особенностях Запада. Он рассматривался на недавно прошедшей конференции в Германии, в работе которой приняли участие представители разных не западных стран1. Кембриджский историк Питер Бёрк, один из наиболее сведущих специалистов по современной западной историографии, в пленарном докладе изложил десять тезисов о сущности западной исторической мысли. Для него «самой важной или, по крайней мере, наиболее очевидной особенностью западной исторической мысли», отличающей ее от других культур, «является ее акцент на развитии или прогрессе, другими словами, “линейное представление” о прошлом». Это связано с «исторической перспективой», которая избегает «анахронизмов» и признает исключительность прошлого. Далее, она отличается своей озабоченностью вопросами эпистемологии, то есть проблемами исторического познания, поиском каузальных объяснений и приверженностью объективности. Кроме того, «квантитативный подход к истории также чисто западное явление»2. Проблема с этим определением состоит в том, что описываемые Бёрком особенности не столько западные, сколько современные3. Они являются чертами современного мышления, свойственного сегодня многим незападным историкам, но не свойственного в той же мере историческому мышлению Запада в период Средневековья или даже в классический период. Линейный подход и идея прогресса, озабоченность проблемой исторического познания - последнее присуще также восточноазиатским и мусульманским мыслителям - и поиск каузальных объяснений начинают обсуждаться на Западе в XVIII веке, в то время как квантитативный подход к истории характерен для конца XX века и ни в коем случае не является общепринятым.
1 Jörn Riisen, ed. Western Historical Thinking: An Intercultural Debate. New York, 2002.
2 Peter Burke, 'Western Historical Thinking in a Global Perspective', ibid., 15-30. (см. об этом на русск. языке: Кукарцева М., Коломоец Е. Западное и не западное историческое мышление: сходства и отличия. Аналитический обзор // Способы постижения прошло! о. М„ 2011. С. 232-349. см предисловие к данной книге.
3 Georg G. Iggers (1926-), 'What is Uniquely Western about the Historiography of the West in Contrast to that of China?', ibid., 101-110.
МИРОВЫЕ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ: XVIII ВЕК 43
Возникновение просветительского мировоззрения
Что было новым для XVIII века, так это свойственный многим историкам взгляд на мир, отражающий воздействие научной революции, ослабление более ранней уверенности в библейской хронологии и обращение к критическому анализу источников, что в некоторой степени имело место и в Восточной Азии1 и уходит своими корнями в Просвещение2 и Реформацию. В XVIII веке на Западе происходит постепенный и неравномерный отказ от некогда твердых религиозных убеждений. Этот век очень часто называют веком Просвещения3, хотя мы должны понимать, что Просвещение включает в себя очень разные, зачастую противоречивые взгляды, и что XVIII век ознаменован не только широко разделяемой верой в науку, но и религиозными движениями типа пиетизма, методизма, хасидизма, квиетизма и янсенизма, а также ранними проявлениями романтизма. Тем не менее, в некоторых слоях высшего класса и образованных слоях средних классов происходит определенная мировоззренческая переориентация, которая может быть ассоциирована с Просвещением, являющимся предтечей современного мировоззрения4. Здесь мы ограничимся франкоязычными и немецкоязычными странами, а также Великобританией и Италией, хотя сходные интеллектуальные явления наблюдались и в других частях Европы, Латинской Америки и британских колониях в Северной Америке.
Как мы только что отметили, глубокое воздействие на эту перемену на Западе оказала «научная революция», которая, как показал Исаак Ньютон, не подвергала сомнению принятые христианские верования, но отклонила сверхъестественное вмешательство в сферу природы и объяснила природу при помощи законов, поддающихся проверке
1 О Китае см.: Benjamin Elman, From Philosophy to Philology: Intellectual and Social Aspects of Change in Late Imperial China. Cambridge, MA, 1984.
2 См.: Donald R. Kelley, Foundation of Modern Historical Scholarship: Language, Law, and History in the French Renaissance. New York, 1970.
3 По Просвещению существует огромная литература. Несколько наименований: Dorinda Outram. The Enlightenment. Cambridge, 2005: Martin Fitzpatrick, Peter Jones, Christa Knellswolf and Iain McCalman, The Enlightenment World. New York, 2004; Ellen Judy Wilson, Peter Ilanns Reill, Encyclopedia of the Enlightenment. New York, 1996; James Schmidt, ed., What is Enlightenment? Eighteenth-Century Answers and Twentieth-Century Questions. Berkeley, CA. 1996; Peter Gay, The Enlightenment: An Interpretation, 2 vols. New York. 1966-1969; Carl Becker, The Heavenly City of the Eighteenth-Century French Philosophers. Ithaca, NY, 1931; Isaiah Berlin, Three Critics of the Enlightenment: Vico, Hamann, Herder. Princeton, NJ, 2000; другая интерпретация естественной науки XVIII века: Peter Hanns Reill, Vitalizing Nature in the Enlightenment. Berkeley, CA. 2005.
4 Paul Hazard. La Crise de la conscience européenne 1680-1715. Paris, 1935; на англ, яз.: The European Mind. Cleveland, OH, 1963; также: Hazard, European Thought in the 18th Century: From Montesquieu to Lessing. New Haven CT, 1964.
44
ГЛАВА 1
опытным путем. В то время как епископ Боссюэ в своем «Размышлении о всеобщей истории» вновь выступил в защиту традиционного христианского богословия, Пьер Бейль в «Историческом и критическом словаре» потребовал, чтобы все философские понятия были подвергнуты критике. Рене Декарт в «Рассуждении о методе» уже призывал к такому критическому анализу, но рассматривал разум в абстрактных, логических терминах, в то время как интеллектуалы XVIII века все больше и больше связывали воедино разум и эмпирическое исследование. Эрнест Кассирер в работе «Эпоха Просвещения» говорил о переходе от все еще господствовавшей в XVII веке философии esprit de système , которая с помощью абстрактного разума стремилась редуцировать реальность к системе, к другому, более научному «духу», esprit systématique , подчеркивающему систематическое использование индуктивных методов в научном исследовании. В Великобритании этот поворот к эмпиризму нашел отражение в философии Джона Локка, который в свою очередь оказал важное влияние на французских философов, включая Вольтера1, Дени Дидро и Жана-Лерона д’Аламбера, в середине столетия начавших выпуск многотомной Encyclopédie2 3. Она не была уникальным предприятием; обширные энциклопедии выходили и в других европейских странах, но французская Encyclopédie не только постаралась подытожить последние научные достижения, но и подвергла критике существующие социальные условия и верования. Для историописа- ния это означало особую обязанность очистить повествование о прошлом от легенд и излагать исключительно истину. Некоторым образом такое требование базировалось на традиции, установленной в эпоху Возрождения гуманистами, которые также хотели оспорить легендарные события, когда те относились, например, к основанию Рима или к средневековому прошлому. В Великобритании попытка решить эту задачу была предпринята в крупных исторических нарративах Дэвида Юма, Кэтрин Маколеи , Уильяма Робертсона4 и
esprit de système (фр.) - «дух системы», «разум системы». esprit systématique {фр.) - систематический разум.
1 J. H. Brumfitt, Voltaire, Historian. Oxford, 1958.
2 Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts, et des métiers была опубликована между 1751 и 1776 и позже - с дополнениями. Главным редактором был Дидро; среди многочисленных авторов статей - д’Аламбер, Кондиллак, барон д’Гольбах, Мотескьё, Руссо, Тюрго и Вольтер. См.: Robert Darnton, The Business of the Enlightenment: A Publishing History of the Encyclopédie 1775-1800 (Cambridge, MA, 1979); Philipp Blom, Enlightening the World: Encylopedie: The Books That Changed the Course of History (New York, 2005).
3 Catherine Macaulay, History of England from the Accession of James I to that of the Brunswick Line, 8 vols (London, 1763-1783).
4 Полезное издание избранных трудов Робертсона: Felix Gilbert, ed., The Progress of Society in Europe (Chicago, IL, 1972).
МИРОВЫЕ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ: XVIII ВЕК 45
Эдуарда Гиббона1: Юм попытался опровергнуть трактовки эволюции британских политических институтов, предлагаемые тори и вигами, а Робертсон и Гиббон прямо противостояли христианским традициям. Во Франции Шарль Луи д’Секонда, барон де Монтескьё2 3, Вольтер и аббат Гийомь Рейналь писали в более аналитическом ключе, пытаясь найти каузальные объяснения историческим изменениям. Кроме того, Робертсон, Гиббон и Вольтер, хотя по-прежнему и сосредотачивали свое внимание на сфере высокой политики, принимали во внимание и социокультурные аспекты - Вольтер в «Краткой всеобщей истории» рассматривал научно-технические достижения и такие детали материальной жизни, как изобретение очков и появление уличного освещения. Гёттингенский историк Август Людвиг Шлёцер в 1772 г. писал, что «историк больше не должен ходить по военному тракту, по которому в такт барабанному бою прошли завоеватели и армии. Вместо этого он должен ходить неведомыми тропами, по которым ходят торговцы, апостолы и путешественники... Изобретения огня, хлеба, бренди и т.д. являются такими же достойными внимания фактами, как битвы при Арбелах, Заме и Магдебурге»4.
Такая история в целом была не нова. Она вписывалась в традицию, восходящую еще к итальянским гуманистам и помимо них - к великим античным историкам и прежде всего Тациту. История рассматривалась не как наука, а как риторическая конструкция, которая стремилась к красноречию, но отличалась от художественной литературы стремлением к правдивости, проводя четкое различие между тем, что, по всей видимости, случилось и легендой. Она отличалась от уподобленного хроникам изложению событий, свойственного большинству трудов по истории до эпохи Просвещения, своим намерением рассказывать связную историю.
Эрудизм и критическая историческая наука
Существовало и другое направление, имевшее разные историографические источники и отличавшееся более сильным акцентом на методах установления истинности исторических высказываний, -
1 John Pocock, Barbarism and Religion. Vol. 1, The Enlightenment of Edward Gibbon, 1737-1764. Cambridge, 1999; Amaldo Momigliano, 'Gibbon's Contributions to Historical Method' // Momigliano, Studies in Historiography. New York, 1966, 40-55.
2 Montesquieu, Considerations of the Causes of the Greatness of the Romans and Their Decline. New York, 1965.
3 Histoire philosophique et politique des établissemens et du commerce des Européens dans les deux Indes (Amsterdam, 1773-1774).
4 Цит. на англ. яз. по: Georg G. Iggers, 'The European Context of German Enlightenment Historiography' // Hans-Erich Bödeker, Georg G. Iggers, Jonathan Knudsen, and Peter Hans Reill, eds, Aufklärung und Geschichte. Göttingen, 1986,240.
46
ГЛАВА 1
эрудиты1. Они хотели сделать из истории науку, но создание событийной истории интересовало их в меньшей степени, чем изучение истинности источников, на которых основывалась эта история. С позиции критического знания, уже упомянутые нами авторы крупных исторических нарративов были недостаточно внимательны к использованию источников. Безусловно, в качестве основы для своей большой истории Гиббон прибегнул к лучшим из доступных ему источников, но это были не первичные источники, а требующие проверки интерпретации. То же самое относится и к трудам великих гуманистов эпохи Ренессанса и созданным ими моделям античного мира. Метод эрудитов не отличался новизной. Пионером в этом отношении являлся Лоренцо Валла, установивший в 1440 г. поддельный характер Константинова Дара (являвшегося основой для ряда территориальных претензий Ватикана), который содержал слова, не использовавшиеся в период правления Константина.
В то время как все упомянутые нами британские и французские историки уже дистанцировались от религиозной ортодоксальности, многие ученые-эрудиты, будь то католики или протестанты, по-прежнему считали себя истинными христианами, поскольку применяли критические методы текстуального анализа не только к светской, но и к религиозной истории. Большой вклад в развитие этих методов уже в XVII веке внесли ученые двух католических орденов - иезуиты- болландисты в Антверпене и бенедиктинцы-мауристы в Париже. В Acta Sanctorum («Деяния святых») болландисты стремились очистить агиографические истории жизни святых от легенды. Нечто подобное сделали и мауристы. В 1685 году бенедиктинский священник Жан Мабильон в своем труде De re diplomatic («О документах») опубликовал важное методологическое руководство по установлению подлинности документов с помощью таких вспомогательных дисциплин, как палеология, анализ текста, дипломатика, критика источников. Роль, которую сыграли болландисты и мауристы, отражает степень проникновения научного идеала в религиозное мировоззрение2.
В течение XVIII века эрудизм, имеющий узкую текстовую направленность, превратился в филологию, поместившую текст в более широкий культурный и исторический контекст. Созданная в XVII веке в Лондоне Королевская академия занималась исключительно естественными науками. Термин «наука» в Великобритании впоследствии получил более узкое толкование, чем во Франции и вообще на континенте, где его значение было намного шире. Основанная в 1635 году Французская академия наук выбрала в качестве специализации язык и
1 Anthony Grafton, Defenders of the Past: The Traditions of Scholarship in an Age of Science, 1450-1800. Cambridge, MA, 1981.
2 David Knowles, Great Historical Enterprises: Problems in Monastic History. London, 1963.
МИРОВЫЕ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ: XVIII ВЕК 47
литературу. С прицелом на критический анализ текста в 1701 году в Париже была создана Academie des Inscriptions et des Belles Lettres (Академия надписей и изящной словесности). В течение столетия по ее образцу были созданы академии во французских провинциях; подобные учреждения возникли и в Германии, Италии, Испании и других регионах континентальной Европы, а также в Латинской Америке1 2. Новые методы критики текстов играли центральную роль в развитии истории протестантской церкви в Германии в новых университетах Галлы и Гёттингена“ и в старом Лейпцигском университете, основанном в 1409 году. Еще в первой половине XVIII века Людовико Муратори выпустил критическое издание средневековых итальянских источников3. Сходные методы были приняты на вооружение учеными в области истории и юриспруденции, которые склонялись к отождествлению истины с письменными источниками и ограничению исторических исследований исключительно первичными источниками, в отличие от уже упомянутых нами британских историков. Новая филология была направлена на то, чтобы выйти за пределы интересов эрудитов с их буквальным прочтением текста, рассмотрев их как документы, отражающие создавшую их культуру.
Например, в Академии надписей и изящной словесности начались активные дебаты по поводу истинности исследований ранних периодов римской истории4. Ричардом Симоном во Франции, а позднее и в уже упомянутых немецких университетах, в частности в Гёттингене, были предприняты первые попытки критического рассмотрения Библии. Это не означало отказа от религиозной веры, это означало, что Библия рассматривалась как творение, прошедшее через человеческие руки. Аналогичному историческому анализу подверглись и тексты Гомера. В «Пролегоменах к Гомеру»5 Ф. А. Вулф посредством анализа языка и стиля попытался показать, что эти поэмы не представляют собой единого произведения, а созданы разными поэтами в разное время. В стремлении к историческому пониманию источников важной частью филологии становится герменевтика. Герменевтика не удовлетворяло установление значения текстов через анализ того языка, кото¬
1 Daniel Roche, Le siècle de lumières en province: Académies et académicians provinciaux, 1680-1789, 2 vols. Paris, 1975: Dorinda Outram, The Enlightenment. Cambridge. 2005, с библиографией по академиям во французском, британском и испанском ареалах; Notker Hammerstein, 'The Enlightenment' // Lawrence Stone, ed., The University in Society (Princeton, NJ, 1974). Vol. 2, 625.
2 Peter Reill, The German Enlightenment and the Rise of Historicism. Berkeley, CA, 1975; Herbert Butterfield, Man on His Past: The Study of the History of Historical Scholarship. Cambridge. 1955.
3 Ludovico A. Muratori, ed., Rerum italicarum scriptores (Milan, 1723-1751).
4 Одним из наиболее откровенных критиков существующей истории Рима был Луи де Бофор: Dissertation sur l'incertitude des cinq premières siècles de l'histoire romaine. Utrecht, 1738.
5 На англ, языке: Princeton, NJ, 1985.
48
ГЛАВА 1
рый применялся в период их создания, он стремился к пониманию авторских намерений. Это предусматривало изучение авторов исторических текстов в контексте их культурного бытования. Была заложена основа для историографии, более критичной по сравнению с крупными историческими нарративами британских историков, при этом она рассматривала историю не как корпус автономных текстов, а как связное и последовательное изложение событий.
Историография Просвещения
Это еще раз подводит нас к вопросу о сути просветительской историографии. Это философское направление было более характерно для Великобритании и Франции, чем для Германии с ее очень развитой герменевтической филологией. Тем не менее, эти два направления сосуществовали. В 1725 году в своей книге «Новая наука» Джамбати- ста Вико провел классическое различие между природой и историей1. Если природа нерукотворна и по этой причине не может быть понята, то история создана людьми и поэтому, в противоположность природе, доступна пониманию. Вплоть до первой половины XIX века Вико был малоизвестен за пределами Италии, но сепарация природы и истории стала важным актом для значительной части историографической мысли, особенно - хотя и не только - в Германии. К концу XVIII века придерживавшиеся герменевтической традиции немецкие историки были столь же привержены научному подходу, как и философски ориентированные британцы и французы. Однако сама наука понималась ими иначе, не в ракурсе отстаиваемого Юмом и Гиббоном единства человеческой природы, а скорее в ракурсе разнообразия человеческих культур, требующих соответствующей этому разнообразию методологии.
В XVIII веке Германия, безусловно, отличалась от Великобритании или Франции не только отсутствием национального государства, которого не было и в Италии, но и тем, что ее политические и социальные условия намного меньше соответствовали тому образу современности, который мы представили во введении. Великобритания и Франция, конечно, тоже сильно отличались друг от друга. Во Франции капитализм и гражданское общество были менее развиты, чем в Великобритании или, по крайней мере, в Англии; не отсутствовали они и в Германии. Наряду с сильными абсолютистскими государствами, и прежде всего Пруссией, в Германии по-прежнему существовали местные корпоративные {ständisch) учреждения, практически исчезнувшие в Англии и значительно ослабленные во Франции. Условия,
1 The New Science, перевод издания 1744 года Томаса Дж. Бергена и Макса Фиша. Ithaca, NY, 1984; Isaiah Berlin, Vico and Herder: Two Studies in the History of Ideas. London, 1976.
МИРОВЫЕ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ: XVIII ВЕК 49
в контексте которых происходило написание истории, отличались от аналогичных в Англии и в меньшей степени во Франции. Если в Англии история чаще всего писалась свободными от других занятий мужчинами и иногда женщинами, такими как Кэтрин Маколей1 2 * *, работавшими на потребителя, то в Германии и в определенной мере во Франции историки были привязаны к университетам; в Германии история преподавалась в университетах с тех пор, как во времена протестантской Реформации они были реформированы Филиппом Меланхтоном. Обучение истории все еще происходило посредством чтения лекционных курсов, мало опиравшихся на материал исследований; изменения произошли в новом университете Гёттингена“. Отныне историки, используя недавно появившиеся критические методы, чаще всего являлись профессионалами, связанными с университетами или академиями, в то время как в Англии они продолжали оставаться свободными от других занятий мужчинами и женщинами. В Оксфорде и Кембридже существовали кафедры, предназначенные не для профессионального обучения, а для гуманитарного образования честолюбивых джентльме- нов-христиан; точно такие же колледжи и университеты были созданы в американских колониях. В Шотландии ситуация в определенной степени напоминала ситуацию в протестантской Германии: серьезные философы и историки были связаны с университетами в Эдинбурге, Г лаз- го и Абердине5.
Просвещение в Германии
Интеллектуальный и академический климат в Германии также определялся идеями Просвещения, но по своим признакам Aufkldrung (немецкий термин, обозначающий Просвещение) отличалось от того, что было в Великобритании и Франции. В Ахфйаги^ важную роль продолжала играть религия. Историки и философы, будь они лютеранами или пиетистами, были верующими христианами, полагавшими, что их концепции просвещенного общественного строя совместимы с их христианской верой. Они не хотели, как Вольтер, освободить свой мир от религии, а, подобно Готхольду-Эфраиму Лессингу, рассматривали мировую историю как процесс просвещения человечества. Са¬
1 О женщинах-историках см.: Natalie Z. Davis, ’History's Two Bodies', American Historical Review, 93:1. February 1988, 1-30; также: Davis, ’Gender and Genre: Women as Historical Writers, 1400-1820’ // Patricia Labalme, ed., Beyond their Sex: Learned Women of the European Past. New York, 1980, 153-182.
2 Charles McClelland, State, Society and University in Germany, 1700-191. Cam¬
bridge, 1980; R. S. Turner, ’University Reformers and Professorial Scholarship in Ger¬
many 1760-1860’ // Stone, The University in Society. Vol. 2, 495-531.
Nicholas Phillipson, ’Culture and Society in the 18th-Century Province: The Case of Edinburgh and the Scottish Enlightenment’ // Stone, The University in Society. Vol. 2, 449-494.
50
ГЛАВА 1
мой важной целью, согласованной с лютеранской доктриной, было достижение духовной свободы. Немецкие просветители, как и их французские коллеги, хотели реформировать средневековые пережитки и отменить ограничения на свободу мысли и исследования, но они не бросали вызов существующей политической системе. Скорее, они доверяли проведение этих реформ просвещенным монархам, прежде всего Фридриху Великому. В отличие от французских философов- энциклопедистов, для которых разум ассоциировался с логическим мышлением и эмпирическим исследованием, они были склонны рассматривать разум и рассудок в духе Вико, как феномен, в котором выражен весь человек, в том числе его воля и чувства. Поэтому их отношение к Средневековью было более снисходительным, чем у Вольтера или Робертсона. В своем труде Osnabruckiscke Geschichte («История Оснабрюка», 1768) Юстус Мёзер1 увидел развитие своего родного города Оснабрюка сквозь призму того, что он назвал Lokal- vernunft, то есть Vernunft (разумом), проявляющимся не в абстрактных понятиях человеческих прав, а в конкретных локальных учреждениях, возникших по ходу истории. Отчасти аналогичным образом Эдмунд Бёрк в своих «Размышлениях о революции во Франции» выступил в защиту государственного устройства Британии, которое он рассматривал как продукт истории, и против намерения французских революционеров радикально изменить политический и общественный строй Франции в целях обеспечения абстрактных прав человека.
Таким образом, Просвещение ни в коем случае не было унифицированным феноменом. В том числе не стоит недооценивать роль религии. Идея четырех империй, достигших своей кульминации в Священной римской империи как продолжении четвертой (начиная с Рима) империи, была поставлена под сомнение еще итальянскими гуманистами, предложившими в качестве замены деление истории на три большие эпохи: классическую античность, темное Средневековье и современность. Однако лишь немногие историки, включая даже тех, кто в последней трети XVIII века принадлежал к критически настроенным ученым Гёттингенского университета, например Иоганна- Христофа Гаттерера2 и Августа-Людвига Шлёцера3, посмели подвергнуть сомнению библейскую хронологию от создания мира до Моисея, хотя остальную историю человечества они вполне были готовы рассматривать в секулярном ключе.
1 Cm.: Jonathan B. Knudsen, Justus Möser and the German Enlightenment. Cambridge, 1986.
" Johann Christian Gatterer, Abriß der Universalhistorie (Göttingen, 1765).
3 August Ludwig Schlözer, Vorstellung seiner Universal-Historie, 2 parts. Göttingen, 1772-1773.
МИРОВЫЕ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ: XVIII ВЕК 51
Появление «Республики письма»*
Тем не менее есть такие элементы просветительской мысли, которые хорошо согласуются с нашим пониманием модерна, обозначенным нами во введении как познавательный ход, используемый для сравнения западной и не западной историографий в XVIII веке. Хотя никакого единодушия по поводу того, что есть историческая наука, не было, существовало широкое согласие в том, что историк должен стремиться к «истине», что означало исключение из нее вмешательства сверхъестественных сил, легенд и мифических элементов. Современной была и приверженность последовательно рассказанной истории и, стало быть, преодоление свойственного прежним хронологиям и анналам представления об истории как совокупности часто несвязанных событий1. Кроме того, появилась «Республика письма». Как и в естественных науках, полученные данные и интерпретации историков выносились на суд ученого сообщества. С появлением перевода основополагающих работ на разные европейские языки гуманитарное знание приобретало космополитический характер. Во всех европейских странах выходили научные журналы, немало журналов - таких как «Эдинбургское обозрение» (Edinburgh Review) в Шотландии - издавалось и за пределами относительно ограниченного круга академических историков и философов и читалось широко образованной аудиторией. Сам факт, что такая публика существовала, свидетельствовал о присутствии гражданского общества. Дополнением к библиотечному абонементу стал расцветающий книжный рынок. Работы Юма, Гиббона и Робертсона пользовались огромным успехом и стали бестселлерами. Но самой значительной особенностью, отличающей историческое мировоззрение эпохи Просвещения как мировоззрение модерна, была концепция линейно направленного времени.
«Республика письма» («Республика Literaria») - понятие, часто используемое для определения интеллектуальных сообществ в конце XVII и XVIII веке в Европе и Америке. Особенно это касается интеллектуалов эпохи Просвещения, или «философов», как их называли во Франции. Республика письма появилась в XVII веке как самопровозглашенное сообщество ученых и литераторов, простирающееся за пределы национальных границ, но уважающее различия в языке и культуре. Эти транснациональные сообщества и легли в основу метафизической республики.
1 Ibid., 14-19; Шлёцер противопоставляет всемирную историю, являющуюся «суммой» всех отдельных историй, - подразумевается критика английской «Всеобщей истории» - такой истории, которая стремится выстроить «систему, в которой мир и человечество едины».
52
ГЛАВА 1
От всеобщей истории к европоцентричным идеям прогресса
Переход к этой современной концепции времени лучше всего можно проиллюстрировать теми изменениями, которые произошли в историописании на протяжении XVIII века. Традиция создания всеобщих историй существовала давно, начиная с периода раннего христианства, и первым ее значительным представителем был Св. Августин. История рассматривалась как рассказ о мире от его сотворения в библейские времена до второго пришествия Христа. Уже упомянутая нами английская «Всеобщая история с древнейших времен до наших дней», проект которой был запущен в 1736 году и дополнительные тома к которому появлялись вплоть до 1765 года, отражала не только важные сдвиги в подходе к историописанию, но и области, в которых продолжали существовать прежние представления. Это был выгодный коммерческий проект, организованный на средства различных представителей среднего класса; среди его авторов только Джордж Сейл, переводчик Корана и явный вдохновитель проекта, обладал научной репутацией. Одной из целей проекта, как следует из введения к первой главе, было откровенное развлечение читателя. Он состоял из двух отдельных частей - «Древней истории», написание которой было начато в 1736 году, и «Современной истории», вскоре после этого переведенной на голландский, немецкий, французский и итальянский языки. «Древняя история», опирающаяся в качестве основного источника на Библию, хронологически и географически ограничивалась христианскими цивилизациями и их ближневосточными предшественницами, а также Абиссинией. «Современная история», пытающаяся охватить весь средневековый и современный мир, чуть более чем на пятьдесят процентов была посвящена Европе и ее колониям, где-то на неполную четверть - истории Китая и Японии, и оставшаяся часть - истории Азии, обеих Америк (особенно Мексики и Перу) и Черной Африки, например Конго и Анголы, в последнем случае опираясь преимущественно на сообщения путешественников. Никакого намерения заявить о превосходстве европейской цивилизации не было и в помине. Исключением можно считать главу, посвященную европейской колонизации, в которой автор приписывает воспитательную функцию коммерческой активности колонизаторов.
И все же, несмотря на свой коммерческий успех, «Всеобщая история» довольно скоро подверглась критике с позиции просветительского мировоззрения1. Одним из самых откровенных критиков был Шлёцер,
1 См.: Eduard Fueter, Geschichte der neueren Historiographie. München, 1936, 322, где он утверждает, что Universalgeschichte не относится к Просвещению. Замечательное обсуждение критического восприятия «Всеобщей истории» см. в:
МИРОВЫЕ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ: XVIII ВЕК 53
критиковавший ее не только за недостаточное соответствие академическим нормам, но даже в большей степени - за отсутствие цельной концепции исторического развития. Для него она представляла всего лишь компиляцию информации без объединяющей ее идеи. Сам он в 31-м томе немецкого издания, в своей знаменитой «Всеобщей истории Севера» пошел совсем иным путем, пытаясь реконструировать культуры славянских и центрально-азиатских народов, используя для их понимания антропологические и археологические свидетельства и языковой анализ этих непохожих друг на друга народов.
Интерес к всеобщему глобальному взгляду на историю, нашедшему свое выражение во «Всеобщей истории», заметно ослаб во второй половине XVIII века. В своем «Опыте о нравах и духе народов» Вольтер по-прежнему обращается к Китаю, Индии и Персии, но центром цивилизации для него в этой работе, равно как и в его «Веке Людовика XIV», была уже Европа. Как свидетельствует название книги, Вольтер в этой работе сосредоточил свое внимание не на личности Людовика XIV, а на эпохе, которую он считал самой просвещенной в мировой истории. Если на рубеже XVII-XVIII веков немецкий философ Готфрид Вильгельм Лейбниц все еще говорил о двух больших цивилизациях на евразийском континенте - Китае и Европе, то теперь Китай рассматривался как достигший своего звездного часа в глубокой старине и с того времени остановившийся в своем развитии. Уже в конце XVII века в знаменитом «Споре древних и современных» была подвергнута сомнению идея, согласно которой классическая культура древних создала образец, который невозможно превзойти в рамках современной цивилизации.
Ко второй половине XVIII века было сформулировано несколько теорий прогресса, наиболее значительными из которых являлись теории А. Р. Жака Тюрго и аббата Этьена Кондильяка во Франции и Исаака Изелина в Швейцарии; все они, как и маркиз де Кондорсе в его «Эскизе исторической картины прогресса человеческого разума»1, рассматривали развитие человечества, начиная с примитивных и полных суеверия времен до современного просвещенного состояния. Ту же направленность имели эссе Иммануила Канта «К вечному миру» и «Идея всеобщей истории с космополитической точки зрения», в которых автор рассматривал Просвещение как предтечу международного сообщества объединенных в конфедерацию и изживших войны республик. Направляющая сила должна была быть в Европе. Во многом перекликающаяся с этой концепция была выдвинута в
Johan van der Zande, 'August Ludwig Schlözer and the English Universal History' // Stefan Berger, Peter Lambert, and Peter Schumann, eds, Historikerdialoge: Geschichte, Mythen und Gedächtnis im deutsch-britischen kulturellen Austausch 1750-2000. Göttingen, 2003, 135-156.
1 Adam Ferguson. Westport, CT. 1979; Keith Michael Baker, Condorcet: from Natural Philosophy to Social Mathematics. Chicago, IL, 1975.
54
ГЛАВА 1
конце XVIII века шотландскими моралистами Адамом Фергюсоном1, Адамом Смитом и Джоном Милларом, для которых самым важным фактором было развитие торговли, проходящей четыре стадии - от кочевого образа жизни до урбанизированных коммерческих сообществ их времени; и опять-таки центр развития оказывался в Европе, которой предстояло принести цивилизацию и культуру в остальные части света. Кристоф Мейнерс из Гёттингена описал результаты предпринятого им широкого культурного исследования, включавшего такие аспекты повседневной жизни, как кулинарные предпочтения, одежда и жилища. Кроме того, он был одним из первых историков, обратившихся к истории женщин2. На него повлияли дискуссии между антропологами Гёттингена, намерившимися поставить изучение человека на научную основу. В то время как одни настаивали на сущностном равенстве людей, другие старались подвести под свое мнение эмпирический фундамент и начали измерять черепа. Будучи убежденным в том, что существует доказанная опытным путем иерархия рас, Мейнерс утверждал, что по своим умственным способностям и физической красоте народы желтой расы уступают представителям белой, а чернокожие едва ли отличаются от обезьян, оправдывая таким образом имперскую экспансию и рабство. Расизм Мейнерса ни в коем случае не был чем-то уникальным; он разделялся многими выдающимися мыслителями XVIII века, включая Вольтера, Канта и Бенджамина Франклина3.
Мейнерс являл собой крайний случай, но вера в превосходство европейцев была широко распространена и связывалась с идеей прогресса. Были, однако, и несогласные. Самый известный из них - Иоганн Готфрид Гердер4, воспринявший основную посылку Просвещения о равенстве всех людей, их Humanität (человечности). Он оспаривал идею, согласно которой человечество движется к унифицированной просвещенной цивилизации, имеющей европейские черты, и утверждал вместо этого наличие множества культур, европейской и других, каждая из которых обладает своим собственным характером и равным правом на существование. Человечество включает в себя разнообразие этносов, названных им Volk, понятие не совсем эквивалентное английским понятиям «народ» или «нация». Но, когда понятия «народ» (во французском people) и «нация» приобрели в годы Французской революции иную коннотацию - нация, состоящая из своих граждан, - Г ер- дер увидел в Volk живой надындивидуальный организм, проходящий, подобно человеку, все стадии от рождения до смерти. Критично относясь к просветительской идее абстрактного разума, он подчеркивал роль иррациональных и эмоциональных аспектов в процессе позна¬
1 Ferguson, An Essay on the History of Civil Society. 1763.
2 Meiners, Geschichte des weiblichen Geschlechts, 4 vols. Hannover, 1788-1800.
3 См. в Википедии статью о Вольтере; Google, «18-й век. Расизм».
4 См.: Е. М. Bernard, Herder on Social and Political Culture. Cambridge, 1969.
МИРОВЫЕ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ: XVIII ВЕК 55
ния1. Главным признаком народного характера для него была поэзия, и чем более ранней и сохранившей свой изначальный характер она являлась, тем менее она была заражена цивилизацией и тем самым представляла собой большую ценность. Позже идеи Гердера подверглись трактовкам немецких и славянских националистов, пытавшихся оправдать свое неприятие демократических ценностей западного Просвещения. Но Гердер приветствовал Французскую революцию на ее ранних, лишенных террора фазах. И он критиковал экспансию европейской власти, разрушившей культуру таких коренных народов, как американские индейцы.
Заключение
В заключение этого раздела, посвященного Западу, отметим очевидную трудность определения особенностей западной историографии, принимая во внимание все ее разнообразие. Легче указать на признаки модерна XVIII века, хотя они также разнообразны и неполны. Переориентация исторической мысли оказала влияние на методы истории. Кроме того, научная переориентация способствовала секуляризации исторического мышления и историописания, хотя религия по-прежнему оставалась значимым феноменом. На деле процесс модернизации ни в коем случае не был завершен. Развитие капиталистической экономики и гражданского общества соседствовало с прежними институтами и представлениями. Вместе с тем, существовало широкое согласие по поводу особой роли европейской цивилизации - согласие, которое оправдывало колонизацию и империализм.
Ближний Восток
От Запада обратимся теперь к Ближнему Востоку. Не только потому, что этот регион географически примыкает к Европе, но и потому, что вплоть до современных времен путь его исторической культуры периодически пересекался с путем западной традиции больше, чем пути других культур, расположенных далее к востоку. Уже в УШ-1Х столетиях, отмеченных становлением исламской историографии, были заметны признаки «обмена историографическими идеями между мусульманами, христианами и евреями»2. Говоря более конкретно, опре¬
1 Herder. Ideas on the Philosophy of the History of Humanity. 1784-1791; Letters for the Advancement of Humanity. 1793-1797.
2 Chase Robinson, Islamic Historiography. Cambridge, 2003, 48. Робинсон приводит пример, что Historiae adversus paganos Орозия в десятом веке была переведена в Испании на арабский язык. Но Франц Розенталь в своей «Истории исламской историографии» (A History of Muslim Historiography, Leiden, 1968, 80-81) не считает, что этот конкретный перевод оказал «какое-то влияние на исламскую историографию».
56
ГЛАВА1
деленное библейское влияние обнаруживается уже в ранних исторических практиках мусульман Среднего Востока1. Но едва ли обмен был односторонним. Столетия спустя, когда Жан Боден, один из первых европейских историографов, создавал свой «Метод легкого познания истории», он напомнил своим читателям, что мусульмане развили богатую традицию историописания2.
Подъем ислама
и зарождение исламской историографии
Мусульмане и европейцы исповедовали одну и ту же монотеистическую религию. Ислам можно рассматривать как вариант или продукт иудаизма и христианства, в которых ощущался и моделировался такой же способ отношения человека с Богом. Исламская религиозная традиция сформировала мировоззрение мусульман и их взгляды на историю. Действительно, подъем ислама в начале VII века стал важным поворотным пунктом в мировой истории в целом и истории Ближнего Востока в частности. Он культурно преобразил регион, в котором были посеяны лишь первые семена человеческой цивилизации. В 610 г. н.э., когда Мухаммед Ибн Абдалла начал получать откровения, он, являясь пророком мусульман, не только открыл арабам божественный замысел, но и принес Коран, или «новую литературную форму и шедевр арабской поэзии и прозы»3. Стихи, таким образом, стали самым ранним и самым уважаемым у мусульман жанром историописания. Стихами описывались героические эпопеи и генеалогии. В качестве прототипов исламской историографии эпопеи и генеалогии в зачаточной форме существовали и в доисламские времена. Но лишь после возвышения ислама по причинам, которые мы объясним ниже, они стали значимыми жанрами исламской историографии4.
Успешное распространение ислама на Ближнем Востоке, последовавшее за переселением (hijrah ) в 622 г. пророка Мухаммеда из Мек¬
1 Franz Rosenthal, ’The Influence of the Biblical Tradition on Muslim Historiography' // Bernard Lewis and P. M. Holt, eds, Historians of the Middle East. London, 1962, 35—45.
' Cm.: Rosenthal, Muslim Historiography, 50-51. Было подмечено, что «Метод» Жана Бодена сопоставим с «Мукаддимой» (Muqaddimah) Ибн Халдуна, поскольку последний также, среди прочего, обращался к исторической методологии.
3 Karen Armstrong, Islam: A Short History. New York, 2000, 5. См. также: A. A. Duri, The Rise of Historical Writing among the Arabs, ed. And tr. Lawrence I. Conrad. Princeton, NJ, 1983, 137-138.
4 Tarif Khalidi, Arabic Historical Thought in the Classical Period. Cambridge, 1994, 4-5; Duri, Rise of Historical Writing among the Arabs, 12-20. См. также: Rosenthal, Muslim Historiography, 18-24, хотя Розенталь оспаривает историческую природу героической литературы, потому что обычно она не содержала «причинно-следственных связей в истории».
hijrah (хиджра - араб. «£ j» буквально - выселение, эмиграция).
МИРОВЫЕ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ: XVIII ВЕК 57
ки в Медину, стало началом исламского летоисчисления или отправным пунктом исламского историописания. Фигура самого Мухаммеда тоже дала определенный толчок исламскому историописанию не только потому, что он придавал религиозное значение событиям и действиям прошлого, но и потому, что для ранних исламских историков появление Мухаммеда стало «водоразделом в общем ходе истории»1. Опираясь на традицию эпопей и генеалогий, среди ранних мусульман появляются два вида исторической литературы. Одним из них был hadïth (хадис), сосредоточившийся на записи поступков и высказываний Пророка. Другим - khabar (хабар), описывавший грандиозные достижения Мухаммеда и его соратников. Вдохновленные религиозным усердием, hadïth и khabar таким образом усиливали желание мусульман сохранить память о появлении в их истории Мухаммеда. Кроме того, развитие знаний в рамках hadïth и khabar позволило мусульманам ощутить изменения во времени: помещенные в hadïth и khabar истории обычно предварялись isnàd (иснад) (перечнем авторитетных людей, передававших историю из поколения в поколение), который давал информацию о том, что отличало первоначальных составителей историй (не обязательно бывших их авторами) от тех, кто передавал их более поздним поколениям. Таким образом, составление isnàd показывало, что создававшие hadïth и khabar ученые были заинтересованы в подлинности исторических сведений2.
Если Коран был для мусульман юридическим и моральным компасом, то литература hadïth, иллюстрировавшая юридические и социальные аспекты раннего мусульманского общества (ummah), содержала исторические прецеденты для управления их жизнью3. Таким образом, дря ранней исламской историографии традиционализм был raison d'etre . После смерти Мухаммеда в 632 г. она подпитывалась стремлением перечислить подвиги Пророка или описать его кампании (jnaghàzï) против жителей Мекки. В результате военных успехов мусульман в завоевании территорий современного Ирака, Сирии, Ирана и Египта им стала доступна бумага, особенно египетский папирус. На протяжении VIII—IX вв. hadïth and khabar бурно развивались; исламская историография также вступила в свой классический период, зафиксировавший колоссальное разрастание биографии пророка, или maghàzï (магази) and sïra (сира)4.
Едва ли удивляет то обстоятельство, что именно на Мухаммеде сконцентрировался интерес мусульман к истории. Четыре десятиле¬
1 Rosenthal, Muslim Historiography, 26.
2 Duri, Rise of Historical Writing among the Arabs, 23.
3 О краткой дискуссии о важности Корана и хадиса для управления мусульманами см.: R. Stephen Humphreys, Islamic History: A Framework for Inquiry. Princeton, NJ, 1991,21-23.
raison d'etre (фр.) - разумное основание, смысл.
4 Khalidi, Arabic Historical Thought, 30-34: Robinson, Islamic Historiography, 20-30.
58
ГЛАВА 1
тия, начиная с 610 года, когда Мухаммед получил свои первые откровения и до кризисного правления Халифа Утмана (644-656), стали «критическим моментом» в исламской истории. С одной стороны, Dar al-Islam (земли, находящиеся под управлением мусульман) стремительно расширялись, начиная от западной оконечности Аравийского полуострова, и на них была создана полиэтничная и полилингвальная империя, протянувшаяся от Западной Африки через Малую Азию к Средней Азии. С другой стороны, после смерти Мухаммеда исламское сообщество оказалось в глубоком внутреннем кризисе и гражданской войне. Этот беспокойный период был Золотым веком для мусульман, потому что именно тогда были выработаны «стандарты веры и поведения^ с которыми должны были соотносить себя все более поздние эпохи» . Чтобы полностью понять и оценить значение этого Золотого века, исламские историки изыскивали все новые и новые средства придания истории смысла, что привело к появлению новых историографических жанров.
Основные жанры исламской историографии
К концу X века появились три разных жанра изучения истории. К уже имевшейся sira, или биографии, добавились tabaqdt (табакат) и ta’rlkh (тарих), первый из которых занимался просопографией, а второй хронографией, или хрониками / историей, примером чему может служить многотомная Ta'riikh al-rasul wa al-muluk («История Пророков и Королей») Абу Джафара Аль-Табари. Появление этих трех жанров позволяет предположить, что историописание к тому времени уже более-менее размежевалось с традициями Корана и хадиса и стало самостоятельным предприятием. Об этом свидетельствует намного более широкий и разнообразный интерес историков к регистрации событий прошлого. Ибн Сад, например, написал восьмитомную tabaqät, самую древнюю из существующих сегодня, в которой сделал биографические наброски 4250 человек, в том числе 600 женщин1 2. Упомянутый выше шедевр Аль-Табари отличается огромным количеством источников, которые он отбирал и заодно цитировал в своем всеобъемлющем труде. Его Ta'riikh начинается от сотворения мира и заканчивается 915 годом, всего за несколько лет до его смерти. Он приветствовал подъем и триумф ислама. Однако, несмотря на свойственный ей этноцентризм, Ta'riikh Аль-Табари вполне отвечала требованиям всеобщей истории, ибо по широте охвата она превосходила любой труд европейских современников автора. Являясь вдохнов¬
1 R. Stephen Humphreys, Turning Points in Islamic Historical Practice' // Q. Edward Wang and Georg G. Iggers, eds, Turning Points in Historiography: A Cross- Cultural Perspective (Rochester, 2002), 92-93; Его же: 'Modern Arab Historians and the Challenge of the Islamic Past', Middle Eastern Lectures, 1 (1995), 121-122.
2 Robinson, Islamic Historiography, 28-30.
МИРОВЫЕ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ: XVIII ВЕК 59
ляющим образцом хронографии, она оказала парадигмальное влияние на исламское историописание1.
Кроме того, где-то в X веке исламские историки начали пробовать создание связного нарратива в историописании без ¿ьпМ (иснад). Показательным примером является Ахмед ибн Абу Якуб аль-Якуби, чьи широкие взгляды на мир, возможно, и вдохновили Аль-Табари. Для Аль-Якуби и аналогично мыслящих историков написание истории в связном нарративе, возможно, было уже нечто самим собой разумеющимся, поскольку их труды стремились к расширению границ за пределы арабского мира, чему не соответствовала традиционная практика Хотя работа Аль-Якуби больше не опиралась на «цепочку авторитетов», утверждали, что он сумел добиться высокого уровня точности при работе с источниками. Его успех способствовал превращению связного нарратива в преобладающий жанр историописания в мусульманском мире на протяжении Х1-Х1П веков2.
Широта взглядов Аль-Якуби и Аль-Табари на мир и их попытка создать всемирную историю отразили ранний успех мусульманской экспансии, примером чего может служить установление династии Аббасидов. Переход к династии Аббасидов, происходивший в 747-750 годы, повысил и уровень политического сознания мусульманских историков. В свете смены династий историки обратились к проблеме политической легитимности, а именно к вопросу о том, действительно ли Аббасиды представляли новую фазу исламской истории, как они сами об этом заявили, и действительно ли их правление восстановило договор мусульман с Богом и позволило мусульманам встать на путь искупления. Таким образом, религиозная парадигма - договор-предательство-искупление - использовалась для проявления в историографии политического интереса. В значительной степени эта теоретическая парадигма играла роль и метанарратива, способствуя будущему развитию исламской историографии у персов и турок, поскольку такие проблемы, как политическая легитимность и справедливое правление, оставались главными для мусульманских историков3.
Бюрократизация и секуляризация историографии
Начавшееся в XI веке развитие персидской историографии во многих отношениях подчеркнуло особенности средневековой исламской
1 Труд Аль-Табари переводился разными переводчиками на английский язык под названием «История аль-Табари» (The History of Al-Tabari. Albany, 1985-).
2 Robinson, Islamic Historiography, 35-36; 97-100; Khalidi, Arabic Historical Thought, 81-82; также: Tarif Khalidi, 'Ahmad ibn Abl Ya’qub al-Ya'qubT // Global Encyclopedia of Historical Writing, ed. Daniel Woolf. New York, 1998. Vol. 2,981.
3 Humphreys, Turning Points in Islamic Historical Practice', 90-94 и Islamic History, 72, 91; также. Julie Scott Meisami, Persian Historiography, to the End of the Twelfth Century. Edinburgh, 1999, особенно c. 281-283; Bernard Lewis, From Babel to Dragomans: Interpreting the Middle East Oxford, 2004, 411—412.
60
ГЛАВА 1
историографии. Во-первых, были предприняты усилия, направленные на то, чтобы продолжать и развивать создание всеобщей/всемирной истории. Во время монгольского периода Рашид Аль-Дин, новообращенный из иудаизма в ислам и визирь Монгольского ханства, собрал группу ученых (в том числе двух китайцев) и написал многотомную всеобщую историю, включающую в себя историю разных регионов, простирающихся от Ирландии до Китая1 2. Во-вторых, одновременно с интересом к всеобщей истории были предприняты новые попытки по написанию локальной и региональной истории - в определенной мере подъем персидской историографии сам по себе свидетельствовал об этом интересе, - что повлияло на дальнейшее развитие исламской историографии. В-третьих, изучение истории получило патронаж двора и институциональную поддержку. Мотивированные прагматическим интересом поиска в истории полезных политических уроков и вдохновляющих моральных образцов, к историописанию обратились не только придворные историки, но и отставные министры и генералы. Говорящим примером может служить быстрый рост литературы жанра Furstenspiegel (зерцала для юношей), хотя она и не имела исключительно исторической направленности". Ибн Халдун, хотя и был тунисцем, в своем написанном в XIV веке и получившем одобрение МщасШтак преследовал сходный интерес, а само произведение выкристаллизовало важные политические прозрения мусульман его времени. Она также стала примером историографии, которая оказала влияние на современный западный мир3. В-четвертых, хотя Золотой век прошлого оставался значимым, все большее количество историков обращалось к написанию современной истории, способствуя подъему династийной истории и автобиографии. Ми- цскЛсИтак Ибн Халдуна и в этом смысле является прекрасным примером. Она была не только вариантом всеобщей истории по своему содержанию, но и «глубоко личным исследованием... автобиографией»4.
Если выделенные выше особенности представляют собой процесс бюрократизации или даже секуляризации исламской историографии, то наиболее мощно эти тенденции заявили о себе в османский период. Начиная с XV века турки-османы уполномочили историков составлять официальные хроники империи. Тем не менее лучшая история, написанная в период наивысшего расцвета Османской империи, была создана отставным чиновником Мустафой Али. Кйпкй'1-акЬаг («Смысл истории») Али продолжил традицию создания всеобщей истории в исламской историографии так же, как и написанная столетием раньше
1 Bernard Lewis, The Muslim Discovery of Europe (New York, 1982), 150-157.
2 Rosenthal, Muslim Historiography, 113-118.
3 Статья Уоррен E. Гейтс - Warren E. Gates, 'The Spread of Ibn Khaldun's Ideas on Climate and Culture // Journal of the History of Ideas, 28:3. July-September, 1967, 415—422 - приводит доказательства влияния Ибн Халдуна на европейское мышление XVII в.
4 Robinson, Islamic Historiography, 102; также: Lewis, From Babel to Dragomans, 402.
МИРОВЫЕ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ: XVIII ВЕК 61
работа Ибн Халдуна. Однако, помимо прочего, эта историографическая работа развернула непредвзятую и глубокую дискуссию по исламской и османской традициям историописания1. К концу XVII века османами была учреждена должность имперского историографа (уа^'аимуй). Первым, кто занял эту должность, был Мустафа Наима. Его политический утилитаризм и морализаторство, настойчивое требование верификации источников, неприукрашенный стиль и занимаемая им нейтральная позиция позволяют выделить его работу среди работ его современников2. Последние для того чтобы удовлетворить своих придворных покровителей и произвести впечатление на их ученых друзей, часто использовали витиеватую прозу и высокопарный стих в своих работах по истории в ущерб точности3.
На протяжении своей жизни Наима начал оставлять свидетельства сейсмического изменения в отношениях Османской империи с Европой. Веками мусульмане испытывали презрение к своим европейским соседям, включая Византию, главным образом потому, что «христианская Европа могла предложить немного или совсем ничего» и «явно и ощутимо находилась на низшей стадии развития»4. Однако, начиная с XVII века, мусульманские историки время от времени прикладывали определенные усилия для ознакомления с европейской историей и обращения к европейским источникам с целью обогащения своих исторических трудов. Отличным примером может служить новая глобальная всеобщая история, составленная Минаджимбашой. Взяв за образец труд Рашид Аль-Дина, история Минаджимбаши включила в себя детальные описания таких современных для того времени событий, как Английская революция, причем на основе, прежде всего, переводных европейских источников5.
Упадок исламского мира и исламской историографии
Попытка Минаджимбаши углубить традицию создания всемирной истории стала предвестником новой эры в истории мусульманского мира; начиная с XVIII века османы уже были не в состоянии обеспе¬
1 Ср.: Cornell Fleischer, Bureaucrat and Intellectual in the Ottoman Empire: The Historian Mustafa Ali (1541-1600). Princeton, NJ, 1986.
2 Lewis V. Thomas, A Study of Naima, ed. Norman Itzkowitz. New York, 1972, 110-119.
3 Бернард Льюис (Bernard Lewis) описывает некоторые работы османских историков как «словоблудие и помпезность». См. его же: From Babel to Dragomans, 422. Но развлечение всегда было важнейшей причиной обращения мусульман к истории, в связи с чем обычно высоко ценилось «произнесение и звучание» См.: Robinson, Islamic Historiography, 171-177.
4 Lewis, Islam in History, 100.
5 Ibid., 109-110.
62
ГЛАВА 1
чивать военное превосходство над европейскими державами. Современные историки сочли мирный договор, подписанный в 1699 г. в Карловицах между османами и австрийцами, поворотным моментом в истории отношений мусульманского и европейского миров. Османы начали интересоваться военной технологией европейцев. Вскоре этот интерес распространился и на другие области. Поскольку реально осуществимым вариантом в торговых отношениях османов с европейцами стала дипломатия, некоторые бюрократы начали интересоваться европейской дипломатической системой1. Другим примером стало заимствование технологии книгопечатания, сыгравшей заметную роль в обеспечении передачи знаний. Османские историки, включая придворных историографов, начали изучать европейские языки и больше писать о европейской истории. Некоторые даже дошли до понимания, что их имперское будущее во многом зависит от «ясного понимания европейских событий»2. Инициативы к интеграции Европы в исламскую историографию наблюдались и на локальном уровне - уровне местного сообщества, в создании локальной / региональной истории и даже в автобиографии3. Все это внесло значительный вклад в указанные изменения в исламской исторической практике и историческом мышлении. Было ощущение, что на фоне возвышения Европы османская история в XVIII веке и вообще история мусульманского мира вошли в период застоя и даже упадка. В исторических дискурсах того времени было много разговоров по поводу «имперского кризиса», которые, видимо, подтверждают данное наблюдение. Однако в последнее время ученые-гуманитарии сочли, что тезис об «упадке» нуждается в существенном уточнении, поскольку Османская империя оказалась «в состоянии упорядочить систему своего правления и сохранить устойчивую иерархию на протяжении всего восемнадцатого века»4. Что касается историописания в XVIII веке, все также сходятся на том, что после Мустафы Наима в этом веке Османская империя была уже
1 Virginia Н. АЬап, An Ottoman Statesman in War and Peace: Ahmed Resmi Efendi, 1700-1783. Leiden, 1995, xv-xvi, 18-23; Ее же\ Ottomans and Europeans: Contacts and Conflicts. Istanbul, 2004, 32.
2 Lewis, Islam in History, 111.
3 Cm.: Thomas Philipp, 'Class, Community, and Arab Historiography in the Early Nineteenth Century: The Dawn of a New Era' // International Journal of Middle East Studies, 16:2 (May 1984), 161-175; Steve Tamari, 'Biography, Autobiography, and Identity in Early Modem Damascus', Auto/biography and the Construction of Identity and Community in the Middle East. ed. Mary Ann Fay. New York, 2001, 37-50.
4 Вопрос о том, действительно ли период Османской империи был для мусульман временем упадка, был поставлен в работе: Rifa'at 'Ali Abou-El-Haj' Formation of the Modem State: the Ottoman Empire, Sixteenth to Eighteenth Centuries. Albany, NY, 1991 и проанализирован в работе: Gabriel Piterberg, Ottoman Tragedy: History and Historiography at Play. Berkeley, CA, 2003. См. недавний историографический обзор: Jane Hathaway, 'Rewriting Eighteenth-Century Ottoman History // Mediterranean Historical Review. 19:1. June, 2004, 29-53.
МИРОВЫЕ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ: XVIII ВЕК 63
не в состоянии породить другого такого гиганта. Зато в Египте был Абд ал-Рахман аль-Джабарти, первоклассный историк не только в масштабах Египта, но всего мусульманского мира. В своих работах аль-Джабарти писал и размышлял о последствиях вторжения Наполеона (1755-1821) в его страну, к чему мы обратимся в следующей главе.
Индия
Западные представления об индийском историческом сознании
Главная трудность с включением индийской историографии в эту главу по XVIII веку состоит в том, что до недавнего времени не только западные, но и индийские историки полагали, что у Индии не было истории вплоть до привнесения ее в XIX веке британскими колонизаторами. В частности, свойственное на протяжении XIX века западным обозревателям представление о том, что у Индии «нет истории», сводилось к двум посылкам. С одной стороны, это представление о неизменном характере индийской цивилизации. До появления европейцев южно-азиатское общество было не только деспотичным (восточная деспотия), но и статичным, не подвергающимся никаким изменениям. От Гегеля до Маркса и от Маркса до Ранке господствовало представление о том, что индийское общество было застойным и неподвижным. Карл Маркс отнес две большие цивилизации Индии и Китая к азиатскому способу производства, которому, по его мнению, не было свойственно прогрессивное развитие западной истории, тогда как для Ранке у Индии была только «естественная история»1 2. Из этой основной посылки о неизменном обществе следовало, что индийцы понятия не имели об историческом мышлении, хотя для Гегеля, подвергшего эту проблему инверсии, именно нехватка исторического сознания привела к тому, что Индия осталась за пределами динамично развивающейся мировой истории'. В целом было признано, что история
1 Leopold von Ranke, ’On the Character of Historical Science. A Manuscript of the 1830s' // Georg G. Iggers and Konrad von Moltke, eds, Leopold von Ranke: The Theory and Practice of History. Indianapolis, IN, 1973, 46. Пассаж звучит следующим образом: «Наконец, мы можем уделить лишь скудное внимание тем народам, которые по-прежнему остаются в своего рода природном состоянии и которые позволяют нам предполагать, что они находятся в этом состоянии с самого начала - сохранившись в своем доисторическом состоянии. Индия и Китай заявляют о своей Древности и обладают длинной хронологией. Но даже самый умный хронолог не в состоянии ее понять. Их древность окутана легендами, а их состояние относится скорее к истории природы».
2 «Поскольку у индийцев нет никакой истории в смысле историографии, у них нет и истории как действий (res gestae), т.е. они не развиваются в сторону обрете-
64
ГЛАВА 1
была привнесена в Индию британцами, что до этого момента не было ни одного индийского историка, написавшего историю, и что написанная в 1817 году Джеймсом Миллем «История Британской Индии» стала первой историей Индии. Это означало, что западные представления об историописании, уходящие своими корнями в античность, ренессансный гуманизм и Просвещение, представляют собой стандарт, с которым должны соотноситься исторические исследования. Конечно, невозможно было написать такую историю Индии, подобную «Истории Англии» Юма, «Истории Шотландии» Робертсона и многочисленным историям Франции до 1800 г., потому что еще не существовало никакой индийской нации и, в отличие от Германии и Италии, которые на тот момент также не были политически объединены, у Индии не было общего национального языка или осознания общей культурной идентичности. Несмотря на наследие санскрита, в языковом отношении Индия была разделена огромным количеством языков. Кроме того, хотя многие индийские историки в конце XIX - начале XX века поставили под сомнение теорию восточного деспотизма, они, как и большинство западных авторов того времени, утверждали, что история в корне отличается от поэтического воображения, и что это разграничение в Индии отсутствовало. Индия обретала свое прошлое, если вообще обретала, через мифы и легенды1.
Можно, конечно, задаться вопросом, существовало ли такое разграничение на средневековом христианском Западе и полностью ли разделяются подобные представления многими современными историческими мыслителями, поставившими под сомнение объективность истории и, подобно Хейдену Уайту, утверждающими, что каждый исторический нарратив в основе своей является плодом поэтического воображения. Но мы должны также оценить роль де-историизации в имперском проекте. На протяжении XVII и особенно XVIII веков существовало огромное восхищение индийской культурой, также как и китайской. Как дисциплина после 1700 г. индология получила развитие в Академии надписей и изящной словесности в Париже, а также в Германии. Как мы уже видели, в Великобритании существовали позитивные изображения других культур, как, например, во «Всеобщей истории» Сейла, за которой последовали соображения индологов, таких как сэр Уильям Джонс, относящегося к цивилизации древней Индии как к цивилизации, равной древнегреческой цивилизации,
ния политического состояния в полном смысле этого слова». Цит. по: Michael Gottlob, ed., Historical Thinking in South Asia: A Handbook of Sources from Colonial Times to the Present New Delhi, 2003, 8.
1 Так, индийский историк P. Г. Бханьдаркар (R. G. Bhandarkar, 1837-1925) заявлял: «Историческое любопытство индийцев удовлетворено легендами». Цит. по: Gottlob, Historical Thinking in South Asia, 2. См. также: Romila Thapar, 'Indian Historiography - Ancient'// Woolf, Global Encyclopedia of Historical Writing 455-458.
МИРОВЫЕ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ: XVIII ВЕК 65
и действительно видевшего их общие культурные корни. Хотя Джонс и был чиновником колониального правительства в Бенгалии, он не разделял классическую просветительскую модель прогресса, помещавшую Индию на примитивную, по сравнению с Европой, стадию развития. Индийская цивилизация обладала своей собственной уникальной ценностью даже несмотря на то, что ее былая слава с тех пор переживала упадок и нуждалась в «защите и благоденствии» британцев.
Взгляды Джонса, однако, не разделялись другими, более поздними интерпретаторами, многие из которых находились на службе Ост- Индской компании, например Джеймсом Стюартом Миллем. Милль обвинял таких ориенталистов, как Джонс, в том, что своей хвалебной версией индийского прошлого они наносят вред, потому что на самом деле и в прошлом, и в настоящем Индии было немного того, что заслуживает похвалы. Индийцы действительно находились на низкой стадии развития. «Разговаривая с современными индийцами, мы в какой-то мере разговариваем с халдеями или вавилонянами»1. На долю британцев выпало вывести индийцев из их примитивного состояния, включив их в поток истории.
К XIX веку эта мозаичная перспектива культуры, свойственная таким авторам, как Джонс, и, конечно, уже упомянутому нами Гердеру, уступила место более критичному взгляду, также использовавшемуся в колонизаторском проекте. Милль и Томас Бабингтон Маколей отрицали наличие у индийцев какой-либо цивилизации во всех смыслах этого слова, что проявлялось, по их мнению, в очевидном отсутствии у индийцев исторического сознания. Как писал Маколей, «вся историческая информация, собранная из всех написанных на санскрите книг, обладает меньшей ценностью, чем то, что может быть найдено в самых кратких конспектах, используемых в подготовительных школах Англии»2. Даже Джонс отмечал нехватку у индусов исторической чувствительности; в отличие от греков они похоронили свое прошлое под «завесой мифов».
Виды индийского исторического письма
Это, конечно, верно, что в древней Индии не существовало никакой традиции историописания в современном виде. Как было сказано о написанных на санскрите текстах, «ни один из них... не свидетельствует о каком-либо понимании причинной обусловленности в истории; ни один не демонстрирует какой-либо осведомленности об историческом методе и правилах доказательности»3. И все-таки в то время
1 U,ht. no: Gottlob, Historical Thinking in South Asia, 7.
2 Ibid., 9.
3 Vinay Lai, The History of History: Politics and Scholarship in Modem India. New Delhi, 2003. 50.
33ак. П83
66
ГЛАВА 1
как древняя (в значительной степени индуистская)1 Индия страдала нехваткой привычных форм историописания, в ней существовали многочисленные тексты, преследовавшие исторические цели и свидетельствовавшие о наличии исторической памяти. «Даже в индийских королевствах имелись скрупулезно сделанные записи, генеалогии и анналы, которые были столь же точны, как и те, что были найдены в других современных сообществах, имеющих древнюю историю»2. Такие исследователи древней Индии, как Ромила Тхапар, также свидетельствуют о том, что труды, написанные, в частности, в жанре биографии или генеалогии, встречались все чаще по мере укрепления монархии, являясь орудием укрепления политической власти правителя. Кроме того, существует зависимость между численностью таких текстов и уровнями организованной бюрократической власти. Таким образом, начиная с VII века биографии королей появляются все чаще, хотя значительное увеличение исторических нарративов разных жанров происходит только в период исламских царств Делийского султаната и Империи Моголов. Эти созданные в исламский период нарративы тоже, конечно, были совсем иными, потому что опирались на арабские и персидские традиции историописания со свойственной им заботой о точности и правдивости свидетельств и потому контрастировали с индуистскими генеалогиями и биографиями, историческое содержание которых зачастую выражалось в форме мифологического и поэтического текста. Кроме того, ислам с его новой религиозной хронологией способствовал появлению чувства времени. Важно напомнить и то, что на протяжении «исламского периода» в контексте общности исторического опыта Индия стала пространством такого слияния индуистской и мусульманской традиций, что иногда становится бессмысленным рассуждать об индуистской и исламской исторической чувствительности по отдельности. Многочисленные персидские истории династий, биографии, локальные истории кланов, каст и городов зачастую писались индуистскими переписчиками, нанятыми на службу в бюрократический аппарат Моголов.
Обычно различают три фазы индийской истории. Первая, преимущественно индуистская, начинающаяся с арийских вторжений, отличается тем, что в это время санскрит был не только сакральным, но и основным литературным языком; вторая, прошедшая под знаком мусульманского правления, начинается в XIII веке, когда ключевую
1 Следует учитывать, что в древней Индии существовали также буддистские и джайнистские произведения, которые, отражая специфические мировоззрения тех сект и их социального наследия, выражали другой тип исторического сознания и проявления. Монастырские хроники обеих этих религий богаты светской информацией и имеют временную эсхатологию, основанную на историчности их отцов- основателей.
2 С. A. Bayly, ’Modem Indian Historiography' // Michael Bentley, ed., Companion to Historiography. London, 1997, 678.
МИРОВЫЕ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ: XVIII ВЕК 67
роль в управлении и учености стал играть персидский язык; и, наконец, британский колониальный период, когда на смену персидскому языку пришел английский. Но региональные языки сохранялись как литературные, начиная с бенгальского и урду соответственно на востоке и севере и заканчивая телугу, тамильским и маратхским на юге и западе. Многие тексты, написанные на региональном диалекте, датированные ХУ1-ХУШ веками, являются свидетельствами нового исторического сознания, значительно отличающегося от того, что проявляется в более ранних, написанных на санскрите произведениях, в которых исторические упоминания объединялись в тексты, являвшиеся по своей природе прежде всего религиозными и мифологическими и часто написанные представителями жреческого сословия. Считается, что исключением из этой тенденции была Rajtarangini Калханы, история кашмирских королей середины XII века. Неожиданное появление этой написанной на санскрите работы с ее критическим и сравнительным анализом источников часто приписывается исламскому влиянию, поскольку примеру Калханы последовали другие кашмирские историки XIV века, когда там уже существовала исламская историография. История Калханы свидетельствует о том, что он опирался на предшествовавших авторов и использовал восемь работ по истории, а также настенные надписи вместе с современными ему указами и прокламациями царей. И все-таки Калхана считал себя поэтом (кат), а свои произведения - поэзией (каууа). В его труде прослеживаются сильный моральный и дидактический компонент1 и поэтическая оценка эфемерности человеческого существования. В его произведении есть места, которые заставляют современного читателя усомниться в подлинности его слов, к примеру, когда он упоминает принца, правившего на протяжении трехсот лет, или говорит о роли бога Варуны в завоевании острова Цейлон.
Начиная с XIII века, с установлением Делийского султаната, мы видим изобилие исторических текстов. В этот период основным языком управления и большинства исторических работ становится персидский. Исторические труды характеризуются повышенным вниманием к отдельным военным и административным событиям и изложением их причин в нерелигиозном ключе. Контраст с ранними написанными на санскрите текстами очевиден, поскольку в последних религиозное и мифологическое содержание было первичным, а историческое - вторичным. Исламские тексты являются прежде всего историческими текстами, хотя и наполнены религиозными и моральными представлениями. В этом смысле они не сильно отличаются от тек¬
Раджатарангини (Rajataramgirii, «Поток царей») - хроника, повествующая 0 Древних царях Кашмира; написана на санскрите.
1 Так, Rajtarangini «была бы полезна для царей как стимулирующее и успокаивающее средство, как снадобье, применяемое в соответствии со временем и пространством». Цит. по: Sumit Sarkar, Writing Social History. Delhi, 1997, 8.
68
ГЛАВА 1
стов средневековых христианских историков. Для тех и других была характерна подобная теодиция. Люди не рассматривались как главные факторы изменений, наоборот, Бог считался начальной и конечной точкой истории. Историк в своей реконструкции прошлого должен был быть правдивым, но никакого четкого разграничения между естественным и сверхъестественным пока не существовало, и была определенная возможность для божественного вмешательства. Таким образом, исламская концепция времени как «последовательного рассмотрения... серии моментов... которые являются признаками и пространством божественного вмешательства»1, весьма хорошо соотносится со средневековыми представлениями. Кроме того, обе разделяют идею о направленности исторического времени. Несмотря на резкий контраст этой идеи с представленной в санскритских текстах концепцией деления циклического времени на периоды юга (yuga), важно признать общность их религиозной основы2. Кроме того, как уже было отмечено, оппозиция линейного и циклического не является абсолютной, поскольку при общей необратимости последовательности индийских эпох внутри каждой из них существует пространство для линейности и развития3.
Несмотря на свойственную ей теодицею, история в мусульманской Индии, как и в христианской Европе в период так называемого Средневековья, играла главную роль в восприятии человеком мира. Индоисламское историописание характеризовалось нарративными историями и комментариями на политические темы, многие из которых были написаны правительственными чиновниками. Их текстура имела воспитательный и панегирический характер; она восхваляла и предостерегала правителей и их дворы и содержала в себе «уроки, которые должны быть усвоены», и тем самым мало чем отличалась от тацитов- ской. В то же время, вместо того чтобы интересоваться более широкими социальными процессами, история оставалась узко понимаемым дискурсом о политической власти и правительстве.
Социальные и интеллектуальные трансформации раннего нового времени
В период между 1500 и 1800 годами, начавшийся с установлением Империи Моголов и закончившийся британским присутствием, на этом субконтиненте произошли кардинальные изменения, набравшие
1 Цит. по: Sarkar, Writing Social History, 11.
2 В индуистской концепции времени существовали четыре вечно повторяющиеся yugas (эпохи): Смена эпох Satya, Treta, Dwapar и, наконец, Kali представляет собой постепенное сползание от Золотого века (Satya-yuga) к социальному хаосу (Kali-yuga) до тех пор, пока цикл не повторяется снова.
* Sarkar, Writing Social History, 8.
МИРОВЫЕ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ: XVIII ВЕК 69
рост в XVII-XVIII веках. Эти преобразования, имевшие параллели в других местах мусульманского мира, а также в Европе и Восточной Азии, позволяют говорить о начавшемся процессе модернизации в том смысле, в каком мы определили это понятие ранее1. И эти изменения не ограничились мусульманской Индией. Следует учесть две вещи. Еще не существовало четкого деления между мусульманами, индусами и другими религиозными группами. Несмотря на то что на территории большей части Индии в правительственных кругах доминировали мусульмане, индуистские верования и традиции проникали в мусульманские, и наоборот. «Синкретичные» религиозные практики были распространены во многих частях страны, например в Бенгалии и Кашмире. Кроме того, мусульманские правительства отличались высокой степенью терпимости к индусам, многие из которых занимали высокие посты в администрации. Во-вторых, Индия не была полностью изолирована от окружающего мира. Начиная с арийских завоеваний в 1500 году до н.э. и заканчивая европейскими вторжениями с XV века н.э., Индию неоднократно захватывали, и захватчики - будь то греки периода эллинизма, арабы, персы, афганцы, монголы или, наконец, европейцы - оказывали свое культурное влияние. При этом вторжение не было единственным проводником культуры. С начала первого тысячелетия начался интенсивный торговый кругооборот, охватывавший область Индийского океана и простиравшийся от Магриба на западе к южному Китаю на востоке. В VIII веке к этому кругообороту добавились арабские купцы, многие из которых в отличие от своих предшественников сделали Южную Азию своим домом, продолжая при этом оставаться частью мусульманского мира. Не только на торговом уровне, но и в сфере идей и учености индийцы находились в контакте с интеллектуальными центрами Каира, Стамбула, Багдада Дамаска и Тегерана которые в свою очередь поддерживали контакт с Европой. Кроме того, важным следствием торговли был билингвизм и даже мультилингвизм. Это позволяет предположить, что помимо товаров по торговым путям передавались и модели познания.
Некоторые современные ученые полагают, что XVIII век, а в некоторой степени уже и XVII, были отмечены интеллектуальными трансформациями, которые отличались от страны к стране и в пределах каждой страны, включая Индию, но которые обладали определенными общими чертами2. Эти трансформации начались еще до колониального влияния и были связаны с появлением мирового рынка, во¬
1 Джон Ф. Ричардс пользовался своей собственной системой критериев и обозначал этот период как «раннее новое время» вместо «Индии Моголов» или «позднесредневековой Индии» или «поздней пред-колониапьной Индии». См.: 'Early Modern India and World History' // Journal of World History, 8 (1997), 197-209.
2 Об интеллектуальных трансформациях в Индии XVIII века см.: Jamal Malik, 'Mystik: 18. Jahrhundert' // Stephan Conermann, ed., Die muslimische Sicht (13. bis 18. Jahrhundert). Frankfurt am Main, 2002, 293-350.
70
ГЛАВА 1
влекшего Индию в более тесный контакт с Европой. Эта эволюция имела место преимущественно в главных городских центрах типа Дели и Лакхнау, но с упадком и распадом Империи Моголов центрами интеллектуальной и литературной жизни стали и столицы новых маленьких территориальных княжеств. Все это внесло свой вклад в новое гражданское общество, возникавшее в городских центрах рядом с традиционными моделями мышления. Можно провести сравнение с европейским XVIII веком. По мере появления в городах образованных слоев рухнула монополия ученых и богословов. Появились салоны, в некотором отношении подобные тем, что существовали в Париже и Берлине; в Индии они часто возглавлялись куртизанкой. В дополнении к салонам, посещаемым зажиточными торговцами и знатью, существовали кружки, посещаемые представителями более низких социальных слоев, солдатами, ремесленниками и мелкими торговцами и бизнесменами. В места обмена идеями превратились кофейни и бани. Персидский язык в качестве языка коммуникации в этих местах был вытеснен разговорными языками, в первую очередь урду. Частью этого процесса был отход от религиозной ортодоксальности, но не обязательно от религии. Протекание этих процессов напоминало аналогичное на Западе - акцент сместился в сторону развития индивидуальности. Как написал в «Золотой традиции» об Индии индийский мусульманин Амед Али: «К середине восемнадцатого века разум начинают одолевать сомнения, пробуждается исследовательский дух, поднимает голову любопытство, вопросы напоминают раскаты грома, рождается критический дух - дух, который отказывается воспринимать вещи, опираясь только на авторитет, ведь современная эпоха уже наступила... Теперь, когда пробуждается дух свободы, удивляет сходство с аналогичным ходом событий в Европе, где были открыты шлюзы революции и Романтизма»1.
Но нам стоит быть внимательными. Политические, экономические и социальные условия в Европе и Индии все еще сильно отличались.
I !о-прежнему существовала система каст. В Индии не были проведены преобразования, сделавшие возможными и Французскую революцию во Франции, и призыв к реформам в других странах Европы. Индийское общество находилось в переходном состоянии, но по своей социальной структуре и интеллектуальным представлениям в большинстве своем по-прежнему оставалось традиционным. Но было ли тогда историописание в Индии «вторичным дискурсом», привнесенным с Запада британцами?
Недавние исследования наводят на мысль, что это не так. Происходившие в раннее новое время изменения имели различные последствия. Образование в ХУН-ХУШ столетиях новых княжеств сопровождалось появлением нового класса государственных служащих и
1 Цит. по: МаИк, 'Муэйк', 305.
МИРОВЫЕ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ: XVIII ВЕК 71
юристов. Бюрократизация вела к появлению архивов и привлечению на службу историков, прикрепленных к княжеским дворам с задачей исследования юридических прав. Возникающий средний класс, чтобы заявить о своих правах на собственность в судах, прибегнул к архивным документам1. На востоке Индии несколько иным путем развивалась историография, шедшая по персидским стопам, - она создавалась бюрократами, пропитанными бюрократической культурой, в которой важнейшую роль играла высокая образованность. К концу XVI11 века многие из них создавали истории по указке колониальных властей, стремящихся приобрести знания о завоеванных ими областях. По существу, они стали «актами саморепрезентации» при переходе от доколониального к колониальному правлению, поскольку пытались донести новым правителям местные представления о хорошем правлении. Но по своей структуре они по-прежнему оставались в рамках традиции индо-исламских историков, создававших нарративные дискурсы о политической власти в структуре институтов управления2.
Однако на юге Индии среди растущего класса «служилого дворянства», состоящего из писцов, придворных чиновников и деревенских служащих, появились признаки зарождения «нового и специфического исторического сознания»3. Его представители вышли скорее из письменной, нежели устной традиции грамотности, превозносили прозу над поэзией и знали несколько языков. Их работы не создавались под руководством царя или других покровителей и не посвящались богам, хотя лежащая в их основе мораль свидетельствует об их политическом назначении. Они написаны на телугском, тамильском, маратхском, персидском языках и санскрите, и именно на языке телу- гу появляется слово cari tram и для обозначения истории в смысле histoire и storia. Кроме того, важно отметить, что их произведения производят впечатление соответствия современным критериям историо- писания: «Эти тексты отражают культуру письма в прозе, предназначенную скорее для коммуникации, чем просто регистрации. Присутствует интерес к числам, именам собственным и другим приемам, позволяющим авторам обеспечить фактическую точность. Опора на факты сама по себе становится ценностью. Стиль письма как в своем техническом, так и синтаксическом аспектах наводит на мысль о представлении об истории как непрерывном потоке, где технические требования к композиции фактически неотделимы от концептуальных
1 Sumit Guha, 'Speaking Historically: The Changing Voices of Historical Narration in Western India, 1400-1900', American Historical Review, 109:4. October, 2004, 1084-1103.
2 Kumkum Chatterjee, 'History as Self-Representation: The Recasting of a Political Tradition in Late Eighteenth-Century Eastern India', Modem Asian Studies, 32. 1998, 913-948.
3 V. N. Rao, David Shulman and Sanjay Subrahmanyam, Textures of Time: Writing History in South India, 1600-1800. New York, 2003. 136.
72
ГЛАВА 1
свойств времени и события. События не дискретны и не изолированы, а прочно и непременно связаны с предшествующими им и доступными постижению причинами и вытекающими из них последствиями. Авторы имеют сложную мотивацию и внутреннюю глубину, часто придающие богатый колорит в целом ироничному разворачиванию событий»1.
Главная причина того, почему эти тексты оказались нераспознанными, связана с их жанром. Написанные в жанре изысканной поэзии, народного эпоса или дипломатических сообщений, их историческое содержание «скрыто» для нас, но понятно их современникам через присутствующие в текстах «текстуру» и иные текстуальные маркеры и т.д., которые и сообщали их читателям об их исторических намерениях. Как отдельный жанр (sui generis ) история пока еще не существовала, но историческое сознание существовало и прописывалось в принятых в культуре литературных формах.
Конечно, они все еще оставались региональными историями. Как уже отмечалось, еще никакой индийской нации не существовало, что дает нам основание частично согласиться с Джеймсом Миллом, написавшим, со всеми своими предубеждениями, первую историю этого субконтинента. Тем не менее, в некоторых слоях населения происходили важные переориентации в мировоззрении и письме, указывающие на то, что определенные ощущения исторического сознания появились еще до колониального влияния.
Восточная и Юго-Восточная Азия
Шаманизм и история: появление «ши» (бЫ)
И в завершении обратимся к Восточной и Юго-Восточной Азии, где мы видим давнюю традицию историописания, возникшую в первую очередь в Китае. Чтобы обсуждать тенденции развития азиатской историографии начиная с XVIII века и далее, видимо, необходимо сделать краткий обзор этой традиции с ее особенностями, отличавшими ее от других исторических культур на Ближнем Востоке, в Южной Азии и Европе. Например, в годы ее формирования важную роль в зарождении и письменного языка, и исторической культуры в древнем Китае играл шаманизм. Самые ранние исторические записи были найдены в надписях жрецов на костях животных и черепашьих панцирях, сделанных в период династии Шан (1600-1066 гг. до н.э.). Эти записи в основном были сделаны шаманом-царем с целью предсказания и колдовства. * *1 Rao, Schulman and Subrahmanyam, Textures in Time, 136.
* sui generis - редкий, уникальный, своего рода, собственный, в своем роде .
МИРОВЫЕ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ: XVIII ВЕК 73
Позже появилась должность, названная «ши» (shi), и в течение длительного правления династии Чжоу (1121-1249 до н.э.) таких должностей стало несколько, и они стали очень распространены при дворе этой династии. В современном китайском языке существует тенденция переводить «ши» как «историк», но во времена Чжоу обязанности «ши» не сводились исключительно к истории - он был и писцом, и астрологом; в качестве последнего он выполнял шаманскую обязанность интерпретировать значение движения небесных светил для людей1.
Историописание возникло из шаманства, и то обстоятельство, что «ши» с самого начала находился на правительственной службе, наложило сильный отпечаток на китайское историческое мышление. Историописание в Китае в основном находилось в руках чиновников, хотя до VII века многие историки занимались историей не по заказу правительства; практика частного историописания активно присутствовала и после VII века. В древних текстах, таких как «Шесть канонов», которые, как предполагают, помог отредактировать и сберечь Конфуций, уже присутствовало отношение к истории, как к зеркалу, отражающему все прошлые достижения и ошибки, которые считались релевантными современному положению дел. Там говорилось, что причины падения династии Шан уже нашли свое отражение в падении предшествующей ей династии Ся (2207-1766 до н.э.); обе допустили сходные ошибки. История, таким образом, расценивалась как хранилище политической мудрости, и такое представление было широко распространено в Китае имперского периода. Это побуждало каждого правителя династии после его восхождения на трон заказывать составление истории предшествующей династии. Начиная с VII века и далее это стало стандартной практикой для историописания в Китае, которая сразу же оказала заметное влияние на Корею, Вьетнам и Японию.
Формирование конфуцианской историографии
Часто цитируемая фраза о том, что история в Китае писалась «бюрократами для бюрократов», характеризует бюрократическую природу династийного историописания. Но это не дает полного представления о разнообразии традиций историописания в имперском Китае, потому что на всем протяжении имперского периода в Китае постоян¬
1 Несколько современных китайских ученых предложили свои объяснения Происхождения и функции shi в древнем Китае, и некоторые из этих работ собраны в: Du Weiyun and Huang Jinxing, eds, Zhongguo shixueshi lunwen xuanji (Selected Essays in the History of Chinese Historiography) (Taipei, 1976). Vol. 1, 1-109. Cm. краткое и дополненное изложение на англ, яз.: On-cho Ng and Q. Edward Wang, Mirroring the Past: the Writing and Use of History in Imperial China. Honolulu, 2005. 1-7.
74
ГЛАВА 1
но присутствовал и частный интерес к написанию истории. Кроме того, данное утверждение не принимает во внимание тот факт, что до VII века н.э. традиция официального историописания не была до конца установлена. Например, Сыма Цянь, возможно, самый значительный историк имперского Китая, начиная составлять свои «Исторические записки» (БЬуО, в целом преследовал тот же интерес, что и Геродот, а именно удовлетворить свой интерес к необычным происшествиям и сохранить историческую память. Хотя он и родился в семье потомственных «ши», Сыма написал свой главный труд самостоятельно, без императорского покровительства. Его цель состояла в том, чтобы «исследовать границу между Царством Небесным и Царством Человеческим, постигнуть процесс изменений в прошлом и настоящем и установить традицию одной семьи»1. Сыма не рассматривал эту цель исключительно как служение императору.
К тому времени, когда Сыма Цянь начал писать свой труд, нарративная история уже пустила свои корни в Китае, и Сыма был обязан ей развитием своего собственного жанра - «создать традицию одной семьи»2. И все же его стремление «постигнуть изменения в прошлом и настоящем», или найти движущий закон истории, больше восходит к утверждению Конфуция о том, что написание истории призвано помочь установить нормативный социально-политический порядок. По Конфуцию, примером этого порядка служили предшествующие исторические эпохи, такие как правление династии Чжоу, - поэтому он сокрушался по поводу упадка политической культуры Чжоу в свою эпоху. Пересматривая «Анналы Весны и Осени» (СЬипцш ), составленные «ши» в его родном царстве Лу, Конфуций не только рассчитывал создать хронику упадка истории, но и вынести порицание тем, кто способствовал этому регрессу. Сделанное им сводилось к незначительным изменениям в «Анналах» путем замены определенных слов (например, замена слова «погибший» на «убитый») с целью достижения более сильного морального осуждения незаконного поведения. Используя этот так называемый «стиль Весны и Осени» (СЬипцш ЫГа), Конфуций показал, что перо историка служит не только для записи пришлого, но и для вынесения морального и политического осуждения.
В работах Конфуция и Сымы Цяня часто присутствуют ссылки на ‘Пап’ (Небеса), или китайское понятие Бога. Это служит подтверждением того, что в их время шаманская вера в корреляцию Небесного и Человеческого была по-прежнему значимой. Это влияние долго не
1 Ng and Wang, Mirroring the Past 62.
2 Ronald Egan, 'Narratives in Tso Chuan', Harvard Journal of Asiatic Studies, 37. 1977, 323-352; The Tso Chuan: Selections from China's Oldest Narrative History. New York. 1989. Перевод и вступительная статья Бартона Уотсона (Burton Watson).
Chunqiu (кит.) - «Хроника Чуньцю».
МИРОВЫЕ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ: XVIII ВЕК 75
исчезало. Однако морализируя историописание, Конфуций в действительности вводил в историографическую традицию мирской оттенок и совершенствовал организацию историописания: при помощи пера историка он надеялся восстановить то, что считал Небесным порядком, чтобы тем самым помочь народу постигнуть добро и зло. Для Конфуция и его последователей честность историка не была лишена моральной подоплеки; скорее, она означала, что для поддержания морального стандарта историк в своих трудах обязан «правильно» вести свои записи и «не прогибаться» под политическим давлением или принуждением1.
Учитывая влияние конфуцианства, ставшего в период правления династии Хань (206 до н.э. - 220 н.э.) государственной идеологией, составление исторических сочинений, таким образом, преследовало двойную цель - одновременно историческую и нормативную - и заключалось как в создании хранилища исторического знания, так и в поиске идеального социально-политического порядка. Таким образом, «Записки» Сымы Цяня следуют иерархической структуре, создавая, возможно, микромир его собственного идеального мира, в котором находят свое место его ярко и красочно оформленные жизнеописания. Например, раздел «Основные анналы» содержит жизнеописания имперских домов с древнейших времен до династии Хань, раздел «Потомственные династии» посвящен деяниям заслуживающих внимания министров, а раздел «Примечательные жизнеописаня» описывает жизни людей из разных социальных страт, которые Сыма счел важными или интересными2. Ранжируя и группируя исторические фигуры таким способом, Сыма показывал, каким должен быть идеальный социально-политический порядок. Однако, поскольку он часто отклонялся от своей же собственной модели, историческая практика самого Сымы, с точки зрения типичных конфуцианских представлений, не была безупречной. Будучи историком, он время от времени проявлял слишком большой интерес к описанию уникального и необычного в ущерб моральной дидактичности. Тем не менее придуманный Сымой жанр анналов-жизнеописаний позднее и после некоторой модификации был принят на вооружение как стандартная форма династийной истории в имперском Китае и остальном синтоистском мире.
1 Ср.: Q. Edward Wang, 'Objectivity, Truth, and Hermeneutics: Re-reading the Chunqiu // Ching-i Tu, ed., Classics and Interpretations: The Hermeneutic Tradition in Chinese Culture. New Brunswick, NJ, 2000, 155-172.
2 Wai-yee Li, 'The Idea of Authority' in the Shih chi (Records of the Historian)’, Harvard Journal of Asiatic Studies, 54:2. December 1994, 345^405; Ng and Wang, Mirroring the Past, 53-67. См. посвященные историографии Сымы Цяня монографические исследования на англ, языке: Burton Watson, Ssu-ma Ch’ien: Grand Historian of China. New York, 1958; Stephen W Durrant, The Cloudy Mirror: Tension and Conflict in the Writings of Sima Qian. Albany, NY, 1995, and Grant Hardy, Worlds of Bronze and Bamboo: Sima Qian's Conquest of History. New York, 1999.
76
ГЛАВА 1
Историческая Служба и династийная история
Однако с современной точки зрения величие Сымы Цяня заключается именно в его отклонении от конфуцианского идеала, потому что после него историописание становилось все более затруднительным, попав в смирительную рубашку правительственного вмешательства. Начиная с династии Тан (618-907) и с появлением Исторической Службы оно превратилось в официальное предприятие. Правители династии Тан проявили большой интерес к созданию истории как к источнику, из которого можно извлечь много полезных политических уроков, которые помогут упрочить их правление и продлить династию. Задача Службы, или задача ее историков, состояла в том, чтобы, с одной стороны, составить историю предыдущих династий, а с другой - собирать и сохранять документы и источники по современному правлению. Эти источники изучались и объединялись по таким категориям, как «дневники двора», «ежедневный календарь» и «подлинные документы», на основе которых будет составлена современная история, названная «национальной историей» (¿моу/н)1.
Созданная в годы правления Тан система официального историо- писания оказала такое парадигматическое влияние на Корею, Вьетнам и позже на Японию, что династийные истории в этих странах писались на китайском языке вплоть до конца XIX века. И наоборот, в китайских трудах по истории были найдены очень ценные документы по ранней истории Японии, Кореи и Вьетнама. ШккокивЫ (Шесть национальных историй), написанные в Японии на китайском языке, были составлены по образцу официального историописания периода династии Тан2. Я полагаю, что представление об истории как зеркале для настоящего, распространявшееся правителями и историками династии Тан, в Японии легло на подготовленную почву. В УШ-ХП веках там появился ряд исторических текстов, Okagami, Imakagami и М1гика- gami, и более известный Azumakagami, каждый из которых содержал в своем названии слово «зеркало» (kagami). Но их содержание и стиль все больше становились японскими, чем китайскими, являясь индикатором того, что китайское влияние постепенно уменьшалось. Действительно, в отличие от Кореи и Вьетнама китайская традиция дина- стийной истории никогда не была жестко закреплена в феодальной Японии, отчасти потому что до XVII века Япония не была объединена единой династией. Несмотря на частые войны, японские историки постоянно прикладывали усилия к тому, чтобы написать историю и исследовать причины взлетов и падений власти. Об этом свидетельст¬
1 Denis Twitched, The Writing of Official History under the T'ang. Cambridge, 1993.
2 Sakamoto Taro, Rikkokushi (Six National Histories). Tokyo, 1972.
МИРОВЫЕ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ: XVIII ВЕК 77
вует быстрый рост литературы в жанре «воинских повествований» (Gunki monogatarif.
Если исходить из конфуцианского стандарта, практика историопи- сания в период династии Тан и идея истории как зеркала не были особенно моралистическими. После падения в III веке династии Хань в Китай проник буддизм, и культура Тан была типично буддистской, особенно учитывая ее влияние в Японии и Корее. Буддистское историографическое письмо вместе со свойственными ему нравоучительными интенциями преуспело в слиянии с существовавшей в историографии периода Тан традицией биографического письма. Но в годы правления династии Сун (960-1279) конфуцианство возродилось; известное иногда в западной науке как неоконфуцианство, оно вновь заявило о моралистической позиции в историописании. Это повторное заявление не было, однако, защищено от буддистского влияния. В историческом дискурсе династии Сун с целью морализации историописания историки оперировали такими метафизическими понятиями, как «принцип» (//) или «небесный принцип» (tianli) - практика, редкая для классического конфуцианства1 2.
Распространение
и влияние династийной историографии
Итак, в периоды правления династий Сун и Тан существовали разные практики историописания, и неоконфуцианская практика отличалась от ранней конфуцианской. Образованные слои общества, чувствуя себя уполномоченными своим знанием космологического порядка, обращались к истории, чтобы выразить протест своему императору по поводу любого отклонения от Небесного порядка. Таким образом, эти образованные люди верили, что они обладают shiquan (авторитетом истории), с помощью которого они могут ограничить в противном случае неограниченную власть императора. Отличным примером может служить Zizhi tongjian (Цзы чжи тун цзянь, «Всеобщее обозрение событий, управлению помогающее») Сымы Гуана. На первый взгляд, эта всеобщая история, охватывающая период около 1300 лет, работала на освященную веками идею сделать из истории политическое зеркало для правителей. Но, вероятно, Сыма Гуан стремился не только к этому; его шедевр можно считать профессиональным нарративом, в рамках которого обобщались взлеты и падения прошлых династий
1 Taro, Nihon no shushi to shigaku (Historical Compilation and Study in Japan). Tokyo, 1991, 67-86, 132-137. Cp. Hugh Burton, 'A Survey of Japanese Historiography', American Historical Review, 43:3. April 1938, 489-499, особенно 490-492.
2 Peter Bol, This Culture of Ours: Intellectual Transitions in Tang and Sung China Stanford, NJ, 1992; Yu Yingshi, Zhu Xi de lishi shijie (The Historical World of Zhu Xi). Taipei, 2003; Wm. Theodore de Вагу, 'Some Common Tendencies in Neo-Confucianism' // David Nivison and Arthur Wright, eds, Confucianism in Action. Stanford, NJ, 1959; Wm. Theodore de Вагу, ed.. The Unfolding of Neo-Confucianism. New York, 1975.
78
ГЛАВА 1
и извлекалась драгоценная политическая мудрость для улучшения имперского правления1.
Другими словами, начиная с правления династии Сун, династий- ная историография все больше сосредотачивалась на монархе. Она отличалась от модели, установленной Сымой Цянем в период правления династии Хань и выглядевшей на этом фоне по охвату событий почти панорамной. Несмотря на то что династийные историки сузили рамки своей работы, они значительно увеличили ее объем - многочисленные династийные истории собирались в огромные фолианты. Из-за своего громадного объема однажды собранная династийная история печаталась всего лишь в нескольких экземплярах. Обычно они хранились в королевском дворце и императорской библиотеке и были недоступны широкой публике. И это было свойственно не только Китаю. Являясь ближайшими соседями Китая и находясь под его влиянием, Корея и Вьетнам создали у себя систему официального исто- риописания чуть ли не с XII (если не ранее) века2. В 1145 году Ким Пусик составил Santguk sagi («Исторические записи трех государств»), самую раннюю из известных историю Кореи3. В годы правления династии Чосон (1392-1910), испытавшей еще больше китайского влияния в форме нео-конфуцианского учения, были предприняты значительные усилия по дальнейшему развитию историописания4 * * 7. Составленная в 1451 году Koryosa («История Кореи») стала первой полной династийной историей Кореи. С другой стороны, Tongguk fonggam («Военное зерцало Восточного государства [Корея]») представляло собой подражание Сыме Гуану. В своих усилиях поддержать конфуцианский Небесный порядок корейские историки придерживались низкопоклонства (sadae) и, чтобы отразить подчиненное по отношению к Китаю положение Кореи, поместили жизнеописания ко¬
1 Е. G. Pulleyblank 'Chinese Historical Criticism: Liu Chih-chi and Ssu-ma Kuang' //
W. G. Beasley and E. G. Pulleyblank, eds, Historians of China and Japan. Oxford, 1961,
135-166; Xiao-bin Ji, 'Mirror for Government: Ssu-ma Kuang's Thought on Politics and
Government in Tzu-chih t'ung-chien' // Thomas H. C. Lee, ed., The New and the Multiple: Sung Senses of the Past. Hong Kong, 2004; Xiao-bin Ji. Politics and Conservatism
in Northern Song China: the Career and Thought of Sima Guang (1009-1086). Hong
Kong, 2005.
7 Zhu Yunying, 'Zhongguo shixue duiyu Ri, Han, Yue de yingxiang', (Влияние китайской историографии на Японию, Корею и Вьетнам) // Du and Huang, Zhongguo shixue- shi lunwen xuanji. Vol. 2, 1056f. Также отмечается, что в течение XII века во Вьетнаме утвердились система экзаменов для приема на государственную службу и в национальный университет, созданная в период правления династии Тан. См.: К. W. Taylor, 'Vietnamese Confucian Narrative' // Benjamin A. Elman, John B. Duncan and Herman Ooms, eds, Rethinking Confucianism: Past and Present in China, Japan, Korea, and Vietnam. Los Angeles, CA, 2002,343-344; fC W. Taylor, The Birth of Vietnam. Berkeley, CA, 1983,250f.
J Li Runhe (Lee Yun-hwa), Zhonghan jindai shixue bijiao yanjiu (A Comparative Study of Modern Chinese and Korean Historiography). Beijing, 1994. 17.
Cp.: Wm. Theodore de Bary and JaHyun Kim Haboush, eds, The Rise of Neo- Confucianism in Korea. New York, 1985 и: Martina Deuchler, The Confucian Transformation of Korea: A Study of Society and Ideology. Cambridge, MA, 1992.
МИРОВЫЕ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ: XVIII ВЕК 79
рейских королей в раздел «Потомственные династии» вместо «Основных анналов»1. Однако это могло быть и единичным случаем, потому что в то же самое время династийные истории Вьетнама создавались с целью прославления Dai Viet, или «Великого Вьета», примером чего являются Dai Viet su luoc («Краткая история Вьета») и Dai Viet su ку («Исторические записки Великого Вьета»). Другим примером может служить Dai Viet su ку toan thu («Полное собрание исторических записок Великого Вьета»), составленное в 1479 г. придворным историком Нго Ши Лиеном, даже несмотря на то, что все эти исторические тексты постоянно отражали влияние конфуцианской морали2. Тем не менее, не должно игнорироваться и буддистское, или южно-азиатское, влияние на вьетнамскую историографию. Viet dien и linh tap («Собрание записей о потусторонних силах Вьетского царства») XIII века было написано хранителем буддистской библиотеки3. Наконец, с XVII века начинается возрождение дина- стийного историописания в Японии, когда были составлены Honchö tsu- gan («Всеобъемлющее зеркало нашей страны») и Dai Nihonshi («История Великой Японии»); последняя была начата членом клана Токугавы, сёгуном, управлявшим объединенной Японией от имени императора.
К тому времени, когда династийная историография утверждалась в качестве нормы историописания в синтоистском мире, в самом Китае, где и возник данный тип историографии, ее составление стало настолько привычной вещью, что она уже больше не выполняла функцию извлечения полезных уроков из прошлого для использования их в настоящем. Усиление императорской власти в годы правления династии Мин (1368-1644) означало, что историкам Исторической Службы становилось все труднее и труднее правдиво описывать события, случающиеся при дворе, не говоря уже о внешних событиях. В результате пострадало качество официальной историографии периода правления династии Мин. Зато частное историописание по сравнению с ней процветало частично потому, что историки работали конфиденциально и постоянно вдохновляемые нео-конфуцианскими политическими идеалами, умышленно разоблачали то, что скрывалось в официальной историографии4. Частное историописание в период правления династии Мин так разрослось еще и потому, что XVI век стал временем роста коммерциализации и расширения книжного рынка. Благодаря развитию коммерции и торговли в юго-восточных районах Китая появилось городское сообщество, внутри которого сразу же из числа городских жителей появились новые читатели, обращавшиеся к истории главным
1 Zhu, 'Zhongguo shixue duiyu Ri, Han, Yue de yingxiang', 1060; Li, Zhonghan jin- dai shixue, 13-20.
2 Cm.: Alexander Woodside, Vietnam and the Chinese Model: A Comparative Study of Nguyen and Ch'ing Civil Government in the First Half of the Nineteenth Century. Cambridge, MA, 1971, 18-22.
3 Taylor, Birth of Vietnam, Appendix O, 349-359; John K. Whitmore, 'Chung-hsing and Cheng-t'ung in Texts of and on Sixteenth-century Vietnam' // Taylor and Whitmore, eds, Essays into Vietnamese Pasts. Ithaca, NY, 1995, 116-136.
4 Ng and Wang, Mirroring the Past, 193-222.
80
ГЛАВА 1
образом ради развлечения. Приспосабливаясь к этому интересу, в частной историографии периода династии Мин появились новые жанры, в которых стала стираться разница между историей и художественной литературой1.
«Искать истину в фактах»: появление доказательности знания
После падения в XVII веке династии Мин маньчжуры, надеясь восстановить и развить китайскую культурную традицию, установили в Китае династию Цин (1644-1911). Но для ученых конфуцианского толка, в том числе в Корее и Японии, крах династии Мин означал конец истории. Так, корейские конфуцианцы попытались превратить Корею в Sojunghwa (маленький Китай), или новый центр китайской культуры2 3. В Японии в период Токугавского сёгуната (1603-1868) стала развиваться коммерческая культура по аналогии с тем, что происходило в Китае при династиях Мин и Цин. В ответ на потребности и интересы растущего числа горожан японские ученые использовали различные герменевтические стратегии для интерпретации конфуцианской классики, что приводило к ослаблению и фрагментации нео-конфуцианской ортодоксальности, поддерживаемой сёгунатом. Из множества возникших в это время школ особенно значимым было появление «Национальной школы» во главе с Мотоори Норинага; на волне прото-националистических настроений он поставил под вопрос универсальную ценность конфуцианского учения и его релевантность японской культуре.
В Китае сходный критический настрой по отношению к неоконфуцианству проявился в «Школе доказательного знания» {kaoz- hengxue), которая возникла в середине XVII века после смены династии Мин на Цинн . Отныне в научном сообществе династии Цин именно нео-конфуцианство, или его развитие в период правления династии Мин, считали виновным в падении этой династии, хотя на официальном уровне нео-конфуцианство продолжало получать поддержку двора Цин . Намереваясь содействовать практическому изучению и получению знаний об искусном управлении государством, ученые периода Цин выразили недовольство и разочарование неоконфуцианской ин¬
1 См.: Kai-wing Chow, Publishing, Culture, and Power in Early Modem China (Stanford, NJ, 2004; Cynthia Brokaw and Kai-wing Chow, eds, Printing and Book Culture in Late Imperial China. Berkeley, CA, 2005.
2 JaHyun Kim Haboush, 'Contesting Chinese Time, Nationalizing Temporal Space: Temporal Inscription in Late Choson Korea' // Lynn Struve, ed., Time, Temporality and Imperial Transition: East Asia from Ming to Qing. Honolulu, 2005,115-141.
речь идет о филологически доказательном знании.
3 On-cho Ng, Cheng-Zhu Confucianism in the Early Qing: Li Guangdi (1642-1718) and Qing Learning. Albany, NY, 2001; Chin-hsing Huang, Philosophy, Philology, and Politics in Eighteenth-century China: Li Fu and Lu-Wang School under the Ch'ing. Cambridge, 199.6.
МИРОВЫЕ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ: XVIII ВЕК 81
терпретацией конфуцианского учения. Они дистанцировались от нео- конфуцианской метафизики периода Мин и попытались восстановить классическое конфуцианство периода Хань и ранее. С этой целью - аналогичной восстановлению греко-римской классической культуры ренессансными гуманистами - ученые периода Цин обратились к методам филологии, фразеологии, фонологии, этимологии и эпиграфики, надеясь извлечь первоначальное (а следовательно, истинное) значение конфуцианской классики.
Эта переориентация интеллектуальной культуры, охарактеризованная Бенджамином Элманом как движение «от философии к филологии», оказала существенное влияние на изучение истории1. Она указала на уже отмеченное изменение в историческом мышлении, заключавшееся в том, что в качестве довода своего отказа от неоконфуцианства выступавшие за доказательность знания ученые приводили следующий аргумент: поскольку неоконфуцианцы жили спустя тысячу лет после Конфуция, нет никаких оснований почитать их работы как ортодоксальные и авторитетные интерпретации конфуцианского учения. Это обвинение в анахронизме появилось еще раньше, в период правления династии Сун2. Но никогда оно не было настолько распространенным и влиятельным, как в XVIII веке. Стремящиеся к доказательности знания ученые, такие как Хуэй Дун (1697-1758) и его Школа в Сучжоу, сосредоточились на восстановлении конфуцианского учения в том виде, в каком оно существовало в период династии Хань, и отстаивали превосходство конфуцианского учения этого периода над его трактовками в период династии Сун. Хуэй утверждал что поскольку период династии Хань был намного ближе ко времени Конфуция, изучение учеными этой династии конфуцианского учения опиралось на устную традицию, недоступную неоконфуцианцам более позднего времени.
Несмотря на то, что позже ученые Сучжоуской школы подверглись критике за их излишний энтузиазм в изучении периода Хань, примечательным является то обстоятельство, что в их проекте по восстановлению первоначального смысла конфуцианского учения ими двигал не столько интерес к старине (более старому), сколько интерес к истине (более правильному). Действительно, девизом стремящихся к доказательности ученых было изречение периода Хань - ЭЫбЫ qiushi (искать истину в фактах). Типичным воплощением этого девиза стало учение Дай Чжена, являвшегося светилом в академическом созвездии периода Цин. Вдохновленный в начале своей карьеры Хуэн Дуном, Дай
1 Benjamin A. Elman, From Philosophy to Philology: Intellectual and Social Aspects of Change in late Imperial China. Los Angeles, CA, 2000, rev. ed.; также: Luo Bingliang, 18 shiji Zhongguo shixue de Шип chengjiu (Theoretical Advancement in Chinese Historiography of the Eighteenth Century). Beijing, 2000; Q. Edward Wang, 'The Rise of Modem Historical Consciousness: A Cross-Cultural Comparison of Eighteenth-Century East Asia and Europe' // Journal of Ecumenical Studies, XL:l-2. Winter- Spring, 2003, 74-95.
2 Cp.: Lee, The New and the Multiple, особенно вступительную статью Ли.
82
ГЛАВА 1
заинтересовался знанием периода Хань. Но вскоре он вышел за эти рамки и, в конечном счете, стал известен как самый эрудированный человек этой эпохи. Дай был человеком энциклопедических знаний, начиная от фонологии, этимологии и фразеологии и заканчивая географией, астрономией и математикой. Хотя он не был в первую очередь историком, он изучил древние институты и нормы. Основной целью его столь широкой образованности было достижение лучшего понимания конфуцианского учения. В отличие от неоконфуцианцев, в особенности от тех из них, которые в период правления Мин ценили интуицию и прозрение, Дай сосредоточился на восстановлении соответствующего исторического контекста, помогающего понять значение конфуцианской классики для современного ей времени. Он утверждал, что для понимания текста необходимо сначала понять значение присутствующих в нем слов1. Подобно гуманистам и антикварам Европы этого времени, Дай и его последователи королевой классического знания считали филологию. В частности, они подчеркивали необходимость исследования древней фонологии, поскольку со временем произношение изменяется, и в древности многие иероглифы были взаимозаменяемы из-за их схожего произнесения2. Рассматриваемое в таком ключе преклонение Хуэй Дуна перед ученостью периода династии Хань приобретало свой смысл; не столь отдаленные от времени Конфуция ученые периода Хань имели очевидное преимущество в обнаружении этих замененных иероглифов, поскольку по сравнению с произношением более позднего времени их произношение не сильно отличалось от времени Конфуция.
Интерес ученых Цин к древней истории не был беспрецедентным. Учитывая давнюю традицию историописания в Китае, китайцы хорошо знали свое прошлое, возможно, лучше, чем любые другие народы в это время. Они приобрели это знание, изучая и постигая завещанные им шедевры прошлого. Высокий статус Сымы Цяня, например, приводил к появлению множества подражаний во всем синтоистском мире. Однако время от времени усилия направлялись и на то, чтобы критически подойти к работе автора, проверяя аргументированность и надежность ее содержания. Хорошим примером был Лю Чжицзи, историк периода Тан. В своей работе ЗЫющ («Проникновение в историю»), возможно, первом историографическом труде синтоистского мира, Лю попытался дать критическую, иногда резкую оценку предшествующих трудов по истории и классических текстов3. Историографические исследования в древнем Китае на
1 Основная работа Дай Чженя Mengzi ziyi shuzheng была переведена на английский язык под заголовком Tai Chen on Mencius: Explorations in Words and Meaning / пер. и вступительная статья Анн-Пин Чинь (Ann-ping Chin) и Мэнсфилд Фримен (Mansfield Freeman). New Haven, CT, 1990.
2 Cp.: Hamaguchi Fujio, Shindai kokyogaku no shisoshi teki kenkyu («Исследование по интеллектуальной истории доказательного знания периода Цин») (A Study of Intellectual History on Qing Dynasty's Evidential Learning). Tokyo, 1994.
3 E. G. Pulleyblank, 'Chinese Historical Criticism: Liu Chih-chi and Ssu-ma Kuang', 135-166; Ng and Wang, Mirroring the Past, 121-128.
МИРОВЫЕ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ: XVIII ВЕК 83
самом деле считалось заслуживающей уважения академической традицией - ученые прикладывали огромные усилия для исследования, пояснения и аннотирования трудных слов более ранних трудов по истории.
Появившийся в период Цин проект достижения доказательности знания не только продолжил эту традицию, но и пошел намного дальше. shangque («Суждение о семнадцати династийных ис¬
ториях») Ван Мин-шэна, ЕгзЫ'екМ каоу1 («Исследование различий в династийных историях») Цянь Да-синя и Шап'егхЫ гИа/1 («Заметки по 22 династийным историям») Чжао И были лучшими примерами доказательности знания в период династии Цин, демонстрируя критический настрой и изощренные методы этого направления. Как следует из заглавий этих трудов, предметом их критического анализа были пользующиеся уважением династийные истории, до этого считавшиеся «образцовыми историями» {zhengshi). И все-таки Ван, Цянь и Чжао подвергли их критическому анализу, сравнивая их содержание с огромным количеством других источников, включая надписи на камнях и бронзе. Благодаря своей эрудиции они также дали детальные и, как правило, корректные разъяснения по поводу упомянутых в них людей, событий, официальных должностей, мест и учреждений. Кроме того, они, и особенно Чжао И, обсуждали основные модели и тенденции развития событий в социальной, культурной и институциональной сферах1.
Для проведения исследований в таком ключе этими историками двигало традиционное желание сделать из истории зеркало. Но наряду с этим они утверждали, что история играет не менее важную роль при изучении классических текстов - смелая и до этого не высказываемая мысль. Эта тенденция историзма в интеллектуальной культуре Цин привела к «историзации» классического знания2. Лучше всего эти процессы были подытожены в работе ЖетЫ 1оп^у1 («Общее значение литературы и истории») Чжана Сюэчэна, где он решительно заявил о том, что «все Шесть канонов были историями», даже при том, что собственный академический интерес Чжана находился за пределами доказательного знания. Подчеркивая и восстанавливая историчность классических текстов, придерживавшиеся идеи доказательности знания ученые периода Цин преуспели в ослаблении неоконфуцианской герменевтической доктрины, считавшей классические тексты священными и неизменными, и повысили статус истории, освобождая ее от традиционной роли вспомогательной дисциплины при исследовании классических текстов. Они исповедовали и поддерживали веру в то, что правильное и неправильное, или величие классических текстов, проявят себя, как
1 Du Weiyun, Qingdai shixue yu shijia (Historiography and Historians in the Qing Period). Beijing, 1988; Его же: Zhao Yi zhuan (Biography of Zhao Yi). Taipei, 1983.
2 On-cho Ng, 'A Tension in Ch'ing Thought: ‘‘Historicism” in Seventeenth- and Eighteenth-Century Chinese Thought’ // Journal of the History of Ideas, 54:4. 1993, 561-583; Benjamin Elman, The Historicization of Classical Learning in Ming-Ch’ing China’ // Wang and Iggers, Turning Points in Historiography, 101-146.
84
ГЛАВА 1
только будет установлена историческая правда. Эта вера не сильно отличалась от знаменитой максимы Леопольда фон Ранке (Leopold von Ranke, 1795-1886) “wie es eigentlich gewesen” («как это было на самом деле»). Чжао И, например, критиковал историографический метод неоконфуцианцев за то, что они переписывали некоторые предшествующие работы по истории не для того, чтобы исправить ошибки, а для того чтобы те лучше отражали конфуцианские идеалы1.
Все упомянутые выше ученые - Ван Мин-шэн, Цянь Да-синь, Чжао И, в меньшей мере Чжан Сюэчен - были современниками Дай Чжена. И на самом деле они были близко знакомы; Цянь, например, являлся другом Дая, а с Ваном связанным родственными узами. Вместе с множеством других ученых они сформировали академическое сообщество, или «Республику письма» , которая состояла из нескольких школ, возникавших в местах работы этих ученых учителями или независимыми исследователями. Ван Мин-шэн, например, принадлежал к Школе Сучжоу. Дай Чжен позднее создал свою собственную школу - Школу Аньхой, привлекшую многих исследователей; то же самое можно сказать и о Школе Цянь Да-синь, хотя из-за его скромности и в меньшем масштабе. Появлению «Республики письма» способствовал и книжный бум периодов Мин и Цин. Согласно одной из оценок, к 1750 году в Китае было напечатано больше книг, чем во всем остальном мире2. Ученые Цин часто публиковали свои работы как многотомные, даже несмотря на то что некоторые из них, как Чжан Сюэчэн, жили в бедности.
Этот взрывообразный рост книжной культуры в Китае периода Цин был связан с впечатляющим экономическим развитием и постоянным приростом населения. Как уже говорилось, городское сообщество в юго-восточной части Китая появилось еще при династии Мин. К XVIII веку сформировался национальный рынок с характерной для него отдаленной торговлей как внутри страны, так и за рубежом. По мере того как рос социальный авторитет купцов, они все больше взаимодействовали с представителями образованного класса, в том числе посредством заключения браков. В некотором смысле повышенный интерес к практическим исследованиям и доказательности знания, наблюдавшийся в период правления Цин, соответствовал потребности купцов в условиях урбанизации и коммерциализации культуры. Соединяясь брачными узами с купцами, семьи образованного класса также получали устойчивую экономическую опору, которая была им все более и более необходима, потому что вследствие демо¬
1 Ng and Wang, Mirroring the Past, 245.
Republic of Letters («Республика письма», «Республика литературы», «Мир литературы» и т.п.) - выражение, часто используемое в англоязычном мире для обозначения интеллектуальных сообществ, особенно ученых и писателей, в Европе XVII-XVIII вв.
2 Эта оценка приводится в: Ping-ti Но, The Ladder of Success in Imperial China: Aspects of Social Mobility. 1368-1911. New York, 1962,214.
МИРОВЫЕ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ: XVIII ВЕК 85
графического роста традиционный канал восхождения по социальной лестнице путем сдачи экзаменов на государственную службу становился все уже и уже. Возвышение торгового класса подорвало принятую и всячески поддерживавшуюся неоконфуцианцами социальную иерархию образованного слоя, крестьян, ремесленников и купцов. Подобно тому как доказательность знания ослабила фундамент не- оконфуцианского интеллектуального порядка, экономические перемены встряхнули неоконфуцианский общественный строй. И оба эти изменения были, разумеется, взаимосвязаны1 2 3.
В связи с указанными выше социальными изменениями расширялась и «Республика письма»; многие ученые, добившиеся успехов на гражданской службе, рано уходили с правительственных постов для того, чтобы посвятить себя преподаванию и науке. Хорошо известные примеры тому - Цянь Да-синь и Ван Мин-шэн. Их решение стало возможным благодаря востребованности в университетах учителей. В периоды Мин и Цин в Китае произошел небывалый рост университетов. Многие ученые, таким образом, оказались в состоянии содержать себя и, что важнее, преподавая в университете, обмениваться идеями. Упомянутая выше коммерциализация также обеспечила некоторым представителям образованного класса финансовую защищенность, позволив им заниматься наукой. Богатые купцы, например, обычно предлагали щедрую плату в виде авторского гонорара или вознаграждения в виде комиссии ученому или поэту за написание панегирика или стихотворения скончавшемуся члену семьи или предку. Хотя на протяжении XVIII века шансы сдать экзамен для поступления на государственную службу на самый высокий уровень уменьшались, число преуспевающих на более низких уровнях увеличивалось, что предполагало рост образованности - по оценке от 20 до 30 % мужского населения - и увеличение количества читателей исторической и другой литературы. А если в периоды Мин и Цин «читающая публика» действительно появлялась, этому способствовал, как показали недавние исследования по истории женщин в Китае, и рост грамотности среди женщин .
Интерес к доказательности знания развивался и при дворе династии Цин. Император Цяньлун (1735-1795), известный своими грандиозными амбициями и экстравагантными проектами, заказал составление
1 Yu Yingshi, Rujia Innli yu shangren jingshen (Confiician Ethics and Merchant Spirit). Guilin, 2004, 309; Lu Yuancong and Ge Rongjin, Qingdai shehui yu shixue (Practical Learning and Qing Society). Hong Kong, 2000, 1-36; Kenneth Pomeranz, The Great Divergence: China, Europe and the Making of the Modem World Economy. Princeton, NJ, 2000.
2 Cp.: Yu, Rujia lunli yu shangren jingshen; Elman, From Philosophy to Philology; Du, Qingdai shixue yu shijia. Информацию об уровне грамотности см. в: Brokaw and Chow, Printing and Book Culture, 30-31.
3 Cm.: Dorothy Ко, Teachers of Inner Chambers: Women and Culture in Seventeenth-century China. Stanford, NJ, 1994; Susan Mann, The Precious Records: Women in China's Long Eighteenth Century. Stanford, NJ, 1997.
86
ГЛАВА 1
57£м циа^Ни (Полное собрание книг по четырем разделам). Это была грандиозная попытка отобрать, составить аннотации и каталогизировать все достойные и опубликованные в прошлом книги, а затем свести их в четыре категории - классика, история, философия и художественная литература, то есть согласно традиционной библиографической системе, впервые использованной в период, предшествовавший династии Тан. Этот состоящий из четырех разделов проект пожинал плоды доказательного исследования; идеи и методы последнего были применены в исторической критике и критике текстов с целью изучения и установления подлинности книг, а также исследования и предоставления гарантий на предмет честности и правдивости их содержания. Дай Чжен, специалист по доказательности знания, фактически стал редактором этого проекта1 2.
С другой точки зрения, проявленный императором интерес и его патронаж проекта «Четырех разделов», возможно, являлся коварным замыслом, целью которого был контроль над образованным классом. Возможно, он стремился направить интеллектуальную энергию на дело, требующее дотошности и уймы времени, чтобы отвлечь их от подрывной деятельности. В период правления династии Цин действительно имели место несколько кровавых и печально известных случаев так называемой «литературной крамолы» (\venziyi), когда писатель, историк или поэт казнились императором вместе с членами его семьи, родственниками и даже учениками за найденные в их сочинениях якобы изменнические идеи. Возможно, император Цяньлун производил впечатление дилетанта среди образованных людей. И все-таки, что касается его политических воззрений, он определенно находился в большей зависимости от неоконфуцианского учения с его акцентом на моральном совершенствовании и социальном порядке. Рассматриваемое в таком ключе доказательное знание имело явный диссидентский оттенок. По крайней мере, это объясняло нежелание некоторых представителей образованного класса оказывать открытую поддержку Маньчжурскому правлению.
Токугавский сёгунат в Японии также обнаружил в доказательном знании потенциальную угрозу, хотя как интеллектуальное движение оно проявилось в Японии лишь в конце XVIII века. Примером попытки сёгуната поддержать неоконфуцианскую ортодоксию и не допустить критику и поступающие в ее адрес вызовы из различных школ, в том числе только что появившейся школы доказательности знания, представленной в Японии Иноэ Кингом и Ёсида Котаном2,
1 Cp.: R. Kent Guy, The Emperor's Four Treasuries: Scholars and the State in the Late Ch'ien-lung Era Cambridge, MA, 1987.
2 Zhu, 'Zhongguo shixue duiyu Ri, Han, Yue de yingxiang', 1053-1054; Elman, The Search for Evidence from China: Qing Learning and Koshogaku in Tokugawa Japan' // Joshua A. Fogel, ed., Sagacious Monks and Bloodthirsty Warriors: Chinese Views of Japan in the Ming-Qing Period. Norwalk, CT, 2002, 158-184; Nakayama Kyushiro, 'Koshogaku gaisetsu' (General Discussion of Evidential Learning) // Fuku-
МИРОВЫЕ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ: XVIII ВЕК 87
был Закон Канси (1790)1*. Несмотря на запрет, доказательное знание продолжало привлекать последователей и достигло зрелости в XIX веке, тогда как в Китае периода Цин оно явно приходило в упадок.
В Корее периода династии Чосон критики неоконфуцианского учения, в том числе склоняющиеся к доказательности знания, были собраны в Школе реальных наук, возвышение которой отразило интеллектуальные сдвиги в Корее в то время, когда в Китае правили династии Мин и Цин2. Ан Джон Бок, признанный историк и представитель Школы доказательности знания, в своей Tongsa kangmuk («Обзор истории Кореи»), хронике с вводящим в заблуждение неоконфуциан- ским названием, продемонстрировал прекрасные навыки критики источников и завидную эрудицию в области как корейской, так и китайской истории. Видимо, под влиянием зарождавшегося национального чувства, получившего стимул к развитию благодаря падению династии Мин, он и особенно его последователи начали высказывать сомнения по поводу синтоистского миропорядка, традиционно поддерживавшего зависимость Кореи от Китая3. В работе Ле Куи Дона, уважаемого вьетнамского историка, под влиянием движения за доказательность знания предпринимались сходные усилия по углублению работы с источниками. В своей многотомной Le Trieu Thong Su («Полная история династии Ли») он отступил от официальной вьетнамской историографии. Украшенная живыми биографическими сведениями, она больше напоминала просопографию (в духе «Записок»4 Сымы Цяня), нежели хронику. Итак, накануне вторжения западных держав интеллектуальная жизнь синтоистского мира отличалась активностью и динамизмом, особенно в развитии доказательного знания. В последовавшие за этим века интерес и направленность, взращенные приверженцами доказательного знания, определили и охарактеризовали усилия историков по усвоению и приспособлению западных влияний, к которым мы обратимся в следующей главе.
shima Kashizo et at., eds. Kinsei Nihon no jugaku (Confucianism in Early Modem Japan). Tokyo, 1939, 710-729.
1 Robert Backus, 'The Kansei Prohibition of Heterodoxy and Its Effects on Education'// Harvard journal of Asiatic Studies, 39:1. 1979, 55-106.
Указ о запрете преподавать неортодоксальные учения и проводить неортодоксальные исследования.
2 Ср.: Mark Setton, Chong Yagyong: Korea's Challenge to Orthodox Neo-Confucianism. Albany, NY, 1997.
3 Shin Yong-ha, Modem Korean History and Nationalism, tr. N. M. Pankaj. Seoul, 2000, 5-14.
4 Cp.: Li Tana, 'Le Quy Don’ // Kelly Boyd, ed., Encyclopedia of Historians and Historical Writing. London, 1999. Vol. 1, 210.
88
ГЛАВА 2
НАСТУПЛЕНИЕ НАЦИОНАЛИЗМА И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ: ЗАПАД, БЛИЖНИЙ ВОСТОК И ИНДИЯ В XIX ВЕКЕ
Историография в эпоху революций 1789-1848 годов
Политический контекст
Нет никаких сомнений в том, что Французская революция и последовавший за ней наполеоновский режим существенно изменили условия изучения, написания и прочтения истории на Западе. Революция высветила границы, в которых протекал процесс модернизации (описанный нами во введении), и одновременно пределы этого процесса. К 1815 году революция была успешно подавлена и прикладывались усилия по восстановлению многих аспектов прежнего порядка. На самом же деле, несмотря на восстановление монархического правления, основные социальные и в определенной степени политические завоевания революционных реформ остались нетронутыми. За исключением Восточной Европы, социальные порядки европейского континента претерпели глубокие изменения. Еще в самом начале революции во Франции были отменены феодальные пережитки, установлено равенство перед законом и ослаблены оковы, душившие рыночную экономику. Результатом наполеоновских завоеваний было привнесение этих основных реформ в крупные регионы континентальной Европы: в Германию, Нидерланды, Швейцарию и основные регионы Италии. В Великобритании многие из этих институтов уже успешно функционировали. В Пруссии после ее поражения наполеоновскими войсками реформы в этом направлении были начаты сверху. Результатом стало усиление среднего класса - bourgeoisie во Франции, Bürgertum в Германии - и развитие гражданского общества. Последовавший за 1815 годом период не прервал это развитие, а скорее придал ему новые импульсы. Даже в политической сфере старые порядки не были восстановлены. Людовик XVIII после своего возвращения из изгнания издал хартию о преобразовании Франции в конституцион¬
НАСТУПЛЕНИЕ НАЦИОНАЛИЗМА И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ... 89
ную монархию . И хотя Австрия, Пруссия и многие из малых немецких и итальянских государств отказались пойти на уступки, движение за конституционные реформы продолжало набирать обороты. К 1830 году разнообразные немецкие государства уже имели конституции. Парламентская реформа 1832 года в Англии увеличила представительство средних классов, но за исключением Англии и Бельгии индустриальная революция еще не развернулась в полную силу и не оказала существенного влияния на историческое мышление.
Все это влияло на способ написания истории. Хотя упомянутые нами события указывали на современную перспективу, непосредственной реакцией историков во время и сразу после революционных событий было неприятие идеалов Просвещения, вдохновивших эту революцию. Революция рассматривалась как отрицание истории, как неудачная и навязчивая идея строительства общества на новых, рациональных основаниях. Символом такого настроя стало введение метрической системы: замена старых и сложных метрических моделей новыми и четкими. Первым значительным откликом на Французскую революцию еще до того, как она вошла в фазу террора, были написанные в 1790 году и уже упомянутые «Размышления о Французской революции» Эдмунда Бёрка. Он не был против изменений и реформ - он был сторонником Американской революции, - но полагал, что воплощающие разрыв с существующими порядками реформы приведут к хаосу и насилию. Бёрк таким образом подвел теоретический базис под консервативные программы первой половины XIX века, хотя в исторической мысли было много такого, что выходило за переделы этой программы и вело к откровенному протесту.
Романтизм и историография
На смену Просвещению в качестве господствующего в первой половине XIX века мировоззрения пришел романтизм* 1 * * * * 6. Но, как мы уже видели в предыдущей главе, просветительские идеалы XVIII века были многогранными и ни в коем случае не вели к отрицанию исто¬
Речь идет о Хартии 1814 года.
1 Stephen Вапп, Romanticism and the Rise of History. New York, 1995; также idem.,
The Clothing of Clio: A Study of the Representation of History in Nineteenth-Century
Britain and France. Cambridge, 1984; (рус. пер.: Стивен Бенн. Одежды Клио. М.,
2011). Hugh Trevor-Roper, The Romantic Movement and the Study of History. London,
1969; Isaiah Berlin, The Roots of Romanticism. Princeton, NJ, 1999; еще значимы две более старые работы: George Р. Gooch, History and Historians in the Nineteenth Century. London, 1913 и Georg Brandes, Main Currents in Nineteenth-Century Literature,
6 vols. New York, 1901, T. 2: Романтическая школа в Германии (The Romantic School in Germany), T. 4: Романтическая школа во Франции (The Romantic School in France), этой теме посвящен и T. 1: Эмигрантская литература (Emigrant Literature) о французских эмигрантах.
90
ГЛАВА 2
рии. На самом деле история занимала одно из центральных мест в размышлениях Монтескьё, Вольтера, Юма и Гиббона, а также, хотя и в ином ключе, Гердера. Романтизм был тоже довольно многообразен: с одной стороны, прославляя прошлое, с другой - отстаивая самые разные политические идеалы для преобразования современного общества, охватывающие весь спектр политических предпочтений.
Протест против идеалов Французской революции принял форму идеализации Средних веков, но Средневековье могло рассматриваться по-разному: ностальгически как эпоха гармоничных социальных отношений, скрепляемых феодальной иерархией и римско-католической верой, как это было в случае с виконтом Рене де Шатобрианом в прочитанной многими его работе «Гений христианства»1 2, или в качестве истока современной свободы и даже демократии, как это было представлено в трудах Огюстена Тьерри и Жюля Мишле. Джозеф де Местр отыскал причины того, что он назвал кризисом современного общества, в протестантской Реформации, которая, введя принцип индивидуальной совести, разрушила гармонию средневекового христианского мира. В Англии крупные поэты-романисты начала XIX века Перси Биши Шелли и лорд Байрон выступили в защиту демократических реформ, а лорд Байрон даже пожертвовал жизнью в борьбе за греческую независимость.
Появление национализма и его влияние на историографию
Протест против революции и Просвещения породил феномен нации как ключевой силы современной истории. В Германии культ нации был частью борьбы против французского господства после поражения в 1806 году Пруссии от Наполеона (1769-1821) и в годы так называемых освободительных антинаполеоновских войн в 1813-м и 1814-м. Вместо равенства в качестве универсального принципа всех времен, провозглашенного в американской «Декларации независимости» (1776) и французской «Декларации прав человека и гражданина» (1789), центральной силой истории отныне стала нация как укорененное в прошлом инклюзивное сообщество2. Но сама идея нации как
1 Francois-Rene Chateaubriand, The Genius of Christianity. New York, 1975.
2 Cm.: Georg G. Iggers, The German Conception of History: The National Tradition of Historical Thought from Herder to the Present. Middletown, CT, 1983; также: Ernst Breisach, Historiography: Ancient, Medieval, & Modem. Chicago, IL, 1983, 228-267; Ernest Gellner, Nations and Nationalism. Oxford, 1983; рус. пер. — Э. Гел- лнер. Нации и национализм. М., 1991; Hans Kohn, The Idea of Nationalism: A Study in the Origin and Background. New York, 1944; Eric J. Hobsbawm, Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality. Cambridge, 1990; (рус. nep.: Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 г. М., 1998); Stefan Berger, The
НАСТУПЛЕНИЕ НАЦИОНАЛИЗМА И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ... 91
сообщества содержала почти демократическую идею, а именно: все представители данной нации являются не просто субъектами королевской власти, но и равными партнерами, а сама королевская власть не имеет божественного предопределения, а всего лишь представляет нацию. Когда в 1807 году Берлин был оккупирован французами, Иоганн Г. Фихте выпустил свое «Обращение к немецкой нации»1, в котором он рассматривал немецкую нацию не как часть человечества, а как уникальное образование, отличное от всех других наций. В то время как Французская революция сделала Францию родиной свободолюбивых людей во всем мире, причем в такой мере, что для получения французского гражданства достаточно было придерживаться идеалов Французской республики, Фихте определил немецкую национальность в расистских терминах: нельзя быть поляком или евреем и немцем одновременно. Не прибегая к биологическим понятиям расы, Фихте рассматривал немцев как однородное лингвистическое сообщество, в котором надо было родиться. Для него язык был не просто ценностно-нейтральным средством представления объективной реальности, а скорее способом, с помощью которого люди понимают мир, в котором они живут. Язык был обусловлен культурой и воплощал культуру. Для него в языке не было ничего универсального. Язык воплощал дух говорившей на нем нации. Но существовали два класса языков: те, которые восходили к истокам национального сообщества и продолжали существовать и по сей день, и те, которые пришли извне. По Фихте, немецкий язык принадлежал к первому классу, французский - ко второму. Немцы, утверждал он, говорили на языке, существующем начиная с периода древних германцев и воплотившем нерушимую силу национального духа; преемственность французской культуры была уничтожена римским владычеством, в результате чего она приобрела искусственный и рациональный характер. Поэтому для немцев теперь было просто естественным создать национальное государство, которое станет политическим воплощением их национального единства.
Хотя приверженность христианству, будь то в протестантской или католической форме, никуда не делась, нация оказалась отправной точкой, обладающей более сильными связующими возможностями, нежели существующие религии. На протяжении первой половины XIX века подобное представление о нации как однородном феномене, исключающем разнообразные примеси, распространилось по всей Европе, особенно в Германии и странах к востоку от нее, начиная от Богемии и до Греции - государствах, всеми силами пытающихся устано¬
Search of Normality: National Identity and Historical Consciousness in Germany Since 1800. Providence, RI, 1997; Stefan Berger, Mark Donovan and Kevin Passmore, eds, Writing National Histories: Western Europe Since 1800. London, 1999.
1 Иоганн Готлиб Фихте. Речи к немецкой нации. Санкт-Петербург, 2009.
92
ГЛАВА 2
вить свою национальную идентичность и получить независимость. В этих странах историография больше ориентировалась на Германию, нежели на Францию1. Этот национализм оказал серьезное влияние на историческую науку. На смену космополитической перспективе XVIII века пришел нациоцентризм не только в Германии, но во всей Европе. В то же время предпринимались попытки превратить историю в более строгую науку. Существует очень тесная взаимосвязь между профессиональной наукой и национализмом2.
Национализм и профессиональная наука
Отныне серьезное внимание уделялось собиранию и изданию средневековых источников, могущих стать основой для создания национальных историй. Первую серьезную попытку в этом направлении предпринял Людовико Муратори, издавший средневековые итальянские источники еще в начале XVIII века. В первой половине XIX века лидерство по развитию исторических исследований в националистической перспективе принадлежало немецким ученым. Как мы уже видели, филологические методы получили серьезное развитие в XVII веке благодаря усилиям мауристов и болландистов в Париже и Бельгии и в дальнейшем были усовершенствованы в исследованиях по церковной и греко-римской истории в немецких университетах в XVIII веке. Но ни одно из этих исследований не было ориентировано на то, чтобы служить национальным интересам. Ситуация изменилась с запуском больших проектов? таких как, например, Monumenta Germaniae historica , начатого в 1819 году и имевшего явную националистическую ориентацию: посредством критики средневековых источников способствовать формированию национальной идентичности. Средние века отныне рассматривались как пик развития германской истории, когда выдающуюся роль в Европе играла Священная Римская империя, предшествовавшая разделу Германии.
К середине XIX века аналогичные проекты начали осуществляться и в других местах. В 1821 году во Франции специально с целью критического изучения средневековых источников была создана Ecole des Chartes , вслед за чем в 1836 году последовали систематизация и вы¬
1 Effi Gazi, Scientific National History: The Greek Case in Comparative Perspective (1850-1920). New York, 2000.
Berger, Donovan and Passmore, Writing National Histories; также: Erik Lonnroth, Karl Molin, Ragmar Bjork, eds, Conceptions of National History: Proceedings of Nobel Symposium 78. Berlin, 1994, включавшей также главы по Индии, Китаю, Японии и постколониальной Африке.
Monumenta Germaniae historica (лат.) — «Исторические памятники Германии», сокращенно MGH.
Ecole nationale des chartes (фр.) - Национальная школа хартий, сокращенно ENC, французское государственное учреждение в сфере высшего образования,
НАСТУПЛЕНИЕ НАЦИОНАЛИЗМА И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ... 93
пуск средневековых документов, инициированные тогдашним министром народного просвещения Франсуа Гизо1. К 1844 году, когда в Великобритании были инициированы Роллс-серии (Rolls Series), несколько европейских стран от Испании до Скандинавии тоже последовали этому примеру.
Это увлечение выпуском средневековых источников по национальной истории сопровождалось, особенно в Пруссии, напряженными усилиями правительства по преобразованию истории в строгую академическую дисциплину, призванную служить делу строительства нации. В 1810 году в составе других реформ, проводимых прусским государством после поражения 1806 года, был образован Берлинский университет как учреждение, в котором преподавание должно сочетаться с исследовательской деятельностью2. История должна была превратиться в строгую академическую дисциплину, призванную реконструировать прошлое, освободив его при этом от элементов вымысла. Следует упомянуть имена двух историков, пришедших в университет сразу после его открытия: историка Рима Бартольда Георга Нибура и специалиста по истории Греции Августа Бёка. Нибур и Леопольд фон Ранке3, пришедший в университет в 1825 году и применивший методы Нибура к современной европейской истории, скоро были признаны основателями исторической науки. Эта репутация обязана их настойчивому требованию писать историю на основе критического анализа первоисточников. Для Нибура ни один из источников по римской истории, а для Ранке ни одна из историй раннего нового времени не были достаточно приемлемы, потому что частично они базировались на вторичных источниках. Нибур поставил перед собой задачу показать недостоверность сообщений римского историка Ливия, а Ранке - флорентийского историка Франческо Гвиччардини. К Ранке, который стал влиятельным в середине и второй половине
старейший научный центр в области изучения истории рукописной и печатной книги во Франции, центр подготовки специалистов по палеографии, архивоведению, истории книги и др. отраслям книжного дела, реставрации и консервации книг и рукописных документов.
1 Francois Guizot, Collection de documents inédits sur l'histoire de France.
Rolls Series - серия публикаций исторических источников по истории Средневековой Англии. Серия получила свое название в честь начальника судебных архивов (англ. Master of the Rolls) сэра Джона Ромилли, который был инициатором ее издания. Официальное название - Хроники и памятники Великобритании и Ирландии в средние века.
2 William Clark, Academic Charisma and the Origins of the Research Universities. Chicago, IL, 2006; Charles E. McClelland, State, Society, and Universities. Cambridge, 1980.
3 Theodor H. Von Laue, Leopold von Ranke: The Formative Years. Princeton, NJ, 1950; Leonard Krieger, Ranke: The Meaning of History. Chicago, IL, 1977. Приставка фон к имени Ранке в данном случае не применима; он получил дворянское звание только в последние годы жизни.
94
ГЛАВА 2
XIX века, мы еще обратимся, когда займемся исследованием профессионализации исторического знания. Что же касается Нибура, то в своей «Истории Рима»] и в лекциях, прочитанных им в Берлинском университете в начале 1910 года, он объявил о своем намерении переписать римскую историю. В методологическом отношении он находился под влиянием немецких филологов XVIII века, возглавляемых Ф.А. Вулфом. Он приступил к реконструкции римского государства, представив свое видение его функционирования, основываясь на анализе римского законодательства и надписей. Хотя в целом он и считался зачинателем в этом деле, в конечном счете, его работа была подвергнута основательной критике. Он заявил, что показал ненадежность ранней римской истории Ливия, но еще до него во Франции это было довольно убедительно продемонстрировано Луи де Бофо- ром в его «Рассуждении о недостоверности пяти первых веков римской истории», получившем широкое признание. Нибур прочитал Бофора только после того, как закончил свою «Историю Рима», и проигнорировал его. Это не уменьшило восхищение им и его работами в Германии. Его подход соответствовал духу времени; например, идеализация им римского общества как общества свободных крестьян, которое предшествовало, по его мнению, появлению Римской республики. Доказательств этому у него не было, но это соответствовало его романтическим наклонностям. Возможно, более новаторской, чем работа Нибура, была работа его коллеги Августа Бёка, который реконструировал политическую экономику Афин на основе материальных источников, надписей, монет и всяческой информации о ценах, заработной плате и оценках собственности, которую он нашел1 2.
К этому времени исторические исследования в Германии уже в значительной мере базировались в университетах, и процесс перемещения их туда начался еще в XVIII веке. Университеты исходили из того, что эти исследования будут проводиться на основе критики источников, которая рассматривалась как методологическая норма, устанавливающая четкое разграничение профессиональной науки и любительской художественной литературы. Но на самом деле ясного различия между ними не было. Подавляющее большинство историков продолжали оставаться любителями, по крайней мере, за пределами Германии. Кроме того, в то время, отмеченное глубоким интересом к истории, научные труды рассматривались именно как литературные. В большинстве своем история в Европе по-прежнему воспринималась и читалась в виде романов или трагедий. Например, большое влияние на историописание оказали романы Вальтера Скотта. Он «оживил» средние века, поместив своих героев в конкретные исторические об¬
1 The History of Rome. London, 1851.
2 August Böckh, Der Staatshaushalt der Athener. Berlin, 1817.
НАСТУПЛЕНИЕ НАЦИОНАЛИЗМА И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ... 95
стоятельства. То же самое для различных страт французского общества своего времени попытался сделать в своей многотомной «Человеческой комедии» Оноре де Бальзак. Даже в немецких университетах история по-прежнему писалась не только для профессионального сообщества, но и для более широкой публики. Эта публика была достаточно обширна уже накануне Французской революции во Франции, Великобритании и Нидерландах, когда работы Юма и Гиббона были бестселлерами, тиражируясь на протяжении первой половины XIX века по мере укрепления и расширения гражданского общества в Центральной Европе и Италии.
Переосмысление Средневековья в рамках либеральной историографии
Изменения начались где-то после 1830 года. Увлечение средними веками пошло на убыль, и историки больше занялись изучением исторических корней тех обществ, в которых они жили. Еще до 1830 года А.Г.Л. Геерен, в 1780-е годы учившийся в Гёттингенском университете у Шлёцера, занимался историей мировой торговли в рамках развития современной государственной системы. Он и особенно Христофор Фридрих Шлоссер, автор всемирной истории и истории XVIII века, были менее озабочены архивными изысканиями и тщательным анализом источников, но в первой половине XIX века они, вероятно, были наиболее читаемыми немецкими историками. Во Франции, начиная с 1820-х годов, ряд историков, прежде всего уже упомянутые Огюстен Тьерри1 и Франсуа Гизо2, написали историю третьего сословия начиная со средних веков и до современных им дней, в то время как Жюль Мишле с откровенно демократической перспективы рассматривал французский народ как движущую силу французской истории начиная с древнейших времен3. Средневековье отныне рассматривалось
1 Augustin Thierry, The Formation and Progress of the Third Estate, 2 vols. London, 1859. О Тьерри: Friedrich Engel-Janosi, Four Studies in French Romantic Historical Writing. Baltimore, MD. 1955; Stanley Mellon, The Political Uses of History. Stanford, CA, 1958; Lionel Gossman, Augustin Thierry and Liberal Historiography. Middle- town, CT, 1976.
2 Francois Guizot, History of France from the Earliest Times to the Year Eighteen Forty-Eight, 8 vols. Chicago. IL, 1869-1898; History of Europe from the Fall of the Roman Empire to the French Revolution. London, 1854; History of Civilization in Europe. New York. 1899. О Гизо: Stanley Mellon, The Political Uses of History. Stanford, CA, 1958; также см.: George P. Gooch, History and Historians in the Nineteenth Century.
* Jules Michelet, History of France. New York, 1897; History of the French Revolution. Wynnewood, PA, 1972 и The People. Urbana, IL, 1973; о Мишле: Roland Barthes, Michelet. Oxford, 1987: Linda On, Jules Michelet: Nature, History, and Language (Ithaca, NY, 1976): Arthur Mitzman, Michelet, Historian: Rebirth and Romanticism in Nineteenth-Century France. New Haven, CT, 1990.
96
ГЛАВА2
иначе, не ностальгически, как источник порядка и иерархии, а как стадия развития современного гражданского общества. Вне всякого сомнения, Мишле был наиболее читаемым французским историком. Будучи на протяжении ряда лет академиком, профессором в престижнейшем College de France и заведующим Национального архива, он вообще почитался широкими слоями французского общества как величайший французский историк. Его истории Франции и Французской революции, по существу, стали эпопеями французской нации. Он работал в архивах не для того, чтобы опираться в своих трудах на документы, а для того чтобы черпать в них вдохновение для своих историй. Он был вдохновлен революционными идеалами Просвещения и испытал на себе сильное влияние переведенных им Вико и Гердера. Просвещение и романтизм таким образом слились здесь в одном потоке. Мишле был убежденным демократом, вследствие чего периодически преследовался властями: Бурбонами в период монархии, Гизо (сначала поддерживавшим его) в период Июльской монархии и при Наполеоне III. Если немецкая наука сосредоточилась на изучении государства и отождествлении государства с нацией, то упомянутые нами французские историки гораздо больше внимания уделяли социальным и культурным аспектам. Их внимание к классу как к фактору, играющему важную роль в политическом конфликте и социальном изменении, позволило Карлу Марксу признать, что они предвосхитили его собственную концепцию истории1.
В Великобритании и Италии академическая наука играла еще меньшую роль. Ни один из значимых британских историков не был академическим ученым. В этот период особо выделялись двое - Томас Маколей2 и Томас Карлейль3, оба исключительно популярные и не обремененные принципами научной строгости. Карлейль подтрунивал над представлявшим академическую традицию вымышленным профессором Драйсдастом . Маколей, будучи активным политическим деятелем и на протяжении многих лет депутатом парламента, повествуя в своей «Истории Англии» об успешном развитии либеральных институтов в Англии, стал главным защитником «виговой
1 Karl Marx to Joseph Wedemeyer, 5 March, 1852 // Marx-Engels Werke. Vol. 28. East Berlin, 1963, 507-508 (рус. пер.: Маркс К. Письмо И. Вейдемейеру, 5 марта 1852 г. //К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., 2-е изд. Т. 28.
2 Thomas Macaulay, History of England from the Accession of James II. New York, 1968. John Clive, Macaulay: The Shaping of the Historian. New York, 1974 (pyc. пер. - Макалей Т.Б. История Англии от восшествия на престол Иакова II // Поли, собр. соч. Спб., 1861).
3 Thomas Carlyle, The French Revolution: A History. Oxford, 1989); History of Frederick the Great, ed. and abridged by John Clive. Chicago, IL, 1969; Heroes and Hero-Worship and the Heroic in History. London, 1888. О Карлейле: John D. Rosenberg, Carlyle and the Burden of History, Oxford. 1985.
Dryasdust = dry-as-dust (англ.) - скучный, сухой, неинтересный, педант.
НАСТУПЛЕНИЕ НАЦИОНАЛИЗМА И НАЦИОНАЛИС7ГИЧЕСКАЯ... 97
концепции истории»1. В 1834-1836 годах он жил в Индии - служил в Верховном Суде этой страны - и пришел к выводу, что англичанам необходимо освободить индийцев от их примитивной культуры. Пока Маколей пел оду человеческому прогрессу, лучше всего проявившемуся в развитии английской свободы, Карлейль смотрел на современный ему мир с презрением. Он рассматривал Французскую революцию как катастрофу, восхищался великими героями-деспотами, но также, являясь критиком индустриального общества, выражал беспокойство по поводу обеднения народных масс и свое презрение правящему классу. В отличие от оптимистической самоуспокоенности Маколея, он стал консервативным критиком культуры и общества своего времени.
Историография в колониальном ракурсе
Таким образом, в исторической мысли периода, последовавшего за Французской революцией и до революций 1848 года середины XIX века, присутствует существенная вариативность. При этом, однако, на Западе существовало широкое согласие по поводу того, каким должно быть отношение между европейским и неевропейским мирами. В это время доминирование западных держав над не западным миром по сравнению с XVIII веком только усилилось. Индия прочно оказалась в руках британцев, а Восточная Индия - голландцев; 1840 год стал годом унижения некогда гордой китайской империи. Военное превосходство Запада было бесспорным. По мере индустриализации2 разрыв в благосостоянии между Западом и Востоком, Севером и Югом значительно увеличивается, равно как и поток сырья, идущий из не западных стран на Запад, экспортирующий им продукты своего производства и всячески препятствующий развитию их собственного производства. Мировой рынок, наконец, создан, а вот спектр историо- писания сузился. Если в XVIII веке была написана английская «Всеобщая история», то теперь историки сосредоточили свое внимание исключительно на Западе, особенно на Европе, или смотрели на не западный мир с точки зрения западного колониального контроля. Начало этому было положено еще в XVIII веке. Просветители заявляли о превосходстве западной культуры и, хотя Уильям Робертсон и написал Историю Америк3, а аббат Рейналь - обвинительный акт европейской эксплуатации аборигенов колониального мира4, мир за пределами Запада был им неинтересен.
' Cm.: Herbert Butterfield, The Whig Interpretation of History. London, 1931.
2 Kenneth Pomeranz, The Great Divergence: China, Europe, and the Making of the Modem World Economy. Princeton, NJ, 2000.
3 William Robertson, The History of America, 2 vols. New York, 1798.
4 Cm. tjt. 1, Histoire philosophique et politique des etablissements et du commerce des Européens dans les deux Indes.
4 3ак. 1183
98
ГЛАВА 2
За небольшим исключением историки первой половине XIX века, все больше сосредотачиваясь на своей национальной истории, не создавали истории Европы как единого целого. Одним из таких известных исключений был Леопольд Ранке, считавший нации основными единицами пост-революционной Европы, но по-прежнему рассматривавший Европу как единое целое, скрепляемое балансом европейских держав. Его первая книга «История романских и германских народов с 1494 до 1535 г.»1 была посвящена анализу происхождения современной европейской государственной системы; последовавшие за ней книги по Римскому папству, Германии периода Реформации, Франции и Англии в современное ему время были написаны в терминах, отражающих взаимодействие европейских держав. Но Ранке был исключением, а его ученики имели более узкую, национальную ориентацию. Уж если кто и продолжал интересоваться индийцами или в меньшей степени китайцами, так это были филологи, а не историки. Но они интересовались древней Индией и Китаем в романтическом ракурсе, и особенно их привлекала индийская мистика. Кроме того, национальная история, особенно (но не только) в Германии, была склонна сосредотачивать свое внимание на государстве и высших слоях общества, по большей части игнорируя средний класс последнего и широкие народные массы. Как мы убедились, это в меньшей степени относится к трудам Гизо и Мишле во Франции и Маколея в Англии, отразившим более либеральную политическую традицию.
Упадок либеральной историографии
Вероятно, мы можем говорить о том, что, по крайней мере, до 1848 года национализм был тесно связан с либерализмом. Это справедливо и по отношению к так называемым прусским историкам до провала их политических программ в революциях 1848 года2. Не все историки были либералами, хотя почти все были националистами. В частности, в годы революции и сразу после нее во Франции и Г ер- мании существовали так называемые контрреволюционные мыслители - в России ими были славянофилы, - которые боролись с конституционной формой правления и искали возвращения режима, сочетающего абсолютную монархию с авторитарной и фундаменталистской церковью3. Примечательно, что многие ведущие немецкие ро¬
1 Некоторые выдержки на англ. яз. см. в: Georg G. Iggers and von Moltke, eds, Leopold von Ranke: Theory and Practice of History. Indianapolis, IN, 1973, которая содержит раздел History of the Popes; Roger Wines, ed., The Secret of World History. New York, 1981.
2 Cm.: Iggers, The German Conception of History.
3 По поводу эмигрантов из Франции периода революции и романтизма в Г ер- манию и Францию смотри старую, но по-прежнему значимую книгу: Georg Вгап- des, Main Currents in Nineteenth-Century Literature, 6 vols. T. 1,2,4. New York, 1900.
НАСТУПЛЕНИЕ НАЦИОНАЛИЗМА И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ... 99
мантики обратились в католицизм. Во Франции на протяжении всего XIX и довольно долго в XX веке, вплоть до установления фашистского режима Виши, за пределами университетов продолжала существовать солидная роялистская историографическая традиция, боровшаяся с наследием революционной и республиканской Франции1.
После 1830 года появилась демократическая и даже социалистическая (под влиянием начинающейся индустриализации) историография. Карл Маркс, Фридрих Энгельс, обрисовавшие накануне революции 1848 года в «Коммунистическом манифесте» движение истории к коммунистическому обществу, написали два важных исторических очерка, в которых проанализировали исторические обстоятельства поражения революций в Германии и Франции2. С несколько иной, умеренно-социалистической позиции использовал категорию «экономический класс» в качестве объяснительной категории в истории Французской революции и Июльской монархии Луи Блан3, а Лоренц фон Штейн4 применил ее к своему выполненному с консервативной позиции анализу классового конфликта 1830-1840-х годов. И все-таки основная масса либералов были заложниками собственного социального происхождения. Либерализм означал для них отрицание не только абсолютизма, но и демократии. В качестве примера можно привести Гизо, бывшего не только историком, но и политическим деятелем, стоявшим у руля власти в период Июльской монархии, начиная с ее возникновения в 1830 году и до ее падения в 1848 году. Демократия в представлении либералов означала правление народа, а народ казался им толпой, каковой он был в период якобинского террора в годы Французской революции. Правление народа, предупреждали они, означает разрушение известной нам европейской цивилизации. Хотя либерализм отстаивал свободу мысли и правовое государство, он оправдывал и полицейские методы, призванные обуздать подрывные движения и идеи, угрожающие либеральному статусу-кво. Избирательное право было ограничено имущими и просвещенными классами аналогично положению дел, сложившемуся в Англии в результате Парламентской реформы 1832 года. Ведущие немецкие историки 1830-1840-х годов - Фридрих Христофор Дальманн, Генрих фон
1 William Keylor, Jacques Bainville and the Renaissance of Royalist History in the Twentieth Century. Baton Rouge, CA, 1979.
2 Friedrich Engels and Karl Marx, Revolution and Counterrevolution or Germany in 1948; Karl Marx, The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte. Карл Маркс Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 16; Революция и контрреволюция в Германии // Там же. Т. 8.
3 Louis Blanc, The History of Ten Years, 1830-1840.
4 Lorenz von Stein, Socialism and Communism in Contemporary France. Leipzig, 1842; The History of the Social Movement in France, 1789-1850, tr. Kaethe Mengel- berg. Totowa, NJ, 1965.
100
ГЛАВА 2
Зибель и Иоганн Густав Дройзен1 - разделяли эти идеи своих западноевропейских коллег. Дальманн, например, написал истории Английской и Французской революций, солидаризируясь с умеренными англичанами в противовес радикальной французской традиции. Они не отделяли национализм и либерализм друг от друга - в будущем немецком государстве-нации они должны были слиться в единое целое. Однако немецкий национализм, зародившийся в борьбе с Наполеоном и достигший своей высшей точки в освободительной войне, содержал в себе явно выраженную ксенофобию и агрессию2.
В большинстве своем либералы, демократы и социалисты были оптимистами. Они полагали, что история приведет их к такой стадии развития, когда будет достигнут высокий уровень образованности, развито гражданское общество и значительно улучшены условия человеческой жизни. Европа на этом пути была бесспорным лидером и должна была распространить свою цивилизацию на менее развитые и невежественные уголки земного шара.
Идеи прогресса и кризиса
Раздавались, однако, и диссидентские голоса - голоса тех, кто не был уверен, что история движется в сторону либерального общества или что такое общество вообще желательно. Они, подобно святому Симонию 3 и молодому Огюсту Конту4, напротив, полагали, что современный мир находится в глубоком кризисе, проявлениями которого являются индивидуализм и отсутствие веры в единство. Частично придя на смену католической контрреволюционной критике модерна, они тосковали по новому порядку, который бы объединил единство и веру средневекового общества с большей социальной справедливостью, возможных с помощью авторитарного режима, - порядку, направляемому не религиозной доктриной, а учеными. Совсем с другой точки зрения указал на таящиеся в современном политическом развитии риски государственный деятель и историк Алексис де Токвиль. Приверженный преимущественно либеральным ценностям, он тем не менее видел в них угрозу появления современной массовой культуры.
1 О Дальманне, фон Зибеле и Дройзене см.: Iggers, The German Conception of History, passim.
2 Cm.: Iggers, The German Conception of History and Robert Southard, Droysen and the Prussian School. Lexington, MA, 1995.
3 Georg G. Iggers, The Cult of Authority: The Political Philosophy of the Saint- Simonians. Amsterdam, 1970, 2nd edn; также: Georg Iggers, ed. and translator, The Doctrine of Saint-Simon: An Exposition: First Year, 1828-1829. Boston, MA, 1958; idem., Actualité du saint-simonisme. Paris, 2004.
4 Henri Gouhier, La jeunesse d'Auguste Comte et la formation du positivisme, 3 vols (Paris, 1933-1941); Mary Pickering, Auguste Comte: An Intellectual Biography. Cambridge, 1994; Mike Gane, Auguste Comte. London, 2006; F. A. Hayek, Counter Revolution of Science. Glencoe, 1952.
НАСТУПЛЕНИЕ НАЦИОНАЛИЗМА И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ... Ю1
В своей работе «Демократия в Америке» он предвидел неизбежное развитие демократии в современном западном мире с Америкой в качестве образца будущего мира. Де Токвиль не был противником демократии, но опасался, что она приведет к новому произволу масс, подрывая вариативность и индивидуализм традиционного европейского общества. Наряду с этим он верил в то, что Америка показала возможность совмещения демократии с защитой прав человека и роль добровольных объединений, противостоящих централизаторским намерениям современного государства. В своей следующей работе «Старый порядок и революция» Токвиль представил такой взгляд на Французскую революцию, который пересматривал ее контрреволюционные и либеральные интерпретации. Он не рассматривал свободу или равенство как основные вопросы этой революции. Скорее, она являлась частью того процесса, который начался в монархической Франции в ХУИ-ХУШ веках, в ходе которого французская монархия уничтожила прежние привилегии и способствовала централизации государства. Объявляя о народном суверенитете, революция не отказывалась от этой тенденции, а напротив, укрепляла и расширяла ее.
Либеральные идеологи первой половины XIX века во многом опирались на идеи Просвещения, но были и фундаментальные отличия. В конце XVIII века Кондорсе и Кант - оба предсказывали такое развитие, которое приведет к вечному миру и мировой конфедерации республиканских правительств. Как мы уже видели, на смену их космополитизму пришел национализм. Но будущее больше мыслилось не как мирное сосуществование наций, во что верил Гердер, а как отягощенное конфликтами и войнами. Ни идея мирной конфедерации европейских государств, ни идея мира без войны не была отныне значимой в исторической литературе. Война между нациями теперь считалась естественной и неизбежной, как это и было в Европе начиная с возникновения в ней в XVI веке современной государственной системы. Как сформулировал в своей «Философии войны» Карл фон Клаузевиц, война являлась продолжением мирной политики другими средствами1. Отсюда та огромная роль, которую дипломатическая и военная истории играли в европейской историографии, особенно, хотя и не только, в Пруссии. И все-таки немногие историки мыслили в русле идеологических войн, растиражированных в военные периоды Французской революции. По-прежнему отсутствовала идея войны на уничтожение. Войны могли привести к расширению границ или изменению баланса сил, но в конечном счете они были нацелены на восстановление мира. Фактически в период от Венского конгресса 1814-1815 годов, установившего систему коллективной безопасности среди ведущих держав (которая в скором времени потерпит неудачу), и до Крымской войны 1850-х годов Европа не знала крупных международных конфликтов.
1 Cm.: Peter Paret, Clausewitz and the State. Oxford, 1976.
102
ГЛАВА2
Философия истории Гегеля
Философия истории Георга Вильгельма Фридриха Гегеля весьма показательна для исторической мысли этого времени, несмотря на то что она отражает особенности интеллектуальной жизни Германии начала XIX века1. Его умозрительные понятия, уходящие своими корнями в немецкий идеализм, не разделялись менее метафизически настроенными мыслителями Западной Европы и Италии и отражали явно бюрократический характер прусского государства. В Пруссии не было революции, она, как мы уже отметили, подверглась реформам сверху - реформам, заложившим основы гражданского общества, но оставившим при этом без изменений автократическую власть монархии и центральную роль бюрократии. Германия отличалась от Западной Европы. Но были и общие идеи, хотя Гегель и сформулировал их догматически и запутанно, если не сказать невразумительно. Первая важная идея состояла в том, что вся действительность является исторической. Таким образом, на смену абстрактной философии пришла история. Не существует абстрактных истин; все истины следует понимать в конкретном историческом контексте. Мир постоянно развивается по определенному плану. Но теперь Гегель рассматривал это развитие как процесс, в котором разум, ранее имевший абстрактный характер, в ходе истории принял конкретную форму. В ходе этого процесса свобода постепенно получила свое воплощение в социальных и политических институтах. Для Гегеля, в отличие от мыслителей Просвещения и авторов французской Декларации прав человека, не существовало абстрактной свободы, свободы как некоего универсального принципа; она появилась по ходу истории, начавшейся с восточного деспотизма в Восточной Азии, в империях, в которых никто, кроме деспота, свободен не был, и затем, через различные стадии пришедшей к миру постреволюционной Европы, в котором разум и свобода достигли своего наиболее полного развития. Но изменения, по Гегелю, не направлялись прямыми действиями людей, хотя такие великие люди, как Александр Македонский или Наполеон, сумели правильно воспользоваться историческим моментом, став, таким образом невольными инструментами истории. Изменения, скорее, совершались под влиянием некоей над-
1 См.: Lectures on the Philosophy of World History, 'Introduction: Reason in History', ed. Johannes Hoffmeister. Magnolia, MA, 1970; (рус. пер. -Г.В.Ф. Гегель. Лекции по философии истории. СПб., 2000). Herbert Marcuse, Hegel and the Rise of Social Theory. Boston, MA, 1960; Shlomo Avineri, Hegel's Theory of the Modem State. Cambridge, 1972; Joachim Ritter, Hegel and the French Revolution. Cambridge, MA, 1984; Frederick Beiser, ed., Cambridge Companion to Hegel. Cambridge, 1993; Jerry F. Pinkard, Hegel: A Biography. Cambridge, 2000; Frederick Beiser, Hegel: A Biography. Cambridge, 2005.
НАСТУПЛЕНИЕ НАЦИОНАЛИЗМА И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ... ЮЗ
мирной силы, которую Гегель назвал диалектическим процессом. В этом процессе котором каждая стадия истории и свойственные ей институты вследствие недостаточного воплощения ими разума и свободы сменялись более высокой стадией, являвшей собой следующую ступень прогресса и снова сменяемой вследствие свойственных ей недостатков более высокой стадией, и так до мира, который гарантировал достижение свободы и являлся воплощением разума - мира постреволюционной Европы. Гегель полагал, что Французская революция расчистила дорогу для такого государства, но из-за своего универсализма она осталась незавершенной. Ей была известна только абстрактная свобода, воплощенная в универсальных правах человека. Он верил, что в его время свобода уже прочно укоренена в переживших революцию государствах, прежде всего, в Пруссии периода Реставрации, которая признала место гражданского общества (bürgerliche Gesellschaft), встроенного в сильную монархию, в которой просвещенная бюрократия работала на благо всего общества, а не преследовала специальные интересы, как это было в конституционных монархиях или парламентских режимах. История, таким образом, подошла к своему концу.
Гегель тогда еще был мало читаем за пределами Германии. Но некоторые из его ключевых идей, очищенные от своей специфической метафизической оболочки, разделялись его современниками во всем западном мире. Одна из таких идей заключалась в том, что существует только одна история - всемирная история, достигшая своей кульминации в современной ему Европе. Только Европа вследствие достижения ею вершины прогресса имела право и одновременно была обязана нести цивилизацию в остальные части мира.
Ранке критиковал философию Гегеля за ее схематизм, надевший на историю смирительную рубашку и оставивший лишь небольшое пространство для различий и человеческой свободы1. Но по двум позициям Ранке высказывал взгляды, сходные гегельянским. Он рассматривал государство как воплощение исторического разума, как, говоря его словами, «божественную цель»2 и, подобно Гегелю, считал войны главными факторами перемен. По Гегелю, победитель являлся носителем более высокой ступени развития разума и, следовательно, морали. Аналогичное мнение высказал и Ранке: «Вряд ли вы сумеете назвать даже несколько значимых войн, по отношению к которым нельзя было бы доказать, что победу одержала подлинно моральная сила»3.
1 Cm.: Leopold von Ranke, 'On the Relations of History and Philosophy', MS. of the 1830s // Iggers and Moltke, Leopold von Ranke, 29-33; 'On the Character of Historical Science', MS. of the 1830s, ibid., 35-44.
2 Leopold von Ranke, 'A Dialogue on Politics' (1836), ibid., 119.
3 Ibid., 117.
104
ГЛАВА 2
Национализм и трансформация мусульманской историографии
Исламское «открытие» Европы
Начиная с 1790-х годов Селимом III, новым султаном Османской империи, был проведен ряд реформ, которые принято считать прелюдией к модернизации, которую мусульманскому миру суждено было пережить в XIX веке. Несмотря на внешние вызовы, поступавшие в Османскую империю из европейских стран, и внутренние беспорядки, с которыми она сталкивалась на протяжении почти всего XVIII века, казалось, что, несмотря на территориальные потери и раздробленность, Османская империя сумеет преодолеть кризис. Казалось, что к концу XVIII века движение за провинциальную независимость и автономию пошло на спад. В 1791-1792 годы османы оказались в состоянии завершить новую войну между империей, с одной стороны, и ее старыми врагами Россией и Австрией, с другой, в относительно короткие сроки. Все это позволило Селиму III прийти к власти и провести реформы. Однако он хорошо понимал, что, несмотря на такой исход войны, османская армия все-таки уступала европейским и в вооружении, и в военной подготовке. Это подвигло его в 1793 году создать новые военные и военно-морские школы и укомплектовать их французскими инструкторами.
Несмотря на то что реформы касались военной сферы, они имели широкое значение. Они рассматривались как Новый порядок (Nizam-i Cedid), или новый период Османской истории. Они проложили пути для проникновения на Ближний Восток западных идей, одним из которых были теперь уже постоянно находившиеся в Лондоне, Париже, Берлине и Вене турецкие дипломаты. Селим III усилил эту практику с целью обмена дипломатическими жестами со своими европейскими соседями. Эти дипломаты, следуя примеру Ахмета Ресми Эфенди, специального посла в Европе в предыдущем столетии, привозили информацию о Западе из первых рук и тем самым помогали культивировать интерес к европейской истории и культуре в целом и к идеям и идеалам Французской революции в частности. Хотя влияние революции было отнюдь не всесторонним, ее идеи свободы, равенства и национальности - но не братства - оказали глубокое воздействие на перемены, связанные с идентичностью и лояльностью субъектов Османской империи1. Эти перемены повлияли и на трансформацию способов историописания у турок-мусульман и других представителей мусульманского мира.
1 Bernard Lewis, The Emergence of Modem Turkey. London, 1968, 53f; Erik J. lurcher, Turkey: A Modem History. London, 1993, 27-29.
НАСТУПЛЕНИЕ НАЦИОНАЛИЗМА И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ... 105
А вот в Египте влияние Французской революции было прямым и непосредственным. Вслед за вторжением в 1798 году Наполеона в Египет, за которым последовало его одиночное возвращение во Францию в 1799-м и англо-французское соперничество, турецкий военный офицер из Албании Мухаммед Али захватил власть и стал новым правителем Египта. В период своего правления в 1805-1848 годах Али провел модернизацию в Египте, увеличивая его отрыв от других частей мусульманского мира. Контрастным подтверждением сказанному может служить тот факт, что после смещения в 1807 году Селима III темпы модернизации в Османском государстве временно замедлились. Но в Египте и Сирии, оккупированной Египтом с 1830-х годов, она шла на полной скорости. В период правления Али египетское правительство нанимало на службу французских советников, создавало переводческие школы и посылало студентов во Францию и другие европейские страны изучать военные технологии, международное право и государственное управление. Мухаммед Али демонстрировал и интерес к истории, так что он вполне мог сравнивать себя с Александром Македонским1.
На самом деле, хотя французская оккупация в Египте была недолгой, она оказала на эту страну глубокое воздействие. Египетская экспедиция Наполеона носила одновременно военный и научный характер; наряду с пушками и пехотинцами он привез с собой 170 востоковедов (европейских интеллектуалов, интересующихся и специализирующихся на исследовании не западных культур), археологов^ ученых и инженеров (многие из которых работали в Institut d'Egypte ). Более того, они случайно нашли Розетта Стоун , вызвавший огромный интерес европейцев к таинственному Древнему Египту. Осуществленная позже дешифровка иероглифических надписей на камне тоже внесла свой вклад в рождение современной египтологии. В то время как французы «инвентаризировали» египетскую историю и культуру, наглядно проявившуюся в составленном ими Description de l'Egypte , мусульмане тоже зафиксировали их присутствие в своих историче¬
1 Jack A. Crabbs, Jr., The Writing of History in Nineteenth-century Egypt: A Study in National Transformation. Cairo, 1984, 67-68.
Institut d'Egypte (фр.) - Институт Египта был создан в 1798 году, положив начало масштабному разграблению Древнего Египта.
Розетта Стоун - фрагмент Древней египетской стелы, выгравированный текст которой обеспечил ключ к современному пониманию египетских иероглифов.
Description de l'Egypte, ou Receuil des observations et des recherches qui ont été faites en Egypte pendant l'expédition de l’armée française («Описание Египта, или собрание наблюдений и исследований, сделанных в Египте во время экспедиции французской армии») - 24-томный проект, инициированный Наполеоном Бонапартом после египетской экспедиции, в котором описывались различные стороны жизни Древнего и современного Египта. Отдельные фолианты в рамках проекта выходили с 1810 по 1813 год.
106
ГЛАВА2
ских хрониках; большинство записей, однако, не были лестными. Например, в хронике 1791-1808 годов Ахмет Асим Эфенди, историограф Османской империи, уподоблял французскую политическую систему «бурлению слабого желудка». Он также наказывал своим согражда- нам-мусульманам внимательно следить за тем, чтобы распущенное поведение и опасные идеи французов не подорвали «заповеди Святого Закона»1.
Встречались и менее враждебные и пренебрежительные описания французов мусульманскими историками, одним из которых был уже упомянутый нами в предыдущей главе Абд ар-Рахман аль-Джабарти. Подобно своим современникам он написал историю в жанре хроники, или летописи. В своей работе «Демонстрация священных аспектов упадка французского государства» он разделил настороженность своих коллег-историков французской культурной экспансией и осудил социально-политическую систему Франции. Это не особенно удивляло, поскольку аль-Джабарти происходил из прославленного рода шейхов аль Азхары, известных своими глубокими познаниями во многих областях науки. Кроме всего прочего, его отец и сам аль- Джабарти были весьма богаты, что позволило им собрать дома большую библиотеку. Они поддерживали дружеские отношения с политической и религиозной элитой Египта2. В своей хронике Аль-Джабарти так описывал свое первое впечатление от французов: «Это было начало периода, отмеченного крупными баталиями; важные результаты неожиданно были достигнуты устрашающим способом; бедствия множились без конца, нормальный ход вещей был подорван, был искажен сам смысл жизни, разрушения застигли врасплох и привели к общему опустошению»3.
И все-таки, будучи внимательным и любознательным историком, аль-Джабарти видел и то, что большинство его коллег в то время были не в состоянии увидеть. Он заметил изучение французами его родины при помощи научных методов. В своем главном труде («Удивительные истории прошлого в жизнеописаниях и хронике событий»), который, как считается, был написан после «Демонстрации», он живо описал научную деятельность французских ученых-естественников и гуманитариев, которой был явно заинтригован. Кроме того, он оставил описание своего собственного общения с французами. Находясь на службе в основанном французами Правительственном совете, он имел возможность посмотреть на работу французских ученых изнутри и имел доступ к правительственным архивам. Таким образом, хотя он и
1 Lewis, Emergence of Modern Turkey, 71-72. For a critical review of the French influence in modernizing the Middle East, see Dror Ze'evi, 'Back to Napoleon? Thoughts on the Beginning of the Modern Era in the Middle East', Mediterranean Historical Review, 19:1. June, 2004, 73-94.
2 Crabbs, The Writing of History in Nineteenth-century Egypt, 44-45.
3 LIht. no: Edward Said, Culture and Imperialism. New York, 1994, 34.
НАСТУПЛЕНИЕ НАЦИОНАЛИЗМА И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ... Ю7
относился к французам с подозрением, но был искренне впечатлен их усилиями по изучению исламской культуры. «Славный Коран переведен на их язык! (воскликнул аль-Джабарти), а также много других исламских книг... Я видел некоторых из них, кто знает главы Корана наизусть. Они проявляют большой интерес к наукам, особенно к математике и изучению языков, и прилагают большие усилия для изучения арабского языка и разговорной речи»1.
В «Удивительных историях» аль-Джабарти также отметил свое положительное впечатление от французов в том, что касается науки и других вещей.
Но в целом интерес аль-Джабарти к истории все-таки отличался от интереса к ней его французских коллег. Он, например, не разделял растущий интерес французов и других европейцев к Древнему Египту. Его «Удивительные истории» состояли из четырех томов, покрывая период между 1688 и 1821 годами. Предметом его интереса была современная и локальная история (поскольку дело касалось главным образом Египта), написанная в традиционном хронографическом стиле. Идеи аль-Джабарти тоже были достаточно традиционны. Цель истории, заявлял он, состоит в том, чтобы «установить, почему и как происходили события прошлого, извлечь пользу из подобных примеров, учиться на них и добывать богатый опыт через понимание превратностей времени». Он посвятил свой труд жизнеописаниям и деяниям пророков, правителей, и1ата , мудрецов, поэтов, королей и султанов2. Хотя труд аль-Джабарти содержал в себе ценную информацию о французской оккупации Египта и последовавшем за ней правлении Мухаммеда Али, в историографии он не был новатором. Аль-Джабарти сумел стать первым среди равных только потому, что, по одному из мнений, в период Османской империи историописание уже достигло своей вершины в работе Мустафы Наима3. К рубежу XIX века аль- Джабарти был «Гулливером среди лилипутов» - его работа скорее предвещала возрождение славной традиции исламской историографии4.
Как Гулливеру исламской историографии, аль-Джабарти приписали внимательное исследование материала, богатство и детализацию изложения, объективность и беспристрастность - все то, что свойственно первоклассному историку. В то время как в период правления Али большинство историков осыпало этого правителя панегириче¬
1 Цит. по: Donald М. Reid, Whose Pharaohs? Archaeology, Museums, and Egyptian National Identity from Napoleon to World War I. Berkeley, CA, 2002, 37
* Улемы (араб, 'улама' «знающие, ученые»; ед. ч. - 'алим [£'4*1) - со¬
бирательное название признанных и авторитетных знатоков теоретических и практических сторон ислама.
2 См.: Crabbs, The Writing of History in Nineteenth-century Egypt, 49.
3 Lewis, Emergence of Modem Turkey, 35.
4 David Ayalon, 'The Historian al-Jabarti' // Bernard Lewis and P. M. Holt, eds, Historians of the Middle East. Oxford, 1962, 391.
108
ГЛАВА2
скими работами (некоторые из них были написаны западными учеными и путешественниками), аль-Джабарти выразил критическое отношение к этому современному Александру Великому1. Сделанные им записи о современном ему французском правлении и его трактовка изменений этого времени также способствовали том^, что его труд был воспринят западными историками с энтузиазмом2. Возможно, он помог им открыть глаза на богатую традицию историописания в исламском мире. Таким образом, если Селим III в османской истории оказался где-то посередине между старым и новым3, то аль-Джабарти занял аналогичное место в исламской историографии. Его работа совместила традицию и модерн - последний к тому времени уже появлялся на горизонте.
Однако в трансформации исламской историографии традиция и модерн не приняли форму дихотомии. Скорее они были взаимосвязаны и взаимозависимы. Во-первых, хотя аль-Джабарти и являлся выдающимся историком своего времени, он не был одинок. Современная наука утверждает, что в уточнении нуждается не только тезис об «упадке» Османской империи, но и об упадке исламской культуры и историографии в этот период. Величие аль-Джабарти, например, было связано с тем, что он пользовался трудами его предшественников и современников не меньше, чем своим собственным талантом4. Таким образом, несмотря на уменьшение количества исторических трудов в османский период, дефицита в достойных историках не было. Исламская традиция историописания накануне своей трансформации вполне сохраняла свою силу. Искусство аль-Джабарти, как полагают некоторые, позволяет предположить, что в начале XIX века эта традиция фактически уже вошла в состояние «стихийного возрождения». Однако, продолжают свою мысль эти историки, это возрождение было «прервано появлением французской экспедиции», в ходе которой французская оккупация обеспечила новый поворот, когда мусульманские историки больше занялись переводами, нежели написанием5.
Во-вторых, не существует никакого четкого водораздела между современной и традиционной историографиями. Аль-Джабарти и его коллеги, вероятно, принадлежали прежней традиции, потому что писали в жанре хронологической или биографической истории, или сразу обеих, что вполне согласовалось с традиционными формами исто¬
1 Ibid., 398-399.
2 Crabbs, The Writing of History in Nineteenth-century Egypt 43-66.
3 Norman Itzkowitz, Ottoman Empire and Islamic Tradition. New York, 1972, 109.
4 Cp.: Avner Ben-Zaken, 'Recent Currents in the Study of Ottoman-Egyptian Historiography with Remarks about the Role of the History of Natural Philosophy and Science' // Journal of Semitic Studies, 49:2 (Autumn 2004), 303-328.
5 Gamal el-Din el-Shayyal, 'Historiography in Egypt in the Nineteenth Century' // Bernard Lewis and P. M. Holt, eds, Historians of the Middle East Oxford, 1962, 403.
НАСТУПЛЕНИЕ НАЦИОНАЛИЗМА И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ... Ю9
риографической репрезентации в исламском мире. Но их внимание к хронологии и историческим деталям и их литературные усилия, направленные на усиление удобочитаемости и устного восприятия исторических трудов, способствовали сохранению огромной привлекательности их трудов для историков более позднего времени. На протяжении всего XIX века мы видим в исламском историописании непосредственное соседство более традиционной рифмованной прозы (50/0 с простым и плавно разворачивающимся нарративом, который был известен и использовался и раньше, но который в это время вследствие западного влияния стал более привлекательным1. Кроме того, если национализм и регионализм в большей степени, чем религиозный экуменизм, являются признаками современной историографии, то и они не были новыми. Аль-Джабарти хорошо известен своей любовью к Египту. Его решение писать египетскую историю, а не историю мусульманской ойкумены, вдохновило более поздних историков националистической ориентации. На самом деле, давно практиковалось не только локальное и региональное историописание - прото- националистические чувства и ранее проявлялись в различных регионах исламского мира. Еще в XVIII веке в исторических документах этих регионов были хорошо заметны марокканские, тунисские, египетские и ливанские особенности.
Благодаря существованию должности имперского историографа и сохранению в османский период правительственных архивов историки XIX века были обильно обеспечены историческими документами.
Чтобы продраться сквозь них и ввести в оборот, историки научились искусству текстовой критики этих источников, характерной чертой которого стало умение переработать, по-видимому, бесконечное богатство архивных материалов, находящихся в Стамбуле или других провинциальных столицах. Кроме того, это искусство или поклонение ему, примером чему является рост в XIX веке турецкой и египетской историографий за счет работ историков-бюрократов, все еще привлекает внимание и вызывает интерес изучающих османскую историю и сегодня. В некотором роде это обеспечивает «документальную структуру», которая одновременно определяет и ограничивает развитие историописания2.
1 Ibid., 417-418. См. также: Crabbs. The Writing of History in Nineteenth-century Egypt, 109-145.
2 Cp.: Gabriel Piterberg, An Ottoman Tragedy: History and Historiography at Play. Berkeley, CA, 2003, 185-186; Anthony Gorman, Historians, State and Politics in Twentieth-century Egypt: Contesting the Nation. London, 2003, 12-15.
по
ГЛАВА 2
Чьи фараоны? (Переписывание истории Египта
До XVIII века мусульманские историки отличались безразличием к истории и культуре Европы вследствие как своей религиозной предвзятости и культурного высокомерия, так и отсталости Европы. Чего нельзя сказать о Египте периода фараонов. Мусульмане не только были изумлены величиной пирамид и Сфинкса, они попытались связать языческую историю Египта с зарождением христианства и, что было более впечатляющим и важным, с зарождением ислама1. Безусловно, количество работ по древнеегипетской истории и культуре, написанных мусульманскими авторами в период Средневековья, было незначительным, особенно по сравнению с внушительным корпусом литературы в других областях. Кроме того, написанное ими в большинстве своем является неточным, неупорядоченным и даже нереальным. Например, известный в IX веке историк аль-Табари дает ненамного больше сведений о Древнем Египте, чем Ветхий Завет. В своем панорамном обзоре исламского правления в Средиземноморье2 он практически не уделил внимания Египту периода греко-римского тысячелетия. Тем не менее средневековые мусульмане были осведомлены о Египте фараонов и не остались безразличны к его культурным достижениям.
В то время как с конца XVIII века мусульмане расширяли свои представления о мире, их интерес к доисламской истории Средиземноморья возрастал. На протяжении XIX века внимание мусульманских ученых к Древнему Египту усиливалось, и изучение египетской истории стало самым значительным достижением египетских историков данного столетия. Это достижение являлось примером модернизации исламской историографии, так как ее попытки возродить прошлые традиции было неотъемлемой частью нациостроительства, осуществляемого мусульманами перед лицом роста западного влияния на Ближнем Востоке. Националистический импульс заставил ученых и историков сначала придумать обитающее на некоей территории сообщество людей, чтобы затем заняться поисками в прошлом подходящих и вдохновляющих факторов, способных оправдать его формирование, узаконить его существование, стимулировать и усилить среди его представителей стремление к единению и родству3. Поэтому придумывание этого сообщества было временами случайным, отражающим историческую темпоральность и (для многих не западных
1 Ulrich Haarmarm, 'Medieval Muslim Perceptions of Pharaonic Egypt' // Antonio Loprieno, ed., Ancient Egyptian Literature: History and Forms. Leiden, 1996), 605-627.
2 Cm.: Reid, Whose Pharaohs?, 30.
3 Cp.: Bernard Lewis, History: Remembered, Recovered, Invented. New York, 1975. Также: Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. New York, 1991.
НАСТУПЛЕНИЕ НАЦИОНАЛИЗМА И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ... 1П
регионов) являвшимся последствием западного колониализма. Историография, создаваемая национальным воображением и для его подпитки, неизбежно телеологична, поскольку историки отслеживают и фиксируют возникновение и формирование своей нации в отдаленном прошлом для того, чтобы преобразовать существующую культурную традицию и сформировать новую историческую память.
Работа Рифаа ат-Тахтави, выдающегося интеллектуала современного Египта, была проявлением этой волны интереса к Древнему Египту в мусульманском мире XIX века. Преподаватель, журналист, переводчик и литератор, ат-Тахтави сыграл многогранную роль в преобразовании современной исламской культуры. И все-таки его главное научное достижение состоит в его усилиях по введению конструктивных изменений в изучение истории и пробуждению у мусульманских историков интереса к Древнему Египту. Рожденный в бедности, ат-Тахтави тем не менее удалось получить свое первое образование в университете аль-Азхар, где он работал с самыми просвещенными учеными аль-Азхара того времени, одним из которых был шейх Хасан аль-Аттар, близкий друг аль-Джабарти. Подобно аль- Джабарти, аль-Аттар проявлял повышенный интерес к научным достижениям французских ученых и гуманитариев и к их изучению истории. Аль-Аттар много путешествовал и был свидетелем растущего влияния европейской культуры, вследствие чего он осознал потребность мусульман в культурной реформе. Это понимание, возможно, помогло ему заслужить доверие Мохаммеда Али, разделявшего его интерес к вестернизации. Во время знакомства ат-Тахтави с аль- Аттаром последний являлся ректором аль-Азхара и редактором одной из первых в Египте официальных газет Egyptian Gazette. Ат-Тахтави впоследствии сменил аль-Аттара на посту редактора этой газеты, занимая подобно аль-Аттару посты в престижных египетских учреждениях. Аль-Аттар не только сформировал интерес ат-Тахтави к французской и европейской культуре, но в 25-летнем возрасте назначил его руководителем первой египетской образовательной миссии во Франции 1826 года. Проведя последующие пять лет во Франции и освоив французский язык, ат-Тахтави написал работу «Извлечение чистого золота из краткого описания Парижа». Представляя собой автобиографический отчет о его пребывании в Париже, книга ярко описывает многие стороны французской жизни. Пользуясь большой популярностью, она открыла мусульманам глаза на мир Запада.
В Европе ат-Тахтави познакомился с рядом ведущих французских востоковедов - Сильвестром де Саси, К де Персиваль, Джозефом Рей- наудом и Эдмондом Франсуа Жомаром. Последнему доверили публикацию Description de I'Egypte. От этих ученых ат-Тахтави узнал о новых способах изучения истории, которые он впоследствии применил в своих собственных трудах. Кроме того, у него сформировался интерес к Древнему Египту. Однако в отличие от европейских востоковедов
112
ГЛАВА2
ат-Тахтави увлекся Древним Египтом, потому что его можно было использовать для распространения египетского национализма.
После своего возвращения из Европы в 1831 году ат-Тахтави при Али занимал важные посты, среди которых пост директора Школы изучения языков, ответственного за Бюро переводов. Его стремительному возвышению, возможно, способствовал тот факт, что, находясь в Европе, ат-Тахтави перевел биографию Александра Великого, которая могла породить в Мохаммеде Али желание считать себя современной реинкарнацией древнего македонского завоевателя. Этот переводческий проект ат-Тахтави и его коллег ознаменовал собой начало культурной трансформации современного исламского мира. Благодаря своим полномочиям и связям ат-Тахтави стал бесспорным лидером этого культурного движения. Получив поддержку и покровительство Мухаммеда Али, все участники проекта проявили большой энтузиазм в изучении европейской культуры, которая больше не рассматривалась как культурное помутнение. Они осуществили более тысячи переводов европейских текстов на турецкий и арабский языки, хотя список текстов по истории был довольно незначительным1. После отречения Али на пути карьеры и благополучия ат-Тахтави возникли некоторые трудности. Но эта переводческая лихорадка продолжала набирать обороты и в последующие режимы, хотя теперь работы больше переводились на арабский, нежели турецкий язык. Возможно, это было связано со смертью Али, так как хедив знал только турецкий; однако это могло быть связано и с происходившими под влиянием национализма поисками современных египтян собственной культурной идентичности, разрывавшей их языковые и культурные связи с османами.
Рост национализма на ближнем Востоке проявлялся и в попытках исламских историков XIX века найти и идентифицировать себя с культурным и историческим наследием (обычно в доисламские времена), соответствующим их воображаемому национальному прошлому. Ат-Тахтави был пионером в египетской истории, говорящим примером чему служит его работа «Возвышение великого Тауфика в истории Египта и потомки Исмаила». В отличие от более ранних работ по египетской истории аль-Джабарти и других, освещение египетского прошлого ат-Тахтави сосредоточено на до-исламском периоде, включающем периоды фараонов, Александра и Птолемеев, римский и византийский периоды, предшествующие исламскому завоеванию. Это свидетельствует о важной и продуктивной подвижке со стороны исламского историка. Как уже говорилось, ат-Табари, возможно, самый крупный историк традиционного мусульманского мира, не
1 Crabbs, The Writing of History in Nineteenth-century Egypt, 72. Перечень переведенных книг по истории см. в книге: Youssef М. Choueiri, Modem Arab Historiography: Historical Discourse and the Nation-State. London, 2003, 213.
НАСТУПЛЕНИЕ НАЦИОНАЛИЗМА И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ... 113
обращал внимания на тысячелетний период греко-римского Египта. В отличие от него ат-Тахтави дает ему детальное описание и, рассматривая его с исламской перспективы, придает ему истории- ческую значимость. Кроме того, в свои труды по Египту периода фараонов ат-Тахтави включает недавние археологические открытия европейских ученых, что позволяет предположить о его близости с учеными-востоковедами. Осуществляя свой переводческий проект, ат-Тахтави и его последователи перевели на арабский язык некоторые важные современные им европейские работы по Древнему Египту, в том числе работы известного египтолога Огюста Мариэтта.
Если изучение ат-Тахтави до-исламского Египта было обязано европейской египтологии, то его «История Египта», имеющая неоспоримый националистический оттенок, явно написана для Египта. Его работа во всеуслышание объявила о том, что в отличие от других культур египетская культура блистает на протяжении столетий. В самом своем начале, «во времена фараонов он (Египет) стал колыбелью для всех народов мира». Во времена последовавшего за этим греко-римского периода он сохранил свое здравое культурное развитие и стал научным центром всего Древнего мира. После появления ислама Египет стал полюсом исламской культуры и помог распространить цивилизацию в Европу. Даже в его собственное время, полагал ат-Тахтави, Египет сохранил свою силу и славу, свидетельством чего стала его победа над французами в начале 1800-х годов и решительное продвижение вперед во главе с Мухаммедом Али1.
Помимо своей националистической направленности «История Египта» ат-Тахтави отличалась от традиционной исламской историографии как своим методом, так и стилем. В процессе создания своего повествования ат-Тахтави использовал как арабские, так и неарабские источники, а также данные археологических и географических исследований, что воодушевило историков последующих поколений. Кроме того, он использовал и хронологический, и проблемный подходы к истории. Если «смерть хроники» на самом деле свидетельствовала о трансформации исламской историографии в новое время, то лучше всего этот процесс нашел свое отражение в «Истории Египта» ат- Тахтави и других его работах. В отличие от более ранних работ по истории, ат-Тахтави экспериментировал с использованием нарратива в изложении и интерпретации истории. Его не удовлетворяла простая запись исторического события - он даже пытался проникнуть вглубь, провести анализ и дать объяснение. Этот жанровый эксперимент означал, что хотя и постепенно и нерешительно, но он отказывался от витиеватой исторической прозы с 5о/'- основного жанра в работах
1 Ср ..Reid, Whose Pharaohs?, 108-110.
114
ГЛАВА 2
многих из его предшественников1. Однако, несмотря на все эти новшества, ат-Тахтави был вполне удовлетворен своими умеренными реформами в политике и историографии, отказываясь от более радикальных перемен. Будучи в прошлом студентом Ы-АгИаг, он сохранил свою лояльность к исламской культурной традиции, и это проявляется как в его интерпретации истории, так и в его преданности пророку Мухаммеду, биографию которого он закончил писать на самом излете своей жизни.
Национальная идентичность и историописание
Пока египтяне были заняты поисками своего культурного наследия, отличающего их государство и культуру, османы (или турки), сирийцы, тунисцы и персы предпринимали сходные усилия в деле строительства нации. Для создания нарратива о современной Персии /Иране персы, например, вспоминали об огромной и славной персидской цивилизации, существовавшей в древние, до-исламские времена. Пытаясь возродить такие мифические произведения, как Даса- тир-Намэ и Шахнама , они, с одной стороны, попытались отделить Персию от исламской традиции и превознести ее как многоязычную и полиэтническую империю древнего мира. С другой стороны, осуществляя синхронизацию и/или замещение времен Адама, Ноя, Моисея и Иисуса с временами Гайомарта, Хушанга, Тахмуреса и Джамшида , каждый из которых являлся знаковой фигурой, символизирующей древнюю Персию, они создали великий исторический нарратив, который стал основой нового национально-ориентированного историографического жанра. Привлекая эпические источники и работы европейских востоковедов, эта националистическая историография часто начинается с Гайомарта, предполагаемого прародителя человечества
1 Crabbs, The Writing of History in Nineteenth-century Egypt, 14, 74-82; El-Shayyal, 'Historiography in Egypt in the Nineteenth Century', 417—418.
Dasatir - Дасатир, или Дасатир-Намэ, зороастрийский письменный источник, «Библия древних пророков Ирана».
Shahnamah - Шахнама, персидский народный эпос, собирателем и оформителем которого был знаменитый персидский поэт X-XI вв. Фирдуоси, - это своеобразная многотысячелетняя история древнего Ирана и иранцев, от сотворения человека и появления человеческой цивилизации, включая непрекращающуюся борьбу человека со злом и пороками, вплоть до исторического времени, возникновения и падения последнего древнеиранского (доисламского) государства. Поэма «Шахнама» Фирдоуси стоит в одном ряду с самыми знаменитыми эпическими шедеврами мировой литературы, такими как «Илиада» и «Одиссея» Гомера, и переведена более чем на 30 языков мира. Это часть многовекового культурно- литературного наследия иранского народа, уникальная энциклопедия иранской мысли.
Гайомарт, Хушанг, Тахмурес, Джамшид - мифические цари древнего Ирана.
НАСТУПЛЕНИЕ НАЦИОНАЛИЗМА И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ... Ц5
в персидских легендах, и доходит до современного Ирана. Рассматривая исламский период как один из периодов «иностранного» правления, она возрождает зороастрийскую мифологию как квинтэссенцию иранской культуры, воплощающую национальный «дух и характер» современного Ирана1.
По сравнению с египтянами и персами османы столкнулись со значительными трудностями в создании национально-ориентированного исторического нарратива, поскольку их знания о ранней турецкой истории оказались весьма фрагментарными, если не сказать больше. Традиционно османы придерживались двух видов лояльности: религиозной лояльности к исламу и политической лояльности к османскому государству. Поскольку османы считали себя законными исламскими правителями мусульманской империи и наследниками великих правителей мусульманского прошлого, их историки уделяли мало внимания до-исламской истории турок и Турции. На протяжении XIX века, по мере того как начал возникать турецкий национализм, или «туркизм», некоторыми журналистами и историками, например Али Суави и Сулейманом Пашой , стали прикладываться усилия к тому, чтобы проследить истоки до-исламской турецкой истории и военного искусства ранних турок. В большинстве своем их работы опирались на западные источники.
Появляющиеся в то время другие националистические истории, подобной той, что была написана Намик Кемапем - признанным интеллектуальным лидером своего времени за его защиту идей независимости и свободы, поддержанных Французской революцией, и его преданность в деле защиты традиционных исламских ценностей, - по- прежнему расхваливали славное мусульманское прошлое. Кемаль не стремился показать разницу между исламским и османским. В своих трудах он напоминал своим читателям о том, что их отечество породило таких «национальных» героев, как Саладин, Султан Мехмет II, Султан Селим I и Эмир Невруз. Другими словами, «в своей апелляции к «османской» гордости он не видел никакого несоответствия в расположении в одном ряду средневековых арабских и персидских мусульман и древнего арабского халифа». И взгляд Кемаля на историю «соответствовал духу его времени»2.
1 Mohamad Tavakoli-Targhi, Refashioning Iran: Orientalism. Occidentalism and Historiography. Basingstoke, 2001, 96-104. «Иран» в качестве официального названия государства появился не раньше 1935 года, ходя до этого люди использовали это слово для обозначения своей страны.
Али Суави (Ali Suavi) (1838—1820.V. 1878, Стамбул) - турецкий писатель, журналист, общественный деятель, один из основателей и руководителей «Новых османов».
** Сулейман Паша (1838-1892) - государственный деятель, писатель, герой Шипки и преподаватель Дарульфуруна.
2 Lewis, Emergence of Modern Turkey, 336; Erciiment Kuran, 'Ottoman Historiography of the Tanzimat Period', in Lewis and Holt, Historians of the Middle East, 426-^427; Zürcher, Turkey, 7If.
116
ГЛАВА 2
Идеи свободы и национализма оказались привлекательными для османов, потому что, как мы видели на примере Египта, на протяжении почти всего столетия Османская империя провела целый ряд реформ. Смещение Селима III в 1807 г. на самом деле лишь приостановило, а не остановило реформистское движение. Перед лицом растущего западного влияния и надвигающейся угрозы модернизации Египта под руководством Мухаммеда Али турецкие султаны Махмуд II и его сын Абдул-Меджит решили продолжить новаторские усилия Селима III. Уничтожением янычар, ответственных за смещение Селима III, Махмуд II устранил препятствия на пути реформ. Соперничая с Мухаммедом Али, он сделал революционный шаг и послал студентов учиться в Европу. Он не только восстановил учрежденные Селимом III военные и военно-морские школы, но и основал новые. Сохраняя обозначенное Селимом III внимание к подготовке армейских и военно-морских чиновников, Махмуд, в надежде дать образование гражданским чиновникам, выступил с новыми инициативами по модернизации традиционного обучения и занялся созданием грамматических и переводческих школ. С помощью имперского историографа Шанизаде (иначе Атауллах Мехмед) современные наука и технологии проделали свой путь из Европы в империю и попали в турецкие школы. В своей ключевой роли в деле модернизации и вестернизации Османской империи Махмуд II сравним с Петром Великим в России. На самом деле он, скорее, следовал по стопам своего кузена Селима III, что впоследствии делал и его сын Абдул-Меджит. При Абдул- Меджите в империи начался новый период развития, Tanzimat (Тан- зимат), или перестройка. Период Tanzimat, длившийся между 1839 и 1876 гг., стал расцветом вестернизации в Османской империи.
Подобно тому как всестороннему преобразованию подверглись военные, финансовые, юридические, административные и образовательные системы Османской империи, изменилась и практика исто- риописания. Это заметно прежде всего в работах имперских историографов. Несмотря на свой консерватизм и презрение к европейской цивилизации, упомянутый ранее Ахмед Асим Эфенди создал позитивный образ Петра Великого и расхваливал усилия царя в усилении России, которые оказали неизгладимое впечатление на Махмуда II. Другой имперский историограф и позже министр просвещения Ахмед Паша Джевдет использовал переведенные европейские источники, найденные в Египте и других местах, для составления своей многотомной имперской хроники, превратив ее в самый значимый истори- ** Махмуд II (1785-1839) - 30-й османский султан в 1808-1839годах. В 1820- 1830-е годы провел ряд прогрессивных реформ, в том числе уничтожение янычарского корпуса, ликвидацию военно-ленной системы и др.
Абдул-Меджид I (1823-2 1861) - 31-й султан Османской империи, правивший в 1839-1861 гг.
НАСТУПЛЕНИЕ НАЦИОНАЛИЗМА И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ... П7
ческий труд периода Татт^. Хотя Джевдет Паша, подобно аль- Джарарти, не отказался от традиционного использования хроники, он, опираясь на надежные источники, представил красочные описания и убедительные исследования событий и персонажей. Как было сказано в одной из оценок его труда, «его история стала синтезом хроник и небольших монографий»1.
Более заметные изменения произошли в расширении спектра ис- ториописания. В период Тапгтси Османская империя столкнулась с растущей угрозой со стороны не только русских и австрийцев, но и непокорных греков и соперничающих египтян. Актуальность восстановления Империи и укрепления ее границ побудила турецких историков расширить свои исследования, смещая свое внимание с описания современных событий - обязанность имперского историографа - к ранней османской истории в надежде на создание непрерывного исторического нарратива и поддержание национального самоуважения. Хайрула Эфенди, например, решил написать о каждом султане прошлого. Дойдя до XVII века, его «История Османской империи», хотя и незаконченная, свидетельствовала о растущем влиянии османского национализма, что являлось одной из главных интеллектуальных тенденций османской истории XIX века. Этот османский национализм также нашел мощное и красноречивое выражение в работах Намик Кемапя - влиятельной интеллектуальной фигуры, с которой мы уже сталкивались ранее.
Основной импульс к изменению исламской историографии исходил из поощрения в этот период образовательных реформ. Поскольку с начала XIX века все больше и больше мусульман начинали интересоваться изучением западной культуры, школы нового типа росли на Ближнем Востоке как грибы. Лидерство принадлежало египтянам и сирийцам, но османы тоже не сильно отставали. В период Тапгта!, например, в Османской империи не затихали дискуссии по поводу создания национального университета и системы начальной и средней школ не только в Стамбуле, но и в регионах2. С этой целью был создан Совет по общественному обучению, преобразованный позже в Министерство просвещения. Создание школ нового типа изменило и содержание образования, расширяя круг предметов. Так, например, изучение истории, которое ранее рассматривалось как второстепенное, если не совсем ненужное, постепенно включалось в учебные планы того времени. Чтобы отвечать потребностям заинтересованных в изучении истории учащихся, новые учебники, вместо того чтобы
1 Kuran, 'Ottoman Historiography of the Tanzimat Period', 422. Также: Supraiya Faroqhi, Approaching Ottoman History: An Introduction to the Sources. Cambridge, 1999, 156-157.
2 Cp.: Selguk Akfin Somel. The Modernization of Public Education in the Ottoman Empire, 1839-1908: Islamization, Autocracy and Discipline. Leiden, 2001.
118
ГЛАВА 2
следовать традиционному стилю хроники, теперь писались по западному образцу: в виде рассказов, которые были организованы в главы и разделы. Хорошим примером может служить «Краткая история Османской империи» Ахмет Вефик Паши, которая была написана во время его пребывания во Франции с дипломатической миссией. Десятилетия спустя этот новый жанр был принят на вооружение таким имперским историографом, как Абдурахман Шереф, написавшим очень популярный школьный учебник по османской истории1.
Будучи министром просвещения Османской империи, Ахмед Джевдет Паша не только сам пытался писать историю по-новому, но и помогал в этом другим, например Ильясу Матару, автору первой истории Сирии . История Матара прославляла сирийское прошлое как колыбель человеческой цивилизации, давшую миру мнопкество изобретений и добродетельных людей. Хотя Матар открыто не изображал Сирию как «национальный политический организм», книга имеет явное националистическое звучание. Его усилия отразили растущее национальное самосознание сирийцев, что в то время поощрялось турецким правительством, стремящимся поддерживать культурную автономию внутри империи. Более того, у Матара было несколько значительных предшественников, и его труд появился на свет не без помощи образовательных реформ в Сирии. Хотя эти реформы и были инициированы египтянами, в Сирии они продвигались быстрее, поскольку после ухода египтян она оказалась более открыта западным влияниям. Матар, например, получил образование в Сирийском протестантском колледже, основанном американскими миссионерами в 1866 г. Помимо своей дружбы с Джевдетом, он довольно тесно общался с Бутрусом аль-Бустани и его сыном Салимом Бустани, двумя либерально мыслящими педагогами и журналистами . Несмотря на то что они не были историками, влияние Бустани на Матара выразилось прежде всего в их светском взгляде на исламскую историю, включающую до-исламскую Аравию, и современном историческом мировоззрении, характерной чертой которого была их любовь к Сирии. Бустани поощряли и пропагандировали эти новые взгляды на историю и в школе нового типа, которую они основали в Бейруте, и в серии эссе, которые выходили в а1-Лпап , одном из первых арабских * * * ***1 Kuran, 'Ottoman Historiography of the Tanzimat Period', 424—425.
* Ильяс Диб Матар. Жемчужные ожерелья, или история Сирии. - Бейрут, 1874.
Бустани — (аль-Бустани), семья арабских просветителей в Ливане. Наиболее известны: 1) Бутрус аль-Бустани (1819-1883). основал в 1847-м первое просветительское общеелво. в 1863-м - первую в Ливане национальную школу, начат издание арабской энциклопедии; 2) Сулейман аль-Бустани (1856-1925). перевел «Илиалу» Гомера на арабский язык.
*** al-Jinan - «Аль-Джинан», «Садавник» - политический, литературный и научный журнал, объединивший группу журналистов и писателей, пропагандировавших идеи Просвещения.
НАСТУПЛЕНИЕ НАЦИОНАЛИЗМА И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ... Ц9
журналов современного типа, редакторами и издателями которого они являлись1 2.
Министром просвещения Египта в период правления хэдива Исмаила был Али Мубарак, талантливый администратор и разносторонний ученый, получивший образование инженера. Мубарак настаивал на увеличении числа часов на преподавание истории в средней школе, а после основания в 1871 г. Педагогического колледжа - и в вузе. Хотя Мубарак официально и не учился на историка, на самом деле именно он сыграл ключевую роль в развитии исторического образования и сохранении исторического знания в Египта XIX века. В то время, когда он являлся министром просвещения (1870-е гг.), история в четырехлетних средних школах преподавалась каждый год. А основным учебником по египетской истории служил новаторский труд ат-Тахтави. Во многом благодаря Мубараку в Египте была создана и Национальная библиотека {Dar al-Kutuby.
Синтез старого и нового: «энциклопедисты» и «нео-хронисты»
В те годы, когда Мубарак был министром просвещения, в Египте появилось новое, интересное поколение историков. Как и Мубарак, образование они получали на Западе и после возвращения занимали важные административные посты в сфере образования и общественной деятельности. Например, Амин Сами был одно время директором Педагогического колледжа, хотя гораздо больше он известен своим директорством в аристократической школе, известной своими академическими успехами. Воспитанные одновременно и в западной научной культуре, и в классическом исламе, Амин Сами и другие аналогично мыслящие историки были одинаково сведущи в обеих, благодаря чему стали известны как «энциклопедисты». В своих трудах они обращались как к аль-Табари, Ибн Абдаль-Хакаму, аль-Масуди, Ибн Халдуну, аль-Макризи, аль-Суюти , так и к Вольтеру, Руссо, Монтес¬
1 Ср.: Choueiri, Modern Arab Historiography, 39-53.
Хедив (хедива, хедиф) (перс. — господин, государь) - титул вице-султана Египта, существовавший в период зависимости Египта от Турции (1867-1914). Этот титул носили Исмаил, Тауфик и Аббас II.
2 Crabbs, The Writing of History in Nineteenth-century Egypt, 94 Hbid., 109-129.
* Помимо аль-Табари, о котором много было сказано выше: Масуди, аль- Масуди Абу-ль-Хасан Али ибн аль-Хусейн (конец 9 века, Багдад, - 956 или 957, Фустат, Египет), арабский историк и путешественник; Абу-ль-Хасан Али ибн аль- Хусейн аль - ок. 896, - 956,) - арабский историк, географ и путешественник; Ибн Абдаль Хакам (ум. 870 или 871) - египетский летописец, написавший «Историю
120
ГЛАВА 2
кьё и востоковеду Э. Квотермееру1 2. В это время энциклопедисты появляются не только в Египте, но в других регионах, таких как в равной мере вестернизированная Сирия. Салим Шихадах и Салим апь- Хури, оба из Бейрута, опубликовали свои энциклопедии подобно Бут- русу аль-Бустани2. Махмуд аль-Фалаки (1815-1885), астроном и инженер, впоследствии сделал выдающуюся карьеру в области доисламской истории, публикуясь не только в Египте, но и Европе. Али Мубарак, несмотря на свою обширную административную работу, был плодовитым писателем, более всего известным своей «Энциклопедия культурной и экономической жизни Египта» в двадцати томах. Его научные интересы, которые привели его к изучению системы мер строителей пирамид, и его глубокие и основательные описания изменений в природе и цивилизации Древнего Египта обеспечили ему репутацию выдающегося исламского египтолога своего времени3.
Наряду с отчетливо выраженной «современностью» в научном образовании и знаниях в историописании эти историки придерживались исламской традиции. А1-КИиш Ы-Тст^гууаИ Мубарака, как явствует из ее названия, была написана в форме КИиш, которую можно перевести как «описания». Амин Сами, пользовавшийся покровительством Мубарака, составил многотомный Тадм?т а1-Ш (Нильский альманах), проследив развитие египетской цивилизации вплоть до современного ему времени. Эта тенденция к возрождению традиционных форм ис- ториописания сохранилась вплоть до конца XIX столетия в работах Михаила Шарубима и Исмаила Сарханка Паши . На протяжении всего XIX века традиционная и современная историография в Египте и других регионах Ближнего Востока действительно развивались параллельно. С одной стороны обозначилось однозначное движение в сторону современной историографии. Впервые мусульманские историки начали всерьез интересоваться до-исламскими временами, особенно в Египте. Начиная с середины XIX века помимо того, что работа Али Мубарака привлекла внимание западных египтологов, появилась це¬
завоевания Египта и Северной Африки и Испании»; Абу Зейд Абдуррахман ибн Мухаммад Ибн Хальдун аль-Хадрами (1332 - 1406,) - арабский мусульманский философ, историк; Таки ад-Дин Ахмед ибн Али аль-Макризи (1364, - 1442)- египетский историк и географ периода мамлюков; Джалалуддин Суюти (ок. 1445— 1505 н.э.), также известный как Ибн аль-Кутуб (сын книг) был египетский писатель, религиозный ученый, юридических экспертов и учителей, чьи работы посвящены широкому различным предметам в Исламской теологии.
1 El-Shayyal, 'Historiography in Egypt in the Nineteenth Century’, 405.
2 Choueiri, Modem Arab Historiography, 3-4.
3 Reid, Whose Pharaohs? 179-181.
* Оба - египетские историки второй половина XIX - начала XX века Микаил Шарубим, например, - автор многотомных «Полных сведений по истории Египта древней и современной». Каир, 1900.
НАСТУПЛЕНИЕ НАЦИОНАЛИЗМА И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ... 121
лая плеяда мусульманских египтологов, таких как Махмуд аль-Фала- ки, Али Бахьят и Ахмад, которые часто публиковали свои заметки в европейских научных журналах. Камал также удостоился чести стать первым современным египтянином - специалистом по иероглифам, а Нажиб Асим - первым туркологом в Османской империи, знатоком по возникновению туркологических исследований в Европе.
С другой стороны, традиция не исчезла полностью. Она оставалась привлекательной для многих мусульманских историков, и не без оснований1. В период правления бея Ахмада, аналога Мухаммеда Али в Тунисе, были начаты и набирали обороты реформы по вестернизации страны. Тунисские историки, однако, обращались к Ибн Халдуну, их предполагаемому предшественнику, и использовали его идеи для того, чтобы согласовать их с идеями Локка, Вольтера и Монтескьё, дать общие представления о волнах мусульманских нашествий в прошлом и помочь в формировании мусульманских наций в настоящем. Благодаря этим усилиям Ибн Халдун стал «основной фигурой всей второй половины XIX века», чьи работы вызывали интерес не только в Тунисе, но и в Египте и других местах. На самом деле влияние Ибн Халдуна высоко ценилось в исламском мире вплоть до середины XX века2.
В своих исторических трудах многие ведущие историки этого века, такие как Сами, Шарубим, Сарханк в Египте и Ахмед Джевдет Паша в Османской империи, сумели по-новому и творчески подойти к традиционным стилям. Являясь «нео-хронистами», они предприняли попытку сблизить хронографию и аналитическую, критическую историю. Несмотря на то что их работы писались в виде хроник и географических справочников, они не были лишены критического духа и аналитической остроты, считающихся признаками современной историографии, но и монографиями они считаться не могут. Хороший пример тому - «Общая история приморских государств» Сарханка. В ней Сарханк свободно опирается на арабские и европейские исторические источники и разделяет свои догадки о многофакторности взлетов и падений морских держав. Очевидно, что стиль хроники позволяет этим историкам занимать непредвзятую позицию. Доказательством этого может служить «Полная история древнего и современного Египта» Шарубима. Хотя книга часто обращалась к спорным периодам истории, таким как правление Мухаммеда Али, она получила одобрение за присущую ей справедливость суждений и проницательный анализ. Оберегая традицию, Шарубим вместе с тем благоразумно избежал ее недостатков - его «История древнего и современного Египта» не представляла собой компиляции разных исторических
1 Ср.: Faroqhi, Approaching Ottoman History, 157f.
2 Choueiri, Modem Arab Historiography, 4, 22, 191f.
122
ГЛАВА2
источников, как это было принято ранее, а скорее являла собой заслуживающее доверие историческое исследование .
Соединяя в себе современную и традиционную историографию, эти труды являлись продуктами своего времени - эпохи реформ. Мусульмане начали эти реформы в ответ на вызов Запада. Но другой целью этих реформ было возрождение и обновление исламской традиции. Ближе к 1880-м годам ход этих реформ заметно изменился. Последствия Франко-прусской войны привели к уменьшению французского влияния в этом регионе, что негативно сказалось на деле реформаторов в Османской империи. Наращивая на протяжении десятилетий свою военную силу, Египет столкнулся с серьезным финансовым кризисом, который привел к восстанию Ураби (1881-1882), возможно, первому националистическому движению на Ближнем Востоке. Однако это также привело к британскому завоеванию Египта (1882-1922/52), которое еще больше ослабило и разъединило исламский мир. Для противостояния западному империализму и вестернизации все больше и больше мусульман обращалось к идеологии национализма и прилагало усилия к нациостроительству. Националистической историографии, таким образом, суждено было наращивать обороты, и она стала ведущей тенденцией в исламской историографии XX века.
Национализм и трансформация индийской историографии
Историография в период раннего колониализма
Рассматривая индийскую историческую литературу в момент перехода этой страны из до-колониального в колониальный период, из XVII века в XIX, мы сталкиваемся с проблемой оценки относительного влияния европейских способов исторического мышления на общество, которое в разной степени уже подверглось процессу модернизации. Как уже отмечалось ранее, в южной Индии в XVIII веке и даже раньше уже существовала традиция историописания, в основных аспектах соответствовавшая современным критериям жанра, хотя она и была укоренена в таких более древних литературных формах, как поэзия. В Бенгалии существовала про-персидская историография в прозе и с узкофокусированной политической направленностью, но тем не менее историография, которая стремилась осознать сначала падение державы Моголов, а позже и новое политическое присутствие Ост- Индской компании. Эта персидская историография являлась глубоко 11 Cf. Crabbs, The Writing of History in Nineteenth-century Egypt, 130-145.
НАСТУПЛЕНИЕ НАЦИОНАЛИЗМА И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ... 123
нравоучительной по своим представлениям, хотя и признавала светские представления о причинно-следственных связях. Она зафиксировала коррупцию и упадок добродетели среди Моголов, равно как и отметила нравственные недостатки англичан. Но про-персидские историки, такие как Гулам Хоссан Табатабаи, автор 8ёй' МШадИепп - своего главного произведения, написанного в XVIII веке, также осознавали различия в политической культуре Ост-Индской компании, что порождало новое политическое и историческое сознание. В 1757 году, используя закулисные средства борьбы против местного правителя Сирадж уд-Даула, Компания добилась победы в битве при Плесси . Это событие повлекло за собой период насилия и грабежей, пока под угрозой вызванной этим нестабильности Компания сама не навела порядок и не провела реформы, принеся мир и стабильность в регион, который сильно пострадал от нестабильной политической ситуации, возникшей в том числе и по вине Компании. Отмеченная запутанность положения комментировалась в трудах местных историков, например упомянутого Табатабаи. Он отметил тактику хитрости и коварства, используемую Компанией в борьбе за власть, «пьяный и распущенный» характер англичан и неспособность новых правителей следовать стандартам хорошего правления в соответствии с моральными нормами классической политической философии Моголов. Однако он отметил и практическую сторону британского присутствия, признавая установившуюся благодаря ему стабильность. Более того, он показал понимание сути современного империализма, а именно экономическую эксплуатацию наряду с ощущением культурного превосходства. Таким образом, «Гулам Хоссан, возможно был первым, кто охарактеризовал ранний период правления Ост-Индской компании в Восточной Индии как систему колониального правления»1 1. Интересен тот факт, что работа Табатабаи в 1789 году была переведена на английский язык.
Труды таких авторов, как Табатабаи, представляли собой жанр письма, который был характерен для старых, образованных литерато- ров-бюрократов, которые, хотя и критиковали правление Компании, но при этом пытались поступить на службу к новой администрации.
Битва при Плесси (точнее - Палаши) - сражение у берегов реки Бхагиратхи в Западной Бенгалии, в котором 23 июня 1757 года британский полковник Роберт Клайв, представлявший интересы Британской Ост-Индской компании, нанес сокрушительное поражение войскам бенгальского наваба Сирадж уд-Даула, на стороне которого выступала Французская Ост-Индская компания.
1 Киткит Chatterjee, 'History as Self-Representation: The Recasting of a Political Tradition in Later Eighteenth Century India', Modern Asian Studies, 32 (1998), 942. Чаттерджи также предположил, что «стратегии саморепрезентации». используемые Табатабаи и другими, были признаком появления «националистической» историографии, той самой, которая отразила переход от до-колониального к колониальному правлению.
124
ГЛАВА 2
Через свои труды они надеялись подчеркнуть роль знающей и опытной бюрократии, необходимой для обеспечения хорошего правления. Но британцы их опасались. То, что их труды оказали незначительное влияние на возникновение колониальной историографии, видно по тому, что фактически все колониальные историки изображали до- британские мусульманские правительства как деспотичные, основанные на насилии и эксплуатации. Как было сказано в предыдущем разделе, восточный деспотизм был той темой, в контрасте с которой должно было быть показано и оправдано восхваление правления компании. Мы еще увидим, что эта специфическая черта Могольско- го/Мусульманского царства также стала критическим элементом национальной историографии конца XIX века.
В начале XIX века было два типа историописания, причем оба обязаны своим проявлением присутствию Ост-Индской компании. Первое из них было представлено историями, написанными британскими сотрудниками Компании, которые помимо своих административных обязанностей нашли время для того, чтобы создавать исторические нарративы. Это были так называемые административные историки, причем некоторые из них, как, например, Джеймс Милль , главный ревизор корреспонденции Компании в Лондоне, даже никогда не ступал на индийскую землю. Второй жанр был представлен главным образом бенгальскими индусскими литераторами {pundits, или ученые), нанятыми Колледжем Компании в Форт-Уильяме в Калькутте с целью написания исторических текстов представителями туземной культуры.
Основной мотивацией административных историков был сбор информации, которая оправдает и облегчит правление Компании. Знание местных обычаев, традиций и т.д. было необходимом для сбора доходов. В результате появился такой тип административной истории, который позже станет стандартным для таких периодических изданий, как District Gazetteers, Reports on Revenue Settlements и других. Но поскольку поступающая с мест информация не всегда поступала вовремя и не всегда была проверенной, колониальное историческое знание стало проблемой. Потребность покончить с зависимостью от местных источников информации, которые зачастую рассматривались как подозрительные или специально вводящие в заблуждение, способствовала зарождению историографии, которая полностью соответствовала ее целям, то есть колониалистской историографии1. Поскольку власть Компании увеличивалась, росла и уверенность в ее цивилизаторской и благотворной миссии и соответственно презрение к индийскому прошлому и его исторической литературе (или отсутствию таковой). Мы
Отец Джона Стюарта Милля.
1 Ranajit Guha, An Indian Historiography of India: A Nineteenth Century Agenda and Its Implications. Calcutta, 1988, 14.
НАСТУПЛЕНИЕ НАЦИОНАЛИЗМА И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ... 125
уже упоминали Милля в этом контексте. Но даже сэр Генри Эллиот, который позднее стал главным секретарем в Министерстве иностранных дел Индии и вместе с Джоном Доусоном из Университетского колледжа Лондона перевел на английский язык целых восемь томов извлечений из персидских исторических источников, появившихся позднее как «История Индии, рассказанная ее историками», уменьшил ценность переведенных им текстов тем, что напомнил читателям ничтожную значимость не только мусульманского прошлого, но и их ощущения своего прошлого. Британский период рассматривался как несомненно лучший во всех отношениях.
Индийские авторы, пишущие для Колледжа Форт-Уильяма, были первыми местными историками XIX века. Они привлекают наше внимание прежде всего потому, что писали не на персидском, а на бенгальском языке и прозой вместо поэзии. Конечно, их труды, были заказаны Компанией как простые языковые тексты, цель которой состояла в том, чтобы обойтись без прежней бюрократии nawabi, пользовавшейся персидским языком. Наше внимание привлекают три работы этих pandits : «История короля Пратападитья» (1801) Р. Басу; «Жизнь короля Кришначандра» (1805) Р. Мукбодхаийя и «Хроника королей (1808) М. Бидьяланкара. Согласно Ранаджит Гуха, «все три работы как в литературном, так и в историографическом смыслах были текстовыми зонами конфликта между анархизмом и модернизмом»1. Труд Басу, несмотря на то что содержал в себе элементы мифологии, явно являлся примером рационалистической истории и не в последнюю очередь потому, что ставил своей целью выполнить функцию руководства для Компании, требования которой и определили ее эпистемологический характер. Однако тот же самый императив не всегда приводил к созданию современной историографии. Стиль письма Бидьяланкара воскрешал пуранический стиль исторической памяти. Его «Хроника» была насыщена дидактическими и нравоучительными мифами и баснями и свободно и беззастенчиво оперировала свойственным индуизму понятием циклического времени. Самым важным каузальным объяснением жизни королей было божественное вмешательство, и оно же объясняло победу англичан в битве при Плесси. Книга примечательна и своим игнорированием индо-мусуль- ** Nawabi - Набоб или наваб - титул правителей некоторых провинций Восточной Индии в Империи Великих Моголов. После падения этой империи титул набоба сохранили те правители, которые подчинились британскому владычеству в качестве вассалов.
Pandit - ученый муж.
[¿bid, 28.
Пураны являются важным жанром индуистских, джайнских или буддийских религиозных текстов, в частности состоящих из описания истории вселенной от создания до уничтожения, родословных царей, героев, мудрецов и полубогов, и описания индуистской космологии, философии, и географии.
126
ГЛАВА2
мано-британской периодизации, характерной для колониальных историй, начиная с Милля; его короли были либо хорошими, либо плохими, и отсутствовало всякое понимание их религиозной идентичности. Не было в книге и никакого понимания нации, потому что главными героями являлись боги и короли.
Новая педагогика и возникновение современного исторического сознания
Однако в последовавшие за этим несколько десятилетий историо- писание в Индии подверглось демифологизации и рационализации. Важной причиной этих изменений стало оправдание колониализмом собственного правления с помощью истории: доводы в пользу хорошего правления, цивилизаторской миссии и т.д. использовались для противопоставления с плачевным доколониальным прошлым. Кроме того, колониальные истории таких миссионеров, как Д.К. Маршман , автор «Истории Бенгалии» и «Истории Индии» (в 1840 г. обе были переведены на бенгальский язык), содержащие негативные образы индийской традиции и культуры, провоцировали появление контрответа, который должен был быть создан в той же самой рационалистической парадигме. В результате, переведший Маршмана Гопал Майтра, указал на то, что вымышленные легенды индуизма ничем не отличаются от чудес Библии. Далее, мы должны принять во внимание ту роль, которую сыграла преподаваемая в рамках официального образования история в осуществлении модернизации исторического сознания. История преподавалась не только в миссионерских школах и колледжах, но в новых народных школах, созданных с целью обучения клерков и служащих империи. Эти современные школы, постепенно вытесняющие традиционные tols, patbsbalas и madrasas, придавали особое значение учебному плану, адаптированному к колониальным образовательным ценностям. Традиционные начальные школы прививали основные умения и навыки, необходимые для повседневной жизни; акцент был сделан на языке, арифметике и счете, а не истории. Но на протяжении второй декады XIX века многие из этих школ были бесплатно обеспечены печатной продукцией в духе либеральной (и не только светской) образовательной философии. В новой педагогике история стала одним из самых важных предметов, и в 1844 г. генерал-губернатор Хардиндж отдал распоряжения о создании свыше ста народных сельских школ, которые отразили этот новый акцент в учебных планах1. Новая педагогическая и интеллектуальная значимость истории привела к растущему интересу к этому предмету. Утилитаристский акцент, особенно в миссионерских шко¬
1 SumitSarkar, Writing Social History. Delhi, 1997, 14.
НАСТУПЛЕНИЕ НАЦИОНАЛИЗМА И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ... 127
лах, на достойных подражания достижениях европейской старины и в равной степени менее образцовых достижениях и хрониках индийской старины, вызвал интерес к «фактам» и «успехам» индийского прошлого, о котором поколение либеральных востоковедов, таких как сэр Уильям Джонс, писало с определенной долей расположения и симпатии.
Движение за религиозное возрождение и поиск славного прошлого
Далее, поскольку колониалистские нарративы приписывали британское присутствие в Индии «естественному» ходу самой истории, для признания этого утверждения недействительным нужна была контр-мифология. Появление одного важного метанарратива привело к противопоставлению материалистического Запада духовному Востоку; хотя допускались определенные победы Запада, история должна была закончиться триумфом индийского духа. Авторами подобных утверждений были видные социальные и религиозные реформаторы того времени. Такие реформаторы, как Раммохан Рой, Дайянанда Са- расвати и Вивекананда, историками, конечно же, не были. Посредством движений за реформы, которые ученые назвали «протестанизаци- ей индуизма», они хотели реанимировать более древнюю, изначальную форму индуизма, не искаженную временем и коррумпированностью священников. Они пытались обнаружить цивилизационные основания обновления Индии и ее судьбы в традициях древнего прошлого, где, по их утверждению, творческий потенциал человечества уже достиг духовного и интеллектуального совершенства. Реформа, таким образом, была связана с возрождением прошлого, которое также подразумевало разрыв с не столь отдаленным мрачным и развращенным прошлым, но не со своеобразием Индии. Она, однако, не подразумевала отказ от современности. Более того, реформаторы считали, что их задача вполне совместима с современностью, поскольку, по их утверждению, древнеиндийская цивилизация уже предвидела современные рационально-технологические достижения. Это было одним из способов примирения традиции с вызовами современности. Рой даже нашел подтверждение, доказывающее несостоятельность придуманного а-историзма Индии, а Дайянанда, религиозный реформатор и основатель секты индуизма Арья самадж , утверждал, что ** Арья самадж (на языке хинди - общество ариев), религиозно-реформаторское и просветительское общество в Индии, возникшее в 1875 г. и объединившее в основном мелкобуржуазную интеллигенцию. Арья самадж проповедовало национальную самобытность Индии, призывало к возрождению национальной
128
ГЛАВА2
в Ведах содержится вся современная наука. Конечно, это утверждение вскрывало очень упрощенное понимание ведической культуры и ее научного потенциала. Далее, приравнивание древнеиндийского прошлого к индуистскому создавало доводы в пользу существования в древней Индии единого и гомогенного общества, предполагающего также наличие в древние времена оформленной религии, именуемой индуизмом, чего на самом деле не было. Более значимо то, что идеи возрожденческих/реформаторских индуистских движений могли быть использованы и использовались определенной частью национальной историографии для подведения идеологического основания под политические движения индуизма в XX веке. Секуляризированная версия индуизма, сглаживающая его философскую и социальную неоднородность, была расценена как предварительное условие и для социальной реформы, и для политической мобилизации. Кроме того, она способствовала определению «индийскости», которое могло использоваться некоторыми радикальными националистическими историографиями движения за независимость.
Усилия по проведению социальных реформ в религиозном ключе предпринимались и индийской мусульманской интеллигенцией, например, просветителем Саид Ахмад-ханом, который попытался примирить западное образование и науку с запретами Корана. Но исламская традиция представляла ббльшие трудности частично потому, что по сравнению с индуизмом, который мог трактоваться более свободно, ее догматы были более четко определены и структурированы. А еще потому что ислам пережил свой Золотой век за пределами Индии, и это проблематизировало восприятие ислама как местного элемента в индийской культуре. Однако в конечном счете обращение обоих сообществ за помощью к религии «укрепило линии демаркации»1 и ослабило синкретические тенденции более раннего времени. Впоследствии это сказалось на более позднем националистическом письме, и в частности на появлении теории двух наций, которая в 1947 году ляжет в основу разделения Индии.
Конечно, эти социальные реформаторы не были профессиональными историками и практически не обращались к реальным историческим фактам. Но их представления, резко контрастирующие с теми, что преподавались в колониальных школах, вели к росту «жажды истории» в среде индийской интеллигенции настолько, что история стала как способом возвращения чувства собственного достоинства, так и «способом обсуждения и реализации коллективного самосознания»* 2.
культуры. Оно выступало против кастовой системы, за распространение просвещения, проведение религиозных и социально-бытовых реформ.
’ Michael Gottlob, ed., Historical Thinking in South Asia: A Handbook of Sources from Colonial Times to the Present. New Delhi, 2003, 21.
2 Цитата Sudipta Kaviraj в: Sarkar, Writing Social History, 13.
НАСТУПЛЕНИЕ НАЦИОНАЛИЗМА И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ... 129
В 1838 г. в Калькутте было сформировано Общество ищущих истину, цель которого состояла в чтении лекций по различным аспектам изучения Европы. Самая первая из них - «О природе и важности исторических исследований», прочитанная преподобным Кришной Моханом Банерджи , акцентировала внимание на том, что успех Запада был связан с его историческим самосознанием, его оценкой собственного прошлого1 2. Вслед за этим появились многочисленные региональные и национальные истории, главным образом на бенгальском языке. Таковыми среди прочих были «История Бенгалии» (1848) просветителя Ишвара Чандры Бидьясагара и «История Индии» (1859) Кедара Нат Датты. Эта новая история многое заимствовала у колониальной историографии, но и многое из нее подвергла сомнению. Так, выдвинутая Миллем трехступенчатая схема периодизации индуистско-мусульмано-британского правления была принята, а его негативное описание индийского общества как общества цивилизационно невежественного было отвергнуто. Индийские историки больше присматривались к либеральным востоковедам, таким как Уильям Джонс и Монтстюарт Элфинстон, сравнивавшим Древнюю Индию с цивилизациями Греции и Рима и прославлявшим ее достижения в философии, астрономии, математике и других науках. Многие из них, описывая древний период как Золотой век, также приходили к выводу, что последовавшая за ним эра «мусульманского правления» была периодом потерь и упадка. Частично такой вывод вытекал из периодизации Милля, который в свою очередь использовал европейскую периодизацию древность- Средневековье-современность, включавшую «средний период», бывший, что характерно, «темными веками». Весьма распространенное в книгах по индийской истории предубеждение европейской историографии XIX века против ислама также сказалось на формировании индуистско-индийской идентичности как исторического объекта, играя в этом процессе роль «коммунализатора» индийской истории, хотя анти-мусульманские предубеждения ни в коем случае не отсутствовали в трудах местных авторов и до Милля, например в оценке заговора против Сирадж уд-Даулы ученым Раджиблочана из Форт- Уильям Колледжа. Самит Саркар утверждал, что средний класс (ЬИас1га1ок) индийского общества, даже находясь в колониальной зависимости, с появлением британского правления немного повысил свой статус. Поэтому такое критическое отношение к исламскому
Кришна Мохан Банерджи (1813-1885).
1 Vinay Lai, The History of History: Politics and Scholarship in Modern India. New Delhi, 2003, 27-28.
Сирадж уд-Даула (полное имя — Мансур-уль-Мульк Сирадж-уд-Даула Шах- хули-хан Мирза Мохаммад Джанг Бахадур-, 1733-1757)- наваб Бенгалии, Бихара и Ориссы в 1756-1757 годах.
2 Sarkar. Writing Social History, 18.
53ак. Ц83
130
ГЛАВА 2
прошлому было вытесненным страхом социальной группы, неспособной свободно критиковать источник своего экономического благополучия1 2.
Рождение рационалистической парадигмы
Кроме того, местные историки начали перенимать западное представление о том, что до британцев никакой традиции историописания в Индии не существовало. Так, историк Раджендралал Митра заявил, что «в индийской литературе практически отсутствуют настоящие исторические сообщения»2. Как отметил Парта Чаттерджи, это понятие было «исключительно открытием европейской индологии»3; оно не пришло бы на ум историкам из Форт Уильям колледжа. Это также являлось признаком постепенного принятия западных критериев того, что существует истинно историческое описание, а также влияния англизированной образовательной системы и связанного с этим исчезновения персидского языка в школах и колледжах. Результатом стало растущее осознание метода и правил доказательности и подлинности, а также принятие рационально-позитивистской модели истории, распространенной на Западе в XIX веке. История все больше отделялась от художественной литературы, и ко второй половине XIX века понятие итихаса приобрело четкую и определенную связь с реальностью4. В плане профессионализации исследований, систематического сбора и расширения круга источников, включая археологию, эпиграфику и нумизматику, а также развития новых методов интерпретации пример подавали британские институты, такие как Азиатское общество (основанное в 1784 году Уильямом Джонсом)5. Но индийские историки тоже оставили свой след в подобных институтах, как, например, упомянутый выше Раджендралал Митра, ставший первым индийским президентом Азиатского общества. Среди историков, работавших в университетах и колледжах, самым известным был специалист по санскриту, ученый и историк Древней Индии Р. Г. Бхандаркар, один из немногих историков своего времени, основой трудов которого было истинное научное исследование. Бхандаркар стремился поднять индийскую историографию до уровня западных научных стандартов.
1 Ibid., 19.
2 Цит. по: Gottlob, Historical Thinking in South Asia, 2.
3 Partha Chatterjee, The Nation and its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories. Princeton, NJ, 1993, 95.
4 Meenakshi Mukherjee // Gottlob, Historical Thinking in South Asia, 25. Однако факты не всегда отделялись от вымысла. Конец XIX столетия был также расцветом исторических романов с большой долей вымысла таких авторов, как Банким- чандра.
5 Ibid., 26.
НАСТУПЛЕНИЕ НАЦИОНАЛИЗМА И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ... 131
Вторя Ранке, он настаивал на том, что факты должны говорить сами за себя. «Историку прежде всего необходимо быть беспристрастным, а значит, не иметь специального намерения найти в лежащих перед ним источниках нечто, что привело бы к славе его расы и страны, но также не иметь и предубеждения против страны и ее людей. Историк должен быть обеспокоен лишь поисками истины»1. Бхандаркар поддерживал социальную реформу и в своих многочисленных публичных лекциях вскрывал несоответствие между индуистскими методами его времени и теми, которые были приняты в древности. Кроме того, он настаивал на том, что только верная методология может обеспечить правильный ход реформ. «Ясным осознанием наших национальных изъянов мы закладываем фундамент значительного прогресса в будущем».
Индийское историописание второй половины XIX века во многом повторяло предметы и темы колониалистского письма. Социальная история была приравнена к «фольклору», экономическая история занималась земельными пожалованиями и данными о производительности труда - административно-значимыми проблемами. Политическая история представляла собой историю королей и вслед за ними - генерал-губернаторов. Но эта историзация индийского мышления не означала автоматически наличия «колониализма с согласия колонизируемых»2. Колониальная концепция исторического изменения не отводила индусам никакой роли в качестве движущей силы истории. Эта точка зрения больше не принималась. А поскольку открыто критиковать колониализм было трудно, местное историописание давало возможности для выражения активности даже несмотря на то, что приложение этой активности относилось к далекому прошлому.
Рождение националистической парадигмы
История все больше использовалась для того, чтобы оспорить унизительные утверждения востоковедов. По мнению Парты Чаттерджи , к 1870 году все существенные признаки националистической историографии уже были налицо3. Нам, однако, следует иметь в виду, что националистическая историография может быть националистической по ряду признаков. Во-первых, и, прежде всего, она должна предполагать понимание нации как отличного от других образования, имеющего пространственно-временную географическую и цивилизационную протяженность. Во-вторых, ей свойственно глубокое чувство собственного прошлого, и часто своего древнего прошлого, как основополагающего источника идентичности и исторической судьбы. Это так¬
1 U,ht. no: C. H. Phillips, ed., Historians of India, Pakistan and Ceylon. London, 1961,281.
2 Gottlob, Historical Thinking in South Asia, 12.
3 Chatterjee, The Nation and its Fragments, 88.
132
ГЛАВА 2
же становится логическим обоснованием предвзятости и субъективности, являющихся признаками националистического историописа- ния. Наконец, националистическая историография основана на предпосылке осознания Другого. Это понимание, однако, может вести, а может и не вести к критике этого Другого. В результате это может содействовать критике колониализма. Это может также подтолкнуть к «исключающей» дефиниции Себя, которая стремится вычеркнуть элементы, противоречащие первым двум признакам националистической историографии.
Только в первом десятилетии XX века, с появлением Свадеши (движение за самодостаточность) и революционно-террористических движений, националистическая историография Индии с характерной для нее неистовой критикой колониального правления стала самой собой, хотя некоторые аспекты колониализма, как показал Кумкум Чаттерджи, подвергались критике и ранее, еще в конце XVIII века. Однако первые местные труды об общеиндийском, а не только региональном прошлом, стали появляться только в 1850-е годы. Наиболее важны два из них - «История Индии» Нилмани Базака и «История Индии» Тариничарана Чаттопадхьяи - две разные книги бенгальских историков с одинаковым названием1. Трехтомная «История» Базака, издававшаяся на протяжении двух лет, содержала в своем предисловии намерение разуверить читателя в англофонском представлении о том, что «древние индусы были очень глупы». В предисловии также утверждалось, что репрезентация прошлого на бенгальском языке выглядела бы более аутентичной и привлекательной, нежели на английском. Язык отныне все более признавался признаком идентичности, что прекрасно накладывалось на возникающее национальное самосознание. Важно иметь в виду, что индийское националистическое мышление создало много типов дискурсов об идентичности. В Индии ощущение региона и ощущение нации появились одновременно. Фактического подтверждения того, что имела место некая растущая кривая национального самосознания, в конечном счете поглотившая региональную специфику, нет2. В этом смысле не было никакого противоречия между таггхЬЬаька (родным языком) как предметом гордости и националистическим сознанием, и, как отмечает Гуха, в 1850-е гг. «национальный язык» использовался взаимозаменяемо с таМЫгазИа, что говорит о языке как идеологическом маркере национальной принадлежности и политической деятельности3.
* Свадеши движение - (санскр. свадеши - букв. - отечественный), движение в колониальной Индии с кон. XIX в. за развитие национальной промышленности, против засилья английских товаров.
1 Двухтомник Базака появился в 1857-1858, в Чаттопадхьяи - в 1878-м.
2 Sunil Khilnani, The Idea of India. New Delhi, 1997, 153.
3 Ranajit Guha, An Indian Historiography of India: A Nineteenth-Century Agenda and Its Implications. Calcutta, 1988, 42.
НАСТУПЛЕНИЕ НАЦИОНАЛИЗМА И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ... 133
Таким образом, к новой историографии привело соединение колониального образования с простонародным языком. По мере того как переводились проанглийские истории для школ и университетов, стали подмечаться их неточности и ошибки. Во второй половине XIX века многие авторы учебников по истории (большей частью профессора колледжей) приступили к написанию историй Индии для бенгальских школ. Эти учебники стремились вернуть гордость за родное наследие, оспаривая его недооценку в колониальных нарративах. Так, в 1876 году в предисловии к своей книге Кхиродчандра Райчаудхури заявил о том, что «написал эту книгу для тех, кто был введен в заблуждение переводами написанных на английском языке историй»1. Отвергалось заявление о британском правлении как неизбежной исторической необходимости. Индийские историки, теперь уже сведущие в европейской истории, государственном управлении и политической философии, вместо этого заявляли о том, что колониальная победа была результатом бессовестных махинаций. Британцы выиграли битву при Плесси благодаря интригам Клайва и предательству Мир Джафара. Несмотря на то что наваб Сирадж уд-Даул испытывал недостаток в добродетели и был тираном, его поражение стало результатом державной политики, а не личной неудачей или божественным возмездием.
По сравнению с многотомной «Историей» Базака, «История Индии» Тариничарана Чаттопадхьяи оказала гораздо большее влияние. Переживший к 1878 году восемнадцать изданий, это был самый популярный учебник истории в бенгальских школах в последней четверти XIX века. Как и у Базака, «Индия» теперь мыслится как отдельный субъект, страна (desk), и именно desk, а не перечни королей отныне являются основой нарратива. Подобно большинству других авторов учебников его поколения, формулировки Тариничарана опирались на англоязычные представления об индуистско-мусульмано-британской схеме, которой было свойственно представление об Индии как самостоятельной географической единице. Тариничаран также полагался на индологические оценки древней Индии, хотя, конечно, доверять им можно было только выборочно. Данная Миллем крайне неодобрительная оценка индийского прошлого отвергалась; намного ближе ему была «История Индии» Монтстюарта Элфинстона, совершенно непохожая на «главный учебник»2 Милля, с положениями которого надо было бороться на каждом шагу. Элфинстон гораздо больше симпатизировал достижениям древних индийцев, что нашло отражение в главах его книги, названных «Философии», «Астрономии и математические науки», «Медицина» и т.д. Однако для полного восстановления индийской самобытности следовало обратиться к двум проблемным областям. Во-первых, надо было объяснить, почему эта великая циви¬
1 IJht. no: Chatterjee, The Nation and its Fragments, 91.
2 RonaldInden, Imagining India. Oxford, 1990, 45.
134
ГЛАВА 2
лизация пришла в упадок. Во-вторых, необходимо было показать, что требовалось от самих индийцев для осуществления того, что было уже начато британцами, а именно модернизации Индии. Обе проблемы легко можно было решить, переиначив трехчленную схему индийской истории. Так, «Древняя Индия должна была стать классическим источником индийской модернизации, в то время как “мусульманский период” - мраком средневековой темноты»1. Для Тариничарана все отрицательные описания мусульманского периода и мусульманских королей в колониальном дискурсе - «погрязшие в праздности и распущенности и подражающие порокам Калигулы и Коммода», как выразился сэр Генри Элиот, - абсолютно ясны. Жестокие, развратные и фанатичные завоеватели (теперь уже не турко-афганцы или моголы, а мусульмане), которые в отличие от индусов не были аборигенами Индии, но появились извне, как и их религия (из Аравии), и сумели победить индусов не благодаря божественному вмешательству, а вследствие изменившей индусам удачи и непредвиденных неблагоприятных обстоятельств. Таким образом, националистическая историография конца XIX века имела как антибританскую, так и антиму- сульманскую окрашенность.
Национализм, коммунитаризм и историописание
Тариничаран и Базак стали предвестниками постоянно возникающей темы, а именно: величия древнеиндийской цивилизации и ее последующего упадка в период мусульманского правления. Но такое представление поставило сложный вопрос о роли британцев, освободивших индусов от тирании неуспешного мусульманского правления. Однако если индийскость объяснялась через географическую и религиозную идентичность, то исповедующие христианство англичане тоже были чужими. По утверждению социальных и религиозных реформаторов, их (по общему признанию, полезные) модернизаторские усилия были столь же чуждыми древней индийской культуре. Поэтому в конце XIX века индийская националистическая историография породила дискурс о национальном единстве Индии, которая оказалась достаточно великодушной и приняла посторонних. Этот дискурс был далеко не единственным; как утверждал Парта Чаттерджи, была еле различимая альтернативная «децентрированная» историография2.
1 Chatterjee, The Nation and its Fragments, 102.
2 В основном это была бенгало-центрированная историография, признававшая, что пуштунское правление (в отличие от могольского) на самом деле было благом для Бенгалии и что в отличие от других областей Индии ислам не насаждался в Бенгалии силой, а бенгальские мусульмане были фактически особым типом бенгальцев. См.: Chatterjee, The Nation and its Fragments, 113-114.
НАСТУПЛЕНИЕ НАЦИОНАЛИЗМА И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ... 135
К этому следует добавить различимые у Базака намеки на интересное изменение историографии, ставшее более очевидным в начале следующего столетия, а именно движение от государствен но-центрированной политической истории к «весьма заметному и рано развившемуся интересу к социокультурной истории», которая проявила себя как раз в то время, когда в Европе становилась господствующей ран- кеанская модель1. Подобная валоризация культуры, ее приоритет над королями и войнами частично были ответом на нехватку хронологически точных данных по индуистскому периоду, что к этому времени стало важной методологической проблемой. Кроме того, это характеризовало политику идентичности, которая в рамках более широкой политической программы развития исторической самобытности отдавала приоритет культуре над политикой в индийском прошлом. Однако культура этой историографии основывалась в основном на религиозных или кастовых сообществах.
Ответы мусульман на различные сектантские версии индийского прошлого тоже имели оборонительный характер; они также должны были бороться с колонизаторскими нарративами (и их индуистскими версиями). Одним из ответов было объяснение некоторых отрицательных моментов мусульманского правления как проявления острой необходимости и политической ответственности за действия, которые противоречили принципам ислама (как это сделал бенгальский писатель Сайид Абдул Рахим). Другой ответ призван был подчеркнуть цивилизационное величие ислама, у которого были собственная классическая эпоха и вклад в культуру человечества. Английское и индуистское изображение мусульман как воинственных, фанатичных и жестоких людей не было правдой. Истинная оценка мусульманского прошлого могла быть дана только мусульманами, и такие авторы, как Абдул Карим, приступили к этому.
Секулярные нарративы
и возникновение экономического национализма
Историописание на местном языке развивалось и в других частях Индии. В 1864 году Шива Прасад написал первую историю Индии на хинди; название его книги Шказа Тшипазак (буквально, «История как способ борьбы с невежеством») свидетельствовало о практическом обосновании книги; история была проводником позитивных перемен. Таким образом, история была не только основой для коллективного самосознания, но и способом прогрессивного развития. И вытекающий из чувства истории прогресс подразумевал принцип самобытности Индии. Самосознание вело к саморазвитию, а саморазвитие
1 Sarkar, Writing Social History, 24.
136
ГЛАВА 2
являлось самостоятельным актом. Таким образом, к 1870-м годам появился новый аспект в местном историческом мышлении - тот, который все более и более подвергал сомнению возможность прогресса в условиях британского правления. Харишчандра Бенарас, ученик Шивы Прасада, был одним из первых критиков колониального правления. Эта тенденция также совпала с секуляризацией процесса реформирования. У нового поколения социально активных реформаторов, таких как Дадабхай Наороджи и Махадев Говинд Ранаде, социальные перемены постепенно отделились от религиозных представлений, что в свою очередь сделало понятие прогресса более современным. И хотя Наороджи и Ранаде оставались политически лояльными к британскому правлению, они без колебаний его критиковали на основе его же собственных постулатов. Для Наороджи «существующая система правления разрушительна и деспотична по отношению к индийцам и не-британцам и самоубийственна для Британии»1. Особо значимыми для реформаторов были экономические последствия британского правления, «утечка богатства», вызванная тяжелым налоговым бременем и репатриацией доходов в форме Home Charges - домашних расходов на администрацию, содержание армии, военные расходы, пенсии отставных офицеров и другие выплаты Англии, необходимые для поддержания ее колоний. Эти утверждения подпитывались марксистскими концепциями, в особенности теми, которые касались международного разделения труда и империалистической свободы торговли. Их экономико-националистическая перспектива также свидетельствовала об отходе от религиозной политики и проблем, присущих древнеиндийской культуре; все более и более Моголы, как и другие региональные династии, изображались гуманными и великодушными. Ранаде был очень критически настроен по отношению к сторонникам возрождения историографии религиозного типа и задавал возрожденцам вопрос о том, к каким именно истокам они хотели бы вернуться, ведь в индийской истории было много истоков и все они были исторически обусловлены2. В свою очередь экономические националисты поощряли исследование политического контекста британской экономической политики, которая оказалась в центре дебатов основанного в 1885 году Индийского национального конгресса.
Выводы Наороджи и Ранаде повлияли на труды известного историка и политического деятеля Ромеша Чандера Датта. Помимо прочего, Датт был историческим романистом, а в Индии исторические романы являлись формой политической активности, в которой, как мы увидим ниже, реальная программа действий провозглашалась вполне открыто. В 1897 году он опубликовал свою «Англию и Индию: сто лет прогресса», в которой в дополнение к утечке богатства указал на де¬
1 Gottlob, Historical Thinking in South Asia, 48.
2 Ibid., 49.
НАСТУПЛЕНИЕ НАЦИОНАЛИЗМА И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ... 137
индустриализацию Индии, вызванную массовым производством британских товаров. В качестве источников Датт опирался на «Синие книги» правительства Индии, оспорив таким образом ортодоксальность пользы британского правления с опорой на колониальные записи. Он не отрицал некоторых благ, приобретенных вследствие колониального правления, и в особенности ценности западного образования. Но, как и Наороджи, он поставил под сомнение притязание колониального правления на то, чтобы считаться проводником прогресса, и использовал понятие прогресса для того, чтобы опровергнуть это притязание.
Выводы экономических националистов, особенно тема «утечки богатства», стали очень важным компонентом политической деятельности в начале XX века. Движение Свадеши 1905 года во многом опиралось на эти аргументы, хотя утверждалось и то, что националистическое движение было намного более радикальным, чем историография экономических националистов, которые во многих отношениях оставались лояльными британскому правлению. Однако, привлекая экономические объяснения, они продемонстрировали открытость глобальным процессам, что было гораздо более дальновидным, нежели аргументы возрожденцев, консолидирующих свою деятельность в русле коммунитаризма.
Колониальные истории Индии внесли свой вклад в появление современного исторического сознания в XIX веке. Местные историки постепенно приняли современные, рационалистические критерии исторической репрезентации. Сама дисциплина «История» стала признанной и значимой областью знания, а историописание - важным инструментом в формировании национального сознания на стадии его появления. Это националистическое историческое сознание являлось, как правило, реактивным и подражательным; хотя во многом ему было свойственно стремление принизить, свести на нет значение колониального представления об индийской культуре. Таким образом, индийская история тоже была разделена на три исторических периода, и первый, самый древний период, считался отнюдь не менее значимым, чем классическое величие Греции и Рима. Но для объяснения существующего положения колониального господства и унижения одного факта существования славного прошлого было недостаточно. Часть историков-националистов приписывали ослабление Индии и ее упадок периоду мусульманского правления, и в этом они следовали за англоязычными историками. Историки-националисты были, конечно, представителями городской элиты, которая сама по себе являлась продуктом колониального правления. Поэтому их неприязнь к исламскому наследию Индии противоречила синкретическим традициям, которые особенно процветали в сельских районах Бенгалии.
138
ГЛАВА 3
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ В XIX ВЕКЕ: ТРАНСФОРМАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ЗАПАДЕ И В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
Культ науки и национально- государственная парадигма (1848-1890)
Политический контекст историографии
Революции 1848-1849 годов не оказали такого влияния на общество и историографию, какое оказали Французская революция и Наполеоновская эпоха. Однако они являлись частью тех кардинальных перемен, которые случились в политическом, социальном и интеллектуальном климате Западного мира. Революции 1848 года, как и Французская революция, не привели к тому, на что надеялись их участники; во многом они закончились серьезным поражением. Они способствовали сохранению прежних структур, но одновременно с этим расчистили путь для важных реформ. В немецких, итальянских государствах и частях империи Габсбургов эти революции имели демократическую подоплеку, связанную с националистическими устремлениями: в Германии и Италии - для национального объединения, в Венгрии - для достижения независимости, в то время как во Франции, где национализм не был насущной проблемой, демократические интенции соединялись с демократическими. И всюду они терпели неудачу. К 1849 году рухнули мечты немецких и итальянских революционеров достичь объединения демократическими средствами; в Венгрии призванная правительством Габсбургов Русская армия положила кровавый конец венгерской автономии; во Франции национальная гвардия подавила Июньское восстание рабочих 1848 года, и классовые конфликты привели к диктатуре Наполеона III, установленной выборным путем. Менее впечатляющими были события в Великобритании, категорически отвергнувшей попытки чартистов добиться права голоса для рабочего класса.
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ...
139
Однако почти повсюду цели революционеров все-таки были достигнуты, хотя и частично. В 1848 году во Франции было установлено всеобщее избирательное право для мужчин, а в Великобритании в два приема и то не для всех - избирательными реформами 1867 и 1884 годов. В Италии, Австрии и Скандинавии избирательное право было ограниченным, в Пруссии и некоторых немецких государствах существовала цензовая сословная избирательная система, в 1871 году в Германской империи мужчины получили всеобщее избирательное право при выборах в Рейхстаг, однако полномочия последнего были ограничены. Женщины в Европе пока еще нигде не получили права голоса, хотя в Великобритании, Германии и Скандинавии движение за избирательные права женщин возникло в конце XIX века, а в Соединенных Штатах, где некоторые западные штаты к этому времени уже предоставили избирательные права женщинам, даже чуть раньше. Тем не менее, массовый электорат возник повсюду, а вместе с ним - массовые партии и массовая политическая пресса.
В 1870 году в Италии ив 1871 году в Германии достигло своей цели движение за национальное объединение, а в 1867 году свою автономию в рамках империи Габсбургов получила Венгрия. Но объединение Италии и Германии было достигнуто не парламентским путем, а, как заявил Отто Фон Бисмарк , «железом и кровью» в череде войн. И в Германии, и в Италии историки играли важную роль в мобилизации общественности на решение национальных задач. Многие из немецких историков, поддержавшие в 1848 году в качестве членов Франкфуртского парламента либеральные намерения, после отката революционного движения качнулись в сторону поддержки прусской монархии Гогенцоллернов. В условиях авторитарного режима они поступились своими либеральными принципами, однако, этот режим удовлетворил их политические устремления посредством национального объединения, осуществлением требуемых средним классом социально-экономических реформ и защитой их от революционной угрозы снизу1. Эти опасения породила Французская Революция и позже Парижская Коммуна 1871 года. Необычный баланс в охвостье Германии - без Австрии, но с польскими, датскими и французскими меньшинствами - объединивший автократию с ограниченным парламентаризмом, должен был оказать влияние на направленность исторических исследований в Германии, делавших, в отличие от более либеральных западных государств / обществ, сильный акцент на государстве.
1 Georg G. Iggers, The German Conception of History: The National Tradition of Historical Thought from Herder to the Present. Middletown, CT, 1983.
140
ГЛАВА 3
Социальный контекст историографии
Эти политические события следует рассматривать в контексте тех фундаментальных изменений, которые произошли в западных обществах, включая Соединенные Штаты, и в меньшей степени в Восточной Европе. Они были вызваны быстрыми темпами индустриализации после 1850 года, которая, в свою очередь, влияла на историческую мысль. На смену преобладавшему аграрному обществу пришло общество городское, появился индустриальный рабочий класс. Тем не менее, несмотря на то что этот процесс протекал быстро, следует подчеркнуть, что многое из прежнего порядка осталось неизменным. В политическом плане это означало, что новый массовый электорат уменьшил власть политических партий среднего класса и усилил не только социалистов, но и аграриев, группы мелких производителей и владельцев небольших магазинов, которые видели в экономической модернизации угрозу. Одним из косвенных последствий было то, что хотя евреи и были, в конце концов, эмансипированы (по крайней мере в Западной и Центральной Европе), в Германии, Австрии и Франции возник новый политический антисемитизм, поскольку евреи ассоциировались с новым обществом1.
Влияние технологической революции ощущалось в полном объеме. В начале 1848 года Карл Маркс и Фридрих Энгельс написали в «Коммунистическом манифесте»: «Буржуазия менее чем за сто лет своего классового господства создала более многочисленные и более грандиозные производительные силы, чем все предшествовавшие поколения, вместе взятые. Покорение сил природы, машинное производство, применение химии в промышленности и земледелии, пароходство, железные дороги, электрический телеграф, освоение для земледелия целых частей света, приспособление рек для судоходства, целые, словно вызванные из-под земли, массы населения, — какое из прежних столетий могло подозревать, что такие производительные силы дремлют в недрах общественного труда?»2. И это было только началом процесса, который ускорился во второй половине XIX века. И технологический прогресс был неотделим от прогресса научного. Романтизм в литературе и искусстве частично уступил место новому реализму, который, в свою очередь, с появлением индустриального общества с его конфликтами и лишениями, превратился в резкий на¬
1 Peter Pulzer, The Rise of Political Anti-Semitism in Germany and Austria. Cambridge, 1960; Sulamit Volkov, The Rise of Popular Antimodemism. Princeton, NJ, 1978; Georg G. Iggers, 'Academic Anti-Semitism in Germany 1870-1933: A Comparative Perspective', Tel Aviver Jahrbuch fur Deutsche Geschichte, 27 (1998), 473—490.
2 Karl Marx and Friedrich Engels, 'Manifesto of the Communist Party' // Roben C. Tucker, ed., The Marx-Engels Reader, 2nd ed. New York, 1978, 477, (рус. nep.: К. Маркс и Ф. Энгельс, Манифест Коммунистической партии // Сочинения. 2-е изд. Т. 4. С. 26).
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ...
141
турализм, сосредоточивший свое внимание на социальных диспропорциях современного общества.
Поворот к «научной» истории
В истории и историописании эти перемены привели к культу науки, который принимал разные формы, но который, как мы увидим, воспринял как должное идею прогрессивного характера истории и превосходства западной цивилизации над остальным миром. Историографии следовало стать «научной», однако было три доминирующие концепции научной истории, различавшиеся своей методологией. Все они заявляли о том, что освободились от философских и метафизических допущений прежней историографии и о своей строгой научности. И все же, как мы увидим, все они опирались на философские допущения без эмпирической верификации.
Позитивистская парадигма
Термин «позитивизм» обычно связывают с работой Огюста Конта1, который опирался на традицию, восходящую к французскому Просвещению и в некотором роде даже к Френсису Бэкону. В этом ключе история человечества изображалась как прогрессивный путь развития от суеверий, выраженных в различных религиозных формах, через стадию метафизики к современной «позитивной» науке, свободной от предрассудков религии и метафизики. Тем не менее, позитивизм Конта, провозглашенный вершиной интеллектуального развития, содержал в себе серьезные противоречия. Несмотря на его утверждение о том, что позитивная наука опирается на эмпирическую верификацию, никакой верификации для его системы предложено не было. На самом деле он глубоко разделял настроения католических мыслителей начала XIX века, которые резко выступали против Французской революции и Просвещения и хотели восстановить то, что они считали естественным состоянием общества - современную версию Средних веков2. Конт утверждал, что современный человек испытывает недостаток в неком общем философском учении; свобода мысли и исследования казалась ему болезнью современного мира. Однако сформулировать такое учение должна была скорее наука, нежели религия. На склоне лет он объявил позитивизм «религией человечества», а ученых - ее священниками. Позитивизм Конта имел ярко выра¬
1 Mary Pickering, Auguste Comte: An Intellectual Biography. Vol. 1. Cambridge, 1993; Mike Gane, Auguste Comte. London, 2006; Henri G. Gouhier, La Jeunesse d'Auguste Comte et la formation du positivisme, 3 vols. Paris, 1933-1941.
2 Cm.: Georg G. Iggers, The Cult of Authority: The Political Philosophy of the Saint-Simonians (The Hague, 1958); Robert Carlisle, Saint-Simonianism and the Doctrine of Hope. Baltimore, MD, 1987; Actualités du Saint-Simonisme. Paris, 2004.
142
ГЛАВА 3
женную консервативную подоплеку - он апеллировал к тем, кто хотел иметь научное мировоззрение, но отвергал либеральное и тем более демократическое общество.
Конт не написал никакой истории, и не было истории, которая была бы написана в таком ключе. Единственным историком, которого вообще относят к позитивистам, был Генри Томас Бокль, который в своей «Истории цивилизации в Англии» применил то, что он считал научным методом историописания. Для Бокля существовала только одна наука - естествознание. Для него «не могло быть никакой истории без естественных наук»1. История должна была использовать те же методы, что и естественные науки: начинать с эмпирических данных и через их анализ переходить к формулированию общих законов. Бокль был уверен, что «определенная тенденция развития цивилизации состоит в усилении нашей веры в универсальность порядка, метода и закона»2. В отличие от Конта, Бокль видел вершину истории в либеральных институтах современной Англии. Но в результате такого анализа все человеческое поведение, включая такие личные действия, как заключение брака, должны были быть поняты при помощи статистики, то есть как части коллективных феноменов. Сам он был самоучкой, хорошо начитанным дилетантом без университетского образования. Его вклад в историю состоит во включении в нарратив цивилизационных аспектов - науки, литературы и искусства. В центре внимания Бокля находилась национальная, а не западная или мировая история. После подготовки текста по истории Англии он хотел написать такие же национальные истории Франции, Испании и Шотландии, но умер, так и не успев осуществить задуманное. В Европе его влияние не было значительным частично потому, что он не внес никакого вклада в исторический метод. Но в Японии акцент Бокля на «коллективных феноменах» вдохновил целое поколение историков, заинтересовавшихся созданием истории «цивилизаций», или «цивилизационной истории» {ЬиптегБЬг), с помощью которой японцы надеялись реформировать свою историографическую традицию3.
Сходная позитивистская попытка была предпринята французским историком, профессором истории Ипполитом Тэном в его «Истории
1 Цит. по: Buckle, History of Civilization in England // The Varieties of History: Prom Voltaire to the Present. Cleveland, OH, 1956, 121.
2 Ibid., 125.
3 Труд Генри Бокля вместе с работой Франсуа Гизо был переведен на японский язык в 1880-е гг. Вскоре после этого он был переведен на китайский. См.: Okubo Toshiaki, Nihon kindai shigaku no seiritsu (The Establishment of Modem Japanese Historiography). Tokyo, 1988, 94-95; Ozawa Eiichi, Kindai Nihon shigaushi no kenkyu: Meiji hen (Study of the History of Modem Japanese Historiography: Meiji Period). Tokyo, 1968, 169-176; Hu Fengxiang and Zhang Wenjian, Zhongguo jindai shixue sichao yu liupai (Ideas and Schools in Modem Chinese Historiography). Shanghai, 1991,201-205.
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ. ..
143
английской литературы», в которой он применил понятия «race, milieu et moment» («народ, место и время»). Но они были слишком неопределенными, чтобы стать полезным аналитическим инструментарием. Тем не менее, идеи Тэна, наряду с его взглядом на историю Франции с явной критикой Французской революции и ее последствий, способствовало его победе в 1878 году на выборах во Французскую академию. В конечном счете, зарождающаяся в конце столетия наука социология отнеслась к его аналитическому подходу более серьезно, нежели историки.
Парадигма немецкой исторической школы
Совсем иной подход к исторической науке появился в Германии. В отличие от французов немецкие историки были профессионально образованными и являлись членами академического сообщества. Они не менее своих коллег-французов или Бокля настаивали на научности своего подхода к истории и называли свою дисциплину Geschichtswissenschaft (исторической наукой). Термин Wissenschaft (наука), однако, имеет в немецком языке несколько иное значение, нежели в английском или французском. Способ научного исследования и объяснения здесь отличается от того, что принято в естественных науках. Любая область исследования, в том числе гуманитарные науки и история, может быть научной, если следует определенным исследовательским процедурам. Поэтому гуманитарные науки, в том числе и история, могут быть научными, если они придерживаются четкой научной методологии. В обзорном эссе, опубликованном в 1861 году в Historische Zeitschrift, незадолго до этого основанном центральном журнале немецкого исторического сообщества, Иоганн Густав Дройзен, профессор истории в Берлине, открыто оспорил концепцию исторической науки Бокля1. Он утверждал, что в то время как естественные науки предполагают абсолютный детерминизм, история имеет дело с теми аспектами жизни, которые совсем не предопределены - со сферой человеческой свободы. Они требуют специальных методов, которые принимают во внимание смысл действий, которые, в свою очередь, не могут быть сведены ко всеобщим законам, но требуют понимания намерений, проявляющихся в отдельных событиях, личностях и институтах. Этот способ аргументации восходит к Леопольду фон Ранке. Суть такой науки заключается в строгой критике первоисточников, но не ограничивается ею.
Стиль Ранке, как мы уже видели, стали идентифицировать с его знаменитым утверждением о том, что задача историка состоит не в том, чтобы судить прошлое, а в том, чтобы «показать, каким оно бы¬
1 Droysen, 'Art and Method' // Stern, The Varieties of History, 137-144.
144
ГЛАВА 3
ло» (wie es eigentlich gewesen)\ Однако на английском языке слово Eige-nitich может означать как «фактически», так и «по существу». Поэтому за пределами Германии, особенно в Америке и во Франции, намерение Ранке часто понимали как желание показать то, что «фактически» случилось, то есть не выходить за пределы фактов1 2*. Таким образом, он рассматривался как позитивист не в том смысле, как ищущие обобщений Конт или Бокль, а как ограничивающий свое исследование объективной реконструкцией событий. В Г ермании же его идеи понимались как желание понять то, что случилось «по существу». И действительно отправной точкой исторических исследований должна быть строгая критика первоисточников. Но Ранке хорошо понимал то, что история не останавливается на фактах, что историю следует представить в виде повествования. Он, в частности, писал, что «история - это наука, заключающаяся в собирании, нахождении, проникновении; это искусство, потому что она воссоздает и изображает то, что она нашла и признала. Другие науки просто удовлетворены лишь регистрацией того, что было найдено. История же требует способности воссоздавать. И хотя история «должна опираться на действительность... являясь искусством, она связана с поэзией»3.
Но Ранке все-таки был убежден, что присутствующий в серьезном историческом исследовании элемент художественного воображения не мешает внимательной критике источников получить данные, на основании которых могут быть воссозданы корреспондирующиеся с реальностью нарративы. Он решил эту проблему, прибегнув к идеалистическому философскому, можно даже сказать, религиозному допущению, которое он не рассматривал как противоречащее его научному мировоззрению. Тем не менее, проблема перехода от фактов, установленных посредством критики источников, к историческому нарративу, привлекающему художественное творчество, оставалась. Ранке стремился решить эту проблему тем же способом, что и Вильгельм фон Гумбольт в его знаменитом эссе «О задаче историка». «Задача историка, - писал Гумбольт, - заключается в изображении происходившего...» «Событие, однако, - продолжал он, - лишь частично улавливается миром чувств; остальное необходимо достроить при помощи интуиции, умозаключения, догадки»4. Для Гумбольта мир лю¬
1 Leopold von Ranke, 'Introduction', Histories of Latin and Germanic Nations. 1824 // Georg G. Iggers and Konrad von Moltke, eds, Leopold von Ranke: The Theory and Practice of History. Indianapolis, IN, 1973, 137.
2 Cm.: Georg G. Iggers, 'The Image of Ranke in German and American Historical Thought', History and Theory, 2 (1962), 17-40.
* о сложностях перевода и толкования этого утверждения Ранке см.: С. Бенн. Одежды Клио. М., 2011, гл 1.
3 Leopold von Ranke, 'On the Character of Historical Science’ // Iggers, Moltke, Leopold von Ranke: The Theory and Practice of History, 33.
4 Von Humboldt, 'On the Historian's Task', ibid., 5 (рус. пер.: В. Гумбольдт. О задаче историка И Вильгельм фон Гумбольдт. Язык и философия культуры. М., 1985. С. 292).
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ...
145
дей был миром индивидуального, которое включало в себя как человеческие индивидуальности, так и крупные социальные институты. Каждое индивидуальное являлось проявлением единственной в своем роде идеи, укорененной в реальном мире, и все же вечной. Идеи, таким образом, были сугубо индивидуальными феноменами и не могли быть сведены к явным абстракциям. Ранке был уверен, что «мировая история не является хаосом», но что «есть силы, действительно животворящие, творческие силы, моральные силы», которые открываются нам, как только мы погружаемся в источники. Им нельзя дать определения или заключить в рамки абстрактных понятий, но их можно созерцать и наблюдать»1. Как мы уже отметили в предыдущей главе, главной моральной силой, «божественной мыслью», говоря словами Ранке, скрепляющей общество, для него было государство. Но абстрактных государств не существует. «Есть элемент, который превращает государство не в некую подкатегорию общих категорий, а в нечто живое, индивидуальность, уникум»2. Государство нуждается в расширении и сохранении себя в борьбе за власть. Тем не менее в этой борьбе и войне одерживает победу не просто сила, а скорее «подлинно моральная сила». Из этого следовал вывод о том, что либеральная концепция гражданского общества, которая признает нужды и устремления индивидов, при всем своем праве на существование должна быть подчинена власти государства. Благосостояние не является первичной государственной целью.
Концепция исторической науки Ранке стала центральной в так называемой Прусской школе, доминировавшей в немецких исторических исследованиях во второй половине XIX века3. Частично Школа состояла из учеников Ранке, таких как Генрих фон Зибель, частично из других ученых, таких как Г. Дройзен, которые, несмотря на свою преданность объединенной под эгидой Пруссии Германии, дистанцировались от декларируемого Ранке ценностного нейтралитета. Дрой- зену в своем Grundriss der Historik («Очерк истории», первое издание увидело свет в 1858 году), к которому и сегодня у немецких историков самое серьезное отношение4, гораздо больше, чем любому другому немецкому историку XIX века, удалось сформулировать связную теорию истории и исторического метода. Подчеркнув, что мы никогда не воспринимаем содержащиеся в источниках данные непосредственно, так как они требуют активной роли историка, призванного осуществить их реконструкцию, Дройзен пошел дальше Ранке. По Дрой-
1 Leopold von Ranke, 'The Great Powers' // Ibid., 100.
2 Leopold von Ranke, 'A Dialogue on Polities' // Ibid., 112.
3 Cm.: Iggers, The German Conception of History, глава 5, 'The High Point of Historical Optimism: The "Prussian School" ', 90-123; Robert Southard, Droysen and the Prussian School of History. Lexington, KY, 1995.
4 Jörn Rüsen, Begriffene Geschichte. Genesis und Begründung der Geschichtstheorie Johann Gustav Droysen. Paderborn, 1969.
146
ГЛАВА 3
зену, для исторического знания необходимо то, что он назвал «интерпретацией»1. Тем не менее, он, как и Ранке, был уверен в том, что погружение в источники приводит к истинному знанию о прошлом. Но ни он, ни Ранке не имели четкого метода достижения этого знания. Оба, в конечном счете, полагались на интуицию, которая для них возрождала прошлое таким, каким оно было на самом деле, несмотря на субъективность историка. В этом пункте оба они возвращались к метафизическим допущениям, которые они отказывались признавать таковыми. Как и Ранке, Дройзен был убежден в том, что в истории действуют моральные силы и что такими моральными силами {sittliche Machte) являются государства2. Осознание этого порядка достигалось не посредством анализа данных в ходе критики источников, а посредством процесса Verstehen (понимания). Понимание достигается не при помощи размышления в категориях абстрактной логики; оно привлекает, цитирую Дройзена, «всю духовно-физическую природу» исследователя. Оно было «подобно творческому акту, подобно искре, вспыхивающей между двумя наэлектризованными телами, подобно акту зачатия»3. Таким образом, историк произвольно осознает силы, которые создают моральный порядок универсума и общества. Хотя и Ранке, и Дройзен отказались от философии истории Гегеля как слишком догматичной и негибкой, они были согласны с тем, что основные институты общества, семья, гражданское общество, религия и государство создают этот порядок по мере возрастания.
Но было ли это на самом деле методологией? Хотя Ранке и вслед за ним Прусская школа утверждали, что их способ, заключающийся в критике источников, является научным, их доверие к интуиции сделало их восприимчивыми к идеологическим искажениям и появлению политических пристрастий. По сути, политическая философия Прусской школы, развитая из ранкеанских принципов, оправдывала экспансионистские устремления Германии в Европе, равно как и ее попытки превращения в мировую державу, пытающуюся навязать колониальным народам свой контроль. Заявляя о моральном характере государства, Дройзен утверждал, что власть {Macht) в отличие от силы {Gewalt)4, всегда этична. Таким образом, если «солдат ранит и убивает, опустошает и сжигает, потому что ему приказали сделать это, он действует не как человек, в соответствии со своими индивидуальными
1 Johann G. Droysen, ’Interpretation' // Peter Leyh, Historik: historisch-kritische Ausgabe. Stuttgart, 1977, 22, 169-216.
* Cm.: Iggers, The German Conception of History, 112-114; Günter Birtsch, Nation als sittliche Idee: der nationale Staatsbegriff in Geschichtsschreibung und Gedankenwelt. Göttingen, 1964.
3 Iggers, The German Conception of History, 111.
4 Более точно в семантическом отношении. - Herrschaft.
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ...
147
представлениями... Он делает это от имени, так сказать, высшего Эго. Человеку часто это может показаться трудным... Но, выполняя этот высший долг, он не должен мучиться муками совести»1. Это предвещало нацистскую этику.
Генрих фон Трейчке2, возглавивший кафедру в Берлинском университете после выхода на пенсию Ранке в 1873 году и ставший там сослуживцем Дройзена, рассуждал подобным же образом и даже с меньшей опорой на язык идеализма. Он писал, что «только в войне нация становится нацией» и что «без войны вообще не может быть никакого государства». Цивилизация не может существовать без масс, которые служат элитам и обеспечивают их досугом, позволяющим заниматься творческой деятельностью. Во время войны, советовал он, жизнь и собственность граждан должны уважаться, если только это не является помехой военным операциям, но это относилось к «цивилизованным», то есть к западным людям; законы военного времени не защищают варваров, особенно черных3.
Следующее поколение немецких историков, включая Макса Ленца и Эриха Маркса, призвало к возврату к предполагаемой объективности и ценностной нейтральности Ранке, но они были бескомпромиссными приверженцами консервативной точки зрения, считая Бисмарка образцом авторитарного лидера и используя концепцию Ранке о великих европейских державах на мировой арене для оправдания германского империализма4.
Тем не менее, мы должны отделять особенности понимания государства прусскими историками от той концепции исторической науки, в рамках которой существовало это понимание. Последняя позиционировала себя как альтернативу тому, что мы только что обозначили как позитивистский подход, делающий упор на генерализацию, приверженный во многих случаях количественным, статистическим методам; она рассматривала себя как подход, в центре внимания которого находятся проблемы различий и значений, что требует привлечения качественных методов. Мы не стали давать определения этому последнему направлению, которое часто обозначалось как историзм, позже историцизм. Мы постарались уйти от такого определения в контексте XIX века, потому что (в контексте XIX века) наполнение
' Ibid., 115.
2 Andreas Dorpalen, Heinrich von Treitschke. New Haven, CT, 1957.
3 Georg G. Iggers, 'Heinrich von Treitschke' // Hans-Ulrich Wehler, ed., Deutsche Historiker, vol. 2. Göttingen, 1972, 66-80.
4 Cm.: Wolfgang J. Mommsen, 'Ranke and the Neo-Rankean School in Imperial Germany: State-oriented Historiography as a Stabilizing Force' // Georg G. Iggers and James M. Powell, eds, Leopold von Ranke and the Shaping of the Historical Discipline. Syracuse, NY, 1990; Hans-Heinz Krill, Die Ranke-Renaissance: Max Lenz und Erich Mareks: Ein Beitrag zum historisch-politischen Denken in Deutschland 1880-1935. Berlin, 1962.
148
ГЛАВА 3
терминов «историзм» и «историцизм» менялось и, хотя иногда они использовались и раньше, только на рубеже XX века они стали употребляться именно в этом смысле1.
Немецкая историческая традиция, которую мы только что рассмотрели, с ее акцентом на государстве, сосредотачивалась в основном на военно-дипломатической истории как истории, которая творилась политическими лидерами и практически не уделяла внимания социальным, экономическим и культурным факторам. Были, однако, и исключения. Под влиянием индустриализации и возникновения радикального рабочего движения в Германии появилась так называемая «Историческая школа в политэкономии», самым заметным представителем которой был Густав фон Шмоллер2. Существование двух противоположных подходов к изучению социальных явлений в позитивизме и Исторической школе ясно проявилось в споре Шмоллера с австрийским экономистом Карлом Менгером, вспыхнувшем после нападок Менгера на немецкую историческую школу в политэкономии в своем труде «Ошибки историцизма в немецкой экономической науке». По Менгеру, экономика как наука должна в традиции Адама Смита и Давида Рикардо иметь дело с абстрактными моделями, универсальными настолько, чтобы можно было абстрагироваться от исторической и национальной специфики. Шмоллер был с этим не согласен, он полагал, что в разных исторических и национальных контекстах экономика будет функционировать по-разному, выделяя важную роль политических факторов и степени централизации государства.
Марксистская парадигма
Третья концепция исторической науки была сформулирована в рамках марксизма. Хотя зачастую марксизм считается четко сформулированной и систематической доктриной, труды Маркса и Энгельса были скорее доктринерскими, нежели систематическими, и содержали в себе большое количество противоречий. Поэтому в XX веке марксистская доктрина приняла разнообразные, часто противоречивые формы. Хотелось бы указать на два разных аспекта марксистского учения, которые трудно примирить друг с другом: первый представляет собой их совместную с Фридрихом Энгельсом материалистическую концепцию истории, которая имеет много общего с рассмотренным нами позитивизмом; второй связан с критикой позитивизма, разделяемой ими с немецкой исторической школой. Краткая версия первого изложена в предисловии к книге Маркса «К критике политэкономии». В ней он выразил представления, которых придерживался всю жизнь, начи¬
1 Georg G. Iggers, Historicism: The History and Meaning of the Term' // Journal of the History of Ideas, 56 (1995), 129-152.
2 Gustav Schmoller, The Economics of Gustav Schmoller / nep. W Abraham and H. Weingast. New York, 1942.
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ...
149
ная с «Немецкой идеологии» в 1845 году и до своей смерти в 1883-м. Так, он пишет, что «в общественном производстве своей жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их воли независящие, отношения - производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. Способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а наоборот, их общественное бытие определяет их сознание»1. Это ведет к жесткому детерминизму; людьми управляют непреодолимые законы развития. Подобно Боклю и позитивистам, Маркс измышляет законы исторического развития, которые управляют человечеством. И, подобно позитивистам, он видит прогресс в замене религии и метафизики позитивной наукой. Но в отличие от позитивистов движущая сила истории мыслится им как экономический, а не интеллектуальный феномен, и принимает форму классовой борьбы. В каждый период истории есть эксплуататоры и эксплуатируемые, а государство - это инструмент, при помощи которого первые контролируют и эксплуатируют последних. История мыслится как динамический процесс, направляемый развивающимися способами производства и вытекающими из них социальными конфликтами. Маркс и Энгельс проводят различие между утопическим и научным социализмом - последний вызван не набожными устремлениями действующих из лучших побуждений людей, а неизбежной силой экономического развития.
Тем не менее, есть и другая сторона марксистского сциентизма, которая в некотором роде не согласуется с его жестким экономическим детерминизмом. Очень рано, еще в «Тезисах о Фейербахе» Маркс видит главную ошибку материалистических доктрин того времени в том, что «предмет, действительность, чувственность берется только в форме объекта, или в форме созерцания, а не как человеческая чувственная деятельность»2. И знание - это всегда социальный акт, который совершается в конкретном социальном контексте и который влияет на направленность развития. Поэтому достижение комму¬
1 Karl Marx, 'Préfacé', перепечатано из: A Contribution to a Critique of Political Economy (1859) // Tucker, Marx-Engels Reader, 4. (рус. пер.: Карл Маркс. К критике политической экономии. Предисловие // Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2-е изд. Т.1.С.7).
2 Karl Marx, 'Theses on Feuerbach' // ibid., 143-144 (рус. пер.: Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Там же. T. 3. С. 1).
150
ГЛАВА 3
низма - это не просто результат действия безличных сил, а результат действия революционного класса. Рассмотрение истории как продолжающей свое движение к разумному обществу предполагает основательную критику позитивистской науки и экономики. Так, в «Капитале» он критикует классическую экономику по двум основаниям: капитализм должен потерпеть поражение вследствие свойственных ему противоречий, а также потому что ставит экономические ценности выше человеческих1.
Общие черты трех парадигм
Несмотря на фундаментальные различия между рассмотренными нами концепциями исторической науки, в позитивизме, исторической школе и марксизме существует и ряд общих для них черт, которые не могут быть объяснены с научной точки зрения. Все они верили в прогресс, хотя историческая школа и избегала этого термина и даже, как в случае с Ранке, выступала против него. С формулировкой Дройзена были согласны представители всех трех направлений, а именно: история - это единый процесс, достигающий своей цели на современном Западе. Дройзен проводил различие между трудами (Geschäfte), относящимися к частной сфере, и Историей (Geschichte), которая должна писаться с заглавной буквы - той, которая имеет отношение к политической сфере. Народы и нации бывают исторические и неисторические и, стало быть, не имеющие значения. Даже Ранке, который в другом своем известном изречении приводил доводы против формальной идеи прогресса, заявляя, что «каждая эпоха непосредственно обращена к Богу»2, на деле придерживался мысли о том, что Китай и Индия действительно обладают «легендарной древностью», но не историей3. По Боклю, Дройзену и Марксу, история, в смысле мировой истории, ограничивалась Западом. Для Дройзена и Трейчке есть люди, которые значимы для мировой истории, и есть массы, которые такого значения не имеют; по Марксу, это классы - для современной эпохи буржуазия и пролетариат, - которым принадлежит активная историческая роль, в то время как французское крестьянство, не игравшее с его точки зрения никакой роли в современной истории, он сравнивал с «мешком картошки»4. И все три направления оправдывали экспансию Запада в не западный мир и его эксплуатацию. Применительно к Азии Маркс рассуждал
1 Karl Marx, 'The Fetishism of Commodities and the Secret Thereof, from Capital. Vol. 1 // Ibid., 319-329. (рус. пер.: К Маркс. Капитал // Там же. Т. 6).
2 Leopold von Ranke, 'On Progress in History' (1854) // Iggers and Moltke, Leopold von Ranke: The Theory and Practice of History, 53.
3 Leopold von Ranke, 'On the Character of Historical Science' // Ibid., 46.
4 Karl Marx, The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte // Tucker, Marx-Engels Reader, 608 (рус. пер.: Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Т. 16. С. 374-376.)
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ...
151
об особом, отличном от Запада «азиатском способе производства», который остался неизменным и поэтому не сыграл никакой роли в историческом развитии последних трех тысячелетий. В ряде статей, посвященных восстанию сипаев в Индии , Маркс указал на эксплуататорский характер британского правления, но счел его необходимой стадией перехода Индии на рельсы современного мира. В рамках этого мира Индия будет развиваться по законам капитализма, который в глобальном масштабе в конечном итоге перейдет в свою противоположность - коммунистическое, пост-капиталистическое общество1. Кроме того, Маркс, Дрой- зен и Трейчке разделяли веру немецкой школы в цивилизаторскую миссию Германии по отношению к народам Восточной Европы.
Профессионализация исторических исследований
Однако в претензии всех трех направлений на то, что они «подняли историю до уровня науки», если говорить словами Дройзена, существует изначальный изъян2. Все они утверждали, что очистили историю от метафизики, но при этом оперировали метафизическими допущениями. В случае с немецкой исторической школой, которая имела откровенно теистический характер, это было очевидно. Но Маркс, несмотря на провозглашаемый им атеизм, был с глубоко зависим от иудео-христианской теологии, хотя и отрицал это. Тем не менее, ему было свойственно крайне телеологическое видение морального порядка, который, правда, все еще находился в процессе становления, но который был уже совсем близко. В «обществе, в котором свободное развитие каждого является условием свободного развития всех», не будет места и социальным конфликтам3.
Все три парадигмы считали себя научными, но на деле ни одна из них таковой не являлась. Все базировались на метафизических допущениях, которые они таковыми не считали, но которые не поддавались эмпирической верификации. В это время исторические исследования становились все более профессиональными и сосредотачивались в университетах или научно-исследовательских учреждениях. До XIX века история писалась мужчинами и в меньшей степени женщинами, писательницами, часто имевшими опыт участия в общественной жизни, но редко связанными с университетами за пределами Германии и Шотландии. Как мы уже говорили, все изменилось с основанием в 1810 году Берлинского университета, соединившего
1 Karl Marx, The British Rule in India' // Ibid., 653-664. (русск. пер- Маркс К. Британское владычество в Индии // Там же. Т. 9.
2 Johann Droysen, 'Erhebung der Geschichte zum Rang einer Wissenschaft', Historik, 451—469; это обзор Дройзеном книги Г. Т. Бокля Civilization in England. Vol. 1.
3 Karl Marx and Friedrich Engels, 'Manifesto of the Communist Party' // Tucker, Marx-Engels Reader, 491 {рус. пер.: К. Маркс, Ф. Энгельс. Манифест Коммунистической партии // Там же. Т. 4).
152
ГЛАВА 3
обучение с исследованием. В определенной мере такая практика уже имела место в Гёттингенском университете, начиная с его основания в 1737 году, но тот способ написания и изучения истории, который бы принят в Берлинском университете, вскоре стал образцом для университетов сначала по всей Германии, а затем и во всем мире. В профессиональной историографии лидирующие позиции занимала именно вторая парадигма той самой немецкой исторической школы, хотя в каждой стране за пределами Германии она подверглась изменениям, отражающим различные национальные традиции и условия. История впервые стала академической дисциплиной. Хотя историки разводили концепцию исторической науки от других областей научного знания, прежде всего естествознания, они, тем не менее, восприняли ту институциональную структуру, в которой существовало последнее. Быть историком означало получение широкого образования, сдачу экзаменов, присуждение степеней, то есть многое из того, что было свойственно ученым других наук. Появились профессиональные ассоциации и профессиональные издания, создавая условия для возникновения сообщества ученых. Возник резкий водораздел между профессиональным историком и историком-любителем, и только первый считался серьезным ученым. Исторические исследования все больше сосредотачивались в университетах.
Тем не менее, с самого начала существовало острое противоречие между научными идеалами историка и его политическими пристрастиями. Я намеренно говорю «его», потому что женщины были фактически исключены из этой профессии. Ранее это тоже имело место, но не до такой степени. Женщины-историки были редкостью, но они были1. (Мы уже упоминали Кэтрин Маколей, которая в XVIII веке являлась либеральным критиком «Истории Англии» Дэвида Юма и в этом качестве имела широкий круг читателей.) Националистическая история также не ограничивалась Германией. Мы уже указывали на тесную связь национализма и крупных научных проектов по собиранию и изданию средневековых источников, таких как Monutnenta Germaniae Historica, запущенноч в 1819 году; в скором времени подобные проекты стали реализовываться и в других странах. Этот проект с центром в Мюнхене не был напрямую связан с университетами, но к нему оказались привлечены профессиональные историки. Прием на работу в университет предполагал определенный отбор, который влиял на политическую ориентацию исто¬
1 06 HCTOpHKax-aceHmHHax cm.: Natalie Z. Davis, 'History's Two Bodies' // American Historical Review, 93:1. February, 1988, 1-30 // Idem., 'Gender and Genre: Women as Historical Writers, 1400-1820' // Patricia Labalme, ed., Beyond Their Sex: Learned Women of the European Past New York, 1980; Joan W. Scott, 'American Women Historians, 1884-1984', Gender and the Politics of History. New York, 1988, 178-198.
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ...
153
риков1, даже там, где они могли писать и изучать относительно независимо от прямого государственного вмешательства. Определенные группы лиц просто запрещалось назначать на университетские должности, например уже упомянутых нами женщин. В течение долгого времени такой возможности были лишены и евреи, если они не были обращены в другую веру, хотя в конце столетия, когда религиозный антииудаизм превратился в расовый антисемитизм, обращения в другую веру было уже просто не достаточно2. В протестантских университетах Германии не было места и для католиков. Прием историков на работу также означал высокую степень политического конформизма3 - хотя вплоть до 1848 года значительное число историков поддерживало либеральные реформы, - который играл важную роль в пропаганде идеи национального единства, анахроническом поиске его истоков в средневековом прошлом или раннем новом времени, как это делали Дройзен и Зибель, и создании таким образом национальной истории.
Интересно, что система современных университетов по образцу Берлинского университета сначала сформировалась в Г ермании, а не в таких странах, как Англия и Соединенные Штаты, которые гораздо дальше продвинулись по пути политической и экономической модернизации и где система современного, ориентированного на исследование университета немецкого образца была введена довольно поздно и только частично. Целью реформирования немецкого университета была не трансляция гуманитарного образования, что являлось задачей академических средних школ, прежде всего гуманистической Gymnasium, а обучение студентов проведению исследования. Лекция, до XIX века бывшая важной формой занятий в немецких университетах, была дополнена исследовательским семинаром. Начиная с середины XIX века берлинская модель была повсеместно принята в немецко- говорящих университетах, а вскоре после этого и за пределами Германии. Во многих европейских странах, Соединенных Штатах и Японии появились исторические журналы, которые, претендуя на статус профессиональных, ориентировались в качестве образца на основанный в 1859 году и редактируемый Генрихом фон Зибелем Historische Zeitschrift. В 1876 году во Франции был основан Revue Historique, в 1884 году - Rivista Storica Italiana в Италии, в 1886 году - English Historical Review в Англии, в 1889 году - Shigaku zasshi («Историче¬
1 О подборе кадров для германской профессиональной истории см.: Wolfgang Weber, Priester der Klio: Historisch-sozialwissenschaftliche Studien zu Herkunft und Karriere deutscher Historiker und zur Geschichte der Geschichtswissenschaft 1800-1970. Frankfurt am Main, 1984.
2 Iggers, 'Académie Anti-Semitism in Germany 1870-1933*.
3 Weber, Priester der Klio und Geschichte der Europäischen Universität. Stuttgart, 2002; Fritz Ringer, The Decline of the German Mandarins: The German Académie Community, 1890-1933. Middletown, CT, 1990.
154
ГЛАВА 3
ский журнал») в Японии и в 1895 году - American Historical Review. Датский Historisk Tidsskrift появился еще в 1840 году . В последней трети XIX века множество исторических журналов появилось во всех юго-восточных странах, а также в Венгрии, Польше и России. Одновременно с этим изменилось и преподавание истории во всех западных странах, включая Латинскую Америку и Японию, куда в 1880-е гг. молодой немец Людвиг Рисе, получивший образование в ранкеанской парадигме, был приглашен в Токийский университет для того, чтобы основать там исторический факультет1. В 1868 г. в Париже была основана Ecole Pratique des Hautes Etudes, где в преподавании истории стал использоваться метод семинарских занятий. После поражения Франции во Франко-прусской войне 1870-1871 гг. была полностью преобразована французская университетская система, получившая сильную исследовательскую направленность2. Нечто подобное, хотя и в меньшей степени, случилось и в Соединенных Штатах3. Прежде целью американских колледжей, как и в английских и шотландских университетах, была трансляция гуманитарного образования. В 1876 году в незадолго до этого основанном и имевшем исследовательскую направленность Университете Джона Хопкинса в Балтиморе была введена первая программа исторической специализации по немецкому образцу, по окончании которой можно было получить степень доктора философии. Вскоре после этого подобные программы появились в ведущих частных и государственных американских университетах Среднего Запада. Подобная трансформация высшего образования - с выраженным намерением содействовать национальному строительству - произошла во всей Юго-Восточной Европе, начиная с Греции4. К 1880-м гг. профессиональные ассоциации историков были созданы во всех западных странах и в Японии.
Новым историческим профессиям были свойственны главным образом две особенности: они имели сильную националистическую направленность и в основном сосредотачивались на политике государственного уровня, дипломатии, вооруженных силах, оставляя за
Historische Zeitschrift (нем.) - «Исторический журнал», Revue Historique (фр.) - «Историческое обозрение журнал». Rivista Storica Italiana (ит.) - «Итальянский исторический журнал», English Historical Review (англ.) - «Английский историческое обозрение», American Historical Review (англ.) - «Американское историческое обозрение», Historisk Tidsskrift (дат.) - «Исторический журнал».
1 Margaret Mehl, History and the State in Nineteenth-Century Japan. New York, 1998, 95-107.
2 William R. Keylor, Academe and Community: The Foundation of the French Historical Profession. Cambridge, MA, 1975.
3 Peter Novick, That Noble Dream: The 'Objectivity Question' and the American Historical Profession. Cambridge, MA, 1988.
4 Effi Gazi, Scientific National History: The Greek Case in Comparative Perspective. New York, 2000.
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ...
155
пределами внимания социокультурную историю. Ранке справедливо рассматривал нацию как основную европейскую единицу своего времени, но он все-таки писал историю таких не немецких государств, как Франция и Великобритания. В этом смысле он оставался европейским историком. Но пришедшие за ним прусские историки, в том числе его ученики, например Генрих фон Зибель, критиковали его за недостаточно сильный акцент на национальном единстве и особенно за его требование к историку быть беспристрастным. Однако «беспристрастность», которую имел в виду Ранке, вовсе не была ценностнонейтральной. Он придерживался мысли о том, что историк, относящийся к истории беспристрастно, отвергает как реакционные силы, желающие возвращения к прежнему режиму, так и радикальные, призывающие к либерально-демократическим реформам1 2, и тем самым, как ранее это сделал Эдмунд Бёрк, признает консервативный по своей сути статус-кво в качестве результата действия исторических сил. Зибель же, наряду с приверженностью критике источников, утверждал, что «каждый историк, имеющий хоть какое-то значение в нашей литературе, обладал определенными пристрастиями. Существовали верующие и атеисты, протестанты и католики, либералы и консерваторы, историки всех типов партий, но никогда не было объективных, беспристрастных историков, лишенных крови и нервов»“.
В то время было написано всего несколько общеевропейских историй и ни одной всемирной. Даже в Латинской Америке писались только национальные истории, и не было ни одной истории всего этого континента. В конце своей жизни, будучи восьмидесятилетним человеком, Ранке приступил, наконец, к написанию всемирной истории, которую он всегда хотел написать, но это была история только европейского мира с его древним средиземноморским происхождением.
Ранке часто неправильно понимали за пределами Германии, где его изречение “vw'e es eigentlich gewesen” было оторвано от своего теоретического базиса. В 1885 году, за год до его смерти, Американская историческая ассоциация избрала его первым почетным членом, назвав «отцом исторической науки». С этого времени Ранке превратился в позитивиста, который, однако, имел мало общего с позитивизмом Конта или Бок ля. Так, Герберт Бакстер Адамс из Университета Джона Хопкинса написал: «Ранке решил строго придерживаться исторических фактов, не читать никаких проповедей, не проповедовать никакой морали, не приукрашивать никаких историй, а говорить простую
1 'Über die Verwandtschaft und den Unterschied der Historie und der Politik' - инаугурационная лекция Ранке как доктора-профессора (Ordinarius), прочитанная в Берлинском университете в 1836 году, переведенная с латыни: Leopold von Ranke, Sämtliche Werke. Leipzig, 1868-1890. Vol. 24, 280-293.
2 Цит. по: Iggers, The German Conception of History, 117.
156
ГЛАВА 3
историческую правду». Эфраим Эмертон из Гарвардского университета счел Ранке основателем «учения об истинном историческом методе» и прокомментировал: «Если предстоит выбор между исторической школой, главной особенностью которой является моральная сила, и той, которая опирается на максимально возможное количество зафиксированных фактов, мы не должны долго колебаться... Великолепие уступило место обучению, и весь мир сегодня пожинает его плоды»1 2. Ранке, таким образом, превратился в узкого специалиста, хотя он отказывался писать для специалистов и всегда предпочитал обращаться к широкой публике.
Однако не все исторические труды вписывались в эти три парадигмы. В «Краткой истории английского народа» Джон Ричард Грин утверждал, что в истории Англии следует принять во внимание действия анонимных масс, которыми пренебрегали во всех предшествующих национальных историях. Были и важные работы по культурной истории, которая отказывалась от доминировавшей тогда сосредоточенности на политике. Следует упомянуть две важные работы: одна из них - «Древний город» Нюма Дени Фюстеля де Куланжа, в которой широко представлена культура древнегреческих городов, культура в смысле образа жизни и верований, в которой ведущую роль играет религия. Но, возможно, еще более значимой является книга Якоба Букхарда «Культура итальянского Ренессанса»2. Книга задумывалась не как сугубо научная, а как художественная работа, реконструирующая мировоззрение эпохи, используя в качестве источников произведения литературы и искусства. Его главный тезис состоял в том, что на смену средневековой культуре, в рамках которой человек всегда был частью корпорации, пришло новое мировоззрение, позволившее людям выразить и реализовать свою индивидуальность. Это была попытка создать всестороннюю историю эпохи, представив ее не в виде нарратива о политических событиях, а «в виде произведения искусства», в котором реализовывалось новое мировоззрение. В этой, как и в других своих работах, Буркхард сознательно нарушил теоретикометодологические положения немецкой исторической школы. Будучи швейцарцем, часть своего образования он получил в Берлинском университете, где, прежде чем возвратиться в родной Базель, учился у Ранке. Поразительно то, что, несмотря на его новую ориентацию, после ухода Ранке сначала ему, а не Трейчке предложили возглавить
1 IJht. no: Iggers, 'The Image of Ranks in German and American Historical Thought', 21-22.
2 Cm.: Felix Gilbert, History, Politics and Culture: Reflections on Ranke and Burckhardt. Princeton, NJ, 1990; John R. Hinde, Jacob Burckhardt: The Crisis of Modernity. Montreal, 2000; Lionel Gossman, Basel in the Age of Burckhardt. Chicago, IL, 2000.
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ...
157
кафедру в Берлине. Возникает ощущение, что его решение отклонить это предложение во многом объясняется его видением развития Германия после создания в 1871 году Бисмарком Германской империи. Он критиковал новое государство не с демократических, а с консервативных позиций, потому что боялся появившегося после объединения Германии массового общества. Это заставило его подвергнуть сомнению основные философские постулаты большей части историографии того времени. Он решительно отказался от идеи прогресса и идеи единства истории. Тем самым он отказался и от самой философии истории. Его базельский коллега Фридрих Ницше в это же время написал направленное против историков полемическое эссе («О пользе и вреде истории для жизни», в котором совершенно не понял то, чем занимались профессиональные историки. Он обвинил их в уединении в башне из слоновой кости и не понял степени их политической ангажированности (несмотря на заявляемую ими объективность), искажающей прошлое в угоду идеологии.
Но историю все больше и больше продолжали писать и читать и за пределами академического сообщества. Для создания идеального образа немецкой нации два немецких писателя соединили историческое исследование с художественной литературой. Являясь одновременно историками и романистами, они сумели привлечь огромное число немецких читателей и извлечь выгоду из немецкого национализма. Густав Фрейтаг в своей работе «Картины из немецкого прошлого», задавшись целью описать немецкий национальный характер, транслируемый сквозь века, в популярной форме пересказал немецкую историю, начиная с тевтонских времен. Фрейтаг чувствовал себя обязанным английским историческим романистам, особенно Вальтеру Скотту и Чарльзу Диккенсу. В более поздней работе «Предки» Фрейтаг нарисовал воображаемую историю одной семьи, начиная с четвертого века и до его собственного времени. Но, вероятно, самой известной и больше всего переведенной на другие языки оказалась его новелла «Дебет и кредит», в которой он прославлял надежность и серьезность немецких торговцев, противопоставляя их со знаком минус качествам торговцев-евреев. Работая в аналогичном националистическом ключе, сумел привлечь к себе широкую публику и Феликс Дан в своем отчасти историческом, но в большей степени художественном романе «Битва за Рим», освещающем события, произошедшие во времена великого переселения народов.
158
ГЛАВА 3
Кризис конфуцианской историографии и возникновение современной исторической профессии в Восточной Азии
Для азиатской истории и историографии XIX века было характерно резкое увеличение контактов между Азией и Западом. Однако это было не первое появление европейцев в этом регионе, который они назвали Дальним Востоком. На протяжении XVI и XVII столетий иезуиты расширяли свою миссионерскую деятельность в Азии. Живя и работая в Восточной Азии около ста лет, иезуиты отправляли назад в Европу сведения, что называется, из первых рук, о таинственных державах Востока, производя сильное впечатление и вызывая восхищение даже у таких интеллектуалов, как Вольтер и Лейбниц. В свою очередь, они знакомили азиатов с европейскими достижениями в области математики и астрономии. В результате возникло предположение, что принесенное иезуитскими миссионерами научное знание и побудило китайцев к занятию строгой наукой, примером чему может служить феномен «доказательного знания»1. Однако, несмотря на влияние иезуитов, каким бы оно ни было, к началу XVIII века, Китай и Япония прочно изолировались от внешнего мира (во Вьетнаме запрет на христианство был введен даже несколькими десятилетиями раньше). И они сделали это более решительно, чем прежде, - японцы довольно точно назвали эту политику яакоки, то есть «страна на замке».
Восприятие западного влияния
Но изоляция не была непроницаемой. Например, Токугавский сё- гунат в Японии предоставил ограниченные торговые права китайским и голландским торговцам; благодаря последним европейское знание продолжало проникать в страну под названием Rangaku (голландские науки). Rangaku подпитывало интерес к европейскому языку и культуре среди японских студентов, из среды которых в Японии появилось первое поколение «западных экспертов», таких как Мицукури Гэмпо и Нисимура Сигэки , которые в последние годы периода Токугавы * *’ Benjamin Elman, From Philosophy to Philology: Intellectual and Social Aspects of Change in Late Imperial China. Cambridge. MA, 1984, 116-122; Joanna Walcy- Cohen, 'China and Western Technology in the Late Eighteenth Century', American Historical Review, 98:5 (1993), 1525-1544, особ. 1534.
* Мицукури Гэмпо - выдающийся ученый и врач; Нисимура Сигэки - видный ученый и представитель общественно-политической мысли Японии периода реформ Мейдзи.
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ...
159
либо переводили, либо писали истории Запада1. В Китае начиная с XVII века португальским колонистам удалось сохранить Масау, небольшой рыбацкий город, хотя его роль в содействии культурному обмену выглядит совсем незначительной. Тем не менее, с начала XIX века западные миссионеры снова появились в Китае. Изучив китайский язык, такие ученые, как Карл Ф. А.Гуцлафф и Элайджа К. Бриджмен, пытались рассказывать китайцам об изменениях в мире за пределами Китая, расширяя, таким образом, мировоззренческие горизонты последних.
Наряду с этой миссионерской работой присутствовала и европейская экономическая экспансия. Примерно в то же самое время, когда иезуиты появились в Азии, голландцы и португальцы, наладившие торговлю на большие расстоянии в Азии, также достигли Китая и основали здесь свои базы. Их примеру последовали англичане, и на протяжении XVIII века английское правительство неоднократно обращалось к императору Цяньлун из династии Цин с просьбой установить торговые отношения, но напрасно. Хотя китайский император оставался непреклонен к английским запросам, его подчиненные все больше приобщались к курению опиума, который импортировался из Индии, недавно приобретенной английской колонии, где он выращивался в больших количествах. В XIX веке это начало перевешивать торговый баланс в пользу англичан - их купцы не только восполнили свой торговый дефицит с Китаем, но и вынудили китайцев впервые платить за их товары, а именно опиум, серебром. Мир действительно менялся, и это изменение не осталось в Китае совершенно незамеченным. Гун Цзы-чжэнь and Вэй Юань, два выдающихся писателя своего времени, выразили в своих трудах озабоченность по поводу западного влияния и размышляли о возможностях ослабления его «вредного» воздействия. Они заново подняли вопрос о необходимости развивать знания об искусстве государственного управления - мысль, которая довлела в начале правления династии Цин - и возродили интерес к древней истории, сформированный школой «доказательного знания», надеясь посредством этого укрепить границы. Однако их идеи по поводу истории и подходы к ней заметно отличались от тех, которые исповедовали ученые, придерживавшиеся идеи доказательности знания. Например, по сравнению с интересом ученых «доказательного знания» к реконструкции отношение Гуна и Вэя к функции исторического исследования носило более теоретико-умозрительный характер. В надежде на упорядочивание современного мира и управление его развитием они поставили своей основной целью не реконструкцию прошлого, как это пытались делать их предшественники, а выявление
1 Okubo Toshiaki, Nihon kindai shigakusbi (История современной японской историографии). Tokyo, 1940, 161-222; Sakai Saburo, Nihon seiyo shigaku hattsushi («История развития западной историографии в Японии»). Tokyo, 1969, 44—47.
160
ГЛАВА 3
общих законов посредством изучения древней истории или периода Конфуция, то есть до правления династии Хань. Дистанцирование Гуна и Вэя как интеллектуальных лидеров своего времени от интереса к доказательному историческому знанию было признаком того, что доказательное знание как интеллектуальное движение переживало в XIX веке в Китае свой упадок. Культурный климат и в самом деле изменился, поскольку в годы своей молодости Гун был обучен доказательному знанию своим дедушкой Дуань Юйцаем, впоследствии известным ученым, придерживавшимся тезиса о доказательности знания.
Упадок указанного тезиса положил конец проекту историзации классического образования, начатому рядом ученых этого направления. Но интерес к истории сохранился. Гун и Вэй повлияли на китайское историческое мышление и историописание конца XIX - начала XX века в двух аспектах. Один из них заключался в твердой убежденности в релевантности конфуцианского учения, что на практике проявилось в постоянных усилиях по поиску в конфуцианской традиции полезных элементов, которые помогут лучше понять и справиться с переменами. Другой заключался в устойчивом интересе к историческому исследованию, что отражало не только остаточное влияние доказательного знания, но и продолжало традицию рассмотрения истории как зеркала или кладези мудрости, помогающей решить современные проблемы. Хотя казалось, что Гун и Вэй мыслили традиционно, их представления об истории свидетельствовали о разноплановых и заметных переменах. Опираясь на интерпретации конфуцианской классики Школой новых текстов, они привлекли внимание к наивной интерпретации Конфуцием древней культуры (в частности, к пересмотру им «Анналов весны и осени»), в которой, как были уверены Гун и Вэй, содержалась конфуцианская теория исторического развития. Эта теория, кратко называемая теорией трех периодов (¿атЫ .у/шо), казалась циклическим пониманием исторического развития. Однако, поскольку в теории разъяснялось, что время от времени история испытывает эпохальные перемены, Гун и Вэй утверждали, что она полезна и соответствует их времени, потому что Китай переживает именно такой момент. Таким образом, нельзя сказать, что китайцы не замечали экспансии западных держав и были к ней безразличны. На протяжении почти всего XIX века было создано много работ по истории, написанных, на первый взгляд, в соответствии с традицией. Но были заметны и очевидные изменения как в жанрах, так и в исследовательских областях. Например, быстрое распространение исследований по исторической географии и проблеме границ способствовало развитию доказательного подхода к эмпирическому знанию. Но его 11 On-cho Ng and O. Edward Wang, Mirroring the Past: The Writing and Use of History in Imperial China. Honolulu, 2005, 250-258.
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ...
161
быстрый рост в то время отражал и растущее беспокойство по поводу посягательства иностранных государств на китайские границы, России на севере и Англии и Франции на юге1.
Хотя Гун Цзы-Чжэнь и Юань Вэй, так же как сторонники изучения границ, предвидели необходимость изменений для китайцев, они, вероятно, не ожидали, что это случится так скоро. Гун умер в годы Опиумной войны (1839-1842), но Вэй реально участвовал в войне и вследствие этого стал очевидцем поражения Китая. Это поражение окончательно распахнуло двери Китая для Запада. Увидев военное превосходство Запада, Вэй призвал китайцев учиться у Запада; говоря его словами, «узнать о военном искусстве варваров для того, чтобы держать их под контролем» (5/2гу/ гЫуг). Он воплотил это на практике, описав историю Опиумной войны, а в другой работе воззвал к памяти об успешных мероприятиях династии Цинь в самом начале ее правления по укреплению береговой линии Китая посредством аннексии таких островов как Тайвань. Гораздо более значимой оказалась приписываемая Вэю работа Haiguo («Иллюстрированное описание заморских стран»), что было первой, хотя и не единственной попыткой китайских историков того времени написать всемирную историю1 2. Также заслуживает внимание тот факт, что эта работа была написана в виде сборника трактатов. Это говорит о том, что вне официальной историографии все больше частных исторических трудов писалось не в жанре анналов или биографии, а в других жанрах, среди которых явными фаворитами являлись трактат/монография (гЫ) и последовательный нарратив, изобретенный Юань Шу. Эти подвижки свидетельствовали о медленных, но все-таки существенных изменениях в представлениях китайцев об истории и в их мировоззрении; негативное отношение к аннало-биографическому жанру росло одновременно с упадком и прекращением традиционной задачи изображения в исторических трудах политической лестницы и легитимности. Появление в это время переведенных миссионерами западных работ также способствовало зарождению интереса к нарративной истории, поскольку большинство западных историй было написано в жанре последовательного нарратива. Однако, несмотря на существенное расширение мировоззрения, «Заморские страны», как и другие подобные работы, не являлись вызовом синоцентристскому китайскому мировоззрению. Эти обзоры мировой истории, к примеру, не включали Китай, что заставляет предположить, что китайцы еще не рассматри¬
1 Ни Fengxiang and Zhang Wenjian, Zhongguo jindai shixue sichao yu liupai («Тенденции и школы в современной китайской историографии»). Shanghai, 1991, 34-90.
2 Jane Kate Leonard, Wei Yuan and China's Rediscovery of the Maritime World. Cambridge, MA, 1984; Q. Edward Wang, 'World History in Traditional China', Storia della Storiografia, 35 (1999), 83-96.
63ак. П83
162
ГЛАВА 3
вали свою страну в одном ряду с другими нациями в мире. В итоге, хотя Вэй Юань пропагандировал и использовал конфуцианскую теорию для того, чтобы разъяснить необходимость познания внешнего мира, он и его коллеги продолжали рассматривать этот мир как «внешний».
Цивилизация и история: новое мировидение
Совсем другое впечатление «Заморские страны» произвели на Японию. Наблюдая за поражением Китая в Опиумной войне с близкого расстояния, японцы озаботились своими отношениями с Китаем перед лицом расширяющегося мира и проявили больше активности по приспособлению к нему. Несмотря на то что такие китайские книги, как «Заморские страны», снабдили японцев необходимой информацией о (западном) мире, вооруженные знанием Яа^аки японцы быстро обнаружили их остаточный синоцентризм и фактические ошибки1. Их собственное представление о всемирной истории, отраженное в таких книгах, как Вапкоки йМЫ («Записки о всемирной истории») Окамото Кансукэ, вписывало туда и Японию, указывая на желание видеть свою страну в новом мире в сообществе наций.
Действительно, после падения Токугавского сёгуната в Японии периода Мейдзи (1868-1912) сформировалось новое мировидение. Особо показательными были предпринятые в этом направлении шаги правительства Мэйдзи. Вскоре после своего утверждения новое правительство отправило на Запад официальную делегацию, надеясь таким образом приобрести непосредственное представление о западной культуре, политике и обществе, а также прозондировать почву об условиях изменения неравных соглашений, подписанных в период Токугавского сёгуната с западными державами в прежние десятилетия. Это двухлетняя поездка, прерванная внутренними политическим разногласиями, заставила многих японцев прийти к выводу о том, что для присоединения к миру во главе с Западом им необходимо разорвать свои культурные связи с Китаем и вообще с Азией и приобщаться к «цивилизации» и «Просвещению» по западной модели.
Эта вестернизация привела к заметным изменениям в историческом мышлении, лучше всего проявившимся в работе Фукудзава Юкити «Краткий очерк теории цивилизации». Находясь над впечатлением «Истории цивилизации в Англии» Генри Бокля и «Истории цивилизации в Европе» Франсуа Гизо, Фукудзава, который в начале своего образования занимался как Яа^аки, так и конфуцианским учением, заявил о том, что конфуцианская историография устарела
1 Yoda Yoshiie, Nitchu ryókoku kindaika no hikaku kenkyü josetsu («Введение в компаративное изучение японской и китайской модернизации»). Tokyo, 1986, 44, 66-67.
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ...
163
и должна быть заменена «цивилизационной историей» () - неологизм, выдуманный им самим для описания подходов Бокля и Гизо к национальной истории. Фукудзава объявил о том, что цель написания истории должна быть иная. Она состоит не в том, чтобы поддерживать существующий моральный и политический порядок, а в том, чтобы описывать продвижение нации по пути цивилизации. Он полагал, что по критериям цивилизованности Япония и Китай отстают от Европы. Таким образом, Фукудзава не только принял распропагандированную западными историками идею универсальной истории, но и использовал ее для отлучения Японии от синтоистского мира и присоединения ее к миру западному. Десятилетие спустя он изложил свои мысли в труде «Отмежевание от Азии», где еще более убедительно и недвусмысленно объяснил необходимость этого шага.
Тагути Икичи, молодой журналист и восторженный приверженец «цивилизационной истории», распространил идею универсальной истории Фукудзавы на японское историописание. Начиная с 1877 года Тагути издавал свой плодотворный труд «Краткая история японской цивилизации», в котором в сложной нарративной форме обрисовал культурное развитие Японии с начала цивилизации и до современного ему времени. Тагути намеревался представить и проанализировать проявление духа времени на всем протяжении японской истории, подражая аналогичной затее Бокля и Гизо по отношению к европейской истории. Кстати, работы Бокля и Г изо к этому времени уже появились в Японии в нескольких переводах1. Влияние этих работ позволило Тагути и его последователям отойти от традиционной для японского историописания последовательной истории правителей и вместо этого привлечь внимание к культурному развитию, проявившему себя в религии, литературе, философии, а также обычаях и традициях. В качестве нового жанра «цивилизационная история» привела к глубоким изменениям как в представлениях об историописании, так и в его стилях. Переключение внимания историка с монарха на цивилизацию, в результате чего, в свою очередь, отпала необходимость в моральных наставлениях, освободило японских историков, позволив им принять распространенный на Западе нарративный стиль историописания. Однако, напоминает нам Тагути Икичи, это принятие является одновременно инновацией и реконструкций, поскольку в долгой традиции китайского историописания возникли сразу три жанра историографии. Помимо аннало-биографического жанра и хроники возник и третий жанр, который Тагути назвал «жанром исторической дискуссии» (яп. ъЫгоЫаг, кит. зкИипН), использовавшимся задолго до этого2.
1 Ozawa Eiichi, Kindai Nihon shigakusbi no kenkyu. Meiji hen (Современная японская историография: период Мейдзи). Tokyo, 1968, 105-106.
2 Тагути Икичи заявил об этом в другой, сходной по структуре книге: Shina kaika shöshi (Краткая история китайской цивилизации). Tokyo, 1887, см. Предисловие.
164
ГЛАВА 3
Тагути надеялся восстановить этот жанр при написании «Краткой истории японской цивилизации», хотя структура его книги, разбитая на главы и параграфы, четко отразила западное влияние. Несмотря на то что жанр исторической дискуссии, как и жанр трактата в «Заморских странах» Юань Вэя, использует нарративную структуру, они обычно не создают последовательного нарратива, разбитого только на главы и параграфы. Однако декларируемое самим Тагути стремление к его возрождению заслуживает нашего внимания. Как у откровенного защитника западной формы исследования, у Тагути не было причин скрывать того, что его экспериментирование с «цивилизационной историей» напрямую заимствовано у Запада. Его призыв к возрождению, возможно, был искренней попыткой найти собственно японские элементы прошлого для того, чтобы лучше приспособить к ним западное влияние. И Тагути был далеко не единственным в такого рода синкретических усилиях. Синкретизм, или диалог между традиционным и современным, родным и иностранным, скорее являл собой свойственный тому времени лейтмотив в процессе преобразования современного историописания в не западных регионах.
Взаимодействие старого и нового
Действительно, в Японии периода Мейдзи наряду с сильным интересом к западной культуре и институтам явным было и стремление к возрождению. В конце концов, эпоха современности началась в Японии с восстановления в 1868 году имперской власти императора Мейдзи. Спустя год после этого правительство Мейдзи создало Историческую службу и от имени нового императора вменило ей в обязанность создание «национальной истории», которая, однако, была бы не иллюстрацией западного влияния, а скорее продолжила бы традицию династийной историографии. Создание правительством Исторической службы означало возобновление практики официального историописания, заимствованной у Китая в VII веке, в период правления династии Тан. А точнее, как предписывал императорский рескрипт, эта новая национальная история должна была стать продолжением Rikko- kushi («Шести национальных историй») VII-X вв., цель которых состояла в том, чтобы «подтвердить полномочия принца-министра, отличить иностранное от родного и утвердить в стране основной (моральный) закон». Эти постулаты, равно как и их формулировка, напоминали многие предыдущие проекты династийного историописания, созданные в китайской традиции1.
1 Sakamoto Taro, Nihon no shushi to shigaku (Сбор данных и изучение истории в Японии) (Tokyo, 1991), 234; Mehl, History and the State in Nineteenth-centuty Japan, 16f.
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ...
165
Таким образом, несмотря на проникающие с Запада новые идеи, на протяжении всего XIX века традиция династийного историописания оставалась востребованной во многих регионах Азии. Западное вторжение подтолкнуло правителей многих династий извлечь полезные исторические уроки из прошлого, чтобы противостоять вызову в настоящем. Например, Историческая служба в Китае периода Цинь, в Корее в годы правления династии Чосон и во Вьетнаме по-прежнему занималась сбором источников и составлением «подлинных исторических документов». Мл#$/г/ («История Мин»), созданная официальными историками в период династии Цинь, получила более высокую оценку, чем предшествующая история, созданная в период Мин. Насчитывающие множество томов, «подлинные исторические документы» периода Чосон в Корее свидетельствуют о кропотливых усилиях придворных историков по точному и скрупулезному сохранению исторических источников. Труд вьетнамских придворных историков был столь же впечатляющим, если не превосходил усилий их корейских коллег1. В 1855 году, спустя три года после того как французы начали полномасштабное вторжение в Юго-Восточную Азию, император Ту-Дук из династии Нгуен заказал создание «Одобренное высочайшим повелением всеобщее зерцало вьетнамской истории, основа и частности». Эта масштабная работа, написанная на китайском языке, потребовала для своего завершения около тридцати лет. Она представляла собой серьезную попытку найти в истории решение растущей угрозе этой вьетнамской династии. Но основное внимание, как следует из ее названия, было сосредоточено на поддержании требования легитимной смены монархов в истории с неоконфуцианской точки зрения. Поэтому, несмотря на свою значимость в качестве общей истории Вьетнама, эта громадная работа оказалась анахронизмом, оказав незначительную помощь в спасении династии. Через год после ее завершения Вьетнам был разделен на три части и стал французским протекторатом2.
Если традиция династийной историографии и начала терять свою привлекательность, это происходило медленно и постепенно. Создание по указу императора официальной истории Японии происходило извилистым путем, что нашло свое отражение в изменении ее названия и в текучести кадров Исторической службы в 1870-1880-е гг.3. Поскольку было решено, что «Хронология Великой Японии» (именно
1 Li Tana, ‘Vietnamese Chronicles' // Kelly Boyd, ed„ Encyclopedia of Historians and Historical Writing. London, 1999. Vol. 2, 1265-1266.
2 Jin Xudong, 'Qinding Yucshi tongjian gangmu jianlun’ (краткое обсуждение книги Outline and Details of the Comprehensive Mirror of Vietnamese History, with Imperial Annotation) // Wang Qingjia and Chen Jian, eds, Zhongxi lishi lunbianji: liumei lisbi xuezhe xueshu wenhui (История и ее научный подход: очерки китайских историков в США). Shanghai, 1992, 255-267.
3 Mehl, History and the State in Nineteenth-century Japan, passim.
166
ГЛАВА 3
такое название проекта, в конечном счете, утвердила Историческая Служба) будет писаться на китайском языке, то Служба была укомплектована преимущественно синологами (Kangaku sha). Однако оказалось, что по своим научным интересам и полученному образованию эти ученые принадлежали к двум разным, если не больше, школам. Одни отстаивали неоконфуцианский принцип моральной дидактично- сти в историографии, тогда как другие проявляли явный интерес к критике источников, свидетельствующий о растущем влиянии в Японии того времени доказательного знания. В 1882 году Службу возглавил Сигэно Ясуцугу, сторонник доказательного знания, а его помощниками стали Кумэ Кунитакэ и Хошино Хисаши, имевшие сходные академические интересы и образование. Под руководством Сигэно Служба занялась отбором и критикой исторических источников, подготавливая тем самым почву для полного обзора «национальной истории»1.
«Хронологию Великой Японии» назвали именно так, потому что проект состоял в том, чтобы продолжить и закончить «Великую историю Японии», начатую в период Токугава. Но от последней ее отличало то, что, являясь хронологическим изложением событий, или новым отбором исторических источников, она являлась только первой ступенью династийной исторической компиляции - компиляция требовала, чтобы формальное создание династийной истории происходило после окончания правления династии. Выполнение такого проекта имело для Сигэно Ясуцугу и его коллег особый смысл, поскольку позволяло в процессе скрупулезного анализа источников продемонстрировать и применить навыки доказательного исторического исследования.
Благодаря тому что в центре внимания историка оказалась критика источников, этот интерес к эмпирике также помог соединить доказательное знание и современную западную историографию, преобразовав тем самым японскую традицию (официального) историописания. Например, реализуя свой явный интерес к верификации источников, Сигэно Ясуцугу обнаружил, что большое количество фактических ошибок, в том числе и в «Великой истории Японии», допущенно вследствие того, что традиционные историки были слишком увлечены моральными наставлениями и политической легитимностью. Вот один из примеров таких ошибок. Кодзима Таканори, загадочный герой XIV века, за столетия, прошедшие с этого времени и до XIX века, собрал много комплиментов и похвал от историков за то, что он, возможно,
1 Jiro Numata, 'Shigeno Yasutsugu and the Modem Tokyo Tradition of Historical Writing' // W. G. Beasley and E. G. Pulleyblank, eds. Historians of China and Japan. Oxford, 1961, 264-287; Nagahara Kciji, 20 seiki Nihon no rekishigaku (Историография Японии в XX веке). Tokyo, 2005, 13-16.
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ...
167
существенно поддержал императора Го-Дайго при попытке последнего вернуться на трон. Но изучение Сигэно источников заставило поставить под сомнение существование Кодзимы Таканори как исторической личности. Вместе со своим коллегой Кумэ Кунитакэ он усомнился в правдивости этой истории, на которую часто ссылались ученые-гуманитарии конфуцианского направления прошлого как на прекрасный пример следования конфуцианскому идеалу политической лояльности, ортодоксальности и порядка1. Вскрывая фальсификацию, связанную с Кодзимой Таканори, Сигэно тем самым показал недостатки конфуцианской историографии. Подобно своим современникам - «цивилизационным историкам» - отныне он считал ее устаревшей и не имеющей больше отношения к его работе.
Более того, Сигэно Ясуцугу обнаружил, что западная историография способна помочь ему в его неустанном пересмотре существующего корпуса исторической литературы с позиции доказательного знания. По сравнению с Фукудзавой Юкити и Тагути Икичи, сотрудники Исторической службы не имели прозападной ориентации, равно как и формальных контактов с «цивилизационными историками». Однако Сигэно и сотрудники Службы не были свободны от западного влияния. Например, Кумэ Кунитакэ был младшим сотрудником правительственной миссии Мейдзи на Запад. Сигэно также упоминал работы западных историков, особенно касающиеся японской истории. Он был впечатлен обилием присутствующих в них деталей и неподдельным интересом к исторической каузальности; и то, и другое, по его мнению, было ценно и полезно для улучшения работы японских историков2. И все-таки его интерес к западной историографии заметно отличался от интереса Фукудзавы Юкити; например, будучи официальным историком, Сигэно не был так сильно увлечен изучением социокультурной истории, как это было свойственно Фукудзаве.
Георг Г. Зерфи, Людвиг Рисе и ранкеанское влияние на Японию
Чтобы больше узнать о западной традиции историописания, в 1879 году Историческая Служба, прибегнув к помощи японского дипломата в Лондоне, уполномочила Георга Г. Зерфи, сосланного венгерского Дипломата и историка-самоучку, преподававшего в Лондонском университете, написать историю западной историографии. Зерфи выполнил задание за несколько месяцев, в результате чего появилась книга
1 John Browlee, Japanese Historians and the National Myths, 1600-1945 (Vancouver, 1997), 86-89.
2 Ibid., 82.
168
ГЛАВА 3
«Наука история» — одна из самых ранних попыток написания истории историографии европейским историком. Хотя сейчас эта работа мало известна среди западных и японских историков - последние по иронии судьбы и были ее предполагаемой аудиторией, - в проведенном Зерфи исследовании историографии указывается, что кросс-куль- турные контакты не только усилили западное влияние на не западные регионы, но и побудили жителей Запада взглянуть на собственную культуру в сравнительной перспективе. Тот факт, что в своей работе Зерфи впервые предпринял сравнительный анализ западной и азиатской культуры и истории, говорил о многом1.
И действительно, как следует из названия его книги, Зерфи стремился подчеркнуть научную природу исторической практики на Западе, возможно, противопоставляя ее конфуцианской историографической традиции, изучением которой он немного занимался, работая над своей книгой. По иронии судьбы научная, или критическая историография ранкеанского типа, в Англии, где он жил, так и не превратилась в господствующую практически до конца XIX в. Много английских историков, таких как Томас Маколей, намного «уютнее» чувствовали себя в либеральной традиции историописания. Тем не менее, Зерфи не только считал научную историографию главной особенностью исторической практики в современном ему западном мире; он предложил обзор возникновения и развития научной истории, начиная с классических греко-римских времен и до ее кульминации в немец- кой/ранкеанской историографии его времени. Он явно полагал, что современная научная историография была характерной особенностью западной культурной традиции.
Возможно, Зерфи был несколько более, чем необходимо, увлечен своей телеологией. Складывается впечатление, что, увлекшись описанием научно-исторической практики с греко-римских времен и до современности, на описание влияния ранкеанской историографии, являвшейся, по его мнению, образцом научной истории, места в конце «Науки истории» ему уже не хватило. Но его послание все-таки дошло до японских историков в Исторической службе, даже, несмотря на то, что его книга не сразу была переведена на японский язык. О влиянии этой книги на его предполагаемую аудиторию говорит тот факт, что в 1887 году в Японию был приглашен преподавать Людвиг Рисе, ученик Ранке, хотя и «на расстоянии». Будучи евреем, Рисе не мог
1 См.: Numata Jiro, 'Meiji shoki ni okeru seiyo shigaku no yunyu ni tsui te: Shi- geno Yasutsugu to G. G. Zerffi, The Science of History' (Значение западной историографии для раннего периода Мейдзи: Сигено Ясуцугу и «Наука история» Г. Г. Зерфи) // Ito Tasaburd, ed., Kokumin seikatsuski kenkyii (Исследования по истории национальной жизни). Tokyo, 1963, vol. 3, 400—429; Mehl, History and the State in Nineteenth-century Japan, 74-80. О жизни и карьере Георга Г. Зерфи см.: Tibor Frank, From Habsburg Agent to Victorian Scholar: G. G. Zerffi, 1820-1892, tr. Christopher Sullivan and Tibor Frank. Boulder, CO, 2000.
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ...
169
получить постоянную работу в Германии; когда поступило приглашение из Японии, он работал в Англии. В Японии же Рисе был назначен первым профессором истории в только что основанном Токийском университете - университетская администрация была убеждена в том, что для введения в стране современного исторического образования необходим представитель Запада. Однако ситуация изменилась после того, как в 1888 году правительство Мейдзи прикрепило Историческую службу к университету, в результате чего Сигэно Ясуцугу, Кумэ Кунитакэ и Хошино Хишаши стали профессорами истории и коллегами Рисса по университету. В 1889 году они и Рисе вместе работали над созданием Японской исторической ассоциации и изданием gaku газяЫ («Исторического журнала»), профессионального исторического журнала. Благодаря Риссу и его усилиям по внедрению немецкой модели современной историографии, японские историки превратили свою дисциплину в профессию, как и их коллеги в Германии, Франции, Англии и США1.
Появление в Японии профессии историка по времени совпало с модернизацией японского образования и одновременно способствовало этой модернизации. По сравнению со своими азиатскими соседями, такими как Китай, Япония быстрее осознала необходимость введения высшего образования современного типа и распространения и пропаганды научного образования в стране. Однако современное образование в Японии не являлось продуктом западного влияния, оно возникло из уже существующей образовательной традиции. Например, прототипом Токийского университета была 8коке1 ко, знаменитая конфуцианская школа в Эдо , в которой учился Сигэно Ясуцугу и другие ученые. Слияние этой школы с другими и привело к созданию в 1877 году Токийского университета, ставшего первым общенациональным высшим учебным заведением современного типа в Японии. До 1886 года, когда школа стала называться Токийским имперским университетом, он еще не был полноценным университетом - проект его учебного плана был составлен по западному образцу и явно ориентировался на естественные науки. Например, учебный план по истории, сориентированный на изучение истории Запада, спустя два года был отменен из-за нехватки соответствующих преподавателей. Преподавание истории было возобновлено только после того, как в 1887 году на работу в Токийский университет был принят Людвиг Рисе (через год после того как школа стала имперским университетом). После того как членами профессорско-преподавательского состава университета стали Сигэно и его коллеги по Исторической службе, учебный план по истории был расширен за счет включения в него преподавания
’ Mehl, History and the State in Nineteenth-century Japan, 87-112.
Эдо - старое название Токио, современной столицы Японии, до 1868 года. Так называют старинную центральную часть города вблизи замка Эдо.
170
ГЛАВА 3
японской истории. Таким образом, в изучении и преподавании истории профессионализация и национализация дополняли друг друга - и этот фактор стал еще одним обязательным феноменом в развитии современной историографии во всем мире.
То, что Япония в области профессионализации историописания опережала своих азиатских соседей, обусловило быстрый темп вестернизации страны. Что касается изменения исторической методологии, презентация Риссом ранкеанской историографии, сопровождавшаяся сильной защитой свойственного Ранке критического и объективистского подхода к историографии, не была столь уж чуждой Сингэ- но и его коллегам, получившим образование в школе доказательного знания. Возможно, вследствие своего еврейского происхождения, а также предполагаемых Риссом трудностей, с которыми японцы могли столкнуться в процессе правильного понимания немецкого идеализма и лютеранской религиозности, лежащих в основе исторической практики Ранке, в своей презентации Рисе решил сосредоточиться на методологическом аспекте концепции своего наставника. Самым запомнившимся из его курсов в Токийском университете стал курс по методологии исторического познания, в процессе которого он опирался на «Учебник методологии и философии истории» Эрнста Бернгей- ма, не вдаваясь при этом в философско-историческую составляющую этой книги1. Становится очевидным, что, знакомя Японию с немецкой историографией, Рисе хотел опереться на интерес к эмпирике, унаследованный от японской традиции доказательного знания, с тем чтобы превратить ранкеанскую историографию в универсальную модель исторического исследования. В своем исследовании Рисе также пытался показать то, что ранкеанский метод вполне подходит для изучения японской истории или для осуществления нациостроительства, или даже для реализации проекта по созданию империи. Стоит упомянуть, что в период своего пребывания в Японии Рисе написал краткую историю Тайваня - острова, который являлся объектом настойчивых претензий правительства Японии тех лет. Судя по публикациям его японских коллег-современников, выработанная Риссом стратегия оказалась удачной. Сигэно Ясуцугу, например, предписывал историкам «быть нейтральными и беспристрастными», а Хошино Хисаши пропагандировал, что «изучение и написание истории должно опираться на тщательно отобранные источники». Кумэ Кунитакэ, их более радикальный коллега, заявлял, что «для того чтобы видеть историю [саму по себе], следует отказаться от привычки что-либо одобрять или порицать». Подобные заявления явно способствовали рас¬
1 Brownltt, Japanese Historians and the National Myths, 73-80; также: Leonard Blusse, 'Japanese Historiography and European Sources' // P. C. Emmer and H. L. Wesseling, eds, Reappraisals in Overseas History. Leiden, 1979, 193-222.
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ...
171
пространению ранкеанской историографии. Вместе с тем они развивали и интерес к доказательному знанию1.
Таким образом, японская традиция изучения истории была реформирована и трансформирована с помощью кросс-культурного обмена, в процессе которого доказательное знание не только расчистило путь для принятия японцами ранкеанской модели западной историографии, но и изменилось само по себе: ученые - сторонники доказательного знания стали отныне профессиональными историками, работающими в академических структурах. И это изменение вряд ли было односторонним; по мере того как ранкеанская историография распространяла свое влияние на Азию и другие регионы, представление о ней приобретало другие, нежели в Германии, оттенки2. В процессе представления Ранке Риссом и восприятия его японской аудиторией образ этого немецкого мастера претерпел определенную метаморфозу, заключающуюся в том, что его политический консерватизм и религиозная вера были почти что преданы забвению, подобно идее доказательного знания, которая изначально появилась как альтернатива метафизическому пониманию конфуцианской морали и политической философии. Отныне же и ранкеанская историография, и доказательное знание воспринимались только в плане развития исторической методологии, в то время как их религиозные и идеологические основания затушевывались.
Но методология едва ли ценностно-нейтральна. Сделанный Ранке акцент на исследование, опирающееся на архивы, о чем уже говорилось ранее, был предвестником подъема национальных государств, поскольку архивы обычно создавались правительствами и обслуживали их. Предпринятая Сигэно и Кумэ критика традиционных источников тоже имела политическое значение, хотя в то время казалось, что это идет вразрез с проектом японского правительства по строительству нации. Оба они, так же как и Хошино, подвергли сомнению достоверность многих известных источников, показывая их сфабрикован- ность. В процессе скрупулезной критики источников Кумэ Кунитакэ дошел до демифологизации священной синтоистской традиции древней Японии, заявляя, что она была не чем иным, как обычаем поклонения Небесам. Возможно, непреднамеренно, но Кумэ бросил вызов неприкосновенности синтоизма, считавшегося правительством осно¬
1 Все это - названия статей, опубликованных в Shigaku zasshi («Историческом журнале») в течение 1889 и 1890 годов. То, что возникновение академической истории конвергировалось и цементировалось доказательным знанием и ранкеанской историографией, поддерживается большинством японских ученых- историографов. См.: Jiro Numata, 'Shigeno Yasutsugu and the Modem Tokyo Tradition of Historical Writing', in Beasley and Pulleyblank, Historians of China and Japan, 273-287; Okubo. Nihon kindai shigakusbi, 74-81; Sakamoto, Nihon no shushi to shigaku, 247-248 и Nagahara, 20 seiki Nihon no rekishigaku, 15.
2 Iggers, 'The Image of Ranke in German and American Historical Thought'.
172
ГЛАВА 3
вополагающим в его поддержке непорочности японского императорского дома, что являлось ключевым компонентом в его стремлении создать нацию/империю. В 1892 году, уступая общественному давлению облеченных властью синтоистов, Токийский университет уволил Кумэ. Через несколько лет после этого заставили уйти на пенсию и Сигэно Ясуцугу. Их увольнение из Токийского университета свидетельствовало о постоянной вовлеченности современной историографии в национальную политику и стало поражением академической науки и свободы исследования в высшем образовании Японии \
Японский «Восток» и изменение китайского мира
Начиная с 1890-х гг., когда Япония ускорила формирование нации и строительство империи, не только стало накладываться больше ограничений на академические исследования, но и началась новая эра в отношении Японии с Западом. В отличие от откровенного энтузиазма в отношении вестернизации в ранний период Мейдзи, новое поколение интеллектуалов обнаруживало более сдержанное отношение к западному влиянию и больший внутренний интерес к ценности прежних японских традиций и восточноазиатской традиции в целом1 2. Символом этого культурного поворота стал рескрипт об образовании, изданный императором Мейдзи в 1890 году, который заново предписывал необходимость очередного приобщения японских школьников к таким нравственным ценностям конфуцианства, как лояльность, повиновение, сыновняя любовь и гармония. Но это повторное заявление вряд ли было сигналом того, что Япония в это время собирается культивировать дружеские отношения с Китаем. Как раз наоборот; цель Японии состояла в превращении себя в азиатского лидера, сместив с этого места и даже подчинив себе Китай с тем, чтобы уравнять себя с Западом. Другими словами, чтобы стать «Западом», Япония должна была найти свой «Восток»3. Эта тенденция проявилась в бурном изучении китайской и азиатской истории под эгидой ТдудзЫ («История Востока») - неологизм, созданный в то время в исторических кругах Японии и использующийся в школьных учебных планах. В ретроспективе, отчасти, вина за упомянутое выше увольнение Кумэ Кунитакэ
1 Brownlee, Japanese Historians the National Myths, 92-106. См. также: Byron K. Marshall, Academic Freedom and the Japanese Imperial University, 1868-1939 (Berkeley, CA, 1992).
2 Kenneth Pyle, The New Generation in Meiji Japan: Problems of Cultural Identity, 1885-1895 (Stanford, CA 1969); Carol Gluck, Japan's Modem Myth: Ideology in the Late Meiji Period. Princeton, NJ, 1985.
3 Stefan Тапака, Japan's Orient: Rendering Past into History. Berkeley, CA 1993; Nagahara, 20 seiki Nihon no rekishigaku, 43—45.
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ...
173
и Сигэно Ясуцугу из Токийского университета лежит на изменении климата политической культуры, росте культурного нативизма и политического консерватизма. Атаки Сигэно и Кумэ на японские легенды, их гораздо большая склонность как эмпириков к анализу исторических фактов, нежели к дидактичности повествования, и их настойчивое требование создания «Хронологии Великой Японии» на китайском сделали их главными мишенями для нападок. Их увольнение обозначило окончание официального историописания в современной Японии. Но, судя по созданию школьных учебников, где правительственный надзор и вмешательство должны были стать нормой, культивируемой так или иначе вплоть до сегодняшнего дня, правительственное субсидирование и вмешательство в процесс историописания продолжались1.
Тем временем были достигнуты успехи в изучении «цивилизационной истории». В 1880-е годы Тагути Икичи и другие адепты «цивилизационной истории» и ее варианта - «народной истории» (тткап shigaku) - начали работать над установлением более тесных отношений с их коллегами из академической среды. Многие академические историки стали часто публиковаться в журнале БЫкт («Океан истории»), редактировавшемся Тагути и нацеленном на развитие «народной истории». В 1890-е годы сторонники «народной истории» организовали «Общество друзей народа» (МтушИа) во главе с Токумоти Сохо, Такэкоси Ёсабуро и Ямаджи Айсаном, чьи работы повлияли на составление программы японской культурной переориентации. Что касается их исторических исследований, эти интеллектуалы расширили намеченное Тагути направление поиска законов, объясняющих развитие японской цивилизации. Кроме того, исследуя такие важные события, как реставрация Мейдзи, с точки зрения «народной истории», они усовершенствовали его подход. По их мнению, реставрация Мейдзи стала социальной революцией, порожденной пробуждением японского национального самосознания, когда японцы поднялись на борьбу с несправедливой властью2.
Существовали две позиции, по которым сходились интересы этих историков и их коллег из академической среды. Первая состояла в том, что подобно академическим историкам, которые отныне имели преимущественно западное образование, эти «народные историки» стремились установить соответствие между японской историей и историей европейской и настаивали на том, чтобы обе истории разделяли сходный подход к интерпретации собственного развития. Смелее, нежели беспристрастные на вид академические ученые, они доказывали несостоятельность преувеличения уникальности японской куль¬
1 Mehl, History and the State in Nineteenth-century Japan, 113-147.
2 Cm.: Peter Duus, 'Whig History, Japanese Style: The Min'yusha Historians and the Meiji Restoration’, Journal of Asian Studies, 33:3 (May 1974), 415—436.
174
ГЛАВА 3
туры и религии, пропагандируемой синтоистами и политической олигархией. Вторая заключалась в том, что, будучи идеологами либерализма и популизма, они не менее, чем их академические собратья, были взволнованы японской заморской экспансией и активно предлагали свою помощь. Токомути, например, был хорошо известен своей рьяной поддержкой правительства в китайско-японской и русско-японской войнах. В начале XX века, заметно изменив свою политическую позицию и публичный имидж, он, в общем и целом, отказался от своей либеральной репутации и стал главным проповедником империалистической внешней политики Японии.
Возвышение Японии и принижение Китая изменили панораму синтоистского мира и оказали прямое влияние на Корею. В конце XIX века, занимаясь переписыванием своей истории, корейские историки стали искать способ избавиться от китайской тени и установить свою собственную культурную независимость. Эта тенденция, которая в Японии совпала с возвышением ТдуоьЫ, представляла собой эмбриональную форму современного корейского национализма. Однако его происхождение можно обнаружить еще в реакции корейцев на смену в XVII веке в Китае династии Мин на династию Цин и последовавшее за этим развитие эмпирического знания, а также в распространении в Корее доказательного знания, происходившего на протяжении XVIII и XIX веков1. Под влиянием национализма многие корейские историки жаловались на то, что в прошлом корейцы приложили много усилий к тому, чтобы узнать, что происходило в китайской истории; и при этом они, к сожалению, пренебрегали своей собственной историей. На самом же деле корейцы должны гордиться историей своей страны, ибо по своей продолжительности она не уступает китайской. Согласно легенде еще в 2333 году до н.э. древний король Тан Гун, рожденный от божества и медведицы, основал корейское государство. Таким образом, к рубежу XIX и XX веков корейцы начали избавляться от длительной зависимости своей страны от Китая, или лакейства , унизительной особенности корейской культуры и истории на протяжении почти всего периода правления династии Чо- сон (1392—1910)2. С того времени и до сегодняшних дней национализм играет наиважнейшую роль в основном курсе развития современной корейской историографии: отчасти потому что на рубеже XX века Корея попала в зависимость от Японии, отчасти потому, что после обретения после Второй мировой войны независимости Корейский полуостров так и остался разделенным.
1 Cp.: Remco Е. Breuker, Contested Objectives: Ikeuchi Hiroshi, Kim Sanggi and the Tradition of Oriental History (Töyö shigaku) // Japan and Korea, East Asian History, 29. June 2005, 69-106.
2 Li Runhe (bee Yun-hwa), Zhonghan jindai shixue bijiao yanjiu (Компаративное исследование современной китайской и корейской историографий). Beijing, 1994, 87-90.
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ...
175
Китай, однако, не встревожило то обстоятельство, что Япония стала рассматривать его как «свой Восток». С 1860-х годов правящая династия Цин взяла курс на вестернизацию, хотя и в намного меньшем масштабе, чем Япония. Эта нерешительность отразила, с одной стороны, нежелание китайцев отказываться от своего укоренившегося представления о том, что их государство представляет собой «Срединную империю» под Небесами, с другой - нежелание признавать возвышение Запада. Кроме того, это было связано с восстанием Тай- пинов (1850-1864), поводом к которому послужило самопровозглашенное христианское движение. Хотя западные державы и поддерживали эту китайскую династию по экономическим интересам, образованные люди в Китае были встревожены опасностью западного религиозного и культурного влияния, разрушающего традиционную веру в конфуцианство.
Когда армейские силы династии Цин оказались не в состоянии подавить мятежников-тайпинов, китайский истэблишмент, пытаясь помочь династии, организовал народное ополчение, и вместе им удалось подавить восстание. Это позволило восстановить династию Цин, которая предприняла дополнительные попытки гармонизации отношений Китая с западными державами и Японией. Одновременно с этим правящий режим возобновил свои попытки по укреплению конфуцианской традиции. Чжан Чжидун, чиновник с рангом при династии Цин, вынес на обсуждение теорию, согласно которой китайская наука превозносилась как «фундаментальная» (ri), тогда как западная - как прикладная (yong). Эта формула ti-yong стала основным принципом реставрации - хотя в то время в правительстве было создано много новых министерств (самым главным из которых было Министерство иностранных дел, которое прикладывало усилия по просвещению китайцев в области международных отношений), не было никаких серьезных попыток трансформировать и модернизировать китайское образование. Безусловно, появлялись новые школы, создаваемые для изучения науки и иностранных языков и финансируемые либо провинциальной администрацией, либо западными миссионерами. Но эти школы не могли быть привлекательными для китайской молодежи, потому что не могли подготовить студентов к сдаче государственного экзамена для поступления на государственную службу, а до 1905 года это по-прежнему считалось главной целью образования и обычным способом получения должности в бюрократическом аппарате.
Таким образом, хотя реставрация Цин совпала по времени с началом правления Мейдзи, Китай, в отличие от Японии, не ощущал потребности в создании современной образовательной системы, в рамках которой китайские студенты могли бы приобретать систематические знания о Западе и мире. Были, конечно, и исключения, известным примером чего является Ван Тао. Рожденный в образованной семье в Юго-Восточном Китае, Ван получил глубокие знания в облас¬
176
ГЛАВА 3
ти конфуцианского вероучения, а позже у него появился шанс в течение нескольких лет поработать в Гонконге, где он помогал шотландскому миссионеру Джеймсу Леггу в переводе конфуцианской классики на английский язык. По приглашению Легга Ван также три года провел в Англии. По сравнению со своими предшественниками старшего поколения, такими как Юань В эй, он таким образом получил знания о Западе из первых рук и гораздо лучше понял идею меняющегося потока мировой истории. Если для Юань Вэя «мастерство» жителей Запада заключалось в военной технологии, то Ван Тао распространил его на институты и культуру и считал необходимым познакомить с ними своих соотечественников. Под влиянием западной прессы его труды были посвящены преимущественно современным событиям, таким как франко-прусская война, а описания и анализ предложены в виде нарратива - попытка, сопоставимая с действиями Тагути Икичи в Японии. Но и Ван был человеком своего времени. Являясь, возможно, самым космополитичным человеком Китая в конце XIX века, он по-прежнему считал конфуцианские моральные ценности универсальными и подходящими для анализа тенденций мировой истории1.
Ван Тао можно считать «цивилизационным историком» Китая, чьи историографические новшества вдохновили его японских коллег. В 1870 году во время визита Вана в Японию его широко приветствовали Сигэно Ясуцугу и японские коллеги по Исторической службе2. Но по возвращении домой его работа была встречена с меньшим энтузиазмом; на протяжении своей жизни и по образу жизни, и по своим литературным талантам он сильно отличался от большинства. Официальные историки династии Цин, то есть китайские коллеги Сигэно Ясуцугу, практически не проявили интереса к свойственному Вану подходу к историографии, которое он выработал под западным влиянием. Вместо этого их гораздо более интересовали особенности таких «стандартных историй», как «История Мин» и «История Юань», составленные их предшественниками в прошлые столетия. И их критика этих двух историй, как правило, была направлена против допущенных этими историками предполагаемых неточностей в их трактовке моральной и политической программы конфуцианства. Однако заинтересованность данных историков в это время династийной историографией при ближайшем рассмотрении свидетельствует о том, что они не полностью следовали прежней традиции. По крайней мере,
1 См.: Paul A. Cohen, Between Tradition and Modernity: Wang T'ao and Reform in late Ch'ing China. Cambridge, MA, 1974, 91-96, 110-139; Q. Edward Wang, Inventing China through History: the May Fourth Approach to Historiography. Albany, NY, 2001, 36—42.
2 Shiteng Huixiu (Saneto Keishu), Mingzhi shidai Zhongri wenhua de lianxi (Культурные обмены между Японией Мейдзи и Китаем Цин), пер. Chen Gutihg. Taipei, 1971.
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ...
177
в исследовании истории династии Юань они кое-что взяли из незадолго до этого введенных в оборот западных источников по монгольскому завоеванию Евразии. А именно: эти западные источники позволили таким историкам, как Хонг Джун, Ке Сяомин и Ту Джи, проверить точность «Истории Юань», сверяя ее с другими работами. Эти новые модели изучения истории Юань привлекли внимание и в Японии, где монгольская история рассматривалась как часть ТоуоБЫ. Все это позволяет предположить, что к концу XIX века китайцы также постепенно расширили свое мировоззрение, что привело к некоторым заметным изменениям в историописании. Это проявлялось не только в том, что все больше западных работ переводилось на китайский язык такими миссионерами, как Янг Д. Аллен и Тимоти Ричард, чья активность была встречена более терпимо и даже получила патронаж династии Цин, но также и в том, что такие китайские дипломаты, работавшие за границей, как Сюэ Фучен и Ху Джаньюинь, также создавали исторические рассказы и заметки о путешествиях на Запад, а также в Японию. Лучшей среди них считается («Япония: национальная история») Хуана Цун-Сяня. То, что Хуан решился написать общую историю Японии, само по себе было важнейшим шагом, ведь прежде японская история либо игнорировалась, либо искажалась китайскими историками, даже Юань Вэем в его «Заморских странах». По сравнению с ними Хуан не только осуществил детальное описание японской истории, но и похвалил Японию за недавние успехи в модернизации.
Однако немногие китайцы, в том числе такие «руки Японии», как Хуан Цун-Сянь, предвидели непосредственные и тяжелые последствия воздействия японской модернизации на Китай и синтоистский миропорядок в целом. С завистью наблюдая за впечатляющим «прогрессом» японской цивилизации, они призывали своих соотечественников торопиться брать с Японии пример, дабы Китаю не отстать. В 1890-е годы в Китае получили хождение идеи эволюции и социал- дарвинизма. «Девятнадцатый век» Роберта Маккензи, в принципе представляющий собой банальный обзор современной европейской истории, был переведен Тимоти Ричардом на китайский язык и вследствие своей рьяной поддержки идеала прогрессивной истории мгновенно стал бестселлером. Но, в общем и целом до 1885 года, то есть до сокрушительного поражения Цин Японией в китайско-японской войне, даже самые восприимчивые китайцы выглядели скорее впечатленными, нежели встревоженными быстрым темпом японской модернизации. Исход войны, однако, стал для них шоком. Положив конец периоду реставрации Цин, это поражение возвестило и о начале новой эры для китайского исторического мышления. Страшный вызов, брошенный Японией Китаю, убедительно доказал японцам, что мир отныне развивается в соответствии с другими историческими законами, лучше всего выраженными в дарвинистском принципе выживания
178
ГЛАВА 3
наиболее приспособленного. Китайцы тогда мучительно осознали, что если их страна не сумеет признать этот закон, она потеряет не только превозносимый ими статус «Срединной империи», но и свою национальную независимость. Как это ни парадоксально, но быстро установленное японское господство тоже подтолкнуло китайцев: оно заставило их действовать и приступить к проведению сходных социально-политических реформ, посредством которых они надеялись вернуть себе былую славу. К 1898 году двор и образованные слои общества, казалось, наконец, договорились о необходимости более масштабных реформ. Однако после того как в 1898 году император издал указ о реформе, обладавшая большим влиянием вдовствующая императрица, боясь потерять свою власть, не запускала его в действие около сотни дней.
Таким образом, в отличие от трансформации японского историо- писания, где эмпиризм доказательного знания успешно сочетался с критической ранкеанской историографией, китайское взаимодействие с западным историографическим влиянием проявилось в принятии ими эволюционизма, или социал-дарвинизма, который оказался более насущным в их продолжающейся борьбе за национальное выживание и возрождение. Помимо «Девятнадцатого века» Роберта Маккензи другим китайским бестселлером /¡п^е^еЫе стала «Этика и эволюция» Томаса Хаксли, переведенная вернувшимся из Англии ученым Ян Фу. Тем временем дарвинистский акцент на изменении и эволюции подвигнул китайских ученых снова углубиться в собственную традицию для поиска совместимых элементов. В свете этого продолжала привлекать внимание осуществленная Гун Цзы-Чжэнем и Юань Вэем реинтерпретация конфуцианства как учения, содержащего идею изменения в истории. Опираясь на учение о трех периодах Гуна и Вэя, Кан Ювэй, сторонник реформы 1898 года, дошел до того, что в ряде спорных работ с позиции дарвинистского эволюционизма изменил имидж Конфуция как социального реформатора* 1. Многие не приняли осуществленную Каном репозицию Конфуция, но его попытка соединить конфуцианскую «Школу новых текстов» с эволюционизмом, или социал-дарвинизмом, вдохновила последующие поколения историков и ученых приспосабливать зарубежные идеи и в течение следующего столетия вносить большие изменения в современную китайскую историографию.
* Fin-de-siecle (итал.) - рубеж веков, конец XIX века.
1 См.: Hsiao Kung-ch'uan, A Modem China and a New World: K'ang Yu-wei, Reformer and Utopian, 1858-1927. Seattle, WA, 1975.
179
ГЛАВА 4
МИРОВЫЕ ВОЙНЫ И ИСТОРИОПИСАНИЕ: КРИЗИС ИСТОРИЗМА И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ
Переориентация исторических исследований и исторической мысли (1890-1914)
Смена политического и культурного климата
1890 год не является столь же значимой датой, как 1789, 1848 или 1871 годы, хотя он ознаменован смещением Отто фон Бисмарка с поста канцлера Германии. В целом же утвердившиеся в 1871 году в Западной и Северной Европе, включая Германию, Австро-Венгрию и Италию, а также в Соединенных Штатах, политические системы остались неизменными. Более нестабильной была ситуация на Балканах и в России. Происходившие с середины XIX века перемены - индустриализация и урбанизация, а на политическом уровне - возникновение массового электората, массовых партий и массовой прессы - создали условия, самым непосредственным образом, как мы увидим, повлиявшие на способы историописания. К 1890 году во всех континентальных европейских странах и в первую очередь в Германии заявили о себе мощные социалистические движения, зачастую базирующиеся на марксистских идеях, а к 1900 году немарксистская лейбористская партия появилась и в Великобритании. Повсюду было введено всеобщее избирательное право для мужчин, с запозданием в 1907 году в Австрии и в 1912 году в Италии, и хотя женщины в целом еще не имели права голоса, в Великобритании, Соединенных Штатах, Г ермании и Скандинавии движения за предоставление им избирательных прав заявили о себе в полный голос и подготовили почву для того, чтобы сразу после окончания первой мировой войны во всех этих странах допустить женщин к голосованию. Более того, набрали силу демократические партии среднего класса даже в Г ермании, где власть парламента была сильно ограниченной, а во Франции, Великобритании и Скандинавии между этими партиями и рабочим классом возникло тесное сотрудничество, проявившееся во вхождении социали¬
180
ГЛАВА 4
стов в состав французского правительства в 1900 году и в коалиции либеральной и лейбористской партий Великобритании в 1906 году. Лейбористские партии начали играть важную роль в Австралии и Новой Зеландии, а в Скандинавии набрали силу социал-демократы. В Соединенных Штатах для отстаивания социал-демократических реформ возникла Прогрессивная партия, но она старалась не высказываться против дискриминации чернокожих. Кроме того, в Германии, Австрии и Франции существовали политические движения, представляющие интересы аграриев, ремесленников и лавочников, находящихся в условиях появления крупных корпораций под угрозой исчезновения; всем им были свойственны антисемитизм и шовинизм.
Период 1890-1914 год ознаменовали и значительные изменения в интеллектуальной и культурной сферах. В физике на смену прежним механистическим понятиям пришли теории относительности и неопределенности, а психоанализ Зигмунда Фрейда занялся изучением подсознания. Во Франции и Германии на смену прежним формам реализма пришло новое искусство, такое как у Джеймса Джойса или Марселя Пруста, оба они обратились к новой форме романа. Принцип гармонии в музыке сменился принципом атональности .
Вызов традиционной историографии
Критика ранкеанской модели истории
Хотя созданные Ранке модели профессиональной науки по-прежнему доминировали в университетских исторических исследованиях, имелись несогласные с чрезмерной сосредоточенностью на политической, дипломатической и военной историях и узкой концентрацией на официальных письменных источниках. Поразительно, что как только в 1880-1890-е годы профессионализация исторических исследований ранкенского типа* 1 утвердилась в международном масштабе, она сразу же подверглась критике во всех западных странах, а также в Латинской Америке и с некоторым запозданием в Японии. Как и в Германии, как мы увидим ниже, японская критика ранкеанской историографии была инспирирована Карлом Лампрехтом2, работы которого были
атональность - явление, характерное для музыки первой трети XX века, обозначает отсутствие доминирующей тональности в музыкальном произведении, отрицает классическое построение тональности по трем основным ступеням, а также взаимосвязи между тональностями.
1 О сравнении профессионализации во Франции и Соединенных Штатах с профессионализацией в Германии см.: Gabriele Lingelbach, Klio macht Karriere: Die Institutionalisierung der Geschichtswissenschaft in Frankreich und den USA in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Göttingen, 2003.
2 Влияние Карла Лампрехта на Японию в основном рассматривалось в так называемой «Школе культурной истории», которая возникла в 1920-е годы и была
МИРОВЫЕ ВОИНЫ И ИСТОРИОПИСАНИЕ...
181
переведены на японский язык в начале XX века. Эта критика затрагивала два важных момента. Первый состоял в том, что ранкеанская историографическая модель отражает состояние общества до всеобщей индустриализации и не принимает во внимание социально-политические последствия возникновения массовой общественности. Второй, связанный с первым, критиковал ее за то, что она имела дело со слишком узким пониманием исторической науки, пренебрегающим социальным контекстом исторического развития. В Соединенных Штатах и во Франции та модель гуманитарной науки, которой придерживались исторические исследования в университетах, критиковалась не за то, что она была слишком научной (как заметил Фридрих Ницше) а за то, что она была недостаточно научной. Наука прибегает к каузальным объяснениям. На Западе и в Японии количество историков, дрейфующих в сторону социальной, экономической и культурной истории, возрастало, и иногда даже предпринимались попытки сформулировать теории исторического развития на основе эмпирических наблюдений за этими сферами.
Карл Лампрехт и МеЛюбегЫгек в Германии
В Германии спор о свойственных исторической науке методах, так называемый Ме11юс1ет&еи , положил начало острой дискуссии, разгоревшейся между авторитетной профессурой и Карлом Лампрехтом1, профессором истории Лейпцигского университета, в 1891 году опубликовавшем первый том своей в итоге получившейся двадцатитомной «История германского народа»2. В отличие от подавляющего большинства историй Германии, которые прослеживали развитие исторических событий, в конечном счете приведших к объединению Германии Бисмарком, и которые сосредотачивали свое внимание на направлявших это развитие выдающихся деятелях, Лампрехт написал историю, в которой именно общество и культура, а не выдающиеся личности, обусловили контекст, в рамках которого и следовало понимать политическую историю. «История германского народа» Лампрехта
представлена работами Цуда Сокити и Нишида Наоджиро. Для более детального ознакомления см. главу 5, а также: Naramoto Tatsuya, 'Bunka shigaku' (Cultural History) // Association of Historical Research and Association of the Study of Japanese History, ed., Nihon rekishi Koza (Лекции по истории Японии), vol. 8. Tokyo, 1968, 221-245; Nagahara Keiji, 20 seiki Nihon no rekishigaku («Японская историография XX века»). Tokyo, 2005, 81-87.
* Methodenstreit (нем.) — спор о методе.
1 Roger Chickering, Karl Lamprecht: A German Academic Life (1856-1915), Atlantic Highlands, 1993; Luise Schorn-Schutte, Karl Lamprecht: Kulturgeschichtsschreibung zwischen Wissenschaft und Politik, Gottingen, 1984; Matthias Middell, Weltgeschichtsschreibung im Zeitalter der Verfachlichung und Professionalisierung: Das Leipziger Institut für Kultur-und Universalgeschichte, 3 vols. Leipzig, 2005, vol. 1, Das Institut unter der Leitung Karl Lamprechts.
2 Leipzig, 1891-1911.
182
ГЛАВА 4
подверглась нападкам за то, что поставила под сомнение идеалистические допущения национальной немецкой историографической традиции и приняла во внимание экономические факторы, за что и была осуждена как марксистская, хотя таковой не являлась. Написанную Лампрехтом «Историю» считали подрывной, подвергающей сомнению законность прусско-немецкого государства, хотя и этого она не делала. Его собственная политическая позиция тяготела к умереннодемократическим реформам. «Историю германского народа» сочли позитивистской в том смысле, в котором понимались работы Конта и Боютя. В ней была предпринята попытка сформулировать законы исторического развития, в соответствии с которыми немецкая история прошла через ряд регулярно повторяющихся взлетов, длительность каждого из которых составляла около пятисот лет. Его история по- прежнему была нацио-центричной, с тем лишь исключением, что отныне центр нации мыслился не в ее политической организации, а в культуре, в том, что Лампрехт назвал Volksgeist, заимствовав этот термин у немецкого романтизма. Книга совершенно справедливо была раскритикована немецким историческим истэблишментом за ее поверхностность и недоказанные предположения. Социолог Макс Вебер, чрезвычайно критично настроенный по отношению к немецкой академической науке и стремящийся придать изучению истории и общества более строгий характер, сильно критиковал Лампрехта за то, что, пытаясь поднять историю до уровня науки, в действительности в деле достижения этой цели своими свободно выдвигаемыми предположениями и романтическими представлениями он оказал ей очень плохую услугу1.
«Истории германского народа» Лампрехта предшествовала защищенная им в 1884 году докторская диссертация «Хозяйственная жизнь Мозельского региона в средние века»2, серьезная и новаторская работа. В ней Лампрехт на основе тщательного изучения архивов предпринял попытку написать всестороннюю социально-экономическую историю конкретного региона, поместив его в конкретные географические условия. Приблизительно в это же самое время французский историк Шарль Сеньобос написал сходную диссертацию о Бургундии примерно того же времени3. Обе диссертации стали примерами для более позднего всплеска интереса к региональной истории, хотя Сеньобос впоследствии вернулся к более традиционной историографии. Несмотря на враждебный прием, оказанный «Истории германского народа» Лампрехта его коллегами, она, в отличие от его книги
* Volksgeist (нем.) - дух народа, народный дух.
1 Chickering, Lamprecht, 268-269.
2 Karl Lamprecht, Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter: Untersuchung über die Entwicklung der materiellen Kultur des platten Landes auf Grund der Quellen. Leipzig, 1885-1886.
3 Charles Seignobos, Regime feodale en Bourgogne jusqu'en 1360: etude sur la société et les institutions d'une province au Moyen-Ag. Paris, 1882.
МИРОВЫЕ ВОИНЫ И ИСТОРИОПИСАНИЕ...
183
по хозяйственной истории Мозельского региона, оказалась весьма популярной среди неакадемических читателей. Тем не менее, именно первая подготовила почву для новаторства Лампрехта в области Lan- desgeschichte (региональной истории), ставшей важной сферой исследований в немецкой гуманитарной науке.
Переориентация исторических исследований во Франции
Подобная немецкой (хотя и в некоторых отношениях отличная от нее) реакция против политико-дипломатической истории по немецкому образцу проявилась и во Франции, примером чему может служить основатель Revue Historique Габриэль Моно. Дело в том, что в этих странах существовали различные интеллектуальные традиции. Идеалистическая традиция, игравшая столь важную роль в ранкеанской концепции истории, во Франции отсутствовала. Единственным влиятельным историком во Франции в XIX веке был Жюль Мишле, написавший яркую историю, включившую широкие аспекты повседневной жизни и сосредоточенную не только на харизматических личностях, но и на обыкновенных мужчинах и женщинах. Самым важным .представителем современной всесторонней истории был Анри Берр, философ по образованию, основавший в 1900 году Revue de synthèse historique , в который пригласил и Лампрехта, правда, видимо, не оказавшего на него непосредственного влияния. Как следовало из названия журнала, Берр стремился к истории, которая объединит воедино все аспекты социально-культурной жизни каждой эпохи. Берр находился под сильным влиянием социолога Эмиля Дюркгейма1, французского географа Поля Видаля де ла Бланша и немецкого географа Фридриха Ратцеля. Видаль де л а Бланш и Ратцель рассматривали географию не столько как естественную, сколько как гуманитарную науку, и полагали, что история не может быть отделена от географии2. Дюркгейм же полагал, что история, как традиционно считалась, не может быть наукой, поскольку не обладает никакой системой, но своим рассмотрением обществ в исторической перспективе она может сослужить службу социологии. В отличие от немецкой традиции, настаивавшей на научности истории и на том, что история имеет дело с индивидуальным, будь то люди или общества, стремясь понять их неповторимые особенности, Дюркгейм настоятельно утверждал, что социология, частью которой история и является, занимается «коллективным сознанием» социальных групп. Обращаясь в своей книге «Суицид» к современному ему индустриальному обществу, он взялся
Revue Historique (фр.) - «Исторический журнал».
*’ Revue de synthese historique (фр.) - «Журнал исторического синтеза».
1 Steven Lukes, Emile Durkheim: His Life and Work: A Historical and Critical Study. Stanford, CT, 1985.
2 Paul Vidal de la Blache, Geographic universelle. Paris, 1927-1948; Idem., Principles of Human Geography. New York, 1926.
184
ГЛАВА 4
проанализировать самоубийство с точки зрения того, что он определил как апоШе, изоляция людей в анонимном массовом обществе, пришедшая на смену ощущению причастности в прежних традиционных обществах. Берр был убежден, что история может и должна включать в исторические структуры обрисованные Дюркгеймом коллективные феномены. Позднее его журнал стал важным форумом для международных дискуссий по поводу исторической теории и метода, которые в свою очередь повлияют на развитие новой социальной истории во Франции.
Еще в то время, когда серьезное марксистское знание все еще отсутствовало и ведущие марксистские историки еще нигде не занимали академических постов, в конце века явно марксистская история появилась во Франции. Это была «История Великой Французской революции» Жана Жореса, ведущего политического деятеля Французской социалистической партии. Чтобы показать роль рабочих и крестьян в этом событии, Жорес применил марксистскую концепцию классового конфликта. Он написал научную историю, опиравшуюся на архивные источники и сопровождавшуюся обширными иллюстрациями, но она была написана так, что могла читаться также рабочими и крестьянами. Не будучи экономическим детерминистом, он подчеркнул роль экономических факторов, обязанных, как он сказал, не только марксистскому анализу, но и «мистицизму» Мишле, в котором большую роль играли харизматические личности, в том числе обыкновенные мужчины и женщины. Поразительно, что реакция французского академического сообщества на работу Жореса отличалась от реакции немецкого академического сообщества на историю Лампрехта. К Жоресу отнеслись, как к серьезному ученому. В 1903 году он обратился к правительству Франции с просьбой создать комиссию, которая занялась бы сбором и публикацией разрозненных источников по социально-экономической истории Французской революции, и его просьба была удовлетворена. Он же и возглавил эту комиссию, состоящую из ведущих французских историков революции. В Германии университеты находились во власти ученых, поддерживающих прусскую монархию, в то время как сторонники реформ были преимущественно исключены1; во Франции же большинство ученых в университетах, которые были реформированы в период Третьей республики, придерживались республиканских идеалов2. «Роялистская историография, противостоящая республиканской и критически относящая к Французской революции, была, но ее представители - за исключением уже упомянутого Ипполита Тэна - находились преимущественно за пре¬
1 О политической и интеллектуальной атмосфере в немецких университетах см.: Fritz Ringer, The Decline of the German Mandarins: The German Academic Community, 1890-1933. Middletown, CT, 1990.
2 William Keylor, Academy and Community: The Foundation of the French Historical Profession. Cambridge, MA, 1975.
МИРОВЫЕ ВОЙНЫ И ИСТОРИОПИСАНИЕ...
185
делами университетского мира; некоторые из них были политически активны, участвуя в ультра-националистической, антисемистской Action Française 1.
«Новая история» в Соединенных Штатах
В Соединенных Штатах аналогичный поворот к социальной истории был связан с «Новой историей», которая покончила с якобы «научной историей» предшествующего поколения профессиональных историков. Важный толчок ей был задан Фредериком Джексоном Тернером 2, профессором Университета Висконсин-Мэдисон, который в своем эссе «Фронтир в американской истории» поставил под сомнение представление об истоках англо-американских свободных институтов в племенном обществе древних германцев - тезис, широко поддерживавшийся прежним поколением профессионалов, - и заявил об уникальности американской свободы, возникшей в борьбе за фронтир*. Истинная Америка была не Америкой элитного истэблишмента на Востоке, а Америкой простых людей из центральных и западных районов. Историки, по его утверждению, должны принять во внимание географические условия американского общества, ключевую роль западного фронтира и социально-культурный контекст политической истории Америки.
«История» Тернера по времени совпала с подъемом «Прогрессивного движения» в американской политике, боровшегося за демократические реформы. Ему предшествовало популистское движение 1870-1880-х годов, бывшее преимущественно аграрным движением и бросившее вызов банковским и железнодорожным монополиям. «Прогрессивное движение» приняло во внимание положение не только фермеров, но и рабочих в индустриальном обществе. Джеймс Хар¬
Action Française (фрбуквально - «Французское действие») - реакционная монархическая организация во Франции, основанная в 1899 году под руководством Шарля Морраса и организационно оформившаяся в 1905 году. Ее вооруженные отряды - «Королевские молодчики» - участники фашистского путча в феврале 1934-го. Существовала до 1944 года. Сотрудничала с немецко-фашистскими оккупантами.
1 William Keylor, Jacques Bainville and the Renaissance of Royalist History in the Twentieth Century. Baton Rouge, LA, 1979.
2 Richard Hofstadter, The Progressive Historians: Turner, Beard, Parrington. New York, 1968; Ernst Breisach, American Progressive History: An Experiment in Modernization. Chicago, IL, 1993.
* Фронтир (англ, frontier, в пер. с англ, означает «граница», «рубеж») - в истории США - зона освоения, расположенная на территории современных штатов Северная Дакота, Южная Дакота, Монтана, Вайоминг, Колорадо, Канзас, Небраска и Техас, которая постепенно расширялась и перемещалась на запад, вплоть до Тихоокеанского побережья. Бюро переписи населения США определяло фронтир как границу, за которой плотность населения была менее двух человек на квадратную милю.
186
ГЛАВА 4
ви Робинсон, с 1893 года профессор Колумбийского университета, в серии статей, опубликованных в 1900-е годы, и в своей книге «Новая история» наметил программу такой истории, которая, как он полагал, должна сосредотачивать свое внимание на обществе и культуре. Культура, в свою очередь, означала для него интеллектуальную историю, которая не была ограничена идеями крупных мыслителей, а представляла собой попытку понять менталитет той или иной эпохи. В отличие от Тернера эта история не замыкалась на Америке, а рассматривала Америку как часть западной цивилизации, в которой решающая роль принадлежит Европе. В 1919 году в Колумбийском университете был введен первый курс для бакалавров по «западной цивилизации». В то время в Колумбийском университете подобрался состав историков и специалистов в области общественных наук, в том числе философ Джон Дьюи, которые разделяли идеи Тернера. Карл Лотус Беккер посвятил ряд исследований основным течениям европейской интеллектуальной истории и европейскому влиянию на американские представления о демократии. Поражает то, что «Новая история», приверженная демократии, по-прежнему почти полностью игнорировала судьбу афроамериканского населения Америки. Вудро Вильсон, избранный в 1912 году президентом и поддержанный многими из этих интеллектуалов, противился любым реформам в системе расовой сегрегации. В целом адепты «Новой истории» пытались установить тесное сотрудничество между историей и зарождавшимися общественными науками. Тем не менее, в отличие от Лампрех- та и Берра, они не считали, что эта «Новая история» способна формулировать законы исторического развития социальных процессов, хотя и были оптимистически настроены в отношении общего хода развития современного мира в сторону все большей демократии и социального равенства. Кроме того, в отличие от Тернера, поддерживавшего идею американской исключительности, некоторые из историков- «прогрессистов» осознавали несовершенство американской демократии. В 1913 году Чарльз Бирд1 2 опубликовал свою книгу «К экономическому объяснению Конституции Соединенных Штатов». И хотя он не считал себя марксистом, он использовал две идеи, близкие марксисткой интерпретации истории и общества. Одной, как следует из названия книги, была концентрация на экономических факторах; второй - степень укорененности политической власти во власти экономической, а также степень привлечения политической власти для под¬
1 Carl Lotus Becker, The Declaration of Independence: A Study in the History of Political Ideas. New York, 1922; Idem. The Heavenly City of the Eighteenth-Century Philosophers. New Haven, CT, 1932.
2 О Бирде см.: Hoftstadter, The Progressive Historians; Peter Novick, That Noble Dream: The 'Objectivity Question' and the American Historical Profession. Cambridge, 1988; Breisach, American Progressive History; Ellen Nore, Charles A. Beard: An Intellectual Biography. Carbondale, IE, 1983.
МИРОВЫЕ ВОЙНЫ И ИСТОРИОПИСАНИЕ...
187
держания социально-экономического неравенства. Бирд взялся разрушить американский миф о том, что отцы американской конституции руководствовались, прежде всего, идеалами свободы, и вместо этого показал, что ими двигали частные экономические интересы. В отличие от Лампрехта и Берра, убежденных в возможности существования научной объективности при изучении истории и общества, Карл Беккер и Чарльз Бирд были гораздо более осторожны в своих высказываниях и подчеркивали значение субъективных факторов.
Экономическая и социальная история в Великобритании
В Великобритании переход от традиционной науки к междисциплинарной социальной истории проходил медленнее. Многие ученые по-прежнему писали в русле виговой концепции истории1, сосредотачивая свое внимание на парламентских и юридических событиях. Однако за пределами академического мира существовали важные труды по истории рабочего класса, делавшие акцент на жизни бедных слоев общества. Арнольд Тойнби, которого не следует путать со своим знаменитым племянником-тезкой, в «Лекциях по индустриальной революции в Англии», изданных посмертно в 1884 году, сосредоточил свое внимание на социальных последствиях индустриализации для городов и огораживаний в сельской местности. Были еще два супружеских тандема - Джона Лоуренса Хаммонда и Барбары Хаммонд, выпустивших в 1911 году книгу «Деревенский рабочий», и Беатрисы Вебб и Сиднея Вебб, опубликовавших «Историю тред-юнионизма» и «Теорию и практику английского тред-юнионизма», «Промышленную демократию». Труды, посвященные условиям жизни и труда рабочего класса, появись и во Франции, их авторами стали Эмиль Ле- вассер и Анри Озе.
Экономическая история, отпочковавшаяся не только от экономики, но и от истории, стала играть важную роль в 1920-е годы, но свое происхождение ведет с 1890-х гг., с того времени, когда британский экономист У. Д. Эшли получил назначение на должность заведующего первой в мире кафедрой экономической истории в Гарвардском университете. Вскоре после этого кафедры экономической истории появились по обеим сторонам Атлантики.
Новая социальная история в других регионах
Поворот от государственно-ориентированной парадигмы к междисциплинарной социально-культурной истории оказался международным явлением, охватившим весь Запад, Латинскую Америку, а вскоре и Восточную Азию. В Польше, в относительно автономных университетах Кракова и Львова, находящихся под австрийским влиянием, а также в Варшавском университете, располагающемся
1 Cm.: Herbert Butterfield, The Whig Interpretation of History. London, 1931.
188
ГЛАВА4
в той части Польши, которая находилась под русским влиянием, эта реакция была тесно связана со стремлением обеспечить национальную культуру историческим фундаментом для того, чтобы подготовить почву для восстановления национальной независимости и противостоять предпринимаемым державами-оккупантами попыткам русификации и германизации. В России, где чрезвычайно сильной была сосредоточенность на империи как политико-религиозном образовании, междисциплинарный подход, в котором политические структуры и процессы помещались в более широкий социально-экономический контекст с целью объяснения отдаления России от Запада, применялся Московской школой Василия Осиповича Ключевского и его ученика Павла Николаевича Милюкова1. С самого начала XX века, работы Лампрехта начали переводиться на японский язык, стимулируя интерес к социокультурной истории, примером чего может служить труд Цуда Сокити, решившего исследовать менталитет японского народа2. В Китае сходный импульс к расширению исследовательского поля истории был дан «Новой историей» Джеймса X. Робинсона, появившейся на китайском языке в начале 1920-х годов. Она помогла местным историкам критически осмыслить имперскую традицию монар- хо-центрированной историографии и одновременно экспериментировать с написанием национальной истории3.
Таким образом, движение в сторону социально-культурной истории происходило в международном масштабе. Конечно, в большинстве случаев оставались и прежние модели создания истории. Многие из уже упоминавшихся нами историков во всех странах мира по- прежнему работали в старой манере, избегая постановки теоретических вопросов, но практически нигде они не были свободны от политических пристрастий. Важные стимулы к переменам распространились из Германии благодаря почину Карла Лампрехта в «Истории германского народа», но именно Германия оказалась единственной страной, в которой эта новая история была шумно подвергнута остракизму. Лампрехт не был ни радикальным демократическим реформатором, ни марксистом, но его выставили именно в таком свете. Несомненно, это было связано с полу- автократической формой правления в Германии и опасениями широких слоев среднего класса, что демократизация и политические реформы в этом направлении усилят влияние стоящего на социал-демократических позициях рабочего
1 Anatole G. Mazour, Modern Russian Historiography. Westport, CT, 1975; Thomas M. Bohn, Russische Geschichtswissenschaft von 1880 bis 1905: Pavel N. Miljukov und die Moskauer Schule. Köln, 1998.
2 О современном изучении исторических идей и историографии Цуда Сокити см.: Ueda Masaki, ed., Tsuda Sokichi. Tokyo, 1974.
3 Q. Edward Wang, Inventing China through History: The May Fourth Approach to Historiography. Albany, NY, 2001, 67-72.
МИРОВЫЕ ВОЙНЫ И ИСТОРИОПИСАНИЕ...
189
класса. Более того, немецкие историки, как мы видели в предыдущей главе, сыграли очень важную роль в мобилизации общественного мнения на поддержку полу-автократического режима 1871 года, который в ответ на социально-политические требования среднего класса принял конституцию, удовлетворившую многие из этих требований, но одновременно сохранившую статус-кво. В результате вызов, брошенный Лампрехтом традиционной историографии с ее идеалистическими посылками, был расценен как угроза существующему социально-политическому порядку.
Международные обмены
Впервые после эпохи Просвещения XVIII века появились международные обмены ученых. Во второй половине XIX века в Германию с целью получения образования приехало много американских, французских и восточноевропейских ученых, а в скором времени к ним присоединились ученые из Японии и Ближнего Востока. Этот процесс продолжился и в начале XX века. Так, Робинсон, центральная фигура в американской «Новой истории», учился вместе с Лампрехтом в Лейпциге, ставшем центром регулярных встреч небольшой группы ученых, разделявших общие взгляды в области социальных наук, в том числе экономист Карл Бюхер, психолог и философ Вильгельм Вундт и географ Фридрих Ратцель. В Лейпциге учился и Дюркгейм, равно как и ведущий румынский историк Николае Йорга, получивший в 1893 году в Лейпциге свою докторскую степень под руководством Лампрехта. Другие историки учились в Берлине, в том числе Робинсон и афро-американский историк и социолог У. Э. Б. Дюбуа, посещавший лекции историка-экономиста Густава фон Шмоллера и переписывавшийся с Максом Вебером.
Примером международной кооперации в исторических науках может служить основанный в 1893 году австрийским историком социал- демократом Лудо Морицем Хартманном и немецким историком- консерватором Георгом фон Беловым ежеквартальный журнал по экономической и социальной истории Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte , печатавший статьи европейских и североамериканских авторов на немецком, французском, английском и итальянском языках. В 1904 году на Конгрессе искусств и наук в рамках Всемирной выставки в Сент-Луисе основные представители новой истории - Карл Лампрехт, Фредерик Джексон Тернер, Джеймс Харви Ро- бинсо и англичанин Д. Б. Бьюри - на сессии под руководством Вудро Вильсона обсудили новые направления социальных и исторических исследований. На Конгрессе также присутствовали социолог Макс Вебер, религиозный социолог Эрнест Трёльч и немецкий историк
Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte (нем.) — «Ежеквартальник по социальной и экономической истории».
190
ГЛАВА 4
церкви Адольф фон Гарнак1. Позже в 1904 году Лампрехт прочел цикл лекций в Колумбийском университете, которые на следующий год были опубликованы на английском языке под заголовком «Что такое история? Пять лекций по современной исторической науке»2. Он заслуженно привлек к своим идеям большое внимание в Соединенных Штатах; в 1906 году он был избран почетным членом Американской исторической ассоциации, однако сомнительно, оказал ли он с его спекулятивной концепцией исторических законов какое-нибудь непосредственное влияние на американскую историческую науку.
Дискуссии по исторической теории
В 1890-е - начале 1900-х протекали и теоретические дискуссии о природе исторического знания, особенно в Германии. Вновь вспыхнули споры вокруг позитивизма, начатые в 1860-е годы Дройзеном в его критике Бокля. Позитивистские взгляды Карла Лампрехта, считавшего, что история должна следовать примеру других наук в плане создания генерализаций и формулирования законов, немецкими историками были восприняты как вызов. Тем не менее они разделяли мысль о том, что история является строгой наукой, но такой наукой, которая вследствие особости человеческой жизни и сознания все-таки отличается от естественных наук.
Вильгельм Дилытей
В 1883 году важный вклад в эту дискуссию еще в самом ее начале внес Вильгельм Дильтей своей работой «Введение в науки о духе»'3, в которой он согласился с Кантом в том, что природа человеческого мышления предписывает четкую исследовательскую логику. Дильтей попытался сформулировать принципы подобного исследования, утверждая, что в отличие от других наук история и общественные науки еще не свободны от метафизики. Аналогичную попытку уже предпринимали Конт и Джон Стюарт Милль, но, по мнению Дильтея, этим они лишь исказили историческую реальность. Основу этих наук следует искать в человеческом сознании. Дильтей соглашался с эмпириками и позитивистами в том, что все науки должны опираться на опыт, но подчеркивал, что опыт не есть просто пассивное состояние,
1 Congress of Arts and Sciences: Universal Exposition, St. Louis 1904, vol. 2. Boston, MA, 1906.
2 What is History? Five Lectures in the Modem Science of History New York, 1905.
3 На английском языке: Introduction to the Human Sciences: An Attempt to Lay a Foundation for the Study of Society and History. Detroit, 1988 (рус. пер.: Дильтей, В. Введение в науки о духе (фрагменты) // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX вв.: Трактаты, статьи, эссе. М., 1987). О Дильтее см.: Jacob Owcnsby, Dilthey and the Narrative of History. Ithaca, NY, 1994.
МИРОВЫЕ ВОЙНЫ И ИСТОРИОПИСАНИЕ...
191
в рамках которого осознанное мышление получает некие данные от органов чувств, так как «любой опыт изначально связан с состоянием нашего сознания, в котором он и возникает в совокупности всей нашей природы»1.
Для него задача исторических и социальных наук (Geisteswissenschaften - наук о духе) состояла в анализе данных человеческого сознания, потому что эти науки должны принимать во внимание мышление, индивидуальные действия и институты как компоненты всех существующих общностей и процессов и что они могут быть поняты только в этом контексте. Все это напоминает нам Дройзена, а также в менее выраженной форме - Ранке. Следовательно, все общественные науки, заключает Дильтей, нуждаются в методе, который объединяет в себе психологический и исторический анализ. А, поскольку любое мышление является частью контекста, ничего априорного не существует. На философские вопросы, таким образом, нельзя ответить априори, а только генетически, «с помощью эволюционной истории [.Entwicklungsgeschichte], которая проистекает из всей совокупности нашего бытия»2. Дильтей таким образом отрицает позитивистскую идею существования исторических законов, но все еще верит в наличие у истории прогресса. Для него естественные науки и Geisteswissenschaften - это различные типы знания. Вместе с Дройзеном он верит в то, что реально мы можем познать только социальный и человеческий миры, но не физический мир. Все наше знание о физическом мире «относительно» в том смысле, что мы никогда не воспринимаем его напрямую, мы всего лишь наблюдаем его внешние взаимосвязи. Дильтей согласен с Кантом в том, что в физическом мире эти взаимосвязи не существуют объективно, а навязаны нашим сознанием. Для него реальное знание возможно только в Geisteswissenschaften. Истина Geisteswissenschaften, однако, существует не благодаря своей связи с внешней реальностью. Скорее, «то, что я ощущаю в себе, является фактом моего сознания, потому что я это осознаю». Дилемма, с которой столкнулся Дильтей, очень напоминала ту, перед которой оказалась вся немецкая историческая школа и которая заключалась в бессмысленности абстрактного знания и ограниченности познания положением человека в истории. Немецкая историческая школа, однако, нашла решение этой дилеммы, отвергнутое Дильтеем в Einleitung in die Geisteswissenschaften, хотя позднее он и возвратился к нему; оно состояло в признании органической связи между человеком и обществом, а также того, что общество и нация являются частью более широкого контекста. По Дильтею, индивидуальное содержит в себе элемент личносто-уникального, которое не может быть просто соот¬
1 Uht. no: Georg G. Iggers, The German Conception of History: The National Tradition of Historical Thought from Herder to the Present. Middletown, CT, 1983, 135.
2 Ibid.
192
ГЛАВА 4
несено с обществом. Поэтому органическая аналогия была ошибочна и подобно другим абстрактным идеям не подходила для изучения общества.
Неокантианцы: Вильгельм Виндельбанд
и Генрих Риккерт
Представители немецкой исторической школы, в том числе Диль- тей, признавали возможность объективного знания о прошлом даже в условиях вторжения субъективных факторов и полагали, что интуитивное понимание (Verstehen) обеспечивает связь между интуицией и объективной реальностью. Но ни один из них, включая Дильтея, не создал методологию, которая позволила бы сверить интуитивно добытое знание с объективной реальностью. Решение этой проблемы попытались найти три философа-неокантианца - Вильгельм Виндель- бандт, Генрих Риккерт и Макс Вебер1. Историки и философы очень часто отождествляются с изречением - как (в случае с) Ранке, когда он написал, что историк должен показать как это было -wie es eigentlich gewesen, - которое упрощает сложность их идей. То же самое относится и к Виндельбанду, когда в 1894 году во Фрайбургском университете в своем известном ректорском обращении «История и естественные науки»2 он провел различие между «номотетическими» методами естественных наук, занятыми поисками генерализаций и законов, и «идиографическим методом» исторической науки, призванным схватить индивидуальный характер исторических явлений - различие, которое было очень созвучно критике немецкими историками Лам- прехта. Однако Виндельбанд был убежден в том, что различие между «номотетическим» и «идиографическим» подходами состоит не в содержательном различии гуманитарных и естественных наук - психология ведь могла быть и номотетической, и идиографической, а генерализации признавались возможными даже в истории, - а, скорее, в самом типе искомого знания. Будучи неокантианцем, он был согласен с Кантом в том, что наше знание получается не непосредственно из объективной реальности, а является продуктом нашего сознания, действующего по универсальным законам логики. Он, таким образом, отрицал идею относительности истины для историка и полагал, что исторические истины существуют независимо от историка, точно так же как математические - независимо от математика. Несмотря на его явное отрицание позитивизма, он по-прежнему считал, что история развивается в соответствии с рациональной целью, двигаясь к которой человечество совершенствует себя.
1 Thomas E. Willey, Back to Kant: The Revival of Kantianism in German Social and Historical Thought. Detroit, Ml, 1978.
2 Cm.: History and Theory, 19 (1980), 165-185.
МИРОВЫЕ ВОЙНЫ И ИСТОРИОПИСАНИЕ...
193
Генрих Риккерт в поисках подходящей для исторической науки методологии намеревался пойти еще дальше. Он разделял основные неокантианские взгляды Виндельбанда о бесконечной обоснованности логических и этических суждений. В этом смысле он, как и Вин- дельбанд, отличался от представителей немецкой исторической школы. И, подобно Виндельбанду, он верил в возможность достижения объективного знания о физическом и историческом мирах. Он проводил различие между науками о природе и науками о культуре (Kulturwissenschaften) - различие, так нравившееся критикам Лампрехта. И подобно Виндельбанду, различие между ними он видел не в содержании, а в методе. Подобно ученому-естественнику, историк должен работать с понятиями. Но все-таки между природой и культурой имеется принципиальное различие. Все продукты культуры связаны с ценностями, в то время как природные объекты их лишены. Понимание этих ценностей невозможно без четких дефиниций. Историк или культуролог отбирает объекты для своего изучения не объективно, как все еще считал Виндельбанд, а исходя из вырабатываемых в процессе исторического развития культурных ценностей. И это привело Риккерта к пессимистическому замечанию о том, что «для понимания культурных ценностей подходит только исторический метод, но в качестве мировоззрения (Weltanschauung) он представляет собой ведущий к нигилизму абсурд (Unding)»1.
Макс Вебер
Однако самая серьезная критика исторической школы за отсутствие у нее четкого метода и одновременно позитивистского подхода Лампрехта исходила от Макса Вебера. Подобно своему гейдельбергскому коллеге Риккерту, Вебер подчеркивал, что культуры должны изучаться с точки зрения вырабатываемых ими ценностей, и, как и Риккерт, настаивал на том, что такое исследование должно быть свободно от ценностей самого исследователя. Только теперь Вебер говорил не о культурных науках, а о социальных, и взялся за формулировку методологии, которая поднимет точность изучения общества до уровня других наук2 * * * * 7. Намного решительнее, чем Риккерт и вообще неокантианцы, он отрицал существование каких-либо надежных ценностей вне соответствующих культур. Миру человека свойствен конфликт ценностей, ни одна из которых не коренится в науке или разуме. Тонкая связь между этикой и разумом, за которую упорно держа¬
1 Цит. по: Iggers, German Conception of History, 158.
2 Max Weber, "’Objectivity” in Social Science and Social Policy' // H. H. Gcrth and
C Wright Mills, eds, Max Weber on the Methodology of the Social Sciences. Glen¬
coe, 1949. (рус. пер.: M. Вебер. Объективность социально-научного и социаль¬
но-политического познания // М. Вебер. Избранные произведения: М., 1990.
С. 345-415).
73ак. 1183
194
ГЛАВА 4
лись Виндельбанд и Риккерт, была разорвана1. Однако, несмотря на обширное чтение Дильтея, Зигмунда Фрейда и Фридриха Ницше, - Вебер сохранил свою твердую уверенность в возможности рационального мышления, не затронутого эмоциями или фрейдовским бессознательным. Ни одна из изучаемых культурных ценностей не имеет какой-либо объективной обоснованности. Но, писал он, «правилен и всегда останется таковым тот факт, что методически корректная научная аргументация в области социальных наук, если она хочет достигнуть своей цели, должна быть признана правильной и китайцем <...> хотя он может быть “глух” к нашим этическим императивам»2 3. Вебер признавал, что науки о культуре и социальные науки имеют дело с уникальными и имеющими качественное измерение событиями, которые требуют методов, отличных от методов естественных наук; однако все науки, в том числе науки о культуре и общественные науки, нуждаются в четких понятиях, теориях и генерализациях. Но, поскольку культуры представляют собой сети значений, они нуждаются в понятиях, которые пытались бы уяснить эти значения в конкретных условиях. Таким образом, он призвал к тому, что назвал verstehende Soziologie (понимающей социологией), которая, в отличие от немецкой исторической школы, рассматривала Verstehen не как интуитивный акт, а как такой акт, в котором задействованы рациональные понятия. Тем самым он примкнул к венскому экономисту Карлу Менгеру, критиковавшему односторонность исторического подхода Густава фон Шмоллера и немецкой исторической школы политэкономии3 - подхода, который иг¬
1 Мах Weber, 'Politics as а Vocation' // Н. Н. Gerth and С Wright Mills, eds, From Max Weber: Essays in Sociology. New York, 1946, 76-128 (рус. пер.: M. Вебер. Политика как призвание и профессия // М. Вебер. Избранные произведения: М.: Прогресс, 1990. С. 644-706).
* Иггерс не указывает здесь на наличие разрыва в цитате. На самом деле эта цитата Вебера выглядит следующим образом: «Правилен и всегда останется таковым тот факт, что методически корректная научная аргументация в области социальных наук, если она хочет достигнуть своей цели, должна быть признана правильной и »китайцем, точнее должна к этому, во всяком случае, стремиться, пусть даже она из-за недостатка материала полностью не может достигнуть указанной цели. Далее, логический анализ идеала, его содержания и последних аксиом, выявление следующих из него логических и практических выводов должны быть, если аргументация убедительна, значимыми и для китайца, хотя он может быть “глух” к нашим этическим императивам, может и, конечно, будет отвергать самый идеал и проистекающие из него конкретные оценки, не опровергая при этом ценность научного анализа» // Вебер М. Объективность социально-научного и социально- политического познания // Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 354).
2 Weber, ' "Objectivity" in Social Science,’ 58 (рус. пер.: M. Вебер. Объективность социально-научного и социально-политического познания // М. Вебер. Избранные произведения: М.: Прогресс, 1990. С. 345-415).
3 Carl Menger, Die lrrtümer des Historismus in der deutschen Nationalökonomie. Vienna, 1884.
МИРОВЫЕ ВОИНЫ И ИСТОРИОПИСАНИЕ...
195
норировал закономерности в экономическом поведении; но он критиковал и Менгера, а также классическую политэкономию за то, что они сводили экономику к неисторическим законам1. Социология возможна потому, что в пределах культур и обществ люди ведут себя в соответствии с определенными принятыми стандартами. Вебер отвергал идею исторической школы, согласно которой поведение людей и социальных групп нельзя сопоставить. По Веберу, полагать, что «свобода воли идентична иррациональности поведения, - это ошибка». «Непредсказуемое поведение (Unberechenbarkeit) - привилегия безумца»2. Таким образом, в каждом обществе существуют принятые модели поведения, и задача социолога состоит в том, чтобы редуцировать их до уровня понятий. Хотя Вебер верил в возможности рационального мышления, он подчеркивал, что свойственные обществу и культуре особенности не являются исследователю непосредственно, но отражают задаваемые им вопросы. Социальным наукам свойствен элемент субъективности. Подобно Дюркгейму, Вебер верил, что социальная наука должна заниматься типологиями, но они не полностью соответствуют реальности. Они являются нашими попытками «схватить» реальность. Вебер назвал их «идеальными типами», которые эмпирически и концептуально должны подвергаться верификации на предмет их соответствия социальной реальности.
Однако между радикальным этическим релятивизмом Вебера и его убежденностью в бессмысленности мира, с одной стороны, и его фактической философией истории, с другой, существовало некое противоречие, его позиция была близка к социал-дарвинизму, хотя он никогда бы не признался в этом. Вебер был ярым немецким националистом, рассматривающим историю как борьбу за национальное выживание. В мире идет непрерывная борьба Weltanschauungen (мировоззрений). И задача политики состоит не в том, чтобы определиться с обоснованностью этих мировоззрений, а в том, чтобы - ощущая связь с реальностью - решить, как именно то или иное мировоззрение можно было бы воплотить в жизнь. Этика, подобная той, что представлена в «Нагорной проповеди», не придает значения этим реальностям и потому несостоятельна3. В одной из своих ранних работ, выступая против притока польских сельскохозяйственных рабочих в Германию, он открыто встал на позицию расизма. Так, немцы, которые конкурировали с поляками в многовековой борьбе, в которой они доказали свое культурное превосходство, находились под угрозой вытеснения «низшей расой»
1 Мах Weber, 'Roscher und Knies und die logischen Probleme der historischen Nationalökonomie'// Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Tübingen, 1968), 1-145.
2 Цит. по: Iggers, German Conception of History, 163.
3 Weber, 'Politics as a Vocation', 119 рус. пер.: M. Вебер. Политика как призвание и профессия // М. Вебер. Избранные произведения: М., 1990. С. 644-706).
196
ГЛАВА 4
{tieferstehende Rasse)'. Позднее он не повторял этого обвинения. Вскоре он начал подчеркивать, что в международной борьбе за выживание немцы должны двигаться в сторону парламентской демократии. Он считал так не потому, что был приверженцем демократии, а потому что верил: единственный способ выживания в международной борьбе за власть состоит в том, чтобы преодолеть отчуждение рабочих классов и обуздать устаревшую власть аристократии и бюрократии. В начале первой мировой войны он поддерживал большие аннексии, но чувство реальности подвигло его призвать к 1917 году к мирному договору без аннексий и к политическим реформам, а в ноябре 1918 года - поддержать немецкую республику1 2.
На протяжении своей научной карьеры Вебер занимался сравнениями западной и незападных цивилизаций. Он предполагал, что каждая из этих цивилизаций прошлого и настоящего обладала набором ценностей, определявших ее характер. Тем не менее, несмотря на свой ценностный релятивизм, это сравнение привело его к допущению о превосходстве западной культуры. Он видел, что Запад обладает особой формой рационализма, а именно наукой в виде абстрактно-логического или эмпирического мышления. Другим культурам в том или ином виде тоже было свойственно научное мышление, но только не в такой абстрактной форме. Другими словами, истинная наука существовала только на Западе. Истории Запада был присущ процесс интеллектуализации, в ходе которого прежние религиозные и метафизические иллюзии были отброшены в пользу научных теорий. С одной стороны, Запад был одной из множества культур, с другой стороны, присущее ему представление о разуме и науке корреспондировало с универсальными критериями логического мышлениями3. В итоге же этот процесс интеллектуализации означал не только интеллектуальный прогресс, но и разрушение взлелеянных ценностей и столкновение современного человека с бессмысленностью существования.
Экзистенциальный кризис современной цивилизации
Эта концепция прогресса истории Запада, ведущая, с одной стороны, к лучшему миру, а с другой - к условиям, порожденным самим этим прогрессом, при которых прежние верования и ценности будут разрушены, и люди погрузятся в экзистенциальный кризис, возникла
1 Цит. по: Iggers, German Conception of History, 169. Также см. Wolfgang J. Mommsen, Max Weber and German Politics 1890-1920. Chicago, IL, 1984.
2 Mommsen, Max Weber and German Politics.
3 Max Weber, ’Introduction', The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. New York, 1958, 13-31 (рус. пер.: Вебер M. Протестантская этика и дух капитализма. М., 2003).
МИРОВЫЕ ВОЙНЫ И ИСТОРИОПИСАНИЕ...
197
одновременно у многих схожих мыслителей, самыми выдающимися примерами которых были Дюркгейм, Фрейд и Вебер. До этого мы имели дело с историками и философами, большинство из которых занимало умеренные позиции. Но значительная часть общественного мнения шла еще дальше по пути признания верховенства Запада и откровенного расизма. 1890-е и 1900-е стали свидетелями еврейских погромов в Российской империи и Румынии, а также дела Дрейфуса во Франции, хотя в последнем случае Дрейфус и Третья республика были реабилитированы. В 1896 году решение Верховного Суда Соединенных Штатов в деле «Плесси против Фергюсона» о том, что расовая сегрегации, в том виде, как она практиковалась на Юге, не нарушает американскую Конституцию, отразило общественное мнение своего времени, точно так же как решение того же Суда в деле «Браун против Министерства просвещения» 1954 года, объявившего расовую сегрегацию в школах неконституционной. Индикатором общественных настроений на пороге нового века было то, что мир закрывал глаза на истребление немцами большой части коренного населения страны в так называемой войне Гереро (1904-1908) в немецкой Юго- Восточной Африке (сейчас Намибия). Для создания позитивного исторического имиджа этих действий в Германии даже были воздвигнуты памятники погибшим в годы этой войны солдатам. Факт убийства миллионов африканцев на территории, которая впоследствии стала бельгийским Конго, был также легитимирован историческими концепциями расового и культурного превосходства Запада.
Историография между двумя мировыми войнами (1918-1939)
Историки в годы первой мировой войны1
31 июля 1914 года, в самый канун начала военных действий, французский фанатик-националист убил Жана Жореса, политического лидера - социалиста и историка, который в последний раз обратился к Франции с призывом устраниться от участия в войне. Это убийство отразило силу националистического чувства, приведшего к изменению политического климата.
Период 1890-1914 гг. ознаменовался, по крайней мере, на Западе, но в некоторой степени и в других регионах, расширением историче¬
1 Об университетах Германии, России, Франции и Великобритании в годы первой мировой войны см.: Maurer, ed., Kollegen-Kommilitonen-Kampfer: Europäische Universitäten im Ersten Weltkrieg. Stuttgart, 2006; также: Notker Hammerstein, 'The First World War and Its Consequences' // Walter Riiegg, ed., A History of the Universities in Europe, vol. 3. Cambridge, 2004, 641-645.
198
ГЛАВА 4
ской перспективы, а именно отходом от узкогосударственноориентированной истории, прежде всего военной или дипломатической, находившейся в относительной изоляции от междисциплинарных подходов, к социальной, экономической и культурной истории. Более того, несмотря на постоянно растущие националистические чувства, этот период был отмечен возросшей международной коммуникацией. В 1914 году, с началом войны, эта последняя тенденция была прервана, а в некоторых случаях даже обращена вспять.
Страшно осознавать, сколь широкой была поддержка войны во всех воюющих странах. Торжественные массовые демонстрации прошли в Берлине, Париже, Вене, Санкт-Петербурге и Лондоне. Повсюду церкви - лютеранские, римско-католические, русская православная, а в Англии не только англикане, но и (за исключением квакеров) нонконформисты - просили Бога благословить их воюющие армии. И интеллектуалы, и писатели единогласно выступали за войну, по крайней мере, на ее ранних стадиях, как войну, призванную защитить их культуры, и среди них были такие мыслители, как Зигмунд Фрейд, Эмиль Дюркгейм, Макс Вебер и Томас Манн. Диссидентских голосов было совсем немного, в первую очередь Альберт Эйнштейн в Герма- нии и писатель Ромен Роллан во Франции. Открытые критики войны, такие как философ Бертран Рассел в Англии, Роза Люксембург в Германии в 1917 году, после вступления в войну Америки, социалистический лидер Юджин Дебс, были брошены в тюрьму.
Грустно осознавать, как интеллектуалы, и особенно историки, подчинили свои знания тому, что они считали своим патриотическим долгом - обслуживанию дела войны. Учитывая растущее влияние национализма, это ни в коем случае не было исключительно западным явлением. Во Франции Эрнест Лависс и Эмиль Дюркгейм - оба учились в Германии и высоко чтили немецкие интеллектуальные традиции - теперь обнаружили ряд интеллектуальных несогласий, начиная от Лютера и заканчивая монархией Гогенцоллернов, Бисмарком и прославлением Трольчке сильной Macht (власти). Преподаватели факультета современной истории Оксфордского университета в своей серии книг «Почему мы воюем: случай Великобритании»1 придерживались сходных позиций. Война рассматривалась как конфронтация двух культур: основанной на «правовом государстве» культуры западных союзников и прусской культуры, основанной на маккиавел- левском принципе raison d'etat, то есть достижении политической власти и военными средствами в случае необходимости. Авторы признавали существование двух Германий: милитаристской Германии Потсдама и подчиненной ей германской культуры Веймара. Официальная контрпропаганда немцев, широко поддержанная историками и вообще
1 Stuart Wallace, War and the Image of Germany: British Academics 1914-1918. Edinburgh, 1988.
МИРОВЫЕ ВОИНЫ И ИСТОРИОПИСАНИЕ...
199
интеллектуалами, исходила из того, что это было столкновение двух культур: «идей 1914 года», воплощенных в политическом статусе-кво Германии с приписываемым ей чувством социальной справедливости и корнями в богатой культурной традиции, в противовес демократическим идеям Франции и Англии, которым недостает этого чувства ответственности. Писатель Томас Манн утверждал, что Германия олицетворяет собой Kultur (культуру) со свойственным ей философским идеализмом и чувством общности, в то время как западные союзники олицетворяют собой Zivilisation (цивилизацию) с присущим ей рационалистическим мышлением и грубым материализмом1. Международное сотрудничество историков в предвоенный период прекратилось и не было восстановлено вплоть до окончания войны. Vertel- jahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, выходивший на четырех языках и намечавший новые направления в области социальной истории, отныне стал исключительно немецким журналом, специализирующимся на узкоинституциональной и административной истории. Упадок международных связей отразился в разрыве между Карлом Лампрехтом и бельгийцем Анри Пиренном, являвшимся до этого посредником между французскими и немецкими социальными историками. Когда Карл Лампрехт, бывший хорошим другом Пиренна, но горячим сторонником немецкой политики, в том числе вторжения в Бельгию, нанес Пиренну визит, тот захлопнул перед ним дверь2. Почти до конца 1920-х гг. Пиренн высказывался против того, чтобы приглашать немецких историков принимать участие в международных конференциях.
Никогда прежде правительствам не удавалось так эффективно вовлекать историков в свою пропагандистскую работу, как в годы первой мировой войны, и она сумели заручиться огромной поддержкой среди историков. Это относится ко всем воюющим странам, но особенно к Соединенным Штатам, где распространение современных средств массовой информации происходило особенно интенсивно. Почти сразу после вступления в 1917 году Америки в войну президент Вудро Вильсон учредил Комитет по общественной информации (Committee of Public Information - CPI), который, работая в тесном сотрудничестве с Американской исторической ассоциацией, занимался распространением пропагандистских материалов десяткам тысяч потенциальных читателей. Кроме того, Американская историческая ассоциация основала History Teacher's Magazine («Журнал учителей истории»), который инструктировал учителей средних школ, как преподносить историческую подоплеку войны. Из американских университетов и колледжей в процентном соотношении было уволено боль¬
1 Cm.: Thomas Mann, Betrachtungen eines Unpolitischen, 1918; English: Reflections of an Unpolitical Man. New York, 1983.
2 Chickering, Lamprecht, 439.
200
ГЛАВА 4
ше преподавателей, чем в любой другой вовлеченной в войну стране. Способ приема историков на работу в различных европейских странах предполагал большую социально-политическую однородность, чем среди профессиональных ученых Соединенных Штатов. Хотя многие интеллектуалы в случае победы Германии усматривали в этом угрозу западной демократии, были и пацифисты. Значительное число историков и других интеллектуалов были уволены из государственных и частных учреждений высшего образования. Чарльз Бирд, считавший вступление США в войну против Германии необходимостью, после того как многие из его коллег были уволены за свои антивоенные выступления, в знак протеста против ущемления академической свободы в 1917 году отказался от занимаемой им должности в Колумбийском университете. Там же, в Колумбийском университете, давлению подвергся Джеймс Харви Робинсон - ему порекомендовали пересмотреть свой широко распространенный учебник «Средние века и Новое время» и внести в него больше анти-германских примечаний, и он уступил1.
В Германии, где среди историков существовал полный консенсус, в таком давлении не было необходимости. Единственным исключением был случай с Вайтом Валентином, потерявшим в 1917 году свое venia legendi - разрешение преподавать в высшей школе - из-за предполагаемого у него отсутствия патриотизма2. Его venia legend не было восстановлено и после войны. Немецкие историки громко поддерживали призывы к общественной поддержке немецкой военной политики. Самой известной и самой позорной из всех этих деклараций стало Aufruf an die Kulturwelt (Воззвание «К цивилизованному миру»)3, подписанное 93 самыми выдающимися немецкими интеллектуалами, учеными, художниками и писателями, которые оправдывали вторжение в Бельгию и не усматривали никакого противоречия между военной традицией Германии и немецкой культурой. Аналогичная декларация была подписана четырьмя тысячами преподавателей высших учебных заведений. Это Воззвание 93 содержало в себе и мрачную расистскую идею, обвиняя союзников в «позорном подстрекательстве монголоидов и негров к выступлению против белой расы» и поэтому лишившихся права называться защитниками цивилизации» . В проти¬
1 Novick, 'Historians on the Home Front', That Noble Dream, Chapter 5, 11-32.
2 Hans Schleier, 'Veit Valentin' // Hans Schleier, Die bürgerliche Geschichtsschreibung der Weimarer Republik. East Berlin, 1975, 346-398; Elisabeth Fehrenbach, 'Veit Valentin' // Wehler, Deutsche Historiker, 1, 69-85.
3 Полный текст Aufruf an die Kulturwelt c 93 подписями можно найти через Google.
Дословно: «Как могут называть себя защитниками европейской цивилизации те, кто заключил союз с русскими и сербами и опозорил себя перед всем миром, натравив монголов и негров на белую расу?» - полный текст воззвания см. на сайте: www.budyon.org/budy_files/articles/93.htm
МИРОВЫЕ ВОИНЫ И ИСТОРИОПИСАНИЕ...
201
вовес этому воззванию восемь деятелей подписали декларацию несогласия; в их числе был и Альберт Эйнштейн1.
Однако этот консенсус среди немецких историков и интеллектуалов по мере развития войны распадался. В 1917 году Рейхстаг принял «Резолюцию о мире», не имевшую аналогов в других воюющих странах, и призвал немецкое правительство к мирным переговорам без территориальных аннексий. Правительство, которое теперь уже находилось во власти военных во главе с генералами Паулем фон Гинден- бургом и Эрихом Людендорффом, эту резолюцию проигнорировало. Тогда многие известные интеллектуалы, в том числе историк Фридрих Майнеке, исторически ориентированные социологи Макс Вебер и Альфред Вебер и Эрнест Трёльч, создали свободную политическую группу, призвавшую к сдерживанию войны и политическим реформам в направлении парламентской демократии. Это разделение на историков, которые придерживались установленного политического порядка и принятых способов создания истории, и меньшинство историков и социологов, умеренных в своих целях, но тем не менее осознающих потребность в реформах как в политике, так и в науке, сильно повлияет на интеллектуальный и научный климат в послевоенной Германии2.
Критика рационализма, современности и защитников Просвещения
Вудро Вильсон объявил, что война велась «во имя сохранения мировой демократии», и в «14 пунктах» призвал нации к самоопределению. Вместо этого период между двумя мировыми войнами во всех странах был отмечен политической нестабильностью, за исключением давно существовавших демократических государств в Западной и Северной Европе и в Соединенных Штатах. В новых национальных государствах, появившихся после расчленения довоенных империй Германии, Австро-Венгрии, Османской империи и России, были установлены демократические формы правления, однако все эти новые демократии, за исключением Чехословакии, скатились к авторитарным режимам, как это случилось в Италии, Португалии, Германии и в конечном счете в Испании. Победившие союзники распорядились территориями таким образом, что земли побежденных государств отошли к новым государствам; в результате в составе этих государств оказались крупные и проблемные меньшинства. В результате Октябрьской революции в лице Советского Союза возникло авторитарное государство, считавшее своим долгом установление социализ¬
1 Albert Einstein, 'Manifesto to the Europeans' (with G. F. Nicolai and F. W. Forster), mid-October 1914 // The Collected Papers of Albert Einstein, 8 vols. Princeton, NJ, 1987-2002, vol. 6, 28-29.
2 Ringer, Decline of the German Mandarins.
202
ГЛАВА 4
ма, который позиционировал себя как вызов установленному в капиталистическом мире общественному порядку и именно так рассматривался последним. Нацисты считали себя буфером против большевизма и одновременно желали поквитаться с западными демократиями, оскорбившими и наказавшими Германию в мирных договорах 1919 года.
Эта нестабильность нашла свое отражение в растущем разочаровании как в демократии, так и в современной цивилизации. Этто разочарование разделяли Фридрих Ницше, Вильфредо Парето, Джордж Сорель, а между двумя мировыми войнами- Йохан Хейзинга, Мартин Хайдеггер, Т. С. Элиот, Эзра Паунд и многие другие. Они полагали, что в современном обществе утеряно чувство общности, а демократия привела к восстанию масс, разрушивших все культурные ценности. В работах Фридриха Ницше в 1870-1880-е гг. и полстолетия спустя в труде Хосе Ортеги-и-Гассета «Восстание масс» критика велась в точки зрения аристократии, которая не обязательно была пессимистичной, но которая решительно отвергла идею прогресса, предполагающего движение современного мира в сторону просвещения и демократии. Что касается итальянских футуристов и нацистов, а в некотором смысле и нацистского движения, несмотря на идеализацию последним средневекового аграрного порядка, то у них присутствовало желание создать новый социальный и политический порядок, возглавляемый харизматическим лидером и вдохновляемый ультранационалистическим мифом1. Революционная идея мифа пронизывала и чувства Джорджа Сореля, анархо-синдикалиста, отвергнувшего как марксистскую веру в прогресс и научный социализм, так и социал- демократическую поддержку реформ. Он настаивал на том, что революционное насилие подвигнет массы к активным действиям. Не удивительно поэтому, как парадоксально это ни кажется на первый взгляд, что Сорель был востребован и Лениным, и Муссолини2.
Одним из ключевых моментов критики современности были нападки на рациональное мышление. Опять-таки важным компонентом философского дискурса, по крайней мере, на континенте, стали идеи, уже распространившиеся до 1914 года. Примером этого антирационализма является виталистическая философия Анри Бергсона, для которого основной реальностью была жизнь. Он утверждал, что рацио применимо лишь к механистическому миру мертвой природы, в то время как жизнь может быть понята только непосредственно, не рациональным или эмпирическим путем, а посредством интуиции. Таким образом, представления о том, что есть реальность, полностью поменялись, и особая роль была отведена мифу. Это отрицание реаль¬
1 Jeffrey Herf Reactionary Modernism: Technology, Culture and Politics in Weimar Germany and the Third Reich. Cambridge, 1986.
2 Jack Roth, The Cult of Violence: Sorel and the Sorelians. Berkeley, CA, 1980.
МИРОВЫЕ ВОИНЫ И ИСТОРИОПИСАНИЕ...
203
ности еще более было развито Мартином Хайдеггером, искавшим избавления от научного мышления в поэзии и отказавшимся от оставленного Просвещением наследия в виде разума и прав человека. В Германии это мировоззрение было особенно радушно встречено правыми, а к ним принадлежал и Хайдеггер. Крайне пессимистическими настроениями пронизана книга Освальда Шпенглера «Закат Европы» написанная в годы войны, изданная в 1919-1922 годах. Он вычленил несколько высоких культур, в том числе и Запад, каждая из которых проходит через некие предопределенные циклы. Каждая обладает своими особенностями, которые определяют присущий ей способ мышления. Таким образом, не существует никакой универсальной науки и даже математики, поскольку у каждой культуры своя собственная наука и математика, и никакая коммуникация между этими культурами невозможна. Каждая культура зарождается в героическую эпоху войн и религии и теряет свою самобытность по мере урбанизации и перехода от мифа к науке и технике. На Западе за периодом классической культуры последовал период цивилизации - период господства масс и разрушения культуры коммерциализацией. Любая творческая мысль стала невозможной, так как западный мир растворился в примитивном варварстве. На смену ему должна прийти новая цивилизация, которая точно так же начнется с героической, мифологической стадии, свойственной Западу на ранней ступни его развития. По Шпенглеру, современный мир находился на краю пропасти.
Но наследие Просвещения, хотя и подвергалось на континенте нападкам, ни в коем случае не было похоронено. Вера в науку вновь зазвучала в новом варианте логического позитивизма, распространившемся в 1920-1930-е годы преимущественно в англосаксонском мире, а также в Венском кружке. И мыслители этого направления - такие философы, как Альфред Уайтхед и Бертран Рассел в Великобритании и вынужденные эмигрировать из растерзанной Вены Карл Поппер и Рудольф Карнап, - остались верны демократическим ценностям.
Соединенные Штаты
Каким образом эти интеллектуальные течения сказывались на исторических исследованиях и историописании? Если брать историческую профессию в западных демократиях, относительно незначительно. Эти историки были все так же защищены тем институциональным окружением, в котором они работали, хотя мы убедились, что в годы Первой мировой войны их работа не была свободна от давления извне. В Соединенных Штатах начатое в годы войны преследование инакомыслящих продолжилось в период «Красной угрозы», начавшийся сразу после окончания первой мировой войны. К тому времени профессионализация исторических исследований усилила специализацию, в результате чего университетские историки оказались еще
204
ГЛАВА 4
более изолированы от широкой публики, чем в XIX веке. Было относительно немного историков, которые, подобно Чарльзу Бирду, остались публичными интеллектуалами. Зародившаяся в конце XIX века тенденция движения в сторону социальной и культурной истории оставалась основной и в межвоенный период. В Соединенных Штатах уже упомянутые нами прогрессивные историки по-прежнему играли важную роль в своих поисках народной истории. Чарльз Бирд в соавторстве со своей женой Мэри написали популярную книгу «Подъем американской цивилизации». Однако, несмотря на поставленную задачу включать в исследование сведения обо всех слоях населения, прогрессивные историки по большей мере все еще игнорировали женщин1 и по-прежнему уклонялись от проблемы зависимости черных американцев в американском обществе.
Помимо Прогрессивной школы присутствовало течение, представленное Даннинг школой2, базировавшейся в Колумбийском университете, представители которой, интересующиеся архивными изысканиями, считали себя ранкеанцами. Но в 1937 году Джеймс Дж. Рен- далл в своей книге «Гражданская война и Реконструкция» попытался доказать врожденную неполноценность черных американцев и утверждал, что Реконструкция доказала их неспособность быть политически ответственными. У. Э. Б. Дюбуа в своей книге «Черная Реконструкция»3 указал на позитивные достижения черных юристов в инициировании реформ в законодательстве после Гражданской войны - реформ, которые пережили период Реконструкции. В искусно написанной последней главе «Пропаганда истории»4 он обсуждал, каким образом историческое знание под маской ранкеанского изучения архивных источников может использоваться для поддержания идеологических, в данном случае расистских, предположений. Соединив марксистский анализ классового конфликта с анализом расового конфликта, он намеревался написать историю, в которой низшие классы черных американцев представали не пассивными и лишенными политических идей объектами, а активными участниками политического процесса Реконструкции, осознающими свои намерения. Поразительным, однако, является то, что в 1935 году он по-прежнему почти полностью игнорировал место женщин в борьбе за равенство. В это время на факультетах американских университетов и колледжей, как, впро¬
1 Ho cm.: Mary Beard, ed., America through Women's Eyes. New York, 1933.
2 Cm.: William A. Dunning, Reconstruction, Political and Economic, New York, 1907.
3 W. E. B. Du Bois, Black Reconstruction in America: An Essay on the Role which Black Folks Played in the Attempt to Reconstruct Democracy in America 1860-1920. New York, 1935.
4 W. E. B. Du Bois, The Propaganda of History* // W. E. B. Du Bois, Black Reconstruction: An Essay toward a History of the Part which Black Folk Played in the Attempt to Reconstruct Democracy in America, 1860-1880. New York, 1956, 711-729.
МИРОВЫЕ ВОЙНЫ И ИСТОРИОПИСАНИЕ...
205
чем, и в Канаде, совсем не было черных американцев и почти не было женщин и евреев.
Продуктом «новой истории» в Соединенных Штатах была история идей, или интеллектуальная история. Интеллектуальная история представляла собой осознанную попытку выйти за пределы обычной политической истории и социальной истории прогрессистских историков, реконструируя лежащие в основе этих историй ментальные представления. В работах уже упомянутого нами Джеймса X. Робинсона и Карла Беккера (как, например, книга Беккера «Град небесный философов XVIII века», были попытки понять широкие социально-политические движения через лежащие в их основе идеи. В узком смысле, как это представлено в работе Артура Лавджоя «Великая цепь бытия»1, история идей концентрировалась на выделении и определении того, что Лавджой назвал пронизывающими эпохи «элементарными идеями» - идеями, продолжающими свое существование и меняющимися, начиная с античности. Для дальнейшего развития этих исследований в 1940 году Лавджой основал «Журнал истории идей» (Journal of the History of Ideas). В нем изучалась не только история отдельных идей, но и - как это видно из первых номеров - комплексы идей, укорененные в немецком романтизме, что помогло понять политические представления в Германии, приведшие, в конечном счете, к идеологии нацизма. Однако интерес к истории идей возник раньше труда Лавджоя. Еще в 1918 году философским факультетом Колумбийского университета была запущена серия «Изучение истории идей».
Великобритания
В британской историографии первая мировая война не привела, как это было и в Соединенных Штатах, к разрыву с довоенным периодом. Однако подход сэра Льюиса Немира, еврея-эмигранта из Польши, к британской политике XVIII века был нестандартным. Он отказался от традиционной фокусировки внимания на общенациональных политических партиях и идеях, проводя вместо этого изучение английского парламента в просопографическом ракурсе на местном уровне и внимательное эмпирическое исследование того, что происходило в избирательных округах. Во всем остальном социальная история по-прежнему была тесно связана с экономической историей. Основной темой экономической истории был уровень жизни в период индустриальной революции. Распространенные в 1960-е годы марксистские идеи негативного влияния индустриализации на рабочий класс пока еще не были значимы. Наоборот, Томас Эшли, главный участник дебатов, утверждал, что в этот период не произошло ухудшения экономических условий. Ближе к проблемам, поднятым марксистами, но,
1 Arthur Lovejoy, The Great Chain of Being: A Study of the History of an Idea. Cambridge, MA, 1936.
206
ГЛАВА 4
еще не оперируя марксистскими категориями, подошел Ричард Тоуни, заинтересовавшийся социально-экономическими трансформациями в Англии ХУ1-ХУН веков. Тоуни также опирался на тезис Макса Вебера о роли религии в зарождении капитализма1. Он был редактором основанного им в 1927 году «Журнала экономической истории», и в межвоенный период экономическая история, тесно связанная с социальной историей, стала играть важную роль в исторических исследованиях в Англии. В реальности Тоуни был политически ангажированным интеллектуалом, тесно связанным с лейбористской партией. Однако английские экономические историки, точно так же как историки- прогрессисты в Соединенных Штатах, подходили к истории как истории народа, но практически не уделяли внимания мужчинам и женщинам из низших слоев общества. В противовес этому Эйлин Пауэр, коллега Тоуни по Лондонской школе экономики, в работе «Люди Средневековья» показала, что архивные источники могут использоваться для реконструкции жизни простых людей.
Германия
Другая ситуация сложилась в межвоенный период в Германии. В это время в страну существовала особая традиция истории идей, присутствовавшая в работах Фридриха Майнеке и названная Ыееп- geschichte. В центре ее внимания находились отдельные великие личности, помимо прочего игравшие важную роль в определении политики. Первой написанной в этом русле значимой книгой стала его работа «Космополитизм и национальное государство», в которой он утверждал, что немецкая культурная традиция и политика, приведшие к объединению Германии под властью Бисмарка, были тесно связаны и влияли друг на друга, - тезис, повторенный 93 интеллектуалами, подписавшими в 1914 году позорный Манифест, который Майнеке, кстати, не подписал2. В своей еще более пессимистичной книге «Идея государственного разума в новой истории», он признал, что опыт первой мировой войны принудил его отказаться от разделяемой им ранее веры в этическую природу политической власти Германии. В книге «Возникновение историзма» он полностью отделил исторические
1 Richard Н. Tawney, Religion and the Rise of Capitalism. London, 1926.
2 Этого не сделали ни Макс Вебер, ни Эрнест Трёльч, а ведь Майнеке в этот момент поддержал войну. Трёльч в вопросе отношений имперской Германии с демократическим Западом все время оставался относительно умеренным. Можно представить, что и он, и Вебер, который не только поддержал эту войну, но и выступил за аннексии, могли дистанцироваться от подписания Aufruf. Но Майнеке с огромным энтузиазмом приветствовал поддержку, которую получила война, особенно тот факт, что социал-демократы в Рейхстаге проголосовали за военные кредиты и таким образом продемонстрировали единство нации. Даже тридцать лет спустя, в 1944 году, когда нацисты все еще были у власти, он по-прежнему считал, что его энтузиазм в августе 1914 года был оправдан.
МИРОВЫЕ ВОИНЫ И ИСТОРИОПИСАНИЕ...
207
идеи от политики. Не обращая внимания на события в нацистской Германии, он утверждал, что немецкая традиция исторического мышления стала кульминацией в развитии философии и что вместе с Лютером они составили два важнейших вклада Германии в историю человечества. Несогласие консервативных историков Германии с его Ideengeschichte состояло в том, что он занимался историей, которая была сосредоточена на идеях, а не государстве; возражение представителей либеральной ориентации сводилось к тому, что он рассматривал идеи вне социально-политического контекста их бытования и не подходил критически к этому контексту.
Удивляет, сколь незначительно военный опыт повлиял на позиции большинства немецких академических историков. Эти историки, как и интеллектуалы в целом, были поделены на ультра-националистов, для которых бисмарковское решение немецкого вопроса в 1871 году мыслилось как кульминация истории, и умеренных националистов, которые в душе тоже были монархистами, но предпочитали не отмахиваться от факта поражения, признать Веймарскую республику и работать над достижением согласия с их бывшими врагами на Западе. Го- раздо меньше энтузиазма они высказывали по поводу признания новых границ на Востоке. Первая из этих групп историков бурно протестовала против Веймарской республики и желала возврата к авторитарному правлению. И было небольшое количество преданных демократов, по крайней мере не из старшего поколения. Майнеке был самым выдающимся среди умеренных историков. В числе умеренных были и исторически мыслящие социологи Макс Вебер и Эрнст Трёльч, умершие в первые годы Веймарской республики. Тем не менее, изменения в историческом мировоззрении все-таки имели место, хотя и в двух противоположных направлениях. К чести Майнеке, несмотря на его относительно консервативные политические и историографические представления и то обстоятельство, что он не был полностью свободен от антисемитских предубеждений, он был готов работать с более молодыми историками.
Почти все они - приверженцы демократии, и многие были евреями по происхождению. Они примкнули к Майнеке, потому что уважали его, а также потому что он был едва ли ни единственным среди консервативных историков, с кем они могли бы сотрудничать1. Они полагали, что исторические исследования должны развиваться в другом направлении, в сторону политической истории, тесно связанной с другими дисциплинами, прежде всего социологией, особенно социологией Макса Вебера, а также с психологией и экономикой. Их не устраивала история событий, они предпочитали изучать политические и социальные структуры, в рамках которых эти события случались.
1 Gerhard A. Ritter, ed., Friedrich Meinecke - Akademischer Lehrer und emigrierte Schüler. Briefe und Aufzeichnungen 1910-1977. München, 2006.
208
ГЛАВА 4
И с позиции демократии они хотели подвергнуть критическому анализу антидемократическое наследие бисмарковской и пост-бисмар- ковской Германии. Если бы им позволили остаться в демократической Германии, они, возможно, внесли бы свой вклад в возрождение немецкой исторической профессии. Но, когда в 1933 году к власти пришли нацисты, все они были вынуждены эмигрировать вследствие своего еврейского происхождения, либеральных представлений, а чаще всего и того, и другого1. Отто Хинце, учившийся вместе с Дройзеном и Шмоллером и до 1918 года посвятивший себя изучению прусских административных и экономических институтов, изменил и свои политические воззрения, и свою методологическую ориентацию. Он больше не рассматривал государство как сакральное, как это было свойственно историкам прусской школы, а лишь как один из институтов. Методика его крупных эссе, написанных им в 1920-е годы о феодализме и капитализме, отныне была не нарративной, а в духе Макса Вебера аналитической. Стоит упомянуть и Хедвиг Хинце, супругу Отто Хинце, поскольку она была первой женщиной-историком, получившим venia legendi в Берлинском университете, разрешившем ей преподавание в его стенах2. Она занялась непопулярной в то время в Г ермании темой, а именно Французской революцией, и вследствие ее симпатии к демократическим аспектам революции подверглась критике. Ее труд получил признание только в последние годы, и теперь считается новаторским и значительным. Еврейка по происхождению, она была вынуждена эмигрировать в Нидерланды, где умерла, как только ее собрались депортировать в Аушвиц, по всей видимости, покончив жизнь самоубийством. Она была назначена на должность профессора в Новой школе социальных исследований в Нью-Йорке, но ей было отказано в американской визе.
В межвоенный период была и совсем другая реакция против исторического истэблишмента, только на этот раз она исходила от моло¬
1 Mario Keßler, Deutsche Historiker im Exil (1933-1945). Berlin, 2005; Gabriele Eakin-Thimme, Geschichte im Exil. Deutschsprachige Historiker nach 1933. München, 2005; Peter T. Walther, 'Von Meinecke zu Beard? Die nach 1933 in die USA emigrierten Neuhistoriker', PhD dissertation, State University of New York at Buffalo, 1989.
2 Schleier, 'Hedwig Hintze' // Schleier, Bürgerliche Geschichtsschreibung, 272-303; Steffen Kaudelka, Rezeption im Zeitalter der Konfrontation. Französische Geschichtswissenschaft und Geschichte in Deutschland 1920-1940. Göttingen, 2003, 241-408; Peter Th. Walther, 'Die Zerstörung eines Projekts: Hedwig Hintze, Otto Hintze und Friedrich Meinecke' // Gisela Bock and Daniel Schonplug, eds, Friedrich Meinecke in seiner Zeit. Stuttgart, 2006, 211-226; Peter Th. Walther, 'Hedwig Hintze in den Niederlanden 1939-1942' // Keßler, Deutsche Historiker im Exil, 197-222; также: Otto and Hedwig Hintze, 'Vezage nicht und laß nicht ab zu kämpfen': die Korrespondenz 1925— 1940. Essen, 2004. Питер T. Вальтер (Peter Th. Walther) в своей работе «Хедвиг Хинце в Нидерландах, 1939-1942» (Hedwig Hintze in den Niederlanden 1939-1942) не высказывает уверенности, что это был суицид.
МИРОВЫЕ ВОЙНЫ И ИСТОРИОПИСАНИЕ...
209
дых историков-ультранационалистов1. Они отнеслись к государственной ориентации своих старших коллег как устаревшей и элитарной. Они предпочитали историю, охватывающую весь народ в целом, фокусирующуюся на немецкой Volk, которую они рассматривали как расовое сообщество, связанное языком и происхождением и исключающее евреев и этнические меньшинства. Они отказались признать границы Германии, навязанные союзными державами в Версале, и даже довоенные границы, желая расширения Германии за счет включения в нее тех регионах, где проживали этнические немцы, прежде всего на Востоке, но и на Западе тоже, и готовились изгнать из этих земель всех, кроме немцев. Высказываясь в категориях социал- дарвинизма, они рассматривали историю как борьбу рас за выживание. Они жаждали войны, которая установит в Европе гегемонию немцев за счет народов, которых они считали низшими. Таким образом, своей оппозицией парламентской демократии Веймарской республики, своим призывом к законодательно установленному исключению евреев из общественной жизни и своей готовностью пересмотреть этническую карту Европы, если понадобится, военным путем, они предвосхитили программу нацизма. С одной стороны, они отвергали урбанистическую и космополитическую современность своего времени и мечтали о возвращении к миру аграрных сообществ - миру, который существовал до начала нового времени. С другой стороны, в своих исторических исследованиях они применяли ультрасовременные методы, как, например, это продемонстрировал Вернер Конзе в своей диссертации 1934 года, посвященной небольшому изолированно проживающему немецкоговорящему народу Хершенхоф в Ливонии2. Конзе сочетал исторические, социологические, этнографические, демографические и статистические методы, которые не сильно отличались, если отвлечься от его политических убеждений, от тех, которые во Франции применяли историки, группирующиеся вокруг журнала «Анналы». После 1945 года Конзе, отказавшийся от своей расистской доктрины и утопического увлечения аграрным движением, стал ключевой фигурой в западногерманской профессии, закладывая основы социальной истории современного индустриального общества.
Поразительно, как профессиональные немецкие историки, до 1914 года резко выступавшие против обращения Карла Лампрехта к культурной истории, а в 1920-е годы не приемлющие социальную историю учеников Фридриха Майнеке, приняли в свои ряды молодых приверженцев Volk- ориентированной истории. Это связано с их сильной неприязнью парла¬
1 Willi Oberkrome, Volksgeschichte: Methodische Innovation und völkische Ideologisierung in der deutschen Geschichtswissenschaft. Göttingen, 1993; Winfried Schulze, Deutsche Geschichtswissenschaft nach 1945. München, 1989, Ch. 17.
2 Hirschenhof: die Geschichte einer deutschen Sprachinsel in Livonien Hirschen- hof: The History of a German-Speaking Community in Livonia. Berlin, 1934.
210
ГЛАВА 4
ментской демократии Веймарской республики и решимостью пересмотреть ограничения, наложенные Версальским мирным договором на Г ер- манию. Хотя немногие историки вступили в партию нацистов, они приняли большую часть ее политической программы, вследствие чего нацисты практически не прилагали усилий к тому, чтобы скоординировать работу историков. Те историки, которые были не согласны или имели еврейское происхождение или сразу по обеим причинам, были вынуждены эмигрировать. В годы войны значительное число историков внесло свой вклад в исследования, где признавалось необходимым выселение ненемецких народностей за пределы Германии1. Позор состоит в том, что в 1933 году, когда еще ничто не угрожало их жизням, ни одному историку не хватило ни мужества, ни убеждений, чтобы возразить против увольнения своих коллег, и немногие из них были рады их возвращению после 1945 года. Одновременно с этим репрессии в фашистской Италии привели к тому, что страну были вынуждены покинуть два ведущих историка, Гаэтано Сальвемини и Арнальдо Момильяно2. А в Румынии политическая полиция расправилась в Николае Йоргой3.
Марксистская историография
Другой вид авторитарного правления, установившийся сразу после захвата власти большевиками, был реализован на практике в Советском Союзе. Контроль большевиков был даже более тотальным, чем в фашистских государствах или в нацистской Германии. Однако мы должны быть очень осторожными с использованием термина «тоталитаризм», потому что и в фашистских государствах, и в нацистской Германии, несмотря на стремление государства и партии к тотальному контролю, всегда оставались ниши, где историки могли работать независимо. Но нигде больше в Европе в межвоенный период историкам так открыто не угрожали физической расправой, как при Сталине, после начала в 1929 году сталинских репрессий, предусматривавших в том числе высылку и смертную казнь. Исторические исследования проводились в соответствии с доктриной, которая именовалась марксистко-ленинской. Хотя ее источником была материалистическая
1 Ingo Haar and Michael Fahlbusch, German Scholars and Ethnic Cleansing 1920- 1945. New York, 1945.
2 Edoardo Tortarolo, 'Objectivity and Opposition: Some Emigre Historians in the 1930s and Early 1940s' // Q. Edward Wang and Franz Fillafer, eds, The Many Faces of Clio: Cross-cultural Approaches to Historiography. New York, 2007, 59-70.
3 William O. Oldsen, The Historical and Nationalistic Thought of Nicolae lorga Boulder, CO, 1973. Йорга получил в 1893 году свою докторскую степень под руководством Карла Лампрехта. На деле он не был демократом и активно участвовал в деятельности одной из антисемитских и ксенофобских партий. Он был убит в ноябре 1940 года, вероятно, вследствие своего конфликта с «Железной гвардией» фашистов (крайне правое движение и политическая партия Румынии, носившая ультранационалистический, антикоммунистический, антисемитский и фашистский характер. - Прим, пер.) и своего противостояния доминированию в Румынии Г ермании.
МИРОВЫЕ ВОЙНЫ И ИСТОРИОПИСАНИЕ...
211
концепция истории, считавшая, что ход истории определяется экономическими силами и возникающими внутри них противоречиями, Владимир Ильич Ленин (1870-1924) привнес в марксизм элемент волюнтаризма, отведя партии центральную роль во вмешательстве в исторический процесс и руководстве им. Если Маркс и Энгельс все- таки верили в существование некоего объективного прошлого, делавшего возможным научное изучение истории, то марксизм в ленинской интерпретации полагал, что не существует науки для научных целей, что любое познание наполнено идеологией и что вместо того чтобы реконструировать прошлое таким, каким оно было, исторические исследования должны служить политическим интересам партии и государства. Тем не менее высшие академические и образовательные учреждения, прежде всего Институт истории АН СССР, а также университеты, обучали историков классическим методам критики источников. Чем дальше тематика исследований находилась от проблем, связанных с текущей политикой, тем выше была степень автономности, конечно, при условии сохранения марксистского языка. Благодаря этому советские историки внесли свой важный вклад в менее явно подчиненные партийной догме области - области средневековой или древней истории и археологии, а также в редактирование и публикацию источников. Большое количество работ советских историков в межвоенный и послевоенный периоды были позитивистскими в том смысле, что историк избегал интерпретации и позволял фактам говорить за себя, защищая себя (в том числе и женщин-историков, число которых постоянно росло) обильными цитатами из работ Маркса, Ленина и Сталина. Кроме того, советские историки внесли свой вклад в изучение тех областей, которые до того времени были недостаточно исследованы (среди них не только история рабочего класса, но и малоимущих и угнетенных классов вообще), а также обратились к изучению того, что позже стало именоваться «материальной культурой», затрагивающей аспекты повседневной жизни людей1.
Но марксизм начал играть важную, хотя и различную роль в историческом мышлении не только в Советском Союзе, но и в странах континентальной Европы, в результате чего возник термин «западный марксизм». В этом контексте следует упомянуть двух толкователей марксистской теории - Георга Лукача и Антонио Грамши. Свои ключевые работы они написали еще в межвоенный период, но их влияние
1 Sanders, ’Soviet Historiography' // Daniel Woolf, ed., A Global Encyclopedia of Historical Writing. New York, 1998, 854-856; Yuri L. Bessmertny, 'August 1991 as Seen by a Soviet Historian, or the Fate of Medieval Studies in the Soviet Era', American Historical Review, 97:2. June 1992, 803-816. (На русском языке: Бессмертный Ю. Л. Август 1991 года глазами московского историка. Судьбы медиевистики в советскую эпоху [Текст] Ю. Л. Бессмертный Homo Historicus: К 80-летию со дня рождения Ю. Л. Бессмертного. М.: Наука, 2003. Кн. 1. 29-55. — Прим, пер.)
212
ГЛАВА 4
в полной мере проявилось только в 1960-е годы Лукач, родом из Будапешта, сыгравший важную роль в коммунистической революции 1919 года в Венгрии , принадлежал к кругу интеллектуалов, группировавшихся вокруг Макса Вебера, и потому был весьма осведомлен о современных тому времени дискуссиях. Будучи преданным марксистом и коммунистом, рассматривающим историю как диалектический процесс, в основе развития которого лежит классовая борьба, он, однако, полагал, что материалистическая трактовка Маркса диссонирует с интеллектуальным климатом Европы XX столетия. В книге «История и классовое сознание исследования по марксистской диалектике» он утверждал, что Маркс был неправильно понят вульгарными марксистами как материалист и детерминист. Между тем внимательное чтение «Капитала» способно показать, что, прежде всего Маркс был озабочен критическим анализом того, что он назвал «фетишизмом предметов потребления», который ставит накопление капитала и получение прибыли выше других человеческих потребностей. Лукач рассматривал Маркса в русле той философской традиции, которая восходила к Гегелю, и у него Маркс превратился в критика цивилизации, которая пыталась редуцировать любое знание скорее к абстрактным и дегуманизированным, нежели диалектическим основаниям. Современная наука, по мнению Лукача, отражает это стремление свести все качественные аспекты жизни к количественным параметрам, поэтому ее необходимо заменить новой, марксистской наукой, которая на первое место ставит человеческие ценности и потребности. Книга «История и классовое сознание» немедленно была осуждена Международным интернационалом, а Лукач подчинился требованию Москвы и отозвал книгу. Ее переиздание состоялось только в 1967 году, уже в другом политическом и интеллектуальном климате, однако она имела широкое хождение в пиратских копиях. Антонио Грамши, возглавивший Коммунистическую партию сразу после окончания первой мировой войны, в 1926 году по приказу Муссолини был брошен в тюрьму. После одиннадцати лет заключения его выпустили на свободу по причине слабого здоровья, и он скончался вскоре после этого. В тюрьме он задался вопросом, почему в Италии не произошла пролетарская революция, а вместо этого захватили власть фашисты и укрепили капиталистический строй. В «Тюремных тетрадях»1, написанных на клочках бумаги и изданных уже после падения фашизма, он пришел к выводу, что победу фашистов нельзя объяснить в классических марксистских категориях экономического детерминизма. Следует принять во внимание «гегемонию» (термин Грамши), с по¬
В отечественной литературе эту революцию принято называть пролетарской.
1 См.: Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci. London, 1971; David Forgoes, ed., Antonio Gramsci: Selected Writings 1916-1935. New York, 1988.
МИРОВЫЕ ВОЙНЫ И ИСТОРИОПИСАНИЕ...
213
мощью которой правящие классы управляли умами рабочих классов. Успешная пролетарская революция требовала формирования пролетарского сознания и альтернативной революционной культуры.
Эти две работы, повлиявшие на марксистскую мысль 1960-х годов, пока еще не вытеснили из историописания классические классовые категории. Самым значимым центром марксистской историографии в межвоенный период за пределами Советского Союза была Франция, а главная темой, к которой обращались марксистские историки, - Французская революция. Впервые историки-марксисты оказались представлены во французских университетах. Вкратце, они пытались трактовать французскую революцию (пользуясь классическими марксистскими категориями) как буржуазную, которая положила конец остаткам феодализма. Самым передовым среди этих историков был, конечно, Жорж Лефевр. Лефевр начал издавать свои труды в 1924 году, и первой его опубликованной работой стало детальное, основанное на глубоком анализе архивных источников исследование конкретного региона - Северного департамента; он все еще придерживался тезиса о буржуазном характере революции, но показал, что внутри каждой из социальных групп существовали значительные различия. В работе «Начало Французской революции» он показал степень участия различных не буржуазных классов - низших средних классов, крестьянства и аристократии - в беспорядках 1789 года. Однако его самым важным вкладом стала книга «Великий страх 1789 года: сельская паника в революционной Франции», в которой он модифицировал чисто экономическую интерпретацию крестьянских бунтов лета 1789 года, дополнив ее психологическим анализом массового поведения. В эссе, посвященном коллективному сознанию революционной толпы, которое он опубликовал после выхода в свет этой книги, Лефевр оспорил заявление консервативного психолога Густава Лебона, что разъяренные толпы не имеют четкого представления о том, чего они хотят. Лефевр же утверждал, что на самом деле, как свидетельствуют архивные источники, они представляли собой нечто большее, чем охваченная страстью толпа, что ими двигало представление о моральном порядке, и тем самым Лефевр придал им человеческое лицо.
Школа «Анналов»: ранний период
Самое новаторское начинание в социальной истории в межвоенный период связано с именами двух французских историков - Люсьена Февра и Марка Блока, которые в 1929 году основали журнал Annales d'histoire economique et sociale («Анналы экономической и социальной истории»). Февр и Блок сильно расширили и модифицировали то, что, начиная с рубежа веков, историки Северной Америки, Великобритании, Бельгии и Скандинавии, а также Шмоллер и Вебер в Германии понимали под экономической и социальной историей. Иллюстрацией мыслей Февра и Блока служат две ранние работы: дис¬
214
ГЛАВА 4
сертация Февра «Филипп II и Франш Конте», 1911)1 и работа Блока «Короли-чудотворцы»2. Во время написания истории региона Франш- Конте в период протестантской Реформации Февр довольно серьезно отнесся к призыву Анри Берра к историческому синтезу. Он попытался создать единую историю, которая показывала взаимодействие географических, экономических, социальных, религиозных и политических факторов, и одновременно с этим попытался воссоздать повседневную культуру. Февр опирался скорее на французскую историографию, чем на немецкую научную традицию, которая повлияла на профессиональные исследования во Франции в последней трети XIX века - на интеграцию социальной, культурной и политической истории у Жюля Мишле и на географию человека Видаль де ла Бланша, подчеркнувшую природный контекст протекания любой истории. Но в отличие от уже упомянутого нами немецкого мыслителя Фридриха Ратцеля, отводящего слишком большую роль природному окружению, Февр подчеркнул роль людей в формировании окружающей их среды. Подобно Жану Жоресу, которым он восхищался, он показал конфликт между аристократией и буржуазией в период зарождения современного мира, но еще больше, чем Жорес, он попытался показать, что этот конфликт не может быть понят главным образом в экономических категориях - необходимо обращение к мировоззрению и культуре. Работа Марка Блока «Короли-чудотворцы» обращалась к проблеме веры в позднесредневековой Франции и Англии, к случаям, когда своим прикосновением к больному человеку король мог вылечить цингу, - к вере, которая была частью представления о священном характере королевской власти, поддерживаемой даже среди тех, кто не был излечен. Тем самым Блок затронул вопрос о коллективном сознании. Он знал, что именно такие антропологи, как Джеймс Фрейзер в «Золотой ветви» и Люсьен Леви-Брюль, сказали бы о священстве королевской власти и примитивном менталитете.
В отличие от Блока, Февр увлекся историей религии, особенно во время Реформации, сосредоточив свое внимание на широко распространенных представлениях. Тем самым в своем «Мартине Лютере»3 он имел дело преимущественно не с человеком, а с новым религиозным мировоззрением, которое отразило стремление буржуазии к большей рациональности и ясности, чем предлагал католицизм, - тема, созвучная его диссертации по Франш-Конте. Он попытался соот¬
1 Lucien Febvre, Philippe 11 et la Franche-Comte, etude d'histoire politique, religieuse et morale. Paris, 1911; idem., La Franche-Comte. Paris, 1905.
2 На англ. Яз.: The Royal Touch: Sacred Monarch and Scrofula, trans. J. E. Anderson. London, 1973 (рус. пер.: M. Блок. Короли-чудотворцы: Очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и в Англии. М., 1998. 712 с.
3 Martin Luther: A Destiny. New York, 1929 (рус. пер.: Судьба Мартина Лютера. 1928).
МИРОВЫЕ ВОЙНЫ И ИСТОРИОПИСАНИЕ...
215
нести религиозную историю с социальной и вместе с тем попытался избежать редукции первой к последней. Но самой значительной работой Февра, безусловно, была его книга по религии Рабле «Проблема неверия в XVI веке: религия Рабле», в которой он поднял вопрос о том, был ли Рабле атеистом, как часто считали, и пришел к выводу, что скорее всего нет: для того чтобы быть атеистом, недоставало outillage mental (умственного инструментария - Февр имел в виду язык). Проанализировав язык XVI века, в котором не было необходимых для неверия концептов, он предвосхитил случившийся позднее лингвистический поворот. Таким образом, провозглашение Рабле атеистом было анахронизмом.
Эта структуралистская нотка еще более заметна в работах Блока. В 1931 году он опубликовал свою работу «Характерные черты французской аграрной истории», в которой предпринята попытка написать сравнительную аграрную историю Франции и Англии, но особенно - севера и юга Франции. Его подход в этой работе отчетливо материалистический. Он попытался установить, какие орудия труда использовались в разных регионах в разные периоды времени, а также сравнить управление сельскохозяйственными угодьями. Он решил двигаться от настоящего, которое нам известно лучше всего, к прошлому и при помощи аэрофотосъемки выяснять изменение конфигурации полей с течением времени. Тем не менее, Блок осознавал, что на использование орудий труда и конфигурацию полей влияли и культурные факторы. Самой значительной из его работ, несомненно, стало «Феодальное общество» - исследование четырех столетий европейской истории, с IX по XIV века. В этой работе поражают несколько моментов. Эта история была написана именно как общеевропейская, а не национальная. Далее, в центре ее внимания находилась не политическая структура феодализма, а взаимосвязь различных аспектов феодальной культуры. В работе уделялось внимание тому, как люди в Средневековье воспринимали мир вокруг себя, - их восприятию жизни, смерти, природы, времени и пространства; кроме того, автор подчеркнул роль денег в трансформации средневекового общества через рост городов и торговли. Этой исторической социологией автор больше был обязан концепции Дюркгейма о коллективных представлениях, нежели более институционально-ориентированному подходу Макса Вебера. Как и Вебер, Блок намеревался создать идеальный тип общества, который можно было бы сравнивать с другими обществами. В заключительной главе он предположил, что феодализм в той или иной форме мог существовать и в других культурах, и в качестве возможного объекта такого сравнительного анализа упомянул Японию. Кстати, социологический подход Дюркгейма повлиял и на работу со¬
216
ГЛАВА 4
временных турецких историков1. Примечательным и в социологии Дюркгейма, и в истории Блока было пренебрежение индивидуальным. «Феодальное общество» представляло собой историю, в которой люди рассматривались как собирательное понятие, поэтому реальные представители общества отдельно не рассматривались.
С 1920 по 1933 год Февр и Блок вместе работали в Страсбурге, только что возвращенном Франции. Работая в соседних офисах, они часто обменивались взглядами. Совместно с бельгийцем Анри Пирен- ном они планировали создать журнал, который, несмотря на французский язык его публикаций, мог бы служить тем же целям международной коммуникации, что и Vierteljahrschrift fur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Разница же должна была состоять в еще более широком понимании предмета экономической и социальной истории. В 1933 году Февр уехал в престижный College de France в Париже, в 1936 году туда же перебирается и Блок, получив назначение на должность профессора экономической истории в Сорбонне, которую он унаследовал от уже упомянутого нами автора истории рабочего класса во Франции Анри Хаузера (Озера). Примечательно, что во Франции концепция экономической истории Блока была достаточно признана, что и позволило ему занять эту должность. Annotes d'histoire economique et sociale, отныне базирующиеся в Париже, и отстаиваемый ими тип истории были признаны многими французскими историками, хотя, безусловно, и не большинством; кроме того, они были хорошо восприняты в Скандинавии, Великобритании, Бразилии и других странах. В 1931 году Францишек Буяк и Ян Рутковский организовали журнал с почти идентичным на польском языке названием «Анналы социальной и экономической истории» в Польше, и этот журнал тесно сотрудничал с французскими «Анналами».
Несмотря на то что Блок и Февр были патриотами своей страны - в пожилом возрасте Блок служил во французской армии, участвовал в движении Сопротивления и был казнен немцами - никто из них не написал национальную историю. Их истории либо были сконцентрированы на каком-то регионе, либо чаще всего были транснациональными и компаративными. Более того, важно отметить то, что по сравнению не только с традиционным историческими нарративами, но и с большинством социологических подходов того времени Февр и Блок отказались от указывающей на прогресс западного мира линейной хронологии, широко распространенной среди европейских и североамериканских историков, начиная с профессионализации исторических исследований в XIX веке.
1 Bernard Lewis, 'History Writing and National Revival in Turkey', From Babel to Dragomans: Interpreting the Middle East. London, 2004, 425^56.
217
ГЛАВА 5
ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ И В АЗИИ В XX ВЕКЕ
Усиление оттоманского, турецкого и египетского национализмов и националистическая история на Ближнем Востоке
Зарождение современного образования
На пороге XX века в исламском мире были ясно очерчены две линии развития исторической науки: невероятный рост жанра национального историописания и профессионализация исторических исследований и преподавания истории. Оба эти явления были тесно связаны с растущим в то время объемом контактов и взаимодействия мусульман с западным миром. К концу XIX века, когда силы западного мира ускорили темп мировой колонизации, возвещая эпоху современного империализма, они одновременно экспортировали в не западные регионы и свой национализм. Как мы уже видели на примере восстания Ураби в Египте, национализм стал эффективным оружием, которое мусульмане и в целом народы не западного мира обратили для отражения удара колониализма и империализма. Для того чтобы построить национальное государство и укрепить его границы, казалось необходимым национализировать производство культурного и исторического дискурсов. А для этого было необходимо, в свою очередь, провести образовательные реформы в соответствии с западной моделью. Уже в 1845 году османы подумывали о том, чтобы создать национальный университет, хотя он (Стамбульский университет) был основан только в 1900 году. Тем не менее, начиная с середины XIX века, в различных частях Османской империи появилось несколько средних школ современного типа (некоторые из них были старыми школами, прошедшими реформирование), из выпускников которых вышли многие политические и интеллектуальные лидеры.
218
ГЛАВА 5
Например, среди выпускников школы Mulkiye были Мурад Бей, будущий лидер движения младотурков, и Абдуррахман Шереф. Последний стал императорским историографом и переходной фигурой в процессе появления современной османской/турецкой историографии1.
Сирия и Египет также выступили с подобными попытками учредить «национальные школы» - либо частным образом, например через работу западных миссионеров, либо официально, указом хедива. В 1908 году принц Ахмад Фуад основал Египетский университет (после 1952 года - Каирский университет), который он сделал государственным после того, как в 1925 году стал королем Фуадом. В этих современных школах преподавание истории стало, как правило, составной частью основного учебного плана, что представляло собой резкий контраст с пренебрежительным отношением к истории в таких традиционных институтах, как Madrasah и al-Azhar. Эти перемены стали первым шагом на пути профессионализации исторических исследований, так как историю теперь все чаще писали именно профессора истории, преподающие в этих образовательных учреждениях. Однако следует заметить, что национализация и профессионализация историографии не были параллельны друг другу. Как мы увидели в предыдущей главе, националистическое историописание возникло в исламском мире во второй половине XIX века, а первое поколение профессиональных историков появилось лишь к 20-м годам XX века.
Для османов подъем национализма означал дальнейший раскол империи и ослабление имперского могущества. В течение XIX века, по мере того как все больше регионов стремились к независимости и автономии (например, балканские и другие европейские территории, традиционно сильные области имперской власти), империя все более и более ощущала себя «больным европейцем». Однако османы не были готовы подчиниться судьбе. В последние два десятилетия XIX века к власти пришли новые османы, открыв конституционную эпоху в турецкой истории. Попытки установить представительное правительство позволили империи, по крайней мере, внешне, вновь обрести могущество, апеллируя к османизму и панисламизму.
В историографии уже имелись представители османизма, например Ахмед Мидхат, многогранный литератор и продуктивный писатель. Широко пользуясь западными источниками, Мидхат написал всемирную историю и ряд национальных европейских историй, хотя писал он скорее в журналистском, чем историческом, стиле, благодаря чему, возможно, стал одним из наиболее читаемых авторов своего времени. Обширное влияние Мидхата на интеллектуальный климат своего времени отразило дух конституционной эпохи с ее беспреце¬
1 Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey. London, 1968, 181-182. Cm. также: Selguk Ak$in Some!, The Modernization of Public Education in the Ottoman Empire, 1839-1908: Islamization, Autocracy and Discipline. Leiden, 2001.
ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ... 219
дентным интересом к западной культуре и истории, включая, само собой, националистическую идею1. В значительной степени националистическое влияние родилось в движении новых османов, в том смысле, что это движение акцентироавало идею патриотизма, или любви к vatan (отечеству), хотя основной своей задачей они видели восстановление османской millet (нации) в качестве главы всех мусульман. Эти идеи нашли свое выражение в работах Абу-з-Зии Тев- фика, историка движения новых османов, на которого также оказывали влияние панисламистские идеи Намыка Кемаля. Хотя его интересы и стиль отличались от интересов и стиля Ахмеда Мидхата, Тевфик тоже стал заметной фигурой в распространении западных идей и культуры в свою эпоху2.
Так, превалирующей формой национализма в исламском мире на пороге XX века являлся османизм. Он не только процветал в Стамбуле и примыкавших к нему регионах Анатолии, но вызывал позитивные и симпатизирующие отклики в таких отдаленных местах, как Египет, который на протяжении практически всего XIX века оставался главным конкурентом Османской империи. Однако после восстания Ураби 1881-1882 годов Египет значительно изменился. Различные реформы, инициированные Мухаммедом Али и продолженные большинством его последователей, истощили государственную казну, и еще хуже этого, вслед за революцией в Египте наступил период британской оккупации. Египтяне рассматривали различные варианты сопротивления иноземному господству, включая союз с Османской империей. Главными сторонниками турецко-египетского союза против европейских сил были два важных националистических историка того времени - Мустафа Камиль и Мухаммед Фарид. Камиль был протеже Абдаллаха Надима, одного из выразителей идей восстания Ураби; вместе они основали Националистическую партию и написали в соавторстве две исторические работы - одну по истории Египта в период правления Мухаммеда Али, а другую по истории Османской империи. Очевидно, что решение Камиля написать эти две книги имело непосредственное отношение к его политическим интересам и, возможно, даже к его турецкому происхождению. Подобно новым османам Камиль и Фарид были ярыми приверженцами идей панисламизма; на основе этой доктрины они разработали культуралистский подход к описанию и исследованию конфликта между Западом и исламским миром. В своем главном произведении «Восточный вопрос» Камиль анализирует как в историческом, так и религиозном ракурсах беды, постигшие Османскую империю и ее провинции в то время. Одним из основных источников проблемы он называет антагонизм между му¬
1 Cp.: Carter Vaughn Findley, 'An Ottoman Occidentalist in Europe: Ahmed Midhat Meets Madame Gulnar, 1889', American Historical Review, 103:1. February 1998, 15—49.
2 Lewis, Emergence of Modem Turkey, 189-191, 333-343; Erik J lurcher, Turkey: A Modern History. London, 1993, 7If.
220
ГЛАВА 5
сульманами и христианами, уходящий своими корнями во времена крестовых походов. Османская экспансия на европейские территории обострила эту проблему, потому что с конца XVIII века, по мере того как европейцы набирали силу, они постоянно пытались бросить вызов Османской империи, по кусочкам отбирая ее территорию. Британская оккупация Египта была всего лишь одним из примеров этому. К сожалению, османам понадобилось долгое время, чтобы осознать истинные намерения европейцев. Камиль сокрушался по поводу междоусобных стычек среди мусульман и пропагандировал панисламизм. Он зашел так далеко, что нападал даже на восстание Ураби, потому что, по его мнению, революция привела к британской оккупации, а британцы в его глазах были врагами всех мусульман. Чтобы защитить исламский мир от европейского вторжения, все мусульмане должны объединить свои усилия. С этой целью Камиль поддерживал идею турецко-египетского союза, а также идею отказа от египетской национальной территории1.
Камиль и Фарид являются современными историками Египта не только из-за их националистических идей, но и из-за их намеренно «модернистского» интереса - центральной темой их работ являются отношения мусульман с европейцами в современное (им) время. В осуществлении исследований такой двойной направленности им помогли частые поездки в Европу и доступность европейских источников, а именно государственных архивов и официальных документов. Но, несмотря на разделяемые Камилем и Фаридом убеждения, стиль их письма значительно различался. Работы Камиля отличаются глубиной анализа, в то время как Фарид применяет более традиционный стиль, демонстрируя мастерство ’ в своих исторических нарративах. Успешное сочетание традиционного и современного в работах Фарида говорит о жизнеспособности исламской историографической традиции, ведь его достижения ни в коем случае нельзя назвать уникальными. Например, влияние хроник обычной формы традиционной исламской историографии различимо в работах турецких историков по османской истории фактически по сей день2.
Турецкая история в /для современной Турции
В начале XX века Камиль и Фарид были сторонниками союза Египта и Османской империи - или все-арабской солидарности, - по¬
1 Jack A. Crabbs, Jr, The Writing of History in Nineteenth-century Egypt: A Study in National Transformation. Cairo, 1984, 156-162; Thomas Mayer, The Changing Past: Egyptian Historiography of the Urabi Revolt, 1882, Gainesville. FL. 1988, 7-8.
Сай {араб)- одна из форм рифмованной прозы в арабской литературе.
2 Supraiya Faroqhi, Approaching Ottoman History: An Introduction to the Sources. Cambridge, 1999, 176; Geoffrey Barradough, Main Trends in History. New York, 1979, 128.
ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ... 221
тому что возлагали большие надежды на младотурок в их стремлении оживить империю в условиях конституционной эпохи. Однако этой эпохе не суждено было продлиться долго, и ее быстро сменил период деспотизма султана Абдул-Хамида II. Но националистические настроения не ослабли; скорее в 1908 году они поднялись на новый высокий уровень и в итоге подорвали султанат. В этот раз главными действующими лицами выступили младотурки, поддерживавшие идеи турецкого национализма. Как мы уже видели во второй главе, эти идеи появились еще в середине XIX века в работах Али-Суави и Сулеймана Паши. Во время правления Абдул-Хамида II, когда было ослаблено движение новых османов, турецкий национализм набрал огромную силу. В результате национальное движение в Османской империи повернуло в новом направлении, от османизма к туркизму. Хотя панисламизм окончательно не исчез (позднее приняв секулярную форму в возрождении панарабизма в 50-60-е годы XX века) и слово «осман» все еще широко использовалось, в последние годы XIX века турки, несомненно, проявили все возрастающий интерес к двум новым историческим понятиям - Турции и турецкой нации. Даже в 1897 году один британский путешественник после своей поездки в Турцию отметил, насколько редко употребляется в ежедневном общении слово «турок». Но в том же самом году произошло нечто новое и важное, сигнализирующее об изменениях собственной идентичности турок. В разгар греко-турецкой войны, в которой туркам пришлось сражаться со своими бывшими подданными, молодой поэт Мехмед Эмин гордо объявил себя турком: «Мы турки, и мы живем с такой кровью и таким именем»1.
Значение этого заявления состояло в том, что, хотя понятие «турок» появилось задолго до этого, оно не несло никакого этнического значения. Обычно оно использовалось в уничижительном смысле, в основном для обозначения говорящих по-турецки жителей деревень в Анатолии. Но, заявляя о своей идентичности, Мехмед Эмин произнес слово «турок» с гордостью и с чувством. Это заявление отразило те перемены в установлении идентичности турок-мусульман в Османской империи, которые в то время инициировало движение младотурок. Как и предшествовавшее ему движение новых османов, движение младотурок было националистическим, но и заметно более секу- лярным, более западным (в отношении как его интеллектуальных истоков, так и его политических интересов в представительном правлении, включая республиканские идеи), а также более турецким по своей направленности. На самом деле, рост турецкого национализма явно проявлял влияние западной туркологии. Последняя проникла в Османскую империю через Россию и Балканы, более вестернезирован- ных соседей и регионы империи. Например, Шемседдин Сами Фра-
1 Lewis, Emergence of Modem Turkey, 333, 343.
222
ГЛАВА 5
шери, албанец, занимался филологическими исследованиями до- османской истории и культуры, вдохновляя турецкое самосознание. Зия Гёкалп, человек курдского происхождения, имевший склонность к пантуркизму или туранизму, в ряде важных исторических работ изложил необходимость обновления ислама в современных условиях и заложил интеллектуальный фундамент туркистского движения1.
После того как в 1908 году младотурки захватили власть, особенно после того как Мустафа Кемаль или Кемаль Ататюрк основал в 1923 году Турецкую республику, в изучении турецкой истории начался период стремительного роста. Этому росту способствовали и попытки профессионализации исторической науки, такие как основание в 1910 году «Общества османской истории». В 1923 году, после установления республики, общество сменило название на «Турецкое историческое общество», подчеркнув тем самым свою роль в развитии турецкой национальной истории. Но еще в дореспубликанский период общество принимало участие в ускорении перехода от традиционной к националистической историографии. Абдуррахман Шереф, последний имперский историограф и, как мы уже знаем, первый президент исторического общества, написал в нарративном стиле популярный учебник по османской истории. В сотрудничестве с Мехмедом Арифом Нажиб Асим, еще один выдающийся член общества, составил историю до-османского периода, основываясь на своих знаниях западных туркологических исследований. Кроме того, в своем журнале общество пропагандировало высокие исследовательские стандарты, ярким примером чему являются многочисленные важные публикации Ахмеда Рефика по исследованию и анализу ценных источников для изучения турецкой истории. В это же время Зия Гёкалп и его последователи публиковали свои эссе в научных журналах, провозглашая и поддерживая турецкий национализм в историографии. Будучи учеником Эмиля Дюркгейма, Зия Гёкалп вместе со своими товарищами, разделявшими его интерес к туранизму, расширил изучение турецкой истории не только географически - до таких регионов как центральная и южная Азия, где когда-то проживали турки, - но и историографически, привлекая внимание к развитию законности, институтов, фольклора и культуры, в довесок к более традиционному изучению политических изменений2.
Однако более важной движущей силой в развитии националистической историографии в Турции, вероятно, являлся основатель страны
1 Bernard Lewis, 'History Writing and National Revival in Turkey' // Bernard Lewis From Babel to Dragomans: Interpreting the Middle East. London, 2004, 424—426; Alastair Bonnett, 'Makers of the West: National Identity and Occidentalism in the Work of Fukuzawa Yukichi and Ziya Gokalp', Scottish Geographical journal, 118:3. 2000, 165-182.
2 Lewis, 'History Writing and National Revival in Turkey', 425—426; Erciiment Kuran, 'Ottoman Historiography of the Tanzimat Period’ // Bernard Lewis and P. M. Holt, eds, Historians of the Middle East. Oxford, 1962, 428-429.
ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ... 223
Кемаль Ататюрк. Он был истинным патриотом, и его интерес к истории не был нарциссическим, без всякого сравнения себя с героями прошлого, но националистическим с намерением проявить определенную турецкую национальную идентичность через историописание. Этот интерес явно резонировал с только что появившимся в стране академическим сообществом историков - в тот год, когда Кемаль Ататюрк основал республику, Стамбульский университет присвоил ему звание почетного профессора истории. В некоторых из его сограждан достижения Кемаля, возможно, вселили надежду на возрождение османского владычества в виде поли-энтической и поли-языковой империи. Но Кемаль был более реалистичен и прагматичен. Истинный приверженец идей движения младотурок, Кемаль видел иное будущее новой страны. Потеряв в начале развала Османской империи значительную часть христианского и арабского населения, он сосредоточил свои усилия на созидании новой страны с центром в Анатолии и на продвижении секуляризма, разорвав связи с исламом. Для этой цели необходима была новая история, в которой на передний план выходила бы не-исламская грань турецкого народа и которая бы прославляла достижения турецкой цивилизации. Говорят, что в 1928 году одна из соратниц Кемаля показала ему французскую книгу, в которой было сказано, что турки принадлежат желтой расе. Было досадно слышать такое, и Кемаль решил эту мысль опровергнуть. Будучи знакомым с такими историческими работами, как «Очерки истории цивилизации» Г. Уэллса, Кемаль задался вопросом будущего положения Турции в мире и вклада Турции в мировую историю. Он был убежден, что эти задачи, связанные с построением нации, могут быть осуществлены только с помощью новой исторической интерпретации прошлого страны1.
На первом турецком историческом конгрессе, проведенном в 1932 году, Кемаль заявил о необходимости установления определенной турецкой исторической идентичности. В соответствии с намерением Кемаля отмежевать Турцию как от ислама, так и от османов, турецкие историки, многие из которых работали на факультете географии, истории и языка, недавно открытом Кемалем в Анкаре2, новой столице страны, предложили теорию, известную как «турецкий исторический тезис» {Turk Tarih Tezi). Она состояла из трех частей. Во-первых, турецкая история не только не совпадает с османской историей, она древнее ее. Во-вторых, турецкая раса принадлежит к брахицефаличе- скому типу, а значит, белой, а не желтой, расе. В-третьих, будучи потомками народов центральной Азии, турки принесли цивилизацию
1 Speros Vryonis, Jr, The Turkish State and History: Clio meets the Grey Wolf. Thessaloniki, 1991, 68-69.
2 Nancy Elizabeth Gallagher, ed., Approaches to the History of the Middle East: Interviews with Leading Middle East Historians. Reading, 1994, 154.
224
ГЛАВА 5
в Анатолию, Ирак, Египет и районы Эгейского моря. Этот тезис, уходящий корнями в ориенталистскую научную традицию1, основывался на двух посылках, которые позднее были детально разработаны турецкими историками того времени. Одна из них состоит в том, что турки являются брахицефалами альпийской подрасы, в числе предков которых были и хетты; эти предки современных турок ближе к европейцам, чем к азиатам. Вторая состоит в том, что Анатолия в центральной Азии являлась центром древних цивилизаций, из которых произошли все другие цивилизации, включая египетскую, месопотамскую, китайскую, греческую и индийскую. Другими словами, среди этих древних цивилизаций изначальной являлась только турецкая, а все остальные - всего лишь ее производными2.
Хотя данное утверждение, касающееся турецкой истории, может показаться гротескным и шовинистским, его радикальность в действительности соответствовала другим реформаторским мерам, предпринятым Кемалем в новой стране. Он был твердо намерен сделать Турцию современной европейской страной, а поэтому хотел разорвать ее связи со своим исламским и османским прошлым и заново создать ее культурную традицию. В попытках секуляризировать Турцию он атаковал религиозные традиции, в том числе ношение фески и паранджи, хотя в этом он добился лишь ограниченного успеха. Можно резонно предположить, что если бы он прожил дольше, вестернизация и секуляризация Турции пошла бы еще дальше. И все же характерный для Кемаля вызов традициям и авторитетам остался живым наследием в современной Турции. Например, что касается турецкого исторического тезиса, у профессиональных историков он, возможно, вызывает некоторые сомнения. Но такие из них, как Мехмет Фуат Кёпрюлю, современник Кемаля и один из ведущих историков Турции XX века, очевидно, разделяли его националистические чувства. В своих работах по ранней турецкой истории, под влиянием социологии Дюркгей- ма (которое можно проследить еще в ранних работах Зии Гёкалпа), Кёпрюлю привлекает внимание к разнообразным социально-экономическим факторам для того, чтобы избежать однобокой интерпретации. Тем не менее, он остался абсолютно убежден в том, что именно туре- чество (Тигкбош), а не какие-то внешние факторы, сыграло основную роль в развитии ранней турецкой истории3.
Излишне говорить, что задуманное Кемалем Ататюрком изменение современной Турции было ориентировано на Запад. С начала XX века и до 50-х годов вестернизация стала доминирующей тенден-
1 См.: СетаI Kafadar, Between Two Worlds: The Construction of the Ottoman State. Berkeley, CA, 1996, 33.
2 Vryonis, Turkish State and History, 70-77.
3 Cp.: Kafadar, Between Two Worlds, 35—44. Также см.: Leslie Peirce, 'Changing Perceptions of the Ottoman Empire: The Early Centuries', Mediterranean Historical Review, 19:1. June 2004, 6-28.
ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ... 225
цией в исламском мире и, как мы увидим ниже, также в восточной Азии и не только1. Основной причиной этому было то, что, несмотря на катастрофу первой мировой войны, западные силы все же ускорили свою империалистическую и колониальную экспансию в другие, в том числе не западные регионы. Например, в 1911 году Италия захватила Ливию, а в результате падения Османской и Австро-венгерской империй Великобритания и Франция поделили современные Сирию, Ливан, Иорданию и Палестину и распространили свое влияние на Ирак и, менее успешно, на Иран. Таким образом, национализм стал оружием мусульман против западного империализма. Это было особенно очевидно в случае с Египтом, где британское колониальное правление установилось еще в 1882 году. Но в 1922 году, перед лицом растущего египетского национализма, Великобритании пришлось признать независимость Египта, хотя после этого британское влияние полностью не исчезло.
Национализация историописания в Египте
Как мы видели на примере с Турцией, национальная независимость не означала простого возврата к прошлому. Скорее, стремление к независимости побуждало людей все больше заимствовать у Запада для того, чтобы построить свое собственное национальное государство. В этом процессе те, у кого имелся предыдущий опыт западного образования, играли более заметную и полезную роль. Показательным примером может служить деятельность сирийских интеллектуалов в современном Египте. Благодаря географической близости своего региона к Западной Европе многие сирийцы и ливанцы, зачастую христиане, могли похвастаться свободным владением и арабским, и европейскими языками. Во время британской оккупации Египта они эмигрировали в Египет и вскоре принимали самое действенное участие в развитии современной журналистики и образования. Некоторые из них, например Джирджис Хунайин и Якуб Артин, хотя последний и был армянином, также занимали важные посты в египетском правительстве. В 1904 году Хунайин опубликовал свою работу «Землевладение и налогообложение в Египте», в которой содержалась обширная информация по экономической истории. Артин написал две книги по египетской истории и опубликовал ряд статей в научном журнале Bulletin de l'Institut Egyptien («Бюллетень Египетского института»), посвященном египетским исследованиям во Франции. Эти работы были точно документированы и опирались на источники из государственных архивов, доступ к которым для авторов не составлял труда благодаря их высокому социальному статусу. Артин также в основ- * 81 Bonnett, 'Makers of the West'.
8 3ак. 1183
226
ГЛАВА 5
ном публиковался на французском, что говорит об уровне его западного образования1.
Эти сирийцы, хотя и были эмигрантами, занимались продвижением египетского национализма с ни чуть не меньшим, чем у египтян, энтузиазмом. В своих газетам и журналах Якуб Саруф, например, впервые в Египте начал печатать материалы о национализме и дарвиновской теории, а Фарах Антун был первым, кто опубликовал работы Жана Жака Руссо и Эрнеста Ренана. В своей работе «Египет для египтян» Селим Наккаш провел детальный анализ восстания Ураби, непосредственным участником которого он был, хотя в целом его позиция не настолько про-революционна и националистична, как это может показаться из названия книги. Возможно, в отношении своей научной продуктивности и интеллектуального влияния всех своих современников превзошел Джурджи Зайдан, выходец из Бейрута. В молодости Зайдан изучал немецкий, французский и английский, а также сирийский, латынь и иврит, не говоря уже о своем родном арабском. Медицинскую часть своего образования он получил в Сирийском протестантском колледже, американском университете, но потом осознал, что его настоящим призванием являются литература, история и журналистика. Переехав в Египет, он сначала сделал успешную журналистскую карьеру. На посту редактора популярного журнала al-Hilal он заработал себе национальную славу журналиста самобытного, хотя и склонного к полемике. Вместе с национальным историком Мустафой Камилем и, как и он, сирийцем Якубом Сару- фом он выступал за открытие национального египетского университета, что, как мы знаем, и произошло в 1908 году, когда был основан Египетский университет. Однако его сирийско-ливанское происхождение и западное образование также вызвали среди египтян подозрение и враждебность. К примеру, его редко упоминают в числе основателей Египетского университета2. Хотя Мустафа Камиль соглашался с ним в вопросе необходимости создания национального университета, он был известен своей недружелюбностью по отношению к сирийским эмигрантам-интеллектуалам, которых он часто называл «незваными гостями»3.
И действительно, хотя Зайдан был признан - его называли «старейшиной (dean) сирийских египетских историков», а как-то даже «старейшиной (dean) арабских историков своего времени», ему было
1 Crabbs, Writing of History in Nineteenth-century Egypt, 186-188; Gamal el-Din el-Shayyal, 'Historiography in Egypt in the Nineteenth Century' // Lewis and Holt, Historians of the Middle East, 414416.
* al-Hilal (араб.) - Аль-Хиляль - «Полумесяц».
2 Crabbs, Writing of History in Nineteenth-century Egypt, 188-192; Donald M. Reid, Cairo University and the Making of Modern Egypt. Cambridge, 1990, 22-24.
3 Crabbs, Writing of History in Nineteenth-century Egypt, 153.
ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ... 227
запрещено преподавать исламскую историю в Египетском университете, одним из основателей которого он сам являлся. Таким образом, его вклад в современную египетскую историографию заключался в основном в многочисленных публикациях по исламской истории и литературе, включая получивший широкое одобрение труд в пяти томах «История исламской цивилизации»), который был опубликован в 1902-1906 гг. Будучи вестернезированным ученым, глубоко погруженным в ориенталистскую гуманитарную науку, Зайдан был известен своим секулярным подходом и пренебрежительным отношением к традиционной исламской историографии. В своей «Истории исламской цивилизации» он правомерно признает роль пророка Мухаммеда и исламской цивилизации, считая арабскую цивилизацию бриллиантом среди цивилизаций «плодородного полумесяца». Однако Зайдан отказывается представить происхождение ислама с ортодоксальной исламской точки зрения как триумф Божьей воли над врагами- язычниками. «Истинная история народа, - писал он, - это история его цивилизации и культуры, а не войн и завоеваний в духе ранних исламских арабских историков»1.
Недоверие египетских националистов по отношению к сирийским ученым-эмигрантам не было чем-то удивительным - временами национализм рождал и ксенофобские чувства. В конце концов, национализм был привнесен на Ближний Восток для того, чтобы противостоять экспансии западного империализма; египтяне и другие мусульмане приняли его с радостью, надеясь возродить свое собственное культурное наследие, а не довольствоваться насаждаемой на их земле западной культурой. В этом отношении ярким примером может служить основание и развитие Египетского университета. Одно из первых современных высших учебных заведений на Ближнем Востоке - Египетский университет - было создано для того, чтобы национализировать и поставить на профессиональную основу труд ученых в Египте и для Египта. Будучи университетом современным, в своей миссии привнести в Египет современную академическую культуру он соперничал, а временами и противостоял таким старым школам, как al- Azhar и основанному чуть позже Dar al-'Ulüm . Именно с этой целью в годы своего становления университет нанимал западных исследователей и ученых. Но в процессе своего развития были предприняты значительные усилия в отношении того, чтобы в штатный состав входило все больше египтян с европейским образованием.
Этот процесс увеличения числа ученых-египтян начался на отделении гуманитарных наук. В 1919 году на место преподавателя курсов истории древнего Востока и философии истории был принят Taxa Хусейн, бывший студент университета, получивший незадолго до этого
1 Ibid., 191; Reid, Cairo University, 35-37.
’ al-Azhar (аль-Азхар) и Där al-'Ulüm (Дар аль-Улум).
228
ГЛАВА 5
докторскую степень во Франции. Согласно контракту Taxa Хусейн не имел права работать где-либо за пределами университета без специального на то разрешения со стороны университета1. Таким образом, историческая наука на Ближнем Востоке вошла в период профессионализации. Несмотря на свою слепоту, Taxa Хусейн был превосходным ученым и плодотворно трудился на благо университета, получил стипендию на дальнейшее обучение в Сорбонне, где он работал совместно с Эмилем Дюркгеймом и ориенталистом Полем Казанова. Будучи одним из первых египтян, получивших докторскую степень на Западе, Taxa Хусейн сделал блестящую карьеру в администрации университета, некоторое время работал министром образования и стал ведущей фигурой современного образования в Египте.
Подобным образом развивалась карьера и Мухаммеда Рифаата Бея, одного из основателей египетской исторической науки. Современник Тахи Хусейна, Мухаммед Рифаат в начале XX века уехал учиться в Европу на деньги своей семьи, получил степень магистра в Университете Ливерпуля и по возвращении на родину стал профессором истории в Педагогическом колледже. Практически в то же самое время он начал свою административную карьеру в образовании и в конечном итоге в 50-е годы стал министром образования. Несмотря на свою административную работу, Мухаммед Рифаат продолжал писать исторические труды. В 1947 году он опубликовал важную работу на английском языке «Пробуждение современного Египта», хотя его предыдущие работы были в основном написаны на арабском. Откровенный националист, Мухаммед Рифаат не только участвовал в процессе увеличения числа египтян среди университетских преподавателей, а позже всячески этому способствовал, он также истинно верил в необходимость этого процесса и пропагандировал эту идею. Он заявлял, что «именно граждане своей страны могут наилучшим образом выразить истинные чувства своих соотечественников и их отношение к происходящим событиям и появляющимся идеям»2.
Национализм Мухаммеда Рифаата нашел отклик в работах Мухаммеда Шафика Горбаля, специалиста по египетским историческим исследованиям начала XX века. Некоторое время он был коллегой Мухаммеда Рифаата в Педагогическом колледже, где тот работал после своего возвращения из Англии, а в 1929 году он начал преподавать в Египетском университете, когда Taxa Хусейн был деканом отделения гуманитарных наук. Как и Мухаммед Рифаат, Горбаль получил степень магистра истории в Университете Ливерпуля, хотя он продолжил свое образование в Англии и в дальнейшем получил докторскую степень в Лондонском университете под руководством исто¬
1 Reid, Cairo University, 83.
2 Anthony Gorman, Historians, State and Politics in Twentieth-century Egypt: Contesting the Nation. London, 2003, 21.
ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ... 229
рика Арнольда Дж. Тойнби, который в то время подавал большие надежды. Горбаль публиковался в основном на английском, что было .типичным для первого поколения профессиональных египетских историков. Его первая книга «Зарождение египетского вопроса и возвышение Мухаммеда Али», написанная на основе докторской диссертации и опубликованная в 1928 году, была признана «вехой» в современной египетской историографии и началом «новой эпохи ее развития»1. В предисловии Арнольд Тойнби как наставник Горбаля высоко оценил труд своего ученика: «[Горбаль] настолько беспристрастен, настолько независим от чувств и предубеждений, обычных в этой области исследования, что... на основании внутренних свидетельств было бы очень сложно определить, является ли автор англичанином, французом или египтянином, либо ни тем, ни другим, ни третьим»2.
Горбаль, возможно, выглядит более непредвзятым в своих работах, чем, например, Мухаммед Ибрагим Сабри, его коллега-историк, или Абдаррахман ар-Рафии, политический активист, а также историк и протеже Мустафы Камиля. Но он был в неменьшей степени националистом со своими политическими пристрастиями. Для Горбаля историческая наука преследует определенную миссию, а именно продвижение национальных интересов. Его назначение на место Артура Дж. Г ранта фактически представляло собой значительную часть плана университета по замене иностранных специалистов местными. Ь 1935 году Горбаль стал преемником Артура Гранта, английского историка, специалиста по современной европейской истории, став первым египтянином на должности профессора современной истории в Египетском университете. Эта смена караула ознаменовала собой символический и важный шаг в развитии национального образования р Египте: мало того что Горбаль был египтянином, он к тому же специализировался по египетской, а не по европейской истории. На своем посту, который он занимал более двадцати лет, Горбаль обучил и взрастил множество молодых историков, которые впоследствии стали играть основную роль в развитии исторического знания в современном Египте. И все эти историки работали в области египетской истории, исследуя мириады различных аспектов от политических и институциональных изменений до социально-экономического развития.
Влияние Горбаля было столь разносторонним и глубоким в том числе и потому, что он на протяжении своей академической карьеры, подобно Taxe Хусейну и Мухаммеду Рифаату, занимал и несколько важных правительственных должностей, помогая направлять развитие
1 Youssef M. Choueiri, Modem Arab Historiography: Historical Discourse and the Nation-State. London, 2003, 77.
2 I^ht. no: Gorman, Historians, State and Politics in Twentieth-century Egypt, 27.
230
ГЛАВА 5
образования в стране. Хотя он так и не стал министром образования, как Мухаммед Рифаат, он многократно, при нескольких правительствах, служил на должности заместителя министра образования. Политически его считали в определенной мере консерватором, объясняя это близостью к королевской семье. Однако возможно, что такая позиция была обусловлена его националистическими склонностями. Во главе оппозиции королю стояла партия Вафд, националистическая партия, благодаря которой Египет получил независимость от британцев в 1922 году, хотя впоследствии эта партия не раз получала поддержку для удержания власти со стороны Великобритании. В то же самое время британцы не утратили и свой интерес в сохранении своего влияния в Египте.
Мухаммед Ибрагим Сабри, еще одна ведущая фигура в академических исторических кругах Египта, во многих отношениях контрастировал с Горбалем, своим давним коллегой по Египетскому университету. Он учился во Франции, а не в Англии, и получил свою докторскую степень в Сорбонне под руководством Альфонса Олара, специалиста по Французской революции. По сравнению с неуклонным подъемом Горбаля на Парфенон, Сабри пришлось столкнуться с некоторыми трудностями в начале своей карьеры. Кроме преподавательского труда - сначала в Педагогическом колледже, затем в Египетском университете и университете Dar al-’Ulüm, а позднее опять в Египетском университете, куда он вернулся в 1950 году, - он также работал заместителем директора Национальной библиотеки (Dar al-Kutub). Но по сравнению с Горбалем с его относительно небольшим количеством опубликованных работ, Сабри печатался очень много, хотя большинство его книг были написаны на французском, что ограничило его интеллектуальное влияние в собственной стране. Однако его «Египетская революция», в которой он описывает события 1919 года и в которой ясно прослеживается влияние его наставника, стала серьезным соперником работы «Зарождения египетского вопроса и возвышение Мухаммеда Али» Горбаля в формировании направления развития академических исторических исследований в Египте. Работа Сабри была опубликована лет на десять раньше исследования Горбаля и признана симптомом «подъема профессиональной египетской историографии»1. У Сабри также были отличные от Горбаля политические взгляды; первый был очевидным либералом, в то время как последнего можно назвать консерватором. Сабри симпатизировал политике националистической партии Вафд и одно время работал переводчиком и секретарем основателя партии Саада Заглула (Sa'd Zaghlul, 1857-1927).
1 Jack Crabbs, Jr, 'Politics, History, and Culture in Nasser's Egypt'. International Journal of Middle East Studies, 6:4. October, 1975, 389. Однако эту оценку оспаривает Юсеф Чуэйри, считая, что работа Ибрагима Сабри была запятнана его политическим участием в партии Вафд. Об этом см.: Yousseff Choueiri, Modem Arab Historiography, 77-78.
f ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ... 231
Хотя пути Мухаммада Рифаата, Шафика Горбаля и Ибрагима Саб- ри, репрезентативных фигур первого поколения профессиональных историков современного Египта, имели определенные различия, они, тем не менее, демонстрируют тот факт, что начиная с 20-х годов XX века историческая наука в Египте вошла в новый этап - она стала академической дисциплиной, которой начали заниматься и которую стали преподавать профессиональные историки. Подобно своим западным коллегам, все эти историки основывали свои исследования на внимательном изучении источников, в основном государственных архивов. Но они развивали и исламскую традицию в том смысле, что в период османского правления историки на Ближнем Востоке разработали сложные способы работы с архивными материалами для написания истории прошлого и современного им времени. Эти современные историки отличались от своих предшественников скорее стилем письма, чем методами исследования - они стремились передавать результаты своих исследований простым, объективным арабским языком, в прозе, а не в стихотворной форме 'saj. Кроме того, они сыграли ведущую роль в появлении в Египте профессиональных сообществ. Ученые сообщества существовали в Египте и до этого, в основном они были основаны западными учеными. Например, в 1859 году был основан Институт Египта, который являлся реинкарнацией Египетского института, основанного Наполеоном в 1798 году. Хотя в основе его состава были ориенталисты из Европы, его членами являлись и такие неевропейские ученые, как Рифаа ат-Тахтави и Якуб Артин. В первой половине XX века институт Египта также принимал участие в процессе национализации египетской науки, например в 1924 году его членом был избран Taxa Хусейн, а в 1947 - Горбаль, хотя последний к тому времени (в 1945 году) уже основал Королевскую ассоциацию исторических исследований, которая впоследствии стала называться Египетской ассоциацией исторических исследований - организацию, более важную для исторического сообщества Египта и менее элитарную. В 1949 году Ассоциация опубликовала «Королевское египетское историческое обозрение» на арабском и английском, а после 1952 года журнал был переименован в «Египетское историческое обозрение». В 1951 году Ассоциация насчитывала триста пятьдесят членов, и с тех пор это число выросло более чем до трех тысяч.
Академическая история и национальная политика
При всех своих внешних атрибутах появление исторической профессии в Египте было близко связано с изменениями на политической арене и непосредственно их отражало. Как мы уже видели на примере Европы, хотя становление исторической науки как академической
232
ГЛАВА 5
дисциплины способствует автономии историков и повышению качества их работы, этот процесс ни в коем случае не ограждает написание и изучение истории от внешних влияний, и академическая историография зачастую развивалась благодаря государственному патронажу и финансированию. Ярким примером служит основание в 1810 году Берлинского университета, в котором появилась ранкеанская школа, образчик академической историографии. На Ближнем Востоке, за исключением нескольких миссионерских школ, современные академические заведения были основаны государством как часть государственного проекта нациостроительства. Как мы говорили ранее, профессора истории Стамбульского университета с большим энтузиазмом и прилежностью взялись за разработку взглядов Кемаля Ататюрка на раннюю историю Турции в надежде поддержать национальную самооценку. С тех пор исторические исследования в основном касались именно турецкой истории, причем значительные усилия были приложены к разработке новых временных периодов, хотя османский период так и остался непопулярным, представляя собой ушедшую эпоху с анти-националистической идеологией1.
Подобно турецким историкам, отвернувшимся от Османской империи, их коллеги в других областях этого региона также предприняли атаки на османское правление как империалистическое и деспотическое. В попытках создать собственную, отличную от других национальную идентичность они стремились обнаружить следы своего национального происхождения в более далеком прошлом. Иракские историки, к примеру, обнаружили свое ассирийское прошлое, тунисцы сделали ставку на прошлую славу карфагинян, а ливанцы обратились к достижениям финикийцев2. В Иране благодаря многочисленным разумным усилиям по модернизации, несмотря на смену династий 1925 года, академическая история также проделала значительный путь и была столь же националистична. Например, под впечатлением использования в современной европейской исторической науке таких вспомогательных дисциплин, как археология, эпиграфика и нумизматика, Хусейн Пирния, занимавшийся историей древнего Ирана, посчитал, что эти методы можно применить для обоснования мощи персидской цивилизации (например, династии Сассанидов) и ее превосходства над Индийской цивилизацией. По мнению Ахмада Касрави, другого современного иранского историка, несмотря на мусульманское вторжение, в результате которого персидская культура была «загрязнена» исламом, в течение последовавших за этим веков персы
1 Lewis, 'History Writing and National Revival in Turkey', 428.
2 Cp.: Choueiri, Modem Arab Historiography, 71-72; Marion Farouk-Slugletl and Peter Sluglett, 'The Historiography of Modem Iraq', The American Historical Review, 96:5. December 1991, 1408-1421; также Barraclough, Main Trends in History, 128-129.
ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ... 233
все-таки сохранили свою расовую и этническую «чистоту»1. Вернемся к Египту. Основной вопрос египетских историков XX века состоял не в том, далеко ли в прошлое уходит корнями их культура, - их предшественники XIX века, такие как Рифаа ат-Тахтави и Али Мубарак, успешно доказали укорененность их культуры в богатом культурном наследии Древнего Египта2, - а в том, как оценить и проанализировать развитие современного Египта под руководством таких известных реформаторов, как Мухаммед Али и Исмаил, а также в процессе подъемов и спадов египетского национализма к концу XIX века. Мухаммед Рифаат и Шафик Горбаль акцентировали роль монархов в истории страны и дали положительную оценку роли хедивов- реформистов, не оставляя тем не менее без внимания автократический характер их политики. Мухаммед Рифаат написал популярный учебник по современной египетской истории, в котором он противопоставил успех правления хедивов провалу восстания Ураби, так как первые укрепили позиции Египта, а второе привело к британскому вторжению. Более либеральный в своих взглядах Ибрагим Сабри также описал восстание Ураби в нелестном тоне, потому что, учитывая его близкие связи с партией Вафд, он стремился приписать большее значение в достижении Египтом независимости Сааду Заглулу и его партии. Интересен тот факт, что единственным исключением, как кажется, является только Абдаррахман ар-Рафии, популярный историк- любитель. В своих работах он придерживается более нейтрального подхода к оценке как хедивов, так и урабистов, несмотря на негативное мнение своего наставника Мустафы Камиля в отношении последних3. Эти различные интерпретации современной истории Египта еще раз говорят о том, что профессиональные историки не были свободны от политических влияний и не меньше своих полупрофессиональных предшественников на рубеже веков стремились занять определенную политическую позицию - роялистскую, либеральную или революционную. Начиная с 50-х годов XX века изменившийся с наступлением эры «Холодной войны» политический расклад, а ближе к настоящему моменту воздействие глобализации оказали более непосредственное влияние на формирование направления и развитие исторических исследований в Египте и других странах Ближнего Востока.
1 Firuz Kazemzadeh, 'Iranian Historiography' // Lewis and Holt, Historian of the Middle East, 430-432. О поисках иранскими мыслителями и историками современности см.: Farzin Vahdat, God and Juggernaut: Iran's Intellectual Encounter with Modernity. Syracuse, NY, 2002, 25-128.
2 По вопросу фараонизма 20-х гг. XX в. см. следующую монографию: Dona М. Reid, Whose Pharaohs? Archaeology, Museums, and Egyptian Nation Identity from Napoleon to World War I. Berkeley, CA, 2002.
3 Mayer, Changing Past, 10-27.
234
ГЛАВА 5
Национализм, сциентизм и марксизм: современная историография в Восточной и Юго-Восточной Азии
Японо-китайская война 1895 года стала поворотным моментом в современной истории Восточной Азии и оказала огромное влияние на трансформацию традиционного уклада китайского мира. Благодаря только что появившейся сфере новостных средств массовой информации, основанной западными миссионерами и активно развивавшейся с участием китайских журналистов, которые поддерживали привнесенные Западом изменения, поражение Китая в этой войне стало известно китайскому населению гораздо быстрее и эффективнее, чем это было возможно раньше1 2. Это раз и навсегда разбудило Китай. Последовала Реформа 1898 года, и хотя про-реформистски настроенные император и его соратники Кан Ювэй и Лян Цичао потеряли власть, проиграв вдовствующей императрице Цыси и ее сторонникам, последние также считали, что определенные изменения необходимы. Например, императрица сохранила национальное учебное заведение, основанное реформистами в 1898 году, которое впоследствии стало Пекинским университетом, первым современным университетом Китая. Чжан Чжи; дун завоевал доверие императрицы, предложив формулу 'Н-уоп£ в целях построения модели китайского культурного заимствования у Запада. По его замыслу и под его руководством началась реформа периода правления династии Цин в попытке следовать японской модели развития и открыть новую страницу китайской истории. В годы своего становления в Пекинском университете работали в основном японские или обучавшиеся в Японии китайские преподаватели; кроме того, структура факультетов и учебные планы создавались по японскому образцу. В своей влиятельной работе «Призыв к учению» Чжан Чжидун объясняет необходимость для китайских студентов учиться у Японии, которая благодаря своей географической, лингвистической и культурной близости является лучшей моделью модернизации для Китая, чем Запад. Япония была так привлекательна для Чжана Чжи- дуна и других подобным образом настроенных чиновников еще и потому, что начиная с 90-х годов XIX века политика массовой вестернизации начала периода правления Мейдзи уступила место новому интересу к «возвращению» к азиатским и родным японским корням. Когда формула Чжана 'й-уоп£ приобрела вес в конце периода правления Цин, в конце периода Мейдзи в Японии получил поддержку лозунг «японский дух - западные технологии» {\vakon уоБт^.
1 Joan Judge, Print and Politics: 'Shibao' and the Culture of Reform in Late Qing China (Stanford, CA, 1996.
ti-yong {кит.) - ти~юн - фундаментальная-прикладная.
2 Douglas Reynolds, China. 1898-1912: The Xinzheng Revolution and Japan. Cambridge, MA, 1993.
ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ... 235
«Новая историография» в Китае
Благодаря «призыву» Чжана и финансовой поддержке правительства Цин на рубеже XX века огромное количество китайских студентов отправилось в японские учебные заведения. Из числа этих студентов вышло поколение будущих политических и интеллектуальных лидеров, самым заметным из которых является Лян Цичао. Хотя официально он и не был студентом (на самом деле Лян отправился в Японию в ссылку из-за своей ведущей роли в Реформе 1898 года), политическое положение Ляна позволило ему сойтись со многими выдающимися японскими интеллектуалами и политическими лидерами. Вдохновленный примером Фукузавы Юкучи и Тагучи Икичи, Лян занялся в Японии журналистикой с целью отстаивать необходимость более радикальной политической реформы в Китае. Пропагандируя конституциональную реформу, он познакомил китайского читателя с работами многих либеральных мыслителей Запада, которые он смог прочитать в японском переводе1 2. Он также понимал, что установление конституционной монархии и представительного правления в Китае повлечет за собой изменение китайского типа мышления, укорененного в китайской культурной традиции, неотъемлемой частью которой являлась традиция историописания.
Так, в 1902 году, подобно Фукузаве, в своем журнале «Новый гражданин» в порядке серийной публикации Лян начал издавать свой интересный труд «Новая историография», в котором он критиковал китайскую традицию династийной историографии и заявлял о необходимости «историографической революции» (у/ну/е geming). В начале своей «Новой историографии» Лян заявляет о том, что, хотя историо- писание в Китае имеет долгую традицию, оно устарело и перестало быть адекватным, потому что по сравнению с современной историографией на Западе, где историописание способствовало появлению национализма, китайская традиция сконцентрировалась на описании жизни монархов, расцвета и упадка династий. Более того, китайские историки погрязли в морализаторском поучительстве и как следствие потеряли стимул искать и объяснять историческую казуальность, в результате чего их работам не хватает новшества и творчества. На самом деле, заявляет Лян, составление в течение последних двух тысячелетий двадцати четырех династийных историй от династии Хань до династии Цин было не чем иным, как повторением одного и того же, так как все они служили лишь одной цели - помочь монарху продлить свое правление-.
1 См.: Joshua Fogel, ed., The Role of Japan', Liang Qichao's Introduction of Modem Western Civilization to China. Berkeley, CA, 2004 и Paula Harrell, Sowing the Seeds of Change: Chinese Students, Japanese Teacher 1895-1905. Stanford, CA, 1992.
2 Liang Qichao, Xin shixue (Новая историография) // Liang Qichao shi lunzhu sanzhong (Три работы Ляна Цичао по истории) (Hong Kong, IS 3-9. Ср.: Q. Edward
236
ГЛАВА5
«Новая историография» Ляна не только стала первым залпом по традиционной китайской историографии, но и широкими мазками обрисовала идеи новой историографии. Во-первых, писал Лян, она должна стать неотъемлемой частью нациостроительства, а это обязательная задача для китайцев перед лицом повторяющихся поражений со стороны иностранных государств. Во-вторых, идя по стопам японской «цивилизационной истории», она должна описывать и анализировать прогресс, или эволюцию, нации в целом, а не концентрироваться на подъемах и спадах династических правлений1.
Хотя эти две задачи были очерчены в самом общем виде, они представляли собой ядро «историографической революции» того времени и были подхвачены многочисленными товарищами Ляна, которые жили и учились в Японии. Самыми яркими представителями этого круга можно назвать Чжан Тайян, Хуан Цзе и Ден Ши. В 1905 году Чжан, Хуан и Ден вместе с другими обучавшимися в Японии китайскими студентами начали публиковать свой журнал «Национальное достояние», в котором они высказывали свои размышления по поводу китайской историографической проблемы, отражая формулировки Ляна Цичао о национальной и «цивилизационной» истории. Как и Лян, они утверждали, что «историографическая революция» крайне необходима, потому что для пользы националистического дела исто- риописание должно уйти от «монархической истории» (junshi) к «народной истории» (mins). В поддержку такой необходимости они призвали к возрождению «национальной сущности» - это был неологизм, который появился в Японии в поиске японцами своих восточных корней в 90-е годы XIX века. Они использовали этот термин не для возрождения конфуцианского наследия, а для поиска далекого до- конфуцианского прошлого, подобно гуманистам Ренессанса, искавшим совместимые с их культурой элементы в греческом и римском прошлом.
Очерчивая эволюцию так называемой «Желтой истории» (Huang- shi) в самом Китае, Хуан Цзе обратил особое внимание на фигуру Желтого императора, предполагаемого прародителя китайского народа в Древнем Китае. Работа Хуана, хотя и не была закончена, явилась одной из первых попыток национальной истории в Китае, фокусировавшейся на эволюции желтой расы. Однако ни для Хуана, ни для Чжана Тайяна, ни для Лю Шипея, ни для других авторов, писавших в этот журнал, китайская раса не представлялась коренным населением современного им Китая, они считали, что это переселенцы из Центральной Азии, или Халдеи, которые вышли оттуда примерно пять
Wang, Inventing China through History: The May Fourth Approach to Historiography/ Albany, NY, 2001, 42-50.
1 Liang, Xin shixue. 10-15. Cp.: Xiaobing Tang, Global Space and the Nationalist Discourse of Modernity: The Historical Thinking of Liang Q. Stanford, NJ, 1996.
ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ... 237
тысяч дет назад. Эту идею предложил Терьен де Лакупери, французский синолог. Принимая теорию Лакупери, эти китайские интеллектуалы надеялись связать происхождение китайской цивилизации исторически и этнически с Центральной Азией, признанной колыбелью человечества, откуда вышла и греческая цивилизация, первоисточник западной цивилизации1. В этом они были подобны турецким историкам, которые в 20-е годы XX века тоже пытались представить Центральную Азию колыбелью древнетурецкой культуры и древнетурецкого народа, ведь оба проекта были мотивированы желанием подпитать национальную самооценку и престиж своего народа, что является сущностной чертой националистической историографии.
В то время, когда высказывались и пропагандировались эти новые, националистические идеи в истории, образование в Китае тоже вошло в период реформирования. В дополнение к Пекинскому университету правители династии Цин разрешили открыть еще несколько университетов, а также новые начальные и средние школы современного типа, в которых преподавались такие предметы, как математика, физика, химия и иностранные языки. История, как и другие «старые» предметы, также оставалась в центре учебного плана, хотя теперь все больше и больше она преподавалась по-новому, отражая влияние «историографической революции». После 1905 года, когда правители династии приняли решение отменить освященную веками систему экзаменов на должности государственной гражданской службы, китайские студенты с энтузиазмом стали пользоваться японскими учебниками в качестве «кратчайшего пути» к этой новой системе знаний. Чтобы удовлетворить растущий спрос на учебники, обучавшиеся в Японии студенты стали поставлять переводы японских учебных пособий. В области истории благодаря процветавшей японской традиции ориенталистских исследований Toyoshi японские историки уже написали ряд текстов по китайской истории, некоторые из них вообще были написаны на китайском, как «Всеобщая история Китая» Наки Мичийо.
В начале XX века книга Наки, а также «Краткая история Востока» Кувабары Дицозо быстро стали популярными учебниками по истории в китайских школах. Эти тексты отличало три особенности: 1) в отличие от традиционной биографическо-династийной историографии они следовали нарративной структуре с ясной периодизацией, которая, как правило, представляла собой заимствованное в западной историо-
1 См.: О. Edward Wang, 'China’s Search for National History' // Q. Edwa Wang and Georg G. Iggers, eds, Turning Points in Historiography: A Cross-Cultural Perspective. Rochester, 2002, 185-203. Cp.: Yu Ying-shil 'Changing Conceptions of National History in Twentieth-Century China Erik Lonnroth, Karl Molin and Ragnar Bjork, eds, Conceptions ofNatio History, Berlin, 1995, 155-174; и Zheng Shiqu, Wan Qingguocui pai: wenhua sixiang yanjiu (Школа национальной сущности конца периода Цинь: изучение интеллектуальной истории). Beijing, 1997, 161-237.
238
ГЛАВА 5
графин деление на три периода - древнее время, средние века и современность; 2) несмотря на то что центральной темой нарратива все еще оставались политические изменения, под влиянием «цивилизационной истории» или «народной истории» авторы более полно, хотя и кратко, отмечали изменения и в таких сферах, как религия, культурные обычаи и литературные достижения; и 3) хотя нравоучение достигалось посредством отбора для повествования тех или иных событий и персонажей, главный интерес авторов состоял в том, чтобы создать связное описание развития национальной истории с древности до современности и время от времени проводить причинно-следственный анализ исторических событий. В нескольких словах, главными привлекательными чертами этих японских текстов были краткость (вся китайская история была представлена в одном или двух томах), периодизация и нарративное изложение. Кроме того, эти характеристики как нельзя лучше подходили для преподавания китайской истории в новом, националистическом ключе.
Почувствовав возможную прибыль от доходного рынка учебников, китайские издатели быстро уловили новую тенденцию. Например, в 1905 году издательство Commercial Press выпустило «Новейший учебник китайской истории для средней школы», автором которого был Ся Зенгу, друг Ляна Цичао, разделявший веру Ляна в прогрессивную историю. Возможно, книга Ся была первой попыткой китайского автора написать историю прошлого своей страны в новом нарративном стиле. Но почти в то же самое время подобные попытки были предприняты и другими, в их числе Лю Шипей, член группы «Национальная сущность» и первый китаец, ставший анархистом. В то время как китайцы в немыслимом количестве читали, изучали и писали свою историю с новых точек зрения (социальный дарвинизм или эволюционная теория, национализм, анархизм и даже расизм), эти теории помогли указать на новые направления, в которых история их страны могла двинуться в то время, когда падение династии Цин было неизбежно. Так и произошло - несмотря на начатые ими реформы по модернизации страны, это был их последний рубеж, династия не смогла себя спасти, ив 1911 году была свергнута в ходе переворота, возглавленного националистской партией Сунь Ятсена. Начиная эту революцию, оратор партии и выдающийся член редколлегии журнала «Национальной сущности», издаваемого одноименной группой, Чан Тайян объяснил своим соотечественникам, что династия Цин, основанная маньчжурами, была режимом чужеродным и нелегитимным, потому что Китай должен принадлежать китайскому народу Хань.
ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ... 239
Противоречие между национальной и научной историей1
Провозглашение в 1912 году Китайской республики, первой республики в Азии, открыло для страны новую эру, полную оптимизма и ожидания. Последние, однако, быстро сменились пессимизмом и отчаянием, когда в гонке за титулом первого президента Юань Шикай, бывший генерал при правлении династии Цин, смог обойти Сунь Ят- сена и завладел всеми достижениями революции. В то время как Сунь Ятсен теперь готовил «вторую революцию» на юге Китая, китайские интеллектуалы в Пекинском университете продолжали свои поиски культурной реформы, или революции, чтобы помочь своей стране справиться с наступившими бедами. Продолжая иконоборческую традицию предыдущего десятилетия Ляна Цичао, это новое поколение китайских интеллектуалов провозгласило, что Китаю нужны «госпожа Демократия» и «госпожа Наука», а также критический пересмотр китайской культурной традиции. Благодаря влиянию «историографической революции» и преподаванию в школах истории по новым учебникам поколение 4 мая с готовностью приняло идеи эволюционной теории для интерпретации прогресса и движения истории. Более того, она стала для них средством создания «новой культуры». Ху Ши, профессор Пекинского университета, получивший свою докторскую степень в Соединенных Штатах, и лидер этого движения за новую культуру, заявил, что идея эволюционного развития не является для китайцев чем-то чужеродным. Но в отличие от Кан Ювэя, который сделал подобное заявление еще в конце предыдущего столетия, Ху исследовал эволюционную теорию на методологическом уровне и разработал ее и как научный метод и как историческую теорию. Проще говоря, Ху называл эволюционную теорию «генетическим методом», или «методом дедушек, бабушек и внуков». Когда он писал свою диссертацию в Колумбийском университете, где он работал совместно с Джоном Дьюи, известным философом школы прагматизма, Ху проследил развитие этого метода в идеях Древнего Китая. Вернувшись в 1917 году преподавать в Пекинском университете, Ху сместил центр своего внимания на «доказательное знание» периода династии Цин, где он нашел то, что, по его мнению, было самым зрелым применением эволюционной теории как научного метода в китайской научной традиции. Он говорил о том, что работавшие во время правления династии Цин ученые, придерживавшиеся метода доказательного знания, изучали «эволюцию» одного текста в течение веков и сравнивали различные варианты этого текста, чтобы проследить
1 Ни Fengxiang and Zhang Wenjian, Zhongguojindái shixue sichao yu lit (Направления и школы в современной китайской историографии). Shanghai, 1999,256-271.
240
ГЛАВА 5
и идентифицировать содержавшиеся в них интерполяции, модификации и искажения. В процессе такой работы эти ученые следовали научной процедуре, которая включала в себя постановку вопроса, выдвижение гипотезы, экспериментальную проверку и верификацию. Эта процедура совпадает с применением современных научных методов, изложенных в книге его наставника Дьюи «Как мы думаем?» Принимая метод ученых времен династии Цин, или текстовую и историческую критику, Ху установил и удостоверил истинное авторство нескольких известных романов, которые были популярны как во времена правления династии Цин, так и в его время. Он также тщательно исследовал достоверность многих текстов по философии и истории. Таким образом, дав методу доказательного знания определение научного и сравнив его с современными западными научными процедурами, Ху Ши заново открыл и возродил эту традицию доказательного знания времен династии Цин1. Он также добился того, что переориентировал изменения в современной китайской историографии подобно тому, что сделал несколькими десятками лет ранее в Японии Сигено Ясуцугу, который связал традицию доказательного исследования с ранкеанской историографией.
Изменения, которые Ху Ши привнес в изучение китайской истории, начались со скромного исследовательского проекта под названием «Национальные исследования», которые он запустил в Пекинском университете. В помощники ему был нанят Гу Цзеган, студент и протеже Ху. Воодушевляемые мятежным духом 4 мая, Ху и Гу разделяли критическое и скептическое отношение к существовавшему в Китае собранию литературных и исторических текстов и намеревались подвергнуть его критическому пересмотру. По просьбе Ху Гу начал проект, следуя примеру ученых времен династии Цин, с отбора из существующего корпуса литературы фальшивых и фальцифицированных текстов. Их усилия и интерес были сродни работе членов группы «Национальной сущности» - вдохновленные попытками гуманистов эпохи Ренессанса возродить классическую греко-римскую культуру, Ху и Гу надеялись добиться эффекта «китайского Возрождения», добравшись до истинной и заслуживающей доверия литературной традиции. Когда в 40-е годы XX века Ху попросили вспомнить значение проекта национальных исследований, по значимости он прямо сравнил его с Возрождением2.
1 Ни Shih (Shi), The Development of the Logical Method in Ancient Chim. New York, repr., 1963; Его же 'Shiyan zhuyi' (Экспериментализм), 'Du Wei xianshengyu zhongguo' (Дьюи и Китай), 'Qingdai xuezhe de zh fangfa' (Исследовательские методы ученых периода династии Цин) // Idem., Wenti yu zhuyi (Про- и - измы). Taipei, 1986. Ср. Wang, Inventing China through History, 5
2 Anthony Grafton, Defenders of the Texts: the Traditions of Scholarship in an Age of Science, 1450-1800. Cambridge, MA, 1991; Hu Shih (Shi), The Chinese Renais-
ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ... 241
Однако у этой аналогии были свои недостатки - традиция, которую они стремились возродить, на самом деле не была, так сказать, погребена под пылью истории, ее превозносили, ей поклонялись, ее лелеяли целые поколения китайских ученых. Ученых 4 мая, «крещенных» научной культурой, в этой традиции не устраивало то, что этот необъятный корпус был насквозь пропитан мошенничеством и ложью и по научным стандартам не был ни подлинным, ни надежным. Например, в своем критическом исследовании исторических текстов по Древнему Китаю Гу Цзеган выразил серьезное недоверие в отношении их аутентичности и достоверности. Под влиянием критического настроя в духе 4 мая он выдвинул смелую гипотезу о том, что идеальное правление «Трех династий» Древнего Китая, идеализированное и почитаемое историками и литераторами прошлого, было историей не реальной, а сфабрикованной. Гу высказал предположение, что Юй, один из «легендарных правителей» того времени, мог быть не реальной исторической фигурой, а всего лишь тотемным символом. Подозрение Гу получило поддержку со стороны его наставника Ху Ши, который считал, что смелая гипотеза - это первый шаг в научном исследовании. С поддержкой учителя Гу продолжил свои попытки развенчать надежность традиционных исторических источников. Называя свою деятельность «древностью под сомнением» (yigu), Гу начал «дискуссию по истории древности», в которой обсуждалась историчность Древнего Китая. Эта дискуссия была схожа с тем, что сделали их японские коллеги в отношении эпохи богов в доисторической Японии. В процессе этой дискуссии Г у также высказал сомнение по поводу историчности Желтого императора, общепринятой фигуры прародителя китайского народа1.
Как и высказанные Сигено и Кумэ откровения по поводу неполноценности и ненадежности традиционных японских исторических источников и сочинений, «древность под сомнением» Гу вызвала в Китае общественную дискуссию, ведь если принять его предпосылку о мифичности и выдуманности эпохи «Трех династий», то китайская история сократится с пяти до примерно трех тысяч лет. Такой радикальный шаг наверняка вызвал сильный протест со стороны историков - членов группы «Национальной сущности». Хотя это была идея Гу, ее радикальный характер можно проследить в курсе китай¬
sance. New York. repr. 1963, orig. 1934; Jerome Grieder, Ни Shih and the Chinese Renaissance: Liberalism in the Chinese Revolution, 1917-1937. Cambridge, MA, 1970.
1 Gu Jiegang (Ku Chieh-kang), The Autobiography of a Chinese Historian, nep. Arthur Hummel. Leyden, 1931; Idem., 'Huangdi' (Желтый император), Shilin zashi chubian (Эссе в чаще истории, 1st ed.). Beijing, 1963. Cp.: Laurence Schneider, Ku Chief-kang and China's New History: Nationalism and the Quest for Alternative Traditions. Berkeley, CA, 1971; Tze-ki Hon, 'Ethnic and Cultural Pluralism: Gu Jiegang's Vision of a New China in His Studies of Ancient History', Modem China, 22:3. July 1996,315-339.
242
ГЛАВА 5
ской интеллектуальной истории, которую читал Ху Ши в Пекинском университете и который, будучи студентом, слушал Гу. Ху вообще не включил «Три эпохи» в свой курс, объясняя свое решение ненадежностью имевшейся по этому вопросу литературы1. В отличие от Японии, где обсуждение ненадежности исторических источников столкнулось с давлением со стороны политиков и религиозного истэблишмента, в Китае «дискуссия по истории древности» в основном ограничилась академическими кругами. Более того, она помогла развитию китайской академической историографии. Для того чтобы ответить на вызов Гу, который, кстати, стал звездой в молодом ученом сообществе и которого теперь наперебой зазывали разные университеты, его критикам тоже пришлось обратиться к источникам и изучить их примерно таким же образом, как это делал Гу, формулируя свой тезис. Благодаря своей ведущей роли в проекте национальных исследований Ху Ши и Гу Цзеган стали ведущими фигурами новой «Школы исторических источников», названной так из-за ее акцентирования оценки и проверки источников. В конце 20-х и в 30-х годов XX века эта школа доминировала в исторических кругах Китая, которые теперь состояли в основном из профессоров истории, работавших в академической среде. Эти историки также организовывали исторические ассоциации и исторические журналы, хотя большинство из них были весьма скоротечны.
Пропагандируя научный подход к истории, «Школа исторических источников» поставила под сомнение продолжительность китайской истории, что могло задеть народную гордость. Но этот поворот к научности исторических исследований был, несомненно, предпринят с националистической целью. Ху Ши и Гу Цзеган были хорошо знакомы с развитием синологии и на Западе, и в Японии, и их беспокоил ее «отсталый» статус в Китае. Это значило, что если китайские ученые не обратили бы свое внимание на вопрос критики и проверки источников, их работы не могли бы вызвать какого-либо уважения со стороны зарубежных коллег. Десятью годами ранее Ширатори Куракичи, обучавшийся ранкеанскому методу японский синолог, уже подверг сомнению надежность древних исторических текстов в отношении эры «Трех династий», хотя его аргумент был опровергнут его колле- гой-синологом Хаяши Тайсукэ2.
В разгар «дискуссии по истории древности» в 1926 году из Европы, где он учился в течение семи лет, вернулся Фу Сынянь, еще один студент Ху Ши и его протеже в Пекинском университете. Сначала в Европе Фу пробовал себя в самых разных предметах, но затем в Бер¬
1 Gu, Autobiography of a Chinese Historian, 65-66.
2 См. Qian Wanyue, “Cenglei de zaocheng shuo’' yu ‘‘jiashang” yuanze’ (Теория постепенной экспансии и «добавочный» принцип) // Gu Chao, ed., Gu Jiegang xueji (Эссе о научной деятельности Гу Цзегана). Beijing, 2002, 195-200.
ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ... 243
ли иском университете он наконец нашел свое настоящее призвание в филологии, философии и истории. Возвратившись на родину, он основал Институт истории и филологии, первый исследовательский институт исторических исследований в Китае. Отстаивая идею о том, что филологическое исследование обеспечивает надежность исторических источников, название института отражало немецкое/ранкеан- ское влияние. Однако сочетание истории и филологии также находилось в русле традиции доказательного знания (с которой Фу соприкасался еще в самом начале своей научной карьеры), потому что именно в этой традиции филология получила статус основания любого серьезного исследования. Но Фу Сынянь стремился к большему. Под его руководством Институт провел археологические раскопки в Анья- не, предположительно столице династии Шан (ок. 1600-1060 годов до н.э.), одной из «Трех династий». С начала XX века в Аньяне было найдено несколько гадательных костей с надписями на них, на основании изучения которых такие исследователи, как Ван Гуовей, Хаяши Тайсукэ и французский синолог Поль Пельо, получили сведения об истории династии и Древнего Китая в целом. Раскопки Фу не оправдали его надежд и не принесли новых находок гадательных костей. Однако с помощью археологических методов он и его коллеги смогли доказать не только то, что династия Шан реально существовала в истории, но и что это была процветающая и высоко развитая цивилизация. Таким образом, опираясь на надежные научные доказательства, Фу опроверг тезис его бывшего сокурсника Гу Цзегана о неисторич- ности «Трех династий». Его успех был также и достижением для «Школы исторических источников», к которой он принадлежал, потому что Фу доказал: изучение старых источников в совокупности с поиском новых продвигает современную историческую науку. Кстати, его открытие также восстановило обоснованность древнекитайской истории, оказав поддержку гордости китайского народа за свою страну1.
Модификация ранкеанской модели: национальная история в Японии
В 1911 году, когда в китайских школах японские учебники по истории Китая конкурировали с китайскими, у себя на родине японские историки столкнулись с другой проблемой. В войне против Китая 1895 года и против России в 1905 году японское правительство пыталось установить власть над умами в целях мобилизации населения для работы военной машины. Когда Котоку Сюсуй, мыслитель с социали¬
1 Fan-sen Wang, Fu Ssu-nien: A Life in Chinese History and Politics. Cambridge, 2000, 114-125; Wang, Inventing China through History, 121-129.
244
ГЛАВА 5
стическими взглядами, выступил против войны, его бросили в тюрьму и в конечном итоге казнили за измену родине. Также правительство частично приписывало военные успехи Японии за пределами страны «всемогуществу» японского императорского дома, который (и в это верило все больше и больше людей) мог похвастаться непрерывной линией наследования с эпохи богов до настоящего времени, Вапзе1 Искеи «уникальное» явление, существующее только в Японии. Так, в 1911 году, получив жалобы о том, что в японском учебнике по истории говорится о существовании в XIV веке одновременно двух императорских дворов, соперничавших за свой законный статус, правительство приняло решение вмешаться и оставить в учебнике только один, южный двор, в целях поддержки идеи Вате1 ¡ккеи Бывшие лидеры исторического сообщества, такие как Сигено Ясуцугу, Кумэ Ку- нитакэ и их последователи Миками Санджи и Кита Садакити, проиграли это сражение, не сумев убедить общественность в том, что сосуществование двух дворов является историческим фактом и нет смысла обсуждать, был ли один более законным, чем другой. Для собственного удобства и утешения они провели границу между историческим исследованием и обучением истории; они согласились, что правильно использовать второе в качестве «прикладной истории» для непосредственного служения нуждам национального государства1.
В сотрудничестве с правительством японские профессиональные историки сделали заметные шаги в развитии критической историографии в начале XX века. К Миками и Кита в созвездие японских историков в это время добавились Цубои Кумецо, который после защиты докторской диссертации в Германии стал коллегой Рисса, Фукуда Токудзо, тоже получивший докторскую степень в Германии, и Шира- тори Куракичи, ученик Рисса. Все они были известны своими усилиями внедрить методы западной исторической науки в различных областях исторических исследований в Японии. Цубои, например, после возвращения Рисса в Германию продолжил преподавать курс методологии истории и проповедовать принципы ранкеанской историографии. Фукуда, а также Хара Кацуро, Учида Гиндзо и Наката Каору все продолжили свое образование в Европе. Для анализа особенностей японской истории, с целью провести аналогии с историей европейских государств, они взяли на вооружение сравнительный подход. Ширатори, а вместе с ним Нака Мичийо и Найто Конан - оба уважаемые китайские ученые, стали пионерами в изучении японской традиции ориенталистских исследований ТбудБМ, и в их подходе безошибочно просматривается японский территориальный интерес в этом регионе. Ширатори Куракичи, к примеру, выступил с гипотезой о со¬
1 Margaret Mehl, History and the State in Nineteenth-century japan. New York, 1998, 140-14-7; Nagahara Keiji, 20 seiki Nihon no rekishigaku (Японская историография в XX веке). Tokyo, 2005, 54—56.
ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ... 245
вместном расовом происхождении японского и корейского народов - Nissen dösoron - для того, чтобы оправдать в начале этих двух войн аннексию Кореи Японией1. Практически следом за этим Ширатори расширил свою теорию и включил туда и маньчжуров, предвещая тем самым интересы своей страны в Маньчжурии.
Таким образом, к концу первой мировой войны ландшафт современной японской историографии заметно изменился. Доминировавшая академическая историография, отмеченная трансформацией доказательного знания в акцентировании критики источников и политической истории, уступила место ряду новых школ; некоторые их них базировались в таких новых университетах, как университет Киото, который практически сразу стал главным соперником Токийского университета. Хорошим примером этому служит подъем социально- экономической истории, представленной в работах Фукуды Токудзо, Учиды Гиндзо и других2. Примером может быть работа пионера фольклорных исследований Янагиты Кунио. Тем не менее, возможно, в качестве более интересного примера можно привести школу «культурной истории» (bunka shigaku), или 'Geistesgeschichte»' (seishin shigaku), у истоков которой стояли Цуда Сокити и Нисида Наодзиро, работу которых продолжили Мураока Цунецугу и Вацудзи Тэцуро. Представители этой школы не только занимались изучением культурного и психологического аспектов истории, но и пытались с этой точки зрения разработать новую и всеобъемлющую интерпретацию исторического развития Японии в русле исследований, проведенных в начале XX века в отношении истории Германии Карлом Лампрехтом. Их «бунт» против эмпирической историографии предыдущего периода имел тот же эффект, что и борьба Лампрехта с ранкеанской историографией. По удачному стечению обстоятельств в 1919 году на японском языке вышла книга Лампрехта «Современный историзм». Нисида во время его учебы в Европе в 20-е годы XX века заинтересовался работами Кондорсе, Гегеля и Лампрехта. При всем своем уважении к Лампрехту Нисида осознавал ограниченность критической историографии из-за ее излишней озабоченности критикой источников и неадекватностью в плане развития теорий исторического объяснения и периодизации по сравнению со взглядами Кондорсе и Гегеля.
1 Hyung II Pai, Constructing 'Korean' Origins: A Critical Review of Archaeology, Historiography, and Racial Myth in Korean State-Formation Theories. Cambridge, MA, 2000, 35-41.
2 Hugh Borton, 'Modem Japanese Economic Historians' // W. G. Beasley and E. G. Pul- leyblank, eds, Historians of China and Japan. Oxford, 1961, 288-306.
'Geistesgeschichte в переводе с нем. буквально означает «история сознания или история духа». Является частью истории идей, акцентирует скрытые мотивы проявлений культуры в ходе истории человечества. Совпадает частью объемов с исторической эпистемологией и с историей Problemgeschichte. Появление Geistesgeschichte часто связывают с идеями В. Дильтея.
246
ГЛАВА 5
Вдохновленный идеями Генриха Риккерта и Вильгельма Дилтея, Ни- сида также высказывался по поводу взаимоотношения между индивидуальностью и универсальностью в историческом исследовании. Он пришел к выводу, что хотя для историка совершенно обязательно прояснять точность исторических фактов, еще более важно выявлять и определять истинный дух «за кулисами» исторических событий и предлагать достоверную интерпретацию исторического развития1.
Новый лидер критической и эмпирической историографии Цуда Сокити, хотя и был учеником Ширатори Куракичи, пришел к тем же выводам, что и Нисида, - он тоже считал, что работа историка не сводится только к критике источников. Напротив, по его мнению, более захватывающая задача историка состоит в том, чтобы обнаружить и раскрыть «национальный дух» (kokumin shisö) и его проявления в различные временные периоды. С такой националистической точки зрения Цуда поставил перед собой задачу раскрыть и подробно описать уникальные культурные черты Японии как в досовременный, так и современный периоды. Он утверждал, что, несмотря на китайское влияние в досовременный период, японцы разработали свою собственную культурную традицию, которая фундаментально отличается от китайской. То же самое можно сказать и о культурном развитии Японии в современный период, несмотря на влияние западной культуры. Если коротко сформулировать взгляды Цуды, он считал, что в ткани японской истории прослеживаются определенные общие связующие элементы. Хотя Цуда не учился за границей, как Нисида, он воспринял элементы ранкеанского историзма, возможно, в процессе совместной работы с Ширатори, который был учеником Рисса. Это проявлялось в том, что он придавал особое значение исторической целостности и выделял отличительные культурные черты в стадийном развитии японской истории. Однако, как мы уже упоминали ранее, версия ранкеанской историографии в представлении Рисса была весьма односторонней в том смысле, что он рассматривал ее только Quellenkritik (исследование источников), в то время как интерес Цуды к текучести и жизненности исторического развития может говорить о том, что он, возможно, находился под большим влиянием таких приверженцев нового историзма, как Вильгельм Дильтей и Фридрих Майнеке2.
1 Naramoto Tatsuya, 'Bunka shigaku' (Культурная история) // Association of Historical Research and Association of the Study of Japanese History, ed., Nihon rekishi Koza (Лекции по японской истории). Tokyo, 1968, vol. 8, 221-245; Nagahara, 20 seiki Nihon no rekishigaku, 81—87.
2 Ueda Masaaki, ’Tsuda shigaku no honshitsu to kadai' (Сущность и тематика историографии Цуды), Nihon rekishi koza, 247-288; Masubuchi Tatsuo, Nihon no kin- dai shigakushi ni okeru Chukoku to Nihon: Tsuda Sokichi to Naito Konan (Китай и Япония в современной японской историографии: Цуда Сокичи и Наито Конан). Tokyo, 2001, 16f.
ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ... 247
«Культурная история» Цуды Сокити выражала прогресс японской историографии в последовавший за эпохой Мейдзи период Тайсе (1912-1926). Объединив усилия с другими современными школами, в частности социально-экономической и фольклорной, приверженцы «культурной истории» исследовали новые области исторического знания, преодолев, таким образом, средоточение внимания на политической истории, характерное для работы первого поколения академических историков. Говоря более конкретно, Цуда и его подобным образом настроенные современники стремились к тому, чтобы сместить интерес историка с политических элит к простым народным массам и принять холистический подход к интерпретации истории. Эти взгляды были созвучны духу времени периода Тайсё. Несмотря на некоторые неспокойные и нестабильные периоды, эпоха Тайсё засвидетельствовала поразительный прогресс в развитии демократического, представительного правления. Этот прогресс постепенно разрушал и в конечном счете подорвал олигархическое влияние в правительстве Мейдзи, и на его место пришла двухпартийная выборная система. Благодаря экономическому подъему Японии во время первой мировой войны рос как средний, так и рабочий класс. Также чрезвычайно активно развивался интерес к вопросам всеобщего избирательного права для мужчин, прав рабочих, гражданских прав, социального обеспечения, феминизма, профсоюзного движения, социализма и коммунизма. Все эти тенденции способствовали развитию и в значительной степени подтолкнули более глубокие демократические изменения на правительственном уровне. Утверждая и развивая идеи независимого и когерентного культурного развития Японии в прошлом, работа Цуды и других отражала эту растущую в среде общественности уверенность и высокие ожидания в отношении улучшающегося статуса Японии как страны в процессе модернизации с целью занять равное по сравнению с западными силами положение.
Возможно в большей степени, чем другие, историография Цуды Сокити показательна для историографических изменений своего времени, так как в отличие от своих современников, продвигавшихся зачастую в неизвестных им водах, Цуда в своей работе находчиво опирался на уже существующие проекты его предшественников. Например, вооруженный критическим методом, его учитель Ширатори Ку- ракичи критически исследовал историческую литературу Древнего Китая и высказал сомнения по поводу ее достоверности. Вслед за Ширатори, а также его наставниками (например, Сигено, Кумэ и Хо- сино), которые интересовались историей древности, или эпохой богов, чтобы понять доисторическую Японию, Цуда решил исследовать надежность Kojiki («Записи о деяниях древности») и Nihon shoki («Хро- ** Кодзики или Фурукотофуми (Записи о деяниях древности) - крупнейший памятник древнеяпонской литературы, один из первых письменных памятников, основная священная книга синтоистского троекнижия.
248
ГЛАВА 5
ники Японии»)*, двух из самых ранних исторических текстов в составе «Шести национальных историй». Как и его предшественники, он поставил под сомнение их достоверность в качестве исторических источников, но в то же время признавал их значимость в вопросе понимания духа и мышления людей в древности, что и являлось основным направлением его историографии. Опровергнув историчность этих текстов, которые для синтоистов и политиков являлись фундаментом священности императорского дома, Цуде, как и его предшественникам, пришлось позднее заплатить за это высокую цену. В конце 30-х гг. на короткое время он был заключен в тюрьму, а его работы были запрещены.
Хотя период Тайсё стал прогрессивным поворотом во внутренней политике Японии в том, что касалось ее внешней политики, страна развивалась в том же самом направлении, в котором ее заставляла двигаться олигархия эпохи Мейдзи. В переходное время от эпохи Мейдзи к периоду правления императора Тайсё в 1910 году Япония формально аннексировала Корею, покончив тем самым с пятисотлетним правлением династии Чосон. Вслед за Тайванем Корея стала еще одной японской колонией. Япония также расширила свои интересы в Китае, представив китайскому правительству, возглавляемому в то время Юань Шикаем, отцом китайского милитаризма, свои «Двадцать одно требование». Таким образом, подъем Японии на мировой политической сцене был достигнут за счет Китая и Кореи. После окончания первой мировой войны Япония стала основной мишенью новой волны националистических движений в обеих странах. В надежде обрести независимость на Версальской конференции в 1919 году корейцы начали Движение 1 марта, в котором в течение года приняло участие два миллиона человек, что составило около 10 процентов населения страны. Два месяца спустя китайские студенты, возмущенные достигнутым на Версальской конференции соглашением об экспроприации Японией немецкой сферы влияния в Китае, вышли на улицы Пекина и начали Движение 4 мая. Оба эти события стали вехами разраставшихся националистических движений и сыграли значительную роль в культурном развитии и Кореи, и Китая* 1.
* Нихон сек, иногда переводится как Хроники Японии, является второй старейшей книгой классической японской истории.
1 Yong-ha Shin; Modern Korean History and Nationalism, trans. N. M. Pankaj. Seoul, 2000, 223—272; Chow Tse-tsung, The May Fourth Movement: Intellectual Revolution in Modem China. Cambridge, MA, 1960; Vera Schwarcz, The Chinese Enlightenment: Intellectuals and the Legacy of the May Fourth Movement of 1919. Berkeley, CA, 1986.
ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ... 249
Миф и история:
в поисках истоков корейской нации
Итак, в 20-е и 30-е годы XX века и в Китае, и в Корее бурно развивался национализм. После провала в 1919 году Движения 1-го марта корейцам пришлось столкнуться с еще более жестоким японским колониальным правлением. У правительственной колониальной политики была и научная поддержка - японские специалисты по Корее не только изначально предполагали «отсталость/застой» корейской цивилизации, но и объясняли причины такому положению. Вкратце эта теория состоит в следующем. Во-первых, на протяжении всей своей истории Корея никогда не имела статуса независимого государства. Зажатые и пинаемые со всех сторон мощными соседними державами, корейцы привыкли быть зависимыми от других государств (например, от Китая), что объясняет превалирование в корейской культуре подхалимства (яп. jidai shujii, кор. sadae juüi), особенно в период правления династии Чосон. Во-вторых, при помощи археологических, этнографических, филологических и исторических исследований специализирующиеся на Корее японские ученые, такие как Ширатори Кура- кичи, заявили о том, что японский и корейский народы принадлежат к одной расовой ветви (Nissen dösoron), предки которой жили в различных регионах на территории северно-восточной Азии в доисторическое время, и что в IV и VII веках Кореей управляла Япония. Другими словами, японское правление в Корее освободило корейцев от их исторического подчинения Китаю, и правление в Корее Японии, более цивилизованной и продвинутой в это время нации, оправдано ее стремлением «улучшить» благосостояние своих корейских братьев и сестер, связанных с ними кровью предков одной расы1.
Кроме того, что Ширатори разработал теорию Nissen dösoron, он также сделал переоценку легенды о Тангуне, мифическом основателе Древней Кореи, камня на камне не оставив от этого мифа, столь дорогого корейскому народу. Сравнивая «Хроники трех королевств» (Samguk yusd), текст XIII века, в котором впервые упоминается история Тангуна, с несколькими более ранними историческими текстами и текстами того же периода из Кореи и Китая, он пришел к выводу, что легенда о Тангуне не могла быть создана ранее IV века до н.э., потому что в тексте «Хроники трех королевств» прослеживается буддистское влияние, а буддизм пришел в Корею не раньше IV века2. Хотя иссле¬
1 Pai, Constructing 'Korean' Origins, 35-56.
Самгук юса, или «Хроники трёх королевств» - собрание легенд, преданий и исторических записей, относящихся к трем государствам Кореи (Когурё, Пэкче и Силла), а также к другим периодам и государствам до, во время и после периода трех государств.
2 Ibid., 261-262.
250
ГЛАВА 5
дование Ширатори являлось тщательной текстовой работой, его выводы были неприемлемы для корейцев, потому что они сильно сокращали их историю и таким образом задевали их национальную гордость в самое неподходящее для этого время, когда она и была нужна людям для того, чтобы вынести японское колониальное правление.
В связи с этим в 20-е годы XX века Син Чхэ Хо, позже названный «отцом современной корейской историографии», опубликовал серию работ, касавшихся вопросов легенды о Тангуне, в которых он оспаривал и отвергал интерпретации корейской истории в версии Ширатори и других японских исследователей школы Тдуо. В отличие от Ширатори Син Чхэ Хо считал, что история Древней Кореи, или период «Трех Чосонов» продолжительностью от доисторического прошлого до I в. до н.э., которая и начинается с истории Тангуна, является самой ценной благодаря своему поразительному независимому духу и великолепному культурному развитию. В свою очередь, период Тангуна среди «Трех Чосонов» является самым значимым, потому что он демонстрирует самые сущностные характеристики корейской культуры. В том же духе Син Чхэ Хо отверг значение второго Чосона, или Чосо- на Киджа, наследника Тангуна, так как он был китайским принцем из королевской семьи Шан, высланный в Корею после падения династии, а также из-за того, что в период Киджа Чосона Корея подверглась огромному китайскому культурному влиянию1 2. В определенной степени работа Син Чхэ Хо была совместима с трудами представителей китайской группы «Национальной сущности»; найти «национальную сущность» в Древней Корее было предприятием весьма отважным, ведь Киджа давно уже считался основателем корейского государства во время пятисотлетнего правления династии Чосон в качестве основания для укрепления корейских связей с Китаем".
Син Чхэ Хо был неординарным мыслителем и избрал очень непростой путь. С одной стороны, в поисках новых путей перестройки Кореи он занял негативную, хотя и снисходительную позицию по отношению к династии Чосон, поскольку последняя в течение многих веков культивировала близкие отношения с Китаем. На первый взгляд, это была уступка японской теории о том, что его народ всегда находился под серьезным влиянием иностранной, в особенности китайской культуры, и что время правления династии Чосон было пассивным и незначимым. С другой стороны, восстановив значение Тангуна, легендарной фигуры божественного происхождения, который предположительно родился в 2333 г. до н.э. и был первым корейским императором, он отверг утверждение японцев о том, что Корея всегда зависела от других. Более того, доказав существование Тангуна как
1 Ibid., 63f.
2 Martina Deuchler, The Confucian Transformation of Korea: A Study of Society and Ideology. Cambridge, MA, 1992, 107f.
ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ... 251
основателя Кореи в таком далеком прошлом, он значительно увеличил протяженность корейской истории, сделав ее сравнимой с историями ее соседей, если не превосходящей их по своей продолжительности. Такое внимательное и смелое исследование Син Чхэ Хо стало источником вдохновения для его корейских коллег и остается таковым и по сей день1 2. В работах Чхве Нам Сона, феноменально одаренного человека, известного своим литературным талантом и выдающимся интеллектом, а кроме того, авторством проекта корейской «Декларации независимости» во время Движения 1 марта, мы видим постоянные попытки подчеркнуть протяженность корейской истории со времен Тан- гуна. Под влиянием современного подхода к историческим исследованиям, прекрасным примером которого служила школа Тдуб, Чхве проработал ряд исторических источников и провел фольклорный и лингвистический анализ легенды о Тангуне. Его вывод состоял в том, что история Тангуна дает нам определенные сведения о практике шаманизма не только в Древней Корее, но и более обширном регионе Евразии. Эта шаманская практика, характеризуемая поклонением небесному и человеческому мирам и преисподней, зародилась в Корее и позднее распространилась к ее соседям. Чтобы обосновать свое утверждение, Чхве сначала заявил, что эти шаманские практики появились в горах Тхэбэк, простирающихся от Северной Кореи до Маньчжурии, где родился Тангун. Далее, при помощи тщательно, но произвольно подобранных лингвистических свидетельств он подробно показал, что в древности в северо-восточной Азии существовала некая культурная область, центром которой являлась Древняя Корея. Таким образом, Корея была не только независимой сущностью, но и лидером культурного развития северо-восточной Азии2.
Во время японского правления и, несмотря на него, историописа- ние в Корее преобразилось под влиянием как внешних, так и внутренних факторов. Например, интерес Син Чхэ Хо и Чхве Нам Сона к мифу о Тангуне и даже связанные с этим вопросом их теории были в определенной степени связаны с развитием в современной Корее народной религии. В религии Тангуна (Тап^ип-^уо\ основанной в 1905 году, Тангун почитался не просто как основатель Кореи, но и как спаситель корейского народа от его бед. Другие народные религиозные секты также сыграли очень важную роль в развитии корейской истории. Например, восстание Тонхаков секты Тонхак (Тог^йак) в 1895 году привело к началу Японо-китайской войны. Мобилизация населения в Движении 1 марта также во многом обязана участию различных религиозных сект. В современной Корее влияние религиозных
1 Pai, Constructing 'Korean' Origins, passim.
2 Chizuko T. Allen, 'Northeast Asia Centered around Korea: Ch’oe Namson's View of History' // Journal of Asian Studies, 49:4. November 1990, 787-806.
252
ГЛАВА 5
верований на историописание было заметно в гораздо большей степени, чем в Японии и Китае1.
Изменения, происходившие в корейской историографии, также несли на себе печать национализма, расизма и социального дарвинизма, которые проникли в Корею не только из Японии, но и из Китая. В начале XX века на корейских ученых оказали огромное влияние многочисленные работы Лян Цичао и его призыв к «историографической революции». Син Чхэ Хо перевел на корейский несколько эссе Ляна. Как и Лян, Син в своем «Новом прочтении истории» резко раскритиковал конфуцианскую моралистическую историографию и заявил, что историописание должно служить делу национального спасения. На основе идей социального дарвинизма он считал, что история является борьбой и что борьба эта происходит между «собой» и «другим». Этот тезис явно отражал печальное положение вещей в Корее, боровшейся против японского колониализма2. Наконец, японская научная традиция Töyö очевидно оставила свой след на развитии современного историографического знания в Корее, а именно в методологии, что видно на примере основанной в 1934 году Академической ассоциации Чиндан. Сочетая эмпирические интересы школы Töyö с существовавшей в Корее и до этого традицией доказательного знания, эта ассоциация и по сей день остается влиятельным академическим обществом. Это говорит о привлекательности для современных корейских ученых традиции текстовой критики3. Еще одним примером является предложение Чхве Нам Сона о существовании в древности культурной сферы северо-восточной Азии, которое является расширении- ем теории Nissen dösoron, продвигавшейся Ширатори и другими. В 30-е гг. XX века японские политики и ученые были заняты определением так называемой «расширенной восточно-азиатской сферой со- процветания» для того, чтобы оправдать японское вторжение в Маньчжурию и будущие территориальные претензии. Кстати, при японском правлении карьера Чхве бурно развивалась; в отличие от Син Чхэ Хо, который трагически погиб в 1936 году как высланный революционер, тремя годами позже, в 1939 году, Чхве стал профессором Университета Кенкоку в Манчукуо, марионеточном государстве под правлением Японии. Этот шаг как нельзя более контрастировал с его предыдущим имиджем человека, который написал Корейскую декларацию независимости и был одним из тех, кто ее подписал4.
1 Ibid., 794, прим, (note) 5; Shin, Modern Korean History and Nationalism, 214. Cp.: Boudewijin Walraven, 'The Parliament of Histories: New Religions, Collective Historiography, and the Nation', Korean Studies, 25:2. 2002, 157-178.
2 Allen, 'Northeast Asia Centered around Korea', 789; Shin, Modem Korean History and Nationalism, 211.
3 Remco E. Breuker, 'Contested Objectivities: Ikeuchi Hiroshi, Kim Sanggi and the Tradition of Oriental History (Tôyô shigaku) // Japan and Korea'. East Asian History, 29. June 2005, 69-106.
4 Pai, Constructing 'Korean' Origins, 65.
ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ... 253
Война и революция: притягательность марксистской историографии
Военная агрессия Японии, начавшаяся с оккупации Маньчжурии в 1931 году и продолжившаяся в 1937 году крупномасштабным вторжением в Китай, в 30-е годы XX века стала для азиатских историков периодом настоящих испытаний. Например, под угрозой войны «Школа исторических источников» в Китае постепенно потеряла свою ведущую позицию и привлекательность для молодого поколения студентов и ученых; ее акцент на внимательном анализе источников и предпочтении монографических исследований казался оторванным от суровой социальной реальности. Напротив, заметно росло марксистское влияние, присутствовавшее в Китае с 1919 года в работах Ли Дачжао и Чэнь Ду- сю, лидеров Движения 4 мая и основателей Китайской коммунистической партии. Марксистское влияние на историческую науку было одним из катализаторов «Дискуссии по социальной истории» 1931-1933 годов, участники которой обсуждали природу китайского общества и стадию исторического развития Китая в поисках реального решения национального кризиса. В более конкретном приложении эти историки-марксисты и социалисты размышляли над возможностью социалистической или коммунистической революции, взвешивая и «за», и «против» доктрин ленинизма, троцкизма и сталинизма1.
После того как в 1937-1938 годах Япония оккупировала многие прибрежные китайские города и районы, китайские университеты переместились в глубь страны, что позволило историкам заниматься монографическими исследованиями с привлечением оригинальных источников. Лидеры «Школы исторических источников» также адаптировали свои идеи и подходы к изучению истории в новых обстоятельствах. Например, Фу Сынянь пытался использовать исторические свидетельства для осуждения японской оккупации Маньчжурии. Если раньше он главное внимание уделял исследованию на основе оригинальных источников, то теперь в целях поддержки народного духа он считал обязательным компонентом высшего образования преподавание общей истории Китая и подчеркивал продолжительность и жизнеспособность этой истории. Был опубликован ряд учебников по общей китайской истории, самыми популярными из которых были «Очерки национальной истории» Цянь Му и «Основы национальной истории» Лю Джидзена.
Начиная с 30-х годов XX века на новый путь - путь модернизации встал и Вьетнам, о котором мы до этого момента почти не упоминали.
1 Arif Dirlik, Revolution and History: Origins of Marxist Historiography in China, 1919-37. Berkeley, CA, 1978.
254
ГЛАВА 5
Это обновление состояло в том, что Вьетнам воспринял целый спектр зарубежных идеологических влияний через работы вьетнамских исследователей, обучавшихся зарубежом, в основном во Франции. Тем не менее, до этого периода историография во Вьетнаме развивалась двумя параллельными, однако, на первый взгляд, независимыми путями. С одной стороны, французские ориенталисты, в частности те, что работали во Французской школе Дальнего Востока, основанной в 1900 году, занимались историческими исследованиями Вьетнама в современном ключе и распространяли это знание среди вьетнамцев через свои миссионерские школы. С другой стороны, исторические работы, написанные вьетнамскими историками, более или менее придерживались стиля и формата конфуцианских историков прошлого. Например, Чан Чонг Ким, уважаемый ученый, придерживавшийся националистических взглядов, опубликовал в 1928-м свою «Краткую историю Вьетнама», написанную в модифицированном традиционном стиле. Вплоть до 60-х годов книга несколько раз переиздавалась, свидетельствуя о ее популярности и о стойкости традиции. Но в начале века стало очевидно, что такие новые идеологии, как марксизм, социализм, троцкизм и анархизм, все больше и больше проникают во вьетнамскую интеллектуальную культуру и историописание. Например, в качестве попытки адаптировать марксистскую модель интерпретации можно назвать «Краткую историю вьетнамской культуры» Дао Зуи Аня. Также вьетнамские ученые, владевшие французским языком, начали публиковать свои работы по истории своей страны и ее отношений с Францией и Европой в целом во французских научных журналах. Это были первые признаки, которые одновременно сыграли и роль катализатора стремительного изменения вьетнамской историографии после окончания Второй мировой войны1.
Усиление марксистских влияний в 30-е годы XX века имело определенную связь с глобальным экономическим кризисом, инициированным падением в 1929 году американской фондовой биржи и затронувшим и Японию. Однако марксистские, социалистические и коммунистические идеи присутствовали в Азии с самого начала XX века. Например, «Коммунистический манифест» был переведен на японский такими учеными, как Котоку Сюсуй и Каваками Хадзимэ, последний из которых был известным марксистом и преподавал в Университете Киото, бывшем одним из центров социально-экономической истории. В период правления императора Тайсё многие работы Маркса, включая его «Капитал», также появились на японском языке, вдохновив, например, Норо Эйтаро, историка с рано сложившимися марксистскими убеждениями, проанализировать историческое развитие японского капитализма в сравнительном ракурсе. К сожалению, за
1 P. J. Honey, 'Modern Vietnamese Historiography’ // D. G. E. Hall, ed., Historians of South East Asia Oxford, 1961, 94-104.
ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ... 255
свое участие в лейбористском движении в 1933 году Hopo был арестован и в следующем году умер, находясь под стражей в полиции. Товарищи Hopo, включая Хани Горо, который изучал историю в Токийском и Гейдельбергском университетах, продолжил начатый Hopo проект по публикации серии важных книг о японском капитализме. В частности, том Хани по периоду Мейдзи получил особенно положительные отзывы, как и теоретический анализ природы Реставрации Мейдзи, сделанный Хаттори Сисо. Вместо того чтобы просто назвать ее буржуазной революцией, Хаттори отметил различия между Реставрацией Мейдзи и другими буржуазными революциями в истории и проделал глубокое и тщательное исследование становления в Японии класса буржуазии/землевладельцев1.
Еще более важным моментом является то, что, расширяя поле истории, японские историки-марксисты в сотрудничестве с другими школами стали первыми содействовать развитию истории семьи и женской истории. Интересным примером в этом отношении была ярая феминистка и бывшая анархистка Такамурэ Ицуе. Феминистский интерес к вопросам женщин во власти и статуса женщины в обществе подтолкнул ее к исследованию матриархальной системы Древней Японии. По ее мнению, несмотря на то что в период Мейдзи женщинам были предоставлены права владеть собственностью и передавать ее по наследству, до настоящей свободы было еще далеко, и основной причиной этому она считала влияние патриархальной традиции, которая в ее представлении являлась наследием китайской конфуцианской культуры. В процессе работы над этим исследованием Такамурэ обращалась к таким трудам, как «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Фридриха Энгельса, «Древнее общество» Льюиса Г. Моргана и «Матриархат» Йоганна Якоба Бахофена, хотя, как ни странно, с другими японскими марксистами она контактировала нечасто. После начала Второй мировой войны она стала горячей сторонницей правительства и возглавила про-военные женские организации. В некоторой степени она считала, что война против Китая является продолжением дела феминизма, потому что причиной подрыва древнеяпонской матриархальной системы, по ее мнению, являлась конфуцианская культура Китая2.
'В заключение следует сказать, что Вторая мировая война оказалась еще одним поворотным моментом в развитии современной азиатской историографии. В Японии, в условиях снижения влияния мар¬
1 Toyama Shigeki, 'Yuibutsu shikan shigaku no seiritsu' (Возникновение материалистической историографии / The Establishment of Materialist Historiography), Nihon rekishi koza, 289-323; Nagahara, 20 seik: Nihon no rekishigaku, 88-101.
2 Takamure Itsue, Bokeisei no kenkyu (Исследование по матриархату / A study of Matriarchy) (Tokyo, 1938); Eiji Oguma, A Genealogy ofJapanese' Self-images, trans. David Askew (Melbourne, 2002), 156-171.
256
ГЛАВА 5
ксистской историографии, правила «имперская историческая школа» под руководством Хираизуми Киёси. Она однозначно поддерживала милитаристское правительство, превознося священное императорское правление Японии как основу уникального «тела нации» (кокШт) в надежде обеспечить непобедимость японской армии. Теоретические основы идеи «национального организма» нашлись в трудах Нисиды Китаро, «отца современной японской философии» и основателя влиятельной «Киотской школы» в современной Японии. В 40-е годы XX века Нисида и его ученики работали над обеспечением философского базиса подъема Японии как новой мировой державы и ее влияния на ход мировой истории, оправдывая тем самым японскую военную агрессию1. Во время войны на самом деле лишь немногие смогли сохранить отличные от правительственных взгляды, так как преследование диссидентов поднялось на новый уровень. Здесь стоит еще раз упомянуть о заключении в тюрьму Цуды Сокичи, которое никак нельзя назвать исключительным случаем. В Китае в те военные годы историки прилагали определенные усилия для поддержки националистического правительства с целью отражения японского вторжения, но основным вызовом работе историков была не политика, а бедность. Упадок «Школы исторических источников» содействовал развитию новых школ, самой заметной из которых была марксистская историография. В Яньане, оплоте коммунистического движения, за первенство боролись историки-марксисты нового поколения, бросая вызов положению и влиянию Ху Ши, Гу Цзегана и Фу Сыняня. После захвата коммунистами власти в 1949 году им предстояло стать новыми лидерами китайского исторического сообщества. В послевоенных Японии, Вьетнаме и Корее, как мы увидим в главе 7, марксистская историография также составляла одно из основных историографических направлений, хотя степень ее влияния различалась в зависимости от места и времени.
Националистическая историография в современной Индии
Предтечи конца XIX века: романтический национализм
В 1924 году, находясь в одном из своих многочисленных тюремных заключений, Мохандас Карамчанд Ганди, тогда уже неоспори-
1 О роли Нисиды Китаро в оправдании японского милитаризма существуют различные мнения. Квинтэссенцию недавней дискуссии по этому вопросу см.: Christopher S. Gofo-Jones, Political Philosophy in Japan: Nishida, the Kyoto School, and Co-Prosperity. London, 2005.
ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ... 257
мый лидер индийского националистического движения, сделал следующее примечательное наблюдение: «У меня нет никакого желания занимать внимание читателя моими размышлениями по поводу ценности истории как инструмента в деле эволюции нашей расы. Я верю в идею о том, что нация счастлива и без истории. Моя собственная излюбленная теория состоит в том, что наши предки-индусы решили этот вопрос за нас, проигнорировав историю, как она понимается сегодня, и построив каркас своей философии на незначительных событиях. Такова “Махабхарата”. И я ставлю Гиббона и Мотли на ступень ниже “Махабхараты”»'. Однако националистически настроенные соратники Ганди не разделяли его недоверие к историческому жанру. Как мы уже упоминали ранее, к концу XIX века история в Индии стала всеобщим увлечением, по меньшей мере, среди представителей средних классов. Здесь возникает вопрос о том, когда возникла националистическая историография, поддержавшая идею независимой индийской нации. Мы увидели, что колониалистская историография еще в 50-е гг. XIX века вызвала критику ориенталистских допущений по поводу прошлого Индии. Националистически настроенные экономисты, такие как Наороджи, Ранадеи Датт, представлявшие еще одно направление, подчеркивали негативное экономическое влияние британского правления, оставаясь вполне лояльными ему в политическом плане. Открыто антиколониалистская историография вышла на первый план только в начале XX века, в период радикализации индийской политики. Но это не говорит о том, что почва для этого не готовилась десятилетиями ранее. Ключевая роль истории и исторического сознания для выражения идеи национальной государственности ясно понималась в индийских литературных кругах. Р. Ч. Датт заявил: «В вопросе формирования национального сознания и национального характера ни одна дисциплина не обладает столь мощным потенциалом воздействия, как критическое и внимательное изучение исторического прошлого страны»1 2. Несомненно, Датт был известен своим экономическим анализом британского правления, но он также был автором трехтомного труда по истории Древней Индии, а также исторических романов, сознательно использовавшим этот жанр (как и Вальтер Скотт, чьими романами он восхищался) для пробуждения патриотического чувства и интереса к прошлому собственного народа.
Как и в Европе, исторический роман играл важнейшую роль в развитии националистического сознания, и работы Датта в этом жанре во многом были обязаны поддержке другого бенгальца, известного писателя Банкима Чандры Чаттерджи, чьи исторические романы с удо¬
1 M. K. Gandhi, 'My Jail Experiences-XI / Young India. 11 September, 1924 // Collected Works CD-ROM.
2 Uht. no: Michael Gottlob, ed., Historical Thinking in South Asia: A Handbook of Sources from Colonial Times to the Present. New Delhi, 2003, 27.
9 Зак. 1183
258
ГЛАВА 5
вольствием поглощались бенгальской читающей публикой. Своими историческими романами и разнообразными программными эссе, «создавшими образ нации», Банким, по всеобщему признанию, был мощнейшим стимулом для исторической рефлексии среди интеллигенции, в частности в Бенгалии. Если Ганди отвергал историю и влияние прошлого, то Банким видел историю как единственно действенное лекарство от политической слабости Индии. Его страстный лозунг «У нас нет истории! Нам нужна история!» стал на самом деле призывом к действию, ведь, как мы видели ранее, когда в 1880 году он сделал это заявление, в Индии уже существовало значительное число исторических трудов, написанных индусами. Однако для Банкима эти работы не представляли собой настоящей истории, так как не отражали героические и славные страницы индийского прошлого. Необходимость такого изложения истории говорит о признании им политической ценности истории. «Кто напишет такую историю? - спрашивал он. - Ты ее напишешь, я ее напишу, все напишут такую историю». Написание истории станет коллективным действием, практическим действием, которое положит начало формирования идеи национального единства. Таким образом, план действий Банкима шел гораздо дальше, чем цели предыдущего поколения историков, таких как Ба- сак, основной из которых было противостояние колониальным стереотипам. Этот план также демонстрировал ясное осознание мифотворческого потенциала исторического романа, а эта литературная форма была сильнейшей стороной Банкима. Исторические персонажи в его романах выражали свои таланты в очевидно выдуманных - и не без основания - формах. Банким считал, что «роман не может заменить историю», но также утверждал, что «цели истории иногда можно достичь и в романе»1. Виней Лал выдвигает предположение о том, что «Банким специально выбрал жанры исторического романа и исторического эссе для того, чтобы попытаться реконструировать индийскую историю: первый позволял ему на законных основаниях фабриковать историю... не заботясь об ответственности, неизбежной в научной литературе; а в своих эссе он отдавал дань уважения нормам рациональности и объективности»2.
Во второй половине XIX века в Индии, так же как в Европе и за ее пределами, существовал конфликт между «научной» и романтической традициями написания национальной истории3. Очевидные попытки Банкима политизировать историю противоречили строгим научным
1 Vinay Lai, The History of History: Politics and Scholarship in Modem India. New Delhi, 2003,41.
2 Ibid., 46.
3 Cm. Stefan Berger, ed., Writing the Nation: Towards Global Perspectives. Basingstoke, 2007 - введение и другие главы, а также разделы по Восточной и Юго- Восточной Азии в этой книге, где обсуждаются подобные противоречия в националистических историографиях в других регионах мира.
ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ... 259
стандартам, которые подчеркивали такие ученые, как Бхандаркар. Тем не менее, во многих отношениях именно такие писатели XIX века, как Банким, работавшие за пределами исторической науки, оказали большое влияние на общественное историческое сознание XX века. Безусловно, Банким никогда не отрицал того факта, что бенгальцы и индусы многому научились от британцев и что многому им еще предстоит научиться. Если история должна стать движущей силой либерализации, она может принять индийский опыт общения с Западом как очень позитивный, в особенности то, что касалось идей свободы, национальной солидарности и научного мышления. И несмотря на его попытки придать историчность жизни Кришны и историям «Махаб- хараты», которые Ганди описал как «безнадежные в качестве истории», мы должны быть осмотрительными и отличать Банкима от таких более экстремистски настроенных националистов и индийских шовинистов, как В. Д. Саваркар. При этом бесспорно, что комментарии Банкима о блестящем древнеиндийском прошлом и о вкладе Древней Индии в прогресс человечества могли быть истолкованы в формах, удобных для идей религиозного шовинизма.
Роль религии
в националистической историографии
Вслед за Банкимом среди лидеров националистического движения в XX веке в качестве источника вдохновения появляется повторяющаяся тема «Бхагават Гиты»1 2. Речь Кришны о «пути воина», обращенная к Арджуне, о которой говорит «Гита», как нельзя лучше подходила повстанческим националистическим лидерам в их поиске героических военных образов. Так, националист из штата Махараштра Бал Гангадхар Тилак, которого британцы назвали «отцом индийских беспорядков», а сами индусы - Локманья («уважаемый народом»), соглашался с Банкимом в том, что истории Кришны и всей «Махабха- раты» и в самом деле отражают историческую реальность. Находясь в ссылки в Бирме, он написал работу «Скрытое значение Гиты», где использовал в своих целях вдохновляющий потенциал такой мифической фигуры, как Кришна. К этому пантеону героев Тилак добавил еще одну фигуру, историческую, - лидера маратхов Шиваджи, чья борьба против могольского императора Аурангзеба была мифологизирована как битва за выживание индуизма, что впоследствии привело к появлению культа Шиваджи, распространившегося среди как националистов, так и коммунитаристов. Концепция мага] (самоуправ¬
1 Как отмечает Виней Лал, роль «Гиты» в националистическом мышлении еще предстоит исследовать детально. См. Lai, The History of History, 76n. 98.
2 После образования в 1960 г. нового штата Махараштра, Шиваджи стали превозносить как отца «национального государства Маратха» и «архитектора
260
ГЛАВА 5
ление) Тилака, направленная против британцев, также основывалась на индуистско-ведическом представлении об Индии, и его попытки возродить такие религиозные ритуалы, как процессия Господа Гане- ши, также были мотивированы политизированной концепцией религии. Четко понимая, что коллективная идентичность в определенной мере, если не вообще полностью, является неким конструктом, Тилак игнорировал многие божества, традиции и правила социальной стратификации, характерные для индуизма и не поддающиеся гомогенизации. Своей задачей Тилак и другие националистически настроенные историки видели построение нарратива, не учитывающего наличие такого многообразия.
Осуществлением этой задачи с воодушевлением занялся В. Д. Са- варкар, террорист, историк и «национальный герой» для правых индусов. Его вариант решения проблемы огромного индийского многообразия состоял в том, чтобы совместить «индусскость» (Hinduivá), географию, расовую общность и общую культуру на основе высокой индийской культуры, т.е. ведической традиции. «Хиндутва - это не просто слово, это история», заявлял он, при этом «индуизм - это всего лишь ее производное». Будучи горячим поклонником Гарибальди и Мадзини (чью биографию он перевел на язык маратхи), Саваркар расширил националистический дискурс, сформулировав этническую идентичность на основе религиозных практик людей, живущих в определенной географической зоне. Индусом, в этом ключе, является тот, «кто смотрит на землю, простирающуюся... от Инда к океану, как на страну своих предков, как на свою родину, кто унаследовал кровь этой расы, первый различимый источник которой можно найти в ведических Saptasindhus (семь рек) и которая с тех пор идет вперед, ассимилируя большую часть того, что встречает на своем пути, и облагораживая большую часть того, что ассимилирует, и которая стала известна как индийский народ, унаследовавший и считающий своей культуру этой расы»1.
Таким образом, Hinduivá появляется как в момент зарождения нации, так и с течением времени, в процессе ее истории, и именно эта
свободы» в нескольких написанных в память о нем исторических работах. Критичные или не-агиографические книги о Шиваджи встречали враждебное отношение со стороны коммунитаристских элементов, поддерживавших такое почитание Шиваджи. В 1974 г. один историк-маратхи из университета Маратхвады, оспоривший некоторые мифы о Шиваджи, был за это уволен со своей должности (см. Lai, The History of History, 105). В более близкое нам время после публикации книги Джеймса Лейна (James Laine) «Шиваджи» (Shivaji, 2003) индийские ученые, поддержавшие его книгу, подверглись притеснениям, а обширные архивные коллекции научных институтов в Махараштре, таких как институт Бхандаркара, пострадали от нападений. Правительство Махараштры того времени также призвало к арресту Лейна, профессора религиозных исследований в Макаластер- колледже в Миннесоте.
1 Цит. по: Gottlob, Historical Thinking in South Asia, 155.
ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ... 261
общая история подчеркивает претензию на государственность - не только в метафорическом смысле, но и в актах сопротивления. Примером последнего может служить индийское восстание 1857-1858 годов, которое британцы назвали «мятежом» (Mutiny), а Саваркар - Индийской войной за независимость. Так же называлась его монография 1909 года, первая из подобных книг, ставящих под сомнение статус этого события как мятежа.
Идею Саваркара о Hinduivá можно рассматривать как метанарратив только что появившегося национального государства и основу всеобщей истории Индии. Конечно, она без стеснения отдавала сек- танством и исключительностью. Ее идеология индуизма высших каст отражала мажоритарную версию нации, маргинализирующую другие религии и касты. В реальности Саваркар является признанным идеологическим наставником индийского политического фундаментализма. Но, как мы видели, такие идеи уходили корнями в XIX век. В концепции Саваркара поразительным является то, как он придает этнический характер Hinduivá на основе сакрализации географического месторасположения. Индия является настоящей родиной индусов, потому что это страна их спасения (punyabhu). У мусульман и христиан, хотя они и являются частью населения Индии, двойная лояльность, потому что их святые земли находятся за пределами места их проживания.
Колониальное историописание XIX века представляло период мусульманского правления отсталым. Эта идея проникла в эксклюзиви- стский язык антиколониального индийского националистического нарратива, который по очереди отмежевывался то от одной группы чужаков, то от другой. Даже нобелевский лауреат Рабиндранат Тагор, чьи универсалистские ценности были прославлены в его стихах и прозе («Я никогда не допущу, чтобы патриотизм восторжествовал над человечностью»), не был совсем уж невосприимчив к соблазнительному характеру такого мышления, и в его ранних исторических трудах, как часто подчеркивается, есть упоминания о «темном» мусульманском периоде и идеальном индийском обществе - индуистском, патриархальном, управляемом брахманами1. Однако хорошо известно, что Тагор не разделял такие идеи, а после индусско-мусульманских восстаний в Восточной Бенгалии 1906-1907 годов его взгляды стали иметь ярко выраженный анти-общинный, анти-кастовый и направленный на защиту прав женщин (хотя и не феминистский) характер. Тагор с подозрением относился не только к культурному национализму («Я горд тем, что я человек, когда могу признать поэтов и художников других стран как своих»), но и к индийскому политическому национализму (включая взгляды Ганди), который он рассматривал как всего
1 Sumit Sarkar, Writing Social History. Delhi, 1997, 26.
262
ГЛАВА 5
лишь имитацию западной идеи1. Однако Тагор был редким человеком. Безусловно, к началу XX века мало кто мог противостоять чарам индийского национализма.
Нация как история и история как паука
Как одно из следствий такого развития в центре исторических исследований оказалась нация как всеобъемлющий и обособленный элемент. Однако взгляд историков обратился в далекое прошлое. Говоря словами Сумита Саркара, националистическая историография в период, предшествующий достижению независимости, «занималась далеко не тем, чем ей, по всей видимости, следовало заниматься: богатыми и развивающимися традициями антиколониальных движений... в результате чего история колониальной Индии по большей части так и осталась нарративом о вице-королях, афганских и бирманских войнах, а также административных и “конституционных” реформах»2. Частично такое положение вещей объяснялось «недремлющим оком» британских властей; как справедливо отмечается, до 1947 года националистическая историография сильно отставала от самого националистического движения3. Начиная с 20-х годов XX века для многих историков, таких как Радха Кумуд Мукхерджи и Каши Прасада Джаясвал, центром внимания стала Древняя Индия, а основной задачей - изображение цивилизации, в которой не было места негативным колониалистским темам, особенно теме восточного деспотизма. Джаясвал указал на высокоразвитые политические системы древности, на существование ganas и sanghas как неоспоримое доказательство республиканской политики. Мукхерджи пошел еще дальше и в противовес британской идее об отсутствии в Индии до прихода британцев какого-либо единства высказал мнение о том, что предвестниками национального государства можно считать древние королевства Ашоки, Чандрагупты и Харши, которые теперь стали представать в качестве первых борцов за свободу. Вряд ли будет преувеличением сказать, что большинство академических работ того времени являло собой историографию, противоборствующую историографии колониальной, в то время как последняя перед лицом возрастающего националистического сопротивления становилась все более выраженной. Оба труда Винсента Смита - «Оксфордская история Индии» и шеститомная, выпущенная на британские деньги «Кем¬
1 Цитаты из Тагора цит. по: Amartya Sen, Tagore and his India', New York Review of Books, 26 June 1997.
2 Sarkar, Writing Social History, 32.
3 Bipan Chandra, 'Nationalist Historians' Interpretations of the Indian Nationalist Movement' // Sabyasachi Bhatiacharya and Romila Thapar, eds, Situating Indian History: For Sarvapalli Gopal. Delhi, 1986, 197.
ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ... 263
бриджская история Индии» - были отчетливо колониалистскими как в своих предположениях и идеях, так и в своем намерении оправдать колониальное правление. Представляя свои собственные экономические истории, про-британское историописание также попыталось заглушить радикальные идеи экономистов националистического толка. Самым влиятельной среди подобных работ была «Аграрная система мусульманской Индии» У. Г. Морланда, в которой автор попытался доказать, что экономика Индии до британского периода была неразвитой и развитие торговой сети тормозилось отсутствием инфраструктуры и транспортной системы. Это мнение было оспорено Джа- дунатхом Саркаром, который, несмотря на свое критическое отношение к императору Аурангзебу, считал, что моголы разорвали изоляцию провинций и способствовали модернизации Индии.
Саркар, один из самых продуктивных историков своего поколения, почитаемый своими современниками как индийский Ранке, был самым горячим сторонником и пропагандистом современной научной историографии. В речи, произнесенной им в 1915 году, он сообщил аудитории, что «лучшим методом исторического исследования является научный метод», и добавил: «...я буду искать истину, понимать истину и принимать истину. Это должно быть твердым убеждением любого историка»1 2. Несмотря на то что Саркар был почитателем Ранке, он также полагал, что историк обязан быть «судьей», хотя и опирающимся на твердый фундамент из фактов". Сферой его научных интересов являлись XVII и XVIII века, в основном империя моголов, а это в свою очередь направило его внимание на противника Аурангзе- ба Шиваджи; последний был представлен Саркаром как героическая фигура3. Его вера в идею прогресса отражает влияние британского историописания конца XIX века, и Сакар на самом деле был поклонником британской культуры и пользы британского правления для Индии. Его национализм умерен и осторожен: «Если Индия хочет стать родиной нации, способной сохранять мир в своих пределах и охранять свои границы, развивать экономические ресурсы своей страны, искусство и науку, то и индуизм, и ислам должны умереть и родиться вновь»4. В 1937 году по просьбе Раджендры Прасада, который вскоре стал первым президентом независимой Индии, Саркар был приглашен на место главного редактора планировавшейся к выпуску 20-томной истории Индии, публикация которой прекратилась после первого же тома. Но в следующем году был образован Индийский исторический
1 Цит. по: Lai, The History of History, 98.
2 Subodh Kumar Mukhopadhya, Evolution of Historiography in Modern India: 1900-1960. New Delhi, 1981, 34.
3 В процессе своих исследований Джадунатх Саркар использовал материалы на восьми языках: персидском, маратхи, хинди, санскрите, английском, французском, голландском и португальском.
4 Цит. по: Mukhopadhyay, Evolution of Historiography, 37.
264
ГЛАВА 5
конгресс, первая всеиндийская ассоциация историков, которая, делая акцент на ранкеанской модели истории, политических вопросах, точности исследования и использовании публичных архивов, стала бесспорным образцом для профессиональных историков.
Следование индийских профессиональных историков этому образцу в 20-е и 30-е годы XX века привлекло к себе большое внимание1. Кумкум Чаттерджи показала, что к концу XIX века благодаря системе колониального образования в Индии появилось поколение историков, для которых «историческая практика была неразрывно связана с рационально-позитивистской историей, основанной на проверяемых фактах»2. Такие взгляды, безусловно, отражали колониалистское обвинение в том, что у индусов нет исторического чувства, но также демонстрировали и приверженность определенному типу истории - истории, основанной на рациональном анализе и «неопровержимых фактах», в частности на археологических, нумизматических и эпиграфических свидетельствах, которые рассматривались как более надежные, чем текстуальные свидетельства, в особенности культурные сведения до-печатного времени. В реальности многими из энтузиастов «надежных свидетельств» были археологи, и впечатляющие открытия 20-х годов городов Хараппа и Мохенджодаро в долине Инда еще более упрочили их репутацию и взгляды. Однако с появлением новых форм романтической истории была оспорена и парадигма рационально-позитивистской истории.
Увлечение локальностью и возникновение альтернативных нарративов
В последние годы колониального правления существовали две области исторических исследований, содержащие определенную внутреннюю конкуренцию. Первой была колониальная история и реакция на нее местных историков, к чему мы уже обращались. Вторая, имеющая отношение к самой природе историописания, отражала внутреннее противоречие в среде индийского историописания на основе дихотомий, с одной стороны, между Бата} и гаьЫга (социальнокультурной и государственно-ориентированной историей) и, с другой стороны, между историей романтической и научной. Данные дихотомии также подчеркивали различие между профессиональными и непрофессиональными историками.
Кумкум Чаттерджи показала, насколько ожесточенным и публичным было это разделение в 20-е и 30-е годы XX века в бенгальском
1 Lai, The History of History, 31-35; также Kumkum Chatterjee, The King of Controversy: History and Nation-Making in Late Colonial India', in American Historical Review, 110:4 (Dec. 2005), 1457-1475.
1 Chatterjee, The King of Controversy', 1458.
ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ... 265
регионе. Ранее мы уже отмечали, что в конце XIX века в среде бенгальских литераторов с сильным романтическим и популистским уклоном существовал большой интерес к социально-историческим темам. В XX веке, особенно после возникновения движения свадеши (Swadeshi) , возникла новая волна интереса к популистской и «народной» истории бенгальского народа, основанной не на официальных архивах и административных документах, а на местных мифах, легендах, генеалогиях, искусствах, ремеслах, обычаях и предметах материальной культуры. Выдающимся примером такой литературы является работа Динеш Чандры Сена Brihat Banga, результат его двадцатилетнего исследования и хождений по селам Бенгалии. Сен назвал свою работу «истинной историей», историей, которая прославляла народную культуру бенгальцев и кладезь традиций и ставила их выше текстовых и архивных источников элиты. Тем не менее, основное внимание социокультурная история направления samaj уделяла не простым бенгальцам, а среднему классу (bhadralok) бенгальских индусов1. Кроме того, в основном эта социальная история развивалась вне формального круга исторической профессии, в среде самоучек и антиква- риев-любителей. С их точки зрения, настоящая история - это не только этнографическое предприятие, она должна быть вдохновлена народным духом - в противовес персидскому и колониальному исто- риописаниям, чуждым и государственно-ориентированным (rashtra), способным только отдалить индийцев от своей собственной культуры2. Таким образом, как показала Чаттерджи, это была националистическая историография иного типа, опровержение колониалистской историографии на другом уровне, примеры которой можно найти и в других азиатских национальных государствах в процессе их модернизации. Кроме того, это была попытка обнаружить подлинную культуру народа, не затронутую чужеродным влиянием, что свидетельствует о локально и регионально ограниченном культурном национализме, существовавшем параллельно «официальному» национализму политических организаций. Конечно, огромное количество подобных работ были некритичны, ведь описываемая в них культура была авторами идеализирована и романтизирована. Однако купно с историческими романами эти работы повысили популярность исторического жанра. Но антипатия со стороны авторов подобной литературы к государственно-регулируемой экономике, рационально-позитивистской парадигме была столь сильна, что они и представить себе не могли, что между samaj и rashtra могут существовать и определенные связи, предпочитая рассматривать социокультурную историю как непревзойденную и безупречную. Тем не менее, несмотря на различия меж¬
Свадеши - движение за бойкотирование неиндийских товаров, которое возникло после раздела Бенгалии.
1 Sarkar, Writing Social History, 25.
2 Chatterjee, The King of Controversy’, 1462.
266
ГЛАВА 5
ду этими парадигмами, у них было и нечто общее. Во-первых, прошлое, к которому они обращались, было в основном сосредоточено на индуистских кругах и представителях высших каст, а это существенный факт чрезмерной необъективности в отношении региона, где огромный процент населения составляли мусульмане и представители низших каст. Во-вторых, их объединяла общая вера в роль индийцев и бенгальцев в историописании - ни один колониальный нарратив не мог ухватить сущность индийского прошлого.
Однако популистские историки выдвигали и другие претензии. Во-первых, они заявляли о том, что история не является эксклюзивной областью так называемых профессиональных историков. Энтузиаст- любитель в равной степени квалифицирован для того, чтобы писать хорошую историю. Во-вторых, исходя из того, что история должна быть историей простых людей, адресоваться она также должна простым людям. Строгие методологические рамки «бесчувственного», «бессердечного» формального историописания не привлекают читателя. «Эти исследователи превозносили значимость инстинктивной, неформальной манеры раскрытия прошлого, свободной от оков структурированной методологии или критериев оценки»1. Поскольку специализированного обучения по этой дисциплине не требовалось, на закате колониальной эры пышно расцвели многочисленные локальные истории, а также спонсируемые на местах литературные и исторические общества, такие как основанное в 1900 году Паричай Сахи- тья Паришад. Следует заметить, что в то время государственное финансирование чистых исследований ограничилось созданием Азиатского общества и Антропологического обзора, поэтому такие местные культурные организации, как Паричай Сахитья Паришад, играли важную роль в общественной жизни. Подобные местные общества и их покровители обеспечивали большую часть финансирования библиотек и коллекций. По современным меркам их вклад был довольно скудным, но и особого качества от своих вложений тоже никто не ожидал. «Неадекватное финансирование полномасштабных исследований, ограниченность национальными или региональными параметрами в условиях отсутствия возможностей более широких контактов, сдерживающий характер националистической парадигмы, пронизанной неоформленными допущениями классовой структуры и точки зрения высших каст (зачастую незаметно скатывавшихся до коммуни- таристких взглядов) - все это имело определенную цену. Даже “лучшие” примеры научных исследований того времени, за редчайшими исключениями, сегодня выглядят неприемлемо ограниченными, местническими и некритичными по отношению к самим себе»2.
Существует точка зрения, согласно которой процветание региональной истории в конце колониального периода объясняется одобре¬
’ 1Ы±, 1464.
2 Багкаг, \Vriting 8оаа1 Ь^огу, 34-35.
ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ... 267
нием такой истории со стороны Министерства образования - истории, которая поддерживала представление о разрозненной Индии и утверждала, таким образом, колониалистскую точку зрения, согласно которой до прихода британцев Индия была не более чем «географическим названием»1. Однако энтузиазм в отношении локальной истории отражал и важные политические моменты. Раздел Бенгалии 1905 года и последовавший за этим политический ажиотаж говорят о существовавшей в то время необходимости установить историческую целостность региона для сохранения его географической целостности. На западе Индии появилось немало историй, восхваляющих маратхских князей и их борьбу против мусульман и англичан. На юге возник иной вид традиционализма, отдававший предпочтение исследованиям по дравидологии и тамильской культуре. В колониальной индийской историографии конца колониального периода «регион» и «нация» появились в тандеме, вызвав тем самым различные символические образы и эмоциональные реакции. В то время как индуистские националисты обращались к Ведам и брахманскому дискурсу, культурная идентичность регионов (например, Бенгалии) была связана с местными богами и культами (культ бога Кали, вайшнавистские секты и т.д.). Разумеется, реальные люди и группы могли и идентифицировали себя с обеими общинными репрезентациями, и их идентифицирующие признаки частично совпадали. Такие сложные и иногда вызывавшие напряженность взаимоотношения между национальным и региональным в контексте антиимпериалистической политики являются предметом дальнейшего изучения.
На юго-западе Индии появился еще один нарратив, который поставил под сомнение лежащие в основе подавляющего большинства национальных историографических работ представления с точки зрения культуры индуизма, высших каст и северной Индии. В основе этого нарратива лежало утверждение о том, что доминирование брахманской культуры и арийский империализм были причиной подавления и искажения подлинной региональной культуры и населения. Таким образом, в историографию этого периода попала тема кастового конфликта, которая нашла и свое политическое выражение в контексте возникновения различных политических ассоциаций представителей низших каст. Но академические историки, как правило, игнорировали эти, среднего качества, работы. То же самое можно сказать и о мусульманском историописании, которое теперь, как никогда ранее, двигалось в сторону националистического историописания на основе теории «двух наций» и которое в то же самое время было исключительно государство- центричным, ведь, по словам поэта Мухаммада Икбала, в исламе «церковь и государство изначально связаны друг с другом»2. Однако это бы¬
1 C. A. Bayly, ’Modern Indian Historiography' // Michael Bentley, ed., Companion to Historiography. London, 1997, 682.
2 L(ht. no: Gottlob, Historical Thinking in South Asia, 40.
268
ГЛАВА 5
ла не единственная среди мусульманских интеллектуалов точка зрения. Сайид Абуль-А’аля Маудуди рассматривал южно-азиатских мусульман как отдельное религиозное сообщество, но не как нацию, говоря вместо этого об унифицирующей миссии ислама, выходящего за пределы узких национальных границ1.
Придуманная нация: синтез Неру
К 30-м годам XX века уже невозможно было утверждать, что у индусов нет исторического сознания. В 1939 году на заседании Индийского исторического конгресса было заявлено, что «возможно, никакой другой предмет в индийских университетах наших дней не изучается с таким рвением как история Индии». Такая оценка была, вероятно, правильной и не менее примечательной, учитывая нехватку официальной поддержки. Безусловно, после получения независимости государственное финансирование стало гораздо значительнее. Постколониальное индийское правительство быстро осознало роль истории в деле нациостроительства. В своей инаугурационной речи на Всеиндийском историческом конгрессе президент Раджендра Прасад заявил, что «правдивая и полная история славного и далекого прошлого нужна Индии не меньше истории ее уникальной и беспрецедентной борьбы, в результате которой Индия вновь оказалась на карте мира»2. Таким образом, задача состояла как в дальнейшем исправлении колониалистских нарративов, так и в документальной фиксации антиколониальной «борьбы за свободу». В этом деле индийские историки пользовались безграничной поддержкой своего первого премьер- министра Джавахарлала Неру, мыслителя-новатора и весьма уважаемого историка. Книга, написанная им, «Взгляд на мировую историю», была одной из немногих работ историков его поколения, в которой он пошел дальше обычного обзора западных цивилизаций и включил в свое исследование все основные цивилизации мира. В книге «Открытие Индии», написанной в тюрьме в то время, когда провозглашение независимости Индии было неминуемым, Неру вплотную подошел к понятию индийской нации и выявлению сущности того, что значит быть индийцем.
«Индии нет и никогда не было». Это утверждение Джона Стрейчи, одного из управляющих британской колонии без конца повторялось колониальными интерпретаторами и было основано на представлении об Индии как о неоднородном, громоздком и беспокойном континенте. В ответ Неру предложил сложное, гибкое и многослойное определение Индии и индийскости; его Индия представляла собой «пергаментную рукопись, с которой со временем был стерт первоначальный текст и один за другим наносились все новые и новые слои (раНтр-
1 Ibid., 56.
2 Цит. по: Vinay Lai, The History of History, 82.
Член Совета по делам Индии и бывший вице-король.
ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ... 269
везО; однако нанесенные на нее слой за слоем мысли и чаяния не были скрыты или стерты полностью»1. В результате получилась «синтезированная», но не «сплавленная» культура со своей собственной цивилизационной идентичностью. Индия на самом деле состояла из различных сообществ, которые, тем не менее, не были изолированными и находились в постоянном контакте друг с другом. Применение этой теории во временном измерении подразумевало то, что в индийской истории не могло быть таких периодов, которые можно было бы считать неуместным вмешательством в однородное течение истории коренного населения, - а именно такие, якобы исключающие все «чужеродное», границы прошлого националисты-индуисты пытались изобразить в качестве доминантной черты Индии.
Новшество и преимущество данного Неру определения Индии состояло в том, что оно предоставляло открытую и мультикультурную среду, которая предусматривала объединение множества индийских сообществ в такой политический организм, в котором все могли чувствовать себя гражданами. Конституция и федеральная демократия обеспечивали сохранность целостности этого организма, не допуская при этом тенденций к доминированию со стороны какой-либо основной этнической группы. Составной частью этой концепции было понятие регионального плюрализма и свободы для каждого сообщества развиваться без внешнего давления. Далее эта концепция была открыта требованиям современности и ее составной части - современного национального государства - гаранта того организма, которым являлась Индия. В отличие от националистов-индуистов и даже Ганди Неру не избегал контакта Индии с Западом. В смешении многочисленных культур Индии во времени и истории должны были найти свое место даже колониализм и Запад - в том отношении, что они оставили в ней след современности. Неру не разделял как антиисторические, так и антимодернистские взгляды своего наставника Ганди. Экономическое развитие Индии зависело от принятия ею модернистского проекта.
Историография после достижения независимости: старые и новые траектории
После того как Индия получила независимость, история стала национальным проектом, утверждая как национальный суверенитет, так и автономию индийской точки зрения. Историческая наука, финансируемая государством, сконцентрировала свои усилия в двух основных направлениях. Первое было связано с националистическим движением, которое теперь называли «борьбой за свободу». Фокусом внимания второго серьезного проекта были биографии, и он начался со сбора работ и речей Ганди, а затем в него были включены и другие национальные фигуры, такие как Валлабхай Патель и Б. Р. Ам-
1 ЗамгаИаНа! МеИги, ТЪе 01зсоуегу оГ 1псПа. ОхйэгЦ, 1988, 58.
270
ГЛАВА 5
бедкар1. Целью третьего националистического проекта, финансирование которого осуществлялось не государством, а частными институтами (с небольшой долей государственной помощи), в какой-то мере самого крупного и противоречивого из этих проектов, было составление многотомной всеобщей истории Индии с древности до настоящих дней - запоздалая задача, учитывая, что последним подобным проектом была публикация восьмитомника по Индии Джеймса Милля. Являясь националистическими историографиями, все три проекта были по своей природе агиографическими.
Термин «борьба за свободу» был введен вскоре после достижения Индией независимости. В 1950 году известный историк и советник по образованию Тара Чанд, возглавлявший комитет, который и инициировал этот проект, предложил словосочетание «борьба за свободу» как лучшее по сравнению с «движением за независимость», отражающее роль индийцев на пути к освобождению. Некоторые исследователи замечают: Тара Чанд наверняка знал, что среди некоторой части сообщества существовало мнение о том, что индийцам не пришлось слишком сильно бороться за свою свободу; в противном случае не сработала бы тактика непротивления Ганди2. Тара Чанд осознавал исторически обусловленный характер национализма и признавал, что индийское национальное сознание было результатом западного влияния, хотя он также подчеркивал, что и на Западе национализм - явление новое. Его взгляды на историю были шире и критичнее взглядов многих других историков-националистов. В его исследовании о влиянии ислама на индийскую культуру отразилось его неодобрение религиозной составляющей индийского национализма.
В конце концов, проект «борьбы за свободу», который, как предполагалось, должен был объединить усилия нескольких историков, пришлось заканчивать исключительно Таре Чанду. В 1961 году вышел в свет первый из четырех томов его «Истории освободительного движения». Кроме того, было принято решение о том, что правительства штатов должны собрать материал для создания региональных историй освободительного движения, и в свое время появился ряд таких исследований, зачастую конкурировавших между собой за центральное место в борьбе за свободу. Так, в историях штата Утта Прадеш исследователи попытались использовать восстание сипаев 1857-1858 годов как ключевое событие в пробуждении национального сознания. Бипан Чандра заметил, что большинство из этих работ отражали идеи партии виги в том смысле, что имели тенденцию изображать национальное движение как следствие любви к свободе, уходящей далеко в прошлое и глубоко укоренившейся в характере индийцев (или населения регионов). Таким образом, если Тара Чанд рассматривал нацио¬
1 Собрание сочинений Ганди в 100 томах было завершено в 1994 году и сейчас его можно найти на компакт-диске.
2 Vinay Lai, The History of History, 85.
ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ... 271
нализм как явление, импортированное извне, историки-орийцы* связали истоки орийского национального движения с любовью к свободе^ которая уходит корнями во времена завоевания государства Калинга царем Ашокой в III веке до н.э.1.
Однако предстояло еще написать всеобщую историю Индии. В 1951 году вышел в свет первый из одиннадцати томов «Истории и культуры индийского народа». Издавалась эта серия образовательным учреждением Бхаратия Видья Бхаван, главной целью которого была пропаганда индийской и особенно индуистской культуры и ценностей. Основателем этого учреждения был гуджаратский литератор и ученый К. М. Мунши, романы которого повествуют о славном прошлом индуистских предков Индии и «темном» периоде мусульманского правления. Мунши уже давно интересовала идея публикации всеобщей истории Индии, которая отражала бы ее (индуистскую) «душу» и для этого проекта он заручился финансовой поддержкой со стороны преуспевающего промышленника Г. Д. Бирлы. Главным редактором всего издания «Истории и культуры» был назначен известный бенгальский историк Ромеш Чандра Маджумдар, и вдвоем они руководили публикацией «самой амбициозной истории Индии, написанной индийцами»2.
Эта история поставила предложенную Неру модель индийской истории в виде «палимпсеста со слоями наносившихся на нее текстов» с ног на голову. Там, где Неру прославлял мультикультурное прошлое своей страны и ее «единство в разнообразии», финансированное организацией Бхаратия Видья Бхаван издание представляло Индию прежде всего индуистской, жертвой вторжений, всегда при этом оказывавшей сопротивление и, несмотря на влияния извне, культурно и духовно жизнестойкой3. Маджумдар отверг «составную культуру» Неру как идеологию правительства, пытавшегося стереть память о разделе Бенгалии и угодить своим меньшинствам. Разумеется, Маджумдар также отвергал и колониальные нарративы, но при этом не возражал против деления индийского прошлого на три периода, а также определения «мусульманского периода» как «эры тьмы», которая «сопровождалась заметным упадком культуры и исчезновением творческого духа в искусстве и литературе»4. В разделе, посвященном националистическому периоду индийской истории, Маджумдар, следуя своим анти-
народность ория, штат Орисса.
** территория современной Ориссы.
1 Chandra, 'Nationalist Historians' Interpretations', 197; Vinay Lai, The History of History, 86.
2 Vinay Lai, The History of History, 92.
3 По мнению Маджумдара, другие древние цивилизации и культуры исчезли, а в Индии существует континуинитет истории и цивилизации.
4 Процитируем Маджумдара еще раз: «Что касается индуистской цивилизации, исламский период был тьмой долгой ночи, которая окутывает ее и по сей день». Цит. по: Lai, The History of History, 95.
272
ГЛАВА 5
коммунитаристским взглядам, утверждал, что антибританское восстание сипаев 1857 года ни в коей мере не представляло собой братского восстания индусов и мусульман. Как и Тара Чанд, но с совершенно другой политической мотивацией, он заявлял, что национализм является западной идеей, и в каком-то смысле был благодарен Британии, освободившей Индию от тирании мусульманского правления.
Коммунитаристкая интерпретация индийского прошлого не совпадала с официальным дискурсом, но с ней также не соглашались и другие известные независимые историки. В 1969 году вышла книга Ромилы Тхапар, Харбанса Мукхья и Бипана Чандры под названием «Коммуни- таризм и историописание в Индии», в которой они оспаривают некоторые основополагающие позиции коммунитаризма как в рамках исторической профессии, так и в отношении индуистских политических организаций, например Раштрия Сваямсевак Сангх (Rashtriya Swayamsevak Sangh / RSS). Ромила Тхапар, считающаяся одним из самых выдающихся специалистов по Древней Индии, отстаивая свои научные взгляды, которые встречали активное сопротивление со стороны коммунитари- стов, доказывала, что арийцы пришли в Индию извне и ели говядину и что ведическая культура является продуктом смешения местных и чужеродных элементов. Вместе с другими историками она обращала внимание на искусственный характер межкультурного конфликта, доказывая, что виной всему является колониальное правление. Индийские историки-мусульмане, такие как Аль Хасан Али Надви, также подчеркивали «синкретическую» природу индуистско-мусульманских отношений и позитивного вклада исламского влияния. Однако объявление Пакистана исламским государством в 1956 году означало, что пакистанские историки теперь будут вынуждены сконцентрировать свое внимание на создании отдельной истории для мусульман. Это «привело к фактическому исчезновению историописания в будущем Пакистане»1.
К социальной научной истории
Безусловно, индийские секулярные историки придерживались традиции Неру, которая была также антиколониалистской и в какой- то мере левой. К 60-м годам XX века эта традиция могла похвастаться одними из лучших работ в плане качества исследования и выбираемых для исследования областей. Вехой в этом процессе качественного преобразования стала публикация в 1956 году «Введения в изучение индийской истории» Д. Д. Косамби. Хотя Косамби был марксистом, он не рассматривал марксизм догматично. Он определенно не разделял теорию Маркса об азиатском способе производства, но его центральный интерес в отношении социальных формаций, классового конфликта и материальной жизни вывел дискурс на другой уровень. На самом деле работы Косамби, основываясь на оценке Ромилы Тхапар его вклада, яви¬
1 Bayly, 'Modern Indian Historiography', 683.
ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ... 273
ли собой «смену парадигмы», выразившуюся в постановке новых вопросов и применении более высоких методологических стандартов. Ранке- анский выбор тем остался в прошлом; теперь внимание переключилось с военно-политической к социально-экономической истории, сохранив, однако, ранкеансткую приверженность методологической точности и научным стандартам. В своем «Введении» Косамби дал новую интерпретацию средневекового/«мусульманского» периода индийской истории в ракурсе индийской формы феодализма, также сопровождавшегося важными технологическими изменениями. Работа Косамби дала начало дальнейшему изучению индийского феодализма в 60-е и 70-е годы такими историками, как Р. С. Шарма и Ирфан Хабиб. Проведенные Хабибом исследования аграрной системы моголов стали поворотным пунктом в изучении социально-политического порядка могольского общества, в которых он отрицал потенциал Индии могольского периода для капиталистического развития.
В то же самое время, хотя вопросы «борьбы за свободу» все еще привлекали определенное внимание, они уже перестали вызывать такой страстный интерес; теперь внимание было обращено к другим вопросам и проблемам современности, в частности к усилению левых взглядов в политике и росту несогласованности в индийских политических кругах в целом (о чем, кроме прочего, свидетельствовало ослабление влияния Партии Конгресса), и наконец, к провалам на пути «развития». Все эти тенденции направляли внимание историков к другим вопросам и проблемам. В рамках марксистской традиции одна из важнейших областей исследования, уходящая корнями в вопросы на- ционалистов-экономистов на пороге XX века, сосредоточилась на «центральном противоречии» колониализма, его неспособности развивать экономику Индии. Бипан Чандра, один из наиболее известных сторонников этой позиции, также привлек внимание к взаимосвязи между структурами международного капитализма и недостаточным развитием в постколониальный период, иными словами, к проблеме неоколониализма. Стимулом к появлению подобных исследований послужили также и «неоколониалистские» нарративы таких ученых, как американский историк-экономист Моррис Д. Моррис, который приводил доводы в пользу колониального правления. Бипан Чандра, придерживавшийся левых политических взглядов, но тем не менее осознававший идеалистичность индийского националистического движения, также поставил под сомнение взгляды нового поколения кембриджских историков, кому индийские националисты представлялись группой капризных политиков, просто стремящихся к власти, которые часто сотрудничали с британцами, но мечтали лишь о том, чтобы оказаться на месте своих хозяев1. «Мужчины и женщины, которые пишут историю, - заявил Чандра, - движимы не только материальными инте¬
1 Anil Seal, The Emergence of Indian Nationalism: Competition and Collaboration in the Later Nineteenth Century. Cambridge, 1968.
274
ГЛАВА 5
ресами, но и идеями, хотя их вера в эти идеи может иметь и материальный интерес». Он предостерегал об «ошибках игнорирования этих идей и идеологий... и пренебрежения историей», так как это может отрицательно повлиять на историка и привести к тому, что он «перестанет придавать значение традициям и ценностям демократии, гражданской свободы, секуляризма, гуманизма и разума, которые являются неотъемлемой частью национального движения с момента его зарождения»1. Наиболее прозорливые индийские историки-марксисты признали, что непродуктивно применять марксистские категории, не принимая во внимание различные обстоятельства, и что, хотя в целом понимание Марксом динамики истории имеет свою ценность, «западная» и европейская траектории развития могут и не подходить к индийским условиям. В это время возродился интерес и к социокультурным аспектам, но исследования в этом направлении в основном касались доколониального периода и находились под сильным влиянием антропологического и социологического направлений, в частности работ М. Н. Сриниваса, чья теория «санкритизации» позволила сформулировать социальное изменение и историческое развитие в параметрах специфической культурной практики. Что касается исследований по колониальному периоду, все еще доминировала националистическая парадигма, и основной причиной этому, по словам Сумита Саркара, было то, что «социальный материал, неизбежно по большей части состоявший из «внутренних» противоречий, представлялся весьма неподатливым для националистической историографии, преданной саге о практически едином народе»2. Некоторые марксистские историки, тем не менее, исследовали классовую борьбу рабочих и крестьян в колониальный период, но большинство склонялось к практически механической ленинской методологии. Этой области и далее уделялось внимание в форме провинциальной историографии, которая получала одобрение в рамках федеральной структуры Союза и которую следует отличать от политического сепаратизма постколониального периода. Также появился ряд научных журналов, например «Обзор индийской экономической и социальной истории», который в основном был посвящен исследованиям по колониальному периоду. Кроме того, в области «экономической истории» появились работы немарксистского толка. Одной из первых и наиболее известных работ этого направления была книга Дхармы Кумара «Земля и кастовая система в Южной Индии», в которой автор, рисуя картину экономических и демографических изменений в условиях колониального правления, пользовался приемами антропологического и количественного анализа. Однако только в 70-е годы XX века в сфере социального появились новые проблемы и перспективы, и проблемы гендерных отношений, кастовой системы, рабочего класса и крестьянских восстаний были затронуты независимо от господствующей националистической тенденции.
1 Chandra, 'Nationalist Historian' Interpretations', 206-207.
2 Sarkar, Writing Social History, 39.
275
ГЛАВА 6
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ: ОТ СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ К ПОСТМОДЕРНИЗМУ И ПОСТКОЛОНИАЛИЗМУ
«Холодная война»
и возникновение нового миропорядка
Период с 1945-го по 1989/91-й мы делим на два этапа, условная граница между которыми находится где-то в районе 1968 года. Эти три даты значимы не только для Запада, но и для всего мира. Поражение в 1945 году держав оси положило конец попыткам нацистской Германии и имперской Японии установить свое господство в Европе и Азии. Это событие возвестило о звездном часе как американской, так и советской держав, о зависимости Западной Европы и Японии от Соединенных Штатов и подконтрольности большей части Восточной Европы Советскому Союзу. В эти годы Соединенные Штаты пережили беспрецедентное процветание, которое в отличие от межвоенного периода не прерывалось экономическими кризисами. Впоследствии оно распространилось на Западную Европу и Японию, преодолевшие с американской помощью послевоенную разруху. В то же время такие великие державы довоенного времени, как Франция, Великобритания, Германия и Япония, потеряли свое влияние на международной арене. Эти годы были отмечены распадом старых империй, когда в 1947 году Индия, Пакистан и Шри-Ланка получили независимость от Великобритании, в 1949 году Индонезия после кратковременного конфликта освободилась от Нидерландов, а в 1960 году Конго получило независимость от Бельгии. Французы упорно пытались сохранить свое влияние в Алжире и Индокитае. К середине 60-х годов независимости добилось большинство прежних колоний в Африке, Юго-Восточной Азии, Ближнем Востоке, бассейне Карибского моря и Океании. С установлением в 1949 году коммунистической Народной Республики произошло политическое объединение Китая. Международные отношения были отягощены «холодной войной», заключавшейся в противостоянии не просто между двумя союзническими группировками
276
ГЛАВА 6
(как это было накануне 1914 года), но между двумя социальными системами, каждая из которых искала себе идеологическое обоснование. Китай стал второй крупной коммунистической державой. Поразительно, что, несмотря на разногласия между этими двумя системами, Европа избежала вооруженных столкновений; несомненно, что отчасти это произошло вследствие боязни ядерной войны. На смену им в бывших колониях Азии и Африки пришли другие войны. Относительную стабильность в Западной Европе и Северной Америке, равно как в Советском Союзе и находящихся под его влиянием странах, подрывали нарастающие вызовы этому статусу-кво как в западной, так и в советской сферах. В числе этих вызовов следует назвать, прежде всего, возникновение движения за гражданские права в Соединенных Штатах, оппозицию участию Запада в войне во Вьетнаме и растущее разочарование молодежи в Европе, Японии и Северной Америке ценностями высокоиндустриального и потребительского общества, а в Восточной Европе - сопротивление жесткому диктату со стороны Советского Союза. Это недовольство проявилось в массовых студенческих волнениях 1968 года во всем Западном мире, достигших своего апогея в Беркли, Париже, Западном Берлине, Мехико, Токио и Пражской весне. Данной студенческой активности предшествовала известная роль, сыгранная «Красной гвардией», или радикально настроенными студентами и школьниками (хуйвэйбинами), в так называемой Великой пролетарской культурной революции в Китае, которая началась в 1966 году вслед за провозглашением маоистской идеологии и постепенно иссякла. Эти возмущения были повсеместно подавлены, но все же оказали влияние на общую тональность последовавших за этим лет.
Версии социальной истории (1945-68/70) на Западе
Что касается исторической мысли и историописания, то первые два десятилетия после 1945 года, характеризовавшиеся широко распространенным чувством уверенности (по крайней мере, на Западе) и идентификацией с культурой индустриального общества, стали свидетелями очередного усилия по превращению истории в строгую науку; науку, которая, с ее опорой на эмпирические исследования и аналитические методы, приобретет большее сходство с методологией естественных наук, чем в рамках ранкеанского подхода, стоявшего у истоков профессионального оформления истории как науки. После 1945 года история для многих историков должна была стать социологией, хотя было, по крайней мере, четыре модели, частично ограниченные рамками национальных историографий, которые трактовали научный характер истории иначе. Мы проведем различие между американской, французской («Анналы») и западногерманской концепциями социальной истории, а также марксистскими подходами, которые вышли за национальные рамки и были столь разнообразны, что
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ...
277
с трудом поддавались идентификации. Несмотря на преобладающие в континентальной философии сомнения и теоретический релятивизм некоторых американских историков довоенного времени (таких как Карл Беккер и Чарльз Бирд), ни одно из этих направлений не потеряло веру в возможность существования объективного исторического знания1 . Они были уверены в реальности исторического прошлого, хотя и признавали наличие субъективных моментов в процессе его реконструкции. Более того, все эти направления, частично за исключением «Анналов», рассматривали историю как прогрессивный процесс модернизации, который в конечном итоге должен получить свое завершение на Западе. Когда во второй половине 1960-х разочарование современной индустриальной цивилизацией поставило под сомнение составлявшие фундамент данной цивилизации научный идеал и идею модернизации как прогресса, эта приверженность и научному методу, и модернизации подверглась нарастающей критике. Хотя многие профессиональные историки продолжали проводить исследования и писать историю в традиционной манере, а другие пользовались привычными подходами социальной науки вплоть до 1970-1980-х годов, в этот период в истории как академической дисциплине наметился явный поворот от изучения общества к изучению культуры - подход, требующий новых и разнообразных методов, позволяющих понять лежащие в основе социумов ценности, направляющие их развитие. Одновременно с этим решение Советского Союза сокрушить «социализм с человеческим лицом» в ходе Пражской весны привело к стремительному ухудшению положения советской державы как на экономическом, так и на идеологическом фронтах. Марксизм, визитной карточкой которого являлся Советский Союз, потерял доверие не только на Западе, но и внутри Советской империи и за ее пределами (например, в Японии). Только в бывших колониальных странах, выступающих против западного вмешательства, и в некоторой степени в странах Латиноамериканского региона, стремящихся к радикальным реформам, элементы марксизма действительно продолжали играть существенную роль.
Соединенные Штаты: от согласия до «Новых левых»
Начавшийся сразу после Второй мировой войны период был отмечен, с одной стороны, огромным ростом доверия к основательности и прочности институтов и ценностей Америки, победоносно вышедшей из войны, что способствовало ее превращению в мировую державу;
' Peter Novick, That Noble Dream: The 'Objectivity Question' and the American Historical Profession. Cambridge, 1988; John Higham, History: Professional Scholarship in America Baltimore, MD, 1983.
278
ГЛАВА 6
с другой стороны, ощущением опасности перед лицом «холодной войны» и серьезной угрозы «свободному миру». Влияние историков- прогрессистов, игравших ведущую роль в американской историографии с начала 20-х годов XX века, закончилось. Их место заняли те, кого называли «Школой согласия»1. «Прогрессистская школа» (Чарльз Бирд) рассматривала Америку как разделенную нацию, в которой кучка наделенных имущественными правами людей господствовала над широкими слоями населения. Представители «Прогрес- систской школы» полагали, что, в конечном счете, имущественные интересы и власть богатых людей будут значительно сокращены и появится лучшее и более справедливое общество. Однако, несмотря на свое внимание к экономическим факторам, историки-прогрессисты не были марксистами, поскольку рассматривали этот процесс в терминах реформ, а не революции, и отрицали марксистскую веру в исторические законы, ведающие общественным развитием.
Наряду с другими, такие «историки-согласия», как Луис Харц, Ричард Хофстедтер и Дэниел Бурстин, отразили консервативный социально- политический настрой 1950-х и противодействие реформам «Нового курса», а также необходимость защиты Америки от того, что они рассматривали как неизбежную угрозу коммунизма американской свободе. Они подчеркивали уникальность американской истории, существенно отличающейся от классово-устроенных обществ Европы. Поскольку Америка не знала феодализма, с самого начала она могла развиваться как общество равноправных граждан в демократически устроенной политической жизни. Они заявляли о том, что за исключением Гражданской войны на территории Америки не было крупных конфликтов, да и Гражданская война, возможно, была бы предотвращена, если бы идеологически настроенные аболиционисты не форсировали проблему.
«Историки согласия» продолжали писать историю традиционными способами. Рядом с ними развивалась набирающая свою значимость социально-научная ориентация, разделившая важные принципы англо-американской аналитической философии. Карл Гемпель применил принципы аналитической философии к историческому исследованию при помощи того, что получило известность как модель «охватывающего закона»2. Согласно ей к истории, так же как ко всем другим областям знания, применима только одна форма научного объяснения- каузальная. Все события причинно обусловлены. Простое описание последовательности событий неадекватно истории. Вместо этого историк должен искать взаимосвязи между отдельными событиями
1 О «Школе согласия» см: Ernst Breisach, Historiography: Ancient, Medieval, & Modem. Chicago, IL, 1983, 388-391; Bernard Sternsher, Consensus, Conflict, and American Historians. Bloomington, IN, 1975.
2 Carl Hempel, Aspects of Scientific Explanation and Other Essays in the Philosophy of Science. New York, 1965 (рус. пер.: К. Гемпель. Функция общих законов в истории НК. Гемпель. Логика объяснения. М., 1998).
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ...
279
и их причинами. Вопрос заключается в том, возможно ли это, не существует ли таких элементов человеческой деятельности и воли, которые сопротивляются подобной редукции? В конце концов, Гемпель был вынужден признать наличие таких элементов. Но вывод, который сделал из этого Карл Поппер, состоял в том, что, поскольку существует только один вид логики рационального рассуждения, история не может быть наукой.
Историки, желающие применять социально-научные подходы, не шли так далеко, как Гемпель или Поппер, но все-таки стремились создавать модели (в основном количественные), которые могли бы описать общие тенденции социального поведения в эмпирически проверяемых обобщениях. Соглашаясь с Поппером в том, что в истории или социальных науках суждение не может быть признано однозначно истинным, они продолжали настаивать на том, что суждения должны быть сформулированы таким образом, чтобы они поддавались эмпирической верификации и в принципе могли бы быть доказаны как ложные1. Задача социального историка состояла не в том, чтобы описывать события, а в том, чтобы предлагать теоретические объяснения, позволяющие вписать отдельные события в более широкую и причинно взаимосвязанную группу событий. Ключевая роль при этом отводилась количественным методам. С помощью нового технического средства - компьютера - большое количество материала могло быть проанализировано математически. История, таким образом, превращалась в науку, которая напоминает по строгости естественные науки. Роберт Фогель и Стенли Энгерман в своем труде «Время на кресте», посвященном проблеме американского рабства, подняли вопрос о том, на самом ли деле к началу Гражданской войны институт рабства находился в экономическом упадке, как это часто утверждалось. Они бросили вызов этому утверждению и заявили о том, что противоречивые интерпретации исторических проблем остались в прошлом, т.к. компьютерные технологии позволяют ответить на них с высокой степенью точности. Используя обширные количественные данные о питании, жилищных условиях и здоровье, они прямо сравнили условия жизни рабов с аналогичными условиями жизни индустриальных рабочих на северо-востоке США в это же время. Широко заявлялось, что только квантитативная история имеет право называться наукой. Количественные методы применялись при изучении выборов, семейных институтов, социальной мобильности и миграции и, конечно, экономики. Для обозначения этих новых методов был придуман термин «клиометрия». В 1959 году Роберт Фогель и Дуглас Норт в работе «Железные дороги и американский экономический рост» попытались ответить на условный вопрос: как происходила бы
1 Cm.: Paul Arthur Schilpp, ed., The Philosophy of Karl Popper, 2 vols (La Salle, IL, 1974).
280
ГЛАВА 6
индустриализация Америки, если бы железные дороги не были построены, а их место заняли такие средства коммуникации и транспортировки, как передвижение по рекам и каналам.
В течение этого периода роль теорий модернизации в исторической социологии и экономике все время возрастала. Эти теории зависели не столько от компьютерных технологий, сколько от концепции исторического развития, которая восходила к Просвещению и парадоксальным образом оказалась обязанной Марксу и Энгельсу. Уолт Ростоу в своих «Стадиях экономического роста», несмотря на подзаголовок этой работы «Некоммунистический манифест», отталкивался от предположения Маркса, что «более развитая в промышленном отношении страна всего лишь демонстрирует менее развитой картину своего собственного будущего»1, меняя местами капиталистическую Англию XIX столетия с капиталистической Америкой XX в. В конечном счете, весь мир последовал бы примеру Америки в процессе модернизации, ведущем к свободной рыночной экономике и либеральной, парламентской демократии. Историк-экономист Александр Гершенкрон, получивший образование в Вене, в своей работе «Экономическая отсталость в исторической перспективе» предупреждал, что страны, в которых индустриализация произошла позже, при других политических и социальных обстоятельствах, не могли вписаться в эту модель. Тем не менее, представления Ростоу, хорошо отвечавшие идеологии «холодной войны», оказались живучи среди определенного типа теоретиков, например Фрэнсиса Фукуямы, как это видно из его знаменитого эссе «Конец истории?», опубликованного в 1989 году всего за несколько месяцев до падения Берлинской стены2. В 1950-1960-е годы в исторической социологии Соединенных Штатов был очень популярен большой нарратив, рисовавший неизбежную «модернизацию» научной мысли, экономический рост и господство светского мировоззрения, предвиденные не только позитивистами XIX века, но и Максом Вебером, хотя Вебер был более осведомлен об опасностях, таящихся в идее прогресса, и лучше понимал отличия других цивилизаций, чем американские послевоенные социологи. Для теоретиков модернизации история была однонаправленным процессом, и венчал этот процесс Запад (а после Второй мировой войны особенно Америка). Модернизация, таким образом, в значительной степени совпала с вестернизацией.
Оптимизм и самоуверенность историков согласия и многочисленных социальных историков все же сменились нарастающим напряже¬
1 Karl Marx, Capital, vol. 1. Введение в: Robert С Tucker, ed., The Marx-Engels Reader, 2nd edition. New York, 1978, 296. (рус. пер.: Маркс К. Капитал // Соч. Т. 23).
2 Francis Fukuyama, The End of History?', The National Interest, 16. Summer, 1989, 3-18; The End of History and the Last Man. New York, 1992; (русск. перев. - Ф. Фукуяма. Конец истории и последний человек. М., 2004. Он же. 'Reflections on the End of History, Five Years Later', History and Theory, 34:2 (1995), 21-АЪ.
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ...
281
нием внутри американского общества и за его пределами. До тех пор чернокожее население в значительной степени игнорировалось белыми историками или патерналистски трактовалось как расово неполноценное, как, например, в работах Уильяма А. Даннинга1 и Ульриха Филлипса2, а также их учеников, например уже упомянутого Джеймса Г. Ренделла, попытавшегося документально подтвердить их расовую неполноценность. Теперь же множество чернокожих историков, таких как Джон Хоуп Фрэнклин и У. Э. Б. Ду Бойса, стали заниматься историей рабства и расового угнетения подобно тому, как это делали белые историки Стэнли Элкинс и Кеннет Стэмпп. В дискуссионной работе «Рабство: проблема институциональной и интеллектуальной жизни Америки» Элкинс сравнил американское рабство с нацистскими концлагерями. За работой Джона Кеннета Гэлбрейта «Общество изобилия» последовала работа Майкла Харрингтона (1928-1989) «Другая Америка: бедность в Соединенных Штатах», в которой он указал на наличие в Америке множества малоимущих граждан.
Теперь перед лицом внутренних беспорядков, особенно движения за гражданские права и участия Америки в войне во Вьетнаме, историкам согласия, как ранее прогрессистским историкам, бросало вызов движение «Новых левых». Габриэль Колко в «Триумфе консерватизма»3 попытался показать, что эра прогресса не сопровождалась, как было принято считать, продвижением к демократическому обществу, а знаменовала собой процесс установления более эффективного контроля над экономикой со стороны капиталистических институтов, сопровождавшийся реформами, которые вели не к увеличению демократии, а к управлению страной в соответствии с определенными экономическими интересами. Но главное внимание «новых левых» было приковано к сфере международных отношений, омрачненных войной во Вьетнаме. Не соглашаясь с тем, что «холодная война» представляла собой защиту свободных институтов Запада от советской и китайской угрозы, такие историки, как Уильям Аплман Уильямс, Уолтор Ла Фабер и Габриэль Колко4, попытались показать степень зависимости внешней политики США от ее имущественных интересов и ее определенно империалистический характер в отношении развивающихся стран. Одновременно с этим, будучи хорошо осведомлены о его репрессивном характере, они не поддерживали и Советский Союз. Тем не менее, они глубоко симпатизировали движению за самоопределе¬
1 William A. Dunning, Reconstruction: Political and Economic 1865-1877. New York, 1907.
2 Cm.: Ulrich Phillips, American Negro Slavery: A Survey of the Supply, Employment and Control of Negro Labor as Determined by the Plantation Regime. New York, 1918.
3 Gabriel Kolko, The Triumph of Conservatism: A Reinterpretation of American History 1900-1916. New York, 1963.
4 Cm.: Breisach, Historiography, on New Left historians, 391-393.
282
ГЛАВА 6
ние в тех странах, которые ранее или все еще находились под влиянием Запада, как, например, Вьетнам.
Напряженная политическая атмосфера конца 1960-х и громко заявившее о своем недовольстве студенческое движение способствовали появлению в Соединенных Штатах направления историописания, презентовавшего себя как «радикальное»1. Являясь относительно маргинальным, оно, тем не менее, внесло свой вклад в историческую и социальную перспективу 1970-х. Оно ставило своей задачей показать «историю снизу», обращаясь к тем слоям населения, которые практически полностью игнорировались прогрессистскими историками и историками согласия. Говард Зинн попытался отразить это в своей работе «Народная история США с 1942 года до сегодняшних дней». Кроме того, радикальные историки уделяли большое внимание женщинам и выдвигали широкую феминистскую концепцию истории, о которой мы скажем в этой главе чуть ниже. Представление о Соединенных Штатах как о «единой и неделимой нации под Богом со свободой и справедливостью для всех» сменилось ощущением мульти- культурного общества с различными сегментами, часто лишенными равного доступа к свободе и справедливости и призывающего к созданию собственной истории. Вызов историописанию заключался в необходимости признания и изображения этой многогранности американского общества в понятиях класса, этничности и гендера, не порывая при этом с ощущением национального единства, а скорее переопределяя само понятие американской нации.
Франция: «Анналы»
Мы не станем говорить о парадигме «Анналов», ведь понятие парадигмы означало бы, что в этом научном сообществе существовало четкое представление о том, какие вопросы следует задавать в ходе исторического исследования и какова методология поиска ответов на эти вопросы. Поражает то, что историки этого направления пошли самыми разными путями. Питер Бёрк убежден, что его представители создали «поразительное количество самых новаторских, самых незабываемых и самых важных исторических трудов XX века»2. Высказывается предположение, что значение и воздействие этого направления на историческую науку (не только во Франции, а повсеместно) сопоставимо только с ранкеанской школой в XIX веке. Его главным атрибутом было понимание истории как социальной науки или всеобъем¬
1 См.: Joseph М. Siracusa, 'Radical History (United States)’, in Daniel Woolf, ed., A Global Encyclopedia of Historical Writing. New York, 1998, 757-758, с библиографией.
2 Peter Burke, The French Historical Revolution: The Annales School, 1929-1989. Cambridge, 1990, 1.
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ...
283
лющей «гуманитарной науки», но науки, которая заметно отличалась от только что рассмотренных нами подходов социальной науки в Соединенных Штатах. Как мы уже видели в предыдущей главе, связующим центром, объединявшим разделявших эти подходы историков, было создание «Анналов» - журнала, основанного в 1929 году Марком Блоком и Люсьеном Февром, а после Второй мировой войны - создание вокруг журнала сложной институциональной структуры.
До Второй мировой войны по отношению к профессиональной исторической науке во Франции «Анналы» были маргинальным направлением, даже после того как в 1933 и 1936 годах Февр и Блок переехали в Париж, приглашенные соответственно в Колледж де Франс и Сорбонну. Господствующая историография все еще следовала общепринятому изложению политической истории. После того как в 1944 году Блок был убит нацистами, Февр стал лидером послевоенных «Анналов», и в 1947 году ему удалось создать в Высшей школе практических исследований (Ecole Pratique des Hautes Etudes) специальную, Шестую секцию, президентом которой он и стал. Это помогло ему организовать исследования по тем направлениям, по которым, как он полагал, должна писаться история. Для него история была неотделима от общественных наук. Граница между ними должна была стерта. Чтобы обеспечить тесное сотрудничество историков с другими учеными, Шестая секция, реорганизованная в 1972 году в Высшую школу исследований по социальным наукам, принимала на работу специалистов из разных областей социогуманитарного знания. Среди них были не только экономисты, социологи и географы, как до этого, но также антропологи, психологи, психоаналитики и, что особенно важно, историки искусства, литературные критики и специалисты в новой по тем временам дисциплине семиотике. Истории предстояло стать комплексной социальной наукой, или, как ее тогда называли, «наукой о человеке»; эта обновленная история должна была стать центром взаимосвязи разного рода дисциплин. В новой науке о человеке следовало преодолеть изоляцию не только истории, но и других социогуманиттарных дисциплин. В то же время эта наука не должна была иметь системного характера; другими словами, она не ставила своей целью создание унитарной науки. Скорее, она предполагала использование разных подходов, позволяющих исследовать разные аспекты человеческой жизни, без потери их контактов друг с другом. В 1956 году после смерти Февра должность редактора «Анналов» и Президента Шестой секции перешла к его ученику Фернану Броделю. Как полагает Питер Берк, «Анналы», начинавшие свой путь как «секта еретиков», превратились во французский исторический истэблишмент1. В 1968 году на левом берегу Парижа был открыт центральный офис, «Дом наук о человеке», объединивший ученых разных дисцип¬
Ibid., 31.
1
284
ГЛАВА 6
лин и создавший превосходные условия для формальных и неформальных обменов.
На протяжении полутора десятка лет после смерти Февра идейным вдохновителем Школы «Анналов» являлся Бродель. Его репутация была заложена публикацией в 1949 году монументального трехтомника «Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II». Бродель начал заниматься этой тематикой в начале 1930-х годов в ходе работы над диссертационным исследованием1. Первоначально акцент был сделан на внешней политике Испании при Филиппе II (1527-1598), т.е. на все еще относительно традиционной дипломатической истории. Завершение работы было отсрочено двумя перерывами: первый был связан с двухлетним периодом преподавания в Университете Сан-Пауло в Бразилии, где он близко общался и находился под сильным влиянием своего французского коллеги антрополога Клода Леви-Стросса; второй - с нахождением в немецком лагере для интернированных, где он, однако, имел свободное время для того, чтобы переосмыслить и написать большую часть исследования. Окончательный вариант существенно отличался от первоначального замысла. Он решительно отошел от нарратива и обратился к изучению определяющих историю глобальных структур. Отказался он и от традиционной ньютоновской идеи, представлявшей время однонаправленным и прогрессивным феноменом, настаивая вместо этого на том, что различные исторические уровни требуют разного понимания времени. Книга была поделена на три главы, отражавшие три разные концепции времени. Броделя не интересовала свойственная традиционной историографии быстро меняющаяся событийная история, он обращал внимание именно на те аспекты исторической реальности, которые сопротивлялись изменениям или протекали медленно, в режиме, который он назвал longue duree (временем большой длительности).
Подобно Блоку, он хотел поставить историю на твердый материальный фундамент, но то, что он понимал под «материальностью», существенно отличалось от марксистского представления об этом. Хотя экономика и играла важную роль в истории Броделя, его работа была более укоренена в материальном мире, чем марксовы средства производства. Первая часть книги посвящена географическим условиям Средиземного моря и окружающих его европейских, североафриканских и ближневосточных земель. Но Бродель не был экономическим детерминистом; подобно Блоку, он скорее опирался на «человеческую географию» Поля Видаля де ла Блаша2. Для Броделя среди¬
1 Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филипп- па И: В 3 ч. Ч. I: Роль среды. 2002.; Коллективные судьбы и универсальные сдвиги. Ч. 2. М., 2003; События, полтика, люди. Ч. 3. М., 2004.
2 Vidal de la Blache, Principles of Human Geography. New York, 1926.
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ...
285
земноморский мир состоял не только из моря, гор и равнин, но также поселений, дорог и портов. География поэтому была не только естественной, но и человеческой, а стало быть, исторической наукой. Броделя интересовал не ход событий, а структуры, внутри которых разворачивалась человеческая история. В первой, географической, части эти структуры оставались практически неизменными. Когда во второй части он занялся изучением экономики и общества, он вновь обратился к долговременным и устойчивым структурам, но одновременно признал их подвижность и пытался выявить законосообразности в этих изменениях. Отталкиваясь от экономических теорий Клемента Жюгляра и Николая Кондратьева1, он занимался поисками повторяющихся структур в функционировании экономики в форме коротких или более продолжительных циклов экономической деятельности. Бродель оперировал концепцией истории и общества, которую он считал материалистической и поэтому научной. В этой главе он практически ничего не сказал о цивилизационных аспектах. Наконец, в третьей главе Бродель обратился к первоначально волновавшим его дипломатическим и военным аспектам политики Филиппа II, при этом почти извиняясь за обращение к политическим событиям как поверхностным, не затрагивающим лежащие в основании истории долговременные и устойчивые структуры. Тем не менее, Бродель внес несколько важных идей во французский исторический дискурс 1950-1960-х годов: приверженность науке о человеке, которая от изучения событий и выдающихся личностей перешла к изучению социальных структур, от нарратива - к анализу, от истории как самодостаточной дисциплины - к широкому междисциплинарному подходу. Он стремился к тому, что находится за пределами национального государства, - к широкой космополитической перспективе, которая в его книге о Средиземноморье касалась всех граничащих со Средиземным морем областей.
Концепция изучения человека как научного предприятия нашла свое отражение в работе Шестой секции, члены которой именовали свои научно-исследовательские институты лабораториями. В 1960-е «Анналы» предприняли серию исследований по человеческой биологии, рассмотренной в историческом ракурсе. В 1951 году Шестая секция запустила три важных серии, воспроизводящие броделевскую перспективу: 1) порты, дороги и трафики; 2) хозяйственная деятельность и предприниматели; 3) денежное обращение, цены и рыночная конъюнктура. Пьер Шоню, продолжил броделевское изучение Средиземноморья 12-томной работой «Севилья и Атлантика»2, проанализировав тоннаж товаров, перевозимых между испанскими портами и испанскими колониями в Новом свете между 1504 и 1650 годами.
1 Русский экономист-теоретик Кондратьев, по всей видимости, скончался в советской тюрьме в 1938 году.
2 Pierre Chaunu, Seville et VAtlantique, 12 vols. Paris, 1955-1960.
286
ГЛАВА 6
Следующей работой Броделя стало трехтомное исследование того, что он назвал «историей материальной культуры»1, сосредоточив свое внимание на зарождении капитализма. Хотя, как и предполагалось, в центре внимания оказались ранние итальянские центры и пришедшие им на смену Антверпен, Амстердам и Лондон, важно отметить, что Бродель исходил из глобальной перспективы, вводя в свое исследование сравнения с событиями в Китае, Индии, исламском мире и Латинской Америке.
Первый том был посвящен материальным аспектам повседневной жизни: пище, одежде, домохозяйству, здоровью, орудиям труда, денежному обращению и городам, оставляя за пределами внимания ментальность, игравшую столь важную роль в произведениях Блока и Февра. Только в последнем, незаконченном и посмертно изданном труде «Что такое Франция?»2 Бродель обратился именно к Франции, но, судя по подзаголовку (пространство и история), не к Франции как единой нации, а к Франции регионов, каждый из которых наделен собственной самобытностью.
Интерес Броделя к экономической истории упрочился в трудах Эрнеста Лабрусса, члена Шестой секции, который уже в 1930-е годы предпринял обширное исследование цен3, продолжая более ранние штудии Франсуа Симиана4. Придерживаясь марксистской перспективы, Лабрусс посвятил свое исследование XVIII столетию, пытаясь установить взаимосвязи между движением цен и началом и ходом Французской революции, подобно тому как ранее это сделал Жорж Лефевр, но теперь с опорой на количественные методы.
В 1950—1960-е годы важные работы Школы «Анналов» были посвящены региональным исследованиям. Вслед за Броделем они избегали написания национальной истории и сопоставления с современностью, хотя отдельные исследования касались торжества буржуазии (Шарль Моразе)5 и первой мировой войны и революции в России
1 Fernand Braudel, Civilisation materielle, iconomie, capitalisme, 3 vols. Paris, 1979-1987; на английском языке: Civilization and Capitalism, 3 vols. New York, 1992 (рус. пер.: Ф. Бродель. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. T. 1: Структуры повседневности: возможное и невозможное. М., 1986; Т. 2: Игры обмена. М., 1988; Т. 3: Время мира. М., 1992).
2 Fernand Braudel, L'identite de la France, espace et histoire. Paris, 1986; на английском языке: The Identity of France, 2 vols. New York, 1988-1990 (рус. nep.: Ф. Бродель. Что такое Франция? Кн. 1.: Пространство и история. М., 1994. Кн. 2: Люди и вещи. М., 1995).
3 Ernest Labrousse, Esquisse des mouvements du prix et des revenues. Paris, 1933.
4 François Simiand, 'Méthode historique et sciences sociales', Revue de synthèse historique, 6 (1903). 1-22; На английском языке: Review, 9 (1985-1986). 163-213; см. также его: Recherches anciennes et nouvelles sur le movement general des prix du XVIe au XIXe siècle. Paris, 1932.
5 Charles Moraze. Les bourgeois conquirants. Paris, 1957; на английском языке: The Triumph of the Bourgeoisie. New York, 1966.
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ...
287
(Марк Ферро)1. И все-таки методологически новаторские работы, написанные в традиции Февра и Блока, сосредоточились на изучении регионов Франции накануне Французской революции. Несомненно, частично причиной тому было то, что методы, подходившие для изучения неподвижных обществ, не работали при анализе быстрых перемен индустриальной эпохи. Если «Анналы» 1930-х занимались современными проблемами, итальянским фашизмом, советским коммунизмом, «Новым курсом», урбанизацией и проблемами развивающихся стран, то после 1945 года журнал практически не уделял внимания XX столетию. Возможно, это было связано с чувством определенного недовольства современным миром, которое в XX веке было свойственно очень многим. Школа «Анналов» посвятила себя задаче превращения истории в научную дисциплину, и хотя это предполагало занятия количественными исследованиями, ее представители, в отличие от многих американских социологов, не разделяли идеи прогрессивного развития современности. Несмотря на то что историки Школы «Анналов» никоим образом не романтизировали аграрное общество, подобно тому как это делали немецкие приверженцы УоНи- geschichte (народной истории), и действительно осознавали все недостатки этого периода, именно эта проблематика стала главной областью их научных интересов. Изучение Пьером Губертом города Бове и его окружения2 является реминисценцией попытки Февра, предпринятой им в своей диссертации по Франш-Конте (небольшой регион и историческая область на востоке Франции), написать «тотальную историю» этого региона. Но исследование Губерта отличалось меньшей полнотой и большей выборочностью и опиралось на броделевские понятия «структуры» и «конъюнктуры», и в отличие от Февра он гораздо больше интересовался долго- и краткосрочными колебаниями цен, производства и населения в 1600-1730 годах и воздействием этих колебаний на различные социальные группы, чем религией и политикой. Губерт пытался показать, каким образом рост населения в традиционном обществе выливался в периодические (приблизительно раз в тридцать лет) продовольственные кризисы, приводя к сознательным попыткам ограничить рост населения через поздние браки.
В это же время независимым от Школы «Анналов», но интегрированным, подобно Губерту, в ее исследования было развитие исторической демографии, которая отличалась от более ранних статистических подсчетов населения эмпирическим изучением циклов народонаселе¬
1 Marc Ferro, La revolution russe (1967); на английском языке: The Russian Revolution of February 1917. Englewoods Cliffs, NJ. 1972 and La grande guerre 1914—1918. Paris, 1969; на английском языке: The Great War 1914—1918. London, 1973.
2 Pierre Goubert, Beauvais et le Beauvaisis. Paris, 1960; в английском переводе, видимо, не появилась, но см. его: Louis XIV and Twenty Million Frenchmen. New York, 1970.
288
ГЛАВА 6
ния в широком контексте экономических и социальных структур и развития. Во Франции под руководством Луи Анри был основан Национальный институт демографических исследований, в Великобритании под руководством Эдварда Ригли, Роджера Шофилда и Питера Ласлегга начала функционировать сходная Кембриджская группа народонаселения и социальной структуры. Важным инструментом для анализа социальной структуры была реконструкция семьи, ставшая возможной благодаря церковно-приходским книгам. В Японии нечто подобное было предпринято группой Хайями Акиры (в Киото и Токио, использовавшей записи буддистских храмов, начиная с 1600 г.1 Лакуной в броделевском исследовании зарождения капитализма было изучение ментальности ранней буржуазии. Роберт Мандроу провел именно такое исследование, в котором изучил ментальность, а также наиболее распространенные установки, включая отношение к чтению2. Начиная с 1960-х гг. значительное количество работ в Школе «Анналов» было посвящено «истории ментальности». Они продолжились и в 1970-е гг. и по-прежнему исходили из того: чтобы стоять научными, исторические исследования должны быть количественными. Основной темой этих исследований была дехристианизация, как отражение отношения к смерти. Для понимания трансформации сознания они загрузили в компьютеры тысячи завещаний, выстраивая, таким образом, серии. В этом смысле слова, научная история была «серийной историей», такой, какой она заявлена в публикации Мишеля Вовелля и Пьера Шоню3.
Относительно скоро «Анналы» привлекли внимание за границей, в Италии, Испании, Латинской Америке, в частности в Мексике и Бразилии и, как будет показано ниже, в Восточной Европе, особенно в Польше и Венгрии и даже в Советском Союзе. Материал этой главы призван показать, что не было никакой парадигмы «Анналов» в том смысле, в котором в XIX веке существовала ранкеанская парадигма. Важность «Анналов» заключалась в применении в их исследованиях самых разнообразных подходов; самым слабым пунктом этого на-
1 Hayami Akira, Kinsei noson no rekishi jinkogakuteki kenkyu (историкодемографическое исследование современной сельской местности). Tokyo, 1973. Кроме того, Хаями помог Министерству внутренних дел японского правительства в создании многотомного исследования данных народонаселения Японии; см.: Kokusei chosa izen Nihon jinko tokei shusei (Данные о японском народонаселении накануне национальной переписи). Tokyo, 1992.
2 Об исследовании Робертом Мандроу менталитета и поведения ранней буржуазии см. его: Les Fuggers proprietaires fonciers en Souabes 1500-1618. Etudes de comportements socio-econommiques a la fin du XVIe siecle (1968); о психологии Франции раннего нового времени см. его: Introduction a la France moderne - 1500-1640, essai de psychologie historique. Paris, 1974; о народной культуре см. его: De la culture populaire aux 17e et 18e siècles. Paris, 1964; об охоте на ведьм и судебных процессах см. его: Magistrats et sociers en France au 17e siecle. Paris, 1968.
3 Michel Vovelle, Piete baroque et déchristianisation. Paris, 1973; Pierre Chaunu et al., eds, La Mort a Paris. Paris, 1978.
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ...
289
правления, безусловно, являлось отсутствие ясных методов для изучения политики, которая вследствие этого отодвигалась в маргинальность исторических исследований, и таким образом, за исключением весьма немногочисленных работ, избегала проблем современного мира.
Германия: от историзма к критической социальной истории
Попытки сделать из истории социальную науку в Соединенных Штатах и Франции после 1945 года преобладали и в германских исторических исследованиях. Но переход здесь был более резким, поскольку немецкие историки, являясь приверженцами традиции исторического мышления, согласно которой вершиной германской истории было создание Бисмарком прусско-немецкого национального государства, долгое время сопротивлялись демократизации и препятствовали любым попыткам внедрения методов социальных наук1. Изменения произошли после Второй мировой войны. Первоначально никакого разрыва в исторической профессии после 1945 года не произошло. Либеральные историки, вынужденные эмигрировать после 1933 года, не спешили возвращаться; вернулся только ультра-националист Ханс Ротфелс, который был близок к нацистам, но был вынужден в 1939 году покинуть Германию из-за своей еврейской родословной2. В профессии продолжала преобладать старая гвардия, главой которой являлся Герхард Риттер. Новую направленность историческим исследованиям после 1945 года задали молодые историки, среди которых были Вернер Конзе и Теодор Шидер, воспринявшие в период нацизма рационально ориентированную социальную историю (Volksgeschich- 1ё). В то время как исторический истэблишмент яростно сопротивлялся попыткам внедрить в историографию концепты социальной науки, а Риттер даже тогда решительно открещивался от «Анналов», считая их близкими марксизму и американской социальной истории3, во времена нацизма они, как мы уже отмечали, вполне радушно поддержали сторонников Volksgeschichte, поскольку те разделяли их критику демократических институтов. После 1945 года они рассматривали нацизм не как исключительно немецкий, а как западный феномен, укорененный в современной массовой культуре. Они утверждали, что нацизм пришел в Германии к власти, не потому что Германия до 1933 года была недостаточно демократичной страной, а потому что
1 Georg G. Iggers, The German Conception of History: The National Tradition of Historical Thought from Herder to the Present. Middletown, CT, 1983.
2 Cm.: Jan Eckel, Hans Rothfels: Line intellektuelle Biographie im 20. Jahrhundert. Göttingen, 2005.
3 Gerhard Ritter, 'Scientific History, Contemporary History, and Political Science', History and Theory, 1 (1962), 261-279.
ЮЗак. 1183
290
ГЛАВА 6
она была слишком демократичной1. После 1945 года сторонники Volksgeschichte отреклись от своей приверженности расовой теории или тихо отошли от нее, обратившись от романтических представлений о средневековых аграрных обществах к тому, что представлялось им реалистичным пониманием современного индустриального мира2. Первопроходцы, в особенности Вернер Конзе и Теодор Шидер, отныне стали наставниками нового поколения историков, в том числе Ханса- Ульриха Велера, Ханса Моммзена и Вольфганга Моммзена, приступивших к получению университетского образования уже в послевоенное время. В 1957 году Вернер Конзе основал «Рабочую группу по современной социальной истории», куда вошли многие молодые историки, посвятившие себя изучению современного индустриального общества в Германии. Помимо них, на сцене появилось еще более молодое поколение, пионером которого был Юрген Кокка, учившийся у демократически настроенного Герхарда А. Риттера (1929—), никак не связанного с Герхардом Риттером. Конзе и Шидер всячески избегали изучения немецких источников нацизма, считая их, подобно Герхарду Риттеру и Ротфелсу, порождением самого современного западного общества.
Молодые историки, прошедшие школу Конзе и Шидера, равно как и воспитанники Герхарда А. Риттера, смотрели на вещи уже иначе3. Ключевая проблема, с которой им пришлось столкнуться, был подъем нацизма. И они рассматривали его не как общеевропейский феномен, а как явление, имеющее глубокие корни в немецкой истории. Кроме того, они занимались изучением истории нового времени с точки зрения модернизации, но их видение модернизации отличалось от видения Конзе или Шидера. Помимо прочего, она означала демократизацию. Как заметил Велер, «прогрессивная экономическая модернизация немецкого общества должна была сопровождаться модернизацией социальных отношений и политической сферы. Индустриализация с ее перманентной технологической революцией должна была повлечь за собой развитие общества юридически свободных и политически ответственных граждан, способных к принятию самостоятельных решений», что в случае с Германией очевидно не произошло4. Предполагалось, что модернизация сопровождалась, как это было в Велико¬
1 Gerhard Ritter, Carl Gordefer und der deutsche Widerstand. Stuttgart, 1954; на английском языке: Carl Goerdeler's Struggle Against Tyranny. Freeport, 1970; Hans Rothfels, The German Opposition to Hitler. Chicago, IL, 1948; JamEckel, Hans Roth- fels: Eine intellektuelle Biographie im 20. Jahrhundert. Göttingen, 2005.
2 Cm.: Winfried Schulze, Deutsche Geschichtswissenschaft nach 1945. München, 1989; особенно гл. 16, 'Von der “politischen Volksgeschichte” zur “neuen Sozialgeschichte”,' 281-301.
3 Cm.: Georg Iggers, ed., The Social History of Politics: Critical Perspectives in West German Historical Writing since 1945. Leamington Spa, 1985.
4 Hans-Ulrich Wehler, Das deutsche Kaiserreich. Göttingen, 1973, 17; сокращенная английская версия: The German Empire, 1871-1918. Leamington Spa, 1983.
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ...
291
британии, британских доминионах, Соединенных Штатах и большинстве западноевропейских стран, достижением парламентского правления. Был поставлен вопрос, почему Германия пошла собственным, отличным от Запада, путем (Sonderweg). Ответ на этот вопрос требовал социально-ориентированного подхода, который вел к разрыву с принятым до этого в Германии традиционным нарративом (с его сосредоточенным на политической сфере историзмом) и обращению к аналитической социальной науке. В отличие от старого поколения немецких историков, Велер и историки его поколения провели много времени в Соединенных Штатах и Великобритании и были хорошо знакомы с дискуссиями, идущими в социальной науке в этих странах и, в меньшей степени, во Франции. Привлекали они и немецкие источники социальной мысли: Маркса, не будучи марксистами, Макса Вебера и историков и социологов, уехавших из Германии после 1933 года. Их концепция социальной науки отличалась от того, что делали ведущие представители социальных наук в Америке, более тесной связью социальных исследований с политикой. Они также не соглашались с постулатом, согласно которому научные исследования в области социальных наук должны быть свободны от ценностных суждений, и призывали историю и социологию к определенной ценностной позиции. В этом отношении они находились под сильным влиянием «критической теории» Франкфуртской школы Макса Хорк- хаймера и Теодора Адорно, представители которой при нацистах вынуждены были эмигрировать, но после войны вернулись в Германию. Она настаивали на том, что рациональный подход к изучению человеческой истории включает в себя не только методологические процедуры, но и вопрос о том, в какой степени социальные институты отвечают человеческим потребностям и чувству собственного достоинства. В отличие от представителей американской традиции бихевиористско ориентированных социальных наук, Велер хотел подходить к изучению общества с ясно сформулированными вопросами в отношении социальных изменений. Для него, таким образом, существовала тесная взаимосвязь между социальными науками и социальной практикой.
Для Велера не только история была тесно связана с общественными науками, но и исследования в области социальных наук должны были уделять внимание историческому контексту функционирования общества. Таким образом, он призывал к созданию «исторической социальной науки». Такое понимание исторической науки в значительной степени было обязано Марксу, хотя Велер и другие сторонники так понимаемой исторической социальной науки, например Юрген Кокка, отвергали политические импликации доктрины Маркса. Подобно Марксу, они подходили к изучению социального мира исторически. Им также был свойствен прогрессистский взгляд на развитие истории в смысле движения истории к демократическому и основанному на социальной справедливости политическому и социальному по¬
292
ГЛАВА 6
рядку. И они тоже рассматривали социальное неравенство как движущую силу истории. Им хотелось смотреть на Маркса глазами Макса Вебера, но на самом деле в вопросе взаимосвязи социальной науки и социальной практики они заметно отличались от Вебера. Подобно Веберу, они признавали в теории, хотя не всегда на практике, гораздо большую роль культурных факторов, чем Маркс, но, в отличие от Вебера, от ценностной нейтральности в социально-научном исследовании они перешли к открытой приверженности демократическим ценностям. Они акцентировали, что исторические и социальные исследования - для них они были неотделимы друг от друга - следует начинать с четкой формулировки теоретических проблем в русле «идеальных типов» Макса Вебера, за которой должна следовать эмпирическая верификация.
В конце 1960-х, 1970-е годы количество молодых западногерманских историков, принявших вышеизложенные постулаты и сотрудничающих с социологами, экономистами и политологами, заметно возросло. Они часто упоминаются как «Билефельдская школа», потому что именно там Велер и Кокка основали свободную междисциплинарную ассоциацию исследователей. Ее представители, пытаясь дать объяснение катастрофическому ходу германской истории в первой половине XX века, сосредоточили свое внимание на социальноисторических событиях. Главное объяснение этому виделось им в тех факторах, которые привели к объединению Германии Бисмарком, что воспрепятствовало демократизации Германии и сохранило власть и влияние прежних классов (восточно-прусской земельной аристократии и военщины, сотрудничавшей с возникающим мощным индустриальным сектором), позволявшие им сдерживать растущую силу рабочего класса. Эмпирические исследования посвящались изучению этого вопроса. Фактически эти проблемы уже были подняты в период Веймарской республики одним из учеников Майнеке, Экартом Кером, утверждавшим в своей диссертации 1930 годов, что вовсе не соображения национальной безопасности и внешней политики подвигли Германию к созданию собственного военного флота, который, в конечном счете, привел к противостоянию с Великобританией, а проблемы внутренней политики, целью которой была консолидация позиции господствующих элит1. В 1960-х Велер опубликовал работы Кера как основу для новой критической историографии2. Сходные вопросы, касающиеся политических последствий противоречия между современной экономикой Германии и ее отсталой социальной структурой, были подняты другим историком школы Майнеке Гансом Розенбергом. Позднее он работал в Университете Калифорнии в Беркли и так и
1 Eckart Kehr, Schlachtflottenbau und Parteipotitik, 1894-1901. Berlin, 1930; переиздание 1966.
2 Eckart Kehr, Das Primat der Innenpolitik, essays edited by Hans-Ulrich Wehler. Berlin, 1965.
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ...
293
не вернулся преподавать в Германию, но руководил работой многочисленных и имеющих большое значение семинаров, посещаемых большим количеством молодых историков и служивших своеобразным мостом между социально-критическими подходами в Америке и Германии.
Импульс новой критической истории был дан Фрицем Фишером, принадлежавшим к более старому поколению историков, не являвшихся членом «Билефельдской школы», имевших нацистское прошлое, но пришедших в ходе проводившегося им в 1950-е годы исследования «Военные цели Германии в первой мировой войне»1 к выводу о преимущественной ответственности Германии за развязывание войны в 1914 году. Его метод архивного исследования был традиционен и имел мало общего с методами социальной науки, но его исследование широких условий, в рамках которых принималось решение о вступлении в войну, подтверждало трактовки внешней и милитаристской политики Германии представителей критической школы. Фишер пришел к выводу, что имперское правительство уступило широкому консенсусу экономических интересов разных социальных групп, от деятелей индустриально-аграрной сферы до профсоюзов, которых привлекало расширение политической и экономической гегемонии Германии над большей частью Европы (особенно над Восточной Европой, предвещая таким образом курс, реализованный нацистской Германией во Второй мировой войне), и которые задались целью занять место Великобритании и Франции в качестве крупной колониальной державы. Книга Фишера встретила сильнейшую оппозицию со стороны реакционных историков, прежде всего Герхарда Риттера, но его тезис, даже если и подвергался модификации, был серьезно воспринят большой частью молодых историков.
К середине 1970-х критическая школа имела прочный фундамент не только в Билефельде, но и в других университетах и исследовательских центрах. В 1975 году они основали журнал Geschichte und Gesellschaft («История и общество»), который поднимал методологические проблемы и занимался изучением разных аспектов современной истории. В отличие от большинства работ «Анналов» и научных течений, группировавшихся вокруг британского журнала Past and Present («Прошлое и настоящее»), в центре внимания этого журнала, а также ассоциируемых с «Критической школой» книжных серий находились не средневековый или современный мир, но процессы трансформации современных индустриальных обществ.
Марксистская историография: от ортодоксии к новым направлениям
Период 1945-1968 годов был отмечен как укреплением советской державы, расширившей свой контроль над Восточной Европой, так
1 Fritz Fischer, Der Griff nach der Weltmacht. Düsseldorf, 1961; на английском языке: Germany's War Aims in the First World War. New York, 1967.
294
ГЛАВА 6
и нарастающим кризисом внутри советской системы и особенно ортодоксального марксизма. Смерть Сталина в 1953 году и речь Никиты Хрущева на XX съезде Коммунистической партии СССР в 1956 году послужили началом болезненного, но не доведенного до конца процесса де-сталинизации. В то же время ряд восстаний - в 1953 году в Восточной Германии, в 1956 году в Польше и в этом же году с применением насилия в Венгрии, наконец, в 1968 году в Чехословакии - не только свидетельствовал о недовольстве, но и подвергал сомнению ортодоксальную марксистскую идеологию. Воздействие де-сталинизации остро ощущалось и в таких социалистических странах, как Китай и Вьетнам, а также в среде японских историков-марксистов1.
В Советском Союзе и в находившихся под его контролем странах написание современной политической истории, а также большей части истории нового времени находилось под тотальным контролем партии и государства. Официальная доктрина диалектического и исторического марксизма оставалась в силе, но было и определенное пространство для маневра. Большую степень свободы от догматизированных представлений имели те историки Советского Союза, которые занимались более ранними периодами2. При изучении этих периодов от историков все еще ожидали подтверждения марксистской догмы, но были и такие авторы, которые прорвались через эти границы, внесли существенный вклад в культурную историю и получили международное признание. Одним из них был философ и историк литературы Михаил Бахтин, исследовавший народную культуру Франции эпохи Ренессанса с точки зрения карнавальности и ее гротескных аспектов в своем труде «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса». Примечательно, что этот труд, как и его важные работы по семиотике, не содержали в себе никаких элементов марксизма. Тем не менее, ему позволили писать, хотя в начале 1930-х годов он был отправлен во «внутреннюю ссылку» в Казахстан. Несмотря на неортодоксальный характер его книги о Рабле, когда он представил результаты своей работы в виде диссертации, мнения экспертного совета разделились, в результате чего ему было отказано в докторской степени и присвоена степень кандидата наук. Это не помешало ему позже получить назначение на должность профессора. Другим показательным примером написания немарксистской истории в Советском Союзе является творчество Арона Гуревича. В 1967 году он опубликовал книгу по средневековой Норвегии, в которой акцентировал первичную роль культурных факторов в трактовке феодализма. В результате он был уволен из Института философии РАН в Москве после того, как его книга была признана немарксистской и изъята
1 См. главу 7, 317-320.
2 Yuri Bessmertny, 'August 1991 as Seen by a Moscow Historian, or the Fate of Medieval Studies in the Soviet Era', American Historical Review, 97:2. June 1992, 803-816.
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ...
295
из обращения, хотя, к счастью, это случилось уже после того, как она была переведена на норвежский язык. Его перевели на более низкую должность в Институт всеобщей истории, где ему позволено было писать, но не преподавать. В 1972 году ему удалось опубликовать работу «Категории средневековой культуры»1 2 3 *, своим вниманием к исследованию структур и феномена менталитета приближающуюся к позиции «Анналов», которые фактические в этом же году опубликовали одну из его фундаментальных статей“. Его последующие исследования были посвящены изучению народной культуры Средневековья^
Хотя этот отход от марксистской ортодоксальности в советской историографии все еще носил ограниченный характер, в Польше и Венгрии его роль вскоре стала значительной. Были восстановлены тесные связи, существовавшие до войны между исследователями в области социально-экономической истории в Польше и «Анналами», и в атмосфере нарастающей открытости эти контакты стали очень плотными. Шестая секция спонсировала исследования польских студентов и ученых. Некоторые историки активно публиковались в «Анналах», в особенности Витольд Кула, Ежи Топольски и Анджей Вы- чански. Работа Кулы «Экономическая теория феодального строя» практически с^эазу была переведена на французский язык с предисловием Броделя*, а основные труды Школы «Анналов» - на польский. Подобно Броделю, Кула обладал глобальной перспективой. В своей работе «Человек и система мер»5 Кула исследовал символическое значение системы мер и весов на протяжении всей западной истории. Топольски в своем издаваемом на английском языке журнале «Познаньские исследования в общественных и гуманитарных науках» попытался завязать диалог между марксистами и не-марксистами по проблемам теории и методологии. В Венгрии ученые в области социально-экономической истории, в том числе Иван Беренд и Дьёрдь Ранки, установили тесные контакты с западными социологами, в том числе в Соединенных Штатах.
1 А. Я. Гуревич. Категории средневековой культуры. М., 1972.
2 Gurevich Aron. 'Representations et attitudes a l'egard de la propriété pendant le Haut Moyen Age', Annales. E.S.C., 27 (1972), 523-548; и позднее его: The Origins of European Individualism, trans. Katharine Judelson. Oxford, 1995. (А. Я. Гуревич. Индивид и социум на средневековом Западе. М., 2005). К тому времени им уже была опубликована 'Wealth and Gift Bestowal among the Ancient Scandinavians', Scandi- navica, 7:2 (1968). (А. Я. Гуревич. Богатство и дарение у древних скандинавов // А. Я. Гуревич. Избранные труды. Норвежское общество. М., 2009.)
3 Gurevich Aron. Medieval Popular Culture: Problems of Belief and Perception. New York, 1988; {Гуревич А.Я. Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981); Historical Anthropology of the Middle Ages. Chicago, IL, 1992.
*Theorie economique du système féodal, pour un modèle polonaise, 16e-18e siecle; preface by Fernand Braudel. Paris, 1970; Witold Kula, Economie Theory of the Feudal System. London, 1976.
5 Witold Kula, Miary y Ludzie. Warsaw, 1970.
296
ГЛАВА 6
Даже в Восточной Германии, где научные исследования все еще находились под жестким контролем, ситуация стала изменяться, хотя и несколько позже. В 1980 году Юрген Кучински, ведущий восточно- германский ученый-экономист и последовательный марксист, приступил к созданию шеститомной серии о повседневной жизни немцев1. Под влиянием интереса к «истории повседневности» {Alltagsge- хсЫсЫе), возникшего в Западной Германии и Школе «Анналов», во введении к своей серии он высказывает сожаление о том, что марксисты слишком часто писали историю сверху, не уделяя достаточного внимания жизненному опыту простых людей, тому, «что они ели, их одежде, жилищам, повседневному сознанию, тому, как они работали, когда они отдыхали и спали, чем болели, с людьми какого круга вступали в брак, как передвигались с места на место»2.
В то время как на Востоке наблюдался постепенный отход от ортодоксального марксизма, в Западной Европе, и особенно во Франции и, как будет показано ниже, в Италии, и, что достаточно любопытно, в Великобритании, наблюдался парадокс: с одной стороны, присутствовало ясное понимание того, что коммунизм как политическая система потерпел неудачу, а марксизм как философия исчерпал свой кредит доверия; с другой стороны, существовало убеждение, что марксизм поднял важные вопросы, касающиеся исследований по социальной истории. Марксизм не рассматривался больше как философия истории, а, как заметил Деннис Дворкин, «скорее, как руководство по историческому исследованию, чем как нечто, замещающее его. Традиция марксизма, - продолжал он, - оказала огромное влияние на исто- риописание в двадцатом веке и стала частью основного потока развития западной исторической мысли»3.
Во Франции марксистская трактовка Французской революции как «буржуазной» оставалась общепринятой начиная с исследований Джорджа Лефевра в 1920-е годы и оставалась таковой до тех пор, пока в 1960-е историки не бросили ей вызов, подвергнув сомнению тезис о капиталистическом характере буржуазии и высказав мнение о более тесной взаимосвязи буржуазии и земельной аристократии, чем принято считать в марксизме4. Классовый состав осуществлявшей революцию элиты на самом деле был более сложен, и его марксистский анализ, по существу, был анахронизмом. Новые черты были
1 Jürgen Kuczynski, Geschichte des Alltags des Deutschen Volkes (1600-1945), 6 vols. East Berli, 1980-1982). О новой культурной истории в Восточной Германии в 1980-е см.: Georg G. Iggers, Marxist Historiography in Transformation. Providence, RI, 1991.
2 Ibid., 38.
3 Dennis Dworkin, 'Marxism and Historiography', in Woolf, Global Encyclopedia of Historical Writing, 599.
4 Cm.: Alfred Cobban, The Social Interpretation of the French Revolution. New York, 1964.
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ...
297
подмечены такими британскими историками, как Георг Руде1 и Ричард Кобб2, перенесшими центр своего внимания с анонимных массовых движений к внимательному анализу полицейских отчетов об отдельных личностях, вовлеченных в такие события как штурм Бастилии.
И все-таки наиболее новаторская перестройка марксизма была осуществлена сразу после войны группой молодых британских историков, входивших в Группу историков Коммунистической партии (Британии), в том числе Морисом X. Доббом, Кристофером Хиллом, Джорджем Рюде, Эдвардом П. Томпсоном, Дороти Томпсон и Эриком Хобсбаумом. Вместе с такими немарксистскими историками, как Лоуренс Стоун, в 1952 году они основали журнал Past and Present, вплоть до сегодняшнего дня являющийся ведущим британским журналом по социальной истории. Поразительно, что, как и в «Анналах», основное внимание этих историков было сосредоточено на ранних периодах истории и периоде раннего нового времени, т.е. в их случае на переходе от феодализма к капитализму3. Одним из самых больших достоинств журнала стало то, что на его страницах стал возможен диалог между марксистскими и немарксистскими историками. Обращаясь к современности, Эрик Хобсбаум написал обширную многотомную историю от Французской и Индустриальной революций (которые он объединил в «двойную» революцию) до коллапса Советского Союза4.
Раскрытие сталинских преступлений и подавление венгерского восстания 1956 года привели к выходу из партии практически всех британских членов Группы историков Коммунистической партии и роспуску группы. Однако все они продолжали придерживаться марксистской трактовки истории. Марксизм принял новые формы. Самым важным поворотным моментом в этом новом марксистском подходе к изучению истории бесспорно стала книга Эдварда П. Томпсона «Формирование английского рабочего класса». Продолжая работать с понятием «классовый конфликт» и рассматривая формирование рабочего класса под влиянием изменения средств производства, в данном случае в ходе Индустриальной революции, исследование Томпсона находилось в русле марксистской историографической традиции. В то
1 George Rude, Paris and London in the Eighteenth Century: Studies in Popular Protest. London, 1970; The Crowd in the French Revolution. Oxford, 1959; with Eric Hobsbawm, Captain Swing. London, 1993.
2 Richard Cobb, The Police and the People: French Popular Protest 1789-1820. Oxford, 1970.
3 Cm.: Maurice Dobb, Studies in the Development of Capitalism. London, 1946.
4 Eric Hobsbawm, The Age of Revolution, 1789-1848. Cleveland, 1962; The Age of Capital. London, 1975; The Age of Empire, 1875-1914. New York, 1987; The Age of Extremes: A History of the World 1914-1991. New York, 1994 (рус. пер.: Э. Хобсбаум. Век Революций 1789-1848. Ростов н/Дону, 1999). Он же. Век капитала, 1948- 1845. Ростов н/Дону, 1999; Он же. Век империи, 1875-1914. Ростов н/Дону, 1999; Он же. Эпоха крайностей. Короткий двадцатый век. 1914—1991. М., 2004.)
298
ГЛАВА 6
же время Томпсон, как отныне и другие марксисты, подчеркивал необходимость пересмотра трудов Маркса в условиях меняющегося мира. Самым важным, однако, было его рассмотрение класса в терминах культуры. Английский рабочий класс не был только продуктом Индустриальной революции, а вступил в нее с уже укоренными в культуре традициями и соответственно, являясь его активным действующим лицом, изменил тот индустриальный мир, в который он вступил - отсюда выбор термина «формирование» в названии книги. Более того, для него рабочий класс не был абстрактным объектом, как в Коммунистическом манифесте Маркса и Энгельса, а состоял из англичан, призванных быть понятыми в рамках английской истории и того, что Томпсон назвал «английской спецификой»1.
Этот акцент на культуре и человеческом факторе сильно повлиял на социальную историю «Новых левых» не только в Великобритании, но и в Соединенных Штатах. В частности, в работе Герберта Гутмана «Труд, культура и общество в индустриальной Америке» была предпринята попытка выйти за пределы большей части традиционной истории рабочего класса, делавшей акцент на профсоюзах и пренебрегавшей самими рабочими и их разнообразными субкультурами. В Соединенных Штатах в русле «культурного» марксизма были проведены два важных исследования: работа Герберта Гутмана «Черные американцы в условиях рабства и свободы» и Юджина Дженовиза «Неси свои воды, Иордан, неси: мир, созданный рабами», причем в последнем ощущается сильное влияние понятия гегемонии, в трактовке Г рамши.
Довольно скоро были осознаны пределы предложенной Томпсоном формы культурного марксизма. Он продолжал использовать понятие «класс», не обращая достаточного внимания на этническое разнообразие и чрезвычайно сложный состав рабочего класса. Критиковали Томпсона и за его невнимание к роли женщин, в результате чего его рабочий класс состоял в основном из мужчин2. Однако ядро томпсоновского марксизма оставалось неизменным, а именно его основной акцент на социальном конфликте, критика капиталистического общества и преданность истории борьбе за более справедливый мир. Через труды историков, которые постепенно перестали называть себя марксистами, эти идеи впоследствии оказали определенное влияние на социальную историю «Новых левых» в Великобритании и США.
1 E. P. Thompson, 'Peculiarities ofthe English'//The Poverty of Theory. London, 1978.
2 Joan Wallach Scott, 'Women in The Making of the English Working Class' // Gender and the Politics of History. New York, 1988, 68-90.
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ...
299
1970-1980-е: культурный поворот и постмодернизм
От социальной истории к культурному повороту
В 1966 году Эммануэль Ле Руа Ладюри, ученик Броделя, вскоре сменивший его на посту директора Высшей школы исследований по социальным наукам, опубликовал двухтомную диссертацию о крестьянах Лангедока1, региона на юге Франции, с начала XIV века (кануна Черной смерти) до того момента, который он считает аграрной революцией XVIII века. На следующий год он выпустил меньшую по объему диссертацию по истории климата начиная с 1000 г.2 Обе работы отразили тезис Броделя: главная задача исторического сочинения заключается не в том, чтобы рассказывать о действиях людей, а в том, чтобы осуществлять реконструкцию долговременных структур, в которых протекает история, и свойственных этим структурам регулярных циклов, взлетов и падений {conjonctures). Однако, пытаясь превратить историю в строгую эмпирическую науку по образцу естественных наук, Ле Руа Ладюри в «Крестьянах Лангедока» пошел дальше Броделя. Ядром такой науки были не претенциозные объяснения реальности, а постановка конкретных теоретических вопросов по поводу предмета исследования. При этом Ле Руа Ладюри исходил из мальтузианского тезиса о тесной взаимосвязи сельскохозяйственного производства, народонаселения и доступности продуктов питания - факторов, которые он считал значимыми в исследуемый период, когда производство сельскохозяйственной продукции оставалось неизменным вплоть до появления в XVIII веке сельскохозяйственных новшеств. Используя статистические данные о народонаселении, ценах на землю, продукты питания и доходах, он проследил независимые от человека циклы относительного благополучия, за которыми следовали рост населения и логически вытекающий из него продовольственный дефицит. Если первый том был посвящен анализу развития в исследуемый период, то второй имел дело со статистическим материалом, обеспечивая первый том необходимой документальной базой. В отдельно написанной истории климата он использовал данные древесных колец, чтобы увязать производство продуктов питания с надежными естественными факторами. Вскоре после этого Ле Ру Ладюри
1 Emmanuel Le Roy Ladurie, Les Paysans du Languedoc. Paris. 1966; на английском языке: The Peasants of Languedoc. Urbana, IL, 1976.
2 Emmanuel Le Roy Ladurie, Histoire du climat. Paris, 1967; на английском языке: Times of Feast, Times of Famine. New York, 1971.
300
ГЛАВА 6
довольно категорично заявил о том, что не может быть никакой «научной» истории без опоры на количественные измерения1 2.
Вместе с тем мальтузианский анализ, сосредоточенный на анонимных, безличных силах, дополнялся в «Крестьянах Лангедока» изучением трансляции созданных этими силами условий в установки общественного сознания, отражающих зависимость крестьянства и выливающихся в социальный конфликт. Больше всего впечатляет приведенное на пяти страницах описание беспорядков, случившихся в прованском городке Романс во время карнавала 1580 года, впоследствии расширенное им до отдельной книги. Здесь Ле Руа Ладюри движется совсем в другом направлении, рассказывая историю реальных людей, показывая конфликт между управляющей городом и гугенотской по своему характеру буржуазно-купеческой элитой и бедным городским населением католического вероисповедания, постоянно увеличивающимся за счет притока крестьянства из окружающих деревень. Конфликт нашел свою развязку не в публичных политико-экономических проблемах, но символическим образом в карнавале, во время которого каждая сторона изображала зверей, стремившихся уничтожить таковых из другой стороны. Не экономика, а психоанализ сумел найти ключ к пониманию этой баталии, закончившейся избиением переодетой в маскарадные костюмы бедноты.
В 1970-е и особенно в 1980-е годы представление об истории как строгой социальной науке разделялось многими историками прежде всего (но не только) в Соединенных Штатах. Британский историк Джеффри Бараклоу в выполненном в 1979 году для ЮНЕСКО обзоре историографических тенденций заметил, что «разработка количественных методов вне всякого сомнения является наиболее мощной из новых тенденций в исторической науке, фактор, который прежде всех других отличает историю в 1970-е от истории в 1930-е»3. Мы уже отмечали, что Роберт Фогель и Стэнли Энгерман в своей основанной на количественных исследованиях работе о рабстве «Время на кресте»4, о рентабельности рабовладельческой экономики и условиях жизни рабов, хотели положить конец расхожим историческим интерпретациям и поставить историю на объективную научную основу. На короткое время книга была признана значительным достижением, но вскоре подвергнута многочисленной критике со стороны занимавшихся количественными исследованиями историков за ошибки в данных, но более основательно - за невнимание при изучении рабства или соци¬
1 Emmanuel Le Roy Ladurie, The Territory of the Historian, tr. Ben and Sian Reynolds. Chicago, IL, 1979, 15.
2 Emmanuel Le Roy Ladurie, Carnival in Romans, tr. Mary Feeney. New York, 1980.
3 Geoffrey Barraclough, Main Trends in History. New York, 1979, 89.
4 New York, 1974.
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ...
301
альных условий в целом к качественным параметрам1. Это не помешало Фогелю получить назначение на хорошо оплачиваемую должность в Гарвардском университете и в 1994 г., вместе с Дугласом Нортом, быть удостоенным Нобелевской премии по экономике. В полемике с традиционно настроенным британским историком Джеффри Элтоном Фогель поднял вопрос о том, в каком направлении будет и должна двигаться история - по пути ранкеанской школы с ее уверенностью в критической верификации документальных источников или в направлении превращения в строгую социальную науку, отстаиваемую Фогелем. Оба ученых проводили четкую демаркационную линию между историей и литературой, между ученым-гуманитарием или естественником и любителем. Фогель считал, что история должна воспринять методы строгих наук, которым требуются специалисты и технический язык, понятный специально обученному специалисту, а не широко образованной читающей публике2.
К началу 1970-х годов значительное количество исторических трудов, в том числе работы Ле Руа Ладюри, отошли от социально ориентированных исследовательских моделей 1960-х, за которые все еще цеплялся Фогель. В 1975 году, всего лишь девять лет спустя после «Крестьян Лангедока», Ле Руа Ладюри опубликовал «Монтайю: окситанскую деревню»3. Это был совсем другой вид истории - не крупномасштабной, охватывающей регион, такой как Прованс, на протяжении нескольких столетий, а одну очень маленькую изолированную деревню в 200 душ населением - истории, в центре которой находились отдельные люди и семьи. Источниками этой работы стали не четкие количественные данные, а зафиксированные в отчетах Инквизиции свидетельские показания деревенских жителей. Поводом для инквизиционных слушаний была попытка католической церкви подавить ересь катаров, имевшую сильные позиции в этой деревне. Вводные главы книги в манере «Анналов» посвящены географическим, экономическим и социальным условиям, большой семье {domus), в составе которой проживали жители деревни. Но после этого введения мы сталкиваемся с отдельными людьми, мужчинами и женщинами, и через их показания узнаем об их жизненном опыте, их взглядах на жизнь, сексуальных отношениях и практиках, их суевериях и представлениях о смерти; одним словом, это история с позиции повседневной жизни. Книга была преднамеренно написана для широкой
1 См.: Herbert Gutman, Slavery and the Numbers Game: A Critique of Time on the Cross. Urbana, IL, 1975.
2 Robert Foeel and Geoffrey Elton, Which Road to the Past? Two Views of History. New York, 1983.
3 Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou: Cathars and Catholics in a French Village 1294-1314. New York, 1978. (рус. пер.: Ле Руа Ладюри Э. Монтайю, окситанская деревня (1294-1324). Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2001.
302
ГЛАВА 6
публики и стала бестселлером, разошедшись во Франции более чем полумиллионым тиражом.
Можно упомянуть две другие книги, отражающие новую ориентацию в историописании: Карло Гинзбурга «Сыр и черви: картина мира одного мельника, жившего в XVI в.» и Натали Дэвис «Возвращение Мартина Герра»1 2. Подобно Ле Руа Ладюри в «Монтайю», оба избегают реконструкции больших безличных исторических процессов, вместо этого сосредотачивая свое внимание на жизненном опыте людей скромного социального происхождения, живущих в навязанных им социальных условиях и активно реагирующих на окружающую их среду. Центральной фигурой книги «Сыр и черви» является мельник Доминико Сканделла, прозванный Менокио. Рожденный в 1532 году в деревне в области Фриули, находящейся под властью Венеции, и обладающий живым воображением, он создает картину мира, не согласующуюся с католической ортодоксальностью, что приводит его к двум судам Инквизиции и сожжению на костре. Источники Гинзбурга - свидетельские показания на судах. Он очерчивает контуры двух культур: культуры образованной элиты того времени и культуры крестьянства и их взаимодействие через видение Менокио. Менокио необычно хорошо начитан, он освоил много философской и научной классики, но, принадлежа к миру крестьян, трактует ее в понятиях этого мира. Ключевая проблема Гинзбурга - взаимодействие элитарной и народной культур. И все же встает проблема того, до какой степени в свидетельских показаниях Менокио он прочитывает свои собственные романтические представления о крестьянской культуре. Он высказывает предположение о наличии в Средиземноморье древней крестьянской культуры, от которой Менокио унаследовал житейское понимание религии, - предположение Гинзбурга, не подкрепленное источниками, - и считает казнь Менокио результатом не столько его еретических взглядов, сколько желанием модернизирующегося капиталистического мира Венеции вырвать с корнем ту архаическую крестьянскую культуру, воплощением которой и является Менокио. Книга читается не столько как громоздкий академический трактат, сколько как занимательный литературный труд, как она и была воспринята.
То же самое касается «Возвращения Мартина Герра» Натали Зе- мон-Дэвис. Книга читается, как роман, и в качестве такового она и была задумана, но одновременно является вкладом в социальную историю южно-французской деревни в период Реформации. Главная героиня книги - крестьянка Бертранда де Роле, брошенная своим мужем Мартином Герром, поступившим с ней очень жестоко. На протя¬
1 Карло Гинзбург, Сыр и черви: картина мира одного мельника, жившего в XVI в. М., 2000.
2 Natalie Zemon Davis, The Return of Martin Guerre. Cambridge, MA, 1983, 5 (рус. пер.: Я Земон Дэвис. Возвращение Мартина Герра. М., 1990.
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ...
303
жении многих лет она ведет целомудренный образ жизни, пока в деревне не появляется человек, назвавшийся Мартином Герром и принятый в качестве такового ею и большинством жителей деревни. Возникает любовь. Дэвис вполне допускает, что Бертранда знала о том, что самозванец не является ее мужем, но она и предполагаемый Мартин Герр «придумали» их брак и жили счастливо до тех пор, пока не возвратился настоящий Мартин Герр. Поведение Бертранды она трактует как стратегию поведения женщины в мире, где господствуют мужчины. Одновременно с этим Дэвис таким образом реконструирует отношения между селянами, что фактически это превращается в иллюстрацию деревенской жизни в этом уголке Франции в данное время. И опять эта книга, точно также как «Сыр и черви» и «Монтайю», была прочитана большим количеством людей на многих языках, и по ней был снят фильм. Однако вскоре был поставлен вопрос о том, является ли книга серьезной работой по истории или, скорее, занимательной, но анахроничной историей, в которой Дэвис спроецировала феминистские представления женщины среднего класса конца XX века на поведение крестьянки XVI века1. Дэвис не выдумала свою историю с потолка, она основывалась на воспоминаниях судьи, который был председателем на суде, закончившемся осуждением и казнью самозванца. Однако ее критик из журнала American Historical Review заявил, что она слишком далеко ушла от фактов. Дэвис призналась, что для реконструкции крестьянского мира, в котором жила Бертранда де Роле, она привлекала свое воображение. Однако автор настаивала на том, что везде, где испытывала недостаток в источниках, она могла привлекать сохранившиеся свидетельства из других деревень. Она согласилась, что воображение и «вымысел» занимают важное место в ее реконструкции деревни и мотивациях Бертранды де Роле, но настаивала на неизбежности «вымысла» при восстановлении реального прошлого, и он не является произвольным конструктом историка, а осторожно следует за проговаривающимися через источники «голосами» прошлого2. В ее защиту можно отметить, что Ранке также открыто признавал роль направляемого источниками воображения при реконструкции мыслительных процессов его исторических акторов.
В духе этого в 1979 году в опубликованной в Past and Present3 статье «Возрождение нарратива» Лоуренс Стоун заявил, возможно, преждевременно, о смерти социально-научной парадигмы. Он указал
1 Robert Finlay, 'The Refashioning of Martin Guerre', American Historical Review, 93:3. June 1988, 553-571; Ответ Натали Дэвис: 'On the Lame', ibid., 572-603.
2 Natalie Zemon Davis, The Return of Martin Guerre. Cambridge, MA, 1983, 5 (рус. изд.: H. Земон Дэвис. Возвращение Мартина Герра. М., 1990).
3 Lawrence Stone, 'The Revival of Narrative: Reflections on a New Old History', Past and Present, 85. November, 1979, 3-24.
304
ГЛАВА 6
на то, что центральная для социальной истории вера в возможность «логически последовательного научного объяснения изменения прошлого» отныне повсеместно отрицается. Вместо этого историки все больше обращаются к таким аспектам человеческой жизни, которыми ранее пренебрегали. Распространилось убеждение, что «культура определенной группы и даже воля отдельного индивида, по крайней мере, потенциально, являются такими же важными факторами изменения, как безличные силы материального производства и демографического роста»1. Этот интерес к конкретным людям как историческим акторам возвестил о возвращении нарративной истории. Но эти новые истории очень заметно отличались от прежних нарративов. Если те были сосредоточены на политике и политических деятелях, то новые нарративы имели дело с обычными людьми, а временами - как мы видели в книге «Сыр и черви» - с такими людьми, которые, как Ме- нокио, очень сильно отличались от заурядных.
В исторических исследованиях произошел сдвиг от анализа институтов к изучению культуры, часто описываемый как «культурный поворот»2, который, однако, имел разную направленность. Культура отныне понималась в антропологическом ключе как поведение людей в обществе. Было много социальных историй культуры как марксистской, так и немарксистской направленности, восходящих к XIX веку, но теперь на смену этим социальным историям культуры пришла культурная история социального3. Зачастую, хотя не обязательно, это означало отход от политической истории. Так, важная роль в анализе причин Французской революции отводилась культуре. Как мы уже видели, марксистская интерпретация этой революции как буржуазной, господствовавшая во французской историографии начиная с появившихся в 1920-е годы работ Альбера Матьеза и Жоржа Лефевра, в 1950-е годы была поставлена под сомнение Альфредом Коббаном4, хотя все еще с позиций экономики. Франсуа Фюре, в юности состоявший в Коммунистической партии, позже сыграл ключевую роль в отказе как от марксистских, так и немарксистских экономических интерпретаций Французской революции. В 1971 году в яростной атаке в «Анналах» он выступил с резкой критикой догматизма Альбера Собуля, самого яркого сторонника изучения революции с позиций марксистского классового анализа, и подчеркнул роль идеологии в качестве причинного фактора, выходящего за рамки классовых раз-
1 Ibid., 9-19.
2 См.: Peter Burke, What is Cultural History? Cambridge, 2004.
3 Замечания Роже Шартье (1945-) по этому поводу стали рефреном тому, о чем говорил Бёрк: ibid., 74.
4 Alfred Cobban, The Social Interpretation of the French Revolution. Cambridge, 1965; см. также его: Historians and the Causes of the French Revolution. London, 1957.
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ...
305
линий1. Поразительно, как Фюре, бывший в конце 1960-х годов, подобно Ле Руа Ладюри, ярым защитником количественных методов, в ряде книг, изданных в 1970-е годы, обратился от количественных исследований к роли политики, идей и культуры, не поддающихся количественному анализу2. В трудах Мориса Агулона3 и Моны Озуф4 экономико-социологические категории уступили свое первенство изучению символических форм революционного и республиканского наследия. В этом повороте к культурному анализу Французской революции важное значение имеет книга Линн Хант «Политика, культура и класс во Французской революции». Во введении она поясняет, что изначально задумывала эту работу как социальную историю Французской революции, которая, однако, «постепенно вылилась в культурный анализ, в котором политические структуры... присутствовали, но всего лишь в качестве одной из составляющих этой истории»5 6.
Микро-история, история повседневности и историческая антропология
Помимо прочего, поворот к культуре перенес центр внимания на микро-историю, отойдя от крупномасштабных структур и событий, которыми до этого занимались социальные историки, марксисты и многие историки Школы «Анналов». В Италии влиятельная группа историков собралась вокруг журнала Quaderni , сторонники
микро-истории (тгсгоБ^па) в противовес макро-историческим подходам, до этого превалирующим в большинстве работ по социальной истории. Почти все итальянские микро-историки, включая Карло Гинзбурга, Джованни Леви и Эдуардо Гренди, начинавших как марксисты и даже некоторое время бывших членами Итальянской коммунистической партии, отныне дистанцировали себя от «оптимистичной веры в быстрое и радикальное революционное изменение мира» .
1 Francois Furet, 'Le Catéchisme révolutionnaire', Annates: Economies. Sociitis. Civilisations, 26 (1971), 255-289.
2 Francois Furet, Interpreting the French Revolution; на английском языке: Cambridge, 1981; см. также работу, изданную под ред. Моны Озуф: The Transformation of Political Culture, 3 vols. Oxford, 1989.
3 Maurice Agulhon, La Republique au village. Paris, 1970; о политическом символизме см. его работу: Marianne au combat. Paris, 1979; на английском языке: Marianne into Battle: Republican Imagery and Symbolism in France 1789-1880. Cambridge, 1981.
v Mona Ozouf, La Fete révolutionnaire 1789-1799. Paris, 1976; на английском языке: Festivals and the French Revolution. Cambridge, MA, 1988.
5 Berkeley, CA, 1984, xi.
* Quaderni Storici (umcui.) - «Исторический журнал».
6 Giovanni Levi, 'On Microhistory', in Peter Burke, ed., New Perspectives on Historical Writing. University Park, PA, 1992, 93.
306
ГЛАВА 6
Частью этого отказа от марксистской философии истории, в более широкой перспективе, стало повсеместное отрицание широко распространенного в западной исторической мысли представления о мировой истории, достигающей своей кульминации на современном Западе, как единственном настоящем центре цивилизации. От марксизма оставался лишь акцент на эксплуататорском характере этой современной капиталистической цивилизации. Частью этой цивилизации являлась и специфическая концепция научной логики, заставлявшая таких непохожих друг на друга интеллектуалов, как Мартин Хайдеггер, Ролан Барт, Поль Фейерабенд и Ашиш Нанди, предположить отсутствие различия между истиной и фикцией. Итальянские историки не шли так далеко. Леви подчеркивал «важность опровержения релятивизма, иррационализма и сведения работы историка к чисто риторической деятельности, заключающейся в интерпретации текстов, а не самих событий»1. Гинзбург занимал сходную позицию. В то время как социальные историки стремились к генерализациям, представляющим собой каузальные объяснения, микро-историки занимались изучением того, как эти генерализации работают на микро-уровне. В своем исследовании итальянской деревни раннего нового времени Леви показал, что передача земельной собственности не следовала механически классическим законам рынка, а находилась под влиянием внеэкономических факторов: моральных, религиозных и сугубо личностных, т.е. всего того, что Пьер Бурдьё назвал бы «символическим капиталом». Как и Мишель Фуко, он подчеркивал роль власти, понимая ее не столько в экономическом или политическом ключе, сколько как нечто, свойственное взаимодействиям людей, зачастую на самом низовом уровне. И в работе Карло Гинзбурга «Сыр и черви», и в исследовании Леви того, как деревня воспринимала и реагировала на эк- зорциста, в центре внимания находился отдельный человек, но человек, глубоко укоренный в социально-политических структурах, превышающих местный уровень2.
Гораздо более интенсивным, по сравнению с предшествующими периодами, стал обмен мнениями между практикующими новые подходы историками разных западных стран, в том числе стран Восточной Европы. В Германии аналогом Microstoria была Alltagsgeschichte (история повседневной жизни), хотя были между ними и отличия. Ее сторонники разделяли с микро-историками критику устоявшихся социально-научных подходов; в Германии она была представлена социальной историей, центрами которой были университет в Билефильде и журнал Geschichte und Gesellschaft («История и общество»). Alltagsgeschichte не обладала сильной институциональной базой Биле-
1 Ibid., 95.
2 Giovanni Levi, Inheriting Power: The Story of an Exorcist, tr. Lydia Cochrane. Chicago, IL, 1985.
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ...
307
фельдской школы, но ее наиболее значительные сторонники были связаны с Институтом Макса Планка в Гёттингене. В 1980 году состоялся живой обмен мнениями между адептами этих двух направлений. Сторонники Alltagsgeschichte критиковали социальную историю по тем же позициям, что и сторонники МкгояШпа: за ее безличный характер, чрезмерную абстрактность и почти полное отсутствие интереса к жизни и опыту простых людей. Но и историки Билефельдской школы, и те, которые практиковали Alltagsgeschichte, были уверены в особой освободительной функции исторических исследований. Для билефельдских историков и ассоциируемых с ними представителей разных общественных наук это означало курс на социальнодемократические реформы в индустриальном обществе, в то время как для приверженцев Alltagsgeschichte этот курс лежал еще левее - в сторону расширения общественного контроля на местах и решение экологических проблем. Ханс Медик из Института Макса Планка в своей критике социальных подходов пошел еще дальше, чем Джованни Леви в Италии, в сторону исторической антропологии, соглашаясь с Клиффордом Гирцем в том, что изучение культуры предполагает не только каузальные объяснения, но и интерпретацию значений. Поддерживая Макса Вебера в том, что «человек - это животное, запутавшееся в сплетенной им самим паутине смыслов», Гирц тем не менее абсолютно не понял очерченных Максом Вебером методологических правил изучения культуры. Если Вебер был сторонником строгих рациональных процедур, при которых исследование направляется четко сформулированными теоретическими вопросами, Гирц призывал к «насыщенному описанию», прямому антропологическому столкновению с феноменами культуры как с «другими», позволяя культуре говорить непосредственно, подобно «тексту», значение которого необходимо «эксплицировать», а не «объяснить»1.
В важном теоретическом эссе Медик принял идею «насыщенного описания» Гирца. Его подход был раскритикован сторонниками социальной истории за недостаток хоть каких-то четко сформулированных методов исследования. В ответ Медик утверждал, что приближение к предмету исследования с теоретико-направляемыми вопросами искажает рассматриваемые образы и не позволяет им говорить с нами своим языком2. На практике Медик и сторонники Alltagsgeschichte подошли намного ближе к социальным наукам, чем кажется на первый
1 Clifford Geertz, Thick Description: Toward an Interpretative Theory of Culture', в его: The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York. 1973, 3-30 (pyc. пер.: К. Гирц. Насыщенное описание: в поисках интерпретативной теории культуры Антология исследований культуры. Т. 1: Интерпретации культуры. СПб.: Университетская книга, 1997.
2 Hans Medick, 'Missionaries in the Row Boat', Comparative Studies in Society and History, 29. 1987, 76-98.
308
ГЛАВА 6
взгляд, а защитники социальной истории расширили свое исследование общества за счет включения в него культурных аспектов. Медик предпринял обширное исследование ткачей в небольшой швабской деревушке в ХУН-Х1Х вв.1; для этого он использовал письменные свидетельства, но при этом обработал на компьютерах огромное количество данных, в частности описи собственности при вступлении в брак и после смерти, а также демографические данные, судебные разбирательства и сведения об уровнях грамотности. Описи имущества содержали информацию о владении книгами, что послужило индикатором того, какое место занимало в жизни людей чтение. В итоге была написана широкая социальная и культурная история маленькой общности. Хотя в теории Медик, подобно итальянским микроисторикам, отошел от макро-исторических концепций исторического процесса, он, как Гинзбург и Леви, осознавал значение модернизации, т.е. в своем случае - воздействие индустриализации на трансформацию прежнего порядка исследуемой им деревни.
Устная история и история памяти
Значительное количество микро-исторических исследований было посвящено до-современному и до-индустриальному периодам. Но все больше и больше появлялось истории повседневности, касающейся недавних событий: в Германии - связанных с нацистским режимом, в России (после того как, начиная с 1988 года, т.е. с последних лет перестройки, такие исследования стали возможны) - с временами Сталина2, у огромного количества историков в Соединенных Штатах, Германии и в других странах - с Холокостом. Важную роль в этих исследованиях в области устной истории играли интервью с оставшимися в живых. Устная история не была чем-то новым. Еще в 1930-е годы в Соединенных Штатах были проведены интервью с выжившими на тот момент бывшими рабами. В Германии Лутц Ниетхаммер и его команда опросили жителей промышленной Рурской области в Западной Германии о пережитых ими годах нацизма и воспоминаниях о них3, а накануне коллапса восточногерманского режима было получено разрешение опросить оставшихся в живых и там. Естественно, был поставлен вопрос о том, насколько этим воспоминаниям можно
1 Hans Medick, Weben und Überleben in Laichingen 1650-1900. Lokalgeschichte als Allgemeine Geschichte. Götttingen, 1996.
2 В 1988 году, в один из последних лет существования Советского Союза, Андрей Сахаров создал организацию по правам человека «Мемориал» и начал брать интервью у жертв сталинизма.
? Lutz Niethammer, 'Die Jahre weiss man nicht, wo man die heute hinsetzen soil,' Faschismus-Erfahrungen im Ruhrgebiet. Lebensgeschichte und Sozialkultur im Ruhrgebiet 1930 bis 1960. Berlin, 1983.
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ...
309
доверять при создании достоверного представления о каком-то историческим периоде. Тем не менее эти субъективные воспоминания внесли свой вклад в реконструкцию этого периода прошлого.
В связи с этим была акцентирована роль памяти в репрезентации прошлого. Много выдающихся французских историков, выходцев из Школы «Анналов», внесли свой вклад в семитомное собрание Lieux de Memoire («Места памяти»)1. Дело в том, что история французской нации не могла быть адекватно представлена нарративом, основанным на документальных свидетельствах, а включала в себя оставшиеся в памяти французов образы прошлого. Сферы сакрального, фестивали, мифы, песни, литература и искусство - все играло роль в конструировании национального самосознания. Отныне значение имело не то прошлое, каким оно было в действительности, а прошлое, которое запомнилось и которое в большинстве своем (в противовес случившемуся) не могло быть проверено. Тем временем появился немецкий аналог мест памяти2, а в Соединенных Штатах начал выходить специальный международный журнал History and Memory («История и память»).
Движение «Историческая мастерская»
Lieux de Memoire были лишены какой-либо явной политической ориентации, если не считать таковой их заинтересованность вопросами, касающимися французской нации. История повседневной жизни главным образом отразила марксистское наследие, хотя и лишенное, как мы уже видели, экономического детерминизма и политического догматизма Коммунистической партии. В 1976 году в Великобритании была создана «Историческая мастерская» с подзаголовком «Журнал историков-социалистов». Журнал действительно отразил эти перемены. Первоначально журнал считал себя обязанным следовать подходу Э.П. Томпсона по изучению рабочего класса, но вскоре расширил свои рамки. Его отличие от других исторических журналов заключалось не в его социалистической ориентации, разделяемой многими редакторами и авторами журнала Past and Present, а в его намерении уменьшить разрыв между учеными и широкой общественностью и подвигнуть последнюю к написанию истории. Довольно скоро они осознали, что марксистская концепция индустриального рабочего класса, все еще поддерживаемая Томпсоном, больше не могла объяснять перемены в экономической и политической сферах того времени. Поэтому они вскоре заинтересовались влиянием новых эко¬
1 Частью переведена на рус. язык: П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок. Франция-память. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999.
2 Etienne Francois and Hagen Schulze, eds, Deutsche Erinnerungsorte. München, 2001.
310
ГЛАВА 6
номических реалий на повседневные сферы жизни, в том числе на частную жизнь и сексуальность. Эксплуатация женщин не только как части рабочей силы, но и в обществе, где все еще господствовали мужчины, заставила их двигаться в сторону феминизма. Мало того что увеличилось количество публикаций, посвященных разнообразным проявлениям женского опыта, женщины сами писали много статей и занимали важные посты в редколлегии журнала. В 1982 году подзаголовок журнала был изменен на «Журнал историков-социа- листов и феминистов». В 1995 году подзаголовок вообще убрали, признав, что первоначальный марксистский анализ индустриального общества больше не отвечает изменившимся реалиям современного мира. По мнению редакторов, исчезли те условия, при которых радикальные историки могли идентифицировать себя в качестве марксистов или даже социалистов. Вызовы современного мира - экологические, национальные, сексуальные - настолько усложнились, что термины «социалист» или «феминист» со свойственными им коннотациями отныне недостаточны. Тем не менее журнал сохранил свою критическую направленность. Он также пытался вовлечь, хотя с переменным успехом, рабочий люд, мужчин и женщин, в изучение прошлого своей местности. Однако превалирующим большинством авторов по-прежнему являлись ученые. Но идея «Исторической мастерской» распространилась на европейский континент, свои местные мастерские были созданы в Германии и Швеции, а в Германии еще и два журнала1. Все это способствовало антропологическому повороту в истории. Quaderni Бюпсг в Италии и только что созданный «Одиссей» в России двигались в сходном направлении.
Феминистская и гендерная истории
В конце 1960-х годов возрос интерес к истории женщин2. В ранней истории женщин было два основных потока: в центре внимания первого находились женщины, принадлежавшие к среднему классу и участвовавшие в движении за политические реформы (в борьбе за избирательные права женщин, за правовой статус женщин, за расширение их возможностей в сфере образования и за право на аборт), второе сосредоточилось на женщинах из рабочей среды, женщинах как части рабочей силы. Но до 1960-х годов большинство историй практически не уделяло внимания активной роли женщин в истории или их проблемам. Историописание даже в сфере социальной истории было сосредоточено на мужчинах. Феминистская история возникла только в 1960-е годы как часть общих социальных волнений, отмеченных дви¬
1 Geschichtswerkstatt und Werkstatt Geschichte.
2 Cm.: Bonnie Smith, The Gender of History: Men, Women, and Historical Practice. Cambridge, MA, 1998.
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ...
311
жением за гражданские права в Соединенных Штатах, протестом против войны во Вьетнаме и призывом к контркультуре. С самого начала она, как и уже рассмотренная нами история повседневности, преследовала ясную политическую цель, а именно положить конец «невидимости, бессилию и подчиненному положению» женщин, написать «ее -историю» , в которой женщины присутствуют в качестве активных субъектов, а не только пассивных объектов истории, и которая разоблачает гендерную иерархию большинства традиционных исторических повествований1. Немногие из феминисток были марксистами, но они рассматривали все существующие сообщества (как в прошлом, так и в настоящем) как репрессивные и считали свою деятельность в качестве историков вкладом в борьбу с притеснением. В отличие от Маркса они рассматривали господство не как экономическое или государственное, но, подобно Фуко, как укоренное непосредственно в самой культуре, в ее институтах, принятых в ней способах логического рассуждения, а также в языке - во всем, что они рассматривали как инструменты власти и доминирования2.
Феминистская история приобрела мощный академический базис на отделениях женских исследований, появившихся во многих американских университетах в 1970-е годы как отголосок 1968 года. Вскоре сходный интерес к феминистским исследованиям появился и в Европе. В 1980-е годы произошла важная переориентация гендерных исследований, переход от концентрации на женщинах как представителях биологического пола к признанию, что положение женщин может быть понято только в контексте взаимоотношений обоих полов. Это привело к различению женщины как представительницы биологического пола и ее места в более широкой социокультурной структуре. Джоан Скотт очень четко различала социальную коннотацию гендера и биологическую коннотацию пола. Женщины - это не унитарная категория. «На самом деле, термин “женщины”, - пишет она, - едва ли мог использоваться без вариаций, без характеристики через такие признаки как раса этническая принадлежность, класс, сексуальная ориентация, внутри каждого из которых была своя дифференциация по еще более узким идентифицирующим признакам, в том числе и по оттенку кожи, в зависимости от политических различий внутри женского движения»3. Если значительное количество работ по более ранней женской истории по-прежнему оперировало в качестве нормы такими понятиями, как белая женщина, женщина среднего класса, гетеросексуальная женщина, женская история отныне двигалась дру¬
Дословно her-story в противовес his-story.
1 См.: Joan Wallach Scott, 'Women's History', in Burke, New Perspectives on Historical Writing, 45.
2 Cm.: Scott, 'Introduction', Gender and the Politics of History, 1-11.
3 Scott, 'Women's History', 56.
312
ГЛАВА 6
гими путями. Ни одна из этих историй не могла быть написана как ценностно-нейтральная или объективная, к чему стремилась традиционная академическая история, т.к. они содержали в себе определенные политические ориентации и вызовы патерналистской гегемонии, укорененной в доминирующей культуре. Это означало, что эта история не могла быть написана без учета взаимосвязи мужчин и женщин. Феминистская история, вначале сосредоточенная на статусе женщин, теперь рассматривала женщин в более широком контексте. Натали Дэвис, в получившей широкую огласку статье, опубликованной в 1976 году в журнале Feminist Studies, призвала к историческому анализу обоих полов, а не изолированному изучению женщин. Она осуществила это в своих работах по французской культуре и социальной истории Франции раннего нового времени1. К 1980-м годам на смену «женской истории» пришла «гендерная история». Но гендер, как подчеркнула Джоан Скотт, не был чем-то, что существовало в реальности и поддавалось эмпирическому наблюдению, а тем, что должно было быть «сконструировано» вопросами историка2. Это направляло в сторону новой культурной истории, сильно повлиявшей на работы о женщинах в 1980-1990-е годы.
Постколониализм3
Наступивший после 1970 года период характеризовался не только большим интересом к истории не-западных стран, началам истории глобализации, о которой мы будем говорить в главе 8, но и более критической оценкой историками в таких регионах мира, которые, подобно Индии, прежде были колониями или, подобно Китаю, находились под империалистическим давлением. Критика Запада и западной историографии, как мы видели, уже давно звучала и нарастала в западной и не западной исторической мысли. Одним словом, идея однонаправленного линейного исторического развития, мировой истории, достигающая своей кульминации в цивилизации современного Запада, широко отвергалась. Западная прогрессистская идея истории рассматривалась как часть идеологии, в которой сообщества и культуры не западного мира выглядели неполноценными, в результате чего
1 Natalie Zemon Davis, “Women's History” в переводе: ‘The European Case', Feminist Studies, 3 (1976), 83—103; и ее: Society and Culture in Early Modem France. Stanford, CA, 1975 (рус. пер.: История женщин: В 5 т. T. 3: Парадоксы эпохи Возрождения и Просвещения / Редакторы Натали Земон Дэвис и Арлетта Фарж. М., 2008).
2 Scott, Gender and the Politics of History.
3 Cm.: Robert Young, ed., Postcolonialism: A Historical Introduction. London, 2001; Prasenjit Duara, ed., Decolonization: Perspectives from Now and Then. London, 2004.
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ...
313
обеспечивалась легитимация колониализма и империализма. Колониализм предполагал не только политический контроль над находящимися в колониальном подчинении народами, но и культурную гегемонию, целью которой была принудительная модернизация по западным образцам. К 1970-м годам почти все оставшиеся колонии получили независимость, но они по-прежнему находились в экономической зависимости от бывших колониальных властей и унаследовали значительное количество навязанной ими административной инфраструктуры. Никакого возврата к до-колониальным политическим структурам не произошло - границы, особенно в Африке, проигнорировали прежние племенные границы и создали искусственные национальные государства; образовательные системы тоже ориентировались на западные модели.
Термин «постколониализм» употребляется для обозначения критики западных исторических институтов и способов мышления в постколониальный период, но постколониальные потоки слишком разнообразны, чтобы подогнать их под четкое определение. Тем не менее им свойственно несколько общих черт, прежде всего, соотнесение колониализма с экономическим вторжением капитала на мировые рынки. По общему признанию, эта идея принадлежит Марксу. И все- таки не многие постколониальные мыслители являются ортодоксальными марксистами, рассматривающими подчинение колоний прежде всего как проявление функционирования мировой капиталистической системы. Почти все подчеркивают культурные аспекты экономического и политического давления и утверждают, что это давление ни в коем случае не закончилось. Влиятельным предшественником постколониализма был Франц Фанон, родившийся на Мартинике, получивший в Париже образование в области психиатрии, в отличие от других авторов, которых мы будем упоминать, бывший активным революционером, участвовавшим в алжирском восстании против французов. Его книгу «Проклятые земли»1* - это открытый призыв к революции, возможной только с применением насилия. Книга была очень серьезно воспринята антиколониалистскими активистами черной Африки и стала важным документом освободительного движения черных американцев в Соединенных Штатах и радикального студенческого движения в Европе.
К 1970-м годам книга Фанона «Проклятые земли» была классикой, но уже принадлежала истории. К этому времени постколониализмом уже занимались практически исключительно ученые, хотя их труды оказали неоценимое влияние на трансформацию политических воззрений и перспектив. Необходимо отметить, что много практиков по¬
1 Frantz Fanon, The Wretched of the Earth. New York, 1961.
На русский язык эту книгу иногда переводят как «Проклятьем заклейменные» по аналогии с первой строчкой «Интернационала».
314
ГЛАВА 6
стколониальной историографии были выходцами не из бывших колоний, а с Запада. На самом деле, большинство постколониальных историков и социальных теоретиков, в частности в Индии, обучались на Западе или в созданных по западному образцу учебных заведениях. Зачастую они делали карьеру в западных университетах и предпочитали писать на английском или временами на французском, чем на своих родных языках, что позволяет утверждать, справедливо или нет, что постколониализм воспроизводит западные точки зрения в не меньшей степени, чем не западные.
Корректное понимание прошлого в бывшем колониальном мире или в странах, находившихся, подобно Китаю, под внешнем давлением, требует изучения трудов, написанных на незападных языках, и мы в состоянии сделать это в разделах, посвященных Восточной Азии, прежде всего в отношении Китая и Индии. Ниже мы ограничимся двумя важными проявлениями постколониальной мысли: «Ориентализмом» 1 Эдварда Саида и возникшими в 1982 году в Индии Subaltern Studies.
Постколониальная мысль не может быть понята без ее марксистского наследия. Она делает большой акцент на мировом капиталистическом рынке, возникшем на Западе и обеспечившем западный контроль над незападным миром, или «периферией», как называл его в своей работе «Современная мир-система»2 американский социолог и африканист Иманнуил Валлерстайн. Он оперировал ортодоксальной марксистской концепцией мирового рынка, направляемого потребностью капитала на Западе в достижении максимального накопления, что требует экономической эксплуатации и политического господства над не западным миром. Накопление диктует низкий уровень заработной платы. То есть Валлерстайн объяснил расизм на «периферии» и дома потребностью капитализма уменьшить затраты на оплату труда и потом заявил, что подчинение женщин при капитализме имеет сходные причины, поскольку неоплачиваемая работа по дому позволяет уменьшить заработную плату мужчин. Особое внимание работа Валлерстайна привлекла в Латинской Америке, где она хорошо перекликалась с теорией dependencia , пытавшейся объяснить причины экономической стагнации в Латинской Америке. И все же твердая уверенность Валлерстайна в том, что объяснение причин подчинения не западного мира следует искать в экономике, стояла относительно особняком с дискуссиями по поводу колониальной и постколониальной зависимости, уделявшими большее внимание взаимодействию экономики и культуры, но при этом никогда не игнорировавшими им¬
1 3 vols (Minneapolis, IL, 1974-1989).
2 См. также: Immanuel Wallerstein, The Capitalist World Economy: Essays. New York, 1979.
dependencia (ucn.) - зависимость.
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ...
315
периалистический контекст политического, экономического и культурного доминирования Запада.
Огромное влияние на дискуссии 1980-х годов по постколониализму оказала книга «Ориентализм» Саида. Вынужденный в юношеские годы покинуть свой дом в Палестине и получивший образование в Каире и Великобритании, Саид сделал карьеру профессора английской литературы в Колумбийском университете в Нью-Йорке'. Он был интеллектуалом с выраженными политическими интересами, глубоко переживавшим судьбу Палестины. В «Ориентализме» он исследовал политическую функцию научной деятельности на Ближнем Востоке и Азии в целом. Он признавал значение капиталистического империализма в отношении Запада к не западному миру, но уделял гораздо больше, по сравнению с марксистами, внимания идеям и, в частности научной деятельности. Он исходил из сформулированной Ницше и Фуко концепции, согласно которой знания никогда не бывают нейтральными, а являются инструментами власти. Обращаясь к академическим исследованиям Востока, он утверждал, что научные исследования по Ближнему Востоку были не только задуманы для легитимации западной экспансии и господства, но и в значительной степени инициированы. Он утверждал, что британский и французский научный ориентализм, на котором он сосредоточил свое внимание, не изображал Восток реалистично, таким, какой он есть на самом деле, но создавал или, лучше сказать, придумывал образ, служивший определенным политическим целям. В этих трудах проводилось четкое различие между цивилизованным и рационалистическим Западом и отсталым, суеверным, жестоким и женоподобным Востоком. Восток, таким образом, представал как «Другой». Более того, эти труды глубоко повлияли на западные представления об истории. Саид указал на упрощенность представлений, содержащихся в западных, особенно академических трудах. Но часто возникает вопрос о том, не представил ли сам Саид слишком упрощенную картину ориенталистских исследований; он не затронул ни богатых традиций ориенталистских исследований в Германии и Соединенных Штатах, не имевших непосредственных колониальных интересов на Ближнем Востоке, ни вопроса о том, до какой степени подпадают под эту модель ориентали- стские исследования во Франции или Великобритании. Если рассматривать случай с Максом Мюллером и другими первыми исследователями Индии, то они действительно восхищались тем, что считали глубиной Индийской цивилизации, хотя и проявляли излишнюю склонность к рассмотрению индийского мистицизма как показателя принадлежности к детству человечества и тем самым, как это свойственно ориенталистам, подтверждали нормативный характер современного Запада. 11 См.: Edward W. Said, Out of Place: A Memoir. New York, 1999.
316
ГЛАВА 6
В послесловии к изданию книги «Ориентализм» в 1995 году Саид признал, что он не собирается отрицать «технические достижения» ученых-ориенталистов, хотя и не объяснил, в чем они заключались. Но, как было доказано, эти «технические достижения» базировались на допущении, что не-европейцев можно изучать при помощи тех же методов и критериев, что и европейцев. Противоречие между приверженностью научному методу и властными императивами колониальной репрезентации оставалось нерешенным. Кроме того, интерпретационная роль, которую в выработке ориенталистского знания выполняли местные посредники, как информанты, так и переводчики, требовала четкого различения колонизаторов и колонизированных. Саид оправданно бросил вызов стереотипным представлениям о Востоке, но и ориенталистская мысль тоже содержала в потенциале новый восточный стереотип Запада. Если Маркс преуменьшил роль идей в трансформации общества, Саид, придерживаясь того, что знание есть власть, преувеличил эту роль.
Вызов этой принятой на Западе интерпретации не западного мира уже как признак структуралистской антропологии был категорично брошен в работе антрополога Эрика Вулфа «Европа и люди без истории». Критикуя прежнюю традицию рассмотрения культур в определенной иерархии, Вулф утверждал, что приверженность ей связана с тем, что «мы были обучены, в классе или за его пределами, тому, что существует нечто, названное Западом, и что о нем можно думать, как об обществе и цивилизации, независимых от других обществ и цивилизаций и противостоящих им»1. Вулф подверг сомнению представление о вечном, монолитном и гомогенном Западе и соответственно Востоке. Вслед за Валлерстайном он показал, что начиная с XV века мир оказался достаточно связанным, чтобы стать «мир-системой». От Валлерстайна его отличал акцент на культуре и обществе. По его мнению, Валлерстайн слишком сосредоточился на проблеме порабощения периферии центром и уделил недостаточное внимание «реакциям микро-популяций, обычно исследуемым антропологами»1 2, и их воздействию на центр. Таким образом, для Вулфа четкое разделение на Запад и Восток, в конечном счете, становится непригодным, потому что культуры являются не «отдельными единицами», а «пучками отношений».
Subaltern Studies
Поразительно, что книга Саида «Ориентализм» была с энтузиазмом встречена и на Западе, и на Востоке как «значительное событие»
1 Eric Wolf, Europe and the People without History. Berkeley, CA, 1982, 5.
2 Ibid. ,23.
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ...
317
в создании постколониального гуманитарного знания1 2. Несомненно, что в значительной степени это было связано с общим интеллектуальным климатом на Западе и Востоке, хотя, возможно, стоит говорить не о Востоке вообще, а об англоязычной Индии, которая принимала разностороннее участие в западных дискуссиях. Ярким примером могут служить работы Ашиша Нанди из университета в Нью-Дели. Он часто посещал институты Великобритании и Германии в качестве коллеги и, как мы уже упоминали, полностью отрицал традицию западного Просвещения, считая ее ответственной за массовые насилия и геноцид XX века. Он призывал вернуться к до-современным способам мышления, отличающимся от современных рациональных и секу- лярных воззрений. Нанди полагает, что признаком современного исторического мировоззрения являются господство «современного национального государства, секуляризм, бэконовская концепция научной рациональности, теории прогресса XIX века и, в последние десятилетия, теории развития. Мы вновь должны обрести уважение к тем культурам, которым в процессе их культурного самоопределения были свойственны разомкнутые представления о прошлом или зависимость от мифов, легенд и эпоса»".
Основанный в 1982 году журнал Subaltern Studies3 не заходил так далеко. Как пояснил во вступительной статье в 1982-м его главный редактор Ранаджит Г уха, в то время работавший в университете Суссекса, его главной задачей было покончить с господствующей индийской историографией, которую он описывал как элитарную. Она рассматривала возникновение индийского национализма и получение Индией независимости как заслугу ведущих политических деятелей и интеллектуалов, которых Гуха в марксистской терминологии называл буржуа. Используя термин «субалтерн», заимствованный из работы Антонио Грамши «Заметки по итальянской истории», Subaltern Studies сосредоточили свое внимание на зависимых слоях населения, низших кастах и в первую очередь крестьянах, которые практически игнорировались в традиционной элитарно-ориентированной историографии индийской нации. Отныне сомнению было подвергнуто само понятие «нация», которое индийская «буржуазная» историография скопировала с британских моделей. Население Индии было крайне разнообраз¬
1 См.: Prasenjit Duara, 'Postcolonial History' // Lloyd Kramer and Sarah Maza, A Companion to Western Hptorical Thought Maiden, MA, 2002, 418.
2 Ashis Nandy, 'History's Forgotten Doubles', History and Theory, Theme Issue 34. P. 44; см. также: Vinay Lai, Dissenting Knowledges: Open Futures: The Multiple Selves and Strange Destinations of Ashis Nandy. Delhi, 2000.
3 О группе исследователей, занимающихся «Субалтерн стадис» см. также: Vinay Lai, 'Subalterns in the Academy: The Hegemony of History', в его The History of History: Politics and Scholarship in Modem India. New Delhi, 2003, 186-230; также: Dipesh Chakrabarty, Habitations of Modernity: Essays in the Wake of Subaltern Studies. Chicago, IL, 2002.
318
ГЛАВА 6
ным и приверженным разным традициям. Ядро «субалтерн»-истории составляло утверждение, что зависимые классы являются не пассивными и бездумными объектами истории, а обладающими политическим сознанием и активно творящими свою историю «субъектами». Истории элит «не способны признать и еще меньше интерпретировать самостоятельный вклад, внесенный народом в создание современной Индии, «независимо от элиты»1. Зависимое население практически не оставило после себя письменных источников, выражающих их политические идеалы, но их активная роль сама по себе нашла свое выражение в многочисленных крестьянских восстаниях. Модель изучения этих восстаний была предложена Гухой в книге «Основные аспекты крестьянского восстания в колониальной Индии»2. В последующие годы появились другие тома этой серии и отдельные исследования крестьянской активности с общим акцентом скорее на локальный или региональный, нежели национальный уровень3.
Считается, что представленное Subaltern Studies движение по своей направленности было левым. Но одновременно с этим оно являлось проявлением всеобщего разочарования в ортодоксальной марксистской теории и практике, также имевшего место на Западе в 1970-е годы. Подобно Э.П. Томпсону, чей визит в Индию в 1976 году оказал огромное влияние на индийских ученых, Subaltern Studies стремились спасти «зависимых» от «снисходительного отношения потомков», в том числе от снисходительности «официальных» историков левого толка с их исключительной сосредоточенностью на экономических отношениях и с их левым руководством. Subaltern Studies публиковались исключительно на английском языке, и среди авторов были не только индийские, но и британские и американские историки и социологи, в том числе специалисты по исторической антропологии, создавая свободную, но все-таки образующую единое целое группу, члены которой проживали на разных континентах, но придерживались общих взглядов на историю. Можно, конечно, поставить вопрос о том, не была ли эта группа тоже элитой, а именно академической элитой, через язык и обучение более тесно связанной с Британией, нежели индийскими традициями. Ариф Дирлик утверждал, что исторические труды, созданные в рамках Subaltern Studies, являли собой «реализацию в индийской историографии тенденций, широко распространенных в историописании в 1970-е годы под влиянием таких социальных историков, как Э.П. Томпсон, Эрик Хобсбаум и многих дру¬
1 Ranajit Guha, ed., Subaltern Studies I: Writings on South Asian History and Society. Delhi, 1982, 3.
2 Ranajit Guha, (Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India). Delhi, 1983.
3 Ranajit Guha, ed., A Subaltern Studies Reader. Minneapolis, IL, 1988.
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ...
319
гих»1. Сумит Саркар, сначала принадлежавший к этой группе, но впоследствии отошедший от нее из-за ее постмодернистского уклона, подчеркнул, что в Subaltern Studies уже знакомый подход «истории снизу» был дополнен новой «теоретической ясностью», но при этом указал, что в 1970-е и даже раньше было написано немало похожих работ2.
Часто проводится различие между «ранними» и «поздними» Subaltern Studies. Поскольку многие историки, в частности в Соединенных Штатах и в меньшей степени в континентальной Европе, находились под влиянием постмодернистского мышления, популистский/марк- систский уклон Subaltern Studies находился под сильным влиянием постмодернистского дискурса, отказывавшегося не только от традиции западного Просвещения, но и от возможности реалистического исторического исследования. Однако были и различия с постмодернизмом. Так, занимавшиеся «Субол/иер«»-исследованиями ученые, настроенные чрезвычайно критично по отношению к европоцентризму, все же не поддались полностью влиянию постмодернистского релятивизма, наставая на том, что написание истории требует работы с источниками, отражающими реальное прошлое. Поскольку письменных свидетельств, оставленных зависимыми слоями населения, было немного, анализ «сознания» этих слоев был возможен только через деконструкцию официальных документов колониальных властей, касающихся восстаний, и эти документы должны быть прочитаны «нетрадиционно», так, чтобы увидеть в них не только то, что написано, но и то, о чем они умалчивают. Как отмечает Дипеш Чакрабарти, подчеркивая текстуальные свойства архивных документов в контексте концепции знания-власти, «историческая дисциплина в Индии отреагировала на общеизвестный лингвистический поворот»3.
В 1988 году из редколлегии проекта на пенсию ушел Гуха, и в этом же году была опубликована антология Subaltern Studies с предисловием Эдварда Саида, который охарактеризовал ее как «интеллектуально мятежную». Введение к сборнику статей, написанное Гаятри Чакраворти Спивак, литературным критиком, феминисткой, историком и одной из первых учениц Жака Деррида, переведшей в 1967 году
1 Цит по: Dipesh Chakrabarty, 'Subaltern Studies and Postcolonial Historiography' //Nepantla: Views from the South. Durham, NC, 2000, 10.
2 Саркар указывает на то, что ключевой аргумент Subaltern Studies, состоящий в том, что индийские националистические лидеры и организации были тормозом на пути решительно настроенных масс, уже отмечался в работе Р.П. Дутта «Индия сегодня». Бомбей, 1949 (R.P. Dutt's. India Today. Bombay, 1949). Сказанное относится и к более ранним эссе по крестьянскому восстанию, написанным таким историком, как Равиндлер Кумар (Ravinder Kumar) под влиянием Георга Руде. См.: Sumit Sarkar, 'The Decline of the Subaltern in Subaltern Studies’, в его Writing Social History. Delhi, 1997, 86.
3 Chakrabarty, Habitations of Modernity, 16.
320
ГЛАВА 6
на английский язык его работу «О грамматологии», также содержало некоторую критику, хотя приветствовало неэлитарный характер про- екта и «мятежную» риторику и дискурс. Спивак не только привлекла внимание к отсутствию гендерных вопросов в Subaltern Studies (что чуть позже в какой-то мере было исправлено), но и поставила фундаментальный вопрос о том, можно ли говорить о «сознании» или «идентичности» зависимых слоев общества до того, как они проявили себя в дискурсе. В другом эссе, озаглавленном «Может ли зависимый говорить?», она также указала на по сути парадоксальное положение дел, когда интеллектуалы «говорят» за зависимых, вместо того, чтобы позволить им говорить за самих себя, добавляя к этому то, что академическое представление о коллективных формах организации зависимых слоев общества не сильно отличалось от западных этноцентричных работ с их ошибками обобщения и выявления сути вещей. Признавая всю трудность работы постколониального критика, живущего в академической среде в странах «первого мира», Спивак подчеркнула, что постколониальные исследования должны поддерживать идею о том, что «постколониальные интеллектуалы обязаны понять, что их привилегия одновременно является и их потерей»1.
Сходное возражение было выдвинуто Сумитом Саркаром, ощутившим, что понятие «зависимый» стало односторонне «культурали- стским». Оно было принято, чтобы избежать ловушек экономического редукционизма в контексте в основном докапиталистических условий колониальной Индии, но при этом сохранили понятия «господство» и «эксплуатация». «О чем удобно забывать, так это о том, что путем простой замены понятия “класс” на понятие “зависимые” или “сообщество” проблемы не исчезнут. На самом деле, следующее за такой заменой отмежевание от социально-экономических контекстов и условий в попытке любыми способами избежать экономического редукционизма может даже усилить тенденции к реификации». Саркар добавил, что даже «зависимые» Грамши «весьма тесно связаны “со сферой экономического производства”»2.
Еще более критичным Саркар был по отношению к постмодернистскому осмыслению господства и автономии в более поздних изданиях Subaltern Studies. Оторванное от своих социально-экономических контекстов господство все больше рассматривалось как некая культурная сила, «фактически непреодолимая» власть-знание современного бюрократического национального государства, уходящая своими корнями в западную пост-просветительскую традицию. Это привело к тому, что характерный для ранних Subaltern Studies акцент на борьбе народа против элитарных националистов и менталь-
1 Bill Ashcroft, Gareth Griffiths and Helen Tiffin, eds, The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-Colonial Literature. London, 1989, 28.
2 Sarkar, 'The Decline of the Subaltern in Subaltern Studies', 88-89.
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ...
321
ном мире зависимого населения сменился новым акцентом на существенном изъяне самой природы «националистического» проекта. Националисты, являя собой колонизированную интеллигенцию постпросветительской колониальной власти-знания, были способны только к «производному дискурсу». Принципы секуляризма и рационализма, взлелеянные в созданной после 1947 года Индийской Республике, всего лишь подражали исходной и репрессивной сущности западного Просвещения, поскольку копировали его специфику через колониальный дискурс. Такое понятие господства подразумевало, что пространство автономного действия сжато до того, что, как утверждает ключевая фигура в этой группе исследователей Парта Чаттерджи, оно вынуждено располагаться «за пределами пост-просветительской тематики», в тех «фрагментах» общества, той сфере общественного сознания, которые оказались не затронуты культурным колониальным господством. От первоначального разделения элиты и зависимых слоев общества исследования Subaltern Studies обратились к новой бинарной оппозиции - оппозиции постколониального национального государства и этого «фрагмента». Гьянендра Пандей, другой представитель этой группы исследователей, утверждал, что «значение “фрагментарной” точки зрения отчасти состоит в том, что она сопротивляется движению в сторону поверхностной гомогенности и борется за другие, потенциально более глубокие дефиниции “нации” и будущее политическое сообщество»1. Но, как отметили критики, такое искусственно раздутое представление о фрагменте упускает присущие ему внутренние натяжки и противоречия, его собственные структуры господства и подчинения, а также тот более широкий социальный формат, частью которого он является; зачастую это включает в себя сферу влияния колониального государства. Историки, обращающиеся к более широким вопросам политэкономии, также указывали на то, что перспектива фрагмента не признает того, «что глобальный капитализм и локальный коммунитаризм находятся не в противоречивом, а в диалектическом отношении»2.
Пост-националистическое торжество фрагмента в поздних Subaltern Studies явно резонировало с постмодернистской критикой «прогресса» и «модерна», поскольку фрагмент по своей сути является доколониальным. Как мы видели ранее, этот анти-модернизм составлял ядро воззрений Ашиша Нанди. Почти все индийские историки, входившие в группу поздних «суболте/?н»-исследований, отрицали идею западного прогресса, ставившего другие культуры на ступень ниже. Но, как мы видели, большая часть представителей западной мысли во
1 Gyanendra Pandey, 'In Defence of me Fragment: Writing about Hindu-Muslim Riots in India Today' // Representations 37. Winter, 1992, 28-29.
2 Sugata Bose, Ayesha Jalal, Modern South Asia: History, Culture, Political Economy. Delhi, 1997. 9.
П Зак. 1183
322
ГЛАВА 6
второй половине XX века точно так же отказалась от этого главенствующего нарратива. Такие индийские историки, как Дипеш Чакрабар- ти, отныне настаивали на необходимости «провинциализации Европы»1 и признания того, что подобно мультикультурам существуют и мульти-модернизмы, олицетворяемые на Западе своим провозглашаемым секуляризмом и западными формами гражданского общества. Таким образом, доказывалось то, что индийские культуры могут отличаться и в то же время быть модернистскими. Чакрабарти также утверждал, что оригинальный вклад Ранаджита Гуха заключался в фундаментальном переосмыслении природы колониального капитализма, в понимании того, что европейская категория универсального капиталистического пути не подходила к колониальной ситуации и, следовательно, постколониальная критика имплицитно присутствовала уже в раннем движении Субалтерн. Он доказывал, что точка зрения Гуха состояла в том, что «глобальная история капитализма не должна повсеместно репродуцировать такую же историю власти», что буржуазия колониальной Индии отличалась от европейской тем, что не исповедовала идеологию гегемонии. Тем не менее она была в состоянии проявить свое «господство» в манере, напоминавшей доколониальные отношения господства и подчинения. Это не было однако чем-то «до-политическим» или «до-модернистским», а фактически другим типом модернизма, более того сохранившимся и в постколониальный период2.
Отказ от Просвещения вызвал в трудах некоторых «субалтерн»- гуманитариев и критику самого проекта истории как европейской формы знания. Именно Гуха, следуя за Саидом и Фуко, первым поднял вопрос об отношении между историописанием и империализмом3; другие ученые, такие как Гьян Пракаш, Парта Чаттерджи, Шахид Амин, Дэвид Арнольд, тоже изучали проблему «колониального дискурса» в разных сферах. И все-таки со всей своей критикой колониальной культуры и институтов, Индия, представленная школой Subaltern Studies, игнорировала огромную часть британского наследия, образовательную систему, правовые структуры, парламентские институты и гражданские свободы и это только начало списка. Таким образом, многое из традиции Просвещения стало частью современной индийской политической культуры. Как заметил Сумит Саркар, понятия гражданских, демократических, феминистских и либеральных прав индивида, многие из которых уходят своими корнями в идеалы Просвещения, «вследствие отказа от Просвещения как комплекса идей
1 Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton, NJ. 2000.
2 Chakrabarty, 'Subaltern Studies', 22.
3 Ranajit Guha, An Indian Historiography of India: A Nineteenth-Century Agenda and Its Implications. Calcutta, 1988.
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ...
323
подвергаются делегитимации»1. Наконец, «субалтерн»-гуманитарии, являясь серьезными учеными, принимают международные стандарты исторической науки. Когда Дипеш Чакрабарти пытался продемонстрировать узость западного, «стадиального», взгляда на историческое развитие, согласно которому колониальные культуры представляя- ют собой до-современные и, стало быть, сменяемые стадии на пути к современности, он в то же время признавал, что западные формы науки и социальной научной рациональности в целом были восприняты в бывшем колониальном мире, особенно в Южной Азии. Он отмечает, «что сегодня так называемая европейская интеллектуальная традиция - единственная из всех, которая прижилась на отделениях социальных наук большинства, если не всех [индийских] университетов». Таким образом, немногие, если таковые вообще имеются, индийские ученые, работающие в области социальных наук, основывают свои теории на идеях старых индийских мыслителей. Одним из результатов европейского колониального правления в Индии стало то, «что интеллектуальные традиции, некогда несломленные и выжившие на санскрите, персидском или арабском языках, теперь действительно мертвы»2.
Следует сделать заключительное наблюдение, касающееся политических значений поздней позиции «субалтерн »-исследований. Пересмотр и переоценка «фрагмента» и «до-модерна» получили нежелательное, хотя и не неожиданное одобрение со стороны религиозношовинистических сил правого толка, представленных движением Hinduivá, политическое крыло которого в 2007 году находилось у власти в нескольких индийских штатах. Несмотря на то что группа «су- балтерн»-ученых высказывается и выступает против этого движения, видя в нем «современный» конструкт поздних постколониальных времен, религиозные «правые» с легкостью приспособили «субал- терн»-критику светского либерального национального государства как импортированного с Запада и чуждого «подлинной индийской традиции». Следует отметить, что и сам Ашиш Нанди рассматривает секуляризм как форму государственности, неотъемлемым признаком которого, стало быть, является нетерпимость, хотя различные ученые- гуманитарии указывают на то, что значение секуляризма в индийском контексте, отсылающего главным образом к религиозному плюрализму и терпимости, совсем иное. Смешение мифа с историей, характерное для индийской историографии, также находится на службе движения Hinduivá, пытающегося переписать индийское прошлое таким образом, чтобы приспособить его для обслуживания политического проекта идеализированного индуистского общества. «Субалтернизм», как пишет Айяз Ахмат, «сделал любопытную карьеру, начав с обра¬
1 Sarkar, 'The Decline of the Subaltern in Subaltern Studies', 107.
2 Chakrabarty, Provincializing Europe, 5-6.
324
ГЛАВА 6
щения к Грамши за помощью и придя в итоге к сообщничеству с антикоммунистическим правым крылом»1.
Латинская Америка: от теории Dependencia до Subaltern Studies2
В рассматриваемом нами периоде времени с конца 1960-х до конца 1980-х годов историописание в Латинской Америке в основном развивалось в направлениях, параллельных тем, которые уже были описаны нами в разделах по Западу и Индии: от нарративных историй, сосредоточенных на политических элитах, к макро-историческим структуралистским и марксистским подходам, двигаясь от центра к небольшим очагам, в которых низшие классы в их культурном контексте появляются на исторической сцене3. Во многих отношениях Латинская Америка была частью Запада, начиная с испанских и португальских завоеваний в XVI веке, но были и заметные отличия. Разделенная на этнические общности, одни из которых на юге находились в тесных отношениях с Европой, другие - с большими туземными народностями, а некоторые, особенно в Бразилии и бассейне Ка- рибского моря, вели свое происхождение от африканских рабов, Латинская Америка никогда не была чем-то единым. Это нашло отражение в историографическом разнообразии.
Предпринималось не много попыток написать историю Латинской Америки в целом. Общность крайне разнообразным частям этого континента придает их колониальное прошлое, которое для большинства регионов Латинской Америки закончилось почти два столетия назад получением многочисленными государствами независимости при их незначительных взаимосвязях друг с другом. Общим был и испанский язык во всех континентальных государствах, за исключением говорящей на португальском Бразилии и маленьких англо-, франко- и гол- ландскоговорящих анклавов, а также Гаити, получившего независимость намного позже. Экономическое развитие различных частей Латинской Америки происходило по-разному. Большинство латиноамериканских государств не прошли стадию индустриальной модернизации, характерную для Западной и Центральной Европы и Северной Америки. По-прежнему широко были распространены аграрные кре¬
’ Цит. по: Latha Мепоп, 'Saffron Infusion: Hindutva, History and Education', in History Today, 54:8. August, 2004.
2 В качестве обширной библиографии см.: Mark A. Burkholder, 'Latin America to 1800', in American Historical Association's Guide to Historical Literature, 3rd edn. New York, 1995, 1162-1198 и Richard J. Walker, Latin America Since 1800, ibid., включая короткий раздел по историографии, 1204-1205.
3 В качестве хорошего обзора см.: Alan Knight, 'Latin America', in Michael Bentley, ed., Companion to Historiography. London, 1997, 728-758.
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ...
325
стьянские сообщества, хотя были и островки индустрии, связанные со свободной рыночной экономикой, тесно вовлеченные в мировой капиталистический ранок и зависимые от него. В отличие от Европы раннего пост-ренессансного периода, когда историография в традициях гуманизма тяготела к секулярности и возврату к классическим моделям нарративной политической истории в манере Тацита, историо- писание в Латинской Америке после ее открытия Колумбом в большинстве своем находилось во власти ученых-иезуитов и в некоторой степени - во власти клерикалов из других орденов католической церкви. Сильной стороной этой историографии было то, что особенно в ранний период, последовавший сразу после Конкисты, но и в XVII и XVIII веках большое внимание она уделяла до-колумбовым сообществам и культурам и взаимодействию туземного населения и новых европейских поселений в колониальный период; таким образом, она гораздо больше занималась разными аспектами жизни и культуры, чем традиционная историография стран-метрополий, сосредоточенная на политике и политических лидерах1. А идеи Просвещения, сыгравшие важную роль в оформлении историописания и исторических интересов в Европе в XVIII веке, в то время имели ограниченное влия- ниее на историческое мышление в Латинской Америке.
Получение независимости внесло свои изменения, хотя большинство моделей социальных отношений между элитами и широкими слоями населения оставались неизменными, однако ни в коем случае они не были одинаковыми на всей территории Латинской Америки. Несмотря на региональное разнообразие, присутствовало и определенное сходство. Роль духовенства перешла к людям из публичной сферы жизни. Часто история писалась с целью создания национальной, а не латиноамериканской, идентичности. Историописание пока еще мало находилось под влиянием идеи профессионализма, которая уже преобразовала историческую науку за пределами Латинской Америки.
Напротив, с момента получения независимости в 1820-е годы и до начала XX века история почти исключительно писалась элитами и любителями, преимущественно представителями городского населения из среднего класса. Это была история сверху, в центре внимания которой находилось национальное государство и его лидеры. Эта историография часто описывается как либеральная. В некотором отношении либерализм был импортирован из Европы. Были привнесены идеи Просвещения, а вместе с ними призыв к секулярному мировоззрению, свободному от ранней религиозной ориентации периода колониальных режимов. Большая часть этой новой историографии содержала в себе критику деспотичного испанского и португальского
1 Cm.: George L. Vasquez, 'Latin American Historiography', in Woolf, Global Encyclopedia of Historical Writing, 534-544.
326
ГЛАВА 6
правления, призыв к конституционному правлению, связанному с гарантиями гражданских прав и требованием обеспечения права собственности, т.е. со всем тем, что ассоциировалось с классическим либерализмом1. Не много историков мыслили в масштабах полушария. Помехой этому являлось все большее использование архивов, что означало концентрацию на национальной истории и увеличивающееся число обращений к региональной истории, имеющей доступ к архивным материалам. Большая часть этой историографии имела позитивистский характер в смысле ее строгой зависимости от этих источников. Очень запоздало, только в первой половине XX века, началась профессионализация и стал возможен доступ к архивам в столицах и сельской местности. Определенной вехой в развитии современной системы исследовательских институтов, построенных по европейской и американской модели, стало образование в 1930-е годы Университета в Сан Пауло. Тогда же под влиянием французской Школы «Анналов» были восприняты антропологический и культурный подходы. Таким образом, университет в Сан Пауло принимал участие в трансформации исторических исследований, происходивших в то время в Европе и Северной Америке, особенно во Франции. Имеет значение то, что Клод Леви-Стросс и Фернан Бродель были одними из первых профессоров, посетивших Сан Пауло. Последовавший за этим период отмечен появлением теорий социального развития, пришедшим на смену позитивизму. Эти теории осмысливали изменения в социально- экономических структурах, неравномерно происходивших в разных государствах Латинской Америки и внутри каждого из них, и возникновение новых условий, в которых высокоразвитые формы производства и рыночной экономики сосуществовали бок о бок с большими районами экономической отсталости, взаимодействие иностранного и внутреннего капитала и другие сопутствующие, хотя и несбалансированные трансформации социальной структуры, в том числе рост крупных городских центров и возникновение организованного рабочего класса.
В этих новых условиях после 1945 года два комплекса исторических теорий, возникших в Европе и Северной Америке, все больше и больше усваивались латиноамериканскими историками и представителями общественных наук. Приспособленные к местным условиям, они оба являлись вариантами теории модернизации и марксизма, отражавшими две разные политические ориентации. Оба комплекса теорий разделяли убеждение о неуклонном движении современного общества во всем мире в сторону экономического роста и социально- политической модернизации, но рассматривали это движение с разных точек зрения. Теории модернизации в целом выступали за то, что Латинская Америка должна пойти по пути обществ Западной Европы
1 Juan Maiguashca, 'Latin American Historiography', ibid., 542-543.
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ...
327
и Северной Америки; в ходе этого Латинская Америка должна модернизироваться, что означало вестернизацию в городах, а, в конечном счете, и в сельской местности. Направляемый альянсом транснациональных корпораций, национального и местного капитала, этот процесс привел бы к широкой индустриализации и к значительному понижению уровня бедности в городах и сельской местности. Тем не менее к середине 1960-х годов стало очевидным, что данная стратегия развития не способствовала ни индустриализации, ни уменьшению разрыва в доходах населения, который на самом деле имел тенденцию к росту. Сходным образом дело обстояло и с ожиданием того, что вливание иностранного и местного капитала приведет к промышленному росту и уменьшению прежнего положения дел, при котором торговое неравенство между развитыми экономиками Западной и Центральной Европы и Северной Америки, а вскоре и Японии, и менее развитой Латинской Америкой будет преодолено, однако это ожидание никоим образом не оправдывалось. В этом плане, т.е. в плане оптимизма по поводу позитивного воздействия капитализма на развитие Латинской Америки, марксистски ориентированные теории «зависимости» противостояли теориям модернизации1.
Самым влиятельным приверженцем теории зависимости (dependencia) в 1960-е годы, несомненно, был Андре Гундер Франк. Он родился в Германии, откуда ребенком сбежал от нацистов, получил образование в Соединенных Штатах с присвоением докторской степени в области экономики в Чикагском университете, а в 1962 году переехал в Латинскую Америку. Там, в университетах Бразилии, Мехико и Сантьяго-де-Чили он в тесном переплетении преподавал социологию, антропологию, экономику и историю - неразрывные для него области знания. Критика Франком капитализма оказала значительное влияние на Латинскую Америку, и в этом его сходство с Иммануилом Валлер- стайном и Эриком Волфом, важные труды которых мы уже упомянули, хотя эти работы начали появляться только в начале 1980-х годов. Все три теоретика отталкивались от экономики, но помещали ее исторический контекст, анализируя историю современного мира с точки зрения развития мировой системы, начало которой было положено в эпоху великих географических открытий экспансией капитализма из Европы и Северной Америки в менее развитые регионы Латинской Америки, Африки и отдельные части Азии и Восточной Европы. В отличие от Валлерстайна, который ограничивался преимущественно экономическими аспектами мирового капитализма и его последствиями для мира политики, Франк и Волф2 обращались к культурным ас¬
1 Cm.: Peter Evans, Dependent Development: The Alliance of Multinational, State, and Local Capital. Princeton, NJ, 1979.
2 Wolf, Europe and the People without History.
328
ГЛАВА 6
пектам, твердо уверенные вслед за Леви-Строссом, что не бывает «примитивных» народов, что у этих народов также была культура, которая, подобно европейской цивилизации, в ходе истории подверглась изменению. Все исходили из положения Маркса, согласно которому ядром капиталистического производства является получение прибыли; это предполагает наличие рабочей силы, создающей то, что Маркс назвал «прибавочной стоимостью», что в свою очередь предполагает существование недоплаченного труда, все еще в большом количестве существующего в экономически менее развитых странах так называемого Третьего мира. В основе аргументации Франка лежала мысль о том, что вливание капитала в Латинскую Америку в целом не привело к экономическому развитию, а напротив, задушило его и усилило зависимость Латинской Америки от мирового капитализма1.
И все-таки теория dependencia все еще была структурной формой марксизма, в котором люди оставались невидимыми. Начавшийся в 1950-е годы период стал свидетелем нарастающего социального протеста в различных частях Латинской Америки: восстание в Гватемале 1954 года, вскоре подавленное американской интервенцией, революция 1959 года на Кубе, Сандинистское движение в Никарагуа, выборы в 1969 году Альенде президентом Чили, закончившиеся в 1973 году военным переворотом генерала Пиночета, студенческие волнения во время Олимпийских игр 1968 года в Мехико, восстания в различных странах - и все они в некоторой степени были инспирированы марксистскими идеалами социальной справедливости. Поворот к «истории снизу», который мы уже рассматривали в Западной Европе и Северной Америке, а также в Индии, произошел и в латиноамериканской историографии, частично заимствуя зарубежные модели. Трудно переоценить значение культурного марксизма Э.П. Томпсона, нашедшего отражение в его работе «Формирование английского рабочего класса». Рабочие больше не рассматривались как субъекты, детерминированные прежде всего экономическими силами, а как люди, помогающие создавать мир своего бытия. С макро-исторического подхода, сконцентрированного на безличных структурах, фокус отныне переместился к микро-истории, «истории снизу», los de abajo, истории рабочих, крестьян, а также женщин и маргинальных групп и отдельных людей, в том числе бродяг и преступников.
Впервые была проделана большая работа по истории рабства, рассматривающая рабов как действующую силу истории, аналогичная той, которую в США проделал Евгений Дженовезе От политических центров, столиц и метрополий историописание сместилось в сторону регионов и отдельных местностей. Конечно, этот сдвиг не был сугубо латиноамериканским феноменом, а, как мы видели, отражал новое
1 Cm., Hanp.: Andre Frank, Capitalism and Underdevelopment in Latin America. 1967.
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ...
329
видение и ориентации, вообще свойственные важным разделам историографии 1970-1980-х годов. Что же отличало Латинскую Америку - и Индию - от высокоразвитых стран Западной и Центральной Европы и Северной Америки, так это огромное количество людей, живущих за чертой бедности. Городские элиты как основной объект исторических исследований уступили место беднякам и нищим. Такой историографии были свойственны явные политические интенции; имея своим источником марксистскую концепцию классовой борьбы, теперь она все дальше уходила от категории городского пролетариата, имеющего ясные политико-экономические цели, к неоформленному в четкие социальные страты населению, протестующему против своего подчинения в повседневной жизни. В результате, мы теперь больше, чем при традиционном марксистском анализе, знаем о «пьяницах, толпах, бросающих камни и городских ремесленниках»1. Такой подход, вовлекающий исследователя в ментальную и политическую диспозицию в большинстве своем неграмотных слоев населения, представлял значительные трудности. Существует не много письменных источников, которые бы документально засвидетельствовали то, что именно думали представители этих групп и как они действовали. Основными источниками, кроме устной истории, остаются архивы, но в них мы, как правило, сталкиваемся с отчетами о действиях официальных властей, предпринимаемых ими в ответ на восстания и народные протесты, а они, в конечном счете, события исключительные. Поэтому возникает призыв к нетрадиционному прочтению, к деконструкции текстов в попытке реконструировать то, что было в мыслях и что скрывалось за действиями этих беднейших слоев населения. Восстановление привычек и обычаев преимущественно неграмотного населения потребовало новых методов прочтения источников, что привело некоторых историков в семиотику, литературную критику и альтернативные способы текстового анализа. К концу 1980-х латиноамериканские историки приблизились к тому, что делали представители «субалтерн»-исследований в Индии. Фактически и те, и другие находились под сильным влиянием европейской и американской постмодернистской мысли. Вместе с тем они стремились к автономии от элитной культуры, этого источника постмодернизма, от которого он так никогда и не освободился. Индийская группа Subaltern Studies, занимающаяся проблемами низших слоев населения, стала моделью для группы, возникшей в 1980-е гг. в Латинской Америке2. Как и Ра- наджит Гуха, обозначивший свою позицию во введении к индийскому журналу Subaltern Studies, они хотели «раскрыть культурную и поли¬
1 Cm.: Knight, 'Latin America', 740.
2 Florencia E. Mallon, 'The Promise and Dilemma of Subaltern Studies: Perspectives from Latin American History', American Historical Review, 99:4. 1994, 1491- 1515.
330
ГЛАВА 6
тическую специфику крестьянских восстаний», используя для этого два метода: «выявляя логику искажений в изображении зависимых слоев населения в официальной или элитной культурах и вскрывая социальную семиотику стратегий и культурных практик самих крестьянских восстаний»1 . Это утверждение, особенно его вторая часть, подверглось критике как постмодернистский дискурс, не имеющий четких методологических предписаний для практикующих историков. И действительно из пятнадцати членов, составивших костяк группы, двенадцать были литературными критиками, двое - антропологами и только один историком. Однако приверженность к изучению низших слоев населения, акцент на их повседневной культуре и мировоззрении, а также на их политическом, социальном и культурном подчинении верхами был характерен не только для субалтерн-доктрины, но оставался важным и для большинства прежней латиноамериканской социальной и культурной истории, независимой от группы субалтерн-исследователей и постмодернизма.
Возникновение современной историографии в Тропической Африке2
Развитие историографии в Тропической Африке отличалось от всего того, что мы рассматривали в других регионах. Период колониализма был здесь более суровым, чем в Индии, и связан с еще более явным расизмом. Создание университетов и профессионализация исторических исследований начались очень поздно, только к концу колониального периода. Еще более настойчиво, чем в Индии, колониальные власти настаивали на том, что Африка, или, по крайней мере, Черная Африка, была континентом без истории - мнение, широко распространенное среди интеллектуалов и значительной доли населения в Европе и Северной Америке. Эти расистские представления были свойственны уже некоторым мыслителям Просвещения. Давид Юм в конце XVIII века полагал, что «негры по природе своей являются низшими по отношению к белому населению». И далее заметил, что «никогда не было цивилизованной нации у представителей любого другого цвета лица, кроме белых... Среди них не было изобретательных промышленников, у них нет искусства и науки». Гегель, как мы уже видели, отрицал факт исторического развития Индии и Китая, но еще более резок он был по отношению к Африке. Африка, писал он, «лишенная истории часть мира... То, что мы собственно понимаем под Неисторическим, Неразвитым Духом, тем, что все еще находится
1 Данное заявление латиноамериканской «субалтерн»-группы цит. по: Mallon, The Promise and Dilemma of Subaltern Studies', 1504.
2 См. хороший исторический и библиографический обзор исторических исследований в Африке и о ней: Joseph С. Miller's 1999 Presidential Address, 'History and Africa/Africa and History', American Historical Review, 104:1. 1999, 1-32.
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ...
331
в чисто природном состоянии». Еще совсем недавно, в 1968 году, Хью Тревор-Ропер, профессор кафедры современной истории в Оксфорде, отказывался относиться к Африке серьезно, рассматривая ее как территорию «бесполезной циркуляции варварских племен на живописной, но не связанной с остальным миром части земного шара»1 2. Внимание к Африке в европейских и североамериканских исследованиях фактически появилось только в первой половине XX века, при этом африканскому прошлому либо вообще не уделялось внимания, либо оно было незначительным, и Африка интересовала лишь как одно из направлений европейской экспансии.
Задача, к решению которой в 1950-1960-е годы все больше стали обращаться африканские ученые, состояла в том, чтобы показать наличие у Тропической Африки своей истории, возникшей задолго до колониального периода". Уже в конце XIX - начале XX века африканцы и афро-американцы начали развенчивать европоцентричный стереотип о неисторическом прошлом Африки. В Соединенных Штатах У.Э. Дю Бойс и Лео Хансберри пытались искать африканскую идентичность с незапамятных времен. Они не ставили перед собой цели изучить историю для построения нации, как это делали более поздние африканские историки; для Дю Бойса, специалиста по исторической социологии и марксиста с откровенной антиимпериалистической и антиколониальной программой и воинствующей защитой расового равенства в Соединенных Штатах и Африке, задача заключалась в создании панафриканской идентичности, превосходящей национальные или этнические границы3. В конце XIX - начале XX века новая национально-ориентированная африканская культурная элита пыталась объединить европейские идеи демократии и экономического роста с повторным открытием африканских традиций. Еще во второй половине XIX века в британской Западной Африке аналогичного синтеза добивался Эдвард Уилмот Блайден4. В первой половине XX века Леопольд Сенгор5, франкоязычный поэт и первый президент независимого Сенегала (1950-1981), ратовал за то, что он называл пе^г\Чийе ,
1 Цит. по: Toyin Falola, 'Nationalism and African Historiography' // 0. Edward Wang and Georg G. Iggers, eds, Turning Points in History: A Cross Cultural Perspective (Rochester, 2002), 211-212.
2 См. главу по африканской историографии в недавно изданной работе Маркуса Фёлкела: Markus Völkel, Geschichtsschreibung: Eine Einführung in globaler Perspektive. Köln, 2006, 360-372; см. также: UNESCO, General History of Africa. London, 1978-2000.
3 David L. Lewis, W. E. B. Du Bois: Biography of a Race, 1868-1919. New York, 1993; также: William Wright, 'The Socialism of W. E. B. Du Bois', дисс. ... доктора наук в Университете Нью-Йорка в Буффало, 1985.
4 Falola, 'Nationalism and African Historiography', 213.
[ibid., 214-215.
* Негритюд (фр. Négritude) - культурно-философская и идейно-политическая доктрина, теоретическую базу которой составляет концепция самобытности, са-
332
ГЛАВА6
возвращение того, что он считал духом африканского прошлого и отличительной особенностью африканцев, которые он хотел соединить с насущными потребностями современной цивилизации. Человеку со стороны понятие négritude может показаться чрезмерно узкой концепцией Черной Африки, игнорирующей культурные, религиозные и этнические различия Тропического пояса этого континента. Однако последние годы существования британских, французских, бельгийских и португальских колоний показали растущее намерение ищущей независимости непрофессиональной элиты доказать, что Африка действительно имела историю. Колониальный период рассматривался как относительно короткий эпизод в долгой африканской истории1.
Профессионализация исторической науки в Черной Африке как ответ научно-академической среды на колониальную интерпретацию африканской истории произошла относительно поздно, только после окончания Второй мировой войны, но сразу после этого очень быстро добилась успеха. Первоначальный стимул этому был задан извне, в Великобритании и Северной Америке, где ученые неафриканского происхождения уже избавились от прежнего имперского пристрастия рассматривать Африку только в контексте европейского колониального господства и обратились к африканской истории. Важно отметить, что в попытке деколонизировать африканскую историографию возникло международное сообщество ученых, включающее в себя как западных историков, так и историков Черной Африки. Вскоре после окончания Второй мировой войны был расширен Институт восточных исследований в Лондоне, и в его названии отныне появились африканские исследования. В 1948 году Лондонский университет основал три университетских колледжа, в Нигерии, Гане и Уганде. Вскоре в Нигерии появились и другие университеты, один из них, располагающийся на севере страны, имел исламский уклон. Другие университеты были созданы в британских и французских колониях и в бывшем бельгийском Конго. Поначалу преподаватели в бывших британских колониях были преимущественно англичанами, но после того как в 1962 г. связь между африканскими университетами и Лондоном была разорвана, они постепенно, хотя и не тотально, были заменены африканцами2. Профессионализация исторической науки очень быстро
моценности и самодостаточности негроидной расы. Зародилась в XX веке. Основоположниками негритюда считаются сенегалец Леопольд Седар Сенгор, мартиниканец Эме Сезер, гвианец Л. Г. Дамас.
1 См.: J. F. Ade Ajayi and Е. J. Alagoa, 'Sub-Saharan Africa' // Georg G. lggers and Harold T Parker, eds, International Handbook of Historical Studies: Contemporary Research and,Theory. Westport, CT, 1979, 411.
2 О начале академической истории в Африке см.: J. F. Ade Ajayi and Е. J. Alagoa, 'Sub-Saharan Africa', ibid, которая была написана двумя наиболее выдающимися историками Ибаданской школы. См. Также: Andreas Eckert, ’Historiker, “nation building” und die Rehabilitierung der afrikanischen Vergangenheit. Aspekte der
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ...
333
дала свои результаты. Наиболее важным из ранних центров был Ибаданский университет. Именно оттуда Кеннет Онвука Дике и его более младший коллега Иаков Аджайи, оба учившиеся в Лондонском университете, в 1950-е годы начали превращать африканские исследования в строгую академическую дисциплину, согласующуюся с международными стандартами, и заложили основы того, что впоследствии стало известно как Ибаданская школа. В своей написанной в Лондоне диссертации «Торговля и политика в дельте Нигерии в 1830—1885»1 Дике активно использовал как печатные документы, так и источники устного происхождения и тем самым внес свой вклад в легитимацию устных традиций как законного источника исторических исследований, а не только фольклора. В 1952 году Дике принял участие в создании Национального архива Нигерии, Национального музея и Института африканских исследований в Ибадане. Он помог запустить Ибаданскую историческую серию и «Журнал исторического общества Нигерии». Исследования Аджайи касались формирования в XIX веке элиты Нигерии, но историки Ибаданской школы занимались и доколониальной историей, используя для этого архивные, устные, археологические и лингвистические источники, а также письменные источники арабского происхождения. Ибаданская школа внесла свежую струю в африканские исследования, но профессиональные ассоциации и журналы появились и в других местах, примером чему могут служить «Труды Исторического общества Ганы». Историческое общество Нигерии стало выпускать специальные периодические издания для преподавателей и студентов. На международных конференциях собирались вместе ученые-африканисты из разных стран Африки, Европы и Северной Америки2.
Об увеличении роли африканских ученых-профессионалов в африканских исследованиях и одновременно новом для них направлении можно судить по вышедшей под эгидой ЮНЕСКО восьмитомной «Истории Африки»3. Работа над проектом протекала под академическим контролем международного научного экспертного комитета; большинство редакторов этих восьми томов были черными африканцами. Второй том, посвященный периоду до VII века, редактировался египтянином, со-редакторами следующего тома, охватывающего VII—IX века, стали марокканец и чех. Редакторами остальных томов
Geschichtsschreibung in Afrika nach 1945'// Wolfgang Kuttler, Jom ROsen and Ernst Schulin, eds. Geschichtsdiskurs, vol. 5. Frankfurt am Main, 1999, 162-190.
1 Kenneth Onwuka Dike, The Trade and Politics in the Niger Delta 1830-1885: An Introduction to the Economic and Political History of Nigeria. Oxford, 1956.
2 See Falola, 'Nationalism and African Historiography' and Ajayi and Alagoa, 'Sub- Saharan Africa'.
3 UNESCO, General History of Africa; about the composition of the editorial staff, see Ajayi and Alagoa, 'Sub-Saharan Africa', 417.
334
ГЛАВА 6
были ученые из Тропической Африки: первый том, касающийся методологии и предыстории Африки, вышел под редакцией ученого из Верхней Вольты (ныне Буркина-Фасо); два тома, в том числе последний по истории независимой Африки, - под редакцией кенийских ученых; и оставшиеся - под редакцией ученых из Гвинеи, Ганы и Нигерии. Кроме этого, важно отметить, что большинство томов были посвящены доколониальному периоду, что, стало быть, устанавливало континуитет истории Черной Африки.
Ключевым вопросом, к которому обратились ученые, стал выбор методологии исследования каждого периода истории Тропической Африки, учитывая недостаток письменных источников. Конечно, были археологические и лингвистические источники и немного архивных. Но другой важной проблемой при работе с архивными источниками по Тропической Африке являлось их преимущественно внешнее происхождение, арабское или европейское. Важным источником для заполнения имеющихся во внешних источниках лакун стали устные предания. Как только был установлен корпус арабских и европейских трудов по Тропической Африке, местные ученые начали записывать устные предания и составлять хронику текущих событий. Когерентность и противоречия между этими источниками обязательно проверялись при помощи сравнительных методов. Требовалась куда более сложная методология, чем для западной или арабской историографий, которые могли опереться на гораздо более доступные письменные источники. Однако не следовало недооценивать и устные источники. Африканские исследования требовали широкого междисциплинарного подхода, использования наряду с историческим археологических и лингвистических методов, как это делалось в региональных исследованиях, инициированных Ибаданской школой1.
Но вскоре Ибаданская школа, так же как созданные до этого историографии Индии и Латинской Америки, стала объектом критики за свою сосредоточенность на элитах и пренебрежение простыми людьми2. Свою задачу они видели в подведении основы для создания нации, что доказало существование африканских государств в доколониальный период. Присутствовала тенденция сосредоточения на героических лидерах, типа королей и принцев, и искажения реального прошлого с целью создания мифов, которые могли быть использованы для конструирования национального самосознания. В 1970-1980-е годы гораздо больше внимания стало уделяться социально-экономической истории и предприниматься попытки обращения к более широким
1 Cm.: Ajayi and Alagoa, 'Sub-Saharan Africa'.
2 Cm.: Andreas Eckert, 'Nationalgeschichtsschreibung und koloniales Erbe. Historiographie in Afrika in vergleichender Perspektive' // Christoph Conrad and Sebastian Conrad, eds, Die Nation schreiben. Geschichtswissenschaft im internationalen Vergleich. Göttingen, 2002, 78-111.
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ...
335
слоям населения, что не сильно отличалось от того, что было сделано в это время в каждом из тех регионов мира, которые мы уже рассмотрели. Историография социалистической Танзании с самого начала пыталась двигаться в этом направлении. Некоторые историки Салаам- ского университета выступили против «буржуазной националистической истории» 1960-х годов1. Они выступали за историю с гораздо большим акцентом на антиколониальном сопротивлении со стороны широких слоев населения. Одной из важных тем для изучения стало восстание Маджи-Маджи 1905-1907 годов в немецкой Восточной Африке2. В Танзании, как и в Нигерии, нео-марксистские подходы играли все большую роль в критике историографии 1960-х годов. Точно также как это было в случае с Латинской Америкой и Индией, эта критика, проводившаяся с целью объяснения экономического отставания Африки, опиралась на теории зависимости.
В Южной Африке, белые англоговорящие историки и ученые- африканеры , к которым постепенно присоединились чернокожие, первоначально имевшие небольшой доступ к академическим институтам и исходившие из марксистских концепций классового анализа, обратились к изучению низших групп населения, таких как белые и черные рабочие на шахтах и сельское население. Вышедшая в 1982 году двухтомная история города Витватерсранд пролила свет на пришедших в город бедняков с белым цветом кожи, устроившихся мойщиками и работавших за копейки рикшами, на роль алкоголя и проституции в привлечении белокожих и чернокожих рабочих на золотые рудники и на поставку дешевой рабочей силы из-за переделов Южной Африки3.
Повышение профессионализации историков во франкоговорящей Африке происходило медленнее4. Самым важным центром был Университет Дакара, тогда единственный университет во франкоговорящем Сенегале. Было несколько причин этому отставанию. Одной из них являлось то, что поддержка Сенегалом теории négritude способствовала тому, что поэтические и эстетические подходы к изучению прошлого превалировали над серьезными историческими исследованиями. Другая заключалась в сохранении Францией значительного контроля над академическими исследованиями в ее бывших колониях. В результате в течение долгого времени не было ни одного африканца, который бы преподавал историю в университете во франкоязычной Африке. Существующие во Франции высокие квалификационные
1 Ibid., 96.
] Ibid., 98.
Африканеры - ученые голландского происхождения, говорящие на афри-
кансе.
3 David Birmingham, 'History in Africa', in Bentley, Companion to Historiography, 692-708.
4 Eckert, 'Nationalgeschichtsschreibung'.
336
ГЛАВА 6
требования для преподавания в университете - кандидатам в дополнение к первой требовалась вторая, более обширная докторская диссертация, в результате чего кандидаты не могли получить искомую квалификацию вплоть до сорока лет - означало, что до 1979 года ни один африканский историк не имел возможности руководить диссертационным исследованием. Несмотря на это, к 1970-м годам возросло количество историков, проводящих серьезные исследования, даже не имея на это полного французского мандата. Франкоговорящие историки создали континентальную ассоциацию африканских историков и в 1974 году начали выпуск своего собственного журнала Afrika Zamani. Revue d\Histoire Africaine («Африка сегодня. Журнал истории Африки»). Сосредотачиваясь первоначально на политике и героических лидерах прошлого как части нациостроительства, они, как и представители Ибаданской школы, шли по пути своих англоговорящих коллег, но затем обратились к социальной, экономической и этнологической истории. Другими важными темами изучения стали работорговля и роль ислама
Это лишь отдельные примеры развития исторической науки на огромном континенте. Тем не менее можно сделать некоторые обобщения. Европоцентристское представление об Африке как континенте без истории кануло в лету (кстати, в том числе благодаря африканистике за пределами Африки). В 1960-е годы африканские историки склонялись к обнаружению роста африканского национализма и национального государства по европейской модели. К 1970-м годам они стали больше сосредотачиваться на сопротивлении колониализму и попытке вновь обрести в нем заглушенный аутентичный голос Африки. При рассмотрении 1970-1980-х годах из современного нам 2007 года обнаруживаются два печальных последствия. Позитивная сторона заключается в том, что профессионализация африканских исследований внесла свой вклад в осознание идентичности Черной Африки. С другой стороны, сосредоточение исторической науки в академических центрах привело к потере ее тесной взаимосвязи с широкими слоями населения. Нефтяной бум 1970-х годов создал условия для расширения университетов, исторических факультетов и финансирования исследований, особенно (но не только) в Нигерии. Затем в 1980-е наступили голодные годы, годы экономического спада и радикального сокращения ресурсов, в результате чего огромное число (возможно, большинство) ученых вынуждены были искать работу в неакадемических сферах. Многие из них вообще эмигрировали, прежде всего в Соединенные Штаты, прекратился выпуск журналов, а библиотеки не могли больше закупать даже самые важные книги и периодические издания. В итоге то, что в 1970-е годы казалось столь обнадеживающим - интеграция африканской науки в международное сообщество, - наткнулось на серьезные препятствия. 11 Ajayi and Alagoa, ’Sub-Saharan Africa', 413.
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ...
337
Постмодернизм и лингвистический поворот
Одновременно с этими переориентациями в историописании в 1970-1980-е годы шла очень живая дискуссия о природе исторического знания и его познавательных возможностях. Начиная с 1980-х годов возникли новые теоретические позиции, сочтенные постмодернистскими, хотя представители постмодернизма слишком не похожи друг на друга, чтобы назвать их группой или направлением. Тем не менее, существовало некоторое количество идей, тяготеющих к радикальному историческому и эпистемологическому релятивизму и разделяемых мыслителями, отождествляемыми с постмодернизмом. Постмодернистские дискуссии шли преимущественно в академической среде среди теоретиков литературы сначала в 1960-е годы во Франции, а затем особенно в Соединенных Штатах, и в меньшей степени - среди философов, исторических антропологов и лингвистов. Историки принимали участие в обсуждении этих идей и, как мы уже видели, разделяли большую часть критики современного мира и свойственных ему научных подходов. Но на практике, будучи историками, они не могли принять идею, согласно которой история была не чем иным, как формой художественной литературы. Хотя они и осознавали, что воображение присутствует в каждом историческом нарративе, где существует проблема неадекватности источников, эти элементы воображения не были вымышленными, а, как указала Натали Дэвис, стимулировались документально подтвержденными «голосами прошлого»1 с целью реконструкции и лучшего понимания прошлого, даже если эти представления откровенно несовершенны.
Постмодернизм следует осмысливать в контексте критики современного постиндустриального капиталистического общества. Он был стимулирован протестными движениями 1960-х годов, движением за гражданские права в Соединенных Штатах, оппозицией войне во Вьетнаме, феминистской активностью и, наконец, либерализацией гомосексуализма. Сам термин «постмодернизм» вошел в широкое употребление только после выхода книги Жана-Франсуа Лиотара «Состояние постмодерна», в которой он определил постмодернизм как «недоверие к метанарративу» как идее прогрессивного развития или существования единственной «истории», разделяемой сторонниками либерального капитализма и марксистского социализма1 2. Как впоследствии сформулировал Кит Дженкинс «постмодернизм - это не
1 Davis, Return of Martin Guerre, 5 (рус. пер.: H. Земон Дэвис. Возвращение Мартина Герра).
2 Jean-Francois Lyotard, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge Minneapolis, IL, 1984 (рус. пер.: Лиотар Жан-Франсуа. Состояние постмодерна. СПб., 1998.)
338
ГЛАВА 6
идеология или точка зрения, к которой мы присоединяемся или нет, постмодернизм - это именно наше состояние: это наша историческая судьба жить в это время». Это ответ на «общую неудачу модерна... на начатую в XVIII веке в Европе попытку повысить уровень социального и политического благосостояния посредством апелляции к разуму, науке и технологии. (...) История сегодня - это фактически еще одна необоснованная, позиционированная экспрессия в мире других необоснованных и позиционированных экспрессий»1. Короче говоря, постмодернизм представляет собой глубокое разочарование в проекте Просвещения, в вере в научный прогресс, являющийся ядром современного мировоззрения.
В течение 1980-х годов термин «постмодернизм» по большей части заменил собой термин «постструктурализм», хотя последний содержал в себе сходные предположения о природе истории и исторического знания. Термин «постмодернизм» более решительно, чем «постструктурализм», подчеркивал, что современного мира, такого, каким мы его знаем, больше нет, и что сегодня мы живем в абсолютно другом мире, хотя критики постмодернизма могли заявлять о том, что этот другой, современный нам мир, непредставим без мира модерна, продолжением которого он является и от которого он так и не освободился. Постструктурализм появился во Франции в 1960-е годы как реакция на структурализм, но на самом деле продолжал разделять некоторые базисные установки последнего. Мы уже рассматривали структуралистский подход к истории Фернана Броделя. Бродель хотел преодолеть нарративно-, событийно- и личностно-ориентированый подход традиционной историографии и отверг представление об истории как однонаправленном прогрессивном процессе. Эти же проблемы были центральными и в структурной культурной антропологии Клода Леви-Стросса, для которого, как и для Клиффорда Гирца, культуры следует рассматривать в их символическом значении, а это требует интерпретации. Начиная с XIX века культурная антропология проводила четкое различие между народами по общему признанию примитивными, не обладающими письменностью и не имеющими истории2 (они-то и составляли предмет ее изучения), и народами цивилизованными, особенно народами современного Запада со свойственной им идеей поступательной истории. Леви-Стросс пересмотрел эти представления и показал, что эти предположительно примитивные народы на самом деле обладали осознанным мировосприятием и системой ценностей, и отказался считать, что в поисках ответов о смысле жизни современная научная рациональность имеет преимущества перед мифологическим мышлением примитивных народов3.
1 Keith Jenkins, ed., The Postmodern History Reader. London, 2000, 'Introduction', 3, 4, 6.
2 Wolf, Europe and the People without History.
3 Claude Lévi-Strauss, Savage Mind. Chicago, IL, 1968.
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ...
339
Ключ к конституированию сообществ и культур структуралисты, постструктуралисты и постмодернисты видели в языке. Это привело к так называемому «лингвистическому повороту». Этот поворот принял несколько более или менее радикальных форм. Язык традиционно рассматривался как способ отсылки к реальному миру. Теоретики постструктурализма и постмодернизма рассматривали язык как автономную систему, независимую от реальности, но фактически конструирующую ее. Эта идея языка как автономной системы, обладающей синтаксической структурой, появилась ранее в «Курсе общей лингвистики» швейцарского лингвиста Фердинанда де Соссюра1. Соссюр не дошел до того, чтобы отрицать, что знаки, т.е. составляющие язык акустические образы, и обозначаемые ими объекты (означаемые) не имеют отношения к реальности, но полагал, что язык является не средством передачи значения, а наоборот, значение является функцией языка. Другими словами, мысли людей определяются языком.
В 1970-1980-ее годы в историописании часто признавалась важная роль языка в процессе сотворения истории, но отрицалась радикальная точка зрения, согласно которой язык не отсылает к реальности, а создает ее. Тем не менее, признавалась важная роль языка в формировании исторического сознания. Так, Квентин Скиннер из Кембриджского университета и Джон Покок из Университета Джона Хопкинса, двигаясь от традиционной истории идей к анализу политического дискурса, задали новое направление интеллектуальной истории. Рейнхард Козеллек с немецкими коллегами опубликовал многотомную энциклопедию Geschichtliche Grundbegriffe («Основные исторические понятия»)2, в которой проанализировал некоторые политические и философские понятия в Германии с середины XVIII до середины XX века. Посредством этого он попытался понять те фундаментальные изменения, которые произошли в то время, которое Козеллек считал критическим в трансформации старого порядка в современный социальный и культурный порядок. Мы уже говорили о роли, которую Линн Хант, Морис Агулхон и Мона Озуф отводили языку, знакам и символам при анализе Французской революции и французских республиканских традиций. Уильям Севелл в работе «Труд и революция во Франции: язык труда от старого порядка до 1848 года», рассмотрел решающую роль языка в формировании революционного сознания рабочих. Гарет Стенман Джонс в работе «Языки класса: исследования по истории английского рабочего класса в Англии», как и Э. П. Томпсон, рассмотрел формирование английского рабочего класса. Он признал вклад Томпсона в освобождение рабочего класса от его непо¬
1 Соссюр Фердинанд де. Курс общей лингвистики. М., 2004
2 Otto Brunner, Werner Conze and Reinhart Koselleck, eds, Geschichtliche Grundbegriffe, 8 vols. Stuttgart, 1972-97; см. также: Melvin Richter, The History of Political and Social Concepts: A Critical Introduction. New York, 1995.
340
ГЛАВА6
средственной связи с экономическим базисом, но сделал больший акцент на роли языка в формировании классового сознания. Сосредоточившись на чартизме, он утверждал, что подъем и падение чартистского движения намного меньше определялись экономическим спадом, чем политическим языком. Аналогичным образом Томас Чил- дерс исследовал избирательные кампании в Веймарской республике, способствовавшие приходу нацистов к власти, и подчеркнул, что такие основные понятия, как «кровь», «честь», «нация» и «народ» {Volk) не являлись объективным отражением реальности, а имели эмоциональную и политическую окраску1.
И все-таки, несмотря на то, что Севелл, Стедман Джонс и Чилдерс подчеркнули ту степень, до которой язык не только описывает, но и конструирует социальную реальность, все они принимали факт существования такой реальности и видели в языке средство ее изучения. В это же время теоретики, более тесно связанные с постмодернизмом, отрицали это. Они рассматривали язык как автономную синтаксическую систему, замкнутую и не отражающую реальность, а создающую ее. Развивая эту идею еще дальше, Жак Деррида утверждал, что никакой системы или связности в языке не существует. Историк, как впрочем, и любой читатель, имеет дело с текстами, а не с объективной реальностью. Мы уже отмечали, что подобным образом - как нуждающиеся в прочтении тексты - Гирц рассматривал культуры. Как сказал Деррида: «нет ничего, кроме текста». Разными читателями текст может быть прочитан по-разному. Для того чтобы показать его внутренние противоречия, его следует подвергнуть «деконструкции». О независимости текста от его автора писал и Фуко2. Следовательно, авторская интенция не является абсолютно определяющей.
В чем значение этих мыслей для истории? Еще в 1960-е годы. Ролан Барт подчеркнул, что лингвистический характер историописания позволяет сделать вывод о том, что не существует никакой разницы между историей и литературой, или фактом и вымыслом. Он высказал недовольство по поводу того, что «реализм исторического дискурса является частью культурного шаблона... [что] указывает на отталкивающий фетишизм “реального”»3. Хейден Уайт в своей работе «Метаистория: историческое воображение в Европе девятнадцатого века»
1 Thomas Childers, 'The Social History of Politics in Germany: The Sociology of Political Discourse in the Weimar Republic', American Historical Review, 95:2. 1990, 331-358.
2 Michel Foucault, 'What Is an Author?' // Jose Harari, ed., The Foucault Reader. New York, 1984, 101-120 (рус. пер.: M. Фуко. Что такое автор // Фуко Мишель. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. Пер. с фр. М., 1996).
3 Roland Barthes, The Discourse of History', tr. Stephen Bann // Comparative Criticism: A Yearbook, 3, (1981), 3-28 (рус. пер.: P. Бапт. Дискурс истории // P. Барт. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М., 2003. 427-441)
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ...
341
в отличие от Барта не был столь категоричен в отрицании существования исторических фактов, но подчеркнул, что любая попытка написать историю требует поэтического воображения. По-прежнему рассуждая в терминах структурализма, модифицированных им впоследствии в стиле дерридианского постмодернизма, он утверждал, что способ написания истории опосредован ограниченным числом риторических тропов. История для него, таким образом, была в основе своей продуктом поэтического воображения. «Исторические нарративы, - писал он в 1978 году, - это вербальные фикции, содержание которых столь же выдумано, сколь и найдено» '. Историографию, таким образом, следует рассматривать как литературный жанр, подчиняющийся критериям литературы. Но это не оставляет никаких критериев для определения исторической истины. Решение, что считать правдой, определяется, по его мнению, скорее эстетическими и моральными ракурсами, чем фактическими данными. Это поставило Уайта в очень сложную ситуацию, когда Сол Фридлендер 1 2 и Кристофер Браунинг поставили вопрос о том, как историкам относиться к Холокосту. Уайт не утверждал, что никакого Холокоста не было; считать так было бы «с моральной точки зрения столь же неприемлемо»3. Но он по- прежнему настаивал на невозможности объективной реконструкции Холокоста. История Холокоста должна подчиняться таким же риторическим моделям, которые применяются для описания любых других исторических событий, что означает, что как только в процессе создания нарратива она выходит за пределы фактов, она становится интерпретацией и с этого момента уже не может быть доказана или опровергнута. Пока интерпретации искажают факты, не существует объективной основы для их сравнения. Уайт подверг сомнению утверждения Кристофера Браунинга, который в своей работе «Обыкновенный человек» осуществил реконструкцию того, как гамбургский полицейский батальон произвел массовое убийство в Польше4, подчеркнув, что Холокост не был в первую очередь конструкцией историка. Скорее, заметил он, «существует постоянное диалектическое взаимодействие между тем, что историк привносит в исследование и тем, каким образом исследование влияет на историка»5.
1 Hayden White, Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-century Europe (Baltimore, MD, 1973) (рус. пер.: Уайт X. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2002).
1 Saul Friedlander, ed., Probing the Limits of Representation: Nazism and the 'Final Solution'. Cambridge, MA, 1992.
3 Цит. no: Christopher Browning, 'German Memory, Judicial Interrogation, and Historical Reconstruction: Writing Perpetrator History from Postwar Testimony' // Friedlander, Probing the Limits of Representation, 32.
4 Christopher Browning, Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland. New York, 1992.
5 Browning, 'German Memory', 31.
342
ГЛАВА 6
Позиция теоретиков, которых мы неопределенно назвали «постмодернистами», содержит два неустранимых противоречия, одно из которых касается исторического знания, другое - этической оценки. Легко провозгласить историю всего лишь формой литературы. Конечно, изложенная в письменной форме история обладает литературными аспектами, но она все-таки является чем-то большим, чем художественная литература. Она всегда связана с попыткой реконструировать прошлое и имеет дело с реальными людьми и реальными обстоятельствами в историческом контексте, независимо от того, насколько сложна и косвенна эта процедура. Нет истории без исследования, в том числе историю создает какой-нибудь постмодернист, как это сделала Джоан Скотт о женщинах девятнадцатого века. Перед этим она занималась поисками тех ракурсов рассмотрения французских женщин, которыми обычно пренебрегают, видя в женщинах исторических агентов, восстанавливая их жизни и участие в политической и социальной жизни. В соответствии с установленными правилами исследования она обратилась к источникам, даже если она и интерпретировала свое исследование иначе. Но, в конечном счете, исторические нарративы обязаны пройти проверку на то, являются ли они правдивыми репрезентациями или домыслами воображения. Симон Шама в своей книге «Мертвая достоверность: неоправданные спекуляции» изложил многочисленные истории смерти одного британского генерала в годы франко-индийской войны и различные версии одного убийства в середине XIX веке, в которое был вовлечен профессор Гарварда, ни одна из них не может быть подтверждена или опровергнута. Тем самым он поднял важный вопрос о самой возможности исторического знания. Джонатан Спенс в работе «Дело Ху» отказался от глубокого изучения китайской истории периода династий Мин и Цин ради того, чтобы рассказать историю кантонского католика Ху, оказавшегося в начале XVIII века в Европе. Опираясь на документальные источники, он попытался восстановить образ мыслей Ху. Но в основном его подход был подобен тому, что делала Натали Дэвис в «Возвращении Мартина Герра». Он не пользовался своим воображением произвольно - он заполнял им то, что казалось вероятным.
Кроме того, существует противоречие между решительным отрицанием ценностей Просвещения и действительными ценностями, которые разделяют рассмотренные в этом разделе теоретики. Для них история (еще раз процитируем Кита Дженкинса) - это «необоснованная, позиционированная экспрессия в мире других необоснованных и позиционированных экспрессий». Современный мир, этот продукт просвещения, рассматривается в терминах господства, класса, подчинения женщины и подавления маргинальных групп и индивидов, в том числе гомосексуалистов, которые не подчиняются правилам. Указание на эти аспекты подавления и эксплуатации является одним из позитивных вкладов постмодернистской теории, хотя эти темы до¬
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ...
343
вольно часто поднимались в социальной и культурной истории, не разделявшей крайний эпистемологический релятивизм постмодернизма. Но в их справедливой критике негативных сторон современной цивилизации и тех способов, при помощи которых знание, будь то научное, техническое, социальное или гуманитарное, использовалось в качестве инструмента подавления, Барт, Фуко, Уайт, Поль де Ман1, Лиотар, Жан Бодрийяр и особенно Ж. Деррида обратились к таким философам, как Фридрих Ницше и Мартин Хайдеггер. Оба были откровенно антидемократичны. Тем не менее, Деррида, человек левых взглядов, признавал Ницше и особенно Хайдеггера важными источниками своего мировоззрения. От Хайдеггера он воспринял осуждение западной философской традиции и рационального мышления, начиная с Греции, а не только в период Просвещения, как «логоцентрическое», нуждающиеся в замене мифологическим подходом. Скотт обратилась к Деррида, чтобы заложить основы феминистского прочтения истории. Она доказывала, что пол является не природной данностью, а социально-культурным конструктом в историческом контексте. Она указала на маскулинный характер языка и большинства интеллектуального наследия Запада. Но она пошла еще дальше, поддерживая свою интерпретацию языковой концепции Деррида как основу для феминистской политики, не сумев понять, что лингвистический детерминизм Деррида практически не оставлял места для активной политической программы. Она и далее рассматривала всю сложность мира как полностью языковой конструкт, критикуя Гарета Стедмана Джонса, который подчеркивал центральную роль языка в классовом сознании за то, что он «опять вернулся к мысли о том, что язык отражает внешнюю по отношению к нему “действительность”, а не конструирует ее»2.
Но если следовать за Джоан Скотт, то, как можно писать историю, даже феминистскую историю? И, как мы и предположили, история, которую она пишет, допускает, как и вся феминистская история, существование реального мира с реальными людьми, находящимися под глубоким влиянием языка, но не являющимися его чистой конструкцией.
1 Находясь в оккупированной нацистами Бельгии, де Ман подписал коллаборационистский документ, в том числе явно антисемитские статьи.
2 Joan Wallach Scott, 'On Language, Gender, and Working Class History’, in her Gender and the Politics of History, 53-67.
344
ГЛАВА 7
ПОДЪЕМ ИСЛАМА И УПАДОК МАРКСИЗМА: ИСТОРИОПИСАНИЕ В АЗИИ И НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ В КОНЦЕ XX ВЕКА
Упадок и подъем марксистской историографии в Восточной и Юго-Восточной Азии
Обновление Японии: послевоенная реформа исторического образования и историописания
Поражение Японии во Второй мировой войне ознаменовало новую эпоху в мировой истории. Кроме того, это событие открыло новую главу в японской историографии и в историографии Восточной и Юго-Восточной Азии в целом. Во время американской оккупации Японии (1945-1952) генерал Дуглас Маккартур, хотя и пытался сохранить прежнее положение японского императора, делал все возможное, чтобы подорвать те японские традиции, как политические, так и культурные, которые, по его мнению, являлись источником агрессивности и милитаристского духа страны в первой половине XX века. В 1947 году под его непосредственным руководством главнокомандующий союзническими силами составил для Японии проект новой конституции, которая предоставляла права женщинам и трудящимся и расширяла избирательное право, на основе чего и был избран новый Парламент. Конституция гарантировала свободу слова, публичных собраний, политических партий и объединений. Вместе с возрождением профсоюзных и социалистических движений стала стремительно развиваться и марксистская историография, которая теперь обрела в Японии невиданную ранее свободу. Основной своей задачей на тот момент историки-марксисты считали критику и осуждение довоенной и военной историографии и исторического образования, что также привело их к исследованию пути модернизации Японии. К этому проекту присоединились и историки-«модернисты», представлявшие другую важную историческую школу послевоенной Японии.
ПОДЪЕМ ИСЛАМА И УПАДОК МАРКСИЗМА...
345
Во время войны в области исторических исследований доминировала «имперская историческая школа», которая насаждала свои взгляды и в учебниках истории. Хорошим примером может служить учебник для средних школ «Введение в национальную историю», опубликованный Министерством образования в 1943 году. Это была явная попытка внушить японской молодежи мысль о священности японской нации, ядром которой является японский императорский дом. Некоторые представители школы «культурной истории» (исключая Цуду Со- кити) также разработали тезис «преодоления современности» (kindai по chökoku), с помощью которого они пытались доказать, что уникальная культурная традиция Японии, в которой императорский дом занимает центральное место, позволит стране выйти за рамки западной модели современности. После окончания войны в целях реформации исторического образования в Японии необходимо было лишить японскую императорскую власть ее священного статуса. В 1946 году Министерство образования выпустило новый учебник истории, озаглавленный Kuni по ayumi («Курс [нашей] нации»), начинавшийся разделом по ранним культурам японского архипелага, с опорой на археологические данные, полностью опуская эпоху богов, или божественное происхождение императорского дома1. Это был беспрецедентный и важнейший шаг, так как начиная с реставрации Мэйдзи в большинстве японских учебников истории происхождение страны было представлено в мифологическом ключе; их авторы или не могли или не хотели порывать с традицией династической историографии, сфокусированной на монархическом правлении. Кстати, после войны император отказался от своего божественного происхождения.
Кроме реформирования преподавания истории, перед японскими историками в послевоенный период появилась еще одна чрезвычайно трудная задача: как объяснить недавнее прошлое своей страны - ее агрессивное поведение по отношению к своим соседям с конца периода Мейдзи до начала Второй мировой войны в Азии. И снова ведущую роль в исторических исследованиях взяли на себя историки марксистского направления. В 1946 году Исимода Сё опубликовал свою работу «Возникновение средневекового мира», материалы для которой он в основном собрал во время войны, несмотря на то что находился в черном списке правительства. В «Возникновении средневекового мира» (она стала первым томом серии, которую автор закончил впоследствии) прослеживается развитие феодального землевладения в средневековой Японии. Исимода выразил сочувствие крестьянам, притесняемым крупными землевладельцами. Однако, в соответствии
1 Nagahara Keiji, 20 seiki Nihon no rekishigaku (Японская историография XX века). Tokyo, 2005, 124-145; Yoshiko Nozaki, War Memory, Nationalism and History in Japan: Ienaga Saburo and the History Textbook Controversy, 1945-2005. London, 2005.
346
ГЛАВА 7
со своими марксистскими убеждениями в неизбежный переход от рабовладения к феодализму, он рассматривал весь этот процесс как необходимую стадию для достижения цели - человеческого прогресса. Если эта пессимистичная и детерминистская идея отражала его мрачное настроение во время написания книги по такой теме в условиях милитаристского правления, то содержавшаяся в книге критическая оценка феодализма отражала атмосферу послевоенной Японии, полную сомнений и критики в отношении прошлого страны1. В таком же критичном духе послевоенного периода были написаны и исследования по реставрации Мейдзи, опубликованные Тоямой Сигеки и Иноуэ Киёси. Исследование Тоямы, кроме прочего, продемонстрировало губительное влияние имперской системы на современную японскую историю, а Иноуэ проанализировал реставрацию на фоне борьбы не западных народов против западного колониализма в международном контексте. Продолжив работу историков марксистского направления в довоенный период, оба исследования открыли новое поле деятельности в изучении истории Мейдзи2.
В «модернистском» ключе переход японской экономики от феодальной системы к современной исследовал Оцука Хисао, специалист по европейской экономической истории. Вдохновленный концепцией «идеального типа» Макса Вебера, он проанализировал характерные черты каждого периода и показал их фундаментальные отличия. Стадиальный характер его описания исторического развития общества также отражает марксистское влияние. Работавший в области интеллектуальной истории Маруяма Macao занялся другим аспектом истории Японии, начав исследование интеллектуальных и культурных изменений в Японии в период Токугава. Он выдвинул тезис о том, что японская интеллектуальная традиция обеспечила довоенному милитаризму и статизму «духовную структуру», поскольку к тому времени она еще не настолько изменилась, чтобы позволить таким современным идеям, как индивидуализм и либерализм, пустить глубокие корни в культуре японского общества3.
Рассматривая модернизацию Японии как аберрацию, ставшую причиной милитаризма и империализма в этой стране в начале XX века, как марксисты, так и «модернисты» занимались поисками «нормального» и «зрелого» развития модернизма в европейско-американской
1 Ishimoda Sho, Chuseiteki sekai no keisei (Формирование средневекового мира). Tokyo, 1957. Cp.: Thomas Keirstead, 'Inventing Medieval Japan: The History and Politics of National Identity', Medieval History Journal, 1:1 (1998), 47-71.
2 Toyama Shigeki, Meiji ishin (Реставрация Мейдзи). Tokyo, 1951; Jnoue Kiyoshi. Nihon gendaishi (Современная история Японии). Tokyo, 1951.
3 Otsuka Hisao, Kindaika no rekishiteki kiten (Точка отсчета истории модернизации). Tokyo, 1948 и Max Weber on the Spirit of Capitalism, nep. Kondo Masaomi. Tokyo, 1976; Maruyama Masao, Studies in the Intellectual History of Tokugawa Japan, nep. Mikiso Hane. Tokyo, 1974.
ПОДЪЕМ ИСЛАМА И УПАДОК МАРКСИЗМА...
347
истории, с целью чего они обратились к трудам Мориса X. Добба и Пола М. Суизи. Для марксистов неотъемлемой частью их анализа японской истории была теория социального развития Маркса, т.е. перехода от рабовладения к феодализму и далее к капитализму. Например, Араки Мориаки сделал карьеру на исследовании рабовладельческой системы Японии и ее перехода к феодализму. Для того чтобы определить движущую силу такого социального развития, марксистские историки также разработали тезис о «народной борьбе», привлекая внимание к крестьянским восстаниям и другим массовым движениям для описания и объяснения изменений и прогресса в истории1.
Послевоенный союз между марксистами и «модернистами» показал, что последние благодаря доступной им теперь беспрецедентной свободе могли гораздо более свободно и открыто сотрудничать и обмениваться идеями со своими эмпирически-ориентированными коллегами, а также представителями основного направления японской историографии. В реальности «модернисты» продолжали свои исследования, несмотря на военное время, так как милитаристское правительство не считало их научные интересы вредными, как это было в отношении марксистских историков. В послевоенный период обе группы плодотворно сотрудничали, выпустив в результате несколько важных серий книг по японской истории, наиболее заметной из которых стала Iwanami Kdza: Nihon Rekishi (серия Иванами «Японская история»), опубликованная Iwanami Shoten, являющимся в Японии престижным академическим издательством.
Оживление историографии Японии в послевоенные годы также проявилось в возрождении старых и появлении новых исторических ассоциаций. И опять в авангарде оказались историки-марксисты. В 1946 году Исимода Сё, Тояма Сигеки и другие преобразовали «Ассоциацию исторических исследований», созданную в 1932 году, но распущенную в 1944 году в период милитаристского правления. Во вновь организованной Ассоциации появилось отделение по историческому образованию, члены которого работали над очищением преподавания истории и учебников истории от влияния «империалистической исторической школы». После окончания Второй мировой войны появились и другие исторические организации. Примечательным примером является «Ассоциация по изучению японской истории», основанная непрофессиональными историками для непрофессиональных историков. Все эти ассоциации выпускали собственные журналы. Тем временем и такие старые издания как «Исторический журнал», претерпели серьезные изменения, адаптируясь к интересам историков нового поколения. К 1950 году с целью возобновления своего участия
1 Araki Moriaki, Nihon h6ken shakai seiritsu shiron (Историческая дискуссия по формированию японского феодального общества). Tokyo, 1984; также: Nagahara, 20 seiki Nihon no rekishigaku, 145-166, 178-180.
348
ГЛАВА 7
в Международном конгрессе исторических наук и координации работы всех существующих исторических обществ японские историки образовали «Японскую ассоциацию исторических исследований». В 1960 году впервые в истории послевоенной Японии эта ассоциация послала делегацию для участия в X Международном конгрессе исторических наук, проводившемся в Стокгольме. С тех пор японские историки регулярно принимают участие в работе этого созываемого каждые пять лет Конгресса и играют активную роль в его организациях и мероприятиях1.
Господство марксистской историографии в Китайской Народной Республике
Если возрождение марксистской школы и исторических организаций продемонстрировало подъем японской историографии в послевоенный период, та же тенденция наблюдалась и в историографии послевоенного Китая. Однако существовали и фундаментальные различия. После своей «горькой» победы над Японией во Второй мировой войне Китай смог вернуть себе Тайвань, а также восстановить свое господство над бывшими иностранными сферами влияния на материке. Однако, несмотря на американскую помощь, националистическое правительство под руководством Чан Кайши не сумело быстро восстановить экономику, что привело к социальным волнениям и политическому протесту. Китайские коммунисты, заработавшие популярность во время и после войны, с советской помощью успешно расширяли свои базы от Маньчжурии до других районов страны. В последовавшей гражданской войне между националистами и коммунистами под руководством Мао Дзэдуна победу одержали последние; изгнав Чан Кайши и остатки его армии в Тайвань, Мао основал в 1949 году Китайскую Народную Республику (КНР).
Смена власти в Китае оказала важнейшее влияние на развитие китайской историографии. Среди прочего, это привело к окончательному роспуску уже долгое время критикуемой и существовавшей на территории континентального Китая Школы исторических источников. Вслед за поражением Чан Кайши, Ху Ши, Фу Сынянь и другие ведущие ученые, не доверяя коммунистам, уехали в Тайвань, Гон Конг и/или на Запад. Тем не менее многие их коллеги и товарищи остались, в частности Гу Цзеган и Чэнь Инькэ, выдающийся историк и правая рука Фу в Институте истории и филологии - частично из-за их разочарования политикой Чан Кайши, частично из-за своей привя¬
1 См. Kokusai rekishi kaigi Nihon kokunai iinkai (МКИН/Японский национальный комитет), ed. Nihon ni okeru rekishigaku no hattatsu to genjo (Развитие и статус исторической науки в Японии). Tokyo, 1959; и Nagahara, 20 seiki Nihon no rekishigaku. 193-195, 292.
ПОДЪЕМ ИСЛАМА И УПАДОК МАРКСИЗМА...
349
занности к китайской культуре. Уехав в Тайвань, Фу Сынянь возглавил Тайваньский университет, основанный японцами в 1928 году, и сделал его местом возрождения Школы исторических источников. Другой базой этой школы стал Институт истории и филологии, который Фу перенес на остров после поражения националистов. Хотя Фу в 1950 году умер, его усилия не пропали даром. Его школа заняла лидирующие позиции в исторических исследованиях в Тайване; с 1958 по 1962 годы Ху Ши был президентом Академии Синика, в состав которой входил Институт истории и филологии, что также способствовало укреплению позиций этой школы и распространению ее влияния1.
Однако материковый Китай был полностью во власти марксистских историков. Вслед за своей победой коммунистические лидеры основали Китайскую академию наук, которую возглавил Го Можо, историк-марксист, специализировавшийся по истории Древнего Китая. Цель Академии наук состояла в том, чтобы составить конкуренцию Академии Синика; частично она была скопирована с советского образца (Академии наук СССР). С начала 50-х и до начала 60-х годов XX века китайские историки рассматривали марксистскую историографию в Советском Союзе как пример для подражания и на самом деле очень близко следовали ее модели. Они приглашали советских историков в Академию наук и многие университеты Китая в качестве консультантов и переводили различные работы русских историков, включая такие пропагандистские труды как «Диалектический и исторический материализм», приписываемый Иосифу Сталину, и «Краткий курс истории ВКП(б)». Также появились журналы, специализирующиеся на переводе работ советских историков. Одним словом, русские труды по марксистской исторической теории и историографии были поставлены на пьедестал вместе с работами Маркса, Энгельса, Ленина и Мао.
Энтузиазм китайских историков в отношении советской марксистской историографии отражал дружбу между этими двумя странами в тот период. Однако несмотря на весь свой пыл, китайские марксисты хотели внести и свой собственный, отличный от других вклад, так как они рассматривали марксизм не только с русской, но и других точек зрения. Например, Го Можо, вероятно, был более знаком с японскими работами по марксизму, такими как труды Каваками Хаджиме, ведь Го провел в Японии значительное время, в начале 1910-х, а затем в 1930-е годы. Вдохновленный марксистской теорией социального развития, Го задался целью доказать существование в Древнем Китае рабовладения и описать его последующий переход в феодализм, что
1 Q. Edward Wang, Inventing China through History: The May Fourth Approach to Historiography. Albany, NY, 2001, 199—202; и Wang Qingjia, Taiwan shixue 50 nian, 1950-2000. (Историописание на Тайване в последние 50 лет, 1950-2000.) Taipei. 2002, 3-42.
350
ГЛАВА 7
напоминает исследование Араки Мориаки. Однако в том, что касается использования источников, Го также находился под влиянием эмпирической традиции Школы исторических источников. Говоря более конкретно, его работа проводилась в русле новаторских исследований по Древнему Китаю Вана Гуовея и других, в которых они занимались компаративными исследованиями традиционных письменных источников и надписей на недавно найденных гадальных костях эпохи династии Шань. На самом деле, начиная с 1930-х годов Го закрепил свою репутацию не только ведущего марксистского историка, но и специалиста в очень узкоспециализированной области изучения гадальных костей - специалиста, способного распознавать и расшифровывать эти древние надписи1.
Несмотря на то что Го Можо также был марксистом, его теория перехода от рабовладения к феодализму в Древнем Китае отличалась от мнения русских синологов в одном аспекте - когда именно это произошло. Хотя они и сходились на универсальности марксовой теории стадиального социального развития истории, не могли прийти к единому мнению относительно того, когда именно в китайской истории произошел переход от стадии рабовладения к стадии феодализма; еще интереснее тот факт, что согласия по этому вопросу не было и среди самих китайских историков-марксистов. В то время как Го Можо считал, что этот переход произошел в конце периода правления династии Чжоу (XXI в. - 256 г. до н.э.), Фан Венлан, старый марксист, присоединившийся к коммунистическому движению в Яньане, отстаивал точку зрения, согласно которой это произошло на несколько веков раньше. Их разница во мнениях вызвала активную дискуссию в сообществе марксистских историков, так как имела непосредственное отношение к более широкому вопросу о применимости марксистских исторических теорий в отношении истории Китая. Кроме того, Фан Венлан выдвинул гипотезу о том, что формирование китайской нации произошло в 221 году до н.э., когда династия Цинь объединила Китай как таковой, несмотря на общепринятое понятие (хотя и на основании европейского исторического опыта) о появлении национальных государств только в современное время. Это представление было одобрено и развито Сталиным в его работе «Марксизм и национальноколониальный вопрос». Подчеркивая тот факт, что китайская нация опередила весь остальной мир, Фан тем самым попытался завуалированно поставить под сомнение универсальность западной истории и прославить уникальность и длительность китайской истории2.
1 См. Guo Moruo, Zhongguo gudai shehui yanjiu (Изучение древнекитайского общества). Beijing, 1989 и ShangZhou guwenzi leizuan (Древние надписи периодов Шан и Джоу). Beijing, 1991.
2 См. Fan Wenlan, Zhongguo tongshi jianbian (Краткая общая история Китая). Beijing, 1956; Q. Edward Wang, 'Between Marxism and Nationalism: Chinese Histori-
ПОДЪЕМ ИСЛАМА И УПАДОК МАРКСИЗМА...
351
Итак, историки КНР были одновременно и марксистами, и националистами; несмотря на то что их страна определенно двигалась в сторону социализма и становилась надежным членом советского блока в образовавшемся в ходе «холодной войны» делении на противоборствующие лагеря, в вопросах разработки новых интерпретаций китайской и мировой истории марксистские историки в Китае не следовали слепо по стопам своих русских коллег. Их вдохновляли те же националистические настроения, которые мотивировали и коллег из немарксистских направлений. Тем не менее после образования КНР последние столкнулись с довольно серьезными трудностями. Им было предложено пройти через казавшийся бесконечным процесс «трансформации мышления», в ходе которого приходилось раз за разом выступать с обвинительной критикой собственных идей. Многие из них попытались (зачастую искренне и серьезно) принять новые идеи и адаптироваться к новой идеологии. Но оставалась еще одна сложная задача - добиться доверия партии. Например, в начале 1950-х годов Гу Цзеган был приглашен на работу в Китайскую академию наук в Пекине и получил должность научного сотрудника в области исторических исследований. Однако единственное «исследование», которым ему разрешили - и заставляли - заниматься в тот период, заключалось в основном в бесконечной самокритике по поводу его «незаконной» дружбы и сотрудничества со своим наставником Ху Ши, который теперь с его пропагандой Школы исторических источников был предметом особой ненависти историков-марксистов1.
Лучше сложилась судьба другого историка немарксистских взглядов Чэня Инькэ. Будучи полиглотом, получившим в течение нескольких лет современное образование в Европе и Америке, он заработал репутацию выдающегося (в качестве представителя Школы доказательного знания) ученого современности, Кроме западного образования Чэнь, потомок известной семьи литераторов, также получил серьезное обучение в классической китайской традиции. После его возвращения с Запада в 1926 году он занялся китайским буддизмом и историей династии Тан. Его эрудиция впечатляла не только учеников, но и коллег и ровесников. Кроме того, его тщательные, основанные на филологическом анализе и изучении разноязычных источников исследования получили одобрение со стороны научного сообщества.
ography and the Soviet Influence, 1949-1963' // Journal of Contemporary China, 9:23 (2000), 95-111. Cp.: Albert Feuerwerker, ed., History in Communist China. Cambridge, MA, 1968; Dorothea Martin, The Making of a Sino-Marxist World View: Perceptions and Interpretations of World History in the People's Republic of China. Armonk, NY, 1990.
1 Ursula Richter, 'Gu Jiegang: His Last Thirty Years', China Quarterly, 90. Jun. 1982, 286-295; Gu Chao, Lijie zhongjiao zhibuhui: wode fuqin Gu Jiegang (Наперекор всему: мой отец Гу Цзеган). Shanghai, 1997; Wang Xuedian и Sun Yanjie, Gu Jiegang he tade dizimen (Гу Цзеган и его ученики). Ji'nan, 2000.
352
ГЛАВА 7
В начале 50-х годов XX века Китайская академия наук предложила Чэню возглавить один из ее институтов истории. Но Чэнь это предложение отклонил. И все-таки правительство было очень заинтересовано в нем и, поскольку к этому времени он уже потерял зрение, даже предоставило ему помощников для проведения исследований. В течение 1950-х и начале 1960-х годов Чэнь продолжал создавать свои научные труды. Однако немарксистская позиция, которую ему, очевидно, удалось сохранить, ограничила сферу его влияния в историческом сообществе1.
На самом деле, работы в 1950-1960-е годы Чэнь Инкэ, несмотря на их впечатляющую разноязычную источниковую базу, уже не привлекали внимания китайских историков. В это время помимо обсуждения вопросов исторической периодизации и происхождения китайской нации историки в КНР были заняты изучением крестьянских восстаний. Вместе с исследованиями по смене феодального землевладения и появлению так называемых «капиталистических ростков» в поздне- перский период Китая эти пять тем, или «пять золотых цветков», как их в то время называли, доминировали в китайской марксистской историографии. Проведение этих исследований подразумевало расширение применимости марксистской теории к изучению китайской истории и игнорирование несовместимости марксистской схемы и существующего корпуса исторической литературы. Например, для того чтобы придать ключевое историческое значение роли крестьянских восстаний, историки-марксисты просеивали династические исторические источники в поисках любых подходящих эпизодов. Реконструируя историю с этой «крестьянской» точки зрения, они тем самым пренебрегали элитарным подходом Школы исторических источников и «монархической» традицией династийной историографии2. Этот подход с точки зрения классовой борьбы, как и подобный ему японский, имел своей целью применение к историописанию марксовой теории классовой борьбы.
«Медовый месяц» Китая с Советским Союзом длился не долго. Хрущевская десталинизация отпугнула китайских коммунистических лидеров, и в начале 1960-х годов отношения между двумя странами испортились. На личном уровне Мао был напуган тем, что Хрущев сделал с репутацией Сталина после его смерти. Чтобы не допустить подобного развития событий в отношении себя, в 1966 году он затеял Великую пролетарскую культурную революцию, привлекая студенческую молодежь к поиску в его партии китайских «Хрущевых». Это политическое потрясение, закончившееся только после смерти Мао,
1 Lu Jiandong, Chen Yinke de zuihou ershi nian (Последние двадцать лет жизни Чэня Инькэ). Hong Kong, 1996.
2 Wang, 'Between Marxism and Nationalism’. Cp.: Feuerwerker, History in Communist China.
ПОДЪЕМ ИСЛАМА И УПАДОК МАРКСИЗМА...
353
парализовало историческую науку. Более того, катализатором данного процесса послужила злобная литературная кампания, организованная Мао против исторической пьесы «Хай Жуй уволен» (На1гш baguan), написанной Ву Ханом. Ву, в прошлом последователь Ху Ши, был известным специалистом по истории династии Мин и после присоединения к коммунистическому движению в конце 1940-х годов стал заместителем мэра Пекина. Когда-то метаморфоза, произошедшая с Ву, была в Китае примером для других историков немарксистского направления. Но его пьеса явно задела Мао. Смерть Ву стала первой жертвой кампании Мао и предзнаменованием горькой судьбы его коллег и нации в целом в последовавшей в истории Китая паузе длиной в десять лет (1966-1976)1.
Вызовы марксистской историографии и европоцентризму
В Японии негативные последствия десталинизации подтолкнули марксистскую историографию к поиску новых путей развития. Так называемый «обратный курс», толчком к которому послужило начало «холодной войны», также повлиял на спад лейбористского и коммунистического движений и привел к новой волне политического консерватизма. В этой меняющейся политической атмосфере, на фоне провала в 1960 году Социалистической партии и других организаций левого толка, а также радикальной части студенчества в деле предотвращения ратификации Договора о взаимном сотрудничестве и гарантии безопасности между США и Японией, Коммунистическая партия Японии и историки марксистского направления занялись глубокой самокритикой, в результате чего их прежняя работа по японской истории предстала перед ними в новом свете. Например, в дискуссии по истории периода Сёва (1926-1989) марксистские историки были раскритикованы своими коллегами-немарксистами за их временами догматическое применение теории классовой борьбы. Суть критики заключалась в том, что марксистская историография акцентировала структурные изменения в истории в ущерб реальному жизненному опыту людей. Другими словами, в то время как историки-марксисты изучали историю в свете «народной борьбы», в своем историческом нарративе они зачастую упускали, какие именно изменения происходили в жизни людей. * *1 Тот Fisher, "The Play's the Thing": Wu Han and Hai Rui Revisited' // Jonathan Unger, ed., Using the Past to Serve the Present. Armonk, NY., 1993, 9-45.
* Период СёваJidai Showa, буквально «период просвещенного мира»), или Эра Сева, период японской истории, соответствующий правлению императора Сёва (Хирохито) - 25.12.1926 - 7.01.1989.
12 Зак. 1183
354
ГЛАВА7
Дискуссия по периоду Сева имела важные последствия для развития марксистской историографии в историческом сообществе Японии. Под давлением своих критиков, заставлявших их взглянуть на исторические изменения с разных точек зрения, историки-марксисты начали проявлять сомнение в отношении теории социального развития, одного из краеугольных камней исторической теории Маркса. Они отметили, что, хотя в общих чертах эволюция мировой истории на самом деле представляет собой последовательный переход от рабовладения к феодализму и далее капитализму, ее прогресс не всегда представляет собой единую линию и идет в одном лишь направлении. Они заявили, что иногда в один и тот же временной период сосуществовали два (или более) способа производства (например, феодализм и капитализм) и вида классовых отношений (например, между крестьянами и землевладельцами и между рабочими и буржуазией). Кроме того, историческая эволюция в каждом отдельном регионе приобретает отличительные признаки, сформированные уникальными для этого региона и окружающих его территорий факторами1.
Эти дискуссии обогатили марксистские исследования в историографии и открыли новые перспективы. Еще более важным результатом явилось то, что, возможно, впервые прозвучала критика европоцентризма, который был важнейшим идеологическим базисом развития марксистской и «модернистской» историографий. Как упоминалось ранее, «модернистские» историки часто имели европейское образование и после возвращения в Японию начинали преподавательскую карьеру и исследовательскую работу по европейской истории. Подобно историкам-марксистам, которые отстаивали марксистские исторические теории, основанные на европейском историческом опыте, «модернисты» также выдвигали свои интерпретации японской истории, рассматриваемой на фоне истории Европы. В качестве типичного примера приведем Оцуку Хисао. Вслед за Максом Вебером он сконцентрировал свое исследование на доказательстве «искаженной современности» (у1щапс!а ктсЫ) Японии, сравнивая ее с «нормальной» модернизацией в Европе и Америке. Хотя его работа пролила свет на социально-экономические факторы, приведшие к подъему японского империализма, она также в очередной раз повторила европоцентрический тезис об «отсталости/стагнации» азиатской истории2. Ободренные новым критическим духом, такие марксистские историки, как Эгути Бокуро, поставили этот «модернистский» тезис под сомнение. Теперь в поисках альтернативы европоцентрическому подходу и в целях более разумного сравнения были предприняты попытки рассмотреть историю Японии в восточноазиатском контексте. Например,
1 Nagahara, 20 seiki Nihon no rekishigaku, 1691.
2 Sebastian Conrad, 'What Time is Japan? Problems of Comparative (Intercultural) Historiography', History and Theory, 38:1 (1999), 67-83.
ПОДЪЕМ ИСЛАМА И УПАДОК МАРКСИЗМА...
355
специалист по Китаю Такеучи Ёсими зашел так далеко, что заявил: жалкий провал довоенных попыток Японии модернизироваться должен открыть глаза японских историков на прогрессивность современной китайской истории, которую иллюстрируют образование КНР и ее мятежная позиция и деятельность по отношению к традиции1.
Однако в течение 60-х годов XX века многие японские историки все еще были убеждены в том, что западная модель модернизации является образцом, с котором следует сравнивать историю своей страны и на основе который должен проводиться ее анализ. Когда экономика Японии вступила в период стремительного роста, мгновенно подняв ее в высшие эшелоны индустриального мира, японские историки были еще более заинтригованы «теорией модернизации», предлагавшейся западными учеными. Вдохновленные работами таких американских специалистов по Японии, как Джон У. Холл, Е. Герберт Норман и Рональд П. Дор, в 1960 году они созвали Международный симпозиум по современной Японии, на котором было достигнуто согласие участников по следующим тезисам: 1) проект по модернизации Японии, начавшийся с реставрации Мейдзи, можно считать успешным; 2) эта удачная модернизация проложила путь впечатляющей экономической экспансии Японии в послевоенный период2. Другими словами, вместо обличения японской модернизации в периоды Мейдзи и Тайсё и начале периода Сева как ошибки, ответственной за разрастание милитаризма и империализма, теперь историки взяли на вооружение гораздо более позитивную и вдохновляющую телеологию в отношении прошлого своей страны.
Таким образом, вследствие своего тезиса об «анормальной современности» Японии «модернистская» школа под руководством Оцуки Хисао подверглась такой же нарастающей критике, как и историки- марксисты. Многие из этих критиков работали в Университете Киото, и их противостояние Оцуке, блестящая карьера которого развивалась в Токийском университете, также отражало соперничество между Киотским и Токийским университетами, двумя оплотами науки современной Японии. И на самом деле, в 1960-е годы возродилась когда-то влиятельная Киотская школа. Однако теперь в отличие от довоенного времени в ее составе уже не доминировали философы. Что касается ее влияния в области исторических исследований, теперь самый существенный вклад вносили работы Иманиси Киндзи, антрополога с биологическим образованием, и Умесао Тадао, историка и этнографа, хотя оба были обязаны философским теориям Нисиды Китаро. В отличие от детерминизма марксистской и «модернистской» школ, эти ученые хотели привлечь больше внимания к роли человеческого фактора в
1 Nagahara, 20 seiki Nihon no rekishigaku, 173-185; Takeuchi Yoshimi, What is Modernity? Writings of Takeuchi Yoshimi, nep. Richard Calichman. New York, 2004.
2 Nagahara, 20 seiki Nihon no rekishigaku, 199-202.
356
ГЛАВА 7
эволюции истории и его взаимодействию с непосредственным экологическим окружением. Их теории показали, что развитие японской цивилизации можно интерпретировать по-разному, например, как цивилизацию океаническую, а не континентальную, и находить отличающие ее от соседей черты, бросая тем самым вызов универсальному применению марксистской и модернистской теорий, которые выравнивали региональные различия и исторические особенности1.
Попытка нарисовать позитивную картину культуры и истории Японии была характерна и для работы выдающегося социолога Нака- нэ Тиэ, которая в надежде объяснить экономический успех Японии сравнила характеристики современного японского общества и японской культуры с обществами Китая и Индии2. Когда в своих учебниках истории для колледжей и средних школ историк Иэнага Сабуро представил современную историю Японии в менее позитивном свете, он был подвергнут цензуре со стороны Министерства образования. Его книга не получила официального одобрения, которое все еще требуется для учебников (данные на 2007 год), и в конечном итоге была изъята из обращения. Позднее Иэнага не раз оспаривал решение Министерства в суде с целью нового издания учебника. Не случайно в то же самое время было опубликовано новое исследование по Второй мировой войне в Азии - исследование Хаяси Фусао. в котором он попытался приуменьшить масштаб японской агрессии3. Короче, начиная с 60-х годов XX века, историописание в Японии стало развиваться в двух направлениях. С одной стороны, марксистская историография пережила позитивную трансформацию, дав толчок исследованиям по женской и локальной историям, фольклорной и популярной культурам и культуре меньшинств. С другой стороны, вдохновленные японским экономическим бумом и растущим влиянием Японии в политике «холодной войны», японские историки нового поколения, как и всё общество в целом, все меньше склонялись к критическому рассмотрению прошлого своей страны.
Между марксизмом и национализмом: академическая история во Вьетнаме
Смена руководства в социалистическом блоке повлияла на развитие марксистской историографии и в других странах Азии, хотя степень этого влияния в разных странах была различной. Например,
1 Kawakatsu Heita, Bunmei no kaiyo shikan (Океанический взгляд на цивилизацию). Tokyo, 1997.
2 См., например: Nakane Chie, Japanese Society. Berkeley, CA, 1970.
3 Nozaki, War Memory, Nationalism and History in Japan; и Hayashi Fusao, Dai Toa senso koteiron (Об подтверждении Великой войны в Восточной Азии). Tokyo, 1970.
ПОДЪЕМ ИСЛАМА И УПАДОК МАРКСИЗМА...
357
в послевоенном или постколониальном Вьетнаме, на севере Демократическая Республика Вьетнам (ДРВ) после смерти Сталина сохранила дружеские отношения как с Советским Союзом, так и с Китаем и продолжала получать помощь от обеих стран. Однако после смерти Сталина в их исторической практике произошла заметная перемена. Подобно своим русским и китайским коллегам, вьетнамские историки занимались марксистской историографией при поддержке правительства. Еще в 1953 году, прежде чем нанести смертельный удар по французскому колониальному режиму, Хо Ши Мин и другие коммунистические лидеры Вьетнама организовали Комитет по изучению литературы, истории и географии, в котором не без умысла был создан и археологический отдел. Основной задачей Комитета было создание национальной истории, что отразилось в смене его названия в 1959 году на Институт истории. Однако написание этой новой истории заняло почти три десятилетия. Вслед за своими китайскими коллегами вьетнамских историков беспокоило несоответствие между марксистской теоретической системой и историческим развитием их страны. Чтобы совместить развитие Вьетнама с «универсальным» ходом эволюции истории и определить пять стадий во вьетнамском прошлом, описанном в общих чертах Марксом, они устроили по поводу периодизации горячие дебаты. С этой целью они, в частности, обратились к сталинской работе «Марксизм и национально-колониальный вопрос», которая по сравнению со схематичным описанием Маркса была категорична в универсальности этих пяти стадий (первобытный коммунизм, рабовладение, феодализм, капитализм и социа- лизм/коммунизм) в мировой истории. Только после смерти Сталина и бурного начала десталинизации большинство вьетнамских истори- ков-марксистов согласились, что сталинский тезис нуждается в определенной модификации; например во Вьетнаме не было рабовладения и общество сразу перешло от первобытного коммунизма к феодальному строю. В конце 1970-х и начале 1980-х годов, когда национальная история, наконец, увидела свет, от теории пяти стадий развития в качестве интерпретационной структуры вообще отказались1.
Однако традиция династийной историографии и наследие французского колониализма оставались серьезным вызовом, будучи препятствиями на пути создания нового, националистического исторического нарратива. В таких династийных историях, как Полное собрании исторических записок Дайвьета Нго-си-Лиена, можно найти зачатки вьетнамского национализма, например Нго относит происхождение Вьетнама к 2879 году до н.э. для того, чтобы опередить китайскую династию Ся (ок. 2207-1600 гг. до н.э.). Однако в целом дина- стийный исторический корпус во Вьетнаме откровенно отражал ки¬
1 Patricia М. Pelley, Postcolonial Vietnam: New Historiés of the National Past. Durham, NC, 2002, в разных местах.
358
ГЛАВА 7
тайское, в частности конфуцианское, влияние. Однако одновременно с этим вьетнамские историки-марксисты, пытавшиеся сплести воедино связный нарратив вьетнамской истории с древности по сегодняшний день, нуждались в тех же самых исторических источниках, в том числе в некоторых китайских династийных историях. Более того, был оспорен вопрос о том, оказал ли Китай такое огромное влияние на Вьетнам, как это традиционно считалось, потому что в начале XX века как французские ориенталисты, так и вьетнамские историки, находившиеся под западным влиянием, навесили на Вьетнам ярлык «плохой» копии Китая. Более того, до объединения Вьетнама в 1976 году в Южном Вьетнаме несколько раз была переиздана «Краткая история Вьетнама» Транга Тронга Кима - типичная работа колониальной школы. Но для марксистских историков работа Транга была примером «феодального колониализма» с его традиционной структурой и про- французской позицией. Еще одной причиной того, что Транг стал мишенью, было то, что в 1930-1940-е годы он сотрудничал с французскими и японскими колонизаторами1 2.
Таким образом, мы можем сказать, что вьетнамской марксистской историографии присущ ощутимый националистический оттенок. Чтобы показать определенно славную историю отражения вьетнамцами захватчиков, историки решили начать феодальный период истории Вьетнама с восстания сестер Трунг против ханьской армии Китая в 40-е годы н.э. Этот период они закончили тоже эпохальной победой - поражением Японии во Вьетнаме в 1945 году. Хотя они и признавали, что стадия феодализма в их стране явно затянулась, они заявляли: история доказывает, что Вьетнам является «блестящим примером» истории мировой революции, так как Вьетнам - это единственная страна, в которой социалистический строй был установлен в результате революционной победы над колониальными силами. На самом деле они стремились к историческому долголетию, так как оно демонстрировало, что вопреки заявлениям ориенталистов и довоенных историков Вьетнам не является культурной колонией Китая и что вьетнамцы не только могли образовать независимые государства раньше китайцев, но и фактически это сделали. Так, неточное предположение Нго- си-Лиена об основании Вьетнама Ван Лангом в 2879 году до н.э. остается весьма привлекательным; оно заставило и историков, и археологов современного Вьетнама искать доказательства в его поддержку .
1 Ibid., 32-34, 36—40.
2 Ibid., 62-63. Cp. Nguyen The Anh, 'Historical Research in Vietnam: A Tentative Survey', Journal of Southeast Asian Studies, 26:1 (March 1995), 121-132.
ПОДЪЕМ ИСЛАМА И УПАДОК МАРКСИЗМА...
359
Возрождение национальной истории
В послевоенный период национализм был характерен и для развития корейской историографии. После поражения Японии в 1945 году, корейцы получили независимость, хотя Корея и была разделена и по сей день остается разделенной, отражая и развивая конфигурацию «холодной войны». Несмотря на идеологические разногласия между правительствами Северной и Южной Кореи, историки обеих стран столкнулись с одним и тем же колониальным наследием, а потому запустили, по сути, одинаковый проект по созданию нового исторического нарратива, который бы провозглашал независимую историю Кореи и прославлял неукротимый дух корейского народа. В связи с этим основное внимание историков и археологов привлек миф о Тан Гуне, и вот по каким причинам. Во-первых, с целью противостояния принижению корейской истории и культуры со стороны Японии этот миф уже был в центре внимания таких прославленных историков, как Син Чхэ Хо. Во-вторых, в основании движения сопротивления во время японского колониального правления находился религиозный культ Тан Гуна, или поклонение Тан Гуну как божеству и спасителю современных корейцев, который и по сей день очень распространен в Южной Корее. В Северной Корее история о Тан Гуне также имела большой вес - Паек Нам-ун, выдающийся историк-марксист, использовал миф о Тан Гуне для того, чтобы, разобрав его по частям, описать древнекорейское общество с марксистской точки зрения как образец первобытного коммунизма. После образования Северной Кореи Паек занимал такие престижные должности, как министр образования и президент Корейской академии. В 1993-1994 годах, когда лидера страны Ким Ир Сена сменил на этом посту его сын Ким Чен Ир, северокорейские археологи провели раскопки предполагаемого места захоронения Тан Гуна недалеко от Пхеньяна и объявили, что нашли останки Тан Гуна и его матери-медведицы. Более того, используя метод электронно-спинового резонанса, она сдвинули даты жизни Тан Гуна с третьего к пятому тысячелетию до н. э.1.
Южнокорейские историки и археологи пытались поставить эти находки под сомнение. Однако к вере в Тан Гуна как прародителя корейского народа они относятся с не меньшим энтузиазмом. Действительно, несмотря на вопиющее несоответствие между датами жизни Тан Гуна, согласно легенде и сохранившимся письменным источникам, которые относят их не далее как к I в. до н.э., корейские историки в работах и учебниках по истории включают этот миф в свои наррати¬
1 Hyung II Pai, Constructing 'Korean* Origins: A Critical Review of Archaeology, Historiography, and Racial Myth in Korean State-Formation Theories. Cambridge, MA, 2000, 268-270.
360
ГЛАВА 7
вы по корейской истории. Сегодня в корейских школах учат, что Тан Гун основал корейское государство в 2333 году до н.э. и что корейцы - избранный народ (раес1а[), поскольку отец Тан Гуна сошел с Небес, и этот нарратив сильно напоминает то, что провозглашали в 1930-е годы Син Чхэ Хо и Чхве Нам Сон1.
Начиная с 1970-х годов, хотя и в иной форме, национализм стал оказывать заметное влияние и на развитие японской историографии. Благодаря впечатляющему экономическому росту Японии к тому времени японские историки, судя по всему, вышли из тени послевоенного пессимизма в отношении истории своей страны. Снова интерес историков обратился к образованию и развитию японского государства в древности и в средние века. На место резкой критике, характерной для историков-марксистов, пришел более глубокий и более сбалансированный анализ, временами с оттенками сочувствия и романтики. Имевшая когда-то дурную славу имперская система теперь привлекает новый интерес; все больше ее рассматривают не как одну из «болезней» Японии, а как путь к пониманию ее особой политической структуры и системы2.
Нигде так не заметны изменения в направлении развития японской историографии, как в историческом образовании и учебниках истории. В настоящее время в Японии учебники истории может печатать любой издатель, хотя Министерство образования по-прежнему проверяет их содержание. Под лозунгом «исследуем [нашу] историю заново» или «составим лучшее мнение о [нашей] истории» {геЫзЫ по паоБк/), который получает все большую поддержку как в академических кругах, так и среди общественности, некоторые учебники истории, самым заметным примером из которых является Кокитт по геШЫ («История нации»), написанная Нисио Кандзи и опубликованная в 1999 году одним консервативным издателем, предложили ревизионистский вариант современной истории Японии, в котором затушевывается ее ответственность за начало Второй мировой войны в Азии и зверства японской армии в отношении китайцев, корейцев и других азиатских народов. Несмотря на свой уклон в сторону «новой истории», книга Нисио заняла незначительную часть рынка школьных учебников. Тем не менее, она неплохо продается в обычных книжных магазинах; кроме того, позиция автора по отношению к войне и современной японской истории в целом повлияла и на других авторов учебников3.
1 Ibid., 511
2 Nagahara, 20 seiki Nihon no rekishigaku, 247-257.
3 Ibid., 264-285; Nishio Kanji, Kokumin no rekishi (История нации). Tokyo, 1999; Nozaki, War Memory, Nationalism and History in Japan.
ПОДЪЕМ ИСЛАМА И УПАДОК МАРКСИЗМА...
361
Школа «Анналов», постмодернизм и новые явления в японской историографии
Новое направление японской историографии после 1970-х годах отразило влияние постмодернизма и таких тенденций в западной историографии, как Школа «Анналов» и социальная история. По истечении двадцати лет экономической экспансии, благодаря которой Япония оказалась впереди многих других индустриальных держав, японцы теперь увидели заплаченную ими за модернизацию страны цену: загрязнение окружающей среды, урбанизацию, высокий уровень преступности, снижение моральных ценностей и опустение сельской местности. Под влиянием «постмодернистской» полемики (начиная с 1970-х годов слова «постмодернизм» и «постмодернистский» стали очень популярны как в академической среде, так и в средствах массовой информации) историки предприняли согласованные усилия по поиску новых средств репрезентации прошлого в русле подхода «тотальной истории».
Очевидно отличаясь от политико-экономической направленности марксистов и «модернистов», интерес этой «тотальной истории» явно нес на себе печать Школы «Анналов». И действительно, кроме того, что на японский язык были переведены книги Люсьена Февра и Марка Блока, в промежутке между 1985 и 1999 годами на японском языке вышел и монументальный труд Фернана Броделя «Материальная цивилизация, экономика и капитализм: ХУ-ХУШ вв.», вдохновив Ами- но Йосихико, одного из самых продуктивных историков современной Японии, написать, кроме прочего, свое исследование средневекового японского общества «Император и общество средневековой Японии», которое стало вехой в японской историографии. В отличие от марксистского интереса к классовому конфликту между землевладельцами и крестьянами, исследование Амино сконцентрировано на не аграрном населении. Создав живой «образ» (,кШасЫ/гб) средневекового японского общества, он идеализирует жизнь торговцев, ремесленников, рыбаков, кузнецов, куртизанок и проституток - не аграрных сегментов населения. Император также обрисован в позитивном ключе, ведь это он легализовал статус этих людей. Рисуя романтический образ прошлого, Амино надеялся способствовать более позитивному взгляду на досовре- менную Японию, который бросал вызов принятому в предшествующих работах1 образу общества этого времени как всего лишь некоего препятствия на пути исторического прогресса и модернизации.
Шедевр Броделя вдохновил и Кавакацу Хэйта, известного истори- ка-экономиста, который в довоенные времена был членом Киотской школы (не имевшей, однако, четкого оформления) - он предложил
1 Атто УоБЫЫко, ЫШоп сЬОзе! по Ы nбgyomin ю 1еппб. Токуо, 1984.
362
ГЛАВА 7
обсудить историю Японию как историю морской державы. Как и его предшественники Иманиси Киндзи и Умесао Тадао, Кавакацу привлек особое внимание к природному окружению Японии и его влиянию на ее историческое и экономическое развитие. Вместе с Хамаситой Таке- си, еще одним выдающимся членом Киотской школы, он исследовал динамику внутриазиатской торговли в синитском (втШс) мире до и после появление здесь европейцев, в частности экономических взаимоотношений между Японией и континентальным Китаем1. Это исследование заставило их усомниться в теории модернизации, согласно которой экспансия капитализма, или современная экономика, видится как одностороннее движение от Запада к не-Западу. Напротив, как и Андре Гундер Франк и Иммануил Валлерстайн, эти киотские историки подчеркнули роль Азии в развитии современного мирового капитализма. Хорошим примером в этом отношении, который и вдохновляет, и многое разъясняет, является работа Цуноямы Сакаэ «Чай и всемирная история», появившаяся в 1980 году2.
Кроме Школы «Анналов», японские историки были также знакомы с работами социальных историков англо-американских научных кругов и Западной Германии. Ниномия Хироюки, учившийся в 1960-е годы во Франции, познакомился там со Школой «Анналов», Абэ Кинья, который учился в Германии, помог Японии открыть немецкую школу социальной истории. В своих работах Абэ пропагандировал изучение 8екеп (гражданского общества/мира людей^ в качестве как исторического предмета, так и некоей точки зрения3. Кроме этого, в конце 1970-х годов в Японию для чтения лекций были приглашены Юрген Кока и Райнхарт Козеллек, ведущие представители социально-научной истории в Западной Германии, а также Жак Ле Гофф, выдающийся представитель Школы «Анналов». Хотя акценты социально-научной истории и Школы «Анналов» слегка отличались, вместе они помогли, как резюмировал Ниномия, перенаправить инте¬
1 Kawakatsu Heita, Bunmei no kaiyö shikan и Bunkaryoku: Nihon no sokojikara (Сила культуры: потенциал Японии). Tokyo, 2006. Также: Hamashita Takeshi и Kawakatsu Heita, ed., Ajia köekiken to Nihon kögyöka, 1500-1900 (Сфера азиатской торговли и индустриализация Японии). Tokyo, 2001. Некоторые из их книг переведены на английский язык: A. J Н. Latham и Heita Kawakatsu, ed., Japanese Industrialization and the Asian Economy. London, 1994; Они же, ed., Intra-Asian Trade and the World Market. London, 2006.
2 Tsunoyama Sakae, Cha no sekaishi: ryokucha no bunka to köcha no shakai (Чай и мировая история: культура зеленого чая и общество черного чая). Tokyo, 1980. О карьере Цуноямы в качестве критика «модернистской» школы и о подъеме Киотской школы в целом см. его работу: Seikatsushi no hakken: firudo waku de miru sekai (Открытие истории повседневности: как выглядит мир с поля). Tokyo, 2001.
3 См., например, Abe Kinya, Sekengaku no shötai (Приглашение к исследованию «цивилизованного общества»). Tokyo, 2002 и Nihonjin no rekishi ishiki: seken to iu shikaku kara (Историческое сознание японцев: с точки зрения «цивилизованного общества»), Tokyo, 2004.
ПОДЪЕМ ИСЛАМА И УПАДОК МАРКСИЗМА...
363
ресы японских историков в трех областях: 1) от универсальности к локальности; 2) от абстрактных понятий к вопросам повседневной жизни; и 3) к пониманию относительности модели европейской модернизации1.
Однако нельзя сказать, что внешнее влияние было единственным фактором в переориентации направления исторической науки в современной Японии, так как начиная с конца 1960-х годов, если не раньше, японские историки уже предпринимали серьезные попытки расширить область своих исследований от политической истории до истории социокультурной - последняя в их терминологии называлась «народной историей» (minshüshi / people’s history). Сторонники этой новой истории Ясумару Ёсио, Ирокава Дайкичи и Кано Масанао, хотя и не избежали влияния марксистской исторической теории, не были марксистами; кроме того, они не преподавали в таких сильных академических центрах, как Токийский или Киотский университеты. Им было не интересно проводить эмпирическое исследование по какой-то определенной теме; эти историки хотели всесторонне проанализировать все «за» и «против» японской модернизации. К тому же они были не в восторге от марксистского подхода - в их представлении японские историки-марксисты излишне объективизировали и дегуманизировали историю, сведя всю ее динамику к нескольким переменным, навязываемым заданной целью. В большей степени опираясь на довоенные фольклорные исследования Янагиты Кунио, они вместо этого попытались реконструировать повседневную жизнь и ментальность обычных людей2. Таким образом, «история повседневности» (нем. Alltagsgeschichte\ яп. seikatsushi) и «история ментальности» (фр. Histoire de mentalité; яп. seishinshi) были настолько же импортированы из Германии и Франции, насколько взращены на японской почве3.
К концу XX в. в японской историографии произошли два интересных изменения. Одним из них было стремительное развитие женской истории; другим - растущий интерес к истории и жизни меньшинств и социальных изгоев. Как было показано в новаторской работе Такаму- рэ Ицуэ в 1930-е годы и работах Иноуэ Киёси в 1940-х годах (об этом мы говорили ранее), область женской истории росла параллельно с марксистской историографией. В начале 1970-х годов сторонники
1 Nagahara, 20 seiki Nihon no rekishigaku, 219-220.
2 Carol Gluck, 'The People in History: Recent Trends in Japanese Historiography' // Journal of Asian Studies. 38:1 (Nov. 1978), 25-50; Nagahara Keiji, 'Reflections on Recent Trends in Japanese Historiography’ / nep. Kozo Tamamura // Journal of Japanese Studies, 10:1. Winter, 1984, 167-183.
3 Hirota Masaki, 'Pandora no hako: minshu shisoshi kenkyu no kadai' (Ящик Пандоры: Вопросы в исследовании истории общественного менталитета), Nashonaru, Hisutori о manabi suteru (Разучиться национальной истории), Sakai Naoki, ed. Tokyo, 2006, 3-92.
364
ГЛАВА7
«народной истории» и социальной истории также начали работать совместно с исследователями в области женской и гендерной истории. Например, Кано Масанао заинтересовался Такамуре Ицуэ и ее исследованиями жизни японских женщин1. Эта область исследования, как и изучение истории в целом, так бурно развивается, в том числе и благодаря тому факту, что все больше японок получают высшее образование и работают в профессиональных сферах, что является новым социальным явлением современной Японии.
Раньше в Японии существовало табу на публичное обсуждение этнических и расовых различий, ведь со времен реставрации Мейдзи Япония всегда подчеркивала - как дома, так и за пределами страны - свою культурную и национальную однородность. Только в послевоенные годы ученые отважились заняться исследованиями жизни «су- балтерн»-групп японского общества, включая «эта» (eta), «хинин» (hiniri) и такие этнические меньшинства, как корейцы и китайцы. Поскольку представители некоторых из этих групп живут либо в городах, либо в пригородах, изучение их жизни, или этническая история, развивалось в тандеме с интересом к урбан-истории, которая, как и история повседневности, является еще одной новой процветающей областью исследования2.
Китай в поиске альтернатив марксистской историографии
Начиная с конца 1970-х годов новый курс был взят и китайской историей и историографией. А в 1976 году, после смерти Мао, закончилась и Культурная революция. В 1978 году новый лидер Китая Дэн Сяопин начал экономическую реформу страны, осторожно открыв дверь для (западного) мира. В то время как западные страны начали принимать китайских студентов, стремившихся обновить свои научные знания, западная культура проникла и в китайские классы, где была встречена на удивление гостеприимно. Выдержав десятилетие хаоса и изоляции по собственной воле, несмотря на болезненные размышления о своем недавнем историческом опыте Культурной рево¬
1 Капо Masanao и Horiba Kiyoko, Takamure Itsue. Tokyo, 1977.
Эта - каста париев в Японии. К ней причислялись люди, занимавшиеся «нечистыми» (согласно буддийским канонам) профессиями (убой скота и т. д.). В 1871 каста париев была ликвидирована, но остатки их неравноправного положения сохранились до настоящего времени. Официально именуются буракумин (сокр. от токусю буракумин - жители особых поселков).
Хинин (буквально - нечеловек), в Японии в период феодализма актеры, гейши, нищие и другие категории населения, относившиеся наряду с кастой эта к презираемым слоям общества.
2 Nagahara, 20 seiki Nihon no rekishigaku, 232-235, 243-246.
ПОДЪЕМ ИСЛАМА И УПАДОК МАРКСИЗМА...
365
люции, китайские интеллектуалы с большим любопытством обернулись к заново открытому внешнему миру.
В 1978-1979 годах в Китайской академии социальных наук, которая теперь существовала независимо от Китайской академии наук, Чжан Чу- нян и Чен Чинун, научные сотрудники Института всеобщей истории, запустили в работу «Всеобщую историю» и «Информационный бюллетень по изучению всеобщей истории» - не только для того чтобы развивать исследования в области зарубежной истории, но и чтобы познакомить китайских студентов-историков с новыми идеями и направлениями исторической науки на Западе. Чжан Чжилян, профессор Пекинского университета по европейской истории, во время своих поездок в Европу и Америку договорился о чтении лекций в своем университете и других институтах с такими историками, как Жорж Дюби, Жак Ле Гофф, Франсуа Фю- ре, Чарльз и Луиза Тилли, Иммануил Валлерстайн, Георг Игтерс, Линн Хант, Артур Шлезингер Мл., Эрик Хобсбаум и Е. П. Томпсон. После того как Чжан встретился и взял интервью у Фернана Броделя в Париже, когда последний был уже в преклонном возрасте, он стал одним из главных сторонников Школы «Анналов» в Китае. Кроме того, в 1980 году Китай вновь стал принимать участие в Международном конгрессе исторических наук (МКИН); с тех пор китайская делегация регулярно участвует в МКИН, которые проводятся каждые пять лет1.
Дух Китая 1980-х годов с его рвением импортировать иностранные культуры и возродить собственную культурную традицию воплотился в дискуссии по поводу так называемой «культурной лихорадки» (\venhua ге). И действительно, когда китайские университеты вновь открыли свои двери молодым китайцам, которые не имели этой возможности во время Культурной революции, страна пережила мощное культурное возрождение. В области истории приток новых идей способствовал упадку гегемонии марксистской историографии. Под впечатлением «новых» подходов, появившихся в западной историографии, молодые китайские историки жарко обсуждали вопросы исторической методологии, надеясь найти альтернативу обессилевшему марксистскому подходу2.
Китайское историческое сообщество буквально «загорелось» теорией модернизации, хотя в других частях света она уже подвергалась серьезной критике. Такой «теплый прием» отчасти объяснялся тем, что это был «новый» для китайцев подход, отчасти - тем, что страна встала на курс решительной модернизации. Стремясь догнать развитые страны и наверстать упущенное в Культурной революции драгоценное время, китайские историки и ученые в их запоздалом поиске
1 Q. Edward Wang, 'Encountering the World: China and Its Other(s) in Historical Narratives, 1949-1989'// Journal of World History, 14:3. September, 2003, 327-358.
2 /bid.; также: Jing Wang, High Culture Fever; Politics, Aesthetics, and Ideology in Deng's China. Berkeley, CA, 1996.
366
ГЛАВА 7
модернити тщательно искали в теории модернизации ценные уроки1. Это стремление разделяла и широкая общественность. В 1988 году под руководством Джина Гуантао, бывшего ученого-естественника, известного тем, что он начал дискуссию по исторической методологии, группа молодых ученых запустила телевизионный сериал по китайской истории под названием «Элегия реки», в котором, язвительно отзываясь о китайской культурной традиции, призвала своих соотечественников активно принять индустриализацию и модернизацию по западной модели. Когда этот сериал начали показывать по центральному телевидению, он захватил внимание аудитории и мгновенно стал хитом, хотя его иконоборческий характер раздражал правительство и вызвал неудовольствие среди некоторой части исторического сообщества2. Не меньше, чем западная модернизация, китайцев вдохновляли демократические идеи. В 1989 году, в разгар демократического движения, требующего политической свободы и прозрачности, китайские студенты воздвигли на площади Тяньаньмэнь, которая является символом политической власти Китая, Статую свободы. После того как это движение было потоплено в крови, остановилась и дискуссия о «культурной лихорадке». Одной из печальных потерь, случившихся вследствие этих событий, стал журнал «История и теория» (ЫбЫ уи Шип), который Чен Чинун и его коллеги по Институту всемирной истории Китайской академии социальных наук начали издавать в 1987 году. Однако два года спустя его издание было возобновлено под названием «Историографический квартальник» / БМхие Шип уащи, и по сей день являющийся главным проводником новых исторических теорий с Запада и других частей мира в Китай.
При всем этом в 1990-е годы академическая атмосфера опять заметно изменяется. Если в 1980-е годы для китайского научного сообщества было характерно воодушевление по поводу вторичного открытия мира, 1990-е годы стали свидетелями возрождения эмпирического подхода, что проявилось в возобновившемся интересе к научной традиции доказательного знания периода Цин и наследию Школы исторических источников республиканского периода. Была восстановлена репутация Ху Ши, Гу Цзегана, Фу Сыняня, а также Лю Юченя и Цяня Му, и появилось большое количество посвященных им биографических исследований. Особым уважением пользовался Чэнь Инк - не только благодаря его способности сочетать классическое китайское знание с современной западной научной традицией, но
1 Символической можно назвать серию исследований по истории модернизации Луо Ронгку (Luo Rongqu). См. его: Zhongguo xiandaihua licheng de tansuo (Исследование китайского поиска модернизации). Beijing, 1992; Xiandaihua xinlun (Новая дискуссия по модернизации). Beijing, 1993 and Xiandaihua xinlun xupian (Новая дискуссия по модернизации: Продолжение). Beijing, 1997.
2 Wang, 'Encountering the World', и Xiaomei Chen, Occidentalism: A Theory of Counter-discourse in Post-Mao China. New York, 1995.
ПОДЪЕМ ИСЛАМА И УПАДОК МАРКСИЗМА...
367
также и потому, что, несмотря на политическое давление, он сумел сохранить свою либеральную веру в академическую свободу и сопротивлялся марксистской индоктринации, что было редчайшим примером среди его коллег в КНР. В Пекинском университете, где Чэнь преподавал вместе с Ху, Гу и Фу, в качестве продолжателей традиции эмпирических исследований в период, наступивший после правления Мао и Дэна, уважение заслужили и ученики Чэна Цзи Цианлин, Зу Цзильян и Тьян Цзукин. В настоящее время начатая ими работа продолжается их учениками, например Яном Буке специалистом по династии Хань, и Ронгом Ксинцзияном, исследователем буддизма периода Тан; оба они преподают в Пекинском университете1.
Одновременно с возрождением эмпирических исследований ключевым направлением в современной китайской историографии стала социокультурная история, которая находится настолько в хорошем состоянии, что готова занять место марксистской школы. Ее сторонников можно найти по всей стране, а некоторые из них, например Чэн Чуньшэнь и Лю Чживэй из Университета Чжуншаня в городе Гуанчжоу тесно сотрудничают с западными специалистами по Китаю. Кроме того, эти историки социокультурного направления работали и с китайскими учеными из Гон Конга, Тайваня, Японии, Европы и Америки. Последние пишут для таких периодических изданий, как «Новая историография» (Хт зЫхие), выходящая под редакцией профессора Народного университета в Пекине Яня Ньянкуна, и серия «Новая социальная история», редактируемая Суном Цзияна и Хуаном Донглана в Японии в сотрудничестве с американским профессором китайского происхождения Ваном Ди. Изначально социокультурная история появилась в конце 1980-х годов в процессе «культурной лихорадки» как попытка сместить внимание историков с классовой борьбы к жизни и культуре простых людей. Но ее направления в последнее время (как это, в частности, видно на примере вышеупомянутых изданий) свидетельствуют о том, что сторонники социокультурной истории приобрели серьезный интерес к новым тенденциям в западной историографии, которые ассоциируются с постмодернизмом и постколониализмом. Ратуя за союз истории с антропологией, психологией и литературой, эти историки преуспели в развитии женской/гендерной истории, локальных и культурных исследований, семиотического анализа и психоанализа2.
1 Ср. Ои Lindong, 'Historical Studies in China: the Legacy of the Twentieth Century and Prospects for the Twenty-first Century', Chinese Studies in History, 38:3—4 (Spring and Summer, 2005), 88-113; Wang Xuedian, 'Jin wushinian de Zhongguo lishixue' (Китайская историография последних 50 лет), Lishi yanjiu (Историческое исследование), 1 (2004), 165-190; Нои Yunhao, '20 shiji Zhongguo de sici shizheng shixue sichao' (Четыре школы позитивной/эмпирической историографии в XX веке в Китае), Shixue yuekan (Исторический ежемесячный журнал), 7 (2004), 70-80.
2 Yang Nianqun et al, ed., Xin shixue: duo xueke duihua de tujing (Новая историография: перспективы междисциплинарного диалога). Beijing, 2003; Sun Jiang, ed.,
368
ГЛАВА 7
Суммируя вышеизложенное, можно сказать, что, начиная с 1970-х годов во всей Восточной и Юго-Восточной Азии когда-то доминировавшее влияние марксистской историографии заметно ослабло, в то время как националистическое влияние осталось стабильным и сильным. Вдохновленные националистическим импульсом, азиатские историки настойчиво работали над поддержкой национального престижа и самооценки посредством написания истории и учебников истории, что временами приводило к разногласию и полемике между некоторыми странами1. Кроме того, в связи со стремительным темпом глобализации историки этого региона вступили в гораздо более активный, чем когда бы то ни было, диалог со своими коллегами по всему миру. Тем не менее, все еще весьма сильна традиция официального историописания, или коллективного историописания под эгидой правительства, что является отличительной чертой историографической практики данного региона. Ярким тому примером служит гигантский проект, запущенный недавно в Китае, по составлению многотомной истории династии Цин, а также вышеупомянутый вьетнамский проект по написанию стандартного нарратива истории Вьетнама. Такую же практику можно наблюдать и в Японии, хотя в основном на уровне префектур или локальном уровне2. Это сосуществование «нового» и «старого» является характерной особенностью развития современной историографии в Восточной и Юго-Восточной Азии и, по всей вероятности, останется таковой и в будущем.
Исламизм и исламская историография во время и после «холодной войны»
Глобализация исламской историографии
Ведя разговор о развитии современной исламской историографии, мы до сих пор фокусировали свое внимание на мусульманских исто¬
Xin shehuishi: shijian, jiyu, xushu (Новая социальная история: события, воспоминания и повествование). Hangzhou, 2004; Huang Donglan, ed., Xin shehuishi: shenti, xinxing, quanli (Новая социальная история: тело, менталитет и власть). Hangzhou, 2005; Wang Di, ed., Xin shehuishi: shijian, kongjian, shuxie (Новая социальная история: время, место и историописание). Hangzhou, 2006. Ср.: Q. Edward Wang, 'Historical Writings in Twentieth-century China: Methodological Innovation and Ideological Influence' // Rolf Torstendahl, ed., An Assessment of Twentieth-century Historiography. Stockholm, 2000, 43-69, особ. 62-66.
1 Edward Vickers и Alisa Jones, ed., History Education and National Identity in East Asia. New York, 2005; Laura Hein и Mark Selden, ed., Censoring History: Citizenship and Memory in Japan, Germany, and the United States. Armonk, NY, 2000.
2 Masayuki Saio, 'The Two Historiographical Cultures in Twentieth-century Japan' // Torstendahl, Assessment of Twentieth-century Historiography, 33-42.
ПОДЪЕМ ИСЛАМА И УПАДОК МАРКСИЗМА...
369
риках, живущих и работающих на Ближнем Востоке (хотя упоминали и о вкладе сирийских интеллектуалов-христиан, а также о работе европейских ориенталистов в качестве необходимого контекста при описании работы их мусульманских коллег). Но, говоря о послевоенном времени, в частности о развитии исламской историографии после 1970-х годов, все сложнее придерживаться такой структуры, потому что все больше историков ближневосточного происхождения работают - в кратко- или долгосрочных проектах - в западном академическом мире. Многие работающие в настоящее время историки- мусульмане, также как и их индийские и, возможно, в меньшей степени восточно-азиатские коллеги, не только получили часть своего образования на Западе, но и зачастую сыграли ведущую роль в развитии западных исследований по Ближнему Востоку. Среди ученых поколения их учителей такие примеры крайне редки.
Это изменение явно свидетельствует о стремительном наступлении глобализации по всему миру. Но оно также характерно и для ближневосточного региона, в котором культурный обмен с Западом происходит начиная с конца XVII в. В последние десятилетия, по мере того как заметно выросла доля иностранных студентов в учреждениях высшего образования в США и некоторых стран Европы, студенты с Ближнего Востока решили не только получить западное образование, но и «остаться и заняться преподаванием в этих университетах», так как «политические, экономические и социальные проблемы их родных стран часто делают этот выбор не только привлекательным, но и вынужденным»1. Более того, благодаря географической близости Ближний Восток имел широкий доступ к западному культурному влиянию не только в странах Магриба, где было сильно французское колониальное влияние, но и в некоторых регионах Машрика и Анатолии. В одном из интервью Халил Иналджик, выдающийся турецкий историк, много лет преподававший в Университете Анкары, а также в Чикагском и Гарвардском университетах, вспоминал, что еще будучи студентом в Турции благодаря таким историкам с европейским образованием, как Мехмет Фуат Кёпрюлю и Бекир Сыткы Байкал, он изучил европейскую научную традицию почти в той же мере, что и его европейские коллеги, с которыми он работал позже2. Эта вестернизация турецкой историографии, а также современная историческая практика в регионе в целом позволили историкам ближневосточного происхождения работать и делать академическую карьеру на Западе. В данное время в Гарварде преподает Семал Кафадар, сотрудник
1 R. Stephen Humphreys, 'The Historiography of the Modern Middle East: Transforming a Field of Study’ // Israel Gershoni, Amy Singer u Y. Hakan Erdem, ed., Middle East Historiographies: Narrating the Twentieth Century. Seattle, IN, 2006, 27.
2 Nancy Elizabeth Gallagher, ed., Approaches to the History of the Middle East: Interviews with Leading Middle East Historians. Reading, MA, 1994, 155.
13 Зак. 1183
370
ГЛАВА 7
Иналджика, хотя и из более молодого поколения турецких историков; в Принстоне кафедру ближневосточных исследований возглавляет М. Шокрю Ханиоглу. В Университете Людвига Максимилиана в Мюнхене преподает Сурайя Фароки, специалист по османской истории; она, кстати, родилась в Берлине. С самого начала XX в. началась эмиграция с Ближнего Востока в западные страны; некоторые из ведущих специалистов по ближневосточным исследованиям являются детьми этих эмигрантов. Например, Альберт Хурани, долгие годы прослуживший директором Центра ближневосточных исследований в оксфордском Колледже Святого Антония, родился в семье ливанских эмигрантов в Манчестере. Чарльз Иссави, известный специалист по экономической истории Ближнего Востока, который учился вместе с Хурани в Оксфорде, родился и вырос в Каире. Позже он эмигрировал в Соединенные Штаты и в течение многих лет преподавал в Колумбийском университете. В том же университете работала и Афаф Лютфи аль-Сеййид Марсот, которая, получив образование в Египте, а позже в Стэнфорде и Оксфорде, успешно преподавала в Колумбийском университете в Лос-Анджелесе (UCLA)1. Ханна Батату, признанный специалист по современной истории Ирака, родился в Иерусалиме; эмигрировав в молодости в США, он сделал прекрасную научную карьеру в Американском университете в Бейруте и Джорджтауне.
Несмотря на то, что они сыграли важнейшую роль в развитии исследований по ближневосточной истории, эти ученые-эмигранты не обязательно исповедуют ислам (Хурани и Иссави - христиане, как и многие сирийцы); более того, они заинтересовались именно этой областью исследования не из-за своего происхождения или культуры. Например, Хурани и Иссави во время учебы в Оксфорде мало интересовались исламской культурой. Как и у многих их коллег, серьезный научный интерес к региону появился у них только благодаря последствиям второй мировой войны, особенно на фоне растущего беспокойства по поводу ситуации в Палестине.
Взаимодействие истории и историографии
Существует общепринятое мнение, что ближневосточные исследования, равно как и изучение истории в самом регионе, начали стремительно расти после окончания Второй мировой войны. Это было связано с бесконечно меняющимся политическим раскладом на Ближнем Востоке. Можно выделить четыре причины такого бурного роста. Во-первых, вслед за Турцией и Египтом с большей, чем когда бы то
1 Ibid., 19-66, 91-108. Больше примеров ближневосточных ученых послевоенного поколения см.: Thomas Naff, ed„ Paths to the Middle East: Ten Scholars Look Back. Albany, NY, 1993.
ПОДЪЕМ ИСЛАМА И УПАДОК МАРКСИЗМА...
371
ни было, силой развивалась тенденция к национальной независимости, принимая время от времени жесткую революционную форму. Во время Второй мировой войны и после ее окончания Саудовская Аравия, Северный Йемен, Сирия, Иордан, Ливан, Иран, Ирак, Ливия и Марокко получили независимость; то же самое произошло и с Израилем, хотя независимость Израиля, полученная им в 1948 году, стала причиной высокой степени враждебности в исламском мире. Последовала Арабо-израильская война, закончившаяся победой Израиля, хотя конфликт, в основном между израильтянами и палестинцами, сохранился и до сих пор. Из-за нестабильной обстановки не только студенты ближневосточного происхождения предпочитали по возможности оставаться на Западе, но и некоторые зрелые ученые пытались продолжить свою научную карьеру в западных университетах. Тот факт, что в послевоенные годы основным языком публикаций по Ближнему Востоку стал английский, вытеснив при этом французский и немецкий, можно считать отражением американской гегемонии. Тем не менее, это было и результатом того, что многие ученые с Ближнего Востока, работавшие на Западе, все чаще публиковались на английском1.
Во-вторых, в глазах большинства мусульман Израиль представляет собой агента британских и американских сил; его существование напоминает им о настойчивом колониальном и империалистском наследии в регионе. Это означает, что, несмотря на обретенную в послевоенные годы большинством ближневосточных стран независимость от западных держав, антизападные настроения оказались весьма живучими, подпитывая приливы панарабизма и арабского национализма2. Панарабизм напоминал секулярную форму панисламизма, который отстаивали на пороге XX века. Намык Кемаль и Сейид Джамал ад-Дин аль-Афгани, а также Новые Оттоманы3. Одним, но далеко не единственным показателем политической силы этого движения стало образование в 1945 году Лиги арабских государств. Начиная с 1950-х годов, сначала Египет, а затем Ирак взяли на себя ведущую роль и панарабизм оказал значительное влияние на историописание4. Например, в Египте на смену фараонизму (который процветал в 1920-х годах, когда с помощью прославления фараонского прошлого Египта пытались создать и поддержать национальную идентичность и самоуважение среди современных египтян) пришел обновленный
1 Humphreys, 'The Historiography of the Modern Middle East'. 19-27.
2 Cp. Rashid Khalidi, 'Arab Nationalism: Historical Problems in the Literature', American Historical Review, 95:5 (December, 1991), 1363-1373.
3 Youssef M. Choueiri, Arab Nationalism - A History: Nation and State in the Arab World. Oxford, 2000, lOlf.
4 Cp. Yvonne Yazbeck Haddad, Contemporary Islam and the Challenge of History. Albany, NY, 1982; Assem Dessouki, 'Social and Political Dimensions of the Historiography of the Arab Gulf // Eric Davis u Nicolas Gavrielides, ed., Statecraft in the Middle East: Oil, Historical Memory, and Popular Culture. Miami, FL, 1991, 92-115.
372
ГЛАВА 7
интерес к исламскому влиянию на историю и культуру страны1. Подобные изменения произошли и в других странах региона - теперь, в отличие от более раннего историописания, гораздо большее внимание было обращено к исламу, и рассматривался он намного позитивнее. Даже в Турции, где и после смерти Кемаля Ататюрка не ослабевали попытки превратить стану в европейскую нацию, стабильно рос интерес к исламской истории, или исламскому периоду истории Турции, время от времени подпитываемый неудачными попытками страны стать членом Европейского союза2. Однако наилучшим примером потенциала этого движения в продвижении панарабской солидарности стало эмбарго ОПЕК (1973 г.) на продажу нефти западным странам, Израилю и Японии. Этот запрет показал, что, несмотря на свои различия и разногласия - некоторые из них насчитывают несколько столетий, - исламский мир уже не столь раздроблен, как в начале XX века. Напротив, теперь он вполне способен принять согласованные меры против гегемонии и господства Запада. Начиная с 1970-х годов интеллектуальный вызов Западу все больше опирается на историческое наследие региона и исламское мировоззрение. Это означает возрождение ислама в регионе; его сила проявилась не только в Иранской революции 1979 года, когда был свергнут проамериканский, настроенный на реформы монарх3, но и в появлении и интенсивном функционировании таких международных организаций, как Организация исламская конференция и Всемирный мусульманский конгресс, а также уже существующих Лиги арабских государств, ОАПЕК и ОПЕК. Начиная с 1990-х годов, эти организации, подобных которым почти нет в остальных регионах мира, развили беспрецедентную активность4.
В-третьих, в 1950-е и 1960-е годы политика «холодной войны» и влияние Советского Союза, марксизма и социализма в целом сформировали историю и политику современного исламского мира. В своем противостоянии Западу Советский Союз, который имел исторические связи с Ближним Востоком, рассматривал последний как важ¬
1 Anthony Gorman, Historians, State and Politics in Twentieth-century Egypt: Contesting the Nation. London, 2003, 62; Shimon Shamir, 'Self-view in Modem Egyptian Historiography' // Shimon Shamir, ed., Self-views in Historical Perspective in Egypt and Israel. Tel Aviv, 1981, 37-50.
2 Bernard Lewis, 'History Writing and National Revival in Turkey' // Bernard Lewis From Babel to Dragomans: Interpreting the Middle East. London, 2004, 428; Meltem Ahiska, 'Occidentalism: The Historical Fantasy of the Modem', The South Atlantic Quarterly, 102:2-3 (2003), 351-379:' Geoffrey Barraclough, Main Trends in History. New York, 1979, 129.
3 Farzin Vahdat, God and Juggernaut: Iran's Intellectual Encounter with Modernity. Syracuse, 2002, 129-211, в которой представлена дискуссия по поводу интеллектуальной подоплеки революции.
4 Ср.: Samuel Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order. New York, 1996.
ПОДЪЕМ ИСЛАМА И УПАДОК МАРКСИЗМА...
373
нейшую сферу своего влияния. Многих политических и интеллектуальных лидеров Ближнего Востока вдохновляли и поддерживали антизападная позиция Советского Союза и перспективы социалистического (в противовес капиталистическому) развития. Испытав на собственном опыте западный колониализм и империализм, эти лидеры имели все основания искать альтернативный западной модели путь к модернити. В Египте, например, под влиянием доминировавшего в то время радикализма и популизма в ходе Июльской революции (1952— 1956 гг.), во главе которой стояло Движение свободных офицеров, произошла смена режима, после чего наступил период социалистического эксперимента под руководством Гамаль Абделя Насера, или период насеризма. Вслед за этим в 1958 году произошла революция в Ираке (ее возглавил Абдель Керим Касем) в ходе которой была свергнута монархия и образована республика. Хотя Касем не был коммунистом, его поддерживали как коммунистические организации внутри страны, так и Советский Союз; он также осуществил ряд социалистических преобразований путем конфискации имущества у богатых для помощи бедным. Марксистские идеи получили значительную поддержку и в области культуры. Под их влиянием многие историки-мусульмане марксистских взглядов осудили труды и интерпретации европейских ориенталистов в отношении их культуры и истории и попытались представить новые. Несмотря на то что их работы были иногда доктринерскими и упрощенными, они вызвали интерес к социально-экономической истории, которая с конца XX века и до наших дней является центральной темой исторической науки в регионе, вытеснив политическую, дипломатическую и интеллектуальную историю. Это новое направление также способствовало расширению области исторических исследований и укреплению ее связей с общественностью, поскольку значительная часть этой истории появилась за пределами академических кругов1.
В-четвертых, послевоенные тенденции в западной историографии, особенно растущее влияние Школы «Анналов» во Франции, способствовали подъему социально-экономической истории, а в последние десятилетия - интересу к культурной и гендерной истории в современной исламской историографии2. В тандеме с марксистским влиянием Школа «Анналов» помогла переориентировать направление развития ближневосточной исторической науки, обратив внимание на социально-экономическую структуру как ключевой фактор в возникновении фундаментальных изменений в истории. Это заставило ближневосточных историков пересмотреть ориенталистский подход, попробовать интегрировать теории и методы социальной науки и применять в своих исторических исследованиях тщательную критику
1 Gorman, Historians, State and Politics in Twentieth-Century Egypt, 79-111.
2 Gershoni, Singer h Erdem, Middle East Historiographies, 3-18.
374
ГЛАВА 7
источников. Толчком к развитию этого направления послужила международная конференция «Ориентализм и история», проведенная в ] 954 году в Кембридже. Участник конференции марксистский историк Клод Каген призвал исследовать «налоговые учреждения, земельные налоги, социальные категории землевладельцев, экономические и технические формы культуры, историю городов, профессиональный состав и другие параметры рабочего класса и торговцев»*. Эти предметы исследования явились явным продолжением основного интереса Школы «Анналов» и должны были задать направление работы для ученых Ближнего Востока. В этом отношении показательным примером может служить продолжительная научная карьера Альберта Ху- рани. В послевоенные годы он занялся ближневосточными исследованиями, причем его интересовала политическая история, но уже в конце 1950-х годов его внимание привлекла интеллектуальная история, в результате чего он опубликовал свой знаменитый труд «Арабская мысль в эпоху либерализма, 1789-1939». К середине 1960-х годов он перешел к социальной истории, потому что, по его собственным словам, «студенты, поступавшие в Оксфорд, хотели заниматься другими предметами и читать другие книги. Я начал думать, что есть и другие виды истории»1 2. Аналогичный сдвиг в научных интересах произошел и у Халила Иналджика. В начале своей карьеры он получил солидную базу в ориенталистских исследованиях, но позже, на основе марксистской исторической теории, Иналджик разработал влиятельную концепцию, в рамках которой привлек внимание к роли gift-hane (крупных фермерских хозяйств) в формировании аграрной социальной структуры Османской империи3. Таким образом, начиная с 1970-х годов в исторической науке Ближнего Востока появилась целая серия новых теорий, моделей и подходов, самыми заметными из которых можно назвать женскую и гендерную историю, историю «снизу», или историю повседневной жизни, новую культурную историю и колониальные и постколониальные исследования4. Например, в области женской истории (которая является одним из бурно развивающихся предметов ближневосточных исследований) ученые направили свое внимание на разноплановую роль женщин в истории региона, включая
1 Gallagher N. Approaches to the History of the Middle East, 1-8.
2 Gallagher, Approaches to the History of the Middle East. 36; Albert Hourani, 'How Should We Write the History of the Middle East?' / International Journal of Middle East Studies, 23:2, May 1991, 125-136.
3 Gallagher, Approaches to the History of the Middle East, 163; Halil Inalcik, 'Village, Peasant, and Empire' // Halil Inalcik, The Middle East and the Balkans under the Ottoman Empire. Bloomington, IN, 1992, 137-160; также: Supraiya Faroqhi, Approaching Ottoman History: An Introduction to the Sources. Cambridge, 1999, 187.
4 Israel Gershoni, Hakan Erdem и Ursula Wokock, ed., Histories of the Modern Middle East: New Directions. Boulder, CO, 2002, 2-3; Gershoni, Singer и Erdem, Middle East Historiographies, в разных местах.
ПОДЪЕМ ИСЛАМА И УПАДОК МАРКСИЗМА...
375
владение собственностью и проявление социальной власти, а также вопросы о том, как, учитывая роль женщин, можно пересмотреть историческую периодизацию и заново открыть дискуссию по некоторым важным, но зачастую принимаемым как должное темам и методам, как, например, некогда доминировавший националистический подход к историографии1.
Эдвард Саид и критика ориентализма
Таким образом, в области ближневосточных исследований критическое переосмысление и переоценка ориенталистского подхода предшествовали появлению важнейшей книги Эдварда Саида «Ориентализм»2, хотя этот факт нисколько не приуменьшает решающее и пролонгированное влияние этой работы на состояние ближневосточных исследований и не только на них. Протест против позитивизма, превалировавшего в современной западной научной мысли до 1960-х годов, неотъемлемой частью которого был ориентализм, проявился в радикальных студенческих движениях 1960-х годах. Критическое отношение западной молодежи к капитализму открыло глаза многим интеллектуалам Ближнего Востока на лицемерие и гегемонию западной модели модернизации и науки. Серьезное поражение арабов в арабо-израильском конфликте 1967 году, который вполне можно рассматривать как неудавшуюся попытку бросить вызов западному господству, также «стало конкретным примером», говоря словами Хишама Шараби, «последствий подчинения и экономической отсталости и расчистило путь для нового критического самоанализа». Этот самоанализ привел к переориентации внимания с исследования элит к изучению вопросов социальной и обыденной жизни и, что еще более важно, к критическому отношению к определенным западным понятиям и подходам, в частности «к ценностям и идеям, имплицитно присутствующим в эксклюзивно западном взгляде на (не-западный) мир, или представлениях о нем»3.
Эдвард Саид родился в Иерусалиме, вырос в основном в Египте, а позже успешно работал в Соединенных Штатах, и это еще один пример успеха послевоенного поколения ученых-эмигрантов с Ближнего Востока. Хотя он не был историком, Саид внес значительный вклад
1 Cm.: Judith E. Tucker, 'Problems in the Historiography of Women in the Middle East: The Case of Nineteenth-century Egypt' // International Journal of Middle Eastern Studies, 15:3. August, 1983, 321-336; Julia Clancy-Smith, 'Twentieth-Century Historians and Historiography of the Middle East: Women, Gender and Empire’ // Gershoni, Singer h Erdem, Middle East Historiographies, 70-100.
2 Cp.: YoussefM. Choueiri, Modem Arab Historiography: Historical Discourse and the Nation-State. London, 2003, 191.
3 Hisham Sharabi, ed., Theory, Politics, and the Arab World: Critical Responses. London, 1990, 21.
376
ГЛАВА 7
своей влиятельной теорией о работе ориенталистов с целью изобретения дихотомии между Востоком и Западом. Благодаря этому смелому тезису с тех пор не утихает историческая дискуссия по поводу развития западной академической науки и ее роли (возможно, невольного) соучастника в распространении западного империализма в не западном мире. Как справедливо заметили многие ближневосточные ученые, в своей теории Саид, возможно, не отдал должное ориенталист- ской науке, но его аргументы тем не менее оказали огромное влияние на историю и историографию Ближнего Востока и других не западных регионов1. Например, под влиянием постколониализма, который Саид считал важным теоретическим союзником в переосмыслении развития современного мира, сегодня ближневосточные ученые и историки интересуются не только тем, как Запад представляет Восток, но и наоборот. Они изучают становление оксидентализма и критически исследуют его представление в форме культурной репрезентации, анализируя сложные и парадоксальные результаты этого процесса в соответствующих контекстах2.
Другими словами, до Саида и Мишеля Фуко, чей тезис о неотъемлемой связи между знанием и властью и вдохновил Саида, многие уже осознавали существование политического влияния на процесс производства культурных продуктов. Поэтому острота аргумента Саида и его искусное применение идей Фуко были как результатом проницательности Саида, так и отражением глубоких изменений в области ближневосточных исследований, которые там происходили с 1950-х годов. Например, в 1963 году в своей статье «Конец ориентализма» египетский историк Ануар Абдель-Малек озвучил призыв к критическому пересмотру ориенталистского подхода3. Однако это не говорит и о том, что до 1950-х годов ничего не происходило; как мы уже обсуждали выше, изучение ближневосточной истории принесло
1 Gallagher, Approaches to the History of the Middle East, в разных местах. Развернутую дискуссию по поводу работы Саида, ее влияния, критики и отзывов экспертов по Ближнему Востоку см.: Zachary Lockman, Contending Visions of the Middle East: The History and Politics of Orientalism. Cambridge, NY, 2004; также: Bryan S. Turner, Orientalism, Postmodernism and Globalism. London, 1994.
2 См., например: Mohamad Tavakoli-Targhi, Refashioning Iran: Orientalism, Occidentalism and Historiography. Basingstoke, 2001; К. E. Fleming, 'Orientalism, the Balkans, and Balkan Historiography', American Historical Review, 105:4. October, 2000, 1218-1233; Carter Vaughn Findley, 'An Ottoman Occidentalist in Europe: Ahmed Midhat Meets Madame Gulnar, 1889', American Historical Review, 103:1. February, 1998, 15—49; Ahiska, 'Occidentalism: The Historical Fantasy of the Modem'; а в районах за пределами Ближнего Востока см.: Stefan Tanaka, Japan's Orient: Rendering Pasts into History. Berkeley, CA, 1993 и Chen, Occidentalism; Arif Dirlik, 'Chinese History and the Question of Orientalism', History and Theory, 35:4. December, 1996, 96-118.
3 Clancy-Smith, 'Twentieth-Century Historians and Historiography of the Middle East', 76.
ПОДЪЕМ ИСЛАМА И УПАДОК МАРКСИЗМА...
377
множество важных изменений, ведь на пути становления исторической профессии на Ближнем Востоке историкам пришлось преодолеть немало трудностей. Начиная с 1950-х годов, ближневосточные историки, очевидно, столкнулись с еще большим вызовом противостояния идеологическим влияниям и политическим вмешательствам, пытаясь сохранить непредвзятость и автономность своей профессии, основанной их предшественниками.
Притягательность марксизма и социализма
Думается, что логично начать с Египта, страны, во многих отношениях идущей в авангарде многих политических изменений в регионе; в самом последнем (на момент написания книги) обзоре ближневосточной историографии Египет также назван «центром особого внимания»1. Как уже было сказано, в этот период Турция усиливает попытки стать членом Европейского союза. Соответственно, несмотря на преобладание мусульманского населения, турецкое правительство намеренно пыталось отделить страну от своих арабо-мусульманских соседей - как в политическом, так и в религиозном планах. По сравнению с этим политические лидеры Египта, начиная с Мохаммеда Нагиба, который в 1953 году движением «Свободных офицеров» был поставлен первым президентом республики, и далее Гамапь Абдель Насер, Анвар Садат и Хосни Мубарак воспринимали и позиционировали себя в качестве лидеров арабского мира, хотя их страна вследствие своего фараонского наследия и наличия коптов не считается подлинно арабской некоторыми из их арабских соседей. Например, Насер сыграл серьезную роль в становлении и пропаганде панарабизма благодаря своей лидирующей роли в Лиге арабских государств. Внутренняя политика египетских лидеров отражала их внешние амбиции, что в свою очередь оказало огромное влияние на направленность научных интересов историков и области исследования в сфере египетской истории. Со времени основания республики египетская историография пережила несколько заметных этапов. Первый обозначился практически сразу после появления нового правительства. Как мы уже говорили ранее, на создание в Египте истории как академической дисциплины повлияли два феномена - национализм и ориентализм. Первое поколение профессиональных историков, которые в основном получили свое образование на Западе в области ориентальных исследований, восприняли националистическую телеологию и применили ее к интерпретации эволюции египетской истории. Например, их неоспоримый лидер Шафик Горбаль построил свою научную карьеру на изучении жизни Мухаммеда Али и его реформ, которые он счи¬
1 Gershoni, Singer и Erdern, Middle East Historiographies, 7.
378
ГЛАВА 7
тал решающим шагом на пути модернизации Египта по западной модели1. Но когда движение «Свободных офицеров» свергло монархию, правительство проявило иной интерес к интерпретации египетской истории - отныне осуждать стали злодеев-хедивов и восхвалять восстания против них, в том числе восстание Ураби. Не лучше обстояли дела и с революцией 1919 года под предводительством партии Вафд, так как в этом ключе она не отражала воли простых людей. Для «Свободных офицеров» восстание Ураби, хотя и закончилось провалом, было предвестником их собственного движения, а также оказало на них определенное влияние. После того как к власти пришел Насер, эта новая интерпретация получила значительную поддержку и, более того, правительство финансировало проект восстановления ислама как части культурной идентичности страны. Этот историографический проект был представлен в Хартии национальных действий, которая подготовлена отобранным правительством комитетом и соответствовала вводимой Насером новой политике, как внутренней, так и внешней, целью которой был поиск альтернативы западной модели в организации политико-экономического развития Египта, а также арабского мира в целом.
«Поворот влево» в политике Насера интеллектуально не удовлетворял ни Шафика Горбаля и его коллег, ни академических историков основного направления, потому что эта политика бросала вызов их предыдущей оценке исторического развития современного Египта. Однако эти историки также были готовы адаптироваться в условиях изменившегося политического климата. Когда Лига арабских государств основала Институт арабских исследований, Горбаль, оставив свой пост в Каирском университете, стал его вторым директором, заменив на этой должности Сати аль-Хусри, открытого сторонника арабского национализма. В последние годы жизни Горбаль также проявил заметный интерес к арабизму. Когда в 1958 году произошло временное объединение Египта и Сирии, Горбаль опубликовал небольшую книгу на основе своих лекций, в которой он обрисовывал историю и характерные черты арабского национализма и опровергал общепринятую идею о том, что это всего лишь имитация европейского национализма2. В ответ на правительственную инициативу пересмотра прошлого страны в конце своей жизни он также отредактировал первый том «Истории египетской цивилизации».
Несмотря на все эти примирительные шаги, Горбаль и другие историки его поколения больше не считались способными выполнить поставленную правительством задачу. Чуть больше повезло Абд ар- Рахман ар-Рафии, популярному непрофессиональному историку того
1 Подробное обсуждение взглядов Шафика Горбаля о Мухаммеде Али см.: Choueiri, Modem Arab Historiography, 77-114.
2 Choueiri, Arab Nationalism, 41-48.
ПОДЪЕМ ИСЛАМА И УПАДОК МАРКСИЗМА...
379
же поколения - он продолжал публиковаться, а в 1964 году был номинирован на Нобелевскую премию1. В любом случае, влияние этого поколения ослабевало. Ахмад Иззат Абд аль-Карим, наиболее известный ученик Шафика Горбаля, который стал первым человеком с египетским образованием, получившим степень доктора философии, переориентировался с изучения политической и институциональной истории на социально-экономическую, обратив внимание на роль народных масс. После этой метаморфозы начиная с 1960-х годов Абд аль-Карим стал новым лидером египетского исторического сообщества2.
Однако у Абд аль-Карима не было недостатка в соперниках. Несмотря на то что он входил в состав комитета по составлению Хартии национальных действий, в конечном счете, правительство Насера руководителем проекта по переписыванию истории Египта назначило Мухаммеда Аниса, более молодого коллегу Горбаля по Каирскому университету. Анис получил свою докторскую степень в Бирмингемском университете и иногда представлялся учеником Горбаля, хотя был явно не согласен с его общей интерпретацией современной египетской истории. Руководствуясь своими социалистическими и популистскими взглядами, Анис решил основать свою собственную, социалистическую, школу и показать эволюцию египетской истории в совершенно ином свете. Он считал это необходимым исходя из того, что «этот социалистический взгляд является продуктом современной фазы, в которую смело входит наше общество»3. Аргумент Аниса состоял в том, что современная история Египта является свидетелем борьбы двух сил - с одной стороны класса богатых, а с другой - образованного класса, опирающегося на поддержку военных. Восстание Ураби 1881 года стало поворотным моментом в истории Египта, когда столкнулись две эти силы, сигнализируя о переходе страны от феодализма к социализму. Несмотря на то что сначала с иностранной помощью взял верх класс богатых, в конечном итоге в 1952 г он проиграл движению «Свободных офицеров». С этого момента Египет вступил в новую историческую эпоху4.
Эта новая интерпретация египетской истории как нельзя лучше подходила новому правительству, и Анис был щедро за это вознагражден - в 1964 году его повысили до должности заведующего кафедрой современной истории Каирского университета. Когда ему поручили написать историю египетского сопротивления во время французского вторжения 1798 года, предложили выгодный контракт. На основании своей веры в то, что история должна «служить социали¬
1 Jack Crabbs, Jr, 'Politics, History, and Culture in Nasser's Egypt' // International Journal of Middle East Studies, 6:4. October, 1975, 403-404.
2 Gorman, Historians, State and Politics in Twentieth Century Egypt, 30-32.
3 Ibid., 32-34.
4 Thomas Mayer, The Changing Past: Egyptian Historiography of the Urabi Revolt, 1882-1983. Gainesville, IL, 1988, 45f.
380
ГЛАВА 7
стическому развитию», Анис не только вступил в Арабский социалистический союз, единственную в то время легальную партию в Египте, но и работал в секретариате партии в отделе пропаганды и социалистической мысли. Благодаря своему политическому влиянию Анис также основал «Центр национальных документов» и стал его первым директором. Это назначение было наградой как за развитие исторической науки, так и за контроль над историческими исследованиями. После открытия Центра Мухаммед Анис, Ахмад Иззат Абд аль-Карим и другие ученые стали посылать туда для работы с документами своих аспирантов. Их работы, с одной стороны, подняли уровень египетского историописания, а с другой - установили новые стандарты. Тем не менее центр не был полностью открыт для широкой публики и не предоставлял полного доступа иностранным ученым1. Будучи профессиональным историком, Анис ясно представлял себе ценность исследования с опорой на источники. Хотя временами в своих работах он был агрессивен и полемичен, он всегда писал на основе тщательно отобранных источников. Но ведь он и верил в то, что внимательное использование источников является основой для толкования общепринятой теории или доктрины2.
Влияние Мухаммеда Аниса и его социалистической школы было очень широким, а иногда подавляющим. Когда в 1963 году его школа руководила правительственным проектом «Ревизии современного историописания», многие историки поняли, что выбора у них нет и они просто должны принять в нем участие. Например, Ахмад Иззат Абд аль-Карим, подражая социалистической интерпретации египетской истории Аниса, представил свой анализ социалистической природы османского феодализма в Египте - весьма абсурдное утверждение3. Тем не менее, влияние социалистической школы не продлилось долго. Хотя после окончания правления Насера Анис в большей или меньшей степени сохранил свой высокий общественный статус, он часто отсутствовал в Каирском университете, занимаясь проектами за пределами страны4. После смерти Насера в 1970 году новый президент Анвар Садат быстро начал кампанию по дискредитации насеризма. Что касается ее влияния на историческую науку, то эта де-насери- зация способствовала появлению новых интерпретаций и школ, так как Садат ослабил правительственный контроль над прессой и дал бблыиую академическую свободу. Вдохновленная этим новым поли¬
1 Ibid., 73. Альберт Хурани (Albert Hourani) из Оксфордского университета, например, вспоминает, что ему было отказано в доступе к материалам. Gallagher, Approaches to the History of the Middle East, 29.
2 Gorman, Historians, State and Politics in Twentieth-Century Egypt, 57-58, 74-78; Crabbs, 'Politics, History and Culture in Nasser's Egypt', 393-395; и анализ Mayer, Changing Past, 43-47.
3 Crabbs, 'Politics, History and Culture in Nasser’s Egypt', 396-399.
4 Gorman, Historians, State and Politics in Twentieth-Century Egypt, 33.
ПОДЪЕМ ИСЛАМА И УПАДОК МАРКСИЗМА...
381
тическим климатом, египетская историография взяла новый курс развития, характеризуемый, среди прочего, попытками найти демократические элементы в прошлом Египта1. Если при Садате на самом деле имела место демократизация, она сопровождалась заметным ростом и диверсификацией высшего образования - в течение 1970-х годов появилось много новых университетов. Также впервые в университетах стало учиться большое количество женщин, из числа которых вышло первое поколение ближневосточных женщин-историков, например Афаф Лютфи аль-Сеййид Марсот2.
Но Садат также избавлялся от насеристов и социалистов, хотя и не так сурово, как это делал со своими политическими врагами Насер. Марксистская школа историографии, или марксистский подход к интерпретации истории, остался столь же популярным, и начиная с 1980-х годов, когда расширилась свобода выражения политических мнений, марксистская школа еще больше расширила поле своего влияния, свидетельствуя о популярности марксизма в современном исламском в мире в целом. Например, в настоящее время в Египте в числе самых публикуемых историков находится один из ведущих марксистских историков Рифат аль-Саид. В 1998 году началась публикация многотомной истории рабочего класса и «субалтерн»-групп; в 2001 году вышел пятый том3. Новый нарратив истории своей страны в русле марксистского подхода принадлежит известному марокканскому историку и резкому критику ориентализма Абдалле Ларуи4. Свидетельством марксистского влияния на Ближнем Востоке является и развитие современной иракской историографии. В течение всего XX века в стране практически не было академической свободы. Большая часть истории Ирака была в это время написана либо на Западе, либо в других частях Ближнего Востока, таких как Кипр и Дамаск, и все они были изложены в характерно марксистском ключе. В своем обширном исследовании по современной иракской истории Ханна Батату детально зафиксировал создание и развитие Коммунистической партии Ирака и ее широкое влияние в 1950-е годы5.
Исламское возрождение: исламизм и национализм
Другим важным фактором, повлиявшим на ход развития современной исламской историографии, стало возрождение ислама. Этот вновь пробудившийся интерес к исламу вырос из попытки многих
1 Mayer, Changing the Past, 59.
2 Gorman, Historians, State and Politics in Twentieth-Century Egypt, 34—41.
3 Ibid., 94-96.
4 Choueiri, Modem Arab Historiography, 174-196.
5 Marion Farouk-Sluglett u Peter Sluglett, The Historiography of Modem Iraq', The American Historical Review, 96:5. December, 1991, 1409-1410.
382
ГЛАВА 7
мусульманских наций в послевоенное время найти свою, основанную на собственном культурном прошлом идентичность, которая к тому же совпала с общими антизападными настроениями, превалировавшими в регионе. В отличие от националистически настроенных историков предыдущего поколения сегодня историки с большим интересом обращаются в исследованиях к исламскому прошлому своих стран, а не доисламскому периоду, над которым тщательно поработали их предшественники, а также (возможно, с определенной долей воображения) - к концу XIX - началу XX в. Эпоха фараонов в современном Египте сохранила свою привлекательность только для тех, кто занят в туриндустрии. Действительно, фараонизм, бывший когда-то для египетских историков столь привлекательным предметом исследования, теперь фактически выпал из представления египтян о своем национальном прошлом1. На фоне затянувшейся «холодной войны» и растущего напряжения на Ближнем Востоке, которое постоянно подпитывается непрекращающимися арабо-израильскими столкновениями, количество мусульманских историков, которые отвернулись от западной модели модернизации, так вдохновлявшей их предшественников, все увеличивается. На политическом уровне этот новый интерес выразился в насеровской пропаганде панарабизма (хотя она была подчеркнуто секулярной), а на культурном, несмотря на смерть Насера, настроения по поиску арабской солидарности продолжали расти и привели к переоценке и обновлению ислама. Еще во времена правления Насера Тарик аль-Бишри, один из ведущих представителей исламской школы современной египетской историографии, высказал сомнения по поводу модернистской, ориентированной на Запад интерпретации египетской истории, которая принималась историками предыдущих поколений. Начиная с 1970-х годов он постепенно отказался от общепринятого представления об исламе как препятствии на пути модернизации. Напротив, теперь аль-Бишри рассматривал ислам как краеугольный камень египетской национальной идентичности. В последние годы эта новая интерпретация исламского наследия получила огромную поддержку. За пределами академических кругов она укрепляет свои позиции благодаря эффективной работе таких массовых общественных организаций, как «Братья-мусульмане». Как заметил один наблюдатель, «[используемые аль-Бишри в этой интерпретации] знакомый религиозный слог и обращение к культурной аутентичности обеспечили ей широкую поддержку в среде египетской общественности»2. В академической среде постмодернистская критика метанарратива в исторической интерпретации, которая началась еще в 1970-е годы, также
1 Israel Gershoni, 'New Pasts for New National Images: The Perception of History in Modem Egyptian Thought', Shimon Shamir, Self-views in Historical Perspective in Egypt and Israel, 51-58.
2 Gorman, Historians, State and Politics in Twentieth-Century Egypt, 102-104.
ПОДЪЕМ ИСЛАМА И УПАДОК МАРКСИЗМА...
383
стала стимулом для мусульманских ученых к переосмыслению исламской традиции и ее отношения к модерну1.
И действительно, это исламское возрождение, которое проявилось и стало энергично развиваться в 1980-е годы, теперь можно наблюдать не только в Египте, но и по всему Ближнему Востоку2. Давайте посмотрим на Ливан - в течение нескольких десятилетий напряженные отношения между мириадами его энтических и религиозных групп не позволяли историкам составить связный и убедительный нарратив истории страны. Трудность заключается в том, что у каждой этнической группы, особенно у христиан-маронитов и арабов-мусуль- ман, была своя, значительно отличающаяся от других трактовка ливанской истории. Например, мусульманские историки, вдохновленные идеями арабизма, подчеркивали исламское влияние и исламские отличительные черты, а марониты были твердо намерены выдвинуть на передний план достижения своих предков в XV и XVIII веках; они также исследовали далекое прошлое своей общины в эпоху финикийцев. Намерения и интересы маронитов вызвали критику со стороны Камаля С. Салиби, ливанского историка-христианина, получившего образование сначала в Американском университете в Бейруте, а затем, в 1950-е годы, в Лондонском университете, где он работал с Бернардом Льюисом, который в то время уже утверждался как авторитетная фигура в ближневосточных вопросах3. Имея за плечами западное образование, Салиби решил написать объективную национальную историю. Назвав одну из своих книг «Многоквартирный дом», он намеревался отдать дань вкладу каждой этнической группы в эволюцию ливанской истории, хотя в книге весьма отчетливо ощущается его предпочтение маронитам и надежда на то, что Ливан сохранит свои христианские черты4. Однако начиная с 1980-х годов на фоне заметного изменения политического климата, отмеченного стабильным ростом сирийского и палестинского влияния, Салиби изменил свою точку зрения и признал растущую значимость арабизма. «Такая страна, как Ливан, может сохранить свою значимость только в арабском мире, где остаются влиятельными узы арабизма»5.
1 См.: Inge Boer, Annelies Moors and Toine van Teeffelen, ed., Changing Stories: Postmodernism and the Arab-Islamic World. Amsterdam, 1995. См. также: Turner, Orientalism, Postmodernism and Globalism.
2 Cp.: Haddad, Contemporary Islam; в этой книге есть и выдержки из работ мусульманских мыслителей и историков со всего региона, и их анализ, и обсуждение релевантности ислама в наше время.
5 К. S. Salibi, The Traditional Historiography of the Maronites' // Lewis и Holt, Historians of the Middle East, 225. Эта статья является частью докторской диссертации Салиби, которую он защитил в Лондонском университете в 1953 году.
4 Cp.: Kama! Salibi, A House of Many Mansions: The History of Lebanon Reconsidered. Berkeley, CA, 1988.
5 Choueiri, Modem Arab Historiography, 125-167; цитата на стр. 166.
384
ГЛАВА 7
Таким образом, несмотря на смерть Насера в 1970 году и движение Египта (по крайней мере, в отношении его лидеров) в сторону демократизации по более или менее западной модели, панарабизм не исчез. Напротив, как и арабизм, он расширил свое влияние на Ближнем Востоке. Более того, он получил новую поддержку в лице баасиз- ма в Сирии и Ираке. Партия БААС, панарабская партия, основанная в 1940-е годы, пришла к власти в обеих странах в 1963 году. В Ираке, после того как в 1968 году партия БААС снова получила власть, правление страной перешло в руки Саддама Хусейна, который в 1979 году формально вступил в должность президента. Чтобы занять лидирующую роль в арабском мире, Хусейн позиционировал себя как ярого приверженца арабизма и арабского единства. Он преследовал курдов в своей собственной стране, притеснял шиитов и, вторгшись в Кувейт, предъявил претензии на его территорию. Таким образом, панарабизм для Саддама Хусейна и партии БААС стал средством для консолидации своих сил и проявления политического влияния, как в своей стране, так и за ее пределами. Имея в своем распоряжении нефтяные богатства страны, иракское правительство предложило сообществу историков финансовую поддержку с тем, чтобы убедить их составить панегирические описания возникновения, развития и достижений партии БААС и обнародовать злодеяния предшествовавшей династии Хашимитов в плане ее сотрудничества с британцами. Этот проект также включал в себя создание новой истории Ирака с целью выдвижения на передний план арабских характеристик и арабских культурных черт этой страны. В частности, призвав себе на помощь труды Аль-Джахиз Абу Усман Амр ибн Бахра, мыслителя времен Аббасид- ской империи, финансируемые государством историки, в надежде поддержать арабскую и иракскую идентичность, прославляли историю империи, в основном концентрируясь на Багдаде, представляя ее в качестве наиболее законного и чистого правления мусульманского мира. Иными словами, непосредственная связь истории Ирака с Абба- сидами должна была содействовать установлению позиции Ирака как законного лидера современного арабского мира1.
Управляя страной железной рукой, Саддам Хусейн насаждал иракцам доктрины арабизма в форме национализма в процессе школьного обучения и с помощью средств массовой информации. Самир аль-Халиль описал эту практику в своей работе «Республика страха: Ирак Саддама». Более того, Саддам не только дал указания начать проект по переписыванию истории с тем, чтобы обеспечить поддерж-
1 Dessouki, 'Social and Political Dimensions of the Historiography of the Arab Gulf; Eric Davis и Nicolas Gavrielides, 'Statecraft, Historical Memory, and Popular Culture in Iraq and Kuwait' // Davis и Gavrielides, Statecraft in the Middle East, 94-95, 116-^148.
Самир аль-Халиль - псевдоним, настоящее имя - Канан Макия.
ПОДЪЕМ ИСЛАМА И УПАДОК МАРКСИЗМА...
385
ку своему правлению, он сам лично в этом участвовал. В 1979 году Министерство культуры и искусства издало книгу под названием «О том, как писать историю»; в ее состав вошли эссе, написанные самим Саддамом (четыре эссе), а также учеными и его сподвижниками. По Саддаму, история пишется с определенной целью, а именно с целью служения национальному развитию и социальному прогрессу. Следует прославлять определенные личности, но лишь в той степени, в которой их подвиги служат продвижению интересов общества в целом. В настоящее время, утверждал Саддам, этот интерес состоит в укреплении арабского наследия Ирака посредством панарабского национализма, но так, чтобы не способствовать сепаратизму и вражде. Иными словами, хотя меньшинства - курды и христиане - имеют право сохранять свои культурные и религиозные традиции, они должны признать, что Ирак как страна, несомненно, принадлежит арабскому миру1. Если Саддам Хусейн пытался при помощи арабизма преодолеть расколы и местничество, которые в течение многих лет до него изводили страну, его стратегия не сработала. Попытки возродить ислам, что являлось главным пунктом его программы действий, похоже, только укрепили приверженность людей своим конкретным шиитским, суннитским или курдским племенам, группам или даже семьям, а не иракскому государству, хотя курды были исследованы менее всего вследствие их притеснения2. Начиная с американского вторжения в Ирак в 2003 году, серьезным препятствием попыткам США стабилизировать обстановку в стране и установить демократический режим постоянно является именно этническая и религиозная неоднородность Ирака.
История и политика:
вызовы националистической историографии
Историография современного Ирака отражает и преумножает влияние политико-экономических изменений в стране, и эта страна далеко не исключение. Подобные же процессы происходили в Персидском заливе, Ливии, Алжире и Иране. Как и Ирак, все эти страны обрели независимость либо путем революционного переворота, либо благодаря возрождению власти племенных вождей, и в течение 1960-1970-х годов всем им помог нефтяной бум на Ближнем Востоке. Историописание в этих странах служило средством строительства государства и нации, и этот процесс совпал с переходом историописа- ния от традиционной формы учености к академической дисциплине. В процессе этого перехода появились две модели. Первая относится к таким странам, как Ливия и Алжир. По примеру Египта и Ирака
1 /Ш, 138-140.
2 Ср. Кагоик-Б^еП и Б1щ1еМ, 'ШБЮис^гарЬу оГ Мо(1ет Тгац'.
386
ГЛАВА 7
и более раннему примеру Сирии группа военных офицеров совершала государственный переворот против правящего режима, которым, как правило, было марионеточное правительство, поставленное Западом. Такой тип революции произошел в Судане в 1958 году, в Йемене в 1962 году, в Алжире в 1965 году и, наконец, в Ливии в 1969 году. После захвата власти, финансовой основой которой были нефтяные деньги, все лидеры обращались к национализму. Они начинали и финансировали историографические проекты по обвинению предыдущих режимов в сотрудничестве с Западом. В процессе этой работы историки подчеркивали разрыв в исторической памяти и воссоздавали и выдумывали национальное прошлое, в котором центральное место занимали движения сопротивления западному вторжению. В рамках другой модели, которая относится к таким странам, как Кувейт, в которых революции не было, такому революционному разрыву в национальной истории придавалось небольшое значение либо он игнорировался в принципе. В этом случае национальное прошлое связывалось прежде всего с непрерывным существованием правящего дома, подчеркивая совместимость традиционной племенной и современной кулмуры. Интересно то, что такой вид историографии, зачастую опиравшейся на нелитературную и устную фольклорную традицию, часто был мотивирован намерением как раз предотвратить те самые революционные восстания, которые происходили в соседних государствах, как представляющие потенциальную опасность своим собственным режимам1.
Несмотря на эти различия, начиная с конца 1960-х годов исторические исследования в этих нефтяных странах стали приобретать профессиональные характеристики, и этот процесс имел те же националистические черты, которые мы наблюдали и в других частях Ближнего Востока. Под эгидой правительства образовывались национальные университеты, а из их выпускников вышло первое поколение академических историков, которые впоследствии продолжали свое образование в Египте, Ливане, Европе или Америке. Возьмем для примера Ливию. Первая националистическая попытка историописания относится к дореволюционному времени. В 1968 году гуманитарный факультет Ливанского университета организовал свою первую научную конференцию, в результате которой появился сборник под названием «Ливия в истории»; большинство составлявших его статей были посвящены далекому прошлому страны. После 1969 года, когда Муам- мар Каддафи свергнул монархию, для превознесения ливийского сопротивления колониальному правлению большое внимание было обращено к современной ливийской истории, особенно к периоду итальянской оккупации. С этой целью правительство учредило «Центр изу¬
1 Dessouki, 'Social and Political Dimensions of the Historiography of the Arab Gulf; Davis u Gavrielides, 'Statecraft, Historical Memory and Popular Culture in Iraq and Kuwait* // Davis u Gavrielides, Statecraft in the Middle East, 92-99, 140-145.
ПОДЪЕМ ИСЛАМА И УПАДОК МАРКСИЗМА...
387
чения ливийского джихада против итальянской оккупации 1978 года, основной задачей которого было создание новых интерпретаций ливийской истории с националистической, революционной точки зрения. Этот центр финансировал проекты по сбору свидетельств устной истории и других источников; первый состоял в основном в опросе участников движения сопротивления. Между 1978 и 1982 годами Центр записал более четырех тысяч часов таких интервью. Все эти усилия были направлены на то, чтобы помочь определить историю Ливии как «единое националистическое, антиимпериалистическое общество, верное своей арабской и мусульманской культуре, противостоящее политическому и культурному доминированию Запада и активно участвующее в мировой истории». Поскольку академической дисциплиной в Ливии история стала только в конце 1960-х годов, а большинство ливийских историков обучались за границей, то в процессе своего развития современная ливийская историография впитала влияние таких направлений западной историографии, как социальная и культурная история. Тем не менее автократическое правление Каддафи, которое становилось все более явным с 1980-х годов, также означало, что в историческом сообществе академическая свобода была весьма ограничена или ее не было вообще. Поэтому большинство исторических работ, появившихся в последнее время, несмотря на свой внешний профессионализм, либо обслуживают, либо оправдывают политические нужды и идеалы правительства1.
Каким бы экстремальным ни казалось нам положение в Ливии как пример политического вмешательства в историческую науку, оно мало чем отличается от общего развития ближневосточной историографии в наше время. В Турции, где академическая историография появилась раньше, чем во многих соседствующих с ней странах, правительство также оказывает влияние на историков, занимающихся историей Турции. Источник этого влияния можно найти в ее руководстве, начиная с правления основателя этой страны Мустафы Кемаля. Как мы уже упоминали, на протяжении всего XX века Турция не оставляла попыток превратиться в европейскую нацию - процесс, инициатором которого был именно Кемаль. С целью установить представительное правительство и повысить уровень политической прозрачности Турция провела немало политических реформ, хотя и не всегда гладко, а иногда и с откатами назад. Вступив в 1963 году в НАТО, она откорректировала свою внешнюю политику в сторону сотрудничества с Западом, за что в том же самом году страна была «награждена» статусом кандидата в члены ЕС. Тем не менее с тех пор заявления Турции на вступление в Европейский союз в качестве полноправного члена многократно отвергались.
1 Cp.: Lisa Anderson, 'Legitimacy, Identity and the Writing of History in Libya', ibid., 71-91.
388
ГЛАВА 7
Начиная с Мустафы Кемаля, турецкое правительство постоянно использует историю в своих политических целях. В 1988 году книгу по турецкой истории опубликовал Тургут Озал, в то время премьер- министр, а позднее, с 1989 по 1993 годы - президент Турции. Работа называлась «Турция в Европе» и развивала «турецкий исторический аргумент», сформулированный Мустафой Кемалем в отношении ранней турецкой истории и цивилизации. В ней представлена эволюция турецкой истории от эпохи неолита до настоящего времени, разделенная на пять основных периодов: 1) от неолита до эллинизма; 2) период Римской империи; 3) Византийская империя; 4) периоды сельджуков и османов; 5) современная Турция. Связав современный турецкий народ с хеттами и представив хеттов основными участниками борьбы за власть в Центральной Азии, или Анатолии, географическом центре возникновения человеческой цивилизации, Озал, который при написании своей книги несомненно прибегал к помощи профессиональных историков, подчеркнул существенную историческую связь между Анатолией и Европой. Он связал греческую цивилизацию (через ионийцев) с Анатолией, или Центральной Азией, и далее отверг греческое происхождение западной цивилизации, поставив на это место турок, или центрально-азиатские народы. Он развил свой аргумент и в отношении более позднего периода, заявив, что во времена Римской империи распространение христианства началось именно с Анатолии. Одним словом, Озал хотел убедить своих читателей в том, что Турция не только имеет историческую связь с развитием европейской истории, но и фактически является собственно местом возникновения европейской цивилизации, как и заявляет об этом само название книги1.
Кроме того, что книга Озала «Турция в Европе» сразу же стала «проповедью» европейскому сообществу о месте турецкой истории и культуры и призывом к рассмотрению принятия Турции в ЕС, в ней есть еще один момент, стоящий нашего внимания, а именно обсуждение роли ислама в турецкой истории. В отличие от Мустафы Кемаля с его секуляристской позицией Озал не хотел преуменьшать роль ислама. Напротив, он превозносил его культурные и научные достижения (немалый вклад в которые, по его утверждению, внесли и турки) и заявил, что эти достижения дали начало интеллектуальному развитию европейской культуры и обогатили ее2. Действительно, несмотря на то что Турция до сих пор заинтересована во вступлении в ЕС, уровень исламского возрождения в ней не меньше, чем в других исламских странах. Несмотря на свою лояльность «турецкому историческому аргументу», что следует из основного аргумента книги, на посту президента Озал открыто идентифицировал себя с исламскими символа¬
1 Speros Vryonis, Jr, The Turkish State and History: Clio meets the Grey Wolf. Thessaloniki, 1991, 11-66.
2 Ibid., 45.
ПОДЪЕМ ИСЛАМА И УПАДОК МАРКСИЗМА...
389
ми и стандартами. Хотя турецкое правительство заявляет о своей се- кулярности, в 1980-е годы оно основало Управление по религиозным делам и обеспечило финансовую поддержку исламским школам, число которых за последние десятилетия резко возросло. По сравнению с решением Кемаля о запрете ношения фески и чадры теперь турчанкам разрешается покрывать голову платком. После смерти Озала в 1993 году это движение (ре)исламизации пошло еще более быстрыми темпами и сыграло свою роль в переориентации внешней политики страны в последнее время. Начиная с 1990-х годов, Турция считает себя скорее «мостом» между Востоком и Западом, или Азией и Европой. нежели «подлинно европейской» нацией, как это заявлялось ранее1. Все это оказало свое влияние на ход развития турецкой историографии. Например, период Османской империи привлекает теперь большое внимание, и его оценивают в более положительном ключе, чем раньше. В настоящее время базирующийся в Стамбуле «Исследовательский центр исламской истории» публикует многотомную историю османского периода2. Подтвердив свою исламскую идентичность, все больше историков как в Турции, так и за ее пределами ставят под сомнение представленный ориенталистами образ «упадка» Османской империи начиная с XVIII века3 4. Еще более важным является тот факт, что возрождение интереса к исламской культуре позволило историкам начиная с 1970-х годов, заново открыть для себя ценность исламских придворных архивов в различных провинциях. В тандеме с влиянием Школы «Анналов» в отношении социальной и локальной истории открытие и использование этого кладезя архивных источников сыграло ключевую роль в «революции социальной истории» в современной османской историографии, которая трансформировала парадигму национальной истории .
В заключение скажем, что наиболее важное и самое последнее изменение в современной исламской историографии связано с возрождением ислама, хотя его истоки можно проследить еще в послевоенные годы. Это возрождение набрало значительную силу в 1980-1990-е годы. В результате данного процесса «в 1995 году каждая страна с преимущест¬
1 Samuel Р. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order. New York, 1996, 144-149 (рус. пер.: С. Хантингтон. Столкновение цивилизаций M., 2003).
2 Faroqhi, Approaching Ottoman History, 197. Также: Riffat Ali Abou-el-Haj, 'The Social Uses of the Past: Recent Arab Historiography of Ottoman Rule' // International Journal of Middle East Studies, 14:2. May 1982, 185-201; Barraclough, Main Trends in History, 129-130.
3 Cm.: Rifa'at 'Ali Abou-El-Haj. Formation of the Modem State: the Ottoman Empire, Sixteenth to Eighteenth Centuries. Albany, NY, 1991; Также: Jane Hathaway, 'Rewriting Eighteenth-Century Ottoman History', Mediterranean Historical Review, 19:1. June 2004, 29-53.
4 Hathaway, 'Rewriting Eighteenth-Century Ottoman History'; Также: Enid Hill, ed., New Frontiers in the Social History of the Middle East. Cairo, 2001.
390
ГЛАВА 7
венно мусульманским населением... стала более исламской и исламистской в культурном, социальном и политическом отношении, чем за пятнадцать лет до этого»1. Подъем ислама стал как причиной, так и следствием историографических изменений, которые мы обсудили в этой главе. Начиная с 1970-х годов, многие из этих изменений близко связаны с постмодернистской и постколониальной критикой культурной гегемонии Запада (неотъемлемой частью которой и является современная историография). Тем не менее, эти изменения еще не привели к возникновению какой-либо школы, как, например, Школы «Субалтерн» в современной индийской историографии, которая оказывает влияние в мировом масштабе. Также и исламское возрождение с присущим ему экуменизмом в отношении мусульманской солидарности или арабского единения на примере панарабизма не разрушило доминирование национального историописания, которое является характерной чертой основных изменений в исламской историографии на протяжении XX века. Более того, как заметил один обозреватель, «несмотря на свою претензию на над-национальность, большинство исламистских движений были сформированы в русле национальной специфики»2. Исследование таких новых областей, как женская история, новая культурная история, история повседневности и т.д., хотя и представляет само по себе ценность и вдохновляет определенную группу ученых, еще не достаточно привлекает внимание исторического сообщества3 4. Но борьба народов Ближнего Востока, несомненно, способствовала трансформации современного исторического воображения. В конце концов, и Мишель Фуко, и Жак Деррида, два принципиальных вдохновителя постмодернизма, часть своей жизни провели соответственно в Тунисе и Алжире4. Эдвард Саид, ключевая фигура в постколониализме, тоже из этого региона. Учитывая интенсивность их борьбы против колониального и империалистического наследия, мусульманские историки, возможно, в большей степени, чем их коллеги в других регионах мира, склонны позволять идеологическому и политическому давлению влиять на свою работу. В свете того что многие правительства данного региона остаются автократическими, эта ситуация, скорее всего, в ближайшем будущем останется неизменной и будет представлять серьезный вызов историческому сообществу.
1 Huntington, Clash of Civilizations, 111 (рус. пер.: С. Хантингтон. Столкновение цивилизаций. М, 2003).
2 Olivier Roy, Globalized Islam: The Search for a New Ummah. New York, 2004, 62.
3 Clancy-Smith, 'Twentieth-Century Historians and Historiography of the Middle East', 86f.
4 Cm.: Robert C. Young, ed., Postcolonialism: An Historical Introduction. Maiden, MA, 2001, 395-426.
391
ГЛАВА 8
ИСТОРИОГРАФИЯ ПОСЛЕ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ», 1990-2007: КРИТИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА
Всемирная глобализация
Политическая ситуация 1990-х, изменившаяся после распада в 1989-1991 годов советского блока и окончания «холодной войны», поставила историков перед лицом новых вызовов точно так же, как политические течения 1960-х годов оказали глубокое влияние на мировую историческую мысль и историописание. Глобальный мир, о котором американский политолог Фрэнсис Фукуяма заявил в своей работе «Конец истории», предсказывая в нем всеобщее принятие американского стиля свободного предпринимательства и демократических институтов после краха советского коммунизма, пошел совсем не по тому пути, который он предрекал. Фактически начиная с 1989 года на международной арене появились новые формы военной конфронтации - не между государствами, как это было в годы «холодной войны» (даже война во Вьетнаме все-таки была войной между государствами и армиями США и Северного Вьетнама), а конфликты с врагами, особенно на Ближнем Востоке, Балканах и бывших советских среднеазиатских республиках, не имевшими четко определенных границ и использующими нетрадиционное оружие - терроризм. В своем труде «Столкновении цивилизаций» Самюэль Хантингтон написал о непримиримом конфликте между исламской и западной - и отчасти китайской - культурами, но он оперировал чрезвычайно упрощенными представлениями о вневременном исламе как единой культуре, упуская из виду различия внутри исламского мира, его историю, влияние на него модернизации, роль экономических факторов и, наконец, взаимосвязь исламских обществ и современного Запада.
С одной стороны, предсказание Фукуямы оказалось верным, по крайней мере, отчасти. Распространение капитализма западного образца на большую часть современного мира, являющееся частью процесса глобализации, который начался до 1989 года и сформировал ядро того, что описывается как процесс глобализации, действительно произошло. Но за редким исключением (Тайвань и Южная Корея) глобализация не привела к демократизации. Этот процесс не только привел к трансформации мировой экономики, усиленной новыми ин¬
392
ГЛАВА 8
формационными технологиями, но и сопровождался возрастающей унификацией повседневной жизни, поведения потребителей, типов урбанизации, столичной архитектуры, популярной музыкальной и киноиндустрии, отношения полов и поколений. Тем не менее, на социокультурном уровне глобализация приняла различные формы, отражая местные условия и наследие. Они породили сопротивление воздействию глобализации на традиционные уклады жизни, которое довольно часто принимало насильственные формы.
Споры о глобализации, так или иначе, напоминают о более ранних дискуссиях по поводу зависимости и модернизации. То, что современная глобальная культура порождена структурами политической и финансовой власти, расположенными главным образом на Западе и в Японии, бесспорно. Как, несомненно, и то, что силы глобализации (в смысле институциональных органов и властей), несмотря на их повсеместное распространение, по-прежнему сконцентрированы в развитом мире. В связи с этим возникает вопрос: может ли глобализация, как ранее модернизация, восприниматься в качестве нового «метанарратива»? Подобно тому как это было с дискуссиями по модернизации, рассмотренными нами в главе 6, аналитики глобализации делятся на тех, кто рассматривает ее как позитивное явление, и тех, кто подчеркивает ее деструктивные стороны. Первые указывают на блага большего доступа к технологии, информации, услугам и рынкам, положительные результаты растущей производительности, повышение глобальных доходов на душу населения и т.п.; последние подчеркивают увеличивающиеся социально-экономические диспропорции внутри западных обществ, разрушение государства всеобщего благосостояния и особенно неспособность снизить уровень бедности на значительных территориях Африки, Азии и Латинской Америки. Глобализация привлекла огромное внимание всеобщих средств массовой информации, хотя научная литература по данному вопросу тоже достаточно обширна. Для многих социологов она стала самым главным объясняющим фактором нашего времени. Все это требует историографии, способной работать с условиями, в которых мы сегодня живем и которые так или иначе отличаются от тех, что были до 1989 года.
Хотя международное сообщество историков возникло еще до 1990-х годов, в 1990-е оно стало реальностью, поскольку не западные ученые, прежде всего индийские, ближневосточные, латиноамериканские, а также растущее число ученых из Тропической Африки заняли важные академические посты в американских, британских и австралийских университетах и иногда даже в Высшей школе социальных наук в Париже. Важным фактом является то, что языком международной коммуникации все больше становился английский язык. Ученые из не западных стран стали принимать участие в дискуссиях и, как мы уже видели, индийские « Subaltern Studies» послужили стимулом для развития западной и латиноамериканской мысли. В исследованиях по
ИСТОРИОГРАФИЯ ПОСЛЕ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ», 1990-2007... 393
Ближнему Востоку английский язык также стал ведущим, причем как среди западных ученых, так и среди ученых, имеющих ближневосточное происхождение, потеснив некогда востребованные французский и немецкий1. В свою очередь западные, прежде всего североамериканские и британские ученые, стали тесно сотрудничать - по сравнению с более ранним периодом - с учеными из Латинской Америки, Африки и Восточной Азии, так что во многих областях исследования все более приобретают международный характер. Активные международные обмены практикуются на проводимых раз в пять лет Международных конгрессах исторических наук и на других конференциях. Имеет место и региональное сотрудничество историков. В последние годы, несмотря на то, что написание и пересмотр учебников по истории в Японии часто вызывали протесты и критику со стороны таких ее соседей, как Китай и Южная Корея, историки этих стран приложили усилия к развитию сотрудничества в деле поиска согласия и решения спорных вопросов современной истории этого региона. Их сотрудничество уже дало кое-какие, хотя и предварительные, но в то же время обнадеживающие результаты2.
Тем не менее, по-прежнему существуют определенные ограничения в международных обменах. Одним из них является то, что английский язык, несмотря на несомненные плюсы от этого, оказался почти единственным международным языком. Во всем мире английская литература широко читается как в оригинале, так и в переводах. Многие важные работы по истории или связанные с социальными или гуманитарными науками переведены с английского на не западные языки, как и важные книги или статьи, написанные на немецком или французском3. Однако очень незначительное число трудов, написанных на китайском, японском, корейском, фарси, турецком или араб¬
1 Некоторые из популярных работ по этой тематике стали бестселлерами, в том числе: Thomas Friedman The Lexus and the Olive Tree. New York, 2000, rev. ed. и The World is Flat. New York, 2004; Benjamin Barber, Jihad vs. McWorld. New York, 1995; Amy Chua World on Fire: How Exporting Free Market and Democracy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability. New York, 2003. За исключением немногих заметных работ последнего времени большинство теоретической литературы по глобализации создано не историками. Отчасти такое положение дел обусловлено современностью данного объекта: отчасти это связано с тем, что глобализация выходит за пределы привычных для истории пространственно-временных ориентиров.
2 R. Stephen Humphreys, The Historiography of the Modem Middle East: Transforming a Field of Study' // Israel Gershoni, Amy Singer, Y. Hakan Erdem, eds, Middle East Historiographies: Narrating the Twentieth Century. Seattle, IL, 2006, 20.
3 В 2003 в Японии, Китае и Корее коллективом авторов был написан и издан новый учебник по истории для средней школы. Поскольку принятие учебников истории требует официального одобрения, этот учебник остался в статусе «для дополнительного чтения». Тем не менее, его публикация стала важным шагом к достижению согласия по поводу оценки истории данного региона.
394
ГЛАВА 8
ском, переведены на английский язык. Международная коммуникация по-прежнему находится во власти англо-американского мира, и за исключением англоязычной школы в Индии теоретические вопросы за пределами Запада на глобальном уровне практически не освещаются. И по сравнению с общественными науками история в гораздо большей мере продолжает писаться на национальных языках и для национальной аудитории.
Прогресс в области компьютерных технологий и широкое использование сети Интернет в последнее время значительно облегчили международную коммуникацию историков по всему миру. Эти технологические новшества оказали большое влияние на исторические исследования и историописание. Например, студенты-историки во всем мире сегодня уже привыкли к использованию Интернета для поиска информации и выполнения своих заданий, а их профессора и преподаватели все чаще обращаются к доступным в Интернете базам данных диссертаций и журнальных статей с целью проведения исследований. Не только на Западе, но, возможно, даже в большей мере благодаря правительственным дотациям в Восточной Азии, например в Японии и Тайване1, были развернуты проекты с целью систематического размещения в Интернете всего существующего корпуса исторической литературы, включая правительственные архивы и многотомные классические тексты. Такая доступность и новые технологии (поиск по ключевым словам и т.д.) позволят историкам и широкой общественности получить к ним широкий доступ и облегчить пользование ими.
Переориентация исторических исследований
Обращаясь к основным историографическим событиям, которые стали реакцией на изменившиеся условия, можно выделить пять тенденций или проблемных зон историописания во всеми мире начиная с конца «холодной войны»: 1) продолжающийся культурно-лингвистический поворот, положивший начало так называемой «новой культурной истории»; 2) беспрецедентную экспансию феминистской и гендерной истории; 3) новый союз между историческими и социальными науками в свете постмодернистской критики; 4) вызов национальной историографии, связанный (хотя и не только) с постколониальными исследованиями; 5) подъем всемирной истории и отличной от нее ис¬
1 В отличие от частных инициатив, типа попыток Google работать с ведущими библиотеками Великобритании и США, наталкивающихся на некоторое сопротивление, многие из этих проектов в восточноазиатских странах получили бюджетное финансирование. Примеры тому существуют в Национальной парламентской библиотеке Японии (Japan's Diet Library) и Тайваньской академии наук (Taiwan's Academia Sin ica), где систематически оцифровываются исторические данные, документы и книги по истории.
ИСТОРИОГРАФИЯ ПОСЛЕ «ХОЛОДНОЙ ВОИНЫ», 1990-2007... 395
тории глобализации. Однако, несмотря на наличие этих основных тенденций в изменении того способа, которым сегодня пишется история, какая-либо новая парадигма исторических исследований отсутствует. Фактически налицо значительное разнообразие. Несмотря на то что все эти тенденции подвергают сомнению национально-ориентированную историю, на протяжении почти всей современной эпохи владевшей умами историков, национальное государство по-прежнему присутствует в исторических трудах, даже если изменилось само понятие «нация».
Как мы уже ранее говорили, с наступлением в 1970-1980-е годы так называемых культурного и лингвистического поворотов, культивируемые после 1945 года подходы в области социальных наук подверглись сильной критике. Эта критика сосредоточилась на трех пунктах. Первый состоял в увлеченности социальных наук крупномасштабными, анонимными структурами и процессами и пренебрежении жизненным опытом обыкновенного человека. Второй заключался в теории модернизации, предполагающей, что мир будет следовать западным образцам. Третий состоял в приверженности эмпирическим, в том числе количественным, исследованиям и вере, что эти исследования дают объективное знание. В этом отношении лингвистический поворот рассматривал историю как вид литературы. Так, как мы уже отмечали, Хейден Уайт критиковал «нежелание относится к историческим нарративам как к тому, чем они в большой степени и являются: художественной литературой, содержание которой скорее вымышлено, чем найдено и виды которой имеют гораздо больше общих черт с их аналогами в литературе, нежели в науке»1 2. Как заметил Роберт Берхофер, «поскольку обычные историки пытаются примирить различные интерпретации отсылкой к фактам, а не аргументами по поводу природы нарратива как такового, они обязаны допустить, что на практике ¿актуальность становится своего рода принудительной реальностью». Несмотря на популярность отхода от социальных наук, подходы этих наук продолжают оставаться значимыми в 1990-е годы и далее. В то же время социальная история все более осознает важность культурных факторов и необходимость дополнять эмпирические и количественные исследования методами изучения культуры.
Культурный и лингвистический повороты
Культурный поворот играл важную роль в историописании в 1970-1980-е годы не только в англо-американском мире, но и за его
1 Hayden White, 'The Historical Text as Literary Artifact' // Hayden White. The Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticis/и (Baltimore, CT, 1982), 82.
2 Robert Berkhofer, The Challenge of Poetics to (Normal) Historical Practice', Poetics Today, vol. 9 (1988), 435-452. Однако Беркхофер не настроен абсолютно негативно по отношению к историческому реализму.
396
ГЛАВА 8
пределами1 2. Наряду с антропологическим подходом в социальной истории они хорошо подходили для изучения истории повседневности и тем самым для «истории снизу» - истории беднейших и низших классов. Таким образом, культурный марксизм выжил, хотя немногие из социальных и культурных историков признавали себя обязанными марксизму. Культурные исследования предложили новое и более широкое понимание истории. Их слабость - не только на ранней стадии в 1970-1980-е годы, но и после 1990-го года - заключалась в полном пренебрежении ими политико-экономическими структурами культуры и заинтересованностью исключительно вопросом о том, способны ли вообще история и общественные науки предложить знания о реальном мире или их следует рассматривать как вид художественной литературы. Но если ответить на эти вопросы положительно, возникает вопрос: способны ли они адекватно понять великие преобразования, которые произошли и происходят в настоящее время в международном масштабе?
Культурный и в меньшей степени лингвистический повороты продолжали играть важную роль в исторической теории и историописа- нии и после 1990 года, и не только в англо-американском мире2. Крайний эпистемологический релятивизм, отрицавший наличие социальной реальности и утверждавший, что все так называемые научные объяснения социальной жизни являются всего лишь «опытами коллективного фантазирования и мифотворчества»3, заметно ослаб после 1990 года, когда стала очевидна неспособность радикальных культурных исследований осмыслить те изменения, которые произошли с миром после 1990 года Линн Хант стимулировала культурные исследования благодаря проведенному в своей книге «Политика, культура и класс во Французской революции» культурному анализу Французской революции, который не отрицал роли социальных структур и процессов в развязывании Французской революции. В 1999 году вместе с Викторией Е. Боннелл она выступила в качестве редактора сборника научных статей «По ту сторону культурного поворота»4, где анализировались новые направления, по которым пошло изучение общества и культуры с 1980-х годов. Авторы пришли к выводу, что «хотя все авторы этого сборника находятся под глубоким влиянием культурного поворота, они отказываются принять уничтожение социального, подразумевающегося самыми радикальными формами культурных исследований и постструктурализма». Только Хейден Уайт в послесловии к этому
1 Doris Bachmann-Medick, Cultural Turns: Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften. Reinbek, 2006.
2 Ibid.
3 Victoria E. Bonneil and Lynn Hunt, eds, 'Introduction', Beyond the Cultural Tum: New Directions in the Study of Society and Culture. Berkeley, CA, 1999, 3.
4 Ibid., 11.
ИСТОРИОГРАФИЯ ПОСЛЕ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ», 1990-2007... 397
сборнику и в своих дальнейших выступлениях остался убежденным приверженцем радикальных культурных исследований1.
Сходная переориентация произошла и внутри лингвистического поворота. Габриэлла Спигель, которая, несмотря на подчеркивание значимости языка при проведении исторического исследования, всегда акцентировала внимание на социальном контексте его бытования, в вышедшей в 2005 году антологии, которая собрала основных представителей лингвистического поворота, заметила: «Через двадцать пять лет после “лингвистического поворота” присутствует растущее чувство неудовлетворенности его излишне педантичным учетом языковой деятельности во всех видах человеческих устремлений»2. В числе авторов антологии были такие серьезные социальные историки, как Уильям Сьюэлл3 и Гарет Стедман Джонс, которые, приводя доводы против чрезмерного доверия к экономическим детерминантам, подчеркивали роль языка и придерживались этой позиции даже пятнадцать лет спустя, тем не менее признавали значение социальных контекстов в формировании языка. Стедман Джонс критиковал не только социальный детерминизма марксизма, сохранившийся в работах многих социальных историков, не считавших себя марксистами, но и лингвистический детерминизм, содержащийся в концепции Фуко и лежащий в основе большинства работ, написанных под влиянием лингвистического поворота, - дискурс определяет сознание. Несмотря на то, что он тоже верил в центральную роль дискурса в обществе и культуре, Стедман отказался от идеи «смерти автора», провозглашенной Фуко и разделенной Деррида, - идеи, упускающей роль авторской интенции в работе историка. Критикуя детерминизм и Маркса, и Фуко, он заявил, что «невозможно представить бездеятельную власть».
1 Ibid., 315-324. Здесь он еще раз подчеркивает, что «нет другой такой дисциплины, которая столь же сильно находится под влиянием иллюзии, что “факты” отыскиваются в процессе исследования, а не реконструируются способами репрезентации и практиками disvoursivization, чем история»» (322). 15 мая 2007 года в заключительном выступлении на тему «Альтернативный глобальный метанарратив?» на конференции «Навстречу глобальной истории», проходившей в Институте Фьезоле Европейского университета (Италия), он заявил о «катастрофическом» состоянии профессиональной истории, по-прежнему не признающей исключительно идеологического характера любого предположительно объективного исторического исследования. История должна вновь обрести свой риторический характер. Распространив это на область науки, Уайт пошел еще дальше, заявив, что теория эволюции базировалась на некритичном принятии дарвинистской идеологии, исходившей из того, что в природе существуют взаимосвязь и движение и что ей на смену должно прийти признание мутации, свободной от свойственных теории эволюции допущений о прогрессивном развитии.
2 Gábriellé М. Spiegel, ed., Practicing History: New Directions in Historical Writing after the Linguistic Turn. New York, 2005, 3.
3 William H. Sewell, Jr, The Concept(s) of Culture', ibid., 76-96; см. также его: Logics of History, Social Theory and Social Transformation. Chicago, IL, 2005.
398
ГЛАВА 8
Но все-таки Стедман Джонс по-прежнему придерживался тезиса, согласно которому власть (в том числе и политика), конституируется дискурсом и должна рассматриваться как текст1 2. Это позволило Роже Шартье, выдающемуся французскому историку культуры и литературы, критически заметить, что Стедман Джонс в своем редуцировании истории и общества к дискурсу, в рассмотрении их как текстов, упустил тот факт, что «сам по себе дискурс всегда социально укоренен и ограничен»7. Точно так же он критиковал Хейдена Уайта за сведение всех исторических нарративов к неких литературным формам, поясняя, что «даже если историк пишет в “литературной манере”, он не создает литературу»3 *.
По мере того как интерес к культурной истории распространялся в другие части мира, она приобретала несколько иное значение и развивалась, по всей видимости, по другой траектории. В Восточной Азии практика культурной истории позволила историкам найти альтернативу господствующей парадигме национальной истории и в некоторых случаях позволила им обрести свободу от удушающих идеологических ограничений, накладываемых на работу историка. В Японии, например, поворот к культурной истории, который начиная с 1980-х годов привел к появлению попыток изобразить повседневную жизнь простых людей и особенно низшего класса, совпал с появлением городской истории - одной из наиболее активно развивающихся областей исторических исследований в Японии в последние десятилетия. Прибегнув к помощи методов культурной антропологии, социологии и семиотики, японские урбан-историки занялись изучением устройства «городского пространства», привлекая внимание к городской бедноте, этническим различиям и гендерным отношениям, а также таким новым и взаимосвязанным темам, как здоровье и болезнь, здравоохранение и личная гигиена. Начиная с середины 1990-х годов этот интерес к культурной истории способствовал привнесению «культурных исследований» и постколониальных исследований с Запада в Японию. Учитывая отличия исторических исследований в Японии, рост культурных исследований помог некоторым японским историкам дать критический анализ правительственному контролю над написанием учебников и публикаций - ключевой области осуществления власти национального государства по отношению к гражданам. Они также способствовали развитию интереса к изучению культурного
1 Gareth Stedman Jones, The Determinist Fix: Some Obstacles to the Further Development of the Linguistic Approach to History in the 1990s', History Workshop Journal, 42(1996), 19-35.
2 Roger Chartier, 'Why the Linguistic Approach can be an Obstacle to the Further Development of Historical Knowledge. A reply to Gareth Stedman Jones', ibid., 46 (1998), 271-272.
3 Roger Chartier, 'Quatre Questions a Hayden White', Storia della Storiografia,
24(1993), 133-142.
ИСТОРИОГРАФИЯ ПОСЛЕ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ», 1990-2007... 399
наследия японского колониализма в Восточной Азии в первой половине XX века1. Одним из способов, при помощи которого культурные историки в Японии пытались понять это сложное и временами гнетущее наследие, было изучение конструирования и изменения памяти войны, или динамики «запоминания» и «забывания» на уровне общества. С этой целью они не только изучили написание и распространение учебников по истории в школах, но и проанализировали воздействие материальных остатков войны - сохраненных и выставленных в музеях, а также установленных после Второй мировой войны памятниках в Хиросиме и Нагасаки - на формирование памяти о войне у японской общественности, особенно у японской молодежи2.
Если развитие культурной истории и культурных исследований в Японии только выиграло благодаря развитию в международном сообществе историков кросс-культурных контактов, то же самое можно сказать и о недавних переменах в историографии Китая. Например, результатом уже упомянутого нами в предыдущей главе тесного сотрудничества китайских ученых, работающих дома и за рубежом, стала публикация запущенной в 2004 году книжной серии «Новая социальная история». Благодаря более интенсивному обмену между тайваньскими учеными и их западными коллегами, изучение китайской истории по ту сторону Тайваньского пролива в последние десятилетия показало точно такой же сильный интерес к культурной истории. По сравнению с историками Народной Республики тайваньские историки действительно более восприимчивы к влияниям западной историографии - под влиянием Школы «Анналов» поворот к культурной истории произошел в их историческом ареале еще в 1980-е годы3. На материке же интерес к культурной истории просматривается только с середины 1980-х годов, с развертыванием «культурной лихорадки», которая положила начало изучению социальной истории, с особым интересом к изменениям в социальной и культурной жизни. Это стало альтернативой распространенной ранее марксисткой историографии
1 Ср.: Narita Ryuichi, Rekishi no sutairu (Историографические жанры). Tokyo, 2001, 217-230, 275-288, 347-364; также: Hirota Masaki, 'Pandora no hako: minshu shisoshi kenkyu no kadai' (Ящик Пандоры: проблемы изучения истории общественного сознания) // Sakai Naoki, ed., Nashonaru hisutori о manabisuteru (Забытая национальная история). Tokyo. 2006, 3-92.
2 Tomiyama Ichiro, ed., Kioku ga katari hajimeiru (Памяти начинают говорить. Memories Begin to Speak). Tokyo, 2006.
3 Cm.: Wang Qingjia, Taiwan shixue 50 nian: chuancheng, fangfa, quxiang, 1950— 2000 (Историописание в Тайване: традиция и трансформация. 1950-2000 - Writing History in Taiwan: Tradition and Transformation, 1950-2000). Taipei, 2002; idem., 'Jiegou yu chonggou: jin ershi nianlai Taiwan lishi yishi bianhua de zhuyao qushi' (Деконструкция и реконструкция: основные тенденции изменения исторического сознания в Тайване в последние два десятилетия), Hanxue yanjiu tongxun (Newsletter for Research in Chinese Studies), 25:4. November, 2006, 13-32.
400
ГЛАВА 8
Китая, так как последней, как это ни парадоксально, было свойственно хвалебное описание выдающихся свершений национальной и коммунистической элиты. Тот факт, что редакторы назвали свою серию «Новой социальной историей», а не «(Новой) культурной историей», с очевидностью свидетельствует о продолжении того же самого стремления выйти за пределы марксистского историографического наследия. На самом деле, вероятно, уникальные для Китая тенденции и в сфере социальной, и в сфере культурной истории позволили китайским историкам, особенно историкам младшего поколения, обходить в историческом исследовании поддерживаемую и навязываемую правительством марксистскую ортодоксальность. В то же самое время, несмотря на аналогичную политическую интенцию, беглый взгляд на серию «Новой социальной истории» недвусмысленно показывает, что ее авторы пытаются придерживаться нового подхода, отличающегося от того, что делали в области социальной истории их предшественники. Первой книгой, изданной в этой серии, стала книга, озаглавленная как «События, память и наррация», второй - «Тело, менталитет и власть», третьей - «Время, пространство и (историо)писание». Эти названия свидетельствуют о попытках заняться исследованиями в области изучения культурной истории и предложить китайской историографии новую ориентацию1. Эти усилия сыграли значительную роль в подрыве господства национально-ориентированного исторического нарратива в Китае и вообще в Восточной Азии, к чему мы еще вернемся.
Феминистская и гендерная история
Как мы уже отметили, культурный подход хорошо подходил для «истории снизу», в том числе для истории женщин. Начиная с 1980-х годов не только женщины и гендер, но также раса, национальность и класс приобретали в историописании все большую значимость. Внимание к женщинам, гендеру и сексуальности стало играть большую роль в 1990-е годы в Западной Европе, Латинской Америке, Индии, Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Но ни в одной стране эта роль не оказалась столь значимой, как в Соединенных Штатах. Примером этому может служить программа ежегодной встречи Американской исторической ассоциации в 2007 году. На многих сессиях поднимались вопросы, связанные с женщинами и сексуальной, в том числе маскулинной, идентичностью. Уделялось внимание работорговле и рабству, в том числе сексуальным аспектам рабства. В то же самое время эти темы рассматривались в транснациональной, глобаль¬
1 Sun Jiang, ed., Xin shehuishi: shijian, jiyi, xushu. Hangzhou, 2004; Huang Donglan, ed., Xin shehuishi: shenti, xinxing, quanli. Hangzhou. 2005; Wang Di, ed., Xin shehuishi: shijian, kongjian, shuxie. Hangzhou, 2006.
ИСТОРИОГРАФИЯ ПОСЛЕ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ», 1990-2007... 401
ной перспективе, центральное место в которой занимали сравнения среди не западных обществ, и опять с отсылкой к сексуальности. Эти сессии показали широкую глобальную перспективу в компаративном ключе, но рассмотрение политико-экономического контекста сексуальности практически отсутствовало. Возможно, работающие в этой области историки не признали бы этот факт и подчеркнули бы, что их понимание «власти» крайне политизировано и что женская или скорее гендерная история - это история, имеющая дело с иерархией власти. Однако большая часть посвященной этой проблеме историографии практически не уделяет внимания институциональной структуре, в которой действует эта власть, а именно структурам управления и экономики, которые традиционно рассматриваются как мужские сферы. Это ограничение справедливо и для серии «Женщины и гендерная история в глобальной перспективе», которая состоит из девяти тематических брошюр о «семье, религии, расе и национальности», опубликованных Комитетом женщин-историков Американской исторической ассоциации под редакцией Бонни Смит. Смит написала: «Если 1970-е были отмечены возникновением истории женщин, а 1980-е заставили нас задуматься о гендере, то в последней декаде этого тысячелетия первоочередной стала потребность в более глобальных и сравнительных перспективах в преподавании и изучении как женской, так и гендерной истории»1. 1990-е действительно стали свидетелями расширения социальной истории, включившей в себя женщин и гендер. Более того, гораздо больше внимания стало уделяться положению женщин во всем мире, в том числе в бывших колониальных обществах.
Интересно сравнить программу проводимой каждые два года конвенции Немецкой исторической ассоциации, которая прошла в сентябре 2006 года, с программой, принятой Американской исторической ассоциацией (АИА) в январе 2007 года. В отличие от программы АИА Немецкая ассоциация запланировала сессии по Античности и европейскому Средневековью, делая упор на культурные аспекты. Значительное внимание уделялось катастрофам двадцатого века, особенно тем, которые имели отношение к Германии, и послевоенному миру, включая возобновление в Германии еврейской жизни после Холокоста. Вопросы женщин, гендера и сексуальности, доминирующие в программе АИА, в немецкой программе находились в более маргинальном положении. Панельных встреч, касающихся мира за пределами Европы и даже за пределами Германии, было относительно немного. Предшествующие программы были аналогичны. Таким образом, общая атмосфера исследований в Германии заметно отличалась от атмосферы не только в Соединенных Штатах, но и в других западноевропейских странах; тем не менее доминирование культурных,
1 B. Smith. Mrinalini Sinha, Gender and Nation in Women's and Gender History in Global Perspective.
14 Зак. 1183
402
ГЛАВА 8
феминистских и транснациональных исследований в Германии все же присутствовало, хотя и в более ограниченном виде1.
Показателем новой ориентации в женской и гендерной историях было основание в 1990 году международного журнала Gender and History. В передовице к первому номеру журнала было заявлено: «Мы всеми силами стремимся поощрять не только женские и гендерные исследования, но и исследования того, каким образом другие социальные барьеры - раса, класс, религия, национальная принадлежность, сексуальная ориентация - сказываются [s/c] как на гендерных представлениях, так и на женском опыте»2. И, как мы уже видели, в 1980-е годы много исторических трудов уже было написано в русле этой ориентации. Необходимо полностью признать то подчинение, которое испытывает женщина в условиях господства мужской культуры. Юрген Кокка в Г ермании и Элизабет Фокс-Дженовезе в Соединенных Штатах, исходя из совершенно разных социологических и политических позиций, выступили против тенденции, которая превалирует в большей части женской и гендерной историй, практически не уделять внимания социальным условиям, влияющим и на мужчин, и на женщин. Так, Кокка проанализировал ситуацию образованной аристократки в бисмарковской Г ермании, которая, несмотря на присущее обществу и культуре подчинение (которое она как женщина испытывала на себе), все же имела намного больше общего со своим братом, находящимся в той же возрастной группе, чем со старой вдовой- полячкой, зарабатывавшей на жизнь сезонными работами, которая жила в страшной нищете и не могла ни читать, на писать»3 4. Фокс- Дженовезе тоже подвергает сомнению солидарность между белой хозяйкой и рабыней на плантации и подчеркивает, что первая гораздо больше идентифицирует себя с белыми мужчинами в домашнем хозяйстве, которые принадлежат к тому же самому привилегированному классу, чем с подчиненной ей черной женщиной . И все-таки невозможно отделить гендер от класса. Бедственное положение полячки - это не только классовая проблема, но и результат ее женского статуса в гендерно-структурированном обществе. После 1990 года невозможность разделения класса и гендера становилась все более понятной как социальным, так и гендерным историкам. Просматривая журналы, которые кратко обсудим ниже, и опубликованные в 1989-2007 годах
1 Gudilla Budde, Sebastian Conrad and Oliver Janz, eds, Transnationale Geschichte. Themen: Tendenzen, Theorien: Festschrift for Jürgen Kocka's 65th Birthday. Göttingen, 2006.
2 'Why Gender and History?', Gender and History, 1:1. Spring, 1989, 1.
3 Jürgen Kocka, 'Frauengeschichte zwischen Wissenschaft und Ideologie', Geschichtsdidaktik, 7 (1981), 104; uht. no: Gisela Bock, 'Women's History and Gender History: Aspects of an International Debate', Gender and History, 1:1. Spring, 1989, 19.
4 Elizabeth Fox-Genovese, Within the Plantation Household: Black and White Women of the Old South. Chapel Hill, NC, 1988.
ИСТОРИОГРАФИЯ ПОСЛЕ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ», 1990-2007... 403
в этих журналах рецензии на книги, мы увидим, что исторические исследования все больше обращаются к гендерной проблематике. Более того, четкое разделение между публичной и приватной сферами в традиционной историографии, придающее историческое значение исключительно сфере публичного (преимущественно мужской сфере) и рассматривающее повседневную жизнь женщин дома и на работе как исторически нерелевантную, постепенно уходит в прошлое. Хотя эти перемены произошли в большинстве англоязычной, франкоязычной, итальянской и скандинавской историографии еще до 1990 года, прежние концепции все еще очень распространены в литературе. Так, основательный немецкий труд Geschichtliche Grundbegriffe, где проанализирована трансформация базовых понятий между 1750 и 1850 годами и их влияние на политику и общество Германии того времени, не содержит никаких понятий, касающихся пола или гендера1.
Этот новый интерес к женской и гендерной историям привел к отказу от марксистской теории истории и в то же самое время к развитию (редко признаваемому) некоторых положений марксистской идеологии. От экономического детерминизма Маркса отказались, но зачастую только частично. Почти вся феминистская историография включает и политические аспекты. Она подчеркивает, до какой степени женщины с самого начала были подчинены мужчинам во всех аспектах жизни: подчинение и эксплуатация, которые обострены в условиях капитализма. Ранняя феминистская история по большей части признавала роль класса, но настаивала на том, что эта роль должна быть изменена, ибо следует признать, что эксплуатация и господство при капитализме связаны и с гендерными вопросами. С точки зрения феминизма, марксизм в значительной степени игнорировал проблему подчиненного статуса женщины, предполагая, что с наступлением социализма она будет преодолена2. С самого начала феминистская историография рассматривала в качестве своей задачи изменение от¬
1 Geschichtliche Grundbegriffe, 8 vols (Stuttgart, 1972-1997). В нескольких статьях есть упоминания о женских движениях и дискуссиях о статусе женщин, но какие-либо понятия, касающиеся женской или гендерной проблематики, отсутствуют.
2 В работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Фридрих Энгельс был чуть ли ни одинок, подчеркивая, что подчинение женщин стало частью западной истории начиная с античности; таким образом, оно предшествовало современному капитализму и коренилось в переходе от матриархата к патриархату, в центре которого находилась проблема частной собственности и наследования, что в свою очередь привело к созданию государства, главной функцией которого и являлась защита прав собственности. Энгельс также полагал, что проблема подчинения женщин будет решена с установлением коммунистического общества. И методологически, и в плане концепций исторического процесса новая феминистская и гендерная истории порвали с прежними историографическими традициями, особенно с марксизмом, а также с социально ориентированной наукой, о чем мы говорили в предыдущей главе.
404
ГЛАВА8
ношения между полами с целью достижения эмансипации во всех сферах жизни. В 1990-е годы феминистская и гендерная истории вообще следовали за новыми тенденциями в историографии, уделявшей центральное место роли гендера. Другим ключевым аспектом историографии после 1990 года стало расширение «истории снизу», начало чему было положено еще в 1970-1980-е годы, но которая теперь включала не только гендер, но и беднейшие и зависимые слои населения. Это предполагало критику веры в западную цивилизацию, которую, в конечном счете, разделяли как марксисты, так и большинство анти-марксистов, и которая сохранилась на протяжении значительной части XX века. Придерживаясь тенденций, свойственных историографии после 1990 года, феминистская историография обратилась к не западному миру, сосредоточив свое внимание на последствиях империализма и добавив к гендеру расовую и национальную принадлежность как части своего видения истории. За пределами Соединенных Штатов, особенно в Индии и Латинской Америке, исторические исследования руководствовались теми же методологическими и идеологическими принципами, которые превалировали в Соединенных Штатах.
В исторических исследованиях по Ближнему Востоку феминизм сосредоточился на критике модернистского подхода к историописа- нию, основанного на дихотомии «традиционный - современный». Это заставляет историков скорее искать неоднозначную трактовку исламской культурной традиции, нежели рассматривать ее просто как помеху на пути модернизации в этом регионе. Так, например, в своей книге «Паранджа и мужская элита», предложившей новую интерпретацию исламских принципов, Фатема Мернисси открыто поставила вопрос о том, «выступает ли ислам против прав женщин?» и твердо заявила, что нет. Она убедительно показала, что в обществе раннего ислама женщины были равноправными участниками сотворения арабской истории1. В последние годы феминистки предложили новый взгляд и на практику ношения мусульманскими женщинами паранджи в общественных местах. Вместо того чтобы видеть в ней символ изо¬
* Фатема Мернисси (род. 1940) - марокканский социолог, автор ряда работ, посвященных анализу мусульманской доктрины роли женщины в семье и обществе. Ее исследования посвящены выявлению различий между сложившимся в современном исламе отношением к женщине и тем, как это отношение описывается в Коране и других священных текстах ислама. По мнению Ф. Мернисси, кораническая догма гораздо либеральнее современных практик; этот подход (основы которого изложены в книгах: The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Islam (1985) и Islam and Democracy: Fear of the Modem World (1993)) сделал автора признанным идеологом исламского феминизма. Ф. Мернисси преподает социологию в Университете им. Мухаммеда V в Рабате, Марокко.
1 Fatima Mernissi, The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam, tr. Mary Jo Lakeland. Reading, MA, 1987.
ИСТОРИОГРАФИЯ ПОСЛЕ «ХОЛОДНОЙ ВОИНЫ», 1990-2007... 405
ляции и даже угнетения женщин в мусульманском обществе, ученые- феминистки обнаружили, что ношение паранджи может стать способом, позволяющим исламской женщине «войти в публичное пространство, заняться политикой и создать собственное пространство для автономии»1.
В дополнение к вопросу о дихотомии «традиционный - современный» феминистская историография, или женские и гендерные исследования на Ближнем Востоке, бросили вызов эссенциалистскому подходу в националистической историографии, противопоставляющему колонизатора и колонизируемого как две взаимоисключающие категории исторического исследования. Привлечение внимания к историческому опыту женщин, включая как европейских поселенцев, так и местных жительниц, привело к более точному и сложному изучению их соприкосновения. Поскольку местные женщины (несмотря на выгоду, извлекаемую из национально-освободительной борьбы колонизируемых против колонизаторов) были заинтересованы в том, чтобы, например, пойти в школу или принять участие в политической жизни, их часто заставляли подчинить свои желания нуждам нации, причем как до, так и после получения национальной независимости. Другими словами, несмотря на то, что политическая власть постепенно переходила от европейцев к борцам за свободу своей родины, гендерный подход к социально-политической сфере оставался прежним. Таким образом, научный феминизм выступил против маскулинно-ориентированного и маскулинно-контролируемого национально-государственного нарратива в историографии и показал его связь с западным колониализмом и империализмом2. Эта постоянная обеспокоенность по поводу неизменного и направляющего культурно-политического влияния Запада нашла свое выражение и в исследованиях по истории женщин в Восточной Азии. Хотя научный феминизм в Азии в целом признавал, что идея прав и интересов женщин пришла в их страны и получила там распространение именно благодаря западному влиянию, гораздо больше они были заинтересованы в критике парадигматического влияния «западного феминизма», привлекая внимание к принципиальному различию женского опыта в Азии и на Западе3.
1 Arend Jan Termeulen, 'Metanarratives and Local Challenges: Islamist and Modernist Discourses in Contemporary Tunisia' // Inge Boer, Annelies Moors and Toine van Teeffelen, eds., Changing Stories: Postmodernism and the Arab-Islamic World. Amsterdam, 1995, 57.
2 Julia Clancy-Smith, 'Twentieth-century Historians and Historiography of the Middle East: Women, Gender and Empire' // Gershoni, Singer and Erdem, Middle East Historiographies. Seattle, 1L, 2006, 70-100.
3 Dorothy Ko, 'Women's History: Asia' // Kelly Boyd, ed., Encyclopedia of Historians and Historical Writing. London, 1999, 2, 1314.
406
ГЛАВА 8
Пересмотр альянса истории с общественными науками
Проанализируем развитие основных журналов после 1990 года как признак изменения историографических тенденций, в том числе и большого интереса к методологии социальных наук. Индикатором этого стала переориентация французских «Анналов», в 1994 году поменявших свой подзаголовок: отныне он звучал не «Экономики. Общества. Цивилизации», а «История. Социальные науки». Это объяснялось тем, что прежний заголовок был слишком узким, а историки должны тесно работать не только с социологами и экономистами, но с учеными других отраслей знания и с гуманитариями. На самом деле, «Анналы» все время этим и занимались, просто теперь повторно озвучили эту позицию. В передовице журнала за 1988 год, а затем и за 1989 год «Анналы» уже говорили о кризисе традиционных социальных наук и заявляли о том, что марксизм, структурализм и количественные исследования утратили свою способность создавать для исследований в исторических науках убедительное основание; доверие ко всем идеологиям и вправду было подорвано. Необходимо было преодолеть пропасть между микро- и макроисторией. Это не означало отказа от социологии или, точнее, от общественных наук в целом, а скорее предполагало расширение за счет включения не получивших ранее достаточного внимания культурных аспектов. И это означало потребность в новых методах - не только методов географии, социологии и антропологии, на которые опиралась историография «Анналов», но также методов литературной критики, социолингвистики и политической философии1.
Как и прежде, журнал подчеркивал, что изучение общества и культуры нуждается в исторической перспективе. Однако теперь под этим подразумевалась другая тематика. На протяжении многих лет после 1945 года они избегали обращения к современной проблематике, которой в 1930-е они все еще занимались. Их интерес к Средневековью сохранился, но теперь появились статьи, посвященные XIX и особенно XX векам, а иногда и Античности. Серьезное внимание было уделено не западному миру - Китаю, Индии, Японии, а также Тропической Африке. И обращались они не только к обществу и экономике, но и религии, в том числе к проблемам, связанным с иудаизмом и евреям в прошлом и настоящем.
«Анналам» 1990-х годов и в последующие годы гораздо больше, чем любому другому из основных журналов, свойственно внимание к
1 'Histoire et sciences sociales, un tournant critique?' Annates ESC, 43:2 (March- April 1988), 291-293; также: idem., 'Histoire et sciences socialessocials: Tentons l'ex- perience', ibid, 44: 6. November-December, 1989, 1317-1323.
ИСТОРИОГРАФИЯ ПОСЛЕ «ХОЛОДНОЙ ВОИНЫ», 1990-2007... 407
межкультурным и междисциплинарным взаимодействиям. В эти годы они не игнорировали проблематику пола и гендера, но эта тематика не занимала такое центральное место, как это было в американских и в некоторой степени в британских журналах. Кроме того, «Анналы» не придерживались какой-либо определенной идеологической ориентации, которая была свойственна журналу Past and Present) в Великобритании и в еще большей степени журналу History Workshop). Как мы уже отмечали, изменение подзаголовка этого журнала было симптоматичным: от «Журнала социалистической истории» в 1977 году до «Журнала социалистической и феминистской истории» в 1982 году. В 1995 году подзаголовок вообще убрали, пояснив, что «за эти четырнадцать лет, с тех пор как мы в последний раз внесли поправки в наше название, политические условия изменились почти до неузнаваемости»1 2. Понятие гендера, по-прежнему важное, следовало освободить от его связи с марксистскими концепциями общества и истории. Это освобождение от марксистских посылок было свойственно и таким журналам, как Quademi Storici, который в 1970-е годы обратился к microstoria (микроистории), и Passato е Presente. Большинство американских журналов никогда не придерживалось марксистских посылок, но к этому времени они освободились от концепций модернизации, означавших западный или, точнее, американский триумф. The American Historical Review («Американское историческое обозрение»), Journal of Interdisciplinary History («Журнал интердисциплинарной истории»), Comparative Studies of History and Society («Компаративные исследования истории и общества»), Social Science History («Социальная научная история»), Social History («Социальная история») и ближе к нашему времени The Journal of Modern History («Журнал современной истории») и Journal of the History of Ideas («Журнал истории идей»), в Великобритании - уважаемый English Historical Review («Английское историческое обозрение»), во Франции - не менее уважаемые Revue Historique («Историческое обозрение»/«Истори- ческий журнал») и Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine («Журнал новой и современной истории»), а в Италии - Nuova Revista Storica («Журнал новой истории») - все они стали менее европоцентристскими и расширили свои горизонты. В меньшей степени это было свойственно старейшему профессиональному историческому журналу в Германии Historische Zeitschrift («Историческому журналу»), в центре внимания которого продолжали оставаться традиционные немецкие темы, иногда выходящие за пределы Германии. Однако в выпуске этого журнала за декабрь 2006 года была помещена статья об окончании практики линчевания на Юге Соединенных Штатов , а в
1 Передовица: 'Change and Continuity’, History Workshop Journal 39 (1995), iii.
2 Manfred Berg, 'Das Ende der Lynchjustiz in den amerikanischen Südstaaten', Historische Zeitschrift, 283: 3. Dezember, 2006, 583-616.
408
ГЛАВА 8
августе 2008 года - обзорная статья Ханса Медика, в 1980-1990 годы главного представителя Alltagsgeschichte , по исторической антропологии. Журнал International Review of Social History («Международный журнал по социальной истории»), издаваемый Институтом социальной истории в Амстердаме, по-прежнему сосредотачивал свое внимание на рабочих классах, однако теперь помещая их в намного более широкую международную и глобальную перспективу. Анализ показывает, что в сходном направлении развивались и два главных журнала по латиноамериканской истории - Hispanic American Historical Review («Испано-американский исторический журнал») и Latin American Research Review («Журнал латиноамериканских исследований»), а также два журнала по африканской истории - Journal of African History («Журнал африканской истории») и Journal of Modern African Studies («Журнал современных африканских исследований»). В западных журналах преобладали темы по новой культурной истории, глобализации, гендеру и сексуальности, расовой и национальной принадлежности, а вот в латиноамериканских журналах и с некоторой модификацией в журналах Тропической Африки гораздо больше, чем на Западе, обращались к истории рабства и этно-истории. Главными темами в них были этно-история, расовая и национальная принадлежность, история рабства и трансконтинентальная торговля рабами в ее глобальных аспектах, колониализм и постколониализм, формирование национальной идентичности и экономическое развитие2. Хотя нельзя сказать о возникновении новой парадигмы, границы исторических исследований явно расширились, и на смену нацио- и западо-центризму пришло обращение к другим регионам мира и к другим аспектам общества и культуры.
Был один важный момент, по отношению к которому после 1990 года можно говорить о заметной переориентации, и это вовсе не отход от акцента на языке и культуре, а отход от крайних форм культура- лизма и чрезмерной концентрации на языке, которые преобладали в 1970-1980-е годы и результатом которых стал радикальный эпистемологический релятивизм. Эта тенденция ясно проявилась в траектории развития основанной в 1974 году в Соединенных Штатах Ассоциации социальной истории. В передовице основанного в 1976 году этой Ассоциацией журнала Social Science History подчеркивалось, что одной из главных задач ассоциации является интердисциплинарность и открытость «в случае необходимости количественного анализа»1 * 3. В 1999 году специальный выпуск этого журнала был посвящен влия¬
1 Hans Medick, 'Historische Reflexion auf dem Weg zur Selbstreflexion', ibid, 1 (August, 2006), 123-130.
* Мы благодарны коллегам Георга Иггерса Гарольду Лонгфуру (Harold Long- fur) и Джейсону Янгу (Jason Young) за советы соответственно по Латинской Америке и Тропической Африке.
3 Social Science History, 1:1 & 2. Fall, 1976.
ИСТОРИОГРАФИЯ ПОСЛЕ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ», 1990-2007... 409
нию постмодернизма, постструктурализма и лингвистического поворота на изменение отношений между историей и общественными нау- камш которые, как выразился редактор, «потеряли четкие очертания» . Признавая плюрализм подходов, авторы выпуска пытались найти способы наведения мостов между аналитической социологией и культурными исследованиями. По пути Ассоциации социальной истории в Соединенных Штатах в 1990-е годы последовала европейская Ассоциация социальной истории, которая начиная с 1998-го раз в два года устраивает конференции. Для встречи в 2006 году были отобраны статьи, которые корреспондировали с обозначенными выше тенденциями. Основными проблемами стали проблемы не западного мира- Африки, Азии и Латинской Америки: этническая принадлежность и миграция, гендер и сексуальность, семья и демография, труд, социальное неравенство, нации и национализм, а также политика, религия и теоретические вопросы взаимоотношений истории и социальных наук. В 2008 году в качестве требования к материалам заявлялось, что Ассоциация «намерена собрать ученых, заинтересованных в объяснении исторических явлений с привлечением методов социальных наук». Таким образом, эта конференция и ассоциация, спонсируемые Международным институтом социальной истории в Амстердаме, раздвинули границы социальных наук, но в отличие от многих сторонников постмодернистских культурных исследований они по-прежнему подчеркивают значение аналитических социальных наук.
Здесь следует сказать о потребности в методологии социальных наук, которая в 1970-1980-е годы вследствие культурного и лингвистического поворотов «потеряла расположение историков», но которая по-прежнему является важным инструментом при анализе глобальных аспектов и местных различий в том мире, в котором мы живем. Конечно, то, что понимается под «социальными науками», подверглось в этот период определенным изменениям. Они вышли за пределы узкой заинтересованности макроисторическими и макросоциальными структурами и процессами, к которым можно применить количественные методы, и включили элементы культуры, предполагающие интерпретацию. Однако интерпретация не означает интуитивного «насыщенного описания» в манере Гирца, а предполагает логическое исследование с четко поставленными вопросами, при помощи которых имеющий социокультурный характер объект подвергается анализу. Она также подразумевает, что вытекающие из этого исследования теории выносятся на суд научного сообщества, разделяющего пред- 11 Paula Baker, 'What is Social Science History, Anyway?' // 'What is Social Science History?', Social Science History, 23:4. Fall, 1999, 2-5; также: Eric H. Monk- konen, 'Lessons of Social Science History', Social Science History, 18:2. Summer 1994, 161-168.
410
ГЛАВА 8
ставления о том, что есть научное рассуждение. В этом смысле общественные науки выдержали критику культурного и лингвистического поворотов и приняли во внимание изменение социального и исторического контекстов глобального мира. История глобализации требует широкого подхода, в котором традиционные границы между дисциплинами отсутствуют. И историописание в значительной мере осознало это. Ясно, что никакой новой парадигмы исторических исследований нет. Даже в период становления профессии, когда возникло то, что более поздние историки назвали ранкеанской парадигмой, присутствовало значительное разнообразие и не было никакого общего языка подобного тому, который был обнаружен в куновской парадигме для естественных наук. Мало того что было значительное разнообразие в том, что понимается под парадигмой профессиональных исторических исследований, в большинстве своем историописание (упомянем здесь таких двух историков-мыслителей XIX века, как Маркс и Буркхардт) оперировало совершенно разными представлениями о том, что составляет предмет исторического исследования и как к нему подступиться.
Сегодня мы, вероятно, можем обнаружить два совершенно разных направления: одно из них является продолжением культурного поворота, оно ставит под сомнение наличие в истории континуитета и структуры и призывает поместить историю рядом с художественной литературой; другое представляет собой историю глобализации, и для него понятия структуры и развития являются ключевыми элементами, требующими методологии социальных наук. Более того, эти подходы не должны исключать друг друга, но, к сожалению, в целом это так. Несмотря на то что представители социальных наук все больше обращаются к глобализации, присутствующее наряду с ней разнообразие и сопротивление этому процессу исследованы недостаточно. И именно здесь необходимо присутствие историков, потому что акцент на экономических аспектах глобализации, свойственный классической экономике, которая и доминирует в исследованиях по глобализации, стремится изолировать экономические факторы от исторического и культурного контекстов. Историография после 1990 года заметно отличается от предшествующей. Но ей следует отказаться от иллюзии, которая присутствовала на протяжении последних двух столетий последовательно у ранкеанцев, позитивистов, марксистов, социологов- эмпириков, культуралистов и сторонников лингвистического поворота, что у них есть однозначные ответы. Историография - это непрерывный диалог, которому всегда свойственны новые ракурсы, обогащающие понимание прошлого; однако на смену этим ракурсам придут другие. Это не призыв к эпистемологическому релятивизму, поскольку каждый из этих ракурсов должен подвергаться проверке с учетом исследовательских стандартов, разделяемых сообществом ученых. Так, например, догматы марксизма не являются теорией, которая, как утверждал Хейден Уайт, может быть либо доказана, либо
ИСТОРИОГРАФИЯ ПОСЛЕ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ», 1990-2007... 411
опровергнута1, а являются объектом модификации, основанной на эмпирической и логической проверке.
Новые вызовы националистической истории
Каким образом глобальные изменения последних нескольких десятилетий, особенно после окончания «холодной войны», повлияли на изучение и создание националистической истории? Националистическая история, в центре внимания которой находится национальное государство, по-прежнему наглядно присутствует в Восточной Азии и Восточной Европе2, где она процветала еще во времена коммунизма. С другой стороны, и в Китае, и в Японии есть историки, интересующиеся транснациональной историей; в Китае стабильный интерес к всемирной истории присутствует в традиции марксистской историографии, а вот в Японии понятие «интернационализация» (коки$а1ка) стало броской фразой лишь в последние годы, что в определенной степени и отражает, и диктует развитие исторических исследований и высшего образования в целом3. Таким образом, интерес к глобализации отныне свойствен не только Западу, как это было с теориями модернизации в контексте главенствующих западных дискурсов, а представляет собой интернациональный феномен4. Один из крупнейших проектов, инициированных Европейским научным фондом в 2003 году, был направлен на преодоление разрыва между нацио¬
1 Hayden White, 'An Old Question Raised Again: Is Historiography Art or Science? Response to Iggers', Rethinking History, 4:3. December, 2000, 391-406 (рус. пер.: Г. Иг- герс. История между наукой и литературой: размышление по поводу историографического подхода Хейдена Уайта; X. Уайт. Ответ Иггерсу // Одиссей. 2001. С. 140-162).
2 Sorin Antohi, ed., Narratives Unbound-.Historical Studies in Post-Communist Eastern Europe. (Budapest, forthcoming). См. также: Daniela Koleva and Ivan Elenkov, 'Did the Change Happen? Posy-Socialist History in Bulgaria' // Ulf Brunnbauer, ed., (Re)Writing History: Historiography in Southeast Europe After Socialism. Münster, 2004, 94—127; Frank Hadler, 'Drachen und Drachentöter: Das Problem der nationalgeschichtlichen Fixierung in den Historiographien Ostmitteleuropas nach dem Zweiten Weltkrieg' // Christoph Conrad and Sebastian Conrad, eds, Die Nation schreiben. Geschichtswissenschaft im internationalen Vergleich. Göttingen, 2002, 137-165.
3 Cm.: Dominic Sachsenmaier, 'Global History and Critiques of Western Perspectives', Comparative Education, специальный выпуск; 'Comparative Methods in the Social Sciences', 42—43 (August, 2006), 451—470; Dorothea Martin, The Making of a Sino-Marxist World View: Perceptions and Interpretations of World History in the People's Republic of China. Armonk, NY, 1990; Nagahara Keiji, 20 seiki Nihon no reki- shigaku (Японская историографии XX века - 20th-century Japanese historiography) (Tokvo, 2005), 264-285.
Cm.: Dominic Sachsenmaier, 'Global History: Global Debates' // Geschichte Transnational, 3:3 (2004).
412
ГЛАВА 8
нальной и транснациональной историографиями1. В центре внимания находилось изучение развития профессиональных исторических исследований, начиная с начала XIX века в каждой из европейских стран по отдельности, независимо от того, достигла ли уже эта страна национального единства или только стремится к национальной независимости. С целью составления общеевропейского обзора необходимо было систематизировать ключевые научные институты каждой страны - университеты, архивы, профессиональные ассоциации и журналы. В каждом случае история играла ключевую роль в формировании национальной идентичности, а во второй половине XX века - и в появлении транснациональной европейской и глобальной истории2.
Однако изменениям подверглась сама идея нации, особенно в Соединенных Штатах. The National Standards for United States History (Государственные стандарты Соединенных Штатов по преподаванию истории) и National Standards for World History (Государственные стандарты по преподаванию всемирной истории)3 отказались от унифицированного понимания «нации» и подчеркнули плюрализм национальных культур, роль меньшинств и женщин в истории - подход, который позволил проводить глобальные межкультурные сравнения. Эти рекомендации подверглись резкой критике со стороны традиционных и консервативных историков, прежде всего Линн Чейни, являвшейся в то время главой субсидировавшего это исследование Национального фонда развития гуманитарных наук и, между прочим, женой действующего вице-президента Соединенных Штатов Ричарда Чейни4. Все значимые американские и британские журналы по социальным наукам - Анналы и Le Mouvement Social, «Одиссей» в России, итальянский Passato е Presente и немецкий Geschichte und Gesellschaft обратились к транснациональной и - реже - к глобальной истории. В 1991 году в Лейпциге начал издаваться журнал Komparativ, ориентированный на «изучение всеобщей истории и компаративные социальные исследования». Он продолжил работу по компаративному изучению, в том числе Африки и Латинской Америки, проделанную незадолго до краха восточногерманского режима Вальтером Марковым и Манфредом Коссоком в Институте культурной и всеоб¬
1 См.: Representations of the Past: The Writing of National Histories in Europe, European Science Foundation Humanities Programme, Newsletter 1, October 2004.
1 Cm.: Stefan Berger, Mark Donovan and Kevin Passmore, eds, Writing National Histories: Western Europe since 1800. London, 1999; Stefan Berger, ed., Writing the Nation: Towards Global Perspectives. Basingstoke, 2007.
3 Составлены в 1995 году в Лос-Анджелесе по заказу Национального центра по преподаванию истории в школах при Калифорнийском университете Лос- Анджелеса.
4 См. критику: Standards, 'Part IV An Educational Mission: Standards for the Teaching of History' // Elizabeth Fox-Genovese and Lasch-Ouinn, eds, Reconstructing History: The Emergence of a New Historical Society. New York, 1999.
ИСТОРИОГРАФИЯ ПОСЛЕ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ», 1990-2007... 413
щей истории Университета Карла Маркса1. После объединения Германии институт был закрыт, но благодаря некоторым молодым историкам, которым удалось привлечь ученых из других стран, был восстановлен, но уже вне университетских стен. Хотя институт, к сожалению, практически не привлек к себе внимания, идея и практика глобальной истории на протяжении 1990-х годов и первой декады этого века получали все большее распространение. И на XIX Международном конгрессе исторических наук в Осло, и на XX МКИН в Сиднее всемирной и глобальной истории были посвящены отдельные секции. Наиболее значимые материалы Конгресса в Осло были опубликованы под редакцией Солви Согнер и озаглавлены как «Придавая смысл глобальной истории»2. Важно отметить, что интерес к глобальной истории не ограничивается Западом. С другой стороны, в последние годы много мусульманских3 и несколько индийских4 историков попытались преодолеть западные категории и методы, а некоторые ученые даже вернулись к религиозным перспективам.
В Индии наследие инициативы Subaltern Studies означало признание необходимости выйти за пределы таких универсальных объяснительных структур, как национальное государство. Было признано, что националистические истории развивались как антиколониальные истории, однако изучение низших групп показало, что их политика часто имела мало общего с интересами националистических элит. Subaltern Studies продемонстрировали, что основные антиколониальные националистические труды в угоду национальному единству сглаживали существующие внутри «нации» напряженности и различия.
В последние годы это привело к рефлексии о границах националистической парадигмы, а также о развитии новых исследовательских областей, которые так просто не вписываются в национальную структуру. Так, недавние исследования в области женской истории и истории низших каст показали, что деятельность этих групп часто выходила за пределы превозносимой местными элитами программы «социальных реформ» и что последние даже прибегали к колониальным и западным идеологиям5. Живой интерес вызвало и возникновение региональной истории, позволившей бросить свежий взгляд на исто¬
1 См.: Matthias Middell, Weltgeschichtsschreibung im Zeitalter der Verfachlichung und Professionalisierung: Das Leipziger Institut fiir Kultur- und Universalgeschichte, 3 vols. Leipzig, 2005; см., в частности, т. 3, посвященный этому Институту в период существования восточногерманского режима, с 1949 по 1990 г.
2 Oslo, 2001.
3 См.: Ulrike Freitag, 'Writing Arab History. The Search for the Nation' // British Journal of Middle Eastern Studies, 1994.
4 Cm.: Ashis Nandy, 'History's Forgotten Doubles', History and Theory, 34:2 (1995), 44-66.
5 См., напр.: Lata Mani, Contentious Traditions: The Debate on Sati in Colonial India California, 1998.
414
ГЛАВА 8
рию субконтинента в целом. Другой новой исследовательской областью, которая преодолела границы националистической парадигмы, были экологическая история и «человеческая география» кочевых способов существования, составлявших важную главу индийского прошлого вплоть до позднеколониального периода. Подобные интересы не означали отказа от национальной парадигмы, проблематики британского господства или антиколониального движения в целом. Скорее, они показали, что не все подводится под свойственную националистической структуре дихотомию «колониальное - антиколониальное» и что нарративы и истории другого рода тоже достойны внимания.
Были и направления, которые пошли еще дальше. Некоторые уче- ные-«культурологи» сочли, что националистическое мышление было производным от структуры репрезентации, присутствовавшей в той самой власти, от которой стремились избавиться, а именно в колониализме1. Одно из оснований для избавления от этой структуры имело политический характер, а именно авторитарные тенденции постколониального государства, взращенные государством колониальным. В более фундаментальном смысле постколониальное государство теперь виделось как источник специфической и весьма банальной версии современности (так называемый национально-государственный проект), которая отрицала и подавляла различные и более функциональные версии современности, появившиеся на местном уровне. Так, например, политические партии, имеющие религиозную основу, рассматривались как несоответствующие характеру и целям современного светского государства Индия. А ведь политическая мобилизация религии произошла благодаря мощным религиозным реформаторским движениям, возникшим в ответ на вызовы современности.
Это привело к нарастающей среди ученых тенденции исследовать «альтернативные современности», т.е. современности, возникшие на местном уровне и отличающиеся от западных концепций современности2. Такая литература, появившаяся на стыках истории, антропологии, литературоведения, экономики и философии, стала дополнении- ем к исследованиям культурных измерений глобализации3. Однако остается тонкая грань, разделяющая то, как некоторые особенности
1 Ср. Partha Chatterjee, Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse? London, 1986.
2 См., напр.: Dilip Parameshwar Gaonkar, ed., Alternative Modernities (North Carolina, 2001). Исходя из того, что современности разворачиваются внутри определенных культур, статьи этого сборника исследуют современности на примере таких разнообразных предметов, как Закон об аборигенах Австралии, дискуссионные клубы Бенгалии и граждане Шанхая.
3 Ср.: Arjun Appadurai, Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minnesota, MN, 1996.
ИСТОРИОГРАФИЯ ПОСЛЕ «ХОЛОДНОЙ ВОИНЫ», 1990-2007... 415
представлены локальными современностями и присущей старому националистическому мышлению дихотомией «колониальный дискурс / местная аутентичность». Как мы видели, среди таких ученых, как Ашиш Нанди, критика секуляризма как западной идеи не только направлена против специфически индийских концепций секуляризма, понимаемых как религиозная толерантность (а не а-религиозность), она также подпитывает попытки индуистов правого толка построить узкий национализм, отождествляемый с частной версией индуизма. Дополнительное оружие в руки религиозного индуистского фанатизма дают аргументы постмодернистов и социальных конструктивистов о «фактуальных» и «культурных» основаниях любого знания, хотя индийские постмодернисты левого толка твердо выступают против подобного использования своих идей.
Но реальное и метафорическое оружие уже выстрелило. Снос в 1992 году Мечеть Бабри в Айодхья, ставший проявлением мести индуистов правого толка за предполагаемое осквернение места рождения индуистского бога Рамы (и мнимую общепринятую практику разрушения индуистских храмов на протяжении всего мусульманского периода) было только началом длительных нападок на рациональное историческое мышление. В ответ на представленные «секулярными» историками данные, подвергающие сомнению факт существования Рамы как исторического лица и место его рождения, К. Р. Малкарни, главный идеолог Hinduivá , заявил, что «зачастую в мифе гораздо больше истории, а в истории - мифа»1. За этим последовала напряженная работа сторонников Hinduivá в министерствах по созданию индуистской версии истории, что достигалось посредством усиленного контроля за исследовательскими институтами и школьными учебными планами. Эта версия истории рассматривает индусско-мусульманскую вражду как базовую, утверждает превосходство индуизма и Индии как родины арийцев (теория арийского происхождения), где было взращено все самое ценное в цивилизации, и пытается определять индийскую культуру через ее «ведические корни». И то, что подобные утверждения противоречат всем общепринятым в истории данным, не имеет для идеологов Hinduivá абсолютно никакого значения. Тем не менее крайне политизированная форма этого утверждения
Бабри Масджит - мечеть Бабри - была построена в 1526 году по приказу первого монгольского императора Индии Бабура на месте снесенного с этой целью индуистского храма в городе Айодхья, якобы месте рождения легендарного Рамы, героя «Рамаяны». Она была одной из самых больших мечетей в штате Утар Прадеш, где проживают более 30 миллионов мусульман.
Хиндутва (санскр. «индус с кость») - многочисленное движение, проповедующее индуистский национализм. По некоторым данным, опирается на поддержку 35-40 % населения Индии.
1 Цит. по: Pradip Kumar Datta, 'Hinduivá and its “Mythistory”' // Seminar. New Delhi, 2003.
416
ГЛАВА 8
привела к печальным последствиям, заключающимся в поляризации дебатов по упрощенной схеме «левые историки против правых», которая таит в себе реальную угрозу, создаваемую идеологией Hinduivá рационалистическому мышлению. Если правое крыло религиозного толка действительно представляет один из типов современности, как утверждал Нэнди, то это довольно реакционный ее вид, «допускающий использование науки в инструментальных целях (т.е. в качестве технологии), но сопротивляющийся светскому образованию, которое является необходимым условием современности»1.
Национальная история на Ближнем Востоке, несмотря на критику со стороны ученых феминистского толка и других, глубоко укоренена в ближневосточной исторической практике2. Это происходит вследствие того, что центральным пунктом ее националистической программы является конфликт этого региона с Западом, и частично вследствие историографического наследия этого региона. Учитывая огромное количество официальных архивов Османской империи, политическая история процветает как на национальном, так и локальном уровнях. Однако ближневосточные историки предпринимают попытки выйти за пределы нормативной формы националистической историографии. Например, депортация и резня армян, организованные турецким правительством в 1915 году, традиционно рассматривались как печальная, но оправданная акция, предположительно усилившая национальную когерентность и способствовавшая достижению национального единства. В последние годы новое поколение турецких историков предложило другие трактовки этого события. И их попытки характеризуются как «постнационалистические», потому что в отличие от единодушного оборонительного нарратива националистических историков эти историки признают разнообразие турецкого общества, состоящего из разных социальных и этнических групп, людей разных религиозных убеждений, и считают, что каждая группа и религиозная вера являются одинаково ценными для современной Турции. Они демонстрируют готовность предложить критическую точку зрения на светское националистическое историописание, создающее негативный образ армян вследствие их религиозной веры, и даже идут еще дальше, объясняя, «как турецкий национализм привел к боли и страданиям армянского народа»3. Кроме того, господствующая националистическая историография столкнулась с вызовами возобновленного интере-
1 Meera Nanda (1957-), 'Postmodernism, Hindu/Nationalism and ‘‘Vedic Science”' // Frontline 20 December 2003 - 2 January 2004).
2 Clancy-Smith, 'Twentieth-Century Historians and Historiography of the Middle East', 87-88.
3 Fatma Müge Gögek, 'Reading Genocide: Turkish Historiography on the Armenian Deportation and Massacres of 1915' // Gershoni, Singer and Érdem, eds, Middle East Historiographies, 121-122.
ИСТОРИОГРАФИЯ ПОСЛЕ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ», 1990-2007... 417
са к исламской цивилизации и укрепления исламизма. Движение исламизма не отказалось полностью от националистической оболочки. Его развитие и впрямь несет на себе явный отпечаток различных националистических черт. Но в целом исламизм предложил жизнеспособную альтернативу этой националистической констелляции; к 1980-м годам последняя все больше рассматривалась как несоответствующая историческому развитию этого региона, поскольку, помимо прочего, «принципы националистической, арабской, государственной систем препятствовали настоящему развитию политического волеизъявления и демократии»1.
Национальная история остается господствующим жанром в Южной и Юго-Восточной Азии и по-прежнему апеллирует к историкам и учителям истории. Экономическая экспансия, наблюдающаяся в последние десятилетия в Южной Корее и Вьетнаме, породила в историческом сообществе дополнительные стимулы к поиску новых способов поддержания национального престижа в мире. До известной степени это чувство разделяется и историками коммунистической Северной Кореи, например в обеих Кореях историки, судя по всему, сообща работают над тем, чтобы проследить и расширить корейскую историю до самого отдаленного прошлого. С этой целью корейские историки обоих государств часто спорят с китайскими и японскими историками по поводу древности их национальной истории и территориальных отношений со своими соседями, как в прошлом, так и в настоящем. Например, в 2004 году южнокорейские историки выступили против некоего китайского исследования, потому что в нем, по их мнению, преуменьшалась историческая значимость древней Кореи и преувеличивалось китайское влияние2 3. Возможно в ответ на это в 2007 году корейское правительство в надежде на помощь в «подъеме [корейского] национального самосознания» пересмотрело свои учебники по истории и сместило период бронзового века на корейском полуострове с первого тысячелетия до н.э. во второе тысячелетие до н.э. . Аналогичные попытки можно наблюдать в исторической практике и других стран этого региона. Недавние предложения в Японии пересмотреть свои учебники по истории мотивированы националистическим опасением, что осуждение, как того требуют их соседи, в школьной программе «военных преступлений» в японском прошлом не только не поможет, но и навредит вере японской молодежи в свою нацию4. На Тайване перед лицом раздающихся с материка требований
Bryan S. Turner, Orientalism, Postmodernism and Globalism. London, 1994, 88; также: Olivier Roy, Globalized Islam: The Search for a New Ummah. New York, 2004, 63f.
2 http://news.bbc.co.uk/chinese/simp/hi/newsid_3640000/newsid_3643100/3643174.stm
3 http://news.bbc.co.uk/chinese/simp/hi/newsid_6390000/newsid_6395600/6395623.stm
4 Cm.: Nishio Kanji, 'Rekishi kyokasho: Mezashita no wa joshiki no kakuritsu' (Вернуть здравый смысл в преподавание истории) // Japan Echo, 28:4 (2001), 33-35;
418
ГЛАВА 8
национальной унификации некоторые историки и преподаватели предприняли усилия по очищению своей культурной традиции и образовательной системы от китайского влияния. Эта «де-китаизация» (qu Zhongguo hua) тайваньской истории и культуры расценивается как необходимый процесс для запуска проекта строительства «независимой» тайваньской нации1 2.
Попытки выступить против господствующего национального исто- риописания предпринимаются и в исторической профессии, являясь, возможно, результатом влияния и интереса к таким новым историографическим тенденциям, как история женщин, культурная история и постколониальные исследования. Особо выделяются в этом отношении среди своих азиатских коллег японские историки, благодаря прозвучавшему после окончания «холодной войны» общенациональному призыву к «интернационализации». В 2006 году Издательство Токийского университета выпустило трехтомный труд, посвященный обзору состояния исторического знания в Японии. В отличие от предшествующих публикаций это издание явилось результатом сотрудничества японских историков и их коллег из Соединенных Штатов. Первый том этого труда, изданный под редакцией преподающего в Корнелльском университете японского историка Наоки Сакаи и озаглавленный как «Забвение национальной истории», исследует возможности, доступные историкам, для того чтобы выйти за пределы национальной парадигмы и обрести новое видение прошлого. Безусловно, эта попытка отражает общую тенденцию для историков всего мира. Но редактор тома и его авторы утверждают (и довольно убедительно), что устойчивый интерес к изучению «простых людей» (minshü) и непривилегированных «меньшинств» (shôsüha) в дополнение (вместо?) к традиционному интересу к национальной элите существовал в современной японской историографии уже с начала XX века. Пример тому - «цивилизационная история» конца XIX века и, что более важно, устойчивый интерес японских историков к «народной истории» (minshüshi) и в довоенный, и в после¬
Magaret Mehl, 'The Right History? Historical Scholarship and Historical Education in Japan', http://www.nias.ku.dk/nytt/2002-4/right.htm
1 Wang, Taiwan shixue 50 nian, 139f; Stephane Corcuff, ed., Memories of the Future: National Identity Issues and the Search for a New Taiwan. Armonk, NY, 2002; John Makeham & A-chin Hsiau, eds, Cultural, Ethnic, and Political Nationalism in Contemporary Taiwan: Bentuhua. Basingstoke, 2005.
2 Главные редакторы серии Rekishi no egakikata (Способы создания истории) - Хирота Масаки (Hirota Masaki, (1934—) и Кэрол Глюк (Carol Gluck, 1941—); последняя - известный японский историк, работающий в Колумбийском университете, и бывший президент Ассоциации азиатских исследований в США. Аналогичные публикации в предшествующие периоды, также изданные в Издательстве Токийского университета: Nihon ni okeru rekishigaku no hattatsu to genjo (Развитие и статус-кво исторического знания в Японии), 8 vols. Tokyo, 1959 и Nihon rekishi koza (Цикл лекций по японской истории), 8 vols. Tokyo, 1968.
ИСТОРИОГРАФИЯ ПОСЛЕ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ», 1990-2007... 419
военный периоды. В последние десятилетия под влиянием Школы «Анналов» и постколониальных и культурных исследований интерес к этой «народной истории», трансформируя традицию националистической историографии, привел к изучению ряда новых предметов в японской истории1 2.
После вступления Китая в XXI век на волне экономического бума в этой стране и при поддержке правительства, нацеленной на развитие рыночной экономики, есть признаки того, что предпринимаются ограниченные попытки модифицировать организацию современной китайской истории, бывшую до этого националистически нагруженной. Эти модификации появились в историческом образовании в стране. В 2006 году профессор философии в Университете Чжуншань Юань Вэйши, опубликовал в журнале ВТ^сНап («Точка замерзания»), литературном приложении органе новостей Лиги коммунистической молодежи Китая очерк «Модернизация и учебники истории», в котором призвал к новому подходу к преподаванию китайской истории и отмене националистического акцента. Юань утверждает, что по сравнению с учебниками Гонконга учебники материковой части Китая страдают ксенофобским уклоном и несбалансированным описанием проблемы отношения Китая с иностранными державами. Они подкармливают ультранационализм и ксенофобию в отношении торговых связей Китая с Западом и Японией, списывая все китайские проблемы на беды, принесенные зарубежным империализмом и колониализмом, и не желая признавать чисто внутренние проблемы, которыми болен современный Китай (культурное мракобесие и спесь, политическая коррупция, консерватизм класса мандаринов и т.д.). Авторы учебников, пишет Юань, превращают «революцию» в фетиш, приводя к ее «вульгаризации» (сиЫЬиа)2. В том же году группа шанхайских историков опубликовала новый учебник по истории, умышленно ослабив традиционный акцент на Коммунистической революции, классовой борьбе и национальном спасении. Вдохновленные культурно-историческим подходом, который они связывают со Школой «Анналов», они выделили гораздо больше места для описания экономического прогресса и социальных изменений в современном Китае3. В результате, как выразил свое удивление в комментарии репортер журнала «Нью-Йорк
1 Sakai Naoki, ed., Nashonaru hisutori о manabi suteru (Забытая национальная история). Tokyo, 2006, passim. Об исследованиях по «народной истории» см.: Peter Duus, 'Whig History, Japanese Style: The Min'yusha Historians and the Meiji Restoration' // Journal of Asian Studies, 33:3. May 1974, 415-436; Carol Gluck, 'The People in History: Recent Trends in Japanese Historiography' // Journal of Asian Studies, 38:1. November, 1978, 25-50.
* Этот университет в России более известен как Университет Сунь Ятсена.
2 http://zqb.cyol.eom/gb/zqb/2006-01/1 l/content_l 18530.htm
3 http://guancha.gmw.cn/show.aspx?id=1380; http://paowang.eom/news/3/2006-09- 02/20060902231827.html
420
ГЛАВА 8
Таймс», из учебника «исчезает» Мао Цзэдун, но впервые упоминаются Дж. П. Морган, Билл Гейтс и другие успешные предприниматели капиталистического мира1. Но главное изменение, похоже, касается все-таки содержания, а не подхода или структуры. В своем публичном заявлении авторы учебника подчеркнули, что написанный ими текст был предназначен только для того, чтобы внести «изменение, а не государственный переворот» в историческое образование Китая2. План текста действительно наводит на мысль о том, что националистическая точка зрения и эволюционная интерпретация остались нетронутыми и не были поставлены под сомнение. Если что и является новаторским, так это то, что вместо возвышения и падения династий или чередования восстаний и революций прослеживается развитие китайской цивилизации с упором на ее достижения в области науки и техники, литературы и искусства, культуры и религии. В этой связи остается неясным, призван ли учебник внести критическую струю в современную китайскую историографию по поводу ее сосредоточенности на национальном государстве. Однако, расширяя рамки национальной истории и смещая внимание с элиты к «народу и обществу», этот учебник, тем не менее, является свидетельством новой заинтересованности историков в изменении и пересмотре параметров национально-исторической парадигмы, несмотря на гнев правительственных лидеров. Стоит упомянуть, что китайское правительство быстро среагировало и выступило против Юань Вэйши и нового учебника истории. Поступило распоряжение закрыть журнал «Точка замерзания», опубликовавший статью Юаня, а авторам шанхайского учебника рекомендовано пересмотреть их текст перед повторным изданием.
Всемирная история, глобальная история и история глобализации
Одной из заметных перемен, случившихся после окончания «холодной войны», стало повышенное внимание к мировой и глобальной истории3. Истории, написанные в межкультурном ключе, появились
1 См.: Joseph Kahn, 'Where is Mao? Chinese Revise History Books', The New York Times. 1 September 2006, Section A.
2 http://news.163.com/06/0928/09/2S3LB2770001124J.html
3 О дискуссии по поводу вариантов всемирной истории и их развитии в исторической мысли и исследованиях последних лет см.: Patrick Manning, Navigating World History: Historians Create a Global Past. New York, 2003; См. также очень лаконичную статью: Jerry Н Bentley, 'World History' // Daniel Woolf, ed., A Global Encyclopedia of Historical Writing. New York, 1998, 968-970 и его: 'The New World History' // Lloyd Kramer and Sarah Maza, eds, A Companion to Western Historical Thought. Maiden, MA, 2002, 393—416; и: Sachsenmaier, 'Global History and Critiques of Western Perspectives'.
ИСТОРИОГРАФИЯ ПОСЛЕ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ», 1990-2007... 421
задолго до современного периода. Достаточно вспомнить «Историю» Геродота, Мщас1сИтак («Мукаддима» ) Ибн Халдуна или «Эссе о нравах» Вольтера. В имперском Китае местные историки, конструируя свой взгляд на мир в историческом ракурсе, опирались на понятие “Иатйа” (существующее под небесами), отразившее китайскую концепцию Вселенной1. Профессионализация исторических исследований в XIX веке засвидетельствовала об отходе от всеобщей - и региональной - истории и сосредоточение на феноменах нации и национального государства2. Отчасти это было следствием растущей зависимости профессиональной науки от архивных источников; попытки создания более широкой межнациональной или даже транскультурной истории рассматривались как нарушение критерия строгой научности. Однако гораздо важнее было происшедшее в XIX веке изменение политического мировоззрения, в соответствии с которым превосходство Запада рассматривалось как оправдание для колониальной и имперской экспансии, а источником развития самой Западной цивилизации и прогресса считалось национальное государство.
В первой половине XX века предпринимались попытки создания всеобщих историй, прежде всего Освальдом Шпенглером и Арнольдом Тойнби, сосредоточившихся на компаративном анализе цивилизаций, среди которых Запад был лишь одной из них. Профессиональные ученые отнеслись к этим работам скептически, апеллируя к тому, что в основе их лежат широкие генерализации, а не твердый научный фундамент. Тем не менее, они стимулировали исторические размышления, изображая другие цивилизации столь же достойными рассмотрения, как и Запад.
Во второй половине XX веке наблюдается возрождение всемирной истории, усиленное' происходившей в те годы (и особенно после окончания холодной войны) трансформацией мирового сообщест¬
В востоковедной литературе «Мукаддимой», «Пролегоменами», или «Введением», принято называть первую часть написанной Ибн Халдуном «Китаб аль- Ибар» (Книги назидательных примеров по истории арабов, персов и берберов и их современников, имевших большую власть) вместе с авторским предисловием и «Введением о превосходстве науки истории». «Мукаддима» образует самостоятельный трактат. Ее содержание состоит из следующих разделов: смысл истории, значение исторической критики и приемы ее, источники исторических ошибок; географический обзор земного шара, мысли о физическом и нравственном влиянии климата и почвы на людей; способы познания истины; эволюции форм семейной, общественной и государственной жизни; развитие экономическое и умственное; разложение государства; значение труда в благосостоянии государства; обзор различных отраслей ремесел и искусств; классификация наук.
‘ Q Edward Wang, ’History, Space and Ethnicity: The Chinese Worldview’ // Journal of World History, 10:2. September, 1999, 285-305.
2 Тем не менее, благодаря обществам антиквариев на XIX век приходится расцвет локальной истории.
422
ГЛАВА 8
ва1. Одним из первых существенных вкладов в научное исследование кросс-культурных взаимодействий и диффузий стала книга Уильяма Макнила «Восхождение Запада: история человеческого сообщества», которая, вопреки своему названию, была написана в компаративном ключе и помогла создать модель написания всемирной истории. Макнил попытался показать, что ключевым фактором в мировой истории являются контакты между людьми разных сообществ и культурных традиций, предполагающие обмен идеями и практическим опытом. Ему было близко желание Тойнби размышлять о крупных паттернах в мировой истории, и он на самом деле работал с Тойнби, когда тот трудился над последними томами своего объемного труда2. Но он не стремился, подобно Тойнби, устанавливать закономерности в мировой истории, которые, по его мнению, основывались на предположениях. Хотя по своему масштабу и свойственному ей межкультурному подходу книга Макнила была новаторской, вскоре она подверглась критике, в том числе и самим Макнилом, за то, что не была достаточно всеобъемлющей; например, из числа крупных паттернов в мировой истории была исключена Африка и чрезмерное внимание уделялось элитам. В качестве важных ориентиров в изучении истории в своей более поздней работе «Эпидемии и народы» он исследовал влияние инфекций и инфекционных болезней в ракурсе различных сообществ и культур и вызванные этими болезнями сбои сформировавшегося политического, торгового и общественного порядка. Эта тема, включающая в основном игнорировавшиеся до этого историками биологические и экологические факторы, была поднята в книге чуть ли не впервые, но с этого времени она стала важной областью исследований.
В 1980-е, и особенно после 1990 года, всемирная история двигалась в двух разных направлениях. Одно из них, как мы уже видели, было задано ранее, еще в 1970-е и 1980-е годы, такими представителями общественных наук, как Андре Гюндер Франк, Эрик Уолф и Иммануил Валлерстайн, а также экономистами и социологами, интересовавшимися влиянием западного капитализма в период современности на остальную часть мира. Подобно теоретикам модернизации, они рассматривали начавшееся с XVI века развитие капиталистической экономики и мирового рынка как центральное для понимания общественного порядка в современном мире, но полагали, что рост капитализма зависит от эксплуатации дешевого труда в экономически менее развитых странах, процесса, который не позволяет населению этих стран избежать бедности и лишений. В их представлении расизм
1 См.: Jerry Н. Bentley, Shapes of World History in Twentieth-Century Scholarship. Washington, DC, 1996.
2 О Макниле и Тойнби см.: Bentley, ibid., 15.
ИСТОРИОГРАФИЯ ПОСЛЕ «ХОЛОДНОЙ ВОИНЫ», 1990-2007... 423
и подчинение женщин также коренятся в экономической эксплуатации. После 1990 года и опирающиеся на марксизм теории миросис- тем, и анти-марксистские теории модернизации потеряли свою популярность, и тем не менее, как следует из нашего рассмотрения глобальных историй, они выжили, хотя и в другой форме. Другое направление, менее интересующееся экономическими и политическими факторами, не столь сосредоточенное непосредственно на Европе и стремящееся обращаться к более ранним периодам истории, было представлено Макнилом. Эти же идеи стали ключевыми для основанного в 1990 году Journal of World History («Журнала всемирной истории»), выходящего под редакцией Джерри Бентли и имеющего интернациональный коллектив авторов. Журнал стал самым важным органом новой всемирной истории и помимо прочего публиковал рецензии на книги соответствующей тематики. Его цель, как заявляется на первой странице каждого выпуска, состоит в анализе истории «с глобальной точки зрения», рассматривая в качестве ключевых тем «крупномасштабные миграции и экономические флуктуации; передачу технологий другим культурам; распространение инфекционных болезней; торговлю на большие расстояния; распространение религиозных вер, идей и идеалов». Акцент на этих темах по-прежнему присущ большинству трудов по всемирной истории. В своей книге «На волнах мировой истории: историки создают глобальной прошлое» Патрик Мэннинг различает два подхода к всемирной истории1. Первый оперирует традиционными методами, сосредотачиваясь на цивилизациях, нациях и социальной истории. Второй подход, появившийся недавно и называемый Мэннингом «’’научно-культурным”, заключается в привлечении новых, неархивных источников и методов из таких областей знания как эволюционная биология, экология, палеонтология, археология и химия, а также лингвистика и литературоведение». Эти подходы не исключают друг друга, но именно второй, по мнению Мэннинга, является для всемирной истории многообещающим2. Он полагает, что сегодня перед занимающимися всемирной историей историками стоит задача «увязать в когерентном анализе теорию, логику и факты с целью развития широкой, толковательной и доказательной оценки имевших в прошлом место преобразований и связей»3. Значительное количество страниц этого журнала посвящено движению именно в этом направлении, предоставляя место для публикаций на такие темы, как насилие и рабство, но с относительно небольшим
1 Patrick Manning. Navigating World History: Historians Create a Global Past, 2003. New York, 2003.
2 Цит. по рецензии Гэри Кролла (Gary Kroll) на книгу Мэннинга: Journal of World History, 16:2. June, 2005, 223-227.
3 Manning, Navigating World History, 36.
424
ГЛАВА 8
применением традиционных социологических или компьютерных методов. С момента основания журнала в 1990 году и до сегодняшнего дня (март 2007-го) многие статьи написаны в русле, предложенном Бентли и Мэннингом, возможно, с растущим акцентом на гендерной проблематике, рассматриваемой в широком комплексе других социокультурных проблем.
Особенно после 1990 года все более популярным становится термин «глобальная история»; в 2006 году был основан «Журнал глобальной истории», хотя из первых трех выпусков еще не совсем ясно, чем отличаются эти два журнала, а также понятия «всемирная история» и «глобальная история». Пока еще отсутствует консенсус по поводу того, что именно представляет собой «глобальная история» и с какого времени можно говорить именно о глобальной истории1. Термин «глобальная история» частично совпадает с «всемирной историей» и очень часто подменяется ею, и все-таки глобальная история гораздо чаще обращается к периоду, последовавшему за великими географическими открытиями, а с последней трети XX века - именно к процессу глобализации, а также часто отождествляется с процессом глобализации в период, начавшийся в последней трети XX века2. Всемирная история может заниматься изучением досовременных обществ и культур, и это темы, которые интересуют оба журнала; так, они могут изучать циркуляцию товаров, продуктов питания и болезней в тихоокеанском регионе задолго до прибытия туда европейцев. В историографической практике это означает, что исторические исследования все больше выходят за пределы национальных границ и обращаются к культурам и сообществам, существующим вне Западного мира. Важную роль играют также климат и окружающая среда, особенно для сравнительных исследований более ранних периодов истории. Эти темы подходят и для «Журнала глобальной истории». Передовица к первому выпуску журнала, а также следовавшее за ней историографическое эссе пытались определить его специфику3. Она виделась в преодолении свойственной для историографии фрагментации региональных и узкоспециальных исследований. Отмечалось, что за два последних века «все историографические традиции стремились либо превознести возвышение Запада, либо отреагировать на него». Теперь же возникла потребность в истинно глобальной истории, основанной на «строгой научности». Статьи в первых трех выпусках журнала гораздо в большей степени обращались к проблематике XIX и XX веков,
1 Anthony G. Hopkins, 'The History of Globalization - and the Globalization of History? // Hopkins, ed., Globalization in World History. London, 2002, 11-46.
2 Cm.: Sachsenmaier, 'Global History and Critiques of Western Perspectives'.
3 Patrick O'Brien, 'Historiographical Traditions and Modem Imperatives for the Restoration of Global History', Journal of Global History, 1:1 (2006), 3-39.
ИСТОРИОГРАФИЯ ПОСЛЕ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ», 1990-2007... 425
чем в «Журнале всемирной истории», однако общим было стремление избежать схемы модернизации или глобализации.
Наш анализ выходивших после 1990 года основных журналов и рассматриваемых в них книг свидетельствует о повороте к всемирной или глобальной истории. Некоторые социологи и совсем немного историков поддерживают точку зрения, согласно которой глобализация - со свойственной ей трансформацией основных аспектов современной технологии, экономики, политики и культуры - означает конец национального государства. Социолог Ульрих Бек (Ulrich Веек, 1944-) утверждает, что глобализация синонимична «денационализации», и говорит, что происходит движение от эры национальных государств к эре глобализации1. Однако на самом деле этническое государство никуда не исчезло; и хотя созданы транснациональные правительства, наиболее показательным примером которых является Европейский союз, оно даже расширило свои функции. И нам еще предстоит увидеть, к каким последствиям для историографии приведет это возрождение. И несмотря на то, что глобализация привела к всемирной экспансии рыночной экономики капиталистического типа, в том числе в такие страны, как Китай и Вьетнам, все еще находящиеся под властью коммунистической диктатуры, она нигде не привела к политической, культурной и даже экономической гомогенизации.
Глобальная история, обращающаяся к разным историческим периодам, конечно, не идентична истории глобализации. Первая не предполагает ни обязательное изучение Запада, ни западного капитализма; вторая занимается процессом - в некотором смысле это более сложный подход к модернизации, - который не ограничивается Западом, но и неотделим от него. Глобальная история не предполагает наличия ясной теории исторического развития, сводного нарратива; она вообще отказывается от последнего как от части наследия западного империализма; а история глобализации имеет дело именно с таким нарративом, но при этом не обязательно рассматривает этот процесс в позитивном ключе. В главе 6 мы обсуждали, как Анри Гундер Франк, Иммануил Валлерстайн и Эрик Уолф подняли в 1970-1980-е годы вопрос о том, почему только Запад достиг значительного успеха в построении современного индустриального общества. В выпущенной в 2000 году книге «Великое расхождение: Китай, Европа и современная мировая экономика»2 Кеннет Померанц утверждает, что все эти объяснения упускают тот факт, что в конце XVIII века Китай, Япония
1 Ulrich Beck, What is Globalization? Cambridge, 2001, uht. no: Michael Mann, 'Globalization, Macro-Regions and Nation Kenneth Pomeranz-States' // Budde, Conrad andJanz, Transnationale Geschichte, 21.
2 K. Pomeranz, The Great Divergence: China, Europe, and the Modem World Economy. Princeton, NJ, 2000.
426
ГЛАВА 8
и Индия были столь же экономически развиты, как и Западная Европа, и что возвышение господства Запада в мировом масштабе связано не с появлением капиталистической мировой экономики в период географических открытий, а (только намного позже) с индустриальной революцией. С этого момента значительная часть литературы придерживалась этой точки зрения1. Именно в этом ключе - как возможный только в индустриальную эпоху - Юрген Остерхаммель и Нильс П. Петерсон расценивают ускоренный темп развития, характерный для глобализации последнего времени2. Все эти историки глобализации основывают свои теории прежде всего на экономических факторах. Хотя они и не игнорируют культурного влияния глобальных процессов, в фокусе их внимания находятся международная сеть товаров, услуг и финансов и связанных с ними глобальных моделей производства и потребления.
Очевидно, что историческое исследование глобализации должно учесть роль местных традиций и особенностей, влияющих на трансформацию современного мира. До сих пор историки действительно занимались транснациональной и транскультурной историей, всемирной и глобальной. Но они практически не занимались историей глобализации, в том числе тем, в каком состоянии сейчас находится процесс глобализации и в каком направлении собирается развиваться. Исследования по глобализации растут как грибы, но это работы социологов, политологов, антропологов и в первую очередь экономистов. Историки практически не принимают в этом участия, даже авторы «Журнала всемирной истории» и «Журнала глобальной истории». Подобное сосредоточение на экономике привело к неполноте изучения процесса глобализации. Показателем сказанного может служить недавний обзор работ по истории глобализации, опубликованный в «Журнале современной истории»3; в ней совсем немного анализа социальных последствий глобализаций и еще меньше - культурных. Поразительно, что такая статья, появившаяся в историческом журнале и ориентированная на историков, практически ничего не сказала о работе историков. Существует несколько важных тем, к которым следует обратиться историкам. В анализе нуждаются события последних пятнадцати лет, которые развивались не в соответствии с классиче¬
1 См.: Robert С. Allen, Tommy Bengtsson and Martin Dribe, eds, Living Standards in the Past: New Perspectives on Well-Being in Asia and Europe. Oxford, 2005; также: Hopkins, Globalization in World History.
2. О процессе и истории глобализации см.: Jürgen Osterhammel and Niels Peterson, Globalization: A Short History. Princeton, NJ, 2005, с полной библиографией.
3 Michael Lang, обзорная статья, 'Globalization and Its History' // Journal of Modem History, 78. December, 2006, 899-931; также: Hopkins, Globalization in World History.
ИСТОРИОГРАФИЯ ПОСЛЕ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ», 1990-2007... 427
скими теориями модернизации, а продемонстрировали сопротивление, часто насильственное, современным условиям и нравам. Глобализация ни в коей мере не привела к гомогенизации, даже в сфере экономики. Повсюду распространение глобальной экономики приняло вид неких потребительских паттернов, имеющих корни в местных традициях, привычках и представлениях. И именно здесь важна работа историка - помещение следующих из процесса глобализации трансформаций в более широкий исторический контекст.
В ретроспективе для наступившего после 1990 года периода характерны как преемственность в исторической мысли и историописа- нии, так и существенные трансформации. Мы уже указывали на наступивший в 1970-е годы резкий поворот от аналитической программы социальных наук и их веры в современную западную цивилизацию как вершину исторического развития, являющуюся образцом для остальной части мира. Им на смену пришли новые культурные истории, поменявшие методы объяснения социальных структур и процессов на подходы, которые стремятся интерпретировать значения, лежащие в основе культур. Это способствовало росту скептицизма по поводу возможности объективного знания в исторических и общественных науках и стирало четкую границу между фактом и вымыслом, историческими исследованиями и художественной литературой - границу, которую пытались сохранить традиционные общественные науки. В наиболее радикальной, постмодернистской форме отрицалась сама возможность исторического знания, сведенного до уровня чистой идеологии и мифа. И все-таки тот социальный контекст, в котором писалась история, после окончания «холодной войны» основательно изменился, поскольку вслед за экономической глобализацией начались сопутствующие ей технологические, политические, социальные и культурные преобразования. Ни традиционные социальные науки, превалировавшие в исторических исследованиях в 1950-1960-е годы, ни пришедшие им на смену в 1970-1980-е годы культурный и лингвистический повороты не в состоянии понять те глубокие перемены, которые произошли в последние пятнадцать лет. И тем, и другим присущ односторонний взгляд на вещи: традиционным общественным наукам - вследствие игнорирования местного разнообразия и культурных паттернов, культурным исследованиям - вследствие отказа принять во внимание институциональный контекст культуры и повседневной жизни, в том числе те самые гендерные отношения, которые сегодня играют важную роль в новой культурной и социальной истории. Очевидно, что значительные политические события и потрясения или социальные трансформации, такие как Французская и Октябрьская (русская) революции и процессы индустриализации или колонизации, не могут быть осмыслены вне того культурного контекста, в котором они произошли.
428
ГЛАВА 8
Может показаться, что в каком-то смысле процесс глобализации подтверждает правильность ряда фундаментальных положений классических теорий модернизации, которые видели происходивший в международном масштабе рост гомогенизации экономики, общества и культуры. И все-таки реальный ход событий после 1990 года не оправдал ожиданий теорий модернизации. Последние предполагали, что модернизация в экономике будет сопровождаться укреплением гражданского общества, светского мировоззрения и политической демократии и что западное развитие будет служить моделью для не западных обществ и культур. Тем не менее, 1920-1930-е годы, время, когда на большей части континентальной Европы преобладали различные формы авторитаризма, в том числе национал-социализм в Германии и сталинизм в Советском Союзе, показали, что эта модель не удержалась даже на Западе. Зарождающиеся между двумя мировыми войнами демократические режимы в Японии были сметены военной диктатурой. В наступивший после окончания «холодной войны» период эта модель гражданского общества и демократии действительно утвердилась в большей части мира и не только в таких не западных странах, как Индия и Япония (как это было прежде), но и во многих других регионах, даже несмотря на сохранение ^ужасных гражданских войн и национальной розни. Руанда и Дайфур еще раз подтвердили, что геноцид не остался в прошлом. Кроме того, возникшая ранее тенденция к секуляризму полностью сменилась ростом религиозного фундаментализма не только в исламском мире, но и в Индии, в скрытом виде даже в Китае, и в таких западных странах, как Соединенные Штаты, Польша и Израиль. С одной стороны, началось движение в сторону международного сотрудничества и объединения, но процитированное в этой главе утверждение немецкого социолога Ульриха Бека о том, что глобализация означает «денационализацию», оказывается верным лишь частично, поскольку национализм сохраняется в большей части мира1.
Другими словами, произошедшее под влиянием процессов глобализации и межкультурных конфликтов усложнение мира потребовало иных методов, чем предлагаемое постмодернистскими концепциями рассмотрение истории как преимущественно формы художественной литературы или (по другой причине) практика микроистории, которая преднамеренно игнорирует описание широкомасштабных социальных
Дарфур - регион на западе Судана, район межэтнического Дарфурского конфликта.
U. Beck, What is Globalization?, цит. по: Michael Mann, 'Globalization, Macro- Regions and Nation-States' // Budde, Conrad and Janz, Transnationale Geschichte, 21 (рус. пер.: Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма - ответы на глобализацию М., 2001).
ИСТОРИОГРАФИЯ ПОСЛЕ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ», 1990-2007... 429
изменений, даже, несмотря на то, что изображаемая ею история описывает социальную реальность. Происходящая в последние десятилетия глобализация требует таких подходов, которые принимали бы во внимание основные направления перемен, происходящие в том мире, в котором мы живем и жили. Как выразился Ариф Дирлик, «она требует признания различных темпоральностей и пространств, другими словами, наличия разных взглядов на мир, сохраняющихся несмотря на мощную тенденцию к гомогенизации)/. А это значит, что аналитические подходы общественных наук являются обязательными, и без них любое значительное исследование глобализации становится невозможным. Эти подходы должны отказаться от той сосредоточенности на структурах и процессах, которые были свойственны традиционным американским общественным наукам, «Анналам» Броделя или различным формам марксизма, и принять во внимание присущую процессам глобализации сложность и конфликтность, играющие столь важную роль в формировании современного нам мира. Сегодня еще слишком рано говорить о том, приведут ли различные попытки написать глобальную историю и глобализировать изучение истории, как это было кратко обобщено выше, к существенной трансформации исторической науки. Но все это уже указывает на необходимость (поддерживаемую многими историческими сообществами мира) призыва к новому подходу к историописанию, такому, который бы не только бросил вызов слишком часто с готовностью принимаемому мнению, что западная модель по-прежнему находится в центре исторических исследований и распространяет свое влияние на весь мир, но и который выходил бы за пределы дихотомии Запад/не-Запад, подкрепленной множеством полных благих намерений сравнительных исследований в истории и историографии. Этот подход покажет перемены в историописании в многополюсной, глобальной перспективе, признавая, что импульсы к его развитию поступали из разных источников и различных уголков земного шара. Наша книга - попытка ответить на этот запрос. 11 Arif Dirlik, 'Confounding Metaphors, Inventions of the World: What is World History For?' // Benedikt Stuchtey and Eckhardt Fuchs, eds, Writing World History, 1800-2000. Oxford, 2003, 133.
430
ОГЛАВЛЕНИЕ
КуКарцева Марина
Глобализация, модернизация и мировая
историография (предисловие редактора) 5
ПРЕДИСЛОВИЕ к английскому изданию 19
ВВЕДЕНИЕ 21
ГЛАВА 1. МИРОВЫЕ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ:
XVIII ВЕК 39
С чего мы начинаем? 39
Запад 42
Ближний Восток 55
Индия 63
Восточная и Юго-Восточная Азия 72
ГЛАВА 2. НАСТУПЛЕНИЕ НАЦИОНАЛИЗМА И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ:
ЗАПАД, БЛИЖНИЙ ВОСТОК И ИНДИЯ В XIX ВЕКЕ 88
Историография в эпоху революций 1789-1848 годов 88
Национализм и трансформация мусульманской историографии 104 Национализм и трансформация индийской историографии 122
ГЛАВА 3. АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ В XIX ВЕКЕ:
ТРАНСФОРМАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА ЗАПАДЕ И В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 138
Культ науки и национально-государственная парадигма
(1848-1890) 138
Кризис конфуцианской историографии и возникновение современной исторической профессии в Восточной Азии 158
ГЛАВА 4. МИРОВЫЕ ВОЙНЫ И ИСТОРИОПИСАНИЕ:
КРИЗИС ИСТОРИЗМА И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ... 179
Переориентация исторических исследований
и исторической мысли (1890-1914) 179
Историография между двумя мировыми войнами (1918-1939). .. 197
ГЛАВА 5. ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ И В АЗИИ В XX ВЕКЕ 217
Усиление оттоманского, турецкого и египетского национализмов
и националистическая история на Ближнем Востоке 217
Национализм, сциентизм и марксизм: современная историография в Восточной
и Юго-Восточной Азии 234
Националистическая историография в современной Индии 256
ОГЛАВЛЕНИЕ
431
ГЛАВА 6 НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ:
ОТ СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ К ПОСТМОДЕРНИЗМУ
И ПОСТКОЛОНИАЛИЗМУ 275
«Холодная война» и возникновение нового миропорядка 275
1970-1980-е: культурный поворот и постмодернизм 299
Постколониализм 312
Постмодернизм и лингвистический поворот 337
ГЛАВА 7. ПОДЪЕМ ИСЛАМА И УПАДОК МАРКСИЗМА:
ИСТОРИОПИСАНИЕ В АЗИИ И НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
В КОНЦЕ XX ВЕКА 344
Упадок и подъем марксистской историографии
в Восточной и Юго-Восточной Азии 344
Исламизм и исламская историография во время
и после «холодной войны» 368
ГЛАВА 8. ИСТОРИОГРАФИЯ ПОСЛЕ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»,
1990-2007: КРИТИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА 391
Аннотированный список книг издательства «Канон+» РООИ «Реабилитация» вы можете найти на сайте iph.ras.ru/kanon или http://journal.iph.ras.ru/verIag.html Заказать книги можно, отправив заявку по электронному адресу: kanonplus@mail.ru
Научная монография
Г. Иггерс, Э. Ван (при участии Суприи Мукерджи)
Глобальная история современной историографии
Пер. с англ. О. Воробьевой Науч. ред. Марина Кукарцева
Директор — Божко Ю. В. Ответственный за выпуск — Божко Ю. В. Компьютерная верстка — Липницкая Е. Е. Корректор - Колупаева Л. П.
Подписано в печать с готовых диапозитивов 20.04.2012. Формат 60 х 901/1б. Бумага офсетная. Печать офсетная. Уел. печ. л. 27,0. Уч.-изд. л. 29,0. Тйраж 800 экз. Заказ 1183.
Издательство «Канон+» РООИ «Реабилитация». 111672, Москва, ул. Городецкая, д. 8, корп. 3, кв. 28. Тел./факс 702-04-57.
E-mail: kanonplus@mail.ru
Сайт: iph.ras.ru/kanon или http://joumal.iph.ras.ru/verlag.html
Республиканское унитарное предприятие «Издательство “Белорусский Дом печати”».
ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009.
Пр. Независимости, 79, 220013, Минск.