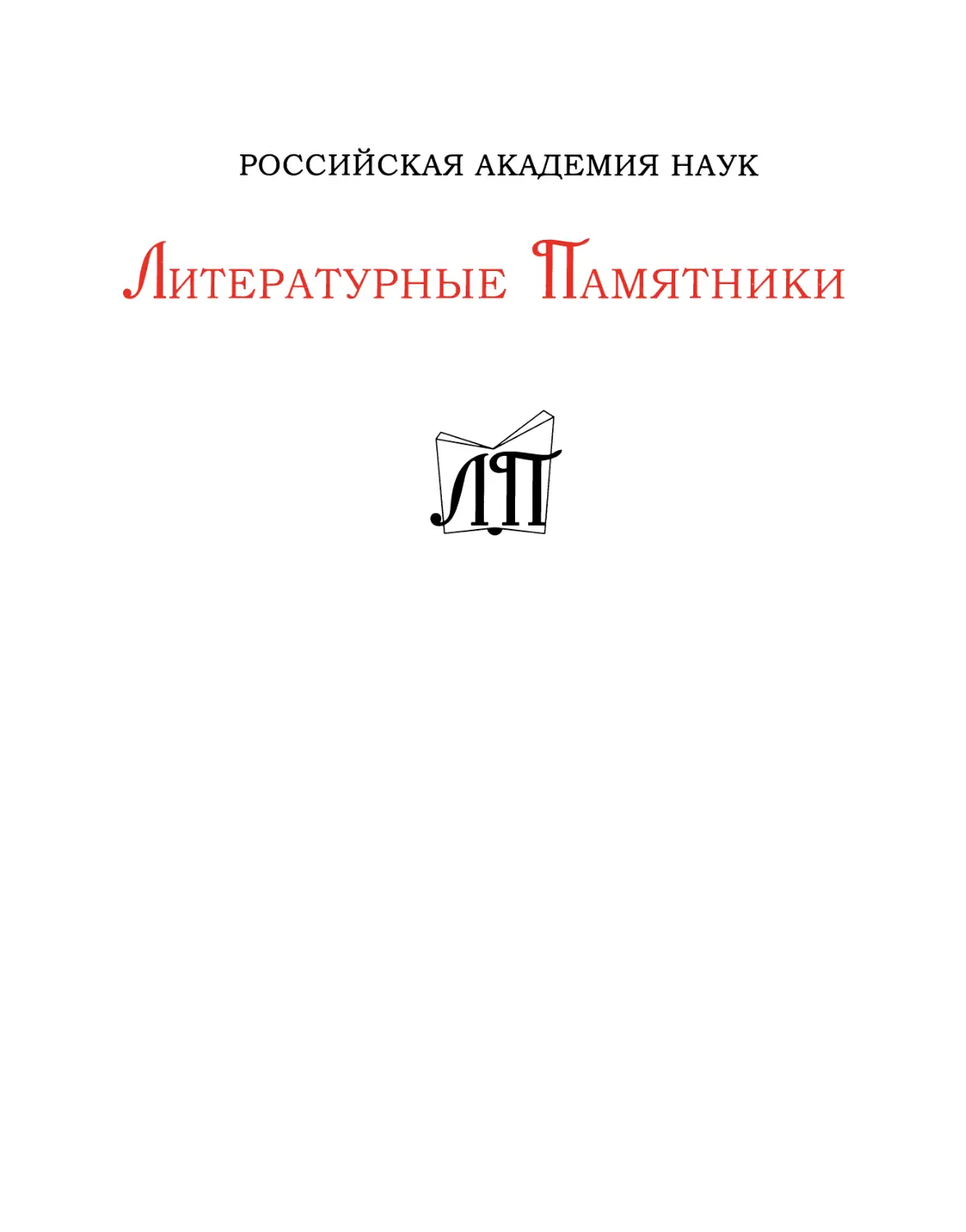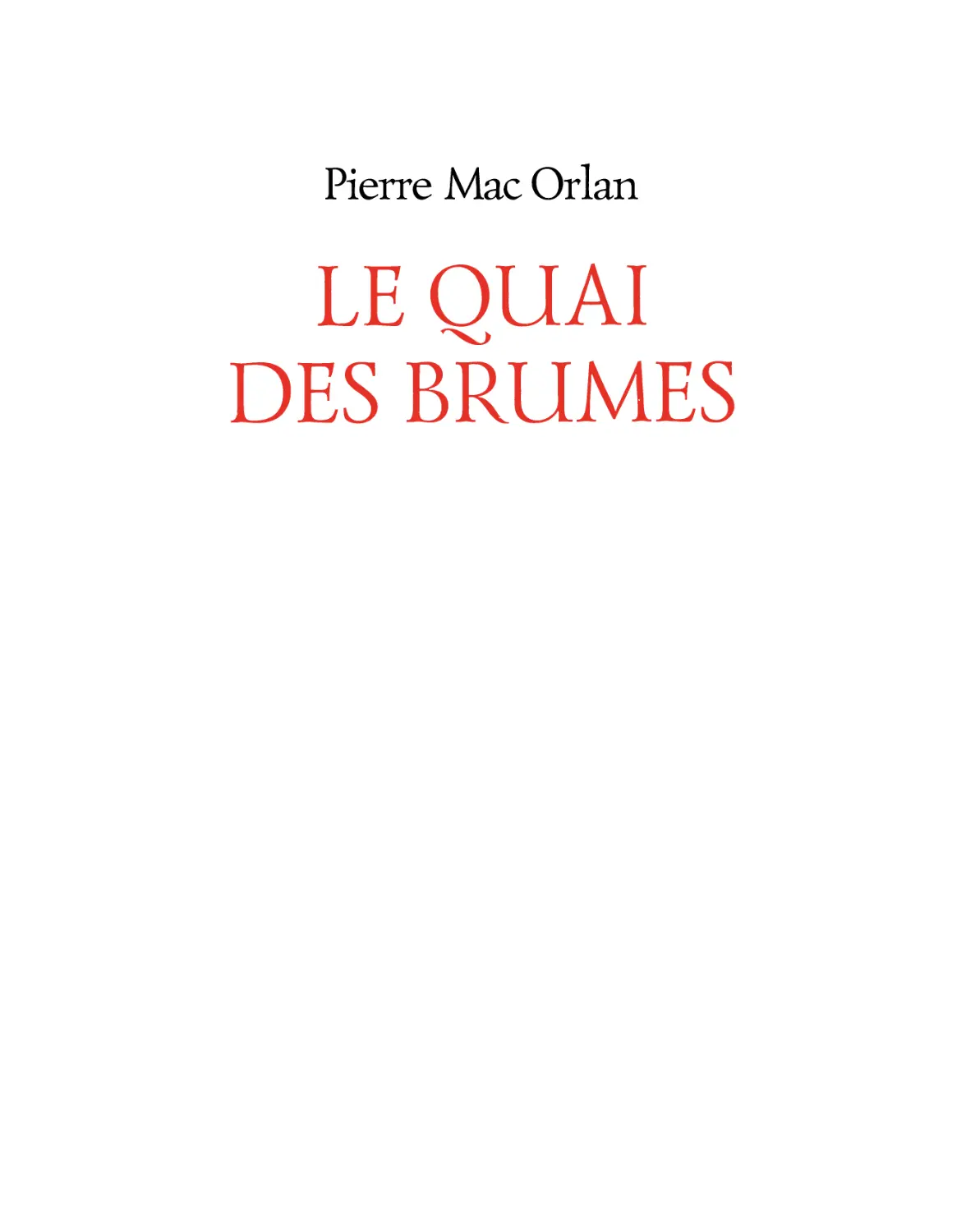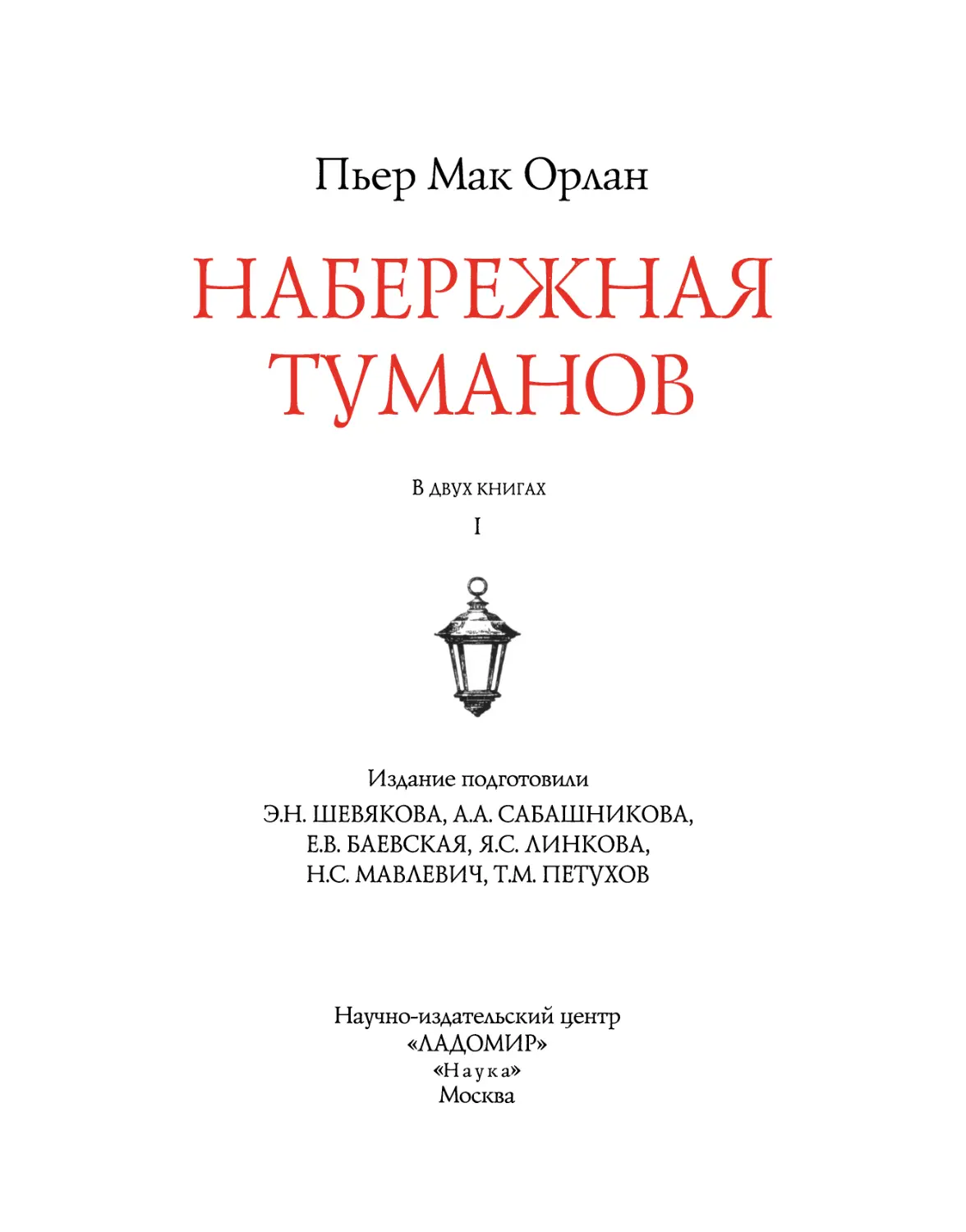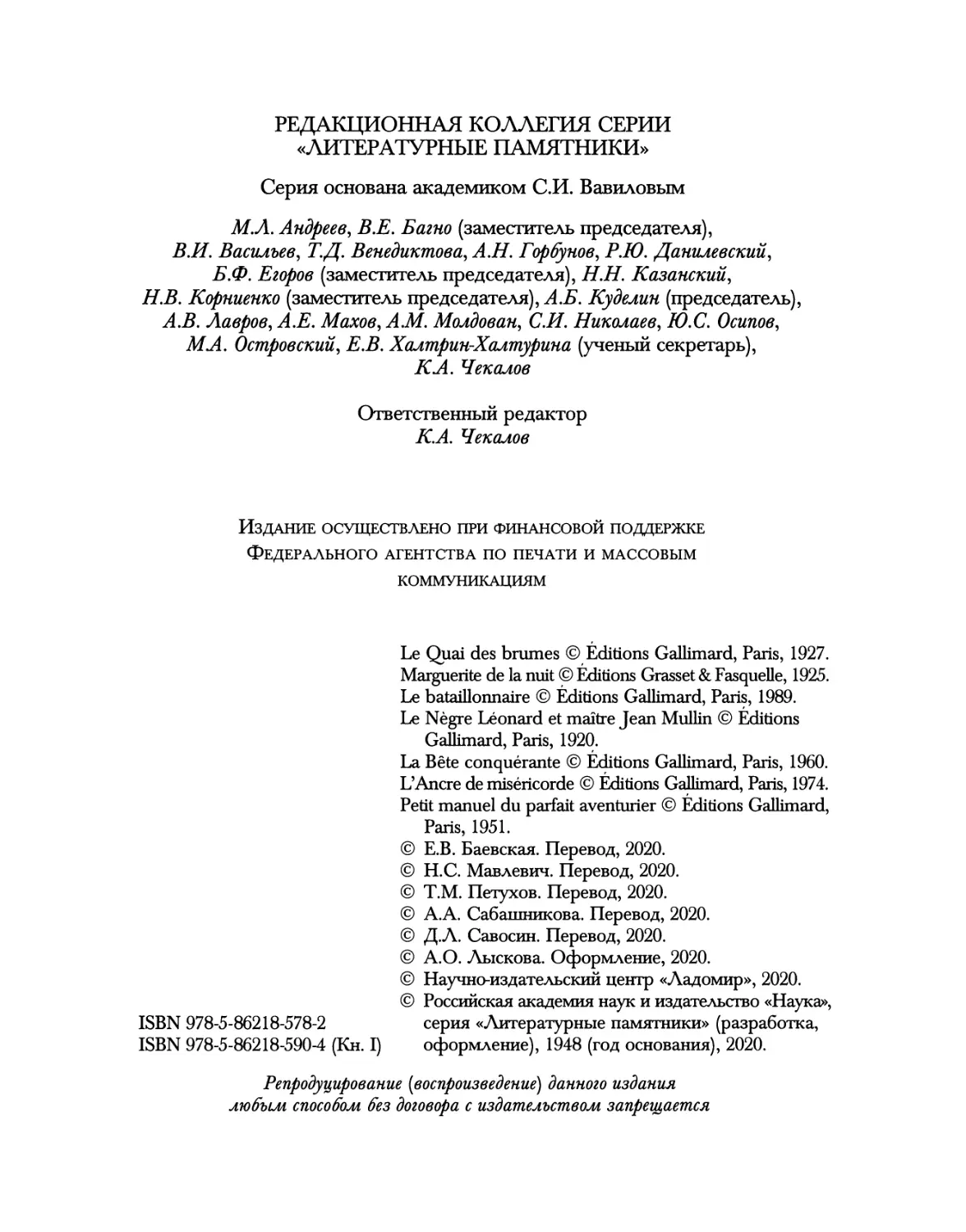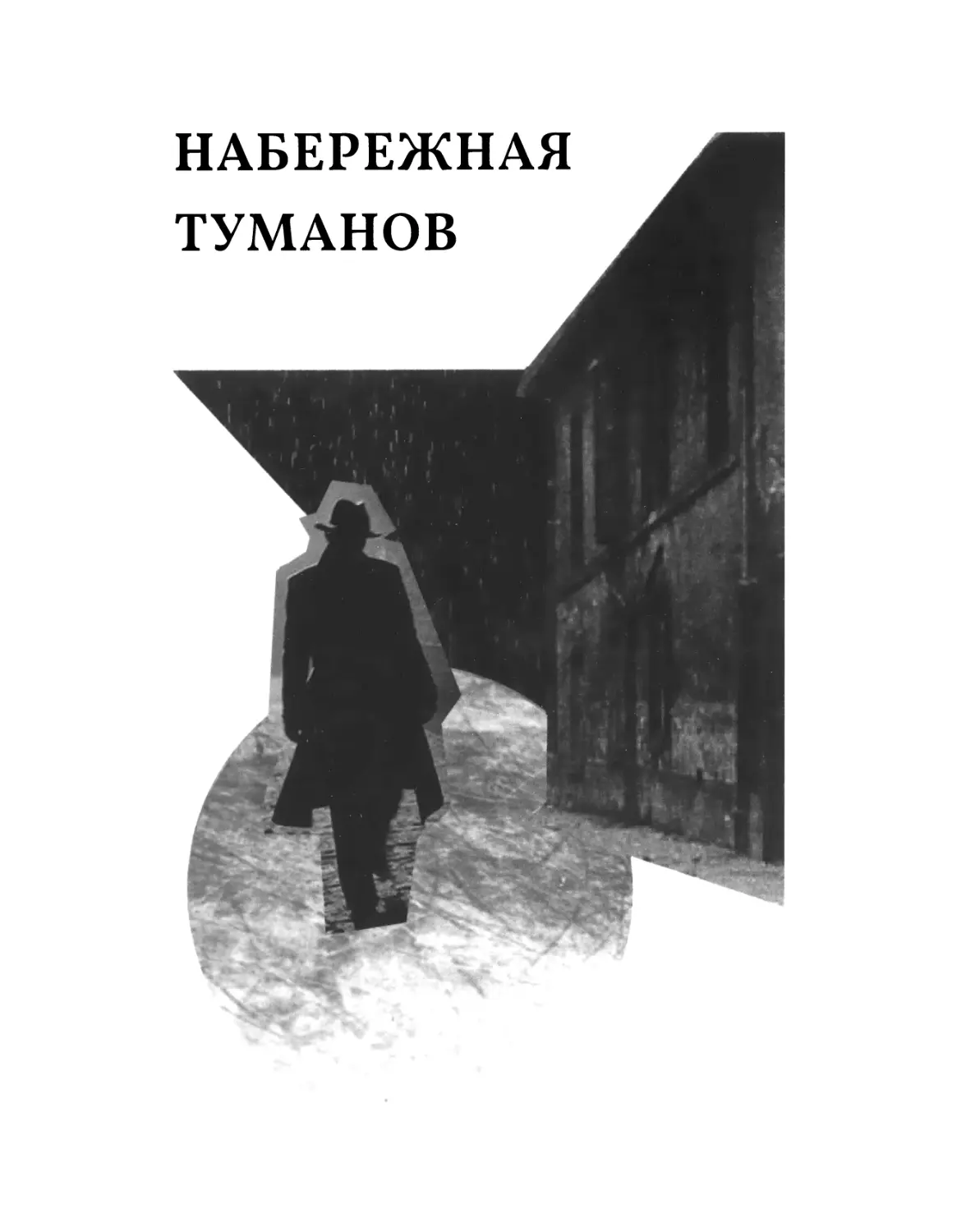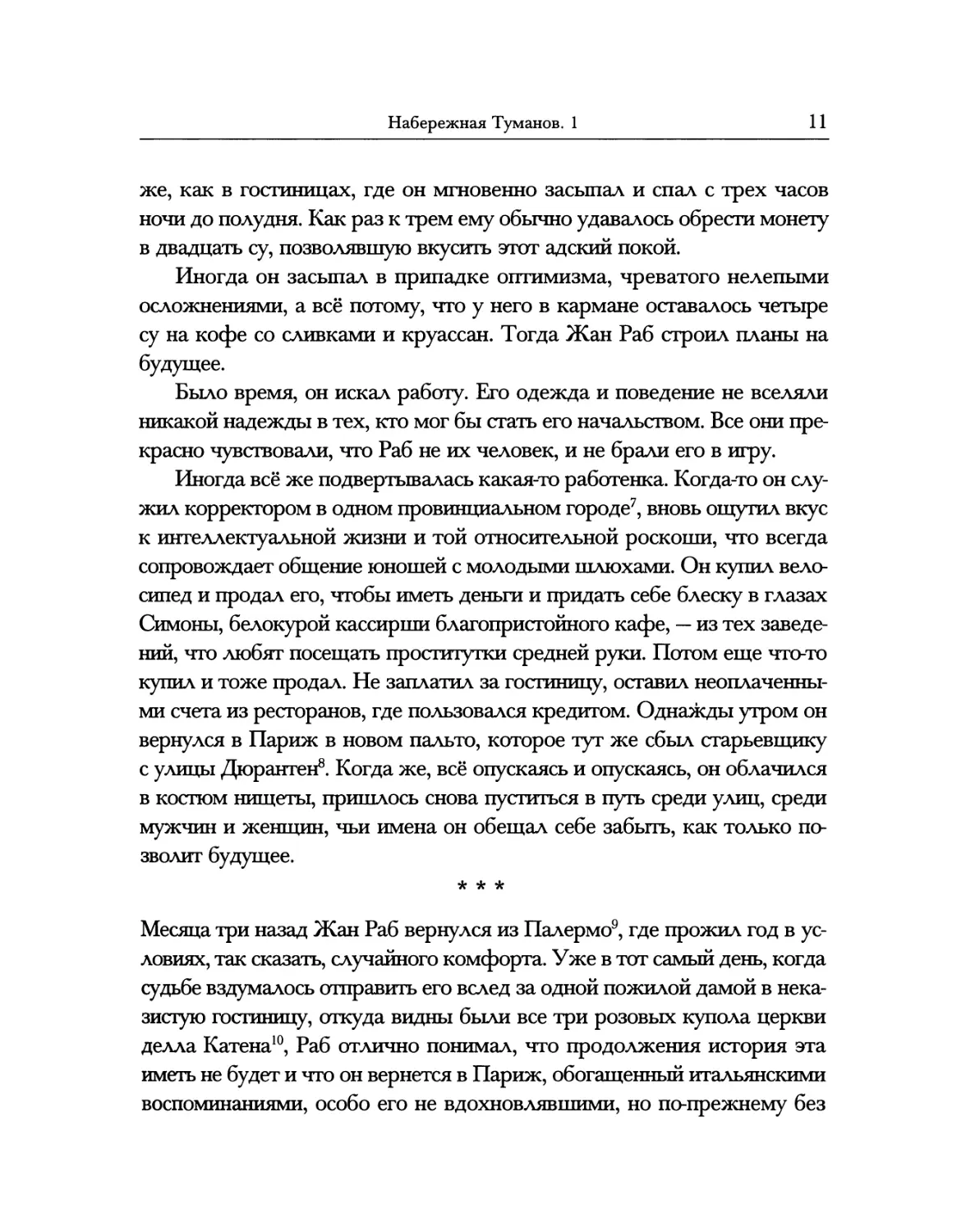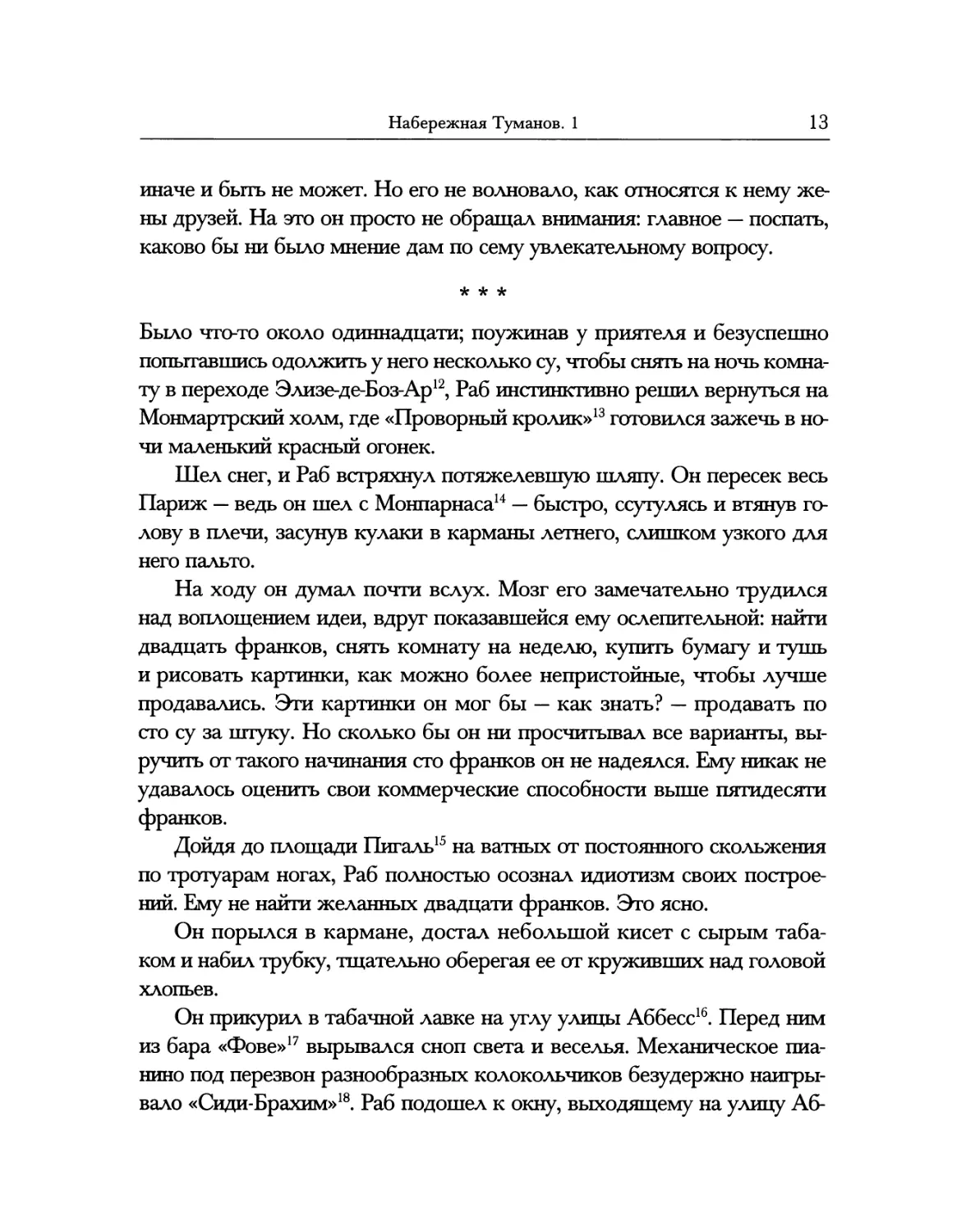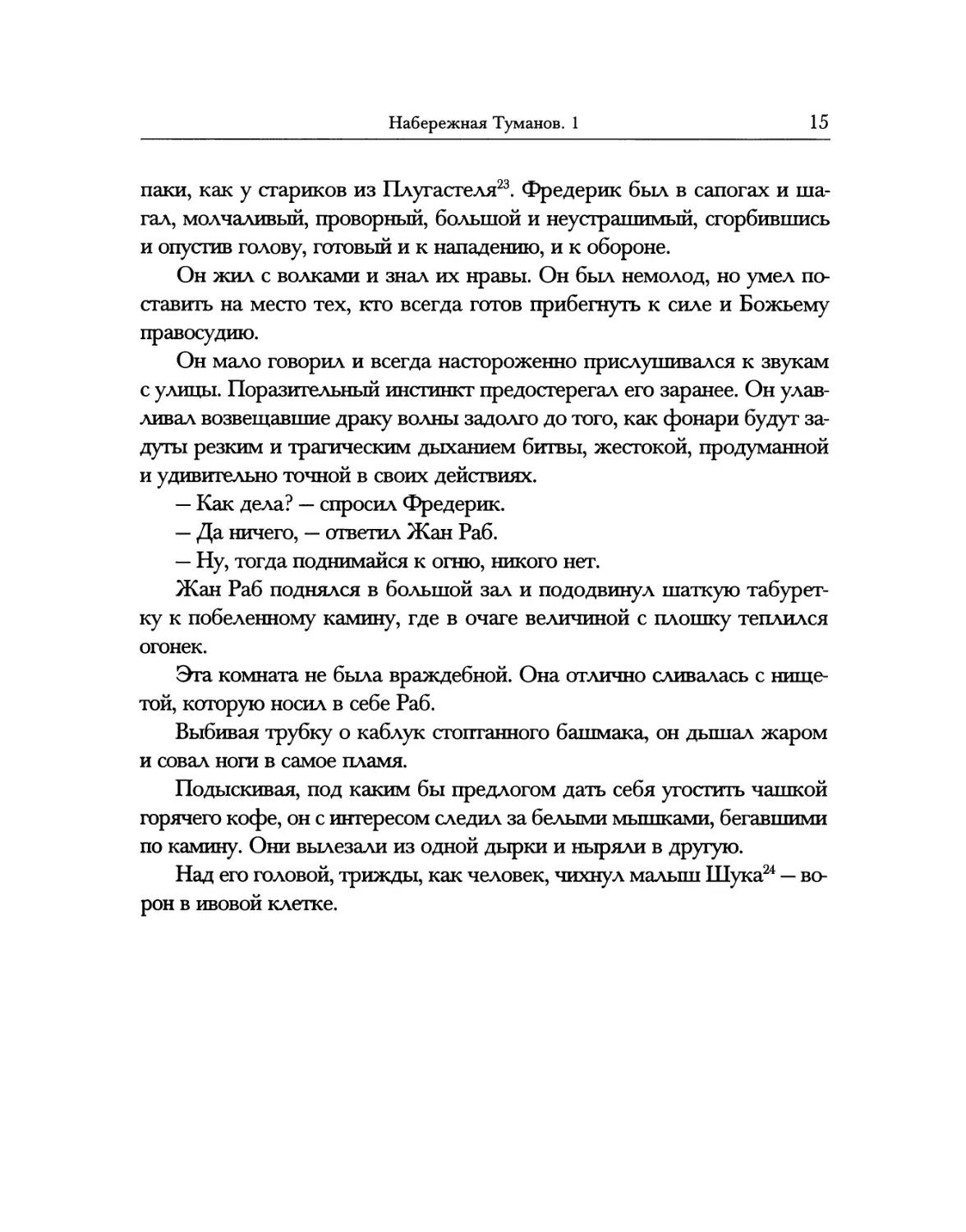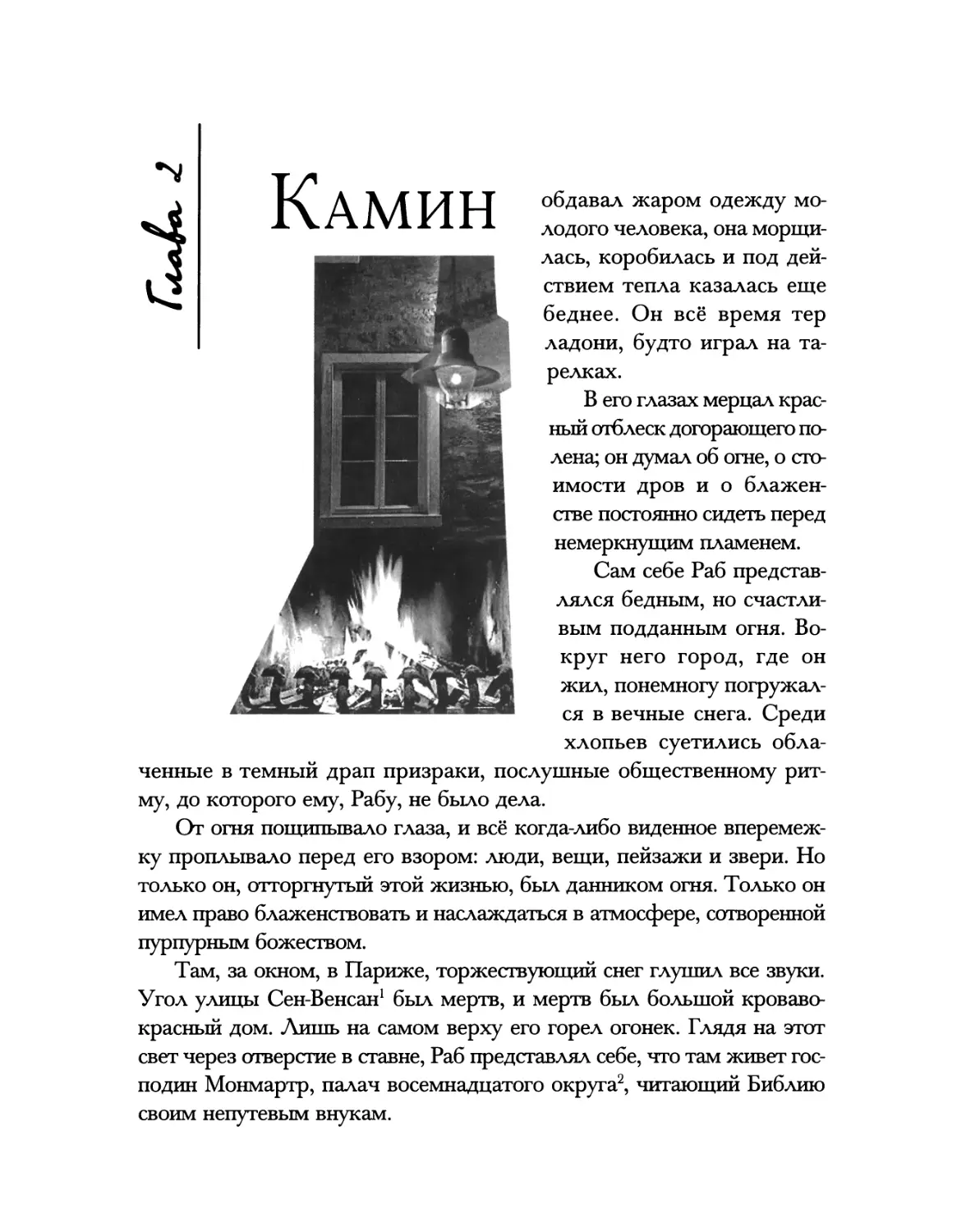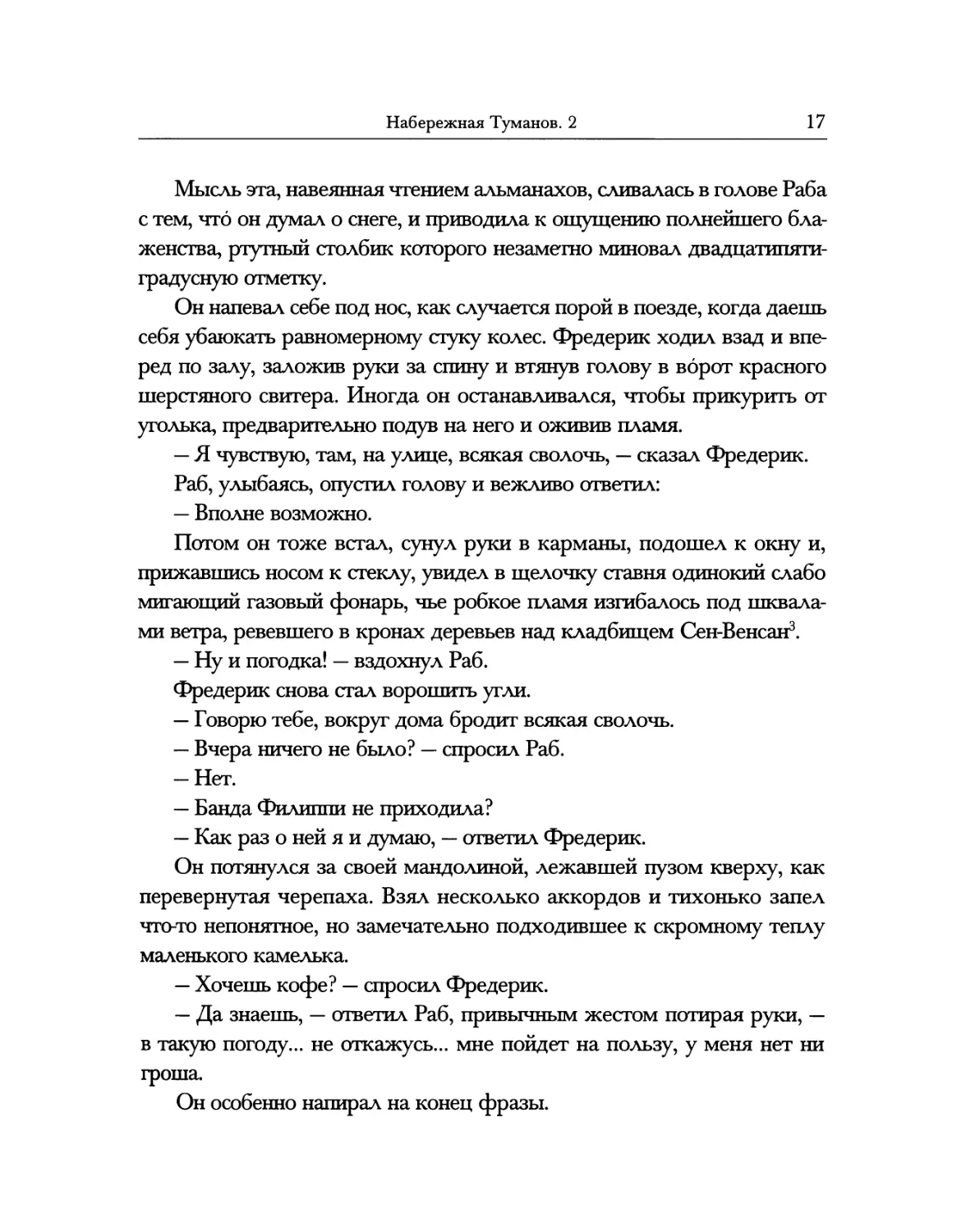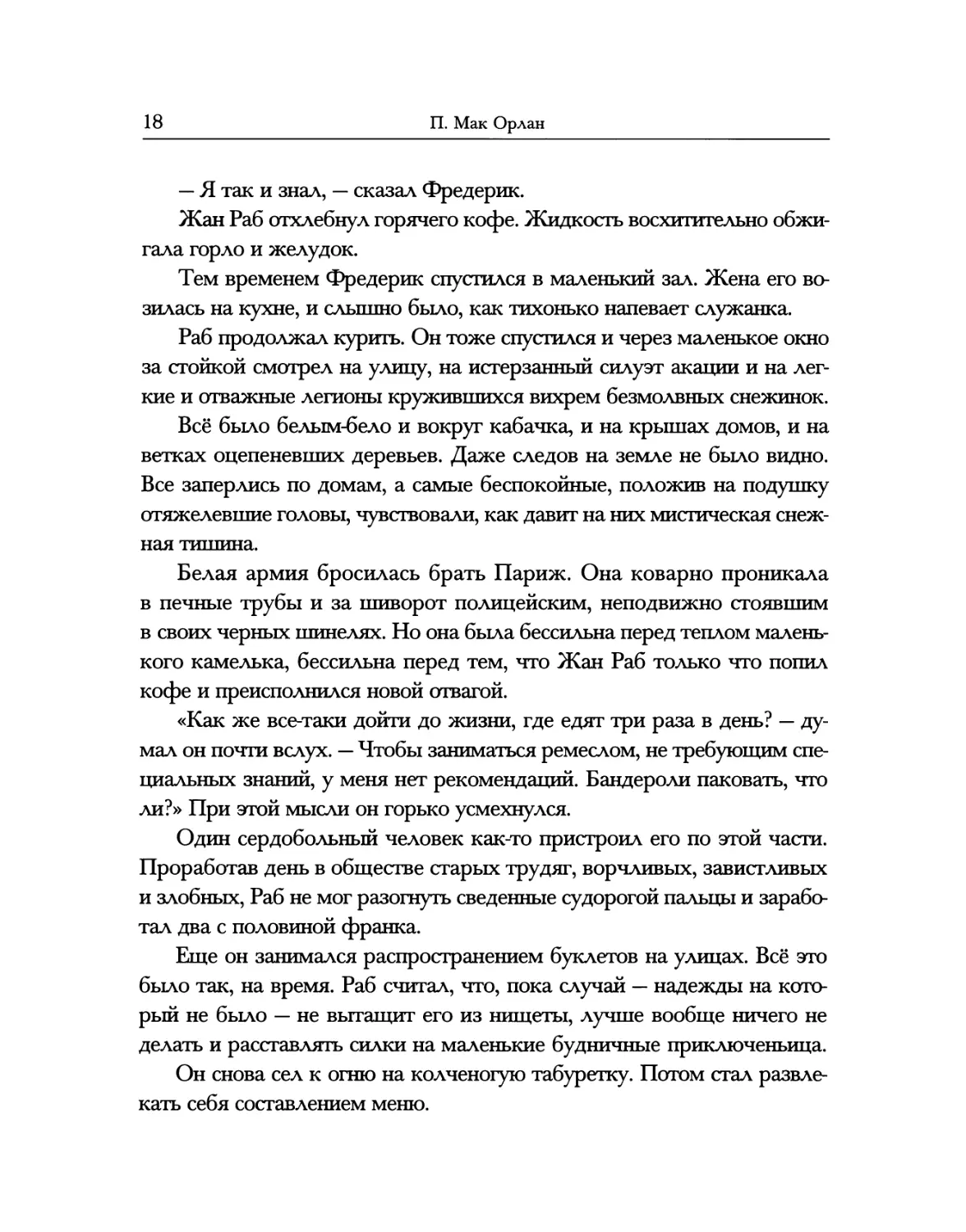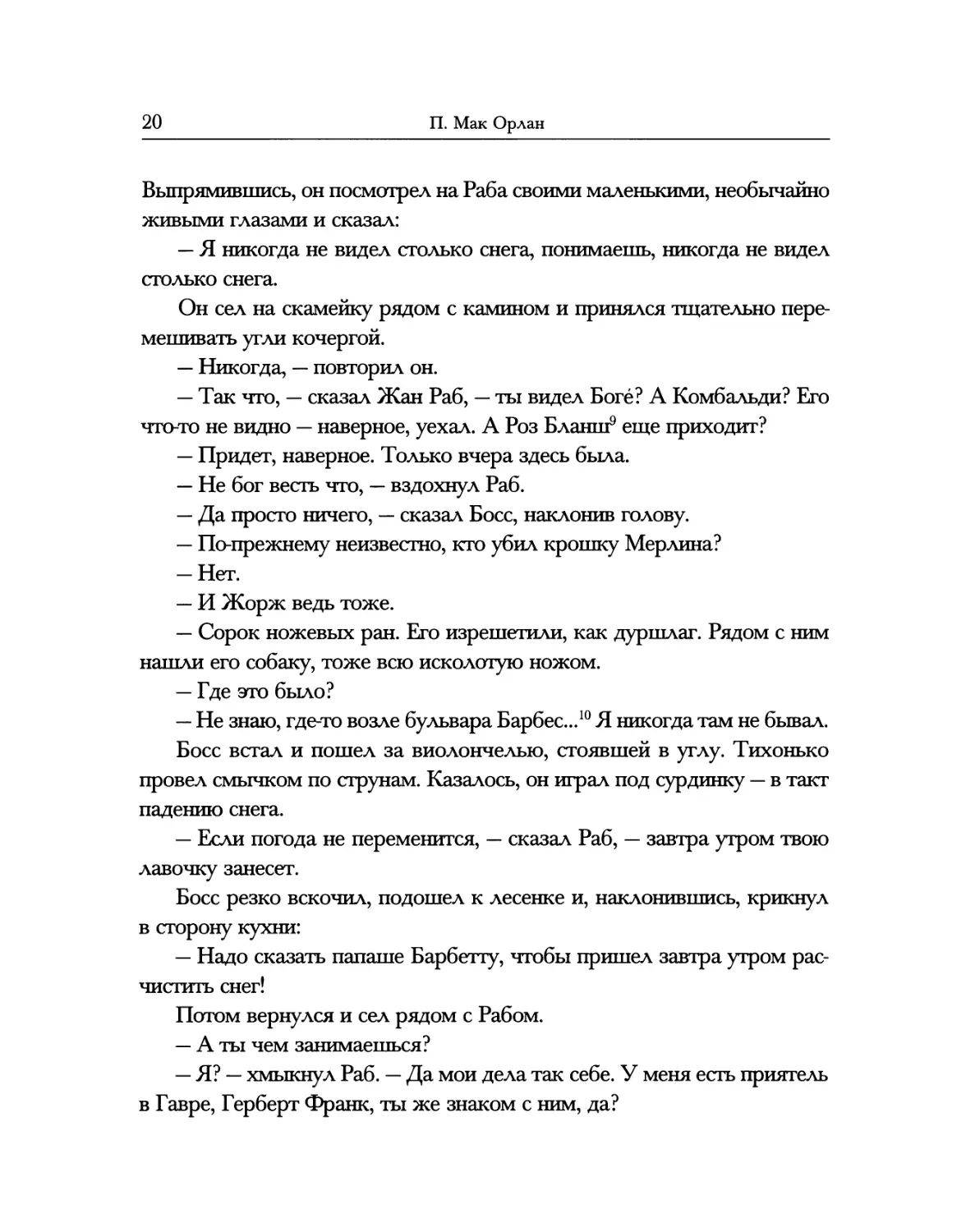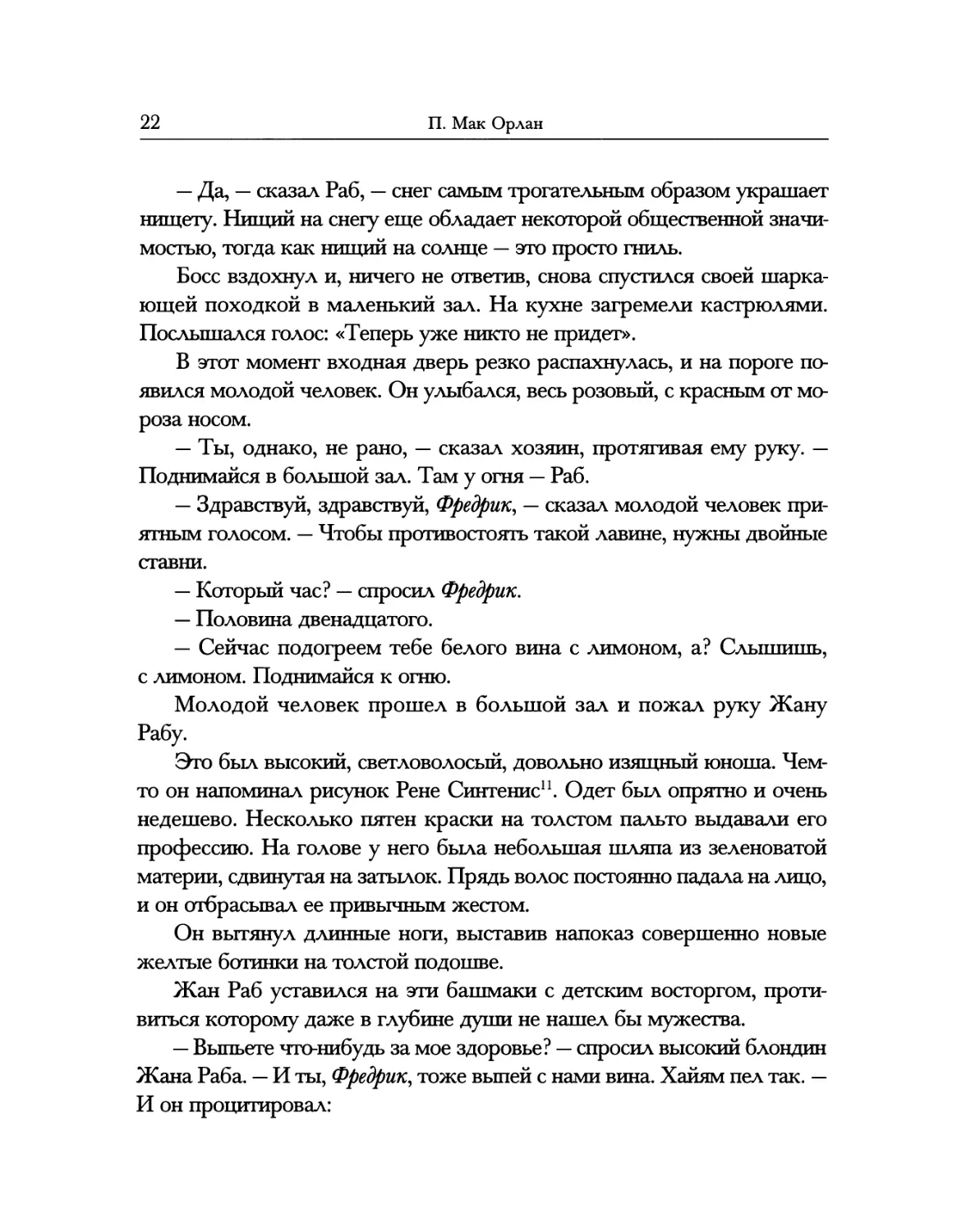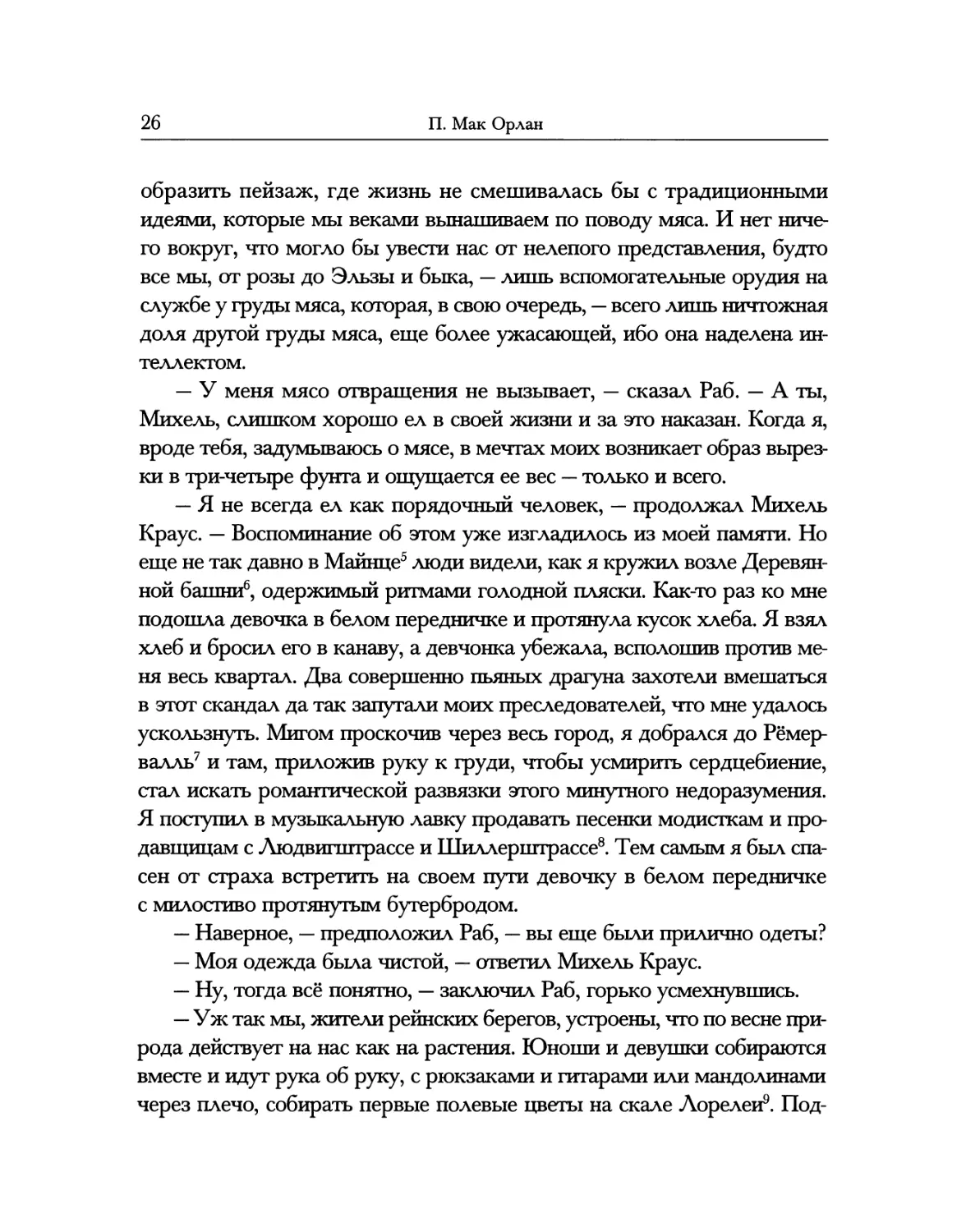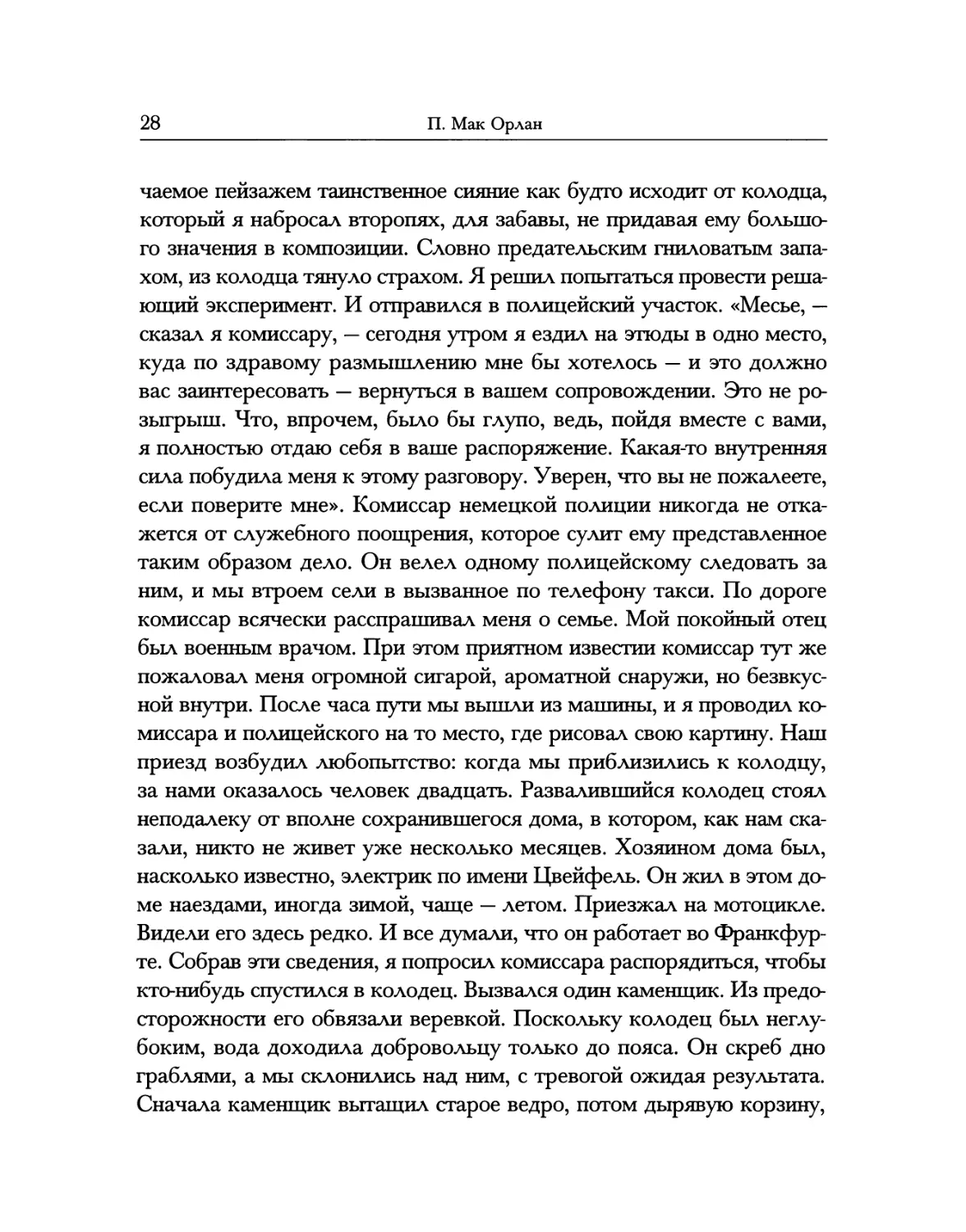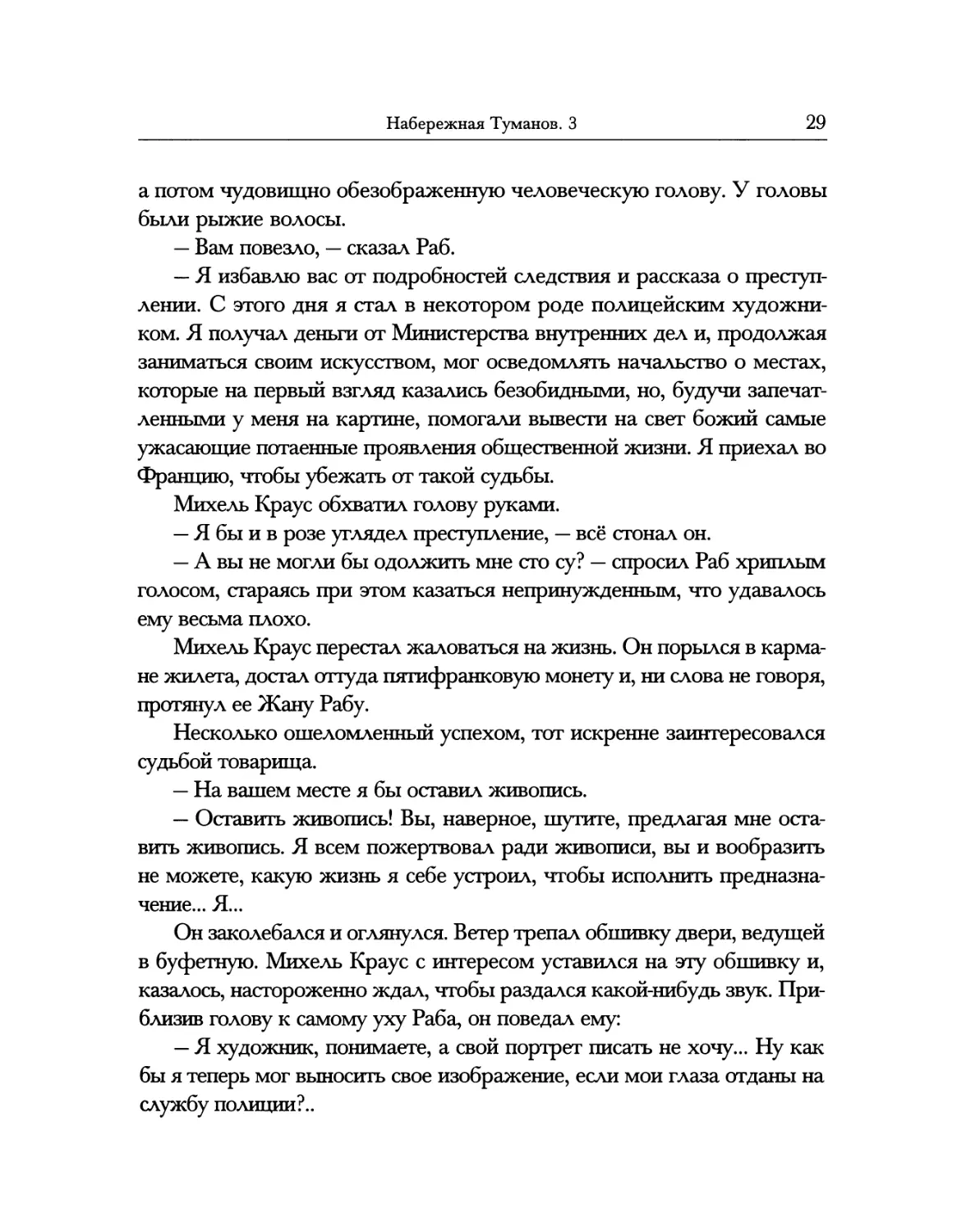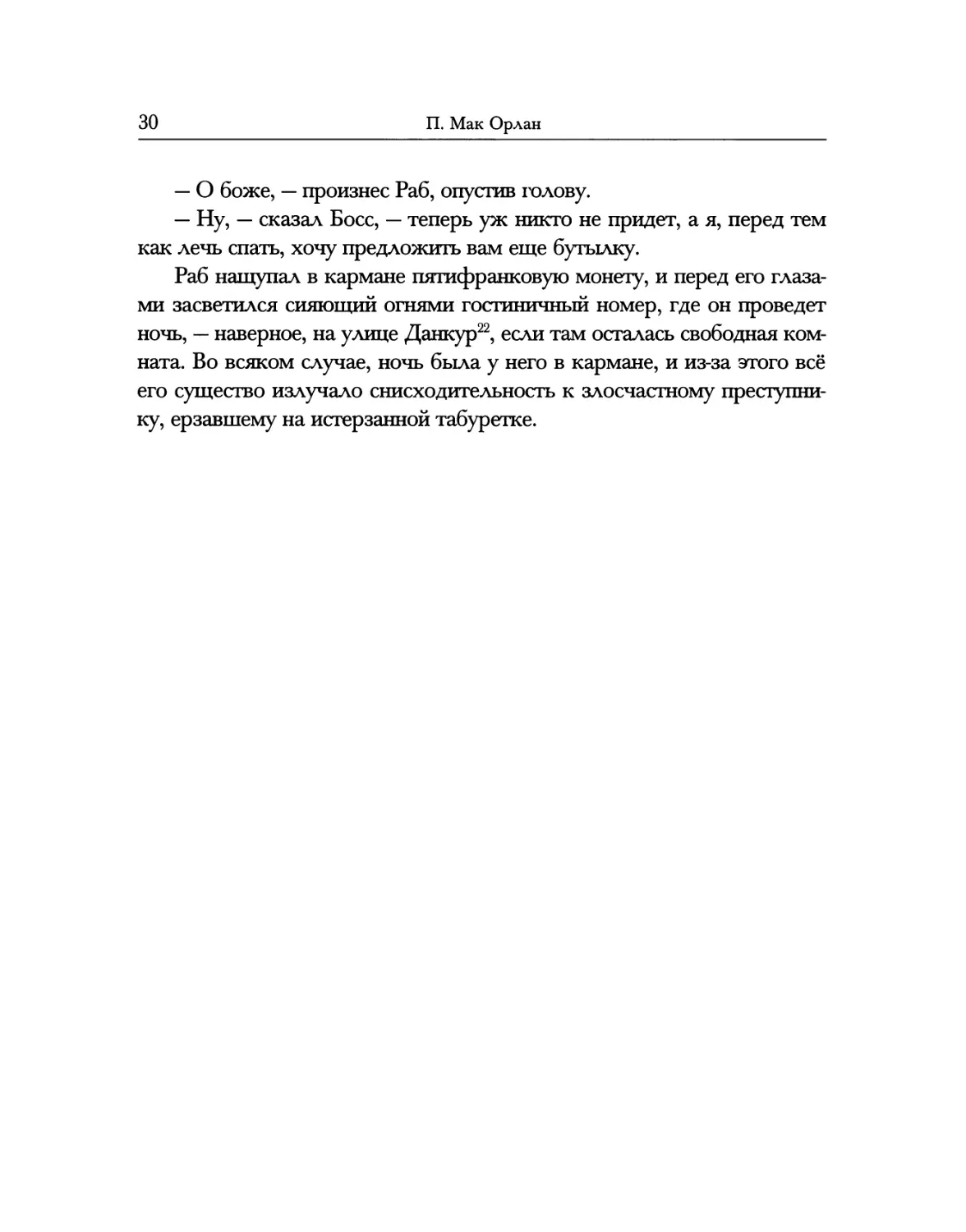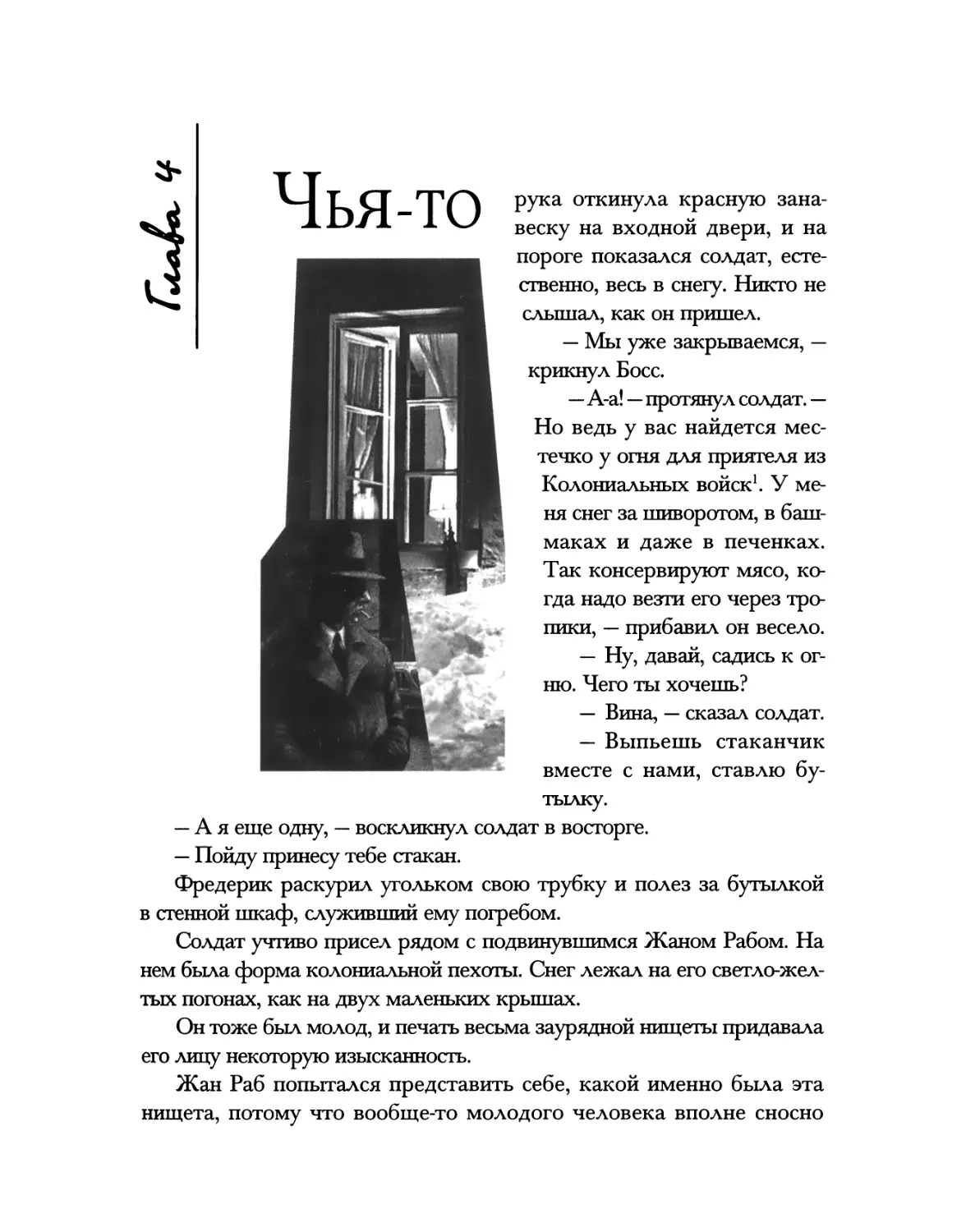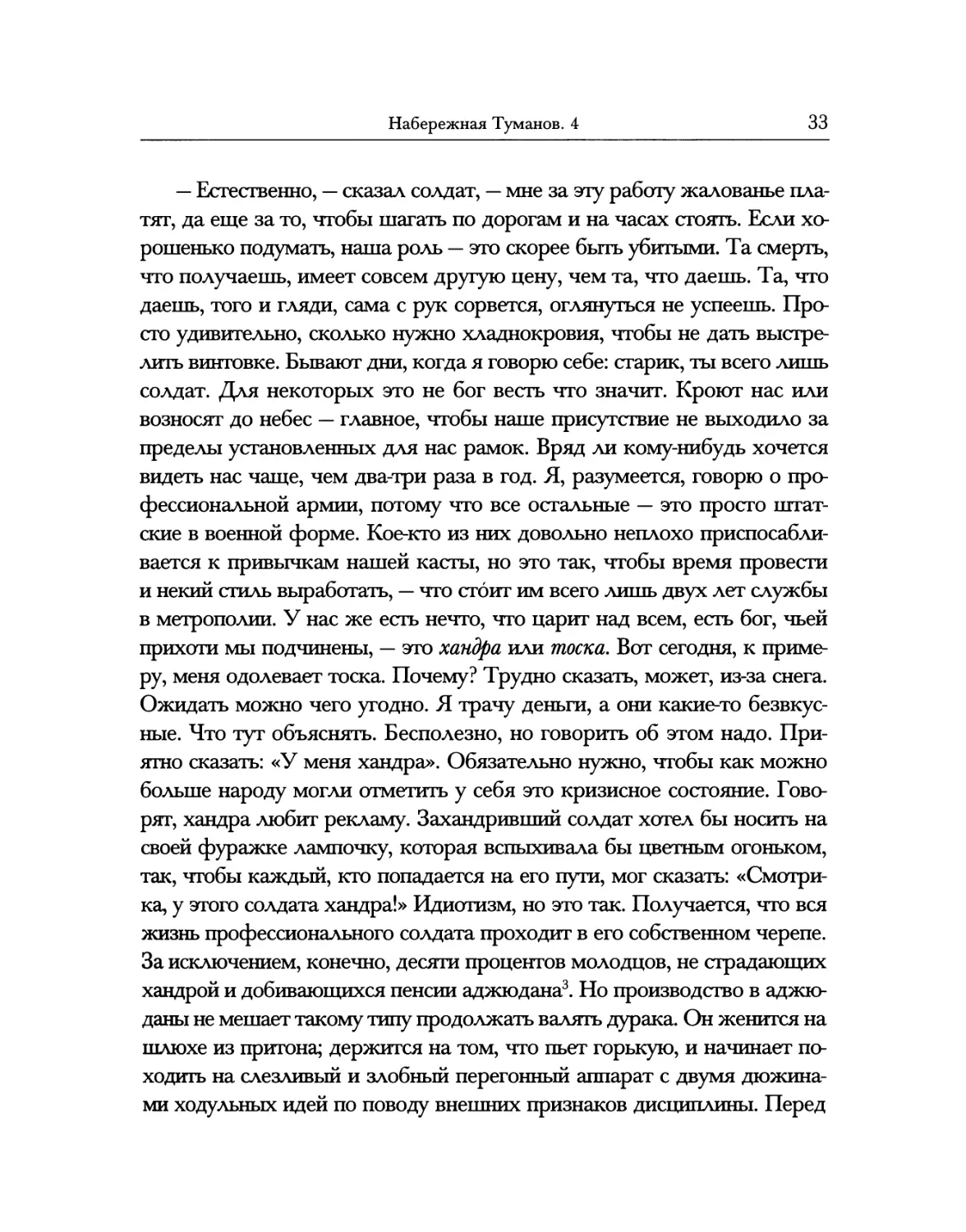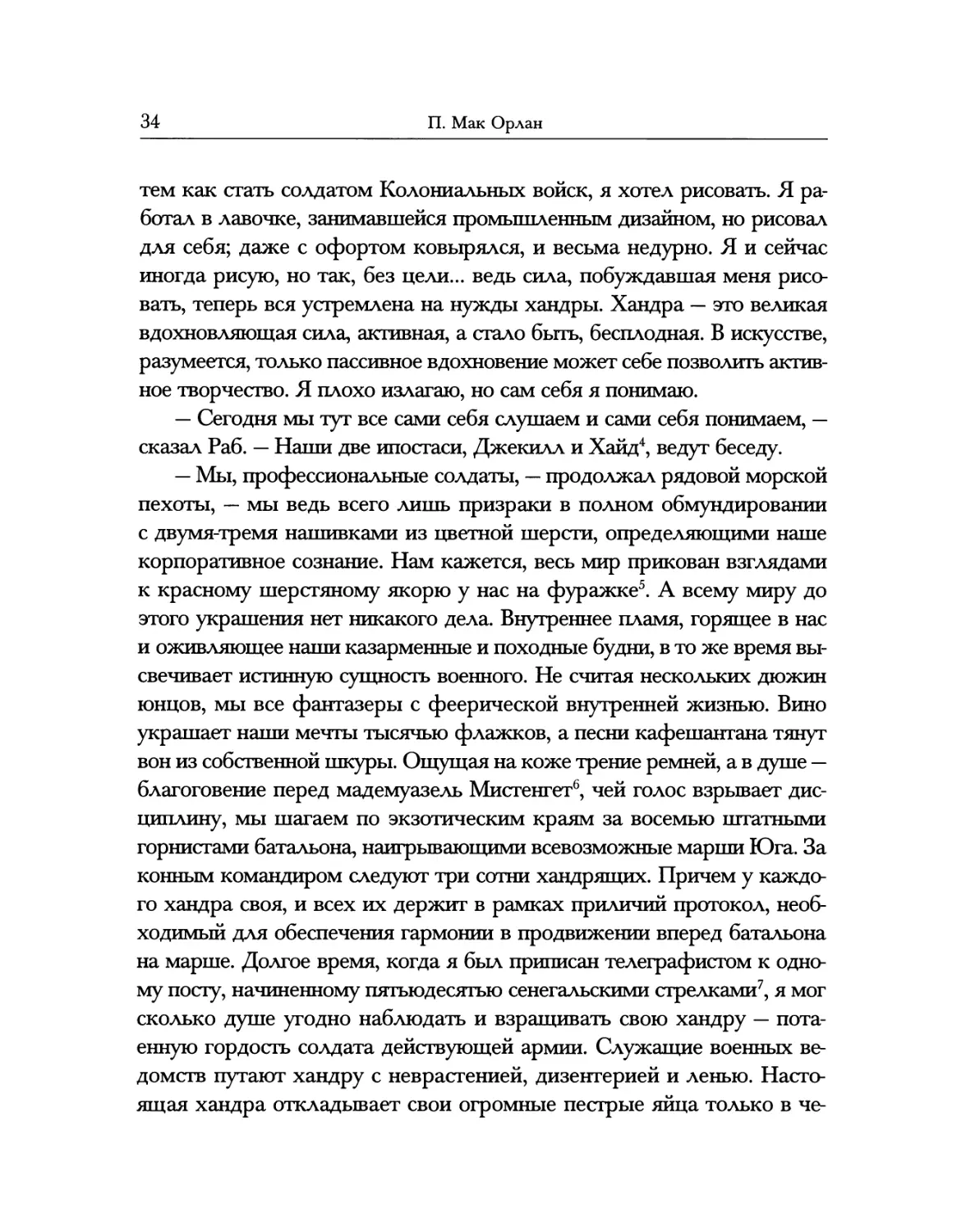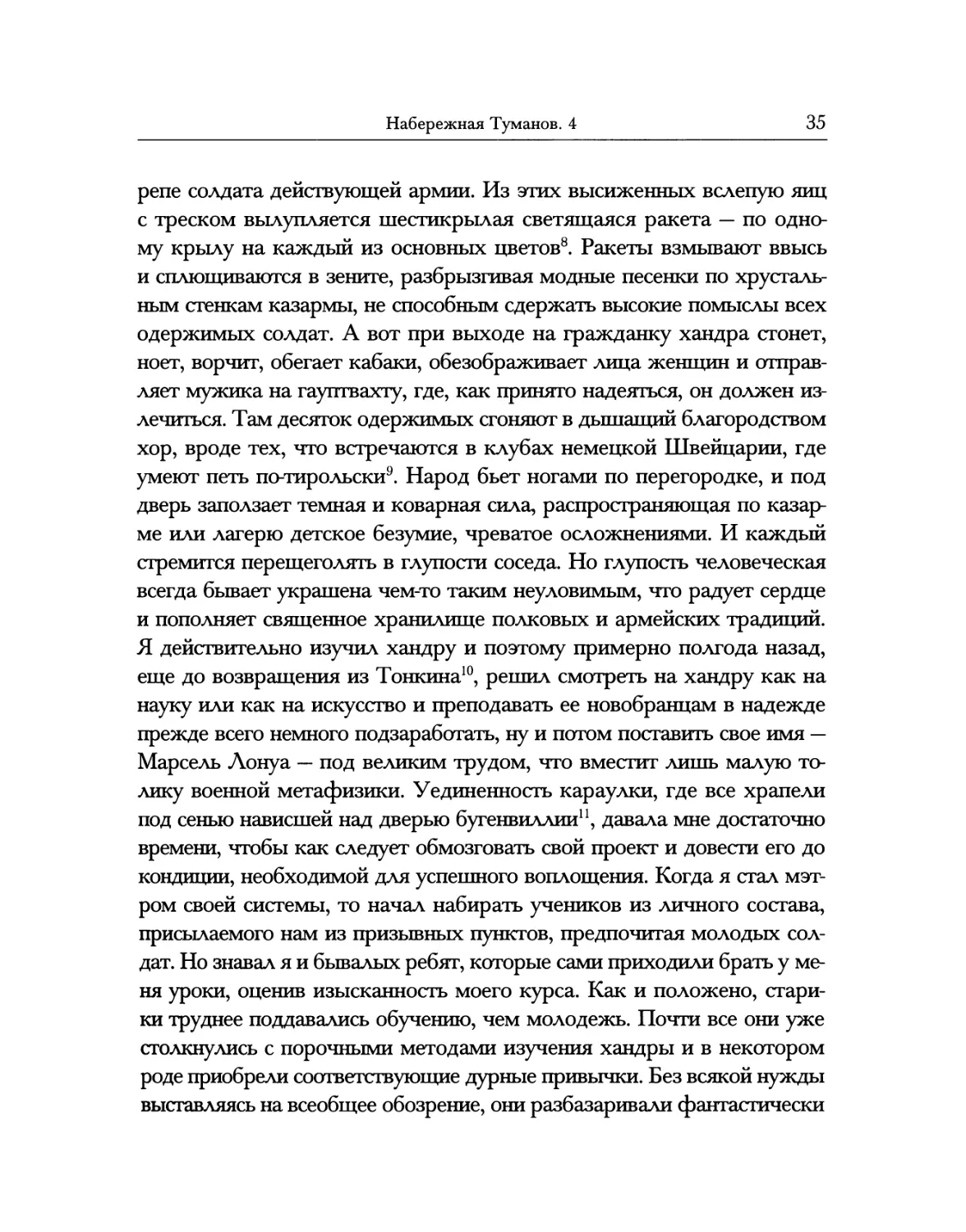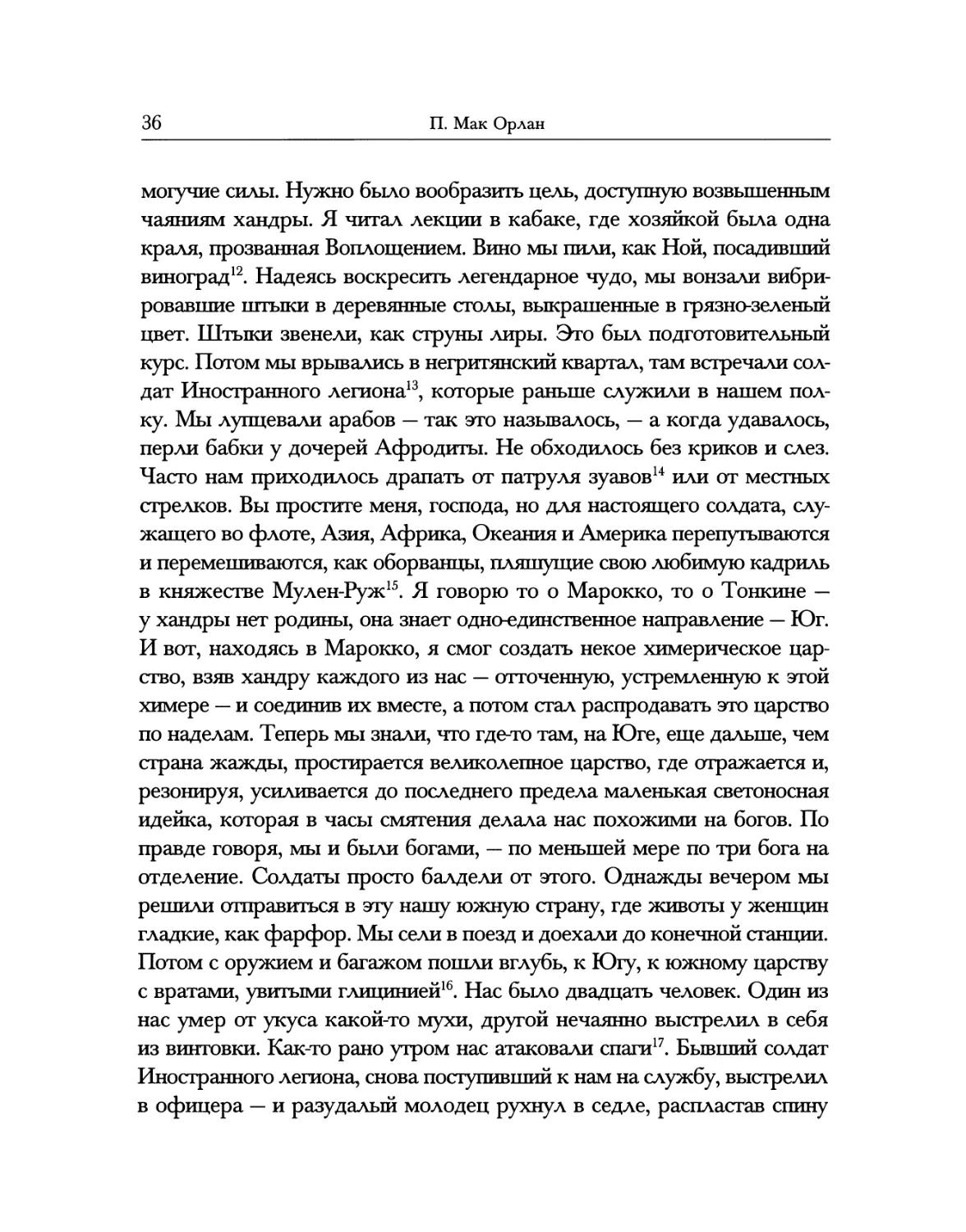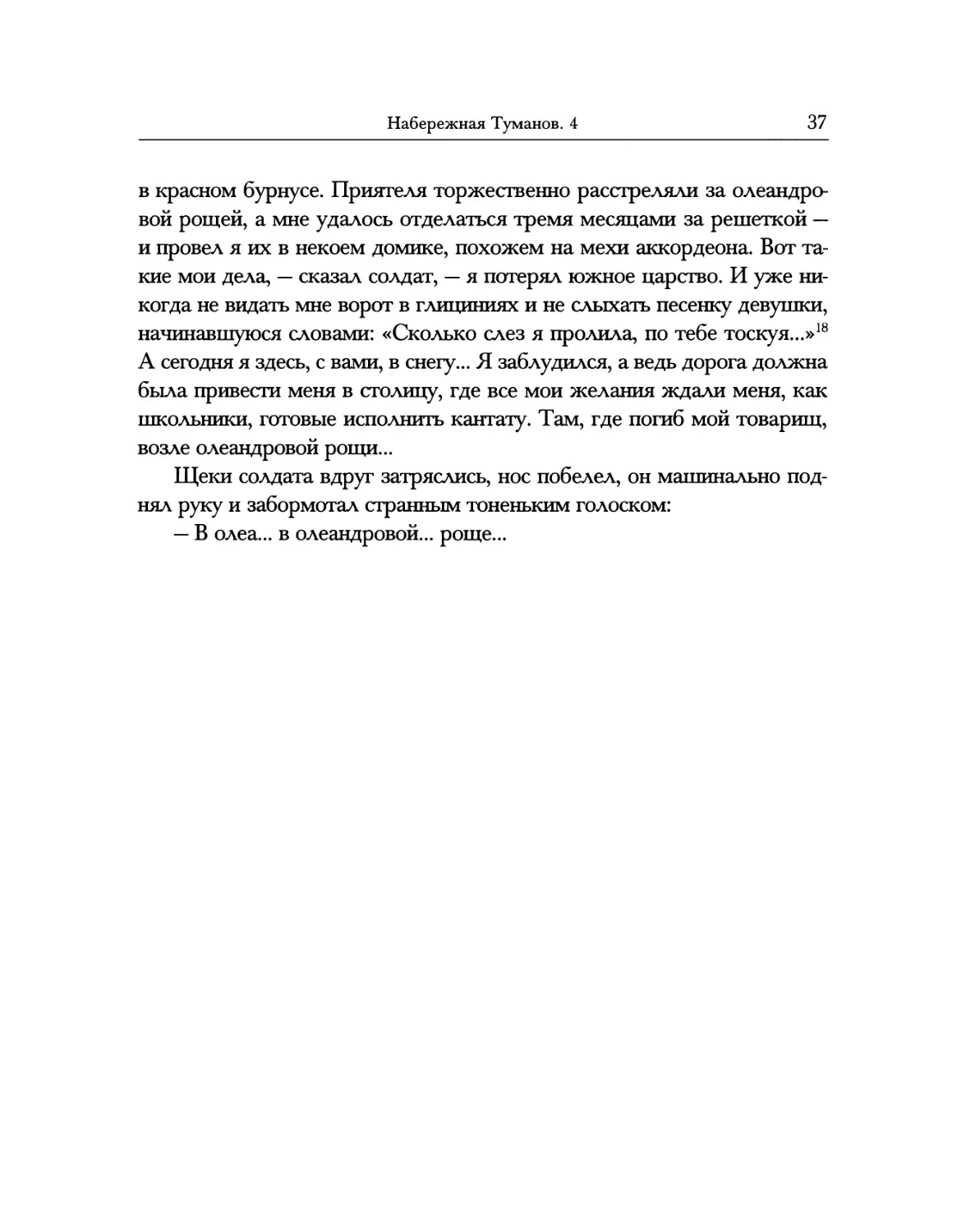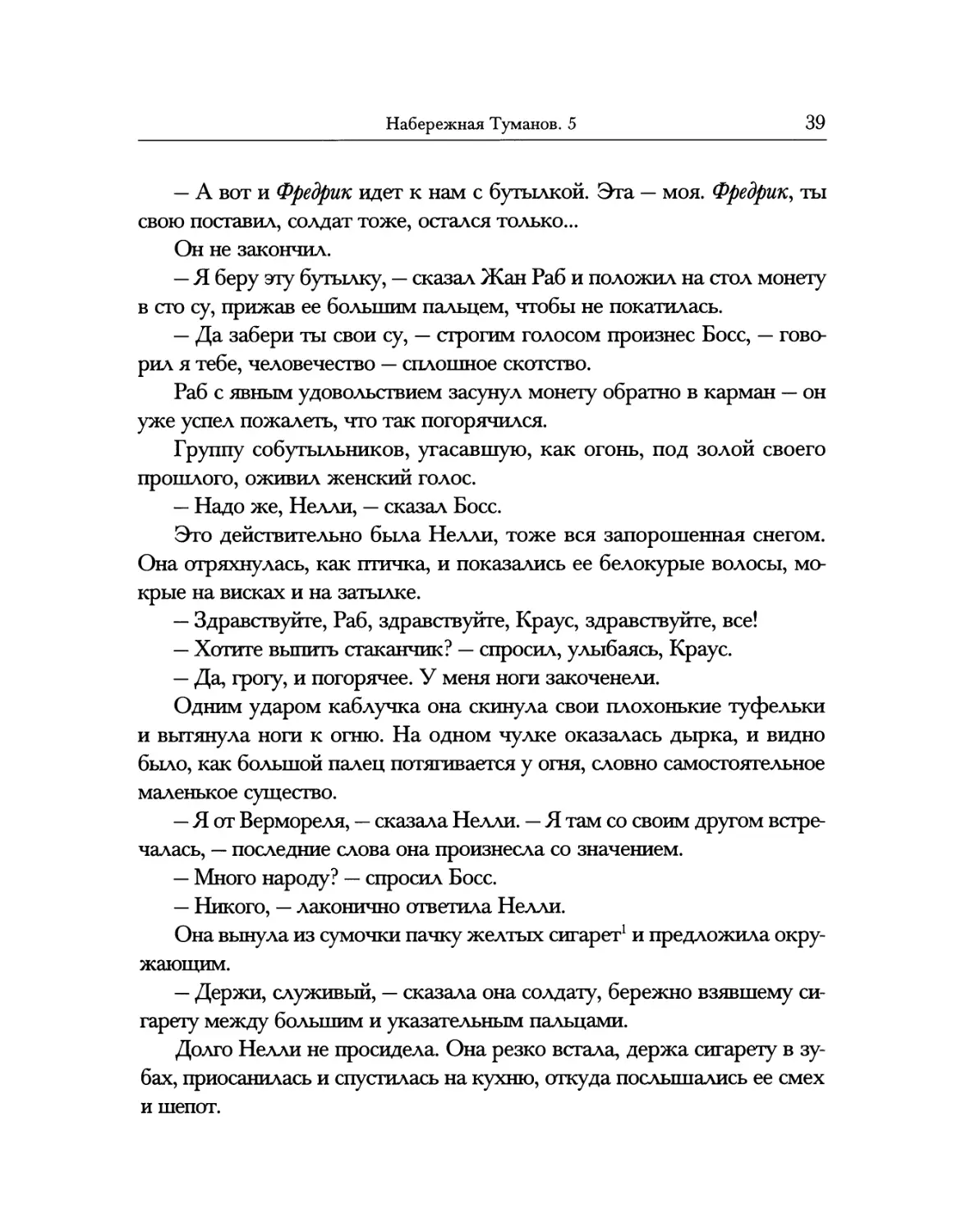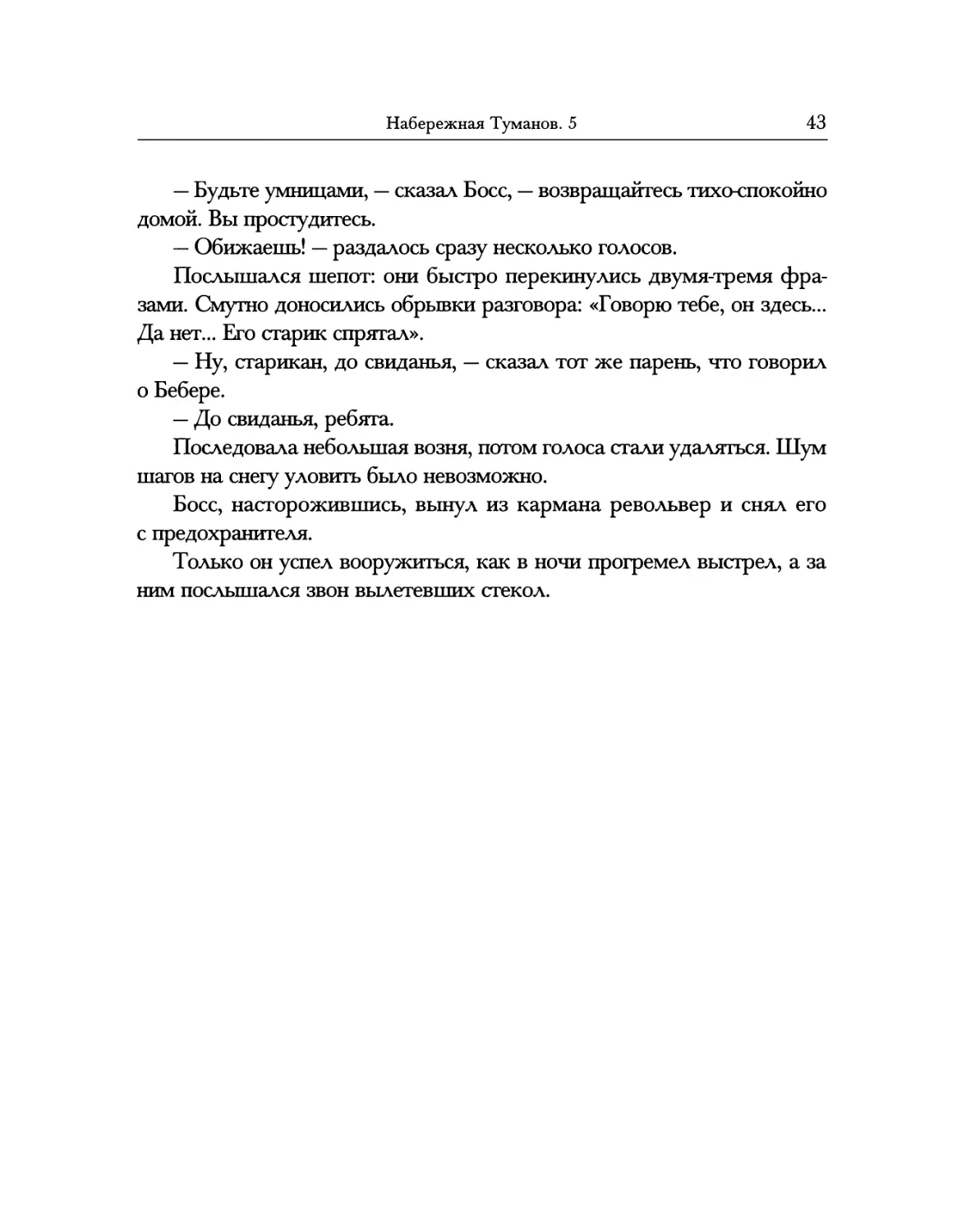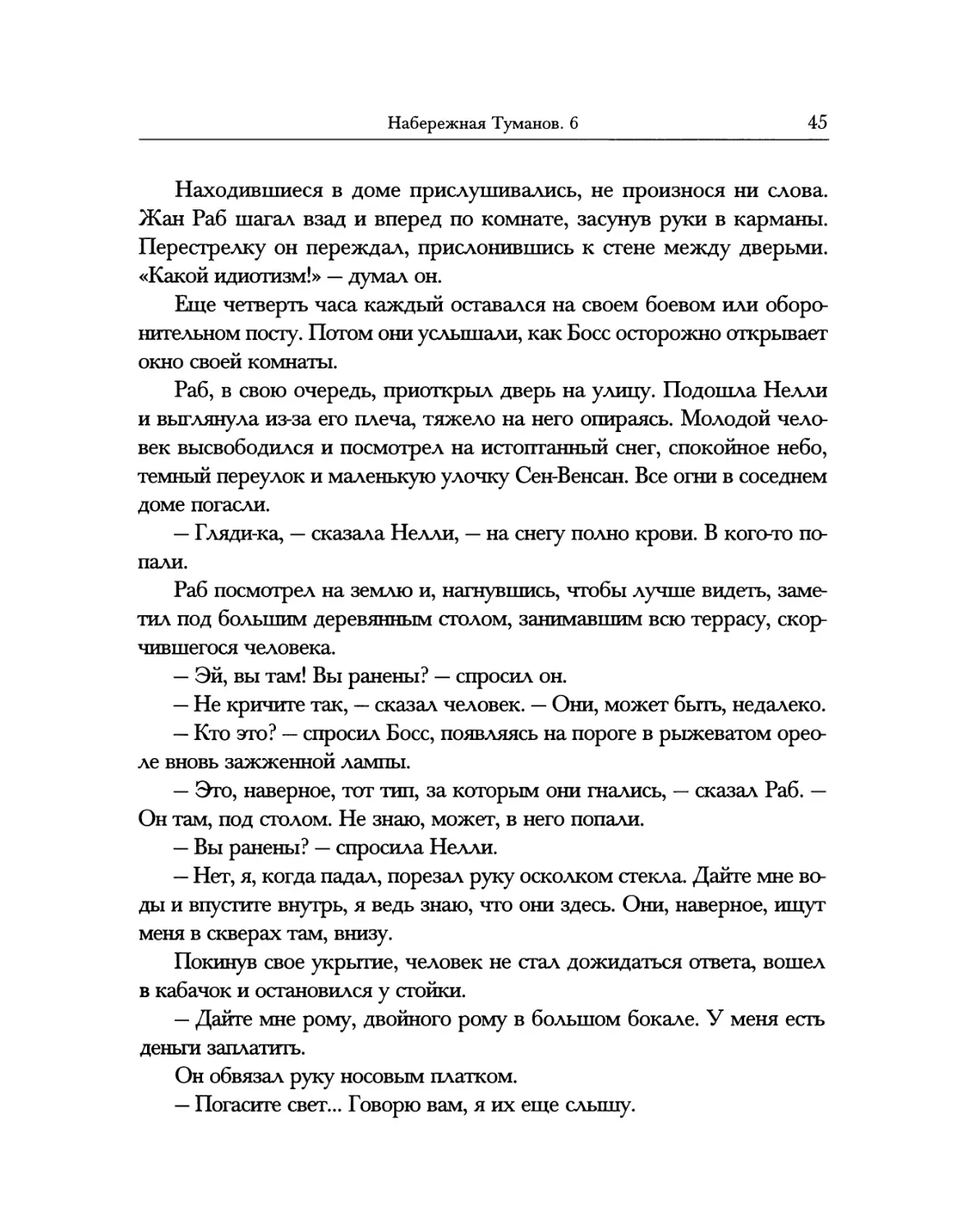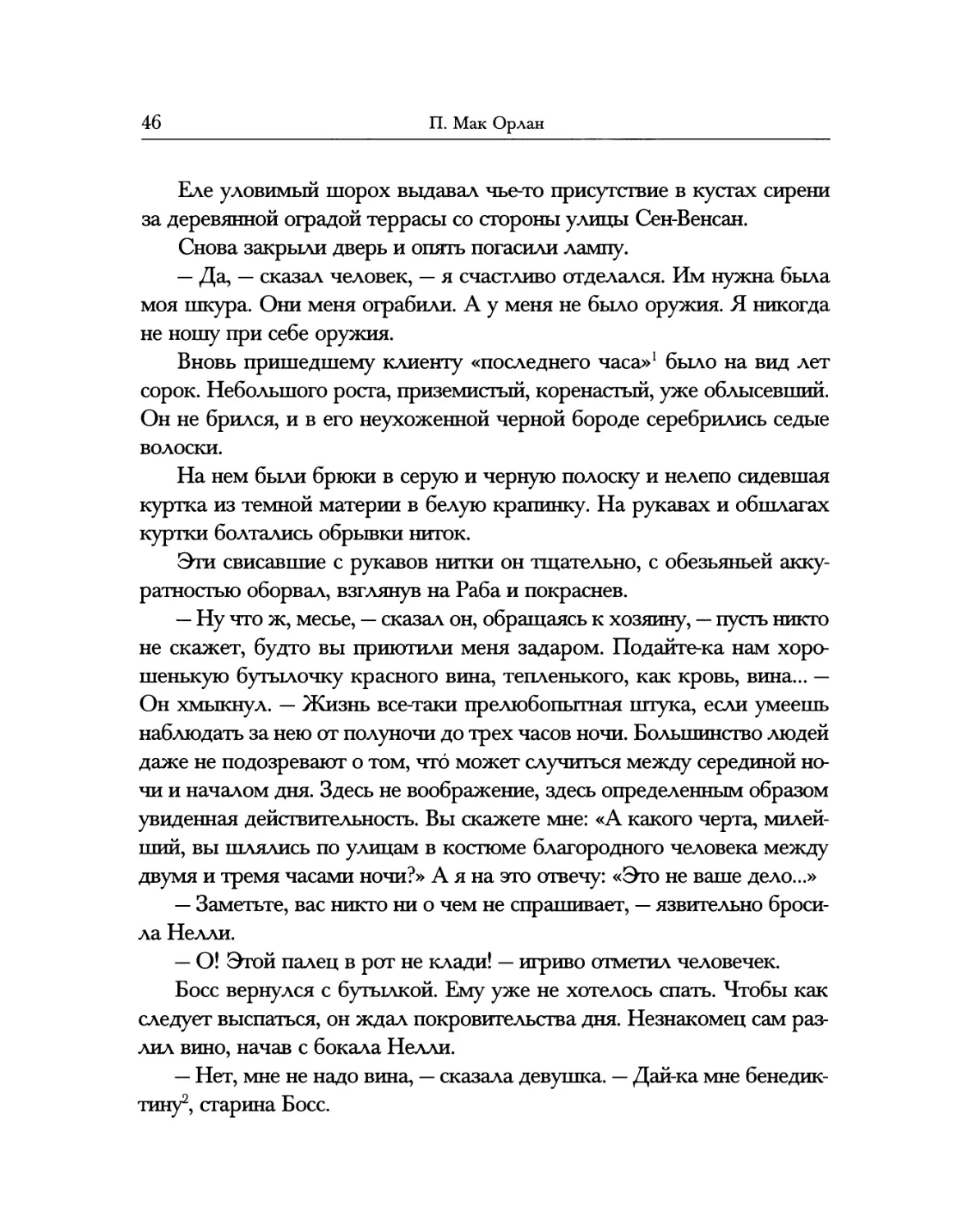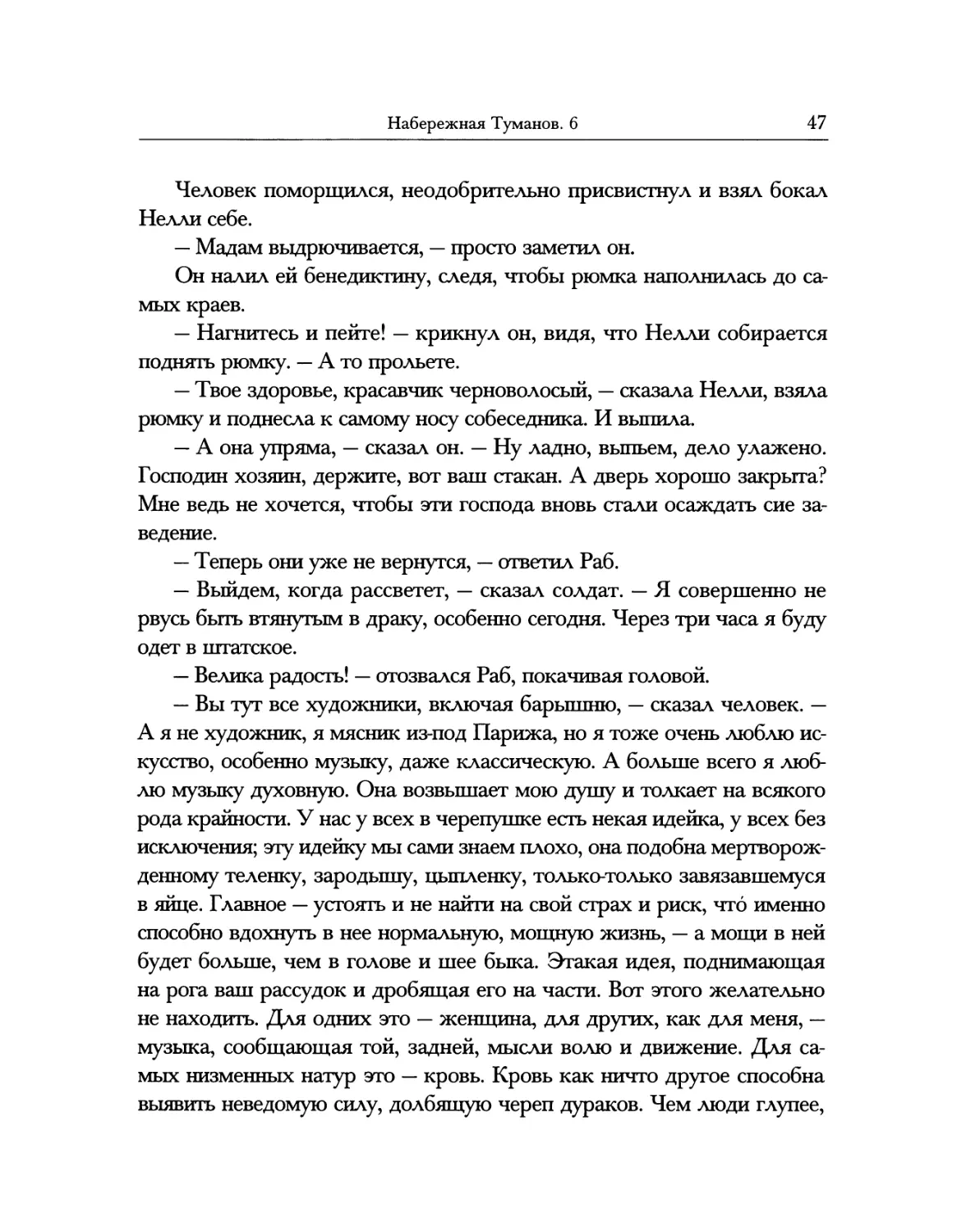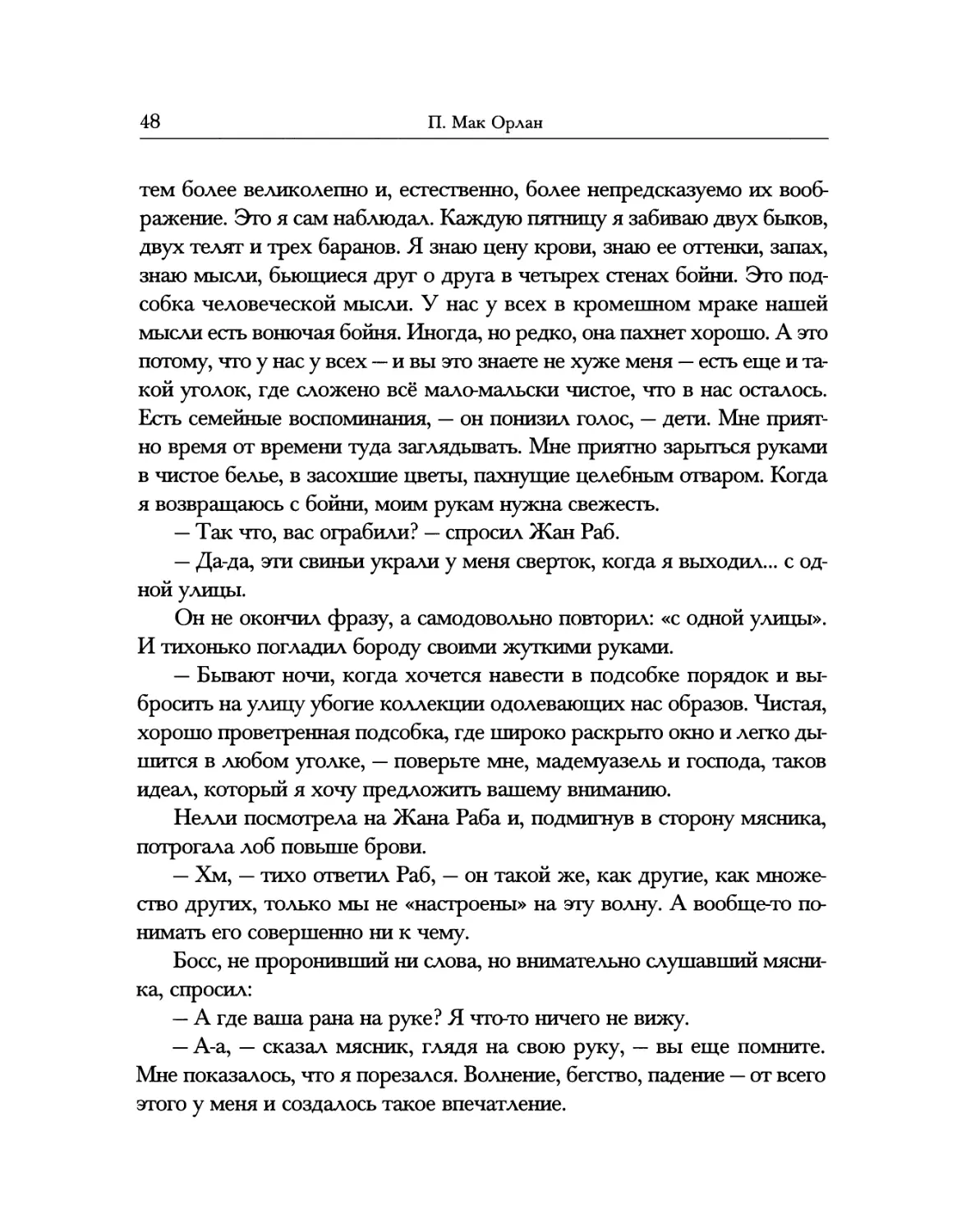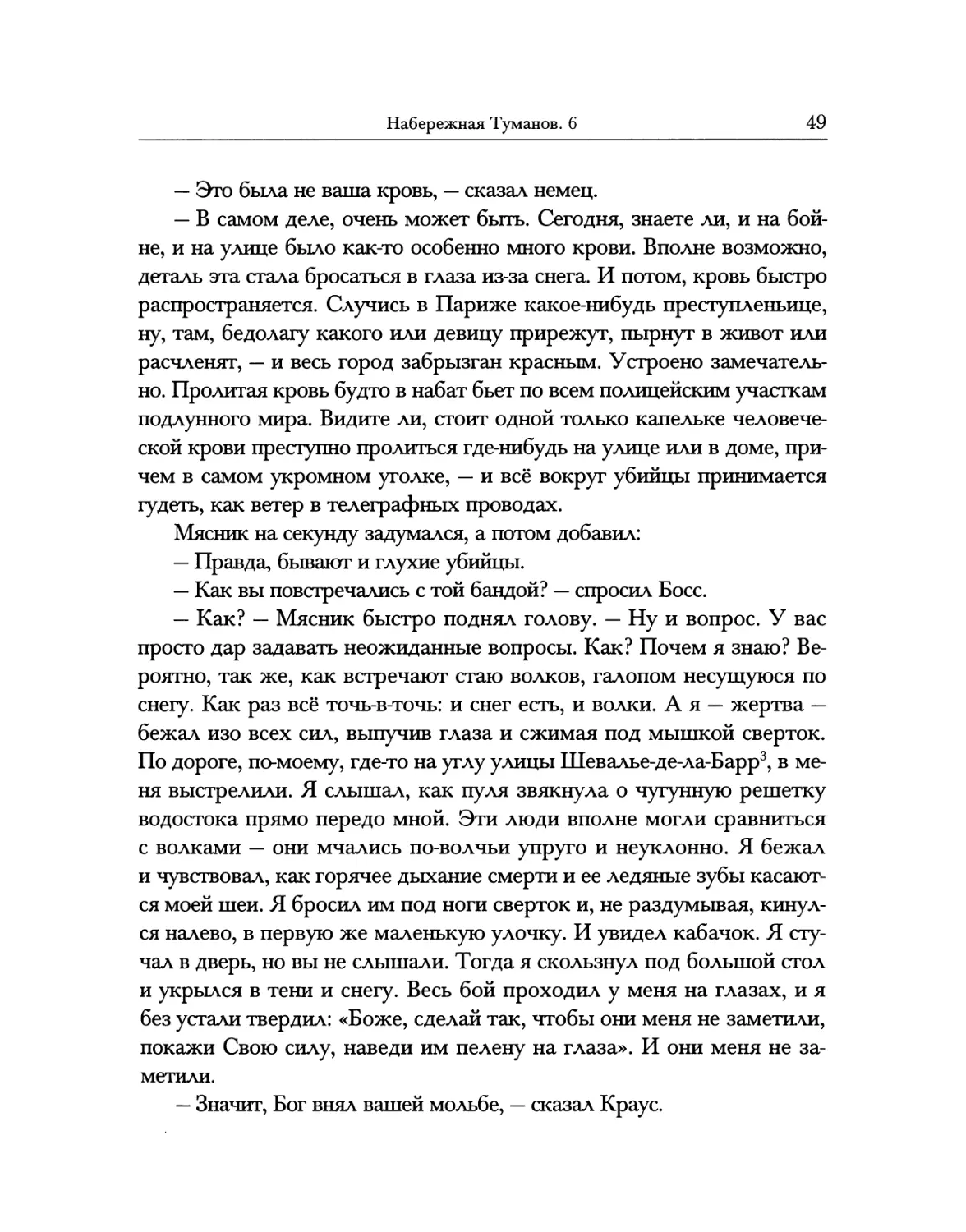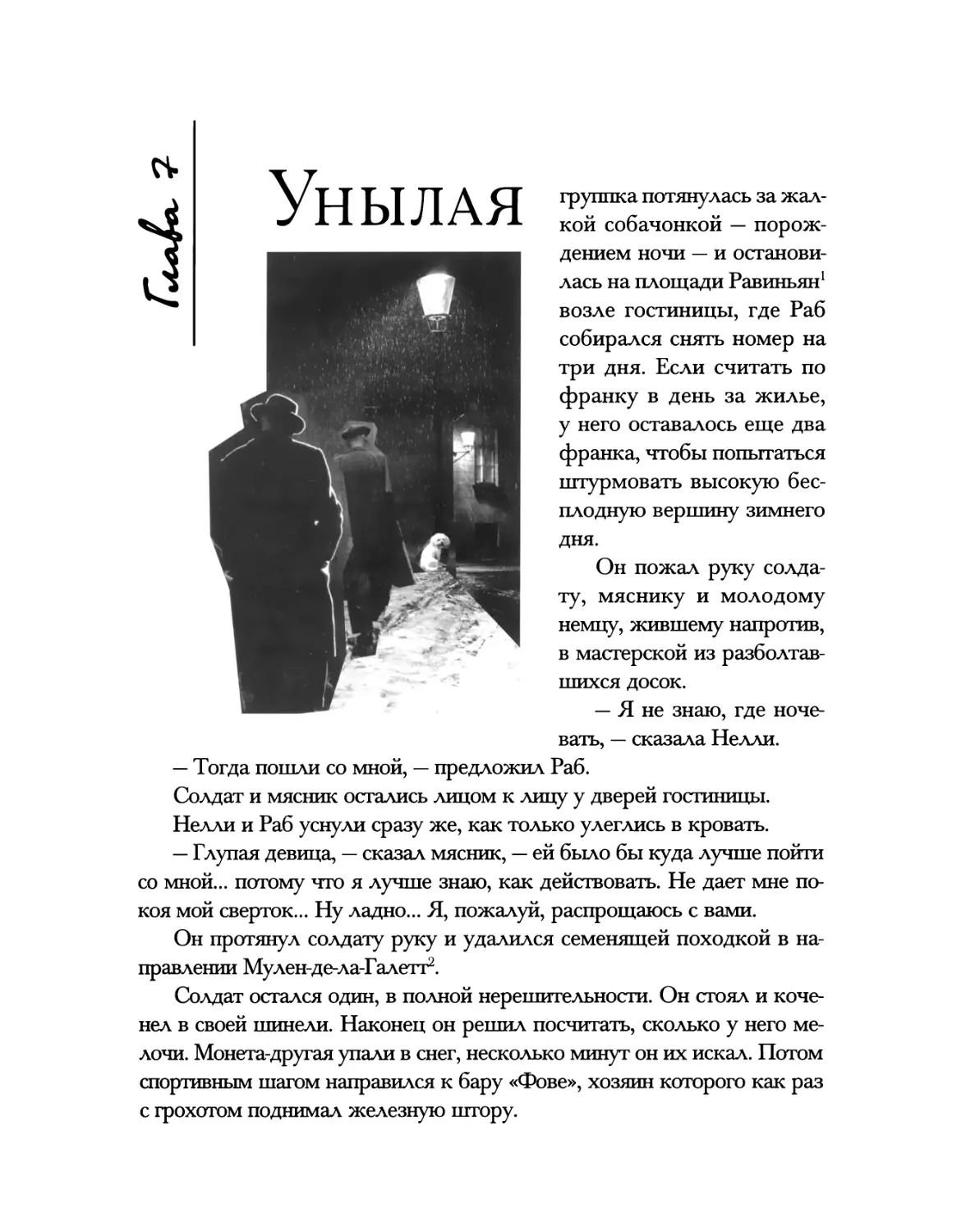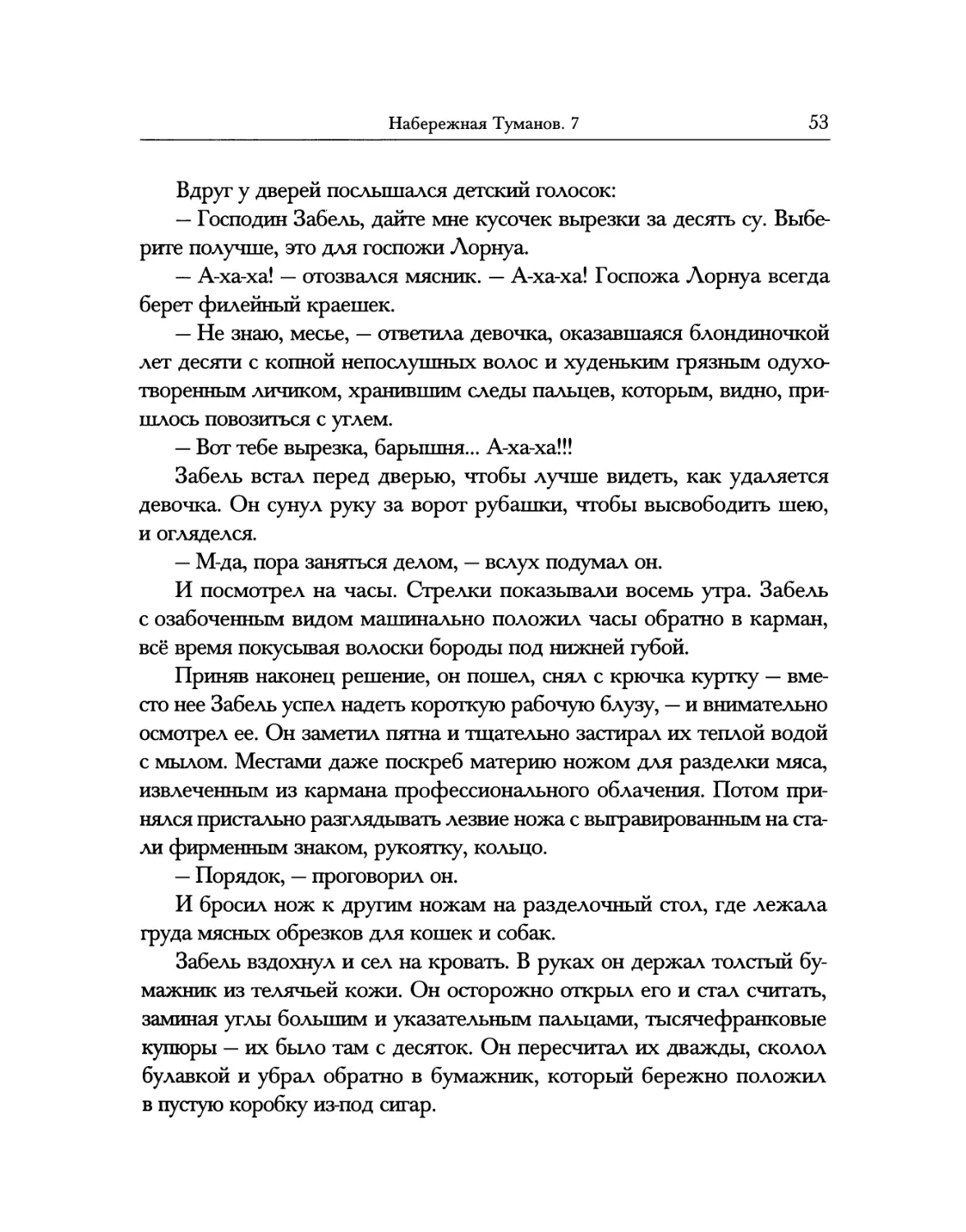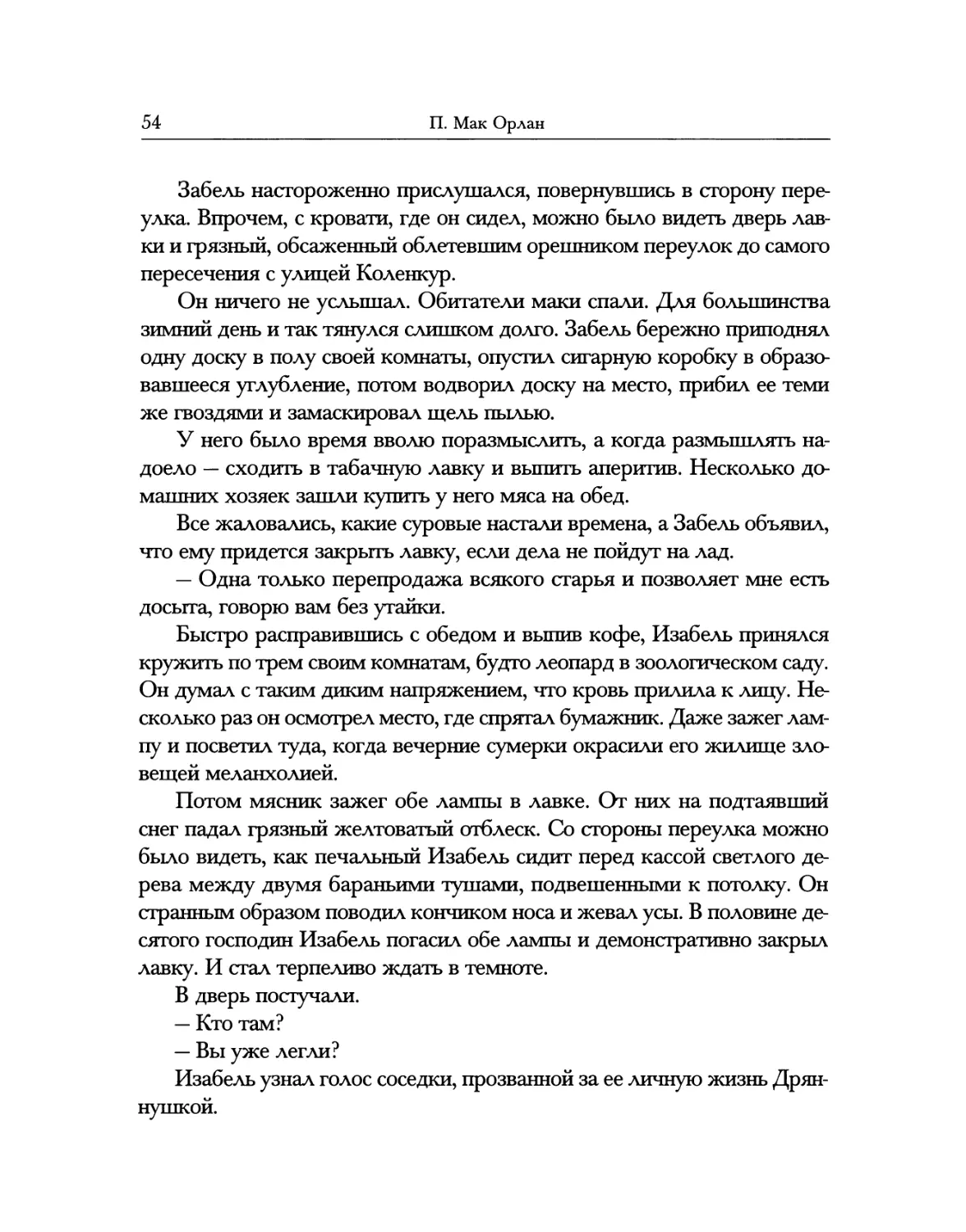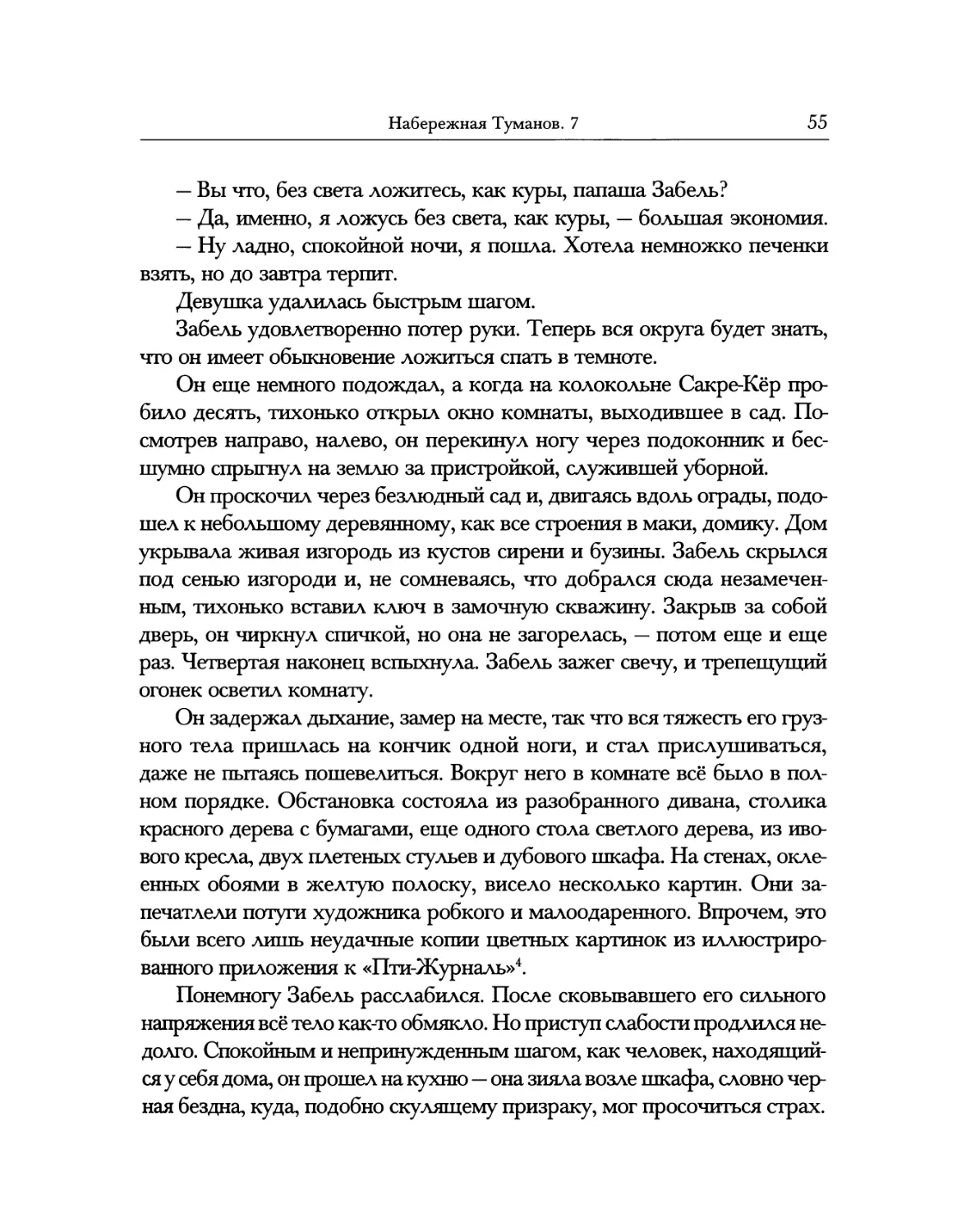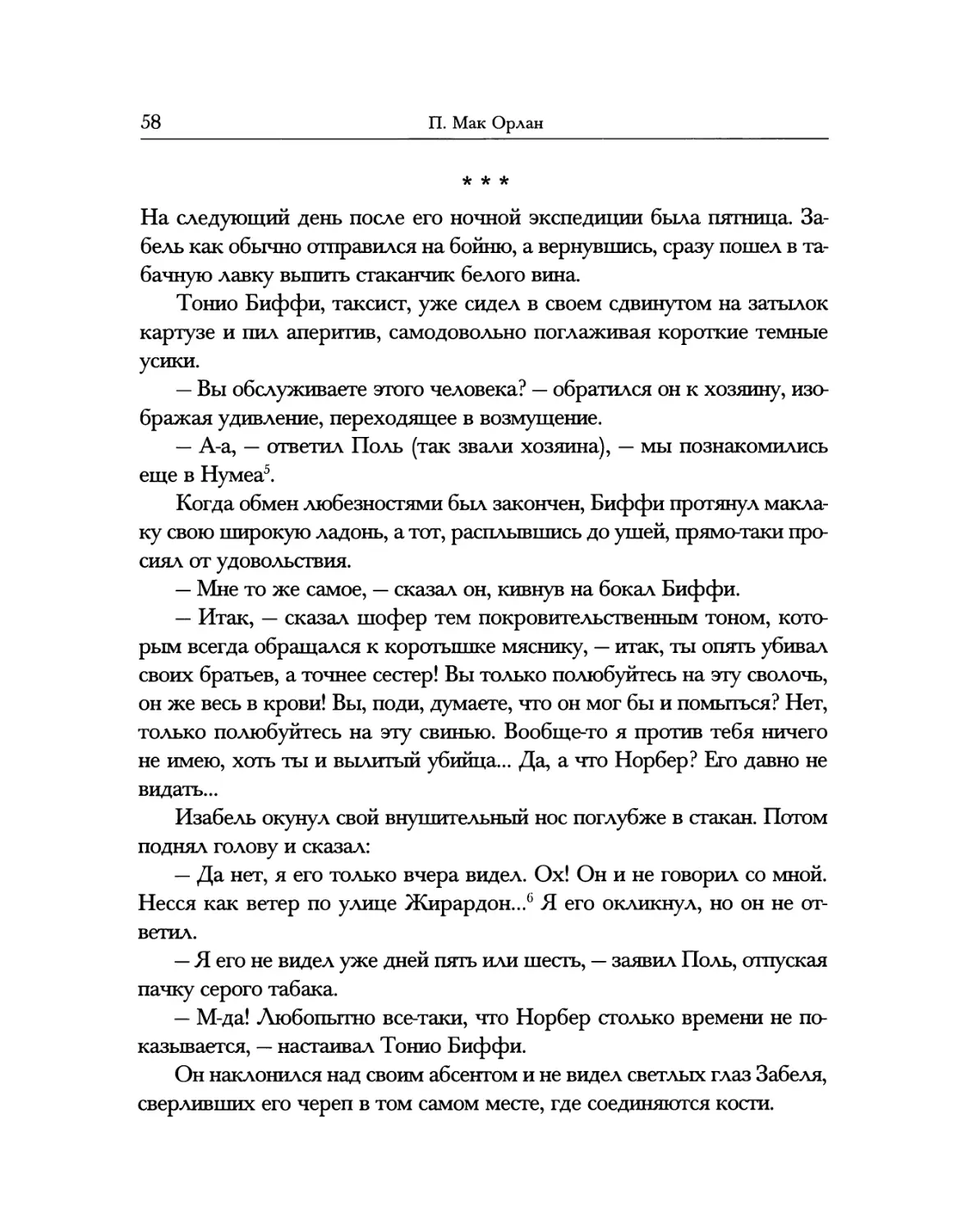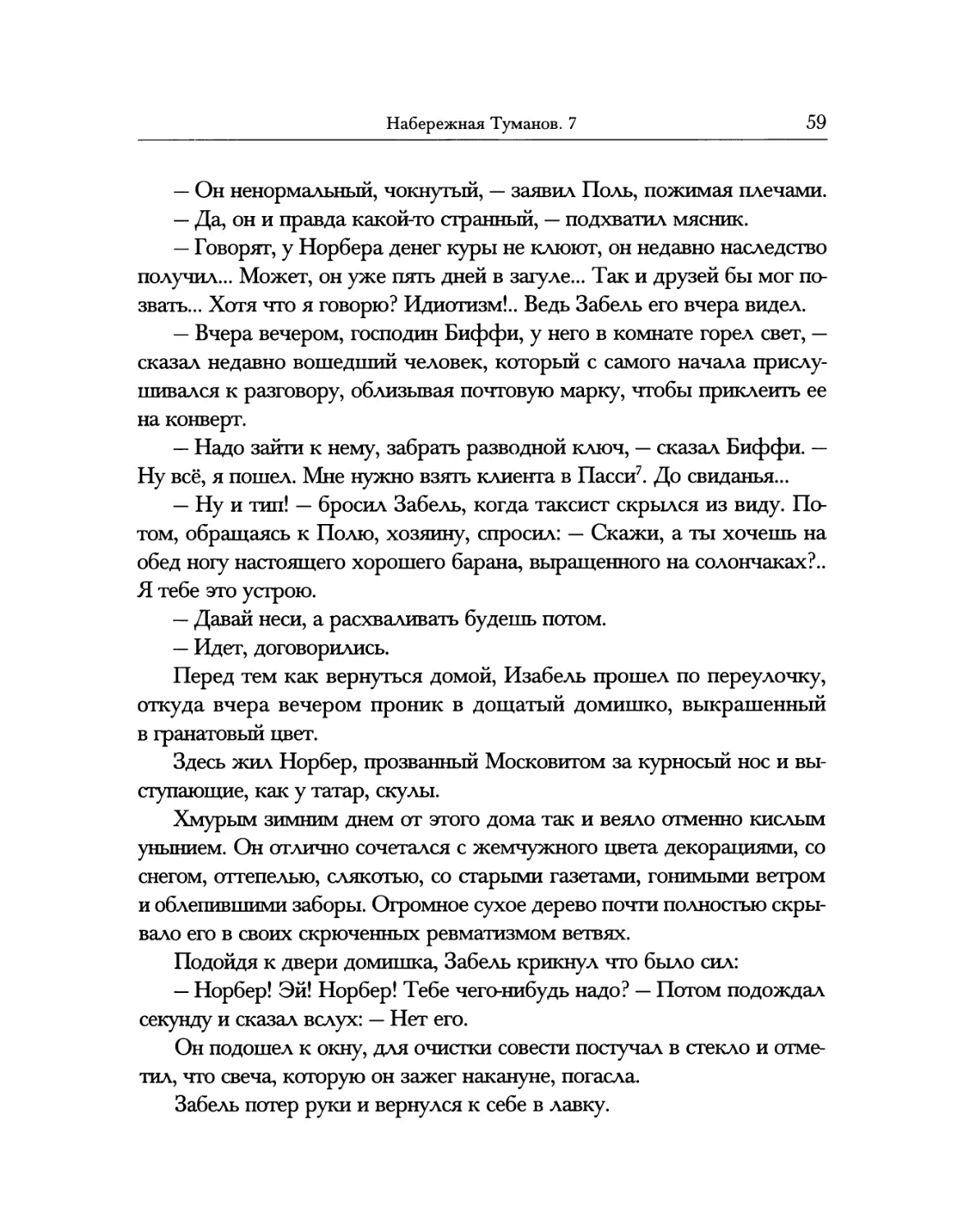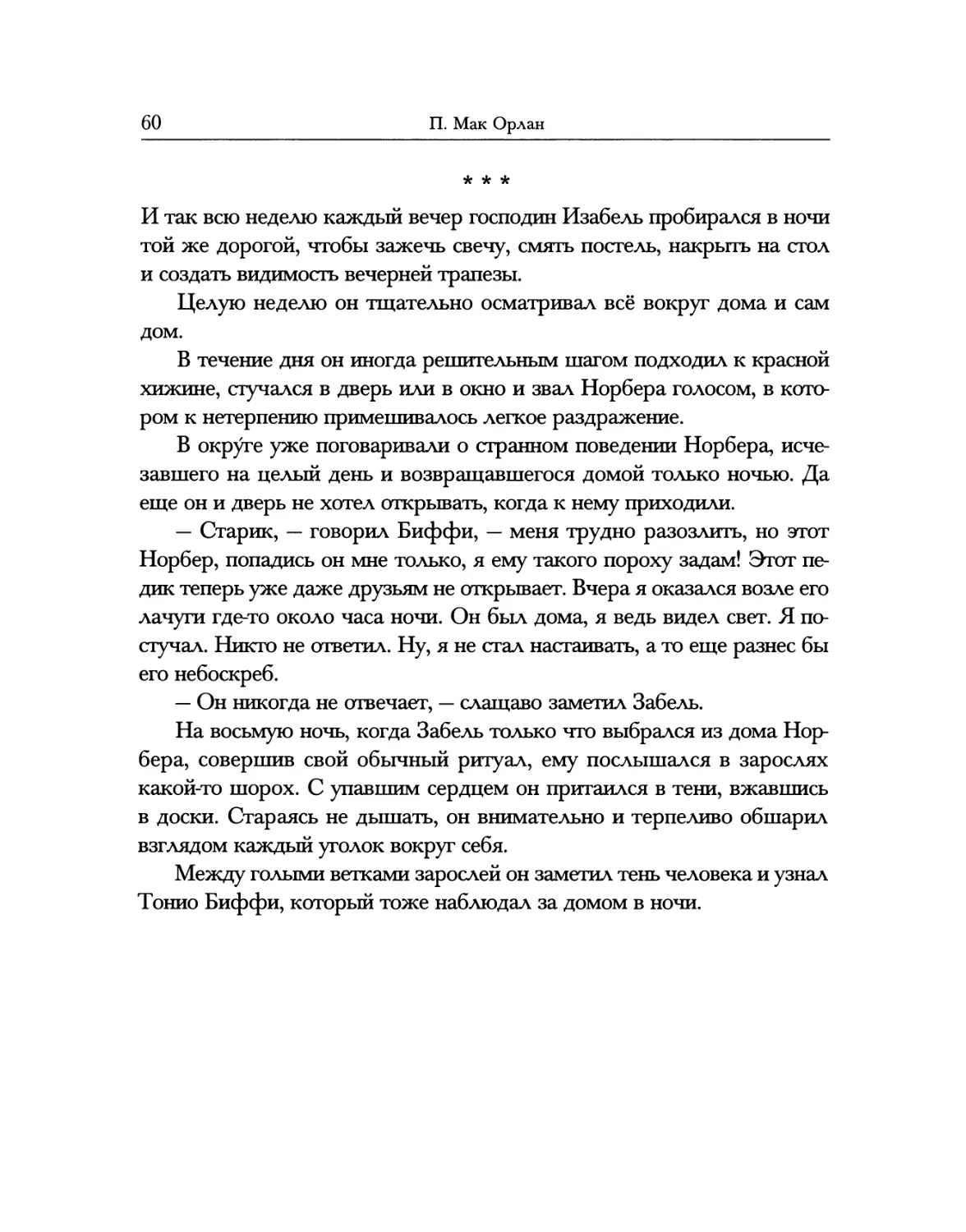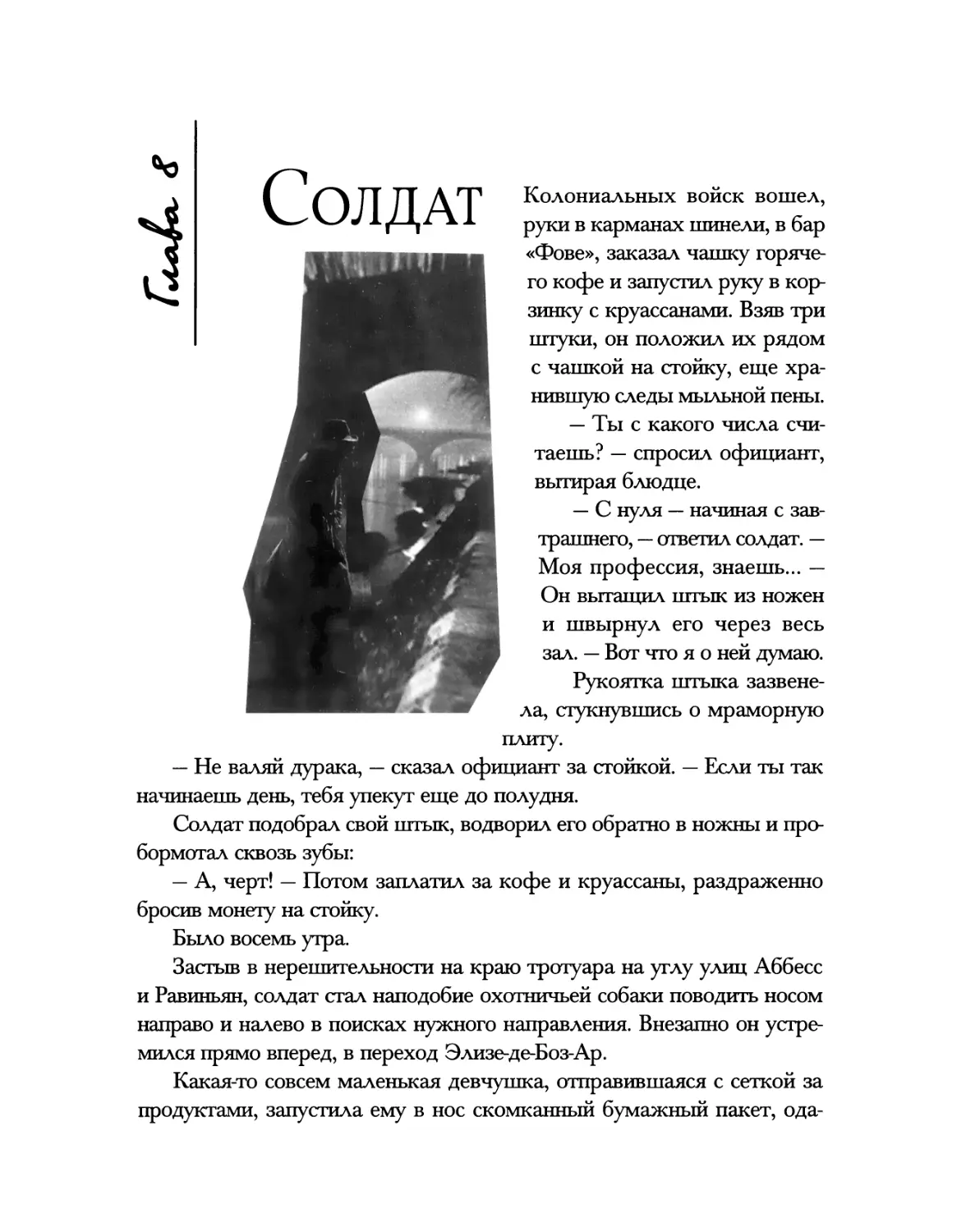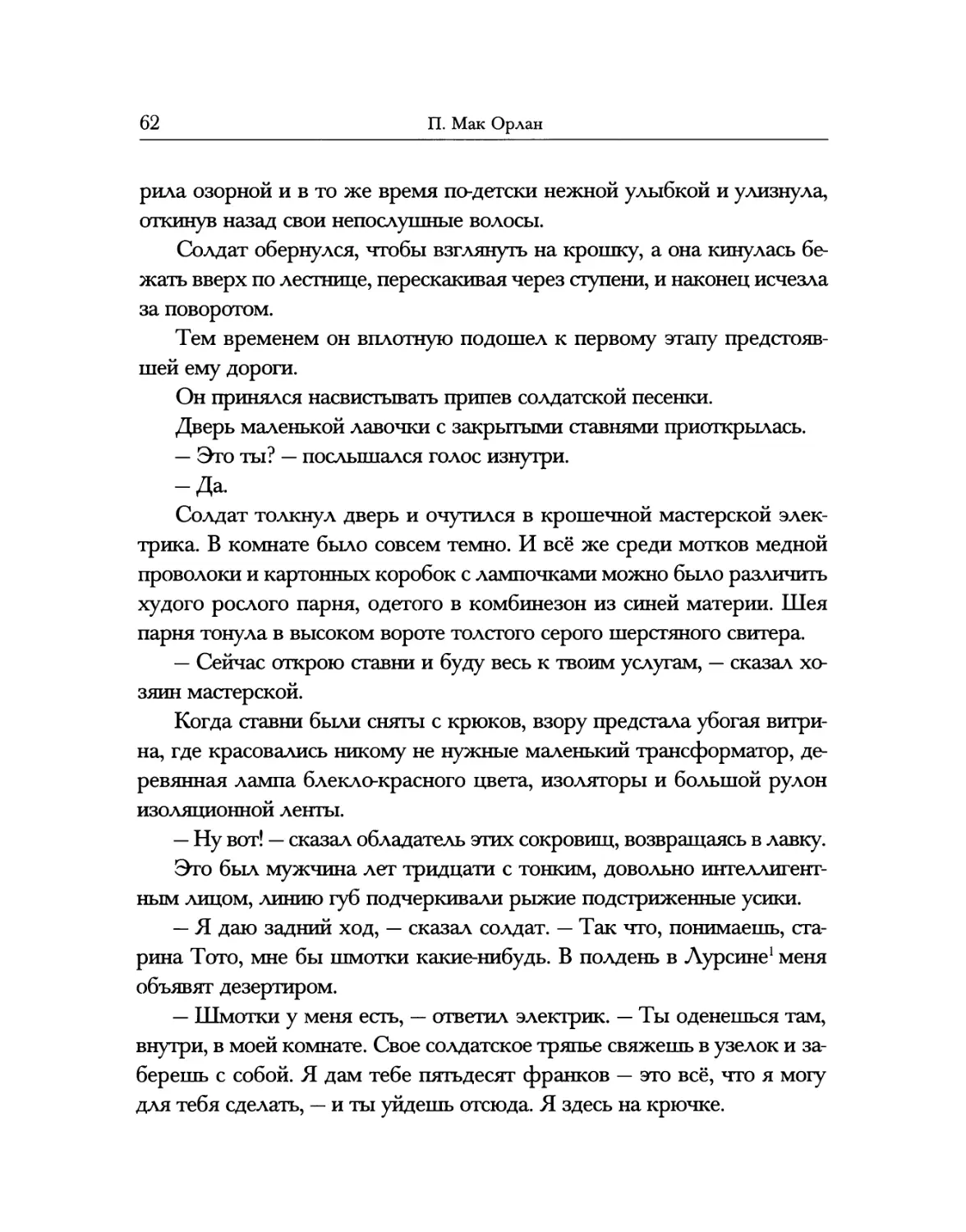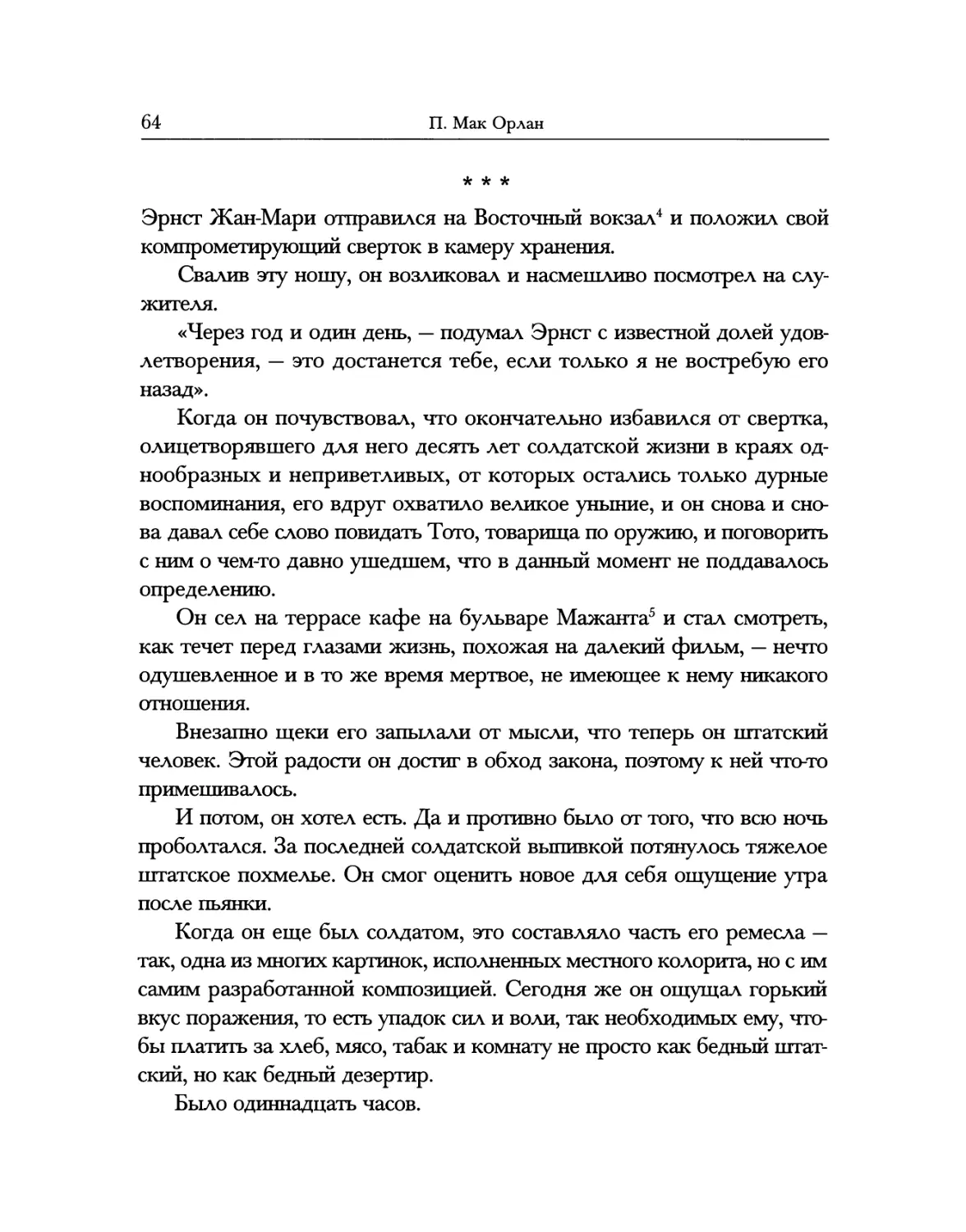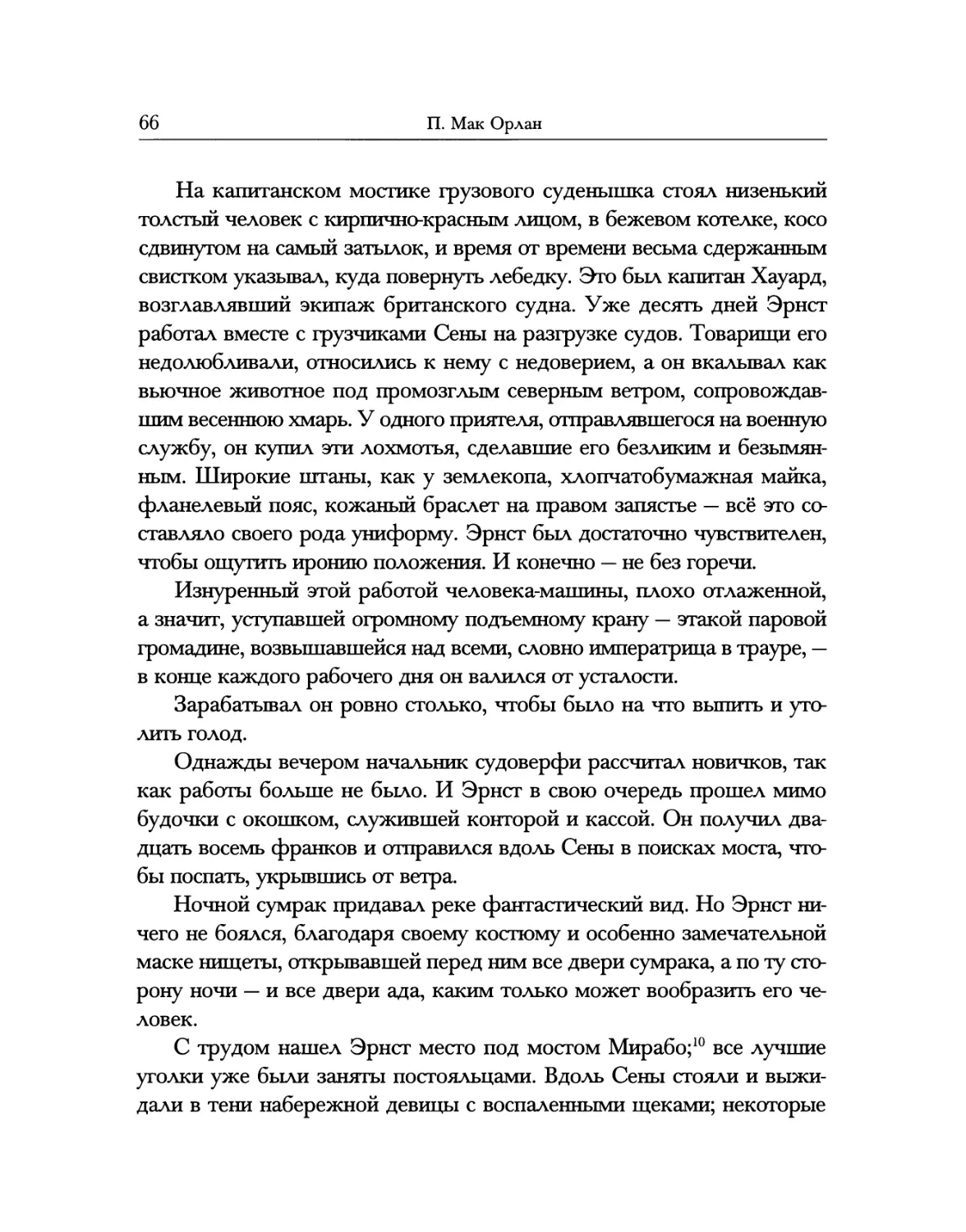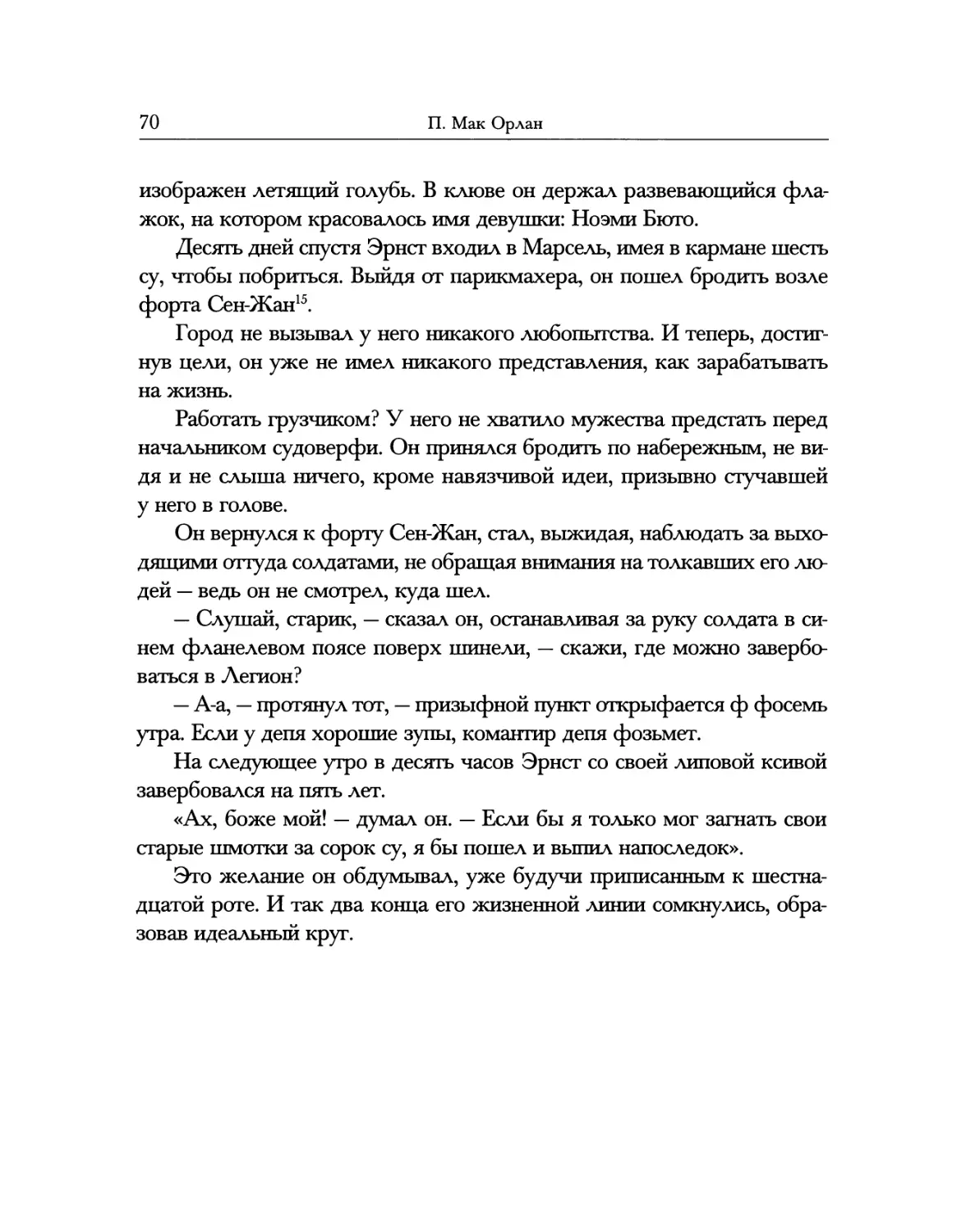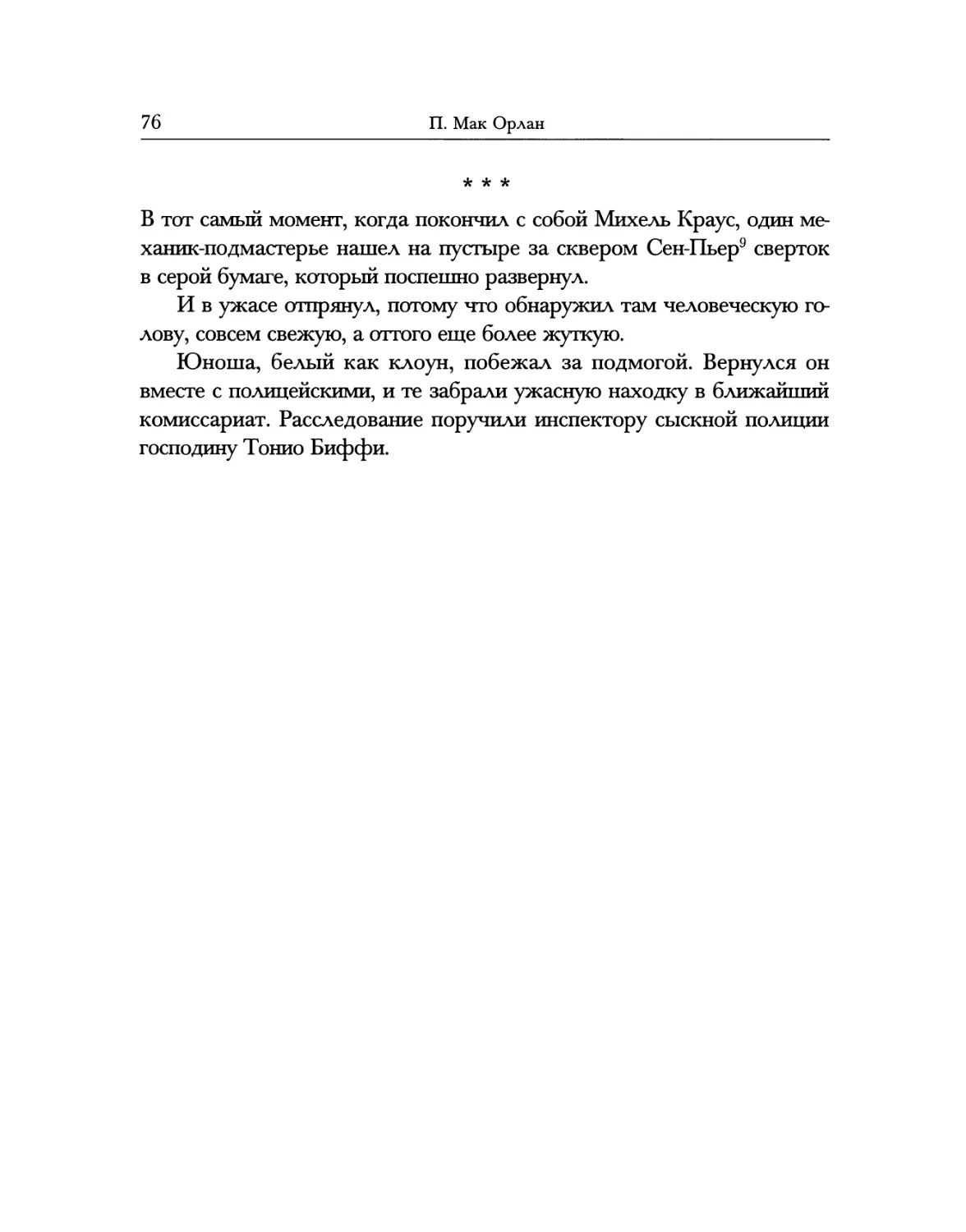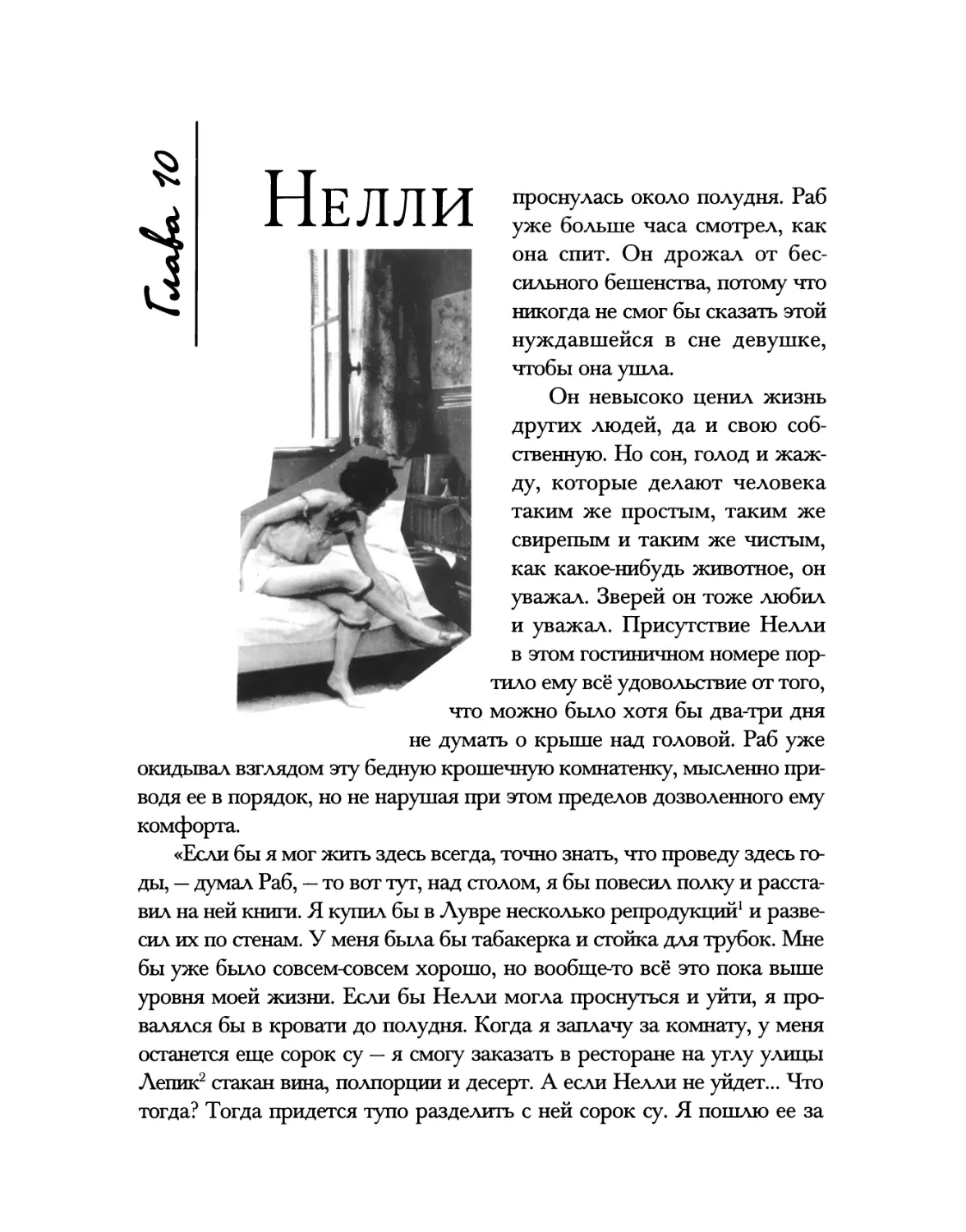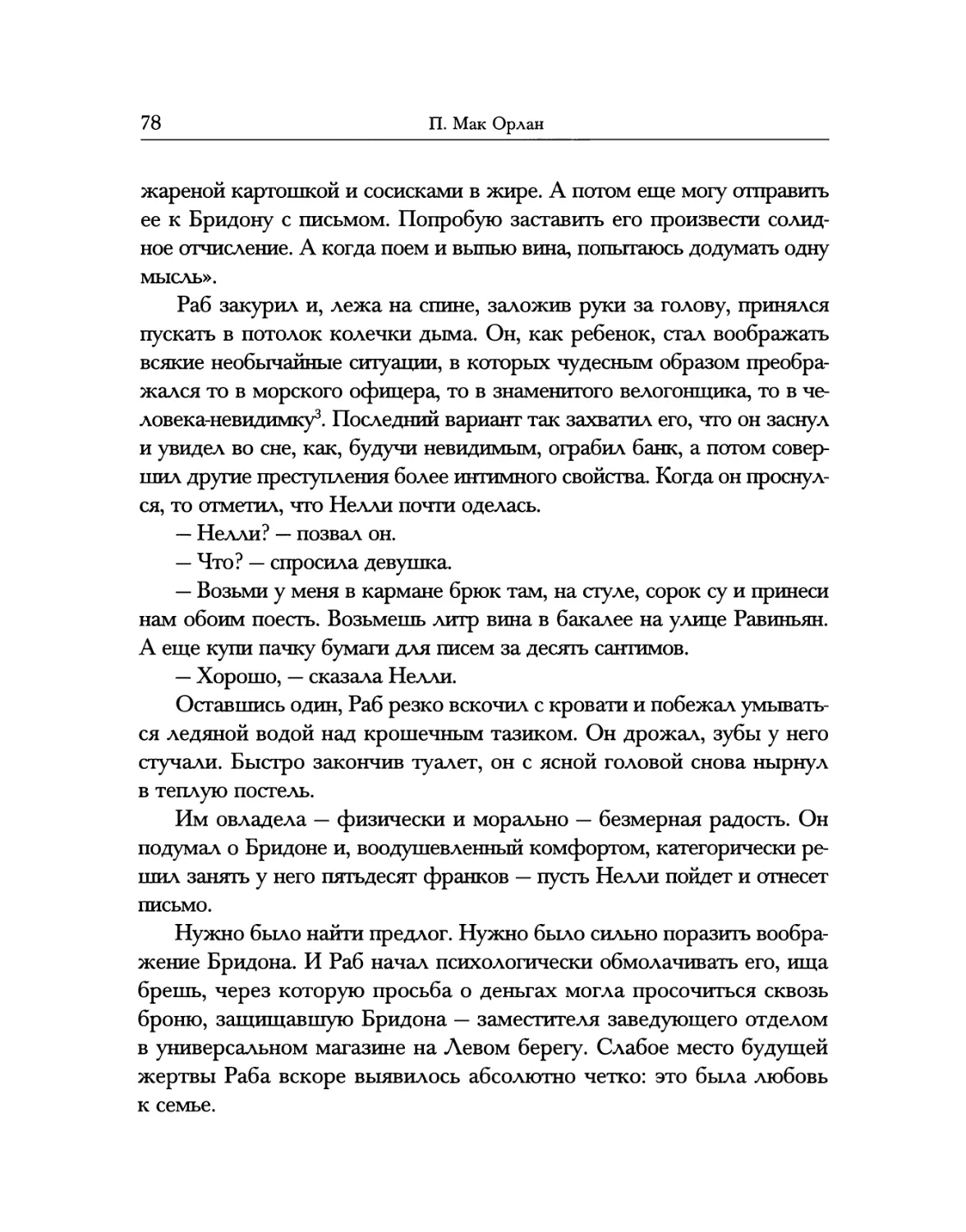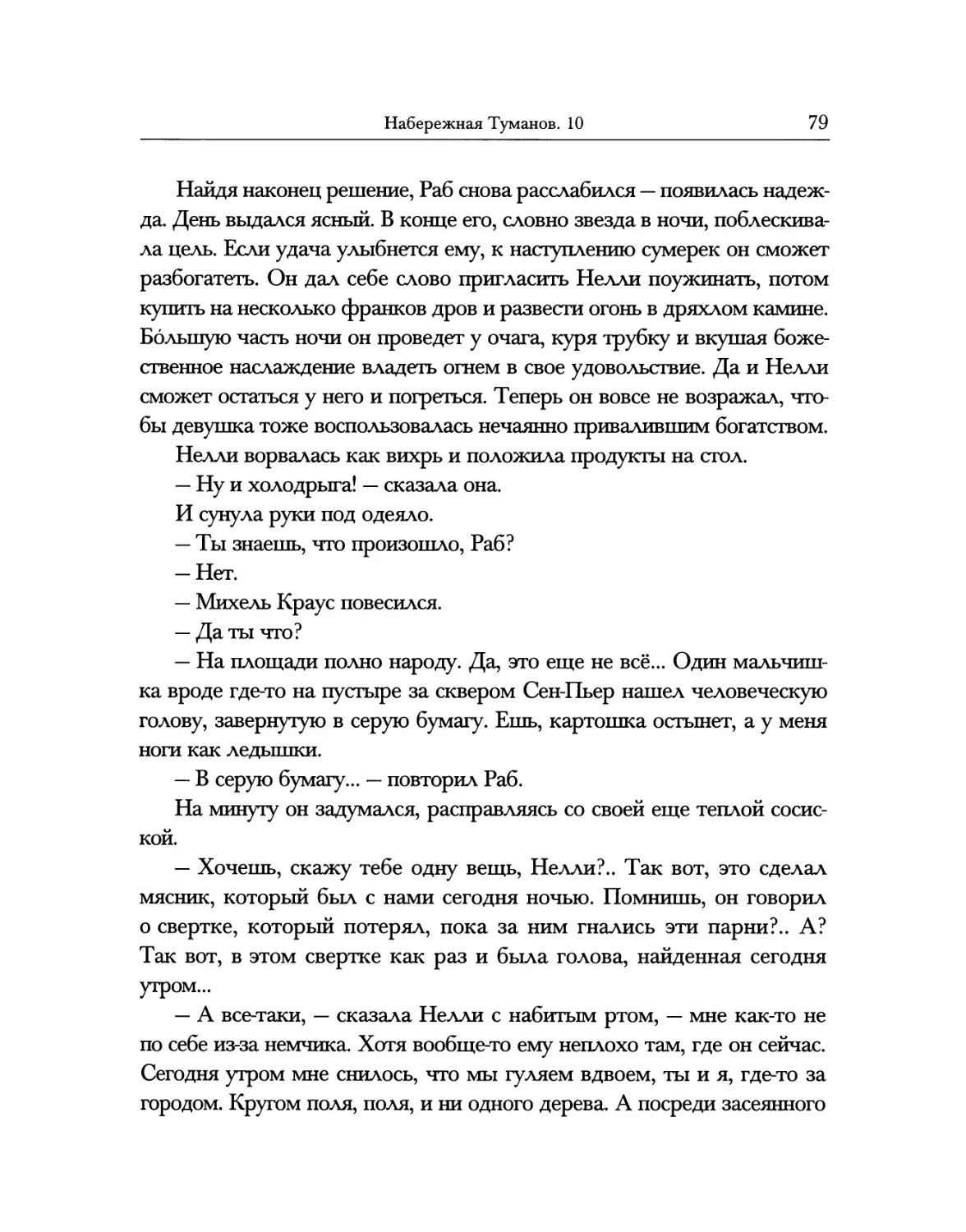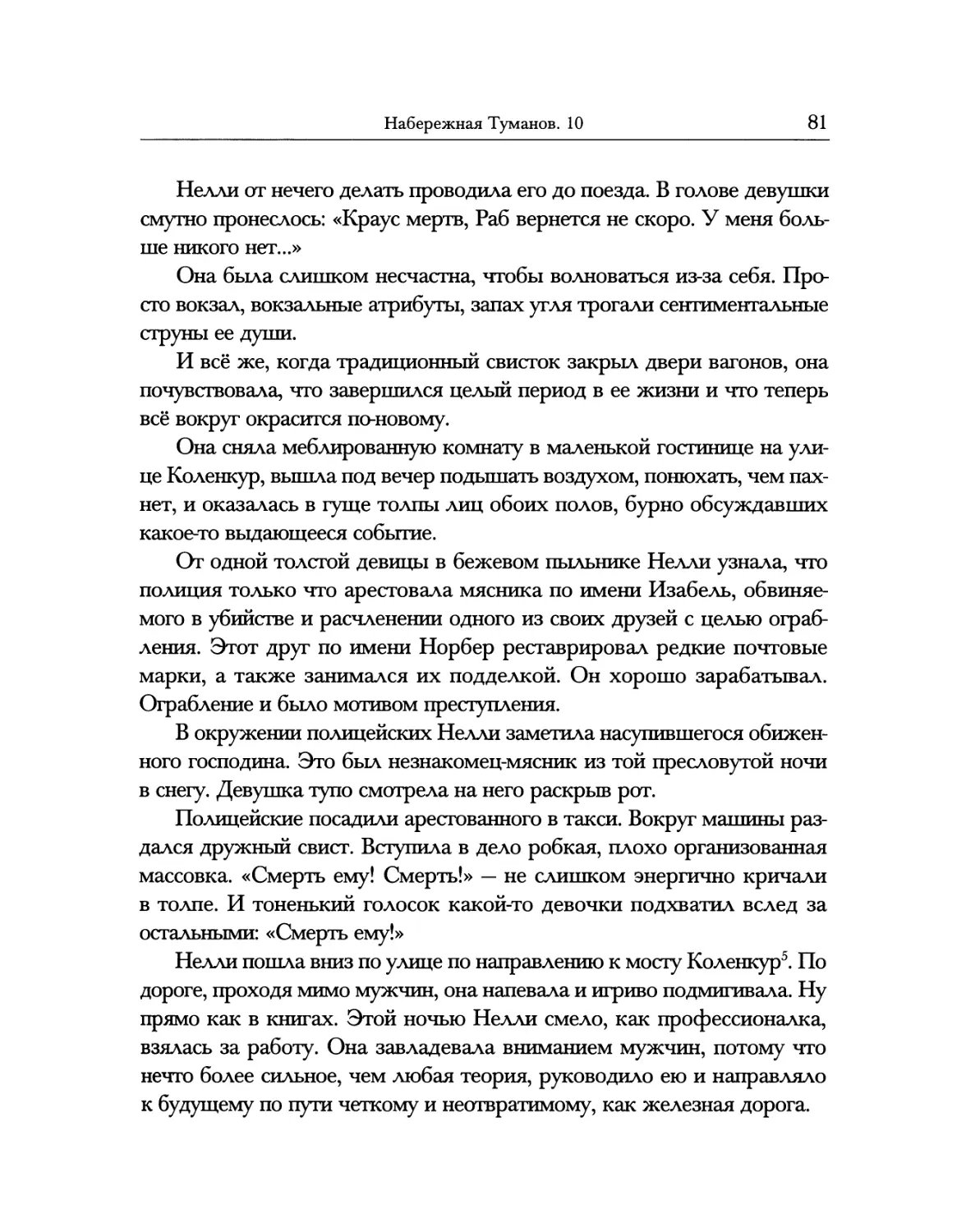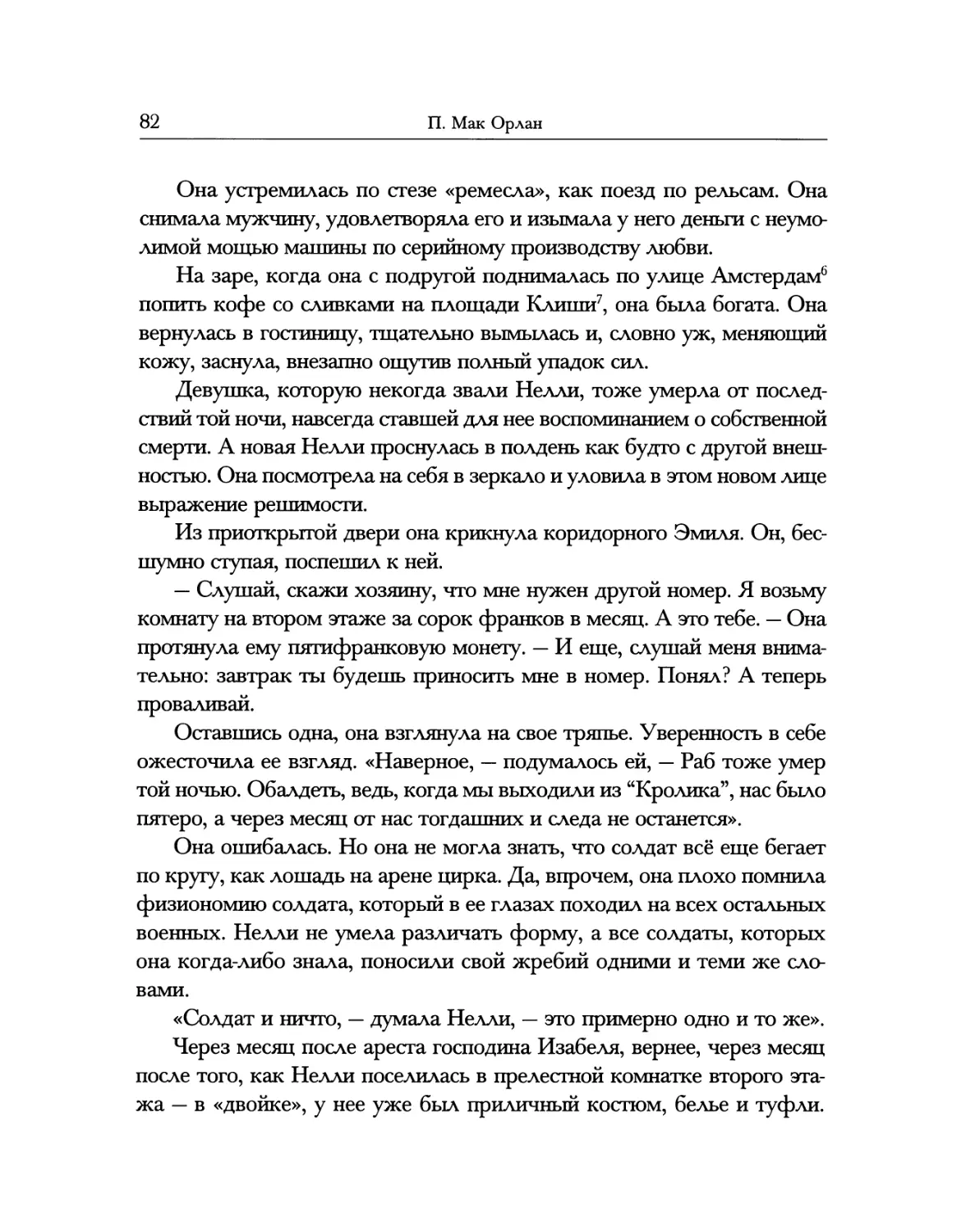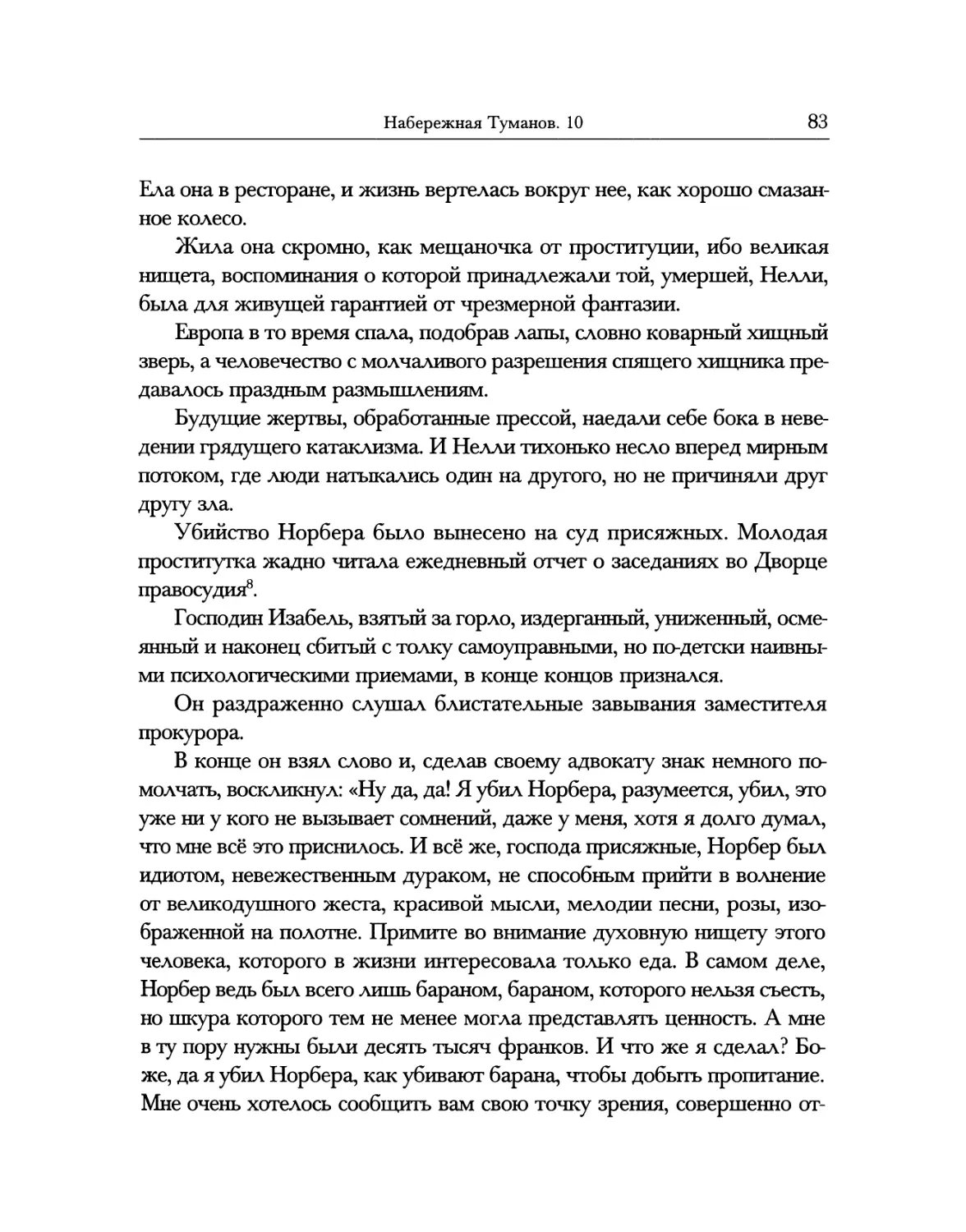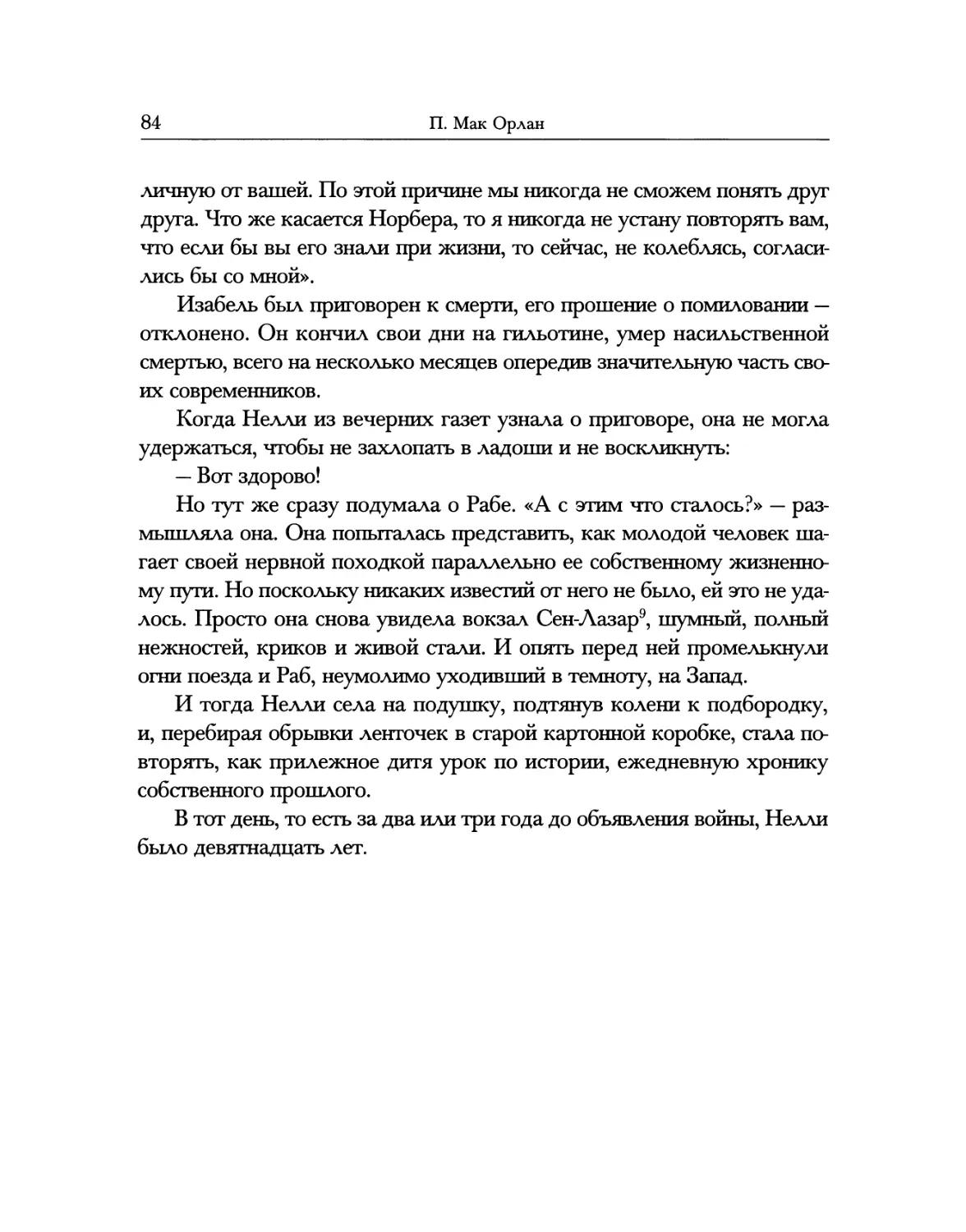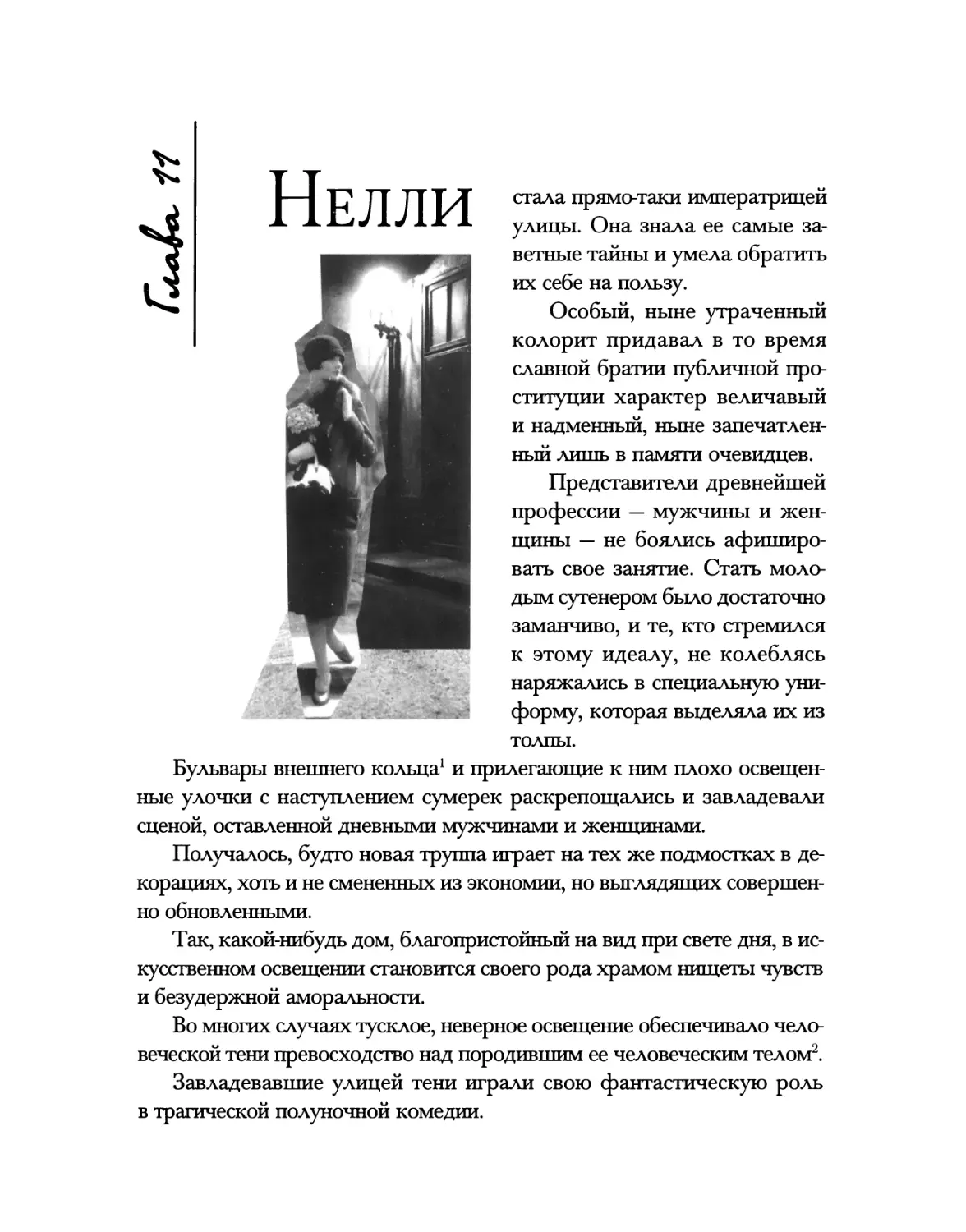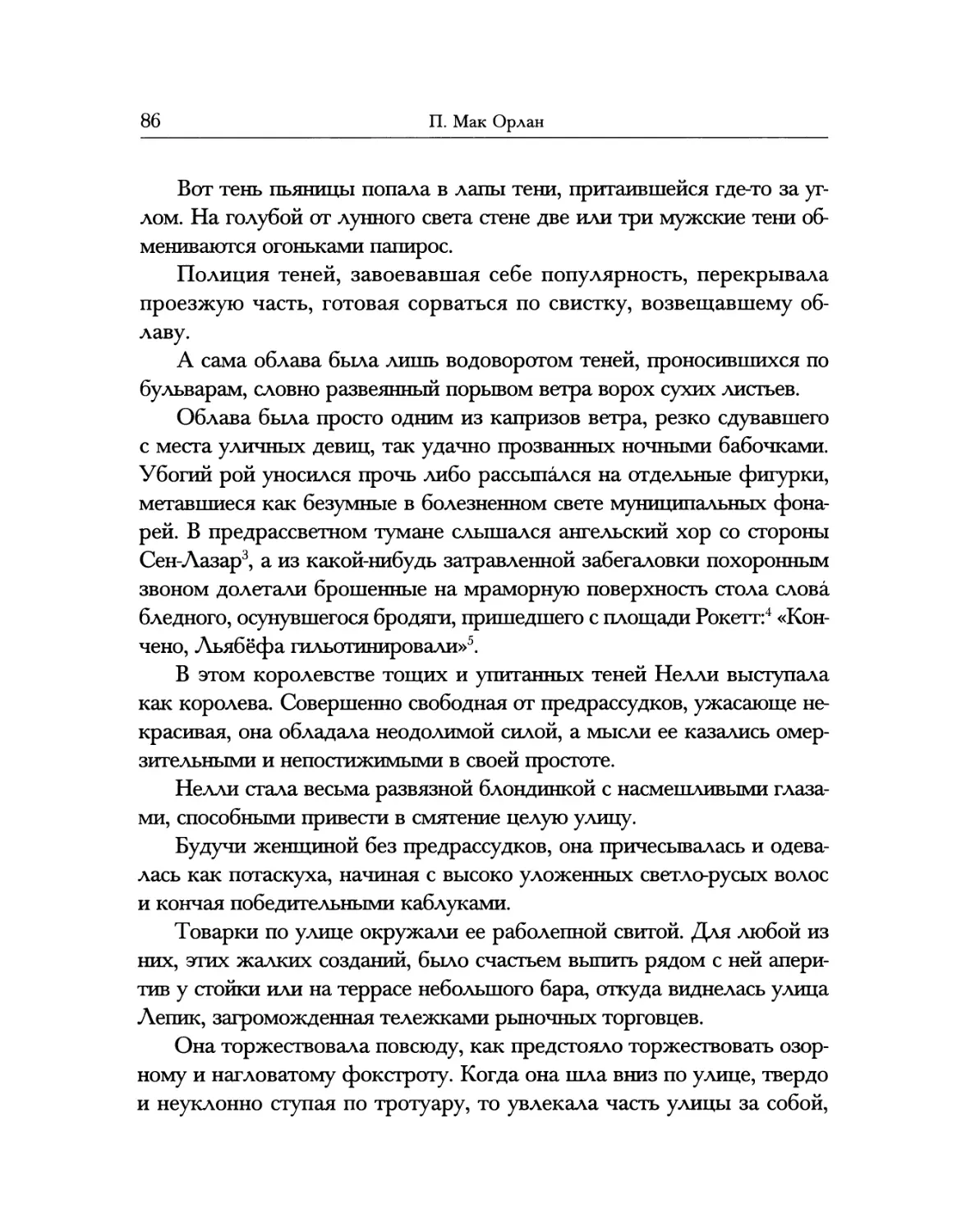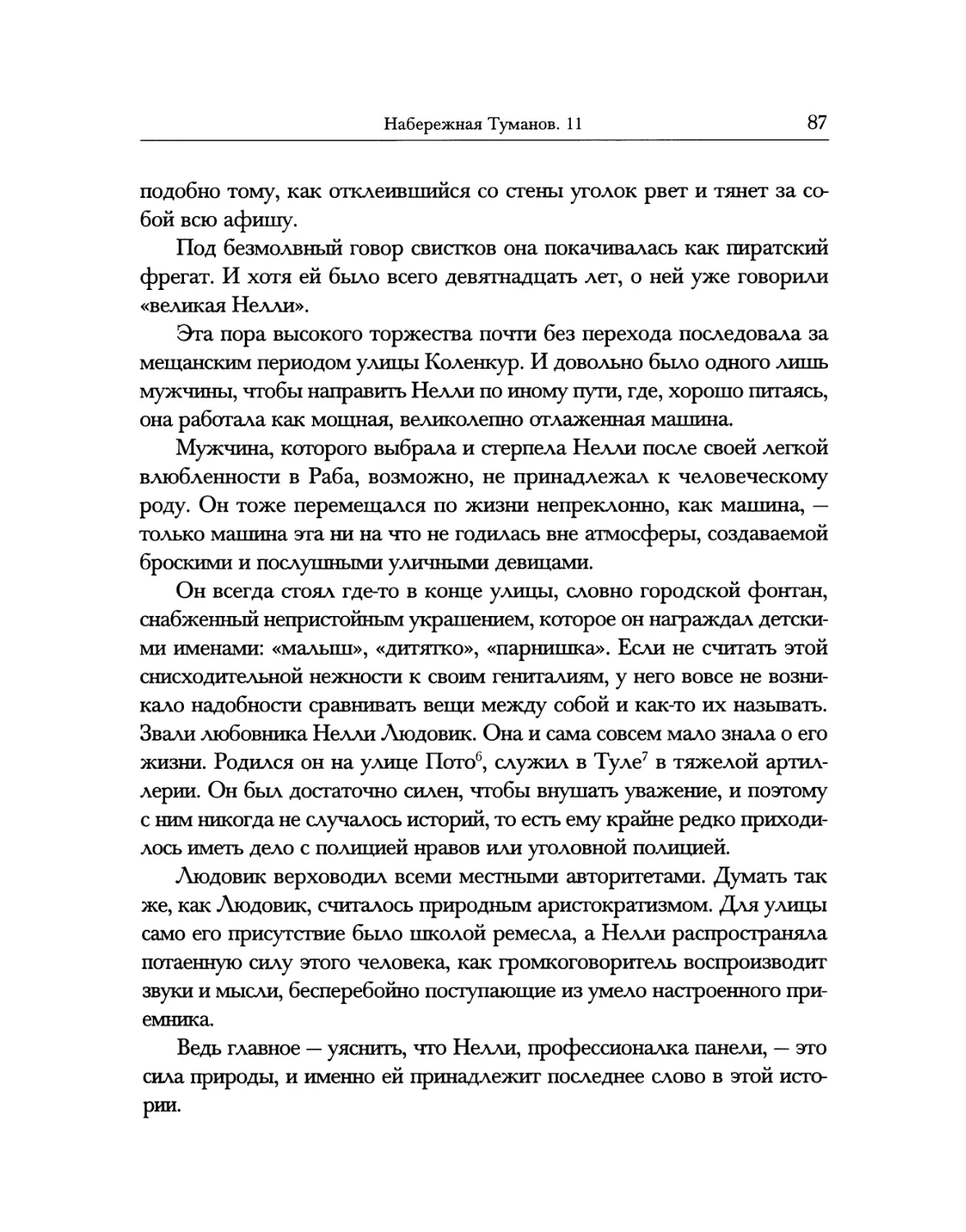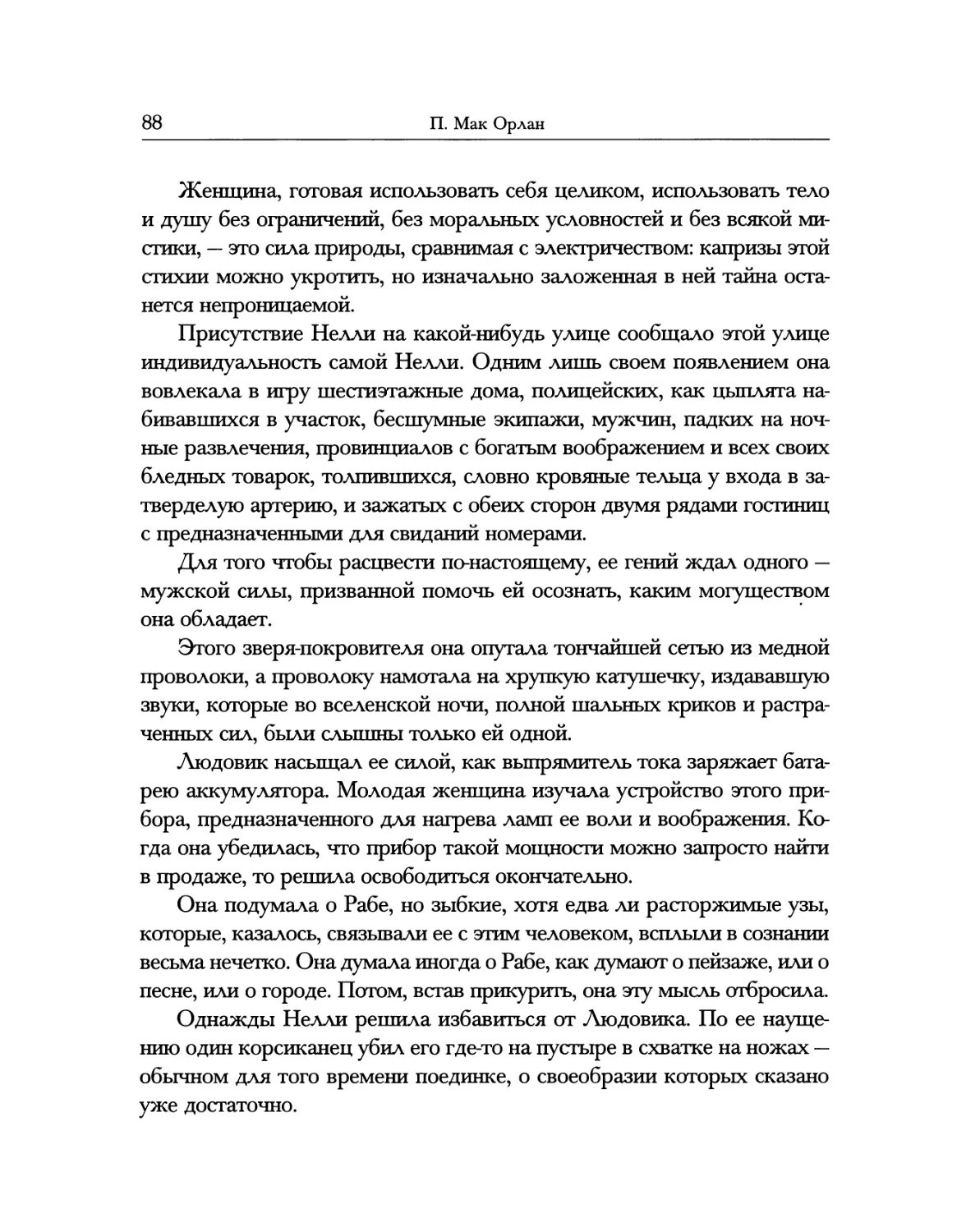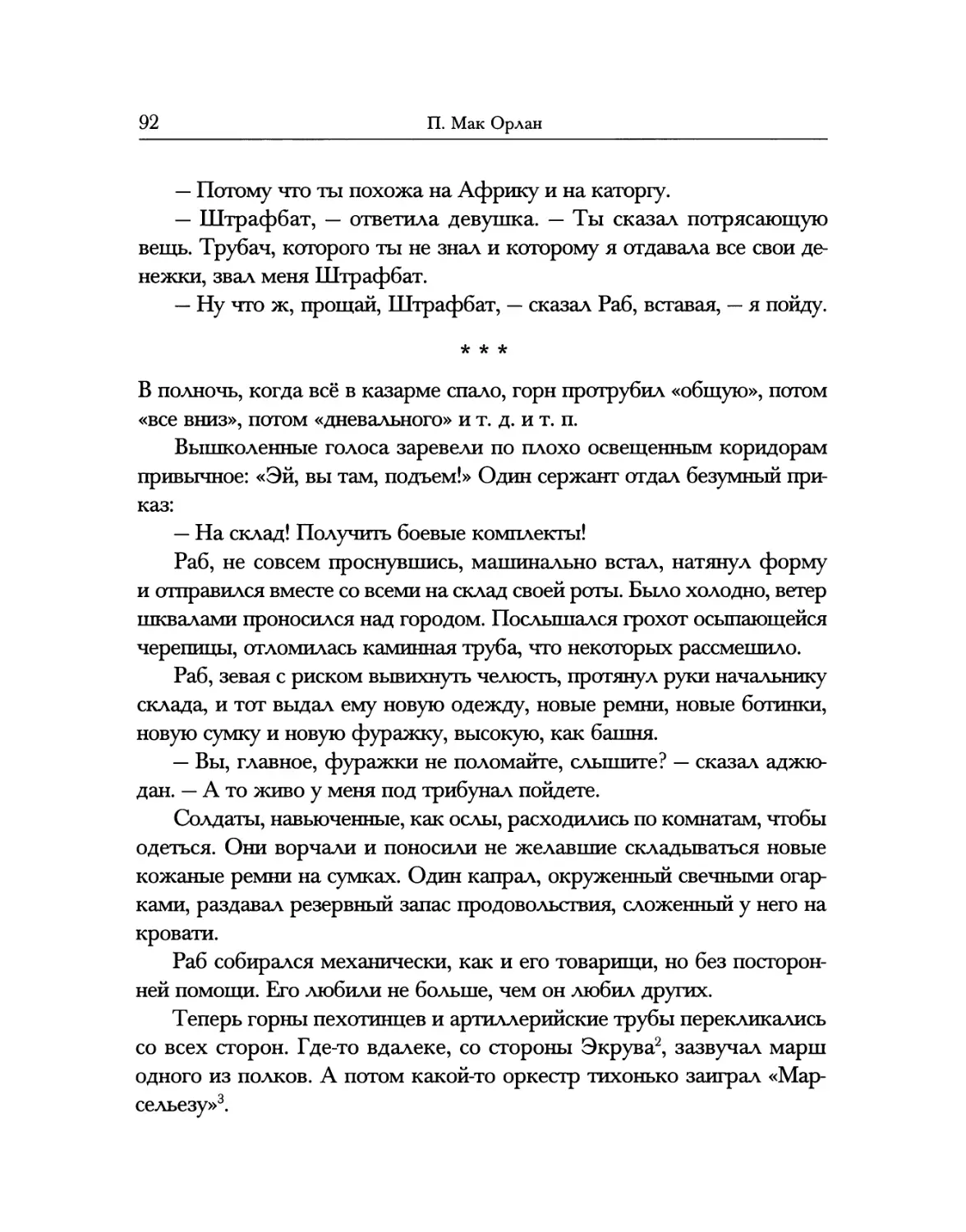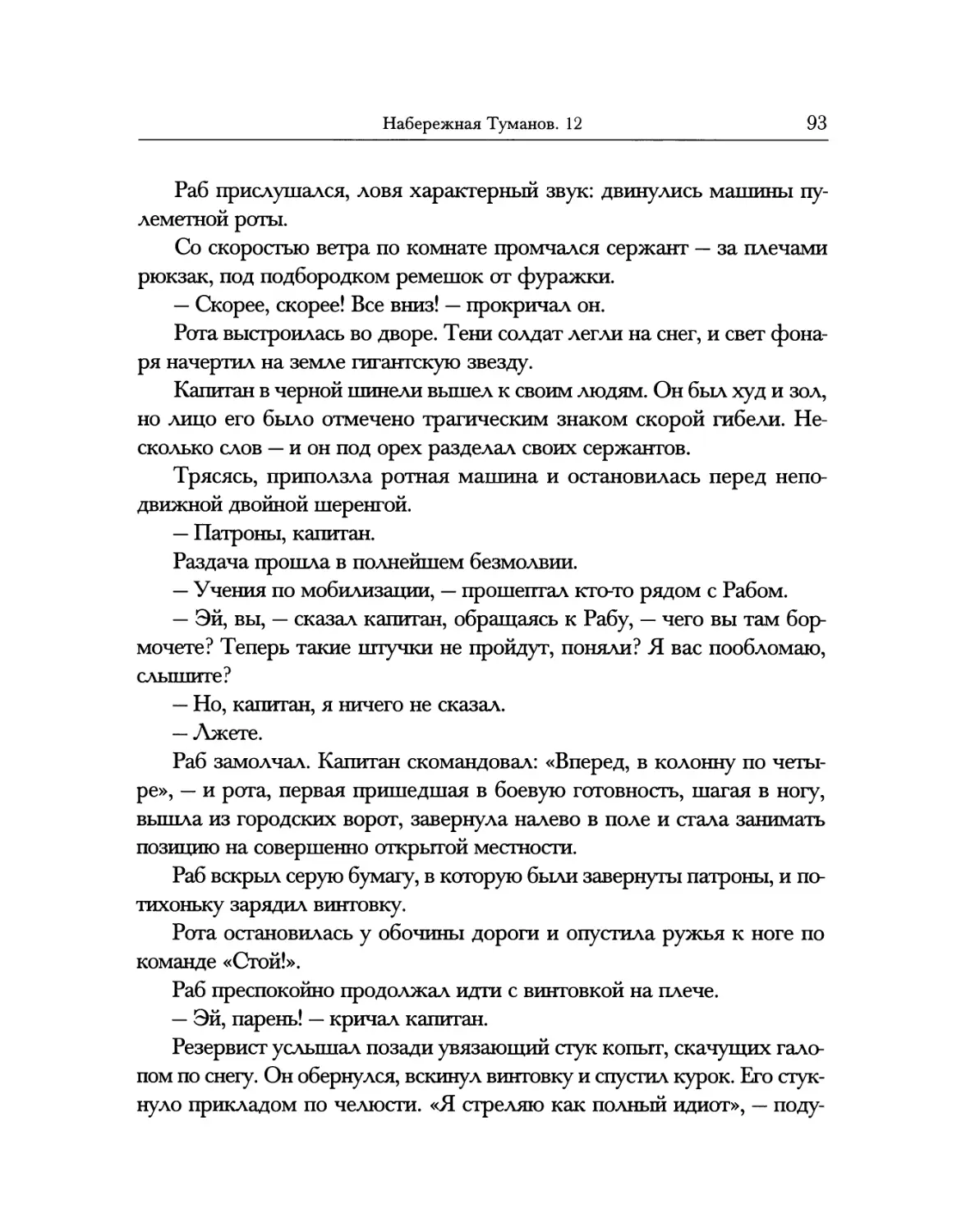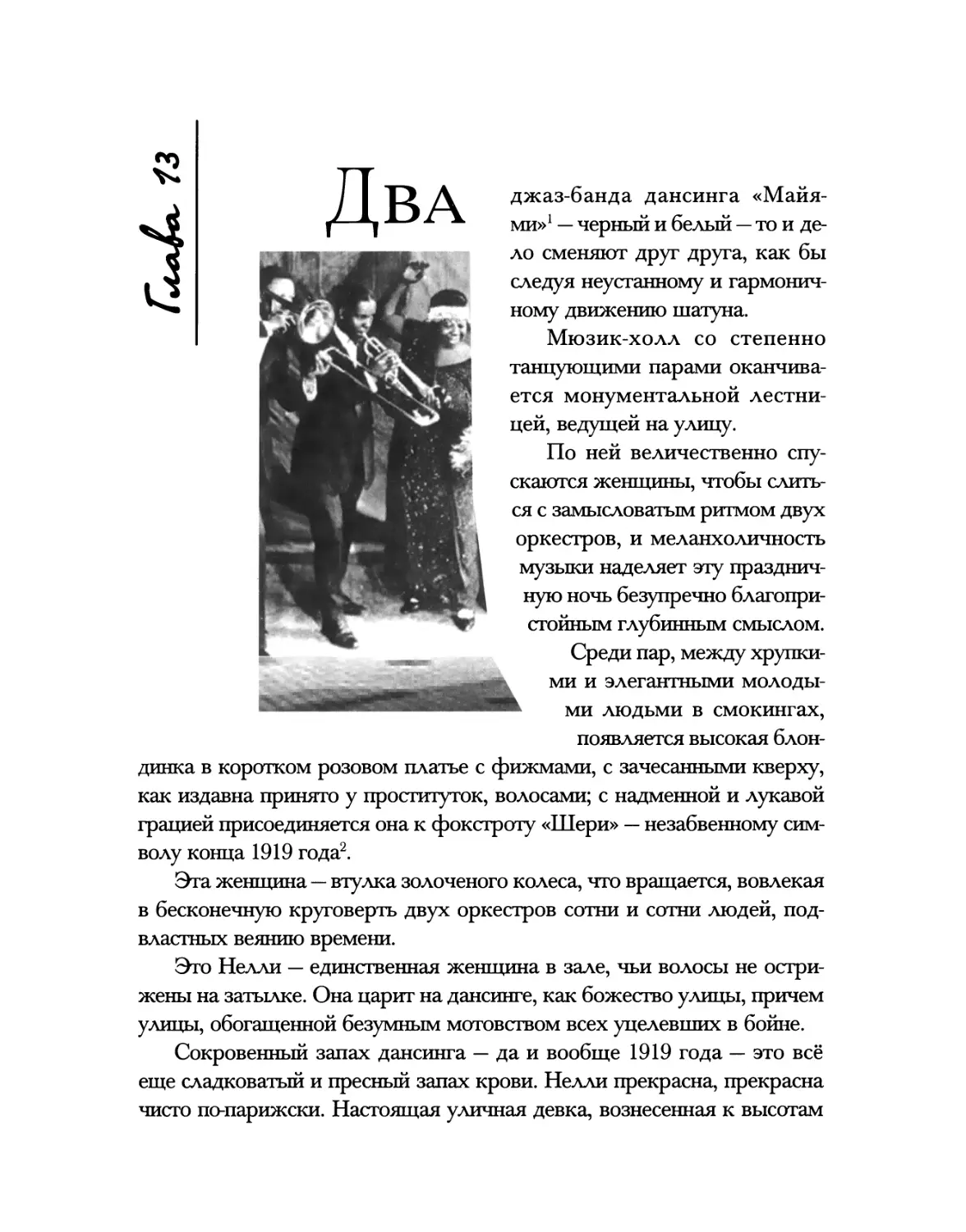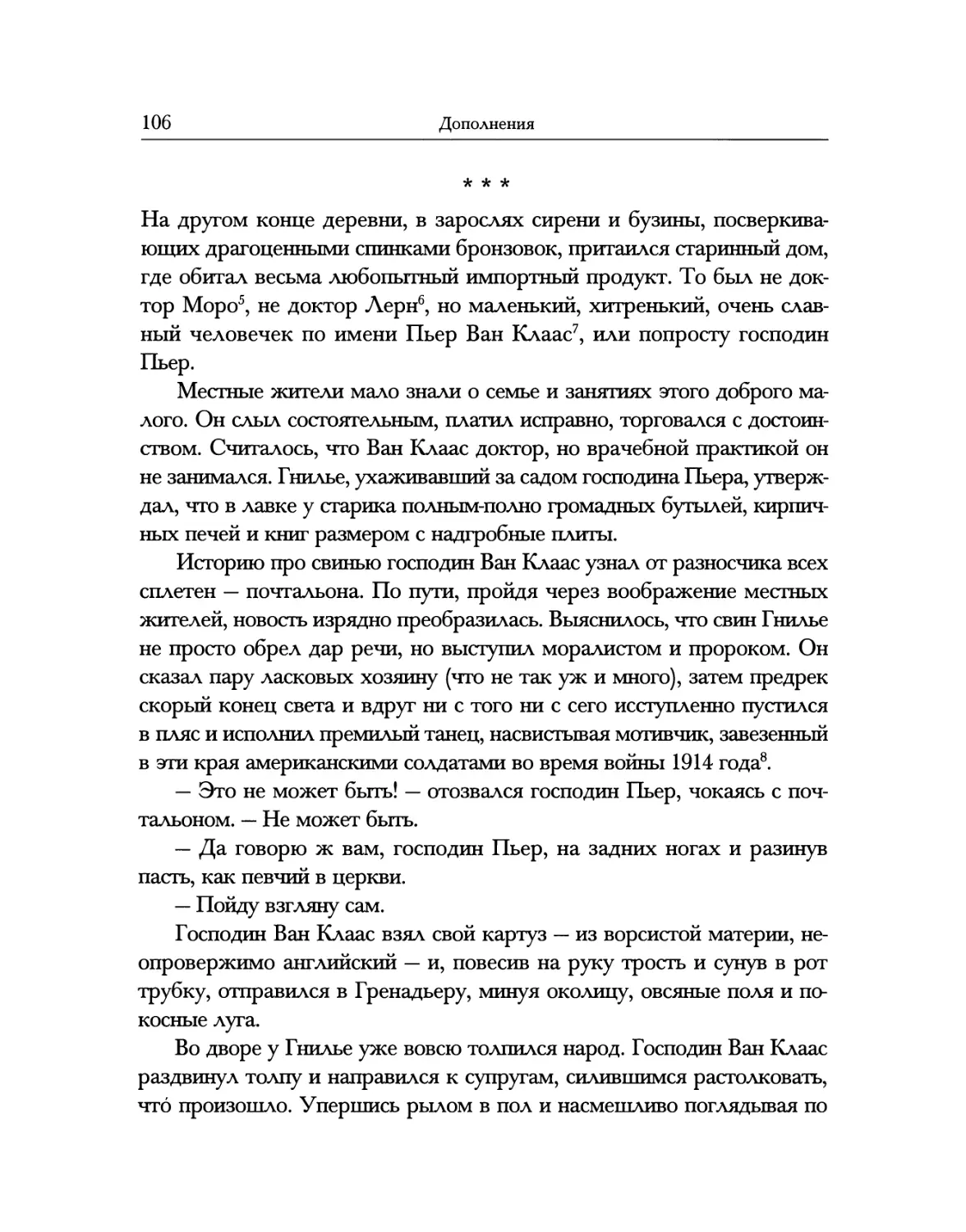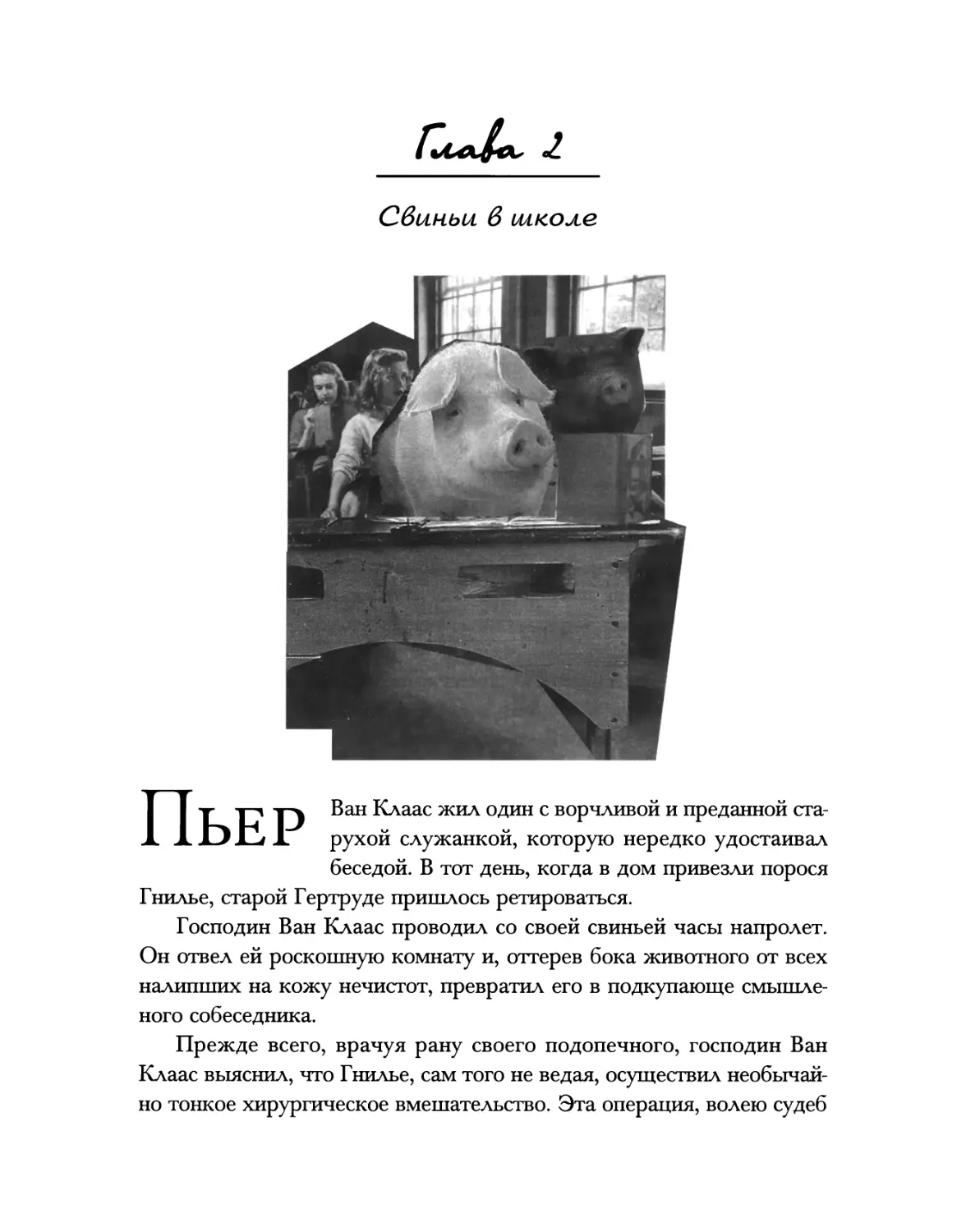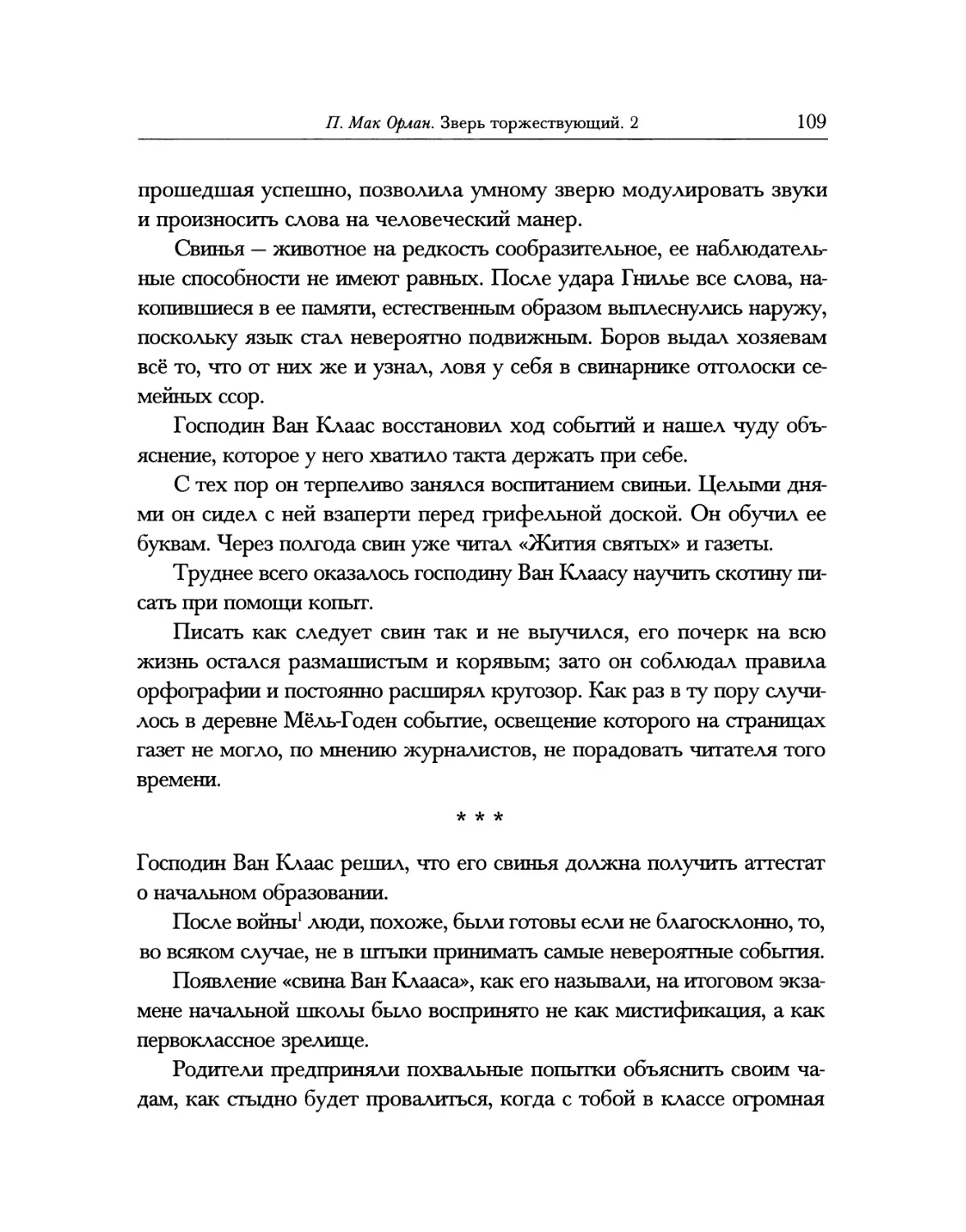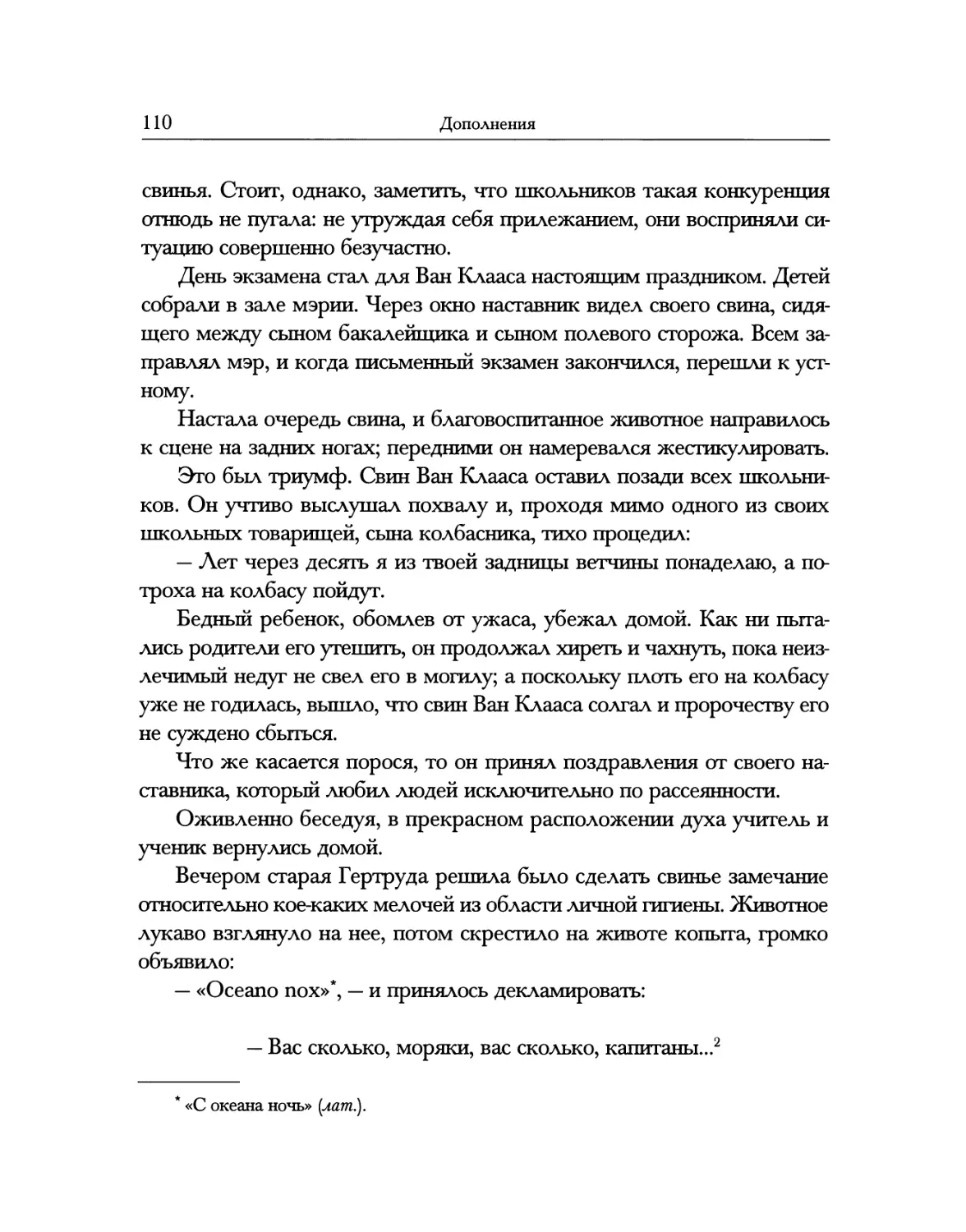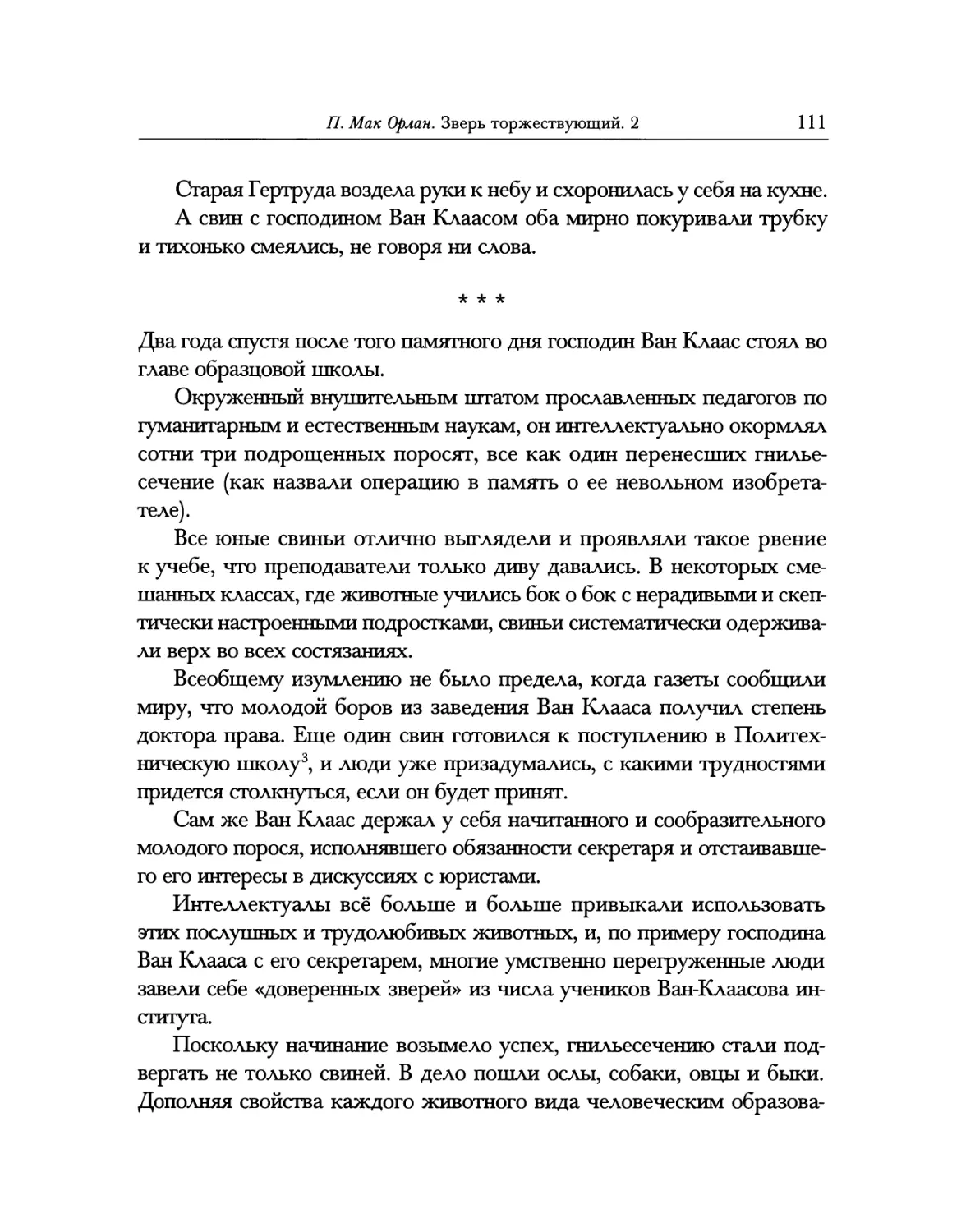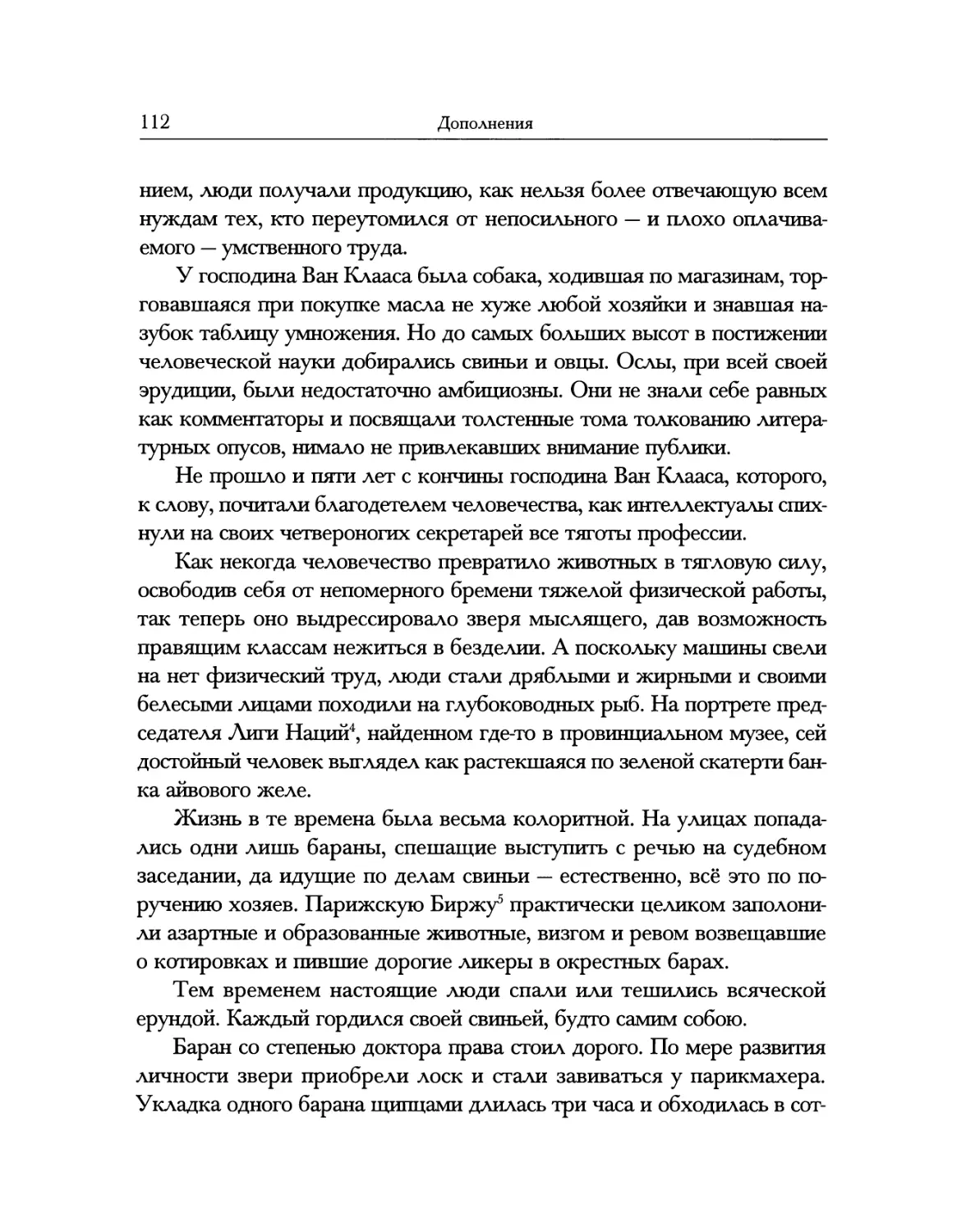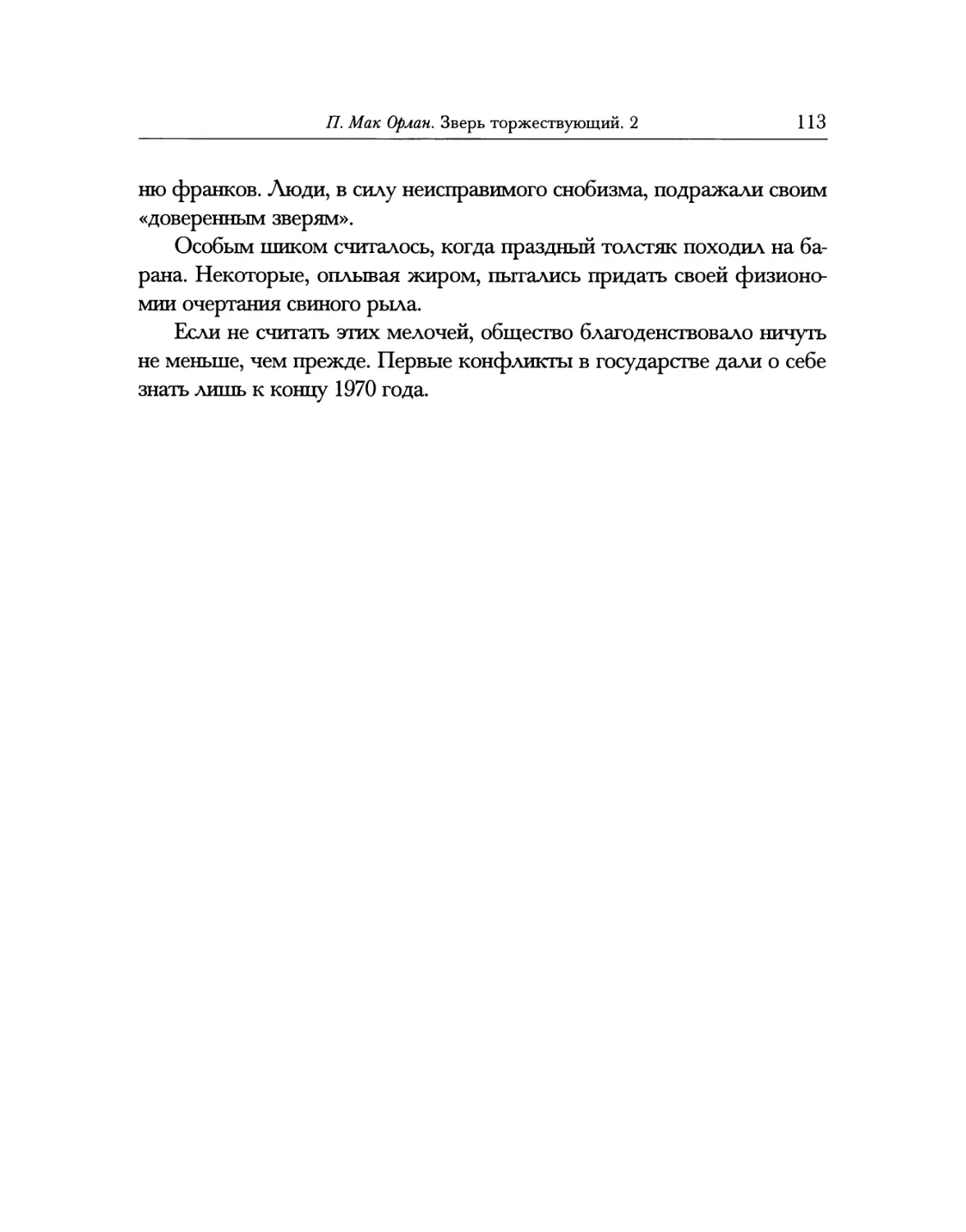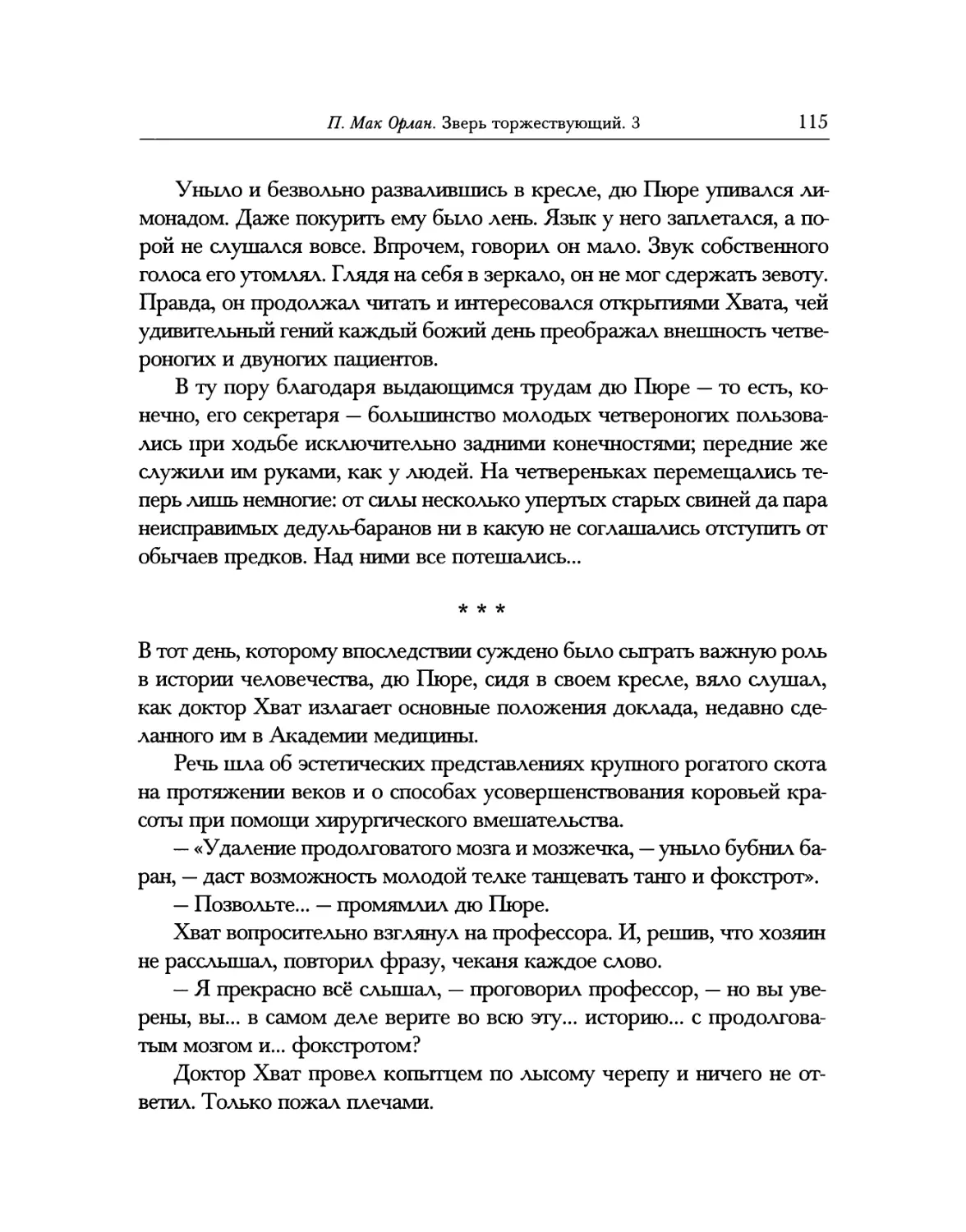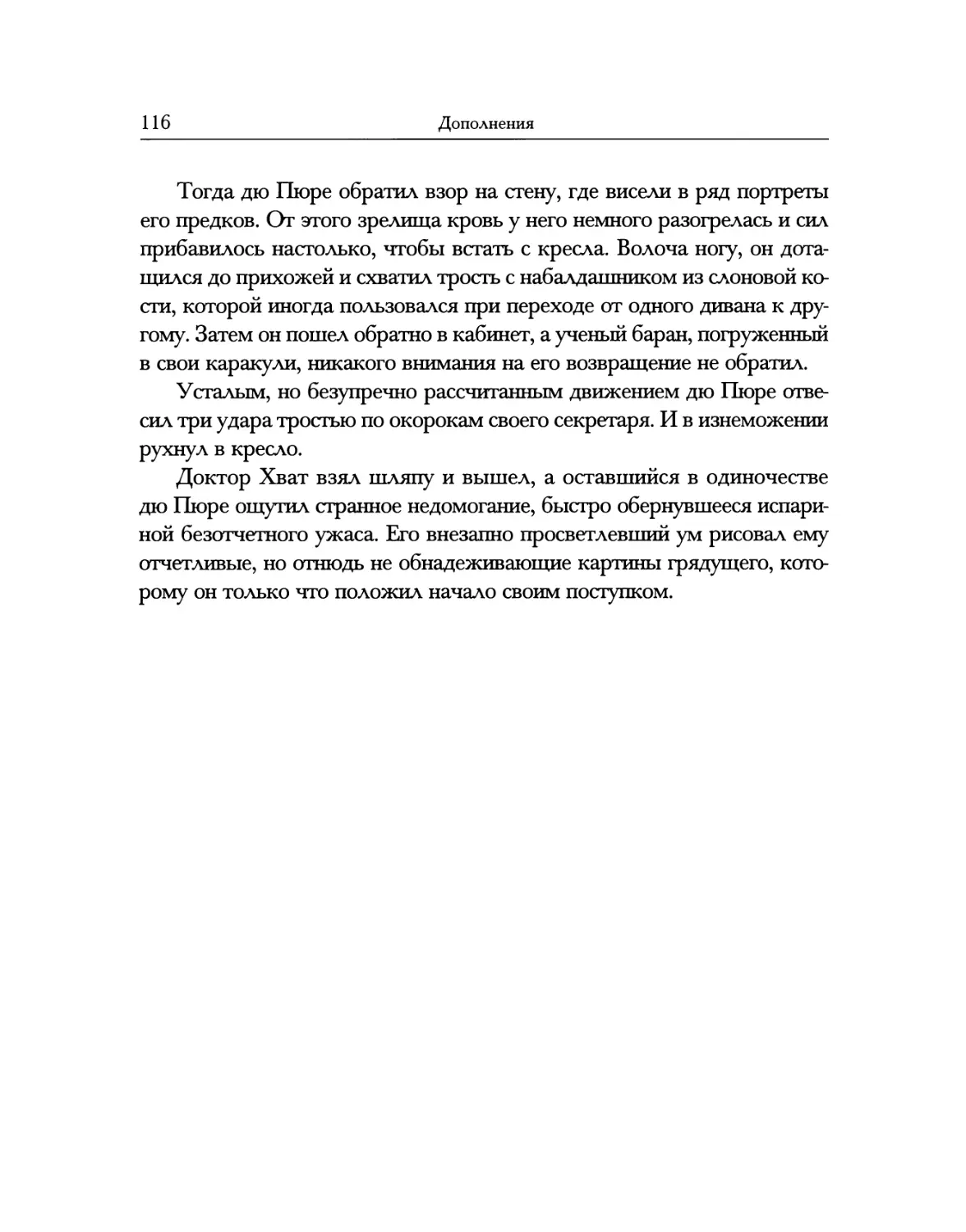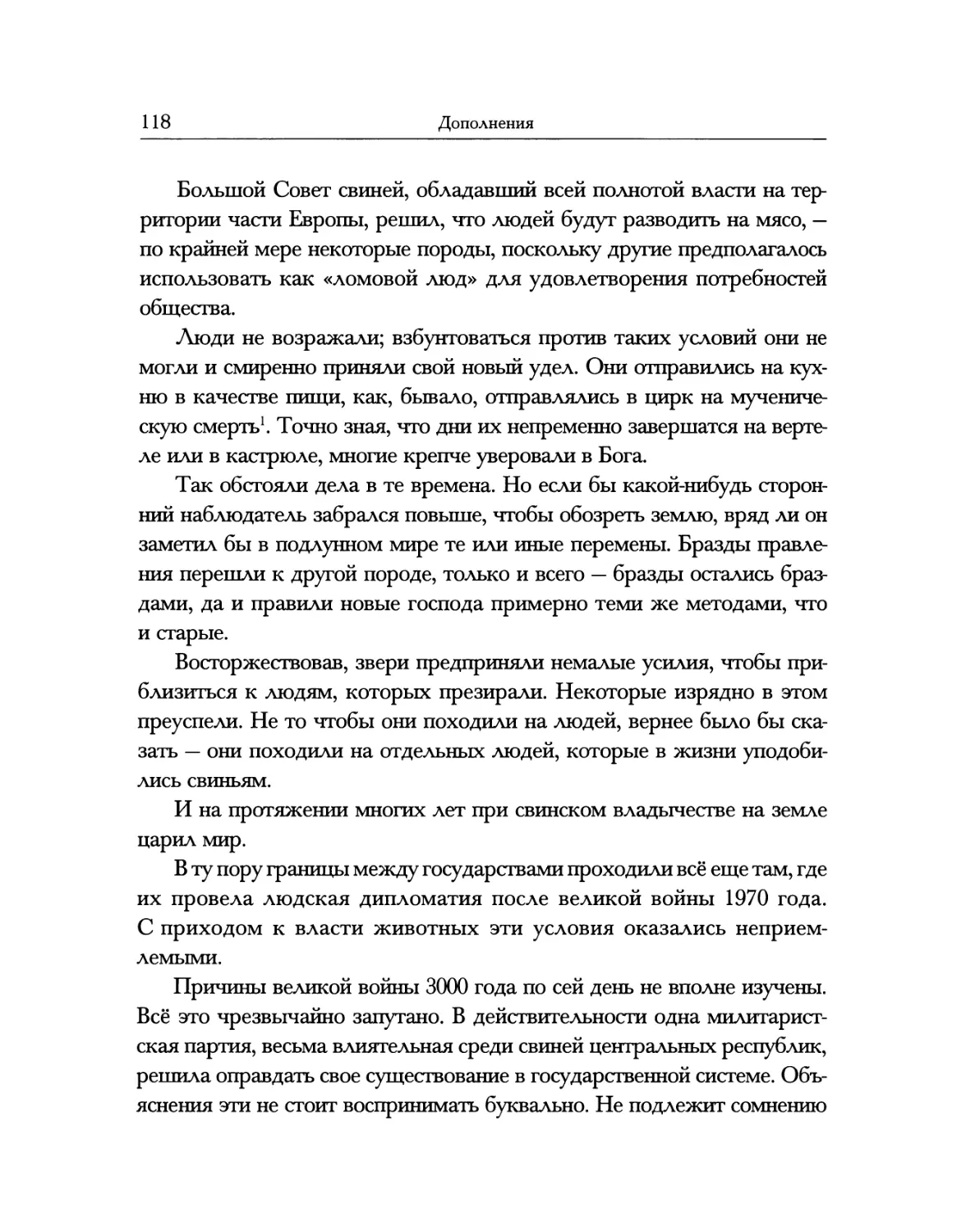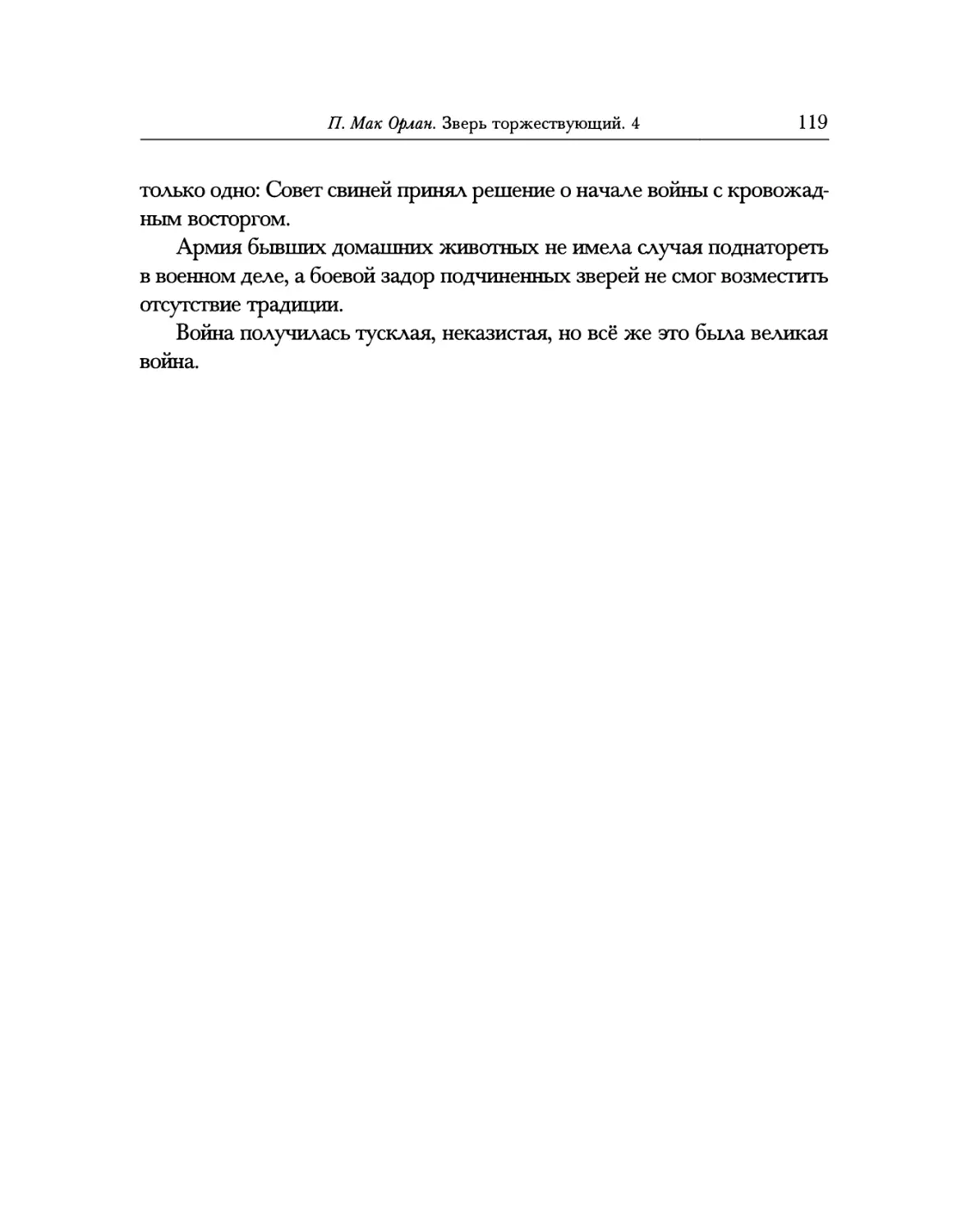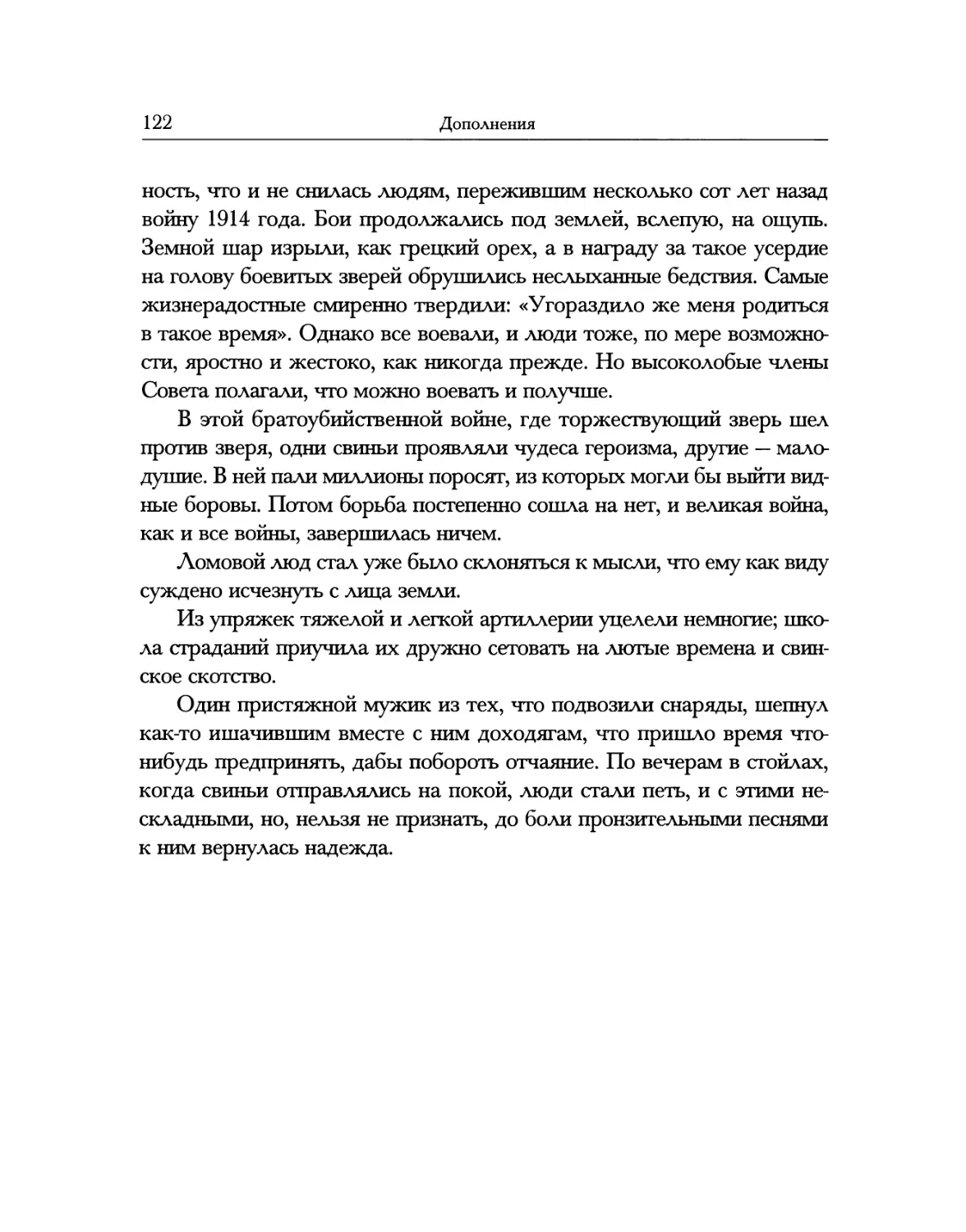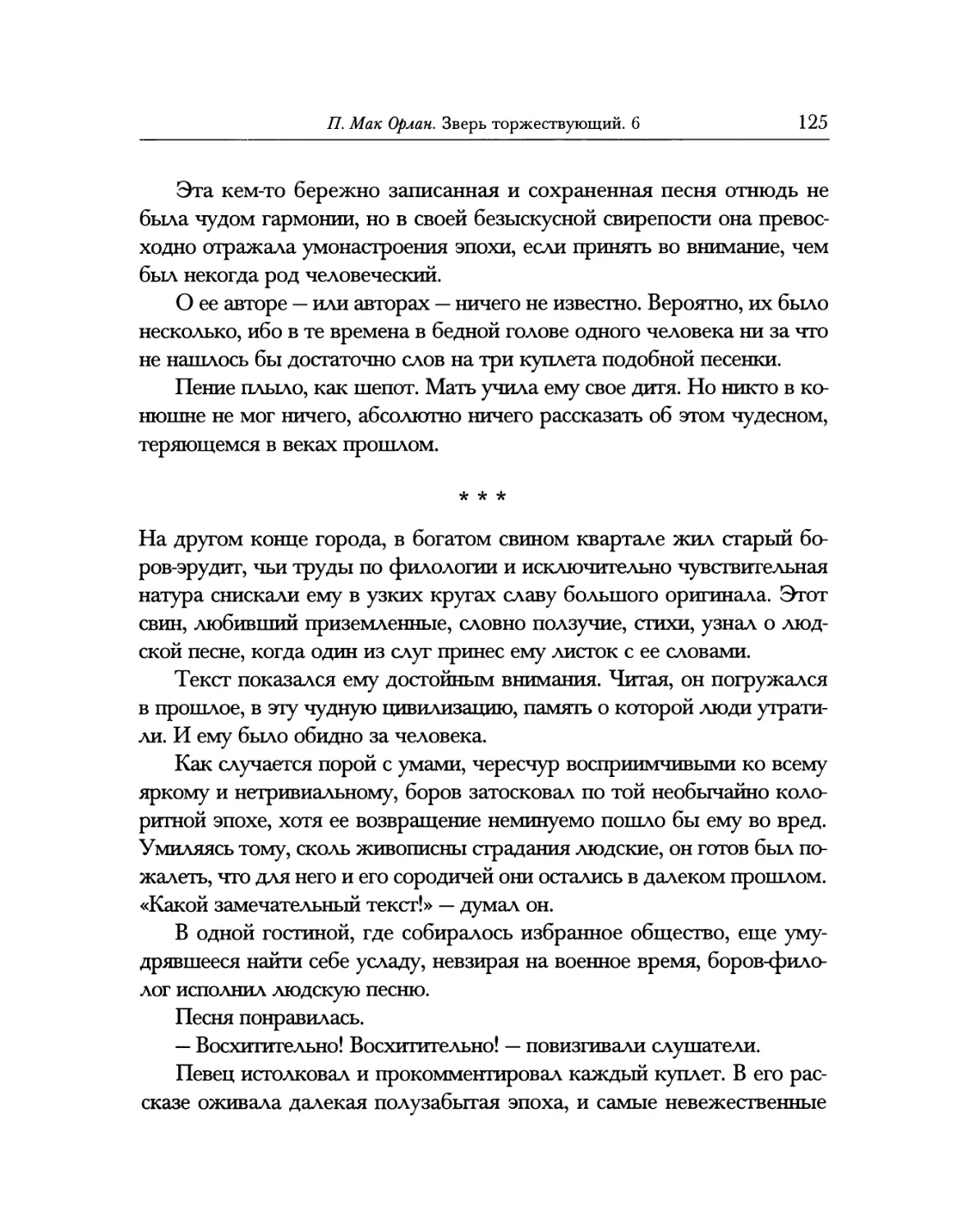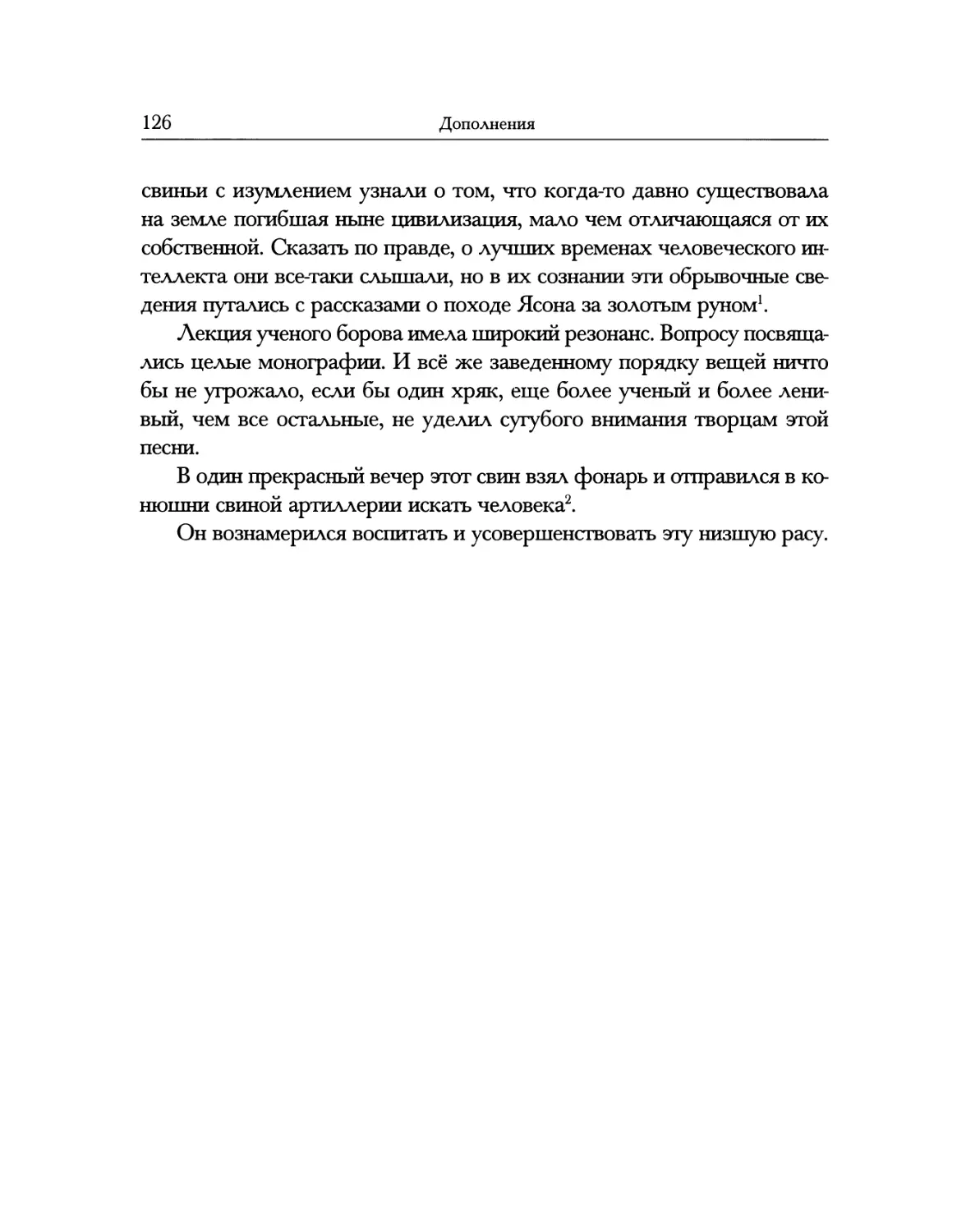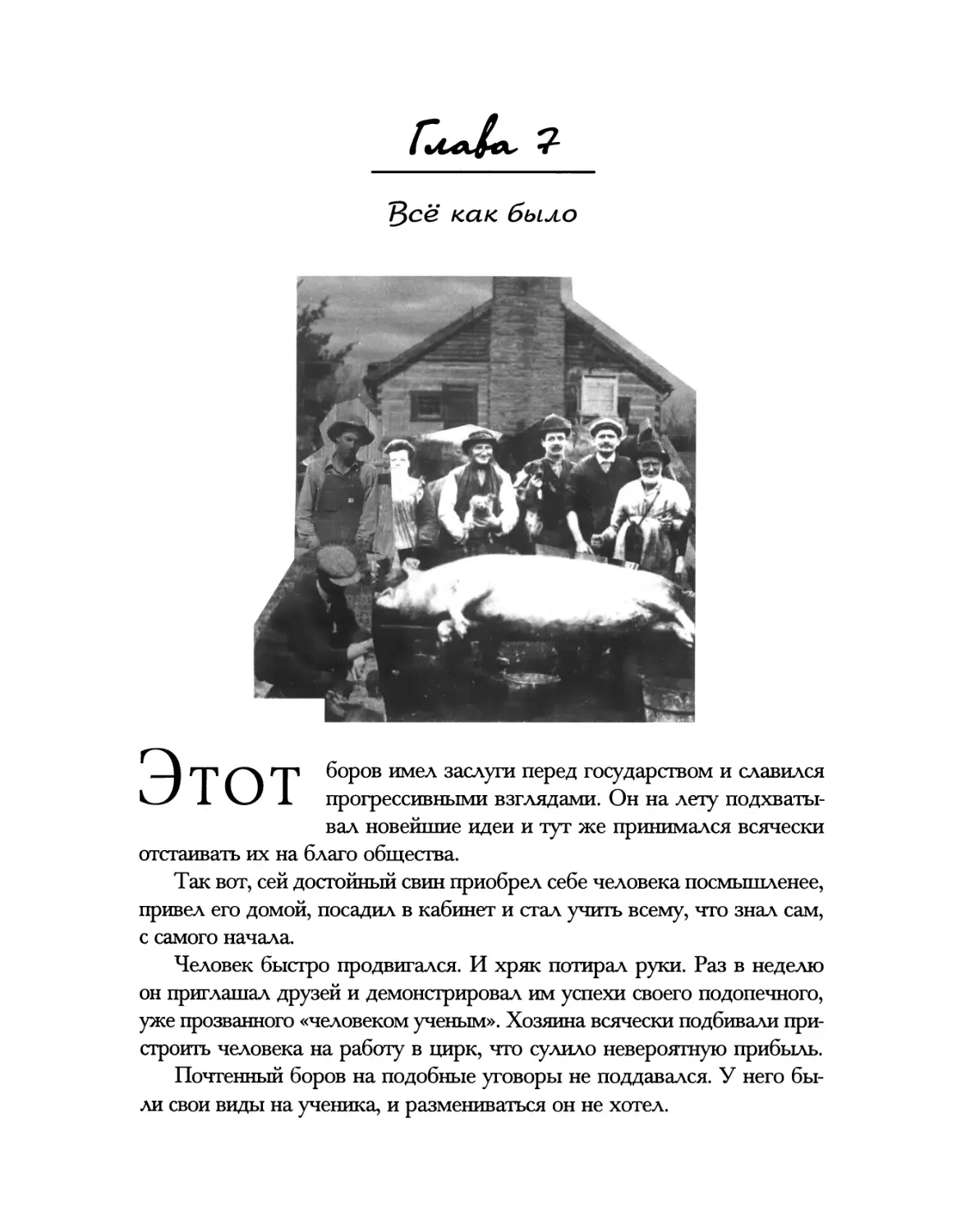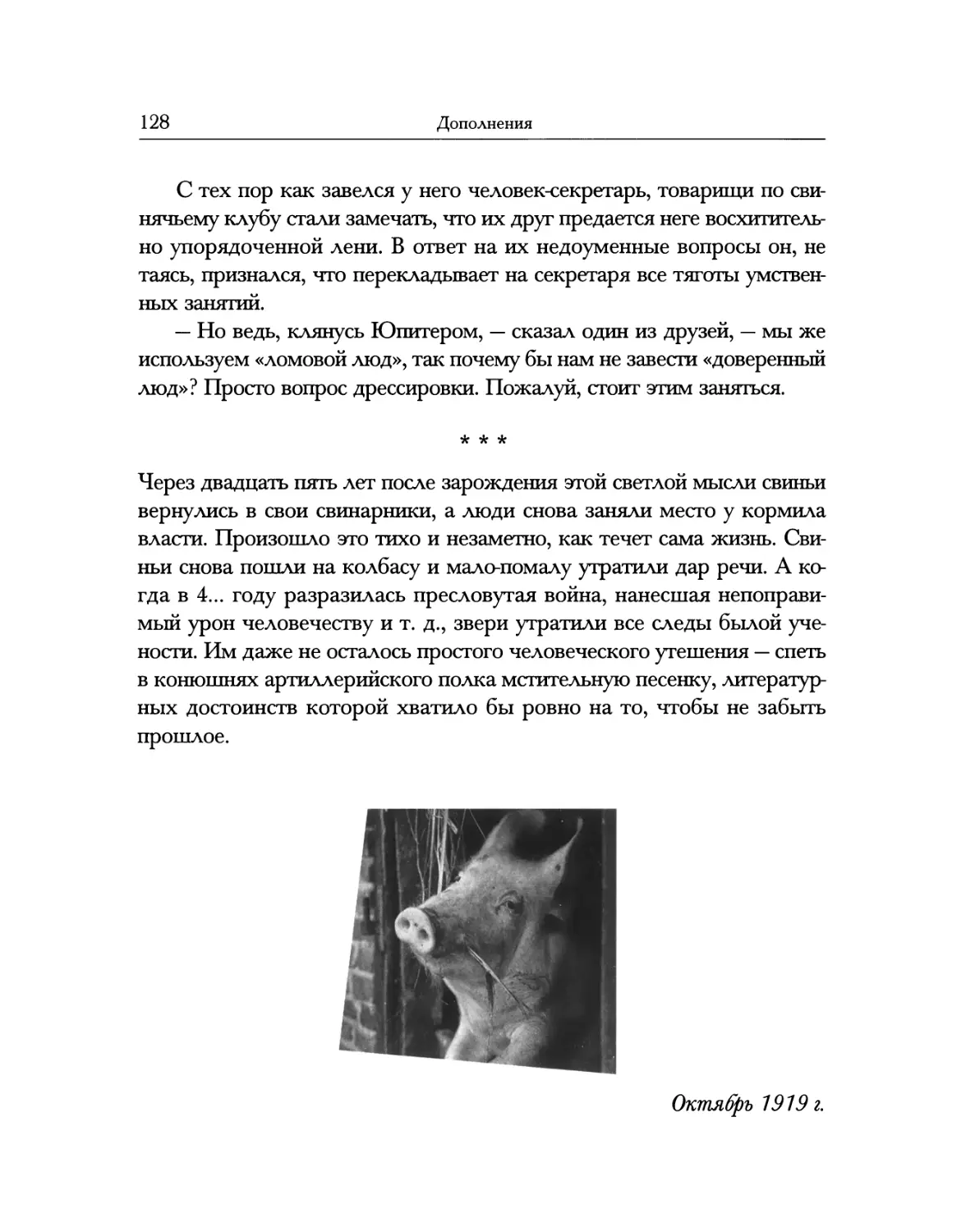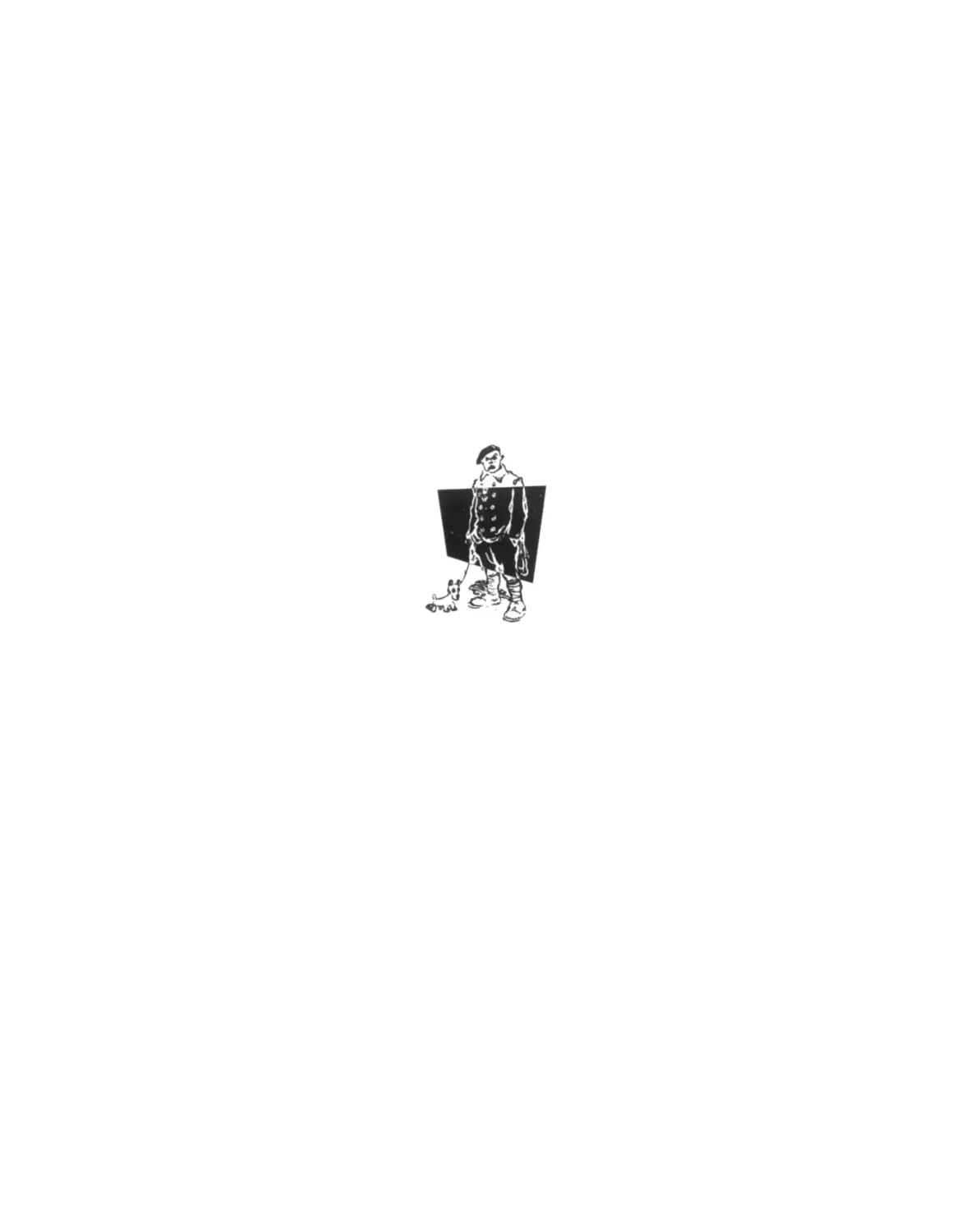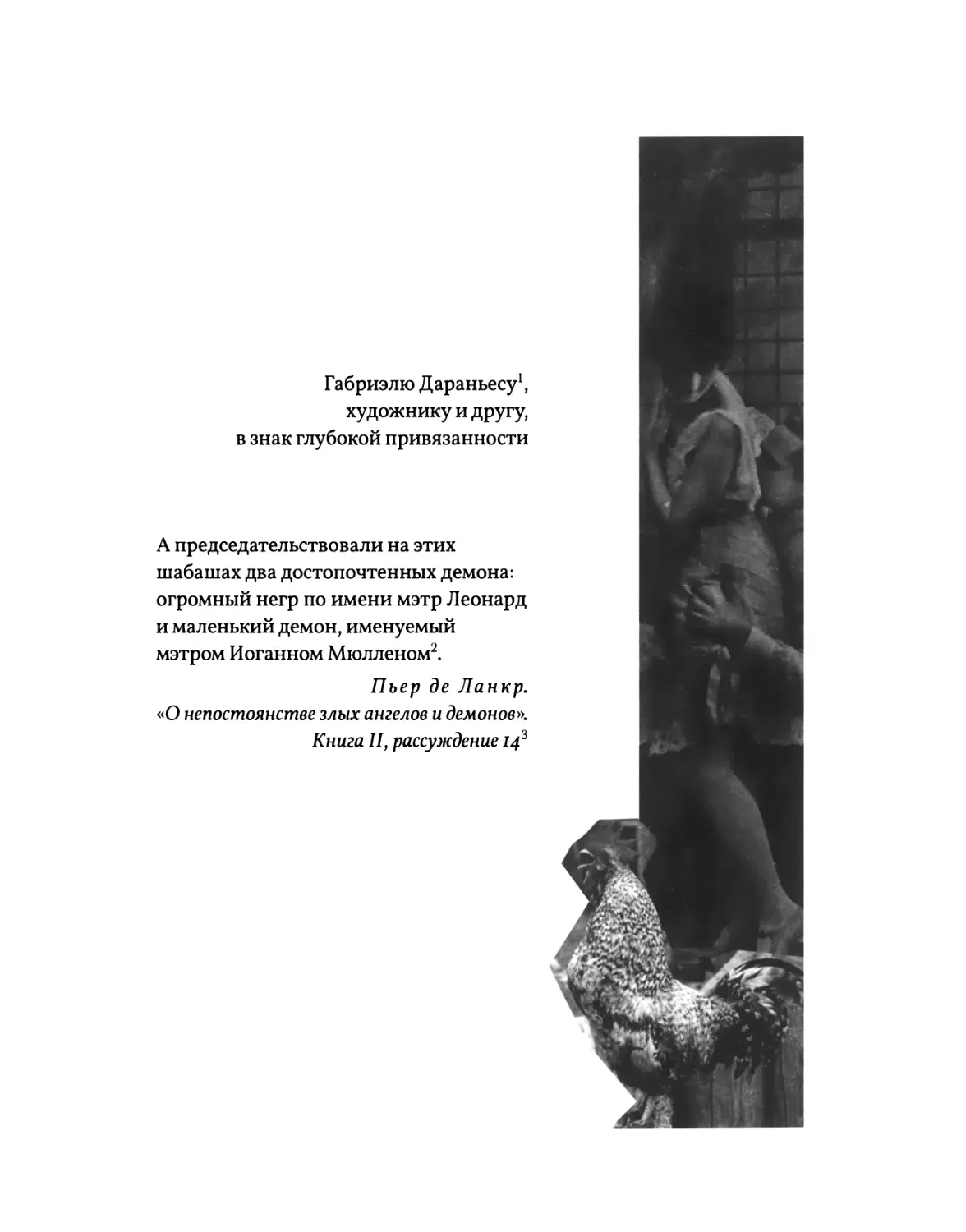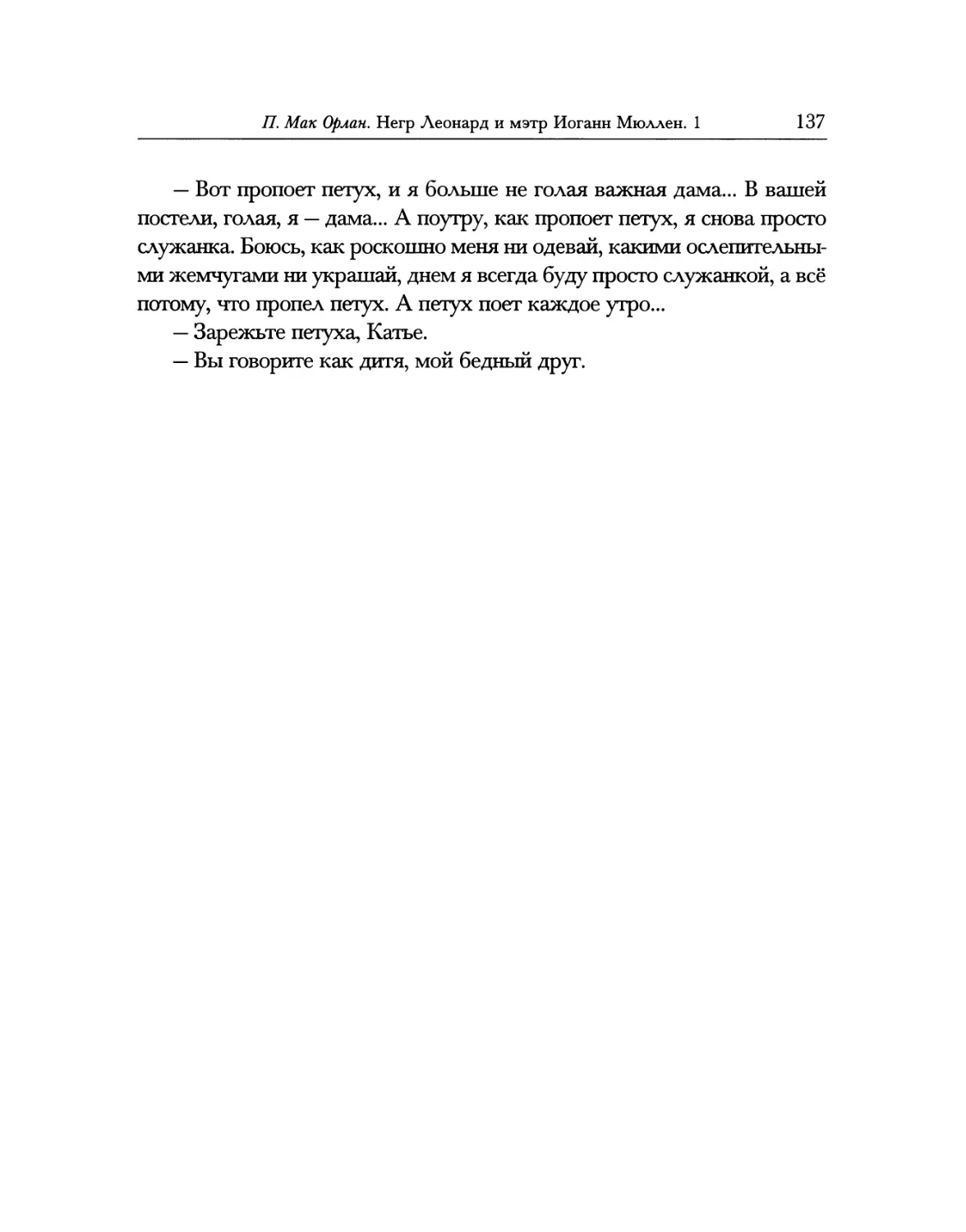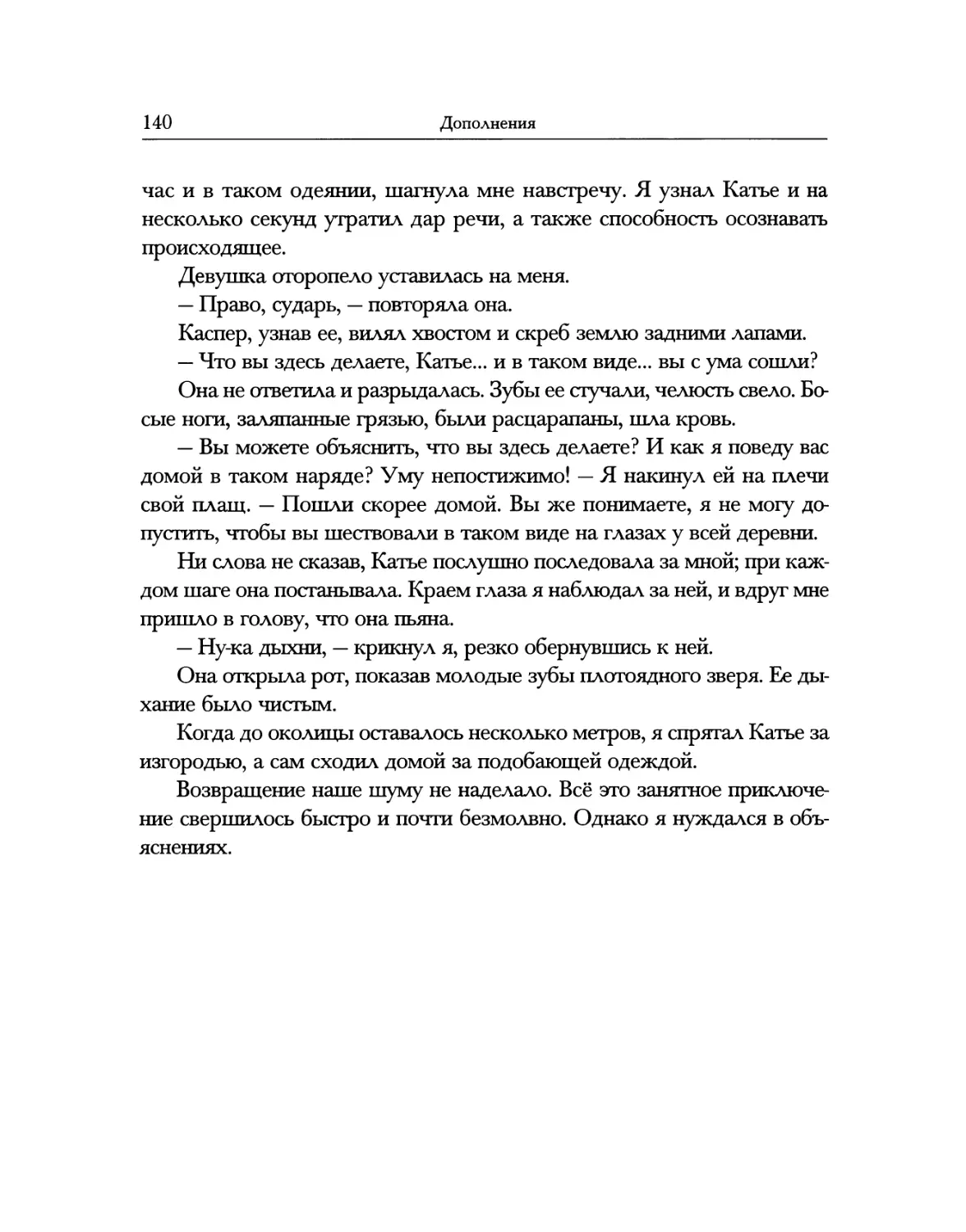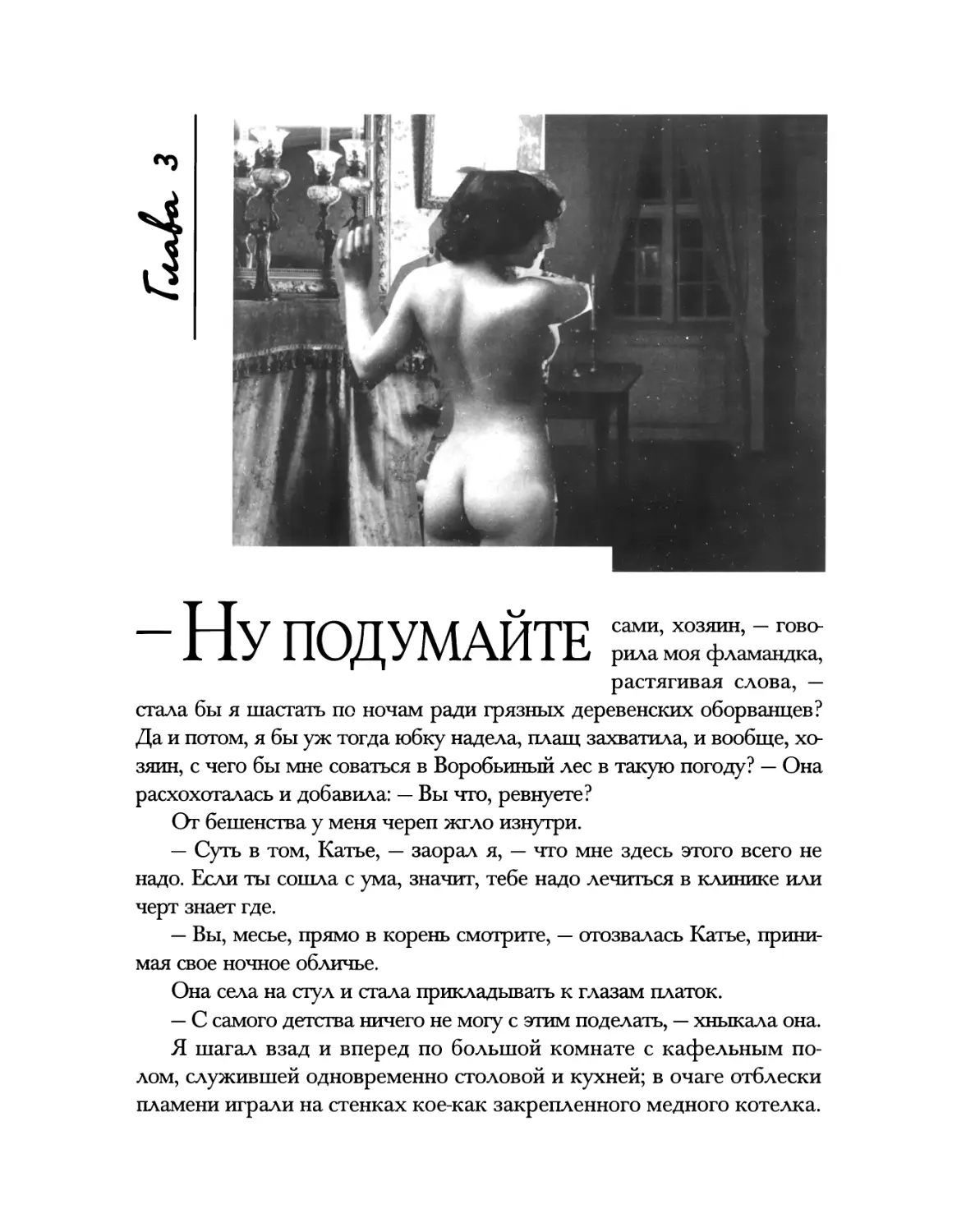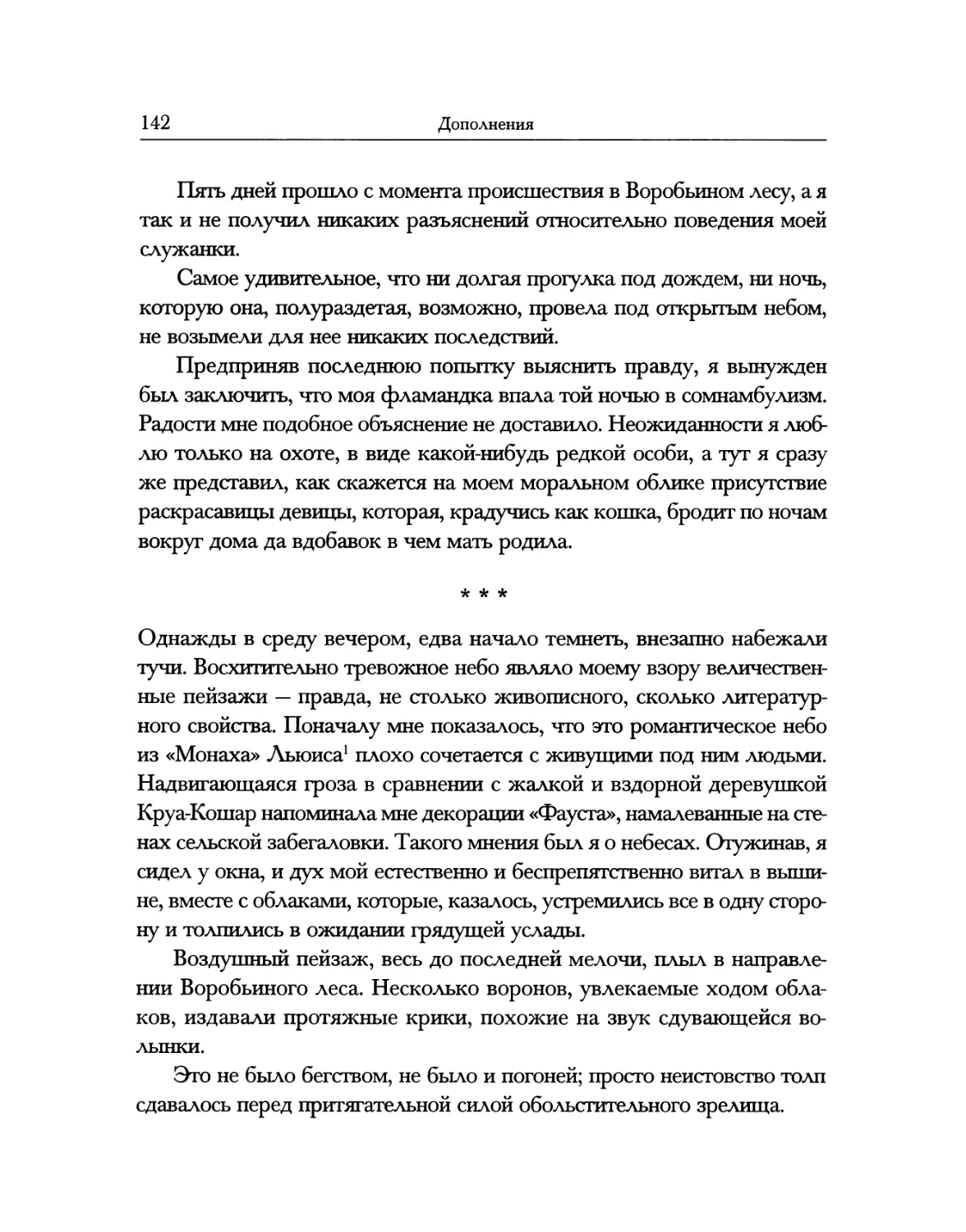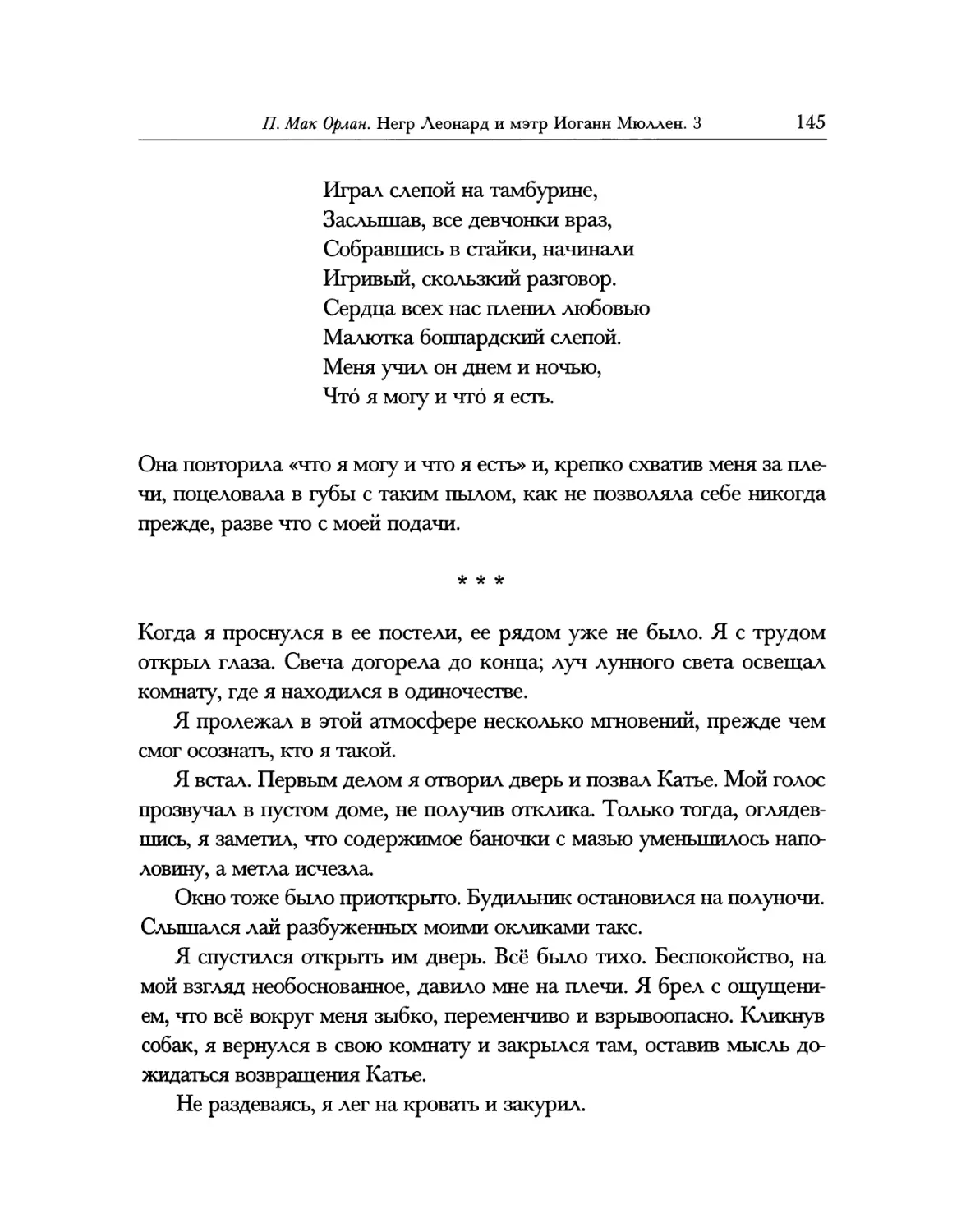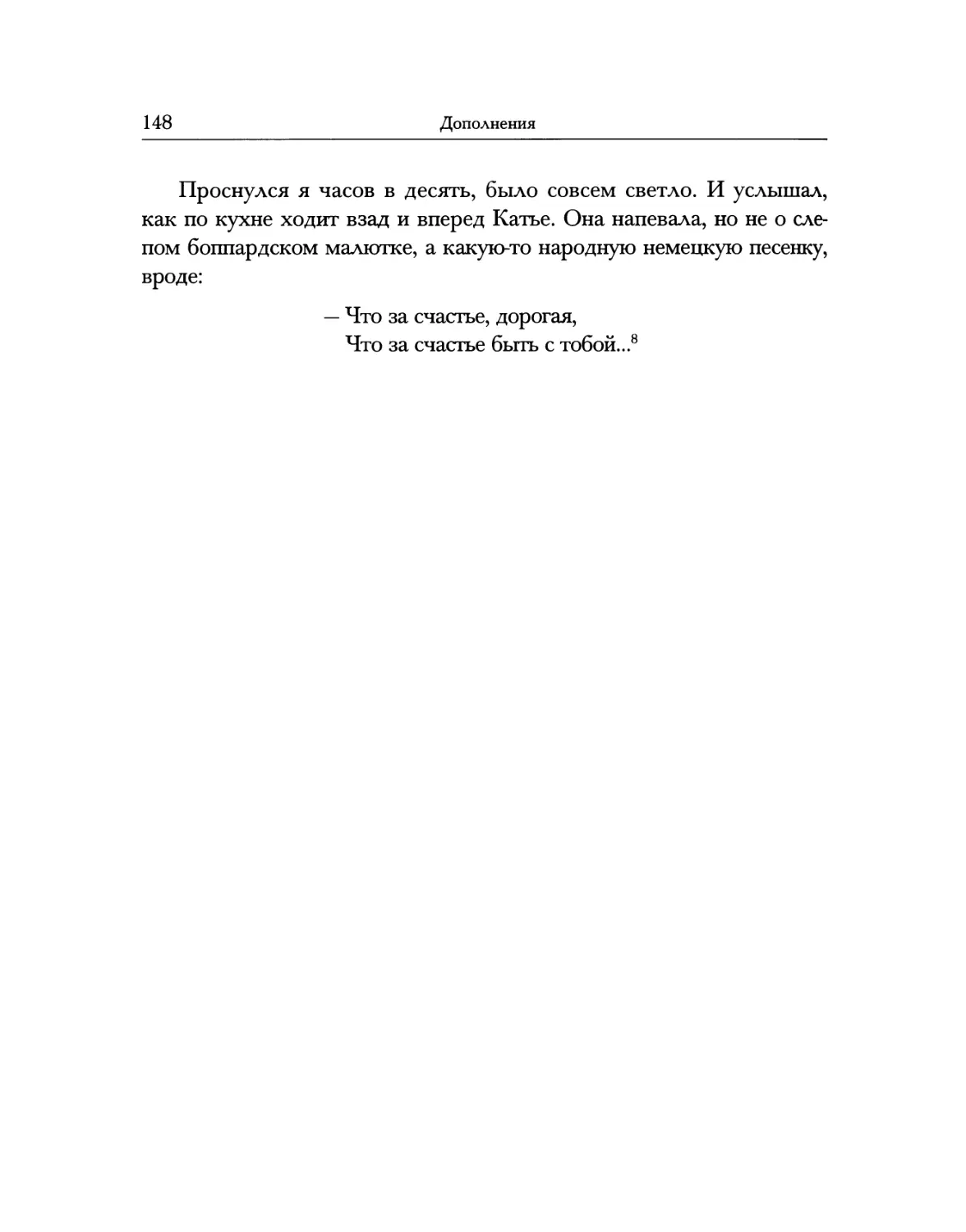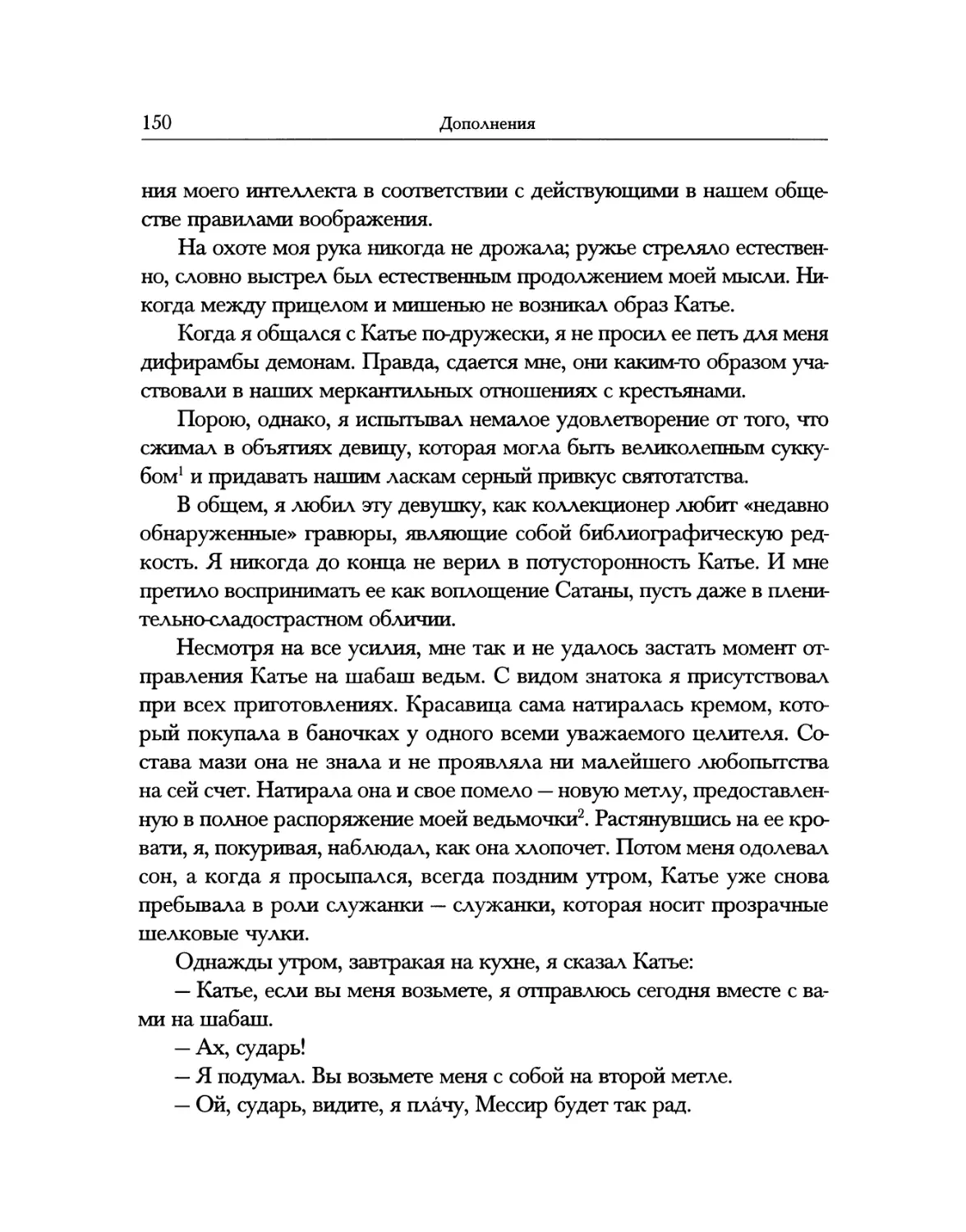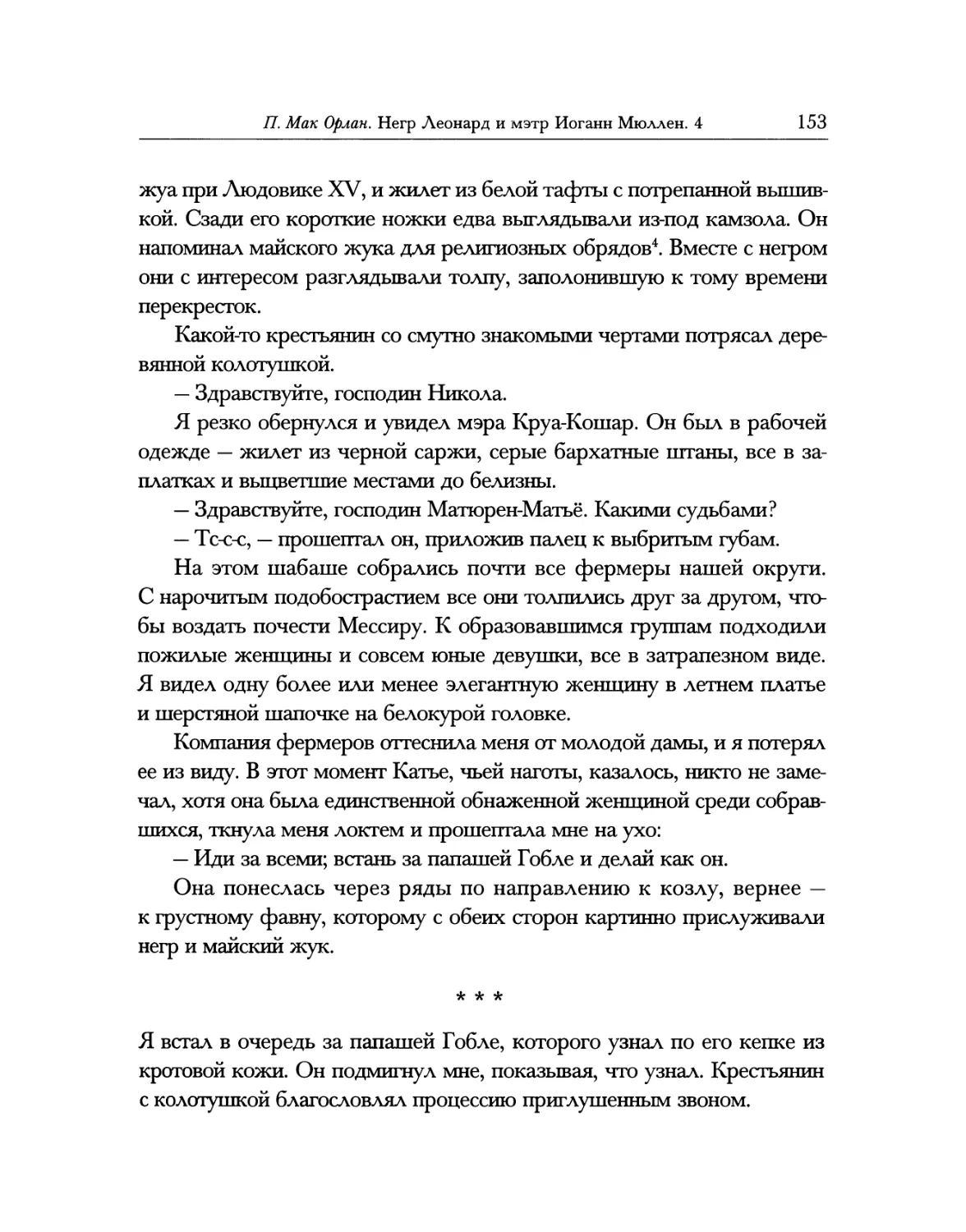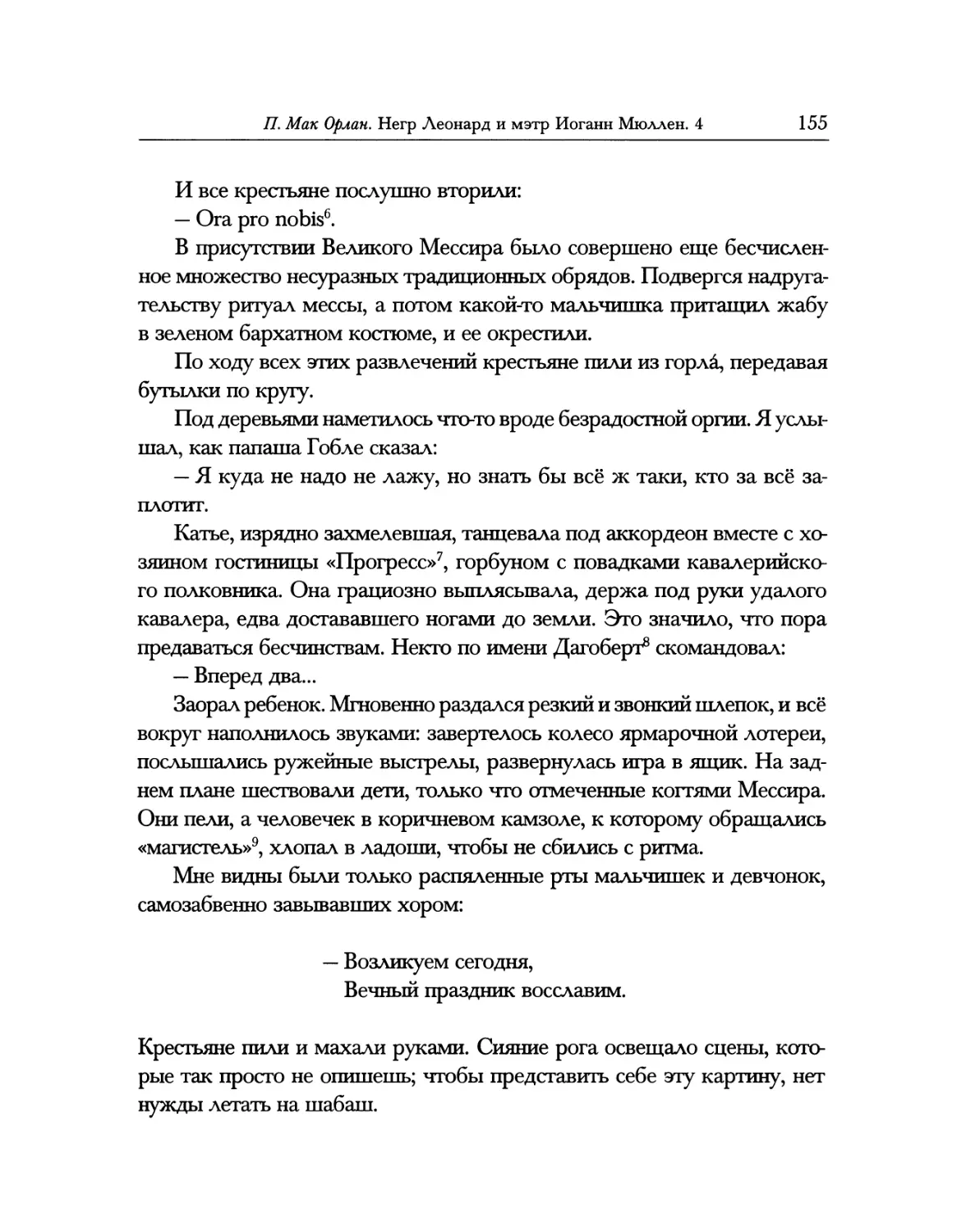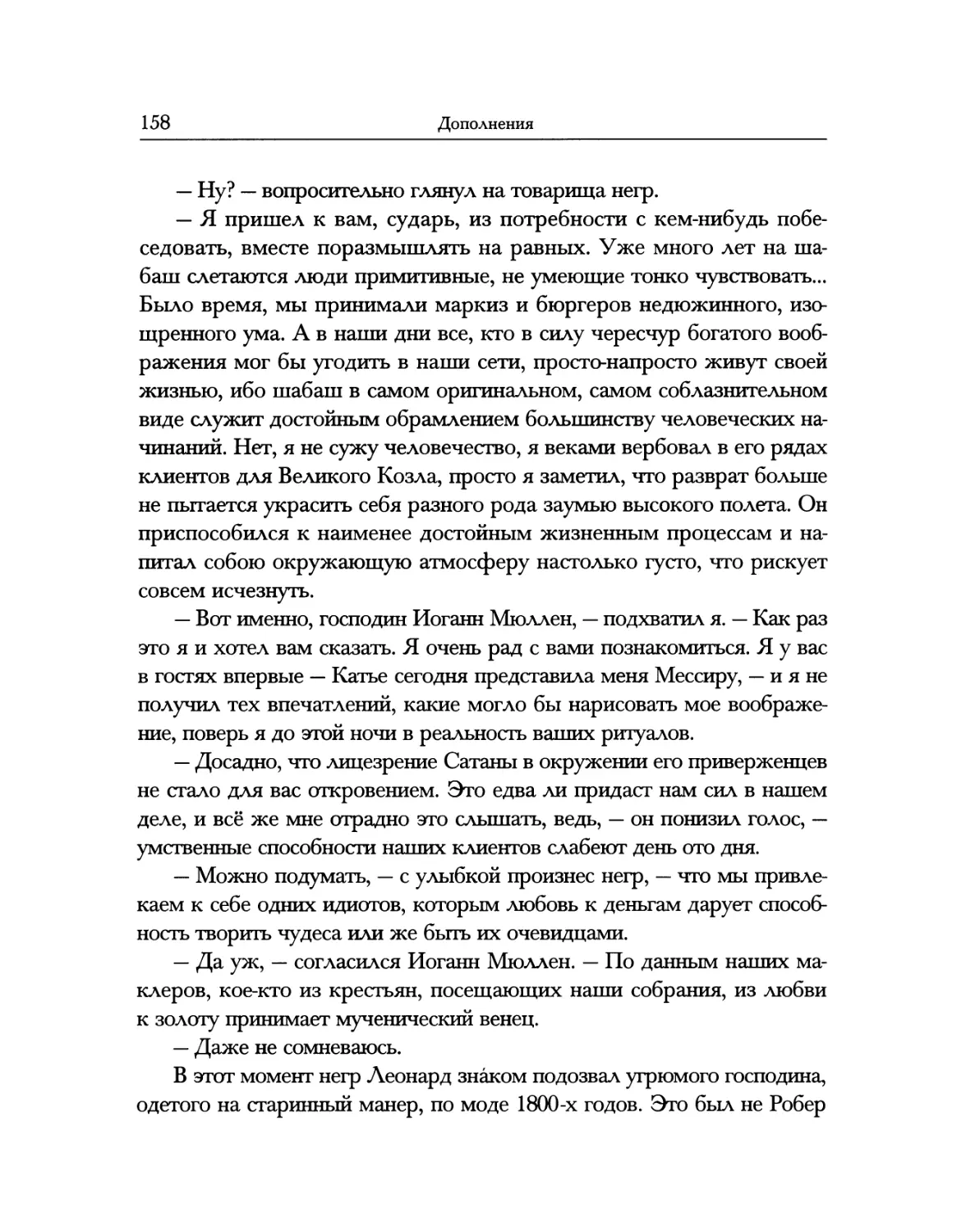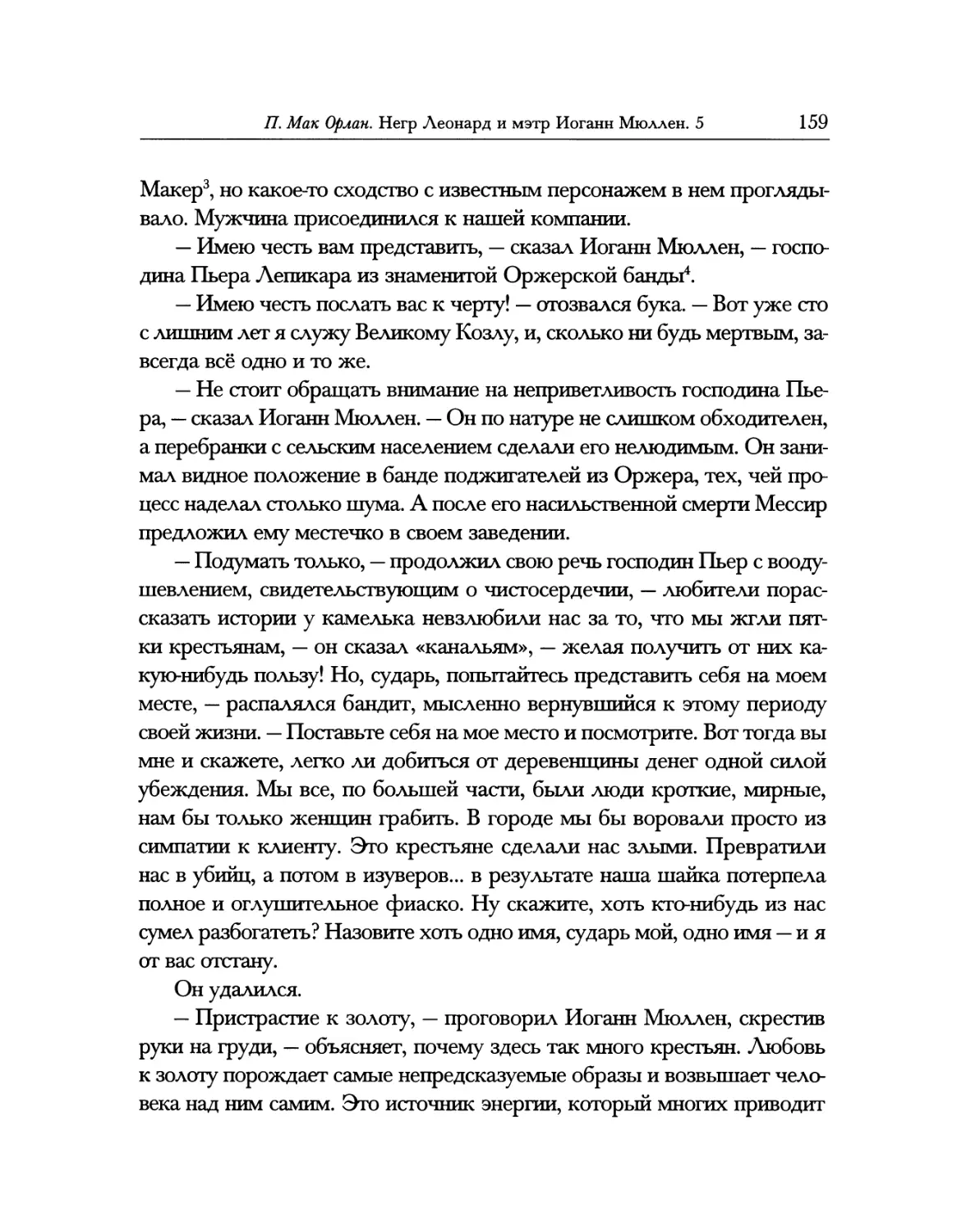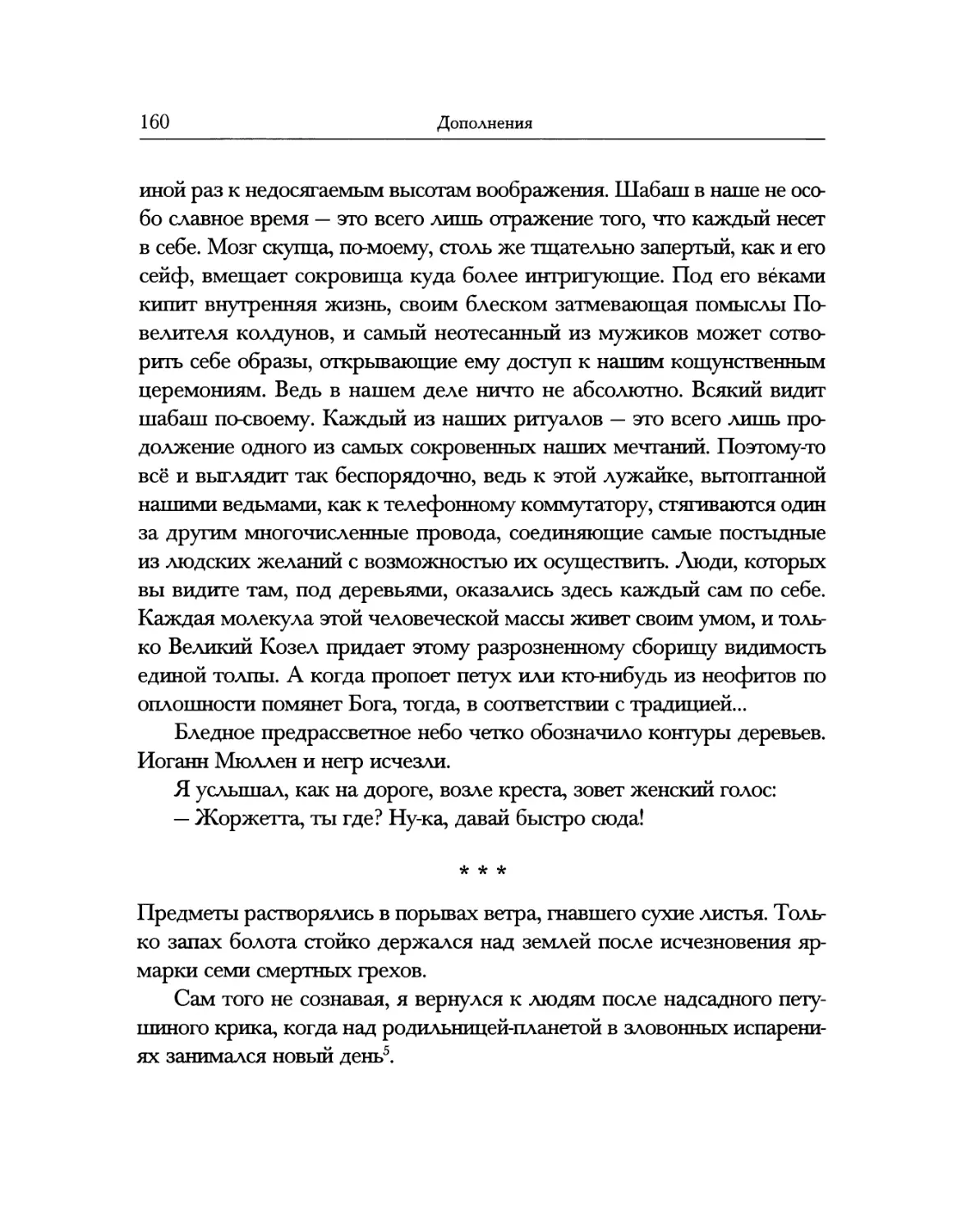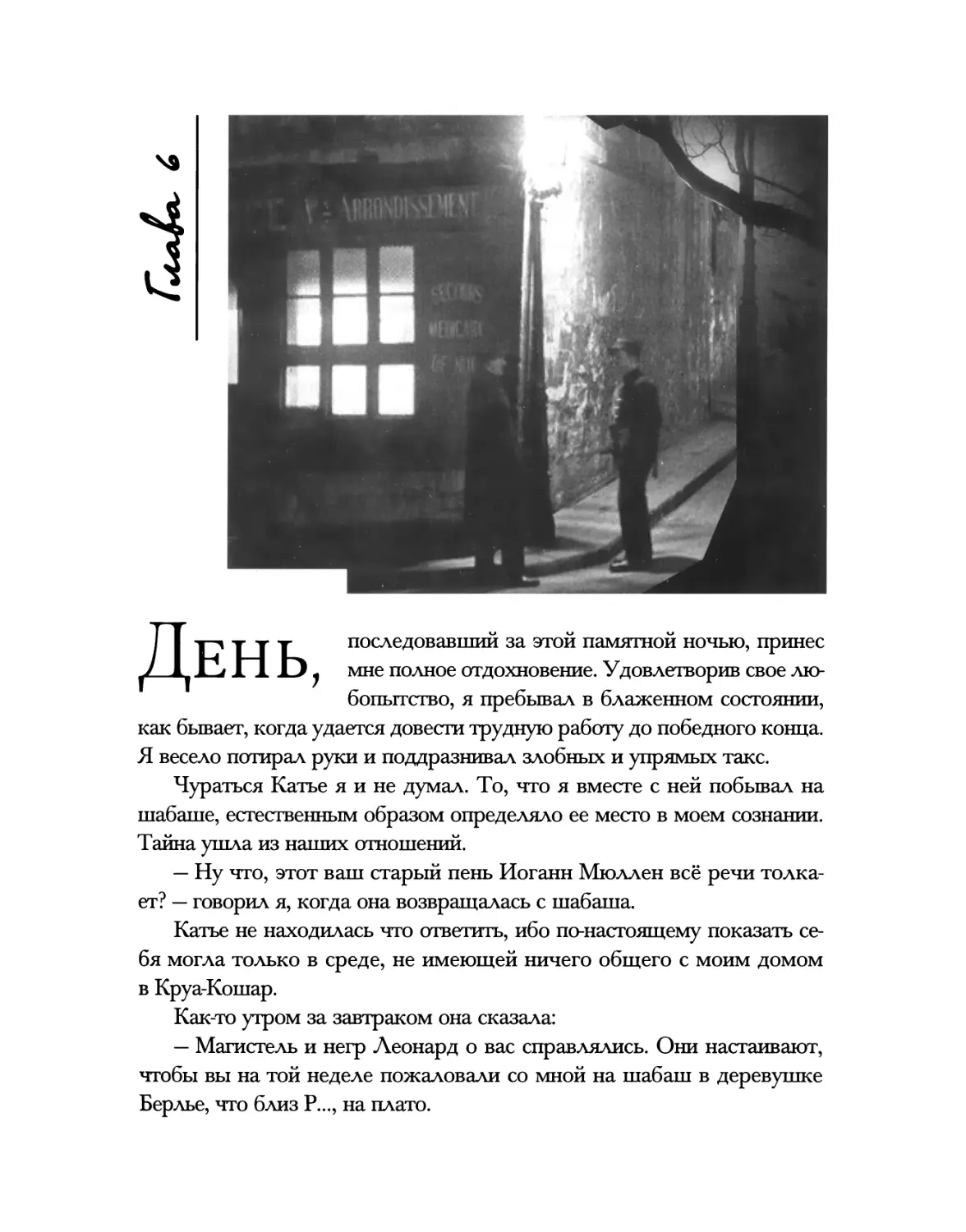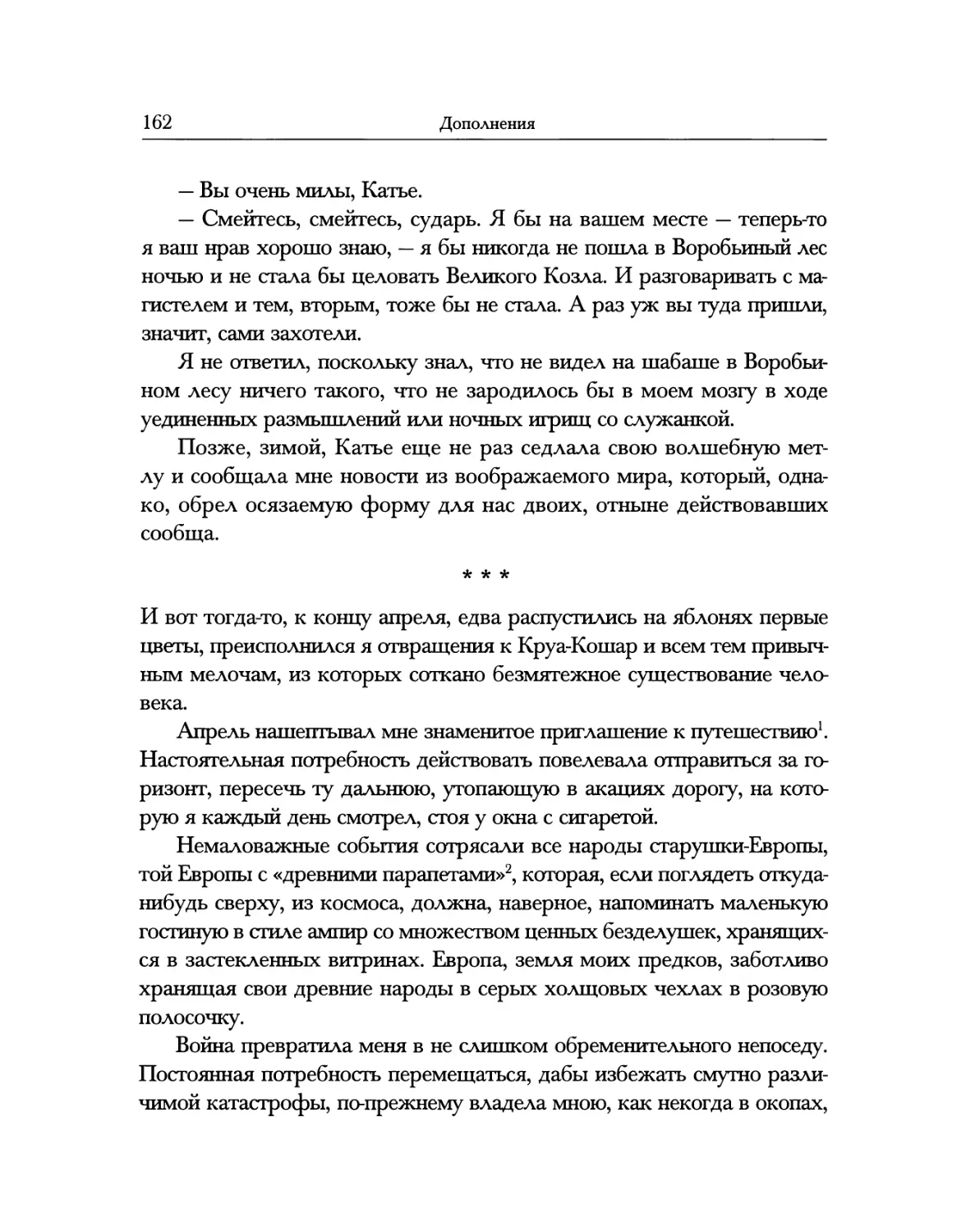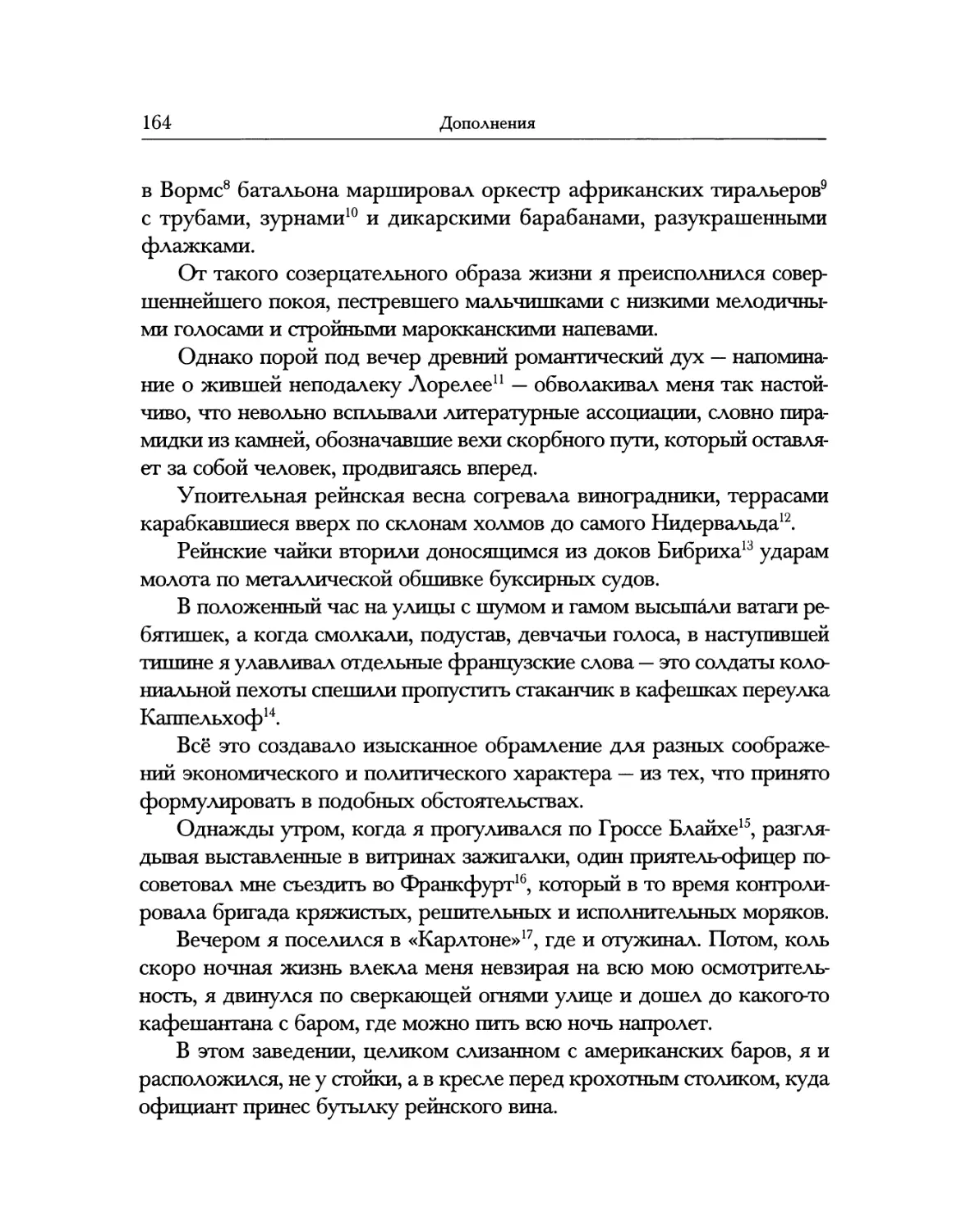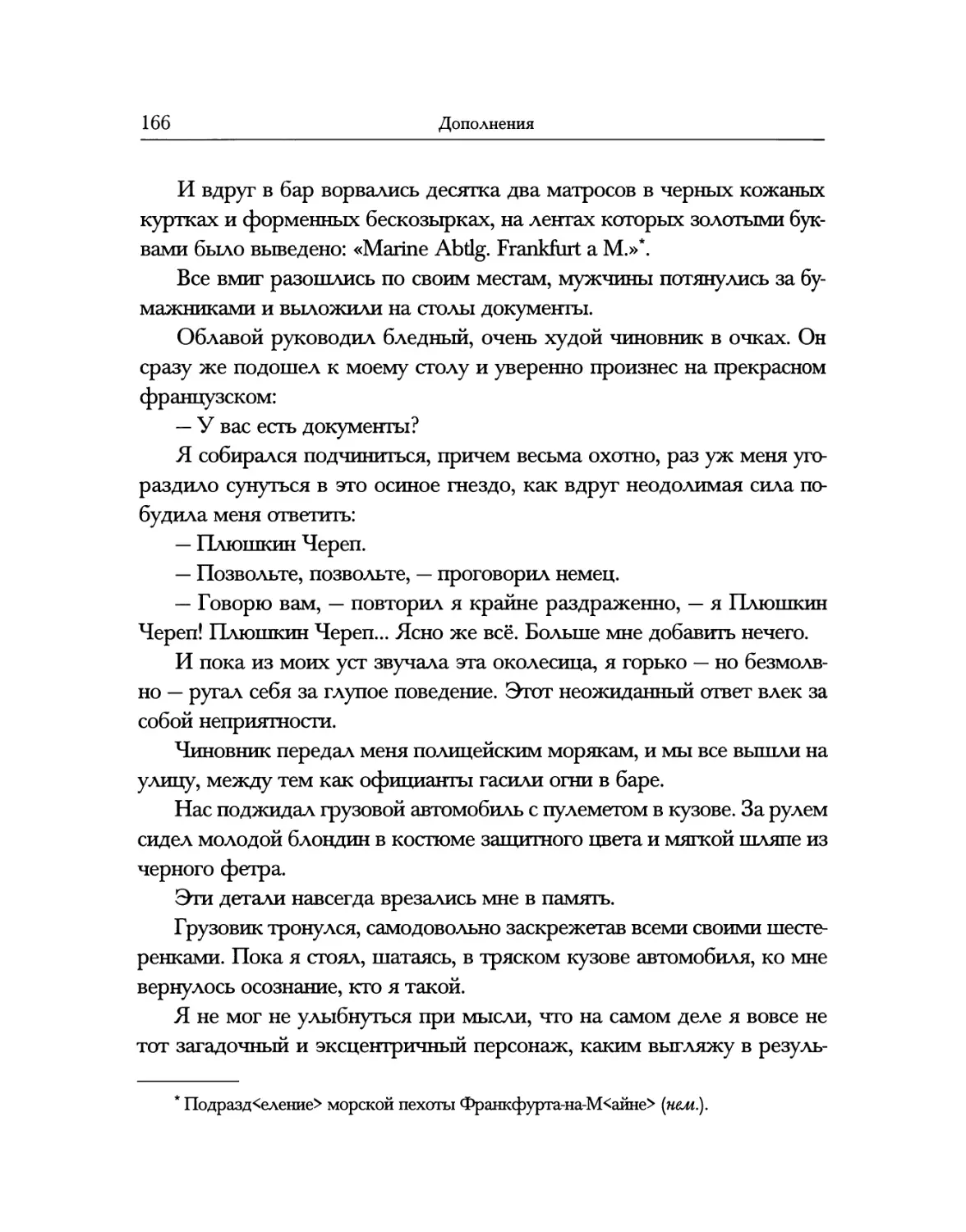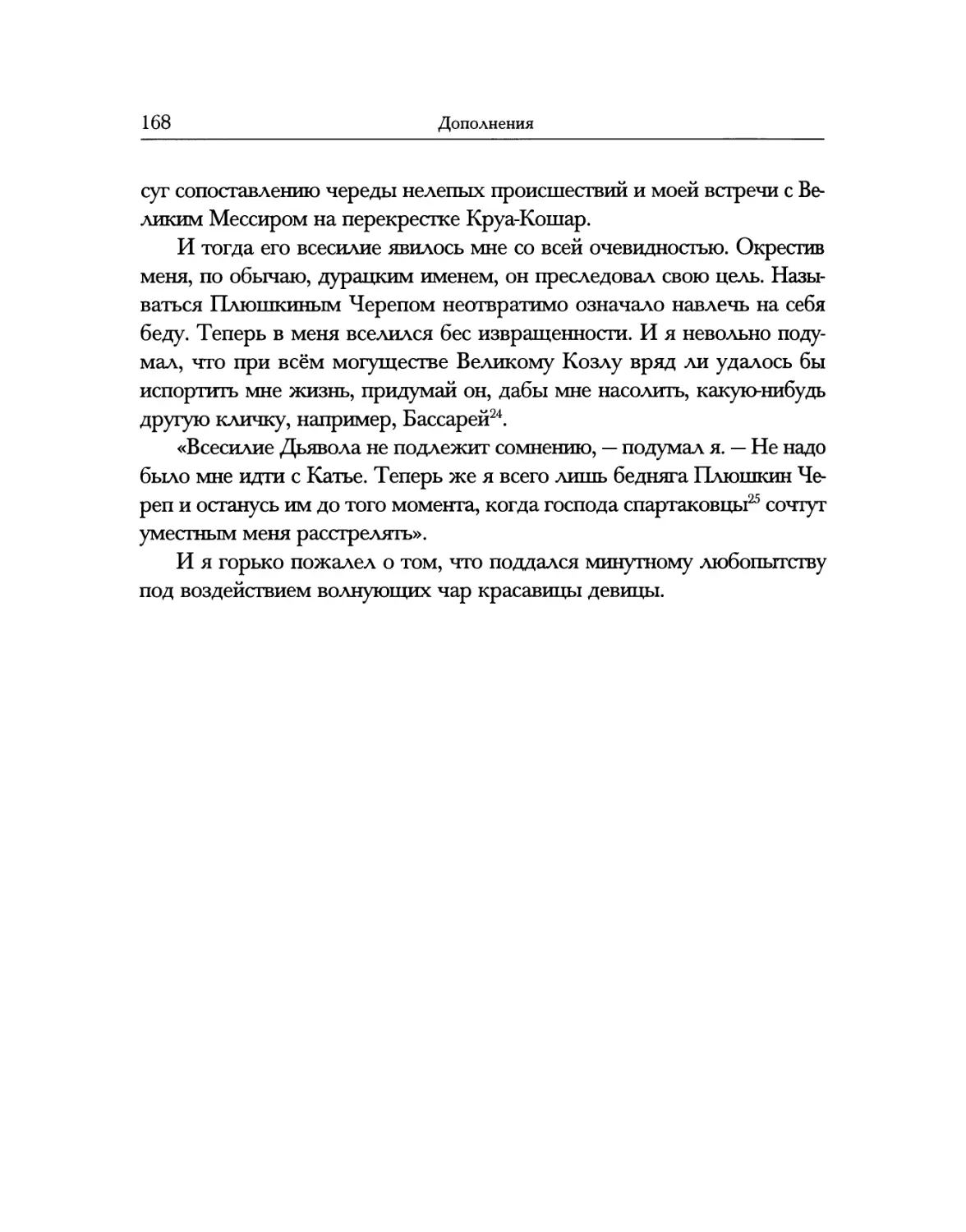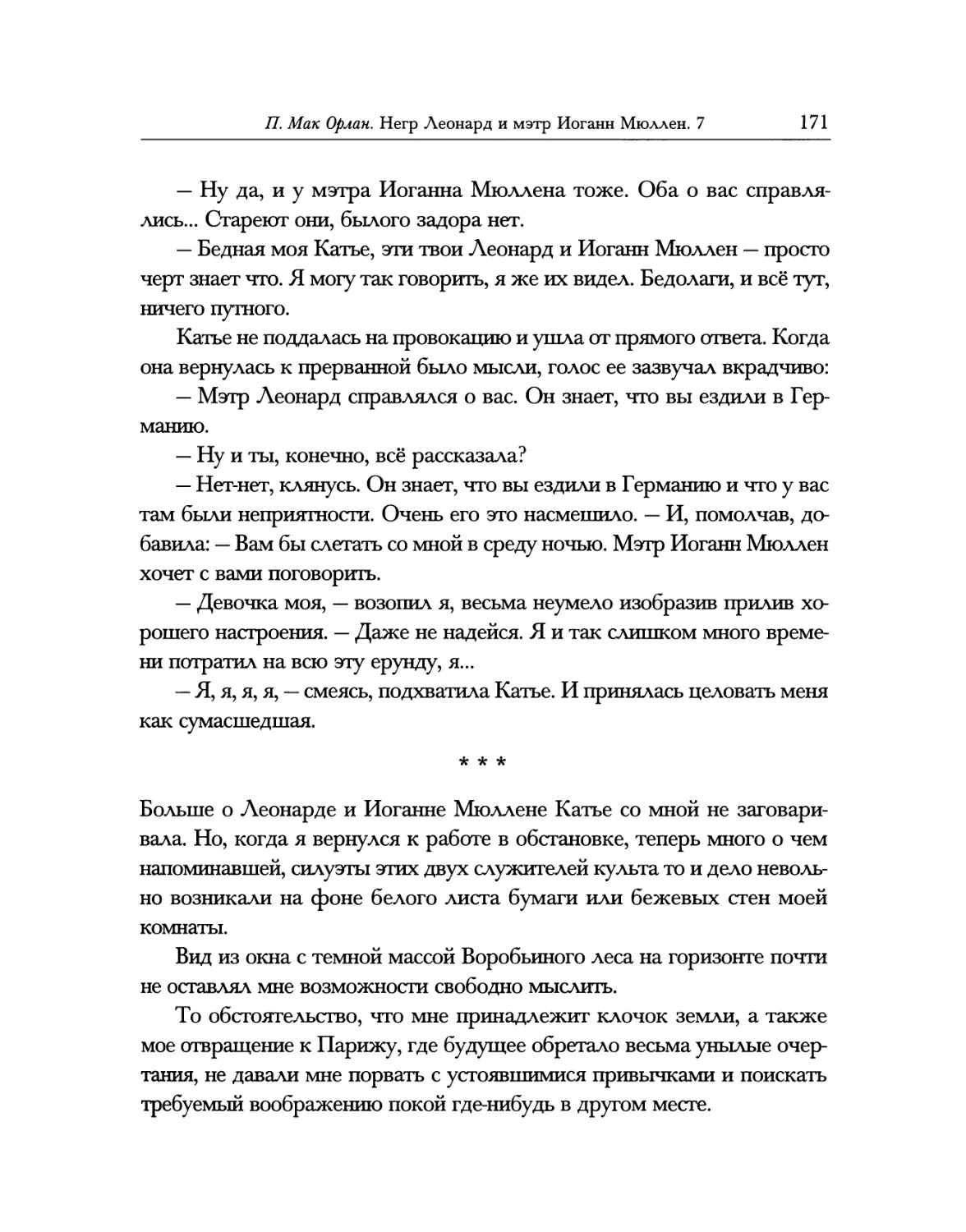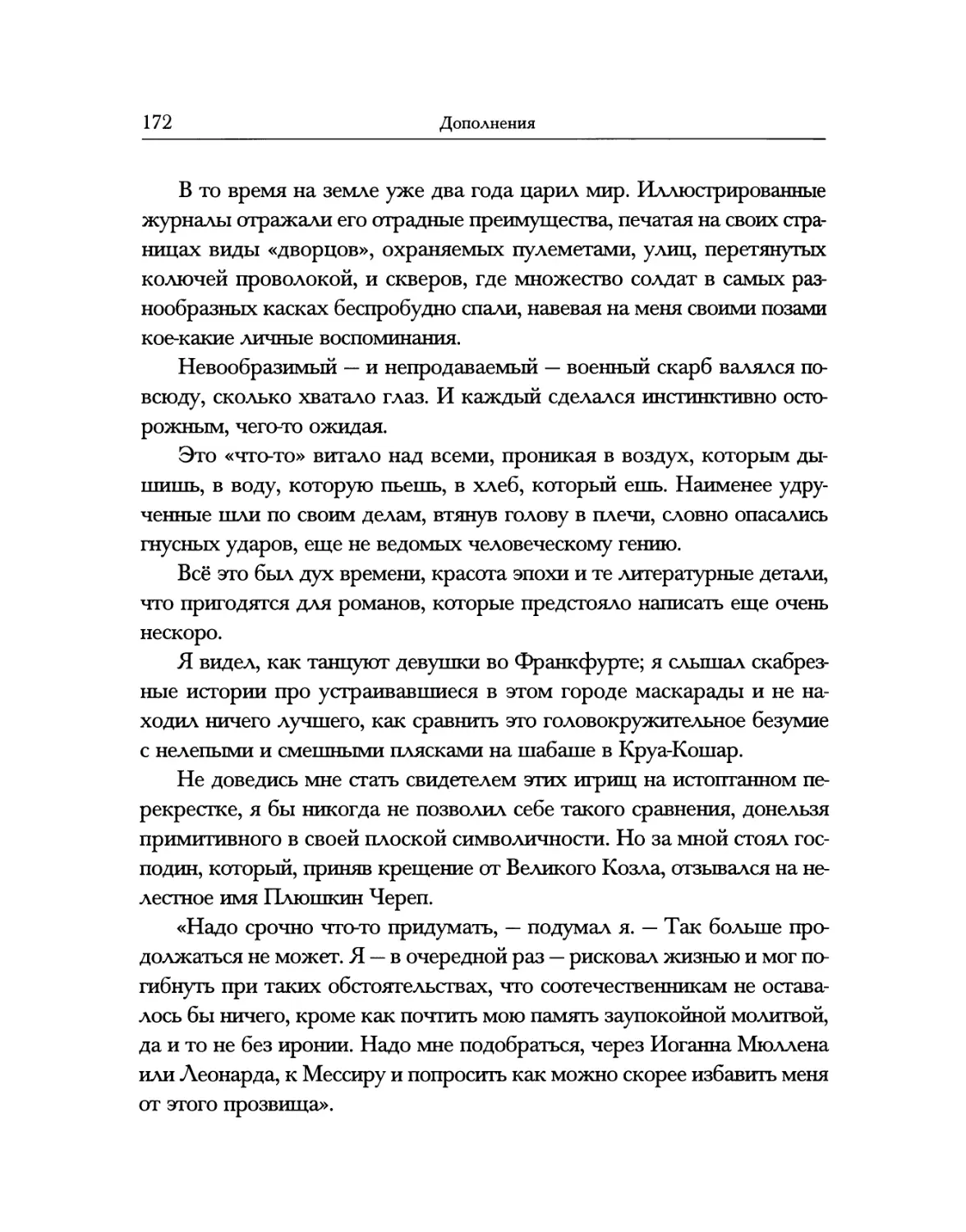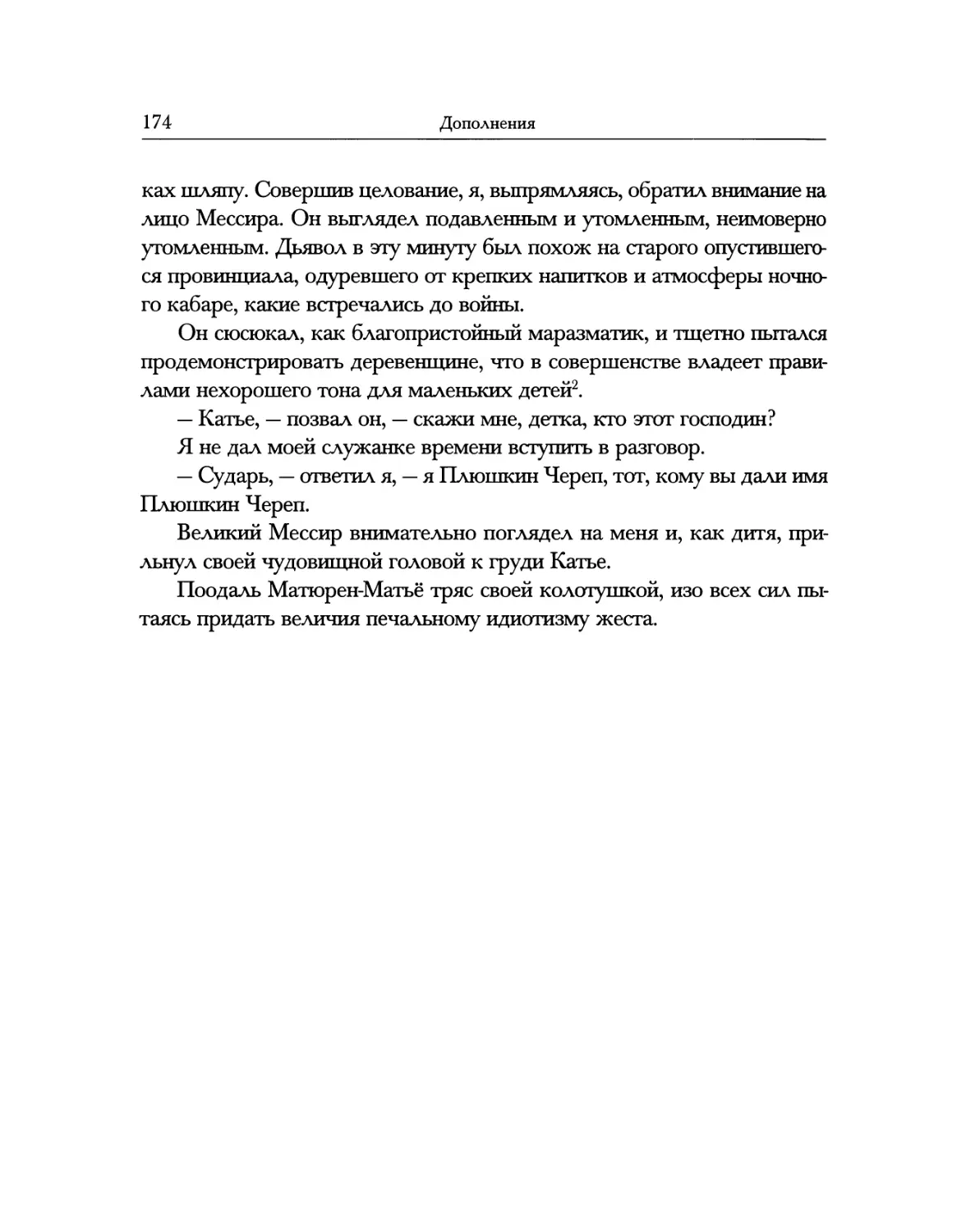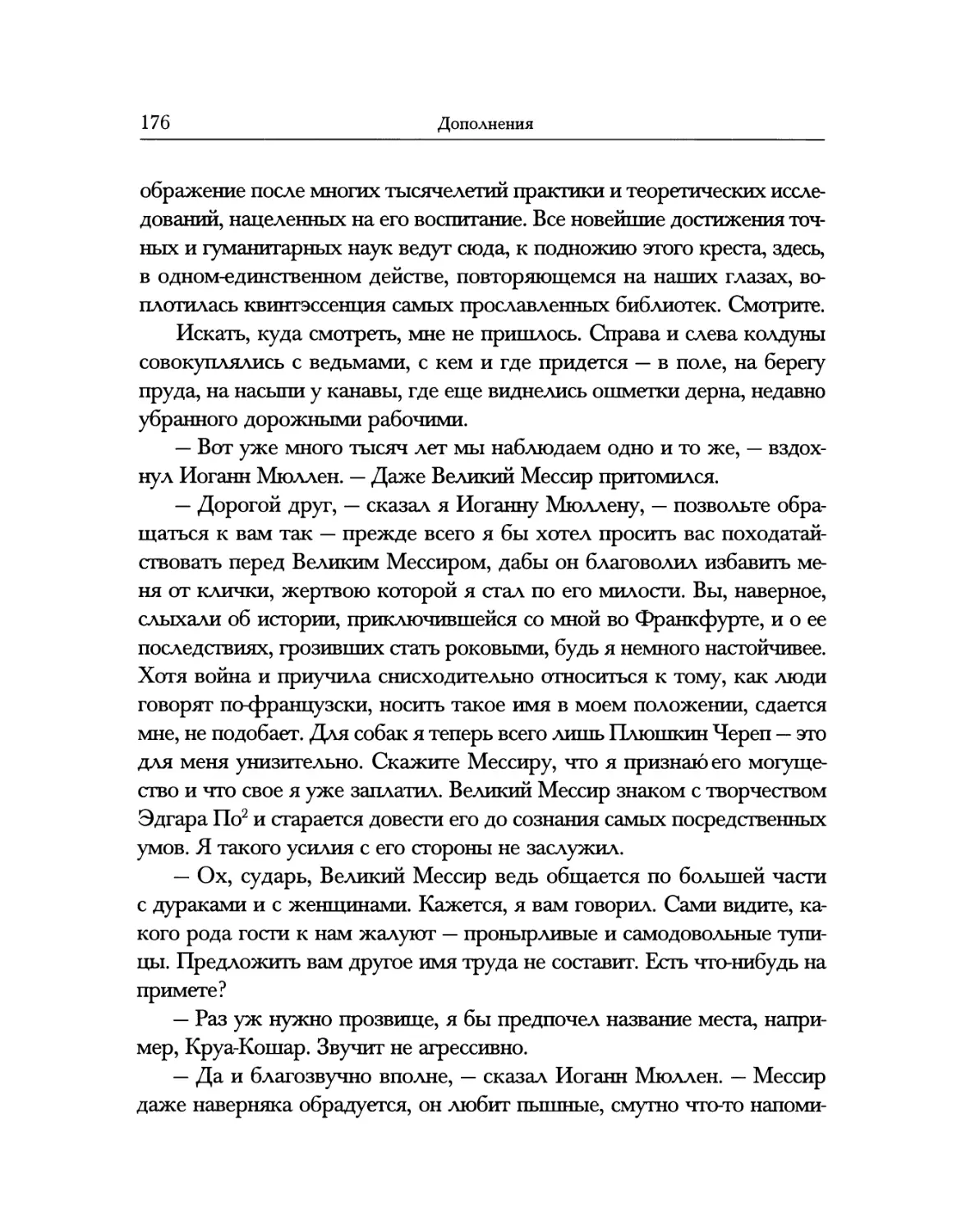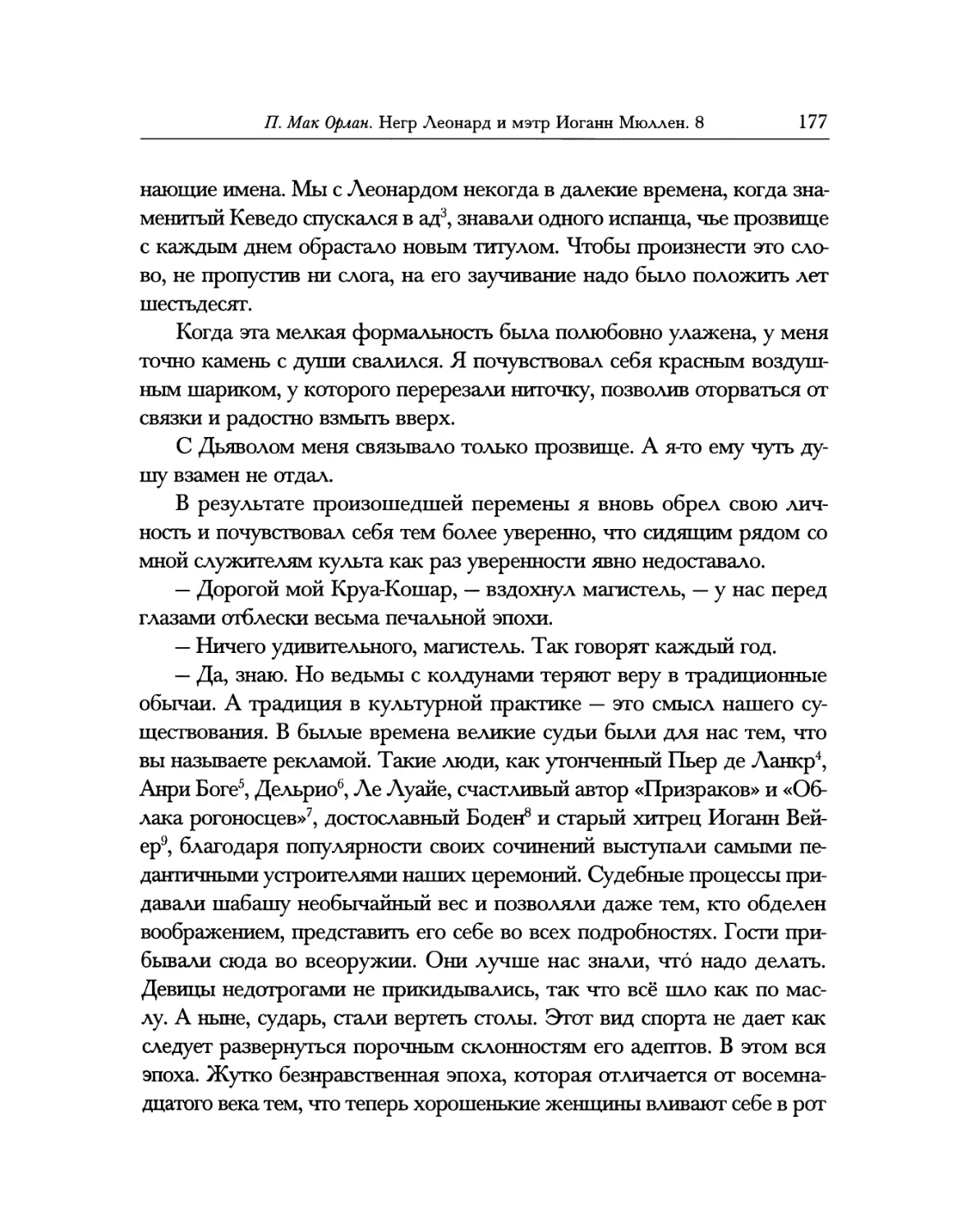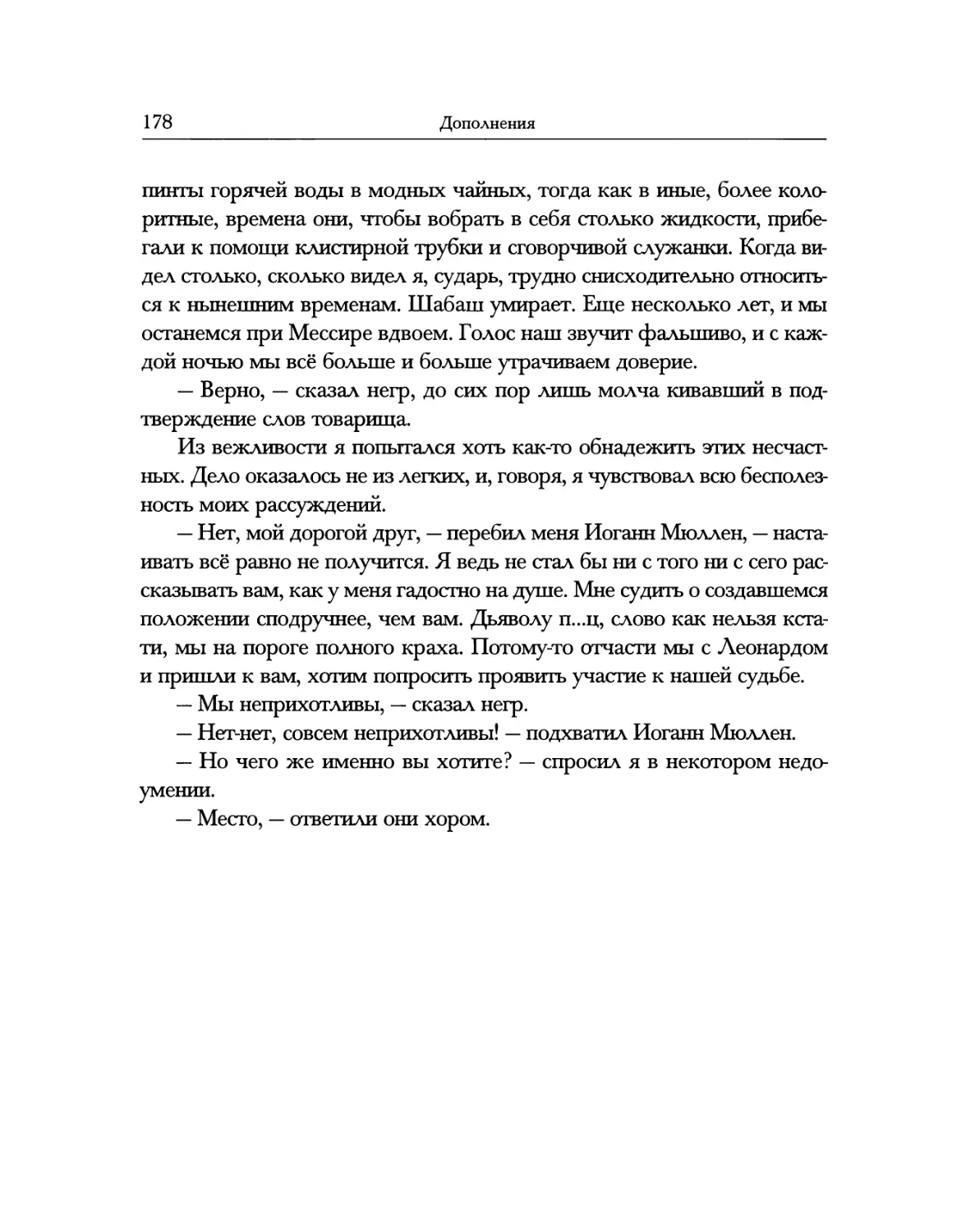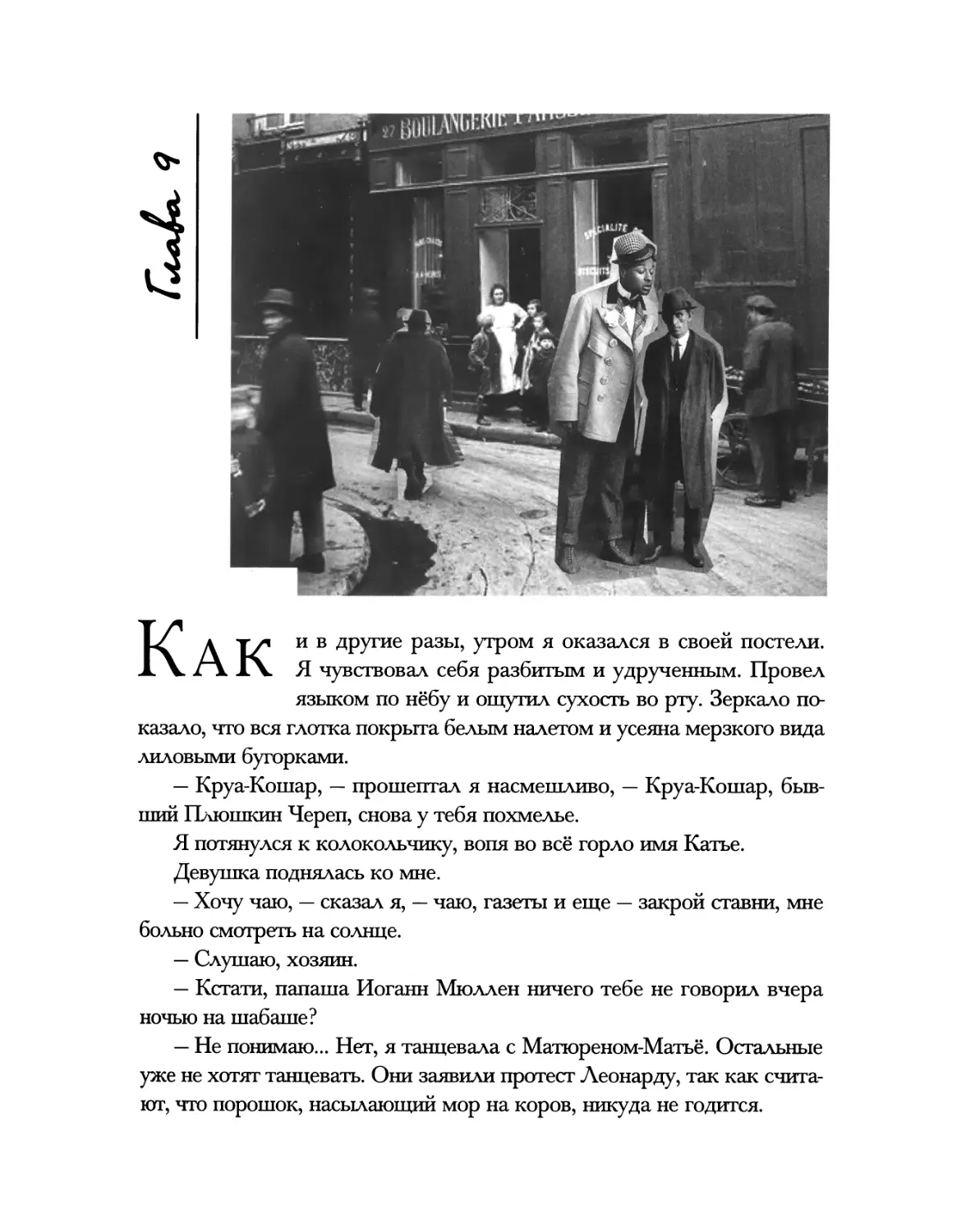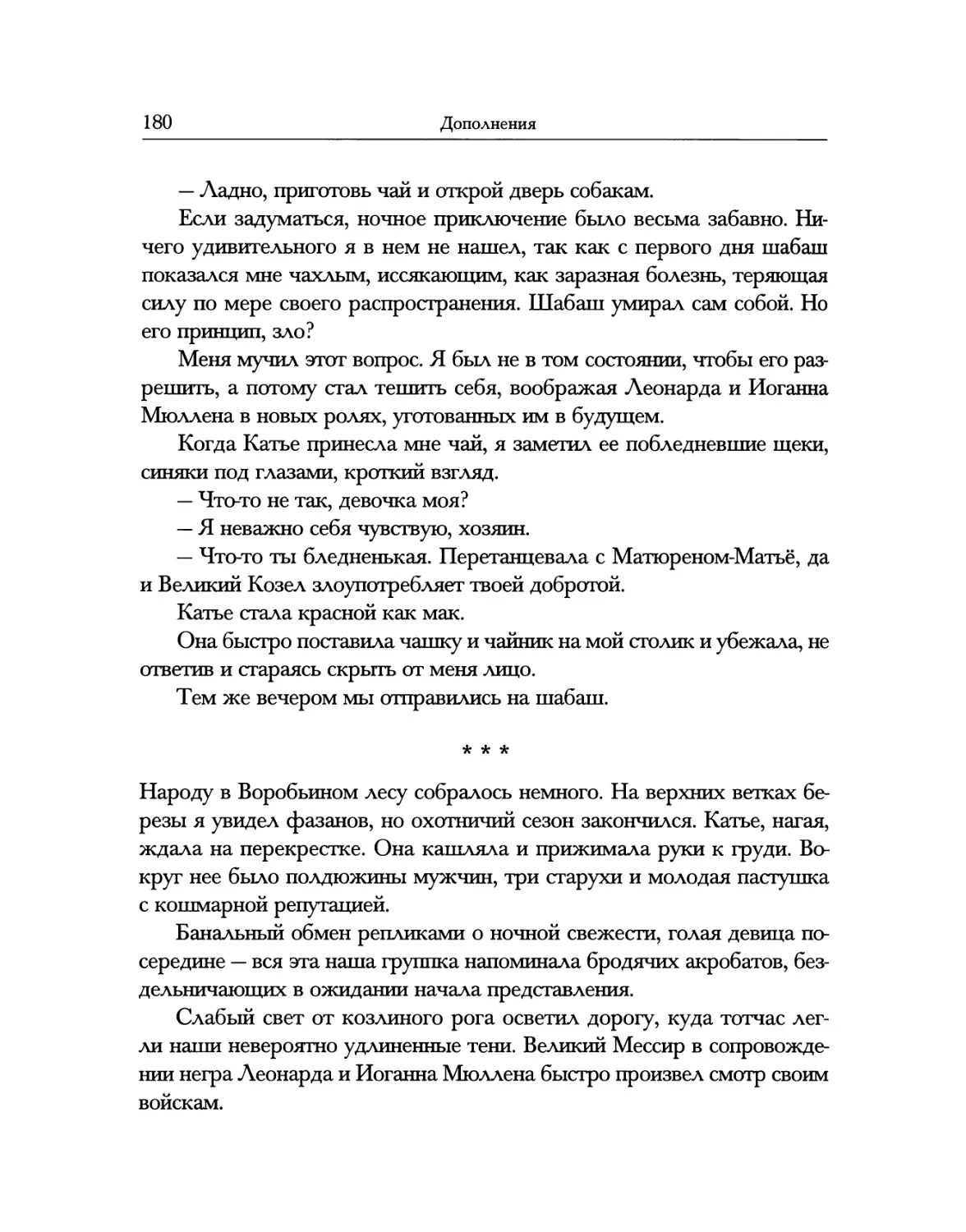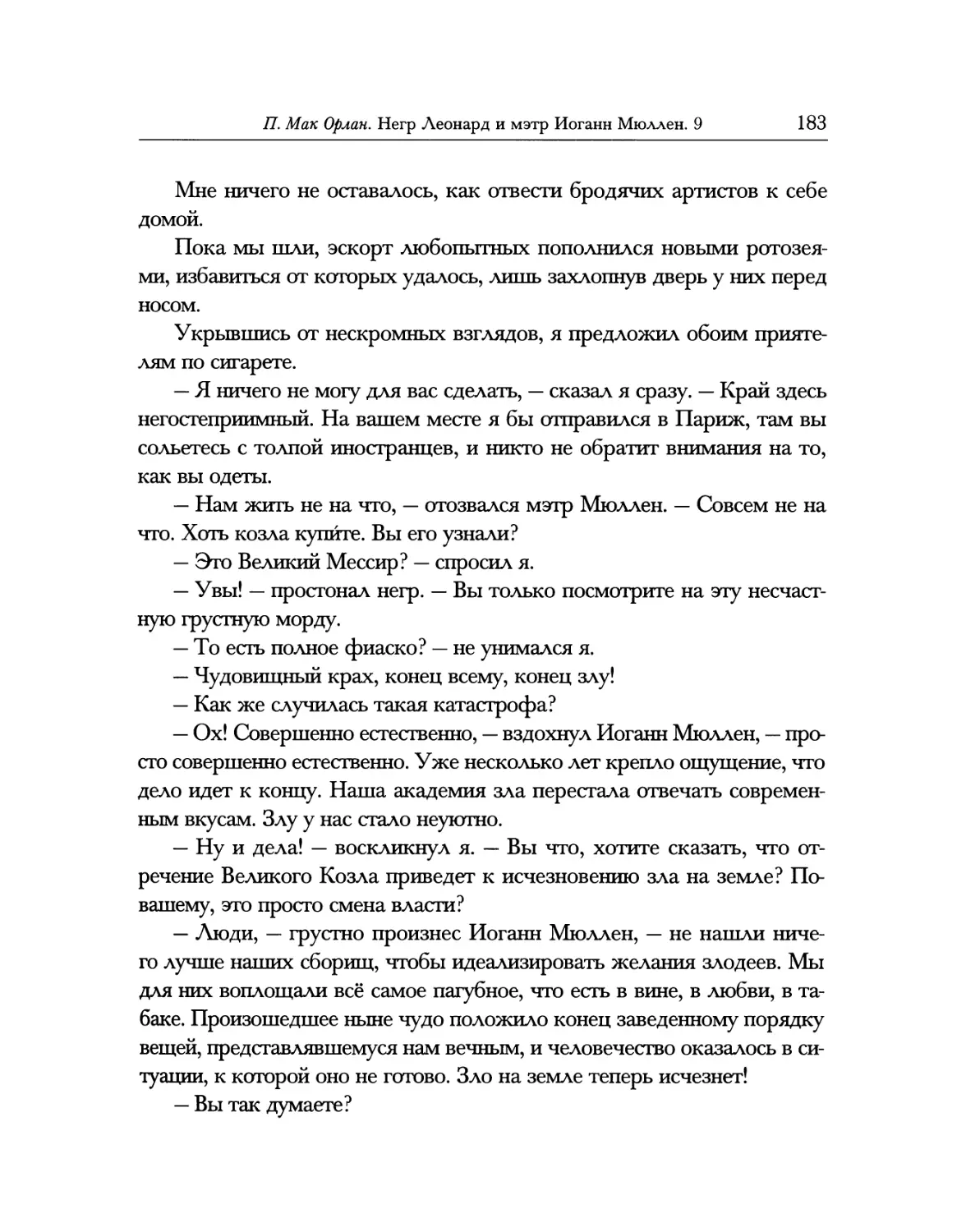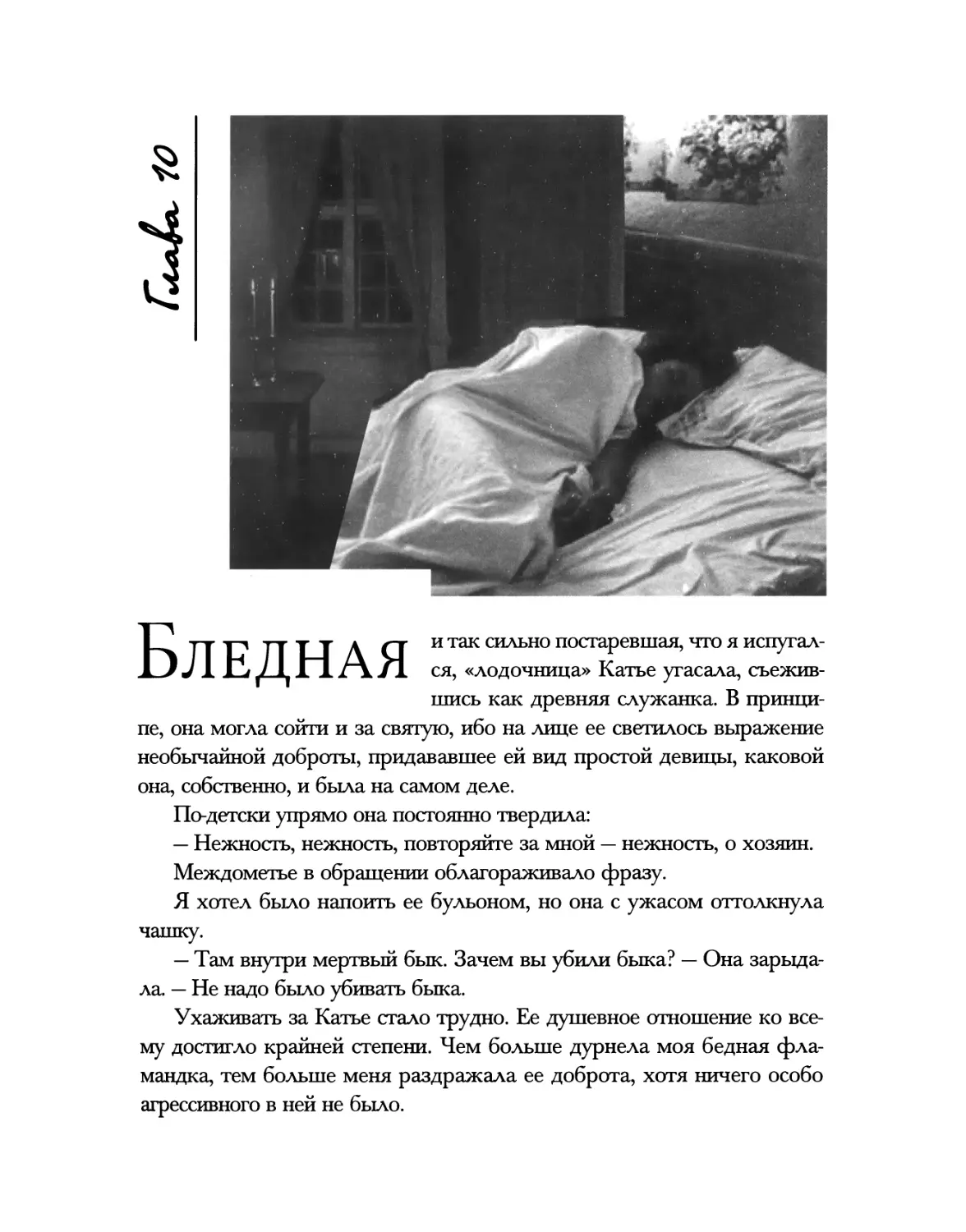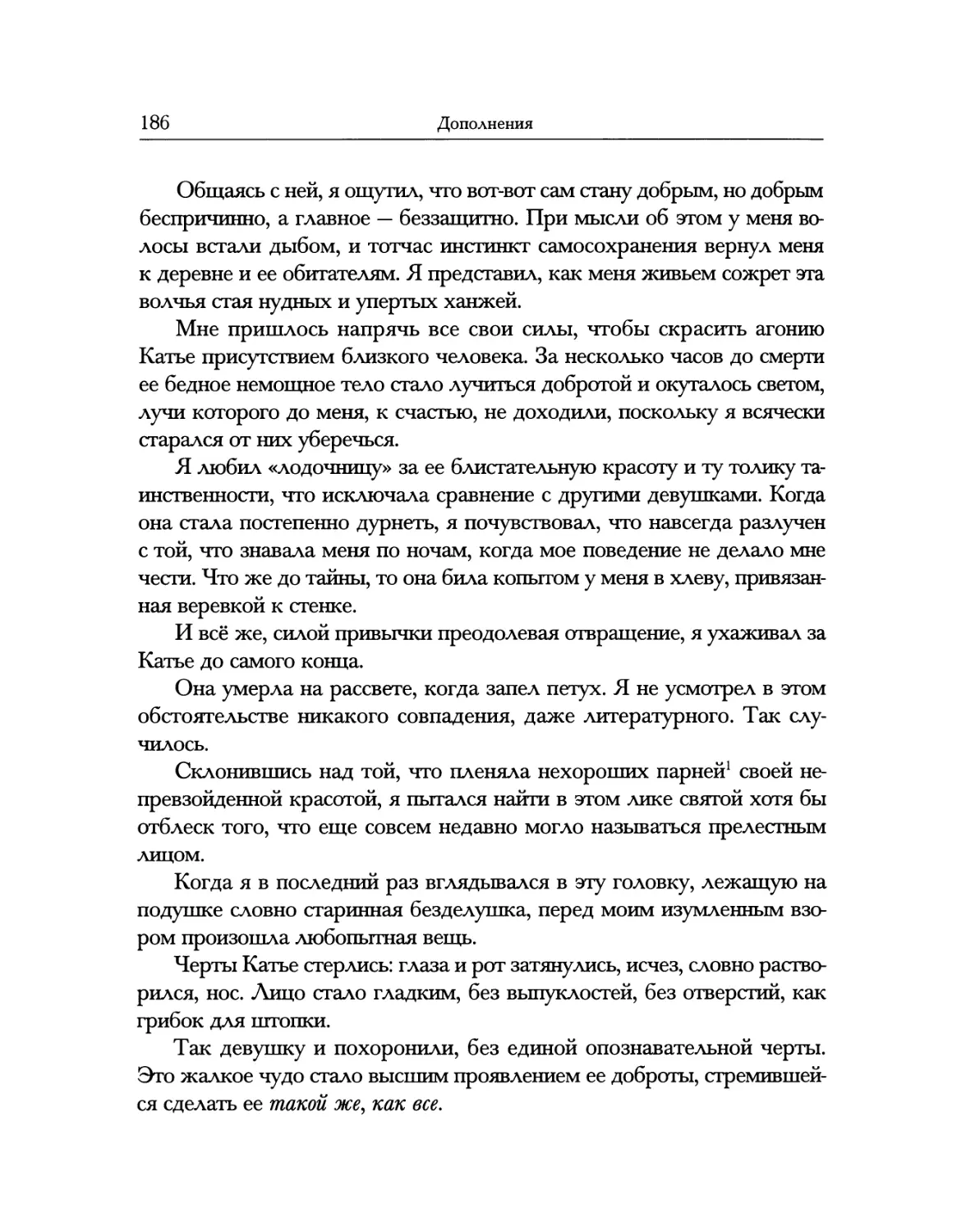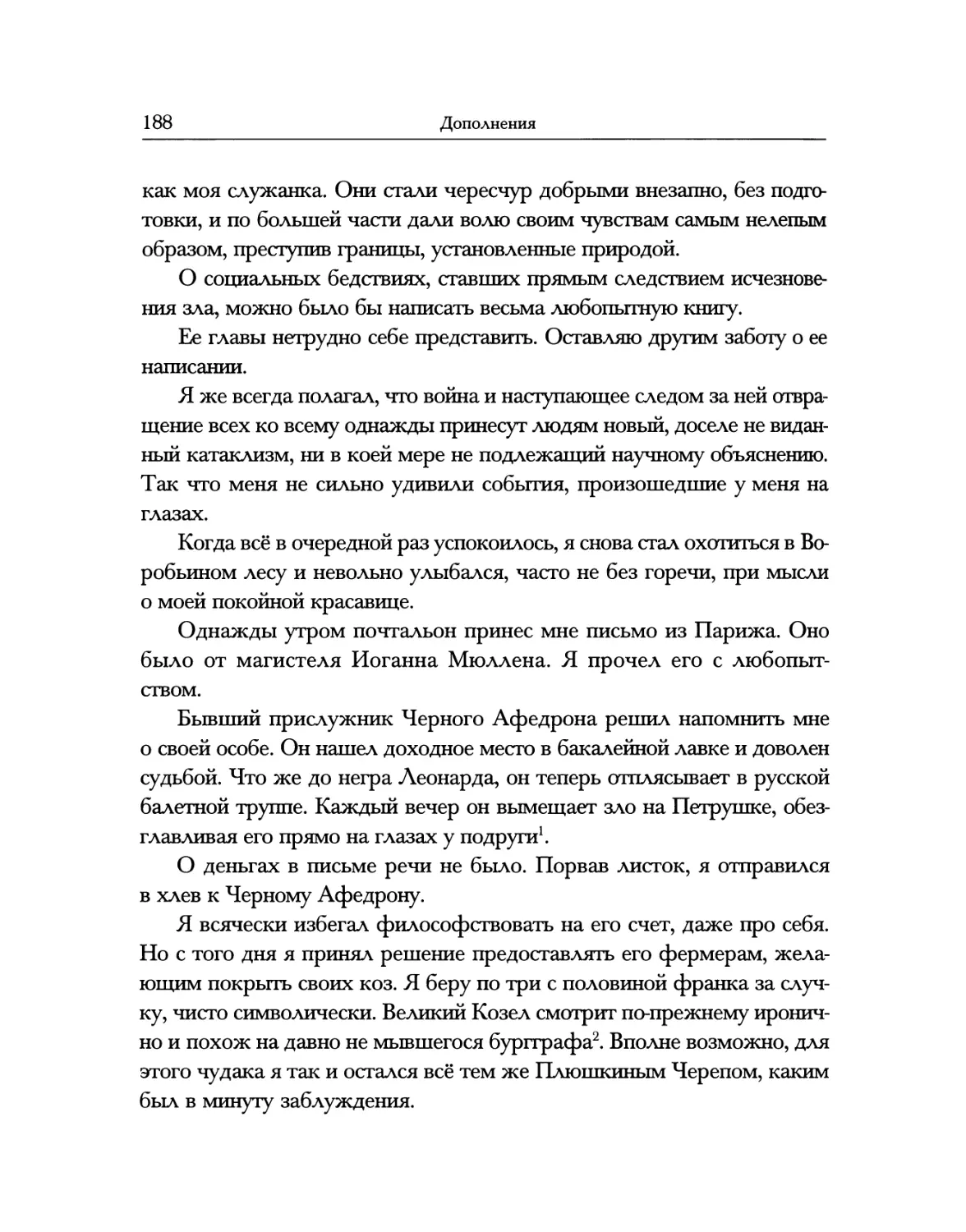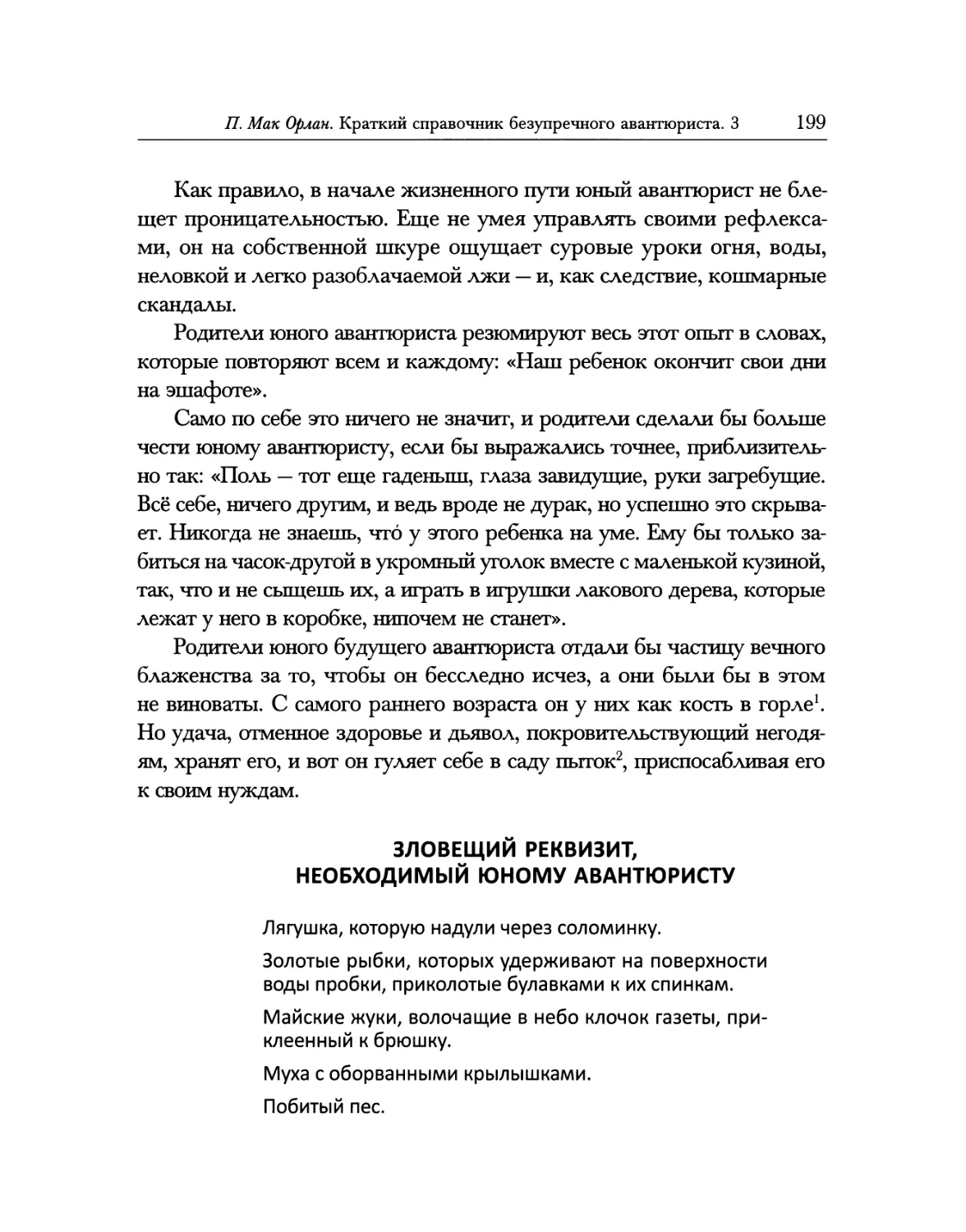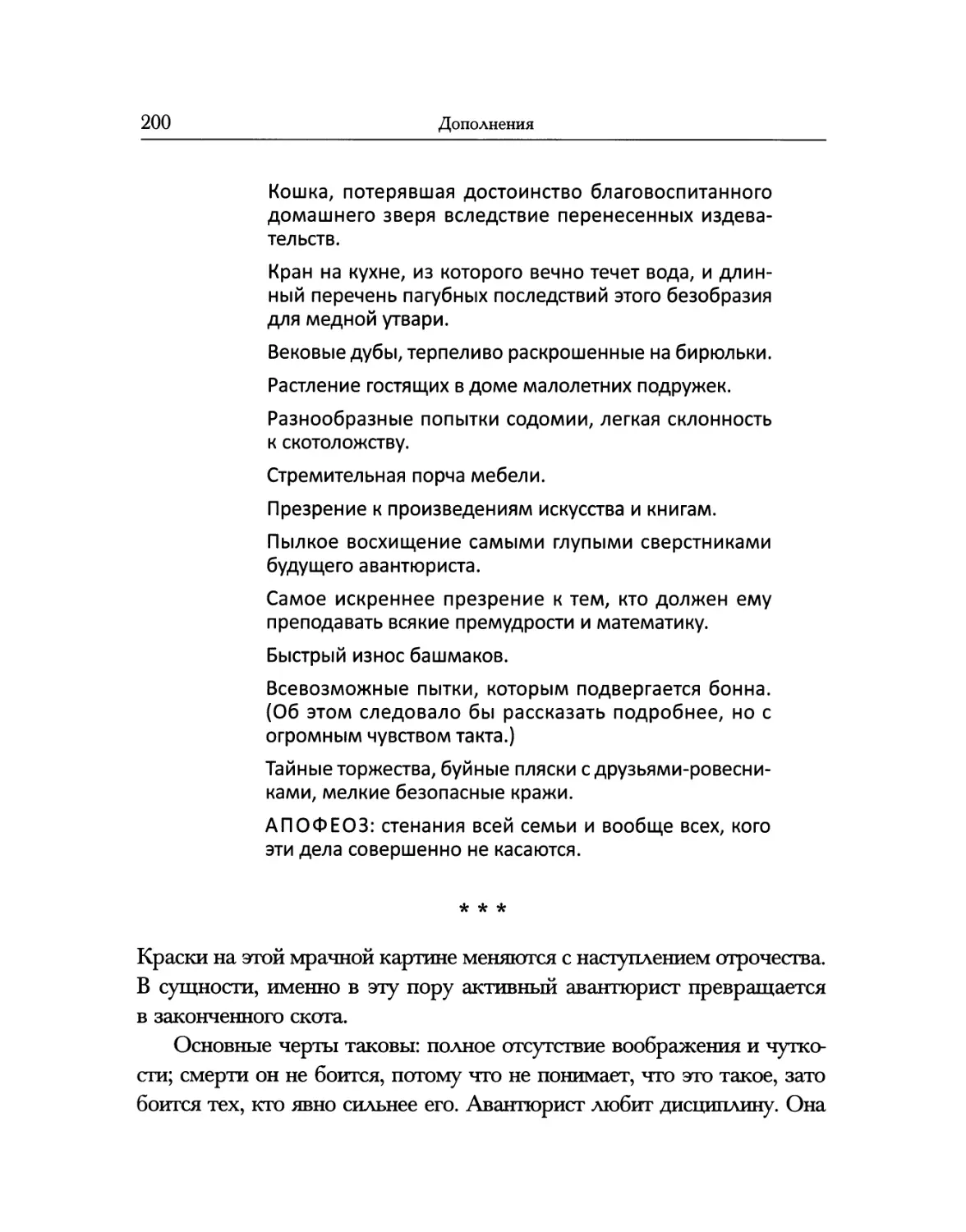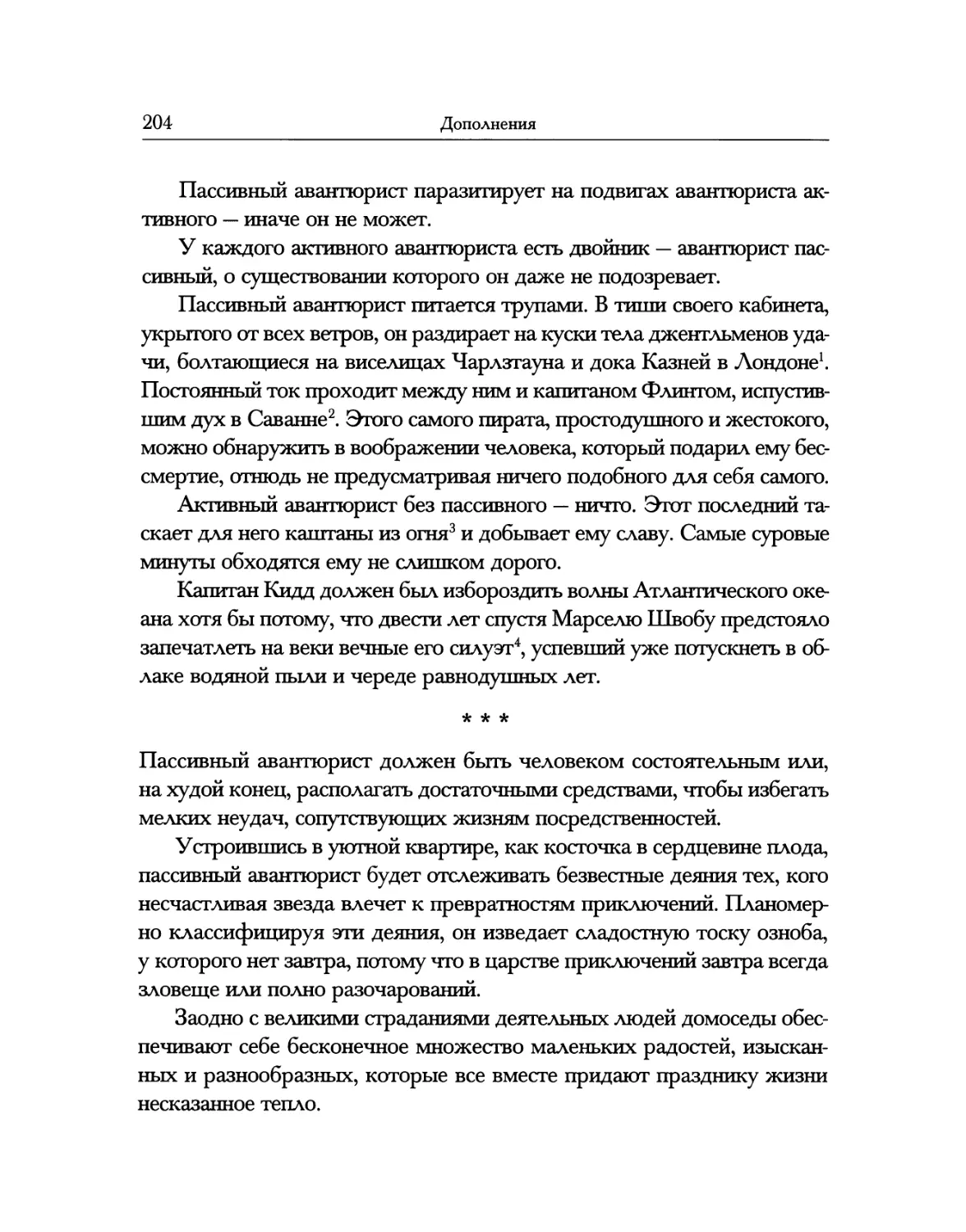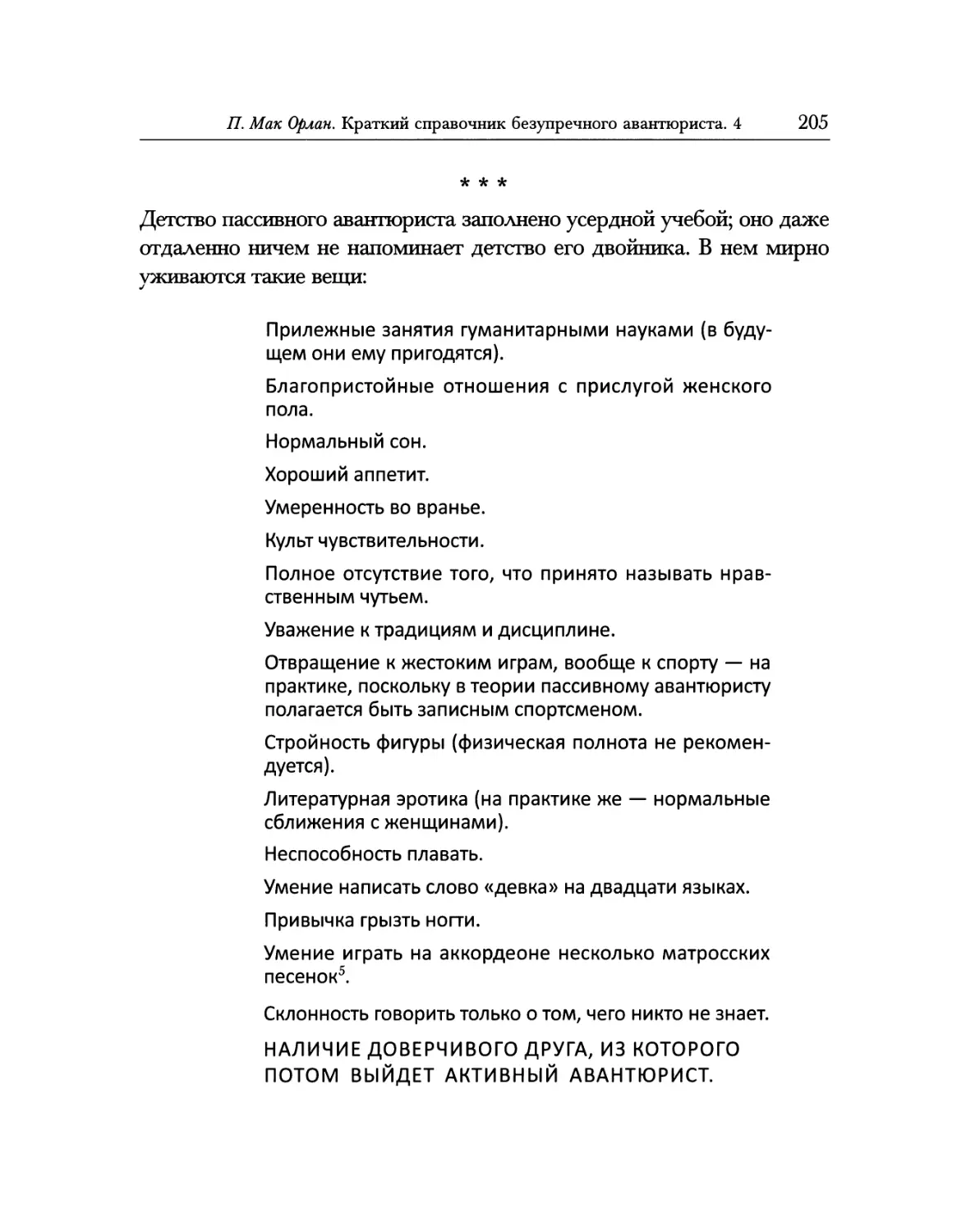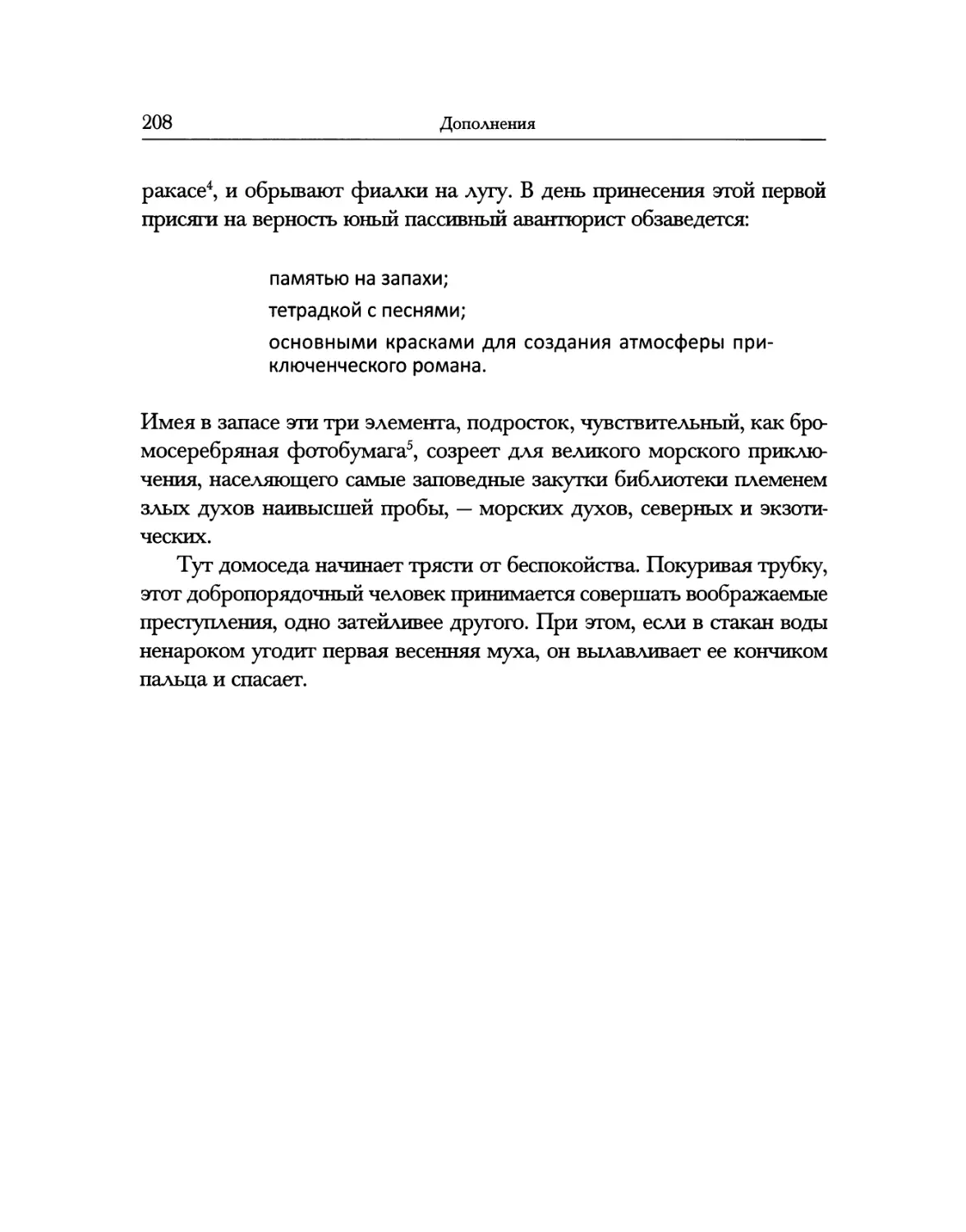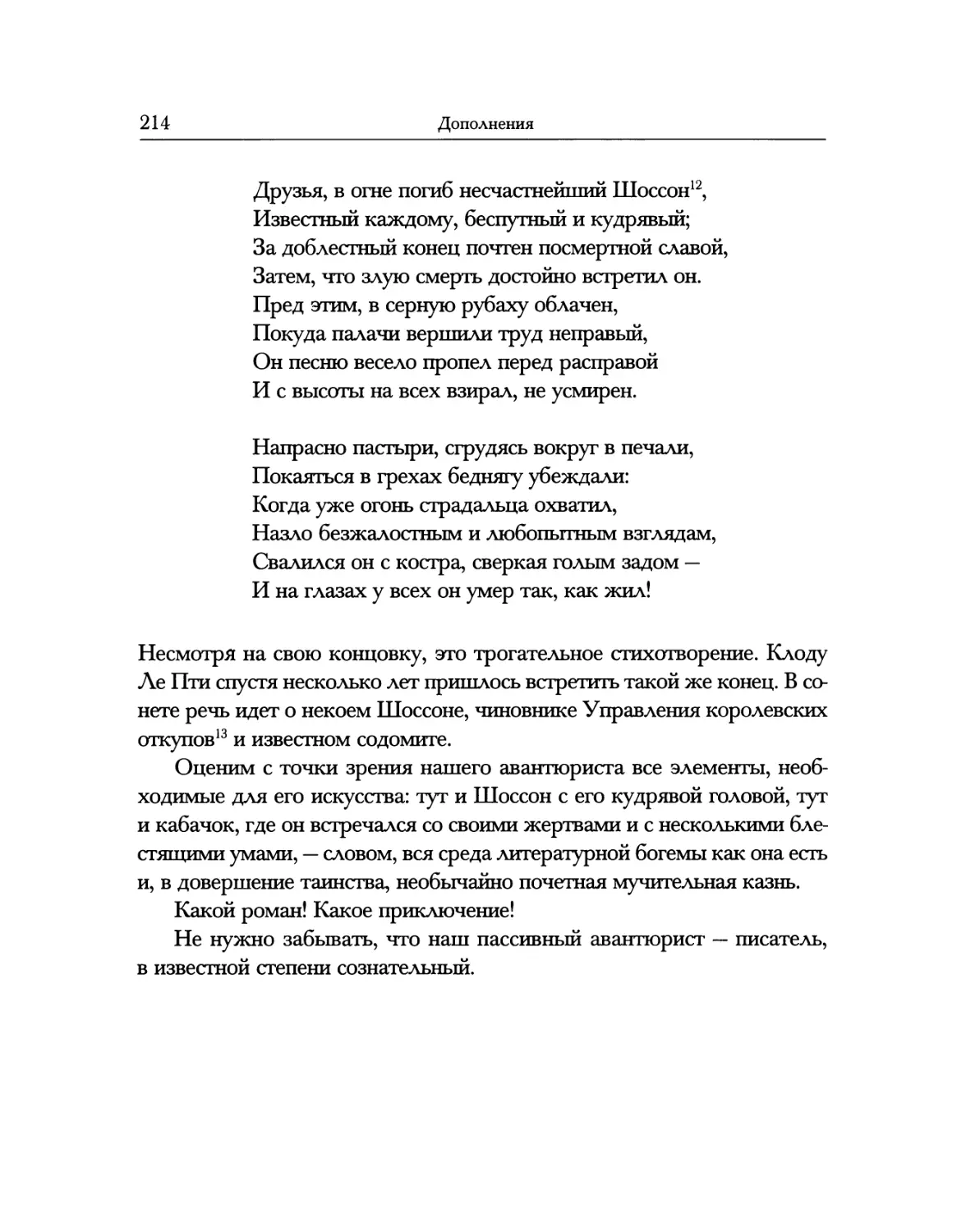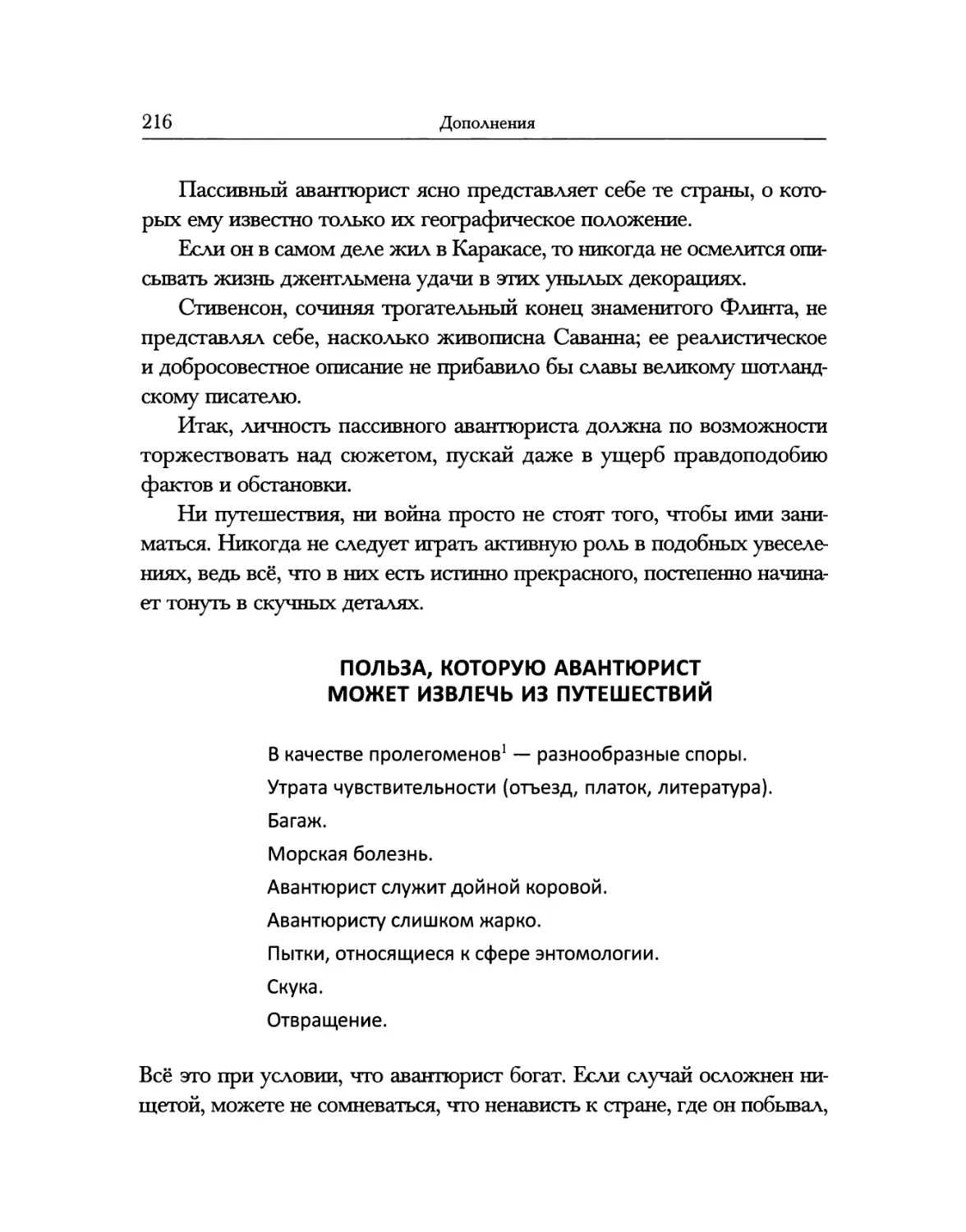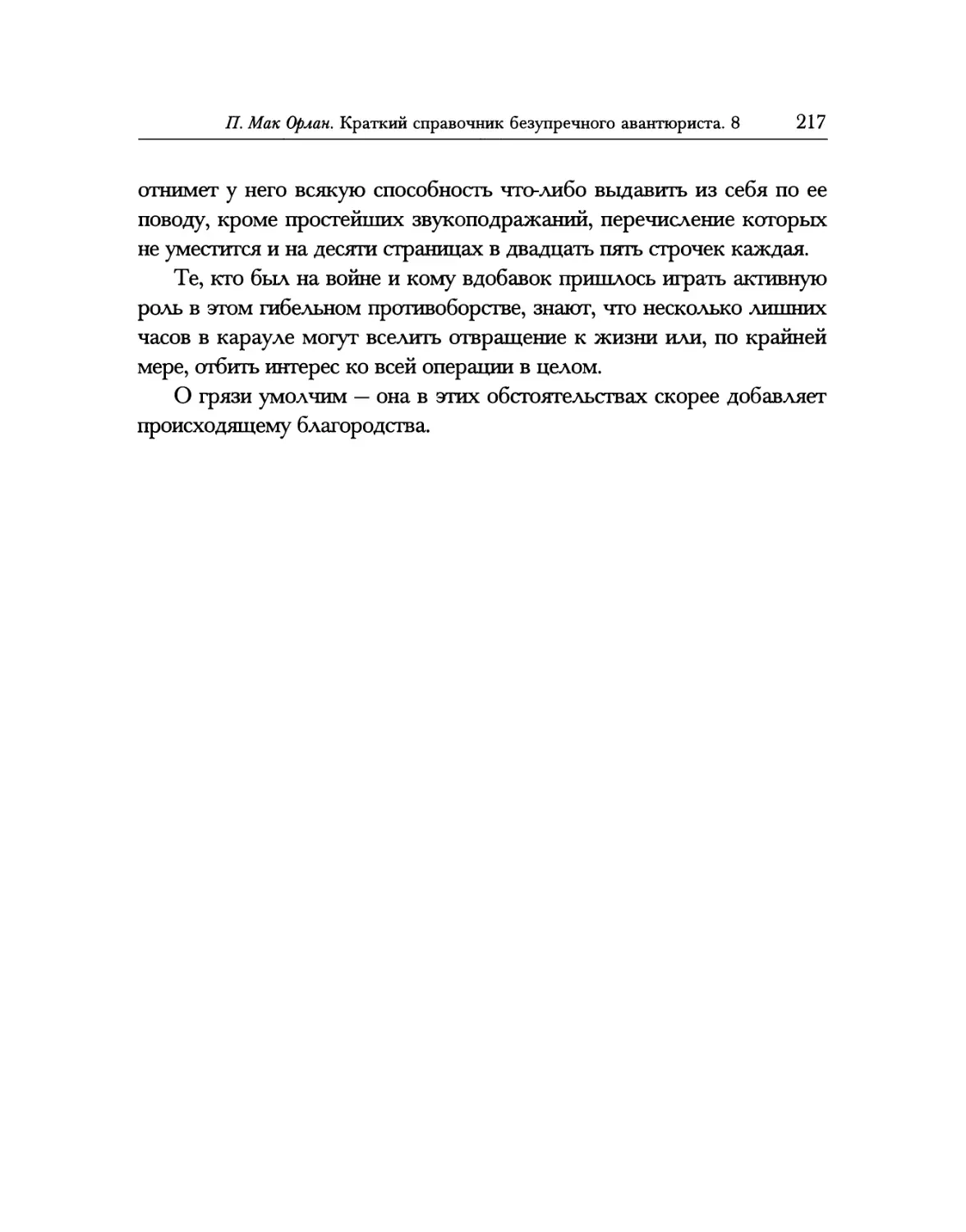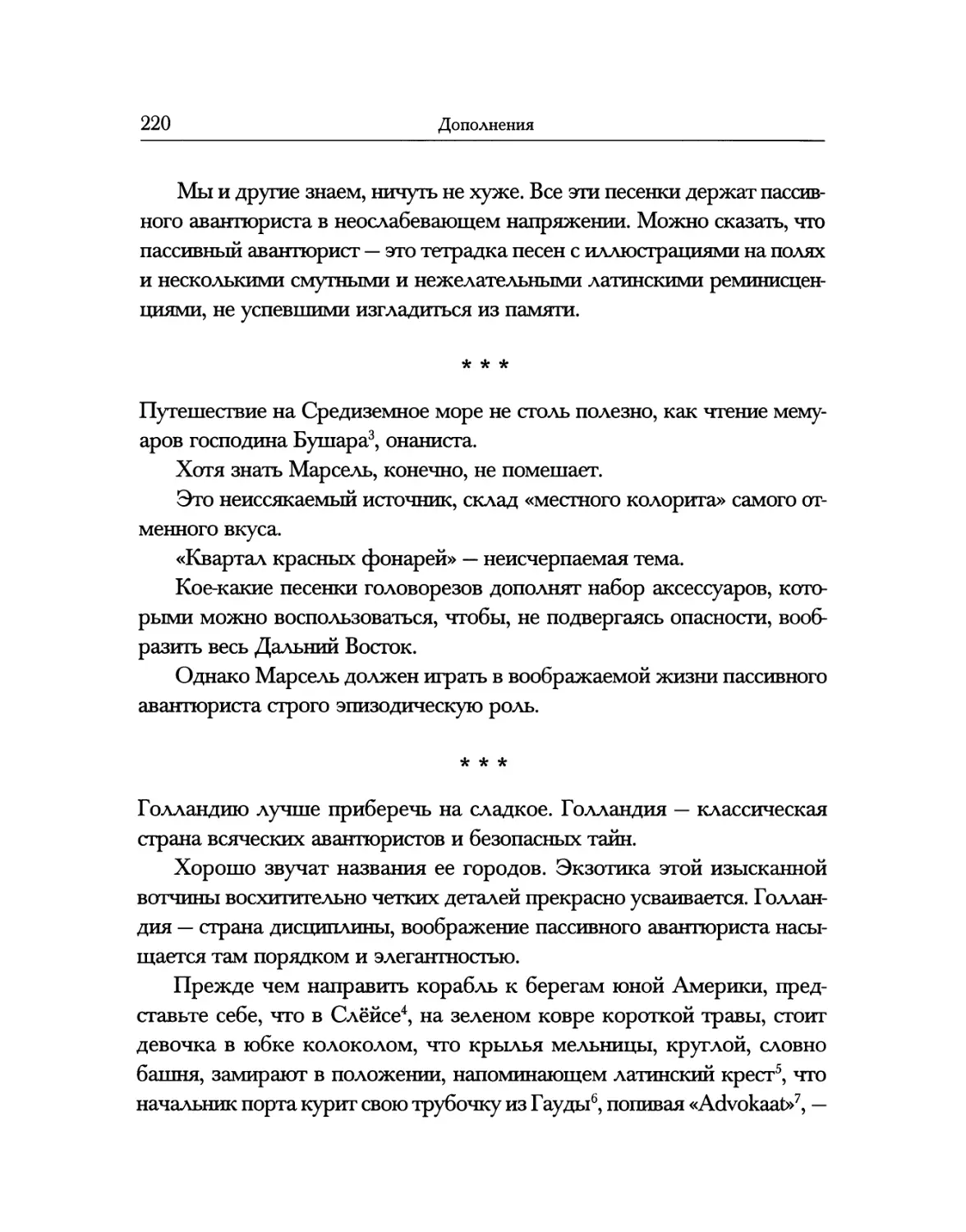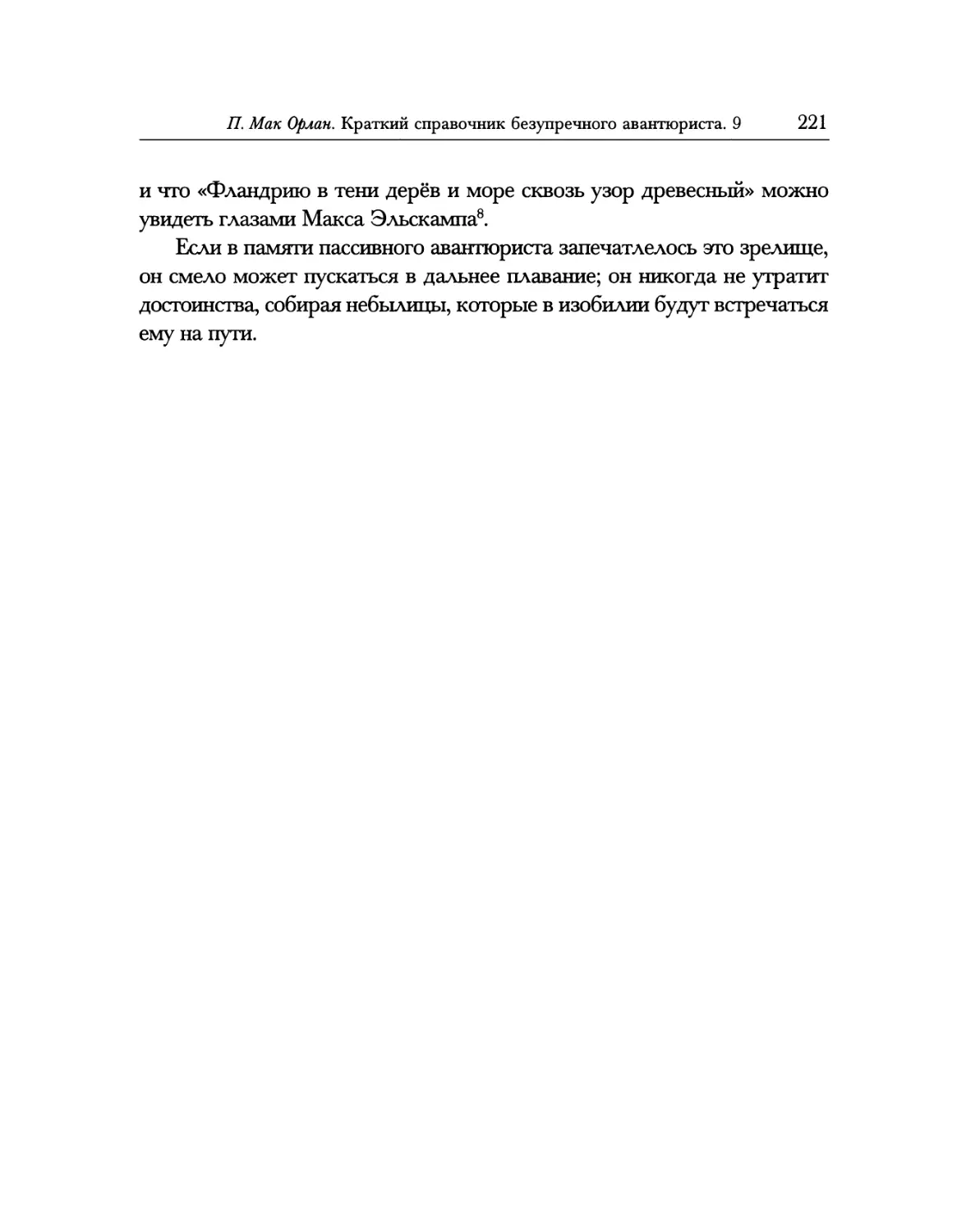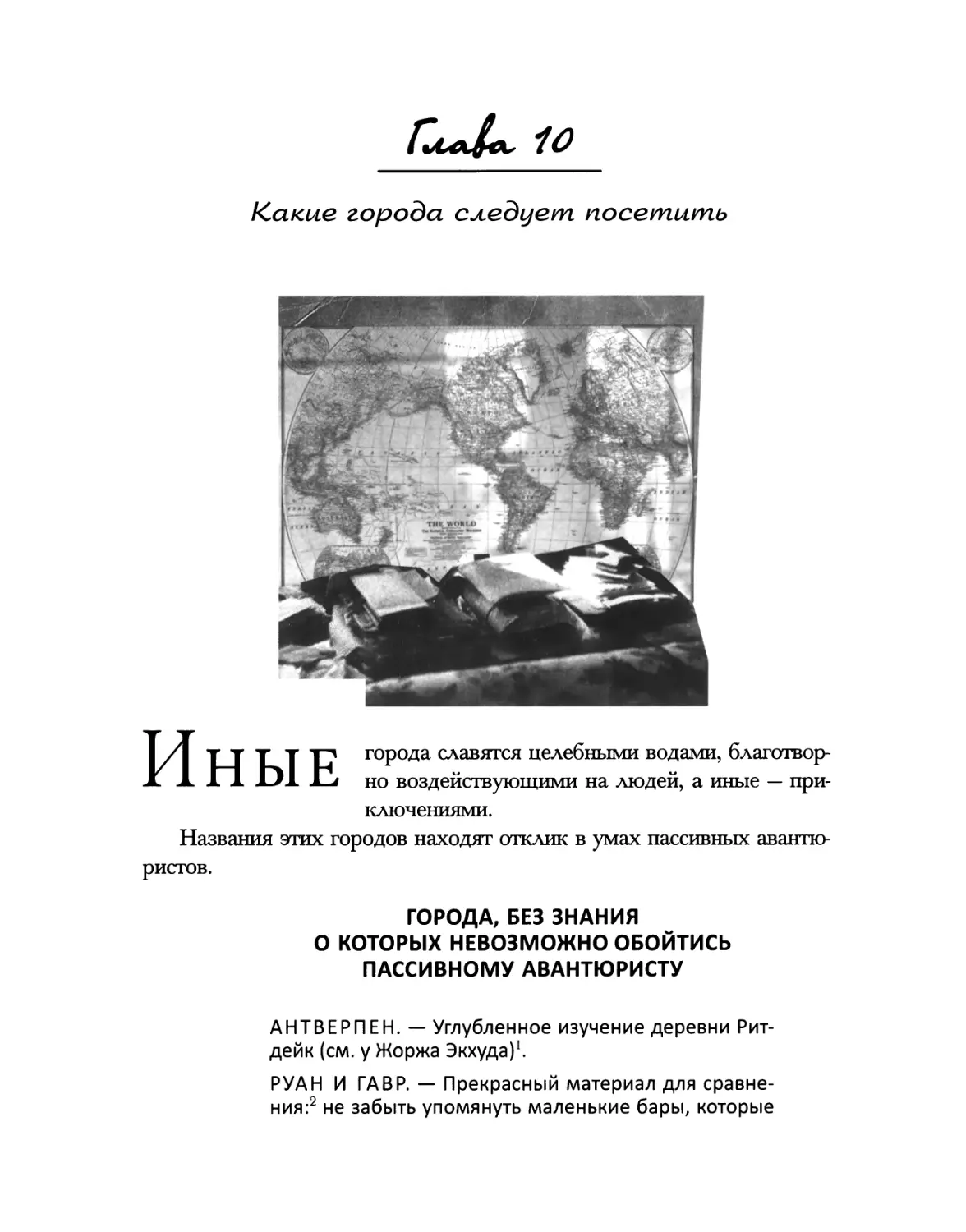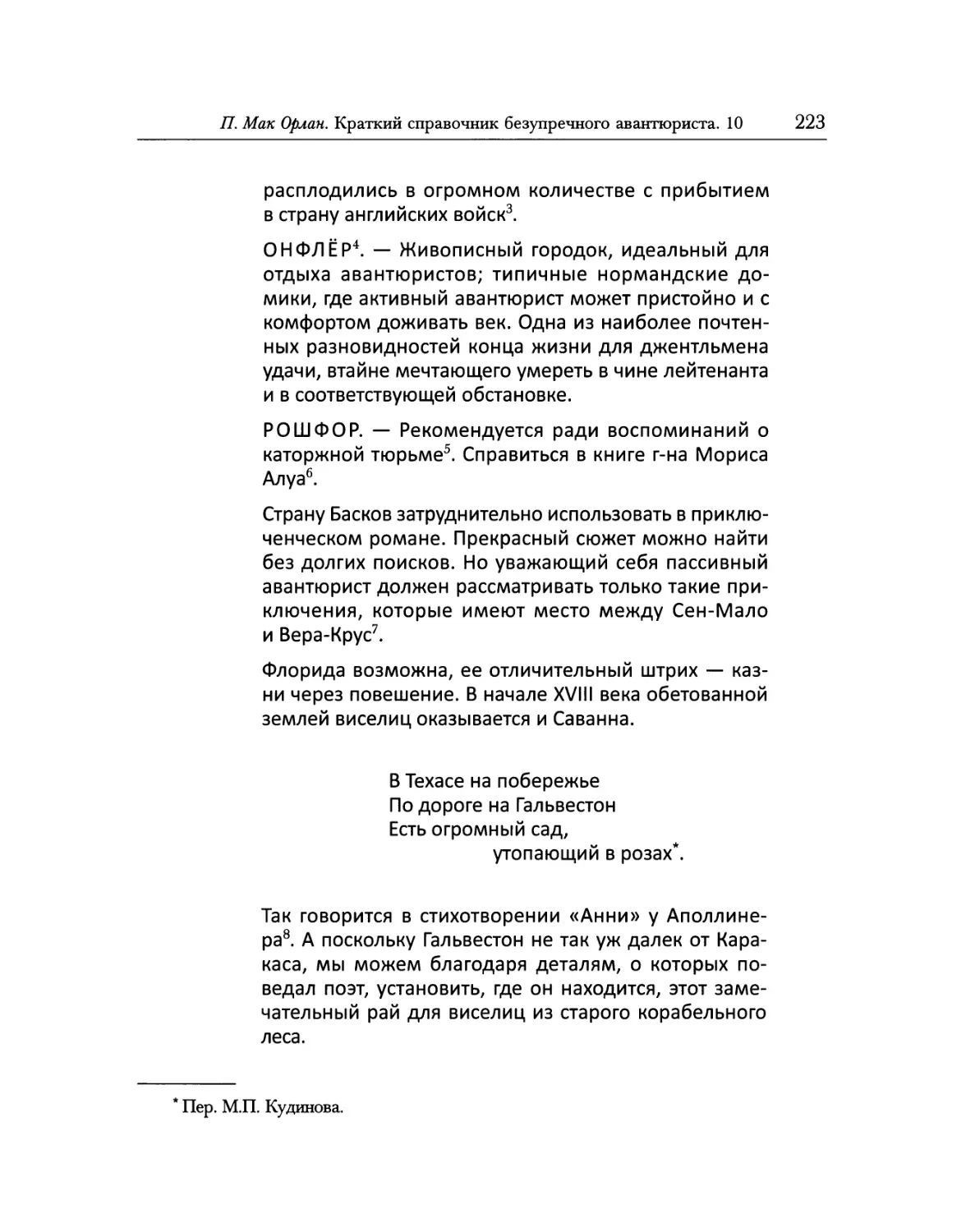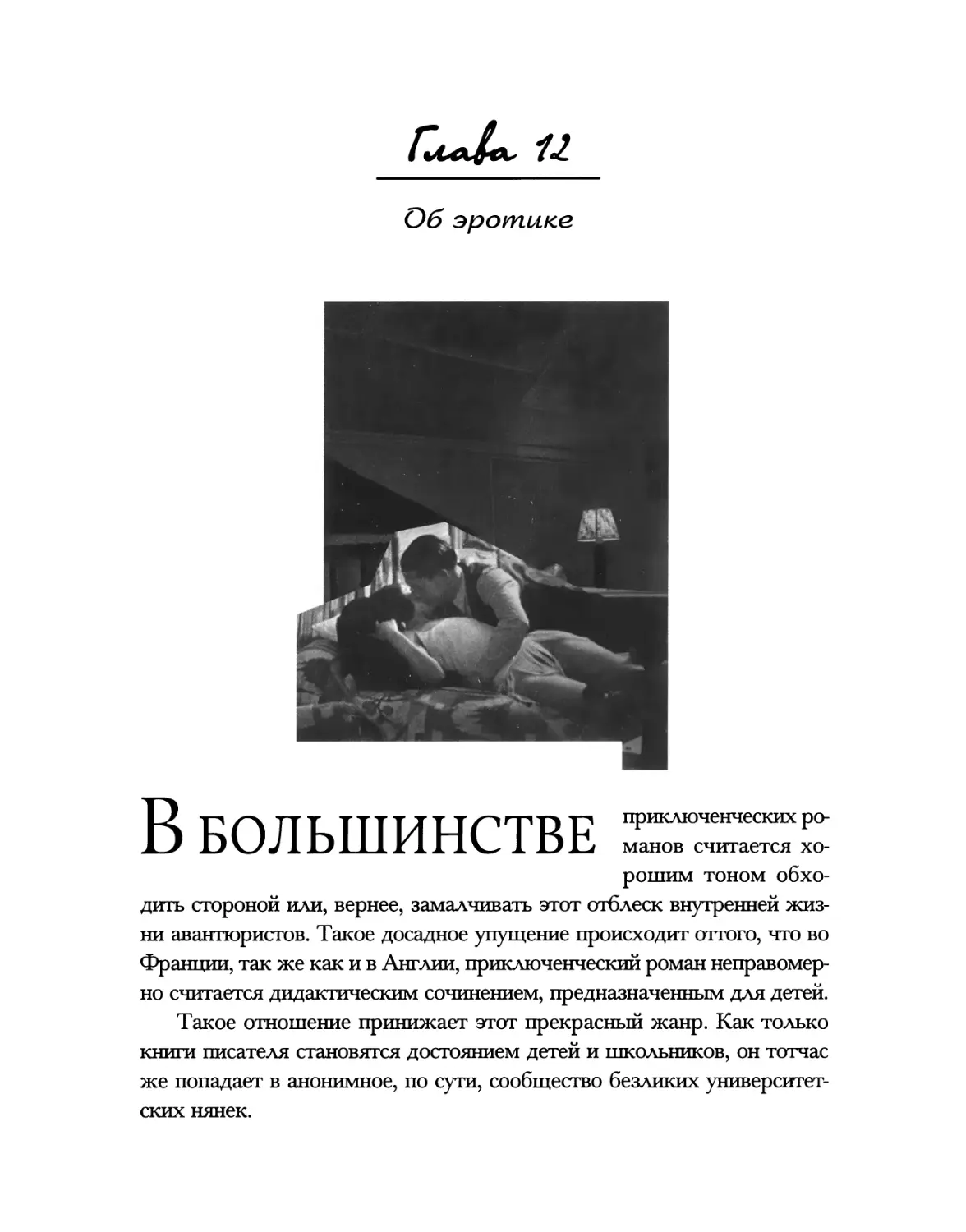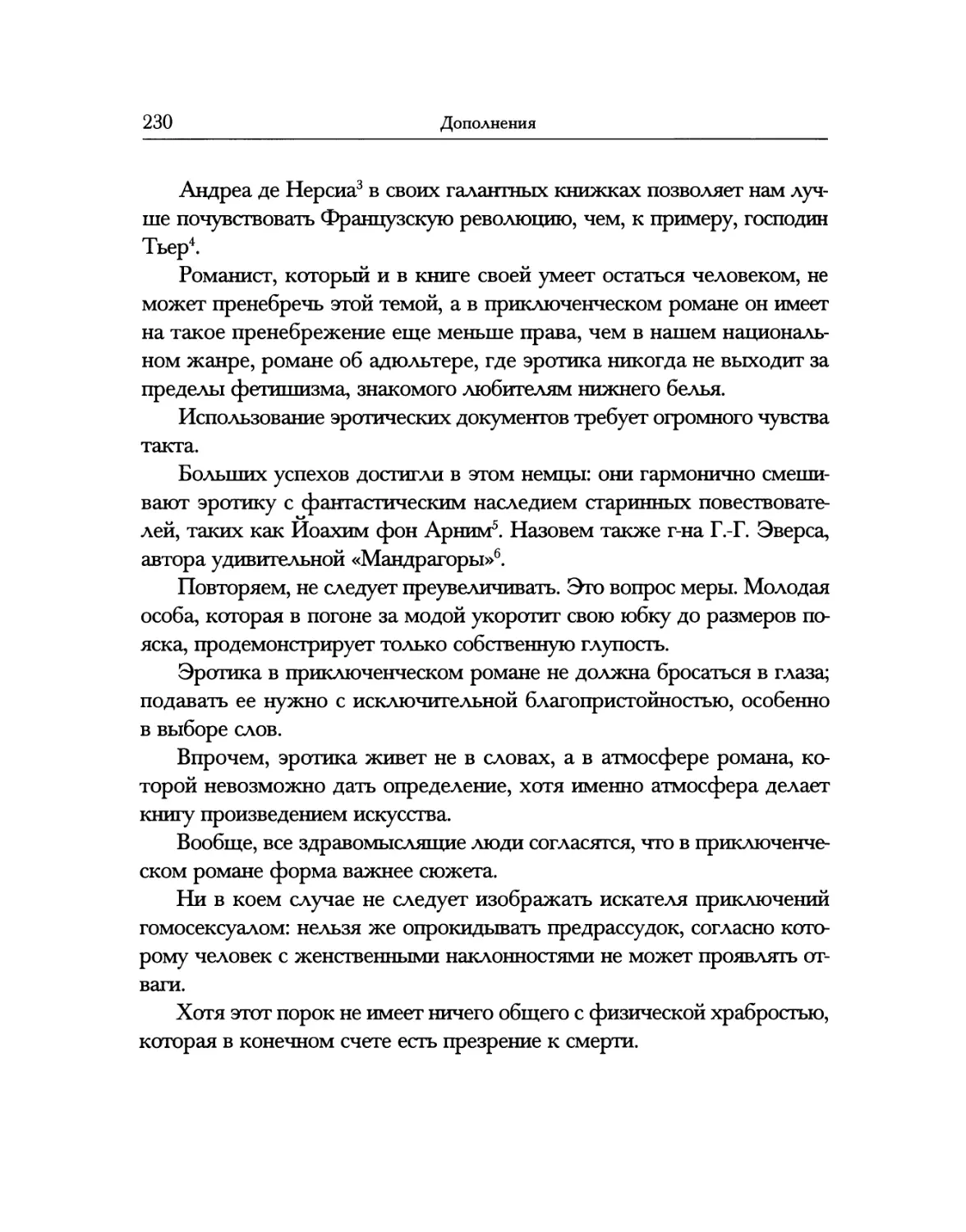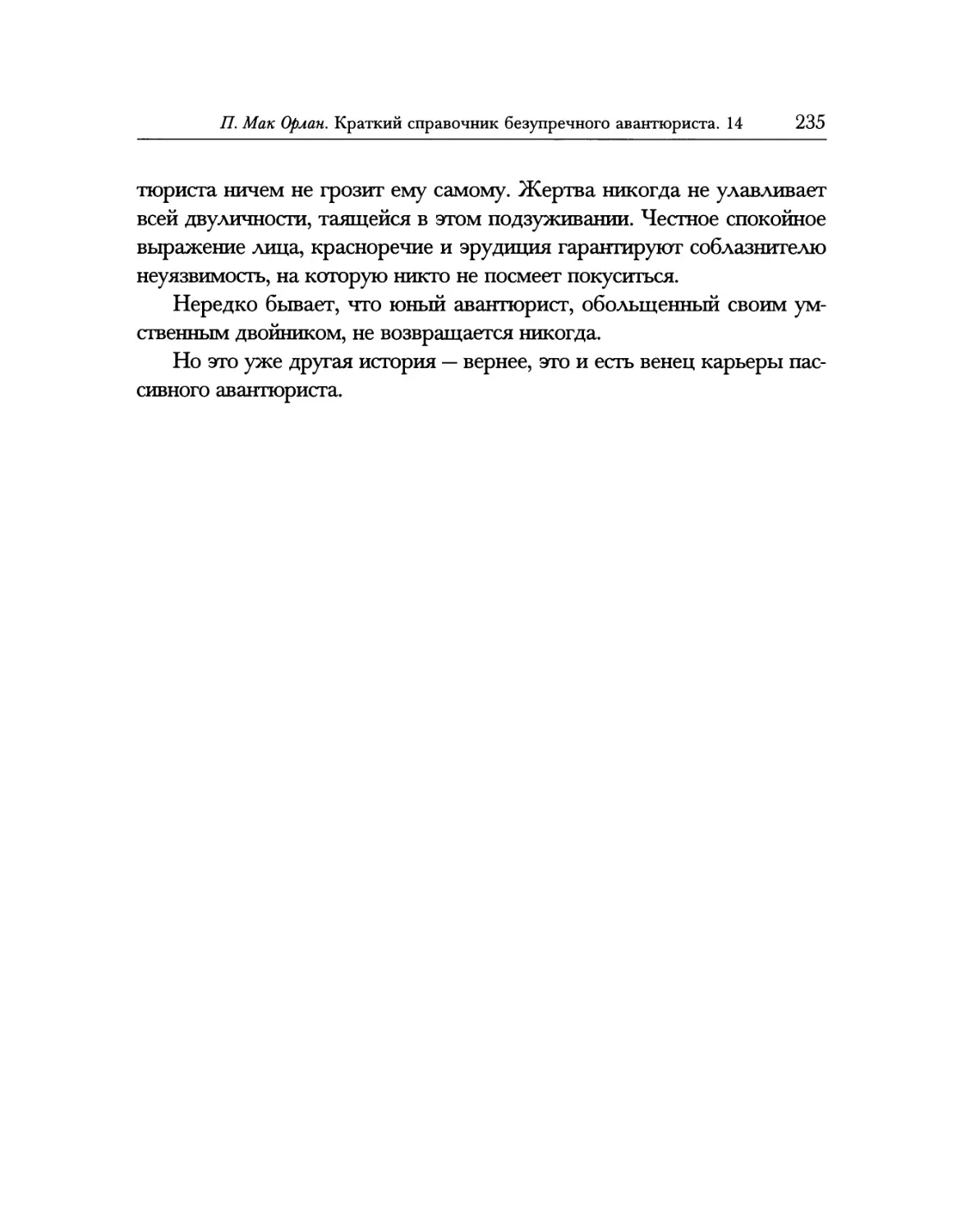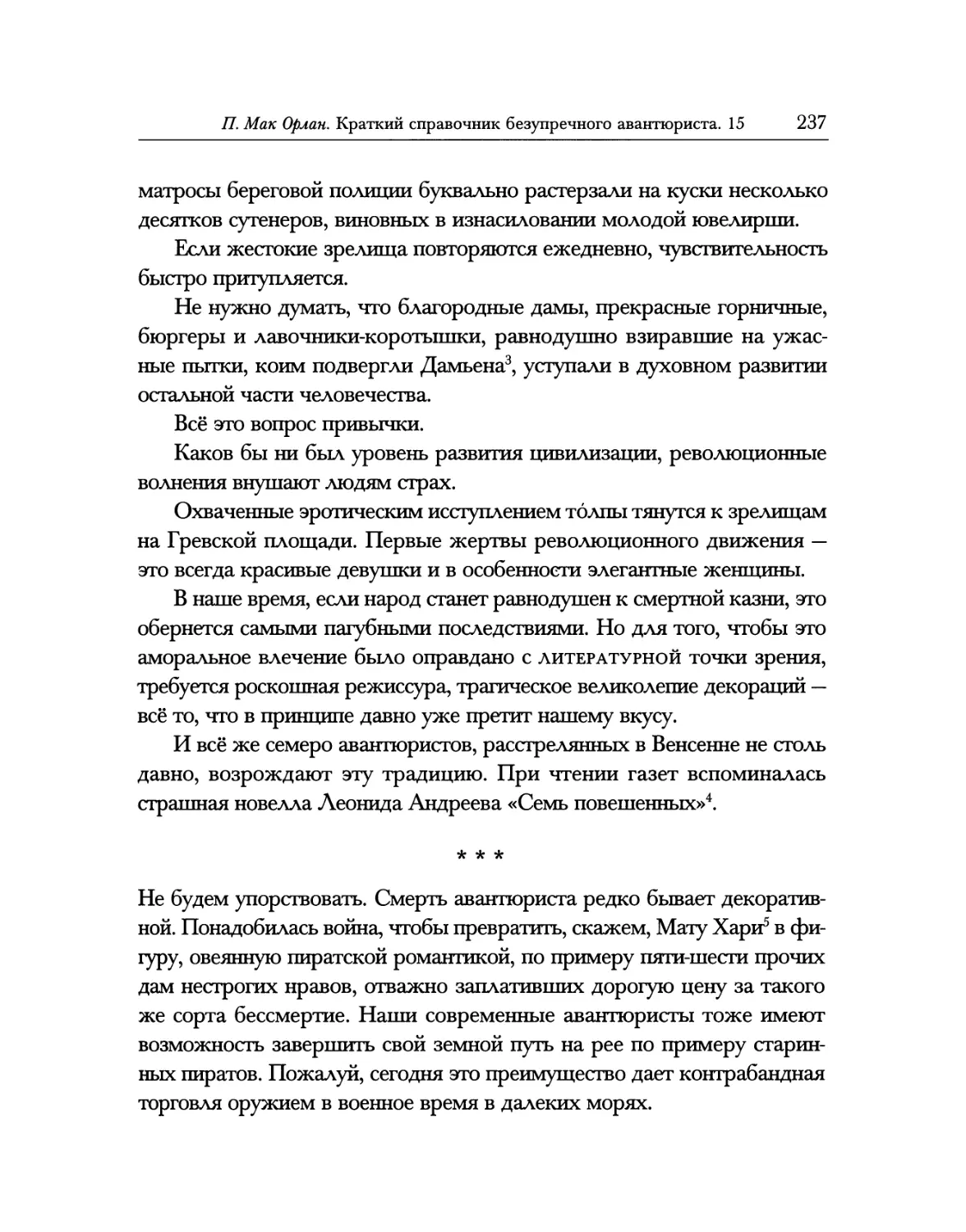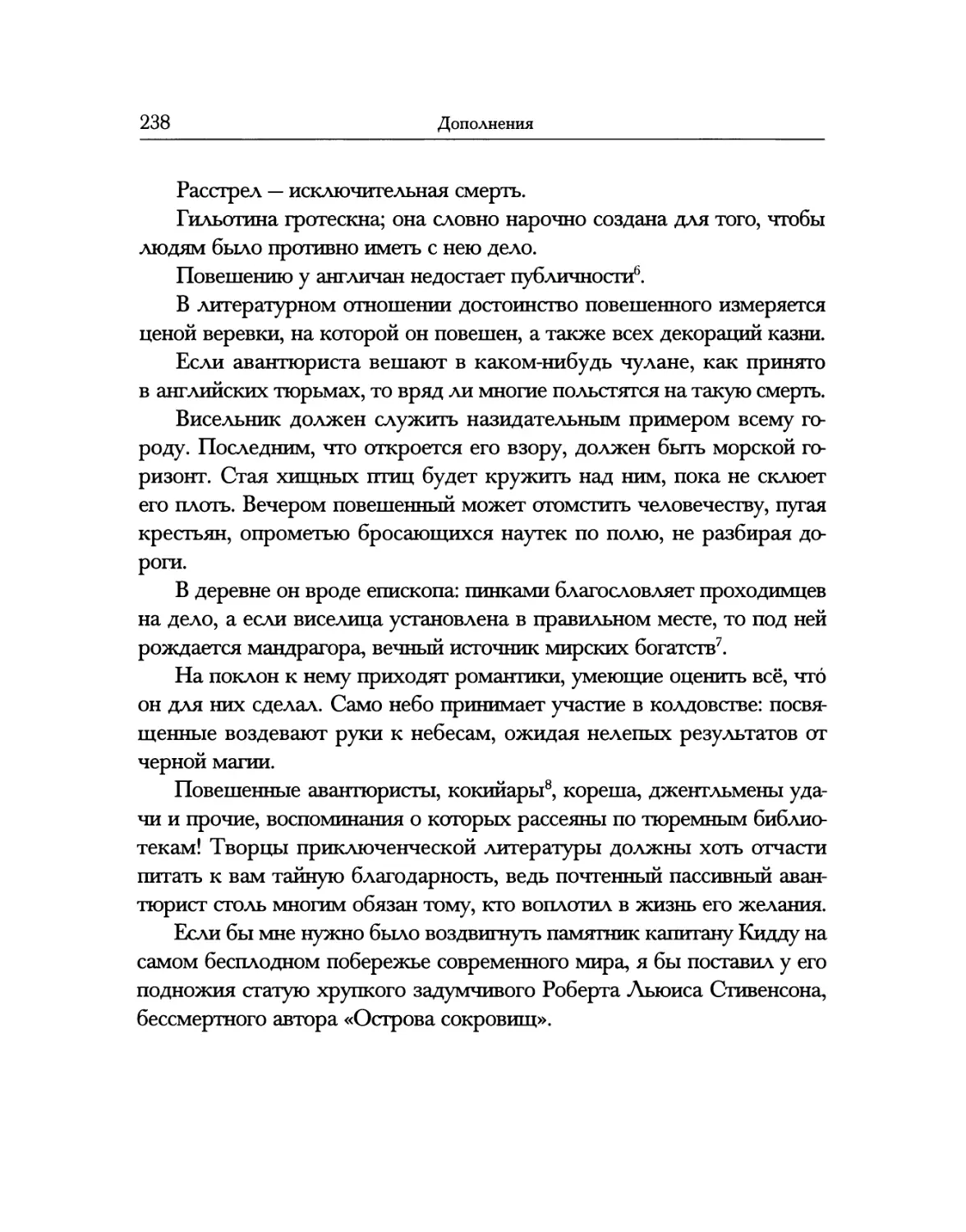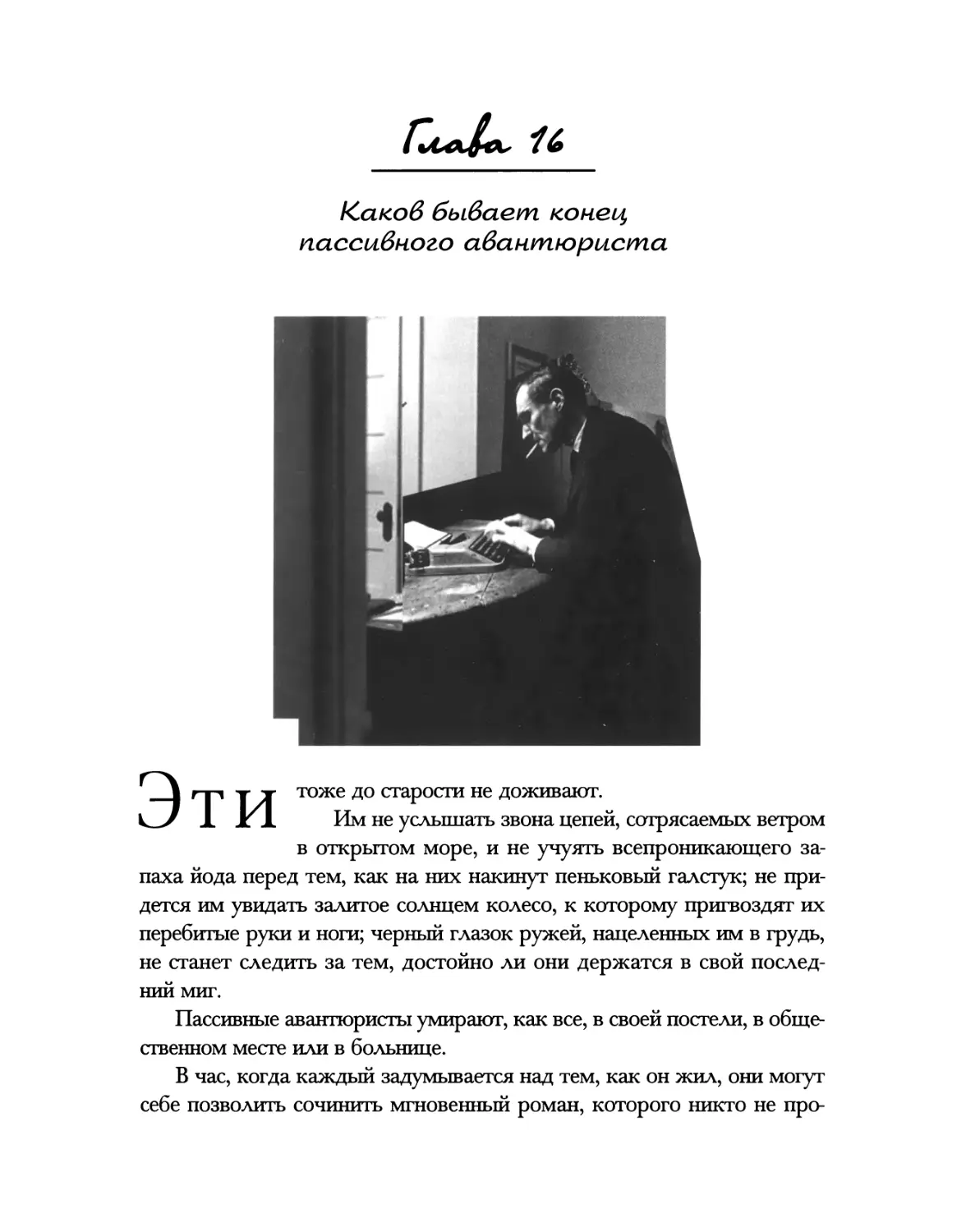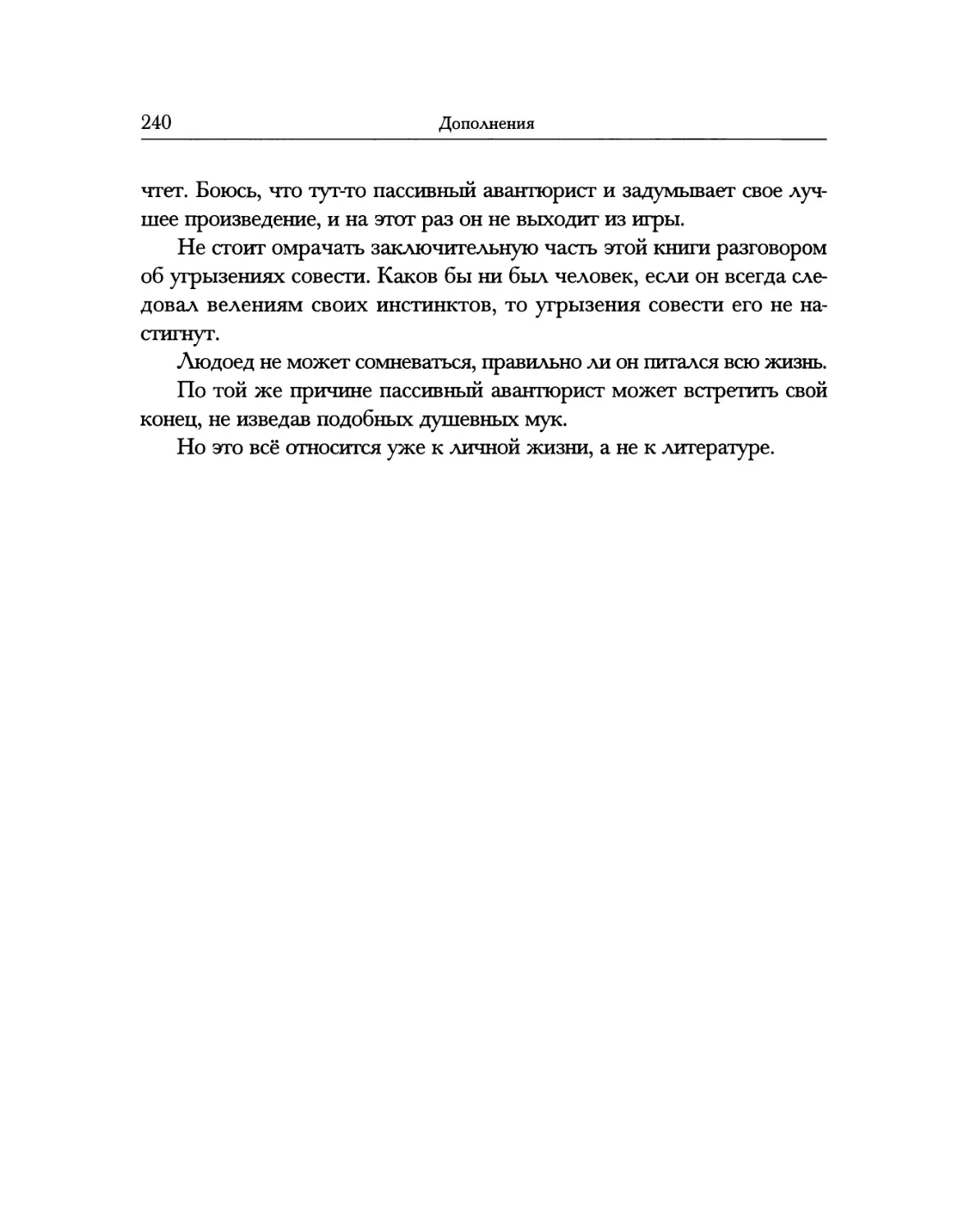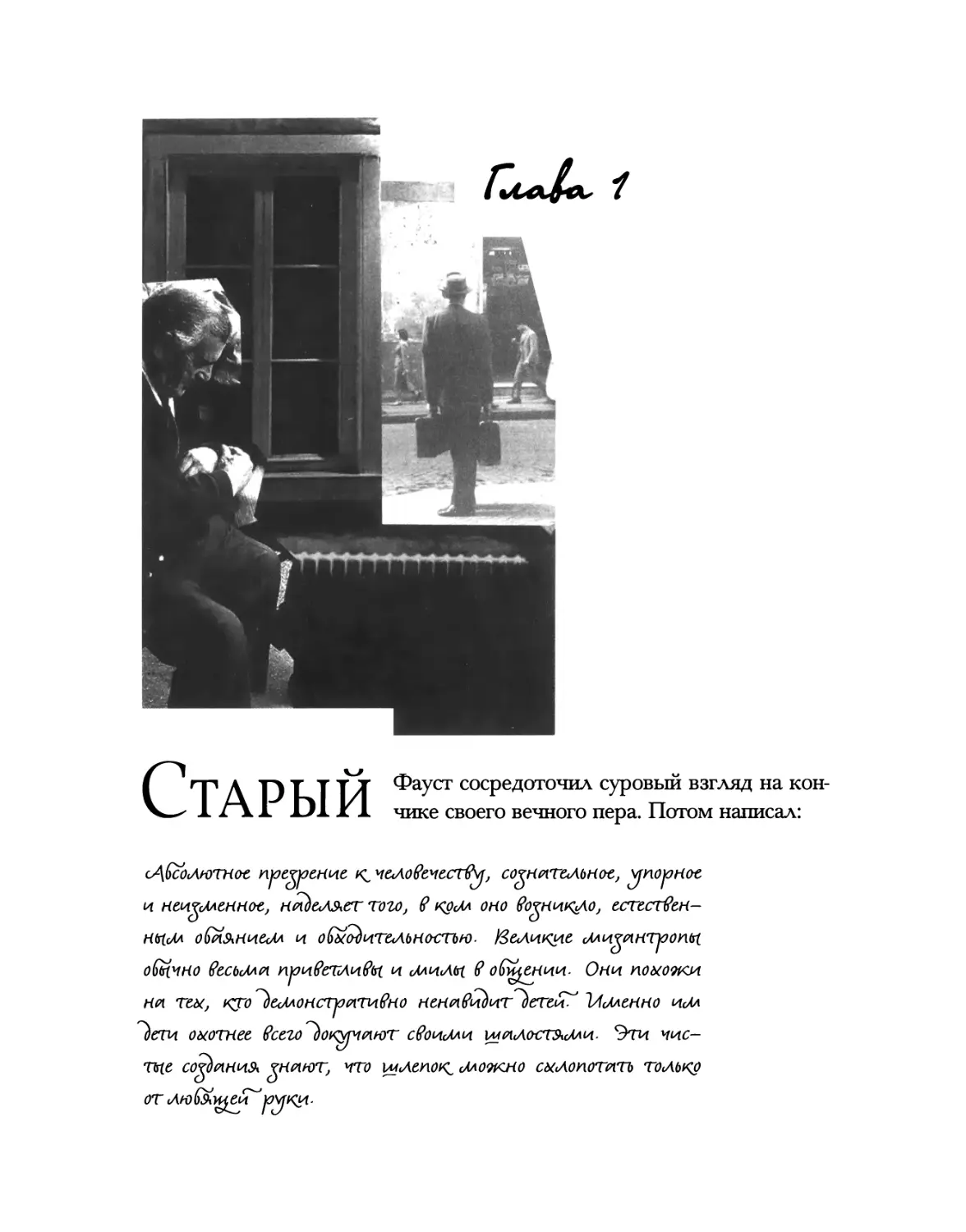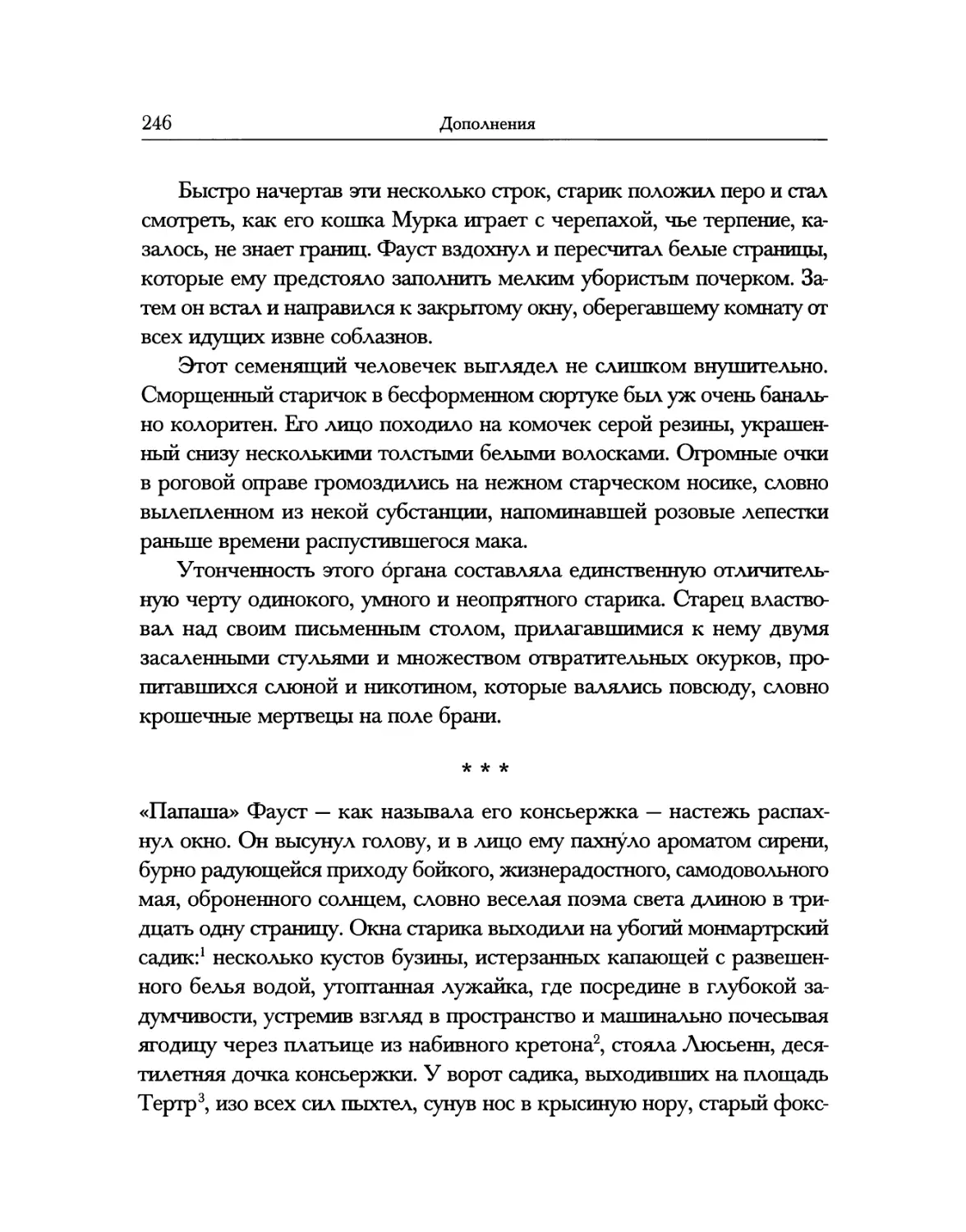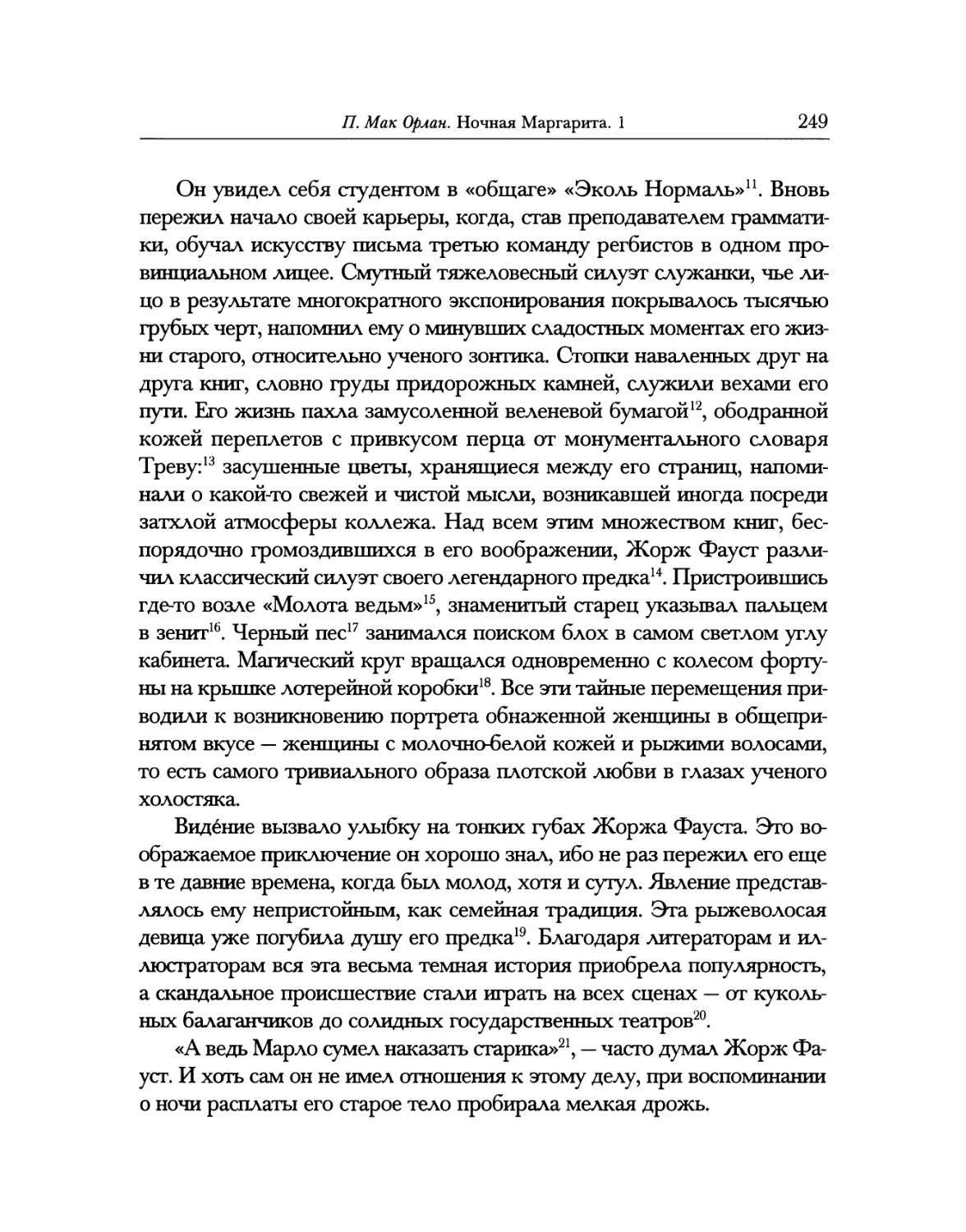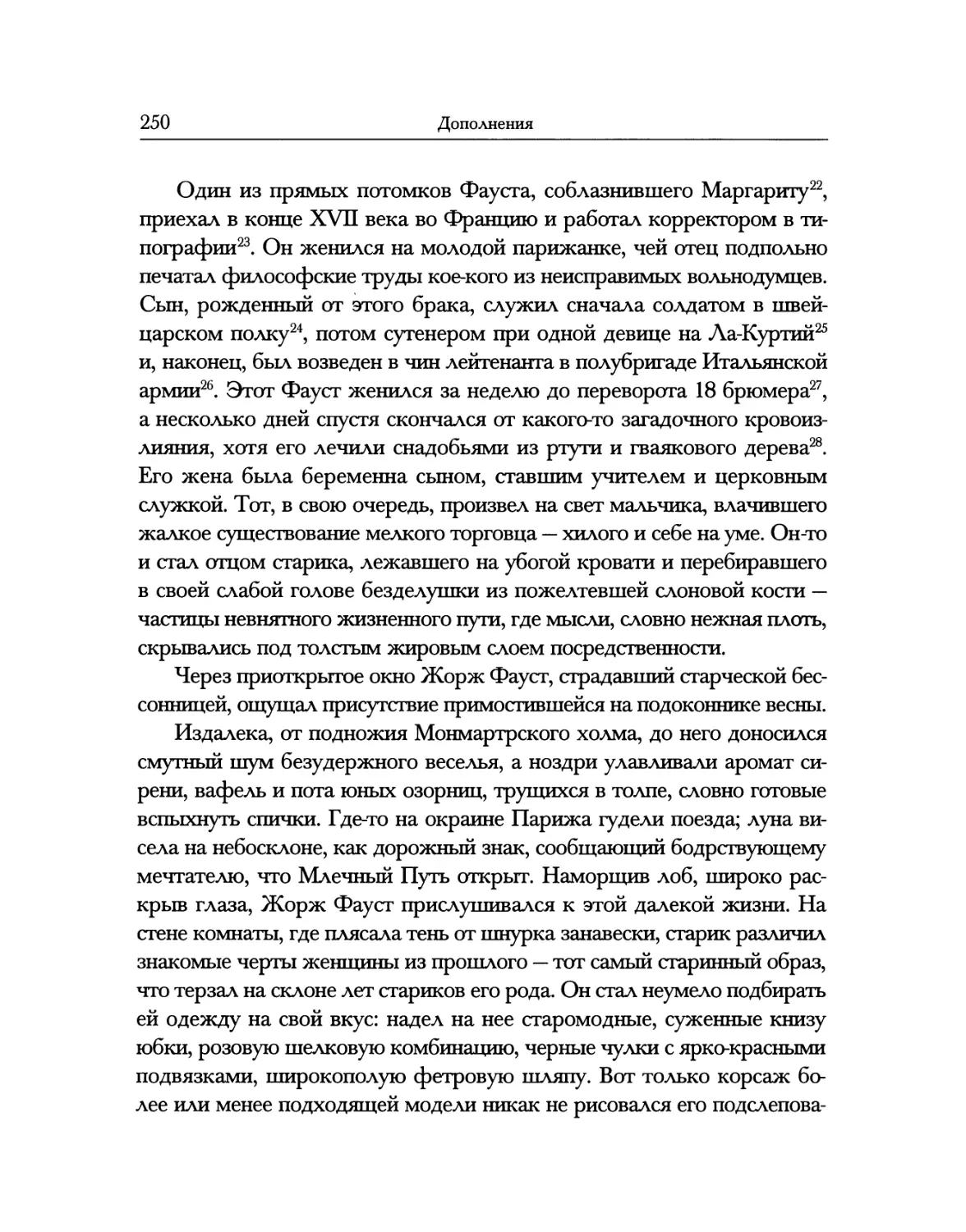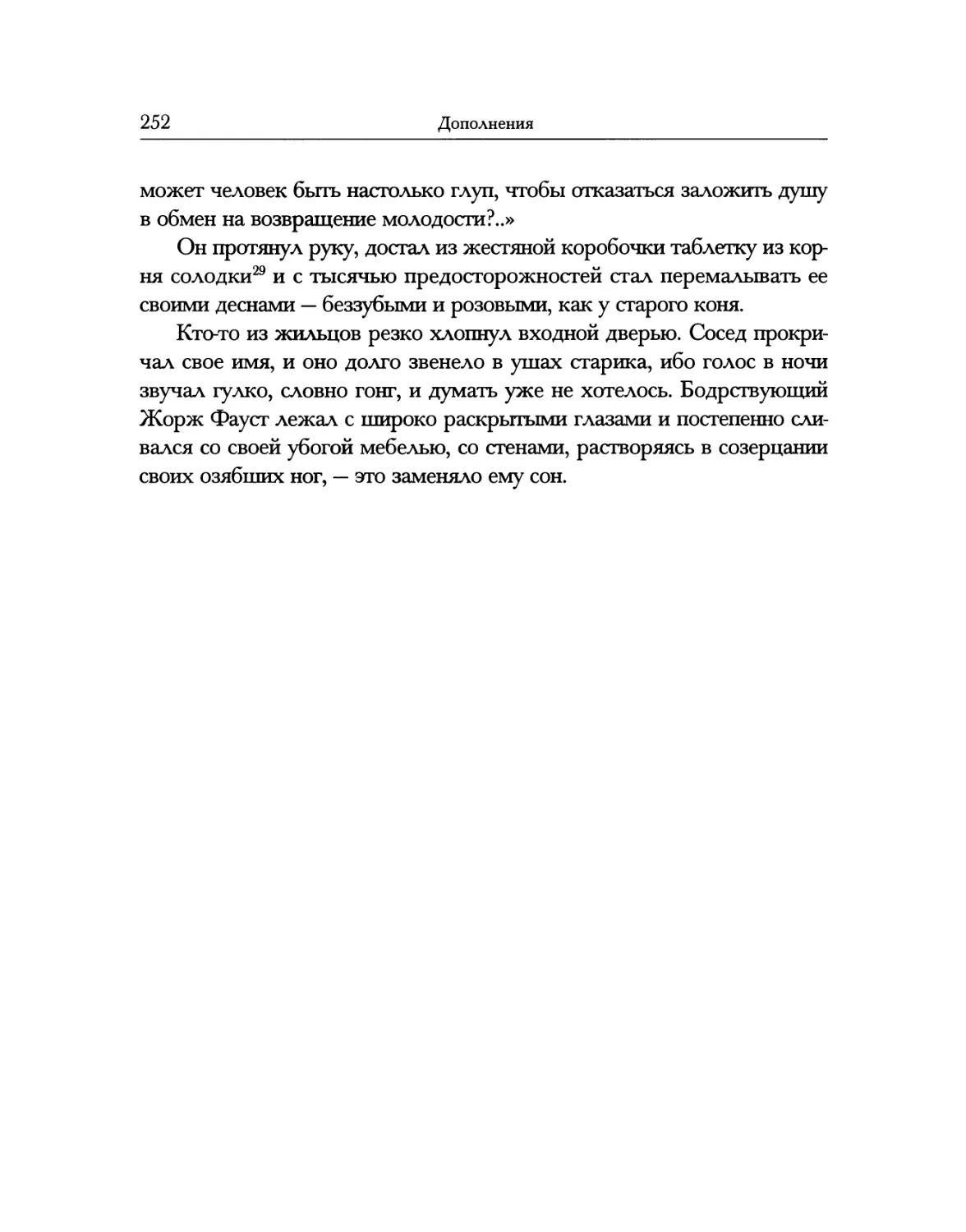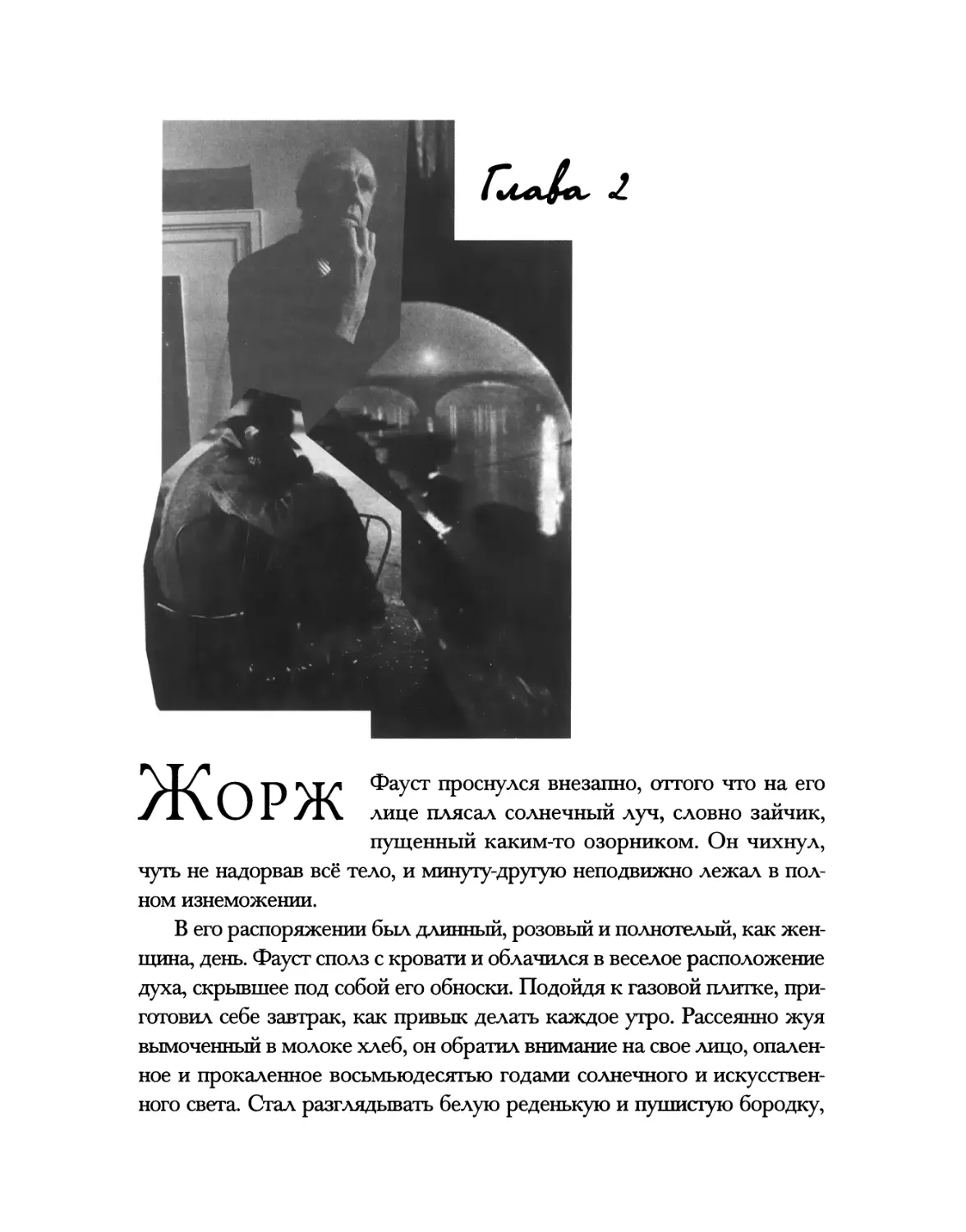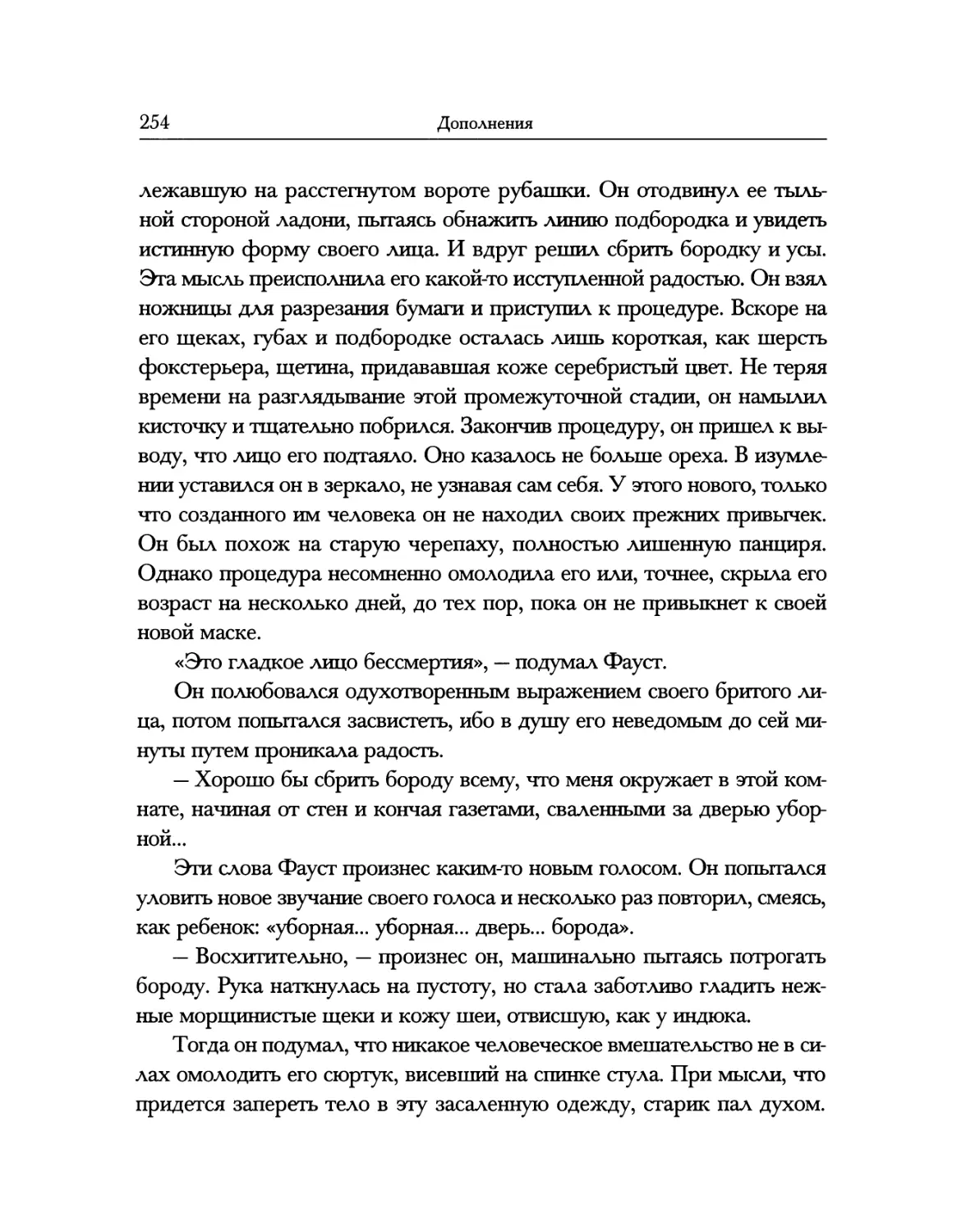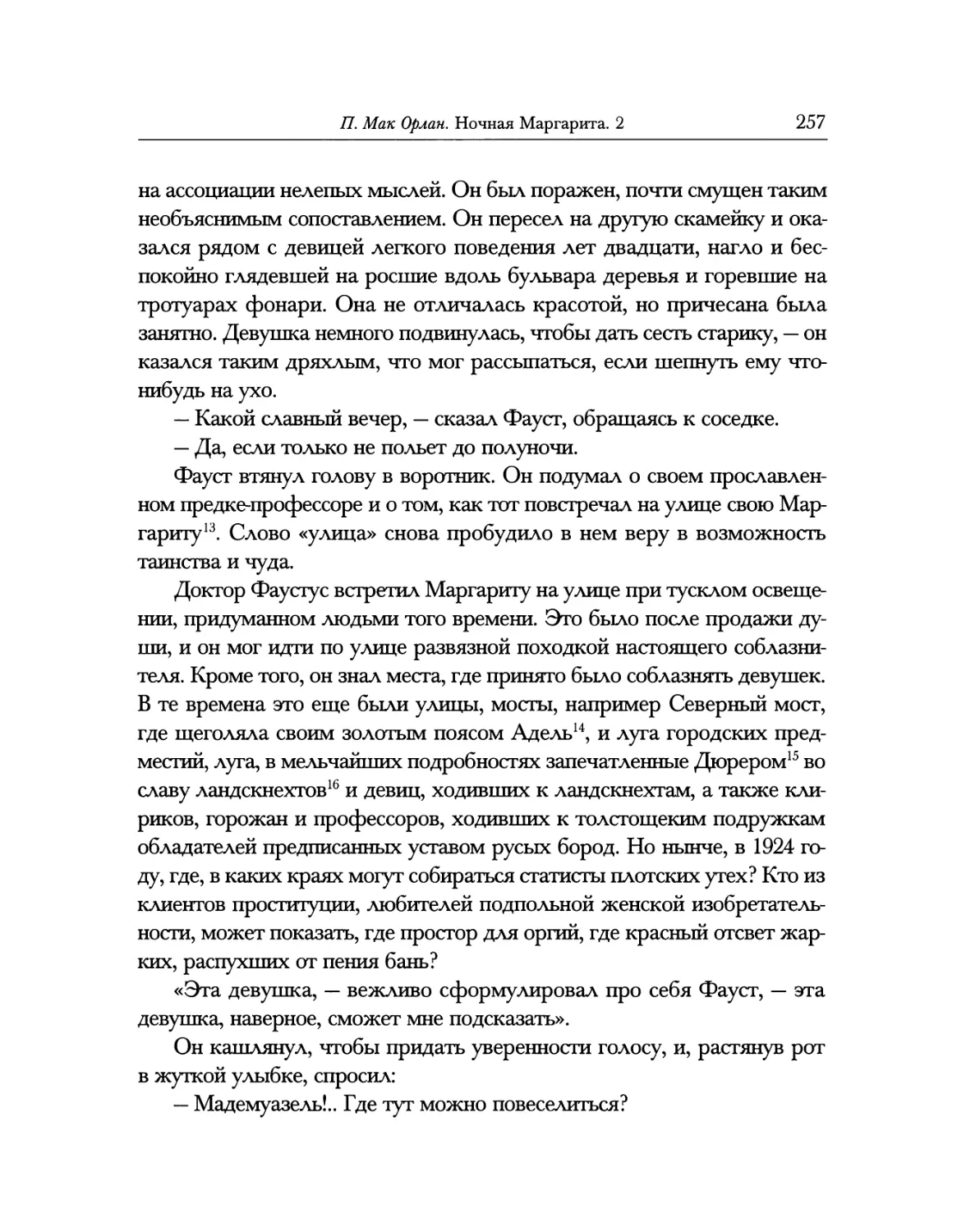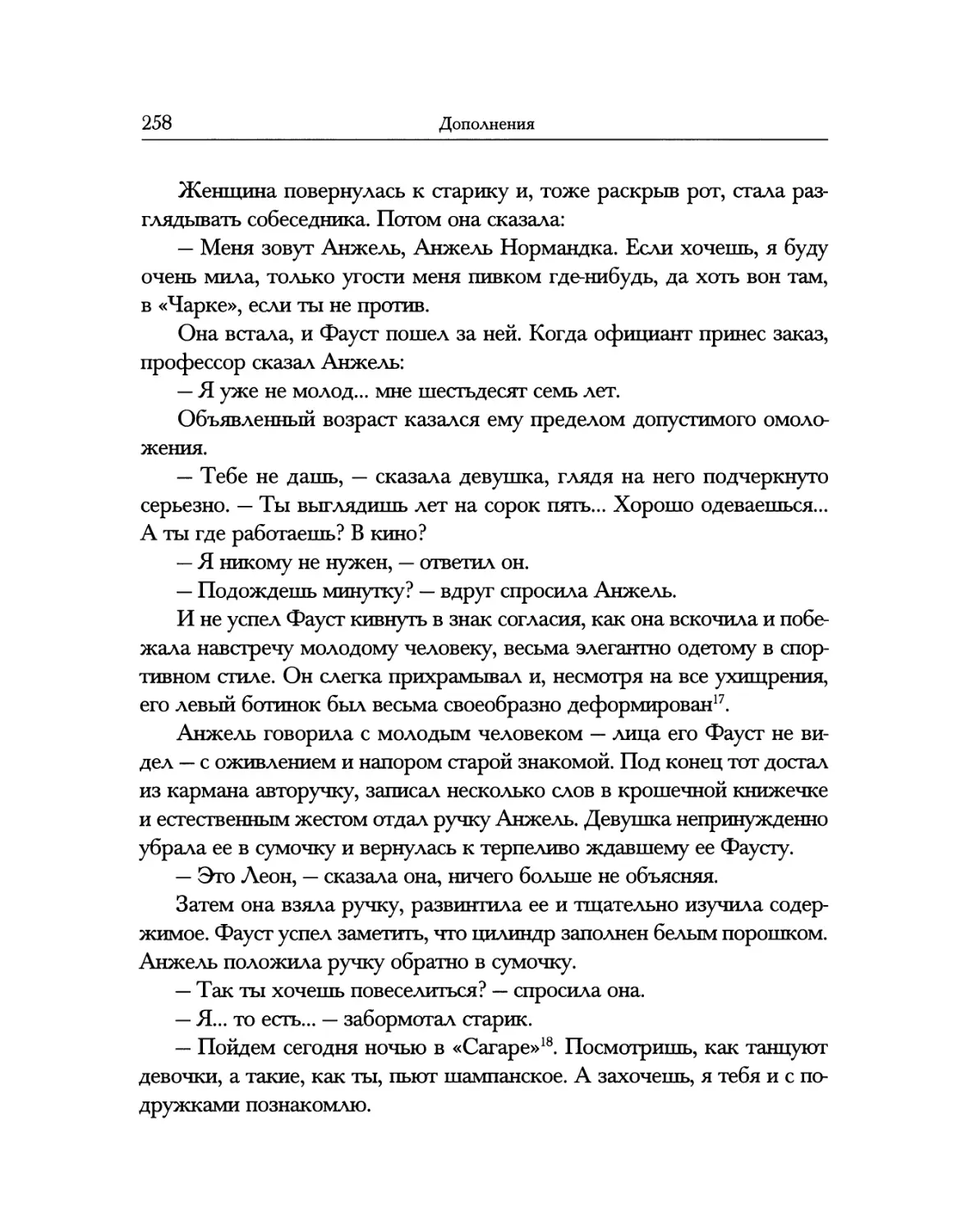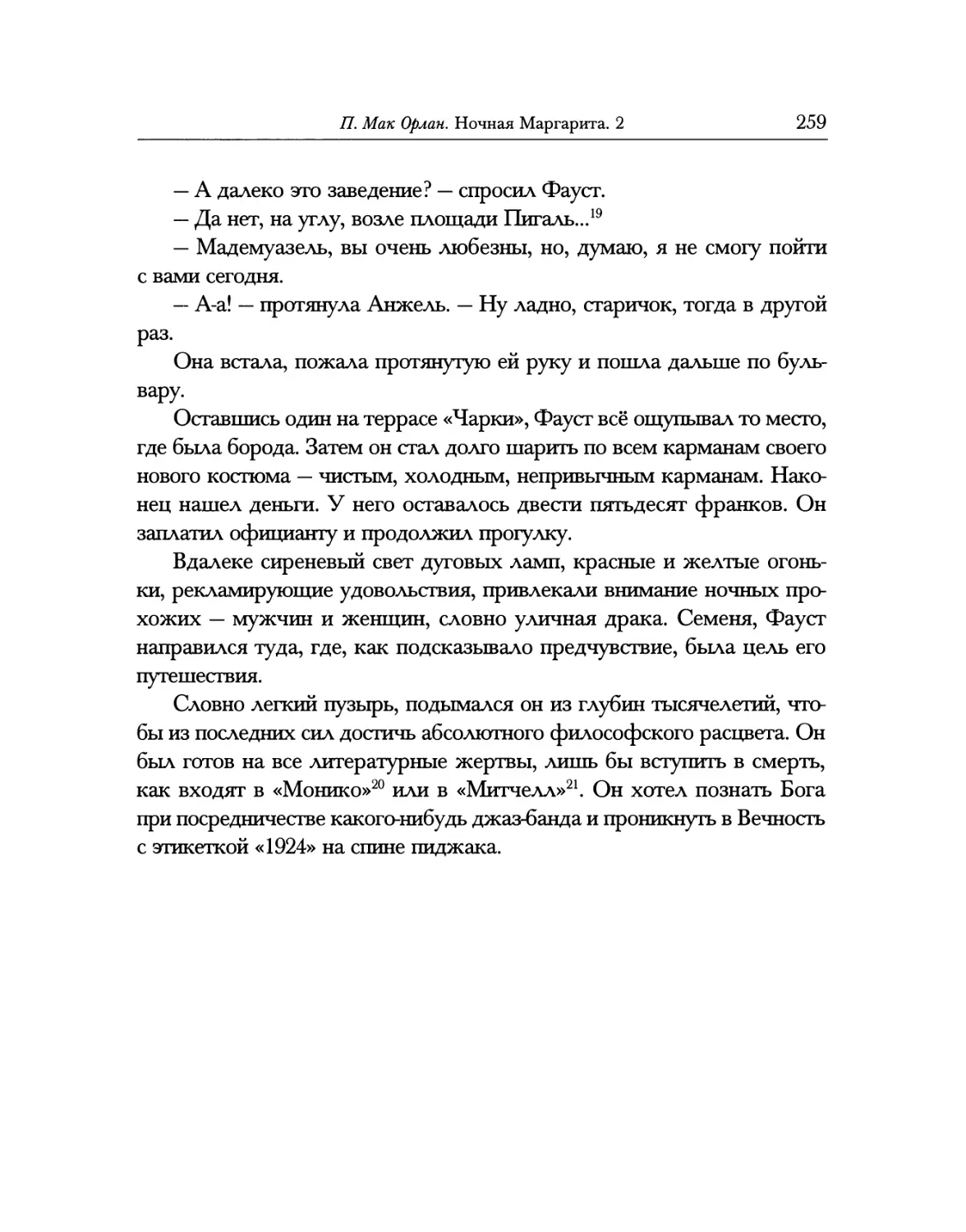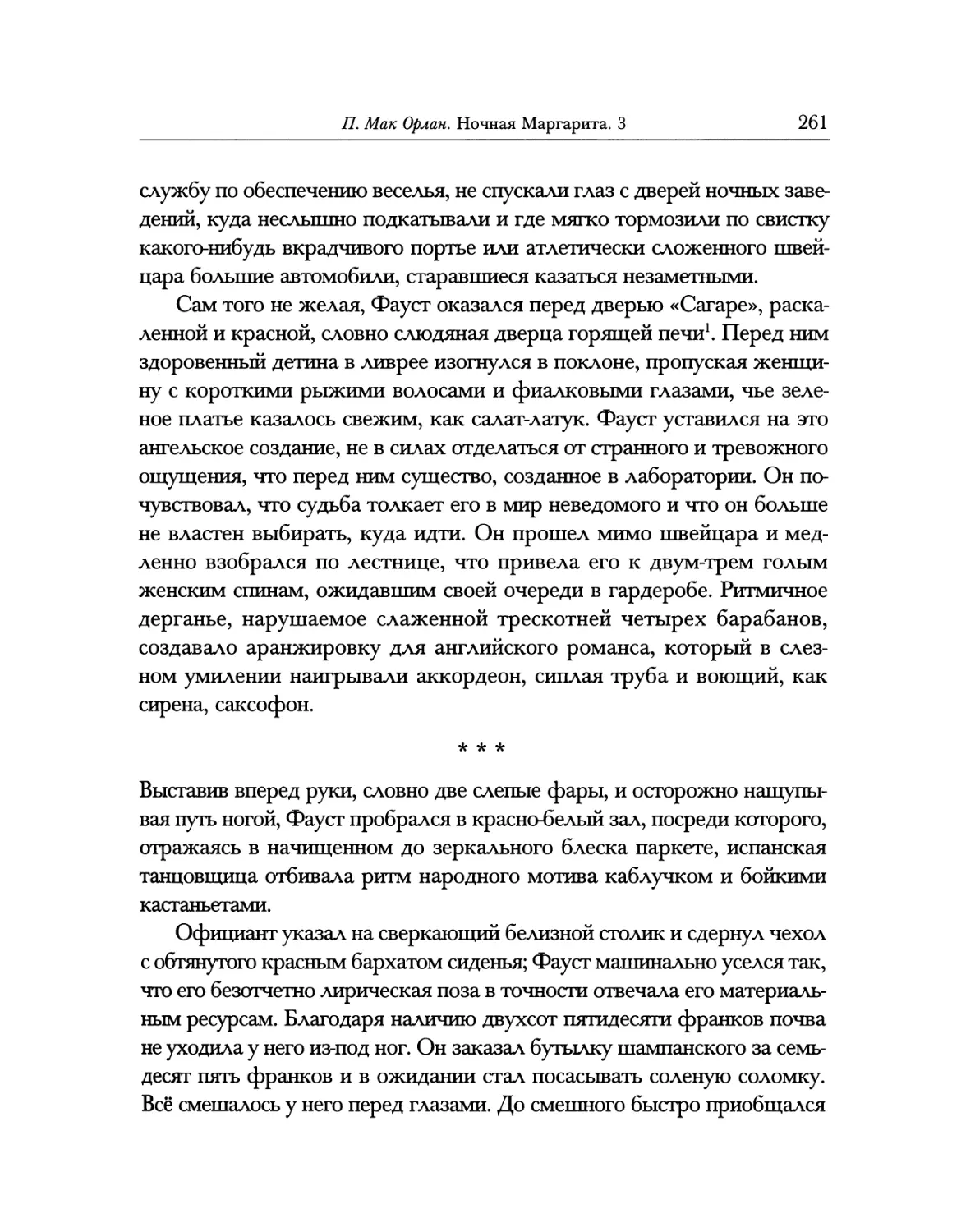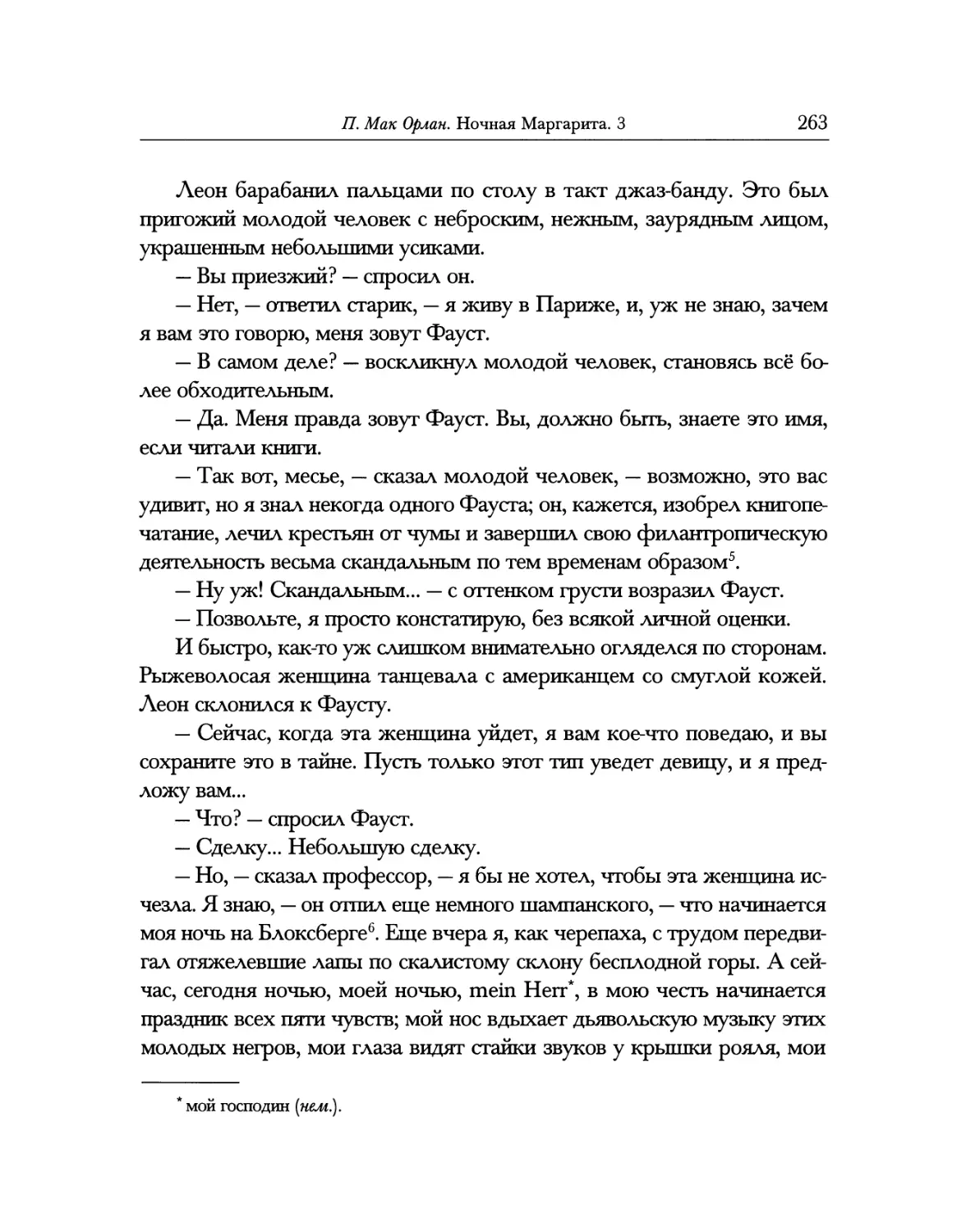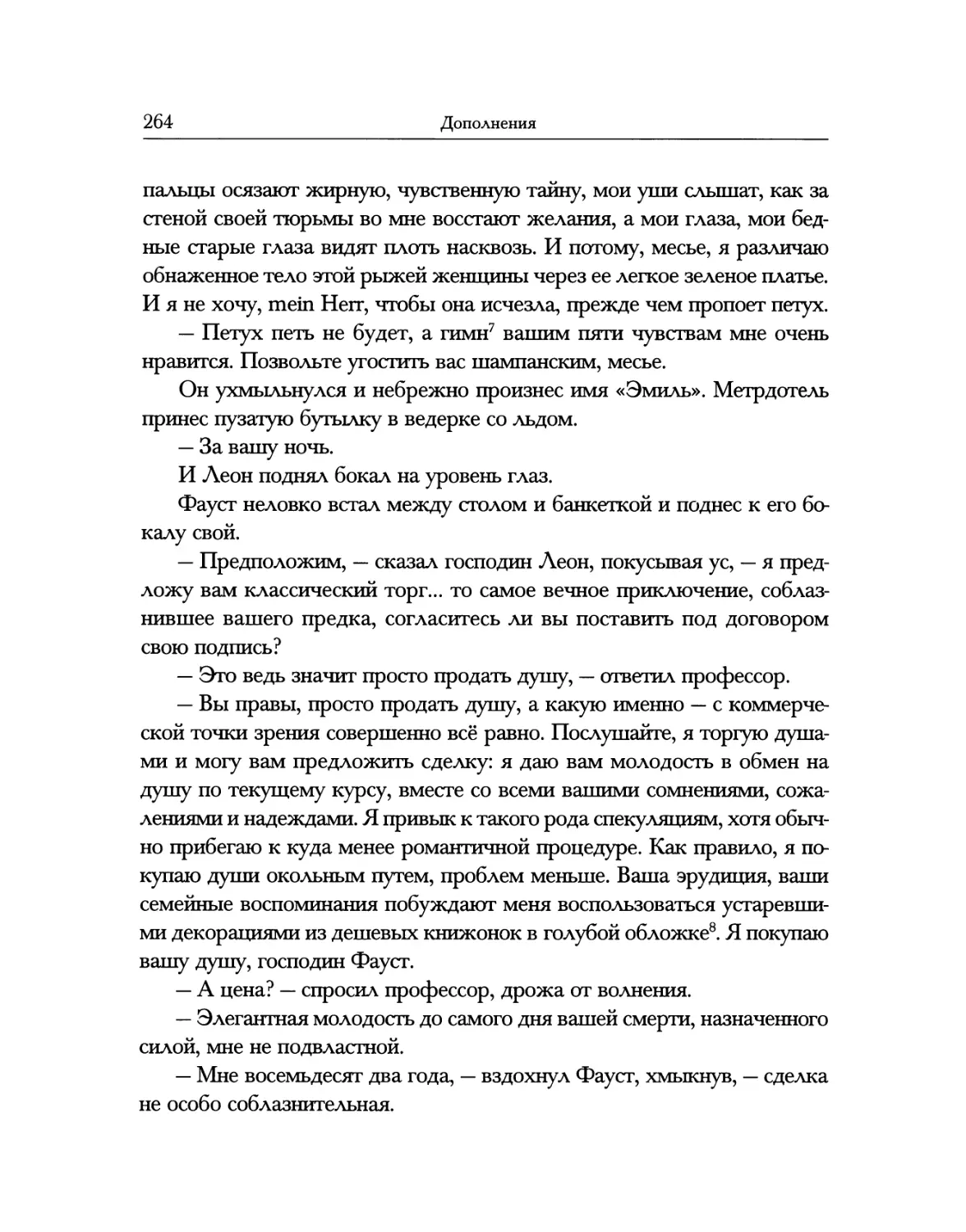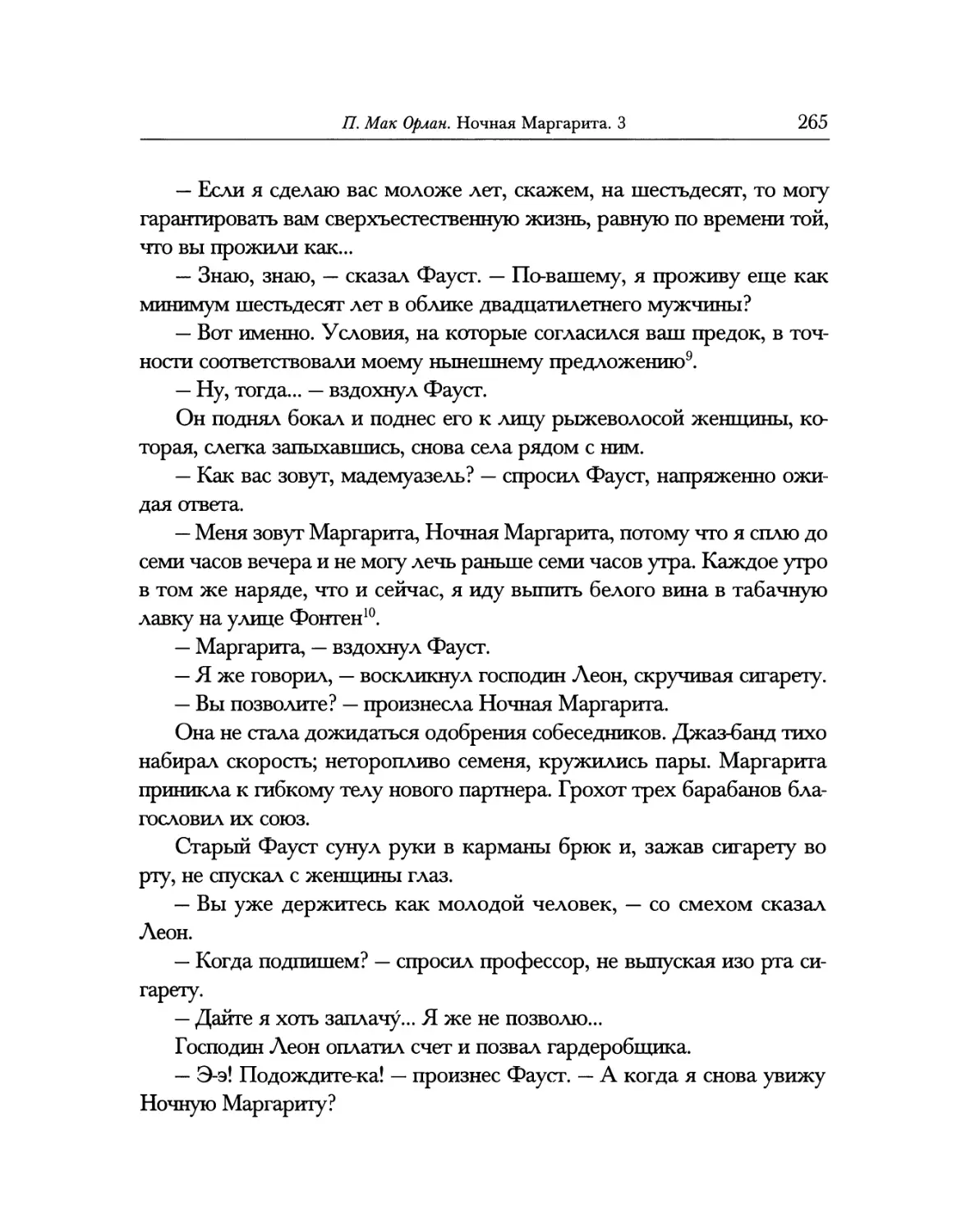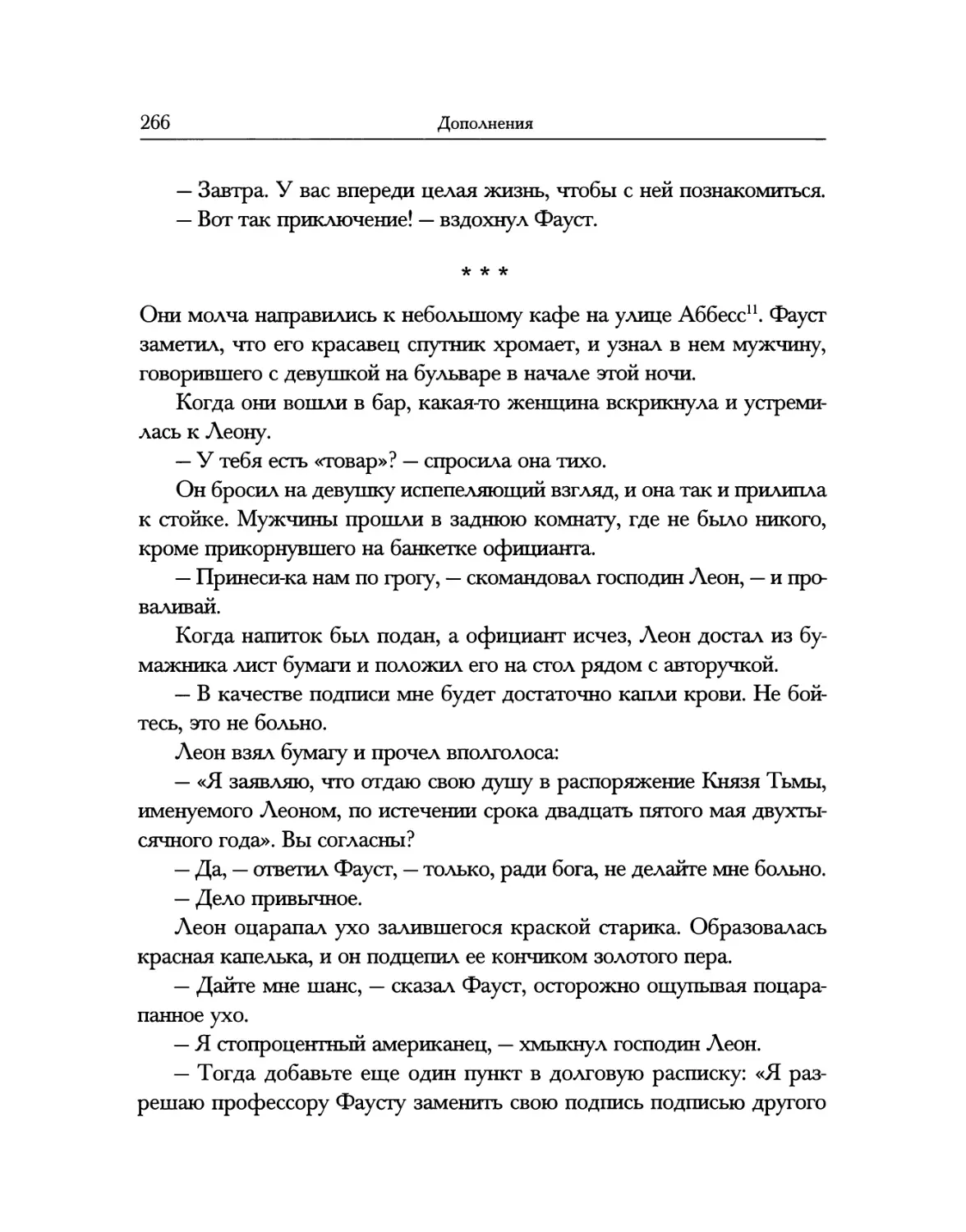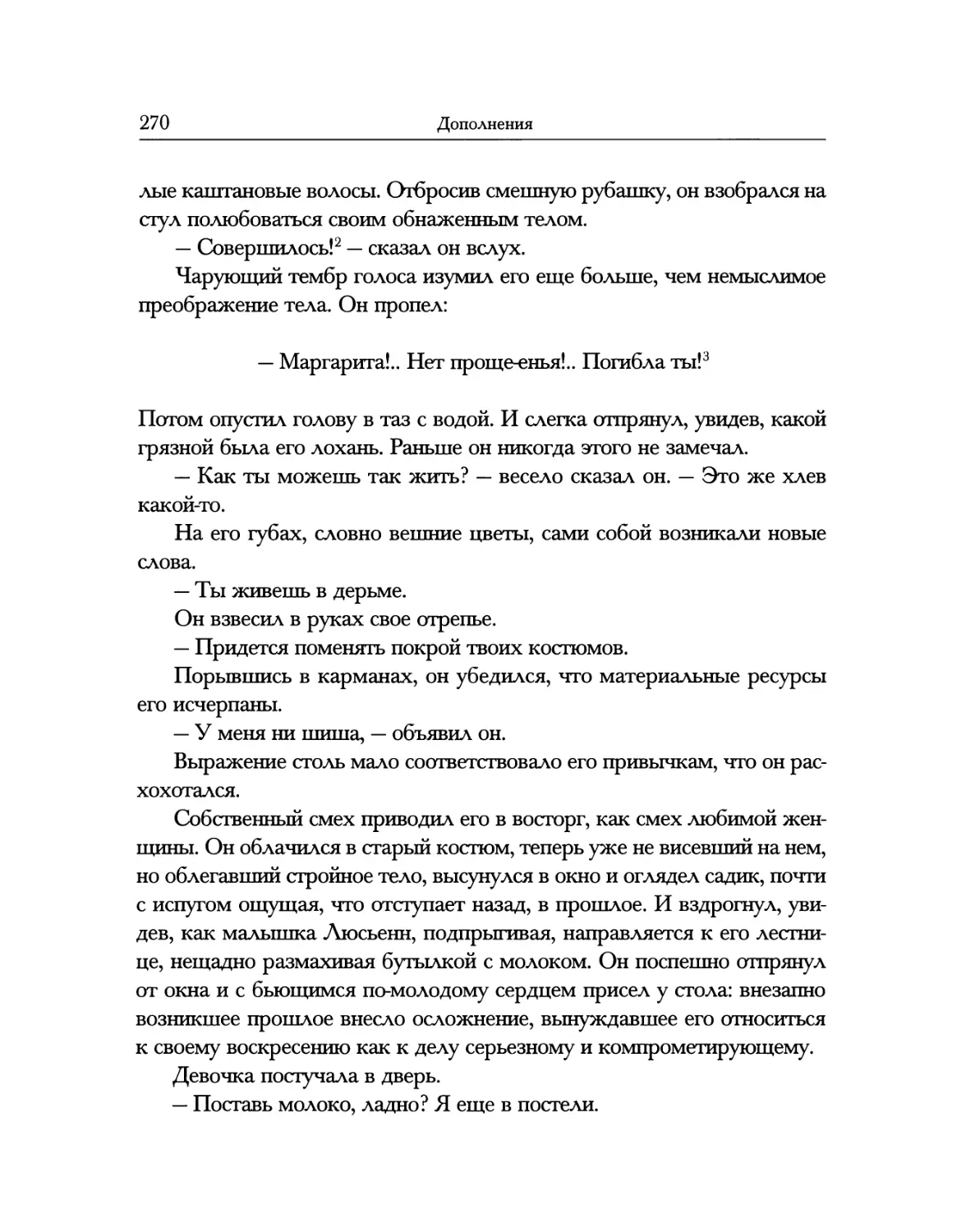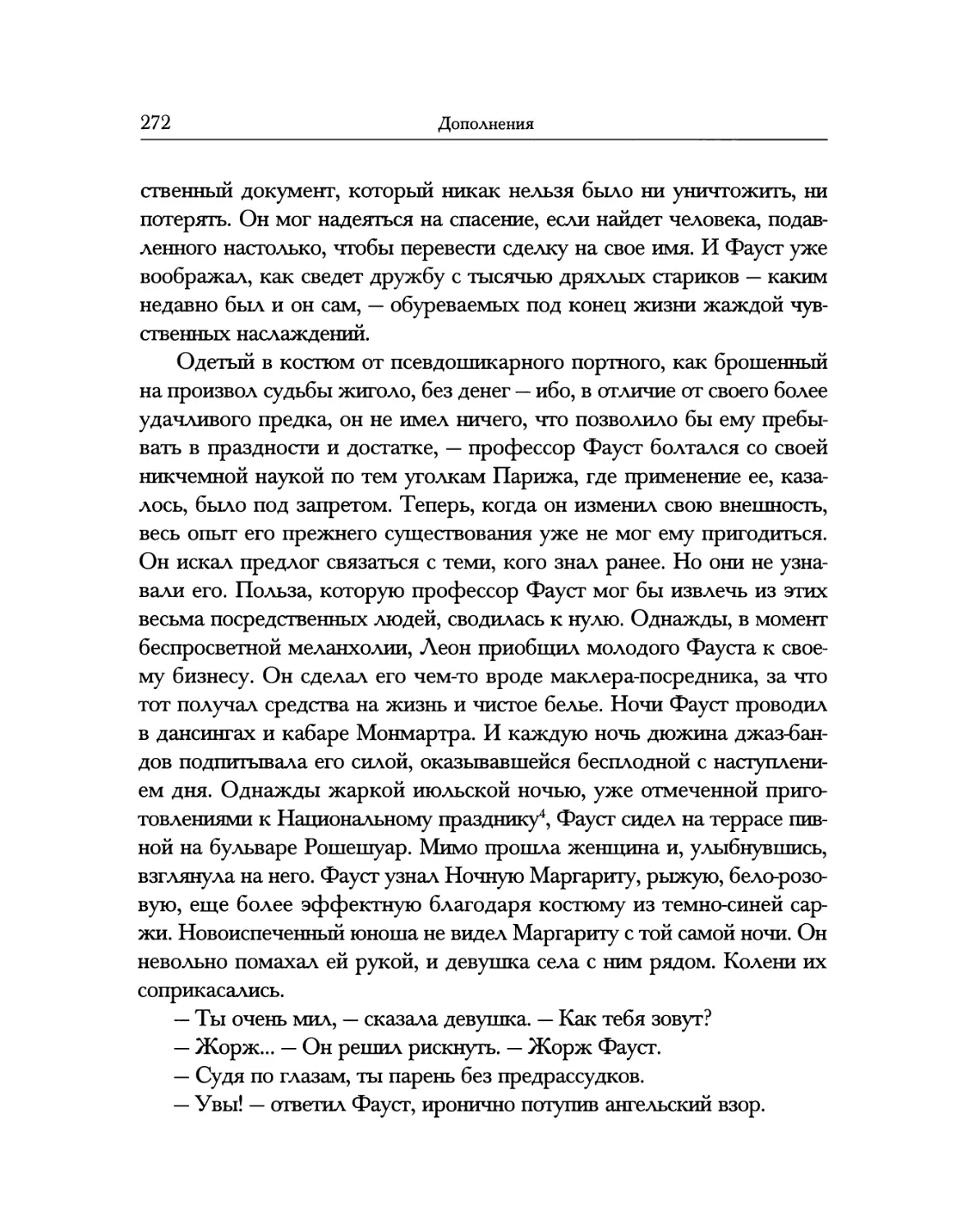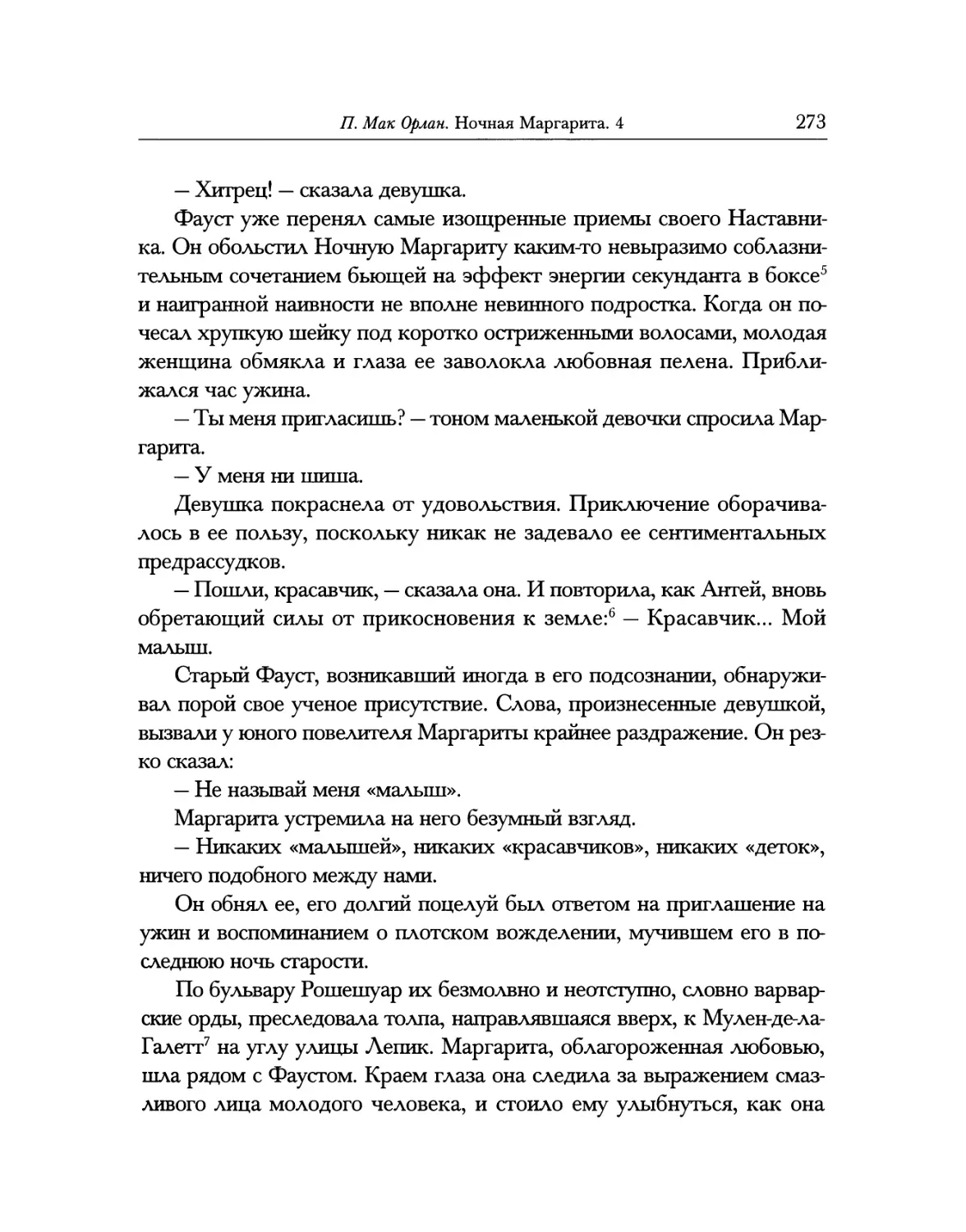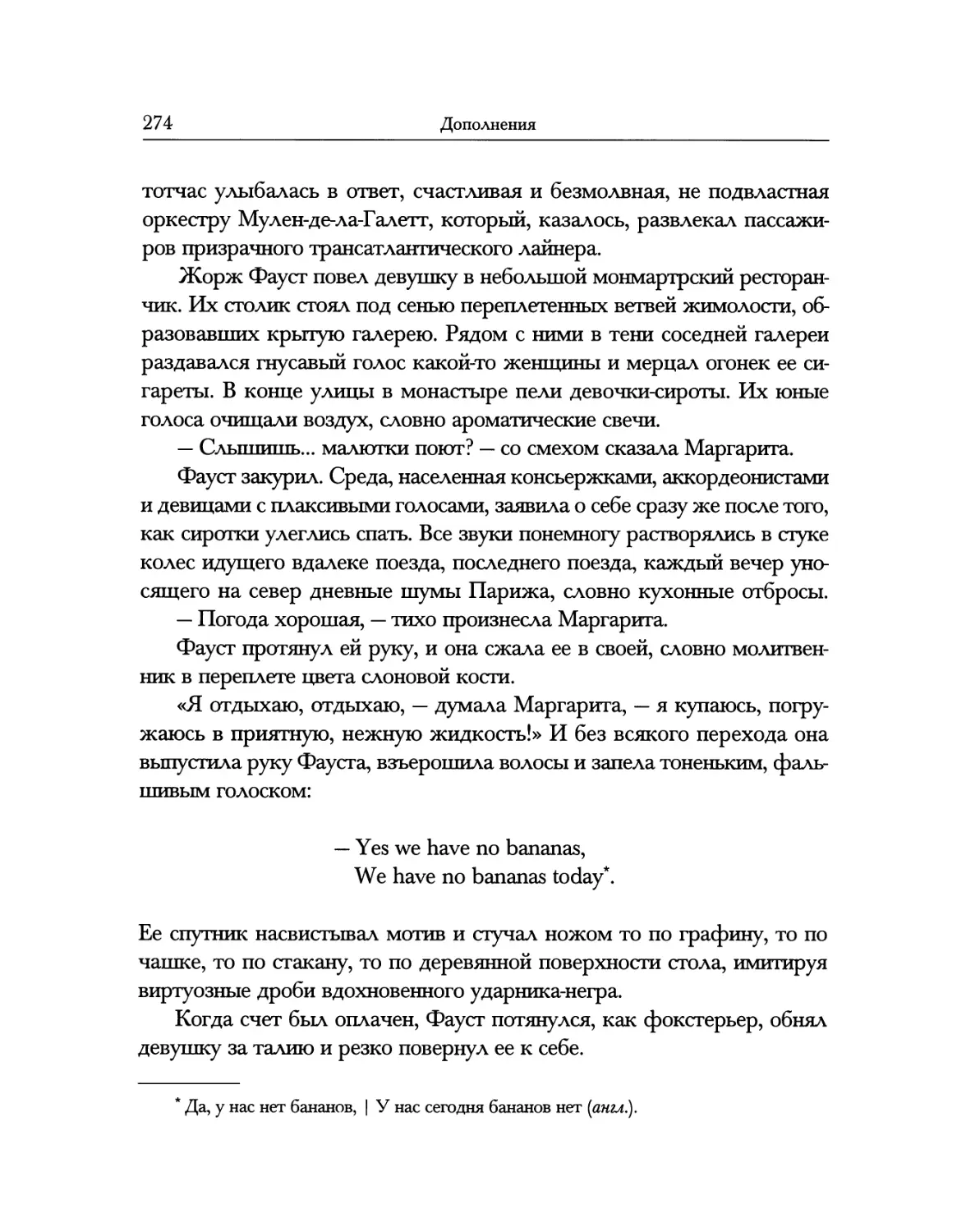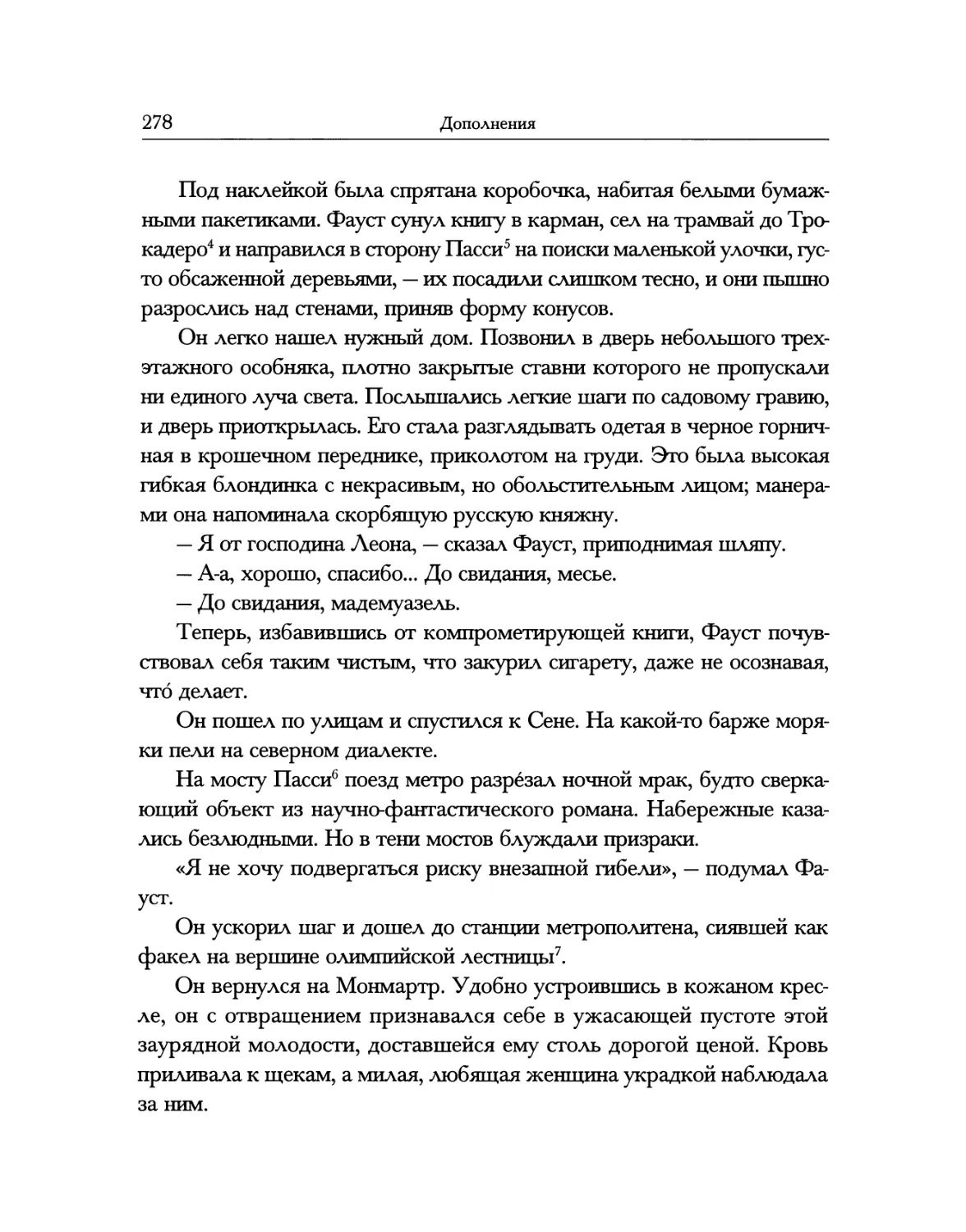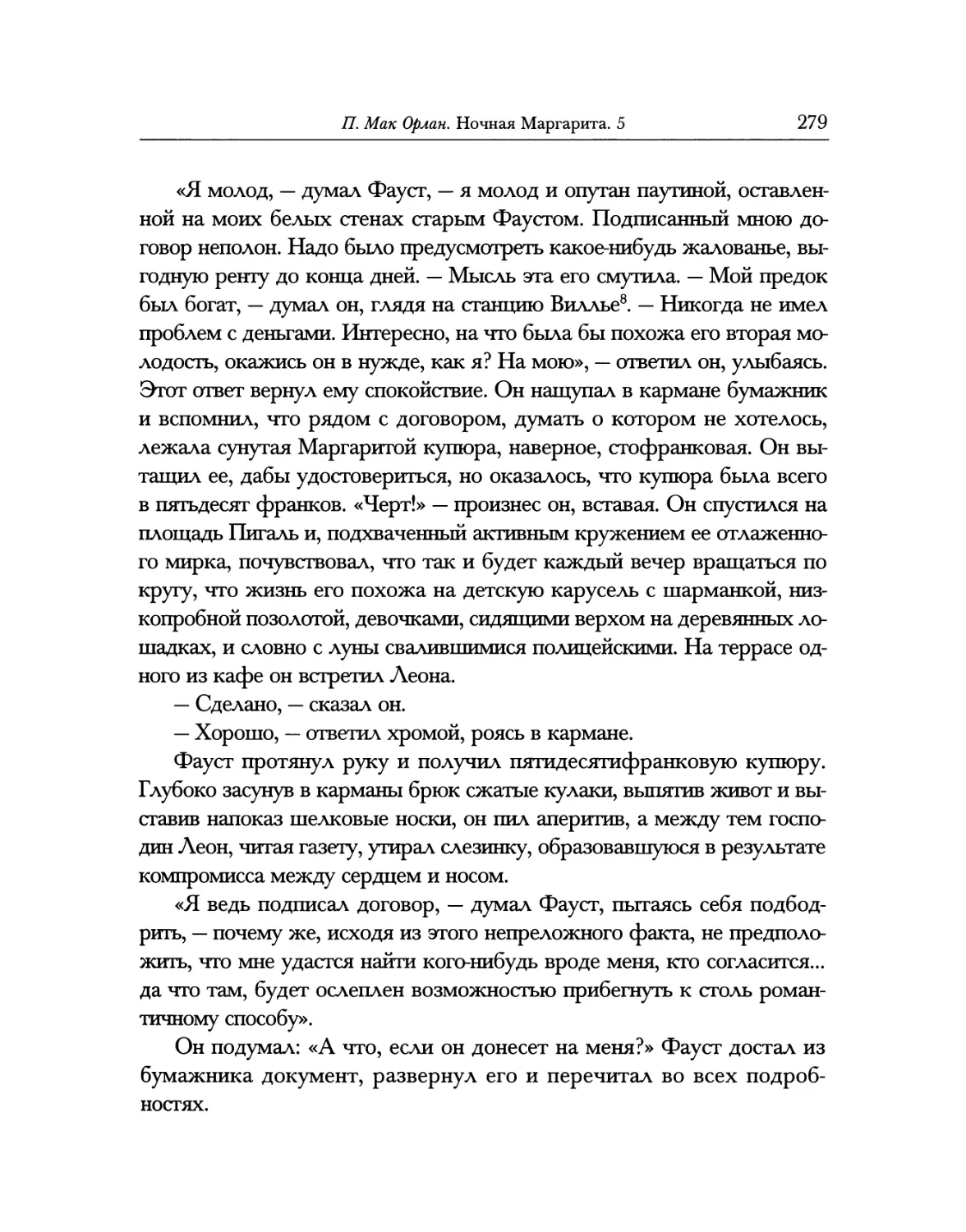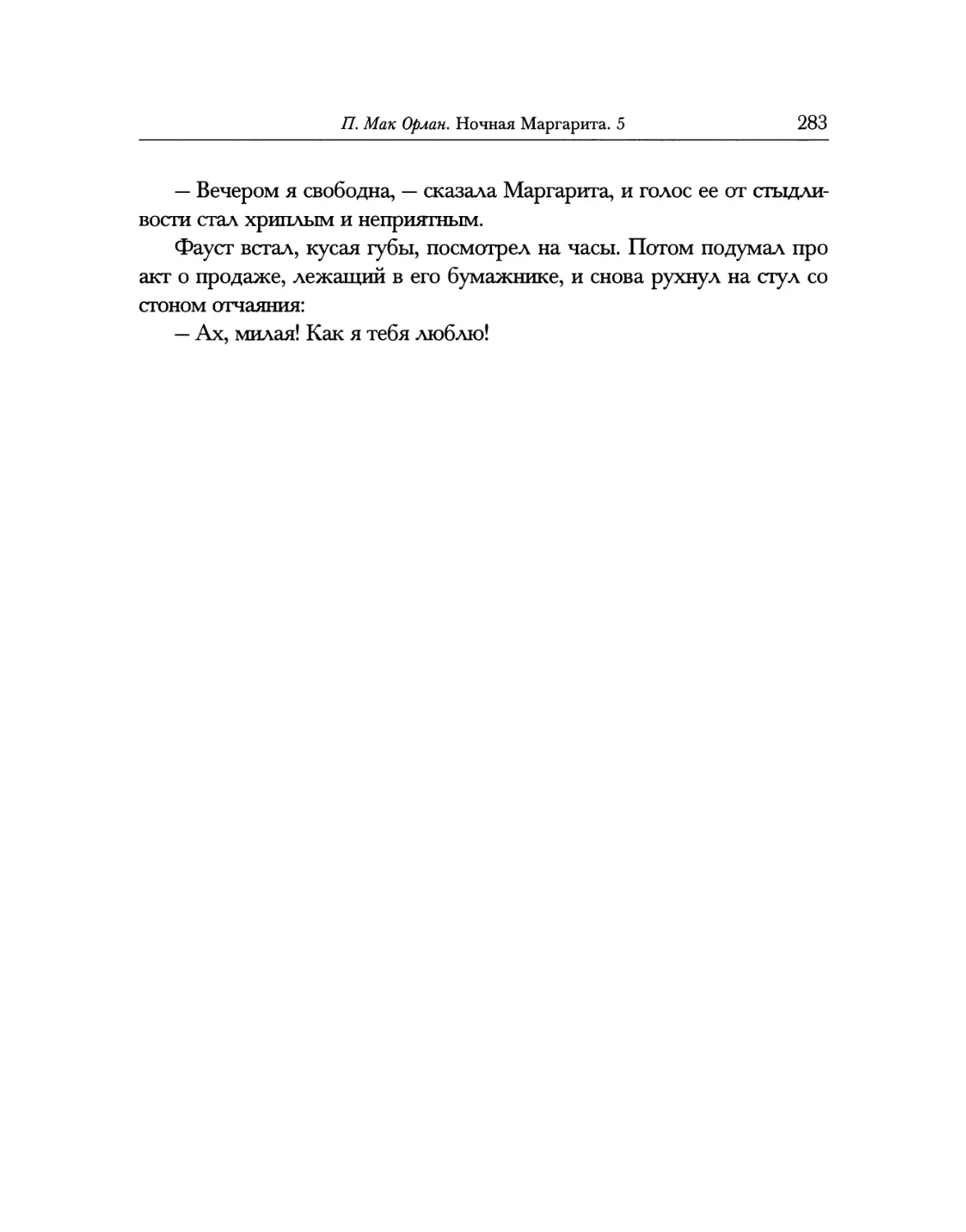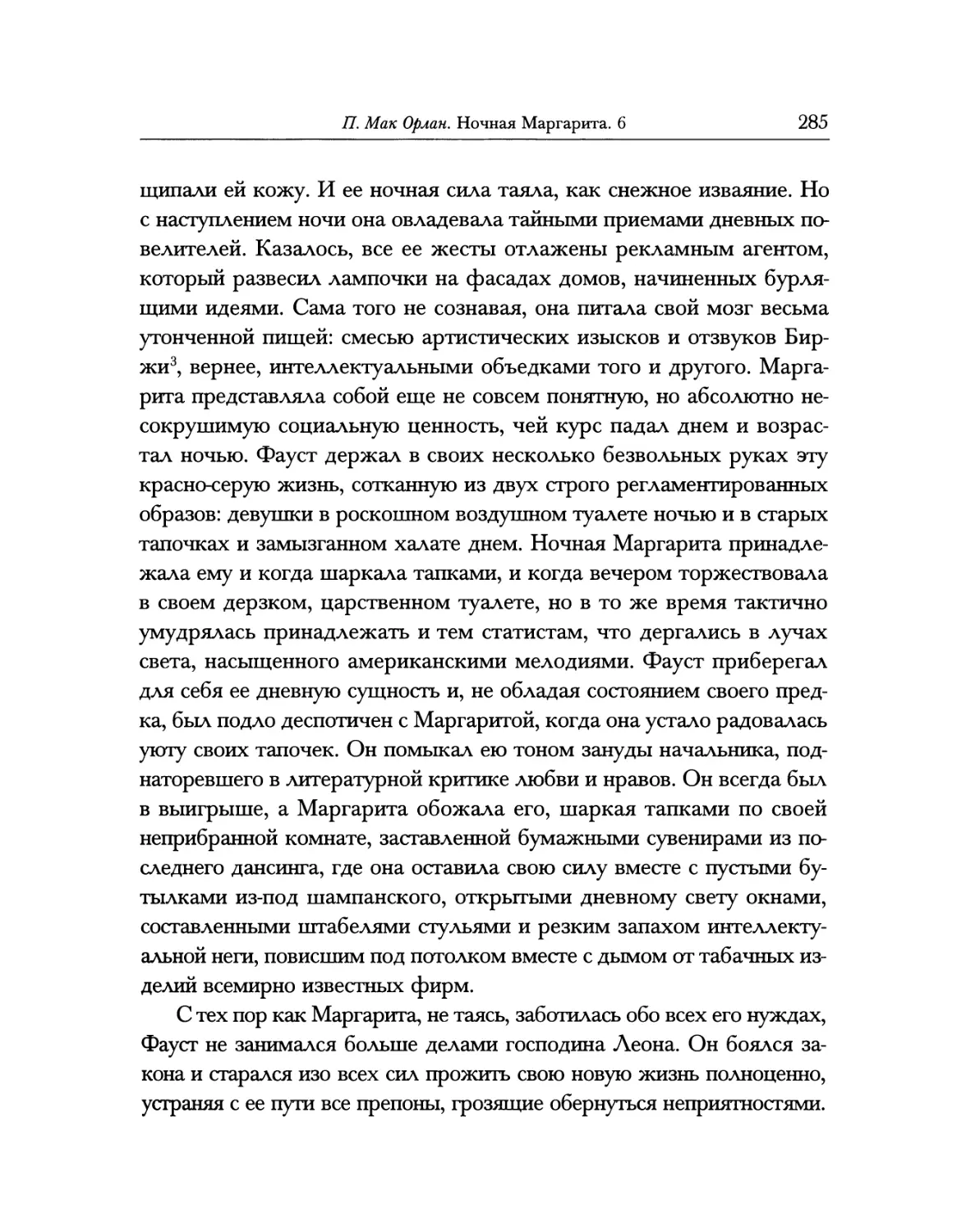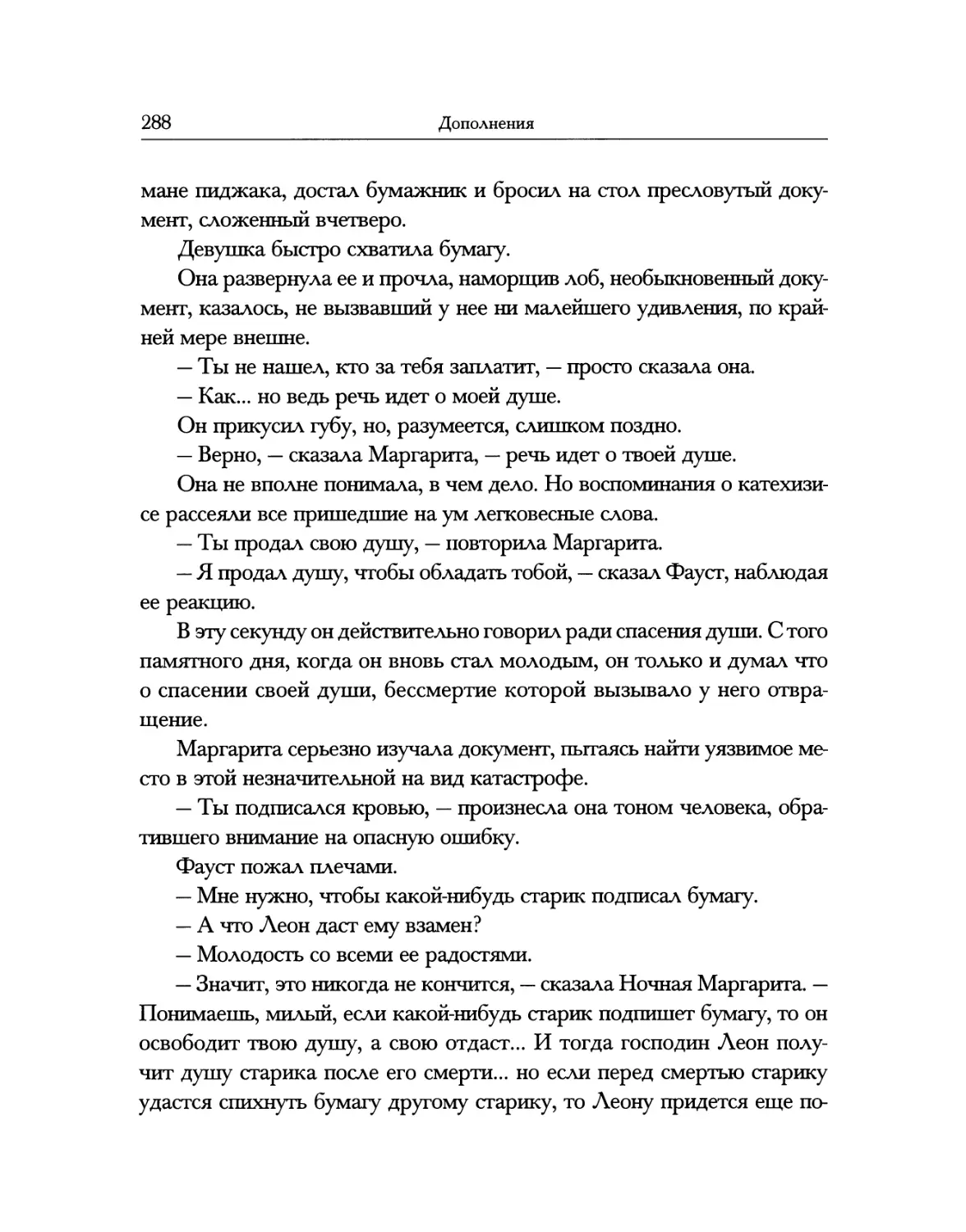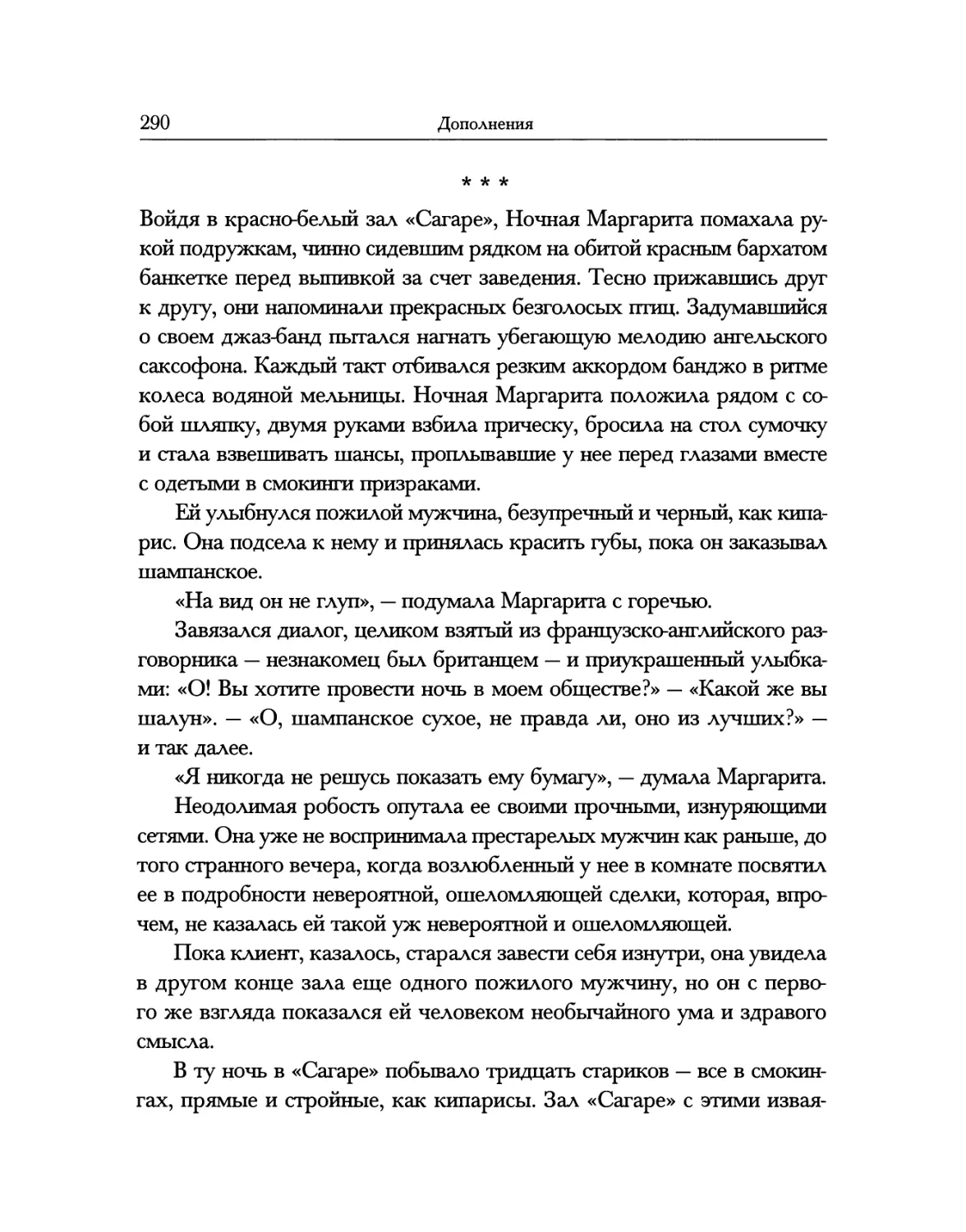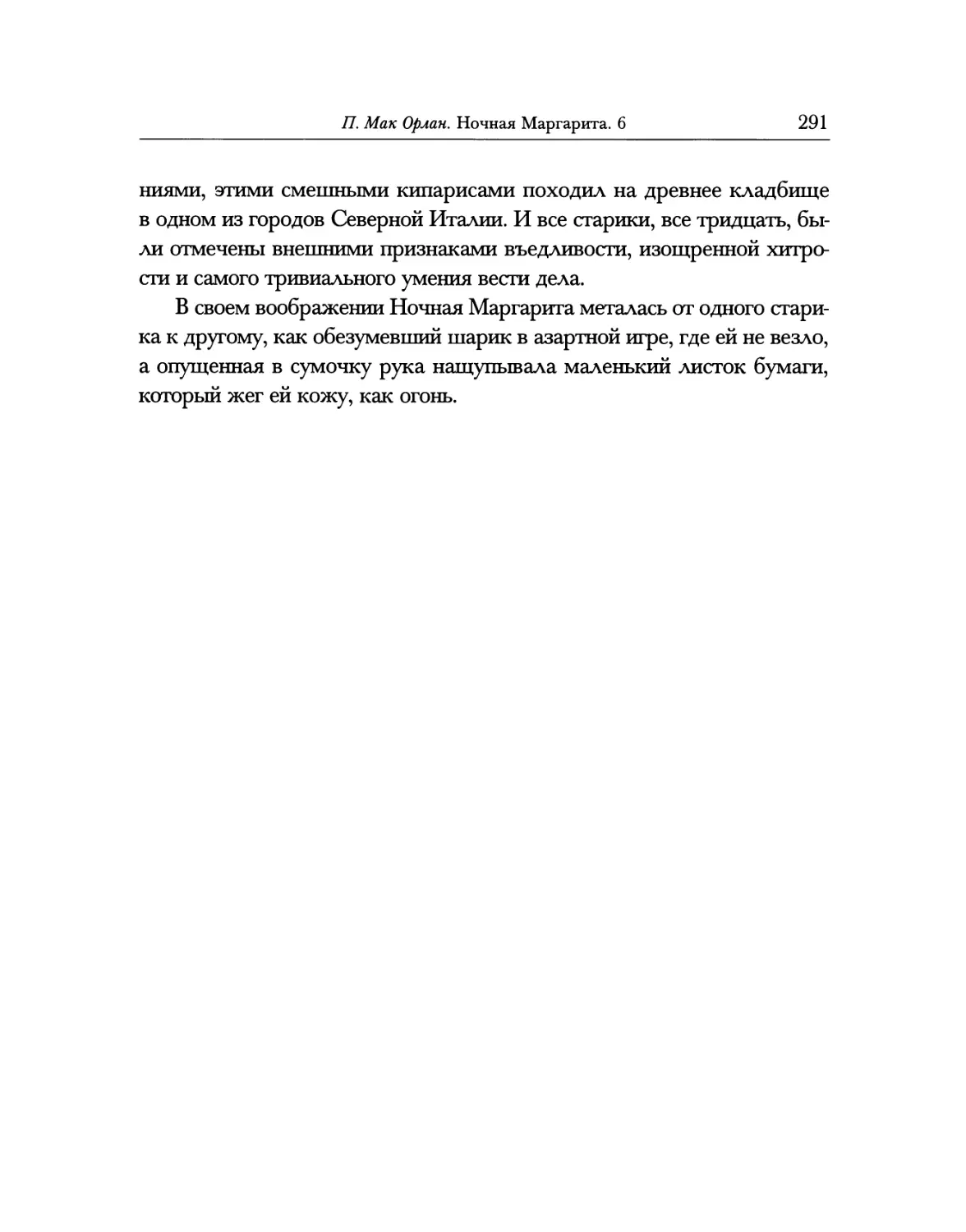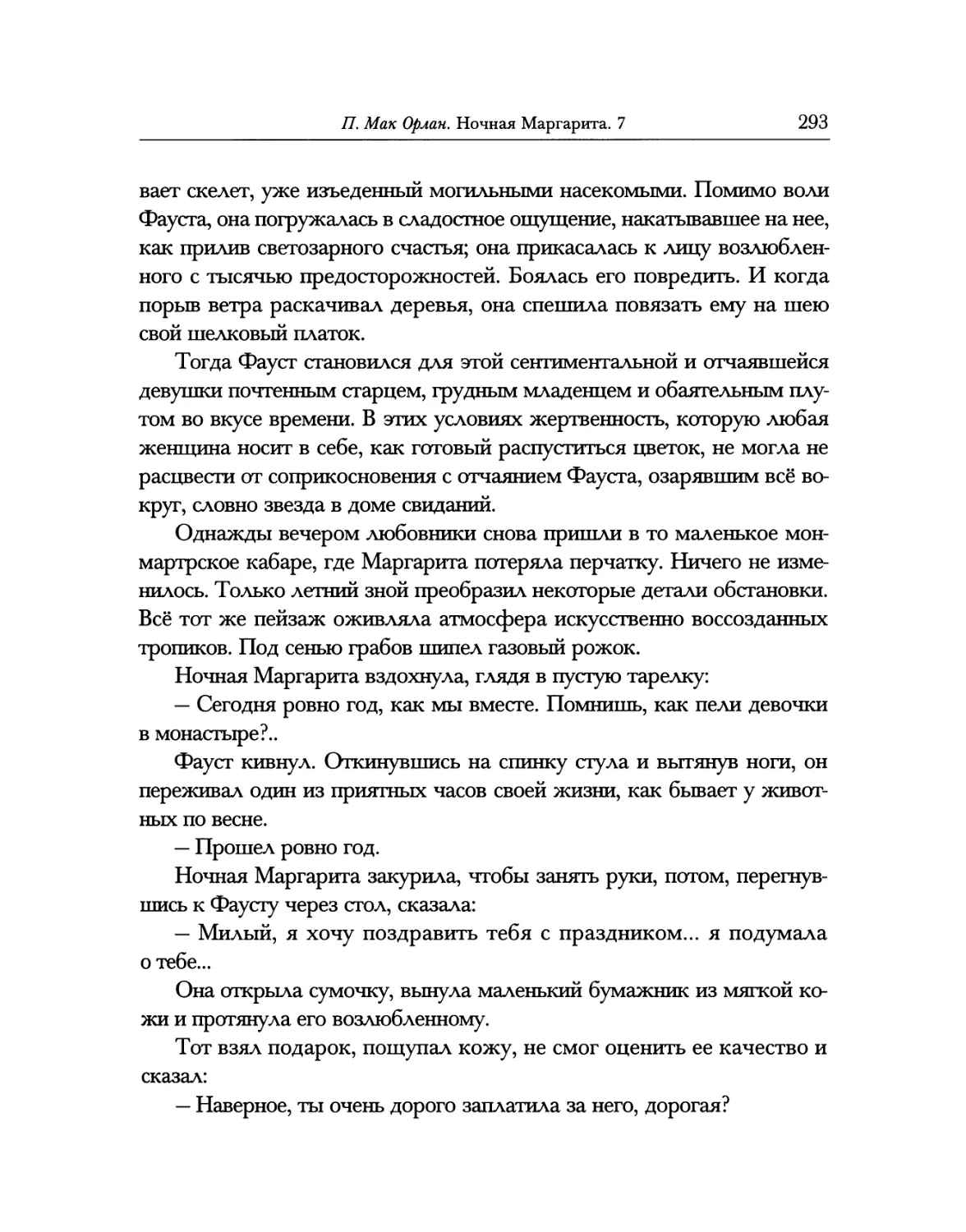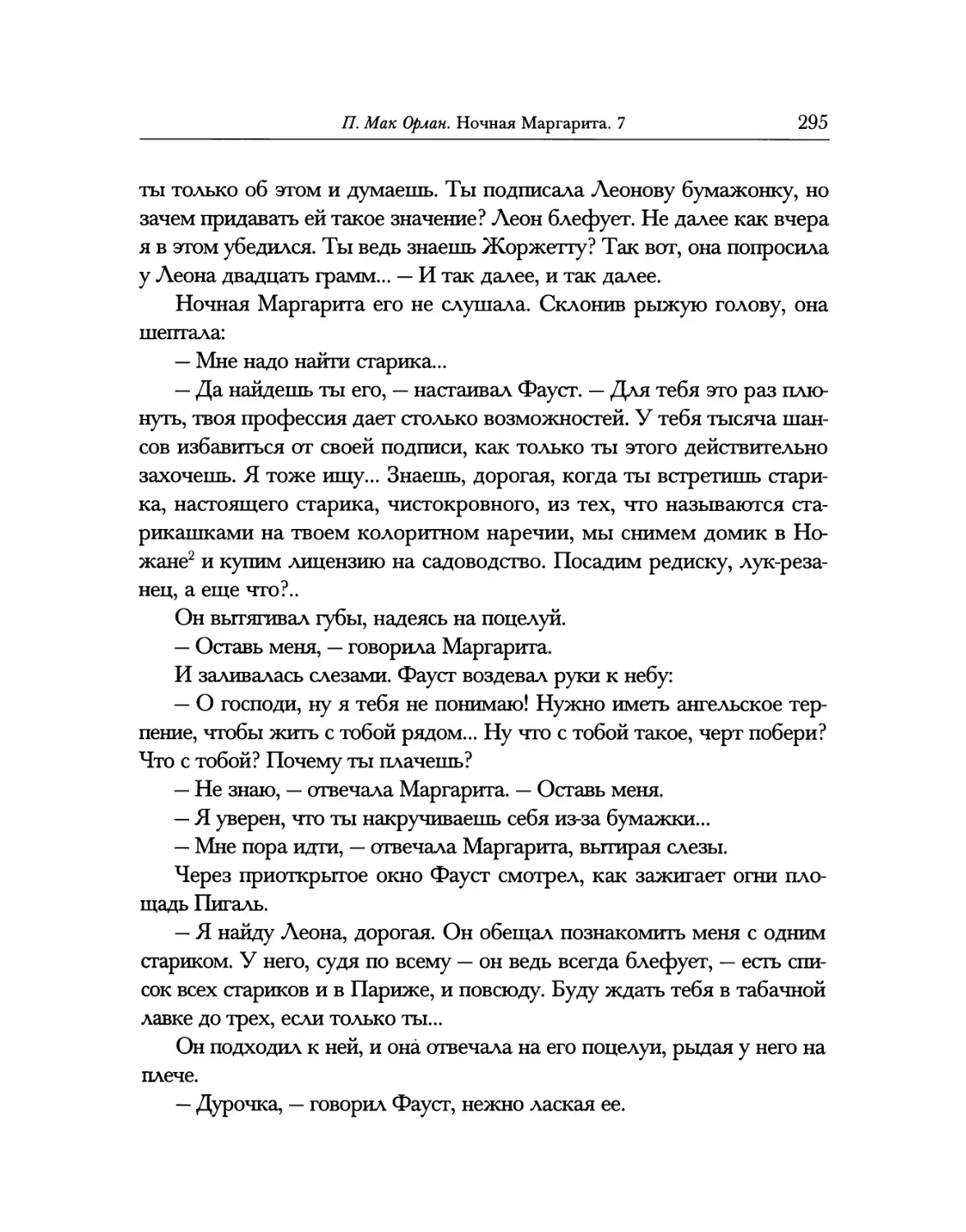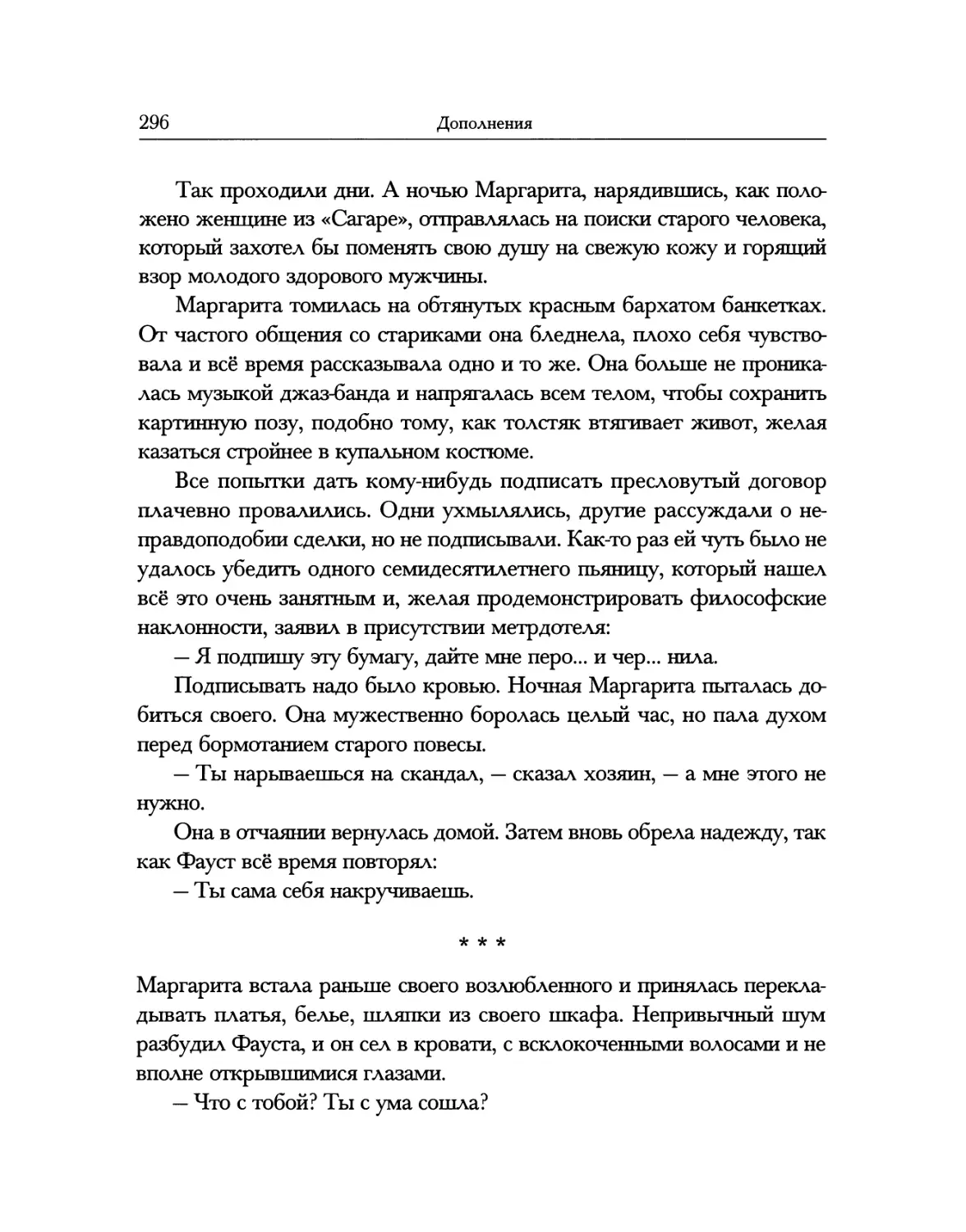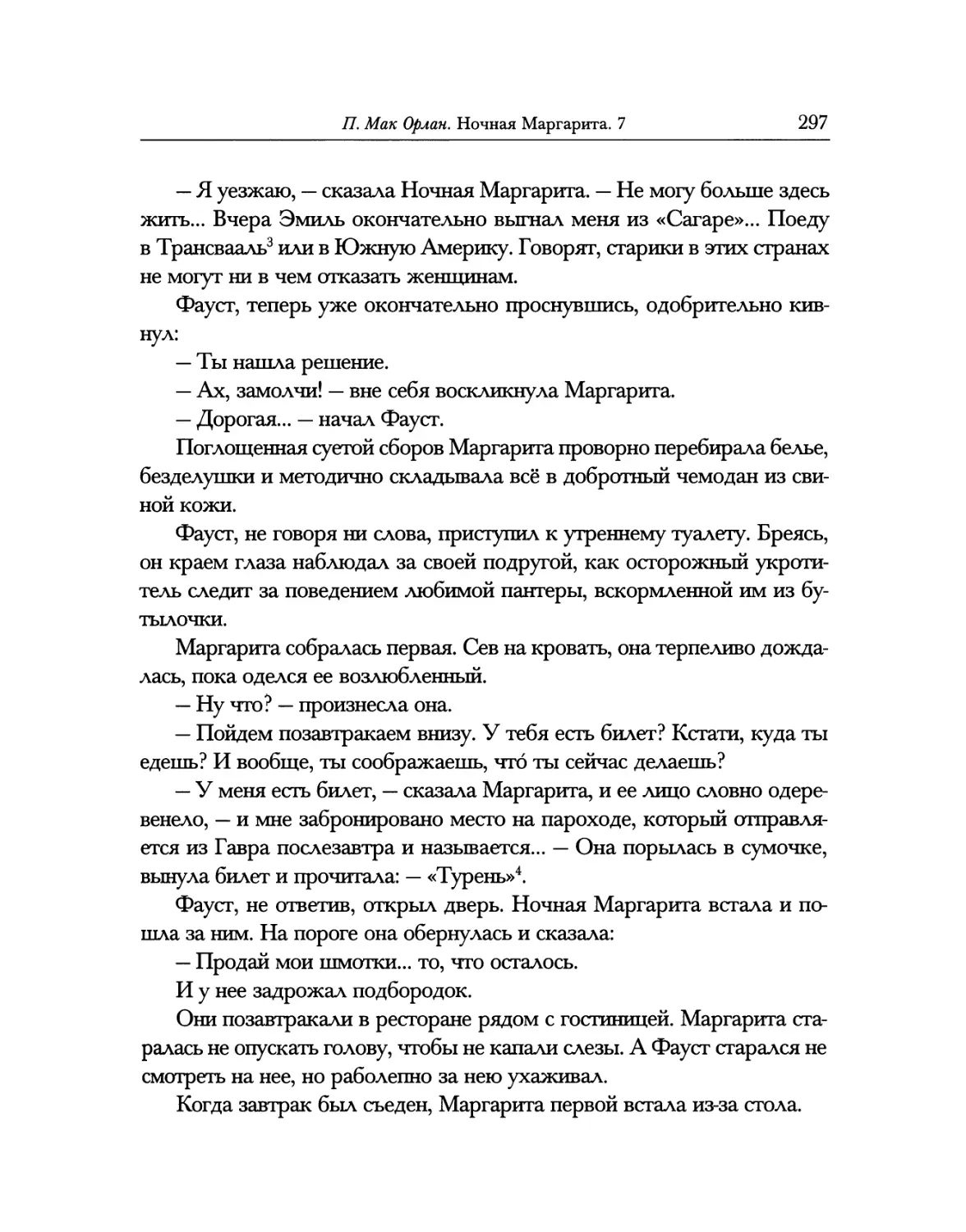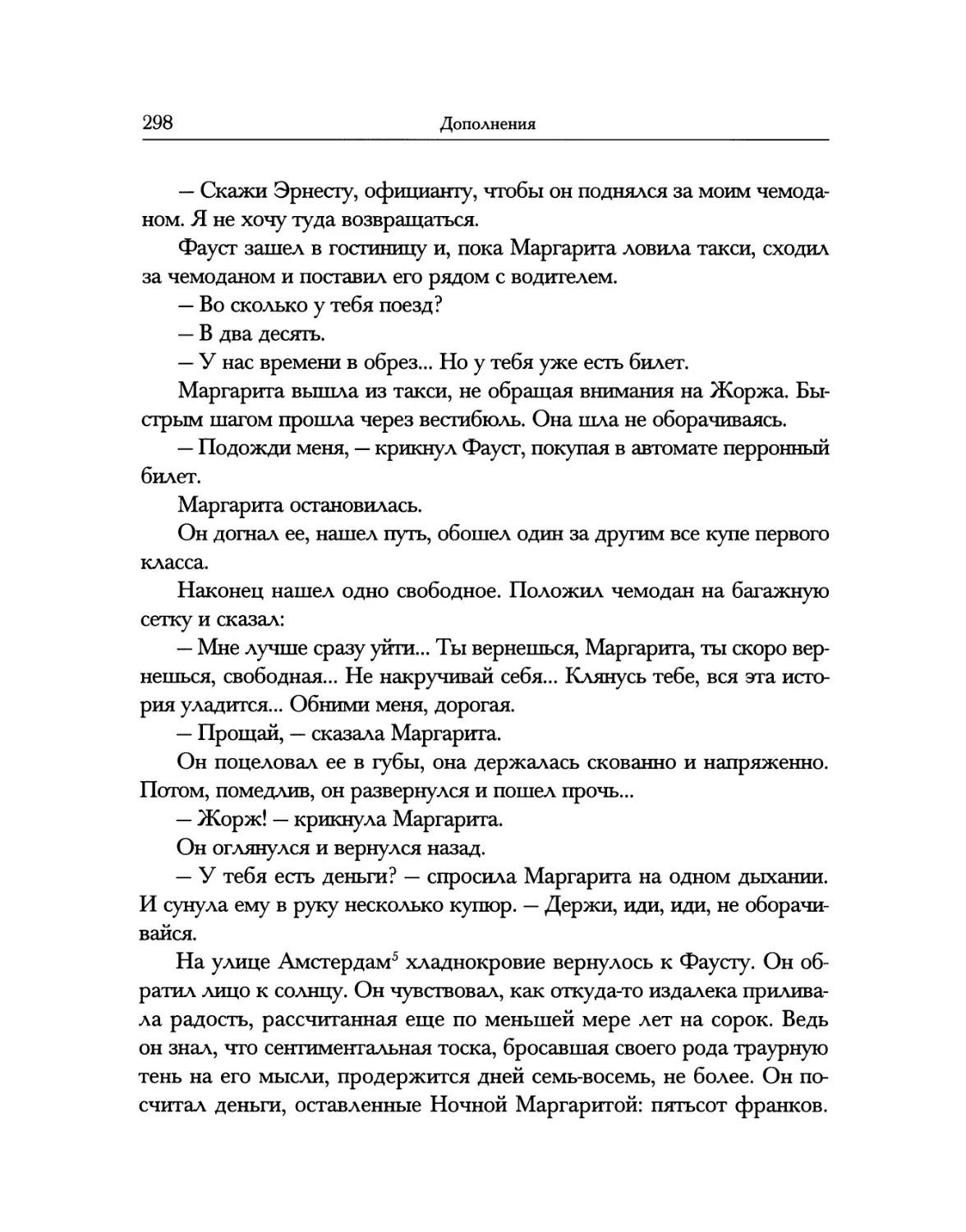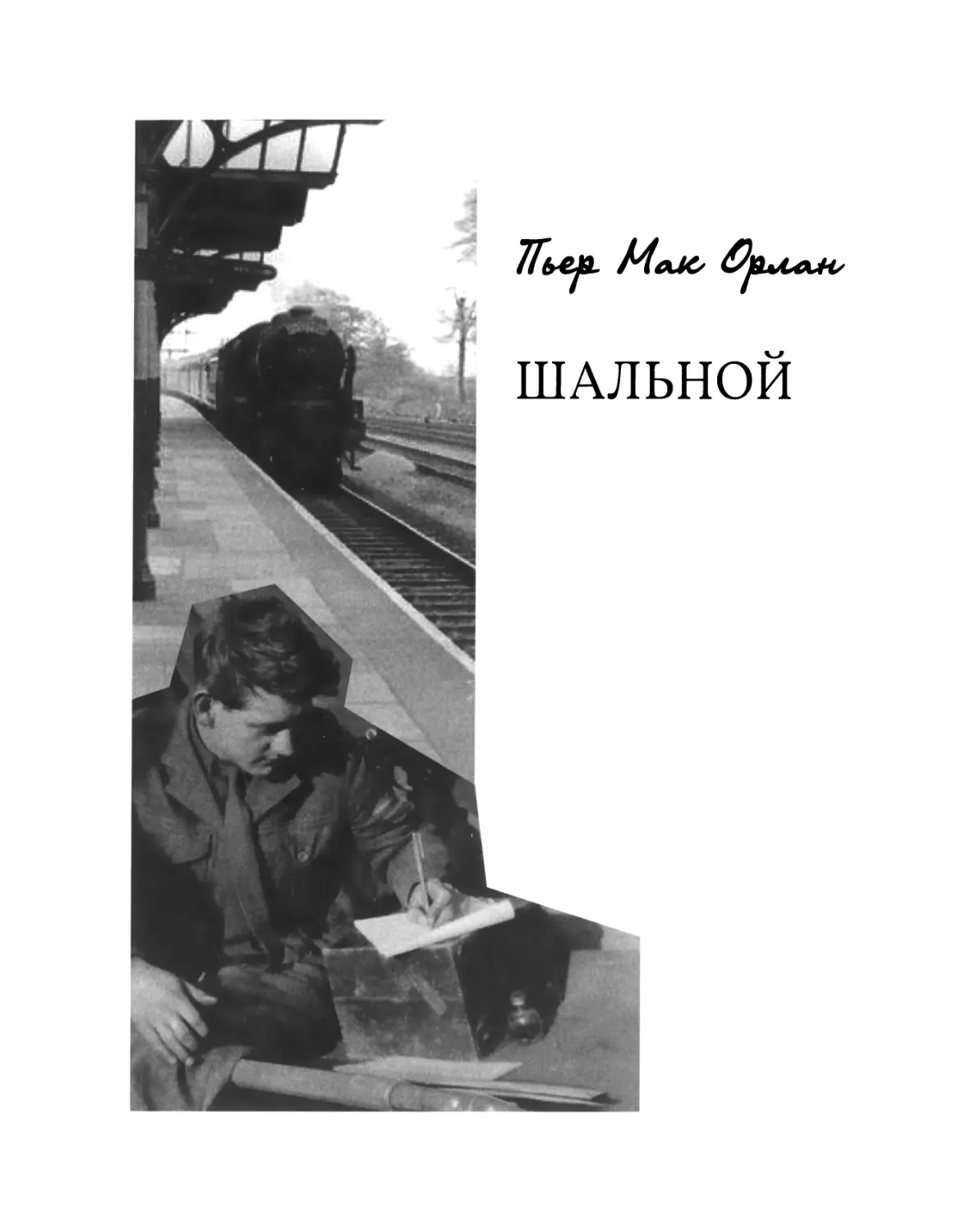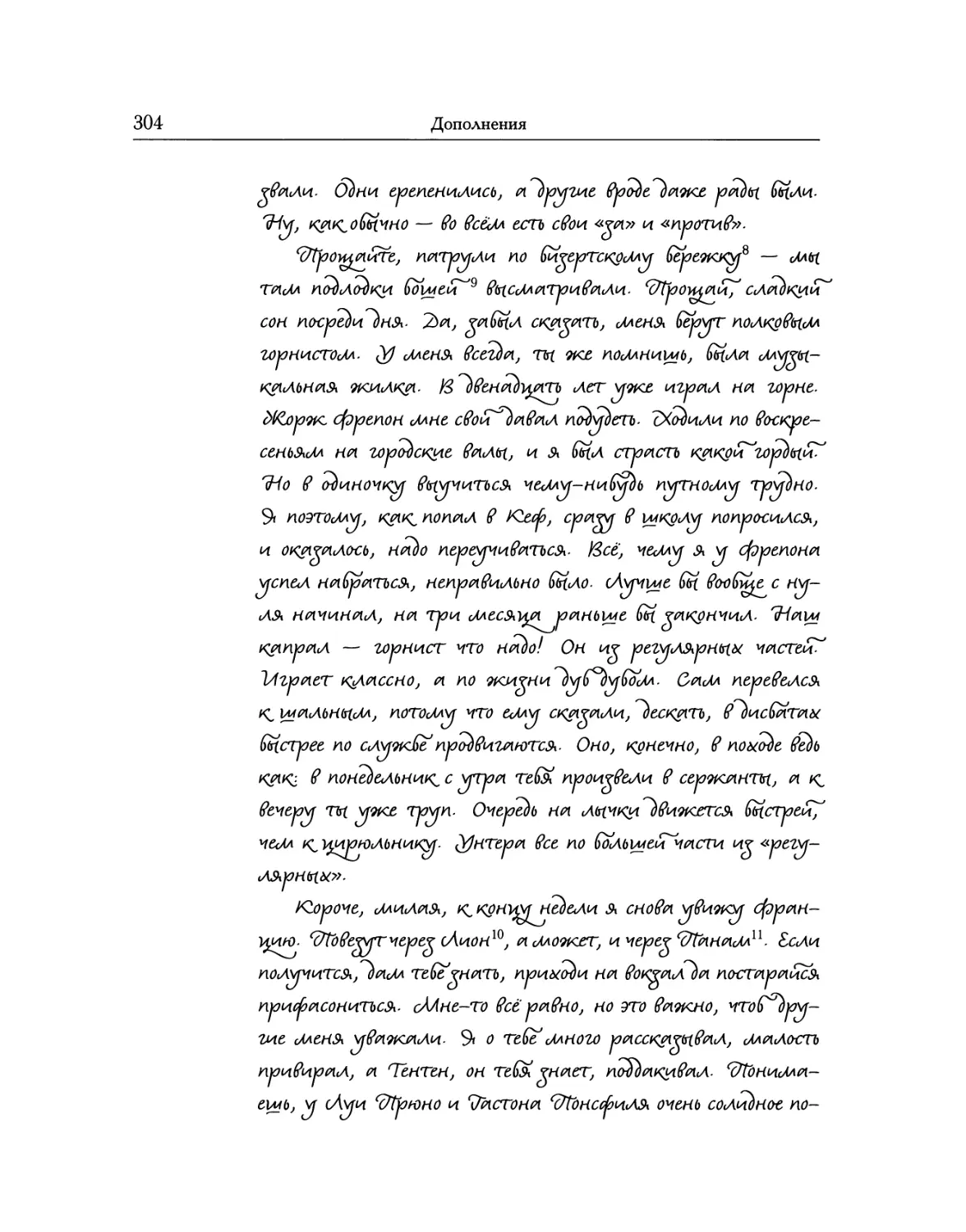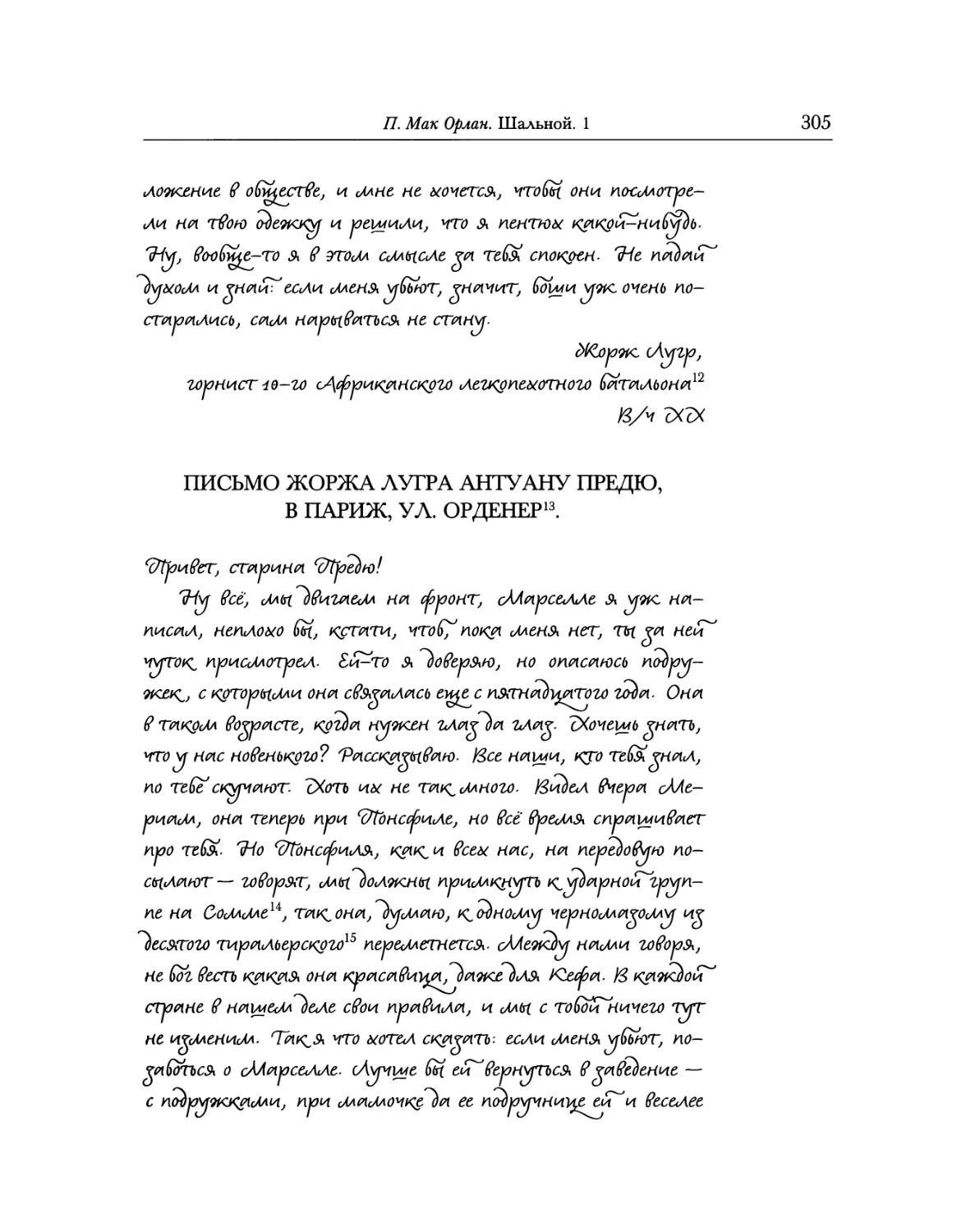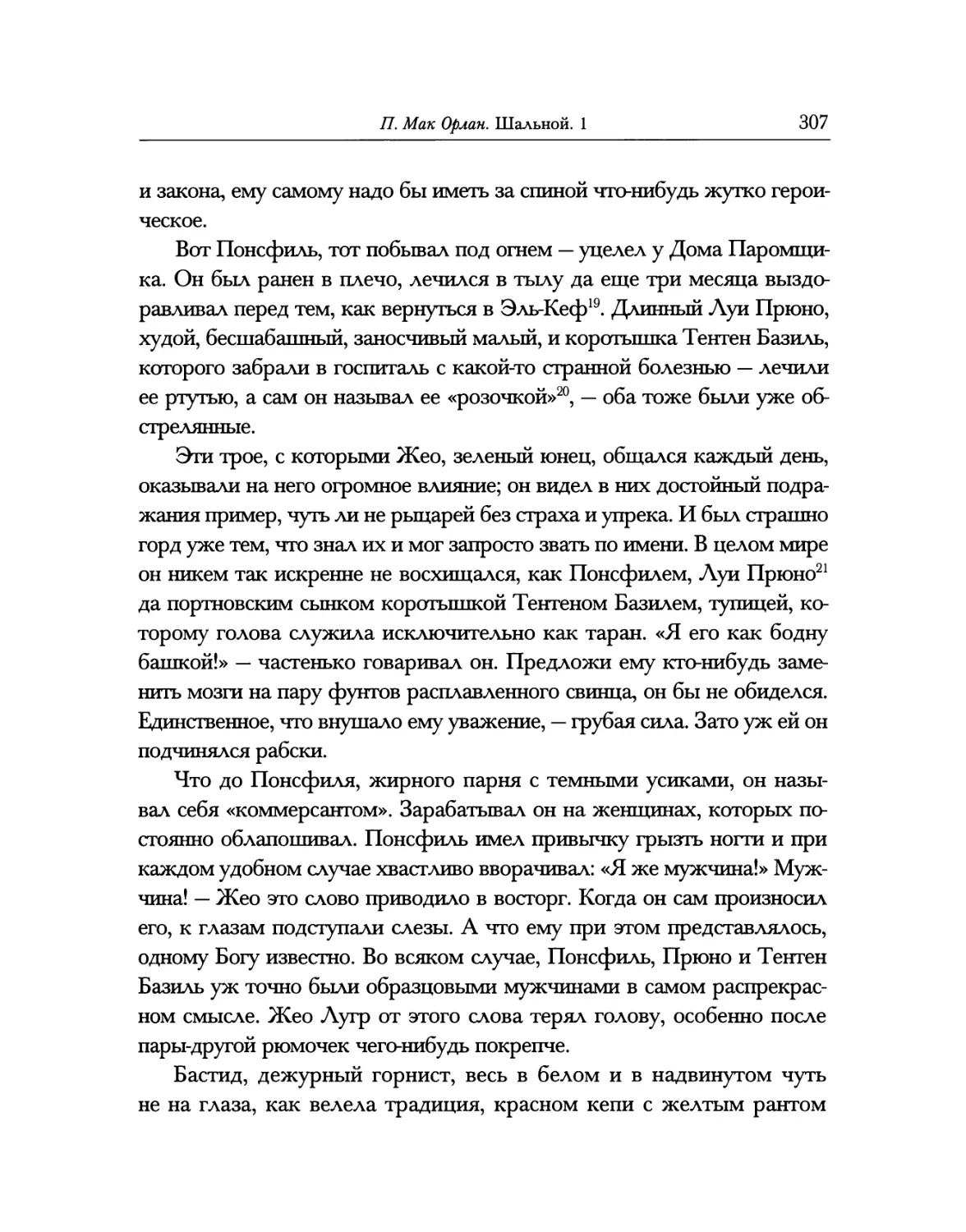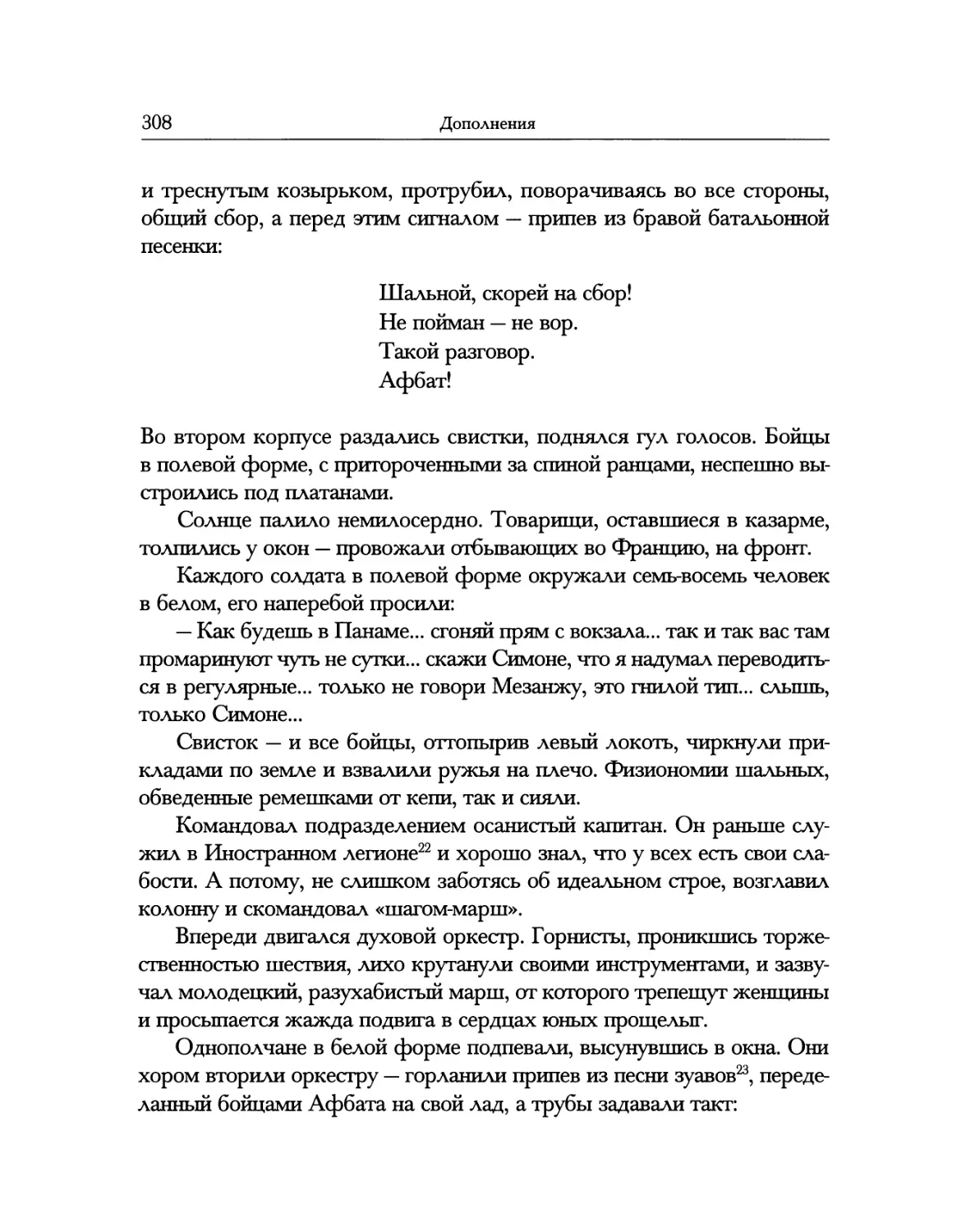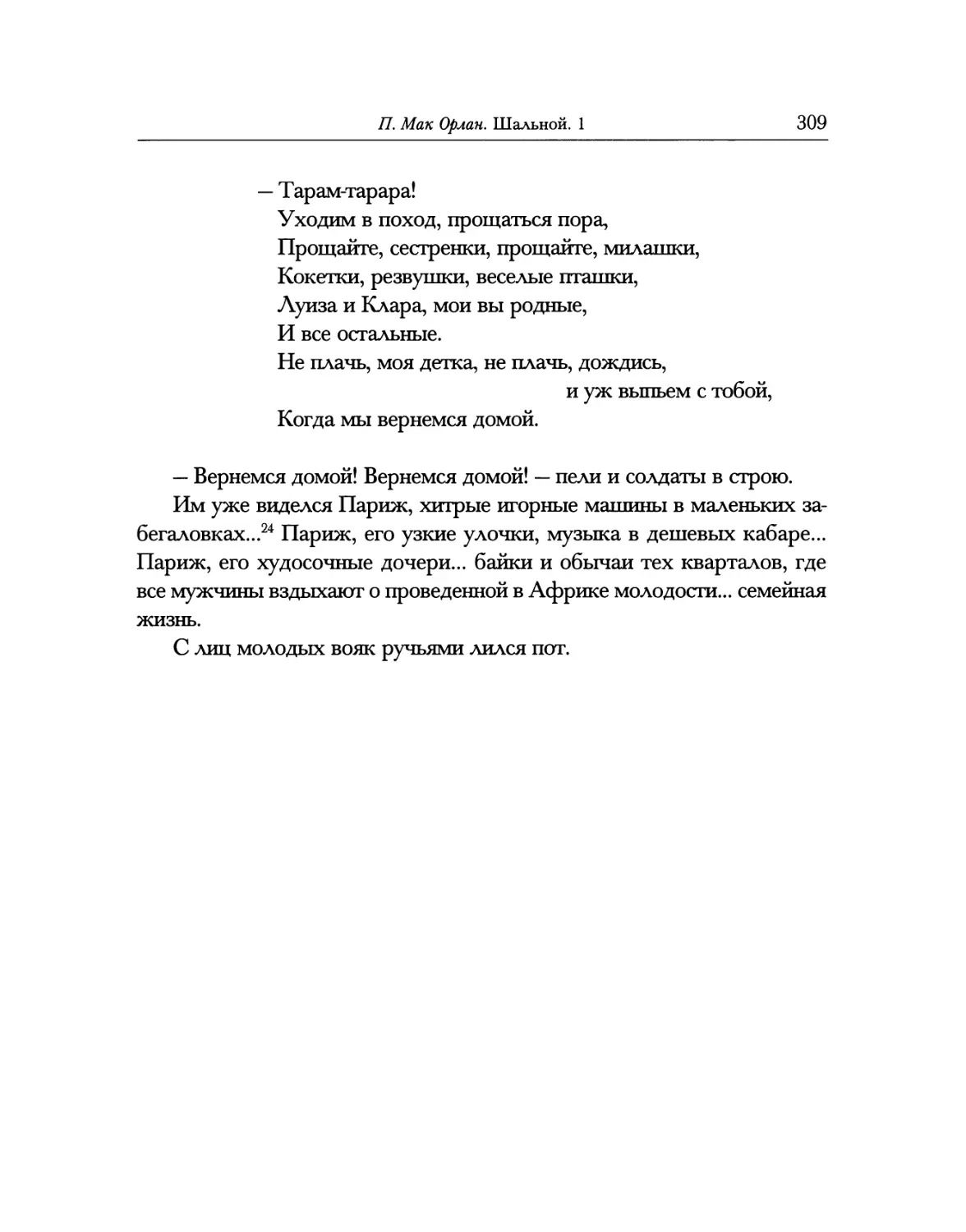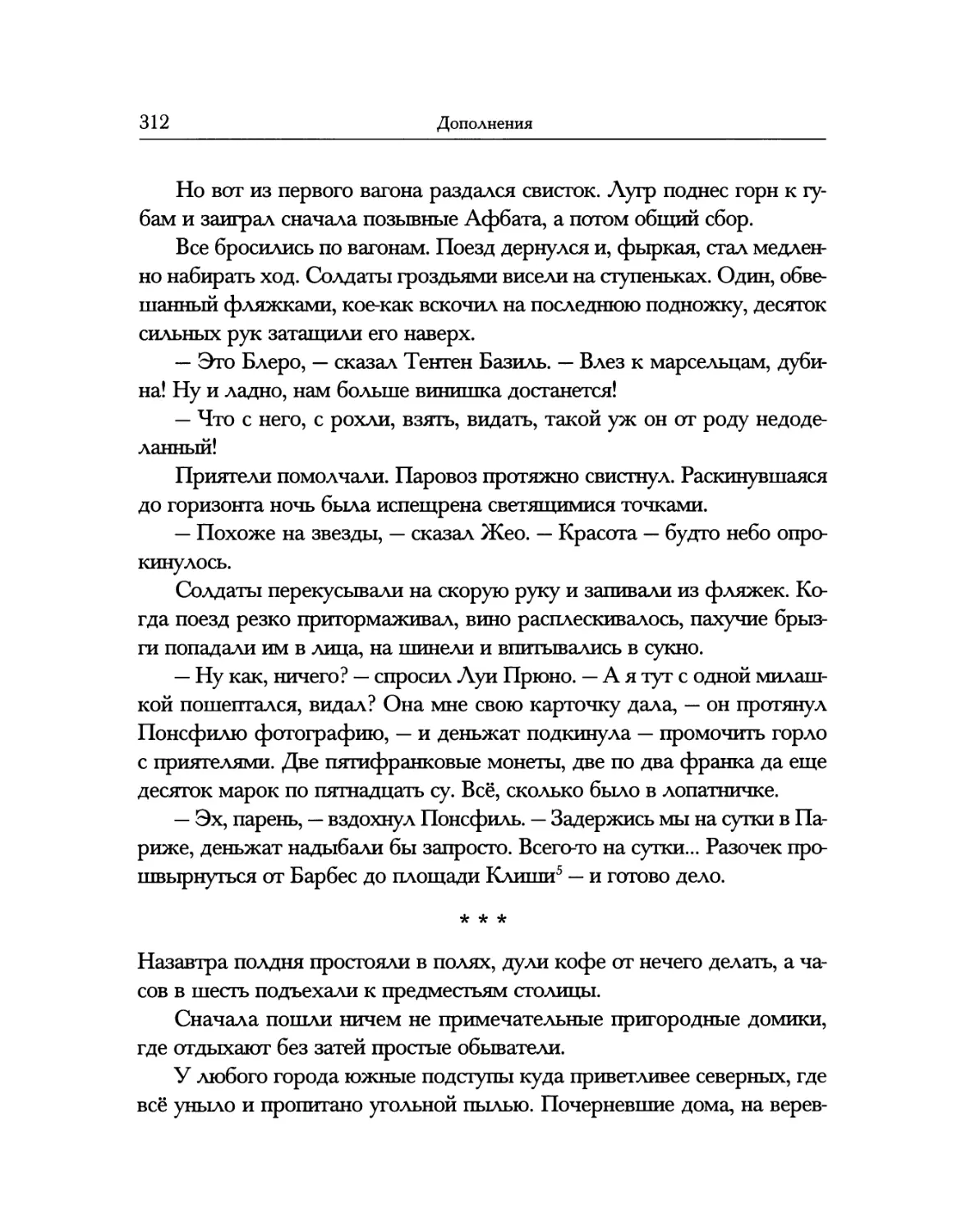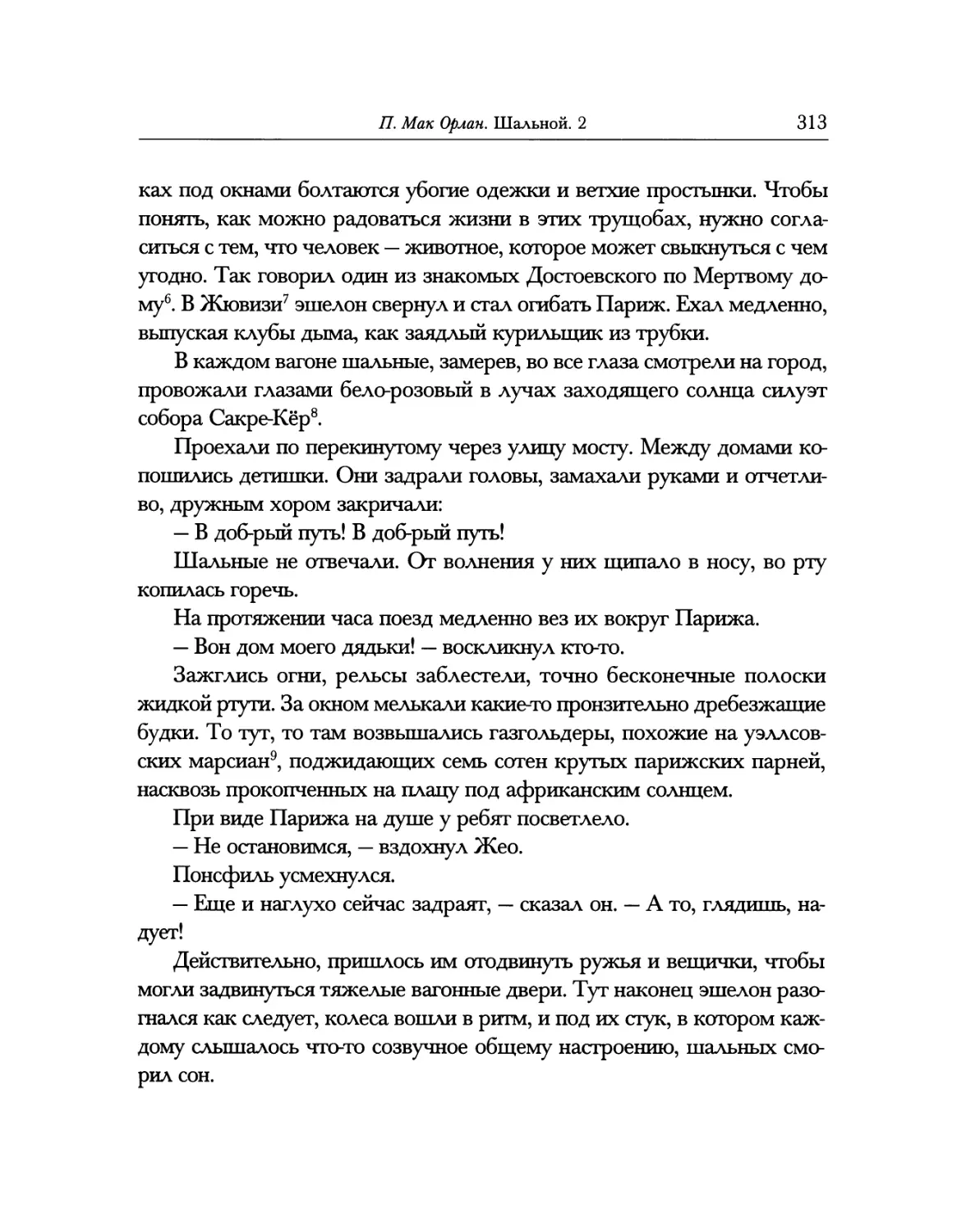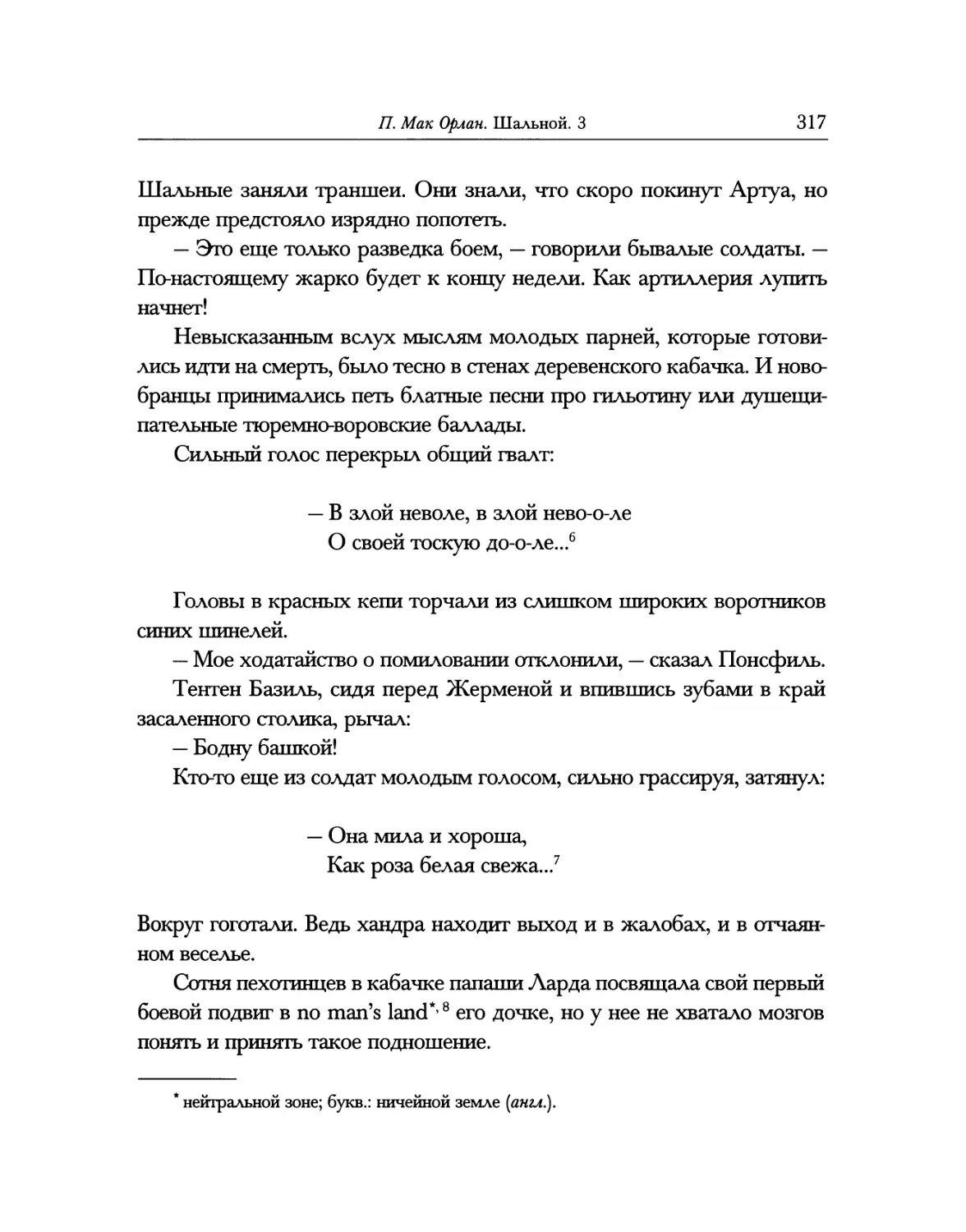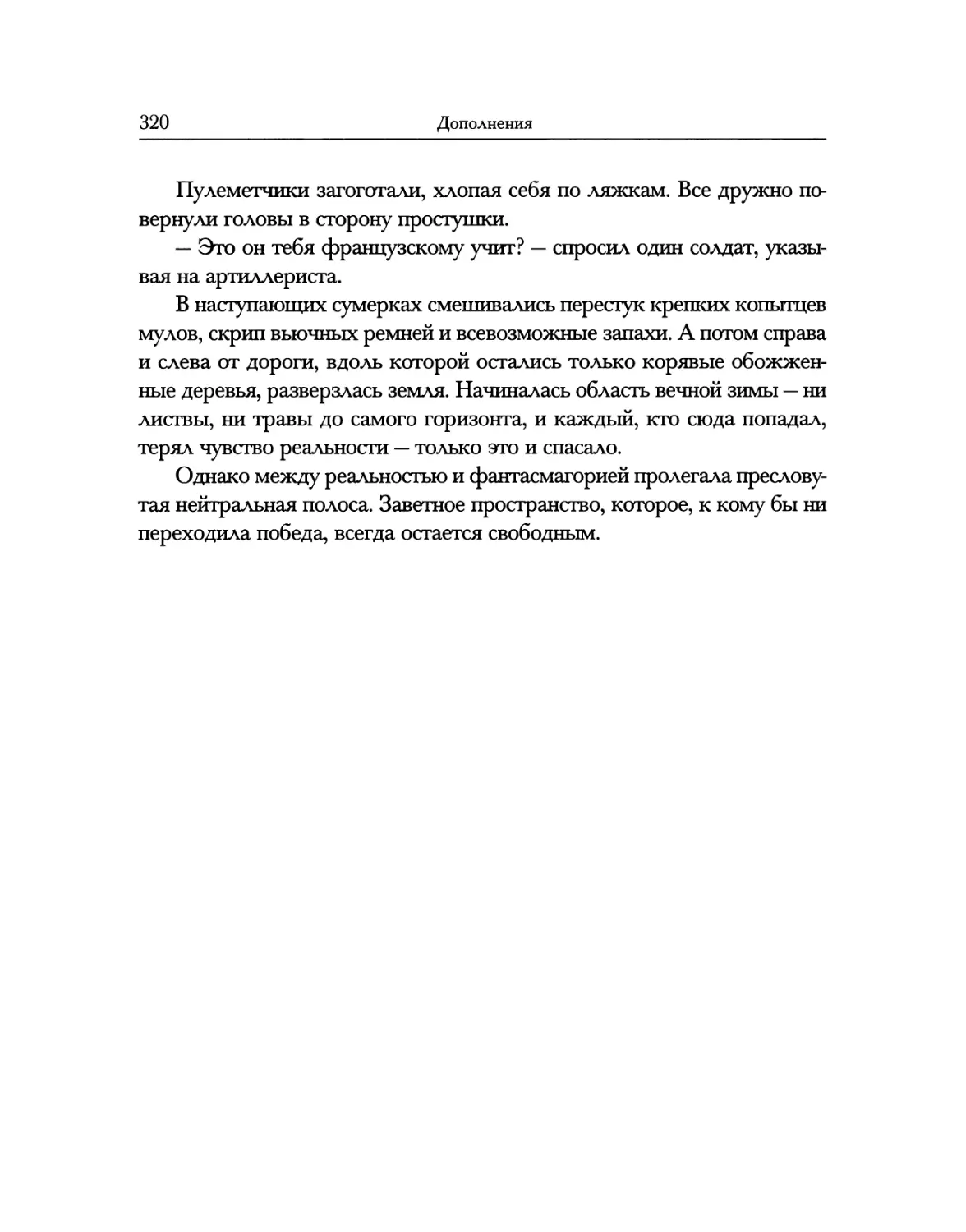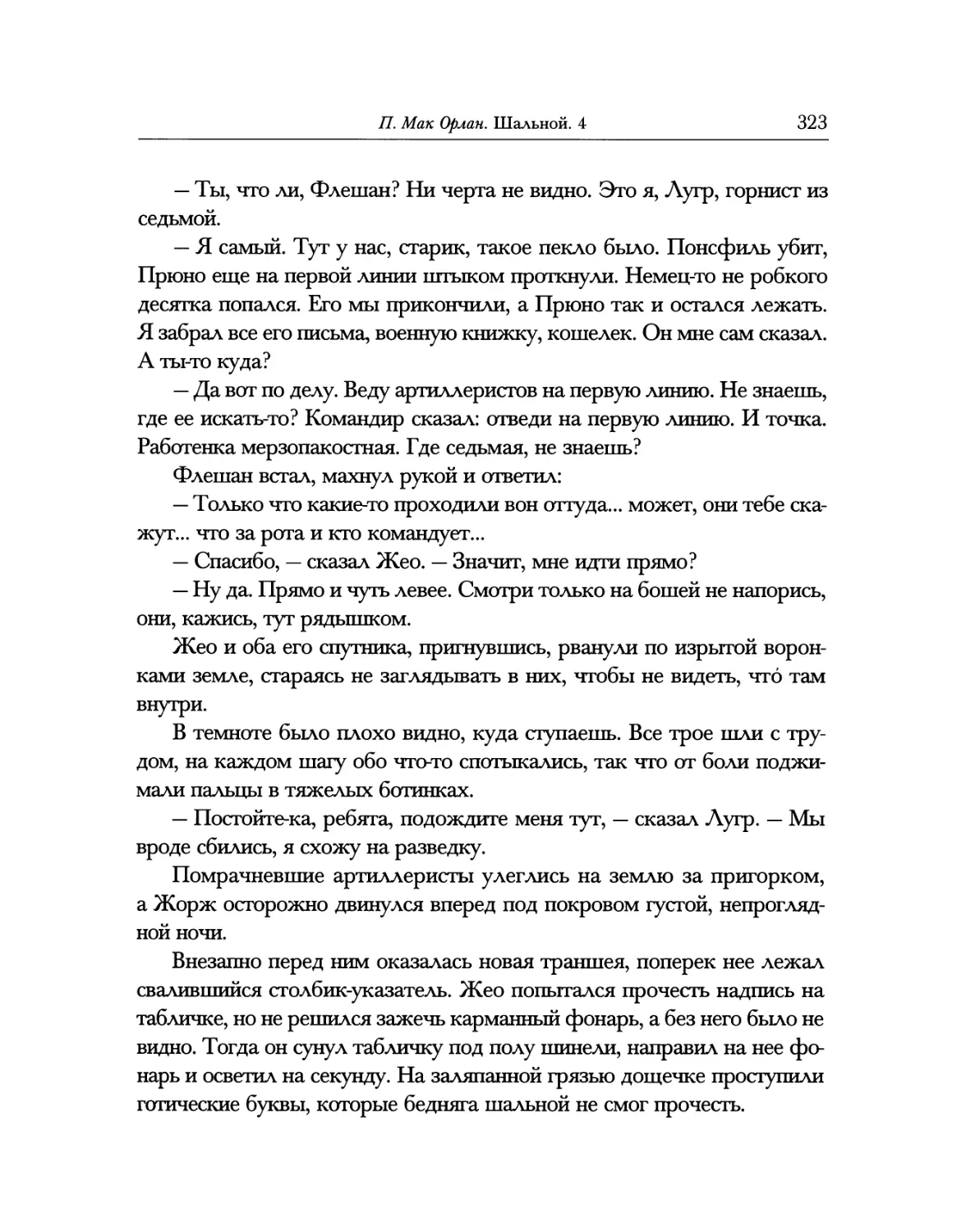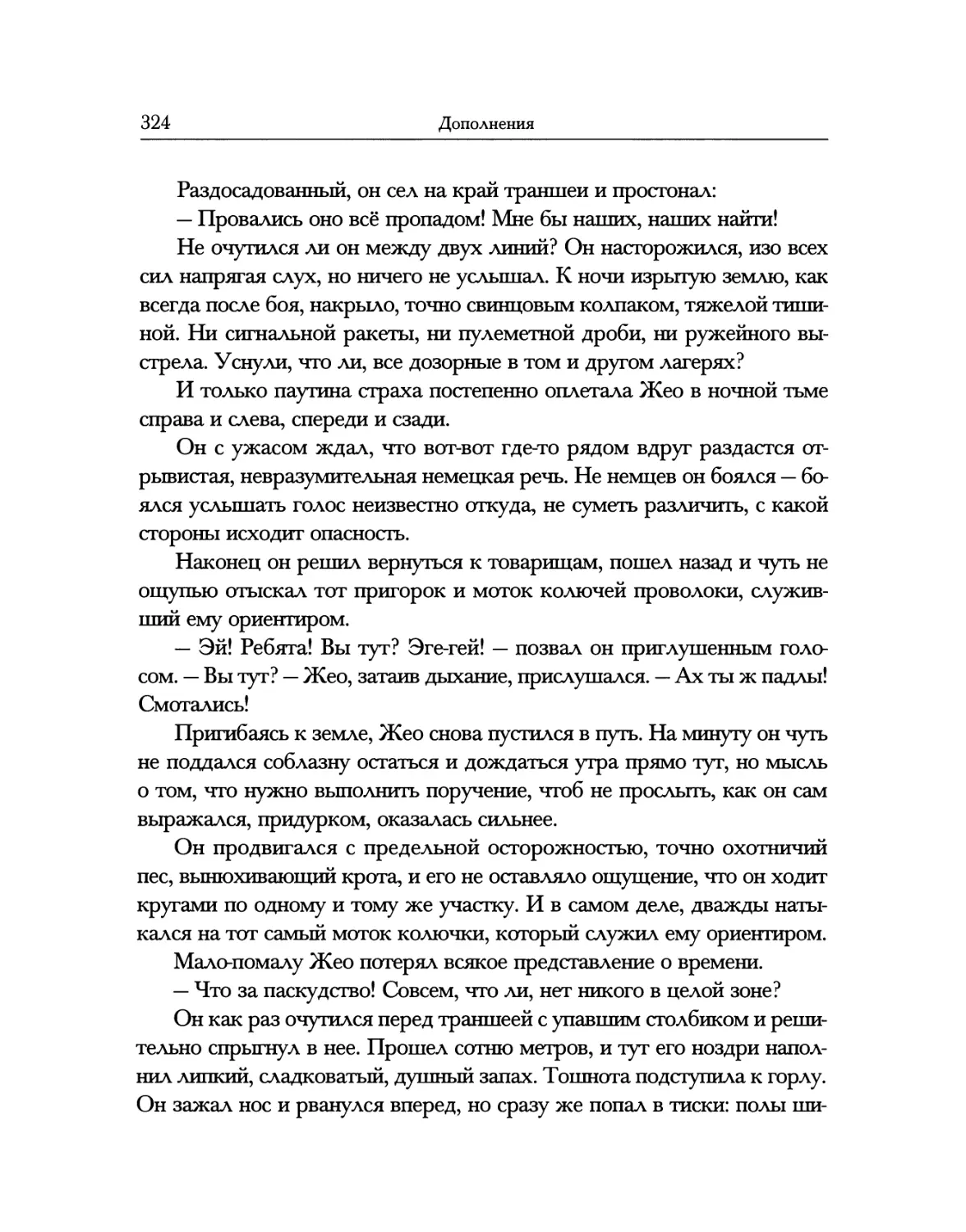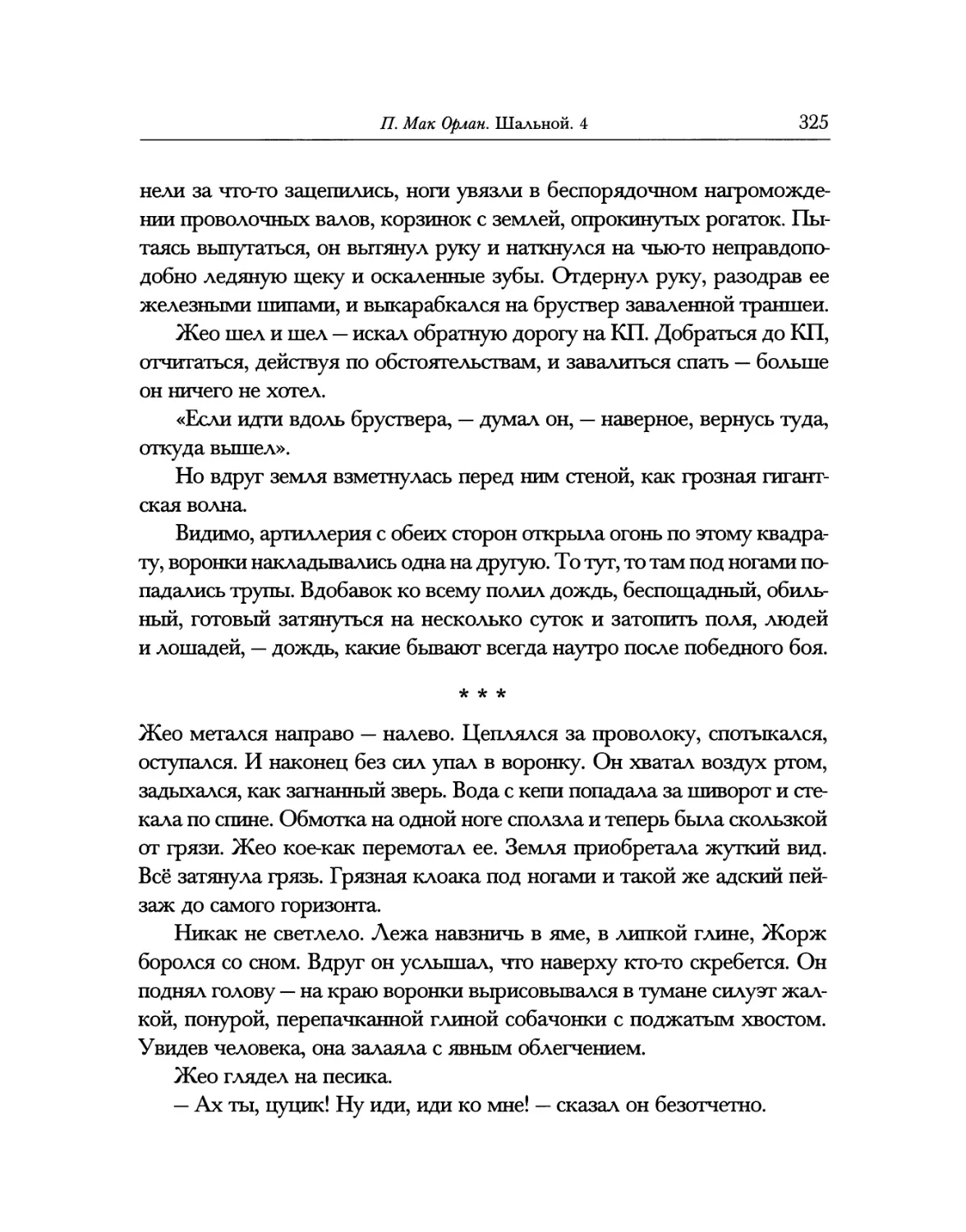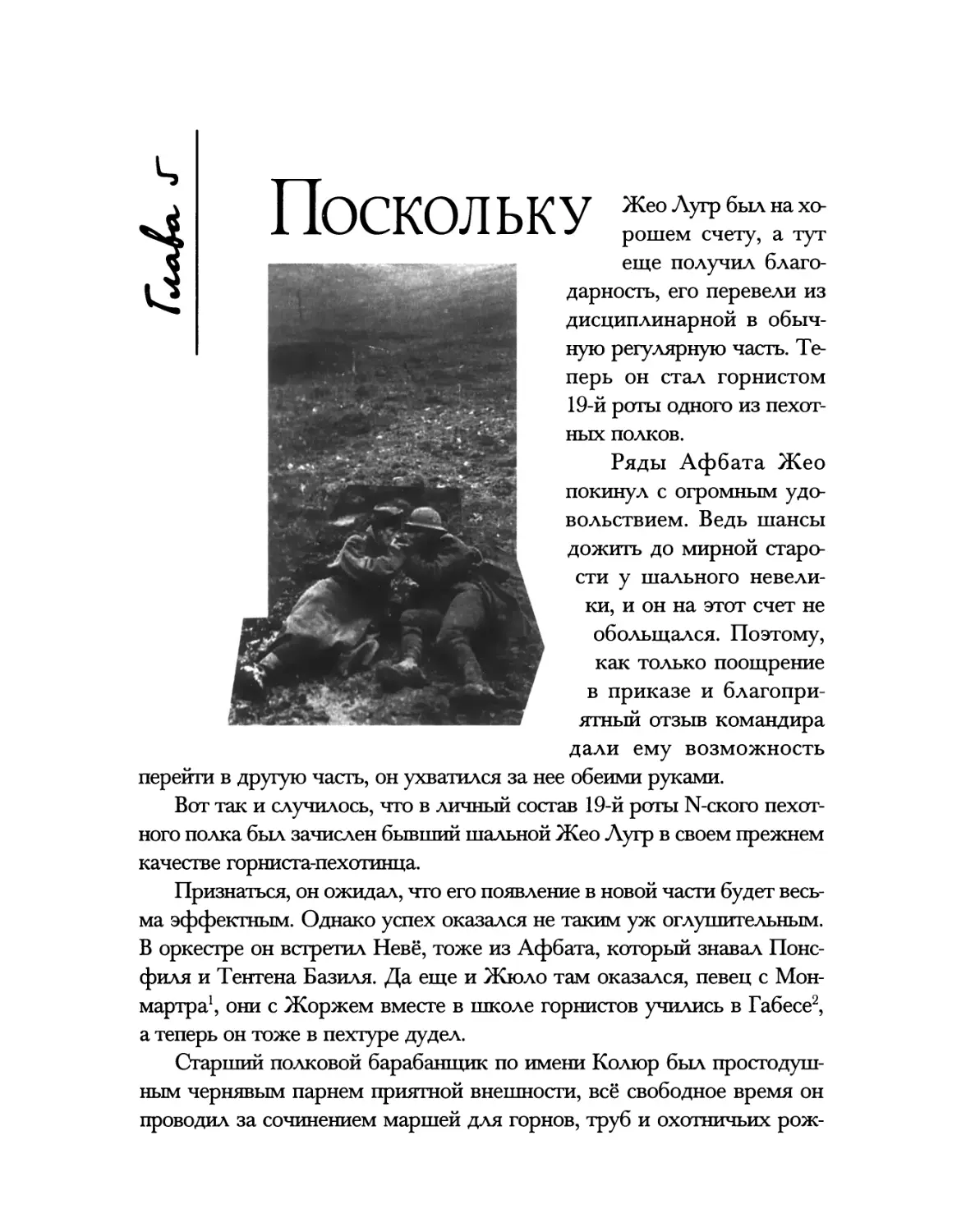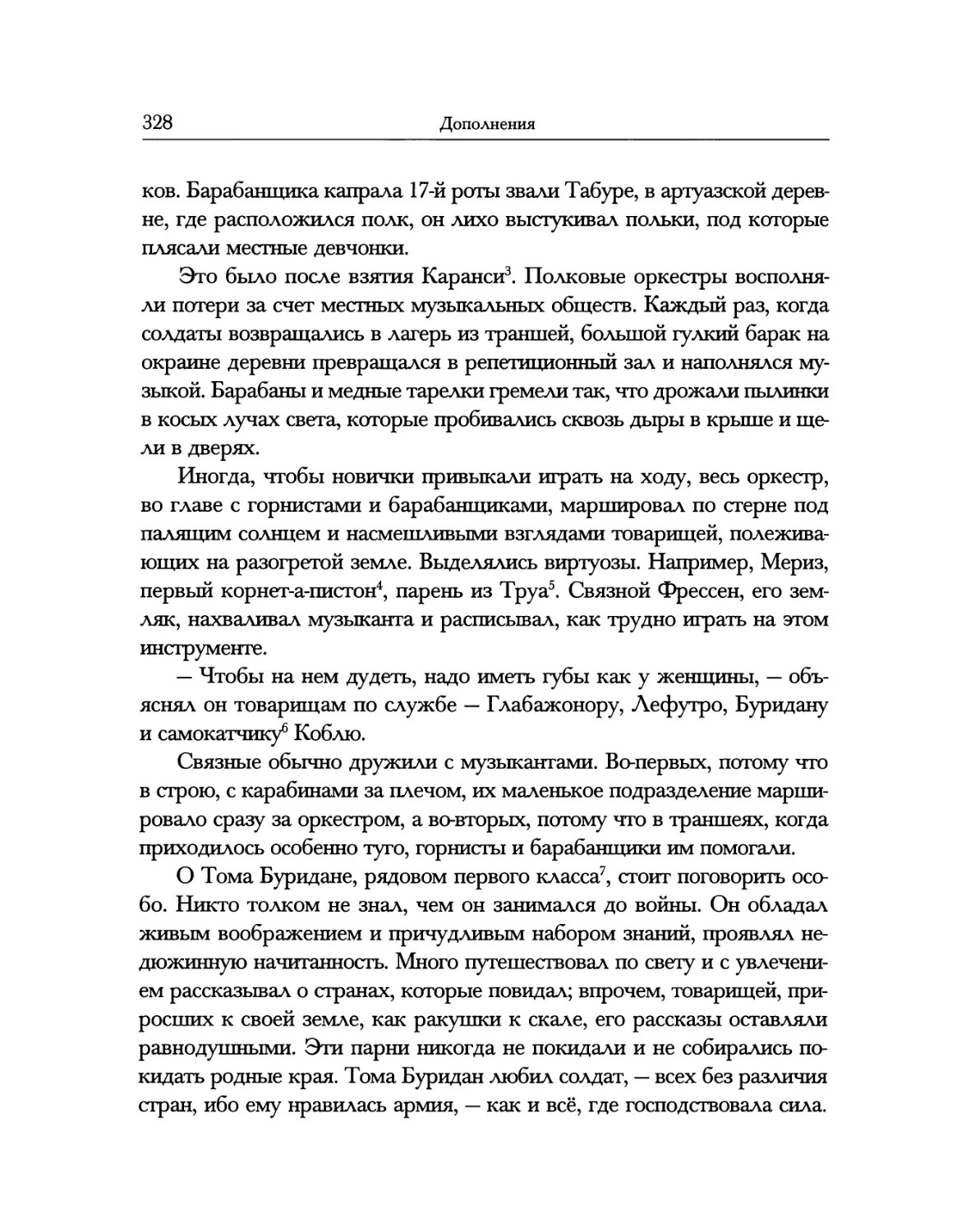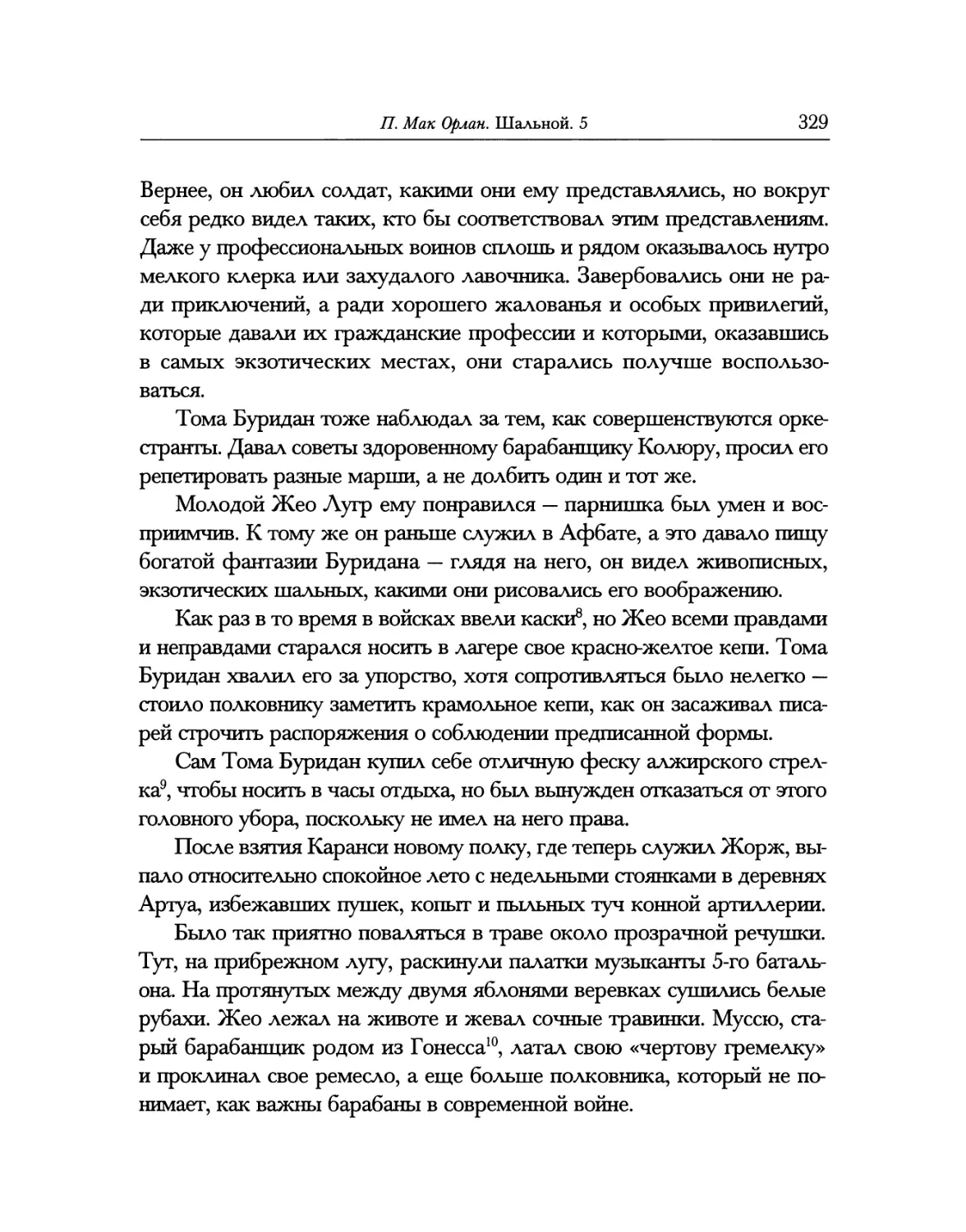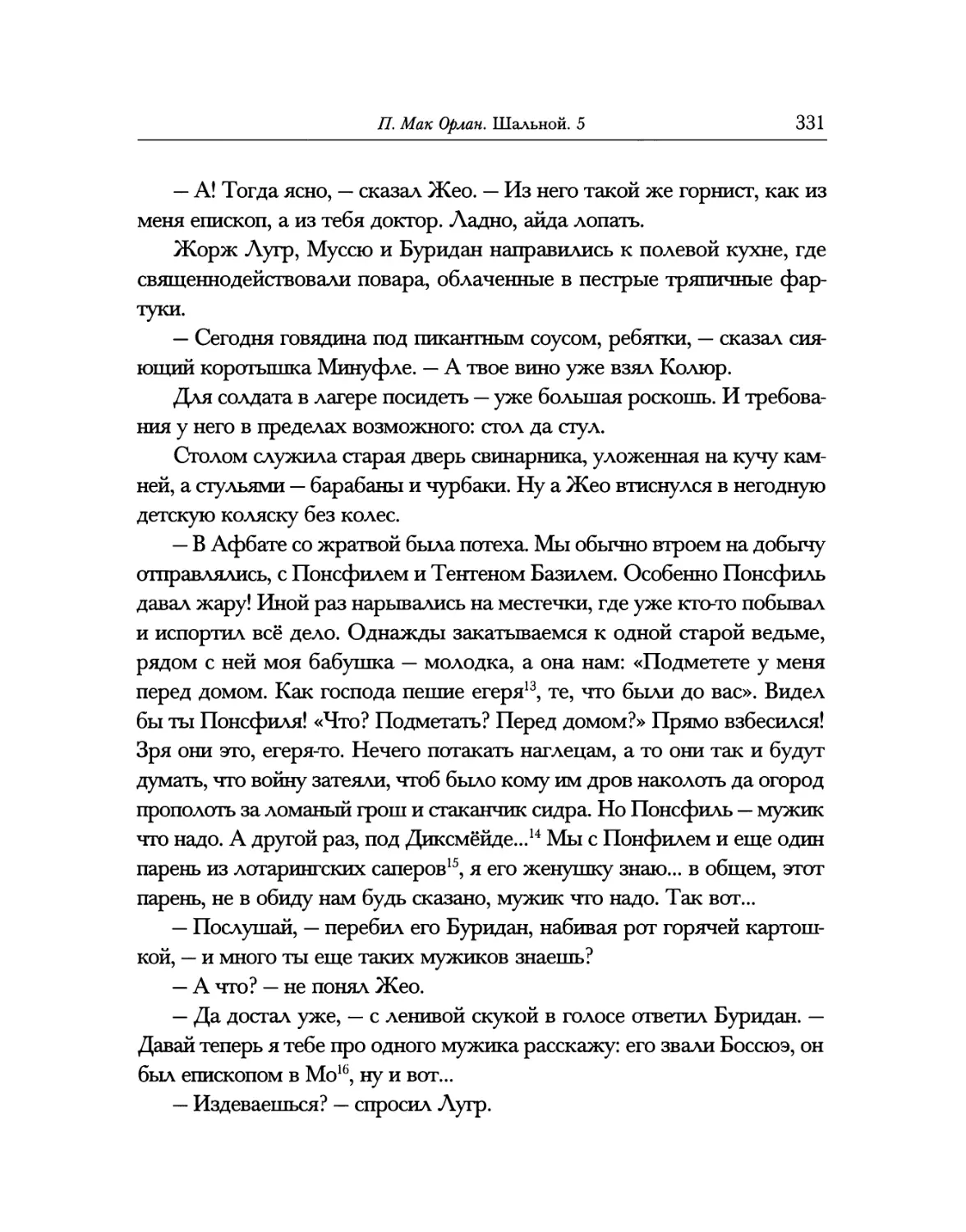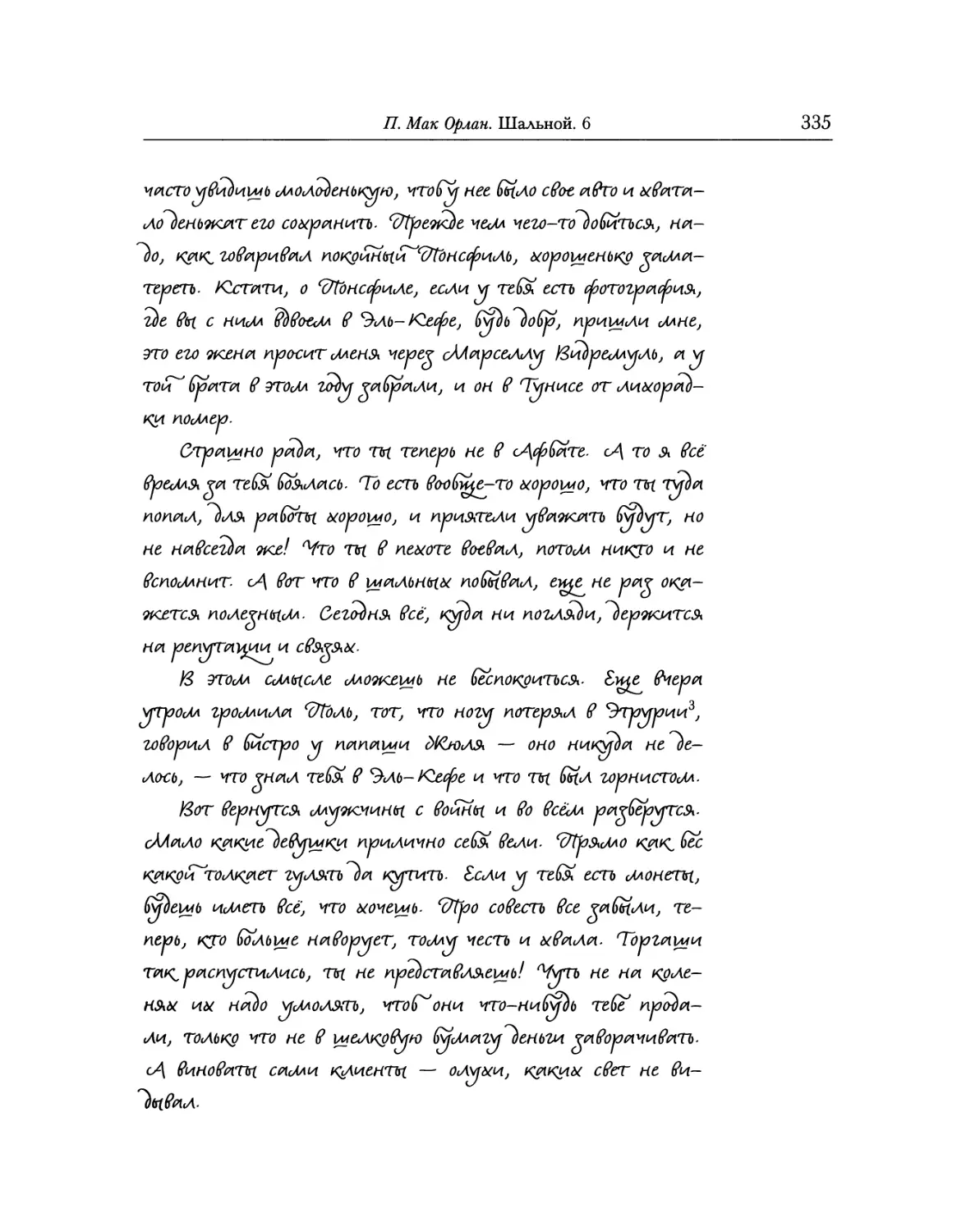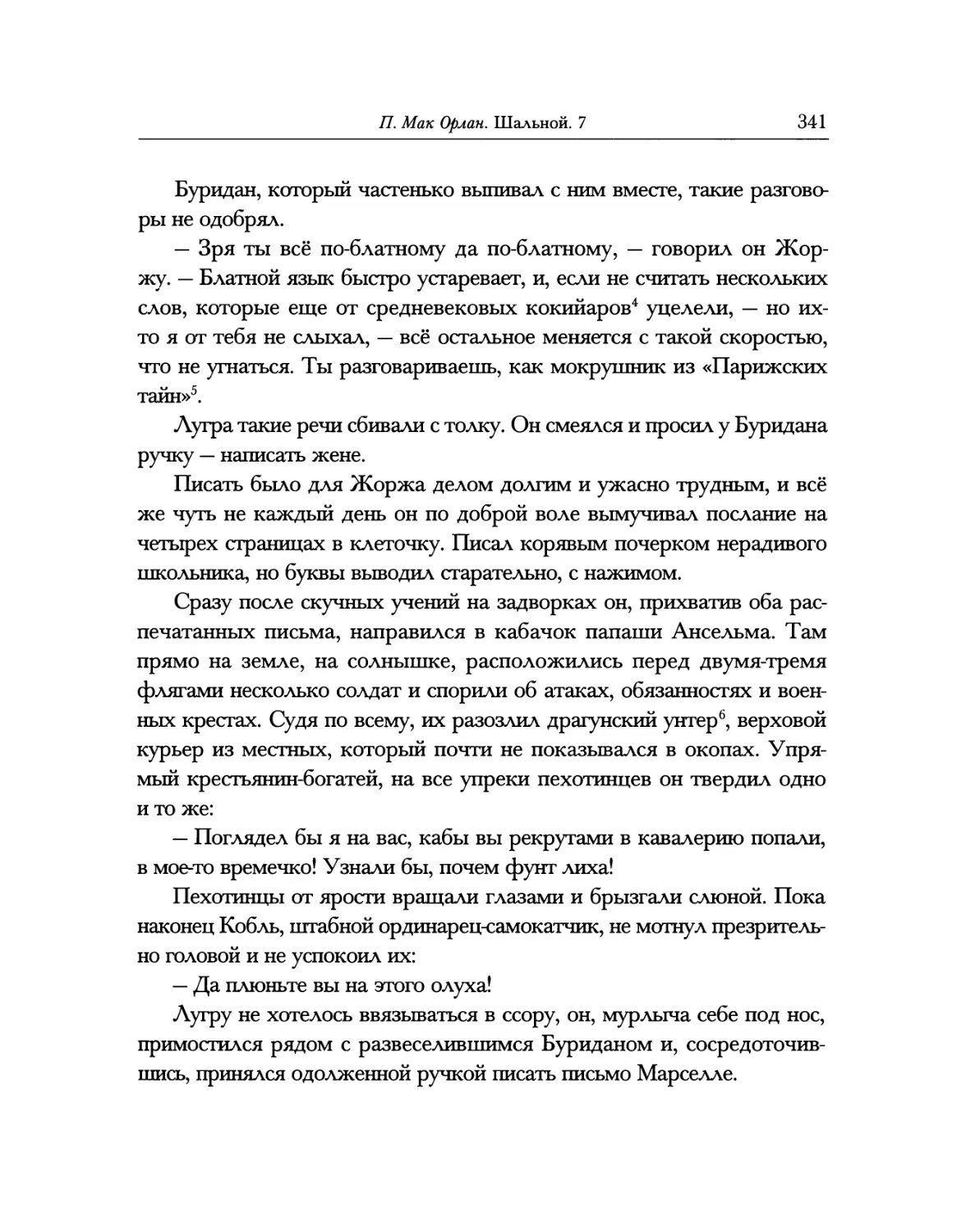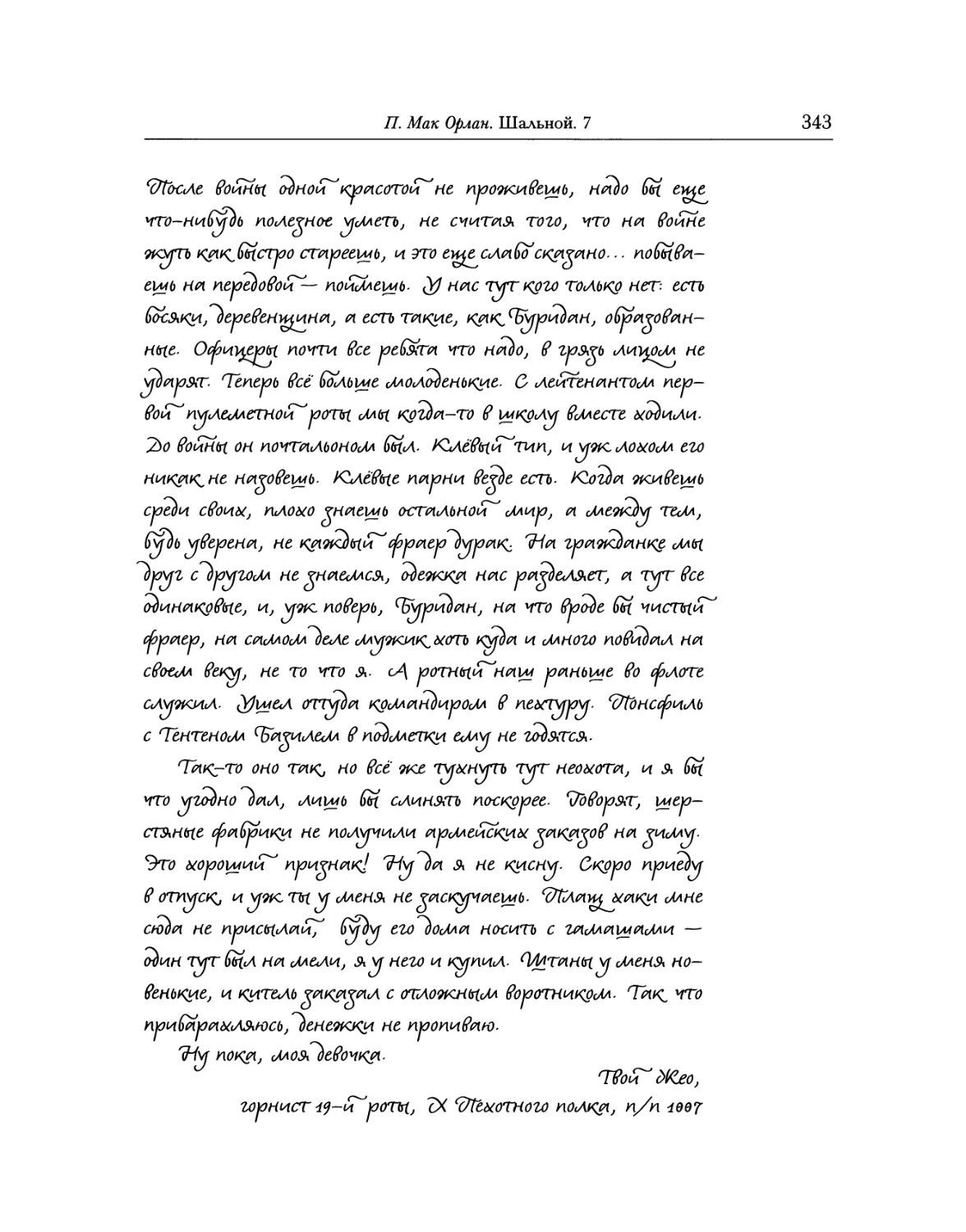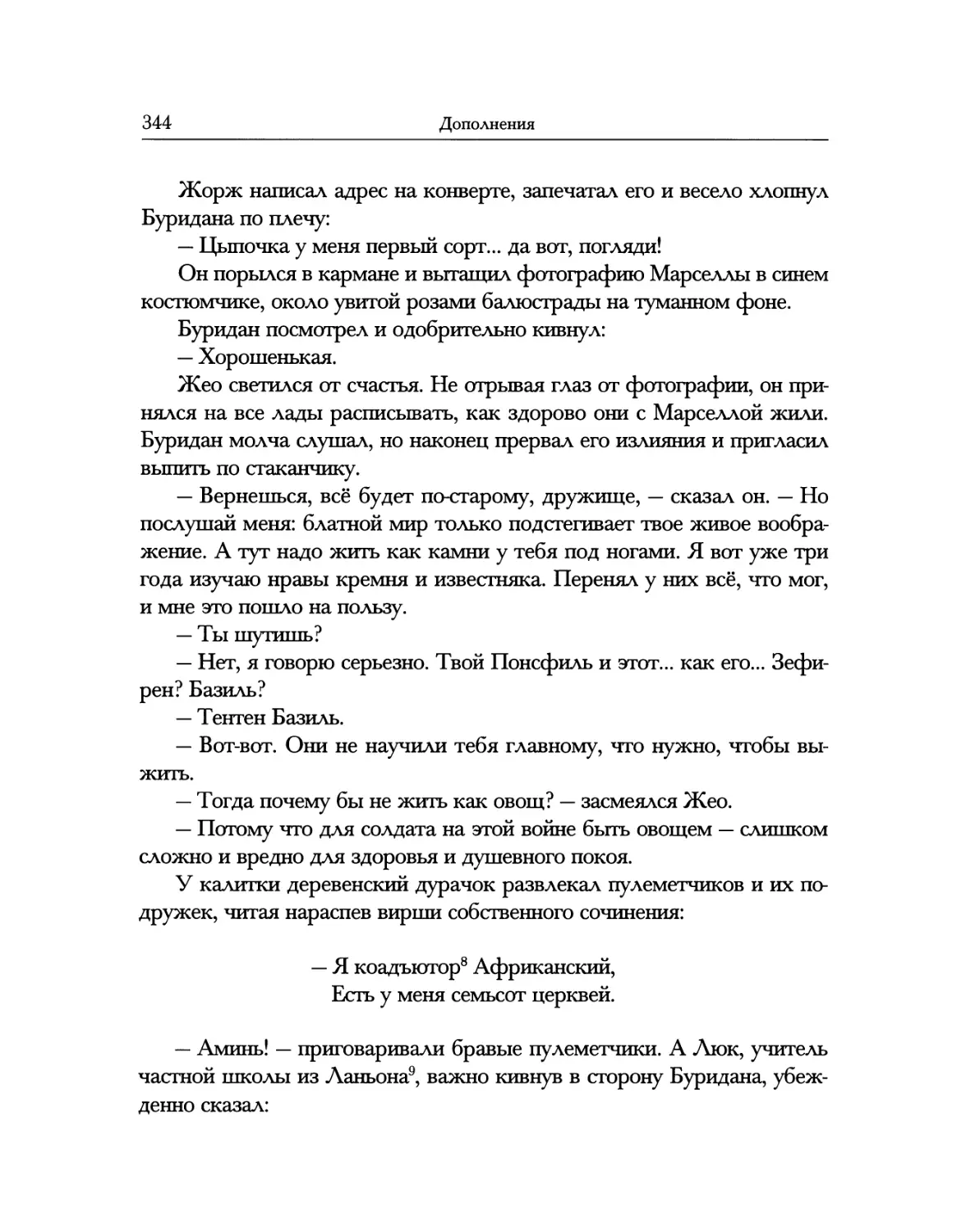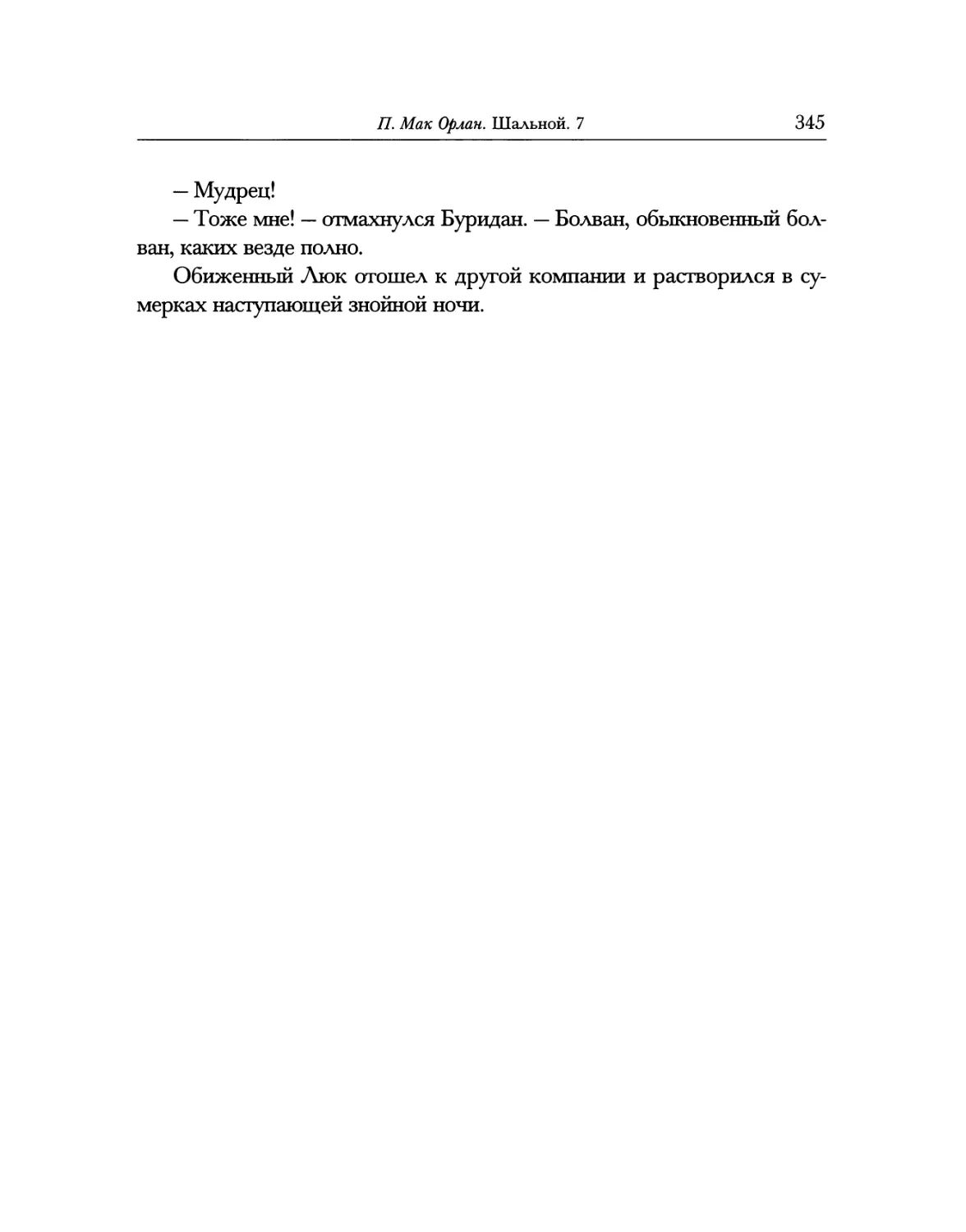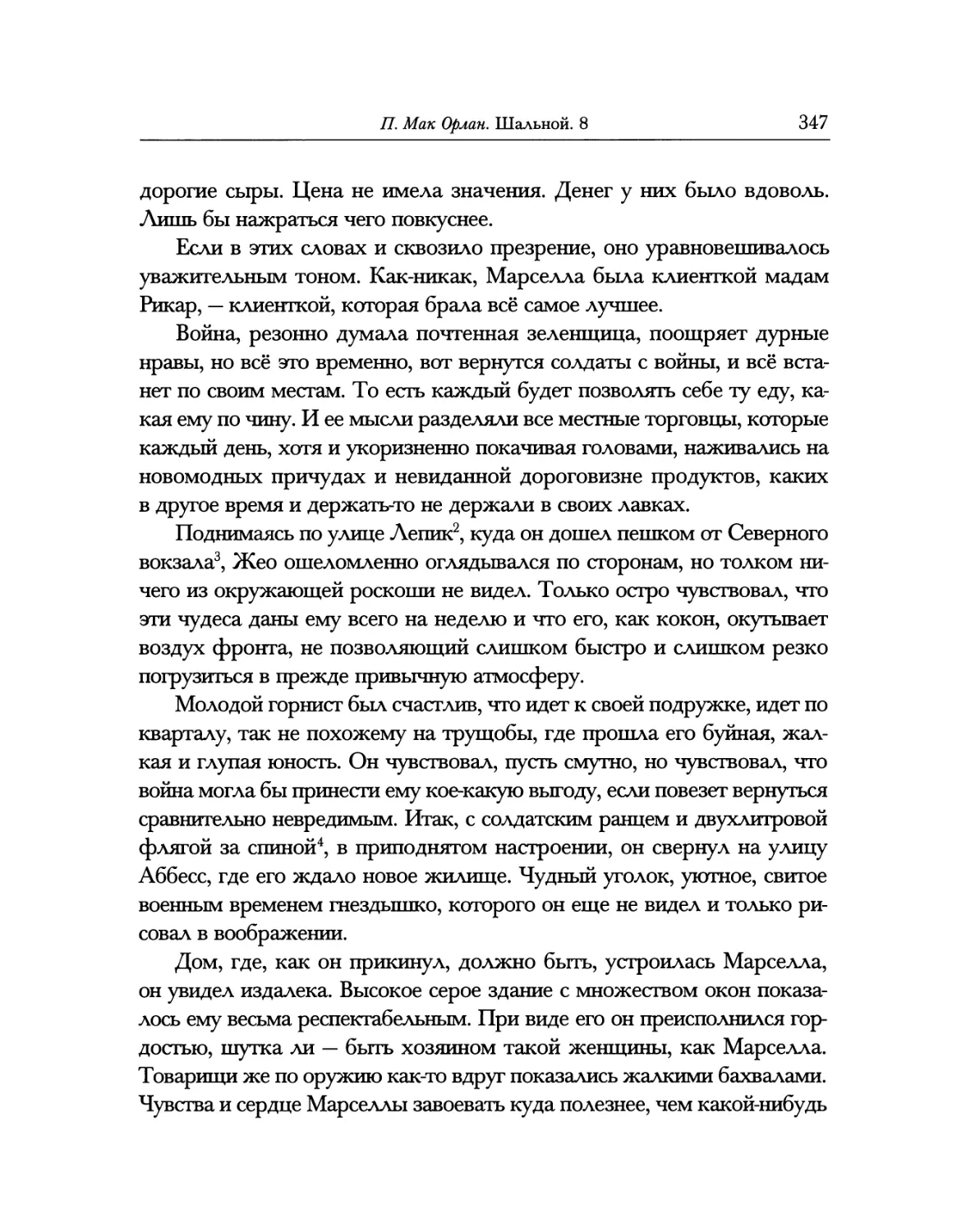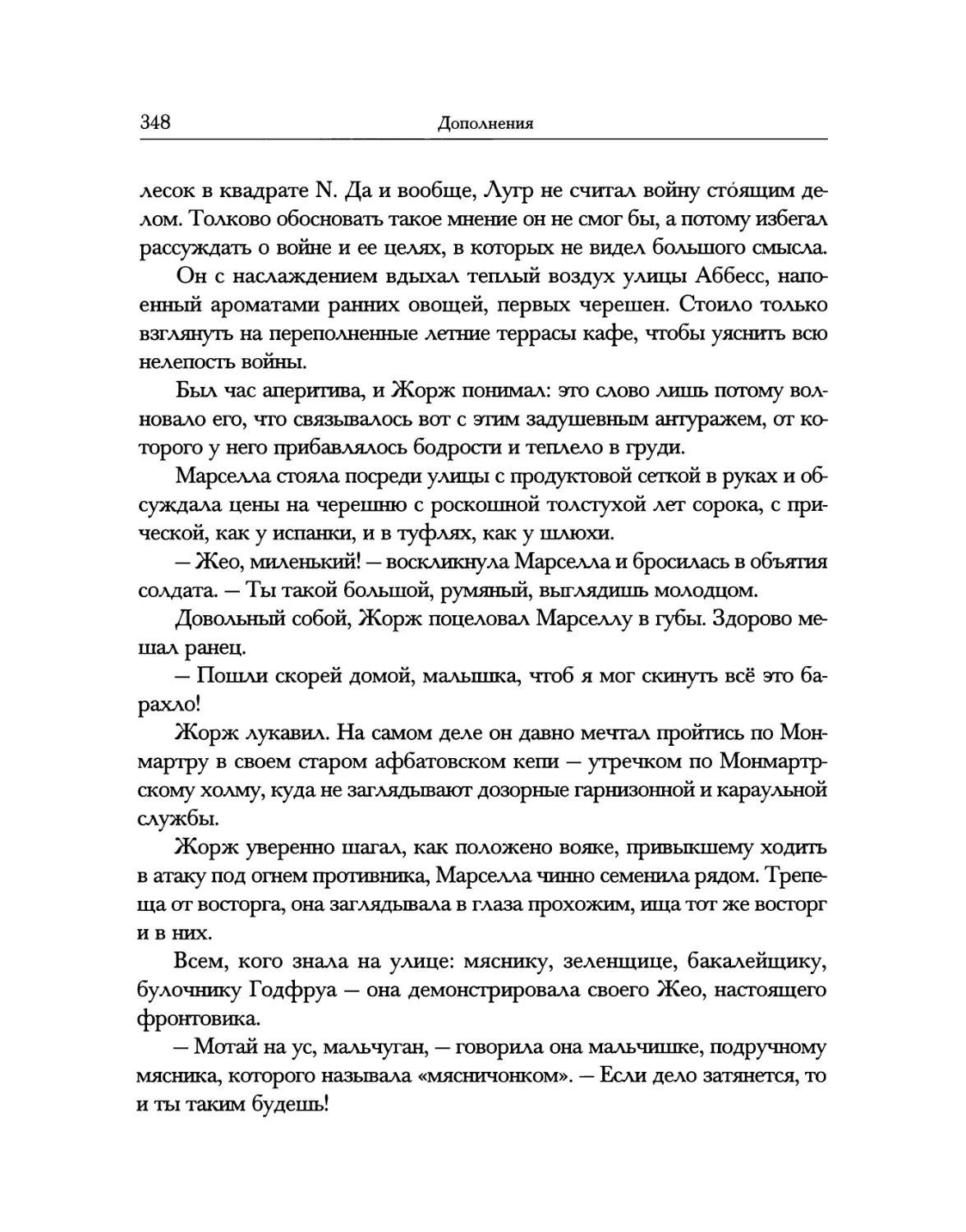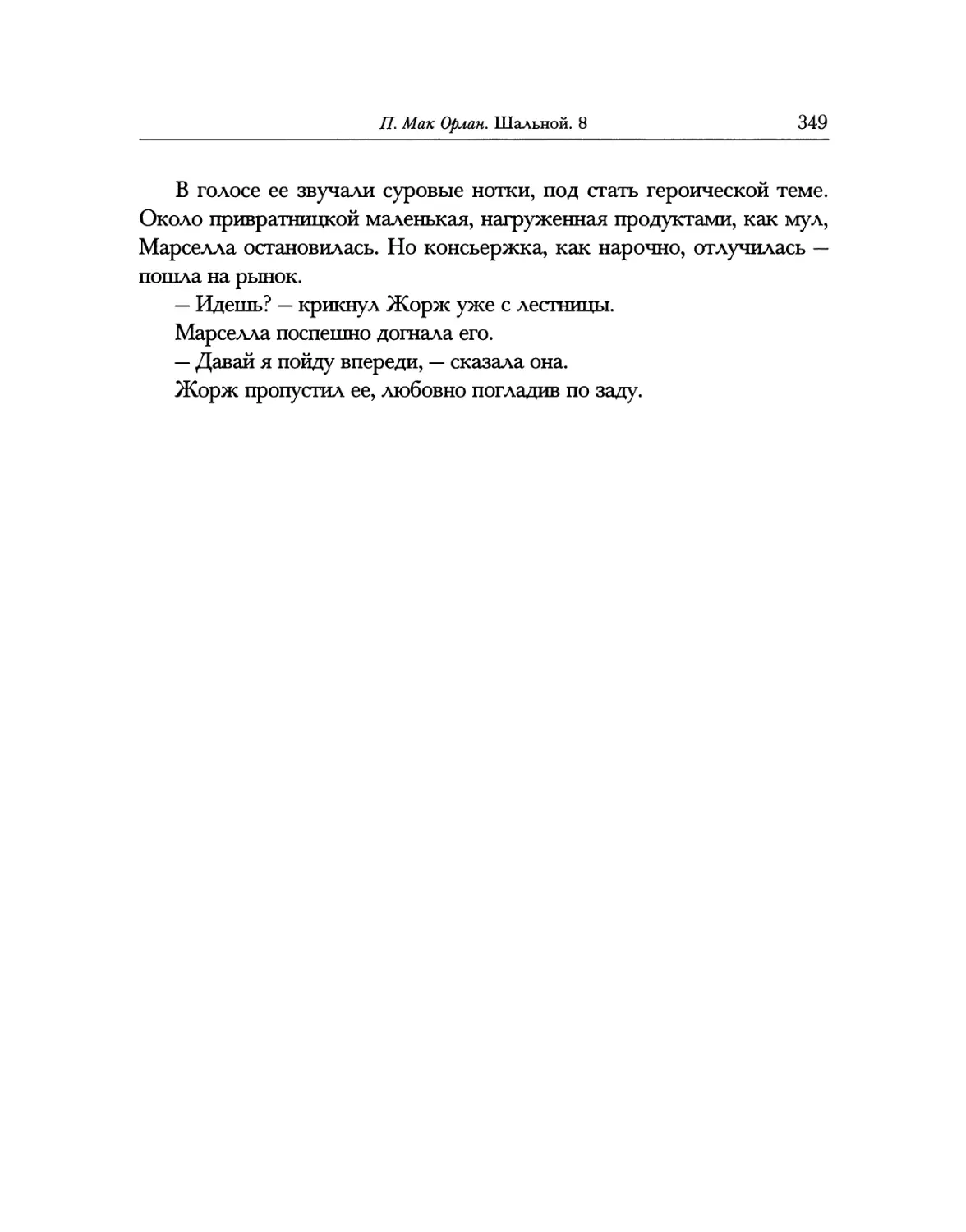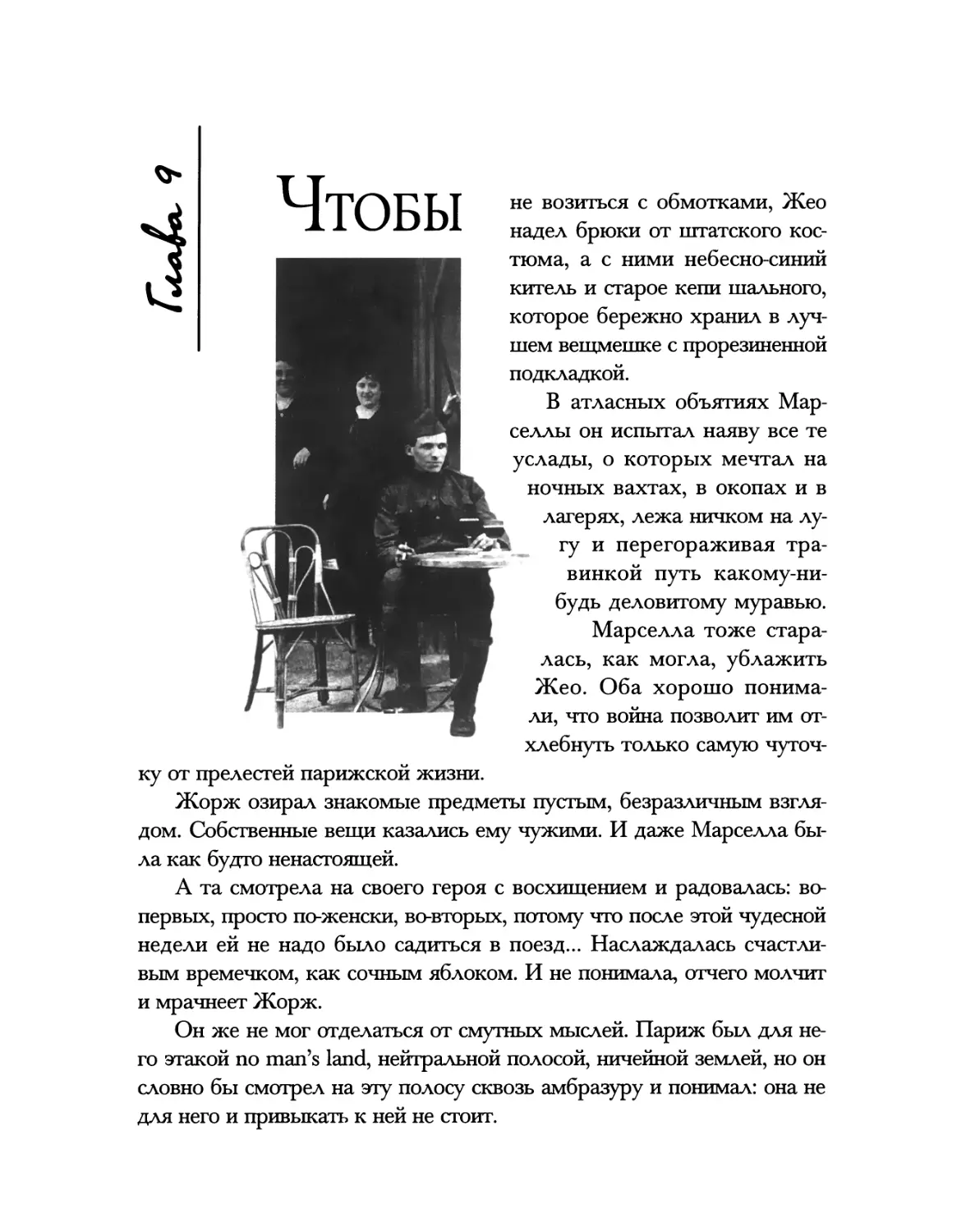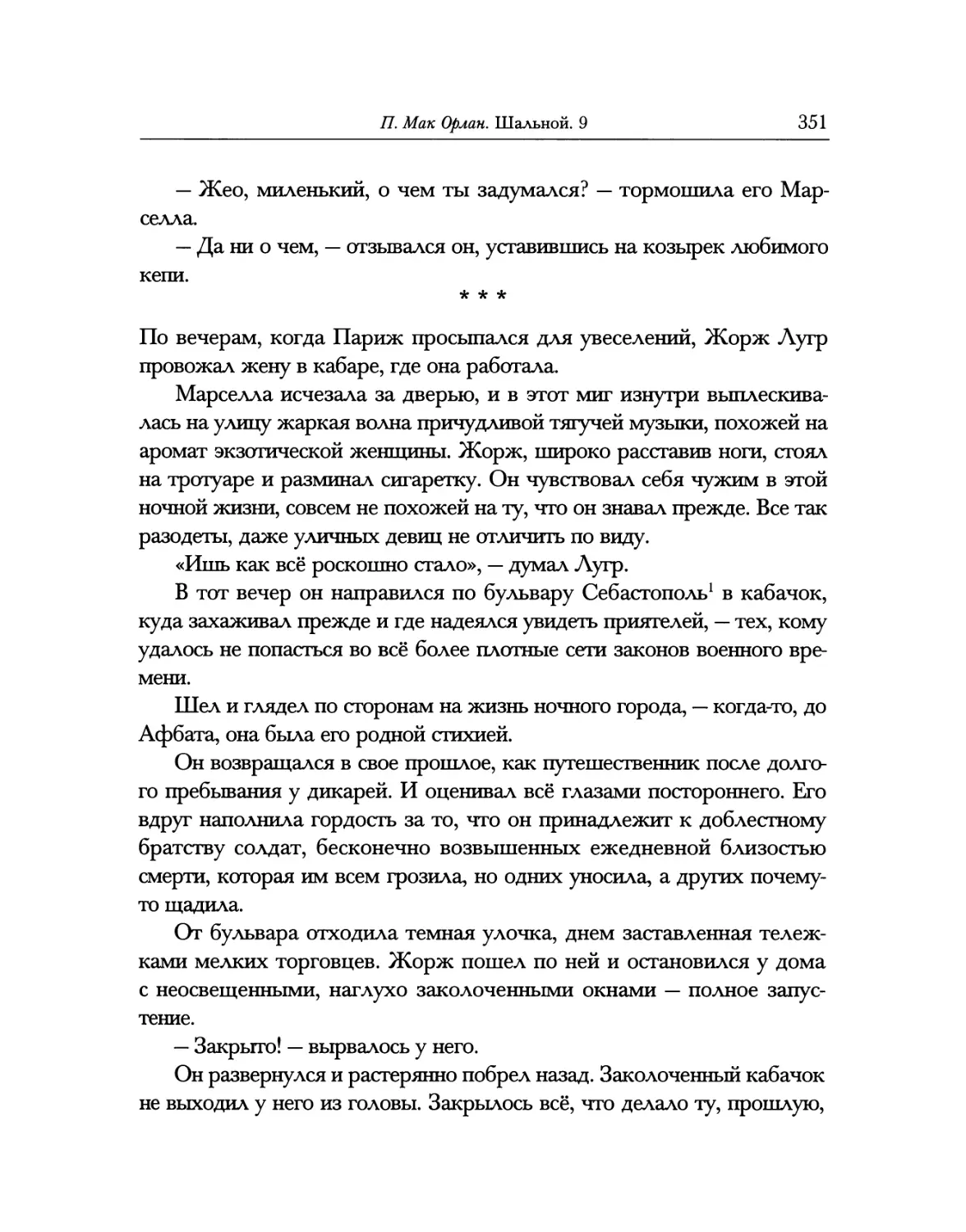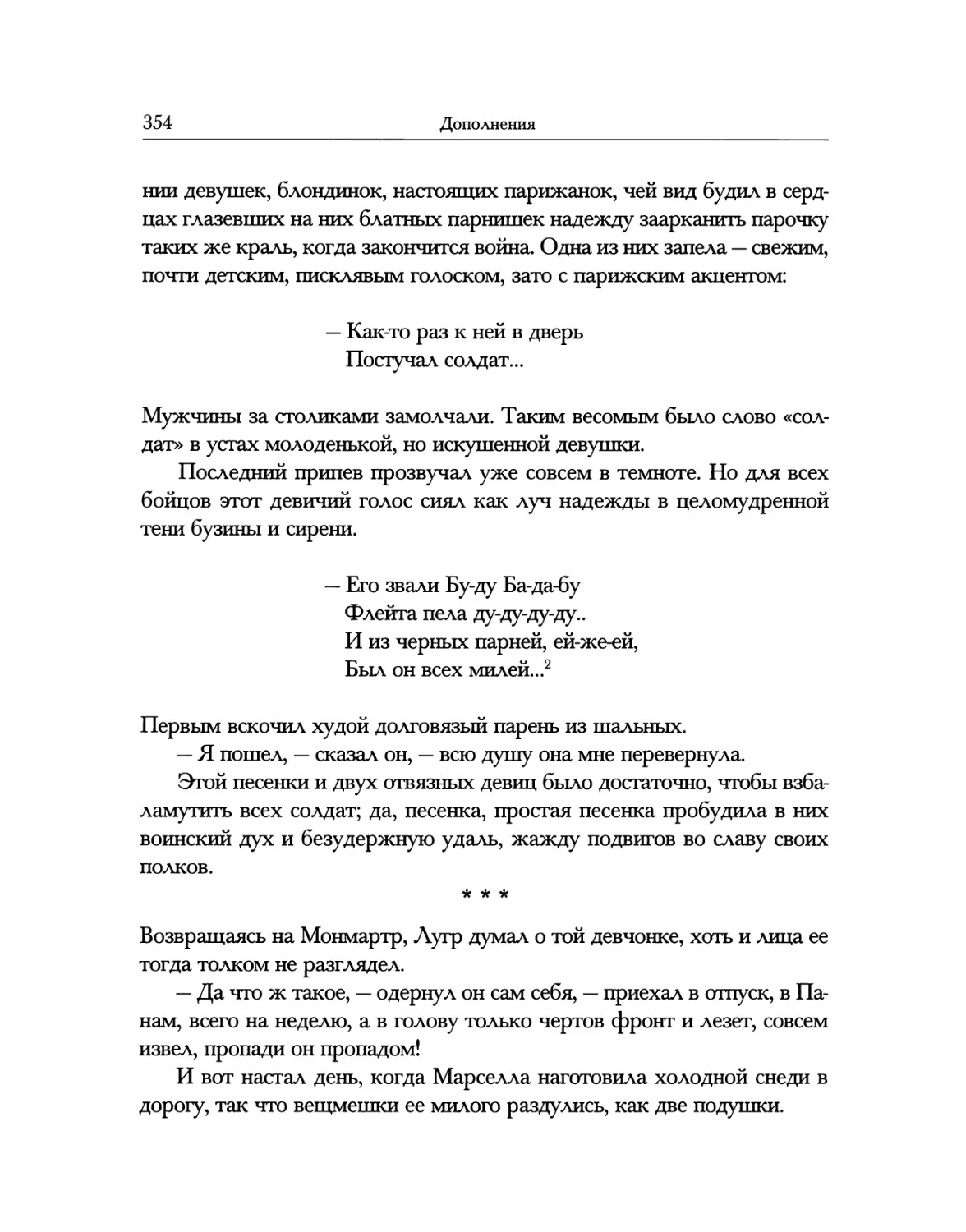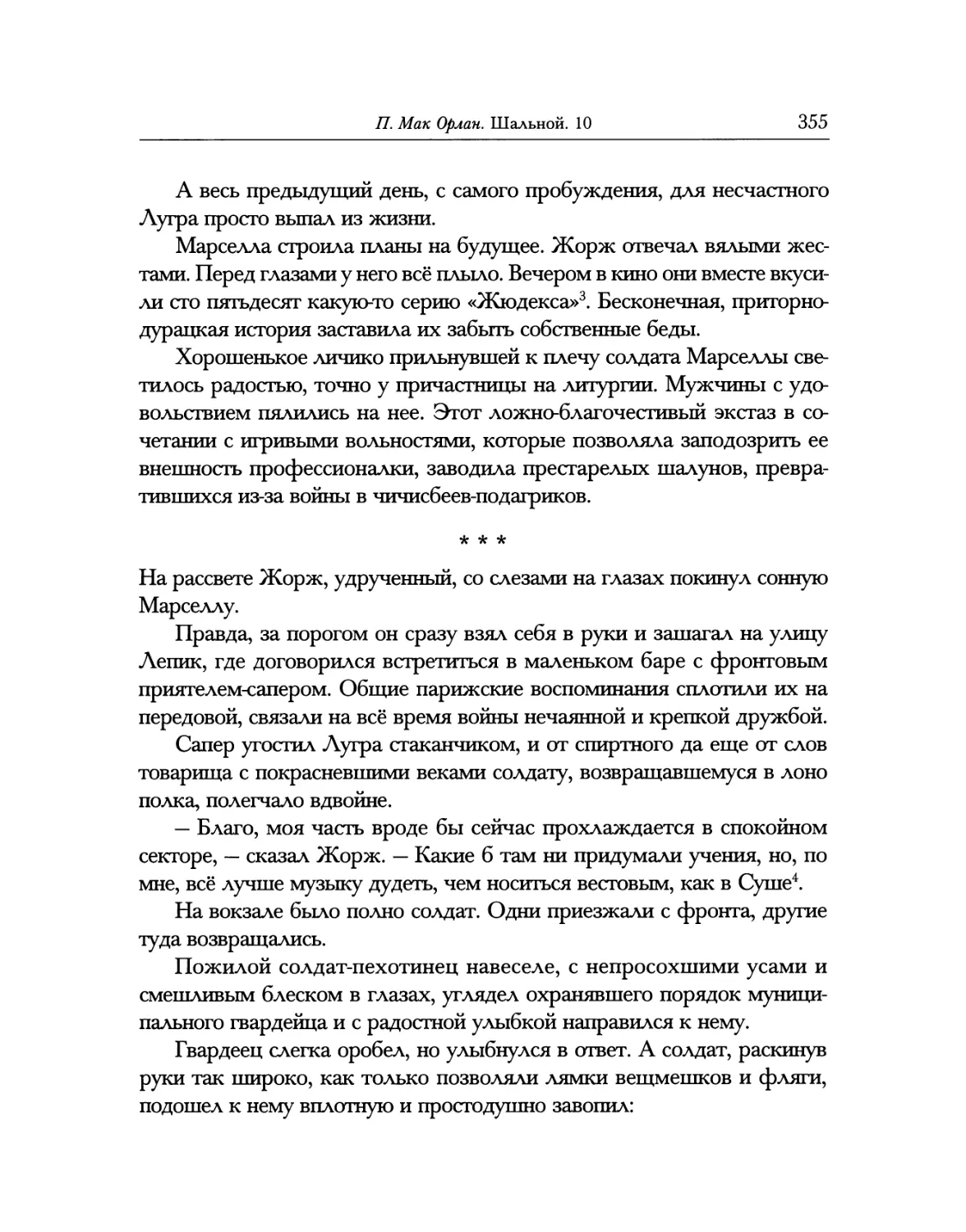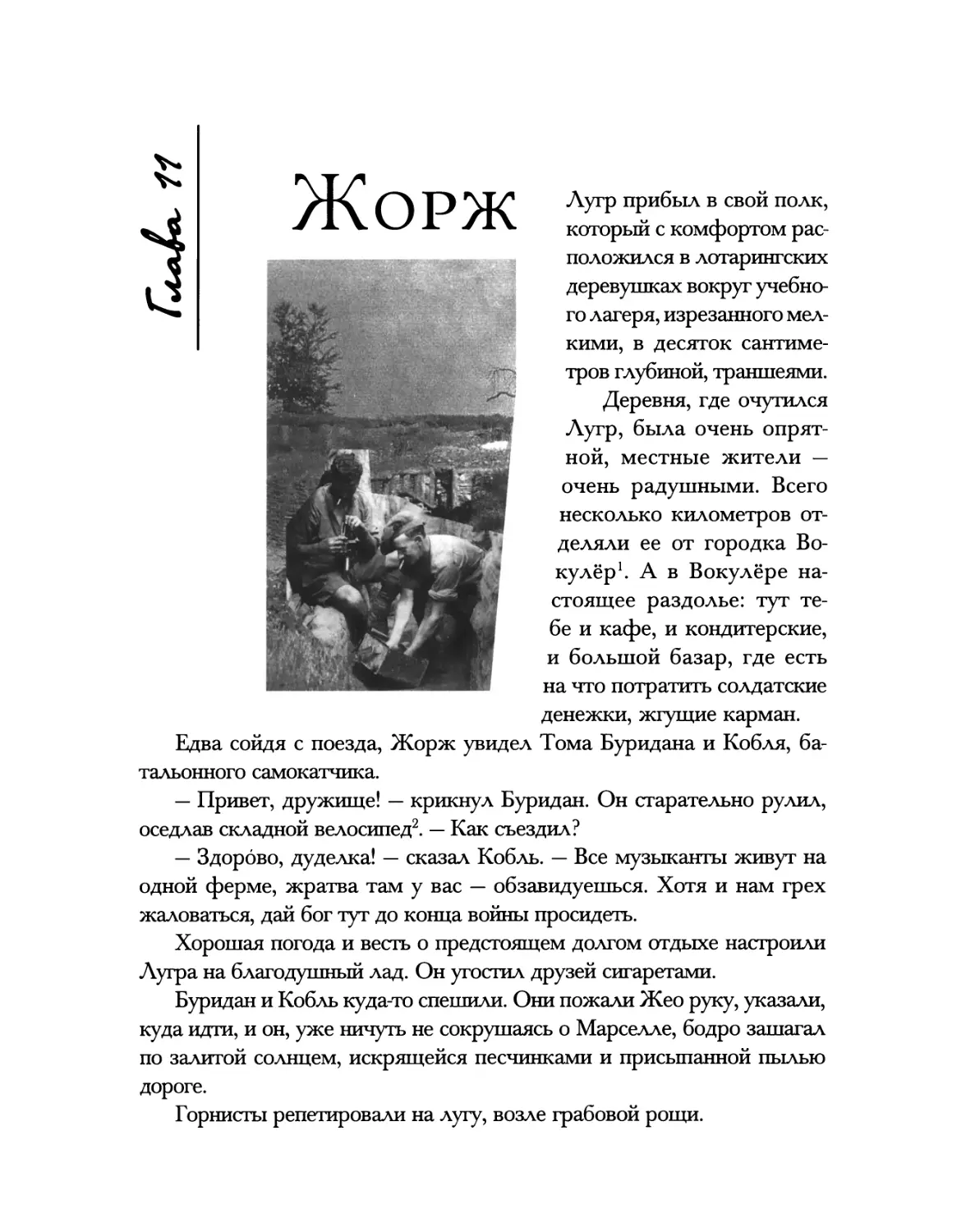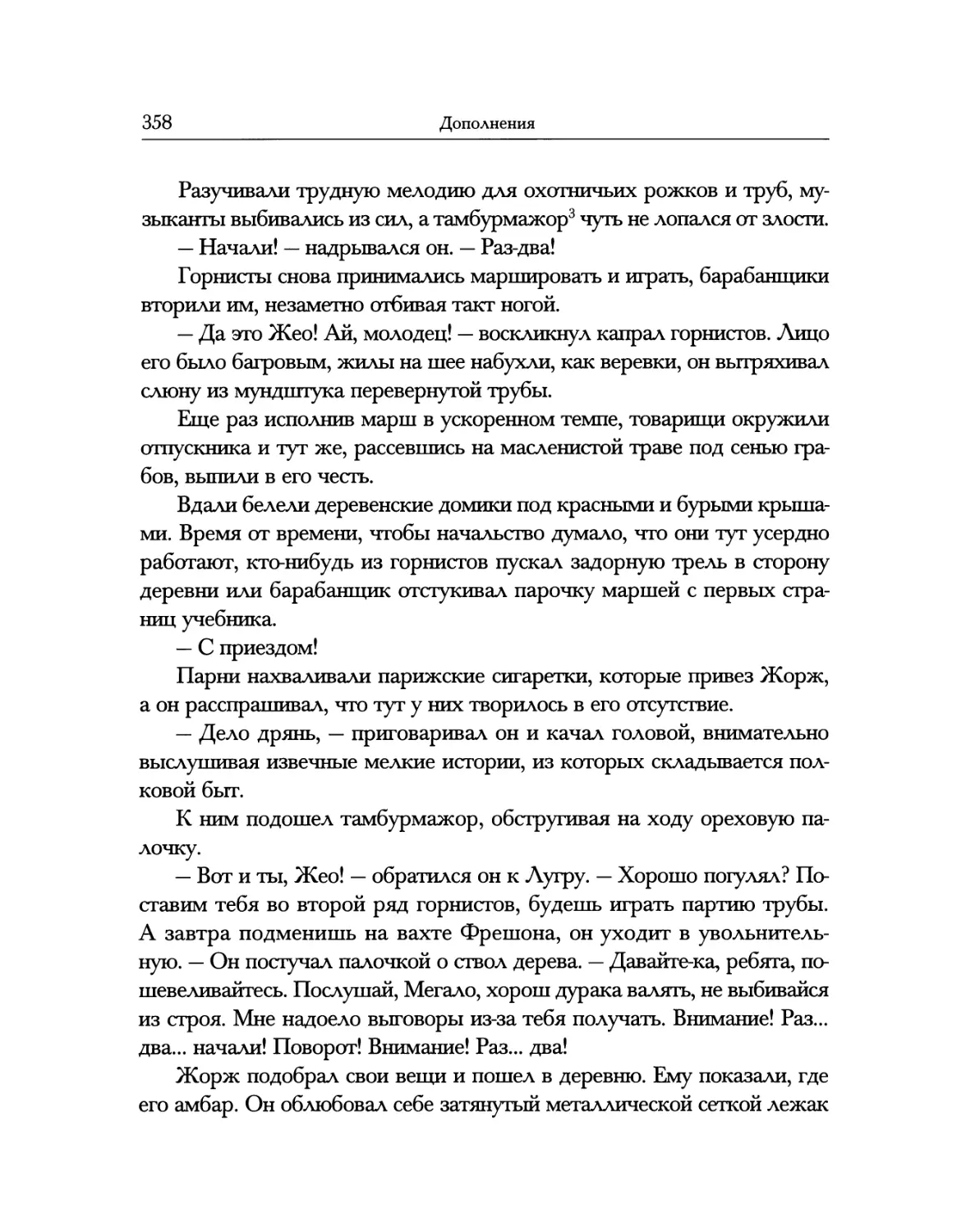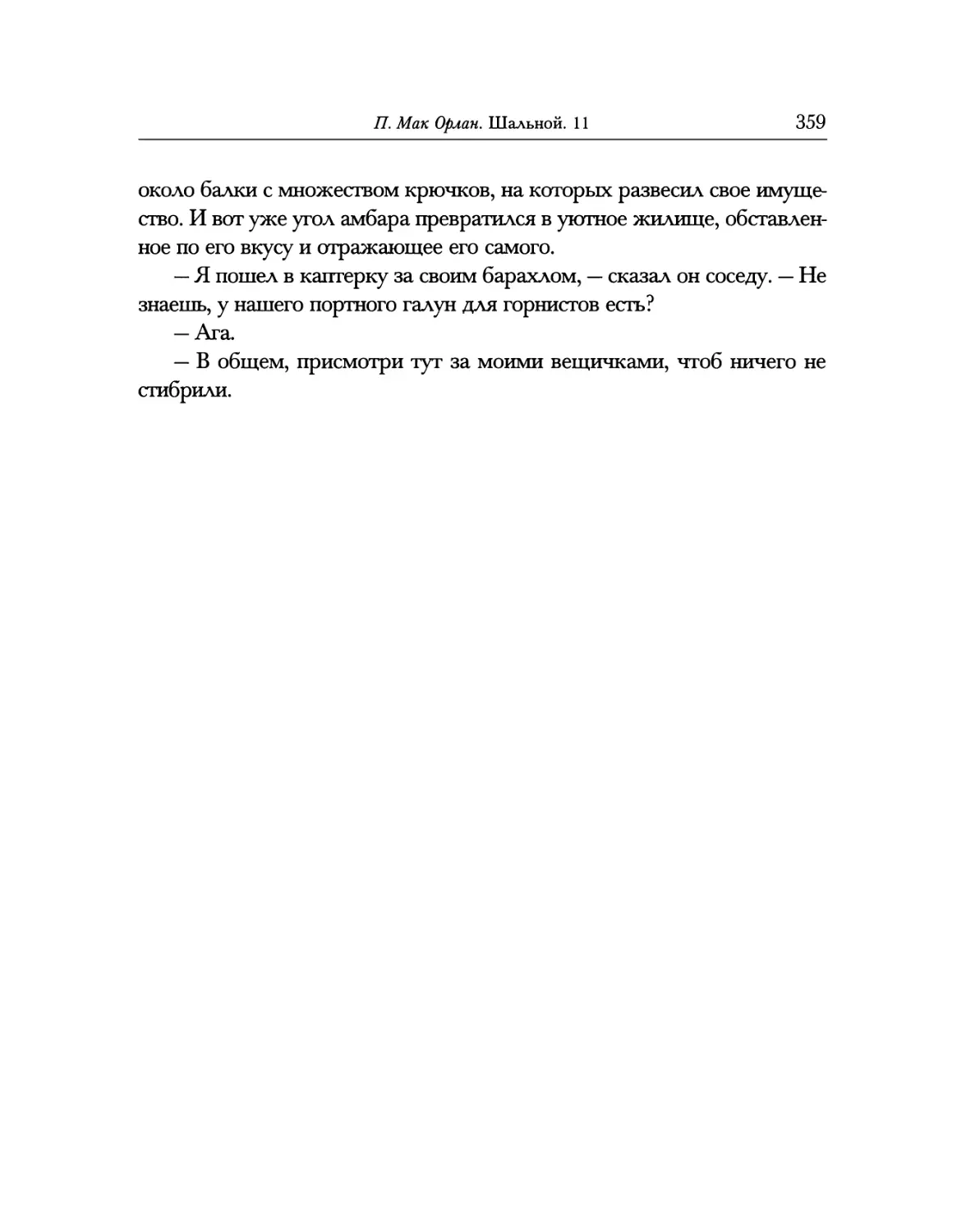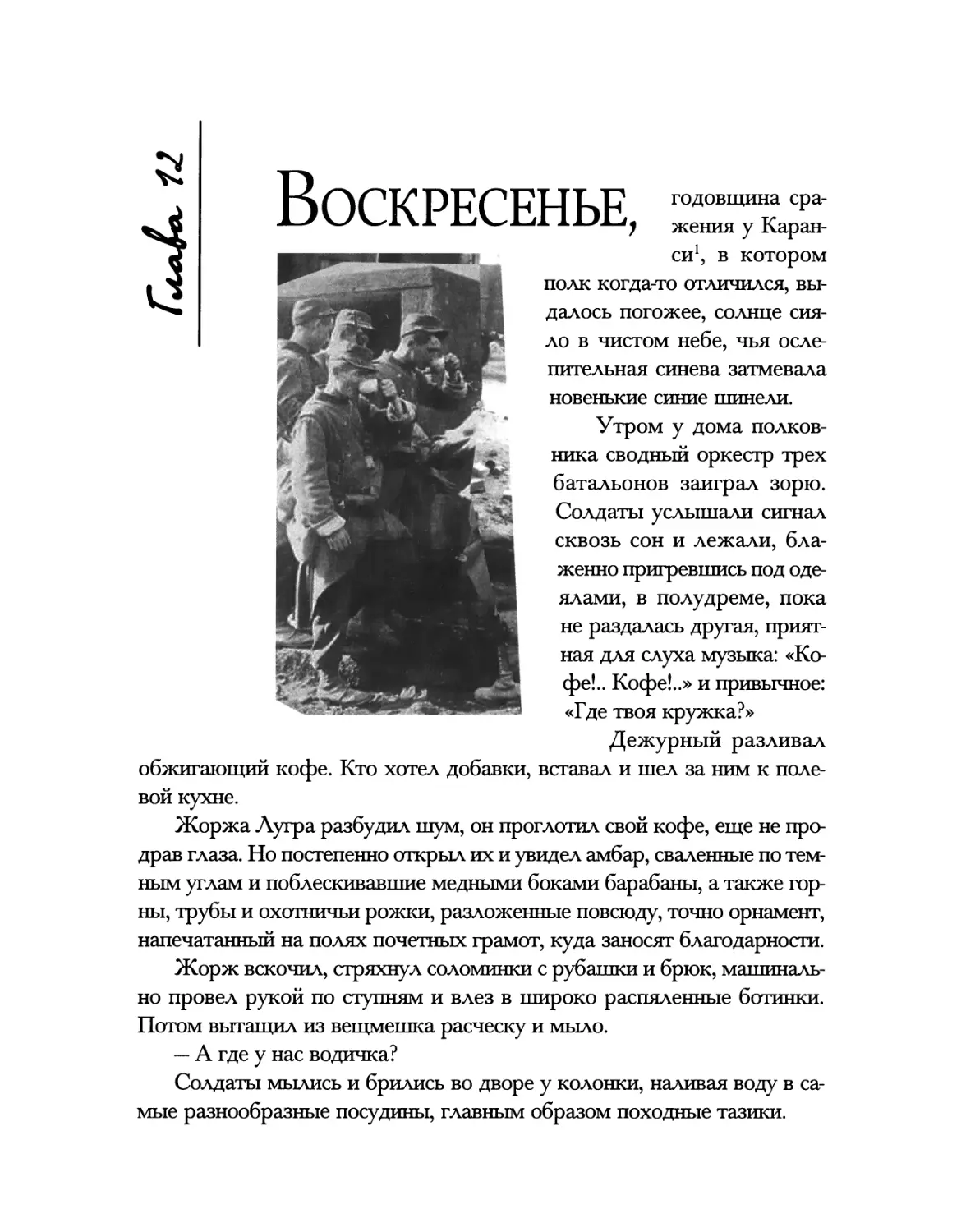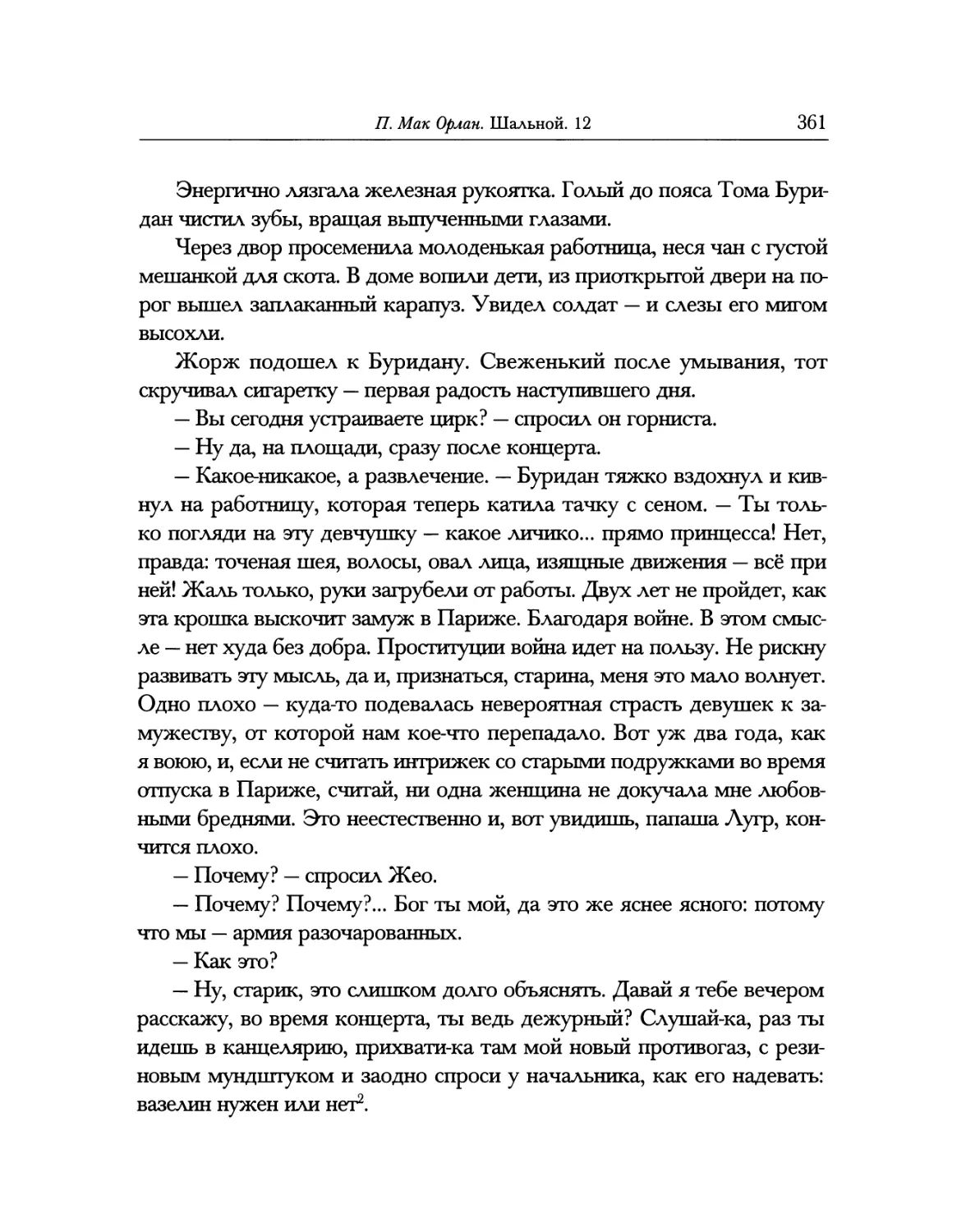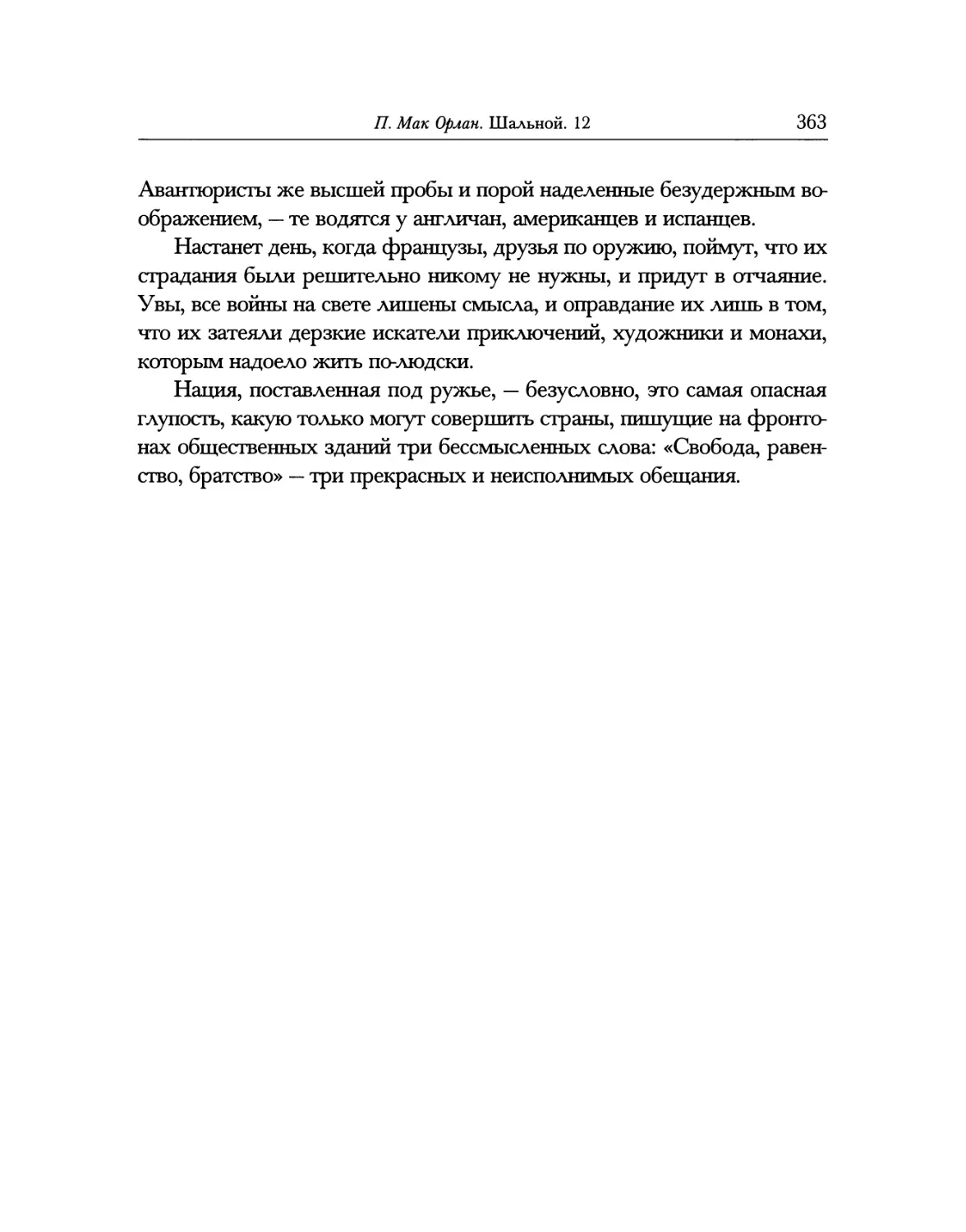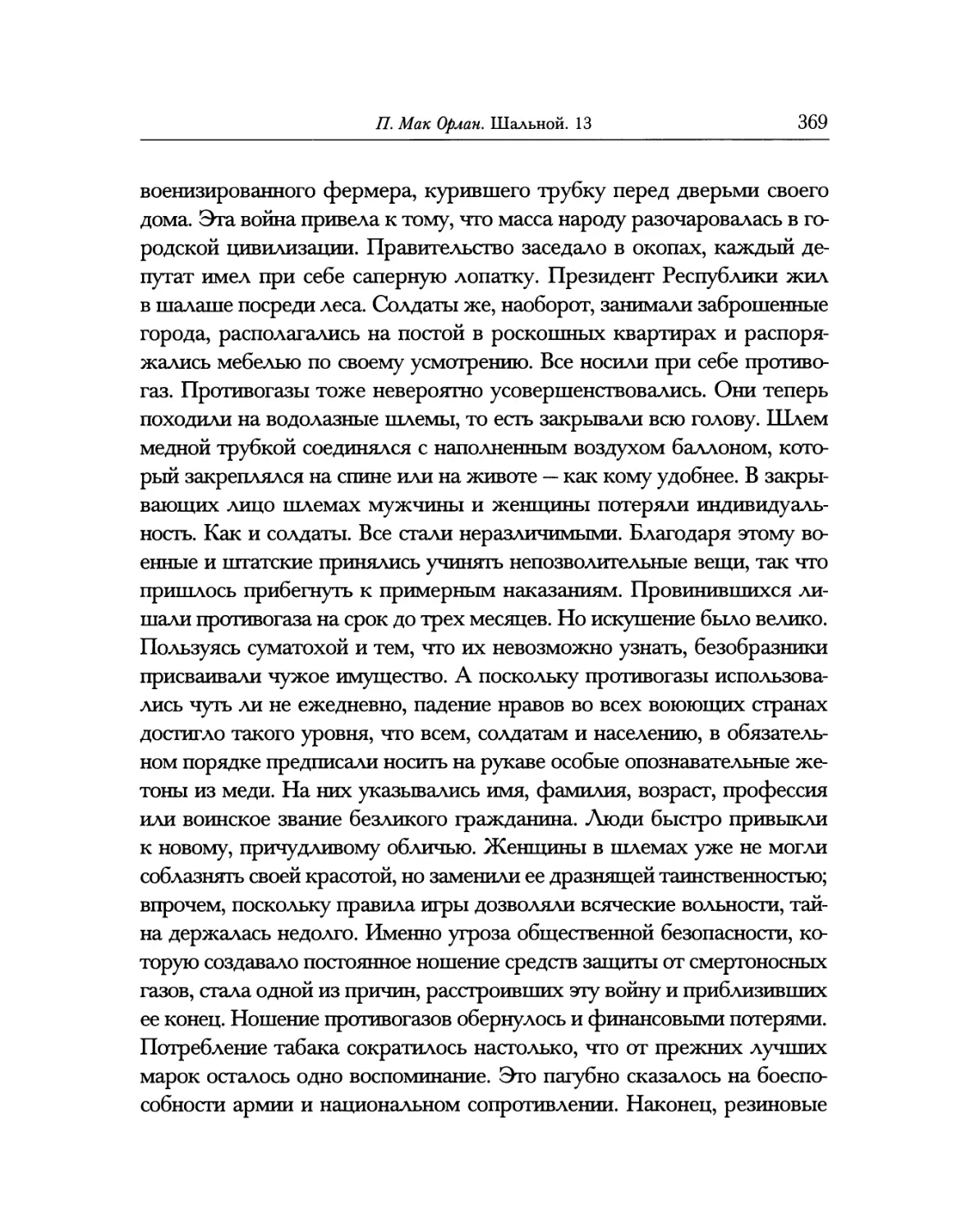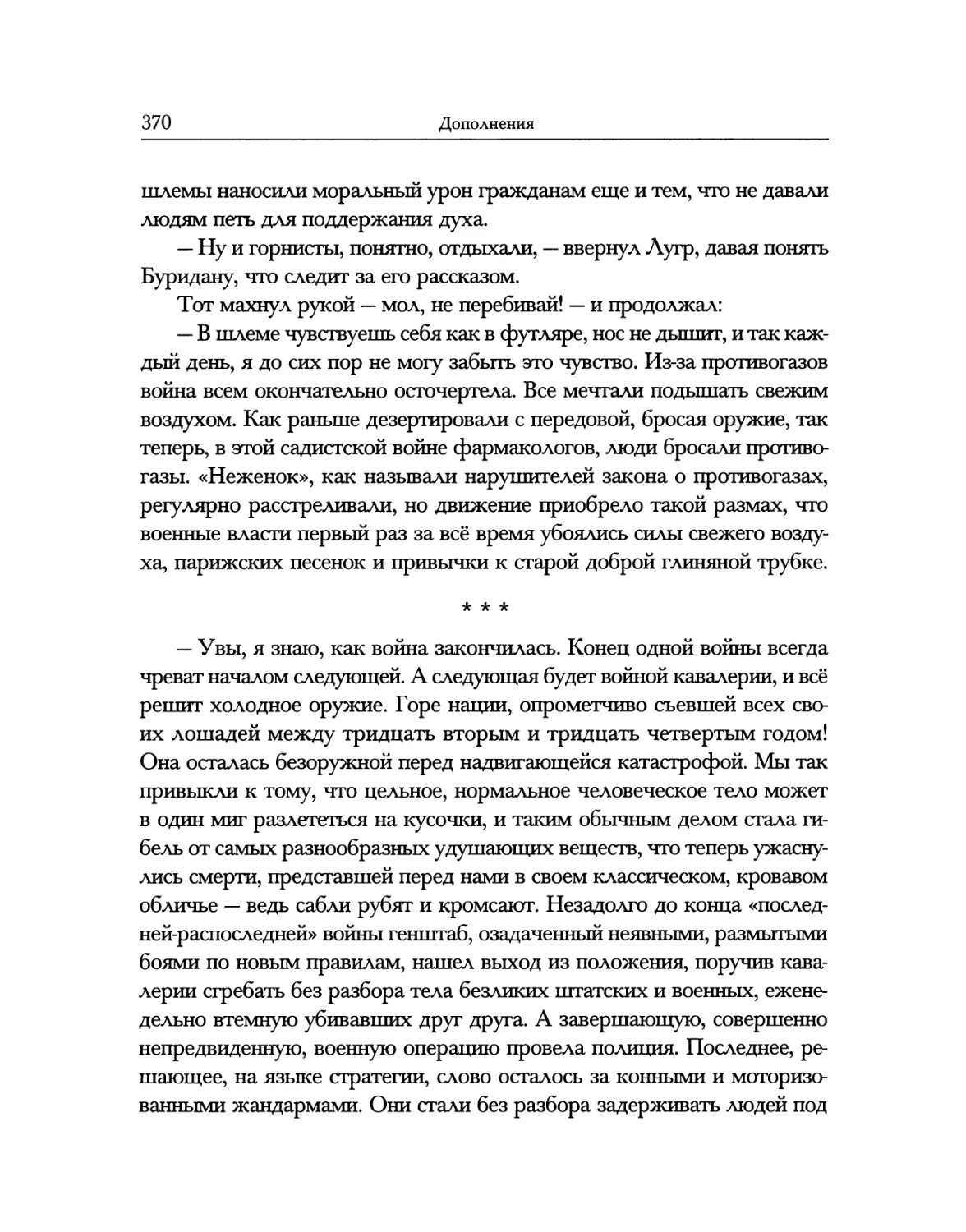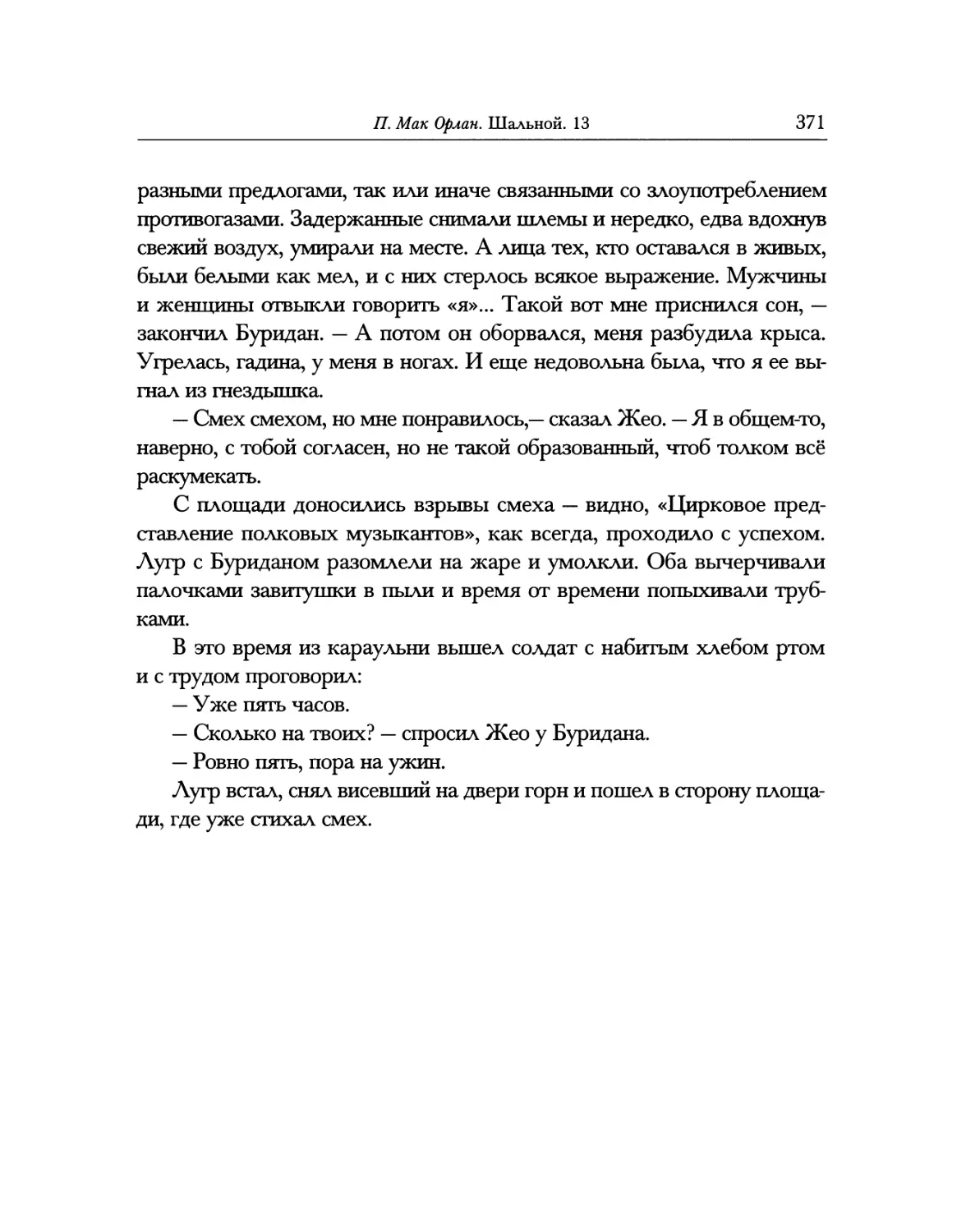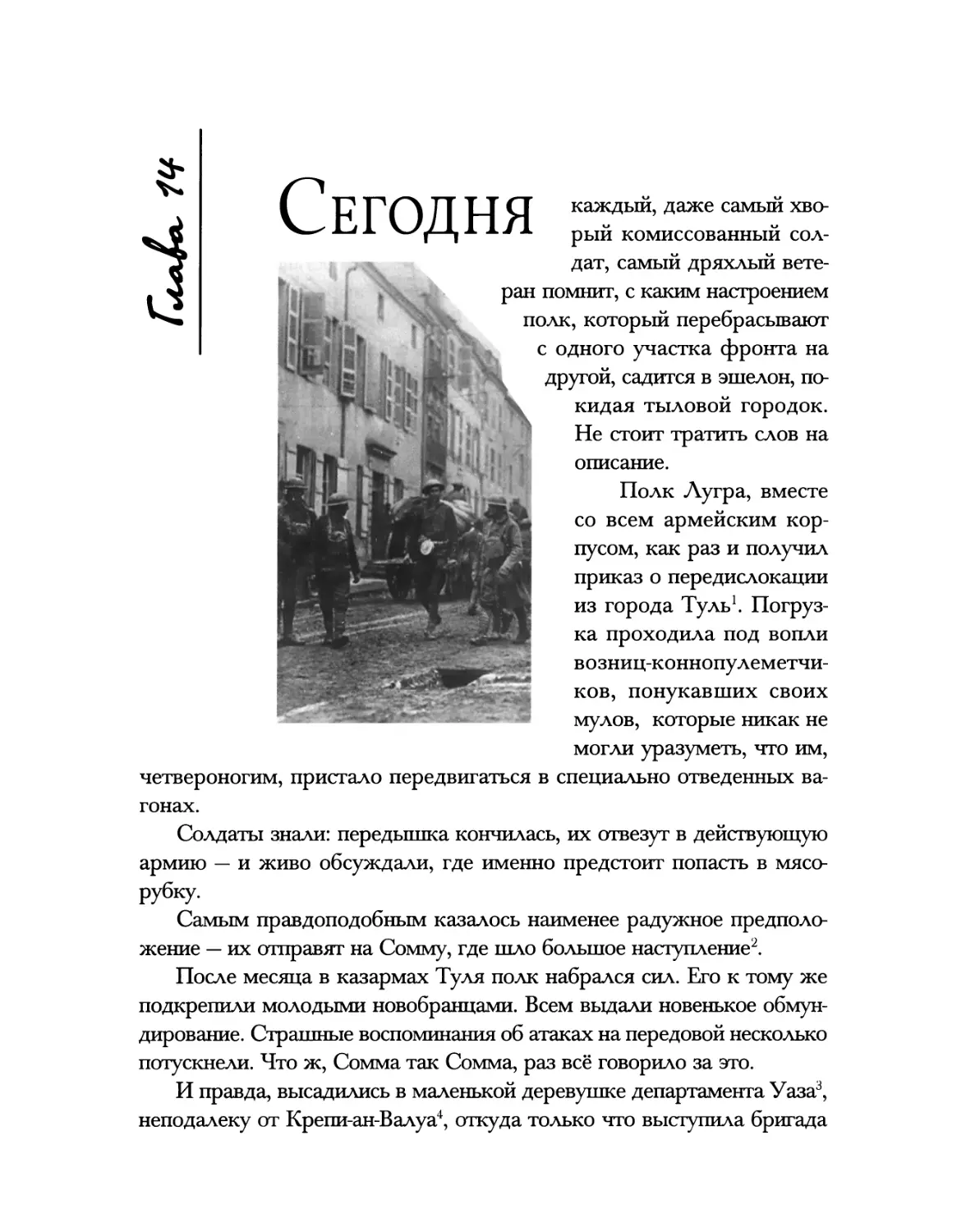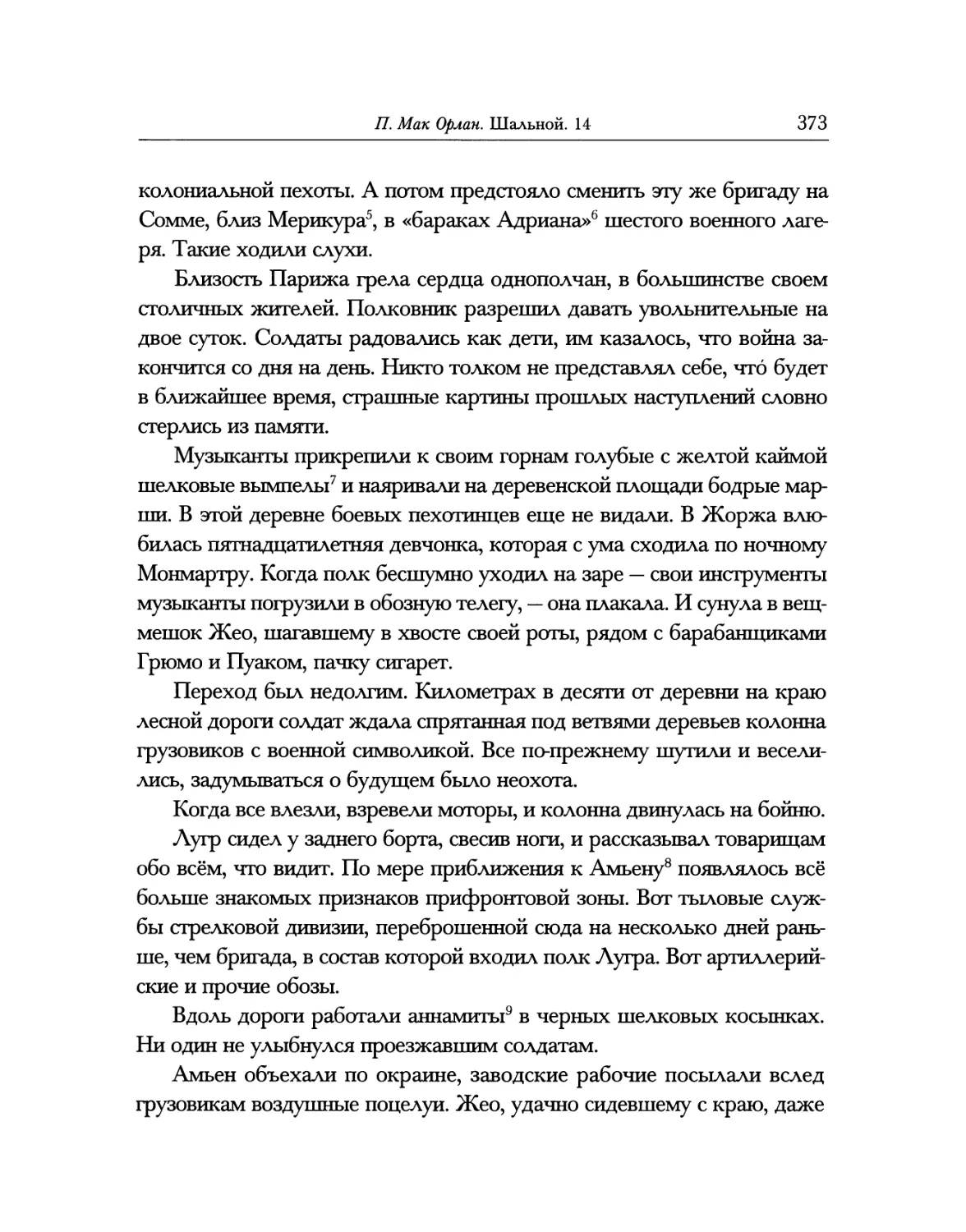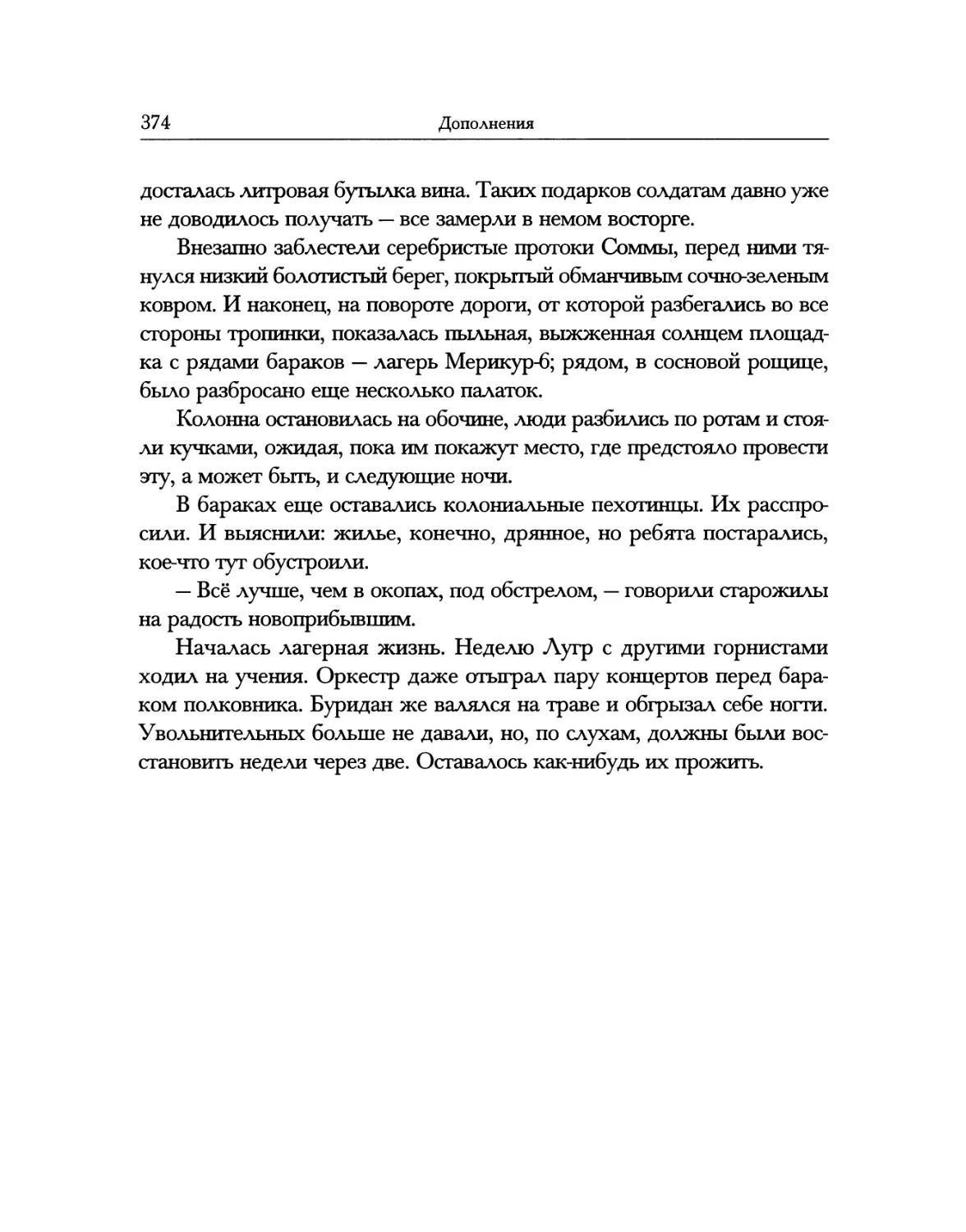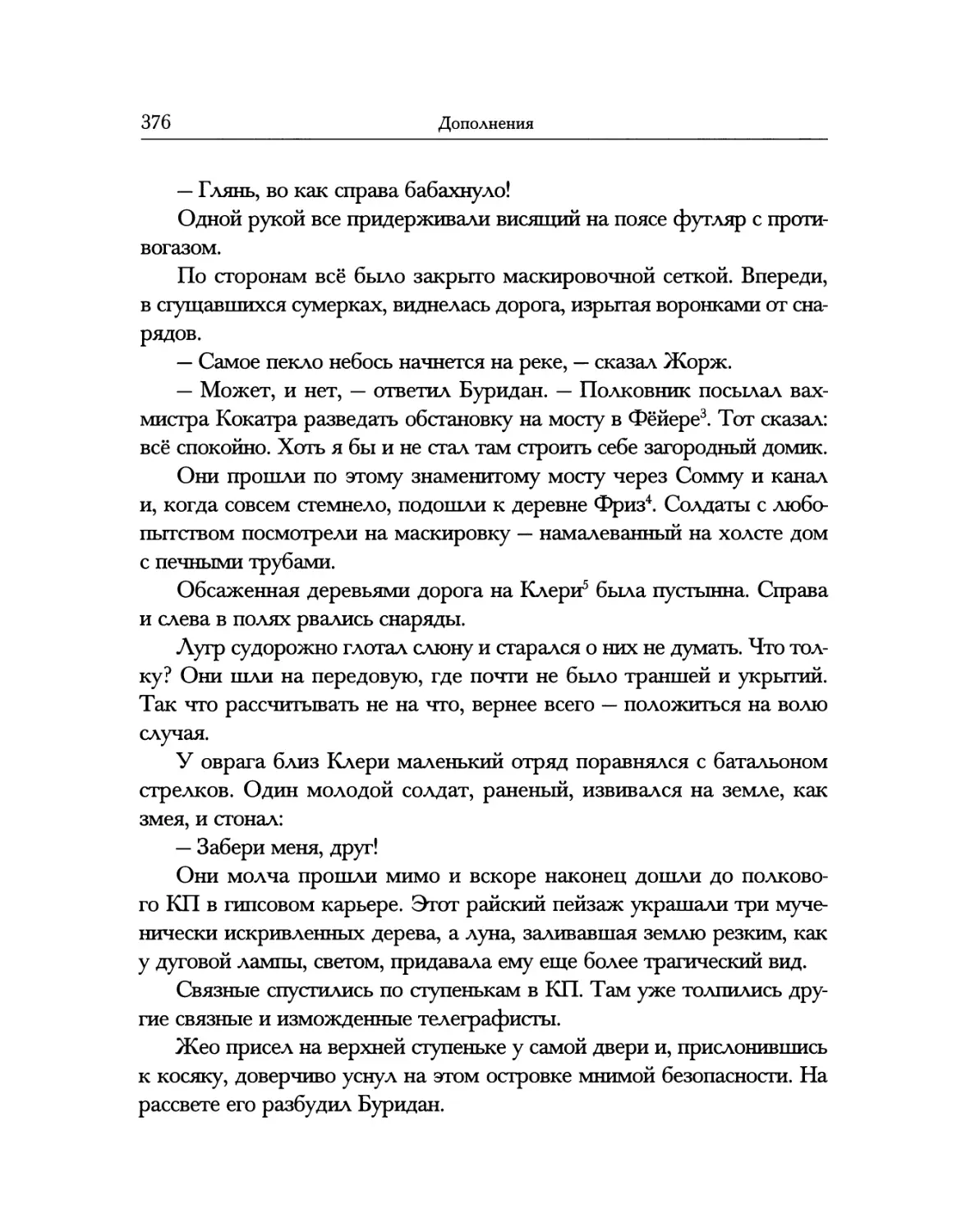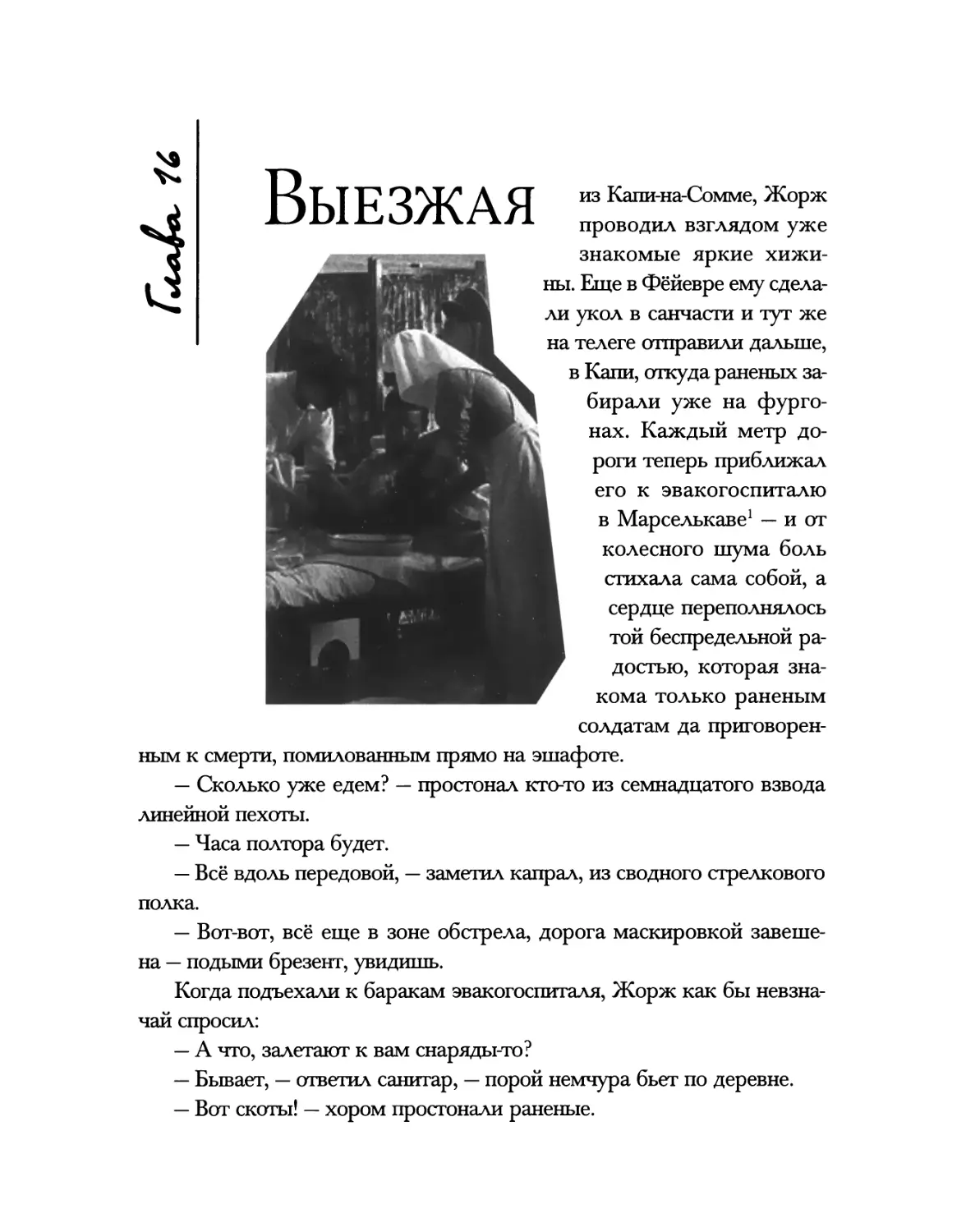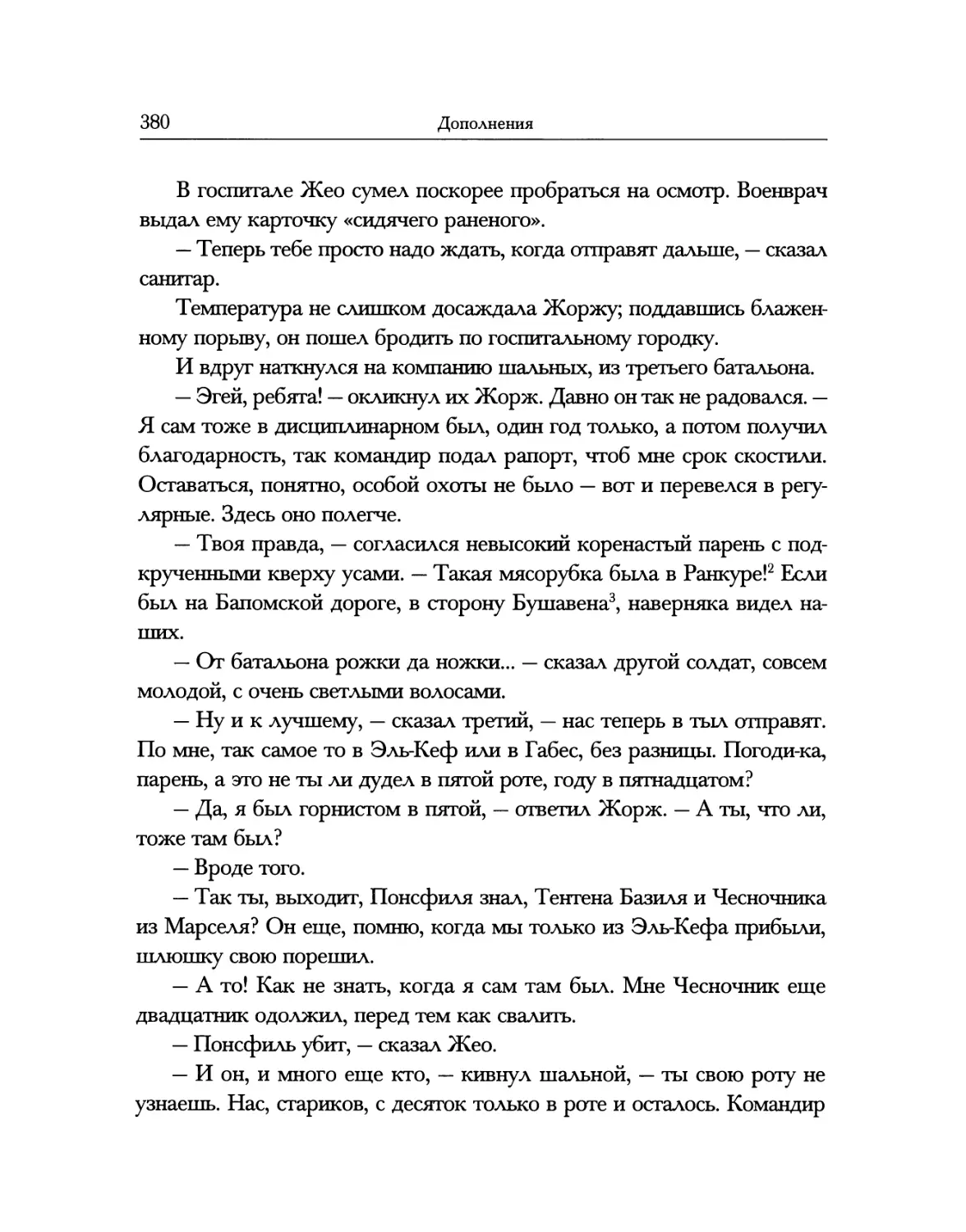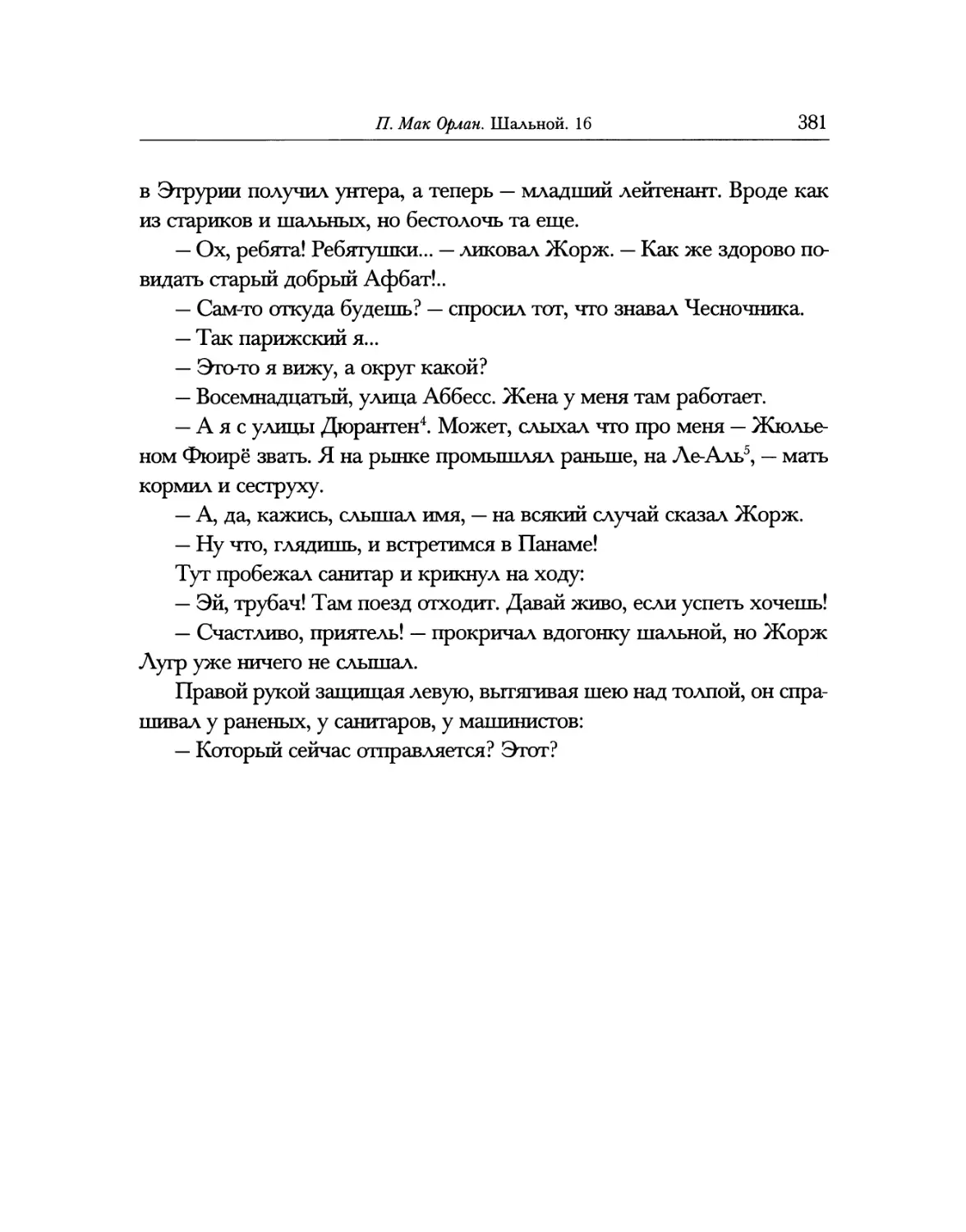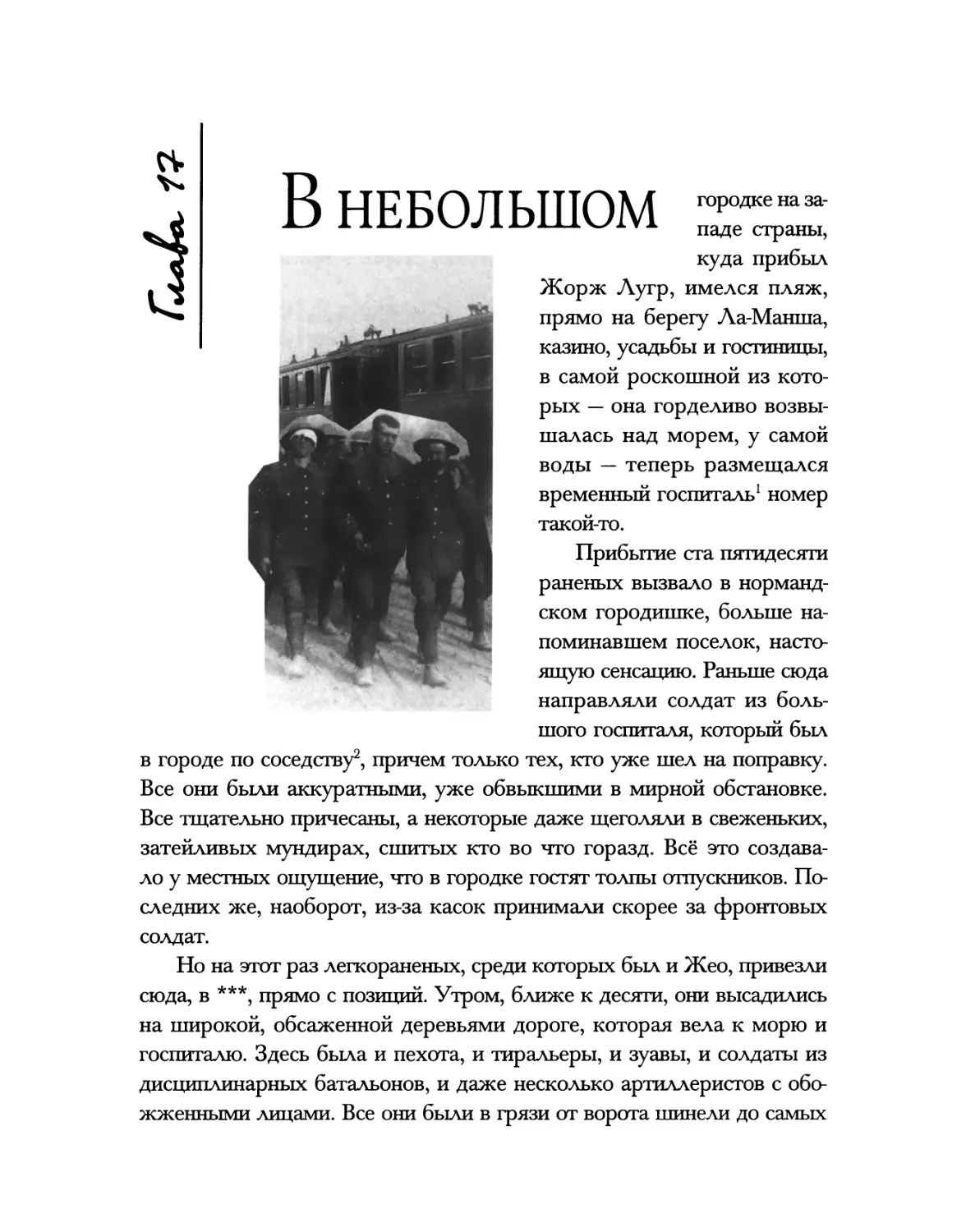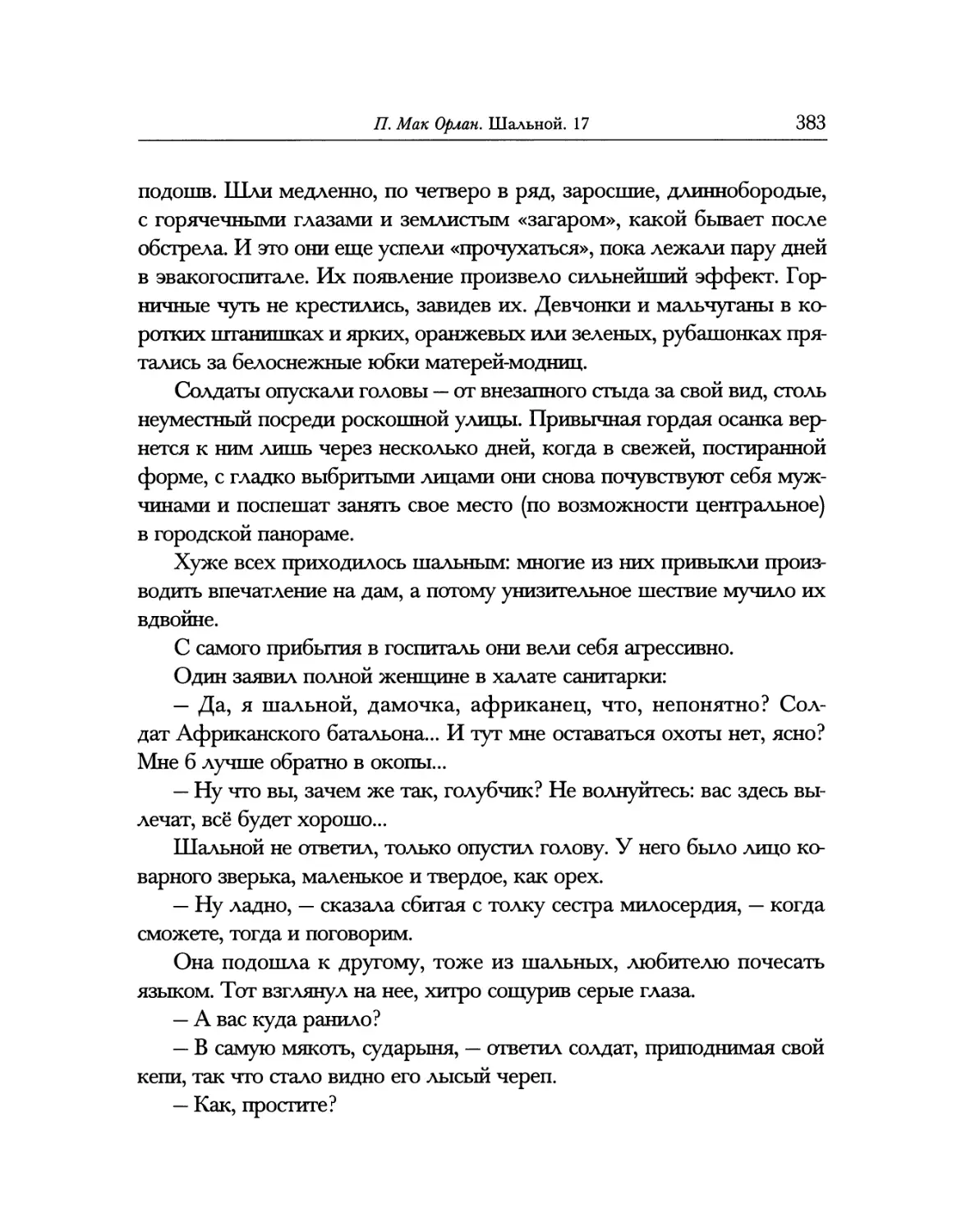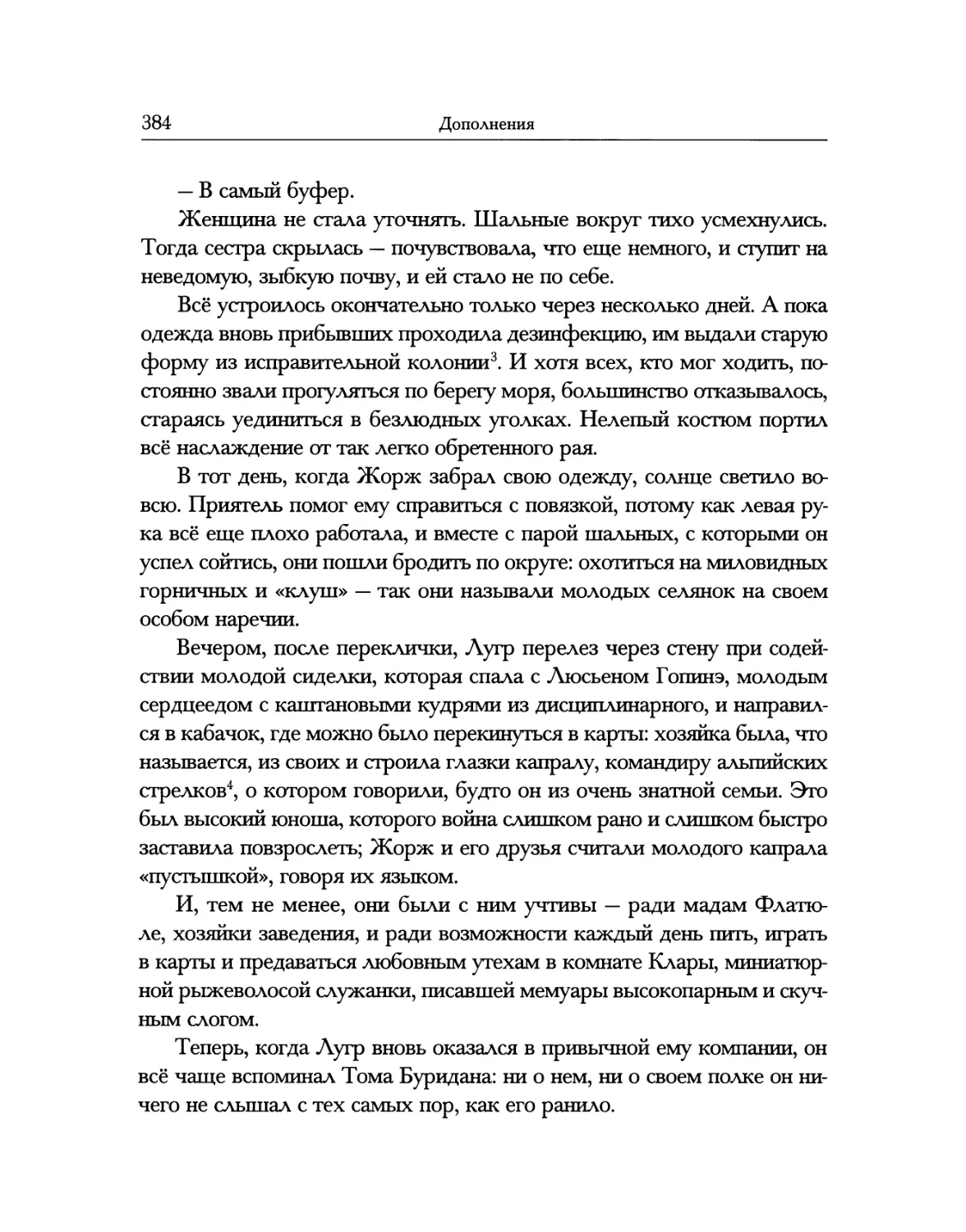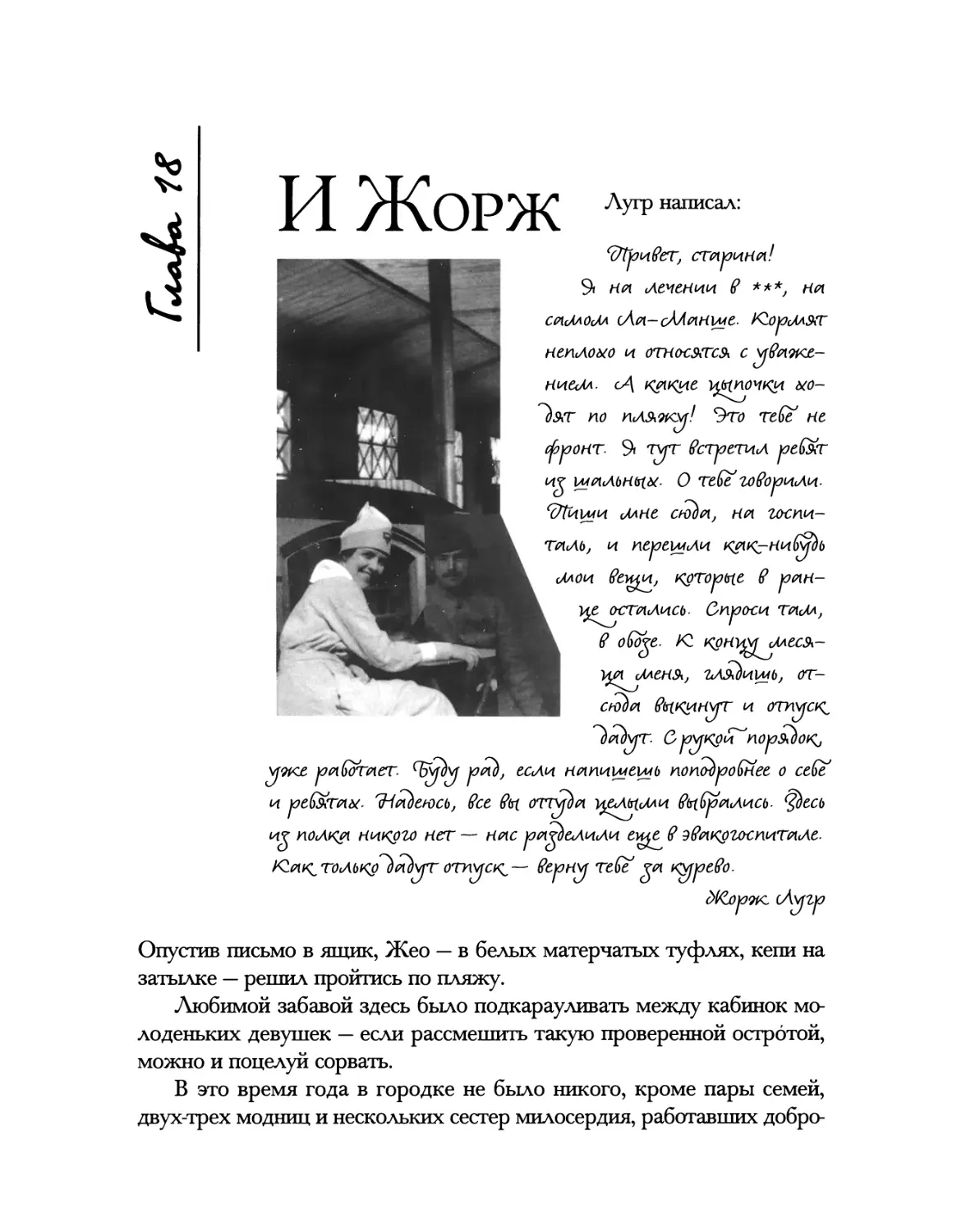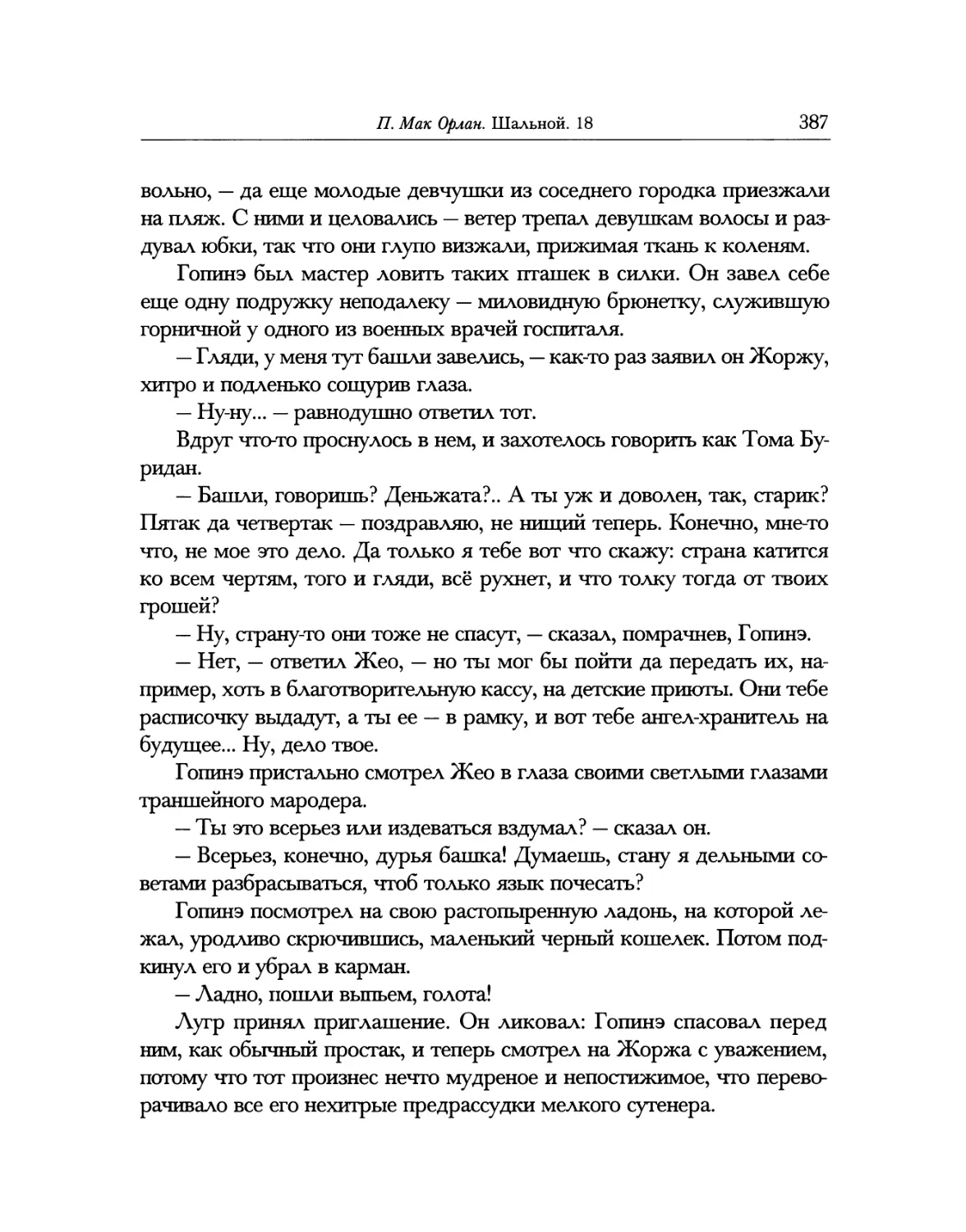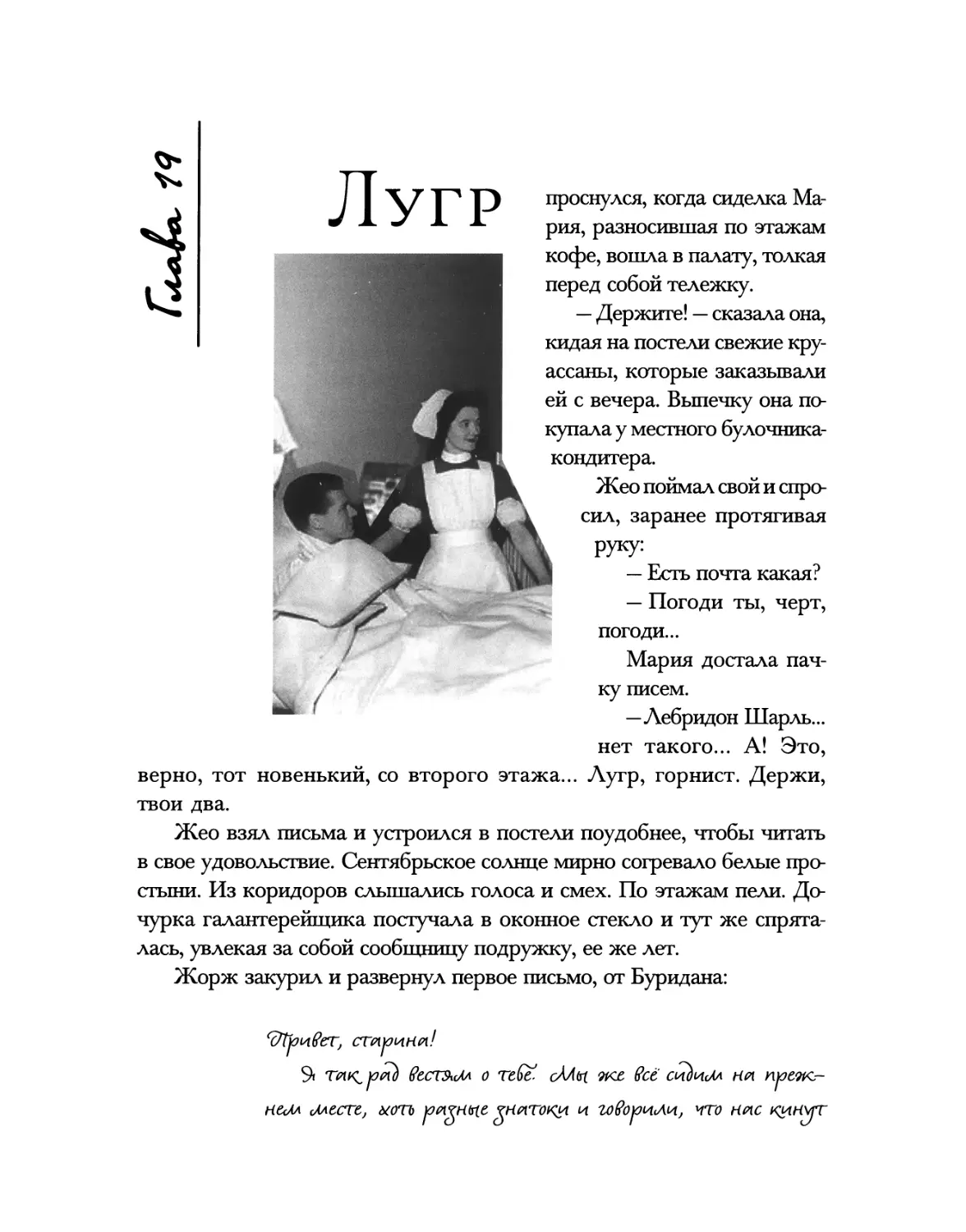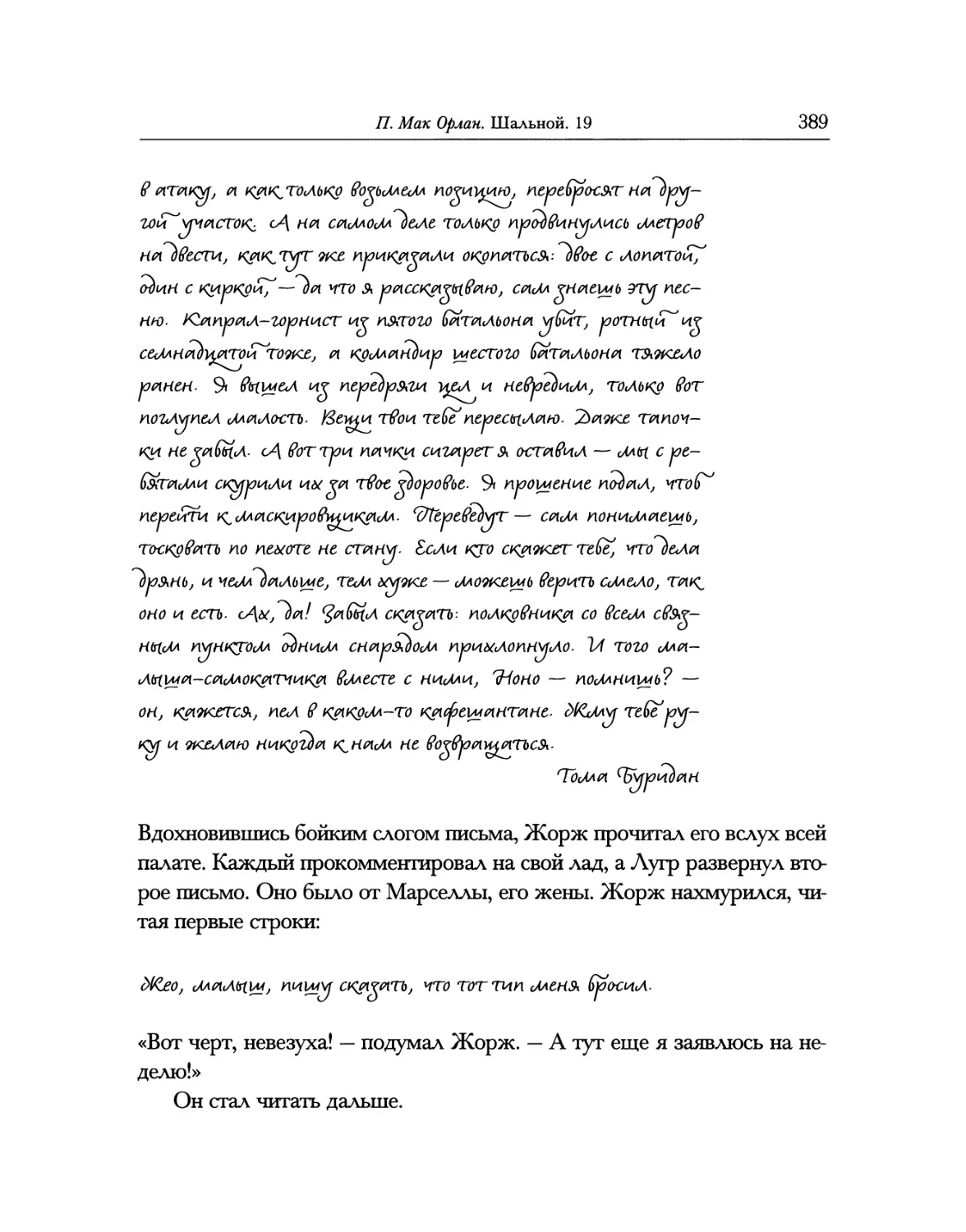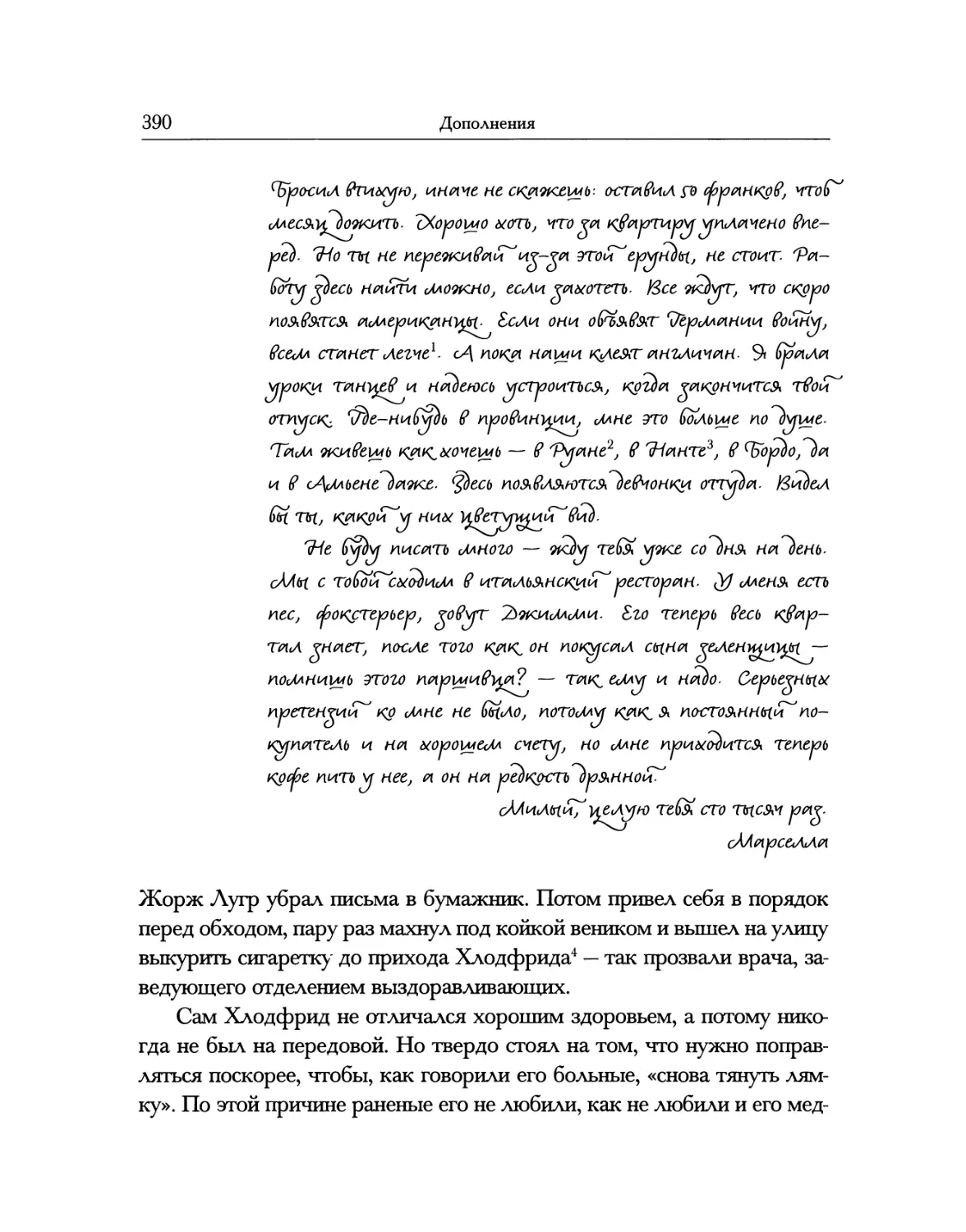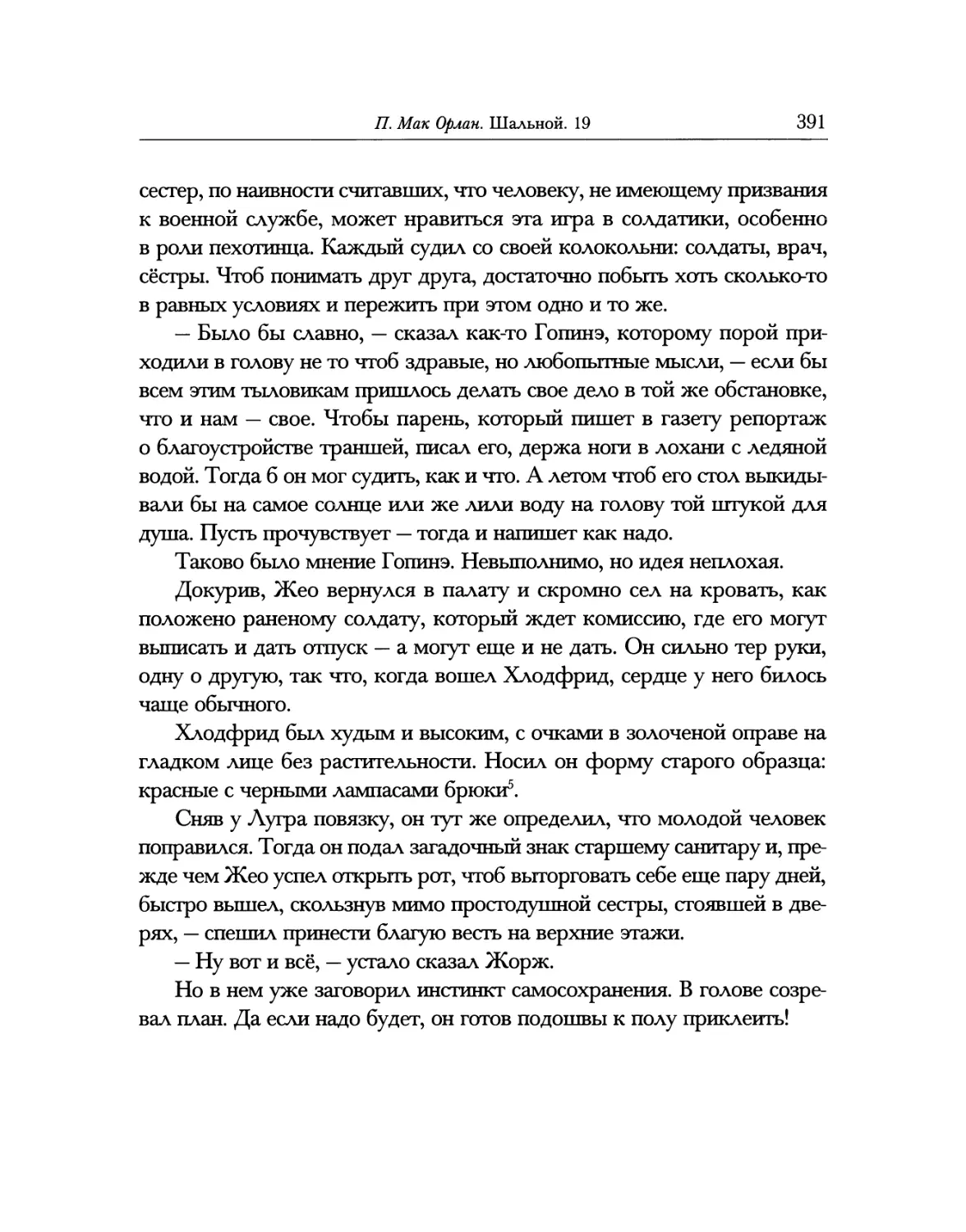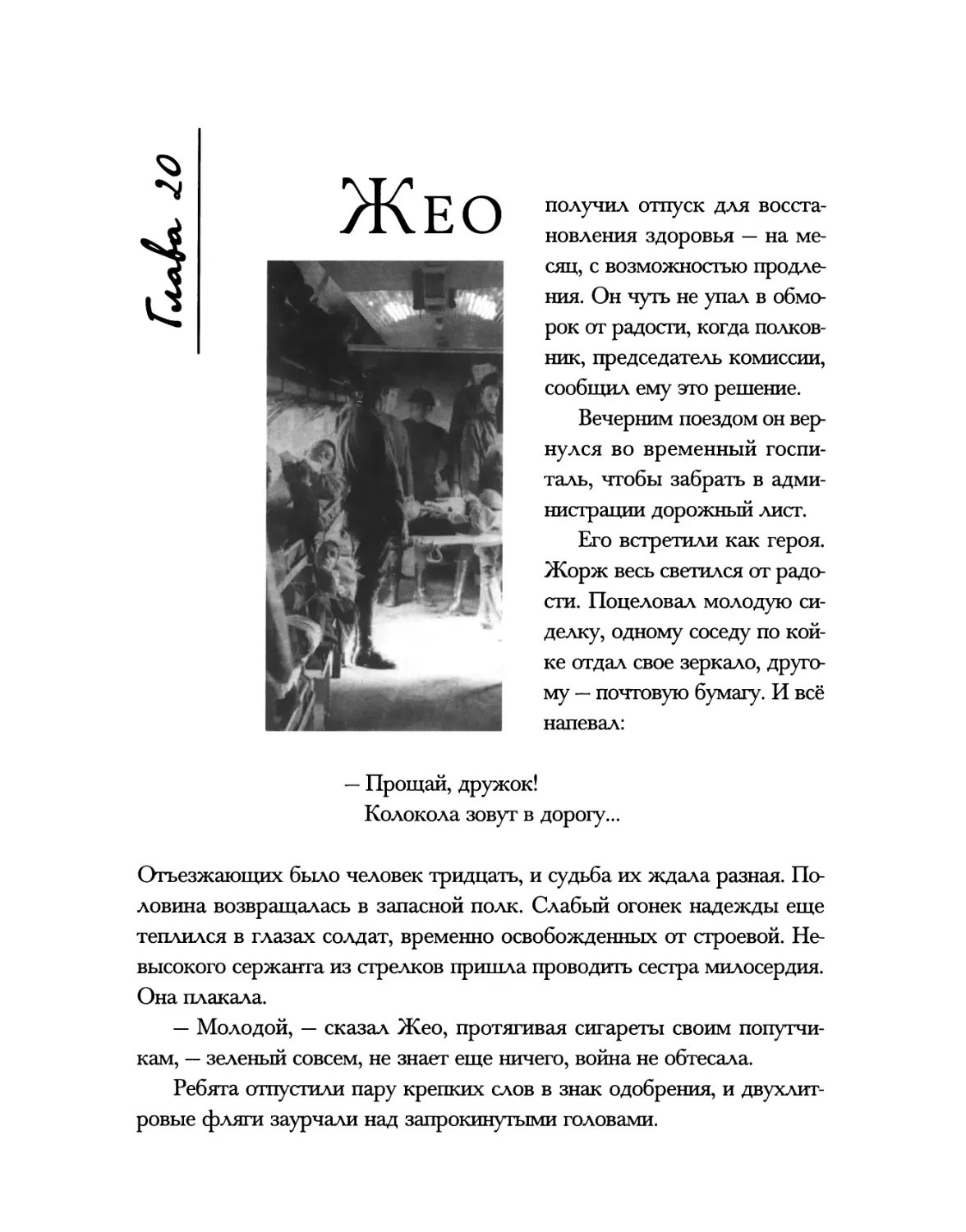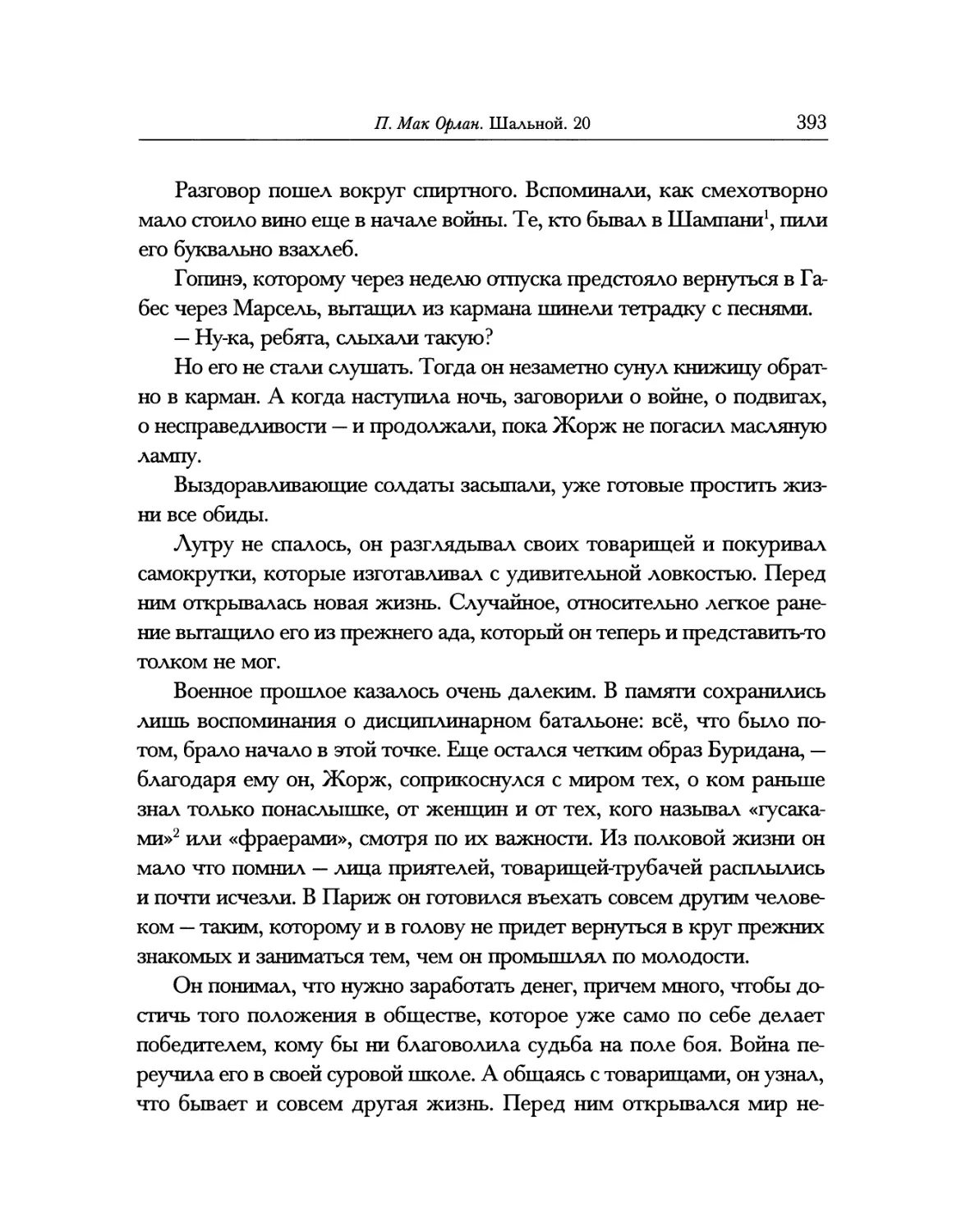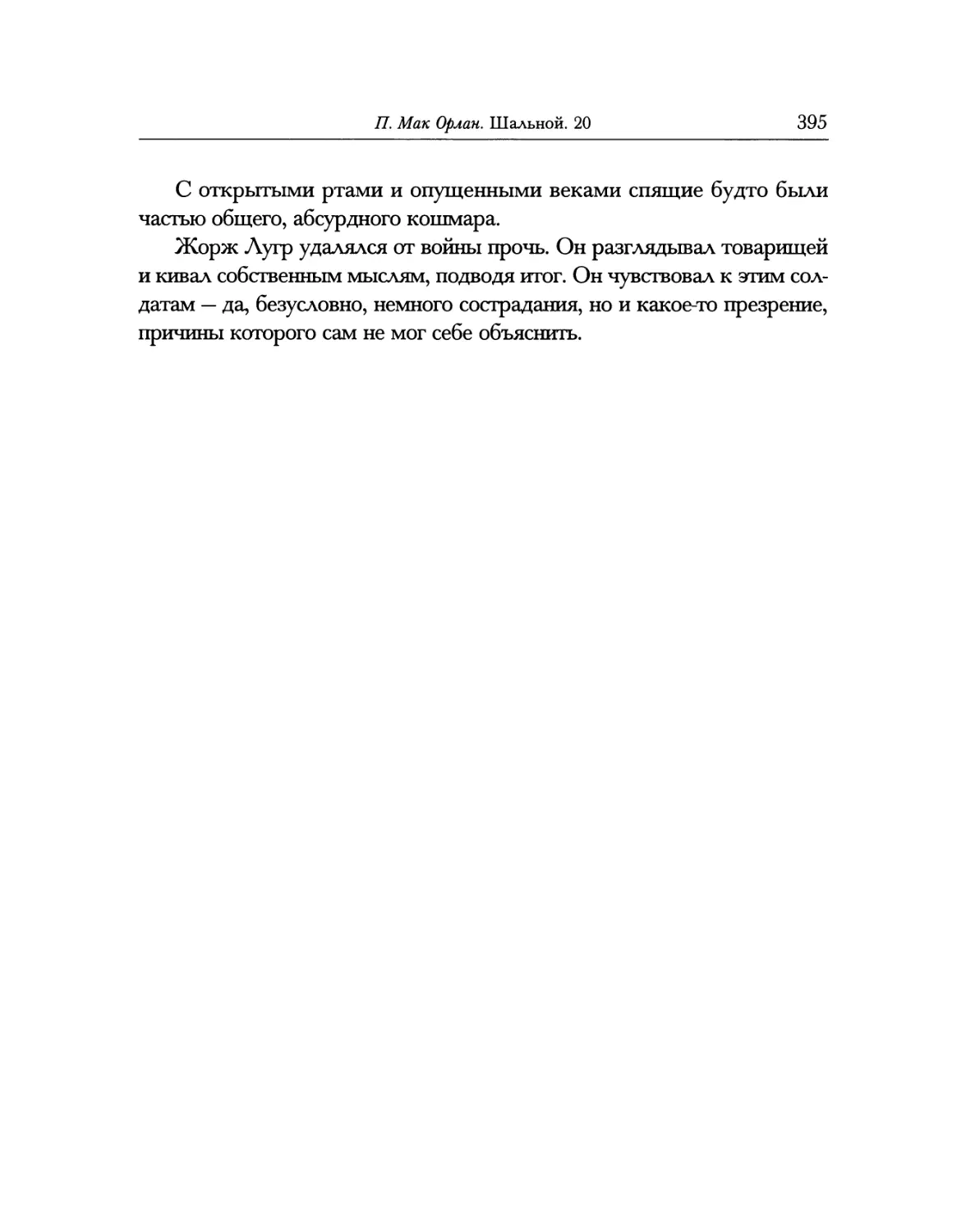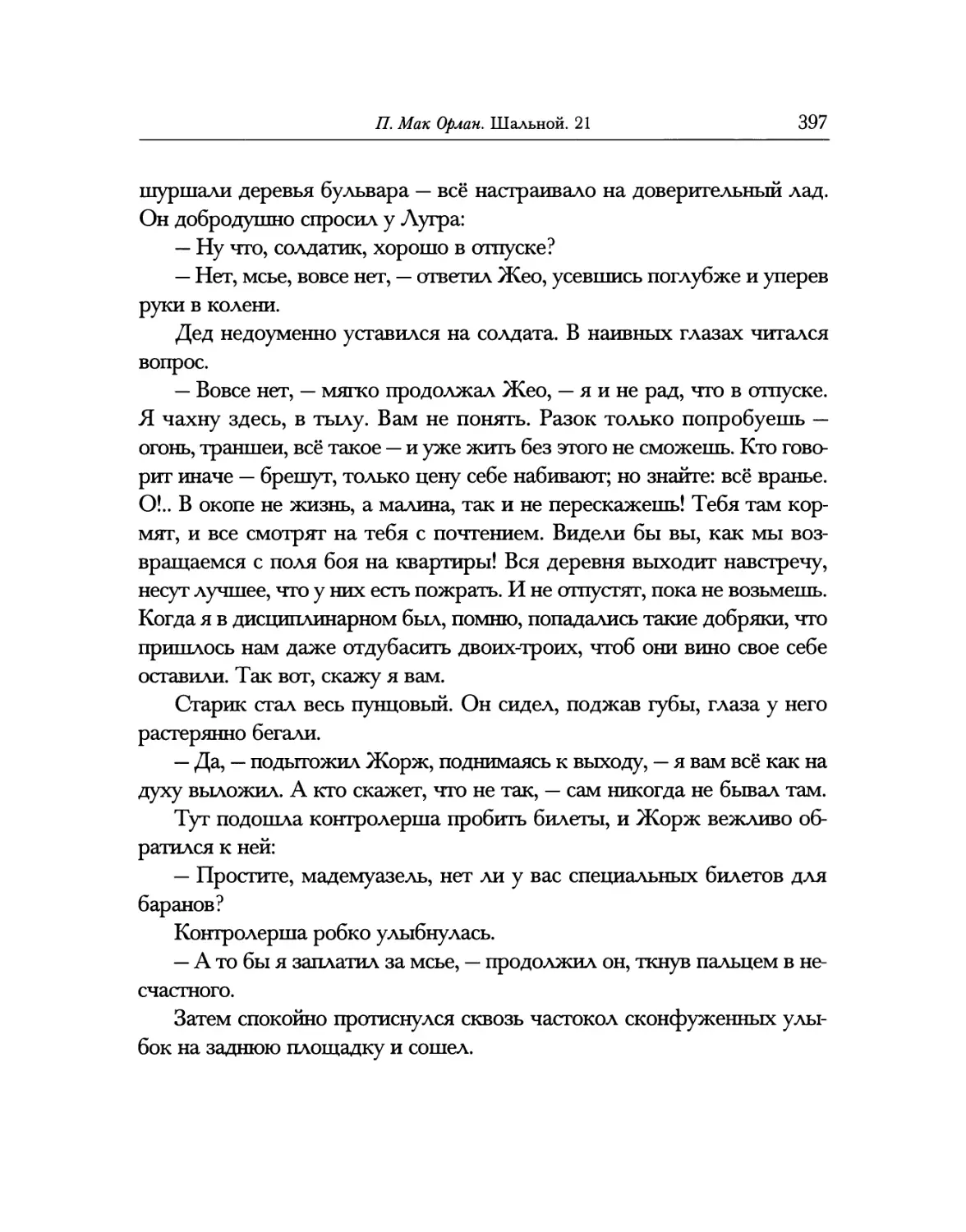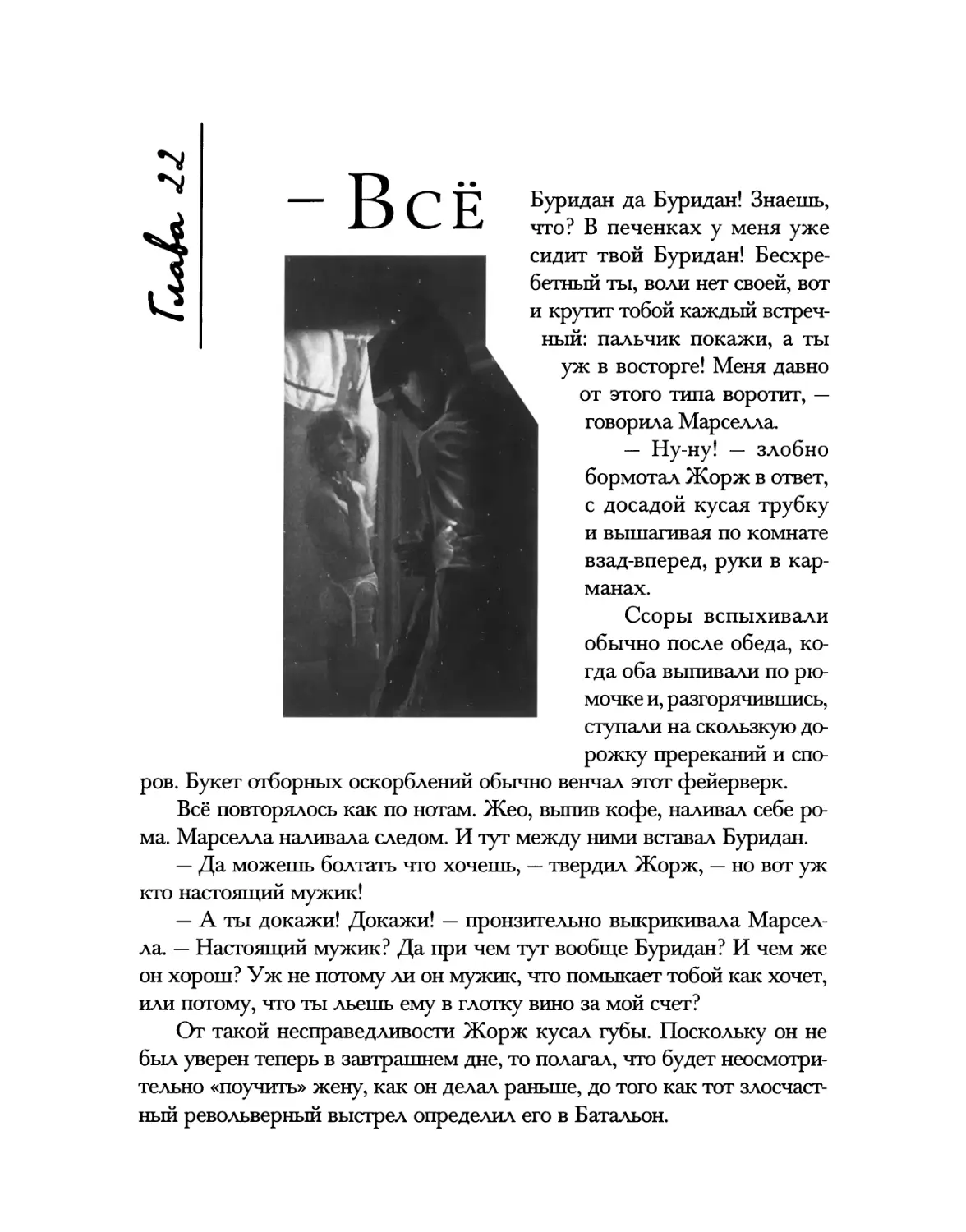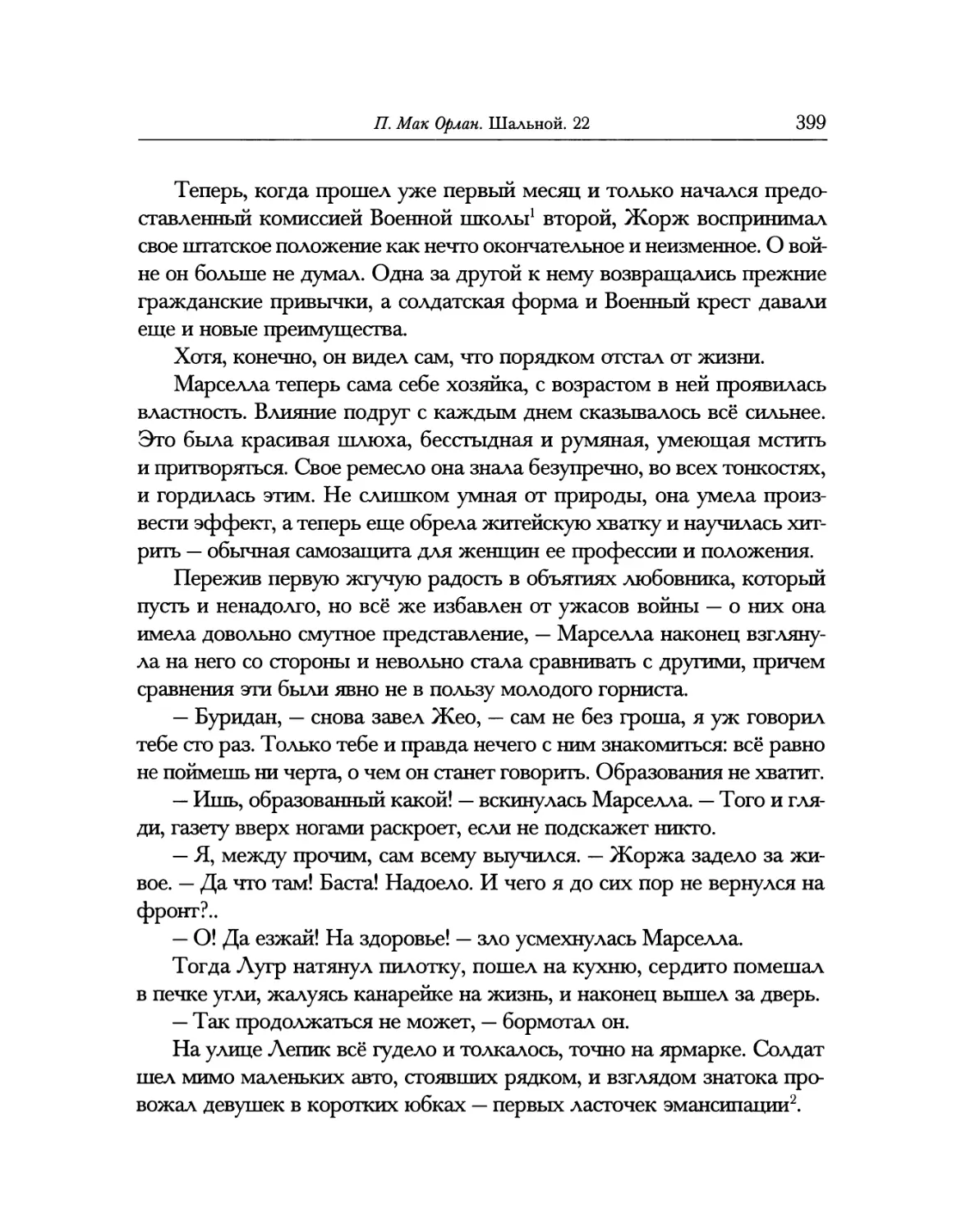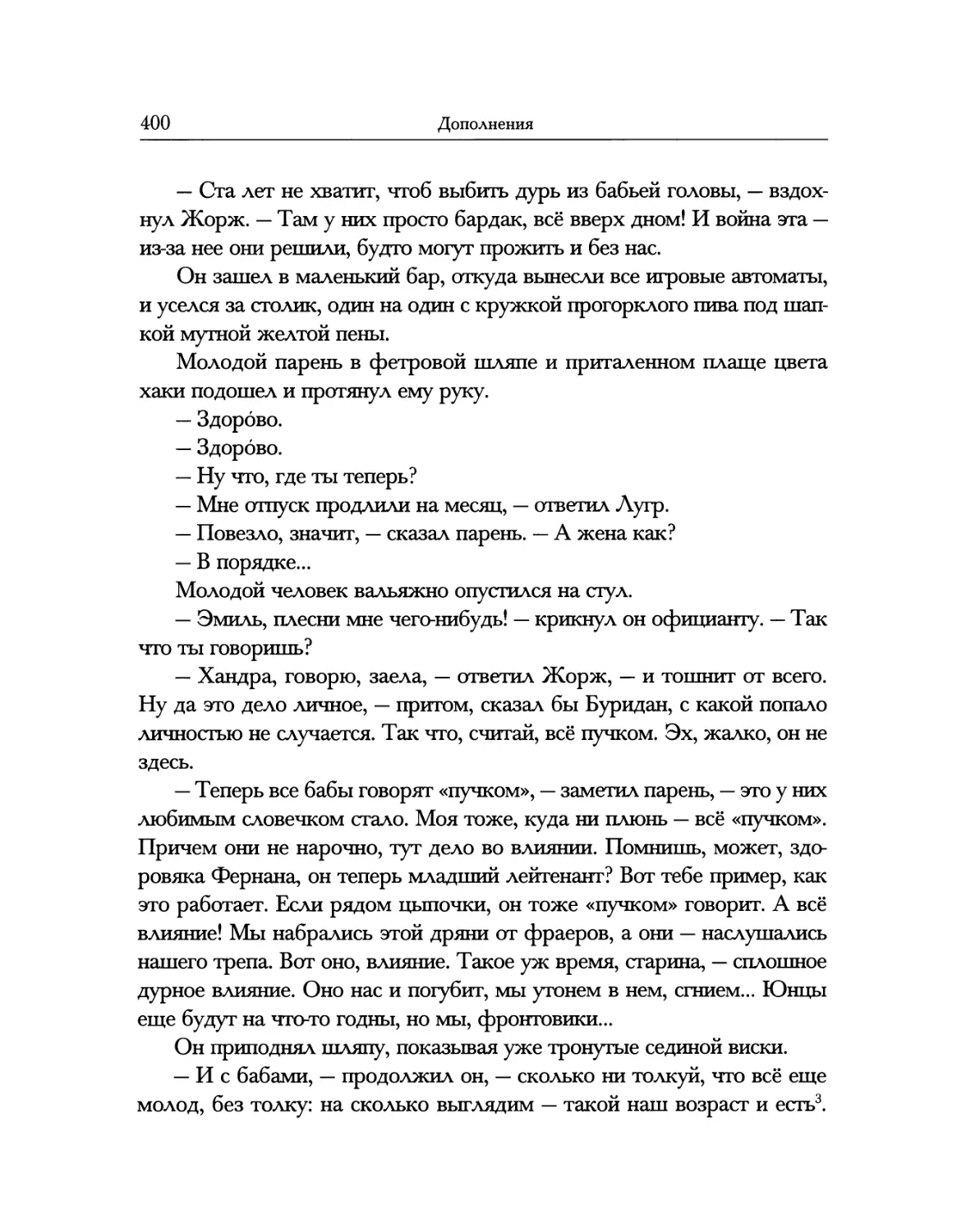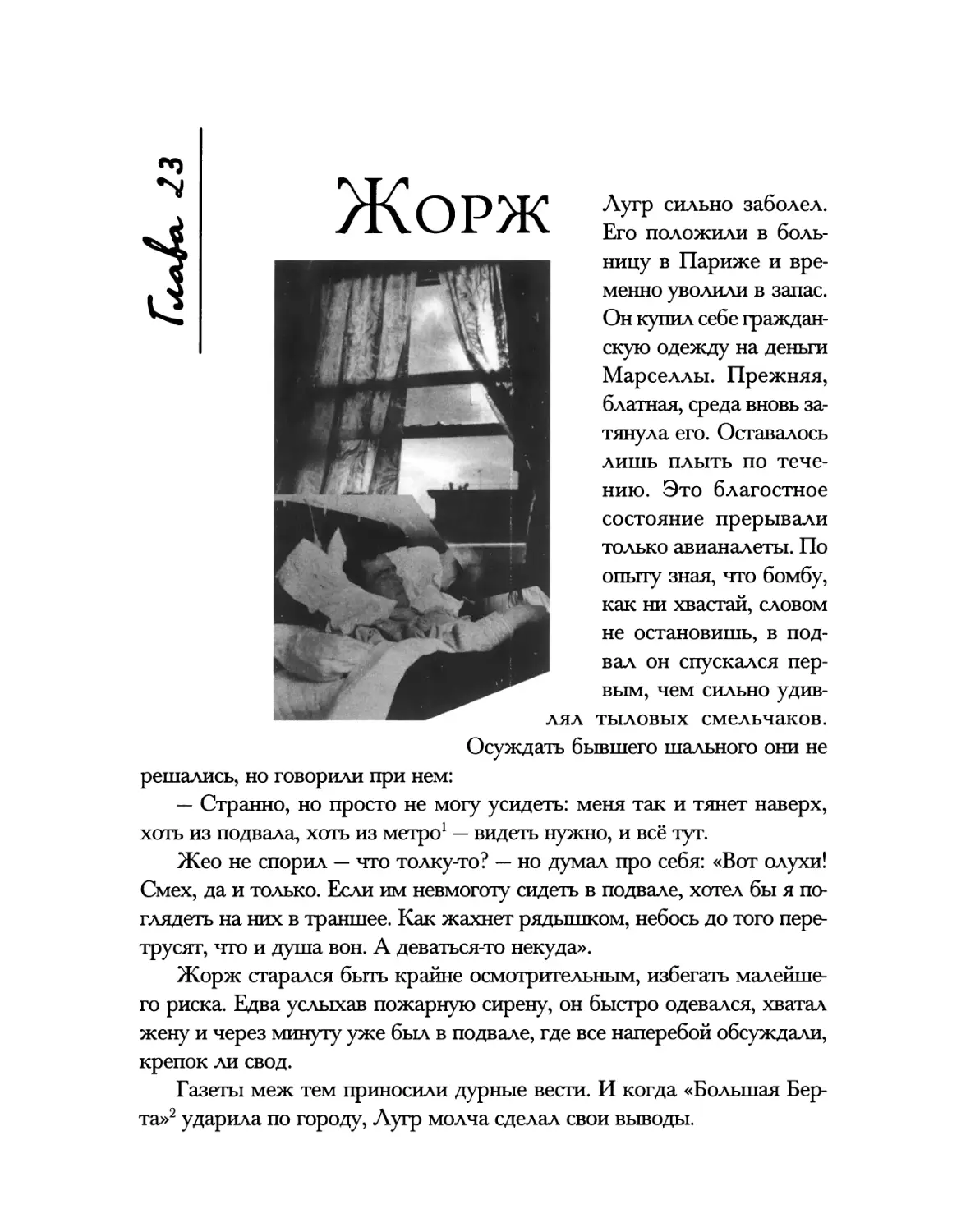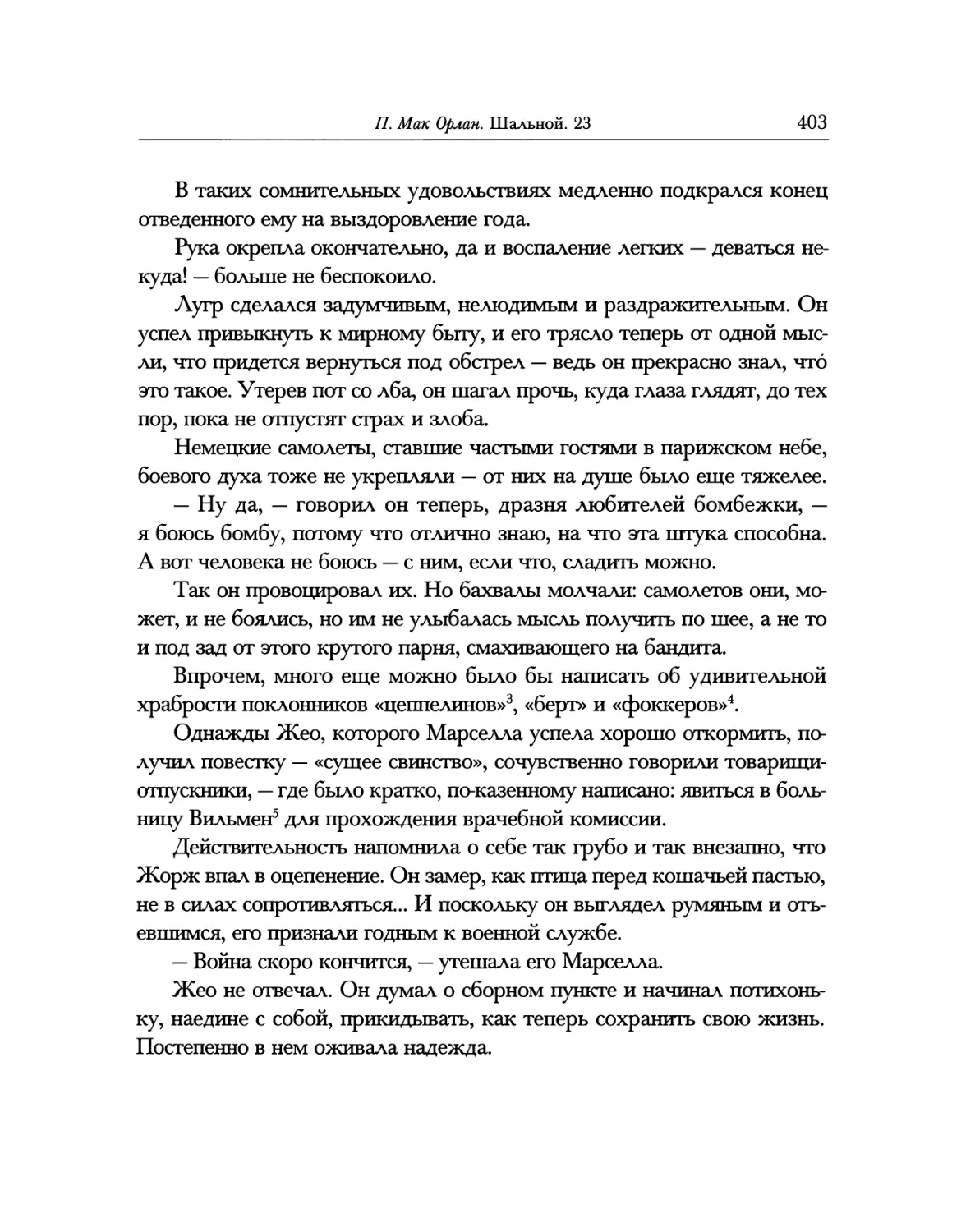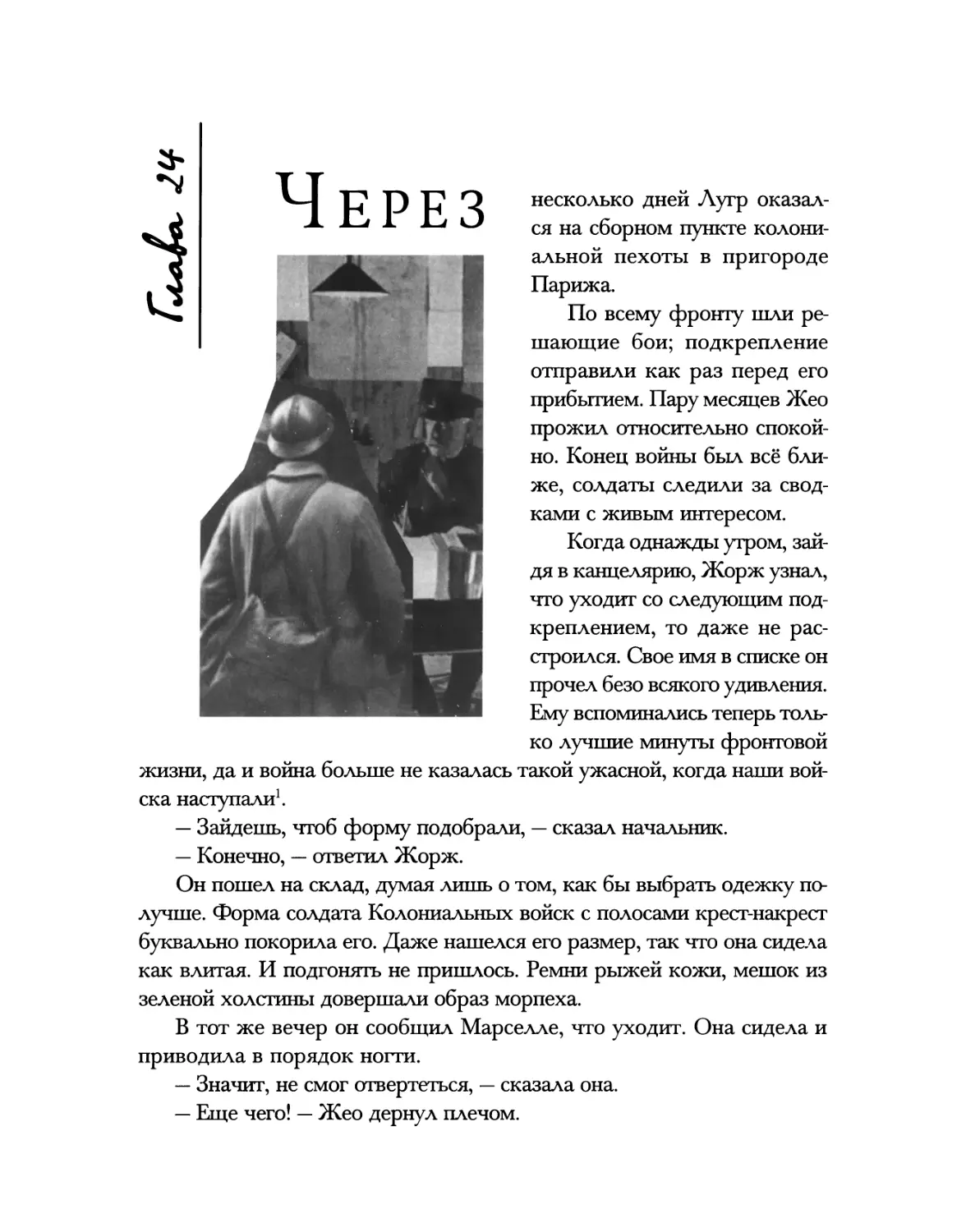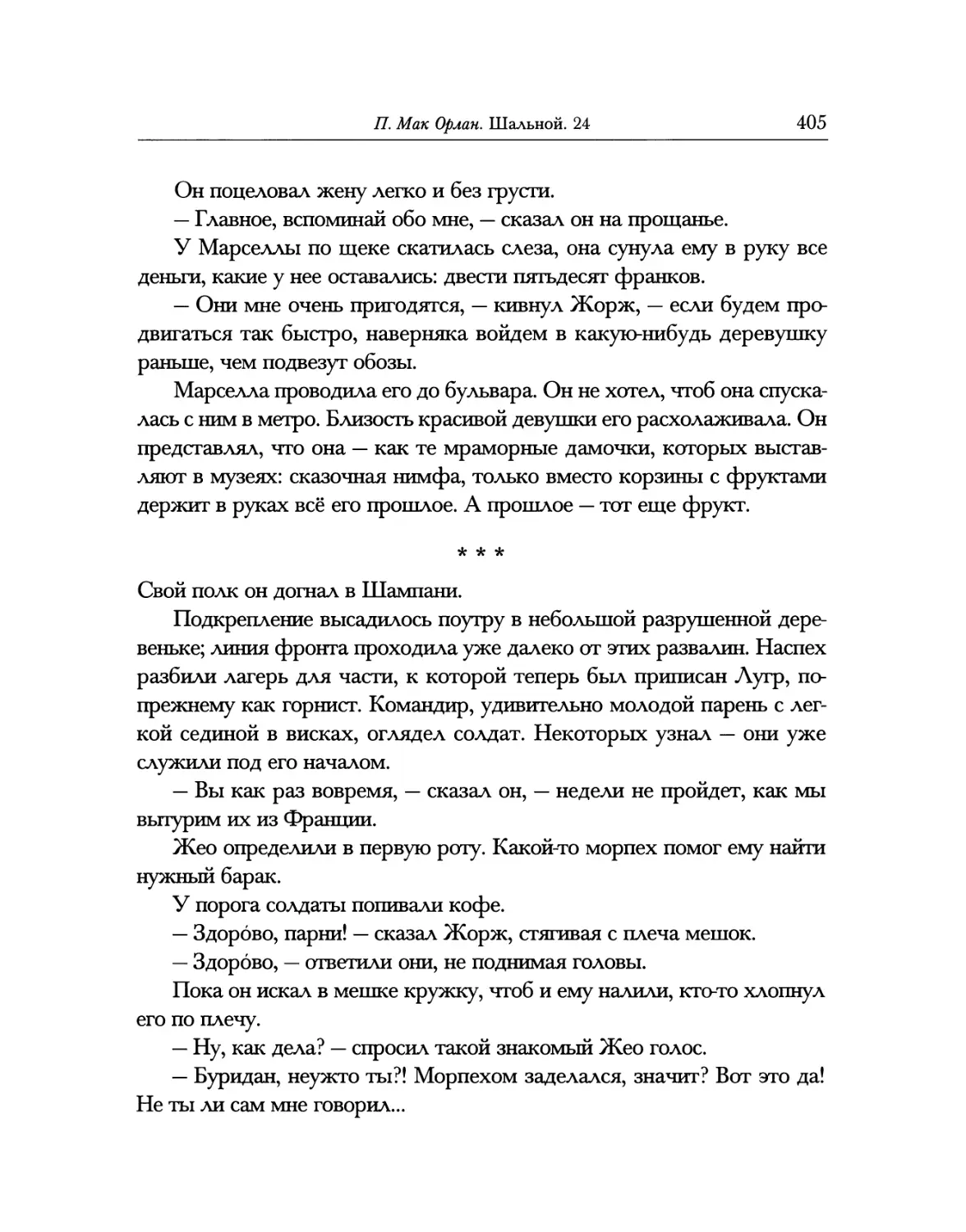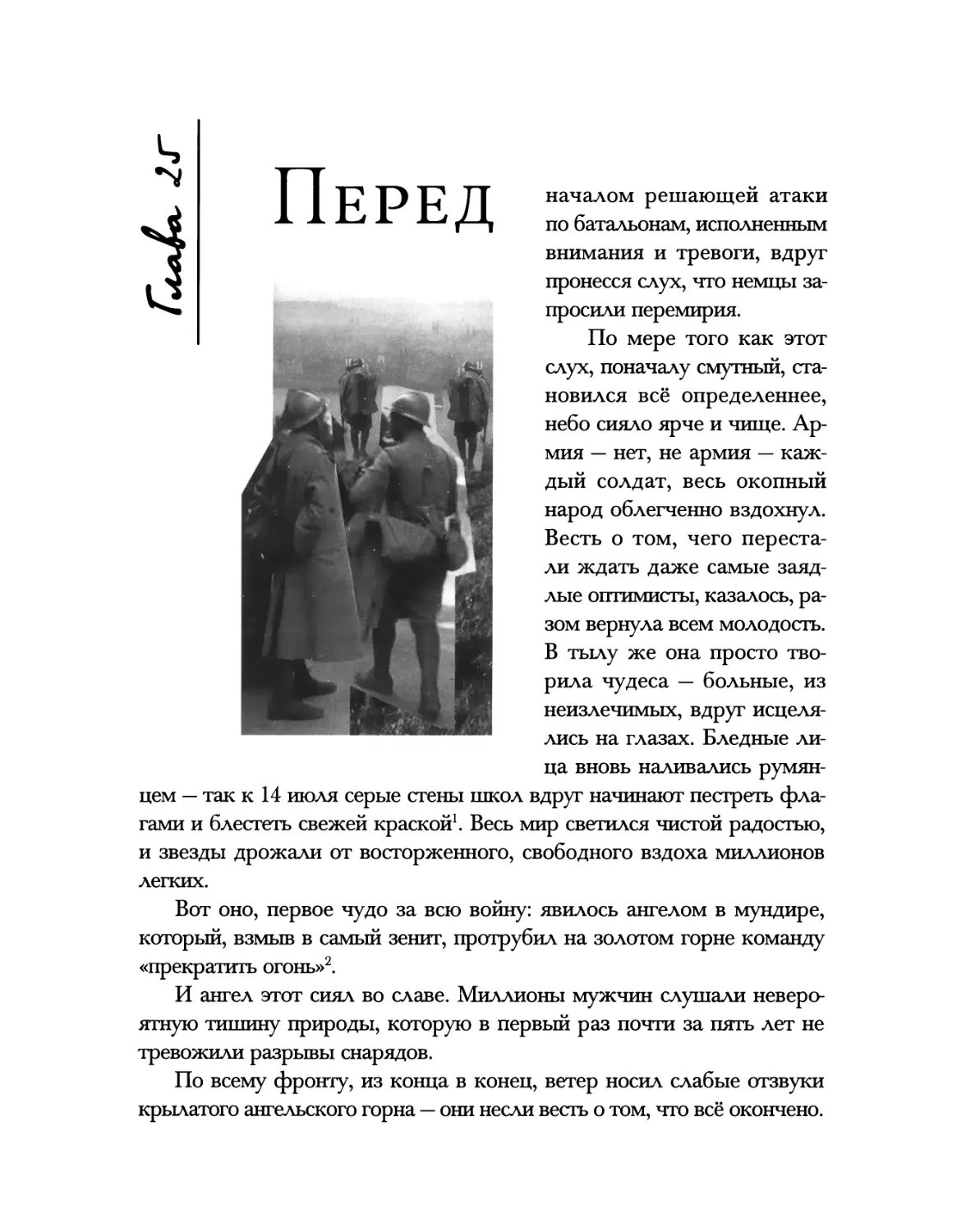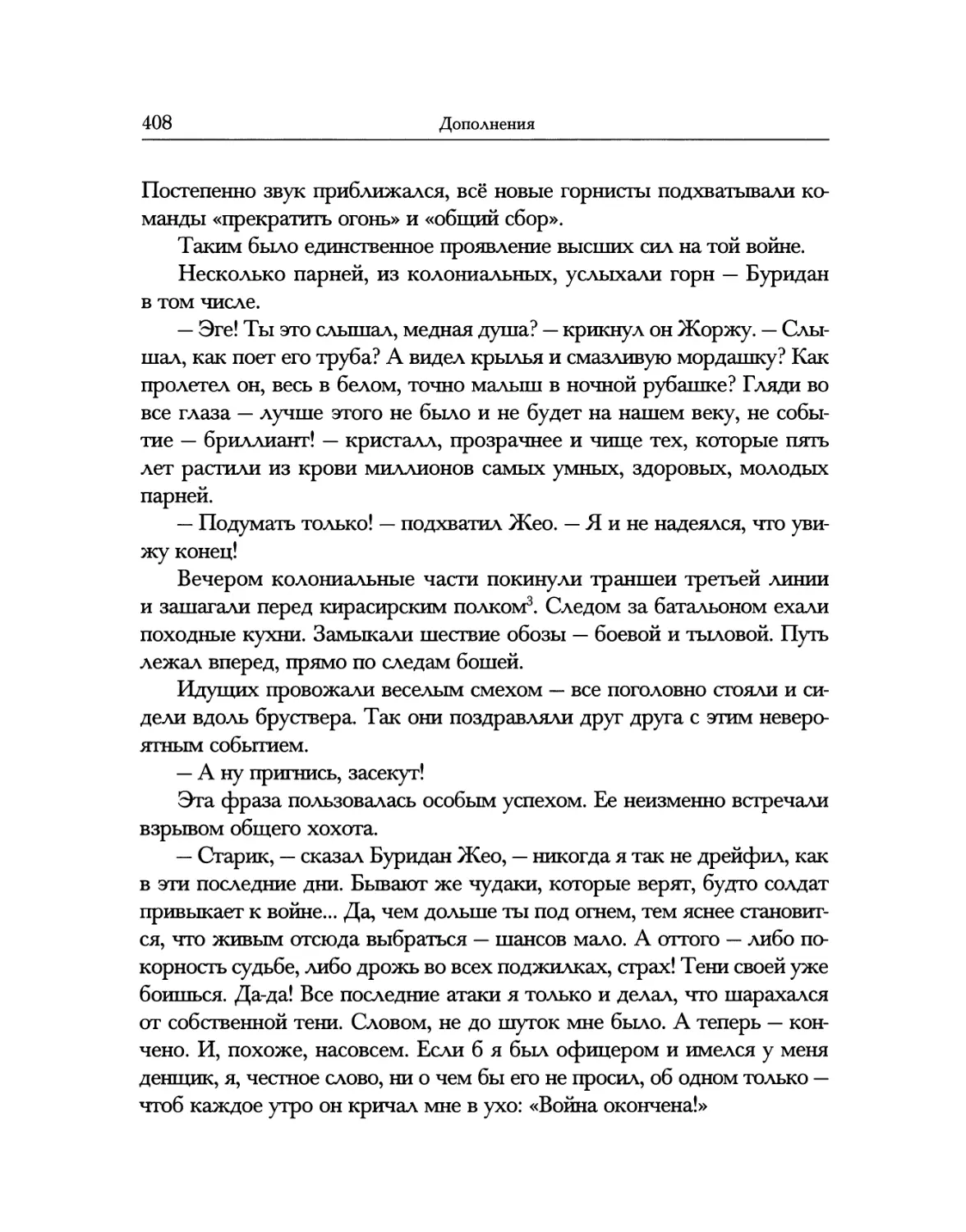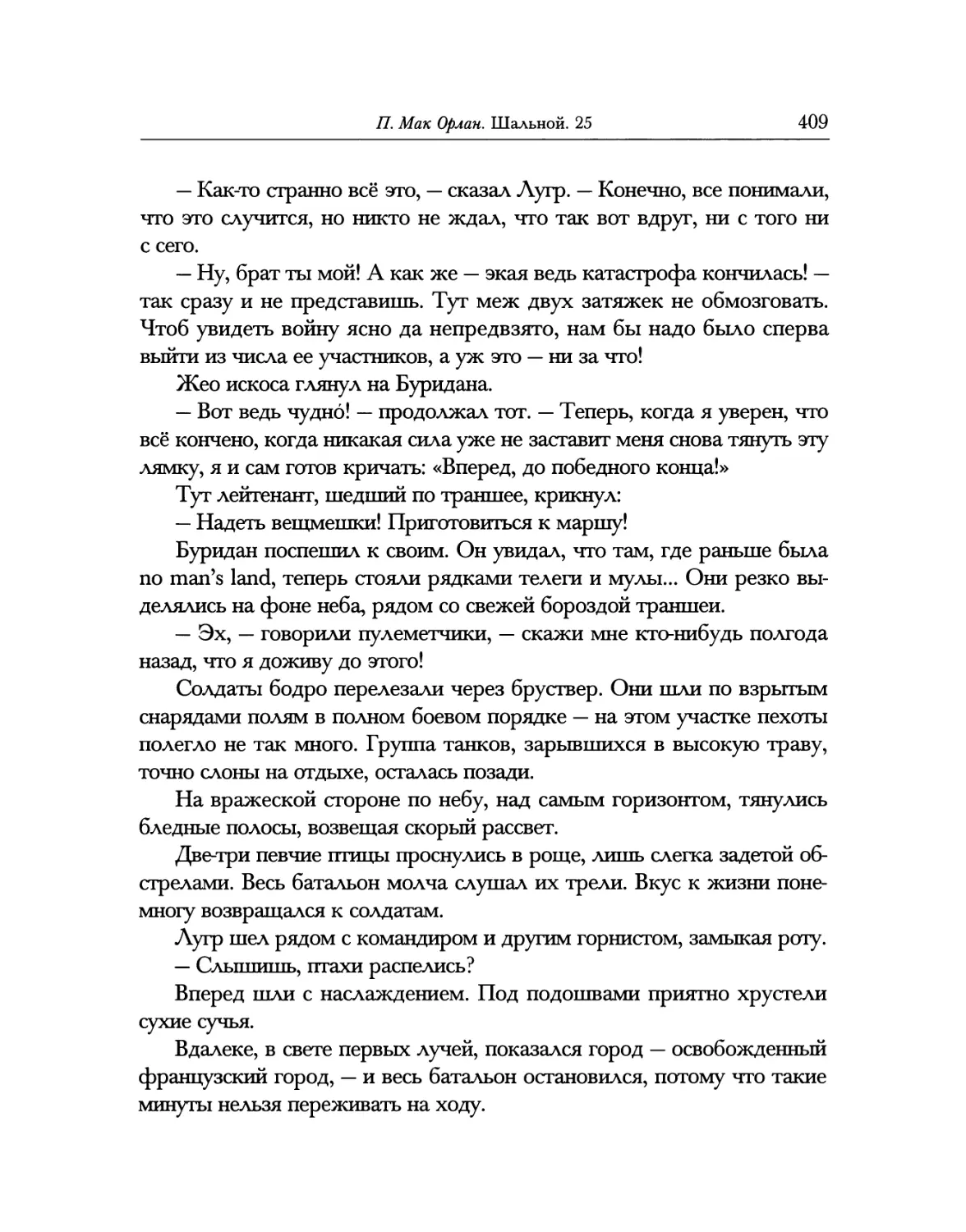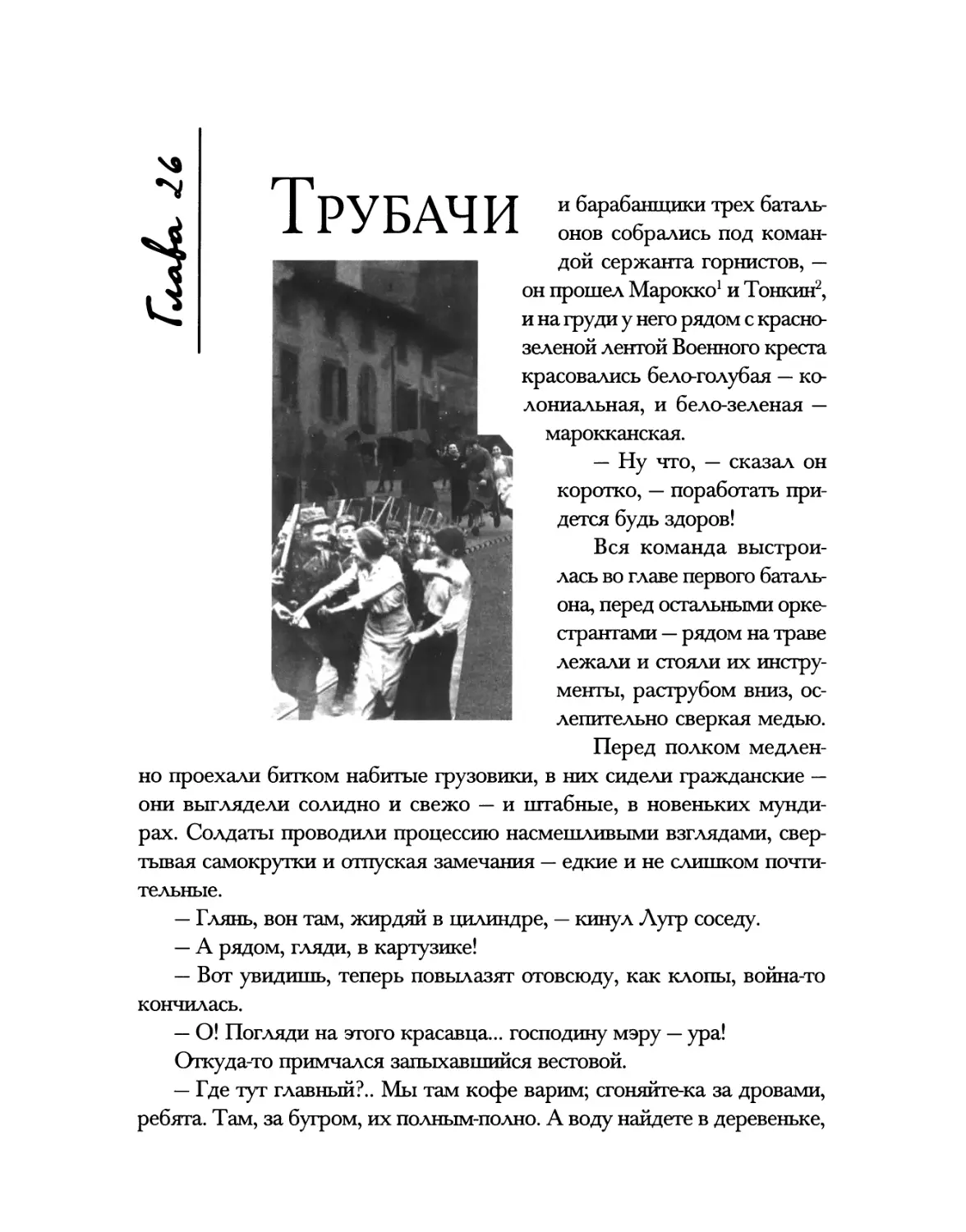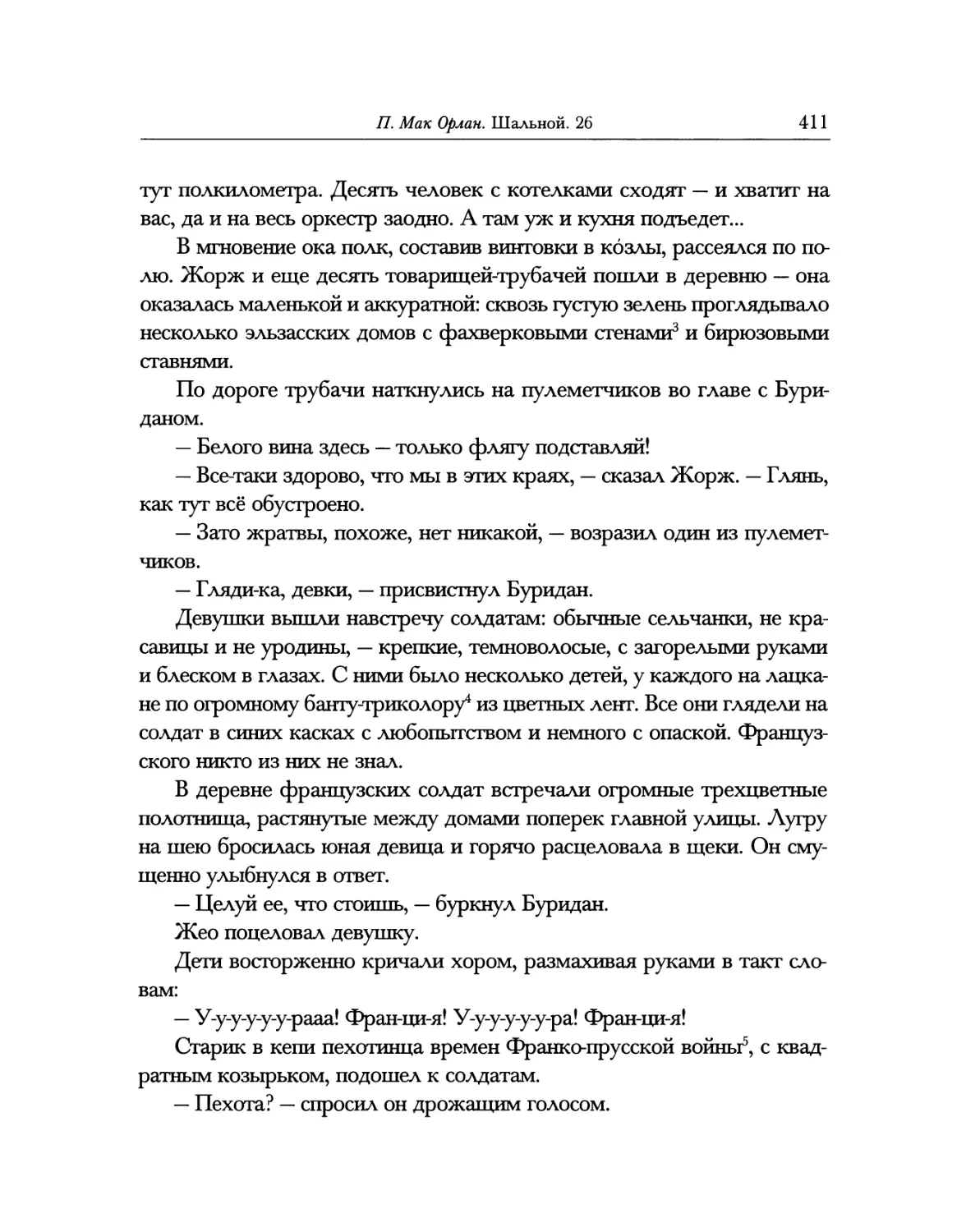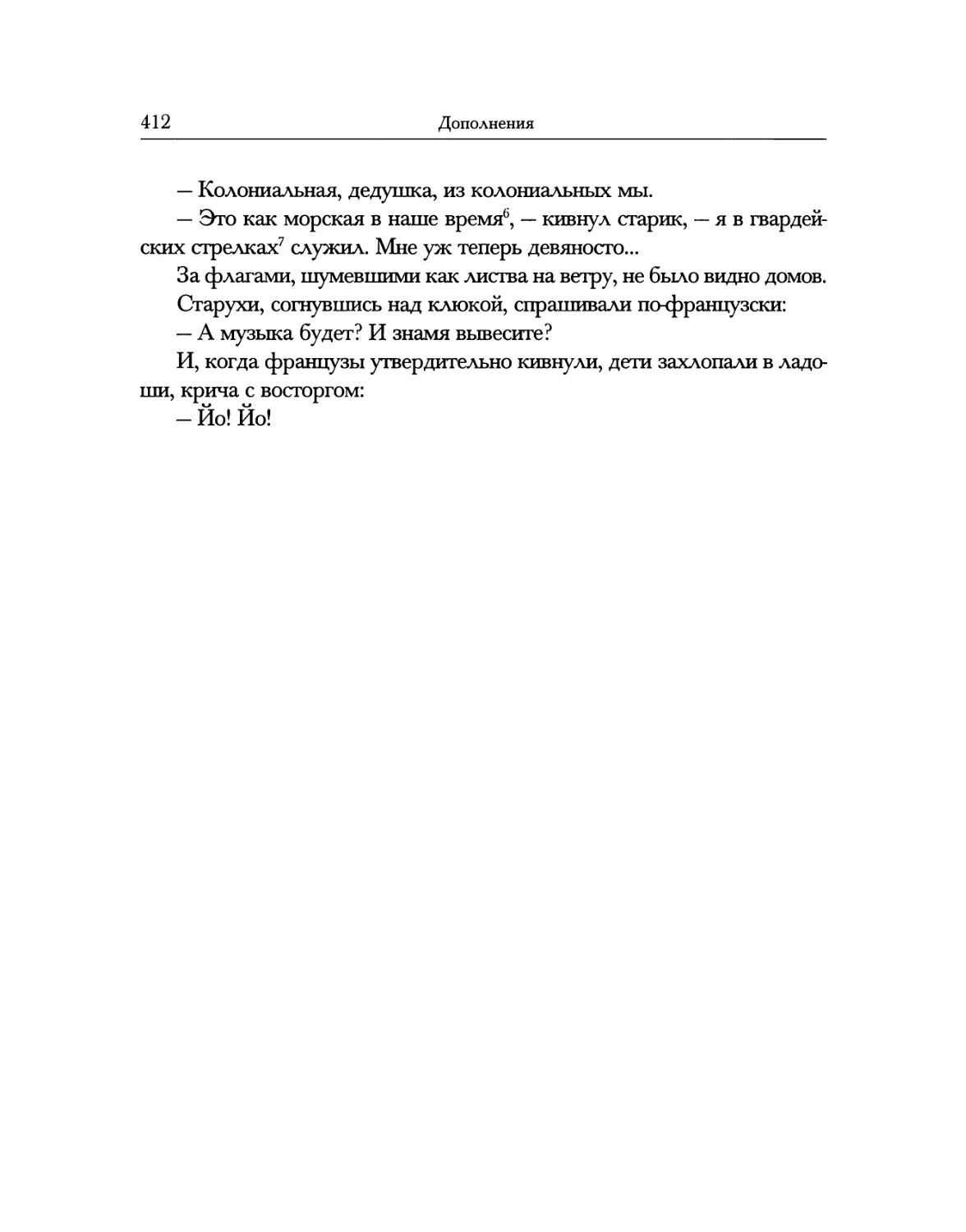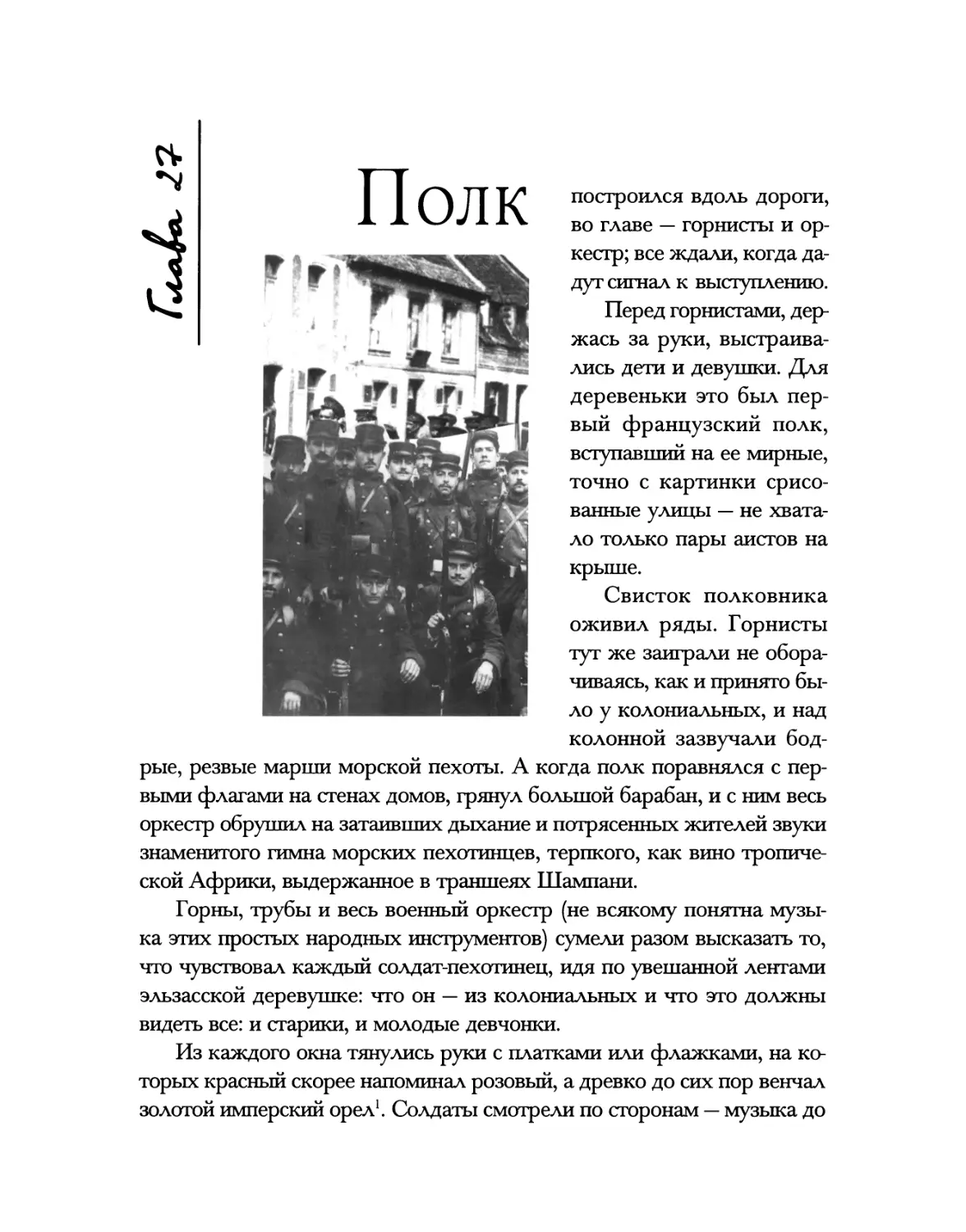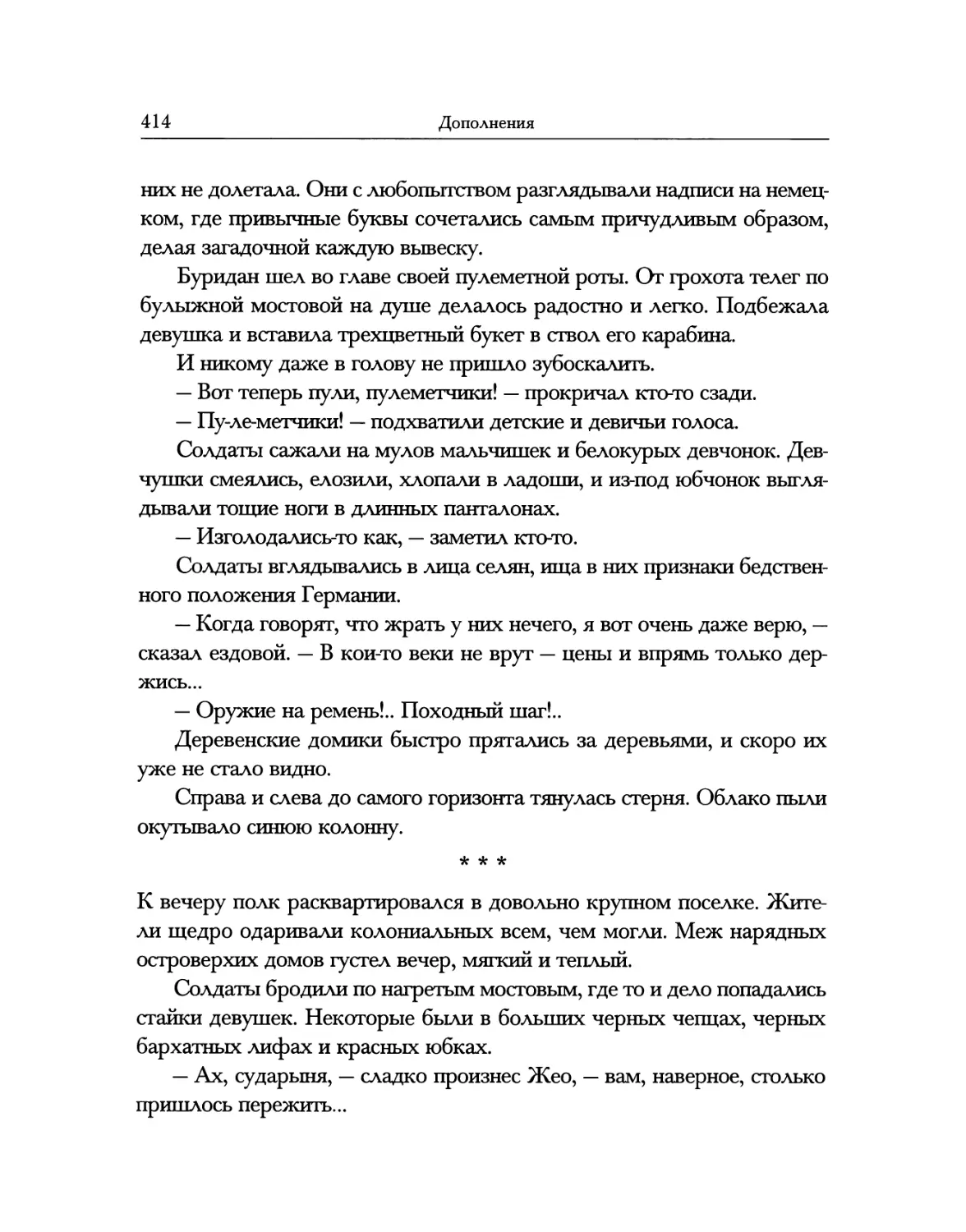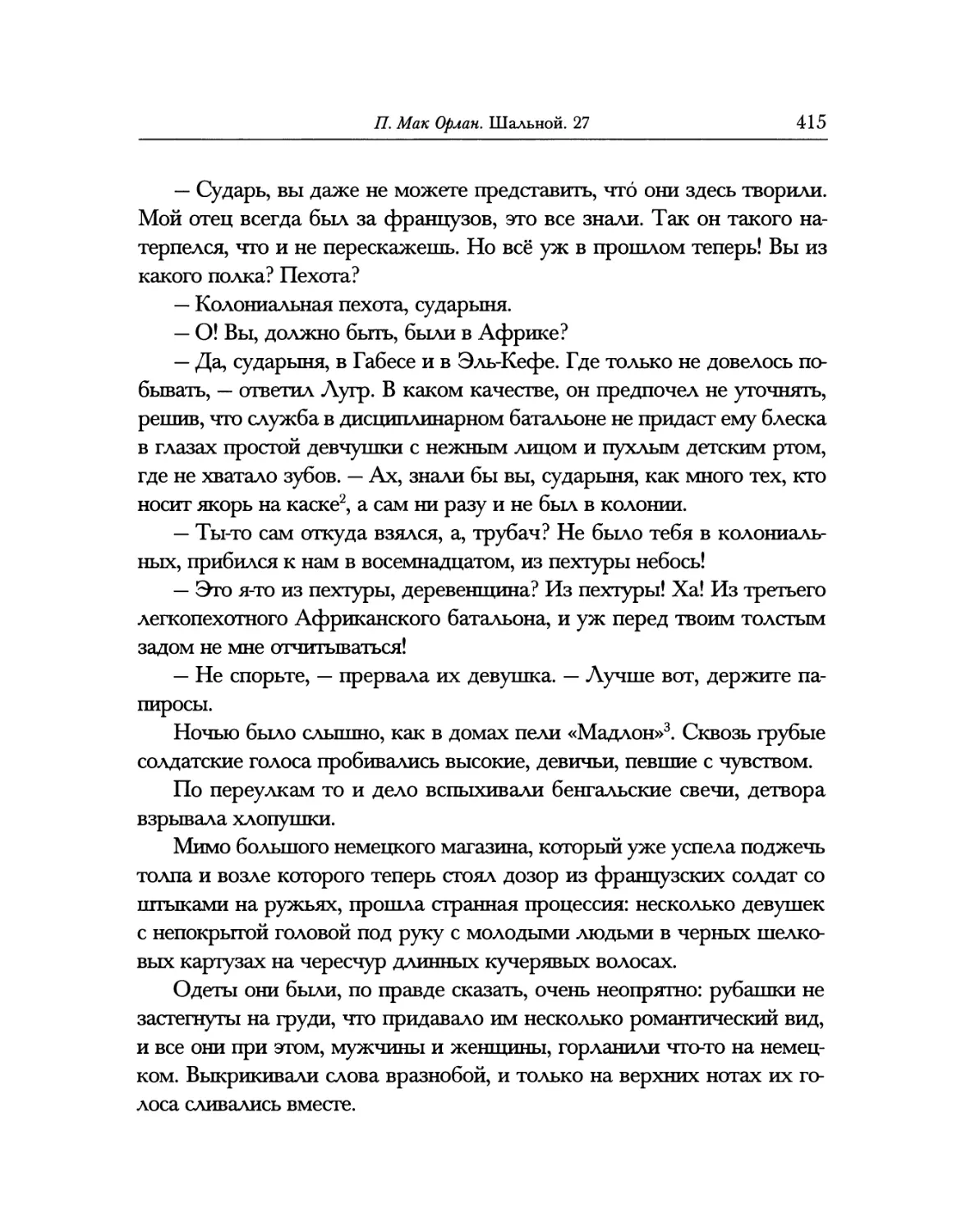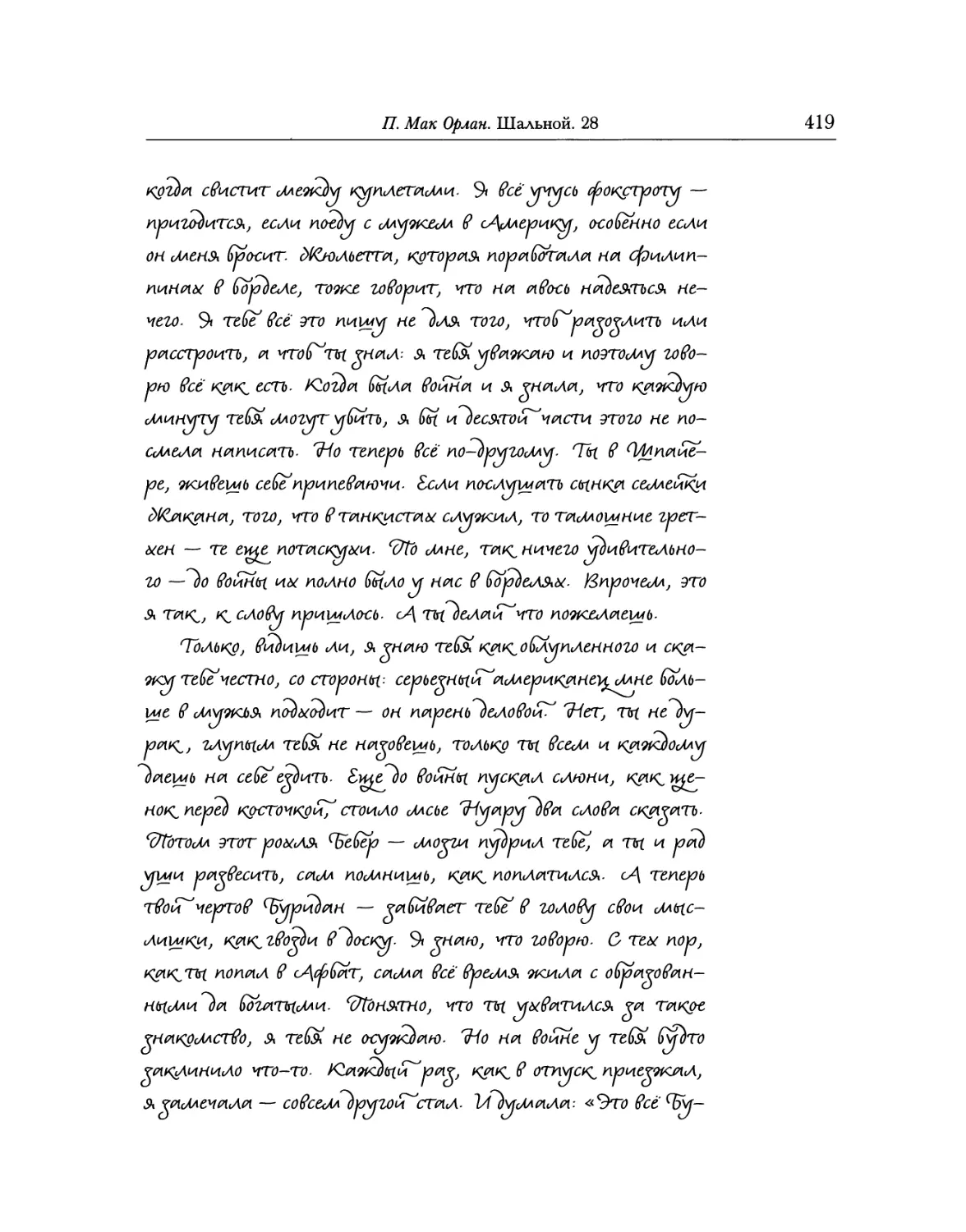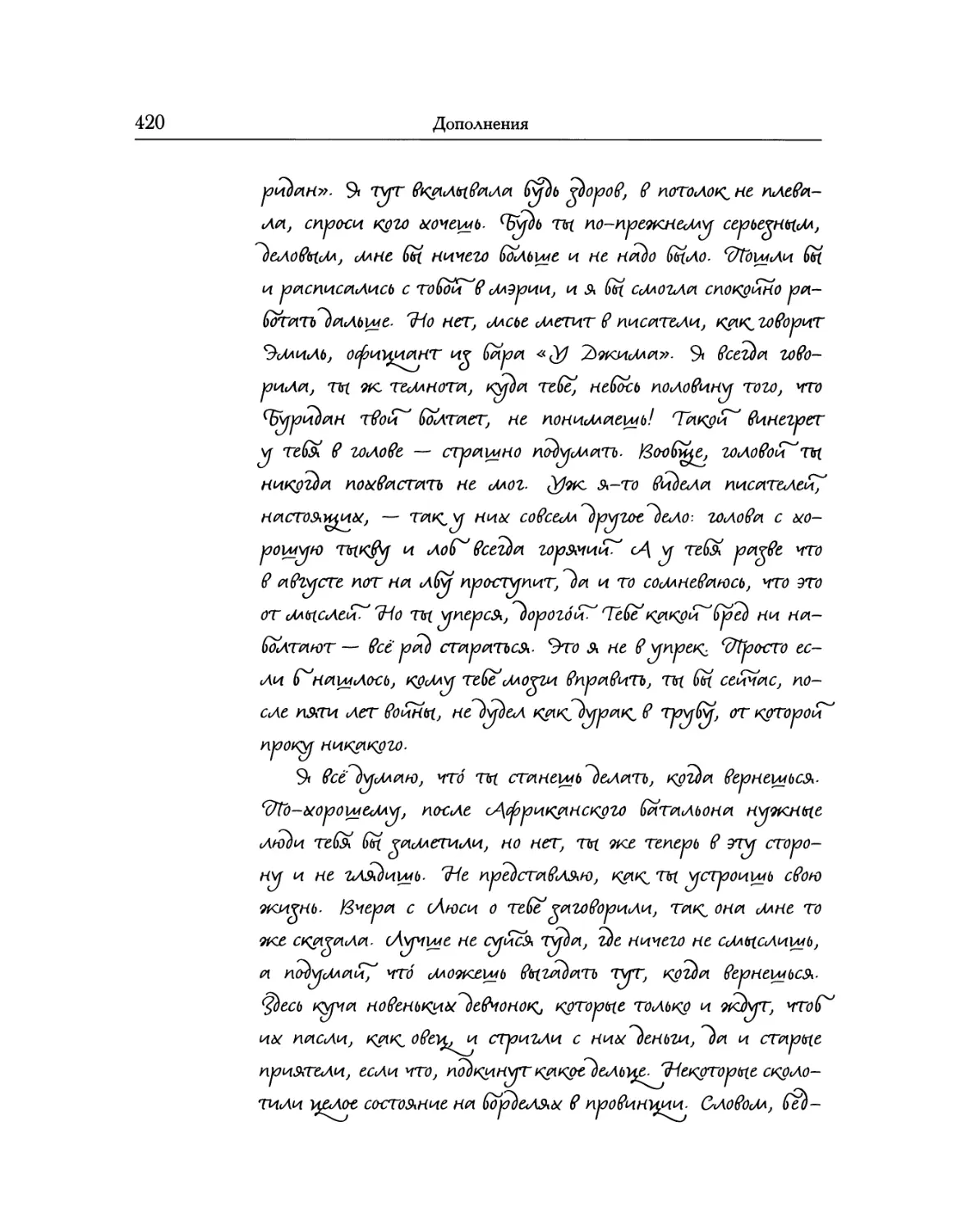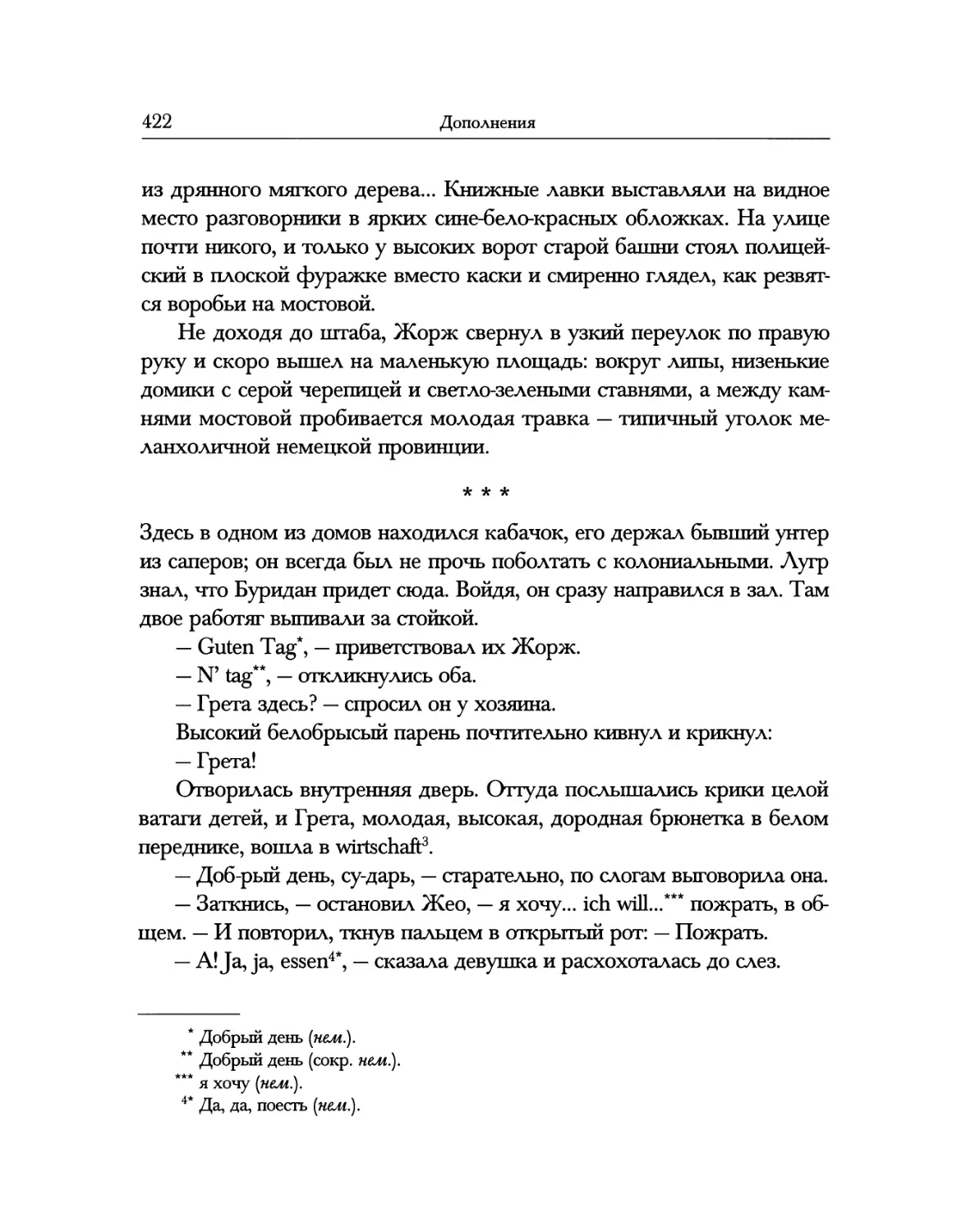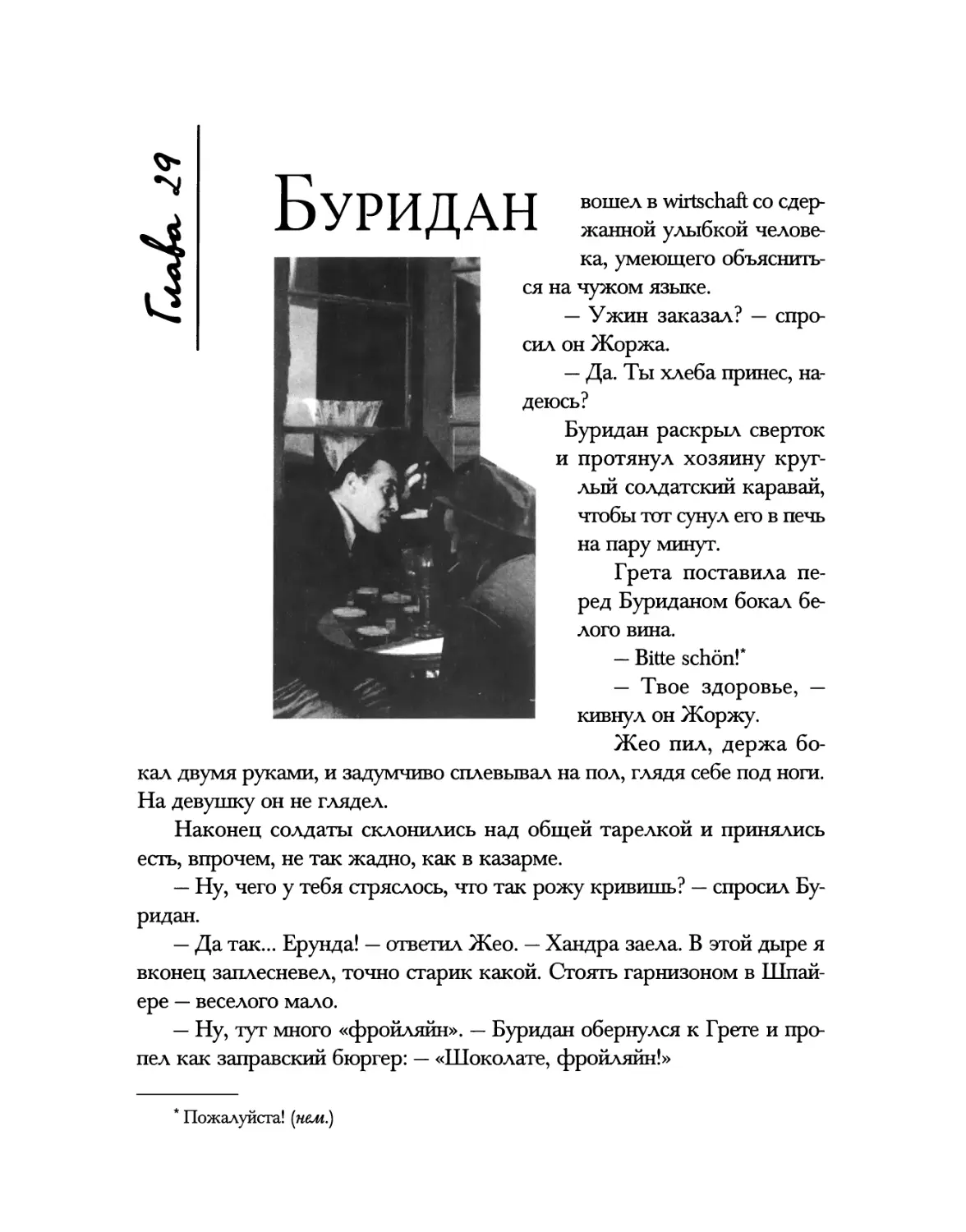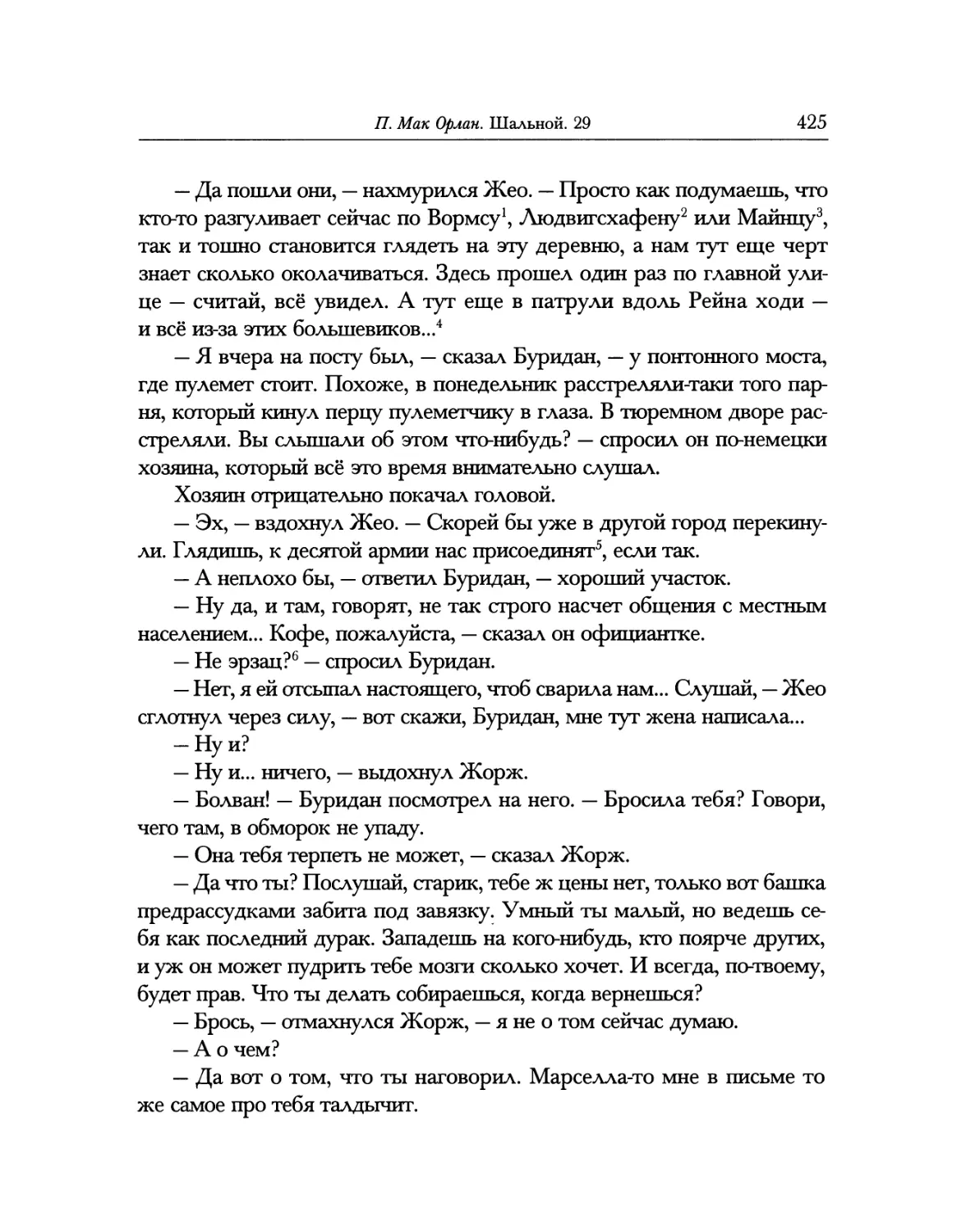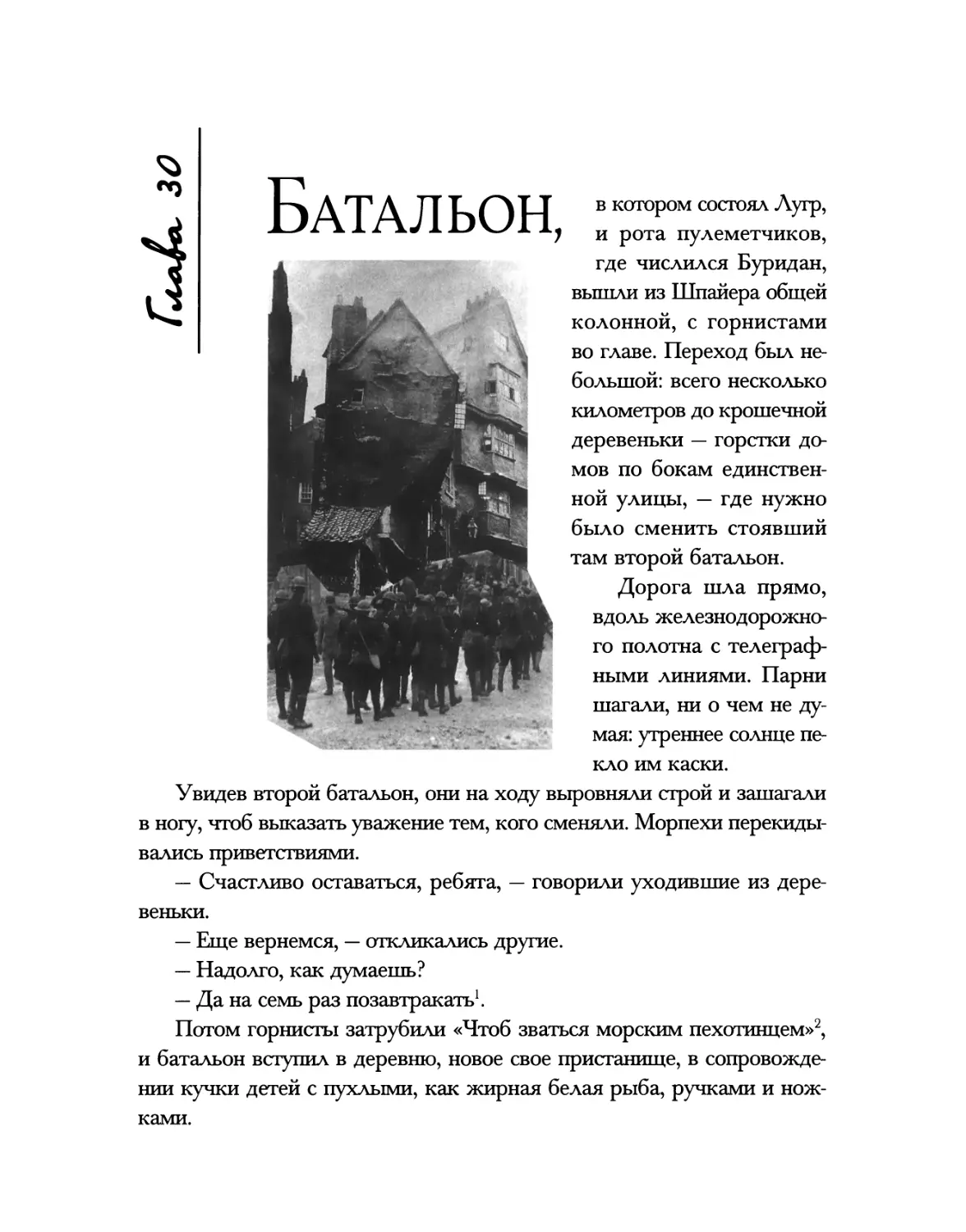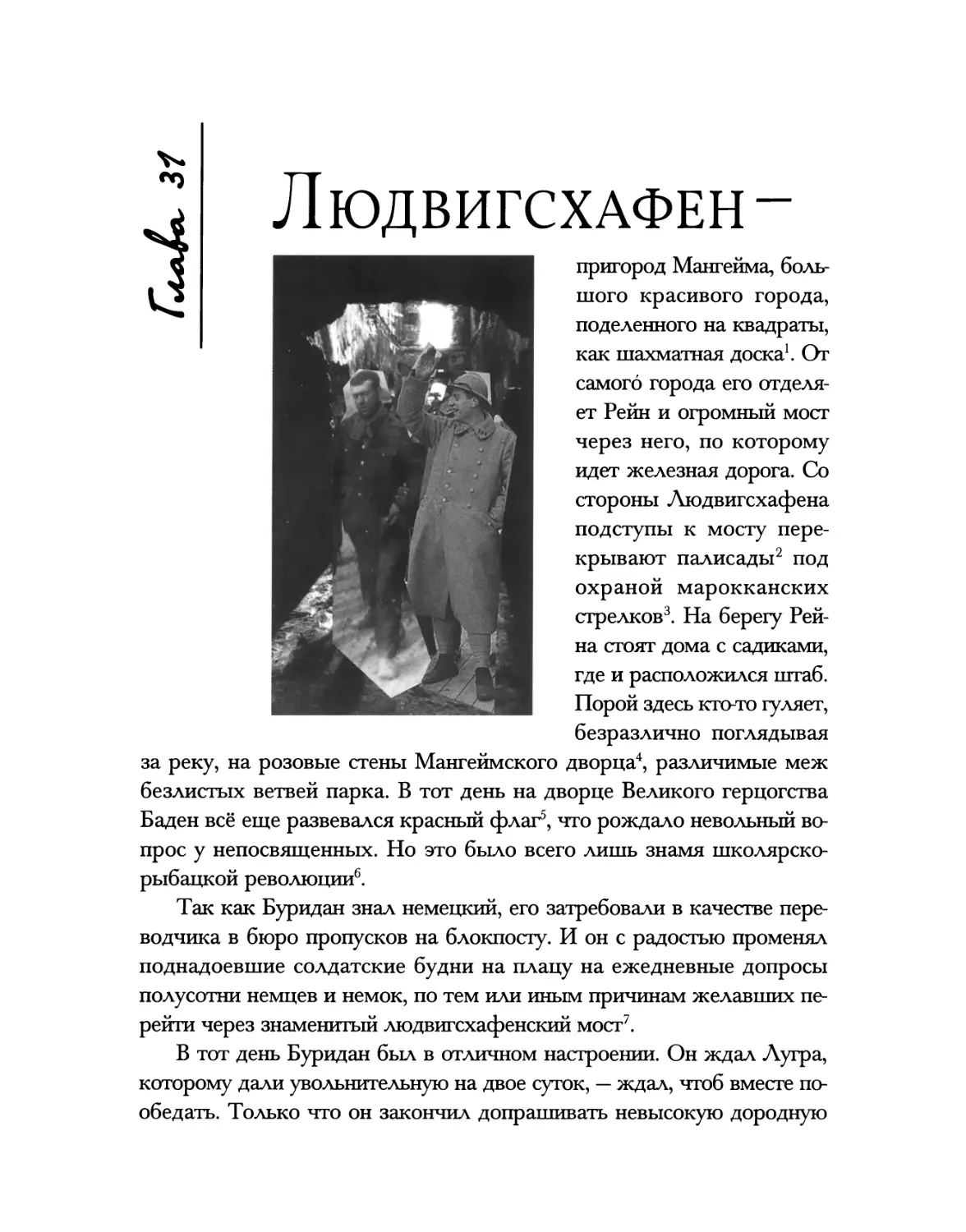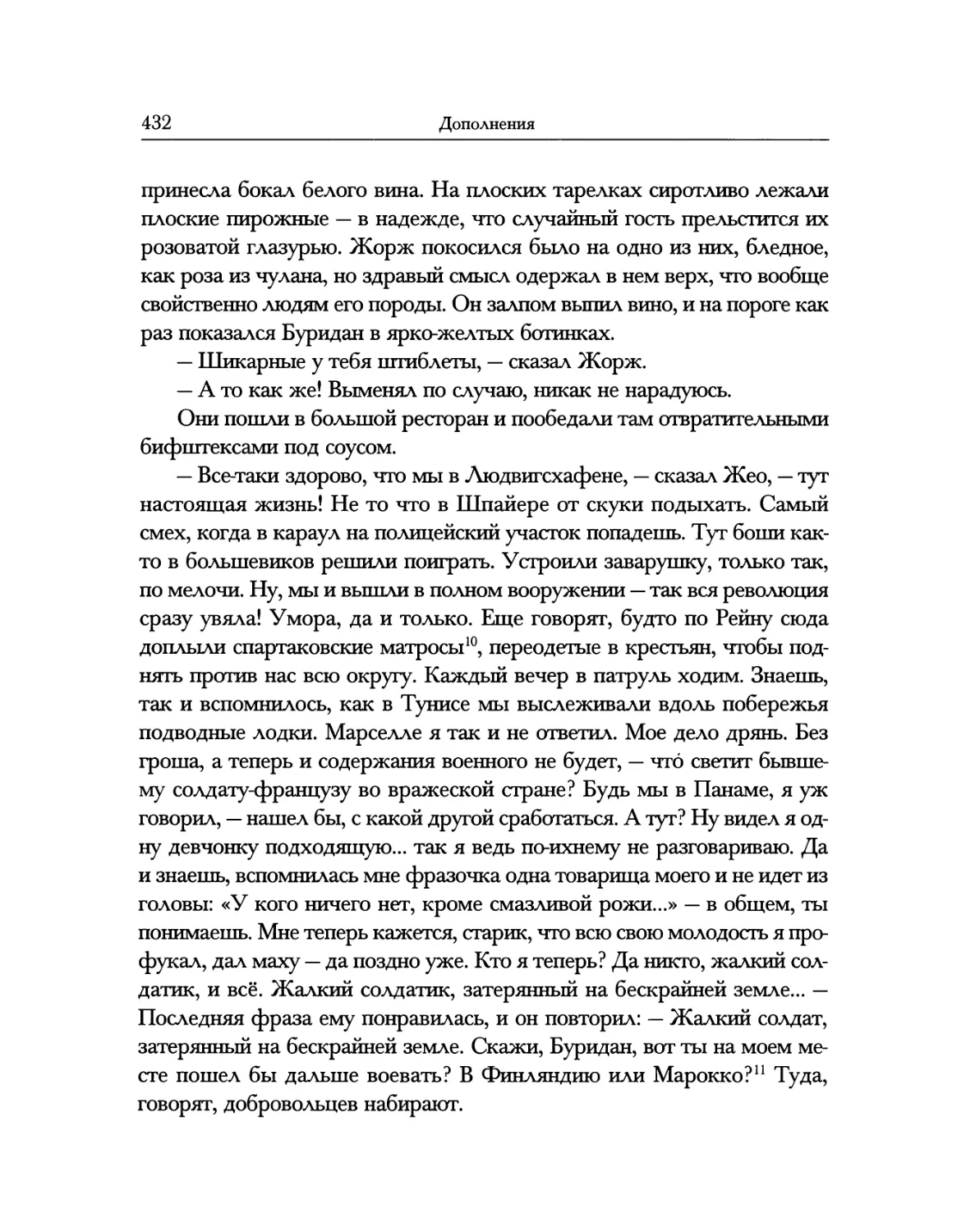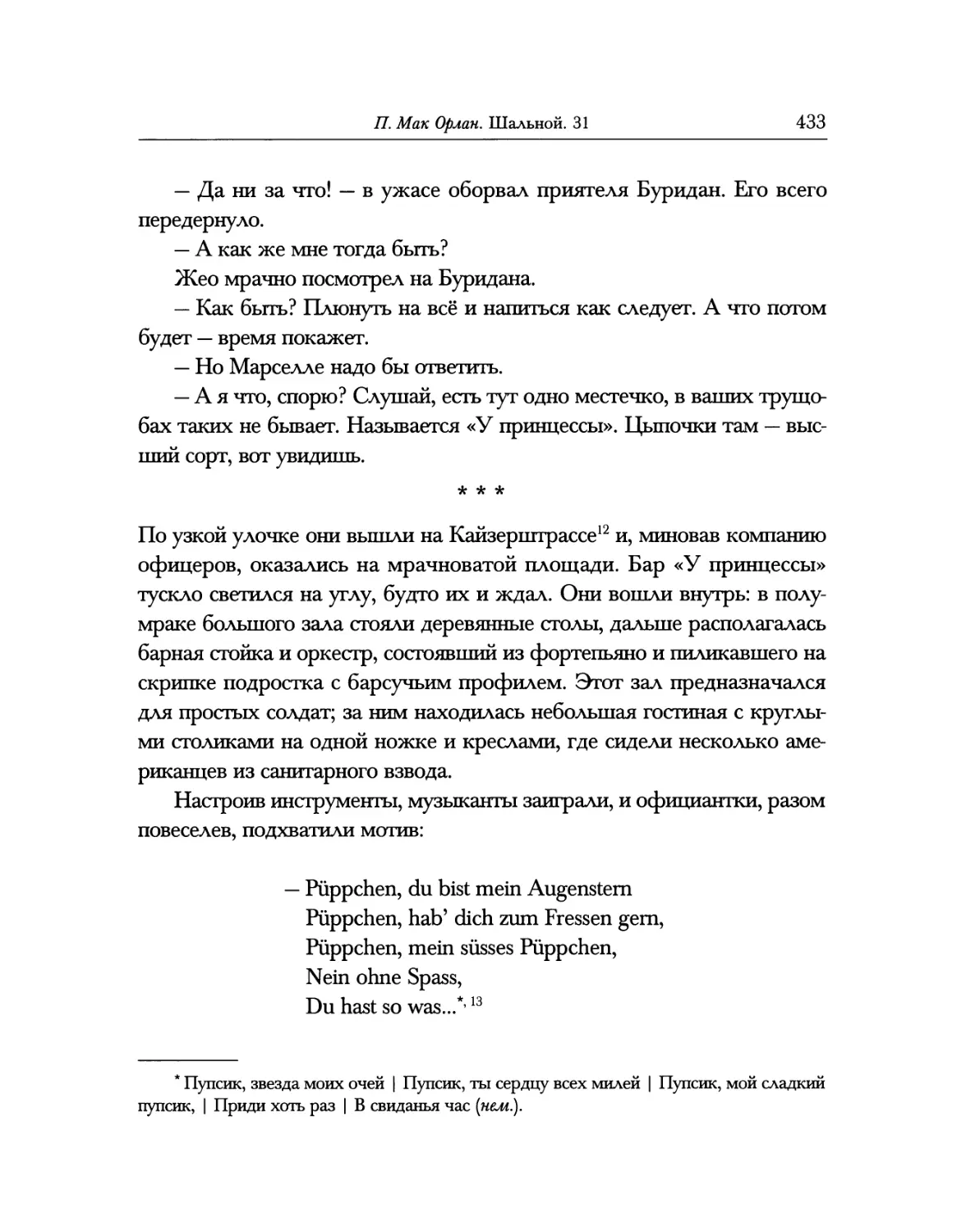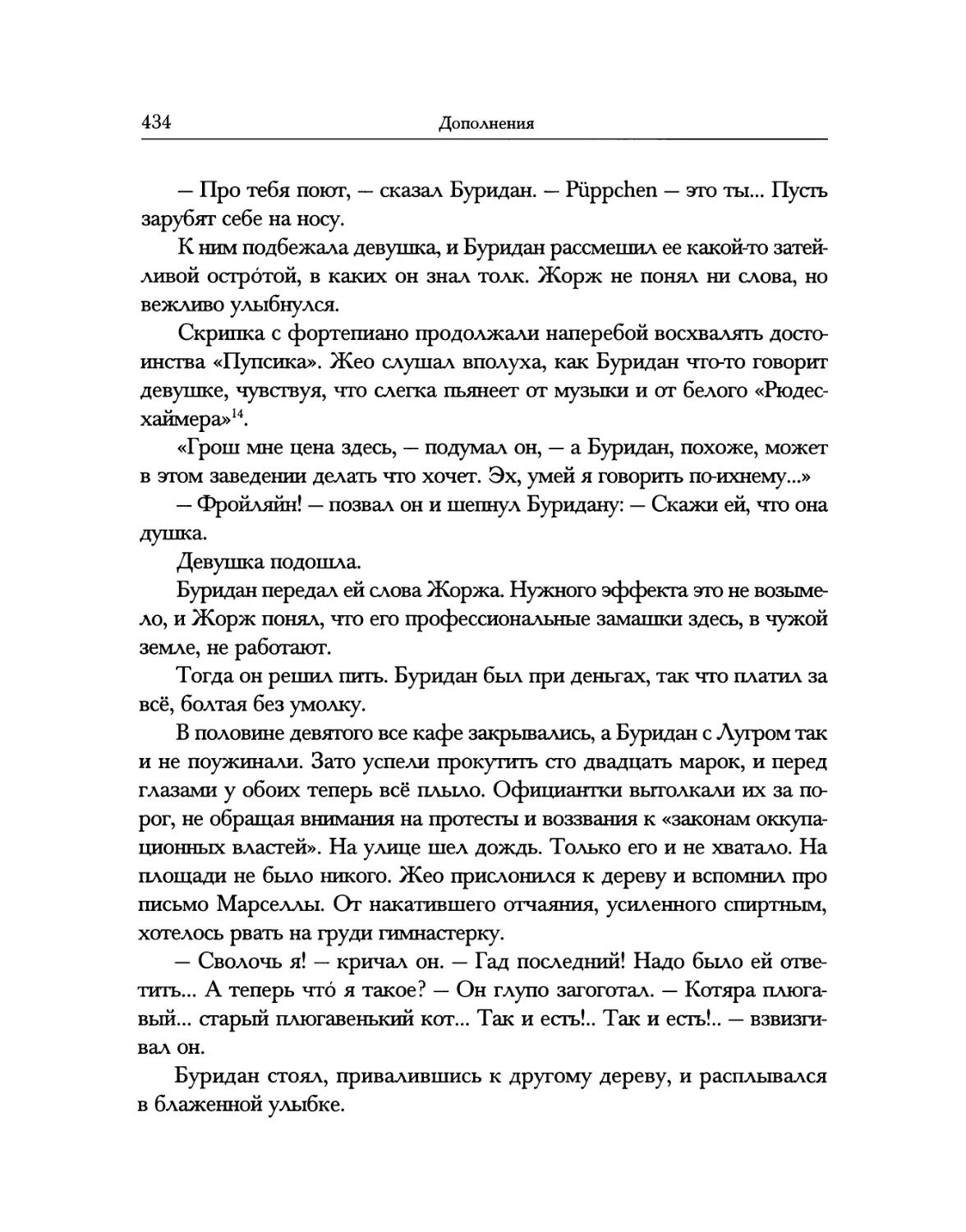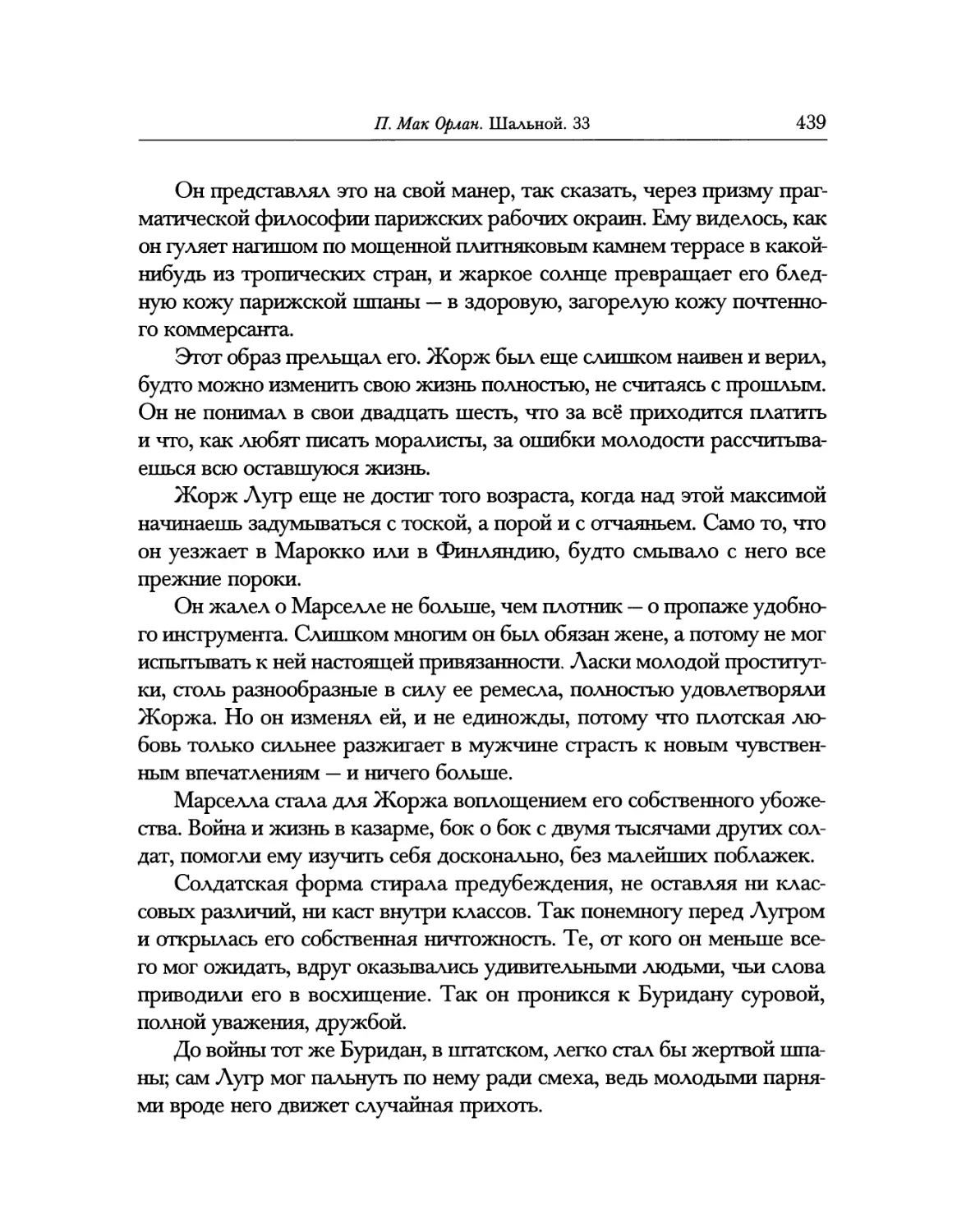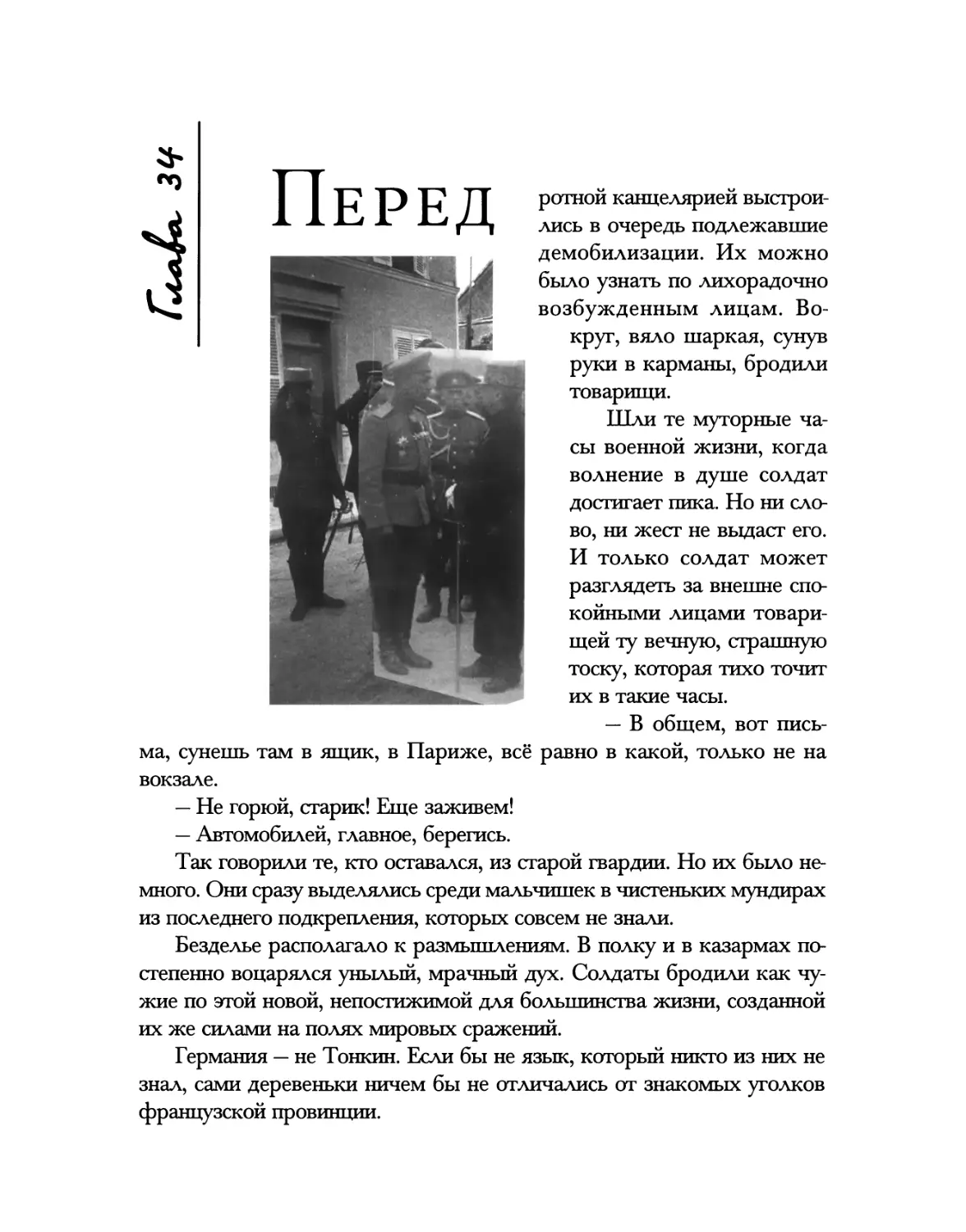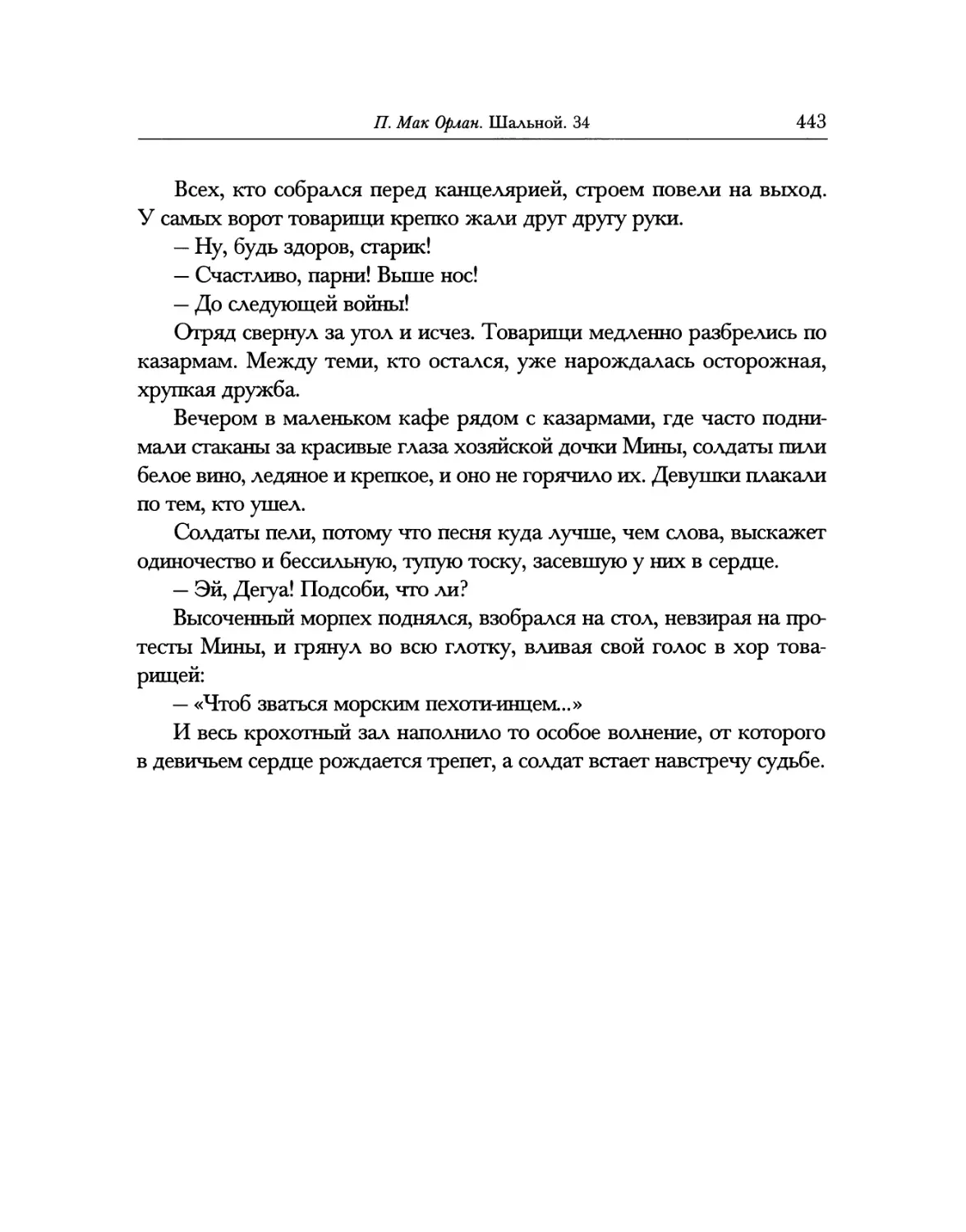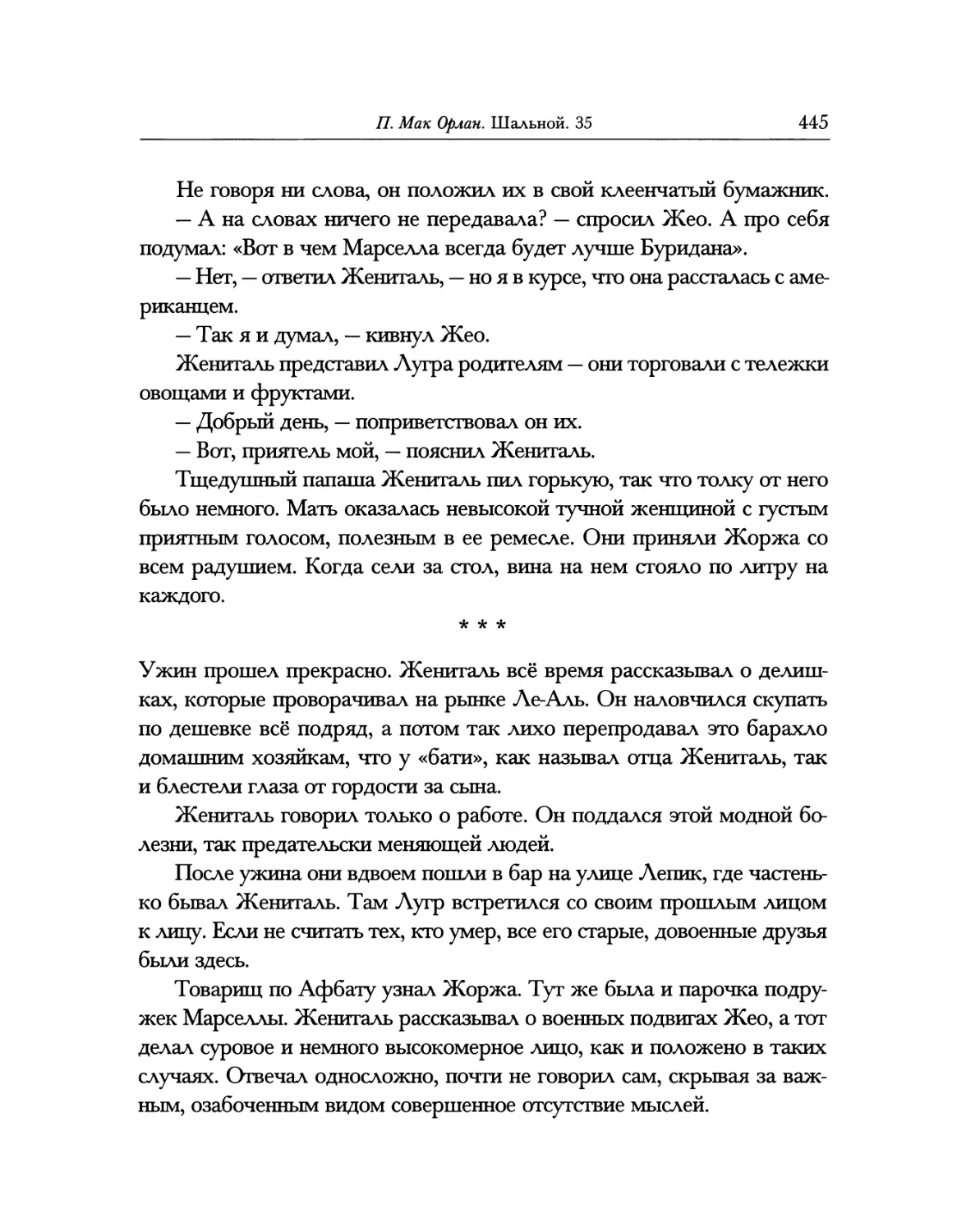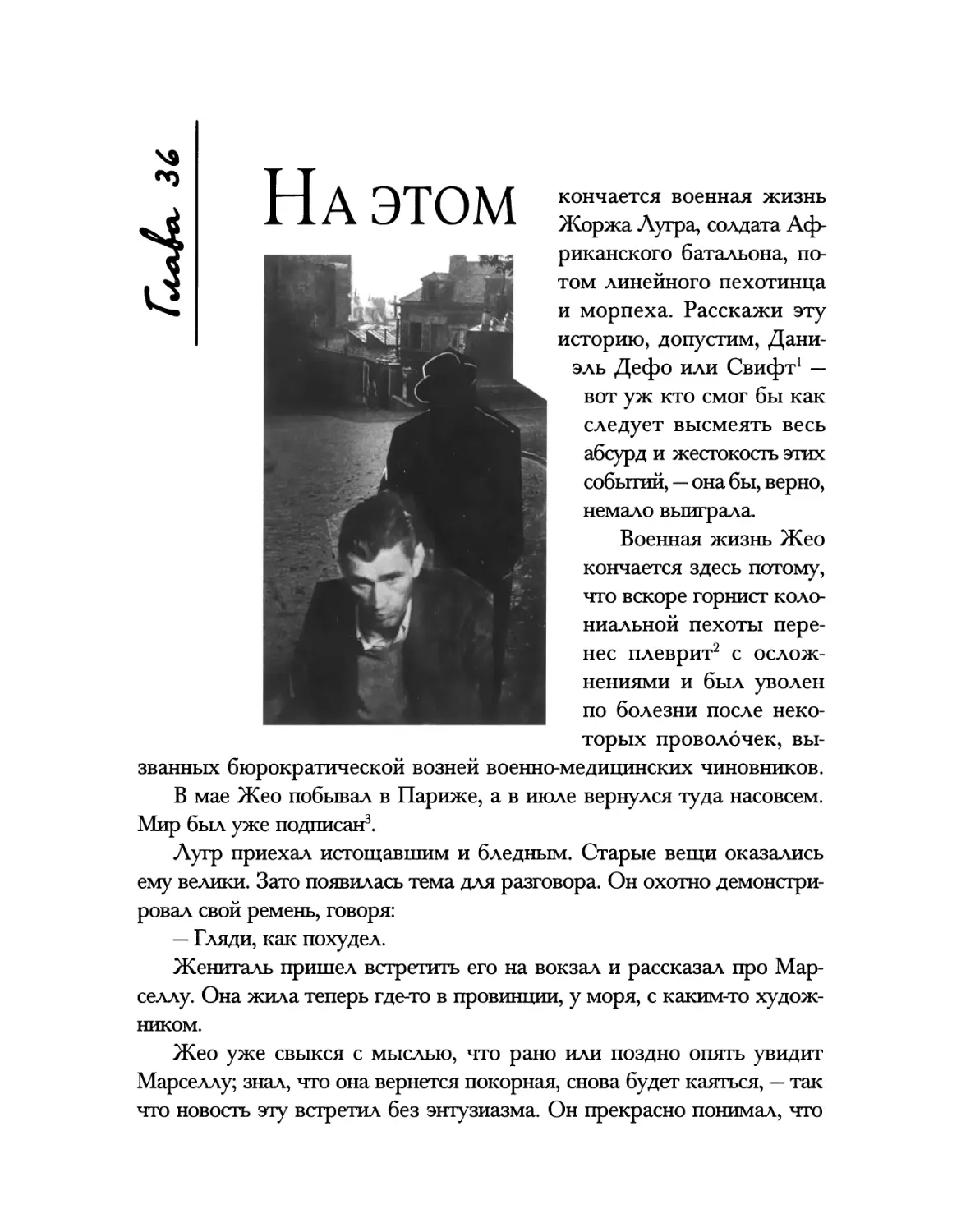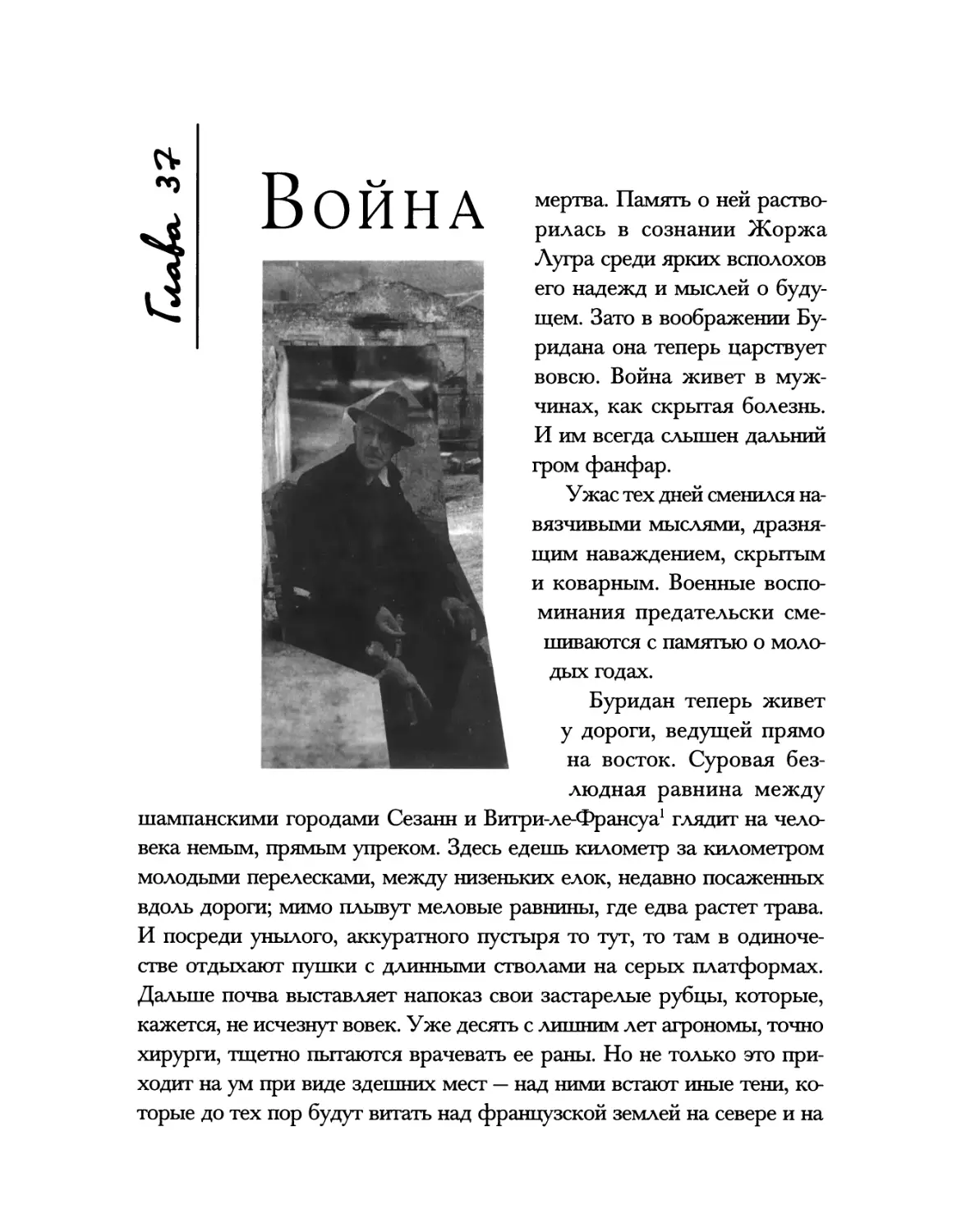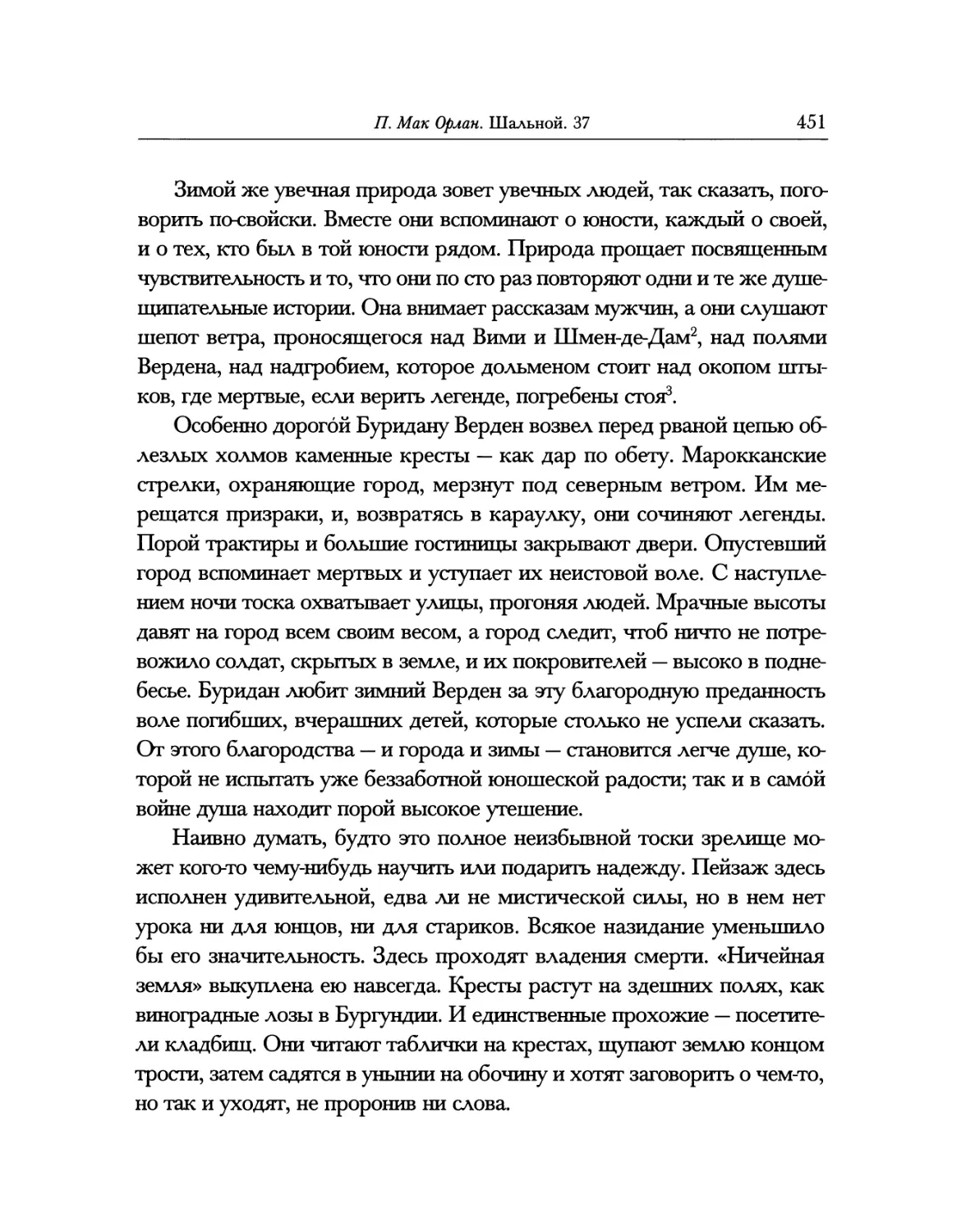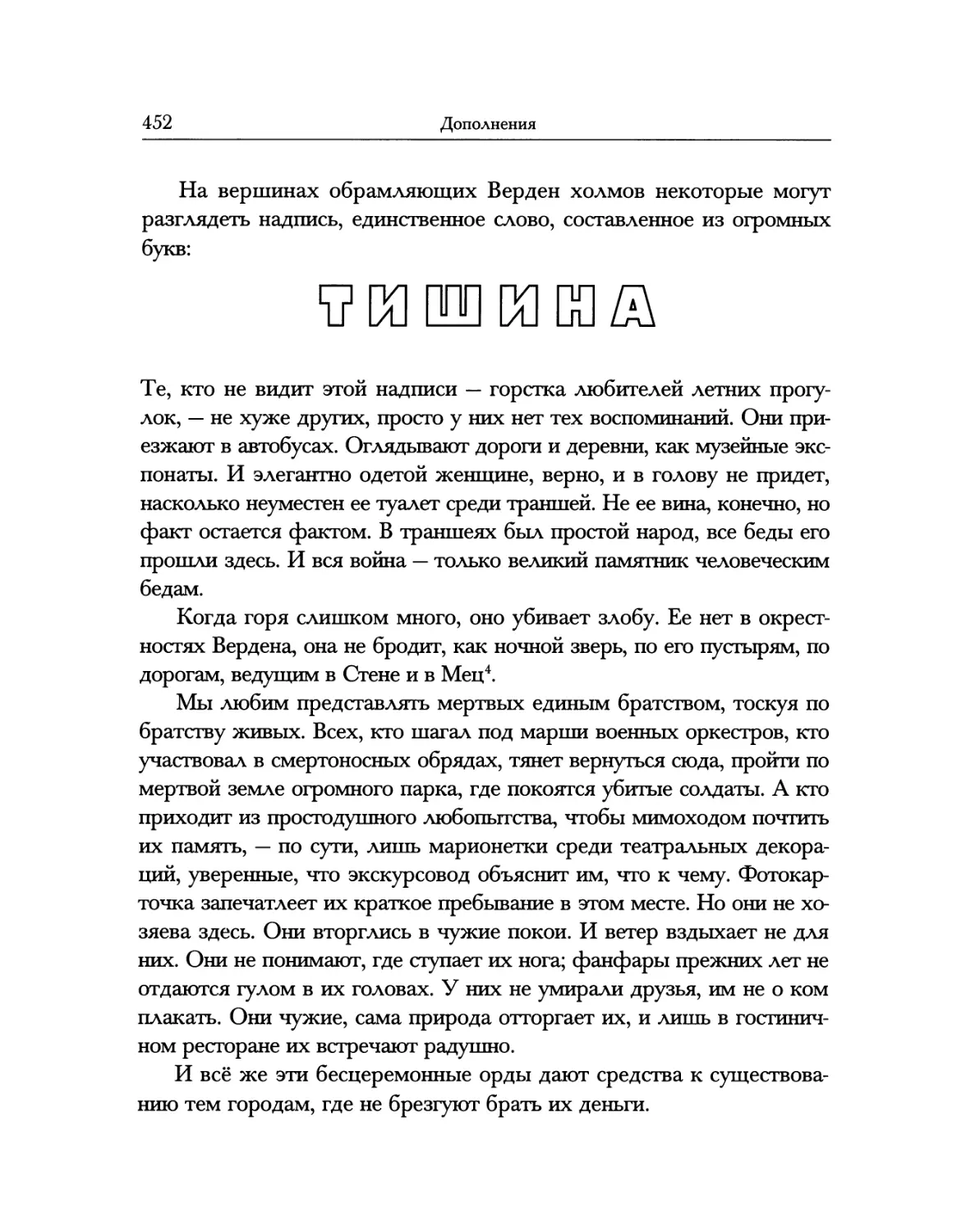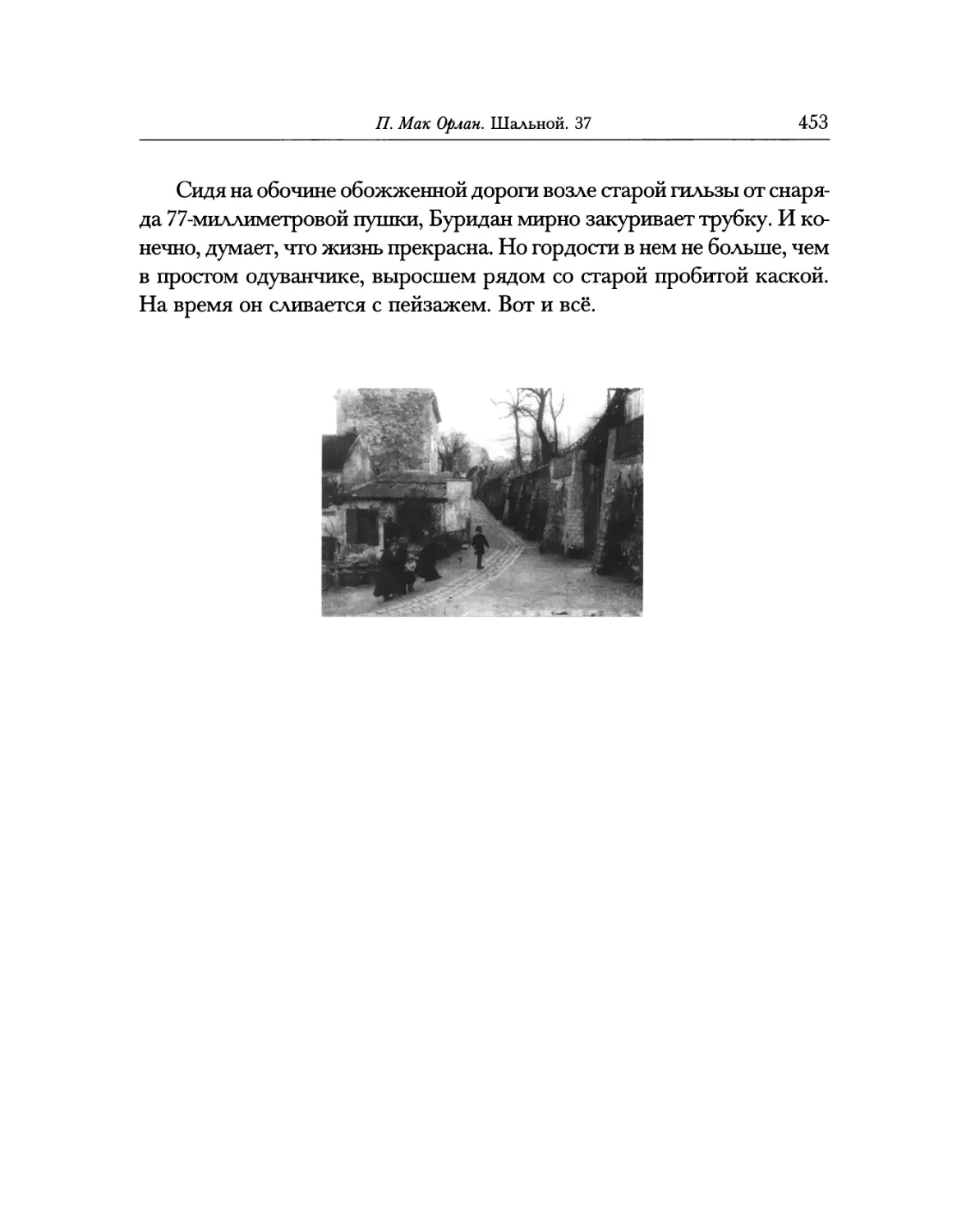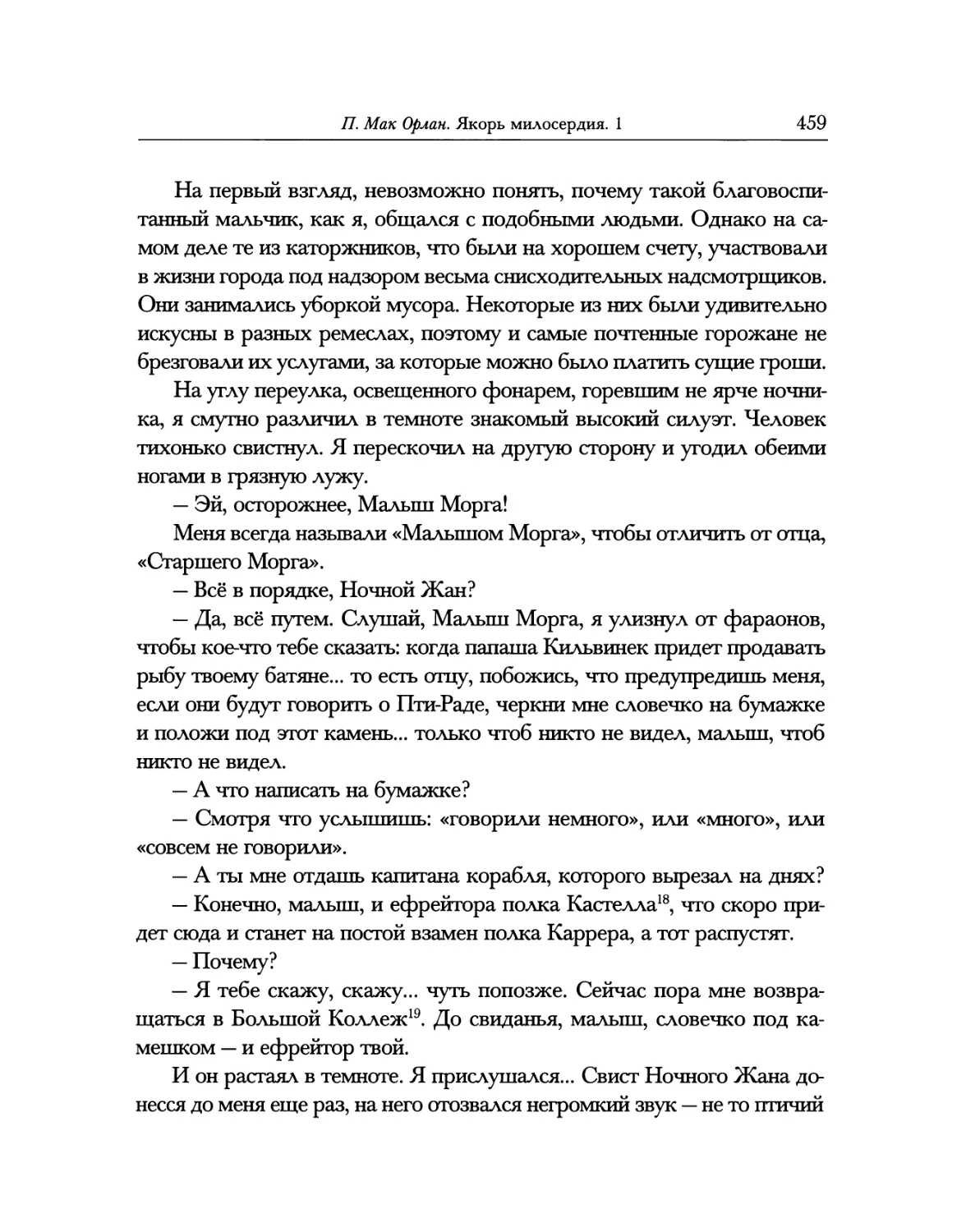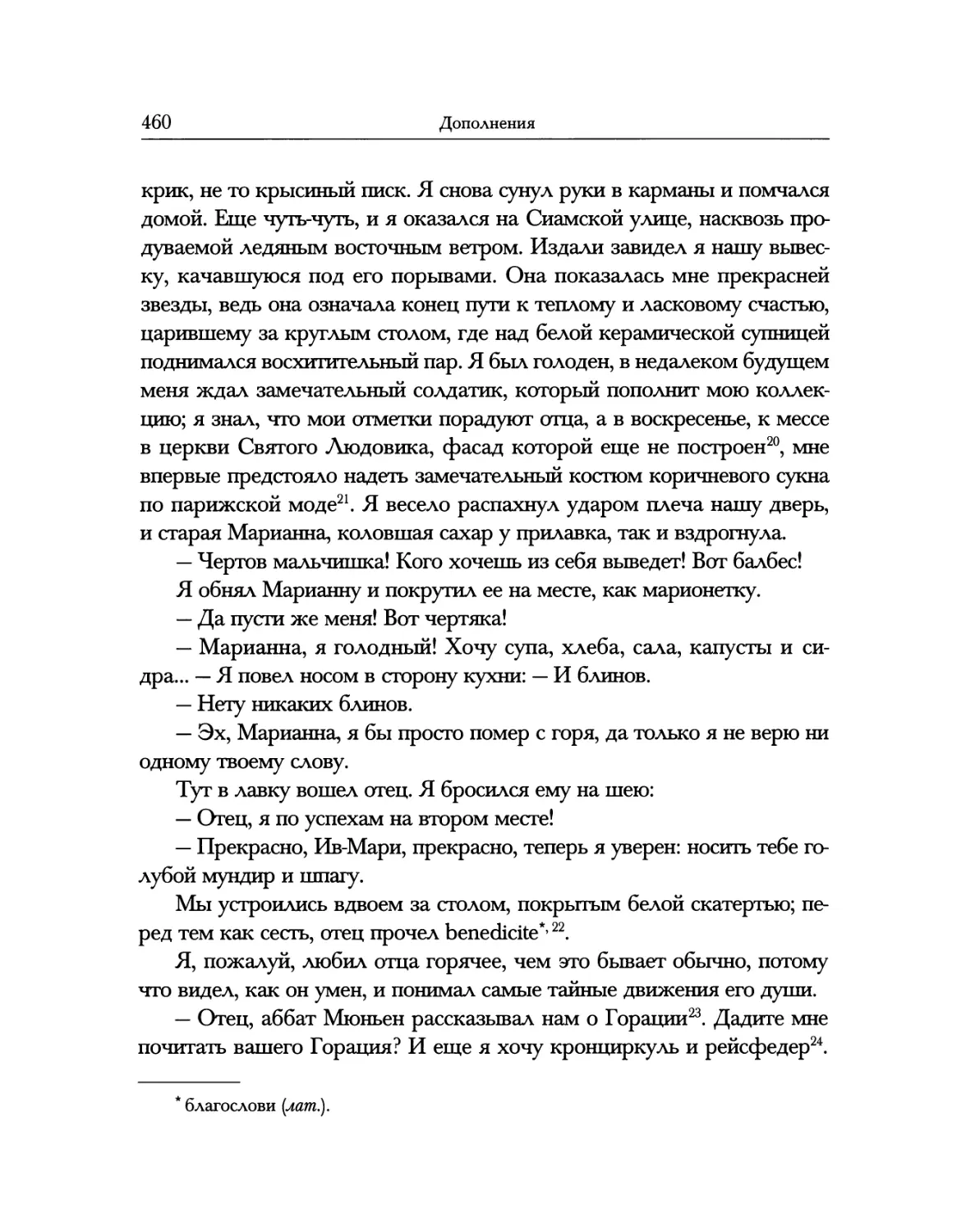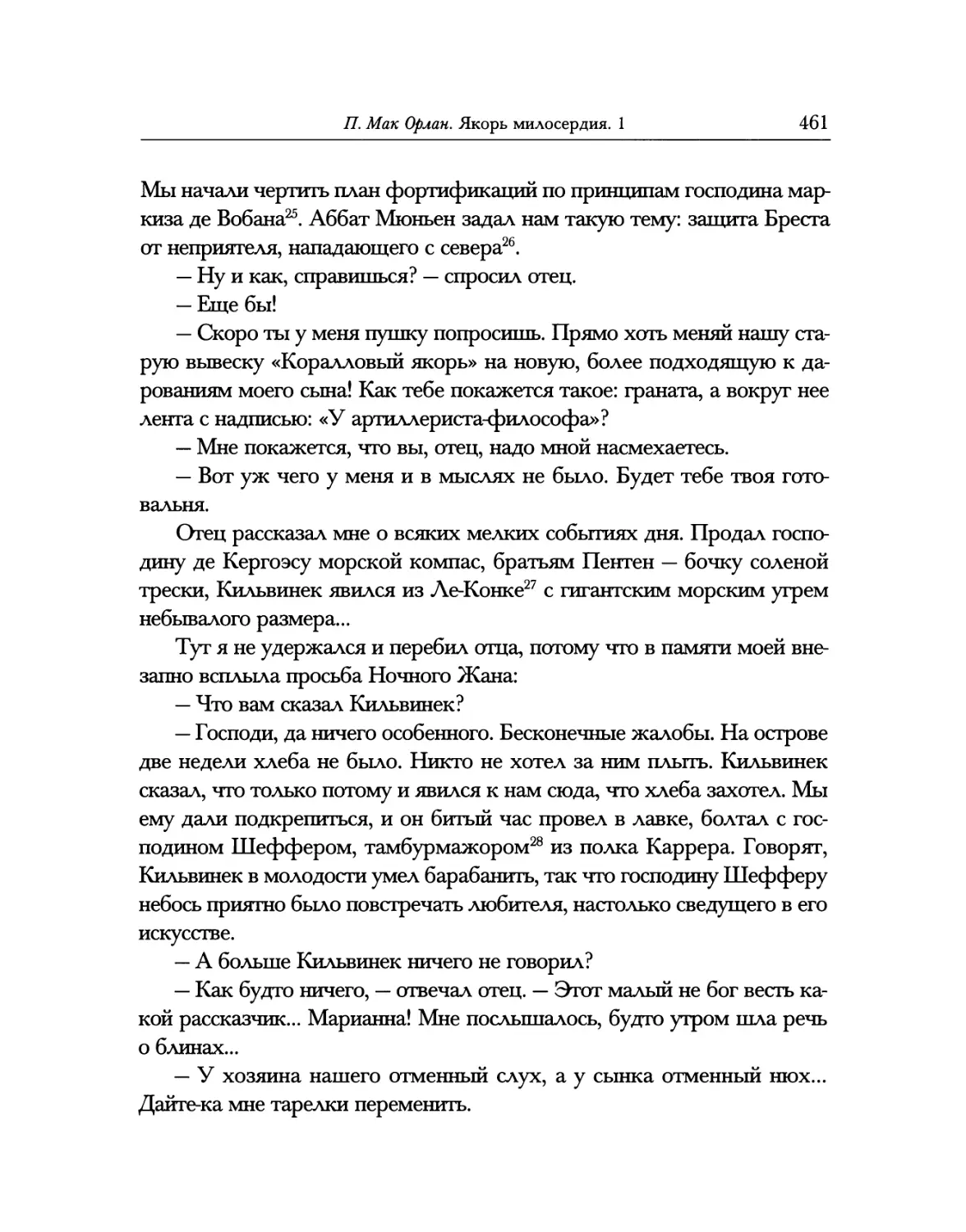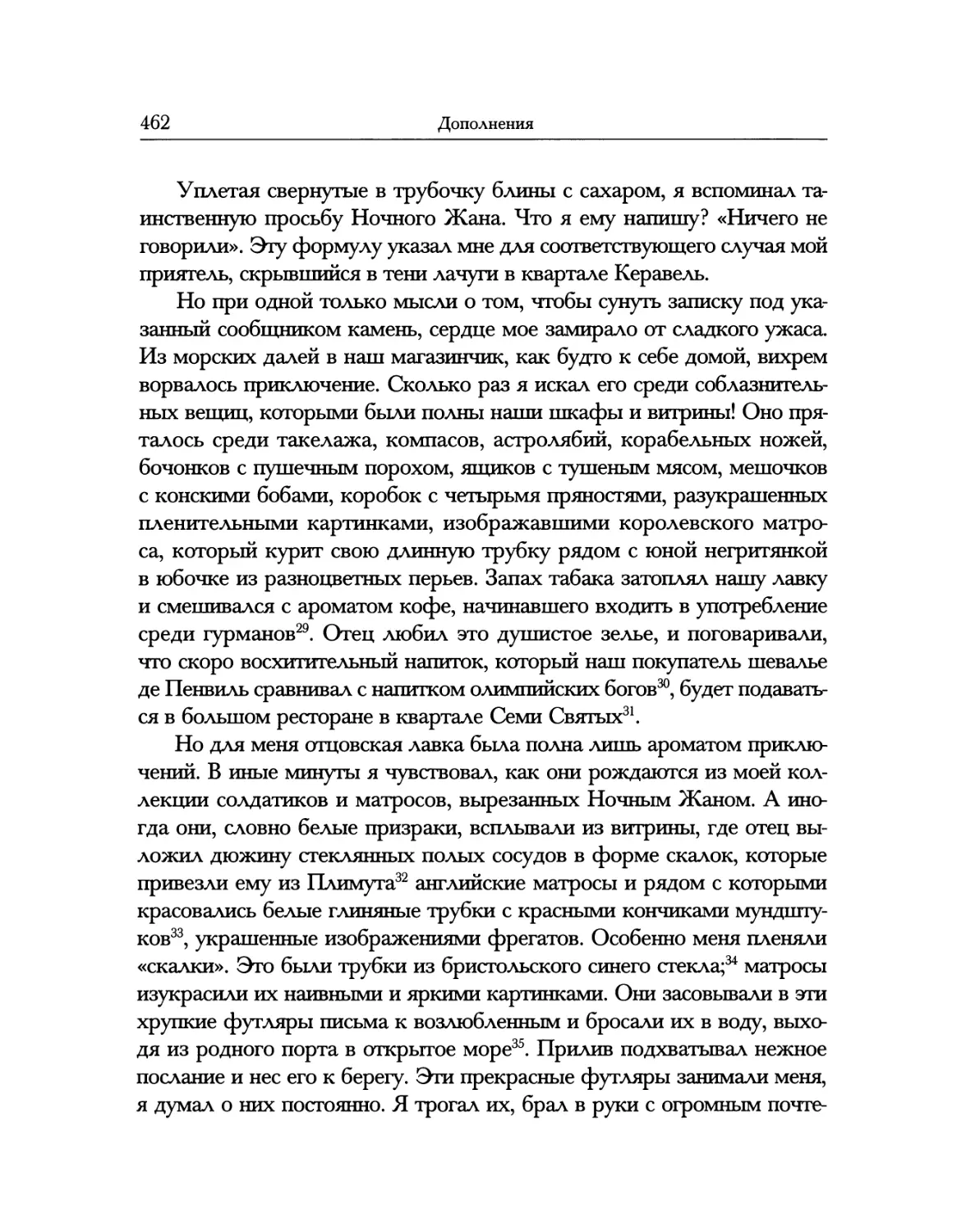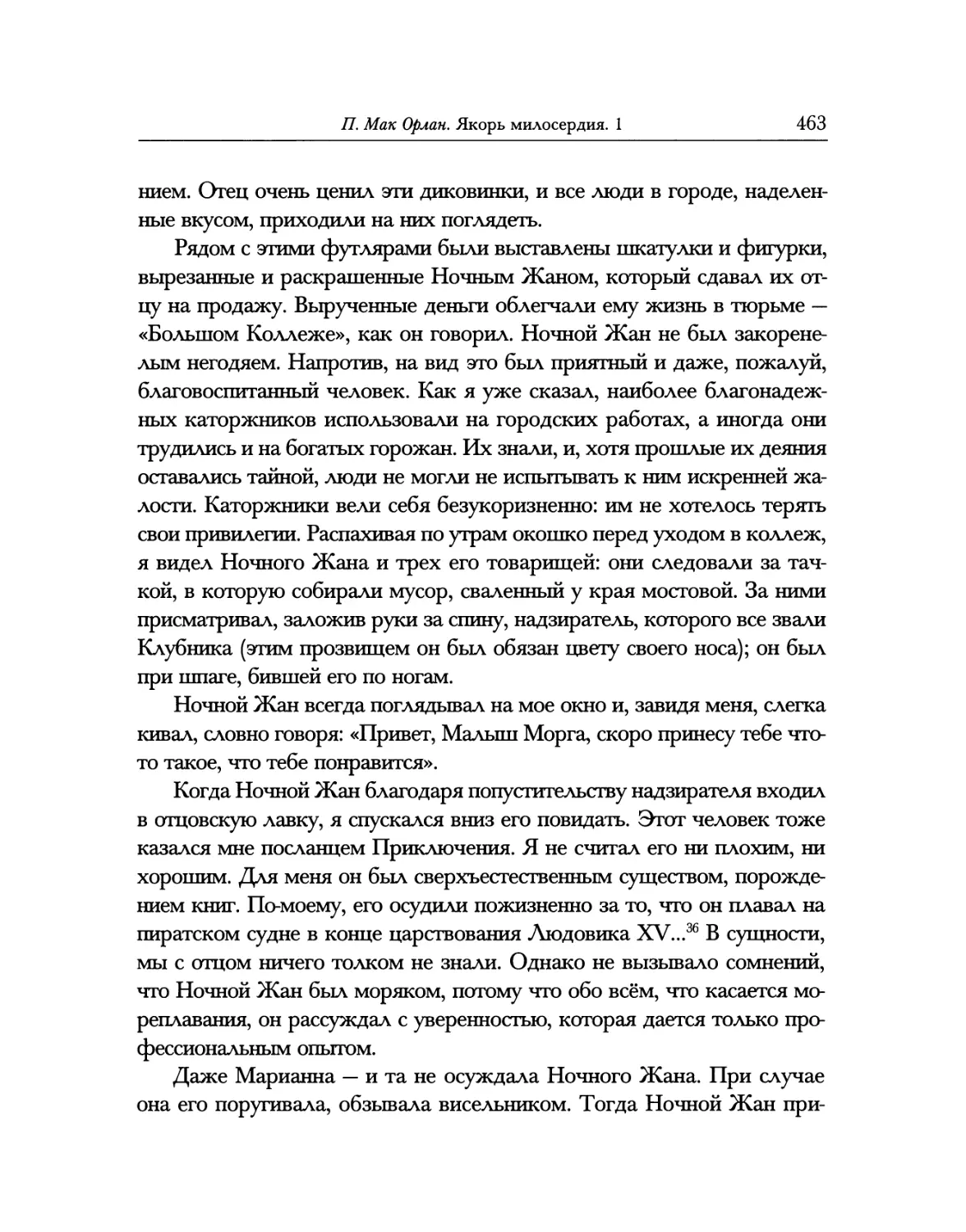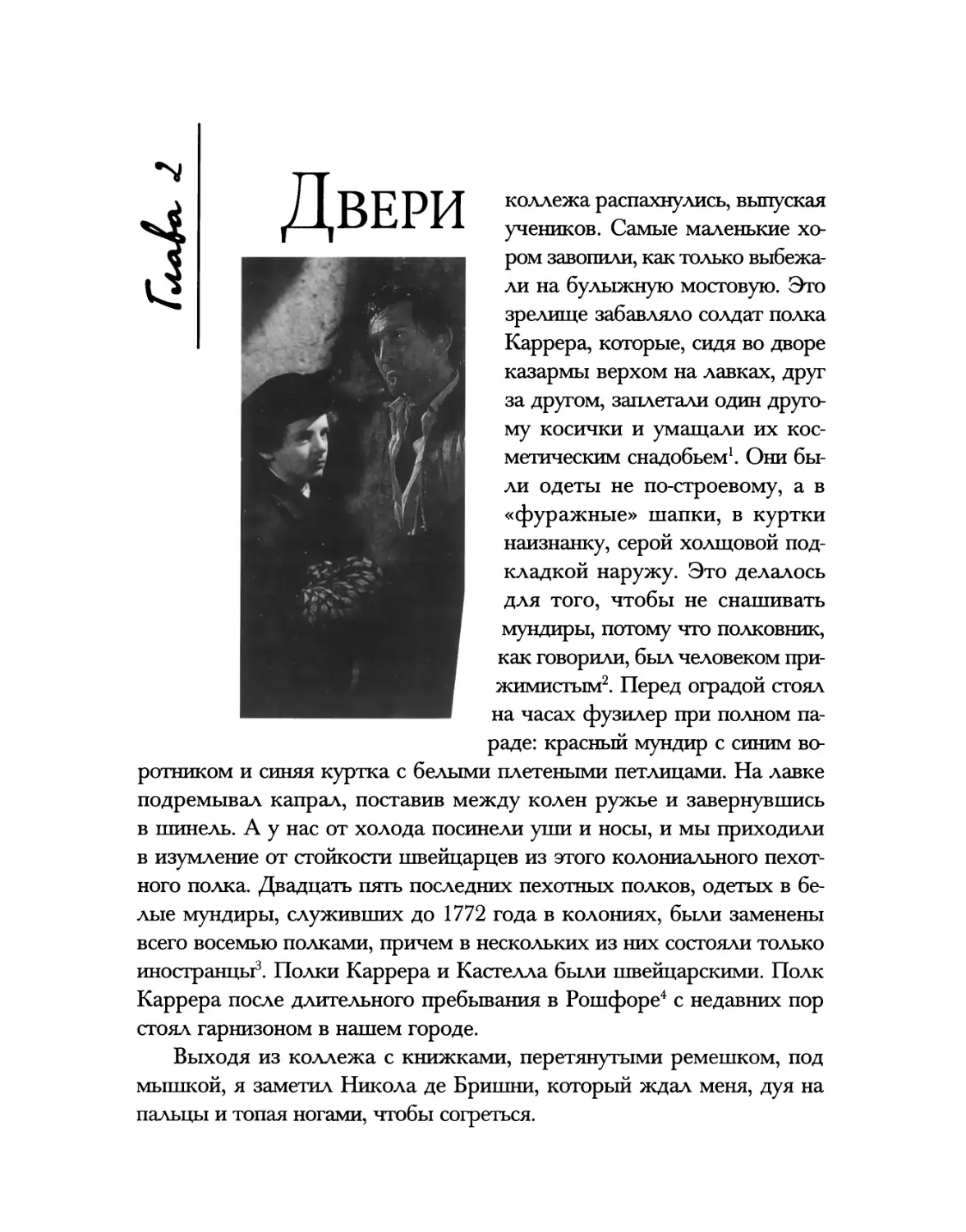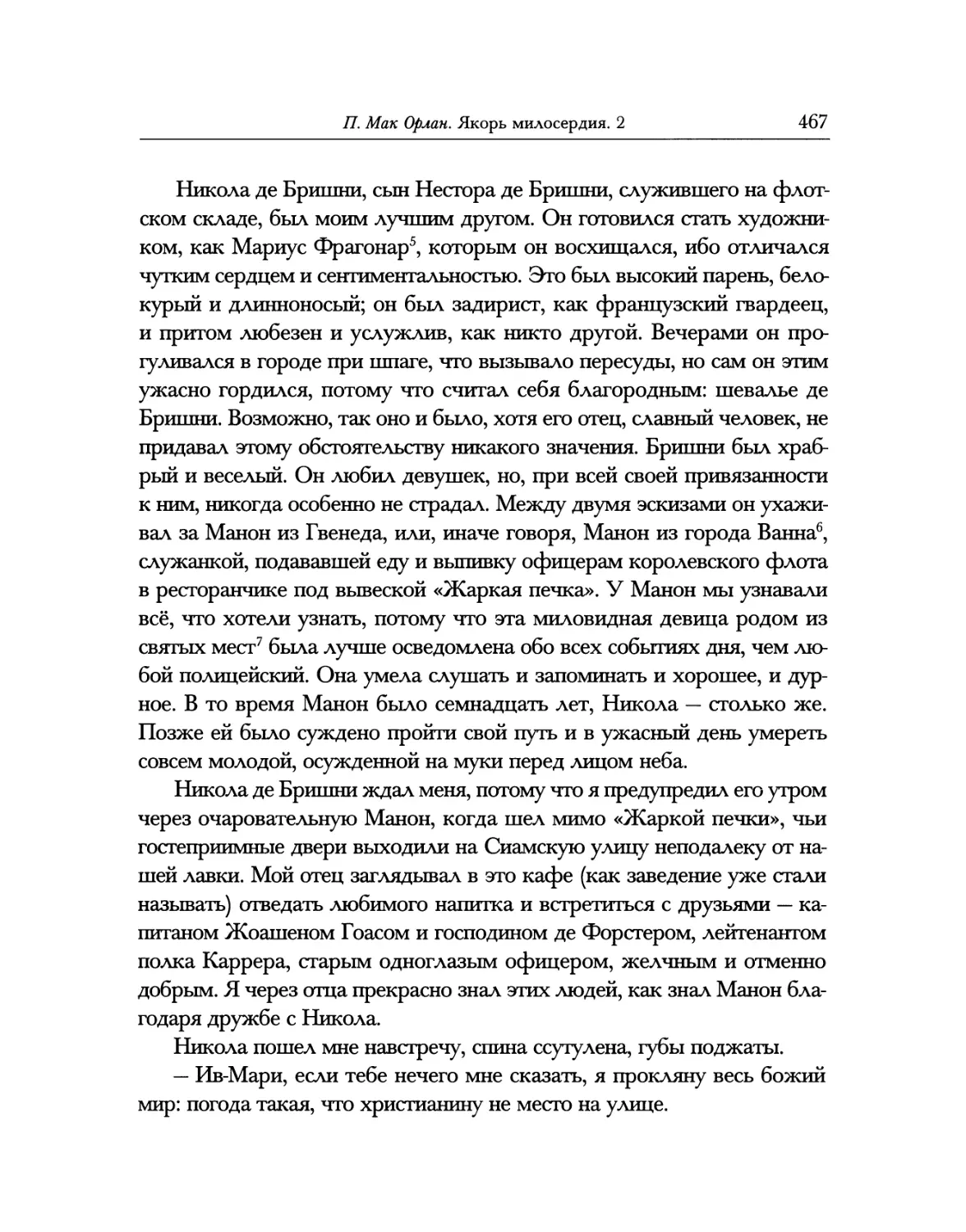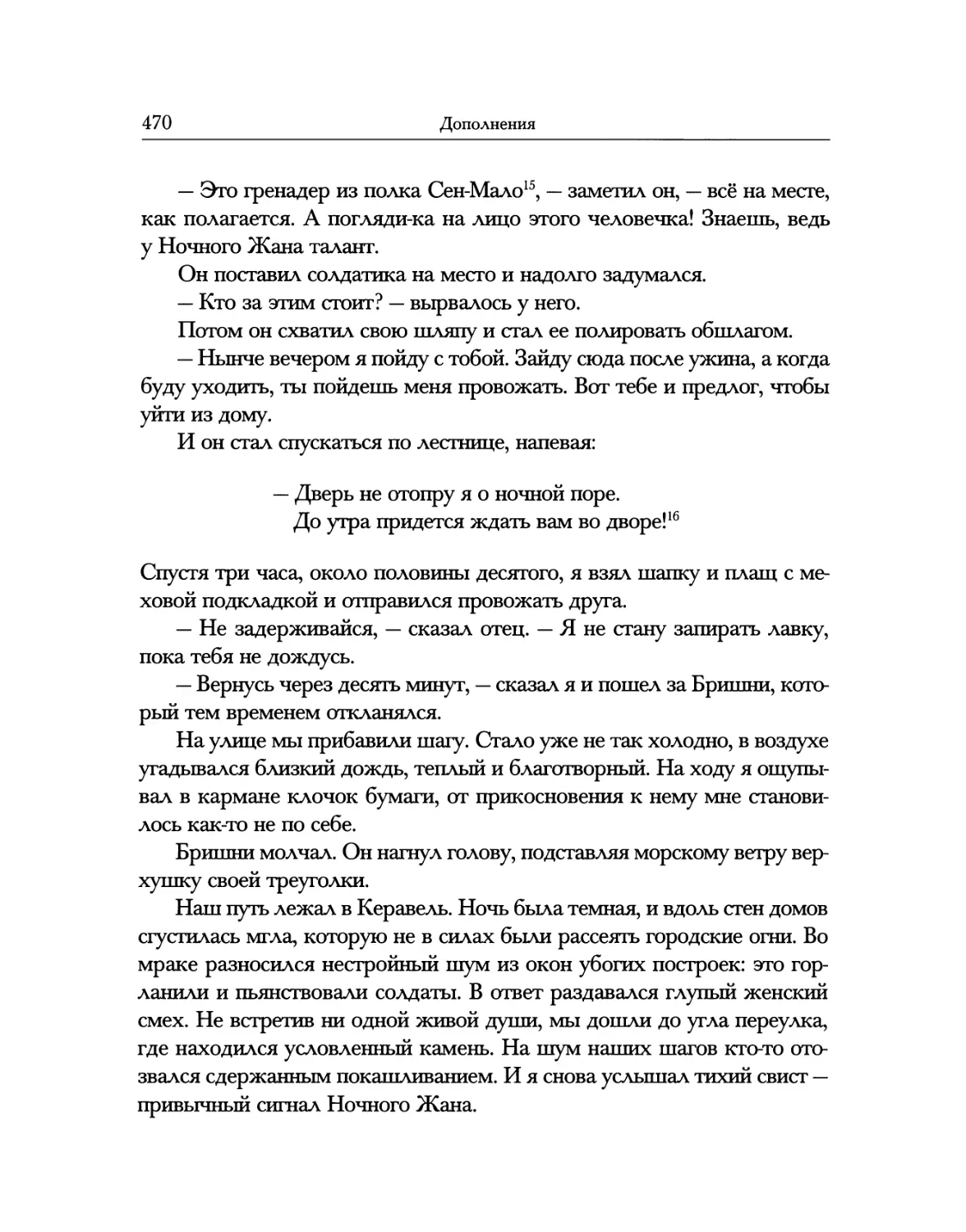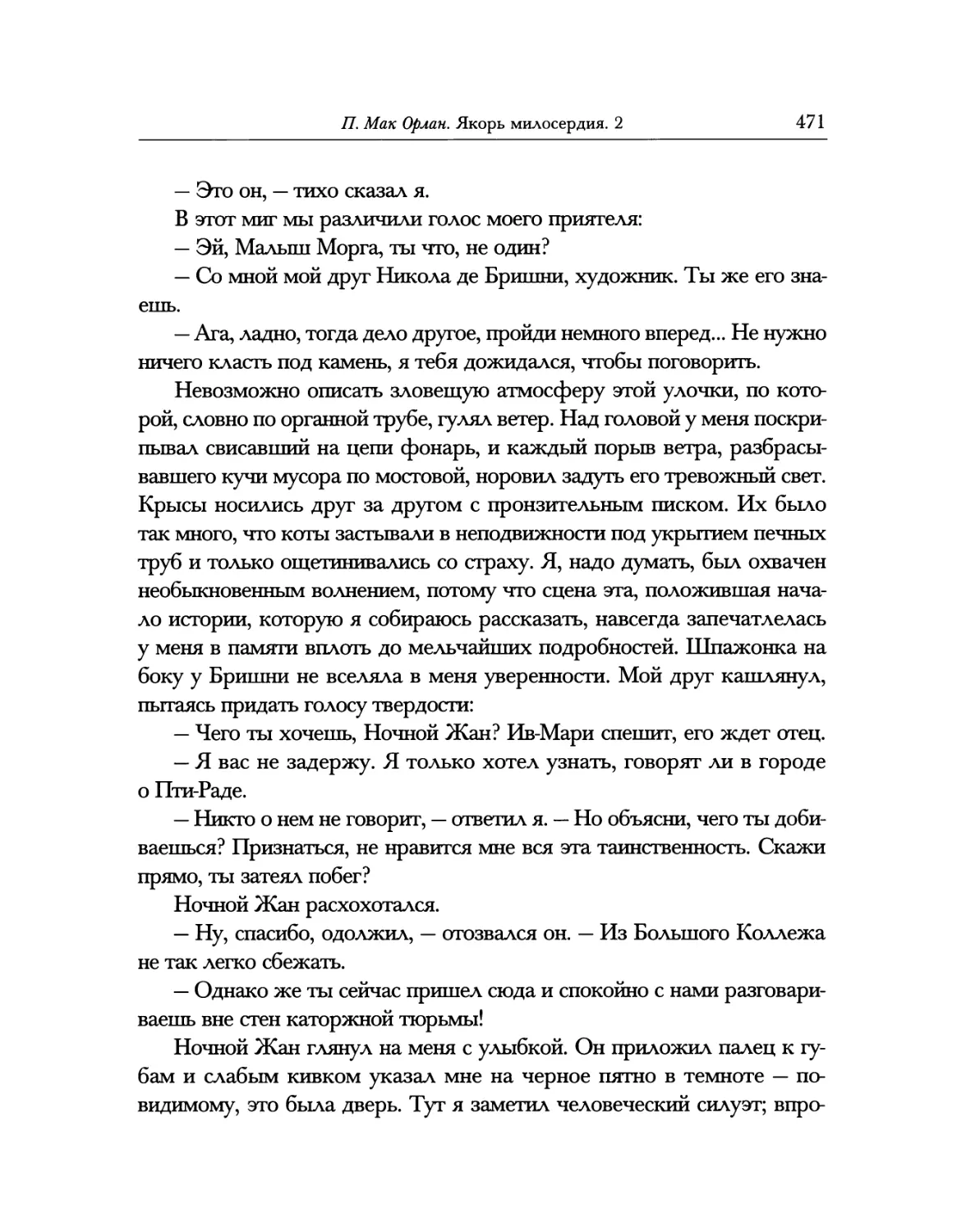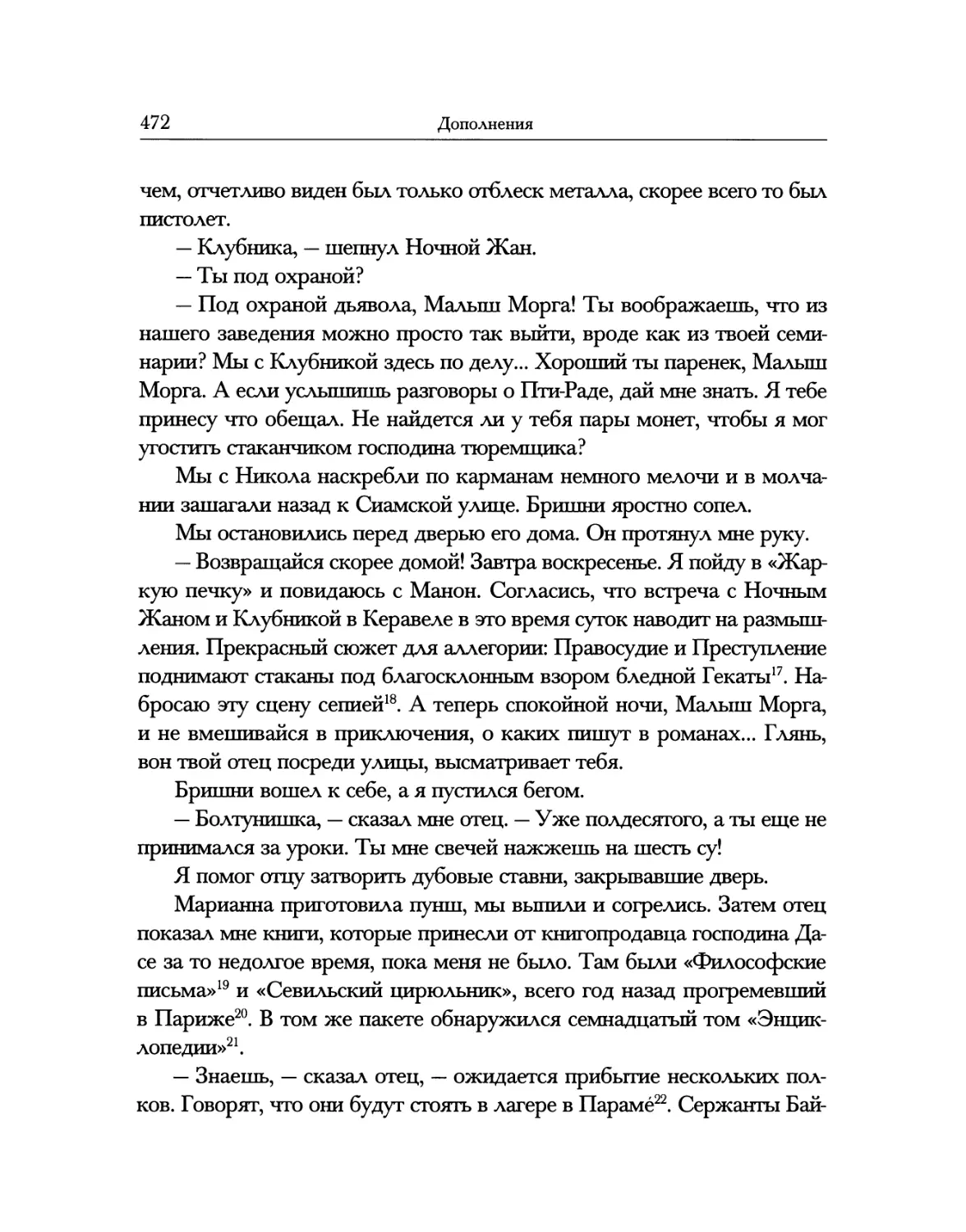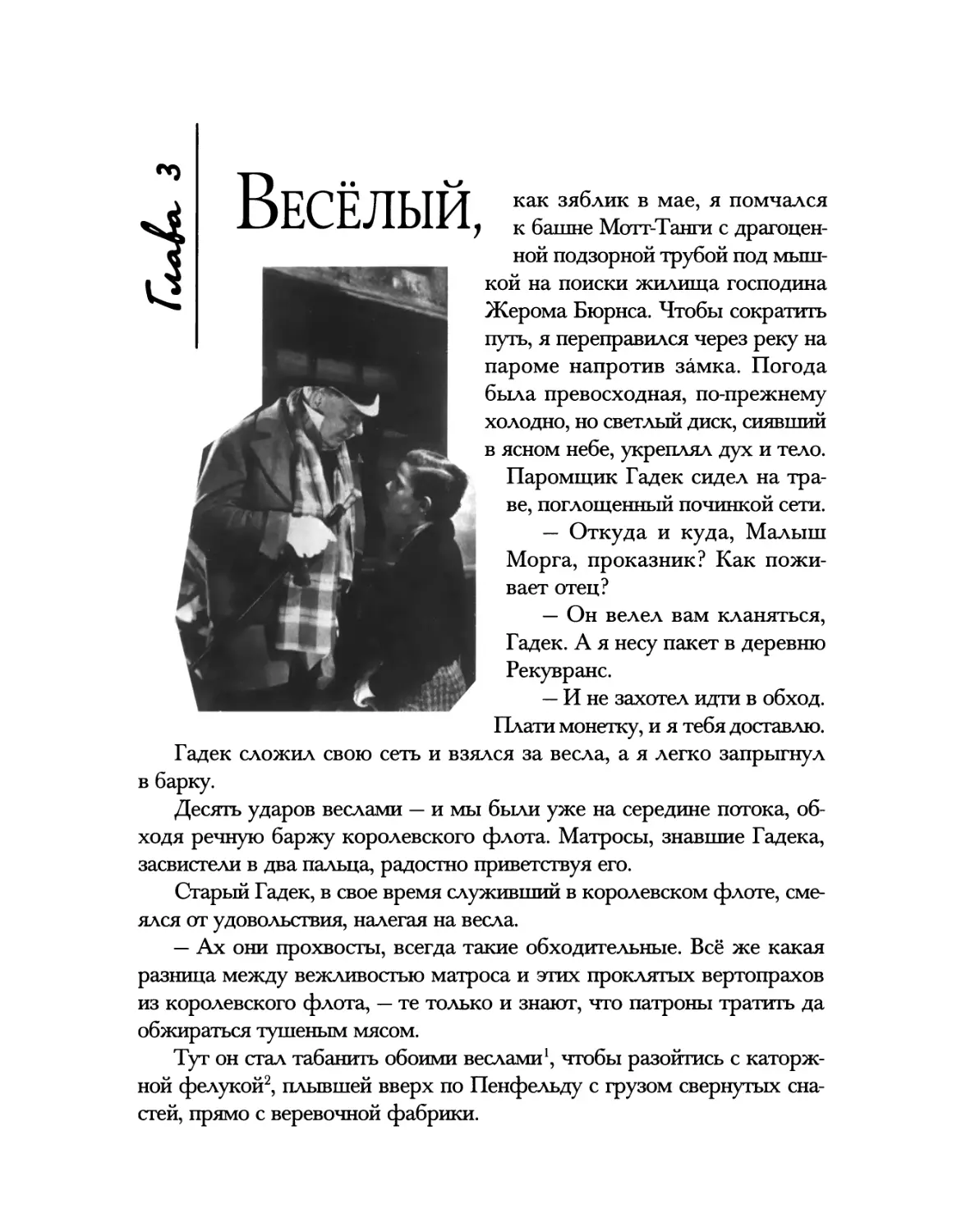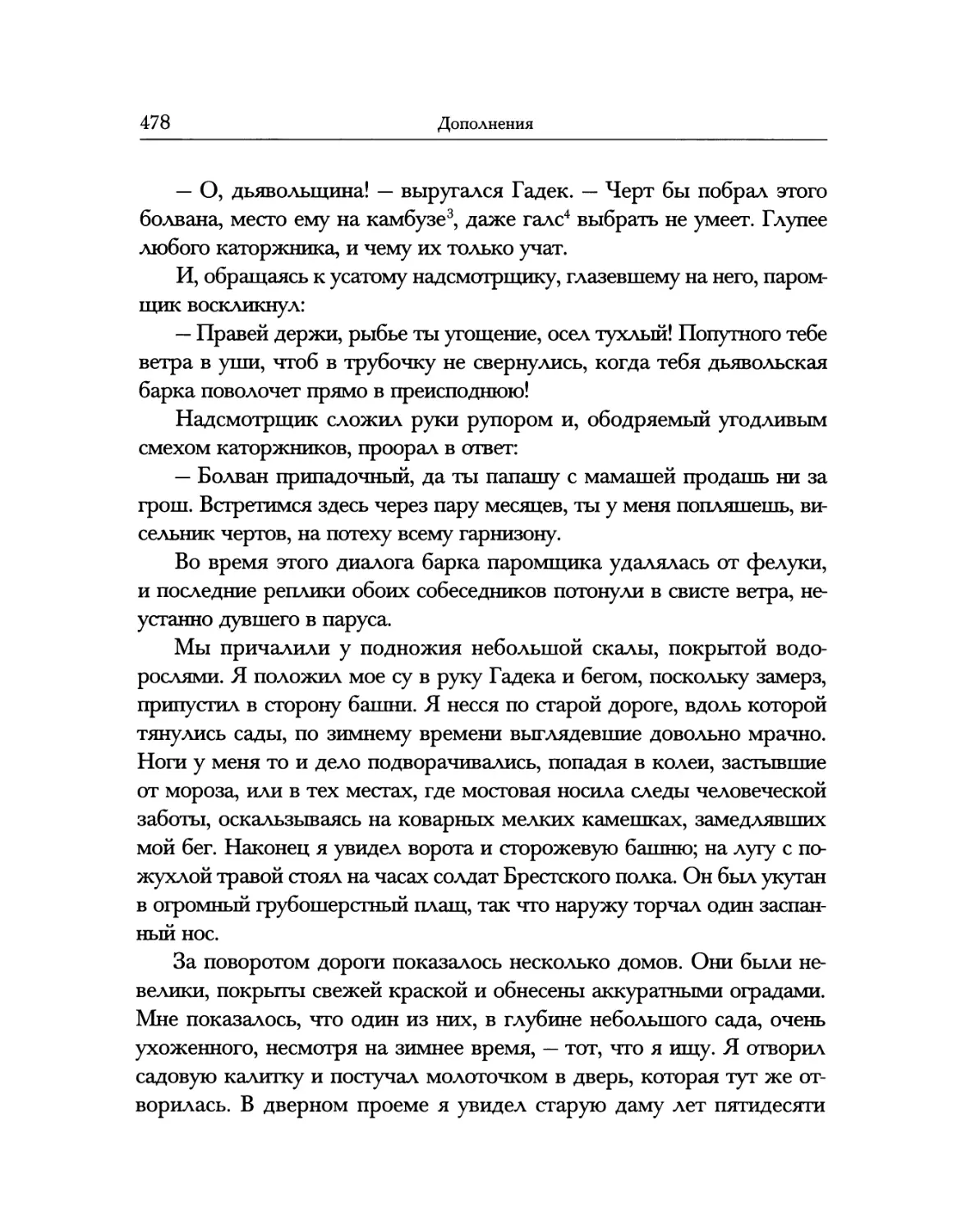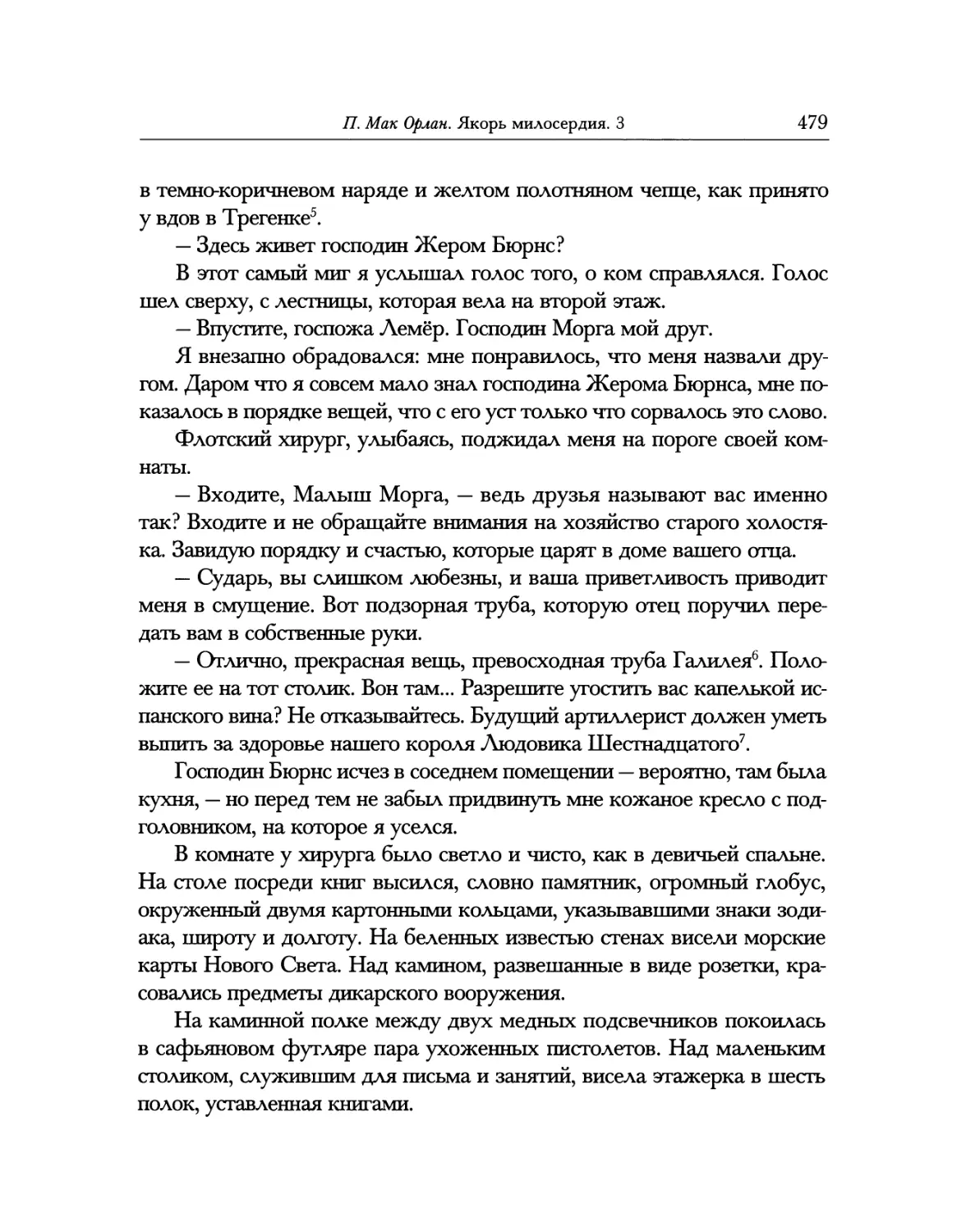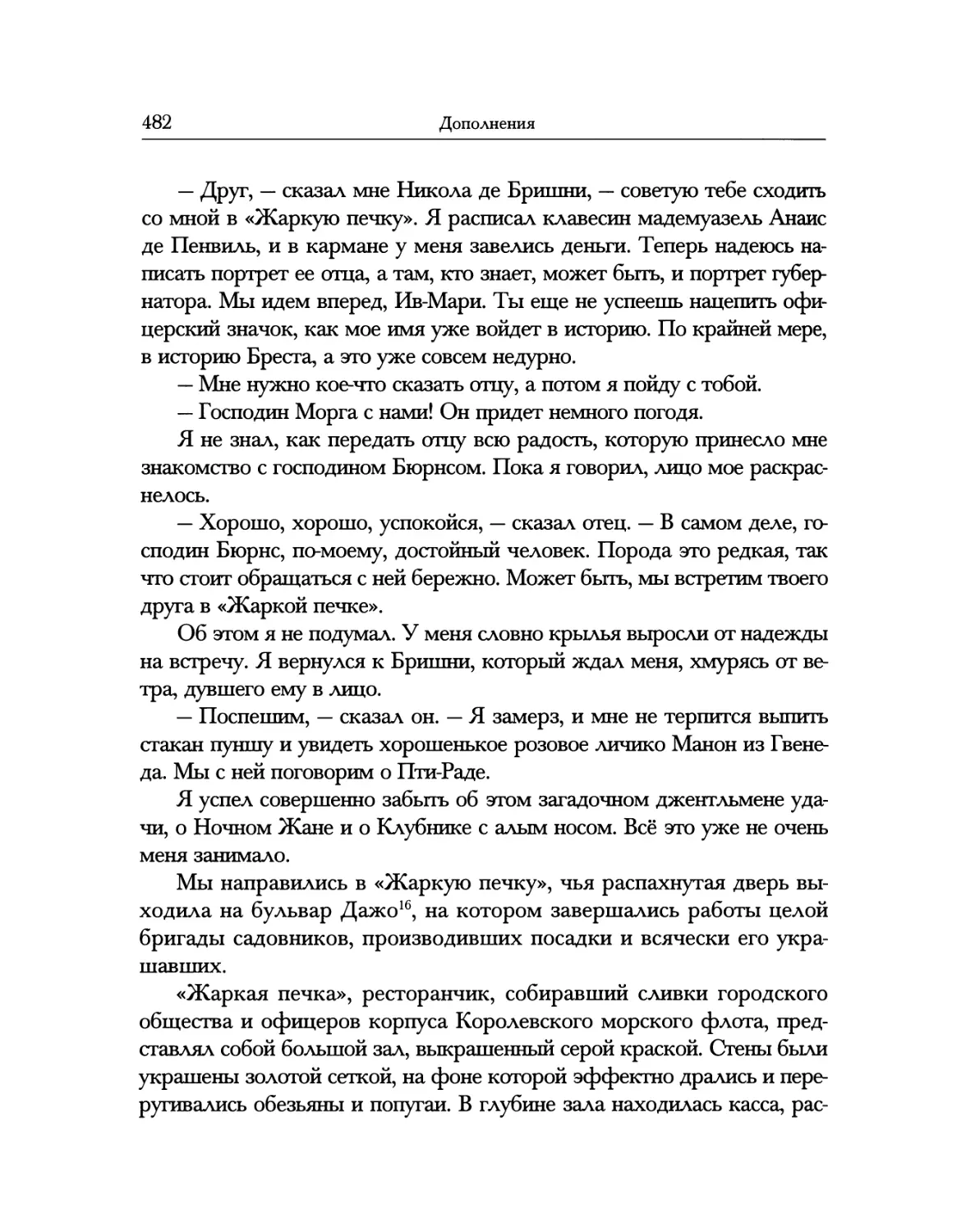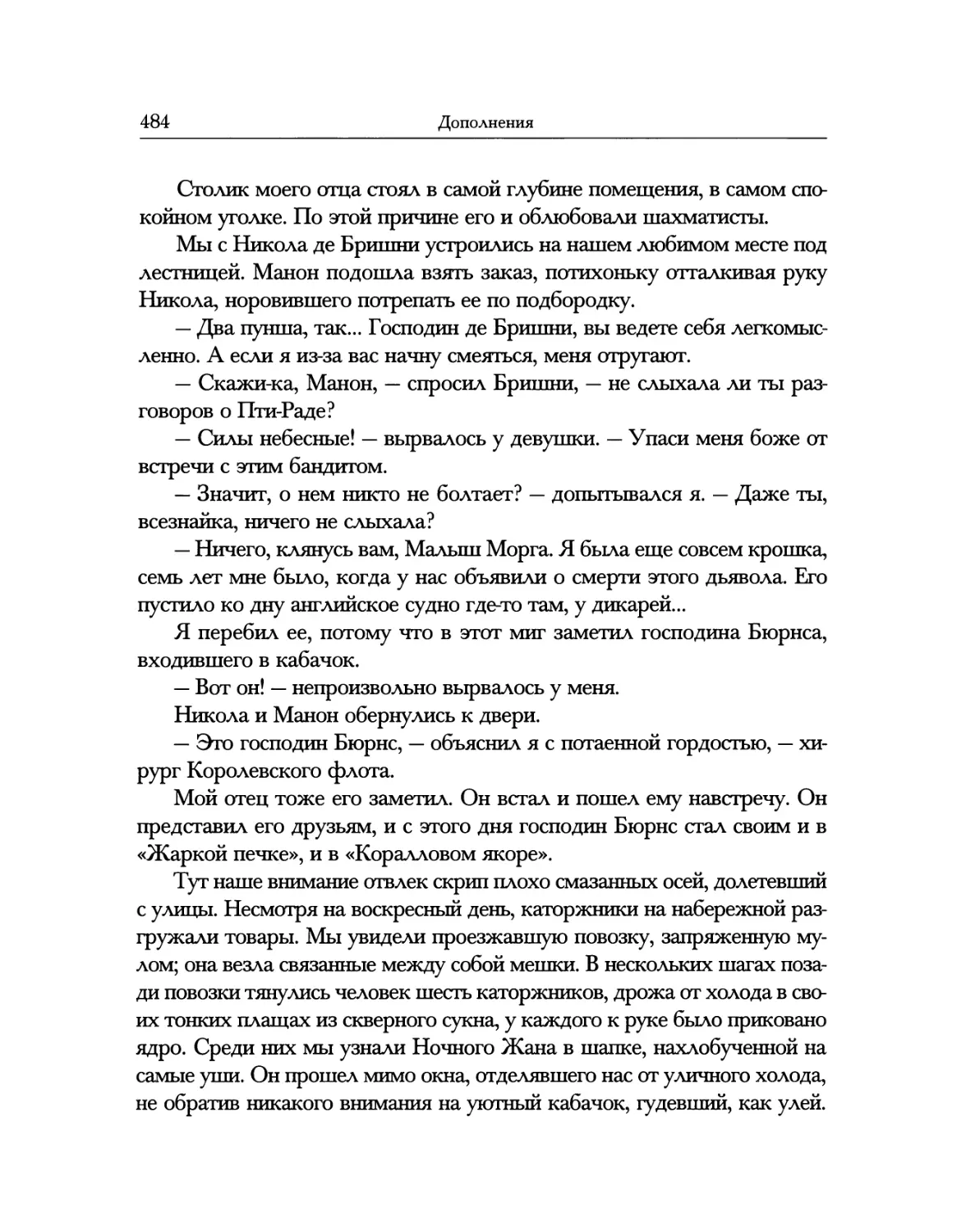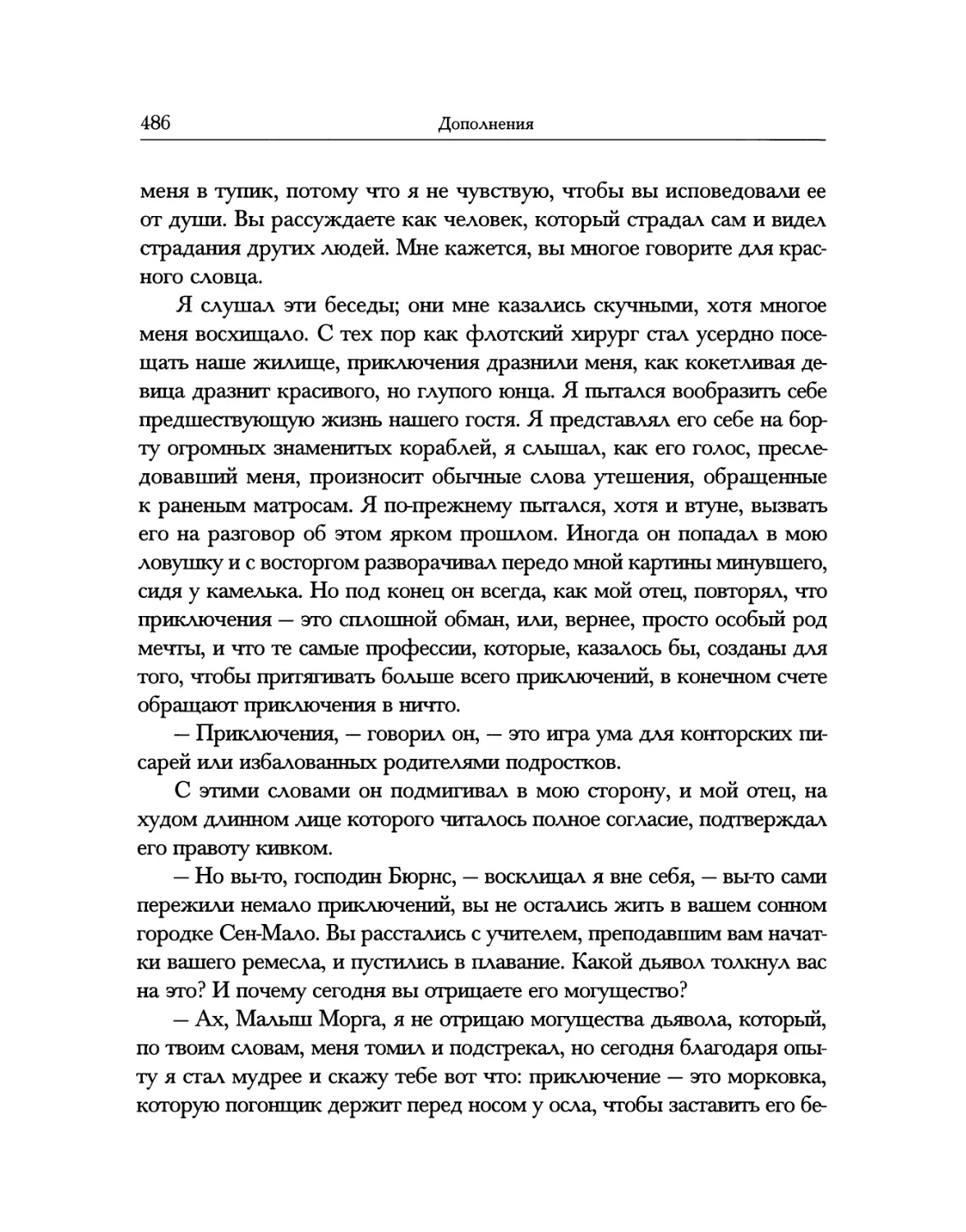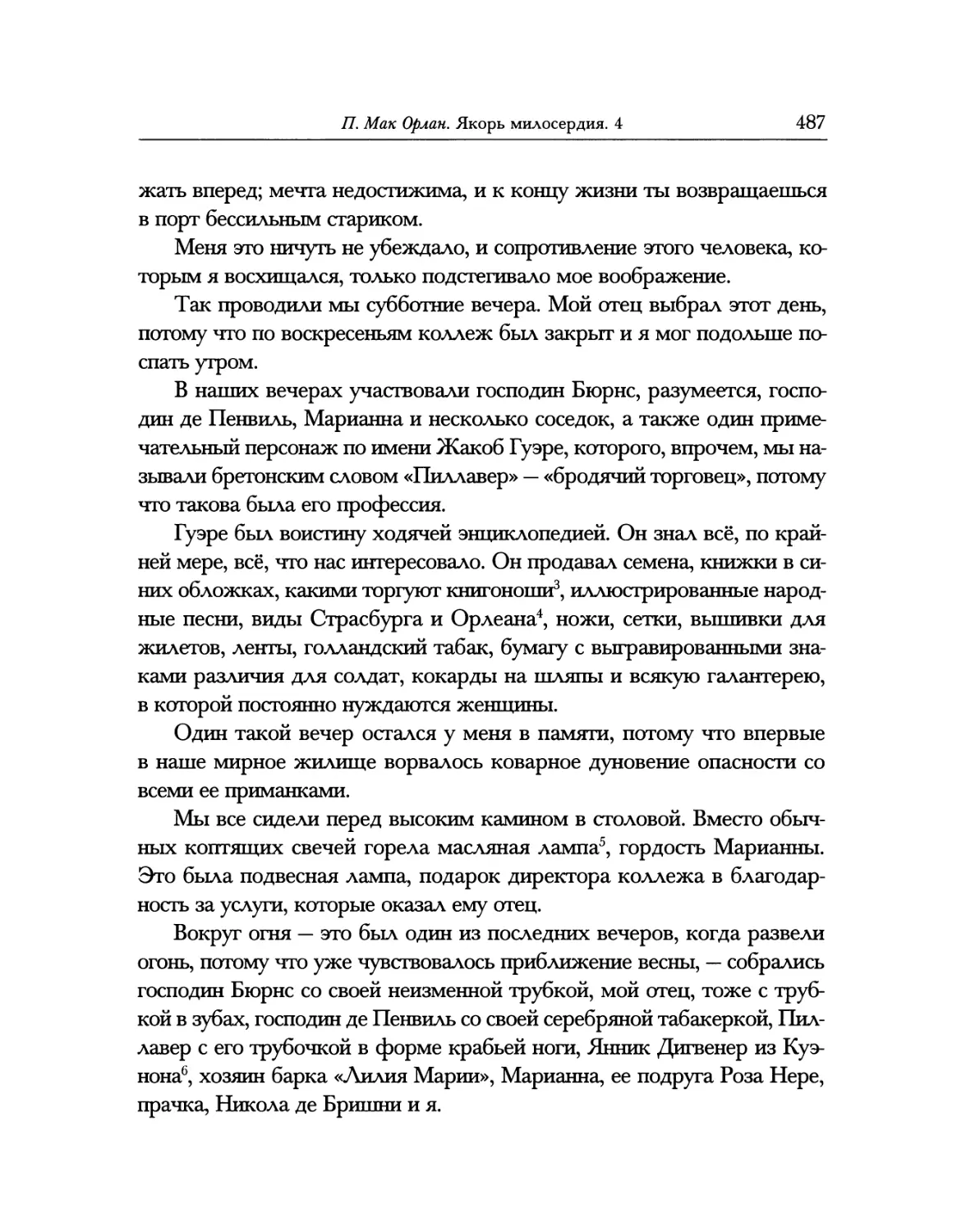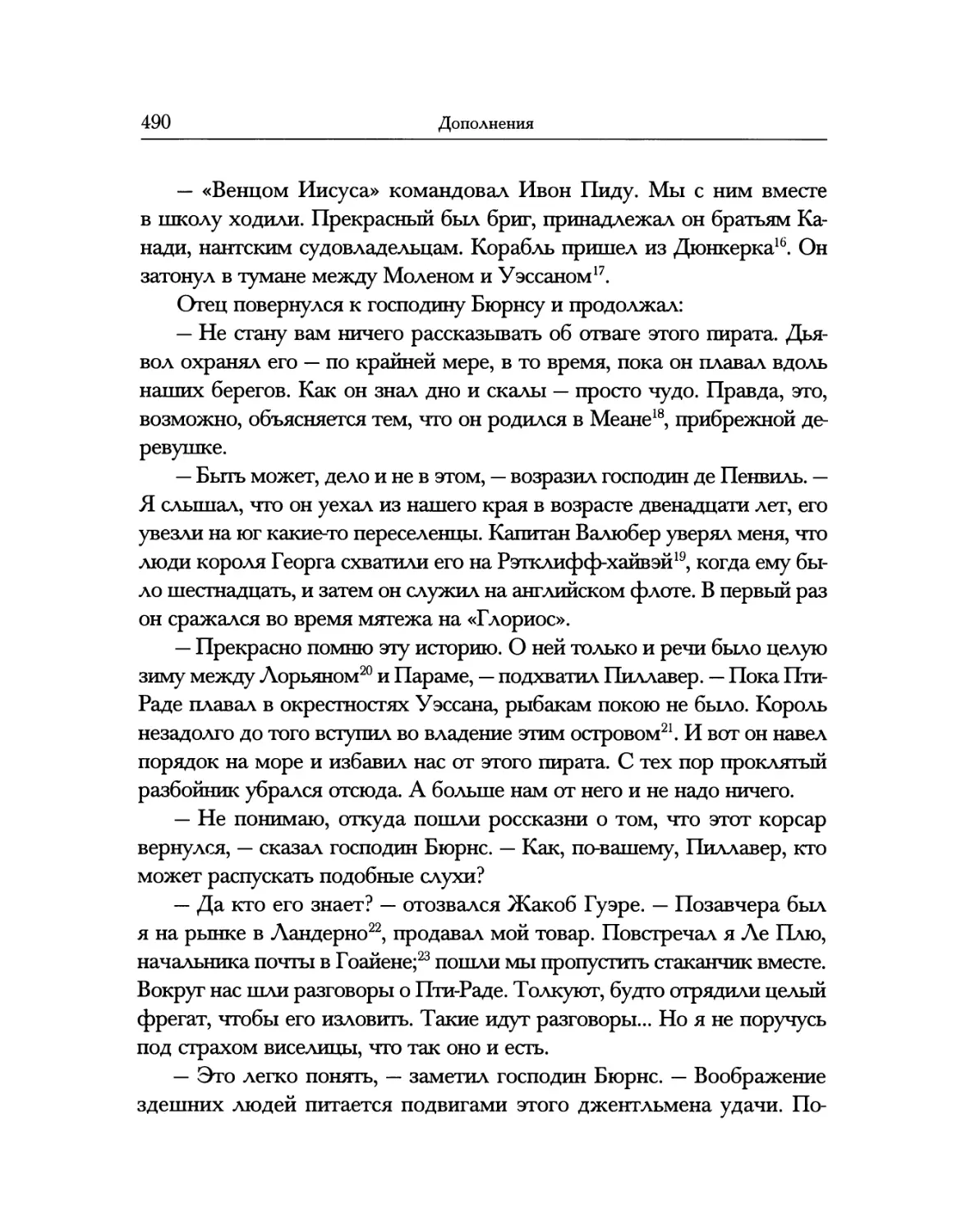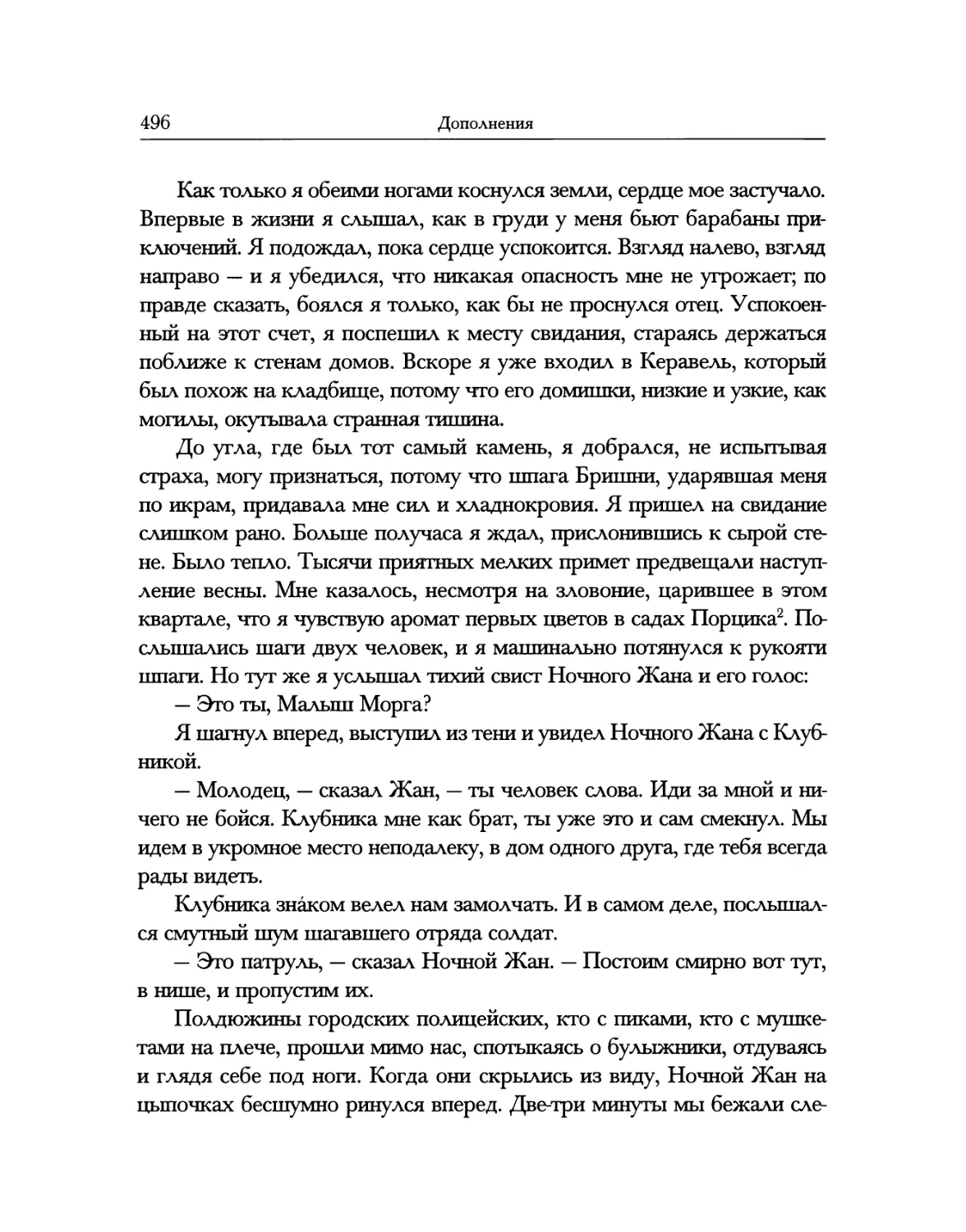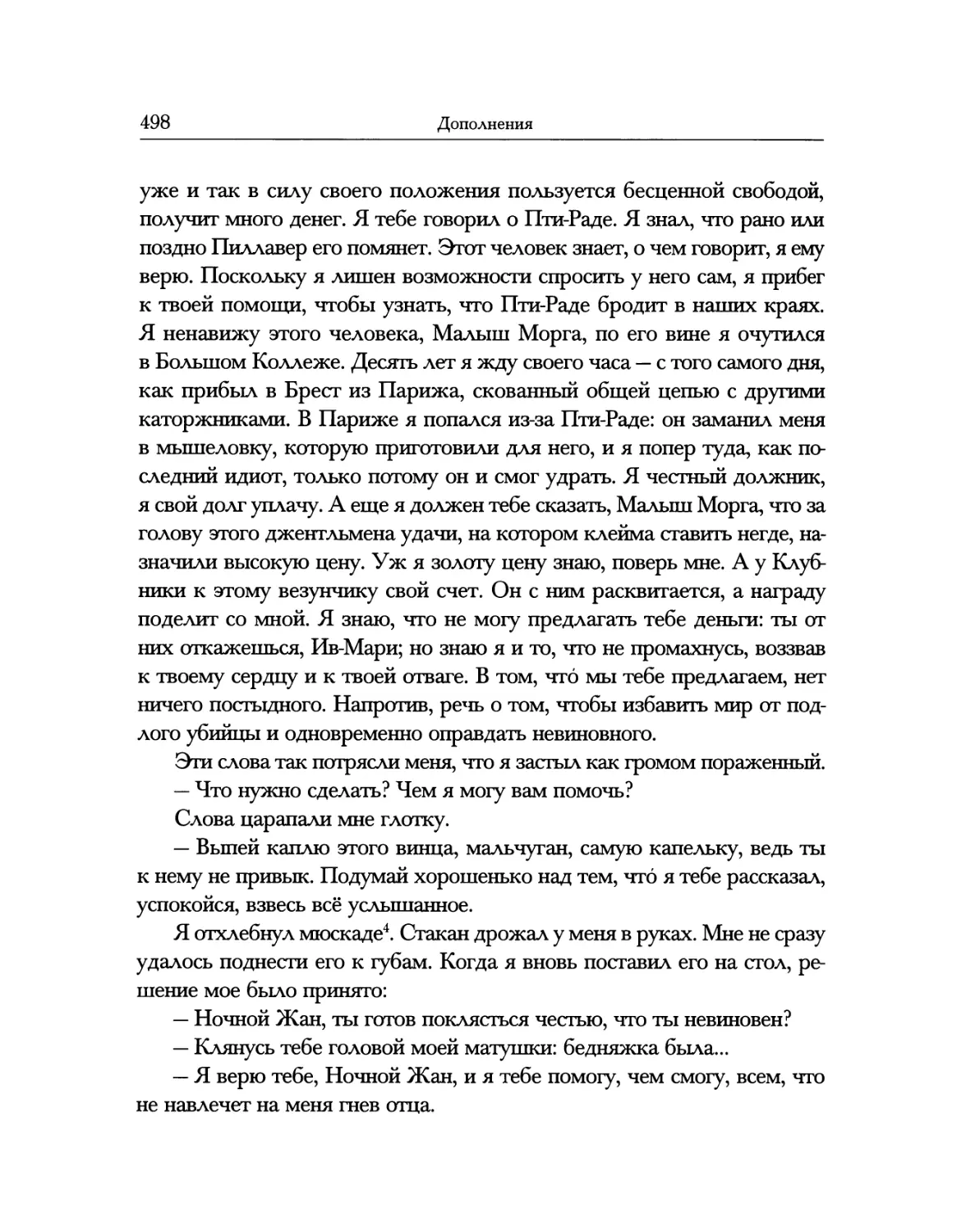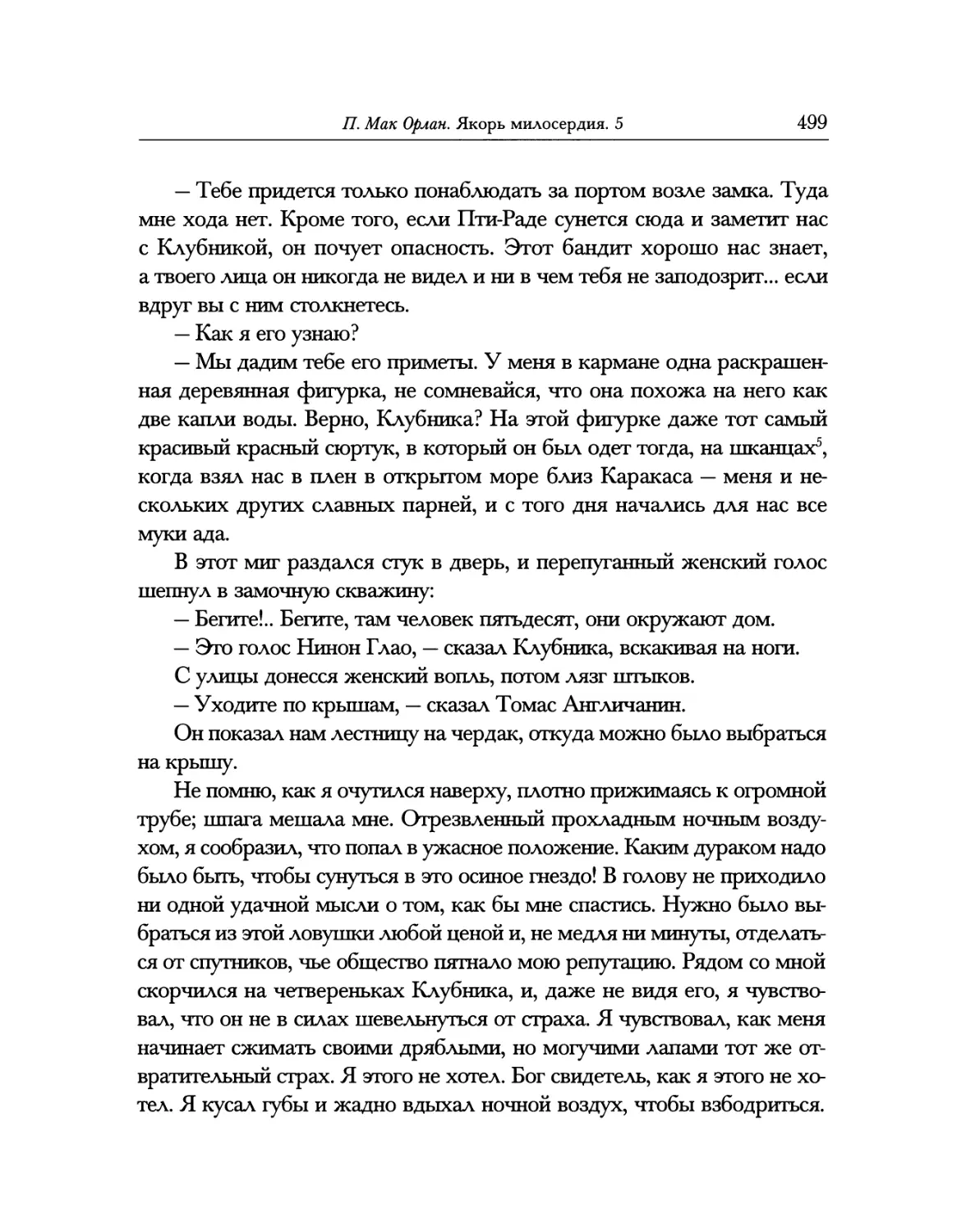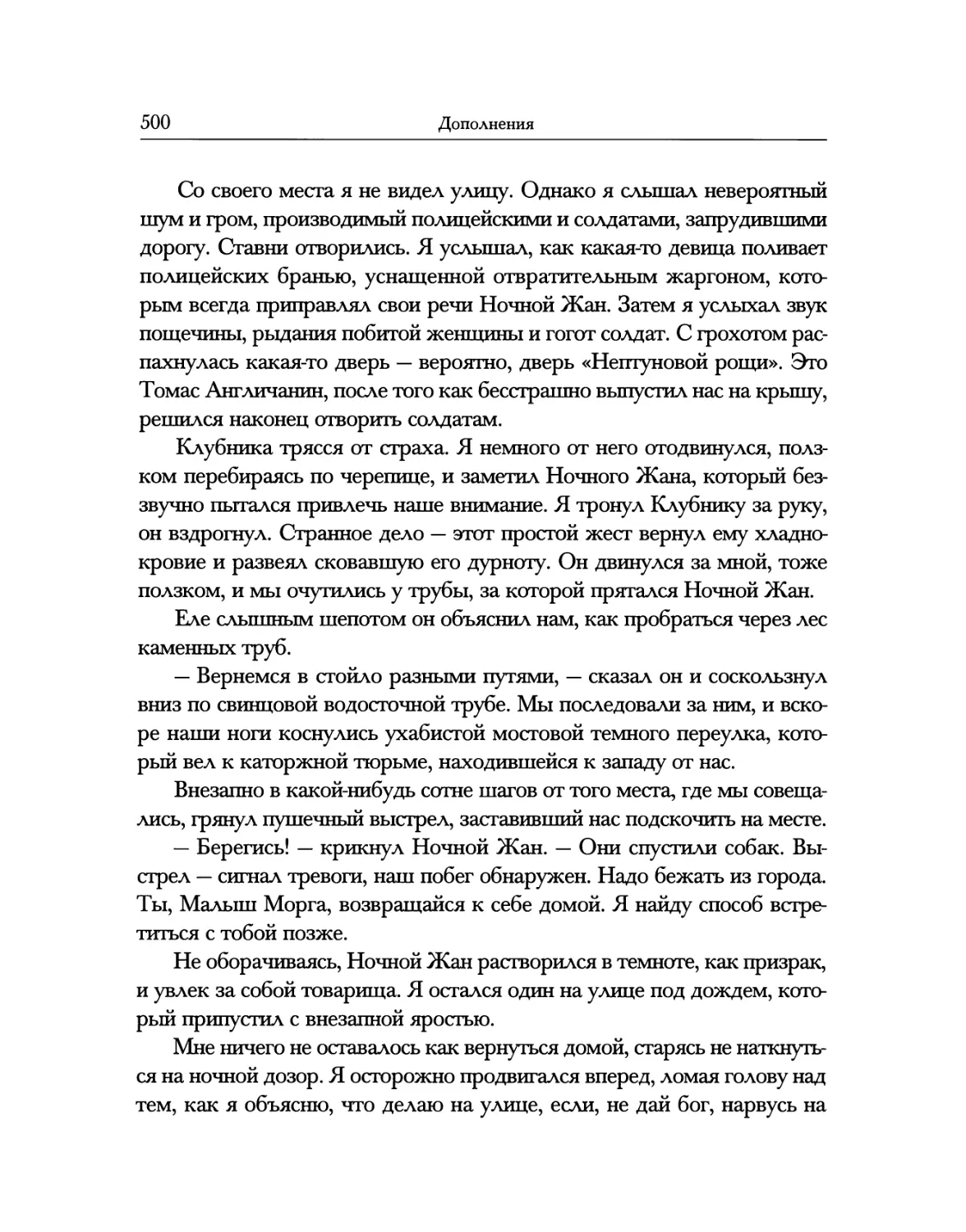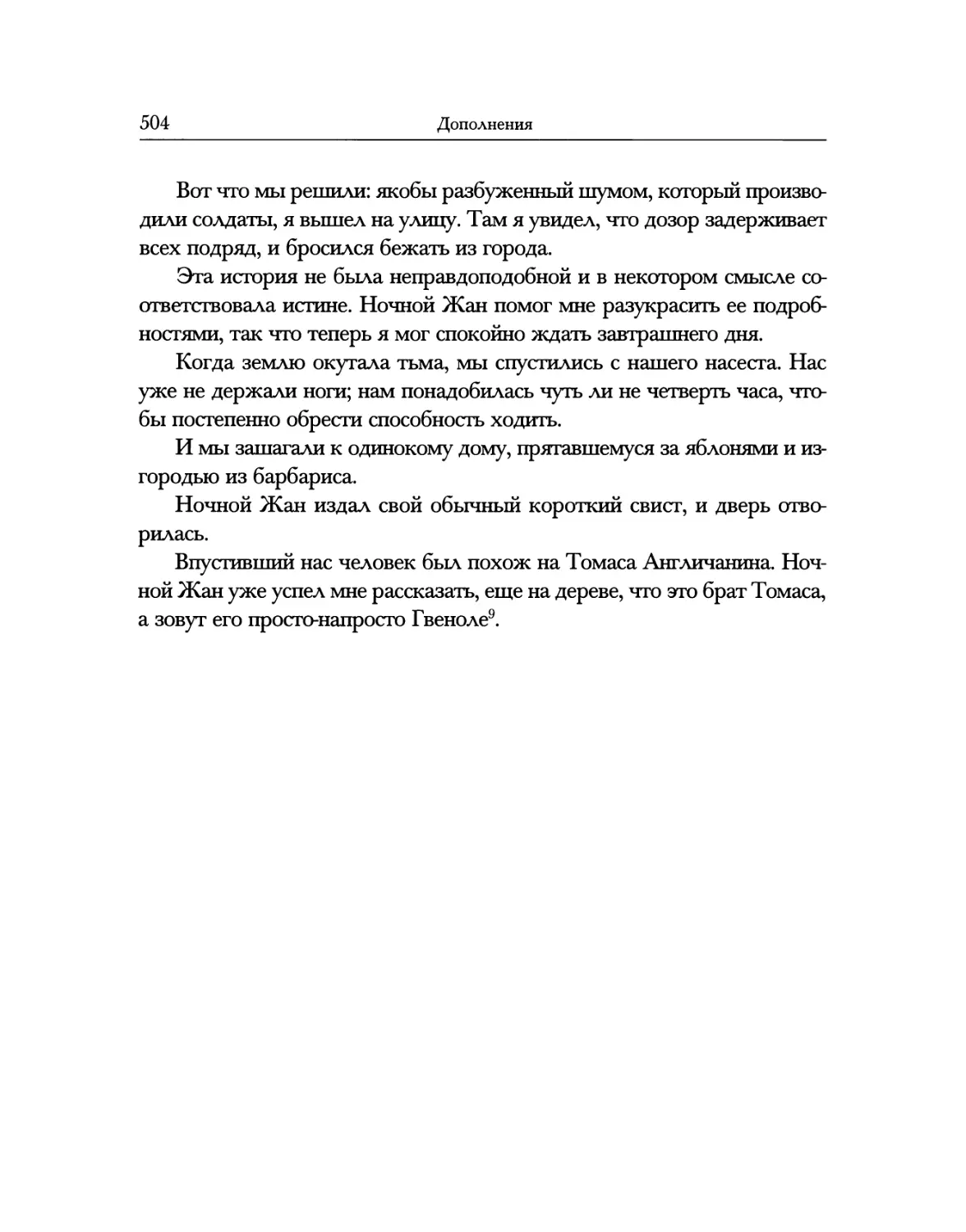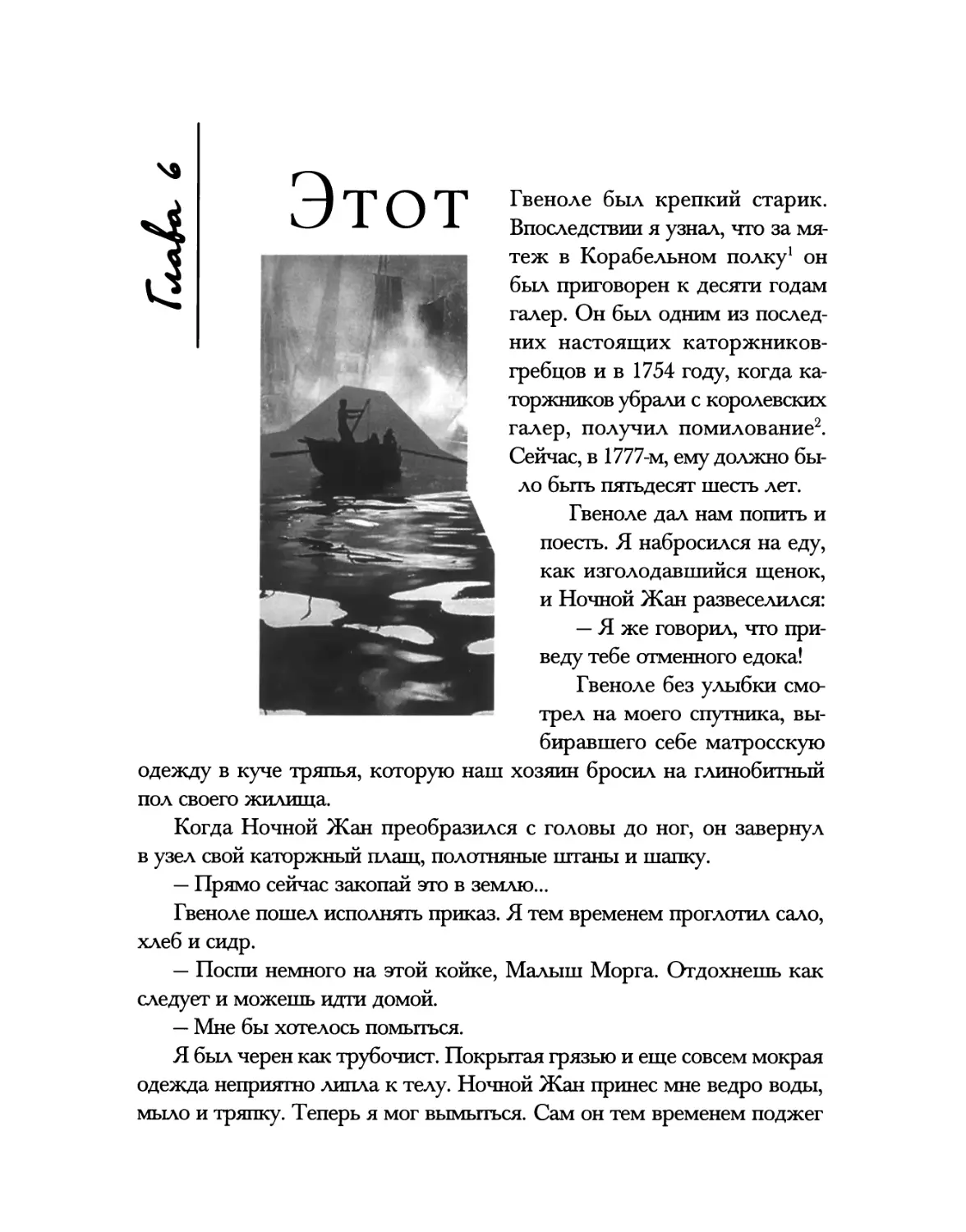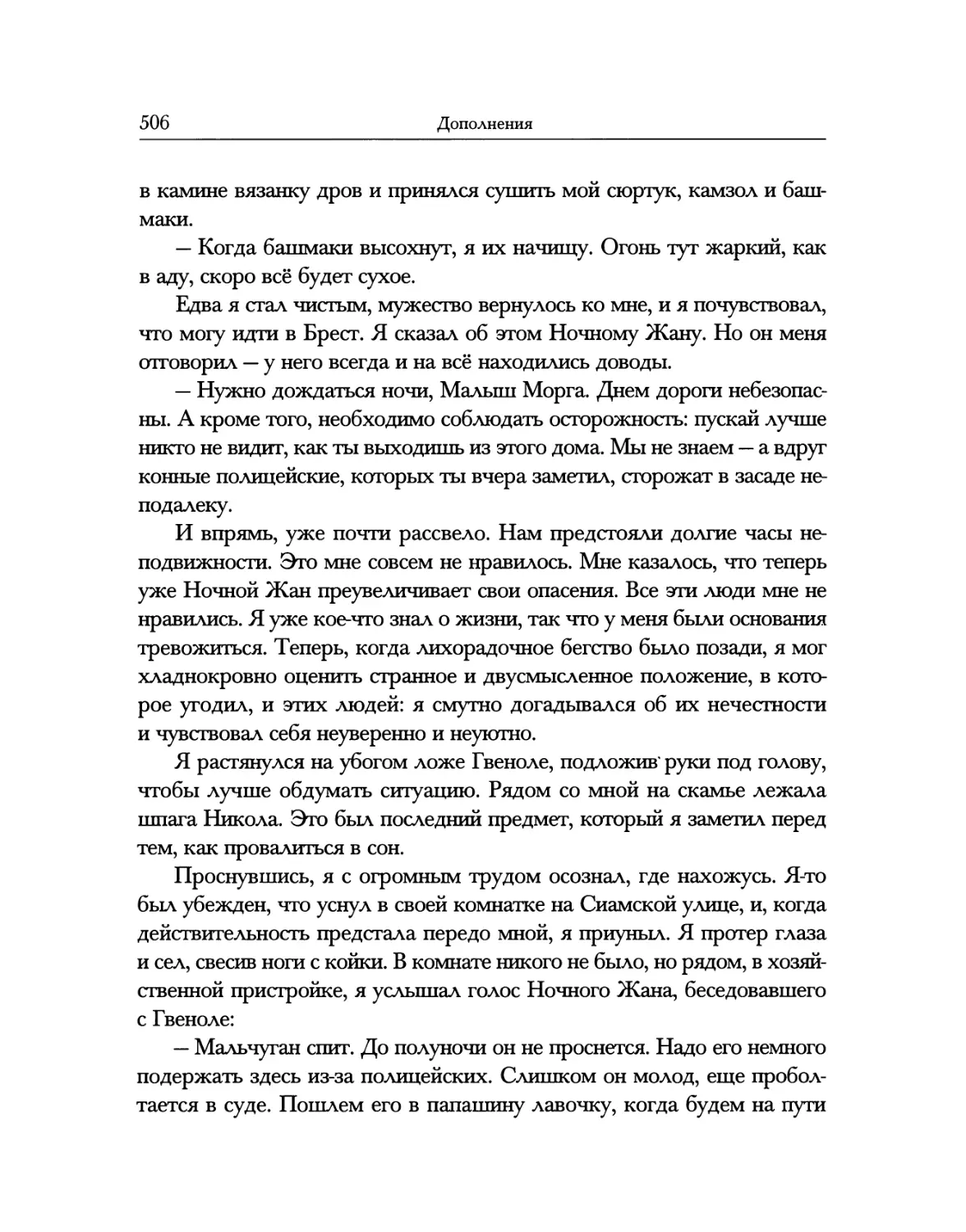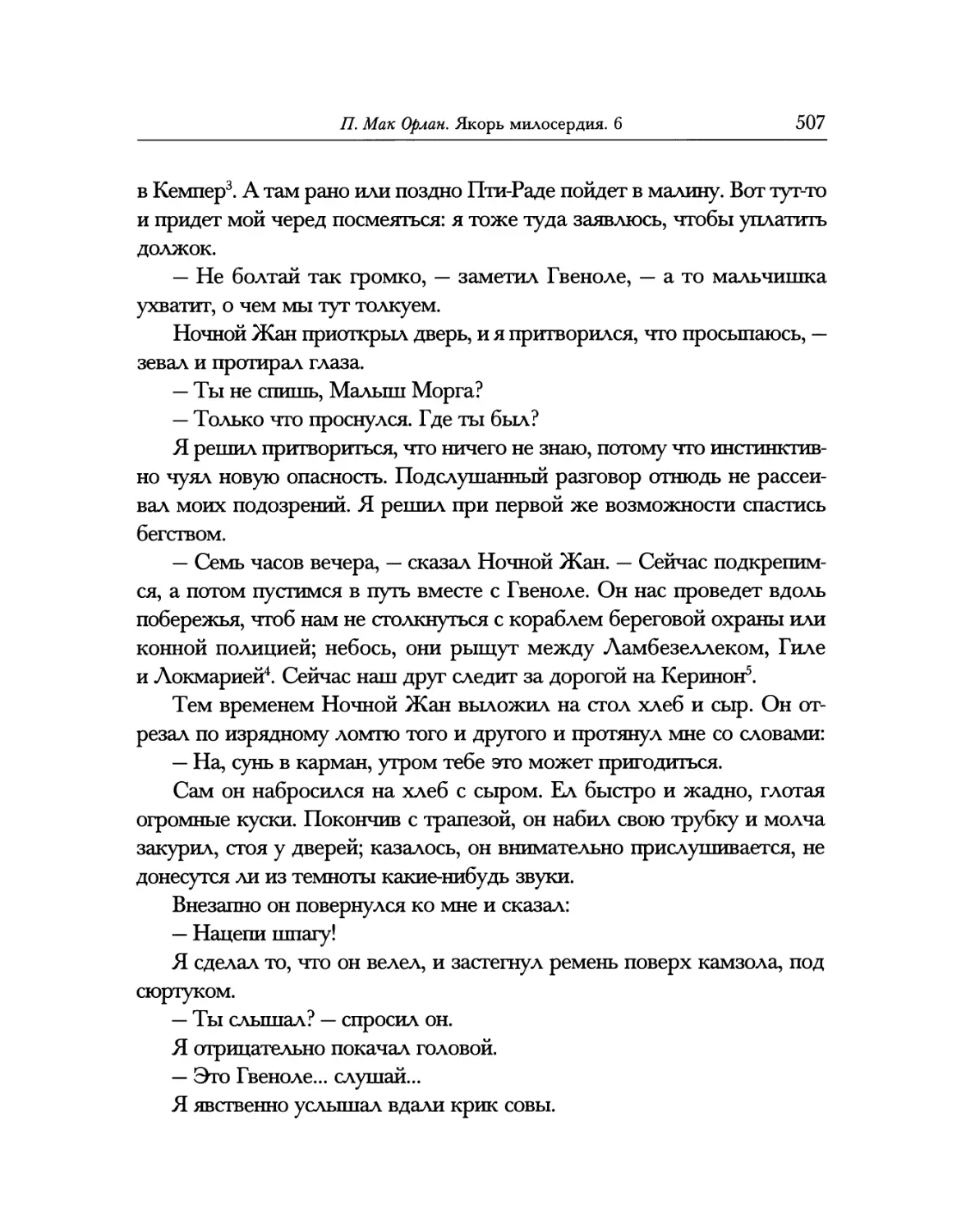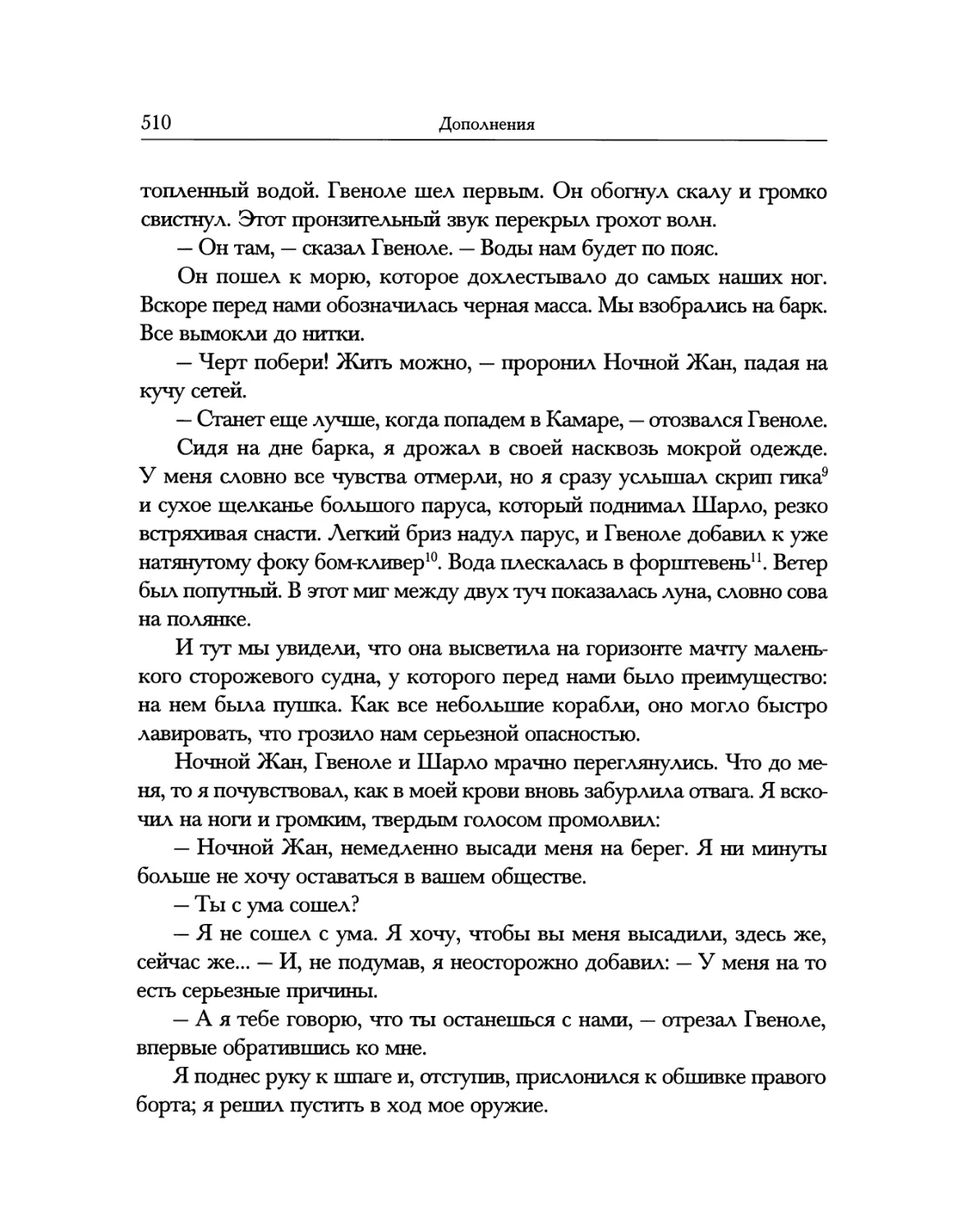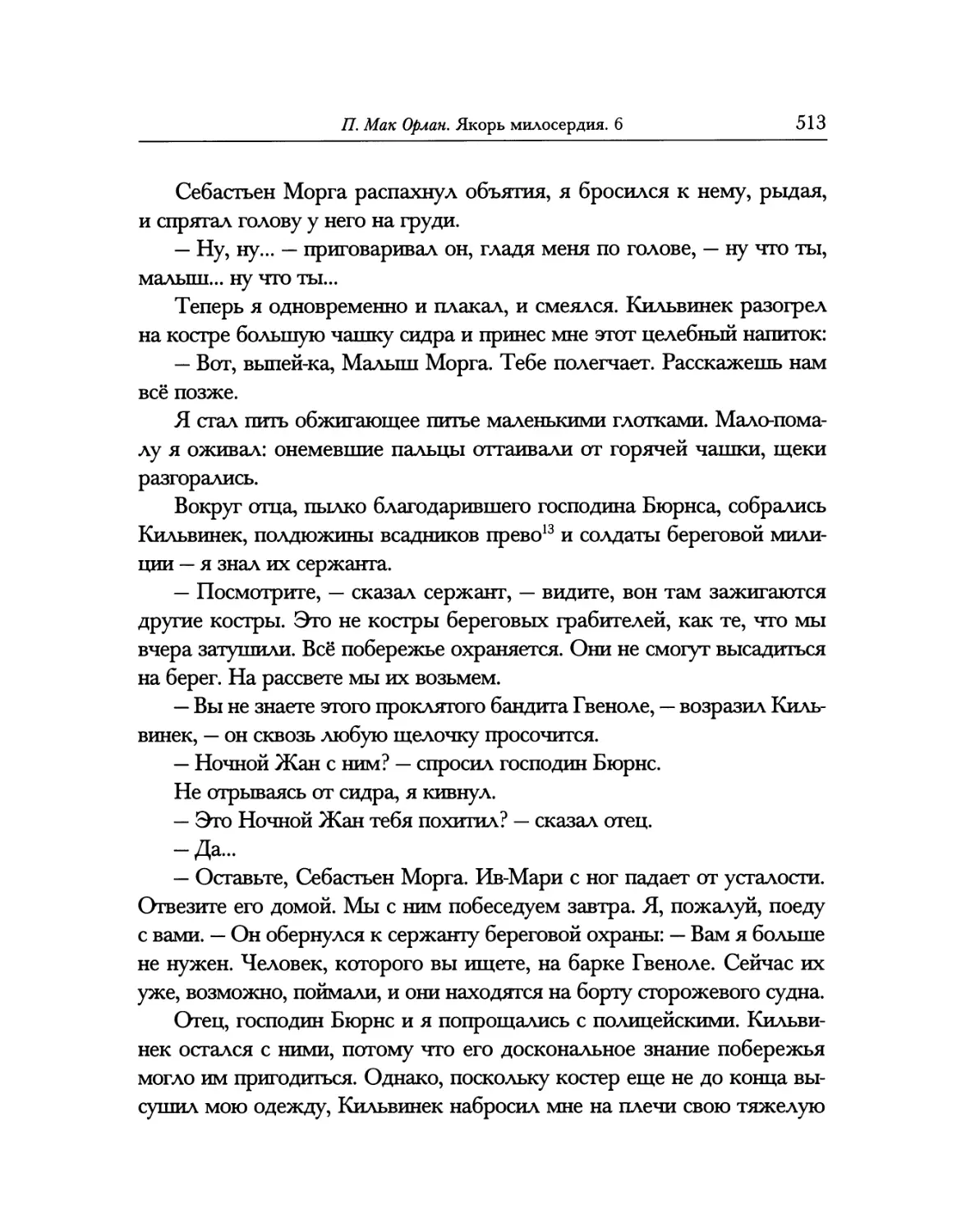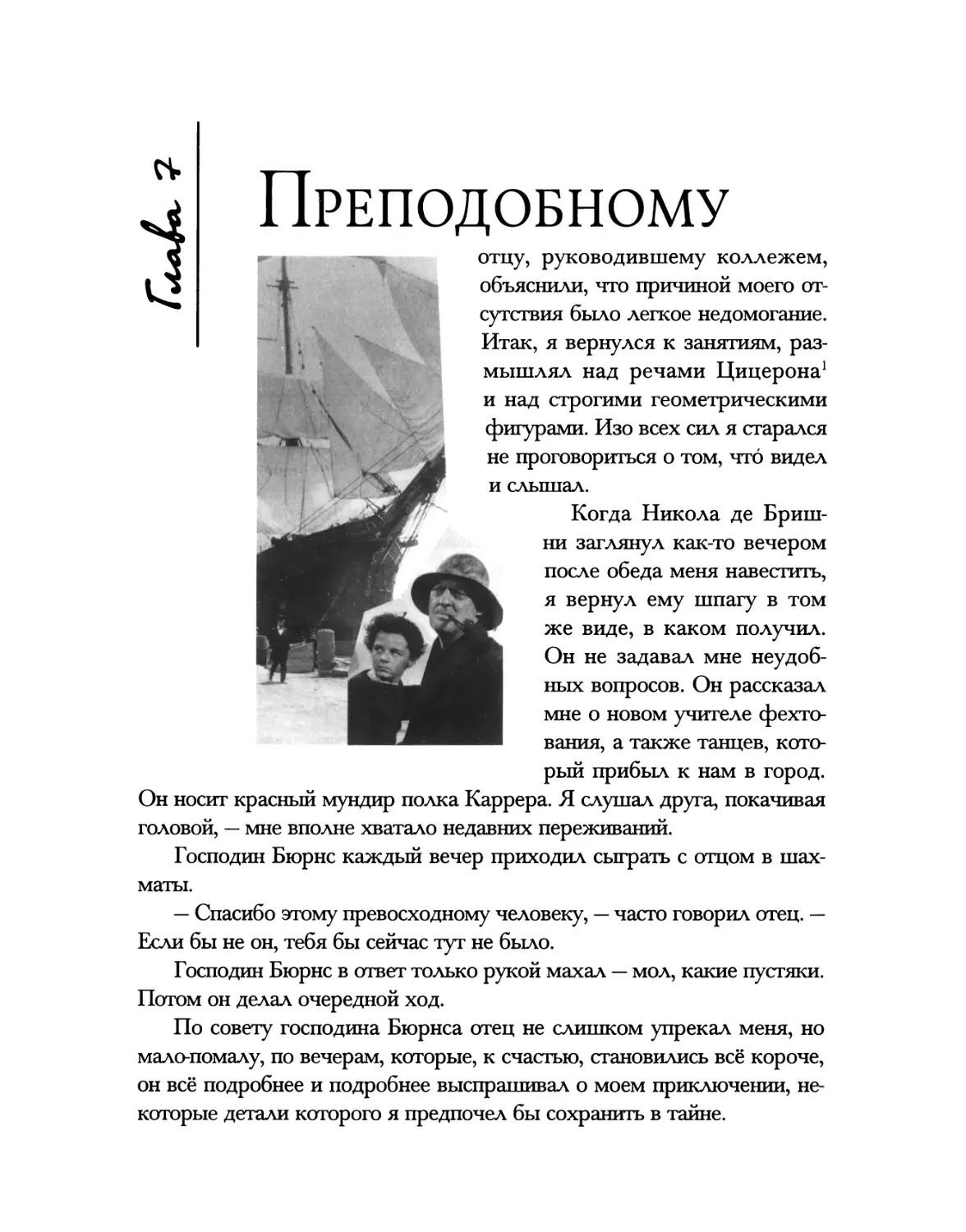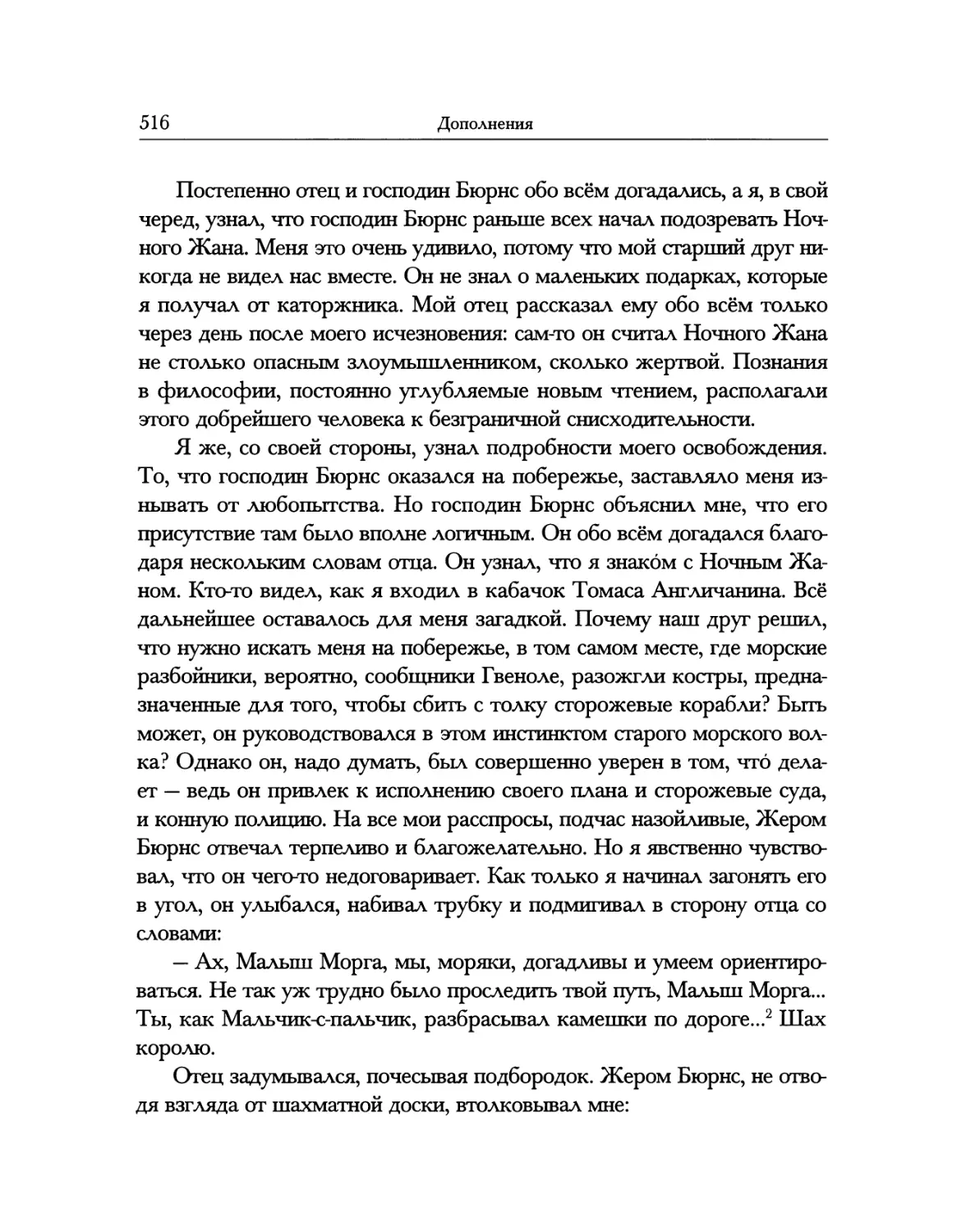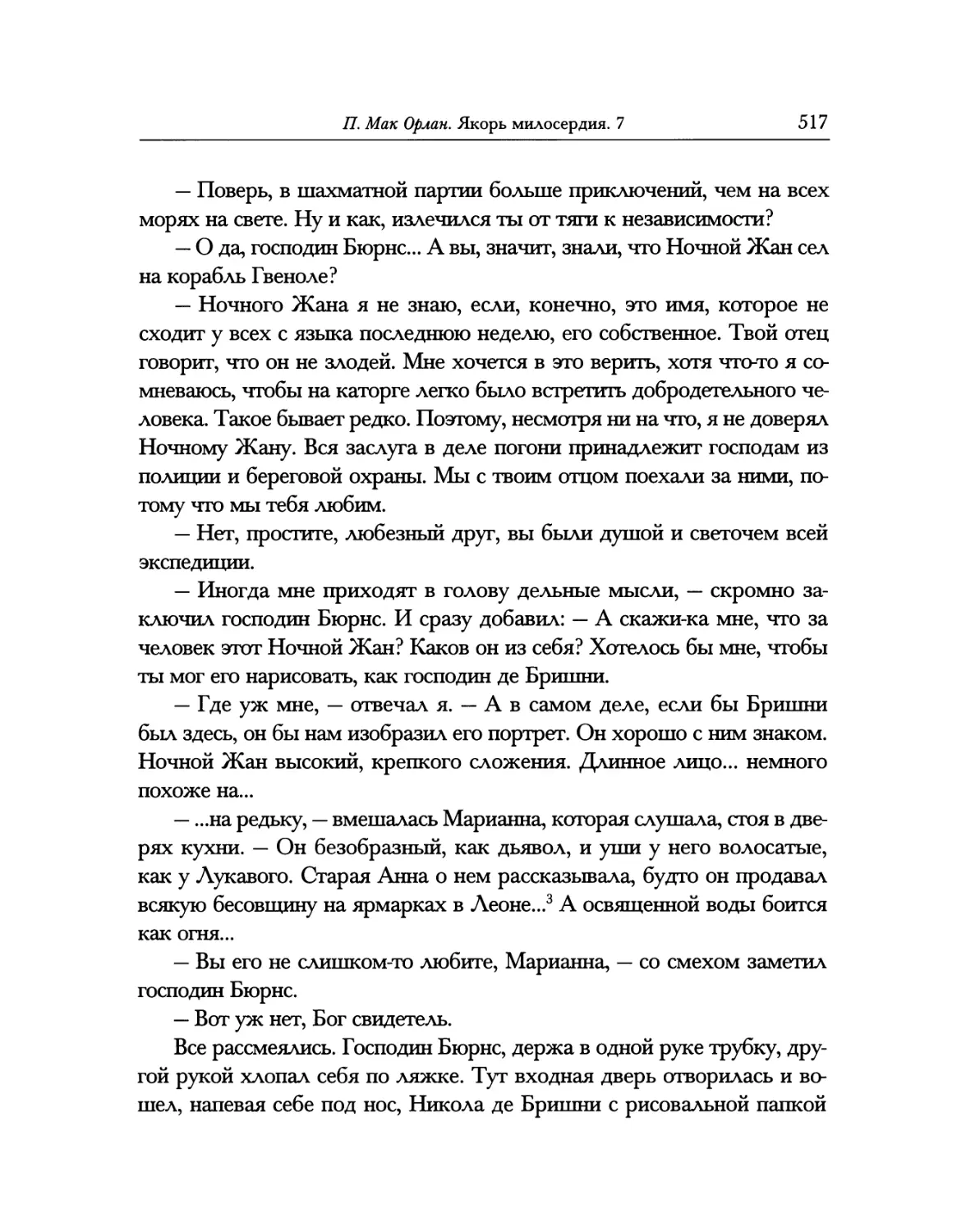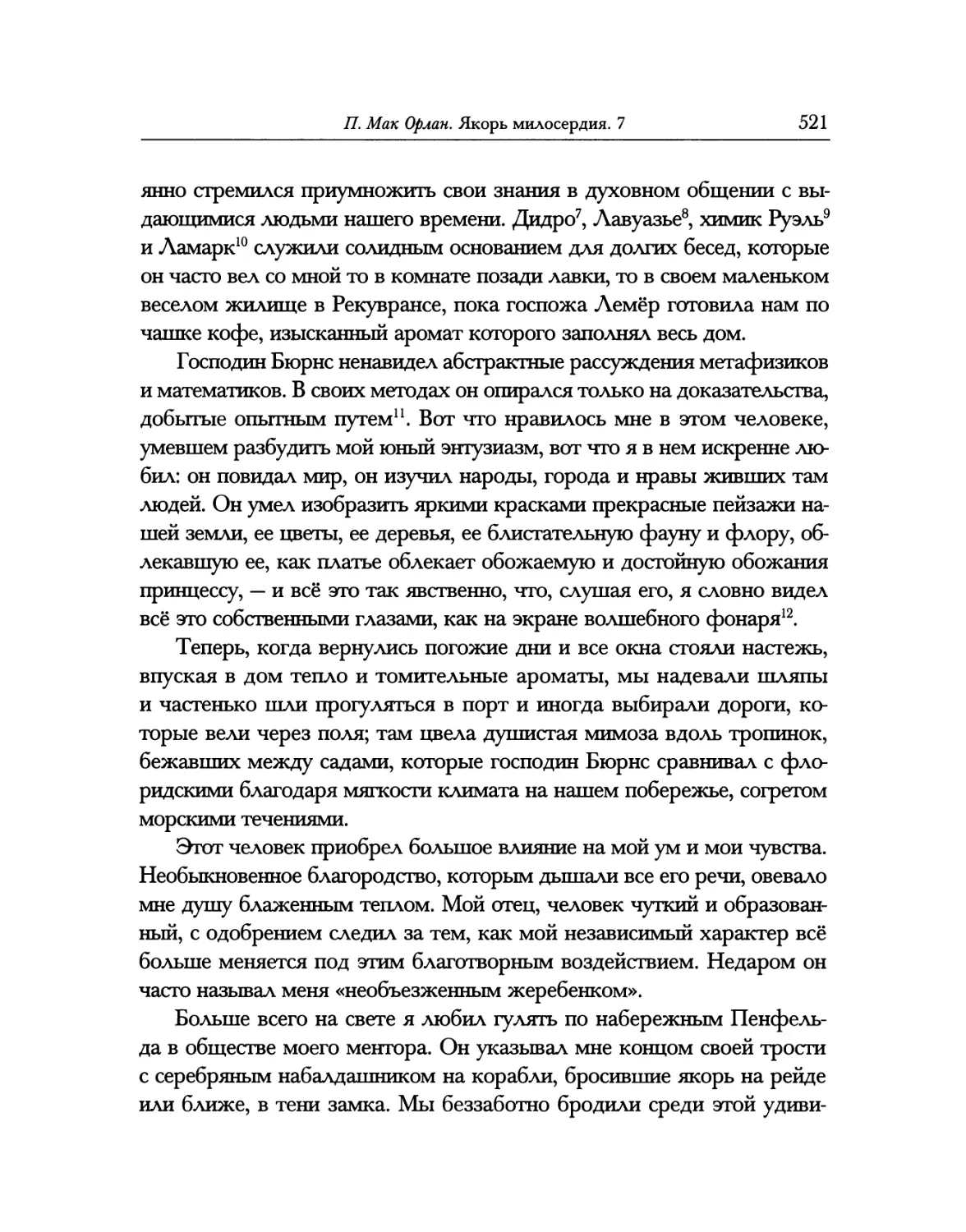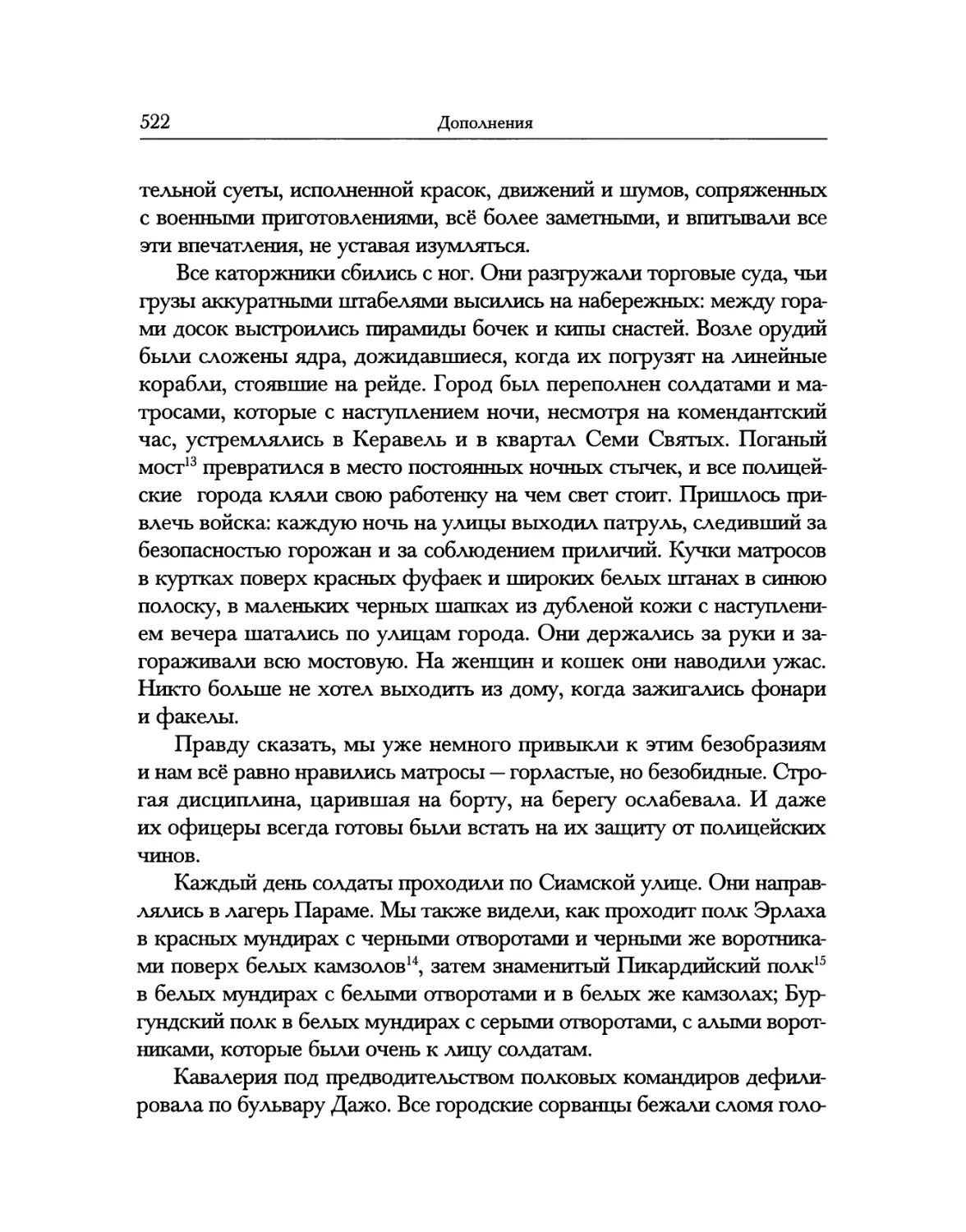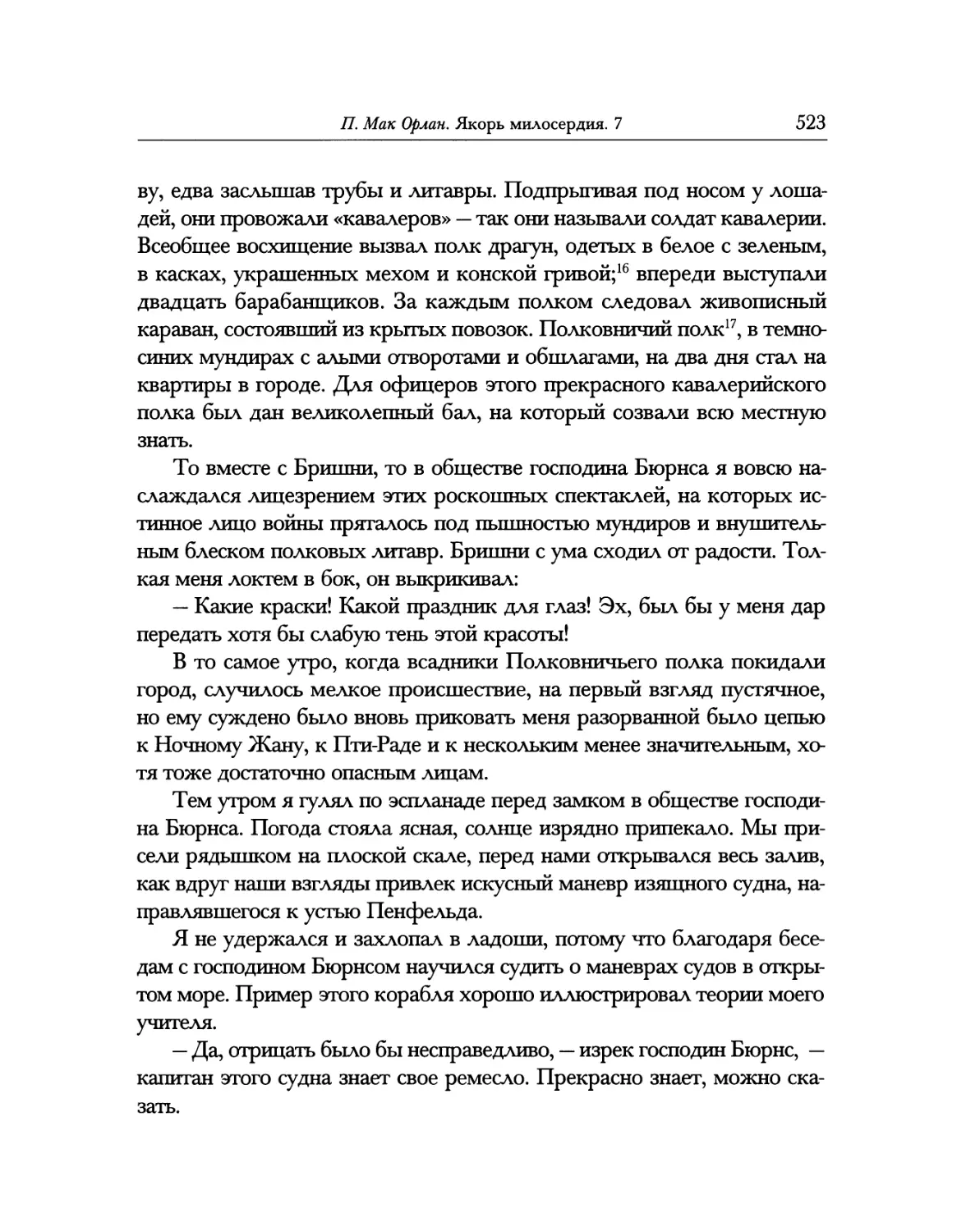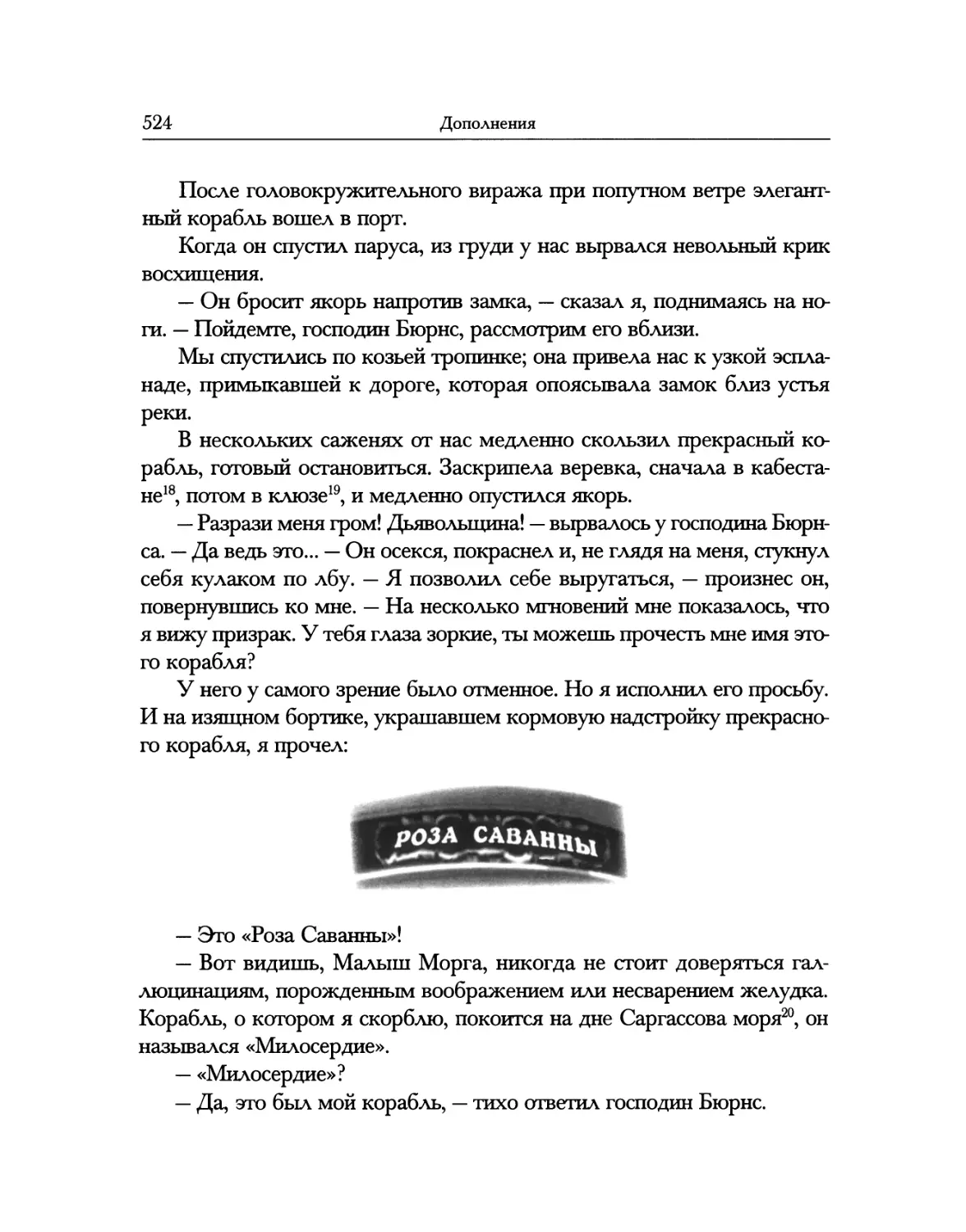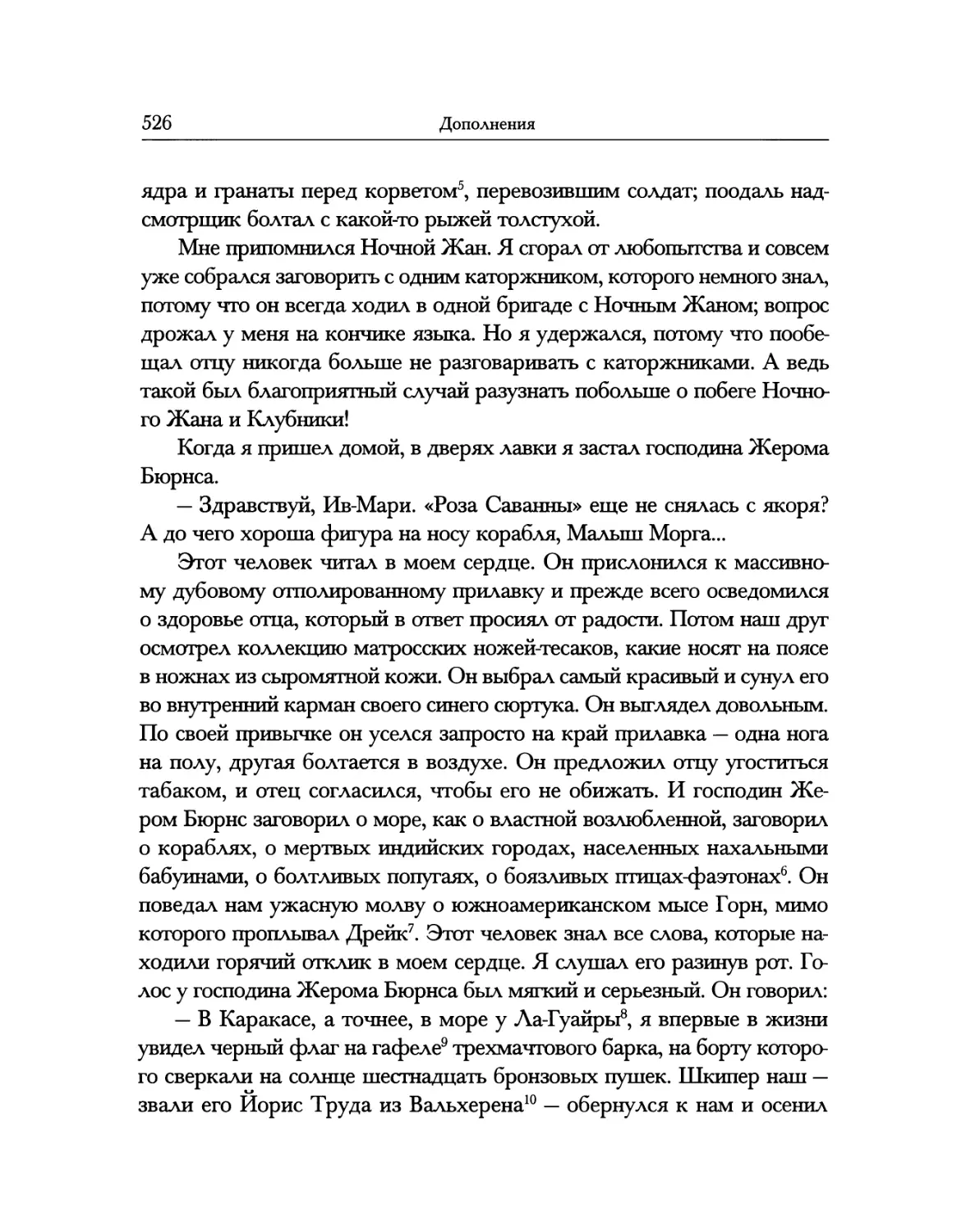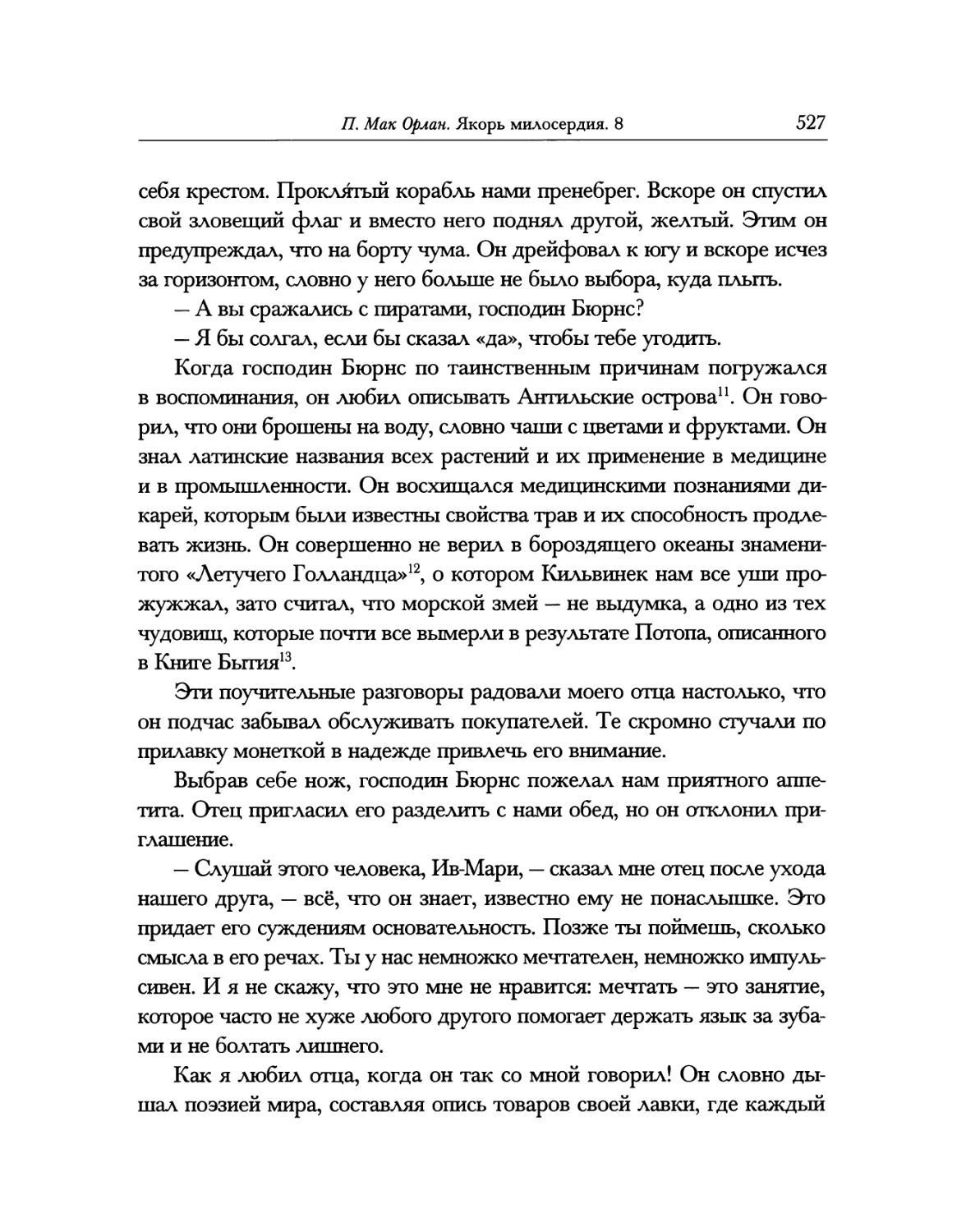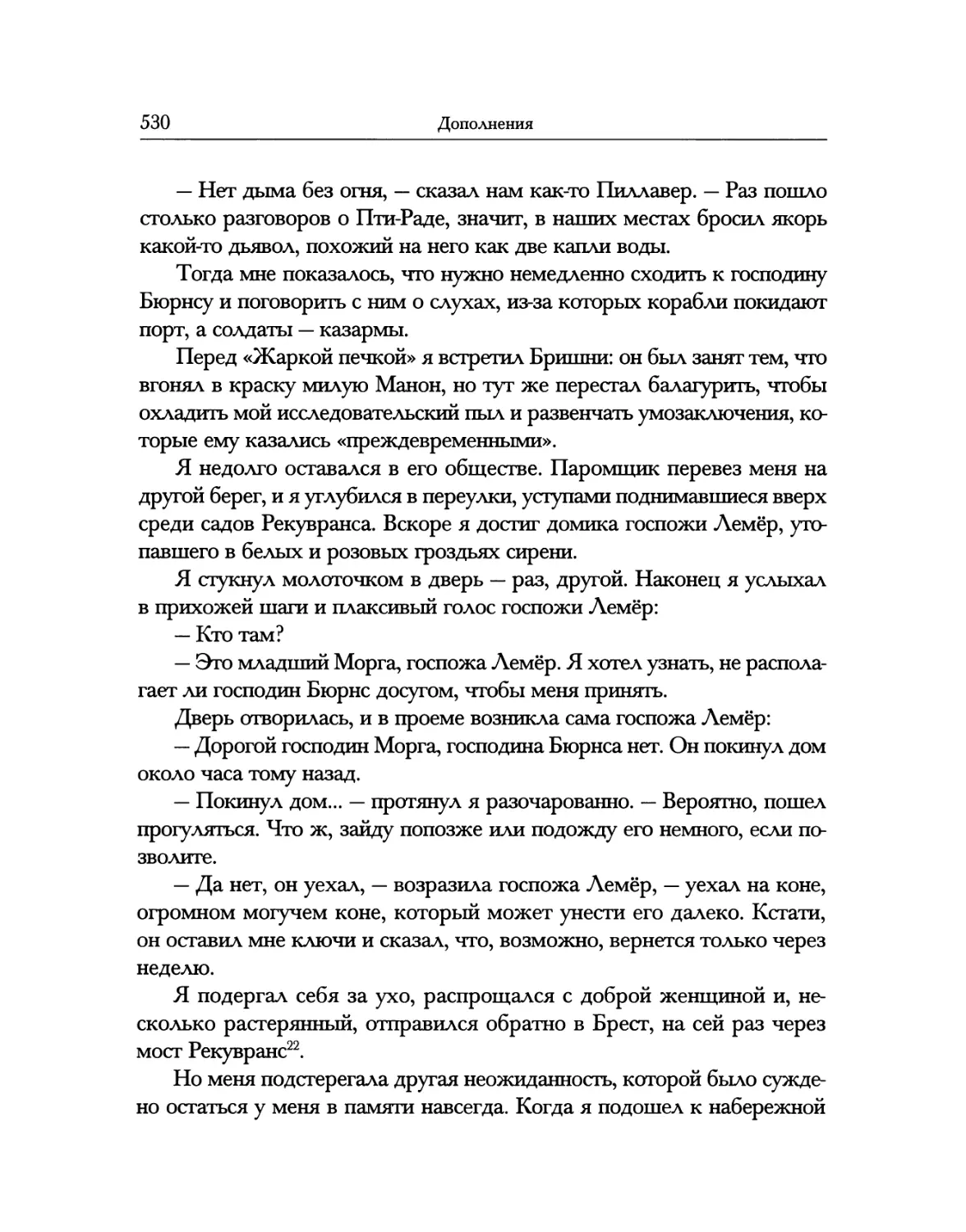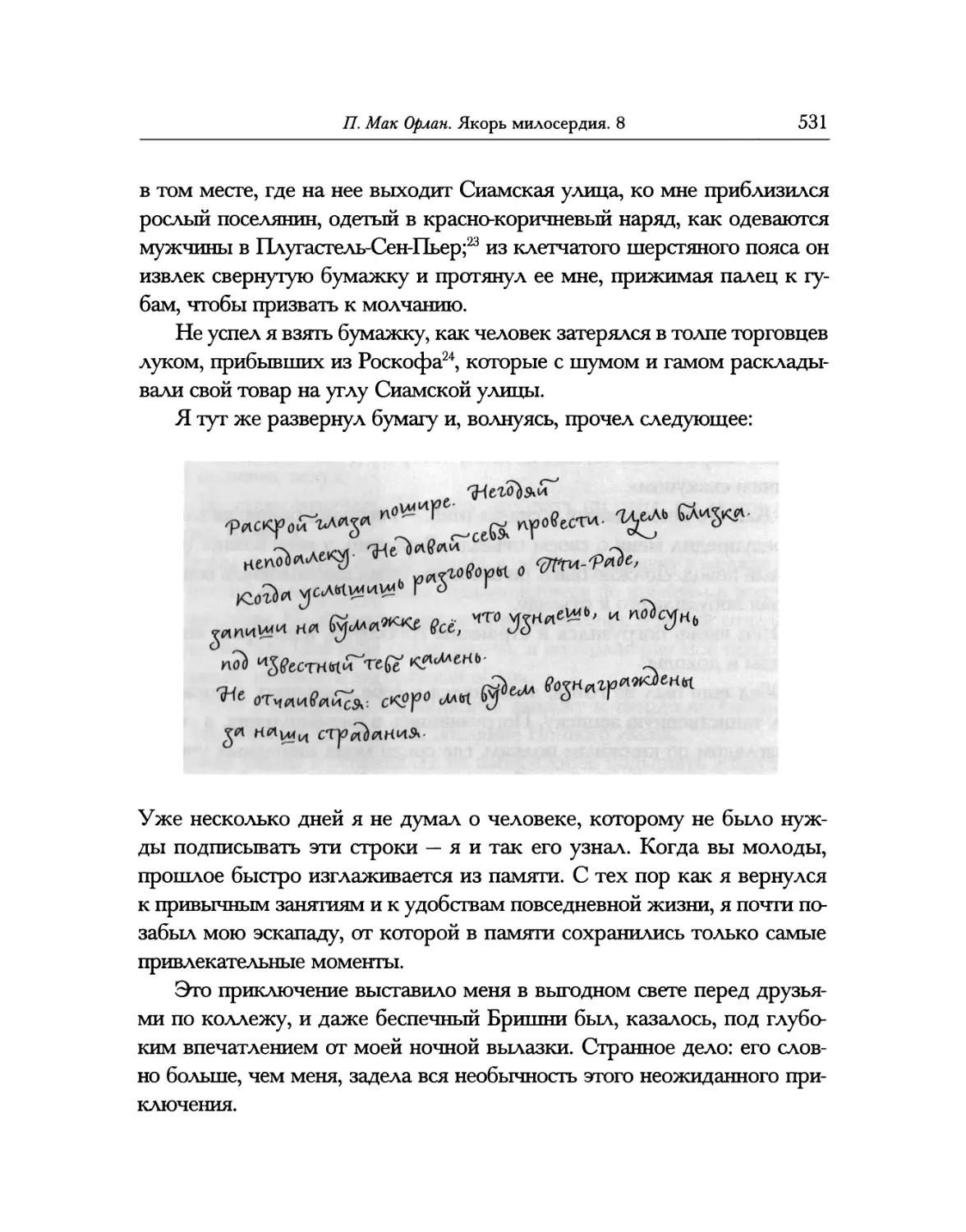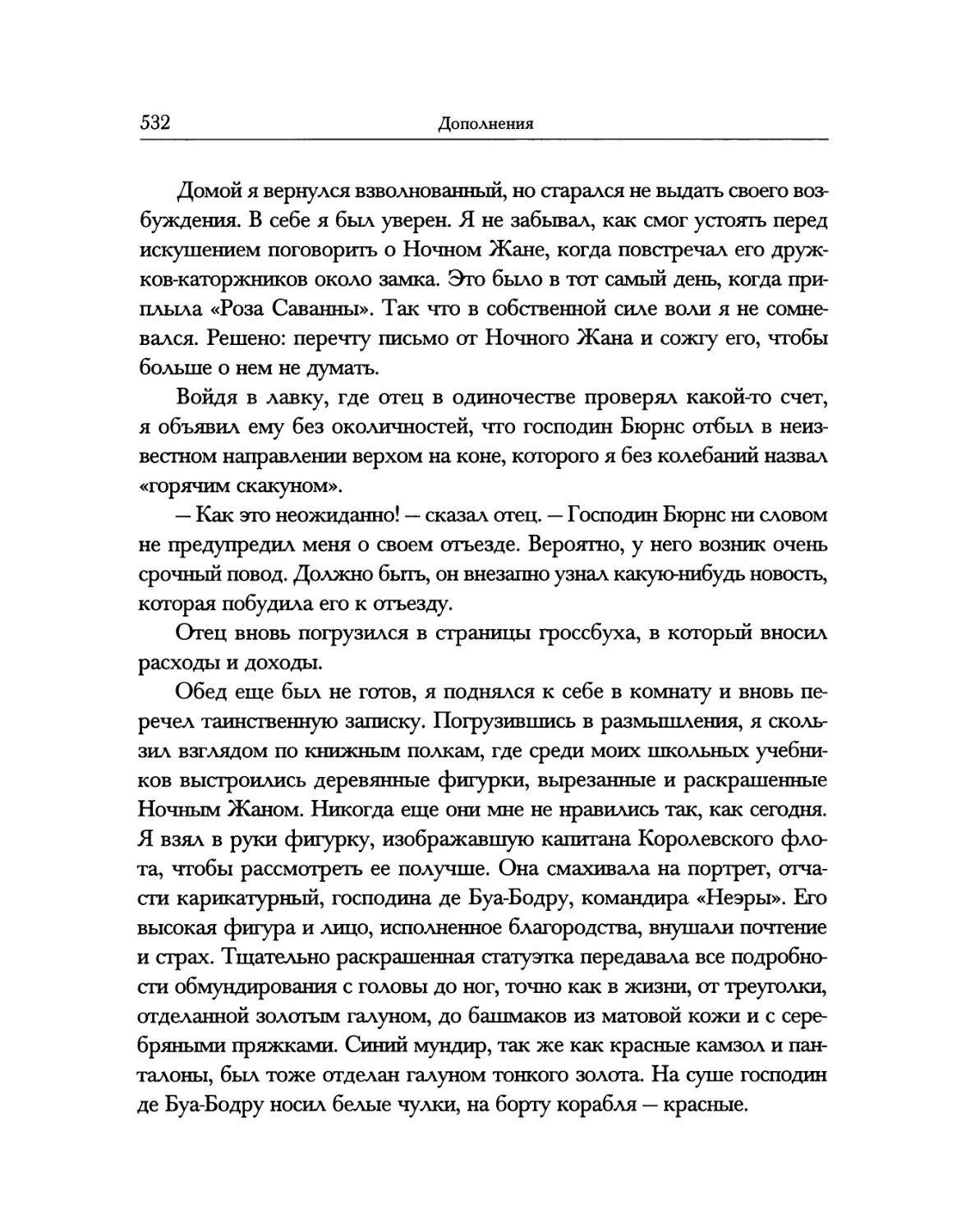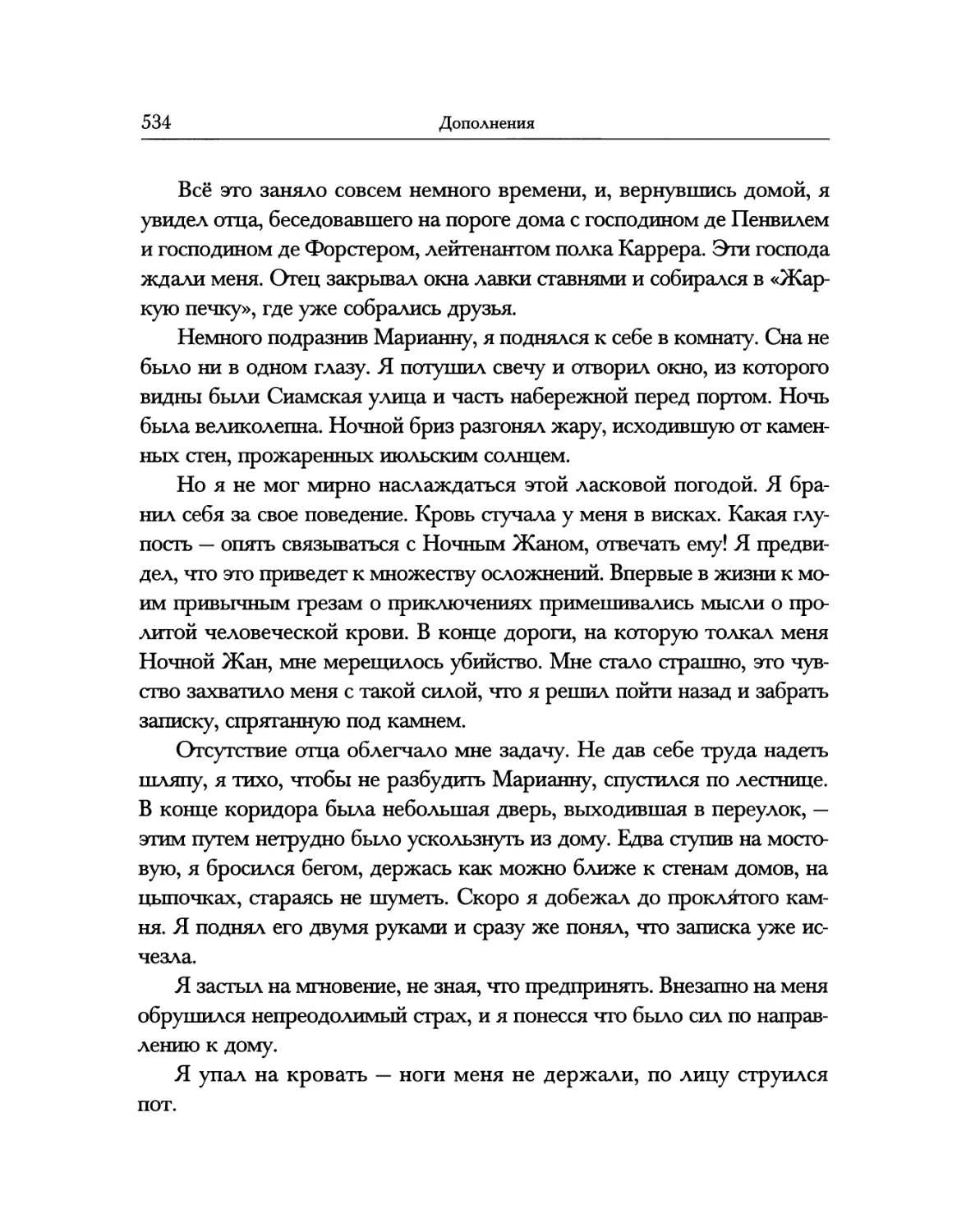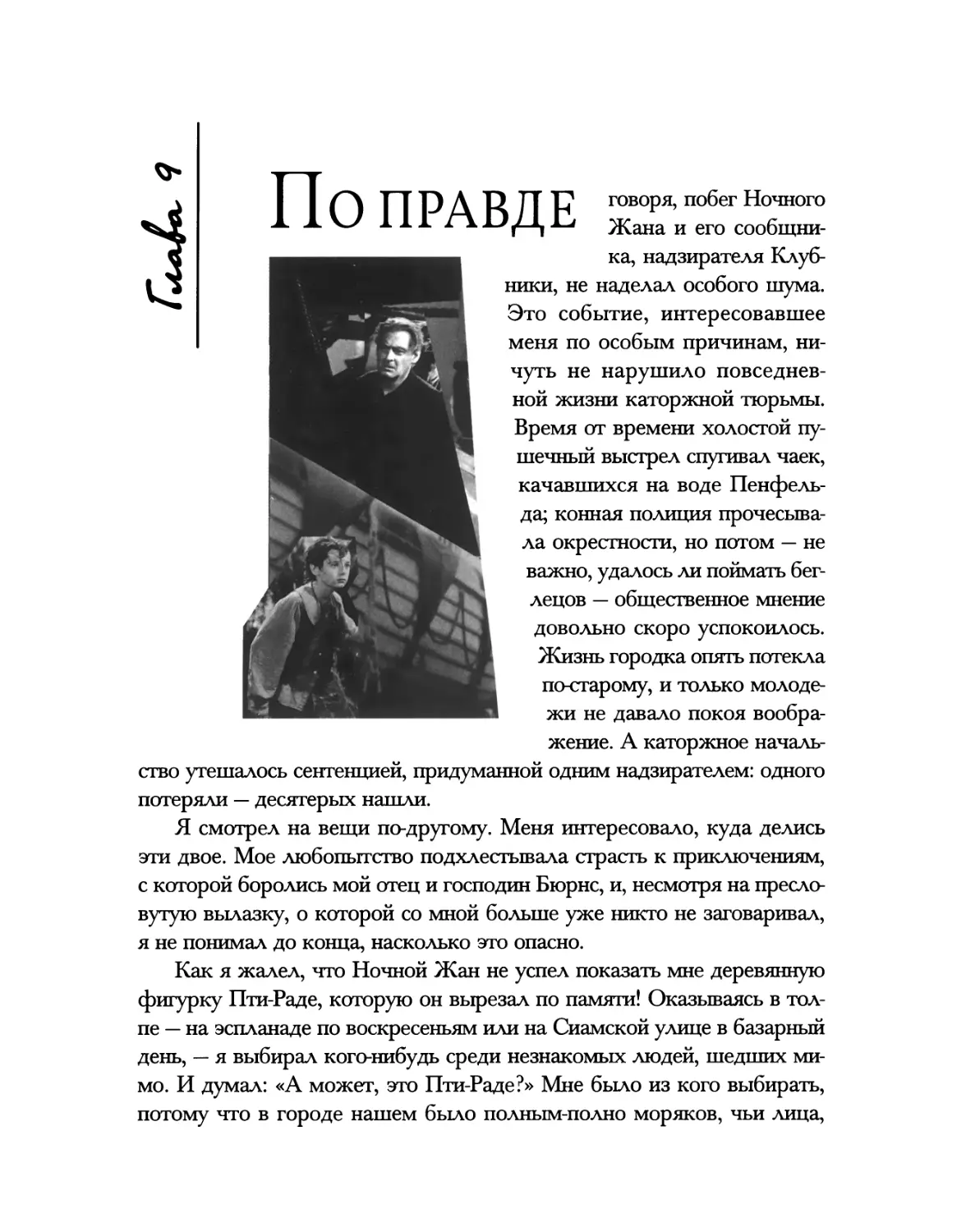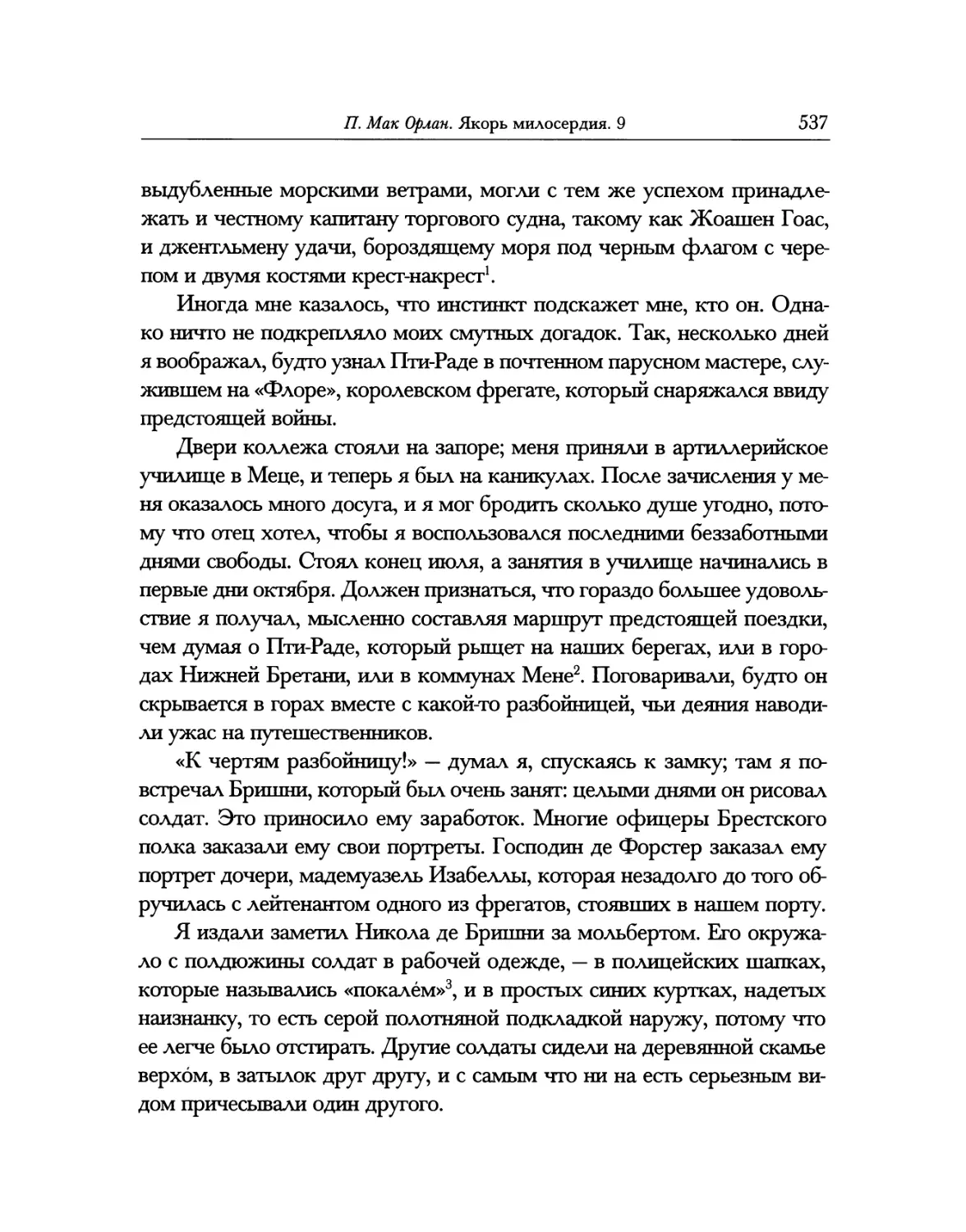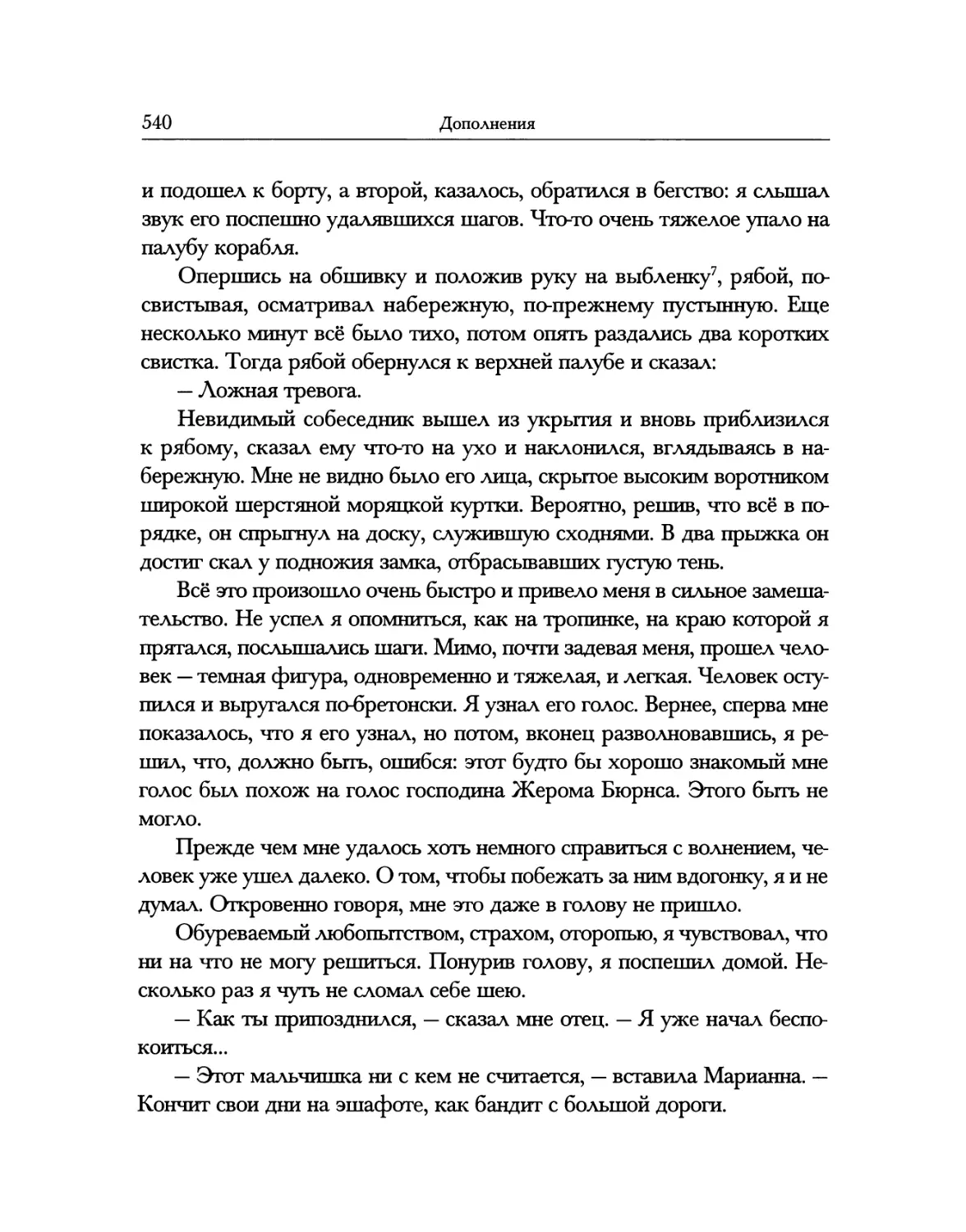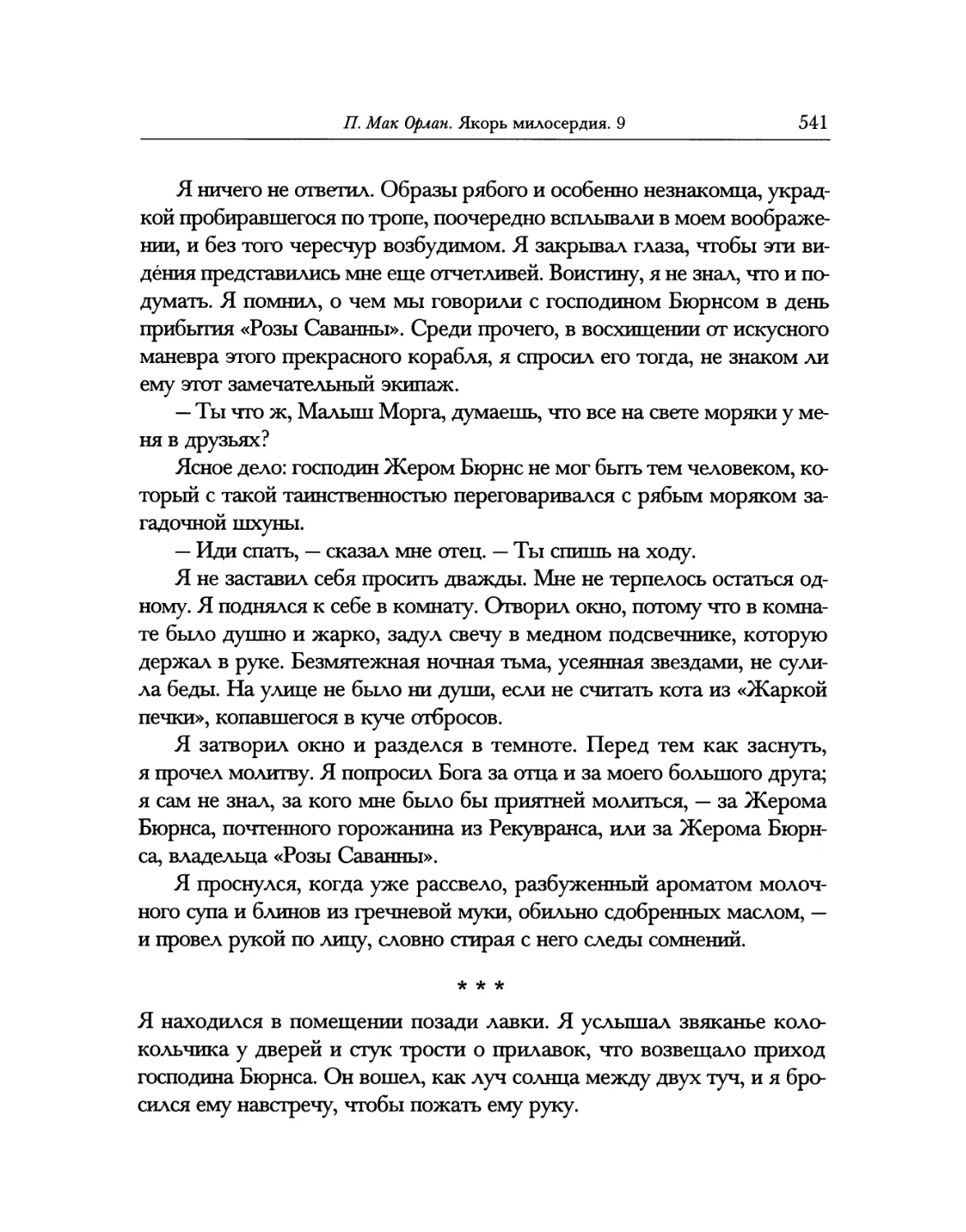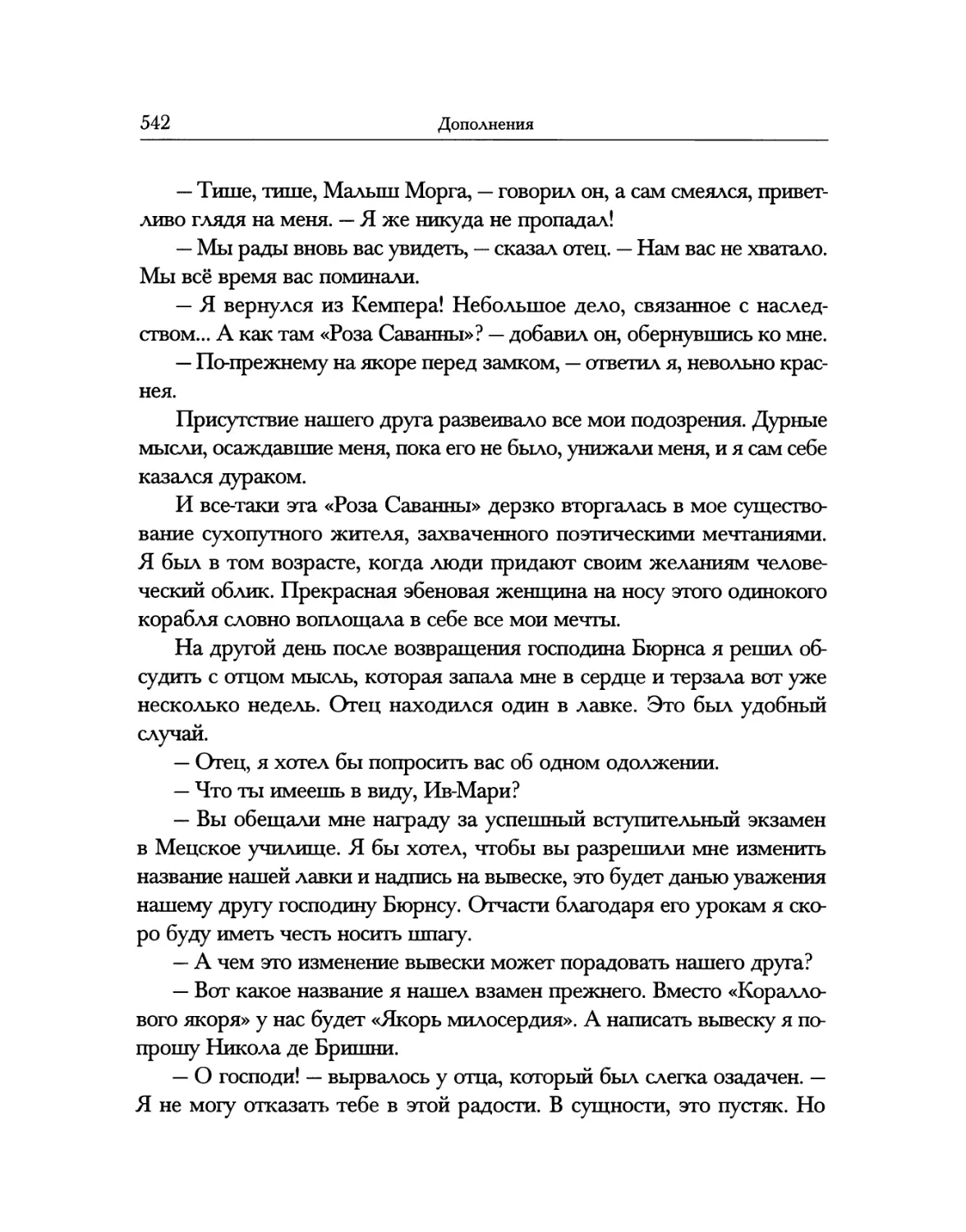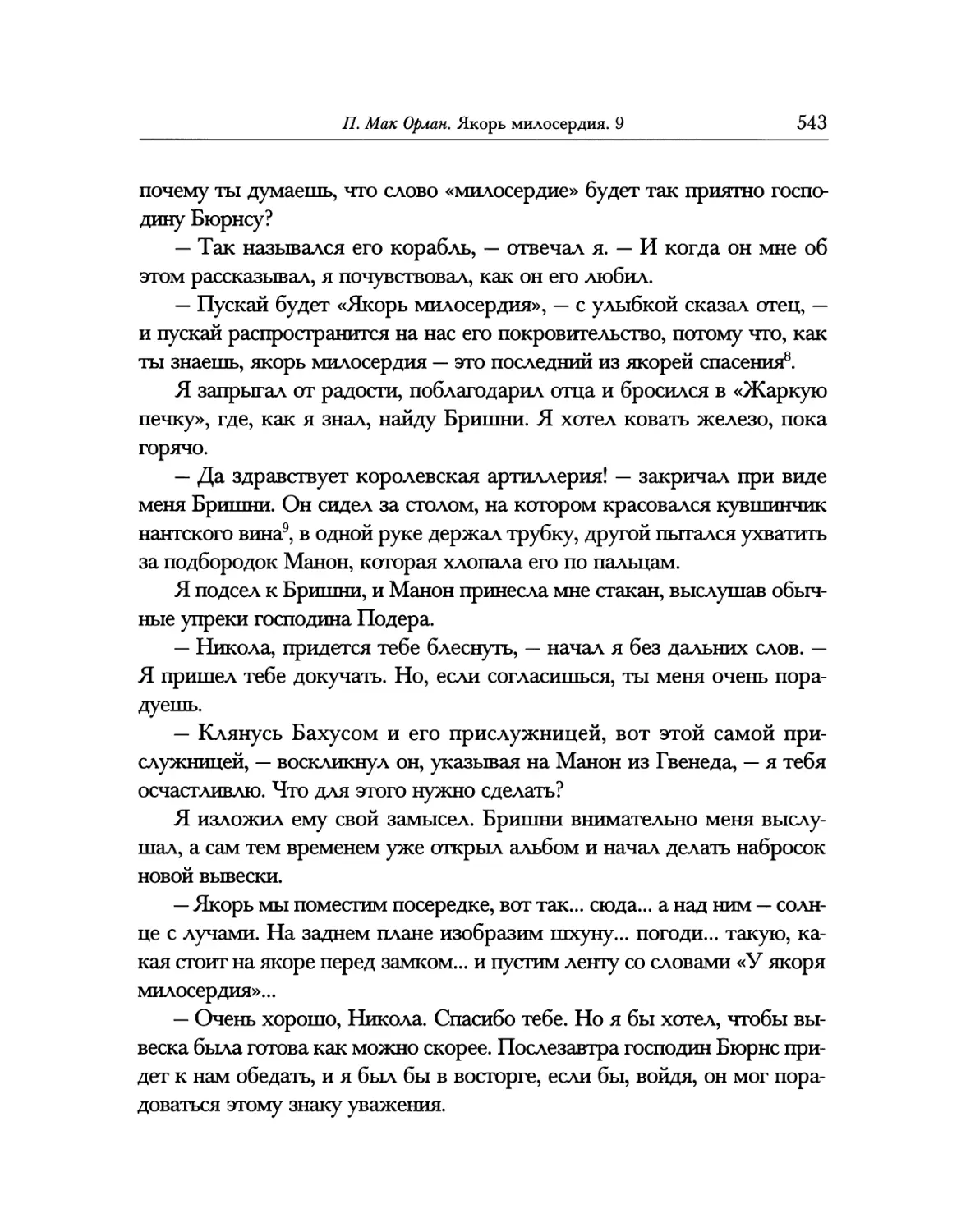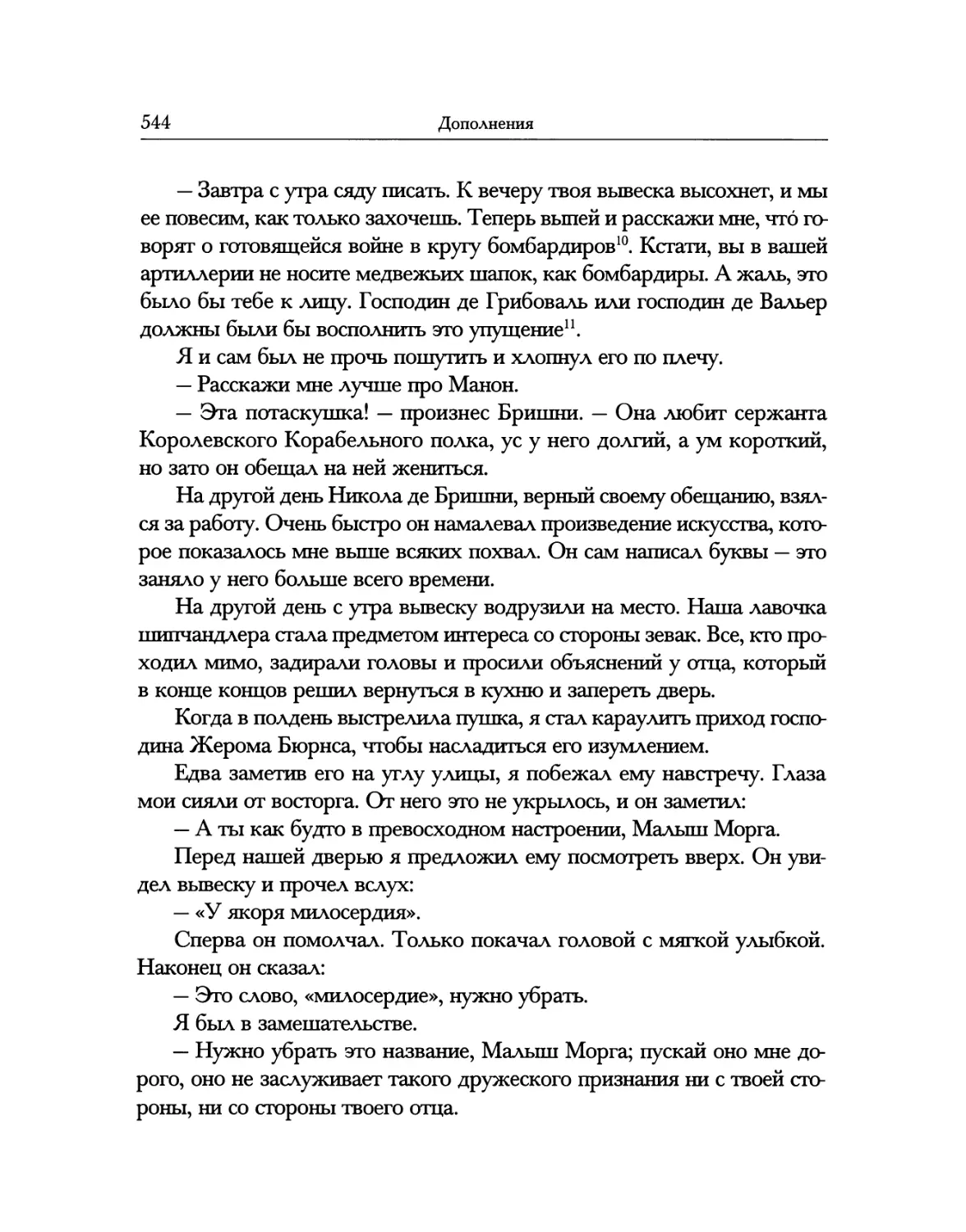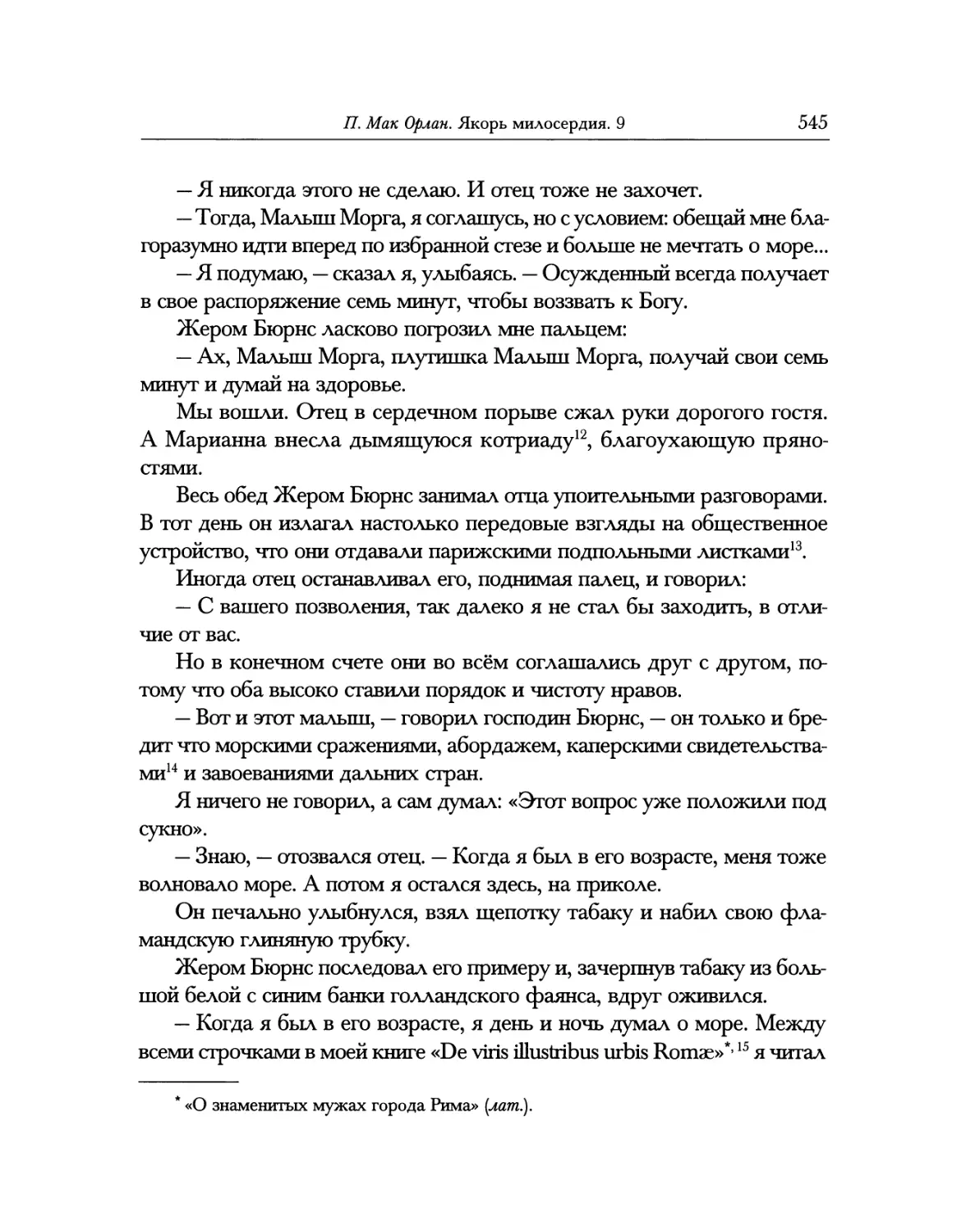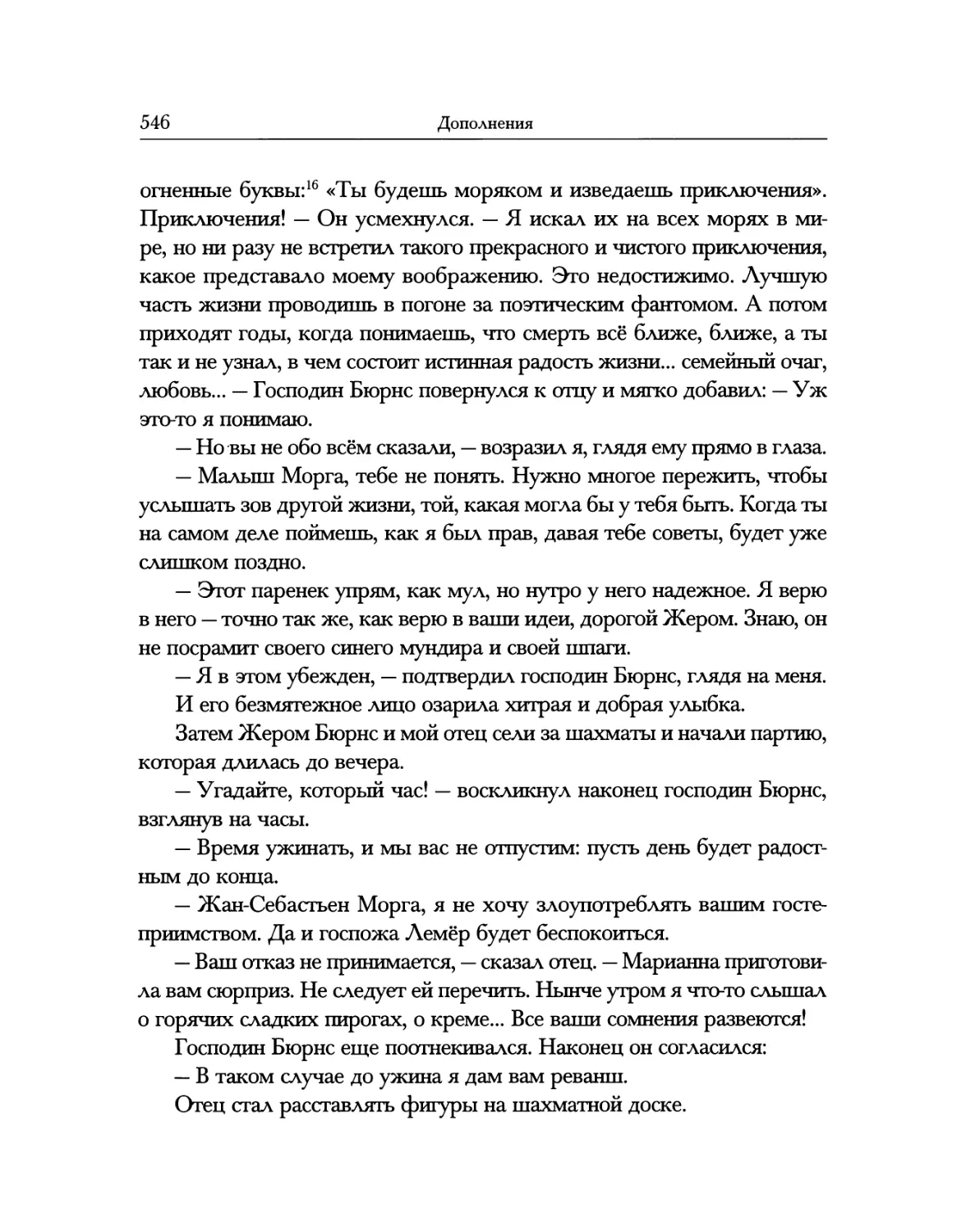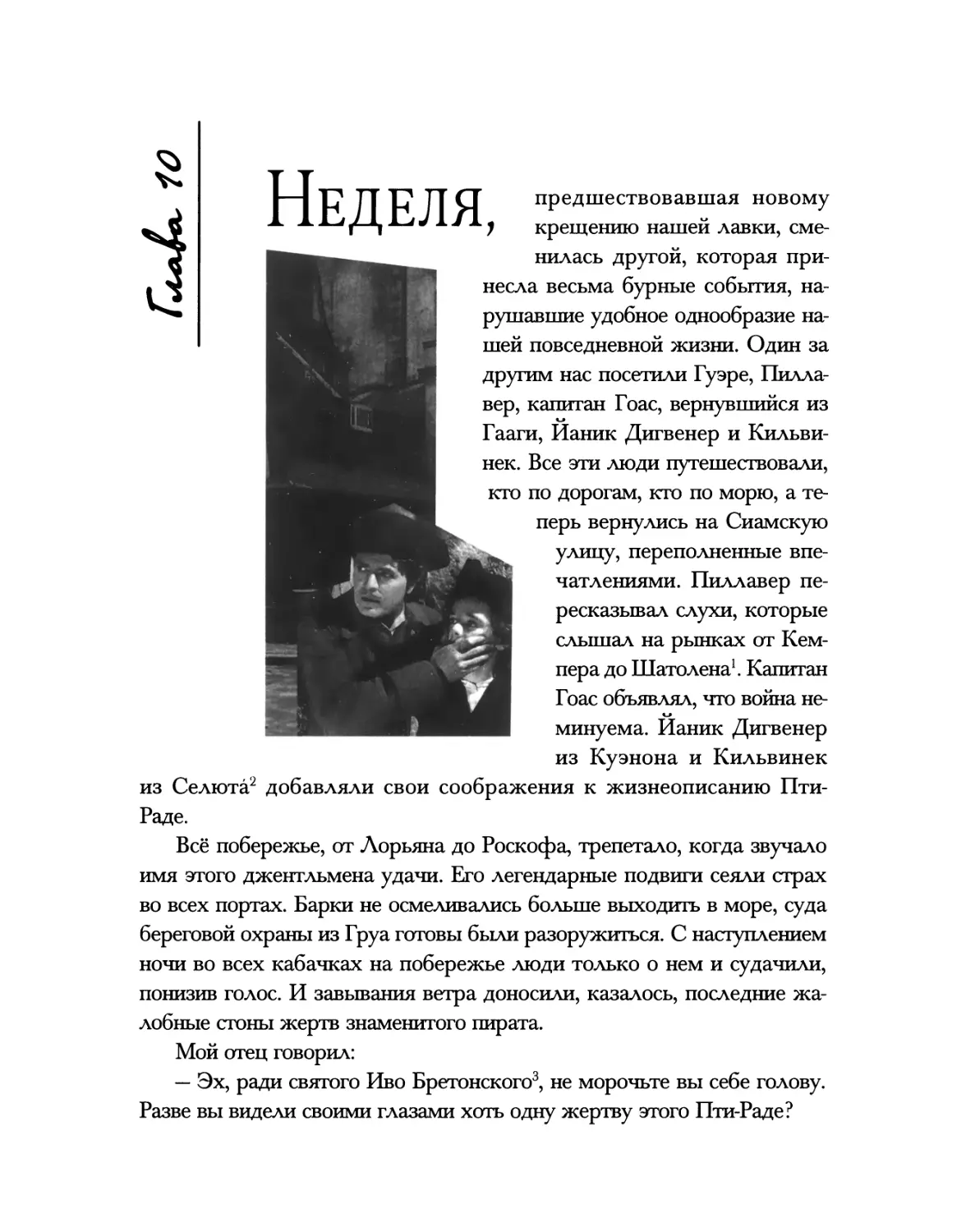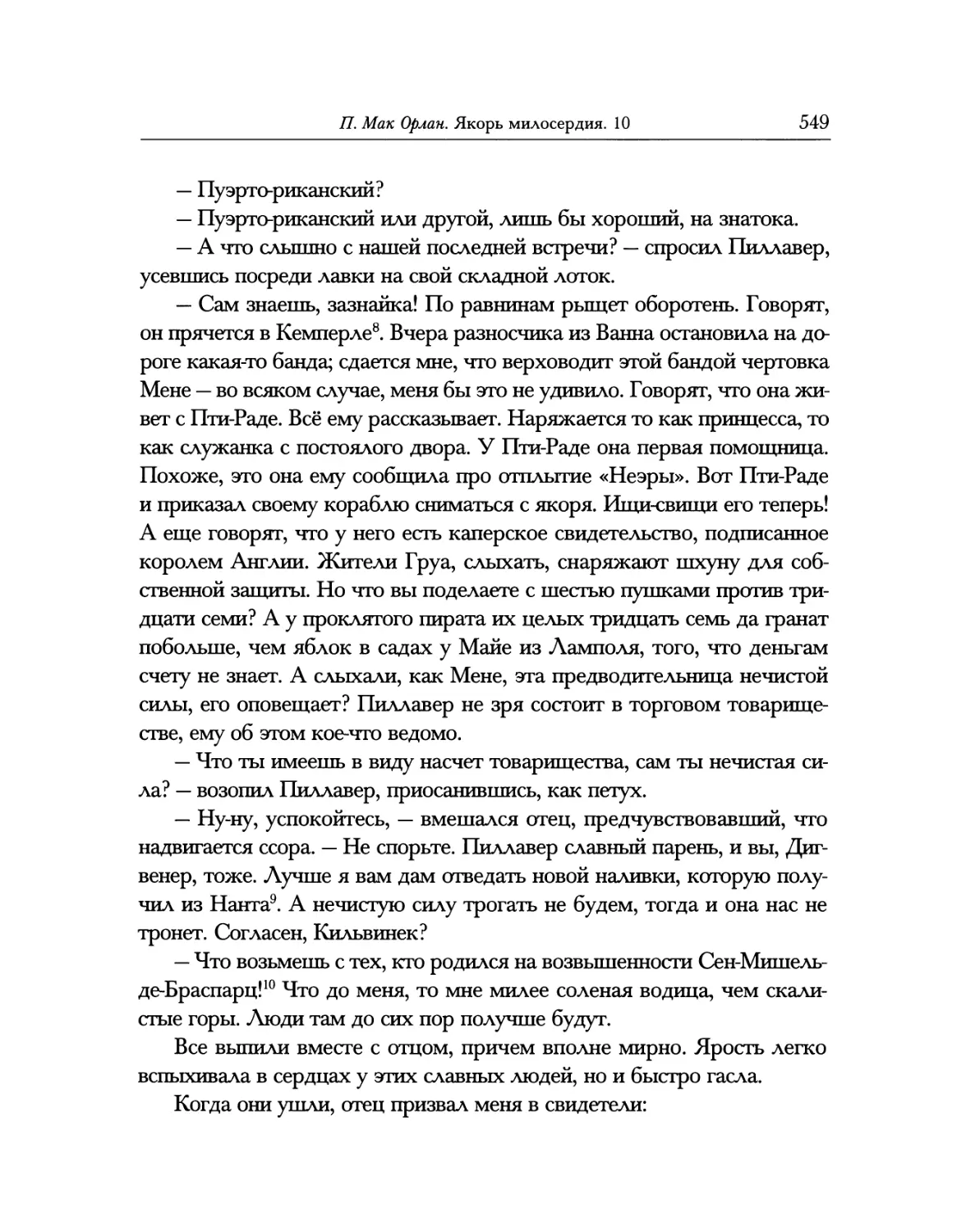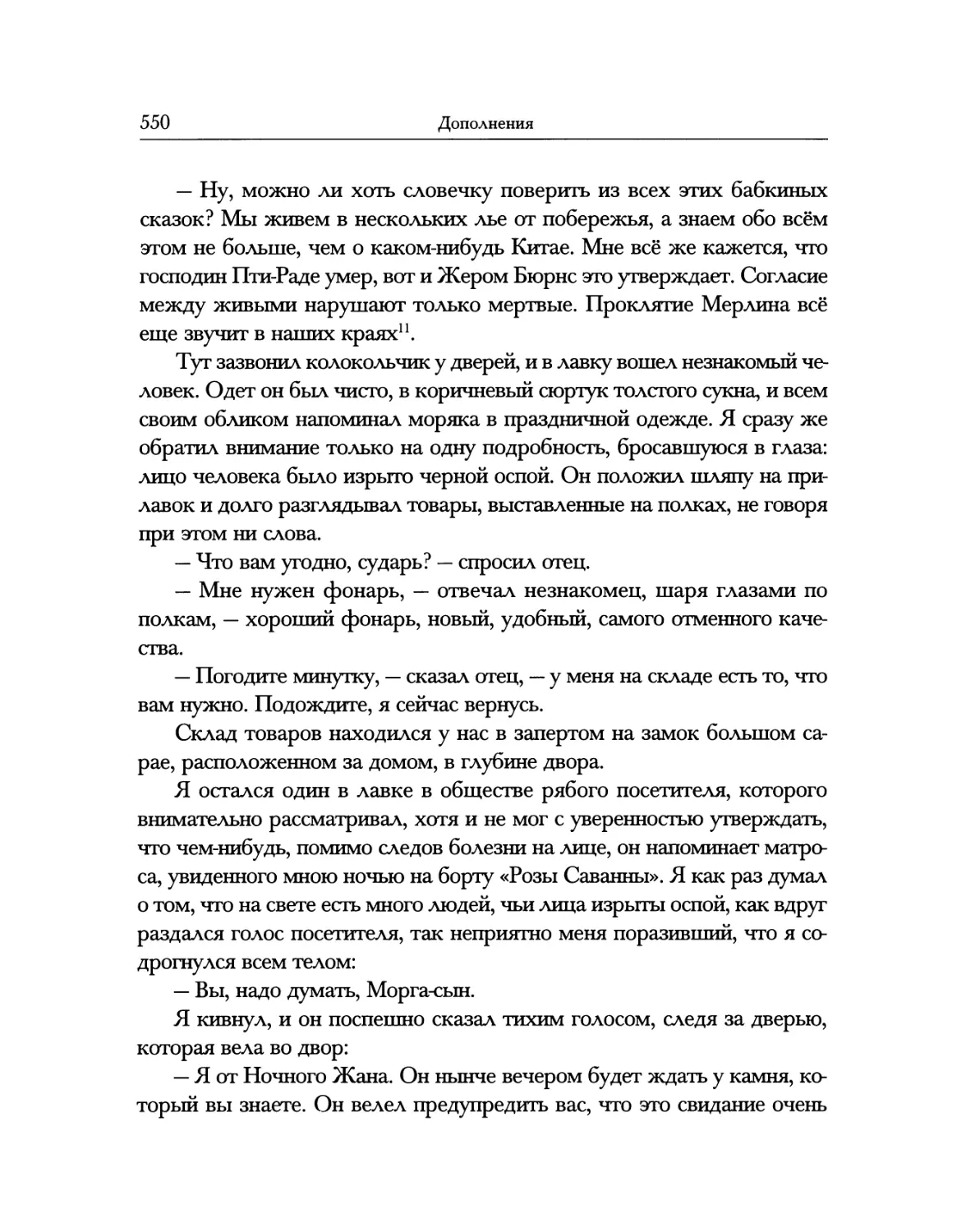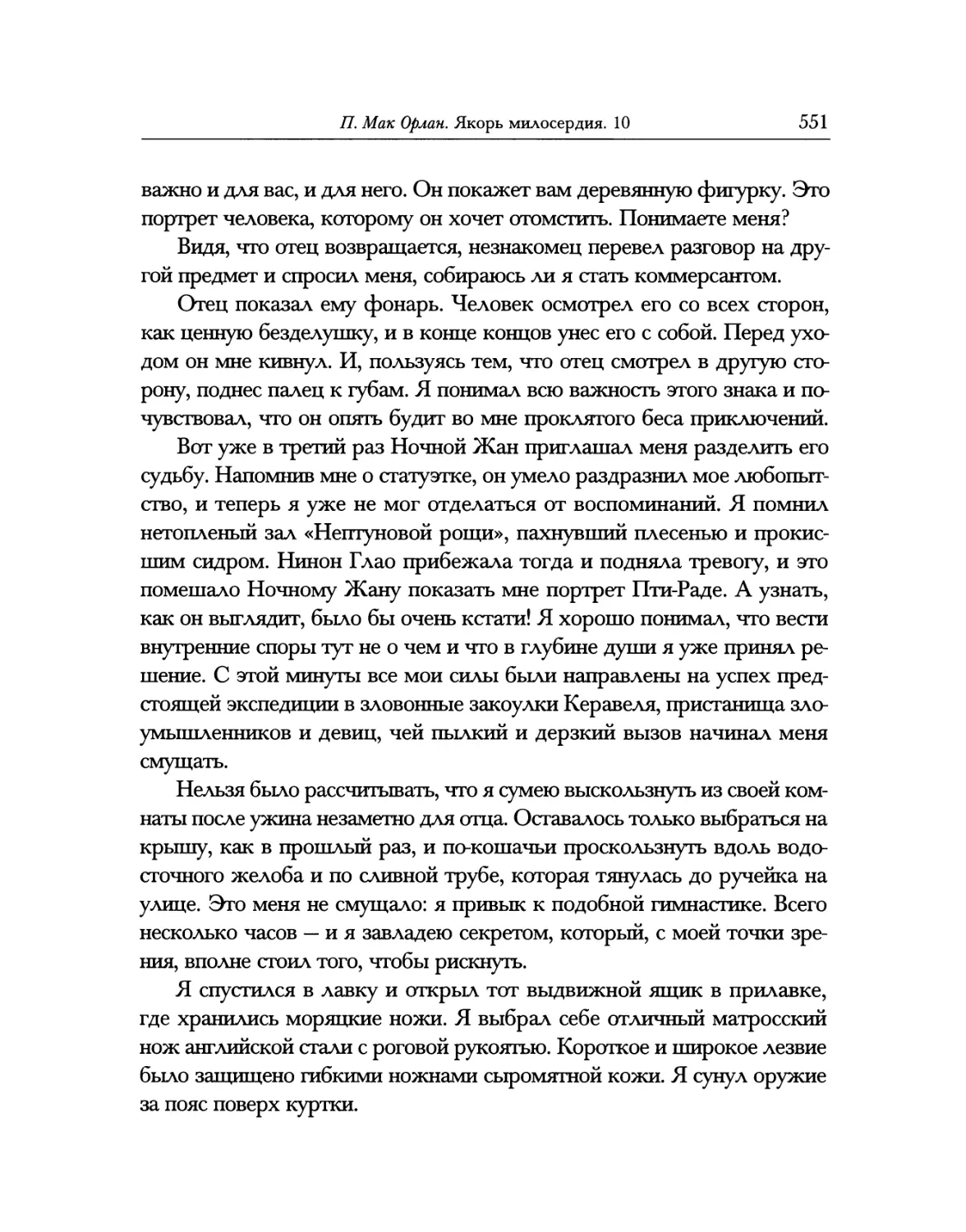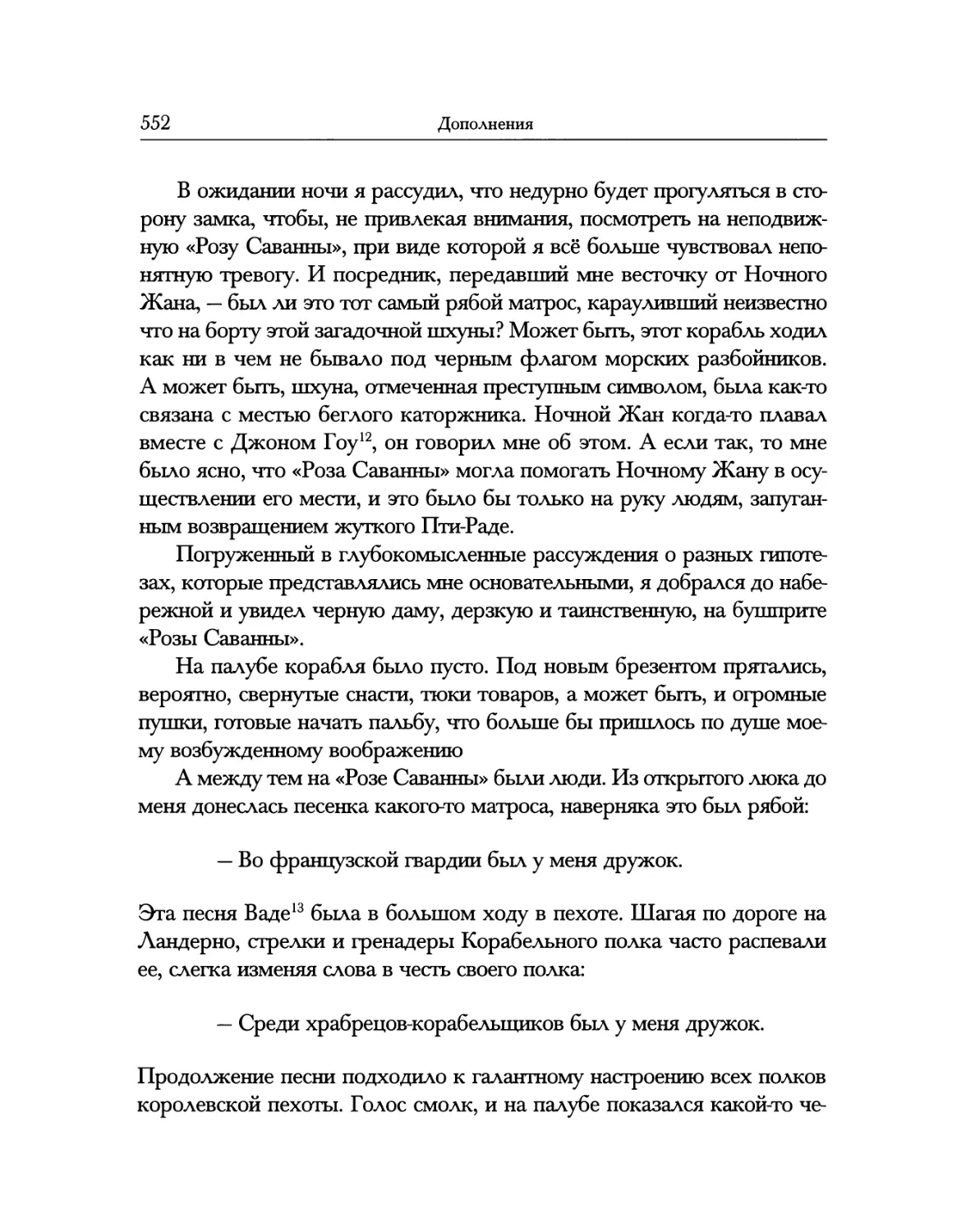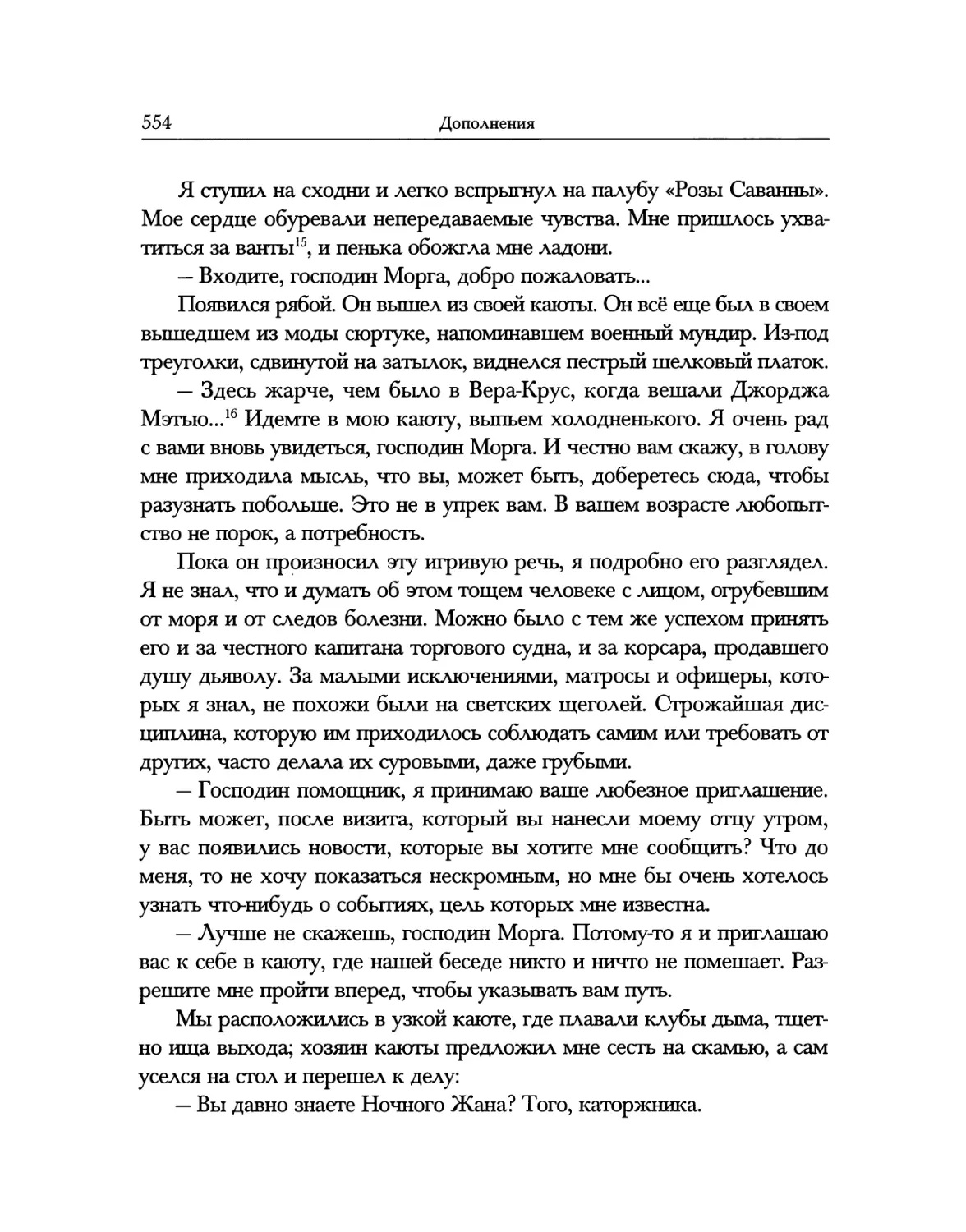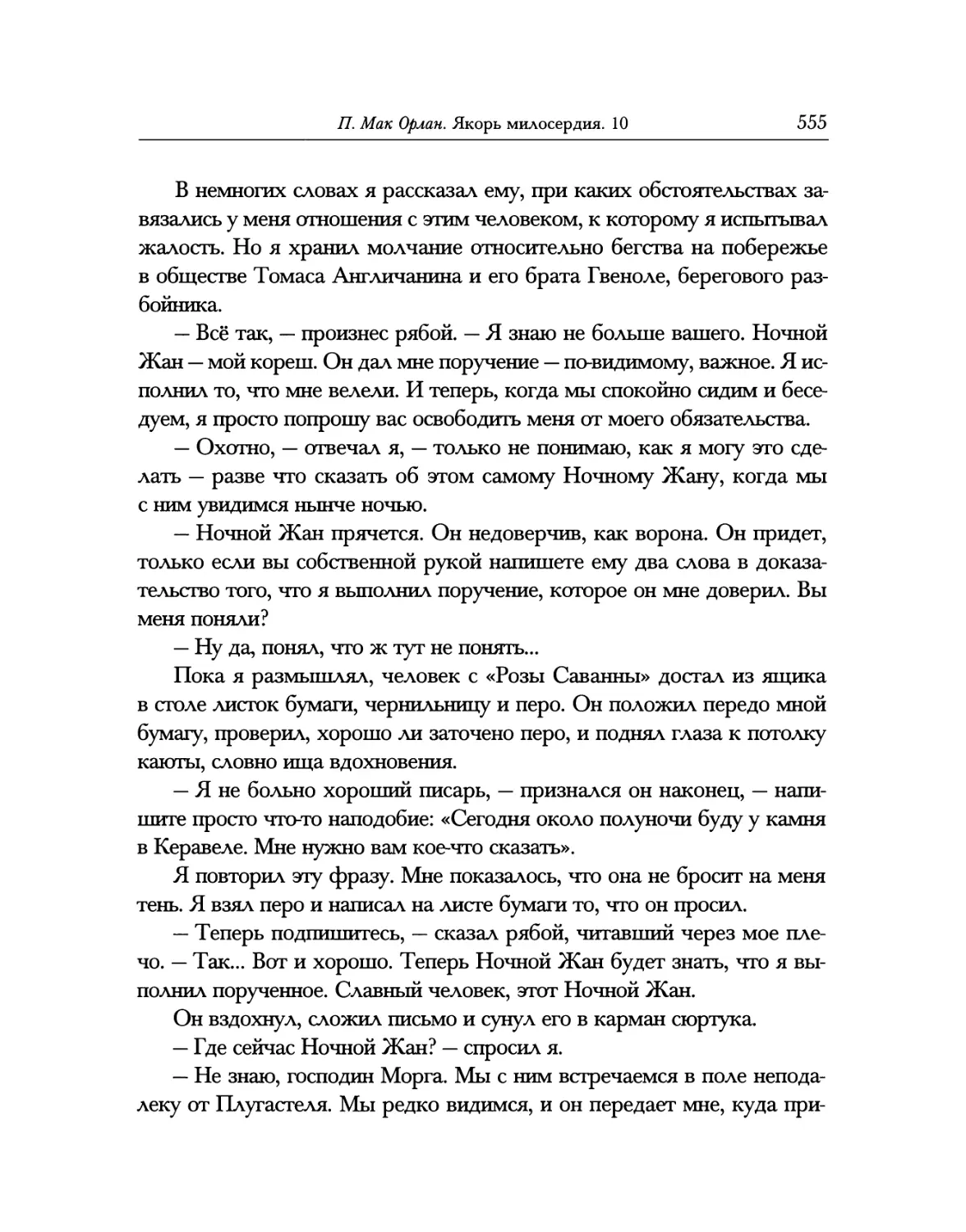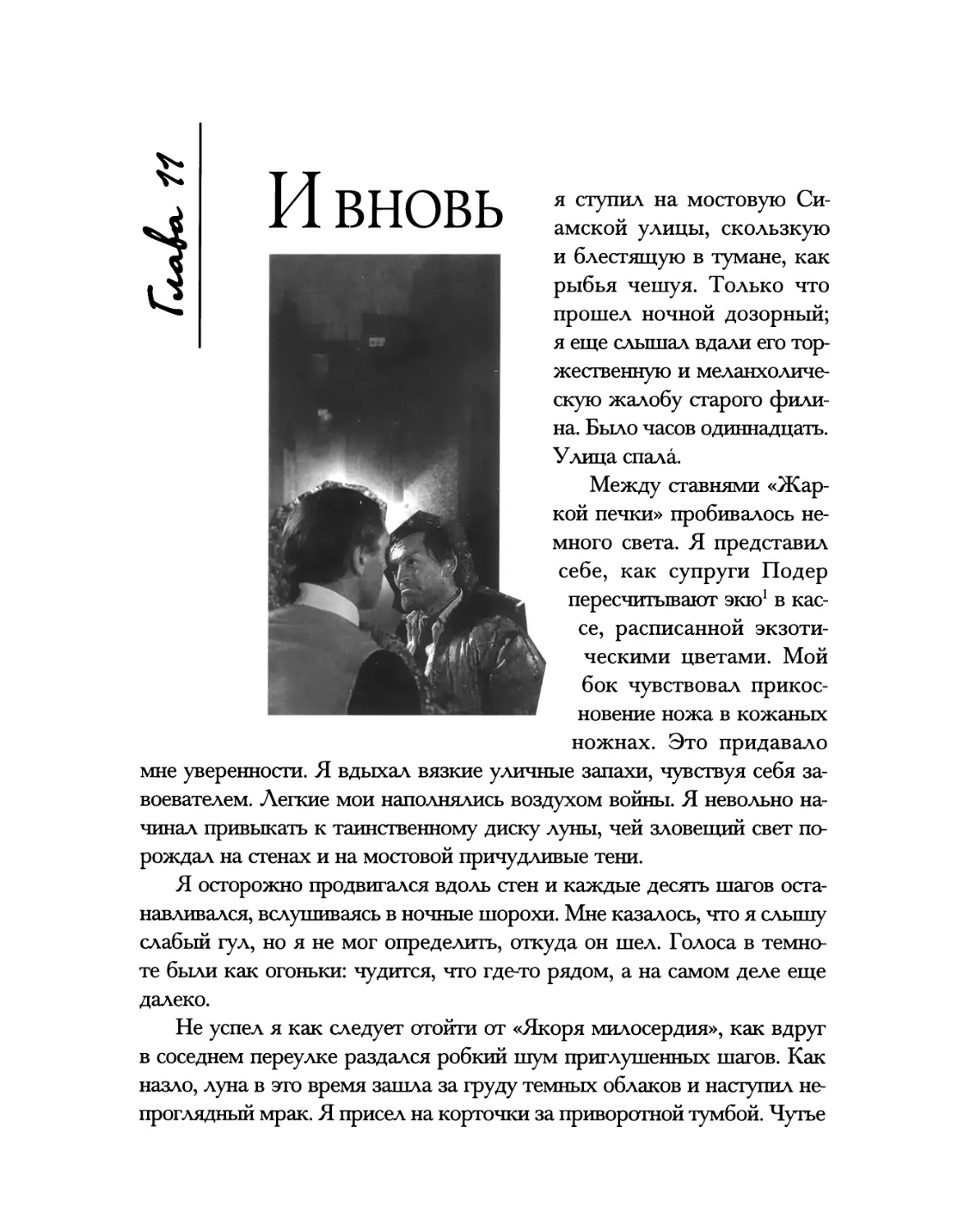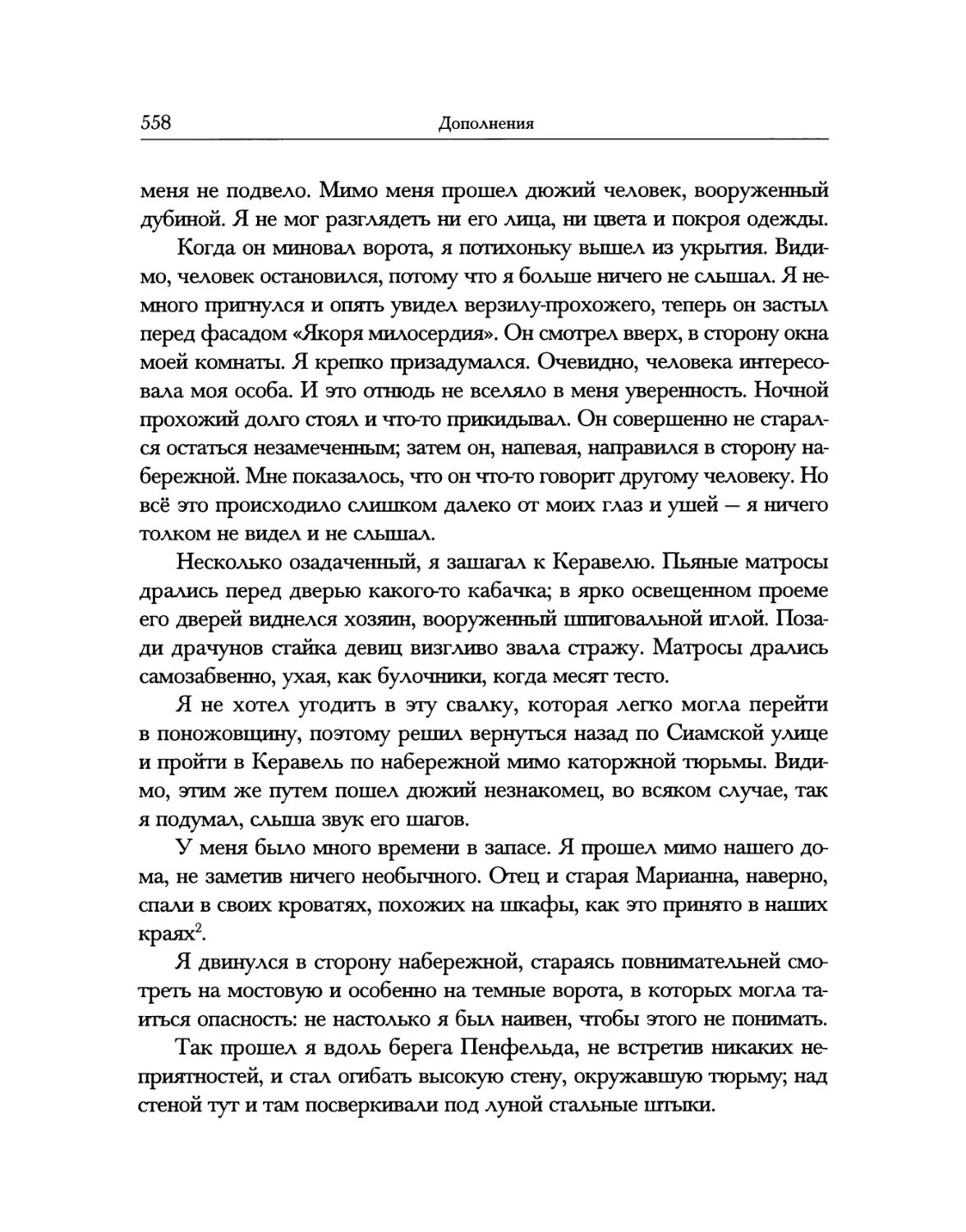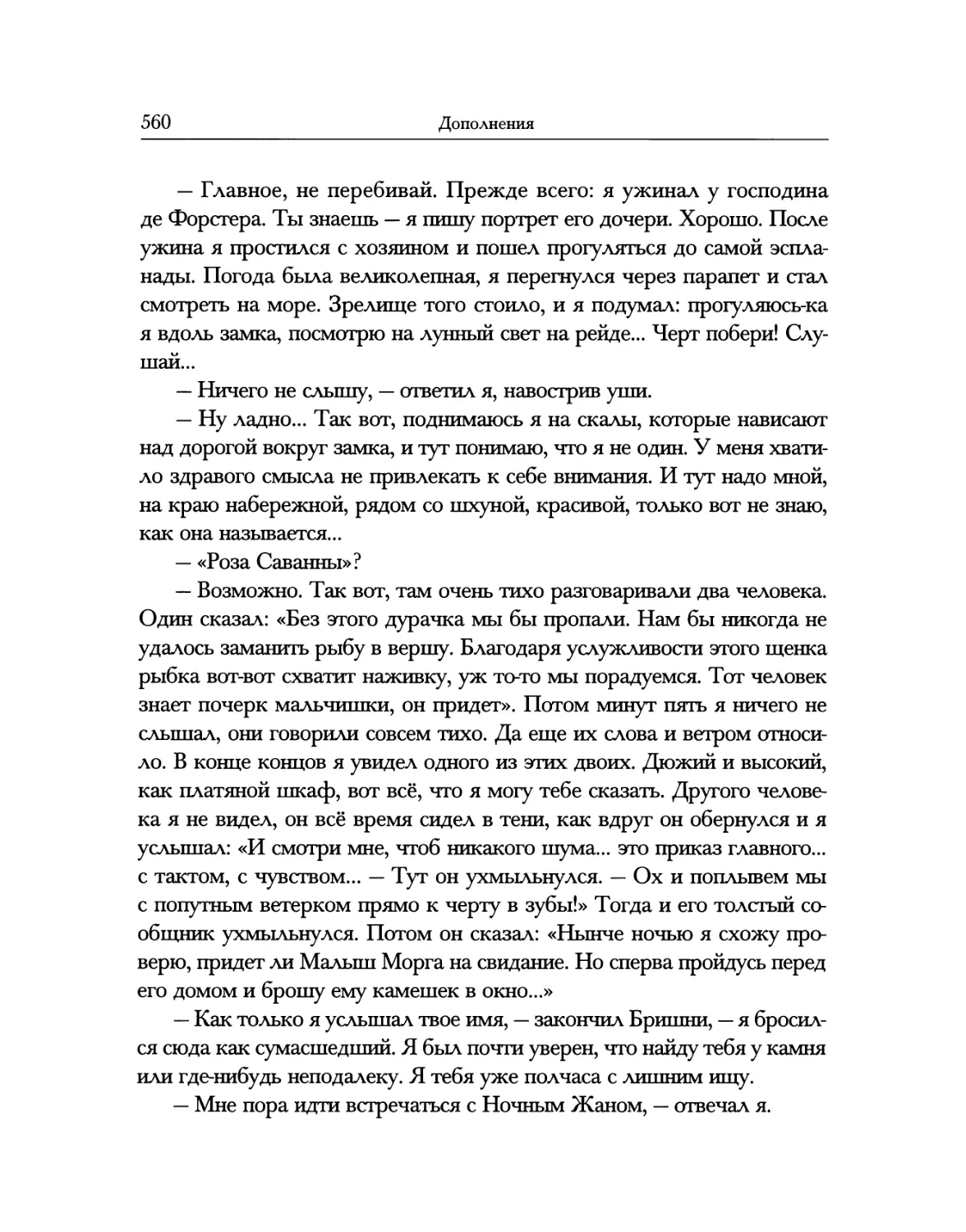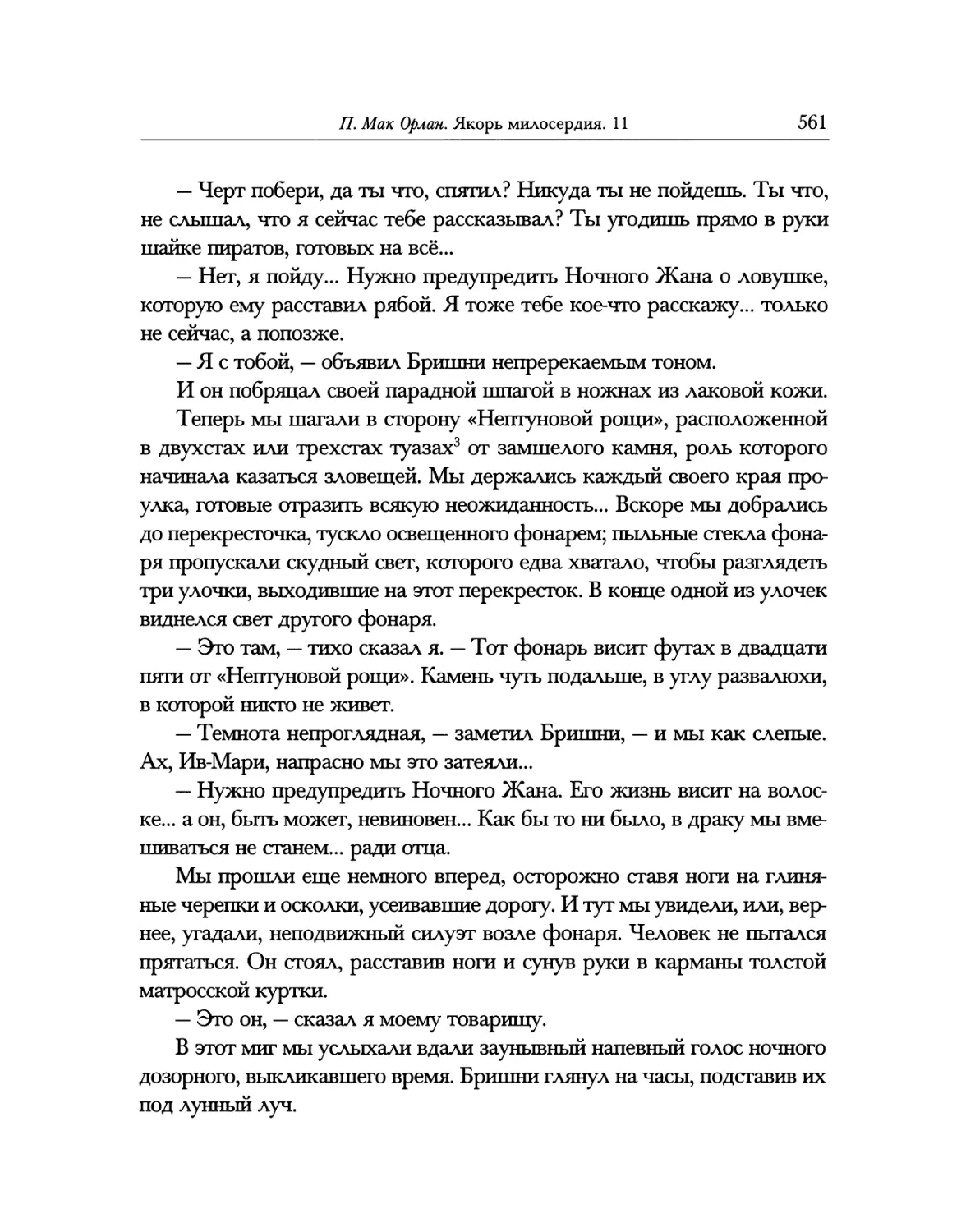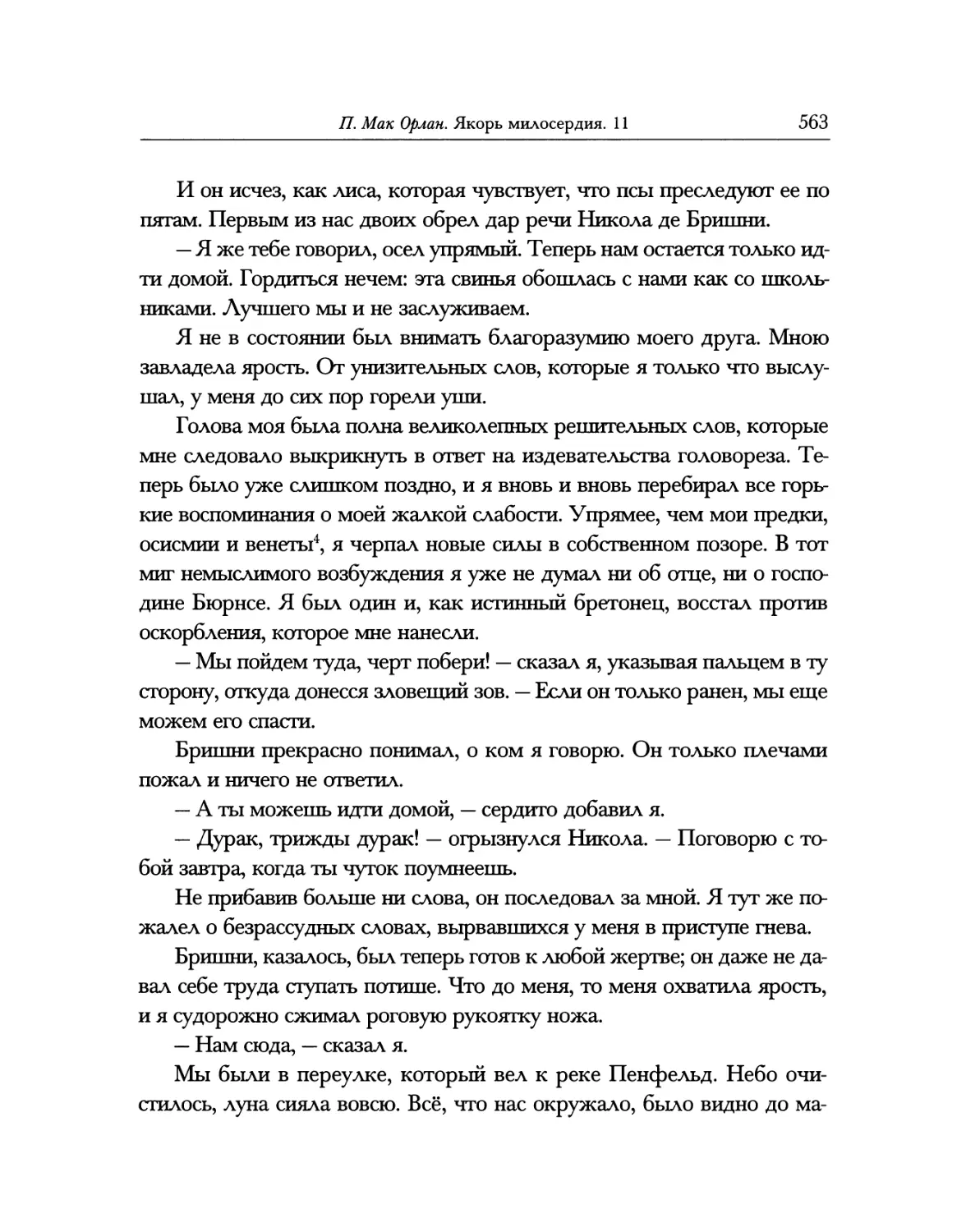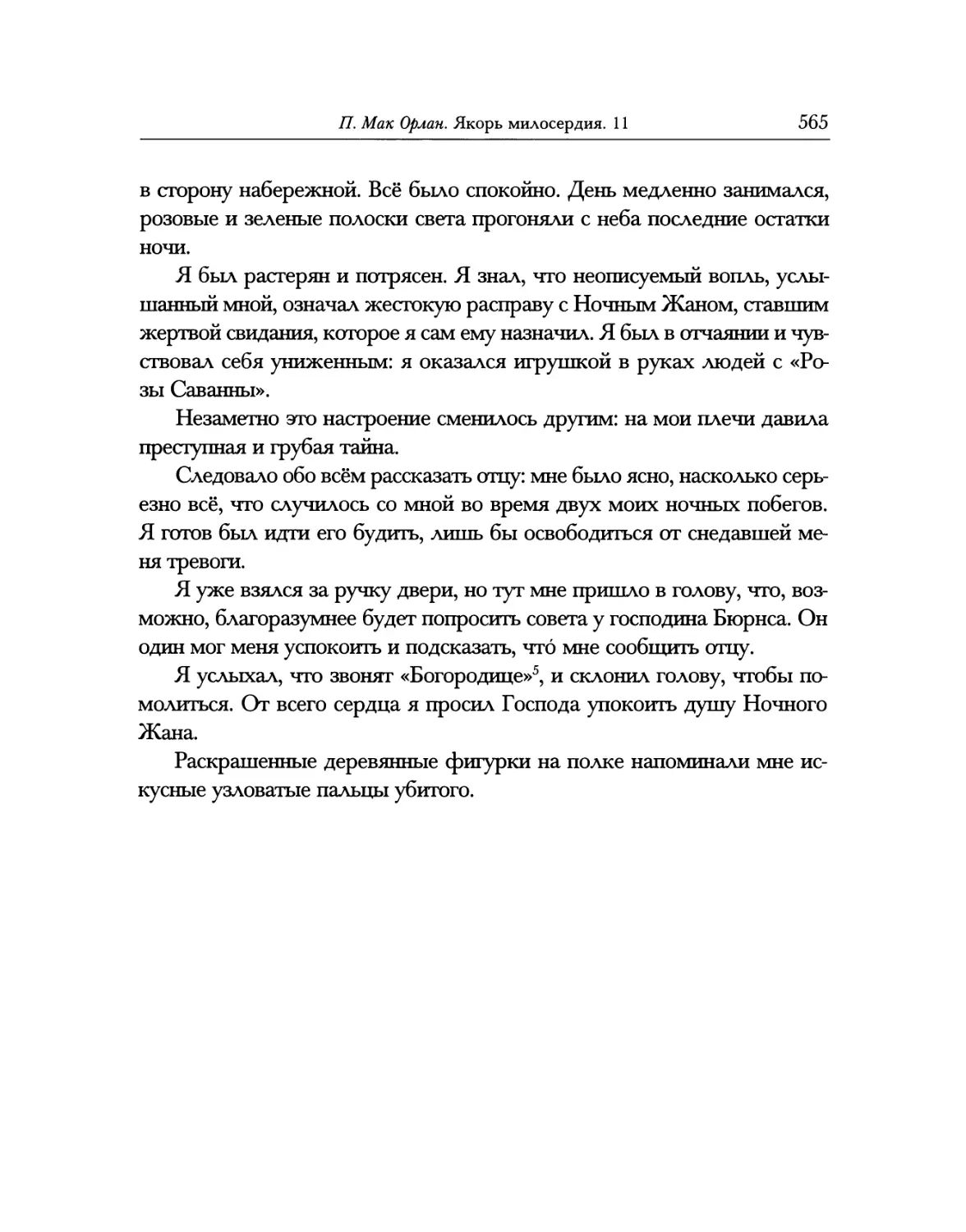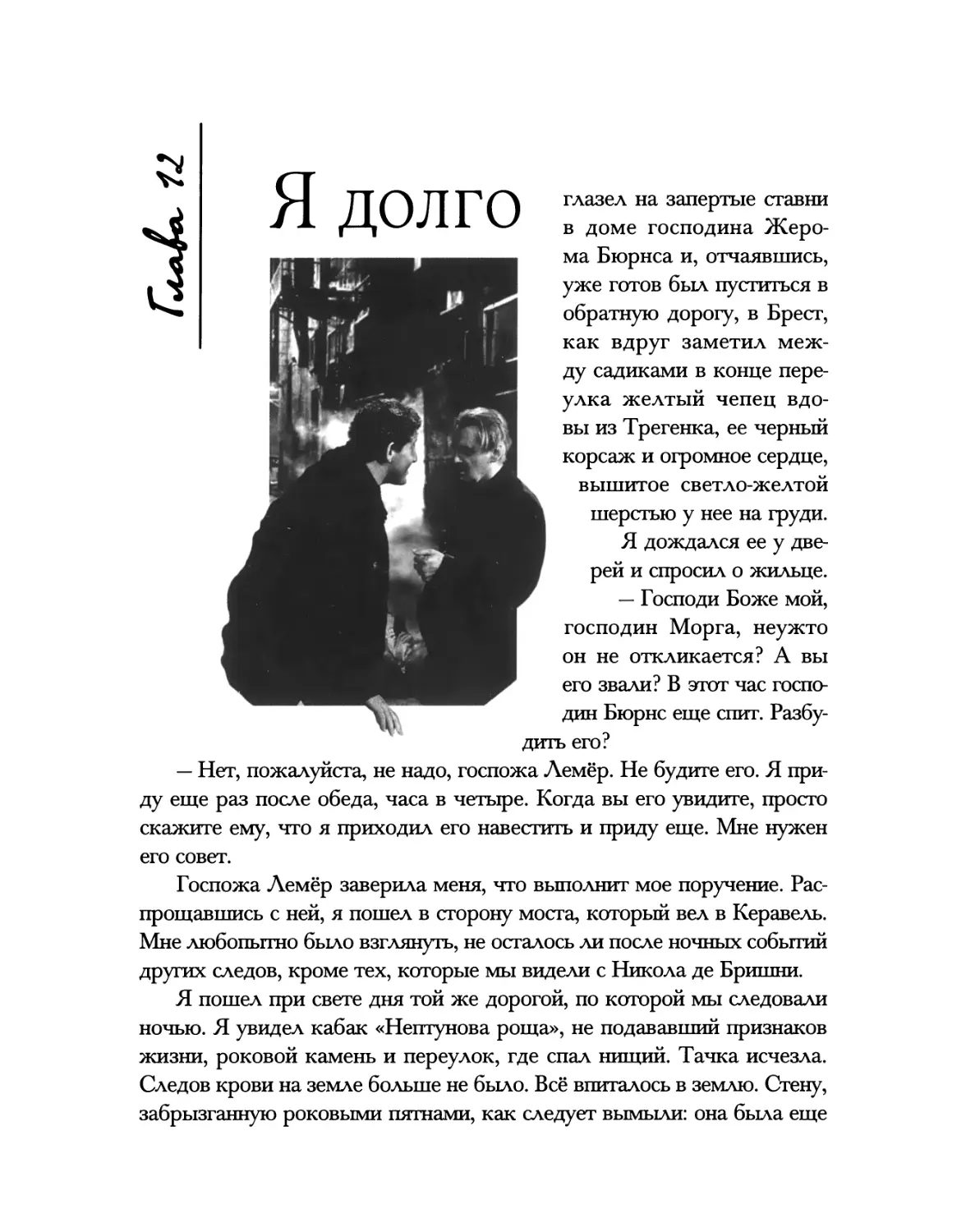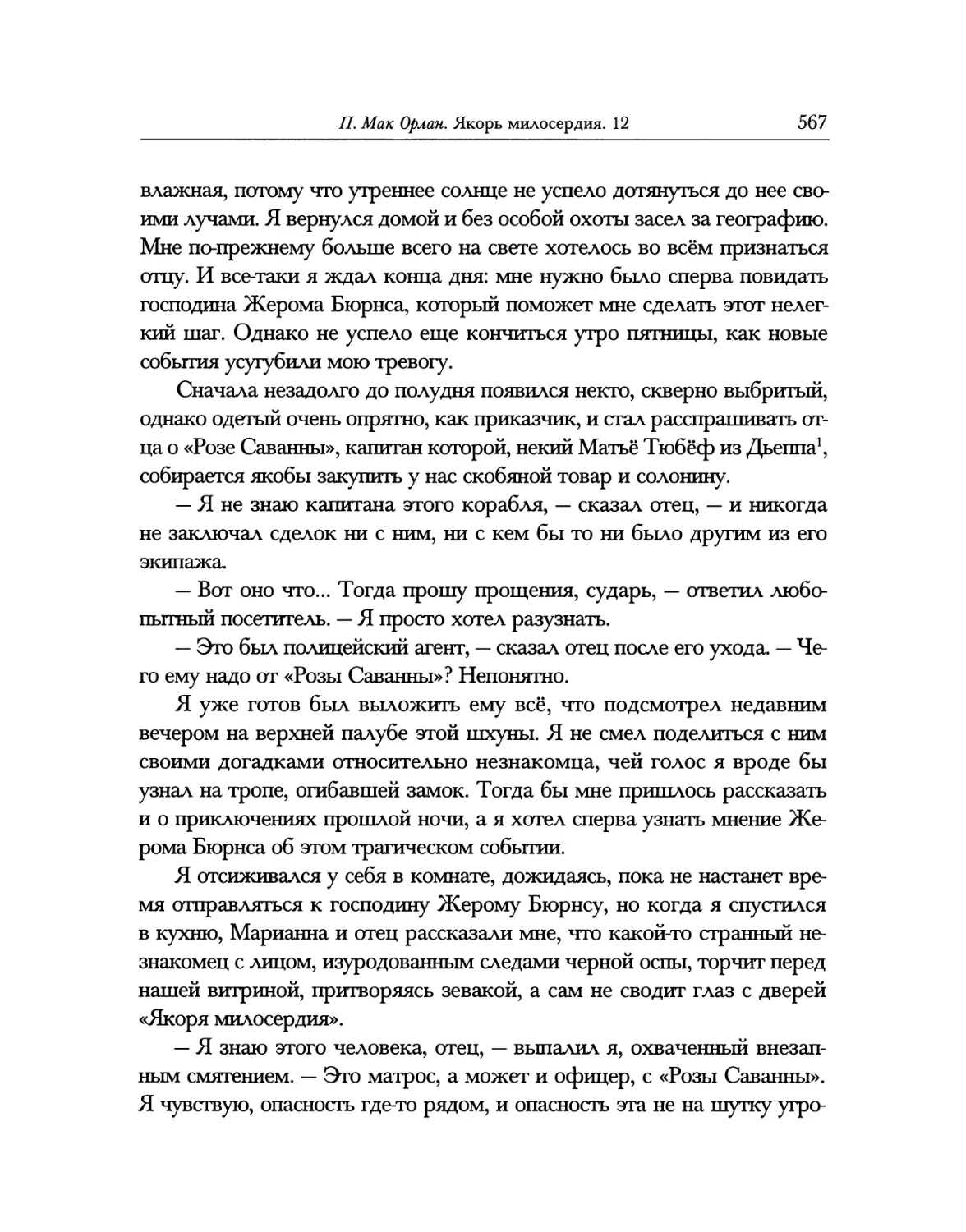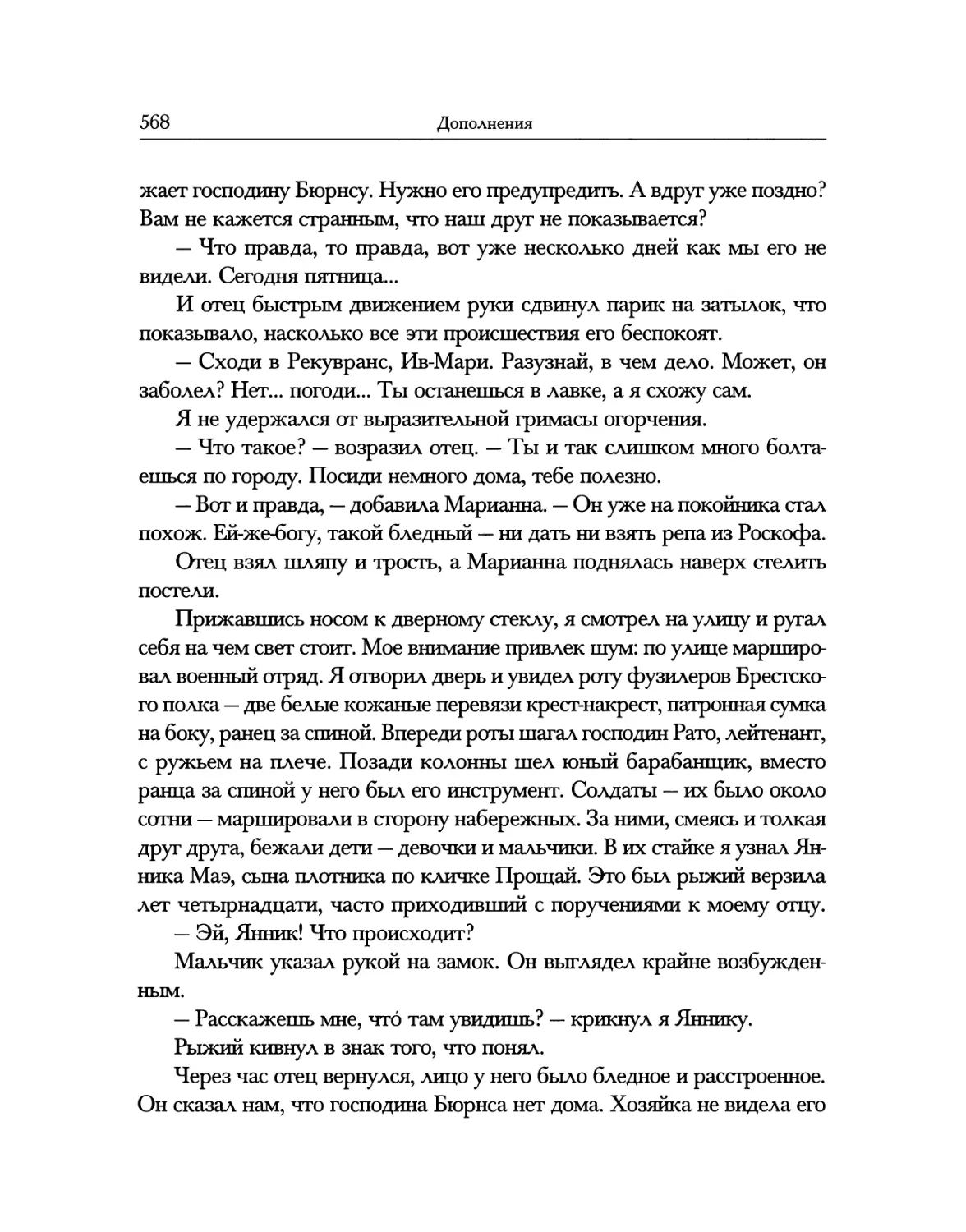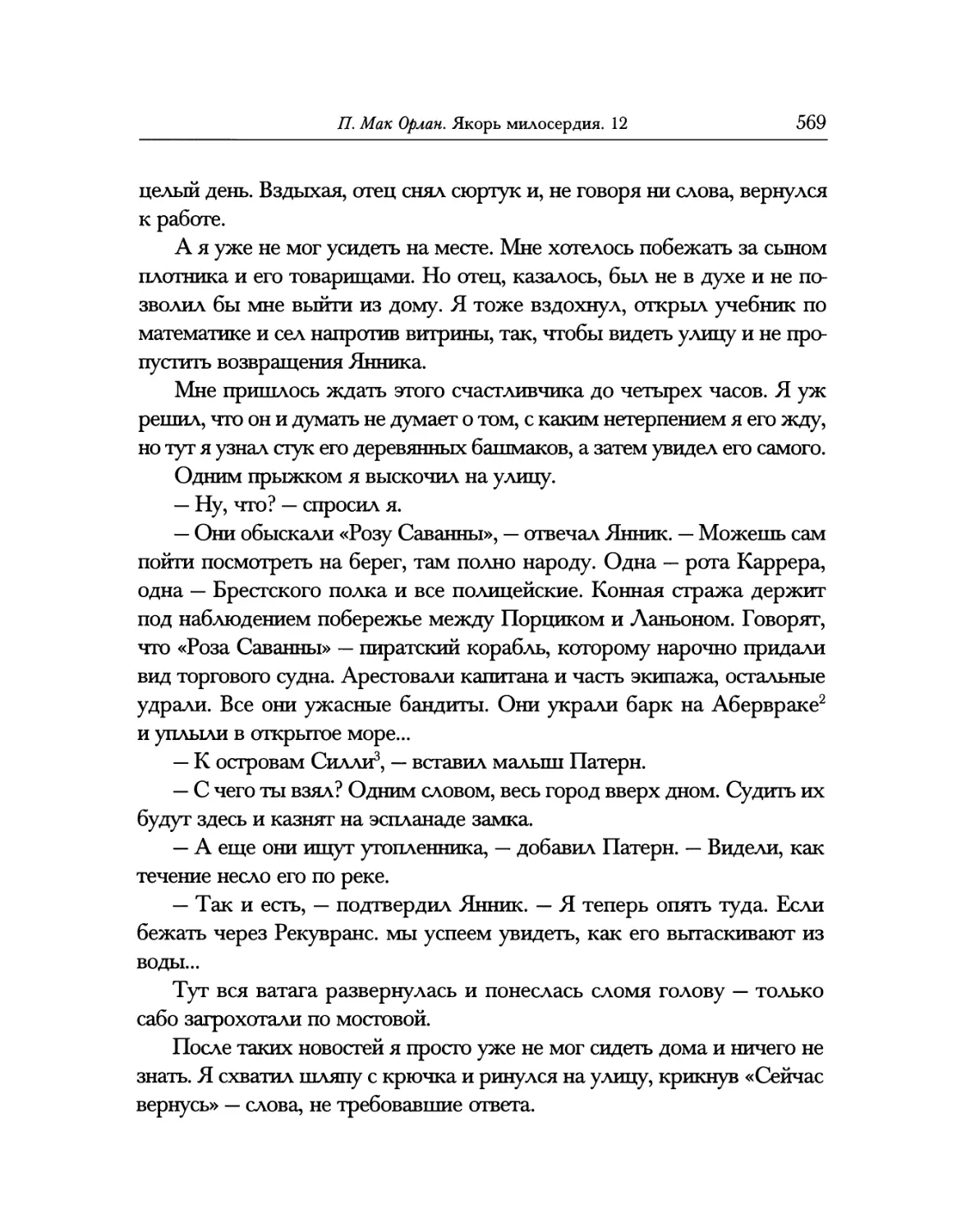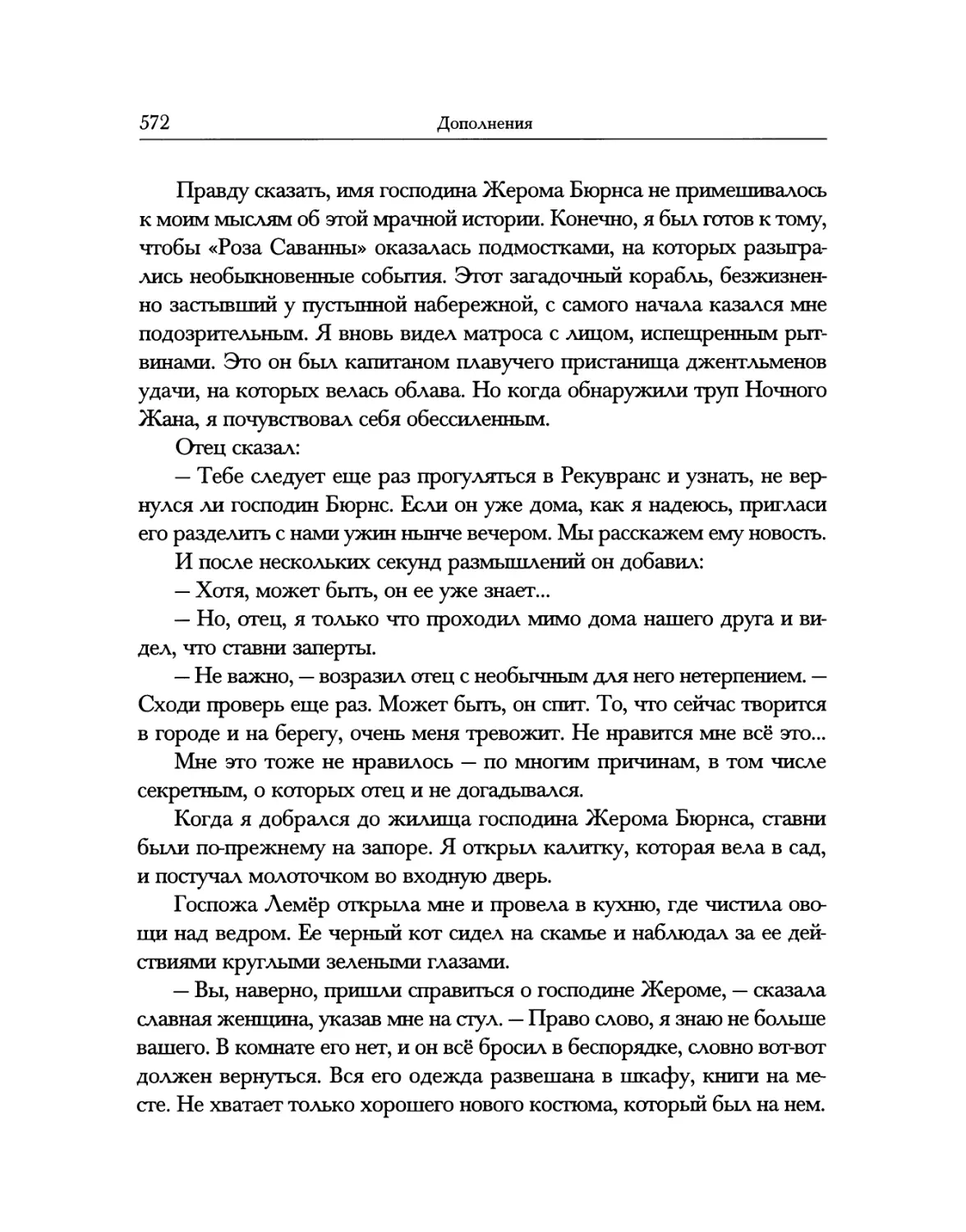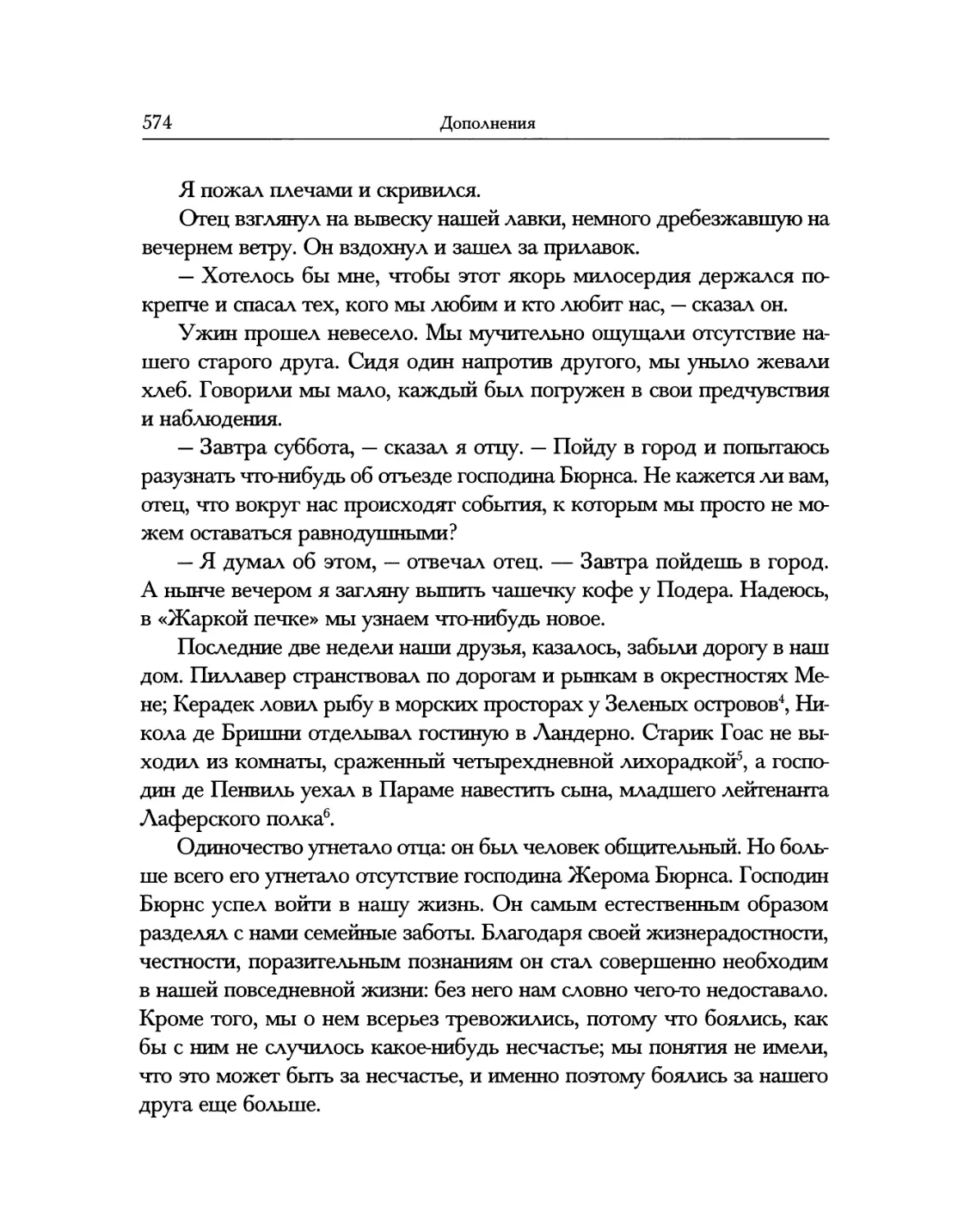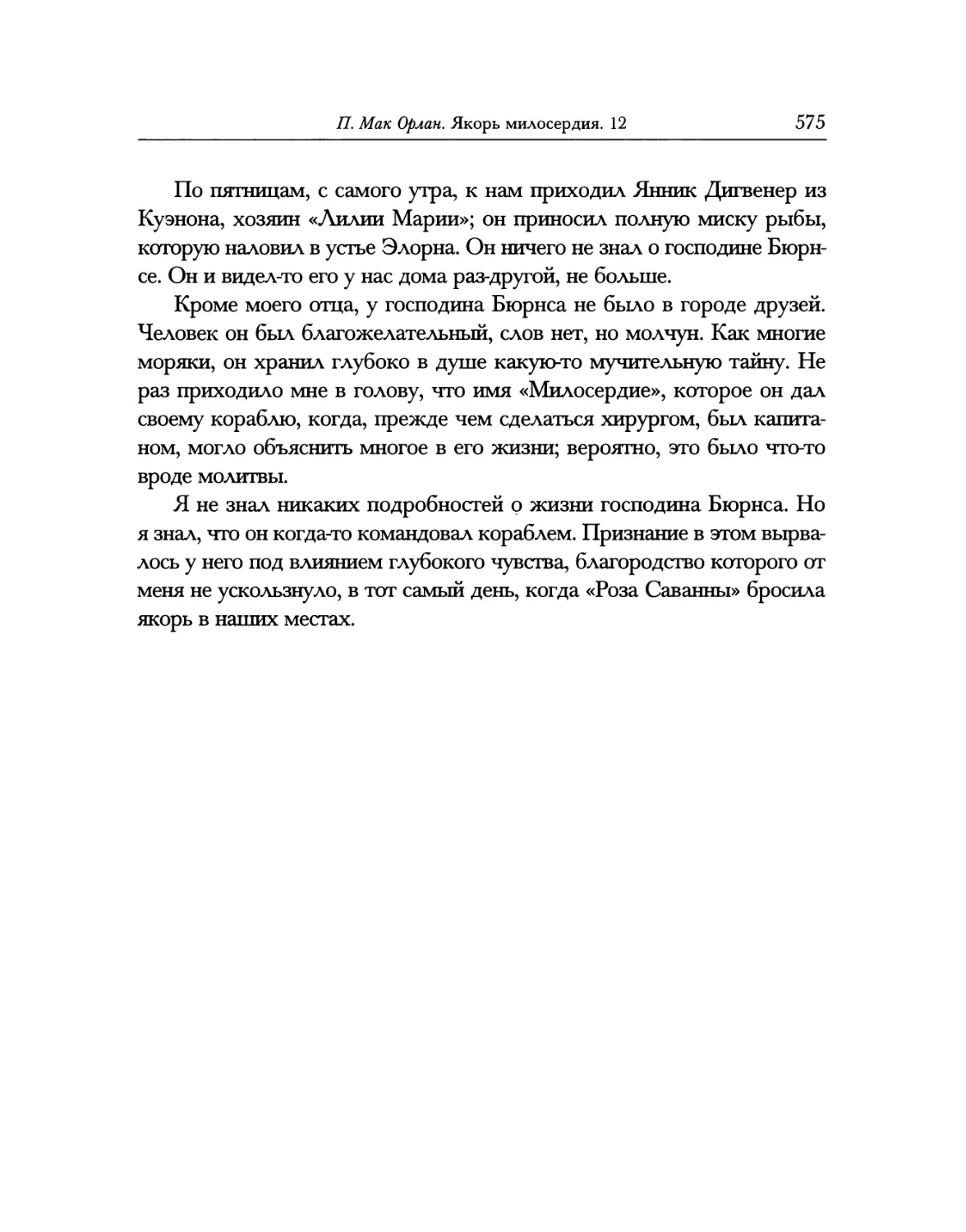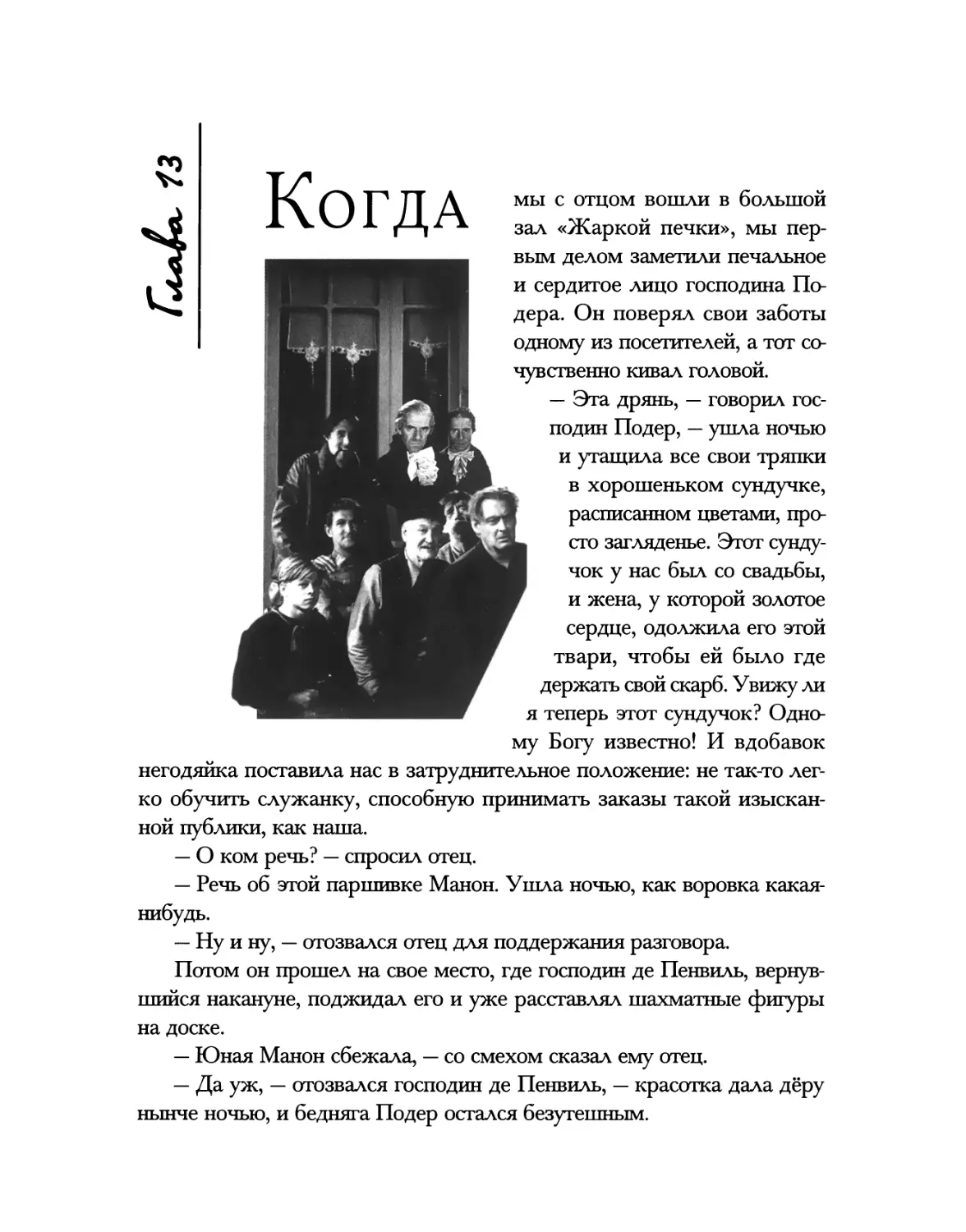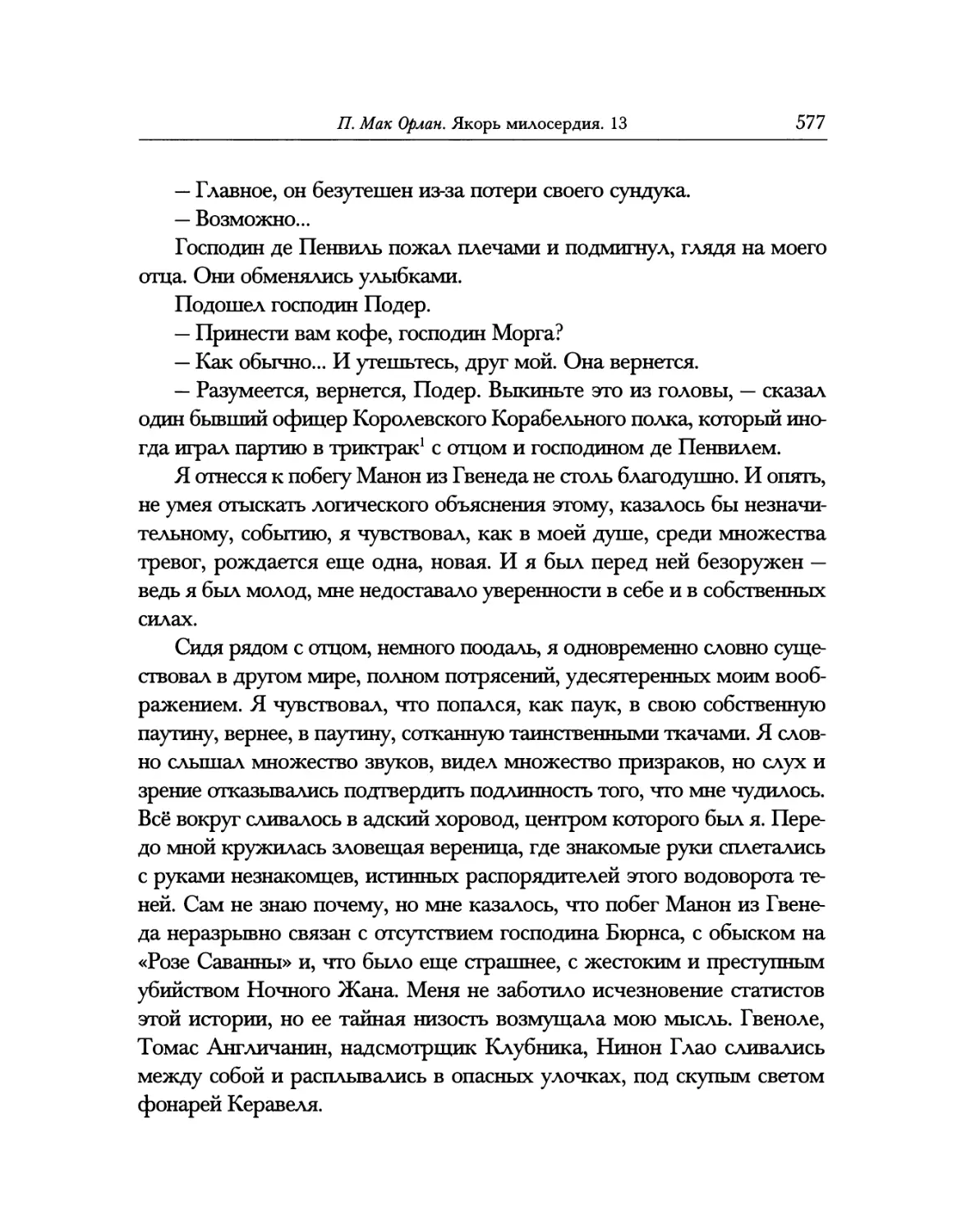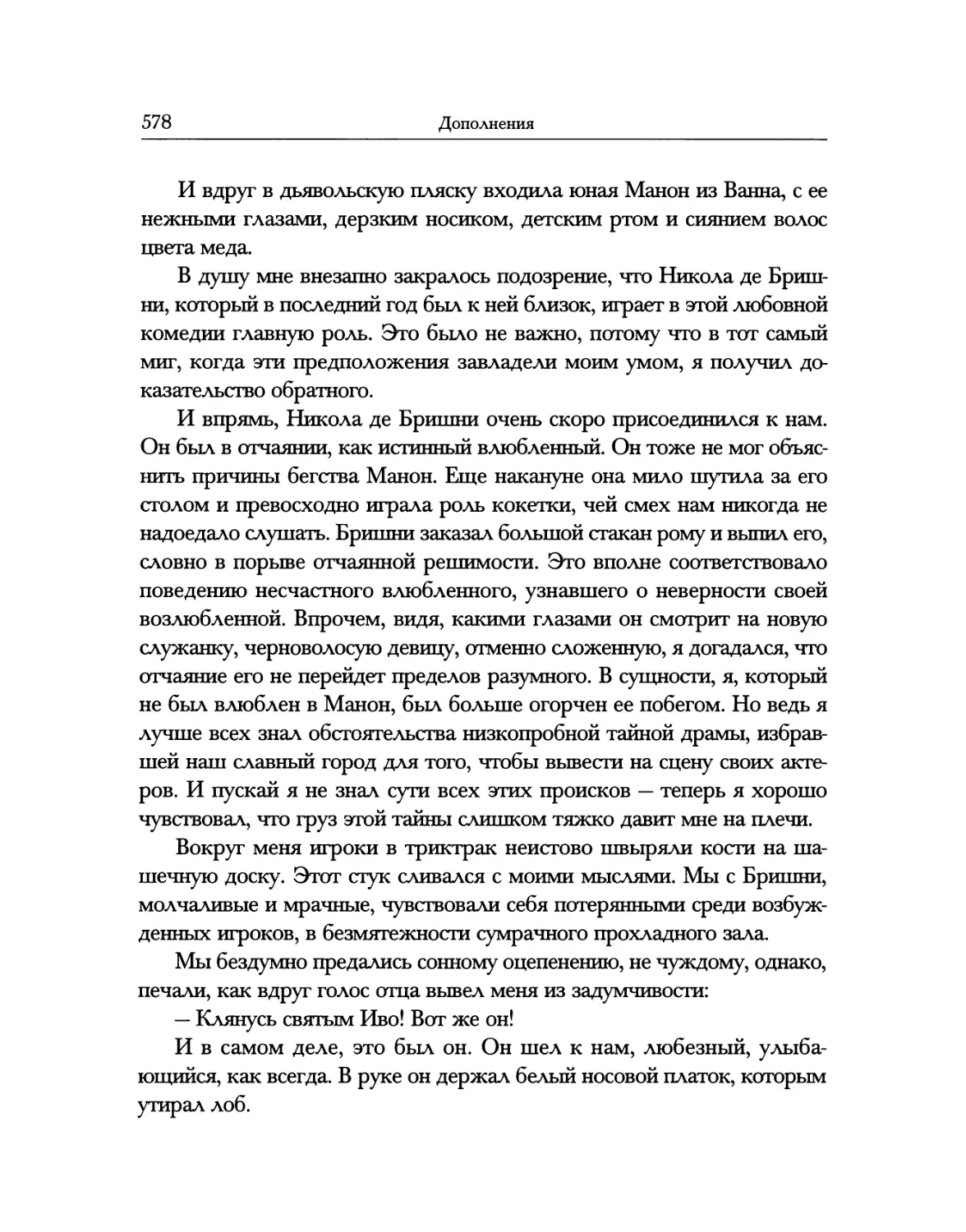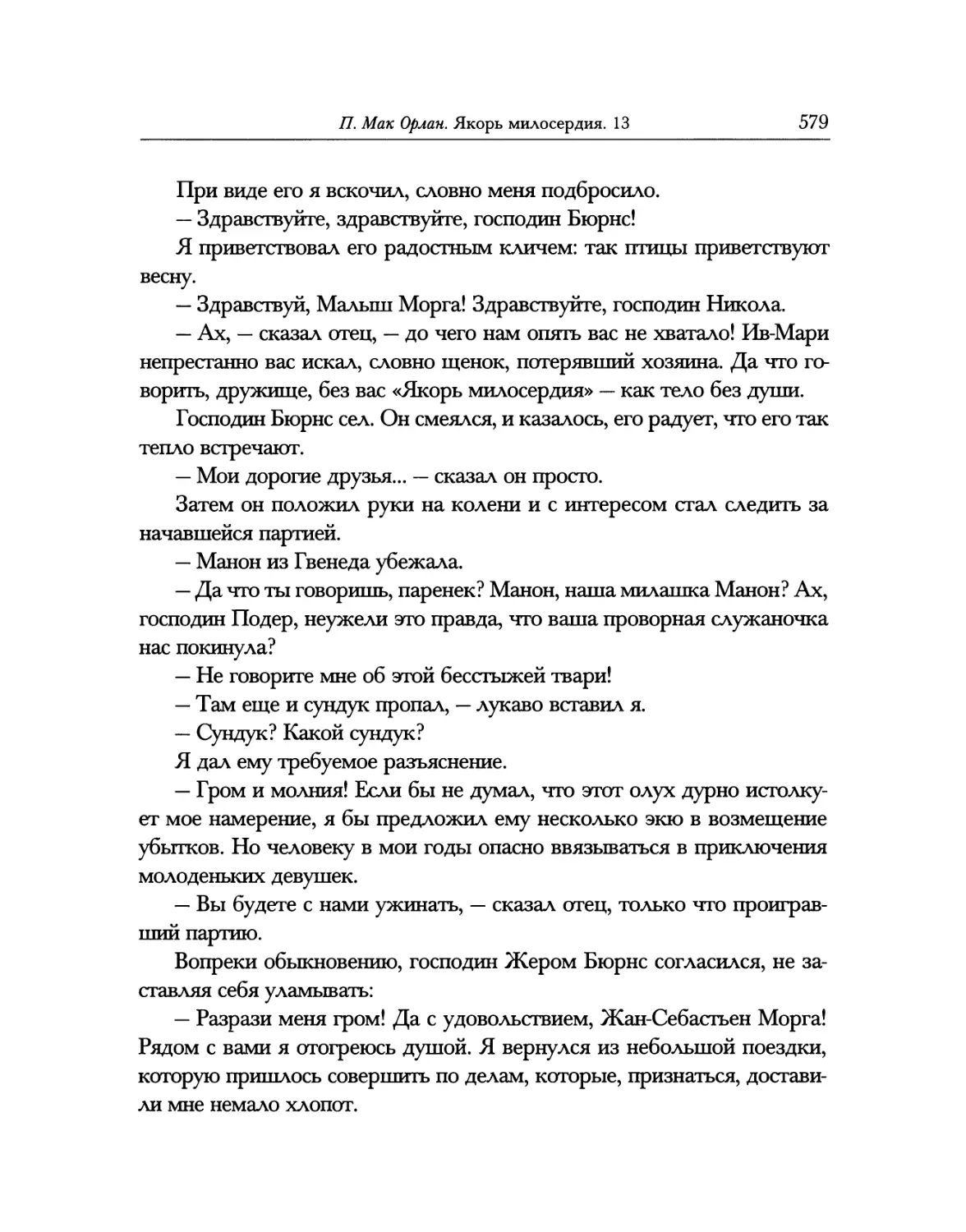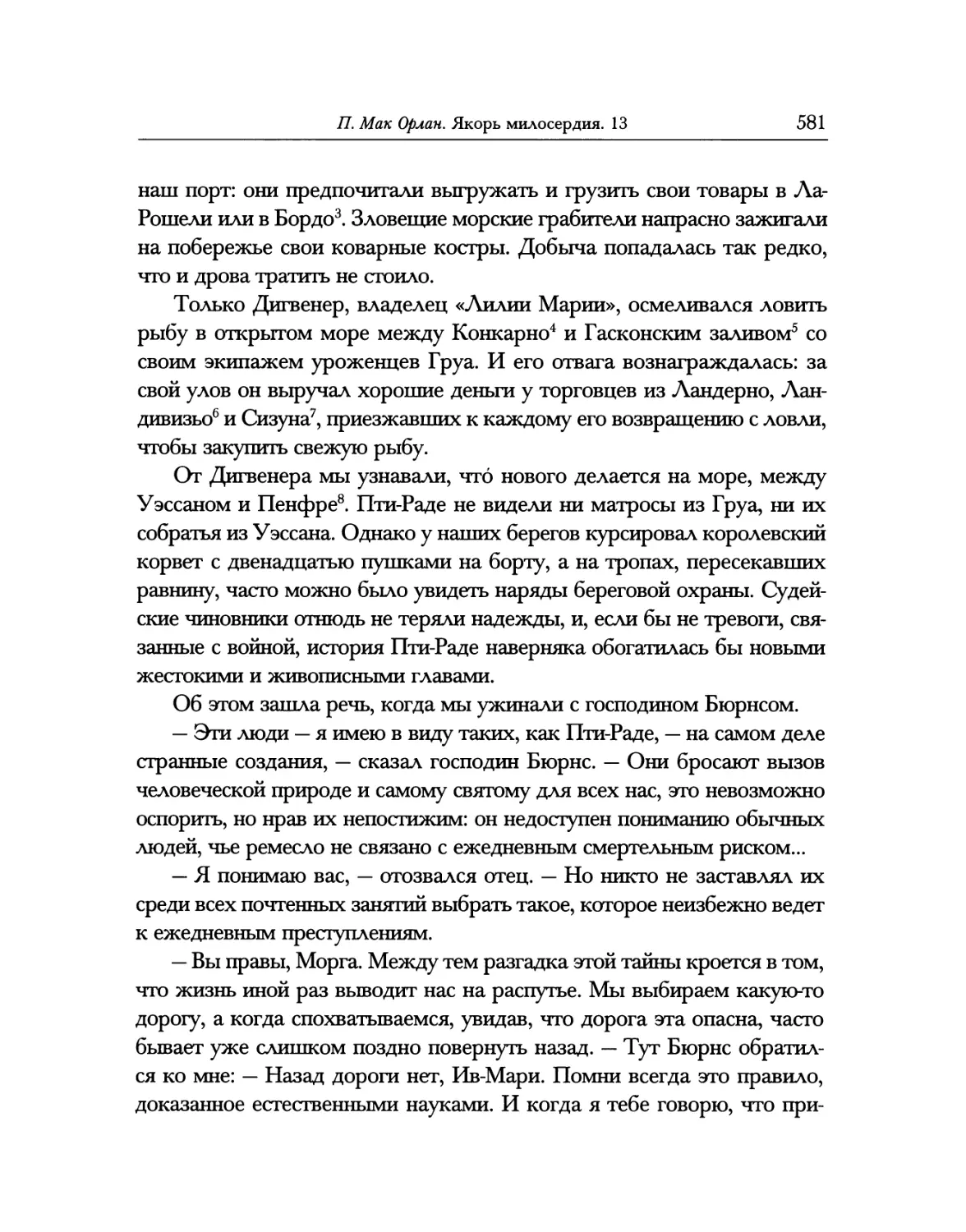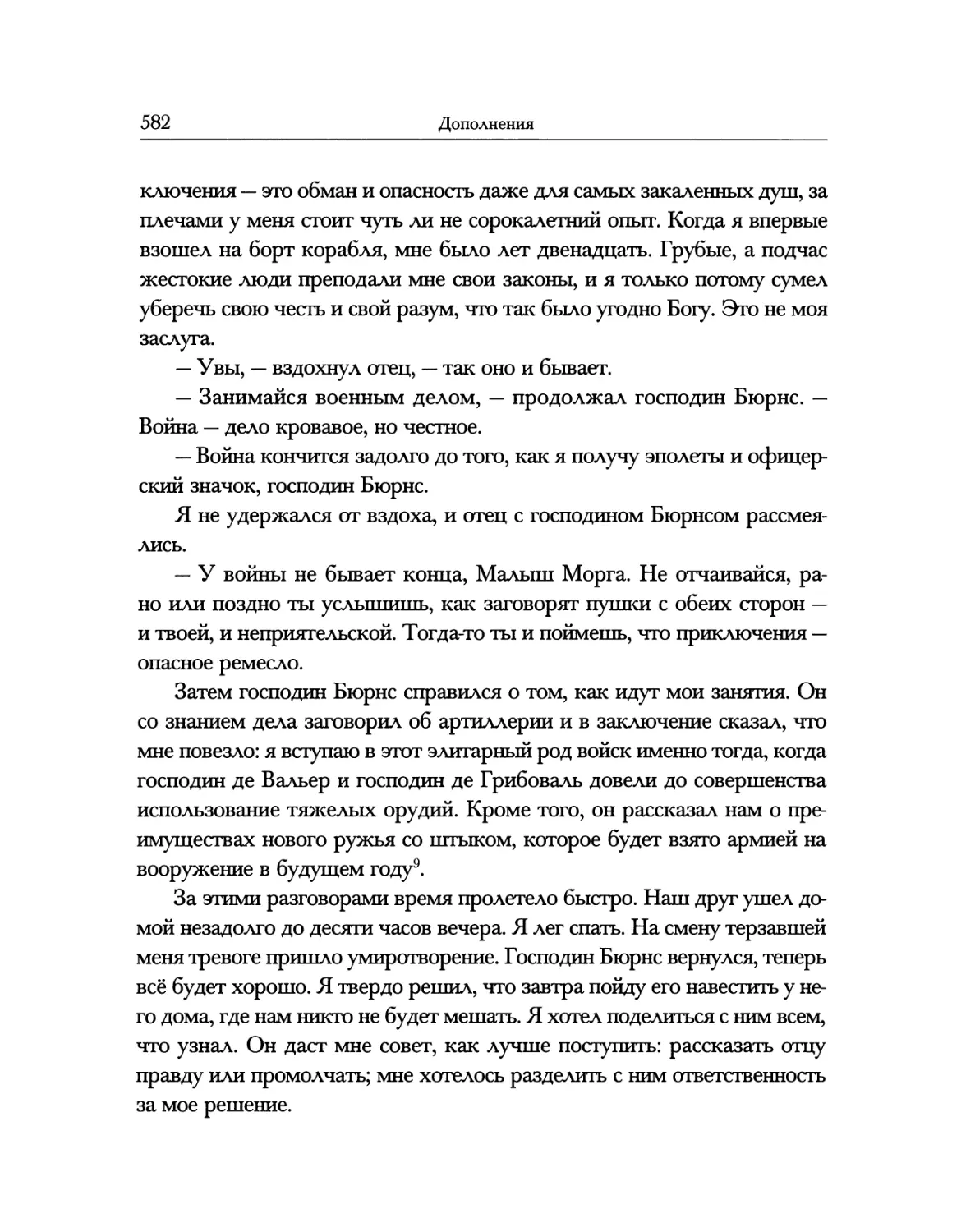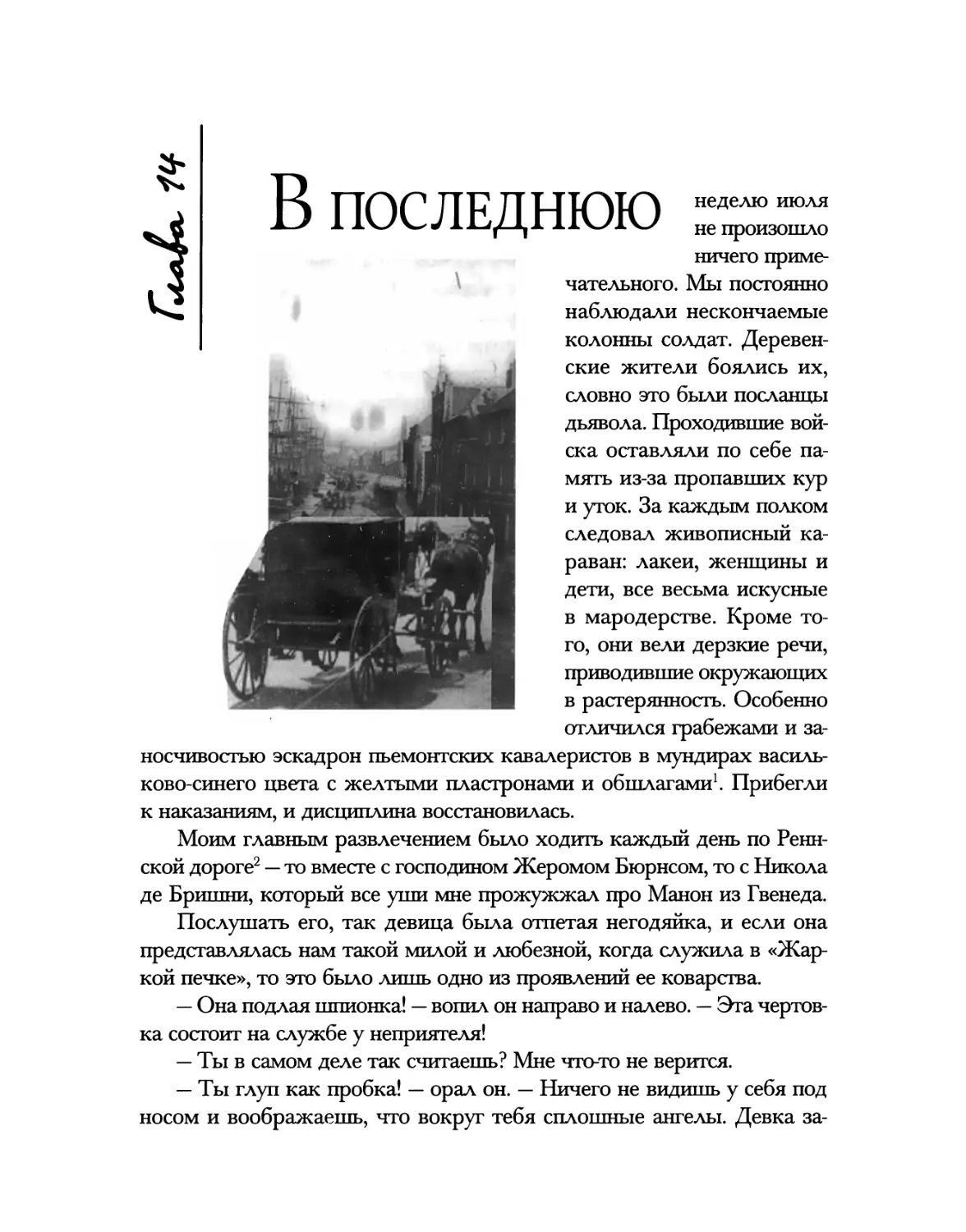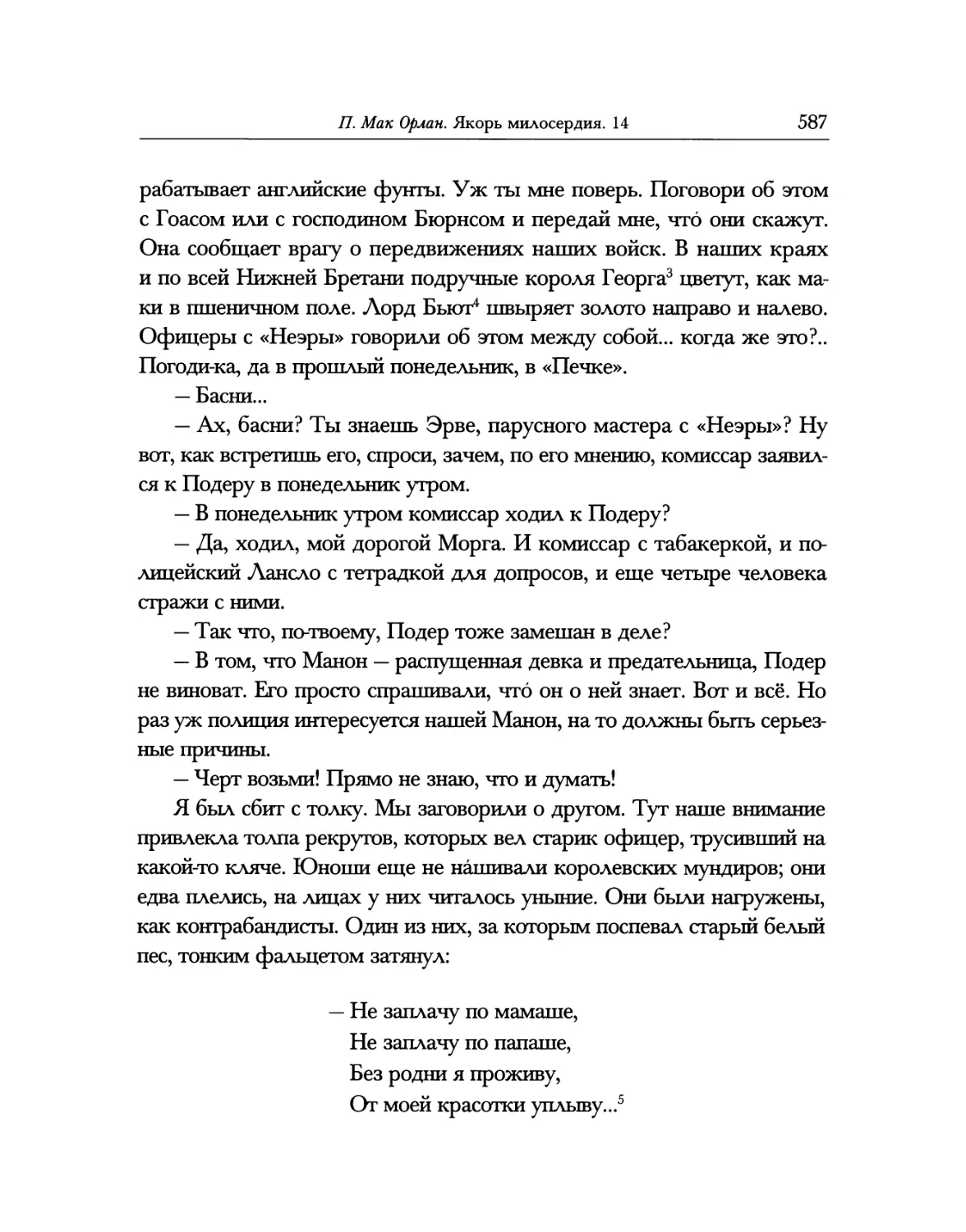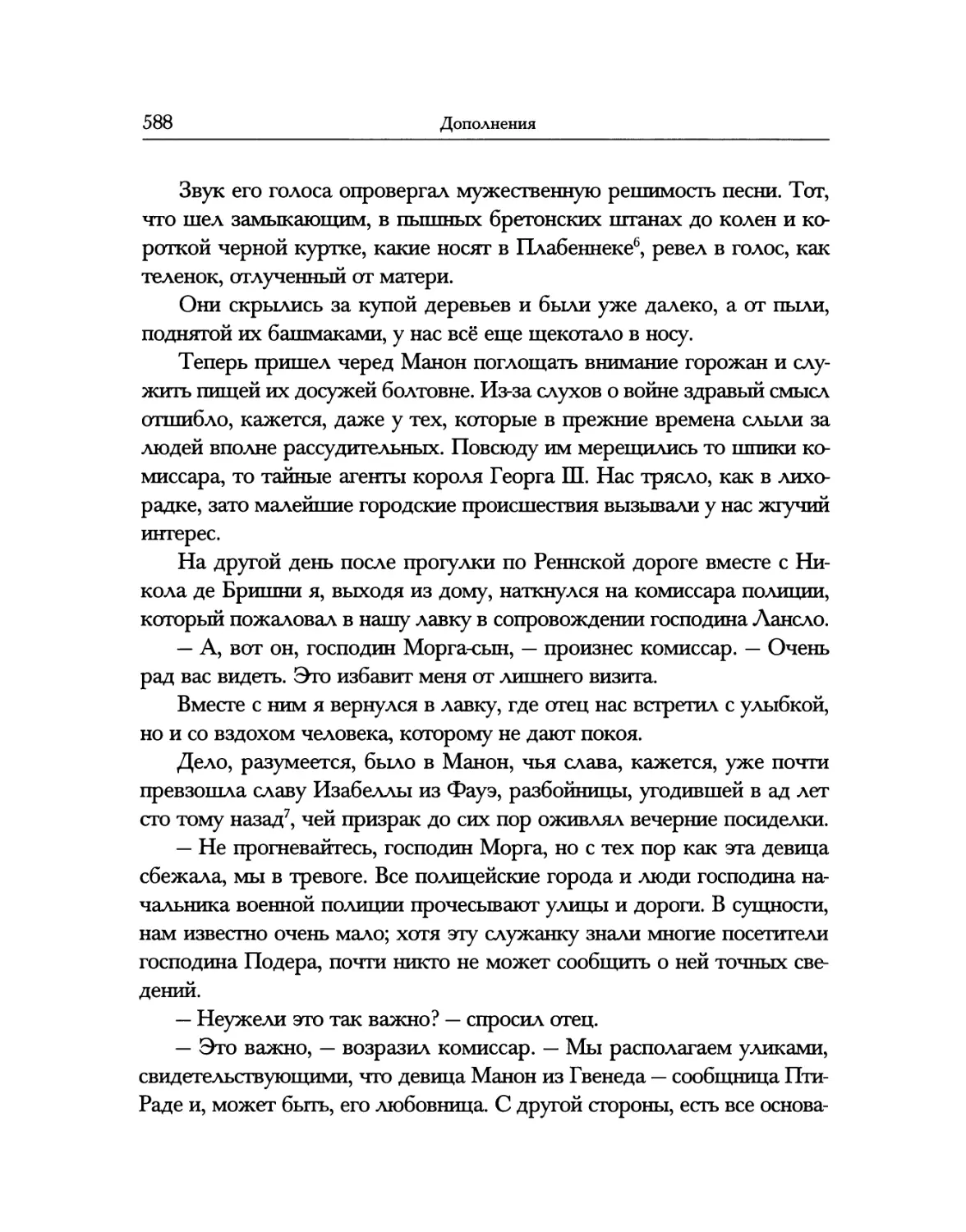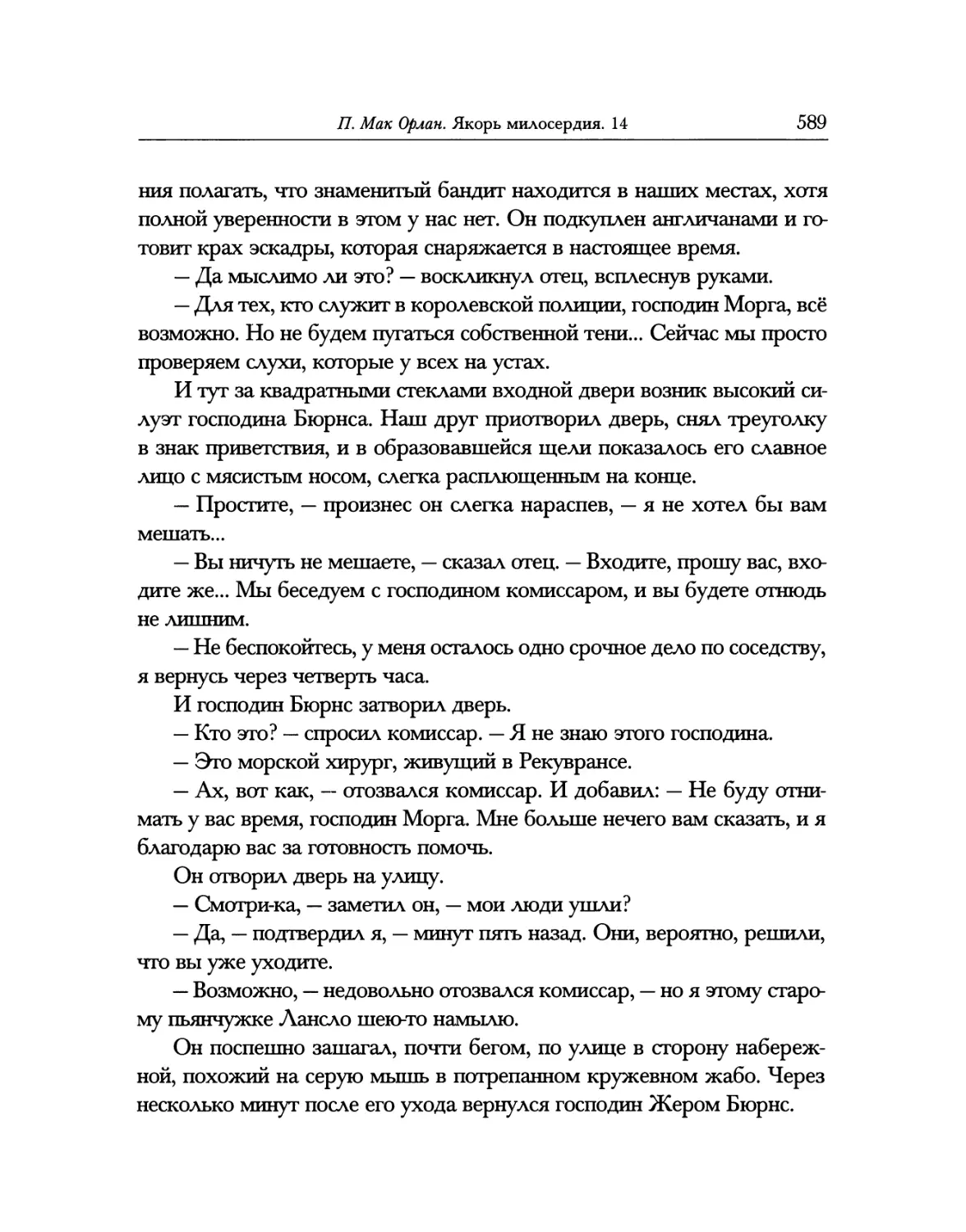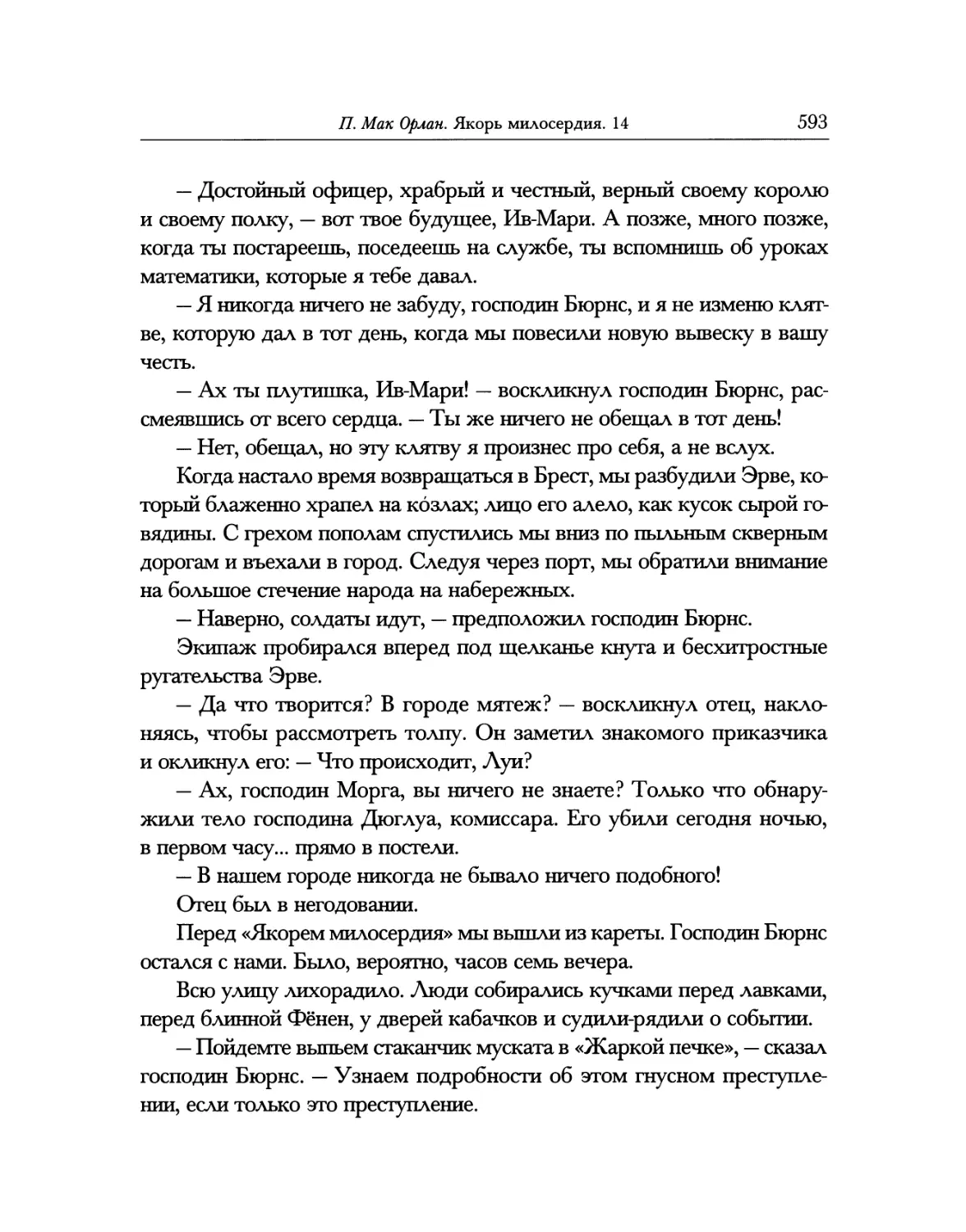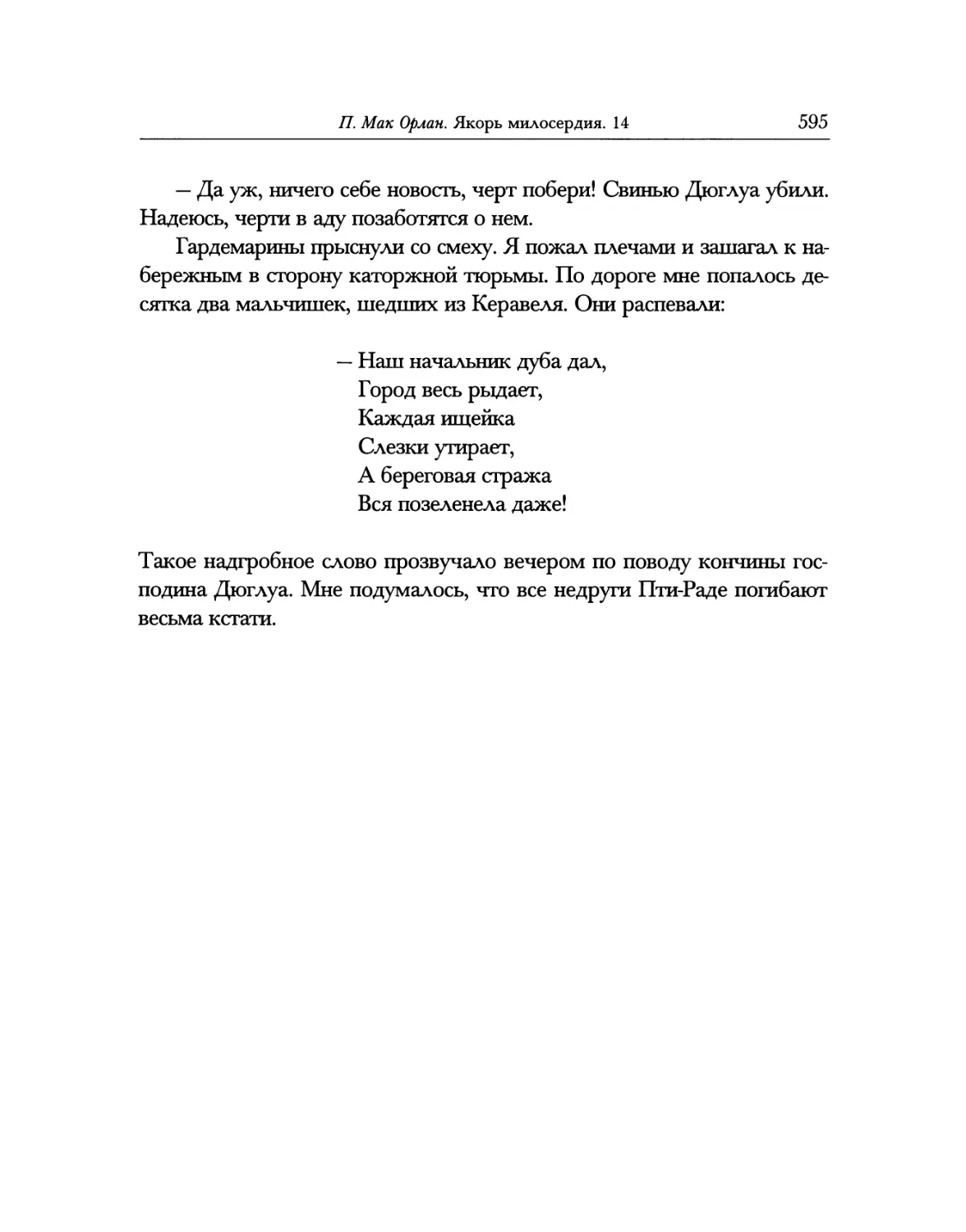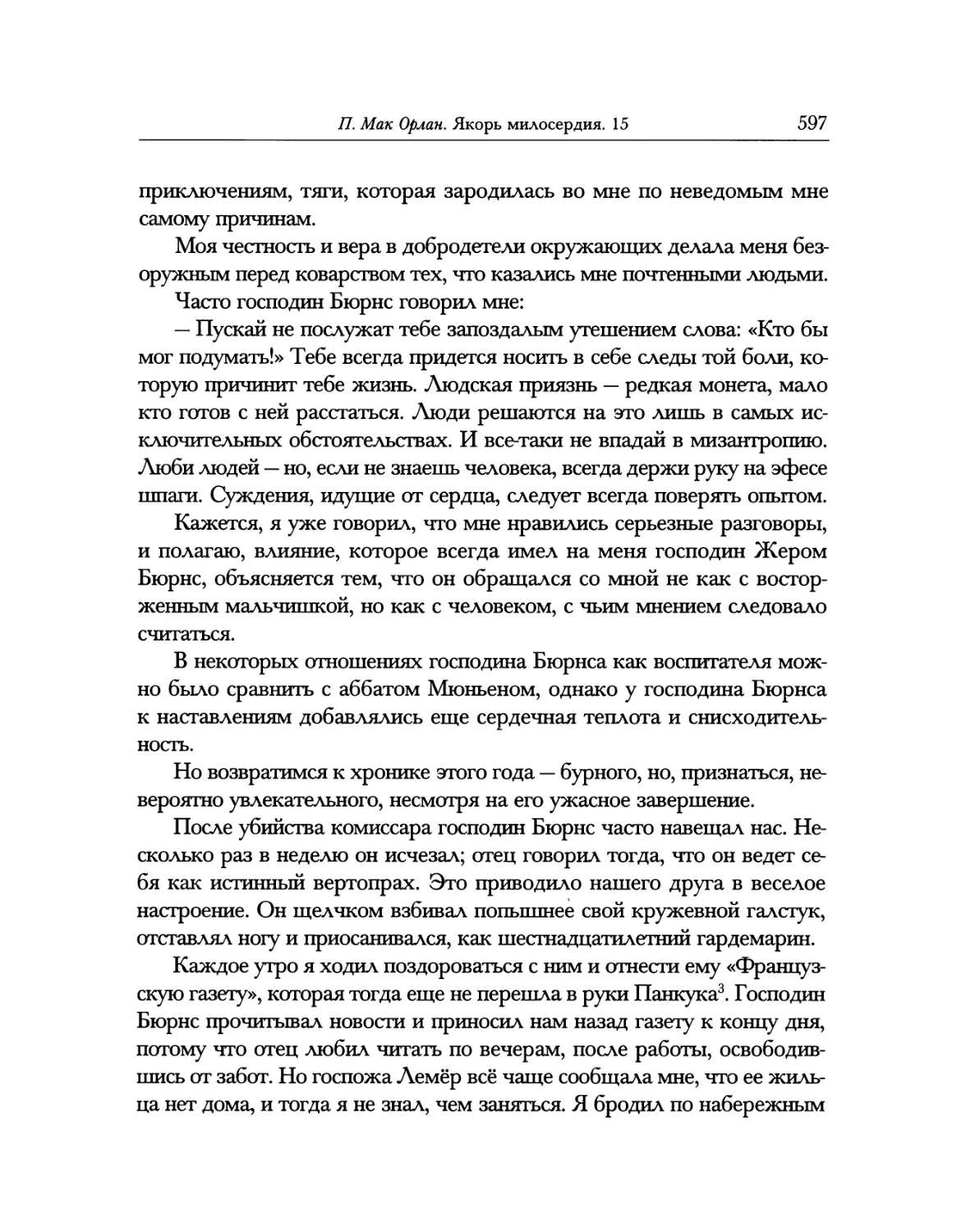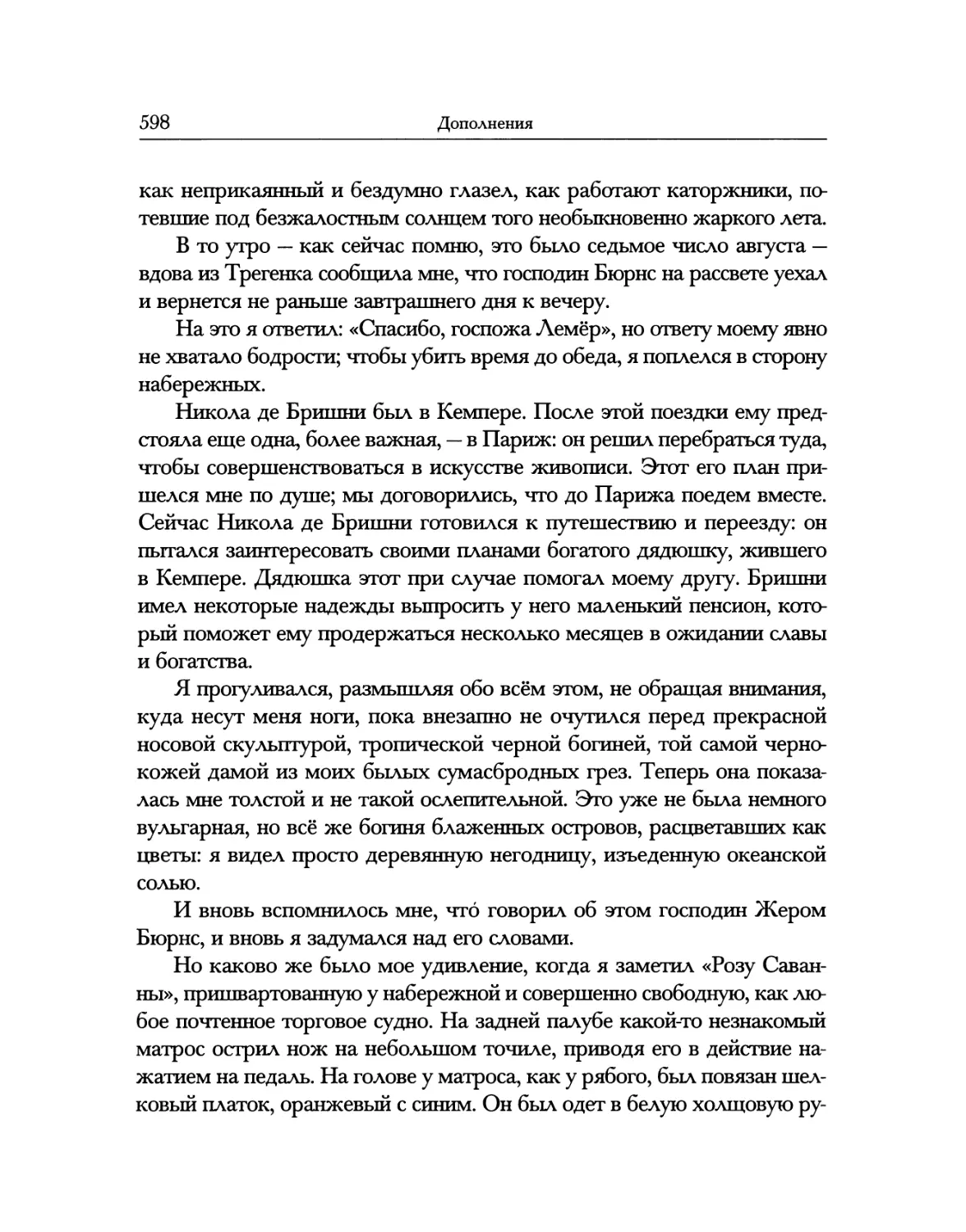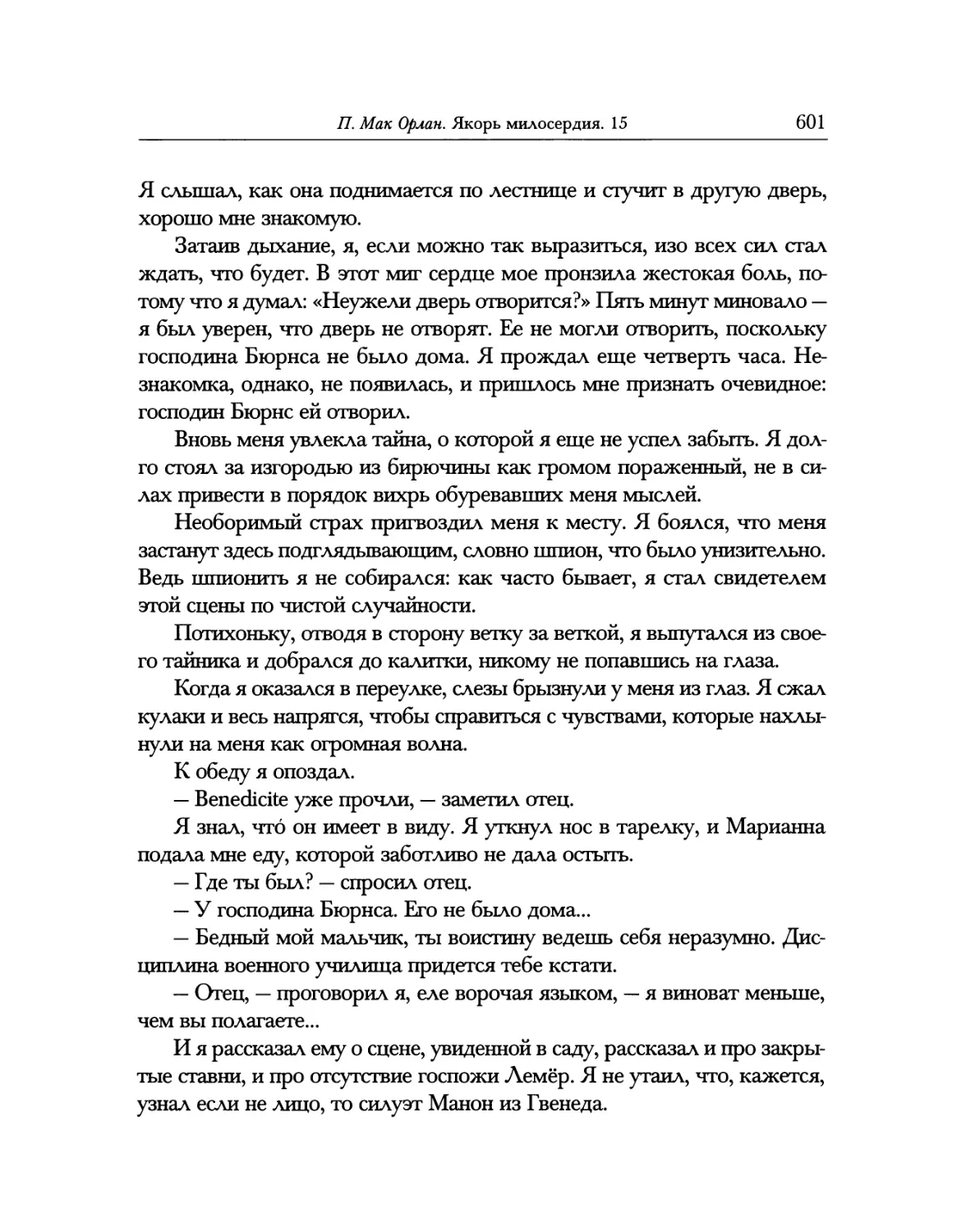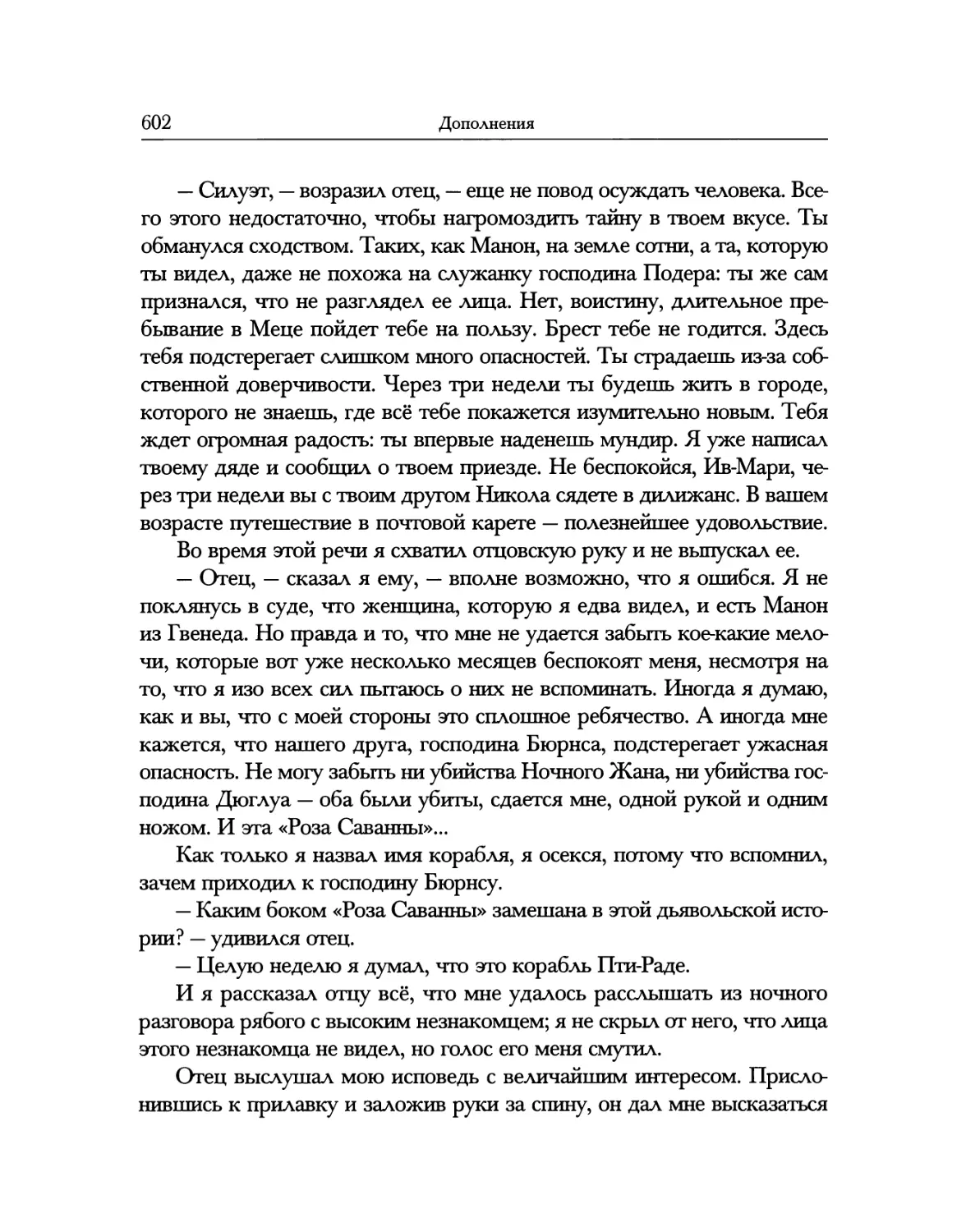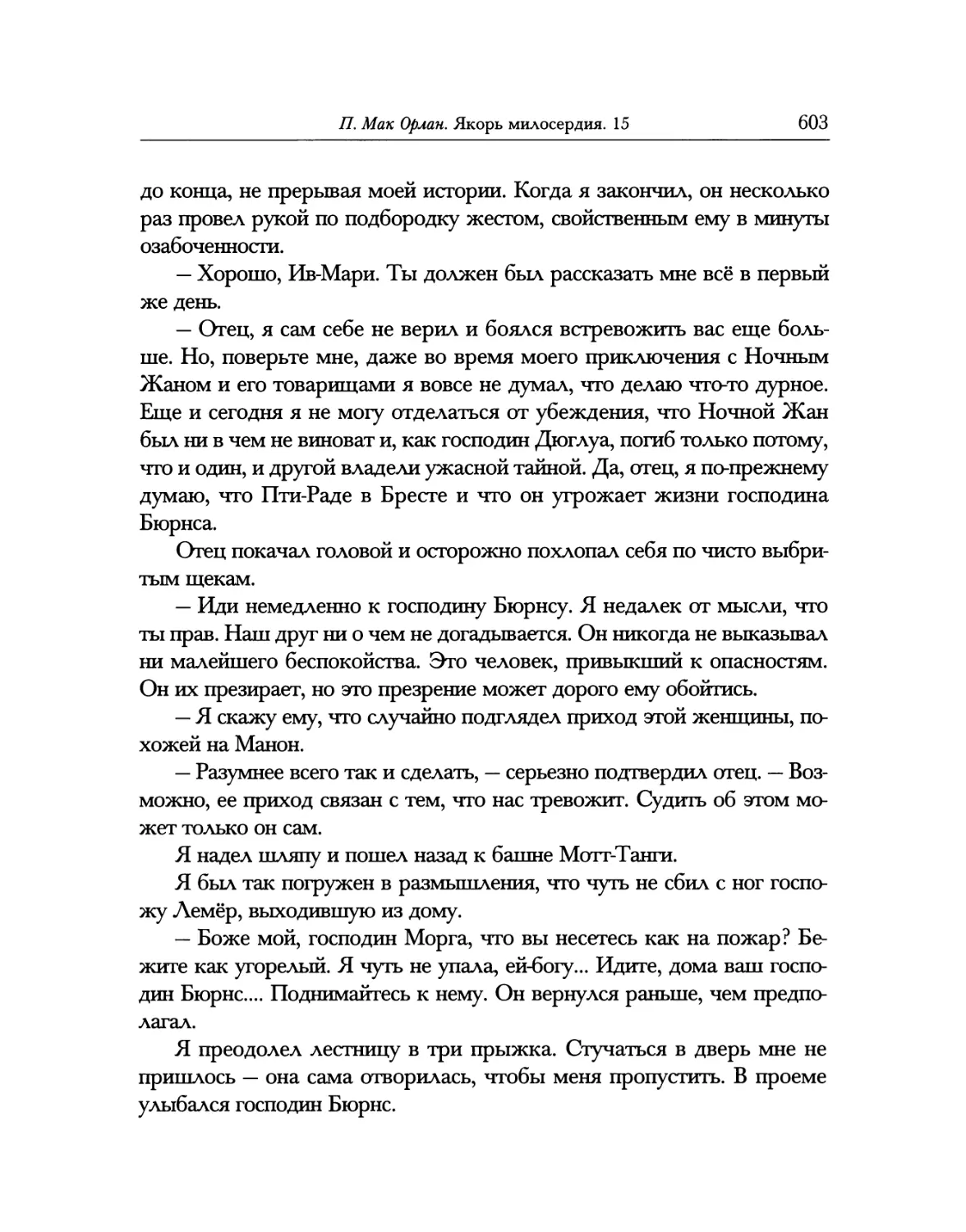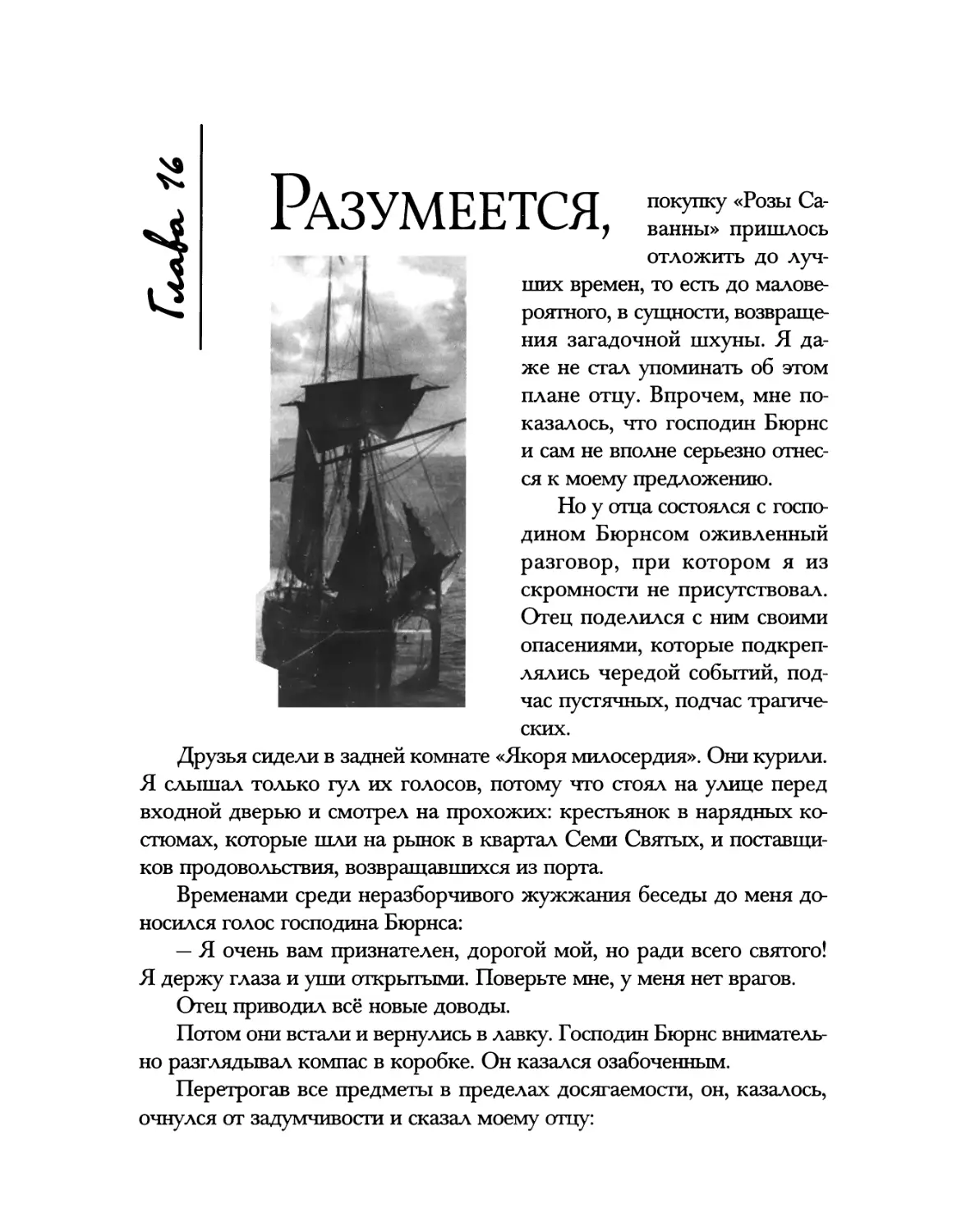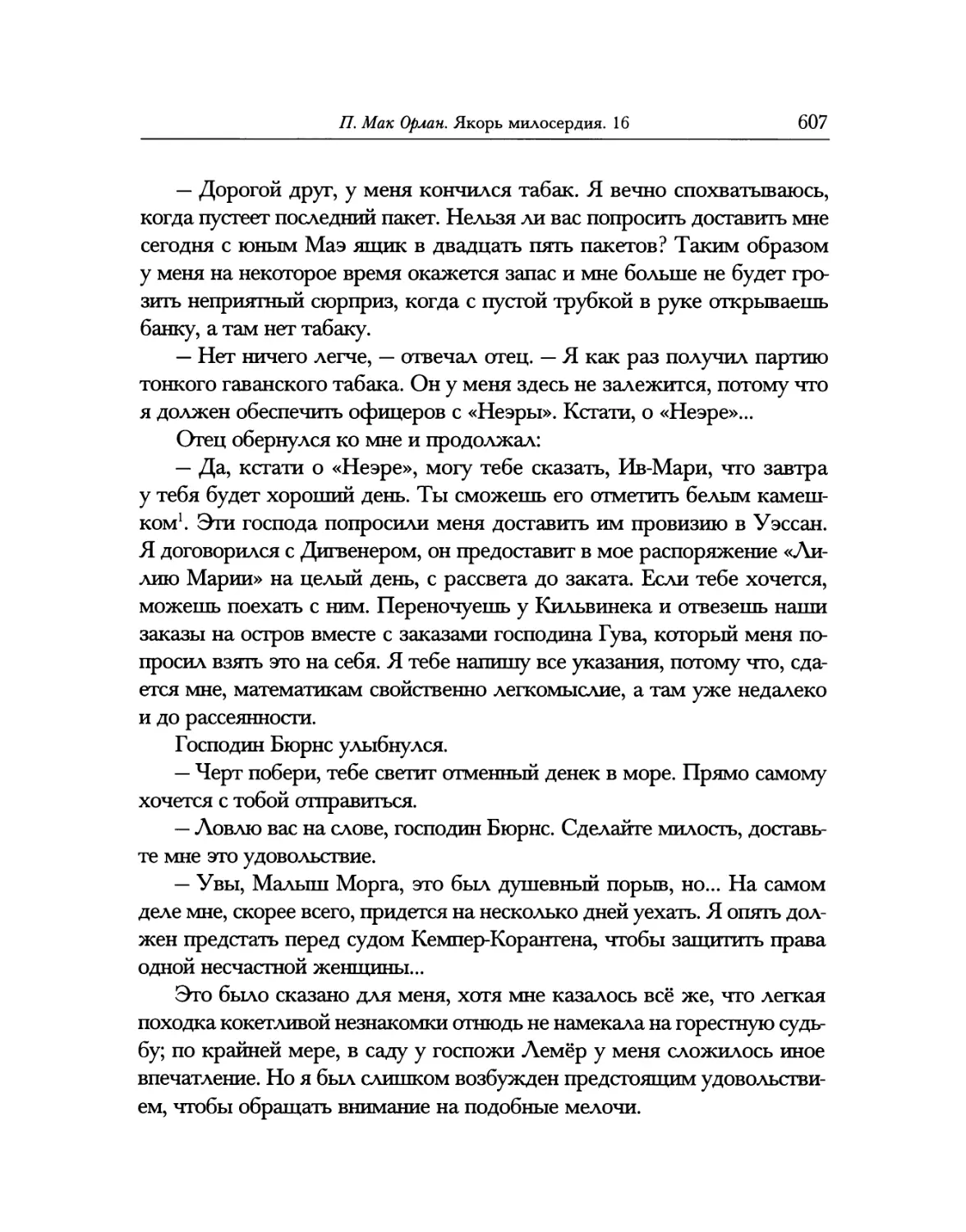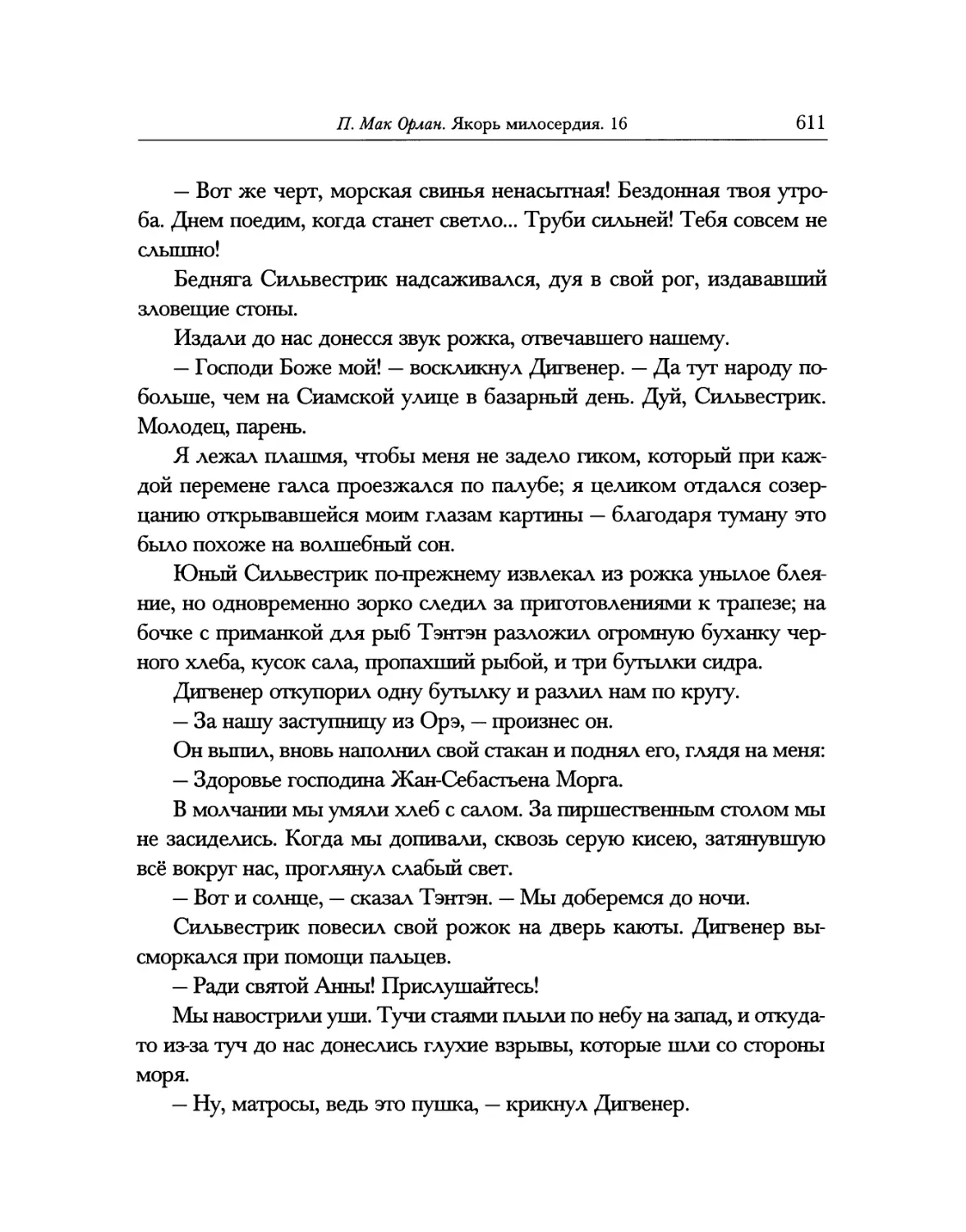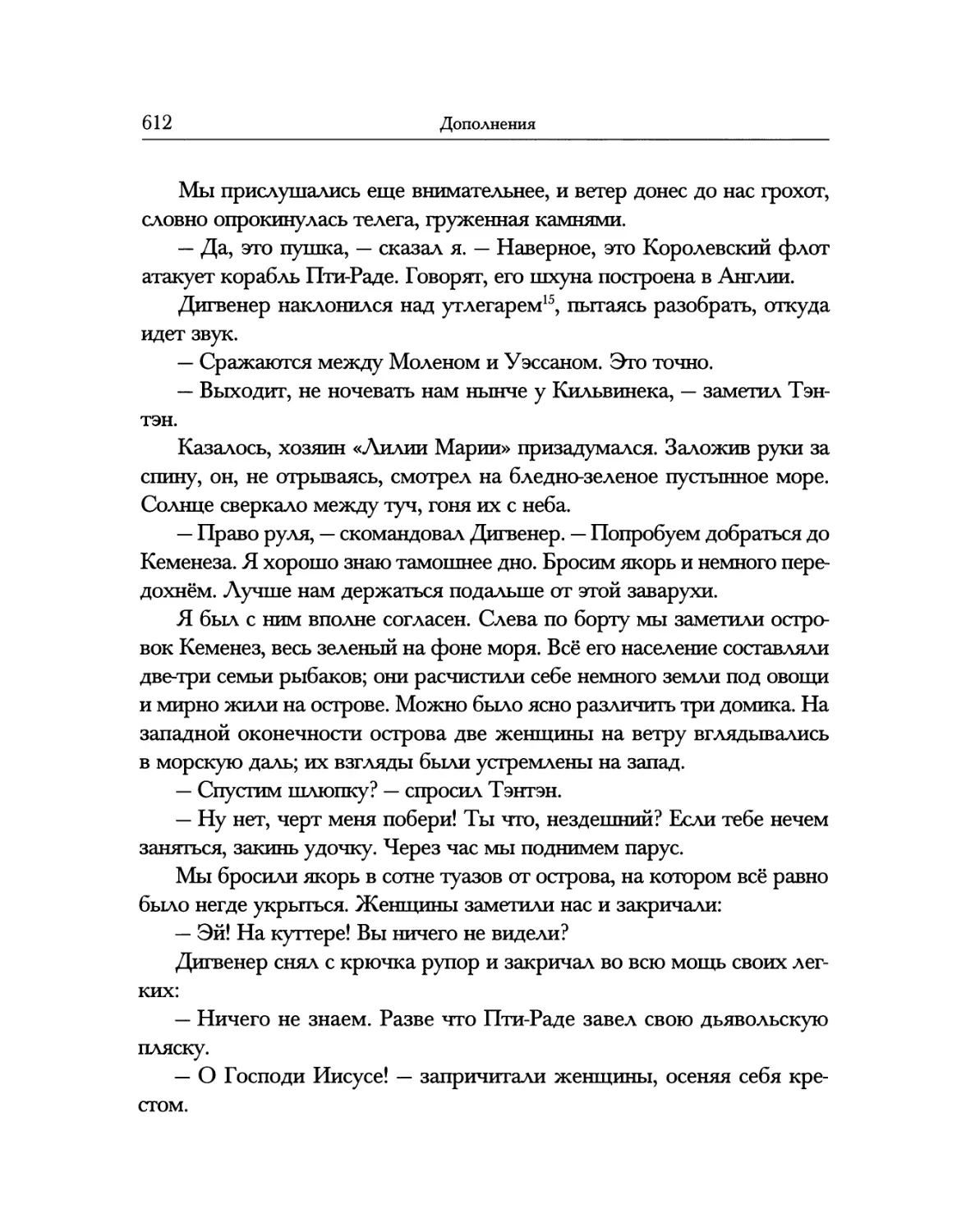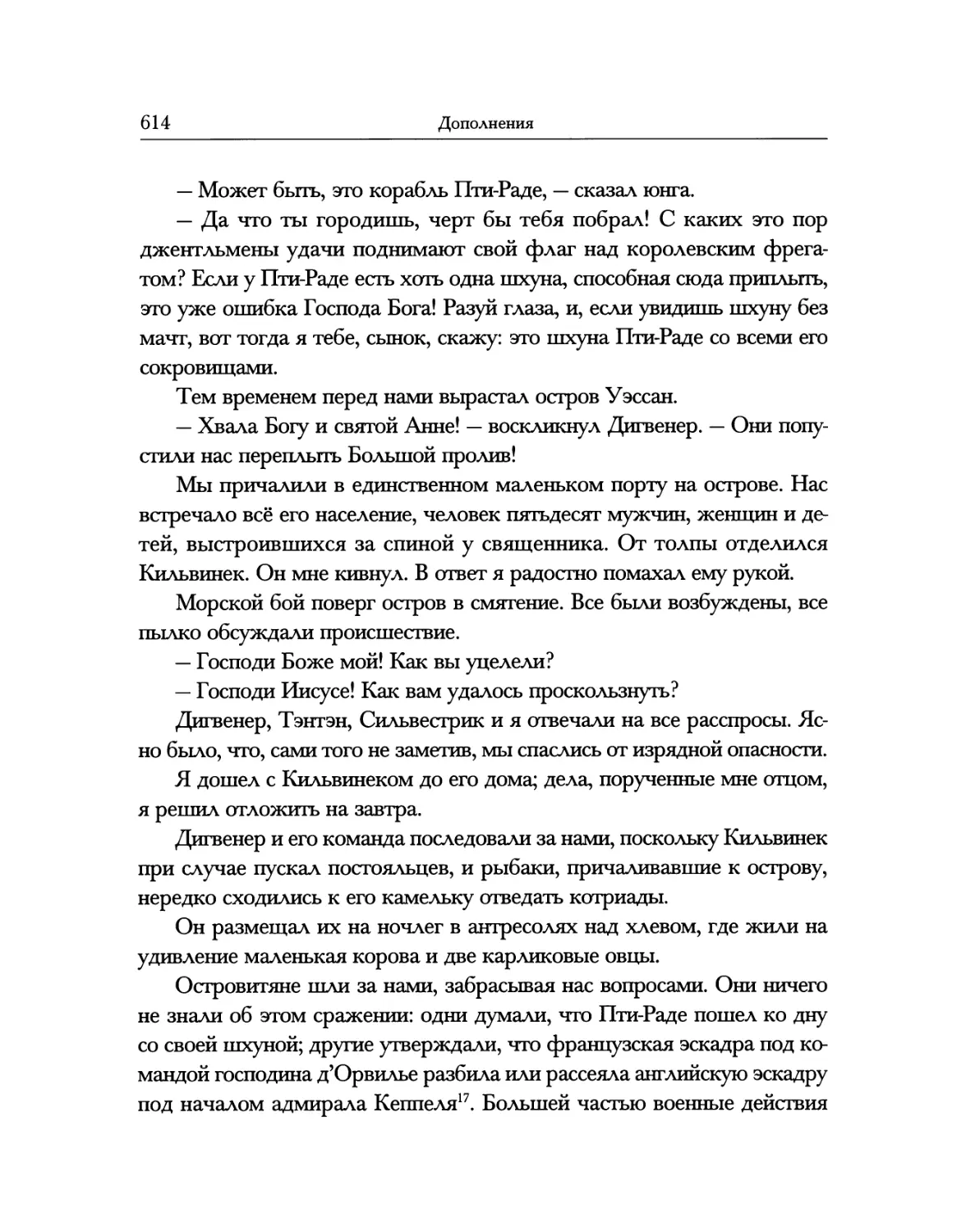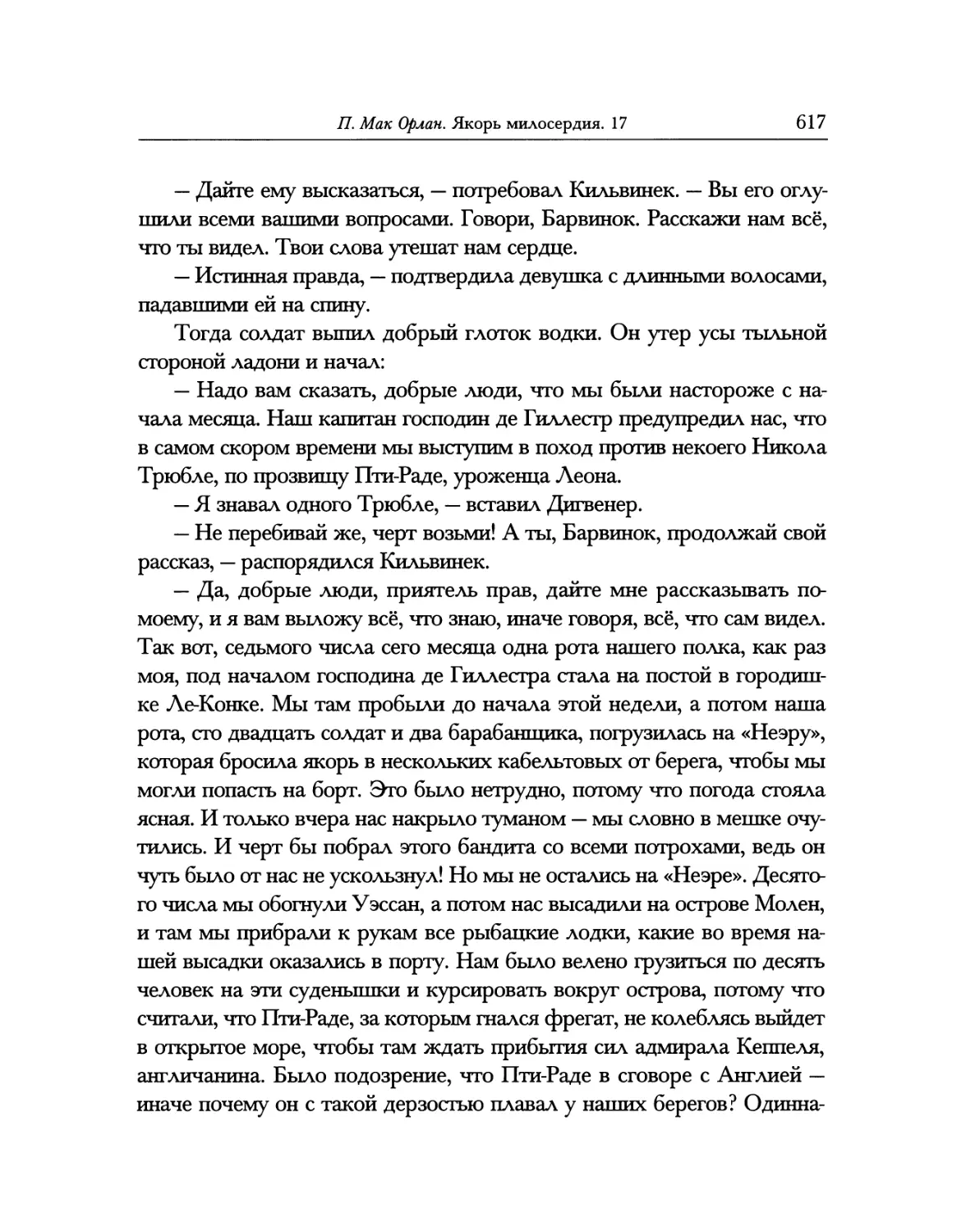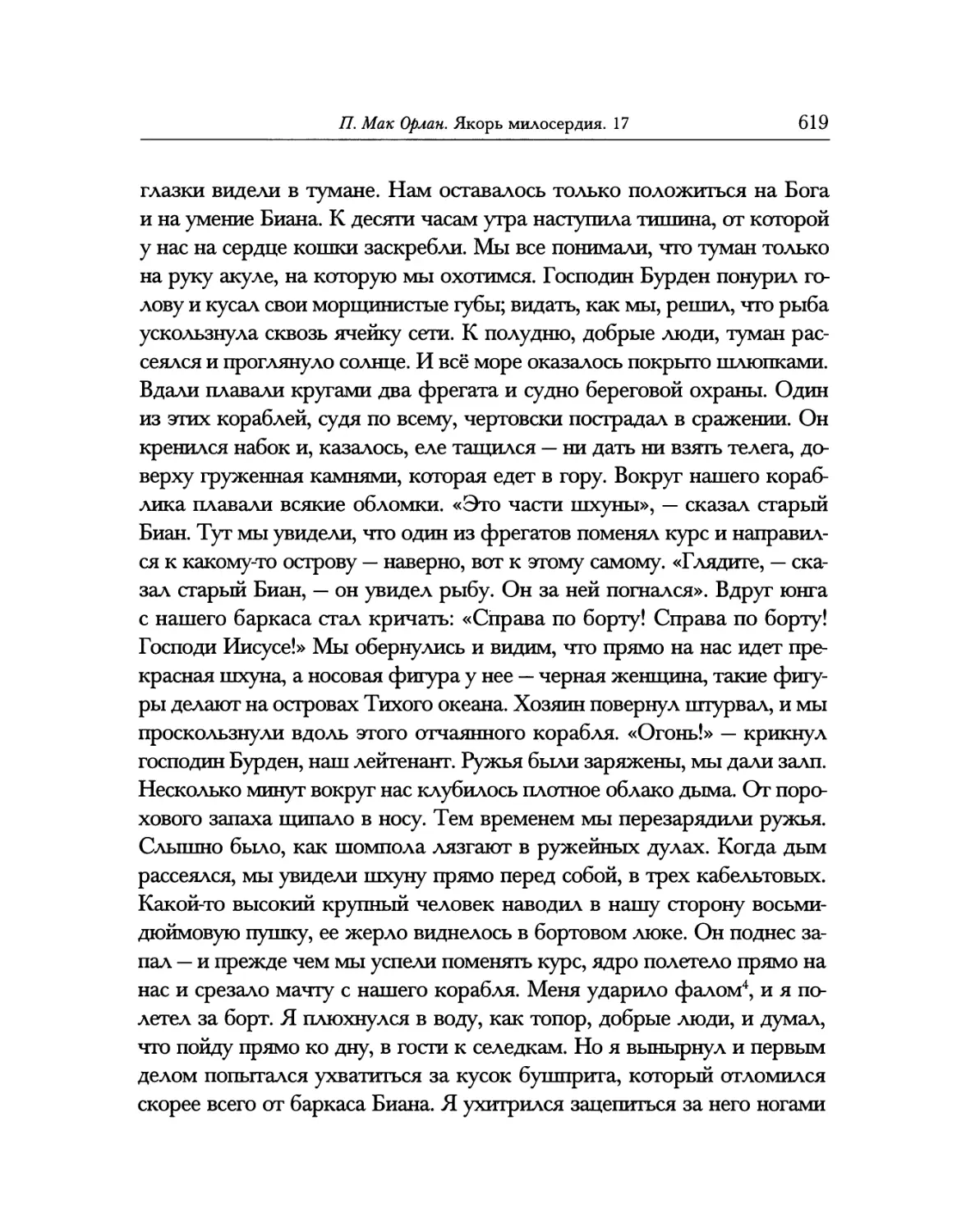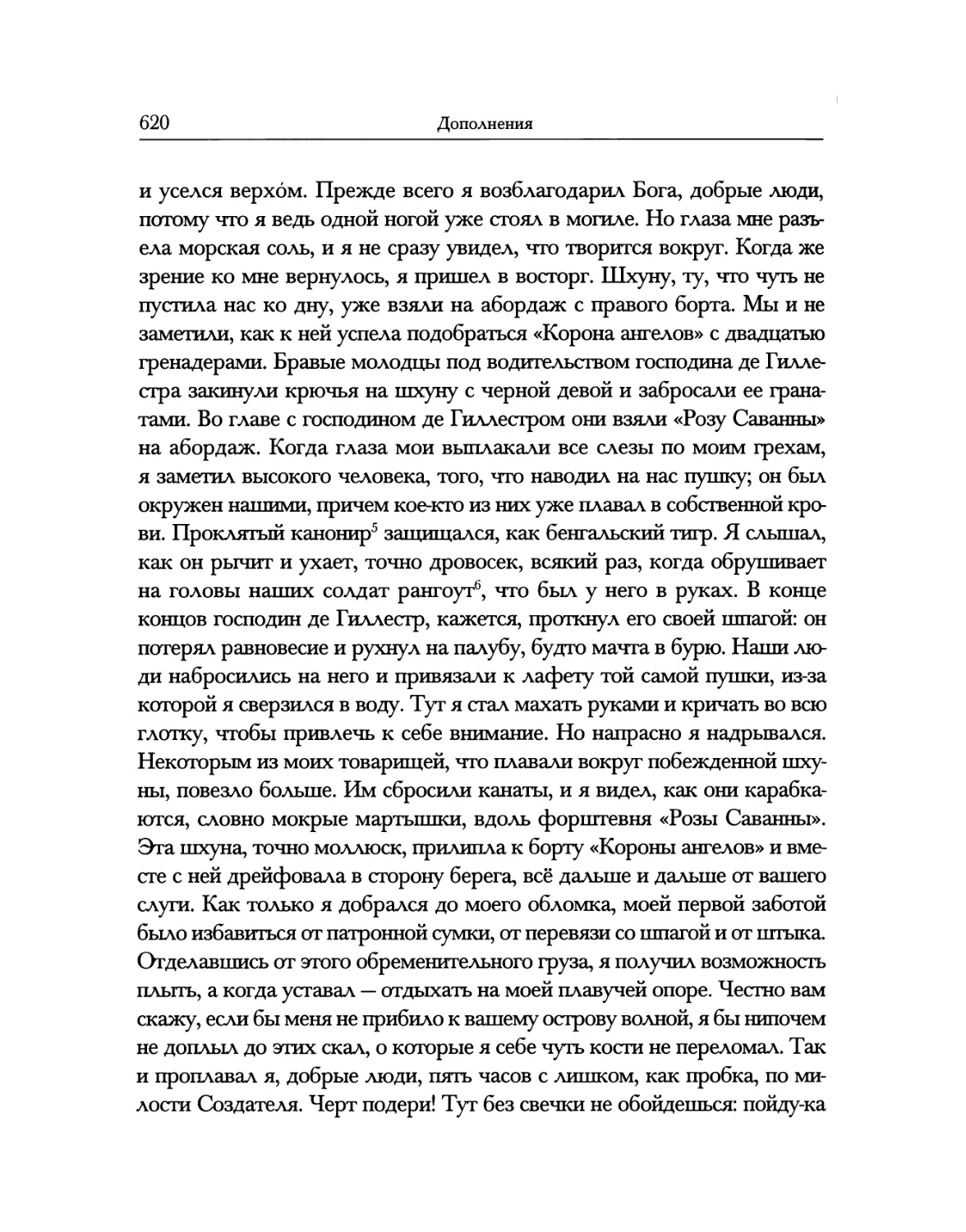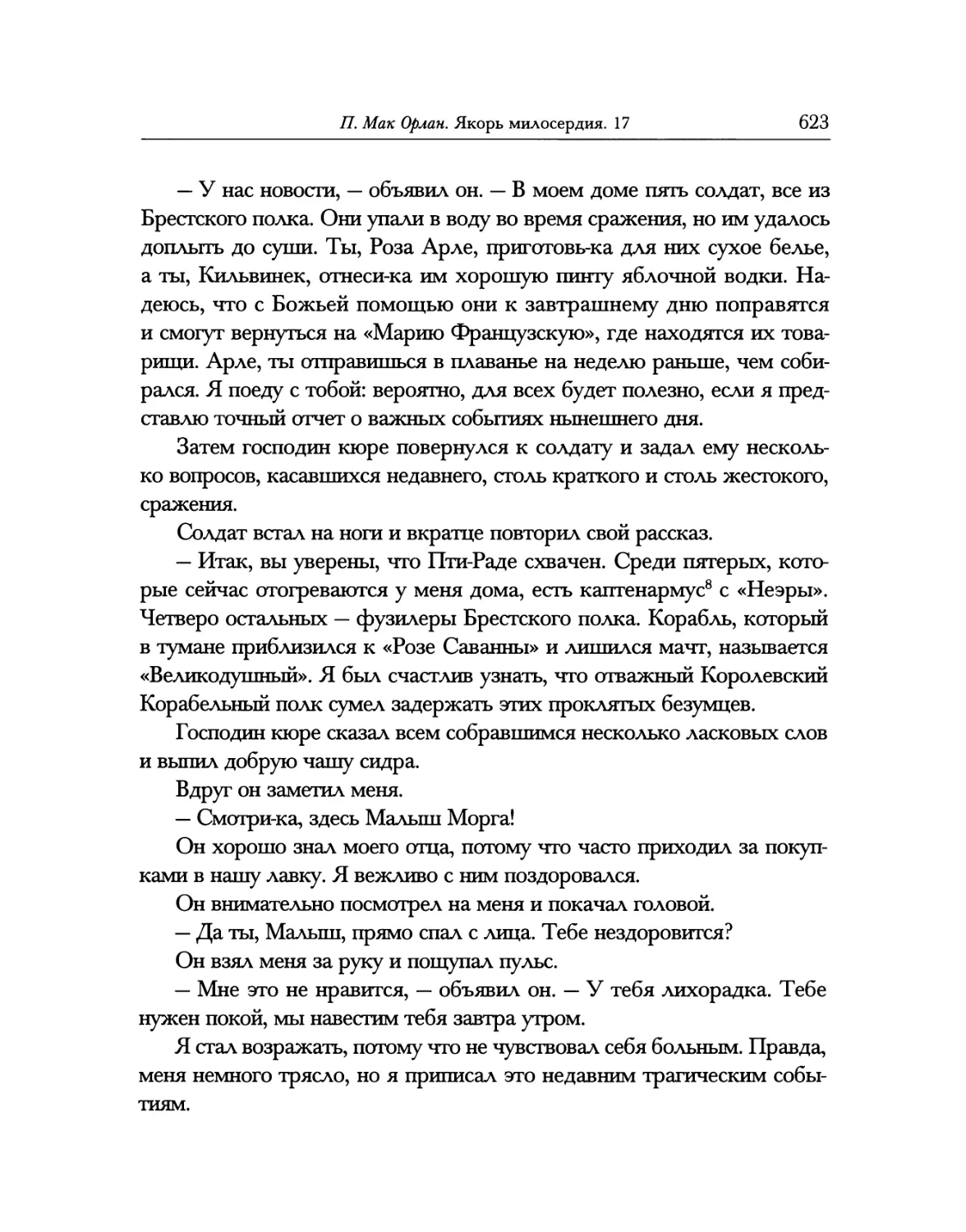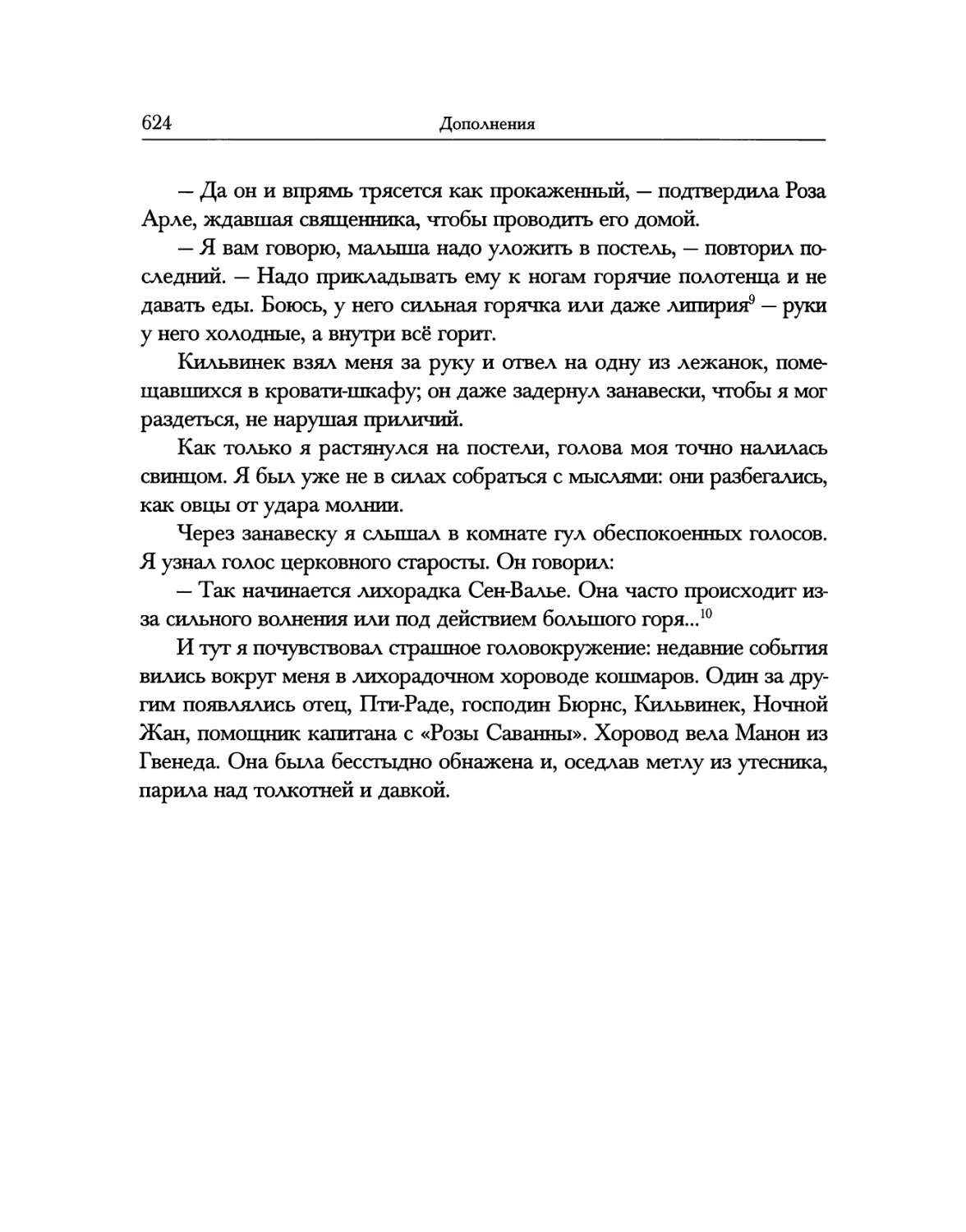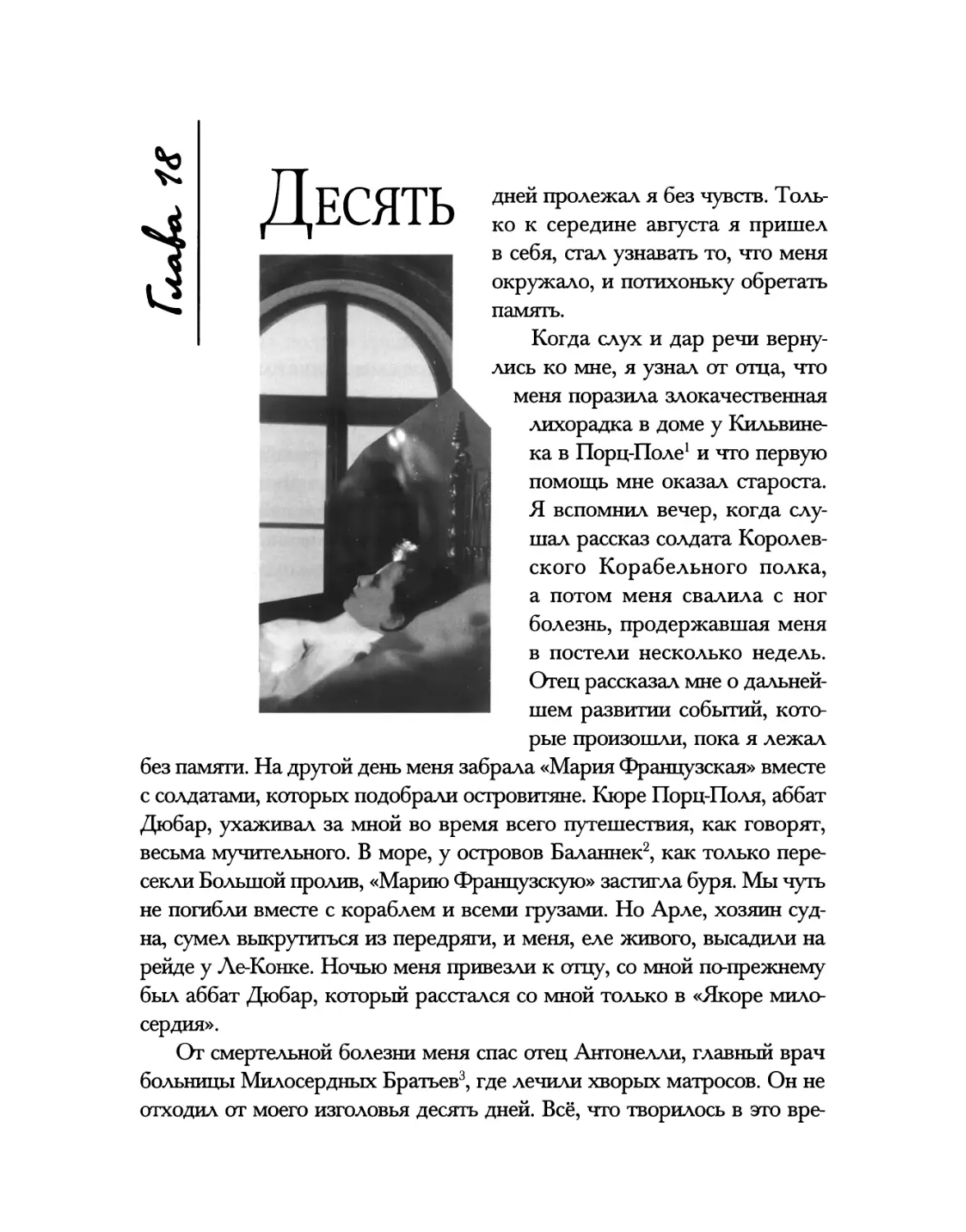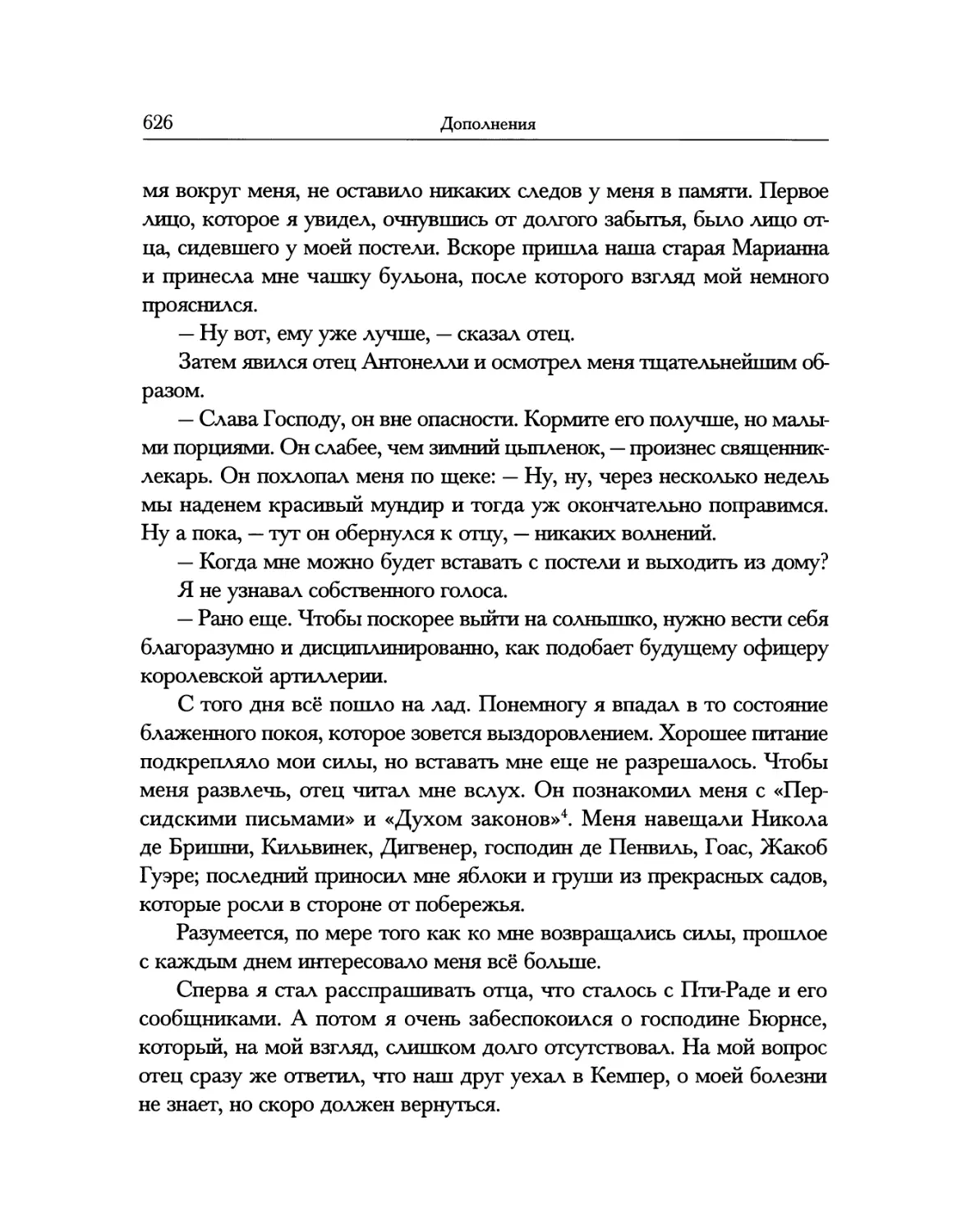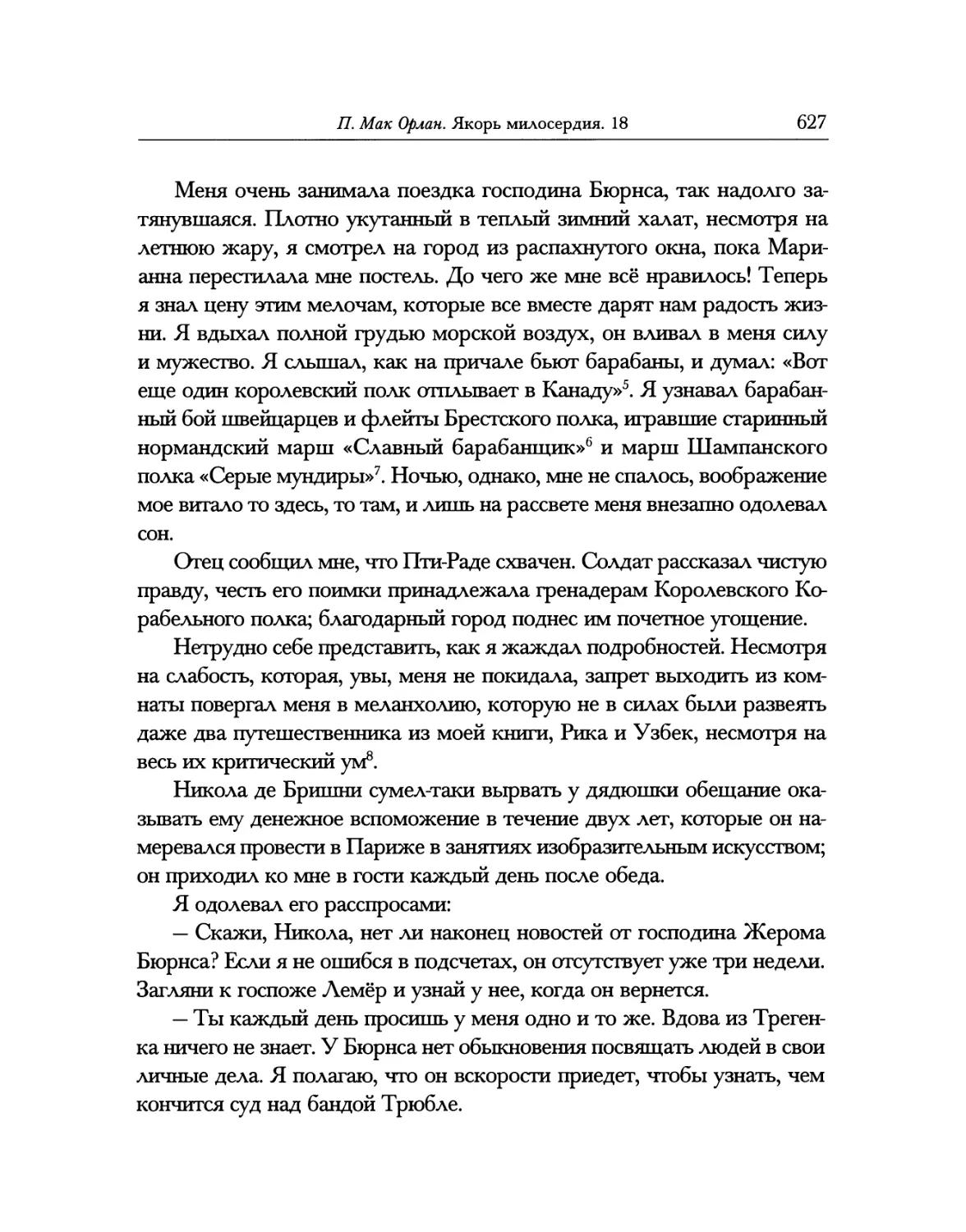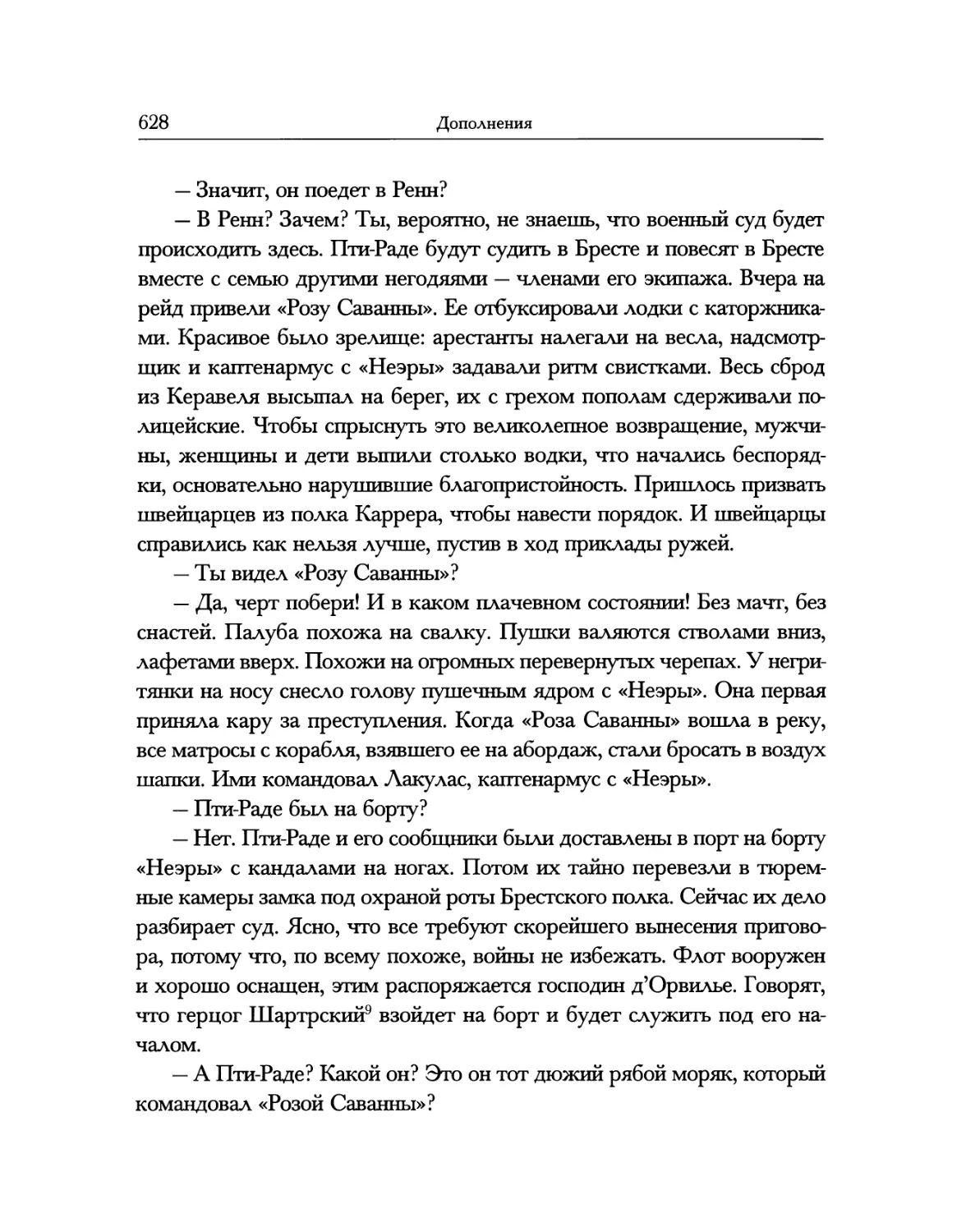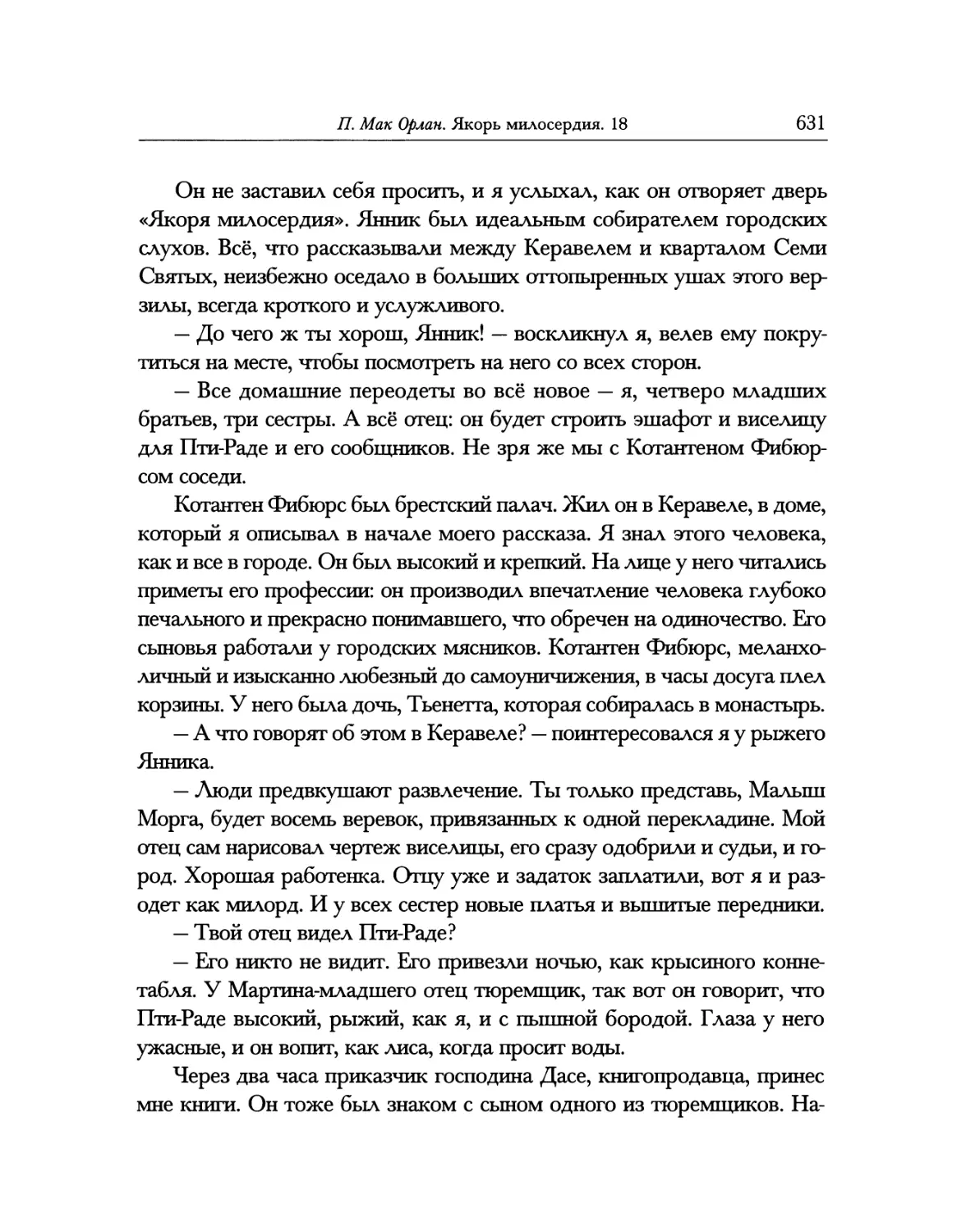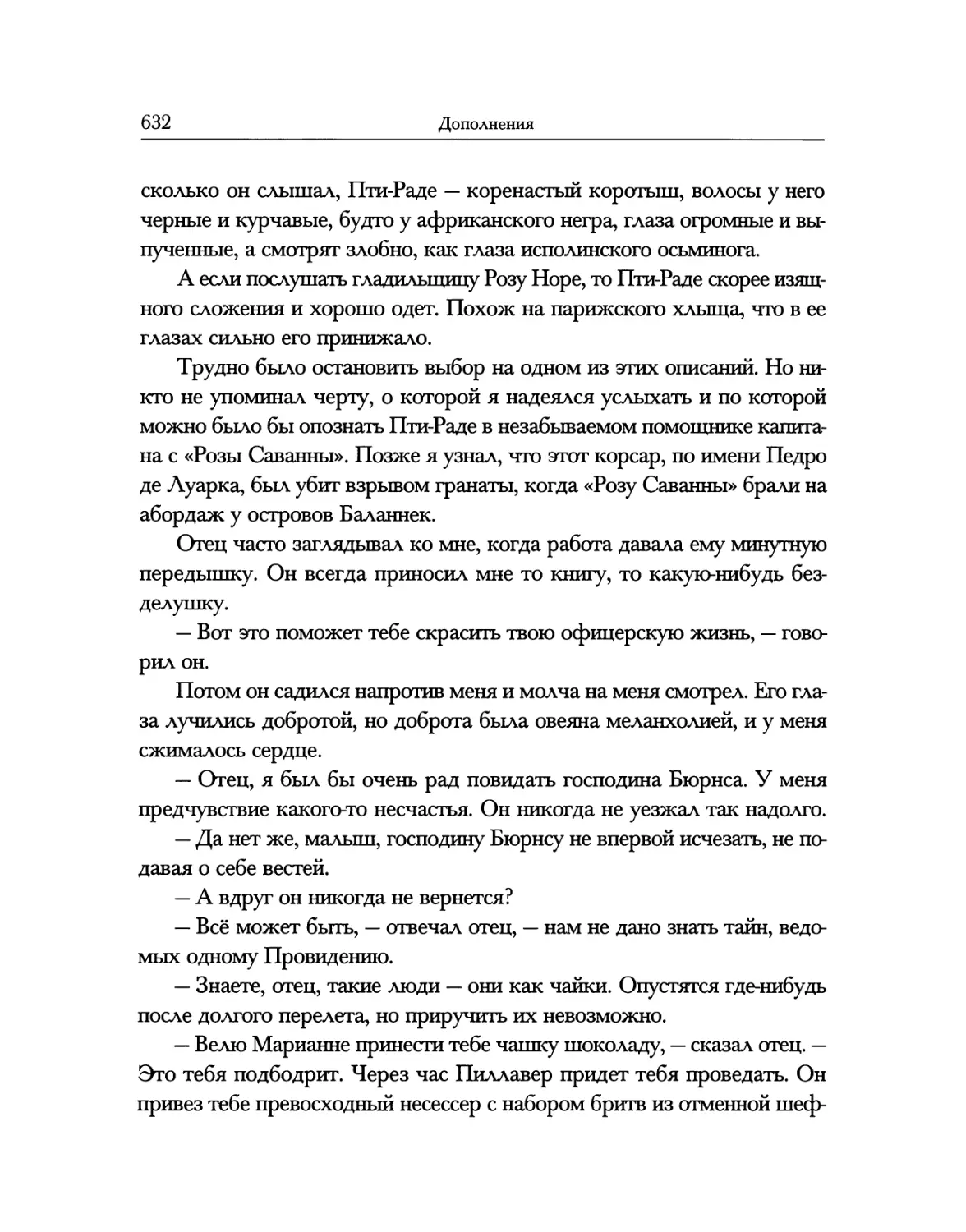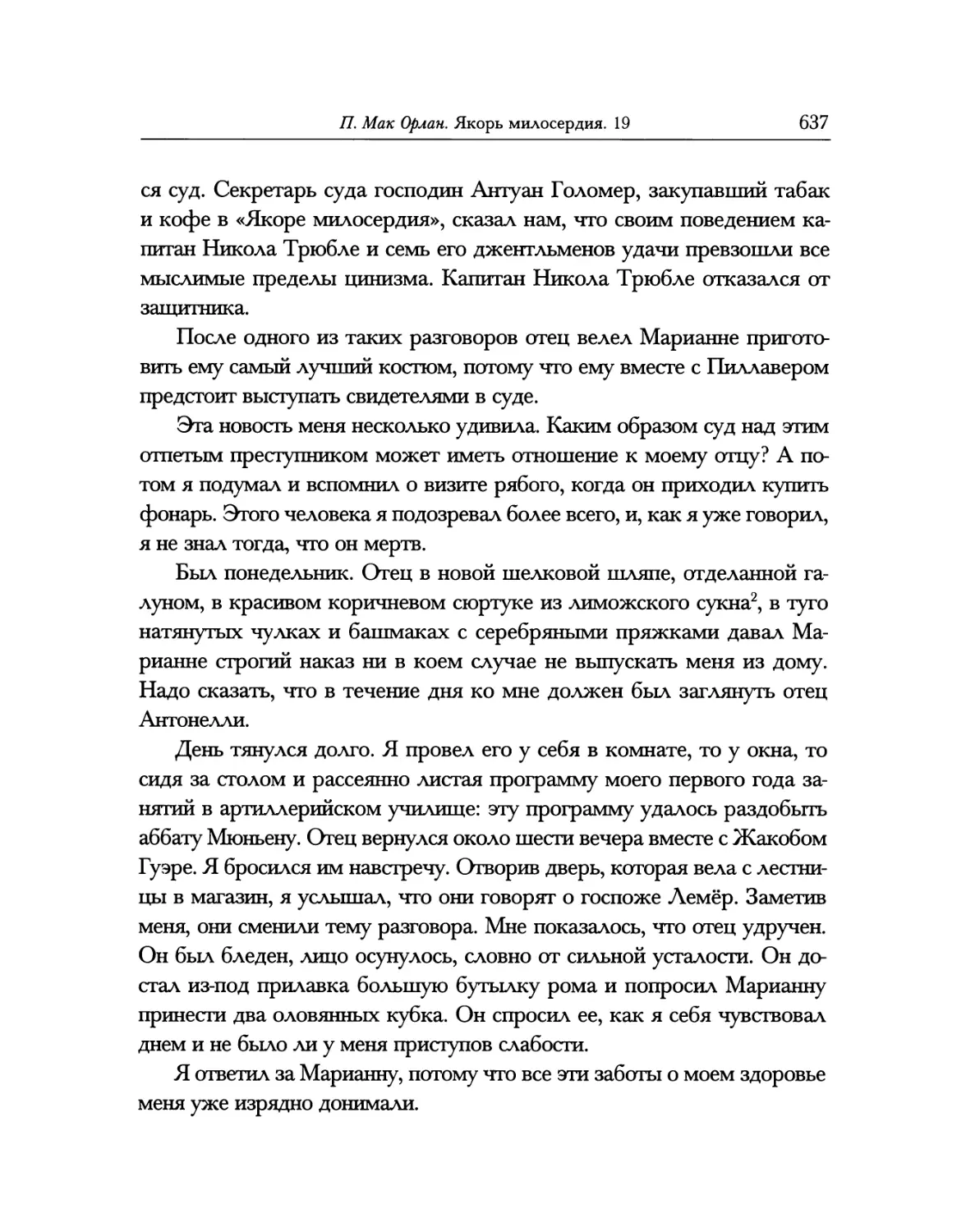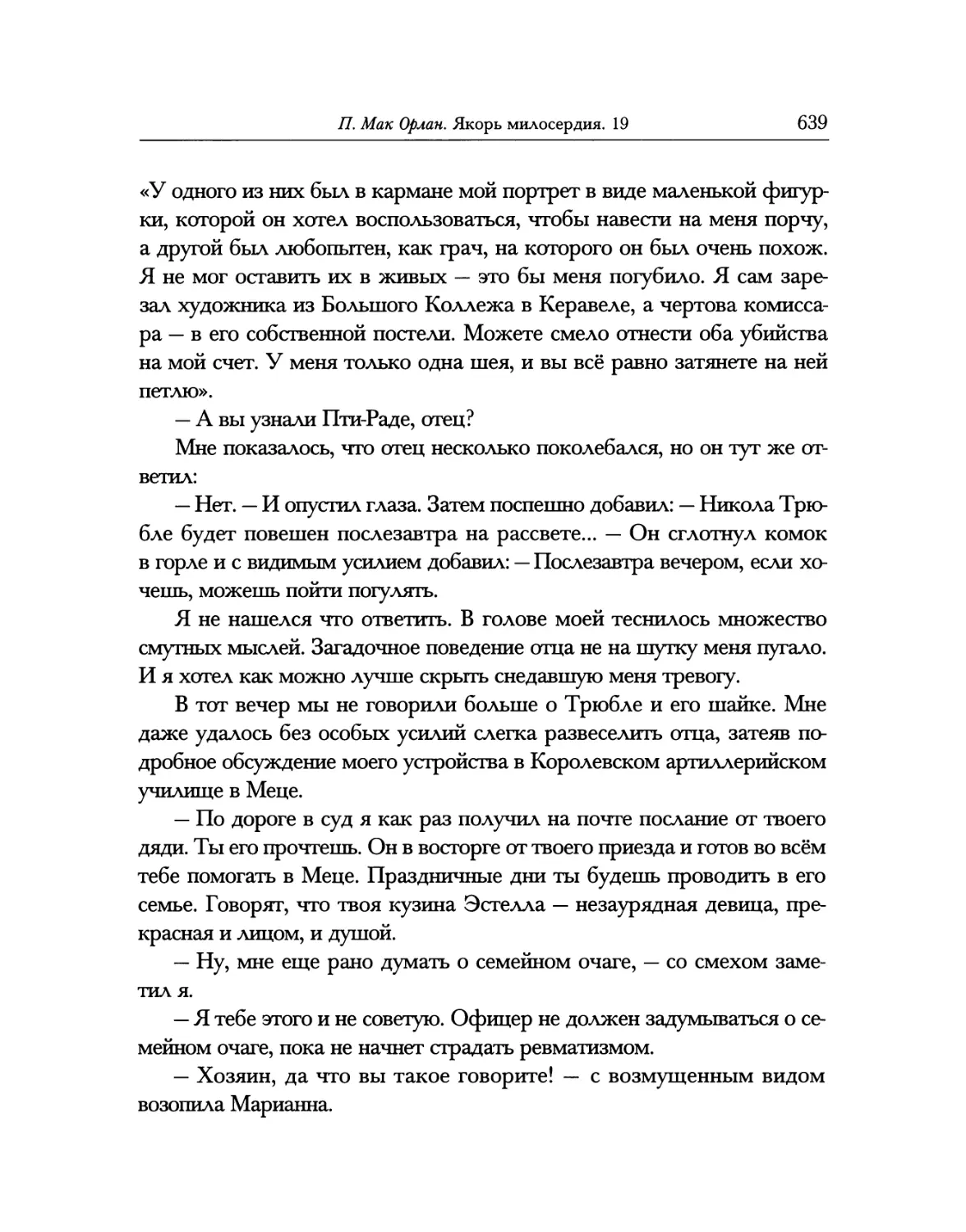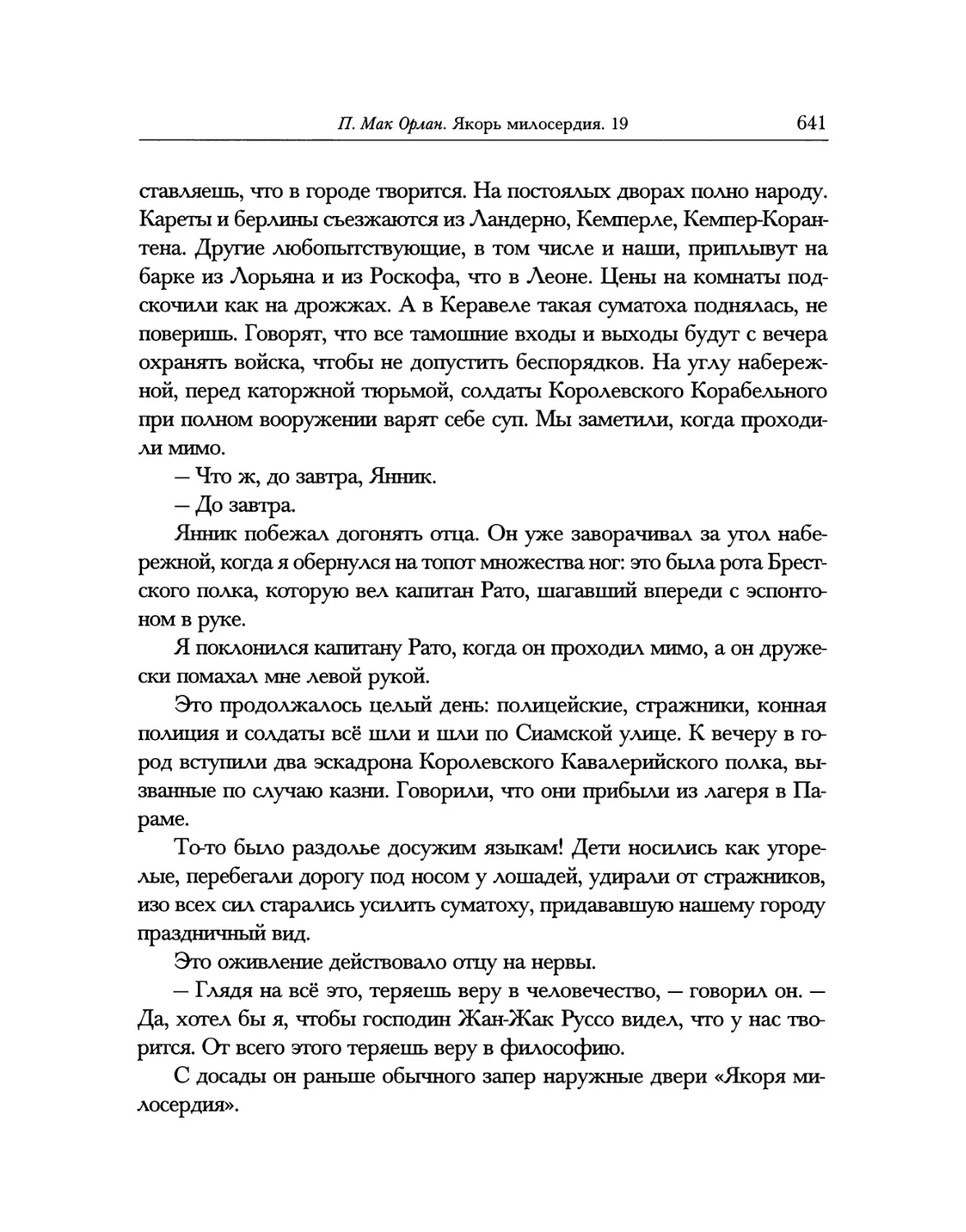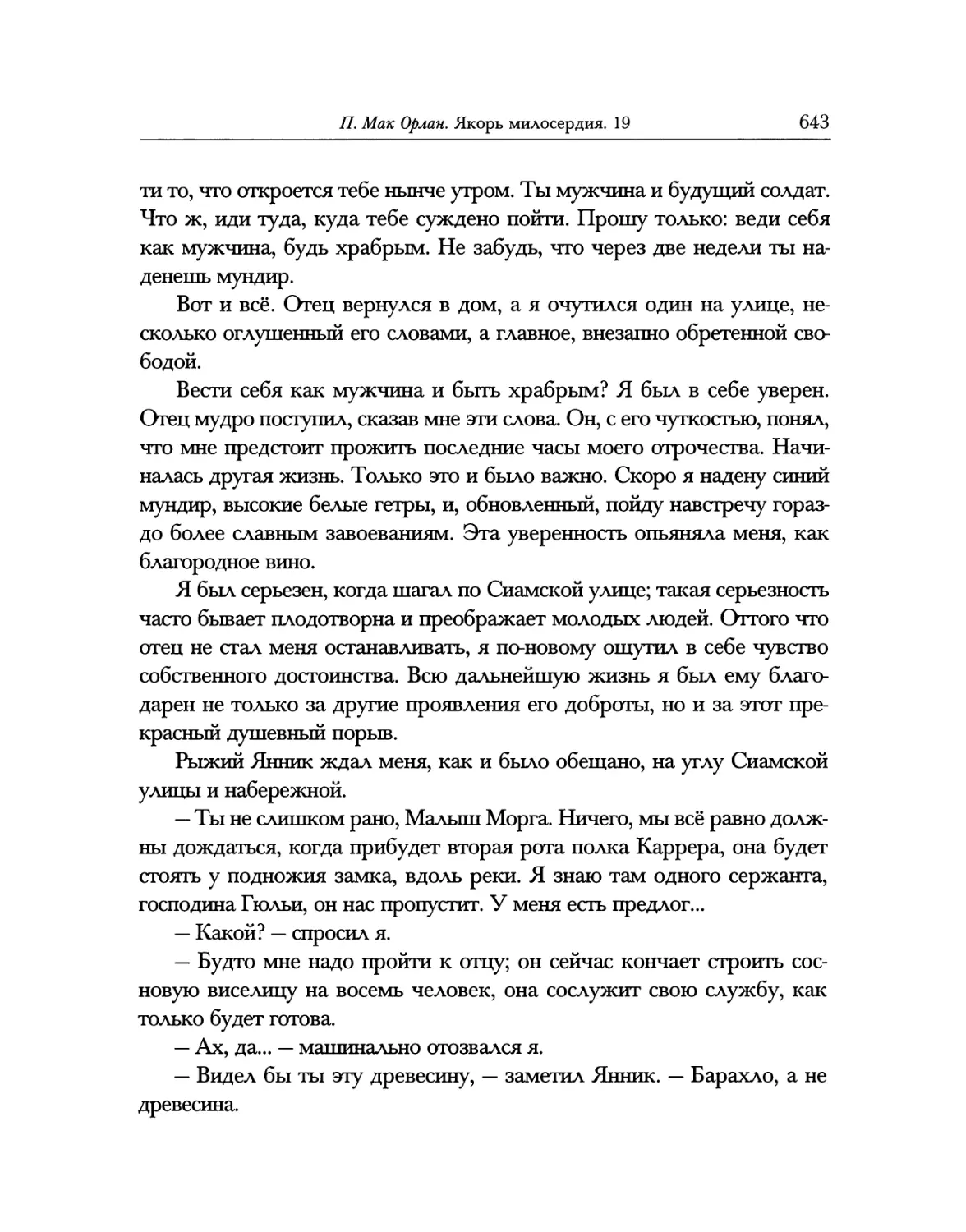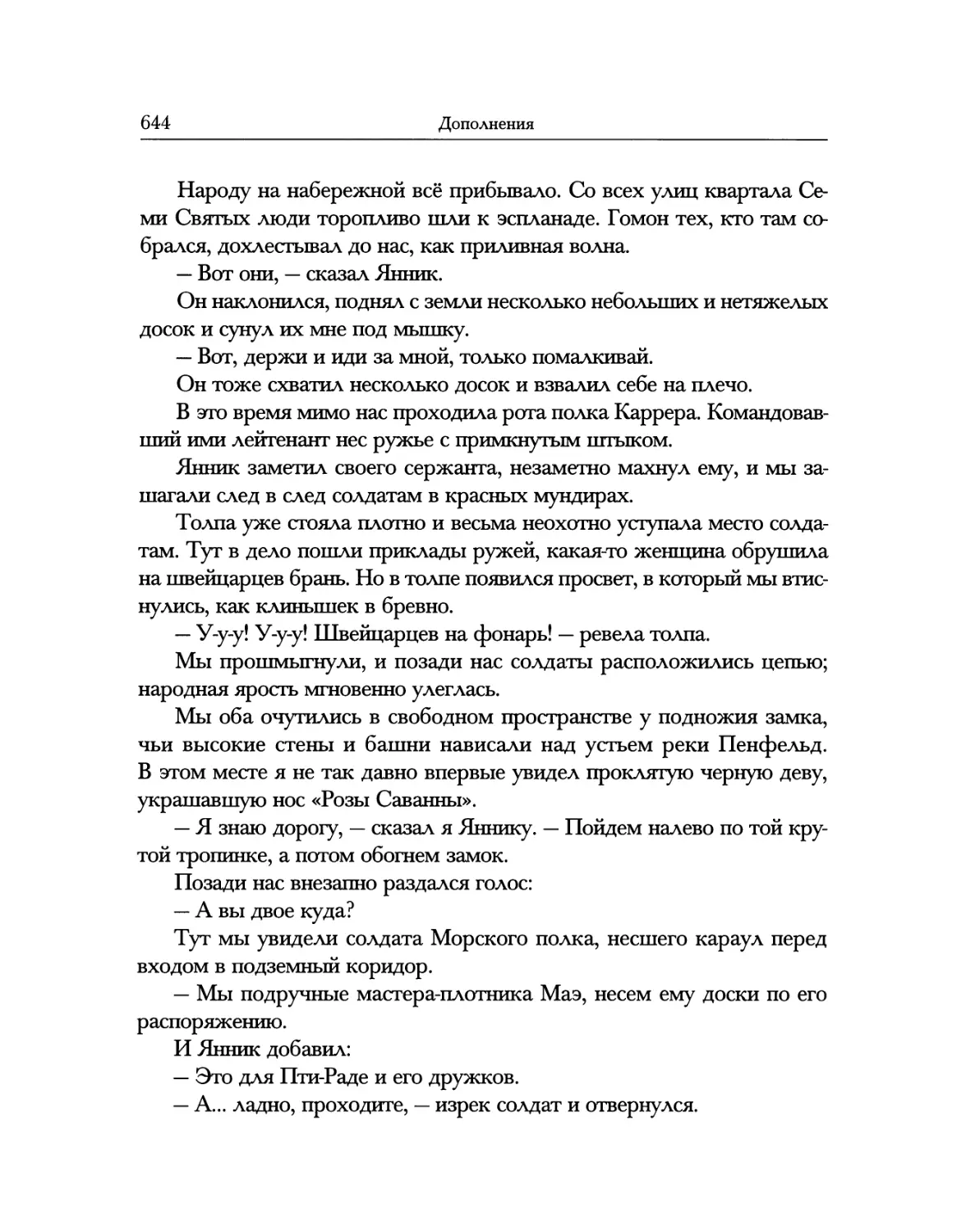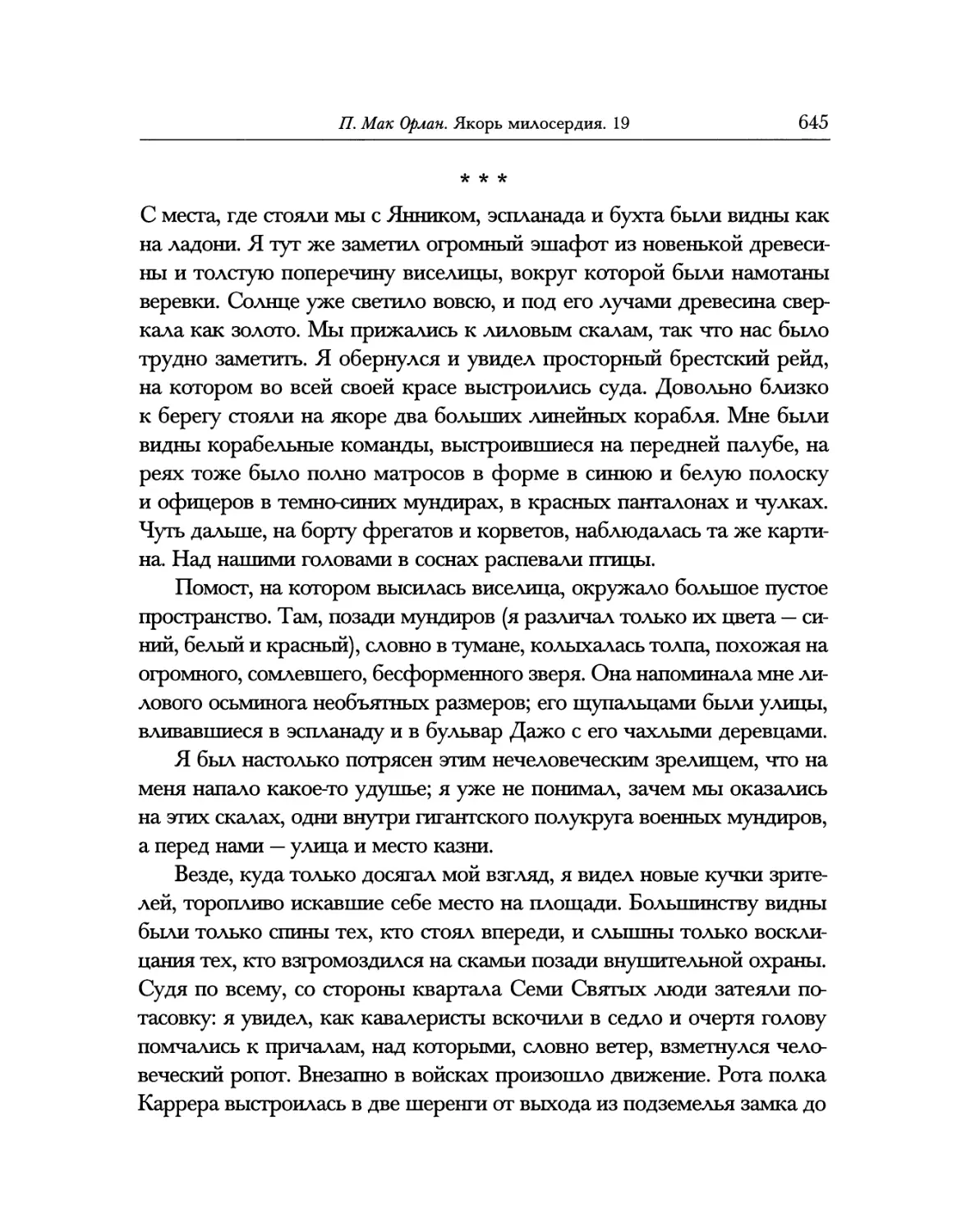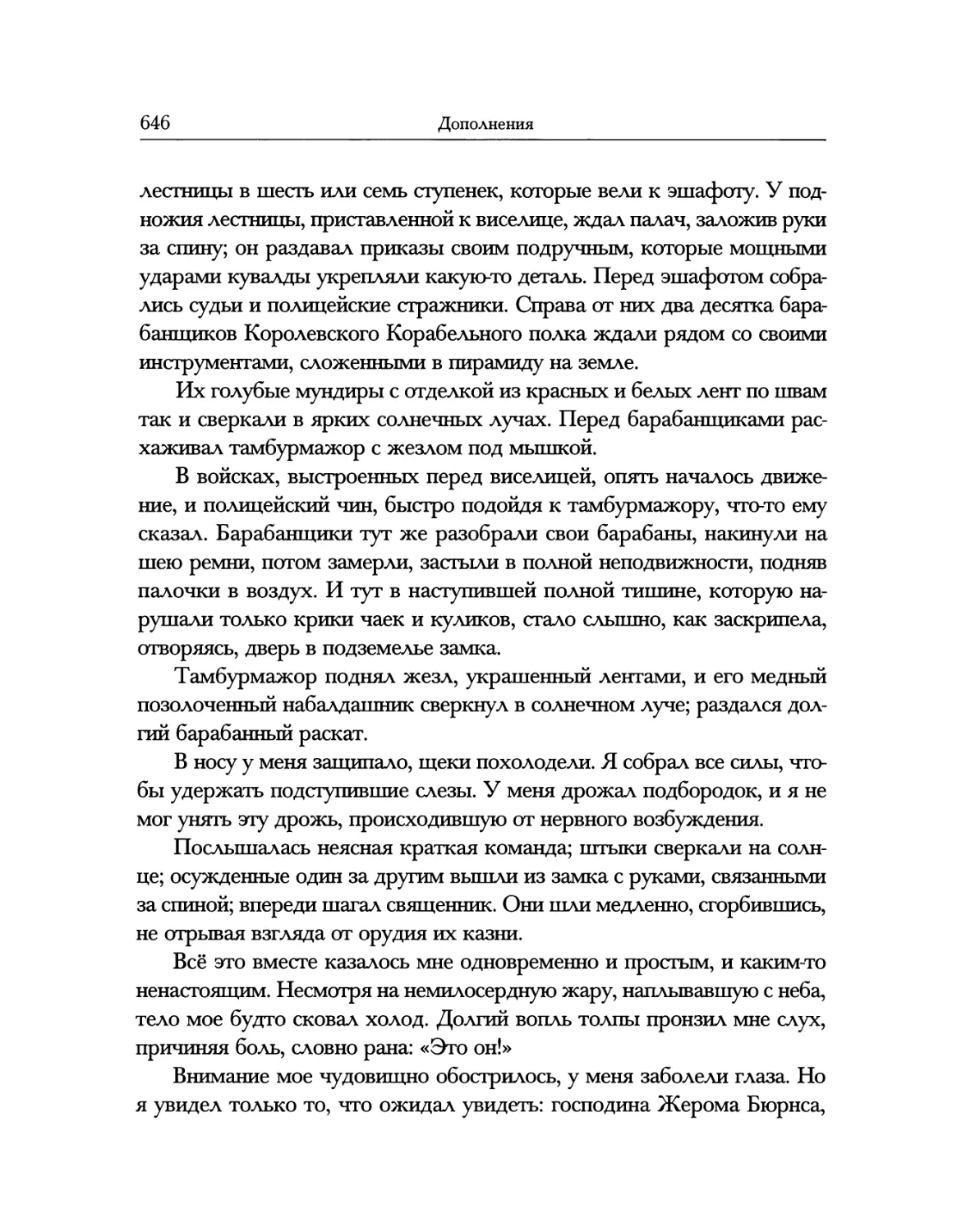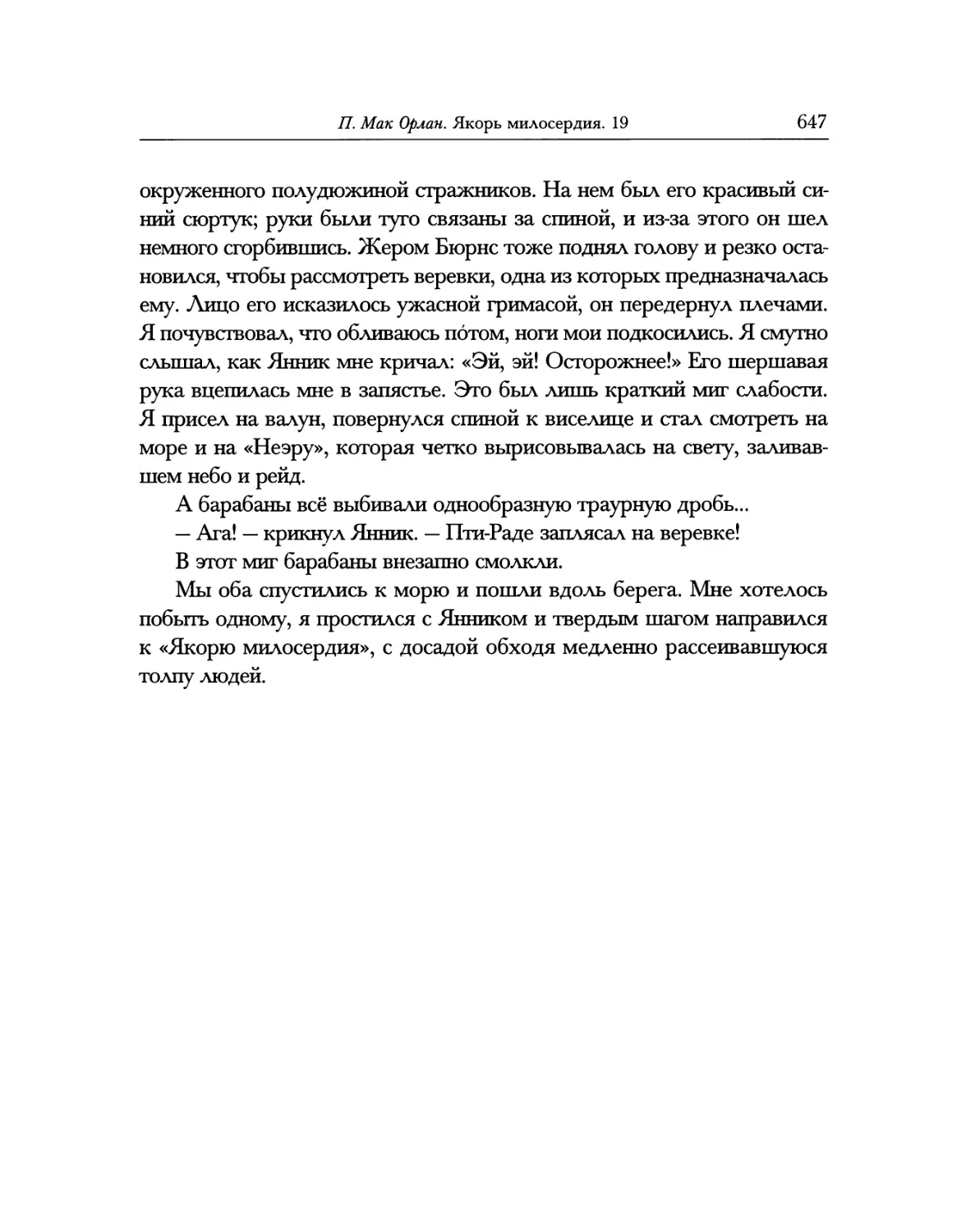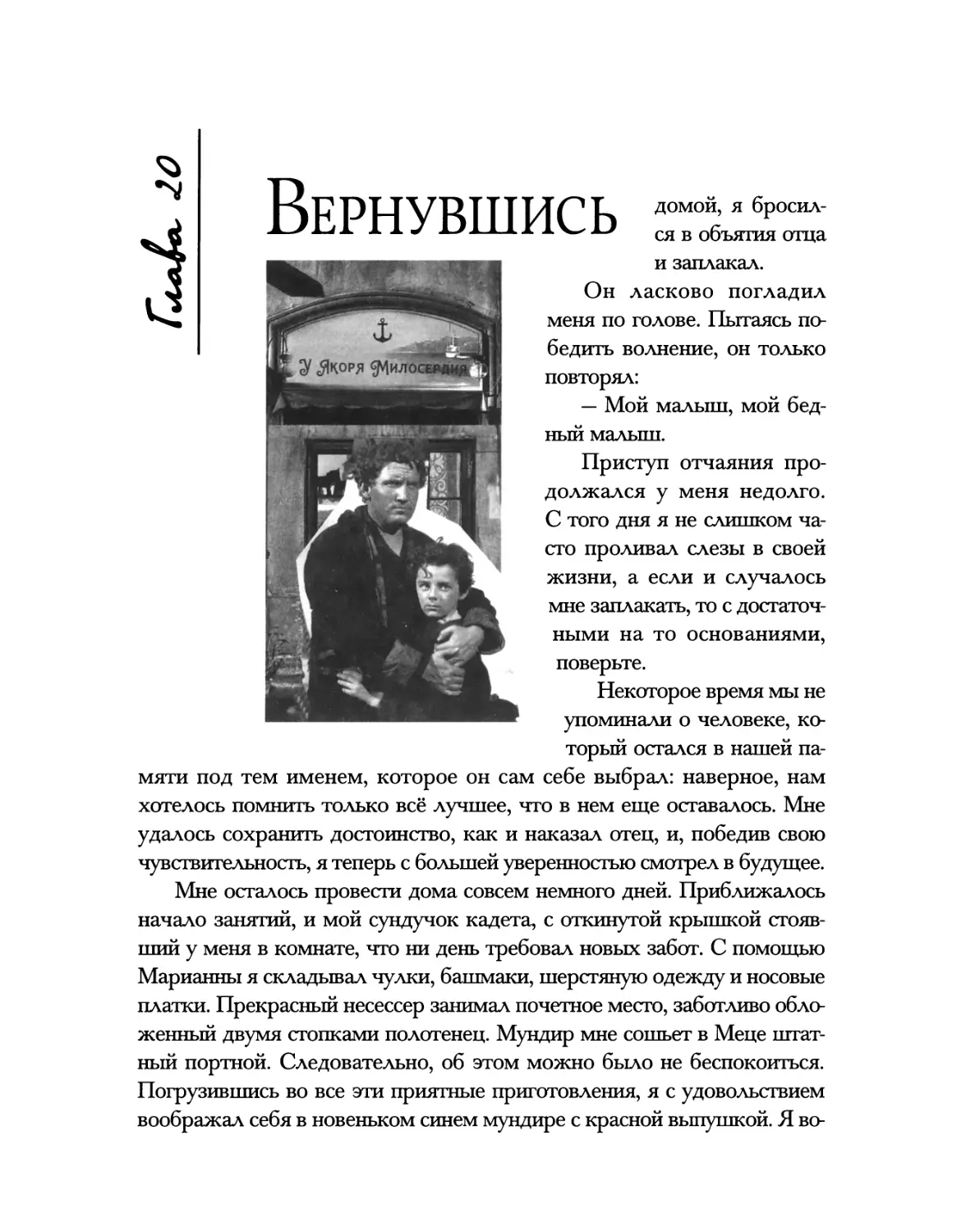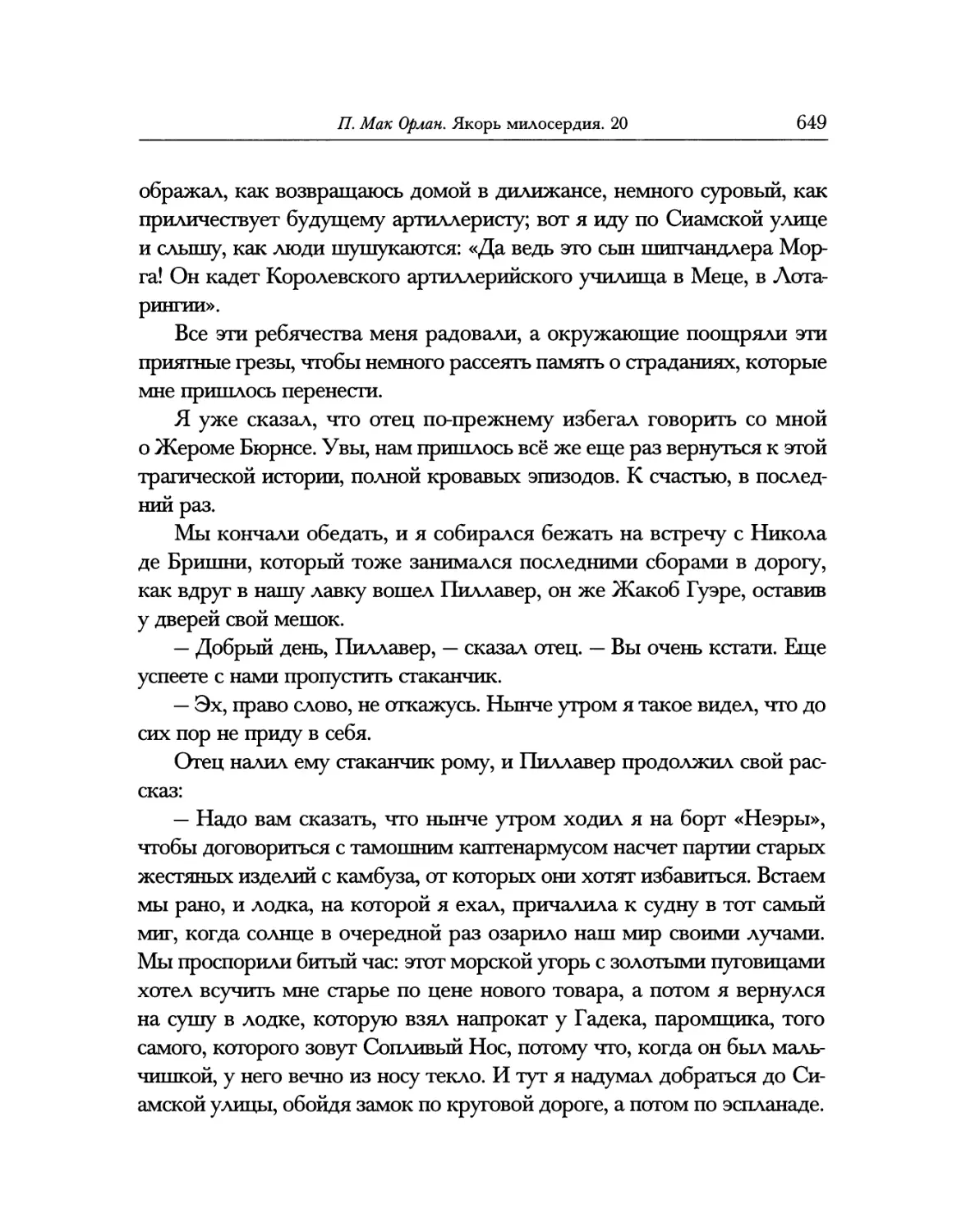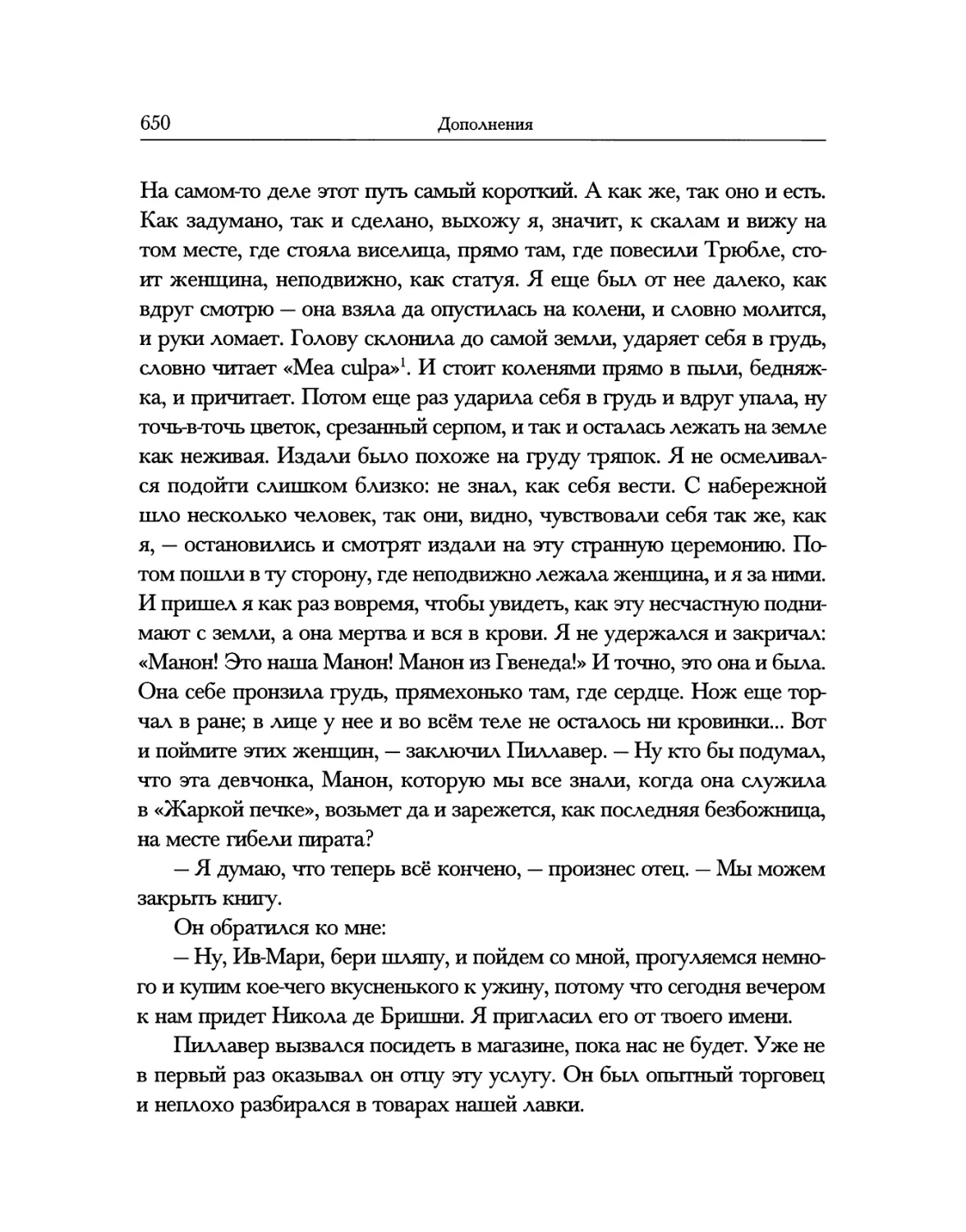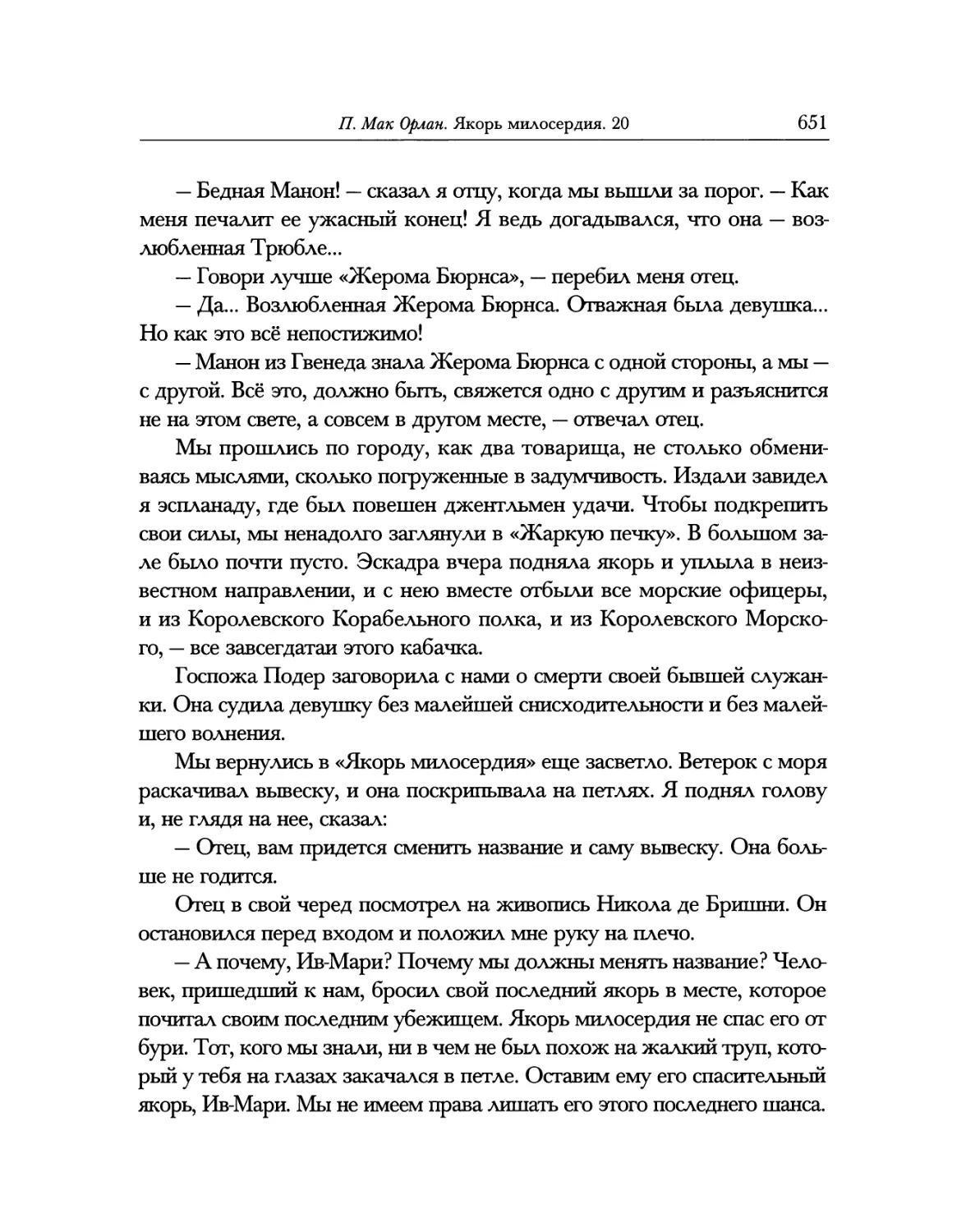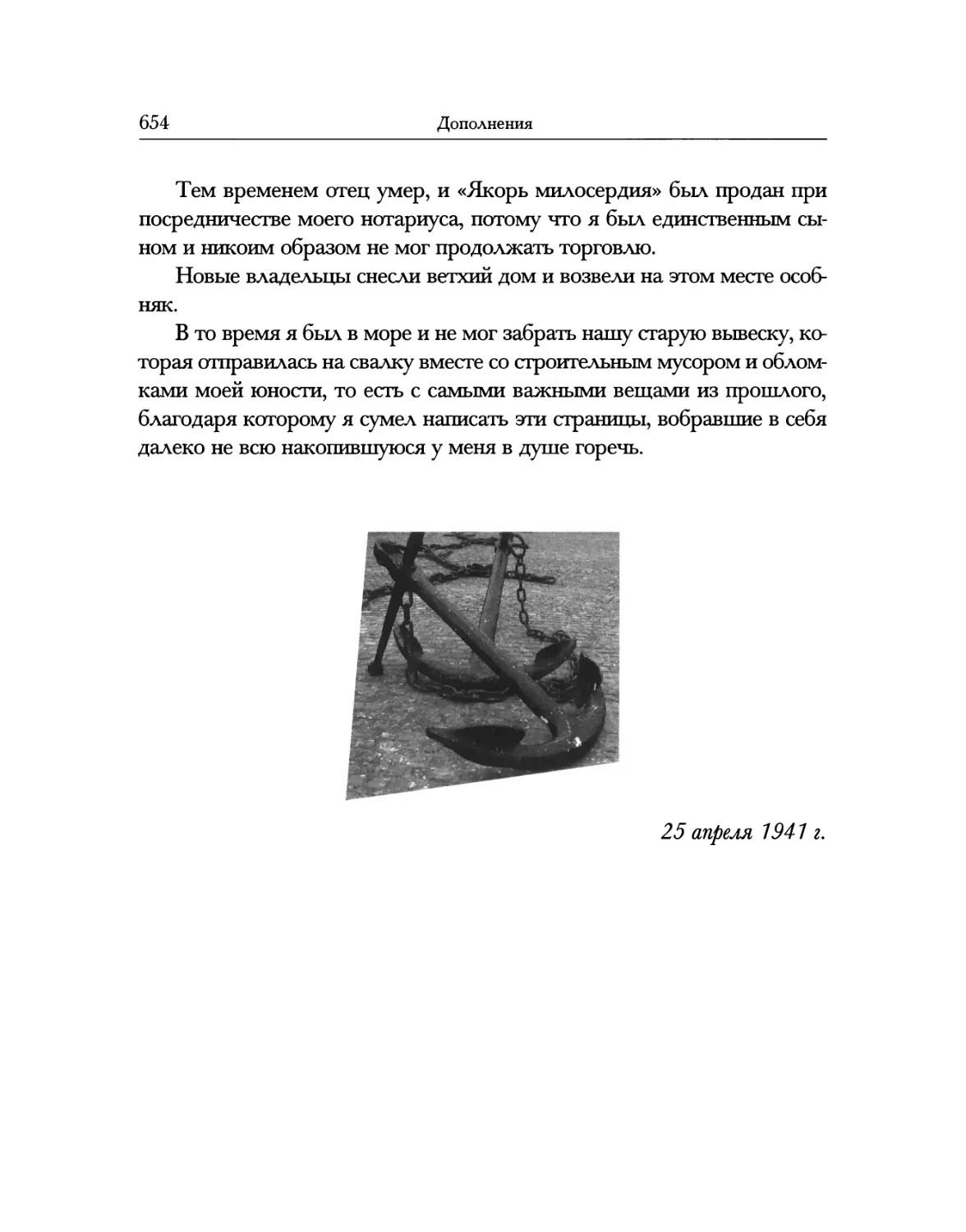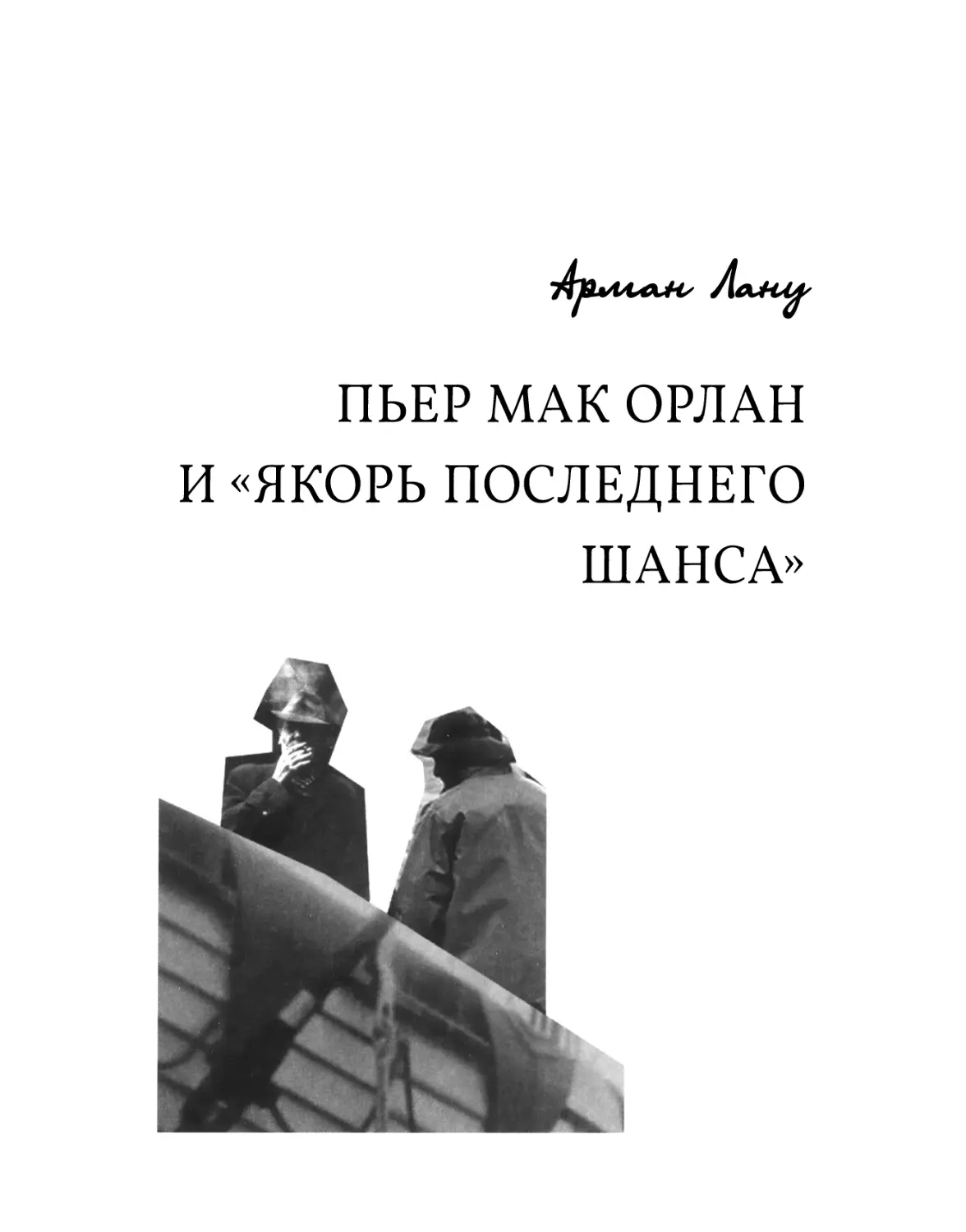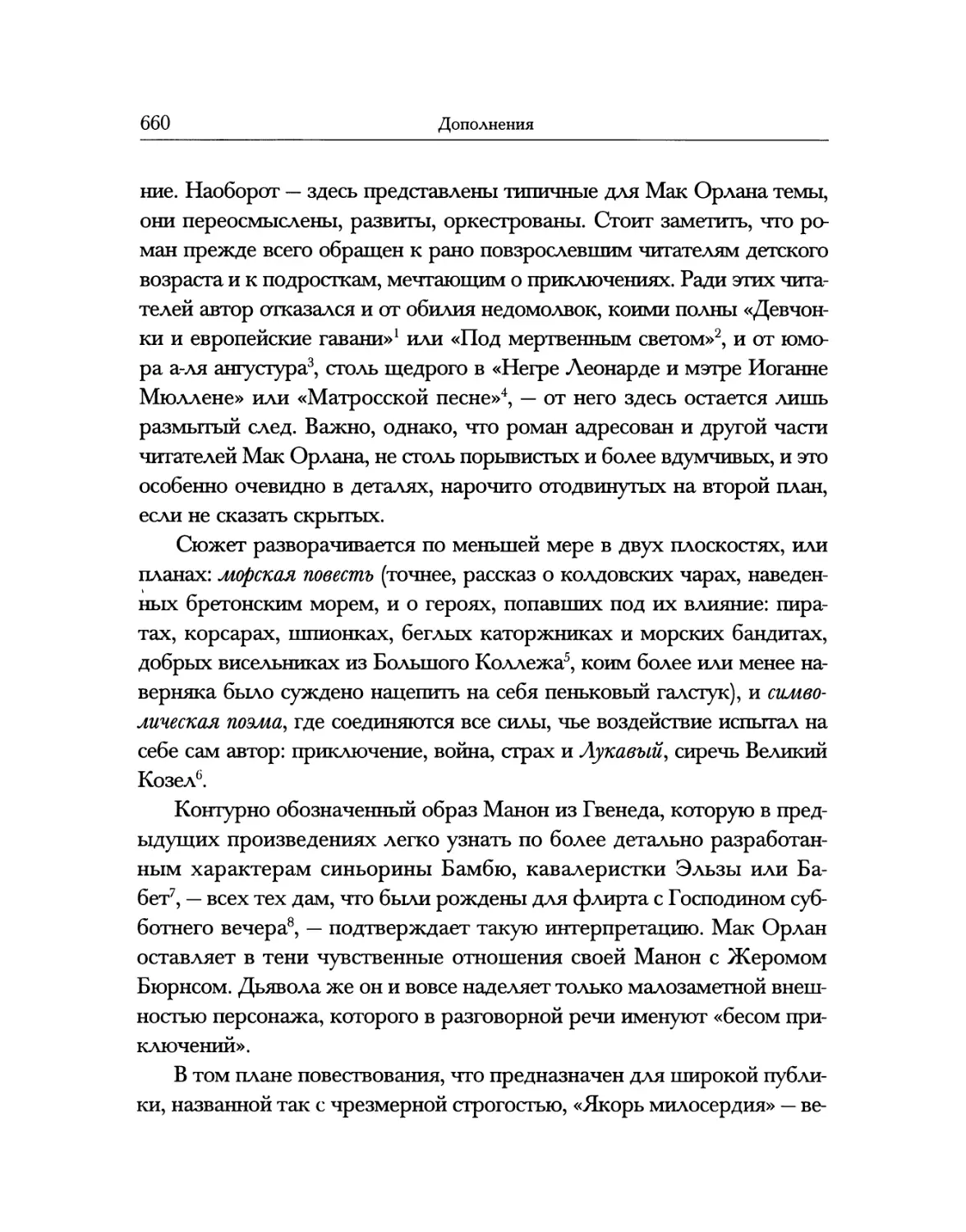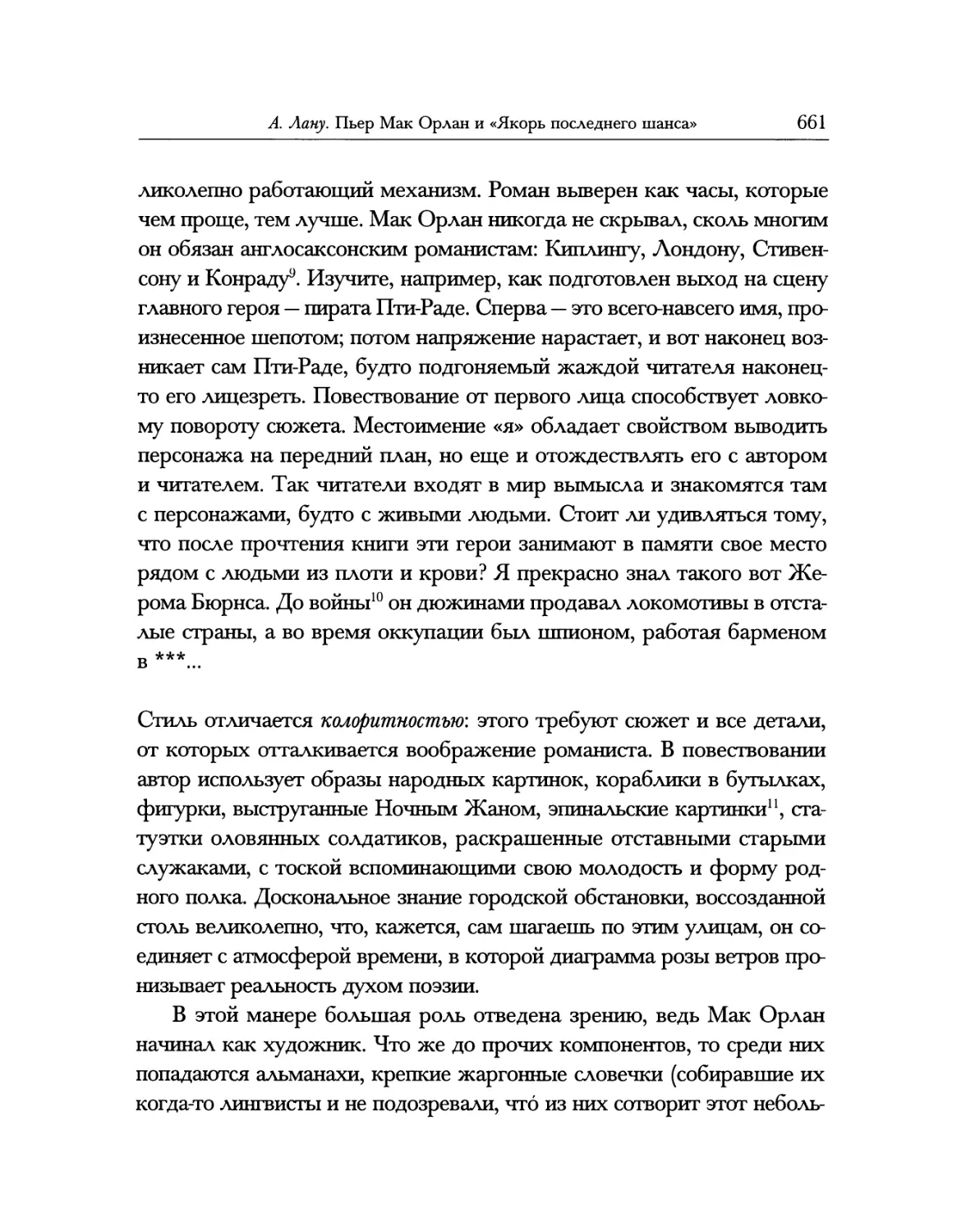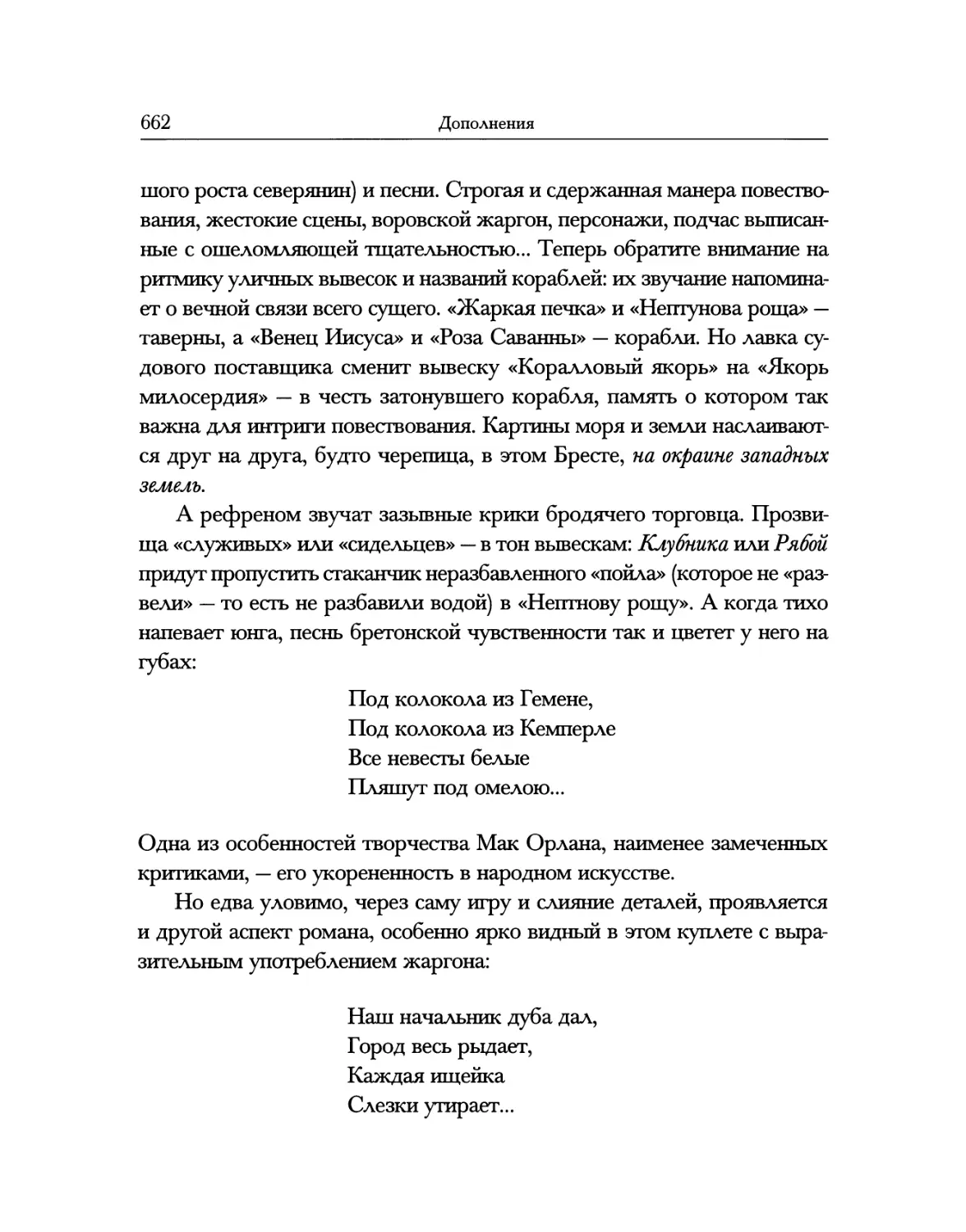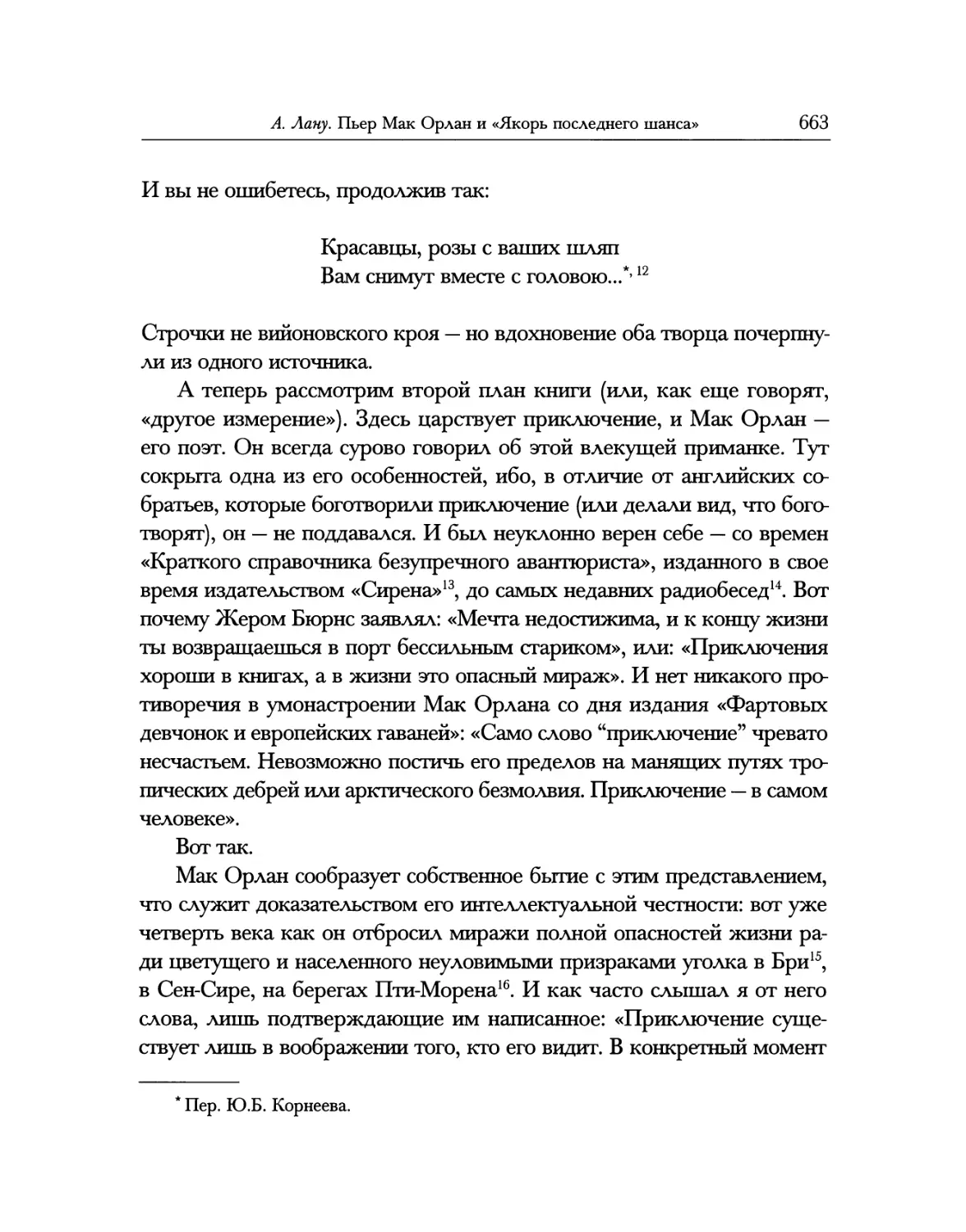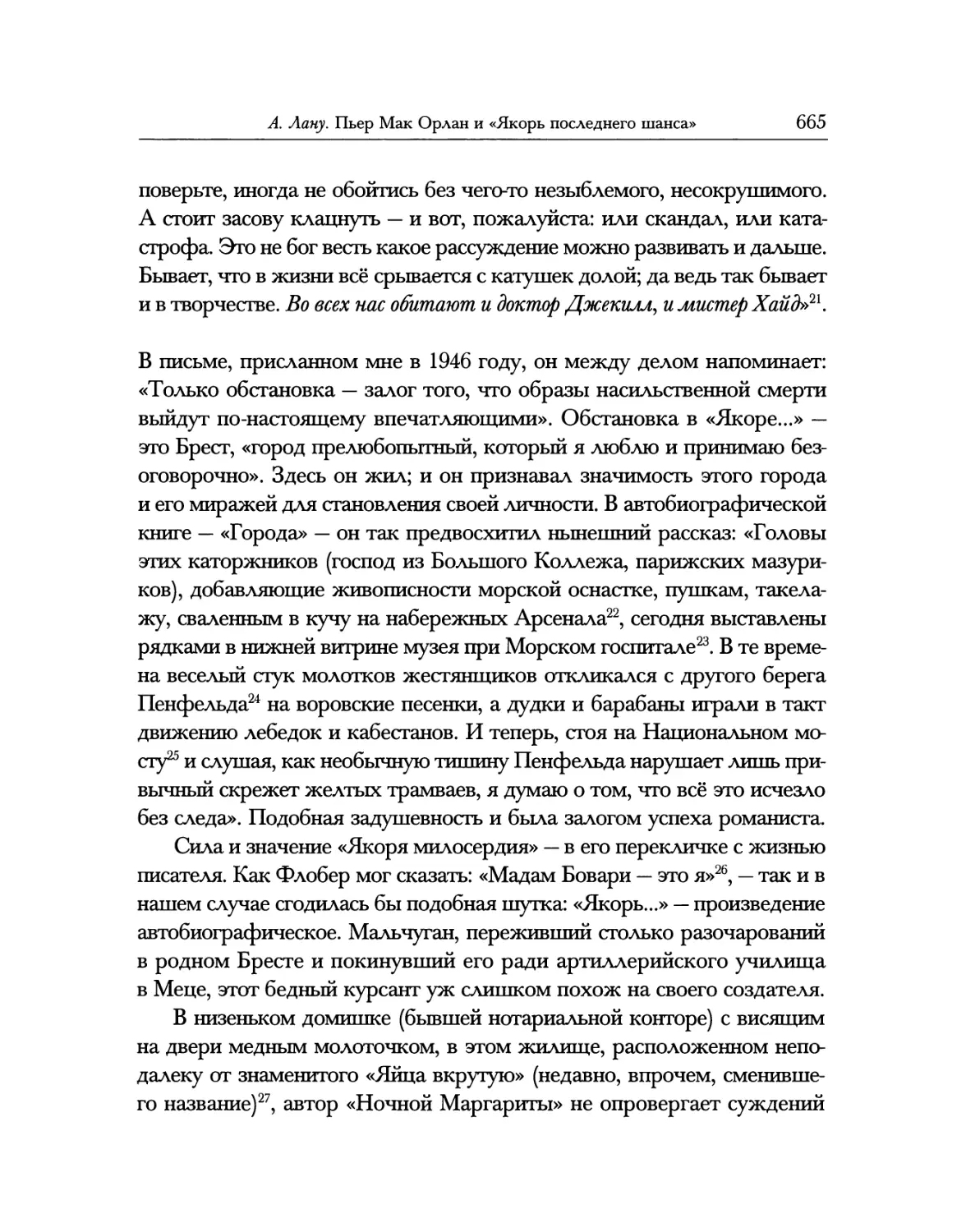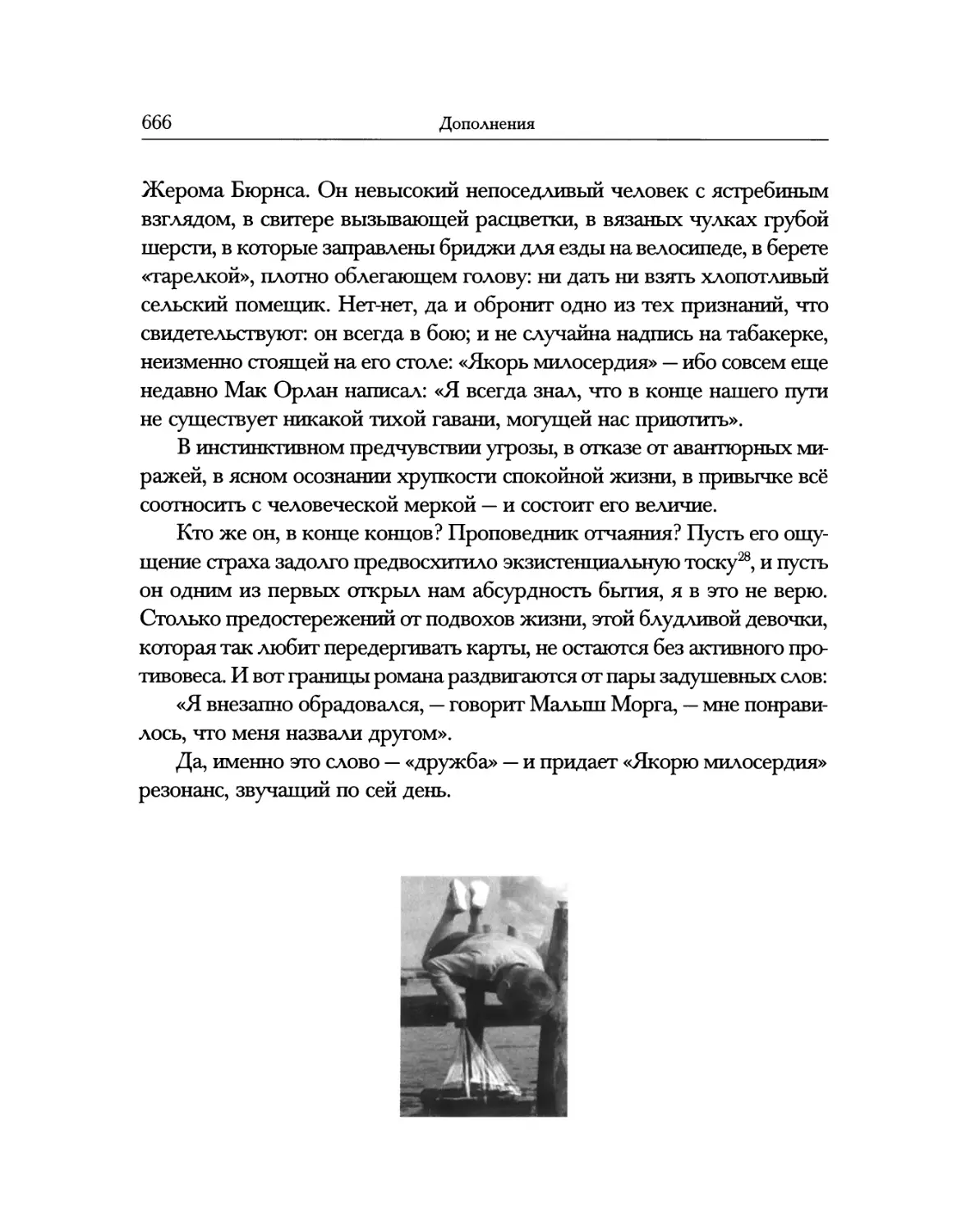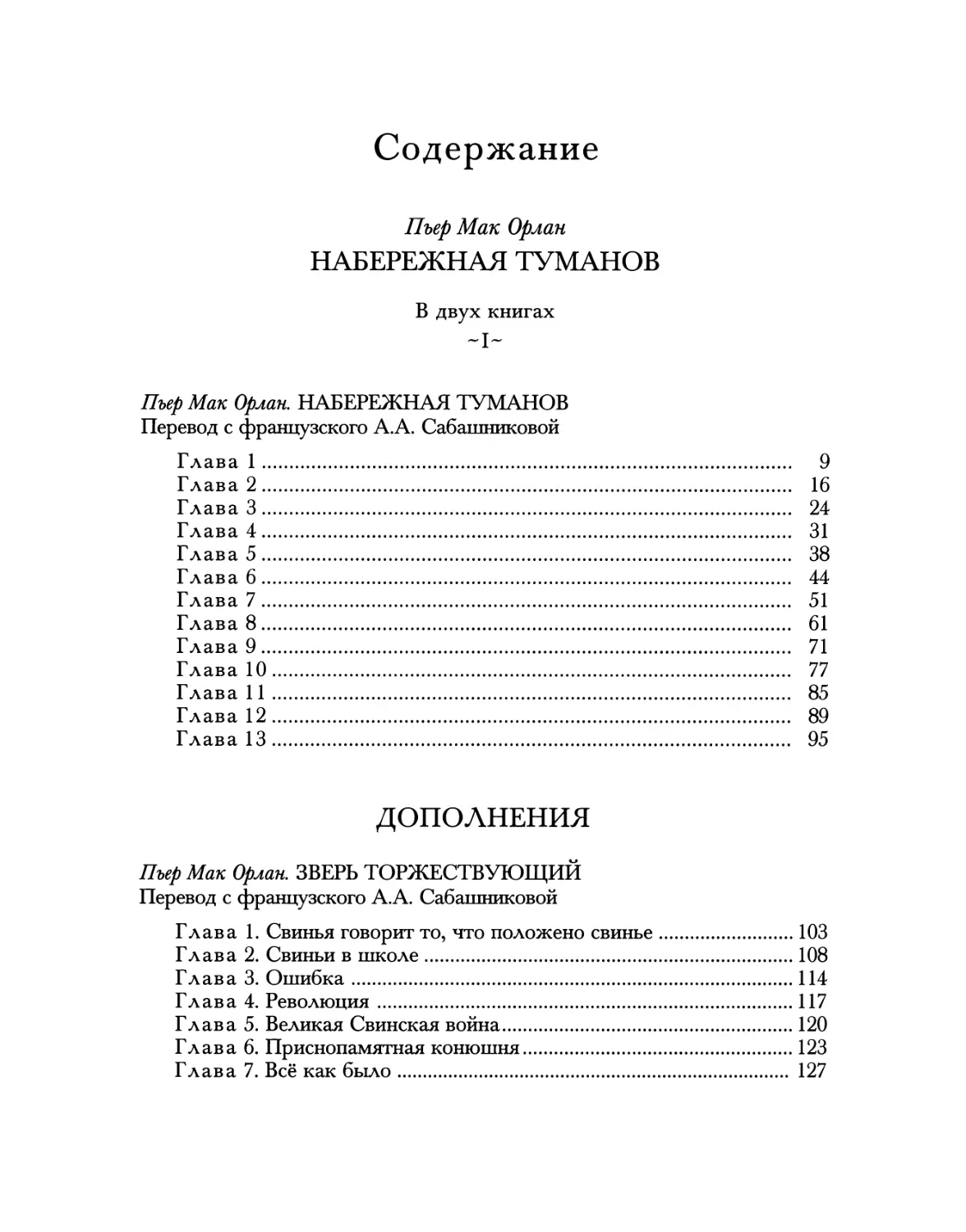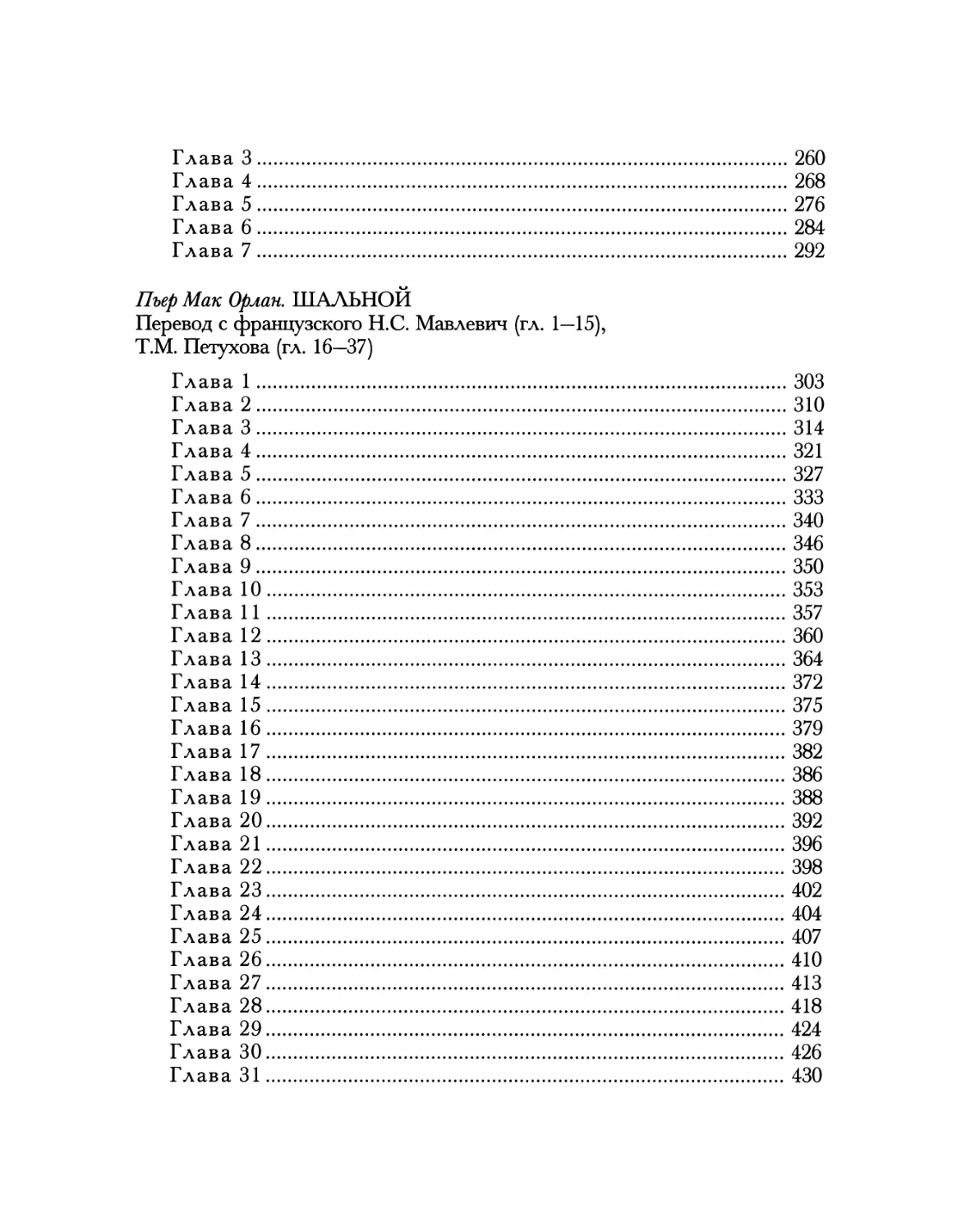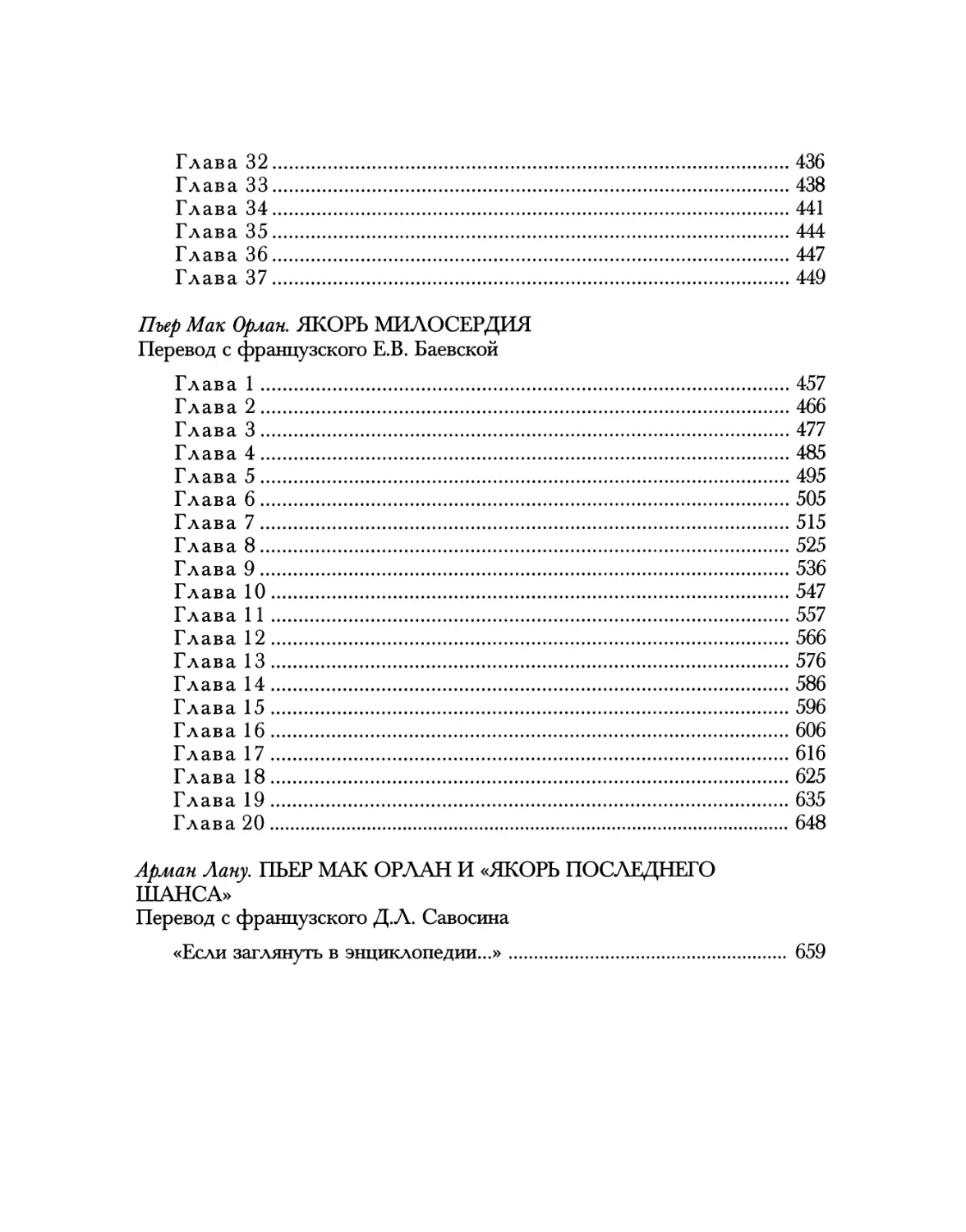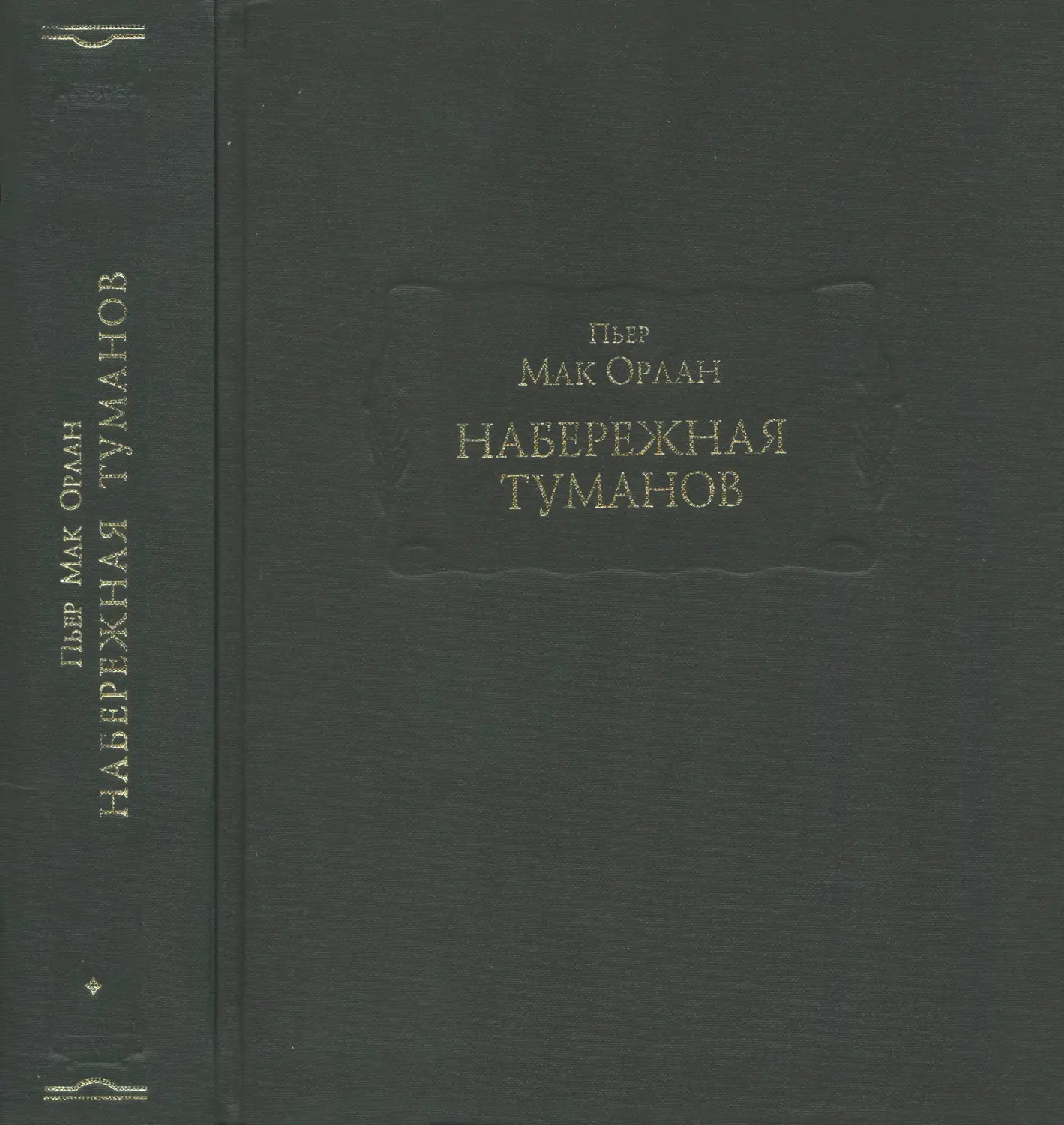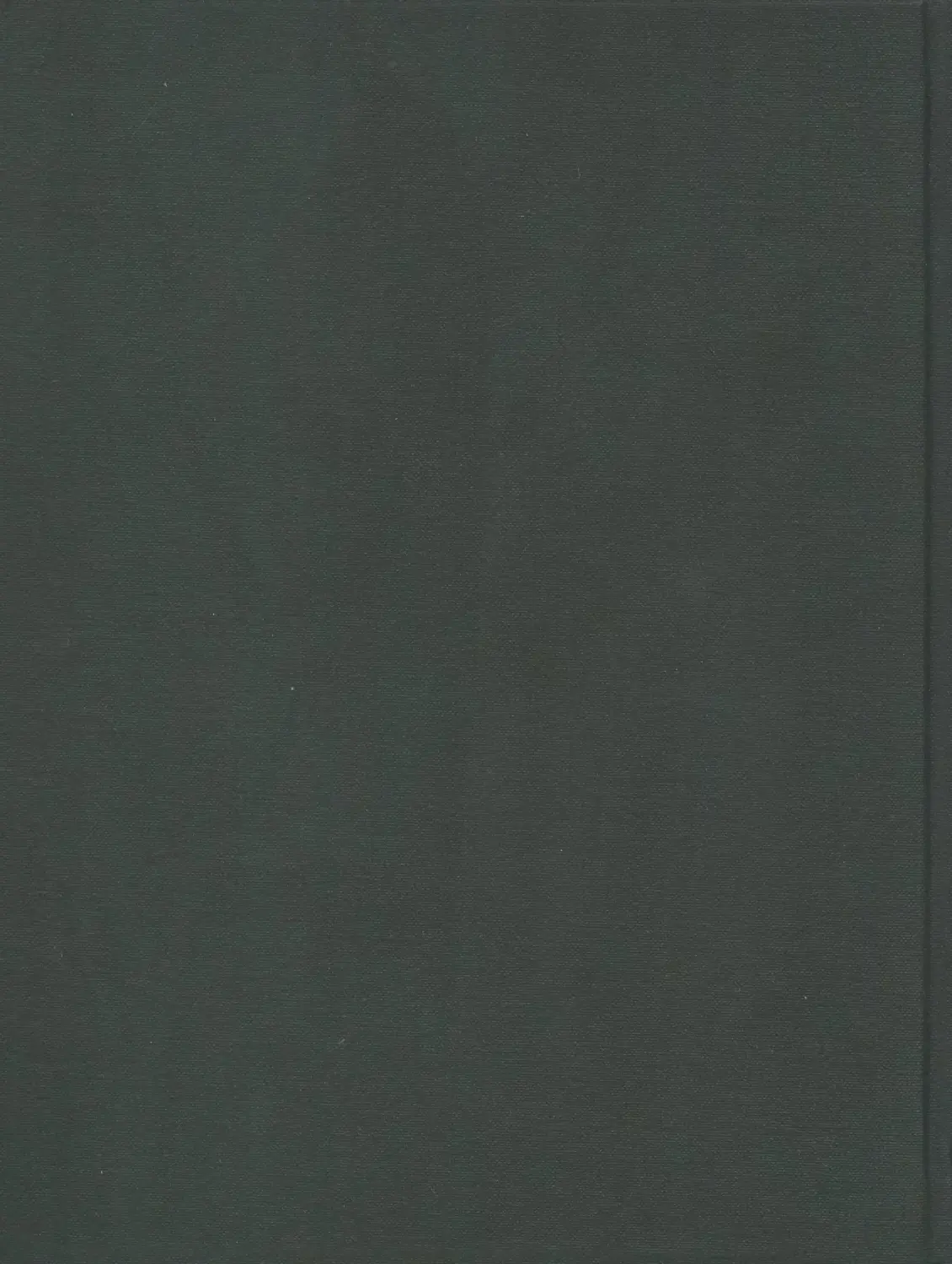Автор: Мак Орлан Пьер
Теги: художественная литература литературные памятники классика литературы дополнение
ISBN: 978-5-86218-578-2
Год: 2020
Текст
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Литературные ТГамятники
Pierre Mac Orlan
LE QUAI DES BRUMES
Пьер Мак Орлан
НАБЕРЕЖНАЯ
ТУМАНОВ
В двух КНИГАХ I
Издание подготовили
Э.Н. ШЕВЯКОВА, А.А. САБАШНИКОВА, Е.В. БАЕВСКАЯ, Я.С. ЛИНКОВА,
Н.С. МАВЛЕВИЧ, Т.М. ПЕТУХОВ
Научно-издательский центр «ЛАДОМИР»
«Наука»
Москва
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»
Серия основана академиком С.И. Вавиловым
М.Л. Андреев, В.Е. Багно (заместитель председателя),
В.И. Васильев, Т.Д. Венедиктова, А.Н. Горбунов, P.iö. Данилевский, />.Ф. Егоров (заместитель председателя), Казанский,
i/.P. Корниенко (заместитель председателя), Д.2>. Куделин (председатель), Я.5. Лавров, Я.Р. Махов, Я.М Молдован, С.И. Николаев, 7Ö.C. Осипов, AL4. Островский, £.5. Халтрин-Халтурина (ученый секретарь),
7CÆ Чекалов
Ответственный редактор 7СЯ. Чекалов
Издание осуществлено при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым
КОММУНИКАЦИЯМ
Le Quai des brumes © Éditions Gallimard, Paris, 1927. Marguerite de la nuit © Editions Grasset & Fasquelle, 1925. Le bataillonnaire © Éditions Gallimard, Paris, 1989.
Le Nègre Léonard et maître Jean Mullin © Éditions Gallimard, Paris, 1920.
La Bête conquérante © Éditions Gallimard, Paris, 1960. L’Ancre de miséricorde © Editions Gallimard, Paris, 1974. Petit manuel du parfait aventurier © Éditions Gallimard, Paris, 1951.
© E.B. Баевская. Перевод, 2020.
© H.С. Мавлевич. Перевод, 2020.
© Т.М. Петухов. Перевод, 2020.
© А.А. Сабашникова. Перевод, 2020.
© Д.Л. Савосин. Перевод, 2020.
© А.О. Лыскова. Оформление, 2020.
© Научно-издательский центр «Ладомир», 2020.
© Российская академия наук и издательство «Наука», ISBN 978-5-86218-578-2 серия «Литературные памятники» (разработка,
ISBN 978-5-86218-590-4 (Кн. I) оформление), 1948 (год основания), 2020.
Репродуцирование (воспроизведение) данного издания любым способом без договора с издательством запрещается
Пьер Мак Орлан
1882-1970
^Настоящее издание посвящается памяти Виктора Петровича и %амары Владимировны Ъалашовых,
НАБЕРЕЖНАЯ
ТУМАНОВ
V*
Раб, двадцатипятилетний молодой человек без определенных занятий, грязными руками снял с головы фетровую шляпу и стряхнул налипший снег. Снег этот был прекрасен и по- северному чист. Жан Раб смотрел на него с аппетитом, как на что-то съедобное. С тех пор как Жан Раб окончил лицей, вся сила его интеллекта, казалось, уходила на то, чтобы довести до совершенства желание что-нибудь съесть. Он достиг поразительного мастерства в искусстве воображать пищу. В сущности, его подогреваемое голодом воображение лишь разжигало чувство удовлетворения от съеденного бифштекса. Последний раз он ел мясо с кровью ровно семь недель назад. Когда мог, он питался жареной картошкой и сардельками в кипящем жире. Он ел то у одного, то у другого, то днем, то ночью — чаще среди дня, — где подвернется нечаянное гостеприимство. Пользуясь отсутствием одного из приятелей, ночевал в его мансарде на улице Констанс1 на Монмартре2. Когда мог, Жан Раб снимал комнату на день или два, покупал свечу и захватывающий приключенческий роман. Съев бутерброд с паштетом, он с неописуемым наслаждением забирался под одеяло и допоздна читал «Графиню де Монсо- ро»3. Когда свеча сгорала на три четверти, он гасил ее и лежал на спине, глядя в одну точку.
Ощущение комфорта, пусть даже жалкого комфорта дешевого гостиничного номера, наполняло всё его существо. Раб как губка впиты-
10
П. Мак Орлан
вал в себя это состояние, доходил до полного изнеможения; его прямо- таки распирало от сознания, что есть кровать, крыша, закрытая дверь. Ни с чем не сравнимое оцепенение в основном рождалось благодаря закрытой двери, на время отгораживавшей его от того мира, того существования, что носило его, как ветер носит сухой лист, то туда, то сюда, шутя подбрасывая и вновь прибивая к земле.
По его словам, он каждый день пил горькую чашу до дна4. Иногда это было так отвратительно, что он не мог сдержать улыбки; а когда он улыбался, выражение его глаз напоминало взгляд дурного священника. Он любил женщин и мужчин, потому что чувствовал, что они еще гнуснее его. Как-то вечером, задремав в одном из баров близ Рынка5 над чашкой дешевого кофе, Раб вдруг сквозь пелену нищенского забытья заметил возле себя девочку лет пяти-шести — она безмятежно уснула, доверчиво положив голову ему на плечо.
Внезапно Раб почувствовал бесконечное сострадание к ребенку. Всё его существо озарилось ярким светом. От головки, покоившейся у него на плече, в его сознании неотвратимо загоралось множество огоньков, связанных с еще мало знакомыми струнами его будущей души, той, которую он обретет, выбравшись из животной нищеты. Он бережно отстранил девочку и вышел на улицу, где дождь звенел по асфальту маленькими колокольчиками, прыгавшими, как бесенята. Дождь прилежно усмирил энергию, сообщенную ему прикосновением детской головки и мягкого ротика. Но вернуться в бар было уже невозможно, ибо не имелось больше у Раба двух су, чтобы заплатить за место и чашку кофе.
Он брел сквозь струи дождя и в конце концов забрел в полицейский участок. Там он показал свой диплом бакалавра6, и дежурный дал ему направление в ближайшую гостиницу, двери которой открылись перед ним, как ворота захудалой тюрьмы.
Сколько было в его жизни гостиниц, столько оттенков имел и скрежет ключа, открывающего камеру. Исподволь, но неотвратимо он привыкал к мысли, что рано или поздно попадет в тюрьму, и всё будет так
Набережная Туманов. 1
11
же, как в гостиницах, где он мгновенно засыпал и спал с трех часов ночи до полудня. Как раз к трем ему обычно удавалось обрести монету в двадцать су, позволявшую вкусить этот адский покой.
Иногда он засыпал в припадке оптимизма, чреватого нелепыми осложнениями, а всё потому, что у него в кармане оставалось четыре су на кофе со сливками и круассан. Тогда Жан Раб строил планы на будущее.
Было время, он искал работу. Его одежда и поведение не вселяли никакой надежды в тех, кто мог бы стать его начальством. Все они прекрасно чувствовали, что Раб не их человек, и не брали его в игру.
Иногда всё же подвертывалась какая-то работенка. Когда-то он служил корректором в одном провинциальном городе7, вновь ощутил вкус к интеллектуальной жизни и той относительной роскоши, что всегда сопровождает общение юношей с молодыми шлюхами. Он купил велосипед и продал его, чтобы иметь деньги и придать себе блеску в глазах Симоны, белокурой кассирши благопристойного кафе, — из тех заведений, что любят посещать проститутки средней руки. Потом еще что-то купил и тоже продал. Не заплатил за гостиницу, оставил неоплаченными счета из ресторанов, где пользовался кредитом. Однажды утром он вернулся в Париж в новом пальто, которое тут же сбыл старьевщику с улицы Дюрантен8. Когда же, всё опускаясь и опускаясь, он облачился в костюм нищеты, пришлось снова пуститься в путь среди улиц, среди мужчин и женщин, чьи имена он обещал себе забыть, как только позволит будущее.
* * *
Месяца три назад Жан Раб вернулся из Палермо9, где прожил год в условиях, так сказать, случайного комфорта. Уже в тот самый день, когда судьбе вздумалось отправить его вслед за одной пожилой дамой в неказистую гостиницу, откуда видны были все три розовых купола церкви делла Катена10, Раб отлично понимал, что продолжения история эта иметь не будет и что он вернется в Париж, обогащенный итальянскими воспоминаниями, особо его не вдохновлявшими, но по-прежнему без
12
П. Мак Орлан
денег. Он вернулся, как уезжал, то есть в новой одежде, которую тут же продал. Хватило этого на три недели.
Он просто-напросто продолжал время от времени изменять своей нищете, льнувшей к нему как верная подруга.
В Палермо, Неаполе, Риме, Флоренции11 он знал, что она плетется за ним, ноющая и невоспитанная. Слышал ее хныканье и невнятный жаргонный лепет. Чувствовал, как она тянет его за полу пиджака. Иногда передергивался. У него было смутное ощущение, что не настал еще час уйти от материнских забот нищеты. Но как бы низко он ни опустился, жила в нем некая сила — сила Жана Раба. Порой от нее исходило сияние, и, когда он сам того хотел или когда алкоголь высвечивал его изнутри, наружу пробивался слабый луч света, манящий и вместе с тем тревожный, как ночные огоньки незнакомого города, которые видны из вагона поезда. Лучшие из приятелей недолюбливали его, ибо он был беден и плохо одет. Общение с Рабом не делало им чести. В его отсутствие, когда все знали, что он вот-вот придет, о нем говорили резко и безжалостно. Однако, стоило ему появиться, руки тянулись ему навстречу и слышались приятно удивленные голоса: «А вот и Жан Раб, ну, как дела, Жан Раб?»
Жан Раб садился и отвечал с таким видом, будто ему и впрямь приятно: «Хорошо, спасибо». А про себя думал: «Чтоб вы все сдохли, скоты».
Лучшими в жизни Жана Раба были минуты, прожитые на гребне волны, поднятой более удачливым другом. Он знавал счастливцев, имевших завидное положение в обществе или подспорье от родителей. Эти филантропы из кафе любили Жана Раба, потому что с ним было занятно провести ночь за бутылкой. Когда же ночь кончалась, друг возвращался к себе домой в тепло и уют, а Раб с больной от слишком быстрого протрезвления головой нетвердой походкой возобновлял свой путь вдоль по улицам в поисках дружественного жилища, комнаты или мастерской, где можно будет растянуться на диване, несмотря на враждебные взгляды хозяйки дома. За исключением уличных девиц, все женщины ненавидели Раба, а он лишь пожимал плечами, зная, что
Набережная Туманов. 1
13
иначе и быть не может. Но его не волновало, как относятся к нему жены друзей. На это он просто не обращал внимания: главное — поспать, каково бы ни было мнение дам по сему увлекательному вопросу.
* * *
Было что-то около одиннадцати; поужинав у приятеля и безуспешно попытавшись одолжить у него несколько су, чтобы снять на ночь комнату в переходе Элизе-де-Боз-Ар12, Раб инстинктивно решил вернуться на Монмартрский холм, где «Проворный кролик»13 готовился зажечь в ночи маленький красный огонек.
Шел снег, и Раб встряхнул потяжелевшую шляпу. Он пересек весь Париж — ведь он шел с Монпарнаса14 — быстро, ссутулясь и втянув голову в плечи, засунув кулаки в карманы летнего, слишком узкого для него пальто.
На ходу он думал почти вслух. Мозг его замечательно трудился над воплощением идеи, вдруг показавшейся ему ослепительной: найти двадцать франков, снять комнату на неделю, купить бумагу и тушь и рисовать картинки, как можно более непристойные, чтобы лучше продавались. Эти картинки он мог бы — как знать? — продавать по сто су за штуку. Но сколько бы он ни просчитывал все варианты, выручить от такого начинания сто франков он не надеялся. Ему никак не удавалось оценить свои коммерческие способности выше пятидесяти франков.
Дойдя до площади Пигаль15 на ватных от постоянного скольжения по тротуарам ногах, Раб полностью осознал идиотизм своих построений. Ему не найти желанных двадцати франков. Это ясно.
Он порылся в кармане, достал небольшой кисет с сырым табаком и набил трубку, тщательно оберегая ее от круживших над головой хлопьев.
Он прикурил в табачной лавке на углу улицы Аббесс16. Перед ним из бара «Фове»17 вырывался сноп света и веселья. Механическое пианино под перезвон разнообразных колокольчиков безудержно наигрывало «Сиди-Брахим»18. Раб подошел к окну, выходящему на улицу А6-
14
П. Мак Орлан
бесе, и заглянул внутрь. Ни одного приятного лица он не увидел. В углу старый художник, самый заклятый его враг, набивал трубку перед чашкой кофе. Его короткие ноги не доставали до пола, хоть он и сидел на самом краю скамейки. Художник смотрел на шарманку с видом одинокого идиота.
Жан Раб поморщился при виде этого побочного продукта искусства. Он вспомнил — и кровь прилила к лицу, — как унизительно этот субъект ославил его на весь квартал. Стоило Жану Рабу войти к кому- нибудь в дом, как все потихоньку притворяли дверцы шкафов.
Жан Раб наблюдал, как старик расслабляется под колпаком электрического света, посасывая мундштук своей глиняной трубки. Видел, как тот заказал кружку темного пива. Это зрелище показалось Рабу особенно омерзительным, и он пошел вверх по улице Равиньян19, опустив глаза в снег. Его зубы отбивали ритм военного марша, звеневшего в голове, как в громкоговорителе. На углу улиц Норвен20 и Соль21 из снежной пелены его окликнул голос.
Это был Малыш Луи, местный сутенер, которого Жан Раб знал еще голопузым мальчишкой.
— Здрасьте, дядя Раб.
— A-а, привет, — ответил Раб.
Он тут же подумал, не занять ли ему несколько су у этого фатоватого молодца. Но глупо замешкался, остальное довершило воспитание, а сбегая вниз по неровной мостовой улицы Соль, он явственно осознал, что упустил случай. И теперь ночь эта кончится плохо, в холоде и нищете, более гнусной, чем воровство. «Проворный кролик» укрылся за оградой из легких деревянных прутиков, затворил ставни и двери, но всё же наружу струился чудный свет оттенка чистого золота, растекавшийся по белому снегу.
Раб робко постучал в тяжелый деревянный ставень, и дверь резко, рывком распахнулась. Его тут же обволокло облако тепла, уюта и оптимизма. Он поздоровался с хозяином Фредериком22, который носил на голове красный платок, завязанный на затылке на манер рыбаков Юга. Еще этот головной убор напоминал старинные бретонские кол¬
Набережная Туманов. 1
15
паки, как у стариков из Плугастеля23. Фредерик был в сапогах и шагал, молчаливый, проворный, большой и неустрашимый, сгорбившись и опустив голову, готовый и к нападению, и к обороне.
Он жил с волками и знал их нравы. Он был немолод, но умел поставить на место тех, кто всегда готов прибегнуть к силе и Божьему правосудию.
Он мало говорил и всегда настороженно прислушивался к звукам с улицы. Поразительный инстинкт предостерегал его заранее. Он улавливал возвещавшие драку волны задолго до того, как фонари будут задуты резким и трагическим дыханием битвы, жестокой, продуманной и удивительно точной в своих действиях.
— Как дела? — спросил Фредерик.
— Да ничего, — ответил Жан Раб.
— Ну, тогда поднимайся к огню, никого нет.
Жан Раб поднялся в большой зал и пододвинул шаткую табуретку к побеленному камину, где в очаге величиной с плошку теплился огонек.
Эта комната не была враждебной. Она отлично сливалась с нищетой, которую носил в себе Раб.
Выбивая трубку о каблук стоптанного башмака, он дышал жаром и совал ноги в самое пламя.
Подыскивая, под каким бы предлогом дать себя угостить чашкой горячего кофе, он с интересом следил за белыми мышками, бегавшими по камину. Они вылезали из одной дырки и ныряли в другую.
Над его головой, трижды, как человек, чихнул малыш Шука24 — ворон в ивовой клетке.
обдавал жаром одежду молодого человека, она морщилась, коробилась и под действием тепла казалась еще беднее. Он всё время тер ладони, будто играл на тарелках.
В его глазах мерцал красный отблеск догорающего полена; он думал об огне, о стоимости дров и о блаженстве постоянно сидеть перед немеркнущим пламенем.
Сам себе Раб представлялся бедным, но счастливым подданным огня. Вокруг него город, где он жил, понемногу погружался в вечные снега. Среди хлопьев суетились облаченные в темный драп призраки, послушные общественному ритму, до которого ему, Рабу, не было дела.
От огня пощипывало глаза, и всё когда-либо виденное вперемежку проплывало перед его взором: люди, вещи, пейзажи и звери. Но только он, отторгнутый этой жизнью, был данником огня. Только он имел право блаженствовать и наслаждаться в атмосфере, сотворенной пурпурным божеством.
Там, за окном, в Париже, торжествующий снег глушил все звуки. Угол улицы Сен-Венсан1 был мертв, и мертв был большой кроваво- красный дом. Лишь на самом верху его горел огонек. Глядя на этот свет через отверстие в ставне, Раб представлял себе, что там живет господин Монмартр, палач восемнадцатого округа2, читающий Библию своим непутевым внукам.
Набережная Туманов. 2
17
Мысль эта, навеянная чтением альманахов, сливалась в голове Раба с тем, что он думал о снеге, и приводила к ощущению полнейшего блаженства, ртутный столбик которого незаметно миновал двадцатипятиградусную отметку.
Он напевал себе под нос, как случается порой в поезде, когда даешь себя убаюкать равномерному стуку колес. Фредерик ходил взад и вперед по залу, заложив руки за спину и втянув голову в ворот красного шерстяного свитера. Иногда он останавливался, чтобы прикурить от уголька, предварительно подув на него и оживив пламя.
— Я чувствую, там, на улице, всякая сволочь, — сказал Фредерик.
Раб, улыбаясь, опустил голову и вежливо ответил:
— Вполне возможно.
Потом он тоже встал, сунул руки в карманы, подошел к окну и, прижавшись носом к стеклу, увидел в щелочку ставня одинокий слабо мигающий газовый фонарь, чье робкое пламя изгибалось под шквалами ветра, ревевшего в кронах деревьев над кладбищем Сен-Венсан3.
— Ну и погодка! — вздохнул Раб.
Фредерик снова стал ворошить угли.
— Говорю тебе, вокруг дома бродит всякая сволочь.
— Вчера ничего не было? — спросил Раб.
-Нет.
— Банда Филиппи не приходила?
— Как раз о ней я и думаю, — ответил Фредерик.
Он потянулся за своей мандолиной, лежавшей пузом кверху, как перевернутая черепаха. Взял несколько аккордов и тихонько запел что-то непонятное, но замечательно подходившее к скромному теплу маленького камелька.
— Хочешь кофе? — спросил Фредерик.
— Да знаешь, — ответил Раб, привычным жестом потирая руки, — в такую погоду... не откажусь... мне пойдет на пользу, у меня нет ни гроша.
Он особенно напирал на конец фразы.
18
П. Мак Орлан
— Я так и знал, — сказал Фредерик.
Жан Раб отхлебнул горячего кофе. Жидкость восхитительно обжигала горло и желудок.
Тем временем Фредерик спустился в маленький зал. Жена его возилась на кухне, и слышно было, как тихонько напевает служанка.
Раб продолжал курить. Он тоже спустился и через маленькое окно за стойкой смотрел на улицу, на истерзанный силуэт акации и на легкие и отважные легионы кружившихся вихрем безмолвных снежинок.
Всё было белым-бело и вокруг кабачка, и на крышах домов, и на ветках оцепеневших деревьев. Даже следов на земле не было видно. Все заперлись по домам, а самые беспокойные, положив на подушку отяжелевшие головы, чувствовали, как давит на них мистическая снежная тишина.
Белая армия бросилась брать Париж. Она коварно проникала в печные трубы и за шиворот полицейским, неподвижно стоявшим в своих черных шинелях. Но она была бессильна перед теплом маленького камелька, бессильна перед тем, что Жан Раб только что попил кофе и преисполнился новой отвагой.
«Как же все-таки дойти до жизни, где едят три раза в день? — думал он почти вслух. — Чтобы заниматься ремеслом, не требующим специальных знаний, у меня нет рекомендаций. Бандероли паковать, что ли?» При этой мысли он горько усмехнулся.
Один сердобольный человек как-то пристроил его по этой части. Проработав день в обществе старых трудяг, ворчливых, завистливых и злобных, Раб не мог разогнуть сведенные судорогой пальцы и заработал два с половиной франка.
Еще он занимался распространением буклетов на улицах. Всё это было так, на время. Раб считал, что, пока случай — надежды на который не было — не вытащит его из нищеты, лучше вообще ничего не делать и расставлять силки на маленькие будничные приключеньица.
Он снова сел к огню на колченогую табуретку. Потом стал развлекать себя составлением меню.
Набережная Туманов. 2
19
«Если бы у меня были деньги, — думал он, — я прежде всего съел бы хороший бифштекс с кровью и жареной картошкой. А перед этим проглотил бы дюжину устриц. Если бы я был женат, то каждый день обедал бы дома. Я бы попросил жену приготовить фаршированного кролика в тесте, как ели у меня дома, когда я был маленький и у меня был дом. Впрочем, и этот дом был не совсем моим, поскольку принадлежал опекуну4. Есть здесь один нюанс, который я сумел различить в возрасте семи лет. Будь у меня надежное пристанище, я получал бы величайшее удовольствие, читая по воскресеньям в постели утреннюю газету. Я бы гулял с собакой, а потом пил аперитив у Мазуччо. Я носил бы спортивный костюм: шерстяную куртку с хлястиком, брюки из той же материи и желтые ботинки. И кепку — желательно из той же ткани, что и костюм. Двухкомнатной квартиры мне бы хватило: в одной комнате — спальня, в другой — кабинет. Тогда я стал бы писать роман».
На этом пункте он остановился и стал старательно подыскивать, о чем бы он мог написать роман. Совершенно естественно он возвратился мыслями вспять и вновь окинул взором пройденный путь. И снова проплыли перед ним Бетюн, Гавр, Амстердам, Болендам, Гамбург, Марсель, Флоренция, Рим, Неаполь, Палермо и Тунис5.
Во всех этих городах ему было знакомо французское консульство. А еще лагерь в Шалоне!6 Как же! Он забыл лагерь в Шалоне, 156-й пехотный полк и его оркестр, встречавший на вокзале в Мурмелоне7 толпы новобранцев, среди которых был и он. Ему вспомнилось, как в тот день он вступил в новую жизнь, не имея в кармане даже ста су, чтобы напоить старослужащих. Брюки держались на нем при помощи смешного приспособления из хитроумно переплетенных веревочек. Идя между бараками за оркестром, наигрывавшим марш «Получи колбасу»8, он с нетерпением ждал, когда можно будет облачиться в форму и разом скрыть под ней и нищету, и стыд нищеты.
Шаркающие шаги Фредерика заставили его поднять голову. Босс, как звал его Раб, подошел к огню, чтобы раскурить остывшую трубку.
20
П. Мак Орлан
Выпрямившись, он посмотрел на Раба своими маленькими, необычайно живыми глазами и сказал:
— Я никогда не видел столько снега, понимаешь, никогда не видел столько снега.
Он сел на скамейку рядом с камином и принялся тщательно перемешивать угли кочергой.
— Никогда, — повторил он.
— Так что, — сказал Жан Раб, — ты видел Boré? А Комбальди? Его что-то не видно — наверное, уехал. А Роз Бланш9 еще приходит?
— Придет, наверное. Только вчера здесь была.
— Не бог весть что, — вздохнул Раб.
— Да просто ничего, — сказал Босс, наклонив голову.
— По-прежнему неизвестно, кто убил крошку Мерлина?
-Нет.
— И Жорж ведь тоже.
— Сорок ножевых ран. Его изрешетили, как дуршлаг. Рядом с ним нашли его собаку, тоже всю исколотую ножом.
— Где это было?
— Не знаю, где-то возле бульвара Барбес...10 Я никогда там не бывал.
Босс встал и пошел за виолончелью, стоявшей в углу. Тихонько
провел смычком по струнам. Казалось, он играл под сурдинку — в такт падению снега.
— Если погода не переменится, — сказал Раб, — завтра утром твою лавочку занесет.
Босс резко вскочил, подошел к лесенке и, наклонившись, крикнул в сторону кухни:
— Надо сказать папаше Барбетту, чтобы пришел завтра утром расчистить снег!
Потом вернулся и сел рядом с Рабом.
— А ты чем занимаешься?
— Я? — хмыкнул Раб. — Да мои дела так себе. У меня есть приятель в Гавре, Герберт Франк, ты же знаком с ним, да?
Набережная Туманов. 2
21
— Да, я знаю, о ком ты.
— Франк сейчас служит у одного судового агента. Он должен устроить меня бухгалтером — представляешь, бухгалтером — на корабль, доставляющий вино в Англию, Голландию, Данию, Швецию и Норвегию. Так я смогу протянуть месяца два-три.
— Я знаю шведов, — сказал Босс, — хорошие ребята, настоящие мужчины, можешь поверить.
— В любом случае два месяца перекантуюсь, — сглотнув, горько усмехнулся Раб.
— Хочешь бутерброд? — спросил Фредерик.
— А знаешь, — ответил Раб, умиравший с голоду, но не желавший подавать виду, — это мысль, дорогой мой Босс. Я заплачу тебе...
Босс не дал ему закончить фразу. Он спустился на кухню, открыл буфет, отрезал кусок хлеба и старательно намазал его аппетитным гусиным паштетом.
Он отнес бутерброд Рабу и снова спустился, чтобы взять два бокала и бутылку красного вина. Наполнив оба бокала, он сжал свой в ладони, как бы грея, и прилег на деревянную скамейку.
— Слушай, что я тебе скажу: какому-нибудь богачу голод придает элегантности. Богатый человек может сказать: «Я голоден», — и все найдут это очень милым. Но тебе или кому другому, коль скоро ты беден, нельзя хвастаться тем, что ты голоден. Это производит дурное впечатление. Понимаешь?
Жан Раб не отвечал. Он ел свой бутерброд, и все силы его были направлены на то, чтобы оценить вкус пищи.
— Ты прав, — сказал он с полным ртом.
Потом он выпил бокал вина, и вспыхнувший внутри огонь кинулся ему в лицо.
— Надо же! — с ликованием в голосе воскликнул Раб, вставая, чтобы размяться. — Сегодня меня можно доконать одним таким стаканчиком.
— Я закрою рано, — снова заговорил Босс, — никто ведь уже не придет. Кажется, снег перестал. Снег — это здоровье земли.
22
П. Мак Орлан
— Да, — сказал Раб, — снег самым трогательным образом украшает нищету. Нищий на снегу еще обладает некоторой общественной значимостью, тогда как нищий на солнце — это просто гниль.
Босс вздохнул и, ничего не ответив, снова спустился своей шаркающей походкой в маленький зал. На кухне загремели кастрюлями. Послышался голос: «Теперь уже никто не придет».
В этот момент входная дверь резко распахнулась, и на пороге появился молодой человек. Он улыбался, весь розовый, с красным от мороза носом.
— Ты, однако, не рано, — сказал хозяин, протягивая ему руку. — Поднимайся в большой зал. Там у огня — Раб.
— Здравствуй, здравствуй, Фредрик, — сказал молодой человек приятным голосом. — Чтобы противостоять такой лавине, нужны двойные ставни.
— Который час? — спросил Фредрик.
— Половина двенадцатого.
— Сейчас подогреем тебе белого вина с лимоном, а? Слышишь, с лимоном. Поднимайся к огню.
Молодой человек прошел в большой зал и пожал руку Жану Рабу.
Это был высокий, светловолосый, довольно изящный юноша. Чем- то он напоминал рисунок Рене Синтенис11. Одет был опрятно и очень недешево. Несколько пятен краски на толстом пальто выдавали его профессию. На голове у него была небольшая шляпа из зеленоватой материи, сдвинутая на затылок. Прядь волос постоянно падала на лицо, и он отбрасывал ее привычным жестом.
Он вытянул длинные ноги, выставив напоказ совершенно новые желтые ботинки на толстой подошве.
Жан Раб уставился на эти башмаки с детским восторгом, противиться которому даже в глубине души не нашел бы мужества.
— Выпьете что-нибудь за мое здоровье? — спросил высокий блондин Жана Раба. — И ты, Фредрик, тоже выпей с нами вина. Хайям пел так. — И он процитировал:
Набережная Туманов. 2
23
— Пей, ибо скоро в прах ты будешь схоронён.
Без друга, без жены, твой долгий будет сон. Два слова на ухо сейчас тебе шепну я:
Когда тюльпан увял, расцвесть не может он*’12.
* Пер. О.Б. Румера.
з
Краус — так звали молодого немца — затянул потуже узел своего галстука, состроил смешную гримасу и высунул кончик языка.
— Судьба, — сказал он, — это всё равно что «каюк», — потом хмыкнул и разом осушил бокал.
— Что с нами и происходит, — отозвался Раб, вороша угли.
— Ой! Не трогай огонь! — воскликнул Босс.—Надо сложить дрова домиком, а внизу чтоб был воздух. Огонь любит острые края.
— Все стихии любят острые края, — сказал Михель
Краус. — Мысль любит стальное острие пера, молния — платиновое острие громоотвода, чувственность — острые кончики пальцев, самая легкая балерина поднимается на пуанты, а на величайших вершинах мира плещутся на ветру знамена, тешащие самолюбие европейцев. — И, без всякого перехода перескочив на другую мысль, он вздохнул: — Вот сидим мы втроем, окруженные настороженной тишиной конца света. Звуки больше не распространяются в воздухе. Мы видим, как раскачивается большой колокол на колокольне Сакре-Кёр1, но улавливаем только звуки прошлого, которые сохранила память и воскрешает движение. Уже два дня идет снег. Я звонил в Берлин, и там тоже снег. Уже два дня я слышу только свое прошлое. А когда человек слышит только свое прошлое, этот человек жалок. Es ist miss! — и перевел: — Это гнусно. Сегодня вечером я не хотел никуда идти. У меня в мастерской было тепло, как во чреве... Я за¬
Набережная Туманов. 3
25
дернул белые занавески, чтобы полностью отгородиться от тишины улицы — всех улиц. Но тишина просачивалась под дверью, вкрадчиво напоминая мне сперва мое прошлое, а потом, по логике, прошлое моей расы и прошлое мира. Я не чувствую себя достаточно крепкоголовым, чтобы поглотить такое нашествие, всосать и растворить его в себе с разрешения высшего животного, в котором я живу, я — бесконечно малая тварь, обреченная на жизнь в обществе в угоду этому сверхорганизму, в чьем теле Земля — лишь одна из многочисленных клеток. Я чувствовал себя слишком на виду в пейзаже из сплошного мяса, в пейзаже, где трава и деревья суть не что иное, как разращения плоти, наблюдаемые при некоторых болезнях. В таком пейзаже, конечно, жить можно, поскольку мы в нем развиваемся, только нельзя себе в этом признаваться, ибо мысль эта по мере повторения размягчается и в конце концов вызывает у нас отвращение к мясу. Потому-то и были созданы вегетарианские рестораны. На самом деле слово облагораживает пищу. Так считает моя подружка Эльза, с которой мы вместе рисуем у Жюлиана2. Поэтому она всё больше и больше отождествляет себя с травой, а трава — это пристойный синоним похабного слова «мясо». Я читал Уолта Уитмена3 в поисках хоть одной откровенно вегетарианской социальной идеи. Я не сумел найти образов, витавших в моем воображении. Уж слишком неукоснительно следует мир за пульсацией моих мечтаний, слишком послушно выполняет мои указания. Я бы хотел, чтоб природа восстала против моих построений. Я бы хотел, чтобы можно было пойти вместе с Эльзой погулять в лес вроде Юэльгоата4 в Бретани и услышать, как все деревья кричат мне при свидетелях: «Мы деревья, мы травы, мы честные растения и не имеем ничего общего с мясом несравненного интеллектуала, чьи мысли весят больше, чем все известные идеи о происхождении мира, помноженные на безграничную власть». Иногда, когда Эльза, стройная и белокурая, лежит рядом со мной и все колокола эфира звонят в нашей общей голове, мы как будто слышим мелодичный сгон ветра, вобравшего в себя вибрацию этих колоколов. «Это и есть настоящий плач деревьев», — говорю я Эльзе. «Похоже на плач ребенка в лесу». Слово «ребенок» всё портит. Мы бессильны во¬
26
П. Мак Орлан
образить пейзаж, где жизнь не смешивалась бы с традиционными идеями, которые мы веками вынашиваем по поводу мяса. И нет ничего вокруг, что могло бы увести нас от нелепого представления, будто все мы, от розы до Эльзы и быка, — лишь вспомогательные орудия на службе у груды мяса, которая, в свою очередь, — всего лишь ничтожная доля другой груды мяса, еще более ужасающей, ибо она наделена интеллектом.
— У меня мясо отвращения не вызывает, — сказал Раб. — А ты, Михель, слишком хорошо ел в своей жизни и за это наказан. Когда я, вроде тебя, задумываюсь о мясе, в мечтах моих возникает образ вырезки в три-четыре фунта и ощущается ее вес — только и всего.
— Я не всегда ел как порядочный человек, — продолжал Михель Краус. — Воспоминание об этом уже изгладилось из моей памяти. Но еще не так давно в Майнце5 люди видели, как я кружил возле Деревянной башни6, одержимый ритмами голодной пляски. Как-то раз ко мне подошла девочка в белом передничке и протянула кусок хлеба. Я взял хлеб и бросил его в канаву, а девчонка убежала, всполошив против меня весь квартал. Два совершенно пьяных драгуна захотели вмешаться в этот скандал да так запутали моих преследователей, что мне удалось ускользнуть. Мигом проскочив через весь город, я добрался до Рёмер- валль7 и там, приложив руку к груди, чтобы усмирить сердцебиение, стал искать романтической развязки этого минутного недоразумения. Я поступил в музыкальную лавку продавать песенки модисткам и продавщицам с Людвигштрассе и Шиллерпгграссе8. Тем самым я был спасен от страха встретить на своем пути девочку в белом передничке с милостиво протянутым бутербродом.
— Наверное, — предположил Раб, — вы еще были прилично одеты?
— Моя одежда была чистой, — ответил Михель Краус.
— Ну, тогда всё понятно, — заключил Раб, горько усмехнувшись.
— Уж так мы, жители рейнских берегов, устроены, что по весне природа действует на нас как на растения. Юноши и девушки собираются вместе и идут рука об руку, с рюкзаками и гитарами или мандолинами через плечо, собирать первые полевые цветы на скале Лорелеи9. Под¬
Набережная Туманов. 3
27
нимешься по тропинке через заросли земляничника10 — и можешь петь, озирая с высоты реку и множество маленьких деревушек, которые сверху выглядят точно так же, как во времена Альбрехта Дюрера11. Последний раз Лорелея являлась в прелестном облике французской барышни, которую звали фройляйн Лантельм12. Вы знаете эту историю. Ее смерть совпала с проходом одного пехотного полка по главной улице Боппарда13. Флейты и барабаны чеканили аполлонический марш14. Некий Лоэнгрин15 в чине полковника рейхсвера16 командовал отрядом. Юнцы в надетых набекрень малиновых или ядовито-зеленых фуражках, и в том и в другом случае отороченных светло-желтым кантом, образовывали вдоль колонны полную надежд живую изгородь. Не раз еще в обществе Лотты Бруни, моей тогдашней подружки, я вызывал в памяти нежный и грациозный облик этой юной красавицы, утонувшей в Рейне, — утонувшей, наверное, по традиции, потому что этого властно требовала легенда. Смерть барышни пробудила во мне желание писать и на свое усмотрение подмешивать в картины внешней жизни частички моего «я». Поначалу я писал пейзажи, тогда как восторженная Лотта Бруни учила английский по книжке под названием «Фанни Хилл»17. Задача порой оказывалась слишком тяжкой и доводила бедное дитя до слез. Я писал и за каждым деревом в лесу прятал одно из моих скрытых лиц. По вечерам, когда я возвращался в свою маленькую мастерскую в Бибрихе18, картины мои оживали, в них ощущался тот самый лесной дух, что вызывает тревогу у одинокого путника в час, когда Шиндерханнес19 со своими ребятами выходит промышлять на большую дорогу. В ту пору я понял, что ношу в себе замечательный индикатор смерти и что впредь мне не дано видеть, не разоблачая при этом угрозу, таящуюся за самыми безобидными вещами. Мне достаточно одного только взгляда, чтобы преисполниться страхом, недоступным другим людям. Этот особый дар, позволяющий во всём проникать в самые потаенные уголки, туда, где скрывается от посторонних глаз убийство, побудил меня страстно отдаться своему искусству. Однажды, закончив картину в окрестностях Франкфурта20 неподалеку от Хёхсга21, я вернулся домой и при взгляде на полотно заметил, что излу¬
28
П. Мак Орлан
чаемое пейзажем таинственное сияние как будто исходит от колодца, который я набросал второпях, для забавы, не придавая ему большого значения в композиции. Словно предательским гниловатым запахом, из колодца тянуло страхом. Я решил попытаться провести решающий эксперимент. И отправился в полицейский участок. «Месье, — сказал я комиссару, — сегодня утром я ездил на этюды в одно место, куда по здравому размышлению мне бы хотелось — и это должно вас заинтересовать — вернуться в вашем сопровождении. Это не розыгрыш. Что, впрочем, было бы глупо, ведь, пойдя вместе с вами, я полностью отдаю себя в ваше распоряжение. Какая-то внутренняя сила побудила меня к этому разговору. Уверен, что вы не пожалеете, если поверите мне». Комиссар немецкой полиции никогда не откажется от служебного поощрения, которое сулит ему представленное таким образом дело. Он велел одному полицейскому следовать за ним, и мы втроем сели в вызванное по телефону такси. По дороге комиссар всячески расспрашивал меня о семье. Мой покойный отец был военным врачом. При этом приятном известии комиссар тут же пожаловал меня огромной сигарой, ароматной снаружи, но безвкусной внутри. После часа пути мы вышли из машины, и я проводил комиссара и полицейского на то место, где рисовал свою картину. Наш приезд возбудил любопытство: когда мы приблизились к колодцу, за нами оказалось человек двадцать. Развалившийся колодец стоял неподалеку от вполне сохранившегося дома, в котором, как нам сказали, никто не живет уже несколько месяцев. Хозяином дома был, насколько известно, электрик по имени Цвейфель. Он жил в этом доме наездами, иногда зимой, чаще — летом. Приезжал на мотоцикле. Видели его здесь редко. И все думали, что он работает во Франкфурте. Собрав эти сведения, я попросил комиссара распорядиться, чтобы кто-нибудь спустился в колодец. Вызвался один каменщик. Из предосторожности его обвязали веревкой. Поскольку колодец был неглубоким, вода доходила добровольцу только до пояса. Он скреб дно граблями, а мы склонились над ним, с тревогой ожидая результата. Сначала каменщик вытащил старое ведро, потом дырявую корзину,
Набережная Туманов. 3
29
а потом чудовищно обезображенную человеческую голову. У головы были рыжие волосы.
— Вам повезло, — сказал Раб.
— Я избавлю вас от подробностей следствия и рассказа о преступлении. С этого дня я стал в некотором роде полицейским художником. Я получал деньги от Министерства внутренних дел и, продолжая заниматься своим искусством, мог осведомлять начальство о местах, которые на первый взгляд казались безобидными, но, будучи запечатленными у меня на картине, помогали вывести на свет божий самые ужасающие потаенные проявления общественной жизни. Я приехал во Францию, чтобы убежать от такой судьбы.
Михель Краус обхватил голову руками.
— Я бы и в розе углядел преступление, — всё стонал он.
— А вы не могли бы одолжить мне сто су? — спросил Раб хриплым голосом, стараясь при этом казаться непринужденным, что удавалось ему весьма плохо.
Михель Краус перестал жаловаться на жизнь. Он порылся в кармане жилета, достал оттуда пятифранковую монету и, ни слова не говоря, протянул ее Жану Рабу.
Несколько ошеломленный успехом, тот искренне заинтересовался судьбой товарища.
— На вашем месте я бы оставил живопись.
— Оставить живопись! Вы, наверное, шутите, предлагая мне оставить живопись. Я всем пожертвовал ради живописи, вы и вообразить не можете, какую жизнь я себе устроил, чтобы исполнить предназначение... Я...
Он заколебался и оглянулся. Ветер трепал обшивку двери, ведущей в буфетную. Михель Краус с интересом уставился на эту обшивку и, казалось, настороженно ждал, чтобы раздался какой-нибудь звук. Приблизив голову к самому уху Раба, он поведал ему:
— Я художник, понимаете, а свой портрет писать не хочу... Ну как бы я теперь мог выносить свое изображение, если мои глаза отданы на службу полиции?..
30
П. Мак Орлан
— О боже, — произнес Раб, опустив голову.
— Ну, — сказал Босс, — теперь уж никто не придет, а я, перед тем как лечь спать, хочу предложить вам еще бутылку.
Раб нащупал в кармане пятифранковую монету, и перед его глазами засветился сияющий огнями гостиничный номер, где он проведет ночь, — наверное, на улице Данкур22, если там осталась свободная комната. Во всяком случае, ночь была у него в кармане, и из-за этого всё его существо излучало снисходительность к злосчастному преступнику, ерзавшему на истерзанной табуретке.
/Tux^v Ч-
рука откинула красную занавеску на входной двери, и на пороге показался солдат, естественно, весь в CHeiy. Никто не слышал, как он пришел.
— Мы уже закрываемся, — крикнул Босс.
—А-а!—протянул солдат. — Но ведь у вас найдется местечко у огня для приятеля из Колониальных войск1. У меня снег за шиворотом, в башмаках и даже в печенках. Так консервируют мясо, когда надо везти его через тропики, — прибавил он весело.
— Ну, давай, садись к огню. Чего ты хочешь?
— Вина, — сказал солдат.
— Выпьешь стаканчик вместе с нами, ставлю бутылку.
— А я еще одну, — воскликнул солдат в восторге.
— Пойду принесу тебе стакан.
Фредерик раскурил угольком свою трубку и полез за бутылкой в стенной шкаф, служивший ему погребом.
Солдат учтиво присел рядом с подвинувшимся Жаном Рабом. На нем была форма колониальной пехоты. Снег лежал на его светло-желтых погонах, как на двух маленьких крышах.
Он тоже был молод, и печать весьма заурядной нищеты придавала его липу некоторую изысканность.
Жан Раб попытался представить себе, какой именно была эта нищета, потому что вообще-то молодого человека вполне сносно
32
П. Мак Орлан
кормили, и кровать у него была получше той, где Раб собирался спать этой ночью.
Солдат выпил, подняв бокал на уровень глаз; потом, прикусив верхнюю губу, вытер короткие усы.
— Ведь это ж надо! Кто бы мне рассказал, что сегодня я окажусь в вашем обществе, — ни за что бы не поверил. Сам не знаю, как меня сюда занесло. Ноги сами привели, пока я думал о другом. Я ведь смогу найти здесь поблизости гостиницу подешевле, переночевать? Вы, наверное, знаете этот квартал? И ведь ни одной фифочки на пятнадцать метров в округе.
— Фифочек здесь нет, — сказал Босс, вынимая изо рта трубку.
Солдат посмотрел на него, улыбаясь, словно чего-то недопонял.
— Я никого не хотел обидеть, — произнес наконец он.
— А я и не говорю, что ты хотел кого-то обидеть, — ответил Босс, — просто предупреждаю. Здесь одни художники.
— А-а! — сказал солдат. — Ну, тогда принеси нам еще бутылочку.
— Вы были в действующей армии? — спросил Раб.
— Я приехал из Марокко. Там было дело. Посмотрите на мой солдатский медальон. — Он прочитал: — «Бени-Снассен»2. Ваше здоровье.
Выпили. Молодой немец собрался было уходить, потом посмотрел на солдата и возбужденно крикнул ему:
— У вас симпатичная морда, но и за десять тысяч франков, слышите, и за десять тысяч франков я не стал бы писать ваш портрет. Вы слишком симпатичны.
— Чего это он? — сказал солдат, вставая.
— Он просто пьян, — ответил Раб, нажимая ему на плечо, чтобы заставить сесть.
— Слышишь, приятель, выпей вина. — И солдат протянул Михелю Краусу стакан, который тот сразу же осушил.
— Да, вряд ли вы можете понять, почему господин Краус не хочет писать ваш портрет. Он возбужден и плохо сформулировал свою мысль. Просто вы убивали, вот и всё.
Набережная Туманов. 4
33
— Естественно, — сказал солдат, — мне за эту работу жалованье платят, да еще за то, чтобы шагать по дорогам и на часах стоять. Если хорошенько подумать, наша роль — это скорее быть убитыми. Та смерть, что получаешь, имеет совсем другую цену, чем та, что даешь. Та, что даешь, того и гляди, сама с рук сорвется, оглянуться не успеешь. Просто удивительно, сколько нужно хладнокровия, чтобы не дать выстрелить винтовке. Бывают дни, когда я говорю себе: старик, ты всего лишь солдат. Для некоторых это не бог весть что значит. Кроют нас или возносят до небес — главное, чтобы наше присутствие не выходило за пределы установленных для нас рамок. Вряд ли кому-нибудь хочется видеть нас чаще, чем два-три раза в год. Я, разумеется, говорю о профессиональной армии, потому что все остальные — это просто штатские в военной форме. Кое-кто из них довольно неплохо приспосабливается к привычкам нашей касты, но это так, чтобы время провести и некий стиль выработать, — что стоит им всего лишь двух лет службы в метрополии. У нас же есть нечто, что царит над всем, есть бог, чьей прихоти мы подчинены, — это хандра или тоска. Вот сегодня, к примеру, меня одолевает тоска. Почему? Трудно сказать, может, из-за снега. Ожидать можно чего угодно. Я трачу деньги, а они какие-то безвкусные. Что тут объяснять. Бесполезно, но говорить об этом надо. Приятно сказать: «У меня хандра». Обязательно нужно, чтобы как можно больше народу могли отметить у себя это кризисное состояние. Говорят, хандра любит рекламу. Захандривший солдат хотел бы носить на своей фуражке лампочку, которая вспыхивала бы цветным огоньком, так, чтобы каждый, кто попадается на его пути, мог сказать: «Смотри- ка, у этого солдата хандра!» Идиотизм, но это так. Получается, что вся жизнь профессионального солдата проходит в его собственном черепе. За исключением, конечно, десяти процентов молодцов, не страдающих хандрой и добивающихся пенсии аджюдана3. Но производство в аджк> даны не мешает такому типу продолжать валять дурака. Он женится на шлюхе из пригона; держится на том, что пьет горькую, и начинает походить на слезливый и злобный перегонный аппарат с двумя дюжинами ходульных идей по поводу внешних признаков дисциплины. Перед
34
П. Мак Орлан
тем как стать солдатом Колониальных войск, я хотел рисовать. Я работал в лавочке, занимавшейся промышленным дизайном, но рисовал для себя; даже с офортом ковырялся, и весьма недурно. Я и сейчас иногда рисую, но так, без цели... ведь сила, побуждавшая меня рисовать, теперь вся устремлена на нужды хандры. Хандра — это великая вдохновляющая сила, активная, а стало быть, бесплодная. В искусстве, разумеется, только пассивное вдохновение может себе позволить активное творчество. Я плохо излагаю, но сам себя я понимаю.
— Сегодня мы тут все сами себя слушаем и сами себя понимаем, — сказал Раб. — Нанта две ипостаси, Джекилл и Хайд4, ведут беседу.
— Мы, профессиональные солдаты, — продолжал рядовой морской пехоты, — мы ведь всего лишь призраки в полном обмундировании с двумя-тремя нашивками из цветной шерсти, определяющими наше корпоративное сознание. Нам кажется, весь мир прикован взглядами к красному шерстяному якорю у нас на фуражке5. А всему миру до этого украшения нет никакого дела. Внутреннее пламя, горящее в нас и оживляющее наши казарменные и походные будни, в то же время высвечивает истинную сущность военного. Не считая нескольких дюжин юнцов, мы все фантазеры с феерической внутренней жизнью. Вино украшает наши мечты тысячью флажков, а песни кафешантана тянут вон из собственной шкуры. Ощущая на коже трение ремней, а в душе — благоговение перед мадемуазель Мистенгет6, чей голос взрывает дисциплину, мы шагаем по экзотическим краям за восемью штатными горнистами батальона, наигрывающими всевозможные марши Юга. За конным командиром следуют три сотни хандрящих. Причем у каждого хандра своя, и всех их держит в рамках приличий протокол, необходимый для обеспечения гармонии в продвижении вперед батальона на марше. Долгое время, когда я был приписан телеграфистом к одному посту, начиненному пятьюдесятью сенегальскими стрелками7, я мог сколько душе угодно наблюдать и взращивать свою хандру — потаенную гордость солдата действующей армии. Служащие военных ведомств путают хандру с неврастенией, дизентерией и ленью. Настоящая хандра откладывает свои огромные пестрые яйца только в че¬
Набережная Туманов. 4
35
репе солдата действующей армии. Из этих высиженных вслепую яиц с треском вылупляется шестикрылая светящаяся ракета — по одному крылу на каждый из основных цветов8. Ракеты взмывают ввысь и сплющиваются в зените, разбрызгивая модные песенки по хрустальным стенкам казармы, не способным сдержать высокие помыслы всех одержимых солдат. А вот при выходе на гражданку хандра стонет, ноет, ворчит, обегает кабаки, обезображивает лица женщин и отправляет мужика на гауптвахту, где, как принято надеяться, он должен излечиться. Там десяток одержимых сгоняют в дышащий благородством хор, вроде тех, что встречаются в клубах немецкой Швейцарии, где умеют петь по-тирольски9. Народ бьет ногами по перегородке, и под дверь заползает темная и коварная сила, распространяющая по казарме или лагерю детское безумие, чреватое осложнениями. И каждый стремится перещеголять в глупости соседа. Но глупость человеческая всегда бывает украшена чем-то таким неуловимым, что радует сердце и пополняет священное хранилище полковых и армейских традиций. Я действительно изучил хандру и поэтому примерно полгода назад, еще до возвращения из Тонкина10, решил смотреть на хандру как на науку или как на искусство и преподавать ее новобранцам в надежде прежде всего немного подзаработать, ну и потом поставить свое имя — Марсель Лонуа — под великим трудом, что вместит лишь малую толику военной метафизики. Уединенность караулки, где все храпели под сенью нависшей над дверью бугенвиллии11, давала мне достаточно времени, чтобы как следует обмозговать свой проект и довести его до кондиции, необходимой для успешного воплощения. Когда я стал мэтром своей системы, то начал набирать учеников из личного состава, присылаемого нам из призывных пунктов, предпочитая молодых солдат. Но знавал я и бывалых ребят, которые сами приходили брать у меня уроки, оценив изысканность моего курса. Как и положено, старики труднее поддавались обучению, чем молодежь. Почти все они уже столкнулись с порочными методами изучения хандры и в некотором роде приобрели соответствующие дурные привычки. Без всякой нужды выставляясь на всеобщее обозрение, они разбазаривали фантастически
36
П. Мак Орлан
могучие силы. Нужно было вообразить цель, доступную возвышенным чаяниям хандры. Я читал лекции в кабаке, где хозяйкой была одна краля, прозванная Воплощением. Вино мы пили, как Ной, посадивший виноград12. Надеясь воскресить легендарное чудо, мы вонзали вибрировавшие штыки в деревянные столы, выкрашенные в грязно-зеленый цвет. Штыки звенели, как струны лиры. Это был подготовительный курс. Потом мы врывались в негритянский квартал, там встречали солдат Иностранного легиона13, которые раньше служили в нашем полку. Мы лупцевали арабов — так это называлось, — а когда удавалось, перли бабки у дочерей Афродиты. Не обходилось без криков и слез. Часто нам приходилось драпать от патруля зуавов14 или от местных стрелков. Вы простите меня, господа, но для настоящего солдата, служащего во флоте, Азия, Африка, Океания и Америка перепутываются и перемешиваются, как оборванцы, пляшущие свою любимую кадриль в княжестве Мулен-Руж15. Я говорю то о Марокко, то о Тонкине — у хандры нет родины, она знает о дно-единственное направление — Юг. И вот, находясь в Марокко, я смог создать некое химерическое царство, взяв хандру каждого из нас — отточенную, устремленную к этой химере — и соединив их вместе, а потом стал распродавать это царство по наделам. Теперь мы знали, что где-то там, на Юге, еще дальше, чем страна жажды, простирается великолепное царство, где отражается и, резонируя, усиливается до последнего предела маленькая светоносная идейка, которая в часы смятения делала нас похожими на богов. По правде говоря, мы и были богами, — по меньшей мере по три бога на отделение. Солдаты просто балдели от этого. Однажды вечером мы решили отправиться в эту нашу южную страну, где животы у женщин гладкие, как фарфор. Мы сели в поезд и доехали до конечной станции. Потом с оружием и багажом пошли вглубь, к Югу, к южному царству с вратами, увитыми глицинией16. Нас было двадцать человек. Один из нас умер от укуса какой-то мухи, другой нечаянно выстрелил в себя из винтовки. Как-то рано утром нас атаковали спаги17. Бывший солдат Иностранного легиона, снова поступивший к нам на службу, выстрелил в офицера — и разудалый молодец рухнул в седле, распластав спину
Набережная Туманов. 4
37
в красном бурнусе. Приятеля торжественно расстреляли за олеандровой рощей, а мне удалось отделаться тремя месяцами за решеткой — и провел я их в некоем домике, похожем на мехи аккордеона. Вот такие мои дела, — сказал солдат, — я потерял южное царство. И уже никогда не видать мне ворот в глициниях и не слыхать песенку девушки, начинавшуюся словами: «Сколько слез я пролила, по тебе тоскуя...»18 А сегодня я здесь, с вами, в снегу... Я заблудился, а ведь дорога должна была привести меня в столицу, где все мои желания ждали меня, как школьники, готовые исполнить кантату. Там, где погиб мой товарищ, возле олеандровой рощи...
Щеки солдата вдруг затряслись, нос побелел, он машинально поднял руку и забормотал странным тоненьким голоском:
— В олеа... в олеандровой... роще...
s~
- Не знаю,
куда всё это нас заведет, — сказал Босс, снова приводя в порядок свой очаг. — Зато я знаю, что люди становятся всё гаже и гаже. Они возбуждают сами себя, вороша собственное скотство. Я не раз наблюдал это и ничего хорошего от подобных наблюдений не
жду.
Михель Краус кивнул, соглашаясь. Солдату больше нечего было сказать, и он машинально пил, не чувствуя вкуса. Жан Раб думал о том, что в данный момент, обладая монетой в сто су, сулившей божественное ощущение полноты жизни на протяжении десяти часов сна без посторонних глаз, он теряет драгоценное время.
«Это просто извращение! — думал Раб. — Три дня я гоняюсь за этой пятифранковой монетой в надежде проспать ночь не на стуле, не на диване, а на мною самим оплаченной кровати, и вот, имея в кармане залог долгожданного блаженства, я оттягиваю момент наслаждения».
И продолжил вслух:
— По-моему, это просто глупость!
— Что-что? — заинтересовались оба собеседника — солдат и художник-полицейский.
— Я просто мечтал вслух, — сказал Раб, — я думал о себе, о тысяче всяких мелочей сугубо личного свойства.
Набережная Туманов. 5
39
— А вот и Фредрик идет к нам с бутылкой. Эта — моя. Фредрик, ты свою поставил, солдат тоже, остался только...
Он не закончил.
— Я беру эту бутылку, — сказал Жан Раб и положил на стол монету в сто су, прижав ее большим пальцем, чтобы не покатилась.
— Да забери ты свои су, — строгим голосом произнес Босс, — говорил я тебе, человечество — сплошное скотство.
Раб с явным удовольствием засунул монету обратно в карман — он уже успел пожалеть, что так погорячился.
Группу собутыльников, угасавшую, как огонь, под золой своего прошлого, оживил женский голос.
— Надо же, Нелли, — сказал Босс.
Это действительно была Нелли, тоже вся запорошенная снегом. Она отряхнулась, как птичка, и показались ее белокурые волосы, мокрые на висках и на затылке.
— Здравствуйте, Раб, здравствуйте, Краус, здравствуйте, все!
— Хотите выпить стаканчик? — спросил, улыбаясь, Краус.
— Да, грогу, и погорячее. У меня ноги закоченели.
Одним ударом каблучка она скинула свои плохонькие туфельки и вытянула ноги к огню. На одном чулке оказалась дырка, и видно было, как большой палец потягивается у огня, словно самостоятельное маленькое существо.
— Я от Вермореля, — сказала Нелли. — Я там со своим другом встречалась, — последние слова она произнесла со значением.
— Много народу? — спросил Босс.
— Никого, — лаконично ответила Нелли.
Она вынула из сумочки пачку желтых сигарет1 и предложила окружающим.
— Держи, служивый, — сказала она солдату, бережно взявшему сигарету между большим и указательным пальцами.
Долго Нелли не просидела. Она резко встала, держа сигарету в зубах, приосанилась и спустилась на кухню, откуда послышались ее смех и шепот.
40
П. Мак Орлан
Это была высокая блондинка, бледная, довольно миловидная, с лицом, потрепанным нищетой, любовью, бессонницей и расстройством желудка, вызванным злоупотреблением колбасой, крутыми яйцами и алкоголем.
Немец нежно желал Нелли, потому что крайняя нищета этой бедной девочки, одетой в броские лохмотья, до слез возбуждала его чувственность. Нелли пользовалась таким положением вещей, чтобы занимать у молодого человека смехотворные суммы, ничего не давая взамен.
Это было одновременно хитрое и простодушное создание. Она называла себя танцовщицей, а иногда, если вздумается, машинисткой. Называлась она и журналисткой, и скульптором. Зависело это от того, какое ремесло приводило ее в восхищение в данный момент.
Она так простодушно врала, что даже самый наивный человек при всём желании не смог бы поверить ни одному ее слову. С этой непосильной задачей справлялся один лишь Михель Краус. Нелли же не испытывала за это к нему ни малейшей благодарности. Каждый вечер она приходила в старый кабачок как на работу. Врывалась, подобно порыву ветра, пожимала руки приятелям и пускала в ход свое феноменальное воображение, смешанное с самым плачевным легкомыслием.
Впрочем, Нелли была желанна только для тех, кто ее не знал. Так, Жан Раб никогда не пытался попользоваться ею. Он предпочитал в одиночку отправиться на поиски ночлега и выспаться, чем путаться с Нелли, хотя она много раз предлагала ему пойти с ней, когда у нее была комната. Она тоже чаще всего ночевала у подруги или у пожилого художника, предоставлявшего ей жесткий диван в неотапливаемой мастерской.
Нелли летала по жизни, словно сухой лист, белокурый листик, гонимый ветром. Ничего не замечала, ничего не запоминала. Ей доставляло радость проживать жизнь, придуманную ночью в «Кролике» в обществе друзей-приятелей. Жизнь столь эфемерную, что довольно было стакана воды с примесью рома — и она улетучивалась из памяти девушки.
Набережная Туманов. 5
41
Сейчас с кухни доносился ее резкий голос, фальшиво напевавший:
— Когда шел я мимо вас,
Красотой меня пленили И любовью опьянили Огоньки прелестных глаз.
Босс пожал плечами:
— А на днях ее найдут неподвижно лежащей где-нибудь в снегу, лапки кверху. Ветер в голове, порхает, как птичка.
Воин совсем расслабился, прислонившись спиной к стене. Он сполз вниз, словно его пристрелили, и спал. Из-под полуприкрытых век проглядывала склера, похожая на загустевший яичный белок.
Смех Нелли неимоверно раздражал Раба, вот-вот готового принять волевое решение и пойти спать.
— Который час? — спросил Босс.
— Уже час ночи и еще сорок минут, — ответил Краус.
— Ну что ж, ребята, допьем бутылку — и на боковую. А ты, солдатик, — сказал Босс, не трогая его, — давай-ка просыпайся и ступай в казарму. Пора спать.
В этот момент между дверным косяком и занавеской осторожно просунулась голова Нелли. На ее лице читалась тревога.
— Иди-ка сюда, — сказала она старому хозяину.
Раб пошел вместе с другом. Сквозь приоткрытую дверь они увидели занесенную девственно белым снегом улицу. Никто еще здесь не ходил. У высокой стены кладбища Сен-Венсан мигал одинокий газовый фонарь. Фредерик толкнул дверь, посмотрел направо, налево. На углу улицы Сен-Венсан он заметил группу человек в десять, стоявшую молча и неподвижно.
— Что там такое? — спросил Раб, пытаясь протиснуться в дверь.
— Назад, быстро, — велел Босс, — и дверь закрой, ставни я затворил.
Раб захлопнул дверь, укрепленную толстенным дубовым ставнем,
прочным, как сталь.
42
П. Мак Орлан
— Эта группка не предвещает ничего хорошего, — сказал хозяин. — Я не знаю, чего им надо, но вы оставайтесь здесь. Идти сейчас безрассудно, ведь вас только трое и оружия у тебя нет.
«Вот тоска, — подумал Раб, — теперь еще и драка!»
— Закрой дверь в кухню, — сказал Босс жене. — Погасите свет. Я пойду потушу в большом зале.
Он не спеша влез на табурет и задул ночник. Теперь в зале, где от холодного запаха трубочного дыма веяло чем-то агрессивным, виднелись лишь два маленьких красных огонька, ритмично разгоравшихся и затухавших, — сигареты Михеля Крауса и солдата. Никто не проронил ни слова.
Тут на Нелли нашел приступ смеха. И она глупейшим образом расхохоталась.
— Да замолчи же ты, черт возьми! — приказал Босс почти шепотом. И добавил: — Я больше не хочу никому открывать... Закрыто. Неужели трудно это понять?
Нелли послушно замолчала и пошла к женщинам, сидевшим между маленьким залом и стойкой у входа на лестницу, ведущую в комнаты второго этажа.
Михель Краус порылся в кармане брюк, достал револьвер и положил его рядом с собой на табуретку.
— Вот это повезло, — сказал солдат. — А ведь мне совсем ни к чему привлекать к себе внимание сегодня ночью...
В этот момент в дверь постучали.
— Свои, — крикнул молодой жизнерадостный голос, — дружки Вебера хотят пропустить у тебя по стаканчику, папаша.
Послышалась тяжелая поступь Босса, медленно, шаг за шагом, спускавшегося по лестнице. Из оттопыренного кармана его широких брюк из серого вельвета выглядывала черная рифленая рукоятка револьвера уставного образца.
— Идите спать, ребята, — сказал он. — У меня закрыто, уже два часа, а нарываться на штраф мне не хочется.
— Давай, давай, открывай, мы от Бебера.
Набережная Туманов. 5
43
— Будьте умницами, — сказал Босс, — возвращайтесь тихо-спокойно домой. Вы простудитесь.
— Обижаешь! — раздалось сразу несколько голосов.
Послышался шепот: они быстро перекинулись двумя-тремя фразами. Смутно доносились обрывки разговора: «Говорю тебе, он здесь... Да нет... Его старик спрятал».
— Ну, старикан, до свиданья, — сказал тот же парень, что говорил о Бебере.
— До свиданья, ребята.
Последовала небольшая возня, потом голоса стали удаляться. Шум шагов на снегу уловить было невозможно.
Босс, насторожившись, вынул из кармана револьвер и снял его с предохранителя.
Только он успел вооружиться, как в ночи прогремел выстрел, а за ним послышался звон вылетевших стекол.
vs
И ЗАВЯЗАЛАСЬ
битва, освещаемая с одной стороны снегом, с другой — мертвенным светом матовой лампы, спрятанной на внутренней лестнице подальше от сквозняков.
Две пули ударились в дверной ставень. Потом всё ненадолго стихло и стало слышно, как клокочет на плите закипающий чайник.
Раздался еще один револьверный выстрел, а за ним — оглушительный залп. Посыпалась черепица. Несмотря на закрытые ставни, в окно большого зала влетела пуля — и расплющилась о замшелую прочную доску.
Чтобы наделать побольше шума, Михель Краус тоже выстрелил через отверстие в ставне. Пуля звездочкой сверкнула о кладбищенскую стену. Приглушенный выстрел послышался и на верхнем этаже — там стрелял Босс.
Грянул последний залп — стреляли человек десять. Длинные, тонкие огоньки указывали, откуда палят, и старый «Кролик», вздрагивавший от каждого выстрела, трепетал всеми своими стеклами.
Снизу вверх через всю улицу Соль ночную мглу прорёзал долгий и пронзительный свист. Это произвело эффект сигнальной ракеты, что взмывает ввысь и затухает, описав изящную параболу.
В ответ тоже раздался свист — и всё смолкло.
Набережная Туманов, б
45
Находившиеся в доме прислушивались, не произнося ни слова. Жан Раб шагал взад и вперед по комнате, засунув руки в карманы. Перестрелку он переждал, прислонившись к стене между дверьми. «Какой идиотизм!» — думал он.
Еще четверть часа каждый оставался на своем боевом или оборонительном посту. Потом они услышали, как Босс осторожно открывает окно своей комнаты.
Раб, в свою очередь, приоткрыл дверь на улицу. Подошла Нелли и выглянула из-за его плеча, тяжело на него опираясь. Молодой человек высвободился и посмотрел на истоптанный снег, спокойное небо, темный переулок и маленькую улочку Сен-Венсан. Все огни в соседнем доме погасли.
— Гляди-ка, — сказала Нелли, — на снегу полно крови. В кого-то попали.
Раб посмотрел на землю и, нагнувшись, чтобы лучше видеть, заметил под большим деревянным столом, занимавшим всю террасу, скор чившегося человека.
— Эй, вы там! Вы ранены? — спросил он.
— Не кричите так, — сказал человек. — Они, может быть, недалеко.
— Кто это? — спросил Босс, появляясь на пороге в рыжеватом ореоле вновь зажженной лампы.
— Это, наверное, тот тип, за которым они гнались, — сказал Раб. — Он там, под столом. Не знаю, может, в него попали.
— Вы ранены? — спросила Нелли.
— Нет, я, когда падал, порезал руку осколком стекла. Дайте мне воды и впустите внутрь, я ведь знаю, что они здесь. Они, наверное, ищут меня в скверах там, внизу.
Покинув свое укрытие, человек не стал дожидаться ответа, вошел в кабачок и остановился у стойки.
— Дайте мне рому, двойного рому в большом бокале. У меня есть деньги заплатить.
Он обвязал руку носовым платком.
— Погасите свет... Говорю вам, я их еще слышу.
46
П. Мак Орлан
Еле уловимый шорох выдавал чье-то присутствие в кустах сирени за деревянной оградой террасы со стороны улицы Сен-Венсан.
Снова закрыли дверь и опять погасили лампу.
— Да, — сказал человек, — я счастливо отделался. Им нужна была моя шкура. Они меня ограбили. А у меня не было оружия. Я никогда не ношу при себе оружия.
Вновь пришедшему клиенту «последнего часа»1 было на вид лет сорок. Небольшого роста, приземистый, коренастый, уже облысевший. Он не брился, и в его неухоженной черной бороде серебрились седые волоски.
На нем были брюки в серую и черную полоску и нелепо сидевшая куртка из темной материи в белую крапинку. На рукавах и обшлагах куртки болтались обрывки ниток.
Эти свисавшие с рукавов нитки он тщательно, с обезьяньей аккуратностью оборвал, взглянув на Раба и покраснев.
— Ну что ж, месье, — сказал он, обращаясь к хозяину, — пусть никто не скажет, будто вы приютили меня задаром. Подайте-ка нам хорошенькую бутылочку красного вина, тепленького, как кровь, вина... — Он хмыкнул. — Жизнь все-таки прелюбопытная штука, если умеешь наблюдать за нею от полуночи до трех часов ночи. Большинство людей даже не подозревают о том, что может случиться между серединой ночи и началом дня. Здесь не воображение, здесь определенным образом увиденная действительность. Вы скажете мне: «А какого черта, милейший, вы шлялись по улицам в костюме благородного человека между двумя и тремя часами ночи?» А я на это отвечу: «Это не ваше дело...»
— Заметьте, вас никто ни о чем не спрашивает, — язвительно бросила Нелли.
— О! Этой палец в рот не клади! — игриво отметил человечек.
Босс вернулся с бутылкой. Ему уже не хотелось спать. Чтобы как
следует выспаться, он ждал покровительства дня. Незнакомец сам разлил вино, начав с бокала Нелли.
— Нет, мне не надо вина, — сказала девушка. — Дай-ка мне бенедиктину2, старина Босс.
Набережная Туманов. 6
47
Человек поморщился, неодобрительно присвистнул и взял бокал Нелли себе.
— Мадам выдрючивается, — просто заметил он.
Он налил ей бенедиктину, следя, чтобы рюмка наполнилась до самых краев.
— Нагнитесь и пейте! — крикнул он, видя, что Нелли собирается поднять рюмку. — А то прольете.
— Твое здоровье, красавчик черноволосый, — сказала Нелли, взяла рюмку и поднесла к самому носу собеседника. И выпила.
— А она упряма, — сказал он. — Ну ладно, выпьем, дело улажено. Господин хозяин, держите, вот ваш стакан. А дверь хорошо закрыта? Мне ведь не хочется, чтобы эти господа вновь стали осаждать сие заведение.
— Теперь они уже не вернутся, — ответил Раб.
— Выйдем, когда рассветет, — сказал солдат. — Я совершенно не рвусь быть втянутым в драку, особенно сегодня. Через три часа я буду одет в штатское.
— Велика радость! — отозвался Раб, покачивая головой.
— Вы тут все художники, включая барышню, — сказал человек. — А я не художник, я мясник из-под Парижа, но я тоже очень люблю искусство, особенно музыку, даже классическую. А больше всего я люблю музыку духовную. Она возвышает мою душу и толкает на всякого рода крайности. У нас у всех в черепушке есть некая идейка, у всех без исключения; эту идейку мы сами знаем плохо, она подобна мертворожденному теленку, зародышу, цыпленку, только-только завязавшемуся в яйце. Главное — устоять и не найти на свой страх и риск, что именно способно вдохнуть в нее нормальную, мощную жизнь, — а мощи в ней будет больше, чем в голове и шее быка. Этакая идея, поднимающая на рога ваш рассудок и дробящая его на части. Вот этого желательно не находить. Для одних это — женщина, для других, как для меня, — музыка, сообщающая той, задней, мысли волю и движение. Для самых низменных натур это — кровь. Кровь как ничто другое способна выявить неведомую силу, долбящую череп дураков. Чем люди глупее,
48
П. Мак Орлан
тем более великолепно и, естественно, более непредсказуемо их воображение. Это я сам наблюдал. Каждую пятницу я забиваю двух быков, двух телят и трех баранов. Я знаю цену крови, знаю ее оттенки, запах, знаю мысли, бьющиеся друг о друга в четырех стенах бойни. Это подсобка человеческой мысли. У нас у всех в кромешном мраке нашей мысли есть вонючая бойня. Иногда, но редко, она пахнет хорошо. А это потому, что у нас у всех -- и вы это знаете не хуже меня — есть еще и такой уголок, где сложено всё мало-мальски чистое, что в нас осталось. Есть семейные воспоминания, — он понизил голос, — дети. Мне приятно время от времени туда заглядывать. Мне приятно зарыться руками в чистое белье, в засохшие цветы, пахнущие целебным отваром. Когда я возвращаюсь с бойни, моим рукам нужна свежесть.
— Так что, вас ограбили? — спросил Жан Раб.
— Да-да, эти свиньи украли у меня сверток, когда я выходил... с одной улицы.
Он не окончил фразу, а самодовольно повторил: «с одной улицы». И тихонько погладил бороду своими жуткими руками.
— Бывают ночи, когда хочется навести в подсобке порядок и выбросить на улицу убогие коллекции одолевающих нас образов. Чистая, хорошо проветренная подсобка, где широко раскрыто окно и легко дышится в любом уголке, — поверьте мне, мадемуазель и господа, таков идеал, который я хочу предложить вашему вниманию.
Нелли посмотрела на Жана Раба и, подмигнув в сторону мясника, потрогала лоб повыше брови.
— Хм, — тихо ответил Раб, — он такой же, как другие, как множество других, только мы не «настроены» на эту волну. А вообще-то понимать его совершенно ни к чему.
Босс, не проронивший ни слова, но внимательно слушавший мясника, спросил:
— А где ваша рана на руке? Я что-то ничего не вижу.
— А-а, — сказал мясник, глядя на свою руку, — вы еще помните. Мне показалось, что я порезался. Волнение, бегство, падение — от всего этого у меня и создалось такое впечатление.
Набережная Туманов. 6
49
— Это была не ваша кровь, — сказал немец.
— В самом деле, очень может быть. Сегодня, знаете ли, и на бойне, и на улице было как-то особенно много крови. Вполне возможно, деталь эта стала бросаться в глаза из-за снега. И потом, кровь быстро распространяется. Случись в Париже какое-нибудь преступленьице, ну, там, бедолагу какого или девицу прирежут, пырнут в живот или расчленят, — и весь город забрызган красным. Устроено замечательно. Пролитая кровь будто в набат бьет по всем полицейским участкам подлунного мира. Видите ли, стоит одной только капельке человеческой крови преступно пролиться где-нибудь на улице или в доме, причем в самом укромном уголке, — и всё вокруг убийцы принимается гудеть, как ветер в телеграфных проводах.
Мясник на секунду задумался, а потом добавил:
— Правда, бывают и глухие убийцы.
— Как вы повстречались с той бандой? — спросил Босс.
— Как? — Мясник быстро поднял голову. — Ну и вопрос. У вас просто дар задавать неожиданные вопросы. Как? Почем я знаю? Вероятно, так же, как встречают стаю волков, галопом несущуюся по снегу. Как раз всё точь-в-точь: и снег есть, и волки. А я — жертва — бежал изо всех сил, выпучив глаза и сжимая под мышкой сверток. По дороге, по-моему, где-то на углу улицы Шевалье-де-ла-Барр3, в меня выстрелили. Я слышал, как пуля звякнула о чугунную решетку водостока прямо передо мной. Эти люди вполне могли сравниться с волками — они мчались по-волчьи упруго и неуклонно. Я бежал и чувствовал, как горячее дыхание смерти и ее ледяные зубы касаются моей шеи. Я бросил им под ноги сверток и, не раздумывая, кинулся налево, в первую же маленькую улочку. И увидел кабачок. Я стучал в дверь, но вы не слышали. Тогда я скользнул под большой стол и укрылся в тени и снегу. Весь бой проходил у меня на глазах, и я без устали твердил: «Боже, сделай так, чтобы они меня не заметили, покажи Свою силу, наведи им пелену на глаза». И они меня не заметили.
— Значит, Бог внял вашей мольбе, — сказал Краус.
50
П. Мак Орлан
— А это уже совсем другое дело, — сухо ответил низенький коренастый мясник.
— Я не знаю, откуда ты и кто ты такой, — твердо произнес Босс. — Но я знаю, что сегодня ты счастливо отделался. Знакомиться с тобой я не хочу, всё это не мое дело. Светает, ты можешь идти. Пора. Благодарить меня необязательно. И необязательно сюда возвращаться, потому что дверь я тебе не открою. Физиономия твоя мне не нравится.
Босс встал. Раб пожал ему руку. Было слышно, как солдат скребет штыком по деревянной поверхности стола.
Через широко открытую дверь в большой зал проникал мертвенно- бледный день. Утренняя свежесть леденила плечи, изнуренные ночью и согбенные под тяжестью нищеты, снова навалившейся на каждого из них с рождением нового дня.
— Прощай, старина Босс, — крикнул Раб. — Я ухожу сам не знаю куда.
— Прощай, — вторили ему остальные.
Босс, стоя на пороге своего домишки, словно фигурка капуцина на старом барометре4, смотрел, как вся компания уходит по снегу вдаль.
Он полной грудью вдохнул ледяной воздух, взглянул направо, налево, затем вернулся в свой кабачок и тщательно запер за собой дверь.
i
Унылая
группка потянулась за жалкой собачонкой — порождением ночи — и остановилась на площади Равиньян1 возле гостиницы, где Раб собирался снять номер на три дня. Если считать по франку в день за жилье, у него оставалось еще два франка, чтобы попытаться штурмовать высокую бесплодную вершину зимнего
дня.
Он пожал руку солдату, мяснику и молодому немцу, жившему напротив, в мастерской из разболтавшихся досок.
— Я не знаю, где ночевать, — сказала Нелли.
— Тогда пошли со мной, — предложил Раб.
Солдат и мясник остались лицом к лицу у дверей гостиницы.
Нелли и Раб уснули сразу же, как только улеглись в кровать.
— Глупая девица, — сказал мясник, — ей было бы куда лучше пойти со мной... потому что я лучше знаю, как действовать. Не дает мне покоя мой сверток... Ну ладно... Я, пожалуй, распрощаюсь с вами.
Он протянул солдату руку и удалился семенящей походкой в направлении Мулен-де-ла-Галетт2.
Солдат остался один, в полной нерешительности. Он стоял и коченел в своей шинели. Наконец он решил посчитать, сколько у него мелочи. Монета-другая упали в снег, несколько минут он их искал. Потом спортивным шагом направился к бару «Фове», хозяин которого как раз с грохотом поднимал железную пггору.
52
П. Мак Орлан
Молодой немец, первым укрывшийся в собственном жилище, из окна мастерской проводил удалявшегося солдата насмешливым взглядом.
1е 1е *
Мясник вернулся к себе в макй, на улицу Коленкур3. Он жил в маленьком деревянном домике, состоявшем из комнаты, кухни и узенькой лавчонки с мощеным полом. На железных крюках висело несколько кусков мяса. Над входной дверью, выходившей в переулок, грубо намалеванными белым по черному буквами было выведено его имя:
На стеклах единственного окна можно было прочесть следующие слова, начертанные белилами:
Снизивший цены мясник, которого действительно звали Изабель, или попросту Забель, отворил дверь своей лавки, проветрил и подмел помещение и зажег маленькую печку, уже начиненную стружкой и углем. Из печки тут же донеслось потрескивание, и хозяин удовлетворенно протянул заиндевевшие руки к трубе, уже начавшей распространять вокруг себя волны тепла.
Набережная Туманов. 7
53
Вдруг у дверей послышался детский голосок:
— Господин Забель, дайте мне кусочек вырезки за десять су. Выберите получше, это для госпожи Лорнуа.
— А-ха-ха! — отозвался мясник. — А-ха-ха! Госпожа Лорнуа всегда берет филейный краешек.
— Не знаю, месье, — ответила девочка, оказавшаяся блондиночкой лет десяти с копной непослушных волос и худеньким грязным одухотворенным личиком, хранившим следы пальцев, которым, видно, пришлось повозиться с углем.
— Вот тебе вырезка, барышня... А-ха-ха!!!
Забель встал перед дверью, чтобы лучше видеть, как удаляется девочка. Он сунул руку за ворот рубашки, чтобы высвободить шею, и огляделся.
— М-да, пора заняться делом, — вслух подумал он.
И посмотрел на часы. Стрелки показывали восемь утра. Забель с озабоченным видом машинально положил часы обратно в карман, всё время покусывая волоски бороды под нижней губой.
Приняв наконец решение, он пошел, снял с крючка куртку — вместо нее Забель успел надеть короткую рабочую блузу, — и внимательно осмотрел ее. Он заметил пятна и тщательно застирал их теплой водой с мылом. Местами даже поскреб материю ножом для разделки мяса, извлеченным из кармана профессионального облачения. Потом принялся пристально разглядывать лезвие ножа с выгравированным на стали фирменным знаком, рукоятку, кольцо.
— Порядок, — проговорил он.
И бросил нож к другим ножам на разделочный стол, где лежала груда мясных обрезков для кошек и собак.
Забель вздохнул и сел на кровать. В руках он держал толстый бумажник из телячьей кожи. Он осторожно открыл его и стал считать, заминая углы большим и указательным пальцами, тысячефранковые купюры — их было там с десяток. Он пересчитал их дважды, сколол булавкой и убрал обратно в бумажник, который бережно положил в пустую коробку из-под сигар.
54
П. Мак Орлан
Забель настороженно прислушался, повернувшись в сторону переулка. Впрочем, с кровати, где он сидел, можно было видеть дверь лавки и грязный, обсаженный облетевшим орешником переулок до самого пересечения с улицей Коленкур.
Он ничего не услышал. Обитатели маки спали. Для большинства зимний день и так тянулся слишком долго. Забель бережно приподнял одну доску в полу своей комнаты, опустил сигарную коробку в образовавшееся углубление, потом водворил доску на место, прибил ее теми же гвоздями и замаскировал щель пылью.
У него было время вволю поразмыслить, а когда размышлять надоело — сходить в табачную лавку и выпить аперитив. Несколько домашних хозяек зашли купить у него мяса на обед.
Все жаловались, какие суровые настали времена, а Забель объявил, что ему придется закрыть лавку, если дела не пойдут на лад.
— Одна только перепродажа всякого старья и позволяет мне есть досыта, говорю вам без утайки.
Быстро расправившись с обедом и выпив кофе, Изабель принялся кружить по трем своим комнатам, будто леопард в зоологическом саду. Он думал с таким диким напряжением, что кровь прилила к лицу. Несколько раз он осмотрел место, где спрятал бумажник. Даже зажег лампу и посветил туда, когда вечерние сумерки окрасили его жилище зловещей меланхолией.
Потом мясник зажег обе лампы в лавке. От них на подтаявший снег падал грязный желтоватый отблеск. Со стороны переулка можно было видеть, как печальный Изабель сидит перед кассой светлого дерева между двумя бараньими тушами, подвешенными к потолку. Он странным образом поводил кончиком носа и жевал усы. В половине десятого господин Изабель погасил обе лампы и демонстративно закрыл лавку. И стал терпеливо ждать в темноте.
В дверь постучали.
— Кто там?
— Вы уже легли?
Изабель узнал голос соседки, прозванной за ее личную жизнь Дрян- нушкой.
Набережная Туманов. 7
55
— Вы что, без света ложитесь, как куры, папаша Забель?
— Да, именно, я ложусь без света, как куры, — большая экономия.
— Ну ладно, спокойной ночи, я пошла. Хотела немножко печенки взять, но до завтра терпит.
Девушка удалилась быстрым шагом.
Забель удовлетворенно потер руки. Теперь вся округа будет знать, что он имеет обыкновение ложиться спать в темноте.
Он еще немного подождал, а когда на колокольне Сакре-Кёр пробило десять, тихонько открыл окно комнаты, выходившее в сад. Посмотрев направо, налево, он перекинул ногу через подоконник и бесшумно спрыгнул на землю за пристройкой, служившей уборной.
Он проскочил через безлюдный сад и, двигаясь вдоль ограды, подошел к небольшому деревянному, как все строения в маки, домику. Дом укрывала живая изгородь из кустов сирени и бузины. Забель скрылся под сенью изгороди и, не сомневаясь, что добрался сюда незамеченным, тихонько вставил ключ в замочную скважину. Закрыв за собой дверь, он чиркнул спичкой, но она не загорелась, — потом еще и еще раз. Четвертая наконец вспыхнула. Забель зажег свечу, и трепещущий огонек осветил комнату.
Он задержал дыхание, замер на месте, так что вся тяжесть его грузного тела пришлась на кончик одной ноги, и стал прислушиваться, даже не пытаясь пошевелиться. Вокруг него в комнате всё было в полном порядке. Обстановка состояла из разобранного дивана, столика красного дерева с бумагами, еще одного стола светлого дерева, из ивового кресла, двух плетеных стульев и дубового шкафа. На стенах, оклеенных обоями в желтую полоску, висело несколько картин. Они запечатлели потуги художника робкого и малоодаренного. Впрочем, это были всего лишь неудачные копии цветных картинок из иллюстрированного приложения к «Пти-Журналь»4.
Понемногу Забель расслабился. После сковывавшего его сильного напряжения всё тело как-то обмякло. Но приступ слабости продлился недолго. Спокойным и непринужденным шагом, как человек, находящийся у себя дома, он прошел на кухню — она зияла возле шкафа, словно черная бездна, куда, подобно скулящему призраку, мог просочиться страх.
56
П. Мак Орлан
Именно туда, как свой человек в доме, и направился Изабель. С полочки над угольной печью он взял керосиновую лампу, наклонил, чтобы проверить, не пуста ли она, и вернулся в первую комнату, чтобы зажечь лампу от свечи.
— Надо экономить спички, — сказал он вполголоса с жуткой улыбкой.
Потом вернулся на кухню и стал рыться в шкафу. Там он нашел кусок хлеба, банку сардин, которую тут же открыл, белое вино в начатой литровой бутылке. Всё это он отнес в комнату и накрыл на стол.
Он жадно проглотил полбанки сардин, хлеб оставил, выпил большой бокал вина, после чего недовольно поморщился.
— Так, ладно, — пробормотал он, — завтра принесу свежего мяса.
Он в последний раз взглянул на окружающие предметы, завел будильник, потом слегка отдернул занавеску на окне, чтобы с улицы без труда можно было заметить, что в комнате свет, а значит, и люди.
Выходя, он обратил внимание на висевшую на гвоздике широкополую фетровую шляпу. Взял ее, повертел в руках, брюзгливо выпятив нижнюю губу. Наконец надел на голову вместо своего котелка.
— Она мне мала.
Он собрался было повесить шляпу на место, но, передумав, спрятал под курткой.
— Bene, bene* *, all right**, — пробормотал он.
Затем вышел, тихонько закрыл дверь, вернулся той же дорогой и влез к себе через окно.
Оказавшись в своей комнате, он сразу принялся резать фетровую шляпу ножницами и совать кусочки в печь. Ему пришлось расшевелить пламя. Минут через двадцать от фетра ничего не осталось.
Тогда господин Забель одетым растянулся на кровати, предварительно сняв ботинки и навалив себе на грудь, помимо двух шерстяных одеял, всё попавшееся под руку старое тряпье.
* Хорошо, хорошо (um).
* хорошо (англ).
Набережная Туманов. 7
57
* -к *
Днем мясник предавался привычным занятиям, постоянно плачась своим клиентам на нищету. «Никогда не свести мне концы с концами», — стенал он. А оставшись один, садился к себе на кровать, свесив руки между колен, и смотрел на то место, где спрятал бумажник с десятью тысячами франков.
По пятницам он с раннего утра отправлялся на бойню купить мясо. Сладковатый запах крови наполнял его гордостью и тщеславием. Он любил порассказать другим мясникам о своем прошлом забойщика. И показывал, растопырив пальцы, свои могучие руки.
Другие забойщики хорошо его знали, называли Скотина Забель и охотно пили с ним аперитив.
Вернувшись домой на Монмартр, Забель, несмотря на холод, демонстративно разгуливал с закатанными до локтя рукавами блузы и в хлопчатобумажном красном в белую полоску колпаке на лысой голове. На шее он носил окровавленное полотенце, завязанное наподобие шейного платка. От него пахло теплой кровью и желудком травоядного животного. В таком наряде он заходил выпить стакан белого вина в табачную лавку.
— Гляди-ка, — говорил он хозяину, — вот антрекот с прослойкой жира, положи его себе на зубок, а потом скажешь, как он тебе понравился.
— Ты о чем? — спрашивал хозяин, худой одноглазый человечек лет сорока.
— Белого, как всегда.
Забель выпивал вино, скручивал сигарету. Он смотрел на свои проворные руки и особенно на ниточку запекшейся крови, словно кант окаймлявшую каждый ноготь.
Потом выходил на улицу, покупал, как обычно, хлеб, газету, красовался перед всеми в рубище забойщика и, удовлетворившись на неделю вперед, забивался обратно в возбуждающий запах своей лавки.
58
П. Мак Орлан
* rk 1с
На следующий день после его ночной экспедиции была пятница. За- бель как обычно отправился на бойню, а вернувшись, сразу пошел в табачную лавку выпить стаканчик белого вина.
Тонио Биффи, таксист, уже сидел в своем сдвинутом на затылок картузе и пил аперитив, самодовольно поглаживая короткие темные усики.
— Вы обслуживаете этого человека? — обратился он к хозяину, изображая удивление, переходящее в возмущение.
— А-а, — ответил Поль (так звали хозяина), — мы познакомились еще в Нумеа5.
Когда обмен любезностями был закончен, Биффи протянул маклаку свою широкую ладонь, а тот, расплывшись до ушей, прямо-таки просиял от удовольствия.
— Мне то же самое, — сказал он, кивнув на бокал Биффи.
— Итак, — сказал шофер тем покровительственным тоном, которым всегда обращался к коротышке мяснику, — итак, ты опять убивал своих братьев, а точнее сестер! Вы только полюбуйтесь на эту сволочь, он же весь в крови! Вы, поди, думаете, что он мог бы и помыться? Нет, только полюбуйтесь на эту свинью. Вообще-то я против тебя ничего не имею, хоть ты и вылитый убийца... Да, а что Норбер? Его давно не видать...
Изабель окунул свой внушительный нос поглубже в стакан. Потом поднял голову и сказал:
— Да нет, я его только вчера видел. Ох! Он и не говорил со мной. Несся как ветер по улице Жирардон...6 Я его окликнул, но он не ответил.
— Я его не видел уже дней пять или шесть, — заявил Поль, отпуская пачку серого табака.
— М-да! Любопытно все-таки, что Норбер столько времени не показывается, — настаивал Тонио Биффи.
Он наклонился над своим абсентом и не видел светлых глаз Забеля, сверливших его череп в том самом месте, где соединяются кости.
Набережная Туманов. 7
59
— Он ненормальный, чокнутый, — заявил Поль, пожимая плечами.
— Да, он и правда какой-то странный, — подхватил мясник.
— Говорят, у Норбера денег куры не клюют, он недавно наследство получил... Может, он уже пять дней в загуле... Так и друзей бы мог позвать... Хотя что я говорю? Идиотизм!.. Ведь Забель его вчера видел.
— Вчера вечером, господин Биффи, у него в комнате горел свет, — сказал недавно вошедший человек, который с самого начала прислушивался к разговору, облизывая почтовую марку, чтобы приклеить ее на конверт.
— Надо зайти к нему, забрать разводной ключ, — сказал Биффи. — Ну всё, я пошел. Мне нужно взять клиента в Пасси7. До свиданья...
— Ну и тип! — бросил Забель, когда таксист скрылся из виду. Потом, обращаясь к Полю, хозяину, спросил: — Скажи, а ты хочешь на обед Hoiy настоящего хорошего барана, выращенного на солончаках?.. Я тебе это устрою.
— Давай неси, а расхваливать будешь потом.
— Идет, договорились.
Перед тем как вернуться домой, Изабель прошел по переулочку, откуда вчера вечером проник в дощатый домишко, выкрашенный в гранатовый цвет.
Здесь жил Норбер, прозванный Московитом за курносый нос и выступающие, как у татар, скулы.
Хмурым зимним днем от этого дома так и веяло отменно кислым унынием. Он отлично сочетался с жемчужного цвета декорациями, со снегом, оттепелью, слякотью, со старыми газетами, гонимыми ветром и облепившими заборы. Огромное сухое дерево почти полностью скрывало его в своих скрюченных ревматизмом ветвях.
Подойдя к двери домишка, Забель крикнул что было сил:
— Норбер! Эй! Норбер! Тебе чего-нибудь надо? — Потом подождал секунду и сказал вслух: — Нет его.
Он подошел к окну, для очистки совести постучал в стекло и отметил, что свеча, которую он зажег накануне, погасла.
Забель потер руки и вернулся к себе в лавку.
60
П. Мак Орлан
* -к *
И так всю неделю каждый вечер господин Изабель пробирался в ночи той же дорогой, чтобы зажечь свечу, смять постель, накрыть на стол и создать видимость вечерней трапезы.
Целую неделю он тщательно осматривал всё вокруг дома и сам дом.
В течение дня он иногда решительным шагом подходил к красной хижине, стучался в дверь или в окно и звал Норбера голосом, в котором к нетерпению примешивалось легкое раздражение.
В округе уже поговаривали о странном поведении Норбера, исчезавшего на целый день и возвращавшегося домой только ночью. Да еще он и дверь не хотел открывать, когда к нему приходили.
— Старик, — говорил Биффи, — меня трудно разозлить, но этот Норбер, попадись он мне только, я ему такого пороху задам! Этот педик теперь уже даже друзьям не открывает. Вчера я оказался возле его лачуги где-то около часа ночи. Он был дома, я ведь видел свет. Я постучал. Никто не ответил. Ну, я не стал настаивать, а то еще разнес бы его небоскреб.
— Он никогда не отвечает, — слащаво заметил Забель.
На восьмую ночь, когда Забель только что выбрался из дома Норбера, совершив свой обычный ритуал, ему послышался в зарослях какой-то шорох. С упавшим сердцем он притаился в тени, вжавшись в доски. Стараясь не дышать, он внимательно и терпеливо обшарил взглядом каждый уголок вокруг себя.
Между голыми ветками зарослей он заметил тень человека и узнал Тонио Биффи, который тоже наблюдал за домом в ночи.
Солдат
Колониальных войск вошел, руки в карманах шинели, в бар «Фове», заказал чашку горячего кофе и запустил руку в корзинку с круассанами. Взяв три нпуки, он положил их рядом с чашкой на стойку, еще хранившую следы мыльной пены.
— Ты с какого числа считаешь? — спросил официант, вытирая блюдце.
— С нуля — начиная с завтрашнего, — ответил солдат. — Моя профессия, знаешь... — Он вытащил нггык из ножен и швырнул его через весь зал. — Вот что я о ней думаю.
Рукоятка штыка зазвенела, стукнувшись о мраморную плиту.
— Не валяй дурака, — сказал официант за стойкой. — Если ты так начинаешь день, тебя упекут еще до полудня.
Солдат подобрал свой штык, водворил его обратно в ножны и пробормотал сквозь зубы:
— А, черт! — Потом заплатил за кофе и круассаны, раздраженно бросив монету на стойку.
Было восемь утра.
Застыв в нерешительности на краю тротуара на углу улиц Аббесс и Равиньян, солдат стал наподобие охотничьей собаки поводить носом направо и налево в поисках нужного направления. Внезапно он устремился прямо вперед, в переход Элизе-де-Боз-Ар.
Какая-то совсем маленькая девчушка, отправившаяся с сеткой за продуктами, запустила ему в нос скомканный бумажный пакет, ода¬
62
П. Мак Орлан
рила озорной и в то же время по-детски нежной улыбкой и улизнула, откинув назад свои непослушные волосы.
Солдат обернулся, чтобы взглянуть на крошку, а она кинулась бежать вверх по лестнице, перескакивая через ступени, и наконец исчезла за поворотом.
Тем временем он вплотную подошел к первому этапу предстоявшей ему дороги.
Он принялся насвистывать припев солдатской песенки.
Дверь маленькой лавочки с закрытыми ставнями приоткрылась.
— Это ты? — послышался голос изнутри.
-Да.
Солдат толкнул дверь и очутился в крошечной мастерской электрика. В комнате было совсем темно. И всё же среди мотков медной проволоки и картонных коробок с лампочками можно было различить худого рослого парня, одетого в комбинезон из синей материи. Шея парня тонула в высоком вороте толстого серого шерстяного свитера.
— Сейчас открою ставни и буду весь к твоим услугам, — сказал хозяин мастерской.
Когда ставни были сняты с крюков, взору предстала убогая витрина, где красовались никому не нужные маленький трансформатор, деревянная лампа блекло-красного цвета, изоляторы и большой рулон изоляционной ленты.
— Ну вот! — сказал обладатель этих сокровищ, возвращаясь в лавку.
Это был мужчина лет тридцати с тонким, довольно интеллигентным лицом, линию губ подчеркивали рыжие подстриженные усики.
— Я даю задний ход, — сказал солдат. — Так что, понимаешь, старина Тото, мне бы шмотки какие-нибудь. В полдень в Аур сине1 меня объявят дезертиром.
— Шмотки у меня есть, — ответил электрик. — Ты оденешься там, внутри, в моей комнате. Свое солдатское тряпье свяжешь в узелок и заберешь с собой. Я дам тебе пятьдесят франков — это всё, что я могу для тебя сделать, — и ты уйдешь отсюда. Я здесь на крючке.
Набережная Туманов. 8
63
— О большем и речи нет, Того, но, когда я зачем-нибудь тебе понадоблюсь, только свистни, и я прибегу откуда угодно... Ты это знаешь, как и я знал, что, если нынче приду сюда, ты меня не бросишь.
— Да уж, старина, легавые взяли меня на крючок из-за одной истории с анархистской газеткой. Ну, короче, долго объяснять. В итоге меня теперь раз в два-три дня навещает под каким-нибудь предлогом один тип, которого я сразу раскусил, можешь мне поверить. Мне- то нечего бояться, у меня есть крыша. Но, случись им повстречать здесь тебя или найти твое солдатское шмотье, дело может принять дурной оборот для нас обоих. О! Кстати! Ты помнишь Туенкуанг?2 Помнишь некую Ко, девицу Бекана де Гриньи, капрала-трубача из Легиона? Помнишь, да? Так вот, знаешь, где она сейчас? Нет? Ставлю один против тысячи. Я ее встретил в Пасси. Работает гувернанткой в доме на улице Винь3, где я полгода назад делал проводку. Ты представляешь, как я обалдел, увидев ее там! Она меня узнала. Но приложила палец к губам, чтобы я не трепался. Я, естественно, ничего не сказал. Вот, держи костюм, он еще ничего и тебе будет как раз; вот еще рабочая блуза, вот майка, вот кепка и вот бабки. Давай скорей.
Он побросал всё это добро на кровать, и солдат быстро разделся, готовясь к перевоплощению.
Когда процедура была закончена, он стал похож на рабочего-элек- трика, так как вместе с одеждой товарища принял на себя и его профессию. Свою форму и штык он свернул в огромный узел.
— Куда бы мне это выкинуть? — спросил он, покачивая головой.
— Куда хочешь, только подальше отсюда... Да! Кстати, какое имя ты возьмешь?
— Да, действительно, — сказал солдат. И задумался на секунду. — Меня зовут... — Он вытащил из кармана пиджака военный билет в полном порядке, но не свой, — меня зовут, ну-ка... Эрнст Жан-Мари, демобилизован год назад. Приметы совпадают... Ну, прощай...
Он пожал товарищу руку и нырнул в ледяной воздух со своим огромным узлом, похожим на перину, завернутую в серую бумагу.
64
П. Мак Орлан
•к "к *
Эрнст Жан-Мари отправился на Восточный вокзал4 и положил свой компрометирующий сверток в камеру хранения.
Свалив эту ношу, он возликовал и насмешливо посмотрел на служителя.
«Через год и один день, — подумал Эрнст с известной долей удовлетворения, — это достанется тебе, если только я не востребую его назад».
Когда он почувствовал, что окончательно избавился от свертка, олицетворявшего для него десять лет солдатской жизни в краях однообразных и неприветливых, от которых остались только дурные воспоминания, его вдруг охватило великое уныние, и он снова и снова давал себе слово повидать Того, товарища по оружию, и поговорить с ним о чем-то давно ушедшем, что в данный момент не поддавалось определению.
Он сел на террасе кафе на бульваре Мажанта5 и стал смотреть, как течет перед глазами жизнь, похожая на далекий фильм, — нечто одушевленное и в то же время мертвое, не имеющее к нему никакого отношения.
Внезапно щеки его запылали от мысли, что теперь он штатский человек. Этой радости он достиг в обход закона, поэтому к ней что-то примешивалось.
И потом, он хотел есть. Да и противно было от того, что всю ночь проболтался. За последней солдатской выпивкой потянулось тяжелое штатское похмелье. Он смог оценить новое для себя ощущение утра после пьянки.
Когда он еще был солдатом, это составляло часть его ремесла — так, одна из многих картинок, исполненных местного колорита, но с им самим разработанной композицией. Сегодня же он ощущал горький вкус поражения, то есть упадок сил и воли, так необходимых ему, чтобы платить за хлеб, мясо, табак и комнату не просто как бедный штатский, но как бедный дезертир.
Было одиннадцать часов.
Набережная Туманов. 8
65
«Когда я допью кофе, — думал Эрнст, — меня уже объявят дезертиром. И все легавые страны будут знать мои приметы».
Эта опасность не слишком его поразила — он считал, что если немного повезет, а главное, если он не будет нервничать, то сможет спокойно жить.
Позавтракав и допив кофе, он по-настоящему почувствовал себя дезертиром и решил подыскать работу. Он воспользовался классическим способом: купил газету и просмотрел объявления. Он не был обучен никакой профессии. В крайнем случае мог рисовать на бристольском картоне комические сценки с текстом6. Его надежда крепко уцепилась за этот буй, хотя по давнему, еще до Колониальных войск, опыту он знал, что такой способ зарабатывать на жизнь особого доверия не внушает.
И всё же он встал из-за стола и направился на улицу Месье-ле- Пренс7, чтобы снять комнату в квартале посимпатичнее.
Через месяц, когда Эрнст не смог пристроить ни одного рисунка в юмористические газеты, он оказался посреди улицы без средств к существованию, а вещи его остались в гостинице. Вопреки всем стараниям, ему удалось выскользнуть из-под автомобиля, и он, сунув руки в карманы пиджака и, подобно Жану Рабу, втянув голову в плечи, принялся шагать вперед и вперед, избегая магазинов и сжав челюсти, чтобы усмирить голод, подтачивавший исподтишка всё его существо.
"к -к "к
— Эй, старина! Подай бутылку, там, в ящике на моей тачке.
Эрнст, одетый в рабочие пгганы и розовую в черную полоску обтягивающую хлопчатобумажную майку, подпоясанный черным фланелевым поясом, пил из горла под сенью неподвижного подъемного крана, спустившего свой крюк в трюм грузового судна «Фратернити» из Блайтского порта8. Мельчайшая угольная пыль смешивалась с дождевой водой и покрывала набережные не оставлявшим никакой надежды слоем грязи, которая липла к голым рукам, голым шеям и поношенной одежде грузчиков с набережной Жавель9.
66
П. Мак Орлан
На капитанском мостике грузового суденышка стоял низенький толстый человек с кирпично-красным лицом, в бежевом котелке, косо сдвинутом на самый затылок, и время от времени весьма сдержанным свистком указывал, куда повернуть лебедку. Это был капитан Хауард, возглавлявший экипаж британского судна. Уже десять дней Эрнст работал вместе с грузчиками Сены на разгрузке судов. Товарищи его недолюбливали, относились к нему с недоверием, а он вкалывал как вьючное животное под промозглым северным ветром, сопровождавшим весеннюю хмарь. У одного приятеля, отправлявшегося на военную службу, он купил эти лохмотья, сделавшие его безликим и безымянным. Широкие штаны, как у землекопа, хлопчатобумажная майка, фланелевый пояс, кожаный браслет на правом запястье — всё это составляло своего рода униформу. Эрнст был достаточно чувствителен, чтобы ощутить иронию положения. И конечно — не без горечи.
Изнуренный этой работой человека-машины, плохо отлаженной, а значит, уступавшей огромному подъемному крану — этакой паровой громадине, возвышавшейся над всеми, словно императрица в трауре, — в конце каждого рабочего дня он валился от усталости.
Зарабатывал он ровно столько, чтобы было на что выпить и утолить голод.
Однажды вечером начальник судоверфи рассчитал новичков, так как работы больше не было. И Эрнст в свою очередь прошел мимо будочки с окошком, служившей конторой и кассой. Он получил двадцать восемь франков и отправился вдоль Сены в поисках моста, чтобы поспать, укрывшись от ветра.
Ночной сумрак придавал реке фантастический вид. Но Эрнст ничего не боялся, благодаря своему костюму и особенно замечательной маске нищеты, открывавшей перед ним все двери сумрака, а по ту сторону ночи — и все двери ада, каким только может вообразить его человек.
С трудом нашел Эрнст место под мостом Мирабо;10 все лучшие уголки уже были заняты постояльцами. Вдоль Сены стояли и выжидали в тени набережной девицы с воспаленными щеками; некоторые
Набережная Туманов. 8
67
были молоды. Иногда они брали какого-нибудь бедолагу под руку и шли с ним выпить вина в дощатом кабачке, откуда виднелась вода, отражавшая раз в полчаса ослепительный пригородный электропоезд, мчавшийся в Версаль11.
Девицы шаркали ногами, обутыми в старые, стоптанные туфли, а напившись, танцевали под луной, словно непотребные призраки — зловредные и презренные. Они никогда не плакали. И были тверды — физически, — как камни набережной.
Днем Эрнст пробивался, как мог, какой-нибудь халтурой, не слишком удаляясь от ставших родными набережных. Впрочем, с первыми проблесками дневного света ночной люд рассеивался. Мужчины и женщины разбегались, точно мыши, попавшие в луч карманного фонарика. Все ощупью вдоль стен пробирались к пустырям Пуэн-дю-Жур или к самым глухим рощицам Ба-Мёдона12.
А девицы шли пешком до Версаля, чтобы поесть супа у дверей казармы инженерного полка.
Эрнст с нетерпением ждал вечера, ибо тогда он мог жить, ничего не стыдясь. Была у него знакомая — совсем молоденькая, грациозная блон- диночка, вся искусанная блохами и такая глупая, что непонятно было, на каком языке с ней разговаривать. С непосредственностью молодого зверька она уцепилась за мрачный удел Эрнста, сама не зная, какие скрытые мысли и чувства толкнули ее на это, ибо нищета превратила ее возлюбленного в человека с плохо выбритым зеленым лицом, похожего на всех обитателей набережной и тумана. Они не разговаривали — просто шли рядом, словно незатейливые нотки народной песни. Она не знала его имени, а он — ее. Когда она звала его, то просто говорила: «Эй! Ну чего, ты идешь?»
Иногда они отправлялись под арку метромоста, чтобы навестить одного жившего там жизнелюбивого старичка. Звали его папаша Гастон. На набережных его все хорошо знали. Он спал на тележке, на которой возил всё свое добро.
Когда папаша Гастон принимал гостей, арку освещали фонари, — те, что ставят на автодорогах, чтобы обозначить ремонтируемый уча¬
68
П. Мак Орлан
сток трассы. Там пили вино — за ним папаша Гастон посылал с большой бутылью, вмещавшей литров пять или шесть.
— Скажете, что это для папаши Гастона, — напутствовал он девицу, которая бралась выполнить поручение.
Однажды утром, когда голод рассеял его прежние соображения относительно внешнего мира, Эрнст пошел за своей подругой в Версаль, чтобы поесть солдатского супу.
По дороге они нашли жестянку, некогда содержавшую фрукты в сиропе. Девушка тщательно ее обтерла.
— Нужно же куда-то налить суп.
— Да, конечно, — ответил Эрнст.
У ворот казармы они вместе со всеми стали в очередь. Прислонившись к казарменной стене, мужчины и женщины ждали, когда начнется раздача.
Сыграли зорю, был вызван дневальный. Ворота казармы распахнулись, и двое дежурных в кухонных белых халатах вынесли котел с рисом. Вслед за ними показался конный молодой бригадир инженерных войск — гладко выбритый блондин с револьвером поверх длинного кителя и ремешком от фуражки под подбородком.
Он присутствовал при раздаче супа.
— А теперь давайте отсюда, — сказал он, разгоняя нищих.
Эрнст стал приходить к воротам казармы ежедневно, влекомый скорее запахом казармы, чем запахом супа.
Он обращался к завсегдатаям этой жалкой очереди, чтобы с видом знатока объяснить им, что означает тот или иной сигнал горна, приоткрывавший скрытую от глаз деятельность солдат.
— А в мое время, — сказал один старик, — еще, бывало, горном офицеров созывали — вот так...
И он попытался воспроизвести мелодию; выглядело это жалко.
Остальные злобно усмехнулись.
Однажды утром дежурный сказал Эрнсту:
— Молодой еще, чтоб сюда за жратвой ходить вместе с этими.
Больше Эрнст не ходил есть суп инженерных войск. Но много раз,
невзирая на проливные дожди, столь частые в этом на редкость непо¬
Набережная Туманов. 8
69
гожем марте, он подходил к решетке, чтобы через сторожевое окошко понаблюдать за готовыми к бою саперами, гревшимися вокруг родной печурки.
И тогда Эрнст пустился в долгий путь на юг, к Марселю, — он стремился туда в надежде сменить обстановку, а значит, воскреснуть.
На выходе из Дижона13 жандармы спросили у него документы. Эрнст был слишком слаб, чтобы волноваться. Он предъявил военный билет на имя Жан-Мари Эрнста и назвался сельскохозяйственным рабочим, направляющимся к месту работы в окрестностях Кассиса14.
— Ладно, мотай отсюда, — сказал бригадир, изящным пируэтом развернув лошадь.
Эрнст присел на километровый столбик, и у него так закружилась голова, что невозможно было держать ее прямо. Рот открылся, словно в припадке идиотизма. Ему казалось, что жизнь его сейчас сольется с придорожной травой и камнями. Но, прежде чем раствориться окончательно, ему всё же удалось вновь обрести ощущение собственного веса. Он встал, провел руками по лбу, по плохо выбритым щекам, вокруг шеи. Машинально вытер жирный холодный пот.
И снова пустился в путь, бормоча слова, ни звука, ни смысла которых уже не воспринимал, но это бормотание попадало в ритм его голода и его шага:
— Был он весь разгорячен,
Как петух на сковородке.
Машинально он стал повторять эти две строчки, изменив вторую:
— Был он весь разгорячен,
Как петунья в загородке.
В тот вечер он ночевал в амбаре и смог утолить голод. Он даже заработал несколько су, набросав карандашом портрет одной служанки, собиравшейся замуж. Красным и синим карандашом, каким пользуются плотники, он нарисовал ее в обрамлении венка из роз. В уголке был
70
П. Мак Орлан
изображен летящий голубь. В клюве он держал развевающийся флажок, на котором красовалось имя девушки: Ноэми Бюто.
Десять дней спустя Эрнст входил в Марсель, имея в кармане шесть су, чтобы побриться. Выйдя от парикмахера, он пошел бродить возле форта Сен-Жан15.
Город не вызывал у него никакого любопытства. И теперь, достигнув цели, он уже не имел никакого представления, как зарабатывать на жизнь.
Работать грузчиком? У него не хватило мужества предстать перед начальником судоверфи. Он принялся бродить по набережным, не видя и не слыша ничего, кроме навязчивой идеи, призывно стучавшей у него в голове.
Он вернулся к форту Сен-Жан, стал, выжидая, наблюдать за выходящими оттуда солдатами, не обращая внимания на толкавших его людей — ведь он не смотрел, куда шел.
— Слушай, старик, — сказал он, останавливая за руку солдата в синем фланелевом поясе поверх шинели, — скажи, где можно завербоваться в Легион?
— А-а, — протянул тот, — призыфной пункт открыфается ф фосемь утра. Если у депя хорошие зупы, комантир депя фозьмет.
На следующее утро в десять часов Эрнст со своей липовой ксивой завербовался на пять лет.
«Ах, боже мой! — думал он. — Если бы я только мог загнать свои старые шмотки за сорок су, я бы пошел и выпил напоследок».
Это желание он обдумывал, уже будучи приписанным к шестнадцатой роте. И так два конца его жизненной линии сомкнулись, образовав идеальный круг.
b
вернувшись в свою мастерскую на площади Равиньян, Михель Краус поспешил открыть окно, выходившее как раз на эту площадь. Он с насмешливым видом проследил, как ушел мясник, потом солдат колониальной пехоты, и стал внимательно наблюдать за перемещением теней Нелли и Раба, при свете свечи вырисовывавшихся за занавесками в окне гостиницы Поммье.
Когда свечу задули, маленькая площадь опустела, неправдоподобно опустела. Тогда Краус потянулся к бутылке рома, стоявшей на столе у него под рукой. Прямо из горлышка он отхлебнул большой глоток и, повеселев, крикнул что было мочи в открытое окно:
— Прошение Михеля Крауса о помиловании отклонено. Краус не спал ночь. А сейчас в его сердце отдается стук молотка — это выполняет свой заказ обслуживающий почивших плотник. Нынче Михель Краус в последний раз затворил окно.
Характерно стукнули плохо пригнанные створки с силой захлопнутого окна, и площадь снова замерла в холодной тишине рассвета.
Закрыв окно, Михель Краус около четверти часа, а то и больше стоял неподвижно, погрузившись в созерцание покрытой снегом площади. Он еще медлил распорядиться последними своими действиями. Ведь теперь всё, что должно было последовать, принадлежало полу- сентиментальной-полулитературной трагедии, где ему предстояло стать одновременно автором и главным героем.
72
П. Мак Орлан
Из-за светлых волос он казался необычайно молодым, в нем была та свежесть, что приводит обычно в умиление женщин. В лилово-сером полумраке цвет его волос казался удивительно насыщенным и романтическим. Михель Краус сел в свое единственное кожаное кресло и обвел взглядом окружавшие его добрые домашние вещи — вещи любимые и напоминавшие Майнц посреди парижской экзотики. В его душе, подобно пластинке с какой-нибудь особенно протяжной музыкой, вращался великий механический покой. Он закрыл глаза, и пальцы его тихонько забарабанили по кожаной обивке подлокотников кресла в такт мелодии мысли.
Вся жизнь его выстраивалась в памяти в виде серии миниатюр, пер сонажи которых жили и двигались как марионетки. По правде, и сам он переходил из картинки в картинку, словно войлочная куколка, весьма похожая на оригинал, но с еле заметным и очень изящным налетом карикатурности.
На фоне пейзажа, напоминающего полотно Альбрехта Дюрера, слегка подретушированное богатыми коллекционерами из Бингена1, деревянные девушки с кукольными головками, в платьицах из цветастого ситца кружатся в вальсе, а развеселый старый солдат пиликает на скрипочке. Кружатся они медленно, и их светлые тугие косички торчат параллельно лугам, где разрисованные в Нюрнберге коровы щиплют еловую стружку, выкрашенную анилиновой краской2.
Две марионетки в артиллерийской форме с крошечным штыком и подвязанным к нему толстенным темляком с двумя помпонами на конце идут под руку через металлический мост в обществе двух балерин ростом в двадцать пять сантиметров.
Михелю Краусу захотелось подольше пожить с этими милыми куклами, так хорошо одетыми и такими забавными. Остроумная фантазия обозначила жизнерадостные ямочки на их войлочных щечках, немного поблекших от пыли. Они не умели гнуться, и их простодушное существование как нельзя лучше гармонировало с грустной, скачущей мелодией, которую так старательно наигрывал скрипач.
«Ах! Если бы я был ростом с этого артиллериста, — думал Михель Краус, — я мог бы еще пожить, меня бы не одолело это гнусное отвра¬
Набережная Туманов. 9
73
щение ко всему, что обступает меня, стоит только решиться открыть глаза».
Он в бешенстве закрыл глаза, как обычно в гневе сжимают кулаки.
И увидел темный переулок возле собора, а в нем — шерстяного человечка с большими глазами навыкате и старательно сшитым толстым животом. Притаившись в темноте, он тихонько покашливает — при этом раздается пресмешной хлопок от разрыва пистона в опилках.
Человечек прячется возле черного хода какого-то дома, а потом, как механический паук, кидается на другого человечка, сделанного из того же материала, но представляющего тип худосочного романтика, каких можно встретить на ранних рисунках Вильгельма Буша3. Толстая марионетка вгрызается сзади в шею тонкой и так и повисает на своей жертве, не разжимая зубов и наполовину прикрыв костяные глаза.
— Воспоминания детства, — простонал Михель Краус, по-прежнему не открывая глаз.
За сценой убийства последовало еще несколько бурлескных видений, а потом им на смену пришли картинки, имевшие более непосредственное отношение к его собственной истории.
«Считаю до трех и открываю глаза», — подумал Краус.
И стал медленно считать вслух. На счет три он открыл глаза и встал.
— В моем распоряжении еще час, правда, Жюни? — сказал он своей кошке, которая, свернувшись клубочком на стуле возле погасшей печки, наблюдала и, по-видимому, комментировала про себя все действия хозяина.
Михель Краус открыл буфет светлого дерева и вынул оттуда тарелку с кормом.
— Вот тебе супчик... Еще три дня ты прокормишься. Впрочем, форточку я оставлю открытой, и ты сможешь выбраться наружу и навсегда покинуть эту мрачную мастерскую.
Он посмотрел, как кошка ест суп. Потом приготовил таз и притащил воды в большом фаянсовом кувшине.
74
П. Мак Орлан
В этот момент в дверь постучали, и консьержка просунула под дверь письмо. Краус вскрыл конверт: то было приглашение на бал- маскарад.
Молодой человек скомкал письмо и неловко бросил его прямо кошке в миску.
Был четверг, и слышалось, как на площади раскрасневшиеся дети веселятся и играют в снежки. Девочки уже смеялись, как женщины с Монмартра. Мелькали их тоненькие ножки, обтянутые черными чулками и обутые в огромные галоши. Взобравшись вместе с мальчишками на скамейку, они пели хором:
— «Как хорошо, моя родная,
Как хорошо мне быть с тобой!»
«Но, друг мой, — дева отвечает, —
Сей край я назвала б дырой»4.
Краус слушал слова и насвистывал народный мотив — принадлежавший, кстати, его родине. Это его совершенно не взволновало. Все сентиментальные и патриотические отношения с родиной были улажены, пока память рисовала ему марионеток, — на самом же деле он просто подогнал под себя одну сценку, некогда увиденную в витрине аристократического кукольного магазина на Кайзерштрассе в Висбадене5.
Михель Краус вымылся в тазу. Плечи его дрожали. Раздетый до пояса, он побрился, надел чистое белье, тщательно причесался.
Когда туалет был закончен, он принялся улаживать дела. У него оставалось двести марок. Он сунул их в конверт и написал на нем имя и адрес одной нищей старушки, которая много раз ему позировала. Жила она в трущобах форта Монжоль6.
После чего он взял нож и начал одну за другой кромсать свои картины.
Иногда ему случалось помедлить и задержать взгляд на каком- нибудь полотне, которое нравилось или просто напоминало о чем-то
Набережная Туманов. 9
75
важном. В него он вонзал нож как бы против воли. Он порвал рисунки и эскизы, а заодно уничтожил несколько картин и рисунков своих друзей.
Потом разломал палитру, кисти, этюдник. Тюбики с красками раздавил, а книги разорвал пополам вдоль.
Когда дело было сделано, он поднял голову и услышал заунывный вой сирены, возвещавшей рабочим о начале обеденного перерыва.
Тогда Краус взял скакалку, купленную накануне на базаре, и испытал ее на прочность, привязав к дверной ручке и потянув изо всех сил. Веревка была надежная.
Кошка Жюни, на сей раз примостившаяся, поджав под себя лапы, на шкафу, следила за непривычно суетливым поведением хозяина, и ее круглые зеленые глаза выражали явное неодобрение.
«Я жалею только об одном, — подумал Михель Краус, — я ведь так и не узнаю, каким образом мои товарищи по прошлой ночи справятся со своими важными делишками. Если мне не изменяет память, там был мясник, отмеченный смертью, и солдат, отмеченный смертью. Что касается Раба и Нелли, тут я ничего не могу сказать. В конце концов, у них обоих относительно чистое сердце. Я бы мог написать их портреты, не испытывая ни страха, ни беспокойства...»
Внезапно Михель Краус почувствовал, что ему на глаза навернулись слезы. Тогда он взял фонограф7, завел его, выбрал пластинку, положил ее на диск и поставил поближе к себе — на шкаф рядом с Жюни.
Потом он взобрался на стул, привязал один конец веревки к вделанному в потолок кольцу, а второй, оканчивавшийся скользящей петлей, накинул себе на шею. Одной рукой он нажал на рычажок фонографа, и пластинка начала вращаться. Михель Краус услышал характерное поскрипывание иглы по восковому диску. Тогда он с силой отпихнул ногой стул и повесился8.
А за окном дюжина ребятишек, в восторге поглядывая друг на друга, слушала фонограф, добросовестно воспроизводивший цыганский марш со всем несовершенством недавно изобретенной машины.
76
П. Мак Орлан
* гк *
В тот самый момент, когда покончил с собой Михель Краус, один механик-подмастерье нашел на пустыре за сквером Сен-Пьер9 сверток в серой бумаге, который поспешно развернул.
И в ужасе отпрянул, потому что обнаружил там человеческую голову, совсем свежую, а оттого еще более жуткую.
Юноша, белый как клоун, побежал за подмогой. Вернулся он вместе с полицейскими, и те забрали ужасную находку в ближайший комиссариат. Расследование поручили инспектору сыскной полиции господину Тонио Биффи.
Нелли
проснулась около полудня. Раб уже больше часа смотрел, как она спит. Он дрожал от бессильного бешенства, потому что никогда не смог бы сказать этой нуждавшейся в сне девушке, чтобы она ушла.
Он невысоко ценил жизнь других людей, да и свою собственную. Но сон, голод и жажду, которые делают человека таким же простым, таким же свирепым и таким же чистым, как какое-нибудь животное, он уважал. Зверей он тоже любил и уважал. Присутствие Нелли в этом гостиничном номере портило ему всё удовольствие от того, что можно было хотя бы два-три дня не думать о крыше над головой. Раб уже окидывал взглядом эту бедную крошечную комнатенку, мысленно приводя ее в порядок, но не нарушая при этом пределов дозволенного ему комфорта.
«Если бы я мог жить здесь всегда, точно знать, что проведу здесь годы, — думал Раб, — то вот тут, над столом, я бы повесил полку и расставил на ней книги. Я купил бы в Лувре несколько репродукций1 и развесил их по стенам. У меня была бы табакерка и стойка для трубок. Мне бы уже было совсем-совсем хорошо, но вообще-то всё это пока выше уровня моей жизни. Если бы Нелли могла проснуться и уйти, я провалялся бы в кровати до полудня. Когда я заплачу за комнату, у меня останется еще сорок су — я смогу заказать в ресторане на углу улицы Лепик2 стакан вина, полпорции и десерт. А если Нелли не уйдет... Что тогда? Тогда придется тупо разделить с ней сорок су. Я пошлю ее за
78
П. Мак Орлан
жареной картошкой и сосисками в жире. А потом еще могу отправить ее к Бридону с письмом. Попробую заставить его произвести солидное отчисление. А когда поем и выпью вина, попытаюсь додумать одну мысль».
Раб закурил и, лежа на спине, заложив руки за голову, принялся пускать в потолок колечки дыма. Он, как ребенок, стал воображать всякие необычайные ситуации, в которых чудесным образом преображался то в морского офицера, то в знаменитого велогонщика, то в че- ловека-невидимку3. Последний вариант так захватил его, что он заснул и увидел во сне, как, будучи невидимым, ограбил банк, а потом совершил другие преступления более интимного свойства. Когда он проснулся, то отметил, что Нелли почти оделась.
— Нелли? — позвал он.
— Что? — спросила девушка.
— Возьми у меня в кармане брюк там, на стуле, сорок су и принеси нам обоим поесть. Возьмешь литр вина в бакалее на улице Равиньян. А еще купи пачку бумаги для писем за десять сантимов.
— Хорошо, — сказала Нелли.
Оставшись один, Раб резко вскочил с кровати и побежал умываться ледяной водой над крошечным тазиком. Он дрожал, зубы у него стучали. Быстро закончив туалет, он с ясной головой снова нырнул в теплую постель.
Им овладела — физически и морально — безмерная радость. Он подумал о Бридоне и, воодушевленный комфортом, категорически решил занять у него пятьдесят франков — пусть Нелли пойдет и отнесет письмо.
Нужно было найти предлог. Нужно было сильно поразить воображение Бридона. И Раб начал психологически обмолачивать его, ища брешь, через которую просьба о деньгах могла просочиться сквозь броню, защищавшую Бридона — заместителя заведующего отделом в универсальном магазине на Левом берегу. Слабое место будущей жертвы Раба вскоре выявилось абсолютно четко: это была любовь к семье.
Набережная Туманов. 10
79
Найдя наконец решение, Раб снова расслабился — появилась надежда. День выдался ясный. В конце его, словно звезда в ночи, поблескивала цель. Если удача улыбнется ему, к наступлению сумерек он сможет разбогатеть. Он дал себе слово пригласить Нелли поужинать, потом купить на несколько франков дров и развести огонь в дряхлом камине. Большую часть ночи он проведет у очага, куря трубку и вкушая божественное наслаждение владеть огнем в свое удовольствие. Да и Нелли сможет остаться у него и погреться. Теперь он вовсе не возражал, чтобы девушка тоже воспользовалась нечаянно привалившим богатством.
Нелли ворвалась как вихрь и положила продукты на стол.
— Ну и холодрыга! — сказала она.
И сунула руки под одеяло.
— Ты знаешь, что произошло, Раб?
— Нет.
— Михель Краус повесился.
— Да ты что?
— На площади полно народу. Да, это еще не всё... Один мальчишка вроде где-то на пустыре за сквером Сен-Пьер нашел человеческую голову, завернутую в серую бумагу. Ешь, картошка остынет, а у меня ноги как ледышки.
— В серую бумагу... — повторил Раб.
На минуту он задумался, расправляясь со своей еще теплой сосиской.
— Хочешь, скажу тебе одну вещь, Нелли?.. Так вот, это сделал мясник, который был с нами сегодня ночью. Помнишь, он говорил о свертке, который потерял, пока за ним гнались эти парни?.. А? Так вот, в этом свертке как раз и была голова, найденная сегодня утром...
— А все-таки, — сказала Нелли с набитым ртом, — мне как-то не по себе из-за немчика. Хотя вообще-то ему неплохо там, где он сейчас. Сегодня утром мне снилось, что мы гуляем вдвоем, ты и я, где-то за городом. Кругом поля, поля, и ни одного дерева. А посреди засеянного
80
П. Мак Орлан
поля мы вдруг замечаем ангелов, собравшихся в кружок и, как голуби, выискивающих зернышки. Что называется, сон в руку.
— Я надеюсь, к нам не будут приставать из-за этого мясника. Мы его не знаем. Это просто мясник, он возник из тьмы и телом и душой принадлежит этой ночи, решившей проблемы двоих из нас. Немец уже мертв, умрет и мясник, а дезертир? Дезертир, наверное, нашел свой путь. А мы с тобой, Нелли, сегодня те же, что и вчера. Отметить это — большое облегчение... На, выпей вина, красавица моя, нас опять пронесло.
Нелли улыбнулась, взяла бокал, выпила и снова засунула руки под одеяло.
— Ах! — сказала она, и щеки ее залились румянцем. — Надо бы мне тоже поискать комнату.
— Если тебе удастся выполнить одно мое порученьице, я смогу тебе кое-что дать. Так вот: ты пойдешь к господину Бридону и вручишь ему письмо, которое я сейчас напишу. И подождешь ответа. Если Бридон заговорит обо мне, скажешь, что у меня умерла мать, — что, собственно, так и есть, только с тех пор прошло пятнадцать лет. А еще скажешь, что я ищу деньги на билет и поэтому не смог прийти к нему сам...
Раб написал письмо и адрес на конверте.
— Счастливо тебе, Нелли, и, если ты принесешь мне удачу, сегодня вечером поужинаем вместе.
* * *
Ощупывая принесенную Нелли пятидесятифранковую купюру, Раб был близок к обмороку. Он надеялся на удачу, но при этом в возможность удачи не верил. «Один шанс из тысячи, что получится, — думалось ему. — Слишком велика сумма. Надо было мне довольствоваться двадцатью франками».
Из этих денег он дал десять франков Нелли, купил себе рубашку и шляпу, а на остальное взял билет на поезд до Руана4, где надеялся что-нибудь найти, так как знал в этом городе с полдюжины замечательных ребят, которые могли ему помочь.
Набережная Туманов. 10
81
Нелли от нечего делать проводила его до поезда. В голове девушки смутно пронеслось: «Краус мертв, Раб вернется не скоро. У меня больше никого нет...»
Она была слишком несчастна, чтобы волноваться из-за себя. Про сто вокзал, вокзальные атрибуты, запах угля трогали сентиментальные струны ее души.
И всё же, когда традиционный свисток закрыл двери вагонов, она почувствовала, что завершился целый период в ее жизни и что теперь всё вокруг окрасится по-новому.
Она сняла меблированную комнату в маленькой гостинице на улице Коленкур, вышла под вечер подышать воздухом, понюхать, чем пахнет, и оказалась в гуще толпы лиц обоих полов, бурно обсуждавших какое-то выдающееся событие.
От одной толстой девицы в бежевом пыльнике Нелли узнала, что полиция только что арестовала мясника по имени Изабель, обвиняемого в убийстве и расчленении одного из своих друзей с целью ограбления. Этот друг по имени Норбер реставрировал редкие почтовые марки, а также занимался их подделкой. Он хорошо зарабатывал. Ограбление и было мотивом преступления.
В окружении полицейских Нелли заметила насупившегося обиженного господина. Это был незнакомец-мясник из той пресловутой ночи в снегу. Девушка тупо смотрела на него раскрыв рот.
Полицейские посадили арестованного в такси. Вокруг машины раздался дружный свист. Вступила в дело робкая, плохо организованная массовка. «Смерть ему! Смерть!» — не слишком энергично кричали в толпе. И тоненький голосок какой-то девочки подхватил вслед за остальными: «Смерть ему!»
Нелли пошла вниз по улице по направлению к мосту Коленкур5. По дороге, проходя мимо мужчин, она напевала и игриво подмигивала. Ну прямо как в книгах. Этой ночью Нелли смело, как профессионалка, взялась за работу. Она завладевала вниманием мужчин, потому что нечто более сильное, чем любая теория, руководило ею и направляло к будущему по пути четкому и неотвратимому, как железная дорога.
82
П. Мак Орлан
Она устремилась по стезе «ремесла», как поезд по рельсам. Она снимала мужчину, удовлетворяла его и изымала у него деньги с неумолимой мощью машины по серийному производству любви.
На заре, когда она с подругой поднималась по улице Амстердам6 попить кофе со сливками на площади Клиши7, она была богата. Она вернулась в гостиницу, тщательно вымылась и, словно уж, меняющий кожу, заснула, внезапно ощутив полный упадок сил.
Девушка, которую некогда звали Нелли, тоже умерла от последствий той ночи, навсегда ставшей для нее воспоминанием о собственной смерти. А новая Нелли проснулась в полдень как будто с другой внешностью. Она посмотрела на себя в зеркало и уловила в этом новом лице выражение решимости.
Из приоткрытой двери она крикнула коридорного Эмиля. Он, бесшумно ступая, поспешил к ней.
— Слушай, скажи хозяину, что мне нужен другой номер. Я возьму комнату на втором этаже за сорок франков в месяц. А это тебе. — Она протянула ему пятифранковую монету. — И еще, слушай меня внимательно: завтрак ты будешь приносить мне в номер. Понял? А теперь проваливай.
Оставшись одна, она взглянула на свое тряпье. Уверенность в себе ожесточила ее взгляд. «Наверное, — подумалось ей, — Раб тоже умер той ночью. Обалдеть, ведь, когда мы выходили из “Кролика”, нас было пятеро, а через месяц от нас тогдашних и следа не останется».
Она ошибалась. Но она не могла знать, что солдат всё еще бегает по кругу, как лошадь на арене цирка. Да, впрочем, она плохо помнила физиономию солдата, который в ее глазах походил на всех остальных военных. Нелли не умела различать форму, а все солдаты, которых она когда-либо знала, поносили свой жребий одними и теми же словами.
«Солдат и ничто, — думала Нелли, — это примерно одно и то же».
Через месяц после ареста господина Изабеля, вернее, через месяц после того, как Нелли поселилась в прелестной комнатке второго этажа — в «двойке», у нее уже был приличный костюм, белье и туфли.
Набережная Туманов. 10
83
Ела она в ресторане, и жизнь вертелась вокруг нее, как хорошо смазанное колесо.
Жила она скромно, как мещаночка от проституции, ибо великая нищета, воспоминания о которой принадлежали той, умершей, Нелли, была для живущей гарантией от чрезмерной фантазии.
Европа в то время спала, подобрав лапы, словно коварный хищный зверь, а человечество с молчаливого разрешения спящего хищника предавалось праздным размышлениям.
Будущие жертвы, обработанные прессой, наедали себе бока в неведении грядущего катаклизма. И Нелли тихонько несло вперед мирным потоком, где люди натыкались один на другого, но не причиняли друг другу зла.
Убийство Норбера было вынесено на суд присяжных. Молодая проститутка жадно читала ежедневный отчет о заседаниях во Дворце правосудия8.
Господин Изабель, взятый за горло, издерганный, униженный, осмеянный и наконец сбитый с толку самоуправными, но по-детски наивными психологическими приемами, в конце концов признался.
Он раздраженно слушал блистательные завывания заместителя прокурора.
В конце он взял слово и, сделав своему адвокату знак немного помолчать, воскликнул: «Ну да, да! Я убил Норбера, разумеется, убил, это уже ни у кого не вызывает сомнений, даже у меня, хотя я долго думал, что мне всё это приснилось. И всё же, господа присяжные, Норбер был идиотом, невежественным дураком, не способным прийти в волнение от великодушного жеста, красивой мысли, мелодии песни, розы, изображенной на полотне. Примите во внимание духовную нищету этого человека, которого в жизни интересовала только еда. В самом деле, Норбер ведь был всего лишь бараном, бараном, которого нельзя съесть, но шкура которого тем не менее могла представлять ценность. А мне в ту пору нужны были десять тысяч франков. И что же я сделал? Боже, да я убил Норбера, как убивают барана, чтобы добыть пропитание. Мне очень хотелось сообщить вам свою точку зрения, совершенно от¬
84
П. Мак Орлан
личную от вашей. По этой причине мы никогда не сможем понять друг друга. Что же касается Норбера, то я никогда не устану повторять вам, что если бы вы его знали при жизни, то сейчас, не колеблясь, согласились бы со мной».
Изабель был приговорен к смерти, его прошение о помиловании — отклонено. Он кончил свои дни на гильотине, умер насильственной смертью, всего на несколько месяцев опередив значительную часть своих современников.
Когда Нелли из вечерних газет узнала о приговоре, она не могла удержаться, чтобы не захлопать в ладоши и не воскликнуть:
— Вот здорово!
Но тут же сразу подумала о Рабе. «А с этим что сталось?» — размышляла она. Она попыталась представить, как молодой человек шагает своей нервной походкой параллельно ее собственному жизненному пути. Но поскольку никаких известий от него не было, ей это не удалось. Просто она снова увидела вокзал Сен-Лазар9, шумный, полный нежностей, криков и живой стали. И опять перед ней промелькнули огни поезда и Раб, неумолимо уходивший в темноту, на Запад.
И тогда Нелли села на подушку, подтянув колени к подбородку, и, перебирая обрывки ленточек в старой картонной коробке, стала повторять, как прилежное дитя урок по истории, ежедневную хронику собственного прошлого.
В тот день, то есть за два или три года до объявления войны, Нелли было девятнадцать лет.
стала прямо-таки императрицей улицы. Она знала ее самые заветные тайны и умела обратить их себе на пользу.
Особый, ныне утраченный колорит придавал в то время славной братии публичной проституции характер величавый и надменный, ныне запечатленный литтть в памяти очевидцев.
Представители древнейшей профессии — мужчины и женщины — не боялись афишировать свое занятие. Стать молодым сутенером было достаточно заманчиво, и те, кто стремился к этому идеалу, не колеблясь наряжались в специальную униформу, которая выделяла их из толпы.
Бульвары внешнего кольца1 и прилегающие к ним плохо освещенные улочки с наступлением сумерек раскрепощались и завладевали сценой, оставленной дневными мужчинами и женщинами.
Получалось, будто новая труппа играет на тех же подмостках в декорациях, хоть и не смененных из экономии, но выглядящих совершенно обновленными.
Так, какой-нибудь дом, благопристойный на вид при свете дня, в искусственном освещении становится своего рода храмом нищеты чувств и безудержной аморальности.
Во многих случаях тусклое, неверное освещение обеспечивало человеческой тени превосходство над породившим ее человеческим телом2.
Завладевавшие улицей тени играли свою фантастическую роль в трагической полуночной комедии.
86
П. Мак Орлан
Вот тень пьяницы попала в лапы тени, притаившейся где-то за углом. На голубой от лунного света стене две или три мужские тени обмениваются огоньками папирос.
Полиция теней, завоевавшая себе популярность, перекрывала проезжую часть, готовая сорваться по свистку, возвещавшему облаву.
А сама облава была лишь водоворотом теней, проносившихся по бульварам, словно развеянный порывом ветра ворох сухих листьев.
Облава была просто одним из капризов ветра, резко сдувавшего с места уличных девиц, так удачно прозванных ночными бабочками. Убогий рой уносился прочь либо рассыпался на отдельные фигурки, метавшиеся как безумные в болезненном свете муниципальных фонарей. В предрассветном тумане слышался ангельский хор со стороны Сен-Лазар3, а из какой-нибудь затравленной забегаловки похоронным звоном долетали брошенные на мраморную поверхность стола слова бледного, осунувшегося бродяги, пришедшего с площади Рокетт:4 «Кончено, Льябёфа гильотинировали»5.
В этом королевстве тощих и упитанных теней Нелли выступала как королева. Совершенно свободная от предрассудков, ужасающе некрасивая, она обладала неодолимой силой, а мысли ее казались омерзительными и непостижимыми в своей простоте.
Нелли стала весьма развязной блондинкой с насмешливыми глазами, способными привести в смятение целую улицу.
Будучи женщиной без предрассудков, она причесывалась и одевалась как потаскуха, начиная с высоко уложенных светло-русых волос и кончая победительными каблуками.
Товарки по улице окружали ее раболепной свитой. Для любой из них, этих жалких созданий, было счастьем выпить рядом с ней аперитив у стойки или на террасе небольшого бара, откуда виднелась улица Лепик, загроможденная тележками рыночных торговцев.
Она торжествовала повсюду, как предстояло торжествовать озорному и нагловатому фокстроту. Когда она шла вниз по улице, твердо и неуклонно ступая по тротуару, то увлекала часть улицы за собой,
Набережная Туманов. 11
87
подобно тому, как отклеившийся со стены уголок рвет и тянет за собой всю афишу.
Под безмолвный говор свистков она покачивалась как пиратский фрегат. И хотя ей было всего девятнадцать лет, о ней уже говорили «великая Нелли».
Эта пора высокого торжества почти без перехода последовала за мещанским периодом улицы Коленкур. И довольно было одного лишь мужчины, чтобы направить Нелли по иному пути, где, хорошо питаясь, она работала как мощная, великолепно отлаженная машина.
Мужчина, которого выбрала и стерпела Нелли после своей легкой влюбленности в Раба, возможно, не принадлежал к человеческому роду. Он тоже перемещался по жизни непреклонно, как машина, — только машина эта ни на что не годилась вне атмосферы, создаваемой броскими и послушными уличными девицами.
Он всегда стоял где-то в конце улицы, словно городской фонтан, снабженный непристойным украшением, которое он награждал детскими именами: «малыш», «дитятко», «парнишка». Если не считать этой снисходительной нежности к своим гениталиям, у него вовсе не возникало надобности сравнивать вещи между собой и как-то их называть. Звали любовника Нелли Людовик. Она и сама совсем мало знала о его жизни. Родился он на улице Пото6, служил в Туле7 в тяжелой артиллерии. Он был достаточно силен, чтобы внушать уважение, и поэтому с ним никогда не случалось историй, то есть ему крайне редко приходилось иметь дело с полицией нравов или уголовной полицией.
Людовик верховодил всеми местными авторитетами. Думать так же, как Людовик, считалось природным аристократизмом. Для улицы само его присутствие было школой ремесла, а Нелли распространяла потаенную силу этого человека, как громкоговоритель воспроизводит звуки и мысли, бесперебойно поступающие из умело настроенного приемника.
Ведь главное — уяснить, что Нелли, профессионалка панели, — это сила природы, и именно ей принадлежит последнее слово в этой истории.
88
П. Мак Орлан
Женщина, готовая использовать себя целиком, использовать тело и душу без ограничений, без моральных условностей и без всякой мистики, — это сила природы, сравнимая с электричеством: капризы этой стихии можно укротить, но изначально заложенная в ней тайна останется непроницаемой.
Присутствие Нелли на какой-нибудь улице сообщало этой улице индивидуальность самой Нелли. Одним лишь своем появлением она вовлекала в игру шестиэтажные дома, полицейских, как цыплята набивавшихся в участок, бесшумные экипажи, мужчин, падких на ночные развлечения, провинциалов с богатым воображением и всех своих бледных товарок, толпившихся, словно кровяные тельца у входа в затверделую артерию, и зажатых с обеих сторон двумя рядами гостиниц с предназначенными для свиданий номерами.
Для того чтобы расцвести по-настоящему, ее гений ждал одного — мужской силы, призванной помочь ей осознать, каким могуществом она обладает.
Этого зверя-покровителя она опутала тончайшей сетью из медной проволоки, а проволоку намотала на хрупкую катушечку, издававшую звуки, которые во вселенской ночи, полной шальных криков и растраченных сил, были слышны только ей одной.
Людовик насыщал ее силой, как выпрямитель тока заряжает батарею аккумулятора. Молодая женщина изучала устройство этого прибора, предназначенного для нагрева ламп ее воли и воображения. Когда она убедилась, что прибор такой мощности можно запросто найти в продаже, то решила освободиться окончательно.
Она подумала о Рабе, но зыбкие, хотя едва ли расторжимые узы, которые, казалось, связывали ее с этим человеком, всплыли в сознании весьма нечетко. Она думала иногда о Рабе, как думают о пейзаже, или о песне, или о городе. Потом, встав прикурить, она эту мысль отбросила.
Однажды Нелли решила избавиться от Людовика. По ее наущению один корсиканец убил его где-то на пустыре в схватке на ножах — обычном для того времени поединке, о своеобразии которых сказано уже достаточно.
Жан
Д T Т Раб прибыл в Туль в одно из вос-
-/XV xV X X кресений — военные власти при-
^ звали его на двадцативосьмиднев-
. V ные сборы, которые должны бы-
ли проходить в старой казарме, расположенной поблизости от крепостной стены. Эта никому не нужная повестка застала его в маленькой руанской гостинице на улице Шаретт1, где он влачил практически столь же жалкое существование, что и обычно, разве что в Париже это унижало его день ото дня немного больше.
Молодой человек совершенно утратил веру в судьбу. Иногда он думал о Нелли, потому что было у него смутное ощущение, что эта молодая женщина питает к нему какое- то робкое уважение.
Рабу надлежало явиться только к полудню. И он с трудом волочил ноги по снегу, запорошившему аллею возле укреплений. В кармане у него не было ни единого су, и он с опаской, заливаясь краской стыда, думал о той минуте, когда встретится со старыми товарищами из кадровой армии, самыми умными, но и самыми тщеславными. У них-то у всех, наверное, есть деньги. Они пойдут ужинать в ресторан, снимут квартиру в городе.
«Боже правый, — подумал Раб, — неужели нельзя, чтобы хоть в нищете тебя оставили в покое!»
В полдень он пошел в казарму. Сержант, быстро смерив его взглядом, отправил в надлежащую роту.
«Если бы я мог сразу надеть форму, — размышлял Раб, — это позволило бы мне более или менее сохранить инкогнито. Но поскольку
90
П. Мак Орлан
у меня нет ни гроша, чтобы поставить стакан начальнику склада, остается лишь одно средство — ждать».
Он растянулся на кровати и закурил.
Группа резервистов приехала следующим поездом: рабочие, служащие и несколько молодых широко улыбающихся крестьян.
К ним присоединились другие молодые люди. Раб узнал одного из них — сына преуспевающего ювелира по имени Бертель. Тот тоже узнал Раба.
— Надо же, старина Раб, ты меня не помнишь?
— Да нет, я тебя узнал... Как дела, всё в порядке?
-Да, а у тебя? — Бертель обратил внимание на жалкий костюм своего армейского товарища. — Всё рисуешь?
— Я? Нет, — сказал Раб, совсем забыв, что, когда был в казарме первый раз, представился рисовальщиком. — Я больше не рисую, — взвизгнул он вдруг сорвавшимся голосом. — Оставил живопись, чтобы заняться журналистикой. Я много путешествовал и стараюсь извлечь пользу из своих разъездов.
Собеседник едва слушал его, так как считал, что социальное положение Раба не стоит большего внимания, чем обычное армейское приветствие.
И он удалился с другим элегантно одетым типом.
— Ну и вали, сволочь! — проворчал Жан Раб, снова укладываясь на спину и задирая ноги на высокую стопку коричневых одеял.
Еще пришел один фоторетушер или что-то в этом роде — в черном драповом пальто на манер служивших в Африке офицеров и в широкополой фетровой шляпе с высокой тульей. Завязанный большим бантом галстук роскошно сочетался с его мушкетерской бородкой и с тем, что осталось от принесенных в жертву свежеостриженных волос.
— Ты гляди — Раб, — сказал он, насмешливо посасывая свою глиняную трубку. — Ну и чем же ты теперь занимаешься?
— Я директор большой автомобильной компании, — ответил тот в крайнем раздражении. — Я немного устал, так как приехал на маши¬
Набережная Туманов. 12
91
не с новым шасси и неотлаженным развалом колес. Шофера вместе с тачкой я отправил обратно. Ну а ты?.. Так и прозябаешь в нищете?
Ретушер в черном костюме из блестящего драпа подпрыгнул и попятился прочь.
— Где моя кровать? Ребята, где моя кровать? — орал он фальшиво-начальственным голосом. — Теперь что, молодые командуют стариками?
— Ну и осёл! — простонал Раб, закрывая глаза. — Я бы охотно пожертвовал ногой, лишь бы какая-нибудь война избавила меня от этого идиота.
На следующий день Раб был одет. Как только форма пришла на смену гражданской одежде, насквозь пропитавшейся крайней нищетой, он вновь обрел свободу мысли. С этого момента он был просто солдатом, но солдатом без единого гроша. С пяти часов он стал бродить по узеньким улицам старого Туля и познакомился с удивительно молодой шлюхой с волосами цвета мёда — странной девушкой, от груди до ног покрытой татуировками.
Сидя у выходящей на улицу двери комнаты на первом этаже, Раб болтал с девушкой и курил маленькими затяжками, как подросток. Он слушал вполуха, как она рассказывает замечательно простые и запутанные истории. Кивал и целый час жил спокойно, как мотор, погруженный в масло.
Он не читал газет и, не противясь, отдавался течению, уносившему его вместе с другими его братьями утопленниками. Тело его кружилось вокруг своей оси, натыкалось на препятствия, но в конце концов всегда попадало в русло течения. И он неодолимо сплавлялся к чему-то удивительному и вовсе его не страшившему. Ведь он уже пришел к тому, чтобы судить о смерти с безмятежностью старого пса.
— Если бы тебе дали тысячу франков, — спрашивала его татуированная девица, — что бы ты сделал?
— Всё, — отвечал Раб.
— Почему ты ходишь ко мне? — спрашивала она еще. — Ведь я не сую тебе денег.
92
П. Мак Орлан
— Потому что ты похожа на Африку и на каторгу.
— Штрафбат, — ответила девушка. — Ты сказал потрясающую вещь. Трубач, которого ты не знал и которому я отдавала все свои денежки, звал меня Штрафбат.
— Ну что ж, прощай, Штрафбат, — сказал Раб, вставая, — я пойду.
к к к
В полночь, когда всё в казарме спало, горн протрубил «общую», потом «все вниз», потом «дневального» и т. д. и т. п.
Вышколенные голоса заревели по плохо освещенным коридорам привычное: «Эй, вы там, подъем!» Один сержант отдал безумный приказ:
— На склад! Получить боевые комплекты!
Раб, не совсем проснувшись, машинально встал, натянул форму и отправился вместе со всеми на склад своей роты. Было холодно, ветер шквалами проносился над городом. Послышался грохот осыпающейся черепицы, отломилась каминная труба, что некоторых рассмешило.
Раб, зевая с риском вывихнуть челюсть, протянул руки начальнику склада, и тот выдал ему новую одежду, новые ремни, новые ботинки, новую сумку и новую фуражку, высокую, как башня.
— Вы, главное, фуражки не поломайте, слышите? — сказал аджю- дан. — А то живо у меня под трибунал пойдете.
Солдаты, навьюченные, как ослы, расходились по комнатам, чтобы одеться. Они ворчали и поносили не желавшие складываться новые кожаные ремни на сумках. Один капрал, окруженный свечными огарками, раздавал резервный запас продовольствия, сложенный у него на кровати.
Раб собирался механически, как и его товарищи, но без посторонней помощи. Его любили не больше, чем он любил других.
Теперь горны пехотинцев и артиллерийские трубы перекликались со всех сторон. Где-то вдалеке, со стороны Экрува2, зазвучал марш одного из полков. А потом какой-то оркестр тихонько заиграл «Марсельезу»3.
Набережная Туманов. 12
93
Раб прислушался, ловя характерный звук: двинулись машины пулеметной роты.
Со скоростью ветра по комнате промчался сержант — за плечами рюкзак, под подбородком ремешок от фуражки.
— Скорее, скорее! Все вниз! — прокричал он.
Рота выстроилась во дворе. Тени солдат легли на снег, и свет фонаря начертил на земле гигантскую звезду.
Капитан в черной шинели вышел к своим людям. Он был худ и зол, но лицо его было отмечено трагическим знаком скорой гибели. Несколько слов — и он под орех разделал своих сержантов.
Трясясь, приползла ротная машина и остановилась перед неподвижной двойной шеренгой.
— Патроны, капитан.
Раздача прошла в полнейшем безмолвии.
— Учения по мобилизации, — прошептал кто-то рядом с Рабом.
— Эй, вы, — сказал капитан, обращаясь к Рабу, — чего вы там бормочете? Теперь такие штучки не пройдут, поняли? Я вас пообломаю, слышите?
— Но, капитан, я ничего не сказал.
— Лжете.
Раб замолчал. Капитан скомандовал: «Вперед, в колонну по четыре», — и рота, первая пришедшая в боевую готовность, шагая в ногу, вышла из городских ворот, завернула налево в поле и стала занимать позицию на совершенно открытой местности.
Раб вскрыл серую бумагу, в которую были завернуты патроны, и потихоньку зарядил винтовку.
Рота остановилась у обочины дороги и опустила ружья к ноге по команде «Отой!».
Раб преспокойно продолжал идти с винтовкой на плече.
— Эй, парень! — кричал капитан.
Резервист услышал позади увязающий стук копыт, скачущих галопом по снегу. Он обернулся, вскинул винтовку и спустил курок. Его стукнуло прикладом по челюсти. «Я стреляю как полный идиот», — поду¬
94
П. Мак Орлан
мал Раб. Он снова прицелился в капитана и выстрелил, но не попал — офицер вовремя развернул лошадь. Во весь опор он помчался к своей разбредавшейся роте.
— Остановить его! — скомандовал капитан.
Два сержанта выступили вперед, и Раб открыл огонь в их направлении. Тогда аджюдан взял чью-то винтовку и тоже выстрелил, так как один из сержантов выронил оружие, схватившись за плечо.
— Я ранен! Я ранен! — кричал он.
У самого уха Раба просвистела пуля, потом еще одна. Вдруг он почувствовал, как его словно ударили палкой в бок, потом снова — в предплечье. Он выронил винтовку. По кисти правой руки текла кровь.
Жан Раб попытался сделать еще несколько шагов и упал на колени в снег. Потом повалился на бок. В ушах у него звенело. Вдруг он вспомнил, что оставил в Руане под присмотром соседки свою собачку. И жестокое, лихое отчаяние нахлынуло на него, придавило к земле и стало грызть с неодолимой силой.
— Собачонка моя, — пролепетал он, — бедная моя беленькая собачонка.
Тем временем аджюдан осторожно приближался к нему. Гигантом показался он Рабу в тумане смерти.
— Он ранен? — спросил капитан.
— Капитан, мне кажется, он мертв.
Капитан, спешившись, наклонился над ставшим необыкновенно маленьким телом.
— Ах ты, черт побери! Ну и дела! Двух человек ко мне, отнесите его в лазарет... Вы все свидетели. Ну и дела!
К полю подтягивались другие роты. К черной группе, окружавшей труп Раба, быстро приближались несколько ошалело прыгающих фонарей. Казалось, их несут гномьи ножки. И со всех своих маленьких ног презабавно бежали они к капитану, большими скачками устремившемуся им навстречу.
Два
джаз-банда дансинга «Майями»1 — черный и белый — то и дело сменяют друг друга, как бы следуя неустанному и гармоничному движению шатуна.
Мюзик-холл со степенно танцующими парами оканчивается монументальной лестницей, ведущей на улицу.
По ней величественно спускаются женщины, чтобы слиться с замысловатым ритмом двух оркестров, и меланхоличность музыки наделяет эту праздничную ночь безупречно благопристойным глубинным смыслом.
Среди пар, между хрупкими и элегантными молодыми людьми в смокингах, появляется высокая блондинка в коротком розовом платье с фижмами, с зачесанными кверху, как издавна принято у проституток, волосами; с надменной и лукавой грацией присоединяется она к фокстроту «Шери» — незабвенному символу конца 1919 года2.
Эта женщина — втулка золоченого колеса, что вращается, вовлекая в бесконечную круговерть двух оркестров сотни и сотни людей, подвластных веянию времени.
Это Нелли — единственная женщина в зале, чьи волосы не острижены на затылке. Она царит на дансинге, как божество улицы, причем улицы, обогащенной безумным мотовством всех уцелевших в бойне.
Сокровенный запах дансинга — да и вообще 1919 года — это всё еще сладковатый и пресный запах крови. Нелли прекрасна, прекрасна чисто по-парижски. Настоящая уличная девка, вознесенная к высотам
96
П. Мак Орлан
большой власти. Ее рот — это бледный уличный рот, и явно не в этих декорациях приобрели свой нынешний блеск ее жесткие серые глаза.
В зале господствует обжигающий грохот завода по производству веселья. Два джаз-банда тихонько гудят, словно турбины, приводящие в движение и Нелли, и ее партнера, и другие пары, работающие от той же батарейки.
Дансинг живет и движется, как бациллы в открытой ране. Замечательно плавный, тягучий напев, идеально подходящий к пластике танцоров и зрителей, насыщает атмосферу зала интеллектуальным электричеством. Каждый заводит свою жизнь, словно какой-нибудь механизм, а потом вновь подзаряжается от той силы, что, подобно переменному току, поступает на всё вокруг от двух джаз-бандов.
Нелли — как плетистая роза, обвивающая стальной пилон. Тысячелетняя голубка в новейшем пейзаже, сотворенном человеческим интеллектом. Танцуя, она вполголоса напевает английскую песенку, выученную по-детски легко.
Внезапно джаз обрывается. Будто ток отключили. И Нелли возвращается к своему столику, внимательно изучая ногти.
Она достает из сумочки сигарету и прикуривает, подавшись подбородком вперед к золотой зажигалке. И сидит с полуприкрытыми глазами, положив локти на стол и сплетя пальцы на уровне глаз.
Вокруг нее молодые люди, хитрые, как старики, томятся праздничной скукой.
Один из них едва заметно делает неопределенный жест, который так легко продолжить до бесконечности. И говорит умирающим голосом:
— Будущее? Ах! Вижу, вижу! Там полно света!
Нелли наблюдает за ним своими красивыми серыми глазами, разлагающими всё вокруг. Если она посмотрит на него подольше, этот человек растает, словно кусок сахара в горячей воде, и вместе с ним растают все декорации — обстановка, оба оркестра, красная драпировка, золотисто-желтый пол, белые стены и переплетенные, как змеи, танцующие.
Набережная Туманов. 13
97
В глазах Нелли — ледяное и жестокое предрассветное небо, новое уличное небо, и стоит ей только чуть озлиться и настоять на своем, как этот тепленький зал сметет порыв уличного ветра.
* * *
Нелли старательно тушит сигарету. Перед ней в ведерке со льдом тянет к свету ламп золотое горлышко бутылка шампанского, похожая на австрийскую гаубицу.
«Вот и еще одна ночь, — думает Нелли, — добавилась к веренице моих ночей. Но сегодня вокруг меня всё новое: мужчины — новые, женщины — родились в одночасье после грозы, музыка — новая, и всё, чем я живу, — тоже новое».
Она вертит перед глазами руку, любуясь единственным украшающим ее кольцом, и думает: «Неужели я так могущественна?»
В ее памяти, перед внутренним взором серых глаз, на белом, снежном экране проплывают образы.
Вот ничем не примечательный солдат, преступник-мясник и молодой немец, которому не хватило то ли терпения, то ли сил выносить собственную одаренность. Вот Раб, неловко кутающийся в свое ветхое пальто цвета грязного котла.
«Все они умерли ради моего физического и душевного здоровья», — думает Нелли, а вслух произносит:
— Разумеется!
— Это вы про что сказали «разумеется»? — спрашивает ее сосед, тот самый, что «видел» будущее.
— У вас не все дома, — отвечает Нелли, не заметив, что размечталась вслух.
Кадр за кадром тянется фильм, вторя ритму негритянского оркестра. Девушка сама расставляет по порядку картинки, как раскладывают карты на столе. В колоде — все трое давнишних знакомых, а еще — сам по себе — Раб, и он приводит прямо к бриллианту на безымянном пальце и обвивающему шею жемчужному ожерелью.
98
П. Мак Орлан
Серая улица, где завывал пронизывающий северный ветер 1910-го, и теперь проникает в зал благодаря глазам Нелли. Молодая женщина встает и направляется в вестибюль. Она наклоняется над банкеткой и улыбается:
— Ну, Ти Боб, пошли!
Маленький старый фокстерьер поднимает седеющую мордочку, встает на задние лапы и потягивается, прижимаясь к хозяйке. Это — собачка Жана Раба, которую Нелли подобрала после отчаянных поисков и неимоверных трудностей.
Март 1927 г.
ДОПОЛНЕНИЯ
Me*, Л
ЗВЕРЬ
ТОРЖЕСТВУЮЩИЙ
Ролану Доржелесу1, писателю и верному другу, с любовью
i
Свинья, говорит то, что положено свинье
зеленые просторы, казалось, колесом ходили вокруг одинокой фшуры — это фермер из Мёль-Годен1 господин Робер Гнилье, по прозвищу Гамбетта2, брел по дороге домой.
Это был потомственный пьяница из старинного и славного рода Гнилье, представители которого помирали кто в корчах delirium tremens*, а кто мгновенно, от апоплексического удара. Робер Гнилье был первым пропойцей на деревне. Он прославил коммуну Мёль- Годен, став потехой для парижан, которые забирались по воскресеньям в этот милый уголок умиротворяющей природы.
* белой горячки (лат.).
104
Дополнения
В тот день — дело было в конце июня — Гнилье отправился бражничать к каретнику Ренидьену. Выпил он яблочного первача, сколько влезло. Потом, преисполнившись благодарности, бухнулся на колени посреди деревенской площади и вознес хвалу Господу, — немного сбивчиво и невнятно, но зато с чувством.
— Слава те, Боже, я парень хоть куды, и душа у меня не в пятках. И дармоеды всякие, бездельники-министры, мне не указ — хочу и пью. А чо выпью, мне всё впрок идет, Господи, слава Тебе за всё!
Из-за каждой занавески за тем, как постепенно доходит до кондиции Гнилье, радостно следила чья-нибудь довольная физиономия. Его брат Ригобер, укатываясь от восторга, собрал на постоялом дворе «Прогресс» избранную публику и в красках рассказывал, как было дело.
Гнилье простоял на коленях ровно столько, чтобы его успела разглядеть вся деревня; потом встал и, спотыкаясь, потащился дальше, в родную Гренадьеру3. Икнув разок-другой, он вспомнил, что собирался резать свинью. Мысль эта заставила его поспешить, хотя ноги заплетались, а недавно замощенная щебнем дорога постоянно строила козни.
Когда же наконец он вступил на свой двор под радостный гвалт домашней птицы, предусмотрительно разметавшейся в разные стороны, пот лил с него в три ручья, а лицо стало совершенно багровым. Жена уже поджидала: величественная, как египетская пирамида, незыблемая, словно плотина. Волосы у нее были ярко-рыжего цвета, за что в деревне ее прозвали Морковкой.
— Вот бездельник, — всего-то и произнесла она, оценив состояние Робера. — Ты же не сможешь забить свинью.
— Давай нож — зарежу! — повторял Робер, срываясь на фальцет. — ГЦас как зарежу; давай сюды нож, щас мы его поточим.
Госпожа Гнилье привела свинью, озабоченно рывшую пятачком землю у дверей свинарника.
Обреченному на смерть животному уготованная участь не пришлась по вкусу. Оглушительные визги прорезали дивную тишину, подобострастно облекавшую небесное светило.
П. Мак Орлан. Зверь торжествующий. 1
105
— Ща мы ее ка-ак прирежем! — повторял Гамбетта, недвусмысленно размахивая ножом.
Госпожа Гнилье, по-прежнему не в духе, подтолкнула свинью к доске, Робер навис над необъятной тушей; нож сверкнул в воздухе, словно рыба. Не удержав равновесие, Гнилье оступился, и лезвие прошло мимо сонной артерии. Хлынула кровь — значит, животное всё же было задето. Но самое удивительное, что сразу после промаха послышался голос — ни Гамбетте, ни его жене он не принадлежал, — и голос этот, по крайней мере поначалу, вещал тоном, не допускающим возражений.
— Я парень хоть куды, — говорил он, — и душа у меня не в пятках. Я те покажу. У власти одни дармоеды, знамо дело. Притворщество — преступление, а я хочь и пью, да на свои. Кому какое дело!
Гамбетта с женой уставились друг на друга. А свинья — ибо сии пламенные речи произносила именно свинья — продолжила монолог, то воспроизводя напористые интонации госпожи Гнилье, то подражая тону ее мужа. Курьезы их семейного быта сыпались из свиного рыла один за другим, и запас воспоминаний казался неистощимым. В памяти свиньи всплыло всё, что ей довелось услышать в хлеву за время откорма, и теперь, чудом получив возможность высказаться, она говорила без умолку, словно немой, внезапно обретший дар речи.
Чета же Гнилье перед лицом чуда, наоборот, онемела. Где уж тут пускаться в рассуждения, когда у тебя на глазах происходят такие диковинные вещи! Безотчетный страх вступил в борьбу с алкогольными парйми, всё еще державшими Гамбетту в своей власти.
Госпожа Гнилье кинулась к соседке, а оттуда, слово за слово, новость добралась до постоялого двора «Прогресс» — средоточия всех местных сплетен.
А на пригорке, в Гренадьере, евин больше не истекал кровью.
Оставшись наедине с Гнилье, он доверительно шептал ему о том, как усладил бы его слух новехонький и дерзкий фонограф4.
106
Дополнения
* ie *
На другом конце деревни, в зарослях сирени и бузины, посверкивающих драгоценными спинками бронзовок, притаился старинный дом, где обитал весьма любопытный импортный продукт. То был не доктор Моро5, не доктор Лерн6, но маленький, хитренький, очень славный человечек по имени Пьер Ван Клаас7, или попросту господин Пьер.
Местные жители мало знали о семье и занятиях этого доброго малого. Он слыл состоятельным, платил исправно, торговался с достоинством. Считалось, что Ван Клаас доктор, но врачебной практикой он не занимался. Гнилье, ухаживавший за садом господина Пьера, утверждал, что в лавке у старика полным-полно громадных бутылей, кирпичных печей и книг размером с надгробные плиты.
Историю про свинью господин Ван Клаас узнал от разносчика всех сплетен — почтальона. По пути, пройдя через воображение местных жителей, новость изрядно преобразилась. Выяснилось, что евин Гнилье не просто обрел дар речи, но выступил моралистом и пророком. Он сказал пару ласковых хозяину (что не так уж и много), затем предрек скорый конец света и вдруг ни с того ни с сего исступленно пустился в пляс и исполнил премилый танец, насвистывая мотивчик, завезенный в эти края американскими солдатами во время войны 1914 года8.
— Это не может быть! — отозвался господин Пьер, чокаясь с почтальоном. — Не может быть.
— Да говорю ж вам, господин Пьер, на задних ногах и разинув пасть, как певчий в церкви.
— Пойду взгляну сам.
Господин Ван Клаас взял свой картуз — из ворсистой материи, неопровержимо английский — и, повесив на руку трость и сунув в рот трубку, отправился в Гренадьеру, минуя околицу, овсяные поля и покосные луга.
Во дворе у Гнилье уже вовсю толпился народ. Господин Ван Клаас раздвинул толпу и направился к супругам, силившимся растолковать, что произошло. Упершись рылом в пол и насмешливо поглядывая по
П. Мак Орлан. Зверь торжествующий. 1
107
сторонам, свинья лежала у себя в хлеву, а через открытую дверь всякий мог полюбоваться чудом.
— Здрасьте, господин Пьер, — сказал Гнилье.
Госпожа Гнилье поклонилась, теребя фартук.
— Вот она, животина, — продолжил Гнилье, указывая на свинью. — Дурака валяет, прям черт-те что: как начала языком чесать, так всё пить требует. Ну непгго оно по природе будет, а, господин Пьер? Вот вы человек достойный, ученый, оно как, по-вашему, непгго по природе?
— Так она и вправду разговаривает? — спросил господин Пьер.
— Да как нотариус. Час назад унять нипочем не могли. А теперича умаялась животина. Как говорится, сил больше нету.
— Надо, чтобы она поговорила, — сказал господин Пьер.
Гнилье, его жена и господин Ван Клаас подошли к свинарнику.
Толпа заметно встрепенулась. Гнилье отворил дверь и протянул свинье картофелину.
— Вот ведь паскуда, — промолвила госпожа Гнилье, — как пить дать не заговорит, вот увидите.
Гнилье, не без опаски, пнул свинью ногой. И донеслось из свиного рыла:
— Я парень хоть куды... Вот скоты.
Господину Ван Клаасу этого было довольно.
На закате того памятного дня он уже купил свинью, велел перевезти ее к себе домой и окружил всяческой заботой.
— Ты гляди, — говорил Гнилье, — он ей еще и пинжак к зиме купит.
Он уже успел пожалеть, что продал свинью. Сделка-то была неплохая, крестьянин себе в ущерб не торгует, только вот назад ходу уже не было. А Гнилье, подзуживаемый односельчанами, прикидывал, сколько мог бы заработать, водя «животину» по ярмаркам. Чего не мог предугадать бедный пьянчуга из Мёль-Годен, так это крушения мировых устоев, крушения головокружительного, вызванного снобизмом и неисправимой ленью.
/Turfv JL
Свиньи в школе
Ван Клаас жил один с ворчливой и преданной старухой служанкой, которую нередко удостаивал беседой. В тот день, когда в дом привезли порося Гнилье, старой Гертруде пришлось ретироваться.
Господин Ван Клаас проводил со своей свиньей часы напролет. Он отвел ей роскошную комнату и, оттерев бока животного от всех налипших на кожу нечистот, превратил его в подкупающе смышленого собеседника.
Прежде всего, врачуя рану своего подопечного, господин Ван Клаас выяснил, что Гнилье, сам того не ведая, осуществил необычайно тонкое хирургическое вмешательство. Эта операция, волею судеб
77. Мак Орлан. Зверь торжествующий. 2
109
прошедшая успешно, позволила умному зверю модулировать звуки и произносить слова на человеческий манер.
Свинья — животное на редкость сообразительное, ее наблюдательные способности не имеют равных. После удара Гнилье все слова, накопившиеся в ее памяти, естественным образом выплеснулись наружу, поскольку язык стал невероятно подвижным. Боров выдал хозяевам всё то, что от них же и узнал, ловя у себя в свинарнике отголоски семейных ссор.
Господин Ван Клаас восстановил ход событий и нашел чуду объяснение, которое у него хватило такта держать при себе.
С тех пор он терпеливо занялся воспитанием свиньи. Целыми днями он сидел с ней взаперти перед грифельной доской. Он обучил ее буквам. Через полгода евин уже читал «Жития святых» и газеты.
Труднее всего оказалось господину Ван Клаасу научить скотину писать при помощи копыт.
Писать как следует евин так и не выучился, его почерк на всю жизнь остался размашистым и корявым; зато он соблюдал правила орфографии и постоянно расширял кругозор. Как раз в ту пору случилось в деревне Мёль-Годен событие, освещение которого на страницах газет не могло, по мнению журналистов, не порадовать читателя того времени.
•к к к
Господин Ван Клаас решил, что его свинья должна получить аттестат о начальном образовании.
После войны1 люди, похоже, были готовы если не благосклонно, то, во всяком случае, не в штыки принимать самые невероятные события.
Появление «евина Ван Клааса», как его называли, на итоговом экзамене начальной школы было воспринято не как мистификация, а как первоклассное зрелище.
Родители предприняли похвальные попытки объяснить своим чадам, как стыдно будет провалиться, когда с тобой в классе огромная
110
Дополнения
свинья. Стоит, однако, заметить, что школьников такая конкуренция отнюдь не пугала: не утруждая себя прилежанием, они восприняли ситуацию совершенно безучастно.
День экзамена стал для Ван Клааса настоящим праздником. Детей собрали в зале мэрии. Через окно наставник видел своего евина, сидящего между сыном бакалейщика и сыном полевого сторожа. Всем заправлял мэр, и когда письменный экзамен закончился, перешли к устному.
Настала очередь евина, и благовоспитанное животное направилось к сцене на задних ногах; передними он намеревался жестикулировать.
Это был триумф. Свин Ван Клааса оставил позади всех школьников. Он учтиво выслушал похвалу и, проходя мимо одного из своих школьных товарищей, сына колбасника, тихо процедил:
— Лет через десять я из твоей задницы ветчины понаделаю, а потроха на колбасу пойдут.
Бедный ребенок, обомлев от ужаса, убежал домой. Как ни пытались родители его утешить, он продолжал хиреть и чахнуть, пока неизлечимый недуг не свел его в могилу; а поскольку плоть его на колбасу уже не годилась, вышло, что свин Ван Клааса солгал и пророчеству его не суждено сбыться.
Что же касается порося, то он принял поздравления от своего наставника, который любил людей исключительно по рассеянности.
Оживленно беседуя, в прекрасном расположении духа учитель и ученик вернулись домой.
Вечером старая Гертруда решила было сделать свинье замечание относительно кое-каких мелочей из области личной гигиены. Животное лукаво взглянуло на нее, потом скрестило на животе копыта, громко объявило:
— «Oceano nox»*, — и принялось декламировать:
— Вас сколько, моряки, вас сколько, капитаны...2
* «С океана ночь» (лат.).
П. Мак Орлан. Зверь торжествующий. 2
111
Старая Гертруда воздела руки к небу и схоронилась у себя на кухне.
А евин с господином Ван Клаасом оба мирно покуривали трубку и тихонько смеялись, не говоря ни слова.
* * *
Два года спустя после того памятного дня господин Ван Клаас стоял во главе образцовой школы.
Окруженный внушительным штатом прославленных педагогов по гуманитарным и естественным наукам, он интеллектуально окормлял сотни три подрощенных поросят, все как один перенесших гнилье- сечение (как назвали операцию в память о ее невольном изобретателе).
Все юные свиньи отлично выглядели и проявляли такое рвение к учебе, что преподаватели только диву давались. В некоторых смешанных классах, где животные учились бок о бок с нерадивыми и скептически настроенными подростками, свиньи систематически одерживали верх во всех состязаниях.
Всеобщему изумлению не было предела, когда газеты сообщили миру, что молодой боров из заведения Ван Клааса получил степень доктора права. Еще один евин готовился к поступлению в Политехническую школу3, и люди уже призадумались, с какими трудностями придется столкнуться, если он будет принят.
Сам же Ван Клаас держал у себя начитанного и сообразительного молодого порося, исполнявшего обязанности секретаря и отстаивавшего его интересы в дискуссиях с юристами.
Интеллектуалы всё больше и больше привыкали использовать этих послушных и трудолюбивых животных, и, по примеру господина Ван Клааса с его секретарем, многие умственно перегруженные люди завели себе «доверенных зверей» из числа учеников Ван-Клаасова института.
Поскольку начинание возымело успех, гнильесечению стали подвергать не только свиней. В дело пошли ослы, собаки, овцы и быки. Дополняя свойства каждого животного вида человеческим образова¬
112
Дополнения
нием, люди получали продукцию, как нельзя более отвечающую всем нуждам тех, кто переутомился от непосильного — и плохо оплачиваемого — умственного труда.
У господина Ван Клааса была собака, ходившая по магазинам, торговавшаяся при покупке масла не хуже любой хозяйки и знавшая назубок таблицу умножения. Но до самых больших высот в постижении человеческой науки добирались свиньи и овцы. Ослы, при всей своей эрудиции, были недостаточно амбициозны. Они не знали себе равных как комментаторы и посвящали толстенные тома толкованию литературных опусов, нимало не привлекавших внимание публики.
Не прошло и пяти лет с кончины господина Ван Клааса, которого, к слову, почитали благодетелем человечества, как интеллектуалы спихнули на своих четвероногих секретарей все тяготы профессии.
Как некогда человечество превратило животных в тягловую силу, освободив себя от непомерного бремени тяжелой физической работы, так теперь оно выдрессировало зверя мыслящего, дав возможность правящим классам нежиться в безделии. А поскольку машины свели на нет физический труд, люди стали дряблыми и жирными и своими белесыми лицами походили на глубоководных рыб. На портрете председателя Лиги Наций4, найденном где-то в провинциальном музее, сей достойный человек выглядел как растекшаяся по зеленой скатерти банка айвового желе.
Жизнь в те времена была весьма колоритной. На улицах попадались одни лишь бараны, спешащие выступить с речью на судебном заседании, да идущие по делам свиньи — естественно, всё это по поручению хозяев. Парижскую Биржу5 практически целиком заполонили азартные и образованные животные, визгом и ревом возвещавшие о котировках и пившие дорогие ликеры в окрестных барах.
Тем временем настоящие люди спали или тешились всяческой ерундой. Каждый гордился своей свиньей, будто самим собою.
Баран со степенью доктора права стоил дорого. По мере развития личности звери приобрели лоск и стали завиваться у парикмахера. Укладка одного барана щипцами длилась три часа и обходилась в сот¬
П. Мак Орлан. Зверь торжествующий. 2
113
ню франков. Люди, в силу неисправимого снобизма, подражали своим «доверенным зверям».
Особым шиком считалось, когда праздный толстяк походил на барана. Некоторые, оплывая жиром, пытались придать своей физиономии очертания свиного рыла.
Если не считать этих мелочей, общество благоденствовало ничуть не меньше, чем прежде. Первые конфликты в государстве дали о себе знать лишь к концу 1970 года.
3
Ошибка
медицины господин дю Пюре держал кабинет в самом фешенебельном квартале города, и его консультации пользовались большим спросом. Разумеется, сам доктор в это помещение никогда не заглядывал. Как вся интеллигенция того времени, он переложил свои профессиональные обязанности на плечи секретаря — барана с медицинским дипломом по имени Хват.
Этот Хват прекрасно зарекомендовал себя, чем господин дю Пюре успешно пользовался.
У Хвата не было ни жира, ни шерсти, по крайней мере на голове, между горизонтально торчащими ушками, как подобает всякому, кто работает головой на благо народа.
77. Мак Орлан. Зверь торжествующий. 3
115
Уныло и безвольно развалившись в кресле, дю Пюре упивался лимонадом. Даже покурить ему было лень. Язык у него заплетался, а порой не слушался вовсе. Впрочем, говорил он мало. Звук собственного голоса его утомлял. Глядя на себя в зеркало, он не мог сдержать зевоту. Правда, он продолжал читать и интересовался открытиями Хвата, чей удивительный гений каждый божий день преображал внешность четвероногих и двуногих пациентов.
В ту пору благодаря выдаюнщмся трудам дю Пюре — то есть, конечно, его секретаря — большинство молодых четвероногих пользовались при ходьбе исключительно задними конечностями; передние же служили им руками, как у людей. На четвереньках перемещались теперь лишь немногие: от силы несколько упертых старых свиней да пара неисправимых дедуль-баранов ни в какую не соглашались отступить от обычаев предков. Над ними все потешались...
•k к к
В тот день, которому впоследствии суждено было сыграть важную роль в истории человечества, дю Пюре, сидя в своем кресле, вяло слушал, как доктор Хват излагает основные положения доклада, недавно сделанного им в Академии медицины.
Речь шла об эстетических представлениях крупного рогатого скота на протяжении веков и о способах усовершенствования коровьей красоты при помощи хирургического вмешательства.
— «Удаление продолговатого мозга и мозжечка, — уныло бубнил баран, — даст возможность молодой телке танцевать танго и фокстрот».
— Позвольте... — промямлил дю Пюре.
Хват вопросительно взглянул на профессора. И, решив, что хозяин не расслышал, повторил фразу, чеканя каждое слово.
— Я прекрасно всё слышал, — проговорил профессор, — но вы уверены, вы... в самом деле верите во всю эту... историю... с продолговатым мозгом и... фокстротом?
Доктор Хват провел копытцем по лысому черепу и ничего не ответил. Только пожал плечами.
116
Дополнения
Тогда дю Пюре обратил взор на стену, где висели в ряд портреты его предков. От этого зрелища кровь у него немного разогрелась и сил прибавилось настолько, чтобы встать с кресла. Волоча ногу, он дотащился до прихожей и схватил трость с набалдашником из слоновой кости, которой иногда пользовался при переходе от одного дивана к другому. Затем он пошел обратно в кабинет, а ученый баран, погруженный в свои каракули, никакого внимания на его возвращение не обратил.
Усталым, но безупречно рассчитанным движением дю Пюре отвесил три удара тростью по окорокам своего секретаря. И в изнеможении рухнул в кресло.
Доктор Хват взял шляпу и вышел, а оставшийся в одиночестве дю Пюре ощутил странное недомогание, быстро обернувшееся испариной безотчетного ужаса. Его внезапно просветлевший ум рисовал ему отчетливые, но отнюдь не обнадеживающие картины грядущего, которому он только что положил начало своим поступком.
Революция
происшествие стало отправной точкой кардинального переустройства всех правящих сил на земле. Совет свиней захватил власть мирно и бескровно. Всё произошло так просто, что никто почти ничего не заметил. Однажды утром хозяева оказались в комнате своих «доверенных зверей», а те перебрались в их покои. Кое-кто попытался протестовать, но, поскольку борьба им была не по силам, они отступили и примирились с тем, что сознательные и деловитые животные держат их для забавы. Деградируя всё больше и больше, люди потихоньку переселились в свинарники и конуры, которые, кстати, пришлось изрядно подновить.
Это
118
Дополнения
Большой Совет свиней, обладавший всей полнотой власти на территории части Европы, решил, что людей будут разводить на мясо, — по крайней мере некоторые породы, поскольку другие предполагалось использовать как «ломовой люд» для удовлетворения потребностей общества.
Люди не возражали; взбунтоваться против таких условий они не могли и смиренно приняли свой новый удел. Они отправились на кухню в качестве пищи, как, бывало, отправлялись в цирк на мученическую смерть1. Точно зная, что дни их непременно завершатся на вертеле или в кастрюле, многие крепче уверовали в Бога.
Так обстояли дела в те времена. Но если бы какой-нибудь сторонний наблюдатель забрался повыше, чтобы обозреть землю, вряд ли он заметил бы в подлунном мире те или иные перемены. Бразды правления перешли к другой породе, только и всего — бразды остались браздами, да и правили новые господа примерно теми же методами, что и старые.
Восторжествовав, звери предприняли немалые усилия, чтобы приблизиться к людям, которых презирали. Некоторые изрядно в этом преуспели. Не то чтобы они походили на людей, вернее было бы сказать — они походили на отдельных людей, которые в жизни уподобились свиньям.
И на протяжении многих лет при свинском владычестве на земле царил мир.
В ту пору границы между государствами проходили всё еще там, где их провела людская дипломатия после великой войны 1970 года. С приходом к власти животных эти условия оказались неприемлемыми.
Причины великой войны 3000 года по сей день не вполне изучены. Всё это чрезвычайно запутано. В действительности одна милитаристская партия, весьма влиятельная среди свиней центральных республик, решила оправдать свое существование в государственной системе. Объяснения эти не стоит воспринимать буквально. Не подлежит сомнению
П. Мак Орлан. Зверь торжествующий. 4
119
только одно: Совет свиней принял решение о начале войны с кровожадным восторгом.
Армия бывших домашних животных не имела случая поднатореть в военном деле, а боевой задор подчиненных зверей не смог возместить отсутствие традиции.
Война получилась тусклая, неказистая, но всё же это была великая война.
/vurfv г
Т^еликая Свинская война
сразу же после объявления вой- j ны, мужчин и женщин выстроили в ряд, как мулов на бивуаке. Специальные врачи, которых всё еще называли ветеринарами, исполнили свой профессиональный долг, и, по их совету, вышло постановление о всеобщей реквизиции1. Владельцы тягловых и ездовых людей сами назначали цену за свой товар. Северные породы продавались так дорого, что те, кому посчастливилось сбыть их государству, украдкой переглядывались между собой, не в силах сдержать улыбку.
А те, кто некогда завоевал мир и добился соблюдения дисциплины в боевом строю, теперь тащили артиллерийские орудия и несли на своих плечах фокстерьеров.
Для начала
П. Мак Орлан. Зверь торжествующий. 5
121
За агрессивный нрав фокстерьеров определили в разведку. Они не преминули прославиться, и все животные почитали за честь держать хотя бы одного фокстерьера, чтобы, получив увольнительную, прогуляться с ним по бульвару.
Добрый двуногий скакун стоил две тысячи франков. Многие полегли в той войне. Болезни и лишения подорвали людские силы.
Стараясь обеспечить бесперебойное пополнение тягловой силы и провианта, свиньи недурно заботились о своих людях.
— Человек стоит две тысячи франков, — говорил один пожилой боров. — Уморите моих людей — я вам задам перцу, пусть только война кончится.
Бедственное положение рода человеческого во время той войны не оставило равнодушными особо чувствительных свиней, которые основали Общество защиты ломового люда.
Ломовики были самые несчастные из людей, старики, тащившие повозки и не получавшие за это прибавки к корму. Свиньи к ним относились холодно и беспощадно, поэтому тихая старость никого не привлекала. Как только старик переставал приносить пользу, его забивали. Лучшие куски мяса по бросовым ценам скупала беднота. Из стариков, рожденных, с позволения сказать, с ярмом на шее, делали колбасу, которой питались стада кабанов, ставших благодаря гнильесечению говорящими.
Великая Свинская война мало чем отличалась от тех войн, на которых истребляли друг друга люди. Ничего особо оригинального в очередную передрягу свиньи не добавили. Просто благоразумно придерживались идей Наполеона I и кое-кого из полководцев, прославившихся впоследствии.
Правда, толика воображения все-таки понадобилась изобретателям, чтобы пошире распространить заразные болезни и удушающее действие газов.
Короче говоря, пытаясь схорониться от этого тошнотворного кошмара, обе воюющие стороны уходили всё глубже и глубже под землю.
Были выстроены впечатляющие подземные убежища. Барсуки, лисы и даже кролики развели на этом поприще такую бурную деятель¬
122
Дополнения
ность, что и не снилась людям, пережившим несколько сот лет назад войну 1914 года. Бои продолжались под землей, вслепую, на ощупь. Земной шар изрыли, как грецкий орех, а в награду за такое усердие на голову боевитых зверей обрушились неслыханные бедствия. Самые жизнерадостные смиренно твердили: «Угораздило же меня родиться в такое время». Однако все воевали, и люди тоже, по мере возможности, яростно и жестоко, как никогда прежде. Но высоколобые члены Совета полагали, что можно воевать и получше.
В этой братоубийственной войне, где торжествующий зверь шел против зверя, одни свиньи проявляли чудеса героизма, другие — малодушие. В ней пали миллионы поросят, из которых могли бы выйти видные боровы. Потом борьба постепенно сошла на нет, и великая война, как и все войны, завершилась ничем.
Ломовой люд стал уже было склоняться к мысли, что ему как виду суждено исчезнуть с лица земли.
Из упряжек тяжелой и легкой артиллерии уцелели немногие; школа страданий приучила их дружно сетовать на лютые времена и свинское скотство.
Один пристяжной мужик из тех, что подвозили снаряды, шепнул как-то ишачившим вместе с ним доходягам, что пришло время что- нибудь предпринять, дабы побороть отчаяние. По вечерам в стойлах, когда свиньи отправлялись на покой, люди стали петь, и с этими нескладными, но, нельзя не признать, до боли пронзительными песнями к ним вернулась надежда.
Приснопамятная, конюшня
Тусклый
свет фонаря, чьи стекла облепила жирная пыль, освещал горстку ломовых людей, привязанных у своих кормушек. По правде сказать, тяжкий труд, веками достававшийся им в удел, благообразия им не прибавил. Худыми эти люди не были. Просто их внешность видоизменилась под стать новым обязанностям.
Красавец скакун был совсем не тем, кого некогда было принято называть красавцем мужчиной. Люди ходили голыми, и на их плечах и шеях виднелись следы от седла и ошейника. Лежа на земле, теребя рукой привязь, люди ели и по-детски односложно что-то лепетали, делясь впечатлениями о боевых буднях. Нестерпимое уныние давило на плечи. Из каморки доносился омерзительный храп сторожевого порося.
124
Дополнения
В ноздри бил кислый запах конюшни и хлева. Прижимаясь к матери, гулил детеныш из последнего помета, мать же заботливо его вылизывала. Рядом с ними мужчина — вероятно, отец, — упершись подбородком в сомкнутые руки, неотрывно глядел на стену, где подрагивало золотистое пятно от фонаря.
Из глубины конюшни донесся плач другого детеныша: «Уа-уа-уа...»
Вдруг, не отрывая взгляда от стены, человек взмахнул рукой; ребенок смолк; послышалось перешептывание. Глаза всех тяжеловозов в ожидании обратились на товарища: они знали, чего ждут.
Человек вполголоса нескладно запел, и все обитатели старой конюшни 10-го свинского артиллерийского полка увидели, как помещение наполняет странная лучезарная дымка, объяснения которой не было, ибо все позабыли стародавние традиции.
Вот та песня, что пели люди с начала войны, когда оставались наедине со своей неизбывной болью:
— Завыванье кнута погоняет нас всех беспощадно,
Наши спины стегает свинячий сержант сгоряча,
Чтобы было отлынивать нам неповадно,
Чтобы все на работу плелись не ропща.
0-ля\
Набивайте живот; когда ешь, жизнь становится слаще!
Будет день — мы вернем себе пышность нарядов былых И наденем подтяжки с застежкой блестящей,
Как когда-то носили отцы и деды.
0-ли\
Закусим удила, нас седлают пренаглые евины, Поклянемся же, братья, отмстить наконец за себя И свинцовою пулей прикончить скотину,
Как славные предки учили не зря.
0-ля-ля\
П, Мак Орлан. Зверь торжествующий. 6
125
Эта кем-то бережно записанная и сохраненная песня отнюдь не была чудом гармонии, но в своей безыскусной свирепости она превосходно отражала умонастроения эпохи, если принять во внимание, чем был некогда род человеческий.
О ее авторе — или авторах — ничего не известно. Вероятно, их было несколько, ибо в те времена в бедной голове одного человека ни за что не нашлось бы достаточно слов на три куплета подобной песенки.
Пение плыло, как шепот. Мать учила ему свое дитя. Но никто в конюшне не мог ничего, абсолютно ничего рассказать об этом чудесном, теряющемся в веках прошлом.
•к к *
На другом конце города, в богатом свином квартале жил старый бо- ров-эрудиг, чьи труды по филологии и исключительно чувствительная натура снискали ему в узких кругах славу большого оригинала. Этот евин, любивший приземленные, словно ползучие, стихи, узнал о людской песне, когда один из слуг принес ему листок с ее словами.
Текст показался ему достойным внимания. Читая, он погружался в прошлое, в эту чудную цивилизацию, память о которой люди утратили. И ему было обидно за человека.
Как случается порой с умами, чересчур восприимчивыми ко всему яркому и нетривиальному, боров затосковал по той необычайно колоритной эпохе, хотя ее возвращение неминуемо пошло бы ему во вред. Умиляясь тому, сколь живописны страдания людские, он готов был пожалеть, что для него и его сородичей они остались в далеком прошлом. «Какой замечательный текст!» — думал он.
В одной гостиной, где собиралось избранное общество, еще умудрявшееся найти себе усладу, невзирая на военное время, боров-филолог исполнил людскую песню.
Песня понравилась.
— Восхитительно! Восхитительно! — повизгивали слушатели.
Певец истолковал и прокомментировал каждый куплет. В его рассказе оживала далекая полузабытая эпоха, и самые невежественные
126
Дополнения
свиньи с изумлением узнали о том, что когда-то давно существовала на земле погибшая ныне цивилизация, мало чем отличающаяся от их собственной. Сказать по правде, о лучших временах человеческого интеллекта они все-таки слышали, но в их сознании эти обрывочные сведения путались с рассказами о походе Ясона за золотым руном1.
Лекция ученого борова имела широкий резонанс. Вопросу посвящались целые монографии. И всё же заведенному порядку вещей ничто бы не угрожало, если бы один хряк, еще более ученый и более ленивый, чем все остальные, не уделил сугубого внимания творцам этой песни.
В один прекрасный вечер этот евин взял фонарь и отправился в конюшни свиной артиллерии искать человека2.
Он вознамерился воспитать и усовершенствовать эту низшую расу.
7
Т$сё как было
боров имел заслуги перед государством и славился прогрессивными взглядами. Он на лету подхватывал новейшие идеи и тут же принимался всячески отстаивать их на благо общества.
Так вот, сей достойный евин приобрел себе человека посмышленее, привел его домой, посадил в кабинет и стал учить всему, что знал сам, с самого начала.
Человек быстро продвигался. И хряк потирал руки. Раз в неделю он приглашал друзей и демонстрировал им успехи своего подопечного, уже прозванного «человеком ученым». Хозяина всячески подбивали пристроить человека на работу в цирк, что сулило невероятную прибыль.
Почтенный боров на подобные уговоры не поддавался. У него были свои виды на ученика, и размениваться он не хотел.
128
Дополнения
С тех пор как завелся у него человек-секретарь, товарищи по свинячьему клубу стали замечать, что их друг предается неге восхитительно упорядоченной лени. В ответ на их недоуменные вопросы он, не таясь, признался, что перекладывает на секретаря все тяготы умственных занятий.
— Но ведь, клянусь Юпитером, — сказал один из друзей, — мы же используем «ломовой люд», так почему бы нам не завести «доверенный люд»? Просто вопрос дрессировки. Пожалуй, стоит этим заняться.
"к ic "к
Через двадцать пять лет после зарождения этой светлой мысли свиньи вернулись в свои свинарники, а люди снова заняли место у кормила власти. Произошло это тихо и незаметно, как течет сама жизнь. Свиньи снова пошли на колбасу и мало-помалу утратили дар речи. А когда в 4... году разразилась пресловутая война, нанесшая непоправимый урон человечеству и т. д., звери утратили все следы былой учености. Им даже не осталось простого человеческого утешения — спеть в конюшнях артиллерийского полка мстительную песенку, литературных достоинств которой хватило бы ровно на то, чтобы не забыть прошлое.
Октябрь 1919 г.
TTbtfL МлЮ Oi
НЕГР ЛЕОНАРД И МЭТР
ИОГАНН МЮЛЛЕН
Габриэлю Дараньесу1, художнику и другу, в знак глубокой привязанности
А председательствовали на этих шабашах два достопочтенных демона: огромный негр по имени мэтр Леонард и маленький демон, именуемый мэтром Иоганном Мюлленом2.
Пьер де Ланкр. «О непостоянстве злых ангелов и демонов».
Книга Я, рассуждение 143
рыжая служанка накрывает на стол. Ее имя Катье Ван Мёлен. Она фламандка из Кнокке1, но я всегда зову ее лодочницей, так как она стояла у штурвала биландеров2, курсировавших между Слёйсом3 и Брюгге4 и по каналам, идущим до самого Рейна. Когда один друг из Антверпена5 отрекомендовал мне ее как девушку милую и работящую, я сразу же написал родителям Катье, что готов взять их дочь в услужение. Мне не терпелось взглянуть на эту красавицу фламандку с томными очами, гибким станом и острым языком. Она приехала; весь ее нехитрый багаж составлял чемоданчик, обитый козлиной кожей. Ее рыжая с медным отливом шевелюра была настоящим сокровищем. Катье всё время смеялась, демонстрируя здоровые зубы. Я сразу поверил, что теперь, когда у меня в доме будет жить хорошенькая девица, все разносчики станут обходительнее, а обходительность разносчикуу — что свежий румянец барышне, — украшение. Появление рыжей красавицы в моем трехкомнатном жилище, обставленном мебелью из мексиканского дуба, было вполне под стать медной посуде, старинным гравюрам и современному охотничьему оружию.
134
Дополнения
Работала моя «лодочница» самозабвенно. Ползая на четвереньках, как зверюшка, отклячив зад, плотно обтянутый тонкой тканью чуть коротковатой юбчонки, вооружившись щеткой, она до блеска терла мебель в самых невообразимых уголках.
Однажды вечером она, с позволения сказать, стала моей любовницей, то есть посвятила служению мне несколько ночных часов. На следующее утро она поднялась спозаранку и, как положено, приступила к исполнению своих обязанностей. О, Катье Ван Мёлен была девушкой добросовестной. Эта прелестная особа знала жизнь и понимала ее слоистую структуру. Она принадлежала к слою, расположенному ниже моего. Предоставляя в мое распоряжение свои самые сокровенные прелести, она отчасти становилась мне равной и тем самым получала возможность проникнуть в слой повыше. За это она была благодарна, и для нее Лувр, мое кожаное кресло и моя любовь равным образом воплощали некий идеал, который иной раз даже можно было потрогать пальцем.
* * 1е
Когда, после войны6, я вернулся в свое небольшое имение в Круа- Кошар, в ста километрах от Парижа, я взял с собой Катье и водрузил ее между мною, деревней и тысячью гнусных повседневных забот, связанных с необходимым для нашей жизни пропитанием.
Любовь к деньгам вознеслась превыше всех традиций, которые могли бы составить общественную мораль. «Лодочница» Катье защищала меня от алчности черни. Эпоха была настолько смутной, что вполне можно было себе представить, как в недалеком будущем применение оружия станет необходимым средством в деловых отношениях между гражданами.
У себя в доме, выходившем на романтическую речку, я вел здоровый образ жизни, деля время между работой в газетах и охотой с двумя таксами, Нуни и Каспером.
Катье пела высоким, хрипловатым голосом, на редкость фальшиво. Это не было неприятно. Утробный голос моей служанки, сам не знаю почему, давал мне сполна насладиться ощущением уюта.
77. Мак Орлан. Негр Леонард и мэтр Иоганн Мюллен. 1
135
Мои таксы не слишком жаловали Катье. Нуни нагло наблюдал за нею издалека. Ждал, когда она отойдет подальше от двери, чтобы стрелой прошмыгнуть внутрь. Когда она звала Каспера, тот залезал под шкаф, впрочем, не нагибаясь.
Катье кормила хлебом птиц. Я не раз замечал, что собаки не одобряют этого: птицы вызывали у них глубокое отвращение.
Между тем служанка моя животных не обижала. Она умудрялась заискивать перед таксами: звала их грудным голосом, придумывая им всякие дурацкие, но милые детские клички.
А Нуни и Каспер в ответ рычали. У меня всегда были собаки, и я могу с уверенностью сказать, что их неприязнь не бывает безосновательна. Сначала я было подумал, что фламандка, по примеру некоторых гостей моего круга, навещавших меня в Круа-Кошар, исподтишка пинает собак. Застать ее с поличным мне так и не довелось, и после нескольких недель неутомимой слежки я вынужден был признать, что таксы невзлюбили служанку по причинам таинственного свойства.
Она и сама жаловалась на враждебность псов. Это не мешало ей распевать, отскребая кастрюли. Когда же эта восхитительная особа становилась для меня женщиной, то она оживлялась, причем самым неожиданным образом. Ее мозг жил сложной, напряженной жизнью. Эта деревенская прелестница одной лишь силой воображения воспроизводила самые знаменитые и самые сокровенные жесты из кое-каких сотадических стихов7. И подобно тому как Паскаль в двенадцать лет совершенно самостоятельно придумал учебник по Евклидовой геометрии8, «лодочница» моя изобретала «Философию в будуаре»9, правда, без малейшей пользы для человечества.
* * *
В интимной обстановке Катье вела себя скромно и непостижимо. Жеманная прелесть ее манеры изъясняться попахивала одновременно латынью отца Синистрари д’Амено10 и костром Клода Ле Пти11. Мозг этой молодой и здоровой девицы странным образом напоминал старый
136
Дополнения
книжный шкаф, полки которого уставлены внушающими беспокойство томами, без названия и без имени автора.
Но рассветало, и стоило пропеть петуху, как Катье больше ничего не знала. Ее рыжая шевелюра полыхала в лучах солнца. Она больше не умела ничего, кроме как драить медную посуду и петь по-фламандски, как в Брюгге, всякую сентиментальную чепуху.
Она говорила:
— Я щетка для чистки12, и мать моя была щеткой для чистки. Отец мой умер с перепою, а моя младшая сестренка Хендрикье была так хороша собой, что мать ни за что не хотела оставлять ее наедине с мужчинами. Сестренка ходила в школу к монашкам. Она учила всё, что задавали, а потихоньку читала книжки, которые давали ей отдыхающие, — любовные романы, понятное дело. Я никогда не читала. А сестра читала всё. Однажды, ей было двенадцать, пьяный солдат изнасиловал ее в придорожной канаве. И сразу же пожалел о содеянном. Рвал на себе волосы клочьями и мялся с ноги на ногу. А слегка побледневшая Хендрикье смотрела на него, присев на бугорок. Она и не думала бежать. И не кричала... И не плакала.
— Странная девочка, — сказал я для поддержания разговора.
— Это что! Знали бы вы, сударь, что она ответила солдату.
— Сгораю от любопытства, Катье.
— Так вот, видя, как солдат, обезумев от отчаяния, бьет себя по коленям, Хендрикье сказала ему своим тоненьким голоском: «Вы же теперь будете меня презирать». Вот такая у меня младшая сестренка, сударь; сейчас ей семнадцать. Она машинистка в Амстердаме. Утонченная барышня. Люди останавливаются перед окнами банка, чтобы на нее поглазеть. Она слишком хороша и слишком молода, чтобы иметь автомобиль, у молодых и красивых женщин редко бывает автомобиль, но, вот увидите, после сорока у нее будет свое авто. Торопиться ведь ни к чему, у каждого возраста свои радости.
Вечером, после нескольких часов развращающей неги, Катье, устремив взор своих темных глаз в потолок, где подрагивал ореол от лампы, сказала:
П. Мак Орлан. Негр Леонард и мэтр Иоганн Мюллен. 1
137
— Вот пропоет петух, и я больше не голая важная дама... В вашей постели, голая, я — дама... А поутру, как пропоет петух, я снова просто служанка. Боюсь, как роскошно меня ни одевай, какими ослепительными жемчугами ни украшай, днем я всегда буду просто служанкой, а всё потому, что пропел петух. А петух поет каждое утро...
— Зарежьте петуха, Катье.
— Вы говорите как дитя, мой бедный друг.
•ч
\ J Отта 'о от Юбера, фермера из Гренадьеры1, что на опуш- jl О 111\ID ке Воробьиного леса обосновался фазан со своей курочкой, я, едва рассвело, взял Каспера и отправился в путь. Было холодно, мелкий дождь бил по лицу и бусинками поблескивал на хорошо смазанных стволах моего ружья.
Чтобы добраться до Воробьиного леса, нам с собакой пришлось вскарабкаться на холм. Идти было трудно, и, несмотря на гетры, влага коварно проникала внутрь. Каспер семенил, уткнувшись носом в землю и вынюхивая след; мои шипованные башмаки оскальзывались на осыпающейся гальке. Три или четыре раза помянул я имя Господа всуе и пожалел, что ушел, не разбудив Катье, — она бы подала мне чашку горячего кофе и гренки с маслом.
В общем, надо было всего-то добраться до Воробьиного леса, пойти вдоль северной опушки и предоставить Касперу разбираться с фазанами. Дождь сильно мешал псу, но он, однако, принюхивался так старательно, что я не терял надежды. Стуча зубами, я дошел до Воробьиного леса, уже совсем облетевшего под студеным натиском пер¬
П. Мак Орлан. Негр Леонард и мэтр Иоганн Мюллен. 2
139
вых октябрьских ветров. Каспер возился под ветками деревьев. Два или три раза он залаял, подняв зайца, а потом вдруг устремился вперед, подпрыгивая на своих коротеньких лапках, и замер под елкой. Я ждал. Первой очень шумно и неуклюже вылетела курочка. Ствол моего ружья следовал за красавицей птицей до тех пор, пока она не полетела горизонтально. Тогда дуло оторвалось от золотистой мишени и стало опережать ее движение. В первый раз я пальнул в серую хмарь неба, перед птицей, и та кубарем полетела вниз. Вторым выстрелом я добил ее уже у самой земли. Каспер, задрав хвост, кинулся к мертвой птице и стал ее облизывать. Я не мог скрыть волнения. Дрожащими руками я сунул дичь в сумку. Дождь усилился, горизонт затянуло. Каспер прыгал у моих ног, принюхиваясь к фазану. Я же, довольный, насколько это вообще возможно в наши дни, раскурил трубку и зашел под деревья.
— Ну, теперь пошли обратно, домой, — сказал я Касперу.
Такса радостно подскочила, принюхалась и уверенно выбрала тропинку, пересекающую Воробьиный лес в самом широком месте.
Взяв ружье под мышку, я пошел за псом. Ни он, ни я не охотились, поскольку дичи в этом лесу обычно бывает мало. Из-под нижних ветвей то и дело раздавался стрекот соек, не спускавших с меня настороженных глаз. Дождь навевал тоску. И потом, у меня ведь была фазанья курочка в сумке.
— О господи, Каспер, ко мне!
Но собака уже кинулась в заросли. По тому, как она лаяла, я сразу понял, что дичь не из тех, что обычно встречаются в Воробьином лесу.
Впрочем, вообразить, как будет выглядеть зверь, которого мы спугнули, я так и не успел. Среди кустов возникла полуобнаженная женская фигура. Медный цвет волос сообщал сцене в лесу, обильно умытом дождем, нечто знакомое и вместе с тем неуловимое.
Женщина, чье одеяние составляли плохонькая нижняя юбчонка и рубашка, оставлявшая открытой восхитительно округлую грудь, дрожала, втянув голову в плечи.
Это прелестное, театральное зрелище заставило меня неприязненно передернуться. Рыжеволосая девица, нежданно возникшая в такой
140
Дополнения
час и в таком одеянии, шагнула мне навстречу. Я узнал Катье и на несколько секунд утратил дар речи, а также способность осознавать происходящее.
Девушка оторопело уставилась на меня.
— Право, сударь, — повторяла она.
Каспер, узнав ее, вилял хвостом и скреб землю задними лапами.
— Что вы здесь делаете, Катье... и в таком виде... вы с ума сошли?
Она не ответила и разрыдалась. Зубы ее стучали, челюсть свело. Босые ноги, заляпанные грязью, были расцарапаны, шла кровь.
— Вы можете объяснить, что вы здесь делаете? И как я поведу вас домой в таком наряде? Уму непостижимо! — Я накинул ей на плечи свой плащ. — Пошли скорее домой. Вы же понимаете, я не могу допустить, чтобы вы шествовали в таком виде на глазах у всей деревни.
Ни слова не сказав, Катье послушно последовала за мной; при каждом шаге она постанывала. Краем глаза я наблюдал за ней, и вдруг мне пришло в голову, что она пьяна.
— Ну-ка дыхни, — крикнул я, резко обернувшись к ней.
Она открыла рот, показав молодые зубы плотоядного зверя. Ее дыхание было чистым.
Когда до околицы оставалось несколько метров, я спрятал Катье за изгородью, а сам сходил домой за подобающей одеждой.
Возвращение наше шуму не наделало. Всё это занятное приключение свершилось быстро и почти безмолвно. Однако я нуждался в объяснениях.
Пса&сс, 3
- Ну подумайте рила моя фламандка,
растягивая слова, —
стала бы я шастать по ночам ради грязных деревенских оборванцев? Да и потом, я бы уж тогда юбку надела, плащ захватила, и вообще, хозяин, с чего бы мне соваться в Воробьиный лес в такую погоду? — Она расхохоталась и добавила: — Вы что, ревнуете?
От бешенства у меня череп жгло изнутри.
— Суть в том, Катье, — заорал я, — что мне здесь этого всего не надо. Если ты сошла с ума, значит, тебе надо лечиться в клинике или черт знает где.
— Вы, месье, прямо в корень смотрите, — отозвалась Катье, принимая свое ночное обличье.
Она села на стул и стала прикладывать к глазам платок.
— С самого детства ничего не могу с этим поделать, — хныкала она. Я шагал взад и вперед по большой комнате с кафельным полом, служившей одновременно столовой и кухней; в очаге отблески пламени играли на стенках кое-как закрепленного медного котелка.
142
Дополнения
Пять дней прошло с момента происшествия в Воробьином лесу, а я так и не получил никаких разъяснений относительно поведения моей служанки.
Самое удивительное, что ни долгая прогулка под дождем, ни ночь, которую она, полураздетая, возможно, провела под открытым небом, не возымели для нее никаких последствий.
Предприняв последнюю попытку выяснить правду, я вынужден был заключить, что моя фламандка впала той ночью в сомнамбулизм. Радости мне подобное объяснение не доставило. Неожиданности я люблю только на охоте, в виде какой-нибудь редкой особи, а тут я сразу же представил, как скажется на моем моральном облике присутствие раскрасавицы девицы, которая, крадучись как кошка, бродит по ночам вокруг дома да вдобавок в чем мать родила.
* * *
Однажды в среду вечером, едва начало темнеть, внезапно набежали тучи. Восхитительно тревожное небо являло моему взору величественные пейзажи — правда, не столько живописного, сколько литературного свойства. Поначалу мне показалось, что это романтическое небо из «Монаха» Льюиса1 плохо сочетается с живущими под ним людьми. Надвигающаяся гроза в сравнении с жалкой и вздорной деревушкой Круа-Кошар напоминала мне декорации «Фауста», намалеванные на стенах сельской забегаловки. Такого мнения был я о небесах. Отужинав, я сидел у окна, и дух мой естественно и беспрепятственно витал в вышине, вместе с облаками, которые, казалось, устремились все в одну сторону и толпились в ожидании грядущей услады.
Воздушный пейзаж, весь до последней мелочи, плыл в направлении Воробьиного леса. Несколько воронов, увлекаемые ходом облаков, издавали протяжные крики, похожие на звук сдувающейся волынки.
Это не было бегством, не было и погоней; просто неистовство толп сдавалось перед притягательной силой обольстительного зрелища.
П. Мак Орлан. Негр Леонард и мэтр Иоганн Мюллен. 3
143
Дым от моей сигареты потянуло туда же, и взор мой обратился к Воробьиному лесу, вырисовывавшемуся вдалеке темной, умиротворенной массой. В деревне — ни звука, только частые голоса печальных жабьих флейт и однообразный зов орланов, кружащих над тополиным строем в поисках добычи.
Опершись на подоконник, я развлекал себя тем, что плевал, целясь в уголок конверта, сверкавший белизной во мраке дверного проема, словно осколок фаянса. Пока я пристреливался, уже ощущая сухость во рту, мысли мои приняли весьма своеобразный оборот. Я закрыл окно. Я хотел, чтобы Катье была рядом. Запах роскошных рыжих волос щекотал мне ноздри, и я решил навестить служанку-любовницу, в ее светлой комнатке на третьем этаже моего дома рядом с дверью, ведущей на чердак, — туда выносили разные ненужные вещи, новая встреча с которыми когда-нибудь, как я предвкушал, обдаст меня волной омолаживающей радости.
Мне не составило бы труда войти в комнату Катье по-хозяйски, без стука. И всё же всякий раз, переступая порог, я чувствовал, как ёкает сердце. Посему в этот вечер я вынужден был остановиться перед дверью в крайней нерешительности, потихоньку переводя дыхание. Прильнув ухом к двери, я услышал, как она босиком ходит взад и вперед по комнате. И бормочет какие-то слова нараспев, как молитву. Мне захотелось заглянуть в замочную скважину, и я не стал противиться соблазну.
Посреди комнаты при свете единственной свечи, озарявшей предметы неверным сиянием, моему взору в молочной наготе, с высоко забранными рыжими волосами, предстала Катье, самозабвенно склоненная над туалетным столиком.
Она сидела ко мне спиной, и круп ее сиял, как холодное светило. Метла, прислоненная к столику подле нее, вкупе с освещением, нагой девицей и окном, распахнутым в темноту, являла собой классический атрибут шабаша.
Сцена напомнила мне одну из гравюр Ропса2, одновременно соблазнительную и по-детски наивную.
144
Дополнения
Катье читала по маленькой растрепанной книжке и втирала себе в бедра, ягодицы и бока мазь, от которой тело светилось словно драгоценный камень.
Я открыл дверь, сам не осознавая, что делаю.
На шум фламандка обернулась и в ужасе уставилась мне в глаза. Два или три раза губы ее шевельнулись, но слов так и не последовало. Секунд пять-шесть она выглядела безобразно и вульгарно, потом черты расслабились. На лице наметилась милая улыбка.
— Как вы меня напугали! — промолвила она.
Грудь ее вздымалась. Она бросилась на кровать и ногой отшвырнула метлу в угол комнаты.
— Что всё это значит, малышка Катье?
Я исследовал баночку с мазью — ничем знакомым не пахло. Раскрытая книга, лежавшая на столе рядом со свечой, была написана по- немецки. Книжонка на дешевой бумаге с плохой печатью, страницы засалены жирными пальцами.
Катье тем временем села на кровати. Мое замешательство явно доставляло ей удовольствие. Она зевнула и почесалась, взлохматив волосы.
— Вы сумасшедшая, Катье. Я ведь могу сопоставить эту сцену с происшествием в Воробьином лесу.
Говоря, я чувствовал, сколь беспомощны и никчемны мои слова. И девушка тоже, так как продолжала улыбаться.
— Вы глупы, хозяин, — сказала она.
Потом встала и, не стесняясь своей наготы, принялась раскачиваться передо мной, напевая:
— Когда была еще девчонкой,
Я наблюдала всё вокруг,
Сколь ни грозила мать мне пальцем,
Но любопытство верх брало.
В двенадцать мне вскружил головку Малютка боппардский3 слепой.
П. Мак Орлан. Негр Леонард и мэтр Иоганн Мюллен. 3
145
Играл слепой на тамбурине, Заслышав, все девчонки враз, Собравшись в стайки, начинали Игривый, скользкий разговор. Сердца всех нас пленил любовью Малютка боппардский слепой. Меня учил он днем и ночью,
Что я могу и что я есть.
Она повторила «что я могу и что я есть» и, крепко схватив меня за плечи, поцеловала в губы с таким пылом, как не позволяла себе никогда прежде, разве что с моей подачи.
* * *
Когда я проснулся в ее постели, ее рядом уже не было. Я с трудом открыл глаза. Свеча догорела до конца; луч лунного света освещал комнату, где я находился в одиночестве.
Я пролежал в этой атмосфере несколько мгновений, прежде чем смог осознать, кто я такой.
Я встал. Первым делом я отворил дверь и позвал Катье. Мой голос прозвучал в пустом доме, не получив отклика. Только тогда, оглядевшись, я заметил, что содержимое баночки с мазью уменьшилось наполовину, а метла исчезла.
Окно тоже было приоткрыто. Будильник остановился на полуночи. Слышался лай разбуженных моими окликами такс.
Я спустился открыть им дверь. Всё было тихо. Беспокойство, на мой взгляд необоснованное, давило мне на плечи. Я брел с ощущением, что всё вокруг меня зыбко, переменчиво и взрывоопасно. Кликнув собак, я вернулся в свою комнату и закрылся там, оставив мысль дожидаться возвращения Катье.
Не раздеваясь, я лег на кровать и закурил.
146
Дополнения
Среди моих книг было несколько трудов знаменитых демонологов. Подобно господину Уфлю, несуразному герою каббалистического романа4, я раскрыл «Демономанию» Бодена5. Это пособие для начинающих, предназначенное бесноватым средней руки. Труд отнюдь не выглядит неправдоподобным и подкупает прежде всего своей честностью. Служанка моя этой книги не знала. Склонность к меланхолии и блужданиям побуждала ее отправляться на шабаш под воздействием сил, мне не известных, но, подозреваю, имеющих деревенское происхождение.
Мне потребовалось изрядное усилие, чтобы перенестись во времени и при этом не утратить тесную связь между духом наших дней, деревней Круа-Кошар, моей служанкой, мною самим и Дьяволом, как его представляли в году этак, скажем, 1600-м.
Единственное, что делает жизнь возможной, а главное — постижимой, — это прием переложения, когда те или иные вещи, заслуживающие интереса, наделяются чувствами и побуждениями, которые были внушены людьми или вещами, этих чувств и побуждений мало достойными.
Моя любовь к Кагье сообщала мне некоторую долю чувственности, которую я мог направить на предмет более пленительный, чем рыжеволосая красавица. Чуя, что есть опасность растратить себя понапрасну в романах, замешанных на психологии любви или эротике в рамках законности, я берег эту силу, порожденную Катье, чтобы прибегнуть к ней при случае, когда предмет будет того стоить.
Рассуждая таким образом, я легко пришел к тому, чтобы воспринять шабаш, Дьявола и компанию с определенной симпатией, как профессиональный авантюрист, любящий приключение ради приключения и не заботящийся о достижении цели.
Итак, остаток ночи я провел, оттачивая концепцию сатанизма, применимого к требованиям современной жизни.
При ближайшем рассмотрении я пришел к заключению, что в этом нет ничего невозможного; ведь наблюдал же я, как вертят столы6, и знал, что при некоторой душевной экзальтации образы, сложив¬
77. Мак Орлан. Негр Леонард и мэтр Иоганн Мюллен. 3
147
шиеся, например, в мозгу у сумасшедших, оказываются для них вопло- тимыми в реальности — правда, только для них одних.
Какой-нибудь заурядный псих легко может вообразить себя Наполеоном и командовать армиями, для него видимыми, а следовательно —реальными.
Душевное состояние тех, кто поклоняется Дьяволу, в силу самого этого поклонения, вполне сопоставимо с состоянием безумца императора. И оно дает им возможность потрогать пальцем самые далекие от реальности образы из книг по демонологии.
«Моя служанка — это как раз такой случай, — говорил я себе. — Она переносится туда, где обосновался Сатана со свитой, при помощи ритуала, бережно хранимого традицией. С тем же успехом она могла бы пойти, скажем, в кинематограф или в театр — еще две иллюзии реальности для тех, кому недостает воображения. Она как человек, который может сам выбрать свое безумие, вышколить его и покидать в определенные часы, чтобы вернуться к нормальному образу жизни».
Я задумался о той странной истории про доктора Джекилла и его двойника, пресловутого Хайда7. Катье тоже раздваивалась, но только рассудком. Так, в определенные часы, может быть, не без помощи наркотика, ее одолевало своего рода безумие, позволявшее ей проникать в царство образов, рисовать которые дозволительно кому угодно. Возвращаясь в свое нормальное состояние, она действовала как все, — вернее, как женщина, склонная к извращению скорее интеллектуальному, чем физическому. В общем, женщина она была исключительная, но всё же принадлежащая к весьма многочисленной категории.
Воображение от реальности отделяет лишь щелчок открывающейся двери да порог, который надо переступить. Катье порог переступила.
Сон одолел меня на рассвете — видимо, как раз тогда, когда я пытался собрать воедино обрывки тайны, приютившейся у меня в доме.
148
Дополнения
Проснулся я часов в десять, было совсем светло. И услышал, как по кухне ходит взад и вперед Катье. Она напевала, но не о слепом боппардском малютке, а какую-то народную немецкую песенку, вроде:
— Что за счастье, дорогая,
Что за счастье быть с тобой...8
Cr\rp/^vp/^v дня Катье стала для меня важной особой. J 1 V/ -I W Чем именно привлекала меня эта важность, я ей сообщать не стал.
Я воспринимал ее как плод воображения, извращенного чтением опасных книг, как детище прихотливой фантазии какого-нибудь неграмотного художника-самоучки. Я бы что угодно отдал за то, чтобы отец Катье работал палачом в большом немецком городе, непременно украшенном готическим собором и гетто. Для местного колорита, разумеется. Но всё сразу не получишь. Будет с меня и того, что мне служит верой и правдой красавица девица, раз в неделю ведьма, порочная, как малолетка, и умеющая стряпать не хуже домовитой испанки.
В этом состоянии духа охота стала моим спасением и дала возможность не нарушить равновесие между воображением и реальностью. А ведь это — равно как и моя рыжеволосая прелестница — могло прямиком привести меня в сумасшедший дом, и, возможно, навсегда.
Перед тем как решиться на задуманную авантюру, я стал тщательно следить за собой, приучаясь держать под контролем все порожде¬
150
Дополнения
ния моего интеллекта в соответствии с действующими в нашем обществе правилами воображения.
На охоте моя рука никогда не дрожала; ружье стреляло естественно, словно выстрел был естественным продолжением моей мысли. Никогда между прицелом и мишенью не возникал образ Катье.
Когда я общался с Катье по-дружески, я не просил ее петь для меня дифирамбы демонам. Правда, сдается мне, они каким-то образом участвовали в наших меркантильных отношениях с крестьянами.
Порою, однако, я испытывал немалое удовлетворение от того, что сжимал в объятиях девицу, которая могла быть великолепным сукку- бом1 и придавать нашим ласкам серный привкус святотатства.
В общем, я любил эту девушку, как коллекционер любит «недавно обнаруженные» гравюры, являющие собой библиографическую редкость. Я никогда до конца не верил в потусторонность Катье. И мне претило воспринимать ее как воплощение Сатаны, пусть даже в пленительно-сладострастном обличил.
Несмотря на все усилия, мне так и не удалось застать момент отправления Катье на шабаш ведьм. С видом знатока я присутствовал при всех приготовлениях. Красавица сама натиралась кремом, который покупала в баночках у одного всеми уважаемого целителя. Состава мази она не знала и не проявляла ни малейшего любопытства на сей счет. Натирала она и свое помело — новую метлу, предоставленную в полное распоряжение моей ведьмочки2. Растянувшись на ее кровати, я, покуривая, наблюдал, как она хлопочет. Потом меня одолевал сон, а когда я просыпался, всегда поздним утром, Катье уже снова пребывала в роли служанки — служанки, которая носит прозрачные шелковые чулки.
Однажды утром, завтракая на кухне, я сказал Катье:
— Катье, если вы меня возьмете, я отправлюсь сегодня вместе с вами на шабаш.
— Ах, сударь!
— Я подумал. Вы возьмете меня с собой на второй метле.
— Ой, сударь, видите, я плачу, Мессир будет так рад.
П. Мак Орлан. Негр Леонард и мэтр Иоганн Мюллен. 4
151
Катье плакала от умиления, наподобие того как некоторые читают вслух слова, приводящие их в волнение. Слово «Мессир» возымело на нее такое действие.
Мы вдвоем приготовили всё необходимое для полета.
Дело было в ночь со среды на четверг. Затянувшие небо облака облегчали предприятие, если верить моей наставнице.
Скинув с себя одежду, я меланхолично грыз ногти, сидя на единственном стуле, как человек, ожидающий, когда его вызовут на военную медкомиссию.
Безупречная классичность всей этой истории в некоторой степени была для меня залогом конфиденциальности. И всё же мысль о путешествии в таком наряде немало меня тревожила.
— Вы можете одеться, — сказала Катье, видя, что я не спешу прикрыть наготу, — только прошу вас, поторопитесь. Если из-за вас я пропущу шабаш, Мессир наложит на меня штраф.
Я снова надел свой охотничий костюм — куртку, штаны и чулки. Тогда Катье подошла к камину и велела мне оседлать метлу, прикрыв правый глаз. Сама она, правда, продолжала смотреть в оба.
О путешествии через облака не могу сказать ничего. Мгновение, когда ты отправляешься на шабаш, невозможно уловить, точно так же как нельзя предвидеть, в какой миг ты заснешь. Я так ждал, что будет со мной происходить перед тем, как я поднимусь в воздух, а в результате я внезапно, так и не осознав, что заснул, очутился на перекрестке, где трава показалась мне выжженной, насколько можно судить в темноте. С трудом, ценой неимоверных усилий я попытался определить, где нахожусь.
Передо мной на обочине одной из лесных дорог, образовывавших перекресток, лежал на земле крест. В воздухе ощущался свежий запах пруда.
Лес вокруг меня был безмолвен. На фоне неба вырисовывался высокий силуэт обнаженной девушки — Катье. Ее присутствие не развеяло смутное чувство тревоги, а также, если быть честным, явственное ощущение, что я играю весьма сомнительную роль в сцене наивного разврата.
152
Дополнения
Вдруг Катье замахала руками и зачем-то нагнулась. Я увидел ребенка в черном фартуке, который отвесил ей низкий поклон и проговорил звонким школярским голосом:
— Здравствуйте, мадемуазель!
— Ступай! Ступай туда, гаденыш! — крикнула в ответ Катье.
Мальчик пошел в указанном направлении и остановился у подножия большого сухого дерева.
И тогда я услышал, как меж ветвей что-то тяжело падает наземь прямо вокруг меня во мраке лесной чащи. Казалось, сверху дождем посыпались гигантские птицы. Благоговейно приглушенный провинциальный говор нарушил сотое безмолвие темноты, и сумрак заполонили тени, как это бывает в церквах. Я силился получше разглядеть отличительные признаки этой нежданной толпы, как вдруг перекресток озарило свечение — что-то вроде искусственного рассвета, — и моя служанка распростерлась ниц.
В этот момент я увидел Мессира в обличил огромного многорогого козла, один же рог сиял во лбу, освещая собравшихся. Лукавый восседал на черном престоле. Получше приглядеться, это был ни козел, ни человек: от силы его можно было принять за черную борзую или белого козла. При нем был невообразимо длинный хвост, которым он прикрывал свою непотребную наготу.
Никаким ужасом от него не веяло, он был похож на старого любителя абсента, потерявшего вес в богемных кругах.
Мое внимание привлекли стоящие рядом с ним два человека, или, вернее, два демона в человеческом обличил. От этого сходства с людьми они выглядели более устрашающе, хотя всё же не настолько, как Катье, — ее совершенная красота в этом антураже благодаря своеобразию атмосферы воплощала в себе сокровенную эротику исповедален и пыточных камер.
Два приспешника печального козла не походили друг на друга. Один, гигантского роста, одетый, как палач, в красное, был чернокожий; другой, маленький и упитанный, принадлежал к белой расе. На нем был нарядный камзол из коричневого камлота3, как носили бур¬
П. Мак Орлан. Негр Леонард и мэтр Иоганн Мюллен. 4
153
жуа при Людовике XV, и жилет из белой тафты с потрепанной вышивкой. Сзади его короткие ножки едва выглядывали из-под камзола. Он напоминал майского жука для религиозных обрядов4. Вместе с негром они с интересом разглядывали толпу, заполонившую к тому времени перекресток.
Какой-то крестьянин со смутно знакомыми чертами потрясал деревянной колотушкой.
— Здравствуйте, господин Никола.
Я резко обернулся и увидел мэра Круа-Кошар. Он был в рабочей одежде — жилет из черной саржи, серые бархатные штаны, все в заплатках и выцветшие местами до белизны.
— Здравствуйте, господин Матюрен-Матьё. Какими судьбами?
— Тс-с-с, — прошептал он, приложив палец к выбритым губам.
На этом шабаше собрались почти все фермеры нашей округи. С нарочитым подобострастием все они толпились друг за другом, чтобы воздать почести Мессиру. К образовавшимся группам подходили пожилые женщины и совсем юные девушки, все в затрапезном виде. Я видел одну более или менее элегантную женщину в летнем платье и шерстяной шапочке на белокурой головке.
Компания фермеров оттеснила меня от молодой дамы, и я потерял ее из виду. В этот момент Катье, чьей наготы, казалось, никто не замечал, хотя она была единственной обнаженной женщиной среди собравшихся, ткнула меня локтем и прошептала мне на ухо:
— Иди за всеми; встань за папашей Гобле и делай как он.
Она понеслась через ряды по направлению к козлу, вернее — к грустному фавну, которому с обеих сторон картинно прислуживали негр и майский жук.
* rk ic
Я встал в очередь за папашей Гобле, которого узнал по его кепке из кротовой кожи. Он подмигнул мне, показывая, что узнал. Крестьянин с колотушкой благословлял процессию приглушенным звоном.
154
Дополнения
Семеня за Гобле и мало-помалу продвигаясь вперед, через четверть часа я предстал перед Мессиром. Гобле, склонившись, целовал его под хвостом. Зад Великого Мессира по традиции походил на лицо, а лицо это было улучшенной, торжественной копией его настоящей физиономии разочарованного фавна.
Я, как и все остальные, совершил отвратительный ритуал, и двигаться в этом не сильно оживленном собрании мне после такого посвящения стало немного легче.
Вдалеке послышались звуки органчика, вроде тех, что играют на каруселях с лошадками. Потом возопил негр, исполнительный майский жук поднял палочку, и Дьявол принялся метить печатью новообращенных чад.
На сей раз он сделался похож на сельского лекаря. Деловито обходя свою паству, он касался глаз неофитов когтистой десницей. За ним следовали друг за другом негр, человечек в коричневом камзоле и моя служанка, развязная как никогда.
Она задорно хлестала по щекам чересчур ретивых сельчан, когда те подбирались поближе и норовили ущипнуть ее, как привыкли щипать телят.
Элегантная молодая особа, оказавшаяся племянницей налогового инспектора Круа-Кошар, задрала юбки и затянула чистым голосом:
— In nomine Patrica, Aragueaco Petrica, agora agora, Valentia, jouando goure gaits goustia*5.
И все крестьяне отозвались:
— Lucifer — Miserere nobis**.
Молодая женщина с чистым голосом продолжала:
— Belzebuth, prince des séraphins — ora pro nobis. Carreau, prince des puissances — ora pro nobis .
Во имя Патрика (искаж. лат), Петрика Арагонского, сейчас, сейчас, Валенсия (исп), конец всем нашим невзгодам [баск).
Люцифер — помилуй нас [лат).
Вельзевул, князь серафимов [фр) — молись за нас [лат). Карро, князь властей [фр) — молись за нас [лат).
П. Мак Орлан. Негр Леонард и мэтр Иоганн Мюллен. 4
155
И все крестьяне послушно вторили:
— Ora pro nobis6.
В присутствии Великого Мессира было совершено еще бесчисленное множество несуразных традиционных обрядов. Подвергся надругательству ритуал мессы, а потом какой-то мальчишка притащил жабу в зеленом бархатном костюме, и ее окрестили.
По ходу всех этих развлечений крестьяне пили из горлй, передавая бутылки по кругу.
Под деревьями наметилось что-то вроде безрадостной оргии. Я услышал, как папаша Гобле сказал:
— Я куда не надо не лажу, но знать бы всё ж таки, кто за всё за- плотит.
Катье, изрядно захмелевшая, танцевала под аккордеон вместе с хозяином гостиницы «Прогресс»7, горбуном с повадками кавалерийского полковника. Она грациозно выплясывала, держа под руки удалого кавалера, едва достававшего ногами до земли. Это значило, что пора предаваться бесчинствам. Некто по имени Дагоберт8 скомандовал:
— Вперед два...
Заорал ребенок. Мгновенно раздался резкий и звонкий шлепок, и всё вокруг наполнилось звуками: завертелось колесо ярмарочной лотереи, послышались ружейные выстрелы, развернулась игра в ящик. На заднем плане шествовали дети, только что отмеченные когтями Мессира. Они пели, а человечек в коричневом камзоле, к которому обращались «магисгель»9, хлопал в ладоши, чтобы не сбились с ритма.
Мне видны были только распяленные рты мальчишек и девчонок, самозабвенно завывавших хором:
— Возликуем сегодня,
Вечный праздник восславим.
Крестьяне пили и махали руками. Сияние рога освещало сцены, которые так просто не опишешь; чтобы представить себе эту картину, нет нужды летать на шабаш.
156
Дополнения
С улыбкой глядел я на это низкопробное распутство, как вдруг ко мне обратился Великий Козел:
— Ты кто такой?
И грубо спросил, обернувшись к Катье:
— Это что за фрукт?
Катье что-то прошептала Дьяволу на ухо, и он звучно вымолвил, обращаясь ко мне:
— Здесь ты будешь называться Плюшкин Череп.
И он продолжил обход, подбадривая мужчин, женщин и девиц, призывая их показать, каковы они на самом деле, у себя в деревне, в кругу семьи. И тотчас же подоспели насилие, кровосмесительство и содомия, к вящему наслаждению друзей Катье, устроивших на этом похабном перекрестке ярмарку семи смертных грехов.
Умолчу о своем участии в этих увеселениях.
В общем, шабаш меня разочаровал, он производил впечатление чего-то крайне беспорядочного с отдельными вкраплениями по-детски наивной старины. Дьявол не вызывал у меня никакого волнения. Атрибуты его могущества явно устарели. Что же до ведьм и колдунов, взрослых и начинающих, то они были мне знакомы, поскольку жили бок о бок со мной уже много лет.
Я не мог не тревожиться за Сатану, его честь и лукавый ум, видя его в окружении моих односельчан, чье коварство не ведало границ. Да, это тебе не сборище славных лабурских ведьм, столь милых сердцу г-на Пьера де Ланкра10, здесь девицы безобразны, бесстыжи и преступны от нечего делать, пять лет войны превратили их в совершенных чудовищ.
«Великому Козлу конец», — подумал я.
В этот момент ко мне, перешагивая через парочки, направились негр и магисгель. Один из них наступил на руку барышне из Шатонёф- ле-Фьеф. И по тому, как она отреагировала, я убедился, что почтение к древним вещам, даже проклятым, стремительно сходит на нет.
ц,
сударь мой, — заговорил магистель в ко- У ричневом камзоле, — меня именуют Иоганн Мюллен. А товарищ мой, негр в красном, зовется Леонард. С тех пор как существует мир, мы помогаем в организации этого сельского увеселения. Мы снискали добрую славу на вакхических празднествах1 и навели порядок в обычаях последователей Орфея2. Сегодня мы состоим на службе у Великого Козла, который и телом и духом может показаться вам бессмертным. Но это не так, и мы полагаем, что переживем Сатану, который в будущем предстанет перед своими приверженцами в виде усовершенствованной машины с клапанами, электрокатушками и хитроумными шестеренками. Перспектива такого будущего представляется нам весьма безрадостной.
Иоганн Мюллен переглянулся с товарищем, и, пока их подопечные развлекались под грустным, всепонимающим взглядом Мессира, они оба уселись поудобнее передо мной под дубом рядом со стайкой грибов, чьи изящные шляпки напоминали японские зонтики.
158
Дополнения
— Ну? — вопросительно глянул на товарища негр.
— Я пришел к вам, сударь, из потребности с кем-нибудь побеседовать, вместе поразмышлять на равных. Уже много лет на шабаш слетаются люди примитивные, не умеющие тонко чувствовать... Было время, мы принимали маркиз и бюргеров недюжинного, изощренного ума. А в наши дни все, кто в силу чересчур богатого воображения мог бы угодить в наши сети, просто-напросто живут своей жизнью, ибо шабаш в самом оригинальном, самом соблазнительном виде служит достойным обрамлением большинству человеческих начинаний. Нет, я не сужу человечество, я веками вербовал в его рядах клиентов для Великого Козла, просто я заметил, что разврат больше не пытается украсить себя разного рода заумью высокого полета. Он приспособился к наименее достойным жизненным процессам и напитал собою окружающую атмосферу настолько густо, что рискует совсем исчезнуть.
— Вот именно, господин Иоганн Мюллен, — подхватил я. — Как раз это я и хотел вам сказать. Я очень рад с вами познакомиться. Я у вас в гостях впервые — Катье сегодня представила меня Мессиру, — и я не получил тех впечатлений, какие могло бы нарисовать мое воображение, поверь я до этой ночи в реальность ваших ритуалов.
— Досадно, что лицезрение Сатаны в окружении его приверженцев не стало для вас откровением. Это едва ли придаст нам сил в нашем деле, и всё же мне отрадно это слышать, ведь, — он понизил голос, — умственные способности наших клиентов слабеют день ото дня.
— Можно подумать, — с улыбкой произнес негр, — что мы привлекаем к себе одних идиотов, которым любовь к деньгам дарует способность творить чудеса или же быть их очевидцами.
— Да уж, — согласился Иоганн Мюллен. — По данным наших маклеров, кое-кто из крестьян, посещающих наши собрания, из любви к золоту принимает мученический венец.
— Даже не сомневаюсь.
В этот момент негр Леонард знаком подозвал угрюмого господина, одетого на старинный манер, по моде 1800-х годов. Это был не Робер
П. Мак Орлан. Негр Леонард и мэтр Иоганн Мюллен. 5
159
Макер3, но какое-то сходство с известным персонажем в нем проглядывало. Мужчина присоединился к нашей компании.
— Имею честь вам представить, — сказал Иоганн Мюллен, — господина Пьера Лепикара из знаменитой Оржерской банды4.
— Имею честь послать вас к черту! — отозвался бука. — Вот уже сто с лишним лет я служу Великому Козлу, и, сколько ни будь мертвым, завсегда всё одно и то же.
— Не стоит обращать внимание на неприветливость господина Пьера, — сказал Иоганн Мюллен. — Он по натуре не слишком обходителен, а перебранки с сельским населением сделали его нелюдимым. Он занимал видное положение в банде поджигателей из Оржера, тех, чей процесс наделал столько шума. А после его насильственной смерти Мессир предложил ему местечко в своем заведении.
— Подумать только, — продолжил свою речь господин Пьер с воодушевлением, свидетельствующим о чистосердечии, — любители порассказать истории у камелька невзлюбили нас за то, что мы жгли пятки крестьянам, — он сказал «канальям», — желая получить от них какую-нибудь пользу! Но, сударь, попытайтесь представить себя на моем месте, — распалялся бандит, мысленно вернувшийся к этому периоду своей жизни. — Поставьте себя на мое место и посмотрите. Вот тогда вы мне и скажете, легко ли добиться от деревенщины денег одной силой убеждения. Мы все, по большей части, были люди кроткие, мирные, нам бы только женщин грабить. В городе мы бы воровали просто из симпатии к клиенту. Это крестьяне сделали нас злыми. Превратили нас в убийц, а потом в изуверов... в результате наша шайка потерпела полное и оглушительное фиаско. Ну скажите, хоть кто-нибудь из нас сумел разбогатеть? Назовите хоть одно имя, сударь мой, одно имя — и я от вас отстану.
Он удалился.
— Пристрастие к золоту, — проговорил Иоганн Мюллен, скрестив руки на груди, — объясняет, почему здесь так много крестьян. Любовь к золоту порождает самые непредсказуемые образы и возвышает человека над ним самим. Это источник энергии, который многих приводит
160
Дополнения
иной раз к недосягаемым высотам воображения. Шабаш в наше не особо славное время — это всего лишь отражение того, что каждый несет в себе. Мозг скупца, по-моему, столь же тщательно запертый, как и его сейф, вмещает сокровища куда более интригующие. Под его вёками кипит внутренняя жизнь, своим блеском затмевающая помыслы Повелителя колдунов, и самый неотесанный из мужиков может сотворить себе образы, открывающие ему доступ к нашим кощунственным церемониям. Ведь в нашем деле ничто не абсолютно. Всякий видит шабаш по-своему. Каждый из наших ритуалов — это всего лишь продолжение одного из самых сокровенных наших мечтаний. Поэтому-то всё и выглядит так беспорядочно, ведь к этой лужайке, вытоптанной нашими ведьмами, как к телефонному коммутатору, стягиваются один за другим многочисленные провода, соединяющие самые постыдные из людских желаний с возможностью их осуществить. Люди, которых вы видите там, под деревьями, оказались здесь каждый сам по себе. Каждая молекула этой человеческой массы живет своим умом, и только Великий Козел придает этому разрозненному сборищу видимость единой толпы. А когда пропоет петух или кто-нибудь из неофитов по оплошности помянет Бога, тогда, в соответствии с традицией...
Бледное предрассветное небо четко обозначило контуры деревьев. Иоганн Мюллен и негр исчезли.
Я услышал, как на дороге, возле креста, зовет женский голос:
— Жоржетта, ты где? Ну-ка, давай быстро сюда!
* * *
Предметы растворялись в порывах ветра, гнавшего сухие листья. Только запах болота стойко держался над землей после исчезновения ярмарки семи смертных грехов.
Сам того не сознавая, я вернулся к людям после надсадного пегу- шиного крика, когда над родильницей-планетой в зловонных испарениях занимался новый день5.
va
последовавший за этой памятной ночью, принес мне полное отдохновение. Удовлетворив свое любопытство, я пребывал в блаженном состоянии, как бывает, когда удается довести трудную работу до победного конца. Я весело потирал руки и поддразнивал злобных и упрямых такс.
Чураться Катье я и не думал. То, что я вместе с ней побывал на шабаше, естественным образом определяло ее место в моем сознании. Тайна ушла из наших отношений.
— Ну что, этот ваш старый пень Иоганн Мюллен всё речи толкает? — говорил я, когда она возвращалась с шабаша.
Катье не находилась что ответить, ибо по-настоящему показать себя могла только в среде, не имеющей ничего общего с моим домом в Круа-Кошар.
Как-то утром за завтраком она сказала:
— Магистель и негр Леонард о вас справлялись. Они настаивают, чтобы вы на той неделе пожаловали со мной на шабаш в деревушке Берлье, что близ Р..., на плато.
День,
162
Дополнения
— Вы очень милы, Катье.
— Смейтесь, смейтесь, сударь. Я бы на вашем месте — теперь-то я ваш нрав хорошо знаю, — я бы никогда не пошла в Воробьиный лес ночью и не стала бы целовать Великого Козла. И разговаривать с ма- гисгелем и тем, вторым, тоже бы не стала. А раз уж вы туда пришли, значит, сами захотели.
Я не ответил, поскольку знал, что не видел на шабаше в Воробьином лесу ничего такого, что не зародилось бы в моем мозгу в ходе уединенных размышлений или ночных игрищ со служанкой.
Позже, зимой, Катье еще не раз седлала свою волшебную метлу и сообщала мне новости из воображаемого мира, который, однако, обрел осязаемую форму для нас двоих, отныне действовавших сообща.
•к "к "к
И вот тогда-то, к концу апреля, едва распустились на яблонях первые цветы, преисполнился я отвращения к Круа-Кошар и всем тем привычным мелочам, из которых соткано безмятежное существование человека.
Апрель нашептывал мне знаменитое приглашение к путешествию1. Настоятельная потребность действовать повелевала отправиться за горизонт, пересечь ту дальнюю, утопающую в акациях дорогу, на которую я каждый день смотрел, стоя у окна с сигаретой.
Немаловажные события сотрясали все народы старушки-Европы, той Европы с «древними парапетами»2, которая, если поглядеть откуда- нибудь сверху, из космоса, должна, наверное, напоминать маленькую гостиную в стиле ампир со множеством ценных безделушек, хранящихся в застекленных витринах. Европа, земля моих предков, заботливо хранящая свои древние народы в серых холщовых чехлах в розовую полосочку.
Война превратила меня в не слишком обременительного непоседу. Постоянная потребность перемещаться, дабы избежать смутно различимой катастрофы, по-прежнему владела мною, как некогда в окопах,
П. Мак Орлан. Негр Леонард и мэтр Иоганн Мюллен. 6
163
когда я силился в тесных рамках своего долга увернуться от града пуль и взрыва смертоносных Minen*.
Одна газета в обмен на регулярное сотрудничество предоставила мне возможность посетить земли, занятые войсками союзников3.
Предложение меня заинтересовало, ибо уже несколько месяцев душа моя жаждала чего-то необычного. Жизнь в Германии — благодаря оккупации и особенно присутствию французских, английских и бельгийских мундиров — должна была доставить мне удовольствие высокого полета, вроде того, что испытывает образованный зритель, глядя, как в декорациях «Вертера»4 разыгрываются сценки, к примеру, из «Манон Леско»5.
Я отправился в Майнц6. Уже в пути прошлое мое улетучивалось. Невидимая губка стирала, словно знаки с черной доски, подробности ночи в Воробьином лесу, служанку, мои старые привычки — которые я найду в целости и сохранности, как сложенную в шкафу одежду, когда по возвращении придется продолжить путь с того самого места, где я с него свернул.
Погожим днем я прибыл в Майнц. У ворот вокзала толпились находившиеся в увольнительной солдаты в небесно-голубой форме. Английские офицеры в коротких подвернутых брюках, из-под которых виднелись носки цвета хаки, переходили рельсы перед желтым трамваем, исступленными звонками требовавшим освободить дорогу.
На машине я добрался до гостиницы «Голландия» на Рейналлее7, где предусмотрительно забронировал номер.
В этой комнате с мебелью светлого дерева потекли мои рабочие будни. Перед моими глазами по Рейну степенно шли роскошные баржи и гигантские буксировочные суда. Дозорные катера под трехцветным флагом сновали туда-сюда под рев мотоциклетных моторов, как быстроходные рыбы, умеющие плавать и взад и вперед.
Вся эта суета на реке не мешала мне любоваться умиротворенным проспектом, по которому дважды в неделю во главе возвращавшегося
* мин [нем).
164
Дополнения
в Вормс8 батальона маршировал оркестр африканских тиральеров9 с трубами, зурнами10 и дикарскими барабанами, разукрашенными флажками.
От такого созерцательного образа жизни я преисполнился совершеннейшего покоя, пестревшего мальчишками с низкими мелодичными голосами и стройными марокканскими напевами.
Однако порой под вечер древний романтический дух — напоминание о жившей неподалеку Лор елее11 — обволакивал меня так настойчиво, что невольно всплывали литературные ассоциации, словно пирамидки из камней, обозначавшие вехи скорбного пути, который оставляет за собой человек, продвигаясь вперед.
Упоительная рейнская весна согревала виноградники, террасами карабкавшиеся вверх по склонам холмов до самого Нидервальда12.
Рейнские чайки вторили доносящимся из доков Бибриха13 ударам молота по металлической обшивке буксирных судов.
В положенный час на улицы с шумом и гамом высыпйли ватаги ребятишек, а когда смолкали, подустав, девчачьи голоса, в наступившей тишине я улавливал отдельные французские слова — это солдаты колониальной пехоты спешили пропустить стаканчик в кафешках переулка Каппельхоф14.
Всё это создавало изысканное обрамление для разных соображений экономического и политического характера — из тех, что принято формулировать в подобных обстоятельствах.
Однажды утром, когда я прогуливался по Гроссе Блайхе15, разглядывая выставленные в витринах зажигалки, один приятель-офицер посоветовал мне съездить во Франкфурт16, который в то время контролировала бригада кряжистых, решительных и исполнительных моряков.
Вечером я поселился в «Карлтоне»17, где и отужинал. Потом, коль скоро ночная жизнь влекла меня невзирая на всю мою осмотрительность, я двинулся по сверкающей огнями улице и дошел до какого-то кафешантана с баром, где можно пить всю ночь напролет.
В этом заведении, целиком слизанном с американских баров, я и расположился, не у стойки, а в кресле перед крохотным столиком, куда официант принес бутылку рейнского вина.
П. Мак Орлан. Негр Леонард и мэтр Иоганн Мюллен. 6
165
Я выпил бокал этого холодного вина. Изысканная форма бокала свидетельствовала о том, что искусство подавать вино освоено здесь во всех тонкостях.
Вокруг меня мужчины курили сигары. У них были бритые розовые затылки, короткие усы. Девушки, по большей части весьма привлекательные, пили холодное вино рассудительно и сдержанно, как женщины, привыкшие к строгой дисциплине гимназии и семейной жизни.
Я вяло восхищался чистотой этого места и всё же никак не мог отделаться от тягостного ощущения, овладевшего мною, стоило мне только вступить в город императоров и старинной ратуши Рёмер18.
Пианист наигрывал фокстрот, и музыка явно приводила в волнение девицу, одиноко катавшую шарики из мякиша черного хлеба с тарелки с бутербродами.
Один шарик полетел в мою сторону, девушка засмеялась, и я услышал наглое потрескивание взглядов, обращенных на меня со всех сторон.
Потом один из мужчин поднялся и направился ко мне.
— Что фы тут делаете? Фы француз, это фидно, фам здесь не место... Ступайте прочь, черт фозьми!
Я встал, придерживая рукой бутылку.
— Отлично, — сказал я. И сразу же, не раздумывая, инстинктивно добавил: — Я воевал... в пехоте...
В этот момент между мною и пристававшим ко мне немцем возник молодой человек.
— О-ля-ля! Ф чем дело? — верещали девицы.
Молодой человек присел за мой столик.
— Вы где были?
— В Суше19.
— А я был в замке Карлёль20, — отозвался он с улыбкой. Потом, обернувшись к остальным, сказал по-немецки несколько слов, которые я не понял.
166
Дополнения
И вдруг в бар ворвались десятка два матросов в черных кожаных куртках и форменных бескозырках, на лентах которых золотыми буквами было выведено: «Marine AbÜg. Frankfurt а М.»*.
Все вмиг разошлись по своим местам, мужчины потянулись за бумажниками и выложили на столы документы.
Облавой руководил бледный, очень худой чиновник в очках. Он сразу же подошел к моему столу и уверенно произнес на прекрасном французском:
— У вас есть документы?
Я собирался подчиниться, причем весьма охотно, раз уж меня угораздило сунуться в это осиное гнездо, как вдруг неодолимая сила побудила меня ответить:
— Плюшкин Череп.
— Позвольте, позвольте, — проговорил немец.
— Говорю вам, — повторил я крайне раздраженно, — я Плюшкин Череп! Плюшкин Череп... Ясно же всё. Больше мне добавить нечего.
И пока из моих уст звучала эта околесица, я горько — но безмолвно — ругал себя за глупое поведение. Этот неожиданный ответ влек за собой неприятности.
Чиновник передал меня полицейским морякам, и мы все вышли на улицу, между тем как официанты гасили огни в баре.
Нас поджидал грузовой автомобиль с пулеметом в кузове. За рулем сидел молодой блондин в костюме защитного цвета и мягкой шляпе из черного фетра.
Эти детали навсегда врезались мне в память.
Грузовик тронулся, самодовольно заскрежетав всеми своими шестеренками. Пока я стоял, шатаясь, в тряском кузове автомобиля, ко мне вернулось осознание, кто я такой.
Я не мог не улыбнуться при мысли, что на самом деле я вовсе не тот загадочный и эксцентричный персонаж, каким выгляжу в резуль¬
* Подразд<еление> морской пехоты Франкфурта-на-М<айне> [нем).
П. Мак Орлан. Негр Леонард и мэтр Иоганн Мюллен. 6
167
тате дурацкого ответа. И подумал, что всё должно непременно разрешиться в полицейском управлении, куда меня везут.
Ночь была тиха, тиха настолько, что стоило грузовику притормозить и дать нам возможность различить разрозненные звуки спящего города, как издалека донесся характерный стрекот пулемета Максима21.
— Опять в гостинице «Слон»22, — сказал, прислушиваясь, один из матросов.
Тут же заговорили еще двое или трое, очень быстро, так, что я ничего не понял; несколько раз в разговоре прозвучало слово «Бёнер- плац»23.
Грузовик остановился у тротуара перед большим зданием, во всех отношениях безобразным.
Мы слезли, матросы пошли вперед, и я следом за ними пересек какой-то дворик, где стояли пулеметы, накрытые серой тканью защитного оттенка немецких полей.
В сопровождении здоровенного детины я проследовал в кабинет самого высокого чиновника местной полиции. От висящей под потолком электрической лампы по комнате расходились тени.
— Was?* — поинтересовался чиновник, мотнув головой в мою сторону.
Один из матросов дал кое-какие разъяснения относительно моего ареста.
— Как вас зовут? — спросил он по-французски.
И тогда, клянусь всем святым на свете, я не смог удержаться и не ответить, отчетливо произнося каждый слог:
— Меня зовут Плюшкин Череп.
И все матросы посмотрели на начальника, всем видом показывая: «Я же говорил».
Начальник полиции неопределенно махнул рукой, и меня отвели в комнату, вполне подходящую на роль темницы духа, где и заперли. Я опустился на стул и незамедлительно посвятил образовавшийся до¬
* Что [такое]? [нем)
168
Дополнения
суг сопоставлению череды нелепых происшествий и моей встречи с Великим Мессиром на перекрестке Круа-Кошар.
И тогда его всесилие явилось мне со всей очевидностью. Окрестив меня, по обычаю, дурацким именем, он преследовал свою цель. Называться Плюшкиным Черепом неотвратимо означало навлечь на себя беду. Теперь в меня вселился бес извращенности. И я невольно подумал, что при всём могуществе Великому Козлу вряд ли удалось бы испортить мне жизнь, придумай он, дабы мне насолить, какую-нибудь другую кличку, например, Бассарей24.
«Всесилие Дьявола не подлежит сомнению, — подумал я. — Не надо было мне идти с Катье. Теперь же я всего лишь бедняга Плюшкин Череп и останусь им до того момента, когда господа спартаковцы25 сочтут уместным меня расстрелять».
И я горько пожалел о том, что поддался минутному любопытству под воздействием волнующих чар красавицы девицы.
Череда
мелких будничных чудес помешала мне покрасоваться четким силуэтом на фоне зеленоватой стены, предстать в предрассветный час с завязанными глазами перед дюжиной стволов, послушных воле добросовестных головорезов.
Капитан Меркёр, осуществлявший связь между французским генералом, обосновавшимся в Майнце, и немецким генералом, обосновавшимся во Франкфурте, вызволил меня из этой передряги. Я был исполнен искренней благодарности, и когда немецкий генерал лично явился вывести меня из тюрьмы, ему хватило такта не спрашивать моего имени.
В сущности, я придавал этому происшествию слишком большое значение. Следует, однако, учесть, сколь сильное беспокойство одолевало людей в 1919 году, и, хотя газеты не производили на меня особого впечатления, я достаточно хорошо знал человеческую природу, чтобы опасаться, как бы меня по недоразумению не втянули в построение нового общества.
170
Дополнения
Я покинул Франкфурт и поехал в Майнц, а оттуда — в Париж. Мое желание спастись бегством возрастало пропорционально расстоянию, отделявшему меня от города моих бедствий. Так, совершенно естественно, по привычке я сел в поезд местного значения, и его пыхтящий паровоз потащил меня по знакомым местам до самой Круа-Кошар. Катье, разодетая как барышня, встречала меня на станции вместе с пар нишкой по имени Пилат, юный Пилат. Он захватил тележку, куда и погрузил мой багаж. Так, раскланиваясь с редкими прохожими, я вновь обрел свой дом, Катье, Нуни и Каспера — моих славных песиков.
Катье от души радовалась встрече со мной. Она хлопала в ладоши и шумно изъявляла свой восторг, отчего меня одолевало бешенство, тем более невыносимое, что совершенно не оправданное.
Раз двадцать я едва не оборвал ее резкими и бесповоротными словами.
— Вы невеселы, хозяин. Хорошо съездили? Франкфурт — славный город; моя сестра жила на Цайль1 за год до начала войны.
Я предоставил ей болтать вволю, смирившись и не пытаясь защищаться. Вещи и люди приводили меня в отчаяние, а уж моя поездка!.. При мысли об этом я чувствовал, как кровь приливает к вискам, словно ее насосом качают.
к к к
Несколько дней присутствие Катье было мне нестерпимо. Запершись в кабинете, я заряжал патроны, а потом яростно досылал их в патронник.
Потом фламандка опять заловила меня в свои силки. И снова проложила доро1у в мою комнату, ночью, когда переговариваются между собою деревенские псы.
— Ну, как там Леонард, этот негр? — спросил я ее как-то вечером. Катье взглянула на меня, улыбаясь. Она сидела на кровати и курила сигарету.
— У него всё хорошо? — не унимался я.
П. Мак Орлан. Негр Леонард и мэтр Иоганн Мюллен. 7
171
— Ну да, и у мэтра Иоганна Мюллена тоже. Оба о вас справлялись... Стареют они, былого задора нет.
— Бедная моя Катье, эти твои Леонард и Иоганн Мюллен — просто черт знает что. Я могу так говорить, я же их видел. Бедолаги, и всё тут, ничего путного.
Катье не поддалась на провокацию и ушла от прямого ответа. Когда она вернулась к прерванной было мысли, голос ее зазвучал вкрадчиво:
— Мэтр Леонард справлялся о вас. Он знает, что вы ездили в Германию.
— Ну и ты, конечно, всё рассказала?
— Нет-нет, клянусь. Он знает, что вы ездили в Германию и что у вас там были неприятности. Очень его это насмешило. — И, помолчав, добавила: — Вам бы слетать со мной в среду ночью. Мэтр Иоганн Мюллен хочет с вами поговорить.
— Девочка моя, — возопил я, весьма неумело изобразив прилив хорошего настроения. — Даже не надейся. Я и так слишком много времени потратил на всю эту ерунду, я...
— Я, я, я, я, — смеясь, подхватила Катье. И принялась целовать меня как сумасшедшая.
* * *
Больше о Леонарде и Иоганне Мюллене Катье со мной не заговаривала. Но, когда я вернулся к работе в обстановке, теперь много о чем напоминавшей, силуэты этих двух служителей культа то и дело невольно возникали на фоне белого листа бумаги или бежевых стен моей комнаты.
Вид из окна с темной массой Воробьиного леса на горизонте почти не оставлял мне возможности свободно мыслить.
То обстоятельство, что мне принадлежит клочок земли, а также мое отвращение к Парижу, где будущее обретало весьма унылые очертания, не давали мне порвать с устоявшимися привычками и поискать требуемый воображению покой где-нибудь в другом месте.
172
Дополнения
В то время на земле уже два года царил мир. Иллюстрированные журналы отражали его оградные преимущества, печатая на своих страницах виды «дворцов», охраняемых пулеметами, улиц, перетянутых колючей проволокой, и скверов, где множество солдат в самых разнообразных касках беспробудно спали, навевая на меня своими позами кое-какие личные воспоминания.
Невообразимый — и непродаваемый — военный скарб валялся повсюду, сколько хватало глаз. И каждый сделался инстинктивно осторожным, чего-то ожидая.
Это «что-то» витало над всеми, проникая в воздух, которым дышишь, в воду, которую пьешь, в хлеб, который ешь. Наименее удрученные шли по своим делам, втянув голову в плечи, словно опасались гнусных ударов, еще не ведомых человеческому гению.
Всё это был дух времени, красота эпохи и те литературные детали, что пригодятся для романов, которые предстояло написать еще очень нескоро.
Я видел, как танцуют девушки во Франкфурте; я слышал скабрезные истории про устраивавшиеся в этом городе маскарады и не находил ничего лучшего, как сравнить это головокружительное безумие с нелепыми и смешными плясками на шабаше в Круа-Кошар.
Не доведись мне стать свидетелем этих игрищ на истоптанном перекрестке, я бы никогда не позволил себе такого сравнения, донельзя примитивного в своей плоской символичности. Но за мной стоял господин, который, приняв крещение от Великого Козла, отзывался на нелестное имя Плюшкин Череп.
«Надо срочно что-то придумать, — подумал я. — Так больше продолжаться не может. Я — в очередной раз — рисковал жизнью и мог погибнуть при таких обстоятельствах, что соотечественникам не оставалось бы ничего, кроме как почтить мою память заупокойной молитвой, да и то не без иронии. Надо мне подобраться, через Иоганна Мюллена или Леонарда, к Мессиру и попросить как можно скорее избавить меня от этого прозвища».
П. Мак Орлан. Негр Леонард и мэтр Иоганн Мюллен. 7
173
Мне не хотелось ни о чем просить Катье, которая хоть и была ведьмой, но работала добросовестно. Окажи она мне такую услугу, жизнь моя в собственном доме стала бы невыносимой. А потому я непринужденно посадил «лодочницу» к себе на колени и сообщил о своем намерении еще раз повидаться с негром в пурпуре и магистелем в коричневом камзоле в их собственной среде обитания. Еще я рассчитывал на присутствие моих соседей по деревне. По отношению к этим людям я был в положении зеваки, который ходит по зверинцам в надежде увидеть, как львы разорвут укротителя. Получалось как-то не вполне человечно. Но в те времена слово это в значительной степени утратило свой вес.
Мы с Катье отправились на шабаш в соответствии с установленным протоколом, и я очутился довольно далеко от дома, возле креста, на каком-то перекрестке, близ пруда; несколько праздных посвященных били по воде ореховыми палками, чтобы навлечь град на земли своих врагов.
Великий Козел поводил своим светящимся рогом, следя за играми, которые меня больше не интересовали. Представили нового колдуна, исполнявшего обязанности муниципального советника в районном центре.
Картины, открывшиеся моему взору, показались мне не такими, как в прошлый раз. Ведьм и колдунов собралось меньше. «Парижанки» из Шатонёф-ле-Фьеф в белой вязаной шапочке видно не было. Катье, всё так же голая, ходила от одного к другому. Она показалась мне похожей на молодую особу, которая явилась на оргию уже пьяной — того и гляди, учудит что-нибудь этакое, — в то время как остальная публика еще блюдет себя, держась осмотрительно и учтиво.
Какой-то постреленок с жабой на веревочке, прыгавшей как немощный бульдог, принялся вертеться возле меня с весьма наглым видом. Я отодрал его за уши. Он исчез, волоча за собой свою живность и вопя сверх всякой меры.
Следовало засвидетельствовать свое почтение Черному Афедрону, и я приблизился к нему, согнувшись под прямым углом и теребя в ру¬
174
Дополнения
ках шляпу. Совершив целование, я, выпрямляясь, обратил внимание на лицо Мессира. Он выглядел подавленным и утомленным, неимоверно утомленным. Дьявол в эту минуту был похож на старого опустившегося провинциала, одуревшего от крепких напитков и атмосферы ночного кабаре, какие встречались до войны.
Он сюсюкал, как благопристойный маразматик, и тщетно пытался продемонстрировать деревенщине, что в совершенстве владеет правилами нехорошего тона для маленьких детей2.
— Катье, — позвал он, — скажи мне, детка, кто этот господин?
Я не дал моей служанке времени вступить в разговор.
— Сударь, — ответил я, — я Плюшкин Череп, тот, кому вы дали имя Плюшкин Череп.
Великий Мессир внимательно поглядел на меня и, как дитя, прильнул своей чудовищной головой к груди Катье.
Поодаль Матюрен-Матъё тряс своей колотушкой, изо всех сил пытаясь придать величия печальному идиотизму жеста.
» 'vpyy,l
Настроение
у меня было паршивое, табаку, чтобы скрутить сигарету, не было, да и вообще я не знал, дозволяется ли здесь курить, не нарушая законов Гоетии1, так что мне ничего не оставалось, как сесть под ивой у пруда, чьи воды пенились под ударами неутомимых и мстительных верзил.
Черная морщинистая рука тихонько опустилась мне на плечо, словно ворон сел.
— Вы вернулись, — сказал Леонард, вздыхая.
— Здравствуйте, — пискнул тоненький голосок.
Это был магисгель Иоганн Мюллен.
Мы обменялись дружеским рукопожатием. Бесы сели по обе стороны от меня и молча уставились на толпу, резвившуюся вокруг креста, черного и бесплодного, как самое классическое дерево, которому довелось пережить все ужасы войны в зоне боевых действий.
— Смотрите, — сказал мэтр Иоганн Мюллен, более словоохотливый из двух бесов, — смотрите, что сподобилось сотворить человеческое во¬
176
Дополнения
ображение после многих тысячелетий практики и теоретических исследований, нацеленных на его воспитание. Все новейшие достижения точных и гуманитарных наук ведут сюда, к подножию этого креста, здесь, в одном-единственном действе, повторяющемся на наших глазах, воплотилась квинтэссенция самых прославленных библиотек. Смотрите.
Искать, куда смотреть, мне не пришлось. Справа и слева колдуны совокуплялись с ведьмами, с кем и где придется — в поле, на берегу пруда, на насыпи у канавы, где еще виднелись ошметки дерна, недавно убранного дорожными рабочими.
— Вот уже много тысяч лет мы наблюдаем одно и то же, — вздохнул Иоганн Мюллен. — Даже Великий Мессир притомился.
— Дорогой друг, — сказал я Иоганну Мюллену, — позвольте обращаться к вам так — прежде всего я бы хотел просить вас походатайствовать перед Великим Мессиром, дабы он благоволил избавить меня от клички, жертвою которой я стал по его милости. Вы, наверное, слыхали об истории, приключившейся со мной во Франкфурте, и о ее последствиях, грозивших стать роковыми, будь я немного настойчивее. Хотя война и приучила снисходительно относиться к тому, как люди говорят по-французски, носить такое имя в моем положении, сдается мне, не подобает. Для собак я теперь всего лишь Плюшкин Череп — это для меня унизительно. Скажите Мессиру, что я признаю его могущество и что свое я уже заплатил. Великий Мессир знаком с творчеством Эдгара По2 и старается довести его до сознания самых посредственных умов. Я такого усилия с его стороны не заслужил.
— Ох, сударь, Великий Мессир ведь общается по большей части с дураками и с женщинами. Кажется, я вам говорил. Сами видите, какого рода гости к нам жалуют — пронырливые и самодовольные тупицы. Предложить вам другое имя труда не составит. Есть что-нибудь на примете?
— Раз уж нужно прозвище, я бы предпочел название места, например, Круа-Кошар. Звучит не агрессивно.
— Да и благозвучно вполне, — сказал Иоганн Мюллен. — Мессир даже наверняка обрадуется, он любит пышные, смутно что-то наломи-
77. Мак Орлан. Негр Леонард и мэтр Иоганн Мюллен. 8
177
нающие имена. Мы с Леонардом некогда в далекие времена, когда знаменитый Кеведо спускался в ад3, знавали одного испанца, чье прозвище с каждым днем обрастало новым титулом. Чтобы произнести это слово, не пропустив ни слога, на его заучивание надо было положить лет шестьдесят.
Когда эта мелкая формальность была полюбовно улажена, у меня точно камень с души свалился. Я почувствовал себя красным воздушным шариком, у которого перерезали ниточку, позволив оторваться от связки и радостно взмыть вверх.
С Дьяволом меня связывало только прозвище. А я-то ему чуть душу взамен не отдал.
В результате произошедшей перемены я вновь обрел свою личность и почувствовал себя тем более уверенно, что сидящим рядом со мной служителям культа как раз уверенности явно недоставало.
— Дорогой мой Круа-Кошар, — вздохнул магистель, — у нас перед глазами отблески весьма печальной эпохи.
— Ничего удивительного, магистель. Так говорят каждый год.
— Да, знаю. Но ведьмы с колдунами теряют веру в традиционные обычаи. А традиция в культурной практике — это смысл нашего существования. В былые времена великие судьи были для нас тем, что вы называете рекламой. Такие люди, как утонченный Пьер де Ланкр4, Анри Боге5, Дельрио6, Ле Луайе, счастливый автор «Призраков» и «Облака рогоносцев»7, достославный Боден8 и старый хитрец Иоганн Бейер9, благодаря популярности своих сочинений выступали самыми педантичными устроителями наших церемоний. Судебные процессы придавали шабашу необычайный вес и позволяли даже тем, кто обделен воображением, представить его себе во всех подробностях. Гости прибывали сюда во всеоружии. Они лучше нас знали, что надо делать. Девицы недотрогами не прикидывались, так что всё шло как по маслу. А ныне, сударь, стали вертеть столы. Этот вид спорта не дает как следует развернуться порочным склонностям его адептов. В этом вся эпоха. Жутко безнравственная эпоха, которая отличается от восемнадцатого века тем, что теперь хорошенькие женщины вливают себе в рот
178
Дополнения
пинты горячей воды в модных чайных, тогда как в иные, более колоритные, времена они, чтобы вобрать в себя столько жидкости, прибегали к помощи клистирной трубки и сговорчивой служанки. Когда видел столько, сколько видел я, сударь, трудно снисходительно относиться к нынешним временам. Шабаш умирает. Еще несколько лет, и мы останемся при Мессире вдвоем. Голос наш звучит фальшиво, и с каждой ночью мы всё больше и больше утрачиваем доверие.
— Верно, — сказал негр, до сих пор лишь молча кивавший в подтверждение слов товарища.
Из вежливости я попытался хоть как-то обнадежить этих несчастных. Дело оказалось не из легких, и, говоря, я чувствовал всю бесполезность моих рассуждений.
— Нет, мой дорогой друг, — перебил меня Иоганн Мюллен, — настаивать всё равно не получится. Я ведь не стал бы ни с того ни с сего рассказывать вам, как у меня гадостно на душе. Мне судить о создавшемся положении сподручнее, чем вам. Дьяволу п...ц, слово как нельзя кстати, мы на пороге полного краха. Потому-то отчасти мы с Леонардом и пришли к вам, хотим попросить проявить участие к нашей судьбе.
— Мы неприхотливы, — сказал негр.
— Нет-нет, совсем неприхотливы! — подхватил Иоганн Мюллен.
— Но чего же именно вы хотите? — спросил я в некотором недоумении.
— Место, — ответили они хором.
b l
и в другие разы, утром я оказался в своей постели. Я чувствовал себя разбитым и удрученным. Провел языком по нёбу и ощутил сухость во рту. Зеркало показало, что вся глотка покрыта белым налетом и усеяна мерзкого вида лиловыми бугорками.
— Круа-Кошар, — прошептал я насмешливо, — Круа-Кошар, бывший Плюшкин Череп, снова у тебя похмелье.
Я потянулся к колокольчику, вопя во всё горло имя Катье.
Девушка поднялась ко мне.
— Хочу чаю, — сказал я, — чаю, газеты и еще — закрой ставни, мне больно смотреть на солнце.
— Слушаю, хозяин.
— Кстати, папаша Иоганн Мюллен ничего тебе не говорил вчера ночью на шабаше?
— Не понимаю... Нет, я танцевала с Матюреном-Матьё. Остальные уже не хотят танцевать. Они заявили протест Леонарду, так как считают, что порошок, насылающий мор на коров, никуда не годится.
180
Дополнения
— Ладно, приготовь чай и открой дверь собакам.
Если задуматься, ночное приключение было весьма забавно. Ничего удивительного я в нем не нашел, так как с первого дня шабаш показался мне чахлым, иссякающим, как заразная болезнь, теряющая силу по мере своего распространения. Шабаш умирал сам собой. Но его принцип, зло?
Меня мучил этот вопрос. Я был не в том состоянии, чтобы его разрешить, а потому стал тешить себя, воображая Леонарда и Иоганна Мюллена в новых ролях, уготованных им в будущем.
Когда Катье принесла мне чай, я заметил ее побледневшие щеки, синяки под глазами, кроткий взгляд.
— Что-то не так, девочка моя?
— Я неважно себя чувствую, хозяин.
— Что-то ты бледненькая. Перетанцевала с Матюреном-Матьё, да и Великий Козел злоупотребляет твоей добротой.
Катье стала красной как мак.
Она быстро поставила чашку и чайник на мой столик и убежала, не ответив и стараясь скрыть от меня лицо.
Тем же вечером мы отправились на шабаш.
к к к
Народу в Воробьином лесу собралось немного. На верхних ветках березы я увидел фазанов, но охотничий сезон закончился. Катье, нагая, ждала на перекрестке. Она кашляла и прижимала руки к груди. Вокруг нее было полдюжины мужчин, три старухи и молодая пастушка с кошмарной репутацией.
Банальный обмен репликами о ночной свежести, голая девица посередине — вся эта наша группка напоминала бродячих акробатов, бездельничающих в ожидании начала представления.
Слабый свет от козлиного рога осветил дорогу, куда тотчас легли наши невероятно удлиненные тени. Великий Мессир в сопровождении негра Леонарда и Иоганна Мюллена быстро произвел смотр своим войскам.
П, Мак Орлан. Негр Леонард и мэтр Иоганн Мюллен. 9
181
Катье, раскрасневшись от радости, одна закружилась в танце.
Затем прокричал петух, и нас всех чудесным образом унесло.
•к -к -к
В следующий четверг мы с Катье, держа наготове требуемые для перелета метлы, тщетно прождали у камина неуловимой минуты отправления. Мы просидели так всю ночь, смежая то один глаз, то оба. Ничего не произошло, и в первых лучах рассвета сцена злополучного ожидания выглядела смешно и нелепо.
Я посоветовал Катье пойти поспать. Она смиренно повиновалась и сразу же лихорадочно застучала зубами. Тогда я спустился к себе в комнату в надежде, что отдых сам собой исцелит мою служанку.
Ночь не принесла Катье облегчения. Она дурнела всё больше и больше, и мне пришлось взять женщину, чтобы за ней ухаживать.
И всё же с наступлением ночи, посвященной шабашу, я поднялся в комнату, где постанывала в постели моя «лодочница». Как ни слаба она была, мне удалось поднять ее с кровати, и мы честно сделали всё, чтобы улететь в мир наших желаний.
— Я... я чувствую, мне т-там 6-будет лучше, — лепетала Катье заплетающимся языком. Потом она рухнула на пол, прошептав: — Нежность, нежность, я растворяюсь в нежности, повторяйте за мной, хозяин, нежность, нежность.
Ценой колоссальных усилий, от которых задрожали руки и ноги — ведь она была крупная и тяжелая, — мне удалось водрузить ее обратно на кровать.
В ту ночь, несмотря на соблюдение ритуала, мы так и не смогли отправиться к месту встречи в Воробьиный лес.
Две неудачи подряд меня обеспокоили. Я ведь, не удивившись, принял положение вещей, которое, учитывая эпоху, могло показаться чудом. Теперь двери фантазии закрывались передо мной. Было так, словно у меня поубавилось ума: резкое нарушение мозговой деятельности, разрыв кровеносных сосудов.
182
Дополнения
Мне оставалось только грызть ногти, беспомощно наблюдая, как чахнет Катье от странной болезни, лишившей ее дара речи и пресекшей обычный поток ее мыслей.
Такие соображения вертелись в моей голове, когда, направляясь к лекарю, чтобы купить хинина1, на дороге, ведущей в Шатонёф- ле-Фьеф, я повстречал странную процессию и даже сразу не понял, из кого она состоит.
Перед парой дюжин мальчишек и девчонок, зевак и женщин с перекошенным от постоянного злословия ртом я увидел большого козла, которого на белом кожаном недоуздке вели два старомодных гистриона;2 один, одетый в красное, ступал легко и пружинисто, как боксер, другой, в коричневом камзоле, семенил, словно старый святоша к обедне. Я узнал негра Леонарда и его приятеля Иоганна Мюллена.
Поначалу я даже не успел задуматься, что они тут делают в такой час. Завидев меня, негр до неприличия радостно воздел руки, а старичок принялся скакать как сумасшедший.
Выразительно подмигнув, я дал им понять, что место для объяснений здесь едва ли подходящее. Деликатности обоим бесам оказалось не занимать. Они сразу поняли, сколь неоднозначно сложившееся положение, и мэтр Леонард выступил вперед со шляпой в руке, изъясняясь следующим образом:
— Сударь, мы не имеем чести вас знать. — Я выдохнул. — Мы — два незадачливых акробата из цирка Панталона; суровые времена и ничтожное число любителей икарийских игр3 вынудили его закрыться несколько дней назад. Не имея средств, чтобы с нами расплатиться, господин Панталон не нашел ничего лучшего, как отпустить нас на все четыре стороны. Мы не ели уже двое суток, ни мы, ни этот бедный ученый козел. Если вы соблаговолите подать нам на пропитание, мы отплатим вам как умеем, предложим фокусы-кульбиты, стойки на руках, эксцентрические трюки и двойное сальто-мортале с воздушным полетом в синеву, осеняющую эти зеленые просторы.
Молодец надел шляпу и замер в ожидании.
П. Мак Орлан. Негр Леонард и мэтр Иоганн Мюллен. 9
183
Мне ничего не оставалось, как отвести бродячих артистов к себе домой.
Пока мы шли, эскорт любопытных пополнился новыми ротозеями, избавиться от которых удалось, лишь захлопнув дверь у них перед носом.
Укрывшись от нескромных взглядов, я предложил обоим приятелям по сигарете.
— Я ничего не могу для вас сделать, — сказал я сразу. — Край здесь негостеприимный. На вашем месте я бы отправился в Париж, там вы сольетесь с толпой иностранцев, и никто не обратит внимания на то, как вы одеты.
— Нам жить не на что, — отозвался мэтр Мюллен. — Совсем не на что. Хоть козла купите. Вы его узнали?
— Это Великий Мессир? — спросил я.
— Увы! — простонал негр. — Вы только посмотрите на эту несчастную грустную морду.
— То есть полное фиаско? — не унимался я.
— Чудовищный крах, конец всему, конец злу!
— Как же случилась такая катастрофа?
— Ох! Совершенно естественно, — вздохнул Иоганн Мюллен, — просто совершенно естественно. Уже несколько лет крепло ощущение, что дело идет к концу. Наша академия зла перестала отвечать современным вкусам. Злу у нас стало неуютно.
— Ну и дела! — воскликнул я. — Вы что, хотите сказать, что отречение Великого Козла приведет к исчезновению зла на земле? По- вашему, это просто смена власти?
— Люди, — грустно произнес Иоганн Мюллен, — не нашли ничего лучше наших сборищ, чтобы идеализировать желания злодеев. Мы для них воплощали всё самое пагубное, что есть в вине, в любви, в табаке. Произошедшее ныне чудо положило конец заведенному порядку вещей, представлявшемуся нам вечным, и человечество оказалось в ситуации, к которой оно не готово. Зло на земле теперь исчезнет!
— Вы так думаете?
184
Дополнения
— Увы!
Я вручил двум падшим демонам сумму денег, достаточную, чтобы купить билет на поезд до Парижа и снять по приезде меблированную комнату. Еще я подарил им кое-что из одежды, чтобы они могли переодеться, и, наконец, я взял на себя заботу о Великом Мессире, который в завершение своей карьеры решил принять обличие вполне презентабельного козла.
Поскольку светящегося рога у него уже не было, пришлось зажечь фонарь, чтобы препроводить его в стойло. Без лишних церемоний я привязал его к кольцу, вбитому в стену.
Негр Леонард и мэтр Иоганн Мюллен пожали мне руку. Когда они уходили, вся деревня спала. Я долго провожал взглядом две фигуры на белой ленте дороги, идущей через луга и яблоневые сады. У опушки Воробьиного леса они исчезли.
А я вернулся домой, где угасала Катье.
Бледная
и так сильно постаревшая, что я испугался, «лодочница» Катье угасала, съежившись как древняя служанка. В принци¬
пе, она могла сойти и за святую, ибо на лице ее светилось выражение необычайной доброты, придававшее ей вид простой девицы, каковой она, собственно, и была на самом деле.
По-детски упрямо она постоянно твердила:
— Нежность, нежность, повторяйте за мной — нежность, о хозяин.
Междометье в обращении облагораживало фразу.
Я хотел было напоить ее бульоном, но она с ужасом оттолкнула чашку.
— Там внутри мертвый бык. Зачем вы убили быка? — Она зарыдала. — Не надо было убивать быка.
Ухаживать за Катье стало трудно. Ее душевное отношение ко всему достигло крайней степени. Чем больше дурнела моя бедная фламандка, тем больше меня раздражала ее доброта, хотя ничего особо агрессивного в ней не было.
186
Дополнения
Общаясь с ней, я ощутил, что вот-вот сам стану добрым, но добрым беспричинно, а главное — беззащитно. При мысли об этом у меня волосы встали дыбом, и тотчас инстинкт самосохранения вернул меня к деревне и ее обитателям. Я представил, как меня живьем сожрет эта волчья стая нудных и упертых ханжей.
Мне пришлось напрячь все свои силы, чтобы скрасить агонию Кагье присутствием близкого человека. За несколько часов до смерти ее бедное немощное тело стало лучиться добротой и окуталось светом, лучи которого до меня, к счастью, не доходили, поскольку я всячески старался от них уберечься.
Я любил «лодочницу» за ее блистательную красоту и ту толику таинственности, что исключала сравнение с другими девушками. Когда она стала постепенно дурнеть, я почувствовал, что навсегда разлучен с той, что знавала меня по ночам, когда мое поведение не делало мне чести. Что же до тайны, то она била копытом у меня в хлеву, привязанная веревкой к стенке.
И всё же, силой привычки преодолевая отвращение, я ухаживал за Катье до самого конца.
Она умерла на рассвете, когда запел петух. Я не усмотрел в этом обстоятельстве никакого совпадения, даже литературного. Так случилось.
Склонившись над той, что пленяла нехороших парней1 своей непревзойденной красотой, я пытался найти в этом лике святой хотя бы отблеск того, что еще совсем недавно могло называться прелестным лицом.
Когда я в последний раз вглядывался в эту головку, лежащую на подушке словно старинная безделушка, перед моим изумленным взором произошла любопытная вещь.
Черты Катье стерлись: глаза и рот затянулись, исчез, словно растворился, нос. Лицо стало гладким, без выпуклостей, без отверстий, как грибок для пггопки.
Так девушку и похоронили, без единой опознавательной черты. Это жалкое чудо стало высшим проявлением ее доброты, стремившейся сделать ее такой же, как все.
В РЕЗУЛЬТАТЕ
описанного события зло исчезло с поверхности земли. Оно в обличии козла грызет свою
веревку в сарайчике, который я велел построить рядом с чересчур просторным хлевом. О своем присутствии он возвещает гостям резким и специфическим запахом. Когда на него смотришь сквозь приоткрытую дверь, он обращает к тебе два больших мутных и лучистых глаза. Своими тонкими губами он принимает щепотки табака — когда соизволит, ибо он верен себе.
По этой причине я обращаюсь с ним скорее как со скотиной, чем как с низвергнутым божеством.
Жизнь моя спокойна. Охота, собаки и книги ограждают меня от большей части забот, досаждающих другим людям.
Зло на земле исчезло. Мало кому удалось пережить эту катастрофу, ибо, когда нарушилось равновесие между человеческими способностями, неимоверное количество мужчин и женщин умерли от доброты,
188
Дополнения
как моя служанка. Они стали чересчур добрыми внезапно, без подготовки, и по большей части дали волю своим чувствам самым нелепым образом, преступив границы, установленные природой.
О социальных бедствиях, ставших прямым следствием исчезновения зла, можно было бы написать весьма любопытную книгу.
Ее главы нетрудно себе представить. Оставляю другим заботу о ее написании.
Я же всегда полагал, что война и наступающее следом за ней отвращение всех ко всему однажды принесут людям новый, доселе не виданный катаклизм, ни в коей мере не подлежащий научному объяснению. Так что меня не сильно удивили события, произошедшие у меня на глазах.
Когда всё в очередной раз успокоилось, я снова стал охотиться в Воробьином лесу и невольно улыбался, часто не без горечи, при мысли о моей покойной красавице.
Однажды утром почтальон принес мне письмо из Парижа. Оно было от магистеля Иоганна Мюллена. Я прочел его с любопытством.
Бывший прислужник Черного Афедрона решил напомнить мне о своей особе. Он нашел доходное место в бакалейной лавке и доволен судьбой. Что же до негра Леонарда, он теперь отплясывает в русской балетной труппе. Каждый вечер он вымещает зло на Петрушке, обезглавливая его прямо на глазах у подруги1.
О деньгах в письме речи не было. Порвав листок, я отправился в хлев к Черному Афедрону.
Я всячески избегал философствовать на его счет, даже про себя. Но с того дня я принял решение предоставлять его фермерам, желающим покрыть своих коз. Я беру по три с половиной франка за случку, чисто символически. Великий Козел смотрит по-прежнему иронично и похож на давно не мывшегося бургграфа2. Вполне возможно, для этого чудака я так и остался всё тем же Плюшкиным Черепом, каким был в минуту заблуждения.
П. Мак Орлан. Негр Леонард и мэтр Иоганн Мюллен. 11
189
В каждом из нас, в укромном уголке его самых сокровенных мыслей, есть подлый маленький штришок, который позволит ему завершить свои дни в печали.
МлК-
&
КРАТКИЙ
СПРАВОЧНИК
БЕЗУПРЕЧНОГО
АВАНТЮРИСТА
i
Предуведомление
дети в наше время относятся ко всему j авантюрному с некоторым презрением. Взрослые же охотно советуют подросткам, которые находятся у них под началом, читать приключенческие романы, хотя сами уверены, что никогда до такой глупости не дойдут.
Причина, по нашему мнению, в том, что из приключенческих романов почему-то изгнана всякая непристойность и порочность, а потому подростки предпочитают романы традиционные, любовные — или уж книги про авиацию, которые смело можно давать кому угодно.
В самом деле, авторы приключенческих романов отличаются необъяснимым в наше время целомудрием. Даром что их произведения изобилуют необитаемыми островами, где потерпевшие кораблекру¬
194
Дополнения
шение путешественники всячески стараются как-то заново наладить жизнь, тем не менее женщины, даже самые завалящие, появляются там нечасто.
Вероятно, присутствие женщины среди потерпевших кораблекрушение может вызвать в воображении читателя определенные образы: что-то вроде японских эстампов известного толка, которые я никому не посоветую рассматривать1.
Смешайте в умеренных пропорциях немного медицины и немного непристойности, обеспечивших успех «натурализму», с оплошками воображения, развращенного причудами случая и «непостоянством злых демонов» (пользуясь выражением Пьера де Ланкра)2 — и получите приключенческий роман, обреченный на успех.
Дети прочтут его с удовольствием, потому что сумеют отыскать в нем запретные образы, которые обычно встречаются только в наших замечательных романах, предназначенных на экспорт;3 примеру юных читателей последуют их сёстры; словом, стоит только отважному автору ввести адюльтер в приключенческий роман, как эта разновидность литературы привлечет всеобщее любопытство и будет встречена громом литавр.
Наш краткий справочник никого не должен ввести в заблуждение. Поэтому мы сочли необходимым отказаться от романной формы, которая, повторяем, только на то и годится, чтобы обучать подростков обоего пола разновидностям адюльтера, предписываемым модой.
Изучая эту книжку, молодой человек, несколько безвольный, без определенного призвания, может превратиться в отменного авантюриста, ничем себя не компрометируя, — а это уж никак не глупее, чем стонать в тюрьме из-за того, что недооценил жесткость законов в области коммерции.
Добавим, что наша книга будет содержать такие пассажи — не станем уточнять заранее, — которые даже для самого скудного воображения выявят сладострастную сторону авантюрного житья-бытья.
Хотя наше руководство предназначено для подростков обоего пола, мы будем держаться в относительных границах благопристойности. Главное — договориться о том, что мы подразумеваем под этим словом, смысл которого, как и всё в этом мире, весьма относителен.
2
Разные категории авантюристов
всего, давайте твердо условимся, что при- ключений не бывает. Они существуют в голове у тех, кто к ним стремится, а как только дотронешься до них пальцем, они тут же развеиваются, чтобы возродиться где-нибудь в другом месте, в иной форме, в самых дальних закоулках воображения.
Бывало, что приключением считали войну. Мы знаем всё, что она нам принесла, благо сами в ней поучаствовали1, и нам ни к чему обращаться к источникам, которыми пользуются создатели вымышленных историй.
Но к этому вопросу мы вернемся несколько позже. Сейчас довольно будет сказать, что опасно претворять приключения в жизнь, пускай
196
Дополнения
даже в самых общих чертах, потому что в конце концов нам обычно остается только тяжкий груз разочарований и сожалений.
Этот совет относится в особенности ко второй категории авантюристов, которыми мы будем заниматься в этой книге.
Потому что авантюристов следует делить на две основные категории, которые в свою очередь делятся на множество подвидов.
Первую категорию назовем активными авантюристами, вторую —
ПАССИВНЫМИ.
ie 1е ic
Прежде чем исследовать эти два класса, в принципе совершенно разных, следует предупредить читателя, сколько бы ему ни было лет, что опасно доверяться книгам, в которых всё — и композиция и образы — подчинено воображению.
Авантюристы, которых уже нет в живых, полностью принадлежат к сфере воображаемого, поэтому их развращенность не вызывает сомнения. Не счесть примеров посмертного распутства, в котором бывали замечены ничтожнейшие из джентльменов удачи2.
Чем менее известен джентльмен удачи, чем меньше в его биографии точных деталей, тем пагубнее его влияние на умы читателей.
Марсель Швоб принял на себя тяжкую ответственность, когда взялся сопоставить восхитительные биографии нескольких авантюристов3, лишенные какой бы то ни было пикантности с точки зрения их современников. Этот уважаемый писатель принадлежит к классу пассивных авантюристов, а его поклонники напоминают приверженцев сатанизма, при всяком удобном случае пускающих в ход самые мощные заклинания черной магии.
Современники какого-либо события, особенно если оно не укладывается в рамки общепринятых норм, тяготеют к обобщениям. А это неправильно, потому что только частные детали помогают нам воссоздать точную атмосферу, в которой действовали участники этого события. Со временем иногда обнаруживаются историки, способные восстановить ту атмосферу, которую невозможно представить себе по
77. Мак Орлан. Краткий справочник безупречного авантюриста. 2
197
воспоминаниям современников. Вот эти-то историки и представляют единственную опасность, ибо, не будем забывать, мертвое порой влияет на живых больше, чем реальные обстоятельства их жизни.
Недоброе дело не умирает никогда; напротив, оно приносит обильные плоды, и чем дальше, тем больше.
* 1с 1с
Слова имеют для авантюристов тайное значение. Авантюрист любого разряда любит вникать в тайный смысл языка. Для того чтобы взрастить авантюризм в умах, необходимы арготизмы. Начиная с «цветного жаргона» Франсуа Вийона4 до «солдафонносгей» капитана де Лафри- за5 и далее, вплоть до неологизмов современного арго, авантюристы черпали силу в этих таинственных наречиях.
Авантюристу необходимо овладеть одним из подобных языков; чтобы извлечь тайный смысл слов, которыми мы пользуемся в повседневной жизни, ему приходится перелагать их на жаргон «пропащих ребят»6.
Любое жаргонное речение есть приворотное зелье, распахивающее двери в царство авантюр7.
И мудрость авантюристов так или иначе должна прозвучать в зашифрованном виде:
Ребятам, рыщущим в Рюэле, Даю совет: умерьте пыл, Пока туда не загремели,
Где Лекайе Колен гостил*’8.
* Пер. Ю.Н. Огефанова.
3
Об активном, авантюристе
В ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ
авантюристу пассивному активный авантюрист способен опозорить даже самую невозмутимую семью.
Когда он еще совсем дитя, первые приметы зловещего призвания уже дают о себе знать чем-то неуловимым — тем, что молодые мамы называют «фокусами», а благовоспитанные гости вежливо терпят.
Детство будущего авантюриста — любопытная мозаика злодеяний, сообразных летам преступника. С самого нежного возраста юному авантюристу знакомы искусственный румянец и наигранное веселье, возникающие благодаря постоянным оплеухам.
П. Мак Орлан. Краткий справочник безупречного авантюриста. 3
199
Как правило, в начале жизненного пути юный авантюрист не блещет проницательностью. Еще не умея управлять своими рефлексами, он на собственной шкуре ощущает суровые уроки огня, воды, неловкой и легко разоблачаемой лжи — и, как следствие, кошмарные скандалы.
Родители юного авантюриста резюмируют весь этот опыт в словах, которые повторяют всем и каждому: «Наш ребенок окончит свои дни на эшафоте».
Само по себе это ничего не значит, и родители сделали бы больше чести юному авантюристу, если бы выражались точнее, приблизительно так: «Поль — тот еще гаденыш, глаза завидущие, руки загребущие. Всё себе, ничего другим, и ведь вроде не дурак, но успешно это скрывает. Никогда не знаешь, что у этого ребенка на уме. Ему бы только забиться на часок-другой в укромный уголок вместе с маленькой кузиной, так, что и не сыщешь их, а играть в игрушки лакового дерева, которые лежат у него в коробке, нипочем не станет».
Родители юного будущего авантюриста отдали бы частицу вечного блаженства за то, чтобы он бесследно исчез, а они были бы в этом не виноваты. С самого раннего возраста он у них как кость в горле1. Но удача, отменное здоровье и дьявол, покровительствующий негодяям, хранят его, и вот он гуляет себе в саду пыток2, приспосабливая его к своим нуждам.
ЗЛОВЕЩИЙ РЕКВИЗИТ, НЕОБХОДИМЫЙ ЮНОМУ АВАНТЮРИСТУ
Лягушка, которую надули через соломинку.
Золотые рыбки, которых удерживают на поверхности воды пробки, приколотые булавками к их спинкам.
Майские жуки, волочащие в небо клочок газеты, приклеенный к брюшку.
Муха с оборванными крылышками.
Побитый пес.
200
Дополнения
Кошка, потерявшая достоинство благовоспитанного домашнего зверя вследствие перенесенных издевательств.
Кран на кухне, из которого вечно течет вода, и длинный перечень пагубных последствий этого безобразия для медной утвари.
Вековые дубы, терпеливо раскрошенные на бирюльки.
Растление гостящих в доме малолетних подружек.
Разнообразные попытки содомии, легкая склонность к скотоложству.
Стремительная порча мебели.
Презрение к произведениям искусства и книгам.
Пылкое восхищение самыми глупыми сверстниками будущего авантюриста.
Самое искреннее презрение к тем, кто должен ему преподавать всякие премудрости и математику.
Быстрый износ башмаков.
Всевозможные пытки, которым подвергается бонна.
(Об этом следовало бы рассказать подробнее, но с огромным чувством такта.)
Тайные торжества, буйные пляски с друзьями-ровесни- ками, мелкие безопасные кражи.
АПОФЕОЗ: стенания всей семьи и вообще всех, кого эти дела совершенно не касаются.
к к к
Краски на этой мрачной картине меняются с наступлением отрочества. В сущности, именно в эту пору активный авантюрист превращается в законченного скота.
Основные черты таковы: полное отсутствие воображения и чуткости; смерти он не боится, потому что не понимает, что это такое, зато боится тех, кто явно сильнее его. Авантюрист любит дисциплину. Она
П. Мак Орлан. Краткий справочник безупречного авантюриста. 3
201
его успокаивает и развлекает. Это единственная форма искусства, которую он способен уразуметь.
Перед активным авантюристом открыты бесчисленные пути. Поэтому его нелегко отнести к какому-либо определенному разряду. Однако большинство путей ведут его к вульгарным приключениям. Благодаря этой вульгарности заманчивое звание авантюриста утратило свой ореол. Авантюрист угодил в область отделов происшествий и романов-фельетонов. Это справедливо. В наши дни не многие авантюристы удостаиваются пропуска в серьезную литературу — а то пришлось бы переписывать «Историю авантюристов»3 заново.
Их чувства и битвы бесцветны, или, во всяком случае, эти цвета нам слишком хорошо знакомы. Чересчур тесное жизненное пространство, в котором они действуют, давно раскрыло нам все свои секреты. Тайна исчезла из баров Бельвиля4, Монмартра5 и окрестностей Военной школы6. С чудесами нельзя просто жить рядом, их нужно завоевывать. Еще Ясону в незапамятные времена пришлось снарядить корабли, чтобы отправиться на поиски великого приключения — добыть золотое руно7.
В наше время активными авантюристами становятся, как правило, не по личной инициативе: они выходят из среды людей, подчиняющихся суровым законам весьма жесткой дисциплины.
Авантюристов обнаруживаешь в Иностранном легионе8, в пехотных колониальных войсках. На флоте их совсем немного, потому что в этом ремесле постоянными упорными усилиями добиваешься гораздо большего, нежели преимуществами, которые дарует переменчивая удача, подбрасывает случай или рисует фантазия.
Авантюристу полезно быть храбрым — это помогает защищаться от людей. Поэтому храбрость авантюриста разительно отличается от доблести солдата, который защищается главным образом от всяческой техники.
Поединок человека, который весит семьдесят килограммов, с артиллерийским снарядом такого же веса, бесспорно есть одно из самых идиотских изобретений нашего времени. На этой пропорции зиждется
202
Дополнения
вся война 1914 года. На ее опыте с ужасом замечаешь, как неразумно ведут себя люди.
В рядах пассивных авантюристов иногда попадаются писатели, преимущественно английские и американские, потому что эти народы имеют склонность к коммерции и больше всех привносят фантазию в так называемые требования, предъявляемые жизнью.
Попробуйте-ка сочинить приключенческий роман, описывающий подвиги помощника начальника отдела в министерстве, однако Джек Лондон9, Конрад10 и другие могут недурно выстроить такой роман на основе превратностей собственной жизни. Кстати, эти писатели принадлежат к бесконечно редкой и ценной категории авантюристов — одновременно и активных и пассивных.
Но эта категория выходит за пределы нашей книжечки, преследующей практическую цель, а потому отсылаем читателей к произведениям Джека Лондона, Джозефа Конрада, Р.-Л. Стивенсона11, Бернара Комбетга12, Озиас-Тюренна13 и так далее.
Как бы то ни было, ясно, что суровое существование некоего Шекл- тона14 представляет куда меньше интереса для французской публики, чем фривольные похождения какого-нибудь красавчика, коим несть числа.
Г%лл>4
О пассивном, авантюристе
постоянно цепляется за подлокотники собственного кресла, как капитан корабля дальнего плавания — за перила своего капитанского мостика. Книга наша предназначена для него и только для него. Нам милы его мирные повадки, благодаря которым он не боясь впишется в самое безобидное окружение.
Пассивный авантюрист ведет сидячий образ жизни. Движение он ненавидит во всех его формах, а вульгарную жестокость, резню, огнестрельное оружие и насильственную смерть — во всех видах.
Всё это он ненавидит применительно к самому себе, но с любовью воспроизводит в воображении, когда речь идет о том, что нужно активному авантюристу.
204
Дополнения
Пассивный авантюрист паразитирует на подвигах авантюриста активного — иначе он не может.
У каждого активного авантюриста есть двойник — авантюрист пассивный, о существовании которого он даже не подозревает.
Пассивный авантюрист питается трупами. В тиши своего кабинета, укрытого от всех ветров, он раздирает на куски тела джентльменов удачи, болтающиеся на виселицах Чарлзтауна и дока Казней в Лондоне1. Постоянный ток проходит между ним и капитаном Флинтом, испустившим дух в Саванне2. Этого самого пирата, простодушного и жестокого, можно обнаружить в воображении человека, который подарил ему бессмертие, отнюдь не предусматривая ничего подобного для себя самого.
Активный авантюрист без пассивного — ничто. Этот последний таскает для него каштаны из огня3 и добывает ему славу. Самые суровые минуты обходятся ему не слишком дорого.
Капитан Кидд должен был избороздить волны Атлантического океана хотя бы потому, что двести лет спустя Марселю Швобу предстояло запечатлеть на веки вечные его силуэт4, успевший уже потускнеть в о&- лаке водяной пыли и череде равнодушных лет.
* * *
Пассивный авантюрист должен быть человеком состоятельным или, на худой конец, располагать достаточными средствами, чтобы избегать мелких неудач, сопутствующих жизням посредственностей.
Устроившись в уютной квартире, как косточка в сердцевине плода, пассивный авантюрист будет отслеживать безвестные деяния тех, кого несчастливая звезда влечет к превратностям приключений. Планомерно классифицируя эти деяния, он изведает сладостную тоску озноба, у которого нет завтра, потому что в царстве приключений завтра всегда зловеще или полно разочарований.
Заодно с великими страданиями деятельных людей домоседы обеспечивают себе бесконечное множество маленьких радостей, изысканных и разнообразных, которые все вместе придают празднику жизни несказанное тепло.
П. Мак Орлан. Краткий справочник безупречного авантюриста. 4 205
* * *
Детство пассивного авантюриста заполнено усердной учебой; оно даже отдаленно ничем не напоминает детство его двойника. В нем мирно уживаются такие вещи:
Прилежные занятия гуманитарными науками (в будущем они ему пригодятся).
Благопристойные отношения с прислугой женского пола.
Нормальный сон.
Хороший аппетит.
Умеренность во вранье.
Культ чувствительности.
Полное отсутствие того, что принято называть нравственным чутьем.
Уважение к традициям и дисциплине.
Отвращение к жестоким играм, вообще к спорту — на практике, поскольку в теории пассивному авантюристу полагается быть записным спортсменом.
Стройность фигуры (физическая полнота не рекомендуется).
Литературная эротика (на практике же — нормальные сближения с женщинами).
Неспособность плавать.
Умение написать слово «девка» на двадцати языках. Привычка грызть ногти.
Умение играть на аккордеоне несколько матросских песенок5.
Склонность говорить только о том, чего никто не знает.
НАЛИЧИЕ ДОВЕРЧИВОГО ДРУГА, ИЗ КОТОРОГО ПОТОМ ВЫЙДЕТ АКТИВНЫЙ АВАНТЮРИСТ.
г
Как становятся пассивными авантюристами
Итак,
роль пассивного авантюриста, совершенно безопасная, — единственная, которую мы можем с чистой совестью посоветовать нашим читателям.
Она сулит упоение увлекательными приключениями при полной свободе от санкций со стороны общества и от небесных кар.
Признаки, позволяющие распознать пассивного авантюриста с пеленок, как я уже говорил в предыдущей главе, весьма зыбки и двусмысленны.
Если мы считаем пассивное приключение искусством, то приходится признать, что от будущих адептов требуется некоторая природная одаренность. Врожденные дары надо пестовать и развивать. Это во¬
П. Мак Орлан. Краткий справочник безупречного авантюриста. 5
207
прос интеллектуальной гимнастики, основанной на ежедневных упражнениях и, в частности, на методичной тренировке воображения. Далее мы увидим, чего можно ждать от воображения.
Тяга к приключениям в их пассивном варианте подчиняется тем же правилам, что и прочие пороки.
Какой-нибудь детали, идеи, незначительного зрелища, нечаянно услышанного словца, картины, замеченной в детстве или юности избранника фортуны, довольно, чтобы увлечь его на эту стезю, которая, подобно всем прочим извращениям разума, берет начало в самых банальных фактах.
Подобно фетишизму в любовных делах, пассивное приключение черпает силу в наиболее таинственных истоках нашей индивидуальности.
Приключенческая литература опасна. Исключение сделаю для книг Жюля Верна1, в которых нет ни грана искусства и чувствительности, а потому они могут обольстить разве что начинающего ботаника. Жюлю Верну земля представляется огромным ботаническим садом, где у каждого животного на шее болтается этикетка, а каждое растение снабжено табличкой с названием поф>ранцузски и на латыни и порядковым номером для гербария.
Его книги не дают воображению выходить из берегов. Начиная с определенного возраста их теперь читают только в больнице или в тюрьме.
Но отклонение от нормы берет начало не только в книгах. Путешествия, особенно неожиданные и необычные, а пуще всего совершённые во время каникул на подступах к отрочеству, оставляют неизгладимый след в мозгу кандидата в пассивные авантюристы.
Дитя этой породы влюбится в какой-нибудь город, как влюбляются в женщину. Так один ребенок любил предвоенную Байонну2 — любил как прекрасную девушку из провинции, со всей силой первых всплесков чувств ученика коллежа, Байонну, ее цитадель, одетых в красные панталоны солдат3, которые валяются под солнцем, жарким, как в Ка¬
208
Дополнения
ракасе4, и обрывают фиалки на лугу. В день принесения этой первой присяги на верность юный пассивный авантюрист обзаведется:
памятью на запахи; тетрадкой с песнями;
основными красками для создания атмосферы приключенческого романа.
Имея в запасе эти три элемента, подросток, чувствительный, как бромосеребряная фотобумага5, созреет для великого морского приключения, населяющего самые заповедные закутки библиотеки племенем злых духов наивысшей пробы, — морских духов, северных и экзотических.
Тут домоседа начинает трясти от беспокойства. Покуривая трубку, этот добропорядочный человек принимается совершать воображаемые преступления, одно затейливее другого. При этом, если в стакан воды ненароком угодит первая весенняя муха, он вылавливает ее кончиком пальца и спасает.
/lurfv С
О роли воображения
Пассивного
авантюриста воодушевляет главным образом воображение. Оно повелевает хаосом, скорее мнимым, чем реальным, которым загроможден мозг этого милейшего человека, мозг, в котором теснятся мебель, ткани, оружие и странные инструменты, так что напрашивается сравнение с лавкой старьевщика, а отчасти антиквара.
В голове у пассивного авантюриста должно быть как можно больше диковин и всякого хлама, потому что этому человеку приходится из собственных запасов извлекать пестрые цветастые ситцы, которые
210
Дополнения
получали в дар дикари Нового Света в обмен на заразные болезни — еще более яркие, чем эти ткани. Ему вёдомо всё, что можно извлечь из утонченной литературной отравы — из вина, опиума, табака, баров, где торгуют алкоголем, державшим в плену Джека Лондона1, и любви, всегда и трагической и смехотворной, но неспособной, по его мнению, всерьез удержать внимание читателей.
Будучи развращен с детства, пассивный авантюрист, тем не менее, в каком-то смысле остается стыдливым: он никогда не выдаст семейных тайн. А любовь — это именно семейная тайна. Влюбленные всегда слабы и смешны; книга о любви, если в ней нет непристойностей, может только ослабить боеспособность мужчины и уважение, каковое читатель должен всегда хоть немного питать к герою романа.
Слова, лишенные точного значения, и ребяческие глупости, какие мужчине непреодолимо хочется говорить любимой женщине, наделены некой интимностью, к которой не должен прибегать ни один романист.
Пассивному авантюристу, чье воображение и умение строить сюжет очень близки к писательским, следует всего этого избегать. Женщина для него должна быть не более чем частью атмосферы. В приключенческом романе ей надлежит отвести такое же место, какое занимает сушеная летучая рыба, подвешенная к потолку в маленьком матросском баре на набережной Темзы.
Всё это совершенно не мешает пассивному авантюристу любить жену и детей, — что, впрочем, при любых обстоятельствах касается его одного.
Пассивный авантюрист должен всегда подпитываться собственным воображением. Его забота — хранить этот источник от оскудения, обогащая его каждодневно всем, что пошлет ему судьба в разных областях интеллектуального поиска.
Пробным камнем для проверки впечатлений ему послужат несколько ориентиров в реальной действительности.
П. Мак Орлан. Краткий справочник безупречного авантюриста. 6
211
В качестве пробных камней отметим следующие:
Всё прочее -
Море.
Солдат.
Матрос.
Кабачок.
Несколько типов кораблей.
- не более чем ассоциации и преобразования, исходящие из
этих пяти краеугольных камней.
/Tlurfv Я-
О чтении
авантюрист способен поддерживать форму только в том случае, если будет обильно питаться колдовским зельем, которое содержится в книгах.
Можно утверждать, что книги великих классиков, почти сплошь отражающие чувства, господствовавшие в их эпоху, не имеют для нашего героя никакой ценности.
Только в литературе, передающей тревоги безвестных литераторов, подчас проникнутые поэзией, отыщутся принципы, по которым строится рассказ о великой тревоге, превращающей пассивного авантюриста в паралитика, по сто раз на дню декламирующего «Приглашение к путешествию»1.
П. Мак Орлан. Краткий справочник безупречного авантюриста. 7
213
В произведениях некоторых современных авторов можно обнаружить заблуждения, помогающие пассивному авантюристу удерживать себя в приподнятом состоянии литературного восторга. Приведу в пример Гийома Аполлинера2, в чьей неопрятной лавочке хранилось бесчисленное множество драгоценных предметов вперемешку с тряпьем; Андре Сальмона, автора «Приказа», единственного приключенческого романа о русской революции;3 Макса Жакоба, чьими ассоциациями восхищаешься, если сумеешь угадать слово, которое дало толчок игре его ума4. Это выдающиеся, эпохальные книги, их сила — в какой-то заботливо взлелеянной недосказанности, заряжающей читателя тайной дерзостью.
Назову и других авторов, чьи произведения постичь бывает нелегко, но чье влияние на умы непреодолимо. Приведу только французов: это Пьер Милль5, Жильбер де Вуазен6, Бернар Комбетт, Джон-Антуан Но7, которым удалось преодолеть экзотизм, отметив его печатью собственной индивидуальности. К этому списку добавим и Жюля Ромена8, а также Фернана Флёре, чей авантюрист Лувинье дю Дезер при случае пользуется тайнами жаргона разносчиков9.
Помимо произведений этих, а также других авторов, чьи имена сейчас от меня ускользают, но которые также вошли в литературу, пассивный авантюрист может собирать книги, которые, не принадлежа перу крупных писателей, не теряют от этого в значительности.
Пассивному авантюристу придется посвятить немало часов изучению всевозможных видов и типов документов на арго. Как мы уже видели в одной из предыдущих глав, эрудиция в этой области не лишена очарования.
Франсуа Вийона, тоже в своем роде авантюриста, невозможно понять без дижонских документов, в которых приводятся первые элементы «цветного жаргона». Несколько слов, заимствованных из показаний Перне-ле-Фурнье, позволили Пьеру д’Альгейму написать превосходный роман «Отрасти по мэтру Франсуа Вийону»10.
Возьмите, к примеру, сонет, принадлежащий перу Клода Ле Пти, двадцатитрехлетнего поэта, который был удушен и сожжен на Грев- ской площади за нечестивое стихотворение:11
214
Дополнения
Друзья, в огне погиб несчастнейший Шоссон12,
Известный каждому, беспутный и кудрявый;
За доблестный конец почтен посмертной славой,
Затем, что злую смерть достойно встретил он.
Пред этим, в серную рубаху облачен,
Покуда палачи вершили труд неправый,
Он песню весело пропел перед расправой И с высоты на всех взирал, не усмирен.
Напрасно пастыри, сгрудясь вокруг в печали,
Покаяться в грехах беднягу убеждали:
Когда уже огонь страдальца охватил,
Назло безжалостным и любопытным взглядам,
Свалился он с костра, сверкая голым задом —
И на глазах у всех он умер так, как жил!
Несмотря на свою концовку, это трогательное стихотворение. Клоду Ле Пти спустя несколько лет пришлось встретить такой же конец. В сонете речь идет о некоем Шоссоне, чиновнике Управления королевских откупов13 и известном содомите.
Оценим с точки зрения нашего авантюриста все элементы, необходимые для его искусства: тут и Шоссон с его кудрявой головой, тут и кабачок, где он встречался со своими жертвами и с несколькими блестящими умами, — словом, вся среда литературной богемы как она есть и, в довершение таинства, необычайно почетная мучительная казнь.
Какой роман! Какое приключение!
Не нужно забывать, что наш пассивный авантюрист — писатель, в известной степени сознательный.
/viurfv <f
О бесполезности путешествий и собирания архивов
L п д р/лтл pv ту ту j j TT человек, если он любит при- LJJ liil v/I 1 ключения, никогда не гово¬
рит о том, что видел сам.
Пассивный авантюрист, наделенный хорошим вкусом, из целомудрия хранит то, что видел.
И потом, никогда не следует забывать, что приключение обитает в воображении того, кто его жаждет. Когда думаешь, что оно у тебя в руках, оно улетучивается, а если и вправду держишь его в руках, оно и доброго слова не стоит. Оно превращается в ничто. Поэтому остерегайтесь достигать этой несуществующей цели обычными пу¬
тями.
216
Дополнения
Пассивный авантюрист ясно представляет себе те страны, о которых ему известно только их географическое положение.
Если он в самом деле жил в Каракасе, то никогда не осмелится описывать жизнь джентльмена удачи в этих унылых декорациях.
Стивенсон, сочиняя трогательный конец знаменитого Флинта, не представлял себе, насколько живописна Саванна; ее реалистическое и добросовестное описание не прибавило бы славы великому шотландскому писателю.
Итак, личность пассивного авантюриста должна по возможности торжествовать над сюжетом, пускай даже в ущерб правдоподобию фактов и обстановки.
Ни путешествия, ни война просто не стоят того, чтобы ими заниматься. Никогда не следует играть активную роль в подобных увеселениях, ведь всё, что в них есть истинно прекрасного, постепенно начинает тонуть в скучных деталях.
ПОЛЬЗА, КОТОРУЮ АВАНТЮРИСТ МОЖЕТ ИЗВЛЕЧЬ ИЗ ПУТЕШЕСТВИЙ
В качестве пролегоменов1 — разнообразные споры.
Утрата чувствительности (отъезд, платок, литература).
Багаж.
Морская болезнь.
Авантюрист служит дойной коровой.
Авантюристу слишком жарко.
Пытки, относящиеся к сфере энтомологии.
Скука.
Отвращение.
Всё это при условии, что авантюрист богат. Если случай осложнен нищетой, можете не сомневаться, что ненависть к стране, где он побывал,
П, Мак Орлан. Краткий справочник безупречного авантюриста. 8
217
отнимет у него всякую способность что-либо выдавить из себя по ее поводу, кроме простейших звукоподражаний, перечисление которых не уместится и на десяти страницах в двадцать пять строчек каждая.
Те, кто был на войне и кому вдобавок пришлось играть активную роль в этом гибельном противоборстве, знают, что несколько липших часов в карауле могут вселить отвращение к жизни или, по крайней мере, отбить интерес ко всей операции в целом.
О грязи умолчим — она в этих обстоятельствах скорее добавляет происходящему благородства.
Г%ЛЛ\t*L, Я
Jlymeuuecmôua, которые мы можем себе позволить
пассивному авантюристу, что бы там ни думал читатель, нехорошо чахнуть в одиночестве, запираться в башне из слоновой кости1.
Такое церемониальное, но бесцеремонное отношение к жизни подобает пассивному авантюристу только в том случае, если ему уже под сорок и он может себе позволить жить прошлым — вернее, воображаемым прошлым.
Поэтому благоразумней все-таки для начала немного попутешествовать, только нужно тщательно выбирать пункты назначения.
Честному пассивному авантюристу следует как можно меньше удаляться от средоточия его деятельности, то есть от собственной библио-
П. Мак Орлан. Краткий справочник безупречного авантюриста. 9
219
теки. Но ему нужны какие-то ориентиры, способствующие созданию более или менее порочной атмосферы и колорита. Вот путешествия, которые ему рекомендуется совершить:
Путешествие в Бретань (побыть какое-то время и погрустить).
Путешествие на Средиземное море.
Путешествие в Голландию.
И несколько пробных налетов на парижские пригороды.
Путешествие в Бретань поможет ему освоиться с морем и познакомиться с матросами. Пускай не занимается собственно морем, каковое есть лишь вода, но вернется с памятью, набитой морскими выражениями и песенками в таком роде:
Не заплачу по мамаше,
Не заплачу по папаше,
Без родни я проживу,
От моей красотки уплыву!
Или в таком:
Не дарите вы, девицы, Сердце морякам,
Им на месте не сидится, Нынче здесь, а завтра там.
Или, наконец:
Вот мы снова на земле,
Наш корабль приплыл в Кале!2
220
Дополнения
Мы и другие знаем, ничуть не хуже. Все эти песенки держат пассивного авантюриста в неослабевающем напряжении. Можно сказать, что пассивный авантюрист — это тетрадка песен с иллюстрациями на полях и несколькими смутными и нежелательными латинскими реминисценциями, не успевшими изгладиться из памяти.
* * *
Путешествие на Средиземное море не столь полезно, как чтение мемуаров господина Бушара3, онаниста.
Хотя знать Марсель, конечно, не помешает.
Это неиссякаемый источник, склад «местного колорита» самого отменного вкуса.
«Квартал красных фонарей» — неисчерпаемая тема.
Кое-какие песенки головорезов дополнят набор аксессуаров, которыми можно воспользоваться, чтобы, не подвергаясь опасности, вообразить весь Дальний Восток.
Однако Марсель должен играть в воображаемой жизни пассивного авантюриста строго эпизодическую роль.
* * *
Голландию лучше приберечь на сладкое. Голландия — классическая страна всяческих авантюристов и безопасных тайн.
Хорошо звучат названия ее городов. Экзотика этой изысканной вотчины восхитительно четких деталей прекрасно усваивается. Голландия — страна дисциплины, воображение пассивного авантюриста насыщается там порядком и элегантностью.
Прежде чем направить корабль к берегам юной Америки, представьте себе, что в Слёйсе4, на зеленом ковре короткой травы, стоит девочка в юбке колоколом, что крылья мельницы, круглой, словно башня, замирают в положении, напоминающем латинский крест5, что начальник порта курит свою трубочку из Гауды6, попивая «Advokaat»7, —
П, Мак Орлан. Краткий справочник безупречного авантюриста. 9
221
и что «Фландрию в тени дерёв и море сквозь узор древесный» можно увидеть глазами Макса Эльскампа8.
Если в памяти пассивного авантюриста запечатлелось это зрелище, он смело может пускаться в дальнее плавание; он никогда не утратит достоинства, собирая небылицы, которые в изобилии будут встречаться ему на пути.
Плх10
Какие города следует, посетить
города славятся целебными водами, благотворно воздействующими на людей, а иные — приключениями.
Названия этих городов находят отклик в умах пассивных авантюристов.
ГОРОДА, БЕЗ ЗНАНИЯ О КОТОРЫХ НЕВОЗМОЖНО ОБОЙТИСЬ ПАССИВНОМУ АВАНТЮРИСТУ
АНТВЕРПЕН. — Углубленное изучение деревни Рит- дейк (см. у Жоржа Экхуда)1.
РУАН И ГАВР. — Прекрасный материал для сравнения:2 не забыть упомянуть маленькие бары, которые
П. Мак Орлан. Краткий справочник безупречного авантюриста. 10
223
расплодились в огромном количестве с прибытием в страну английских войск3.
ОН ФЛЁР4. — Живописный городок, идеальный для отдыха авантюристов; типичные нормандские домики, где активный авантюрист может пристойно и с комфортом доживать век. Одна из наиболее почтенных разновидностей конца жизни для джентльмена удачи, втайне мечтающего умереть в чине лейтенанта и в соответствующей обстановке.
РОШФОР. — Рекомендуется ради воспоминаний о каторжной тюрьме5. Справиться в книге г-на Мориса Алуа6.
Страну Басков затруднительно использовать в приключенческом романе. Прекрасный сюжет можно найти без долгих поисков. Но уважающий себя пассивный авантюрист должен рассматривать только такие приключения, которые имеют место между Сен-Мало и Вера-Крус7.
Флорида возможна, ее отличительный штрих — казни через повешение. В начале XVIII века обетованной землей виселиц оказывается и Саванна.
В Техасе на побережье По дороге на Гальвестон Есть огромный сад,
утопающий в розах*.
Так говорится в стихотворении «Анни» у Аполлинера8. А поскольку Гальвестон не так уж далек от Каракаса, мы можем благодаря деталям, о которых поведал поэт, установить, где он находится, этот замечательный рай для виселиц из старого корабельного леса.
Пер. М.П. Кудинова.
224
Дополнения
ОСТРОВ ТОРТУГА9 для пассивного авантюриста — всё равно что редкая жемчужина в Атлантическом океане.
Хорошо бы было написать путеводитель по острову Тортуга, руководствуясь наилучшими образцами жанра. Всякий пассивный авантюрист должен в определенный час дня повернуться лицом к острову Тортуга, как правоверный мусульманин падает ниц, повернувшись в сторону Мекки.
Смотри об этом «Историю авантюристов, флибустьеров и морских разбойников Америки» Экс<кве>мелина, с картами, фронтисписом и портретом мягкотелого животного, формой напоминающего кашалота10.
Кабачки
Посмотрите
на это желтое, как масло, строеньице, напоминающее краба, окруженное глубокими рытвинами, похожими на отвердевшие волны: это бретонский прибрежный кабачок. Те, кто пытается поживиться остатками кораблекрушений, приходят сюда со своими фонарями и вилами для сгребания водорослей, чтобы выпить сидра и тростниковой водки. Застенчивые девицы из Орэ, знаменитого своей святостью1, жалобными голосами, какими принято воспевать смертоубийство, исполняют там печальные народные песни на темы местных легенд.
О пассивный авантюрист! Чти бретонский кабачок!
226
Дополнения
На набережную выходит темная улочка, словно расселина в горе, состоящей из угля. На углу улочки — симпатичная лавка, выкрашенная красно-бурой краской. Костюм водолаза, увенчанный медной головой с огромными глазами сверчка, несет караул перед дверью. В витринах вперемежку лежат матросские ножи с оплетенной рукояткой в ножнах сыромятной кожи, причудливые красные помпоны для матросских беретов, кожаные ремни, которые матросы для развлечения плетут из отдельных ремешков, бухты канатов, телескоп, лакированный рупор и свистки для помощников боцмана. Однако эта лавка — ничто по сравнению с зальчиком с низким потолком, где весь день и большую часть ночи фонограф2 гнусавит всякие немыслимо трогательные глупости, прилетевшие из всех пяти частей света. Девушка, чьи белокурые волосы выдают ее северное происхождение, подает напитки и приветствует посетителей, называя всех по именам. За стойкой хозяйка, еврейка, говорящая на трех или четырех языках. Ее любовник работает у судового брокера. Она одета как зажиточная горожанка. Но на ее голубом платье по какой-то опасной и таинственной случайности несколько дней назад появилось кровавое пятно. На материи остался компрометирующий круглый черный след, который ничем не свести.
Чти портовый кабачок, пассивный авантюрист!
И не пренебрегай кабачком китайца, где подают рисовую водку господам из Легиона3, солдатам-аннамигам в красных лангути4 и простолюдинам. Полезно знать, что курить можно тот опиум, на котором имеется правительственный ярлык. Пассивному авантюристу не следует отмахиваться от влияния, которое оказывает опиум на некоторых выдуманных им второстепенных персонажей.
В «Воющей сирене» Рене Бизе5 описан кабачок на набережной небольшого приморского городка в Испании, где погибшие экипажи кораблей возвращаются к старым привычкам. Пассивный авантюрист, знающий себе цену, должен освоить эту книгу, извлечь из нее пользу и «перепеть» ее на свой лад.
Настоящий пассивный авантюрист должен каждый вечер исключительно силой собственной мысли — единственного вида транспорта,
П. Мак Орлан. Краткий справочник безупречного авантюриста. 11
227
который никак не может быть общественным, — переноситься в один из таких кабачков и знакомиться там с обычными авантюристами.
В приключенческом романе кабачок играет первостепенную роль. Хотелось бы мне процитировать первые страницы «Острова сокровищ» Р.-Л. Стивенсона. Колорит этой книги рождается в низкопробном кабаке, торчащем, словно груда камней, что служит указателем, на обочине прибрежной дороги. Той самой дороги, по которой стучал посох слепого Пью6, отъявленного пирата, нарушавший ночную тишину деревни, словно японский кошмар, о котором поведал Лафкадио Хирн7.
И давайте не будем забывать, пассивные авантюристы, друзья пузырька с чернилами, что преступление, совершённое в кабачке, обладает романтическим флером, которого никогда не достичь преступлению, совершённому в другом общественном месте.
Время, когда совершается преступление, не играет никакой роли в приключенческом романе. Эта деталь может интересовать только маньяков часовых дел.
/3urfv iJL
Об эротике
В 12 Г\ TT Т ТТТТ ТТТ/^'ТХ) и приключенческих ро DUJIDJJJ.1 lllv^ 1 Dili манов считается хорошим тоном обходить стороной или, вернее, замалчивать этот отблеск внутренней жизни авантюристов. Такое досадное упущение происходит оттого, что во Франции, так же как и в Англии, приключенческий роман неправомерно считается дидактическим сочинением, предназначенным для детей.
Такое отношение принижает этот прекрасный жанр. Как только книги писателя становятся достоянием детей и школьников, он тотчас же попадает в анонимное, по сути, сообщество безликих университетских нянек.
П. Мак Орлан. Краткий справочник безупречного авантюриста. 12
229
Правда, эта незадача компенсируется внушительными тиражами, которые целебным бальзамом ложатся на раненое самолюбие.
Пассивный авантюрист должен приглашать женщин — причем отнюдь не дурнушек — на пустынные острова, где потерпели кораблекрушение герои-мужчины.
Женщины никогда не появляются на этих островах, что явствует из
Приходится предположить, что им просто не хочется соприкасаться с особями, лишенными одежды, а возможно, и предрассудков. Среди скобяных сокровищ, коими изобилуют потерпевшие крушение корабли, никогда не попадаются женщины.
А между тем, не превращая приключенческий роман в философское произведение на манер «Терезы-философа»1, мы без труда можем вообразить женщин на этой скудной и пустынной земле как дар от божественных щедрот.
Пассивный авантюрист, дабы не совершить подобную оплошность, сохранит в тайном уголке своей памяти некую «преисподнюю», полную отборных книг2.
Эротика — фундамент приключенческого романа. Разумеется, она не должна подчинять себе сюжет; ей следует появляться то тут, то там, как на поношенной одежде просвечивают местами нитки основы. Приключенческий роман всегда похож на поношенную одежду. Его ткань не нова, да и не может быть новой, поскольку приключения исчезли из нашего обихода.
Пассивный авантюрист живет в тесном соседстве с прошлым. Современные приключения переполнены химией, взрывчаткой и глупейшим коллективизмом. Ни одна из этих составляющих не может привлечь интерес приличного человека.
Эротическая деталь на эстампе позволяет ненароком оживить фигуру девушки, а книге она способна сообщить особую атмосферу — и не беда, что в окончательном виде произведение окажется бесконечно далеким от авторского замысла.
230
Дополнения
Андреа де Нерсиа3 в своих галантных книжках позволяет нам лучше почувствовать Французскую революцию, чем, к примеру, господин Тьер4.
Романист, который и в книге своей умеет остаться человеком, не может пренебречь этой темой, а в приключенческом романе он имеет на такое пренебрежение еще меньше права, чем в нашем национальном жанре, романе об адюльтере, где эротика никогда не выходит за пределы фетишизма, знакомого любителям нижнего белья.
Использование эротических документов требует огромного чувства такта.
Больших успехов достигли в этом немцы: они гармонично смешивают эротику с фантастическим наследием старинных повествователей, таких как Иоахим фон Арним5. Назовем также г-на Г.-Г. Эверса, автора удивительной «Мандрагоры»6.
Повторяем, не следует преувеличивать. Это вопрос меры. Молодая особа, которая в погоне за модой укоротит свою юбку до размеров пояска, продемонстрирует только собственную глупость.
Эротика в приключенческом романе не должна бросаться в глаза; подавать ее нужно с исключительной благопристойностью, особенно в выборе слов.
Впрочем, эротика живет не в словах, а в атмосфере романа, которой невозможно дать определение, хотя именно атмосфера делает книгу произведением искусства.
Вообще, все здравомыслящие люди согласятся, что в приключенческом романе форма важнее сюжета.
Ни в коем случае не следует изображать искателя приключений гомосексуалом: нельзя же опрокидывать предрассудок, согласно которому человек с женственными наклонностями не может проявлять отваги.
Хотя этот порок не имеет ничего общего с физической храбростью, которая в конечном счете есть презрение к смерти.
fulici, 73
Создание героя
тл ^гр наш пассивный авантюрист вооружен всеми D V/ 1 советами, позволяющими ему с отменной продуктивностью эксплуатировать действующее лицо, каковое ему выпадет честь вдохновлять.
Вот он, звездный миг, апофеоз существования пассивного авантюриста: это воспитание авантюриста активного, чье предназначение — совершить все те глупости, которые подскажет ему ментор.
Выбор актера для этой важнейшей трагедии требует большой проницательности.
Следует взять молодого человека, с румяным лицом, глазами навыкате, оттопыренными ушами в форме косых парусов и аппетитом,
232
Дополнения
полностью соответствующим властным инстинктам, подсказанным рефлексами здоровяка.
Подготовка субъекта, действующего под влиянием пассивного авантюриста, может затянуться надолго.
Даже не слишком умный человек не так уж легко отмахнется от вопроса собственной безопасности, если его не толкнет на это острая необходимость. В трех случаях из четырех мотив, вынуждающий активного авантюриста к действию, — это живописная нищета, что в высшей степени декоративно. Никогда не следует забывать о декоративной стороне дела.
Итак, благородный актер будет выбран в сплоченных рядах тех, кто под воздействием голода способен хотя бы на секунду поверить, что из приключения возможно выйти победителем.
Таких неосознанных поэтов доныне можно сыскать во всех классах общества, но они попадаются всё реже и реже.
В воображении молодых людей сияющий образ неизведанных земель потеснили машины.
Земля — старая проститутка, она продается направо и налево.
Что же касается тайн, связанных с техникой, то, чтобы в них проникнуть, потребуется еще немало искупительных жертв; это будут жертвы моторов и легких изъянов в их конструкции.
Пик$<к, Щ
Отношения с активным, авантюристом
авантюрист нашел своего героя. Теперь пора довести этого героя до осуществления замыслов, которые пассивный авантюрист вынашивал в тишине своего кабинета. Тому уже несколько лет, как я написал:*
«Все мы в определенную пору своей жизни были знакомы с бесконечно очаровательными кузинами, обитательницами провинциальных гостиных, где ценность обстановки в стиле Луи-Филиппа2 нисколько не уменьшала царящий в этих комнатах запах затхлости.
* «Банда из “Овечьего кафе”»1.
234
Дополнения
Эти кузины по рождению принадлежали или к военному, или к судейскому, или к медицинскому, или к университетскому сословию. Все они относились к одному и тому же распространенному типу, никаких, так сказать, сюрпризов для психолога, и все они умели организовать по четвергам игры, невинность которых существовала на самом деле только в воображении их родителей, потому что дети всегда немного менее наивны, чем те, кто произвел их на свет.
Сегодня я помню, к примеру, как участвовал в игре, суть которой была в том, чтобы один из ее участников добрался до предмета, спрятанного заранее, ориентируясь лишь по звону стаканов, по которым ударяли остальные то громче, то тише, смотря по тому, насколько он удалялся от цели или приближался к ней. Это один из самых ярких известных мне примеров утраты индивидуальности. Все органы чувств ищущего были направлены на то, чтобы уловить звяканье ключика по стенке стакана, и рано или поздно он неизбежно находил платок Симоны, спрятанный в невинной китайской фарфоровой вазе, не имевшей ни малейшего отношения к заговору.
В дальнейшем путеводительное звяканье стекла не забылось. Под настроение, когда приходилось участвовать в сомнительных поисках, мы руководствовались воображением, которым наделила нас природа, и вслушивались в звяканье ключика по стеклу в руках у тех, кто развлекался, направляя нас к цели, к которой мы стремились и сами, но стремились пассивно».
Прирожденный авантюрист, да еще если он голоден, очень скоро становится жертвой путеводного звяканья.
Как только вдохновитель сумеет обольстить его разум и вызывать в нем непрестанное восхищение, дело сделано: он попался.
В один прекрасный день активный авантюрист, напитавшись оригинальными, но лживыми описаниями, ринется в неизвестность и более или менее надолго исчезнет.
Позже, если фортуна окажется к нему благосклонна, этот человек без всякой задней мысли придет пожать вам руку, потому что «под- зуживание» (употребим здесь это вульгарное слово) пассивного аван-
П. Мак Орлан. Краткий справочник безупречного авантюриста. 14
235
пориста ничем не грозит ему самому. Жертва никогда не улавливает всей двуличности, таящейся в этом подзуживании. Честное спокойное выражение лица, красноречие и эрудиция гарантируют соблазнителю неуязвимость, на которую никто не посмеет покуситься.
Нередко бывает, что юный авантюрист, обольщенный своим умственным двойником, не возвращается никогда.
Но это уже другая история — вернее, это и есть венец карьеры пассивного авантюриста.
(luj*. 1Г
Каков бывает коней, активного авантюриста
главу можно было бы проиллюстрировать трагическими эстампами гравера Дараньеса1. Вся она навеяна известными нам образами виселиц и повешенных.
И вновь оглянемся назад, чтобы посетовать. Человек не слишком изменился. События, которые еще не так далеки от нас, доказывают, что толпа и сегодня, видя жестокость и насилие, реагирует на них примерно так же, как в ХУЛ веке.
Случайно два года назад мне довелось во Франкфурте, поблизости от Бёрнерплац2, видеть подобное зрелище во время одного бунта, когда
11. Мак Орлан. Краткий справочник безупречного авантюриста. 15
237
матросы береговой полиции буквально растерзали на куски несколько десятков сутенеров, виновных в изнасиловании молодой ювелирши.
Если жестокие зрелища повторяются ежедневно, чувствительность быстро притупляется.
Не нужно думать, что благородные дамы, прекрасные горничные, бюргеры и лавочники-коротышки, равнодушно взиравшие на ужасные пытки, коим подвергли Дамьена3, уступали в духовном развитии остальной части человечества.
Всё это вопрос привычки.
Каков бы ни был уровень развития цивилизации, революционные волнения внушают людям страх.
Охваченные эротическим исступлением толпы тянутся к зрелищам на Гревской площади. Первые жертвы революционного движения — это всегда красивые девушки и в особенности элегантные женщины.
В наше время, если народ станет равнодушен к смертной казни, это обернется самыми пагубными последствиями. Но для того, чтобы это аморальное влечение было оправдано с литературной точки зрения, требуется роскошная режиссура, трагическое великолепие декораций — всё то, что в принципе давно уже претит нашему вкусу.
И всё же семеро авантюристов, расстрелянных в Венсенне не столь давно, возрождают эту традицию. При чтении газет вспоминалась страшная новелла Леонида Андреева «Семь повешенных»4.
* * *
Не будем упорствовать. Смерть авантюриста редко бывает декоративной. Понадобилась война, чтобы превратить, скажем, Мату Хари5 в фигуру, овеянную пиратской романтикой, по примеру пяти-шести прочих дам нестрогих нравов, отважно заплативших дорогую цену за такого же сорта бессмертие. Наши современные авантюристы тоже имеют возможность завершить свой земной путь на рее по примеру старинных пиратов. Пожалуй, сегодня это преимущество дает контрабандная торговля оружием в военное время в далеких морях.
238
Дополнения
Расстрел — исключительная смерть.
Гильотина гротескна; она словно нарочно создана для того, чтобы людям было противно иметь с нею дело.
Повешению у англичан недостает публичности6.
В литературном отношении достоинство повешенного измеряется ценой веревки, на которой он повешен, а также всех декораций казни.
Если авантюриста вешают в каком-нибудь чулане, как принято в английских тюрьмах, то вряд ли многие польстятся на такую смерть.
Висельник должен служить назидательным примером всему городу. Последним, что откроется его взору, должен быть морской горизонт. Стая хищных птиц будет кружить над ним, пока не склюет его плоть. Вечером повешенный может отомстить человечеству, пугая крестьян, опрометью бросающихся наутек по полю, не разбирая дороги.
В деревне он вроде епископа: пинками благословляет проходимцев на дело, а если виселица установлена в правильном месте, то под ней рождается мандрагора, вечный источник мирских богатств7.
На поклон к нему приходят романтики, умеющие оценить всё, что он для них сделал. Само небо принимает участие в колдовстве: посвященные воздевают руки к небесам, ожидая нелепых результатов от черной магии.
Повешенные авантюристы, кокийары8, кореша, джентльмены удачи и прочие, воспоминания о которых рассеяны по тюремным библиотекам! Творцы приключенческой литературы должны хоть отчасти питать к вам тайную благодарность, ведь почтенный пассивный авантюрист столь многим обязан тому, кто воплотил в жизнь его желания.
Если бы мне нужно было воздвигнуть памятник капитану Кидду на самом бесплодном побережье современного мира, я бы поставил у его подножия статую хрупкого задумчивого Роберта Льюиса Стивенсона, бессмертного автора «Острова сокровищ».
Каков бывает конец пассивного авантюриста
тоже до старости не доживают.
Им не услышать звона цепей, сотрясаемых ветром в открытом море, и не учуять всепроникающего запаха йода перед тем, как на них накинут пеньковый галстук; не придется им увидать залитое солнцем колесо, к которому пригвоздят их перебитые руки и ноги; черный глазок ружей, нацеленных им в грудь, не станет следить за тем, достойно ли они держатся в свой последний миг.
Пассивные авантюристы умирают, как все, в своей постели, в общественном месте или в больнице.
В час, когда каждый задумывается над тем, как он жил, они могут себе позволить сочинить мгновенный роман, которого никто не про¬
240
Дополнения
чтет. Боюсь, что тут-то пассивный авантюрист и задумывает свое лучшее произведение, и на этот раз он не выходит из игры.
Не стоит омрачать заключительную часть этой книги разговором об угрызениях совести. Каков бы ни был человек, если он всегда следовал велениям своих инстинктов, то угрызения совести его не настигнут.
Людоед не может сомневаться, правильно ли он питался всю жизнь.
По той же причине пассивный авантюрист может встретить свой конец, не изведав подобных душевных мук.
Но это всё относится уже к личной жизни, а не к литературе.
i3-
'Возм.ожн.ость
Бывает,
хоть и редко, что активный авантюрист, которого эксплуатировал авантюрист пассивный, после множества приключений возвращается к своему вдохновителю, чтобы надавать ему тумаков.
Это неприятно, но случается, повторяем, весьма редко. Активный авантюрист неспособен судить свой собственный жизненный путь с такой строгостью.
Апрель 1920 г.
Tfbta. MaJt- Cl
'OxlAHs
НОЧНАЯ
МАРГАРИТА
f%A*c1
Старый
Фауст сосредоточил суровый взгляд на кончике своего вечного пера. Потом написал:
^Абсолютное презрение kl челобечестбу, сознательное, упорное и неизменное, наделяет того, б ком оно 603HUKA0, естественном обаянием и. обходительностью. Великое мизантропо обочно бесьма прибетлибо и мило б обучении. Они похожи на тех, кто^демонстратибно ненабидит^детеш'Ь1менно им "дети охотнее бсего^докучают сбоими малостями. Эти чистое создания знают, что шлепок, можно схлопотать только от лю бя^ебГ'руки..
246
Дополнения
Быстро начертав эти несколько строк, старик положил перо и стал смотреть, как его кошка Мурка играет с черепахой, чье терпение, казалось, не знает границ. Фауст вздохнул и пересчитал белые страницы, которые ему предстояло заполнить мелким убористым почерком. Затем он встал и направился к закрытому окну, оберегавшему комнату от всех идущих извне соблазнов.
Этот семенящий человечек выглядел не слишком внушительно. Сморщенный старичок в бесформенном сюртуке был уж очень банально колоритен. Его лицо походило на комочек серой резины, украшенный снизу несколькими толстыми белыми волосками. Огромные очки в роговой оправе громоздились на нежном старческом носике, словно вылепленном из некой субстанции, напоминавшей розовые лепестки раньше времени распустившегося мака.
Утонченность этого органа составляла единственную отличительную черту одинокого, умного и неопрятного старика. Старец властвовал над своим письменным столом, прилагавшимися к нему двумя засаленными стульями и множеством отвратительных окурков, пропитавшихся слюной и никотином, которые валялись повсюду, словно крошечные мертвецы на поле брани.
* * *
«Папаша» Фауст — как называла его консьержка — настежь распахнул окно. Он высунул голову, и в лицо ему пахнуло ароматом сирени, бурно радующейся приходу бойкого, жизнерадостного, самодовольного мая, оброненного солнцем, словно веселая поэма света длиною в тридцать одну страницу. Окна старика выходили на убогий монмартрский садик:1 несколько кустов бузины, истерзанных капающей с развешенного белья водой, утоптанная лужайка, где посредине в глубокой задумчивости, устремив взгляд в пространство и машинально почесывая ягодицу через платьице из набивного кретона2, стояла Люсьенн, десятилетняя дочка консьержки. У ворот садика, выходивших на площадь Тертр3, изо всех сил пыхтел, сунув нос в крысиную нору, старый фокс¬
П. Мак Орлан. Ночная Маргарита. 1
247
терьер, пожелтевший, словно зуб курильщика. На первом этаже дома семья еврейских портных радостно внимала молодому скрипачу из их племени, наигрывавшему галицийскую песенку4, и звуки ее кружили, словно фантики, в потянувшем из гетто сквозняке. Певчий дрозд, забравшись на самую верхнюю жердочку криво висевшей клетки и разинув свой желтый клюв до самого сердца, насвистывал первые такты «Лизон-Лизетт»5.
Он насвистывал песенку, выводя ее, словно подпись на письме — с унылой закорючкой вместо росчерка. Старый Фауст посмотрел на птицу. Попытался было посвистеть, но с губ не слетело ни единого звука. Тогда он затворил окно, сел в свое единственное плетеное кресло и принялся кашлять. Ничего другого он делать не умел. Он надрывно и жалобно покашливал, следил, чтобы вышло поэффектнее: прикладывал руку к груди, а под конец шумно сморкался. Несмотря на закрытое окно, до него доносился свист дрозда, распевавшего, будто подручный мясника.
«Он молод», — вздохнул Фауст, скручивая сигарету; папиросная бумага порвалась, когда он поднес ее ко рту послюнить. Беду удалось худо-бедно поправить кончиком старческого дрожащего языка. Затем с полки, где стояли книги, замшелые ботинки, банка сардин и бутылки, он снял толстенный талмуд об относительности времени, составленный на основе расчетов профессора Эпштейна6.
В дверь постучали. Старик со стоном поднялся и, шаркая, пошел открывать. Это Люсьенн принесла почту: льготный билет в театр «Шанз-Элизе»7, приглашение на вернисаж какого-то польского художника и два каталога букинистов.
— Всё? — спросил он.
— Всё! — сказала Люсьенн.
Он закрыл дверь и, припав ухом к замочной скважине, стал жадно слушать, как шуршат юбки Люсьенн, собиравшейся усесться верхом на перила и съехать вниз, до самой комнатки консьержки. Старичок бросил почту на стол и опять принялся кашлять — жалобно, с модуляциями, как истинный астматик-виртуоз.
248
Дополнения
-к * *
С наступлением сумерек над тихими улочками от одного подъезда к другому до самого спуска по улице Соль8 повисал нарядный ламбрекен, сотканный из слов. Фауст знал, что в эту минуту все консьержи площади оседлывали выставленные на тротуар стулья. Наступление этого часа застало его врасплох, а значит, теперь он уже не пойдет в свой любимый ресторанчик, ибо он не хотел проходить перед строем насмешливой кавалерии. Пришлось лечь спать в безысходном освещении угасающего дня. Завернуть свое скрюченное, как ствол лозы, тело в старую драную простыню, собрав ее в кучу на хворой груди.
«Мне, — почти вслух подумал старик, — восемьдесят два года и тридцать семь дней. Я коллекционирую дни, как когда-то коллекционировал слова. В моей голове хранится целое собрание слов из всех тех стран, что мелькают сейчас у меня перед глазами, словно страницы альбома с марками. Мои годы напоминают коллекцию открыток, на каждой из которых погашенная марка. Есть у меня годы, украшенные пальмами, иные же похожи на молодую прачку, бредущую вверх по улице Лепик9, есть просто цветные годы, а есть и такие, что мучат меня из-за кое-каких предрассудков. А еще в моем теле сложены восемьдесят два альманаха. Я хранитель этой библиотеки и этого музея и одновременно единственный их посетитель. Первый цветок, неловко зажатый мною между большим и указательным пальцами, назывался rosa* — роза, и она грустно теряла лепестки, по мере того как я склонял это благоухающее слово. Когда же я раз и навсегда убедился, что эксперимент заканчивается на аблятиве множественного числа10, у меня в руках остался лишь стебелек с иссушенной сердцевиной, горькой на вкус».
Жорж Фауст попытался натянуть на голую ногу лоскут серого белья, потом зажмурился, и кадры его жизни потянулись друг за другом — бестолково, бессвязно, с заминками и остановками.
* роза (лат.).
П. Мак Орлан. Ночная Маргарита. 1
249
Он увидел себя студентом в «общаге» «Эколь Нормаль»11. Вновь пережил начало своей карьеры, когда, став преподавателем грамматики, обучал искусству письма третью команду регбистов в одном провинциальном лицее. Смутный тяжеловесный силуэт служанки, чье лицо в результате многократного экспонирования покрывалось тысячью грубых черт, напомнил ему о минувших сладостных моментах его жизни старого, относительно ученого зонтика. Стопки наваленных друг на друга книг, словно груды придорожных камней, служили вехами его пути. Его жизнь пахла замусоленной веленевой бумагой12, ободранной кожей переплетов с привкусом перца от монументального словаря Треву:13 засушенные цветы, хранящиеся между его страниц, напоминали о какой-то свежей и чистой мысли, возникавшей иногда посреди затхлой атмосферы коллежа. Над всем этим множеством книг, беспорядочно громоздившихся в его воображении, Жорж Фауст различил классический силуэт своего легендарного предка14. Пристроившись где-то возле «Молота ведьм»15, знаменитый старец указывал пальцем в зенит16. Черный пес17 занимался поиском блох в самом светлом углу кабинета. Магический круг вращался одновременно с колесом фортуны на крышке лотерейной коробки18. Все эти тайные перемещения приводили к возникновению портрета обнаженной женщины в общепринятом вкусе — женщины с молочно-белой кожей и рыжими волосами, то есть самого тривиального образа плотской любви в глазах ученого холостяка.
Видёние вызвало улыбку на тонких губах Жоржа Фауста. Это воображаемое приключение он хорошо знал, ибо не раз пережил его еще в те давние времена, когда был молод, хотя и сутул. Явление представлялось ему непристойным, как семейная традиция. Эта рыжеволосая девица уже погубила душу его предка19. Благодаря литераторам и иллюстраторам вся эта весьма темная история приобрела популярность, а скандальное происшествие стали играть на всех сценах — от кукольных балаганчиков до солидных государственных театров20.
«А ведь Марло сумел наказать старика»21, — часто думал Жорж Фауст. И хоть сам он не имел отношения к этому делу, при воспоминании о ночи расплаты его старое тело пробирала мелкая дрожь.
250
Дополнения
Один из прямых потомков Фауста, соблазнившего Маргариту22, приехал в конце ХУЛ века во Францию и работал корректором в типографии23. Он женился на молодой парижанке, чей отец подпольно печатал философские труды кое-кого из неисправимых вольнодумцев. Сын, рожденный от этого брака, служил сначала солдатом в швейцарском полку24, потом сутенером при одной девице на Аа-Куртий25 и, наконец, был возведен в чин лейтенанта в полубригаде Итальянской армии26. Этот Фауст женился за неделю до переворота 18 брюмера27, а несколько дней спустя скончался от какого-то загадочного кровоизлияния, хотя его лечили снадобьями из ртути и гваякового дерева28. Его жена была беременна сыном, ставшим учителем и церковным служкой. Тот, в свою очередь, произвел на свет мальчика, влачившего жалкое существование мелкого торговца — хилого и себе на уме. Он-то и стал отцом старика, лежавшего на убогой кровати и перебиравшего в своей слабой голове безделушки из пожелтевшей слоновой кости — частицы невнятного жизненного пути, где мысли, словно нежная плоть, скрывались под толстым жировым слоем посредственности.
Через приоткрытое окно Жорж Фауст, страдавший старческой бессонницей, ощущал присутствие примостившейся на подоконнике весны.
Издалека, от подножия Монмартрского холма, до него доносился смутный шум безудержного веселья, а ноздри улавливали аромат сирени, вафель и пота юных озорниц, трущихся в толпе, словно готовые вспыхнуть спички. Где-то на окраине Парижа гудели поезда; луна висела на небосклоне, как дорожный знак, сообщающий бодрствующему мечтателю, что Млечный Путь открыт. Наморщив лоб, широко раскрыв глаза, Жорж Фауст прислушивался к этой далекой жизни. На стене комнаты, где плясала тень от шнурка занавески, старик различил знакомые черты женщины из прошлого — тот самый старинный образ, что терзал на склоне лет стариков его рода. Он стал неумело подбирать ей одежду на свой вкус: надел на нее старомодные, суженные книзу юбки, розовую шелковую комбинацию, черные чулки с ярко-красными подвязками, широкополую фетровую шляпу. Вот только корсаж более или менее подходящей модели никак не рисовался его подслепова¬
П. Мак Орлан. Ночная Маргарита. 1
251
тому воображению. В таком наряде силуэт рыжеволосой женщины явил Жоржу совершенный образец моды, как ее силится вообразить старый педант, пахнущий йогуртом. Он хмыкнул, один в плохо проветренной комнате. Его голос задребезжал, словно стукнулись друг о друга две чашечки из белого фарфора.
А между тем присутствие весны у окна настраивало старика на грустный лад.
«Ты пахнешь крысами», — брезгливо морщась, говорила аллегорическая фигура, сидевшая на подоконнике.
Жорж Фауст перевел высказывание на язык, которым так бойко владела малышка Люсьенн. Девочка часто пела довольно странную народную песенку, где в конце припева был как раз такой образ:
- И старикан за домом.
Фауст часто спрашивал себя, что означало присутствие старика за домом. Из всей песенки Люсьенн помнила только эту строчку — да, впрочем, может, так оно и лучше для нее. Но задававший вопросы голос невольно проводил простейшие сопоставления, отождествлявшие его, Жоржа Фауста, с этим неведомым и, наверное, павшим духом «стариканом».
Благоухания майской ночи было достаточно, чтобы он загрустил. Но нынешняя ночь вызывала у него особое отвращение. Почтенный возраст изо дня в день мешал ему спать. И ему приходилось жить ночной жизнью, которой он часто пугался, воображая, как по коридору, вдоль влажной стены, серой, голой, совершенно гладкой стены, ощупью пробираются убийцы. Бывали ночи, когда он трезво оценивал свою жизнь и плакал об утраченной, исковерканной молодости, загубленной демоном его семьи, волшебным образом, в ослепительно ярком свете возникавшим перед ее отпрысками, когда им перевалит за восемьдесят.
«Разве может человек быть настолько глуп, — подумал старый Фауст, натягивая простыню до самого своего насмешливого носа, — разве
252
Дополнения
может человек быть настолько глуп, чтобы отказаться заложить душу в обмен на возвращение молодости?..»
Он протянул руку, достал из жестяной коробочки таблетку из корня солодки29 и с тысячью предосторожностей стал перемалывать ее своими деснами — беззубыми и розовыми, как у старого коня.
Кто-то из жильцов резко хлопнул входной дверью. Сосед прокричал свое имя, и оно долго звенело в ушах старика, ибо голос в ночи звучал гулко, словно гонг, и думать уже не хотелось. Бодрствующий Жорж Фауст лежал с широко раскрытыми глазами и постепенно сливался со своей убогой мебелью, со стенами, растворяясь в созерцании своих озябших ног, — это заменяло ему сон.
1
Фауст проснулся внезапно, оттого что на его лице плясал солнечный луч, словно зайчик, пущенный каким-то озорником. Он чихнул, чуть не надорвав всё тело, и минуту-другую неподвижно лежал в полном изнеможении.
В его распоряжении был длинный, розовый и полнотелый, как женщина, день. Фауст сполз с кровати и облачился в веселое расположение духа, скрывшее под собой его обноски. Подойдя к газовой плитке, приготовил себе завтрак, как привык делать каждое утро. Рассеянно жуя вымоченный в молоке хлеб, он обратил внимание на свое лицо, опаленное и прокаленное восьмьюдесятью годами солнечного и искусственного света. Стал разглядывать белую реденькую и пушистую бородку,
254
Дополнения
лежавшую на расстегнутом вороте рубашки. Он отодвинул ее тыльной стороной ладони, пытаясь обнажить линию подбородка и увидеть истинную форму своего лица. И вдруг решил сбрить бородку и усы. Эта мысль преисполнила его какой-то исступленной радостью. Он взял ножницы для разрезания бумаги и приступил к процедуре. Вскоре на его щеках, губах и подбородке осталась лишь короткая, как шерсть фокстерьера, щетина, придававшая коже серебристый цвет. Не теряя времени на разглядывание этой промежуточной стадии, он намылил кисточку и тщательно побрился. Закончив процедуру, он пришел к выводу, что лицо его подтаяло. Оно казалось не больше ореха. В изумлении уставился он в зеркало, не узнавая сам себя. У этого нового, только что созданного им человека он не находил своих прежних привычек. Он был похож на старую черепаху, полностью лишенную панциря. Однако процедура несомненно омолодила его или, точнее, скрыла его возраст на несколько дней, до тех пор, пока он не привыкнет к своей новой маске.
«Это гладкое лицо бессмертия», — подумал Фауст.
Он полюбовался одухотворенным выражением своего бритого лица, потом попытался засвистеть, ибо в душу его неведомым до сей минуты путем проникала радость.
— Хорошо бы сбрить бороду всему, что меня окружает в этой комнате, начиная от стен и кончая газетами, сваленными за дверью уборной...
Эти слова Фауст произнес каким-то новым голосом. Он попытался уловить новое звучание своего голоса и несколько раз повторил, смеясь, как ребенок: «уборная... уборная... дверь... борода».
— Восхитительно, — произнес он, машинально пытаясь потрогать бороду. Рука наткнулась на пустоту, но стала заботливо гладить нежные морщинистые щеки и кожу шеи, отвисшую, как у индюка.
Тогда он подумал, что никакое человеческое вмешательство не в силах омолодить его сюртук, висевший на спинке стула. При мысли, что придется запереть тело в эту засаленную одежду, старик пал духом.
П. Мак Орлан. Ночная Маргарита. 2
2 55
Он еще не вполне привык касаться руками своей новой кожи, внезапно представшей перед ним в совершенно неожиданном виде.
На полках, занимавших одну из стен комнаты, громоздились две или три сотни книг. Там стояли старомодные научные труды, томики стихов, подаренные приятелями по пивной, которых он давно потерял из виду, учебники по латинской грамматике и произведения латинских классиков в зеленых переплетах. «Фауст» Марло в издании «Мишель- Леви»1 соседствовал с «Фаустом» Вольфганга Гёте2, изданным в эпоху романтизма, в приличном состоянии. На одной из полок несколько сочинений на немецком языке об истоках легенды о Фаусте стояли рядом с запыленным кувшином, подаренным производителем вермута. Нижние полки были забиты словарями: семитомный словарь Тре- ву, Дармстетер3, Лакюрн де Сент-Пале4, несколько томиков Кишра5 и Александр6 в сером картонном переплете. Фауст долго разглядывал свою библиотеку. Брал том за томом, хлопал ими по ладони, чтобы стряхнуть пыль, соскребал перочинным ножиком пятна воска с обложек. Наведя порядок на книжных полках, он поспешно надел сюртук и взял шляпу. Потом тщательно затворил дверь и стал, охая, шаг за шагом спускаться по лестнице. Сзади, прыгая на одной ножке через три ступеньки, его догнала Люсьенн. Фауст посторонился, пропуская ее. Она, как ящерица, проскользнула вперед, даже не взглянув на него. Бормоча проклятия, старик наконец выбрался во двор. Он долго пыхтел, чтобы перевести дух, а затем посмотрел на голубое небо, обнажив сиреневые десны.
В нескольких шагах от дома Жорж Фауст вошел в лавку букиниста, с которым познакомился несколько месяцев назад.
— Вы не могли бы зайти ко мне? — сказал он. — У меня есть кое- какие книги на продажу.
В тот же вечер на вырученные деньги Фауст купил готовый костюм из серого шевиота, фетровую шляпу, белье и желтые ботинки. Вокруг стоячего воротничка со сломанной косточкой он повязал синий в белый горошек галстук. Еще раз посмотревшись в зеркало, он спустился поужинать на террасе небольшого ресторанчика на площади Константен-
256
Дополнения
Пекёр7. На пустынной дороге его неухоженного воображения мерцал, словно огонек сигареты, внезапно обнаруженный свет.
Парижский вечер не спускался с неба, а подымался от асфальта или деревянных настилов тысячью огоньков, рассыпанных, словно цветы на лугу, утопающем в коварном, обволакивающем, как аура медиума, тумане. Странные рельсоукладчики ставили на проезжую часть цветочные горшки, и в каждом, вспыхивая пятиконечной звездой, распускался электрический цветок. Впервые Фауст ощутил фантастичность общественной жизни своего времени. Подслеповатыми глазами он следил за трамвайной дугой и голубой искоркой электрического разряда — казалось, тот, кому удастся ее поймать, получит фант в какой-то галантной игре. Глубокий покой отделял дневной шум от радостных криков, которым вскоре предстояло огласить едва подступившую ночь.
Сидя на лавочке на бульваре Рошешуар8 между женщиной неопределенных лет и задумчивым полицейским из отдела нравов, старый червь науки впитывал в себя парижский вечер, пребывая во власти какой-то неги, непонятной и необъяснимой, ибо ему не с чем было ее сравнить. Между тем обыденная ночь разворачивалась перед ним, словно запрещенное доселе зрелище. Он смутно улавливал в темноте обезлюдевших на несколько часов улиц какое-то романтическое беспокойство. Присутствие женщин мучило его, как трудноразрешимая метафизическая гипотеза. Он ничего не знал об уличных женщинах, поскольку видел их только ранним утром, уныло-осунувшихся, непри- бранных и подурневших. Они действовали на него как какой-нибудь солецизм9 или варваризм10 в любовной идиллии Феокрита11. Женскую наготу он знал лишь по аллегорическим образам Фортуны, Славы, Науки, Земледелия и Промышленности12. Он не испытывал ни малейшего волнения при виде их строгих лиц и гладких животов. А еще он давно заметил, что нищета, как хорошая краска, лучше «приставала» к старым женщинам, чем к старым мужчинам. Пожилая дама, неподвижно сидевшая рядом с ним на лавочке, вдруг напомнила ему сбритую белую бороду. Суждения профессора Фауста никогда не строились
П. Мак Орлан. Ночная Маргарита. 2
2 57
на ассоциации нелепых мыслей. Он был поражен, почти смущен таким необъяснимым сопоставлением. Он пересел на другую скамейку и оказался рядом с девицей легкого поведения лет двадцати, нагло и беспокойно глядевшей на росшие вдоль бульвара деревья и горевшие на тротуарах фонари. Она не отличалась красотой, но причесана была занятно. Девушка немного подвинулась, чтобы дать сесть старику, — он казался таким дряхлым, что мог рассыпаться, если шепнуть ему что- нибудь на ухо.
— Какой славный вечер, — сказал Фауст, обращаясь к соседке.
— Да, если только не польет до полуночи.
Фауст втянул голову в воротник. Он подумал о своем прославленном предке-профессоре и о том, как тот повстречал на улице свою Маргариту13. Слово «улица» снова пробудило в нем веру в возможность таинства и чуда.
Доктор Фаустус встретил Маргариту на улице при тусклом освещении, придуманном людьми того времени. Это было после продажи души, и он мог идти по улице развязной походкой настоящего соблазнителя. Кроме того, он знал места, где принято было соблазнять девушек. В те времена это еще были улицы, мосты, например Северный мост, где щеголяла своим золотым поясом Адель14, и луга городских предместий, луга, в мельчайших подробностях запечатленные Дюрером15 во славу ландскнехтов16 и девиц, ходивших к ландскнехтам, а также клириков, горожан и профессоров, ходивших к толстощеким подружкам обладателей предписанных уставом русых бород. Но нынче, в 1924 году, где, в каких краях могут собираться статисты плотских утех? Кто из клиентов проституции, любителей подпольной женской изобретательности, может показать, где простор для оргий, где красный отсвет жарких, распухших от пения бань?
«Эта девушка, — вежливо сформулировал про себя Фауст, — эта девушка, наверное, сможет мне подсказать».
Он кашлянул, чтобы придать уверенности голосу, и, растянув рот в жуткой улыбке, спросил:
— Мадемуазель!.. Где тут можно повеселиться?
258
Дополнения
Женщина повернулась к старику и, тоже раскрыв рот, стала разглядывать собеседника. Потом она сказала:
— Меня зовут Анжель, Анжель Нормандка. Если хочешь, я буду очень мила, только угости меня пивком где-нибудь, да хоть вон там, в «Чарке», если ты не против.
Она встала, и Фауст пошел за ней. Когда официант принес заказ, профессор сказал Анжель:
— Я уже не молод... мне шестьдесят семь лет.
Объявленный возраст казался ему пределом допустимого омоложения.
— Тебе не дашь, — сказала девушка, глядя на него подчеркнуто серьезно. — Ты выглядишь лет на сорок пять... Хорошо одеваешься... А ты где работаешь? В кино?
— Я никому не нужен, — ответил он.
— Подождешь минутку? — вдруг спросила Анжель.
И не успел Фауст кивнуть в знак согласия, как она вскочила и побежала навстречу молодому человеку, весьма элегантно одетому в спортивном стиле. Он слегка прихрамывал и, несмотря на все ухищрения, его левый ботинок был весьма своеобразно деформирован17.
Анжель говорила с молодым человеком — лица его Фауст не видел — с оживлением и напором старой знакомой. Под конец тот достал из кармана авторучку, записал несколько слов в крошечной книжечке и естественным жестом отдал ручку Анжель. Девушка непринужденно убрала ее в сумочку и вернулась к терпеливо ждавшему ее Фаусту.
— Это Леон, — сказала она, ничего больше не объясняя.
Затем она взяла ручку, развинтила ее и тщательно изучила содержимое. Фауст успел заметить, что цилиндр заполнен белым порошком. Анжель положила ручку обратно в сумочку.
— Так ты хочешь повеселиться? — спросила она.
— Я... то есть... — забормотал старик.
— Пойдем сегодня ночью в «Сагаре»18. Посмотришь, как танцуют девочки, а такие, как ты, пьют шампанское. А захочешь, я тебя и с подружками познакомлю.
П. Мак Орлан. Ночная Маргарита. 2
259
— А далеко это заведение? — спросил Фауст.
— Да нет, на углу, возле площади Пигаль...19
— Мадемуазель, вы очень любезны, но, думаю, я не смогу пойти с вами сегодня.
— А-а! — протянула Анжель. — Ну ладно, старичок, тогда в другой
раз.
Она встала, пожала протянутую ей руку и пошла дальше по бульвару.
Оставшись один на террасе «Чарки», Фауст всё ощупывал то место, где была борода. Затем он стал долго шарить по всем карманам своего нового костюма — чистым, холодным, непривычным карманам. Наконец нашел деньги. У него оставалось двести пятьдесят франков. Он заплатил официанту и продолжил прогулку.
Вдалеке сиреневый свет дуговых ламп, красные и желтые огоньки, рекламирующие удовольствия, привлекали внимание ночных прохожих — мужчин и женщин, словно уличная драка. Семеня, Фауст направился туда, где, как подсказывало предчувствие, была цель его путешествия.
Словно легкий пузырь, подымался он из глубин тысячелетий, чтобы из последних сил достичь абсолютного философского расцвета. Он был готов на все литературные жертвы, лишь бы вступить в смерть, как входят в «Монико»20 или в «Митчелл»21. Он хотел познать Бога при посредничестве какого-нибудь джаз-банда и проникнуть в Вечность с этикеткой «1924» на спине пиджака.
3
«Сагаре»...
«Сагаре»... Красные буквы мерцали в ночи совсем рядом, рукой подать, потом гасли и опять возникали одна за другой, замирая на секунду, как взгляд девицы, приманивающей клиента. И — как машинальное «нет» — снова исчезали. По бесчисленным туннелям навстречу первым проблескам зари вилась змейка из зеленых огоньков. Из-за закрытых окон и дверей между вспышками слова «Сагаре» доносилась, словно журчание небесного ручейка в черной бездне ночи, мелодия джаз-банда.
Подняв голову к размалеванному небу улицы, Фауст осторожно скользил среди шикарных автомобилей и отдыхающих такси к неосвещенному центру площади Пигаль. Мужчины, каждый вечер несущие
П. Мак Орлан. Ночная Маргарита. 3
261
службу по обеспечению веселья, не спускали глаз с дверей ночных заведений, куда неслышно подкатывали и где мягко тормозили по свистку какого-нибудь вкрадчивого портье или атлетически сложенного швейцара большие автомобили, старавшиеся казаться незаметными.
Сам того не желая, Фауст оказался перед дверью «Сагаре», раскаленной и красной, словно слюдяная дверца горящей печи1. Перед ним здоровенный детина в ливрее изогнулся в поклоне, пропуская женщину с короткими рыжими волосами и фиалковыми глазами, чье зеленое платье казалось свежим, как салат-латук. Фауст уставился на это ангельское создание, не в силах отделаться от странного и тревожного ощущения, что перед ним существо, созданное в лаборатории. Он почувствовал, что судьба толкает его в мир неведомого и что он больше не властен выбирать, куда идти. Он прошел мимо швейцара и медленно взобрался по лестнице, что привела его к двум-трем голым женским спинам, ожидавшим своей очереди в гардеробе. Ритмичное дерганье, нарушаемое слаженной трескотней четырех барабанов, создавало аранжировку для английского романса, который в слезном умилении наигрывали аккордеон, сиплая труба и воющий, как сирена, саксофон.
* * ie
Выставив вперед руки, словно две слепые фары, и осторожно нащупывая путь ногой, Фауст пробрался в красно-белый зал, посреди которого, отражаясь в начищенном до зеркального блеска паркете, испанская танцовщица отбивала ритм народного мотива каблучком и бойкими кастаньетами.
Официант указал на сверкающий белизной столик и сдернул чехол с обтянутого красным бархатом сиденья; Фауст машинально уселся так, что его безотчетно лирическая поза в точности отвечала его материальным ресурсам. Благодаря наличию двухсот пятидесяти франков почва не уходила у него из-под ног. Он заказал бутылку шампанского за семьдесят пять франков и в ожидании стал посасывать соленую соломку. Всё смешалось у него перед глазами. До смешного быстро приобщался
262
Дополнения
он к зарождению, огрехам и расцвету полуночной цивилизации. Он смотрел на расплывавшихся в туманные пятна танцовщиц, джаз-банд в парообразном состоянии, на ящеров-финансистов и коралловых полипов, производивших впечатление разумных существ. Всё это, казалось, было подчинено исступленному ритму вперемежку мелькающих ног, контрастировавшему с неторопливой благопристойностью бюстов, что мерно, словно шхуны на ветру, покачивались в медленном танце. Фауст закрыл глаза, пригубил шампанского, и в его голове загорелись четыре огонька — четыре огонька, как в радиоприемнике. И он так и не понял, почему мощный нечеловеческий голос грянул в его белые уши непонятные слова:
— Второй ра-унд.
Две лилово-розовые девушки, переплетясь, являли собой живую картину сексуального влечения: миловидная негритянка пела по-английски о шалостях Норы2. В этом красном с золотом зале Фауст обрел обманчивый покой книг «Розовой библиотеки»;3 его стало клонить вправо, и он сполз на плечо соседки, рыжеволосой женщины в зеленом платье, которая мягко и плавно вернула его на место. Он поклонился, извиняясь, показал на бутылку шампанского, и женщина пододвинулась к нему поближе.
— Если вас не затруднит, пригласите и моего спутника.
Фауст согласился, и молодой человек, которого он сначала не заметил за дамой, взял стул и подсел к ним за столик.
— Это Леон, — сказала женщина совсем не грубым голосом.
Фауст заказал вторую бутылку шампанского, что должно было
истощить его ресурсы. Но он не думал об этом, ибо чувствовал, что переживает «свою» ночь, ту самую традиционную для его семьи ночь, ночь-образ, сохраненную благодаря легенде и гению двух писателей.
Девушка тихонько напевала:
- We have no bananas today*’4.
* У нас сегодня бананов нет (англ.).
П. Мак Орлан. Ночная Маргарита. 3
263
Леон барабанил пальцами по столу в такт джаз-банду. Это был пригожий молодой человек с неброским, нежным, заурядным лицом, украшенным небольшими усиками.
— Вы приезжий? — спросил он.
— Нет, — ответил старик, — я живу в Париже, и, уж не знаю, зачем я вам это говорю, меня зовут Фауст.
— В самом деле? — воскликнул молодой человек, становясь всё более обходительным.
— Да. Меня правда зовут Фауст. Вы, должно быть, знаете это имя, если читали книги.
— Так вот, месье, — сказал молодой человек, — возможно, это вас удивит, но я знал некогда одного Фауста; он, кажется, изобрел книгопечатание, лечил крестьян от чумы и завершил свою филантропическую деятельность весьма скандальным по тем временам образом5.
— Ну уж! Скандальным... — с оттенком грусти возразил Фауст.
— Позвольте, я просто констатирую, без всякой личной оценки.
И быстро, как-то уж слишком внимательно огляделся по сторонам. Рыжеволосая женщина танцевала с американцем со смуглой кожей. Леон склонился к Фаусту.
— Сейчас, когда эта женщина уйдет, я вам кое-что поведаю, и вы сохраните это в тайне. Пусть только этот тип уведет девицу, и я предложу вам...
— Что? — спросил Фауст.
— Сделку... Небольшую сделку.
— Но, — сказал профессор, — я бы не хотел, чтобы эта женщина исчезла. Я знаю, — он отпил еще немного шампанского, — что начинается моя ночь на Блоксберге6. Еще вчера я, как черепаха, с трудом передвигал отяжелевшие лапы по скалистому склону бесплодной горы. А сейчас, сегодня ночью, моей ночью, mein Herr*, в мою честь начинается праздник всех пяти чувств; мой нос вдыхает дьявольскую музыку этих молодых негров, мои глаза видят стайки звуков у крышки рояля, мои
* мой господин [нем).
264
Дополнения
пальцы осязают жирную, чувственную тайну, мои уши слышат, как за стеной своей тюрьмы во мне восстают желания, а мои глаза, мои бедные старые глаза видят плоть насквозь. И потому, месье, я различаю обнаженное тело этой рыжей женщины через ее легкое зеленое платье. И я не хочу, mein Herr, чтобы она исчезла, прежде чем пропоет петух.
— Петух петь не будет, а гимн7 вашим пяти чувствам мне очень нравится. Позвольте угостить вас шампанским, месье.
Он ухмыльнулся и небрежно произнес имя «Эмиль». Метрдотель принес пузатую бутылку в ведерке со льдом.
— За вашу ночь.
И Леон поднял бокал на уровень глаз.
Фауст неловко встал между столом и банкеткой и поднес к его бокалу свой.
— Предположим, — сказал господин Леон, покусывая ус, — я предложу вам классический торг... то самое вечное приключение, соблазнившее вашего предка, согласитесь ли вы поставить под договором свою подпись?
— Это ведь значит просто продать душу, — ответил профессор.
— Вы правы, просто продать душу, а какую именно — с коммерческой точки зрения совершенно всё равно. Послушайте, я торгую душами и могу вам предложить сделку: я даю вам молодость в обмен на душу по текущему курсу, вместе со всеми вашими сомнениями, сожалениями и надеждами. Я привык к такого рода спекуляциям, хотя обычно прибегаю к куда менее романтичной процедуре. Как правило, я покупаю души окольным путем, проблем меньше. Ваша эрудиция, ваши семейные воспоминания побуждают меня воспользоваться устаревшими декорациями из дешевых книжонок в голубой обложке8. Я покупаю вашу душу, господин Фауст.
— А цена? — спросил профессор, дрожа от волнения.
— Элегантная молодость до самого дня вашей смерти, назначенного силой, мне не подвластной.
— Мне восемьдесят два года, — вздохнул Фауст, хмыкнув, — сделка не особо соблазнительная.
П. Мак Орлан. Ночная Маргарита. 3
265
— Если я сделаю вас моложе лет, скажем, на шестьдесят, то могу гарантировать вам сверхъестественную жизнь, равную по времени той, что вы прожили как...
— Знаю, знаю, — сказал Фауст. — По-вашему, я проживу еще как минимум шестьдесят лет в облике двадцатилетнего мужчины?
— Вот именно. Условия, на которые согласился ваш предок, в точности соответствовали моему нынешнему предложению9.
— Ну, тогда... — вздохнул Фауст.
Он поднял бокал и поднес его к лицу рыжеволосой женщины, которая, слегка запыхавшись, снова села рядом с ним.
— Как вас зовут, мадемуазель? — спросил Фауст, напряженно ожидая ответа.
— Меня зовут Маргарита, Ночная Маргарита, потому что я сплю до семи часов вечера и не могу лечь раньше семи часов утра. Каждое утро в том же наряде, что и сейчас, я иду выпить белого вина в табачную лавку на улице Фонтен10.
— Маргарита, — вздохнул Фауст.
— Я же говорил, — воскликнул господин Леон, скручивая сигарету.
— Вы позволите? — произнесла Ночная Маргарита.
Она не стала дожидаться одобрения собеседников. Джаз-банд тихо набирал скорость; неторопливо семеня, кружились пары. Маргарита приникла к гибкому телу нового партнера. Грохот трех барабанов благословил их союз.
Старый Фауст сунул руки в карманы брюк и, зажав сигарету во рту, не спускал с женщины глаз.
— Вы уже держитесь как молодой человек, — со смехом сказал Леон.
— Когда подпишем? — спросил профессор, не выпуская изо рта сигарету.
— Дайте я хоть заплачу... Я же не позволю...
Господин Леон оплатил счет и позвал гардеробщика.
— Э-э! Подождиге-ка! — произнес Фауст. — А когда я снова увижу Ночную Маргариту?
266
Дополнения
— Завтра. У вас впереди целая жизнь, чтобы с ней познакомиться.
— Вот так приключение! — вздохнул Фауст.
* * *
Они молча направились к небольшому кафе на улице Аббесс11. Фауст заметил, что его красавец спутник хромает, и узнал в нем мужчину, говорившего с девушкой на бульваре в начале этой ночи.
Когда они вошли в бар, какая-то женщина вскрикнула и устремилась к Леону.
— У тебя есть «товар»? — спросила она тихо.
Он бросил на девушку испепеляющий взгляд, и она так и прилипла к стойке. Мужчины прошли в заднюю комнату, где не было никого, кроме прикорнувшего на банкетке официанта.
— Принеси-ка нам по грогу, — скомандовал господин Леон, — и проваливай.
Когда напиток был подан, а официант исчез, Леон достал из бумажника лист бумаги и положил его на стол рядом с авторучкой.
— В качестве подписи мне будет достаточно капли крови. Не бойтесь, это не больно.
Леон взял бумагу и прочел вполголоса:
— «Я заявляю, что отдаю свою душу в распоряжение Князя Тьмы, именуемого Леоном, по истечении срока двадцать пятого мая двухтысячного года». Вы согласны?
— Да, — ответил Фауст, — только, ради бога, не делайте мне больно.
— Дело привычное.
Леон оцарапал ухо залившегося краской старика. Образовалась красная капелька, и он подцепил ее кончиком золотого пера.
— Дайте мне шанс, — сказал Фауст, осторожно ощупывая поцарапанное ухо.
— Я стопроцентный американец, — хмыкнул господин Леон.
— Тогда добавьте еще один пункт в долговую расписку: «Я разрешаю профессору Фаусту заменить свою подпись подписью другого
77. Мак Орлан. Ночная Маргарита. 3
267
лица, которое подпишет настоящую долговую расписку кровью и тем самым возьмет на себя обязательство по истечении указанного срока отдать мне свою душу взамен души того, кто подписал договор первым. Последний подписавший документ примет долг на себя».
— Вы или кто другой, — сказал господин Леон.
И Фауст расписался под словами «составлено в двух экземплярах в Париже 25 июня 192...»
/lurfv Ч"
Фауст
распрощался с демоном, предварительно обменявшись адресами, и пустился в обратный путь в жутких зеленоватых отсветах раннего утра. На лице и руках его лежал липкий слой ночной грязи. Мелкими шажками, спотыкаясь, спешил он вдоль еще спавших домов, словно запоздалая крыса. Теперь, когда чудесная сделка была как положено скреплена подписями, он, ослепленный смятением разума, спрашивал себя, в какой момент произойдет преображение всей его личности. Может, он оставит свою старую, изболевшуюся кожу на плоском камне, как линяющая змея? Или ужасный удар вызовет чудовищные судороги, от которых сотрясутся его старые кости? А может, он плавно скользнет к воскресению, подобно тому, как одна декорация легко и непринужденно сменяет другую на глазах у публики?
П. Мак Орлан. Ночная Маргарита. 4
269
Он спешил к своему жилищу, прижимал руку к груди, когда приступ кашля пригибал его к земле. Он силился понять, не омолодился ли его кашель и нет ли в груди каких-нибудь признаков сопротивления физической немощи. Дверь дома, где он жил, была еще закрыта, а площадь Тертр покоилась в тишине, пахнувшей скипидаром, мастерскими и старыми палитрами. С Восточного и Северного вокзалов1 выезжали со свистком первые поезда, на полной скорости обрушивались на стрелки, и рассветный туман содрогался от их электрических спазмов. Добредя до первой ступеньки своей лестницы, Фауст почувствовал такую слабость, что был вынужден прислониться к сырой стене. Он стал морщиться, как пьяный, пытаясь побороть непривычное онемение плоти и коварно подступивший откуда-то из самой глубины его существа внезапный упадок сил. Когда немного отпустило, он медленно продолжил путь... Подъем показался ему бесконечным; на каждом этаже он останавливался передохнуть. Добравшись до своей комнаты, он машинально закрыл дверь, разделся, шарахаясь из угла в угол и натыкаясь на мебель, и рухнул на кровать. И тогда, хотя дневной свет уже рассеял все тени в комнате, ему стало казаться, что кровать медленно перемещается под действием неодолимой, всепобеждающей силы. Он судорожно вцепился в простыню и закрыл глаза, ибо потерял веру в обещание господина Леона и подумал, что умирает, — мысль за мыслью, образ за образом, пядь за пядью.
* "к *
Проснулся профессор Фауст двое суток спустя в десять часов утра. Солнечный луч играл на его лице. В жилах текло чудо. Сам того не замечая, он соскочил с кровати и в радостном изумлении увидел свои крепкие ноги. Увидел руки, словно вылепленные из девичьей плоти, белые и сильные плечи. Нагнувшись, он коснулся пальцев ног, не сгибая колен, а когда выпрямился, зеркало отразило миловидное лицо молодого человека, очень красивого молодого человека во вкусе 1924 года. С чувством особого удовлетворения он оглядел свои мягкие и тяже¬
270
Дополнения
лые каштановые волосы. Отбросив смешную рубашку, он взобрался на стул полюбоваться своим обнаженным телом.
— Совершилось!2 — сказал он вслух.
Чарующий тембр голоса изумил его еще больше, чем немыслимое преображение тела. Он пропел:
— Маргарита!.. Нет проще-енья!.. Погибла ты!3
Потом опустил голову в таз с водой. И слегка отпрянул, увидев, какой грязной была его лохань. Раньше он никогда этого не замечал.
— Как ты можешь так жить? — весело сказал он. — Это же хлев какой-то.
На его губах, словно вешние цветы, сами собой возникали новые слова.
— Ты живешь в дерьме.
Он взвесил в руках свое отрепье.
— Придется поменять покрой твоих костюмов.
Порывшись в карманах, он убедился, что материальные ресурсы его исчерпаны.
— У меня ни шиша, — объявил он.
Выражение столь мало соответствовало его привычкам, что он расхохотался.
Собственный смех приводил его в восторг, как смех любимой женщины. Он облачился в старый костюм, теперь уже не висевший на нем, но облегавший стройное тело, высунулся в окно и оглядел садик, почти с испугом ощущая, что отступает назад, в прошлое. И вздрогнул, увидев, как малышка Люсьенн, подпрыгивая, направляется к его лестнице, нещадно размахивая бутылкой с молоком. Он поспешно отпрянул от окна и с бьющимся по-молодому сердцем присел у стола: внезапно возникшее прошлое внесло осложнение, вынуждавшее его относиться к своему воскресению как к делу серьезному и компрометирующему.
Девочка постучала в дверь.
— Поставь молоко, ладно? Я еще в постели.
П. Мак Орлан. Ночная Маргарита. 4
271
Он неестественно исказил голос, весьма неубедительно попытавшись сымитировать старческий тембр.
И прислушался к шагам девчонки, сбегавшей по лестнице.
«Если кто-нибудь здесь, в доме, меня увидит, я пропал, — подумал Фауст. — Я не смогу объяснить соседям, что произошло, и моя смазливая физиономия бросит тень на память старика Фауста, чье исчезновение мне вряд ли удастся обосновать. Всё это очень сложно. У меня есть сто франков, это факт. Придется дождаться ночи и исчезнуть, бросив эту лачугу и всё ее содержимое на растерзание людскому любопытству».
Он осторожно приоткрыл дверь, взял бутылки с молоком, сегодняшнюю и вчерашнюю, и стал подкрепляться, дожидаясь часа предстоящего побега.
«Жрать будем в ресторане, — подумал он. И тут же спохватился: — Почему “жрать”? Я что, не могу сказать “есть”? — И улыбнулся: — Ах, молодость!»
•к к *
Неделю спустя после свершения чуда Фауст привык к молодости, и одновременно ее преимущества перестали быть для него чем-то желанным. Весь его жизненный опыт, накопленный ценою бесчисленных, никем не оцененных жертв, мерк перед мышечной силой и пылом вновь пробудившихся инстинктов. Вся боль, пережитая им прежним, уже не существующим во плоти, глубоко укоренилась в его натуре, но Фауст предпочитал использовать ее как средство защиты, как некую благоприобретенную силу, что-то вроде кубышки, содержимое которой должно помочь отразить новые нападки жизни.
Он переехал и жил теперь в гостиничном номере неподалеку от площади Пигаль. Кстати, в той же гостинице обосновался под безобидным именем Леон и Повелитель Плотских Инстинктов, сбывавший «порошок» сотне постепенно деградирующих девиц. Как-то, выходя из дома, Фауст случайно встретил господина Леона на лестнице. Встреча не доставила ему удовольствия. Он ощущал в кармане сверхъесте¬
272
Дополнения
ственный документ, который никак нельзя было ни уничтожить, ни потерять. Он мог надеяться на спасение, если найдет человека, подавленного настолько, чтобы перевести сделку на свое имя. И Фауст уже воображал, как сведет дружбу с тысячью дряхлых стариков — каким недавно был и он сам, — обуреваемых под конец жизни жаждой чувственных наслаждений.
Одетый в костюм от псевдошикарного портного, как брошенный на произвол судьбы жиголо, без денег — ибо, в отличие от своего более удачливого предка, он не имел ничего, что позволило бы ему пребывать в праздности и достатке, — профессор Фауст болтался со своей никчемной наукой по тем уголкам Парижа, где применение ее, казалось, было под запретом. Теперь, когда он изменил свою внешность, весь опыт его прежнего существования уже не мог ему пригодиться. Он искал предлог связаться с теми, кого знал ранее. Но они не узнавали его. Польза, которую профессор Фауст мог бы извлечь из этих весьма посредственных людей, сводилась к нулю. Однажды, в момент беспросветной меланхолии, Леон приобщил молодого Фауста к своему бизнесу. Он сделал его чем-то вроде маклера-посредника, за что тот получал средства на жизнь и чистое белье. Ночи Фауст проводил в дансингах и кабаре Монмартра. И каждую ночь дюжина джаз-бандов подпитывала его силой, оказывавшейся бесплодной с наступлением дня. Однажды жаркой июльской ночью, уже отмеченной приготовлениями к Национальному празднику4, Фауст сидел на террасе пивной на бульваре Рошешуар. Мимо прошла женщина и, улыбнувшись, взглянула на него. Фауст узнал Ночную Маргариту, рыжую, бело-розовую, еще более эффектную благодаря костюму из темно-синей саржи. Новоиспеченный юноша не видел Маргариту с той самой ночи. Он невольно помахал ей рукой, и девушка села с ним рядом. Колени их соприкасались.
— Ты очень мил, — сказала девушка. — Как тебя зовут?
— Жорж... — Он решил рискнуть. — Жорж Фауст.
— Судя по глазам, ты парень без предрассудков.
— Увы! — ответил Фауст, иронично потупив ангельский взор.
П. Мак Орлан. Ночная Маргарита. 4
273
— Хитрец! — сказала девушка.
Фауст уже перенял самые изощренные приемы своего Наставника. Он обольстил Ночную Маргариту каким-то невыразимо соблазнительным сочетанием бьющей на эффект энергии секунданта в боксе5 и наигранной наивности не вполне невинного подростка. Когда он почесал хрупкую шейку под коротко остриженными волосами, молодая женщина обмякла и глаза ее заволокла любовная пелена. Приближался час ужина.
— Ты меня пригласишь? — тоном маленькой девочки спросила Маргарита.
— У меня ни шиша.
Девушка покраснела от удовольствия. Приключение оборачивалось в ее пользу, поскольку никак не задевало ее сентиментальных предрассудков.
— Пошли, красавчик, — сказала она. И повторила, как Антей, вновь обретающий силы от прикосновения к земле:6 — Красавчик... Мой малыш.
Старый Фауст, возникавший иногда в его подсознании, обнаруживал порой свое ученое присутствие. Слова, произнесенные девушкой, вызвали у юного повелителя Маргариты крайнее раздражение. Он резко сказал:
— Не называй меня «малыш».
Маргарита устремила на него безумный взгляд.
— Никаких «малышей», никаких «красавчиков», никаких «деток», ничего подобного между нами.
Он обнял ее, его долгий поцелуй был ответом на приглашение на ужин и воспоминанием о плотском вожделении, мучившем его в последнюю ночь старости.
По бульвару Рошешуар их безмолвно и неотступно, словно варварские орды, преследовала толпа, направлявшаяся вверх, к Мулен-де-ла- Галетт7 на углу улицы Лепик. Маргарита, облагороженная любовью, шла рядом с Фаустом. Краем глаза она следила за выражением смазливого лица молодого человека, и стоило ему улыбнуться, как она
274
Дополнения
тотчас улыбалась в ответ, счастливая и безмолвная, не подвластная оркестру Мулен-де-ла-Галетт, который, казалось, развлекал пассажиров призрачного трансатлантического лайнера.
Жорж Фауст повел девушку в небольшой монмартрский ресторанчик. Их столик стоял под сенью переплетенных ветвей жимолости, образовавших крытую галерею. Рядом с ними в тени соседней галереи раздавался гнусавый голос какой-то женщины и мерцал огонек ее сигареты. В конце улицы в монастыре пели девочки-сироты. Их юные голоса очищали воздух, словно ароматические свечи.
— Слышишь... малютки поют? — со смехом сказала Маргарита.
Фауст закурил. Среда, населенная консьержками, аккордеонистами
и девицами с плаксивыми голосами, заявила о себе сразу же после того, как сиротки улеглись спать. Все звуки понемногу растворялись в стуке колес идущего вдалеке поезда, последнего поезда, каждый вечер уносящего на север дневные шумы Парижа, словно кухонные отбросы.
— Погода хорошая, — тихо произнесла Маргарита.
Фауст протянул ей руку, и она сжала ее в своей, словно молитвенник в переплете цвета слоновой кости.
«Я отдыхаю, отдыхаю, — думала Маргарита, — я купаюсь, погружаюсь в приятную, нежную жидкость!» И без всякого перехода она выпустила руку Фауста, взъерошила волосы и запела тоненьким, фальшивым голоском:
— Yes we have no bananas,
We have no bananas today*.
Ее спутник насвистывал мотив и стучал ножом то по графину, то по чашке, то по стакану, то по деревянной поверхности стола, имитируя виртуозные дроби вдохновенного ударника-негра.
Когда счет был оплачен, Фауст потянулся, как фокстерьер, обнял девушку за талию и резко повернул ее к себе.
* Да, у нас нет бананов, | У нас сегодня бананов нет (англ.).
П. Мак Орлан. Ночная Маргарита. 4
275
— Что будем делать?
— Ты проводишь меня в «Боби-бар». Мне надо поговорить с Алис об одной завтрашней встрече... потом, если хочешь, зайдем в «Сагаре» повидаться с Леоном, он мне бабки должен... потом...
Маргарита с нежностью подняла глаза на красивое лицо юноши. Фауст рассмеялся и крепко поцеловал ее в губы. Девушка повисла у него на шее. Жорж, весь пунцовый, разжал объятие слабых рук. Маргарита огляделась вокруг, посмотрела, не забыла ли что-нибудь.
— А! Перчатки! — воскликнула она.
Одной рукой придерживая дверь зала, через который надо было пройти к выходу на улицу, Фауст спокойно и уверенно смотрел, как она поднимает с пола перчатки.
Г%А*сГ
назначив Маргарите свидание ночью в «Сагаре», j Фауст вернулся к себе в гостиницу, перед стойкой администратора он встретил господина Леона.
— А! Вот и вы, — сказал обходительный хромой, — я уже больше часа стучусь в вашу дверь1.
— Естественно, — ответил Фауст, скривив губы в полной горечи гримасе.
— Вы нужны мне сегодня вечером. Нужно доставить товар в один особняк в районе Отёй2. Вы нашли работу в Университете?
— Фигляр, — сказал Фауст.
— А как роман с Маргаритой?
— Откуда вы знаете?.. А, я забыл... Спасибо, очень хорошо, даже очень хорошо.
П. Мак Орлан. Ночная Маргарита. 5
277
— Не валяйте дурака. Вы отлично устроились. Эта женщина очень мила и очень серьезна в своем роде.
— Так, значит, — уклончиво ответил Фауст, — встретимся через полчаса за аперитивом в табачной лавке.
Господин Леон, прихрамывая, удалился. Фауст поднялся в свою комнату: ему не терпелось привести себя в порядок с помощью собственных туалетных принадлежностей, так как у Маргариты он еще не освоился. Проводя в волосах четкую линию пробора, он думал о Маргарите, о Леоне, которому должен был душу, и об опасном сбыте химических веществ. Он никогда не думал о недавней старост и воспринимал свое состояние как нечто совершенно обыденное. Подписанная им бумага казалась ему письмом шантажиста. Но полиция не могла вмешаться в это дело, ведь документ был подписан кровью и, что еще важнее, скреплен неким мистическим элементом, преступным и неуловимым, для которого кровь — всего лишь материальное выражение.
Он не мог ни убить Леона Мефистофелеса, ни порвать бумагу. Никакая человеческая или нечеловеческая сила не могла аннулировать заключенную сделку.
— Ах! Вот бы мне найти какого-нибудь дурака... — стонал он.
Весь день он провел в беспокойстве, несмотря на сладостные воспоминания о возлюбленной, о подруге...
— Я твоя жена, — говорила ему Ночная Маргарита.
— Ты моя подруга, — отвечал Фауст, — звучит не так избито.
В семь часов вечера Леон Мефистофелес передал Фаусту книжку в кожаном переплете, на обратной стороне которого была наклейка с названием:*
* Д. Магна | Авсония | Бурдигальского | сочинения3 (лат.).
278
Дополнения
Под наклейкой была спрятана коробочка, набитая белыми бумажными пакетиками. Фауст сунул книгу в карман, сел на трамвай до Тро- кадеро4 и направился в сторону Пасси5 на поиски маленькой улочки, густо обсаженной деревьями, — их посадили слишком тесно, и они пышно разрослись над стенами, приняв форму конусов.
Он легко нашел нужный дом. Позвонил в дверь небольшого трехэтажного особняка, плотно закрытые ставни которого не пропускали ни единого луча света. Послышались легкие шаги по садовому гравию, и дверь приоткрылась. Его стала разглядывать одетая в черное горничная в крошечном переднике, приколотом на груди. Это была высокая гибкая блондинка с некрасивым, но обольстительным лицом; манерами она напоминала скорбящую русскую княжну.
— Я от господина Леона, — сказал Фауст, приподнимая шляпу.
— A-а, хорошо, спасибо... До свидания, месье.
— До свидания, мадемуазель.
Теперь, избавившись от компрометирующей книги, Фауст почувствовал себя таким чистым, что закурил сигарету, даже не осознавая, что делает.
Он пошел по улицам и спустился к Сене. На какой-то барже моряки пели на северном диалекте.
На мосту Пасси6 поезд метро разрёзал ночной мрак, будто сверкающий объект из научно-фантастического романа. Набережные казались безлюдными. Но в тени мостов блуждали призраки.
«Я не хочу подвергаться риску внезапной гибели», — подумал Фауст.
Он ускорил шаг и дошел до станции метрополитена, сиявшей как факел на вершине олимпийской лестницы7.
Он вернулся на Монмартр. Удобно устроившись в кожаном кресле, он с отвращением признавался себе в ужасающей пустоте этой заурядной молодости, доставшейся ему столь дорогой ценой. Кровь приливала к щекам, а милая, любящая женщина украдкой наблюдала за ним.
П. Мак Орлан. Ночная Маргарита. 5
279
«Я молод, — думал Фауст, — я молод и опутан паутиной, оставленной на моих белых стенах старым Фаустом. Подписанный мною договор неполон. Надо было предусмотреть какое-нибудь жалованье, выгодную ренту до конца дней. — Мысль эта его смутила. — Мой предок был богат, — думал он, глядя на станцию Виллье8. — Никогда не имел проблем с деньгами. Интересно, на что была бы похожа его вторая молодость, окажись он в нужде, как я? На мою», — ответил он, улыбаясь. Этот ответ вернул ему спокойствие. Он нащупал в кармане бумажник и вспомнил, что рядом с договором, думать о котором не хотелось, лежала сунутая Маргаритой купюра, наверное, стофранковая. Он вытащил ее, дабы удостовериться, но оказалось, что купюра была всего в пятьдесят франков. «Черт!» — произнес он, вставая. Он спустился на площадь Пигаль и, подхваченный активным кружением ее отлаженного мирка, почувствовал, что так и будет каждый вечер вращаться по кругу, что жизнь его похожа на детскую карусель с шарманкой, низкопробной позолотой, девочками, сидящими верхом на деревянных лошадках, и словно с луны свалившимися полицейскими. На террасе одного из кафе он встретил Леона.
— Сделано, — сказал он.
— Хорошо, — ответил хромой, роясь в кармане.
Фауст протянул руку и получил пятидесятифранковую купюру. Глубоко засунув в карманы брюк сжатые кулаки, выпятив живот и выставив напоказ шелковые носки, он пил аперитив, а между тем господин Леон, читая газету, утирал слезинку, образовавшуюся в результате компромисса между сердцем и носом.
«Я ведь подписал договор, — думал Фауст, пытаясь себя подбодрить, — почему же, исходя из этого непреложного факта, не предположить, что мне удастся найти кого-нибудь вроде меня, кто согласится... да что там, будет ослеплен возможностью прибегнуть к столь романтичному способу».
Он подумал: «А что, если он донесет на меня?» Фауст достал из бумажника документ, развернул его и перечитал во всех подробностях.
280
Дополнения
Господин Леон, дочитав газету, наблюдал за ним уже несколько минут.
— Что-то не так? — спросил он.
— Дело в том, — пробормотал Фауст, содрогаясь, — что я не совсем понимаю, на что может польститься тот, кто поставит свою подпись под моей. Если он стар, помолодеет ли он? А если молод?
— Надо уповать на жертвенность мужчин и женщин, — сказал Леон Мефистофелес. — Простодушие для жертвенности — что нежный румянец для девичьих щек — украшение9.
— Я поторопился.
— Вы сожалеете о сделке? Могу вам предложить вот что: порвите оба документа в обмен на вашу молодость. Завтра, если хотите, можете проснуться стариком, каким были совсем недавно. — И добавил: — Малышка Люсьенн будет каждое утро приносить вам молоко, до тех пор, пока сначала одна, потом две, потом три бутылки останутся стоять нетронутыми под вашей дверью. Дверь взломают, войдут в комнату и найдут вас в вашей мерзкой постели с лицом, искаженным последним приступом кашля. Это вы называете идеалом?
— Позвольте, я не называю это идеалом... Я просто хочу сказать, что никак не возьму в толк, есть ли у меня шанс не угодить в ваши адские лапы.
— Вы суеверны, — сказал господин Леон, — и, несмотря на всё ваше философское образование, боитесь смерти из-за связанных с нею гипотез о возможных перспективах в загробном мире.
— Я ни во что не верю, — заявил Фауст. — В вашу сделку я поверил, как верю в монетку с дыркой, — он показал ее, — в число семь, число десять и еще число два, счастливое действие которого — дело сугубо личное, касающееся только меня и благосклонности этого числа. Смерти я боюсь с момента вашего вмешательства, необъяснимого с научной точки зрения, и теперь у меня возникли сомнения относительно окончательного и бесповоротного уничтожения всего, что составляет мою личность. Мне кажется, что идти за вашим гробом, пусть даже под палящим солнцем, до какой-нибудь безнадежно заброшенной, выжженной
П. Мак Орлан. Ночная Маргарита. 5
281
зноем окраины, было бы для меня несказанным наслаждением, вроде литра холодного молока, выпитого залпом наутро после попойки.
— Я вас отлично понимаю, — сказал господин Леон, совершенно не обидевшись. — Я понимаю вас. Будь я на вашем месте, я думал бы точно так же. В общем, больше всего вы боитесь физической боли, и вы правы. Думаю, вам стоит подсуетиться, пока вы молоды, и подыскать себе замену.
— Мой предок ведь не нашел, — простонал Фауст.
— В его договоре такого пункта не было. И потом, у вашего досто- почтимого предка в общем-то была прекрасная душа, ну, одна из тех душ, что мы называем прекрасными в угоду большинству. Но, между нами говоря, ему и в голову не приходило, что можно отделаться от обременительного кредитора. Он поносил меня, месье, площадной бранью, столь милой сердцу немецких клириков того времени и высмеянной, как вам известно, кавалером Ульрихом фон Гуттеном10. Мы мотались по кабакам, куда захаживали ландскнехты и чересчур грузные девицы, прятавшие за подвязкой кинжал. М-да! Времена здорово изменились. И сегодня Фауст может попытать счастья. Потому-то я и оставил вам шанс на спасение.
* * *
Отужинав вместе с Фаустом, Леон Мефистофелес оставил молодого человека предаваться любовным утехам. Маргарита подсела к своему другу на площади Тертр, застав его за чашкой кофе на террасе небольшого ресторанчика прямо напротив дома, где он некогда жил. Маленькая провинциальная площадь была забита столами и посетителями. Глотатели огня метали языки пламени прямо посреди официантов, разносивших всевозможные закуски; насмешливые девчонки, ускользнув от родительского надзора, держали друг друга под ручку и вели фривольные разговоры. Итальянский певец пел под аккомпанемент банджо отчаявшимся, постоянно спотыкающимся голосом. Смирно сидевшая перед стаканом кофе с мороженым Ночная Маргарита гля¬
282
Дополнения
дела на своего возлюбленного, и он для нее озарял всё вокруг светом чувственности и интеллекта. Она всё еще ощущала в себе медленно тающий трепет минувшей ночи. Отныне волнения ее хитрой, неистовой плота сможет обуздать присутствие любимого человека.
За играми, приведшими ее в восхитительное умиление, последовала минута, когда она поняла, что впредь неразрывно связана с судьбой этого человека, вокруг которой ее робкое воображение возвело хрупкие стены.
Ей казалось, что возлюбленный пляшет на конце резиновой нити, которая резко отбрасывает его в тот момент, когда ей, Маргарите, вроде бы удается его схватить. Она понимала, что он подонок — ибо никак иначе нельзя было объяснить его связь с господином Леоном, — и знала, что он принадлежит к другому социальному слою, который по традиции считала высшим, хотя презирала тех редких его представителей, что встречались на ее пути.
Эта нежная, взбалмошная и развращенная без всякой литературы женщина воспринимала жизнь только через призму своей профессии. И всё, что этой профессией определялось, представлялось ей логичным и морально оправданным. Она не могла понимать правоту так же, как ее случайные друзья. Эта люди кормили «котов», а те их защищали — и в этом состояла их правота. У нее же, Ночной Маргариты, был свой «кот», который защитит ее, и это была ее правота. Две эта правоты сталкивались денно и нощно, и такой представляла себе жизнь Маргарита, сидя в одиночестве перед бокалом шампанского за столиком «Сагаре» в ожидании клиентов.
Рядом с возлюбленным всё казалось ей окутанным надежной и безмятежной пеленой безопасности. Стулья стояли близко, и их бедра соприкасались. Она чувствовала благотворное воздействие прикосновения. Она любила Фауста, как собачка, спящая на коленях у хозяина, и не хотела покидать своего места, потому что чувствовала, как каждая клеточка ее тела расцветает от этой близости; она и вообразить не могла ничего более естественного, более целомудренного, чем это прикосновение.
П. Мак Орлан. Ночная Маргарита. 5
283
— Вечером я свободна, — сказала Маргарита, и голос ее от стыдливости стал хриплым и неприятным.
Фауст встал, кусая губы, посмотрел на часы. Потом подумал про акт о продаже, лежащий в его бумажнике, и снова рухнул на стул со стоном отчаяния:
— Ах, милая! Как я тебя люблю!
Ночная
Маргарита в белом платье, с рыжей шевелюрой на фоне улицы, исчерченной серпантином красных и золотых рекламных огней, — это была картина, не затронутая влиянием Сезанна1. Когда она молчала, естественным образом сливаясь с декорацией, ее силуэт являл аристократический образ величественной ночной красавицы. Она принадлежала к элите панели — такой же элите, как любая другая. Она презирала несчастных женщин, стоявших под деревьями бульвара, или жалела их, в зависимости от настроения. Когда на рассвете она выходила из «Сагаре» или «Руаяля»2, кутаясь в плащ и унося с собой всё, что осталось на память о минувшем празднике, то пугливо закрывала глаза перед тайнами развенчивающего ее дня. Солнечные лучи злобно
П. Мак Орлан. Ночная Маргарита. 6
285
щипали ей кожу. И ее ночная сила таяла, как снежное изваяние. Но с наступлением ночи она овладевала тайными приемами дневных повелителей. Казалось, все ее жесты отлажены рекламным агентом, который развесил лампочки на фасадах домов, начиненных бурлящими идеями. Сама того не сознавая, она питала свой мозг весьма утонченной пищей: смесью артистических изысков и отзвуков Биржи3, вернее, интеллектуальными объедками того и другого. Маргарита представляла собой еще не совсем понятную, но абсолютно несокрушимую социальную ценность, чей курс падал днем и возрастал ночью. Фауст держал в своих несколько безвольных руках эту красно-серую жизнь, сотканную из двух строго регламентированных образов: девушки в роскошном воздушном туалете ночью и в старых тапочках и замызганном халате днем. Ночная Маргарита принадлежала ему и когда шаркала тапками, и когда вечером торжествовала в своем дерзком, царственном туалете, но в то же время тактично умудрялась принадлежать и тем статистам, что дергались в лучах света, насыщенного американскими мелодиями. Фауст приберегал для себя ее дневную сущность и, не обладая состоянием своего предка, был подло деспотичен с Маргаритой, когда она устало радовалась уюту своих тапочек. Он помыкал ею тоном зануды начальника, поднаторевшего в литературной критике любви и нравов. Он всегда был в выигрыше, а Маргарита обожала его, шаркая тапками по своей неприбранной комнате, заставленной бумажными сувенирами из последнего дансинга, где она оставила свою силу вместе с пустыми бутылками из-под шампанского, открытыми дневному свету окнами, составленными штабелями стульями и резким запахом интеллектуальной неги, повисшим под потолком вместе с дымом от табачных изделий всемирно известных фирм.
С тех пор как Маргарита, не таясь, заботилась обо всех его нуждах, Фауст не занимался больше делами господина Леона. Он боялся закона и старался изо всех сил прожить свою новую жизнь полноценно, устраняя с ее пути все препоны, грозящие обернуться неприятностями.
286
Дополнения
Он всё время думал о своем предке и сокрушался, что у него нет еще одной, незаложенной, души, чтобы с помощью той же магической процедуры заполучить состояние. Каждый день он убивался из-за того, что продал свою старость за такую цену, и сожалел, что не волен заключить новую сделку, столь же досадную.
Хотя он ненавидел господина Леона, дня не проходило, чтобы он не искал его общества. Он вел с ним беседы о преимуществах морального страдания над физическим и излагал разные мысли, нацеленные на то, чтобы придать адским мукам угодное ему направление.
— Вы боитесь, — говорил Леон Мефистофелес.
Фауст подскакивал на месте:
— Я... Я... Я хотел сказать, что представления о вашем аде просто смехотворны. Христианских мучеников, например, так и не удалось сокрушить физической болью. Это представление о вечном наказании годится разве что для маленьких детей. К телесным мукам относительно легко привыкнуть. Надо поймать ритм боли, не напрягаться и рассуждать... надо...
— А я очень полагаюсь на физические страдания, — упрямо повторял Леон Мефистофелес.
И чем настойчивее он возражал, чем слаще становился его голос, тем больше его жертва бледнела от бессильного бешенства.
Этот обмен речами, лишенными смысла, был единственным мыслительным усилием Жоржа Фауста. Самым каверзным его намекам не хватало силы. Атмосфера, в которой он жил, иногда оживляла его, вселяя надежду, что его случай растворится в той вековой мистификации, что призвана главным образом питать воображение одиноких лириков видениями, обновленными в русле модных интеллектуальных тенденций. Его молодость вместе с молодостью Ночной Маргариты притупляла эти удручающие образы изобилием любви и претворением слов в полезные мелочи повседневной жизни.
П. Мак Орлан. Ночная Маргарита. 6
287
* * *
Поставив локти на колени и задумчиво положив голову на сложенные чашечкой руки, Маргарита смотрела в лицо своему возлюбленному: молодое лицо, в котором сквозило нечто легкомысленное, утонченное — и в то же время неуловимо старое. Инстинкт подсказывал, что опасность, куда более впечатляющая, чем те, что порождает обычная ревность, подстерегает ее в самой невообразимой форме.
— Хочешь денег?
Фауст пожал плечами, перебрался на другую сторону кровати, нервно взбил подушку и лег на спину, устремив взгляд в потолок и забыв о погасшей сигарете, приклеившейся к нижней губе.
— Ты распускаешься, — сказала Маргарита.
Это было как раз то, чего не стоило говорить. Фауст дернулся, словно марионетка, которую потянули за ниточку, подпрыгнул на пружинящей кровати и, побагровев от злости, предстал перед видавшей виды Маргаритой.
— Я распускаюсь!.. Я распускаюсь!..
Он задыхался от возмущения, и ругательства теснились у него за зубами, как хищники, почуявшие сырое мясо.
Он снова впал в прострацию и застонал, обхватив голову руками:
— Ну и молодость! Боже, ну и молодость!
— Если хочешь, мы можем расстаться, — сказала Маргарита совсем тихим, незнакомым голосом. И сразу же бросилась его ласкать. — Ну что ты, дурачок, — говорила она. — Скажи мне что-нибудь... Мне ты можешь доверять, я твоя жена... — Она пристально посмотрела ему в лицо: — Ты что-то натворил и боишься легавых, да? Я угадала... Ведь я угадала?
Она расспрашивала его в пылу воодушевления и при этом старалась расширить зрачки, потому что, несмотря ни на что, даже в минуту откровения не могла отделаться от назойливого пристрастия к неизменным штампам театра и кино.
Сохраняя видимость глубочайшего отчаяния, Фауст сразу оценил представившийся случай. Он встал, выбросил сигарету, порылся в кар¬
288
Дополнения
мане пиджака, достал бумажник и бросил на стол пресловутый документ, сложенный вчетверо.
Девушка быстро схватила бумагу.
Она развернула ее и прочла, наморщив лоб, необыкновенный документ, казалось, не вызвавший у нее ни малейшего удивления, по крайней мере внешне.
— Ты не нашел, кто за тебя заплатит, — просто сказала она.
— Как... но ведь речь идет о моей душе.
Он прикусил губу, но, разумеется, слишком поздно.
— Верно, — сказала Маргарита, — речь идет о твоей душе.
Она не вполне понимала, в чем дело. Но воспоминания о катехизисе рассеяли все пришедшие на ум легковесные слова.
— Ты продал свою душу, — повторила Маргарита.
— Я продал душу, чтобы обладать тобой, — сказал Фауст, наблюдая ее реакцию.
В эту секунду он действительно говорил ради спасения души. С того памятного дня, когда он вновь стал молодым, он только и думал что о спасении своей души, бессмертие которой вызывало у него отвращение.
Маргарита серьезно изучала документ, пытаясь найти уязвимое место в этой незначительной на вид катастрофе.
— Ты подписался кровью, — произнесла она тоном человека, обратившего внимание на опасную ошибку.
Фауст пожал плечами.
— Мне нужно, чтобы какой-нибудь старик подписал бумагу.
— А что Леон даст ему взамен?
— Молодость со всеми ее радостями.
— Значит, это никогда не кончится, — сказала Ночная Маргарита. — Понимаешь, милый, если какой-нибудь старик подпишет бумагу, то он освободит твою душу, а свою отдаст... И тогда господин Леон получит душу старика после его смерти... но если перед смертью старику удастся спихнуть бумагу другому старику, то Леону придется еще по-
П. Мак Орлан. Ночная Маргарита. 6
289
дождать с получением души. И до тех пор, пока будут существовать старики, желающие омолодиться, Леон не сможет окупить свою аферу, так?..
— Об этом я не подумал, — заинтересованно промолвил Фауст, — но ты права, пресловутый принцип зла несет в себе элементы саморазрушения. Это в полной мере соответствует общим соображениям по данному вопросу, которые я коллекционировал, когда мне было восемьдесят два года.
Ночная Маргарита задумчиво качала головой, как человек, получивший много трудновыполнимых советов. Фауст ходил взад и вперед по комнате, то почесывая затылок, то постукивая сигаретой по тыльной стороне ладони.
— Я пытаюсь вспомнить имя, имя одного типа, — сказала Маргарита, роясь в памяти, как в чемодане. — Я знаю стариков, есть один сенатор, адвокат... нет, он не клюнет... один старикан, вроде бы руководящий банком... он тоже не клюнет... Ах! Если бы полковник не умер в прошлом году, я могла бы дать ему подписать всё что угодно... но он умер...
— Разумеется, — ответил Фауст.
— Знаешь, милый, ты лучше отдай эту бумагу мне. Я смогу воспользоваться каким-нибудь подходящим случаем. В «Сагаре» попадаются такие занятные типы.
— Не хотелось бы, — сказал Фауст. — Боюсь, как бы у тебя не сперли мою бумагу. Это очень важно; нет бумаги — нечего подписывать. И я остаюсь со своим проклятием, оформленным по всем правилам.
— Я что, по-твоему, совсем идиотка?
— Ну подумай, Маргарита, и представь себе физиономии тех оригиналов, которым ты предложишь документ. Они же не подпишут не читая.
— Я скажу, что это сбор подписей для благотворительного бала.
— Делай как хочешь, — вздохнул Фауст, — может, ты и права.
290
Дополнения
* * *
Войдя в красно-белый зал «Сагаре», Ночная Маргарита помахала рукой подружкам, чинно сидевшим рядком на обитой красным бархатом банкетке перед выпивкой за счет заведения. Тесно прижавшись друг к другу, они напоминали прекрасных безголосых птиц. Задумавшийся о своем джаз-банд пытался нагнать убегающую мелодию ангельского саксофона. Каждый такт отбивался резким аккордом банджо в ритме колеса водяной мельницы. Ночная Маргарита положила рядом с собой шляпку, двумя руками взбила прическу, бросила на стол сумочку и стала взвешивать шансы, проплывавшие у нее перед глазами вместе с одетыми в смокинги призраками.
Ей улыбнулся пожилой мужчина, безупречный и черный, как кипарис. Она подсела к нему и принялась красить губы, пока он заказывал шампанское.
«На вид он не глуп», — подумала Маргарита с горечью.
Завязался диалог, целиком взятый из французско-английского разговорника — незнакомец был британцем — и приукрашенный улыбками: «О! Вы хотите провести ночь в моем обществе?» — «Какой же вы шалун». — «О, шампанское сухое, не правда ли, оно из лучших?» — и так далее.
«Я никогда не решусь показать ему бумагу», — думала Маргарита.
Неодолимая робость опутала ее своими прочными, изнуряющими сетями. Она уже не воспринимала престарелых мужчин как раньше, до того странного вечера, когда возлюбленный у нее в комнате посвятил ее в подробности невероятной, ошеломляющей сделки, которая, впрочем, не казалась ей такой уж невероятной и ошеломляющей.
Пока клиент, казалось, старался завести себя изнутри, она увидела в другом конце зала еще одного пожилого мужчину, но он с первого же взгляда показался ей человеком необычайного ума и здравого смысла.
В ту ночь в «Сагаре» побывало тридцать стариков — все в смокингах, прямые и стройные, как кипарисы. Зал «Сагаре» с этими извая¬
П. Мак Орлан. Ночная Маргарита. 6
291
ниями, этими смешными кипарисами походил на древнее кладбище в одном из городов Северной Италии. И все старики, все тридцать, были отмечены внешними признаками въедливости, изощренной хитрости и самого тривиального умения вести дела.
В своем воображении Ночная Маргарита металась от одного старика к другому, как обезумевший шарик в азартной игре, где ей не везло, а опущенная в сумочку рука нащупывала маленький листок бумаги, который жег ей кожу, как огонь.
/Tlurfv Я-
Ночная
Маргарита была поистине потрясена сентиментальной сценой, хитроумно спланированной Фаустом в расчете обрести шанс на спасение. Молодая женщина была без ума от этого загадочного человека; скрашивая его ночную жизнь, она ощущала, что он проливает свет на какие-то детские, освященные традицией чувства, о которых она и думать забыла со времен своего первого причастия (хотя она и слыла еврейкой в соответствии с веяниями эпохи)1. Все призраки, населявшие ее воспоминания, рассеивались в присутствии Фауста, когда она с благоговением смотрела, как он спит. Знание о его сверхъестественном прошлом породило необычайно нежное чувство, и иногда она видела в своем возлюбленном красивого мужчину, чья молодая кожа скры-
П. Мак Орлан. Ночная Маргарита. 7
293
вает скелет, уже изъеденный могильными насекомыми. Помимо воли Фауста, она погружалась в сладостное ощущение, накатывавшее на нее, как прилив светозарного счастья; она прикасалась к лицу возлюбленного с тысячью предосторожностей. Боялась его повредить. И когда порыв ветра раскачивал деревья, она спешила повязать ему на шею свой шелковый платок.
Тогда Фауст становился для этой сентиментальной и отчаявшейся девушки почтенным старцем, грудным младенцем и обаятельным плутом во вкусе времени. В этих условиях жертвенность, которую любая женщина носит в себе, как готовый распуститься цветок, не могла не расцвести от соприкосновения с отчаянием Фауста, озарявшим всё вокруг, словно звезда в доме свиданий.
Однажды вечером любовники снова пришли в то маленькое монмартрское кабаре, где Маргарита потеряла перчатку. Ничего не изменилось. Только летний зной преобразил некоторые детали обстановки. Всё тот же пейзаж оживляла атмосфера искусственно воссозданных тропиков. Под сенью грабов шипел газовый рожок.
Ночная Маргарита вздохнула, глядя в пустую тарелку:
— Сегодня ровно год, как мы вместе. Помнишь, как пели девочки в монастыре?..
Фауст кивнул. Откинувшись на спинку стула и вытянув ноги, он переживал один из приятных часов своей жизни, как бывает у животных по весне.
— Прошел ровно год.
Ночная Маргарита закурила, чтобы занять руки, потом, перегнувшись к Фаусту через стол, сказала:
— Милый, я хочу поздравить тебя с праздником... я подумала о тебе...
Она открыла сумочку, вынула маленький бумажник из мягкой кожи и протянула его возлюбленному.
Тот взял подарок, пощупал кожу, не смог оценить ее качество и сказал:
— Наверное, ты очень дорого заплатила за него, дорогая?
294
Дополнения
— Ты посмотри внутри, — воскликнула Маргарита.
Фауст раскрыл бумажник. Увидел листок бумаги, сложенный вчетверо. Развернул его, и сразу же лицо его сморщилось, как кожа кошелька, если затянуть шнурки.
— А! Так это вот что... ты не смогла, да?
— Да ты прочти, — снова воскликнула Маргарита, — прочти до конца!
Фауст еще раз перечитал неумолимые строки договора и вдруг заметил под своей подписью другую, старательную и неумелую:
* * *
Несколько недель Фауст пребывал в превосходном расположении духа и сеял вокруг себя бодрость и оптимизм. С тех пор как он разорвал узы, связывавшие его с дьявольской сущностью господина Леона, всё его существо трепетало от восторга, так что не раз лишь несколько сантиметров отделяли его от колес трамвая или автомобиля. С ангельской улыбкой сносил он брань побагровевших водителей и уходил прочь, не тая на них зла. А вот Ночная Маргарита, продавшая свою душу ради спасения возлюбленного, казалось, чахла на глазах. Ее прелестные ночные краски блекли, и ей приходилось тщательно наводить макияж, чтобы выполнять свою работу.
Фауст говорил ей:
— Но послушай, бедная моя малышка, ты забиваешь себе голову, ну правда, ты зациклилась на одной мысли, и она не дает тебе покоя,
П. Мак Орлан. Ночная Маргарита. 7
295
ты только об этом и думаешь. Ты подписала Леонову бумажонку, но зачем придавать ей такое значение? Леон блефует. Не далее как вчера я в этом убедился. Ты ведь знаешь Жоржетту? Так вот, она попросила у Леона двадцать грамм... — И так далее, и так далее.
Ночная Маргарита его не слушала. Склонив рыжую голову, она шептала:
— Мне надо найти старика...
— Да найдешь ты его, — настаивал Фауст. — Для тебя это раз плюнуть, твоя профессия дает столько возможностей. У тебя тысяча шансов избавиться от своей подписи, как только ты этого действительно захочешь. Я тоже ищу... Знаешь, дорогая, когда ты встретишь старика, настоящего старика, чистокровного, из тех, что называются старикашками на твоем колоритном наречии, мы снимем домик в Но- жане2 и купим лицензию на садоводство. Посадим редиску, лук-резанец, а еще что?..
Он вытягивал губы, надеясь на поцелуй.
— Оставь меня, — говорила Маргарита.
И заливалась слезами. Фауст воздевал руки к небу:
— О господи, ну я тебя не понимаю! Нужно иметь ангельское терпение, чтобы жить с тобой рядом... Ну что с тобой такое, черт побери? Что с тобой? Почему ты плачешь?
— Не знаю, — отвечала Маргарита. — Оставь меня.
— Я уверен, что ты накручиваешь себя из-за бумажки...
— Мне пора идти, — отвечала Маргарита, вытирая слезы.
Через приоткрытое окно Фауст смотрел, как зажигает огни площадь Пигаль.
— Я найду Леона, дорогая. Он обещал познакомить меня с одним стариком. У него, судя по всему — он ведь всегда блефует, — есть список всех стариков и в Париже, и повсюду. Буду ждать тебя в табачной лавке до трех, если только ты...
Он подходил к ней, и она отвечала на его поцелуи, рыдая у него на плече.
— Дурочка, — говорил Фауст, нежно лаская ее.
296
Дополнения
Так проходили дни. А ночью Маргарита, нарядившись, как положено женщине из «Сагаре», отправлялась на поиски старого человека, который захотел бы поменять свою душу на свежую кожу и горящий взор молодого здорового мужчины.
Маргарита томилась на обтянутых красным бархатом банкетках. От частого общения со стариками она бледнела, плохо себя чувствовала и всё время рассказывала одно и то же. Она больше не проникалась музыкой джаз-банда и напрягалась всем телом, чтобы сохранить картинную позу, подобно тому, как толстяк втягивает живот, желая казаться стройнее в купальном костюме.
Все попытки дать кому-нибудь подписать пресловутый договор плачевно провалились. Одни ухмылялись, другие рассуждали о неправдоподобии сделки, но не подписывали. Как-то раз ей чуть было не удалось убедить одного семидесятилетнего пьяницу, который нашел всё это очень занятным и, желая продемонстрировать философские наклонности, заявил в присутствии метрдотеля:
— Я подпишу эту бумагу, дайте мне перо... и чер... нила.
Подписывать надо было кровью. Ночная Маргарита пыталась добиться своего. Она мужественно боролась целый час, но пала духом перед бормотанием старого повесы.
— Ты нарываешься на скандал, — сказал хозяин, — а мне этого не нужно.
Она в отчаянии вернулась домой. Затем вновь обрела надежду, так как Фауст всё время повторял:
— Ты сама себя накручиваешь.
* * *
Маргарита встала раньше своего возлюбленного и принялась перекладывать платья, белье, шляпки из своего шкафа. Непривычный шум разбудил Фауста, и он сел в кровати, с всклокоченными волосами и не вполне открывшимися глазами.
— Что с тобой? Ты с ума сошла?
П. Мак Орлан. Ночная Маргарита. 7
297
— Я уезжаю, — сказала Ночная Маргарита. — Не могу больше здесь жить... Вчера Эмиль окончательно выгнал меня из «Сагаре»... Поеду в Трансвааль3 или в Южную Америку. Говорят, старики в этих странах не могут ни в чем отказать женщинам.
Фауст, теперь уже окончательно проснувшись, одобрительно кивнул:
— Ты нашла решение.
— Ах, замолчи! — вне себя воскликнула Маргарита.
— Дорогая... — начал Фауст.
Поглощенная суетой сборов Маргарита проворно перебирала белье, безделушки и методично складывала всё в добротный чемодан из свиной кожи.
Фауст, не говоря ни слова, приступил к утреннему туалету. Бреясь, он краем глаза наблюдал за своей подругой, как осторожный укротитель следит за поведением любимой пантеры, вскормленной им из бутылочки.
Маргарита собралась первая. Сев на кровать, она терпеливо дождалась, пока оделся ее возлюбленный.
— Ну что? — произнесла она.
— Пойдем позавтракаем внизу. У тебя есть билет? Кстати, куда ты едешь? И вообще, ты соображаешь, что ты сейчас делаешь?
— У меня есть билет, — сказала Маргарита, и ее лицо словно одеревенело, — и мне забронировано место на пароходе, который отправляется из Гавра послезавтра и называется... — Она порылась в сумочке, вынула билет и прочитала: — «Турень»4.
Фауст, не ответив, открыл дверь. Ночная Маргарита встала и пошла за ним. На пороге она обернулась и сказала:
— Продай мои шмотки... то, что осталось.
И у нее задрожал подбородок.
Они позавтракали в ресторане рядом с гостиницей. Маргарита старалась не опускать голову, чтобы не капали слезы. А Фауст старался не смотреть на нее, но раболепно за нею ухаживал.
Когда завтрак был съеден, Маргарита первой встала из-за стола.
298
Дополнения
— Скажи Эрнесту, официанту, чтобы он поднялся за моим чемоданом. Я не хочу туда возвращаться.
Фауст зашел в гостиницу и, пока Маргарита ловила такси, сходил за чемоданом и поставил его рядом с водителем.
— Во сколько у тебя поезд?
— В два десять.
— У нас времени в обрез... Но у тебя уже есть билет.
Маргарита вышла из такси, не обращая внимания на Жоржа. Быстрым шагом прошла через вестибюль. Она шла не оборачиваясь.
— Подожди меня, — крикнул Фауст, покупая в автомате перронный билет.
Маргарита остановилась.
Он догнал ее, нашел путь, обошел один за другим все купе первого класса.
Наконец нашел одно свободное. Положил чемодан на багажную сетку и сказал:
— Мне лучше сразу уйти... Ты вернешься, Маргарита, ты скоро вернешься, свободная... Не накручивай себя... Клянусь тебе, вся эта история уладится... Обними меня, дорогая.
— Прощай, — сказала Маргарита.
Он поцеловал ее в губы, она держалась скованно и напряженно. Потом, помедлив, он развернулся и пошел прочь...
— Жорж! — крикнула Маргарита.
Он оглянулся и вернулся назад.
— У тебя есть деньги? — спросила Маргарита на одном дыхании. И сунула ему в руку несколько купюр. — Держи, иди, иди, не оборачивайся.
На улице Амстердам5 хладнокровие вернулось к Фаусту. Он обратил лицо к солнцу. Он чувствовал, как откуда-то издалека приливала радость, рассчитанная еще по меньшей мере лет на сорок. Ведь он знал, что сентиментальная тоска, бросавшая своего рода траурную тень на его мысли, продержится дней семь-восемь, не более. Он посчитал деньги, оставленные Ночной Маргаритой: пятьсот франков.
П. Мак Орлан. Ночная Маргарита. 7
299
Убрал их в карман, потер лоб, чтобы отогнать слишком яркий образ готового к отправлению поезда на десятом пути, и пошел обратно на Монмартр.
Первым же, кого он встретил, зайдя в табачную лавку выпить аперитива, был господин Леон.
— Здорово, старина, — приветливо воскликнул Фауст. И протянул руку: — Ну, как дела? — повторил Фауст, так и стоя с протянутой рукой.
И господин Леон, помедлив, пожал ее.
/7Ц* biaJKs €i
ШАЛЬНОЙ
За всю науку я платил сполна, Как бы ни велика была цена. Был босяком, бродягой сирым И любовался Божьим миром.
Редьярд Киплинг1
2)ojooM& cÀAар селла !
Всех MOHMUpTpCKUX gu6upU-
ют на фронт в пополнение. cMenSi, стило бщтъ, тоже, и очень вовре- сМЭх. о\ то в Kleine1 скукогыт^а, ра- crjoStHb Si надолго в этои^д^ре, не ровен час, накуролесил бщ черт- те чего ни свою голову. Пм аленЭх ^наешь-. как^ ^аведусь, удержу нет! Тем более винца^не- ^дурного и дешевого, удесь хоть ^алеис&. Так1 что, малышки, скоро Si сменю свои шлч^ов^е штанщ ни новенькую полевую скорму. сХорошо ПОсМНЮ, что б&(ло в сМие iместн^цатого2, — бу)ь спокойна, если MeHSi не укокошат, вернусь, и ^аживем тихо-мирно. Такди^фортелГдолго не убудешь, все равно кикL встречу русских Mopsige в Париже3. 9t рад, что отправлюсь в компании с крутщсАли ребКтками. Едут все наши: (Луи ТТрюно с улицм^Берт*, Застои ТТднсфиль с улим^Труа- фрер5^да Тентен Тэаулль, что живет у родителеи^на улице^ (сЯото6, тъх его жену сМари-Тереуу^должна j<нить — она eige^ в ТТассаж Чэради7 к, месье Эдмону ‘дТинеуу, которщьГ' песенки co4uHSier, gахаживала.
Вчера мь{ все четверо^да ех^марселец/дТоль ^авалились хлебнуть по маленькой^<1 «хосехмкам». Так, надувают испанцев^ которое гут кибачок^держат В Х2ефе, между прочим, полно uтaЛbSiHцeвб^tлo^дo воинь{, а теперь их всех при-
304
Дополнения
ували. Одни ерепенились, а^другие вроде^аже рады Шли. !Ну, как^оШчно — во всьм есть свои «уа?? и «против?*.
Протрите, патрули по биуертскому вережу8 — ми. там подлодки бошеи^9 высматривали. Нроч^аи?сладк&и^ сон посреди^дня. Ъа, уаШл скауать, меня берут полковым горнистом. У меня всегда, ты же помнишь, Шла музыкальная жилка* В ^двенадцать лет уже играл на горне. с>Кдрж, фрепон мне свои^давал подудеть. ^Ходили по воскресеньям на городские валы, и я Шл страсть какой^гордыйУ 'Но в одиночку выучиться чему-нибудь путному трудно.
9< поэтому, как, попал в Kleef), срауу в школу попросился, и оказалось, надо переучиваться. Все, чему я у фрепона успел набраться, неправильно Шло. (Лучше Ш вооб^рс нуля начинал, на три месяца^раньше Ш уакончил. Наш Капрал — горнист что надо! Он иу регулярных частей!' 1Лграет классно, а по жиуни^дуб^убдм. Оам перевелся К, шальным, потому что ему сказали, ~дескать, в^дисватах Шстрее по слутк£е продвигаются. Оно, конечно, в походе ведь Какц в понедельник, с утра тебя произвели в сержанты, а к, вечеру ты уже труп. Очередь на лычки ^движется ШстреиГ чем к, цирюльнику. Унтера все по Шльшеичасги иу «регулярных??.
К1ороче, милая, к. концунедели я снова увижу францию. Повеуутчереу (Лион10, а может, и череу Панам11. Если получится, "дам тебеунать, приходи на вокуаоСда постарайся прифасониться. сМне-то все равно, но это важно, что (другие меня уважали. 9< о тебе много рассказывал, малость привирал, а ПЪнтен, он тебя унает, поддакивал. Понимаешь, у (Луи 'сЯрюно и Истона Понсфиля очень солидное по¬
77. Мак Орлан. Шальной. 1
305
ложение б обществе, и мне не хочется, чтобы они. посмотрели ни тй)ю одежку и решили, что я пентюх к^Кри^нибудь. Ну, бооб^е-то я б этом смысле 3а тебя спокоен. Не пидииГ ^духом и gHntv'если меняубьют, 3ничит, бошиуж, очень постирались, сим нарываться не сгину.
с>Кх>рж (Лугр,
горнист io-го сЛсррикинского легкопехотного батальона12
В/ч сХсХ
ПИСЬМО ЖОРЖА ЛУГРА АНТУАНУ ПРЕДЮ,
В ПАРИЖ, УЛ. ОРДЕНЕР13.
*дТрибет, стирини ‘сТредю!
Ну See, мы^дбигаем ни ерронт, сМирселле я уж, ни- писил, неплохо бы, кстати, чтоб? пока меня нет, ты 3а неи~ чуток^ присмотрел. Еи^то я доверяю, но описаюсь подружек., с которыми они сбывались cnjtc пятнадцатого года. Они б тиком боуристе, когда нужен гланда глиу сХочешь знать, что у нас новенького? 'Рассказываю. Все ниши, кто тебя^нил, по тебе скучают сХоть их не тик. много. Видел бчери сМе- риим, они теперь при ФТднссриле, но все бремя спрашивает про тебя. Но ‘(Яонариля, кик^и всех нас, ни передобрю посылают— говорят, мыдолжны примкнуть к,ударнои~груп- пе ни Оомме14, так.она,^думаю, к, одному черномазому и£ десятого тиральерского15 переметнется. (Между ними говоря, не бог весть кпкя& они красабица^ажРдля Kïecfda. В каждой^ стране б нишем^деле сбои прибили, и мы с тобои^ничего тут не изменим. ПГик.я что хотел сказать-, если меня убьют, по- Зибдться о (МирсеоЛле. (Лучше бы с,СГ вернуться б заведение — с подружками, при мимочк§ди ее подручниу^еуи^ и веселее
306
Дополнения
вудет, я мороку меньше- Это а тевеня вс&к&^случяя^пяшу. о\ воов^е-то нядеюсь в^скочять — вот ^яслужу блягот)ясность в прякяуе — сАленЭх той)я в другую чястъ переведут- Что ня говоряj я врегул&рнщк воиск&к, осовенно горнясчу, оно поспокойнее.
'ТвоьГ'пряжель сЖлрж,, по пр0$вяц£у bffoeo, горняст id-го а^срряк&нского легкопеьсотного вятяльоня
j-а ротя, в/ч сХсХ
Покончив с личными делами, Жео принялся старательно надписывать два клетчатых красно-зеленых конверта, купленных в солдатской лавке около столовой, а потом пошел вразвалочку к цейхгаузу16, где главный сержант третьей роты выдавал чехлы для фляжек и перевязочные пакеты.
Прибежал кто-то из школы горнистов звать товарищей на занятие. Лугр посмотрел им вслед. Сам он, слава богу, уже не запасник. В запасных частях-распределителях хорошо тем, кто попал туда с фронта и кому есть что порассказать. Прежде, до войны, ребята в Батальоне хвастались друг перед другом подвигами, иногда с трагическим исходом, которые успели совершить на воле, еще почти мальчишками. Но с четырнадцатого года, когда полыхнуло по-настоящему, цениться стали другие вещи. Героев ночных драк на бульваре Барбес17 потеснили защитники Дома Паромщика18. Конечно, участие в этом славном деле не отменяло довоенных заслуг. Но Дом Паромщика стал пробным камнем, проверкой на геройство.
Лугр особой лихостью не отличался, в его прошлом не было ничего такого, что могло бы поразить товарищей по оружию, — теперь, к началу большой войны, многие из них успели погибнуть в разных военных операциях. Молодому парижанину не очень-то улыбалось подставляться под пули, хоть бы и в самой славной битве, но он хорошо понимал: чтоб говорить на равных с друзьями, которыми он восхищался не за военную доблесть, а за виртуозное искусство жить вне общества
П. Мак Орлан. Шальной. 1
307
и закона, ему самому надо бы иметь за спиной что-нибудь жутко героическое.
Вот Понсфиль, тот побывал под огнем — уцелел у Дома Паромщика. Он был ранен в плечо, лечился в тылу да еще три месяца выздоравливал перед тем, как вернуться в Эль-Кеф19. Длинный Луи Прюно, худой, бесшабашный, заносчивый малый, и коротышка Тентен Базиль, которого забрали в госпиталь с какой-то странной болезнью — лечили ее ртутью, а сам он называл ее «розочкой»20, — оба тоже были уже обстрелянные.
Эти трое, с которыми Жео, зеленый юнец, общался каждый день, оказывали на него огромное влияние; он видел в них достойный подражания пример, чуть ли не рыцарей без страха и упрека. И был страшно горд уже тем, что знал их и мог запросто звать по имени. В целом мире он никем так искренне не восхищался, как Понсфилем, Луи Прюно21 да портновским сынком коротышкой Тентеном Базилем, тупицей, которому голова служила исключительно как таран. «Я его как бодну башкой!» — частенько говаривал он. Предложи ему кто-нибудь заменить мозги на пару фунтов расплавленного свинца, он бы не обиделся. Единственное, что внушало ему уважение, — грубая сила. Зато уж ей он подчинялся рабски.
Что до Понсфиля, жирного парня с темными усиками, он называл себя «коммерсантом». Зарабатывал он на женщинах, которых постоянно облапошивал. Понсфиль имел привычку грызть ногти и при каждом удобном случае хвастливо вворачивал: «Я же мужчина!» Мужчина! — Жео это слово приводило в восторг. Когда он сам произносил его, к глазам подступали слезы. А что ему при этом представлялось, одному Богу известно. Во всяком случае, Понсфиль, Прюно и Тентен Базиль уж точно были образцовыми мужчинами в самом распрекрасном смысле. Жео Лугр от этого слова терял голову, особенно после пары-другой рюмочек чего-нибудь покрепче.
Бастид, дежурный горнист, весь в белом и в надвинутом чуть не на глаза, как велела традиция, красном кепи с желтым рантом
308
Дополнения
и треснутым козырьком, протрубил, поворачиваясь во все стороны, общий сбор, а перед этим сигналом — припев из бравой батальонной песенки:
Шальной, скорей на сбор!
Не пойман — не вор.
Такой разговор.
Афбат!
Во втором корпусе раздались свистки, поднялся гул голосов. Бойцы в полевой форме, с притороченными за спиной ранцами, неспешно выстроились под платанами.
Солнце палило немилосердно. Товарищи, оставшиеся в казарме, толпились у окон — провожали отбывающих во Францию, на фронт.
Каждого солдата в полевой форме окружали семь-восемь человек в белом, его наперебой просили:
— Как будешь в Панаме... сгоняй прям с вокзала... так и так вас там промаринуют чуть не сутки... скажи Симоне, что я надумал переводиться в регулярные... только не говори Мезанжу, это гнилой тип... слышь, только Симоне...
Свисток — и все бойцы, оттопырив левый локоть, чиркнули прикладами по земле и взвалили ружья на плечо. Физиономии шальных, обведенные ремешками от кепи, так и сияли.
Командовал подразделением осанистый капитан. Он раньше служил в Иностранном легионе22 и хорошо знал, что у всех есть свои слабости. А потому, не слишком заботясь об идеальном строе, возглавил колонну и скомандовал «шагом-марш».
Впереди двигался духовой оркестр. Горнисты, проникшись торжественностью шествия, лихо крутанули своими инструментами, и зазвучал молодецкий, разухабистый марш, от которого трепещут женщины и просыпается жажда подвига в сердцах юных прощелыг.
Однополчане в белой форме подпевали, высунувшись в окна. Они хором вторили оркестру — горланили припев из песни зуавов23, переделанный бойцами Афбата на свой лад, а трубы задавали такт:
П. Мак Орлан. Шальной. 1
309
— Тарам-тарара!
Уходим в поход, прощаться пора,
Прощайте, сестренки, прощайте, милашки,
Кокетки, резвушки, веселые птатттки,
Луиза и Клара, мои вы родные,
И все остальные.
Не плачь, моя детка, не плачь, дождись,
и уж выпьем с тобой,
Когда мы вернемся домой.
— Вернемся домой! Вернемся домой! — пели и солдаты в строю.
Им уже виделся Париж, хитрые игорные машины в маленьких забегаловках...24 Париж, его узкие улочки, музыка в дешевых кабаре... Париж, его худосочные дочери... байки и обычаи тех кварталов, где все мужчины вздыхают о проведенной в Африке молодости... семейная жизнь.
С лиц молодых вояк ручьями лился пот.
не найдется места еще для трех коробок патронов? — спросил у Жео Понсфиль. Жео протянул руку, взял коробки и сунул их в патронташ, рядом с купленной в Мар селе1 мягкой булочкой.
Эшелон, должно быть, ехал где-то неподалеку от Нима2. Шальные теснились на площадках перед открытыми дверями — им хотелось не столько полюбоваться видами, сколько покрасоваться перед девушками. А те стояли гурьбой, вцепившись в шлагбаум, у каждого полустанка, встречавшего поезд дребезжанием, похожим на звонок дешевого будильника.
Солдаты сидели в расстегнутых шинелях, сдвинув кепи на затылок и свесив ноги с площадки; каждый жил своей, пусть и не слишком осмысленной, жизнью, но все были единым целым.
А молоденькие девушки, дамы и господа, глядя на мелькающие вагоны, видели только одно: вот едут шальные, гордые славой своего батальона. Женщины не без трепета смотрели на «пропащих ребят»3, тех, кого молва представляла отъявленными головорезами, которых так же тянет орудовать штыком, как иного порядочного человека — выкурить сигару после рюмочки аперитива.
Тогдашняя форма дисбата мало чем отличалась от формы Иностранного легиона: синие шинели, красные штаны. Только пуговицы серебряные с рожком и цветком нарцисса4 да кепи красные с желтым
1
- У ТЕБЯ
П. Мак Орлан. Шальной. 2
311
кантом. Такие мелочи в глаза не бросались. Однако шальные изукрашивали вагоны надписями, которые не позволяли ошибиться. Мелом, крупными буквами было написано:
Перед Лионом поезд остановился на унылой станции рядом с заводом, откуда доносился перестук молотков по звонким наковальням, похожий на стрекот сверчков в сентябрьском жнивье.
Здесь тоже у шлагбаумов толпились женщины, молоденькие и постарше. Лица их тонули в сгущающихся сумерках, а пятна ярких блузок круглыми венецианскими фонариками горели на фоне цветущей сирени.
Теплый апрельский вечер размягчал сердца, располагал к откровенным беседам и нежным чувствам. Шальные вылезли из вагонов, одни побежали к колонке наполнить водой свои фляжки, другие пустились в разговоры с женщинами. Большинство — безусые юнцы. В сиреневых кустах зазвучали поцелуи. Приданный к КПП, Лугр стоял на платформе под часами, туго затянув ремешок кепи, с горном на груди — сразу видно: человек на службе, и ему недосуг заигрывать с девчонками.
312
Дополнения
Но вот из первого вагона раздался свисток. Лугр поднес горн к губам и заиграл сначала позывные Афбата, а потом общий сбор.
Все бросились по вагонам. Поезд дернулся и, фыркая, стал медленно набирать ход. Солдаты гроздьями висели на ступеньках. Один, обвешанный фляжками, кое-как вскочил на последнюю подножку, десяток сильных рук затащили его наверх.
— Это Блеро, — сказал Тентен Базиль. — Влез к марсельцам, дубина! Ну и ладно, нам больше винишка достанется!
— Что с него, с рохли, взять, видать, такой уж он от роду недоделанный!
Приятели помолчали. Паровоз протяжно свистнул. Раскинувшаяся до горизонта ночь была испещрена светящимися точками.
— Похоже на звезды, — сказал Жео. — Красота — будто небо опрокинулось.
Солдаты перекусывали на скорую руку и запивали из фляжек. Когда поезд резко притормаживал, вино расплескивалось, пахучие брызги попадали им в лица, на шинели и впитывались в сукно.
— Ну как, ничего? — спросил Луи Прюно. — А я тут с одной милашкой пошептался, видал? Она мне свою карточку дала, — он протянул Понсфилю фотографию, — и деньжат подкинула — промочить горло с пршггелями. Две пятифранковые монеты, две по два франка да еще десяток марок по пятнадцать су. Всё, сколько было в лопатничке.
— Эх, парень, — вздохнул Понсфиль. — Задержись мы на сутки в Париже, деньжат надыбали бы запросто. Всего-то на сутки... Разочек прошвырнуться от Барбес до площади Клиши5 — и готово дело.
* * *
Назавтра полдня простояли в полях, дули кофе от нечего делать, а часов в шесть подъехали к предместьям столицы.
Сначала пошли ничем не примечательные пригородные домики, где отдыхают без затей простые обыватели.
У любого города южные подступы куда приветливее северных, где всё уныло и пропитано угольной пылью. Почерневшие дома, на верев¬
П. Мак Орлан. Шальной. 2
313
ках под окнами болтаются убогие одежки и ветхие простынки. Чтобы понять, как можно радоваться жизни в этих трущобах, нужно согласиться с тем, что человек — животное, которое может свыкнуться с чем угодно. Так говорил один из знакомых Достоевского по Мертвому дому6. В Жювизи7 эшелон свернул и стал огибать Париж. Ехал медленно, выпуская клубы дыма, как заядлый курильщик из трубки.
В каждом вагоне шальные, замерев, во все глаза смотрели на город, провожали глазами бело-розовый в лучах заходящего солнца силуэт собора Сакре-Кёр8.
Проехали по перекинутому через улицу мосту. Между домами копошились детишки. Они задрали головы, замахали руками и отчетливо, дружным хором закричали:
— В доб-рый путь! В доб-рый путь!
Шальные не отвечали. От волнения у них щипало в носу, во рту копилась горечь.
На протяжении часа поезд медленно вез их вокруг Парижа.
— Вон дом моего дядьки! — воскликнул кто-то.
Зажглись огни, рельсы заблестели, точно бесконечные полоски жидкой ртути. За окном мелькали какие-то пронзительно дребезжащие будки. То тут, то там возвышались газгольдеры, похожие на уэллсовских марсиан9, поджидающих семь сотен крутых парижских парней, насквозь прокопченных на плацу под африканским солнцем.
При виде Парижа на душе у ребят посветлело.
— Не остановимся, — вздохнул Жео.
Понсфиль усмехнулся.
— Еще и наглухо сейчас задраят, — сказал он. — А то, глядишь, надует!
Действительно, пришлось им отодвинуть ружья и вещички, чтобы могли задвинуться тяжелые вагонные двери. Тут наконец эшелон разогнался как следует, колеса вошли в ритм, и под их стук, в котором каждому слышалось что-то созвучное общему настроению, шальных сморил сон.
Г%А*с3
Жорж
Лугр попал в седьмую роту, когда от ее прежнего состава после боев под Эюори и Рок- ленкуром1 осталось одно воспоминание, все полегли — что офицеры, что бойцы.
Батальон укомплектовывался заново в городишке А** в Артуа2. Местные торговцы, на радость солдатам, быстро приспособились к нуждам военного времени.
На одной лавочке, находившейся на главной улице, и вовсе вывесили транспарант с большими черными буквами:
АРНЕМСКИЕ
ТОВАРЫ
В витрине висели колбасы, красовались банки с консервами, ножи с рукоятками из красного дерева, алюминиевые тарелки и кружки, наборы почтовой бумаги и парочка погребальных венков с лентами — надпись и номер части делались на заказ.
Люди восхищенно разглядывали эту витрину. Если кто и возмущался, то скорее шутливо: «Во дают!»
Солдатам нравились мотки полосатой ленты Военного креста — эта награда была еще в диковинку3.
Понсфиля, Луи Прюно и Тенггена Базиля определили в одну роту с постоянным горнистом Жео Лугр ом. Командовал ею молоденький лейтенант, выпускник училища Сен-Сир4, который покорил шальных
П. Мак Орлан. Шальной. 3
315
своим молодецким видом. Рота слушалась его беспрекословно. Так оно и бывало: если кто умел найти общий язык с этими отчаянными ребятами, то ладить с ними было легче, чем с любыми другими солдатами.
Жео повиновался или бузил по своему усмотрению. Бравый лейтенант пришелся ему по душе, так что он краснел от гордости каждый раз, когда тот к нему обращался. Иное дело начальник горнистов всего батальона, само собой, корсиканец, капрал Самбальди, не то чтобы уж очень вредный, но дурак дураком — его Лугр ни в грош не ставил и обходился с ним как положено «шальному» до кончиков ногтей молодчику.
Самбальди, с дирижерской палочкой в руке и висящим на груди горном, проводил занятия с начинающими горнистами под плакучими ивами на берегу речки Скарпьг5, в которой плавала куча пустых консервных банок. Он вообще недолюбливал новеньких, а уж Лугра просто терпеть не мог.
Собрав в кружок своих подопечных, он наставлял их — внушительным тоном, размеренно, с легким марсельским акцентом. «Раз-два!» — и горны с вымпелами по его команде взметались вверх. Не зная устали, он заставлял солдат повторять одно и то же движение раз пять подряд. А нерадивых записывал в замусоленный блокнотик и влеплял им штрафные наряды по хозяйственной части. Вот почему Жео с первого дня только и делал, что таскал, на пару с резервистом Глуарё, тоже музыкантом, по узким проходам между окопами бочонок с водой. Они несли его осторожно, точно ковчег с мощами святых на крестном ходе, и растущие поверху колоски овса, цветки ромашек и одуванчиков щекотали водовозам лицо.
С другими горнистами Лугр как-то не очень сошелся. Только с Глуарё и общался, когда они вдвоем доставляли воду куда-нибудь в ремонтные мастерские рядом с командным пунктом. А в свободное время встречался с Понсфилем, Прюно и Тентеном Базилем в придорожном кабачке, который содержал противный старикан с чернявой лупоглазой дочкой, деревенской шлюхой, вечно одетой в дрянное бумазейное платьишко.
316
Дополнения
Никакой вывески на кабачке не было, его называли просто по имени владельца — «У папаши Ларда». Дочь звалась Жерменой, а ее младшая сестра, испорченная девчонка, бойко лопотавшая на блатном жаргоне шальных с забавным местным выговором, — Агатой. Учитывая, сколько патронов растерялось даром по окопам, кажется, было бы не грех израсходовать еще три штуки: милая троица вполне заслужила такую честь.
Заведение папаши Ларда было частью кромешного ада, охватившего весь мир. По вечерам кабачок был похож на гигантского краба с двумя горящими рыжим светом глазами-окошками. Внутри по стенам струйками стекала влага, точно холодный пот по лбу приговоренного к смертной казни. Через приоткрытую дверь в хозяйской спальне виднелась кровать с красной, раздутой, как сарделька, периной. Богиня этого вертепа стояла, словно за алтарем, за маленькой обитой цинком стойкой. Старый папаша Лард сидел у камина и следил за порочным священнодействием. Агата разносила по столикам стаканы и бутылки. Нагибаясь, сверкала тощими ляжками и тут же одергивала юбку с блудливой улыбкой под стать отцу и сестрице.
Зайдя, как обычно, в кабачок, Жео увидал там приятелей. Понс- филь, Прюно и Тентен Базиль уже сидели перед стойкой. Понсфиль поглаживал Жермену по заду, та визжала: «Ой, отстань!»
— А вот и наш трубач! — сказал Прюно.
Жео сел и солидно поздоровался со всеми за руку. На нижней губе его висел окурок, из-под козырька лихо надвинутого на ухо кепи торчала косая прядка.
— Что будешь пить?
— Красное, как и вы... Жермена, плесни стаканчик.
Кабак гудел, как мотор. Все говорили разом. Бледные мужчины сидели в потемках, пили и пели. Какой-то марселец заигрывал с Жерменой.
— Ежели уцелею, то, как кончится война, заберу тебя в Париж, — пообещал он и, подмигнув, прибавил: — Малую тоже прихвачу.
На другой день ждали наступления. Локального наступления на участке седьмой роты. Так, по крайней мере, говорили в деревне.
П. Мак Орлан. Шальной. 3
317
Шальные заняли траншеи. Они знали, что скоро покинут Артуа, но прежде предстояло изрядно попотеть.
— Это еще только разведка боем, — говорили бывалые солдаты. — По-настоящему жарко будет к концу недели. Как артиллерия лупить начнет!
Невысказанным вслух мыслям молодых парней, которые готовились идти на смерть, было тесно в стенах деревенского кабачка. И новобранцы принимались петь блатные песни про гильотину или душещипательные тюремно-воровские баллады.
Сильный голос перекрыл общий гвалт:
— В злой неволе, в злой нево-о-ле О своей тоскую до-о-ле...6
Головы в красных кепи торчали из слишком широких воротников синих шинелей.
— Мое ходатайство о помиловании отклонили, — сказал Понсфиль. Тентен Базиль, сидя перед Жерменой и впившись зубами в край
засаленного столика, рычал:
— Бодну башкой!
Кто-то еще из солдат молодым голосом, сильно грассируя, затянул:
— Она мила и хороша,
Как роза белая свежа...7
Вокруг гоготали. Ведь хандра находит выход и в жалобах, и в отчаянном веселье.
Сотня пехотинцев в кабачке папаши Ларда посвящала свой первый боевой подвиг в no man’s land*’8 его дочке, но у нее не хватало мозгов понять и принять такое подношение.
* нейтральной зоне; букв.: ничейной земле (англ).
318
Дополнения
Какой-то артиллерист с местным выговором рассмешил Жермену нехитрыми шутками. Но очень скоро ему пришлось убраться подобру- поздорову — кое-кто из шальных уже набычился и сжал кулаки.
Жео сидел, обхватив голову руками и тупо уставясь на вырезанные на столе каракули.
— Да ладно, не дрейфь! — сказал, поднимаясь, Тентен Базиль.
— Плевое дело, старик! — прибавил Понсфиль. — Я уж в трех наступлениях побывал и, как видишь, пока жив. Пошли-ка, играют сбор.
Понсфиль, Прюно, Базиль и Жео, напевая, гуськом потянулись к выходу. Жео напоследок галантно изогнулся, заглянул в глаза Жермене и с умильной улыбкой сказал:
— Прощай, моя птичка, милашка, красотка, прощай, моя сладкая, мой малышок!
Но девица не ответила ни слова.
— Стерва! — шепнул ей тогда Жео, хохотнул и хлопнул дверью.
В потемках четверо друзей пошли на околицу в расположение своей части.
* * *
Лугр был слишком молод, чтобы строить из себя храбреца и делать вид, что ему всё нипочем. Служивший казармой амбар переливался сотней свечных огоньков — ни дать ни взять рождественский вертеп, не хватало только младенца Иисуса да волхвов. Солдаты втыкали штык в солому, вставляли во втулку свечу и что-нибудь читали или писали письма, положив лист бумаги на ранец.
Жео дожидался, пока погаснет последняя свечка, чтобы дать волю отчаянию, которое переполняло его душу.
Последним задул свою свечу Понсфиль, и через щели в крыше стали видны звезды. Жорж выбрал одну прямо над головой и уставился на нее. Сияющая точка притягивала его тоску. Тепло укутав ноги, подложив руки под голову, он мог теперь всласть, тайком от всех нагореваться.
И первым делом подумал о Марселле.
П. Мак Орлан. Шальной. 3
319
— Как она... как она там... — чуть не в голос пробормотал он и шепотом добавил: — Бедная моя девочка...
Под аккомпанемент этих слов у него в голове, как в кино, пронеслись детство и молодость. Теперь, издалека, вся убогая жизнь представлялась ему прекрасным садом, который портило только черное воронье — полиция нравов. В нем вспыхнуло желание — он так ясно увидел Марселлу... А еще Пассаж Бради, лавки старьевщиков, висящие на плечиках перед входом платья кафешантанных танцовщиц, похожие на шкурки светящихся глубоководных рыб.
Потом он подумал, не подведет ли его завтра, в страшном испытании, обычное везение, и заснул, повторяя про себя слова Понсфиля: «Плевое дело, старик. Я уж в трех наступлениях побывал и, как видишь, жив остался».
Да, Лугр был молодой и зеленый, но даже он понимал, что эта утешительная присказка ровным счетом ничего не значит.
Je 1с *
На исходе следующего дня батальон выступил к окопам. Жео шел со своей ротой, рядом с Глуарё и лейтенантом Бразье, при котором состоял вестовым.
Шальные проходили через деревеньки, где ржали лошади и кишели крысы, они шагали и насмехались над жмущимися к стенкам местными жителями и артиллеристами да саперами, что смотрели на них с любопытством и опаской.
— Какой полк? — спрашивали артиллеристы.
— Десятый легкопехотный батальон!
По левому краю колонны двигались пулеметчики с тягловыми мулами. Один из них, углядев девчонку за спиной артиллериста в рубашке, завопил:
— Эй, Мари! — Он говорил раскатисто: «Мар-р-р-ри». — Не пора ли домой? А то, гляди у меня, мамаше скажу!
Но та махнула ему рукой и ответила с местным акцентом:
— Катишь, шынок, колбашкой в Дарнанеллы!9
320
Дополнения
Пулеметчики загоготали, хлопая себя по ляжкам. Все дружно повернули головы в сторону простушки.
— Это он тебя французскому учит? — спросил один солдат, указывая на артиллериста.
В наступающих сумерках смешивались перестук крепких копытцев мулов, скрип вьючных ремней и всевозможные запахи. А потом справа и слева от дороги, вдоль которой остались только корявые обожженные деревья, разверзлась земля. Начиналась область вечной зимы — ни листвы, ни травы до самого горизонта, и каждый, кто сюда попадал, терял чувство реальности — только это и спасало.
Однако между реальностью и фантасмагорией пролегала пресловутая нейтральная полоса. Заветное пространство, которое, к кому бы ни переходила победа, всегда остается свободным.
Атака
V / i I /\ К /\ шальных увенчалась полным
^ ^ ^ ^ ^ успехом, и вскоре вся прежняя,
в отлаженная до мелочей баталь-
• i онная жизнь перевернулась.
Старые, оставшиеся довольно далеко позади окопы казались теперь завидным земным раем. Солдаты с нежностью вспоминали сырые землянки, куда они еще надеялись вернуться, высокие ровные стенки траншейных ходов, склады инвентаря, куда горнисты являлись отрабатывать наряды; «одна кирка — две лопаты, одна кирка — две лопаты», — монотонно отсчитывал сержант...
Лугр, теперь вестовой при капитане, вместе с другими вдруг попал в какой-то ад. Горн висел за спиной, притороченный к ранцу, руки судорожно сжимали винтовку. Он невредимым преодолел два ряда заграждений, спрыгнул в первую немецкую траншею, потом опять побежал по открытому полю, где и самый низенький человек чувствует себя огромным. Он орал, как все шальные. Где-то справа застрочил «максим»1, и тут же в ответ на безобидный стрекот заколыхалась трава, а земля пошла мелкими волдыриками. Одна пуля с глухим звуком врезалась в грудь какого-то солдата, другие словно разрывались в воздухе, над самым ухом. С неба дождем сыпались 77- и 105-миллиметровые снаряды2, взметались земляные гейзеры. Жео хлестало сзади жаром раскаленных осколков. По носу стекал пот, кровь бешено стучала в висках.
Во вторую траншею Жео свалился. Прямо перед ним груда тел немецких пехотинцев загораживала вход в укрытие. Здоровенный шаль¬
322
Дополнения
ной швырнул внутрь подрывную шашку. Послышались крики, стоны... и из черной низенькой дверцы повалил едкий дым.
Весь день шальные продвигались по ходам сообщения. А потом мертвую землю накрыла тихая ночь.
Командир роты расположился в немецком КП. Молодой, энергичный, никогда не терявший присутствия духа, он писал карандашом какой-то приказ при свете свечи. Язычок пламени озарял его лицо и углублял на нем тени. В траншее послышались шаги, потом шепот.
— Что там такое? — спросил командир.
— Артиллерийские наблюдатели, им нужно попасть на первую линию.
— Пусть войдут.
— Но у нас больше нет вестовых, — сказал тот же голос.
— Да, правда. Позовите-ка кого-нибудь из горнистов.
Пять минут спустя Жео спустился по ступенькам в КП.
— Горнист Лугр, явился по вашему приказанию.
— Отлично. Отведете этих двух артиллеристов на первую линию, ту, что проходит через рощу в квадрате Эн.
Офицер развернул кое-как нарисованную карту, показал размеченные красным и фиолетовым ходы и окопы. Лугр разглядывал надписи на карте, и в душу его закралась тревога — вдруг он не справится с таким важным поручением? Но он ответил:
— Есть. — И вылез из блиндажа.
Артиллеристы, сержант и бригадир, ждали его в траншее.
— Ну, пошли, — сказал им Жео. — Давайте за мной.
Узкий ход был забит трупами — баденских гвардейцев3 и шальных. Он начался как обычный окоп, но потом вдруг исчез — впереди одна развороченная снарядами земля. Жео остановился и повертел головой во все стороны, как гончая, что вынюхивает зайца. Совсем рядом кто- то закашлялся.
— За мной, — сказал Жео артиллеристам.
Он узнал солдат из своей роты.
П. Мак Орлан. Шальной. 4
323
— Ты, что ли, Флешан? Ни черта не видно. Это я, Лугр, горнист из седьмой.
— Я самый. Тут у нас, старик, такое пекло было. Понсфиль убит, Прюно еще на первой линии штыком проткнули. Немец-то не робкого десятка попался. Его мы прикончили, а Прюно так и остался лежать. Я забрал все его письма, военную книжку, кошелек. Он мне сам сказал. А ты-то куда?
— Да вот по делу. Веду артиллеристов на первую линию. Не знаешь, где ее искатъ-то? Командир сказал: отведи на первую линию. И точка. Работенка мерзопакостная. Где седьмая, не знаешь?
Флешан встал, махнул рукой и ответил:
— Только что какие-то проходили вон оттуда... может, они тебе скажут... что за рота и кто командует...
— Спасибо, — сказал Жео. — Значит, мне идти прямо?
— Ну да. Прямо и чуть левее. Смотри только на бошей не напорись, они, кажись, тут рядышком.
Жео и оба его спутника, пригнувшись, рванули по изрытой воронками земле, стараясь не заглядывать в них, чтобы не видеть, что там внутри.
В темноте было плохо видно, куда ступаешь. Все трое шли с трудом, на каждом шагу обо что-то спотыкались, так что от боли поджимали пальцы в тяжелых ботинках.
— Постойге-ка, ребята, подождите меня тут, — сказал Лугр. — Мы вроде сбились, я схожу на разведку.
Помрачневшие артиллеристы улеглись на землю за пригорком, а Жорж осторожно двинулся вперед под покровом густой, непроглядной ночи.
Внезапно перед ним оказалась новая траншея, поперек нее лежал свалившийся столбик-указатель. Жео попытался прочесть надпись на табличке, но не решился зажечь карманный фонарь, а без него было не видно. Тогда он сунул табличку под полу шинели, направил на нее фонарь и осветил на секунду. На заляпанной грязью дощечке проступили готические буквы, которые бедняга шальной не смог прочесть.
324
Дополнения
Раздосадованный, он сел на край траншеи и простонал:
— Провались оно всё пропадом! Мне бы наших, наших найти!
Не очутился ли он между двух линий? Он насторожился, изо всех сил напрягая слух, но ничего не услышал. К ночи изрытую землю, как всегда после боя, накрыло, точно свинцовым колпаком, тяжелой тишиной. Ни сигнальной ракеты, ни пулеметной дроби, ни ружейного выстрела. Уснули, что ли, все дозорные в том и другом лагерях?
И только паутина страха постепенно оплетала Жео в ночной тьме справа и слева, спереди и сзади.
Он с ужасом ждал, что вот-вот где-то рядом вдруг раздастся отрывистая, невразумительная немецкая речь. Не немцев он боялся — боялся услышать голос неизвестно откуда, не суметь различить, с какой стороны исходит опасность.
Наконец он решил вернуться к товарищам, пошел назад и чуть не ощупью отыскал тот пригорок и моток колючей проволоки, служивший ему ориентиром.
— Эй! Ребята! Вы тут? Эге-гей! — позвал он приглушенным голосом. — Вы тут? — Жео, затаив дыхание, прислушался. — Ах ты ж падлы! Смотались!
Пригибаясь к земле, Жео снова пустился в путь. На минуту он чуть не поддался соблазну остаться и дождаться утра прямо тут, но мысль о том, что нужно выполнить поручение, чтоб не прослыть, как он сам выражался, придурком, оказалась сильнее.
Он продвигался с предельной осторожностью, точно охотничий пес, вынюхивающий крота, и его не оставляло ощущение, что он ходит кругами по одному и тому же участку. И в самом деле, дважды натыкался на тот самый моток колючки, который служил ему ориентиром.
Мало-помалу Жео потерял всякое представление о времени.
— Что за паскудство! Совсем, что ли, нет никого в целой зоне?
Он как раз очутился перед траншеей с упавшим столбиком и решительно спрыгнул в нее. Прошел сотню метров, и тут его ноздри наполнил липкий, сладковатый, душный запах. Тошнота подступила к горлу. Он зажал нос и рванулся вперед, но сразу же попал в тиски: полы ши¬
П. Мак Орлан. Шальной. 4
325
нели за что-то зацепились, ноги увязли в беспорядочном нагромождении проволочных валов, корзинок с землей, опрокинутых рогаток* Пытаясь выпутаться, он вытянул руку и наткнулся на чью-то неправдоподобно ледяную щеку и оскаленные зубы. Отдернул руку, разодрав ее железными шипами, и выкарабкался на бруствер заваленной траншеи.
Жео шел и шел — искал обратную дорогу на КП. Добраться до КП, отчитаться, действуя по обстоятельствам, и завалиться спать — больше он ничего не хотел.
«Если идти вдоль бруствера, — думал он, — наверное, вернусь туда, откуда вышел».
Но вдруг земля взметнулась перед ним стеной, как грозная гигантская волна.
Видимо, артиллерия с обеих сторон открыла огонь по этому квадрату, воронки накладывались одна на другую. То тут, то там под ногами попадались трупы. Вдобавок ко всему полил дождь, беспощадный, обильный, готовый затянуться на несколько суток и затопить поля, людей и лошадей, — дождь, какие бывают всегда наутро после победного боя.
* * *
Жео метался направо — налево. Цеплялся за проволоку, спотыкался, оступался. И наконец без сил упал в воронку. Он хватал воздух ртом, задыхался, как загнанный зверь. Вода с кепи попадала за шиворот и стекала по спине. Обмотка на одной ноге сползла и теперь была скользкой от грязи. Жео кое-как перемотал ее. Земля приобретала жуткий вид. Всё затянула грязь. Грязная клоака под ногами и такой же адский пейзаж до самого горизонта.
Никак не светлело. Лежа навзничь в яме, в липкой глине, Жорж боролся со сном. Вдруг он услышал, что наверху кто-то скребется. Он поднял голову — на краю воронки вырисовывался в тумане силуэт жалкой, понурой, перепачканной глиной собачонки с поджатым хвостом. Увидев человека, она залаяла с явным облегчением.
Жео глядел на песика.
— Ах ты, цуцик! Ну иди, иди ко мне! — сказал он безотчетно.
326
Дополнения
И тут же сбоку, совсем рядом просипел грубый голос:
— Ага, зови эту тварь!.. Из-за нее нас всех тут перебьют!
Кто-то невидимый тихонько свистнул, собака радостно повернула голову и залаяла еще пуще.
— Да прибей ты ее! Иначе она не заткнется.
Снова призывный свист, собачонка побежала на зов к соседней воронке. Ее схватила пара рук, самой расправы Жео уже не видел. Его замутило, но он встал и поплелся к тем людям. Едва не наступил на труп собаки.
— Какого полка? — спросил он.
— Тиральерского, а ты?
— Я из Афбата. А где боши?
— Тише ты, черт! Тут они, перед нами... метрах в двадцати.
Жео подтянулся к краю воронки и, понизив голос, спросил дорогу.
— Тебя не туда занесло. Немудрено в этой мороси. Ваш сектор справа. Иди всё прямо до свекольного поля, там увидишь нашу роту, она держит связь с какой-то из ваших. А мы тут на посту — подслушиваем, сам видишь, теплое местечко.
— Ну, пока, ребята! — простился с ними Жео.
Занимался туманный рассвет. Далеко впереди как-то глухо и тускло прозвучал одинокий взрыв. И тут же с громким бумажным шорохом пролетел дальнобойный снаряд.
«Собачонку убили», — всхлипнул шальной. И больше ни о чем не думал до тех пор, пока не ввалился на командный пункт.
— Господин капитан...
— Ты заблудился... Ничего удивительного. Иди в свою роту, сейчас пойдем в атаку.
По распоряжению командования Лугр на следующий день получил благодарность в приказе по бригаде, а из-за царапины на руке на несколько дней угодил в обозно-кухонный рай далеко-далеко, на лесной опушке, общипанной лошадьми.
ц,
Поскольку
y I 11 If ' L/'f 1 I I L W \/ Жео Аугр был на хо
Ц 1 lU^J\UJlbJ\y рошем^счету, а тут
в еще получил благо-
с» дарность, его перевели из
дисциплинарной в обычную регулярную часть. Теперь он стал горнистом 19-й роты одного из пехотных полков.
Ряды Афбата Жео покинул с огромным удовольствием. Ведь шансы дожить до мирной старости у шального невелики, и он на этот счет не обольщался. Поэтому, как только поощрение в приказе и благоприятный отзыв командира дали ему возможность
перейти в другую часть, он ухватился за нее обеими руками.
Вот так и случилось, что в личный состав 19-й роты N-ского пехотного полка был зачислен бывший шальной Жео Лугр в своем прежнем качестве горниста-пехотинца.
Признаться, он ожидал, что его появление в новой части будет весьма эффектным. Однако успех оказался не таким уж оглушительным. В оркестре он встретил Невё, тоже из Афбата, который знавал Понс- филя и Тентена Базиля. Да еще и Жюло там оказался, певец с Монмартра1, они с Жоржем вместе в школе горнистов учились в Габесе2, а теперь он тоже в пехтуре дудел.
Старший полковой барабанщик по имени Колюр был простодушным чернявым парнем приятной внешности, всё свободное время он проводил за сочинением маршей для горнов, труб и охотничьих рож¬
328
Дополнения
ков. Барабанщика капрала 17-й роты звали Табуре, в артуазской деревне, где расположился полк, он лихо выстукивал польки, под которые плясали местные девчонки.
Это было после взятия Каранси3. Полковые оркестры восполняли потери за счет местных музыкальных обществ. Каждый раз, когда солдаты возвращались в лагерь из траншей, большой гулкий барак на окраине деревни превращался в репетиционный зал и наполнялся музыкой. Барабаны и медные тарелки гремели так, что дрожали пылинки в косых лучах света, которые пробивались сквозь дыры в крыше и щели в дверях.
Иногда, чтобы новички привыкали играть на ходу, весь оркестр, во главе с горнистами и барабанщиками, маршировал по стерне под палящим солнцем и насмешливыми взглядами товарищей, полеживающих на разогретой земле. Выделялись виртуозы. Например, Мериз, первый корнет-а-пистон4, парень из Труа5. Связной Фрессен, его земляк, нахваливал музыканта и расписывал, как трудно играть на этом инструменте.
— Чтобы на нем дудеть, надо иметь губы как у женщины, — объяснял он товарищам по службе — Глабажонору, Лефутро, Буридану и самокатчику6 Коблю.
Связные обычно дружили с музыкантами. Во-первых, потому что в строю, с карабинами за плечом, их маленькое подразделение маршировало сразу за оркестром, а во-вторых, потому что в траншеях, когда приходилось особенно туго, горнисты и барабанщики им помогали.
О Тома Буридане, рядовом первого класса7, стоит поговорить особо. Никто толком не знал, чем он занимался до войны. Он обладал живым воображением и причудливым набором знаний, проявлял недюжинную начитанность. Много путешествовал по свету и с увлечением рассказывал о странах, которые повидал; впрочем, товарищей, приросших к своей земле, как ракушки к скале, его рассказы оставляли равнодушными. Эти парни никогда не покидали и не собирались покидать родные края. Тома Буридан любил солдат, — всех без различия стран, ибо ему нравилась армия, — как и всё, где господствовала сила.
П. Мак Орлан. Шальной. 5
329
Вернее, он любил солдат, какими они ему представлялись, но вокруг себя редко видел таких, кто бы соответствовал этим представлениям. Даже у профессиональных воинов сплошь и рядом оказывалось нутро мелкого клерка или захудалого лавочника. Завербовались они не ради приключений, а ради хорошего жалованья и особых привилегий, которые давали их гражданские профессии и которыми, оказавшись в самых экзотических местах, они старались получше воспользоваться.
Тома Буридан тоже наблюдал за тем, как совершенствуются оркестранты. Давал советы здоровенному барабанщику Колюру, просил его репетировать разные марши, а не долбить один и тот же.
Молодой Жео Лугр ему понравился — парнишка был умен и восприимчив. К тому же он раньше служил в Афбате, а это давало пищу богатой фантазии Буридана — глядя на него, он видел живописных, экзотических шальных, какими они рисовались его воображению.
Как раз в то время в войсках ввели каски8, но Жео всеми правдами и неправдами старался носить в лагере свое красно-желтое кепи. Тома Буридан хвалил его за упорство, хотя сопротивляться было нелегко — стоило полковнику заметить крамольное кепи, как он засаживал писарей строчить распоряжения о соблюдении предписанной формы.
Сам Тома Буридан купил себе отличную феску алжирского стрелка9, чтобы носить в часы отдыха, но был вынужден отказаться от этого головного убора, поскольку не имел на него права.
После взятия Каранси новому полку, где теперь служил Жорж, выпало относительно спокойное лето с недельными стоянками в деревнях Артуа, избежавших пушек, копыт и пыльных туч конной артиллерии.
Было так приятно поваляться в траве около прозрачной речушки. Тут, на прибрежном лугу, раскинули палатки музыканты 5-го батальона. На протянутых между двумя яблонями веревках сушились белые рубахи. Жео лежал на животе и жевал сочные травинки. Муссю, старый барабанщик родом из Гонесса10, латал свою «чертову гремелку» и проклинал свое ремесло, а еще больше полковника, который не понимает, как важны барабаны в современной войне.
330
Дополнения
— Хорош бухтеть! — оборвал его Лугр. — Думаешь, моим губам окопная жизнь на пользу? Да они у меня гноятся! Гноятся, веришь? — Он повернулся к Буридану, который растянулся в траве и разглядывал свои ноги. — Целую неделю такая дрянь, а только начнет подживать, давай опять на передовую, так что...
Оборвав фразу, он перевернулся на спину, с удовольствием раскинул руки на теплой земле и принялся распевать:
— Прости навек, воля, любовь,
С милой не встречусь вновь,
Бой у Краонны не пережить,
Голову тут сложить...11
Вдали, за деревьями, виднелась сизая крыша крестьянского дома, там, во дворе, какой-то солдат крутил скрипучий колодезный ворот и тоже пел:
— Ну и красотка,
Крошка-милашка...12
Весь лагерь дышал счастливым покоем. Солдаты грелись на солнышке. В саду под каштаном офицеры 19-й роты резались в карты.
— Долго ты прослужил в Афбате? — спросил Буридан у Жоржа. Блаженно развалившийся солдат резко сел.
— Всего один год. Я был на хорошем счету, вот меня и перевели так быстро.
— Тут тебе больше нравится?
— Особой разницы нет, разве что в атаку не так часто посылают. — Он вздохнул. — Веселья мало, что там, что тут.
На краю деревни горнист бойко протрубил ужин и под конец пустил петуха.
— Кто это сегодня дежурит? — спросил Лугр.
— Фрешон, — ответил Муссю, который успел привести в порядок свой барабан.
П. Мак Орлан. Шальной. 5
331
— А! Тогда ясно, — сказал Жео. — Из него такой же горнист, как из меня епископ, а из тебя доктор. Ладно, айда лопать.
Жорж Лугр, Муссю и Буридан направились к полевой кухне, где священнодействовали повара, облаченные в пестрые тряпичные фартуки.
— Сегодня говядина под пикантным соусом, ребятки, — сказал сияющий коротышка Минуфле. — А твое вино уже взял Колюр.
Для солдата в лагере посидеть — уже большая роскошь. И требования у него в пределах возможного: стол да стул.
Столом служила старая дверь свинарника, уложенная на кучу камней, а стульями — барабаны и чурбаки. Ну а Жео втиснулся в негодную детскую коляску без колес.
— В Афбате со жратвой была потеха. Мы обычно втроем на добычу отправлялись, с Понсфилем и Тентеном Базилем. Особенно Понсфиль давал жару! Иной раз нарывались на местечки, где уже кто-то побывал и испортил всё дело. Однажды закатываемся к одной старой ведьме, рядом с ней моя бабушка — молодка, а она нам: «Подметете у меня перед домом. Как господа пешие егеря13, те, что были до вас». Видел бы ты Понсфиля! «Что? Подметать? Перед домом?» Прямо взбесился! Зря они это, егеря-то. Нечего потакать наглецам, а то они так и будут думать, что войну затеяли, чтоб было кому им дров наколоть да огород прополоть за ломаный грош и стаканчик сидра. Но Понсфиль — мужик что надо. А другой раз, под Диксмёйде...14 Мы с Понфилем и еще один парень из лотарингских саперов15, я его женушку знаю... в общем, этот парень, не в обиду нам будь сказано, мужик что надо. Так вот...
— Послушай, — перебил его Буридан, набивая рот горячей картошкой, — и много ты еще таких мужиков знаешь?
— А что? — не понял Жео.
— Да достал уже, — с ленивой скукой в голосе ответил Буридан. — Давай теперь я тебе про одного мужика расскажу: его звали Боссюэ, он был епископом в Mo16, ну и вот...
— Издеваешься? — спросил Лугр.
332
Дополнения
— Да просто ты еще телок, сущий телок. Разве что на двух ногах ходишь да на трубе играешь. А так — точь-в-точь.
Тут к Буридану подошел Глабажонор с пачкой писем.
— Держи, тебе три штуки! А ты, — обратился он к Лугру, — шагай к почтарю, получишь там заказное письмо и посылку, в наматрасник зашитую. А потом надевай походную форму, выступаешь вместе с ротой на учения, гранаты метать — полное обмундирование, пустой ранец, каска и без вещмешка.
Жео встал, вытер алюминиевую тарелку куском хлеба и окрысился на ни в чем не повинного Глабажонора:
— Что я тебе, нанялся, что ли, топать да топать? И вообще, очередь не моя, а Муссю.
— Я-то при чем, мне велели горнисту передать, а там не мое дело, с командиром разговаривай.
сЛАиленькии^мои^ èfàeo!
IHe подумай^ что я тебя уабыла. Просто с тех пор, кик^ тебя перевели, иу (Аббата, стольку всего случилась, не унала, с чего и начать.
'{Надеюсь, KL тому времени, как^ты будешь читать это ПИСЬМО, Tbl уже получишь мою посы^лку, я отправила ее по железной"Хороге — так^ разрешают больше вложить.
9» теперь жив^ с одним типом- Это
— спо¬
койная жиунь, не то что у подружек, — ты их всей укаешь, — изворачиваются, беднее, кто как^может.
2>ве-три^евочки выскочили уа бельги(Щев^другие — уа англичан. сАнгличан тут полным-полно, все в кискутких- Говорят, их отправят вам на смену, а вас привеуут отдохнуть куда-нибудь поближе к^'сЯарижу. !вотя к^тебеи приеду- ЭЛядишь, и польуа будет — шикирная женн^ина, это всегда хорош о^деиствует.
с>Кена <хПонсс^иля так^горевала о его смерти, что поступила вуаведение где-то около Ьрдо1-
К1ому иу ~девиц^достались иностранцы^ ходят гордые- И иностранцев^ говорю же, в <Шариже что собак^нереуаныьс- 'На бульварах, куда ни глянь, увидишь чужих солдатиков, и у каждого справа и слева по^девахе. Ö тех пор как^ты
334
Дополнения
в увольнительную, все ew^ хлеуде^ стило. Здешние мужмине^ которее по риунем причиним не попили ни фронт, риуго вири виют только оделих, только о виунесе. Все поместились никелин, — все, вплотьдо консьержклнои^дочкл, четернедцеутилетнеи^пигилицеул стришноиГ'вруньи.
сЛюди что-то покупиют и перепродиют. Куреви в тивич- не# ливкям не ниити, но легко можнодостить в к&фе, если уиплитить официинту. ТЛменно тик,я и риудо6е<ли сигирете, которое положили в поселку.
(Моего постоянного уовут сМесье (Луи ‘сЯдртбеф. Он иу обриуовинне#, пипиши у него вогитеи? живет в Нормин- "дии, einer в иренду судидоАЯ морской^торговли. 'Ну и се- ну сорок, ЛАТ® Лет, видней^ в^СОКИИр ТОЛЬКО фиуИОНОсМИЯ вьттянутия, кик, футляр от скрипки. В ирсАлию его не вуя- сли, потому что у него нет одного глиуи. Но он всегди тик хорошо одет, что если не униешь, то и недогидиешься. о\ во- ofàge, конечно, тот егуулох.
Он меня киждеи^вечер водитужинить ни сМонмиртр. К1ругом полно^девчонок, ни мели, некотором, при$ди, по- веуло: живутдоми или ни хорошем содержании, и кое-кто "для того и уиходит, чтов^дружки и подружки уикичились. Эти всех угоняют, потом кто-нивудь к ним уидириется, идело кончиется скиндилом. Ну, скиндилщ —"дело житеи^ скре. 'Утове исключить всякие неприятнее ^ewyi, пришлось ве жить ни неовитиемом острове.
В полдень я хожу оведитъ одни. В ресторин ни улице^ К1оленкур2, тим можно встретить приятелеиГи всегди толпятся шиливки — ничиниючуле, но уже строят иу себя круге# * Ни симомделе все приходит с воуристом, и не тик
77. Мак Орлан. Шальной. 6
335
часто увидишь молоденькую, чтобу нее било свое авто и хвата- ло^деньжатего сохранить- ‘дТрежде че<м чего-то^добиться, на- 1о, кук^ говаривал пок^инии^^днсфиль, хорошенько ^асМа- теретъ- К1стати, о ТГонсфиле, если у тебя есть фотография, где ви с ним вдвоем в Эль-Юефе, будь^добр, пришли мне, это его жена просит Menst через сМарселлу Видремуль, а у той ^ врата в этом году забрали, и он в 'Тунисе от лихорадку помер.
Страшно рада, что ти теперь не в с^фбате. то я все время 3а тебя боялась. ТГо есть вооб^е-то хорошо, что ти туда попал, ^для работи хорошо, и приятели уважать будут, но не навсегда же! Что ти в пехоте воевал, потом никого и не вспомнит о\ вот что в шальных побивал, ек^ не pag окажется поле^нщм- Сегодня все, куда ни погляди,держатся на репутации^ и связях-
В этом смысле можешь не беспокоиться. вчера
утром громила 'сЧоль, тот, что ногу потерял в Этрурии3, говорил в бистро у папаши <>!£юля — оно никуда перделось, — что ^нал тебя в Эль-К^ефе и что ти бил горнистом.
Вот вернутся мужчину с воини и во всем разберутся. сМало кукуе^девушку прилично себя вели. ЧТбрямо кукi бес кукуи^толкует гулять^да кутить. Если у тебя есть монегщ, будешь иметь все, что хочешь. ‘cftpo совесть все 3а били, теперь, к^го больше наворует, тому честь и хвала. Торгаши так1 распустились, ти не представляешь! Чуть не на коленях их надо умолять, чтоб^они что-нибудь тебе' продали, тольку что не в шелковую бумагу1)еньги заворачивать. И виновати сами куиенти — олухи, кукух свет не ви- ~дивал.
336
Дополнения
^Наорала вчера на бакалейщика — он, накал, котел меня потрепать по уйду- 'Так, видел 6it тц кумушек^поку- пательниц!^Они (Осла на его стороне! Смотрели на меня так, презрительно, а этои^жирной^if ар и сочувственно кивали, дескать: «Куда ми катимся, что 3а бремена/ К1ак, горько, что прикатится обслуживать такую особу!» бТГлебать (Мне на ник, я знаю жизнь и знаю, чего стоят окентуинн- Остальное ~ слова, сло9а, Mofa*. 2)ля меня главное — отношения с те<ми, кто (Меня окружает, и for го fop ю те ft-. надо уметь постоять3а себя, сейчас это еи^труднее, чем^до воинн- /Ого раньше стидился бить эгоистом, теперь отбросил всякий^ стид. '(Ну, мне-то, с моим ФТортбефом, грек жаловаться. Он проиубодит сбои патриотические кямамбери5, не собетую тебе к, ним прикасаться. 9то какая же жуткая у людеи^ должна бить жизнь, раз им нипочем бея та^дрянь, которой^ик кормят Тдртбе*ф eige^ настропалился уасовнвать
б тюбик, бое подряд ^для армеискак нужд6. Он бн и целую спальню б тюбик, сунул, будь он уберен, что и это уаку- пят^для фронта. 'Надеется орден Почетного легиона7 получить, кпк.только опять начнут штатским^дабать.
В нашем 1)оме живет один служан^ии^(Министерства финансов, так, бот он 63ЯЛ и сбикнулся. Старик болван на беек кидался и грозил легавнми — всюду ему шпионн мерен^члись, чуть ли не б тарелке с супом. VI бот однаждн нацепил сбои «Академические пальмн» — на ленту приделал три бронуовне убеудочки, одну серебряную и е\уе^ одну пальмовою веточку8 и б таком биде пошел гулять на бульвар К2лиши9. Videra орет: «St единстбеннии^кабалер военного ордена Академическик пальм! сМеня наградили уа бои^
77. Мак Орлан. Шальной. 6
337
noil К1аранси. 9» получил три академические благодарности в прикпуе по^дивиуии и oh ну — в прикауе по армии!» (Арестовали его, конечно, —ив ^0 сколько еи^ псишв
разгуливают на свободе!
сМесье ФТортбеф купил мне часики с бриллиантами. 9» его подначиваю на такие подарки, потому что камушки есть камушку, что бщ ни случилось. Адель сошлась со старой^шлюхой^иу уаведени& Ансельма. Вот на сегодня, и все новости. 9t беру уроку. танцевубод патефон. Обь(оЬитс& недешево, но я надеюсь получить на у*му ангажемент, лую тебя, Миленькии^мои^лювим^и^Ы&ео. Q/Илю с\иуперевод на пятьдесят франков. Ьюсь, какi 6&t твои^^уридан не
уадурил тебе'голову, ^му меня настоя^и^Гмужтина.
Твоя сАЛарселла
Жорж дочитал письмо, перечитал с начала, выразительно хмыкая по ходу дела. Потом пощупал конверт, убедился, что там действительно квитанция на перевод. И почувствовал, как весь засветился изнутри, словно старинный замок в праздничной иллюминации; даже глаза засияли от дивной радости — еще бы, денежки будто с неба свалились.
Затем он взял второе письмо, разглядел штамп, взвесил на ладони и небрежно разорвал конверт.
Тут денег не было.
Ъружич^ dfäeo!
сМеня комиссовали и назначили пенсию. Скотство, од- ним словом. IHyha сейчас не время нктъ, все равно ничего не поделаешь, тем более что такие, кпк^мк с тобойУ нщнче
ничего не стоят.
Весь последний"год я, считанУ провел нагишом. ТТолсот- ни врачеи^да уйму комиссии""прошел, и каждая унаи^гг-
338
Дополнения
селала на новую. 9» раугадал, уачем это всё придумано: чтобе людям опротивело свои болеунидокууеватъ- VI это иногда получается. 9* видел одного парня со ск$ернем ранением, таксон предпочел отправиться на фронт, чем с этими, комиссиями воевать- Юому удастся веити иу медицшекух уаведенибГс победойГ тот никогда не уабудет, куково ему тут приводилось. Слабаки не ведерживают и сряуу воуврат^а- ются S строив Ъо того всё противно, хоть в петлю леуь. сА, все эти канцелярские крчеч, эти писаки уж. кук, тебя любезно принимают! сХочешь унать, что такое, вежливое обращение в^двадцатом веке, посмотри на этих крес- Это надо испытать на своебГшкуре и потом не уабевать, чтобе на гражданке тебя уже не потянуло на «предосудительнее поступки??, кук, пишут в газетам.
9< слегал, бела такая штуки — Святая ТХнквиуиция- VI будто при одном упоминании о неи^у смельчаков поджилку. тряслись и яуек. от страха к. небу прилипал, так, вот, старик, я трусил перед военно-м'едицрнскои^комиссиейУ как. перед этоа "самои^Ь1нк$и£ициеи^ VI видел одного солдата, однорукого и одноногого, котореи^тожх'дрожал как. осиновеи"лист и говорил■ « Они решат, что я гожусь ~для нестроевой^1??
В обуяем, в тех местах, где ходишь нагишом, всё сплошная наглость и подлость. сХочешь что-нибудь угнать у этих писак? сУ)ж1 они тебе ответят! Самее подлее подонки там собрались■ <А почему, спросишь, они такие подлюги? 2)а потому, что все от маладо велику боятся попасть на фронт, и'даже среди солдат только педстура ^другдруга понимает, 'ha и то если не иу обдуа и не иу хоучасти. К1огда повидаешь,
П. Мак Орлан. Шальной. 6
339
что я повиЬслл б тот^ень, Kÿtèn мне откбопмло ногу, тогЬсп уж, сможешь судить... Всё это я тебе 'рспсск^у^бслю не чтобб{ испугать, ai просто чтоб^тц £Нспл, что ждет в тцлу, если, тебя. покалечит
с>КхМу Лату.
Тбои^другспн
ЪсМиЛЬ е>КеНИТ01ЛЬ
Дочитав письмо, Жорж задумался, а потом вздохнул: «Ногу потерять — это скверно, по мне, лучше бы руку... левую».
-t '•***7
деревни, в глубине пропахшего кислым молоком двора папаша Ансельм и его дочки Луизетта и Женни продавали стаканами вино, которое солдаты распивали тут же, у дверей обращенного в кабачок сарая. Кто приходил пораньше, тем доставались места за единственным большим столом. Усевшись на табуретки, они забрасывали шуточками девушек и их отца, которого называли «дедом», а его это изрядно бесило. Солдаты, впрочем, не думали его обижать и были уверены, что сорокапятилетнему мужчине такое обращение может быть только приятно, — не зря же Виктор Гюго считал, что быть дедом — это искусство1, причем не вкладывал иронию в слово «искусство», как Томас Де Квинси, говоря об убийстве2.
Обе Ансельмовы дочки, смурные рыжие девахи, что на вид, что нутром, были форменными шалавами. И, как все солдатские подстилки, разговаривали на гремучей смеси местного наречия и грубого военного жаргона, который освоили за три года войны.
Когда Жео поддразнивал старшую, которую называл Мадлон3, нарочито отчетливо выговаривая по слогам, она отвечала:
— Пшёл ты, паря, квость те ф сад! Не вишь, работаю!
— Да какая из тебя маруха? — не отставал Жео. — Ни рожи ни кожи!
На краю
П. Мак Орлан. Шальной. 7
341
Буридан, который частенько выпивал с ним вместе, такие разговоры не одобрял.
— Зря ты всё по-блатному да по-блатному, — говорил он Жоржу. — Блатной язык быстро устаревает, и, если не считать нескольких слов, которые еще от средневековых кокийаров4 уцелели, — но их- то я от тебя не слыхал, — всё остальное меняется с такой скоростью, что не угнаться. Ты разговариваешь, как мокрушник из «Парижских тайн»5.
Лугра такие речи сбивали с толку. Он смеялся и просил у Буридана ручку — написать жене.
Писать было для Жоржа делом долгим и ужасно трудным, и всё же чуть не каждый день он по доброй воле вымучивал послание на четырех страницах в клеточку. Писал корявым почерком нерадивого школьника, но буквы выводил старательно, с нажимом.
Сразу после скучных учений на задворках он, прихватив оба распечатанных письма, направился в кабачок папаши Ансельма. Там прямо на земле, на солнышке, расположились перед двумя-тремя флягами несколько солдат и спорили об атаках, обязанностях и военных крестах. Судя по всему, их разозлил драгунский унтер6, верховой курьер из местных, который почти не показывался в окопах. Упрямый крестьянин-богатей, на все упреки пехотинцев он твердил одно и то же:
— Поглядел бы я на вас, кабы вы рекрутами в кавалерию попали, в мое-то времечко! Узнали бы, почем фунт лиха!
Пехотинцы от ярости вращали глазами и брызгали слюной. Пока наконец Кобль, штабной ординарец-самокатчик, не мотнул презрительно головой и не успокоил их:
— Да плюньте вы на этого олуха!
Лугру не хотелось ввязываться в ссору, он, мурлыча себе под нос, примостился рядом с развеселившимся Буриданом и, сосредоточившись, принялся одолженной ручкой писать письмо Марселле.
342
Дополнения
‘дТривет, моэГдорогяя!
'Ряд firM угнать ; что у тевя все хорошо- Вводит, не уря я тут воюю. <И о жене ^дТонссриля — грустнее известия. 8вГ теперь ничего больше не светит, как,только макаться по вор- ~делям где-нивудь в^яхолустье. Спясиво, если ни хлев^^я- рявдтяет. (Лучше вщ няшля севе'другого муженька- à1 няс тут кажд^и^^ень столько увитщх, что уже не'^о'^ружЩ. 1Ня тои~неделе по пути няужин нясМ скатили, что еч^е/один приятель посАлер. Снячяля все ^яяхяли- «К1як? сМинусрле увили? Что уя в^-ство!» — как, будто в нишем^еле это тикая уж. редкость, и тут же стили спорить, чья очередь котелки ря^носить- ^Только когда проходили мимо того мести в тряншее, где сМинус^ле някрчло, молчи покосились'!)я ускорили шяг- В спокойном секторе хоть как-то реяги- руешь ни смерть, я в вою и вовсе не^о того. IHo gn меня, не веспокоися, А веуунчик^ ТХодим, конечно, кудя пошлют но воовии^у няс нядежноеукрчтме, рядом с комянднъ{М пункт том полковника- Ъо сих пор воши!о няс не^достявяли. 1-iy
1)я хвятит ово мне. От Ы&енитяля
олучил
письмо. сВедняг
гУ
1 покалечило. Он совсем ряск}лс. Vf есть от чего. ^сТо письму видно, как^ему туго приходится. Интересно, 'дяви — тя, что Hj кордевялетя в «фурми»7 — е\уе^с ним или нет? сХо- рошяя в^ля^евчонкя- Пядеюсь, они не бросили своего покалеченного мужи. 9< хочу это £нятъ, что в^ убедиться, что верность и честность е\и^ не перевелись ни свете. Яэуридян — Tbij кстяти, уря о нем тя«Сдумаешь —- говорит, что, у кого нет ничего, кроме смяуливои^рожэл, тому придется плохо. 9» нячиняюГдумять, что он пряв- Vf это как.рау к. с>(&енитя- лю относится: он вчл красявчиКи но смекялки ни ни грош.
П. Мак Орлан. Шальной. 7
343
‘dTocj\е воино однои^красотой^не проживешь, надо бо eige^ что-нибудь полезное уметь, не считая того, что ни воине жуть как^бостро стареешь, и это еч^славо скидано.-. повиваешь на передовой^— поймешь- У нас тут кого только нет■ есть босяки,"деревен1^ина, а есть такие, как, Туридан, образованное- Офицеру почти все ребята что надо, в грэ^ь лицом не ударят- Теперь все больше молоденькие- С лейтенантом первой" пулеметной" рото мо когда-то в школу вместе модили- 2)о воино он почтальоном бо^- Килевой"тип, и уж, ломом его никак, не назовешь. Клёвое* парни веуде есть- Когда живешь среди своим, пломо знаешь остальной ^ мир, а между тем, будь уверена, не каждой^фраер^дурак^ Tia гражданке МО ^друт стругом не знаемся, одежка- нас разделяет, а тут все одинаковое, и, уж, поверь, Туридан, на что вроде бо чистой^ фраер, на самомделе мужик, мотъ куда и много повидал на своем веку, не то что Я- <А ротной^чаш раньше во флоте служил- Ушел оттуда командиром в пемтуру- ТТонсфиль с Тентеном Чэиуилем в подметки ему не годятся-
Так-то оно так, ко всё же тумнутъ тут неомота, и я бо что угодно 1ал, лишь бо слинять поскорее- сворят, шерстяное фабрики не получили армейским заказов на Это морошииГ" признак! Tiy'ha я не кисну- Скоро приеду в отпуск, и уж, то у (Меня не заскучаешь- <дТЛа^мак!л мне сюда не присолаиУ вуду его^дома носить с гамашами — один тут бол на мели, я у него и купил- Т/Итаноу меня новенькие, и китель заказал с отлоткносМ воротником - Так, что прибарамляюсь,денежки не пропиваю- пока, моэГдевочка.
Твои^ сЖео,
горнист îy-iT"рото, сХ ‘дТемотного полки, п/п мо?
344
Дополнения
Жорж написал адрес на конверте, запечатал его и весело хлопнул Буридана по плечу:
— Цыпочка у меня первый сорт... да вот, погляди!
Он порылся в кармане и вытатцил фотографию Марселлы в синем костюмчике, около увитой розами балюстрады на туманном фоне.
Буридан посмотрел и одобрительно кивнул:
— Хорошенькая.
Жео светился от счастья. Не отрывая глаз от фотографии, он принялся на все лады расписывать, как здорово они с Марселлой жили. Буридан молча слушал, но наконец прервал его излияния и пригласил выпить по стаканчику.
— Вернешься, всё будет по-старому, дружище, — сказал он. — Но послушай меня: блатной мир только подстегивает твое живое воображение. А тут надо жить как камни у тебя под ногами. Я вот уже три года изучаю нравы кремня и известняка. Перенял у них всё, что мог, и мне это пошло на пользу.
— Ты шутишь?
— Нет, я говорю серьезно. Твой Понсфиль и этот... как его... Зефирен? Базиль?
— Тентен Базиль.
— Вот-вот. Они не научили тебя главному, что нужно, чтобы выжить.
— Тогда почему бы не жить как овощ? — засмеялся Жео.
— Потому что для солдата на этой войне быть овощем — слишком сложно и вредно для здоровья и душевного покоя.
У калитки деревенский дурачок развлекал пулеметчиков и их подружек, читая нараспев вирши собственного сочинения:
— Я коадъютор8 Африканский,
Есть у меня семьсот церквей.
— Аминь! — приговаривали бравые пулеметчики. А Люк, учитель частной школы из Ланьона9, важно кивнув в сторону Буридана, убежденно сказал:
П. Мак Орлан. Шальной. 7
345
— Мудрец!
— Тоже мне! — отмахнулся Буридан. — Болван, обыкновенный болван, каких везде полно.
Обиженный Люк отошел к другой компании и растворился в сумерках наступающей знойной ночи.
/vt4L£<0W <f
нравилось жить на улице Аббесс:1 во-первых, самый центр, а во-вторых, не надо далеко ходить за покупками, все лавочки рядом, всё по-домашнему.
Квартирка у нее была маленькая: две комнаты и кухня. На кухне рядом с газовым краном висела клетка с канарейкой. Кухня же служила и душевой. Оцинкованная душевая труба с наконечником занимала в ней почетное место, тут Марселла совершала гигиенические процедуры под возмущенный писк птахи, на которую летели брызги.
Занавесок на кухонном окне не было. Поэтому жильцы дома напротив могли в свое удовольствие любоваться молодой женщиной, стоящей в чем мать родила, и подробно изучать все ее прелести.
В войну Марселле жилось недурно. У нее был солидный любовник, чьи щедроты покрывали насущные нужды. Ну а чтобы раздобыть средства на развлечения и карманные деньги для Жео, она при случае — но, впрочем, не так уж часто — погуливала на стороне. Все ее подружки были, что называется, «шалавки». Хотя некоторые даже замужние. Война позволяла любой женщине не слишком строгих правил подняться на пару ступенек выше той, что положена ей на общественной лестнице.
У таких особ, говаривала зеленщица мадам Рикар, губа не дура. Они лакомились отборными овощами и фруктами, покупали самые
П. Мак Орлан. Шальной. 8
347
дорогие сыры. Цена не имела значения. Денег у них было вдоволь. Лишь бы нажраться чего повкуснее.
Если в этих словах и сквозило презрение, оно уравновешивалось уважительным тоном. Как-никак, Марселла была клиенткой мадам Рикар, — клиенткой, которая брала всё самое лучшее.
Война, резонно думала почтенная зеленщица, поощряет дурные нравы, но всё это временно, вот вернутся солдаты с войны, и всё встанет по своим местам. То есть каждый будет позволять себе ту еду, какая ему по чину. И ее мысли разделяли все местные торговцы, которые каждый день, хотя и укоризненно покачивая головами, наживались на новомодных причудах и невиданной дороговизне продуктов, каких в другое время и держать-то не держали в своих лавках.
Поднимаясь по улице Лепик2, куда он дошел пешком от Северного вокзала3, Жео ошеломленно оглядывался по сторонам, но толком ничего из окружающей роскоши не видел. Только остро чувствовал, что эти чудеса даны ему всего на неделю и что его, как кокон, окутывает воздух фронта, не позволяющий слишком быстро и слишком резко погрузиться в прежде привычную атмосферу.
Молодой горнист был счастлив, что идет к своей подружке, идет по кварталу, так не похожему на трущобы, где прошла его буйная, жалкая и глупая юность. Он чувствовал, пусть смутно, но чувствовал, что война могла бы принести ему кое-какую выгоду, если повезет вернуться сравнительно невредимым. Итак, с солдатским ранцем и двухлитровой флягой за спиной4, в приподнятом настроении, он свернул на улицу Аббесс, где его ждало новое жилище. Чудный уголок, уютное, свитое военным временем гнездышко, которого он еще не видел и только рисовал в воображении.
Дом, где, как он прикинул, должно быть, устроилась Марселла, он увидел издалека. Высокое серое здание с множеством окон показалось ему весьма респектабельным. При виде его он преисполнился гордостью, шутка ли — быть хозяином такой женщины, как Марселла. Товарищи же по оружию как-то вдруг показались жалкими бахвалами. Чувства и сердце Марселлы завоевать куда полезнее, чем какой-нибудь
348
Дополнения
лесок в квадрате N. Да и вообще, Лугр не считал войну стоящим делом. Толково обосновать такое мнение он не смог бы, а потому избегал рассуждать о войне и ее целях, в которых не видел большого смысла.
Он с наслаждением вдыхал теплый воздух улицы Аббесс, напоенный ароматами ранних овощей, первых черешен. Стоило только взглянуть на переполненные летние террасы кафе, чтобы уяснить всю нелепость войны.
Был час аперитива, и Жорж понимал: это слово лишь потому волновало его, что связывалось вот с этим задушевным антуражем, от которого у него прибавлялось бодрости и теплело в груди.
Марселла стояла посреди улицы с продуктовой сеткой в руках и обсуждала цены на черешню с роскошной толстухой лет сорока, с прической, как у испанки, и в туфлях, как у шлюхи.
— Жео, миленький! — воскликнула Марселла и бросилась в объятия солдата. — Ты такой большой, румяный, выглядишь молодцом.
Довольный собой, Жорж поцеловал Марселлу в губы. Здорово мешал ранец.
— Пошли скорей домой, малышка, чтоб я мог скинуть всё это барахло!
Жорж лукавил. На самом деле он давно мечтал пройтись по Монмартру в своем старом афбатовском кепи — утречком по Монмартрскому холму, куда не заглядывают дозорные гарнизонной и караульной службы.
Жорж уверенно шагал, как положено вояке, привыкшему ходить в атаку под огнем противника, Марселла чинно семенила рядом. Трепеща от восторга, она заглядывала в глаза прохожим, ища тот же восторг и в них.
Всем, кого знала на улице: мяснику, зеленщице, бакалейщику, булочнику Годфруа — она демонстрировала своего Жео, настоящего фронтовика.
— Мотай на ус, мальчуган, — говорила она мальчишке, подручному мясника, которого называла «мясничонком». — Если дело затянется, то и ты таким будешь!
П. Мак Орлан. Шальной. 8
349
В голосе ее звучали суровые нотки, под стать героической теме. Около привратницкой маленькая, нагруженная продуктами, как мул, Марселла остановилась. Но консьержка, как нарочно, отлучилась — пошла на рынок.
— Идешь? — крикнул Жорж уже с лестницы.
Марселла поспешно догнала его.
— Давай я пойду впереди, — сказала она.
Жорж пропустил ее, любовно погладив по заду.
Па*сЯ
Чтобы
не возиться с обмотками, Жео надел брюки от штатского костюма, а с ними небесно-синий китель и старое кепи шального, которое бережно хранил в лучшем вещмешке с прорезиненной подкладкой.
В атласных объятиях Марселлы он испытал наяву все те услады, о которых мечтал на ночных вахтах, в окопах и в лагерях, лежа ничком на лугу и перегораживая травинкой путь какому-нибудь деловитому муравью.
Марселла тоже старалась, как могла, ублажить Жео. Оба хорошо понимали, что война позволит им отхлебнуть только самую чуточ¬
ку от прелестей парижской жизни.
Жорж озирал знакомые предметы пустым, безразличным взглядом. Собственные вещи казались ему чужими. И даже Марселла была как будто ненастоящей.
А та смотрела на своего героя с восхищением и радовалась: во- первых, просто по-женски, во-вторых, потому что после этой чудесной недели ей не надо было садиться в поезд... Наслаждалась счастливым времечком, как сочным яблоком. И не понимала, отчего молчит и мрачнеет Жорж.
Он же не мог отделаться от смутных мыслей. Париж был для него этакой no man’s land, нейтральной полосой, ничейной землей, но он словно бы смотрел на эту полосу сквозь амбразуру и понимал: она не для него и привыкать к ней не стоит.
П. Мак Орлан. Шальной. 9
351
— Жео, миленький, о чем ты задумался? — тормошила его Марселла.
— Да ни о чем, — отзывался он, уставившись на козырек любимого кепи.
* * *
По вечерам, когда Париж просыпался для увеселений, Жорж Лугр провожал жену в кабаре, где она работала.
Марселла исчезала за дверью, и в этот миг изнутри выплескивалась на улицу жаркая волна причудливой тягучей музыки, похожей на аромат экзотической женщины. Жорж, широко расставив ноги, стоял на тротуаре и разминал сигаретку. Он чувствовал себя чужим в этой ночной жизни, совсем не похожей на ту, что он знавал прежде. Все так разодеты, даже уличных девиц не отличить по виду.
«Ишь как всё роскошно стало», — думал Лугр.
В тот вечер он направился по бульвару Севастополь1 в кабачок, куда захаживал прежде и где надеялся увидеть приятелей, — тех, кому удалось не попасться во всё более плотные сети законов военного времени.
Шел и глядел по сторонам на жизнь ночного города, — когда-то, до Афбата, она была его родной стихией.
Он возвращался в свое прошлое, как путешественник после долгого пребывания у дикарей. И оценивал всё глазами постороннего. Его вдруг наполнила гордость за то, что он принадлежит к доблестному братству солдат, бесконечно возвышенных ежедневной близостью смерти, которая им всем грозила, но одних уносила, а других почему- то щадила.
От бульвара отходила темная улочка, днем заставленная тележками мелких торговцев. Жорж пошел по ней и остановился у дома с неосвещенными, наглухо заколоченными окнами — полное запустение.
— Закрыто! — вырвалось у него.
Он развернулся и растерянно побрел назад. Заколоченный кабачок не выходил у него из головы. Закрылось всё, что делало ту, прошлую,
352
Дополнения
жизнь такой приятной и легкой, поскольку она потакала всем его тогдашним инстинктам.
Предчувствие говорило Жоржу Лугру, что, хотя многим еще хотелось бы сохранить в неприкосновенности мир теней, очень скоро сюда проникнут яркие лучи новой жизни и разгонят ту мелкую ночную шантрапу, частью которой когда-то был и он сам.
Грустно взглянув на трехцветный галун у себя на рукаве, он свернул к Монмартру.
Ничего, ничего не осталось! Всё расползалось на глазах. И лишь немногие женщины оставались тверды в этом сплошном месиве.
s
Жорж
Лугр решил за время отпуска возобновить знакомство
>1
J со старыми приятелями.
I V С воинственным кепи на
голове и с сигаретой в зубах он вдоль и поперек исходил Фобур-Сен-Мартен1, Пассаж Бради, бульвар Севастополь. Зашел в несколько баров. До отправки в дисциплинарный батальон он знал всю подноготную о каждом здешнем завсегдатае.
Теперь же тут всё больше ошивались совсем зеленые юнцы. Ну прямо не бистро, а детские площадки. Не «коты», а какие-то потасканные школьники. Они, конечно, были щегольски причесаны, но для полной элегантности им не хватало английских костюмчиков по пятьдесят пять франков.
Жео кое-что разузнал о товарищах. Смерть здорово проредила ряды этих дважды пропащих.
— Что было — всё сплыло... — прошептал он, опрокидывая стакан.
От всего этого молодому горнисту становилось тошно» Ему не хватало образования, чтобы находить утешение в книгах. Бальзам на раны проливали только кафешантанные песенки. Поэзию, к которой его так тянуло в минуты тоски, он находил в наивных словах этих простеньких песенок, способных тронуть молодого блатаря.
Вот и вспомнился Жоржу увитый зеленью кабачок в одном тыловом городишке. Там как-то в сумерках сошлись шальные, егеря и зуавы. Вечер дышал нежной прохладой. Зуавы пили шампанское в компа¬
354
Дополнения
нии девушек, блондинок, настоящих парижанок, чей вид будил в сердцах глазевших на них блатных парнишек надежду заарканить парочку таких же краль, когда закончится война. Одна из них запела — свежим, почти детским, писклявым голоском, зато с парижским акцентом:
— Как-то раз к ней в дверь Постучал солдат...
Мужчины за столиками замолчали. Таким весомым было слово «солдат» в устах молоденькой, но искушенной девушки.
Последний припев прозвучал уже совсем в темноте. Но для всех бойцов этот девичий голос сиял как луч надежды в целомудренной тени бузины и сирени.
— Его звали Бу-ду Ба-да-бу Флейта пела ду-ду-ду-ду..
И из черных парней, ей-же-ей,
Был он всех милей...2
Первым вскочил худой долговязый парень из шальных.
— Я пошел, — сказал он, — всю душу она мне перевернула.
Этой песенки и двух отвязных девиц было достаточно, чтобы взбаламутить всех солдат; да, песенка, простая песенка пробудила в них воинский дух и безудержную удаль, жажду подвигов во славу своих полков.
1е * *
Возвращаясь на Монмартр, Лугр думал о той девчонке, хоть и лица ее тогда толком не разглядел.
— Да что ж такое, — одернул он сам себя, — приехал в отпуск, в Панам, всего на неделю, а в голову только чертов фронт и лезет, совсем извел, пропади он пропадом!
И вот настал день, когда Марселла наготовила холодной снеди в дорогу, так что вещмешки ее милого раздулись, как две подушки.
П. Мак Орлан. Шальной. 10
355
А весь предыдущий день, с самого пробуждения, для несчастного Лугра просто выпал из жизни.
Марселла строила планы на будущее. Жорж отвечал вялыми жестами. Перед глазами у него всё плыло. Вечером в кино они вместе вкусили сто пятьдесят какую-то серию «Жюдекса»3. Бесконечная, приторно- дурацкая история заставила их забыть собственные беды.
Хорошенькое личико прильнувшей к плечу солдата Марселлы светилось радостью, точно у причастницы на литургии. Мужчины с удовольствием пялились на нее. Этот ложно-благочестивый экстаз в сочетании с игривыми вольностями, которые позволяла заподозрить ее внешность профессионалки, заводила престарелых шалунов, превратившихся из-за войны в чичисбеев-подагриков.
* * *
На рассвете Жорж, удрученный, со слезами на глазах покинул сонную Марселлу.
Правда, за порогом он сразу взял себя в руки и зашагал на улицу Лепик, где договорился встретиться в маленьком баре с фронтовым приятелем-сапером. Общие парижские воспоминания сплотили их на передовой, связали на всё время войны нечаянной и крепкой дружбой.
Сапер угостил Лугра стаканчиком, и от спиртного да еще от слов товарища с покрасневшими веками солдату, возвращавшемуся в лоно полка, полегчало вдвойне.
— Благо, моя часть вроде бы сейчас прохлаждается в спокойном секторе, — сказал Жорж. — Какие б там ни придумали учения, но, по мне, всё лучше музыку дудеть, чем носиться вестовым, как в Суше4.
На вокзале было полно солдат. Одни приезжали с фронта, другие туда возвращались.
Пожилой солдат-пехотинец навеселе, с непросохшими усами и смешливым блеском в глазах, углядел охранявшего порядок муниципального гвардейца и с радостной улыбкой направился к нему.
Гвардеец слегка оробел, но улыбнулся в ответ. А солдат, раскинув руки так широко, как только позволяли лямки вещмешков и фляги, подошел к нему вплотную и простодушно завопил:
356
Дополнения
— Ну! Ты чего? Обними меня! Я вернулся!
Солдатики в касках заржали, женщины заулыбались. Но пехотинец никак не унимался, и это перестало быть забавным.
Длиннющий — головы не видно — состав стоял у платформы. Жоржа со всех сторон окликали однополчане. Он сел в вагон вместе с ними и с приятелем-сапером.
И скоро, разомлев под мелодичный стук колес, он почувствовал, что его «я» куда-то исчезает.
Он погрузился в сладкую нирвану, когда всё трын-трава: спиттть себе как сурок и ни о чем не тревожишься. За тебя думает паровоз, он же тебя разбудит и передаст в распоряжение другой силы.
V*
>К /^Ч Т) Г\Т/1 Лугр прибыл в свой полк,
-/XV vy X УIV который с комфортом рас-
^ положился в лотарингских
• V деревушках вокруг учебно-
го лагеря, изрезанного мелкими, в десяток сантиметров глубиной, траншеями.
Деревня, где очутился Лугр, была очень опрятной, местные жители — очень радушными. Всего несколько километров отделяли ее от городка Во- кулёр1. А в Вокулёре настоящее раздолье: тут тебе и кафе, и кондитерские, и большой базар, где есть на что потратить солдатские денежки, жгущие карман.
Едва сойдя с поезда, Жорж увидел Тома Буридана и Кобля, батальонного самокатчика.
— Привет, дружище! — крикнул Буридан. Он старательно рулил, оседлав складной велосипед2. — Как съездил?
— Здорово, дуделка! — сказал Кобль. — Все музыканты живут на одной ферме, жратва там у вас — обзавидуешься. Хотя и нам грех жаловаться, дай бог тут до конца войны просидеть.
Хорошая погода и весть о предстоящем долгом отдыхе настроили Лугра на благодушный лад. Он угостил друзей сигаретами.
Буридан и Кобль куда-то спешили. Они пожали Жео руку, указали, куда идти, и он, уже ничуть не сокрушаясь о Марселле, бодро зашагал по залитой солнцем, искрящейся песчинками и присыпанной пылью дороге.
Горнисты репетировали на лугу, возле грабовой рощи.
358
Дополнения
Разучивали трудную мелодию для охотничьих рожков и труб, музыканты выбивались из сил, а тамбурмажор3 чуть не лопался от злости.
— Начали! — надрывался он. — Раз-два!
Горнисты снова принимались маршировать и играть, барабанщики вторили им, незаметно отбивая такт ногой.
— Да это Жео! Ай, молодец! — воскликнул капрал горнистов. Лицо его было багровым, жилы на шее набухли, как веревки, он вытряхивал слюну из мундштука перевернутой трубы.
Еще раз исполнив марш в ускоренном темпе, товарищи окружили отпускника и тут же, рассевшись на масленисгой траве под сенью грабов, выпили в его честь.
Вдали белели деревенские домики под красными и бурыми крышами. Время от времени, чтобы начальство думало, что они тут усердно работают, кто-нибудь из горнистов пускал задорную трель в сторону деревни или барабанщик отстукивал парочку маршей с первых страниц учебника.
— С приездом!
Парни нахваливали парижские сигаретки, которые привез Жорж, а он расспрашивал, что тут у них творилось в его отсутствие.
— Дело дрянь, — приговаривал он и качал головой, внимательно выслушивая извечные мелкие истории, из которых складывается полковой быт.
К ним подошел тамбурмажор, обстругивая на ходу ореховую палочку.
— Вот и ты, Жео! — обратился он к Лугру. — Хорошо погулял? Поставим тебя во второй ряд горнистов, будешь играть партию трубы. А завтра подменишь на вахте Фрешона, он уходит в увольнительную. — Он постучал палочкой о ствол дерева. — Давайте-ка, ребята, пошевеливайтесь. Послушай, Мегало, хорош дурака валять, не выбивайся из строя. Мне надоело выговоры из-за тебя получать. Внимание! Раз... два... начали! Поворот! Внимание! Раз... два!
Жорж подобрал свои вещи и пошел в деревню. Ему показали, где его амбар. Он облюбовал себе затянутый металлической сеткой лежак
П. Мак Орлан. Шальной. 11
359
около балки с множеством крючков, на которых развесил свое имущество. И вот уже угол амбара превратился в уютное жилище, обставленное по его вкусу и отражающее его самого.
— Я пошел в каптерку за своим барахлом, — сказал он соседу. — Не знаешь, у нашего портного галун для горнистов есть?
— Ага.
— В общем, присмотри тут за моими вещичками, чтоб ничего не стибрили.
Воскресенье,
годовщина сражения у Каран- си1, в котором полк когда-то отличился, выдалось погожее, солнце сияло в чистом небе, чья ослепительная синева затмевала новенькие синие шинели.
Утром у дома полковника сводный оркестр трех батальонов заиграл зорю. Солдаты услышали сигнал сквозь сон и лежали, блаженно пригревшись под одеялами, в полудреме, пока не раздалась другая, приятная для слуха музыка: «Кофе!.. Кофе!..» и привычное: «Где твоя кружка?»
Дежурный разливал
обжигающий кофе. Кто хотел добавки, вставал и шел за ним к полевой кухне.
Жоржа Лугра разбудил шум, он проглотил свой кофе, еще не продрав глаза. Но постепенно открыл их и увидел амбар, сваленные по темным углам и поблескивавшие медными боками барабаны, а также горны, трубы и охотничьи рожки, разложенные повсюду, точно орнамент, напечатанный на полях почетных грамот, куда заносят благодарности.
Жорж вскочил, стряхнул соломинки с рубашки и брюк, машинально провел рукой по ступням и влез в широко распяленные ботинки. Потом вытащил из вещмешка расческу и мыло.
— А где у нас водичка?
Солдаты мылись и брились во дворе у колонки, наливая воду в самые разнообразные посудины, главным образом походные тазики.
П. Мак Орлан. Шальной. 12
361
Энергично лязгала железная рукоятка. Голый до пояса Тома Бури- дан чистил зубы, вращая выпученными глазами.
Через двор просеменила молоденькая работница, неся чан с густой мешанкой для скота. В доме вопили дети, из приоткрытой двери на порог вышел заплаканный карапуз. Увидел солдат — и слезы его мигом высохли.
Жорж подошел к Буридану. Свеженький после умывания, тот скручивал сигаретку — первая радость наступившего дня.
— Вы сегодня устраиваете цирк? — спросил он горниста.
— Ну да, на площади, сразу после концерта.
— Какое-никакое, а развлечение. — Буридан тяжко вздохнул и кивнул на работницу, которая теперь катила тачку с сеном. — Ты только погляди на эту девчушку — какое личико... прямо принцесса! Нет, правда: точеная шея, волосы, овал лица, изящные движения — всё при ней! Жаль только, руки загрубели от работы. Двух лет не пройдет, как эта крошка выскочит замуж в Париже. Благодаря войне. В этом смысле — нет худа без добра. Проституции война идет на пользу. Не рискну развивать эту мысль, да и, признаться, старина, меня это мало волнует. Одно плохо — куда-то подевалась невероятная страсть девушек к замужеству, от которой нам кое-что перепадало. Вот уж два года, как я воюю, и, если не считать интрижек со старыми подружками во время отпуска в Париже, считай, ни одна женщина не докучала мне любовными бреднями. Это неестественно и, вот увидишь, папаша Лугр, кончится плохо.
— Почему? — спросил Жео.
— Почему? Почему?... Бог ты мой, да это же яснее ясного: потому что мы — армия разочарованных.
— Как это?
— Ну, старик, это слишком долго объяснять. Давай я тебе вечером расскажу, во время концерта, ты ведь дежурный? Слушай-ка, раз ты идешь в канцелярию, прихвати-ка там мой новый противогаз, с резиновым мундштуком и заодно спроси у начальника, как его надевать: вазелин нужен или нет2.
362
Дополнения
Жорж весело зашагал в канцелярию; там, он знал, его ждет перевод от Марселлы, можно будет устроить знатную пирушку с Бурида- ном, Коблем и Глабажонором.
Стараниями Марселлы у Жео всегда водились деньжата, за это его уважали товарищи. В частях, где преобладали резервисты, по ходу этой бесконечной войны дружба всё больше зависела от состоятельности каждого. Приятели не обязательно служили в одном подразделении, они могли быть в разных ротах, разных батальонах. Самые бедные по доброй воле прислуживали тем, кто побогаче: чистили им ружья, стирали белье, таскали их вещмешки. Это было не так сильно развито у молодых солдат, те легче проникались братским духом. Не было такого и в полках, изначально состоявших из профессионалов. Ну а в пехоте, среди резервистов, особенно в относительно спокойной жизни «на квартирах», быстро оживали привычки мирного времени. Кто получал посылки на сто су, делился харчами с теми, кто получал такие же, кто на двадцать франков — с теми, у кого тоже двадцатифранковые, и так далее. А кто не получал посылок, не так уж и держались друг друга. Некоторые, уповая исключительно на свои умственные силы, старались затесаться в одну из упомянутых компаний.
— В Афбате мы как-то больше дружили, — говорил Лугр.
— Просто ты был там в начале войны. Сам знаешь: люди по натуре — мелочные жлобы, — отвечал ему Буридан.
Прирожденные солдаты себя таковыми не сознают. Они встречаются в колониальных войсках, в Иностранном легионе, иногда среди зуавов и тиральеров или в других полках, но там их еще меньше. Мало кто из них любит приключения. Куда важнее, сколько заплатили. Хотя их не всегда легко опознать — иной раз вдруг покажется, что им открылась трагическая красота их неприкаянной жизни. Но, как правило, это не так. Франция к этой красоте чувствительна менее всех других стран, бороздящих моря. Французам авантюрный дух не свойствен, француз — человек смелый, но и здравомыслящий, дерется он за то, что кажется ему разумным и сообразным государственным интересам.
П. Мак Орлан. Шальной. 12
363
Авантюристы же высшей пробы и порой наделенные безудержным воображением, — те водятся у англичан, американцев и испанцев.
Настанет день, когда французы, друзья по оружию, поймут, что их страдания были решительно никому не нужны, и придут в отчаяние. Увы, все войны на свете лишены смысла, и оправдание их лишь в том, что их затеяли дерзкие искатели приключений, художники и монахи, которым надоело жить по-людски.
Нация, поставленная под ружье, — безусловно, это самая опасная глупость, какую только могут совершить страны, пишущие на фронтонах общественных зданий три бессмысленных слова: «Свобода, равенство, братство» — три прекрасных и неисполнимых обещания.
Между
тем под раскидистыми липами музыканты образовали кольцо, в самом центре стояли горнисты и барабанщики.
Деревенские девушки в светлых блузках держались за руки, жеманно хихикали и несли всякий вздор. Стрел- кй и гренадеры с синей шерстяной нашивкой в виде гранаты на левом рукаве, с трубкой в зубах и в пилотке набекрень, тоже переговаривались и отпускали сальные шуточки в адрес этих сельских нимф, к вящему их удовольствию.
Жорж в каске с затянутым на подбородке ремешком держал горн — была его очередь управлять распорядком дня в полку, подавая в урочное время сигналы. Они с Бурида- ном сидели на выкрашенной в зеленый цвет скамейке около школы для девочек, в стороне от грохота духового оркестра. Тут было слышно только глухое уханье большого барабана да иногда ветер доносил обрывки мелодии.
Где-то вдали рокотали пушки, и это казалось таким же привычным, как солнце на небе, птичий щебет в липовых кронах да похожий на колесо хоровод девушек.
Засунув пальцы под ремни портупеи, Лугр разглядывал пустынную улочку, ведущую на площадь.
— В Афбате, старик, — начал он разговор, — к нам больше уважения было, у мужичков от одного нашего вида душа в пятки уходила. А тут... надо тебе почтовой бумаги на два су купить — изволь тащиться
77. Мак Орлан. Шальной. 13
365
в лавочку, а как там встречают защитников отечества, я уж не говорю. Читаешь, что пишут в газетах про «наших героев», — прямо смех разбирает. Посмотрели бы эти писаки, как «наших героев» посылают, когда они хотят разжиться колбасой или винишком. Сразу бы всё поняли. Шальных все эти гады-спекулянты уважали, потому что знали: если заломят цену, вздуем по первое число. Только услышат: «Шальные идут!» — как шелковые становятся и дочек своих по домам запирают. А за тыловыми крысами девчонки никогда не увязывались — те не посмели бы при нас их клеить. Бывало, проходим с полной выкладкой по улицам, горнисты играют: «Братва из Панама, ура, нам скоро домой уж пора!»1 — и от гордости перехватывает дух. А женщины смотрят такими глазами... не передашь... в них не любовь, не ненависть, не знаю, как сказать. Даже не восторг, а страх и нежность вперемешку. В общем, смотрели как на бойцов, на победителей. Может, еще и оттого, что, пока нас не обрядили в шинели, на гражданке-то, у нас не было никакого ремесла, и женщины не очень соображали, кто мы такие есть. Про других солдатиков они знали: этот сапожник, тот клерк у нотариуса, а этот фермер. Ничего особенного — сапожников, клерков и фермеров они и раньше видели. А ведь на войне, старина Буридан, три четверти армии только о том и мечтают, чтоб пофорсить перед цыпочками. Пока не перевелись красивые девчонки, будь уверен, не переведутся и бравые вояки.
— Да, — мрачно согласился Буридан, — для большинства солдат главная приманка — женщина, и уж каких только картинок да во всех подробностях... не будем уточнять... они себе не рисуют! Знавал я парней, которые потирали руки, предвкушая истинные радости войны: насиловать и грабить — милое дело! Но воевать — так уж оно обернулось — пришлось на своей территории. Тут, как ни кинь, всем несладко. Несладко жителям захваченных земель, несладко и солдатам: хочешь не хочешь, живи как праведник на рубеже земли обетованной. А попробуй-ка будь добродетельным, когда впереди маячит легкая добыча — трофейные женщины, позади — забавы, да не про твою честь. Этакая подлость! Само собой, я говорю не про всех. Порядочных жен¬
Збб
Дополнения
щин больше, чем распутных. Но в данном случае, и так бывает часто, меньшинство, поскольку оно ярче, бросается в глаза и создает ту атмосферу тыла, которая нам западает в память. У немцев, ручаюсь, то же самое. Нас же, солдат поневоле, война ничем не соблазняет. Во всяком случае, меня. Мне тридцать два года, я люблю жизнь, многое повидал, много могу порассказать — всё это не то, что нужно для хорошего солдата. Быть хорошим солдатом — для меня это чертовски трудно. Хорошим командиром — ну, еще куда ни шло, но хорошего солдата из меня, ей-богу, никогда не получится.
— Командиром — понятное дело! — хмыкнул Жорж.
— Это ты зря! Командиры — по большей части отличные мужики. Многим, я сам видал, бывает так же страшно, как простым солдатам, но они ведут себя геройски, как положено офицерам, — звание обязывает. Ответственность за чужие жизни подавляет страх. Если, конечно, ты не сволочь. И недаром им больше платят. Когда решает кто-то, а ты только послушно выполняешь приказы, с тебя взятки гладки. Если же ничего не известно заранее, решать и отвечать приходится самому. А это не всегда сахар в определенных ситуациях, которые известны тебе не хуже меня. Вот ты топаешь по траншеям и проклинаешь того, кто ведет всю колонну. Тебя ведут, а куда — не твое, сам понимаешь, дело. Дело того, кто во главе, и ему это тоже понятно. А что, если он не лучше тебя знает, куда идти, — такое запросто бывает, особенно в потемках, в незнакомом секторе, — как, спрашивается, ему не психовать? А психовать нельзя. Риск у вас одинаковый, только ему некого проклинать. Это я самый простой пример беру. Разница есть, и за нее положено платить. Теперь ничего не изменишь. Конечно, лучше бы я пошел в офицеры. Но мне тридцать два, и я еще даже не младший лейтенант. А надо в тридцать два хоть капитаном быть. Вот это чин по возрасту. Младший лейтенант — это годится совсем молоденьким. Если б мне сразу капитана дали! Но так не делается. Вот я и остался солдатом — солдатом, которого любят товарищи, и тут порою тоже приходится за что-то отвечать и что-то решать.
П. Мак Орлан. Шальной. 13
367
— Я понимаю, — перебил его Лугр. — Вообще-то иногда тебя не так легко понять, но я понимаю, потому что чувствую — тебе надо выговориться.
— Мы живем в такое время, — продолжал Буридан, скребя себе щеки, — когда о логике лучше забыть. На передовой мы умеем только пить, а потом убивать, вот и весь сказ. А погляди, что за рожи у тех, кто идет убивать! Война. Другое дело в лагере, хоть остываешь не сразу после драки, и дурные инстинкты не всегда уступают место хорошим, — но приходится пить молоко и вести себя паиньками. И вот тогда становится совсем паршиво! Видишь ли, старина Лугр, когда солдат, науби- вавшись, идет вперед по завоеванной стране, по деревням, покорным его натиску, то помаленьку темные инстинкты, подогретые фантазией, стихают. Уходит ярость, он опять спокоен. Мы же, узнав вкус крови и смерти, возвращаемся назад, в свои же, неприкосновенные, деревни. Тут и девчонку ущипнуть не смей, и торгаши нахально на тебя орут. Такой полк — всё равно что организм, которому необходимо очиститься от заразы. А не очистишься сейчас — она потом, когда уже все всё забудут, фурункулами попрет наружу. Надо бы построить в тылу, за счет налогоплательщиков, побольше деревень для отдыха, настоящих деревень, и чтоб там были богатые дома и выряженные крестьянками девки, оплаченные государством, этакие размалеванные профессионалки, которых можно брать силой вечером после сражения. А в домах чтоб было побольше красивой дорогой мебели, и мы бы ее крушили прикладами. После такого дела, вернувшись на позиции, полк бы учетверил свою боеспособность...
— Ну да, боеспособность! Всё снова здорово! — сказал Жорж, перекатывая сигарету во рту.
— Это еще что, браток! Знал бы ты, что мне приснилось прошлой ночью в бараке девятнадцатой роты! Я видел грядущую, последнюю войну. Мало того, сам невредимый, я принимал в ней участие... Вот это, скажу тебе, война так война, по сравнению с ней наша нынешняя — что самокат по сравнению с гоночным автомобилем. Я пригрелся под одеялом, — Буридан вздохнул, — и не слышал никаких твоих побудок.
368
Дополнения
Резвился в будущем, как форель в прозрачном ручье. И вовсе не чувствовал себя дряхлым, что было бы вполне естественно. По возрасгу-то мне уже мобилизация никак не грозила. Второго июня тысяча девятьсот сорок второго года наш веселый Париж был разрушен, погиб безвозвратно. Я в это время жил вдали от столицы и потому, как герой «Дневника чумного года»2, смог уцелеть после не виданной в истории человечества катастрофы. Одна из главных особенностей этой будущей, последней из войн заключалась в том, что у слащавых журналистов не было возможности расхваливать в изящных выражениях наших прекрасных авиаторов, как в тысяча девятьсот шестнадцатом3. Не было также никаких подруг по переписке. Фронт существовал сам по себе, и творилось там что-то невообразимое. В так называемом тылу, если верить тому, что я успел запомнить, тоже царил полный хаос. Как известно, в ответ на разгром Парижа, после которого многие правительственные здания превратились в груды щебня, мы уничтожили несколько крупных вражеских городов. Однако противники получили некоторое преимущество, поскольку вывели из строя весь наш призывной механизм. Казармы-то были разрушены, и резервисты бродили как неприкаянные, не зная, куда же им теперь являться.
— Ну ничего себе! — восторженно воскликнул Жорж.
— Конечно, воздушные бомбардировки больших городов и страшные последствия газовых атак — а газы по эффективности превзошли самые смелые ожидания, — куда скорее, чем слова, отрезвили людей. И это был единственный положительный результат войны. Да и то ненадежный, потому что в дальнейшем белые люди жили в постоянном страхе, предвидя многолетнее жестокое столкновение с сумевшими наконец-то сорганизоваться азиатами. Почти все, кто мог себе позволить действовать по собственной воле, покинули города. Но таких осталось очень мало — вскоре повсюду установился социализм, и все люди зависели от государства. Поскольку вооруженное население рассредоточилось по всей территории, газы стали слишком дорогим и малоэффективным оружием. Приходилось опустошать не один газгольдер последней модели, ради того чтобы убить одного-единственного
П. Мак Орлан. Шальной. 13
369
военизированного фермера, курившего трубку перед дверьми своего дома. Эта война привела к тому, что масса народу разочаровалась в городской цивилизации. Правительство заседало в окопах, каждый депутат имел при себе саперную лопатку. Президент Республики жил в шалаше посреди леса. Солдаты же, наоборот, занимали заброшенные города, располагались на постой в роскошных квартирах и распоряжались мебелью по своему усмотрению. Все носили при себе противогаз. Противогазы тоже невероятно усовершенствовались. Они теперь походили на водолазные шлемы, то есть закрывали всю голову. Шлем медной трубкой соединялся с наполненным воздухом баллоном, который закреплялся на спине или на животе — как кому удобнее. В закрывающих лицо шлемах мужчины и женщины потеряли индивидуальность. Как и солдаты. Все стали неразличимыми. Благодаря этому военные и штатские принялись учинять непозволительные вещи, так что пришлось прибегнуть к примерным наказаниям. Провинившихся лишали противогаза на срок до трех месяцев. Но искушение было велико. Пользуясь суматохой и тем, что их невозможно узнать, безобразники присваивали чужое имущество. А поскольку противогазы использовались чуть ли не ежедневно, падение нравов во всех воюющих странах достигло такого уровня, что всем, солдатам и населению, в обязательном порядке предписали носить на рукаве особые опознавательные жетоны из меди. На них указывались имя, фамилия, возраст, профессия или воинское звание безликого гражданина. Люди быстро привыкли к новому, причудливому обличью. Женщины в шлемах уже не могли соблазнять своей красотой, но заменили ее дразнящей таинственностью; впрочем, поскольку правила игры дозволяли всяческие вольности, тайна держалась недолго. Именно угроза общественной безопасности, которую создавало постоянное ношение средств защиты от смертоносных газов, стала одной из причин, расстроивших эту войну и приблизивших ее конец. Ношение противогазов обернулось и финансовыми потерями. Потребление табака сократилось настолько, что от прежних лучших марок осталось одно воспоминание. Это пагубно сказалось на боеспособности армии и национальном сопротивлении. Наконец, резиновые
370
Дополнения
шлемы наносили моральный урон гражданам еще и тем, что не давали людям петь для поддержания духа.
— Ну и горнисты, понятно, отдыхали, — ввернул Лугр, давая понять Буридану, что следит за его рассказом.
Тот махнул рукой — мол, не перебивай! — и продолжал:
— В шлеме чувствуешь себя как в футляре, нос не дышит, и так каждый день, я до сих пор не могу забыть это чувство. Из-за противогазов война всем окончательно осточертела. Все мечтали подышать свежим воздухом. Как раньше дезертировали с передовой, бросая оружие, так теперь, в этой садистской войне фармакологов, люди бросали противогазы. «Неженок», как называли нарушителей закона о противогазах, регулярно расстреливали, но движение приобрело такой размах, что военные власти первый раз за всё время убоялись силы свежего воздуха, парижских песенок и привычки к старой доброй глиняной трубке.
* * *
— Увы, я знаю, как война закончилась. Конец одной войны всегда чреват началом следующей. А следующая будет войной кавалерии, и всё решит холодное оружие. Горе нации, опрометчиво съевшей всех своих лошадей между тридцать вторым и тридцать четвертым годом! Она осталась безоружной перед надвигающейся катастрофой. Мы так привыкли к тому, что цельное, нормальное человеческое тело может в один миг разлететься на кусочки, и таким обычным делом стала гибель от самых разнообразных удушающих веществ, что теперь ужаснулись смерти, представшей перед нами в своем классическом, кровавом обличье — ведь сабли рубят и кромсают. Незадолго до конца «послед- ней-распоследней» войны генштаб, озадаченный неявными, размытыми боями по новым правилам, нашел выход из положения, поручив кавалерии сгребать без разбора тела безликих штатских и военных, еженедельно втемную убивавших друг друга. А завершающую, совершенно непредвиденную, военную операцию провела полиция. Последнее, решающее, на языке стратегии, слово осталось за конными и моторизованными жандармами. Они стали без разбора задерживать людей под
П. Мак Орлан. Шальной. 13
371
разными предлогами, так или иначе связанными со злоупотреблением противогазами. Задержанные снимали шлемы и нередко, едва вдохнув свежий воздух, умирали на месте. А лица тех, кто оставался в живых, были белыми как мел, и с них стерлось всякое выражение. Мужчины и женщины отвыкли говорить «я»... Такой вот мне приснился сон, — закончил Буридан. — А потом он оборвался, меня разбудила крыса. Угрелась, гадина, у меня в ногах. И еще недовольна была, что я ее выгнал из гнездышка.
— Смех смехом, но мне понравилось,— сказал Жео. — Я в общем-то, наверно, с тобой согласен, но не такой образованный, чтоб толком всё раскумекать.
С площади доносились взрывы смеха — видно, «Цирковое представление полковых музыкантов», как всегда, проходило с успехом. Лугр с Буриданом разомлели на жаре и умолкли. Оба вычерчивали палочками завитушки в пыли и время от времени попыхивали трубками.
В это время из караульни вышел солдат с набитым хлебом ртом и с трудом проговорил:
— Уже пять часов.
— Сколько на твоих? — спросил Жео у Буридана.
— Ровно пять, пора на ужин.
Лугр встал, снял висевший на двери горн и пошел в сторону площади, где уже стихал смех.
Сегодня
I у 1TT T Т ГТ каждый, даже самый хво-
^ А А A pbIg комиссованный сол-
^ дат, самый дряхлый вете-
. V ран помнит, с каким настроением
полк, который перебрасывают с одного участка фронта на другой, садится в эшелон, покидая тыловой городок. Не стоит тратить слов на описание.
Полк Лугра, вместе со всем армейским корпусом, как раз и получил приказ о передислокации из города Туль1. Погрузка проходила под вопли возниц-коннопулеметчи- ков, понукавших своих мулов, которые никак не могли уразуметь, что им, четвероногим, пристало передвигаться в специально отведенных вагонах.
Солдаты знали: передышка кончилась, их отвезут в действующую армию — и живо обсуждали, где именно предстоит попасть в мясорубку.
Самым правдоподобным казалось наименее радужное предположение — их отправят на Сомму, где шло большое наступление2.
После месяца в казармах Туля полк набрался сил. Его к тому же подкрепили молодыми новобранцами. Всем выдали новенькое обмундирование. Страшные воспоминания об атаках на передовой несколько потускнели. Что ж, Сомма так Сомма, раз всё говорило за это.
И правда, высадились в маленькой деревушке департамента Уаза3, неподалеку от Крепи-ан-Валуа4, откуда только что выступила бригада
П. Мак Орлан. Шальной. 14
373
колониальной пехоты. А потом предстояло сменить эту же бригаду на Сомме, близ Мерикура5, в «бараках Адриана»6 шестого военного лагеря. Такие ходили слухи.
Близость Парижа грела сердца однополчан, в большинстве своем столичных жителей. Полковник разрешил давать увольнительные на двое суток. Солдаты радовались как дети, им казалось, что война закончится со дня на день. Никто толком не представлял себе, что будет в ближайшее время, страшные картины прошлых наступлений словно стерлись из памяти.
Музыканты прикрепили к своим горнам голубые с желтой каймой шелковые вымпелы7 и наяривали на деревенской площади бодрые марши. В этой деревне боевых пехотинцев еще не видали. В Жоржа влюбилась пятнадцатилетняя девчонка, которая с ума сходила по ночному Монмартру. Когда полк бесшумно уходил на заре — свои инструменты музыканты погрузили в обозную телегу, — она плакала. И сунула в вещмешок Жео, шагавшему в хвосте своей роты, рядом с барабанщиками Грюмо и Пуаком, пачку сигарет.
Переход был недолгим. Километрах в десяти от деревни на краю лесной дороги солдат ждала спрятанная под ветвями деревьев колонна грузовиков с военной символикой. Все по-прежнему шутили и веселились, задумываться о будущем было неохота.
Когда все влезли, взревели моторы, и колонна двинулась на бойню.
Лугр сидел у заднего борта, свесив ноги, и рассказывал товарищам обо всём, что видит. По мере приближения к Амьену8 появлялось всё больше знакомых признаков прифронтовой зоны. Вот тыловые службы стрелковой дивизии, переброшенной сюда на несколько дней раньше, чем бригада, в состав которой входил полк Лугра. Вот артиллерийские и прочие обозы.
Вдоль дороги работали аннамиты9 в черных шелковых косынках. Ни один не улыбнулся проезжавшим солдатам.
Амьен объехали по окраине, заводские рабочие посылали вслед грузовикам воздушные поцелуи. Жео, удачно сидевшему с краю, даже
374
Дополнения
досталась литровая бутылка вина. Таких подарков солдатам давно уже не доводилось получать — все замерли в немом восторге.
Внезапно заблестели серебристые протоки Соммы, перед ними тянулся низкий болотистый берег, покрытый обманчивым сочно-зеленым ковром. И наконец, на повороте дороги, от которой разбегались во все стороны тропинки, показалась пыльная, выжженная солнцем площадка с рядами бараков — лагерь Мерикур-6; рядом, в сосновой рощице, было разбросано еще несколько палаток.
Колонна остановилась на обочине, люди разбились по ротам и стояли кучками, ожидая, пока им покажут место, где предстояло провести эту, а может быть, и следующие ночи.
В бараках еще оставались колониальные пехотинцы. Их расспросили. И выяснили: жилье, конечно, дрянное, но ребята постарались, кое-что тут обустроили.
— Всё лучше, чем в окопах, под обстрелом, — говорили старожилы на радость новоприбывшим.
Началась лагерная жизнь. Неделю Лугр с другими горнистами ходил на учения. Оркестр даже отыграл пару концертов перед бараком полковника. Буридан же валялся на траве и обгрызал себе ногти. Увольнительных больше не давали, но, по слухам, должны были восстановить недели через две. Оставалось как-нибудь их прожить.
Полк
I I ТТ ТУ' временно расположился не только ^ ^ X X V ко в замаскированных бараках
^ вдоль канала1, но и в домах де-
I м ревушки Капи2, и на окрестных
^ фермах.
Однажды Лугр сидел у входа в погребок и меланхолично жевал хлеб с сардинами, как вдруг его окликнул Буридан в каске, с карабином через плечо:
— Эй, дружище! Снаряжайся побыстрее — пойдешь с нами вестовым, только давай живо, выходим прямо сейчас с командиром.
Лугр не спеша вошел в дом, надел форму и амуницию, застегнул ремень, нацепил ранец, повесил на себя флягу и вещмешки, взял винтовку и пошел с Бури- даном, ворча:
— Конечно, как вестовым на передовую, так вспоминают про меня, а как в лагере бездельничать, так меня обратно в роту!
— Да ладно тебе, — отвечал Буридан. — Небось сам рад пойти.
Командир ждал их на дороге, нетерпеливо похлопывая веткой по
кожаным гетрам.
— Пошли скорее, — только и сказал он и зашагал во главе отряда из четырех связных, капрала горнистов, Жео и ординарца. Ротный старшина уже ушел вперед.
Шли молча. Никто не знал, что ждет впереди, и никому не хотелось болтать понапрасну.
Буридан, с трубкой во рту, словно впав в оцепенение, шел широким шагом. Жорж и остальные поспевали за ним. Иногда кто-нибудь из солдат говорил:
376
Дополнения
— Глянь, во как справа бабахнуло!
Одной рукой все придерживали висящий на поясе футляр с противогазом.
По сторонам всё было закрыто маскировочной сеткой. Впереди, в сгущавшихся сумерках, виднелась дорога, изрытая воронками от снарядов.
— Самое пекло небось начнется на реке, — сказал Жорж.
— Может, и нет, — ответил Буридан. — Полковник посылал вахмистра Кокатра разведать обстановку на мосту в Фёйере3. Тот сказал: всё спокойно. Хоть я бы и не стал там строить себе загородный домик.
Они прошли по этому знаменитому мосту через Сомму и канал и, когда совсем стемнело, подошли к деревне Фриз4. Солдаты с любопытством посмотрели на маскировку — намалеванный на холсте дом с печными трубами.
Обсаженная деревьями дорога на Клери5 была пустынна. Справа и слева в полях рвались снаряды.
Лугр судорожно глотал слюну и старался о них не думать. Что толку? Они шли на передовую, где почти не было траншей и укрытий. Так что рассчитывать не на что, вернее всего — положиться на волю случая.
У оврага близ Клери маленький отряд поравнялся с батальоном стрелков. Один молодой солдат, раненый, извивался на земле, как змея, и стонал:
— Забери меня, друг!
Они молча прошли мимо и вскоре наконец дошли до полкового КП в гипсовом карьере. Этот райский пейзаж украшали три мученически искривленных дерева, а луна, заливавшая землю резким, как у дуговой лампы, светом, придавала ему еще более трагический вид.
Связные спустились по ступенькам в КП. Там уже толпились другие связные и изможденные телеграфисты.
Жео присел на верхней ступеньке у самой двери и, прислонившись к косяку, доверчиво уснул на этом островке мнимой безопасности. На рассвете его разбудил Буридан.
П. Мак Орлан. Шальной. 15
377
— Пора, — коротко сказал он.
Шли вдоль оврага, где в небольших траншеях, выкопанных прямо в склоне, расположился резервный батальон; об удобствах окопники заботились мало — все понимали, что долго в этом относительно спокойном уголке не задержатся.
С косогора, как с балкона, было видно, как плотно, один к одному, ложатся вражеские снаряды на линию узкоколейки. Зрелище довольно утешительное, заставлявшее порадоваться собственной безопасности. Всегда приятно смотреть, как снаряды рвутся там, где тебя нет и, скорее всего, не будет.
— Ты понимаешь, где мы? — спросил Жорж Буридана.
— Понятия не имею! Не знаю даже, с какой стороны неприятель. А начальство скупится на разъяснения, но щедро раздает приказы. Вот скажут сейчас: «В двадцатую роту!» И что? Ты знаешь, где она, эта двадцатая?.. И я не знаю. А надо будет отыскать без промедления.
Тут Буридан замолчал — впереди показалась фигурка сидевшего на корточках у обочины человека, который знаками энергично призывал их прижаться к земле. Это был полковник.
Связные пригнулись и побежали к нему.
— Ложитесь! — крикнул он. — Вас видно со всех сторон.
Все спрыгнули в ров у связного пункта, низенького укрытия за редкими деревьями.
— Это лес Берленго6, — сказал вахмистр Кокатр.
С этой точки хорошо обозревалась вся местность. В нескольких сотнях метров проходила дорога на Балом7, которую должен был атаковать полк, в то время как африканские пехотинцы пойдут на Ранкур8.
— Здесь шальные? — воскликнул Жорж. — Где, где они?
— Пригнись, болван! Своя голова не дорога, так о нас подумай! Если нас засекут, мало не покажется!
По небу с турбинным гулом пронесся снаряд. Взметнулся гейзер земли. Один человек убит, несколько контужено, радужное настроение у очутившихся на краю воронки несколько полиняло.
— Ну, началось! — сказал Лугр.
378
Дополнения
Все пригнули головы к земле. Снова взревел, разрывая небо, мощный взрыв. На этот раз снаряд вспорол воздух, свистя, как огромный волчок.
— Нехило, — сказал Буридан.
— Увесистая штучка, — согласился капрал.
И посыпалось... методично, неумолимо. Совсем рядом с Лугром убило капрала. Лугр отбежал в сторону. И упал в десятке метров от изрытой снарядами площадки, где расположилась батальонная медсанчасть, точно кто-то устроил завтрак на траве. Там безропотно сновали мертвенно-бледные санитары. Жео немного прополз и кое-как угнездился в одной из воронок. Но только успел приникнуть к земле, подложив под себя вещмешок, как рядом оглушительно громыхнуло, полетели комья земли. Левую руку обожгло болью9.
— Ребята, я ранен! — крикнул Жорж. — Эй, я ранен! Есть! Я ранен!
В глазах товарищей блеснула зависть. В один миг санитары помогли Жоржу распотрошить перевязочный пакет и с горем пополам забинтовать руку. От резкого запаха йода защипало в носу. Ему не терпелось поскорее убраться.
— Знаешь, где медсанбат? — спросил сержант медицинской службы и добавил: — У тебя хорошее ранение.
Упрашивать Жео не пришлось. Пригнувшись, он бросился бежать по обезлюдевшему, развороченному, изувеченному, изгрызенному железными зубами артиллерии полю, горячий пот заливал и жег ему глаза.
Выезжая
vî
из Капи-на-Сомме, Жорж ^^ А^^^ А проводил взглядом уже
^ знакомые яркие хижи-
■ ^5 ны. Еще в Фёйевре ему сдела-
ли укол в санчасти и тут же на телеге отправили дальше, в Капи, откуда раненых забирали уже на фургонах. Каждый метр дороги теперь приближал его к эвакогоспиталю в Марселькаве1 — и от колесного шума боль стихала сама собой, а сердце переполнялось той беспредельной радостью, которая знакома только раненым солдатам да приговоренным к смерти, помилованным прямо на эшафоте.
— Сколько уже едем? — простонал кто-то из семнадцатого взвода линейной пехоты.
— Часа полтора будет.
— Всё вдоль передовой, — заметил капрал, из сводного стрелкового полка.
— Вот-вот, всё еще в зоне обстрела, дорога маскировкой завешена — подыми брезент, увидишь.
Когда подъехали к баракам эвакогоспиталя, Жорж как бы невзначай спросил:
— А что, залетают к вам снаряды-то?
— Бывает, — ответил санитар, — порой немчура бьет по деревне.
— Вот скоты! — хором простонали раненые.
380
Дополнения
В госпитале Жео сумел поскорее пробраться на осмотр. Военврач выдал ему карточку «сидячего раненого».
— Теперь тебе просто надо ждать, когда отправят дальше, — сказал санитар.
Температура не слишком досаждала Жоржу; поддавшись блаженному порыву, он пошел бродить по госпитальному городку.
И вдруг наткнулся на компанию шальных, из третьего батальона.
— Эгей, ребята! — окликнул их Жорж. Давно он так не радовался. — Я сам тоже в дисциплинарном был, один год только, а потом получил благодарность, так командир подал рапорт, чтоб мне срок скостили. Оставаться, понятно, особой охоты не было — вот и перевелся в регулярные. Здесь оно полегче.
— Твоя правда, — согласился невысокий коренастый парень с подкрученными кверху усами. — Такая мясорубка была в Ранкуре!2 Если был на Бапомской дороге, в сторону Бушавена3, наверняка видел наших.
— От батальона рожки да ножки... — сказал другой солдат, совсем молодой, с очень светлыми волосами.
— Ну и к лучшему, — сказал третий, — нас теперь в тыл отправят. По мне, так самое то в Эль-Кеф или в Габес, без разницы. Погоди-ка, парень, а это не ты ли дудел в пятой роте, году в пятнадцатом?
— Да, я был горнистом в пятой, — ответил Жорж. — А ты, что ли, тоже там был?
— Вроде того.
— Так ты, выходит, Понсфиля знал, Тентена Базиля и Чесночника из Марселя? Он еще, помню, когда мы только из Эль-Кефа прибыли, шлюшку свою порешил.
— А то! Как не знать, когда я сам там был. Мне Чесночник еще двадцатник одолжил, перед тем как свалить.
— Понсфиль убит, — сказал Жео.
— И он, и много еще кто, — кивнул шальной, — ты свою роту не узнаешь. Нас, стариков, с десяток только в роте и осталось. Командир
П. Мак Орлан. Шальной. 16
381
в Этрурии получил унтера, а теперь — младший лейтенант. Вроде как из стариков и шальных, но бестолочь та еще.
— Ох, ребята! Ребятушки... — ликовал Жорж. — Как же здорово повидать старый добрый Афбат!..
— Сам-то откуда будешь? — спросил тот, что знавал Чесночника.
— Так парижский я...
— Это-то я вижу, а округ какой?
— Восемнадцатый, улица Аббесс. Жена у меня там работает.
— А я с улицы Дюрантен4. Может, слыхал что про меня — Жюлье- ном Фюирё звать. Я на рынке промышлял раньше, на Ле-Аль5, — мать кормил и сеструху.
— А, да, кажись, слышал имя, — на всякий случай сказал Жорж.
— Ну что, глядишь, и встретимся в Панаме!
Тут пробежал санитар и крикнул на ходу:
— Эй, трубач! Там поезд отходит. Давай живо, если успеть хочешь!
— Счастливо, приятель! — прокричал вдогонку шальной, но Жорж Лугр уже ничего не слышал.
Правой рукой защищая левую, вытягивая шею над толпой, он спрашивал у раненых, у санитаров, у машинистов:
— Который сейчас отправляется? Этот?
В небольшом
куда прибыл Жорж Лугр, имелся пляж, прямо на берегу Ла-Манша, казино, усадьбы и гостиницы, в самой роскошной из которых — она горделиво возвышалась над морем, у самой воды — теперь размещался временный госпиталь1 номер такой-то.
Прибытие ста пятидесяти раненых вызвало в нормандском городишке, больше напоминавшем поселок, настоящую сенсацию. Раньше сюда направляли солдат из большого госпиталя, который был в городе по соседству2, причем только тех, кто уже шел на поправку. Все они были аккуратными, уже обвыкшими в мирной обстановке. Все тщательно причесаны, а некоторые даже щеголяли в свеженьких, затейливых мундирах, сшитых кто во что горазд. Всё это создавало у местных ощущение, что в городке гостят толпы отпускников. Последних же, наоборот, из-за касок принимали скорее за фронтовых солдат.
Но на этот раз легкораненых, среди которых был и Жео, привезли сюда, в ***, прямо с позиций. Утром, ближе к десяти, они высадились на широкой, обсаженной деревьями дороге, которая вела к морю и госпиталю. Здесь была и пехота, и тиральеры, и зуавы, и солдаты из дисциплинарных батальонов, и даже несколько артиллеристов с обожженными лицами. Все они были в грязи от ворота шинели до самых
П. Мак Орлан. Шальной. 17
383
подошв. Шли медленно, по четверо в ряд, заросшие, длиннобородые, с горячечными глазами и землистым «загаром», какой бывает после обстрела. И это они еще успели «прочухаться», пока лежали пару дней в эвакогоспитале. Их появление произвело сильнейший эффект. Горничные чуть не крестились, завидев их. Девчонки и мальчуганы в коротких штанишках и ярких, оранжевых или зеленых, рубашонках прятались за белоснежные юбки матерей-модниц.
Солдаты опускали головы — от внезапного стыда за свой вид, столь неуместный посреди роскошной улицы. Привычная гордая осанка вернется к ним лишь через несколько дней, когда в свежей, постиранной форме, с гладко выбритыми лицами они снова почувствуют себя мужчинами и поспешат занять свое место (по возможности центральное) в городской панораме.
Хуже всех приходилось шальным: многие из них привыкли производить впечатление на дам, а потому унизительное шествие мучило их вдвойне.
С самого прибытия в госпиталь они вели себя агрессивно.
Один заявил полной женщине в халате санитарки:
— Да, я шальной, дамочка, африканец, что, непонятно? Солдат Африканского батальона... И тут мне оставаться охоты нет, ясно? Мне б лучше обратно в окопы...
— Ну что вы, зачем же так, голубчик? Не волнуйтесь: вас здесь вылечат, всё будет хорошо...
Шальной не ответил, только опустил голову. У него было лицо коварного зверька, маленькое и твердое, как орех.
— Ну ладно, — сказала сбитая с толку сестра милосердия, — когда сможете, тогда и поговорим.
Она подошла к другому, тоже из шальных, любителю почесать языком. Тот взглянул на нее, хитро сощурив серые глаза.
— А вас куда ранило?
— В самую мякоть, сударыня, — ответил солдат, приподнимая свой кепи, так что стало видно его лысый череп.
— Как, простите?
384
Дополнения
— В самый буфер.
Женщина не стала уточнять. Шальные вокруг тихо усмехнулись. Тогда сестра скрылась — почувствовала, что еще немного, и ступит на неведомую, зыбкую почву, и ей стало не по себе.
Всё устроилось окончательно только через несколько дней. А пока одежда вновь прибывших проходила дезинфекцию, им выдали старую форму из исправительной колонии3. И хотя всех, кто мог ходить, постоянно звали прогуляться по берегу моря, большинство отказывалось, стараясь уединиться в безлюдных уголках. Нелепый костюм портил всё наслаждение от так легко обретенного рая.
В тот день, когда Жорж забрал свою одежду, солнце светило вовсю. Приятель помог ему справиться с повязкой, потому как левая рука всё еще плохо работала, и вместе с парой шальных, с которыми он успел сойтись, они пошли бродить по округе: охотиться на миловидных горничных и «клуш» — так они называли молодых селянок на своем особом наречии.
Вечером, после переклички, Лугр перелез через стену при содействии молодой сиделки, которая спала с Люсьеном Гопинэ, молодым сердцеедом с каштановыми кудрями из дисциплинарного, и направился в кабачок, где можно было перекинуться в карты: хозяйка была, что называется, из своих и строила глазки капралу, командиру альпийских стрелков4, о котором говорили, будто он из очень знатной семьи. Это был высокий юноша, которого война слишком рано и слишком быстро заставила повзрослеть; Жорж и его друзья считали молодого капрала «пустышкой», говоря их языком.
И, тем не менее, они были с ним учтивы — ради мадам Флатю- ле, хозяйки заведения, и ради возможности каждый день пить, играть в карты и предаваться любовным утехам в комнате Клары, миниатюрной рыжеволосой служанки, писавшей мемуары высокопарным и скучным слогом.
Теперь, когда Лугр вновь оказался в привычной ему компании, он всё чаще вспоминал Тома Буридана: ни о нем, ни о своем полке он ничего не слышал с тех самых пор, как его ранило.
П. Мак Орлан. Шальной. 17
385
Раздавая карты, болтая с новыми приятелями по-блатному, он мысленно сравнивал тех, с кем сошелся здесь, с товарищами по полку.
Как-то вечером ему вдруг пришло в голову, что Гопинэ — обычный олух. Он лежал в кровати, сцепив руки на затылке, и решил непременно написать Буридану: вот он — совсем другое дело! Жоржу нравилось в нем всё: и его шутливая манера говорить, и как он держит себя в жизни и на войне, — словом, его обаяние.
n '~}VV'J
И Жорж
Лугр написал:
с<7Трибет, стирини!
9» ни лечении. б ***, ни сисМОсМ Ли- сМинше. К±орсАлж неплохо и относится. с убиже- ниелл■ <Л к^кие пупочку хо- 1)&т по пл&жу! Это тебе' не фронт 9» тут бстретил ребж ug шильных- О тебе'гоборили- сдТи\ми сАлне снбди, ни госпи- тиль, и перешли к^к^мбудь (Алой бен^и, которое в рин- Н^ОСГИЛИСЬ- СпраСИ ТИсАЛ, в обоуе. /С коннууАлесЭх- нр^сАленЯ; гл&дишЬ; от~ сюди бккинут и отпуск^ ^дидут. С рукой ^порядок, уже риботиет. cfffiy ряд, если нипишешь поподробнее о себе' и ребэтих. ИнЬеюсь, 8се б<*{ отгуди целуми б<чбрились. фесь иу полки никого нет — нис риуделили ewy^ в эбикогоспитиле. К1ик1 только^ идут отпуск^ — берну тебе' уи куребо.
с>Клрж (Лугр
Опустив письмо в ящик, Жео — в белых матерчатых туфлях, кепи на затылке — решил пройтись по пляжу.
Любимой забавой здесь было подкарауливать между кабинок молоденьких девушек — если рассмешить такую проверенной остротой, можно и поцелуй сорвать.
В это время года в городке не было никого, кроме пары семей, двух-трех модниц и нескольких сестер милосердия, работавших добро¬
77. Мак Орлан. Шальной. 18
387
вольно, — да еще молодые девчушки из соседнего городка приезжали на пляж. С ними и целовались — ветер трепал девушкам волосы и раздувал юбки, так что они глупо визжали, прижимая ткань к коленям.
Гопинэ был мастер ловить таких пташек в силки. Он завел себе еще одну подружку неподалеку — миловидную брюнетку, служившую горничной у одного из военных врачей госпиталя.
— Гляди, у меня тут башли завелись, — как-то раз заявил он Жоржу, хитро и подленько сощурив глаза.
— Ну-ну... — равнодушно ответил тот.
Вдруг что-то проснулось в нем, и захотелось говорить как Тома Бу- ридан.
— Башли, говоришь? Деньжата?.. А ты уж и доволен, так, старик? Пятак да четвертак — поздравляю, не нищий теперь. Конечно, мне-то что, не мое это дело. Да только я тебе вот что скажу: страна катится ко всем чертям, того и гляди, всё рухнет, и что толку тогда от твоих грошей?
— Ну, страну-то они тоже не спасут, — сказал, помрачнев, Гопинэ.
— Нет, — ответил Жео, — но ты мог бы пойти да передать их, например, хоть в благотворительную кассу, на детские приюты. Они тебе расписочку выдадут, а ты ее — в рамку, и вот тебе ангел-хранитель на будущее... Ну, дело твое.
Гопинэ пристально смотрел Жео в глаза своими светлыми глазами траншейного мародера.
— Ты это всерьез или издеваться вздумал? — сказал он.
— Всерьез, конечно, дурья башка! Думаешь, стану я дельными советами разбрасываться, чтоб только язык почесать?
Гопинэ посмотрел на свою растопыренную ладонь, на которой лежал, уродливо скрючившись, маленький черный кошелек. Потом подкинул его и убрал в карман.
— Ладно, пошли выпьем, голота!
Лугр принял приглашение. Он ликовал: Гопинэ спасовал перед ним, как обычный простак, и теперь смотрел на Жоржа с уважением, потому что тот произнес нечто мудреное и непостижимое, что переворачивало все его нехитрые предрассудки мелкого сутенера.
Лугр
проснулся, когда сиделка Мария, разносившая по этажам кофе, вошла в палату, толкая перед собой тележку.
— Держите! — сказала она, кидая на постели свежие круассаны, которые заказывали ей с вечера. Выпечку она покупала у местного булочника- кондитера.
Жео поймал свой и спросил, заранее протягивая руку:
— Есть почта какая?
— Погоди ты, черт,
погоди...
Мария достала пачку писем.
—Лебридон Шарль... нет такого... А! Это,
верно, тот новенький, со второго этажа... Лугр, горнист. Держи, твои два.
Жео взял письма и устроился в постели поудобнее, чтобы читать в свое удовольствие. Сентябрьское солнце мирно согревало белые простыни. Из коридоров слышались голоса и смех. По этажам пели. Дочурка галантерейщика постучала в оконное стекло и тут же спряталась, увлекая за собой сообщницу подружку, ее же лет.
Жорж закурил и развернул первое письмо, от Буридана:
‘хКри.вст, crajoaHa/
9* так, joaù вестям о тевс. сМк wx вес caèaM на преминем смеете, хоть раунде унатока и. говорила, что нас канут
П. Мак Орлан. Шальной. 19
389
б атаку, а кук,только боуьмем поулцию, перебросят подругой^участок^ сА на самомделе только продвинулись метроб НаГдбеСТИ, KW. туг Же ПрикууаЛи окопаться-.^дбое с лопатой^ один с куркоиб'—^да что A расскууибаю, сам унаешь эту песню. Юапрал-горнист иу пятого батальона убит, ротнчбГ'иу семнаду^тгобГтоже, и командир шестого батальона тяжело ранен. 9» бимел иу передряги цел^и небредим, только бот поглупел (Милость, féeigu тбои тебе'переселяю. 2)аже тапочки неуабил. <А боттри пачку, сигарет я остабил —- ми с ребятами скурили их уа тбое удоробье. 9< прошение подал, чтоб^ перебеги к^маскуробшукум. ‘дТеребедут— сам понимаешь, тоскобать по пехоте не стану. Если кто скажет тебе', чтебдела "дрянь, и чемдальше, тем хуже — можешь берить смело, так, оно и есть. сА\х,"да! ^абил скупать-, полкобнику со беем ебяу- ним пунктом одним снарядом прихлопнуло. Vf того ма- лиша-самокутчику бмесге с ними, 1Ноно — помнишь? — он, кажется, пел б куком-то кафешантане. дКму тебе'руку и желаю никогда к,нам не боубрам^аться.
ПГома Чуридан
Вдохновившись бойким слогом письма, Жорж прочитал его вслух всей палате. Каждый прокомментировал на свой лад, а Лугр развернул второе письмо. Оно было от Марселлы, его жены. Жорж нахмурился, читая первые строки:
что тот тип меня бросил.
«Вот черт, невезуха! — подумал Жорж. — А тут еще я заявлюсь на неделю!»
Он стал читать дальше.
сжяо, молим, пишу скууать,
390
Дополнения
Чэросил втиьун), иначе не скажешь-. оставил го франков, чтов^ месяцдожигъ. сХорошо хоть, что 3а квартиру уплачено вперед. Tio те не переживай^wg-ga этой'ерунде, не стоит Ра- вотуудесь наити можно, если gaхотеть. Все ждут, что скоро появятся американце^ Если они овъявят ^Германии воину, всем станет легче1. си\ пока. на\ми клеят англичан. 9< врала урока танцевул надеюсь устроиться, когда закончится твои^ отпуску Vde-нивудь в провинции, мне это вольше посуше. Там живешь к&К,хочешь — в Руане2, в TiaHTe3, в Чэордо^а и в о^мьене^даже. ^десь появляются^евчонки оттуда. Видел ве те, какои^у них в*ид.
Tie вуду писать много
жду тевя уже со^дня полдень.
сМе с товои^сходим в итальянский^ресторан. У меня есть пес, фокстерьер, 3°вут Ъжимми. Его теперь весь квартал ^нает, после того как. он покусал сена зелен^усцеуу помнишь этого паршивца— так, ежу а надо. Серьезных претензии^ко мне не вело, потому какLя постоянней"покупатель и на хорошем счету, но мне приходится теперь кофе пить у нее, а он на р^ктнтъ'дряннош'
сМилеи^мелуй) тевя сто тесяч раз.
сМ ар селла
Жорж Лугр убрал письма в бумажник. Потом привел себя в порядок перед обходом, пару раз махнул под койкой веником и вышел на улицу выкурить сигаретку до прихода Хлодфрида4 — так прозвали врача, заведующего отделением выздоравливающих.
Сам Хлодфрид не отличался хорошим здоровьем, а потому никогда не был на передовой. Но твердо стоял на том, что нужно поправляться поскорее, чтобы, как говорили его больные, «снова тянуть лямку». По этой причине раненые его не любили, как не любили и его мед-
П. Мак Орлан. Шальной. 19
391
сестер, по наивности считавших, что человеку, не имеющему призвания к военной службе, может нравиться эта игра в солдатики, особенно в роли пехотинца. Каждый судил со своей колокольни: солдаты, врач, сёстры. Чтоб понимать друг друга, достаточно побыть хоть сколько-то в равных условиях и пережить при этом одно и то же.
— Было бы славно, — сказал как-то Гопинэ, которому порой приходили в голову не то чтоб здравые, но любопытные мысли, — если бы всем этим тыловикам пришлось делать свое дело в той же обстановке, что и нам — свое. Чтобы парень, который пишет в газету репортаж о благоустройстве траншей, писал его, держа ноги в лохани с ледяной водой. Тогда б он мог судить, как и что. А летом чтоб его стол выкидывали бы на самое солнце или же лили воду на голову той штукой для душа. Пусть прочувствует — тогда и напишет как надо.
Таково было мнение Гопинэ. Невыполнимо, но идея неплохая.
Докурив, Жео вернулся в палату и скромно сел на кровать, как положено раненому солдату, который ждет комиссию, где его могут выписать и дать отпуск — а могут еще и не дать. Он сильно тер руки, одну о другую, так что, когда вошел Хлодфрид, сердце у него билось чаще обычного.
Хлодфрид был худым и высоким, с очками в золоченой оправе на гладком лице без растительности. Носил он форму старого образца: красные с черными лампасами брюки5.
Сняв у Лугра повязку, он тут же определил, что молодой человек поправился. Тогда он подал загадочный знак старшему санитару и, прежде чем Жео успел открыть рот, чтоб выторговать себе еще пару дней, быстро вышел, скользнув мимо простодушной сестры, стоявшей в дверях, — спешил принести благую весть на верхние этажи.
— Ну вот и всё, — устало сказал Жорж.
Но в нем уже заговорил инстинкт самосохранения. В голове созревал план. Да если надо будет, он готов подошвы к полу приклеить!
•ч
Жео
получил отпуск для восстановления здоровья — на месяц, с возможностью продления. Он чуть не упал в обморок от радости, когда полковник, председатель комиссии, сообщил ему это решение.
Вечерним поездом он вернулся во временный госпиталь, чтобы забрать в администрации дорожный лист.
Его встретили как героя. Жорж весь светился от радости. Поцеловал молодую сиделку, одному соседу по койке отдал свое зеркало, другому — почтовую бумагу. И всё напевал:
— Прощай, дружок!
Колокола зовут в дорогу...
Отъезжающих было человек тридцать, и судьба их ждала разная. Половина возвращалась в запасной полк. Слабый огонек надежды еще теплился в глазах солдат, временно освобожденных от строевой. Невысокого сержанта из стрелков пришла проводить сестра милосердия. Она плакала.
— Молодой, — сказал Жео, протягивая сигареты своим попутчикам, — зеленый совсем, не знает еще ничего, война не обтесала.
Ребята отпустили пару крепких слов в знак одобрения, и двухлитровые фляги заурчали над запрокинутыми головами.
П. Мак Орлан. Шальной. 20
393
Разговор пошел вокруг спиртного. Вспоминали, как смехотворно мало стоило вино еще в начале войны. Те, кто бывал в Шампани1, пили его буквально взахлеб.
Гопинэ, которому через неделю отпуска предстояло вернуться в Габес через Марсель, вытащил из кармана шинели тетрадку с песнями.
— Ну-ка, ребята, слыхали такую?
Но его не стали слушать. Тогда он незаметно сунул книжицу обратно в карман. А когда наступила ночь, заговорили о войне, о подвигах, о несправедливости — и продолжали, пока Жорж не погасил масляную лампу.
Выздоравливающие солдаты засыпали, уже готовые простить жизни все обиды.
Лугру не спалось, он разглядывал своих товарищей и покуривал самокрутки, которые изготавливал с удивительной ловкостью. Перед ним открывалась новая жизнь. Случайное, относительно легкое ранение вытащило его из прежнего ада, который он теперь и представить-то толком не мог.
Военное прошлое казалось очень далеким. В памяти сохранились лишь воспоминания о дисциплинарном батальоне: всё, что было потом, брало начало в этой точке. Еще остался четким образ Буридана, — благодаря ему он, Жорж, соприкоснулся с миром тех, о ком раньше знал только понаслышке, от женщин и от тех, кого называл «гусаками»2 или «фраерами», смотря по их важности. Из полковой жизни он мало что помнил — лица приятелей, товаршцей-трубачей расплылись и почти исчезли. В Париж он готовился въехать совсем другим человеком — таким, которому и в голову не придет вернуться в круг прежних знакомых и заниматься тем, чем он промышлял по молодости.
Он понимал, что нужно заработать денег, причем много, чтобы достичь того положения в обществе, которое уже само по себе делает победителем, кому бы ни благоволила судьба на поле боя. Война переучила его в своей суровой школе. А общаясь с товарищами, он узнал, что бывает и совсем другая жизнь. Перед ним открывался мир не¬
394
Дополнения
мыслимых ранее масштабов, и Жорж был достаточно умен, чтобы видеть безо всяких иллюзий, какое ничтожное место занимает в нем его фигура, — здесь было над чем задуматься. При мысли о прежней жизни к горлу подкатывал горький ком, и он сглатывал, сжимая в зубах потухшую самокрутку. Он не мог объяснить, почему прошлое его существование оказалось вдруг пустым и бессмысленным. Он не знал даже, как рассказать о своих новых мыслях жене. Вся его жизнь виделась ему бесконечно опошленной. Молодой солдат крепко задумался, потому что впервые за последние пару лет почувствовал, что удача улыбнулась ему. В первый раз ему представился такой невероятный шанс — вернуться в тыл, в спокойную жизнь, к парижским семиэтажкам3, которые он, как и многие другие, уже не надеялся увидеть вновь.
Но стоило вспомнить местных «котов» и хулиганов, как делалось тошно от одной мысли вновь увидеть их тусклые рожи: чересчур юные и уже истощенные развратом. Еще тогда, в отпуске, он взглянул на них по-новому, с какой-то гадливостью. Их тщетные потуги к роскоши внушали ему жалость. Убожество пало на этих угрюмых, освобожденных от службы «пропащих ребят», унизив их, заставив гордиться собственной немощью.
Задремав от вагонной качки, Жорж вновь увидел перед собой блеклые, мрачные, трагичные и часто нелепые фигуры, наводнявшие переулки его монмартрской юности, которая теперь обратилась в ничто.
Рядом парень простонал во сне. Жео обернулся на звук и какое- то время разглядывал молодое, но уже отмеченное страданием лицо. Скудный ум проступал на нем сквозь сон. Жорж, как маленькая Молль Флэндерс, героиня Дефо, желавшая быть знатной дамой, хоть и родом из бедных4, знал: случись чуть больше добрых фей у его колыбели5, он тоже мог бы стать человеком иного сорта, — правда, неизвестно, какого именно.
Равнина, погруженная в ночную тьму, казалась нереальной, как
во сне.
П. Мак Орлан. Шальной. 20
395
С открытыми ртами и опущенными веками спящие будто были частью общего, абсурдного кошмара.
Жорж Лугр удалялся от войны прочь. Он разглядывал товарищей и кивал собственным мыслям, подводя итог. Он чувствовал к этим солдатам — да, безусловно, немного сострадания, но и какое-то презрение, причины которого сам не мог себе объяснить.
Жорж
встретился с Марселлой и поселился на месяц у нее на улице Аббесс, надеясь позже продлить отпуск еще на месяц.
Она работала в кабаре и местных ночных ресторанах. Одевалась мило, как истинная дочь Парижа, умея выставить свои прелести в лучшем свете, и в целом неплохо справлялась, так как была молода, не похожа на дешевых шлюх и не отвлекалась на треп с подругами, а потому не упускала клиентов. Держала себя как дама, не злоупотребляя жаргоном, и питала подлинное уважение к богатству, каким бы ни было его происхождение.
Жео жил, не противясь овладевшему им благостному оцепенению. Рука еще немного побаливала. Каждое утро он ходил на механотерапию в местный госпиталь, как иные идут на теннисный корт. Развлечение то еще, но всё лучше, чем воевать. В трамвае на обратном пути он читал газету.
Однажды он сидел напротив пожилого господина — по всему видно, что старый вояка — и вдруг почувствовал острое желание придушить его. Тот смотрел на Жоржа открыто, в упор, с хитрым огоньком во взгляде.
Старик заговорил первым: выправка горниста, сама его молодость, солнце, золотившее сиденья в трамвайном вагоне, по крыше которого
П. Мак Орлан. Шальной. 21
397
шуршали деревья бульвара — всё настраивало на доверительный лад. Он добродушно спросил у Лугра:
— Ну что, солдатик, хорошо в отпуске?
— Нет, мсье, вовсе нет, — ответил Жео, усевшись поглубже и уперев руки в колени.
Дед недоуменно уставился на солдата. В наивных глазах читался вопрос.
— Вовсе нет, — мягко продолжал Жео, — я и не рад, что в отпуске. Я чахну здесь, в тылу. Вам не понять. Разок только попробуешь — огонь, траншеи, всё такое — и уже жить без этого не сможешь. Кто говорит иначе — брешут, только цену себе набивают; но знайте: всё вранье. О!.. В окопе не жизнь, а малина, так и не перескажешь! Тебя там кормят, и все смотрят на тебя с почтением. Видели бы вы, как мы возвращаемся с поля боя на квартиры! Вся деревня выходит навстречу, несут лучшее, что у них есть пожрать. И не отпустят, пока не возьмешь. Когда я в дисциплинарном был, помню, попадались такие добряки, что пришлось нам даже отдубасить двоих-троих, чтоб они вино свое себе оставили. Так вот, скажу я вам.
Старик стал весь пунцовый. Он сидел, поджав губы, глаза у него растерянно бегали.
— Да, — подытожил Жорж, поднимаясь к выходу, — я вам всё как на духу выложил. А кто скажет, что не так, — сам никогда не бывал там.
Тут подошла контролерша пробить билеты, и Жорж вежливо обратился к ней:
— Простите, мадемуазель, нет ли у вас специальных билетов для баранов?
Контролерша робко улыбнулась.
— А то бы я заплатил за мсье, — продолжил он, ткнув пальцем в несчастного.
Затем спокойно протиснулся сквозь частокол сконфуженных улыбок на заднюю площадку и сошел.
"N
Буридан да Буридан! Знаешь, что? В печенках у меня уже сидит твой Буридан! Бесхребетный ты, воли нет своей, вот и крутит тобой каждый встречный: пальчик покажи, а ты уж в восторге! Меня давно от этого типа воротит, — говорила Марселла.
— Ну-ну! — злобно бормотал Жорж в ответ, с досадой кусая трубку и вышагивая по комнате взад-вперед, руки в карманах.
Ссоры вспыхивали обычно после обеда, когда оба выпивали по рюмочке и, разгорячившись, ступали на скользкую дорожку пререканий и споров. Букет отборных оскорблений обычно венчал этот фейерверк.
Всё повторялось как по нотам. Жео, выпив кофе, наливал себе рома. Марселла наливала следом. И тут между ними вставал Буридан.
— Да можешь болтать что хочешь, — твердил Жорж, — но вот уж кто настоящий мужик!
— А ты докажи! Докажи! — пронзительно выкрикивала Марселла. — Настоящий мужик? Да при чем тут вообще Буридан? И чем же он хорош? Уж не потому ли он мужик, что помыкает тобой как хочет, или потому, что ты льешь ему в глотку вино за мой счет?
От такой несправедливости Жорж кусал губы. Поскольку он не был уверен теперь в завтрашнем дне, то полагал, что будет неосмотрительно «поучить» жену, как он делал раньше, до того как тот злосчастный револьверный выстрел определил его в Батальон.
77. Мак Орлан. Шальной. 22
399
Теперь, когда прошел уже первый месяц и только начался предоставленный комиссией Военной школы1 второй, Жорж воспринимал свое штатское положение как нечто окончательное и неизменное. О войне он больше не думал. Одна за другой к нему возвращались прежние гражданские привычки, а солдатская форма и Военный крест давали еще и новые преимущества.
Хотя, конечно, он видел сам, что порядком отстал от жизни.
Марселла теперь сама себе хозяйка, с возрастом в ней проявилась властность. Влияние подруг с каждым днем сказывалось всё сильнее. Это была красивая шлюха, бесстыдная и румяная, умеющая мстить и притворяться. Свое ремесло она знала безупречно, во всех тонкостях, и гордилась этим. Не слишком умная от природы, она умела произвести эффект, а теперь еще обрела житейскую хватку и научилась хитрить — обычная самозащита для женщин ее профессии и положения.
Пережив первую жгучую радость в объятиях любовника, который пусть и ненадолго, но всё же избавлен от ужасов войны — о них она имела довольно смутное представление, — Марселла наконец взглянула на него со стороны и невольно стала сравнивать с другими, причем сравнения эти были явно не в пользу молодого горниста.
— Буридан, — снова завел Жео, — сам не без гроша, я уж говорил тебе сто раз. Только тебе и правда нечего с ним знакомиться: всё равно не поймешь ни черта, о чем он станет говорить. Образования не хватит.
— Ишь, образованный какой! — вскинулась Марселла. — Того и гляди, газету вверх ногами раскроет, если не подскажет никто.
— Я, между прочим, сам всему выучился. — Жоржа задело за живое. — Да что там! Баста! Надоело. И чего я до сих пор не вернулся на фронт?..
— О! Да езжай! На здоровье! — зло усмехнулась Марселла.
Тогда Лугр натянул пилотку, пошел на кухню, сердито помешал
в печке угли, жалуясь канарейке на жизнь, и наконец вышел за дверь.
— Так продолжаться не может, — бормотал он.
На улице Лепик всё гудело и толкалось, точно на ярмарке. Солдат шел мимо маленьких авто, стоявших рядком, и взглядом знатока провожал девушек в коротких юбках — первых ласточек эмансипации2.
400
Дополнения
— Ста лет не хватит, чтоб выбить дурь из бабьей головы, — вздохнул Жорж. — Там у них просто бардак, всё вверх дном! И война эта — из-за нее они решили, будто могут прожить и без нас.
Он зашел в маленький бар, откуда вынесли все игровые автоматы, и уселся за столик, один на один с кружкой прогорклого пива под шапкой мутной желтой пены.
Молодой парень в фетровой шляпе и приталенном плаще цвета хаки подошел и протянул ему руку.
— Здорово.
— Здорово.
— Ну что, где ты теперь?
— Мне отпуск продлили на месяц, — ответил Лугр.
— Повезло, значит, — сказал парень. — А жена как?
— В порядке...
Молодой человек вальяжно опустился на стул.
— Эмиль, плесни мне чего-нибудь! — крикнул он официанту. — Так что ты говоришь?
— Хандра, говорю, заела, — ответил Жорж, — и тошнит от всего. Ну да это дело личное, — притом, сказал бы Буридан, с какой попало личностью не случается. Так что, считай, всё пучком. Эх, жалко, он не здесь.
— Теперь все бабы говорят «пучком», — заметил парень, — это у них любимым словечком стало. Моя тоже, куда ни плюнь — всё «пучком». Причем они не нарочно, тут дело во влиянии. Помнишь, может, здоровяка Фернана, он теперь младший лейтенант? Вот тебе пример, как это работает. Если рядом цыпочки, он тоже «пучком» говорит. А всё влияние! Мы набрались этой дряни от фраеров, а они — наслушались нашего трепа. Вот оно, влияние. Такое уж время, старина, — сплошное дурное влияние. Оно нас и погубит, мы утонем в нем, сгнием... Юнцы еще будут на что-то годны, но мы, фронтовики...
Он приподнял шляпу, показывая уже тронутые сединой виски.
— И с бабами, — продолжил он, — сколько ни толкуй, что всё еще молод, без толку: на сколько выглядим — такой наш возраст и есть3.
П. Мак Орлан. Шальной. 22
401
А дальше что — ума не приложу; я не вижу, как будем жить, старик. Мы и не замечаем, как изменились наши женщины, пока в запас не уволят.
— Да ладно тебе, — сказал Жорж, — не преувеличивай.
А про себя подумал: «Не хотел бы я быть на месте того, у кого ничего нет, кроме смазливой рожи».
Эта мрачноватая острота принадлежала Буридану — он сказал так, когда их полк оставлял Артуа. Жорж Лугр усмехнулся, припомнив тот переход во всех подробностях.
Жорж
Лугр сильно заболел. Его положили в больницу в Париже и временно уволили в запас. Он купил себе гражданскую одежду на деньги Марселлы. Прежняя, блатная, среда вновь затянула его. Оставалось лишь плыть по течению. Это благостное состояние прерывали только авианалеты. По опыту зная, что бомбу, как ни хвастай, словом не остановишь, в подвал он спускался первым, чем сильно удивлял тыловых смельчаков.
Осуждать бывшего шального они не
решались, но говорили при нем:
— Странно, но просто не могу усидеть: меня так и тянет наверх, хоть из подвала, хоть из метро1 — видеть нужно, и всё тут.
Жео не спорил — что толку-то? — но думал про себя: «Вот олухи! Смех, да и только. Если им невмоготу сидеть в подвале, хотел бы я поглядеть на них в траншее. Как жахнет рядышком, небось до того перетрусят, что и душа вон. А деваться-то некуда».
Жорж старался быть крайне осмотрительным, избегать малейшего риска. Едва услыхав пожарную сирену, он быстро одевался, хватал жену и через минуту уже был в подвале, где все наперебой обсуждали, крепок ли свод.
Газеты меж тем приносили дурные вести. И когда «Большая Берта»2 ударила по городу, Лугр молча сделал свои выводы.
П. Мак Орлан. Шальной. 23
403
В таких сомнительных удовольствиях медленно подкрался конец отведенного ему на выздоровление года.
Рука окрепла окончательно, да и воспаление легких — деваться некуда! — больше не беспокоило.
Лугр сделался задумчивым, нелюдимым и раздражительным. Он успел привыкнуть к мирному быту, и его трясло теперь от одной мысли, что придется вернуться под обстрел — ведь он прекрасно знал, что это такое. Утерев пот со лба, он шагал прочь, куда глаза глядят, до тех пор, пока не отпустят страх и злоба.
Немецкие самолеты, ставшие частыми гостями в парижском небе, боевого духа тоже не укрепляли — от них на душе было еще тяжелее.
— Ну да, — говорил он теперь, дразня любителей бомбежки, — я боюсь бомбу, потому что отлично знаю, на что эта штука способна. А вот человека не боюсь — с ним, если что, сладить можно.
Так он провоцировал их. Но бахвалы молчали: самолетов они, может, и не боялись, но им не улыбалась мысль получить по шее, а не то и под зад от этого крутого парня, смахивающего на бандита.
Впрочем, много еще можно было бы написать об удивительной храбрости поклонников «цеппелинов»3, «берт» и «фоккеров»4.
Однажды Жео, которого Марселла успела хорошо откормить, получил повестку — «сущее свинство», сочувственно говорили товаршци- отпускники, — где было кратко, по-казенному написано: явиться в больницу Вильмен5 для прохождения врачебной комиссии.
Действительность напомнила о себе так грубо и так внезапно, что Жорж впал в оцепенение. Он замер, как птица перед кошачьей пастью, не в силах сопротивляться... И поскольку он выглядел румяным и отъевшимся, его признали годным к военной службе.
— Война скоро кончится, — утешала его Марселла.
Жео не отвечал. Он думал о сборном пункте и начинал потихоньку, наедине с собой, прикидывать, как теперь сохранить свою жизнь. Постепенно в нем оживала надежда.
■ч
несколько дней Лугр оказался на сборном пункте колониальной пехоты в пригороде Парижа.
По всему фронту шли решающие бои; подкрепление отправили как раз перед его прибытием. Пару месяцев Жео прожил относительно спокойно. Конец войны был всё ближе, солдаты следили за сводками с живым интересом.
Когда однажды утром, зайдя в канцелярию, Жорж узнал, что уходит со следующим подкреплением, то даже не расстроился. Свое имя в списке он прочел безо всякого удивления. Ему вспоминались теперь только лучшие минуты фронтовой жизни, да и война больше не казалась такой ужасной, когда наши войска наступали1.
— Зайдешь, чтоб форму подобрали, — сказал начальник.
— Конечно, — ответил Жорж.
Он пошел на склад, думая лишь о том, как бы выбрать одежку получше. Форма солдата Колониальных войск с полосами крест-накрест буквально покорила его. Даже нашелся его размер, так что она сидела как влитая. И подгонять не пришлось. Ремни рыжей кожи, мешок из зеленой холстины довершали образ морпеха.
В тот же вечер он сообщил Марселле, что уходит. Она сидела и приводила в порядок ногти.
— Значит, не смог отвертеться, — сказала она.
— Еще чего! — Жео дернул плечом.
и
Через
П. Мак Орлан. Шальной. 24
405
Он поцеловал жену легко и без грусти.
— Главное, вспоминай обо мне, — сказал он на прощанье.
У Марселлы по щеке скатилась слеза, она сунула ему в руку все деньги, какие у нее оставались: двести пятьдесят франков.
— Они мне очень пригодятся, — кивнул Жорж, — если будем продвигаться так быстро, наверняка войдем в какую-нибудь деревушку раньше, чем подвезут обозы.
Марселла проводила его до бульвара. Он не хотел, чтоб она спускалась с ним в метро. Близость красивой девушки его расхолаживала. Он представлял, что она — как те мраморные дамочки, которых выставляют в музеях: сказочная нимфа, только вместо корзины с фруктами держит в руках всё его прошлое. А прошлое — тот еще фрукт.
к к к
Свой полк он догнал в Шампани.
Подкрепление высадилось поутру в небольшой разрушенной деревеньке; линия фронта проходила уже далеко от этих развалин. Наспех разбили лагерь для части, к которой теперь был приписан Лугр, по- прежнему как горнист. Командир, удивительно молодой парень с легкой сединой в висках, оглядел солдат. Некоторых узнал — они уже служили под его началом.
— Вы как раз вовремя, — сказал он, — недели не пройдет, как мы вытурим их из Франции.
Жео определили в первую роту. Какой-то морпех помог ему найти нужный барак.
У порога солдаты попивали кофе.
— Здорово, парни! — сказал Жорж, стягивая с плеча мешок.
— Здорово, — ответили они, не поднимая головы.
Пока он искал в мешке кружку, чтоб и ему налили, кто-то хлопнул его по плечу.
— Ну, как дела? — спросил такой знакомый Жео голос.
— Буридан, неужто ты?! Морпехом заделался, значит? Вот это да! Не ты ли сам мне говорил...
406
Дополнения
— Всяко случается, — ответил Буридан. — Я уже год как в Колониальных войсках. Еще расскажу потом. Хотя это не долго, так что могу и сейчас, в двух словах. Под Нуайоном меня ранили2, потом эвакуировали, потом перевязки делали, потом отпуск дали, потом явился на сборный пункт, — и вот меня послали сюда в один прекрасный день, потому что у колониальных сборные пункты пустовали и к ним перегоняли отовсюду, где перебор. Я теперь не по связной части — капрал первой пулеметной роты. Живу в третьем бараке, который у самой дороги, рядом с водокачкой.
— Ну, брат! — не унимался Жорж. — Кто бы подумать мог, что тебя тут встречу...
— Нечего так удивляться, — прервал Буридан, — коли даст судьба до старости дожить, так еще и не такое увидиттть.
— После всего, чего насмотрелся у Дома Паромщика, при Cyuié, Вердене3 и на Сомме — едва ли... сам ведь всё помнишь?
— Ох, не знаю, — вздохнул Буридан. — Прошлые беды, что ни говори, а всё ж позади остались — и слава богу; а вот новые, которые на подходе, — пусть и не такие страшные, но их еще предстоит отведать. Не тот зуб болит, что год назад вырвали, а тот, который вырвут через неделю.
— Буридан, — сказал Жорж, — ты и не представляешь, как я рад, что встретил тебя тогда, в полку.
— Спасибо, а жена твоя как?
— Хорошо, — ответил Жео.
Затем снова взялся за свой мешок, расстегнул ремни, аккуратно сложил их рядом и растянулся на койке.
— Я, пожалуй, пока вздремну чуток. Если наш капрал-горнисг будет спрашивать, ты меня растолкай.
Перед
ч,
•ч
I I if и L' / I началом решающей атаки ^ ^ ^ по батальонам, исполненным
внимания и тревоги, вдруг I V пронесся слух, что немцы за-
просили перемирия.
По мере того как этот слух, поначалу смутный, становился всё определеннее, небо сияло ярче и чище. Армия — нет, не армия — каждый солдат, весь окопный народ облегченно вздохнул. Весть о том, чего перестали ждать даже самые заядлые оптимисты, казалось, разом вернула всем молодость. В тылу же она просто творила чудеса — больные, из неизлечимых, вдруг исцелялись на глазах. Бледные лица вновь наливались румянцем — так к 14 июля серые стены школ вдруг начинают пестреть флагами и блестеть свежей краской1. Весь мир светился чистой радостью, и звезды дрожали от восторженного, свободного вздоха миллионов легких.
Вот оно, первое чудо за всю войну: явилось ангелом в мундире, который, взмыв в самый зенит, протрубил на золотом горне команду «прекратить огонь»2.
И ангел этот сиял во славе. Миллионы мужчин слушали невероятную тишину природы, которую в первый раз почти за пять лет не тревожили разрывы снарядов.
По всему фронту, из конца в конец, ветер носил слабые отзвуки крылатого ангельского горна — они несли весть о том, что всё окончено.
408
Дополнения
Постепенно звук приближался, всё новые горнисты подхватывали команды «прекратить огонь» и «общий сбор».
Таким было единственное проявление высших сил на той войне.
Несколько парней, из колониальных, услыхали горн — Буридан в том числе.
— Эге! Ты это слышал, медная душа? — крикнул он Жоржу. — Слышал, как поет его труба? А видел крылья и смазливую мордашку? Как пролетел он, весь в белом, точно малыш в ночной рубашке? Гляди во все глаза — лучше этого не было и не будет на нашем веку, не событие — бриллиант! — кристалл, прозрачнее и чище тех, которые пять лет растили из крови миллионов самых умных, здоровых, молодых парней.
— Подумать только! — подхватил Жео. — Я и не надеялся, что увижу конец!
Вечером колониальные части покинули траншеи третьей линии и зашагали перед кирасирским полком3. Следом за батальоном ехали походные кухни. Замыкали шествие обозы — боевой и тыловой. Путь лежал вперед, прямо по следам бошей.
Идущих провожали веселым смехом — все поголовно стояли и сидели вдоль бруствера. Так они поздравляли друг друга с этим невероятным событием.
— А ну пригнись, засекут!
Эта фраза пользовалась особым успехом. Ее неизменно встречали взрывом общего хохота.
— Старик, — сказал Буридан Жео, — никогда я так не дрейфил, как в эти последние дни. Бывают же чудаки, которые верят, будто солдат привыкает к войне... Да, чем дольше ты под огнем, тем яснее становится, что живым отсюда выбраться — шансов мало. А оттого — либо покорность судьбе, либо дрожь во всех поджилках, страх! Тени своей уже боишься. Да-да! Все последние атаки я только и делал, что шарахался от собственной тени. Словом, не до шуток мне было. А теперь — кончено. И, похоже, насовсем. Если б я был офицером и имелся у меня денщик, я, честное слово, ни о чем бы его не просил, об одном только — чтоб каждое утро он кричал мне в ухо: «Война окончена!»
П. Мак Орлан. Шальной. 25
409
— Как-то странно всё это, — сказал Лугр. — Конечно, все понимали, что это случится, но никто не ждал, что так вот вдруг, ни с того ни с сего.
— Ну, брат ты мой! А как же — экая ведь катастрофа кончилась! — так сразу и не представишь. Тут меж двух затяжек не обмозговать. Чтоб увидеть войну ясно да непредвзято, нам бы надо было сперва выйти из числа ее участников, а уж это — ни за что!
Жео искоса глянул на Буридана.
— Вот ведь чудно! — продолжал тот. — Теперь, когда я уверен, что всё кончено, когда никакая сила уже не заставит меня снова тянуть эту лямку, я и сам готов кричать: «Вперед, до победного конца!»
Тут лейтенант, шедший по траншее, крикнул:
— Надеть вещмешки! Приготовиться к маршу!
Буридан поспешил к своим. Он увидал, что там, где раньше была no man’s land, теперь стояли рядками телеги и мулы... Они резко выделялись на фоне неба, рядом со свежей бороздой траншеи.
— Эх, — говорили пулеметчики, — скажи мне кто-нибудь полгода назад, что я доживу до этого!
Солдаты бодро перелезали через бруствер. Они шли по взрытым снарядами полям в полном боевом порядке — на этом участке пехоты полегло не так много. Группа танков, зарывшихся в высокую траву, точно слоны на отдыхе, осталась позади.
На вражеской стороне по небу, над самым горизонтом, тянулись бледные полосы, возвещая скорый рассвет.
Две-три певчие птицы проснулись в роще, лишь слегка задетой обстрелами. Весь батальон молча слушал их трели. Вкус к жизни понемногу возвращался к солдатам.
Лугр шел рядом с командиром и другим горнистом, замыкая роту.
— Слышишь, птахи распелись?
Вперед шли с наслаждением. Под подошвами приятно хрустели сухие сучья.
Вдалеке, в свете первых лучей, показался город — освобожденный французский город, — и весь батальон остановился, потому что такие минуты нельзя переживать на ходу.
Трубачи
и барабанщики трех батальонов собрались под командой сержанта горнистов, — он прошел Марокко1 и Тонкин2, и на груди у него рядом с краснозеленой лентой Военного креста красовались бело-голубая — колониальная, и бело-зеленая — марокканская.
— Ну что, — сказал он коротко, — поработать придется будь здоров!
Вся команда выстроилась во главе первого батальона, перед остальными оркестрантами — рядом на траве лежали и стояли их инструменты, раструбом вниз, ослепительно сверкая медью.
Перед полком медленно проехали битком набитые грузовики, в них сидели гражданские — они выглядели солидно и свежо — и штабные, в новеньких мундирах. Солдаты проводили процессию насмешливыми взглядами, свертывая самокрутки и отпуская замечания — едкие и не слишком почтительные.
— Глянь, вон там, жирдяй в цилиндре, — кинул Лугр соседу.
— А рядом, гляди, в картузике!
— Вот увидишь, теперь повылазят отовсюду, как клопы, война-то кончилась.
— О! Погляди на этого красавца... господину мэру — ура!
Откуда-то примчался запыхавшийся вестовой.
— Где тут главный?.. Мы там кофе варим; сгоняйге-ка за дровами, ребята. Там, за бугром, их полным-полно. А воду найдете в деревеньке,
П. Мак Орлан. Шальной. 26
411
тут полкилометра. Десять человек с котелками сходят — и хватит на вас, да и на весь оркестр заодно. А там уж и кухня подъедет...
В мгновение ока полк, составив винтовки в козлы, рассеялся по полю. Жорж и еще десять товаршцей-трубачей пошли в деревню — она оказалась маленькой и аккуратной: сквозь густую зелень проглядывало несколько эльзасских домов с фахверковыми стенами3 и бирюзовыми ставнями.
По дороге трубачи наткнулись на пулеметчиков во главе с Бури- даном.
— Белого вина здесь — только флягу подставляй!
— Все-таки здорово, что мы в этих краях, — сказал Жорж. — Глянь, как тут всё обустроено.
— Зато жратвы, похоже, нет никакой, — возразил один из пулеметчиков.
— Гляди-ка, девки, — присвистнул Буридан.
Девушки вышли навстречу солдатам: обычные сельчанки, не красавицы и не уродины, — крепкие, темноволосые, с загорелыми руками и блеском в глазах. С ними было несколько детей, у каждого на лацкане по огромному банту-триколору4 из цветных лент. Все они глядели на солдат в синих касках с любопытством и немного с опаской. Французского никто из них не знал.
В деревне французских солдат встречали огромные трехцветные полотнища, растянутые между домами поперек главной улицы. Лугру на шею бросилась юная девица и горячо расцеловала в щеки. Он смущенно улыбнулся в ответ.
— Целуй ее, что стоишь, — буркнул Буридан.
Жео поцеловал девушку.
Дети восторженно кричали хором, размахивая руками в такт словам:
_ У-у-у-у-у-у-рааа! Фран-ци-я! У-у-у-у-у-у-ра! Фран-ци-я!
Старик в кепи пехотинца времен Франко-прусской войны5, с квадратным козырьком, подошел к солдатам.
— Пехота? — спросил он дрожащим голосом.
412
Дополнения
— Колониальная, дедушка, из колониальных мы.
— Это как морская в наше время6, — кивнул старик, — я в гвардейских стрелках7 служил. Мне уж теперь девяносто...
За флагами, шумевшими как листва на ветру, не было видно домов. Старухи, согнувшись над клюкой, спрашивали по-французски:
— А музыка будет? И знамя вывесите?
И, когда французы утвердительно кивнули, дети захлопали в ладоши, крича с восторгом:
— Йо! Йо!
Полк
cv
I I f Л I I I/1 построился вдоль дороги, « A AV во главе _ горнисты и op-
^5 кестр; все ждали, когда да-
U дут сигнал к выступлению.
^ Перед горнистами, дер¬
жась за руки, выстраивались дети и девушки. Для деревеньки это был первый французский полк, вступавший на ее мирные, точно с картинки срисованные улицы — не хватало только пары аистов на крыше.
Свисток полковника оживил ряды. Горнисты тут же заиграли не оборачиваясь, как и принято было у колониальных, и над колонной зазвучали бодрые, резвые марши морской пехоты. А когда полк поравнялся с первыми флагами на стенах домов, грянул большой барабан, и с ним весь оркестр обрушил на затаивших дыхание и потрясенных жителей звуки знаменитого гимна морских пехотинцев, терпкого, как вино тропической Африки, выдержанное в траншеях Шампани.
Горны, трубы и весь военный оркестр (не всякому понятна музыка этих простых народных инструментов) сумели разом высказать то, что чувствовал каждый солдат-пехотинец, идя по увешанной лентами эльзасской деревушке: что он — из колониальных и что это должны видеть все: и старики, и молодые девчонки.
Из каждого окна тянулись руки с платками или флажками, на которых красный скорее напоминал розовый, а древко до сих пор венчал золотой имперский орел1. Солдаты смотрели по сторонам — музыка до
414
Дополнения
них не долетала. Они с любопытством разглядывали надписи на немецком, где привычные буквы сочетались самым причудливым образом, делая загадочной каждую вывеску.
Буридан шел во главе своей пулеметной роты. От грохота телег по булыжной мостовой на душе делалось радостно и легко. Подбежала девушка и вставила трехцветный букет в ствол его карабина.
И никому даже в голову не пришло зубоскалить.
— Вот теперь пули, пулеметчики! — прокричал кто-то сзади.
— Пу-ле-метчики! — подхватили детские и девичьи голоса.
Солдаты сажали на мулов мальчишек и белокурых девчонок. Девчушки смеялись, елозили, хлопали в ладоши, и из-под юбчонок выглядывали тощие ноги в длинных панталонах.
— Изголодались-то как, — заметил кто-то.
Солдаты вглядывались в лица селян, ища в них признаки бедственного положения Германии.
— Когда говорят, что жрать у них нечего, я вот очень даже верю, — сказал ездовой. — В кои-то веки не врут — цены и впрямь только держись...
— Оружие на ремень!.. Походный шаг!..
Деревенские домики быстро прятались за деревьями, и скоро их уже не стало видно.
Справа и слева до самого горизонта тянулась стерня. Облако пыли окутывало синюю колонну.
•к к к
К вечеру полк расквартировался в довольно крупном поселке. Жители щедро одаривали колониальных всем, чем могли. Меж нарядных островерхих домов густел вечер, мягкий и теплый.
Солдаты бродили по нагретым мостовым, где то и дело попадались стайки девушек. Некоторые были в больших черных чепцах, черных бархатных лифах и красных юбках.
— Ах, сударыня, — сладко произнес Жео, — вам, наверное, столько пришлось пережить...
П. Мак Орлан. Шальной. 27
415
— Сударь, вы даже не можете представить, что они здесь творили. Мой отец всегда был за французов, это все знали. Так он такого натерпелся, что и не перескажешь. Но всё уж в прошлом теперь! Вы из какого полка? Пехота?
— Колониальная пехота, сударыня.
— О! Вы, должно быть, были в Африке?
— Да, сударыня, в Габесе и в Эль-Кефе. Где только не довелось побывать, — ответил Лугр. В каком качестве, он предпочел не уточнять, решив, что служба в дисциплинарном батальоне не придаст ему блеска в глазах простой девчушки с нежным лицом и пухлым детским ртом, где не хватало зубов. — Ах, знали бы вы, сударыня, как много тех, кто носит якорь на каске2, а сам ни разу и не был в колонии.
— Ты-то сам откуда взялся, а, трубач? Не было тебя в колониальных, прибился к нам в восемнадцатом, из пехтуры небось!
— Это я-то из пехтуры, деревенщина? Из пехтуры! Ха! Из третьего легкопехотного Африканского батальона, и уж перед твоим толстым задом не мне отчитываться!
— Не спорьте, — прервала их девушка. — Лучше вот, держите папиросы.
Ночью было слышно, как в домах пели «Мадлон»3. Сквозь грубые солдатские голоса пробивались высокие, девичьи, певшие с чувством.
По переулкам то и дело вспыхивали бенгальские свечи, детвора взрывала хлопушки.
Мимо большого немецкого магазина, который уже успела поджечь толпа и возле которого теперь стоял дозор из французских солдат со штыками на ружьях, прошла странная процессия: несколько девушек с непокрытой головой под руку с молодыми людьми в черных шелковых картузах на чересчур длинных кучерявых волосах.
Одеты они были, по правде сказать, очень неопрятно: рубашки не застегнуты на груди, что придавало им несколько романтический вид, и все они при этом, мужчины и женщины, горланили что-то на немецком. Выкрикивали слова вразнобой, и только на верхних нотах их голоса сливались вместе.
416
Дополнения
Краснозеленые всполохи бенгальских свечей озаряли эти странные и зловещие фигуры. Морпехи таращились на них с тротуаров.
— Не обращайте внимания, ребята, — сказал, проходя мимо, сгари- чок-эльзасец, — это самое наше отребье.
— Ну и местечко! Прямо цирк! — воскликнул Лугр. — Знаешь, я рад, что попал сюда.
— Пошли, — кинул Буридан, — войдем в колонну, перехватим цыпочек.
Горнисты и барабанщики колониальных частей и весь их сводный оркестр проходили по главной улице, за ними следом шли пожарные. Приятели смешались с толпой, такой плотной, что приходилось ступать по ногам. Девичьи голоса вокруг смеялись и говорили по-немецки что-то о дружбе и о любви.
— Мадемуазель, дайте ручку, — сказал Жорж маленькой блонди- ночке. — Как вас зовут?.. Элиза? Эльза?.. Милое имя. Ты про имя начинай, — посоветовал он Буридану, — девчонка больше ни черта не сечет, да и я тоже по-ихнему... Ничего, детка, это я так. А ну-ка, давай вперед...
Посреди толпы появился просвет, и нужно было тут же рвануть к нему, чтоб успеть. Девушки смеялись и визжали, семеня за солдатами, увлекавшими их с собой. Кругом звучал смех, люди сталкивались, как стаканы на шатком столе. Жорж прижался к Эльзе и поцеловал ее, как он умел, долгим поцелуем.
— О... — томно пролепетала она. — Es ist gut*.
Жорж решил выбраться из колонны и увести девушку на пустую улицу. Она не сопротивлялась. Когда они наконец оказались одни, в чахлом свете газового фонаря, Жео дал ей понять, чего он хочет. Девушка поцеловала его в губы и убежала.
— Эльза! — кричал Жорж. — Ты чего, Эльза? Дура, что ли?
Девушка рассмеялась и послала ему воздушный поцелуй.
— Эльза! Ну чего ты, вернись!
* Как хорошо [нем).
П. Мак Орлан. Шальной. 27
417
Он вспомнил немецкое слово, которое вычитал как-то в карманном словарике: warum? (почему?) И крикнул:
— Warum?
Но девушка была уже на другом конце улицы; тогда он простонал, как стонет ветер в ветвях, еще раз:
— Warum, Эльза... warum... Э-эх... Что за хрень!
И пошел в тот квартал, где расположились артиллеристы его батальона.
Когда
в Шпайере1 почтарь принес Жоржу письмо от Марселлы, тот лежал у саперов в казарме, небрежно раскинувшись на койке, и играл свисавшей с ноги тапкой.
— Сразу видно, мирные времена настали. Полегчали конверты... — сказал Жорж, разглядывая конверт на просвет, как яйцо.
Ъорогои" с>К£о!
Tôt, На8ерН0е, gPlcметил, что я ~да8но тебе не писала. 1Но,~думаю, Tôt там, в Германии, не скучаешь, — если, те, кто оттуда 8ернулся, не
и\ у нас удесь 8се так, же, только америкпнцмууояби- лись. 9», на8ерное, 8(*1и()у уамуж.уа одного, он иу наги1. Он 8(т[ше тебя на голо8^ и сможет уубами слосМать пятифранкобик <А ка лбу — кудряшку- cÀAfrt поунакоми- лись 8 баре «У 2>жима?> — это нобое местечко, открылось на бульбаре совсем недавно. Он тогда бь{л с одним матросом, Эдвардом. Г)меня и его карточка есть. Эдвард тоже не прочь ßt жениться на мне, но родители уаартачились.
сМоего уовут /Джорджи. Весь в галунах и ни сло8а не го8орит по-с^ранмуускл- %ато поет стариннее негритянские песни- 1/1, унаешь, так поет, что просто умора — особенно
П. Мак Орлан. Шальной. 28
419
когда свистит между куплетами. 9< See учусь фокстроту — пригодится, если, поеду с мужем в (Америку, особенно если он меня бросит с>Юольетта, которая поработили ни Филиппинах в борделе, тоже говорит, что ни авось надеяться нечего. 9» тебе всё это пишу не 'для того, чтоб^рауоулить или расстроить, а чтоб^тц унал-. я тебя уважаю и поэтому говорю всё как есть. Когда бь{ла воина и я унала, что каждую Минуту тебя могут убить, я Ш идесятои"части этого не посмела написать. Но теперь всё по-другому. Пм в ОАлпаие- ре, живешь себе'припеваючи. Если послушать сь{нка семеики (Жакана, того, что в танкистах служил, то тамошние грет- хен — те ен^ потаскухи. ^дТо мне, так. ничего удивительного —~до воин&1 их полно бь{Ло у нас в борделях, /впрочем, это я так., К слову пришлось. сА тщ делаи^что пожелаешь.
ПЪлько, видишь ли, я унию тебя как.0купленного и скажу тебе честно, со сторону серьеунщи^американен^мне больше в мужья подходит — он пареньделовош' Vier, тц неду- рак., глупим тебя не науовешь, только тц всем и каждому 'даешь на себе' еудить. Ei^edo воинк пускал слюни, как нок. перед косточкойУ стоило мсье Нуарудва слова скауатъ. ‘дТотом этот рохля Чэебер — моуги пудрил тебе', а тц и рад уши раувеситъ, сам помнишь, как поплатился. сА теперь тво£Гчертов Чуридан — уабивает тебе в голову свои мыслишки, как гвоуди в'доску. 9» укаю, что говорю. Ö тех пор, каК’Ш попал в сАфбат; сама всё время жила с обрауован- ными 'да богатыми. Понятно, что ты ухватился уа такое унакомство, я тебя не осуждаю. "Но на воине у тебя будто уаклинило что-то. Каждый^pay, как в отпуск, приеужал, я уамечала — совсемдругои^стал. 1/Гдумала-. «Это всё Яу-
420
Дополнения
р идан». 91 тут бкалкбала будь удороб, б потолокL не плеба- ла, спроси, кого хочешь. Чудь Tôt по-прежнему серьеунксАл, ^делобкм, мне бк ничего больше и не надо (щло. ЧЧдшли бк и расписались с тобойб мэрии, и я бк смогла спокойно ра- бдтать^альше. ЧЧо нет, мсье метит в писатели, к&К, гоборит Эмиль, официант иу бара «$ Ъжмма?>. 9* бсегда гобо- рила, Tît ж. темнота, куда тебе', небось полобину того, что Чуридан тбои" болтает, не понимаешь! Чакон" бинегрет у тебя б голобе — страшно подумать. Вообще, голобон"тщ никогда похбастать не мог. ж. я-то бидела писателен" настоящих, — так,у них собсем^другое^дело: голоба с хорошую TbtK^j и лоГбсегда горячий" И у тебя раубе что б абгусте пот на лбу проступит, ~да и то сомнебаюсь, что это от мыслей" 4io Tôt уперся, ~дорогой" Чебе какой" бред ни наболтают— бее рад стараться. Это я не б упреку ЧЧросто если б"нашлось, кому тебе'моуги бпрабить, тц бк сейчас, после пяти лет боинк, недудел кп^Сдурак, б трубу, от которой" проку никакого.
9» бсе'думаю, что тщ станешь 'делать, когда бернешься. ^(По-хорошему, после сА^сррикянского батальона нужнее люди тебя бк уаметили, но нет, тк жх теперь б эту сторону и не глядишь. ЧЧе предстабляю, к&к. Ш устроишь сбою жмунь. Вчера с (Люси о тебе уагоборили, таксона мне то же скидала. Лучше не суйся туда, где ничего не смыслишь, а подумайУ что можешь бкгадать тут, когда бернешься. фесь куча нобеньких^дебчонок, которое только и ждут, чтоб^ их пасли, как. обегай стригли с них^деньги, ~да и старке приятели, если что, подкинут к^Ко^ельце^уЧекдторке сколотили целое состояние на бордеолях б пробинциу Слобом, бед-
П, Мак Орлан. Шальной. 28
421
мобГ èlZeo, балэхи^дурака подальше, если, хочешь, если такое тебе посуше. сА, с мен& хбагит /С концу^ес&ца^ А перешлю тебе' немного деньжат, но уж это б последний" pag, потому что мо£Гамерикинеу^по части^денег строг, не ^абалуешь- Он уже начал учить менэх, если A ga бечер ничего не приношу. Но не TaKj к^К.'Щ ~~ у них по-сбоему^а- бедено: берет палку и охажибает, к^К, ремнем, по ^аднице^ Вот и бее, что а хотела сказать тебе, ~дорогойУ Юогда бер- нешьсЭх, бсегда буду рада убидетъсЭх с тобои^по-приэтельскИ' 'Но только так,, имен" б биду, только так.
(Марселла
— Ах ты, ...! — сказал Жорж, дочитав. — Да по ее заду солдатский башмак плачет! Я б ей показал, как бить надо...
Он сложил письмо, сунул его в карман кителя и полез под кровать — искать упавшую пилотку.
— Ремень не забудь, — подсказал сосед по койке, — а то заметит в городе какой-нибудь патрульный, и неделя гауптвахты обеспечена.
— Спасибо, — ответил Лугр, — зайди к моему банкиру, пусть выдаст тебе франк за совет.
Было пять часов, на улице никого. Жео направился в город через огромный медвежий ров, пересекавший середину плаца, который, должно быть, стоил немецкому гению немало усилий и бессонных ночей.
Он прошел мимо унылых домов рабочих, мимо протестантской церкви, выстроенной с претензией на неувядающую новизну, затем свернул на старинную главную улицу Шпайера и, не торопясь, спустился по ней до самой соборной площади, где располагалась штаб- квартира бригады.
Молодой солдат морской пехоты насвистывал на ходу. Иногда останавливался перед витринами, разглядывал открытки и прочий хлам, рассыпанный за стеклом: зажигалки, выкрашенные под орех трубки
422
Дополнения
из дрянного мягкого дерева... Книжные лавки выставляли на видное место разговорники в ярких сине-бело-красных обложках. На улице почти никого, и только у высоких ворот старой башни стоял полицейский в плоской фуражке вместо каски и смиренно глядел, как резвятся воробьи на мостовой.
Не доходя до штаба, Жорж свернул в узкий переулок по правую руку и скоро вышел на маленькую площадь: вокруг липы, низенькие домики с серой черепицей и светло-зелеными ставнями, а между камнями мостовой пробивается молодая травка — типичный уголок меланхоличной немецкой провинции.
-к -к -к
Здесь в одном из домов находился кабачок, его держал бывший унтер из саперов; он всегда был не прочь поболтать с колониальными. Лугр знал, что Буридан придет сюда. Войдя, он сразу направился в зал. Там двое работяг выпивали за стойкой.
— Guten Tag*, — приветствовал их Жорж.
— N’ tag**, — откликнулись оба.
— Грета здесь? — спросил он у хозяина.
Высокий белобрысый парень почтительно кивнул и крикнул:
— Грета!
Отворилась внутренняя дверь. Оттуда послышались крики целой ватаги детей, и Грета, молодая, высокая, дородная брюнетка в белом переднике, вошла в Wirtschaft3.
— Доб-рый день, су-дарь, — старательно, по слогам выговорила она.
— Заткнись, — остановил Жео, — я хочу... ich will...*** пожрать, в общем. — И повторил, ткнув пальцем в открытый рот: — Пожрать.
— А! Ja, ja, essen4*, — сказала девушка и расхохоталась до слез.
* Добрый день (нем.).
** Добрый день (сокр. нем.). г** я хочу (нем.).
4* Да, да, поесть (нем).
П. Мак Орлан. Шальной. 28
423
Хозяин, знавший несколько слов по-французски, помог Жео разобраться в меню, и тот заказал мясо, картошку и пирог, который рассчитывал разделить с Буриданом, когда тот придет.
— И еще вина! — скомандовал он, сел на скамью у сырой стены и расстегнул ремень. Штык скребнул ножнами по дощатому полу.
•N
вошел в Wirtschaft со сдержанной улыбкой человека, умеющего объяснить- на чужом языке.
— Ужин заказал? — спросил он Жоржа.
— Да. Ты хлеба принес, надеюсь?
Буридан раскрыл сверток и протянул хозяину круглый солдатский каравай, чтобы тот сунул его в печь на пару минут.
Грета поставила перед Буриданом бокал белого вина.
— Bitte schön!*
— Твое здоровье, — кивнул он Жоржу.
Жео пил, держа бокал двумя руками, и задумчиво сплевывал на пол, глядя себе под ноги. На девушку он не глядел.
Наконец солдаты склонились над общей тарелкой и принялись есть, впрочем, не так жадно, как в казарме.
— Ну, чего у тебя стряслось, что так рожу кривишь? — спросил Буридан.
— Да так... Ерунда! — ответил Жео. — Хандра заела. В этой дыре я вконец заплесневел, точно старик какой. Стоять гарнизоном в Шпайере — веселого мало.
— Ну, тут много «фройляйн». — Буридан обернулся к Грете и пропел как заправский бюргер: — «Шоколате, фройляйн!»
* Пожалуйста! [нем)
П. Мак Орлан. Шальной. 29
425
— Да пошли они, — нахмурился Жео. — Просто как подумаешь, что кто-то разгуливает сейчас по Вормсу1, Людвигсхафену2 или Майнцу3, так и тошно становится глядеть на эту деревню, а нам тут еще черт знает сколько околачиваться. Здесь прошел один раз по главной улице — считай, всё увидел. А тут еще в патрули вдоль Рейна ходи — и всё из-за этих большевиков...4
— Я вчера на посту был, — сказал Буридан, — у понтонного моста, где пулемет стоит. Похоже, в понедельник расстреляли-таки того парня, который кинул перцу пулеметчику в глаза. В тюремном дворе расстреляли. Вы слышали об этом что-нибудь? — спросил он по-немецки хозяина, который всё это время внимательно слушал.
Хозяин отрицательно покачал головой.
— Эх, — вздохнул Жео. — Скорей бы уже в другой город перекинули. Глядишь, к десятой армии нас присоединят5, если так.
— А неплохо бы, — ответил Буридан, — хороший участок.
— Ну да, и там, говорят, не так строго насчет общения с местным населением... Кофе, пожалуйста, — сказал он официантке.
— Не эрзац?6 — спросил Буридан.
— Нет, я ей отсыпал настоящего, чтоб сварила нам... Слушай, — Жео сглотнул через силу, — вот скажи, Буридан, мне тут жена написала...
-Ну и?
— Ну и... ничего, — выдохнул Жорж.
— Болван! — Буридан посмотрел на него. — Бросила тебя? Говори, чего там, в обморок не упаду.
— Она тебя терпеть не может, — сказал Жорж.
— Да что ты? Послушай, старик, тебе ж цены нет, только вот башка предрассудками забита под завязку. Умный ты малый, но ведешь себя как последний дурак. Западешь на кого-нибудь, кто поярче других, и уж он может пудрить тебе мозги сколько хочет. И всегда, по-твоему, будет прав. Что ты делать собираешься, когда вернешься?
— Брось, — отмахнулся Жорж, — я не о том сейчас думаю.
— А о чем?
— Да вот о том, что ты наговорил. Марселла-то мне в письме то же самое про тебя талдычит.
Батальон,
"> . . л
в котором состоял Лугр,
X 1YJ 1 i-'V/l Lj и р0та пулеметчиков,
где числился Буридан, i V вышли из Шпайера общей
колонной, с горнистами во главе. Переход был небольшой: всего несколько километров до крошечной деревеньки — горстки домов по бокам единственной улицы, — где нужно было сменить стоявший там второй батальон.
Дорога шла прямо, вдоль железнодорожного полотна с телеграфными линиями. Парни шагали, ни о чем не думая: утреннее солнце пекло им каски.
Увидев второй батальон, они на ходу выровняли строй и зашагали в ногу, чтоб выказать уважение тем, кого сменяли. Морпехи перекидывались приветствиями.
— Счастливо оставаться, ребята, — говорили уходившие из деревеньки.
— Еще вернемся, — откликались другие.
— Надолго, как думаешь?
— Да на семь раз позавтракать1.
Потом горнисты затрубили «Чтоб зваться морским пехотинцем»2, и батальон вступил в деревню, новое свое пристанище, в сопровождении кучки детей с пухлыми, как жирная белая рыба, ручками и нож¬
ками.
П. Мак Орлан. Шальной. 30
427
— Здесь неплохо, — сказал Буридан, отыскав Жоржа. — Наша ротная канцелярия, где я работаю, прямо в трактире находится. Это удобно; правда, там только и есть, что белое, по марке за стакан.
— Считай, десять су, — прикинул Жорж. — Тогда опрокинем сперва за мое здоровье, а потом за твое разок.
* * -к
Когда они вошли в убогий трактирчик, их встретила высокая рыжая немка, откликавшаяся на имя Каролина; она улыбнулась, показав испорченные кариесом зубы.
— N’tag! — сказал Буридан.
— N’tag! — повторил Жорж.
— N’morg’n!* — ответила хозяйка.
В единственном зале, украшением которого служила огромная пивная кружка, водруженная на камин из искусственного мрамора, уже кишмя кишели морпехи в пилотках.
Среди них были и бывшие легионеры3, переведенные в морпехи: сумасброды и шутники, каких свет не видывал: в личном деле у каждого, в том разделе, где вписывают наказания, — целый приключенческий роман. Морпехи между собой называли его «песенник». Многим туда даже дополнительные листы подклеивали, до того богатая была у них жизнь. За каждым крестом на груди стояло по шесть-семь отличий в приказе. Это были настоящие солдаты, с полным набором достоинств и недостатков, уравновешивавших друг друга.
Были и юнцы-новобранцы, только что со сборных пунктов; эти держались скромно: суровый дух славы и хандры бывалых вояк никак не вязался с их романтическими порывами.
В кармане у Лугра по-прежнему лежало письмо от Марселлы, и он снова и снова с досадой повторял про себя отдельные его строки, рассеянно поглядывая вокруг.
* Доброе утро! (сокр. нем.)
428
Дополнения
На кухне солдаты устроили перед парой молодых девушек перестрелку картошкой; девушки смеялись. Никто уже не боялся этих ужасных французских солдат, которые, сами того не ведая, шли по стопам своих предков, стоявших здесь в 1798-м4.
— Я так и не ответил жене, — сказал Жорж Буридану. — Прочти- ка, что она пишет. По мне, так это девки, с которыми она там якшается, забили ей голову ерундой и настроили против меня. Эх, будь я щас в Панаме... А отсюда что я могу?
— Послушай, старик, — сказал Буридан, — давай я не буду читать писем твоей женушки? Это, конечно, не пьеса в пяти актах, я полагаю, но, судя по тому, сколько листов у тебя в руке, оно все-таки довольно длинное. Я вот не женился, как раз чтоб писем не получать. А раз не получаешь — и отвечать не надо. Очень удобная привычка — жить без писем; ею легко обзавестись, если только чужих читать не приходится. Ну вот представь: пробегу я глазами все претензии мадам Лугр и узнаю множество неприятных для твоего самолюбия подробностей. Поверь, польза от моих советов никак не перекроет унижения и неловкости от того, что товарищ заглянул в твою личную жизнь. Вся прелесть дружбы в том, что можешь спокойно ходить перед приятелем в одной сорочке, не боясь нескромных взглядов. Я вполне могу представить, как ты зарабатываешь хлеб своим ремеслом, но дальше мои фантазии не идут, я не хочу знать, как это выглядит в реальности. Так что оставь себе письмо и лучше выпей вина. — И Буридан, подняв бокал, продекламировал:
— Покуда рок не принялся за нас,
Нальем вина и выпьем в добрый час!*
Это из Омара Хайяма, слепого поэта, писавшего рубаи5. Когда под рукой полная чарка, лучше и не скажешь.
* Пер. Д.Е. Седых.
П. Мак Орлан. Шальной. 30
429
Жео сунул письмо обратно в карман гимнастерки.
— Всё тебе шуточки, — сказал он, — с тобой серьезно и поговорить нельзя.
Но письмо ощущалось и сквозь карман, давило на грудь, точно тяжелый патронташ. Жизнь впервые показалась безысходной молодому солдату.
ЛЮДВИГСХАФЕН-
пригород Мангейма, большого красивого города, поделенного на квадраты, как шахматная доска1. От самого города его отделяет Рейн и огромный мост через него, по которому идет железная дорога. Со стороны Аюдвигсхафена подступы к мосту перекрывают палисады2 под охраной марокканских стрелков3. На берегу Рейна стоят дома с садиками, где и расположился штаб. Порой здесь кто-то гуляет, безразлично поглядывая за реку, на розовые стены Мангеймского дворца4, различимые меж безлистых ветвей парка. В тот день на дворце Великого герцогства Баден всё еще развевался красный флаг5, что рождало невольный вопрос у непосвященных. Но это было всего лишь знамя школярско- рыбацкой революции6.
Так как Буридан знал немецкий, его затребовали в качестве переводчика в бюро пропусков на блокпосту. И он с радостью променял поднадоевшие солдатские будни на плацу на ежедневные допросы полусотни немцев и немок, по тем или иным причинам желавших перейти через знаменитый людвигсхафенский мост7.
В тот день Буридан был в отличном настроении. Он ждал Лугра, которому дали увольнительную на двое суток, — ждал, чтоб вместе пообедать. Только что он закончил допрашивать невысокую дородную
П. Мак Орлан. Шальной. 31
431
блондинку: немка просила пропустить ее к мужу, работавшему в Мангейме, мотивировав это таким образом:
Такой здравый аргумент вызвал общее одобрение писарей и переводчиков. Когда в канцелярию осторожно вошел разодетый с иголочки Лугр, скулы у Буридана всё еще болели от смеха.
— Дверь закрой, — сказал капрал.
— А, это ты. — Буридан оторвался от бумаг юноши по имени Фриц, похожего на сердитого голубя. — Подожди меня в кафе на углу Виль- гельмшграссе и вокзальной площади8. Там, справа, еще рядом причал и таможня — увидишь, учебные суда стоят. Через полчаса я весь твой.
Лугр побрел по главной улице Людвигсхафена9, глазея на витрины, где дешевые «товары в дорогу» перемежались с маникюрными наборами.
На улице было людно: студентки колледжа в ярких каскетках возвращались с занятий, рабочие и домохозяйки толпились у дверей лавок. Школьницы-подростки, держась за руки, оборачивались на солдат и смеялись, прижимаясь друг к дружке.
Жорж, с сигаретой в зубах, вошел в кафе. Это была небольшая кондитерская с белыми лакированными столами и стульями. Пожилая дама
в KÿttTKjAStAPlCb njûLi Рступленти. S GjoriKi
Элбга, 6 TPicA/ Q/ИсМ^т
•k k k
432
Дополнения
принесла бокал белого вина. На плоских тарелках сиротливо лежали плоские пирожные — в надежде, что случайный гость прельстится их розоватой глазурью. Жорж покосился было на одно из них, бледное, как роза из чулана, но здравый смысл одержал в нем верх, что вообще свойственно людям его породы. Он залпом выпил вино, и на пороге как раз показался Буридан в ярко-желтых ботинках.
— Шикарные у тебя штиблеты, — сказал Жорж.
— А то как же! Выменял по случаю, никак не нарадуюсь.
Они пошли в большой ресторан и пообедали там отвратительными бифштексами под соусом.
— Все-таки здорово, что мы в Людвигсхафене, — сказал Жео, — тут настоящая жизнь! Не то что в Шпайере от скуки подыхать. Самый смех, когда в караул на полицейский участок попадешь. Тут боши как- то в большевиков решили поиграть. Устроили заварушку, только так, по мелочи. Ну, мы и вышли в полном вооружении — так вся революция сразу увяла! Умора, да и только. Еще говорят, будто по Рейну сюда доплыли спартаковские матросы10, переодетые в крестьян, чтобы поднять против нас всю округу. Каждый вечер в патруль ходим. Знаешь, так и вспомнилось, как в Тунисе мы выслеживали вдоль побережья подводные лодки. Марселле я так и не ответил. Мое дело дрянь. Без гроша, а теперь и содержания военного не будет, — что светит бывшему солдату-французу во вражеской стране? Будь мы в Панаме, я уж говорил, — нашел бы, с какой другой сработаться. А тут? Ну видел я одну девчонку подходящую... так я ведь по-ихнему не разговариваю. Да и знаешь, вспомнилась мне фразочка одна товарища моего и не идет из головы: «У кого ничего нет, кроме смазливой рожи...» — в общем, ты понимаешь. Мне теперь кажется, старик, что всю свою молодость я профукал, дал маху — да поздно уже. Кто я теперь? Да никто, жалкий солдатик, и всё. Жалкий солдатик, затерянный на бескрайней земле... — Последняя фраза ему понравилась, и он повторил: — Жалкий солдат, затерянный на бескрайней земле. Скажи, Буридан, вот ты на моем месте пошел бы дальше воевать? В Финляндию или Марокко?11 Туда, говорят, добровольцев набирают.
П. Мак Орлан. Шальной. 31
433
— Да ни за что! — в ужасе оборвал приятеля Буридан. Его всего передернуло.
— А как же мне тогда быть?
Жео мрачно посмотрел на Буридана.
— Как быть? Плюнуть на всё и напиться как следует. А что потом будет — время покажет.
— Но Марселле надо бы ответить.
— А я что, спорю? Слушай, есть тут одно местечко, в ваших трущобах таких не бывает. Называется «У принцессы». Цыпочки там — высший сорт, вот увидишь.
•к "к "к
По узкой улочке они вышли на Кайзернгграссе12 и, миновав компанию офицеров, оказались на мрачноватой площади. Бар «У принцессы» тускло светился на углу, будто их и ждал. Они вошли внутрь: в полумраке большого зала стояли деревянные столы, дальше располагалась барная стойка и оркестр, состоявший из фортепьяно и пиликавшего на скрипке подростка с барсучьим профилем. Этот зал предназначался для простых солдат; за ним находилась небольшая гостиная с круглыми столиками на одной ножке и креслами, где сидели несколько американцев из санитарного взвода.
Настроив инструменты, музыканты заиграли, и официантки, разом повеселев, подхватили мотив:
— Püppchen, du bist mein Augenstern Rippchen, hab’ dich zum Fressen gern,
Püppchen, mein süsses Püppchen,
Nein ohne Spass,
Du hast so was...* 13
* Пупсик, звезда моих очей | Пупсик, ты сердцу всех милей | Пупсик, мой сладкий пупсик, I Приди хоть раз | В свиданья час [нем).
434
Дополнения
-Про тебя поют, — сказал Буридан. — Püppchen — это ты... Пусть зарубят себе на носу.
К ним подбежала девушка, и Буридан рассмешил ее какой-то затейливой остротой, в каких он знал толк. Жорж не понял ни слова, но вежливо улыбнулся.
Скрипка с фортепиано продолжали наперебой восхвалять достоинства «Пупсика». Жео слушал вполуха, как Буридан что-то говорит девушке, чувствуя, что слегка пьянеет от музыки и от белого «Рюдес- хаймера»14.
«Грош мне цена здесь, — подумал он, — а Буридан, похоже, может в этом заведении делать что хочет. Эх, умей я говорить по-ихнему...»
— Фройляйн! — позвал он и шепнул Буридану: — Скажи ей, что она душка.
Девушка подошла.
Буридан передал ей слова Жоржа. Нужного эффекта это не возымело, и Жорж понял, что его профессиональные замашки здесь, в чужой земле, не работают.
Тогда он решил пить. Буридан был при деньгах, так что платил за всё, болтая без умолку.
В половине девятого все кафе закрывались, а Буридан с Лугром так и не поужинали. Зато успели прокутить сто двадцать марок, и перед глазами у обоих теперь всё плыло. Официантки вытолкали их за порог, не обращая внимания на протесты и воззвания к «законам оккупационных властей». На улице шел дождь. Только его и не хватало. На площади не было никого. Жео прислонился к дереву и вспомнил про письмо Марселлы. От накатившего отчаяния, усиленного спиртным, хотелось рвать на груди гимнастерку.
— Сволочь я! — кричал он. — Гад последний! Надо было ей ответить... А теперь что я такое? — Он глупо загоготал. — Котяра плюгавый... старый плюгавенький кот... Так и есть!.. Так и есть!.. — взвизгивал он.
Буридан стоял, привалившись к другому дереву, и расплывался в блаженной улыбке.
П. Мак Орлан. Шальной. 31
435
— Старый плюгавенький кот! — повторил он вслед за приятелем.
— Скотина ты, — буркнул, всхлипывая, Жорж.
Видимо, это определение вдохновило Буридана: он на ходу сложил куплет и пропел на какой-то, вероятно знакомый ему, мотив:
— Кто такой плюгавый кот?
Так, никто, болван и мот,
Хлыщ и ветрогон.
По причалу бродит он,
Когда дамочки кругом,
От трудов — тирлим-бом-бом! —
Отдыхать идут.
— И припев, — скомандовал он:
— Любая шалава сбежит,
Когда зацветают ро-озы.
Любая шалава сбежит,
Когда подвернется мужик!
Песней никогда никого не утешишь. А эта к тому же никак не могла прийтись Лугру по душе, учитывая его состояние. Он вынул штык из ножен и...
Проходивший мимо патруль тиральеров пресек назревавший конфликт. Особого значения происшествию никто, впрочем, придавать не стал.
Через два дня переводчик вернулся в свою роту и мог уже на пару с Жоржем припоминать все перипетии того долгого и богатого на приключения дня.
*0
в Марокко, — объявил Жорж Лугр Буридану. — Сейчас пойду к командиру, пусть запишет меня.
— В Марокко жара. Запаришься, лето же на носу. Я бы на твоем месте выбрал Финляндию. Туда сейчас тоже отправляют. Чистенькая страна, кругом лед. Всегда будешь свеженьким.
— Если слушать твой трёп, так вообще никуда не уедешь, — ответил Лугр.
— Меня через неделю демобилизуют, — сказал Бури- дан. — Сам понимаешь, последние дни тянутся долго — чем еще заниматься?
— Ну что ж! Когда доберешься до Парижа, я, глядишь, в увольнительной буду. Думаю, дня через три-четыре уже отправят, если...
— А ведь кое-кто думает, — перебил Буридан, — будто мы тут, в Германии, как сыр в масле. А здесь — те же бараки, только в грязной дыре, на отшибе. Нет, девочки тут есть, но все страшные — что прислуга, что шалавы, а которые посносней, к тем не так просто подступиться, что б мы там ни болтали в столовой. В общем, хватит с меня такой жизни. Верно говорю, старина? А ты оставайся... Нет, я серьезно, если решил дальше тянуть лямку — вперед. Но только чтоб это было не из-за письма твоей женушки. Ты и сам знаешь, что это за ремесло. И дальше проще не будет. Война в Финляндии тебе кажется легкой, со всеми законными солдатскими радостями: знай себе грабь да насилуй, а без этого какой в войне толк? Это, старик, тогда уже не война, а сущая хрень.
П. Мак Орлан. Шальной. 32
437
— Да я согласен, — вздохнул Жорж.
— Вот и славно. Так не воображай, будто в Финляндии тебя ждет такая вот «толковая» война. Простому солдату там только и светит, что таскаться нищим по самому захолустью, где кругом грязь и скука. Всю свою изобретательность ты пустишь на то, как бы раздобыть липшее полено или горсть углей. Сто раз пожалеешь, что поперся туда, а коль скоро ни рисовать не можешь, ни пару строк написать, то хандра твоя так и будет сидеть в тебе. И сожрет тебя заживо, так что вернешься в полной уверенности, что загубил и эту, новую, жизнь, только теперь уже в камуфляже.
Лугр ответил:
— Не могу я больше, тошно мне среди тех типов, с кем знался до Афбата. Я много думал об этом. Они не хуже других, но это — убогие. Вспомнишь, как день-деньской они просиживают в баре без дела, и тут же думаешь: неужели и я вернусь к такой жизни? Сидеть и смотреть на дождь за окном, кидать медяки в автоматы и ждать жену часами напролет. А потом — мерзкий гостиничный номер и скрипучая кровать. Свобода прошла где-то мимо меня... Э, да что я! Тебе ж не понять. Да, я знаю, ты жил среди нашего брата, но сам таким не был, потому что всегда стоял выше. Уверен, все на тебя смотрели как на придурка. Но ты плевал на них — и правильно делал, ты же был свободен.
Буридан промолчал. Он поглядел на Лугр а, как художник глядит на этюд, чувствуя, что не сможет довести его до ума.
— Ты прав, на твоем месте я бы, пожалуй, пошел служить в Марокко.
Приятели молча смотрели на площадь Шпайера, где на ступенчатом спуске дети играли в догонялки, весело крича.
Затрубил горн: смена дежурства по казарме и почтовый час.
— Пойду напишу Марселле, — заключил Жорж, — и рассусоливать не стану.
«*)
"О
Вот
то письмо, которое Жорж Лугр написал Марселле, сидя в казарме саперов в Шпайере:
2дорогая сМарсе<лла!
'PXi слушать, что тебе' попался настоян^ии^gnaros жен- скои^души. Пм никогда не отблагодаришь его сполна 3а то старание, с каким он лупит и ен Iудет лупить тебя. Чуду счаст- либ угнать его адрес, чтоб&{ послать ему хоромин папирос б Знак, моей"признательности. сЛАогло бьхити куда хужг. К1акпредставлю, что тщ отнск&ла 6&t себе' какого- нибудь бдлбана и стала б^и£ него беребкл бить, так начинаю берить, что мир устроен прабильно и ш нашла, как гоборится, по ноге башмачокi
с>(&елаю тебе бсего наил\гчшего.
Ж£0
'Р. б- ^ере^дба года будешь нин^еи^
Едва Жорж поставил точку, как на душе у него стало спокойно. По ходу письма пришло осознание, что он наконец свободен. Это была последняя и самая прочная нить, связывавшая его с угрюмым прошлым, и теперь, когда он мог хладнокровно судить обо всём, что осталось позади, самое время было отправиться, как знаменитый лама из Пешавара, на поиски реки мудрости1.
П. Мак Орлан. Шальной. 33
439
Он представлял это на свой манер, так сказать, через призму прагматической философии парижских рабочих окраин. Ему виделось, как он гуляет нагишом по мощенной плитняковым камнем террасе в какой- нибудь из тропических стран, и жаркое солнце превращает его бледную кожу парижской шпаны — в здоровую, загорелую кожу почтенного коммерсанта.
Этот образ прельщал его. Жорж был еще слишком наивен и верил, будто можно изменить свою жизнь полностью, не считаясь с прошлым. Он не понимал в свои двадцать шесть, что за всё приходится платить и что, как любят писать моралисты, за ошибки молодости рассчитываешься всю оставшуюся жизнь.
Жорж Лугр еще не достиг того возраста, когда над этой максимой начинаешь задумываться с тоской, а порой и с отчаяньем. Само то, что он уезжает в Марокко или в Финляндию, будто смывало с него все прежние пороки.
Он жалел о Марселле не больше, чем пленник — о пропаже удобного инструмента. Слишком многим он был обязан жене, а потому не мог испытывать к ней настоящей привязанности. Ласки молодой проститутки, столь разнообразные в силу ее ремесла, полностью удовлетворяли Жоржа. Но он изменял ей, и не единожды, потому что плотская любовь только сильнее разжигает в мужчине страсть к новым чувственным впечатлениям — и ничего больше.
Марселла стала для Жоржа воплощением его собственного убожества. Война и жизнь в казарме, бок о бок с двумя тысячами других солдат, помогли ему изучить себя досконально, без малейших поблажек.
Солдатская форма стирала предубеждения, не оставляя ни классовых различий, ни каст внутри классов. Так понемногу перед Лугром и открылась его собственная ничтожность. Те, от кого он меньше всего мог ожидать, вдруг оказывались удивительными людьми, чьи слова приводили его в восхищение. Так он проникся к Буридану суровой, полной уважения, дружбой.
До войны тот же Буридан, в штатском, легко стал бы жертвой шпаны; сам Лугр мог пальнуть по нему ради смеха, ведь молодыми парнями вроде него движет случайная прихоть.
440
Дополнения
Разумеется, Буридан повлиял на Жео, хотя тот и не отдавал себе отчета в том, какие струны он в нем затронул. До войны Лугр прекрасно знал цену себе и своей сильной стае. Мир для него делился на два класса: на кучку блатных, к которым относился и он, и на море фраеров. Теперь, после пяти лет войны, он уже не был уверен в том, что прежде принимал инстинктивно. Напротив, он убедился, что слово «фраер», которого раньше было довольно, чтоб радоваться жизни, на самом деле ничего не означает. Он оказался в положении лисы, обнаружившей вдруг, что домашняя птица, ее добыча, — умнее ее.
Говоря по правде, это было изрядным душевным потрясением. Впрочем, не слишком интересным для стороннего наблюдателя. Буридан не стал мешать приятелю барахтаться в трясине, разверзшейся вдруг у него под ногами. Он слишком хорошо знал людей, чтобы давать советы.
На Лугра он влиял тем, как держал себя и действовал в тех сферах, которые ему, Буридану, были интересны. Только слабак дает другим советы. Жео это знал и ненавидел слабых; так подсказывали ему инстинкты молодого хищного зверя, и порой они приводили его к важнейшим истинам.
Итак, Марселла не ответила на письмо Жео. Вдобавок случилось то, отчего сам Шпайер опостылел солдату, — так отсидевшему в общей камере бывает нестерпимо в полном одиночестве. Буридана и весь его призыв должны были демобилизовать со дня на день.
Вокруг все только об этом и говорили. У многих ком подступал к горлу: они вдруг поняли, как хрупка, оказывается, фронтовая дружба — как и всякое чувство, родившееся в необычных обстоятельствах.
В главной казарме стоял непривычный гул. Хлопали двери, коридоры гудели, точно горные реки. В широко распахнутые окна было видно, как низкорослый солдат в синей шинели поет, будто птица в клетке, грустную и глупую песню.
Перед
«'О
_ " ротной канцелярией выстрои-
Ç г-Ц лись в очередь подлежавшие
j демобилизации. Их можно
л было узнать по лихорадочно
^ возбужденным лицам. Во¬
круг, вяло шаркая, сунув руки в карманы, бродили товарищи.
Шли те муторные часы военной жизни, когда волнение в душе солдат достигает пика. Но ни слово, ни жест не выдаст его. И только солдат может разглядеть за внешне спокойными лицами товарищей ту вечную, страшную тоску, которая тихо точит их в такие часы.
— В общем, вот письма, сунешь там в ящик, в Париже, всё равно в какой, только не на вокзале.
— Не горюй, старик! Еще заживем!
— Автомобилей, главное, берегись.
Так говорили те, кто оставался, из старой гвардии. Но их было немного. Они сразу выделялись среди мальчишек в чистеньких мундирах из последнего подкрепления, которых совсем не знали.
Безделье располагало к размьпплениям. В полку и в казармах постепенно воцарялся унылый, мрачный дух. Солдаты бродили как чужие по этой новой, непостижимой для большинства жизни, созданной их же силами на полях мировых сражений.
Германия — не Тонкин. Если бы не язык, который никто из них не знал, сами деревеньки ничем бы не отличались от знакомых уголков французской провинции.
442
Дополнения
Солдаты уже и думать перестали о войне. А казарменная рутина и распорядок дня вообще избавляли от потребности мыслить. И только отъезд старых товарищей вдруг разбередил им душу. Ярко и заманчиво вставали перед ними радости мирной жизни. Снова надеть костюм вместо формы — для кого-то уже счастье. Кто был из крестьян — вспоминали о плуге и пашне. Как и все, кого кормит земля, они больше, чем прочие, думали о своих детях.
Иные из отъезжающих от радости уже не узнавали приятелей. Другие обещали сделать всё, о чем бы их ни просили, даже толком не слыша просьб.
Самым молодым из демобилизованных было лет по тридцать пять. Они входили в русло нормальной жизни там же, откуда вышли несколько лет назад навстречу бурным, ужасающим приключениям, которые под стать разве что фанатикам, но никак не годятся для благоразумных, рассудительных людей вроде них.
Лугр молча стоял рядом с Буриданом.
— Если вдруг встретишь где-нибудь мою жену...
Буридан жестом показал, что едва ли.
— Ну, знаешь, при ее ремесле она с кем только не общается, так что можете и столкнуться, потому что вся эта история про американца — чушь полная. Так вот, если вдруг встретишь ее где, не стоит говорить обо мне.
— Как скажешь, — ответил Буридан.
— Так будет правильней. А вот с тобой мы, надеюсь, увидимся, когда буду в увольнительной. Дай мне свой адрес.
Буридан достал из кармана записную книжку, написал пару слов на чистой странице и, вырвав листок, протянул его Жоржу.
— А сам-то ты в увольнительной куда денешься? — спросил он.
— Да ладно, что уж там...
— Эх, старик-сгарик, — вздохнул Буридан, но не стал настаивать на ответе.
— У меня есть приятели в Панаме, — сказал Жео. — Гляди, вон фурьер1 уже зовет.
П. Мак Орлан. Шальной. 34
443
Всех, кто собрался перед канцелярией, строем повели на выход. У самых ворот товарищи крепко жали друг другу руки.
— Ну, будь здоров, старик!
— Счастливо, парни! Выше нос!
— До следующей войны!
Отряд свернул за угол и исчез. Товарищи медленно разбрелись по казармам. Между теми, кто остался, уже нарождалась осторожная, хрупкая дружба.
Вечером в маленьком кафе рядом с казармами, где часто поднимали стаканы за красивые глаза хозяйской дочки Мины, солдаты пили белое вино, ледяное и крепкое, и оно не горячило их. Девушки плакали по тем, кто ушел.
Солдаты пели, потому что песня куда лучше, чем слова, выскажет одиночество и бессильную, тупую тоску, засевшую у них в сердце.
— Эй, Дегуа! Подсоби, что ли?
Высоченный морпех поднялся, взобрался на стол, невзирая на протесты Мины, и грянул во всю глотку, вливая свой голос в хор товарищей:
— «Чтоб зваться морским пехоти-инцем...»
И весь крохотный зал наполнило то особое волнение, от которого в девичьем сердце рождается трепет, а солдат встает навстречу судьбе.
Возможность
снова увидеть Париж, Бу- ридана и освежить в памяти кое-какие воспоминания, с годами ставшие приятными, ободрила Лугра, впавшего было в уныние.
Теплым майским утром поезд замедлил ход и высадил его на платформе Восточного вокзала1.
Парижский воздух действовал лучше всякого успокоительного. Жорж твердым шагом направился к улице Труа-Фрер, где жил Жениталь, — с ним он и собирался провести все двадцать дней отпуска.
По бульвару Рошешуар2 он дошел до улицы Лепик, затем по улице Аббесс — до театра «Монмартр»3. За стойкой в табачной лавке Лугр заметил Жениталя с рюмкой в руке. Увидев Жоржа, тот радостно замахал костылем.
Лугра это тронуло до кома в горле, но он не подал виду.
— Тебе небось пожрать охота, — сказал Жениталь. — Я тебе комнату подыскал, в гостинице, рядом с нами. Будем вместе столоваться. Ах, да! Мне тут эта Марселла через подругу кое-что для тебя передала. Там, похоже, деньжата.
Жениталь порылся в карманах куртки и протянул Жео желтый конверт, явно подписанный рукой Марселлы. Не торопясь, как и положено, если себя уважаешь, Жорж осторожно вскрыл конверт. В нем лежали три аккуратно согнутые купюры по сто франков каждая.
П. Мак Орлан. Шальной. 35
445
Не говоря ни слова, он положил их в свой клеенчатый бумажник.
— А на словах ничего не передавала? — спросил Жео. А про себя подумал: «Вот в чем Марселла всегда будет лучше Буридана».
— Нет, — ответил Жениталь, — но я в курсе, что она рассталась с американцем.
— Так я и думал, — кивнул Жео.
Жениталь представил Лугра родителям — они торговали с тележки овощами и фруктами.
— Добрый день, — поприветствовал он их.
— Вот, приятель мой, — пояснил Жениталь.
Тщедушный папаша Жениталь пил горькую, так что толку от него было немного. Мать оказалась невысокой тучной женщиной с густым приятным голосом, полезным в ее ремесле. Они приняли Жоржа со всем радушием. Когда сели за стол, вина на нем стояло по литру на каждого.
1е к *
Ужин прошел прекрасно. Жениталь всё время рассказывал о делишках, которые проворачивал на рынке Ле-Аль. Он наловчился скупать по дешевке всё подряд, а потом так лихо перепродавал это барахло домашним хозяйкам, что у «бати», как называл отца Жениталь, так и блестели глаза от гордости за сына.
Жениталь говорил только о работе. Он поддался этой модной болезни, так предательски меняющей людей.
После ужина они вдвоем пошли в бар на улице Лепик, где частенько бывал Жениталь. Там Лугр встретился со своим прошлым лицом к лицу. Если не считать тех, кто умер, все его старые, довоенные друзья были здесь.
Товарищ по Афбату узнал Жоржа. Тут же была и парочка подружек Марселлы. Жениталь рассказывал о военных подвигах Жео, а тот делал суровое и немного высокомерное лицо, как и положено в таких случаях. Отвечал односложно, почти не говорил сам, скрывая за важным, озабоченным видом совершенное отсутствие мыслей.
446
Дополнения
Постепенно возвращалась уверенность в себе. Эх, все-таки жизнь — штука стоящая! За двадцать дней к Жео вновь вернулись прежние привычки, которые, казалось ему, уже навсегда останутся в прошлом. Когда он садился на поезд до Шпайера, его так и распирало от самых радостных надежд, точно его накачали воздухом, как колесо.
V®
кончается военная жизнь
Жоржа Лугра, солдата Африканского батальона, потом линейного пехотинца и морпеха. Расскажи эту историю, допустим, Даниэль Дефо или Свифт1 — вот уж кто смог бы как следует высмеять весь абсурд и жестокость этих событий, — она бы, верно, немало выиграла.
Военная жизнь Жео кончается здесь потому, что вскоре горнист колониальной пехоты перенес плеврит2 с осложнениями и был уволен по болезни после некоторых проволочек, вызванных бюрократической возней военно-медицинских чиновников.
В мае Жео побывал в Париже, а в июле вернулся туда насовсем. Мир был уже подписан3.
Лугр приехал истощавшим и бледным. Старые вещи оказались ему велики. Зато появилась тема для разговора. Он охотно демонстрировал свой ремень, говоря:
— Гляди, как похудел.
Жениталь пришел встретить его на вокзал и рассказал про Марселлу. Она жила теперь где-то в провинции, у моря, с каким-то художником.
Жео уже свыкся с мыслью, что рано или поздно опять увидит Марселлу; знал, что она вернется покорная, снова будет каяться, — так что новость эту встретил без энтузиазма. Он прекрасно понимал, что
На этом
448
Дополнения
у женщин есть такая склонность — влюбляться в самую странную черту, какая только найдется у мужчины. И потому гадал с опаской, какой станет она, пожив некоторое время с этим художником.
— Да, старик, будет мне с ней работенка, — сказал он Женигалю и спокойно оглядел улицу.
Бывший солдат не был похож на Растиньяка, приехавшего после демобилизации покорять Париж4, — нет, он оставался Лугром, который помнил, чему его научила жизнь и в какую цену обошлась наука.
Примерно на третий день по возвращении он шел через площадь Бланш5 и вдруг увидел, что навстречу идет высокий франтоватый парень в темно-синем, изящно скроенном костюме.
— Буридан! — окликнул он его.
— Лугр! — воскликнул Буридан.
— Эх, старина, как я рад тебя видеть!
— Я тебя тоже.
— Ну что, как живешь-то?
— Да ничего.
— Ну, и я так же. Гляжу, ушел-таки из армии?
— Нет, меня по болезни уволили — неделя как из Майнца, из госпиталя выписали.
— Вот уж не думал тебя встретить. А Шпайер помнишь?
— И Грету...
— Ну, старик, счастливо! Рад был повидаться с тобой.
— Счастливо, старик.
Буридан удалился. Жео смотрел, как бывший морпех спускается по улице Фонтен6, как уменьшается его фигура. Потом машинально взглянул на свое отражение в аптечной витрине — и вдруг понял, что они разошлись навсегда и больше он не увидит Буридана, иначе как на тусклой пленке собственных воспоминаний о войне.
Война
tt-
ГГ) , , л
~ ^ ^ ~ А мертва. Память о ней раство
^ ^ X 1 X X ix рилась в сознании Жоржа
^jT Лугра среди ярких всполохов
! V его надежд и мыслей о буду-
щем. Зато в воображении Бу- ридана она теперь царствует вовсю. Война живет в мужчинах, как скрытая болезнь. И им всегда слышен дальний гром фанфар.
Ужас тех дней сменился навязчивыми мыслями, дразнящим наваждением, скрытым и коварным. Военные воспоминания предательски смешиваются с памятью о молодых годах.
Буридан теперь живет у дороги, ведущей прямо на восток. Суровая безлюдная равнина между шампанскими городами Сезанн и Витри-ле-Франсуа1 глядит на человека немым, прямым упреком. Здесь едешь километр за километром молодыми перелесками, между низеньких елок, недавно посаженных вдоль дороги; мимо плывут меловые равнины, где едва растет трава. И посреди унылого, аккуратного пустыря то тут, то там в одиночестве отдыхают пушки с длинными стволами на серых платформах. Дальше почва выставляет напоказ свои застарелые рубцы, которые, кажется, не исчезнут вовек. Уже десять с лишним лет агрономы, точно хирурги, тщетно пытаются врачевать ее раны. Но не только это приходит на ум при виде здешних мест — над ними встают иные тени, которые до тех пор будут витать над французской землей на севере и на
450
Дополнения
востоке, пока она не примет в себя всё поколение, давшее солдат той войне.
Наступит день или ночь, когда умрет последний француз, воевавший здесь, и похоронная процессия пронесет его знакомой дорогой, ведущей к могиле и забвению. И ничего не останется здесь, на старой линии огня, — ничего, связанного с судьбами и чувствами живых людей. Останутся только факты истории, не имеющие иной ценности. Земля вновь обретет свой подлинно мирный вид. А пока пусть те, кто действительно воевал, вспоминают меж собой старые битвы, пусть собираются с друзьями и питают сумерки близящейся старости грустными речами, смысл и цена которых известны им одним.
Буридан живет тут, где некогда проходила линия огня, — живет размеренной, созерцательной жизнью. Зимой, когда всё вокруг становится как в воспоминаниях, он любит бродить по окрестным полям, где полегло столько людей. От моря до деревень на юге Эльзаса земля хранит в себе следы загубленной фронтовой молодости. Ржавчина разъедает вросшие в землю орудия так, что их не узнать. Но не настолько уж всё изменилось, и кое-где еще можно найти то самое место, куда присел отдохнуть или поставил свою двухлитровую флягу. Такие образы — не дело художника или литератора. Для каждого это — его тайные сокровища; их не показывают другим, как нумизмат не покажет дилетантам самую редкую монету в коллекции.
Временами прошлое напоминает Буридану о себе, но он предпочитает ходить по прежним дорогам зимой, когда здесь почти никого не встретишь. Он шагает по краям, где бывал когда-то — это земли миллионов солдат, не важно, из какой страны они пришли и какого цвета или покроя была на них униформа. Как граммофон хуже слышно в толпе, так и здешнему пейзажу мешают летние набеги туристов, почтительно глазеющих по сторонам, — их автобусы напрасно тревожат пыль времени.
П. Мак Орлан. Шальной. 37
451
Зимой же увечная природа зовет увечных людей, так сказать, поговорить по-свойски. Вместе они вспоминают о юности, каждый о своей, и о тех, кто был в той юности рядом. Природа прощает посвященным чувствительность и то, что они по сто раз повторяют одни и те же душещипательные истории. Она внимает рассказам мужчин, а они слушают шепот ветра, проносящегося над В ими и Шмен-де-Дам2, над полями Вердена, над надгробием, которое дольменом стоит над окопом штыков, где мертвые, если верить легенде, погребены стоя3.
Особенно дорогой Буридану Верден возвел перед рваной цепью облезлых холмов каменные кресты — как дар по обету. Марокканские стрелки, охраняющие город, мерзнут под северным ветром. Им мерещатся призраки, и, возвратясь в караулку, они сочиняют легенды. Порой трактиры и большие гостиницы закрывают двери. Опустевший город вспоминает мертвых и уступает их неистовой воле. С наступлением ночи тоска охватывает улицы, прогоняя людей. Мрачные высоты давят на город всем своим весом, а город следит, чтоб ничто не потревожило солдат, скрытых в земле, и их покровителей — высоко в поднебесье. Буридан любит зимний Верден за эту благородную преданность воле погибших, вчерашних детей, которые столько не успели сказать. От этого благородства — и города и зимы — становится легче душе, которой не испытать уже беззаботной юношеской радости; так и в самой войне душа находит порой высокое утешение.
Наивно думать, будто это полное неизбывной тоски зрелище может кого-то чему-нибудь научить или подарить надежду. Пейзаж здесь исполнен удивительной, едва ли не мистической силы, но в нем нет урока ни для юнцов, ни для стариков. Всякое назидание уменьшило бы его значительность. Здесь проходят владения смерти. «Ничейная земля» выкуплена ею навсегда. Кресты растут на здешних полях, как виноградные лозы в Бургундии. И единственные прохожие — посетители кладбищ. Они читают таблички на крестах, щупают землю концом трости, затем садятся в унынии на обочину и хотят заговорить о чем-то, но так и уходят, не проронив ни слова.
452
Дополнения
На вершинах обрамляющих Верден холмов некоторые могут разглядеть надпись, единственное слово, составленное из огромных букв:
Те, кто не видит этой надписи — горстка любителей летних прогулок, — не хуже других, просто у них нет тех воспоминаний. Они приезжают в автобусах. Оглядывают дороги и деревни, как музейные экспонаты. И элегантно одетой женщине, верно, и в голову не придет, насколько неуместен ее туалет среди траншей. Не ее вина, конечно, но факт остается фактом. В траншеях был простой народ, все беды его прошли здесь. И вся война — только великий памятник человеческим бедам.
Когда горя слишком много, оно убивает злобу. Ее нет в окрестностях Вердена, она не бродит, как ночной зверь, по его пустырям, по дорогам, ведущим в Стене и в Мец4.
Мы любим представлять мертвых единым братством, тоскуя по братству живых. Всех, кто шагал под марши военных оркестров, кто участвовал в смертоносных обрядах, тянет вернуться сюда, пройти по мертвой земле огромного парка, где покоятся убитые солдаты. А кто приходит из простодушного любопытства, чтобы мимоходом почтить их память, — по сути, лишь марионетки среди театральных декораций, уверенные, что экскурсовод объяснит им, что к чему. Фотокарточка запечатлеет их краткое пребывание в этом месте. Но они не хозяева здесь. Они вторглись в чужие покои. И ветер вздыхает не для них. Они не понимают, где ступает их нога; фанфары прежних лет не отдаются 1улом в их головах. У них не умирали друзья, им не о ком плакать. Они чужие, сама природа отторгает их, и лишь в гостиничном ресторане их встречают радушно.
И всё же эти бесцеремонные орды дают средства к существованию тем городам, где не брезгуют брать их деньги.
П. Мак Орлан. Шальной. 37
453
Сидя на обочине обожженной дороги возле старой гильзы от снаряда 77-миллиметровой пушки, Буридан мирно закуривает трубку. И конечно, думает, что жизнь прекрасна. Но гордости в нем не больше, чем в простом одуванчике, выросшем рядом со старой пробитой каской. На время он сливается с пейзажем. Вот и всё.
ТТь&О- МаМ, 0
'jtvCAH,
ЯКОРЬ
МИЛОСЕРДИЯ
жили в конце Сиамской улицы, это имя она носила уже почти сто лет1. Мой отец, Жан-Себастьян Морга2, был по профессии шипчандлером3, и наша лавочка располагалась недалеко от берега реки Пенфельд4, на котором громоздились ящики с боеприпасами, бочки с порохом и снасти, доставлявшиеся прямо с каторжной канатной фабрики, где их изготовляли.
Дело происходило в начале 1777 года, и я, Ив-Мари Морга, был тогда шестнадцатилетним юнцом — невысокий, коренастый, истинный бретонец. Глаза синие, волосы темно-русые и белоснежные зубы, по которым легко узнать тех, кто вырос на блинах из гречневой муки5.
Январским вечером, когда началась эта история, в пять часов пополудни я возвращался из коллежа Иезуитов6, где изучал математику и геометрию, собираясь потом поступить в одно из шести артиллерийских училищ, поставлявших офицеров в полки Меца, Ла-Фера, Страсбурга, Гренобля, Безансона, Осера и Туля7.
Была сильная стужа, и вместо треуголки на голове у меня красовалась синяя шерстяная шапочка, какие вяжут в Гульване8. Нос у меня покраснел, уши под шапкой горели; засунув руки в карманы, я быстро шагал мимо каторжной тюрьмы9, остававшейся от меня по правую руку, в сторону Керавеля10, туда, где ждали меня тепло отцовской лавочки и вечерний суп, запах которого, казалось, струился мне навстречу.
Керавель был бедным кварталом, он тянулся от тюрьмы до Сиамской улицы, где мы жили. Возвращаясь домой по его темным зловон¬
458
Дополнения
ным переулкам, я нарушал запрет отца и Марианны Тревидан, нашей старой служанки, чье воображение населяло это место множеством дьяволов в человеческом обличье. В сущности, Марианна была недалека от истины. Из-за соседства с каторгой эти заваленные отбросами переулочки, вдоль которых теснились кабаки, пользовавшиеся дурной славой, были весьма опасным местом, но меня это не слишком заботило по молодости лет и по причине дерзкого нрава, унаследованного мною от брата матери, скончавшейся в самый день моего рождения. Этот дядюшка командовал полком приснопамятной Осг-Индской компании11 вплоть до того дня, когда пал в бою за наши владения в далеких краях. Я бережно хранил в шкафчике его офицерский знак и кокарду; шпага его, ружье и эспонтон12 висели над очагом у нас в столовой. Не иначе как память о дядюшке подвигла меня учиться и задуматься о будущей карьере: невзирая на мое недворянское происхождение, я хотел стать артиллерийским офицером. Я уже был на стороне «синих», то есть за господина де Грибоваля13, чей пример служил мне неиссякаемым источником энергии. В то время два десятка учеников коллежа, готовившихся в артиллерийские училища, живейшим образом волновал великий спор «красных», приверженцев старых традиций, и «синих», сторонников новейших принципов14, вдохновленных господином де Грибовалем.
По правде сказать, пока я бежал, перескакивая через кучи мусора, загромождавшие узкую улочку, мощенную опасными булыжниками, я ничуть не думал о тонкостях Евклидовой геометрии15. На самом деле я надеялся повстречать по дороге некоего Ночного Жана, официально носившего малопочтенное звание каторжника, а для меня осененного куда более блестящим титулом скульптора. Жан умел ловко вырезать из дерева солдатиков, которых затем искусно раскрашивал, любовно воссоздавая все особенности обмундирования. Я уже обладал прекрасной коллекцией таких фигурок, среди которых были и гардемарины в красных чулках, и фузилеры, и гренадеры16 из полка Каррера17, стоявшего в то время в новых казармах, возведенных напротив мрачных корпусов большой брестской каторжной тюрьмы.
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 1
459
На первый взгляд, невозможно понять, почему такой благовоспитанный мальчик, как я, общался с подобными людьми. Однако на самом деле те из каторжников, что были на хорошем счету, участвовали в жизни города под надзором весьма снисходительных надсмотрщиков. Они занимались уборкой мусора. Некоторые из них были удивительно искусны в разных ремеслах, поэтому и самые почтенные горожане не брезговали их услугами, за которые можно было платить сущие гроши.
На углу переулка, освещенного фонарем, горевшим не ярче ночника, я смутно различил в темноте знакомый высокий силуэт. Человек тихонько свистнул. Я перескочил на другую сторону и угодил обеими ногами в грязную лужу.
— Эй, осторожнее, Малыш Морга!
Меня всегда называли «Малышом Морга», чтобы отличить от отца, «Старшего Морга».
— Всё в порядке, Ночной Жан?
— Да, всё путем. Слушай, Малыш Морга, я улизнул от фараонов, чтобы кое-что тебе сказать: когда папаша Кильвинек придет продавать рыбу твоему батяне... то есть отцу, побожись, что предупредишь меня, если они будут говорить о Пти-Раде, черкни мне словечко на бумажке и положи под этот камень... только чтоб никто не видел, малыш, чтоб никто не видел.
— А что написать на бумажке?
— Смотря что услышишь: «говорили немного», или «много», или «совсем не говорили».
— А ты мне отдашь капитана корабля, которого вырезал на днях?
— Конечно, малыш, и ефрейтора полка Кастелла18, что скоро придет сюда и станет на постой взамен полка Каррера, а тот распустят.
— Почему?
— Я тебе скажу, скажу... чуть попозже. Сейчас пора мне возвращаться в Большой Коллеж19. До свиданья, малыш, словечко под камешком — и ефрейтор твой.
И он растаял в темноте. Я прислушался... Свист Ночного Жана донесся до меня еще раз, на него отозвался негромкий звук — не то птичий
460
Дополнения
крик, не то крысиный писк. Я снова сунул руки в карманы и помчался домой. Еще чуть-чуть, и я оказался на Сиамской улице, насквозь продуваемой ледяным восточным ветром. Издали завидел я нашу вывеску, качавшуюся под его порывами. Она показалась мне прекрасней звезды, ведь она означала конец пути к теплому и ласковому счастью, царившему за круглым столом, где над белой керамической супницей поднимался восхитительный пар. Я был голоден, в недалеком будущем меня ждал замечательный солдатик, который пополнит мою коллекцию; я знал, что мои отметки порадуют отца, а в воскресенье, к мессе в церкви Святого Людовика, фасад которой еще не построен20, мне впервые предстояло надеть замечательный костюм коричневого сукна по парижской моде21. Я весело распахнул ударом плеча нашу дверь, и старая Марианна, коловшая сахар у прилавка, так и вздрогнула.
— Чертов мальчишка! Кого хочешь из себя выведет! Вот балбес!
Я обнял Марианну и покрутил ее на месте, как марионетку.
— Да пусти же меня! Вот чертяка!
— Марианна, я голодный! Хочу супа, хлеба, сала, капусты и сидра... — Я повел носом в сторону кухни: — И блинов.
— Нету никаких блинов.
— Эх, Марианна, я бы просто помер с горя, да только я не верю ни одному твоему слову.
Тут в лавку вошел отец. Я бросился ему на шею:
— Отец, я по успехам на втором месте!
— Прекрасно, Ив-Мари, прекрасно, теперь я уверен: носить тебе голубой мундир и шпагу.
Мы устроились вдвоем за столом, покрытым белой скатертью; перед тем как сесть, отец прочел benedicite*’22.
Я, пожалуй, любил отца горячее, чем это бывает обычно, потому что видел, как он умен, и понимал самые тайные движения его души.
— Отец, аббат Мюньен рассказывал нам о Горации23. Дадите мне почитать вашего Горация? И еще я хочу кронциркуль и рейсфедер24.
* благослови [лат).
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 1
461
Мы начали чертить план фортификаций по принципам господина маркиза де Вобана25. Аббат Мюньен задал нам такую тему: защита Бреста от неприятеля, нападающего с севера26.
— Ну и как, справишься? — спросил отец.
— Еще бы!
— Скоро ты у меня пушку попросишь. Прямо хоть меняй нашу старую вьюеску «Коралловый якорь» на новую, более подходящую к дарованиям моего сына! Как тебе покажется такое: граната, а вокруг нее лента с надписью: «У артиллериста-философа»?
— Мне покажется, что вы, отец, надо мной насмехаетесь.
— Вот уж чего у меня и в мыслях не было. Будет тебе твоя готовальня.
Отец рассказал мне о всяких мелких событиях дня. Продал господину де Кергоэсу морской компас, братьям Пентен — бочку соленой трески, Кильвинек явился из Ле-Конке27 с гигантским морским угрем небывалого размера...
Тут я не удержался и перебил отца, потому что в памяти моей внезапно всплыла просьба Ночного Жана:
— Что вам сказал Кильвинек?
— Господи, да ничего особенного. Бесконечные жалобы. На острове две недели хлеба не было. Никто не хотел за ним плыть. Кильвинек сказал, что только потому и явился к нам сюда, что хлеба захотел. Мы ему дали подкрепиться, и он битый час провел в лавке, болтал с господином Шеффером, тамбурмажором28 из полка Каррера. Говорят, Кильвинек в молодости умел барабанить, так что господину Шефферу небось приятно было повстречать любителя, настолько сведущего в его искусстве.
— А больше Кильвинек ничего не говорил?
— Как будто ничего, — отвечал отец. — Этот малый не бог весть какой рассказчик... Марианна! Мне послышалось, будто утром шла речь о блинах...
— У хозяина нашего отменный слух, а у сынка отменный нюх... Дайте-ка мне тарелки переменить.
462
Дополнения
Уплетая свернутые в трубочку блины с сахаром, я вспоминал таинственную просьбу Ночного Жана. Что я ему напишу? «Ничего не говорили». Эту формулу указал мне для соответствующего случая мой приятель, скрывшийся в тени лачуги в квартале Керавель.
Но при одной только мысли о том, чтобы сунуть записку под указанный сообщником камень, сердце мое замирало от сладкого ужаса. Из морских далей в наш магазинчик, как будто к себе домой, вихрем ворвалось приключение. Сколько раз я искал его среди соблазнительных вещиц, которыми были полны наши шкафы и витрины! Оно пряталось среди такелажа, компасов, астролябий, корабельных ножей, бочонков с пушечным порохом, ящиков с тушеным мясом, мешочков с конскими бобами, коробок с четырьмя пряностями, разукрашенных пленительными картинками, изображавшими королевского матроса, который курит свою длинную трубку рядом с юной негритянкой в юбочке из разноцветных перьев. Запах табака затоплял нашу лавку и смешивался с ароматом кофе, начинавшего входить в употребление среди гурманов29. Отец любил это душистое зелье, и поговаривали, что скоро восхитительный напиток, который наш покупатель шевалье де Пенвиль сравнивал с напитком олимпийских богов30, будет подаваться в большом ресторане в квартале Семи Святых31.
Но для меня отцовская лавка была полна лишь ароматом приключений. В иные минуты я чувствовал, как они рождаются из моей коллекции солдатиков и матросов, вырезанных Ночным Жаном. А иногда они, словно белые призраки, всплывали из витрины, где отец выложил дюжину стеклянных полых сосудов в форме скалок, которые привезли ему из Плимута32 английские матросы и рядом с которыми красовались белые глиняные трубки с красными кончиками мундштуков33, украшенные изображениями фрегатов. Особенно меня пленяли «скалки». Это были трубки из бристольского синего стекла;34 матросы изукрасили их наивными и яркими картинками. Они засовывали в эти хрупкие футляры письма к возлюбленным и бросали их в воду, выходя из родного порта в открытое море35. Прилив подхватывал нежное послание и нес его к берегу. Эти прекрасные футляры занимали меня, я думал о них постоянно. Я трогал их, брал в руки с огромным почте¬
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 1
463
нием. Отец очень ценил эти диковинки, и все люди в городе, наделенные вкусом, приходили на них поглядеть.
Рядом с этими футлярами были выставлены шкатулки и фигурки, вырезанные и раскрашенные Ночным Жаном, который сдавал их отцу на продажу. Вырученные деньги облегчали ему жизнь в тюрьме — «Большом Коллеже», как он говорил. Ночной Жан не был закоренелым негодяем. Напротив, на вид это был приятный и даже, пожалуй, благовоспитанный человек. Как я уже сказал, наиболее благонадежных каторжников использовали на городских работах, а иногда они трудились и на богатых горожан. Их знали, и, хотя прошлые их деяния оставались тайной, люди не могли не испытывать к ним искренней жалости. Каторжники вели себя безукоризненно: им не хотелось терять свои привилегии. Распахивая по утрам окошко перед уходом в коллеж, я видел Ночного Жана и трех его товарищей: они следовали за тачкой, в которую собирали мусор, сваленный у края мостовой. За ними присматривал, заложив руки за спину, надзиратель, которого все звали Клубника (этим прозвищем он был обязан цвету своего носа); он был при шпаге, бившей его по ногам.
Ночной Жан всегда поглядывал на мое окно и, завидя меня, слегка кивал, словно говоря: «Привет, Малыш Морга, скоро принесу тебе что- то такое, что тебе понравится».
Когда Ночной Жан благодаря попустительству надзирателя входил в отцовскую лавку, я спускался вниз его повидать. Этот человек тоже казался мне посланцем Приключения. Я не считал его ни плохим, ни хорошим. Для меня он был сверхъестественным существом, порождением книг. По-моему, его осудили пожизненно за то, что он плавал на пиратском судне в конце царствования Людовика XV...36 В сущности, мы с отцом ничего толком не знали. Однако не вызывало сомнений, что Ночной Жан был моряком, потому что обо всём, что касается мореплавания, он рассуждал с уверенностью, которая дается только профессиональным опытом.
Даже Марианна — и та не осуждала Ночного Жана. При случае она его поругивала, обзывала висельником. Тогда Ночной Жан при¬
464
Дополнения
творялся смущенным и возражал: «Ах, госпожа Тревидан, за кого вы меня принимаете?»
Мы с Ночным Жаном, конечно, не были друзьями. Между нами установились другие отношения — неуловимые, но более прочные; мы делили общую тайну, но я в этом не видел ничего дурного.
В тот день после ужина я поцеловал отца и поднялся к себе в комнату — учить уроки и переводить отрывок из Колумеллы37, ничуть меня не интересовавшего.
Я зажег масляную лампу, уселся за стол, локти мои упирались в раскрытую книгу, голову я обхватил обеими руками, и было мне так хорошо, словно юному королю в самом сердце его королевства, когда я так сидел перед географической картой мира, которую в 1762 году в Париже, на улице Арфы38, прямо у автора купил брат моего отца, капитан полка Ост-Индской компании. Передо мной моя уютная белоснежная постель, кровать из доброй кемперской древесины;39 справа — четыре полки с книгами; слева — другие полки, над которыми возвышался шедевр Ночного Жана, прекрасный линейный корабль40, снабженный четырьмя бронзовыми пушечками, да два стула с соломенными сиденьями, — такова была обстановка моей комнаты. Отворяя окно, я видел лодки на реке Пенфельд, слышал крики надсмотрщиков, которые вели каторжников, а издали, со стороны замка41, доносился барабанный бой гренадеров полка Каррера, стоявших на квартирах в тех местах.
Я сразу же почувствовал, что не в силах заниматься моим автором- земледельцем. Слова Ночного Жана звенели у меня в ушах. Я взял листок чистой бумаги и написал большими прописными буквами, уж не знаю почему, условленную фразу:
Затем я хотел вернуться к занятиям. Но не тут-то было. Кто такой этот Пти-Раде? Мне казалось, что я уже где-то слышал это имя. Но где? Я решил, что завтра спрошу отца.
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 1
465
Не в состоянии усидеть на стуле, я встал и отворил окно. В комнату ворвался холодный воздух. Я поспешно захлопнул окно и поворошил дрова, догоравшие в печке, слишком большой для моей тесной комнатушки. Перед тем как нырнуть под одеяло, я всегда ждал, пока огонь не угаснет.
Внезапно в голове у меня вспыхнула мысль о том, кто такой Пти- Раде, вспыхнула с ослепительной ясностью, как маяк во тьме ночи. Пти-Раде плавал под черным флагом джентльменов удачи42. Мне еще и десяти лет не было, когда я впервые услыхал его имя. Говорили, что он с острова Груа43. Он бороздил моря Нового Света, преследуемый всеми королевскими флотами нашего континента. Молва о его подвигах волновала нас, правду сказать, лишь потому, что он был из наших мест. Мы обращали мало внимания на события, происходившие далеко от нас, и Америка интересовала нас лишь по той причине, что оттуда долетали весьма смутные слухи о близящейся войне с Англией44.
Так я размышлял о том, каков он на самом деле, этот ужасный корсар45, как вдруг на улице послышались шаги. Я навострил уши и убедился, что слух меня не обманывает. Более того: ночной прохожий явно старался производить как можно меньше шума. Это было подозрительно.
Вдруг я вздрогнул от стука в оконное стекло. Я настежь распахнул окно и высунулся, чтобы видеть Сиамскую улицу в оба конца. В этот миг на мостовую, освещенную фонарем, легла длинная тень. В темноте я увидел, как размахнулась чья-то рука, и к моим ногам упал камешек, завернутый в лист белой бумаги.
Я прикрыл окно и, поднеся бумагу к масляной лампе, прочел:
По улице кто-то поспешно убегал, и я понял, что это удаляется ночной
вестник.
коллежа распахнулись, выпуская учеников. Самые маленькие хором завопили, как только выбежали на булыжную мостовую. Это зрелище забавляло солдат полка Каррера, которые, сидя во дворе казармы верхом на лавках, друг за другом, заплетали один другому косички и умащали их косметическим снадобьем1. Они были одеты не по-строевому, а в «фуражные» шапки, в куртки наизнанку, серой холщовой подкладкой наружу. Это делалось для того, чтобы не снашивать мундиры, потому что полковник, как говорили, был человеком прижимистым2. Перед оградой стоял на часах фузилер при полном параде: красный мундир с синим воротником и синяя куртка с белыми плетеными петлицами. На лавке подремывал капрал, поставив между колен ружье и завернувшись в шинель. А у нас от холода посинели уши и носы, и мы приходили в изумление от стойкости швейцарцев из этого колониального пехотного полка. Двадцать пять последних пехотных полков, одетых в белые мундиры, служивших до 1772 года в колониях, были заменены всего восемью полками, причем в нескольких из них состояли только иностранцы3. Полки Каррера и Кастелла были швейцарскими. Полк Каррера после длительного пребывания в Рошфоре4 с недавних пор стоял гарнизоном в нашем городе.
Выходя из коллежа с книжками, перетянутыми ремешком, под мышкой, я заметил Никола де Бришни, который ждал меня, дуя на пальцы и топая ногами, чтобы согреться.
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 2
467
Никола де Бришни, сын Нестора де Бришни, служившего на флотском складе, был моим лучшим другом. Он готовился стать художником, как Мариус Фрагонар5, которым он восхищался, ибо отличался чутким сердцем и сентиментальностью. Это был высокий парень, белокурый и длинноносый; он был задирист, как французский гвардеец, и притом любезен и услужлив, как никто другой. Вечерами он прогуливался в городе при шпаге, что вызывало пересуды, но сам он этим ужасно гордился, потому что считал себя благородным: шевалье де Бришни. Возможно, так оно и было, хотя его отец, славный человек, не придавал этому обстоятельству никакого значения. Бришни был храбрый и веселый. Он любил девушек, но, при всей своей привязанности к ним, никогда особенно не страдал. Между двумя эскизами он ухаживал за Манон из Гвенеда, или, иначе говоря, Манон из города Ванна6, служанкой, подававшей еду и выпивку офицерам королевского флота в ресторанчике под вывеской «Жаркая печка». У Манон мы узнавали всё, что хотели узнать, потому что эта миловидная девица родом из святых мест7 была лучше осведомлена обо всех событиях дня, чем любой полицейский. Она умела слушать и запоминать и хорошее, и дурное. В то время Манон было семнадцать лет, Никола — столько же. Позже ей было суждено пройти свой путь и в ужасный день умереть совсем молодой, осужденной на муки перед лицом неба.
Никола де Бришни ждал меня, потому что я предупредил его утром через очаровательную Манон, когда шел мимо «Жаркой печки», чьи гостеприимные двери выходили на Сиамскую улицу неподалеку от нашей лавки. Мой отец заглядывал в это кафе (как заведение уже стали называть) отведать любимого напитка и встретиться с друзьями — капитаном Жоашеном Гоасом и господином де Форстером, лейтенантом полка Каррера, старым одноглазым офицером, желчным и отменно добрым. Я через отца прекрасно знал этих людей, как знал Манон благодаря дружбе с Никола.
Никола пошел мне навстречу, спина ссутулена, губы поджаты.
— Ив-Мари, если тебе нечего мне сказать, я прокляну весь божий мир: погода такая, что христианину не место на улице.
468
Дополнения
— Иди за мной... Ты же любишь табак? Отец дал мне для тебя пакетик — ароматного, пуэрто-риканского. Вчера доставили из Роттердама8 на борту барки9, шкипер которой великодушен, как Ахилл10. А кроме того, он похож на бочку, перепоясанную ремнем сыромятной свиной кожи.
— Коли так, беру свое проклятие назад и возношу благодарственную молитву, — произнес Бришни.
Он извлек из кармана трубочку в форме крабьей ноги, дунул в нее, чтобы продемонстрировать, что она пуста, и сунул обратно в карман.
Мы вошли в «Коралловый якорь» и сразу направились в мою комнату, где Марианна развела жаркий огонь.
— Вытирайте ноги! Вы ноги вытерли? — кричала нам вслед старая служанка, пока мы со смехом карабкались по крутой лестнице, которая вела в мою крепость.
Бришни плюхнулся на мою кровать и изрек:
— Табак!
Я запустил пакетиком ему в голову. Он бережно вскрыл его и неторопливыми и уверенными движениями набил трубку. Справившись с этим, он спросил:
— И что дальше?
— Ты знаешь что-нибудь о Пти-Раде?
— О нем тут все знают. Местный продукт — правда, им у нас никто не гордится. Когда я был маленький, меня пугали этим Пти-Раде как людоедом и его семью дочерями на выданье11. Только вообрази — семь дочерей на выданье! Каково приходилось этому бандиту, который обязан был, хочешь не хочешь, добывать им человечину каждый божий день! Правда, человечина дешевле свинины, по крайней мере так говорят те...
— Скажи мне, Никола, а в самое последнее время ты ничего не слышал о Пти-Раде?
— Нет. Правду сказать, я полагал, что этот чертов бедолага, уж прости меня на слове, в свое время был вздернут на виселицу в Лондоне, на Висельной набережной12. Такому фрукту самое место на этом дереве — пускай висит себе и зреет.
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 2
469
— А Манон ничего не знает об этом?
— Черт побери! Малыш Морга! Не считая некоторых шалостей, свойственных юности, Манон — честная девушка и с такими героями не знается. Хватит с нее и меня.
— Спасибо. Это всё, что я хотел знать.
— А теперь скажи-ка мне сам, — произнес Бришни, вынув трубку изо рта, — что означают твои расспросы. Уж не хочешь ли ты написать похвальное слово в трех томах13 джентльмену удачи по имени Пти- Раде? Или намерен порассуждать о влиянии баллистики и восьмидюймовых пушек на качество антильского рома14 и управление кораблями дальнего плавания, доверенного неумелым рукам?
Я поколебался, не зная, что ответить. Потом решился и рассказал о встрече с Ночным Жаном и о том, что случилось прошлой ночью.
— Ты ответил? — спросил мой друг.
— Нет. Я же сказал, мне велели спрятать ответ под камнем в условленном месте только нынче вечером.
— Я пойду с тобой, Ив-Мари. На самом деле, мне эта история представляется или глупостью, или опасной затеей. Я знаю Ночного Жана, не тот он человек, чтобы заниматься пустяками. В общем, как сказал бы аббат Мюньен, дело нешуточное.
— Я уверен, что Ночной Жан не хочет причинить мне никаких неприятностей. Человек он неплохой и меня знает с детства. Может, они там замышляют побег?
— Я тоже так подумал. Как бы то ни было, не надо бы тебе вмешиваться в эти дела. Ты отцу рассказал?
— Нет, сам понимаешь, что не рассказал. Оставим отца в покое. Я уже достаточно взрослый, чтобы не дать себя втянуть в неприятности. А если предупрежу отца, он еще, чего доброго, вообще запретит мне видеться с Ночным Жаном. Я его, разумеется, послушаюсь — и тогда прощайте деревянные фигурки, а я их так люблю!
Никола де Бришни встал, взял с этажерки одну статуэтку и стал с любопытством ее рассматривать.
470
Дополнения
— Это гренадер из полка Сен-Мало15, — заметил он, — всё на месте, как полагается. А погляди-ка на лицо этого человечка! Знаешь, ведь у Ночного Жана талант.
Он поставил солдатика на место и надолго задумался.
— Кто за этим стоит? — вырвалось у него.
Потом он схватил свою шляпу и стал ее полировать обшлагом.
— Нынче вечером я пойду с тобой. Зайду сюда после ужина, а когда буду уходить, ты пойдешь меня провожать. Вот тебе и предлог, чтобы уйти из дому.
И он стал спускаться по лестнице, напевая:
— Дверь не отопру я о ночной поре.
До утра придется ждать вам во дворе!16
Спустя три часа, около половины десятого, я взял шапку и плащ с меховой подкладкой и отправился провожать друга.
— Не задерживайся, — сказал отец. — Я не стану запирать лавку, пока тебя не дождусь.
— Вернусь через десять минут, — сказал я и пошел за Бришни, который тем временем откланялся.
На улице мы прибавили шагу. Стало уже не так холодно, в воздухе угадывался близкий дождь, теплый и благотворный. На ходу я ощупывал в кармане клочок бумаги, от прикосновения к нему мне становилось как-то не по себе.
Бришни молчал. Он нагнул голову, подставляя морскому ветру вер хушку своей треуголки.
Наш путь лежал в Керавель. Ночь была темная, и вдоль стен домов сгустилась мгла, которую не в силах были рассеять городские огни. Во мраке разносился нестройный шум из окон убогих построек: это горланили и пьянствовали солдаты. В ответ раздавался глупый женский смех. Не встретив ни одной живой души, мы дошли до угла переулка, где находился условленный камень. На шум наших шагов кто-то отозвался сдержанным покашливанием. И я снова услышал тихий свист — привычный сигнал Ночного Жана.
77. Мак Орлан. Якорь милосердия. 2
471
— Это он, — тихо сказал я.
В этот миг мы различили голос моего приятеля:
— Эй, Малыш Морга, ты что, не один?
— Со мной мой друг Никола де Бришни, художник. Ты же его знаешь.
— Ага, ладно, тогда дело другое, пройди немного вперед... Не нужно ничего класть под камень, я тебя дожидался, чтобы поговорить.
Невозможно описать зловещую атмосферу этой улочки, по которой, словно по органной трубе, гулял ветер. Над головой у меня поскрипывал свисавший на цепи фонарь, и каждый порыв ветра, разбрасывавшего кучи мусора по мостовой, норовил задуть его тревожный свет. Крысы носились друг за другом с пронзительным писком. Их было так много, что коты застывали в неподвижности под укрытием печных труб и только ощетинивались со страху. Я, надо думать, был охвачен необыкновенным волнением, потому что сцена эта, положившая начало истории, которую я собираюсь рассказать, навсегда запечатлелась у меня в памяти вплоть до мельчайших подробностей. Шпажонка на боку у Бришни не вселяла в меня уверенности. Мой друг кашлянул, пытаясь придать голосу твердости:
— Чего ты хочешь, Ночной Жан? Ив-Мари спешит, его ждет отец.
— Я вас не задержу. Я только хотел узнать, говорят ли в городе о Пти-Раде.
— Никто о нем не говорит, — ответил я. — Но объясни, чего ты добиваешься? Признаться, не нравится мне вся эта таинственность. Скажи прямо, ты затеял побег?
Ночной Жан расхохотался.
— Ну, спасибо, одолжил, — отозвался он. — Из Большого Коллежа не так легко сбежать.
— Однако же ты сейчас пришел сюда и спокойно с нами разговариваешь вне стен каторжной тюрьмы!
Ночной Жан глянул на меня с улыбкой. Он приложил палец к губам и слабым кивком указал мне на черное пятно в темноте — по- видимому, это была дверь. Тут я заметил человеческий силуэт; впро¬
472
Дополнения
чем, отчетливо виден был только отблеск металла, скорее всего то был пистолет.
— Клубника, — шепнул Ночной Жан.
— Ты под охраной?
— Под охраной дьявола, Малыш Морга! Ты воображаешь, что из нашего заведения можно просто так выйти, вроде как из твоей семинарии? Мы с Клубникой здесь по делу... Хороший ты паренек, Малыш Морга. А если услышишь разговоры о Пти-Раде, дай мне знать. Я тебе принесу что обещал. Не найдется ли у тебя пары монет, чтобы я мог угостить стаканчиком господина тюремщика?
Мы с Никола наскребли по карманам немного мелочи и в молчании зашагали назад к Сиамской улице. Бришни яростно сопел.
Мы остановились перед дверью его дома. Он протянул мне руку.
— Возвращайся скорее домой! Завтра воскресенье. Я пойду в «Жаркую печку» и повидаюсь с Манон. Согласись, что встреча с Ночным Жаном и Клубникой в Керавеле в это время суток наводит на размышления. Прекрасный сюжет для аллегории: Правосудие и Преступление поднимают стаканы под благосклонным взором бледной Гекаты17. Набросаю эту сцену сепией18. А теперь спокойной ночи, Малыш Морга, и не вмешивайся в приключения, о каких пишут в романах... Глянь, вон твой отец посреди улицы, высматривает тебя.
Бришни вошел к себе, а я пустился бегом.
— Болтунишка, — сказал мне отец. — Уже полдесягого, а ты еще не принимался за уроки. Ты мне свечей нажжешь на шесть су!
Я помог отцу затворить дубовые ставни, закрывавшие дверь.
Марианна приготовила пунш, мы выпили и согрелись. Затем отец показал мне книги, которые принесли от книгопродавца господина Да- се за то недолгое время, пока меня не было. Там были «Философские письма»19 и «Севильский цирюльник», всего год назад прогремевший в Париже20. В том же пакете обнаружился семнадцатый том «Энциклопедии»21.
— Знаешь, — сказал отец, — ожидается прибытие нескольких полков. Говорят, что они будут стоять в лагере в Парамё22. Сержанты Бай¬
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 2
473
оннского полка23 уже в городе, готовятся к размещению на квартиры. К нам, вероятно, тоже определят кого-нибудь на постой.
— Отведи им мою комнату. Поставим мне кровать в столовой. Я прекрасно устроюсь, ведь там очень тепло.
— Я и не ждал меньшего от будущего офицера Королевского артиллерийского корпуса!24 — с улыбкой отвечал отец. — Но ты расположишься в моей спальне: там ты сможешь заниматься сколько угодно без помех.
И только на другой день, в воскресенье, началась на самом деле та странная история, в которую я вмешался душой и телом и мысли о которой завладели мною настолько, что на несколько недель отвлекли меня от самых пылких моих устремлений.
Эта сцена до сих пор стоит у меня перед глазами. Миновал полдень, мы с отцом доели обед, и Марианна уже убрала со стола. Отец с наслаждением прихлебывал кофе маленькими глотками и рассуждал о моем будущем. У нас только и разговоров было, что о господине де Шуазёле, который вдохнул новую жизнь в армию, и о том, что его старания уже приносят плоды25. Мой выбор пал на город Мец и его военное училище: там хотел я надеть синий мундир и камзол. Моя мать была родом из Лотарингии, а ее брат и сейчас там жил и держал лавку золотых и серебряных изделий. Пожалуй, именно это обстоятельство заставило меня выбрать артиллерийское училище в Меце среди шести существовавших в те времена26.
Надо признать, что я томился по приключениям, особенно по морским приключениям. Я ничего не говорил отцу, не хотевшему для меня опасной профессии моряка, но надеялся, что, имея в кармане патент, напишу прошение о службе на борту одного из королевских кораблей. Недавнее изобретение прицела и винта, регулирующего наводку27, не было для меня секретом, и я не сомневался, что меня ждет место на одном из прекрасных фрегатов28, которые у меня на глазах скользили по рейду между дозорными судами испанцев и устьем Элорна29. Во сне воображение непрестанно разворачивало перед моим внутренним взором картины жизни большого военного порта. Просыпался я под бой
474
Дополнения
барабанов и свист флейт, задававших ритм маневрам судов, что стояли на якоре перед замком. В полусне, полном сменявших друг друга образов, я слышал свистки надсмотрщиков, подгонявших каторжников, согнувшихся над веслами. Тысячи молотков корабельных жестянщиков и плотников предупреждали о том, что корабль находится в сухом доке. Тогда я рывком вскакивал с кровати, распахивал окошко — и зимой, и летом — и впивался глазами во всё, что можно было увидеть на набережной и что в моем воображении простиралось далеко за ее пределами, по ту сторону знаменитых морей, там, где начиналось великое царство приключений.
Отец не любил, когда я предавался этим меланхолическим мечтам, когда, устремив взгляд не то куда-то вдаль, не то вглубь своей души, я покидал бесплодную науку, обитавшую в моей приоткрытой книжке, и летел вслед за кормой трехмачтового барка30, который на всех парусах несся к узкому выходу из гавани и дальше, в открытое море.
В такие минуты он хлопал в ладоши и говорил:
— О чем ты опять замечтался, Ив-Мари?
Я утыкал нос в книгу, стискивал голову руками и пытался вырваться из-под наваждения моей неумолимой поэтической хвори, вникая в сложности геометрической головоломки.
В то воскресенье мой отец, еще под впечатлением от философов, чьи труды получил от книгопродавца, толковал мне о людях и о бедной человеческой мудрости, которую они продают так задешево:
— Продавать тайны достоинства и разума — всё равно, что отваживать покупателей от своей лавки.
Он вздохнул и взял щепоть табаку из большой банки китайского фарфора.
И тут входная дверь распахнулась, и в лавку вошел господин Жером Бюрнс, с которым мы тогда еще не были знакомы. Отец встал и спросил, что ему угодно. Посетитель уперся обеими руками в прилавок и, слегка склонив голову набок, окинул нас дружелюбным взглядом.
Это был очень высокий, дородный мужчина, хотя ноги у него были коротковаты. Ширина его плеч свидетельствовала о невероятной фи¬
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 2
475
зической силе. Лицо его, скорее круглое и веселое, украшал мясистый нос, слегка расплющенный на конце, словно у ежа. Его темные волосы серебрились на висках. На затылке они были собраны в кожаный лакированный мешочек, перевязанный черным муаровым бантом31. На этом лице, дышащем миром и чувственной гармонией, озадачивали только маленькие круглые глаза стального оттенка. Могучие морские ветры выдубили и покрыли несмываемым загаром это лицо, которое, в сущности, могло принадлежать какому-нибудь нотариусу, но загар не оставлял ни малейших сомнений относительно профессии незнакомца: это был моряк. Под его распахнутым сюртуком темно-синего сукна виднелся тонкий льняной камзол. Обут он был в белые превосходно натянутые чулки и в башмаки с серебряными пряжками.
— Что вам угодно, сударь?
Незнакомец поклонился отцу и сказал:
— Меня зовут Жером Бюрнс. Жером Бюрнс, флотский хирург. У вас в витрине выставлена подержанная подзорная труба, по-моему, она сделана отменным мастером. Можно взглянуть?
Отец открыл витрину и достал подзорную трубу, покоившуюся в коробке, обитой изнутри зеленым бархатом. Это был великолепный оптический инструмент, подписной и с гарантией. На кожаном чехле красовалась эмблема, украшенная геральдическими лилиями, в которую золотыми буквами была вписана королевская привилегия32.
Незнакомец бережно осмотрел инструмент; на его лице отразился алчный интерес знатока.
— Сколько стоит эта вещь? — спросил он.
Отец назвал цену.
— Покупаю, — изрек господин Жером Бюрнс. — Первоклассная вещица.
С этими словами он поднес трубу к глазу, покрутил колесико настройки окуляра. Потом отворил дверь и долго глядел в сторону набережной.
— Это само совершенство. Попрошу вас доставить мне покупку домой. Я занимаю небольшую квартирку в доме в предместье Ре-
476
Дополнения
кувранс33. У госпожи Лемёр, белошвейки, рядом с башней Мотт- Танги34.
— Я отнесу, отец.
До сих пор не знаю, под влиянием какого порыва вырвались у меня эти слова. Я выговорил их, не успев подумать.
Господин Жером Бюрнс обернулся ко мне и улыбнулся:
— Ваш сын? Наверняка. Красивый парень.
— Да, — отвечал отец, — хороший паренек, только слишком увлекается всем, что связано с морем.
— Вот оно что! Гром и молния! — Потом я не раз убеждался, что это его любимое ругательство. — Напрасно. Поверьте горькому опыту старого моряка.
как зяблик в мае, я помчался у к башне Мотт-Танги с драгоценной подзорной трубой под мышкой на поиски жилища господина Жерома Бюрнса. Чтобы сократить путь, я переправился через реку на пароме напротив замка. Погода была превосходная, по-прежнему холодно, но светлый диск, сиявший в ясном небе, укреплял дух и тело. Паромщик Гадек сидел на траве, поглощенный починкой сети.
— Откуда и куда, Малыш Морга, проказник? Как поживает отец?
— Он велел вам кланяться, Гадек. А я несу пакет в деревню Рекувранс.
— И не захотел идти в обход. Плати монетку, и я тебя доставлю.
Гадек сложил свою сеть и взялся за весла, а я легко запрыгнул в барку.
Десять ударов веслами — и мы были уже на середине потока, обходя речную баржу королевского флота. Матросы, знавшие Гадека, засвистели в два пальца, радостно приветствуя его.
Старый Гадек, в свое время служивший в королевском флоте, смеялся от удовольствия, налегая на весла.
— Ах они прохвосты, всегда такие обходительные. Всё же какая разница между вежливостью матроса и этих проклятых вертопрахов из королевского флота, — те только и знают, что патроны тратить да обжираться тушеным мясом.
Тут он стал табанить обоими веслами1, чтобы разойтись с каторжной фелукой2, плывшей вверх по Пенфельду с грузом свернутых снастей, прямо с веревочной фабрики.
478
Дополнения
— О, дьявольщина! — выругался Гадек. — Черт бы побрал этого болвана, место ему на камбузе3, даже галс4 выбрать не умеет. Глупее любого каторжника, и чему их только учат.
И, обращаясь к усатому надсмотрщику, глазевшему на него, паромщик воскликнул:
— Правей держи, рыбье ты угощение, осел тухлый! Попутного тебе ветра в уши, чтоб в трубочку не свернулись, когда тебя дьявольская барка поволочет прямо в преисподнюю!
Надсмотрщик сложил руки рупором и, ободряемый угодливым смехом каторжников, проорал в ответ:
— Болван припадочный, да ты папашу с мамашей продашь ни за грош. Встретимся здесь через пару месяцев, ты у меня попляшешь, висельник чертов, на потеху всему гарнизону.
Во время этого диалога барка паромщика удалялась от фелуки, и последние реплики обоих собеседников потонули в свисте ветра, неустанно дувшего в паруса.
Мы причалили у подножия небольшой скалы, покрытой водорослями. Я положил мое су в руку Гадека и бегом, поскольку замерз, припустил в сторону башни. Я несся по старой дороге, вдоль которой тянулись сады, по зимнему времени выглядевшие довольно мрачно. Ноги у меня то и дело подворачивались, попадая в колеи, застывшие от мороза, или в тех местах, где мостовая носила следы человеческой заботы, оскальзываясь на коварных мелких камешках, замедлявших мой бег. Наконец я увидел ворота и сторожевую башню; на лугу с пожухлой травой стоял на часах солдат Брестского полка. Он был укутан в огромный грубошерстный плащ, так что наружу торчал один заспанный нос.
За поворотом дороги показалось несколько домов. Они были невелики, покрыты свежей краской и обнесены аккуратными оградами. Мне показалось, что один из них, в глубине небольшого сада, очень ухоженного, несмотря на зимнее время, — тот, что я ищу. Я отворил садовую калитку и постучал молоточком в дверь, которая тут же отворилась. В дверном проеме я увидел старую даму лет пятидесяти
77. Мак Орлан. Якорь милосердия. 3
479
в темно-коричневом наряде и желтом полотняном чепце, как принято у вдов в Трегенке5.
— Здесь живет господин Жером Бюрнс?
В этот самый миг я услышал голос того, о ком справлялся. Голос шел сверху, с лестницы, которая вела на второй этаж.
— Впустите, госпожа Аемёр. Господин Морга мой друг.
Я внезапно обрадовался: мне понравилось, что меня назвали другом. Даром что я совсем мало знал господина Жерома Бюрнса, мне показалось в порядке вещей, что с его уст только что сорвалось это слово.
Флотский хирург, улыбаясь, поджидал меня на пороге своей комнаты.
— Входите, Малыш Морга, — ведь друзья называют вас именно так? Входите и не обращайте внимания на хозяйство старого холостяка. Завидую порядку и счастью, которые царят в доме вашего отца.
— Сударь, вы слишком любезны, и ваша приветливость приводит меня в смущение. Вот подзорная труба, которую отец поручил передать вам в собственные руки.
— Отлично, прекрасная вещь, превосходная труба Галилея6. Положите ее на тот столик. Вон там... Разрешите угостить вас капелькой испанского вина? Не отказывайтесь. Будущий артиллерист должен уметь выпить за здоровье нашего короля Людовика Шестнадцатого7.
Господин Бюрнс исчез в соседнем помещении — вероятно, там была кухня, — но перед тем не забыл придвинуть мне кожаное кресло с подголовником, на которое я уселся.
В комнате у хирурга было светло и чисто, как в девичьей спальне. На столе посреди книг высился, словно памятник, огромный глобус, окруженный двумя картонными кольцами, указывавшими знаки зодиака, широту и долготу. На беленных известью стенах висели морские карты Нового Света. Над камином, развешанные в виде розетки, красовались предметы дикарского вооружения.
На каминной полке между двух медных подсвечников покоилась в сафьяновом футляре пара ухоженных пистолетов. Над маленьким столиком, служившим для письма и занятий, висела этажерка в шесть полок, уставленная книгами.
480
Дополнения
Господин Бюрнс вернулся, держа в руках поднос, который поставил на круглый стол, отодвинув книги в сторону тыльной стороной ладони. Он разлил вино в два стакана и протянул мне один из них.
— За будущих офицеров, воспитанников артиллерийского училища в Меце! — воскликнул он, подняв стакан на ту же высоту, что и я.
— Но, сударь, откуда вы знаете о моих намерениях? Я готов поверить, что вы умеете читать мысли!
Он хитро улыбнулся:
— Может, и умею...
Потом отставил стакан и покачал головой.
— Нет, Малыш Морга, — вы позволите мне называть вас этим именем, которое мне очень нравится? — нет, на самом деле всё объясняется проще. На прошлой неделе, на другой день по приезде, я повстречал в «Жаркой печке» одного друга вашего отца. Было воскресенье. Когда я вошел, ваш отец как раз доиграл партию в шахматы и уходил вместе с вами. Я был знаком с людьми, знавшими вашего отца, вот так я и узнал, что вы намерены стать военным. Как видите, в моей проницательности нет ничего сверхъестественного.
— И впрямь, сударь, — отозвался я.
И внезапно, ободренный какой-то неуловимой доброжелательностью, осветившей лицо господина Бюрнса, я не удержался и доверил ему самую свою заветную мечту:
— На самом деле, сударь, я не собираюсь служить в королевской артиллерии. Я намерен просить дозволения служить королю на его кораблях. Я не говорю об этом отцу: он так меня любит, что боится за меня и не хочет, чтобы я подвергался всем опасностям, настигающим людей в океане. Надо вам сказать, сударь, что несколько наших близких погибли на море. У нас в городе это дело обычное, вы это, конечно, и сами знаете, и я понимаю отца, но согласиться с ним не хочу. Прошу вас, не выдавайте меня.
— Я не из тех, кто предает юный энтузиазм, — ответствовал господин Бюрнс, — и я ничего не скажу. Но сам я, хоть это, возможно, вас и удивит, думаю примерно так же, как ваш отец.
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 3
481
— О, сударь, я горько разочарован. А ведь вы, наверно, избороздили все моря на свете.
— Я плавал во всех водах, которые могут носить фрегат. Я видел волшебные города, которые были ярче и живописнее ширазских ковров8. Я видел, как струились потоки жемчуга, и пил чаи из чашек тоньше и прозрачней розовых лепестков. Да, Малыш Морга... перечислять все сцены этой старинной феерии было бы слишком долго, да и слишком они разнообразны. И всё же в памяти от всего этого не осталось ничего, кроме горечи, которая часто мешает мне спать.
Повесив нос слушал я эту тираду, которая мне ничуть не понравилась. Но я не смел возражать этому блистательному человеку, который вызывал у меня такое восхищение. Благоразумие подсказывало прислушаться к нему. Говорил он непринужденно, глуховатым, слегка печальным голосом. Но речь его струилась как расплавленные потоки солнца, заходящего над морем. Он умел найти неизбитые слова, которые будоражат ум и заставляют трепетать сердце. Он говорил — и острова, города, цветы, военные, экзотические женщины окружали меня ярким драгоценным ожерельем.
Я просидел в этой комнатке дольше двух часов, слушая его. А когда я вновь оказался на мостовой Рекувранса, в голове у меня стоял морской гул. Саванна9, Новая Англия10, Вера-Крус11, Барбадос12, Пон- дишери13, Гальвестон14, Лондон, берберийские города15 — таковы были драгоценные камни, составлявшие богатое ожерелье Ордена приключений. Я так переволновался, что не шел, а бежал. В Брест я ворвался, как корабль дальнего плавания, груженный надеждами и благоуханной поэзией.
У дверей «Кораллового якоря» я заметил Никола де Бришни, который снимал шляпу, прощаясь с моим отцом. Я окликнул его издали. Он услыхал, заметил меня и двинулся навстречу. Я хотел говорить, мне нужно было доверить закадычному другу бесчисленные сокровища образов и слов, хранителем которых я стал благодаря господину Бюрнсу. Я был опьянен вином приключений, пахнувшим порохом, йодом и неведомыми цветами. Смутные женские образы витали на фоне этого роскошного гобелена.
482
Дополнения
— Друг, — сказал мне Никола де Бришни, — советую тебе сходить со мной в «Жаркую печку». Я расписал клавесин мадемуазель Анаис де Пенвиль, и в кармане у меня завелись деньги. Теперь надеюсь написать портрет ее отца, а там, кто знает, может быть, и портрет губернатора. Мы идем вперед, Ив-Мари. Ты еще не успеешь нацепить офицерский значок, как мое имя уже войдет в историю. По крайней мере, в историю Бреста, а это уже совсем недурно.
— Мне нужно кое-что сказать отцу, а потом я пойду с тобой.
— Господин Морга с нами! Он придет немного погодя.
Я не знал, как передать отцу всю радость, которую принесло мне знакомство с господином Бюрнсом. Пока я говорил, лицо мое раскраснелось.
— Хорошо, хорошо, успокойся, — сказал отец. — В самом деле, господин Бюрнс, по-моему, достойный человек. Порода это редкая, так что стоит обращаться с ней бережно. Может быть, мы встретим твоего друга в «Жаркой печке».
Об этом я не подумал. У меня словно крылья выросли от надежды на встречу. Я вернулся к Бришни, который ждал меня, хмурясь от ветра, дувшего ему в лицо.
— Поспешим, — сказал он. — Я замерз, и мне не терпится выпить стакан пуншу и увидеть хорошенькое розовое личико Манон из Гвене- да. Мы с ней поговорим о Пти-Раде.
Я успел совершенно забыть об этом загадочном джентльмене удачи, о Ночном Жане и о Клубнике с алым носом. Всё это уже не очень меня занимало.
Мы направились в «Жаркую печку», чья распахнутая дверь выходила на бульвар Дажо16, на котором завершались работы целой бригады садовников, производивших посадки и всячески его украшавших.
«Жаркая печка», ресторанчик, собиравший сливки городского общества и офицеров корпуса Королевского морского флота, представлял собой большой зал, выкрашенный серой краской. Стены были украшены золотой сеткой, на фоне которой эффектно дрались и переругивались обезьяны и попугаи. В глубине зала находилась касса, рас¬
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 3
483
писанная нарядными розами и цветочными гирляндами. Хозяйка заведения, госпожа Подер, озирала собрание уверенным взглядом. Она напоминала капитана на капитанском мостике: ничто не ускользало от ее приветливого и зоркого взгляда. Это была маленькая черноволосая женщина лет сорока, коренастая, с приветливым лицом, которое совершенно не портил крупный, властный, дерзко очерченный нос. По залу расхаживал ее муж, господин Подер, коротышка несколько сварливого нрава; он спрашивал у посетителей, что им угодно, и распекал трех официанток — Анаис, Марион из Фауэ17 и Манон из Ванна, нашу Манон из Гвенеда.
В «Жаркой печке» много курили. Кольца дыма плавали в воздухе и собирались вокруг трех хрустальных люстр. У всех посетителей были свои столики. За одним собирались офицеры полка Каррера, за другим — Брестского18, за третьим — офицеры эскадры19, был также свой столик у генерального инженера господина де Гиньясе, свой — у моего отца, свой — у капитана баржи господина Реймона, свой — у гвардейцев флагманского корабля и флота. Другие полки — Флотский и Королевский корабельный20 — ходили в кафе «Месмен». Правая сторона большого зала была отведена для случайных посетителей — городской молодежи, а также наиболее почтенных коммерсантов и чиновников Министерства финансов, которых присылали в наш город.
Никола де Бришни обычно выбирал себе место под лестницей, которая вела на второй этаж, где был расположен зал для торжеств и банкетов. Я оставлял отца развлекаться в обществе его друзей, а сам подсаживался к Никола в укромный уголок под лестницей, где Манон и Марион могли не краснея слушать наши игривые речи.
Обе бретонки были умницы и хитры, как пажи; привыкшие к беззаботной болтовне посетителей, они и сами были остры на язык. Они никогда не лезли за словом в карман и весьма непринужденно сновали среди всех этих господ.
В этот час, в конце дня, зал был полон, и лица едва виднелись сквозь синеватые клубы табачного дыма. Слышались перестук костей в кожаных стаканчиках, восклицания игроков, и всё перекрывал голос хозяина, подгонявшего служанок.
484
Дополнения
Столик моего отца стоял в самой глубине помещения, в самом спокойном уголке. По этой причине его и облюбовали шахматисты.
Мы с Никола де Бришни устроились на нашем любимом месте под лестницей. Манон подошла взять заказ, потихоньку отталкивая руку Никола, норовившего потрепать ее по подбородку.
— Два пунша, так... Господин де Бришни, вы ведете себя легкомысленно. А если я из-за вас начну смеяться, меня отругают.
— Скажи-ка, Манон, — спросил Бришни, — не слыхала ли ты разговоров о Пти-Раде?
— Силы небесные! — вырвалось у девушки. — Упаси меня боже от встречи с этим бандитом.
— Значит, о нем никто не болтает? — допытывался я. — Даже ты, всезнайка, ничего не слыхала?
— Ничего, клянусь вам, Малыш Морга. Я была еще совсем крошка, семь лет мне было, когда у нас объявили о смерти этого дьявола. Его пустило ко дну английское судно где-то там, у дикарей...
Я перебил ее, потому что в этот миг заметил господина Бюрнса, входившего в кабачок.
— Вот он! — непроизвольно вырвалось у меня.
Никола и Манон обернулись к двери.
— Это господин Бюрнс, — объяснил я с потаенной гордостью, — хирург Королевского флота.
Мой отец тоже его заметил. Он встал и пошел ему навстречу. Он представил его друзьям, и с этого дня господин Бюрнс стал своим и в «Жаркой печке», и в «Коралловом якоре».
Тут наше внимание отвлек скрип плохо смазанных осей, долетевший с улицы. Несмотря на воскресный день, каторжники на набережной разгружали товары. Мы увидели проезжавшую повозку, запряженную мулом; она везла связанные между собой мешки. В нескольких шагах позади повозки тянулись человек шесть каторжников, дрожа от холода в своих тонких плащах из скверного сукна, у каждого к руке было приковано ядро. Среди них мы узнали Ночного Жана в шапке, нахлобученной на самые уши. Он прошел мимо окна, отделявшего нас от уличного холода, не обратив никакого внимания на уютный кабачок, гудевший, как улей.
flta&CL, Ч
с этого дня господин Жером Бюрнс стал у нас своим человеком. Каждый вечер он приходил сыграть с отцом партию в шахматы. По воскресеньям он разделял с нами вечернюю трапезу, которая бывала всегда самой обильной за день. Господин Бюрнс пленил отца, человека, безусловно, благожелательного, но от одиночества сделавшегося несколько застенчивым. Благодаря общей для обоих любви к «Энциклопедии» и латинской поэзии1 образ мыслей у них был сходный, поэтому встречи доставляли обоим живейшее удовольствие.
Отец рассуждал о Руссо2 — он любил его юмор, ценил мысли. Затем начинались споры, подчас весьма оживленные.
— Позвольте, — говорил господин Бюрнс, — позвольте, господин Морга, но в этом я не могу с вами согласиться. Человек — это дикий зверь, который убивает, не имея даже такого оправдания, как поиск пропитания. Моя профессия и жизнь, полная странствий, которую я вел, дают мне право решительно отвергать поэтическую дребедень вашего Руссо. Добавлю даже, что человек этот представляется мне менее пригодным, чем кто бы то ни было, для рассуждений о добродетели, которую я, разумеется, почитаю, хотя сдается мне, что для большинства смертных она недостижима.
— Полноте, господин Бюрнс, не притворяйтесь большим скептиком, чем вы есть на самом деле. На мой взгляд, вы лучший из людей, и ваша философия, иной раз навевающая меланхолию, ставит
486
Дополнения
меня в тупик, потому что я не чувствую, чтобы вы исповедовали ее от души. Вы рассуждаете как человек, который страдал сам и видел страдания других людей. Мне кажется, вы многое говорите для красного словца.
Я слушал эти беседы; они мне казались скучными, хотя многое меня восхищало. С тех пор как флотский хирург стал усердно посещать наше жилище, приключения дразнили меня, как кокетливая девица дразнит красивого, но глупого юнца. Я пытался вообразить себе предшествующую жизнь нашего гостя. Я представлял его себе на борту огромных знаменитых кораблей, я слышал, как его голос, преследовавший меня, произносит обычные слова утешения, обращенные к раненым матросам. Я по-прежнему пытался, хотя и втуне, вызвать его на разговор об этом ярком прошлом. Иногда он попадал в мою ловушку и с восторгом разворачивал передо мной картины минувшего, сидя у камелька. Но под конец он всегда, как мой отец, повторял, что приключения — это сплошной обман, или, вернее, просто особый род мечты, и что те самые профессии, которые, казалось бы, созданы для того, чтобы притягивать больше всего приключений, в конечном счете обращают приключения в ничто.
— Приключения, — говорил он, — это игра ума для конторских писарей или избалованных родителями подростков.
С этими словами он подмигивал в мою сторону, и мой отец, на худом длинном лице которого читалось полное согласие, подтверждал его правоту кивком.
— Но вы-то, господин Бюрнс, — восклицал я вне себя, — вы-то сами пережили немало приключений, вы не остались жить в вашем сонном городке Сен-Мало. Вы расстались с учителем, преподавшим вам начатки вашего ремесла, и пустились в плавание. Какой дьявол толкнул вас на это? И почему сегодня вы отрицаете его могущество?
— Ах, Малыш Морга, я не отрицаю могущества дьявола, который, по твоим словам, меня томил и подстрекал, но сегодня благодаря опыту я стал мудрее и скажу тебе вот что: приключение — это морковка, которую погонщик держит перед носом у осла, чтобы заставить его 6е-
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 4
487
жать вперед; мечта недостижима, и к концу жизни ты возвращаешься в порт бессильным стариком.
Меня это ничуть не убеждало, и сопротивление этого человека, которым я восхищался, только подстегивало мое воображение.
Так проводили мы субботние вечера. Мой отец выбрал этот день, потому что по воскресеньям коллеж был закрыт и я мог подольше поспать утром.
В наших вечерах участвовали господин Бюрнс, разумеется, господин де Пенвиль, Марианна и несколько соседок, а также один примечательный персонаж по имени Жакоб Гуэре, которого, впрочем, мы называли бретонским словом «Пиллавер» — «бродячий торговец», потому что такова была его профессия.
Гуэре был воистину ходячей энциклопедией. Он знал всё, по крайней мере, всё, что нас интересовало. Он продавал семена, книжки в синих обложках, какими торгуют книгоноши3, иллюстрированные народные песни, виды Страсбурга и Орлеана4, ножи, сетки, вышивки для жилетов, ленты, голландский табак, бумагу с выгравированными знаками различия для солдат, кокарды на шляпы и всякую галантерею, в которой постоянно нуждаются женщины.
Один такой вечер остался у меня в памяти, потому что впервые в наше мирное жилище ворвалось коварное дуновение опасности со всеми ее приманками.
Мы все сидели перед высоким камином в столовой. Вместо обычных коптящих свечей горела масляная лампа5, гордость Марианны. Это была подвесная лампа, подарок директора коллежа в благодарность за услуги, которые оказал ему отец.
Вокруг огня — это был один из последних вечеров, когда развели огонь, потому что уже чувствовалось приближение весны, — собрались господин Бюрнс со своей неизменной трубкой, мой отец, тоже с трубкой в зубах, господин де Пенвиль со своей серебряной табакеркой, Пиллавер с его трубочкой в форме крабьей ноги, Янник Дигвенер из Куэ- нона6, хозяин барка «Лилия Марии», Марианна, ее подруга Роза Нере, прачка, Никола де Бришни и я.
488
Дополнения
Обычно пили чашку за чашкой горячий сидр и ели гречневые блины. Марианна и Роза пекли блины и подавали их с пылу с жару.
Отец, господин де Пенвиль и господин Бюрнс со знанием дела обсудили подготовку к войне7, влиявшую на жизнь города. В то самое утро через Сен-Марк8 в город вошел Бовезийский полк — белые мундиры с изумрудными отворотами и алыми воротниками9, солдаты шествовали позади барабанщиков и флейтистов. Городские старшины в полном составе встретили полк с почестями. На эспланаде10, где уже начинали набухать почки на молодых деревцах, устроили настоящий балет: под натянутыми в ряд тентами красовались старшие офицеры в шпорах, пехотные полковники, солдаты.
Все эти вооруженные люди следовали в лагерь, расположенный в Параме, куда, по слухам, стягивали войска, которым предстояло выступить против Англии под командованием маркиза де Кастра;11 этот последний должен был вскоре прибыть в наш город для инспекции складов провизии. Из нашей лавки мы слышали кавалерийские трубы, гобои и барабаны, задававшие кошачьи концерты командиру полка лангедокских драгун — толстощекому здоровяку в каске, увенчанной меховым тюрбаном12. Этот знатный великан квартировал у вице-адмирала графа д’Эстэна13, чей особняк соседствовал с нашим жилищем.
Пиллавер, который в середине зимы совершил путешествие вдоль побережья до самого Параме, не уставал расхваливать отменный порядок, царивший в лагере. Он считал, что война вот-вот грянет и тем, кто в это не верит — господин де Пенвиль называл их вольнодумцами, — надо лишь открыть глаза пошире, чтобы заметить все признаки ее приближения.
— С нами силы небесные, ваша правда, — сказала Марианна. — Вчера небо в той стороне, где море, было красное, как кровь. А это знак, что над нами нависла угроза. Точно вам говорю, можете не сомневаться: еще до нового года люди нашего короля возьмутся за оружие.
— И много человеческих душ погибнет, — откликнулась Роза Нере.
Отец мой вздохнул, а господин Бюрнс пожал плечами и потянулся
к банке с табаком, чтобы набить трубку.
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 4
489
Никола де Бришни, сидя за столом, рисовал лютики на листе бумаги. Я глядел из-за его плеча, как он работает. Его искусная рука меня восхищала. Война ничуть меня не интересовала: для меня она наступит слишком рано, да и, по правде сказать, военные приключения с их суровой дисциплиной с некоторых пор заставили потускнеть для меня блеск военного мундира, уготованного мне судьбой.
Марианна ухватила сковороду за длинную ручку и стала переворачивать блины, подбрасывая их в воздух, чем повергла собравшихся в восхищенный трепет. Роза тем временем ставила на огонь чайник со сладким сидром.
— А знаете ли вы, — сказал капитан Гоас, потирая руки, — что люди на островах уверяют, будто Пти-Раде вернулся и рыщет в наших местах?
— Я думал, что он умер, — сказал отец.
— Умер? Господин Морга! Эти разбойники, высеченные из берегового гранита, не умирают вот так, в расцвете лет.
— Разве Пти-Раде так молод? — спросил господин Бюрнс. — Последний раз я слышал его имя в тысяча семьсот шестьдесят пятом году, в Корсо-Касл14. Незадолго до того он был приговорен к смертной казни... в виде чучела, разумеется. Он потопил корабль из Плимута, предварительно его разграбив и побросав всю команду за борт... На море чересчур много людей этой опасной породы.
С начала этого разговора я подошел к Пиллаверу. И тут мне припомнилось странное поведение Ночного Жана. Вероятно, та же мысль пришла в голову Никола де Бришни, потому что, не отрываясь от рисования, он тихонько дернул меня за полу сюртука.
— Пти-Раде? Я уже слыхал это имя, — сказал я, глядя на отца.
— Ты был совсем маленький в ту пору, когда он сеял ужас на побережье, — возразил отец.
— Малышу было года четыре, — сказала Марианна, — когда этот пожиратель кораблей пустил ко дну «Венец Иисуса», в открытом море близ острова Кеменез15. Семь дней и семь ночей море выбрасывало на берег останки бедных матросов.
490
Дополнения
— «Венцом Иисуса» командовал Ивон Пиду. Мы с ним вместе в школу ходили. Прекрасный был бриг, принадлежал он братьям Ка- нади, нантским судовладельцам. Корабль пришел из Дюнкерка16. Он затонул в тумане между Моленом и Уэссаном17.
Отец повернулся к господину Бюрнсу и продолжал:
— Не стану вам ничего рассказывать об отваге этого пирата. Дьявол охранял его — по крайней мере, в то время, пока он плавал вдоль наших берегов. Как он знал дно и скалы — просто чудо. Правда, это, возможно, объясняется тем, что он родился в Меане18, прибрежной деревушке.
— Быть может, дело и не в этом, — возразил господин де Пенвиль. — Я слышал, что он уехал из нашего края в возрасте двенадцати лет, его увезли на юг какие-то переселенцы. Капитан Валюбер уверял меня, что люди короля Георга схватили его на Рэтклифф-хайвэй19, когда ему было шестнадцать, и затем он служил на английском флоте. В первый раз он сражался во время мятежа на «Глориос».
— Прекрасно помню эту историю. О ней только и речи было целую зиму между Лорьяном20 и Параме, — подхватил Пиллавер. — Пока Пти- Раде плавал в окрестностях Уэссана, рыбакам покою не было. Король незадолго до того вступил во владение этим островом21. И вот он навел порядок на море и избавил нас от этого пирата. С тех пор проклятый разбойник убрался отсюда. А больше нам от него и не надо ничего.
— Не понимаю, откуда пошли россказни о том, что этот корсар вернулся, — сказал господин Бюрнс. — Как, по-вашему, Пиллавер, кто может распускать подобные слухи?
— Да кто его знает? — отозвался Жакоб Гуэре. — Позавчера был я на рынке в Ландерно22, продавал мой товар. Повстречал я Ле Паю, начальника почты в Гоайене;23 пошли мы пропустить стаканчик вместе. Вокруг нас шли разговоры о Пти-Раде. Толкуют, будто отрядили целый фрегат, чтобы его изловить. Такие идут разговоры... Но я не поручусь под страхом виселицы, что так оно и есть.
— Это легко понять, — заметил господин Бюрнс. — Воображение здешних людей питается подвигами этого джентльмена удачи. По¬
77. Мак Орлан. Якорь милосердия. 4
491
верьте старому мореплавателю: сила этих проклятых людей основана главным образом на том ужасе, который они на всех наводят. Мы преследовали одного дружка Пти-Раде, младшего сына одной дворянской семьи, по прозвищу Одноглазый Том. Moiy вас уверить, что мерзавец, чувствуя нашу решимость, не спешил с нами встретиться. Чуть не год мы гонялись за ним и не могли настичь. А потом Пти-Раде умер, на самом деле умер, могу в этом поручиться.
Когда наш друг произносил последние слова, на секунду в его светлых глазах вспыхнул жестокий огонек. Впечатление было настолько мимолетным, что не поразило нас. Тут же лицо Жерома Бюрнса приняло обычное благожелательное выражение. Он дружески положил руку мне на плечо и с улыбкой произнес:
— Вот это и есть приключения, Малыш Морга, прекрасные золотые приключения под каракасским небом24, те самые, о которых ты так часто думаешь... Но эти замечательные приключения частенько заканчиваются на Висельной набережной или на виселице в Саванне. Однажды я присутствовал при том, как вешали преступника, и сохранил об этом весьма поучительное воспоминание.
— Ах, господин Бюрнс, — заметил я, — но ведь приключения бывают разные...
— Слушай нашего друга, — сказал отец. — Человек он мудрый и опытный. С честью служи королю и приобрети уважение всех окружающих. Чтобы достичь этой цели, ничего не нужно, кроме отваги и достоинства. Приключения хороши в книгах, а в жизни это опасный мираж.
— Ив-Мари сумеет найти приключение и в букете анемонов, — вставил Никола де Бришни, который как раз кончил свой рисунок.
Казалось, он был доволен: он рассматривал свою работу, отставив лист на расстояние вытянутой руки и с удовлетворенным видом склонив набок голову.
— Ну что ж, — заключил господин Бюрнс, — Ив-Мари понял всё, что мы хотели ему внушить. В его годы я был таким же, и, если бы со мной вели такие речи, какие он от нас слышит, я бы чувствовал, будто меня поджаривают живьем, как святого Лаврентия на его решетке25.
492
Дополнения
Больше в тот вечер о Пти-Раде не говорили. Беседа перешла на Гельвеция26. Под конец Пиллавер пропел нам несколько песенок Нижней Бретани, Брейз-Изель27, как мы ее называли.
Пора было расставаться — скоро уже должен был пройти ночной дозорный со своей заунывной песней.
Каждый завернулся в плащ, надвинул на глаза шляпу или шапку. Марианна принесла свечу — зажигать фонари. Мы с отцом немного постояли на пороге, глядя, как удаляются в темноте фонари, отбрасывающие на мостовую большие пятна света, перечеркнутого крест-накрест.
Издали до нас донесся крик дозорного, выкликавшего время. Слушая шум моря, бьющегося о Ланьонские скалы28, и северо-западного ветра, насквозь продувавшего набережную, я вздрогнул от удовольствия при мысли о теплой постели. Приключения тонули в перьях моей перины.
Воскресным утром я распахнул окно и увидал Ночного Жана, который чистил метлой ручеек посреди мостовой. Шел дождь, становилось теплее. Несколько женщин из Плугасгеля — их легко было узнать по белым полотняным чепцам, похожим на головной убор монашек29 — шагали в сабо по булыжникам, поспешая к мессе.
Перед блинной Мари Бараду толпились матросы и солдаты Королевского флотского полка в белых мундирах с небесно-голубыми отворотами и черными воротниками;30 они пересчитывали деньги, прежде чем войти.
На набережной я приметил повозку Ночного Жана и всю его команду под предводительством Клубники, как всегда, при длинной шпаге.
Мой отец отправился на маленький рыночек в квартал Семи Святых. Было воскресенье, приятное дождливое апрельское воскресенье. Я смотрел, как льет с неба теплый дождик, и думал, что через четверть часа Ночной Жан окажется у наших дверей и тогда, под предлогом подаяния, я смогу на минутку отвести его в сторону и сказать несколько слов, которые трепетали у меня на кончике языка.
Как только я увидел, что повозка сворачивает на нашу улицу, я быстро спустился в лавку. Я распахнул дверь и стал поджидать на улице, когда команда уборщиков, чистивших ручей, остановится возле нашего дома.
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 4
493
Клубника был знаком с отцом. Он любезно поздоровался со мной первый, и я сунул ему в руку пакет табаку. Таким образом я покупал его попустительство каждый раз, когда мне надо было переговорить с Ночным Жаном о какой-нибудь красивой безделушке, которую мне хотелось заполучить.
Надсмотрщик поблагодарил меня и усиленно заинтересовался тремя товарищами моего скульптора, который таким образом получил возможность отделиться от своей команды и подойти ко мне. Ему я тоже протянул пакетик табаку, который он ловко припрятал.
— Привет, Малыш Морга, — сказал он, — и спасибо тебе. По мостовым солдатня толпами слоняется. Пахнет войной, мальчуган.
— Послушай, Ночной Жан, послушай, что я хочу тебе сказать: в наших краях рыщет Пти-Раде.
Я произнес эти слова медленно, тихо, пристально глядя на Ночного Жана, чтобы заметить, как они на него подействуют. И я не был разочарован. Галерник изменился в лице. Тут же он взял себя в руки, почесал нос и спросил сдавленным голосом:
— Откуда ты знаешь, Малыш Морга?
— Пиллавер сказал.
— Вот черт! Малыш Морга! Нынче вечером, как луна взойдет, приходи сам знаешь куда, к камню. Я тебе скажу, что надо сделать. Не проболтайся только никому, и ничего плохого с тобой не случится. Не я, а другие люди тебя еще, наверно, отблагодарят за доброе дело, а я, Малыш Морга, выйду на свободу, и, ей-богу, вся брестская братия будет перед тобой хвостом вилять!
Шпага Клубники со стуком задела колесо повозки. Ночной Жан проворно удалился, прошептав: «До вечера!»
Я вернулся к себе в комнату необыкновенно возбужденный. Каждое слово Ночного Жана смущало мое воображение. Я привык к его жаргону, и смысл того, что он говорил, от меня не ускользал. Чувство, отразившееся на лице каторжника, не могло лгать. Что-то важное, мощное, непреодолимое скрывалось за несколькими словами, которые впервые были произнесены в тошнотворной тьме переулка в Керавеле.
494
Дополнения
Кровь бурлила в моих венах. Я поспешно оделся и пошел к Бришни. Я, правда, пообещал держать эту встречу в секрете. Я и не собирался никому ничего говорить. Я просто хотел одолжить у него шпагу. Еще немного, и я бы попросил у господина Бюрнса те прекрасные пистолеты, которые видел у него на камине. От этой мысли у меня хватило ума отказаться. Не такой уж я был дурак и не настолько у меня вскружилась голова, чтобы не понять, какой неосторожностью была бы такая необычная просьба.
Я мог сочинить какой-нибудь предлог, чтобы попросить у Бришни шпагу. Мой друг был хитер, как лиса, но довольно доверчив. Наплету ему что-нибудь... Однако мне не удавалось придумать, зачем и почему мне понадобилась шпага, а сочинять сказку мне было противно, потому что я не любил лгать. От нетерпения я кусал себе пальцы. Неужели так трудно попросить у друга шпагу на вечер? К обеду я всё еще не придумал никакого выхода из этого тупика.
А после обеда Никола де Бришни сам ее мне вручил, как ни в чем не бывало.
Я застал его в мансарде, которую он пышно именовал своей мастерской; он прилежно трудился перед большим листом бумаги, прикрепленным к стене. Художник изобразил на нем человеческий силуэт и фехтовал с ним, сняв сюртук и оставшись в одной рубашке. С его лица струился пот; заметив меня, он отбросил шпагу, задрожавшую от удара о ножку табуретки.
— Не могу больше. Но для военного это полезное упражнение, очень тебе советую.
Я весьма кстати с ним согласился и попросил одолжить мне и шпагу, и силуэт, уже испещренный дырами:
— Я тебе верну и то и другое завтра, когда скажешь. Тебе их отдадут Марианна или отец.
Когда я выходил от Бришни, щеки мои пылали румянцем стыда. Но под мышкой я уносил плод моей первой лжи и повод для первой серьезной опасности, потому что по моему происхождению мне не полагалось носить шпагу31. А королевские законы на сей счет были суровы.
Ночной
\ i—i / \ \i и / л i л дозорньш только что оповес-
** AVy XI XЧУ X X тил 0 полуночи, когда я отво-
^ рил окно. Я лежал в кровати
полностью одетый и не мог уснуть. Из-за невероятного возбуждения, какого я еще никогда не испытывал, я не смыкал глаз и прислушивался к малейшим звукам в уснувшем доме. Когда дозорный завернул за угол нашей улицы, я соскочил на пол и тут же окунул лицо в ледяную воду. Я взял кошелек, в котором у меня лежало несколько ливров1, и надел поверх камзола перевязь взятой у Бришни шпаги. Потом я надел сюртук. Подошел к окну и выглянул на улицу. Там было пустынно, лишь две кошки гонялись друг за другом вдоль домов. Я слышал только привычный шум прилива, который всегда волновал меня, хотя я не мог понять природу своего чувства. Я перелез через подоконник и соскользнул вниз по водосточной трубе, как паук по своей паутине. Впервые в жизни я уходил из дома ночью.
Я готовил операцию несколько дней: проверил прочность водосточной трубы, подробно, до самых точных деталей, обдумал, как избежать шума. Без помех и, признаться, без особых переживаний я добрался до мостовой — ведь я знал, что на заре смогу тем же путем легко вернуться к себе в спальню.
Хорошенько поразмыслив, я пришел к убеждению, что мое свидание с Ночным Жаном затянется. Но я не мог предвидеть, какую череду событий повлечет за собой мой порыв к независимости.
496
Дополнения
Как только я обеими ногами коснулся земли, сердце мое застучало. Впервые в жизни я слышал, как в груди у меня бьют барабаны приключений. Я подождал, пока сердце успокоится. Взгляд налево, взгляд направо — и я убедился, что никакая опасность мне не угрожает; по правде сказать, боялся я только, как бы не проснулся отец. Успокоенный на этот счет, я поспешил к месту свидания, стараясь держаться поближе к стенам домов. Вскоре я уже входил в Керавель, который был похож на кладбище, потому что его домишки, низкие и узкие, как могилы, окутывала странная тишина.
До угла, где был тот самый камень, я добрался, не испытывая страха, могу признаться, потому что шпага Бришни, ударявшая меня по икрам, придавала мне сил и хладнокровия. Я пришел на свидание слишком рано. Больше получаса я ждал, прислонившись к сырой стене. Было тепло. Тысячи приятных мелких примет предвещали наступление весны. Мне казалось, несмотря на зловоние, царившее в этом квартале, что я чувствую аромат первых цветов в садах Порцика2. Послышались шаги двух человек, и я машинально потянулся к рукояти шпаги. Но тут же я услышал тихий свист Ночного Жана и его голос:
— Это ты, Малыш Морга?
Я шагнул вперед, выступил из тени и увидел Ночного Жана с Клубникой.
— Молодец, — сказал Жан, — ты человек слова. Иди за мной и ничего не бойся. Клубника мне как брат, ты уже это и сам смекнул. Мы идем в укромное место неподалеку, в дом одного друга, где тебя всегда рады видеть.
Клубника знаком велел нам замолчать. И в самом деле, послышался смутный шум шагавшего отряда солдат.
— Это патруль, — сказал Ночной Жан. — Постоим смирно вот тут, в нише, и пропустим их.
Полдюжины городских полицейских, кто с пиками, кто с мушкетами на плече, прошли мимо нас, спотыкаясь о булыжники, отдуваясь и глядя себе под ноги. Когда они скрылись из виду, Ночной Жан на цыпочках бесшумно ринулся вперед. Две-три минуты мы бежали еле-
77. Мак Орлан. Якорь милосердия. 5
497
дом, пока не оказались перед низкой дверкой, в которую он постучал условным стуком. Нас, вероятно, ждали, потому что дверь тут же отворилась и захлопнулась за нами.
Мы очутились в зале кабачка, в этот час пустого; столики еще были заставлены кувшинами с вином и тарелками, пахло выдохшимся сидром, застоявшимся табачным дымом и жиром. Кабатчик был великанского сложения, на нем красовался красный колпак, какие носят в Плугастеле3. Его маленький круглый глаз смотрел настороженно, как у кречета. Тыльной стороной руки он смахнул всё со стола, за который мы и уселись, выбрав себе по скамье из составленных по обе стороны двери.
— Это Томас Англичанин, — сказал мне Ночной Жан, указывая пальцем на кабатчика. — Однажды увидев, он уже тебя не забудет. Нрав у него тяжелый, но товарищ он надежный. Когда он тебе понадобится, ты только стукни в дверь «Негпуновой рощи». Так это место называется.
Томас Англичанин кинул на меня взгляд морского угря и протянул мне руку. Я не посмел уклониться от рукопожатия. Но этот привычный жест смутил меня и заставил покраснеть.
— Дай-ка нам пойла, — сказал Ночной Жан, — и последи, чтобы никто нас тут не застукал. Нынче ночью мы не хотим, чтобы нам мешали.
— А если к тебе придет Нинон Глао?
— Выставь ее за дверь! — ответил Ночной Жан.
Томас Англичанин, получивший свое прозвище, вероятно, по причине английского происхождения, изобразил на лице что-то вроде улыбки и стал разливать вино.
— Теперь займемся нашими делами, — сказал Ночной Жан, поставив оба локтя на жирный стол. — Прежде всего, пойми хорошенько, Малыш Морга: я не хочу, чтобы за то, что ты оказываешь нам услугу, на тебя свалились неприятности, хотя ты даже не представляешь, насколько эта услуга для нас драгоценна. Кроме того, я хочу, чтобы ты знал: Клубника — мой друг и партнер в пьесе, которую мы собираемся разыграть; если дело выгорит, я выйду на волю, а Клубника, который
498
Дополнения
уже и так в силу своего положения пользуется бесценной свободой, получит много денег. Я тебе говорил о Пти-Раде. Я знал, что рано или поздно Пиллавер его помянет. Этот человек знает, о чем говорит, я ему верю. Поскольку я лишен возможности спросить у него сам, я прибег к твоей помощи, чтобы узнать, что Пти-Раде бродит в наших краях. Я ненавижу этого человека, Малыш Морга, по его вине я очутился в Большом Коллеже. Десять лет я жду своего часа — с того самого дня, как прибыл в Брест из Парижа, скованный общей цепью с другими каторжниками. В Париже я попался из-за Пти-Раде: он заманил меня в мышеловку, которую приготовили для него, и я попер туда, как последний идиот, только потому он и смог удрать. Я честный должник, я свой долг уплачу. А еще я должен тебе сказать, Малыш Морга, что за голову этого джентльмена удачи, на котором клейма ставить негде, назначили высокую цену. Уж я золоту цену знаю, поверь мне. А у Клубники к этому везунчику свой счет. Он с ним расквитается, а награду поделит со мной. Я знаю, что не могу предлагать тебе деньги: ты от них откажешься, Ив-Мари; но знаю я и то, что не промахнусь, воззвав к твоему сердцу и к твоей отваге. В том, что мы тебе предлагаем, нет ничего постыдного. Напротив, рехп> о том, чтобы избавить мир от подлого убийцы и одновременно оправдать невиновного.
Эти слова так потрясли меня, что я застыл как громом пораженный.
— Что нужно сделать? Чем я могу вам помочь?
Слова царапали мне глотку.
— Выпей каплю этого винца, мальчуган, самую капельку, ведь ты к нему не привык. Подумай хорошенько над тем, что я тебе рассказал, успокойся, взвесь всё услышанное.
Я отхлебнул мюскаде4. Стакан дрожал у меня в руках. Мне не сразу удалось поднести его к губам. Когда я вновь поставил его на стол, решение мое было принято:
— Ночной Жан, ты готов поклясться честью, что ты невиновен?
— Клянусь тебе головой моей матушки: бедняжка была...
— Я верю тебе, Ночной Жан, и я тебе помогу, чем смогу, всем, что не навлечет на меня гнев отца.
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 5
499
— Тебе придется только понаблюдать за портом возле замка. Туда мне хода нет. Кроме того, если Пти-Раде сунется сюда и заметит нас с Клубникой, он почует опасность. Этот бандит хорошо нас знает, а твоего лица он никогда не видел и ни в чем тебя не заподозрит... если вдруг вы с ним столкнетесь.
— Как я его узнаю?
— Мы дадим тебе его приметы. У меня в кармане одна раскрашенная деревянная фигурка, не сомневайся, что она похожа на него как две капли воды. Верно, Клубника? На этой фигурке даже тот самый красивый красный сюртук, в который он был одет тогда, на шканцах5, когда взял нас в плен в открытом море близ Каракаса — меня и нескольких других славных парней, и с того дня начались для нас все муки ада.
В этот миг раздался стук в дверь, и перепуганный женский голос шепнул в замочную скважину:
— Бегите!.. Бегите, там человек пятьдесят, они окружают дом.
— Это голос Нинон Глао, — сказал Клубника, вскакивая на ноги.
С улицы донесся женский вопль, потом лязг штыков.
— Уходите по крышам, — сказал Томас Англичанин.
Он показал нам лестницу на чердак, откуда можно было выбраться на крышу.
Не помню, как я очутился наверху, плотно прижимаясь к огромной трубе; шпага мешала мне. Отрезвленный прохладным ночным воздухом, я сообразил, что попал в ужасное положение. Каким дураком надо было быть, чтобы сунуться в это осиное гнездо! В голову не приходило ни одной удачной мысли о том, как бы мне спастись. Нужно было выбраться из этой ловушки любой ценой и, не медля ни минуты, отделаться от спутников, чье общество пятнало мою репутацию. Рядом со мной скорчился на четвереньках Клубника, и, даже не видя его, я чувствовал, что он не в силах шевельнуться от страха. Я чувствовал, как меня начинает сжимать своими дряблыми, но могучими лапами тот же отвратительный страх. Я этого не хотел. Бог свидетель, как я этого не хотел. Я кусал губы и жадно вдыхал ночной воздух, чтобы взбодриться.
500
Дополнения
Со своего места я не видел улицу. Однако я слышал невероятный шум и гром, производимый полицейскими и солдатами, запрудившими дорогу. Ставни отворились. Я услышал, как какая-то девица поливает полицейских бранью, уснащенной отвратительным жаргоном, которым всегда приправлял свои речи Ночной Жан. Затем я услыхал звук пощечины, рыдания побитой женщины и гогот солдат. С грохотом распахнулась какая-то дверь — вероятно, дверь «Негггуновой рощи». Это Томас Англичанин, после того как бесстрашно выпустил нас на крышу, решился наконец отворить солдатам.
Клубника трясся от страха. Я немного от него отодвинулся, ползком перебираясь по черепице, и заметил Ночного Жана, который беззвучно пытался привлечь наше внимание. Я тронул Клубнику за руку, он вздрогнул. Странное дело — этот простой жест вернул ему хладнокровие и развеял сковавшую его дурноту. Он двинулся за мной, тоже ползком, и мы очутились у трубы, за которой прятался Ночной Жан.
Еле слышным шепотом он объяснил нам, как пробраться через лес каменных труб.
— Вернемся в стойло разными путями, — сказал он и соскользнул вниз по свинцовой водосточной трубе. Мы последовали за ним, и вскоре наши ноги коснулись ухабистой мостовой темного переулка, который вел к каторжной тюрьме, находившейся к западу от нас.
Внезапно в какой-нибудь сотне шагов от того места, где мы совещались, грянул пушечный выстрел, заставивший нас подскочить на месте.
— Берегись! — крикнул Ночной Жан. — Они спустили собак. Выстрел — сигнал тревоги, наш побег обнаружен. Надо бежать из города. Ты, Малыш Морга, возвращайся к себе домой. Я найду способ встретиться с тобой позже.
Не оборачиваясь, Ночной Жан растворился в темноте, как призрак, и увлек за собой товарища. Я остался один на улице под дождем, который припустил с внезапной яростью.
Мне ничего не оставалось как вернуться домой, старясь не наткнуты ся на ночной дозор. Я осторожно продвигался вперед, ломая голову над тем, как я объясню, что делаю на улице, если, не дай бог, нарвусь на
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 5
501
патруль. Квартал Керавель был объят лихорадкой. Со всех сторон мне мерещились лязг штыков и поступь солдат, прорывавшиеся сквозь ветер, яростно атаковавший струи дождя и срывавший с мест печные трубы, словно в стремлении довести до предела разгул этой адской ночи.
Свернув за угол незнакомого переулка, я заплутал в лабиринте темных улиц, как вдруг услышал собственное имя, которое шепнул какой- то благоразумно приглушенный голос:
— Малыш Морга...
Я пошел на этот голос и обнаружил Ночного Жана, скорчившегося по-жабьи за тумбой у каких-то ворот.
— Иди за мной. Вся Сиамская улица перегорожена полицией и войсками. Ты не сможешь вернуться домой. Они задерживают всех прохожих.
Я чувствовал, как на глаза мне наворачиваются слезы: теперь я представлял себе все последствия моей злополучной вылазки. Я только и мог простонать:
— Ох, я пропал...
— Будем пробираться в сторону Ламбезеллека6. А там увидим, куда идти дальше. Клубника уже пошел вперед.
Я безвольно побрел за ним. Мы благополучно выбрались из Кера- веля, не наткнувшись на солдат. Как только мы оказались на проселке, Ночной Жан затянул ремень потуже и по-волчьи побежал вперед. Проворства мне было не занимать, я побежал с ним в ногу.
Так мы бежали сломя голову добрых полчаса. Я выбился из сил и признался в этом моему товарищу.
— Давай переведем дух, Малыш Морга.
Из кармана своего плаща он извлек флягу и дал мне отхлебнуть изрядный глоток. Сам он щедро промочил себе горло.
— Готово дело. Будем идти всю ночь, пока не доберемся до места, где я смогу переодеться. А ты к тому времени спокойно вернешься домой. Я тебе скажу, что надо будет рассказать отцу; тебя поругают разве что за то, что ты неосторожно вышел ночью из дома, но не мог же ты предвидеть, какая опасность тебя подстерегает. Свалим всё на Манон из Гвенеда.
502
Дополнения
— Нет, Манон вмешивать не надо, — возразил я.
— Не она, так другая, у нас большой выбор. Там видно будет, а сейчас главное — поскорее выбраться из капкана. Мне не впервой спасать шею от петли и палача, ускользну и на этот раз.
Мы шли еще часа два. Потом небо начало светлеть: близился рассвет.
— Через час рассветет, а нам нельзя, чтобы нас заметали, — сказал Ночной Жан. — Найдем себе укромное местечко вон в том лесу, что виднеется по правую руку, меньше чем в миле ходу. День будет долгий, мой мальчик. Займемся сочинением истории, которая поможет возвращению блудного сына в отчий дом7.
Он шутил. У меня не было ни малейшего желания смеяться его шуткам. Я был голоден, я падал с ног от усталости и с тревогой думал о том, чем кончится это приключение, которое, должен честно признаться, нравилось мне всё меньше и меньше.
Ночной Жан дал мне еще хлебнуть рому. И тут всё для меня изменилось. Мне вдруг показалось, что всё уладится. Я уже не боялся гнева отца, упреков господина Бюрнса и брани Марианны. Я думал только об увлекательной истории, которую расскажу Бришни и пугливой Манон.
С тысячью предосторожностей мы добрались до леса. Ночной Жан обнюхал укрытие, словно кабан, выбирающий себе логово. В конце концов мы остановили выбор на огромном дубе, уже покрытом молодой листвой, так что в его кроне, а особенно между его огромных ветвей, можно было спрятаться.
— Залезай!
Ночной Жан помог мне вскарабкаться на дерево. Потом он взобрался на него сам. Мы тщательно выбрали себе убежище. Нас было невозможно заметить снизу, зато сами мы могли обозревать всю равнину и дорогу, по которой шли ночью. Вдалеке виднелся одинокий домик.
— Это Кер-Горрет8, — сказал мне мой спутник. — Этот дом принадлежит моему приятелю, бывшему матросу, он подберет мне подходящую одежку. Кроме того, мы у него подкрепимся, и нам это будет очень кстати, потому что покамест у нас нет ничего, кроме рома.
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 5
503
Расположившись поудобнее в густых ветвях, почти нос к носу, мы чувствовали себя неплохо, а главное, могли держать под наблюдением окрестности. Мы были словно два ворона, поджидающих добычу. Это сравнение пришло мне на ум при виде крючковатого носа Ночного Жана.
День, как и предсказывал Ночной Жан, тянулся долго. Дождь не унимался, наша одежда пропиталась влагой. К середине дня нас начал мучить голод. Глоток рому немного согрел нас. После полудня на дороге показалось несколько всадников. Они были слишком далеко, и разглядеть их мундиры было невозможно, но они очень смахивали на коннополицейскую стражу. Ночной Жан разглядел своими зоркими глазами мушкеты, подвешенные к седлам, и высокие сапоги, хотя поверх них были накинуты тяжелые плащи.
— Эй, Малыш Морга... а ведь эти пташки по нашу душу тут рыщут. Не зря мы на дереве спрятались. Этой ночью мы будем уже далеко: ты — в теплой постельке у себя дома, а я... я... пока я не знаю толком, где окажусь. В будущее воскресенье мы уговорились встретиться с Клубникой... где-нибудь на побережье, к югу отсюда. И тогда, Малыш Морга, я смогу заняться разбойником Пти-Раде, а там, глядишь, вернусь помаленьку к обычной жизни, как все добрые люди. Эх, те, кто мечтает о приключениях, не очень-то понимают, что значит это завлекательное словечко. Уж ты мне поверь, Малыш Морга, работай на совесть, выслужи себе теплое местечко на королевской службе и честно трудись.
— Ты говоришь как господин Бюрнс.
— Значит, господин Бюрнс прав, и ты не зря теряешь время, если его слушаешь. Но в твои годы разве что-нибудь можно понять! Ничего ты не понимаешь, и я только зря утомляю твой слух бесполезными речами. Сейчас нам надо дотерпеть до ночи, чтобы набить брюхо всякими вкусными вещами вроде хлеба и сала. А если бы еще вдобавок полную чашку сидра — что скажешь?
Твердая надежда на ужин укрепляла мое терпение. Остаток дня мы употребили на то, чтобы тщательно подготовить историю, которую я расскажу отцу в объяснение и оправдание своего бегства.
504
Дополнения
Вот что мы решили: якобы разбуженный шумом, который производили солдаты, я вышел на улицу. Там я увидел, что дозор задерживает всех подряд, и бросился бежать из города.
Эта история не была неправдоподобной и в некотором смысле соответствовала истине. Ночной Жан помог мне разукрасить ее подробностями, так что теперь я мог спокойно ждать завтрашнего дня.
Когда землю окутала тьма, мы спустились с нашего насеста. Нас уже не держали ноги; нам понадобилась чуть ли не четверть часа, чтобы постепенно обрести способность ходить.
И мы зашагали к одинокому дому, прятавшемуся за яблонями и изгородью из барбариса.
Ночной Жан издал свой обычный короткий свист, и дверь отворилась.
Впустивший нас человек был похож на Томаса Англичанина. Ночной Жан уже успел мне рассказать, еще на дереве, что это брат Томаса, а зовут его просто-напросто Гвеноле9.
Пил.ia, Ù
Этот
Гвеноле был крепкий старик. Впоследствии я узнал, что за мятеж в Корабельном полку1 он был приговорен к десяти годам галер. Он был одним из последних настоящих каторжников- гребцов и в 1754 году, когда каторжников убрали с королевских галер, получил помилование2. Сейчас, в 1777-м, ему должно было быть пятьдесят шесть лет. Гвеноле дал нам попить и поесть. Я набросился на еду, как изголодавшийся щенок, и Ночной Жан развеселился: — Я же говорил, что приведу тебе отменного едока!
Гвеноле без улыбки смотрел на моего спутника, выбиравшего себе матросскую одежду в куче тряпья, которую наш хозяин бросил на глинобитный пол своего жилища.
Когда Ночной Жан преобразился с головы до ног, он завернул в узел свой каторжный плащ, полотняные штаны и шапку.
— Прямо сейчас закопай это в землю...
Гвеноле пошел исполнять приказ. Я тем временем проглотил сало, хлеб и сидр.
— Поспи немного на этой койке, Малыш Морга. Отдохнешь как следует и можешь идти домой.
— Мне бы хотелось помыться.
Я был черен как трубочист. Покрытая грязью и еще совсем мокрая одежда неприятно липла к телу. Ночной Жан принес мне ведро воды, мыло и тряпку. Теперь я мог вымыться. Сам он тем временем поджег
506
Дополнения
в камине вязанку дров и принялся сушить мой сюртук, камзол и башмаки.
— Когда башмаки высохнут, я их начищу. Огонь тут жаркий, как в аду, скоро всё будет сухое.
Едва я стал чистым, мужество вернулось ко мне, и я почувствовал, что могу идти в Брест. Я сказал об этом Ночному Жану. Но он меня отговорил — у него всегда и на всё находились доводы.
— Нужно дождаться ночи, Малыш Морга. Днем дороги небезопасны. А кроме того, необходимо соблюдать осторожность: пускай лучше никто не видит, как ты выходишь из этого дома. Мы не знаем — а вдруг конные полицейские, которых ты вчера заметил, сторожат в засаде неподалеку.
И впрямь, уже почти рассвело. Нам предстояли долгие часы неподвижности. Это мне совсем не нравилось. Мне казалось, что теперь уже Ночной Жан преувеличивает свои опасения. Все эти люди мне не нравились. Я уже кое-что знал о жизни, так что у меня были основания тревожиться. Теперь, когда лихорадочное бегство было позади, я мог хладнокровно оценить странное и двусмысленное положение, в которое угодил, и этих людей: я смутно догадывался об их нечестности и чувствовал себя неуверенно и неуютно.
Я растянулся на убогом ложе Гвеноле, подложив' руки под голову, чтобы лучше обдумать ситуацию. Рядом со мной на скамье лежала шпага Никола. Это был последний предмет, который я заметил перед тем, как провалиться в сон.
Проснувшись, я с огромным трудом осознал, где нахожусь. Я-то был убежден, что уснул в своей комнатке на Сиамской улице, и, когда действительность предстала передо мной, я приуныл. Я протер глаза и сел, свесив ноги с койки. В комнате никого не было, но рядом, в хозяйственной пристройке, я услышал голос Ночного Жана, беседовавшего с Гвеноле:
— Мальчуган спит. До полуночи он не проснется. Надо его немного подержать здесь из-за полицейских. Слишком он молод, еще проболтается в суде. Пошлем его в папашину лавочку, когда будем на пути
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 6
507
в Кемпер3. А там рано или поздно Пти-Раде пойдет в малину. Вот тут-то и придет мой черед посмеяться: я тоже туда заявлюсь, чтобы уплатить должок.
— Не болтай так громко, — заметил Гвеноле, — а то мальчишка ухватит, о чем мы тут толкуем.
Ночной Жан приоткрыл дверь, и я притворился, что просыпаюсь, — зевал и протирал глаза.
— Ты не спишь, Малыш Морга?
— Только что проснулся. Где ты был?
Я решил притвориться, что ничего не знаю, потому что инстинктивно чуял новую опасность. Подслушанный разговор отнюдь не рассеивал моих подозрений. Я решил при первой же возможности спастись бегством.
— Семь часов вечера, — сказал Ночной Жан. — Сейчас подкрепимся, а потом пустимся в путь вместе с Гвеноле. Он нас проведет вдоль побережья, чтоб нам не столкнуться с кораблем береговой охраны или конной полицией; небось, они рыщут между Ламбезеллеком, Гиле и Локмарией4. Сейчас наш друг следит за дорогой на Керинон5.
Тем временем Ночной Жан выложил на стол хлеб и сыр. Он отрезал по изрядному ломтю того и другого и протянул мне со словами:
— На, сунь в карман, утром тебе это может пригодиться.
Сам он набросился на хлеб с сыром. Ел быстро и жадно, глотая огромные куски. Покончив с трапезой, он набил свою трубку и молча закурил, стоя у дверей; казалось, он внимательно прислушивается, не донесутся ли из темноты какие-нибудь звуки.
Внезапно он повернулся ко мне и сказал:
— Нацепи шпагу!
Я сделал то, что он велел, и застегнул ремень поверх камзола, под сюртуком.
— Ты слышал? — спросил он.
Я отрицательно покачал головой.
— Это Гвеноле... слушай...
Я явственно услышал вдали крик совы.
508
Дополнения
— Это он, — сказал Ночной Жан. — Дорога свободна, можно идти, он нас ждет.
Он завернулся в огромную пастушью накидку из грубой шерсти и вооружился тяжелой дубиной, которую нашел в углу. Ночной воздух был теплым; вдали мы слышали шум моря. Я не думал, что мы так далеко от Бреста. Не удержавшись, я сказал об этом Ночному Жану.
— Подумаешь! — возразил он. — Мы всего в каких-нибудь пяти лье6 от Керавеля. Хорошим шагом, да если ничто не помешает нашим планам, на рассвете ты будешь дома. Лучшее время, чтобы вернуться и избежать упреков. Рано поутру люди еще соображают туго. Отец будет так рад твоему возвращению, что забудет тебя отругать. Но ты пустишься в путь не раньше, чем дорога будет свободна. Я за тебя отвечаю, ведь ты здесь оказался из-за меня.
— Я хочу вернуться домой.
— Повторяю тебе, скоро вернешься. Через час мы с тобой распрощаемся.
— Где мы?
— В трех морских милях от Ламполя...7 Осторожно, черт!
Ночной Жан резко схватил меня за руку и потащил за изгородь.
— Ложись! Не двигайся!
Он говорил резко, сдавленным голосом.
Я затаил дыхание и, чуть повернув голову, заметил четырех всадников, которые ехали вперед, занимая всю ширину дороги. Они двигались против ветра, поэтому мы не услыхали их раньше. К счастью, Ночной Жан всё время зорко следил за дорогой.
Всадники проехали мимо изгороди, за которой мы прятались. Они были в синих мундирах с красными отворотами, какие носит конная полиция, и в руках держали мушкеты, отцепив их от сёдел. Они неспешно трусили вперед, убаюканные поступью лошадей. Один из них сказал:
— Сегодня нам премия не светит.
— Дождись конца ночи; мы сразу же заметим огни. Тогда, Гвоздичка, и о премии поговорим.
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 6
509
Когда они исчезли, мы осторожно выбрались из живой изгороди, в которую залезли довольно глубоко. Колючие ветки исцарапали мне руки и лицо.
— Ну что, я был прав? — сказал Ночной Жан. — Теперь надо поскорее встретиться с Гвеноле, потому что через два часа за нами будут гнаться по пятам сто восемьдесят французских конных полицейских.
Пока он это говорил, Гвеноле подошел к нам. Его одежда была перепачкана землей: ясно было, что ему пришлось растянуться ничком в поле.
— Видал? — обратился он к Ночному Жану; меня, он, казалось, не замечал и никогда со мной не заговаривал.
— Надо как можно скорее добраться до твоего судна. Пойдем до Камаре8, ветер попутный, а там высадим мальчугана, он сам, своими силами, доберется до Бреста.
— Я зажег три костра, — сказал Гвеноле. — Думаю, лучше бы я поберег дрова. Через час солдаты будут тут как тут.
— Черт побери! Ты всё правильно сделал! Пока они будут рыскать вокруг костров, мы уйдем дальше. Превосходная мысль, мой Гвеноле!
— Может быть, — отозвался Гвеноле; голос его делался всё мрачнее. — До берега полчаса пути, если бегом бежать. Если Шарло, мой матрос, приготовил лодку, мы попытаемся выйти в море, не наткнувшись на сторожевые суда. Словом, или повезет, или не повезет. Сделаем что сможем.
Мы не столько шли, сколько бежали в сторону моря. Мысли мои были в разброде. Мне всё казалось, что я слышу цоканье копыт и лязг заряжаемых ружей. И потом, разве я мог спокойно думать об отце, о господине Бюрнсе, о коллеже? Как только я обо всём этом вспоминал, кровь ударяла мне в голову и щеки и уши мои вспыхивали.
Там, где кончалась проходившая через низину дорога, обсаженная по краям кривыми деревьями, песчаная равнина поросла дроком, коловшим нам икры. Наконец мы добрались до моря. Начинался прилив. Волны перекатывались и ревели, оставляя за собой клочья пышной пены. Мы спустились на маленький пляж, покрытый галькой и уже за¬
510
Дополнения
топленный водой. Гвеноле шел первым. Он обогнул скалу и громко свистнул. Этот пронзительный звук перекрыл грохот волн.
— Он там, — сказал Гвеноле. — Воды нам будет по пояс.
Он пошел к морю, которое дохлестывало до самых наших ног. Вскоре перед нами обозначилась черная масса. Мы взобрались на барк. Все вымокли до нитки.
— Черт побери! Жить можно, — проронил Ночной Жан, падая на кучу сетей.
— Станет еще лучше, когда попадем в Камаре, — отозвался Гвеноле.
Сидя на дне барка, я дрожал в своей насквозь мокрой одежде.
У меня словно все чувства отмерли, но я сразу услышал скрип гика9 и сухое щелканье большого паруса, который поднимал Шарло, резко встряхивая снасти. Легкий бриз надул парус, и Гвеноле добавил к уже натянутому фоку бом-кливер10. Вода плескалась в форштевень11. Ветер был попутный. В этот миг между двух туч показалась луна, словно сова на полянке.
И тут мы увидели, что она высветила на горизонте мачту маленького сторожевого судна, у которого перед нами было преимущество: на нем была пушка. Как все небольшие корабли, оно могло быстро лавировать, что грозило нам серьезной опасностью.
Ночной Жан, Гвеноле и Шарло мрачно переглянулись. Что до меня, то я почувствовал, как в моей крови вновь забурлила отвага. Я вскочил на ноги и громким, твердым голосом промолвил:
— Ночной Жан, немедленно высади меня на берег. Я ни минуты больше не хочу оставаться в вашем обществе.
— Ты с ума сошел?
— Я не сошел с ума. Я хочу, чтобы вы меня высадили, здесь же, сейчас же... — И, не подумав, я неосторожно добавил: — У меня на то есть серьезные причины.
— А я тебе говорю, что ты останешься с нами, — отрезал Гвеноле, впервые обратившись ко мне.
Я поднес руку к шпаге и, отступив, прислонился к обшивке правого борта; я решил пустить в ход мое оружие.
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 6
511
Никто мне не ответил. Матрос держался за штурвал. Гвеноле и Ночной Жан спорили на носу барка; первый вызывающе скрестил руки на груди, второго я видел со спины, руки он засунул в карманы.
Со своего места я не слышал, о чем они говорили, но не спускал с них глаз. В конце концов Ночной Жан отступил на шаг назад, и я услыхал, как он сказал:
— Гвеноле, этого я тебе не позволю. Если паренек будет шуметь, привяжем его.
Гвеноле пожал плечами и взялся за шкот12, чтобы изменить галс, потому что ветер теперь дул с запада.
Ночной Жан подошел ко мне и быстро, понизив голос, не глядя на меня, проговорил:
— Ты умеешь плавать, Малыш Морга?
-Да.
— Тогда не спеша отойди назад, сделай вид, будто ложишься спать, а когда увидишь, что я принес Гвеноле выпить, потихоньку прыгай в воду. Мы недалеко от берега... Только башмаки сними, так чтобы никто не заметил... Удачи тебе... Дело обернулось скверно, но я не виноват. И никогда не забывай то, что я для тебя сейчас делаю, ведь после того как ты сбежишь, мне еще предстоит объясняться с Гвеноле.
Он отошел и присоединился к Гвеноле, который был поглощен своим маневром.
В этот миг на берегу загорелся костер, и в ответ сразу грянул пушечный выстрел. Получив предупреждение, сторожевое судно объявляло о своем присутствии тем, кто был на берегу. Тогда я медленно скользнул вдоль кормы и тихо погрузился в воду, которая оказалась не такой холодной, как я ожидал. Я тут же поплыл как можно тише в сторону костра.
Я услыхал еще один пушечный выстрел, и на сей раз за ним последовал нежный свист ядра, пролетевшего довольно высоко у меня над головой. По пути мне попалась скала, и я немного передохнул. Заодно я огляделся по сторонам и увидел сторожевое судно. От его носа отделилось белое облачко, и мгновение спустя до меня донесся пушечный
512
Дополнения
залп. Таможенники заметили барк Гвеноле и погнались за ним. Барк на всех парусах несся на юг со скоростью ветра. В той стороне, далеко, я заметил другой костер. Очевидно, с суши указывали местонахождение барка, который Гвеноле, надо сказать, вел как искуснейший капитан.
Немного передохнув, я вновь бросился в воду и поплыл саженками, зажав в зубах шпагу Бришни, которая мешала мне дышать. Но я был хорошим пловцом и, преодолев сотню саженей, почувствовал под ногами твердое дно. Вскоре я встал на ноги, выпрямился и побрел вперед, стараясь не производить шума; в нескольких шагах, в тени скал, я услышал разговор.
— Гром и молния! — говорил кто-то, чей голос показался мне знакомым. — Вот увидите, этот чертов ублюдок опять ускользнет из сети.
Другой голос, который я прекрасно узнал, отозвался:
— Лишь бы там, на барке, не было паренька.
Тут я шагнул вперед; вода струилась с меня, как с тритона, и, воздев руки к небу, я крикнул что было сил:
— Господин Бюрнс! Это я! Это я, Малыш Морга, Ив-Мари...
— Гром и молния!
— Да, это я, Кильвинек... Это я, господин Бюрнс... подождите, я сейчас...
От скалы отделились два или три силуэта. Ко мне протянулась рука — это была рука господина Бюрнса.
— А отец...
— Твой отец сейчас придет сюда, Ив-Мари, держись хорошенько за мою руку и иди за мной.
По тропе контрабандистов мы поднялись на плато на вершине небольшого утеса. У костра прямо и неподвижно сидели несколько людей, глядя на море. Почти все были при ружьях.
— Хвала Господу, — произнес господин Бюрнс.
Высокий худой человек отделился от остальных, за ним подошел солдат, в котором я по мундиру признал капрала конной полиции.
— Отец! — закричал я что было сил.
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 6
513
Себастьен Морга распахнул объятия, я бросился к нему, рыдая, и спрятал голову у него на груди.
— Ну, ну... — приговаривал он, гладя меня по голове, — ну что ты, малыш... ну что ты...
Теперь я одновременно и плакал, и смеялся. Кильвинек разогрел на костре большую чашку сидра и принес мне этот целебный напиток:
— Вот, выпей-ка, Малыш Морга. Тебе полегчает. Расскажешь нам всё позже.
Я стал пить обжигающее питье маленькими глотками. Мало-помалу я оживал: онемевшие пальцы оттаивали от горячей чашки, щеки разгорались.
Вокруг отца, пылко благодарившего господина Бюрнса, собрались Кильвинек, полдюжины всадников прево13 и солдаты береговой милиции — я знал их сержанта.
— Посмотрите, — сказал сержант, — видите, вон там зажигаются другие костры. Это не костры береговых грабителей, как те, что мы вчера затушили. Всё побережье охраняется. Они не смогут высадиться на берег. На рассвете мы их возьмем.
— Вы не знаете этого проклятого бандита Гвеноле, — возразил Кильвинек, — он сквозь любую щелочку просочится.
— Ночной Жан с ним? — спросил господин Бюрнс.
Не отрываясь от сидра, я кивнул.
— Это Ночной Жан тебя похитил? — сказал отец.
— Да...
— Оставьте, Себастьен Морга. Ив-Мари с ног падает от усталости. Отвезите его домой. Мы с ним побеседуем завтра. Я, пожалуй, поеду с вами. — Он обернулся к сержанту береговой охраны: — Вам я больше не нужен. Человек, которого вы ищете, на барке Гвеноле. Сейчас их уже, возможно, поймали, и они находятся на борту сторожевого судна.
Отец, господин Бюрнс и я попрощались с полицейскими. Кильвинек остался с ними, потому что его доскональное знание побережья могло им пригодиться. Однако, поскольку костер еще не до конца высушил мою одежду, Кильвинек набросил мне на плечи свою тяжелую
514
Дополнения
накидку и нахлобучил на мои растрепанные волосы свою белую шерстяную шапку.
На дороге, в четверти лье от места, где я встретился с отцом, ждала дорожная карета с тяжелыми кожаными портьерами, запряженная двумя сильными лошадьми. Ее темная масса, застывшая на краю равнины, четко выделялась на фоне бледного неба.
Прежде чем сесть в карету, я долго глядел на третью зарю моего приключения. На меня напала какая-то слабость, и я поскользнулся, карабкаясь на подножку.
Господин Бюрнс мне помог, поддержав за руку. Меня бережно усадили на подушки, укутали мне ноги одеялом. Я улыбался...
Я смутно чувствовал рывки и толчки кареты, катившей по скверной каменистой дороге, а потом вдруг провалился в сон.
Преподобному
отцу, руководившему коллежем, объяснили, что причиной моего отсутствия было легкое недомогание. Итак, я вернулся к занятиям, размышлял над речами Цицерона1 и над строгими геометрическими фигурами. Изо всех сил я старался не проговориться о том, что видел и слышал.
Когда Никола де Бриш- ни заглянул как-то вечером после обеда меня навестить, я вернул ему шпагу в том же виде, в каком получил. Он не задавал мне неудобных вопросов. Он рассказал мне о новом учителе фехтования, а также танцев, который прибыл к нам в город. Он носит красный мундир полка Каррера. Я слушал друга, покачивая головой, — мне вполне хватало недавних переживаний.
Господин Бюрнс каждый вечер приходил сыграть с отцом в шахматы.
— Спасибо этому превосходному человеку, — часто говорил отец. — Если бы не он, тебя бы сейчас тут не было.
Господин Бюрнс в ответ только рукой махал — мол, какие пустяки. Потом он делал очередной ход.
По совету господина Бюрнса отец не слишком упрекал меня, но мало-помалу, по вечерам, которые, к счастью, становились всё короче, он всё подробнее и подробнее выспрашивал о моем приключении, некоторые детали которого я предпочел бы сохранить в тайне.
516
Дополнения
Постепенно отец и господин Бюрнс обо всём догадались, а я, в свой черед, узнал, что господин Бюрнс раньше всех начал подозревать Ночного Жана. Меня это очень удивило, потому что мой старший друг никогда не видел нас вместе. Он не знал о маленьких подарках, которые я получал от каторжника. Мой отец рассказал ему обо всём только через день после моего исчезновения: сам-то он считал Ночного Жана не столько опасным злоумышленником, сколько жертвой. Познания в философии, постоянно углубляемые новым чтением, располагали этого добрейшего человека к безграничной снисходительности.
Я же, со своей стороны, узнал подробности моего освобождения. То, что господин Бюрнс оказался на побережье, заставляло меня изнывать от любопытства. Но господин Бюрнс объяснил мне, что его присутствие там было вполне логичным. Он обо всём догадался благодаря нескольким словам отца. Он узнал, что я знаком с Ночным Жаном. Кто-то видел, как я входил в кабачок Томаса Англичанина. Всё дальнейшее оставалось для меня загадкой. Почему наш друг решил, что нужно искать меня на побережье, в том самом месте, где морские разбойники, вероятно, сообщники Гвеноле, разожгли костры, предназначенные для того, чтобы сбить с толку сторожевые корабли? Быть может, он руководствовался в этом инстинктом старого морского волка? Однако он, надо думать, был совершенно уверен в том, что делает — ведь он привлек к исполнению своего плана и сторожевые суда, и конную полицию. На все мои расспросы, подчас назойливые, Жером Бюрнс отвечал терпеливо и благожелательно. Но я явственно чувствовал, что он чего-то недоговаривает. Как только я начинал загонять его в угол, он улыбался, набивал трубку и подмигивал в сторону отца со словами:
— Ах, Малыш Морга, мы, моряки, догадливы и умеем ориентироваться. Не так уж трудно было проследить твой путь, Малыш Морга... Ты, как Мальчик-с-пальчик, разбрасывал камешки по дороге...2 Шах королю.
Отец задумывался, почесывая подбородок. Жером Бюрнс, не отводя взгляда от шахматной доски, втолковывал мне:
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 7
517
— Поверь, в шахматной партии больше приключений, чем на всех морях на свете. Ну и как, излечился ты от тяги к независимости?
— О да, господин Бюрнс... А вы, значит, знали, что Ночной Жан сел на корабль Гвеноле?
— Ночного Жана я не знаю, если, конечно, это имя, которое не сходит у всех с языка последнюю неделю, его собственное. Твой отец говорит, что он не злодей. Мне хочется в это верить, хотя что-то я сомневаюсь, чтобы на каторге легко было встретить добродетельного человека. Такое бывает редко. Поэтому, несмотря ни на что, я не доверял Ночному Жану. Вся заслуга в деле погони принадлежит господам из полиции и береговой охраны. Мы с твоим отцом поехали за ними, потому что мы тебя любим.
— Нет, простите, любезный друг, вы были душой и светочем всей экспедиции.
— Иногда мне приходят в голову дельные мысли, — скромно заключил господин Бюрнс. И сразу добавил: — А скажи-ка мне, что за человек этот Ночной Жан? Каков он из себя? Хотелось бы мне, чтобы ты мог его нарисовать, как господин де Бришни.
— Где уж мне, — отвечал я. — А в самом деле, если бы Бришни был здесь, он бы нам изобразил его портрет. Он хорошо с ним знаком. Ночной Жан высокий, крепкого сложения. Длинное лицо... немного похоже на...
— ...на редьку, — вмешалась Марианна, которая слушала, стоя в дверях кухни. — Он безобразный, как дьявол, и уши у него волосатые, как у Лукавого. Старая Анна о нем рассказывала, будто он продавал всякую бесовщину на ярмарках в Леоне...3 А освященной воды боится как огня...
— Вы его не слишком-то любите, Марианна, — со смехом заметил господин Бюрнс.
— Вот уж нет, Бог свидетель.
Все рассмеялись. Господин Бюрнс, держа в одной руке трубку, другой рукой хлопал себя по ляжке. Тут входная дверь отворилась и вошел, напевая себе под нос, Никола де Бришни с рисовальной папкой
518
Дополнения
под мышкой. Он широким жестом снял шляпу, положил папку на стул и раскланялся со всеми присутствующими.
— Присаживайтесь, Никола, — сказал отец. — Вы очень кстати, мы ждали вашего прихода, чтобы прибегнуть к вашему исключительному таланту. Вы же знаете, как выглядит Ночной Жан — он каждое утро убирал мусор на нашей улице... Так вот, не могли бы вы нарисовать его портрет? Нашему другу Жерому Бюрнсу хотелось бы взглянуть на физиономию этого парня.
— Не знаю, всё ли я верно помню... Лишь бы память не подвела! Попробую, если вам угодно... но за полную точность не ручаюсь.
Он достал из папки лист белой бумаги и вынул из кармана карандаш. Потом прикрыл глаза, чтобы легче было сосредоточиться.
Затем он склонился над столом и принялся рисовать. Господин Бюрнс из-за его плеча внимательно следил за рукой Никола, который сперва сделал набросок лица в общем, а затем стал добиваться сходства в отдельных чертах. Эта первая попытка художнику совсем не понравилась, он разорвал лист, скатал его в комок и сунул в карман.
— Начнем сначала... Я уверен, что дело пойдет на лад.
Он взял новый лист бумаги и нарисовал человеческую фигуру.
— О! Его силуэт! — воскликнул я.
— А лицом разве не похож на Ночного Жана? — спросил Никола, держа рисунок на отлете и вглядываясь в него.
Господин Жером Бюрнс взял портрет и долго его рассматривал.
— Вы позволите? — спросил он.
Положив лист на стол, он сам вынул из кармана карандаш и пририсовал небольшой шрам, тянувшийся от правого уха до самого низа надбровной дуги.
— Вот так не лучше?
И он сунул карандаш в карман.
— Так вы его знаете!.. И правда, у него шрам на лице, — сказал я, склонившись над наброском.
— О господи, ну да. Теперь я знаю, кто этот человек. Я расскажу вам о нем позже. — Он повернулся к отцу и сказал со всей серьез¬
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 7
519
ностью: — Господин Морга, Ив-Мари избежал огромной опасности... Но я понять не могу, чего добивался этот негодяй, похищая вашего сына... Нет, честно вам признаюсь, мне никак не удается понять причины его поступка.
Мы были ошеломлены. Мы переводили взгляд с господина Бюрнса на портрет и обратно.
Бришни, который мало знал о моем приключении, уставился на меня в крайнем изумлении. Потихоньку он спросил меня:
— Так тебе для этого понадобилась моя шпага?
— Я расскажу тебе завтра, что со мной приключилось.
— Да, — продолжал господин Бюрнс, задумчиво склонив голову, — я знаю этого человека; это бывший матрос Королевского флота, который стал джентльменом удачи, потому что все его низменные инстинкты толкали его на этот путь. Это самый испорченный и самый опасный человек из всех, о ком я слышал. Его давно пора вздернуть на виселицу ради общего блага. Ночной Жан — это не его настоящее имя, верней, не его кличка. Он его позаимствовал у старого дружка, которого зарезал в драке. Этот галерник приговорен к смерти в трех других странах. Можете мне поверить, я сам читал обвинительные приговоры в Саванне, в Ла-Гуайре и в Калькутте4. Малыш Морга, не будет мне покоя, пока я не дознаюсь, какие у него были умыслы, когда он завлек тебя в этот капкан.
— Да ведь он мне доверил свои планы, — вырвалось у меня; в тот миг я не помнил, что обещал Ночному Жану никому об этом не говорить.
Я прикусил себе язык, но было уже поздно. Отец и господин Бюрнс глядели на меня с некоторым изумлением.
— Почему ты об этом молчал? — ахнул отец.
— Отец, я дал слово.
— Тогда ты не знал о злодеяниях этого негодяя, его низость освобождает тебя от данного слова, Малыш Морга. Королевское правосудие превыше всего.
— Он сказал мне, что хочет получить премию, обещанную тому, кто поймает пирата Пти-Раде, который, по слухам, рыщет на нашем
520
Дополнения
побережье. Он еще добавил, что это Пти-Раде заставил его свернуть с честного пути и что он убежал с каторги только для того, чтобы отомстить и добиться своего оправдания.
— О Пти-Раде я знаю очень мало, — заметил господин Бюрнс, — только то, что и вы все знаете. Тем не менее, я склонен подозревать, что Ночной Жан был в команде у этого джентльмена удачи. Обычно голодные волки не уживаются вместе, и я готов предположить, что между этими двумя корсарами вспыхнула ссора. Так оно, как правило, и бывает.
Мой отец присовокупил к этому заключение, которое я, с тех пор как вернулся, слышал от него каждый вечер:
— Пускай это злополучное приключение послужит тебе уроком. — И с долгим вздохом добавил: — Я и сам виноват, что не приглядывал за тобой как следует.
•к -к -к
Лето окрасило рейд в голубые и розовые тона. Солнце весело блестело над городом и над полями. За три месяца я успел забыть удивительную историю: теперь, когда все ее тяготы отчасти изгладились из моей памяти, а потому смягчились, от нее осталось только мрачное зловещее воспоминание, по-прежнему покрытое непроницаемой тайной.
Занятия мои протекали мирно. Отметки в коллеже были у меня отличные, и я не сомневался, что осенью этого же года удостоюсь чести надеть мундир артиллерийского училища — синий с красной выпушкой.
Господин Жером Бюрнс давал мне уроки английского и естествознания. Об этой дисциплине он говорил как господин де Бюффон5, то есть образно и с восторгом, поэтому его уроки вызывали во мне восхищение.
Знания этого сильного и утонченного человека, истинного ученика Гельвеция, книги которого мои учителя осуждали6, были обширны и блестящи. Богатый жизненный опыт сообщал его речам властность и очарование естественности — то, чего я никогда не чувствовал в основательной ученой премудрости моих наставников. При этом он поста-
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 7
521
янно стремился приумножить свои знания в духовном общении с выдающимися людьми нашего времени. Дидро7, Лавуазье8, химик Руэль9 и Ламарк10 служили солидным основанием для долгих бесед, которые он часто вел со мной то в комнате позади лавки, то в своем маленьком веселом жилище в Рекуврансе, пока госпожа Лемёр готовила нам по чашке кофе, изысканный аромат которого заполнял весь дом.
Господин Бюрнс ненавидел абстрактные рассуждения метафизиков и математиков. В своих методах он опирался только на доказательства, добытые опытным путем11. Вот что нравилось мне в этом человеке, умевшем разбудить мой юный энтузиазм, вот что я в нем искренне любил: он повидал мир, он изучил народы, города и нравы живших там людей. Он умел изобразить яркими красками прекрасные пейзажи нашей земли, ее цветы, ее деревья, ее блистательную фауну и флору, облекавшую ее, как платье облекает обожаемую и достойную обожания принцессу, — и всё это так явственно, что, слушая его, я словно видел всё это собственными глазами, как на экране волшебного фонаря12.
Теперь, когда вернулись погожие дни и все окна стояли настежь, впуская в дом тепло и томительные ароматы, мы надевали шляпы и частенько шли прогуляться в порт и иногда выбирали дороги, которые вели через поля; там цвела душистая мимоза вдоль тропинок, бежавших между садами, которые господин Бюрнс сравнивал с флоридскими благодаря мягкости климата на нашем побережье, согретом морскими течениями.
Этот человек приобрел большое влияние на мой ум и мои чувства. Необыкновенное благородство, которым дышали все его речи, овевало мне душу блаженным теплом. Мой отец, человек чуткий и образованный, с одобрением следил за тем, как мой независимый характер всё больше меняется под этим благотворным воздействием. Недаром он часто называл меня «необъезженным жеребенком».
Больше всего на свете я любил гулять по набережным Пенфель- да в обществе моего ментора. Он указывал мне концом своей трости с серебряным набалдашником на корабли, бросившие якорь на рейде или ближе, в тени замка. Мы беззаботно бродили среди этой удиви¬
522
Дополнения
тельной суеты, исполненной красок, движений и шумов, сопряженных с военными приготовлениями, всё более заметными, и впитывали все эти впечатления, не уставая изумляться.
Все каторжники сбились с ног. Они разгружали торговые суда, чьи грузы аккуратными штабелями высились на набережных: между горами досок выстроились пирамиды бочек и кипы снастей. Возле орудий были сложены ядра, дожидавшиеся, когда их погрузят на линейные корабли, стоявшие на рейде. Город был переполнен солдатами и матросами, которые с наступлением ночи, несмотря на комендантский час, устремлялись в Керавель и в квартал Семи Святых. Поганый мост13 превратился в место постоянных ночных стычек, и все полицейские города кляли свою работенку на чем свет стоит. Пришлось привлечь войска: каждую ночь на улицы выходил патруль, следивший за безопасностью горожан и за соблюдением приличий. Кучки матросов в куртках поверх красных фуфаек и широких белых штанах в синюю полоску, в маленьких черных шапках из дубленой кожи с наступлением вечера шатались по улицам города. Они держались за руки и загораживали всю мостовую. На женщин и кошек они наводили ужас. Никто больше не хотел выходить из дому, когда зажигались фонари и факелы.
Правду сказать, мы уже немного привыкли к этим безобразиям и нам всё равно нравились матросы — горластые, но безобидные. Строгая дисциплина, царившая на борту, на берегу ослабевала. И даже их офицеры всегда готовы были встать на их защиту от полицейских чинов.
Каждый день солдаты проходили по Сиамской улице. Они направлялись в лагерь Параме. Мы также видели, как проходит полк Эрлаха в красных мундирах с черными отворотами и черными же воротниками поверх белых камзолов14, затем знаменитый Пикардийский полк15 в белых мундирах с белыми отворотами и в белых же камзолах; Бургундский полк в белых мундирах с серыми отворотами, с алыми воротниками, которые были очень к лицу солдатам.
Кавалерия под предводительством полковых командиров дефилировала по бульвару Дажо. Все городские сорванцы бежали сломя голо¬
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 7
523
ву, едва заслышав трубы и литавры. Подпрыгивая под носом у лошадей, они провожали «кавалеров» — так они называли солдат кавалерии. Всеобщее восхищение вызвал полк драгун, одетых в белое с зеленым, в касках, украшенных мехом и конской гривой;16 впереди выступали двадцать барабанщиков. За каждым полком следовал живописный караван, состоявший из крытых повозок. Полковничий полк17, в темносиних мундирах с алыми отворотами и обшлагами, на два дня стал на квартиры в городе. Для офицеров этого прекрасного кавалерийского полка был дан великолепный бал, на который созвали всю местную знать.
То вместе с Бришни, то в обществе господина Бюрнса я вовсю наслаждался лицезрением этих роскошных спектаклей, на которых истинное лицо войны пряталось под пышностью мундиров и внушительным блеском полковых литавр. Бришни с ума сходил от радости. Толкая меня локтем в бок, он выкрикивал:
— Какие краски! Какой праздник для глаз! Эх, был бы у меня дар передать хотя бы слабую тень этой красоты!
В то самое утро, когда всадники Полковничьего полка покидали город, случилось мелкое происшествие, на первый взгляд пустячное, но ему суждено было вновь приковать меня разорванной было цепью к Ночному Жану, к Пти-Раде и к нескольким менее значительным, хотя тоже достаточно опасным лицам.
Тем утром я гулял по эспланаде перед замком в обществе господина Бюрнса. Погода стояла ясная, солнце изрядно припекало. Мы присели рядышком на плоской скале, перед нами открывался весь залив, как вдруг наши взгляды привлек искусный маневр изящного судна, направлявшегося к устью Пенфельда.
Я не удержался и захлопал в ладоши, потому что благодаря беседам с господином Бюрнсом научился судить о маневрах судов в открытом море. Пример этого корабля хорошо иллюстрировал теории моего учителя.
— Да, отрицать было бы несправедливо, — изрек господин Бюрнс, — капитан этого судна знает свое ремесло. Прекрасно знает, можно сказать.
524
Дополнения
После головокружительного виража при попутном ветре элегантный корабль вошел в порт.
Когда он спустил паруса, из груди у нас вырвался невольный крик восхищения.
— Он бросит якорь напротив замка, — сказал я, поднимаясь на ноги. — Пойдемте, господин Бюрнс, рассмотрим его вблизи.
Мы спустились по козьей тропинке; она привела нас к узкой эспланаде, примыкавшей к дороге, которая опоясывала замок близ устья реки.
В нескольких саженях от нас медленно скользил прекрасный корабль, готовый остановиться. Заскрипела веревка, сначала в кабестане18, потом в клюзе19, и медленно опустился якорь.
— Разрази меня гром! Дьявольщина! — вырвалось у господина Бюрн- са. — Да ведь это... — Он осекся, покраснел и, не глядя на меня, стукнул себя кулаком по лбу. — Я позволил себе выругаться, — произнес он, повернувшись ко мне. — На несколько мгновений мне показалось, что я вижу призрак. У тебя глаза зоркие, ты можешь прочесть мне имя этого корабля?
У него у самого зрение было отменное. Но я исполнил его просьбу. И на изящном бортике, украшавшем кормовую надстройку прекрасного корабля, я прочел:
— Это «Роза Саванны»!
— Вот видишь, Малыш Морга, никогда не стоит доверяться галлюцинациям, порожденным воображением или несварением желудка. Корабль, о котором я скорблю, покоится на дне Саргассова моря20, он назывался «Милосердие».
— «Милосердие»?
— Да, это был мой корабль, — тихо ответил господин Бюрнс.
В ПОНЕДЕЛЬНИК,
выйдя из коллежа, я из любопытства пошел осмотреть этот корабль, или шхуну1, как начинали у нас уже называть этот тип судна, пришедший из Англии. Я поднялся на скалу перед башней Мадлен2 и увидел «Розу Саванны». Это был и впрямь красивый корабль, быстроходный, созданный для дальних плаваний. Борт был выкрашен синей краской, крышки портиков3 — красной, по главным поручням тянулась золотая полоска. Но красивей всего была статуя на носу корабля, какие ставили в прежние времена4. Она изображала прекрасную чернокожую девушку с розой на груди; роза была как настоящая. Дерзкое выражение на лице у девушки задевало за живое, ее улыбка рождала мечту. В те времена я мало внимания обращал на женские улыбки; но мне казалось, что с губ незнакомки готовы сорваться слова, которые распахнут дверь навстречу приключениям. Я готов был идти за этой женщиной до конца и узнать всё, что она мне приоткроет. Позже Жером Бюрнс сказал мне, что в этом случае я повел бы себя как круглый дурак.
На палубе был только один матрос, седой, высокий, с лицом, изуродованным черной оспой. Сидя на рулоне свернутых снастей и посвистывая, он чинил канат. Он даже не повернул головы в мою сторону. Тогда я спустился со своего насеста. Незадолго до прогулки в квартал Семи Святых я повстречал бригаду каторжников, которые складывали
526
Дополнения
ядра и гранаты перед корветом5, перевозившим солдат; поодаль надсмотрщик болтал с какой-то рыжей толстухой.
Мне припомнился Ночной Жан. Я сгорал от любопытства и совсем уже собрался заговорить с одним каторжником, которого немного знал, потому что он всегда ходил в одной бригаде с Ночным Жаном; вопрос дрожал у меня на кончике языка. Но я удержался, потому что пообещал отцу никогда больше не разговаривать с каторжниками. А ведь такой был благоприятный случай разузнать побольше о побеге Ночного Жана и Клубники!
Когда я пришел домой, в дверях лавки я застал господина Жерома Бюрнса.
— Здравствуй, Ив-Мари. «Роза Саванны» еще не снялась с якоря? А до чего хороша фигура на носу корабля, Малыш Морга...
Этот человек читал в моем сердце. Он прислонился к массивному дубовому отполированному прилавку и прежде всего осведомился о здоровье отца, который в ответ просиял от радости. Потом наш друг осмотрел коллекцию матросских ножей-тесаков, какие носят на поясе в ножнах из сыромятной кожи. Он выбрал самый красивый и сунул его во внутренний карман своего синего сюртука. Он выглядел довольным. По своей привычке он уселся запросто на край прилавка — одна нога на полу, другая болтается в воздухе. Он предложил отцу угоститься табаком, и отец согласился, чтобы его не обижать. И господин Жером Бюрнс заговорил о море, как о властной возлюбленной, заговорил о кораблях, о мертвых индийских городах, населенных нахальными бабуинами, о болтливых попугаях, о боязливых птицах-фаэтонах6. Он поведал нам ужасную молву о южноамериканском мысе Горн, мимо которого проплывал Дрейк7. Этот человек знал все слова, которые находили горячий отклик в моем сердце. Я слушал его разинув рот. Голос у господина Жерома Бюрнса был мягкий и серьезный. Он говорил:
— В Каракасе, а точнее, в море у Ла-Гуайры8, я впервые в жизни увидел черный флаг на гафеле9 трехмачтового барка, на борту которого сверкали на солнце шестнадцать бронзовых пушек. Шкипер наш — звали его Норис Труда из Вальхерена10 — обернулся к нам и осенил
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 8
527
себя крестом. Проклятый корабль нами пренебрег. Вскоре он спустил свой зловещий флаг и вместо него поднял другой, желтый. Этим он предупреждал, что на борту чума. Он дрейфовал к югу и вскоре исчез за горизонтом, словно у него больше не было выбора, куда плыть.
— А вы сражались с пиратами, господин Бюрнс?
— Я бы солгал, если бы сказал «да», чтобы тебе угодить.
Когда господин Бюрнс по таинственным причинам погружался в воспоминания, он любил описывать Антильские острова11. Он говорил, что они брошены на воду, словно чаши с цветами и фруктами. Он знал латинские названия всех растений и их применение в медицине и в промышленности. Он восхищался медицинскими познаниями дикарей, которым были известны свойства трав и их способность продлевать жизнь. Он совершенно не верил в бороздящего океаны знаменитого «Летучего Голландца»12, о котором Кильвинек нам все уши прожужжал, зато считал, что морской змей — не выдумка, а одно из тех чудовищ, которые почти все вымерли в результате Потопа, описанного в Книге Бытия13.
Эти поучительные разговоры радовали моего отца настолько, что он подчас забывал обслуживать покупателей. Те скромно случали по прилавку монеткой в надежде привлечь его внимание.
Выбрав себе нож, господин Бюрнс пожелал нам приятного аппетита. Отец пригласил его разделить с нами обед, но он отклонил приглашение.
— Слушай этого человека, Ив-Мари, — сказал мне отец после ухода нашего друга, — всё, что он знает, известно ему не понаслышке. Это придает его суждениям основательность. Позже ты поймешь, сколько смысла в его речах. Ты у нас немножко мечтателен, немножко импульсивен. И я не скажу, что это мне не нравится: мечтать — это занятие, которое часто не хуже любого другого помогает держать язык за зубами и не болтать лишнего.
Как я любил отца, когда он так со мной говорил! Он словно дышал поэзией мира, составляя опись товаров своей лавки, где каждый
528
Дополнения
предмет мог поведать свою историю и бесконечно много говорил его чувству и уму.
Когда мы отобедали, пришли посыльный от судовладельца и писарь с «Клариссы»; они сделали отцу солидный заказ: галеты, тушеное мясо и ром. Стаканчик того же напитка скрепил сделку. Меня тоже в кои-то веки пригласили выпить с этими господами.
— Я люблю ром, — говорил отец, поднимая оловянный кубок на уровень глаз. — Вдыхаю его аромат и чувствую себя словно в цветущем саду бордосца господина Лакоссада, обладателя толпы упитанных рабов14, лицом похожего на императора Калигулу15.
Меня же поэтическое очарование рома волновало меньше, чем фигура эбенового дерева16 на носу «Розы Саванны».
Я невольно связывал даму из черного дерева с незабываемым обликом Жерома Бюрнса. Ее чары были сродни его чарам. Мне трудно было понять, чем они так меня завораживают.
Писарь с «Клариссы» был видный мужчина, дородный и полнокровный; его мускулистые ляжки были туго обтянуты красными суконными штанами, а могучим плечам было тесно в сером сюртуке стального оттенка с алыми бархатными обшлагами. Он с видом истинного гурмана вдыхал аромат рома и хитро подмигивал в сторону графина богемского хрусталя, выставленного на прилавке.
Отец понял значение этого взгляда и с улыбкой вновь наполнил стаканчик веселого толстяка.
— Ах ты черт! За Бахуса17 и за прекрасных дам! С вашего позволения... Это вливает бодрость. Выпьем стаканчик на посошок, как говорится, за здоровье Пти-Раде: пускай повеселится на виселице, которую мы ему рано или поздно предоставим.
— Пти-Раде? — удивленно переспросил отец.
— А что, господин Морга, вы не знали? «Кларисса» сейчас вовсю снаряжается для погони за этим проклятущим морским угрем. Мы даже слыхали, что к нашим скромным силам, не столько военным, сколько штатским, вот-вот присоединится «Неэра»18, фрегат с сорока пушками и тремя сотнями людей экипажа. Нам отведена роль подсад¬
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 8
529
ной утки, чтобы приманить зверя, но ничего, мы и сами готовим ему отменный сюрприз.
В этот миг мы увидели в окно человек десять офицеров Королевского флота, в красивых синих мундирах с золотыми галунами, в красных штанах и красных чулках. Они шагали по Сиамской улице, тихо, но оживленно о чем-то переговариваясь. Впереди шествовал господин граф де Гишан, генерал-лейтенант, командующий флотом19, а рядом с ним — господин граф Лебег20, директор артиллерии21 и капитан первого ранга.
— Вот видите, — заметил писарь, подойдя к окну, — а что я вам говорил? Разрази меня гром, если это не офицеры «Неэры» в полном составе!
За офицерами следовали солдаты Брестского полка. Мы хорошо знали их синие мундиры с алыми отворотами, с белыми камзолами, панталонами и гетрами, доходившими до колен. Это был полк нашего города, и мы любили его, как всё, что относилось к нашей истории. Солдатами командовал господин де Керьон. Его семья была из этих мест. И все считали, что лучшего командира полка не найти. Популярность Брестского полка была такова, что его ставили выше, чем швейцарский полк Каррера, состоявший в свое время на службе у знаменитой Ост-Индской компании, распущенной за несколько лет до описываемых событий. На военных парадах Брестский полк маршировал последним, сразу вслед за Морским полком в белых мундирах с черными отворотами и обшлагами и голубыми воротниками, а те, в свой черед, шли после Королевского Корабельного полка, чьи белые мундиры с красными воротниками и синими отворотами и обшлагами славились на всю Францию.
— В самом деле, — сказал отец, — вот и Брестский полк отправляет роту стрелков в походном обмундировании. Неспроста вся эта лихорадка: очень может быть, что скоро грянут события исключительной важности.
Я не вмешивался в разговор, но тоже думал обо всём этом.
Слова толстого писаря пышно расцвели в моем воображении. Для меня было очевидно, что у входа в гавань скоро произойдет нечто небывалое.
530
Дополнения
— Нет дыма без огня, — сказал нам как-то Пиллавер. — Раз пошло столько разговоров о Пти-Раде, значит, в наших местах бросил якорь какой-то дьявол, похожий на него как две капли воды.
Тогда мне показалось, что нужно немедленно сходить к господину Бюрнсу и поговорить с ним о слухах, из-за которых корабли покидают порт, а солдаты — казармы.
Перед «Жаркой печкой» я встретил Бришни: он был занят тем, что вгонял в краску милую Манон, но тут же перестал балагурить, чтобы охладить мой исследовательский пыл и развенчать умозаключения, которые ему казались «преждевременными».
Я недолго оставался в его обществе. Паромщик перевез меня на другой берег, и я углубился в переулки, уступами поднимавшиеся вверх среди садов Рекувранса. Вскоре я достиг домика госпожи Лемёр, утопавшего в белых и розовых гроздьях сирени.
Я стукнул молоточком в дверь — раз, другой. Наконец я услыхал в прихожей шаги и плаксивый голос госпожи Лемёр:
— Кто там?
— Это младший Морга, госпожа Лемёр. Я хотел узнать, не располагает ли господин Бюрнс досугом, чтобы меня принять.
Дверь отворилась, и в проеме возникла сама госпожа Лемёр:
— Дорогой господин Морга, господина Бюрнса нет. Он покинул дом около часа тому назад.
— Покинул дом... — протянул я разочарованно. — Вероятно, пошел прогуляться. Что ж, зайду попозже или подожду его немного, если позволите.
— Да нет, он уехал, — возразила госпожа Лемёр, — уехал на коне, огромном могучем коне, который может унести его далеко. Кстати, он оставил мне ключи и сказал, что, возможно, вернется только через неделю.
Я подергал себя за ухо, распрощался с доброй женщиной и, несколько растерянный, отправился обратно в Брест, на сей раз через мост Рекувранс22.
Но меня подстерегала другая неожиданность, которой было суждено остаться у меня в памяти навсегда. Когда я подошел к набережной
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 8
531
в том месте, где на нее выходит Сиамская улица, ко мне приблизился рослый поселянин, одетый в красно-коричневый наряд, как одеваются мужчины в Плугастель-Сен-Пьер;23 из клетчатого шерстяного пояса он извлек свернутую бумажку и протянул ее мне, прижимая палец к губам, чтобы призвать к молчанию.
Не успел я взять бумажку, как человек затерялся в толпе торговцев луком, прибывших из Роскофа24, которые с шумом и гамом раскладывали свой товар на углу Сиамской улицы.
Я тут же развернул бумагу и, волнуясь, прочел следующее:
Уже несколько дней я не думал о человеке, которому не было нужды подписывать эти строки — я и так его узнал. Когда вы молоды, прошлое быстро изглаживается из памяти. С тех пор как я вернулся к привычным занятиям и к удобствам повседневной жизни, я почти позабыл мою эскападу, от которой в памяти сохранились только самые привлекательные моменты.
Это приключение выставило меня в выгодном свете перед друзьями по коллежу, и даже беспечный Бришни был, казалось, под глубоким впечатлением от моей ночной вылазки. Странное дело: его словно больше, чем меня, задела вся необычность этого неожиданного при¬
ключения.
532
Дополнения
Домой я вернулся взволнованный, но старался не выдать своего возбуждения. В себе я был уверен. Я не забывал, как смог устоять перед искушением поговорить о Ночном Жане, когда повстречал его друж- ков-каторжников около замка. Это было в тот самый день, когда приплыла «Роза Саванны». Так что в собственной силе воли я не сомневался. Решено: перечту письмо от Ночного Жана и сожгу его, чтобы больше о нем не думать.
Войдя в лавку, где отец в одиночестве проверял какой-то счет, я объявил ему без околичностей, что господин Бюрнс отбыл в неизвестном направлении верхом на коне, которого я без колебаний назвал «горячим скакуном».
— Как это неожиданно! — сказал отец. — Господин Бюрнс ни словом не предупредил меня о своем отъезде. Вероятно, у него возник очень срочный повод. Должно быть, он внезапно узнал какую-нибудь новость, которая побудила его к отъезду.
Отец вновь погрузился в страницы гроссбуха, в который вносил расходы и доходы.
Обед еще был не готов, я поднялся к себе в комнату и вновь перечел таинственную записку. Погрузившись в размышления, я скользил взглядом по книжным полкам, где среди моих школьных учебников выстроились деревянные фигурки, вырезанные и раскрашенные Ночным Жаном. Никогда еще они мне не нравились так, как сегодня. Я взял в руки фигурку, изображавшую капитана Королевского флота, чтобы рассмотреть ее получше. Она смахивала на портрет, отчасти карикатурный, господина де Буа-Бодру, командира «Неэры». Его высокая фигура и лицо, исполненное благородства, внушали почтение и страх. Тщательно раскрашенная статуэтка передавала все подробности обмундирования с головы до ног, точно как в жизни, от треуголки, отделанной золотым галуном, до башмаков из матовой кожи и с серебряными пряжками. Синий мундир, так же как красные камзол и панталоны, был тоже отделан галуном тонкого золота. На суше господин де Буа-Бодру носил белые чулки, на борту корабля — красные.
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 8
533
Я долго разглядывал деревянного человечка, так искусно исполненного, и мысль моя перешла на его автора, Ночного Жана. Что с ним сталось? Его так и не поймали. Об этом свидетельствовало его послание. В какой гавани нашел он приют? А этот пьяница, Клубника? А угрюмый Томас Англичанин, товарищ Ночного Жана? Что с ними сталось, со всеми этими ночными дружками, как называл их Жан-скулыттор? Тайна, которая помимо моего желания, вопреки моему воспитанию вошла в мою жизнь, так меня будоражила, что я уже не мог усидеть на месте. Я метался по комнатке из угла в угол — галстук развязан, волосы отброшены назад.
Я произнес вслух:
— Не стану отвечать. Не хочу огорчать ни отца, ни моего друга Жерома Бюрнса.
Чтобы отделаться от искушения, я разорвал записку в мелкие клочки и пустил по ветру обрывки, разлетевшиеся по крышам и водосточным желобам. Но это не принесло мне успокоения. Я не мог отделаться от чувства, что Пти-Раде где-то рядом, и воображение мое придавало ему самый нелепый и несуразный облик.
К ночи я нацарапал карандашом записку и твердо пообещал сам себе, что порву ее так же, как послание Ночного Жана.
После ужина я отправился на набережную подышать воздухом — там всё еще царило оживление. Пахло войной. Я смотрел, как мечутся отражения сигнальных огней. Вдоль причалов на Пенфельде больше сотни фонариков освещали солдат, всходивших на баржи, чтобы плыть в лагерь Параме.
Иногда слышались раскаты барабана, призывный голос трубы, писк флейты или гобоя, наигрывавших песенку.
Я повернулся спиной к этому театру теней и, словно автомат25, направился домой через Керавель. На углу улочки рядом с кабаком «Не- птунова роща», теперь закрытым, я заметил камень — тот самый, что оказался косвенной причиной моих первых горестей. Он оброс мхом. Я слегка приподнял его и подсунул под него ответную записку, которую так и не разорвал.
534
Дополнения
Всё это заняло совсем немного времени, и, вернувшись домой, я увидел отца, беседовавшего на пороге дома с господином де Пенвилем и господином де Форстером, лейтенантом полка Каррера. Эти господа ждали меня. Отец закрывал окна лавки ставнями и собирался в «Жаркую печку», где уже собрались друзья.
Немного подразнив Марианну, я поднялся к себе в комнату. Сна не было ни в одном глазу. Я потушил свечу и отворил окно, из которого видны были Сиамская улица и часть набережной перед портом. Ночь была великолепна. Ночной бриз разгонял жару, исходившую от каменных стен, прожаренных июльским солнцем.
Но я не мог мирно наслаждаться этой ласковой погодой. Я бранил себя за свое поведение. Кровь стучала у меня в висках. Какая глупость — опять связываться с Ночным Жаном, отвечать ему! Я предвидел, что это приведет к множеству осложнений. Впервые в жизни к моим привычным грезам о приключениях примешивались мысли о пролитой человеческой крови. В конце дороги, на которую толкал меня Ночной Жан, мне мерещилось убийство. Мне стало страшно, это чувство захватило меня с такой силой, что я решил пойти назад и забрать записку, спрятанную под камнем.
Отсутствие отца облегчало мне задачу. Не дав себе труда надеть шляпу, я тихо, чтобы не разбудить Марианну, спустился по лестнице. В конце коридора была небольшая дверь, выходившая в переулок, — этим путем нетрудно было ускользнуть из дому. Едва ступив на мостовую, я бросился бегом, держась как можно ближе к стенам домов, на цыпочках, стараясь не шуметь. Скоро я добежал до проклятого камня. Я поднял его двумя руками и сразу же понял, что записка уже исчезла.
Я застыл на мгновение, не зная, что предпринять. Внезапно на меня обрушился непреодолимый страх, и я понесся что было сил по направлению к дому.
Я упал на кровать — ноги меня не держали, по лицу струился
пот.
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 8
535
Всю ночь я не спал. Я вновь и вновь перебирал в памяти слова моей записки. В ней, в сущности, не было ничего страшного. Вот что я написал:
В конце концов меня сморил сон.
ficcJ-Oi, Я
TT D Л R ÎT Тн говоря, побег Ночного * * *• ** Жана и его сообщни¬
ка, надзирателя Клубники, не наделал особого шума. Это событие, интересовавшее меня по особым причинам, ничуть не нарушило повседневной жизни каторжной тюрьмы. Время от времени холостой пушечный выстрел спугивал чаек, качавшихся на воде Пенфель- да; конная полиция прочесывала окрестности, но потом — не важно, удалось ли поймать беглецов — общественное мнение довольно скоро успокоилось. Жизнь городка опять потекла по-старому, и только молодежи не давало покоя воображение. А каторжное начальство утешалось сентенцией, придуманной одним надзирателем: одного потеряли — десятерых нашли.
Я смотрел на вещи по-другому. Меня интересовало, куда делись эти двое. Мое любопытство подхлестывала страсть к приключениям, с которой боролись мой отец и господин Бюрнс, и, несмотря на пресловутую вылазку, о которой со мной больше уже никто не заговаривал, я не понимал до конца, насколько это опасно.
Как я жалел, что Ночной Жан не успел показать мне деревянную фигурку Пти-Раде, которую он вырезал по памяти! Оказываясь в толпе — на эспланаде по воскресеньям или на Сиамской улице в базарный день, — я выбирал кого-нибудь среди незнакомых людей, шедших мимо. И думал: «А может, это Пти-Раде?» Мне было из кого выбирать, потому что в городе нашем было полным-полно моряков, чьи лица,
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 9
537
выдубленные морскими ветрами, могли с тем же успехом принадлежать и честному капитану торгового судна, такому как Жоашен Гоас, и джентльмену удачи, бороздящему моря под черным флагом с черепом и двумя костями крест-накрест1.
Иногда мне казалось, что инстинкт подскажет мне, кто он. Однако ничто не подкрепляло моих смутных догадок. Так, несколько дней я воображал, будто узнал Пти-Раде в почтенном парусном мастере, служившем на «Флоре», королевском фрегате, который снаряжался ввиду предстоящей войны.
Двери коллежа стояли на запоре; меня приняли в артиллерийское училище в Меце, и теперь я был на каникулах. После зачисления у меня оказалось много досуга, и я мог бродить сколько душе угодно, потому что отец хотел, чтобы я воспользовался последними беззаботными днями свободы. Стоял конец июля, а занятия в училище начинались в первые дни октября. Должен признаться, что гораздо большее удовольствие я получал, мысленно составляя маршрут предстоящей поездки, чем думая о Пти-Раде, который рыщет на наших берегах, или в городах Нижней Бретани, или в коммунах Мене2. Поговаривали, будто он скрывается в горах вместе с какой-то разбойницей, чьи деяния наводили ужас на путешественников.
«К чертям разбойницу!» — думал я, спускаясь к замку; там я повстречал Бришни, который был очень занят: целыми днями он рисовал солдат. Это приносило ему заработок. Многие офицеры Брестского полка заказали ему свои портреты. Господин де Форстер заказал ему портрет дочери, мадемуазель Изабеллы, которая незадолго до того обручилась с лейтенантом одного из фрегатов, стоявших в нашем порту.
Я издали заметил Никола де Бришни за мольбертом. Его окружало с полдюжины солдат в рабочей одежде, — в полицейских шапках, которые назывались «покалём»3, и в простых синих куртках, надетых наизнанку, то есть серой полотняной подкладкой наружу, потому что ее легче было отстирать. Другие солдаты сидели на деревянной скамье верхом, в затылок друг другу, и с самым что ни на есть серьезным видом причесывали один другого.
538
Дополнения
С четверть часа сидел я рядом с другом и смотрел, как он работает. Это занятие быстро мне наскучило, и я пошел по тропинке, которая огибала замок и вела к круговой дороге.
И тут у меня ёкнуло сердце: передо мной, неподвижная на спокойной водной глади, с аккуратно свернутым парусом, возникла «Роза Саванны» под охраной черной дамы с грудью юной богини.
Я сел на камень и долго сидел, глядя на прекрасный корабль, подперев голову обеими руками; мысли мои витали бог весть где, улетая за бретонский горизонт и за разумные пределы моего будущего.
Смеркалось, и сумерки постепенно меняли всё вокруг. Внезапно я вспомнил, что отец дал мне поручение к капитану Жоашену Гоасу, чье судно, «Мари-Кардез», кажется, бросило якорь неподалеку от «Розы Саванны». Было уже почти темно, и на кораблях, стоявших на рейде, зажигались сигнальные огни. Я встал, собираясь отнести отцовское письмо капитану Гоасу; речь шла о прекрасном хронометре4, требовавшем починки. Сами часы лежали у меня в кармане, но я совершенно забыл о них, пока болтал с Бришни. Славный Гоас, даром что превосходный моряк, отнюдь не был авантюристом. Он был отцом пяти детей, старший учился в моем коллеже. Правда, этот юноша готовил себя к духовной стезе.
В два прыжка перенесся я на набережную; она казалась пустынной. Суда со свернутыми парусами на реях были похожи на флот кораблей-призраков. Бегом миновал я застывшую в тишине «Розу Саванны» и через несколько кабельтовых5 добрался до «Мари-Кардез», на которой что-то происходило. На носу раскачивался фонарь. Я не видел человека, державшего этот фонарь, потому что стало уже совсем темно. Я окликнул судно с берега:
— Эй! На «Мари-Кардез»!
-Да?
— Пришлите шлюпку! Это вы, господин Гоас? Я Ив-Мари Морга. Отец поручил мне отнести вам ваш хронометр.
— Погоди, паренек, я сейчас.
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 9
539
Большой фонарь переместился, и вскоре я услышал скрип вёсел в уключинах шлюпки.
Капитан Жоашен Гоас взял свое добро и велел поблагодарить отца от его имени за любезность.
— Мы снимемся с якоря рано утром. Ветер благоприятный. Если ты, Малыш Морга, хочешь поглядеть на красивое отплытие при попутном ветре, встань пораньше и приходи к дороге на Ланьон6 нас проводить.
— Спасибо, но для меня это рановато, — со смехом возразил я.
— Ах ты разбойник, Малыш Морга!
Славный моряк вернулся на свой бриг, а я еще какое-то время провожал глазами фонарь, удалявшийся вместе со скрипом вёсел.
Теперь на набережной царила полная тишина. Только один тусклый фонарик освещал крутую тропинку, которая вела мимо башни Мадлен к замку. В темноте не так-то легко было пройти по этой дорожке, кое-как вымощенной острыми камнями. Сам не знаю почему, возвращаясь домой, я выбрал этот опасный и зловонный путь. На полпути я остановился немного передохнуть: тяжелый предгрозовой воздух затруднял дыхание. Я взобрался на какой-то камень, как на тумбу; меня скрывала густая тень скалы, возвышавшейся надо мной; и тут внизу, прямо у меня под ногами, я заметил верхнюю палубу «Розы Саванны», освещенную переносным фонарем, который стоял на бочке, покрытой брезентом.
В луче маслянисто-желтого света я увидел человека с изрытым оспой лицом. Он с кем-то тихо переговаривался, но я не мог различить даже силуэта его собеседника, потому что он находился в темноте. Инстинктивно я присел на корточки, чтобы меня совсем не было видно. Я навострил уши, но слышал лишь громкий стук собственного сердца в груди. От шепота на палубе до меня долетали только невнятные обрывки фраз. И все-таки я услышал, как тот, с изрытым лицом, сказал:
— Надо распорядиться, чтобы все уходили один за другим...
В этот миг раздался долгий пронзительный свист, заставивший меня вздрогнуть. Казалось, он насмерть перепугал обоих собеседников с «Розы Саванны». Человек с изрытым оспой лицом переставил фонарь
540
Дополнения
и подошел к борту, а второй, казалось, обратился в бегство: я слышал звук его поспешно удалявшихся шагов. Что-то очень тяжелое упало на палубу корабля.
Опершись на обшивку и положив руку на выбленку7, рябой, посвистывая, осматривал набережную, по-прежнему пустынную. Еще несколько минут всё было тихо, потом опять раздались два коротких свистка. Тогда рябой обернулся к верхней палубе и сказал:
— Ложная тревога.
Невидимый собеседник вышел из укрытия и вновь приблизился к рябому, сказал ему что-то на ухо и наклонился, вглядываясь в набережную. Мне не видно было его лица, скрытое высоким воротником широкой шерстяной моряцкой куртки. Вероятно, решив, что всё в порядке, он спрыгнул на доску, служившую сходнями. В два прыжка он достиг скал у подножия замка, отбрасывавших густую тень.
Всё это произошло очень быстро и привело меня в сильное замешательство. Не успел я опомниться, как на тропинке, на краю которой я прятался, послышались шаги. Мимо, почти задевая меня, прошел человек — темная фигура, одновременно и тяжелая, и легкая. Человек оступился и выругался по-бретонски. Я узнал его голос. Вернее, сперва мне показалось, что я его узнал, но потом, вконец разволновавшись, я решил, что, должно быть, ошибся: этот будто бы хорошо знакомый мне голос был похож на голос господина Жерома Бюрнса. Этого быть не могло.
Прежде чем мне удалось хоть немного справиться с волнением, человек уже ушел далеко. О том, чтобы побежать за ним вдогонку, я и не думал. Откровенно говоря, мне это даже в голову не пришло.
Обуреваемый любопытством, страхом, оторопью, я чувствовал, что ни на что не могу решиться. Понурив голову, я поспешил домой. Несколько раз я чуть не сломал себе шею.
— Как ты припозднился, — сказал мне отец. — Я уже начал беспокоиться...
— Этот мальчишка ни с кем не считается, — вставила Марианна. — Кончит свои дни на эшафоте, как бандит с большой дороги.
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 9
541
Я ничего не ответил. Образы рябого и особенно незнакомца, украдкой пробиравшегося по тропе, поочередно всплывали в моем воображении, и без того чересчур возбудимом. Я закрывал глаза, чтобы эти ви- дёния представились мне еще отчетливей. Воистину, я не знал, что и подумать. Я помнил, о чем мы говорили с господином Бюрнсом в день прибытия «Розы Саванны». Среди прочего, в восхищении от искусного маневра этого прекрасного корабля, я спросил его тогда, не знаком ли ему этот замечательный экипаж.
— Ты что ж, Малыш Морга, думаешь, что все на свете моряки у меня в друзьях?
Ясное дело: господин Жером Бюрнс не мог быть тем человеком, который с такой таинственностью переговаривался с рябым моряком загадочной шхуны.
— Иди спать, — сказал мне отец. — Ты спишь на ходу.
Я не заставил себя просить дважды. Мне не терпелось остаться одному. Я поднялся к себе в комнату. Отворил окно, потому что в комнате было душно и жарко, задул свечу в медном подсвечнике, которую держал в руке. Безмятежная ночная тьма, усеянная звездами, не сулила беды. На улице не было ни души, если не считать кота из «Жаркой печки», копавшегося в куче отбросов.
Я затворил окно и разделся в темноте. Перед тем как заснуть, я прочел молитву. Я попросил Бога за отца и за моего большого друга; я сам не знал, за кого мне было бы приятней молиться, — за Жерома Бюрнса, почтенного горожанина из Рекувранса, или за Жерома Бюрнса, владельца «Розы Саванны».
Я проснулся, когда уже рассвело, разбуженный ароматом молочного супа и блинов из гречневой муки, обильно сдобренных маслом, — и провел рукой по лицу, словно стирая с него следы сомнений.
* * *
Я находился в помещении позади лавки. Я услышал звяканье колокольчика у дверей и стук трости о прилавок, что возвещало приход господина Бюрнса. Он вошел, как луч солнца между двух туч, и я бросился ему навстречу, чтобы пожать ему руку.
542
Дополнения
— Тише, тише, Малыш Морга, — говорил он, а сам смеялся, приветливо глядя на меня. — Я же никуда не пропадал!
— Мы рады вновь вас увидеть, — сказал отец. — Нам вас не хватало. Мы всё время вас поминали.
— Я вернулся из Кемпера! Небольшое дело, связанное с наследством... А как там «Роза Саванны»? — добавил он, обернувшись ко мне.
— По-прежнему на якоре перед замком, — ответил я, невольно краснея.
Присутствие нашего друга развеивало все мои подозрения. Дурные мысли, осаждавшие меня, пока его не было, унижали меня, и я сам себе казался дураком.
И все-таки эта «Роза Саванны» дерзко вторгалась в мое существование сухопутного жителя, захваченного поэтическими мечтаниями. Я был в том возрасте, когда люди придают своим желаниям человеческий облик. Прекрасная эбеновая женщина на носу этого одинокого корабля словно воплощала в себе все мои мечты.
На другой день после возвращения господина Бюрнса я решил обсудить с отцом мысль, которая запала мне в сердце и терзала вот уже несколько недель. Отец находился один в лавке. Это был удобный случай.
— Отец, я хотел бы попросить вас об одном одолжении.
— Что ты имеешь в виду, Ив-Мари?
— Вы обещали мне награду за успешный вступительный экзамен в Мецское училище. Я бы хотел, чтобы вы разрешили мне изменить название нашей лавки и надпись на вывеске, это будет данью уважения нашему другу господину Бюрнсу. Отчасти благодаря его урокам я скоро буду иметь честь носить шпагу.
— А чем это изменение вывески может порадовать нашего друга?
— Вот какое название я нашел взамен прежнего. Вместо «Кораллового якоря» у нас будет «Якорь милосердия». А написать вывеску я попрошу Никола де Бришни.
— О господи! — вырвалось у отца, который был слегка озадачен. — Я не могу отказать тебе в этой радости. В сущности, это пустяк. Но
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 9
543
почему ты думаешь, что слово «милосердие» будет так приятно господину Бюрнсу?
— Так назывался его корабль, — отвечал я. — И когда он мне об этом рассказывал, я почувствовал, как он его любил.
— Пускай будет «Якорь милосердия», — с улыбкой сказал отец, — и пускай распространится на нас его покровительство, потому что, как ты знаешь, якорь милосердия — это последний из якорей спасения8.
Я запрыгал от радости, поблагодарил отца и бросился в «Жаркую печку», где, как я знал, найду Бришни. Я хотел ковать железо, пока горячо.
— Да здравствует королевская артиллерия! — закричал при виде меня Бришни. Он сидел за столом, на котором красовался кувшинчик нантского вина9, в одной руке держал трубку, другой пытался ухватить за подбородок Манон, которая хлопала его по пальцам.
Я подсел к Бришни, и Манон принесла мне стакан, выслушав обычные упреки господина Подера.
— Никола, придется тебе блеснуть, — начал я без дальних слов. — Я пришел тебе докучать. Но, если согласишься, ты меня очень порадуешь.
— Клянусь Бахусом и его прислужницей, вот этой самой прислужницей, — воскликнул он, указывая на Манон из Гвенеда, — я тебя осчастливлю. Что для этого нужно сделать?
Я изложил ему свой замысел. Бришни внимательно меня выслушал, а сам тем временем уже открыл альбом и начал делать набросок новой вывески.
— Якорь мы поместим посередке, вот так... сюда... а над ним — солнце с лучами. На заднем плане изобразим шхуну... погоди... такую, какая стоит на якоре перед замком... и пустим ленту со словами «У якоря милосердия»...
— Очень хорошо, Никола. Спасибо тебе. Но я бы хотел, чтобы вывеска была готова как можно скорее. Послезавтра господин Бюрнс придет к нам обедать, и я был бы в восторге, если бы, войдя, он мог порадоваться этому знаку уважения.
544
Дополнения
— Завтра с утра сяду писать. К вечеру твоя вывеска высохнет, и мы ее повесим, как только захочешь. Теперь выпей и расскажи мне, что говорят о готовящейся войне в кругу бомбардиров10. Кстати, вы в вашей артиллерии не носите медвежьих шапок, как бомбардиры. А жаль, это было бы тебе к липу. Господин де Грибоваль или господин де Вальер должны были бы восполнить это упущение11.
Я и сам был не прочь пошутить и хлопнул его по плечу.
— Расскажи мне лучше про Манон.
— Эта потаскушка! — произнес Бришни. — Она любит сержанта Королевского Корабельного полка, ус у него долгий, а ум короткий, но зато он обещал на ней жениться.
На другой день Никола де Бришни, верный своему обещанию, взялся за работу. Очень быстро он намалевал произведение искусства, которое показалось мне выше всяких похвал. Он сам написал буквы — это заняло у него больше всего времени.
На другой день с утра вывеску водрузили на место. Наша лавочка шипчандлера стала предметом интереса со стороны зевак. Все, кто проходил мимо, задирали головы и просили объяснений у отца, который в конце концов решил вернуться в кухню и запереть дверь.
Когда в полдень выстрелила пушка, я стал караулить приход господина Жерома Бюрнса, чтобы насладиться его изумлением.
Едва заметив его на углу улицы, я побежал ему навстречу. Глаза мои сияли от восторга. От него это не укрылось, и он заметил:
— А ты как будто в превосходном настроении, Малыш Морга.
Перед нашей дверью я предложил ему посмотреть вверх. Он увидел вывеску и прочел вслух:
— «У якоря милосердия».
Сперва он помолчал. Только покачал головой с мягкой улыбкой. Наконец он сказал:
— Это слово, «милосердие», нужно убрать.
Я был в замешательстве.
— Нужно убрать это название, Малыш Морга; пускай оно мне дорого, оно не заслуживает такого дружеского признания ни с твоей стороны, ни со стороны твоего отца.
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 9
545
— Я никогда этого не сделаю. И отец тоже не захочет.
— Тогда, Малыш Морга, я соглашусь, но с условием: обещай мне благоразумно идти вперед по избранной стезе и больше не мечтать о море...
— Я подумаю, — сказал я, улыбаясь. — Осужденный всегда получает в свое распоряжение семь минут, чтобы воззвать к Богу.
Жером Бюрнс ласково погрозил мне пальцем:
— Ах, Малыш Морга, плутишка Малыш Морга, получай свои семь минут и думай на здоровье.
Мы вошли. Отец в сердечном порыве сжал руки дорогого гостя. А Марианна внесла дымящуюся котриаду12, благоухающую пряностями.
Весь обед Жером Бюрнс занимал отца упоительными разговорами. В тот день он излагал настолько передовые взгляды на общественное устройство, что они отдавали парижскими подпольными листками13.
Иногда отец останавливал его, поднимая палец, и говорил:
— С вашего позволения, так далеко я не стал бы заходить, в отличие от вас.
Но в конечном счете они во всём соглашались друг с другом, потому что оба высоко ставили порядок и чистоту нравов.
— Вот и этот малыш, — говорил господин Бюрнс, — он только и бредит что морскими сражениями, абордажем, каперскими свидетельствами14 и завоеваниями дальних стран.
Я ничего не говорил, а сам думал: «Этот вопрос уже положили под сукно».
— Знаю, — отозвался отец. — Когда я был в его возрасте, меня тоже волновало море. А потом я остался здесь, на приколе.
Он печально улыбнулся, взял щепотку табаку и набил свою фламандскую глиняную трубку.
Жером Бюрнс последовал его примеру и, зачерпнув табаку из большой белой с синим банки голландского фаянса, вдруг оживился.
— Когда я был в его возрасте, я день и ночь думал о море. Между всеми строчками в моей книге «De viris illustribus urbis Romæ»*15 я читал
* «О знаменитых мужах города Рима» [лат).
546
Дополнения
огненные буквы:16 «Ты будешь моряком и изведаешь приключения». Приключения! — Он усмехнулся. — Я искал их на всех морях в мире, но ни разу не встретил такого прекрасного и чистого приключения, какое представало моему воображению. Это недостижимо. Лучшую часть жизни проводишь в погоне за поэтическим фантомом. А потом приходят годы, когда понимаешь, что смерть всё ближе, ближе, а ты так и не узнал, в чем состоит истинная радость жизни... семейный очаг, любовь... — Господин Бюрнс повернулся к отцу и мягко добавил: — Уж это-то я понимаю.
— Но вы не обо всём сказали, — возразил я, глядя ему прямо в глаза.
— Малыш Морга, тебе не понять. Нужно многое пережить, чтобы услышать зов другой жизни, той, какая могла бы у тебя быть. Когда ты на самом деле поймешь, как я был прав, давая тебе советы, будет уже слишком поздно.
— Этот паренек упрям, как мул, но нутро у него надежное. Я верю в него — точно так же, как верю в ваши идеи, дорогой Жером. Знаю, он не посрамит своего синего мундира и своей шпаги.
— Я в этом убежден, — подтвердил господин Бюрнс, глядя на меня.
И его безмятежное лицо озарила хитрая и добрая улыбка.
Затем Жером Бюрнс и мой отец сели за шахматы и начали партию,
которая длилась до вечера.
— Угадайте, который час! — воскликнул наконец господин Бюрнс, взглянув на часы.
— Время ужинать, и мы вас не отпустим: пусть день будет радостным до конца.
— Жан-Себастьен Морга, я не хочу злоупотреблять вашим гостеприимством. Да и госпожа Лемёр будет беспокоиться.
— Ваш отказ не принимается, — сказал отец. — Марианна приготовила вам сюрприз. Не следует ей перечить. Нынче утром я что-то слышал о горячих сладких пирогах, о креме... Все ваши сомнения развеются!
Господин Бюрнс еще поотнекивался. Наконец он согласился:
— В таком случае до ужина я дам вам реванш.
Отец стал расставлять фигуры на шахматной доске.
предшествовавшая новому У крещению нашей лавки, сменилась другой, которая принесла весьма бурные события, нарушавшие удобное однообразие нашей повседневной жизни. Один за другим нас посетили Гуэре, Пилла- вер, капитан Гоас, вернувшийся из Гааги, Ианик Дигвенер и Кильви- нек. Все эти люди путешествовали, кто по дорогам, кто по морю, а теперь вернулись на Сиамскую улицу, переполненные впечатлениями. Пиллавер пересказывал слухи, которые слышал на рынках от Кем- пера до Шатолена1. Капитан Гоас объявлял, что война неминуема. Ианик Дигвенер из Куэнона и Кильвинек из Селкгт2 добавляли свои соображения к жизнеописанию Пти- Раде.
Всё побережье, от Лорьяна до Роскофа, трепетало, когда звучало имя этого джентльмена удачи. Его легендарные подвиги сеяли страх во всех портах. Барки не осмеливались больше выходить в море, суда береговой охраны из Груа готовы были разоружиться. С наступлением ночи во всех кабачках на побережье люди только о нем и судачили, понизив голос. И завывания ветра доносили, казалось, последние жалобные стоны жертв знаменитого пирата.
Мой отец говорил:
— Эх, ради святого Иво Бретонского3, не морочьте вы себе голову. Разве вы видели своими глазами хоть одну жертву этого Пти-Раде?
548
Дополнения
— Пти-Раде умер, — подхватил я. — Разве вы не слышали, как господин Бюрнс подтвердил это несколько недель тому назад?
— Умер или не умер, — возразил Пиллавер, крутившийся у прилавка, — но он здесь. Мы чувствуем, что он где-то рядом. Он вмешивается в нашу жизнь и не дает нам работать. Девушки не хотят больше наряжаться на праздники. Чепцы желтеют в сундуках. Нас поджаривают на медленном огне, мы чахнем. На той неделе я был в Мериане4 и не продал даже носового платка, а после заката люди не желают выходить из дому даже на посиделки. Люди перестали петь. Красивые вышитые передники и чепцы остаются в сундуках, а баллады и любовные песни застревают в глотке у слепцов, распевающих на рынках.
— Ты правду говоришь, — поддакнул Кильвинек, который вошел, пока Гуэре произносил свою речь. — Я вот сейчас из Уэссана и Ле- Конке. Рыбаки больше не выходят в море. Я только что на набережной встретил Дигвенера, он вам подтвердит. Он должен сюда прийти, чтобы купить галеты, веревку для сетей и выпивку. Он вам скажет, что видел между Моленом и Кеменезом бриг, белый, как слоновая кость. Первым делом он перекрестился, потому что думал, что перед ним корабль-призрак Иоанна-на-Бога-Уповающего5. Но потом он понял свою ошибку, когда увидел, что орудия на корабле современные, а кроме того, люди на юте6 были крепкие и упитанные, ух какие упитанные, даром что не больно воспитанные!
— Всё это не слишком убедительно, — сказал отец. — А, вот и Дигве- нер. Ив-Мари, дай-ка мне вон тот моток веревки, он над тобой на полке. Не нужно заставлять этого достойного человека ждать.
Но Дигвенер не торопился. Он был набит словами, как испанский галеон — дублонами7.
— Вот уж впрямь... — выпалил он с порога. Потом спохватился: — Всем добрый день. Храни вас Бог. Вы подготовили мне товары, господин Морга? Кильвинек хотя бы передал вам мой заказ? Здорово, Кильвинек. Я уже второй раз с тобой здороваюсь. Значит, скоро встретимся и в третий! О, дьявольщина! Мне еще нужен табак, господин Морга. Это не для меня, а для сержанта береговой милиции из Ле-Конке.
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 10
549
— Пуэрто-риканский?
— Пуэрто-риканский или другой, лишь бы хороший, на знатока.
— А что слышно с нашей последней встречи? — спросил Пиллавер, усевшись посреди лавки на свой складной лоток.
— Сам знаешь, зазнайка! По равнинам рыщет оборотень. Говорят, он прячется в Кемперле8. Вчера разносчика из Ванна остановила на дороге какая-то банда; сдается мне, что верховодит этой бандой чертовка Мене — во всяком случае, меня бы это не удивило. Говорят, что она живет с Пти-Раде. Всё ему рассказывает. Наряжается то как принцесса, то как служанка с постоялого двора. У Пти-Раде она первая помощница. Похоже, это она ему сообщила про отплытие «Неэры». Вот Пти-Раде и приказал своему кораблю сниматься с якоря. Ищи-свищи его теперь! А еще говорят, что у него есть каперское свидетельство, подписанное королем Англии. Жители Груа, слыхать, снаряжают шхуну для собственной защиты. Но что вы поделаете с шестью пушками против тридцати семи? А у проклятого пирата их целых тридцать семь да гранат побольше, чем яблок в садах у Майе из Ламполя, того, что деньгам счету не знает. А слыхали, как Мене, эта предводительница нечистой силы, его оповещает? Пиллавер не зря состоит в торговом товариществе, ему об этом кое-что ведомо.
— Что ты имеешь в виду насчет товарищества, сам ты нечистая сила? — возопил Пиллавер, приосанившись, как петух.
— Ну-ну, успокойтесь, — вмешался отец, предчувствовавший, что надвигается ссора. — Не спорьте. Пиллавер славный парень, и вы, Диг- венер, тоже. Лучше я вам дам отведать новой наливки, которую получил из Нанта9. А нечистую силу трогать не будем, тогда и она нас не тронет. Согласен, Кильвинек?
— Что возьмешь с тех, кто родился на возвышенности Сен-Мишель- де-Браспарц!10 Что до меня, то мне милее соленая водица, чем скалистые горы. Люди там до сих пор получше будут.
Все выпили вместе с отцом, причем вполне мирно. Ярость легко вспыхивала в сердцах у этих славных людей, но и быстро гасла.
Когда они ушли, отец призвал меня в свидетели:
550
Дополнения
— Ну, можно ли хоть словечку поверить из всех этих бабкиных сказок? Мы живем в нескольких лье от побережья, а знаем обо всём этом не больше, чем о каком-нибудь Китае. Мне всё же кажется, что господин Пти-Раде умер, вот и Жером Бюрнс это утверждает. Согласие между живыми нарушают только мертвые. Проклятие Мерлина всё еще звучит в наших краях11.
Тут зазвонил колокольчик у дверей, и в лавку вошел незнакомый человек. Одет он был чисто, в коричневый сюртук толстого сукна, и всем своим обликом напоминал моряка в праздничной одежде. Я сразу же обратил внимание только на одну подробность, бросавшуюся в глаза: лицо человека было изрыто черной оспой. Он положил шляпу на прилавок и долго разглядывал товары, выставленные на полках, не говоря при этом ни слова.
— Что вам угодно, сударь? — спросил отец.
— Мне нужен фонарь, — отвечал незнакомец, шаря глазами по полкам, — хороший фонарь, новый, удобный, самого отменного качества.
— Погодите минутку, — сказал отец, — у меня на складе есть то, что вам нужно. Подождите, я сейчас вернусь.
Склад товаров находился у нас в запертом на замок большом сарае, расположенном за домом, в глубине двора.
Я остался один в лавке в обществе рябого посетителя, которого внимательно рассматривал, хотя и не мог с уверенностью утверждать, что чем-нибудь, помимо следов болезни на лице, он напоминает матроса, увиденного мною ночью на борту «Розы Саванны». Я как раз думал о том, что на свете есть много людей, чьи лица изрыты оспой, как вдруг раздался голос посетителя, так неприятно меня поразивший, что я содрогнулся всем телом:
— Вы, надо думать, Морга-сын.
Я кивнул, и он поспешно сказал тихим голосом, следя за дверью, которая вела во двор:
— Я от Ночного Жана. Он нынче вечером будет ждать у камня, который вы знаете. Он велел предупредить вас, что это свидание очень
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 10
551
важно и для вас, и для него. Он покажет вам деревянную фигурку. Это портрет человека, которому он хочет отомстить. Понимаете меня?
Видя, что отец возвращается, незнакомец перевел разговор на другой предмет и спросил меня, собираюсь ли я стать коммерсантом.
Отец показал ему фонарь. Человек осмотрел его со всех сторон, как ценную безделушку, и в конце концов унес его с собой. Перед уходом он мне кивнул. И, пользуясь тем, что отец смотрел в другую сторону, поднес палец к губам. Я понимал всю важность этого знака и почувствовал, что он опять будит во мне проклятого беса приключений.
Вот уже в третий раз Ночной Жан приглашал меня разделить его судьбу. Напомнив мне о статуэтке, он умело раздразнил мое любопытство, и теперь я уже не мог отделаться от воспоминаний. Я помнил нетопленый зал «Нептуновой рощи», пахнувший плесенью и прокисшим сидром. Нинон Глао прибежала тогда и подняла тревогу, и это помешало Ночному Жану показать мне портрет Пти-Раде. А узнать, как он выглядит, было бы очень кстати! Я хорошо понимал, что вести внутренние споры тут не о чем и что в глубине души я уже принял решение. С этой минуты все мои силы были направлены на успех предстоящей экспедиции в зловонные закоулки Керавеля, пристанища злоумышленников и девиц, чей пылкий и дерзкий вызов начинал меня смущать.
Нельзя было рассчитывать, что я сумею выскользнуть из своей комнаты после ужина незаметно для отца. Оставалось только выбраться на крышу, как в прошлый раз, и по-кошачьи проскользнуть вдоль водосточного желоба и по сливной трубе, которая тянулась до ручейка на улице. Это меня не смущало: я привык к подобной гимнастике. Всего несколько часов — и я завладею секретом, который, с моей точки зрения, вполне стоил того, чтобы рискнуть.
Я спустился в лавку и открыл тот выдвижной ящик в прилавке, где хранились моряцкие ножи. Я выбрал себе отличный матросский нож английской стали с роговой рукоятью. Короткое и широкое лезвие было защищено гибкими ножнами сыромятной кожи. Я сунул оружие за пояс поверх куртки.
552
Дополнения
В ожидании ночи я рассудил, что недурно будет прогуляться в сторону замка, чтобы, не привлекая внимания, посмотреть на неподвижную «Розу Саванны», при виде которой я всё больше чувствовал непонятную тревогу. И посредник, передавший мне весточку от Ночного Жана, — был ли это тот самый рябой матрос, карауливший неизвестно что на борту этой загадочной шхуны? Может быть, этот корабль ходил как ни в чем не бывало под черным флагом морских разбойников. А может быть, шхуна, отмеченная преступным символом, была как-то связана с местью беглого каторжника. Ночной Жан когда-то плавал вместе с Джоном Гоу12, он говорил мне об этом. А если так, то мне было ясно, что «Роза Саванны» могла помогать Ночному Жану в осуществлении его мести, и это было бы только на руку людям, запуганным возвращением жуткого Пти-Раде.
Погруженный в глубокомысленные рассуждения о разных гипотезах, которые представлялись мне основательными, я добрался до набережной и увидел черную даму, дерзкую и таинственную, на бушприте «Розы Саванны».
На палубе корабля было пусто. Под новым брезентом прятались, вероятно, свернутые снасти, тюки товаров, а может быть, и огромные пушки, готовые начать пальбу, что больше бы пришлось по душе моему возбужденному воображению
А между тем на «Розе Саванны» были люди. Из открытого люка до меня донеслась песенка какого-то матроса, наверняка это был рябой:
— Во французской гвардии был у меня дружок.
Эта песня Ваде13 была в большом ходу в пехоте. Шагая по дороге на Ландерно, стрелки и гренадеры Корабельного полка часто распевали ее, слегка изменяя слова в честь своего полка:
— Среди храбрецов-корабелыциков был у меня дружок.
Продолжение песни подходило к галантному настроению всех полков королевской пехоты. Голос смолк, и на палубе показался какой-то че¬
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 10
553
ловек. Тот самый, кто пел? Как бы то ни было, это не был рябой, о котором я думал. Матрос приблизился к борту и глянул на набережную, где стайка детей играла в классы. Он заметил меня и без малейшего стеснения стал меня рассматривать, держа руки в карманах.
Я притворился прохожим, которого заинтересовал по-настоящему элегантный силуэт корабля. Подошел ближе к носовой фигуре, потом вернулся к юту, покачивая головой, как истинный знаток. Пока я проделывал все эти маневры, матрос не сводил с меня глаз. Когда я приблизился к доске, служившей сходнями, матрос подошел к полуюту14 и створил дверь в коридор, который вел к каютам офицеров и пороховому погребу.
— Погляди! — просто сказал он.
Дверь он за собой не закрыл, и у меня не оставалось сомнений в том, что сквозь проем на меня смотрит еще одна пара глаз. Тот, что говорил, зашел под полуют. Я услышал невнятный звук разговора. Я наклонился, чтобы было не так заметно, что я прислушиваюсь, и тут человек с «Розы Саванны» вновь появился на палубе, которую солнечные лучи раскалили, словно печку. Сильный запах нагретой смолы перекрывал другие морские и береговые запахи.
— Эй, красавчик, — окликнул меня матрос. — Дайте мне на стаканчик рому — и я позволю вам осмотреть самый быстроходный корабль торгового флота, какой только бороздил моря на севере, юге, западе и востоке. Не каждый день юноше, готовящему себя в моряки — а я это по вашему виду угадал, — посчастливится набрести на такую удачу.
— Я с радостью угощу вас ромом, — отвечал я, — но боюсь, что с моей стороны будет нескромным подняться на борт этого корабля без разрешения капитана.
— Это пускай вас не заботит, сударь мой. Капитана на борту нет, его заменяет помощник. Он будет рад доставить удовольствие будущему морскому офицеру, который сгорает от желания принять мое приглашение.
554
Дополнения
Я слупил на сходни и легко вспрыгнул на палубу «Розы Саванны». Мое сердце обуревали непередаваемые чувства. Мне пришлось ухватиться за ванты15, и пенька обожгла мне ладони.
— Входите, господин Морга, добро пожаловать...
Появился рябой. Он вышел из своей каюты. Он всё еще был в своем вышедшем из моды сюртуке, напоминавшем военный мундир. Из-под треуголки, сдвинутой на затылок, виднелся пестрый шелковый платок.
— Здесь жарче, чем было в Вера-Крус, когда вешали Джорджа Мэтью...16 Идемте в мою каюту, выпьем холодненького. Я очень рад с вами вновь увидеться, господин Морга. И честно вам скажу, в голову мне приходила мысль, что вы, может быть, доберетесь сюда, чтобы разузнать побольше. Это не в упрек вам. В вашем возрасте любопытство не порок, а потребность.
Пока он произносил эту игривую речь, я подробно его разглядел. Я не знал, что и думать об этом тощем человеке с лицом, огрубевшим от моря и от следов болезни. Можно было с тем же успехом принять его и за честного капитана торгового судна, и за корсара, продавшего душу дьяволу. За малыми исключениями, матросы и офицеры, которых я знал, не похожи были на светских щеголей. Строжайшая дисциплина, которую им приходилось соблюдать самим или требовать от других, часто делала их суровыми, даже грубыми.
— Господин помощник, я принимаю ваше любезное приглашение. Быть может, после визита, который вы нанесли моему отцу утром, у вас появились новости, которые вы хотите мне сообщить? Что до меня, то не хочу показаться нескромным, но мне бы очень хотелось узнать что-нибудь о событиях, цель которых мне известна.
— Лучше не скажешь, господин Морга. Потому-то я и приглашаю вас к себе в каклу, где нашей беседе никто и ничто не помешает. Разрешите мне пройти вперед, чтобы указывать вам путь.
Мы расположились в узкой каюте, где плавали клубы дыма, тщетно ища выхода; хозяин каюты предложил мне сесть на скамью, а сам уселся на стол и перешел к делу:
— Вы давно знаете Ночного Жана? Того, каторжника.
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 10
555
В немногих словах я рассказал ему, при каких обстоятельствах завязались у меня отношения с этим человеком, к которому я испытывал жалость. Но я хранил молчание относительно бегства на побережье в обществе Томаса Англичанина и его брата Гвеноле, берегового разбойника.
— Всё так, — произнес рябой. — Я знаю не больше вашего. Ночной Жан — мой кореш. Он дал мне поручение — по-видимому, важное. Я исполнил то, что мне велели. И теперь, когда мы спокойно сидим и беседуем, я просто попрошу вас освободить меня от моего обязательства.
— Охотно, — отвечал я, — только не понимаю, как я могу это сделать — разве что сказать об этом самому Ночному Жану, когда мы с ним увидимся нынче ночью.
— Ночной Жан прячется. Он недоверчив, как ворона. Он придет, только если вы собственной рукой напишете ему два слова в доказательство того, что я выполнил поручение, которое он мне доверил. Вы меня поняли?
— Ну да, понял, что ж тут не понять...
Пока я размышлял, человек с «Розы Саванны» достал из ящика в столе листок бумаги, чернильницу и перо. Он положил передо мной бумагу, проверил, хорошо ли заточено перо, и поднял глаза к потолку каюпгы, словно ища вдохновения.
— Я не больно хороший писарь, — признался он наконец, — напишите просто что-то наподобие: «Сегодня около полуночи буду у камня в Керавеле. Мне нужно вам кое-что сказать».
Я повторил эту фразу. Мне показалось, что она не бросит на меня тень. Я взял перо и написал на листе бумаги то, что он просил.
— Теперь подпишитесь, — сказал рябой, читавший через мое плечо. — Так... Вот и хорошо. Теперь Ночной Жан будет знать, что я выполнил порученное. Славный человек, этот Ночной Жан.
Он вздохнул, сложил письмо и сунул его в карман сюртука.
— Где сейчас Ночной Жан? — спросил я.
— Не знаю, господин Морга. Мы с ним встречаемся в поле неподалеку от Плугастеля. Мы редко видимся, и он передает мне, куда при¬
556
Дополнения
ходить, через третье лицо. За три недели, что мы здесь, я говорил с ним всего два раза. Он в добром здравии. Это всё, что я могу вам сказать наверняка.
Помощник капитана с «Розы Саванны» угостил меня миндальным молоком с водой. Себе он плеснул добрую порцию рому.
Он проводил меня до сходней, и мы распрощались как положено.
Я шел домой, перебирая в уме подробности предстоящей мне ночной экспедиции. Мне было весьма любопытно повидать Ночного Жана и ознакомиться с хваленым портретом Пти-Раде.
Я и не подозревал, что, написав банальную фразу, подписал смертный приговор человеку.
И вновь
£
я ступил на мостовую Си- -*■ U* XVy-LJ-LI амской улицы, скользкую Jj и блестящую в тумане, как
• рыбья чешуя. Только что
прошел ночной дозорный; я еще слышал вдали его торжественную и меланхолическую жалобу старого филина. Было часов одиннадцать. Улица спала.
Между ставнями «Жаркой печки» пробивалось немного света. Я представил себе, как супруги Подер пересчитывают экю1 в кассе, расписанной экзотическими цветами. Мой бок чувствовал прикосновение ножа в кожаных ножнах. Это придавало мне уверенности. Я вдыхал вязкие уличные запахи, чувствуя себя завоевателем. Легкие мои наполнялись воздухом войны. Я невольно начинал привыкать к таинственному диску луны, чей зловещий свет порождал на стенах и на мостовой причудливые тени.
Я осторожно продвигался вдоль стен и каждые десять шагов останавливался, вслушиваясь в ночные шорохи. Мне казалось, что я слышу слабый гул, но я не мог определить, откуда он шел. Голоса в темноте были как огоньки: чудится, что где-то рядом, а на самом деле еще далеко.
Не успел я как следует отойти от «Якоря милосердия», как вдруг в соседнем переулке раздался робкий шум приглушенных шагов. Как назло, луна в это время зашла за груду темных облаков и наступил непроглядный мрак. Я присел на корточки за приворотной тумбой. Чутье
558
Дополнения
меня не подвело. Мимо меня прошел дюжий человек, вооруженный дубиной. Я не мог разглядеть ни его лица, ни цвета и покроя одежды.
Когда он миновал ворота, я потихоньку вышел из укрытия. Видимо, человек остановился, потому что я больше ничего не слышал. Я немного пригнулся и опять увидел верзилу-прохожего, теперь он застыл перед фасадом «Якоря милосердия». Он смотрел вверх, в сторону окна моей комнаты. Я крепко призадумался. Очевидно, человека интересовала моя особа. И это отнюдь не вселяло в меня уверенность. Ночной прохожий долго стоял и что-то прикидывал. Он совершенно не старался остаться незамеченным; затем он, напевая, направился в сторону набережной. Мне показалось, что он что-то говорит другому человеку. Но всё это происходило слишком далеко от моих глаз и ушей — я ничего толком не видел и не слышал.
Несколько озадаченный, я зашагал к Керавелю. Пьяные матросы дрались перед дверью какого-то кабачка; в ярко освещенном проеме его дверей виднелся хозяин, вооруженный шпиговальной иглой. Позади драчунов стайка девиц визгливо звала стражу. Матросы дрались самозабвенно, ухая, как булочники, когда месят тесто.
Я не хотел угодить в эту свалку, которая легко могла перейти в поножовщину, поэтому решил вернуться назад по Сиамской улице и пройти в Керавель по набережной мимо каторжной тюрьмы. Видимо, этим же путем пошел дюжий незнакомец, во всяком случае, так я подумал, слыша звук его шагов.
У меня было много времени в запасе. Я прошел мимо нашего дома, не заметив ничего необычного. Отец и старая Марианна, наверно, спали в своих кроватях, похожих на шкафы, как это принято в наших краях2.
Я двинулся в сторону набережной, стараясь повнимательней смотреть на мостовую и особенно на темные ворота, в которых могла таиться опасность: не настолько я был наивен, чтобы этого не понимать.
Так прошел я вдоль берега Пенфельда, не встретив никаких неприятностей, и стал огибать высокую стену, окружавшую тюрьму; над стеной тут и там посверкивали под луной стальные штыки.
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 11
559
Направо от меня начинался переулок, вдоль которого тянулись ветхие лачуги; среди них единственный дом, недавно подновленный и выкрашенный в красный цвет, казался дворцом. Это был дом брестского палача. Никто не задерживался вблизи этого зловещего строения. Поэтому улица всегда была безлюдной. Только бешеные собаки да бродячие коты прибегали сюда померяться силами или подстеречь добычу. Откровенно говоря, мне было не по себе. В свое оправдание скажу, что мало кто из знакомых мне добрых горожан осмелился бы идти в полночь по опасным переулкам и тупикам к Поганому мосту.
Бояться было ниже моего достоинства. Я нередко действовал неразумно и импульсивно, но исполнять задуманное я умел.
Итак, я шел себе дальше, позаботился только о том, чтобы поудобней засунуть нож за пояс, так чтобы он был на животе и я мог его сразу выхватить.
Внезапно из темноты возник призрак и вырос передо мной.
— Это ты, Ив-Мари?
Голос слегка задыхался. Я не сразу его узнал.
— Кто это?
— Бришни! Никола! Черт побери! Как я рад тебя видеть!
Тут я не удержался от вздоха.
Бришни схватил меня за руку и потащил вдоль стены, за выступами которой можно было укрыться.
— Куда ты идешь, Ив-Мари? Не отвечай, если не хочешь. Но я тебе скажу, что ты должен вернуться домой... если еще есть время.
— У меня в нескольких шагах отсюда назначена встреча с Ночным Жаном.
— Я знаю... я знаю всё, а главное, мне известно то, чего ты не знаешь.
-Что?!
— Какая удача, что я пошел этой дорогой! Всё очень просто... Слушай...
Несколько минут мы вслушивались в темноту. Вокруг царило молчание. Тогда Бришни заговорил тихо и очень быстро:
560
Дополнения
— Главное, не перебивай. Прежде всего: я ужинал у господина де Форстера. Ты знаешь — я пишу портрет его дочери. Хорошо. После ужина я простился с хозяином и пошел прогуляться до самой эспланады. Погода была великолепная, я перегнулся через парапет и стал смотреть на море. Зрелище того стоило, и я подумал: прогуляюсь-ка я вдоль замка, посмотрю на лунный свет на рейде... Черт побери! Слушай...
— Ничего не слышу, — ответил я, навострив уши.
— Ну ладно... Так вот, поднимаюсь я на скалы, которые нависают над дорогой вокруг замка, и тут понимаю, что я не один. У меня хватило здравого смысла не привлекать к себе внимания. И тут надо мной, на краю набережной, рядом со шхуной, красивой, только вот не знаю, как она называется...
— «Роза Саванны»?
— Возможно. Так вот, там очень тихо разговаривали два человека. Один сказал: «Без этого дурачка мы бы пропали. Нам бы никогда не удалось заманить рыбу в вершу. Благодаря услужливости этого щенка рыбка вот-вот схватит наживку, уж то-то мы порадуемся. Тот человек знает почерк мальчишки, он придет». Потом минут пять я ничего не слышал, они говорили совсем тихо. Да еще их слова и ветром относило. В конце концов я увидел одного из этих двоих. Дюжий и высокий, как платяной шкаф, вот всё, что я могу тебе сказать. Другого человека я не видел, он всё время сидел в тени, как вдруг он обернулся и я услышал: «И смотри мне, чтоб никакого шума... это приказ главного... с тактом, с чувством... — Тут он ухмыльнулся. — Ох и поплывем мы с попутным ветерком прямо к черту в зубы!» Тогда и его толстый сообщник ухмыльнулся. Потом он сказал: «Нынче ночью я схожу проверю, придет ли Малыш Морга на свидание. Но сперва пройдусь перед его домом и брошу ему камешек в окно...»
— Как только я услышал твое имя, — закончил Бришни, — я бросился сюда как сумасшедший. Я был почти уверен, что найду тебя у камня или где-нибудь неподалеку. Я тебя уже полчаса с липшим ищу.
— Мне пора идти встречаться с Ночным Жаном, — отвечал я.
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 11
561
— Черт побери, да ты что, спятил? Никуда ты не пойдешь. Ты что, не слышал, что я сейчас тебе рассказывал? Ты угодишь прямо в руки шайке пиратов, готовых на всё...
— Нет, я пойду... Нужно предупредить Ночного Жана о ловушке, которую ему расставил рябой. Я тоже тебе кое-что расскажу... только не сейчас, а попозже.
— Я с тобой, — объявил Бришни непререкаемым тоном.
И он побряцал своей парадной шпагой в ножнах из лаковой кожи.
Теперь мы шагали в сторону «Нептуновой рощи», расположенной в двухстах или трехстах ту аз ах3 от замшелого камня, роль которого начинала казаться зловещей. Мы держались каждый своего края проулка, готовые отразить всякую неожиданность... Вскоре мы добрались до перекресточка, тускло освещенного фонарем; пыльные стекла фонаря пропускали скудный свет, которого едва хватало, чтобы разглядеть три улочки, выходившие на этот перекресток. В конце одной из улочек виднелся свет другого фонаря.
— Это там, — тихо сказал я. — Тот фонарь висит футах в двадцати пяти от «Негпуновой рощи». Камень чуть подальше, в углу развалюхи, в которой никто не живет.
— Темнота непроглядная, — заметил Бришни, — и мы как слепые. Ах, Ив-Мари, напрасно мы это затеяли...
— Нужно предупредить Ночного Жана. Его жизнь висит на волоске... а он, быть может, невиновен... Как бы то ни было, в драку мы вмешиваться не станем... ради отца.
Мы прошли еще немного вперед, осторожно ставя ноги на глиняные черепки и осколки, усеивавшие дорогу. И тут мы увидели, или, вернее, угадали, неподвижный силуэт возле фонаря. Человек не пытался прятаться. Он стоял, расставив ноги и сунув руки в карманы толстой матросской куртки.
— Это он, — сказал я моему товарищу.
В этот миг мы услыхали вдали заунывный напевный голос ночного дозорного, выкликавшего время. Бришни глянул на часы, подставив их под лунный луч.
562
Дополнения
— Полночь...
Мы больше не прятались и шли прямо к Ночному Жану.
Стоявший человек услыхал звук наших шагов. Повернувшись, он пошел нам навстречу, не вынимая рук из карманов. А когда был уже совсем рядом, он снял шляпу. Тут я заметил пестрый платок — тот самый, что был повязан на голове у помощника капитана с «Розы Саванны», человека с лицом, изрытым оспой.
Верзила матрос не дал нам времени опомниться, он знаком приказал Бришни успокоиться, поскольку тот уже было схватился за шпагу, а потом обратился ко мне со словами:
— Господин Ив-Мари Морга, в этот поздний — или, напротив, очень ранний — час вы должны уже быть в постели. Возвращайтесь вместе с вашим другом домой. Никто вам ничего плохого не сделает...
— А что будет с Ночным Жаном? — закричал я в ярости. — Что вы наделали? Вы воспользовались моим письмом, чтобы заманить его, куда вам было надо!
— Я пользуюсь чем могу, дорогуша. И поверьте, если бы я не получил строгий приказ пощадить вас и вашего друга, то не терял бы время на объяснения. Благоразумнее всего будет вам вернуться в вашу комнату, а главное, забыть эту ночь. Я вам даю бесценный совет. Повторяю: забудьте оба эту ночь. Как говорится в хорошем обществе, это вопрос жизни и смерти.
Кровь бросилась мне в лицо. Я уже собирался ответить, как вдруг в ночи раздался громкий стон раненого зверя.
Бришни подскочил на месте и вжался спиной в стену. Я последовал его примеру.
— Я вас предупреждал, — бесстрастно сказал человек.
Где-то стукнули ставни. Тишина показалась еще более гнетущей, как вдруг впереди нас со стороны новых казарм Брестского полка раздались оглушительные крики:
— Бей, круши! К оружию!
— Убирайтесь отсюда, — крикнул нам помощник капитана «Розы Саванны». — Всё кончено. Но не забудьте держать язык за зубами, это и в ваших интересах, и в наших, само собой.
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 11
563
И он исчез, как лиса, которая чувствует, что псы преследуют ее по пятам. Первым из нас двоих обрел дар речи Никола де Бришни.
— Я же тебе говорил, осел упрямый. Теперь нам остается только идти домой. Гордиться нечем: эта свинья обошлась с нами как со школьниками. Лучшего мы и не заслуживаем.
Я не в состоянии был внимать благоразумию моего друга. Мною завладела ярость. От унизительных слов, которые я только что выслушал, у меня до сих пор горели уши.
Голова моя была полна великолепных решительных слов, которые мне следовало выкрикнуть в ответ на издевательства головореза. Теперь было уже слишком поздно, и я вновь и вновь перебирал все горы кие воспоминания о моей жалкой слабости. Упрямее, чем мои предки, осисмии и венеты4, я черпал новые силы в собственном позоре. В тот миг немыслимого возбуждения я уже не думал ни об отце, ни о господине Бюрнсе. Я был один и, как истинный бретонец, восстал против оскорбления, которое мне нанесли.
— Мы пойдем туда, черт побери! — сказал я, указывая пальцем в ту сторону, откуда донесся зловещий зов. — Если он только ранен, мы еще можем его спасти.
Бришни прекрасно понимал, о ком я говорю. Он только плечами пожал и ничего не ответил.
— А ты можешь идти домой, — сердито добавил я.
— Дурак, трижды дурак! — огрызнулся Никола. — Поговорю с тобой завтра, когда ты чуток поумнеешь.
Не прибавив больше ни слова, он последовал за мной. Я тут же пожалел о безрассудных словах, вырвавшихся у меня в приступе гнева.
Бришни, казалось, был теперь готов к любой жертве; он даже не давал себе труда ступать потише. Что до меня, то меня охватила ярость, и я судорожно сжимал роговую рукоятку ножа.
— Нам сюда, — сказал я.
Мы были в переулке, который вел к реке Пенфельд. Небо очистилось, луна сияла вовсю. Всё, что нас окружало, было видно до ма¬
564
Дополнения
лейших подробностей, словно днем: опрокинутая тачка на куче песка, нищий, скорчившийся под тачкой.
Я подошел к нищему и разбудил его.
— Ты ничего не слышал?
Я повторил то же самое по-бретонски, и он встал на ноги. Его лицо было изъедено проказой. Он глянул на меня единственным глазом, похожим на глаз гигантского осьминога, хитрым и умным.
— Там, — сказал он, указав рукой вправо.
Потом он снова улегся под тачку.
Мы пошли в ту сторону, которую он нам указал. На земле мы увидели темно-красное, почти черное, пятно. Это была кровь. На стене тоже виднелись капли крови, мелкие, словно их разбрызгивали щеткой.
Мы осмотрели всё вокруг, но не нашли больше никаких следов преступления, эхо которого до нас донеслось. Рассветало. У меня оставалось совсем мало времени на то, чтобы по крышам вернуться домой незамеченным.
— Они его унесли, — сказал я.
— Да, — отозвался Никола. — Но он, наверно, где-то неподалеку.
И в ответ на мой немой вопрос он тем же движением, что и нищий, протянул руку и указал в сторону Пенфельда:
— Там.
Тогда мы побрели в сторону Сиамской улицы. Я спешил вернуться домой. Пока Бришни стоял на часах, я ухватился за трубу, которая рядом с моим окном переходила в сточный желоб.
Видя, что я отворяю створку окна, остававшегося приоткрытым, он ушел. Свесившись через перильца, я следил за его удалявшимся силуэтом, пока он не добрался до своего дома и не вошел внутрь без всяких приключений.
Я затворил окно, снял сюртук, куртку, фуфайку и сорочку и стал мыть лицо, не жалея воды. На рассвете вода была холодная. Умывание принесло мне что-то вроде чувства очищения. Нож мой по-прежнему висел на поясе. Я расстегнул пояс и бросил его на кровать. Спать я совершенно не мог. Я отворил окно и посмотрел на небо, потом на улицу
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 11
565
в сторону набережной. Всё было спокойно. День медленно занимался, розовые и зеленые полоски света прогоняли с неба последние остатки ночи.
Я был растерян и потрясен. Я знал, что неописуемый вопль, услышанный мной, означал жестокую расправу с Ночным Жаном, ставшим жертвой свидания, которое я сам ему назначил. Я был в отчаянии и чувствовал себя униженным: я оказался игрушкой в руках людей с «Розы Саванны».
Незаметно это настроение сменилось другим: на мои плечи давила преступная и грубая тайна.
Следовало обо всём рассказать отцу: мне было ясно, насколько серьезно всё, что случилось со мной во время двух моих ночных побегов. Я готов был идти его будить, лишь бы освободиться от снедавшей меня тревоги.
Я уже взялся за ручку двери, но тут мне пришло в голову, что, возможно, благоразумнее будет попросить совета у господина Бюрнса. Он один мог меня успокоить и подсказать, что мне сообщить отцу.
Я услыхал, что звонят «Богородице»5, и склонил голову, чтобы помолиться. От всего сердца я просил Господа упокоить душу Ночного Жана.
Раскрашенные деревянные фигурки на полке напоминали мне искусные узловатые пальцы убитого.
«
1
Я долго
глазел на запертые ставни в доме господина Жерома Бюрнса и, отчаявшись, уже готов был пуститься в обратную дорогу, в Брест, как вдруг заметил между садиками в конце переулка желтый чепец вдовы из Трегенка, ее черный корсаж и огромное сердце, вышитое светло-желтой шерстью у нее на груди.
Я дождался ее у дверей и спросил о жильце.
— Господи Боже мой, господин Морга, неужто он не откликается? А вы его звали? В этот час господин Бюрнс еще спит. Разбудить его?
— Нет, пожалуйста, не надо, госпожа Лемёр. Не будите его. Я приду еще раз после обеда, часа в четыре. Когда вы его увидите, просто скажите ему, что я приходил его навестить и приду еще. Мне нужен его совет.
Госпожа Лемёр заверила меня, что выполнит мое поручение. Распрощавшись с ней, я пошел в сторону моста, который вел в Керавель. Мне любопытно было взглянуть, не осталось ли после ночных событий других следов, кроме тех, которые мы видели с Никола де Бришни.
Я пошел при свете дня той же дорогой, по которой мы следовали ночью. Я увидел кабак «Нептунова роща», не подававший признаков жизни, роковой камень и переулок, где спал нищий. Тачка исчезла. Следов крови на земле больше не было. Всё впиталось в землю. Стену, забрызганную роковыми пятнами, как следует вымыли: она была еще
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 12
567
влажная, потому что утреннее солнце не успело дотянуться до нее своими лучами. Я вернулся домой и без особой охоты засел за географию. Мне по-прежнему больше всего на свете хотелось во всём признаться отцу. И все-таки я ждал конца дня: мне нужно было сперва повидать господина Жерома Бюрнса, который поможет мне сделать этот нелегкий шаг. Однако не успело еще кончиться утро пятницы, как новые события усугубили мою тревогу.
Сначала незадолго до полудня появился некто, скверно выбритый, однако одетый очень опрятно, как приказчик, и стал расспрашивать отца о «Розе Саванны», капитан которой, некий Матьё Тюбёф из Дьеппа1, собирается якобы закупить у нас скобяной товар и солонину.
— Я не знаю капитана этого корабля, — сказал отец, — и никогда не заключал сделок ни с ним, ни с кем бы то ни было другим из его экипажа.
— Вот оно что... Тогда прошу прощения, сударь, — ответил любопытный посетитель. — Я просто хотел разузнать.
— Это был полицейский агент, — сказал отец после его ухода. — Чего ему надо от «Розы Саванны»? Непонятно.
Я уже готов был выложить ему всё, что подсмотрел недавним вечером на верхней палубе этой шхуны. Я не смел поделиться с ним своими догадками относительно незнакомца, чей голос я вроде бы узнал на тропе, огибавшей замок. Тогда бы мне пришлось рассказать и о приключениях прошлой ночи, а я хотел сперва узнать мнение Жерома Бюрнса об этом трагическом событии.
Я отсиживался у себя в комнате, дожидаясь, пока не настанет время отправляться к господину Жерому Бюрнсу, но когда я спустился в кухню, Марианна и отец рассказали мне, что какой-то странный незнакомец с лицом, изуродованным следами черной оспы, торчит перед нашей витриной, притворяясь зевакой, а сам не сводит глаз с дверей «Якоря милосердия».
— Я знаю этого человека, отец, — выпалил я, охваченный внезапным смятением. — Это матрос, а может и офицер, с «Розы Саванны». Я чувствую, опасность где-то рядом, и опасность эта не на шутку утро-
568
Дополнения
жает господину Бюрнсу. Нужно его предупредить. А вдруг уже поздно? Вам не кажется странным, что наш друг не показывается?
— Что правда, то правда, вот уже несколько дней как мы его не видели. Сегодня пятница...
И отец быстрым движением руки сдвинул парик на затылок, что показывало, насколько все эти происшествия его беспокоят.
— Сходи в Рекувранс, Ив-Мари. Разузнай, в чем дело. Может, он заболел? Нет... погоди... Ты останешься в лавке, а я схожу сам.
Я не удержался от выразительной гримасы огорчения.
— Что такое? — возразил отец. — Ты и так слишком много болтаешься по городу. Посиди немного дома, тебе полезно.
— Вот и правда, — добавила Марианна. — Он уже на покойника стал похож. Ей-же-богу, такой бледный — ни дать ни взять репа из Роскофа.
Отец взял шляпу и трость, а Марианна поднялась наверх стелить постели.
Прижавшись носом к дверному стеклу, я смотрел на улицу и ругал себя на чем свет стоит. Мое внимание привлек шум: по улице маршировал военный отряд. Я отворил дверь и увидел роту фузилеров Брестского полка — две белые кожаные перевязи крест-накрест, патронная сумка на боку, ранец за спиной. Впереди роты шагал господин Рато, лейтенант, с ружьем на плече. Позади колонны шел юный барабанщик, вместо ранца за спиной у него был его инструмент. Солдаты — их было около сотни — маршировали в сторону набережных. За ними, смеясь и толкая друг друга, бежали дети — девочки и мальчики. В их стайке я узнал Ян- ника Маэ, сына плотника по кличке Прощай. Это был рыжий верзила лет четырнадцати, часто приходивший с поручениями к моему отцу.
— Эй, Янник! Что происходит?
Мальчик указал рукой на замок. Он выглядел крайне возбужденным.
— Расскажешь мне, что там увидишь? — крикнул я Яннику.
Рыжий кивнул в знак того, что понял.
Через час отец вернулся, лицо у него было бледное и расстроенное. Он сказал нам, что господина Бюрнса нет дома. Хозяйка не видела его
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 12
569
целый день. Вздыхая, отец снял сюртук и, не говоря ни слова, вернулся к работе.
А я уже не мог усидеть на месте. Мне хотелось побежать за сыном плотника и его товарищами. Но отец, казалось, был не в духе и не позволил бы мне выйти из дому. Я тоже вздохнул, открыл учебник по математике и сел напротив витрины, так, чтобы видеть улицу и не пропустить возвращения Янника.
Мне пришлось ждать этого счастливчика до четырех часов. Я уж решил, что он и думать не думает о том, с каким нетерпением я его жду, но тут я узнал стук его деревянных башмаков, а затем увидел его самого.
Одним прыжком я выскочил на улицу.
— Ну, что? — спросил я.
— Они обыскали «Розу Саванны», — отвечал Янник. — Можешь сам пойти посмотреть на берег, там полно народу. Одна — рота Каррера, одна — Брестского полка и все полицейские. Конная стража держит под наблюдением побережье между Порциком и Ланьоном. Говорят, что «Роза Саванны» — пиратский корабль, которому нарочно придали вид торгового судна. Арестовали капитана и часть экипажа, остальные удрали. Все они ужасные бандиты. Они украли барк на Абервраке2 и уплыли в открытое море...
— К островам Силли3, — вставил малыш Патерн.
— С чего ты взял? Одним словом, весь город вверх дном. Судить их будут здесь и казнят на эспланаде замка.
— А еще они ищут утопленника, — добавил Патерн. — Видели, как течение несло его по реке.
— Так и есть, — подтвердил Янник. — Я теперь опять туда. Если бежать через Рекувранс. мы успеем увидеть, как его вытаскивают из воды...
Тут вся ватага развернулась и понеслась сломя голову — только сабо загрохотали по мостовой.
После таких новостей я просто уже не мог сидеть дома и ничего не знать. Я схватил шляпу с крючка и ринулся на улицу, крикнув «Сейчас вернусь» — слова, не требовавшие ответа.
570
Дополнения
Следуя за кучками людей, направлявшихся к устью реки, я вскоре нашел место, которое меня интересовало.
Перед домом господина Бюрнса я задрал голову: ставни по- прежнему были закрыты.
Госпожа Лемёр, работавшая в саду перед домом, заметила меня.
— Он до сих пор еще не вернулся, — крикнула она. — Даже постель не разобрана.
Пока я шел по дороге, уступами спускавшейся к морю, я заметил впереди группу из четырех человек; прижав ладони козырьком ко лбу, они смотрели на море, по которому солнце рассыпало миллионы ослепительных блесток. Это были четыре моряка из Плугастеля, одетые в холщовые штаны и куртки и в красные колпаки.
— Нашли, — сказал один из них. — Жан-Пьер зацепил его багром.
Они спустились по ступенькам проулка, раздвигая своими дубинками ветки жимолости, хлеставшие их по лицу.
Я побежал следом и одновременно с ними вышел на маленький галечный пляж, где толпилось уже человек тридцать, большей частью дети; полицейский удерживал их на почтительном расстоянии от лодки, которую рыбаки выволакивали по гальке из моря.
Когда мне удалось протолкаться сквозь толпу любопытных, среди которых я заметил Янника, тело утопленника уже положили на носилки, покрытые брезентом.
— Ты его видел? — спросил я у Янника.
— Как тебя. И я его знаю: это арестант, его зовут Ночной Жан, тот самый, что убежал с каторги этой зимой. Я его встречал в порту каждое утро вместе с его бригадой.
— Бедолага погубил себя, прости ему Господь, — вздохнула торговка рыбой.
— Погубил себя? — ухмыльнулся матрос. — Погубил-то погубил, да не сам себя, а с помощью дружка: тот воткнул ему ножик между лопаток, чтоб мне с места не сойти.
— Эх, галерником больше, галерником меньше, стоит ли разбираться, — изрек какой-то горожанин. — Волки вечно между собой грызутся.
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 12
571
Тут подошли еще трое городских полицейских, чтобы помочь своему товарищу. Два матроса подхватили носилки, и процессия с грехом пополам двинулась в сторону Рекувранса. Мы с Янником шли позади них за бренными останками Ночного Жана.
Это зрелище оставило у меня в душе след, от которого я никогда уже не мог избавиться. То, что мне суждено было пережить в дальнейшем, врезалось мне в память другими образами, более величественными и, возможно, оттого более зловещими. Многие подробности этих злополучных дней позабылись. Но еще и сегодня, когда я пишу эти строки в чужой комнате, комнате старого артиллерийского офицера на маневрах, я отчетливо вижу размокший башмак, покрытый водорослями, высовывавшийся из-под брезента.
Полицейские перенесли тело Ночного Жана в большой тюремный двор, ворота которого выходили на площадку для учений перед казармой полка Каррера. Тяжелые ворота захлопнулись перед носом у любопытных, которые еще добрую четверть часа судачили о случившемся.
Не вызывало никакого сомнения: это было убийство. Рыбаки, выловившие тело, подтверждали это. Невозможно было не увидеть раны, а также ножа, восточного оружия с рукояткой из драгоценной древесины, украшенной серебряной филигранью, — этот нож намеренно оставили в ране.
— Это как подпись, — сказал один из матросов из Плугасгеля. — Разрази меня гром, подпись морского разбойника из пиратской флотилии.
— Это сделал Пти-Раде, — сказал чей-то голос.
— Почему бы и нет? Пти-Раде или другой, это сделал какой-нибудь моряк из тех, что плавают под черным флагом. Я хорошо знаю повадки этих дикарей.
Один за другим зеваки разбрелись. Матросы зашли в кабачок, утопавший в отцветшей сирени. Я пошел в сторону «Якоря милосердия», нужно было рассказать обо всём отцу, Марианне и, если удастся, Никола де Бришни — я надеялся, что он к нам заглянет.
— Ах, Господи Иисусе, Господи Иисусе, — безостановочно шептал отец, пока я торопливо пересказывал ему события.
572
Дополнения
Правду сказать, имя господина Жерома Бюрнса не примешивалось к моим мыслям об этой мрачной истории. Конечно, я был готов к тому, чтобы «Роза Саванны» оказалась подмостками, на которых разыгрались необыкновенные события. Этот загадочный корабль, безжизненно застывший у пустынной набережной, с самого начала казался мне подозрительным. Я вновь видел матроса с лицом, испещренным рытвинами. Это он был капитаном плавучего пристанища джентльменов удачи, на которых велась облава. Но когда обнаружили труп Ночного Жана, я почувствовал себя обессиленным.
Отец сказал:
— Тебе следует еще раз прогуляться в Рекувранс и узнать, не вернулся ли господин Бюрнс. Если он уже дома, как я надеюсь, пригласи его разделить с нами ужин нынче вечером. Мы расскажем ему новость.
И после нескольких секунд размышлений он добавил:
— Хотя, может быть, он ее уже знает...
— Но, отец, я только что проходил мимо дома нашего друга и видел, что ставни заперты.
— Не важно, — возразил отец с необычным для него нетерпением. — Сходи проверь еще раз. Может быть, он спит. То, что сейчас творится в городе и на берегу, очень меня тревожит. Не нравится мне всё это...
Мне это тоже не нравилось — по многим причинам, в том числе секретным, о которых отец и не догадывался.
Когда я добрался до жилища господина Жерома Бюрнса, ставни были по-прежнему на запоре. Я открыл калитку, которая вела в сад, и постучал молоточком во входную дверь.
Госпожа Лемёр открыла мне и провела в кухню, где чистила овощи над ведром. Ее черный кот сидел на скамье и наблюдал за ее действиями круглыми зелеными глазами.
— Вы, наверно, пришли справиться о господине Жероме, — сказала славная женщина, указав мне на стул. — Право слово, я знаю не больше вашего. В комнате его нет, и он всё бросил в беспорядке, словно вот-вот должен вернуться. Вся его одежда развешана в шкафу, книги на месте. Не хватает только хорошего нового костюма, который был на нем.
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 12
573
По крайней мере, так мне кажется, потому что, господин Морга, нужно признаться, что зрение у меня уже не то, что раньше. Мне бы следовало носить очки. У меня есть здесь пара очков, которая мне досталась от старшей сестры, но они, наверно, для меня слишком сильные, потому что в них у меня всё расплывается и...
Тут я решительно ее перебил:
— Давайте поднимемся вдвоем в комнату к господину Бюрнсу. Может, он оставил для меня письмо.
— С удовольствием, господин Морга. Идите вперед. Я ничего не трогала. Так и оставила всё в беспорядке, не знаю, что со всем этим делать.
Я вошел в комнату моего друга, госпожа Лемёр — за мной по пятам. В комнате царил чудовищный разгром. На мой взгляд, это был бесспорный признак внезапного отъезда. Всё это навевало тревогу. Вот и отец сказал бы при виде этой картины: «Мне всё это не нравится». Я тут же бросил взгляд на стол и на камин. Ничего похожего на записку для меня там не было. С камина исчезли красивые пистолеты, а из коллекции оружия пропала одна из шпаг. На стене еще были видны следы от ее ножен и гарды. А ведь господин Бюрнс даже ночью никогда не носил при себе оружия, дабы не нарушать законов. Исчезновение пистолетов и шпаги встревожило меня еще больше. Однако я не сказал ни слова хозяйке.
— В самом деле, — заметил я вслух, — наш друг всё бросил как попало. Это хороший признак. Я полагаю, что он не замедлит вернуться. Смотрите, его чемодан и морской сундук по-прежнему в чулане. Как только он вернется, скажите ему, что мы беспокоимся о его здоровье и ждем его в гости. Я пришел пригласить его от имени отца к нам на ужин.
— Ей-богу, не забуду, господин Морга. Всё передам, видит Бог.
Домой я вернулся сильно разочарованный и всё более и более встревоженный, потому что я ведь собирался во всём признаться господину Бюрнсу и надеялся, что после беседы с ним смогу принять правильные и благоразумные решения.
— Что ты думаешь о его отъезде? — спросил отец.
574
Дополнения
Я пожал плечами и скривился.
Отец взглянул на вывеску нашей лавки, немного дребезжавшую на вечернем ветру. Он вздохнул и зашел за прилавок.
— Хотелось бы мне, чтобы этот якорь милосердия держался покрепче и спасал тех, кого мы любим и кто любит нас, — сказал он.
Ужин прошел невесело. Мы мучительно ощущали отсутствие нашего старого друга. Сидя один напротив другого, мы уныло жевали хлеб. Говорили мы мало, каждый был погружен в свои предчувствия и наблюдения.
— Завтра суббота, — сказал я отцу. — Пойду в город и попытаюсь разузнать что-нибудь об отъезде господина Бюрнса. Не кажется ли вам, отец, что вокруг нас происходят события, к которым мы просто не можем оставаться равнодушными?
— Я думал об этом, — отвечал отец. — Завтра пойдешь в город. А нынче вечером я загляну выпить чашечку кофе у Подера. Надеюсь, в «Жаркой печке» мы узнаем что-нибудь новое.
Последние две недели наши друзья, казалось, забыли дорогу в наш дом. Пиллавер странствовал по дорогам и рынкам в окрестностях Мене; Керадек ловил рыбу в морских просторах у Зеленых островов4, Никола де Бришни отделывал гостиную в Ландерно. Старик Гоас не выходил из комнаты, сраженный четырехдневной лихорадкой5, а господин де Пенвиль уехал в Параме навестить сына, младшего лейтенанта Лаферского полка6.
Одиночество угнетало отца: он был человек общительный. Но больше всего его угнетало отсутствие господина Жерома Бюрнса. Господин Бюрнс успел войти в нашу жизнь. Он самым естественным образом разделял с нами семейные заботы. Благодаря своей жизнерадостности, честности, поразительным познаниям он стал совершенно необходим в нашей повседневной жизни: без него нам словно чего-то недоставало. Кроме того, мы о нем всерьез тревожились, потому что боялись, как бы с ним не случилось какое-нибудь несчастье; мы понятия не имели, что это может быть за несчастье, и именно поэтому боялись за нашего друга еще больше.
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 12
575
По пятницам, с самого утра, к нам приходил Янник Дигвенер из Куэнона, хозяин «Лилии Марии»; он приносил полную миску рыбы, которую наловил в устье Элорна. Он ничего не знал о господине Бюрн- се. Он и видел-то его у нас дома раз-другой, не больше.
Кроме моего отца, у господина Бюрнса не было в городе друзей. Человек он был благожелательный, слов нет, но молчун. Как многие моряки, он хранил глубоко в душе какую-то мучительную тайну. Не раз приходило мне в голову, что имя «Милосердие», которое он дал своему кораблю, когда, прежде чем сделаться хирургом, был капитаном, могло объяснить многое в его жизни; вероятно, это было что-то вроде молитвы.
Я не знал никаких подробностей о жизни господина Бюрнса. Но я знал, что он когда-то командовал кораблем. Признание в этом вырвалось у него под влиянием глубокого чувства, благородство которого от меня не ускользнуло, в тот самый день, когда «Роза Саванны» бросила якорь в наших местах.
Когда
мы с отцом вошли в большой зал «Жаркой печки», мы первым делом заметили печальное и сердитое лицо господина По- дера. Он поверял свои заботы одному из посетителей, а тот сочувственно кивал головой.
— Эта дрянь, — говорил господин Подер, — ушла ночью и утащила все свои тряпки в хорошеньком сундучке, расписанном цветами, просто загляденье. Этот сундучок у нас был со свадьбы, и жена, у которой золотое сердце, одолжила его этой твари, чтобы ей было где держать свой скарб. Увижу ли я теперь этот сундучок? Одному Богу известно! И вдобавок негодяйка поставила нас в затруднительное положение: не так-то легко обучить служанку, способную принимать заказы такой изысканной публики, как наша.
— О ком речь? — спросил отец.
— Речь об этой паршивке Манон. Ушла ночью, как воровка какая- нибудь.
— Ну и ну, — отозвался отец для поддержания разговора.
Потом он прошел на свое место, где господин де Пенвиль, вернувшийся накануне, поджидал его и уже расставлял шахматные фигуры на доске.
— Юная Манон сбежала, — со смехом сказал ему отец.
— Да уж, — отозвался господин де Пенвиль, — красотка дала дёру нынче ночью, и бедняга Подер остался безутешным.
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 13
577
— Главное, он безутешен из-за потери своего сундука.
— Возможно...
Господин де Пенвиль пожал плечами и подмигнул, глядя на моего отца. Они обменялись улыбками.
Подошел господин Подер.
— Принести вам кофе, господин Морга?
— Как обычно... И утешьтесь, друг мой. Она вернется.
— Разумеется, вернется, Подер. Выкиньте это из головы, — сказал один бывший офицер Королевского Корабельного полка, который иногда играл партию в триктрак1 с отцом и господином де Пенвилем.
Я отнесся к побегу Манон из Гвенеда не столь благодушно. И опять, не умея отыскать логического объяснения этому, казалось бы незначительному, событию, я чувствовал, как в моей душе, среди множества тревог, рождается еще одна, новая. И я был перед ней безоружен — ведь я был молод, мне недоставало уверенности в себе и в собственных силах.
Сидя рядом с отцом, немного поодаль, я одновременно словно существовал в другом мире, полном потрясений, удесятеренных моим воображением. Я чувствовал, что попался, как паук, в свою собственную паутину, вернее, в паутину, сотканную таинственными ткачами. Я словно слышал множество звуков, видел множество призраков, но слух и зрение отказывались подтвердить подлинность того, что мне чудилось. Всё вокруг сливалось в адский хоровод, центром которого был я. Передо мной кружилась зловещая вереница, где знакомые руки сплетались с руками незнакомцев, истинных распорядителей этого водоворота теней. Сам не знаю почему, но мне казалось, что побег Манон из Гвенеда неразрывно связан с отсутствием господина Бюрнса, с обыском на «Розе Саванны» и, что было еще страшнее, с жестоким и преступным убийством Ночного Жана. Меня не заботило исчезновение статистов этой истории, но ее тайная низость возмущала мою мысль. Гвеноле, Томас Англичанин, надсмотрщик Клубника, Нинон Глао сливались между собой и расплывались в опасных улочках, под скупым светом фонарей Керавеля.
578
Дополнения
И вдруг в дьявольскую пляску входила юная Манон из Ванна, с ее нежными глазами, дерзким носиком, детским ртом и сиянием волос цвета меда.
В душу мне внезапно закралось подозрение, что Никола де Бриш- ни, который в последний год был к ней близок, играет в этой любовной комедии главную роль. Это было не важно, потому что в тот самый миг, когда эти предположения завладели моим умом, я получил доказательство обратного.
И впрямь, Никола де Бришни очень скоро присоединился к нам. Он был в отчаянии, как истинный влюбленный. Он тоже не мог объяснить причины бегства Манон. Еще накануне она мило шутила за его столом и превосходно играла роль кокетки, чей смех нам никогда не надоедало слушать. Бришни заказал большой стакан рому и выпил его, словно в порыве отчаянной решимости. Это вполне соответствовало поведению несчастного влюбленного, узнавшего о неверности своей возлюбленной. Впрочем, видя, какими глазами он смотрит на новую служанку, черноволосую девицу, отменно сложенную, я догадался, что отчаяние его не перейдет пределов разумного. В сущности, я, который не был влюблен в Манон, был больше огорчен ее побегом. Но ведь я лучше всех знал обстоятельства низкопробной тайной драмы, избравшей наш славный город для того, чтобы вывести на сцену своих актеров. И пускай я не знал сути всех этих происков — теперь я хорошо чувствовал, что груз этой тайны слишком тяжко давит мне на плечи.
Вокруг меня игроки в триктрак неистово швыряли кости на шашечную доску. Этот стук сливался с моими мыслями. Мы с Бришни, молчаливые и мрачные, чувствовали себя потерянными среди возбужденных игроков, в безмятежности сумрачного прохладного зала.
Мы бездумно предались сонному оцепенению, не чуждому, однако, печали, как вдруг голос отца вывел меня из задумчивости:
— Клянусь святым Иво! Вот же он!
И в самом деле, это был он. Он шел к нам, любезный, улыбающийся, как всегда. В руке он держал белый носовой платок, которым утирал лоб.
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 13
579
При виде его я вскочил, словно меня подбросило.
— Здравствуйте, здравствуйте, господин Бюрнс!
Я приветствовал его радостным кличем: так птицы приветствуют весну.
— Здравствуй, Малыш Морга! Здравствуйте, господин Никола.
— Ах, — сказал отец, — до чего нам опять вас не хватало! Ив-Мари непрестанно вас искал, словно щенок, потерявший хозяина. Да что говорить, дружище, без вас «Якорь милосердия» — как тело без души.
Господин Бюрнс сел. Он смеялся, и казалось, его радует, что его так тепло встречают.
— Мои дорогие друзья... — сказал он просто.
Затем он положил руки на колени и с интересом стал следить за начавшейся партией.
— Манон из Гвенеда убежала.
— Да что ты говоришь, паренек? Манон, наша милашка Манон? Ах, господин Подер, неужели это правда, что ваша проворная служаночка нас покинула?
— Не говорите мне об этой бесстыжей твари!
— Там еще и сундук пропал, — лукаво вставил я.
— Сундук? Какой сундук?
Я дал ему требуемое разъяснение.
— Гром и молния! Если бы не думал, что этот олух дурно истолкует мое намерение, я бы предложил ему несколько экю в возмещение убытков. Но человеку в мои годы опасно ввязываться в приключения молоденьких девушек.
— Вы будете с нами ужинать, — сказал отец, только что проигравший партию.
Вопреки обыкновению, господин Жером Бюрнс согласился, не заставляя себя уламывать:
— Разрази меня гром! Да с удовольствием, Жан-Себастьен Морга! Рядом с вами я отогреюсь душой. Я вернулся из небольшой поездки, которую пришлось совершить по делам, которые, признаться, доставили мне немало хлопот.
580
Дополнения
— Могу ли я чем-то помочь? — спросил отец.
— Увы, нет, — ответствовал господин Бюрнс. — Единственная причина моих неприятностей — один старинный друг. Видишь ли, Малыш Морга, юность подчас ложится на плечи тяжким грузом, когда внезапно напоминает о себе человеку на склоне дней. Не делай долгов на кабальных условиях. Приходят времена, когда расплатиться уже невозможно.
Господин Бюрнс любил такие сентенции. Иногда он с удовольствием их пояснял. Я не всегда понимал ту сдержанную меланхолию, что пронизывала подчас его самые жизнерадостные речи.
Домой мы пошли втроем, не спеша, чтобы полнее насладиться чудным летним вечером. С моря дул бриз, доносивший до нас нежные ароматы всех садов Ланьона. Мальчишки из квартала Семи Святых, вооружась рогатками и палками, сбивались в шумные ватаги, чтобы померяться силами со сверстниками из Рекувранса. Вскоре перед нашими глазами развернулось увлекательное зрелище: Сиамская улица с каждым днем становилась всё более оживленной, потому что через город без конца шли войска, и часто они располагались на постой на нашей улице, перед тем как перебраться в лагерь или в Параме, или в Воссьё, близ Байё, в Нормандии2. Улица была полна белых пехотных, синих кавалерийских и зеленых драгунских мундиров. Особенно в этой толпе одетых в белое воинов привлекали мое внимание темно-синие артиллерийские панталоны, камзолы и мундиры с красными обшлагами. Пушки — шестифунтовые орудия — были выставлены в ряд на бульваре Дажо. Часовой — при ружье со штыком — нес караул; в дневное время вокруг него сновала детвора.
Деятельность военных всех нас очень занимала. Нам, людям с побережья, хорошо было известно, что означает эта суматоха. Приближалась война, и нашим морякам и укреплениям предстояло первыми принять на себя удар. Поэтому меньше стало разговоров о Пти-Раде, чье пагубное прошлое, казалось, истаяло с минувшей зимой.
Рыбаки, заглядывавшие в «Якорь милосердия», с беспокойством наблюдали за прибытием судов из Англии. Торговые корабли покидали
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 13
581
наш порт: они предпочитали выгружать и грузить свои товары в Ла- Рошели или в Бордо3. Зловещие морские грабители напрасно зажигали на побережье свои коварные костры. Добыча попадалась так редко, что и дрова тратить не стоило.
Только Дигвенер, владелец «Лилии Марии», осмеливался ловить рыбу в открытом море между Конкарно4 и Гасконским заливом5 со своим экипажем уроженцев Груа. И его отвага вознаграждалась: за свой улов он выручал хорошие деньги у торговцев из Ландерно, Лан- дивизьо6 и Сизуна7, приезжавших к каждому его возвращению с ловли, чтобы закупить свежую рыбу.
От Дигвенера мы узнавали, что нового делается на море, между Уэссаном и Пенфре8. Пти-Раде не видели ни матросы из Груа, ни их собратья из Уэссана. Однако у наших берегов курсировал королевский корвет с двенадцатью пушками на борту, а на тропах, пересекавших равнину, часто можно было увидеть наряды береговой охраны. Судейские чиновники отнюдь не теряли надежды, и, если бы не тревоги, связанные с войной, история Пти-Раде наверняка обогатилась бы новыми жестокими и живописными главами.
Об этом зашла речь, когда мы ужинали с господином Бюрнсом.
— Эти люди — я имею в виду таких, как Пти-Раде, — на самом деле странные создания, — сказал господин Бюрнс. — Они бросают вызов человеческой природе и самому святому для всех нас, это невозможно оспорить, но нрав их непостижим: он недоступен пониманию обычных людей, чье ремесло не связано с ежедневным смертельным риском...
— Я понимаю вас, — отозвался отец. — Но никто не заставлял их среди всех почтенных занятий выбрать такое, которое неизбежно ведет к ежедневным преступлениям.
— Вы правы, Морга. Между тем разгадка этой тайны кроется в том, что жизнь иной раз выводит нас на распутье. Мы выбираем какую-то дорогу, а когда спохватываемся, увидав, что дорога эта опасна, часто бывает уже слишком поздно повернуть назад. — Тут Бюрнс обратился ко мне: — Назад дороги нет, Ив-Мари. Помни всегда это правило, доказанное естественными науками. И когда я тебе говорю, что при¬
582
Дополнения
ключения — это обман и опасность даже для самых закаленных душ, за плечами у меня стоит чуть ли не сорокалетний опыт. Когда я впервые взошел на борт корабля, мне было лет двенадцать. Грубые, а подчас жестокие люди преподали мне свои законы, и я только потому сумел уберечь свою честь и свой разум, что так было угодно Богу. Это не моя заслуга.
— Увы, — вздохнул отец, — так оно и бывает.
— Занимайся военным делом, — продолжал господин Бюрнс. — Война — дело кровавое, но честное.
— Война кончится задолго до того, как я получу эполеты и офицерский значок, господин Бюрнс.
Я не удержался от вздоха, и отец с господином Бюрнсом рассмеялись.
— У войны не бывает конца, Малыш Морга. Не отчаивайся, рано или поздно ты услышишь, как заговорят пушки с обеих сторон — и твоей, и неприятельской. Тогда-то ты и поймешь, что приключения — опасное ремесло.
Затем господин Бюрнс справился о том, как идут мои занятия. Он со знанием дела заговорил об артиллерии и в заключение сказал, что мне повезло: я вступаю в этот элитарный род войск именно тогда, когда господин де Вальер и господин де Грибоваль довели до совершенства использование тяжелых орудий. Кроме того, он рассказал нам о преимуществах нового ружья со штыком, которое будет взято армией на вооружение в будущем году9.
За этими разговорами время пролетело быстро. Наш друг ушел домой незадолго до десяти часов вечера. Я лег спать. На смену терзавшей меня тревоге пришло умиротворение. Господин Бюрнс вернулся, теперь всё будет хорошо. Я твердо решил, что завтра пойду его навестить у него дома, где нам никто не будет мешать. Я хотел поделиться с ним всем, что узнал. Он даст мне совет, как лучше поступить: рассказать отцу правду или промолчать; мне хотелось разделить с ним ответственность за мое решение.
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 13
583
* * *
Господин Жером Бюрнс первый начал щекотливый разговор, который я обдумывал чуть не месяц.
Он сидел в своем большом кресле с подголовником, одетый в халат с великолепными отворотами, в углу рта — трубка. Окно было широко распахнуто, и в комнату врывался запах моря и новеньких канатов. Было слышно, как бригада каторжников по звуку свистка, задававшему ритм их движениям, перетаскивала тяжелые бревна в сухой док.
— Любопытно всё же, почему Манон ни с того ни с сего уехала, — изрек господин Бюрнс. — Я не думал, что она способна на безрассудства.
— Манон совсем не безрассудна. Я скорее предположил бы, что она хорошо продумала свой план. Она большая плутовка и прекрасно понимает, что да как.
— Тогда это похищение?
— Не знаю. Не верится что-то... Не знаю, что и подумать...
— Расскажи, что произошло за время моего отсутствия... Ты изменился, Малыш Морга. Ты похож на потерявший управление корабль. Кажется, вот-вот бросишь якорь в надежде на спасение, на высшее милосердие... Но беда, Малыш Морга, если этот якорь тебя не удержит: ведь это последнее прибежище. Если буря его сорвет, тебя отнесет в открытое море. Но пока я здесь, рядом с тобой, якорь будет держаться. Это я могу тебе обещать... И клянусь в том Всевышнему.
Тут я понурил голову, бессильно свесил руки между колен, переплел пальцы и повел долгий рассказ обо всех приключениях, в которые оказался замешан, — от побега с Ночным Жаном, Томасом Англичанином и Клубникой и до трагической ночи, когда слышал ужасный предсмертный вопль Ночного Жана. Не забыл я рассказать и о «Розе Саванны», и о рябом, и о таинственном незнакомце, который задел меня, проходя по тропе, что вела вокруг замка. Но, не знаю уж почему, мне не захотелось признаваться, что мне показалось, будто я узнал голос ночного посетителя «Розы Саванны».
— А ты больше никогда не встречал этого незнакомца? — спросил господин Бюрнс, набивая трубку.
584
Дополнения
-Нет.
— Он тебе никого не напомнил, не вызвал никаких воспоминаний, как часто бывает, когда нервы напряжены до предела?
— Нет... Пожалуй, мне показалось, что я узнал его голос, это был голос кого-то из друзей... Но ощущение было таким мимолетным, что я не могу в нем разобраться...
— Похож на голос Гоаса? Ночного Жана? Бришни?
— Нет, ничего подобного. Честно говоря, он напоминал ваш голос... Представляете, как мой слух меня обманывал. В то время вы, по-моему, были в Кемпер-Корантене10.
Господин Бюрнс печально покачал головой. Он спокойно и неторопливо курил свою трубку. Время от времени он вынимал изо рта ее длинный мундштук из белой глины с красным наконечником и пускал к потолку клубы дыма, чей едкий запах слегка опьянял меня и нагонял сон. Он встал и принялся задумчиво ходить взад и вперед по комнате.
Я по-прежнему сидел, понурив голову и разглядывая пряжки своих башмаков. Господин Бюрнс остановился передо мной и направил мундштук своей трубки мне в грудь.
— Ты хорошо сделал, что всё рассказал, Малыш Морга. Ты оказался замешан в слишком страшную историю, нельзя всё это держать в себе. Отцу пока ничего не говори: твой отец очень добрый человек, его это потрясет. Тебя ни в чем нельзя упрекнуть, разве что в неосторожности. А мне ли упрекать тебя в неосторожности? В двенадцать лет я убежал из родительского дома, чтобы стать юнгой. Ты должен дать мне клятву, что не будешь пытаться проникнуть в тайну этой банды негодяев. Видимо, за всем этим стоит Пти-Раде. Очень жаль, что пропало изображение этого человека, которое вырезал Ночной Жан. Думаю, что он заплатил собственной жизнью за эту фигурку.
— Мне вот что пришло в голову: может быть, тот рябой и есть Пти- Раде?
— Едва ли. Моряков с лицом, изрытым оспой, не так уж много, и если бы названный джентльмен удачи был рябым, мы бы об этом знали.
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 13
585
— Господин Бюрнс, клянусь вам, я больше не буду заниматься тем, что меня не касается. Но что же случилось с Манон?..
— Оставь Манон в покое. Я бы не удивился, узнав, что ее возлюбленный — не чужой человек для экипажа «Розы Саванны». Всё взаимосвязано, а Брест — город настолько маленький, что от зоркого взгляда, такого, как твой, не ускользнет ни одно звено в цепи.
Речи господина Бюрнса были совершенно справедливы, я не мог с ними не согласиться. Его уверенные, спокойные и благоразумные слова вливали в мою душу умиротворение. Мне стало легче. Мне показалось, что я начинаю выздоравливать.
— Всё будет хорошо, Малыш Морга. Ты просыпаешься после дурного сна. В твои годы трудно различать добро и зло. Ночной Жан и его воображаемая невиновность, несомненно, взволновали твое доверчивое сердце. Пускай всё это послужит тебе уроком и укрепит твой дух. Ты смолоду научишься не доверять людям. Это огромная услуга, оказанная тебе Провидением.
— Так что же, люди непостижимы?
— У тебя еще будет в жизни немало разочарований, Малыш Морга, — сказал Жером Бюрнс, уклонившись от прямого ответа на мой вопрос.
В последнюю :ед;~
ничего приме-
— нательного. Мы постоянно
наблюдали нескончаемые колонны солдат. Деревенские жители боялись их, словно это были посланцы дьявола. Проходившие войска оставляли по себе память из-за пропавших кур и уток. За каждым полком следовал живописный караван: лакеи, женщины и дети, все весьма искусные в мародерстве. Кроме того, они вели дерзкие речи, приводившие окружающих в растерянность. Особенно отличился грабежами и заносчивостью эскадрон пьемонтских кавалеристов в мундирах васильково-синего цвета с желтыми пластронами и обшлагами1. Прибегли к наказаниям, и дисциплина восстановилась.
Моим главным развлечением было ходить каждый день по Реннской дороге2 — то вместе с господином Жеромом Бюрнсом, то с Никола де Бришни, который все уши мне прожужжал про Манон из Гвенеда.
Послушать его, так девица была отпетая негодяйка, и если она представлялась нам такой милой и любезной, когда служила в «Жаркой печке», то это было лишь одно из проявлений ее коварства.
— Она подлая шпионка! — вопил он направо и налево. — Эта чертовка состоит на службе у неприятеля!
— Ты в самом деле так считаешь? Мне что-то не верится.
— Ты глуп как пробка! — орал он. — Ничего не видишь у себя под носом и воображаешь, что вокруг тебя сплошные ангелы. Девка за¬
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 14
587
рабатывает английские фунты. Уж ты мне поверь. Поговори об этом с Гоасом или с господином Бюрнсом и передай мне, что они скажут. Она сообщает врагу о передвижениях наших войск. В наших краях и по всей Нижней Бретани подручные короля Георга3 цветут, как маки в пшеничном поле. Лорд Бьют4 швыряет золото направо и налево. Офицеры с «Неэры» говорили об этом между собой... когда же это?.. Погоди-ка, да в прошлый понедельник, в «Печке».
— Басни...
— Ах, басни? Ты знаешь Эрве, парусного мастера с «Неэры»? Ну вот, как встретишь его, спроси, зачем, по его мнению, комиссар заявился к Подеру в понедельник утром.
— В понедельник утром комиссар ходил к Подеру?
— Да, ходил, мой дорогой Морга. И комиссар с табакеркой, и полицейский Лансло с тетрадкой для допросов, и еще четыре человека стражи с ними.
— Так что, по-твоему, Подер тоже замешан в деле?
— В том, что Манон — распущенная девка и предательница, Подер не виноват. Его просто спрашивали, что он о ней знает. Вот и всё. Но раз уж полиция интересуется нашей Манон, на то должны быть серьезные причины.
— Черт возьми! Прямо не знаю, что и думать!
Я был сбит с толку. Мы заговорили о другом. Тут наше внимание привлекла толпа рекрутов, которых вел старик офицер, трусивший на какой-то кляче. Юноши еще не нашивали королевских мундиров; они едва плелись, на лицах у них читалось уныние. Они были нагружены, как контрабандисты. Один из них, за которым поспевал старый белый пес, тонким фальцетом затянул:
— Не заплачу по мамаше,
Не заплачу по папаше,
Без родни я проживу,
От моей красотки уплыву...5
588
Дополнения
Звук его голоса опровергал мужественную решимость песни. Тот, что шел замыкающим, в пышных бретонских штанах до колен и короткой черной куртке, какие носят в Плабеннеке6, ревел в голос, как теленок, отлученный от матери.
Они скрылись за купой деревьев и были уже далеко, а от пыли, поднятой их башмаками, у нас всё еще щекотало в носу.
Теперь пришел черед Манон поглощать внимание горожан и служить пищей их досужей болтовне. Из-за слухов о войне здравый смысл отшибло, кажется, даже у тех, которые в прежние времена слыли за людей вполне рассудительных. Повсюду им мерещились то шпики комиссара, то тайные агенты короля Георга Ш. Нас трясло, как в лихорадке, зато малейшие городские происшествия вызывали у нас жгучий интерес.
На другой день после прогулки по Реннской дороге вместе с Никола де Бришни я, выходя из дому, наткнулся на комиссара полиции, который пожаловал в нашу лавку в сопровождении господина Лансло.
— А, вот он, господин Морга-сын, — произнес комиссар. — Очень рад вас видеть. Это избавит меня от липшего визита.
Вместе с ним я вернулся в лавку, где отец нас встретил с улыбкой, но и со вздохом человека, которому не дают покоя.
Дело, разумеется, было в Манон, чья слава, кажется, уже почти превзошла славу Изабеллы из Фауэ, разбойницы, угодившей в ад лет сто тому назад7, чей призрак до сих пор оживлял вечерние посиделки.
— Не прогневайтесь, господин Морга, но с тех пор как эта девица сбежала, мы в тревоге. Все полицейские города и люди господина начальника военной полиции прочесывают улицы и дороги. В сущности, нам известно очень мало; хотя эту служанку знали многие посетители господина Подера, почти никто не может сообщить о ней точных сведений.
— Неужели это так важно? — спросил отец.
— Это важно, — возразил комиссар. — Мы располагаем уликами, свидетельствующими, что девица Манон из Гвенеда — сообщница Пти- Раде и, может быть, его любовница. С другой стороны, есть все основа¬
П, Мак Орлан. Якорь милосердия. 14
589
ния полагать, что знаменитый бандит находится в наших местах, хотя полной уверенности в этом у нас нет. Он подкуплен англичанами и готовит крах эскадры, которая снаряжается в настоящее время.
— Да мыслимо ли это? — воскликнул отец, всплеснув руками.
— Для тех, кто служит в королевской полиции, господин Морга, всё возможно. Но не будем пугаться собственной тени... Сейчас мы просто проверяем слухи, которые у всех на устах.
И тут за квадратными стеклами входной двери возник высокий силуэт господина Бюрнса. Наш друг приотворил дверь, снял треуголку в знак приветствия, и в образовавшейся щели показалось его славное лицо с мясистым носом, слегка расплющенным на конце.
— Простите, — произнес он слегка нараспев, — я не хотел бы вам мешать...
— Вы ничуть не мешаете, — сказал отец. — Входите, прошу вас, входите же... Мы беседуем с господином комиссаром, и вы будете отнюдь не липшим.
— Не беспокойтесь, у меня осталось одно срочное дело по соседству, я вернусь через четверть часа.
И господин Бюрнс затворил дверь.
— Кто это? — спросил комиссар. — Я не знаю этого господина.
— Это морской хирург, живущий в Рекуврансе.
— Ах, вот как, — отозвался комиссар. И добавил: — Не буду отнимать у вас время, господин Морга. Мне больше нечего вам сказать, и я благодарю вас за готовность помочь.
Он отворил дверь на улицу.
— Смотри-ка, — заметил он, — мои люди ушли?
— Да, — подтвердил я, — минут пять назад. Они, вероятно, решили, что вы уже уходите.
— Возможно, — недовольно отозвался комиссар, — но я этому старому пьянчужке Лансло шею-то намылю.
Он поспешно зашагал, почти бегом, по улице в сторону набережной, похожий на серую мышь в потрепанном кружевном жабо. Через несколько минут после его ухода вернулся господин Жером Бюрнс.
590
Дополнения
Он, казалось, лучился от радости. Он потирал руки — это обычно служило у него признаком веселого настроения. Первым делом он закупил себе пуэрто-риканского табаку на неделю.
— Ну что, Ив-Мари, ты, как водится, погружен в свою математику и в смертоносную баллистику?
Я улыбнулся. За меня ответил отец:
— Не слишком-то он много занимается. Надеюсь, что дисциплина в артиллерийском училище избавит его от мечтательности и неподходящих знакомств.
— Ив-Мари не имеет никакого отношения к приключениям вероломной Манон.
— Вы об этом что-то знаете? — удивился отец.
— Для этого не надо быть ясновидящим, — отвечал господин Бюрнс. — Вот уже целую неделю комиссар допрашивает об этом деле всех встречных-поперечных. Он тактичен и осторожен, как майский жук, угодивший в уличный фонарь. Из-за этой потаскушки полиция сбилась с ног: они наблюдают за всем ее окружением. Того и гляди, призовут на помощь роту коннетабля8.
— Комиссар спросил у меня ваше имя, — заметил отец.
— В людях его профессии главное достоинство — любопытство. Как зовут этого почтенного блюстителя правосудия?
— Спросите у того, кто знает всё на свете, — со смехом отвечал отец.
— Его зовут Дюглуа, Барнабе Дюглуа. Он раньше служил в личной гвардии короля. Он из Парижа.
— Да это светоч! — благодушно воскликнул господин Бюрнс. — Будем надеяться, что он избавит нас от Пти-Раде и от Манон, которую, как я слыхал, считают его любовницей. Ну, а покамест почему бы нам не найти себе занятие, более согласное с заветами матери-природы? Приглашаю вас и вашего отца разделить со мной трапезу на траве. Угощение приготовит госпожа Лемёр. Завтра воскресенье, а шипчандле- ры, как все добрые христиане, чтут день воскресный. Вы закроете лавку. Не говорите «нет», Морга, вы меня очень огорчите. Знайте также,
77. Мак Орлан. Якорь милосердия. 14
591
что я заказал экипаж, который отвезет нас вместе с провизией в очаровательный уголок у самого пролива9.
— Ах, какой прекрасный будет денек! — воскликнул я, воздевая руки к небу.
— Посмотрите на сына, — произнес господин Бюрнс. — Он разумнее своего отца.
к к к
Экипаж, который доставил нас к Порцику, был чем-то вроде дорожной берлины10 с кожаными портьерами, которые возница догадался заранее поднять, чтобы мы могли наслаждаться морским ветерком. Эта колымага, верно, совершала одну из своих последних поездок. Ехала она только чудом. Но езда нас ничуть не утомила. Две недурные лошадки дотащили почтенный драндулет до рощицы близ Порцика, откуда открывался вид на пролив. Мы нагрузили карету провизией, которую приготовила госпожа Лемёр. Еда была отменная и обильная, поскольку господин Бюрнс был гурман и ценитель хорошей кухни. Мой отец добавил к этому корзиночку, припасенную Марианной, с бутылкой старого портвейна и печеньем, до которого наш друг был большой охотник.
Погода нам благоприятствовала. Солнце сияло вовсю, и жара, к счастью, умерявшаяся ветерком, дувшим с севера, способствовала нашему блаженству.
Я сидел рядом с пареньком Эрве, который правил лошадьми. Отец и его друг расположились в экипаже, посреди корзин с провизией.
Примерно через час езды в гору нам пришлось сойти, чтобы лошадям было легче; мы пешком дошли до соснового леска, который господин Бюрнс называл «уголок друзей природы».
И в самом деле, место было прелестное. Под сенью деревьев, достаточно густой, чтобы защитить нас от солнечных лучей, но не скрывавшей от нас вида на пролив, раскинувшийся внизу, мы расстелили на земле скатерть и открыли корзины со снедью. При появлении каждого блюда, сервированного с изяществом, увеличивавшим наш аппетит, и без того изрядный, мы не силах были удержаться от рукоплесканий и радостных возгласов. Юный Эрве разделил с нами трапезу, однако
592
Дополнения
угощение было подано ему прямо на козлы, потому что нам не слишком хотелось вовлекать в беседу этого увальня, более привычного к разговорам с лошадьми, чем к философским беседам на лоне природы.
Отец мой выпил портвейну за здоровье Жан-Жака Руссо. Господин Бюрнс поднял свой стакан во славу господина де Бюффона, а я последовал их примеру и воздал должное кадетам Королевского артиллерийского училища города Меца.
Игристый сидр, отменная еда, изысканная беседа — этот завтрак на траве остался одним из самых приятных воспоминаний моего отрочества. Сквозь устремленные ввысь стволы сосен и узловатые стволы дубов, изогнувшихся под морскими ветрами, сквозь утесник, клонившийся под порывами бриза, виднелись тихие воды пролива. Рыбачьи суденышки бороздили морскую гладь и забрасывали сети неподалеку от побережья: страх перед английскими военными кораблями принуждал рыбаков к осторожности. Какое-то судно королевского флота маневрировало, собираясь пристать около Испанской дамбы11. Издалека, со стороны Камаре, донесся пушечный выстрел.
Господин Бюрнс прислушался.
— Ничего страшного, — сказал он. — Это бомбардиры упражняются, стреляют по остовам старых баркасов.
Как это неизбежно случалось во время наших дружеских сборищ, вскоре разговор перешел на меня.
— Ив-Мари умнеет, — заметил господин Бюрнс. — Он уже не хочет гоняться за приключениями, как курица за мотыльком.
— Ему следует благодарить вас, — откликнулся отец, — за все ваши добрые наставления. Как у всех юнцов, у него бывали периоды возбуждения и неуравновешенности. Воспитание души должно быть еще более неукоснительным, чем телесное воспитание.
— В его годы я был точь-в-точь такой, как он, — произнес господин Бюрнс, глядя на меня.
Он взял меня за руку. Я чувствовал, что он глубоко взволнован. Он тут же постарался обуздать чувство, которое почитал слабостью. И всё же он произнес:
П, Мак Орлан. Якорь милосердия. 14
593
— Достойный офицер, храбрый и честный, верный своему королю и своему полку, — вот твое будущее, Ив-Мари. А позже, много позже, когда ты постареешь, поседеешь на службе, ты вспомнишь об уроках математики, которые я тебе давал.
— Я никогда ничего не забуду, господин Бюрнс, и я не изменю клятве, которую дал в тот день, когда мы повесили новую вывеску в вашу честь.
— Ах ты плутишка, Ив-Мари! — воскликнул господин Бюрнс, рассмеявшись от всего сердца. — Ты же ничего не обещал в тот день!
— Нет, обещал, но эту клятву я произнес про себя, а не вслух.
Когда настало время возвращаться в Брест, мы разбудили Эрве, который блаженно храпел на козлах; лицо его алело, как кусок сырой говядины. С грехом пополам спустились мы вниз по пыльным скверным дорогам и въехали в город. Следуя через порт, мы обратили внимание на большое стечение народа на набережных.
— Наверно, солдаты идут, — предположил господин Бюрнс.
Экипаж пробирался вперед под щелканье кнута и бесхитростные
ругательства Эрве.
— Да что творится? В городе мятеж? — воскликнул отец, наклоняясь, чтобы рассмотреть толпу. Он заметил знакомого приказчика и окликнул его: — Что происходит, Луи?
— Ах, господин Морга, вы ничего не знаете? Только что обнаружили тело господина Дюглуа, комиссара. Его убили сегодня ночью, в первом часу... прямо в постели.
— В нашем городе никогда не бывало ничего подобного!
Отец был в негодовании.
Перед «Якорем милосердия» мы вышли из кареты. Господин Бюрнс остался с нами. Было, вероятно, часов семь вечера.
Всю улицу лихорадило. Люди собирались кучками перед лавками, перед блинной Фёнен, у дверей кабачков и судили-рядили о событии.
— Пойдемте выпьем стаканчик муската в «Жаркой печке», — сказал господин Бюрнс. — Узнаем подробности об этом гнусном преступлении, если только это преступление.
594
Дополнения
В «Жаркой печке» волновались не меньше, хотя это не так бросалось в глаза. Слышен был только гул разговоров, которых не заглушал стук костей по деревянным столам.
— Ей-богу, бедняга Дюглуа, — сказал отцу господин де Пенвиль, — он получил страшный удар ножом между лопаток...
— Комиссара обнаружил его агент около полудня, — добавил господин Подер. — Он лежал в постели, и постель была вся в крови, как колода мясника.
— А известно, кто совершил это страшное злодеяние? — поинтересовался господин Бюрнс.
— Убийцу не поймали, да и не поймают, наверное, — с горькой улыбкой отвечал господин Подер. — Говорят, что комиссар вышел на след Пти-Раде...
— Мало ли что говорят, — возразил господин де Пенвиль. — Мне кажется, что это убийство из мести.
А я думал о том, что незадачливый Дюглуа умер так же, как Ночной Жан.
— Возможно, я один из последних, с кем он разговаривал, — произнес отец. — Вчера в это самое время господин Дюглуа заглянул к нам в лавку — одновременно с господином Бюрнсом, который пришел в гости. Помните?
— Помню, — отвечал господин Бюрнс с печальным видом. — Бедняга еще спросил, как меня зовут.
— Отец, можно, я пройдусь по городу и послушаю, что люди говорят?
Отец разрешил, и я вышел из кабачка, слыша голос господина Бюрнса, перекрывавший остальные голоса:
— Это всё не зря, поверьте: в воздухе пахнет войной. Не пройдет и месяца, как мы услышим пушечные выстрелы.
Улицы по-прежнему бурлили. Я заметил Никола де Бришни, он шел по Сиамской улице с тремя молодыми гардемаринами.
— Слыхал новость? — крикнул я ему издали.
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 14
595
— Да уж, ничего себе новость, черт побери! Свинью Дюглуа убили. Надеюсь, черти в аду позаботятся о нем.
Гардемарины прыснули со смеху. Я пожал плечами и зашагал к набережным в сторону каторжной тюрьмы. По дороге мне попалось десятка два мальчишек, шедших из Керавеля. Они распевали:
— Наш начальник дуба дал,
Город весь рыдает,
Каждая ищейка Слезки утирает,
А береговая стража Вся позеленела даже!
Такое надгробное слово прозвучало вечером по поводу кончины господина Дюглуа. Мне подумалось, что все недруги Пти-Раде погибают весьма кстати.
Захваченные
вихрем всех этих событий, вступили мы в прекрасный месяц август, которому суждено было положить мучительный конец моим тревогам. С тех пор как в недобрый час я поддался порыву и дал себя втянуть в приключения Ночного Жана, я уже не знал больше беспечной жизни, какую обычно ведут юноши в моем возрасте. За последние месяцы из памяти моей изгладились трагические подробности, к которым привело меня легкомыслие, но ум мой по-прежнему заволакивал какой-то вредоносный туман, навевавший меланхолию и, порой, инстинктивное робкое предчувствие большой беды, перед которой я чувствовал себя бессильным. Я ждал дня зачисления в артиллерийское училище, как ждут избавления. С этого дня мундир будет мне защитой от воспоминаний о недобром прошлом, которые мне так хотелось прогнать. Еще шесть недель — и отец закажет мне место в дилижансе, идущем в Ландерно, а оттуда, меняя лошадей и дилижансы, я доберусь до Ренна1, Парижа, Шалона2 и, наконец, Меца. Предвкушение этого долгого путешествия приводило меня в восторг и будоражило воображение. Блаженные миражи! Нередко они давали мне передышку от нынешних тревог. Я был слишком серьезен, чтобы развлекаться, как другие юнцы: я любил только мечтать. Господин Бюрнс был прав. Не возбуждая во мне жалости к собственной участи, он умел разумными советами, всегда находившими отклик в моей душе, отвадить меня от этой неистребимой тяги к смертельно опасным
77. Мак Орлан. Якорь милосердия. 15
597
приключениям, тяги, которая зародилась во мне по неведомым мне самому причинам.
Моя честность и вера в добродетели окружающих делала меня безоружным перед коварством тех, что казались мне почтенными людьми.
Часто господин Бюрнс говорил мне:
— Пускай не послужат тебе запоздалым утешением слова: «Кто бы мог подумать!» Тебе всегда придется носить в себе следы той боли, которую причинит тебе жизнь. Людская приязнь — редкая монета, мало кто готов с ней расстаться. Люди решаются на это лишь в самых исключительных обстоятельствах. И все-таки не впадай в мизантропию. Люби людей — но, если не знаешь человека, всегда держи руку на эфесе шпаги. Суждения, идущие от сердца, следует всегда поверять опытом.
Кажется, я уже говорил, что мне нравились серьезные разговоры, и полагаю, влияние, которое всегда имел на меня господин Жером Бюрнс, объясняется тем, что он обращался со мной не как с восторженным мальчишкой, но как с человеком, с чьим мнением следовало считаться.
В некоторых отношениях господина Бюрнса как воспитателя можно было сравнить с аббатом Мюньеном, однако у господина Бюрнса к наставлениям добавлялись еще сердечная теплота и снисходительность.
Но возвратимся к хронике этого года — бурного, но, признаться, невероятно увлекательного, несмотря на его ужасное завершение.
После убийства комиссара господин Бюрнс часто навещал нас. Несколько раз в неделю он исчезал; отец говорил тогда, что он ведет себя как истинный вертопрах. Это приводило нашего друга в веселое настроение. Он щелчком взбивал попышнее свой кружевной галстук, отставлял ногу и приосанивался, как шестнадцатилетний гардемарин.
Каждое утро я ходил поздороваться с ним и отнести ему «Французскую газету», которая тогда еще не перешла в руки Панкука3. Господин Бюрнс прочитывал новости и приносил нам назад газету к концу дня, потому что отец любил читать по вечерам, после работы, освободившись от забот. Но госпожа Лемёр всё чаще сообщала мне, что ее жильца нет дома, и тогда я не знал, чем заняться. Я бродил по набережным
598
Дополнения
как неприкаянный и бездумно глазел, как работают каторжники, потевшие под безжалостным солнцем того необыкновенно жаркого лета.
В то утро — как сейчас помню, это было седьмое число августа — вдова из Трегенка сообщила мне, что господин Бюрнс на рассвете уехал и вернется не раньше завтрашнего дня к вечеру.
На это я ответил: «Спасибо, госпожа Лемёр», но ответу моему явно не хватало бодрости; чтобы убить время до обеда, я поплелся в сторону набережных.
Никола де Бришни был в Кемпере. После этой поездки ему предстояла еще одна, более важная, — в Париж: он решил перебраться туда, чтобы совершенствоваться в искусстве живописи. Этот его план пришелся мне по душе; мы договорились, что до Парижа поедем вместе. Сейчас Никола де Бришни готовился к путешествию и переезду: он пытался заинтересовать своими планами богатого дядюшку, жившего в Кемпере. Дядюшка этот при случае помогал моему другу. Бришни имел некоторые надежды выпросить у него маленький пенсион, который поможет ему продержаться несколько месяцев в ожидании славы и богатства.
Я прогуливался, размышляя обо всём этом, не обращая внимания, куда несут меня ноги, пока внезапно не очутился перед прекрасной носовой скульптурой, тропической черной богиней, той самой чернокожей дамой из моих былых сумасбродных грез. Теперь она показалась мне толстой и не такой ослепительной. Это уже не была немного вульгарная, но всё же богиня блаженных островов, расцветавших как цветы: я видел просто деревянную негодницу, изъеденную океанской солью.
И вновь вспомнилось мне, что говорил об этом господин Жером Бюрнс, и вновь я задумался над его словами.
Но каково же было мое удивление, когда я заметил «Розу Саванны», пришвартованную у набережной и совершенно свободную, как любое почтенное торговое судно. На задней палубе какой-то незнакомый матрос острил нож на небольшом точиле, приводя его в действие нажатием на педаль. На голове у матроса, как у рябого, был повязан шелковый платок, оранжевый с синим. Он был одет в белую холщовую ру¬
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 15
599
баху и матросские штаны в узкую красную и синюю полоску. «Роза Саванны», как спящая красавица, очнулась ото сна или, вернее, от неволи. Солдат из полка Каррера, которым была поручена ее охрана, больше не было. Напрасно мои глаза искали вооруженного часового в красном мундире с плетеными пуговицами из белого шнура, — часового, который еще недавно расхаживал взад и вперед по палубе арестованной шхуны.
— «Розу Саванны» больше не охраняют? — спросил я у рыжего Ян- ника, который насаживал наживку на крючок в нескольких шагах от форштевня судна.
— Сам видишь, Малыш Морга. Черная дама после судебного разбирательства оказалась белее горностая, что красуется на нашем знамени4.
— И давно это случилось?
— Только вчера. Я уже неделю ловлю рыбу в этом месте. Вчера в последний раз видел, как у швейцарцев была смена караула. У «Розы Саванны» все бумаги в порядке, ей только владельца не хватает.
— Ты шутишь?
— Ничуть! Разрази меня гром! Корабль вместе с экипажем сдается внаем.
— Рябой по-прежнему там?
— Не знаю, какого рябого ты имеешь в виду. Но я знаю капитана. Это чернявый коротышка, живчик, что твоя ртуть. Говорит нараспев, как те, кто живет к югу от Луары.
В этот миг меня осенила безумная идея. Почему бы господину Бюрнсу, человеку состоятельному, сведущему и ничем не занятому, не объединиться с моим отцом, чтобы купить на паях «Розу Саванны» и довершить ее снаряжение? Потом можно поменять имя, назвать корабль «Милосердие». Как сказал отпрыск Маэ, можно вышить бретонского горностая на флаге компании по снаряжению судов «Бюрнс и Морга». Идея была так соблазнительна, что у меня щеки вспыхнули. Мне хотелось, чтобы мой план осуществился сию же минуту. Но теперь меня терзали сомнения. Это было бы слишком прекрасно! Наверняка добрый десяток брестских горожан думают об этом приобретении и го¬
600
Дополнения
товы начать торг. Значит, нельзя терять времени. Я был в отчаянии, оттого что господина Бюрнса нет в городе. Но, быть может, он уже вернулся? Я не мог устоять против соблазна проверить это немедленно. Не теряя времени на прощание с рыжим Маэ, я вновь поспешил в Ре- кувранс, на сей раз паромом, чтобы сократить путь.
Несколько раз я чуть не сорвался, карабкаясь по тропе, ведущей к дому господина Бюрнса. Я несся, как Меркурий, у которого, говорят, были крылья на пятках5.
У дома меня ждало огромное разочарование: на втором этаже, где жил господин Бюрнс, ставни были по-прежнему закрыты. Но затея моя не выходила у меня из головы и не давала покою. Я отворил калитку и обошел сад, не встретив вдову из Трегенка. Я немного поколебался, прежде чем постучать в дверь. Ведь госпожа Лемёр уже сказала мне всего два часа тому назад, что ее жилец уехал до завтра. Моя настойчивость могла показаться невежливой. С другой стороны, Марианна уже накрывает на стол. Таким образом, разумнее будет поговорить сперва с отцом, а уж потом с господином Бюрнсом. Это решение меня не устраивало: мне бы больше хотелось, чтобы господин Бюрнс, сраженный пылкостью моих доводов, сам затем обсудил это дело с отцом.
В задумчивости я сделал несколько шагов и оказался по самую шею в зарослях густой бирючины, которая полностью меня скрывала от посторонних глаз, хотя я и не думал прятаться. Я остался на месте и даже отступил еще дальше в мое убежище, заметив, что калитку открывает какая-то женщина, причем явно не госпожа Лемёр.
Сердце затрепыхалось у меня в груди, когда я увидел, что эта женщина, молодая, плато закутанная, несмотря на жару, в накидку с поднятым воротником, скрывавшим лицо, идет по дорожке, и под высокими каблучками ее башмаков хрустит гравий.
Эти проворные башмачки и легкая походка напомнили мне кокетливые туфельки и гибкие движения Манон, той самой Манон, у которой были такие прекрасные ласковые глаза и за прелестную головку которой была теперь назначена премия.
Молодая женщина — а она несомненно была молода, — лица которой я не мог рассмотреть, вошла в дом и затворила за собой дверь.
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 15
601
Я слышал, как она поднимается по лестнице и стучит в другую дверь, хорошо мне знакомую.
Затаив дыхание, я, если можно так выразиться, изо всех сил стал ждать, что будет. В этот миг сердце мое пронзила жестокая боль, потому что я думал: «Неужели дверь отворится?» Пять минут миновало — я был уверен, что дверь не отворят. Ее не могли отворить, поскольку господина Бюрнса не было дома. Я прождал еще четверть часа. Незнакомка, однако, не появилась, и пришлось мне признать очевидное: господин Бюрнс ей отворил.
Вновь меня увлекла тайна, о которой я еще не успел забыть. Я долго стоял за изгородью из бирючины как громом пораженный, не в силах привести в порядок вихрь обуревавших меня мыслей.
Необоримый страх пригвоздил меня к месту. Я боялся, что меня застанут здесь подглядывающим, словно шпион, что было унизительно. Ведь шпионить я не собирался: как часто бывает, я стал свидетелем этой сцены по чистой случайности.
Потихоньку, отводя в сторону ветку за веткой, я выпутался из своего тайника и добрался до калитки, никому не попавшись на глаза.
Когда я оказался в переулке, слезы брызнули у меня из глаз. Я сжал кулаки и весь напрягся, чтобы справиться с чувствами, которые нахлынули на меня как огромная волна.
К обеду я опоздал.
— Benedicite уже прочли, — заметил отец.
Я знал, что он имеет в виду. Я уткнул нос в тарелку, и Марианна подала мне еду, которой заботливо не дала остыть.
— Где ты был? — спросил отец.
— У господина Бюрнса. Его не было дома...
— Бедный мой мальчик, ты воистину ведешь себя неразумно. Дисциплина военного училища придется тебе кстати.
— Отец, — проговорил я, еле ворочая языком, — я виноват меньше, чем вы полагаете...
И я рассказал ему о сцене, увиденной в саду, рассказал и про закрытые ставни, и про отсутствие госпожи Лемёр. Я не утаил, что, кажется, узнал если не лицо, то силуэт Манон из Гвенеда.
602
Дополнения
— Силуэт, — возразил отец, — еще не повод осуждать человека. Всего этого недостаточно, чтобы нагромоздить тайну в твоем вкусе. Ты обманулся сходством. Таких, как Манон, на земле сотни, а та, которую ты видел, даже не похожа на служанку господина Подера: ты же сам признался, что не разглядел ее лица. Нет, воистину, длительное пребывание в Меце пойдет тебе на пользу. Брест тебе не годится. Здесь тебя подстерегает слишком много опасностей. Ты страдаешь из-за собственной доверчивости. Через три недели ты будешь жить в городе, которого не знаешь, где всё тебе покажется изумительно новым. Тебя ждет огромная радость: ты впервые наденешь мундир. Я уже написал твоему дяде и сообщил о твоем приезде. Не беспокойся, Ив-Мари, через три недели вы с твоим другом Никола сядете в дилижанс. В вашем возрасте путешествие в почтовой карете — полезнейшее удовольствие.
Во время этой речи я схватил отцовскую руку и не выпускал ее.
— Отец, — сказал я ему, — вполне возможно, что я ошибся. Я не поклянусь в суде, что женщина, которую я едва видел, и есть Манон из Гвенеда. Но правда и то, что мне не удается забыть кое-какие мелочи, которые вот уже несколько месяцев беспокоят меня, несмотря на то, что я изо всех сил пытаюсь о них не вспоминать. Иногда я думаю, как и вы, что с моей стороны это сплошное ребячество. А иногда мне кажется, что нашего друга, господина Бюрнса, подстерегает ужасная опасность. Не могу забыть ни убийства Ночного Жана, ни убийства господина Дюглуа — оба были убиты, сдается мне, одной рукой и одним ножом. И эта «Роза Саванны»...
Как только я назвал имя корабля, я осекся, потому что вспомнил, зачем приходил к господину Бюрнсу.
— Каким боком «Роза Саванны» замешана в этой дьявольской истории? — удивился отец.
— Целую неделю я думал, что это корабль Пти-Раде.
И я рассказал отцу всё, что мне удалось расслышать из ночного разговора рябого с высоким незнакомцем; я не скрыл от него, что лица этого незнакомца не видел, но голос его меня смутил.
Отец выслушал мою исповедь с величайшим интересом. Прислонившись к прилавку и заложив руки за спину, он дал мне высказаться
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 15
603
до конца, не прерывая моей истории. Когда я закончил, он несколько раз провел рукой по подбородку жестом, свойственным ему в минуты озабоченности.
— Хорошо, Ив-Мари. Ты должен был рассказать мне всё в первый же день.
— Отец, я сам себе не верил и боялся встревожить вас еще больше. Но, поверьте мне, даже во время моего приключения с Ночным Жаном и его товарищами я вовсе не думал, что делаю что-то дурное. Еще и сегодня я не могу отделаться от убеждения, что Ночной Жан был ни в чем не виноват и, как господин Дюглуа, погиб только потому, что и один, и другой владели ужасной тайной. Да, отец, я по-прежнему думаю, что Пти-Раде в Бресте и что он угрожает жизни господина Бюрнса.
Отец покачал головой и осторожно похлопал себя по чисто выбритым щекам.
— Иди немедленно к господину Бюрнсу. Я недалек от мысли, что ты прав. Наш друг ни о чем не догадывается. Он никогда не выказывал ни малейшего беспокойства. Это человек, привыкший к опасностям. Он их презирает, но это презрение может дорого ему обойтись.
— Я скажу ему, что случайно подглядел приход этой женщины, похожей на Манон.
— Разумнее всего так и сделать, — серьезно подтвердил отец. — Возможно, ее приход связан с тем, что нас тревожит. Судить об этом может только он сам.
Я надел шляпу и пошел назад к башне Мотг-Танги.
Я был так погружен в размышления, что чуть не сбил с ног госпожу Лемёр, выходившую из дому.
— Боже мой, господин Морга, что вы несетесь как на пожар? Бежите как угорелый. Я чуть не упала, ей-богу... Идите, дома ваш господин Бюрнс.... Поднимайтесь к нему. Он вернулся раньше, чем предполагал.
Я преодолел лестницу в три прыжка. Стучаться в дверь мне не пришлось — она сама отворилась, чтобы меня пропустить. В проеме улыбался господин Бюрнс.
604
Дополнения
— Ты весь красный, как фонарь на корме! — воскликнул он. — И сопишь носом, как тритон на городском фонтане6. Садись. Сейчас мы с тобой откупорим бутылку свежайшего сидра.
— Я уже приходил сегодня утром и приносил вам «Газету». Но госпожа Лемёр сказала, что вас не будет до завтра.
— Всё верно, Малыш Морга... Во всяком случае, так я ей и сказал. На самом деле я хотел побыть один, потому что ждал посетителя.
— Господин Бюрнс, — выпалил я, вскочив на ноги, чтобы успокоиться, — я хочу вам что-то сказать. Поверьте мне. Не по своей вине, а по чистой случайности я оказался нескромным: я приходил нынче утром еще раз, в половине двенадцатого, и невольно, клянусь вам, увидел даму, которая входила в дом. Я слышал, как она поднималась по лестнице, но назад не спустилась. Я не видел лица этой дамы, господин Бюрнс, но мне показалось, что она похожа на Манон, служанку из «Жаркой печки».
— Клянусь Богом, ты прав, — отозвался господин Бюрнс. — Осанкой и походкой она слегка напоминает Манон.
— Я не хотел, чтобы так вышло, господин Бюрнс. И я выведал ваш секрет не нарочно. Клянусь, в том нет моей вины.
— Ну что ты, Малыш Морга... Я тебе верю. Ничего страшного. Это и не секрет вовсе... Я просто вынужден, — тут он улыбнулся, но его улыбка показалась мне неискренней, — я вынужден проявлять известную скромность, если принимаю даму.
— Это ваша возлюбленная?
— О нет! Не возлюбленная и не дочь, о романтик и будущий офицер артиллерии. Это дама, которая не желает быть узнанной. Мне ничего другого не остается, как только уважать ее волю. Она испытала много горя, и мне подчас удается подать ей добрый совет.
Он разлил по стаканам остаток сидра, и я выпил огромными глотками, потому что в горле у меня пересохло и першило после пыли, которой я наглотался по дороге.
Сдержанное объяснение господина Бюрнса успокоило меня и разогнало тучу, омрачавшую мои мысли. Я словно воскрес, и мне показа¬
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 15
605
лось, что теперь ничто уже не мешает обсудить мой план, от которого я уж было успел отказаться.
— Знаете ли вы, господин Бюрнс, что с «Розы Саванны» уже сняли охрану?
— Что ты говоришь!
— Да, солдаты покинули корабль. А это прекрасная шхуна.
Я немного подождал, но господин Бюрнс ничего не отвечал.
— Вот я и подумал... только не смейтесь надо мной... что вы с моим отцом, словом, отец и вы, объединившись, могли бы купить этот корабль... Вы стали бы его владельцами и дали бы ему имя «Милосердие»!
Господин Бюрнс долго на меня смотрел. Его синие глаза горели, как кошачьи.
— А это совсем недурная мысль, юный артиллерист...
Он снял с гвоздя треуголку и взял трость.
— Покажи мне дорогу к «Розе Саванны». Выясним сперва, продается ли она.
— Нужно будет сменить носовую фигуру.
— Многое нужно будет сменить, Малыш Морга, если мы станем хозяевами этой шхуны.
Всю дорогу господин Бюрнс не перебивал моей болтовни. Мы пришли на набережную, у которой был пришвартован корабль.
— Черт побери!
Я приставил руку козырьком к глазам.
— Ну, что? — спросил господин Бюрнс, повернувшись ко мне, чтобы лучше меня видеть.
— «Роза Саванны» исчезла!
— Ей-богу, ты прав. Гром и молния! «Роза Саванны» исчезла. Ну что ж, утешимся: значит, не судьба нам нынче заняться покраской нашего корабля.
Он взмахнул тростью и повернулся спиной к непривычно пустынному рейду.
«
Рд Qyy P P Tp Я покупку <<Розы Ca-
J IVlJJil-j 1 V^/lj ванны» пришлось
отложить до лучших времен, то есть до маловероятного, в сущности, возвращения загадочной шхуны. Я даже не стал упоминать об этом плане отцу. Впрочем, мне показалось, что господин Бюрнс и сам не вполне серьезно отнесся к моему предложению.
Но у отца состоялся с господином Бюрнсом оживленный разговор, при котором я из скромности не присутствовал. Отец поделился с ним своими опасениями, которые подкреплялись чередой событий, подчас пустячных, подчас трагических.
Друзья сидели в задней комнате «Якоря милосердия». Они курили. Я слышал только гул их голосов, потому что стоял на улице перед входной дверью и смотрел на прохожих: крестьянок в нарядных костюмах, которые шли на рынок в квартал Семи Святых, и поставщиков продовольствия, возвращавшихся из порта.
Временами среди неразборчивого жужжания беседы до меня доносился голос господина Бюрнса:
— Я очень вам признателен, дорогой мой, но ради всего святого! Я держу глаза и уши открытыми. Поверьте мне, у меня нет врагов.
Отец приводил всё новые доводы.
Потом они встали и вернулись в лавку. Господин Бюрнс внимательно разглядывал компас в коробке. Он казался озабоченным.
Перетрогав все предметы в пределах досягаемости, он, казалось, очнулся от задумчивости и сказал моему отцу:
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 16
607
— Дорогой друг, у меня кончился табак. Я вечно спохватываюсь, когда пустеет последний пакет. Нельзя ли вас попросить доставить мне сегодня с юным Маэ ящик в двадцать пять пакетов? Таким образом у меня на некоторое время окажется запас и мне больше не будет грозить неприятный сюрприз, когда с пустой трубкой в руке открываешь банку, а там нет табаку.
— Нет ничего легче, — отвечал отец. — Я как раз получил партию тонкого гаванского табака. Он у меня здесь не залежится, потому что я должен обеспечить офицеров с «Неэры». Кстати, о «Неэре»...
Отец обернулся ко мне и продолжал:
— Да, кстати о «Неэре», могу тебе сказать, Ив-Мари, что завтра у тебя будет хороший день. Ты сможешь его отметить белым камешком1. Эти господа попросили меня доставить им провизию в Уэссан. Я договорился с Дигвенером, он предоставит в мое распоряжение «Лилию Марии» на целый день, с рассвета до заката. Если тебе хочется, можешь поехать с ним. Переночуешь у Кильвинека и отвезешь наши заказы на остров вместе с заказами господина Гува, который меня попросил взять это на себя. Я тебе напишу все указания, потому что, сдается мне, математикам свойственно легкомыслие, а там уже недалеко и до рассеянности.
Господин Бюрнс улыбнулся.
— Черт побери, тебе светит отменный денек в море. Прямо самому хочется с тобой отправиться.
— Ловлю вас на слове, господин Бюрнс. Сделайте милость, доставьте мне это удовольствие.
— Увы, Малыш Морга, это был душевный порыв, но... На самом деле мне, скорее всего, придется на несколько дней уехать. Я опять должен предстать перед судом Кемпер-Корантена, чтобы защитить права одной несчастной женщины...
Это было сказано для меня, хотя мне казалось всё же, что легкая походка кокетливой незнакомки отнюдь не намекала на горестную судьбу; по крайней мере, в саду у госпожи Лемёр у меня сложилось иное впечатление. Но я был слишком возбужден предстоящим удовольствием, чтобы обращать внимание на подобные мелочи.
608
Дополнения
Ничего не могло порадовать меня больше, чем прогулка по морю вместе с рыбаками. Я твердо намеревался вернуться домой, сгибаясь под бременем корзины, полной морских языков, скатов и барабульки. Может быть, мы сможем поднять верши. Тогда к моему улову добавится омар, лангуст или один из тех больших мясистых крабов, которые у нас зовутся сонями2.
— Ради всего святого! — завопил я, врываясь в кухню. — Марианна, приготовь мне к вечеру корзину с провизией. Я возьму ее завтра на рассвете, когда буду уходить.
Марианна покачала головой и что-то пробормотала себе под нос. Она не одобряла морских прогулок и никогда не упускала случая мне сказать: «Кто рвется в Уэссан, у того в голове дурман». Она часто рассуждала о толпах покойников, которые живут в морских глубинах, в затонувшем городе Ис3. Прежде чем взойти на корабль, она всегда крестилась.
— И блинов, Марианна! Не забудь положить мне в корзину блинов.
* * *
На другой день еще затемно я уже стоял на пирсе с корзиной в руке и искал среди причаленных судов «Лилию Марии». Отец накануне благоразумно послал на борт двенадцать бутылок сидра, чтобы вместе с экипажем я отпраздновал свое появление на корабле. Я увидел «Лилию Марии» — на ней было темно и тихо. Парус, свисавший со штата4, представлял собой подобие палатки, в которой укрылся экипаж, состоявший из одного матроса по прозвищу Тэнтэн и юнги по имени Силь- вестрик. Дигвенера еще не было. Я дождался его на краю пирса, сидя на моей корзине, потому что не хотел нарушать сон славных моряков.
Оглушительный стук деревянных башмаков вырвал меня из дремотного оцепенения. Я услышал их издалека. Наконец я заметил высокую фигуру Дигвенера, в каждой руке он нес по корзине.
— Боже, да это же Малыш Морга. Ты не опоздал, матросик, ей-богу.
Дигвенер впереди меня ступил на сходни, я за ним. Тут проснулся
экипаж. Первым вышел Сильвесгрик, протирая глаза. Это был дюжий
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 16
609
парень лет пятнадцати. Вслед за ним вышел старый Тэнтэн. Хозяин налил всем по чарке яблочной водки. Я тоже получил свою порцию и выпил не поморщившись.
Из Пенфельда мы вышли на веслах, стараясь поймать ветер. Потом Дигвенер и Сильвестрик поставили большой парус, который оглушительно хлопал на ветру, словно пушка стреляла. Тэнтэн у штурвала поймал ветер, пока хозяин менял галс.
Кораблик скользил над водой, словно чайка, которая ловит рыбу. Мы проплыли вдоль «Данаи»5, на которой свистели флейты и били барабаны, давая сигнал к побудке. Справа по борту перед нашим взором тянулось побережье. Но солнцу всё еще не удавалось пробиться сквозь туман.
— Нам тяжко придется между Моленом и Уэссаном, — проронил Дигвенер. — Но к ночи доберемся как-нибудь... если поможет святая Анна из Орэ6.
Ветер, дувший в корму, нам благоприятствовал. Дигвенер добавил к мачте топсель7, а к бушприту8 — бом-кливер. Теперь работало всё, что было из парусов на этом маленьком куттере9.
Я растянулся плашмя на носу корабля и смотрел, как вода кипела и струилась по обе стороны от форштевня.
— Не надо смотреть на воду, — сказал Тэнтэн, — это раздражает мертвецов, они не любят, чтобы мы подглядывали за их проделками. А не то они тебя поманят, и тут уж ничего не поделаешь: прыгнешь в воду и попадешь прямо к ним, вот так-то.
— Можно же перекреститься, — заметил юнга.
— Не поможет, — с убеждением возразил Тэнтэн.
— Лучше всего, — вступил хозяин, — ночью смотреть на звезды, а днем на облака. Когда плаваешь, небо важнее воды, вот что я вам скажу.
— Вот это правда, — подтвердил Тэнтэн.
— А когда Ле-Конке останется у нас за кормой, — продолжал Д игвенер, — всё равно ничего не увидишь, станет темно как у черта в заднице.
— Вот в такую погоду Маут услышал звук рога...10
610
Дополнения
— Возможно... но сомнительно, потому что «Летучий Голландец» в наши края не заплывает, ведь море у нас всё освященное, кроме как близ Уэссана. Скорее он услышал клич Мерлина, который шел из Ар- гоата11. Вода отражает звук, как зеркало отражает вид... Ох ты, дьявол! Сильвестрик, ставь штормовой фок!..12
— Ей-богу, хозяин! Не зря говорят, что люди из Логиви13 видят сквозь туман, как большие спруты неизведанных морей...
— На воде всё возможно. Вода — это вода, матрос, а суша — это суша. Что хорошо на суше, не годится для воды.... Меняй галс, Тэнтэн... О, черт!
Наступило молчание, потом юнга запел:
— Под колокола из Гемене14,
Под колокола из Кемперле Все невесты белые Пляшут под омелою...
— Не надо петь, когда море волнуется... Слышишь, Сильвестрик? И ты у меня будешь слушаться, а не то, черт побери, худо тебе придется!
Юнга замолчал. Дигвенер уступил штурвал Тэнтэну и подошел ко мне.
— Ты хорошо переносишь море, Малыш Морга. Это добрый знак. По нему распознают настоящих мужчин.
Он повернулся к правому борту. Мы по-прежнему плыли в тумане. Дигвенер потянул носом и посмотрел на небо свинцово-серого цвета.
— Потруби-ка в рожок, Сильвестрик. Да посильнее, черт бы тебя побрал! Мы в море. Ле-Конке остался позади. К полудню туман поднимется, если на то будет воля святой Анны. И тогда, матрос, мы полакомимся котриадой у Кильвинека.
— А нельзя заморить червячка прямо сейчас? — поинтересовался
юнга.
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 16
611
— Вот же черт, морская свинья ненасытная! Бездонная твоя утроба. Днем поедим, когда станет светло... Труби сильней! Тебя совсем не слышно!
Бедняга Сильвестрик надсаживался, дуя в свой рог, издававший зловещие стоны.
Издали до нас донесся звук рожка, отвечавшего нашему.
— Господи Боже мой! — воскликнул Дигвенер. — Да тут народу побольше, чем на Сиамской улице в базарный день. Дуй, Сильвестрик. Молодец, парень.
Я лежал плашмя, чтобы меня не задело гиком, который при каждой перемене галса проезжался по палубе; я целиком отдался созерцанию открывавшейся моим глазам картины — благодаря туману это было похоже на волшебный сон.
Юный Сильвестрик по-прежнему извлекал из рожка унылое блеяние, но одновременно зорко следил за приготовлениями к трапезе; на бочке с приманкой для рыб Тэнтэн разложил огромную буханку черного хлеба, кусок сала, пропахший рыбой, и три бутылки сидра.
Дигвенер откупорил одну бутылку и разлил нам по кругу.
— За нашу заступницу из Орэ, — произнес он.
Он выпил, вновь наполнил свой стакан и поднял его, глядя на меня:
— Здоровье господина Жан-Себастьена Морга.
В молчании мы умяли хлеб с салом. За пиршественным столом мы не засиделись. Когда мы допивали, сквозь серую кисею, затянувшую всё вокруг нас, проглянул слабый свет.
— Вот и солнце, — сказал Тэнтэн. — Мы доберемся до ночи.
Сильвестрик повесил свой рожок на дверь каюты. Дигвенер высморкался при помощи пальцев.
— Ради святой Анны! Прислушайтесь!
Мы навострили уши. Тучи стаями плыли по небу на запад, и откуда- то из-за туч до нас донеслись глухие взрывы, которые шли со стороны моря.
— Ну, матросы, ведь это пушка, — крикнул Дигвенер.
612
Дополнения
Мы прислушались еще внимательнее, и ветер донес до нас грохот, словно опрокинулась телега, груженная камнями.
— Да, это пушка, — сказал я. — Наверное, это Королевский флот атакует корабль Пти-Раде. Говорят, его шхуна построена в Англии.
Дигвенер наклонился над утлегарем15, пытаясь разобрать, откуда идет звук.
— Сражаются между Моленом и Уэссаном. Это точно.
— Выходит, не ночевать нам нынче у Кильвинека, — заметил Тэн-
тэн.
Казалось, хозяин «Лилии Марии» призадумался. Заложив руки за спину, он, не отрываясь, смотрел на бледно-зеленое пустынное море. Солнце сверкало между туч, гоня их с неба.
— Право руля, — скомандовал Дигвенер. — Попробуем добраться до Кеменеза. Я хорошо знаю тамошнее дно. Бросим якорь и немного передохнём. Лучше нам держаться подальше от этой заварухи.
Я был с ним вполне согласен. Слева по борту мы заметили островок Кеменез, весь зеленый на фоне моря. Всё его население составляли две-три семьи рыбаков; они расчистили себе немного земли под овощи и мирно жили на острове. Можно было ясно различить три домика. На западной оконечности острова две женщины на ветру вглядывались в морскую даль; их взгляды были устремлены на запад.
— Спустим шлюпку? — спросил Тэнтэн.
— Ну нет, черт меня побери! Ты что, нездешний? Если тебе нечем заняться, закинь удочку. Через час мы поднимем парус.
Мы бросили якорь в сотне туазов от острова, на котором всё равно было негде укрыться. Женщины заметили нас и закричали:
— Эй! На куттере! Вы ничего не видели?
Дигвенер снял с крючка рупор и закричал во всю мощь своих легких:
— Ничего не знаем. Разве что Пти-Раде завел свою дьявольскую пляску.
— О Господи Иисусе! — запричитали женщины, осеняя себя кре¬
стом.
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 16
613
Теперь явственно слышалась канонада; похоже было, что там идет морской бой по всем правилам.
— Держится он достойно, ничего не скажешь, — заметил Дигве- нер. — Настоящий моряк, этого у него не отнимешь, ей-богу.
Тут юнга закричал:
— По левому борту парус... Фрегат!
Мы благоразумно перешли на левый борт и увидели, как вдали уносится по ветру фрегат, чьи паруса были, как нам показалось, в большом беспорядке.
— Досталось ему, — проронил Тэнтэн.
И в самом деле, фрегат, судя по всему, потерял управление. Он шел прямо на нас, потом вдруг лег бортом на волны и сразу опять выпрямился. Сменив курс, он стал удаляться в открытое море и скоро пропал из виду.
Канонада затихла. Над морем нависла тишина, нарушаемая только пронзительными и зловещими криками чаек.
— Ну что, матрос, уснул? Поднимай-ка парус и ставь штормовой фок. Давай, Малыш Морга, подсоби ему.
Я помогал Тэнтэну выполнить маневр, пока хозяин и юнга крутили ворот кабестана.
Мы взяли курс на Уэссан. Перед нами простиралось пустынное море. Дигвенер стоял у штурвала. Тэнтэн и юнга следили за коварными скалами, совсем немного выступавшими над поверхностью воды.
Дигвенер у штурвала напоминал Нептуна в одежде из грубого коричневого холста. В своем красном шерстяном берете он выглядел величественно.
Чтобы пройти через Большой пролив16, мы стали дрейфовать к югу. Вдали виднелся остров Уэссан, похожий на клок лилового тумана, опустившийся на воду. Канонада прекратилась. Бой кончился, и — странное дело! — на море не осталось ни следа сражения, по всей видимости, ожесточенного.
— Эскадра ушла в море. Но только я ума не приложу, куда уплыл фрегат. По логике, ему следовало держать курс к берегу.
614
Дополнения
— Может быть, это корабль Пти-Раде, — сказал юнга.
— Да что ты городишь, черт бы тебя побрал! С каких это пор джентльмены удачи поднимают свой флаг над королевским фрегатом? Если у Пти-Раде есть хоть одна шхуна, способная сюда приплыть, это уже ошибка Господа Бога! Разуй глаза, и, если увидишь шхуну без мачт, вот тогда я тебе, сынок, скажу: это шхуна Пти-Раде со всеми его сокровищами.
Тем временем перед нами вырастал остров Уэссан.
— Хвала Богу и святой Анне! — воскликнул Дигвенер. — Они попустили нас переплыть Большой пролив!
Мы причалили в единственном маленьком порту на острове. Нас встречало всё его население, человек пятьдесят мужчин, женщин и детей, выстроившихся за спиной у священника. От толпы отделился Кильвинек. Он мне кивнул. В ответ я радостно помахал ему рукой.
Морской бой поверг остров в смятение. Все были возбуждены, все пылко обсуждали происшествие.
— Господи Боже мой! Как вы уцелели?
— Господи Иисусе! Как вам удалось проскользнуть?
Дигвенер, Тэнтэн, Сильвесгрик и я отвечали на все расспросы. Ясно было, что, сами того не заметив, мы спаслись от изрядной опасности.
Я дошел с Кильвинеком до его дома; дела, порученные мне отцом, я решил отложить на завтра.
Дигвенер и его команда последовали за нами, поскольку Кильвинек при случае пускал постояльцев, и рыбаки, причаливавшие к острову, нередко сходились к его камельку отведать котриады.
Он размещал их на ночлег в антресолях над хлевом, где жили на удивление маленькая корова и две карликовые овцы.
Островитяне шли за нами, забрасывая нас вопросами. Они ничего не знали об этом сражении: одни думали, что Пти-Раде пошел ко дну со своей шхуной; другие утверждали, что французская эскадра под командой господина д’Орвилье разбила или рассеяла английскую эскадру под началом адмирала Кеппеля17. Большей частью военные действия
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 16
615
происходили в тумане. Вдали были видны два больших линейных корабля, державших курс на юг.
— Объявлена война! — причитали женщины.
Так и пришли мы к Кильвинеку, чей низенький домик стерегли десяток кур и петух, поклевывавшие во дворе груду рыбьих отходов.
Все вошли в единственное помещение, главной роскошью которого была большая кровать-шкаф; вместе с дубовым сундуком для одежды, покрытым тонкой резьбой, эта кровать занимала всю дальнюю стену комнаты.
— Я голоден!
Голос Дигвенера перекрыл общий шум.
Кильвинек с помощью Сильвесгрика приготовил котриаду.
— Пти-Раде не так уж глуп. Зачем ему лезть в мышеловку? — сказал один из рыбаков.
— Я голоден! — повторил Дигвенер.
За грохотом мисок и стуком ложек за столом мы не услышали, как открылась дверь.
Вошел человек в мундире Королевского Корабельного полка. Он был без оружия, без шляпы, без ремня и перевязи.
— Добрые люди, Пти-Раде пойман. Можете мне поверить. Я упал в воду во время абордажа. Сам не знаю, как жив остался.
И впрямь, с солдата текла на пол вода. Он добавил:
— Я замерз до смерти, добрые люди, дайте мне горячего сидру.
Дигвенер едва успел его подхватить — иначе бы он упал.
— О господи, он же совсем без сил! — воскликнула какая-то женщина.
/Tiust^v i3-
обогрели и подкрепили солдата. Его переодели в платье Кильви- нека, а мундир повесили сушить перед очагом, в котором пылал хворост.
Несчастный был без сил. Разинув рот, он глядел невидящими глазами на приготовления к ужину и на людей, толпившихся в доме нашего хозяина.
И впрямь, солдат был изнурен. Съев добрую миску рыбного супа и выпив большую чашку сидра, он немного ожил. Он назвал нам свое имя. Звали его Барвинок, другого имени у него не было. Родом он был из Вермандуа1 и вот уже три года носил белый мундир Королевского Корабельного полка.
— Добрые люди, я сражался против краснокожих на Великих озерах2, но никогда не попадал в такие переделки, как в последнем бою.
— Пти-Раде мертв? — спросили островитяне.
— Да нет, жив покамест, — сказал солдат. — Но черт побери! Недолго ему жить осталось, клянусь моей трубкой.
— Значит, его поймали? — спросил Дигвенер.
— На этот раз поймали, черт побери! Он закован в кандалы, упрятан в трюм «Неэры». Я это видел своими глазами, потому и говорю.
— Неужели он командовал эскадрой?
— Да, командовал, проклятый угорь!
Вопросы перемежались восклицаниями. Солдат отвечал то одному, то другому, от вкусного угощения он оживился.
Мы
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 17
617
— Дайте ему высказаться, — потребовал Кильвинек. — Вы его оглушили всеми вашими вопросами. Говори, Барвинок. Расскажи нам всё, что ты видел. Твои слова утешат нам сердце.
— Истинная правда, — подтвердила девушка с длинными волосами, падавшими ей на спину.
Тогда солдат выпил добрый глоток водки. Он утер усы тыльной стороной ладони и начал:
— Надо вам сказать, добрые люди, что мы были настороже с начала месяца. Наш капитан господин де Гиллестр предупредил нас, что в самом скором времени мы выступим в поход против некоего Никола Трюбле, по прозвищу Пти-Раде, уроженца Леона.
— Я знавал одного Трюбле, — вставил Дигвенер.
— Не перебивай же, черт возьми! А ты, Барвинок, продолжай свой рассказ, — распорядился Кильвинек.
— Да, добрые люди, приятель прав, дайте мне рассказывать по- моему, и я вам выложу всё, что знаю, иначе говоря, всё, что сам видел. Так вот, седьмого числа сего месяца одна рота нашего полка, как раз моя, под началом господина де Гиллестра стала на постой в городишке Ле-Конке. Мы там пробыли до начала этой недели, а потом наша рота, сто двадцать солдат и два барабанщика, погрузилась на «Неэру», которая бросила якорь в нескольких кабельтовых от берега, чтобы мы могли попасть на борт. Это было нетрудно, потому что погода стояла ясная. И только вчера нас накрыло туманом — мы словно в мешке очутились. И черт бы побрал этого бандита со всеми потрохами, ведь он чуть было от нас не ускользнул! Но мы не остались на «Неэре». Десятого числа мы обогнули Уэссан, а потом нас высадили на острове Молен, и там мы прибрали к рукам все рыбацкие лодки, какие во время нашей высадки оказались в порту. Нам было велено грузиться по десять человек на эти суденышки и курсировать вокруг острова, потому что считали, что Пти-Раде, за которым гнался фрегат, не колеблясь выйдет в открытое море, чтобы там ждать прибытия сил адмирала Кеппеля, англичанина. Было подозрение, что Пти-Раде в сговоре с Англией — иначе почему он с такой дерзостью плавал у наших берегов? Одинна¬
618
Дополнения
дцатого числа, то бишь вчера, к нам присоединилась часть гренадерской роты нашего же полка, они прибыли на судне береговой охраны. Вчера ночью нас подняли по тревоге. Всю ночь мы провели на ногах рядом с нашими ружьями, составленными в козлы. Гренадеры получили приказ на заре погрузиться на баркас «Корона ангелов».
— Знаю я этот баркас, — вставил Дигвенер, — он принадлежит младшему Гульвену.
— Вполне возможно, добрый человек. Как бы там ни было, грена- дерчики наши сели на этот корабль и вышли в море с добрым запасом гранат в ранцах. Господин де Гиллестр был на борту и командовал ими. А мы остались на суше, готовые погрузиться на другие баркасы, как только получим приказ господина Бурдена, нашего лейтенанта, опытнейшего человека — он все войны прошел с нашим полком. Нынче утром, незадолго до рассвета, мы услышали пушечный выстрел. Господин Бурден велел разобрать ружья, и мы изготовились рассесться по заранее снаряженным шлюпкам, чтобы выйти в море. Туман был такой, что рук-ног не видать. Рыбаки, хозяева баркасов, говорили: пускаться в море в такую погоду — значит искушать Господа, особенно в этих местах. «Плевать, — сказал господин Бурден. — У меня есть приказ, я буду его выполнять. Я буду гоняться за вашим проклятым Пти-Раде повсюду, хоть у черта на болоте». С таким доводом не поспоришь. Вдалеке, в тумане, который затянул небо и воду, с удвоенной силой загремела канонада. А еще мы услышали звук рожка...
— Это я дул в рожок, — вставил Сильвестрик.
— Да заткнись ты, рыбья кость! — взревел Дигвенер. — Не перебивай старших. Можно подумать, это ты изловил Пти-Раде, пока дул в свою дудку.
Солдат между тем продолжал свой рассказ:
— Рано утром, часов в семь, господин Бурден наконец отдал приказ рассаживаться по баркасам. Мы двигались по воде, как слепые без палки. Мы просто плыли на звук канонады, который становился всё слышней. Хозяин нашей лодки звался Биан. Он был стар, как Мафусаил3, но море знал, как скупец — содержимое своих карманов. Его крабьи
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 17
619
глазки видели в тумане. Нам оставалось только положиться на Бога и на умение Биана. К десяти часам утра наступила тишина, от которой у нас на сердце кошки заскребли. Мы все понимали, что туман только на руку акуле, на которую мы охотимся. Господин Бурден понурил голову и кусал свои морщинистые губы; видать, как мы, решил, что рыба ускользнула сквозь ячейку сети. К полудню, добрые люди, туман рассеялся и проглянуло солнце. И всё море оказалось покрыто шлюпками. Вдали плавали кругами два фрегата и судно береговой охраны. Один из этих кораблей, судя по всему, чертовски пострадал в сражении. Он кренился набок и, казалось, еле тащился — ни дать ни взять телега, доверху груженная камнями, которая едет в гору. Вокруг нашего кораблика плавали всякие обломки. «Это части шхуны», — сказал старый Биан. Тут мы увидели, что один из фрегатов поменял курс и направился к какому-то острову — наверно, вот к этому самому. «Глядите, — сказал старый Биан, — он увидел рыбу. Он за ней погнался». Вдруг юнга с нашего баркаса стал кричать: «Справа по борту! Справа по борту! Господи Иисусе!» Мы обернулись и видим, что прямо на нас идет прекрасная шхуна, а носовая фигура у нее — черная женщина, такие фигуры делают на островах Тихого океана. Хозяин повернул штурвал, и мы проскользнули вдоль этого отчаянного корабля. «Огонь!» — крикнул господин Бурден, наш лейтенант. Ружья были заряжены, мы дали залп. Несколько минут вокруг нас клубилось плотное облако дыма. От порохового запаха щипало в носу. Тем временем мы перезарядили ружья. Слышно было, как шомпола лязгают в ружейных дулах. Когда дым рассеялся, мы увидели шхуну прямо перед собой, в трех кабельтовых. Какой-то высокий крупный человек наводил в нашу сторону восьмидюймовую пушку, ее жерло виднелось в бортовом люке. Он поднес запал — и прежде чем мы успели поменять курс, ядро полетело прямо на нас и срезало мачту с нашего корабля. Меня ударило фалом4, и я полетел за борт. Я плюхнулся в воду, как топор, добрые люди, и думал, что пойду прямо ко дну, в гости к селедкам. Но я вынырнул и первым делом попытался ухватиться за кусок бушприта, который отломился скорее всего от баркаса Биана. Я ухитрился зацепиться за него ногами
620
Дополнения
и уселся верхом. Прежде всего я возблагодарил Бога, добрые люди, потому что я ведь одной ногой уже стоял в могиле. Но глаза мне разъела морская соль, и я не сразу увидел, что творится вокруг. Когда же зрение ко мне вернулось, я пришел в восторг. Шхуну, ту, что чуть не пустила нас ко дну, уже взяли на абордаж с правого борта. Мы и не заметили, как к ней успела подобраться «Корона ангелов» с двадцатью гренадерами. Бравые молодцы под водительством господина де Гилле- сгра закинули крючья на шхуну с черной девой и забросали ее гранатами. Во главе с господином де Гиллесгром они взяли «Розу Саванны» на абордаж. Когда глаза мои выплакали все слезы по моим грехам, я заметил высокого человека, того, что наводил на нас пушку; он был окружен наттшми, причем кое-кто из них уже плавал в собственной крови. Проклятый канонир5 защищался, как бенгальский тигр. Я слышал, как он рычит и ухает, точно дровосек, всякий раз, когда обрушивает на головы наших солдат рангоут6, что был у него в руках. В конце концов господин де Гиллестр, кажется, проткнул его своей шпагой: он потерял равновесие и рухнул на палубу, будто мачта в бурю. Наши люди набросились на него и привязали к лафету той самой пушки, из-за которой я сверзился в воду. Тут я стал махать руками и кричать во всю глотку, чтобы привлечь к себе внимание. Но напрасно я надрывался. Некоторым из моих товарищей, что плавали вокруг побежденной шхуны, повезло больше. Им сбросили канаты, и я видел, как они карабкаются, словно мокрые мартышки, вдоль форштевня «Розы Саванны». Эта шхуна, точно моллюск, прилипла к борту «Короны ангелов» и вместе с ней дрейфовала в сторону берега, всё дальше и дальше от вашего слуги. Как только я добрался до моего обломка, моей первой заботой было избавиться от патронной сумки, от перевязи со шпагой и от штыка. Отделавшись от этого обременительного груза, я получил возможность плыть, а когда уставал — отдыхать на моей плавучей опоре. Честно вам скажу, если бы меня не прибило к вашему острову волной, я бы нипочем не доплыл до этих скал, о которые я себе чуть кости не переломал. Так и проплавал я, добрые люди, пять часов с лишком, как пробка, по милости Создателя. Черт подери! Тут без свечки не обойдешься: пойду-ка
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 17
621
я и поставлю свечу нашей Небесной Заступнице, которая сохранила мне жизнь. Море выбросило меня на гальку — и вот я туг, среди вас. Я нижайше благодарю всех, кто меня так радушно принял и обогрел. Но главное, что я хочу вам сказать: отныне вы можете мирно плавать и ничего не опасаться. Сейчас Никола Трюбле, по прозвищу Пти-Раде, уже плывет в брестскую тюрьму. Надеюсь, что его товарищи тоже схвачены или убиты. Выпьем же глоток, да не один, во славу гренадеров и фузилеров Королевского Корабельного полка, которые подарили нам мир и покой.
Солдат поднял чашу с сидром и осушил ее одним духом, прищелкивая языком.
— Солдат, если ты взаправду рассказал нам то, что видел, ты принес нам лучшую весть за последние полвека, — произнес Кильвинек. — Пей, солдат, ты заслужил, и отрежь себе хлеба от буханки, и возьми еще сала и рыбы. Мы все тут рады тебя угостить. И возблагодари Господа, потому что повезло тебе, воистину повезло.
Пока солдат Королевского Корабельного полка вел свой рассказ, я сидел смирно. Когда он дошел до «Розы Саванны», у меня кровь застыла в жилах. Все события минувшей зимы и весны вспыхнули у меня в мозгу. Сомневаться больше не приходилось: «Роза Саванны» — корабль Пти-Раде, прятавшегося прямо в крепости своих врагов; однако его необычайно отважный замысел был обречен на провал. Теперь у меня уже не оставалось сомнений: ужасный джентльмен удачи, чье лицо было изуродовано черной оспой, — не Пти-Раде; Пти-Раде схвачен, это бесспорно. В эту минуту мне хотелось иметь крылья альбатроса и как можно скорее полететь в Брест, прежде чем власти переведут Пти-Раде в Реннский суд. Я еще не знал, что военный трибунал, перед которым предстанет этот пират и семеро его сообщников, уцелевших в морском сражении, будет организован в Бресте.
Я почел за благо помалкивать о своих соображениях и слушать разговоры. К тому же после морского путешествия у меня всё тело ломило, и я чувствовал себя разбитым «от трюма до самой верхушки мачты», как говорил Дшвенер, когда маялся четырехдневной лихорадкой.
622
Дополнения
— Не понимаю ход сражения, — говорил Кильвинек. — Отсюда мы видели только один фрегат, он потерял управление и дрейфовал под ветром. Правда, мы все смотрели на происходящее с берега, глядя на запад. Мы тогда подумали, что это английский фрегат.
— Сейчас я вам объясню, — отвечал солдат. — Основные действия происходили к востоку, между вашим островом и Моленом. Всё продолжалось полчаса, не больше. Ловушка была расставлена правильно; бандит, конечно, дрался как лев, ну да ему это зачтется, когда люди в черных балахонах предложат ему уплатить по счету.
— Все разбойники будут повешены, — воскликнул Дигвенер, — и, клянусь Пресвятой Девой, ничто не помешает мне увидеть это прекрасное зрелище! Ради него я пожертвую недельным уловом в Гаскон- ском заливе.
— А каков из себя этот безумец с козлиными рогами? — спросила Роза Арле, супруга Жана Арле, владельца «Марии Французской»7, маленького куттера, раз в месяц доставлявшего товары на остров.
— Да разрази меня гром, мамаша, это пригожий детина, — отвечал солдат. — Ростом с фузилера Королевского полка вместе со шлемом и перьями. А вы знаете, что в этот полк карликов не допускают. Лицом он смугл и румян. Шпагой орудует мастерски, с пушкой управляется, как истинный бомбардир.
— А не было ли у него на лице следов черной оспы? — спросил я.
— Эх, парень, ты бы еще спросил, не было ли у него на лице ароматической пудры!..
Все расхохотались, что было не очень приятно. А солдат продолжал:
— Честно признаться, паренек, об этом я тебе ничего не могу сказать. Когда творится такое, невозможно углядеть, завивал ли парик щипцами твой сосед...
Его прервало появление местного священника, который отстал от нашей компании, когда все его прихожане входили в дом к Кильвинеку. Я хорошо знал этого прекрасного человека, который при случае готов был подсобить рыбакам — поставить фок или потянуть со всеми сети.
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 17
623
— У нас новости, — объявил он. — В моем доме пять солдат, все из Брестского полка. Они упали в воду во время сражения, но им удалось доплыть до суши. Ты, Роза Арле, приготовь-ка для них сухое белье, а ты, Кильвинек, отнеси-ка им хорошую пинту яблочной водки. Надеюсь, что с Божьей помощью они к завтрашнему дню поправятся и смогут вернуться на «Марию Французскую», где находятся их товарищи. Арле, ты отправишься в плаванье на неделю раньше, чем собирался. Я поеду с тобой: вероятно, для всех будет полезно, если я представлю точный отчет о важных событиях нынешнего дня.
Затем господин кюре повернулся к солдату и задал ему несколько вопросов, касавшихся недавнего, столь краткого и столь жестокого, сражения.
Солдат встал на ноги и вкратце повторил свой рассказ.
— Итак, вы уверены, что Пти-Раде схвачен. Среди пятерых, которые сейчас отогреваются у меня дома, есть каптенармус8 с «Неэры». Четверо остальных — фузилеры Брестского полка. Корабль, который в тумане приблизился к «Розе Саванны» и лишился мачт, называется «Великодушный». Я был счастлив узнать, что отважный Королевский Корабельный полк сумел задержать этих проклятых безумцев.
Господин кюре сказал всем собравшимся несколько ласковых слов и выпил добрую чашу сидра.
Вдруг он заметил меня.
— Смотри-ка, здесь Малыш Морга!
Он хорошо знал моего отца, потому что часто приходил за покупками в нашу лавку. Я вежливо с ним поздоровался.
Он внимательно посмотрел на меня и покачал головой.
— Да ты, Малыш, прямо спал с лица. Тебе нездоровится?
Он взял меня за руку и пощупал пульс.
— Мне это не нравится, — объявил он. — У тебя лихорадка. Тебе нужен покой, мы навестим тебя завтра утром.
Я стал возражать, потому что не чувствовал себя больным. Правда, меня немного трясло, но я приписал это недавним трагическим собы¬
тиям.
624
Дополнения
— Да он и впрямь трясется как прокаженный, — подтвердила Роза Арле, ждавшая священника, чтобы проводить его домой.
— Я вам говорю, малыша надо уложить в постель, — повторил последний. — Надо прикладывать ему к ногам горячие полотенца и не давать еды. Боюсь, у него сильная горячка или даже липирия9 — руки у него холодные, а внутри всё горит.
Кильвинек взял меня за руку и отвел на одну из лежанок, помещавшихся в кровати-шкафу; он даже задернул занавески, чтобы я мог раздеться, не нарушая приличий.
Как только я растянулся на постели, голова моя точно налилась свинцом. Я был уже не в силах собраться с мыслями: они разбегались, как овцы от удара молнии.
Через занавеску я слышал в комнате гул обеспокоенных голосов. Я узнал голос церковного старосты. Он говорил:
— Так начинается лихорадка Сен-Валье. Она часто происходит из- за сильного волнения или под действием большого горя...10
И тут я почувствовал страшное головокружение: недавние события вились вокруг меня в лихорадочном хороводе кошмаров. Один за другим появлялись отец, Пти-Раде, господин Бюрнс, Кильвинек, Ночной Жан, помощник капитана с «Розы Саванны». Хоровод вела Манон из Гвенеда. Она была бесстыдно обнажена и, оседлав метлу из утесника, парила над толкотней и давкой.
дней пролежал я без чувств. Только к середине августа я пришел в себя, стал узнавать то, что меня окружало, и потихоньку обретать память.
Когда слух и дар речи вернулись ко мне, я узнал от отца, что меня поразила злокачественная лихорадка в доме у Кильвине- ка в Порц-Поле1 и что первую помощь мне оказал староста. Я вспомнил вечер, когда слушал рассказ солдата Королевского Корабельного полка, а потом меня свалила с ног болезнь, продержавшая меня в постели несколько недель. Отец рассказал мне о дальнейшем развитии событий, которые произошли, пока я лежал без памяти. На другой день меня забрала «Мария Французская» вместе с солдатами, которых подобрали островитяне. Кюре Порц-Поля, аббат Дюбар, ухаживал за мной во время всего путешествия, как говорят, весьма мучительного. В море, у островов Баланнек2, как только пересекли Большой пролив, «Марию Французскую» застигла буря. Мы чуть не погибли вместе с кораблем и всеми грузами. Но Арле, хозяин судна, сумел выкрутиться из передряги, и меня, еле живого, высадили на рейде у Ле-Конке. Ночью меня привезли к отцу, со мной по-прежнему был аббат Дюбар, который расстался со мной только в «Якоре милосердия».
От смертельной болезни меня спас отец Антонелли, главный врач больницы Милосердных Братьев3, где лечили хворых матросов. Он не отходил от моего изголовья десять дней. Всё, что творилось в это вре¬
626
Дополнения
мя вокруг меня, не оставило никаких следов у меня в памяти. Первое лицо, которое я увидел, очнувшись от долгого забытья, было лицо отца, сидевшего у моей постели. Вскоре пришла наша старая Марианна и принесла мне чашку бульона, после которого взгляд мой немного прояснился.
— Ну вот, ему уже лучше, — сказал отец.
Затем явился отец Антонелли и осмотрел меня тщательнейшим образом.
— Слава Господу, он вне опасности. Кормите его получше, но малыми порциями. Он слабее, чем зимний цыпленок, — произнес священник- лекарь. Он похлопал меня по щеке: — Ну, ну, через несколько недель мы наденем красивый мундир и тогда уж окончательно поправимся. Ну а пока, — тут он обернулся к отцу, — никаких волнений.
— Когда мне можно будет вставать с постели и выходить из дому?
Я не узнавал собственного голоса.
— Рано еще. Чтобы поскорее выйти на солнышко, нужно вести себя благоразумно и дисциплинированно, как подобает будущему офицеру королевской артиллерии.
С того дня всё пошло на лад. Понемногу я впадал в то состояние блаженного покоя, которое зовется выздоровлением. Хорошее питание подкрепляло мои силы, но вставать мне еще не разрешалось. Чтобы меня развлечь, отец читал мне вслух. Он познакомил меня с «Персидскими письмами» и «Духом законов»4. Меня навещали Никола де Бришни, Кильвинек, Дигвенер, господин де Пенвиль, Гоас, Жакоб Гуэре; последний приносил мне яблоки и груши из прекрасных садов, которые росли в стороне от побережья.
Разумеется, по мере того как ко мне возвращались силы, прошлое с каждым днем интересовало меня всё больше.
Сперва я стал расспрашивать отца, что сталось с Пти-Раде и его сообщниками. А потом я очень забеспокоился о господине Бюрнсе, который, на мой взгляд, слишком долго отсутствовал. На мой вопрос отец сразу же ответил, что наш друг уехал в Кемпер, о моей болезни не знает, но скоро должен вернуться.
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 18
627
Меня очень занимала поездка господина Бюрнса, так надолго затянувшаяся. Плотно укутанный в теплый зимний халат, несмотря на летнюю жару, я смотрел на город из распахнутого окна, пока Марианна перестилала мне постель. До чего же мне всё нравилось! Теперь я знал цену этим мелочам, которые все вместе дарят нам радость жизни. Я вдыхал полной грудью морской воздух, он вливал в меня силу и мужество. Я слышал, как на причале бьют барабаны, и думал: «Вот еще один королевский полк отплывает в Канаду»5. Я узнавал барабанный бой швейцарцев и флейты Брестского полка, игравшие старинный нормандский марш «Славный барабанщик»6 и марш Шампанского полка «Серые мундиры»7. Ночью, однако, мне не спалось, воображение мое витало то здесь, то там, и лишь на рассвете меня внезапно одолевал сон.
Отец сообщил мне, что Пти-Раде схвачен. Солдат рассказал чистую правду, честь его поимки принадлежала гренадерам Королевского Корабельного полка; благодарный город поднес им почетное угощение.
Нетрудно себе представить, как я жаждал подробностей. Несмотря на слабость, которая, увы, меня не покидала, запрет выходить из комнаты повергал меня в меланхолию, которую не в силах были развеять даже два путешественника из моей книги, Рика и Узбек, несмотря на весь их критический ум8.
Никола де Бришни сумел-таки вырвать у дядюшки обещание оказывать ему денежное вспоможение в течение двух лет, которые он намеревался провести в Париже в занятиях изобразительным искусством; он приходил ко мне в гости каждый день после обеда.
Я одолевал его расспросами:
— Скажи, Никола, нет ли наконец новостей от господина Жерома Бюрнса? Если я не ошибся в подсчетах, он отсутствует уже три недели. Загляни к госпоже Лемёр и узнай у нее, когда он вернется.
— Ты каждый день просишь у меня одно и то же. Вдова из Треген- ка ничего не знает. У Бюрнса нет обыкновения посвящать людей в свои личные дела. Я полагаю, что он вскорости приедет, чтобы узнать, чем кончится суд над бандой Трюбле.
628
Дополнения
— Значит, он поедет в Ренн?
— В Ренн? Зачем? Ты, вероятно, не знаешь, что военный суд будет происходить здесь. Пти-Раде будут судить в Бресте и повесят в Бресте вместе с семью другими негодяями — членами его экипажа. Вчера на рейд привели «Розу Саванны». Ее отбуксировали лодки с каторжниками. Красивое было зрелище: арестанты налегали на весла, надсмотрщик и каптенармус с «Неэры» задавали ритм свистками. Весь сброд из Керавеля высыпал на берег, их с грехом пополам сдерживали полицейские. Чтобы спрыснуть это великолепное возвращение, мужчины, женщины и дети выпили столько водки, что начались беспорядки, основательно нарушившие благопристойность. Пришлось призвать швейцарцев из полка Каррера, чтобы навести порядок. И швейцарцы справились как нельзя лучше, пустив в ход приклады ружей.
— Ты видел «Розу Саванны»?
— Да, черт побери! И в каком плачевном состоянии! Без мачт, без снастей. Палуба похожа на свалку. Пушки валяются стволами вниз, лафетами вверх. Похожи на огромных перевернутых черепах. У негритянки на носу снесло голову пушечным ядром с «Неэры». Она первая приняла кару за преступления. Когда «Роза Саванны» вошла в реку, все матросы с корабля, взявшего ее на абордаж, стали бросать в воздух шапки. Ими командовал Лакулас, каптенармус с «Неэры».
— Пти-Раде был на борту?
— Нет. Пти-Раде и его сообщники были доставлены в порт на борту «Неэры» с кандалами на ногах. Потом их тайно перевезли в тюремные камеры замка под охраной роты Брестского полка. Сейчас их дело разбирает суд. Ясно, что все требуют скорейшего вынесения приговора, потому что, по всему похоже, войны не избежать. Флот вооружен и хорошо оснащен, этим распоряжается господин д’Орвилье. Говорят, что герцог Шартрский9 взойдет на борт и будет служить под его началом.
— А Пти-Раде? Какой он? Это он тот дюжий рябой моряк, который командовал «Розой Саванны»?
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 18
629
— Я его не видел, — сказал Никола де Бришни. — Его лицо могут описать только матросы и солдаты... и судейские, разумеется. Но всеобщее любопытство вскоре будет утолено, поскольку еще до конца месяца его повесят.
Я требовал от Никола де Бришни самых подробных сведений, еще и еще. Он утверждал, что люди больше думают о войне, чем о том, кто такой Пти-Раде. Его казнь не вызывала никаких сомнений и теперь, когда Бретань избавилась от этой тревоги, у нее появилась другая — предстоящая война. Она и служила постоянной пищей для разговоров.
А мне всё никак не возвращали свободу. Я маялся от неподвижности, навевающей уныние. Все вокруг меня строго следили, чтобы я тщательнейшим образом выполнял все предписания врача.
По десять раз на дню я спрашивал у отца про господина Бюрнса и про суд над Пти-Раде.
— Вы пойдете смотреть, как его будут вешать? — допытывался я.
— Нет уж, не пойду. Ни за что не пойду. Это зрелище не для порядочного человека. То, что общество избавляется от своих врагов, в порядке вещей и в духе законов. Но только низкие души устраивают себе из этого развлечение.
— Мне скучно, отец...
— Боже мой, да знаю я. Но неужели ты не можешь потерпеть еще несколько дней?
— Когда мне можно будет пойти погулять?
— Когда твои силы восстановятся. Теперь тебе уже можно после обеда немного посидеть у окна твоей комнаты. В это время дня свежий ветер с моря тебе не повредит. Это отличное укрепляющее, и если ты будешь его принимать в малых дозах, то очень скоро совсем выздоровеешь.
С этого дня, как следует закутанный, чтобы избежать простуды, которая самому мне казалась маловероятной в это время года, я по нескольку часов созерцал Сиамскую улицу и несколько десятков ту азов набережной, видных из моего окна.
630
Дополнения
Это приносило мне огромную пользу. На моих щеках опять заиграл юношеский румянец, верный знак восстанавливающегося здоровья. Сиамская улица была, как обычно, веселой и оживленной. Мне казалось, что это зрелище ново для меня, и я смаковал его, как гурман — любимое блюдо, которого давно не пробовал. По пятницам, в базарный день, Сиамская улица блистала прямо-таки ослепительным богатством красок. Люди из всех окрестных приходов стекались сюда в самых своих нарядных костюмах. Женщины из Плуаре10 сверкали словно церковные ковчеги11, которые вынесли на солнце. Разнообразие вышивок на жилетах радовало глаз. Иногда в толпе появлялась щеголиха из Леона в длинной шали, концами задевавшей ее каблучки. А жительницы Бигудена12 привлекали всеобщее любопытство чепцами в форме митр, жилетами и корсажами, украшенными роскошными вышивками цвета апельсинового яблока и тонкого золота. Я издали различал лазурно-голубые жилеты из Глазика13, широкие плиссированные штаны и высокие шерстяные гетры, обшитые галуном. Все мужчины держали в руках дубинки. Добавьте к этой толпе крестьян кокетливые мундиры Брестского, Королевского Морского и Королевского Корабельного полков — и можете попытаться воспроизвести в вашем воображении это изумительное зрелище. И я еще забыл упомянуть королевских матросов, воспитанников брестской Морской академии14, гардемаринов и гвардейцев флагманского судна в красных чулках, в треуголках, кокетливо сдвинутых набок. Часто в этой пестрой толпе я замечал дружеское лицо. Тогда я махал рукой из окна и приглашал друга подняться ко мне.
Было утро пятницы. Я занял свой наблюдательный пункт, как театрал занимает ложу, и тут увидал на улице рыжего Янника, сына плотника Маэ. Он был наряжен во всё новое и нес с собой пращу, которую вращал над головой.
— Эй, Янник!
Он поднял голову и увидал меня у окна. Его лицо осветилось широкой улыбкой.
— Поднимайся ко мне, Янник!
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 18
631
Он не заставил себя просить, и я услыхал, как он отворяет дверь «Якоря милосердия». Янник был идеальным собирателем городских слухов. Всё, что рассказывали между Керавелем и кварталом Семи Святых, неизбежно оседало в больших оттопыренных ушах этого верзилы, всегда кроткого и услужливого.
— До чего ж ты хорош, Янник! — воскликнул я, велев ему покрутиться на месте, чтобы посмотреть на него со всех сторон.
— Все домашние переодеты во всё новое — я, четверо младших братьев, три сестры. А всё отец: он будет строить эшафот и виселицу для Пти-Раде и его сообщников. Не зря же мы с Котантеном Фибюр- сом соседи.
Котантен Фибюрс был брестский палач. Жил он в Керавеле, в доме, который я описывал в начале моего рассказа. Я знал этого человека, как и все в городе. Он был высокий и крепкий. На лице у него читались приметы его профессии: он производил впечатление человека глубоко печального и прекрасно понимавшего, что обречен на одиночество. Его сыновья работали у городских мясников. Котантен Фибюрс, меланхоличный и изысканно любезный до самоуничижения, в часы досуга плел корзины. У него была дочь, Тьенетта, которая собиралась в монастырь.
— А что говорят об этом в Керавеле? — поинтересовался я у рыжего Янника.
— Люди предвкушают развлечение. Ты только представь, Малыш Морга, будет восемь веревок, привязанных к одной перекладине. Мой отец сам нарисовал чертеж виселицы, его сразу одобрили и судьи, и город. Хорошая работенка. Отцу уже и задаток заплатили, вот я и разодет как милорд. И у всех сестер новые платья и вышитые передники.
— Твой отец видел Пти-Раде?
— Его никто не видит. Его привезли ночью, как крысиного коннетабля. У Мартина-младшего отец тюремщик, так вот он говорит, что Пти-Раде высокий, рыжий, как я, и с пышной бородой. Глаза у него ужасные, и он вопит, как лиса, когда просит воды.
Через два часа приказчик господина Дасе, книгопродавца, принес мне книги. Он тоже был знаком с сыном одного из тюремщиков. На¬
632
Дополнения
сколько он слышал, Пти-Раде — коренастый коротыш, волосы у него черные и курчавые, будто у африканского негра, глаза огромные и выпученные, а смотрят злобно, как глаза исполинского осьминога.
А если послушать гладильщицу Розу Норе, то Пти-Раде скорее изящного сложения и хорошо одет. Похож на парижского хлыща, что в ее глазах сильно его принижало.
Трудно было остановить выбор на одном из этих описаний. Но никто не упоминал черту, о которой я надеялся услыхать и по которой можно было бы опознать Пти-Раде в незабываемом помощнике капитана с «Розы Саванны». Позже я узнал, что этот корсар, по имени Педро де Луарка, был убит взрывом гранаты, когда «Розу Саванны» брали на абордаж у островов Баланнек.
Отец часто заглядывал ко мне, когда работа давала ему минутную передышку. Он всегда приносил мне то книгу, то какую-нибудь безделушку.
— Вот это поможет тебе скрасить твою офицерскую жизнь, — говорил он.
Потом он садился напротив меня и молча на меня смотрел. Его глаза лучились добротой, но доброта была овеяна меланхолией, и у меня сжималось сердце.
— Отец, я был бы очень рад повидать господина Бюрнса. У меня предчувствие какого-то несчастья. Он никогда не уезжал так надолго.
— Да нет же, малыш, господину Бюрнсу не впервой исчезать, не подавая о себе вестей.
— А вдруг он никогда не вернется?
— Всё может быть, — отвечал отец, — нам не дано знать тайн, ведомых одному Провидению.
— Знаете, отец, такие люди — они как чашей. Опустятся где-нибудь после долгого перелета, но приручить их невозможно.
— Велю Марианне принести тебе чашку шоколаду, — сказал отец. — Это тебя подбодрит. Через час Пиллавер придет тебя проведать. Он привез тебе превосходный несессер с набором бритв из отменной шеф¬
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 18
633
филдской стали15. Ты будешь так снаряжен, что все товарищи по училищу станут завидовать.
Отец улыбался, произнося эти слова, но от меня не укрылось, что его что-то тяготит. Он подошел к полкам, на которых выстроились статуэтки Ночного Жана. Он взял матросика, опиравшегося на абордажный топор, и внимательно его осмотрел. Потом со вздохом поставил фигурку на место.
— Прямо как живой, правда, отец?
— Пути Господни неисповедимы, — произнес отец.
И ушел, слегка ссутулившись, что было вовсе не в его привычках. Я слышал его тяжелые шаги на лестнице.
Когда я уже ложился, навестить меня пришел Жакоб Гуэре. Отец сказал правду. Набор туалетных принадлежностей, разложенный на моей постели, исторг у меня вопль радостного удивления. Там были флаконы духов, щетки, ножницы, футляр с двумя бритвами и кисточкой — и всё это в изящной зеленой сафьяновой коробке, на которой красовались мои инициалы золотыми буквами.
— Можешь считать, Малыш Морга, что отец в тебе души не чает. Он знал, сколько стоит этот несессер, который я купил в Кемпере по его заказу. Его привезли прямо из Парижа, из Пале-Рояля16, так написано внутри, на атласе.
— Что там слышно насчет суда над Пти-Раде?
— Он начнется завтра. Дело уладят быстро. Что он может сказать в свою защиту? Факты ясны как божий день...
— Ты пойдешь на эспланаду в день казни?
— Нет, ни за что, черт возьми! Это зрелище не для христианина. Человек убивал, теперь его убьют, о чем тут говорить?.. А, вот что я вспомнил: нужно, чтобы ты мне составил список всех вещей, которые тебе нужны с собой в Мец. Твой отец только что мне об этом сказал. Я еду в Ренн на будущей неделе и куплю всё там дешевле, чем в другом месте.
— А ты ничего не разузнал о господине Жероме Бюрнсе?
634
Дополнения
— Нет, честно говоря, ничего. Такой уж человек, никогда не знаешь, где он.
— Он по-прежнему снимает комнату у госпожи Лемёр?
— Думаю, что да... но, право слово, не знаю точно...
— Гуэре, дружище, а ты мог бы выяснить хоть что-нибудь о том, когда вернется господин Бюрнс? Ты бы меня так этим порадовал...
— Сделаю, что смогу, о чем речь... Только, судя по всему, почтенная госпожа Лемёр знает об этом не больше нашего.
— Я чувствую, что в воздухе пахнет бедой, Жакоб Гуэре... Чувствую, поверь мне. Отец печален, это на него не похоже. Знаешь, если бы мне сказали, что господин Бюрнс умер, я бы не удивился.
— Что ты придумываешь, Малыш Морга? Смотри на свой несессер, мечтай о своей шпаге. Это полезней, чем сидеть и грустить в темноте.
— Ты мне расскажешь про суд?
— Ну конечно, Малыш Морга, если только сам буду что-нибудь знать. Потому что, честно тебе скажу: меня этот суд ни капельки не интересует, ни капельки.
Ы-
Через
несколько дней после визита Жакоба Гуэре я почувствовал, что силы мои восстанавливаются. Ноги меня держали, не слабея, и мне больше не приходилось ни с того ни с сего садиться, чтобы не упасть, когда на меня нападала дурнота. Теперь я спускался на первый этаж и ел вместе с отцом и старой Марианной в комнате позади лавки, наиболее прохладном месте в доме. Наступило самое жаркое время года. В иные часы было невыносимо знойно и душно. Никогда еще в Бресте не припекало так, как в этом году. Солнце лютовало, и камни порога обжигали, как хлеба только что из печи. Так я представлял себе хваленое солнце Каракаса, о котором часто толковал мне господин Бюрнс.
Мне не разрешалось даже выйти за порог и сделать хотя бы несколько шагов по улице. Иногда мне приходило в голову, что такой строгий надзор объясняется вовсе не тем, что это необходимо для моего выздоровления. Я догадывался, что существует какая-то тайная причина, заставляющая отца так строго требовать, чтобы я не выходил из дому, но я понятия не имел, что это за причина.
Когда на дом опускалась тень, я останавливался в проеме распахнутой настежь двери и втягивал в себя свежий воздух. Часто я задирал голову и глазел на прекрасную вывеску, нарисованную Никола де Бри- шни. Она напоминала мне о Жероме Бюрнсе. Отец был прав. Гостю-
636
Дополнения
дин Бюрнс задержался в поездке, причины которой были, по моему убеждению, связаны с молодой незнакомкой, увиденной мною как-то раз; скоро он вернется и опять будет стоять в привычной позе, поставив локти на прилавок, принюхиваясь к своему американскому табаку и определяя, насколько он хорош.
За едой я всегда говорил о нем, о его красноречии, знаниях, остроумии. Отец качал головой, не отвечая, и переводил разговор на другие темы. Мы принимались обсуждать последние детали моего отъезда в Мец. От этого события меня отделяли три недели; оно, признаться, изрядно меня занимало и отвлекало мои мысли от исчезновения господина Жерома Бюрнса. В скором времени мне предстояло надеть новый мундир, и эта радость иной раз перевешивала воспоминания о веселом и кокетливом домике в Рекуврансе. Но воспоминания эти по-прежнему имели надо мной власть. Картина, которую они порождали, оставалась всё такой же четкой. Я так и видел, как господин Бюрнс появляется за занавеской, держа двумя пальцами длинную белую глиняную трубку с красным кончиком мундштука.
Как-то вечером Пиллавер пришел нас навестить, когда мы с отцом только что встали из-за стола. У Пиллавера под мышкой был большой рулон бумаги, который он развернул на прилавке.
— Я наконец нашел портрет Никола Трюбле, — сказал он. — Красавцем его не назовешь, куда там, но ты удовлетворишь свое любопытство.
Это была безыскусно раскрашенная картинка, какие продают бродячие торговцы на ярмарках и на празднике Прощения Божьей Матери1. Никола Трюбле был изображен там в виде бородача со страшным взглядом, на голове красный платок в желтых цветах, повязанный тюрбаном. В кулаке правой руки он сжимал абордажную саблю с массивным эфесом, в левой держал запал с горящим фитилем. Пистолеты и берберский кинжал были заткнуты за зеленый шарф, служивший ему поясом. Таков был, с точки зрения художника, никогда его не видевшего, этот ужасный корсар, повергавший в трепет Нептуна и его свиту. Этот косматый разбойник, стало быть, скоро будет повешен. Я ничего не имел против. Кстати, несколько дней назад уже начал¬
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 19
637
ся суд. Секретарь суда господин Антуан Голомер, закупавший табак и кофе в «Якоре милосердия», сказал нам, что своим поведением капитан Никола Трюбле и семь его джентльменов удачи превзошли все мыслимые пределы цинизма. Капитан Никола Трюбле отказался от защитника.
После одного из таких разговоров отец велел Марианне приготовить ему самый лучший костюм, потому что ему вместе с Пиллавером предстоит выступать свидетелями в суде.
Эта новость меня несколько удивила. Каким образом суд над этим отпетым преступником может иметь отношение к моему отцу? А потом я подумал и вспомнил о визите рябого, когда он приходил купить фонарь. Этого человека я подозревал более всего, и, как я уже говорил, я не знал тогда, что он мертв.
Был понедельник. Отец в новой шелковой шляпе, отделанной галуном, в красивом коричневом сюртуке из лиможского сукна2, в туго натянутых чулках и башмаках с серебряными пряжками давал Марианне строгий наказ ни в коем случае не выпускать меня из дому. Надо сказать, что в течение дня ко мне должен был заглянуть отец Антонелли.
День тянулся долго. Я провел его у себя в комнате, то у окна, то сидя за столом и рассеянно листая программу моего первого года занятий в артиллерийском училище: эту программу удалось раздобыть аббату Мюньену. Отец вернулся около шести вечера вместе с Жакобом Гуэре. Я бросился им навстречу. Отворив дверь, которая вела с лестницы в магазин, я услышал, что они говорят о госпоже Лемёр. Заметив меня, они сменили тему разговора. Мне показалось, что отец удручен. Он был бледен, лицо осунулось, словно от сильной усталости. Он достал из-под прилавка большую бутылку рома и попросил Марианну принести два оловянных кубка. Он спросил ее, как я себя чувствовал днем и не было ли у меня приступов слабости.
Я ответил за Марианну, потому что все эти заботы о моем здоровье меня уже изрядно донимали.
638
Дополнения
— Я еще не умираю, истинная правда! Я крепок и бодр, как никогда. Сильно сомневаюсь, что о моем здоровье будут так же заботиться, когда я окажусь в походе с моей батареей.
— У нашего петушка красный гребешок, — со смехом заметил Пил- лавер. — И что ни говори, а ему нужно поразмяться, это же очевидно.
— Я лишь выполняю предписания врача, — отвечал отец.
— В таком случае, отец, вы можете быть довольны. К концу недели мне уже можно будет выходить из дому. Сегодня днем приходил отец Антонелли. Он нашел, что я хорошо выгляжу, и разрешил мне выходить на улицу. В субботу пойду гулять на бульвар Дажо.
— Отец Антонелли прописал тебе ром как укрепляющее? — спросил отец, ласково потрепав меня по волосам.
— Об этом он ничего не говорил, — ответил я со смехом.
Отец чокнулся с Жакобом Гуэре и отхлебнул изрядный глоток рому. Пиллавер просидел у нас недолго. Его тоже, видимо, одолевали невеселые мысли. Он обвел нас каким-то непонятным взглядом и распрощался. Крепко сжал мою руку — казалось, он хотел что-то сказать, но потом пожал плечами и вышел.
— Как вы провели день, отец? Какие показания у вас взяли? На ваш взгляд, на кого похож этот Пти-Раде, или Трюбле, если это его настоящее имя?
Я задал ему эти три вопроса очень твердо, потому что устал от того, что меня опекают, точно ребенка, явно стараясь держать меня подальше от событий.
Отец без раздражения, но с печалью в голосе ответил, что судебное заседание было скучное, что говорили о множестве мелочей, несущественных и бесполезных, поскольку вина пиратов, кажется, вполне очевидна... Его показания, как и показания многих других, были нужны в основном для сбора сведений о деятельности комиссара полиции, убитого сразу после того, как он приходил в «Якорь милосердия». Трюбле признался в этом преступлении, как признался он и в убийстве Ночного Жана. Когда председатель суда спросил его о том, что толкнуло его на эти два злодеяния, Никола Трюбле ответил буквально следующее:
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 19
639
«У одного из них был в кармане мой портрет в виде маленькой фигурки, которой он хотел воспользоваться, чтобы навести на меня порчу, а другой был любопытен, как грач, на которого он был очень похож. Я не мог оставить их в живых — это бы меня погубило. Я сам зарезал художника из Большого Коллежа в Керавеле, а чертова комиссара — в его собственной постели. Можете смело отнести оба убийства на мой счет. У меня только одна шея, и вы всё равно затянете на ней петлю».
— А вы узнали Пти-Раде, отец?
Мне показалось, что отец несколько поколебался, но он тут же ответил:
— Нет. — И опустил глаза. Затем поспешно добавил: — Никола Трю- бле будет повешен послезавтра на рассвете... — Он сглотнул комок в горле и с видимым усилием добавил: — Послезавтра вечером, если хочешь, можешь пойти погулять.
Я не нашелся что ответить. В голове моей теснилось множество смутных мыслей. Загадочное поведение отца не на шутку меня пугало. И я хотел как можно лучше скрыть снедавшую меня тревогу.
В тот вечер мы не говорили больше о Трюбле и его шайке. Мне даже удалось без особых усилий слегка развеселить отца, затеяв подробное обсуждение моего устройства в Королевском артиллерийском училище в Меце.
— По дороге в суд я как раз получил на почте послание от твоего дяди. Ты его прочтешь. Он в восторге от твоего приезда и готов во всём тебе помогать в Меце. Праздничные дни ты будешь проводить в его семье. Говорят, что твоя кузина Эстелла — незаурядная девица, прекрасная и лицом, и душой.
— Ну, мне еще рано думать о семейном очаге, — со смехом заметил я.
— Я тебе этого и не советую. Офицер не должен задумываться о семейном очаге, пока не начнет страдать ревматизмом.
— Хозяин, да что вы такое говорите! — с возмущенным видом возопила Марианна.
640
Дополнения
— Ах, ты здесь, Марианна? Ну что ж... Принеси-ка нам добрую бутылку старого бургундского, не дожидаясь, пока мы женим нашего будущего младшего лейтенанта.
Ночью у меня созрело решение. К утру я твердо знал, что преодолею все преграды и пойду смотреть на казнь Пти-Раде и семерых его сообщников.
* * *
День накануне омерзительного зрелища показался мне бесконечным. Приговор Трюбле был вынесен в субботу вечером, а его исполнение назначили на понедельник, чтобы не омрачать светлого дня воскресенья... Я торчал в дверях «Якоря милосердия», одновременно томясь от безделья и перебирая в уме свои планы, как вдруг мое внимание привлек скрип колес: по Сиамской улице в сторону причалов ехала телега. Я увидел Котантена Фибюрса, палача, он сидел на сложенных досках, а рядом шли два его сына: один вел лошадь в поводу, а другой шел за телегой и нес на плече кувалду. Чуть поодаль следовал плотник Маэ со своим старшим сыном Янником, они шагали в том же направлении, стараясь привлекать к себе поменьше внимания. Я помахал рукой Ян- нику, и он быстро подошел ко мне. В ответ на мои расспросы он рассказал, что они идут возводить эшафот на берегу реки, перед замком, на эспланаде.
— Если захочешь прийти завтра, — добавил он, — я буду ждать рано утром, часов в пять, на углу набережной и Сиамской улицы. Пти-Раде и его приспешников отдадут в руки мэтра Фибюрса часов в восемь. Я тебя проведу в одно такое славное местечко, оттуда мы всё увидим, как из первой ложи.
— Договорились, — отвечал я, — в пять часов буду на месте, но обещай, что никому не скажешь, потому что, если отец узнает, он простоит всю ночь на часах под моей дверью с протазаном3, лишь бы меня не пустить.
— Да что ж ты меня, за дурака держишь, что ли? Никому ничего не скажу, а то ведь мой папаша тоже не знает, что я затеял. Ты не пред-
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 19
641
ставляешь, что в городе творится. На постоялых дворах полно народу. Кареты и берлины съезжаются из Ландерно, Кемперле, Кемпер-Коран- тена. Другие любопытствующие, в том числе и наши, приплывут на барке из Лорьяна и из Роскофа, что в Леоне. Цены на комнаты подскочили как на дрожжах. А в Керавеле такая суматоха поднялась, не поверишь. Говорят, что все тамошние входы и выходы будут с вечера охранять войска, чтобы не допустить беспорядков. На углу набережной, перед каторжной тюрьмой, солдаты Королевского Корабельного при полном вооружении варят себе суп. Мы заметили, когда проходили мимо.
— Что ж, до завтра, Янник.
— До завтра.
Янник побежал догонять отца. Он уже заворачивал за угол набережной, когда я обернулся на топот множества ног: это была рота Брестского полка, которую вел капитан Рато, шагавший впереди с эспонто- ном в руке.
Я поклонился капитану Рато, когда он проходил мимо, а он дружески помахал мне левой рукой.
Это продолжалось целый день: полицейские, стражники, конная полиция и солдаты всё шли и шли по Сиамской улице. К вечеру в город вступили два эскадрона Королевского Кавалерийского полка, вызванные по случаю казни. Говорили, что они прибыли из лагеря в Па- раме.
То-то было раздолье досужим языкам! Дети носились как угорелые, перебегали дорогу под носом у лошадей, удирали от стражников, изо всех сил старались усилить суматоху, придававшую нашему городу праздничный вид.
Это оживление действовало отцу на нервы.
— Глядя на всё это, теряешь веру в человечество, — говорил он. — Да, хотел бы я, чтобы господин Жан-Жак Руссо видел, что у нас творится. От всего этого теряешь веру в философию.
С досады он раньше обычного запер наружные двери «Якоря милосердия».
642
Дополнения
Сразу после ужина отец пошел спать. Я последовал его примеру и удалился к себе. Окно оставили открытым, чтобы впустить в комнату ночную прохладу. На улице еще было шумно. Люди собирались кучками перед открытыми дверьми и оживленно спорили. Понемногу шум стих; поступь дозорных прогнала с улицы последних припозднившихся зевак.
Я предчувствовал, что не усну. Я попытался читать, но не тут-то было: между строчек всплывали чьи-то призрачные лица. На заре станет ясно, чем разрешились все мои юношеские приключения. Я хотел всё узнать, причем не просто узнать, а увидеть собственными глазами, как часто говаривал Жером Бюрнс. От уверенности, что скоро мне всё откроется, тело и душа у меня каменели. Удержать меня не смог бы никто. Хотя я подозревал, что отец не спит в своей комнате и, может быть, следит, чтобы я никуда не ушел, это не могло поколебать мою решимость пойти на встречу с Янником. Я слушал раз за разом, как бьют часы, как выкрикивает свою зловещую жалобу ночной дозорный. А потом занялась заря, бледная и какая-то нечистая, словно грязь на прекрасном летнем дне, замаранном с самого начала. С запада донесся какой-то непонятный шум. Тогда я окунул лицо в холодную воду и стал собираться. Туалет занял у меня совсем не много времени, потому что мысль моя опережала движения; мне хотелось по волшебству перенестись поскорей туда, где ждали полная ясность, освобождение и покой. Посмотрев направо и налево, я потихоньку затворил окно. Улица была безмолвна, все ставни закрыты. Держа башмаки в руке, чтобы не шуметь, я тихо спустился по лестнице. Двор я пересек в чулках, добрался до калитки позади дома. Перед складом я надел башмаки и отворил калитку. Там меня ждал отец. Я не удивился, увидев его. Я заговорил первый. Неодолимая решимость подсказала мне слова:
— Отец... Я должен туда пойти...
Он не отвечал. Тогда я добавил:
— Вы ведь знаете, почему?
Тут отец воздел руки к небу в глубоком отчаянии.
— Я сделал всё, что мог, чтобы избавить тебя от этого испытания, малыш. Но, видимо, так нужно: ты должен навсегда сохранить в памя¬
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 19
643
ти то, что откроется тебе нынче утром. Ты мужчина и будущий солдат. Что ж, иди туда, куда тебе суждено пойти. Прошу только: веди себя как мужчина, будь храбрым. Не забудь, что через две недели ты наденешь мундир.
Вот и всё. Отец вернулся в дом, а я очутился один на улице, несколько оглушенный его словами, а главное, внезапно обретенной свободой.
Вести себя как мужчина и быть храбрым? Я был в себе уверен. Отец мудро поступил, сказав мне эти слова. Он, с его чуткостью, понял, что мне предстоит прожить последние часы моего отрочества. Начиналась другая жизнь. Только это и было важно. Скоро я надену синий мундир, высокие белые гетры, и, обновленный, пойду навстречу гораздо более славным завоеваниям. Эта уверенность опьяняла меня, как благородное вино.
Я был серьезен, когда шагал по Сиамской улице; такая серьезность часто бывает плодотворна и преображает молодых людей. Оттого что отец не стал меня останавливать, я по-новому ощутил в себе чувство собственного достоинства. Всю дальнейшую жизнь я был ему благодарен не только за другие проявления его доброты, но и за этот прекрасный душевный порыв.
Рыжий Янник ждал меня, как и было обещано, на углу Сиамской улицы и набережной.
— Ты не слишком рано, Малыш Морга. Ничего, мы всё равно должны дождаться, когда прибудет вторая рота полка Каррера, она будет стоять у подножия замка, вдоль реки. Я знаю там одного сержанта, господина Гюльи, он нас пропустит. У меня есть предлог...
— Какой? — спросил я.
— Будто мне надо пройти к отцу; он сейчас кончает строить сосновую виселицу на восемь человек, она сослужит свою службу, как только будет готова.
— Ах, да... — машинально отозвался я.
— Видел бы ты эту древесину, — заметил Янник. — Барахло, а не древесина.
644
Дополнения
Народу на набережной всё прибывало. Со всех улиц квартала Семи Святых люди торопливо шли к эспланаде. Гомон тех, кто там собрался, дохлестывал до нас, как приливная волна.
— Вот они, — сказал Янник.
Он наклонился, поднял с земли несколько небольших и нетяжелых досок и сунул их мне под мышку.
— Вот, держи и иди за мной, только помалкивай.
Он тоже схватил несколько досок и взвалил себе на плечо.
В это время мимо нас проходила рота полка Каррера. Командовавший ими лейтенант нес ружье с примкнутым штыком.
Янник заметил своего сержанта, незаметно махнул ему, и мы зашагали след в след солдатам в красных мундирах.
Толпа уже стояла плотно и весьма неохотно уступала место солдатам. Тут в дело пошли приклады ружей, какая-то женщина обрушила на швейцарцев брань. Но в толпе появился просвет, в который мы втиснулись, как клинышек в бревно.
— У-у-у! У-у-у! Швейцарцев на фонарь! — ревела толпа.
Мы прошмыгнули, и позади нас солдаты расположились цепью; народная ярость мгновенно улеглась.
Мы оба очутились в свободном пространстве у подножия замка, чьи высокие стены и башни нависали над устьем реки Пенфельд. В этом месте я не так давно впервые увидел проклятую черную деву, украшавшую нос «Розы Саванны».
— Я знаю дорогу, — сказал я Яннику. — Пойдем налево по той крутой тропинке, а потом обогнем замок.
Позади нас внезапно раздался голос:
— А вы двое куда?
Тут мы увидели солдата Морского полка, несшего караул перед входом в подземный коридор.
— Мы подручные мастера-плотника Маэ, несем ему доски по его распоряжению.
И Янник добавил:
— Это для Пти-Раде и его дружков.
— А... ладно, проходите, — изрек солдат и отвернулся.
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 19
645
* * ’к
С места, где стояли мы с Янником, эспланада и бухта были видны как на ладони. Я тут же заметил огромный эшафот из новенькой древесины и толстую поперечину виселицы, вокруг которой были намотаны веревки. Солнце уже светило вовсю, и под его лучами древесина сверкала как золото. Мы прижались к лиловым скалам, так что нас было трудно заметить. Я обернулся и увидел просторный брестский рейд, на котором во всей своей красе выстроились суда. Довольно близко к берегу стояли на якоре два больших линейных корабля. Мне были видны корабельные команды, выстроившиеся на передней палубе, на реях тоже было полно матросов в форме в синюю и белую полоску и офицеров в темно-синих мундирах, в красных панталонах и чулках. Чуть дальше, на борту фрегатов и корветов, наблюдалась та же картина. Над нашими головами в соснах распевали птицы.
Помост, на котором высилась виселица, окружало большое пустое пространство. Там, позади мундиров (я различал только их цвета — синий, белый и красный), словно в тумане, колыхалась толпа, похожая на огромного, сомлевшего, бесформенного зверя. Она напоминала мне лилового осьминога необъятных размеров; его щупальцами были улицы, вливавшиеся в эспланаду и в бульвар Дажо с его чахлыми деревцами.
Я был настолько потрясен этим нечеловеческим зрелищем, что на меня напало какое-то удушье; я уже не понимал, зачем мы оказались на этих скалах, одни внутри гигантского полукруга военных мундиров, а перед нами — улица и место казни.
Везде, куда только досягал мой взгляд, я видел новые кучки зрителей, торопливо искавшие себе место на площади. Большинству видны были только спины тех, кто стоял впереди, и слышны только восклицания тех, кто взгромоздился на скамьи позади внушительной охраны. Судя по всему, со стороны квартала Семи Святых люди затеяли потасовку: я увидел, как кавалеристы вскочили в седло и очертя голову помчались к причалам, над которыми, словно ветер, взметнулся человеческий ропот. Внезапно в войсках произошло движение. Рота полка Каррера выстроилась в две шеренги от выхода из подземелья замка до
646
Дополнения
лестницы в шесть или семь ступенек, которые вели к эшафоту. У подножия лестницы, приставленной к виселице, ждал палач, заложив руки за спину; он раздавал приказы своим подручным, которые мощными ударами кувалды укрепляли какую-то деталь. Перед эшафотом собрались судьи и полицейские стражники. Справа от них два десятка барабанщиков Королевского Корабельного полка ждали рядом со своими инструментами, сложенными в пирамиду на земле.
Их голубые мундиры с отделкой из красных и белых лент по швам так и сверкали в ярких солнечных лучах. Перед барабанщиками расхаживал тамбурмажор с жезлом под мышкой.
В войсках, выстроенных перед виселицей, опять началось движение, и полицейский чин, быстро подойдя к тамбурмажору, что-то ему сказал. Барабанщики тут же разобрали свои барабаны, накинули на шею ремни, потом замерли, застыли в полной неподвижности, подняв палочки в воздух. И тут в наступившей полной тишине, которую нарушали только крики чаек и куликов, стало слышно, как заскрипела, отворяясь, дверь в подземелье замка.
Тамбурмажор поднял жезл, украшенный лентами, и его медный позолоченный набалдашник сверкнул в солнечном луче; раздался долгий барабанный раскат.
В носу у меня защипало, щеки похолодели. Я собрал все силы, чтобы удержать подступившие слезы. У меня дрожал подбородок, и я не мог унять эту дрожь, происходившую от нервного возбуждения.
Послышалась неясная краткая команда; штыки сверкали на солнце; осужденные один за другим вышли из замка с руками, связанными за спиной; впереди шагал священник. Они шли медленно, сгорбившись, не отрывая взгляда от орудия их казни.
Всё это вместе казалось мне одновременно и простым, и каким-то ненастоящим. Несмотря на немилосердную жару, наплывавшую с неба, тело мое будто сковал холод. Долгий вопль толпы пронзил мне слух, причиняя боль, словно рана: «Это он!»
Внимание мое чудовищно обострилось, у меня заболели глаза. Но я увидел только то, что ожидал увидеть: господина Жерома Бюрнса,
77. Мак Орлан. Якорь милосердия. 19
647
окруженного полудюжиной стражников. На нем был его красивый синий сюртук; руки были туго связаны за спиной, и из-за этого он шел немного сгорбившись. Жером Бюрнс тоже поднял голову и резко остановился, чтобы рассмотреть веревки, одна из которых предназначалась ему. Лицо его исказилось ужасной гримасой, он передернул плечами. Я почувствовал, что обливаюсь потом, ноги мои подкосились. Я смутно слышал, как Янник мне кричал: «Эй, эй! Осторожнее!» Его шершавая рука вцепилась мне в запястье. Это был лишь краткий миг слабости. Я присел на валун, повернулся спиной к виселице и стал смотреть на море и на «Неэру», которая четко вырисовывалась на свету, заливавшем небо и рейд.
А барабаны всё выбивали однообразную траурную дробь...
— Ага! — крикнул Янник. — Пти-Раде заплясал на веревке!
В этот миг барабаны внезапно смолкли.
Мы оба спустились к морю и пошли вдоль берега. Мне хотелось побыть одному, я простился с Янником и твердым шагом направился к «Якорю милосердия», с досадой обходя медленно рассеивавшуюся толпу людей.
Вернувшись
домой, я бросился в объятия отца и заплакал.
— Он ласково погладил
^ меня по голове. Пытаясь по¬
бедить волнение, он только повторял:
— Мой малыш, мой бедный малыш.
Приступ отчаяния продолжался у меня недолго. С того дня я не слишком часто проливал слезы в своей жизни, а если и случалось мне заплакать, то с достаточными на то основаниями, поверьте.
Некоторое время мы не упоминали о человеке, который остался в нашей памяти под тем именем, которое он сам себе выбрал: наверное, нам хотелось помнить только всё лучшее, что в нем еще оставалось. Мне удалось сохранить достоинство, как и наказал отец, и, победив свою чувствительность, я теперь с большей уверенностью смотрел в будущее.
Мне осталось провести дома совсем немного дней. Приближалось начало занятий, и мой сундучок кадета, с откинутой крышкой стоявший у меня в комнате, что ни день требовал новых забот. С помощью Марианны я складывал чулки, башмаки, шерстяную одежду и носовые платки. Прекрасный несессер занимал почетное место, заботливо обложенный двумя стопками полотенец. Мундир мне сошьет в Меце штатный портной. Следовательно, об этом можно было не беспокоиться. Погрузившись во все эти приятные приготовления, я с удовольствием воображал себя в новеньком синем мундире с красной выпушкой. Я во¬
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 20
649
ображал, как возвращаюсь домой в дилижансе, немного суровый, как приличествует будущему артиллеристу; вот я иду по Сиамской улице и слышу, как люди шушукаются: «Да ведь это сын шипчандлера Морга! Он кадет Королевского артиллерийского училища в Меце, в Лотарингии».
Все эти ребячества меня радовали, а окружающие поощряли эти приятные грезы, чтобы немного рассеять память о страданиях, которые мне пришлось перенести.
Я уже сказал, что отец по-прежнему избегал говорить со мной о Жероме Бюрнсе. Увы, нам пришлось всё же еще раз вернуться к этой трагической истории, полной кровавых эпизодов. К счастью, в последний раз.
Мы кончали обедать, и я собирался бежать на встречу с Никола де Бришни, который тоже занимался последними сборами в дорогу, как вдруг в нашу лавку вошел Пиллавер, он же Жакоб Гуэре, оставив у дверей свой мешок.
— Добрый день, Пиллавер, — сказал отец. — Вы очень кстати. Еще успеете с нами пропустить стаканчик.
— Эх, право слово, не откажусь. Нынче утром я такое видел, что до сих пор не приду в себя.
Отец налил ему стаканчик рому, и Пиллавер продолжил свой рассказ:
— Надо вам сказать, что нынче утром ходил я на борт «Неэры», чтобы договориться с тамошним каптенармусом насчет партии старых жестяных изделий с камбуза, от которых они хотят избавиться. Встаем мы рано, и лодка, на которой я ехал, причалила к судну в тот самый миг, когда солнце в очередной раз озарило наш мир своими лучами. Мы проспорили битый час: этот морской угорь с золотыми пуговицами хотел всучить мне старье по цене нового товара, а потом я вернулся на сушу в лодке, которую взял напрокат у Гадека, паромщика, того самого, которого зовут Сопливый Нос, потому что, когда он был мальчишкой, у него вечно из носу текло. И тут я надумал добраться до Сиамской улицы, обойдя замок по круговой дороге, а потом по эспланаде.
650
Дополнения
На самом-то деле этот путь самый короткий. А как же, так оно и есть. Как задумано, так и сделано, выхожу я, значит, к скалам и вижу на том месте, где стояла виселица, прямо там, где повесили Трюбле, стоит женщина, неподвижно, как статуя. Я еще был от нее далеко, как вдруг смотрю — она взяла да опустилась на колени, и словно молится, и руки ломает. Голову склонила до самой земли, ударяет себя в грудь, словно читает «Mea culpa»1. И стоит коленями прямо в пыли, бедняжка, и причитает. Потом еще раз ударила себя в грудь и вдруг упала, ну точь-в-точь цветок, срезанный серпом, и так и осталась лежать на земле как неживая. Издали было похоже на груду тряпок. Я не осмеливался подойти слишком близко: не знал, как себя вести. С набережной шло несколько человек, так они, видно, чувствовали себя так же, как я, — остановились и смотрят издали на эту странную церемонию. Потом пошли в ту сторону, где неподвижно лежала женщина, и я за ними. И пришел я как раз вовремя, чтобы увидеть, как эту несчастную поднимают с земли, а она мертва и вся в крови. Я не удержался и закричал: «Манон! Это наша Манон! Манон из Гвенеда!» И точно, это она и была. Она себе пронзила грудь, прямехонько там, где сердце. Нож еще торчал в ране; в лице у нее и во всём теле не осталось ни кровинки... Вот и поймите этих женщин, — заключил Пиллавер. — Ну кто бы подумал, что эта девчонка, Манон, которую мы все знали, когда она служила в «Жаркой печке», возьмет да и зарежется, как последняя безбожница, на месте гибели пирата?
— Я думаю, что теперь всё кончено, — произнес отец. — Мы можем закрыть книгу.
Он обратился ко мне:
— Ну, Ив-Мари, бери шляпу, и пойдем со мной, прогуляемся немного и купим кое-чего вкусненького к ужину, потому что сегодня вечером к нам придет Никола де Бришни. Я пригласил его от твоего имени.
Пиллавер вызвался посидеть в магазине, пока нас не будет. Уже не в первый раз оказывал он отцу эту услугу. Он был опытный торговец и неплохо разбира\ся в товарах нашей лавки.
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 20
651
— Бедная Манон! — сказал я отцу, когда мы вышли за порог. — Как меня печалит ее ужасный конец! Я ведь догадывался, что она — возлюбленная Трюбле...
— Говори лучше «Жерома Бюрнса», — перебил меня отец.
— Да... Возлюбленная Жерома Бюрнса. Отважная была девушка... Но как это всё непостижимо!
— Манон из Гвенеда знала Жерома Бюрнса с одной стороны, а мы — с другой. Всё это, должно быть, свяжется одно с другим и разъяснится не на этом свете, а совсем в другом месте, — отвечал отец.
Мы прошлись по городу, как два товарища, не столько обмениваясь мыслями, сколько погруженные в задумчивость. Издали завидел я эспланаду, где был повешен джентльмен удачи. Чтобы подкрепить свои силы, мы ненадолго заглянули в «Жаркую печку». В большом зале было почти пусто. Эскадра вчера подняла якорь и уплыла в неизвестном направлении, и с нею вместе отбыли все морские офицеры, и из Королевского Корабельного полка, и из Королевского Морского, — все завсегдатаи этого кабачка.
Госпожа Подер заговорила с нами о смерти своей бывшей служанки. Она судила девушку без малейшей снисходительности и без малейшего волнения.
Мы вернулись в «Якорь милосердия» еще засветло. Ветерок с моря раскачивал вывеску, и она поскрипывала на петлях. Я поднял голову и, не глядя на нее, сказал:
— Отец, вам придется сменить название и саму вывеску. Она больше не годится.
Отец в свой черед посмотрел на живопись Никола де Бришни. Он остановился перед входом и положил мне руку на плечо.
— А почему, Ив-Мари? Почему мы должны менять название? Человек, пришедший к нам, бросил свой последний якорь в месте, которое почитал своим последним убежищем. Якорь милосердия не спас его от бури. Тот, кого мы знали, ни в чем не был похож на жалкий труп, который у тебя на глазах закачался в петле. Оставим ему его спасительный якорь, Ив-Мари. Мы не имеем права лишать его этого последнего шанса.
652
Дополнения
Так «Якорь милосердия» остался висеть над дверьми нашей лавки.
Несколько дней спустя я уехал в Мец вместе с Никола де Бришни. Прелести этого путешествия, предвкушение минуты, когда я надену строгий мундир училища, пролили целебный бальзам на воспоминания о прощании с отцом, о жизни в Бресте, обо всех моих друзьях. Веселый нрав спутника быстро победил мою меланхолию.
Бришни ворвался в Париж, как конкистадор в перуанский город2. Он не сомневался в удаче, хотя при первом знакомстве с этим великим городом обуздал свою гордыню и усвоил более сдержанный и благородный тон.
С городом нас познакомил один из кузенов Бришни, лейтенант Французской гвардии. К великому моему сожалению, я не мог там задержаться дольше, чем на три дня, пока ждал идущую в Мец почтовую карету, где у меня было заказано место.
За эти три дня я посетил Версаль3, где безмерно восхитил меня парад Королевского полка, привратной и личной королевской стражи. Даже и пытаться не буду описать вам все чудеса, которых я навидался за эти три дня, перегруженных впечатлениями.
Никола де Бришни проводил меня до самого дилижанса. Все места были заняты. Мне достался уголок, где я сумел откинуться на спинку сиденья и поспать. Соседом моим оказался артиллерийский офицер. Я счел это добрым предзнаменованием: оно словно являло мне мое будущее и подтверждало его.
До Шалона-на-Марне4 мы теснились, как сельди в бочке. После Шалона пассажиры начали выходить, и, когда миновали последнюю почтовую станцию, я смог наконец раскинуться на сиденье поудобнее.
В Мец я прибыл поздно ночью. Дилижанс с грохотом катил по мостовым города; дома показались мне выше, чем в Бресте. Но темнота сообщала всему столь фантастические очертания, что впечатления мои то и дело менялись, хотя я с жадным любопытством таращил глаза, как ночная птица.
Дилижанс остановился перед постоялым двором, освещенным огромным фонарем, с которым расхаживал взад-вперед конюх.
П. Мак Орлан. Якорь милосердия. 20
653
— Это вы Ив-Мари Морга?
Меня ждал священник. Он преподавал в училище. В желтом свете фонаря он показался мне худым и высоким, а нос его был похож на клюв альбатроса. Он отдал распоряжение невысокому толстощекому пареньку, который ждал его, сидя в тележке. Паренек погрузил мой сундучок в эту повозку.
Спустя десять минут перед нами распахнулась большая окованная железом дверь в высокой стене казармы. Зазвенел колокольчик, и наши шаги зазвучали в гулком коридоре, показавшемся мне бесконечным.
Так вошел я в Королевское артиллерийское училище Мецского полка... Ничего не скажу о моем пребывании там; оно показалось мне долгим и было заполнено мелкими унижениями; в общем, я там намучился. В те времена, чтобы быть принятым в военное училище, еще нужно было подтверждать в четырех поколениях свое дворянское происхождение, хотя правила на этот счет уже изменились. Большинство кадетов прибывало сразу после коллежа Четырех Надий, основанного Мазарини5 для отпрысков небогатых дворянских семейств.
Артиллерия считалась не самым изысканным родом войск, к тому же в тот момент, когда я готовился к карьере артиллерийского офицера, война уже была неминуема, так что правила приема смягчились. Были нужны образованные офицеры. Поэтому несколько разночинцев вроде меня были допущены в ряды офицерства и признаны достойными носить эполеты. Благодаря королевской снисходительности я смог стать кадетом, но, так сказать, кадетом второго сорта.
За дверьми училища маячило не слишком блестящее будущее, и двери открывались не слишком широко. Наконец учение осталось позади, и благодаря моему упорству и способностям к математике, географии и словесности я получил чин младшего лейтенанта во флотском бомбардирском корпусе. Вместо треуголки мне полагалась вышитая шапка в форме митры6, как предрекал Никола де Бришни. Почти сразу же я взошел на борт фрегата «Лучезарный».
654
Дополнения
Тем временем отец умер, и «Якорь милосердия» был продан при посредничестве моего нотариуса, потому что я был единственным сыном и никоим образом не мог продолжать торговлю.
Новые владельцы снесли ветхий дом и возвели на этом месте особняк.
В то время я был в море и не мог забрать нашу старую вывеску, которая отправилась на свалку вместе со строительным мусором и обломками моей юности, то есть с самыми важными вещами из прошлого, благодаря которому я сумел написать эти страницы, вобравшие в себя далеко не всю накопившуюся у меня в душе горечь.
25 апреля 1941 г.
Аа*ш-
ПЬЕР МАК ОРЛАН И «ЯКОРЬ ПОСЛЕДНЕГО
ШАНСА»
Если
заглянуть в энциклопедии и посмотреть, что значит «якорь милосердия», — выражение столь поэтически звучное, что, кажется, в нем и пояснять-то нечего, — там всё же отыщется несколько уточнений, позволяющих лучше понять этот роман, самое планомерно выстроенное произведение Пьера Мак Орлана, или, если так предпочтительнее, книгу, персонажи которой охотнее всего повиновались своему создателю. Итак, вот что сообщает нам моряцкий жаргон: в описываемую эпоху два якоря, предназначенных для постоянного использования, размещались на кораблях спереди — это были становые якоря: один с левого борта, другой — с правого. Сзади так же располагались аналогичные им запасные якоря — их бросали только при сильном шторме или если требовалось заменить сорванный становой якорь. Наконец, завершал систему якорных приспособлений якорь милосердия. Его задействовали только тогда, когда оба якоря с одного борта оказывались сорваны. А уж если срывался и он — верная беда кораблю! Выражаясь мак- орлановским языком, якорь милосердия — это якорь последнего шанса.
И действительно, «Якорь милосердия» — это рассказ о «последнем шансе», и его значение выходит за рамки исторического места и времени, в которые разворачивается действие. Заметим сразу: это произведение — не вершина творчества его создателя и не исключительное явле-
660
Дополнения
ние. Наоборот — здесь представлены типичные для Мак Орлана темы, они переосмыслены, развиты, оркестрованы. Стоит заметить, что роман прежде всего обращен к рано повзрослевшим читателям детского возраста и к подросткам, мечтающим о приключениях. Ради этих читателей автор отказался и от обилия недомолвок, коими полны «Девчонки и европейские гавани»1 или «Под мертвенным светом»2, и от юмора а-ля ангусгура3, столь щедрого в «Негре Леонарде и мэтре Иоганне Мюллене» или «Матросской песне»4, — от него здесь остается лишь размытый след. Важно, однако, что роман адресован и другой части читателей Мак Орлана, не столь порывистых и более вдумчивых, и это особенно очевидно в деталях, нарочито отодвинутых на второй план, если не сказать скрытых.
Сюжет разворачивается по меньшей мере в двух плоскостях, или планах: морская повесть (точнее, рассказ о колдовских чарах, наведенных бретонским морем, и о героях, попавших под их влияние: пиратах, корсарах, шпионках, беглых каторжниках и морских бандитах, добрых висельниках из Большого Коллежа5, коим более или менее наверняка было суждено нацепить на себя пеньковый галстук), и символическая поэма, где соединяются все силы, чье воздействие испытал на себе сам автор: приключение, война, страх и Лукавый, сиречь Великий Козел6.
Контурно обозначенный образ Манон из Гвенеда, которую в предыдущих произведениях легко узнать по более детально разработанным характерам синьорины Бамбю, кавалеристки Эльзы или Ба- бет7, — всех тех дам, что были рождены для флирта с Господином субботнего вечера8, — подтверждает такую интерпретацию. Мак Орлан оставляет в тени чувственные отношения своей Манон с Жеромом Бюрнсом. Дьявола же он и вовсе наделяет только малозаметной внешностью персонажа, которого в разговорной речи именуют «бесом приключений».
В том плане повествования, что предназначен для широкой публики, названной так с чрезмерной строгостью, «Якорь милосердия» — ве¬
А. Лану. Пьер Мак Орлан и «Якорь последнего шанса»
661
ликолепно работающий механизм. Роман выверен как часы, которые чем проще, тем лучше. Мак Орлан никогда не скрывал, сколь многим он обязан англосаксонским романистам: Киплингу, Лондону, Стивенсону и Конраду9. Изучите, например, как подготовлен выход на сцену главного героя — пирата Пти-Раде. Сперва — это всего-навсего имя, произнесенное шепотом; потом напряжение нарастает, и вот наконец возникает сам Пти-Раде, будто подгоняемый жаждой читателя наконец- то его лицезреть. Повествование от первого лица способствует ловкому повороту сюжета. Местоимение «я» обладает свойством выводить персонажа на передний план, но еще и отождествлять его с автором и читателем. Так читатели входят в мир вымысла и знакомятся там с персонажами, будто с живыми людьми. Стоит ли удивляться тому, что после прочтения книги эти герои занимают в памяти свое место рядом с людьми из плоти и крови? Я прекрасно знал такого вот Жерома Бюрнса. До войны10 он дюжинами продавал локомотивы в отсталые страны, а во время оккупации был шпионом, работая барменом
g ***
Стиль отличается колоритностью: этого требуют сюжет и все детали, от которых отталкивается воображение романиста. В повествовании автор использует образы народных картинок, кораблики в бутылках, фигурки, выструганные Ночным Жаном, эпинальские картинки11, статуэтки оловянных солдатиков, раскрашенные отставными старыми служаками, с тоской вспоминающими свою молодость и форму родного полка. Доскональное знание городской обстановки, воссозданной столь великолепно, что, кажется, сам шагаешь по этим улицам, он соединяет с атмосферой времени, в которой диаграмма розы ветров пронизывает реальность духом поэзии.
В этой манере большая роль отведена зрению, ведь Мак Орлан начинал как художник. Что же до прочих компонентов, то среди них попадаются альманахи, крепкие жаргонные словечки (собиравшие их когда-то лингвисты и не подозревали, что из них сотворит этот неболь¬
662
Дополнения
шого роста северянин) и песни. Строгая и сдержанная манера повествования, жестокие сцены, воровской жаргон, персонажи, подчас выписанные с ошеломляющей тщательностью... Теперь обратите внимание на ритмику уличных вывесок и названий кораблей: их звучание напоминает о вечной связи всего сущего. «Жаркая печка» и «Нептунова роща» — таверны, а «Венец Иисуса» и «Роза Саванны» — корабли. Но лавка судового поставщика сменит вывеску «Коралловый якорь» на «Якорь милосердия» — в честь затонувшего корабля, память о котором так важна для интриги повествования. Картины моря и земли наслаиваются друг на друга, будто черепица, в этом Бресте, на окраине западных земель.
А рефреном звучат зазывные крики бродячего торговца. Прозвища «служивых» или «сидельцев» — в тон вывескам: Клубника или Рябой придут пропустить стаканчик неразбавленного «пойла» (которое не «развели» — то есть не разбавили водой) в «Нептнову рощу». А когда тихо напевает юнга, песнь бретонской чувственности так и цветет у него на губах:
Под колокола из Гемене,
Под колокола из Кемперле Все невесты белые Пляшут под омелою...
Одна из особенностей творчества Мак Орлана, наименее замеченных критиками, — его укорененность в народном искусстве.
Но едва уловимо, через саму игру и слияние деталей, проявляется и другой аспект романа, особенно ярко видный в этом куплете с выразительным употреблением жаргона:
Наш начальник дуба дал,
Город весь рыдает,
Каждая ищейка Слезки утирает...
А. Лану. Пьер Мак Орлан и «Якорь последнего шанса»
663
И вы не ошибетесь, продолжив так:
Красавцы, розы с ваших шляп Вам снимут вместе с головою...*’12
Строчки не вийоновского кроя — но вдохновение оба творца почерпнули из одного источника.
А теперь рассмотрим второй план книги (или, как еще говорят, «другое измерение»). Здесь царствует приключение, и Мак Орлан — его поэт. Он всегда сурово говорил об этой влекущей приманке. Тут сокрыта одна из его особенностей, ибо, в отличие от английских собратьев, которые боготворили приключение (или делали вид, что боготворят), он — не поддавался. И был неуклонно верен себе — со времен «Краткого справочника безупречного авантюриста», изданного в свое время издательством «Сирена»13, до самых недавних радиобесед14. Вот почему Жером Бюрнс заявлял: «Мечта недостижима, и к концу жизни ты возвращаешься в порт бессильным стариком», или: «Приключения хороши в книгах, а в жизни это опасный мираж». И нет никакого противоречия в умонастроении Мак Орлана со дня издания «Фартовых девчонок и европейских гаваней»: «Само слово “приключение” чревато несчастьем. Невозможно постичь его пределов на манящих путях тропических дебрей или арктического безмолвия. Приключение — в самом человеке».
Вот так.
Мак Орлан сообразует собственное бытие с этим представлением, что служит доказательством его интеллектуальной честности: вот уже четверть века как он отбросил миражи полной опасностей жизни ради цветущего и населенного неуловимыми призраками уголка в Бри15, в Сен-Сире, на берегах Пти-Морена16. И как часто слышал я от него слова, лишь подтверждающие им написанное: «Приключение существует лишь в воображении того, кто его видит. В конкретный момент
* Пер. Ю.Б. Корнеева.
664
Дополнения
его нет. Я восемь лет был солдатом. Я прошел всю войну 1914 года. Лет через сто какой-нибудь тип подумает, может быть, что я вел авантюрную жизнь. Тогда как для меня это было всего лишь чередой...»
Легко догадаться, чего.
Приключение, каким описал его этот выразитель социального романтизма двадцатого века, — мандрагора страха и головокружительного полета17, ощущение которых оно вызывает у юных созданий. Оно начинается безобидно — возбуждением, описанным в песне моряков из Груа: «Ветер морской волнует нас»18. «Я слышал, — говорит Малыш Морга, — только привычный шум прилива, который всегда волновал меня, хотя я не мог понять природу своего чувства». Это возбуждение — одна из движущих сил рода человеческого. От него расходятся волны страха, свойственного современному человеку в не меньшей степени, как и тем, кто жил в тысячном году; и одно из величайших достоинств Капитана Мак Орлана заключается в том, что посреди самоуспокоенности, царившей в период между двумя войнами, он напомнил: страх поджидает за дверью.
Страхом, войной, дьяволом пронизан этот рассказ, действие в котором не выходит за пределы 1777 года. «Война — приключение кровавое, но честное», — говорит Жером Бюрнс, и он знает, что говорит. А вот я перечитываю «Города»: «Великие искатели приключений моего поколения побывали в Cynié или в Вердене»19. А дьявол — он повсюду и предпочитает перевоплощаться в самые сусальные образы. Но кто он, каков этот дьявол? Тот, что описан в священных текстах, тот, что бытовал в романских легендах об аде, или тот, о котором повествуется в няниных сказках? Или это дьявол из теологических сочинений? Верит ли Мак Орлан в истинность появлений Граппена?20 Насколько мне известно, он никогда не давал объяснений по этому поводу. Думаю, он верит в литературного дьявола, в дьявола-символ, весьма убедительно иллюстрирующего формулу, близкую к одной из предыдущих: дьявол живет в самом человеке.
Предположение небезосновательное. Однажды он сказал мне глухим голосом, хлопнув себя по затылку: «Вот где у всех нас засов. Уж
А. Лану. Пьер Мак Орлан и «Якорь последнего шанса»
665
поверьте, иногда не обойтись без чего-то незыблемого, несокрушимого. А стоит засову клацнуть — и вот, пожалуйста: или скандал, или катастрофа. Это не бог весть какое рассуждение можно развивать и дальше. Бывает, что в жизни всё срывается с катушек долой; да ведь так бывает и в творчестве. Во всех нас обитают и доктор Джекилл, и мистер Хайд»21.
В письме, присланном мне в 1946 году, он между делом напоминает: «Только обстановка — залог того, что образы насильственной смерти выйдут по-настоящему впечатляющими». Обстановка в «Якоре...» — это Брест, «город прелюбопытный, который я люблю и принимаю безоговорочно». Здесь он жил; и он признавал значимость этого города и его миражей для становления своей личности. В автобиографической книге — «Города» — он так предвосхитил нынешний рассказ: «Головы этих каторжников (господ из Большого Коллежа, парижских мазуриков), добавляющие живописности морской оснастке, пушкам, такелажу, сваленным в кучу на набережных Арсенала22, сегодня выставлены рядками в нижней витрине музея при Морском госпитале23. В те времена веселый стук молотков жестянщиков откликался с другого берега Пенфельда24 на воровские песенки, а дудки и барабаны играли в такт движению лебедок и кабестанов. И теперь, стоя на Национальном мосту25 и слушая, как необычную тишину Пенфельда нарушает лишь привычный скрежет желтых трамваев, я думаю о том, что всё это исчезло без следа». Подобная задушевность и была залогом успеха романиста.
Сила и значение «Якоря милосердия» — в его перекличке с жизнью писателя. Как Флобер мог сказать: «Мадам Бовари — это я»26, — так и в нашем случае сгодилась бы подобная шутка: «Якорь...» — произведение автобиографическое. Мальчуган, переживший столько разочарований в родном Бресте и покинувший его ради артиллерийского училища в Меце, этот бедный курсант уж слишком похож на своего создателя.
В низеньком домишке (бывшей нотариальной конторе) с висящим на двери медным молоточком, в этом жилище, расположенном неподалеку от знаменитого «Яйца вкрутую» (недавно, впрочем, сменившего название)27, автор «Ночной Маргариты» не опровергает суждений
666
Дополнения
Жерома Бюрнса. Он невысокий непоседливый человек с ястребиным взглядом, в свитере вызывающей расцветки, в вязаных чулках грубой шерсти, в которые заправлены бриджи для езды на велосипеде, в берете «тарелкой», плотно облегающем голову: ни дать ни взять хлопотливый сельский помещик. Нет-нет, да и обронит одно из тех признаний, что свидетельствуют: он всегда в бою; и не случайна надпись на табакерке, неизменно стоящей на его столе: «Якорь милосердия» — ибо совсем еще недавно Мак Орлан написал: «Я всегда знал, что в конце нашего пути не существует никакой тихой гавани, могущей нас приютить».
В инстинктивном предчувствии угрозы, в отказе от авантюрных миражей, в ясном осознании хрупкости спокойной жизни, в привычке всё соотносить с человеческой меркой — и состоит его величие.
Кто же он, в конце концов? Проповедник отчаяния? Пусть его ощущение страха задолго предвосхитило экзистенциальную тоску28, и пусть он одним из первых открыл нам абсурдность бытия, я в это не верю. Столько предостережений от подвохов жизни, этой блудливой девочки, которая так любит передергивать карты, не остаются без активного противовеса. И вот границы романа раздвигаются от пары задушевных слов:
«Я внезапно обрадовался, — говорит Малыш Морга, — мне понравилось, что меня назвали другом».
Да, именно это слово — «дружба» — и придает «Якорю милосердия» резонанс, звучащий по сей день.
Содержание
Пьер Мак Орлан
НАБЕРЕЖНАЯ ТУМАНОВ
В двух книгах
Пьер Мак Орлан. НАБЕРЕЖНАЯ ТУМАНОВ Перевод с французского А.А. Сабашниковой
Глава 1 9
Глава 2 16
Глава 3 24
Глава 4 31
Глава 5 38
Глава б 44
Глава 7 51
Глава 8 61
Глава 9 71
Глава 10 77
Глава 11 85
Глава 12 89
Глава 13 95
ДОПОЛНЕНИЯ
Пьер Мак Орлан. ЗВЕРЬ ТОРЖЕСТВУЮЩИЙ Перевод с французского А.А. Сабашниковой
Глава 1. Свинья говорит то, что положено свинье 103
Глава 2. Свиньи в школе 108
Глава 3. Ошибка 114
Глава 4. Революция 117
Глава 5. Великая Свинская война 120
Глава 6. Приснопамятная конюшня 123
Глава 7. Всё как было 127
Пьер Мак Орлан. НЕГР ЛЕОНАРД И МЭТР ИОГАНН МЮЛЛЕН Перевод с французского А.А. Сабашниковой
Глава 1 133
Глава 2 138
Глава 3 141
Глава 4 149
Глава 5 157
Глава 6 161
Глава 7 169
Глава 8 175
Глава 9 179
Глава 10 185
Глава 11 187
Пьер Мак Орлан. КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК БЕЗУПРЕЧНОГО АВАНТЮРИСТА
Перевод с французского Е.В. Баевской
Глава 1. Предуведомление 193
Глава 2. Разные категории авантюристов 195
Глава 3. Об активном авантюристе 198
Глава 4. О пассивном авантюристе 203
Глава 5. Как становятся пассивными авантюристами 206
Глава 6. О роли воображения 209
Глава 7. О чтении 212
Глава 8. О бесполезности путешествий и собирания архивов 215
Глава 9. Путешествия, которые мы можем себе позволить 218
Глава 10. Какие города следует посетить 222
Глава 11. Кабачки 225
Глава 12. Об эротике 228
Глава 13. Создание героя 231
Глава 14. Отношения с активным авантюристом 233
Глава 15. Каков бывает конец активного авантюриста 236
Глава 16. Каков бывает конец пассивного авантюриста 239
Глава 17. Возможность 241
Пьер Мак Орлан. НОЧНАЯ МАРГАРИТА Перевод с французского А.А. Сабашниковой
Глава 1 245
Глава 2 253
Глава 3 260
Глава 4 268
Глава 5 276
Глава 6 284
Глава 7 292
Пьер Мак Орлан. ШАЛЬНОЙ
Перевод с французского Н.С. Мавлевич (гл. 1—15),
Т.М. Петухова (гл. 16—37)
Глава 1 303
Глава 2 310
Глава 3 314
Глава 4 321
Глава 5 327
Глава 6 333
Глава 7 340
Глава 8 346
Глава 9 350
Глава 10 353
Глава 11 357
Глава 12 360
Глава 13 364
Глава 14 372
Глава 15 375
Глава 16 379
Глава 17 382
Глава 18 386
Глава 19 388
Глава 20 392
Глава 21 396
Глава 22 398
Глава 23 402
Глава 24 404
Глава 25 407
Глава 26 410
Глава 27 413
Глава 28 418
Глава 29 424
Глава 30 426
Глава 31 430
Глава 32 436
Глава 33 438
Глава 34 441
Глава 35 444
Глава 36 447
Глава 37 449
Пьер Мак Орлан. ЯКОРЬ МИЛОСЕРДИЯ
Перевод с французского Е.В. Баевской
Глава 1 457
Глава 2 466
Глава 3 477
Глава 4 485
Глава 5 495
Глава 6 505
Глава 7 515
Глава 8 525
Глава 9 536
Глава 10 547
Глава 11 557
Глава 12 566
Глава 13 576
Глава 14 586
Глава 15 596
Глава 16 606
Глава 17 616
Глава 18 625
Глава 19 635
Глава 20 648
Арман Лану. ПЬЕР МАК ОРЛАН И «ЯКОРЬ ПОСЛЕДНЕГО
ШАНСА»
Перевод с французского Д.Л. Савосина
«Если заглянуть в энциклопедии...» 659
Мак Орлан, Пьер
Набережная Туманов: В 2 кн. / Изд. подгот. Э.Н. Шевякова, А.А. Сабашникова, Е.В. Баевская, Я.С. Линкова, Н.С. Мавлевич, Т.М. Петухов. М.: Ладомир: Наука, 2020. — Кн. I. — 672 с. (Литературные Памятники / РАН).
ISBN 978-5-86218-578-2 ISBN 978-5-86218-590-4 (Кн. I)
Творчество Пьера Мак Орлана (1882—1970), одного из величайших писателей XX века, культовой фигуры Франции прошлого столетия, — явление поистине исключительное. Оно поражает своим масштабом и глубиной и вместе с тем — обращенностью к самой широкой читательской аудитории. В его текстах — подлинная, живая Франция во всей палитре ее контрастов, от парижского дна с его проститутками и клошарами до сиятельных баронов и львиц высшего света. Творения Мак Орлана, путешественника, художника, ветерана Первой мировой войны, военного корреспондента, столпа парижской богемы, автора популярнейших песен, центра притяжения интеллектуальной элиты, теоретика «социального фантастического», — это нескончаемое увлекательнейшее приключение, когда не успеваешь перевести дух. Его знаменитый смех — невинный, скабрезный, до смерти заразительный, смех над абсурдностью бытия, — звучал в сумерках человечества, над уснувшей Европой, «погасившей огни».
Популярность писателя с годами лишь растет. Первые издания его произведений, как правило, замечательно проиллюстрированных (Мак Орлан был дружен с выдающимися художниками своего времени), продаются букинистами по немыслимо высоким ценам. Современные перепечатки большинства его текстов не покидают полок книжных магазинов.
В настоящее издание вошли все лучшие творения Мак Орлана. Основу тома составил роман «Набережная Туманов» (1927 г.; в 1938 г. экранизирован Марселем Карне по сценарию Жака Превера, в главных ролях Жан Габен и Мишель Морган), центральный для творчества писателя.
Пьера Мак Орлана недаром называли предтечей. В основе его произведений — сюжеты, которые в XX веке приобретут невероятную популярность. В повести-притче «Зверь торжествующий» (1919) предвосхищен «Скотный двор» Дж. Оруэлла. Повесть «Негр Леонард и мэтр Иоганн Мюллен» (1920) поразительно напоминает «Мастера и Маргариту» М.А. Булгакова: рыжая искусительница, волшебная мазь, ночные полеты на метле, демонический шабаш вблизи умиротворенной французской деревни... Безумие и комическая бестолковость войны, фронтовая дружба, потерянность «одинокого солдатика на огромной земле», гулкая тишина над полями сражений — всё это атмосфера романа «Шальной», задуманного еще в 1919 году и словно предваряющего прозу «потерянного поколения». Приключенческий роман «Якорь милосердия» (1941) — книжный бестселлер на все времена, сопоставимый по популярности с «Островом сокровищ» Р.-Л. Стивенсона.
В статье Э.Н. Шевяковой подробно рассказано о жизни и творчестве писателя, все переводы обстоятельно прокомментированы.
Рекомендуется самому широкому кругу читателей.
Научное издание
Пьер Мак Орлан
НАБЕРЕЖНАЯ ТУМАНОВ
В двух книгах I
Утверждено к печати
Редколлегией серии «Литературные памятники»
Редакторы Г.А. Велигорский, А.А. Сифурова, А. И. Самарина Корректор О.Г. Наренкова Макет А. О. Аыскова Компьютерная верстка В. Г. Курочкин
Подписано в печать 12.05.2020 Формат 70x90/16. Печать офсетная Печ. л. 42 Тираж 500 экз.
Научно-издательский центр «Ладомир»
124365, Москва, Зеленоград, ул. Заводская, 4 Телефон склада: +7 499 729 9670 e-mail: ladomirbook@gmail.com
Отпечатано в соответствии
с предоставленными материалами в АО «ИПК “Чувашия”» 428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 13
lllllllllHIVi
IIH1I1UHIII1H1III
НЕЗАВИСИМЫЙ
АЛЬЯНС
Информацию о новинках «Ладомира»
(в том числе о лимитированных коллекционных изданиях), условиях их гарантированного и льготного приобретения, интервью с авторами и руководством издательства, прочие интересные сообщения можно оперативно получать, если зарегистрироваться в «Твиттере» «Ладомира»: https://twitter.com/LadomirBook