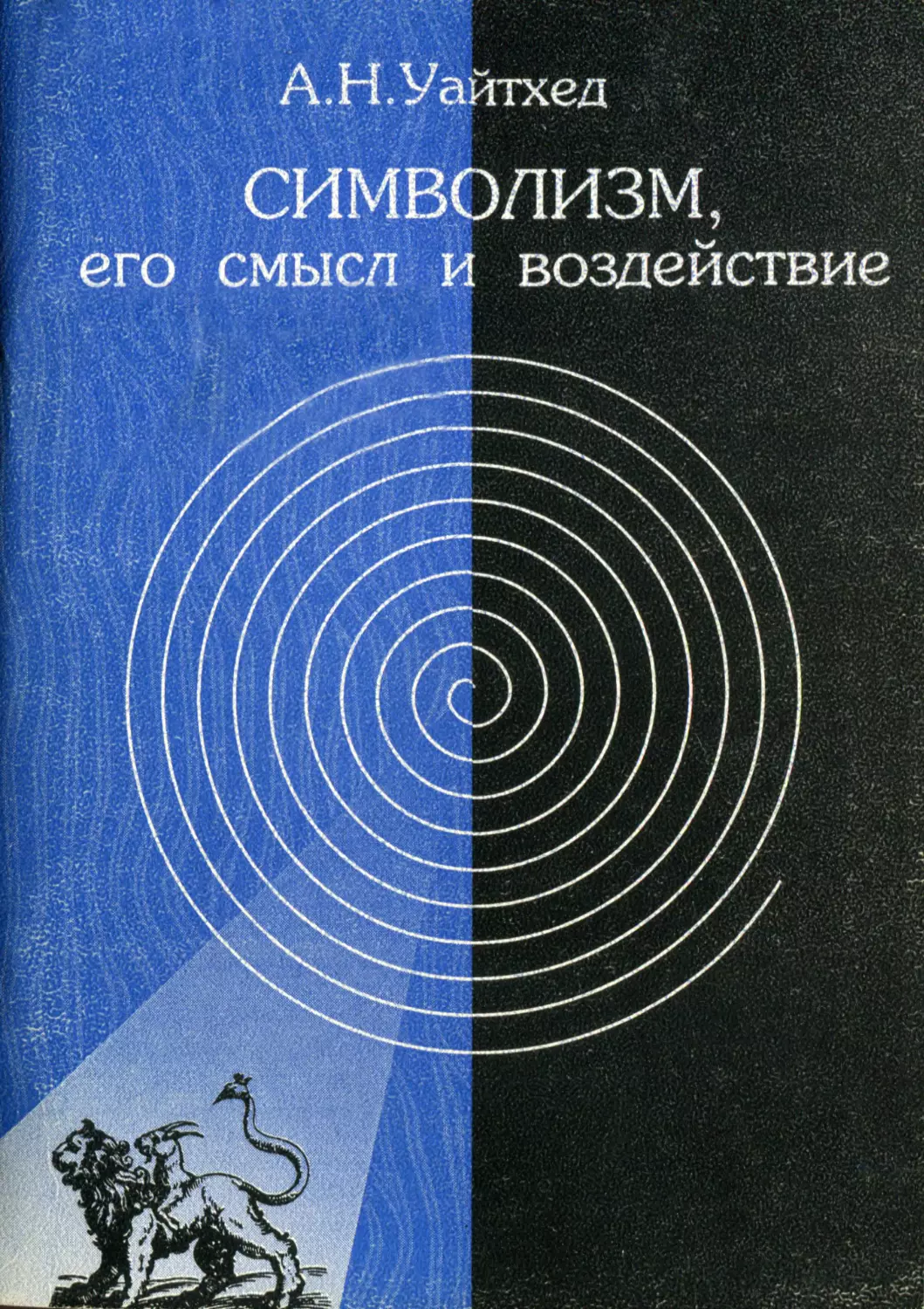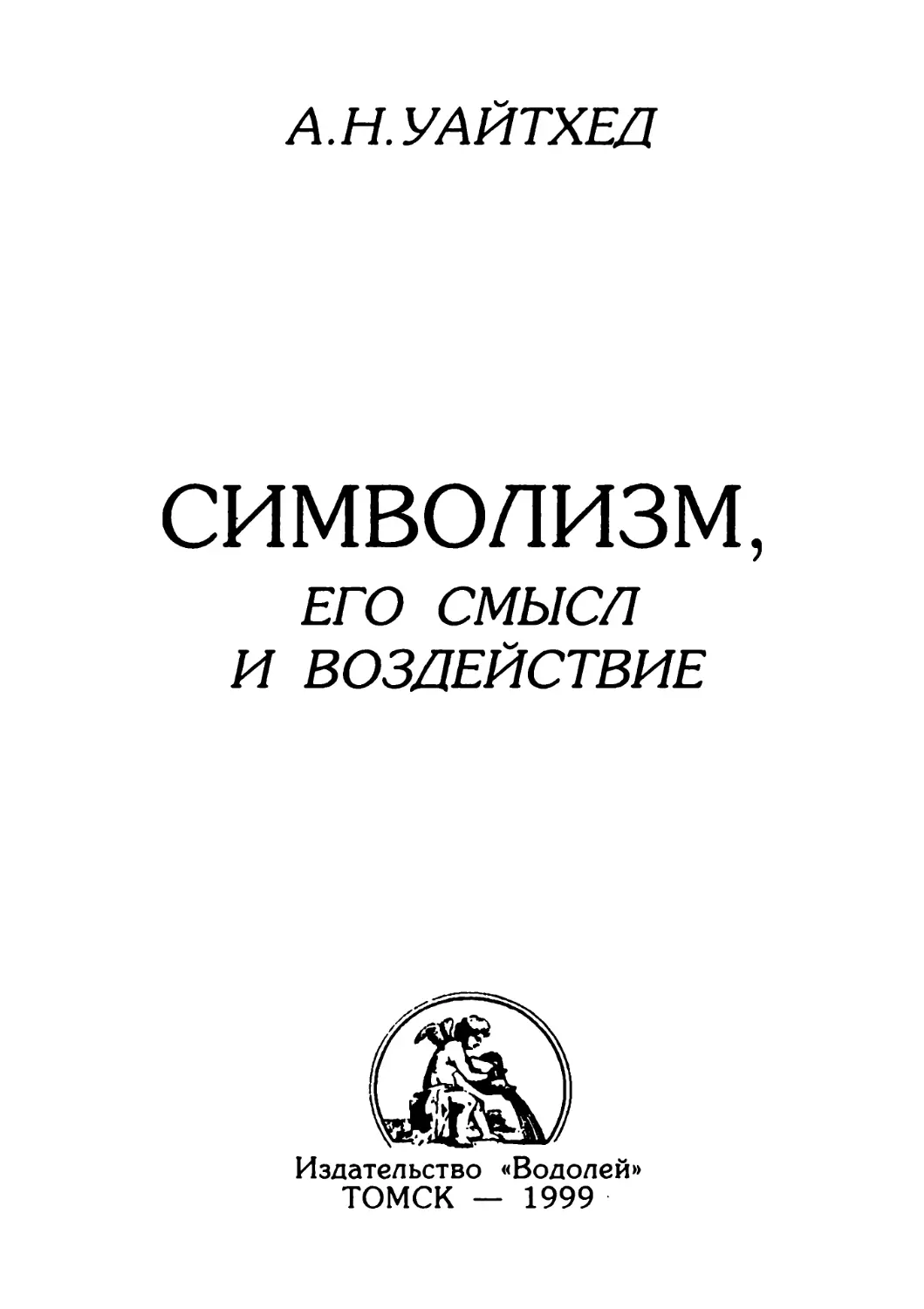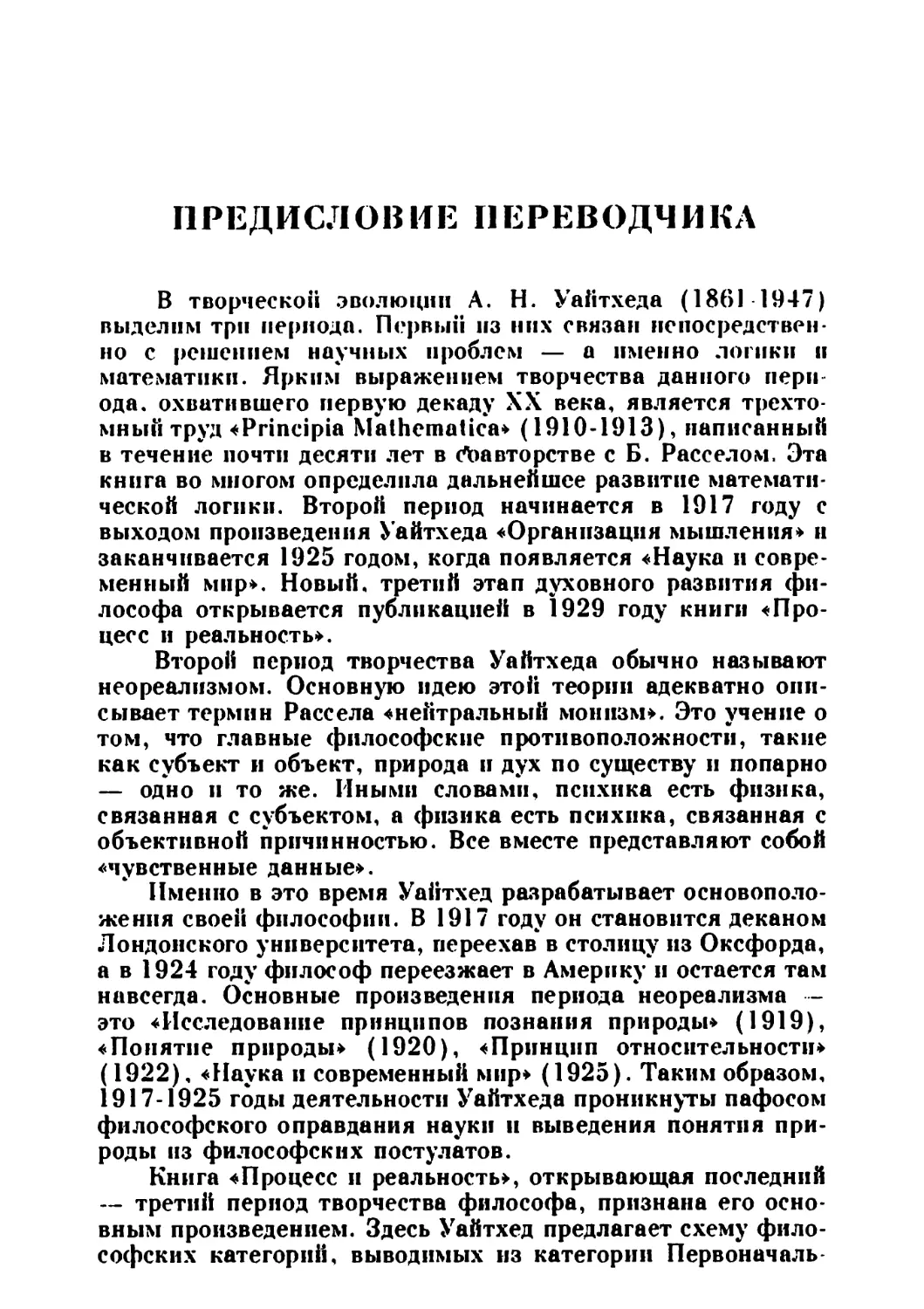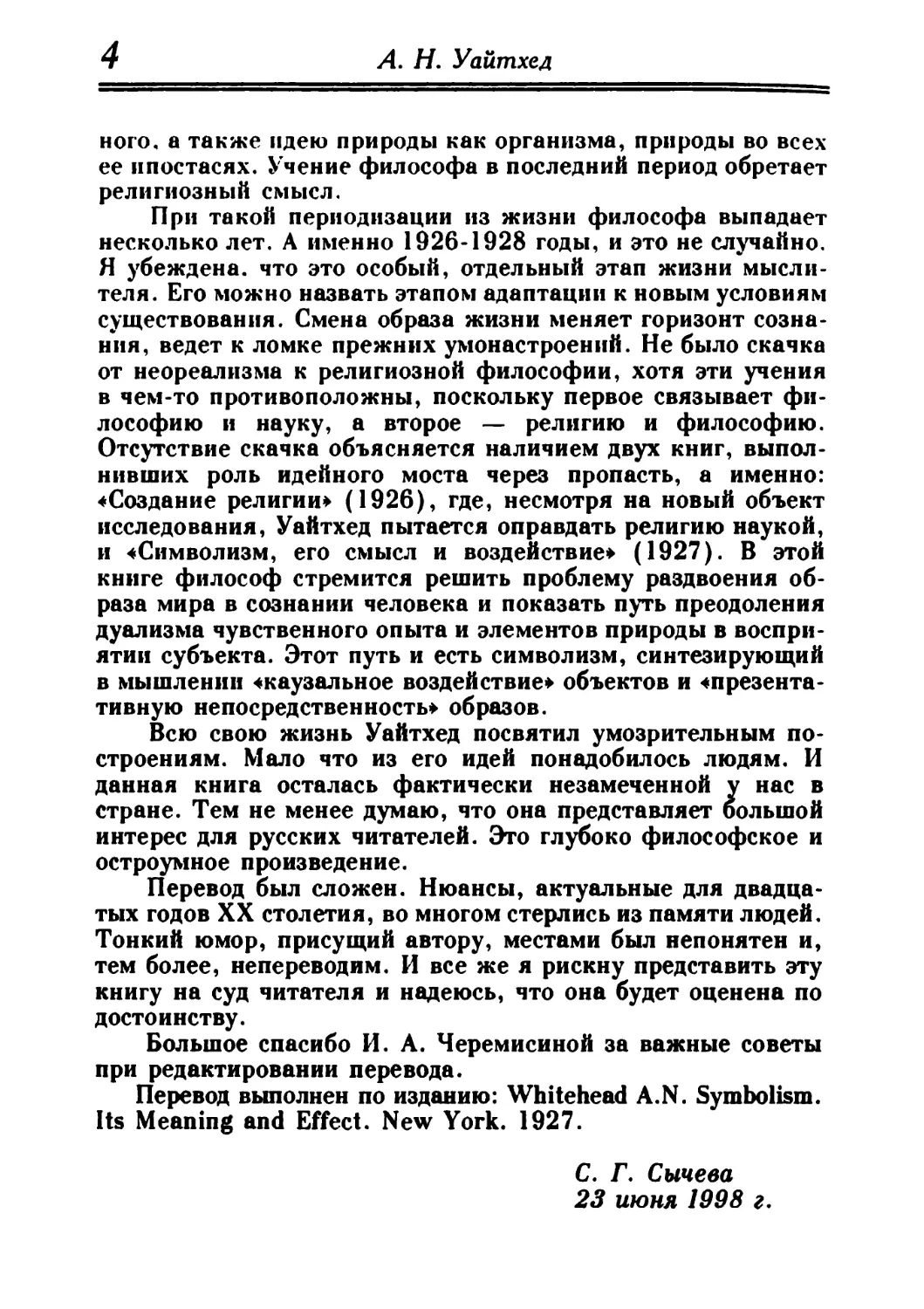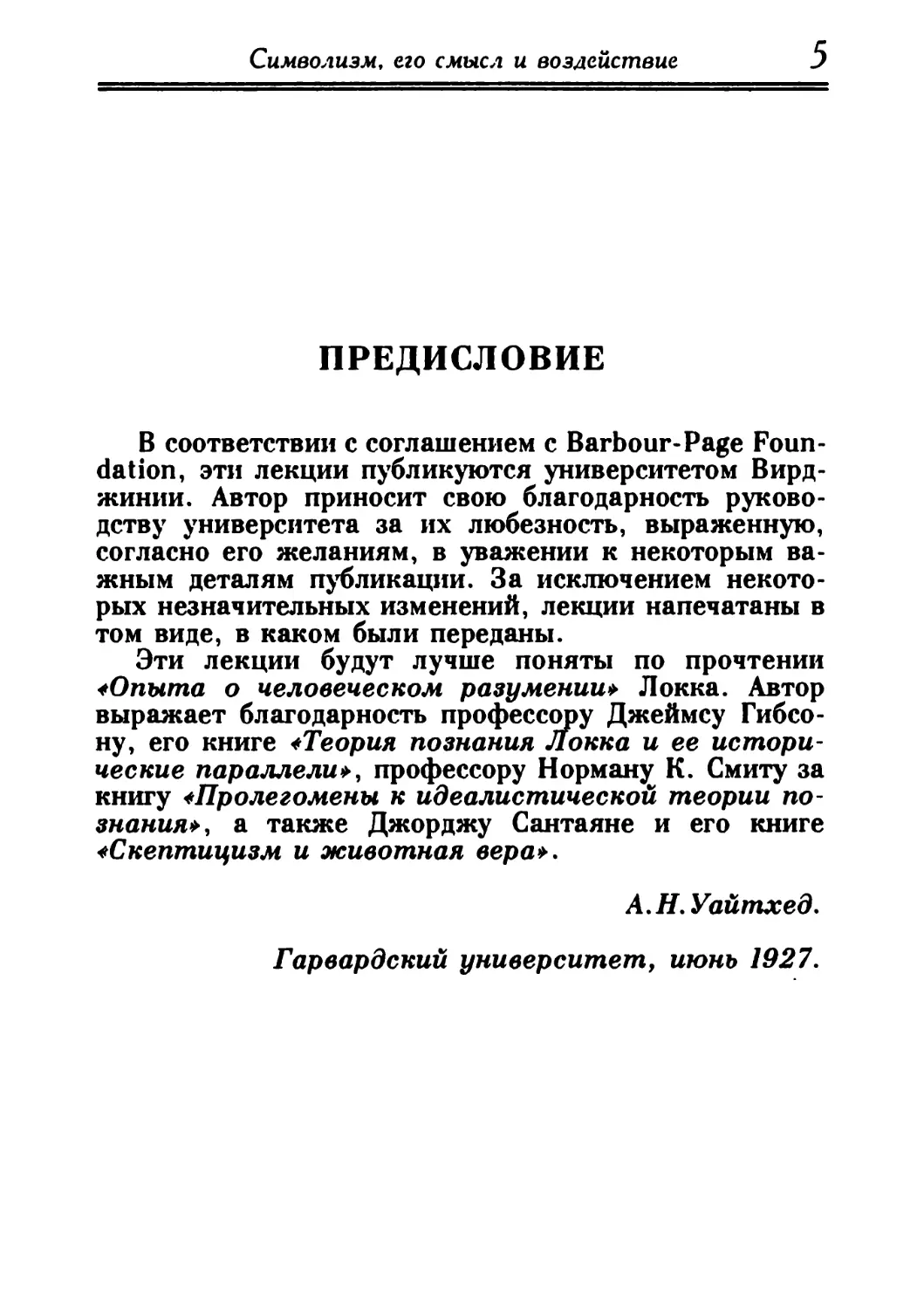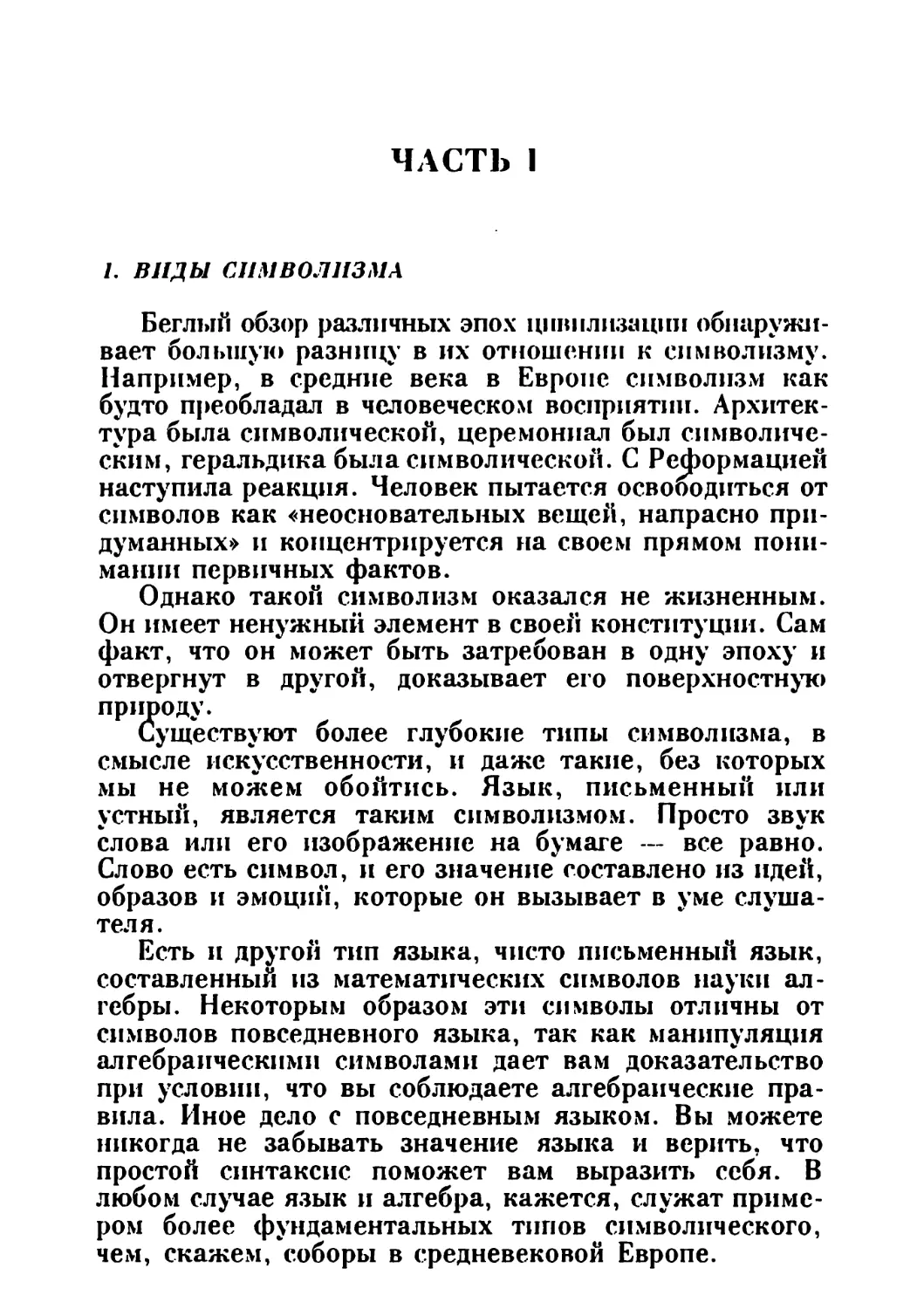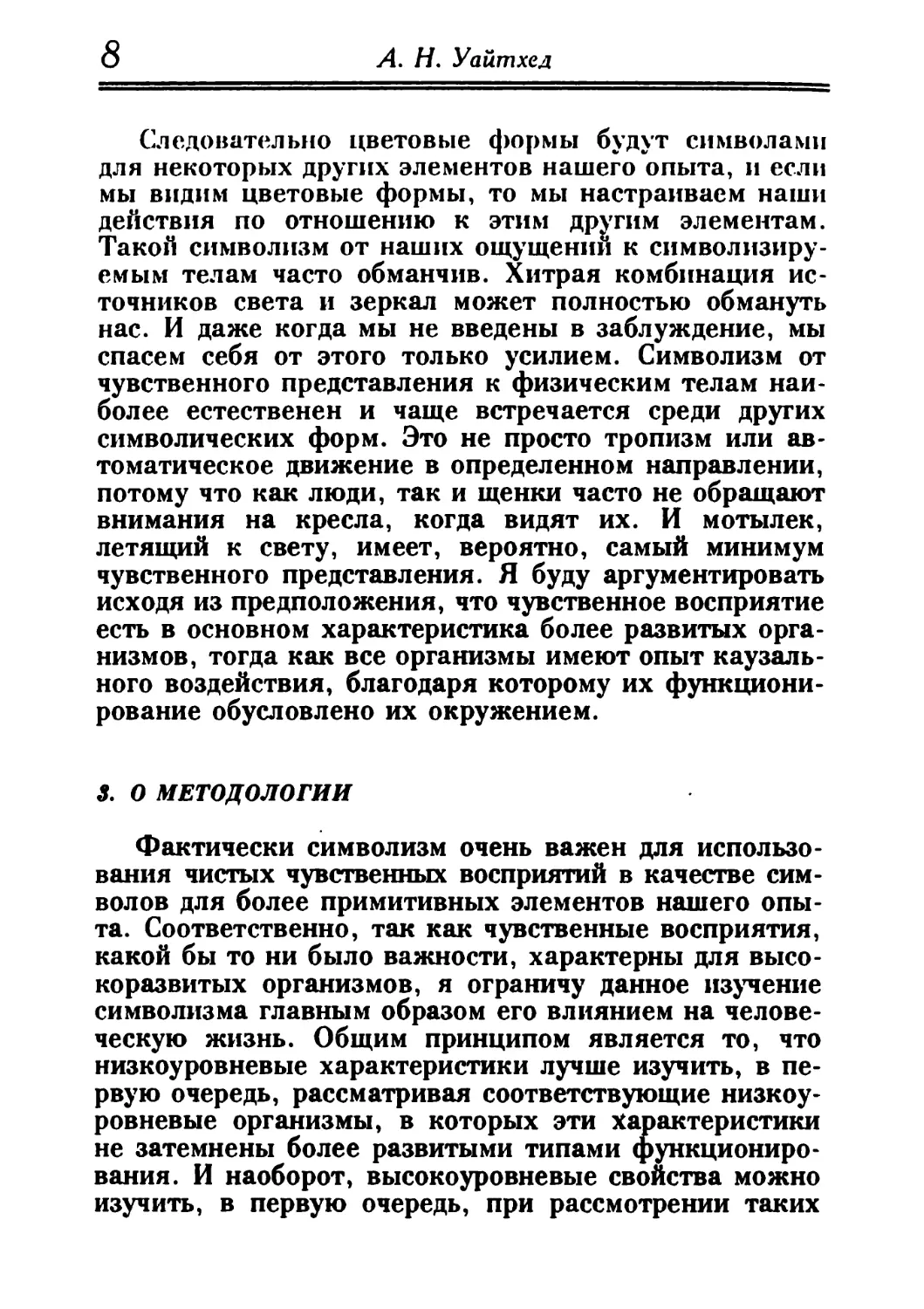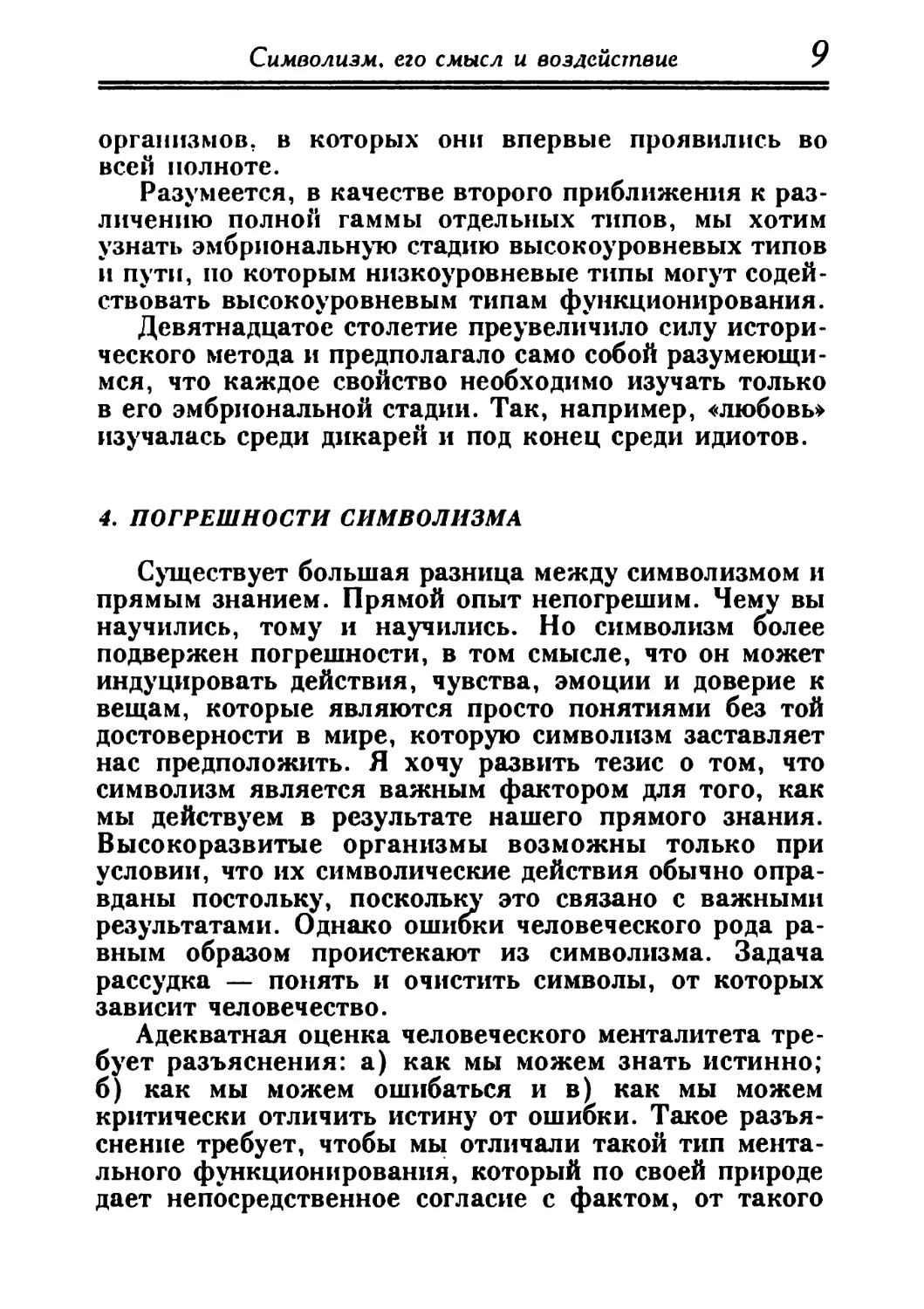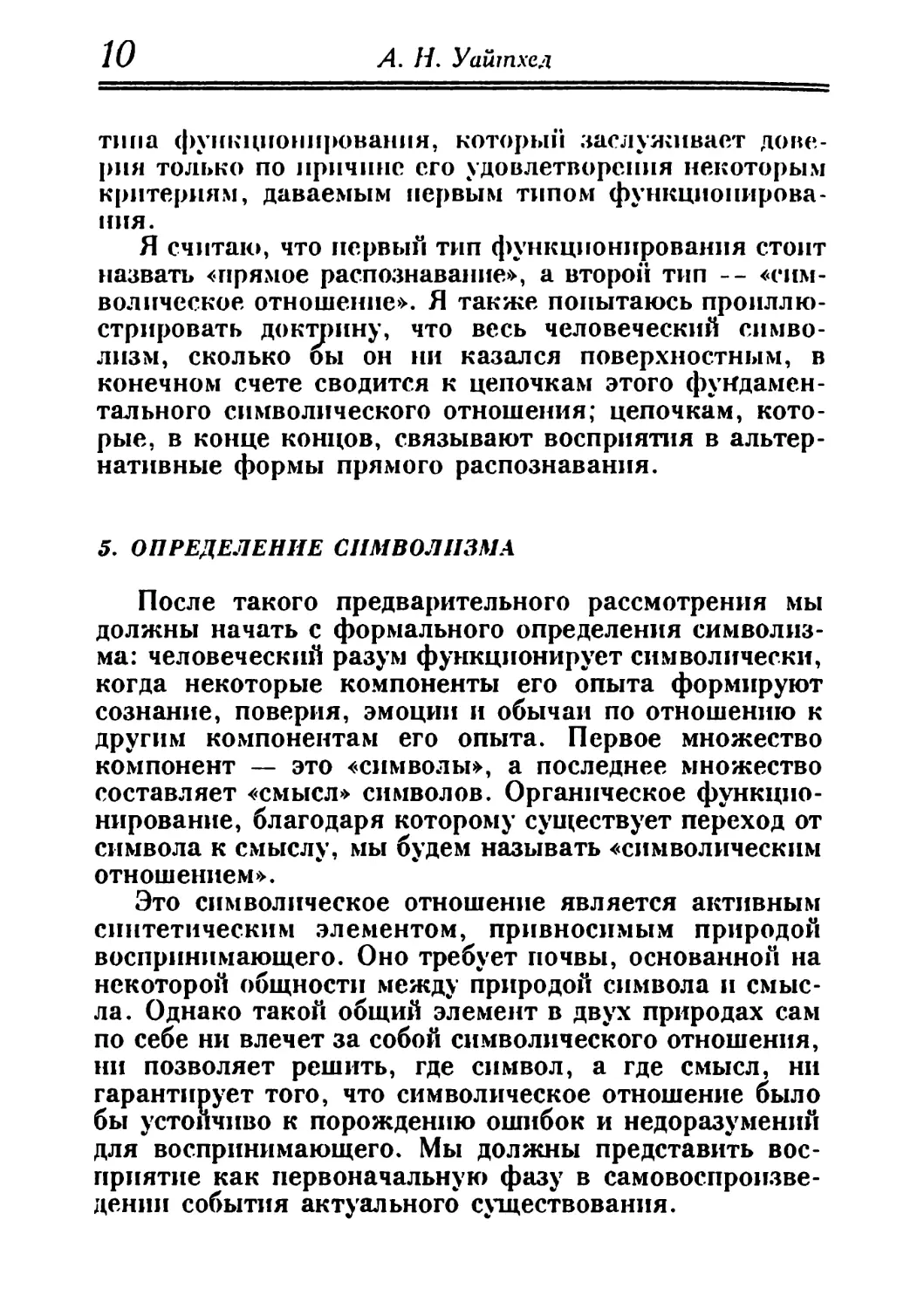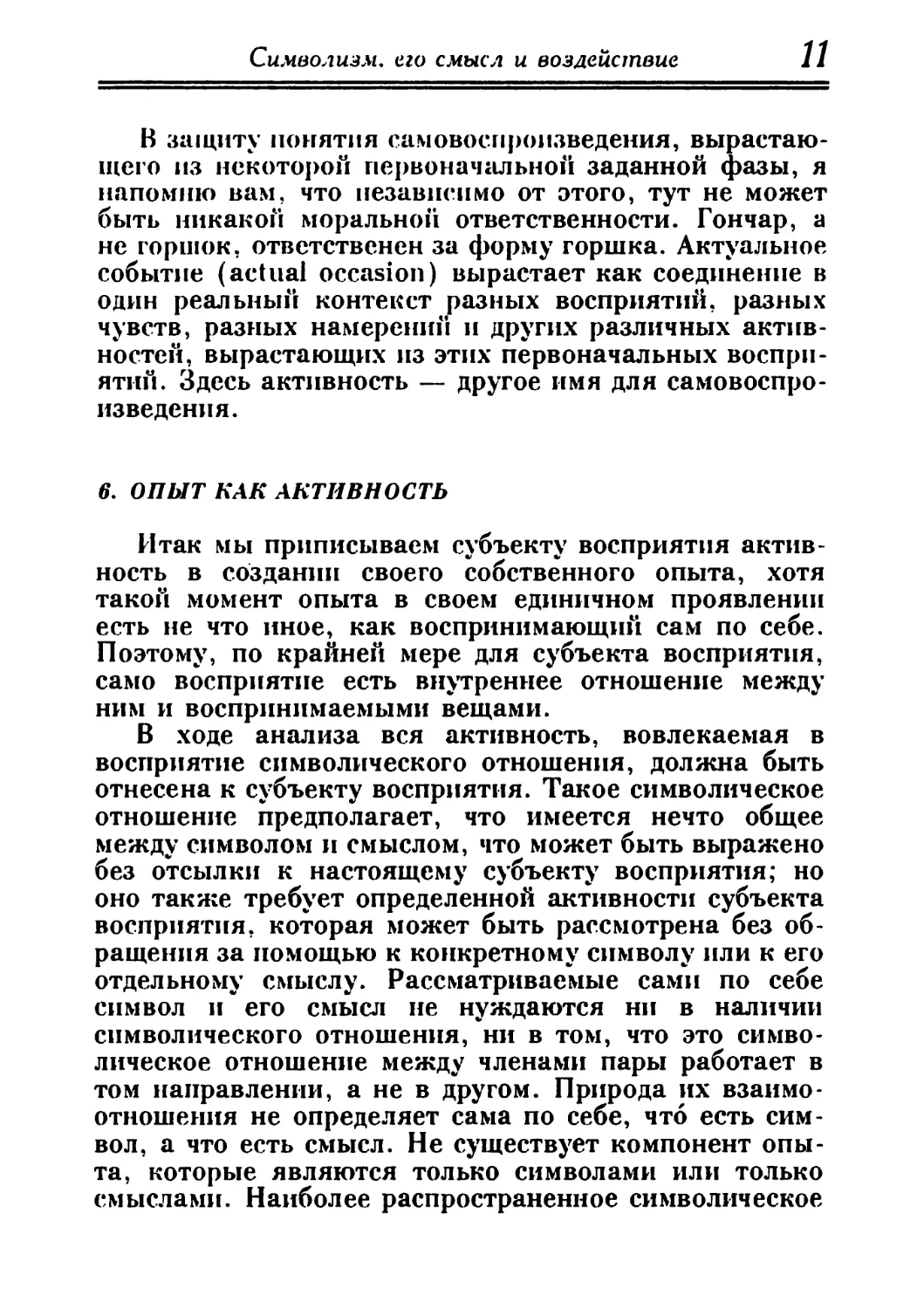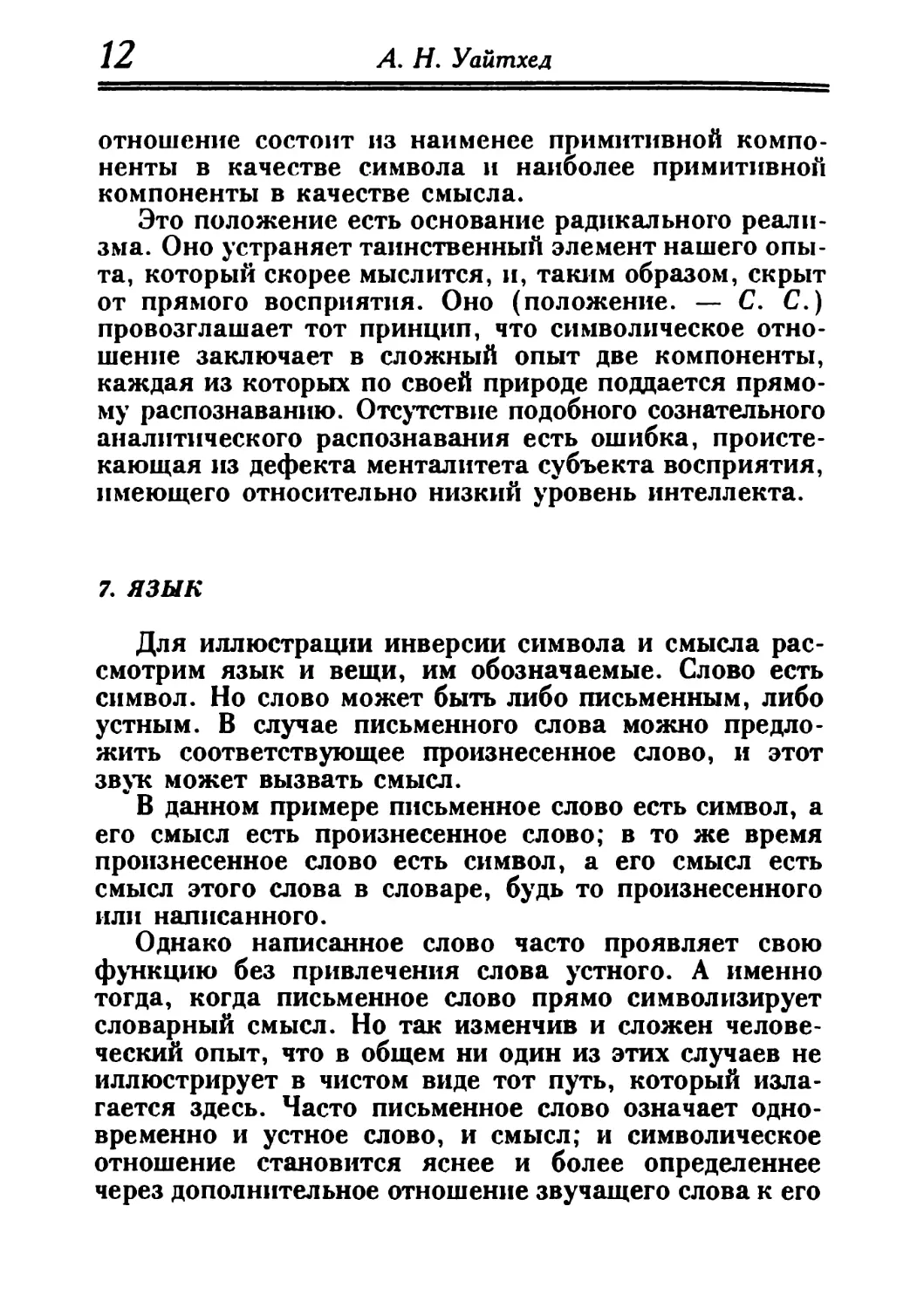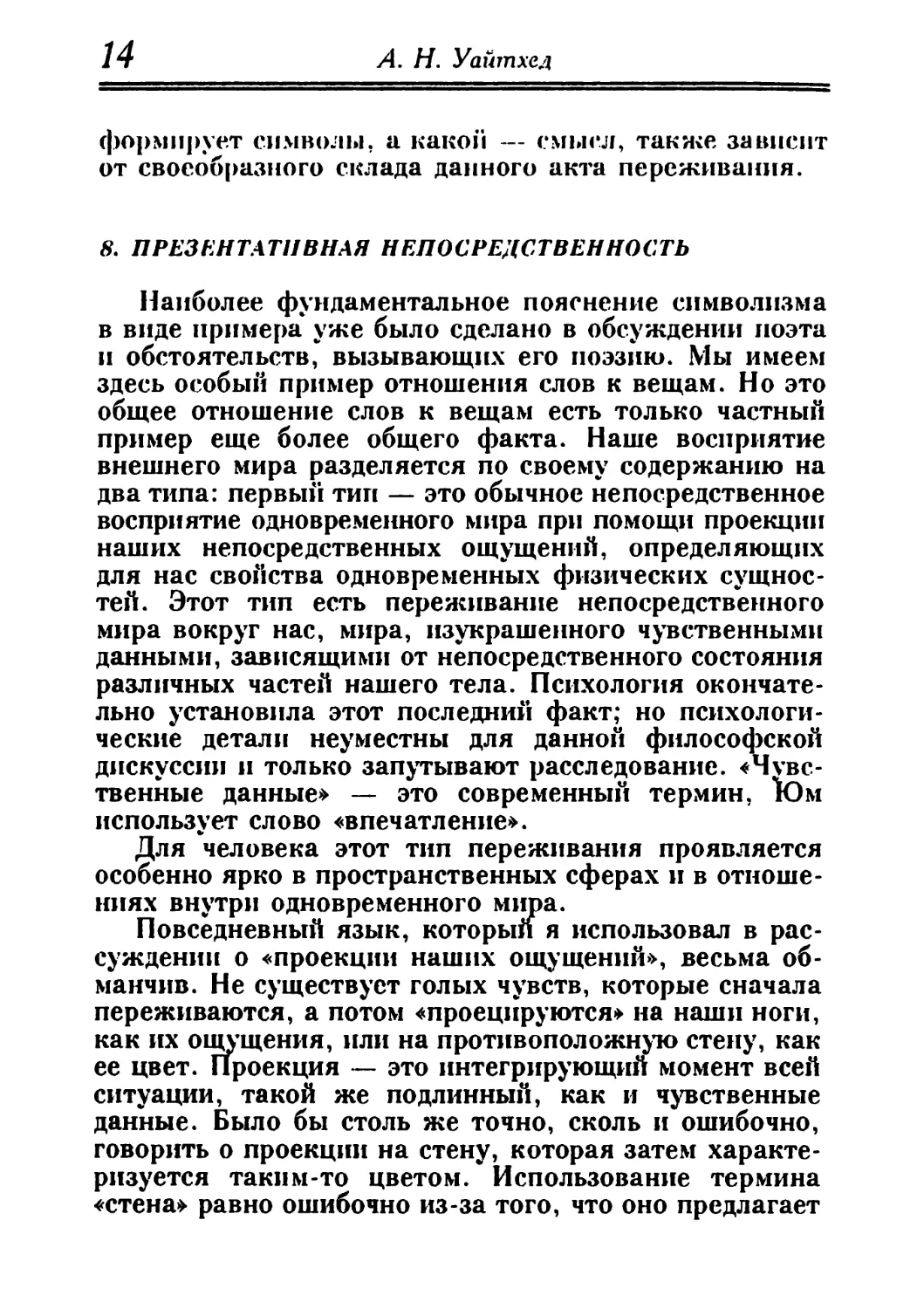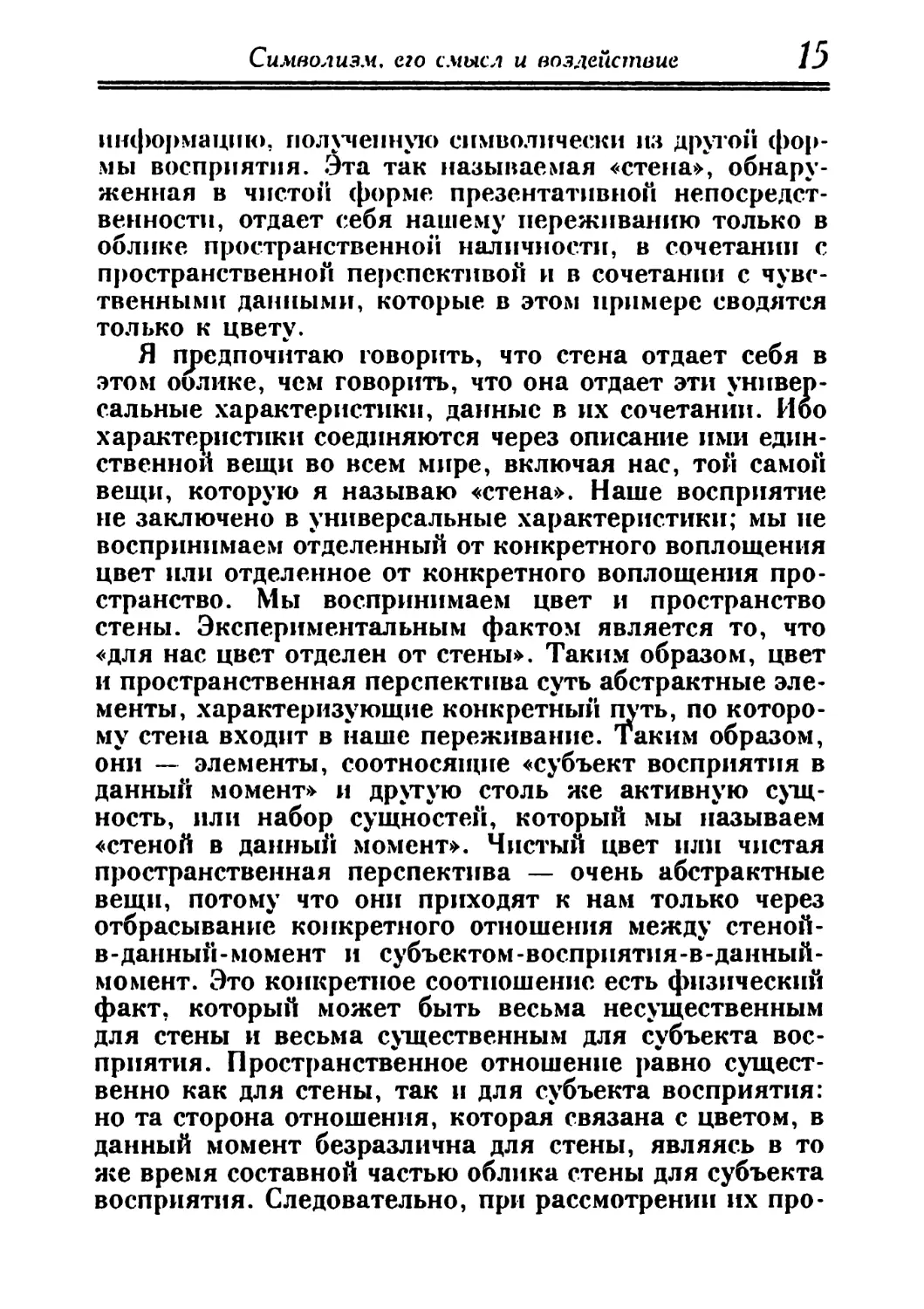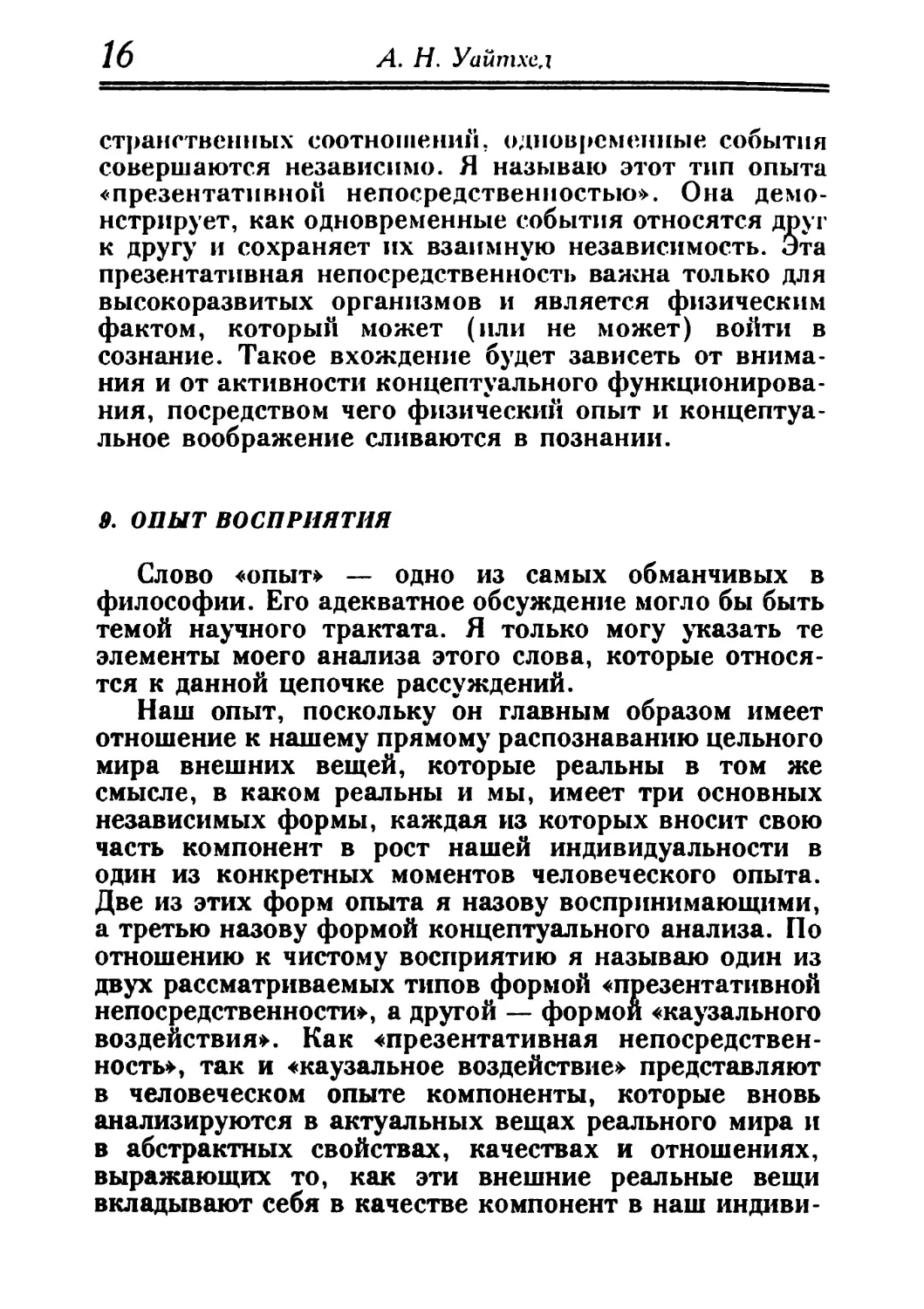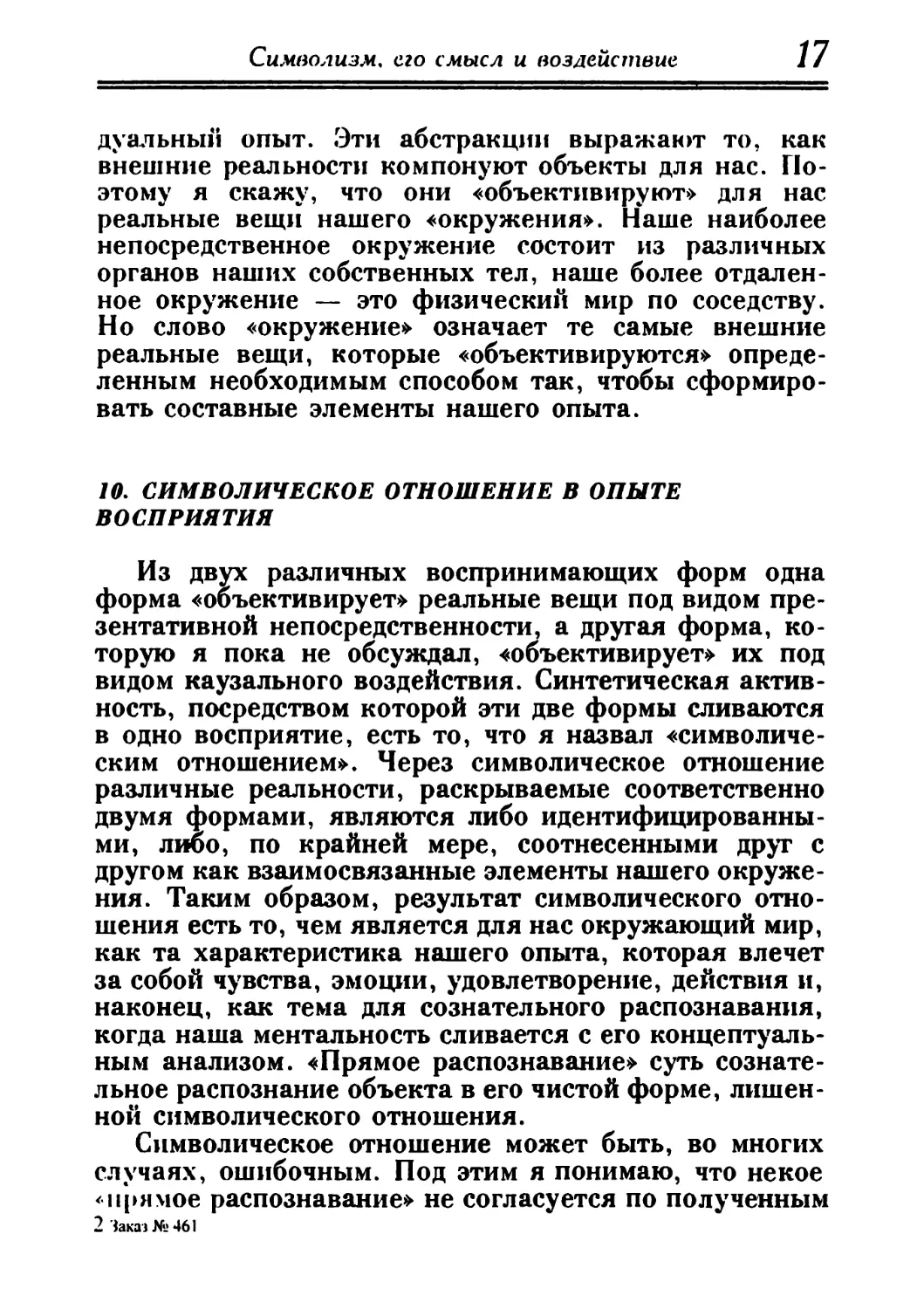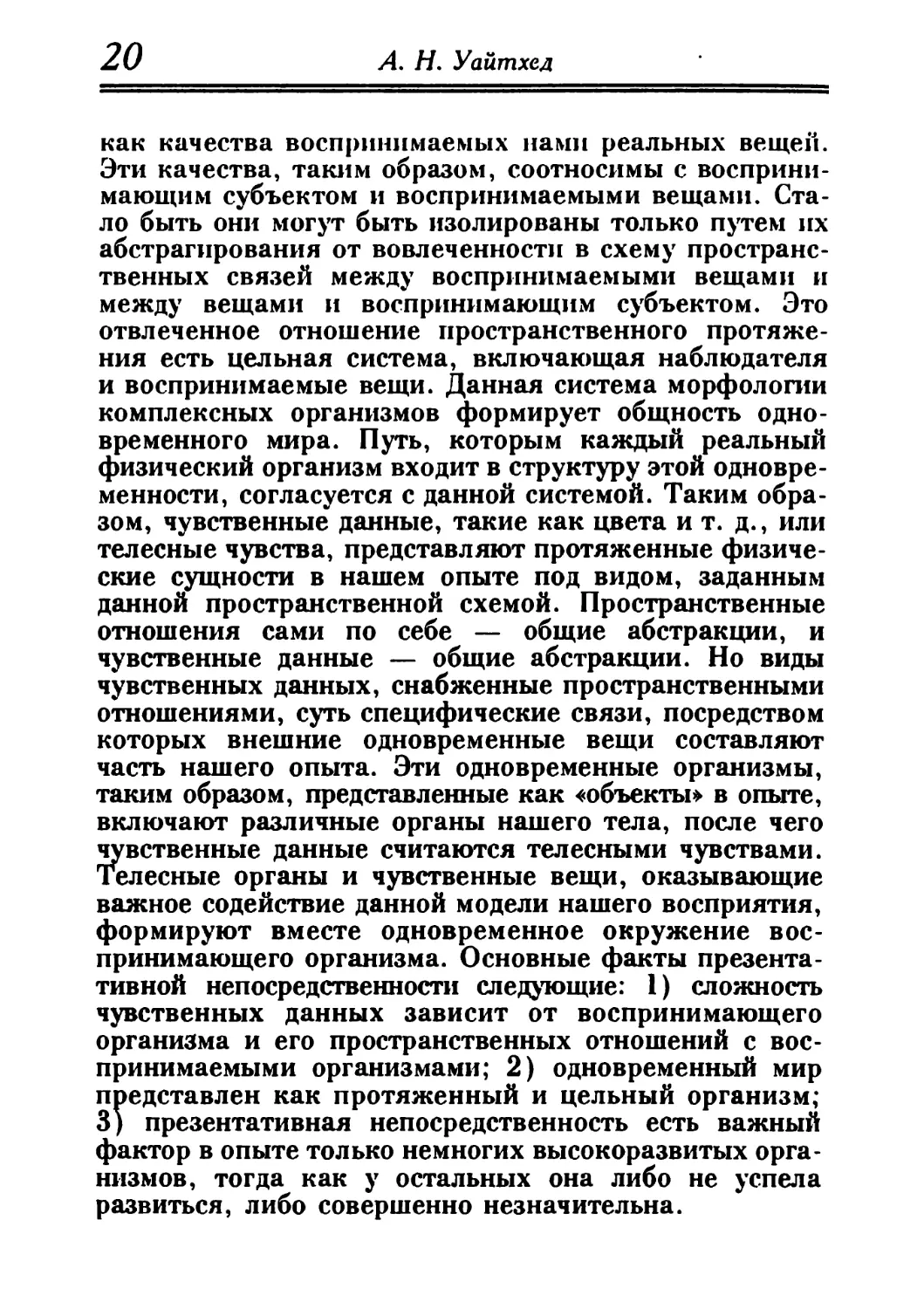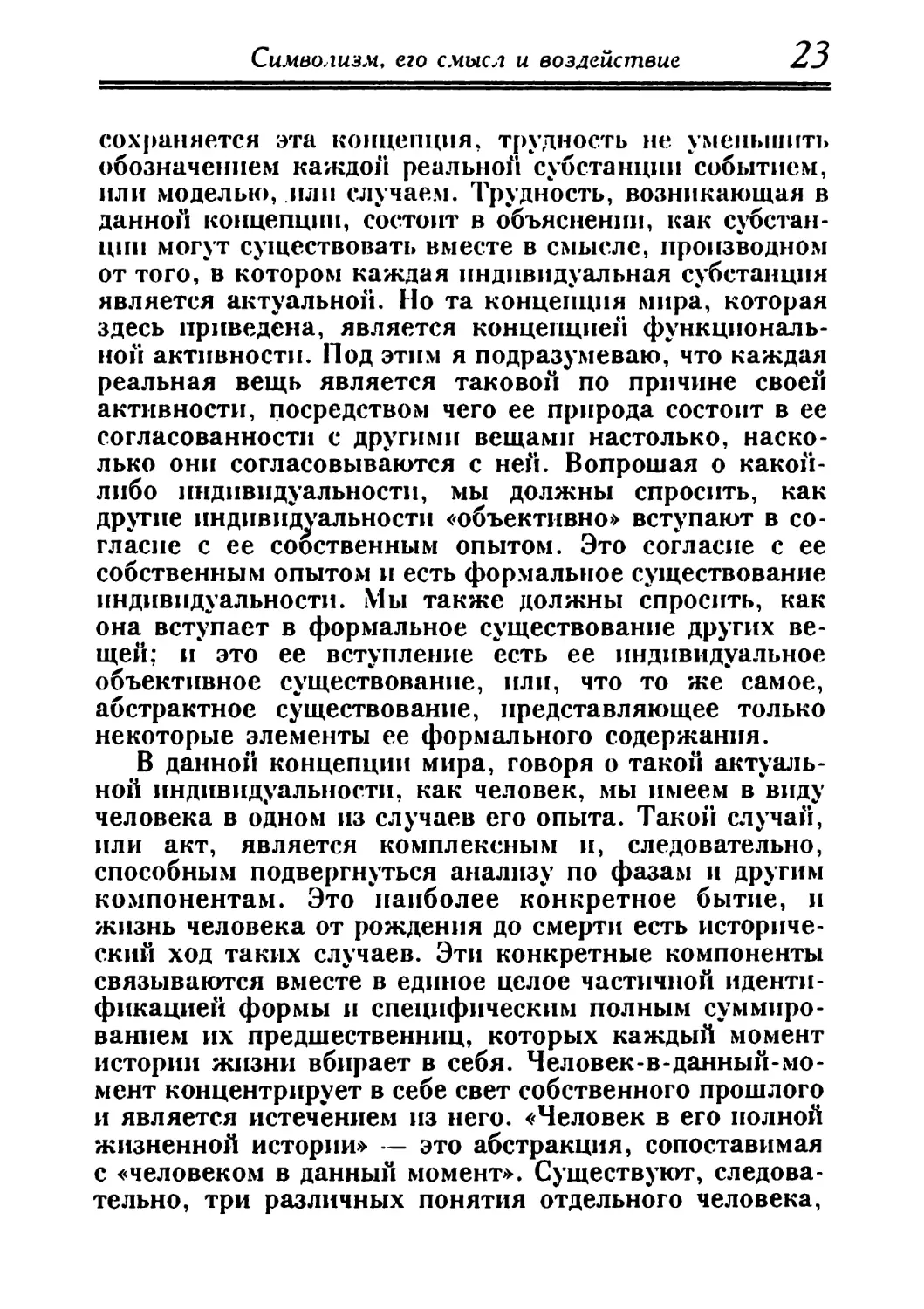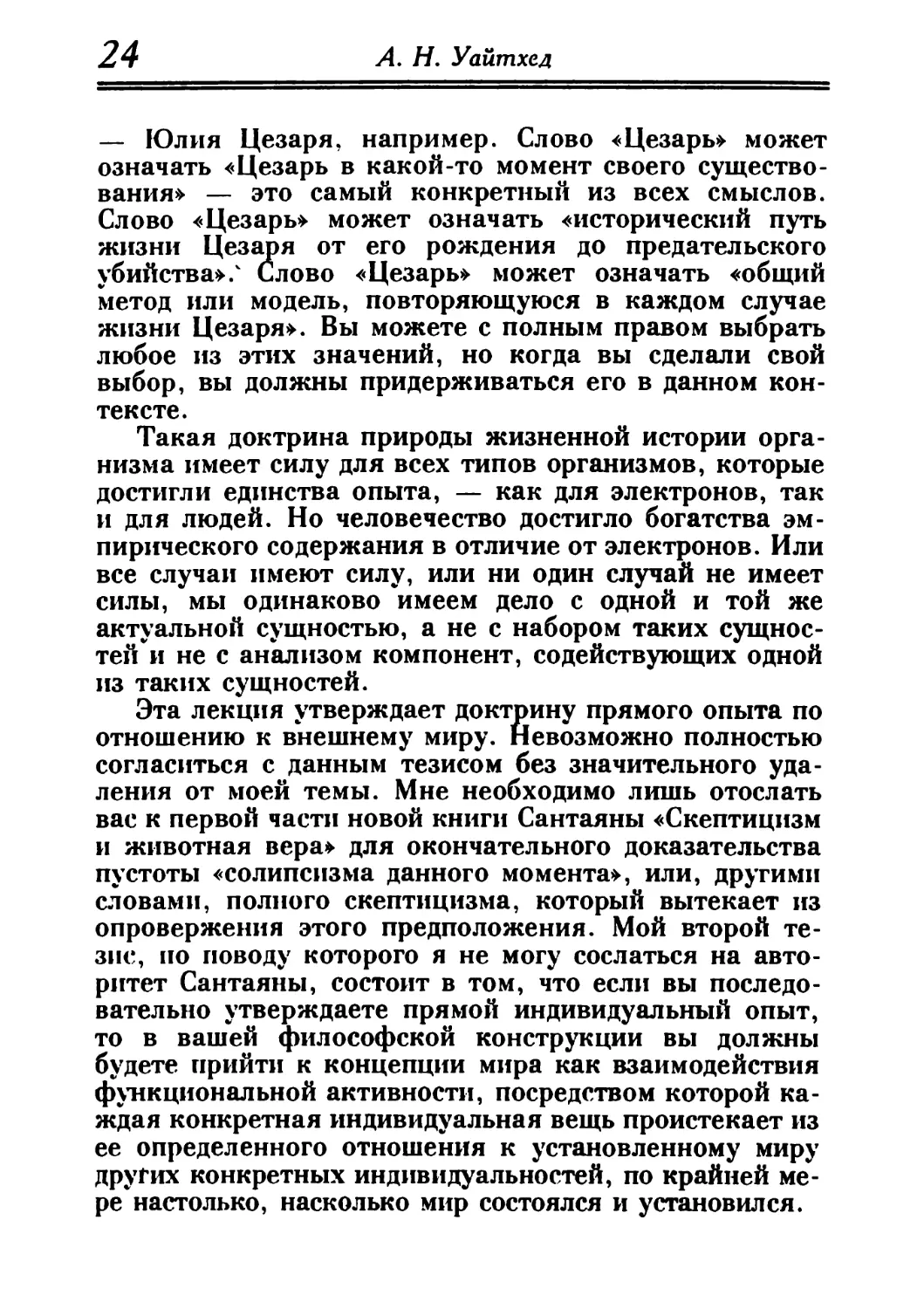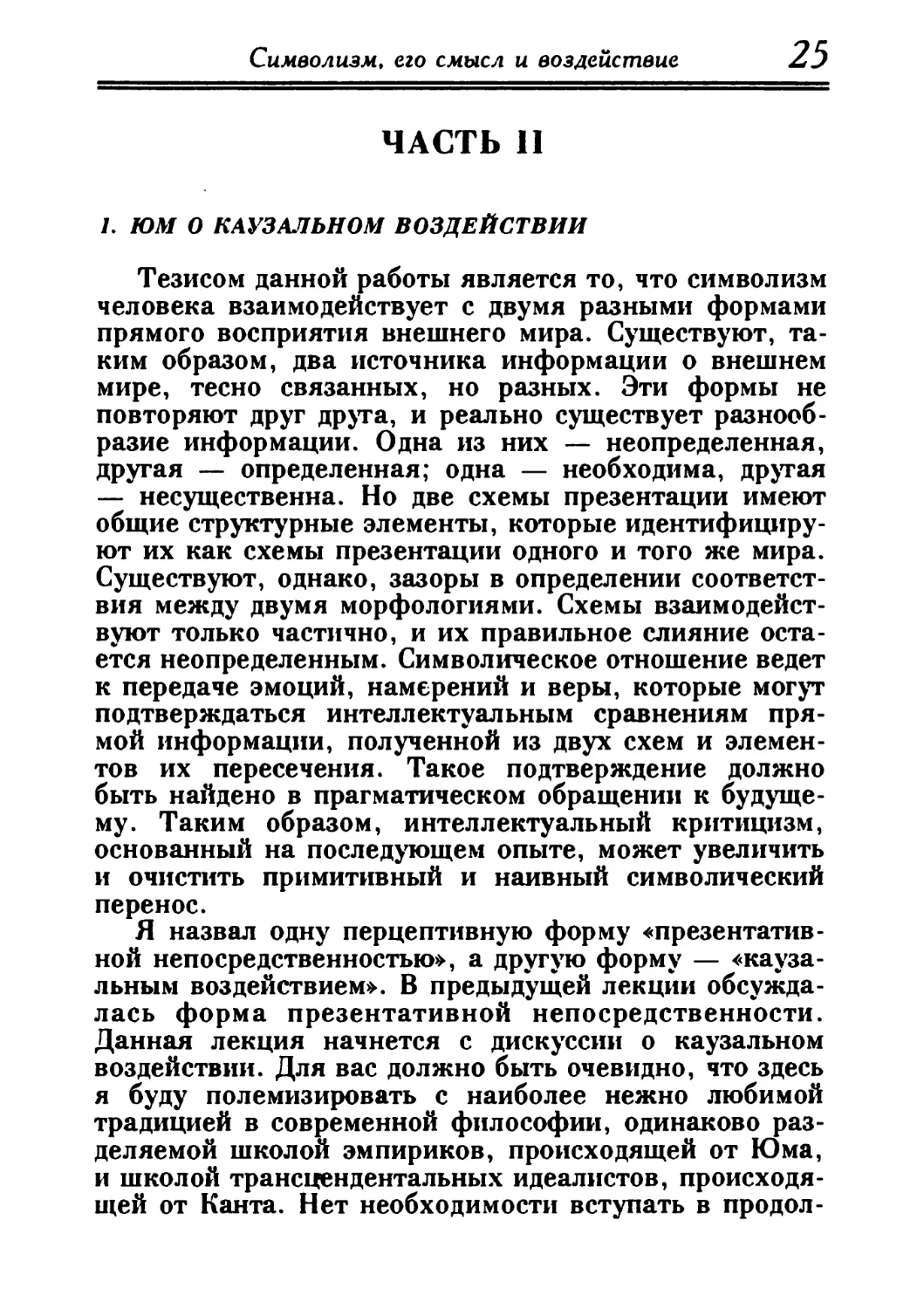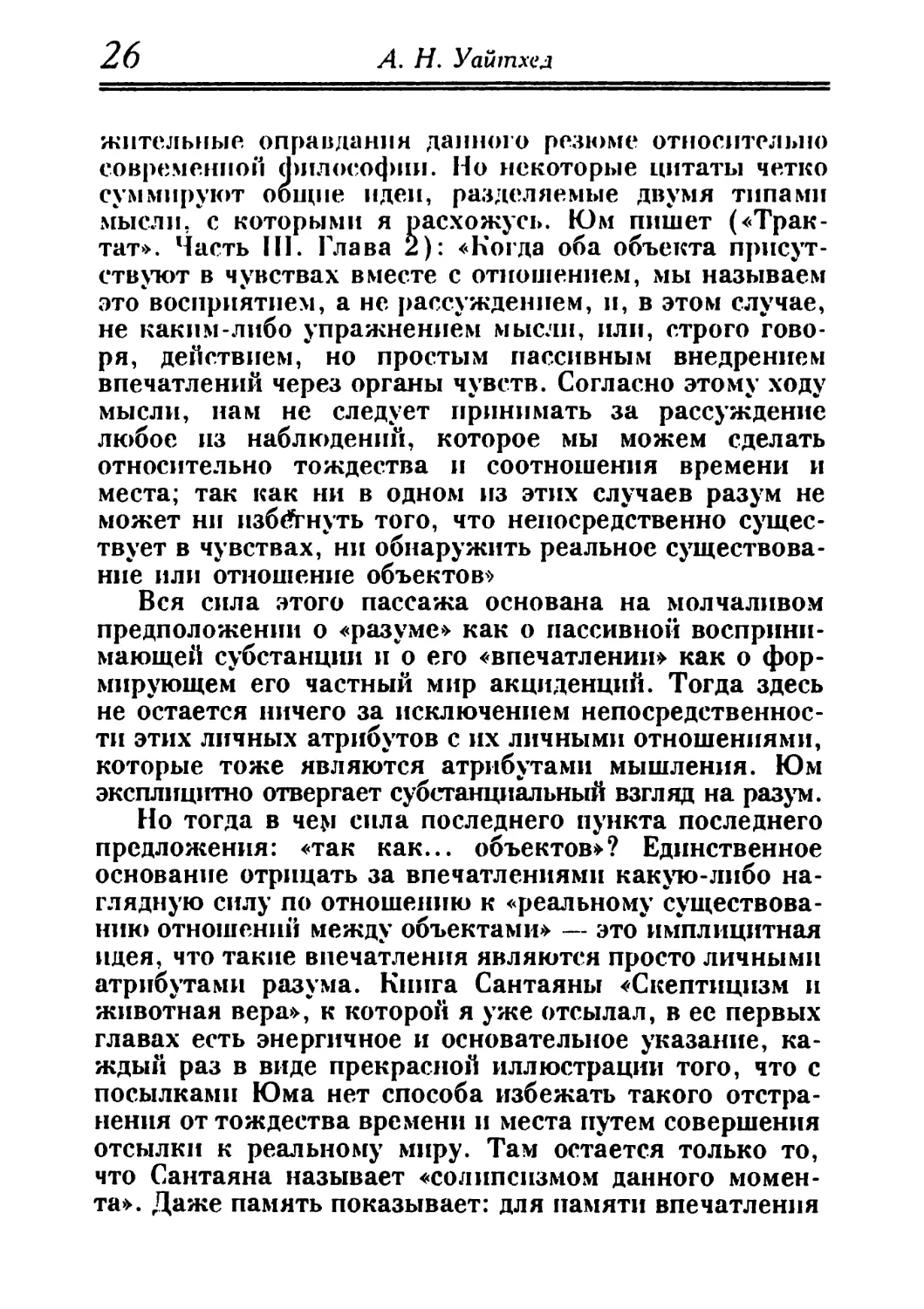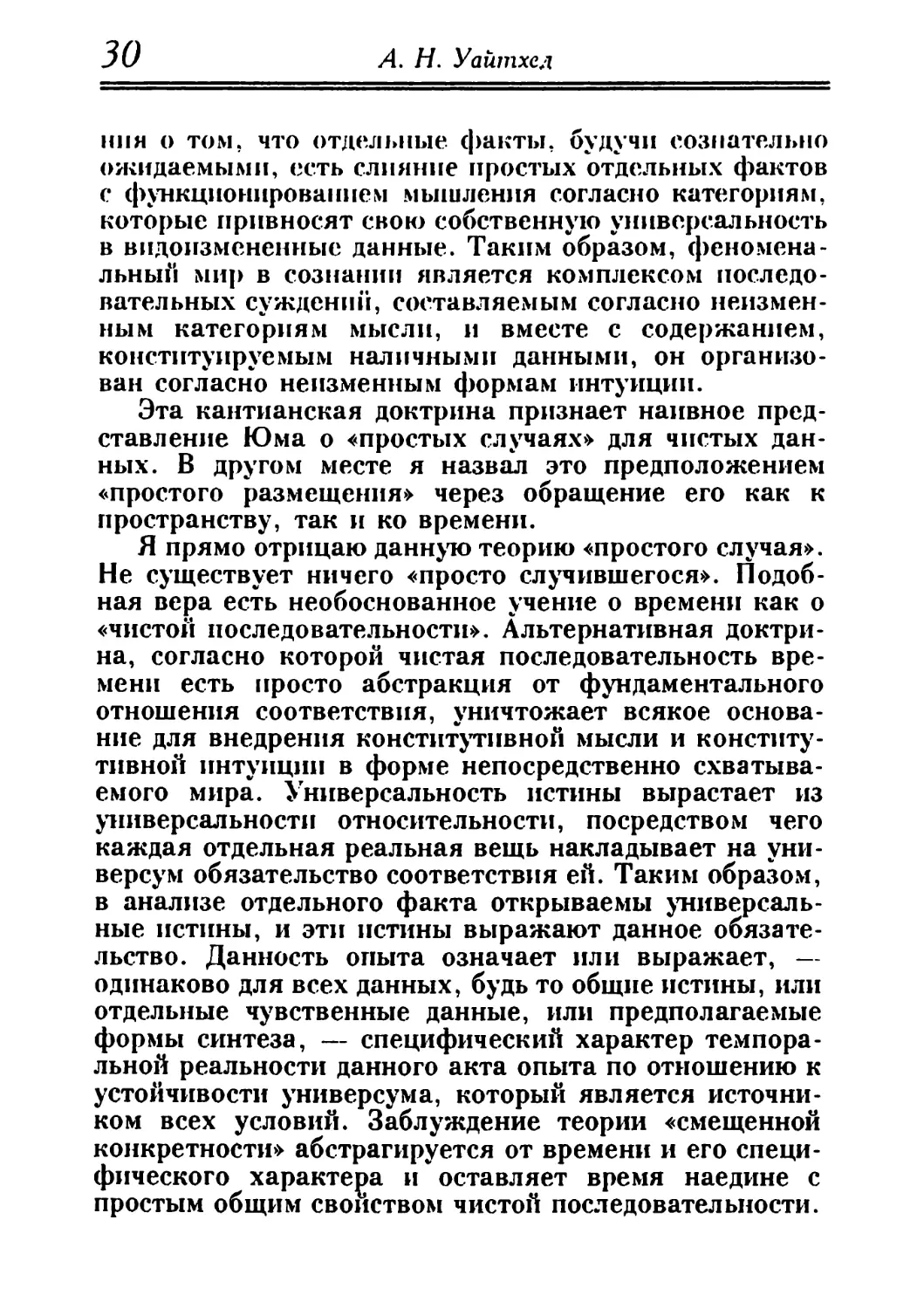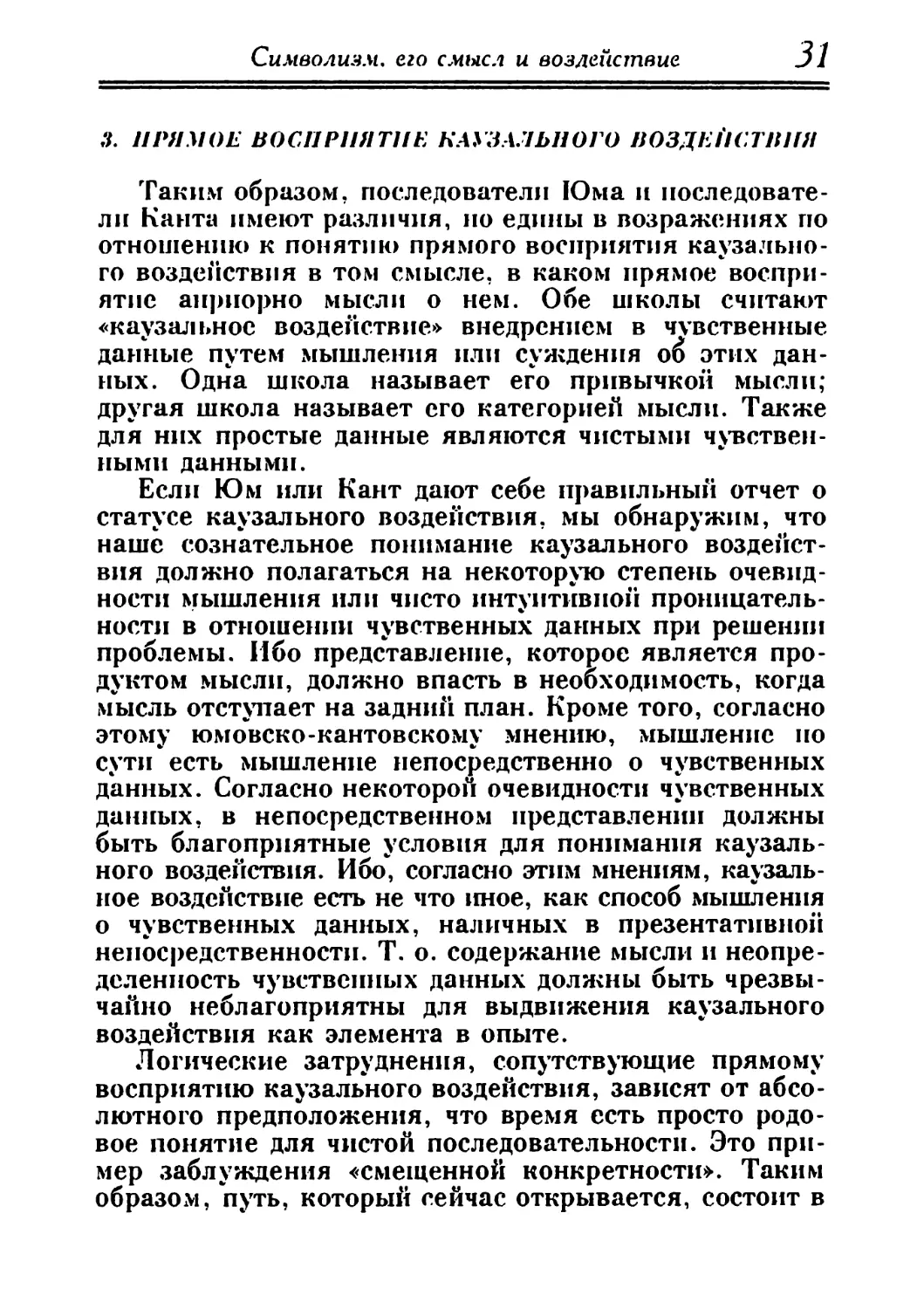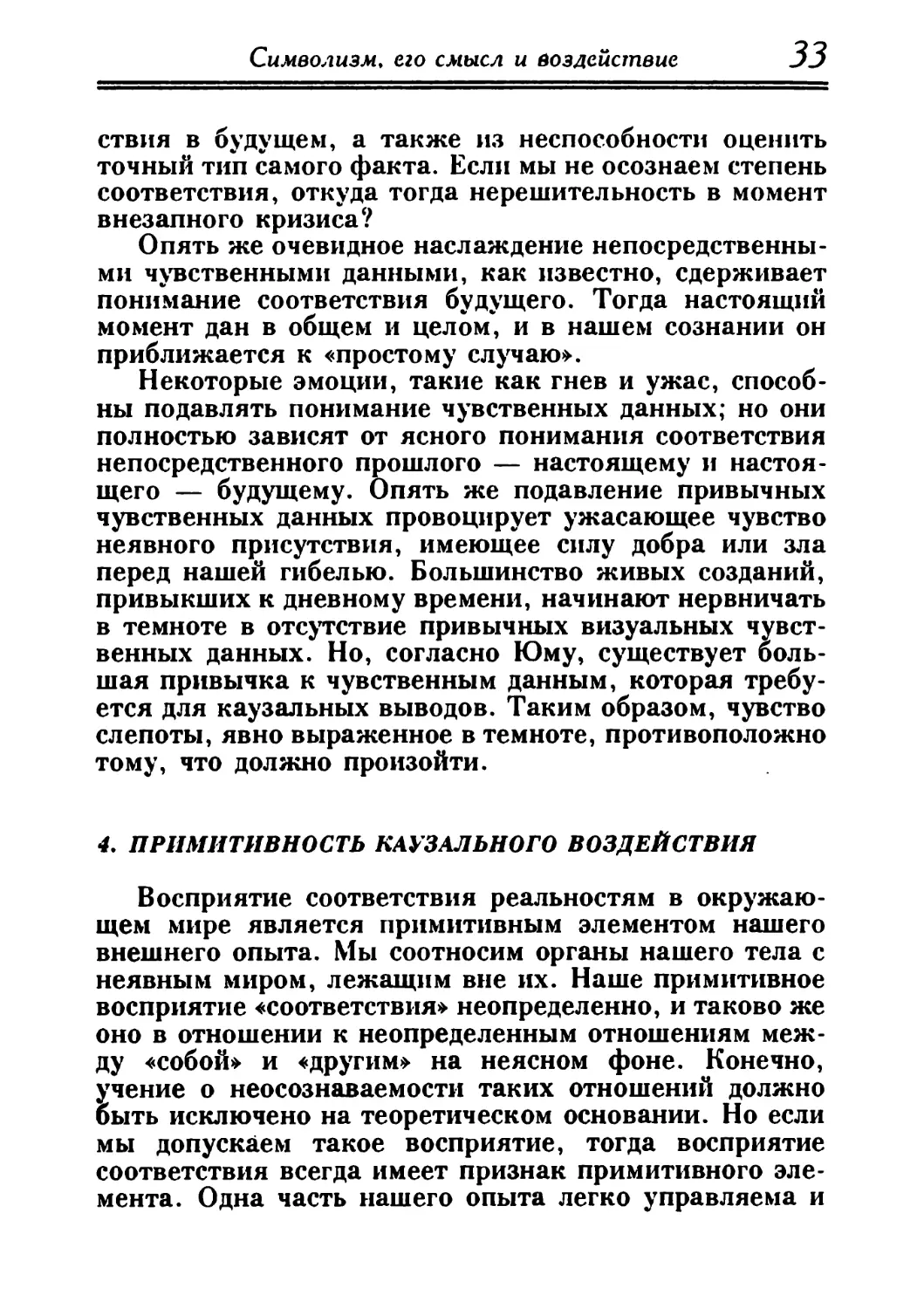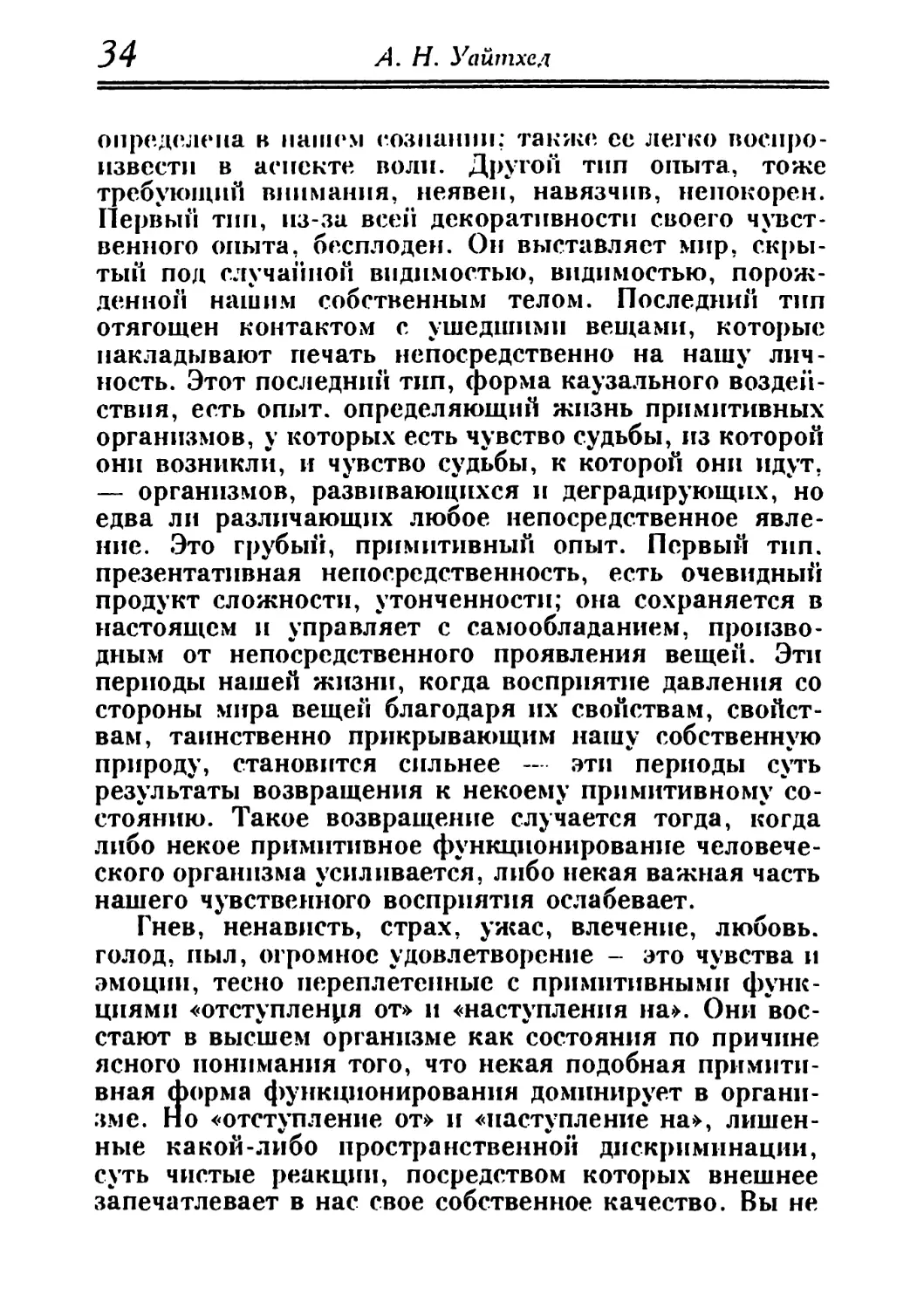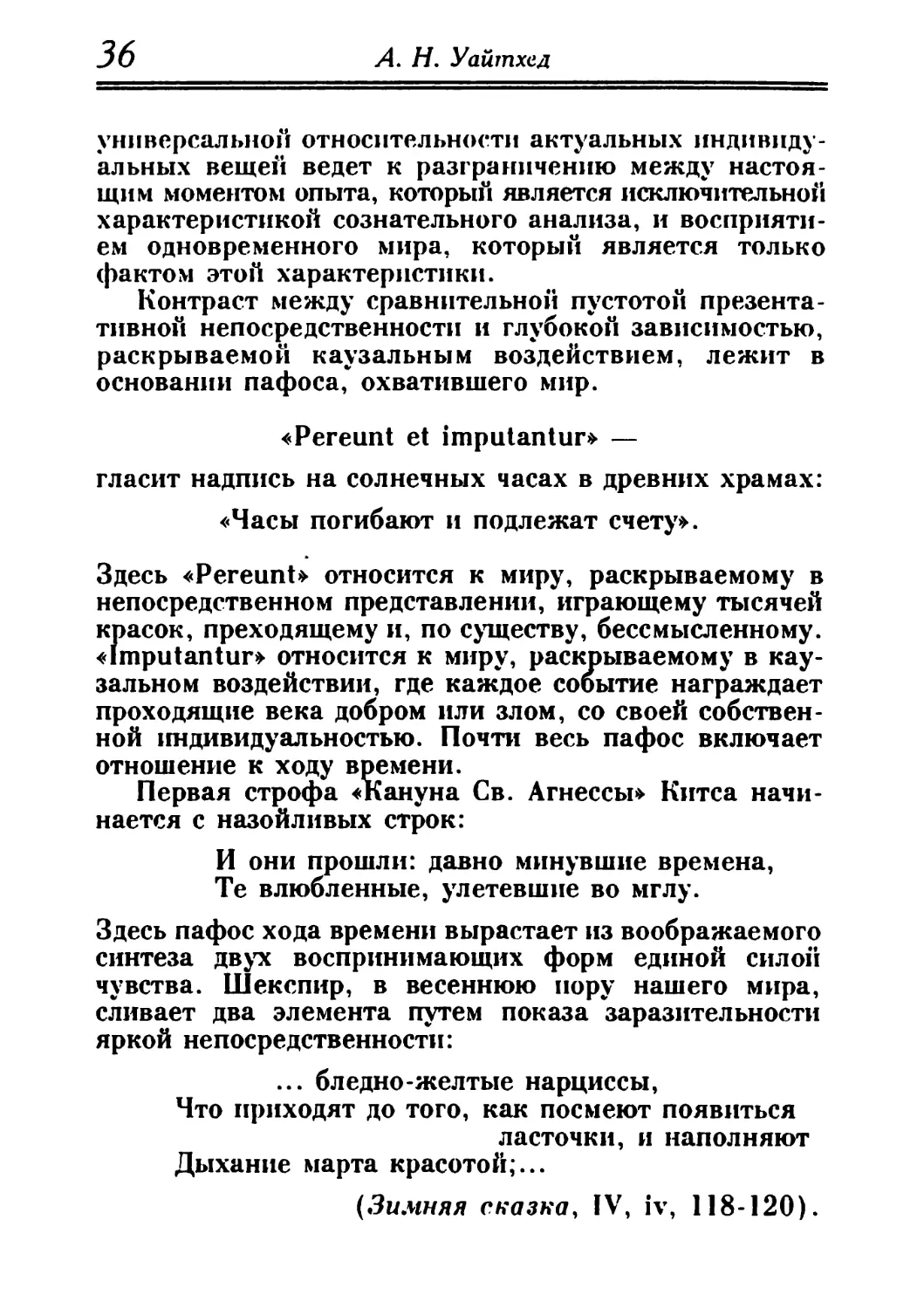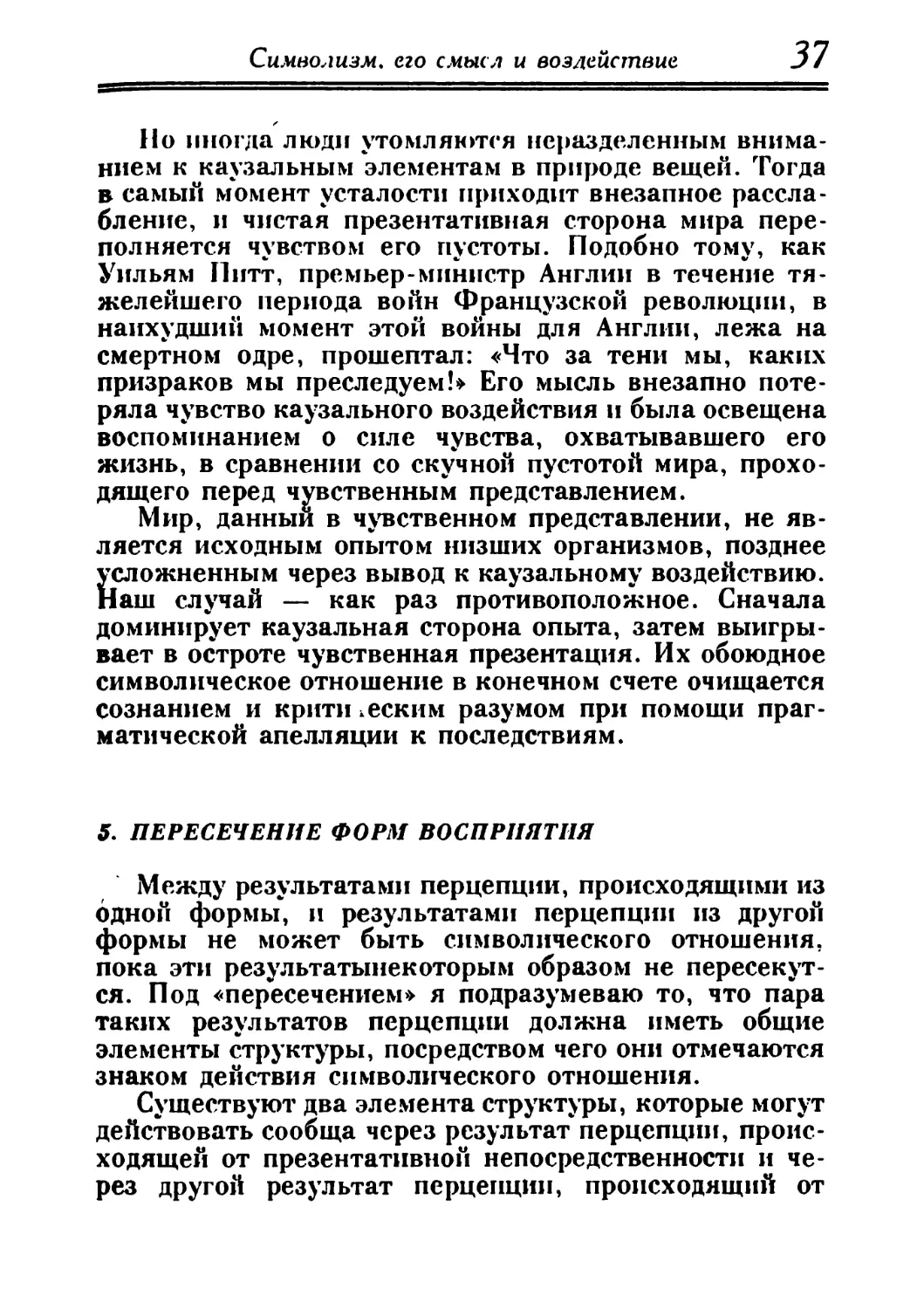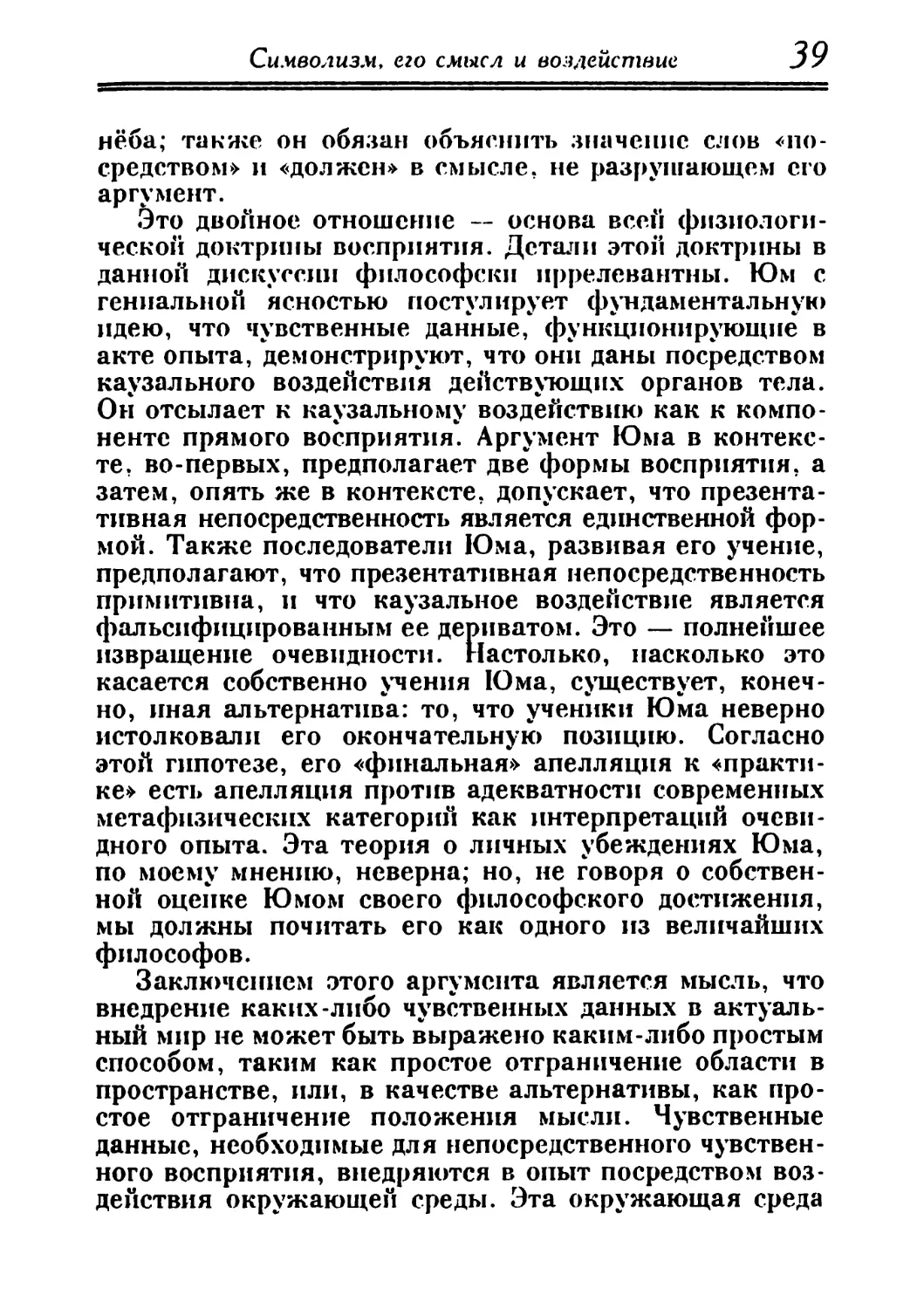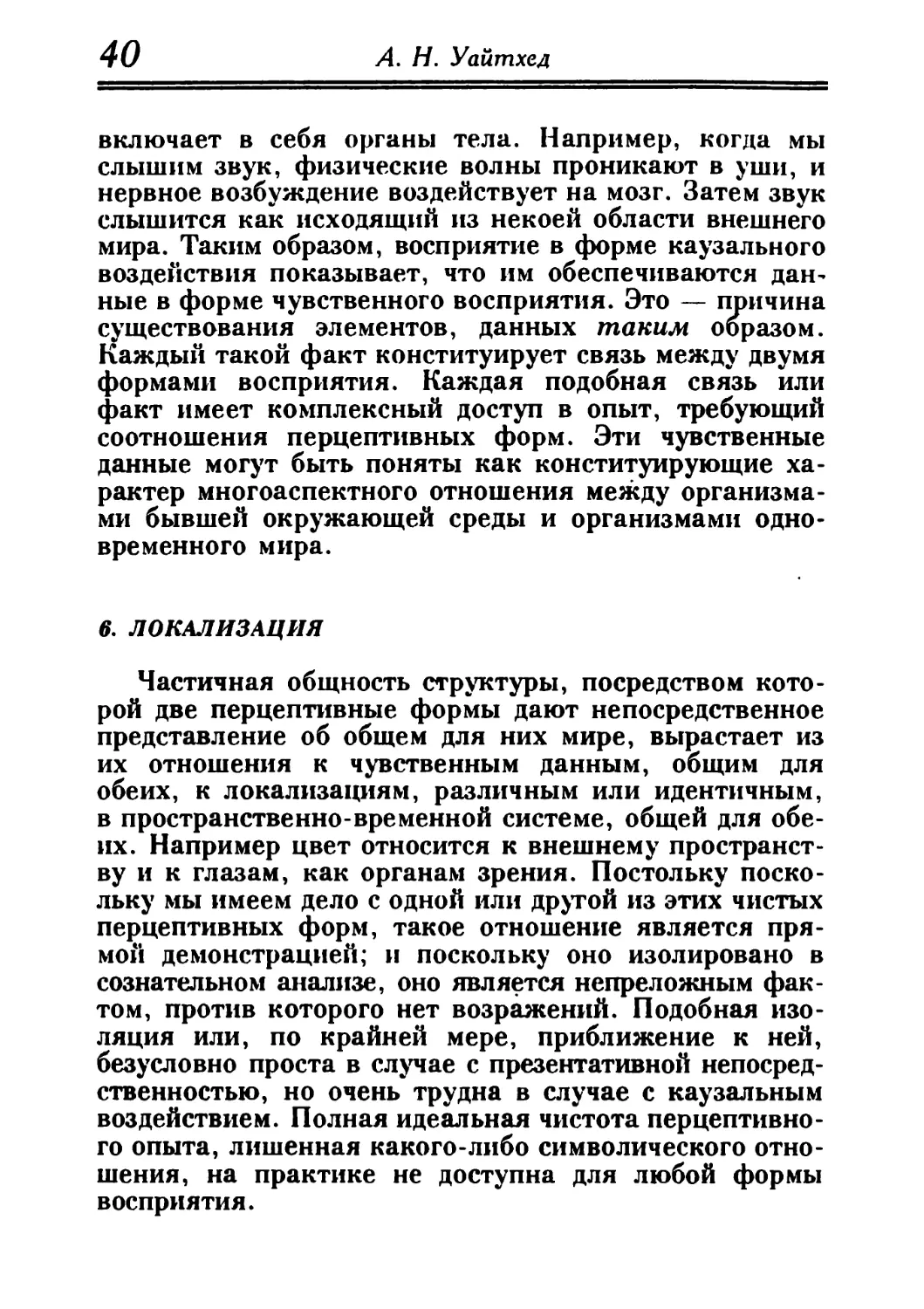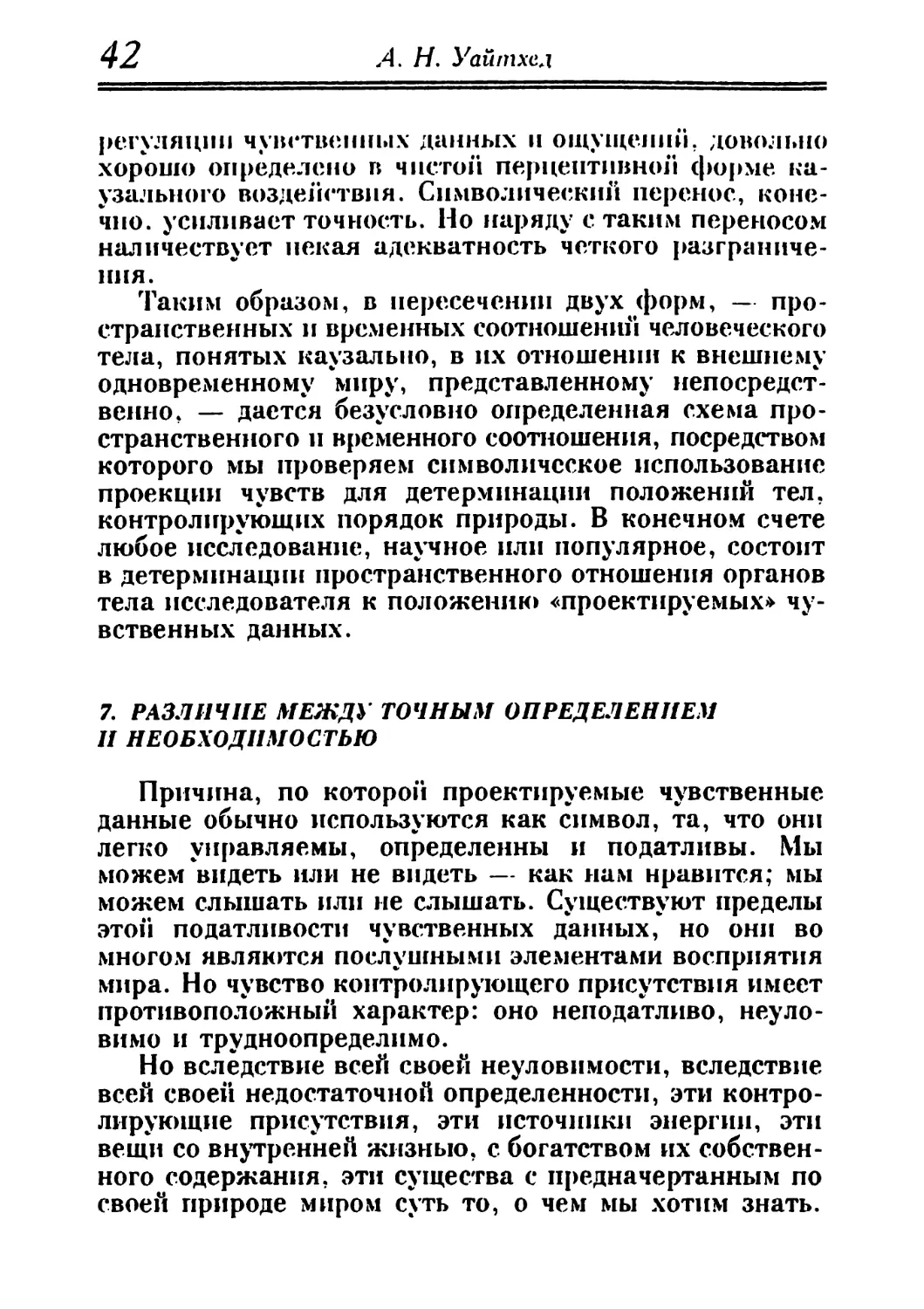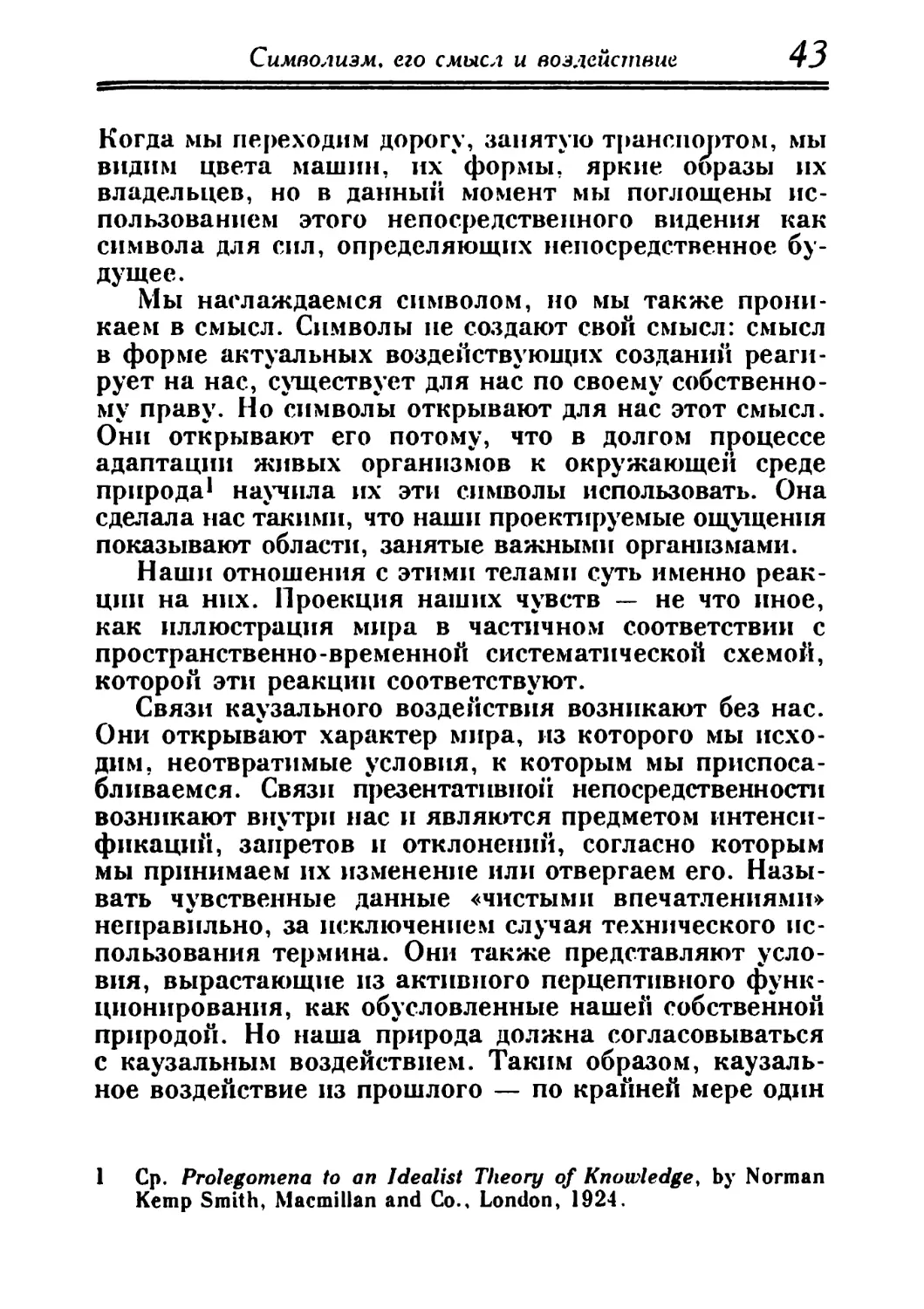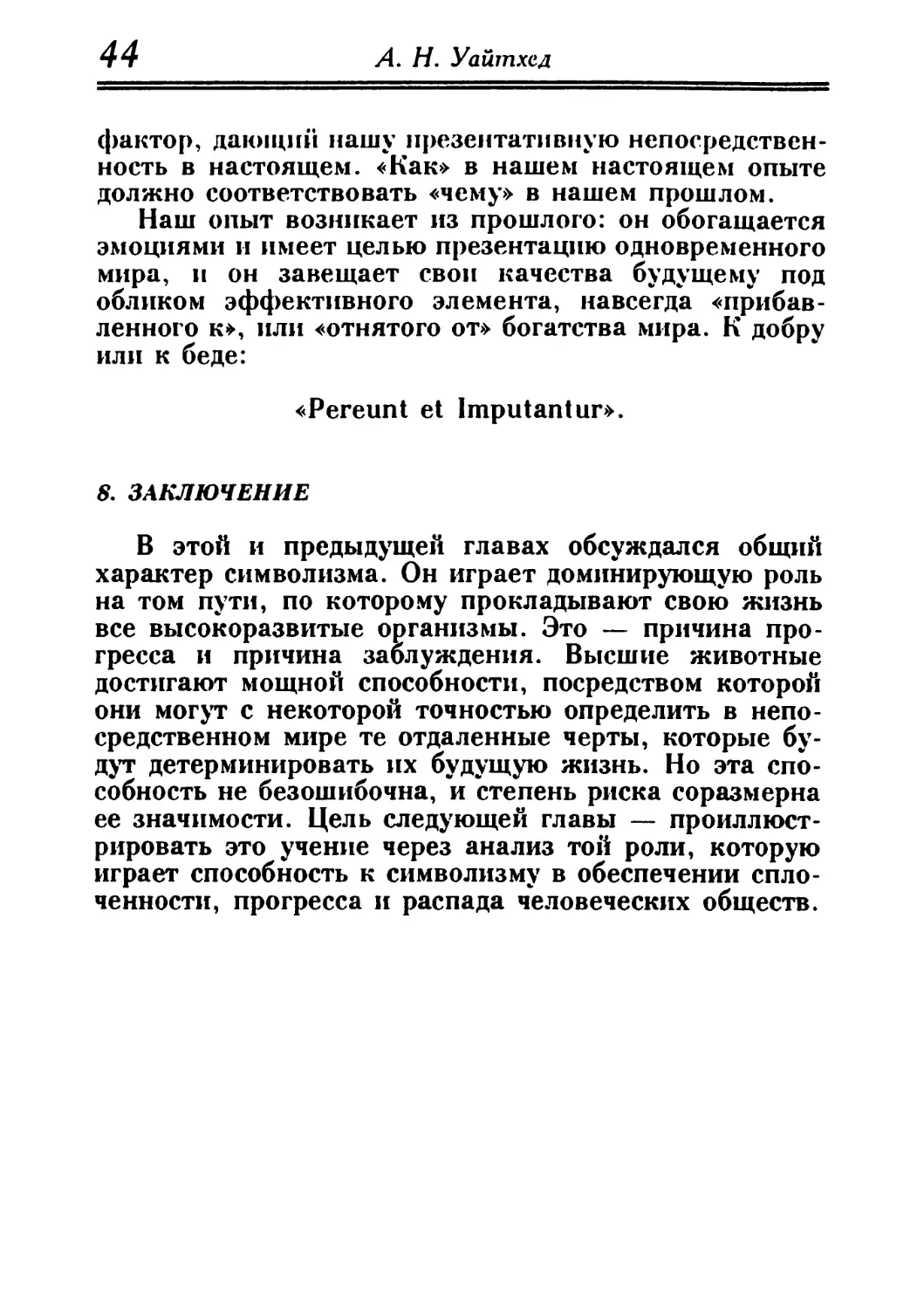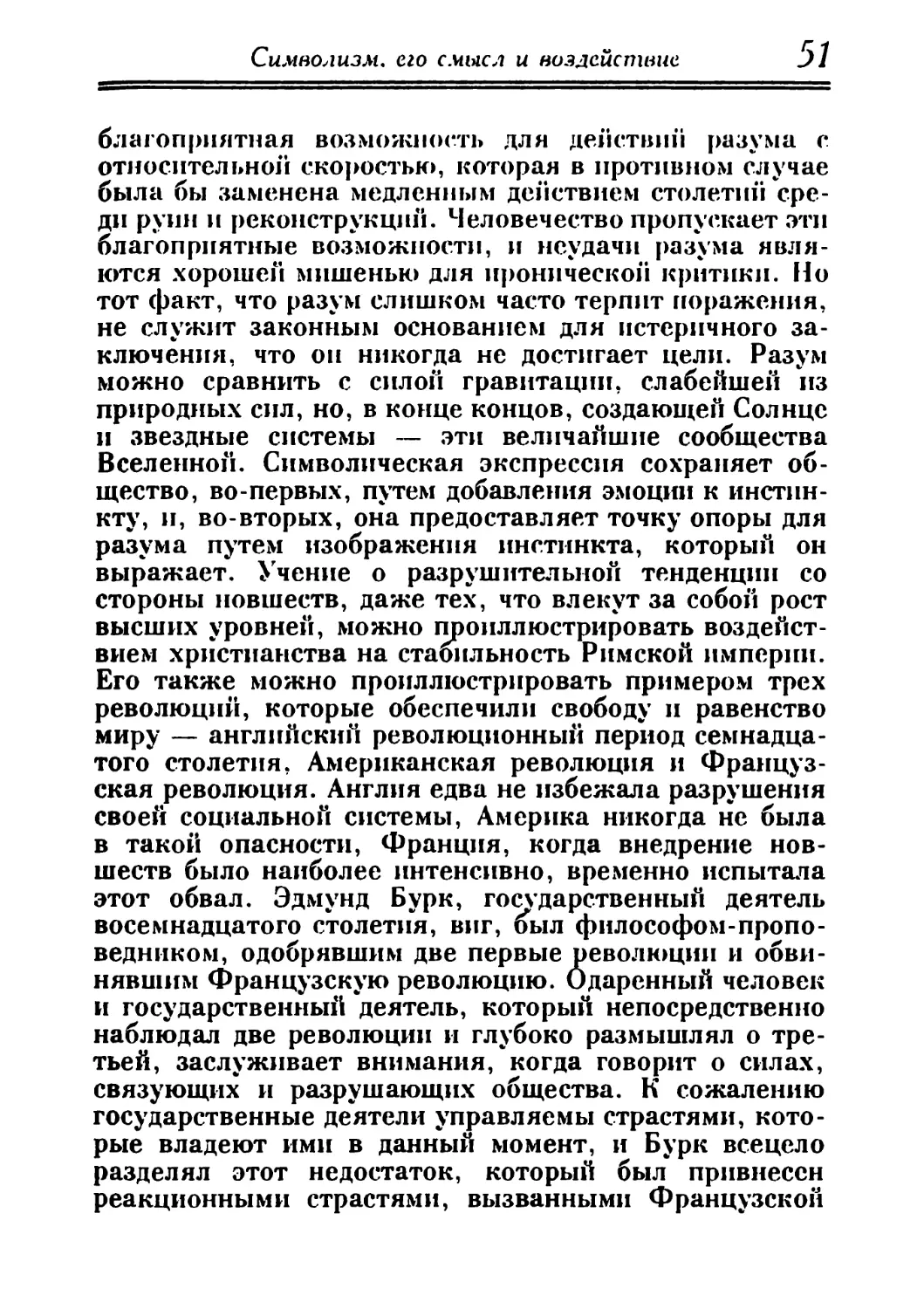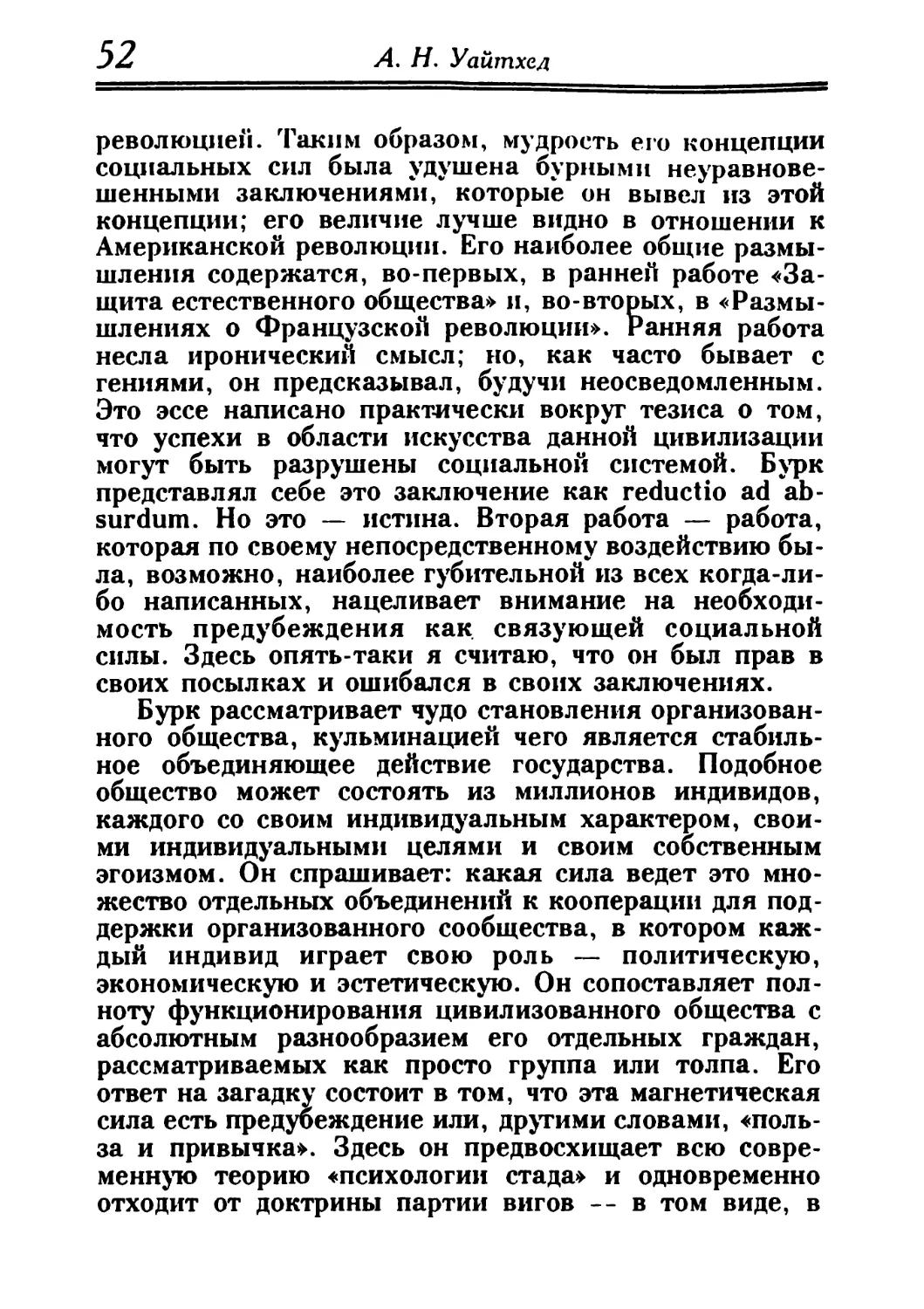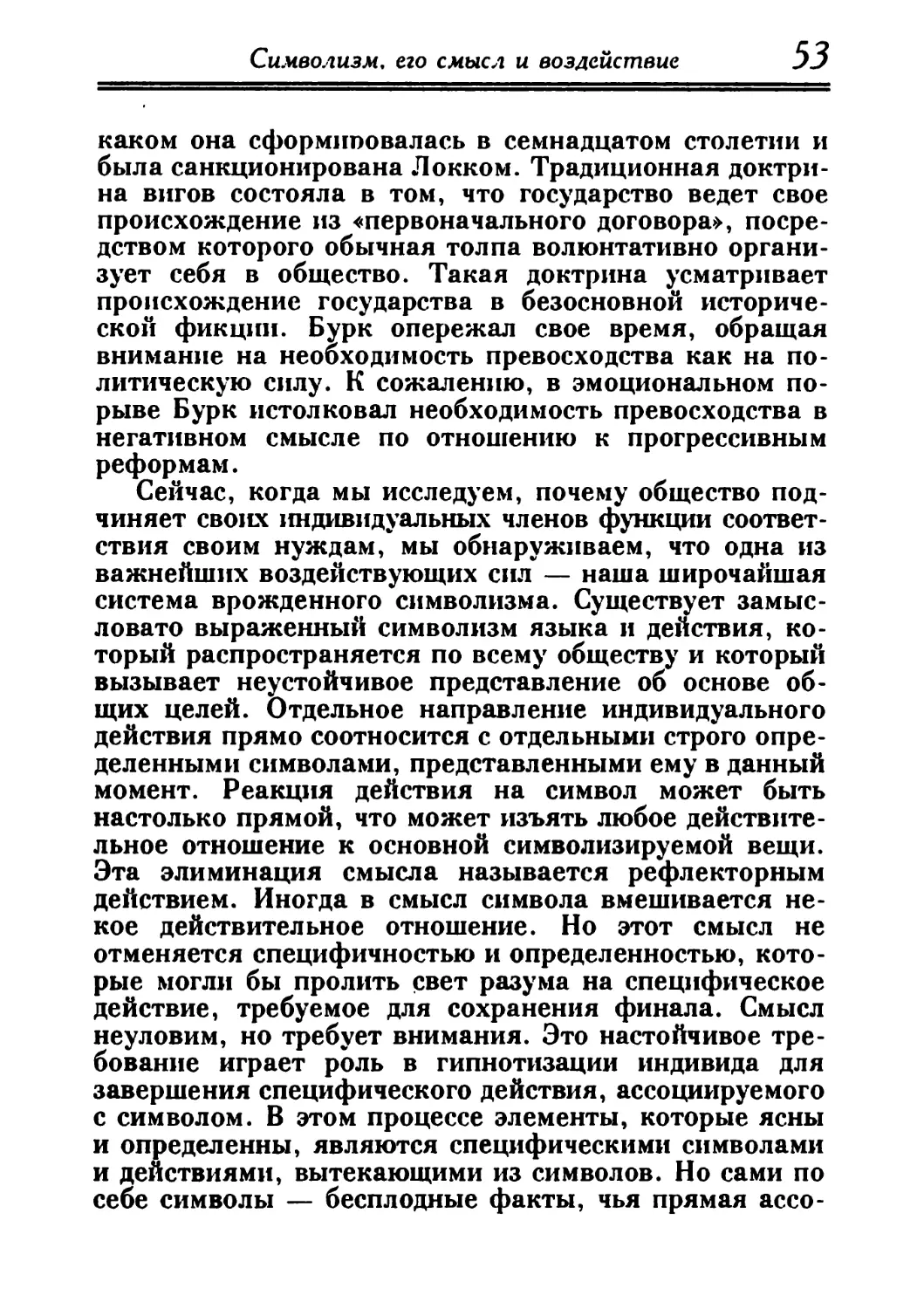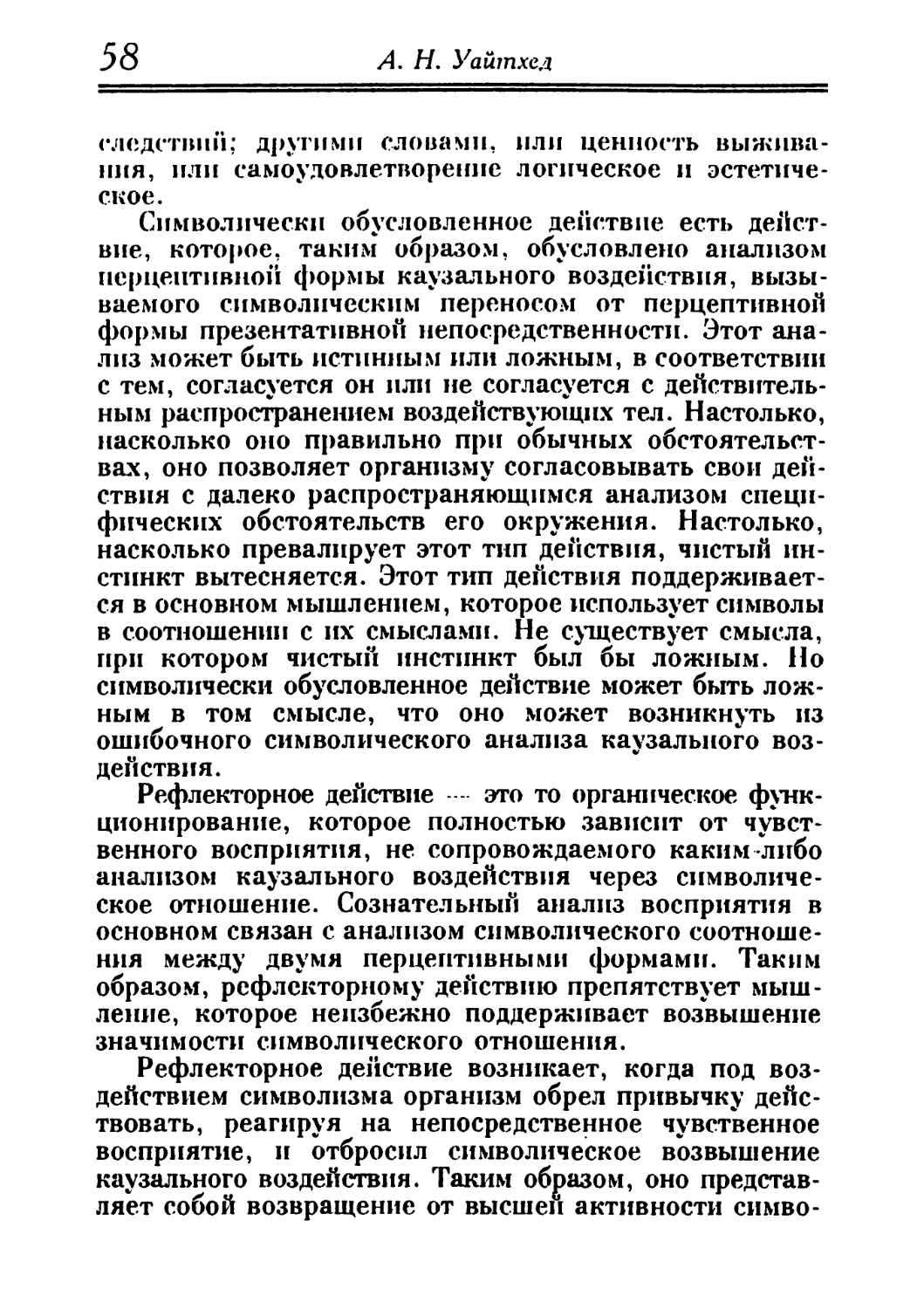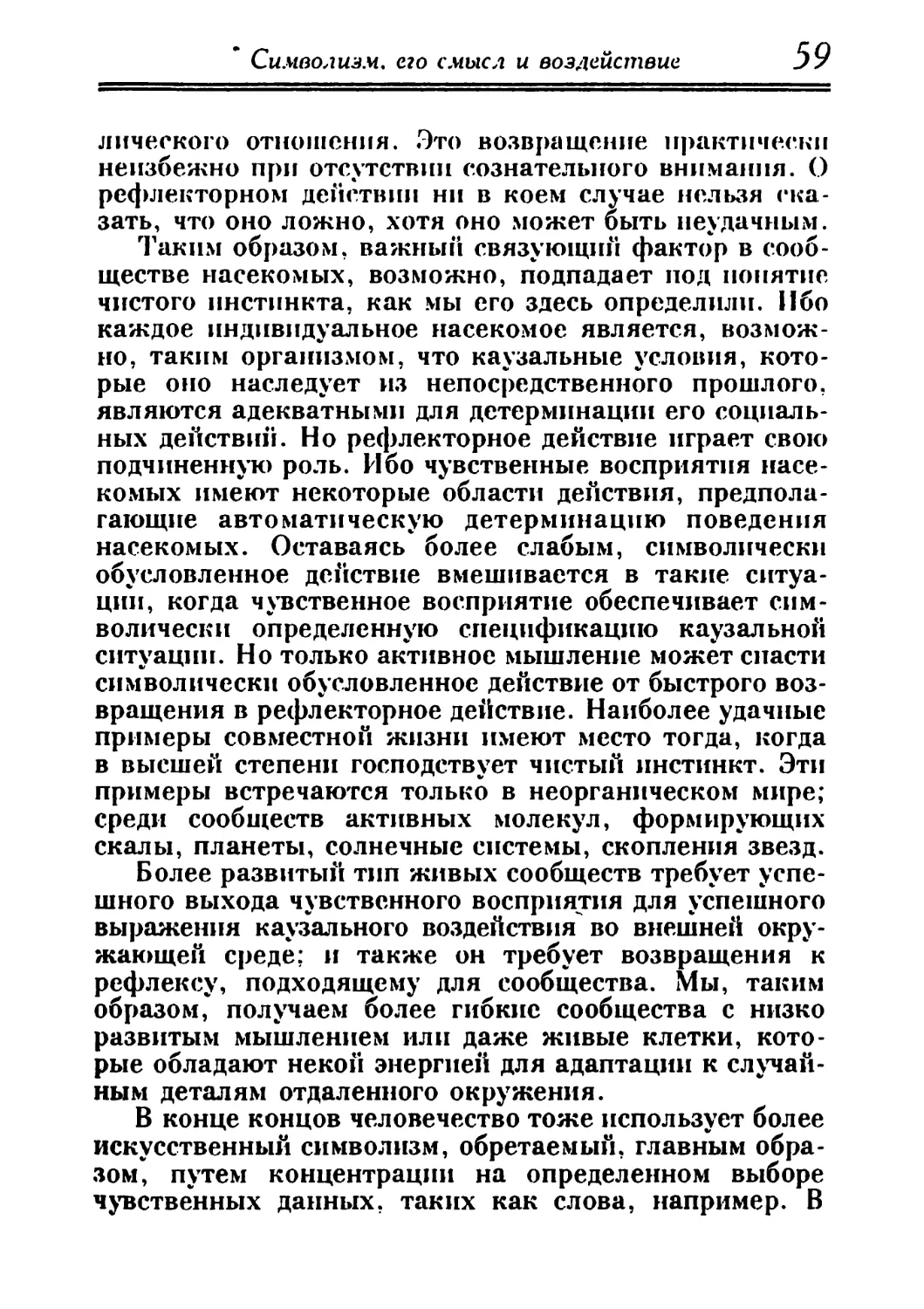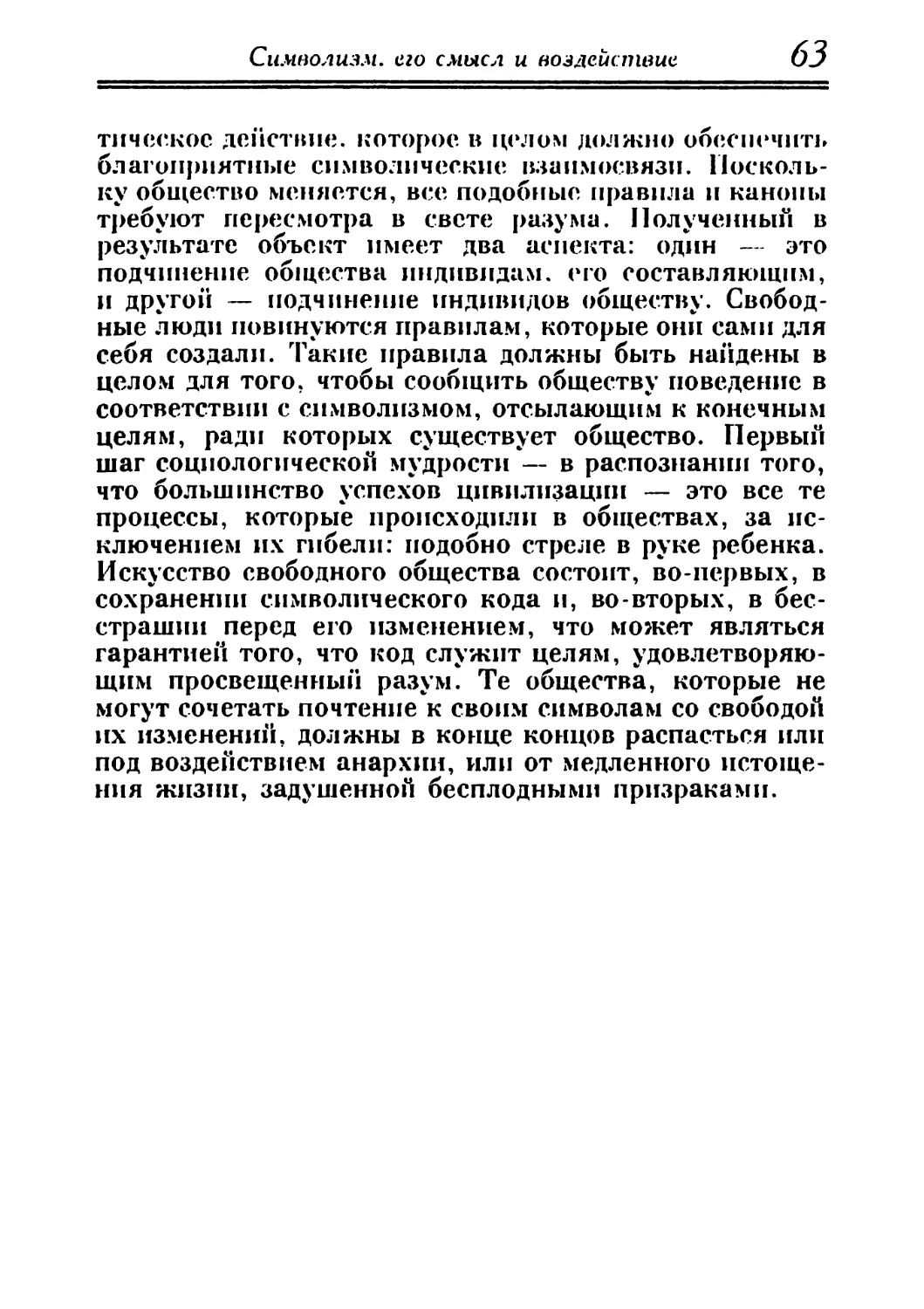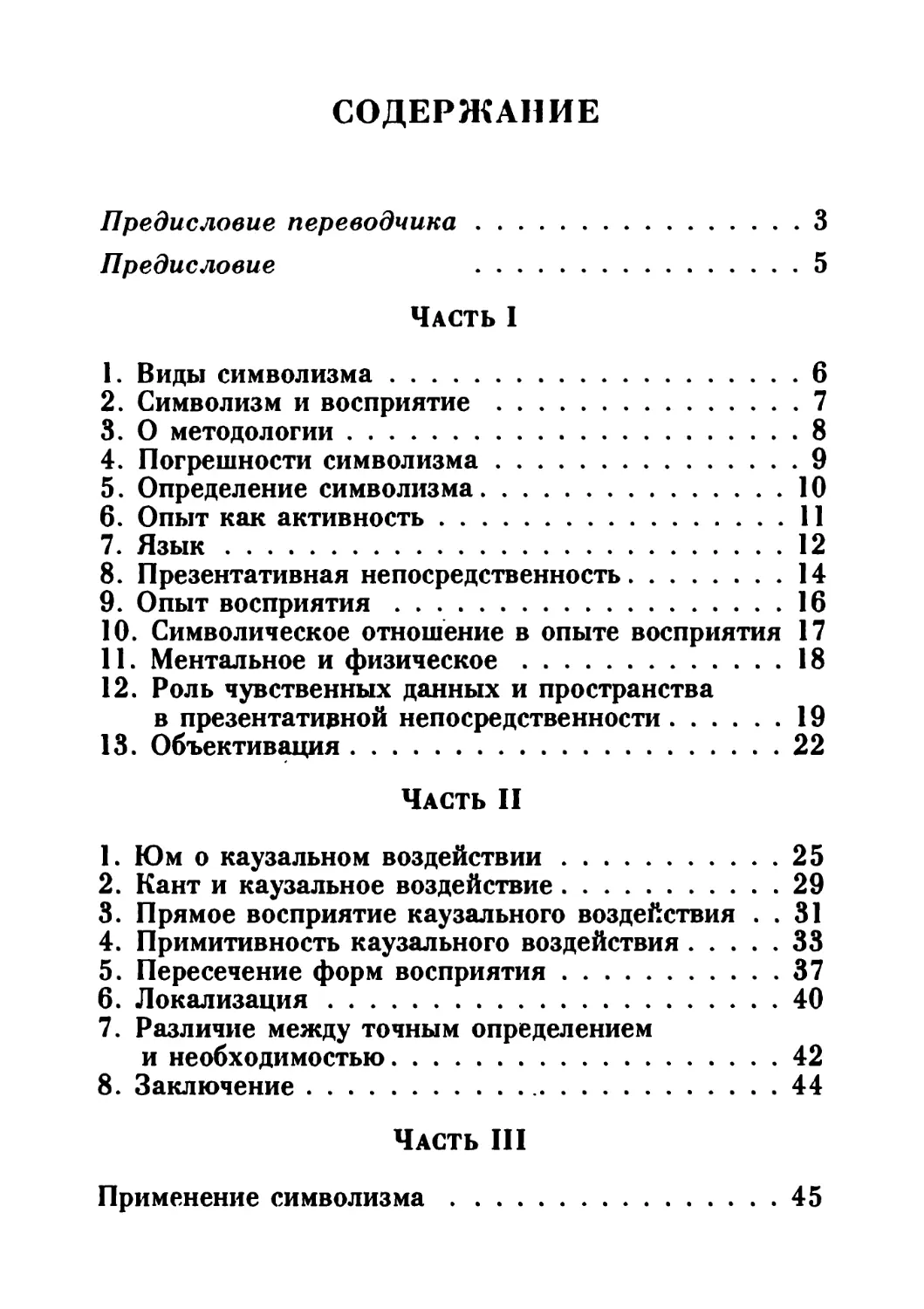Автор: Уайтхед А.Н.
Теги: философия социальная философия символизм переводная литература культорология
ISBN: 5—7137-0108—5
Год: 1999
Текст
^.Н.Уайтхед
символизм,
его смысл и воздействие
А.КУАИТХЕЛ
СИМВОЛИЗМ,
его смысл
И ВОЗДЕЙСТВИЕ
Издательство «Водолей»
ТОМСК — 1999
Б1Ж 87
У13
Учредитель издательства «Водолей» -
Томская областная научная библиотека
им. А.С.Пушкина
Уайтхед А.Н. Символизм, его смысл и возден-
ут ствие.—Томск: издательство «Водолей», 1999.—
64 с.
В этой книге выдающийся философ и логик А.Н.Уайтхед (1861-
1947) стремится решить проблему раздвоения образа мира в со-
знании человека и показать путь преодоления дуализма чувственного
опыта и элементов природы в восприятии субъекта. Этот путь и есть
символизм, синтезирующий в мышлении «каузальное воздействие*
объектов и «презентативную непосредственность» образов.
Книга переведена на русский язык впервые.
Главный редактор Е. Кольчужкин
Сдано в набор 11.07.98. Подписано в печать 04.09.98.
Формат 70х100,.Д2. Гарнитура Водони. Печать офсетная.
Печ. л. 2. Условн. псч. л. 3,36. Уч.-изл л. 1,2.
Тираж 1000. Заказ №461
Лицензия ЛР № 070405 от 14 августа 1997 г.
Издательство «Водолей», 634000, пер. Батенькова, 1
Отпечатано с оригинал макета,
подготовленного издательством «Водолей»
Сибирское издательско-полиграфическое
и книготорговое предприятие «Наука»
630077, Новосибирск 77, ул. Станиславского, 25
700000000
без объявл.
Vl46(03)-99
ISBN 5—7137-0108—5
© Сычева С.Г., перевод, 1999
© «Водолей», оформление, 1999
ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА
В творческой эволюции А. Н. Уайтхеда ( 1861 1947)
выделим три периода. Первый из них связан непосредствен-
но с решением научных проблем — а именно логики и
математики. Ярким выражением творчества данного пери-
ода, охватившего первую декаду XX века, является трехто-
мный труд «Principia Mathematical (1910-1913), написанный
в течение почти десяти лет в соавторстве с Б. Расселом, Эта
книга во многом определила дальнейшее развитие математи-
ческой логики. Второй период начинается в 1917 году с
выходом произведения Уайтхеда «Организация мышления* и
заканчивается 1925 годом, когда появляется «Наука и совре-
менный мир». Новый, третий этап духовного развития фи-
лософа открывается публикацией в 1929 году книги «Про-
цесс и реальность».
Второй период творчества Уайтхеда обычно называют
неореализмом. Основную идею этой теории адекватно опи-
сывает термин Рассела «нейтральный монизм». Это учение о
том, что главные философские противоположности, такие
как субъект и объект, природа п дух по существу и попарно
— одно и то же. Иными словами, психика есть физика,
связанная с субъектом, а физика есть психика, связанная с
объективной причинностью. Все вместе представляют собой
«чувственные данные».
Именно в это время Уайтхед разрабатывает основополо-
жения своей философии. В 1917 году он становится деканом
Лондонского университета, переехав в столицу из Оксфорда,
а в 1924 году философ переезжает в Америку и остается там
навсегда. Основные произведения периода неореализма -
это «Исследование принципов познания природы» (1919),
«Понятие природы» (1920), «Принцип относительности»
(1922), «Наука и современный мир» (1925). Таким образом,
1917-1925 годы деятельности Уайтхеда проникнуты пафосом
философского оправдания науки и выведения понятия при-
роды из философских постулатов.
Книга «Процесс и реальность», открывающая последний
— третий период творчества философа, признана его осно-
вным произведением. Здесь Уайтхед предлагает схему фило-
софских категорий, выводимых из категории Первоначаль
4
A. H. Уайтхед
ного. а также идею природы как организма, природы во всех
ее ипостасях. Учение философа в последний период обретает
религиозный смысл.
При такой периодизации из жизни философа выпадает
несколько лет. А именно 1926-1928 годы, и это не случайно.
Я убеждена, что это особый, отдельный этап жизни мысли-
теля. Его можно назвать этапом адаптации к новым условиям
существования. Смена образа жизни меняет горизонт созна-
ния, ведет к ломке прежних умонастроений. Не было скачка
от неореализма к религиозной философии, хотя эти учения
в чем-то противоположны, поскольку первое связывает фи-
лософию и науку, а второе — религию и философию.
Отсутствие скачка объясняется наличием двух книг, выпол-
нивших роль идейного моста через пропасть, а именно:
4Создание религии» (1926), где, несмотря на новый объект
исследования, Уайтхед пытается оправдать религию наукой,
и «Символизм, его смысл и воздействие» (1927). В этой
книге философ стремится решить проблему раздвоения об-
раза мира в сознании человека и показать путь преодоления
дуализма чувственного опыта и элементов природы в воспри-
ятии субъекта. Этот путь и есть символизм, синтезирующий
в мышлении « каузальное воздействие» объектов и «презента-
тивную непосредственность» образов.
Всю свою жизнь Уайтхед посвятил умозрительным по-
строениям. Мало что из его идей понадобилось людям. И
данная книга осталась фактически незамеченной у нас в
стране. Тем не менее думаю, что она представляет большой
интерес для русских читателей. Это глубоко философское и
остроумное произведение.
Перевод был сложен. Нюансы, актуальные для двадца-
тых годов XX столетия, во многом стерлись из памяти людей.
Тонкий юмор, присущий автору, местами был непонятен и,
тем более, непереводим. И все же я рискну представить эту
книгу на суд читателя и надеюсь, что она будет оценена по
достоинству.
Большое спасибо И. А. Черемисиной за важные советы
при редактировании перевода.
Перевод выполнен по изданию: Whitehead A.N. Symbolism.
Its Meaning and Effect. New York. 1927.
С. Г. Сычева
23 июня 1998 г.
Символизм, его смысл и воздействие
5
ПРЕДИСЛОВИЕ
В соответствии с соглашением с Barbour-Page Foun-
dation, эти лекции публикуются университетом Вирд-
жинии. Автор приносит свою благодарность руково-
дству университета за их любезность, выраженную,
согласно его желаниям, в уважении к некоторым ва-
жным деталям публикации. За исключением некото-
рых незначительных изменений, лекции напечатаны в
том виде, в каком были переданы.
Эти лекции будут лучше поняты по прочтении
«Опыта о человеческом разумении» Локка. Автор
выражает благодарность профессору Джеймсу Гибсо-
ну, его книге «Теория познания Локка и ее истори-
ческие параллели», профессору Норману К. Смиту за
книгу «Пролегомены к идеалистической теории по-
знания», а также Джорджу Сантаяне и его книге
«Скептицизм и животная вера».
А.Н.Уайтхед.
Гарвардский университет, июнь 1927.
ЧАСТЬ I
/. ВИДЫ СИМВОЛИЗМА
Беглый обзор различных эпох цивилизации обнаружи-
вает большую разницу в их отношении к символизму.
Например, в средние века в Европе символизм как
будто преобладал в человеческом восприятии. Архитек-
тура была символической, церемониал был символиче-
ским, геральдика была символической. С Реформацией
наступила реакция. Человек пытается освооодпться от
символов как «неосновательных вещей, напрасно при-
думанных» и концентрируется на своем прямом пони-
мании первичных фактов.
Однако такой символизм оказался не жизненным.
Он имеет ненужный элемент в своей конституции. Сам
факт, что он может быть затребован в одну эпоху и
отвергнут в другой, доказывает его поверхностную
пр1гроду.
Существуют более глубокие типы символизма, в
смысле искусственности, и даже такие, без которых
мы не можем обойтись. Язык, письменный или
устный, является таким символизмом. Просто звук
слова или его изображение на бумаге — все равно.
Слово есть символ, и его значение составлено из идей,
образов и эмоций, которые он вызывает в уме слуша-
теля.
Есть и другой тип языка, чисто письменный язык,
составленный из математических символов науки ал-
гебры. Некоторым образом эти символы отличны от
символов повседневного языка, так как манипуляция
алгебраическими символами дает вам доказательство
при условии, что вы соблюдаете алгебраические пра-
вила. Иное дело с повседневным языком. Вы можете
никогда не забывать значение языка и верить, что
простой синтаксис поможет вам выразить себя. В
любом случае язык и алгебра, кажется, служат приме-
ром более фундаментальных типов символического,
чем, скажем, соборы в средневековой Европе.
Символизм, его смысл и воздействие
7
2. СИМВОЛИЗМ И ВОСПРИЯТИЕ
Есть совершенно другой символизм, который более
фундаментален, чем описанные типы. Мы смотрим и
видим цветовой образ перед нами и говорим, что это
кресло. Но все, что мы видели — только цветовой
образ. Возможно художник способен не переходить к
понятию кресла. Он может остановиться на простой
констатации прекрасного цвета и очаровательной фо-
рмы. Но те из нас, кто не являются художниками,
очень даже склонны, особенно если устали, перейти
прямо от восприятия цветового образа к обладанию
креслом любым путем, чувственным или умственным.
Мы можем легко объяснить этот пассаж через цепочку
сложных логических выводов, из которой, обращаясь
к нашим предыдущим переживаниям различных форм
и цветов, мы выводим вероятное заключение, что здесь
мы имеем дело с креслом. Я очень скептичен в том,
что для перехода от цветовой формы к креслу требуется
очень высокий тип Meiггальностн. Одна из причин
моего скептицизма в том, что мой друг художник,
которому надо заниматься констатацией цвета, формы
и позиции, был очень тренированным человеком и
развил в себе эту способность игнорирования кресла
за счет больших трудов. Нам не нужно совершенство-
ваться тренировками только ради того, чтобы удержа-
ться и не вступить в замысловатые цепочки выводов.
Такое воздержание слишком легко. Другая причина
скептицизма — в том, что если мы возьмем щенка
собаки в дополнение к художнику, то пес будет дейс-
твовать с гипотетическим креслом немедленно и пры-
гнет в него, как он обычно это делает. Опять же, если
собака откажется от такого действия, то только пото-
му, что это хорошо тренированная собака. Следовате-
льно переход от цветовой формы к понятию объекта,
которое может быть использовано для всех целей, не
имеющих ничего общего с цветом, по-видимому, очень
естественен, и нам — человеку и щенку — нужна
тщательная тренировка, если мы хотим освободиться
от действия с ним.
8
A. H. Уайтхел
Следовательно цветовые формы будут символами
для некоторых других элементов нашего опыта, и если
мы видим цветовые формы, то мы настраиваем наши
действия по отношению к этим другим элементам.
Такой символизм от наших ощущении к символизиру-
емым телам часто обманчив. Хитрая комбинация ис-
точников света и зеркал может полностью обмануть
нас. И даже когда мы не введены в заблуждение, мы
спасем себя от этого только усилием. Символизм от
чувственного представления к физическим телам наи-
более естественен и чаще встречается среди других
символических форм. Это не просто тропизм или ав-
томатическое движение в определенном направлении,
потому что как люди, так и щенки часто не обращают
внимания на кресла, когда видят их. И мотылек,
летящий к свету, имеет, вероятно, самый минимум
чувственного представления. Я буду аргументировать
исходя из предположения, что чувственное восприятие
есть в основном характеристика более развитых орга-
низмов, тогда как все организмы имеют опыт каузаль-
ного воздействия, благодаря которому их функциони-
рование обусловлено их окружением.
3. О МЕТОДОЛОГИИ
Фактически символизм очень важен для использо-
вания чистых чувственных восприятий в качестве сим-
волов для более примитивных элементов нашего опы-
та. Соответственно, так как чувственные восприятия,
какой бы то ни было важности, характерны для высо-
коразвитых организмов, я ограничу данное изучение
символизма главным образом его влиянием на челове-
ческую жизнь. Общим принципом является то, что
низкоуровневые характеристики лучше изучить, в пе-
рвую очередь, рассматривая соответствующие низкоу-
ровневые организмы, в которых эти характеристики
не затемнены более развитыми типами функциониро-
вания. И наоборот, высокоуровневые свойства можно
изучить, в первую очередь, при рассмотрении таких
Символизм, его смысл и воздействие У
организмов, в которых они впервые проявились во
всей полноте.
Разумеется, в качестве второго приближения к раз-
личению полной гаммы отдельных типов, мы хотим
узнать эмбриональную стадию высокоуровневых типов
и пути, но которым низкоуровневые типы могут содей-
ствовать высокоуровневым типам функционирования.
Девятнадцатое столетие преувеличило силу истори-
ческого метода и предполагало само собой разумеющи-
мся, что каждое свойство необходимо изучать только
в его эмбриональной стадии. Так, например, «любовь»
изучалась среди дикарей и под конец среди идиотов.
4. ПОГРЕШНОСТИ СИМВОЛИЗМА
Существует большая разница между символизмом и
прямым знанием. Прямой опыт непогрешим. Чему вы
научились, тому и научились. Но символизм более
подвержен погрешности, в том смысле, что он может
индуцировать действия, чувства, эмоции и доверие к
вещам, которые являются просто понятиями без той
достоверности в мире, которую символизм заставляет
нас предположить. Я хочу развить тезис о том, что
символизм является важным фактором для того, как
мы действуем в результате нашего прямого знания.
Высокоразвитые организмы возможны только при
условии, что их символические действия обычно опра-
вданы постольку, поскольку это связано с важными
результатами. Однако ошибки человеческого рода ра-
вным образом проистекают из символизма. Задача
рассудка — понять и очистить символы, от которых
зависит человечество.
Адекватная оценка человеческого менталитета тре-
бует разъяснения: а) как мы можем знать истинно;
б) как мы можем ошибаться и в) как мы можем
критически отличить истину от ошибки. Такое разъя-
снение требует, чтобы мы отличали такой тип мента-
льного функционирования, который по своей природе
дает непосредственное согласие с фактом, от такого
10
A. H. Уайтхед
типа функционирования, который заслуживает дове-
рия только по причине его удовлетворения некоторым
критериям, даваемым первым типом функционирова-
ния.
Я считаю, что первый тип функционирования стоит
назвать «прямое распознавание», а второй тип — «сим-
волическое отношение». Я также попытаюсь проиллю-
стрировать доктрину, что весь человеческий симво-
лизм, сколько оы он ни казался поверхностным, в
конечном счете сводится к цепочкам этого фундамен-
тального символического отношения; цепочкам, кото-
рые, в конце концов, связывают восприятия в альтер-
нативные формы прямого распознавания.
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИМВОЛИЗМА
После такого предварительного рассмотрения мы
должны начать с формального определения символиз-
ма: человеческий разум функционирует символически,
когда некоторые компоненты его опыта формируют
сознание, поверия, эмоции и обычаи по отношению к
другим компонентам его опыта. Первое множество
компонент — это «символы», а последнее множество
составляет «смысл» символов. Органическое функцио-
нирование, благодаря которому существует переход от
символа к смыслу, мы будем называть «символическим
отношением».
Это символическое отношение является активным
синтетическим элементом, привносимым природой
воспринимающего. Оно требует почвы, основанной на
некоторой общности между природой символа и смыс-
ла. Однако такой общий элемент в двух природах сам
по себе ни влечет за собой символического отношения,
ни позволяет решить, где символ, а где смысл, ни
гарантирует того, что символическое отношение было
бы устойчиво к порождению ошибок и недоразумений
для воспринимающего. Мы должны представить вос-
приятие как первоначальную фазу в самовоспроизве-
дении события актуального существования.
Символизм, его смысл и воздействие
и
В защиту понятия самовоспроизведения, вырастаю-
щего из некоторой первоначальной заданной фазы, я
напомню вам, что независимо от этого, тут не может
быть никакой моральной ответственности. Гончар, а
не горшок, ответственен за форму горшка. Актуальное
событие (actual occasion) вырастает как соединение в
один реальный контекст разных восприятий, разных
чувств, разных намерений и других различных актив-
ностей, вырастающих из этих первоначальных воспри-
ятий. Здесь активность — другое имя для самовоспро-
изведения.
6. ОПЫТ КАК АКТИВНОСТЬ
Итак мы приписываем субъекту восприятия актив-
ность в создании своего собственного опыта, хотя
такой момент опыта в своем единичном проявлении
есть не что иное, как воспринимающий сам по себе.
Поэтому, по крайней мере для субъекта восприятия,
само восприятие есть внутреннее отношение между
ним и воспринимаемыми вещами.
В ходе анализа вся активность, вовлекаемая в
восприятие символического отношения, должна быть
отнесена к субъекту восприятия. Такое символическое
отношение предполагает, что имеется нечто общее
между символом и смыслом, что может быть выражено
без отсылки к настоящему субъекту восприятия; но
оно также требует определенной активности субъекта
восприятия, которая может быть рассмотрена без об-
ращения за помощью к конкретному символу или к его
отдельному смыслу. Рассматриваемые сами по себе
символ и " его смысл не нуждаются ни в наличии
символического отношения, ни в том, что это симво-
лическое отношение между членами пары работает в
том направлении, а не в другом. Природа их взаимо-
отношения не определяет сама по себе, что есть сим-
вол, а что есть смысл. Не существует компонент опы-
та, которые являются только символами или только
смыслами. Наиболее распространенное символическое
12
Л. H, Уайтхед
отношение состоит из наименее примитивной компо-
ненты в качестве символа и наиболее примитивной
компоненты в качестве смысла.
Это положение есть основание радикального реали-
зма. Оно устраняет таинственный элемент нашего опы-
та, который скорее мыслится, и, таким образом, скрыт
от прямого восприятия. Оно (положение. — С С.)
провозглашает тот принцип, что символическое отно-
шение заключает в сложный опыт две компоненты,
каждая из которых по своей природе поддается прямо-
му распознаванию. Отсутствие подобного сознательного
аналитического распознавания есть ошибка, происте-
кающая из дефекта менталитета субъекта восприятия,
имеющего относительно низкий уровень интеллекта.
7. ЯЗЫК
Для иллюстрации инверсии символа и смысла рас-
смотрим язык и вещи, им обозначаемые. Слово есть
символ. Но слово может быть либо письменным, либо
устным. В случае письменного слова можно предло-
жить соответствующее произнесенное слово, и этот
звук может вызвать смысл.
" В данном примере письменное слово есть символ, а
его смысл есть произнесенное слово; в то же время
произнесенное слово есть символ, а его смысл есть
смысл этого слова в словаре, будь то произнесенного
или написанного.
Однако написанное слово часто проявляет свою
функцию без привлечения слова устного. А именно
тогда, когда письменное слово прямо символизирует
словарный смысл. Но так изменчив и сложен челове-
ческий опыт, что в общем ни один из этих случаев не
иллюстрирует в чистом виде тот путь, который изла-
гается здесь. Часто письменное слово означает одно-
временно и устное слово, и смысл; и символическое
отношение становится яснее и более определеннее
через дополнительное отношение звучащего слова к его
Символизм, его смысл и воздействие
13
смыслу. Аналогично мы можем начать с устного слова,
которое может вызвать визуальное восприятие слова
письменного.
Далее, почему мы говорим, что слово «дерево» —
устное или письменное — является для нас символом
дерева? Как слово само по себе, так и сами деревья
входят в наш опыт через одинаковые термины; и будет
весьма разумно, рассматривая вопрос абстрактно, де-
ревьям символизировать слово «дерево» так же, как
слову символизировать деревья.
Несомненно это верно, и человеческая природа
иногда следует данному пути. Например: если вы —
поэт и хотите написать лирическое стихотворение о
деревьях, вы пойдете в лес с тем, чтобы деревья могли
внушить вам подходящие слова. Поэтому для поэта в
состоянии экстаза, — а может быть, агонии — деревья
являются символами, а слова — смыслами. Он концен-
трируется на деревьях для того, чтобы извлечь слова.
Но большинство из нас — не поэты, хотя мы и
читаем их лирику с надлежащим почтением. Для нас
слова суть символы, способные вовлечь нас в состоя-
ние восторга, переживаемого в этом лесу. Поэт — это
личность, для которой все индивидуальные зрелища,
— и звуки, и эмоциональные переживания, — симво-
лически отсылают к словам. Читатели — это люди, для
которых слова символически отсылают к визуальным
зрелищам, звукам и эмоциям, которые поэт хочет
вызвать. Поэтому при использовании языка возникает
двойное символическое отношение: от вещей — к
словам со стороны говорящего, и от слов обратно к
вещам со стороны слушателя.
Когда в акте человеческого переживания присутст-
вует символическое отношение, то, во-первых, возни-
кает два набора компонент с определенной объектив-
ной связью между ними, и эта связь будет сильно
меняться в различных случаях. Во-вторых, общая кон-
ституция воспринимающего субъекта вызывает симво-
лическое отношение между одним набором компонент
— символами, и другим набором компонент — смыс-
лами. В-третьих, вопрос о том, какой набор компонент
14
А. И. Уайтхед
формирует символы, а какой — смысл, также зависит
от своеобразного склада данного акта переживания.
8. ПРЕЗЕНТАТПВНЛЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОСТЬ
Наиболее фундаментальное пояснение символизма
в виде примера* уже было сделано в обсуждении поэта
и обстоятельств, вызывающих его поэзию. Мы имеем
здесь особый пример отношения слов к вещам. Но это
общее отношение слов к вещам есть только частный
пример еще более общего факта. Наше восприятие
внешнего мира разделяется по своему содержанию на
два типа: первый тип — это обычное непосредственное
восприятие одновременного мира при помощи проекции
наших непосредственных ощущений, определяющих
для нас свойства одновременных физических сущнос-
тей. Этот тип есть переживание непосредственного
мира вокруг нас, мира, изукрашенного чувственными
данными, зависящими от непосредственного состояния
различных частей нашего тела. Психология окончате-
льно установила этот последний факт; но психологи-
ческие детали неуместны для данной философской
дискуссии и только запутывают расследование. «Чувс-
твенные данные» — это современный термин, !Ом
использует слово «впечатление».
Для человека этот тип переживания проявляется
особенно ярко в пространственных сферах и в отноше-
ниях внутри одновременного мира.
Повседневный язык, который я использовал в рас-
суждении о «проекции наших ощущений», весьма об-
манчив. Не существует голых чувств, которые сначала
переживаются, а потом «проецируются» на наши ноги,
как их ощущения, или на противоположную стену, как
ее цвет. Проекция — это интегрирующий момент всей
ситуации, такой же подлинный, как и чувственные
данные. Было бы столь же точно, сколь и ошибочно,
говорить о проекции на стену, которая затем характе-
ризуется таким-то цветом. Использование термина
«стена» равно ошибочно из-за того, что оно предлагает
Символизм, его смысл и воздействие
15
информацию, полученную символически из другой фор-
мы восприятия. Эта так называемая «стена», обнару-
женная в чистой форме презентатнвной непосредст-
венности, отдает себя нашему переживанию только в
облике пространственной наличности, в сочетании с
пространственной перспективой и в сочетании с чувс-
твенными данными, которые в этом примере сводятся
только к цвету.
Я предпочитаю говорить, что стена отдает себя в
этом оолике, чем говорить, что она отдает эти универ-
сальные характеристики, данные в их сочетании. Ибо
характеристики соединяются через описание ими един-
ственной вещи во всем мире, включая нас, той самой
вещи, которую я называю «стена». Наше восприятие
не заключено в универсальные характеристики; мы не
воспринимаем отделенный от конкретного воплощения
цвет или отделенное от конкретного воплощения про-
странство. Мы воспринимаем цвет и пространство
стены. Экспериментальным фактом является то, что
«для нас цвет отделен от стены». Таким образом, цвет
и пространственная перспектива суть абстрактные эле-
менты, характеризующие конкретный путь, по которо-
му стена входит в наше переживание, таким образом,
они — элементы, соотносящие «субъект восприятия в
данный момент» и другую столь же активную сущ-
ность, или набор сущностей, который мы называем
«стеной в данный момент». Чистый цвет или чистая
пространственная перспектива — очень абстрактные
вещи, потому что они приходят к нам только через
отбрасывание конкретного отношения между стеной-
в-данный-момент и субъектом-восприятия-в-данный-
момент. Это конкретное соотношение есть физический
факт, который может быть весьма несущественным
для стены и весьма существенным для субъекта вос-
приятия. Пространственное отношение равно сущест-
венно как для стены, так и для субъекта восприятия:
но та сторона отношения, которая связана с цветом, в
данный момент безразлична для стены, являясь в то
же время составной частью облика стены для субъекта
восприятия. Следовательно, при рассмотрении их про-
16
A. H. Уайтхы
странгтвенных соотношений, одновременные события
совершаются независимо. Я называю этот тип опыта
«презентативной непосредственностью». Она демо-
нстрирует, как одновременные события относятся друг
к другу и сохраняет их взаимную независимость. Эта
презентативная непосредственность важна только для
высокоразвитых организмов и является физическим
фактом, который может (или не может) войти в
сознание. Такое вхождение будет зависеть от внима-
ния и от активности концептуального функционирова-
ния, посредством чего физический опыт и концептуа-
льное воображение сливаются в познании.
9. ОПЫТ ВОСПРИЯТИЯ
Слово «опыт» — одно из самых обманчивых в
философии. Его адекватное обсуждение могло бы быть
темой научного трактата. Я только могу указать те
элементы моего анализа этого слова, которые относя-
тся к данной цепочке рассуждений.
Наш опыт, поскольку он главным образом имеет
отношение к нашему прямому распознаванию цельного
мира внешних вещей, которые реальны в том же
смысле, в каком реальны и мы, имеет три основных
независимых формы, каждая из которых вносит свою
часть компонент в рост нашей индивидуальности в
один из конкретных моментов человеческого опыта.
Две из этих форм опыта я назову воспринимающими,
а третью назову формой концептуального анализа. По
отношению к чистому восприятию я называю один из
двух рассматриваемых типов формой «презентативной
непосредственности», а другой — формой «каузального
воздействия». Как «презентативная непосредствен-
ность», так и «каузальное воздействие» представляют
в человеческом опыте компоненты, которые вновь
анализируются в актуальных вещах реального мира и
в абстрактных свойствах, качествах и отношениях,
выражающих то, как эти внешние реальные вещи
вкладывают себя в качестве компонент в наш индиви-
Символизм, его смысл и воздействие
17
дуальный опыт. Эти абстракции выражают то, как
внешние реальности компонуют объекты для нас. По-
этому я скажу, что они «объективируют» для нас
реальные вещи нашего «окружения». Наше наиболее
непосредственное окружение состоит из различных
органов наших собственных тел, наше более отдален-
ное окружение — это физический мир по соседству.
Но слово «окружение» означает те самые внешние
реальные вещи, которые «объективируются» опреде-
ленным необходимым способом так, чтобы сформиро-
вать составные элементы нашего опыта.
10. СИМВОЛИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ В ОПЫТЕ
ВОСПРИЯТИЯ
Из двух различных воспринимающих форм одна
форма «объективирует» реальные вещи под видом пре-
зентативной непосредственности, а другая форма, ко-
торую я пока не обсуждал, «объективирует» их под
видом каузального воздействия. Синтетическая актив-
ность, посредством которой эти две формы сливаются
в одно восприятие, есть то, что я назвал «символиче-
ским отношением». Через символическое отношение
различные реальности, раскрываемые соответственно
двумя формами, являются либо идентифицированны-
ми, либо, по крайней мере, соотнесенными друг с
другом как взаимосвязанные элементы нашего окруже-
ния. Таким образом, результат символического отно-
шения есть то, чем является для нас окружающий мир,
как та характеристика нашего опыта, которая влечет
за собой чувства, эмоции, удовлетворение, действия и,
наконец, как тема для сознательного распознавания,
когда наша ментальность сливается с его концептуаль-
ным анализом. «Прямое распознавание» суть сознате-
льное распознание объекта в его чистой форме, лишен-
ной символического отношения.
Символическое отношение может быть, во многих
случаях, ошибочным. Под этим я понимаю, что некое
^прямое распознавание» не согласуется по полученным
2 Заказ №461
18
A. H. Уайт хал
им данным о реальном мире с сознательным распозна-
нием цельного произведения, вытекающего из сим-
волического отношения. Поэтому ошибка есть, глав-
ным образом, результат символического отношения, а
не концептуального анализа. Такое символическое от-
ношение само по себе не является, в основном, резу-
льтатом концептуального анализа, хотя оно во многом
им поддерживается. Ибо символическое отношение
еще доминирует в опыте, когда ментальный анализ
находится на низком уровне. Мы все знаем басню
Эзопа о собаке, которая бросила кусок мяса, чтобы
вцепиться в его отражение в воде. Мы не должны,
однако, слишком строго судить за ошибку. На началь-
ных стадиях умственного развития ошибка символиче-
ского отношения — это наказание, которое стимули-
рует свободу воображения. Эзопова собака потеряла
кусок мяса, но она поднялась на ступень выше по пути
к свободе воображения.
Таким образом, символическое отношение должно
быть объяснено как априорное по отношению к кон-
цептуальному анализу, хотя между ними существует
сильное взаимодействие, посредством которого они
помогают друг другу.
//. МЕНТАЛЬНОЕ II ФИЗИЧЕСКОЕ
Будучи вразумительными настолько, насколько это
возможно, мы молчаливо закрепляем символическое
отношение за ментальной активностью и избегаем тем
самым всяких детальных объяснений. Каким из наших
опытных действий приписывать название ментальных,
а каким физических, — это дело чистого соглашения.
Лично я предпочитаю ограничивать ментальность теми
опытными действиями, которые включают в себя кон-
цепции в добавление к перцепциям. Но основная часть
наших восприятий существует благодаря повышенной
остроте, проистекающей из действующего одновремен-
но с ними концептуального анализа. Вот почему фак-
тически нельзя провести точной границы между* физи-
Символизм, его смысл и воздействие
ческой и ментальной конструкциями опыта. По не
существует осознанного знания без вторжения мента-
лыюсти в форме концептуального анализа.
Позже будет необходимо обратиться к концептуаль-
ному анализу; но сейчас я должен рассмотреть созна-
ние и частичный анализ его опыта и вернуться к двум
моделям чистого восприятия. Утверждение, которое я
хочу здесь сделать, таково: причина, по которой низ-
коразвитые физические организмы не могут совершать
ошибки, состоит не в том исключительно, что у них
отсутствует мышление, но в том, что у них отсутствует
ирезентативная непосредственность. Эзопова собака,
будучи слабым мыслителем, сделала ошибку по причи-
не ошибочности символического отношения между
презентативной непосредственностью и каузальным
воздействием. Короче говоря, истина и ошибки возни-
кают в мире как результат синтеза: любая реальная
мысль синтетична, и символическое отношение — одна
из примитивных форм синтетической активности, по-
средством которой реальное возникает из данных ею
фаз.
12. РОЛЬ ЧУВСТВЕННЫХ ДАННЫХ И ПРОСТРАНСТВА
В ПРЕЗЕНТАТИВНОЙ НЕПОСРЕДСТВЕННОСТИ
Под «презентативной непосредственностью» я имею
в виду то, что обычно называют «чувственным воспри-
ятием». Но я использую первый термин с ограничени-
ями и расширениями, не соответствующими общему
употреблению второго термина. Презентативная непо-
средственность — это наше непосредственное воспри-
ятие одновременного внешнего мира, возникающее
как конститутивный элемент нашего опыта. В этом
возникновении мир раскрывает себя как общность
реальных вещей, которые реальны в том же смысле,
что и мы.
Это возникновение вызвано созерцанием качеств,
таких как цвета, звуки, вкусы и т. д., которые могут
быть описаны с равным правом как наши чувства или
20
А. H. Уайтхед
как качества воспринимаемых нами реальных вещей.
Эти качества, таким образом, соотносимы с восприни-
мающим субъектом и воспринимаемыми вещами. Ста-
ло быть они могут быть изолированы только путем их
абстрагирования от вовлеченности в схему пространс-
твенных связей между воспринимаемыми вещами и
между вещами и воспринимающим субъектом. Это
отвлеченное отношение пространственного протяже-
ния есть цельная система, включающая наблюдателя
и воспринимаемые вещи. Данная система морфологии
комплексных организмов формирует общность одно-
временного мира. Путь, которым каждый реальный
физический организм входит в структуру этой одновре-
менности, согласуется с данной системой. Таким обра-
зом, чувственные данные, такие как цвета и т. д., или
телесные чувства, представляют протяженные физиче-
ские сущности в нашем опыте под видом, заданным
данной пространственной схемой. Пространственные
отношения сами по себе — общие абстракции, и
чувственные данные — общие абстракции. Но виды
чувственных данных, снабженные пространственными
отношениями, суть специфические связи, посредством
которых внешние одновременные вещи составляют
часть нашего опыта. Эти одновременные организмы,
таким образом, представленные как «объекты» в опыте,
включают различные органы нашего тела, после чего
чувственные данные считаются телесными чувствами.
Телесные органы и чувственные вещи, оказывающие
важное содействие данной модели нашего восприятия,
формируют вместе одновременное окружение вос-
принимающего организма. Основные факты презента-
тивной непосредственности следующие: 1) сложность
чувственных данных зависит от воспринимающего
организма и его пространственных отношений с вос-
принимаемыми организмами; 2) одновременный мир
представлен как протяженный и цельный организм;
3) презентативная непосредственность есть важный
фактор в опыте только немногих высокоразвитых орга-
низмов, тогда как у остальных она либо не успела
развиться, либо совершенно незначительна.
Символизм, его смысл и воздействие
21
Таким образом, раскрытие одновременного мира
презентативной непосредственностью граничит с от-
крытием общности реальных вещей на основании их
участия в объективной системе пространственной про-
тяженности. Кроме этого, знание, обеспечиваемое чи-
стой презентативной непосредственностью, является
ярким, лаконичным и бессодержательным. Оно также
в большой степени контролируемо волей. Под этим я
понимаю, что один момент опыта может предопреде-
лять, в значительной мере, путем запретов, или путем
стимулов, или путем других модификаций, характери-
стики презентативной непосредственности в последо-
вательности моментов опыта. Эта форма восприятия,
взятая исключительно сама по себе, бессодержательна,
потому что мы не можем прямо связать качественные
представления о других вещах с существенными осо-
бенностями этих вещей. Мы видим цветовой образ
кресла, дающий нам представление о пространстве за
зеркалом, однако таким путем мы не получаем знания
касательно каких-либо существенных особенностей за-
зеркального пространства. Но образ, видимый в хоро-
шем зеркале, является настолько же непосредствен-
ным представлением о цвете, определяющим мир в
пространстве за зеркалом, насколько и наше прямое
видение кресла, когда мы оборачиваемся и смотрим на
него. Мы отказываемся делить чистую презентативную
непосредственность на иллюзии и не-иллюзии. Она
или все, или ничего, непосредственная презентация
внешнего одновременного мира как его собственное
подлинное пространство. Чувственные данные, вовле-
ченные в презентативную непосредственность, имеют
более широкие соотношения в мире, чем могут выра-
зить данные одновременные вещи. Абстрагируясь от
этих широких соотношений, невозможно определить
необходимость видимого ограничения одновременных
объектов чувственными данными. По этой причине
фраза «чистое возникновение» содержит указание на
бессодержательность. Широкое соотношение чувствен-
ных данных может быть понято только путем исследо-
вания альтернативного метода восприятия, метода ка-
22
A. H. Уайтхсд
узального воздействия. Но поскольку одновременные
вещи связаны вместе простой презентативной непосре-
дственностью, они оказываются в полной независимо-
сти, за исключением их пространственных соотноше-
ний в данный момент. И для большинства событий мы
полагаем, что их внутренний опыт презентативной
непосредственности неразвит настолько, что может не
приниматься в расчет. Этот метод восприятия важен
только для незначительного меньшинства сложных
организмов.
13. ОБЪЕКТИВАЦИЯ
В таком толковании презентативной непосредствен-
ности я сообразуюсь с разграничением, согласно кото-
рому реальные вещи объективны в нашем опыте и
формально существуют в своей собственной завершен-
ности. Я полагаю, что презентативная непосредствен-
ность — это тот своеобразный путь, на котором одно-
временные вещи «объективны» в нашем опыте, и что
среди абстрактных сущностей, которые создают фак-
торы в форме представления, есть те абстракции,
которые обычно называются чувственными данными:
например, цвета, звуки, вкус, прикосновения и теле-
сные чувства.
Таким образом, «объективация» сама по себе есть
абстракция, так как ни одна реальная вещь не «объек-
тивируется» в ее «формальной» завершенности. Абст-
ракция выражает форму природного взаимодействия и
не является чисто ментальной. Будучи абстрактным,
мышление просто соответствует природе, или, скорее,
проявляет себя как элемент природы. Синтез и анализ
нуждаются друг в друге. Такая концепция парадокса-
льна для тех, кто упорствует, думая о действительном
мире как о собрании пассивных реальных субстанций
с их частными характеристиками или качествами. В
этом случае нонсенсом прозвучит вопрос: каким образом
одна такая субстанция может составлять компоненту
структуры другой подобной субстанции? Поскольку
Символизм, его смысл и воздействие
23
сохраняется эта концепция, трудность не уменьшить
обозначением каждой реальной субстанции событием,
или моделью, пли случаем. Трудность, возникающая в
данной концепции, состоит в объяснении, как субстан-
ции могут существовать вместе в смысле, производном
от того, в котором каждая индивидуальная субстанция
является актуальной. Но та концепция мира, которая
здесь приведена, является концепцией функциональ-
ной активности. Под этим я подразумеваю, что каждая
реальная вещь является таковой по причине своей
активности, посредством чего ее природа состоит в ее
согласованности с другими вещами настолько, наско-
лько они согласовываются с ней. Вопрошая о какой-
либо индивидуальности, мы должны спросить, как
другие индивидуальности «объективно» вступают в со-
гласие с ее сооственным опытом. Это согласие с ее
собственным опытом и есть формальное существование
индивидуальности. Мы также должны спросить, как
она вступает в формальное существование других ве-
щей; и* это ее вступление есть ее индивидуальное
объективное существование, или, что то же самое,
абстрактное существование, представляющее только
некоторые элементы ее формального содержания.
В данной концепции мира, говоря о такой актуаль-
ной индивидуальности, как человек, мы имеем в виду
человека в одном из случаев его опыта. Такой случай,
или акт, является комплексным и, следовательно,
способным подвергнуться анализу по фазам и другим
компонентам. Это наиболее конкретное бытие, и
жизнь человека от рождения до смерти есть историче-
ский ход таких случаев. Эти конкретные компоненты
связываются вместе в единое целое частичной иденти-
фикацией формы и специфическим полным суммиро-
ванием их предшественниц, которых каждый момент
истории жизни вбирает в себя. Человек-в-данный-мо-
мент концентрирует в себе свет собственного прошлого
и является истечением из него. «Человек в его полной
жизненной истории» — это абстракция, сопоставимая
с «человеком в данный момент». Существуют, следова-
тельно, три различных понятия отдельного человека,
24
А. H. Уайтхед
— Юлия Цезаря, например. Слово «Цезарь» может
означать «Цезарь в какой-то момент своего существо-
вания» — это самый конкретный из всех смыслов.
Слово «Цезарь» может означать «исторический путь
жизни Цезаря от его рождения до предательского
убийства»/ Слово «Цезарь» может означать «общий
метод или модель, повторяющуюся в каждом случае
жизни Цезаря». Вы можете с полным правом выбрать
любое из этих значений, но когда вы сделали свой
выбор, вы должны придерживаться его в данном кон-
тексте.
Такая доктрина природы жизненной истории орга-
низма имеет силу для всех типов организмов, которые
достигли единства опыта, — как для электронов, так
и для людей. Но человечество достигло богатства эм-
пирического содержания в отличие от электронов. Или
все случаи имеют силу, или ни один случай не имеет
силы, мы одинаково имеем дело с одной и той же
актуальной сущностью, а не с набором таких сущнос-
тей'и не с анализом компонент, содействующих одной
из таких сущностей.
Эта лекция утверждает доктрину прямого опыта по
отношению к внешнему миру. Невозможно полностью
согласиться с данным тезисом без значительного уда-
ления от моей темы. Мне необходимо лишь отослать
вас к первой части новой книги Сантаяны «Скептицизм
и животная вера» для окончательного доказательства
пустоты «солипсизма данного момента», или, другими
словами, полного скептицизма, который вытекает из
опровержения этого предположения. Мой второй те-
зис, по поводу которого я не могу сослаться на авто-
ритет Сантаяны, состоит в том, что если вы последо-
вательно утверждаете прямой индивидуальный опыт,
то в вашей философской конструкции вы должны
будете прийти к концепции мира как взаимодействия
функциональной активности, посредством которой ка-
ждая конкретная индивидуальная вещь проистекает из
ее определенного отношения к установленному миру
других конкретных индивидуальностей, по крайней ме-
ренастолько, насколько мир состоялся и установился.
Символизм, его смысл и воздействие
25
ЧАСТЬ 11
/. ЮМ О КАУЗАЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
Тезисом данной работы является то, что символизм
человека взаимодействует с двумя разными формами
прямого восприятия внешнего мира. Существуют, та-
ким образом, два источника информации о внешнем
мире, тесно связанных, но разных. Эти формы не
повторяют друг друга, и реально существует разнооб-
разие информации. Одна из них — неопределенная,
другая — определенная; одна — необходима, другая
— несущественна. Но две схемы презентации имеют
общие структурные элементы, которые идентифициру-
ют их как схемы презентации одного и того же мира.
Существуют, однако, зазоры в определении соответст-
вия между двумя морфологиями. Схемы взаимодейст-
вуют только частично, и их правильное слияние оста-
ется неопределенным. Символическое отношение ведет
к передаче эмоций, намерений и веры, которые могут
подтверждаться интеллектуальным сравнениям пря-
мой информации, полученной из двух схем и элемен-
тов их пересечения. Такое подтверждение должно
быть найдено в прагматическом обращении к будуще-
му. Таким образом, интеллектуальный критицизм,
основанный на последующем опыте, может увеличить
и очистить примитивный и наивный символический
перенос.
Я назвал одну перцептивную форму «презентатив-
ной непосредственностью», а другую форму — «кауза-
льным воздействием». В предыдущей лекции обсужда-
лась форма презентативной непосредственности.
Данная лекция начнется с дискуссии о каузальном
воздействии. Для вас должно быть очевидно, что здесь
я буду полемизировать с наиболее нежно любимой
традицией в современной философии, одинаково раз-
деляемой школой эмпириков, происходящей от Юма,
и школой трансцендентальных идеалистов, происходя-
щей от Канта. Нет необходимости вступать в продол-
26
A. H. Уайтхел
жительные оправдания данного резюме относительно
современной (философии. Но некоторые цитаты четко
суммируют оощие идеи, разделяемые двумя типами
мысли, с которыми я расхожусь. Юм пишет («Трак-
тат». Часть III. Глава 2): «Когда оба объекта присут-
ствуют в чувствах вместе с отношением, мы называем
это восприятием, а не рассуждением, и, в этом случае,
не каким-либо упражнением мысли, или, строго гово-
ря, действием, но простым пассивным внедрением
впечатлений через органы чувств. Согласно этому ходу
мысли, нам не следует принимать за рассуждение
любое из наблюдений, которое мы можем сделать
относительно тождества и соотношения времени и
места; так как ни в одном из этих случаев разум не
может ни избегнуть того, что непосредственно сущес-
твует в чувствах, ни обнаружить реальное существова-
ние или отношение объектов)
Вся сила этого пассажа основана на молчаливом
предположении о «разуме» как о пассивной восприни-
мающей субстанции но его «впечатлении» как о фор-
мирующем его частный мир акциденций. Тогда здесь
не остается ничего за исключением непосредственнос-
ти этих личных атрибутов с их личными отношениями,
которые тоже являются атрибутами мышления. Юм
эксплицитно отвергает субстанциальный взгляд на разум.
Но тогда в чем сила последнего пункта последнего
предложения: «так как... объектов»? Единственное
основание отрицать за впечатлениями какую-либо на-
глядную силу по отношению к «реальному существова-
нию отношений между объектами» — этоимплицитная
идея, что такие впечатления являются просто личными
атрибутами разума. Книга Сантаяны «Скептицизм и
животная вера», к которой я уже отсылал, в ее первых
главах есть энергичное и основательное указание, ка-
ждый раз в виде прекрасной иллюстрации того, что с
посылками Юма нет способа избежать такого отстра-
нения от тождества времени и места путем совершения
отсылки к реальному миру. Там остается только то,
что Сантаяна называет «солипсизмом данного момен-
та». Даже память показывает: для памяти впечатления
Символизм, его смысл и воздействие
27
нет впечатления памяти. Это лишь иное непосредст-
венное личное впечатление.
Нет необходимости цитировать Юма о проблеме
причинности, ибо предыдущая цитата полностью пере-
дает его особое мнение на этот счет. Но цитата о
субстанции необходима для объяснения основания его
эксплицитной — в отличие от случайных имплицитных
предположений — доктрины в данном пункте: «Я с
радостью спрашиваю тех философов, которые так
далеко продвинулись в своих рассуждениях о различе-
нии субстанции и акциденции, и воображают, что мы
имеем ясные идеи о каждой из них, выводится ли идея
субстанции из впечатлений чувств и рефлексии? Если
она передается нам нашими чувствами, я спрашиваю:
какими из них и каким способом? Если она восприни-
мается зрением, это должен быть цвет; если слухом —
то звук, если вкусом — то привкус, и так далее для
остальных чувств. Но я уверен, что никто не станет
утверждать, что субстанция есть либо цвет, либо звук,
либо привкус. Таким образом, идея субстанции должна
извлекаться из впечатления рефлексии, если оно ре-
ально существует. Но впечатления рефлексии распа-
даются на наши страсти и эмоции; и ни одна из них
не может представлять субстанцию. Следовательно мы
не имеем ни идеи субстанции, отличной от этого
набора отдельных качеств, ни какого-либо иного смы-
сла, когда мы говорим или мыслим относительно нее».
Этот пассаж имеет отношение к понятию субстан-
ции, которым я не занимаюсь. Таким образом, он
только косвенно противоречит моей позиции. Я про-
цитировал его потому, что он — очевиднейший пример
первоначальных допущений Юма о том, что: 1) презен-
татнвная непосредственность и отношения между пре-
зентатнвно непосредственными сущностями составляют
единственный тип опыта восприятия, и что 2) ирезен-
тативная непосредственность не включает убедитель-
ных факторов, раскрывающих одновременный мир
протяженных реальных вещей.
Он обсуждает этот вопрос ниже в своем «Трактате»
под заголовком понятия «Тела» и приходит к аналоги-
28
A. H. Уайтхед
чным скептическим заключениям. Эти заключения по-
коятся на экстраординарном наивном заключении о
времени как о чистом непрерывном ряде. Допущение
наивно, потому что высказана естественная вещь; оно
естественно потому, что оставляет без внимания ту
характеристику времени, которая так тесно в него
вплетена, что естественно пренебречь ею.
Время известно нам, как непрерывный ряд актов
нашего опыта, следовательно, как непрерывный ряд
событий, объективно воспринимаемый в этих актах.
Но этот непрерывный ряд не есть чистый непрерывный
ряд: это следствие одного состояния из другого, такое,
что последующее состояние демонстрирует соответст-
вие предыдущему. Конкретно время есть соответствие
одного состояния другому, последующего — предыду-
щему; и чистый непрерывный ряд аналогичен понятию
цвета. Не существует просто цвета, но всегда опреде-
ленный цвет — например красный или голубой: ана-
логично не существует чистого непрерывного ряда, но
всегда некий отдельный относительный уровень, в
соответствие с которым определенные периоды согла-
суются друг с другом. Числа соответствуют друг другу
одним способом, события соответствуют друг другу
иным способом, и когда мы абстрагируемся от этих
способов соответствия, мы обнаруживаем, что чистое
соответствие — это абстракция второго порядка, об-
щая абстракция, пренебрегающая темпоральным харак-
тером времени и цифровым отношением чисел.
Прошлое состоит из сообщества определенных актов,
и они, через воплощения в настоящем акте, устанавли-
вают условия, которым этот акт должен соответствовать.
Аристотель задумал «материю» — \>)г\ — как бытие
чистой потенциальности, ожидающее внедрения фор-
мы для ее (материи. —• С. С.) актуализации. Со
времени использования аристотелевских понятий мы
можем сказать, что ограничение чистой потенциально-
сти, установленное «объективными причинами» устояв-
шегося прошлого, выражает то, что «природная потен-
циальность» или потенциальность природы с данным
начальным базисом реализовала форму, задуманную
Символизм, его смысл и воздействие
29
как первую фазу самосозидання настоящей ситуации.
Понятие «чистой потенциальности» здесь занимает ме-
сто аристотелевской «материи», а природная потенци-
альность есть «материя» с тем наложением формы, из
которого возникает каждая реальная вещь. Все ком-
поненты, данные для опыта, будут найдены в анализе
природной потенциальности. Таким образом, непосред-
ственное настоящее согласовывается с тем, чем явля-
ется для него прошлое, и простое течение времени есть
отвлечение от более конкретного отношения «соответ-
ствия». Субстанциальный характер реальных вещей не
связан предварительно с предикацией качеств. Он
выражает тот упрямый факт, что все устойчивое и
реальное обязано в должной мере соответствовать са-
мосозидающей активности. Слова «упрямый факт» то-
чно выражают популярное понимание этой характери-
стики. Ее первичная фаза, из которой вырастает
каждая реальная вещь, есть упрямый факт, лежащий
в основе ее существования. Согласно Юму, не сущес-
твует упрямых фактов.
2. КАНТ И КАУЗАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
Школа трансцендентальных идеалистов, идущая от
Канта, допускает, что каузальное воздействие сущест-
вует как фактор в феноменальном мире, но полагает,
что оно не принадлежит к чистым данным, заключен-
ным в восприятии. Оно принадлежит к нашим способам
мышления о данных. Наше сознание воспринимаемого
мира дает нам объективную систему, являющуюся
слиянием чистых данных и методов мышления об этих
данных. Основная причина такой точки зрения у кан-
тианцев — то, что прямое восприятие знакомит нас с
отдельным фактом. Но мы верим, что универсальные
принципы относятся ко всем отдельным фактам. По-
добное универсальное знание не может быть извлечено
из какого-либо набора отдельных фактов, каждый из
которых просто уже случился. Таким образом, наша
непоколебимая вера объясняется только наличием уче-
30
A. H. Уайтхед
мин о том, что отдельные факты, будучи сознательно
ожидаемыми, есть слияние простых отдельных фактов
с функционированием мышления согласно категориям,
которые привносят свою собственную универсальность
в видоизмененные данные. Таким образом, феномена-
льный мир в сознании является комплексом последо-
вательных суждении, составляемым согласно неизмен-
ным категориям мысли, и вместе с содержанием,
конституируемым наличными данными, он организо-
ван согласно неизменным формам интуиции.
Эта кантианская доктрина признает наивное пред-
ставление Юма о «простых случаях» для чистых дан-
ных. В другом месте я назвал это предположением
«простого размещения» через обращение его как к
пространству, так и ко времени.
Я прямо отрицаю данную теорию «простого случая».
Не существует ничего «просто случившегося». Подоб-
ная вера есть необоснованное учение о времени как о
«чистой последовательности». Альтернативная доктри-
на, согласно которой чистая последовательность вре-
мени есть просто абстракция от фундаментального
отношения соответствия, уничтожает всякое основа-
ние для внедрения конститутивной мысли и конститу-
тивной интуиции в форме непосредственно схватыва-
емого мира. Универсальность истины вырастает из
универсальности относительности, посредством чего
каждая отдельная реальная вещь накладывает на уни-
версум обязательство соответствия ей. Таким образом,
в анализе отдельного факта открываемы универсаль-
ные истины, и эти истины выражают данное обязате-
льство. Данность опыта означает или выражает, —
одинаково для всех данных, будь то общие истины, или
отдельные чувственные данные, или предполагаемые
формы синтеза, — специфический характер темпора-
льной реальности данного акта опыта по отношению к
устойчивости универсума, который является источни-
ком всех условий. Заблуждение теории «смещенной
конкретности» абстрагируется от времени и его специ-
фического характера и оставляет время наедине с
простым общим свойством чистой последовательности.
Символизм, его смысл и воздействие
Л ПРЯМОЕ ВОСПРИЯТИЕ КАУЗАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Таким образом, последователи Юма и последовате-
ли Канта имеют различия, ио едины в возражениях по
отношению к понятию прямого восприятия каузально-
го воздействия в том смысле, в каком прямое воспри-
ятие априорно мысли о нем. Обе школы считают
«каузальное воздействие» внедрением в чувственные
данные путем мышления или суждения об этих дан-
ных. Одна школа называет его привычкой мысли;
другая школа называет его категорией мысли. Также
для них простые данные являются чистыми чувствен-
ными данными.
Если Юм или Кант дают себе правильный отчет о
статусе каузального воздействия, мы обнаружим, что
наше сознательное понимание каузального воздейст-
вия должно полагаться на некоторую степень очевид-
ности мышления или чисто интуитивной проницатель-
ности в отношении чувственных данных при решении
проблемы. Ибо представление, которое является про-
дуктом мысли, должно впасть в необходимость, когда
мысль отступает на задний план. Кроме того, согласно
этому юмовско-кантовскому мнению, мышление но
сути есть мышление непосредственно о чувственных
данных. Согласно некоторой очевидности чувственных
данных, в непосредственном представлении должны
быть благоприятные условия для понимания каузаль-
ного воздействия. Ибо, согласно этим мнениям, каузаль-
ное воздействие есть не что иное, как способ мышления
о чувственных данных, наличных в презентатнвной
непосредственности. Т. о. содержание мысли и неопре-
деленность чувственных данных должны быть чрезвы-
чайно неблагоприятны для выдвижения каузального
воздействия как элемента в опыте.
Логические затруднения, сопутствующие прямому
восприятию каузального воздействия, зависят от абсо-
лютного предположения, что время есть просто родо-
вое понятие для чистой последовательности. Это при-
мер заблуждения «смещенной конкретности». Таким
образом, путь, который сейчас открывается, состоит в
32
A. H. Уайтхед
эмпирическом расследовании, зависит ли действитель-
но наше понимание каузального воздействия от очеви-
дности чувственных данных, или от активности мыш-
ления.
Согласно обеим школам, важность каузального воз-
действия и действия, выявляющего его предположе-
ние, должна быть основной характеристикой высоко-
развитых организмов в лучшие моменты их жизни.
Сейчас, если мы сосредоточим внимание на продолжи-
тельной идентификации причины и следствия, завися-
щей от комплекса причин, несомненно, потребуются
длительное размышление и тщательная детерминация
чувственных данных. Но каждая ступень в этом рас-
суждении зависит от изначального предположения о
непосредственном изначальном моменте, согласующим
себя с определенным окружением непосредственного
прошлого. Мы не должны направлять внимание на
заключения от вчерашнего дня к сегодняшнему или
даже от прошедших пяти минут к непосредственному
настоящему. Мы должны рассматривать непосредст-
венное настоящее в его отношении к непосредственно-
му прошлому. Здесь будет найдено ошеломляющее
соответствие между фактом в настоящем действии и
прошедшим устойчивым фактом.
Согласно моей точке зрения, соответствие настоя-
щего факта непосредственному прошлому является
наиболее рельефным как во внешнем поведении, так
и в сознании в случае с низкоразвитым организмом.
Цветок поворачивается к свету с гораздо большей
несомненностью факта, чем человеческое существо, и
камень согласуется с условиями, установленными вне-
шним окружением, с гораздо большей несомненностью
Дакта, чем цветок. Собака предчувствует соответствие
будущего своей настоящей активности с той же несо-
мненностью, что и человек. Когда доходит дело до
впечатлений и далеко идущих выводов, собака терпит
неудачу. Но собака никогда не действует, если непо-
средственное будущее не соответствует настоящему.
Нерешительность в действиях вырастает из сознания,
что некий факт в настоящем далек от своего соответ-
Символизм, его смысл и воздействие
33
ствия в будущем, а также из неспособности оценить
точный тип самого факта. Если мы не осознаем степень
соответствия, откуда тогда нерешительность в момент
внезапного кризиса?
Опять же очевидное наслаждение непосредственны-
ми чувственными данными, как известно, сдерживает
понимание соответствия будущего. Тогда настоящий
момент дан в общем и целом, и в нашем сознании он
приближается к «простому случаю».
Некоторые эмоции, такие как гнев и ужас, способ-
ны подавлять понимание чувственных данных; но они
полностью зависят от ясного понимания соответствия
непосредственного прошлого — настоящему и настоя-
щего — будущему. Опять же подавление привычных
чувственных данных провоцирует ужасающее чувство
неявного присутствия, имеющее силу добра или зла
перед нашей гибелью. Большинство живых созданий,
привыкших к дневному времени, начинают нервничать
в темноте в отсутствие привычных визуальных чувст-
венных данных. Но, согласно Юму, существует боль-
шая привычка к чувственным данным, которая требу-
ется для каузальных выводов. Таким образом, чувство
слепоты, явно выраженное в темноте, противоположно
тому, что должно произойти.
4. ПРИМИТИВНОСТЬ КАУЗАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Восприятие соответствия реальностям в окружаю-
щем мире является примитивным элементом нашего
внешнего опыта. Мы соотносим органы нашего тела с
неявным миром, лежащим вне их. Наше примитивное
восприятие «соответствия» неопределенно, и таково же
оно в отношении к неопределенным отношениям меж-
ду «собой» и «другим» на неясном фоне. Конечно,
учение о неосознаваемости таких отношений должно
быть исключено на теоретическом основании. Но если
мы допускаем такое восприятие, тогда восприятие
соответствия всегда имеет признак примитивного эле-
мента. Одна часть нашего опыта легко управляема и
34
А. И. Уайтхсд
определена в нашем сознании: также ее легко воспро-
извести в аспекте волн. Другой тип опыта, тоже
требующий внимания, неявен, навязчив, непокорен.
Первый тип, из-за всей декоративности своего чувст-
венного опыта, бесплоден. Он выставляет мир, скры-
тый под случайной видимостью, видимостью, порож-
денной нашим собственным телом. Последний тип
отягощен контактом с ушедшими вещами, которые
накладывают печать непосредственно на нашу лич-
ность. Этот последний тип, форма каузального воздей-
ствия, есть опыт, определяющий жизнь примитивных
организмов, у которых есть чувство судьбы, из которой
они возникли, и чувство судьбы, к которой они идут,
— организмов, развивающихся и деградирующих, но
едва ли различающих любое непосредственное явле-
ние. Это грубый, примитивный опыт. Первый тип,
презентативная непосредственность, есть очевидный
продукт сложности, утонченности; она сохраняется в
настоящем и управляет с самообладанием, произво-
дным от непосредственного проявления вещей. Эти
периоды нашей жизни, когда восприятие давления со
стороны мира вещей благодаря их свойствам, свойст-
вам, таинственно прикрывающим нашу собственную
природу, становится сильнее —• эти периоды суть
результаты возвращения к некоему примитивному со-
стоянию. Такое возвращение случается тогда, когда
либо некое примитивное функционирование человече-
ского организма усиливается, либо некая важная часть
нашего чувственного восприятия ослабевает.
Гнев, ненависть, страх, ужас, влечение, любовь,
голод, пыл, огромное удовлетворение —■• это чувства и
эмоции, тесно переплетенные с примитивными функ-
циями «отступления от» и «наступления на». Они вос-
стают в высшем организме как состояния по причине
ясного понимания того, что некая подобная примити-
вная форма функционирования доминирует в органи-
зме. Но «отступление от» и «наступление на», лишен-
ные какой-либо пространственной дискриминации,
суть чистые реакции, посредством которых внешнее
запечатлевает в нас свое собственное качество. Вы не
Символизм, его смысл и воздействие
можете отступить от чистой субъективности; ибо
субъективность есть то, что мы несем с собой. Обычно
мы имеем почти незначительные чувственные предста-
вления о внутренних органах наших собственных тел.
Эти примитивные эмоции сопровождаются ясней-
шим распознаванием иных реальных вещей, реагиру-
ющих на нас. Грубая очевидность такого распознания
равна грубой очевидности, вызываемой функциониро-
ванием любого из пяти чувств. Когда мы ненавидим,
перед нами человек, которого мы ненавидим, а не
набор чувственных данных — каузальный, воздейству-
ющий человек. Эта примитивная очевидность воспри-
ятия «соответствия» иллюстрируется выразительностью
прагматического аспекта происшествий, который так
известен современной философской мысли. Ни в чем
не будет полезного аспекта до тех пор, пока мы не
признаем принцип соответствия, посредством чего то,
что уже сделано, становится детермннантой того, что
еще делается. Очевидность прагматического аспекта есть
просто очевидность восприятия факта соответствия.
На практике мы никогда не сомневаемся в факте
соответствия настоящего непосредственному прошлому.
Он принадлежит к первоначальной структуре опыта с
той же очевидностью, что и презентативная непосред-
ственность. Настоящий факт с очевидностью является
последствием своих предшественников. Могут вмешать-
ся непредвиденные факты; динамит может взорваться.
Но, несмотря на то, что это может быть, настоящее
событие выдает предмет согласно ограничениям, нало-
женным на него актуальной природой непосредствен-
ного прошлого. Если динамит взрывается, то настоя-
щий факт является таким исхождением из прошлого,
которое согласуется со взрывом динамита. Далее, мы
без колебаний заключаем, что полный анализ прошло-
го должен раскрыть в нем факторы, обеспечивающие
условия для настоящего. Если динамит взрывается
сейчас, то в непосредственном прошлом был заряд
не взорванного динамита.
Тот факт, что наше сознание ограничено анализом
опыта в настоящем — не препятствие. Ибо теория
36
A. H. Уайтхед
универсальной относительности актуальных индивиду-
альных вещей ведет к разграничению между настоя-
щим моментом опыта, который является исключительной
характеристикой сознательного анализа, и восприяти-
ем одновременного мира, который является только
фактом этой характеристики.
Контраст между сравнительной пустотой презента-
тивной непосредственности и глубокой зависимостью,
раскрываемой каузальным воздействием, лежит в
основании пафоса," охватившего мир.
«Pereunt et imputantur» ^-
гласит надпись на солнечных часах в древних храмах:
«Часы погибают и подлежат счету».
Здесь «Pereunt» относится к миру, раскрываемому в
непосредственном представлении, играющему тысячей
красок, преходящему и, по существу, бессмысленному.
«Imputantur» относится к миру, раскрываемому в кау-
зальном воздействии, где каждое сооытие награждает
проходящие века добром или злом, со своей собствен-
ной 1 m диви дуальностью. Почти весь пафос включает
отношение к ходу времени.
Первая строфа «Кануна Св. Агнессы» Китса начи-
нается с назойливых строк:
И они прошли: давно минувшие времена,
Те влюбленные, улетевшие во мглу.
Здесь пафос хода времени вырастает из воображаемого
синтеза двух воспринимающих форм единой силой
чувства. Шекспир, в весеннюю пору нашего мира,
сливает два элемента путем показа заразительности
яркой непосредственности:
... бледно-желтые нарциссы,
Что приходят до того, как посмеют появиться
ласточки, и наполняют
Дыхание марта красотой;...
(Зимняя сказка, IV, iv, 118-120).
Символизм, его смысл и воздействие
37
Но иногда люди утомляются неразделенным внима-
нием к каузальным элементам в природе вещей. Тогда
в самый момент усталости приходит внезапное рассла-
бление, и чистая презентативная сторона мира пере-
полняется чувством его пустоты. Подобно тому, как
Уильям Питт, премьер-министр Англии в течение тя-
желейшего периода войн Французской революции, в
наихудший момент этой войны для Англии, лежа на
смертном одре, прошептал: «Что за тени мы, каких
призраков мы преследуем!» Его мысль внезапно поте-
ряла чувство каузального воздействия и была освещена
воспоминанием о силе чувства, охватывавшего его
жизнь, в сравнении со скучной пустотой мира, прохо-
дящего перед чувственным представлением.
Мир, данный в чувственном представлении, не яв-
ляется исходным опытом низших организмов, позднее
усложненным через вывод к каузальному воздействию.
Наш случай — как раз противоположное. Сначала
доминирует каузальная сторона опыта, затем выигры-
вает в остроте чувственная презентация. Их обоюдное
символическое отношение в конечном счете очищается
сознанием и крити еским разумом при помощи праг-
матической апелляции к последствиям.
5. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ФОРМ ВОСПРИЯТИЯ
Между результатами перцепции, происходящими из
одной формы, и результатами перцепции из другой
формы не может быть символического отношения,
пока эти результатынекоторым образом не пересекут-
ся. Под «пересечением» я подразумеваю то, что пара
таких результатов перцепции должна иметь общие
элементы структуры, посредством чего они отмечаются
знаком действия символического отношения.
Существуют два элемента структуры, которые могут
действовать сообща через результат перцепции, проис-
ходящей от презентативной непосредственности и че-
рез другой результат перцепции, происходящий от
38
A. H. Уайтхед
каузального воздействии. Эти элементы суть: I) чувст-
венные данные и 2) локальность.
Чувственные данные «даны» для презентативнои
непосредственности. Идея данности чувственных фак-
тов как основа этой перцептивной формы является
великим учением, общим для Юма и Канта. Но то, что
всегда дано для опыта, может происходить только из
той естественной потенциальности, которая формиру-
ет частичный опыт под видом каузального воздействия.
Каузальное воздействие есть положение определенного
прошлого в конструкции настоящего. Следовательно
чувственные данные должны играть двойную роль в
восприятии. В форме презентативнои непосредствен-
ности они выступают для демонстрации одновременно-
го мира в пространственных отношениях. В форме
каузального воздействия они показывают почти непо-
средственное предшествование органов тела, налагаю-
щих свои характеристики на опыт по существу. Мы
видим картину, и мы видим ее своими глазами; мы
осязаем дерево, и мы осязаем его своими руками; мы
нюхаем розу, и мы нюхаем ее своим носом; мы слышим
колокол, и мы слышим его своими ушами; мы пробуем
сигару, и мы пробуем ее своим нёбом. В случае с
телесными чувствами оба местонахождения идентич-
ны. Ступня одновременно причиняет боль и является
больным местом. Сам Юм в контексте доказывает это
двойное отношение во второй цитате, приведенной
выше. Он пишет: «Если нечто воспринимается посре-
дством глаз, это должен быть цвет; если посредством
ушей — звук; если посредством неба — вкус; и соот
ветственно для других чувств». Т. о., доказывая отсут-
ствие восприятия каузальности, он имплицитно пред*
полагает ее. Ибо каков смысл слова «посредством» в
фразах: «посредством глаз», «посредством ушей», «по-
средством нёба»? Его аргумент предполагает, что чув-
ственные данные, функционирующие в презентатив-
нои непосредственности, даны через «глаза», «уши»,
«нёбо», функционирующие в каузальном воздействии.
В противном случае его аргумент вовлекается в дурной
регресс. Ибо он опять должен начинать с глаз, ушей,
Символизм, его смысл и воздействие
39
нёба; также он обязан объяснить значение слов «по-
средством» и «должен» в смысле, не разрушающем его
аргумент.
Это двойное отношение -- основа всей физиологи-
ческой доктрины восприятия. Детали этой доктрины в
данной дискуссии философски иррелевантны. Юм с
гениальной ясностью постулирует фундаментальную
идею, что чувственные данные, функционирующие в
акте опыта, демонстрируют, что они даны посредством
каузального воздействия действующих органов тела.
Он отсылает к каузальному воздействию как к компо-
ненте прямого восприятия. Аргумент Юма в контекс-
те, во-первых, предполагает две формы восприятия, а
затем, опять же в контексте, допускает, что презента -
тивная непосредственность является единственной фор-
мой. Также последователи Юма, развивая его учение,
предполагают, что презентативная непосредственность
примитивна, и что каузальное воздействие является
фальсифицированным ее дериватом. Это — полнейшее
извращение очевидности. Настолько, насколько это
касается собственно учения Юма, существует, конеч-
но, иная альтернатива: то, что ученики Юма неверно
истолковали его окончательную позицию. Согласно
этой гипотезе, его «финальная» апелляция к «практи-
ке» есть апелляция против адекватности современных
метафизических категорий как интерпретаций очеви-
дного опыта. Эта теория о личных убеждениях Юма,
по моему мнению, неверна; но, не говоря о собствен-
ной оценке Юмом своего философского достижения,
мы должны почитать его как одного из величайших
философов.
Заключением этого аргумента является мысль, что
внедрение каких-либо чувственных данных в актуаль-
ный мир не может быть выражено каким-либо простым
способом, таким как простое отграничение области в
пространстве, или, в качестве альтернативы, как про-
стое отграничение положения мысли. Чувственные
данные, необходимые для непосредственного чувствен-
ного восприятия, внедряются в опыт посредством воз-
действия окружающей среды. Эта окружающая среда
40
A. H. Уайтхед
включает в себя органы тела. Например, когда мы
слышим звук, физические волны проникают в уши, и
нервное возбуждение воздействует на мозг. Затем звук
слышится как исходящий из некоей области внешнего
мира. Таким образом, восприятие в форме каузального
воздействия показывает, что им обеспечиваются дан-
ные в форме чувственного восприятия. Это — причина
существования элементов, данных таким ооразом.
Каждый такой факт конституирует связь между двумя
формами восприятия. Каждая подобная связь или
факт имеет комплексный доступ в опыт, требующий
соотношения перцептивных форм. Эти чувственные
данные могут быть поняты как конституирующие ха-
рактер многоаспектного отношения между организма-
ми бывшей окружающей среды и организмами одно-
временного мира.
6. ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Частичная общность структуры, посредством кото-
рой две перцептивные формы дают непосредственное
представление об общем для них мире, вырастает из
их отношения к чувственным данным, общим для
обеих, к локализациям, различным или идентичным,
в пространственно-временной системе, общей для обе-
их. Например цвет относится к внешнему пространст-
ву и к глазам, как органам зрения. Постольку поско-
льку мы имеем дело с одной или другой из этих чистых
перцептивных форм, такое отношение является пря-
мой демонстрацией; и поскольку оно изолировано в
сознательном анализе, оно является непреложным фак-
том, против которого нет возражений. Подобная изо-
ляция или, по крайней мере, приближение к ней,
безусловно проста в случае с презентативной непосред-
ственностью, но очень трудна в случае с каузальным
воздействием. Полная идеальная чистота перцептивно-
го опыта, лишенная какого-либо символического отно-
шения, на практике не доступна для любой формы
восприятия.
Символизм, его смысл и воздействие 41
Наши мнения по поводу каузального воздействия
почти неисправимо искажены допущением символиче-
ского отношения между двумя формами как заверше-
ния нашего прямого познания. Это допущение сущес-
твует не только в мысли, но также и в действии, в
эмоциях, предшествующих мысли. Символическое от-
ношение есть факт для мышления при его анализе
опыта. Через доверие этому факту наша концептуаль-
ная схема вселенной, в общем, логически согласована
и соответствует непреложным фактам чистых перцеп-
тивных форм. Но время от времени или согласован-
ность, или верификация терпят неудачу. Тогда мы
пересматриваем нашу концептуальную схему так, что-
бы сохранить общую веру в символическое отношение,
в то же время отсылая определенные детали этого
отношения к категории ошибок. Такие ошибки назы-
ваются «обманчивыми проявлениями». Эта ошибка вы-
растает из крайней неопределенности пространствен-
но-временных перспектив в случае восприятия в
чистой форме каузального воздействия. Не существует
адекватного определения локализации для объяснения
того, что возникает в аналитическом сознании. Прин-
цип релятивности ведет нас к мысли о том, что при
адекватном сознательном анализе подобные локальные
соотношения оставляют слабые отпечатки в опыте. Но
в общем подобный детальный анализ находится далеко
за возможностями человеческого сознания.
Что касается каузального воздействия внешнего по
отношению к человеческому телу мира, то наиболее
настойчивым восприятием здесь будет восприятие воз-
действия окружающего мира существ. Но строгое от-
деление вещи от вещи и позиции от позиции чрезвы-
чайно неопределенно, почти незначительно. Строгое
определение, которое мы фактически совершаем, по-
является почти целиком по причине символического
отношения из презентативной непосредственности. По
отношению к человеческому телу — другой случай.
Существует неопределенность по сравнению с четким
определением непосредственного восприятия ; также
положение различных органов тела, которые важны в
42
A. H. Уайтхел
регуляции чувственных данных и ощущений, довольно
хорошо определено в чистой перцептивной форме ка-
узального воздействия. Символический перенос, коне-
чно, усиливает точность. Но наряду с таким переносом
наличествует некая адекватность четкого разграниче-
ния.
Таким образом, в пересечении двух форм, — про-
странственных и временных соотношений человеческого
тела, понятых каузально, в их отношении к внешнему
одновременному миру, представленному непосредст-
венно, — дается безусловно определенная схема про-
странственного и временного соотношения, посредством
которого мы проверяем символическое использование
проекции чувств для детерминации положений тел.
контролирующих порядок природы. В конечном счете
любое исследование, научное или популярное, состоит
в детерминации пространственного отношения органов
тела исследователя к положению «проектируемых» чу-
вственных данных.
7. РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ТОЧНЫМ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ
II НЕОБХОДИМОСТЬЮ
Причина, по которой проектируемые чувственные
данные обычно используются как символ, та, что они
легко управляемы, определенны и податливы. Мы
можем видеть или не видеть — как нам нравится; мы
можем слышать или не слышать. Существуют пределы
этой податливости чувственных данных* но они во
многом являются послушными элементами восприятия
мира. Но чувство контролирующего присутствия имеет
противоположный характер: оно неподатливо, неуло-
вимо и трудноопределимо.
Но вследствие всей своей неуловимости, вследствие
всей своей недостаточной определенности, эти контро-
лирующие присутствия, эти источники энергии, эти
вещи со внутренней жизнью, с богатством их собствен-
ного содержания, эти существа с предначертанным по
своей природе миром суть то, о чем мы хотим знать.
Символизм, его смысл и воздействие
43
Когда мы переходим дорогу, занятую транспортом, мы
видим цвета машин, их формы, яркие ооразы их
владельцев, но в данный момент мы поглощены ис-
пользованием этого непосредственного видения как
символа для сил, определяющих непосредственное бу-
дущее.
Мы наслаждаемся символом, но мы также прони-
каем в смысл. Символы не создают свой смысл: смысл
в форме актуальных воздействующих созданий реаги-
рует на нас, существует для нас по своему собственно-
му праву. Но символы открывают для нас этот смысл.
Они открывают его потому, что в долгом процессе
адаптации живых организмов к окружающей среде
природа1 научила их эти символы использовать. Она
сделала нас такими, что наши проектируемые ощущения
показывают области, занятые важными организмами.
Наши отношения с этими телами суть именно реак-
ции на них. Проекция наших чувств — не что иное,
как иллюстрация мира в частичном соответствии с
пространственно-временной систематической схемой,
которой эти реакции соответствуют.
Связи каузального воздействия возникают без нас.
Они открывают характер мира, из которого мы исхо-
дим, неотвратимые условия, к которым мы приспоса-
бливаемся. Связи презентативной непосредственности
возникают внутри нас и являются предметом интенси-
фикации, запретов и отклонений, согласно которым
мы принимаем их изменение или отвергаем его. Назы-
вать чувственные данные «чистыми впечатлениями»
неправильно, за исключением случая технического ис-
пользования термина. Они также представляют усло-
вия, вырастающие из активного перцептивного функ-
ционирования, как обусловленные нашей собственной
природой. Но наша природа должна согласовываться
с каузальным воздействием. Таким образом, каузаль-
ное воздействие из прошлого — по крайней мере один
1 Ср. Prolegomena to an Idealist Theory of Knowledge, by Norman
Kemp Smith, Macmillan and Co., London, 1924.
44
A H. Уайтхед
фактор, дающий нашу презентативную непосредствен-
ность в настоящем. «Как» в нашем настоящем опыте
должно соответствовать «чему» в нашем прошлом.
Наш опыт возникает из прошлого: он обогащается
эмоциями и имеет целью презентацию одновременного
мира, и он завещает свои качества будущему под
обликом эффективного элемента, навсегда «прибав-
ленного к», или «отнятого от» богатства мира. К добру
или к беде:
«Pereunt et Imputantur».
S. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В этой и предыдущей главах обсуждался общий
характер символизма. Он играет доминирующую роль
на том пути, по которому прокладывают свою жизнь
все высокоразвитые организмы. Это — причина про-
гресса и причина заблуждения. Высшие животные
достигают мощной способности, посредством которой
они могут с некоторой точностью определить в непо-
средственном мире те отдаленные черты, которые бу-
дут детерминировать их будущую жизнь. Но эта спо-
собность не безошибочна, и степень риска соразмерна
ее значимости. Цель следующей главы — проиллюст-
рировать это учение через анализ той роли, которую
играет способность к символизму в обеспечении спло-
ченности, прогресса и распада человеческих обществ.
Символизм, его смысл и воздействие
45
SB= ——
ГЛАВА III
ПРИМЕНЕНИЕ СИМВОЛИЗМА
Отношение человека к символизму представляет
собой неустойчивую смесь тяготения и отвращения.
Практический интеллект, теоретическое желание про-
никнуть в первичный факт и иронические критические
порывы составляют основные мотивы отвращения от
символизма. Практические люди желают фактов, а не
символов. Ясный теоретический интеллект с благород-
ным энтузиазмом, обращенным к точной истине, лю-
бой ценой и рискуя всем устраняет символы, как будто
они — просто фантазии, скрывая и извращая то
внутреннее убежище элементарной истины, на которое
разум претендует как на свое собственное. Ирониче-
ская критика представителей человечества оказала
значительную услугу в расчистке хлама, коим является
бесполезная церемония символизации деградирован-
ных фантазий первобытного прошлого. Отвращение от
символизма выделяется, как отчетливый элемент в
культурной истории цивилизованных людей. Здесь не
могло быть резонного сомнения кроме того, что этот
продолжающийся критицизм оказал необходимую служ-
бу в содействии развитию здоровой цивилизации как
со стороны практического воздействия на организован-
ное общество, так и со стороны здравого направления
мысли.
Бесчисленное количество случаев применения сим-
волизма происходит без осознания того, что символи-
ческие элементы в жизни имеют тенденцию разрас-
таться, подобно растительности в тропическом лесу.
Жизнь человека легко может быть завалена этими
символическими аксессуарами. Продолжающийся про-
цесс сокращения и адаптации к будущему, всегда
требующий новых форм выражения, является необхо-
димой функцией каждого общества. Успешная адаптация
старых символов к изменениям социальной структуры
— это конечная оценка мудрости в социологическом
46
A. H. Уайтхед
искусстве управлять государством. Также время от
времени требуется переворот в символизме.
Однако существует латинская пословица, согласно
которой некоторые из нас в юности писали сочинения.
По-английски она читается так: «Изгнанная природа
всегда возвращается». Эта пословица иллюстрируется
историей символизма. Как бы вы ни старались изгнать
его, он всегда возвращается. Символизм не просто
пустая фантазия или извращенное вырождение: он
присущ самой структуре человеческой жизни. Язык
сам по себе — символизм. И другой пример: как бы
вы ни сводили функции вашего правительства к пре-
дельной простоте, все же символизм остается. Это
может быть более здоровый, мужественный церемони-
ал, внушающий более красивые идеи. Но он остается
символизмом. Вы отменяете этикет королевского дво-
ра с его условием персональной субординации, но на
официальных приемах вы, согласно церемониалу, по-
жимаете руку правителю вашего государства. Точно
так же, как феодальная доктрина о субординации
классов, распространяющаяся на самого отдаленного
суверена, требует собственного символизма, так и
доктрина равенства людей имеет собственный симво-
лизм. Кажется, что человечество ищет символ, чтобы
выразить себя. И действительно — «выражение» есть
«символизм».
Когда публичный церемониал государства свелся к
голой простоте, частные клубы и ассоциации наконец-
то начинают вновь учреждать символические действия.
Кажется, что мысль человечества всегда должна быть
замаскирована. Этот императивный импульс наводит
на размышление, что идея бесполезного маскарада
есть ложный путь мысли о символических элементах в
жизни. Должна быть определена функция этих элеме-
нтов, поддающихся управлению, воспроизводимых и
нагруженных своим собственным эмоциональным воз-
действием: символический процесс облекает их корре-
лятивные смыслы одним или всеми этими атрибутами
символов и, таким образом, возвышает смыслы до
интенсивности определенной действенности — как эле-
Символизм, его смысл и воздействие
47
менты познания, эмоции и воли, действенности, кото-
рую смыслы могут заслуживать, а может и нет - на
их собственное усмотрение. Цель символизма есть
повышение важности того, что символизируется.
В дискуссии о примерах символизма наша первая
трудность состоит в том, чтобы точно раскрыть, что
именно символизируется. Символы достаточно специ-
фичны, но часто оывает очень трудно проанализиро-
вать, что лежит за ними, даже если налицо мощное
обращение к простым церемониальным актам.
Кажется возможным, что в любой церемонии, длящей-
ся в течение многих эпох, символическая интерпрета-
ция, насколько мы можем ее осуществить, варьируется
гораздо быстрее, чем сама реальная церемония. Также
в своем постоянном движении символ будет иметь
различные смыслы для разных людей. В любую эпоху
у одних людей доминирует ментальность прошлого, у
других — настоящего, у третьих — будущего, а у
остальных — множества проблематичных будущих си-
туаций, которые никогда не наступят. Для этих разных
групп древний символизм будет иметь различные ню-
ансы с неясным смыслом.
Для того, чтобы оценить необходимую функцию
символизма в жизни какого-либо общества человече-
ских существ, мы должны сформировать некий крите-
рий работы связующих и разрушающих сил. Сущест-
вует многообразие человеческих сообществ, и каждое
из них требует собственного индивидуального исследо-
вания, насколько это касается деталей. Мы сосредото-
чим внимание на нациях, населяющих определенные
страны. Таким образом, предполагается географиче-
ское единство. Группа лиц, объединенных географиче-
ским единством, создает первоначальный тип сооб-
ществ, какие мы находим в мире. Сообщества высших
животных, насекомых, молекул — все они имеют
географическое единство. Скала — не что иное, как
сообщество молекул, позволяющее этим молекулам
любой вид движения. Я привлек ваше внимание к этой
низшей форме сообщества для того, чтобы разрушить
идею о том, что общественная жизнь — прерогатива
48
A. H. Уайтхед
высших организмов. Случается и противоположное.
Что касается значения выживания, кусок скалы с
прошлым длительностью около восьмисот миллионов
лет, намного превосходит короткий промежуток вре-
мени, охваченный жизнью какой-либо нации. Возник-
новение жизни лучше понять как претензию на свободу
какой-либо части организмов, претензию на опреде-
ленную независимость индивидуальности с собствен-
ными интересами и действиями, которую нельзя ис-
толковать только в терминах принудительной силы
окружающей среды. Непосредственное воздействие
этого возникновения чувствующей индивидуальности
приводит к сведению срока жизни для соооществ от
сотен миллионов лет к сотням лет или даже к десяткам
лет.
Появление живых существ не может быть приписа-
но превосходящей силе выживания ни индивидов, ни
их сообществ. Жизнь нации столкнулась с разрушите-
льными элементами, представленными экстремальны-
ми требованиями для индивидуальных идеосинкразий.
Мы требуем как преимуществ социальной сохраннос-
ти, так и противоположных стимулов гетерогенности,
происходящих из свободы. Жизнь общества спокойно
проходит между расхождениями его индивидов. Нали-
чествует отвращение от чистых каузальных обязанно-
стей, наложенных на индивидов социальным характе-
ром окружающей среды. Это отвращение сначала
приобретает форму слепого эмоционального импульса;
но потом, в цивилизованных обществах, эти импульсы
критикуются и преломляются разумом. В любом слу-
чае существуют индивидуальные источники действия,
которые ускользают от обязанностей социального под-
чинения. Для того, чтобы удалить этот распад надежных
инстинктивных реакций, вводятся различные замысло-
ватые формы символической экспрессии разнообраз-
ных целей общественной жизни. Реакция на символ
почти автоматична, хотя и не вполне; к смыслу здесь
обращаются или за дополнительной эмоциональной
поддержкой, или из критицизма. Но это обращение не
настолько ясно, чтобы быть императивным. Импера-
Символизм, его смысл и воздействие
49
тивиое инстинктивное подчинение влиянию окружаю-
щей среды модифицируется. Нечто его заменяет; это
нечто по своему внешнему характеру навлекает кри-
тицизм, но но своему привычному применению обычно
избегает его. Такой символизм делает связанную
мысль возможной, выражая ее, тогда как одновремен-
но он автоматически управляет действием. Вместо
силы инстинкта, подавляющего индивидуальность, об-
щество обрело воздействие символов, одновременно
сохраняющих и общее, и индивидуальную точку зрения.
Среди отдельных видов символизма, служащих этой
цели, на первое место мы должны поставить Язык. Я
не имею в виду язык в функции пустого обозначения
абстрактных идей или отдельных реальных вещей; но
язык, осуществляющий влияние на нацию по сути. В
дополнение к голому указанию на смысл, слова и
фразы несут в себе скрытые намеки и эмоциональное
воздействие. Эта функция языка зависит от того,
каким путем он используется, от пропорциональной
привычности отдельных фраз и от эмоционального
прошлого, ассоциированного с их смыслом и, отсюда,
производно переданного в фразы сами по себе. Если
два народа говорят на одном и том же языке, эмоци-
ональное воздействие слов и фраз должно быть, в
общем, для них различным. Что привычно для одного
народа, будет странным для другого; что наполнено
интимными ассоциациями для одного, окажется, на-
против, пустым для другого. Например, если два на-
рода живут на большом расстоянии друг от друга, где
фауна и флора различны, то поэзия о природе одной
нации потеряет свою полноту в обращении к другой
нации, — сравните смысл фразы Уолта Уитмена: «Ши-
рокий дикий пейзаж моей страны» для американца с
фразой Шекспира: «... этот маленький мир, этот дра-
гоценный камень, оправленный в серебряное море» для
англичанина. Конечно каждый — американец или
англичанин — с тонким чувством истории и родства
или с тончайшим симпатизирующим воображением,
может проникнуть в чувства, выраженные обеими
фразами. Но прямая первоначальная интуиция, напра-
50
A. H. Уайтхед
вляемая воспоминаниями раннего детства, является
для одной нации представлением о континентальной
широте, а для другой нации — представлением о мире
маленького острова. Наконец любовь к явным геогра-
фическим аспектам своей страны, к ее холмам, к ее
горам, ее равнинам, деревьям, цветам, ее птицам и
всей жизни ее природы — это немалый элемент той
созидающей силы, что создает нацию. Именно функ-
цией языка, работающей через литературу и через
привычные фразы ранних этапов жизни/ является
воспитание этого всепроникающего чувства общего
обладания бесконечно любимыми сокровищами.
Я не должен быть неправильно понят в том смысле,
что этот пример имеет какую-либо уникальную важ-
ность. Это только один пример того, что может быть
проиллюстрировано сотней способов. Кроме того, язык
является единственным видом символизма, эффектив-
ным для этой цели. Но на особый манер язык связы-
вает нацию воедино общими эмоциями, которые он
извлекает, и, кроме того, является инструментом вы-
ражения свободы мысли и индивидуального критицизма.
Мой основной тезис таков: социальная система
сохраняется в единстве слепой силой инстинктивных
действий и инстинктивных эмоций, концентрирующихся
вокруг привычек и предубеждений. Следовательно не-
верно, что любой прогресс в масштабах культуры
неизбежно ведет к сохранению общества. В целом
противоположное случается гораздо чаще, и любое
рассмотрение природы подтверждает это заключение.
Новый элемент жизни множеством способов делает
действие старых инстинктов неподобающим. Но невы-
разимые инстинкты не анализируемы и ощущаются
вслепую. Разрушительные силы, представленные выс-
шим уровнем существования, затем вступают в борьбу
в темноте против невидимого врага. Точки опоры для
внедрения «рационального рассмотрения» — используя
замечательную фразу Генри Обстона Тайлора — не
существует. Символическое выражение инстинктив-
ных сил делает их очевидными: оно дифференцирует
их и устанавливает их очертания. Тогда возникает
Символизм, его смысл и воздействие Jl
благоприятная возможность для действии разума с
относительной скоростью, которая в противном случае
была бы заменена медленным действием столетий сре-
ди руин и реконструкций. Человечество пропускает эти
благоприятные возможности, и неудачи разума явля-
ются хорошей мишенью для иронической критики. Но
тот факт, что разум слишком часто терпит поражения,
не служит законным основанием для истеричного за-
ключения, что он никогда не достигает цели. Разум
можно сравнить с силой гравитации, слабейшей из
природных сил, но, в конце концов, создающей Солнце
и звездные системы — эти величайшие сообщества
Вселенной. Символическая экспрессия сохраняет об-
щество, во-первых, путем добавления эмоции к инстин-
кту, и, во-вторых, она предоставляет точку опоры для
разума путем изображения инстинкта, который он
выражает. Учение о разрушительной тенденции со
стороны новшеств, даже тех, что влекут за собой рост
высших уровней, можно проиллюстрировать воздейст-
вием христианства на стаопльность Римской империи.
Его также можно проиллюстрировать примером трех
революций, которые обеспечили свободу и равенство
миру — английский революционный период семнадца-
того столетня, Американская революция и Француз-
ская революция. Англия едва не избежала разрушения
своей социальной системы, Америка никогда не была
в такой опасности, Франция, когда внедрение нов-
шеств было наиболее интенсивно, вре*ченно испытала
этот обвал. Эдмунд Бурк, государственный деятель
восемнадцатого столетия, виг, (шл философом-пропо-
ведником, одобрявшим две первые революции и обви-
нявшим Французскую революцию. Одаренный человек
и государственный деятель, который непосредственно
наблюдал две революции и глубоко размышлял о тре-
тьей, заслуживает внимания, когда говорит о силах,
связующих и разрушающих общества. К сожалению
государственные деятели управляемы страстями, кото-
рые владеют ими в данный момент, и Бурк всецело
разделял этот недостаток, который был привнесен
реакционными страстями, вызванными Французской
jZ A. H. Уайтхед
революцией. Таким образом, мудрость его концепции
социальных сил была удушена бурными неуравнове-
шенными заключениями, которые он вывел из этой
концепции; его величие лучше видно в отношении к
Американской революции. Его наиболее общие размы-
шления содержатся, во-первых, в ранней работе «За-
щита естественного общества» и, во-вторых, в «Размы-
шлениях о Французской революции». Ранняя работа
несла иронический смысл; но, как часто бывает с
гениями, он предсказывал, будучи неосведомленным.
Это эссе написано практически вокруг тезиса о том,
что успехи в области искусства данной цивилизации
могут быть разрушены социальной системой. Бурк
представлял себе это заключение как reductio ad ab-
surdum. Но это — истина. Вторая работа — работа,
которая по своему непосредственному воздействию бы-
ла, возможно, наиболее губительной из всех когда-ли-
бо написанных, нацеливает внимание на необходи-
мость предубеждения как связующей социальной
силы. Здесь опять-таки я считаю, что он был прав в
своих посылках и ошибался в своих заключениях.
Бурк рассматривает чудо становления организован-
ного общества, кульминацией чего является стабиль-
ное объединяющее действие государства. Подобное
общество может состоять из миллионов индивидов,
каждого со своим индивидуальным характером, свои-
ми индивидуальными целями и своим собственным
эгоизмом. Он спрашивает: какая сила ведет это мно-
жество отдельных объединений к кооперации для под-
держки организованного сообщества, в котором каж-
дый индивид играет свою роль — политическую,
экономическую и эстетическую. Он сопоставляет пол-
ноту функционирования цивилизованного общества с
абсолютным разнообразием его отдельных граждан,
рассматриваемых как просто группа или толпа. Его
ответ на загадку состоит в том, что эта магнетическая
сила есть предубеждение или, другими словами, «поль-
за и привычка». Здесь он предвосхищает всю совре-
менную теорию «психологии стада» и одновременно
отходит от доктрины партии вигов — в том виде, в
Символизм, его смысл и воздействие
53
каком она сформировалась в семнадцатом столетии и
была санкционирована Локком. Традиционная доктри-
на вигов состояла в том, что государство ведет свое
происхождение из «первоначального договора», посре-
дством которого обычная толпа волюнтативно органи-
зует себя в общество. Такая доктрина усматривает
происхождение государства в безосновной историче-
ской фикции. Бурк опережал свое время, обращая
внимание на необходимость превосходства как на по-
литическую силу. К сожалению, в эмоциональном по-
рыве Бурк истолковал необходимость превосходства в
негативном смысле по отношению к прогрессивным
реформам.
Сейчас, когда мы исследуем, почему общество под-
чиняет своих индивидуальных членов функции соответ-
ствия своим нуждам, мы обнаруживаем, что одна из
важнейших воздействующих сил — наша широчайшая
система врожденного символизма. Существует замыс-
ловато выраженный символизм языка и действия, ко-
торый распространяется по всему обществу и который
вызывает неустойчивое представление об основе об-
щих целей. Отдельное направление индивидуального
действия прямо соотносится с отдельными строго опре-
деленными символами, представленными ему в данный
момент. Реакция действия на символ может быть
настолько прямой, что может изъять любое действите-
льное отношение к основной символизируемой вещи.
Эта элиминация смысла называется рефлекторным
действием. Иногда в смысл символа вмешивается не-
кое действительное отношение. Но этот смысл не
отменяется специфичностью и определенностью, кото-
рые могли бы пролить свет разума на специфическое
действие, требуемое для сохранения финала. Смысл
неуловим, но требует внимания. Это настойчивое тре-
бование играет роль в гипнотизации индивида для
завершения специфического действия, ассоциируемого
с символом. В этом процессе элементы, которые ясны
и определенны, являются специфическими символами
и действиями, вытекающими из символов. Но сами по
себе символы — бесплодные факты, чья прямая ассо-
54
A. H. Уайтхед
платинная сила будет недостаточна для создания авто-
матического соответствия. Не существует достаточного
повторения или достаточного подобия различных слу-
чаев для обеспечения простой автоматической покор-
ности. Но на деле символ вызывает лояльность к
неясно постигаемым понятиям, фундаментальным для
нашей духовной природы. В результате наша природа
приводится в движение, приостанавливающее все
антагонистические импульсы, так что символ обеспе-
чивает требуемую реакцию в действии. Таким обра-
зом социальный символизм имеет двойное значе-
ние. Практически он означает направление индивидов
на определенные действия; а теоретически он означает
неопределенные первичные основания с их эмоциона-
льным аккомпанементом, посредством чего символы
обретают энергию для организации смешанной толпы
в равномерно действующее сообщество.
Контраст между государством и армией иллюстри-
рует этот принцип. Государство имеет дело с гораздо
более сложной ситуацией, чем его армия. В этом
смысле оно является более свободной организацией, и
в отношении большей части населения символизм это-
го общества не может полагаться на его эффектив-
ность в смысле частого повторения почти идентичных
ситуаций. Основная часть человеческой жизни избега-
ет сферы влияния военной дисциплины. Полк прохо-
дит строевую подготовку для одного вида работы. В
результате здесь гораздо больше надежды на автома-
тизм и меньше надежды на обращение к первичным
основаниям. Натренированный солдат действует авто-
матически по получении приказа командира. Он реаги-
рует на звук и игнорирует идею; это — рефлекторное
действие, fi о апелляция к силе все еще важна в армии;
также она предусматривается в другом наборе симво-
лов, таком как флаг, хроника почетной службы в полку
и в других символических обращениях к патриотизму.
Таким образом, в армии существует один набор сим-
волов для обеспечения автоматического повиновения
в ограниченном наборе обстоятельств и другой набор
символов для обеспечения всеобщего чувства важности
Символизм, его смысл и воздействие
55
исполнения обязанностей. Этот второй набор предо-
твращает произвольный рефлекс от срыва автоматиче-
ской реакции на предыдущий набор.
Для основного числа граждан государства практи-
чески нет прочного автоматического повиновения ка-
кому-либо символу, подобно слову командира для сол-
дат, за исключением нескольких случаев, таких как
реакция на сигналы дорожной полиции. Таким обра-
зом, государство зависит от превалирования символов
весьма специфическим образом; они объединяют курс
некоего хорошо известного направления действия с
глубоким отношением к цели государства. Самоорга-
низация общества зависит от всепроникающих симво-
лов, вызывающих всепроникающие идеи, и в то же
время указующих на всеми понимаемые действия.
Обычные формы вербального выражения являются
наиболее важным примером такого символизма. Так-
же героический аспект истории страны есть символ ее
непосредственного достоинства.
Когда революция полностью разрушает этот общий
символизм, ведущий к общим действиям, направлен-
ным на общие цели, общество может спасти себя от
распада только посредством воцарения террора. Те
революции, которые избегают воцарения террора,
оставляют нетронутым фундаментальное воздействие
символизма на общество. Например Английские рево-
люции семнадцатого столетия и Американская револю-
ция восемнадцатого столетия оставили обычную жизнь
своих обществ без изменения. Когда Джордж Вашинг-
тон сместил Георга III, и Конгресс сместил Английский
парламент, американцы сохранили хорошо понятную
систему настолько, насколько это касалось общей струк-
туры их социальной жизни. Жизнь Вирджинии не
должна была принять направление, слишком отличав-
шееся от того, которое проявлялось до революции. По
фразеологии Бурка, предрассудки, от которых зависе-
ло общество Вирджинии, не были сломлены. Обычные
знаки указывали людям на обычные действия и пред-
лагали обычное оправдание с общим смыслом для всех.
56
A. H. Уайтхед
Единственная трудность в объяснении моей мысли
состоит в том, что личностно воздействующий симво-
лизм состоит из различных типов экспрессии, которые
пропитывают общество и вызывают чувство общей
цели. Это — самая важная деталь. Требуется вся
сфера символической экспрессии. Национальный ге-
рой, такой как Джордж Вашингтон или Джефферсон,
является символом общей цели, которая воодушевляет
жизнь американцев. Символическая функция великих
людей есть одна из трудностей в обретении сбаланси-
рованного исторического оправдания. Существует ис-
терия осуждения и существует противоположная исте-
рия, которая делает личность бесчеловечной для того,
чтобы возвеличить. Трудно показать величие без утра-
ты человека. Более того, мы знаем, что по крайней
мере мы — человеческие существа; но половина наше-
го вдохновения от наших героев теряется, когда мы
забываем, что они были человеческими существами.
Я имею в виду великих американцев, потому что я
говорю в Америке. Но эта же истина относится к
великим людям всех стран и возрастов.
Теория символизма, изложенная в этих лекциях,
дает нам возможность различать чисто инстинктивное
действие, рефлекторное действие и символически обу-
словленное действие. Чисто инстинктивное действие
— это такое функционирование организма, которое
полностью анализируемо в терминах условий, создан-
ных его развитием под влиянием определенных фак-
торов окружающей его среды, условий, описываемых
без какого-либо отношения к его перцептивной форме
презентативной непосредственности. Этот чистый ин-
стинкт есть реакция организма на чистое каузальное
воздействие.
Согласно этому определению, чистый инстинкт яв-
ляется наиболее примитивным типом реакции, кото-
рая подается организмами на стимулы их окружения.
Любая физическая реакция части неорганической ма-
терии на окружающую ее среду должна быть, таким
образом, определена как инстинкт. В случае с органи-
ческой материей, ее основное отличие от неорганиче-
Символизм, его смысл и воздействие
57
ской состоит в большей чувствительности при внутрен-
нем взаимном приспособлении мельчайших ее частей
и, в некоторых случаях, в более высокой эмоциональ-
ности. Таким образом, инстинкт, или непосредствен-
ное приспособление к непосредственной окружающей
среде, становится более выпуклым в функции направ-
ления действия к целям живого организма. Мир есть
сообщество организмов; эти организмы в массе опре-
деляют внешнее влияние на каждого из них. Только
когда внешнее влияние в форме инстинкта благопри-
ятно для индивидов, возможно устойчивое сообщество
устойчивых организмов. Таким образом, общество как
окружающая среда ответственно за выживание отде-
льных индивидов, составляющих его; и эти отдельные
индивиды ответственны за содействие окружающей
среде. Электроны и молекулы выживают, потому что
они удовлетворяют этому первичному закону стабиль-
ного порядка природы в связи с данными сообщества-
ми организмов.
Рефлекторное действие есть возвращение к более
простому типу инстинкта той части организмов, кото-
рые пользовались или пользуются символически обу-
словленным действием. Таким образом, ее обсуждение
должно быть отложено. Символически обусловленное
действие возникает в высших организмах, которые
используют перцептивную форму презентативной не-
посредственности, иными словами, чувственное вос-
приятие одновременного мира. Это чувственное вос-
приятие символически стимулирует анализ мощного
восприятия каузального воздействия. Каузальное воз-
действие, следовательно, воспринимается как разло-
жимое на компоненты с расположением в пространст-
ве, главным образом принадлежащим к чувственным
представлениям. В случае воспринимаемых организ-
мов, внешних по отношению к человеческому телу,
пространственная проницательность, включенная в
восприятие человеком своего чистого каузального воз-
действия, настолько ничтожна, что практически не
существует контроля над данным символическим пере-
носом, кроме непрямого контроля прагматических по-
58
A. H. Уайтхсд
следствии: другими словами, или ценность выжива-
ния, пли самоудовлетворение логическое и эстетиче-
ское.
Символически обусловленное действие есть дейст-
вие, которое, таким образом, обусловлено анализом
перцептивной формы каузального воздействия, вызы-
ваемого символическим переносом от перцептивной
формы презентативной непосредственности. Этот ана-
лиз может быть истинным или ложным, в соответствии
с тем, согласуется он или не согласуется с действитель-
ным распространением воздействующих тел. Настолько,
насколько оно правильно при обычных обстоятельст-
вах, оно позволяет организму согласовывать свои дей-
ствия с далеко распространяющимся анализом специ-
фических обстоятельств его окружения. Настолько,
насколько превалирует этот тип действия, чистый ин-
стинкт вытесняется. Этот тип действия поддерживает-
ся в основном мышлением, которое использует символы
в соотношении с их смыслами. Не существует смысла,
при котором чистый инстинкт был бы ложным. Но
символически обусловленное действие может быть лож-
ным в том смысле, что оно может возникнуть из
ошибочного символического анализа каузального воз-
действия.
Рефлекторное действие это то органическое функ-
ционирование, которое полностью зависит от чувст-
венного восприятия, не сопровождаемого каким либо
анализом каузального воздействия через символиче-
ское отношение. Сознательный анализ восприятия в
основном связан с анализом символического соотноше-
ния между двумя перцептивными формами. Таким
образом, рефлекторному действию препятствует мыш-
ление, которое неизбежно поддерживает возвышение
значимости символического отношения.
Рефлекторное действие возникает, когда под воз-
действием символизма организм обрел привычку дейс-
твовать, реагируя на непосредственное чувственное
восприятие, и отбросил символическое возвышение
каузального воздействия. Таким образом, оно представ-
ляет собой возвращение от высшей активности симво-
* Символизм, его смысл и воздействие
59
лического отношения. Это возвращение практически
неизбежно при отсутствии сознательного внимания. О
рефлекторном действии ни в коем случае нельзя ска-
зать, что оно ложно, хотя оно может быть неудачным.
Таким образом, важный связующий фактор в сооб-
ществе насекомых, возможно, подпадает под понятие
чистого инстинкта, как мы его здесь определили. Ибо
каждое индивидуальное насекомое является, возмож-
но, таким организмом, что каузальные условия, кото-
рые оно наследует из непосредственного прошлого,
являются адекватными для детерминации его социаль-
ных действий. Но рефлекторное действие играет свою
подчиненную роль. Ибо чувственные восприятия насе-
комых имеют некоторые области действия, предпола-
гающие автоматическую детерминацию поведения
насекомых. Оставаясь более слабым, символически
обусловленное действие вмешивается в такие ситуа-
ции, когда чувственное восприятие обеспечивает сим-
волически определенную спецификацию каузальной
ситуации. Но только активное мышление может снасти
символически обусловленное действие от быстрого воз-
вращения в рефлекторное действие. Наиболее удачные
примеры совместной жизни имеют место тогда, когда
в высшей степени господствует чистый инстинкт. Эти
примеры встречаются только в неорганическом мире;
среди сообществ активных молекул, формирующих
скалы, планеты, солнечные системы, скопления звезд.
Более развитый тип живых сообществ требует успе-
шного выхода чувственного восприятия для успешного
выражения каузального воздействия во внешней окру-
жающей среде: и также он требует возвращения к
рефлексу, подходящему для сообщества. Мы, таким
образом* получаем более гибкие сообщества с низко
развитым мышлением или даже живые клетки, кото-
рые обладают некой энергией для адаптации к случай-
ным деталям отдаленного окружения.
В конце концов человечество тоже использует более
искусственный символизм, обретаемый, главным обра-
зом, путем концентрации на определенном выборе
чувственных данных, таких как слова, например. В
60
A. H. Уайтхед
этом случае имеет место цепочка дериваций от символа
к символу, посредством чего, наконец, частные связи
между последним символом и конечным смыслом пол-
ностью теряются. Таким образом, эти деривативные
символы, полученные в произвольной ассоциации, дей-
ствительно являются результатами рефлекторного дей-
ствия, подавляющими промежуточные звенья цепочки.
Мы можем использовать слово «ассоциация», когда
существует подавление промежуточных связей.
Этот деривативный символизм, используемый чело-
веком, в общем не является простым указанием смы-
сла, при котором все общие черты, разделяемые сим-
волом и смыслом, потеряны. В каждом действенном
символизме есть несколько эстетических черт, коими
они обладают сообща. Смысл, приобретающий эмоции
и чувства, напрямую возбуждается символом. Это —
основа художественной литературы, то есть эмоции и
чувства, напрямую возбуждаемые словами, должны
весьма усиливать наши эмоции и чувства, вырастаю-
щие из размышления над смыслом. Далее, в языке
наличествует некая неопределенность символизма.
Слово имеет символическую ассоциацию со своей соб-
ственной историей, с другими своими смыслами и со
своим общим статусом в современной литературе. Та-
ким образом, слово выбирает эмоциональное значение
из истории своей эмоциональности в прошлом; и оно
символически передается в смысл этого слова в совре-
менном значении.
Тот же принцип владеет всеми более искусственны-
ми видами человеческого символизма: например, • в
религиозном искусстве. Музыка частично адаптирова-
на для символической передачи эмоций по причине
наличия сильных эмоций, которые она генерирует на
своих собственных основаниях. Эти сильные эмоции,
наконец, подавляют любой смысл, который был важен
для ее же собственных частичных отношений. Единс-
твенная важность конкретного расположения оркестра
— в том, чтобы сделать нас способными слушать
музыку. Мы слушаем музыку не для того, чтобы полу-
чить точное представление о том, как расположен
Символизм, его смысл и воздействие
61
оркестр. Когда мы слышим гудение автомобильного
мотора, возникает совершенно обратная ситуация.
Наш единственный интерес по отношению к гулу —
это определить точное расположение, поскольку мес-
тонахождение каузального воздействия определяет бу-
дущее.
Рассмотрение символического переноса эмоций под-
нимает другой вопрос. В случае с чувственным воспри-
ятием мы можем спросить, является ли ассоциируемая
с ним эстетическая эмоция дериватом из него, либо
она просто сопутствует ему. Например звуковые волны
посредством каузального воздействия могут вызывать
в теле состояние приятной эстетической эмоции, кото-
рая затем символически переносится в чувственное
восприятие звуков. В случае с музыкой, обращая вни-
мание на тот факт, что глухие люди не наслаждаются
музыкой, нам кажется, что эмоция почти полностью
является продуктом музыкальных звуков. Но на чело-
веческое тело каузально воздействуют ультрафиолето-
вые лучи солнечного спектра такими путями, которые
не вызывают никакого ощущения цвета. Тем не менее
эти лучи производят решающий эмоциональный эф-
фект. Аналогично звуки, лежащие гораздо ниже или
выше предела слышимости, добавляют эмоциональный
тон к объему слышимого звука. Весь вопрос символи-
ческой передачи эмоции лежит в основе любой теории
эстетики и искусства. Например он дает основание для
необходимости жесткого давления нерелевантной де-
тали. Ибо эмоции подавляют друг друга или возбуж-
дают друг друга. Гармоничная эмоция означает комп-
лекс взаимно усиливающихся эмоций, тогда как
иррелевантные детали поддерживают эмоции, кото-
рые, из-за их иррелевантности, подавляют основное
воздействие.
Таким образом, символизм посредством символиче-
ского переноса, которым он воздействует, просто ил-
люстрирует тот факт, что единство опыта вырастает
из слияния многих компонент. Это единство опыта есть
комплекс, подверженный анализу. Компоненты опыта
не являются беспорядочно перемешанным бесструкту-
62
А. И. Усштхед
риым собранном. Каждый компонент по самой своей
природе занимает место в определенной потенциаль-
ной схеме соотношений с другими компонентами.
Именно трансформация этой потенциальности в реаль-
ное единство конституирует реальный конкретный
факт, являющийся актом опыта. Но в процессе транс-
формации из потенциальности в актуальный факт
могут возникнуть подавления, усиления, направления
внимания к чему-либо, направления внимания от че-
го-либо, эмоциональные всплески, намерения и другие
элементы опыта. Такие элементы также являются
правильными компонентами акта опыта, но они не
детерминируются с необходимостью примитивными
фазами опыта, из которых вырастает финальный ре-
зультат. Акт опыта есть то, к чему приходит комплекс-
ный организм, будучи, по своему характеру, единой
вещью. Также различные его части, его молекулы и
живые клетки, поскольку они переходят к новым
ситуациям в собственном опыте, приобретают новый
оттенок на основании того факта, что в непосредст-
венном прошлом они были элементами, содействующи-
ми доминирующему единству опыта, который при сво-
ем изменении реагирует на них.
Таким образом, человечество посредством тщатель-
но разработанной системы символического переноса
может достигнуть удивительной чувствительности к
отдаленной окружающей среде и к проблематичному
будущему. Но его ждет расплата ввиду того опасного
факта, что каждый символический перенос может
повлечь за собой произвольное обвинение неподобаю-
щего характера. Неверно, что простые действия при-
роды в каждом отдельном организме благоприятны во
всех отношениях либо для существования этого орга-
низма, либо для его счастья, либо для прогресса ооще-
ства, в котором обнаруживает себя организм. Печальный
опыт людей делает это предупреждение банальным. Ни
одно сложное сообщество сложных организмов не мо-
жет существовать, пока его символическая система не
станет в целом удачной. Коды, правила поведения,
каноны искусства — суть попытки навязать система-
Символизм, его смысл и воздействие
63
тпческос действие, которое в целом должно обеспечить
благоприятные символические взаимосвязи. Посколь-
ку общество меняется, все подобные правила и каноны
требуют пересмотра в свете разума. Полученный в
результате объект имеет два аспекта: одни — это
подчинение общества индивидам, его составляющим,
и другой — подчинение индивидов обществу. Свобод-
ные люди повинуются правилам, которые они сами для
себя создали. Такие правила должны быть найдены в
целом для того, чтобы сообщить обществу поведение в
соответствии с символизмом, отсылающим к конечным
целям, ради которых существует общество. Первый
шаг социологической мудрости *— в распознании того,
что большинство успехов цивилизации — это все те
процессы, которые происходили в обществах, за ис-
ключением их гибели: подобно стреле в руке ребенка.
Искусство свободного общества состоит, во-первых, в
сохранении символического кода и, во-вторых, в бес-
страшии перед его изменением, что может являться
гарантией того, что код служит целям, удовлетворяю-
щим просвещенный разум. Те общества, которые не
могут сочетать почтение к своим символам со свободой
их изменений, должны в конце концов распасться или
под воздействием анархии, или от медленного истоще-
ния жизни, задушенной бесплодными призраками.
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие переводчика 3
Предисловие 5
Часть I
1. Виды символизма 6
2. Символизм и восприятие 7
3. О методологии 8
4. Погрешности символизма 9
5. Определение символизма 10
6. Опыт как активность 11
7. Язык 12
8. Презентативная непосредственность 14
9. Опыт восприятия 16
10. Символическое отношение в опыте восприятия 17
11. Ментальное и физическое 18
12. Роль чувственных данных и пространства
в презентатиэной непосредственности 19
13. Объективация 22
Часть II
1. Юм о каузальном воздействии 25
2. Кант и каузальное воздействие 29
3. Прямое восприятие каузального воздействия . . 31
4. Примитивность каузального воздействия 33
5. Пересечение форм восприятия 37
6. Локализация 40
7. Различие между точным определением
и необходимостью 42
8. Заключение 44
Часть III
Применение символизма 45